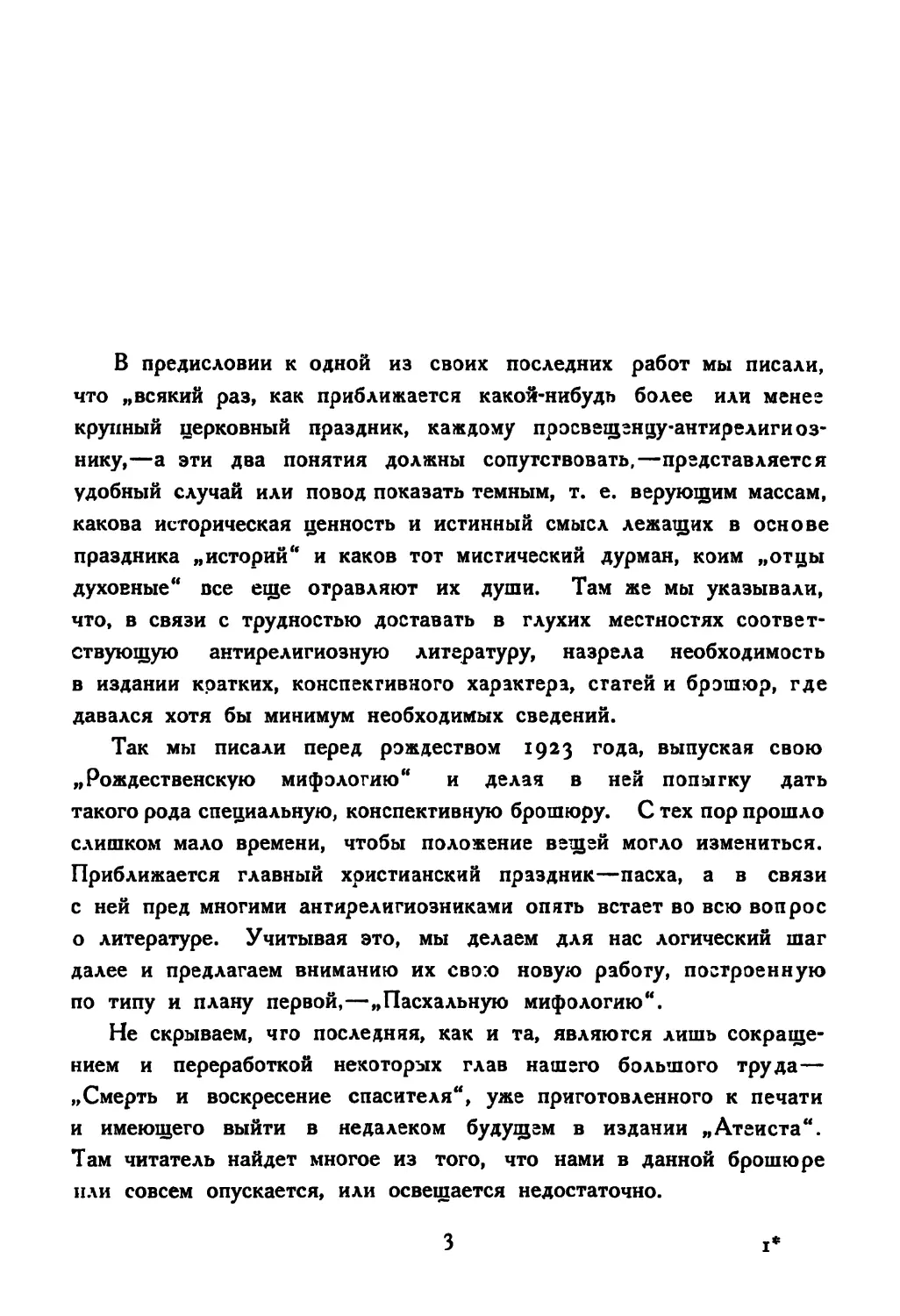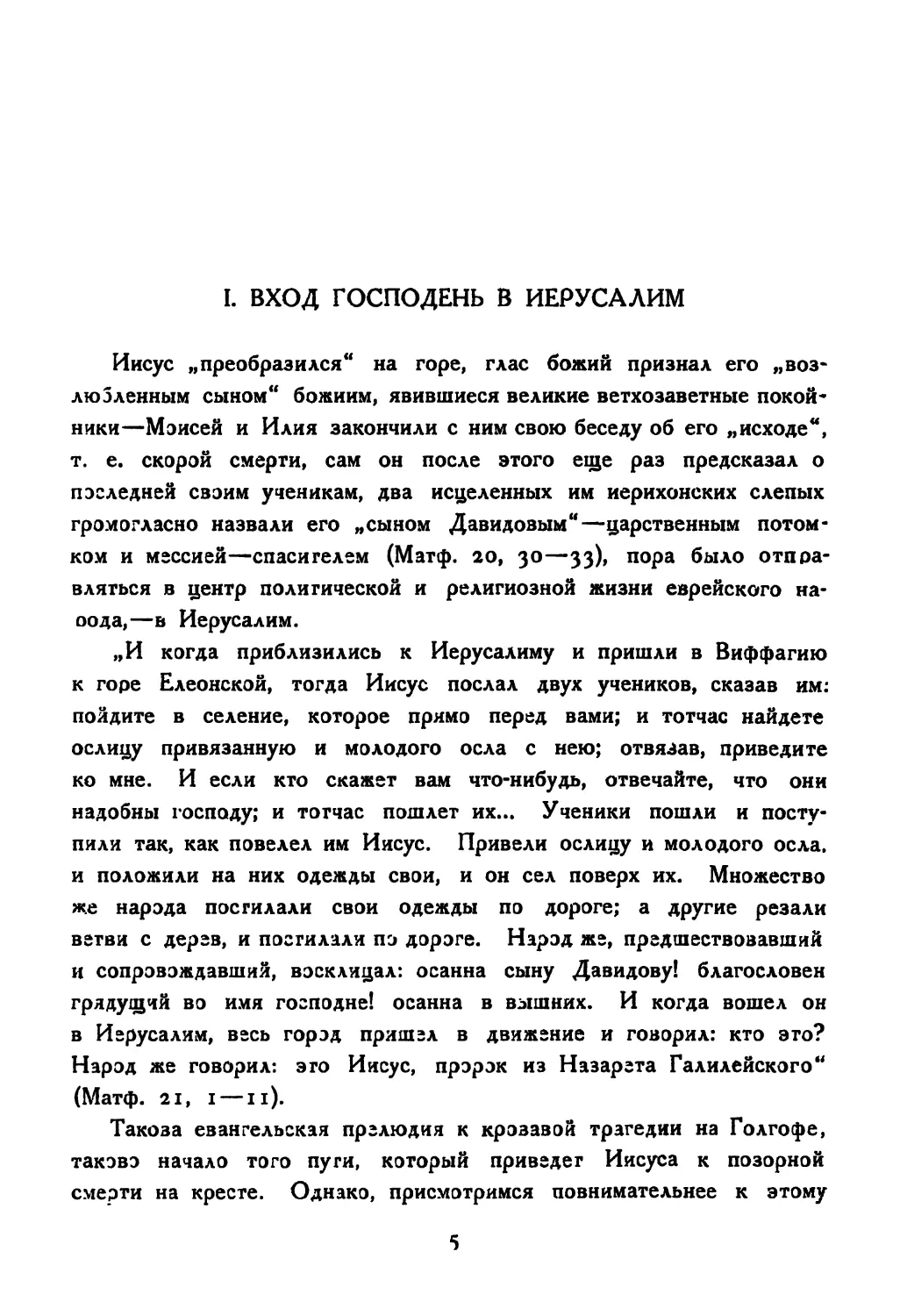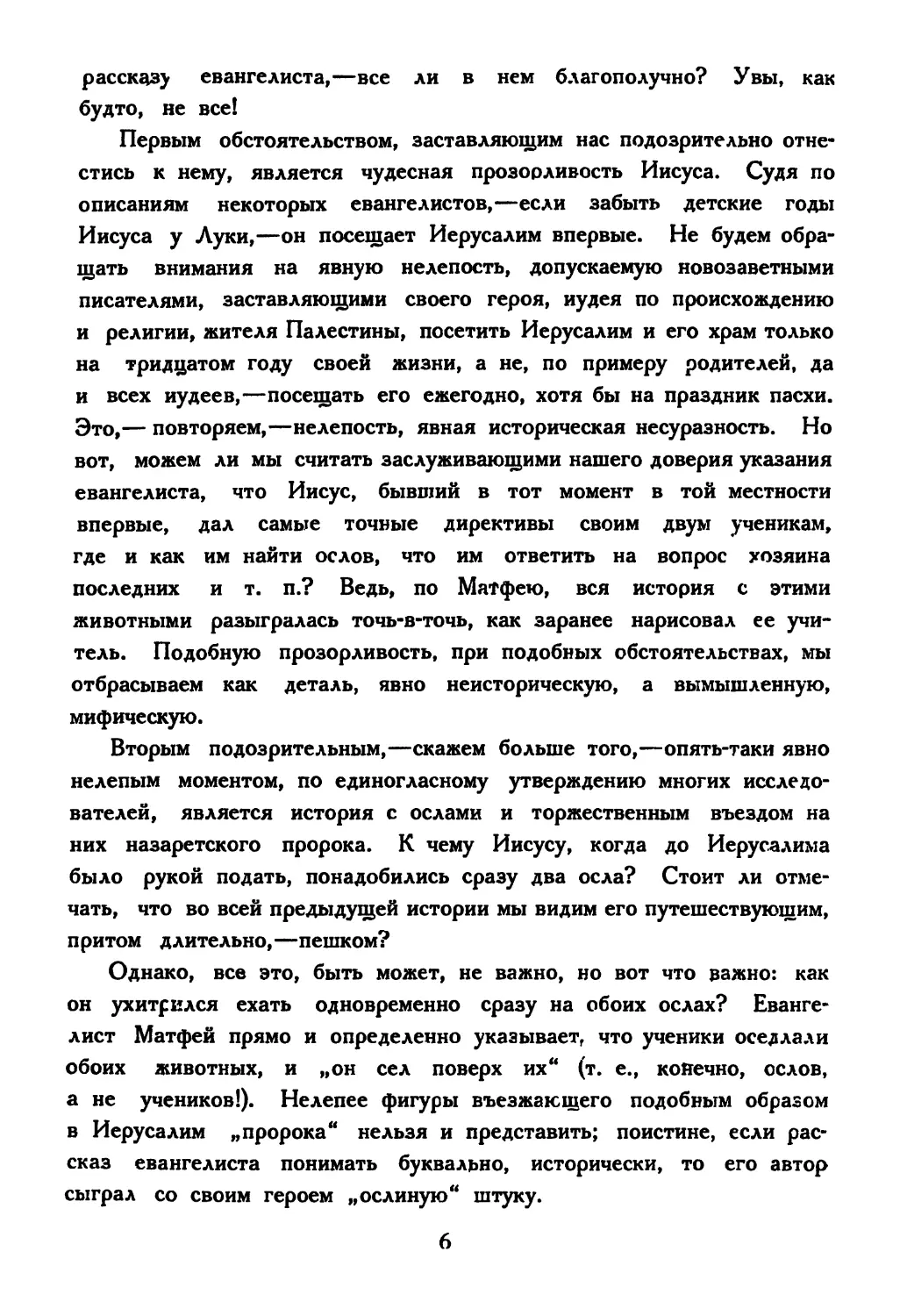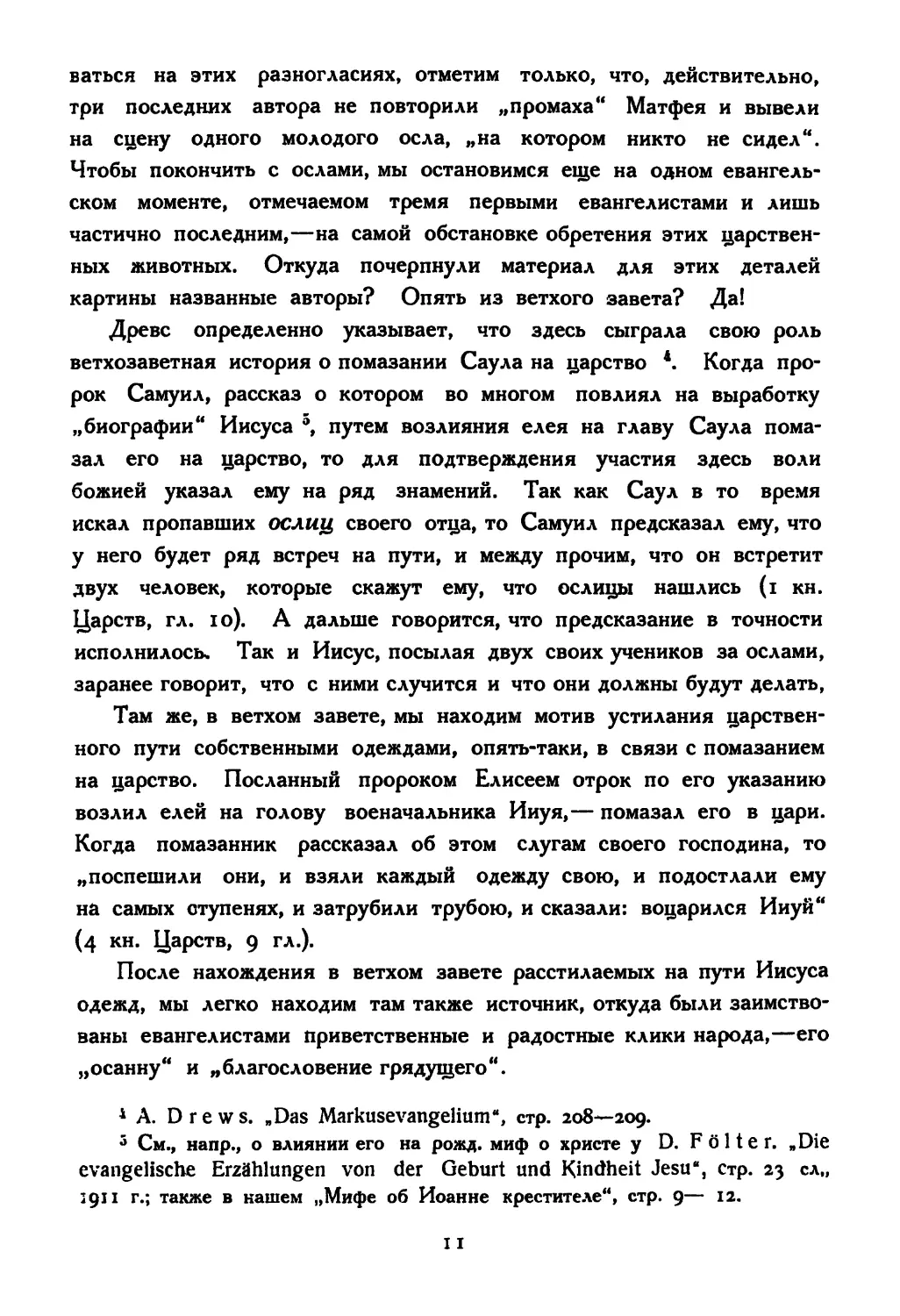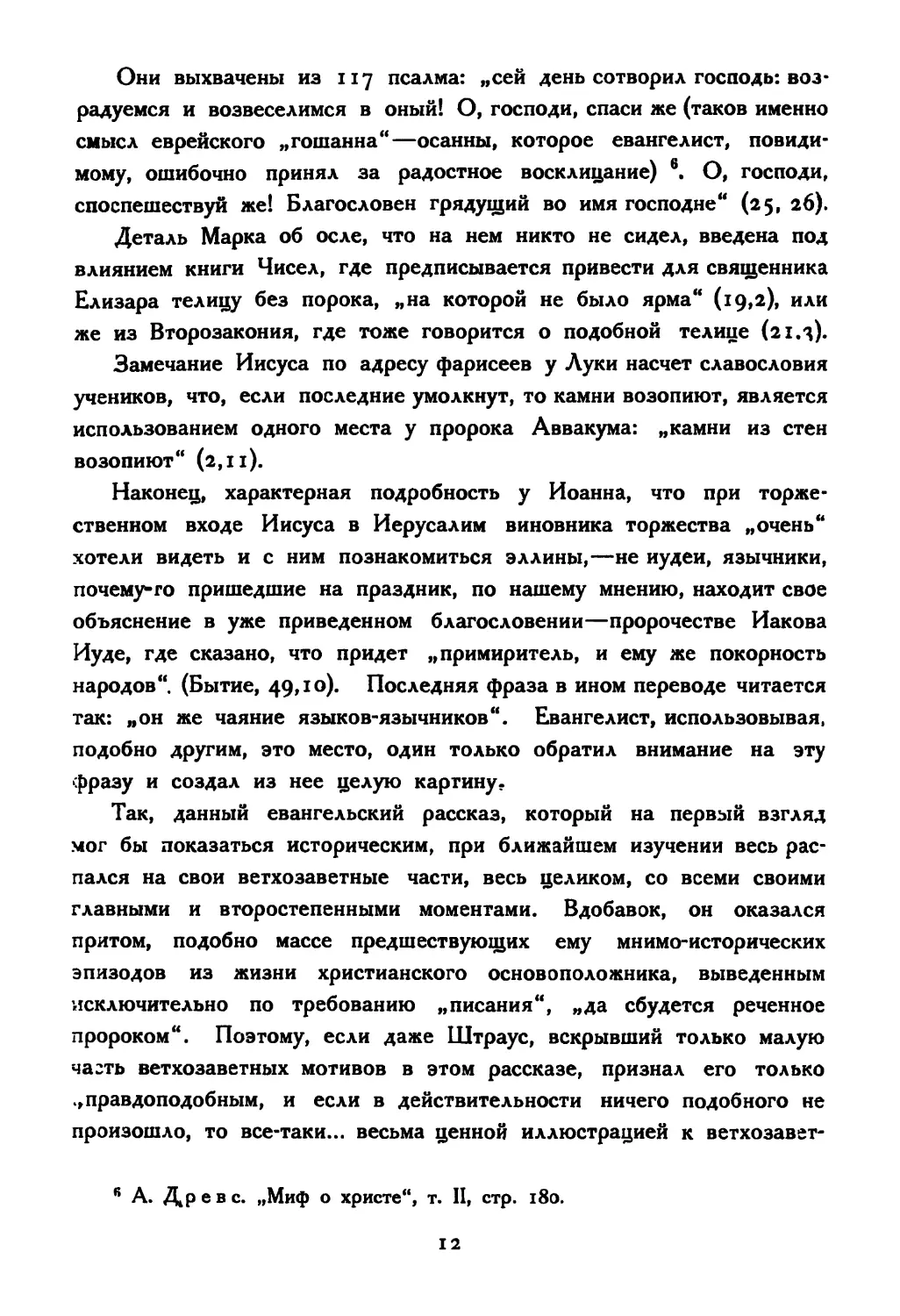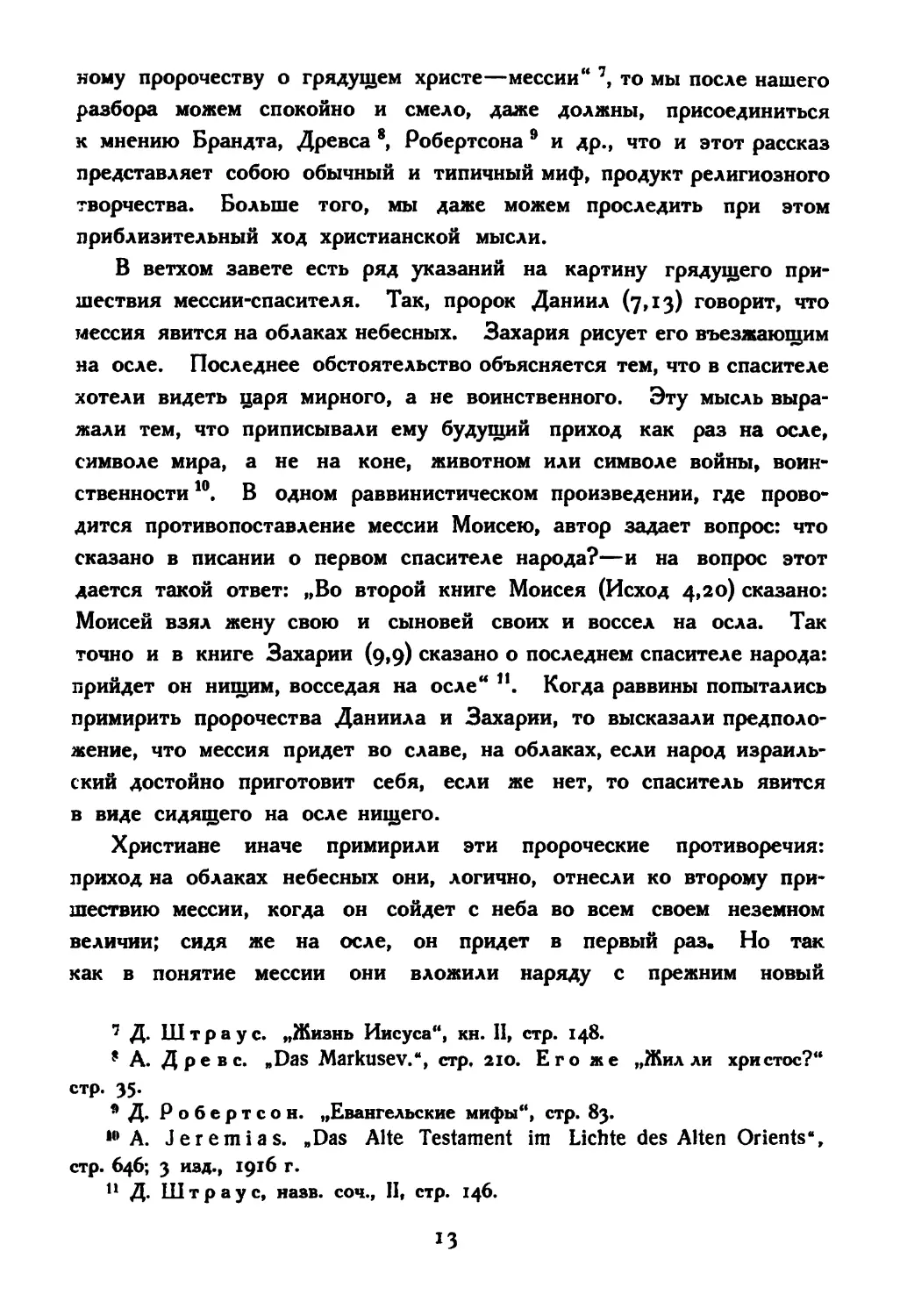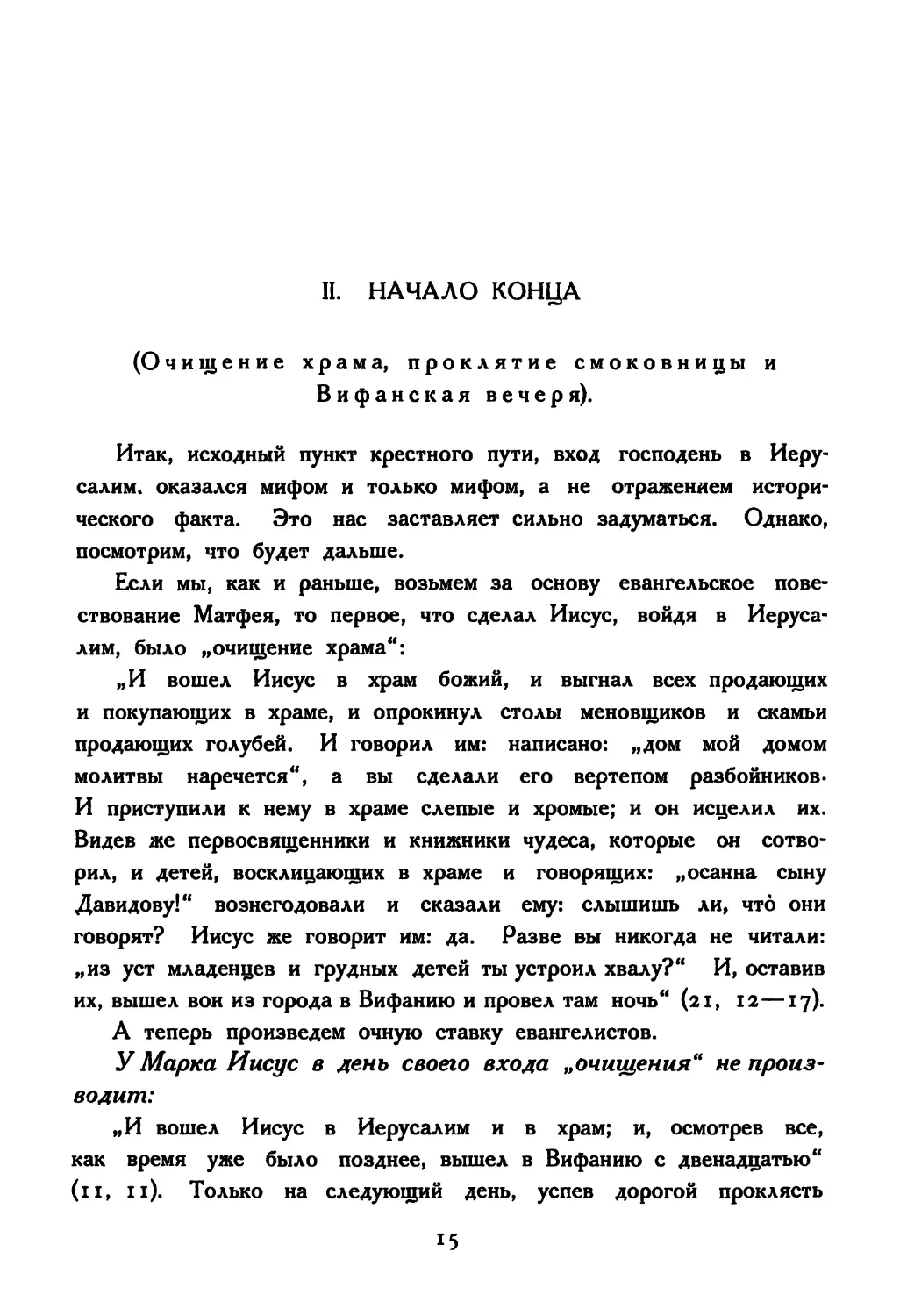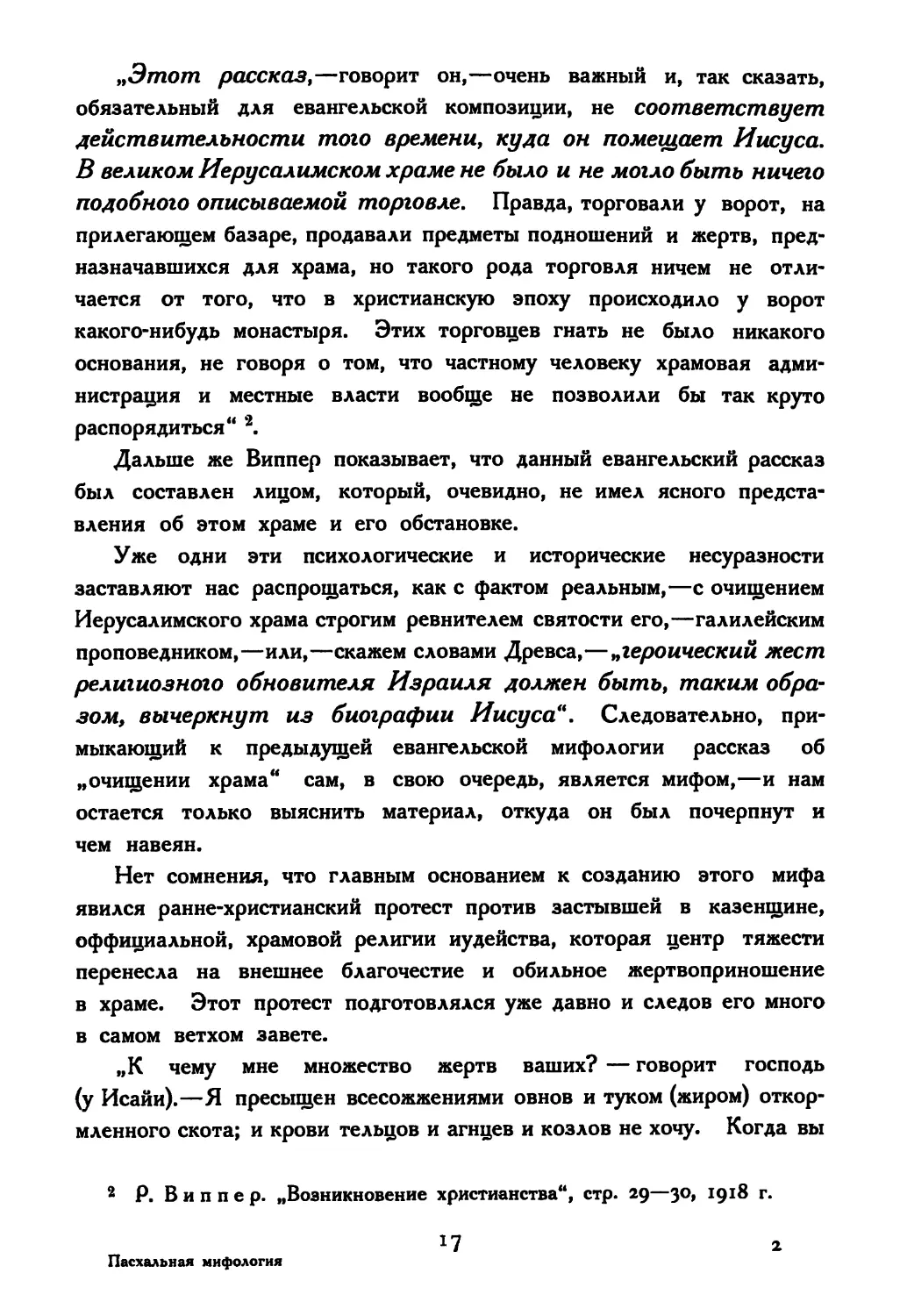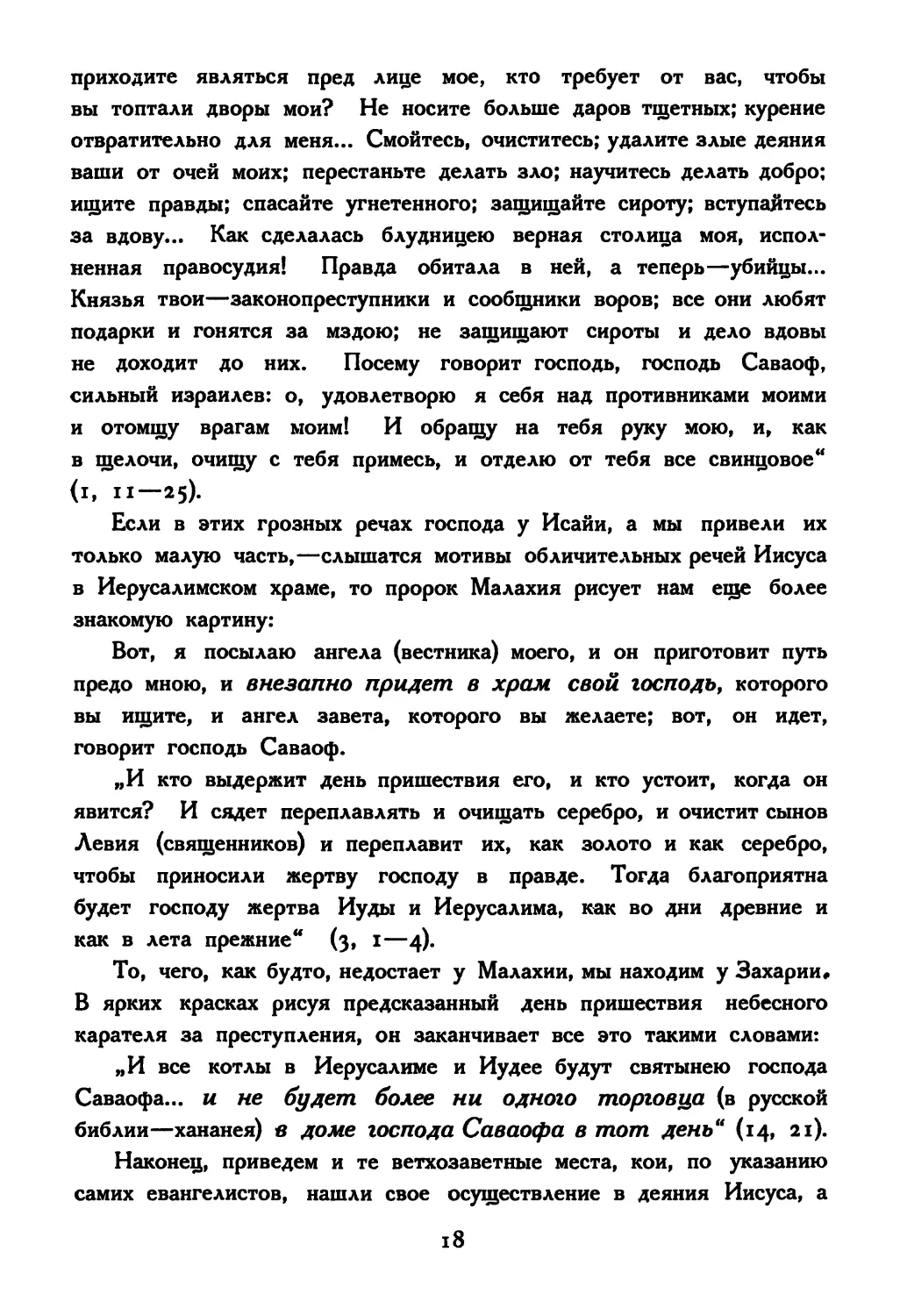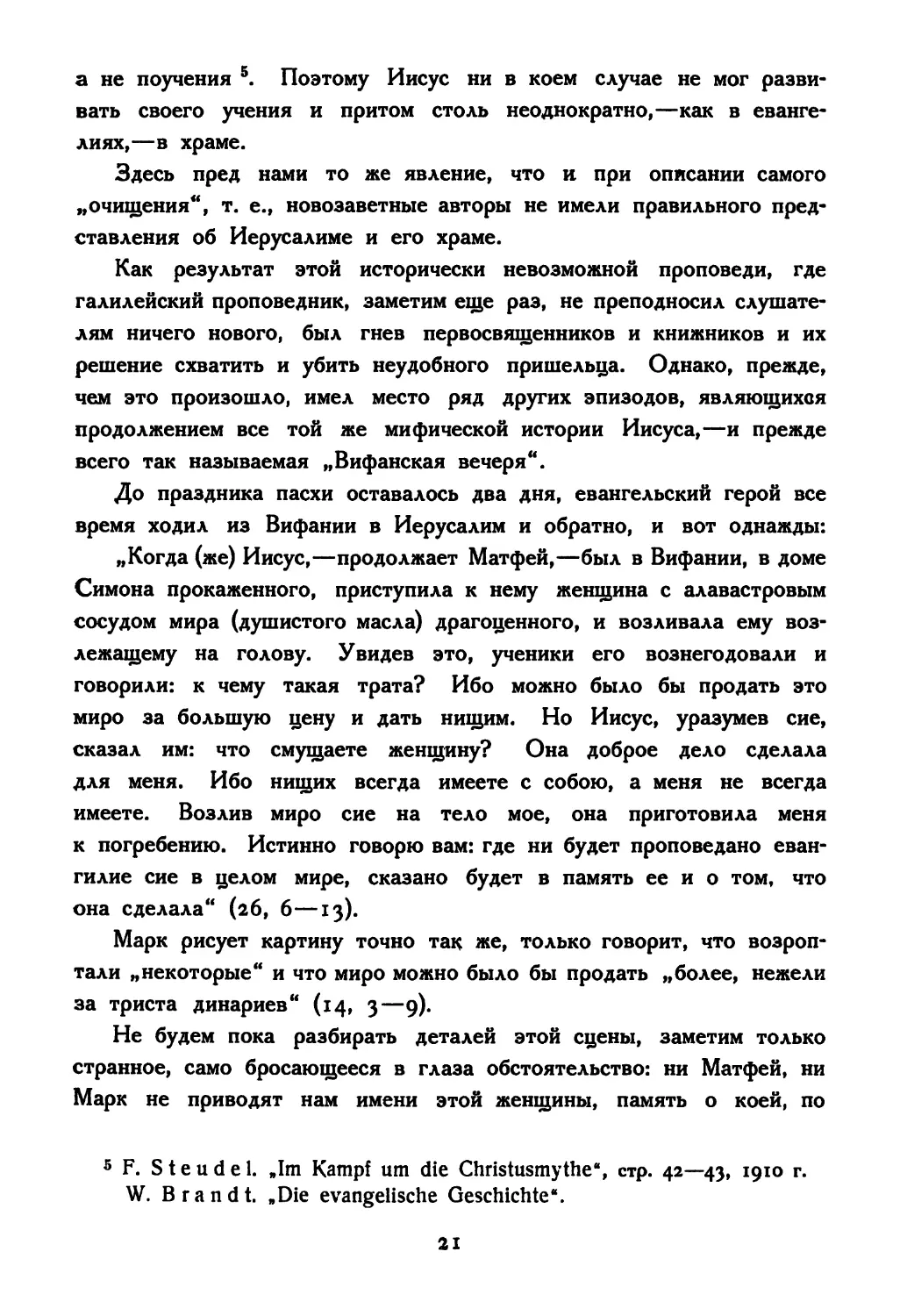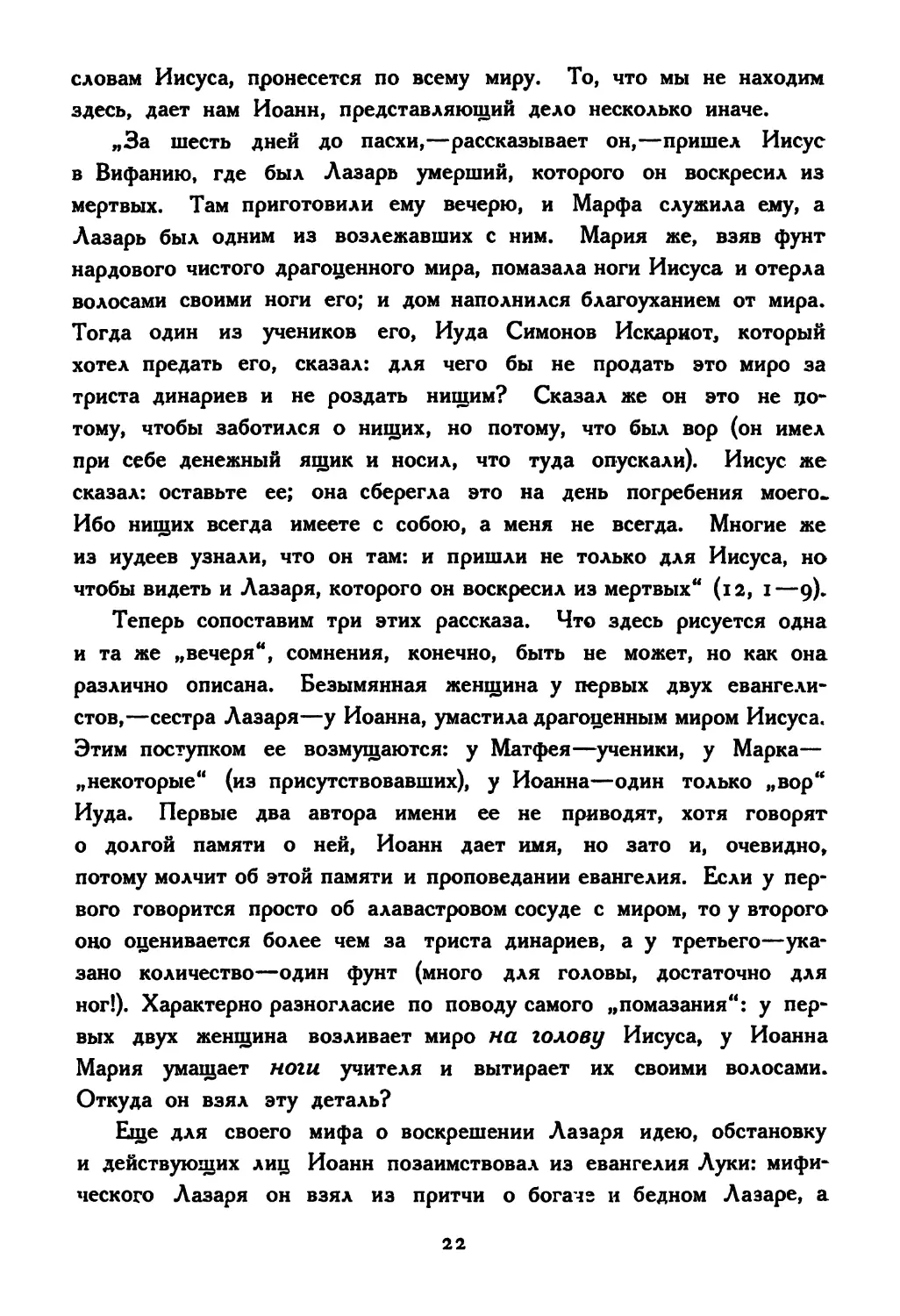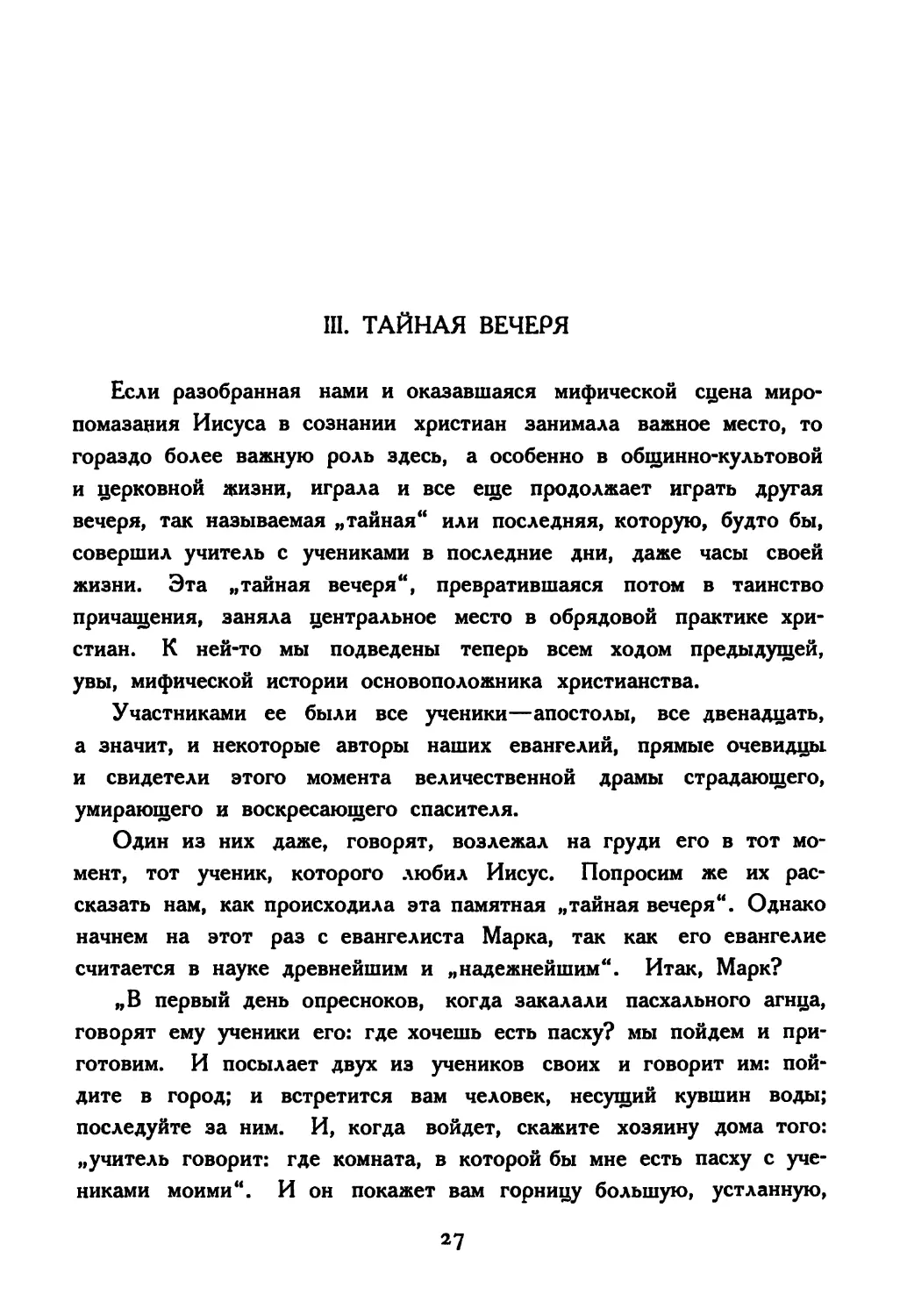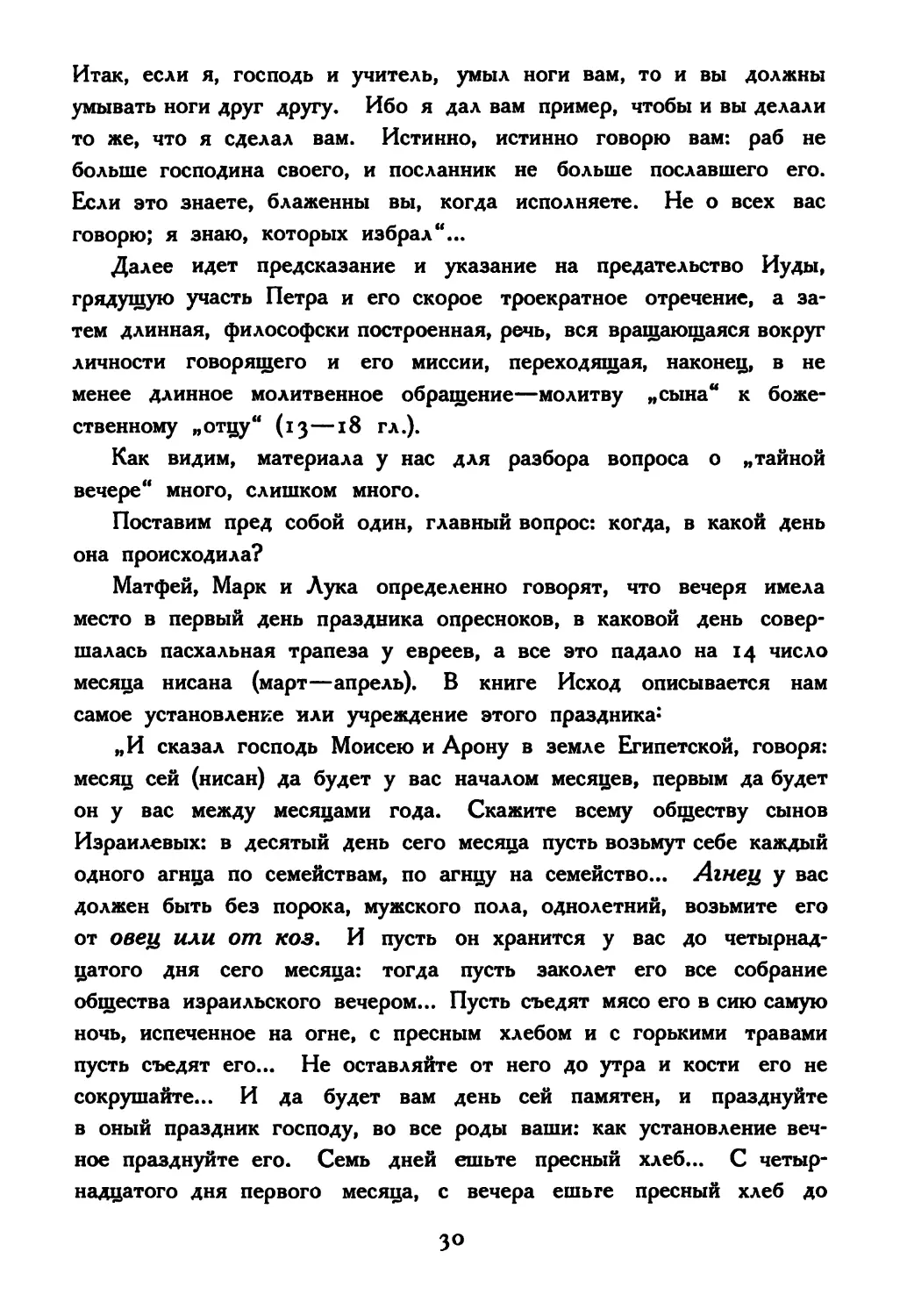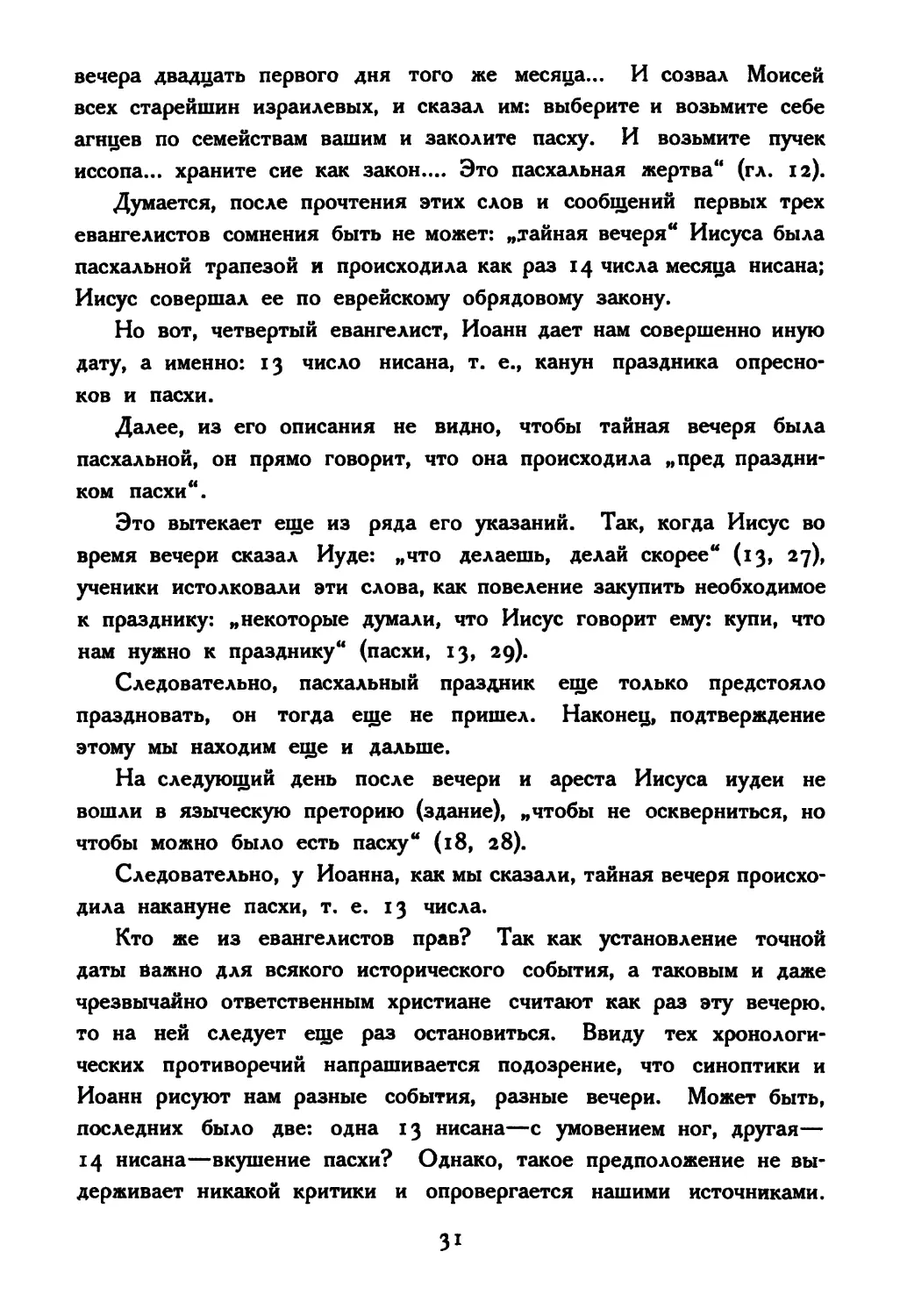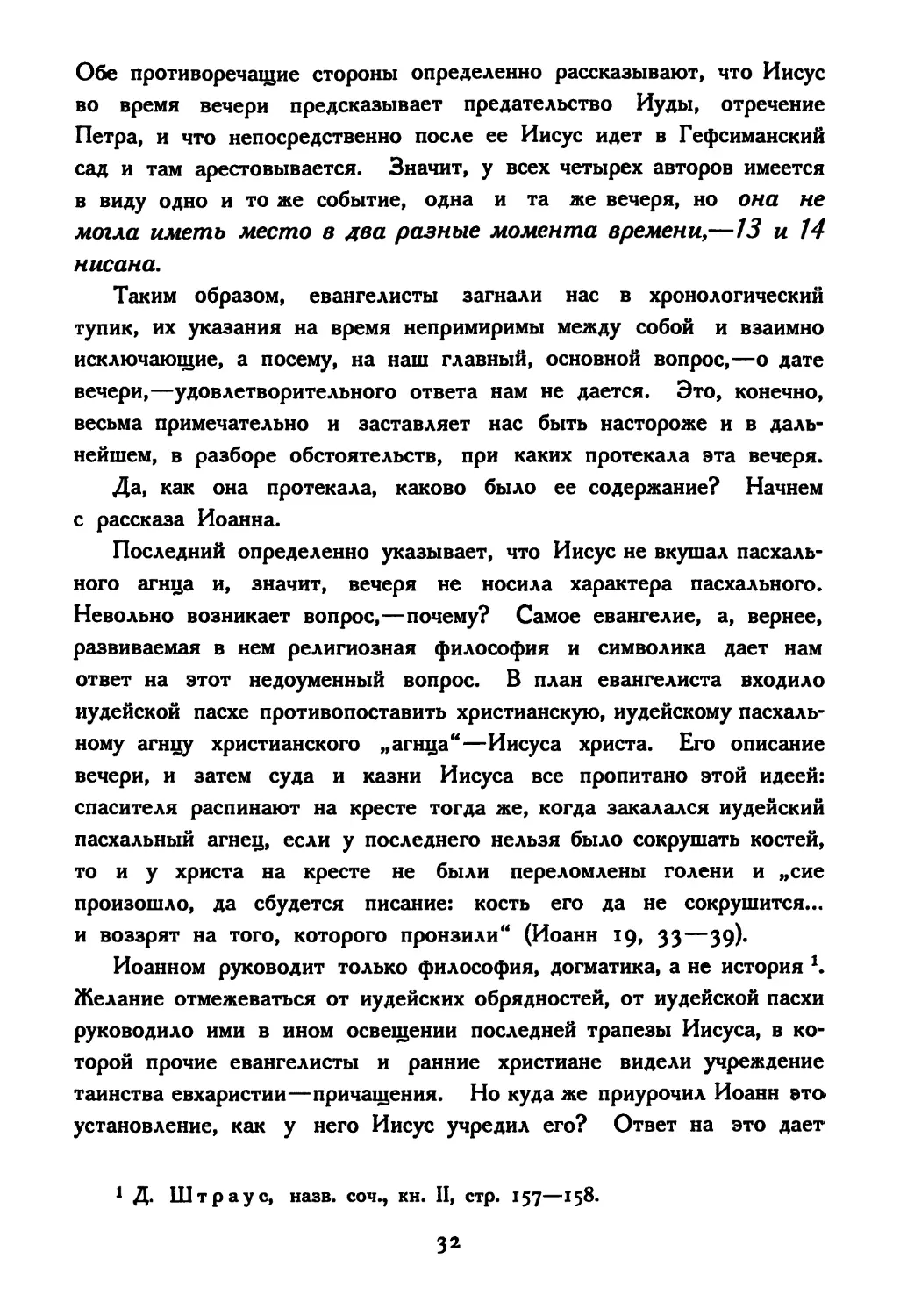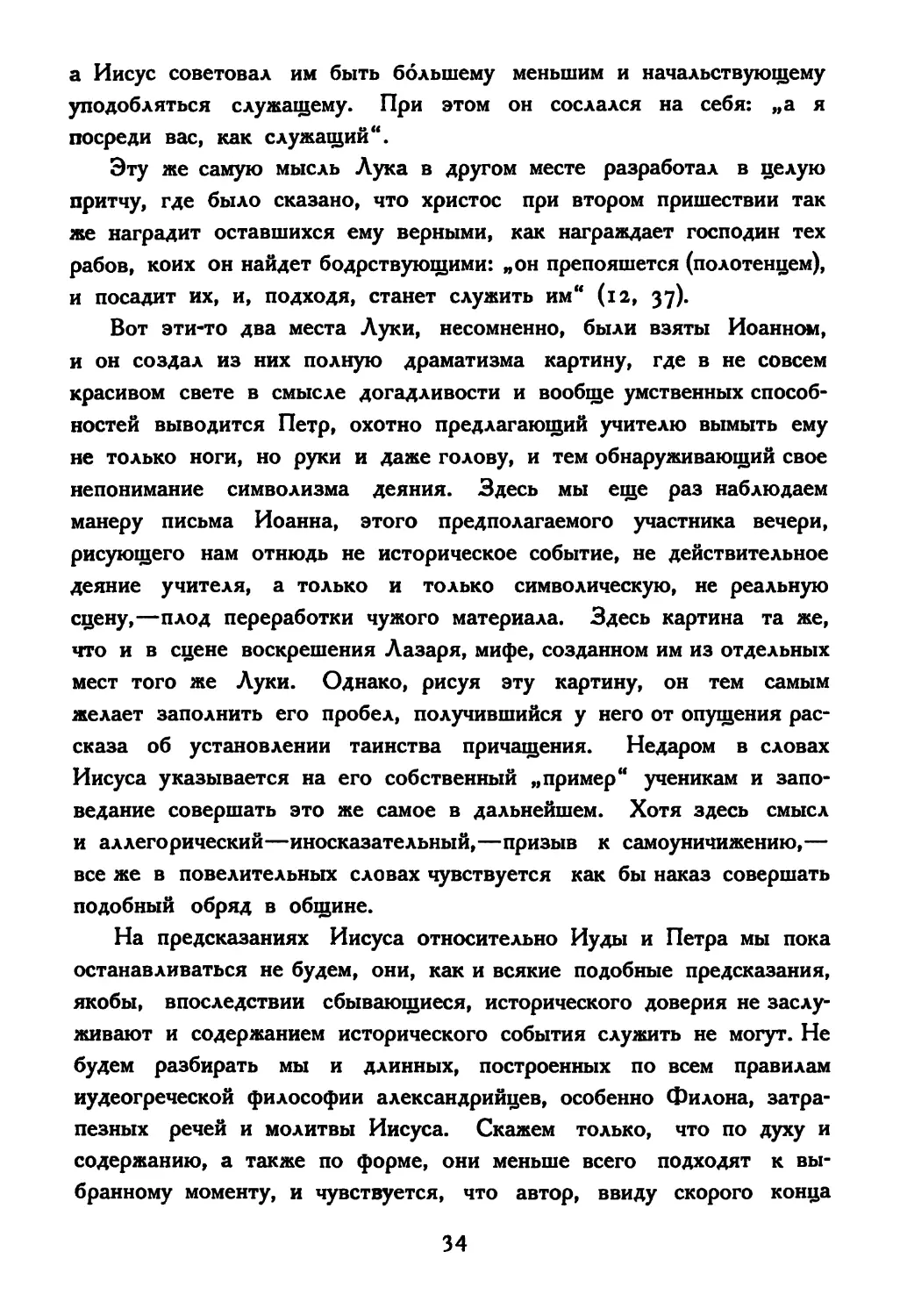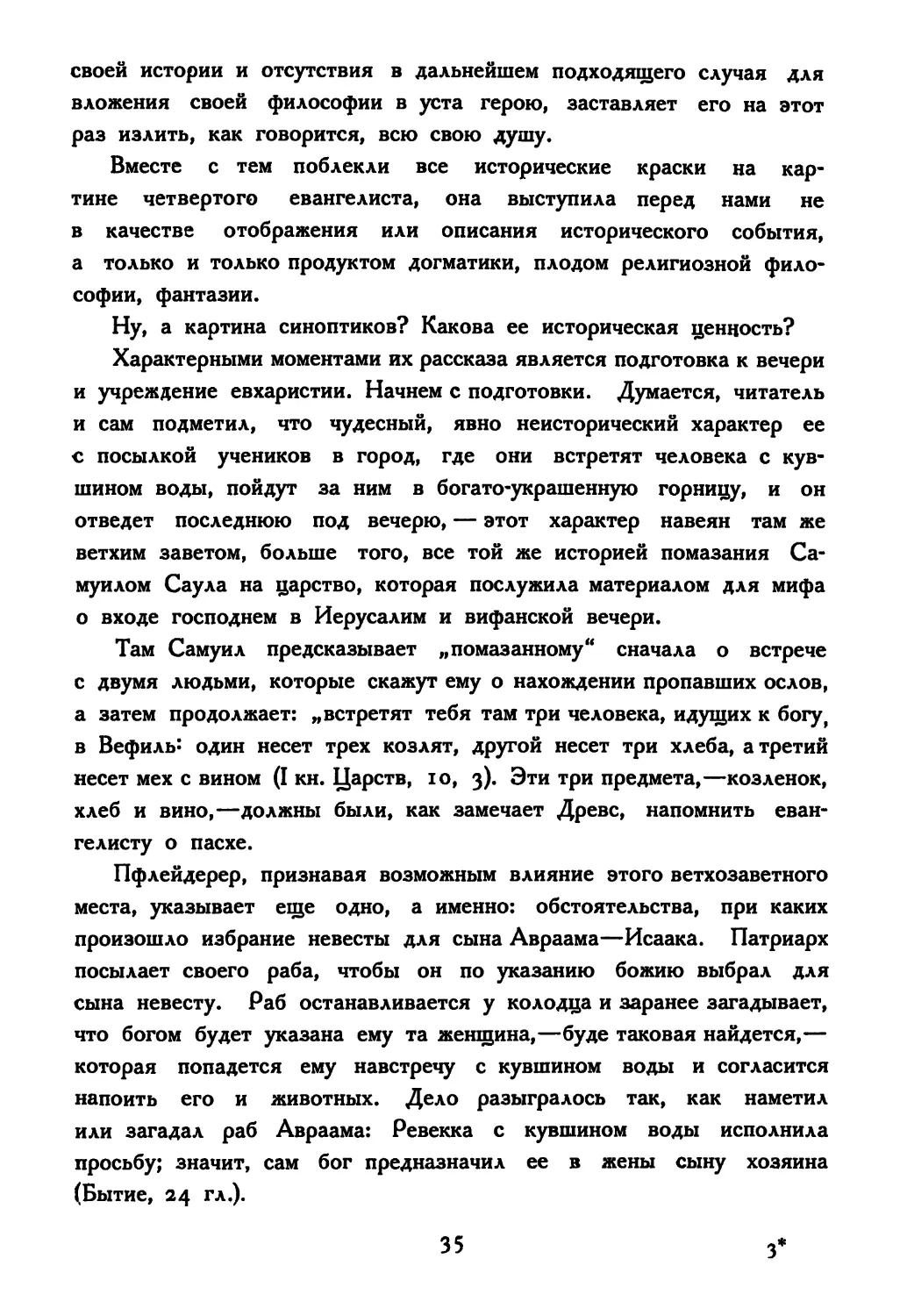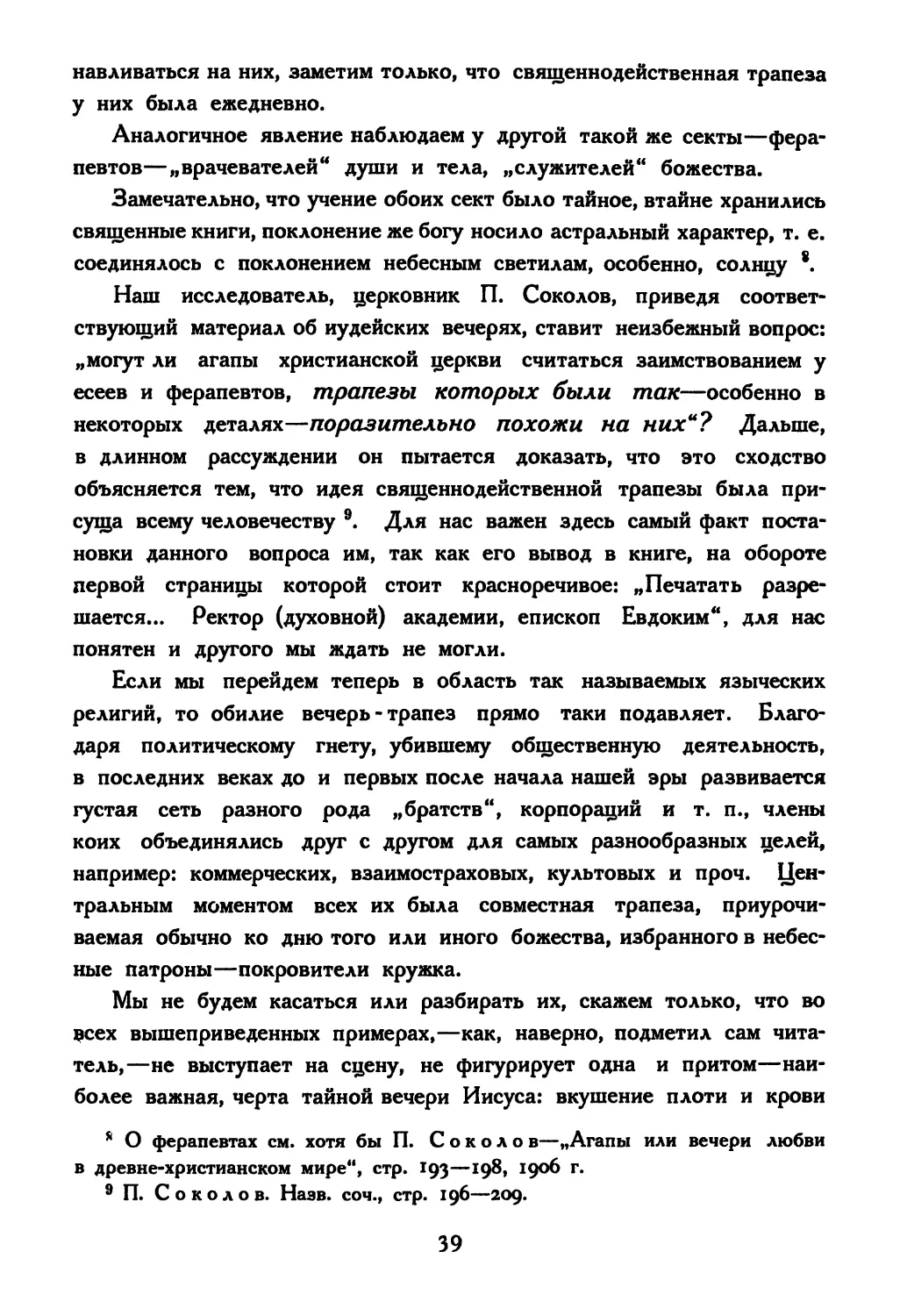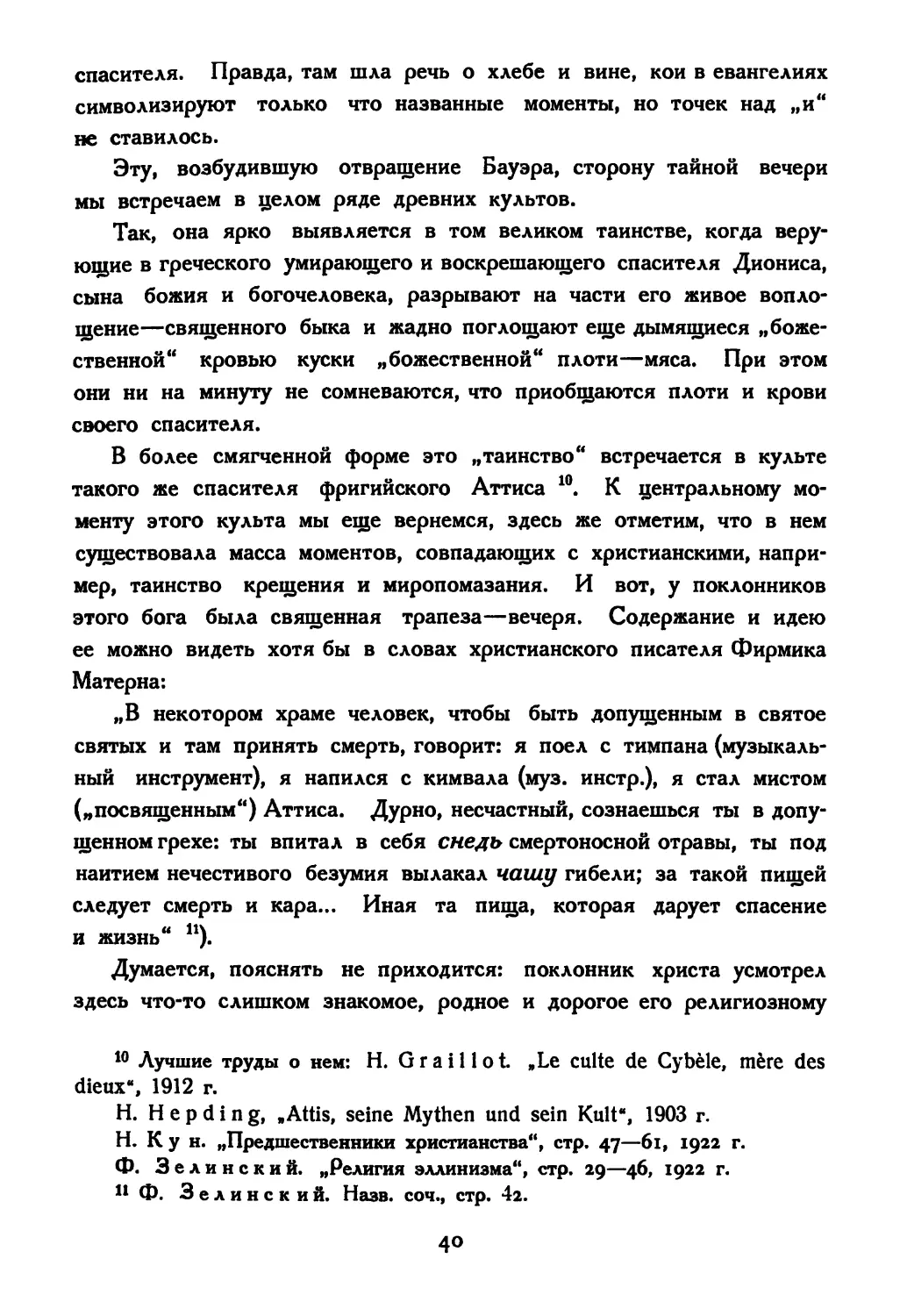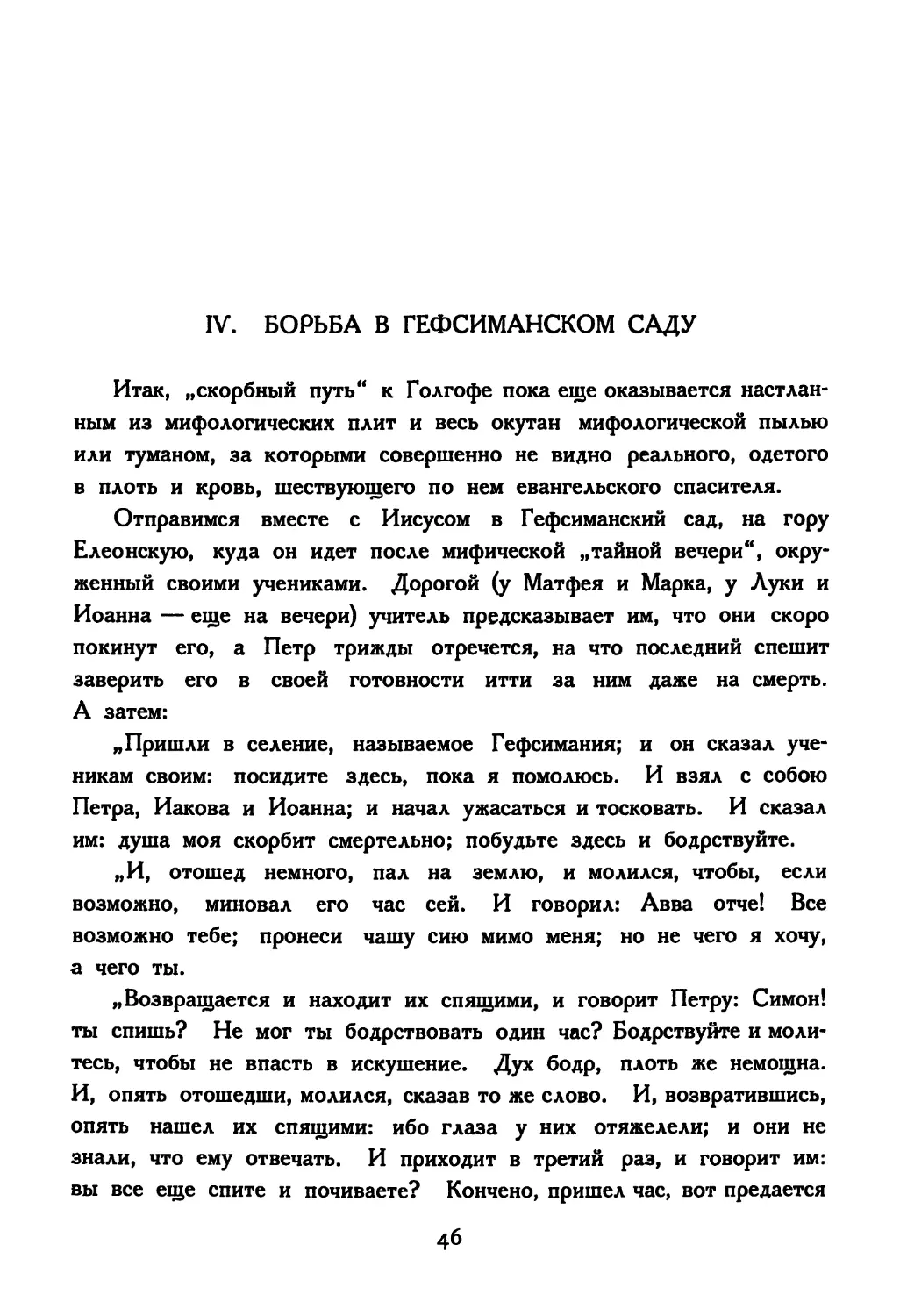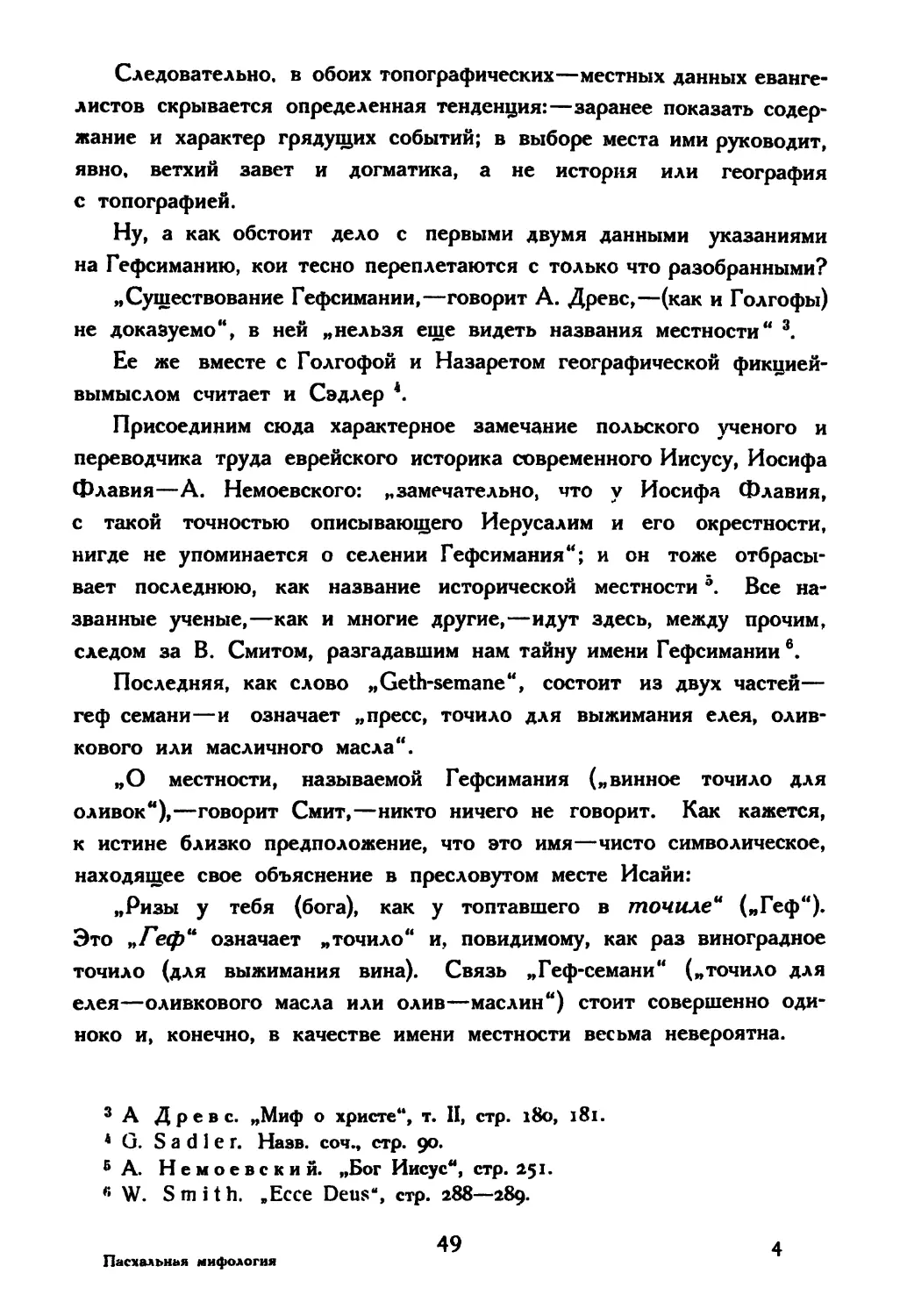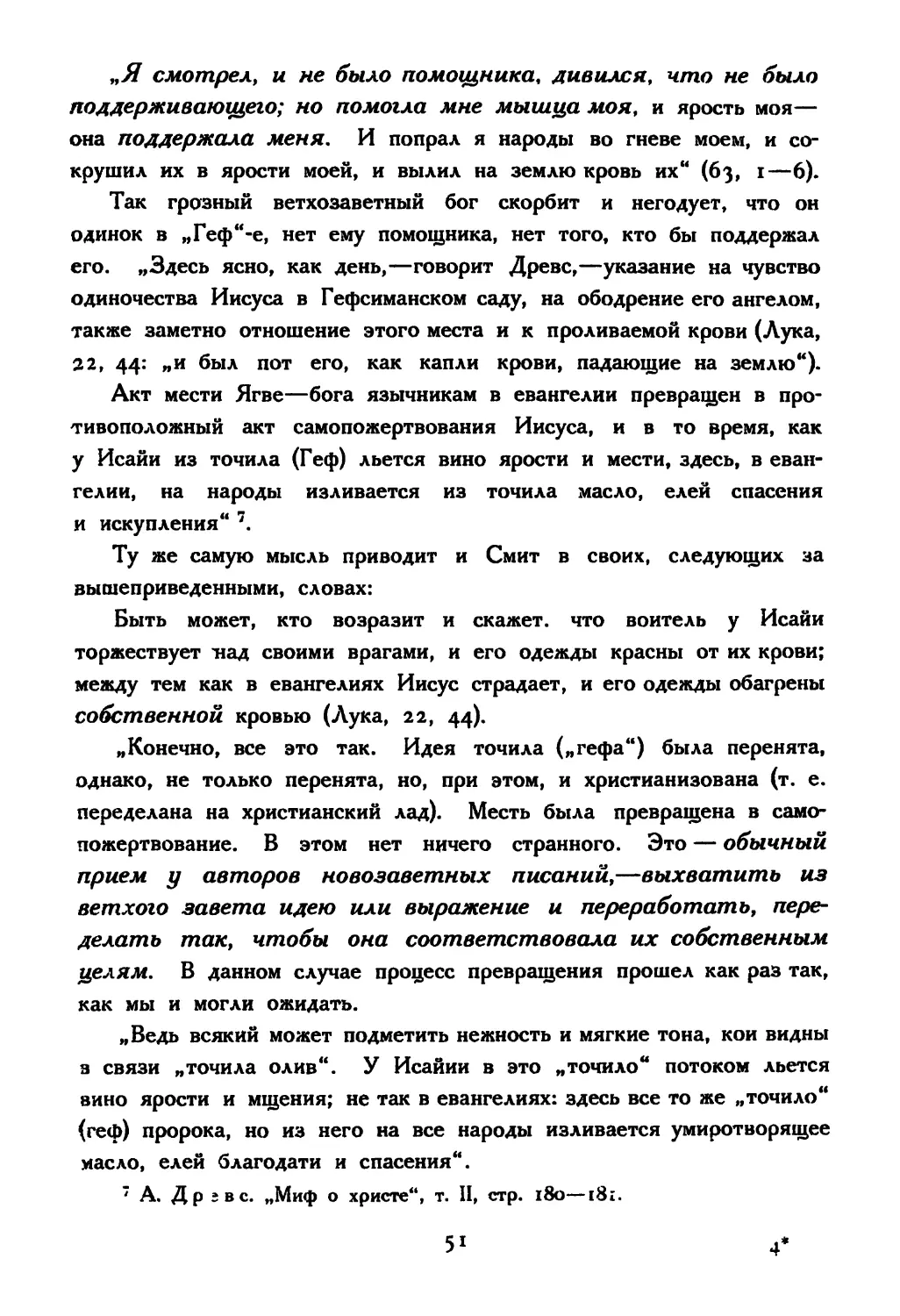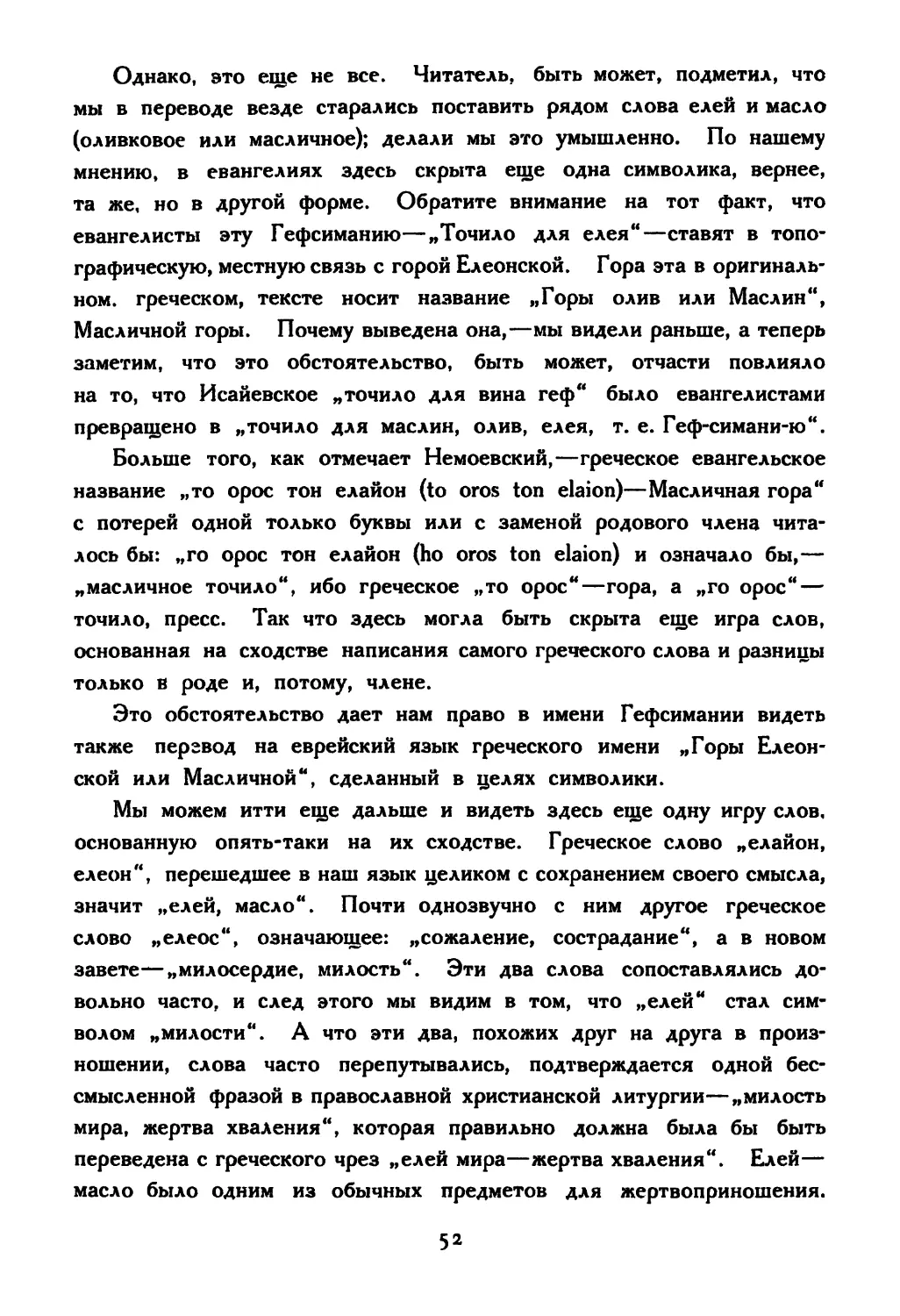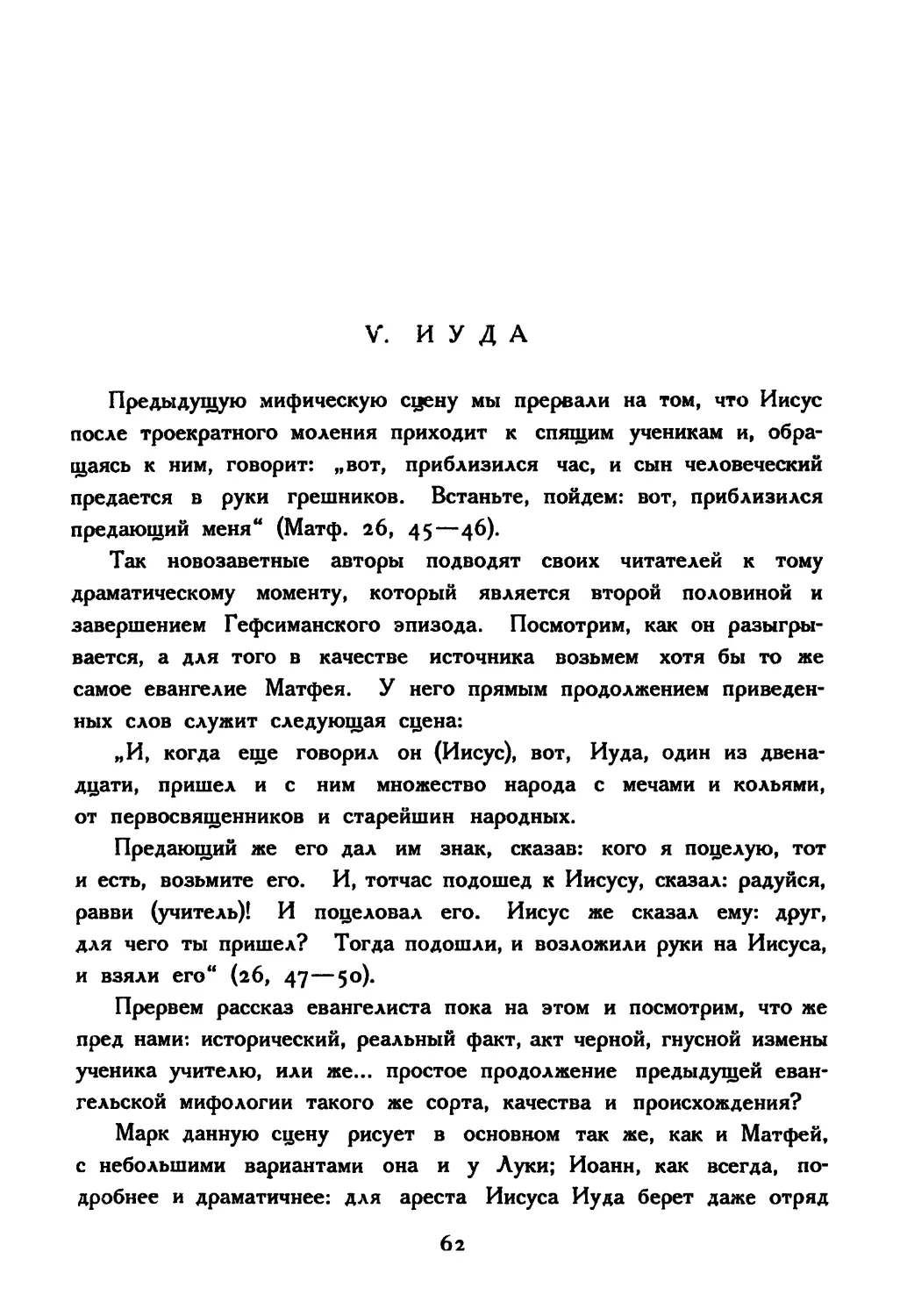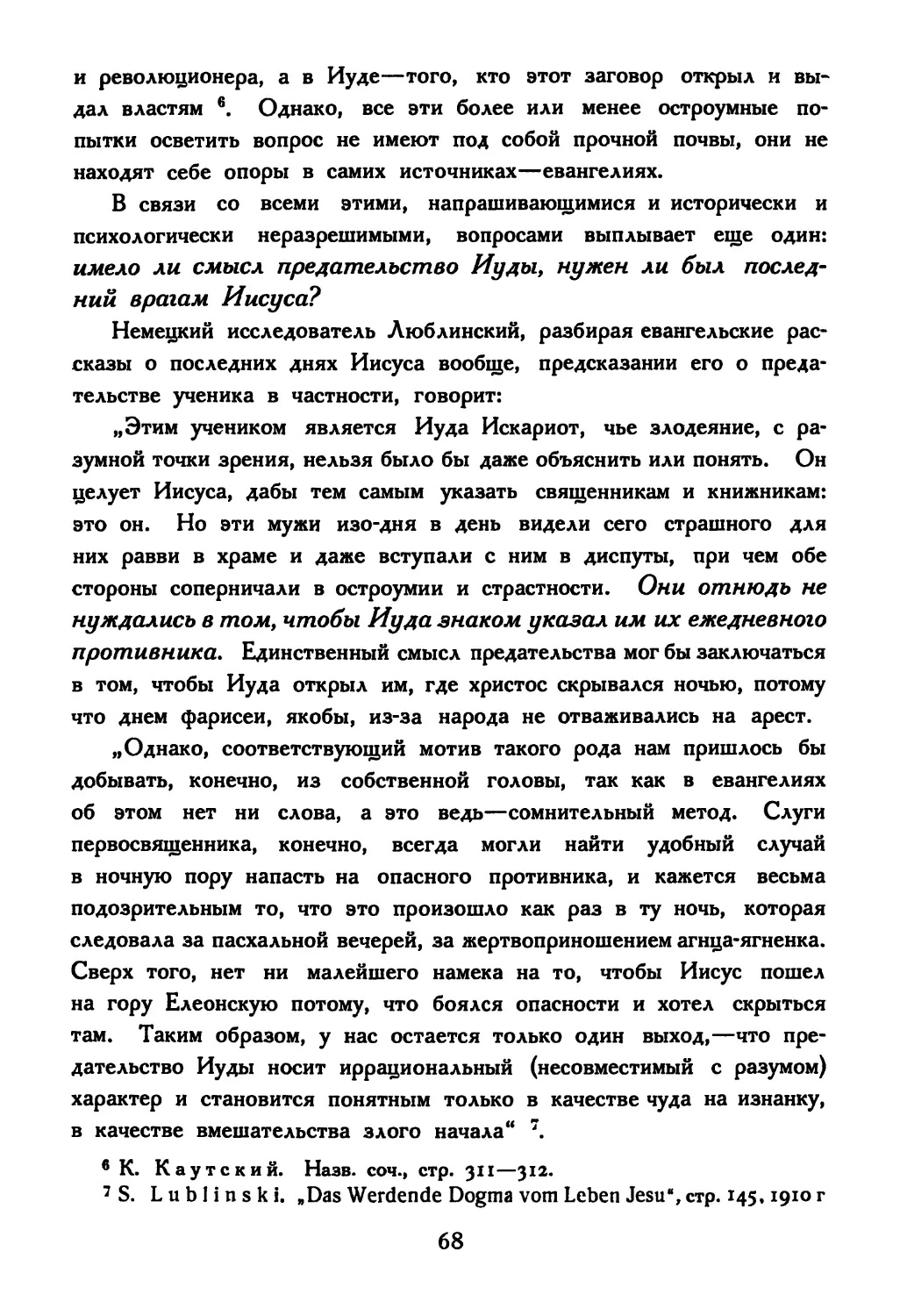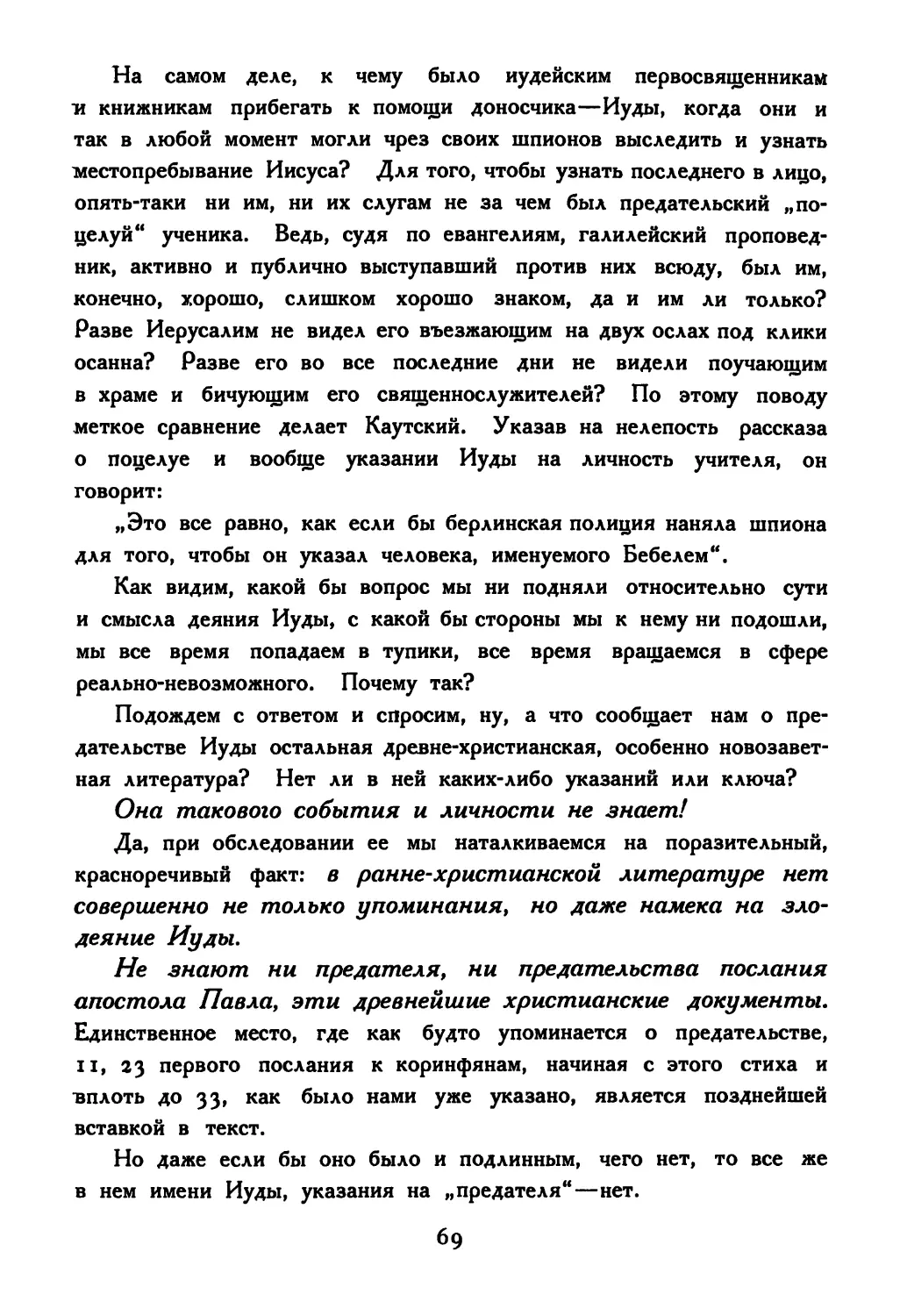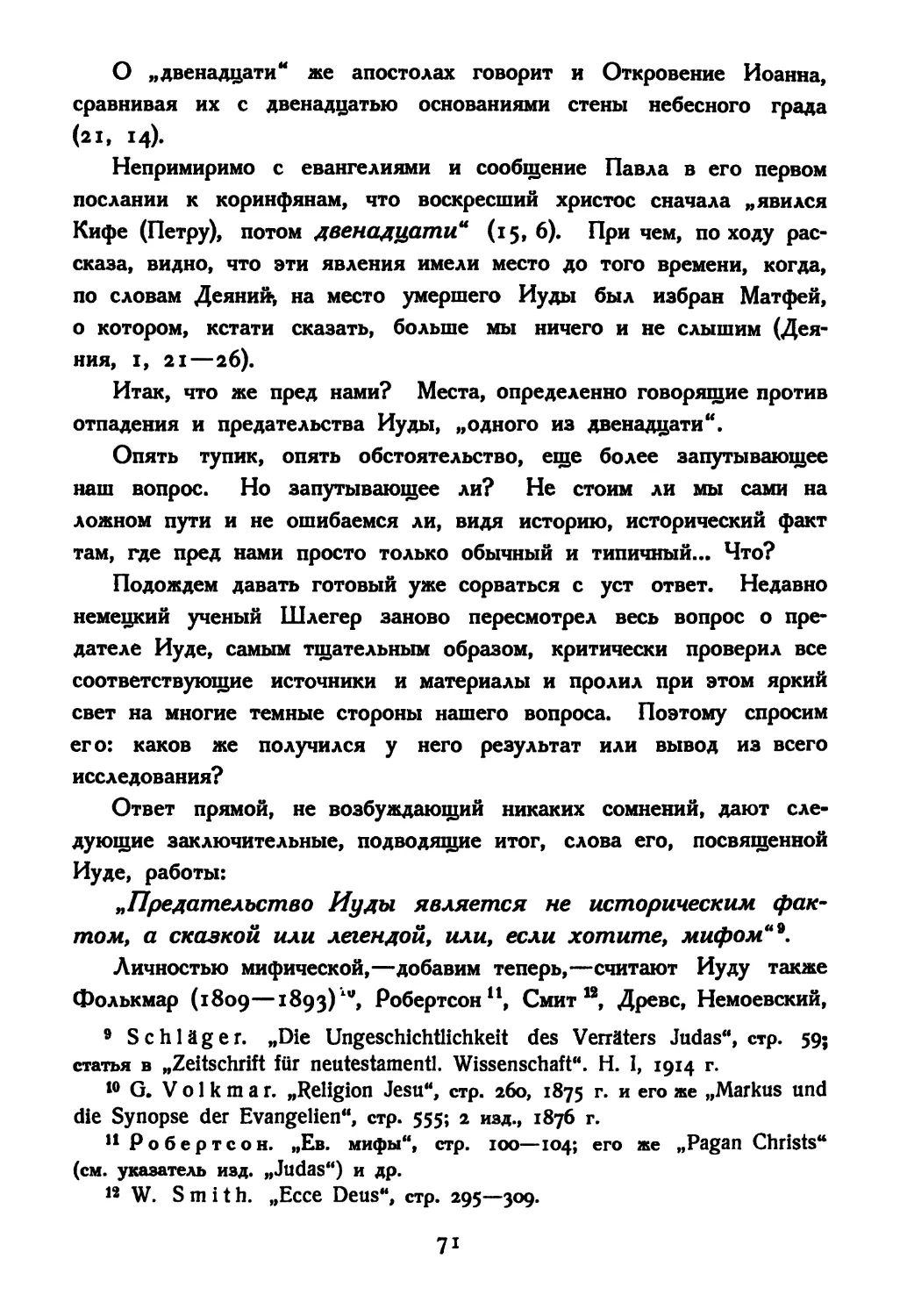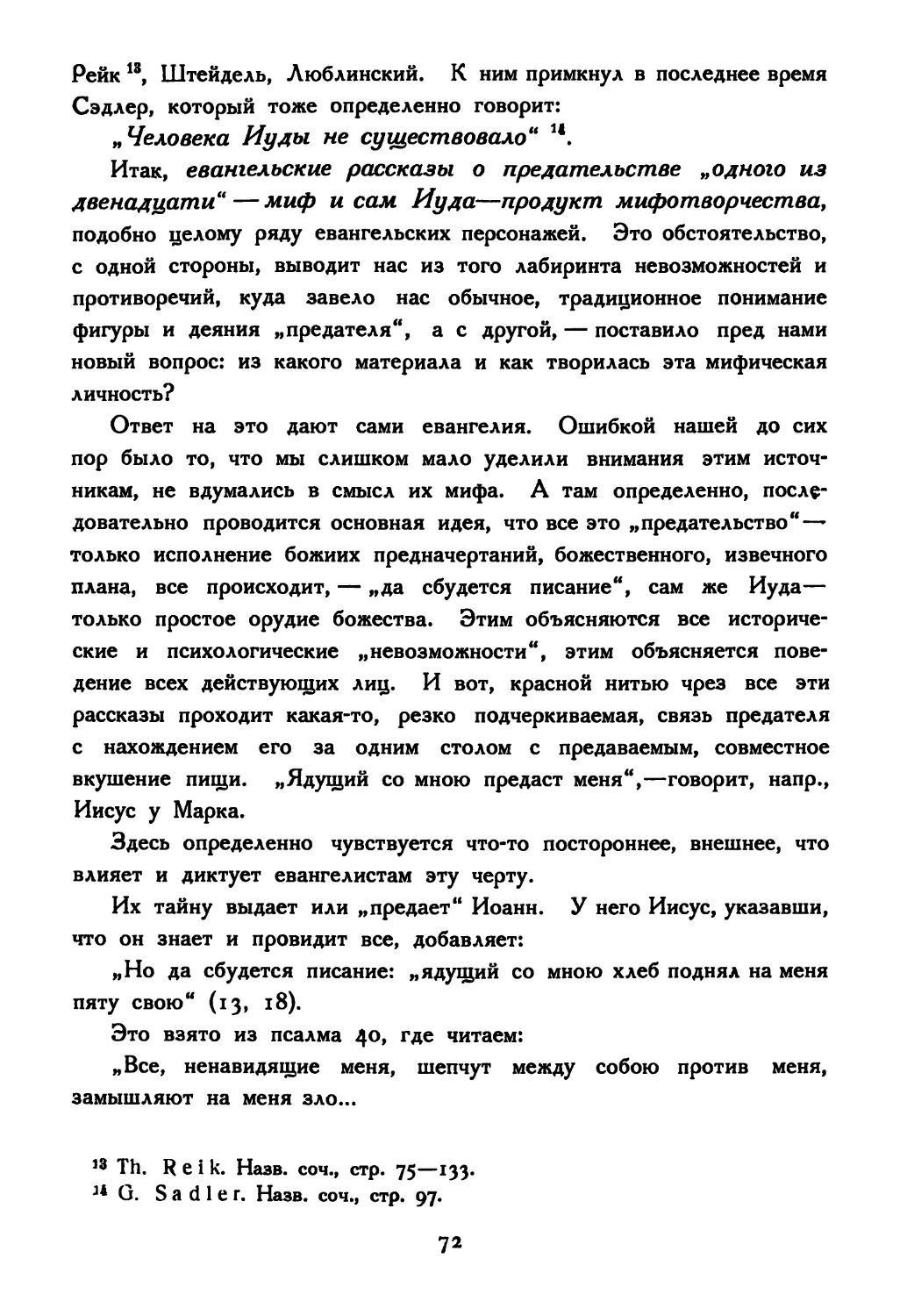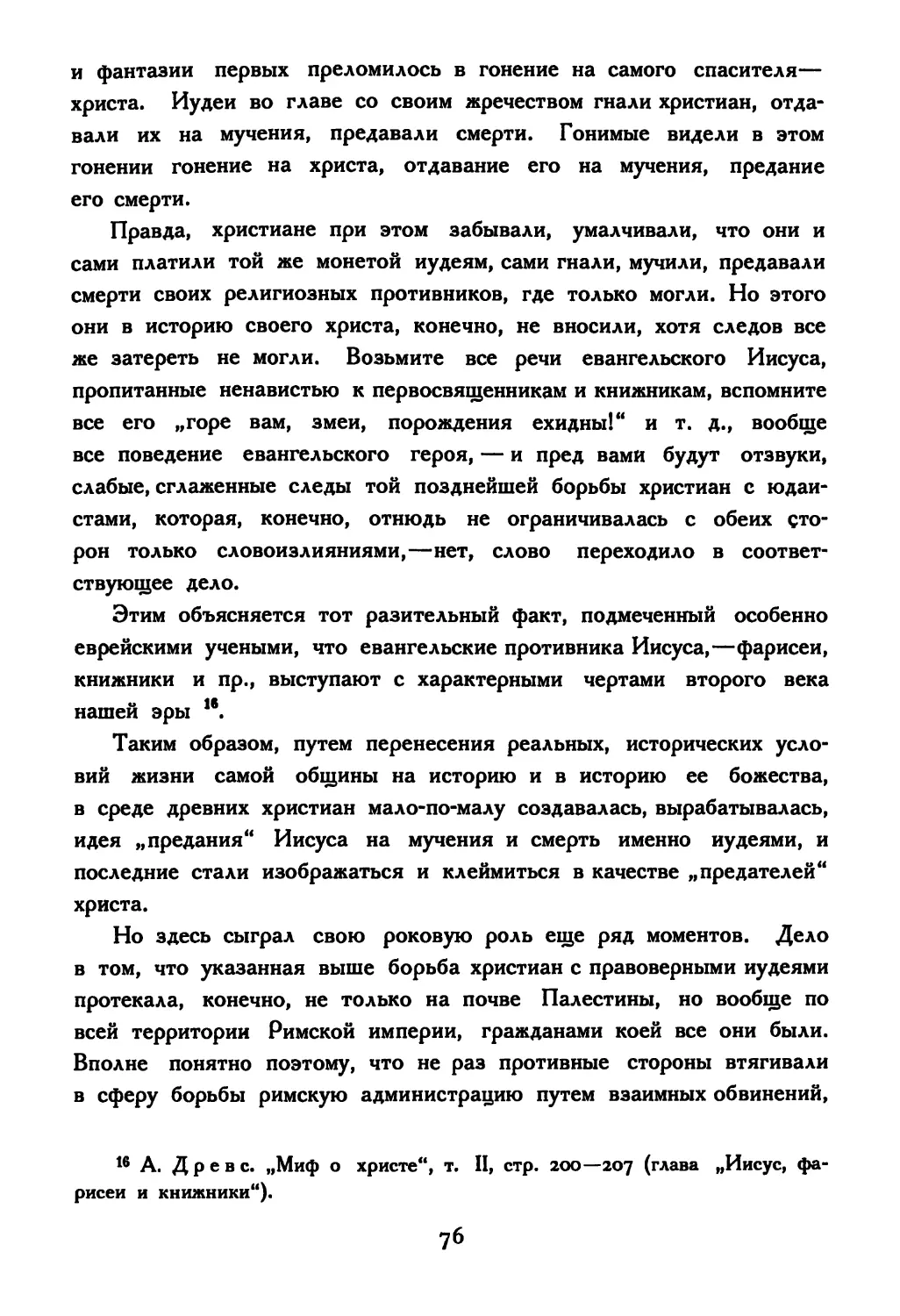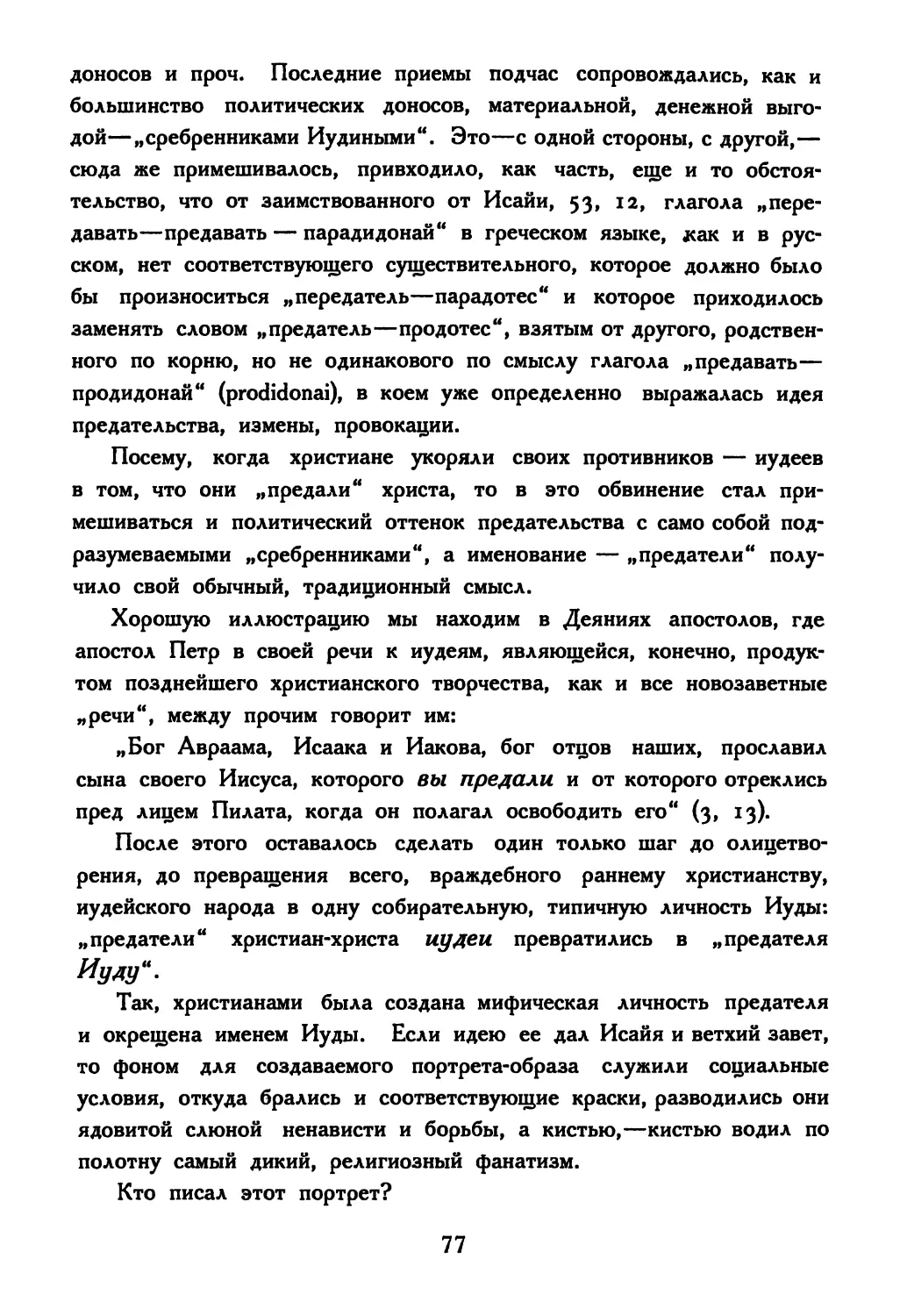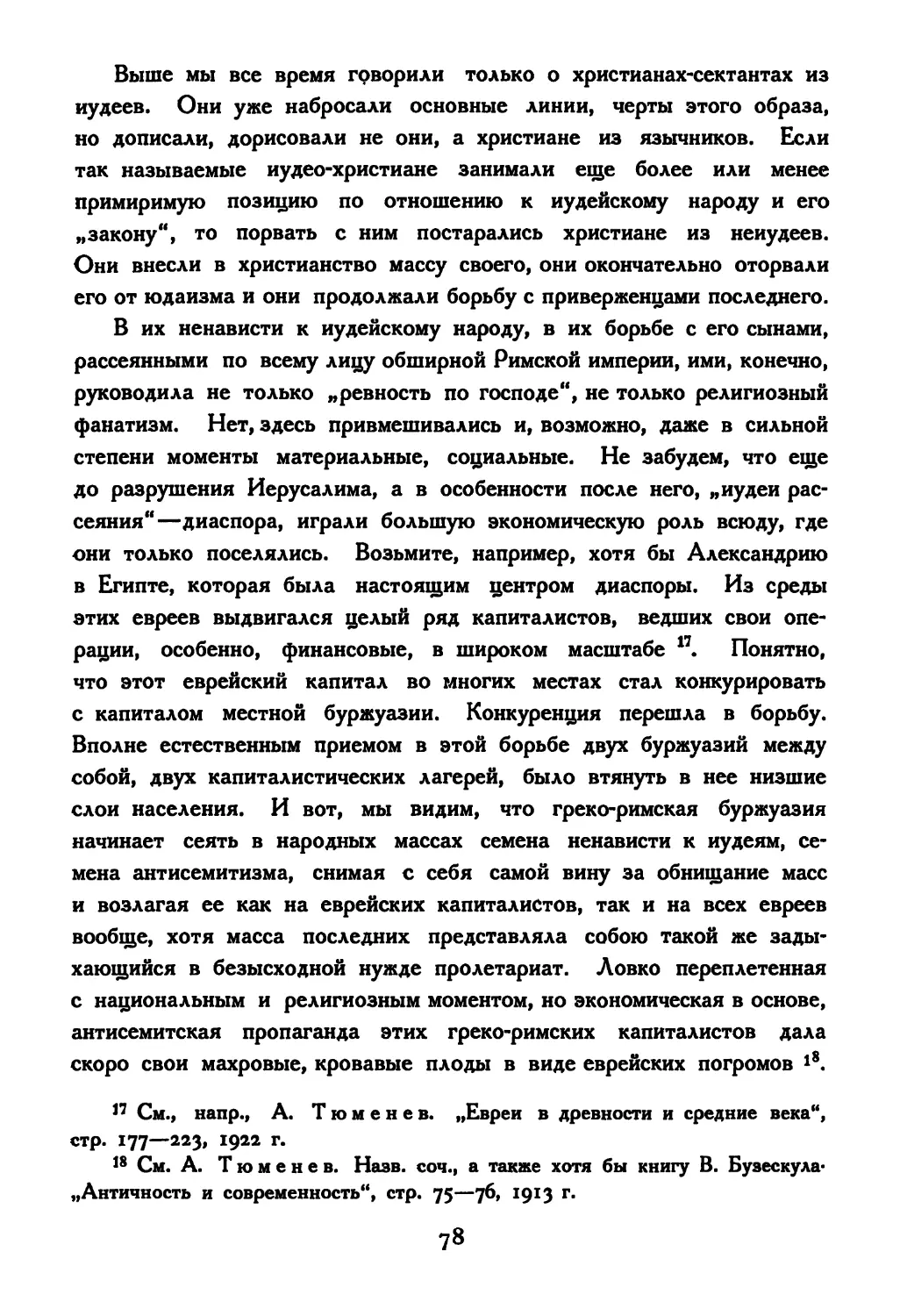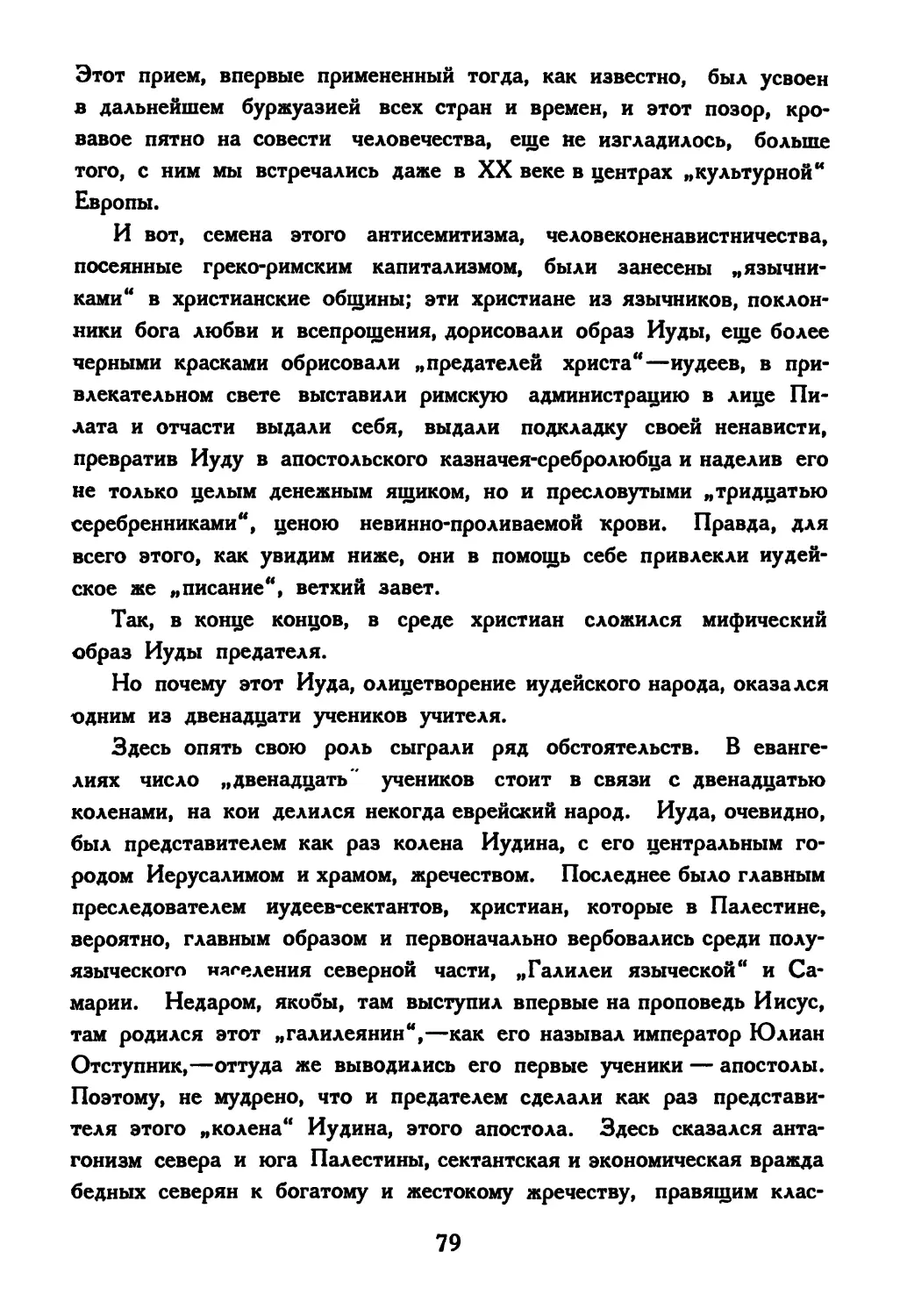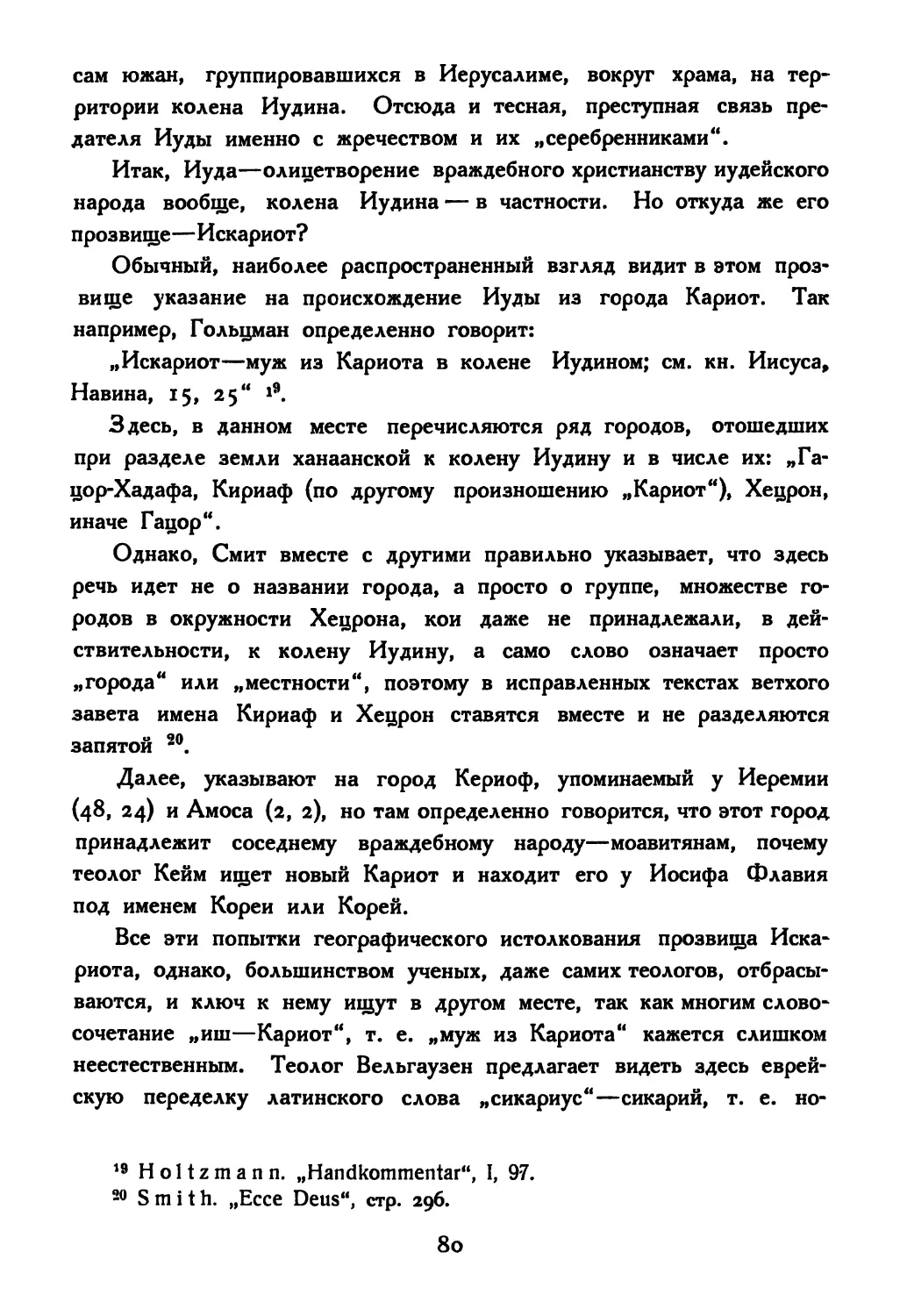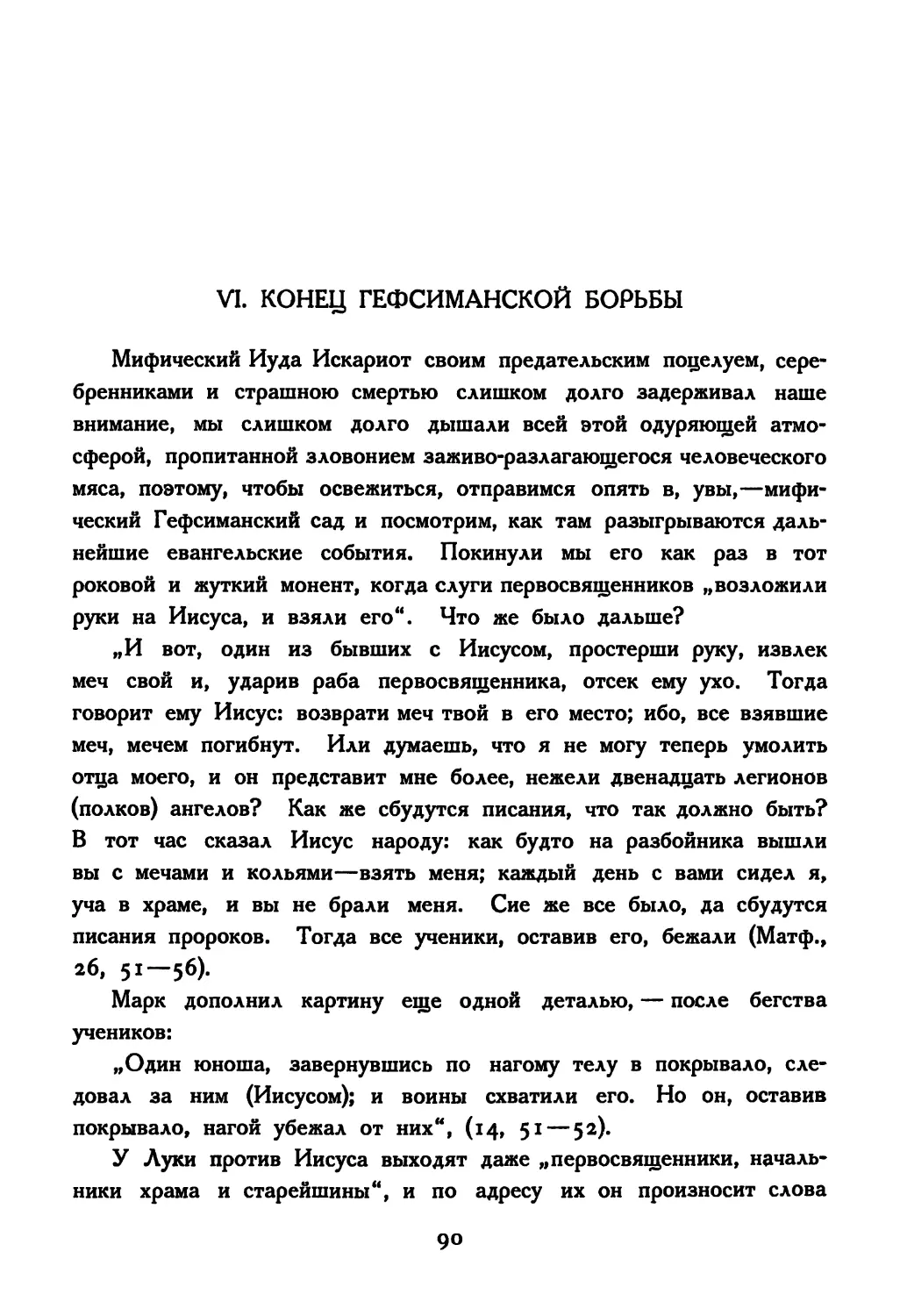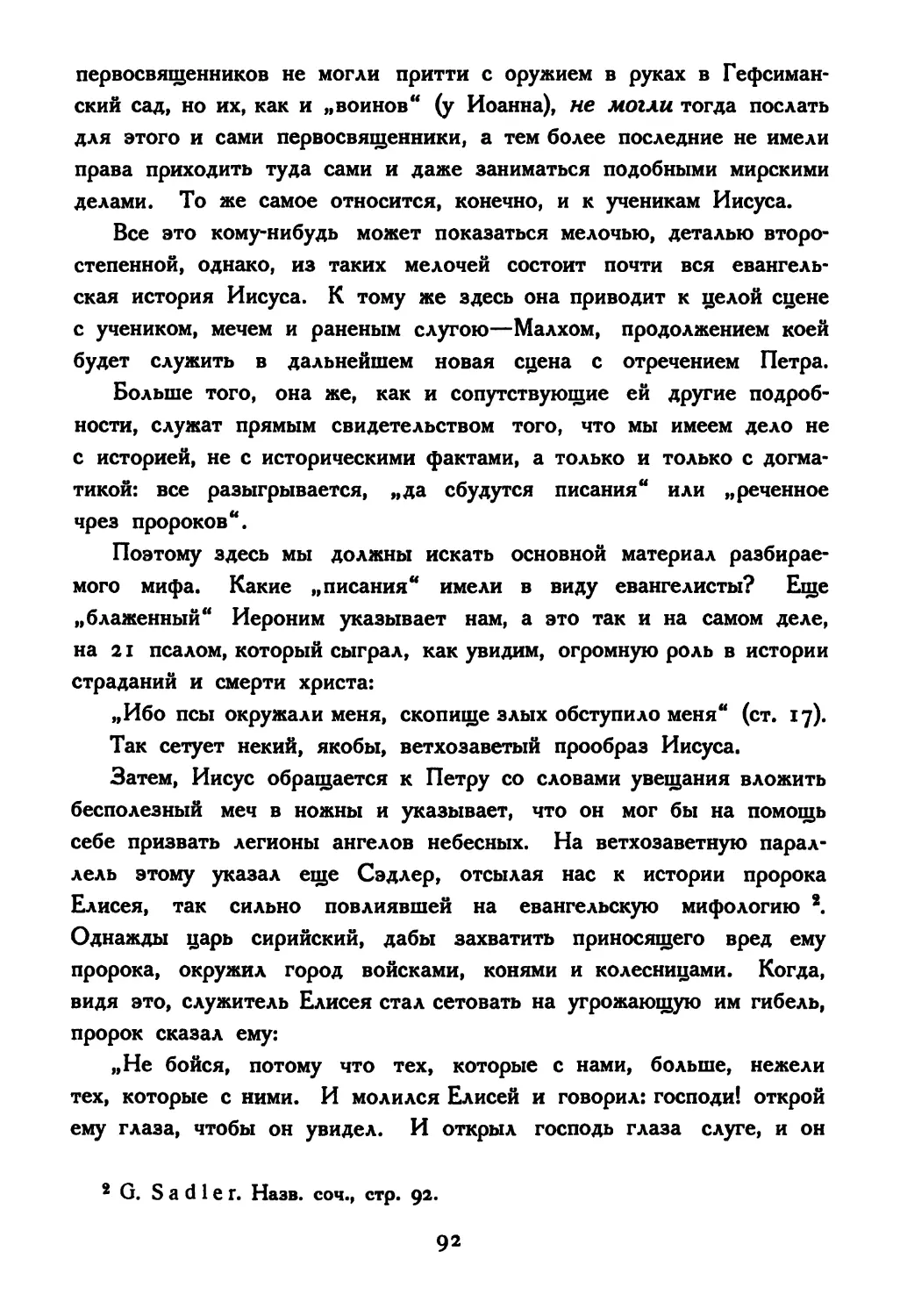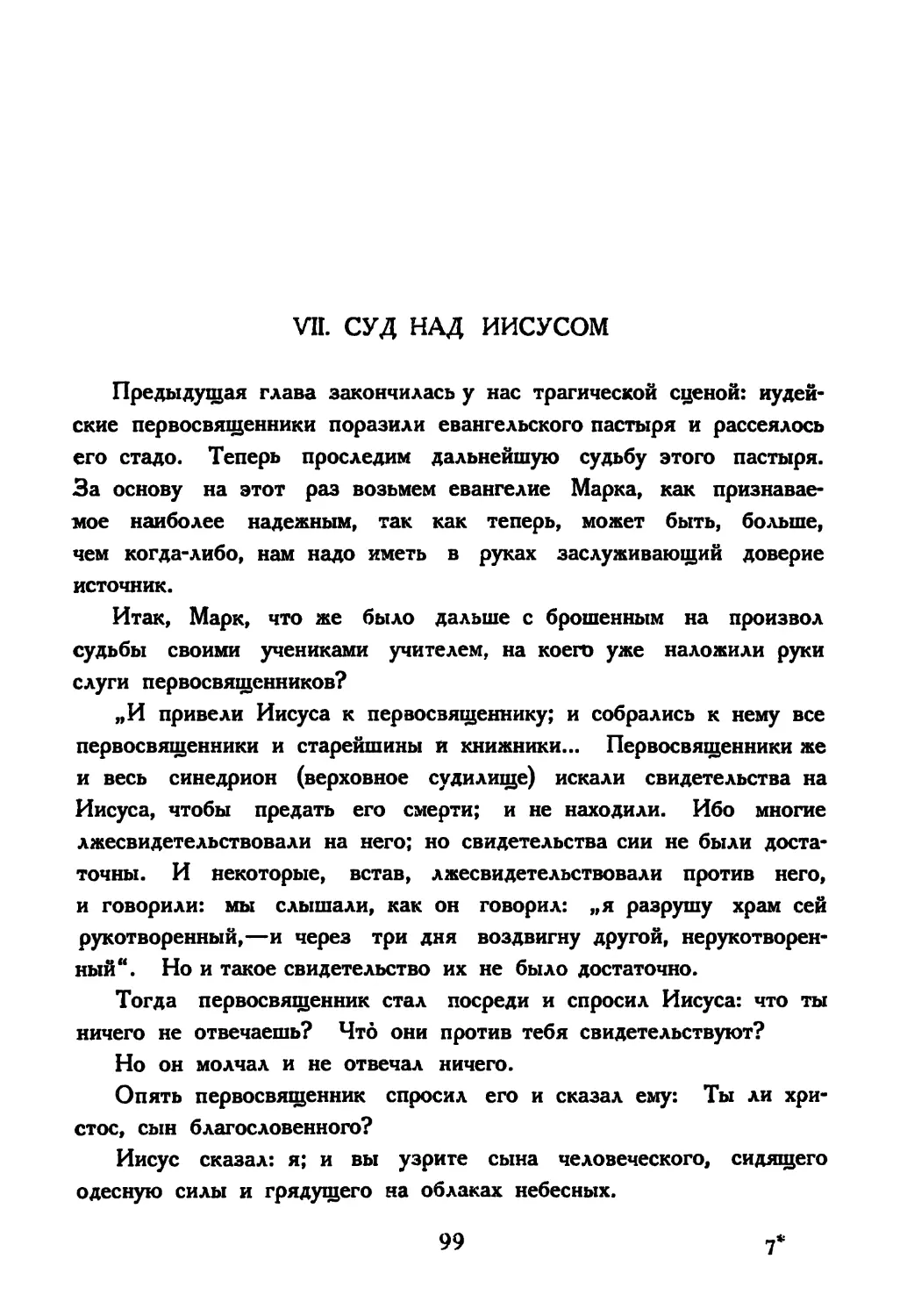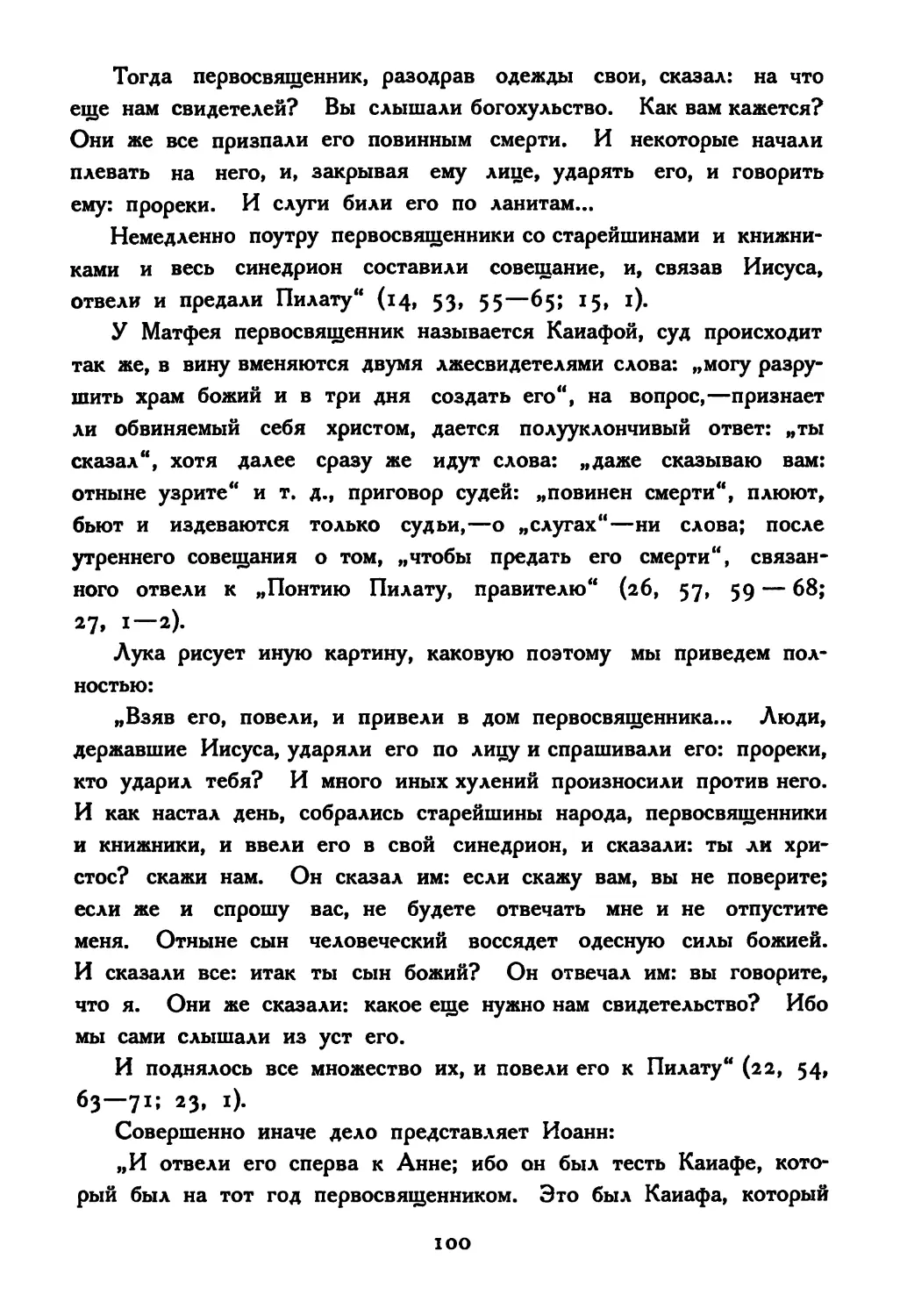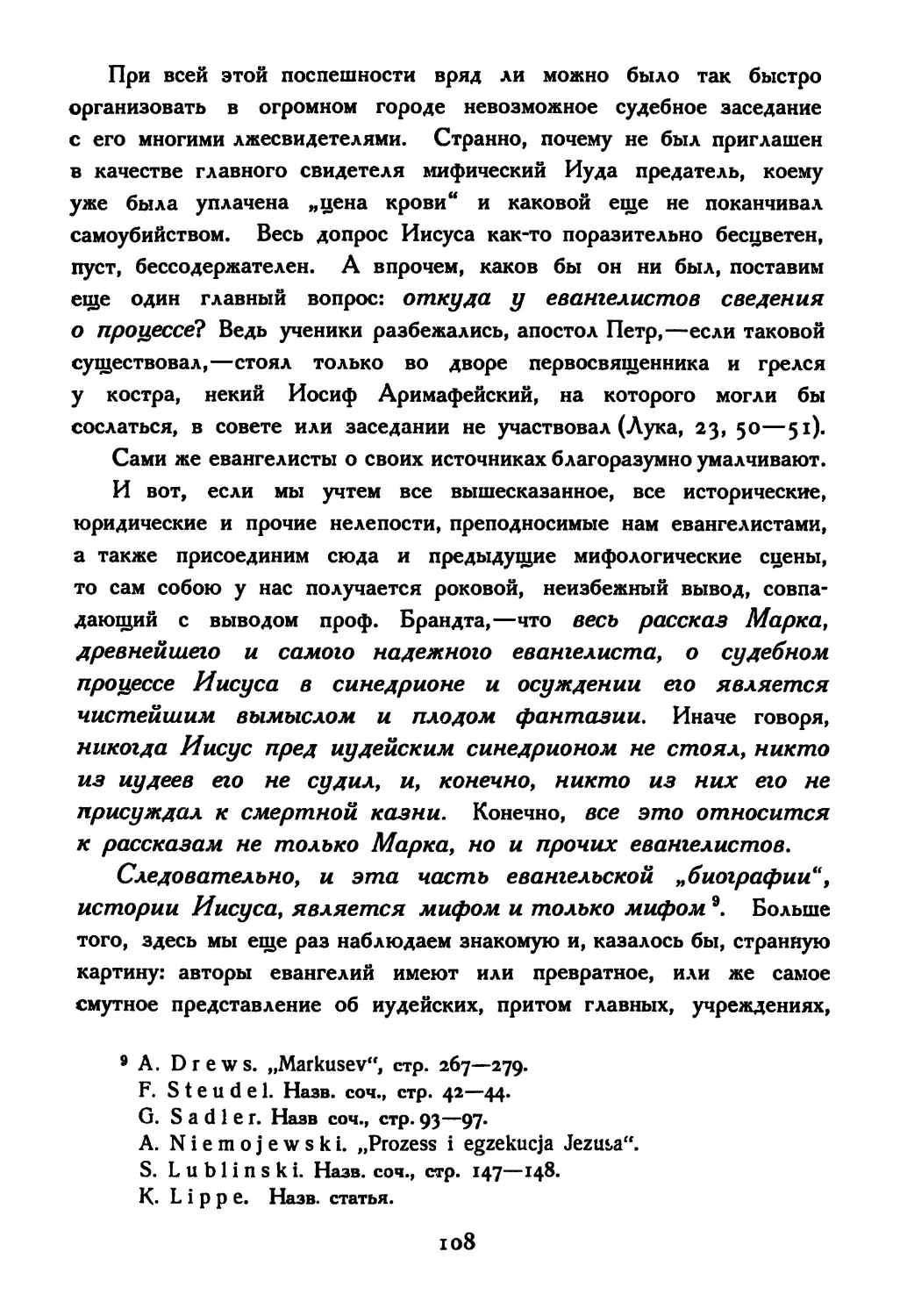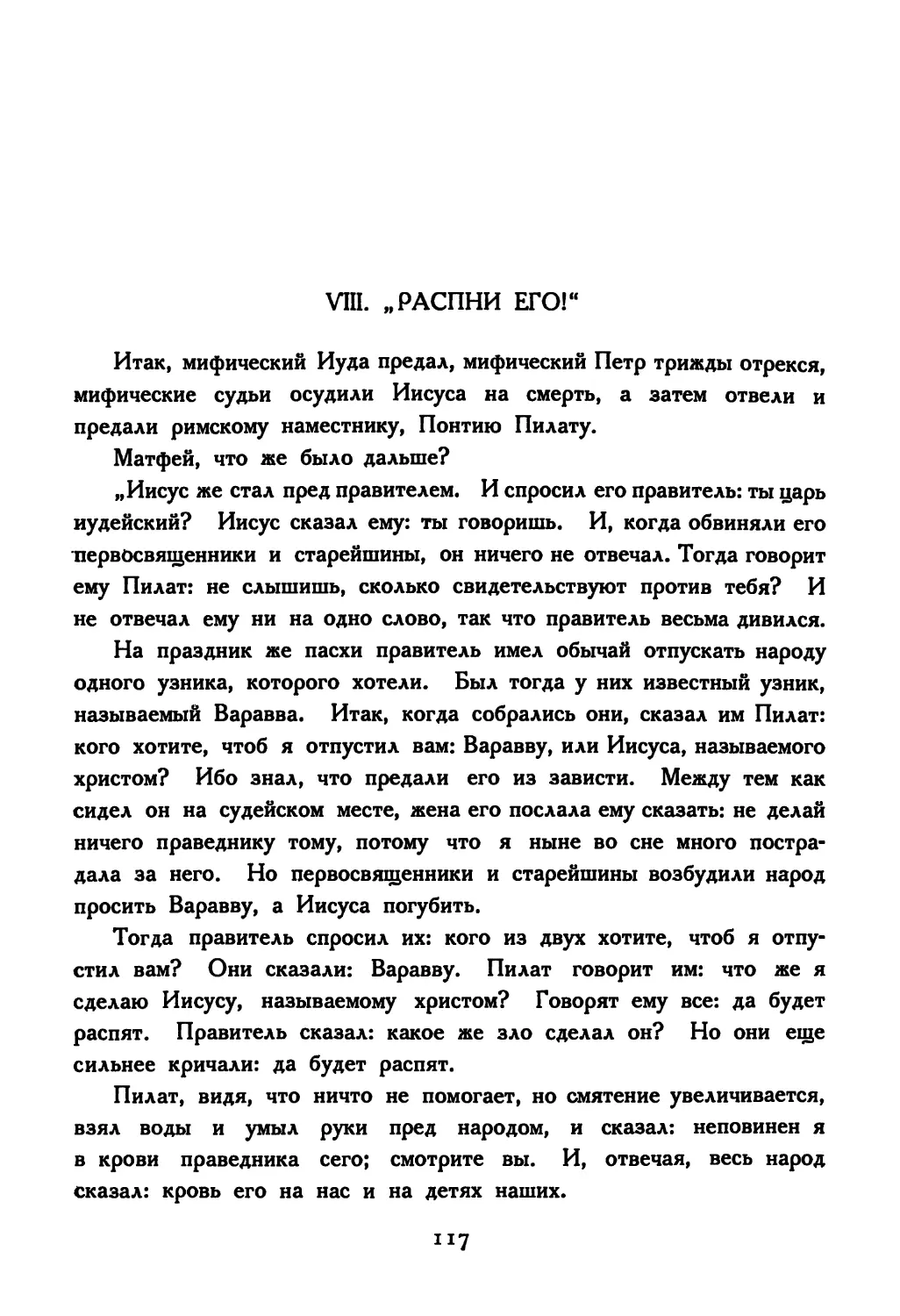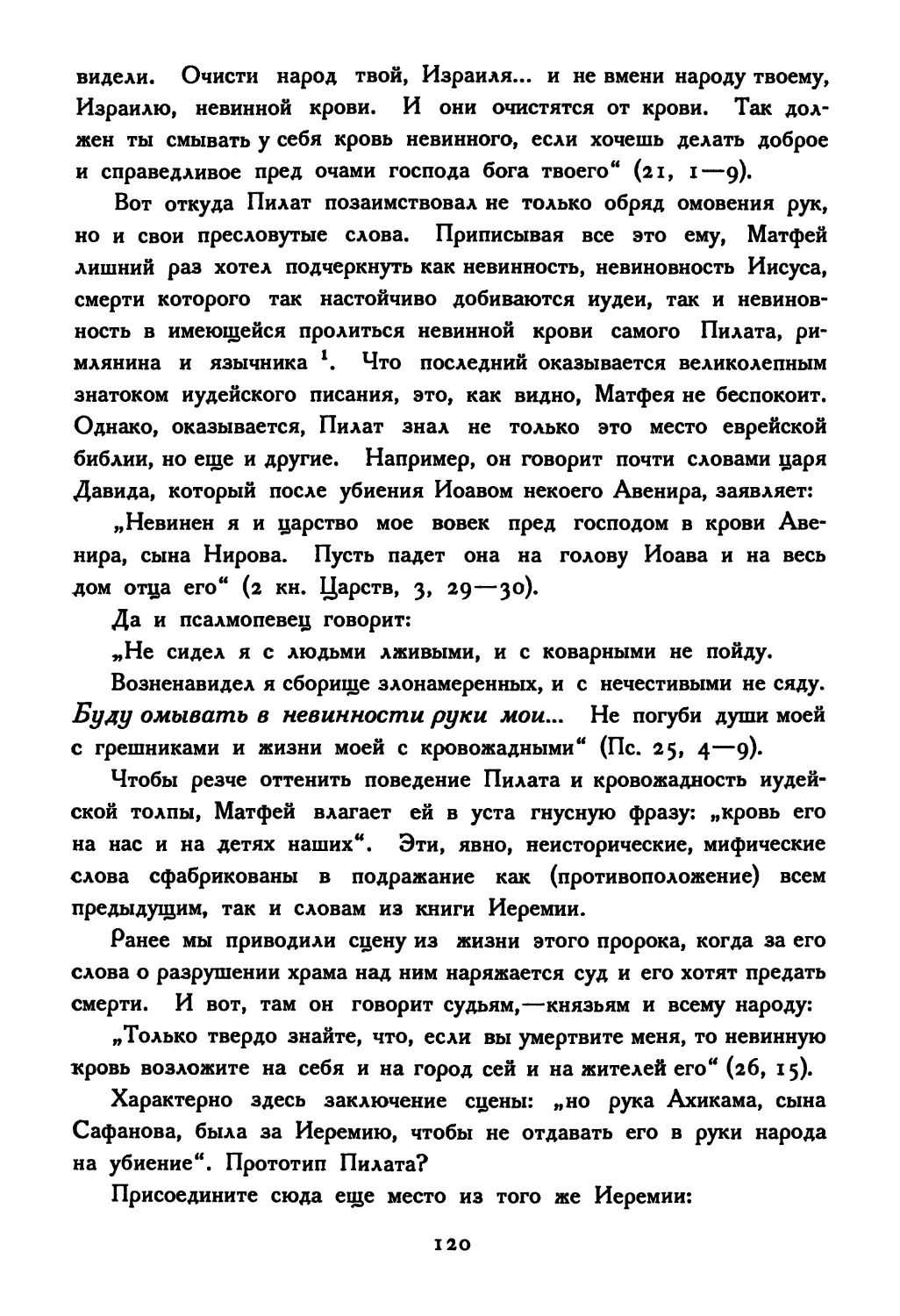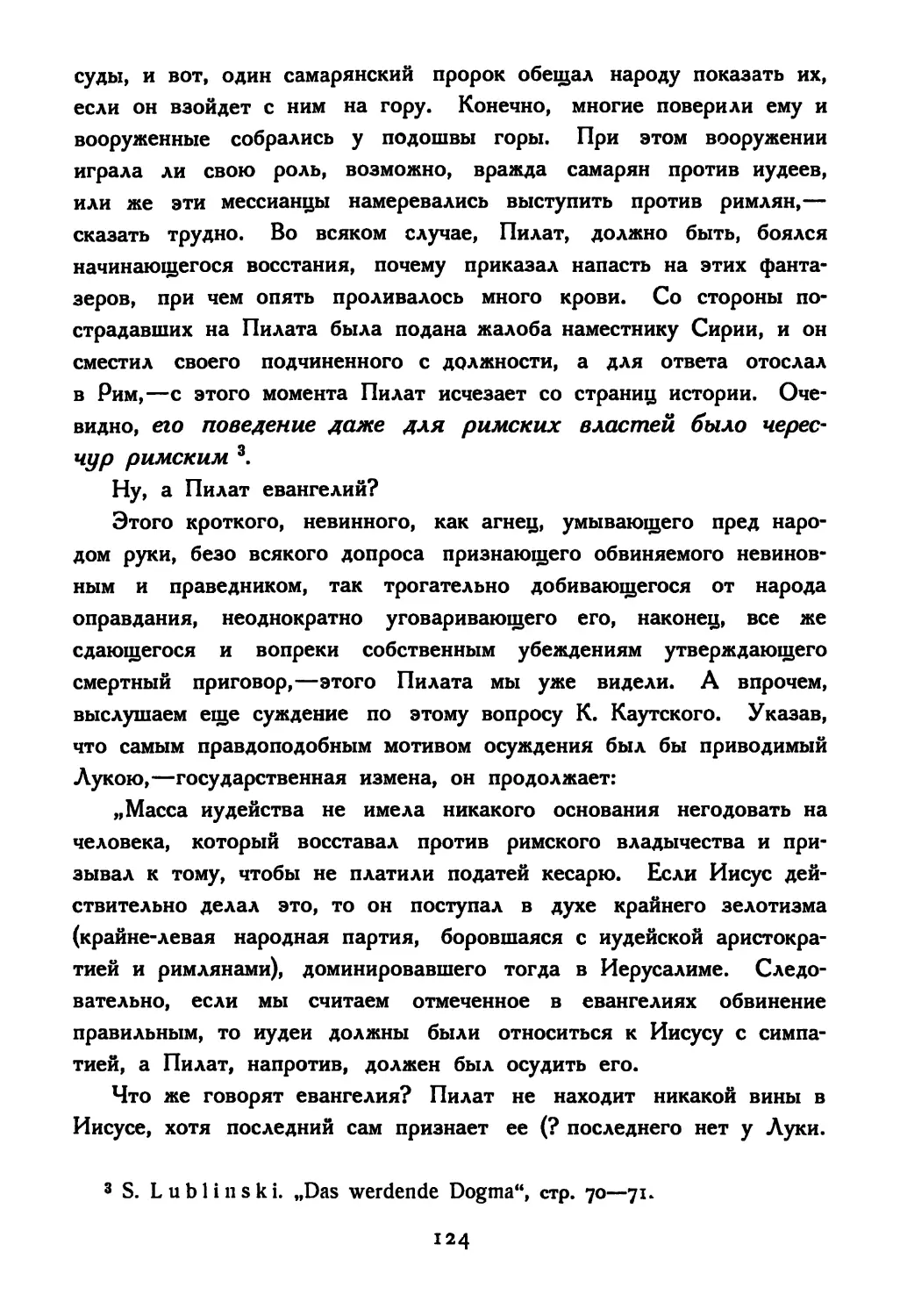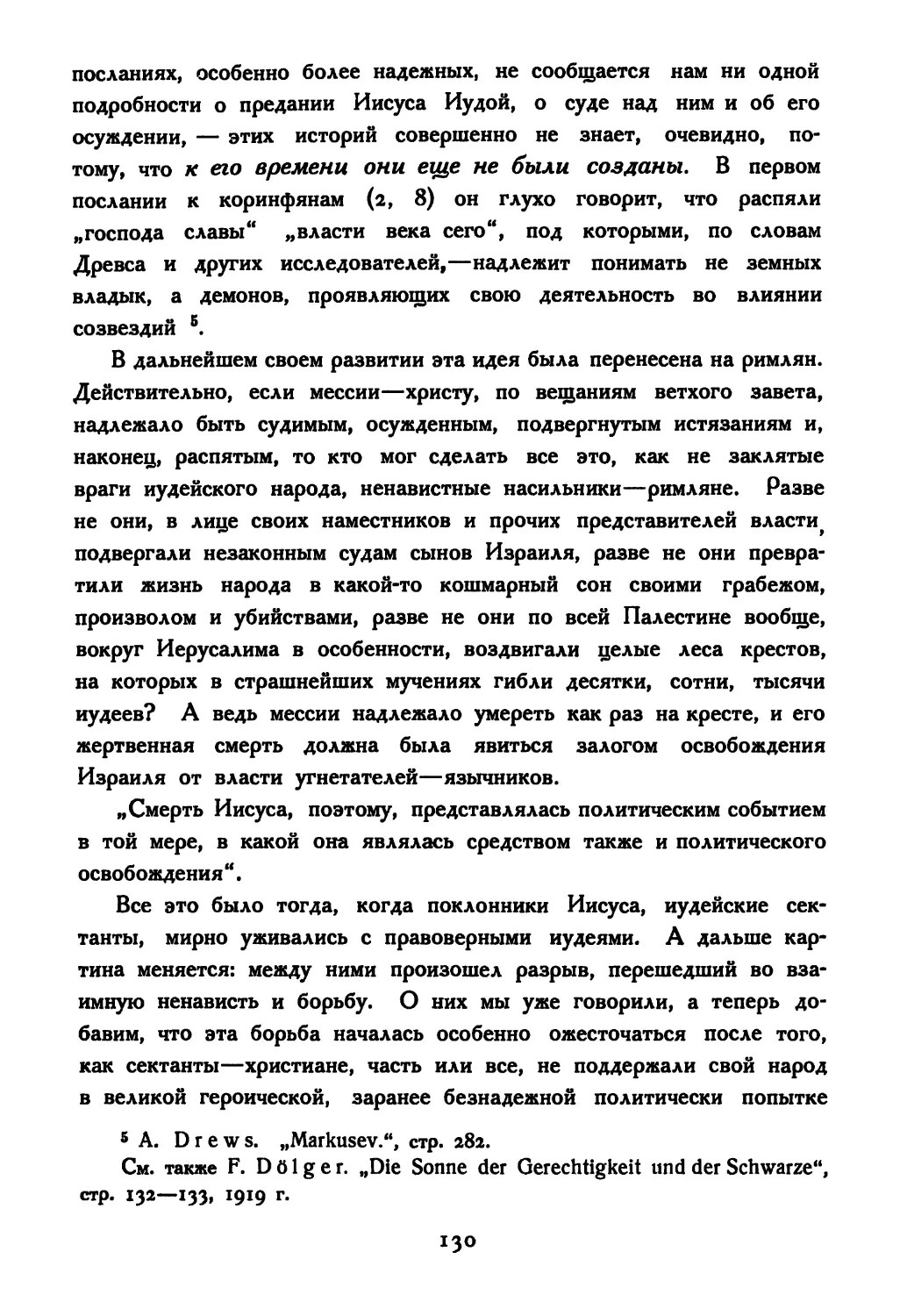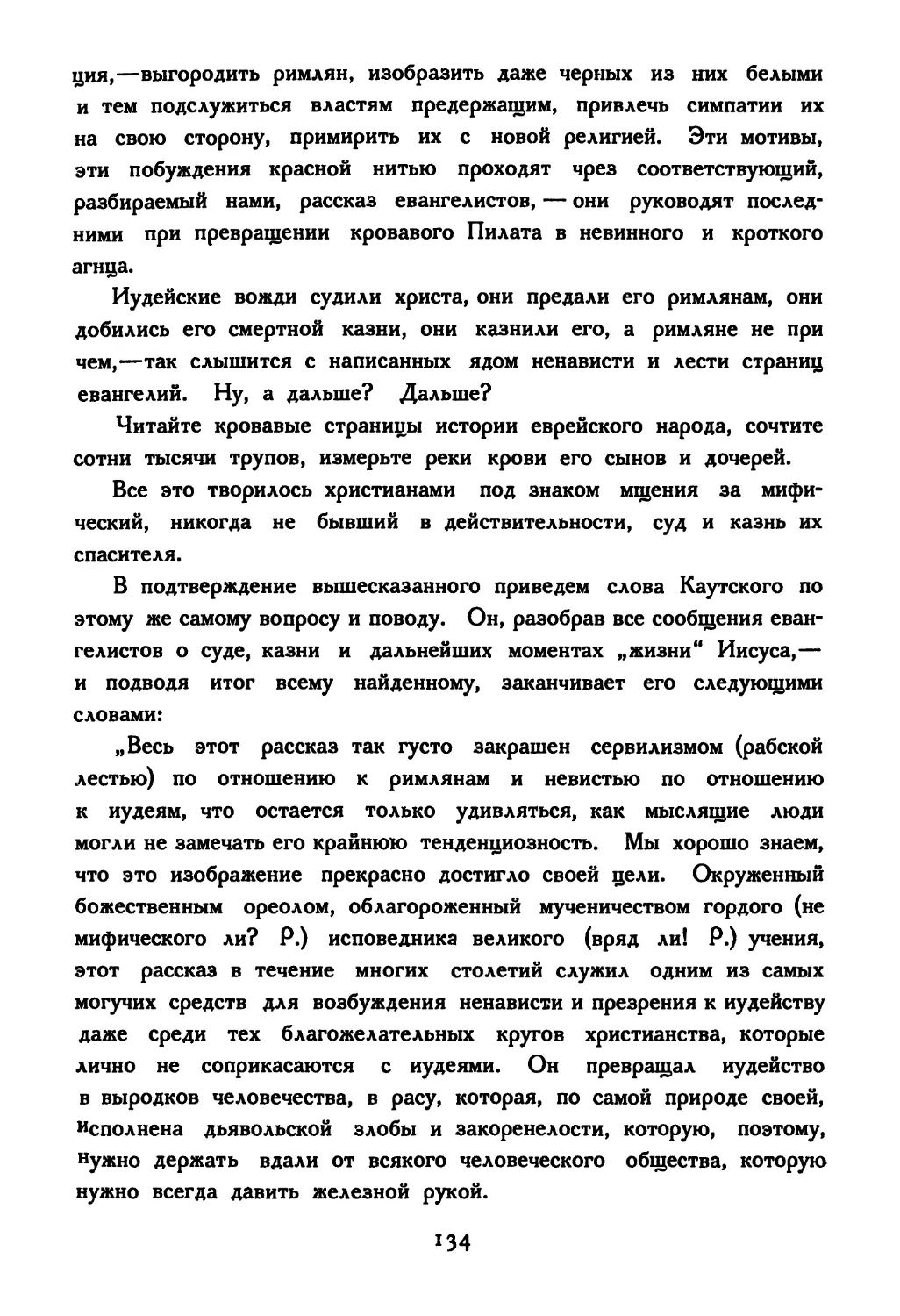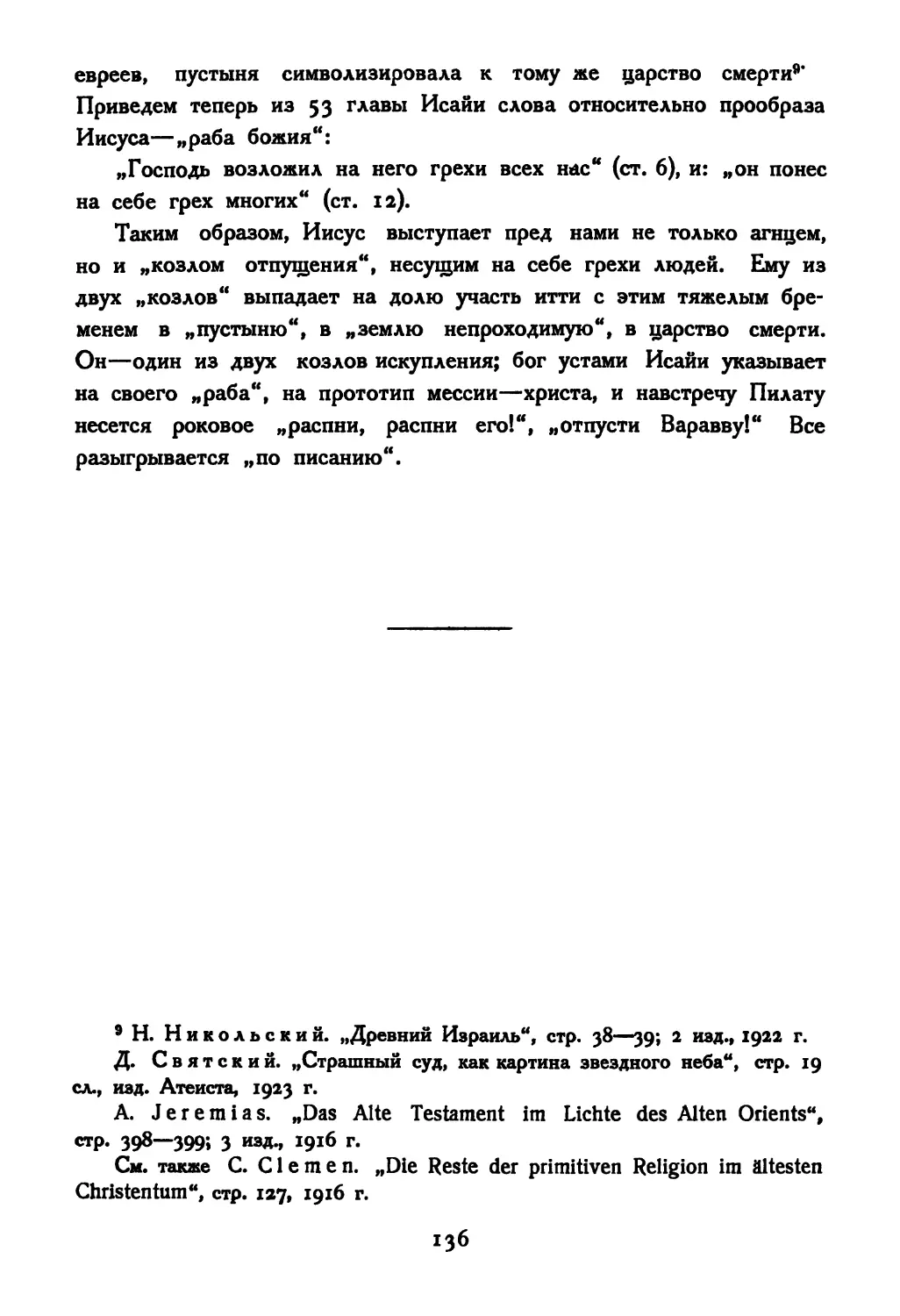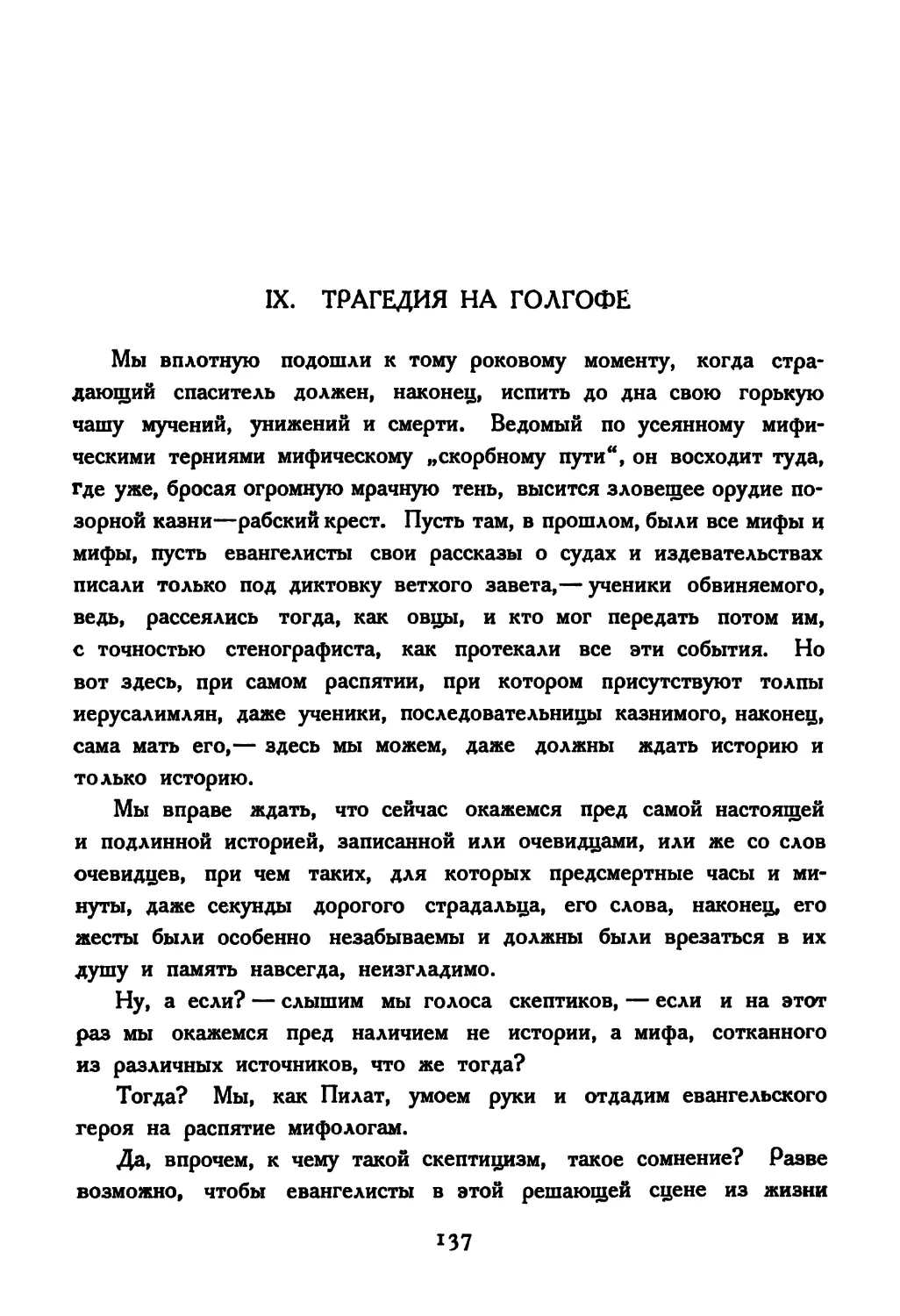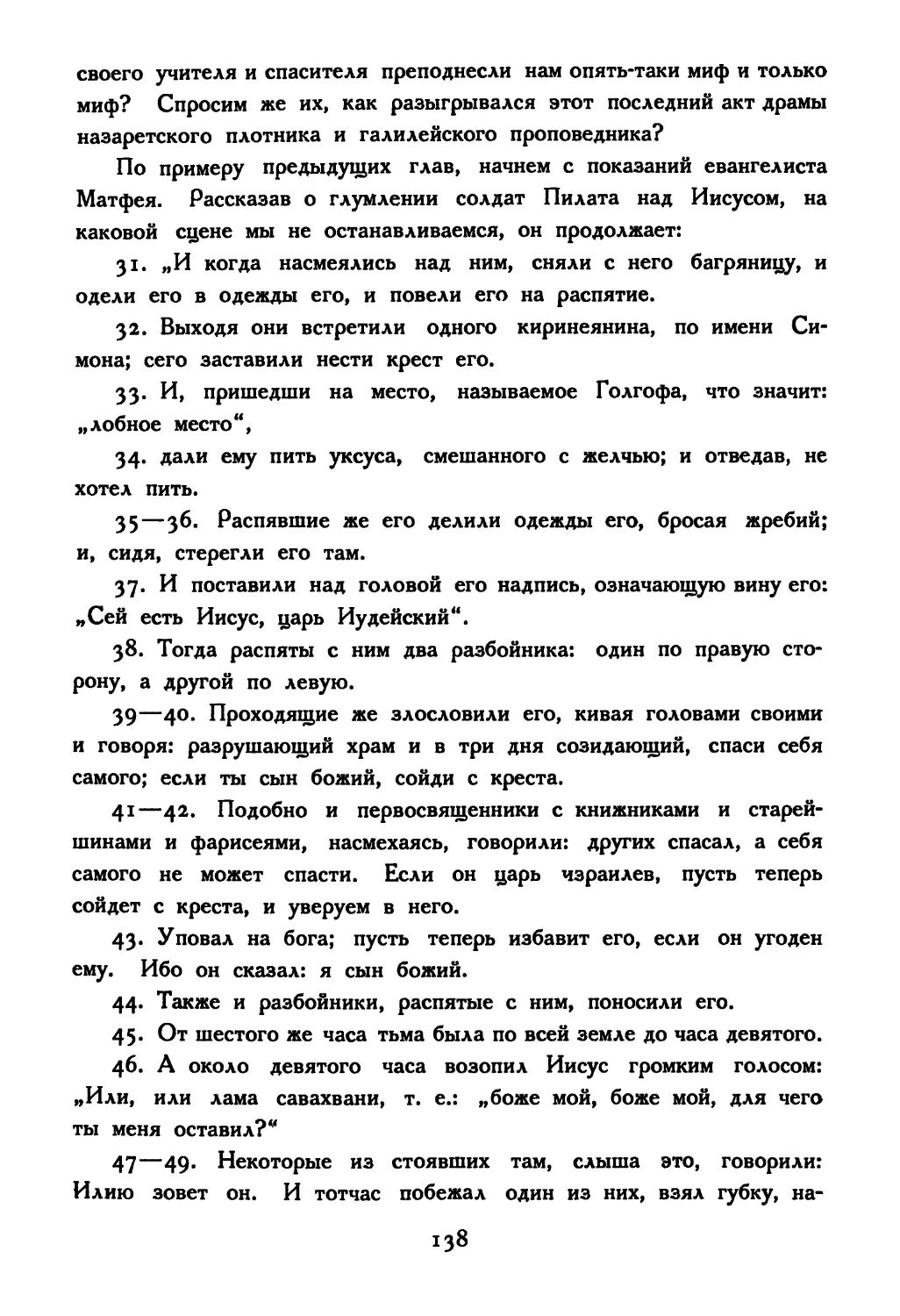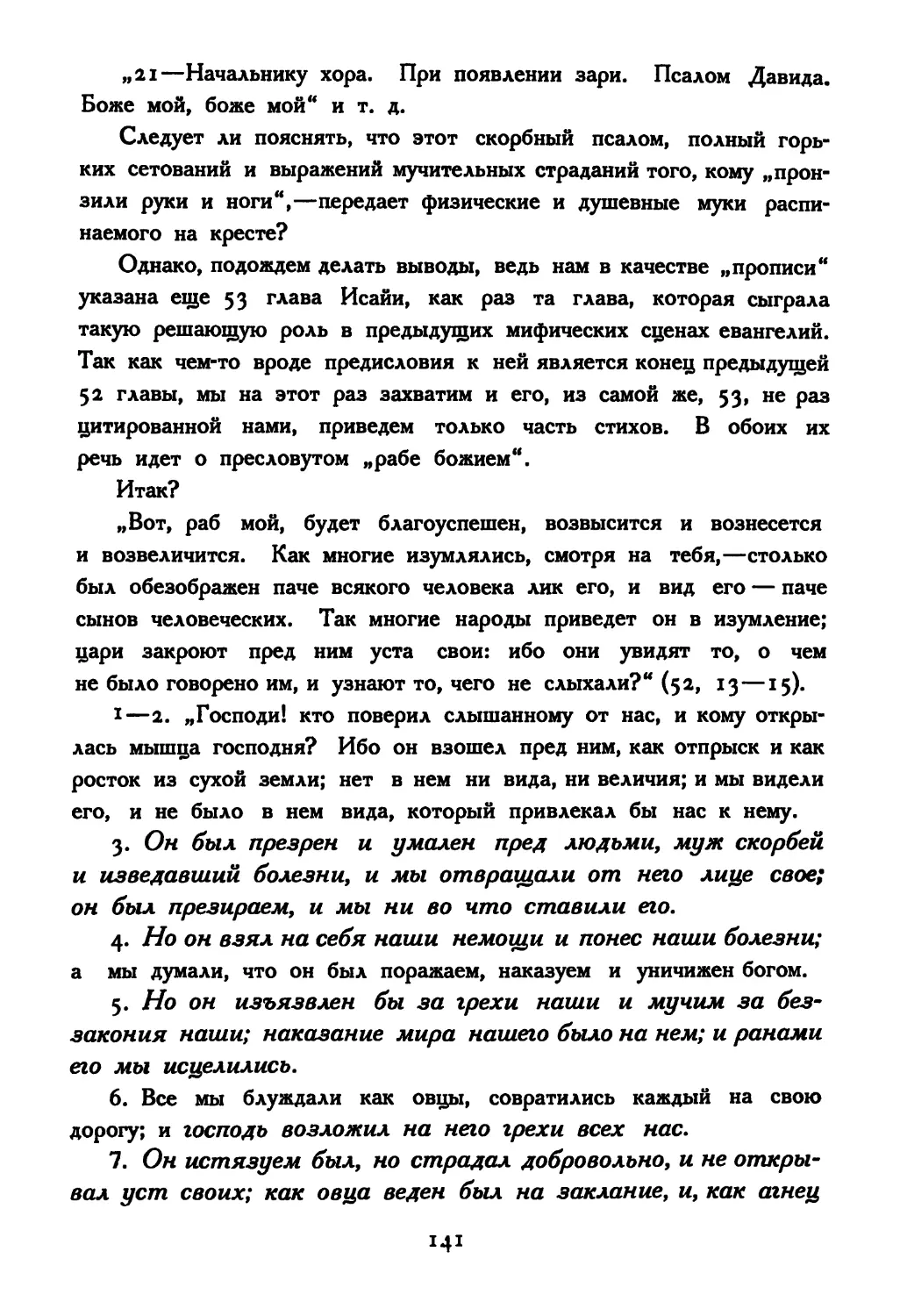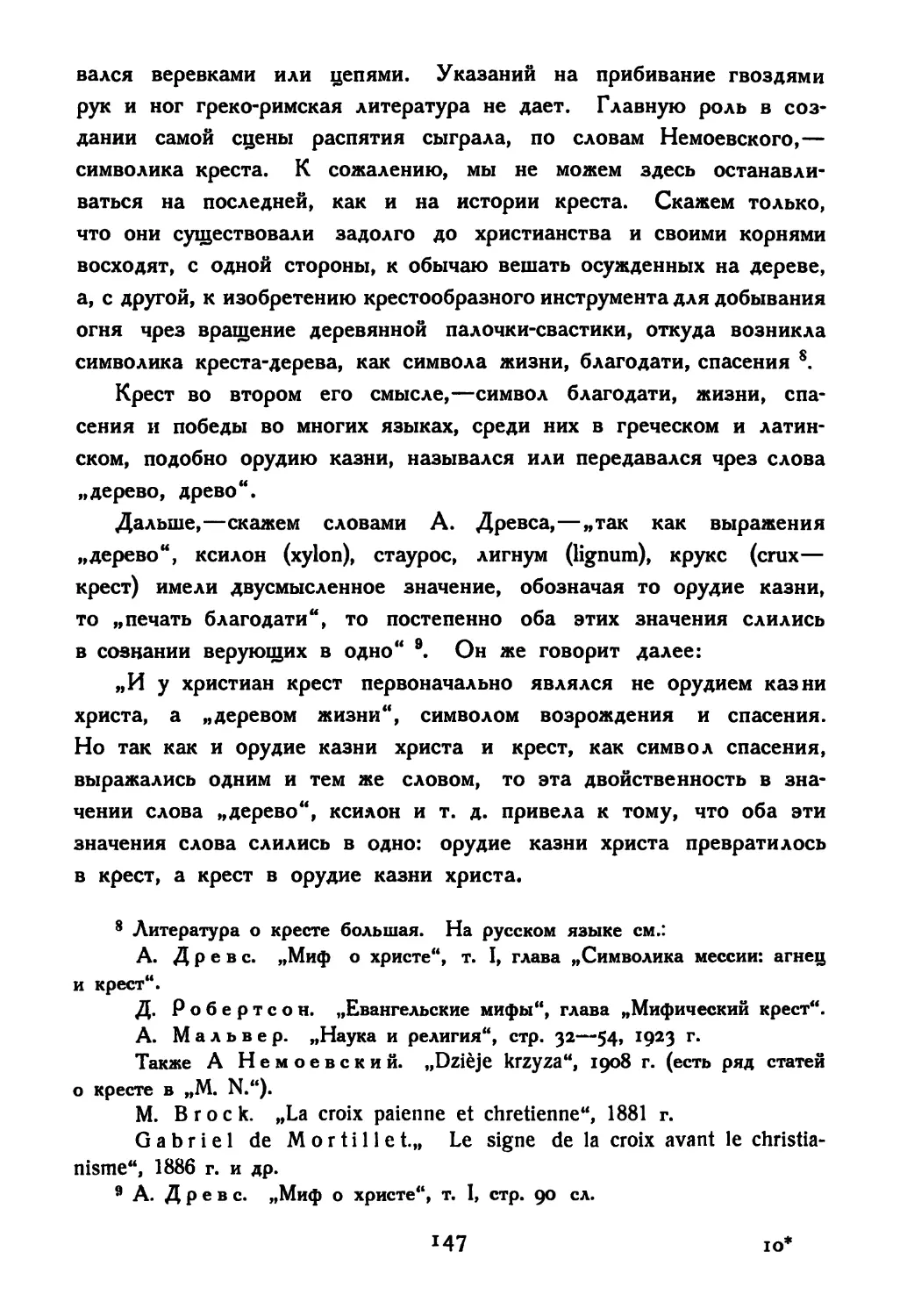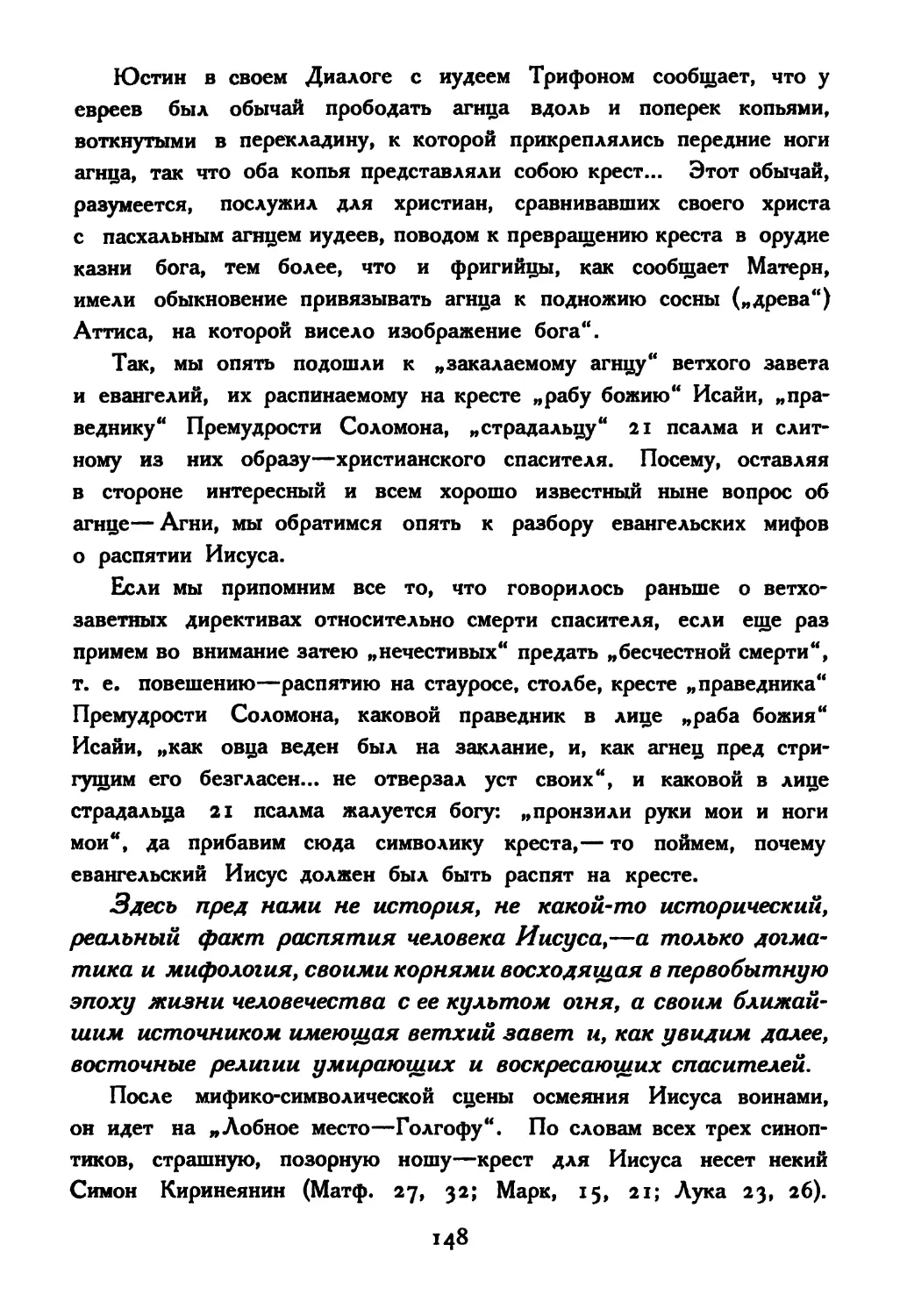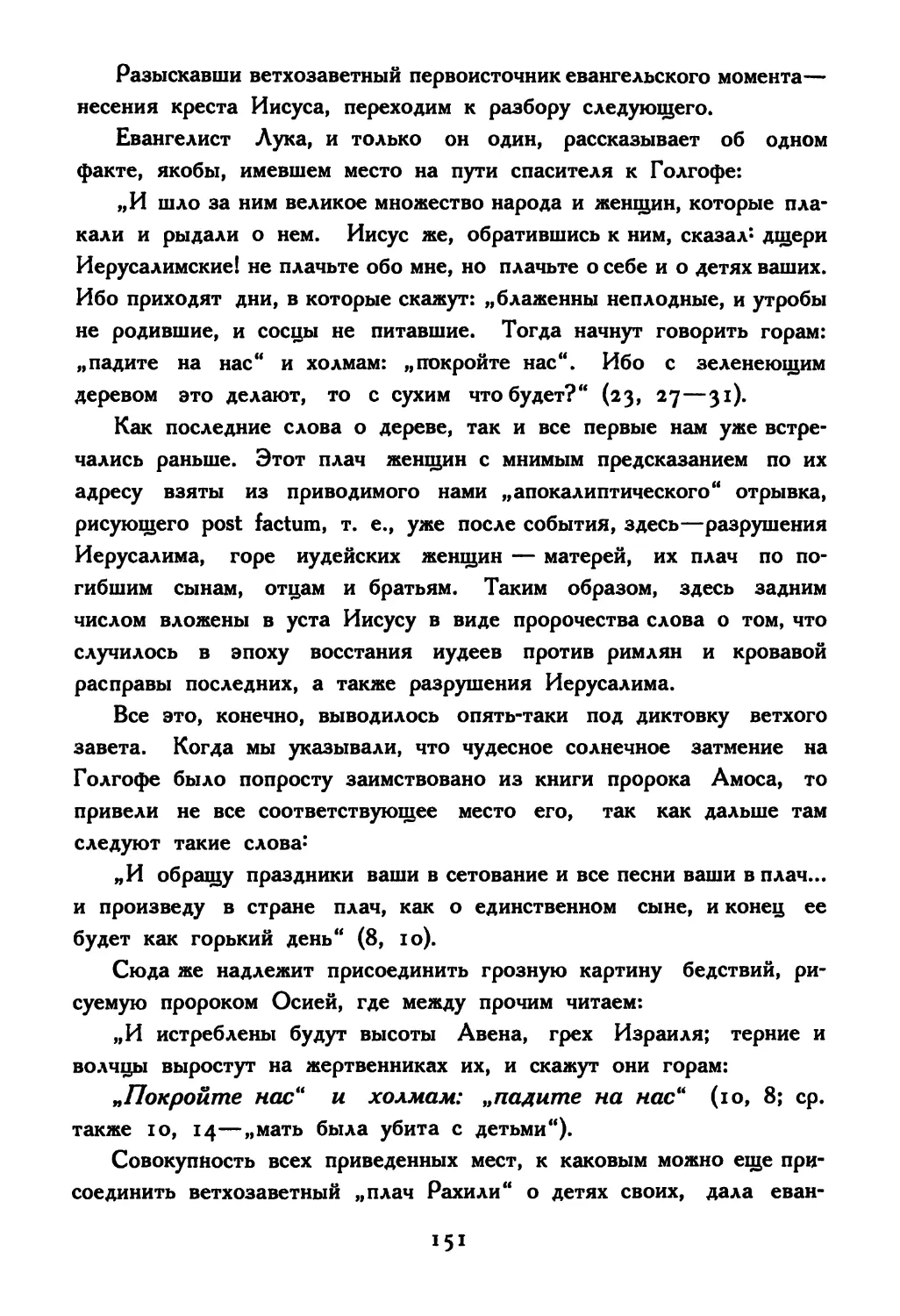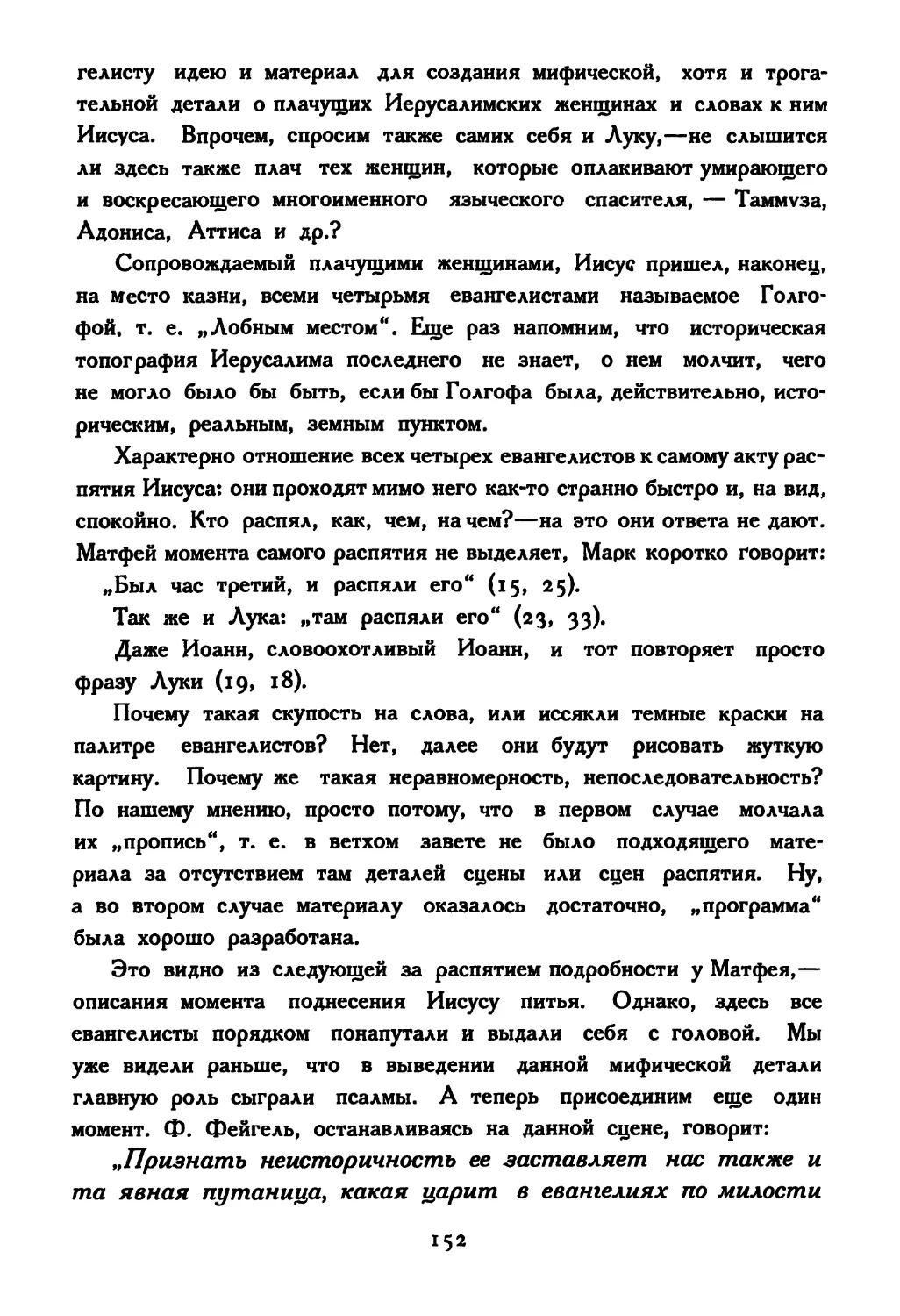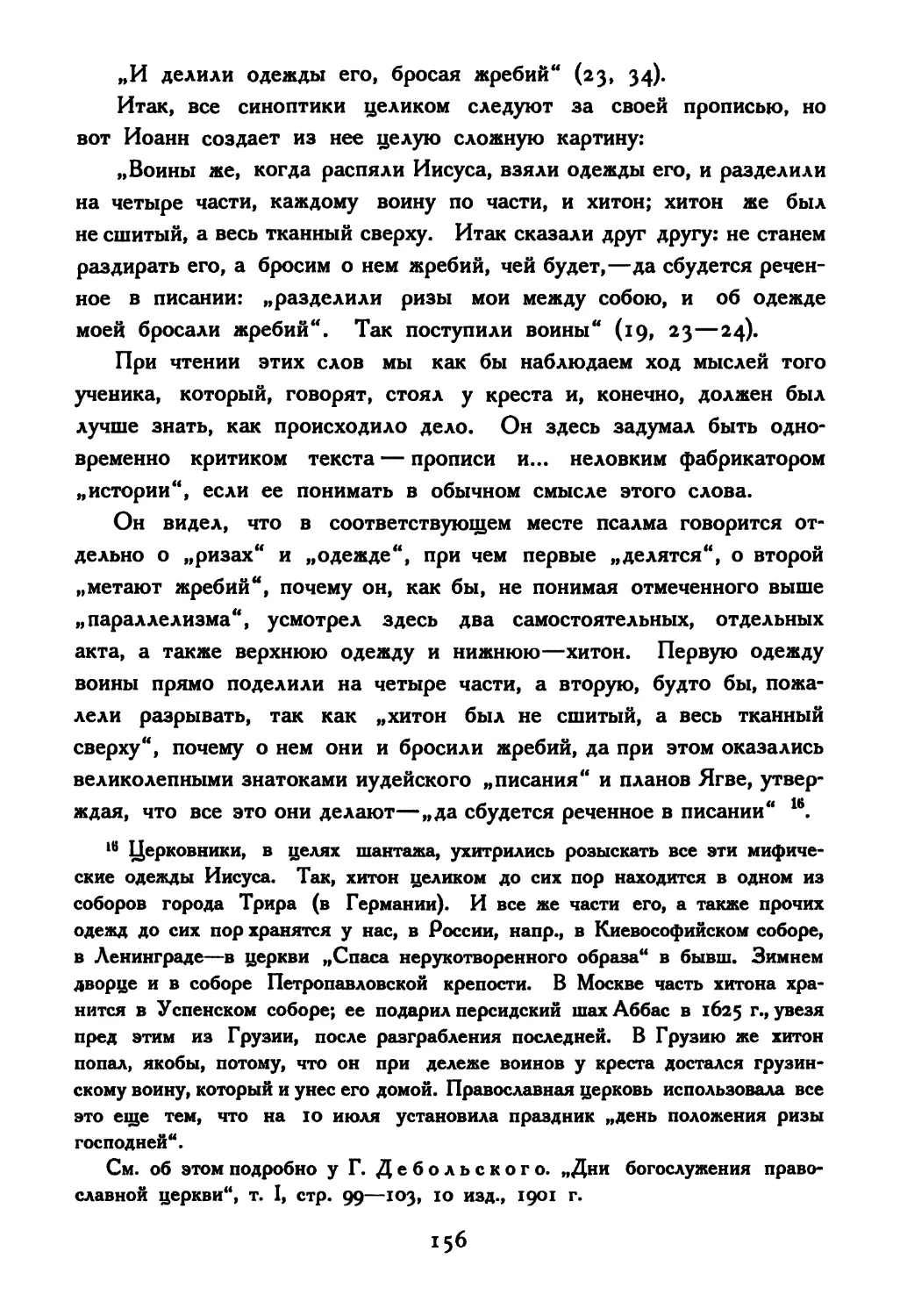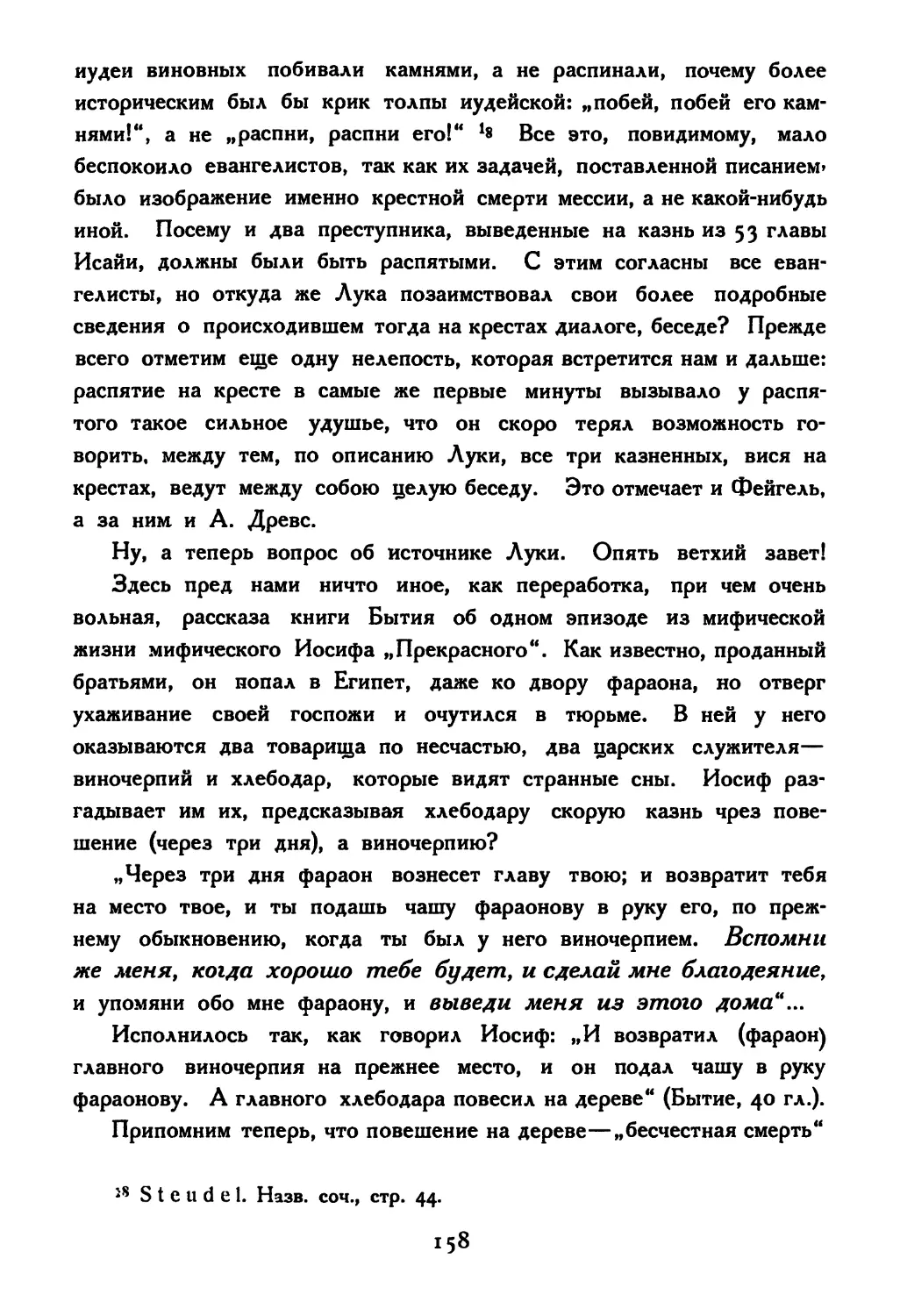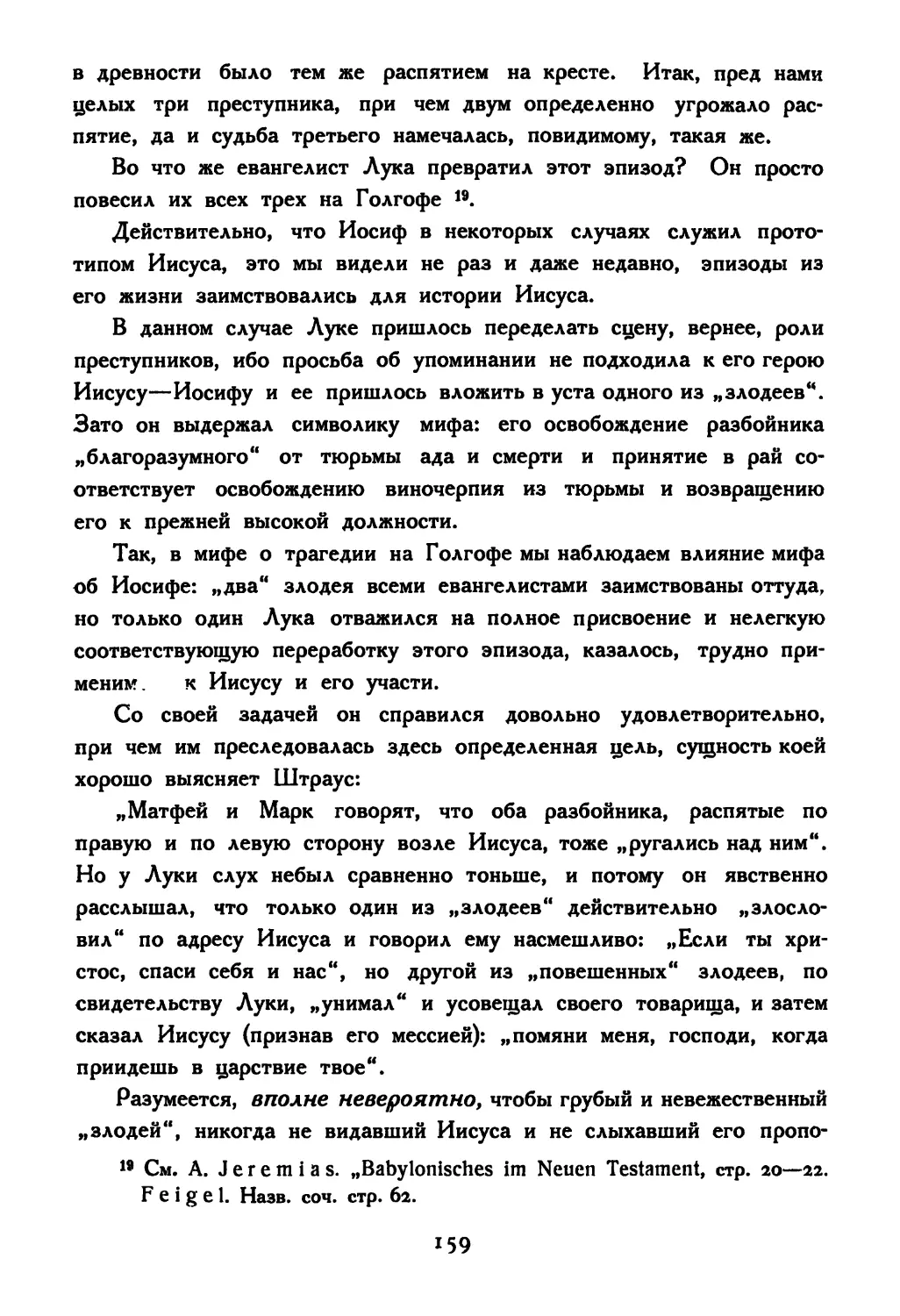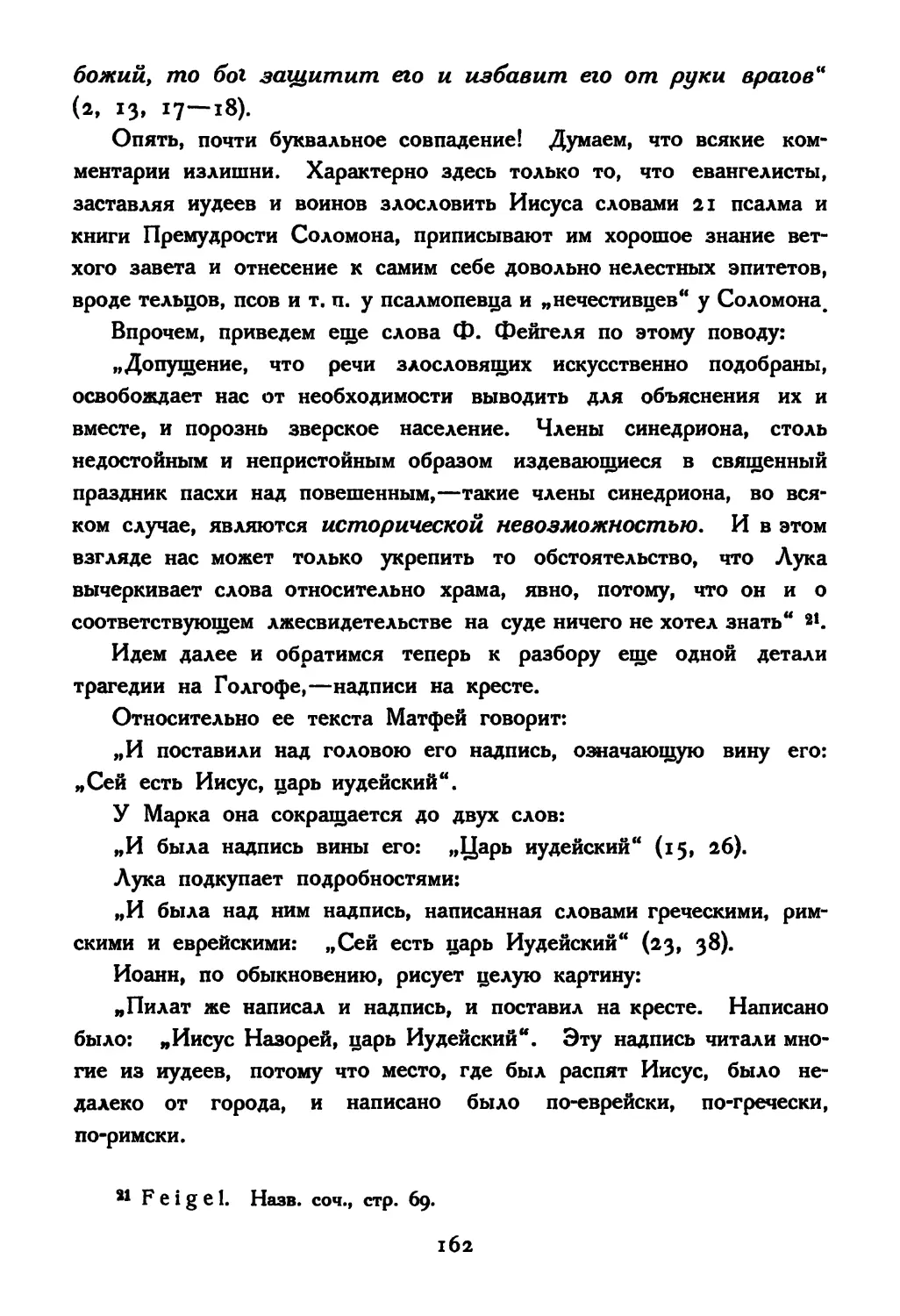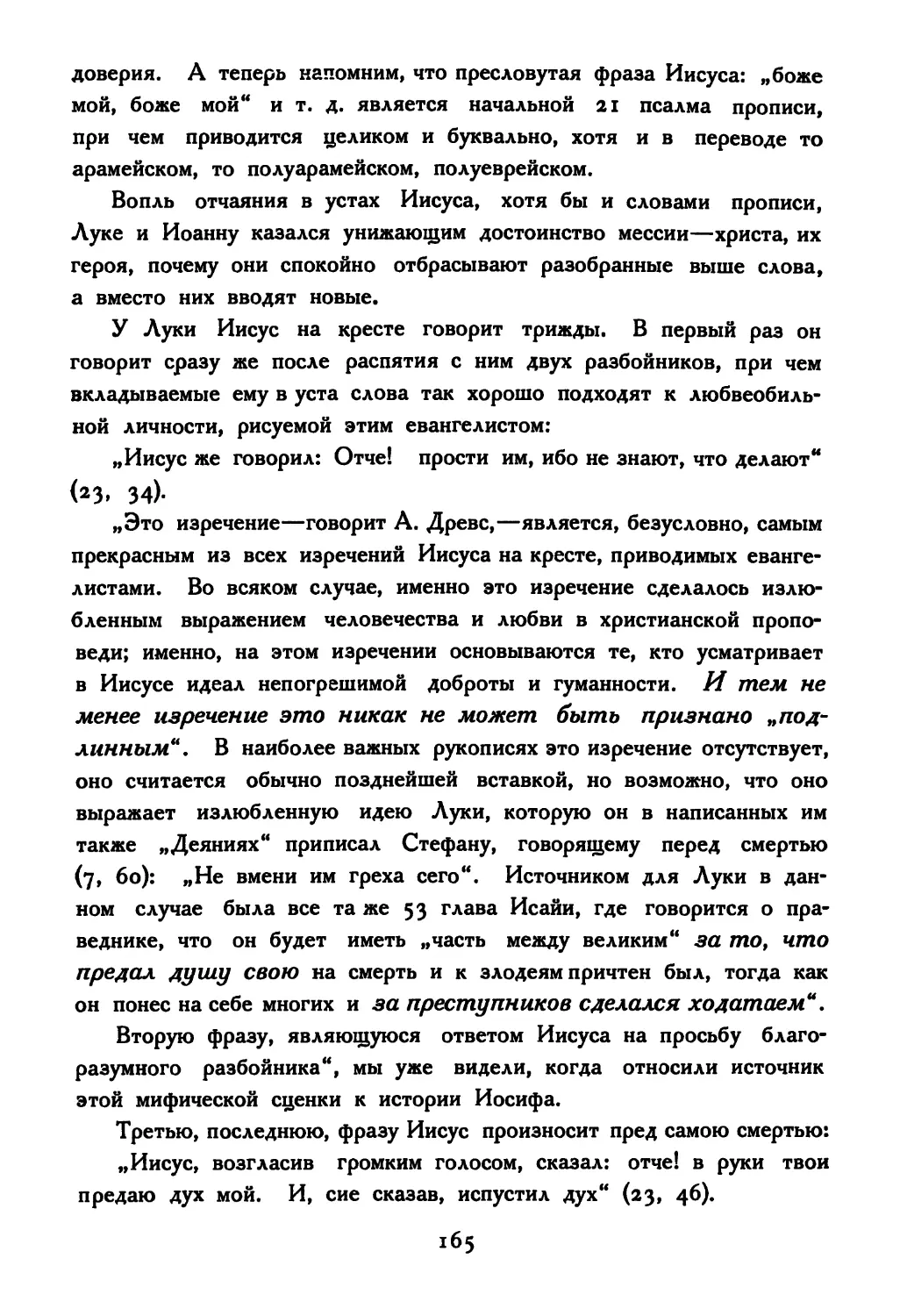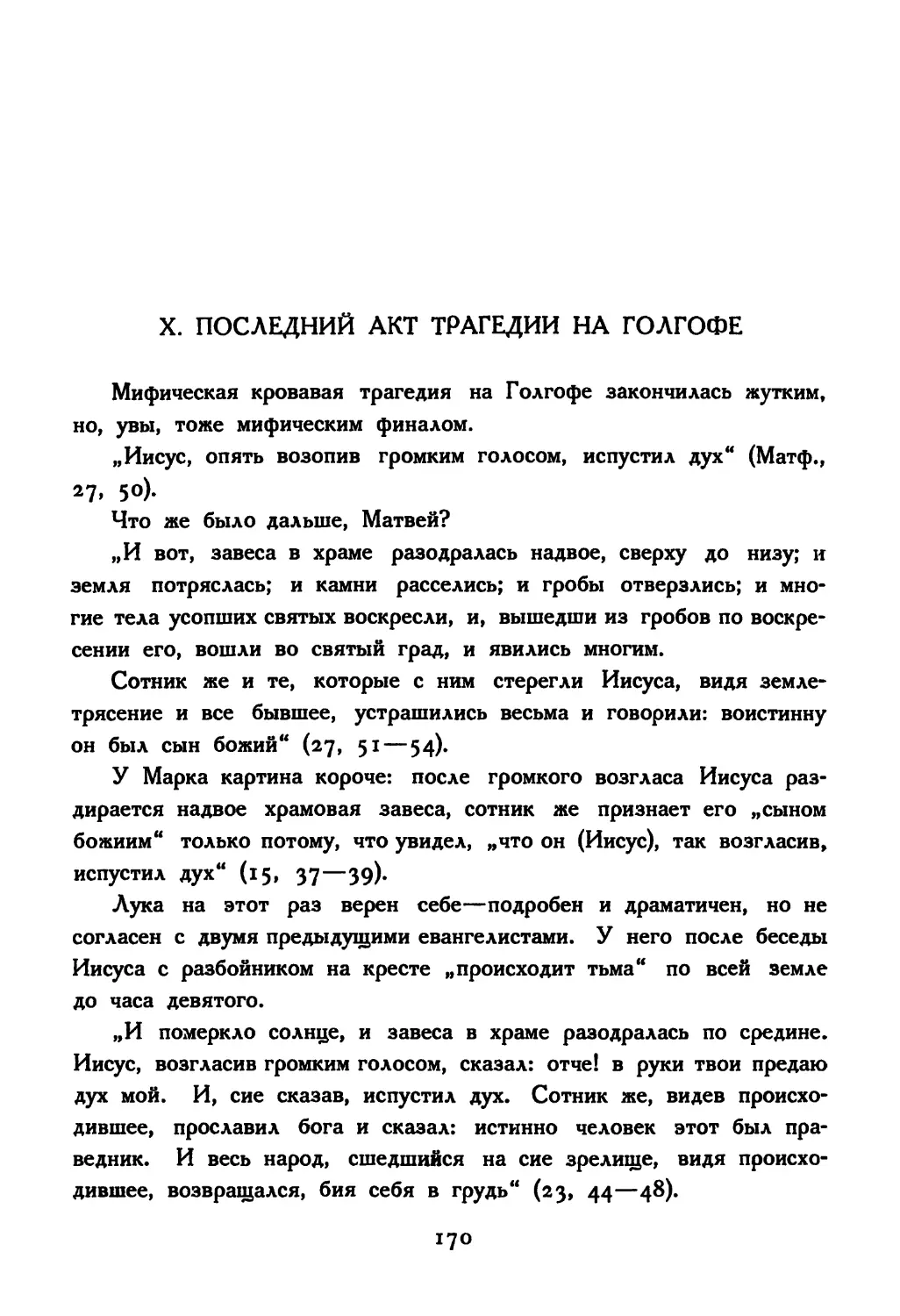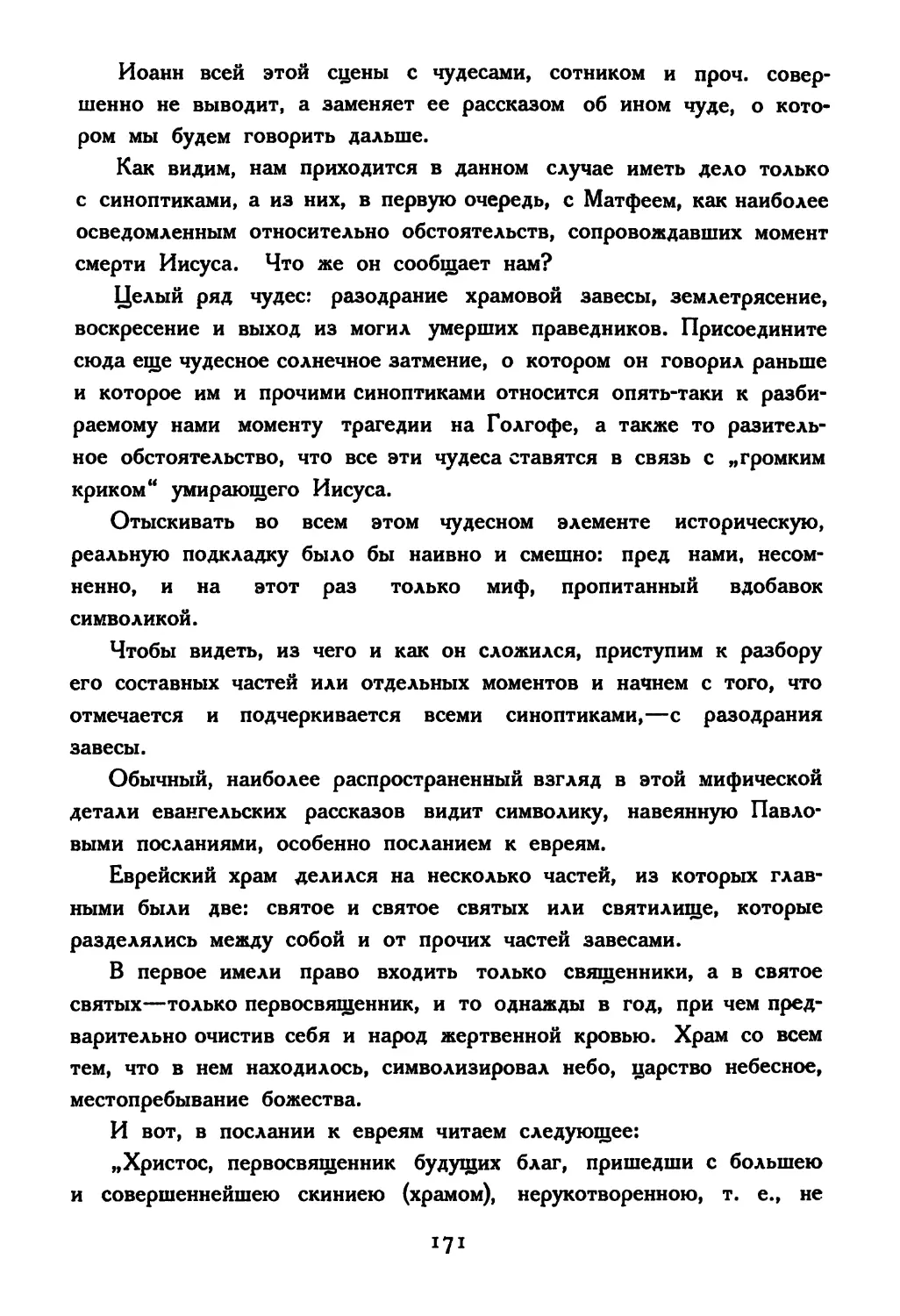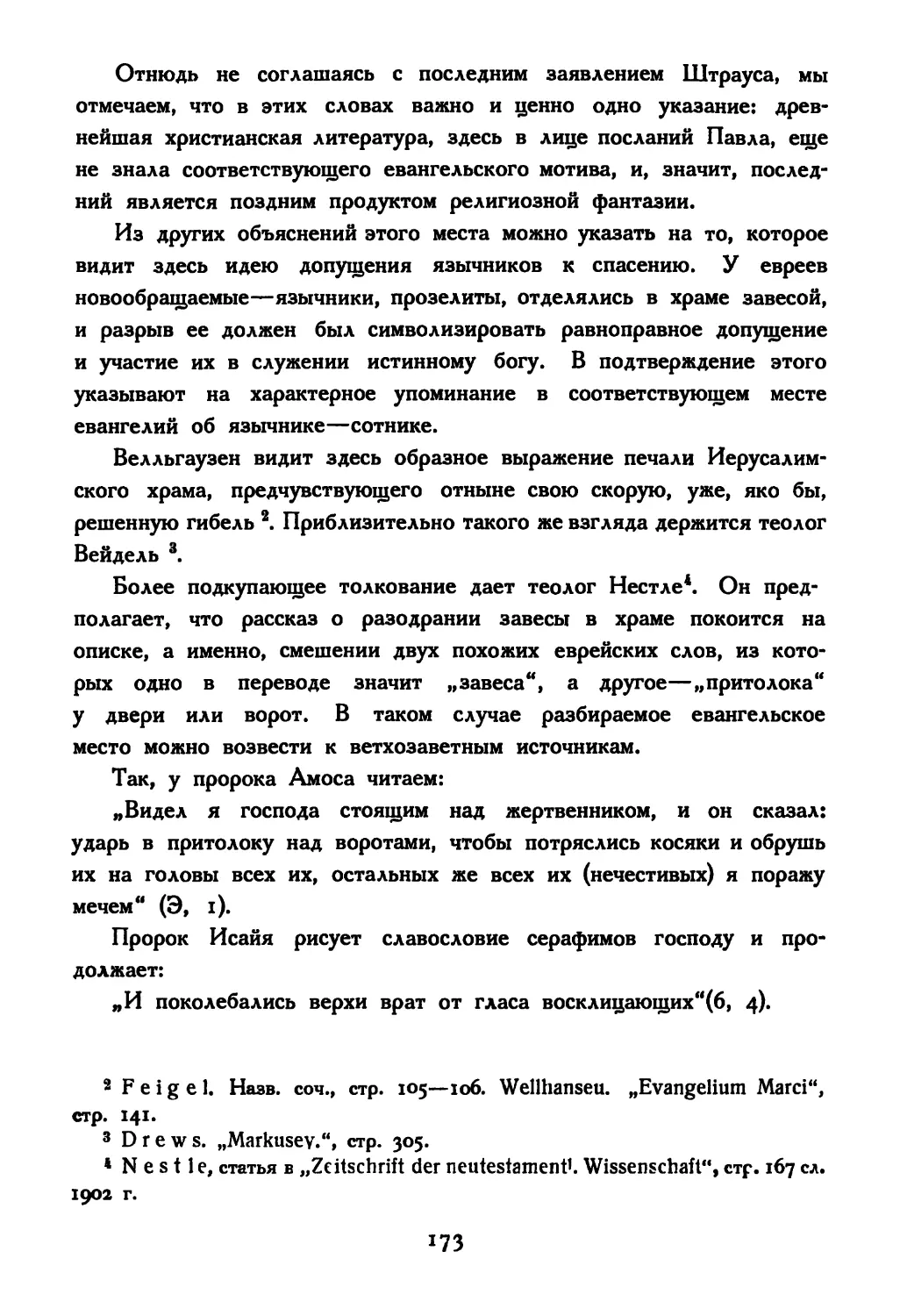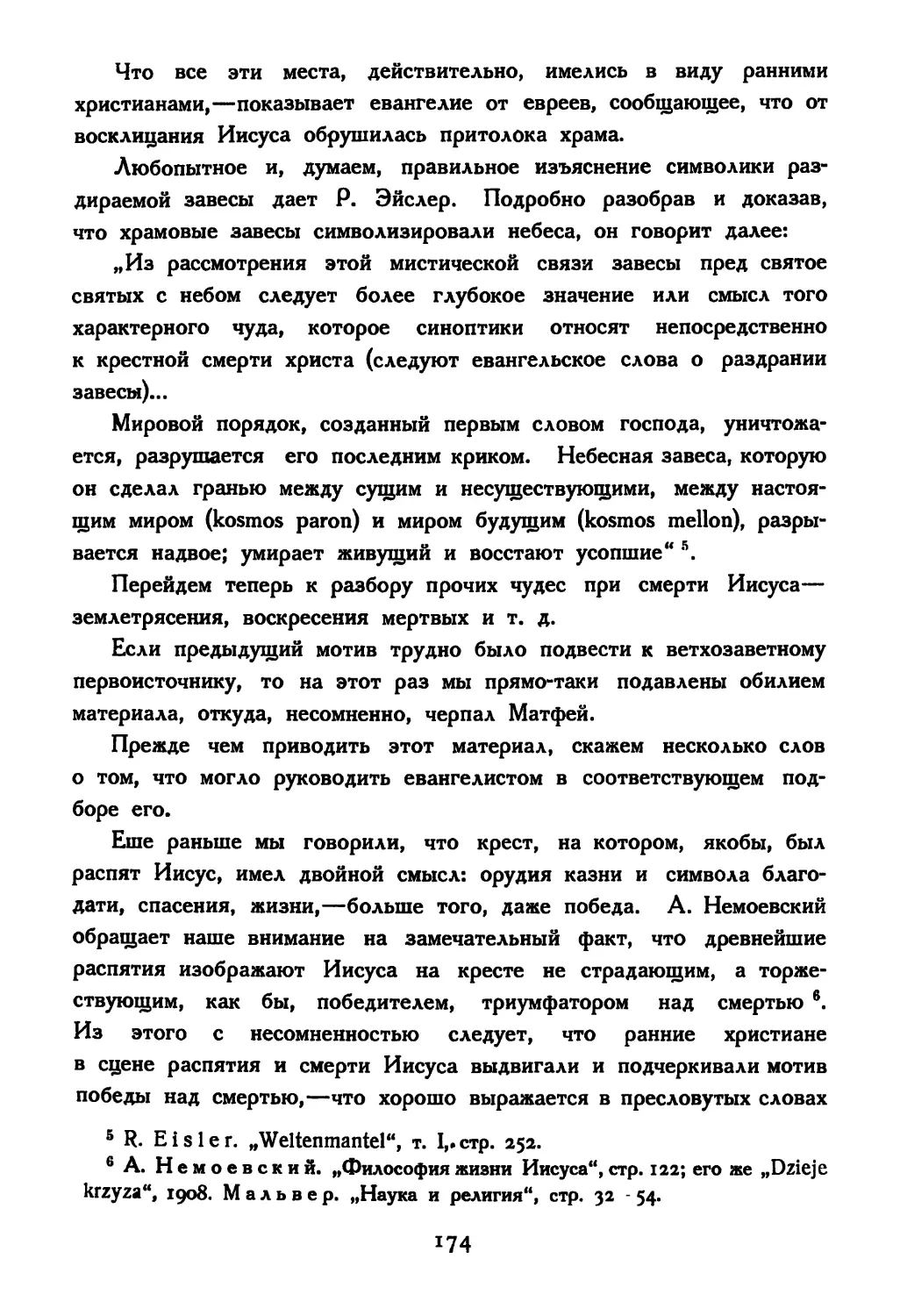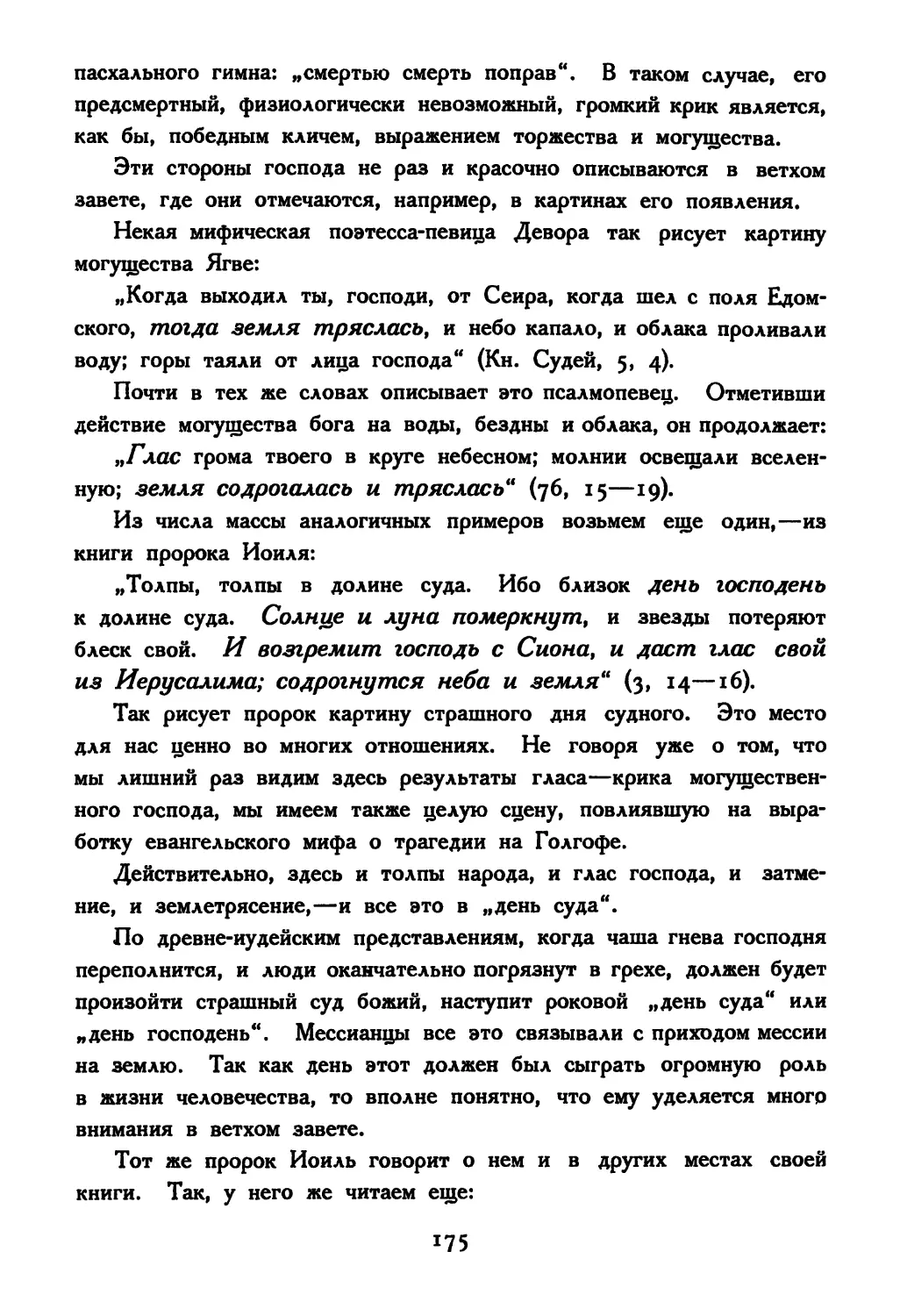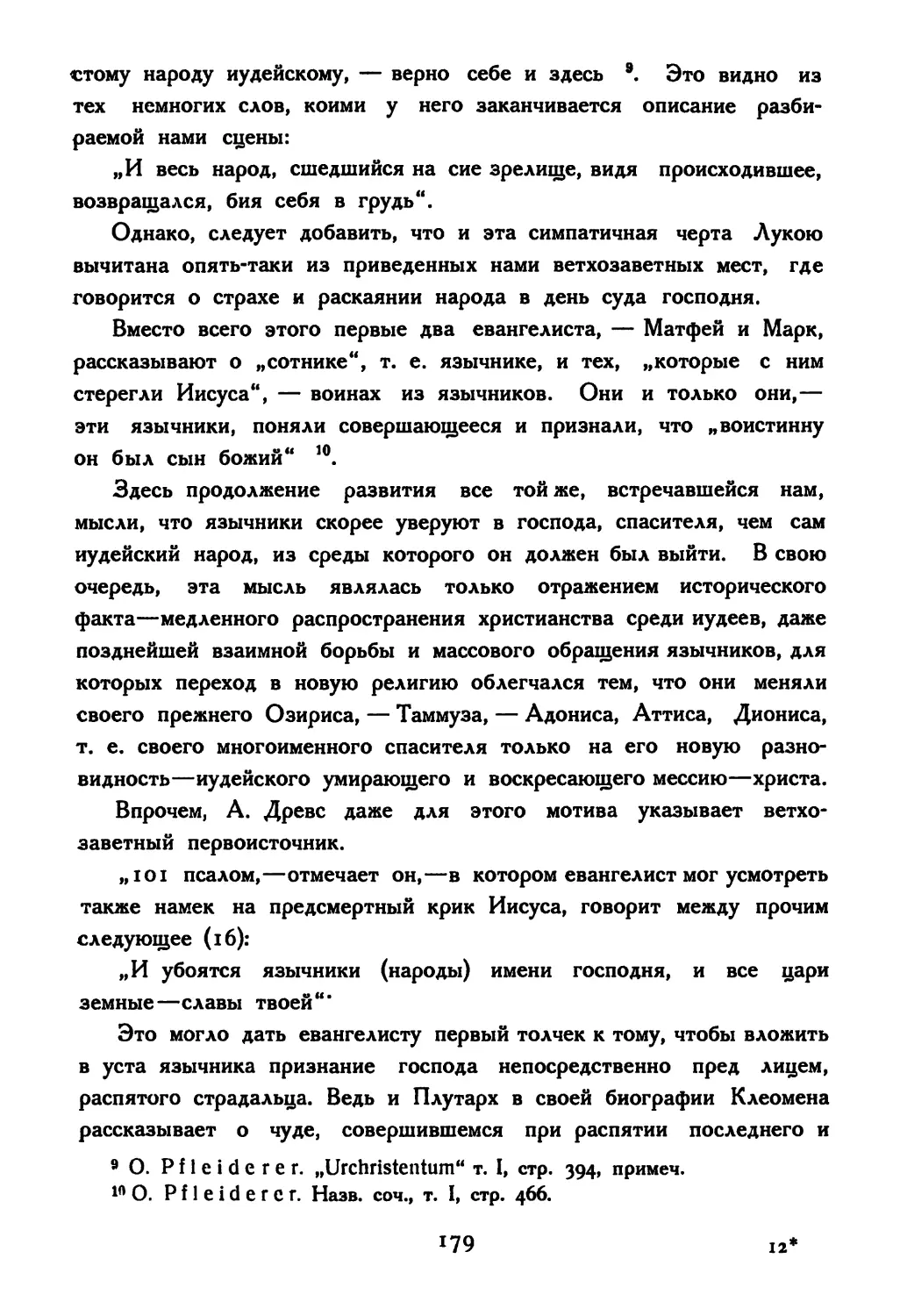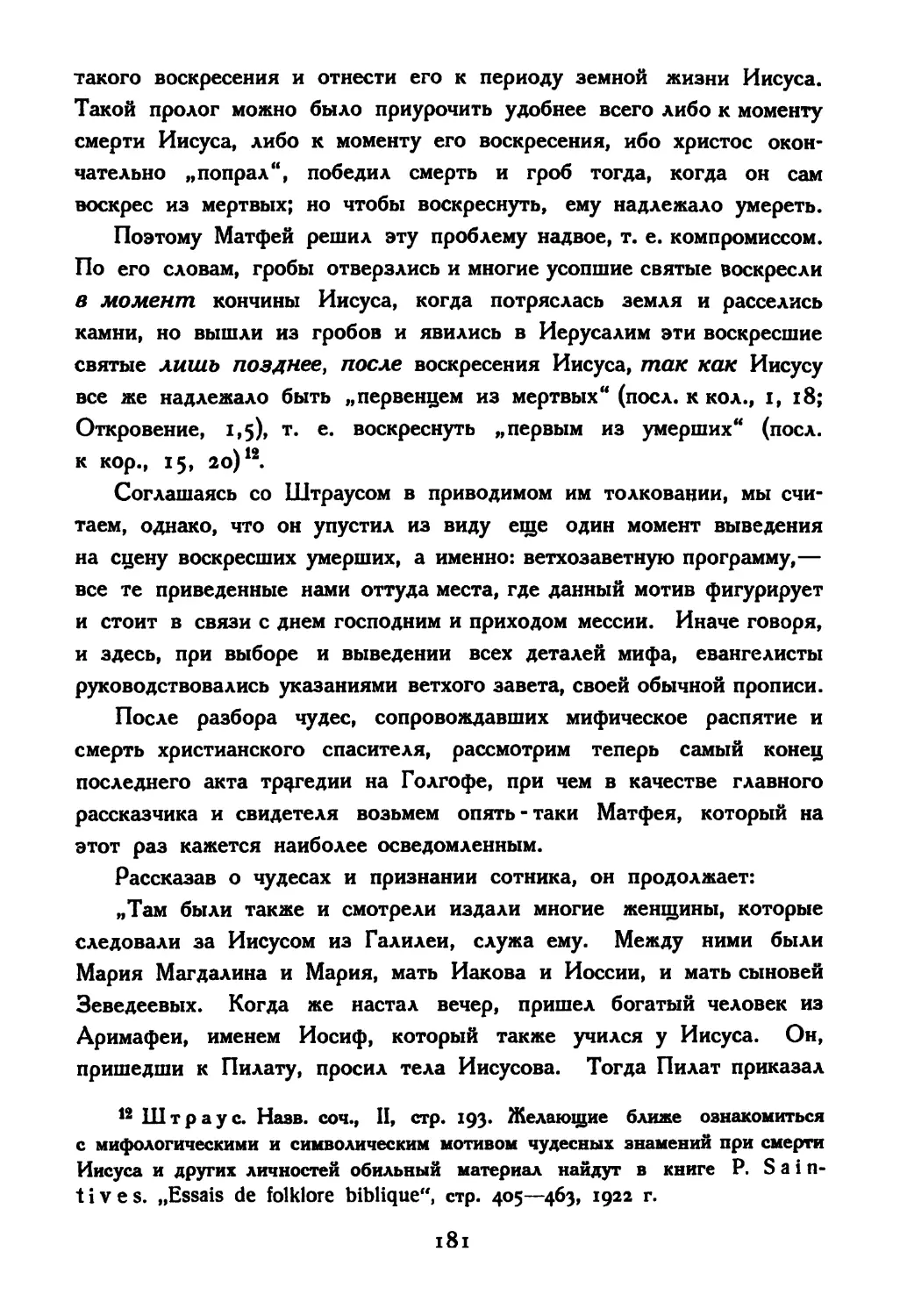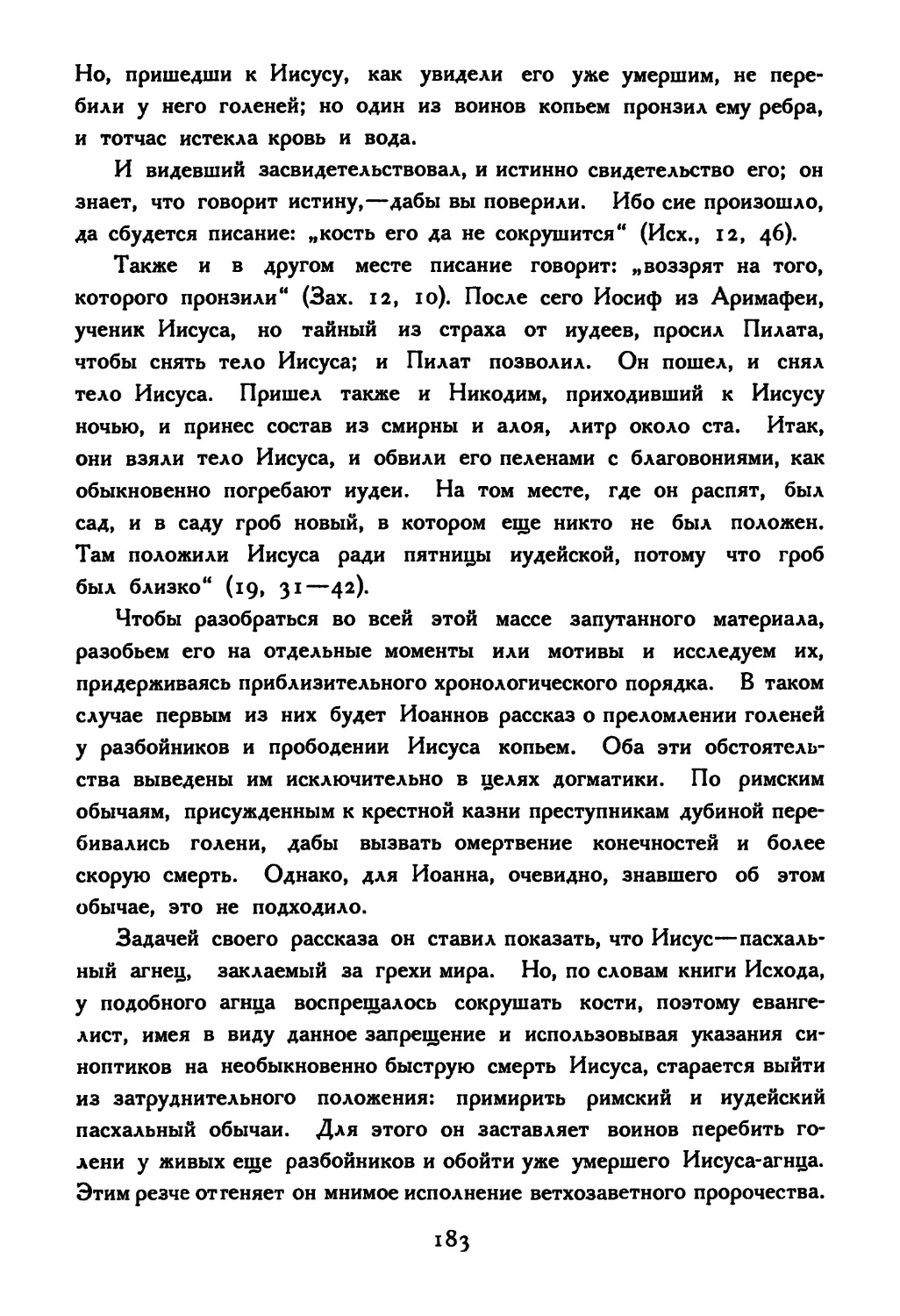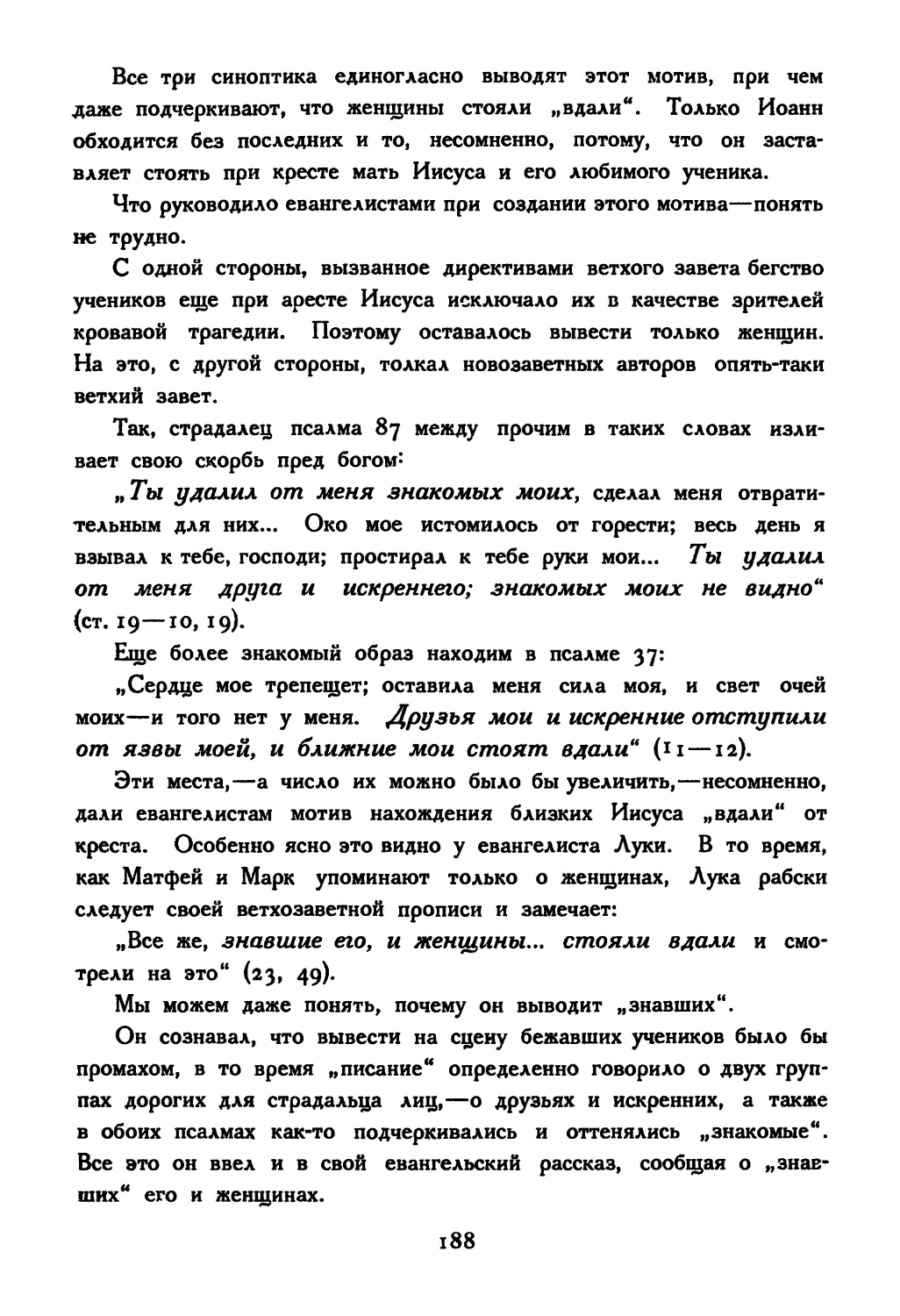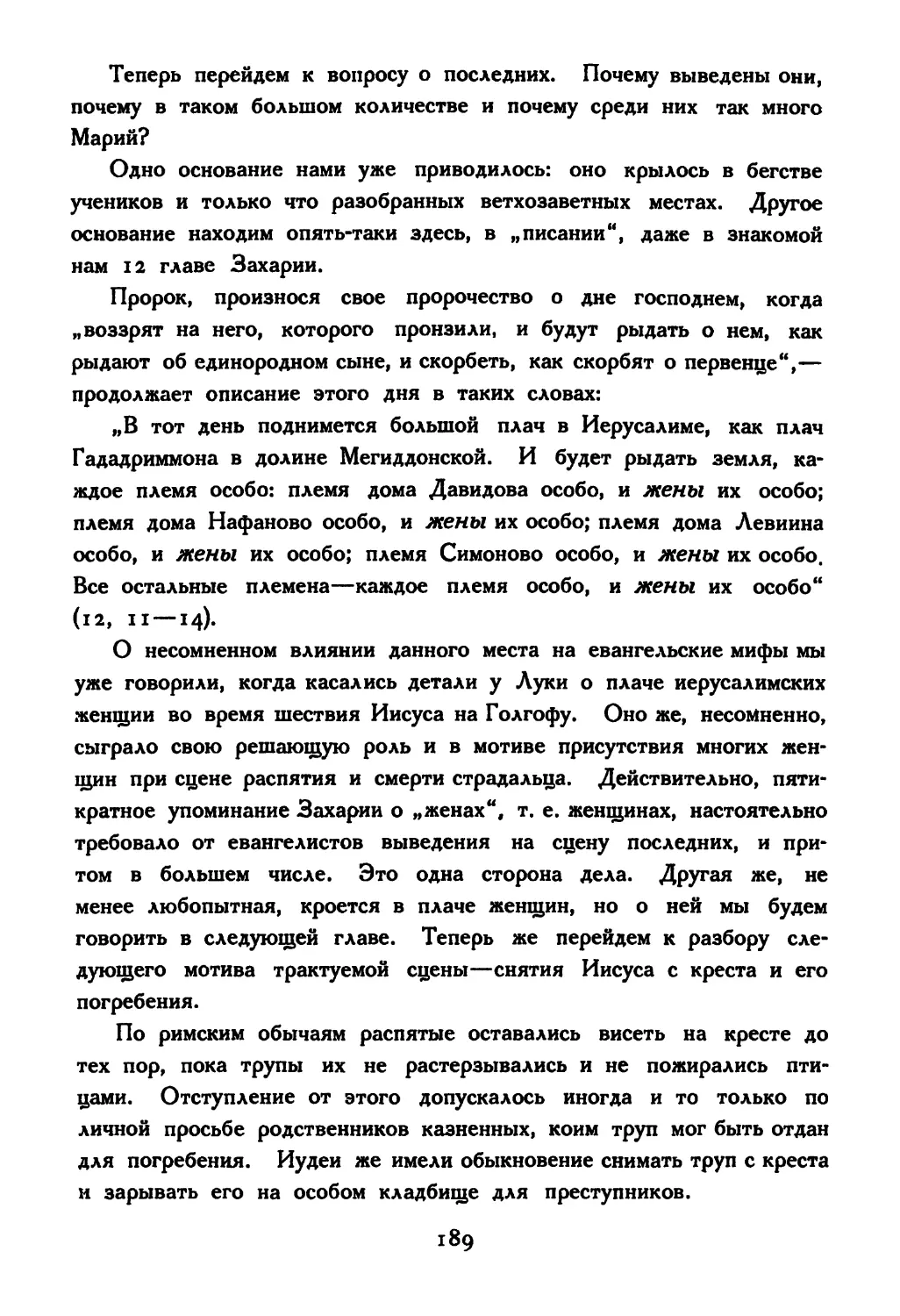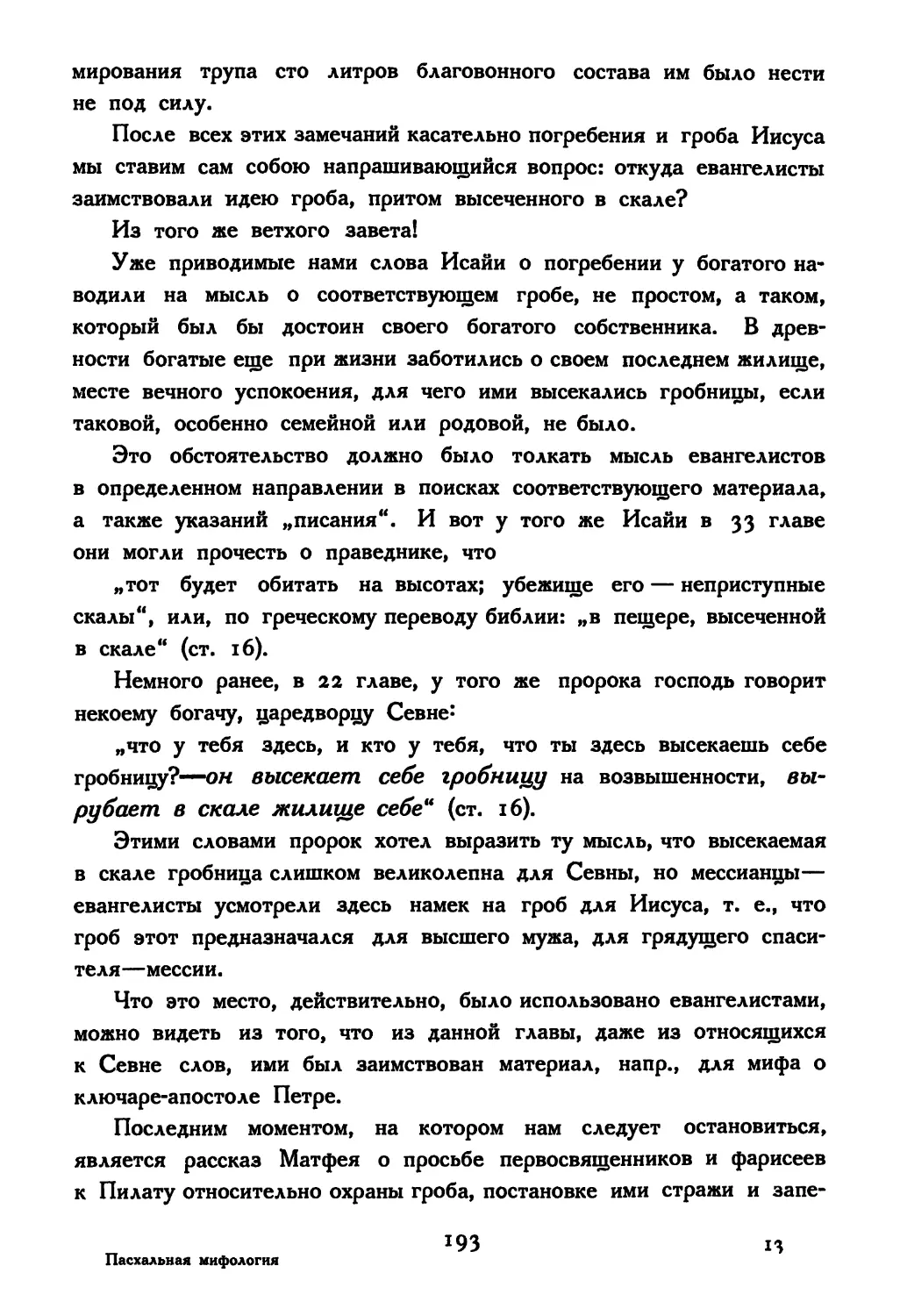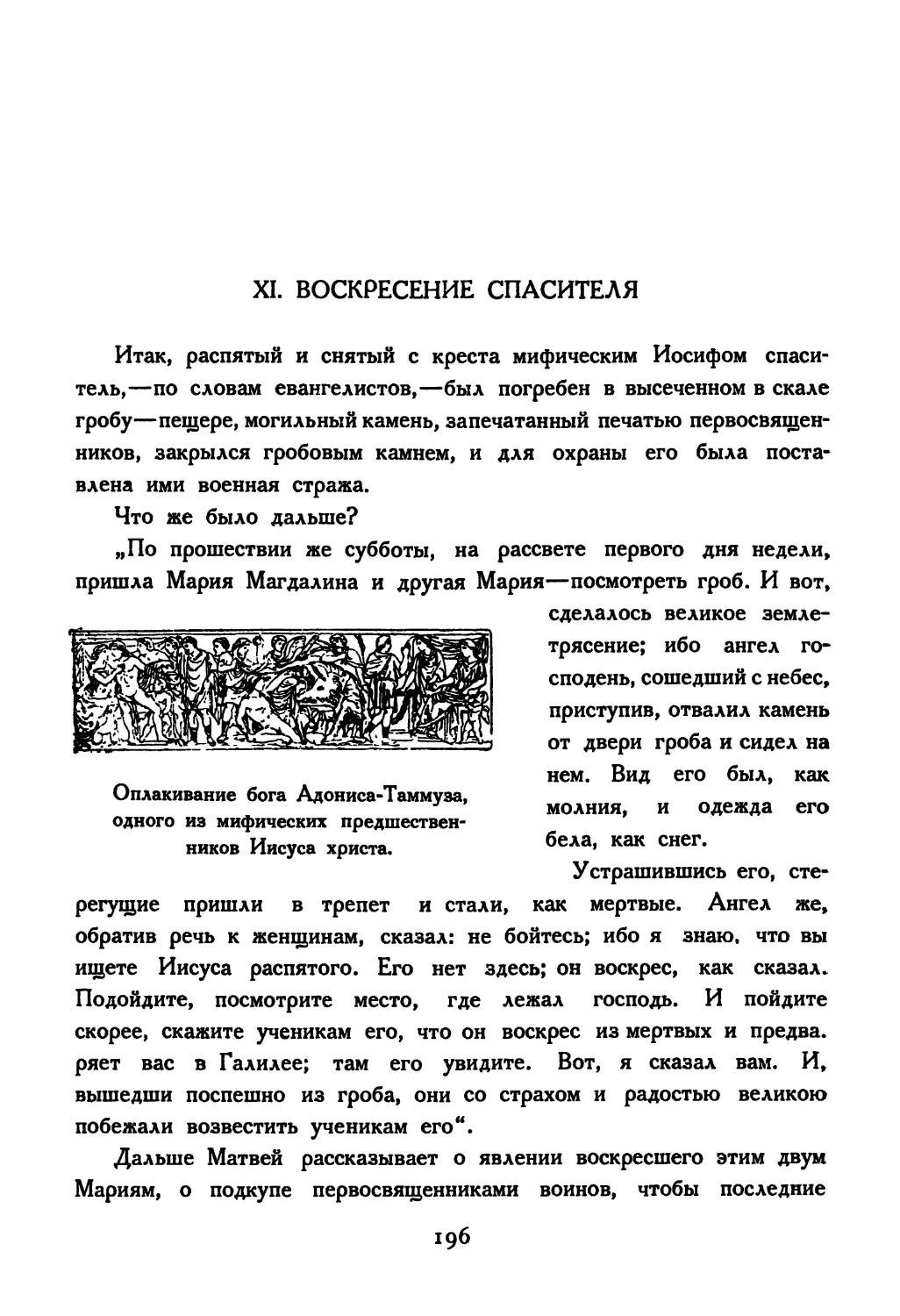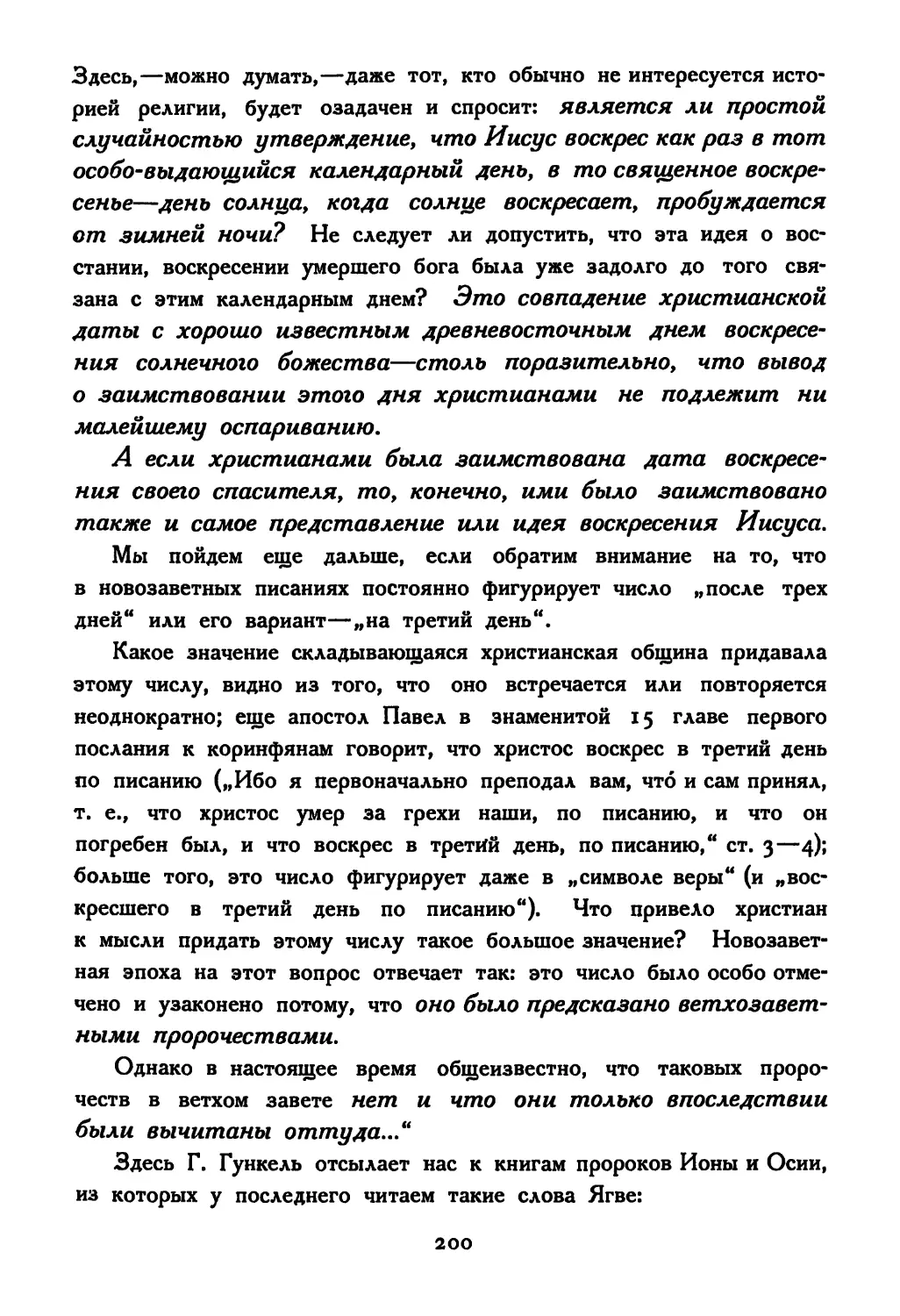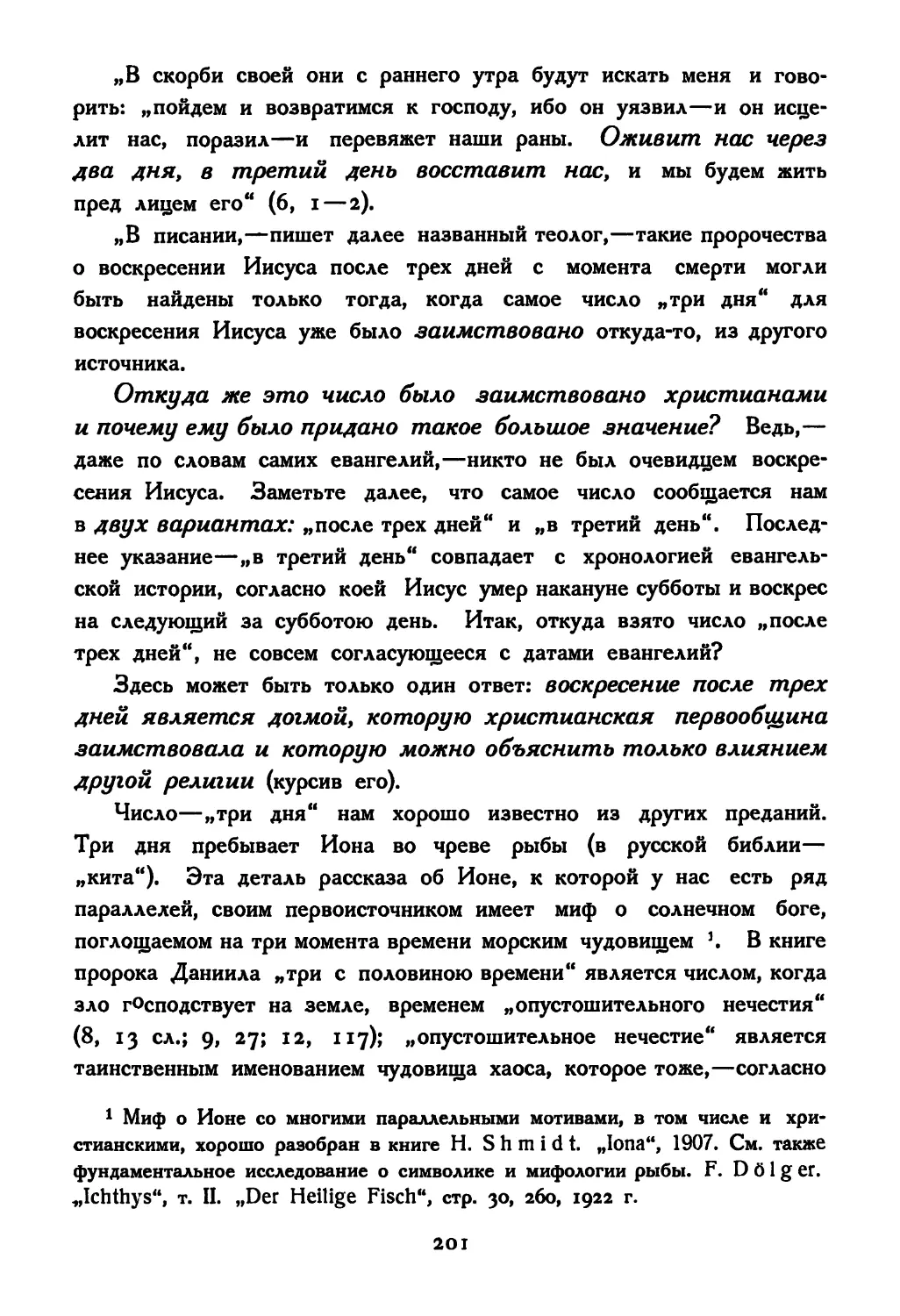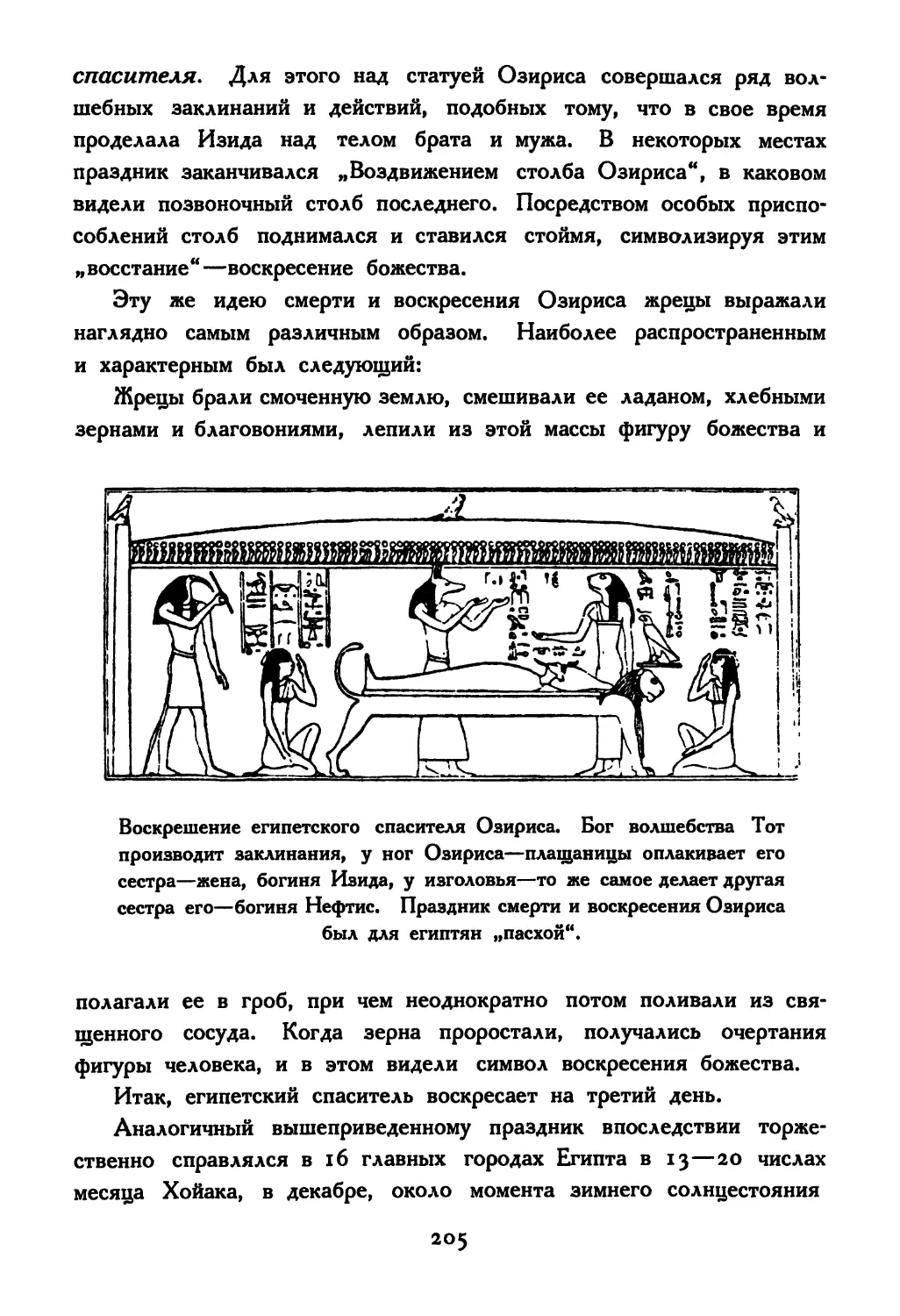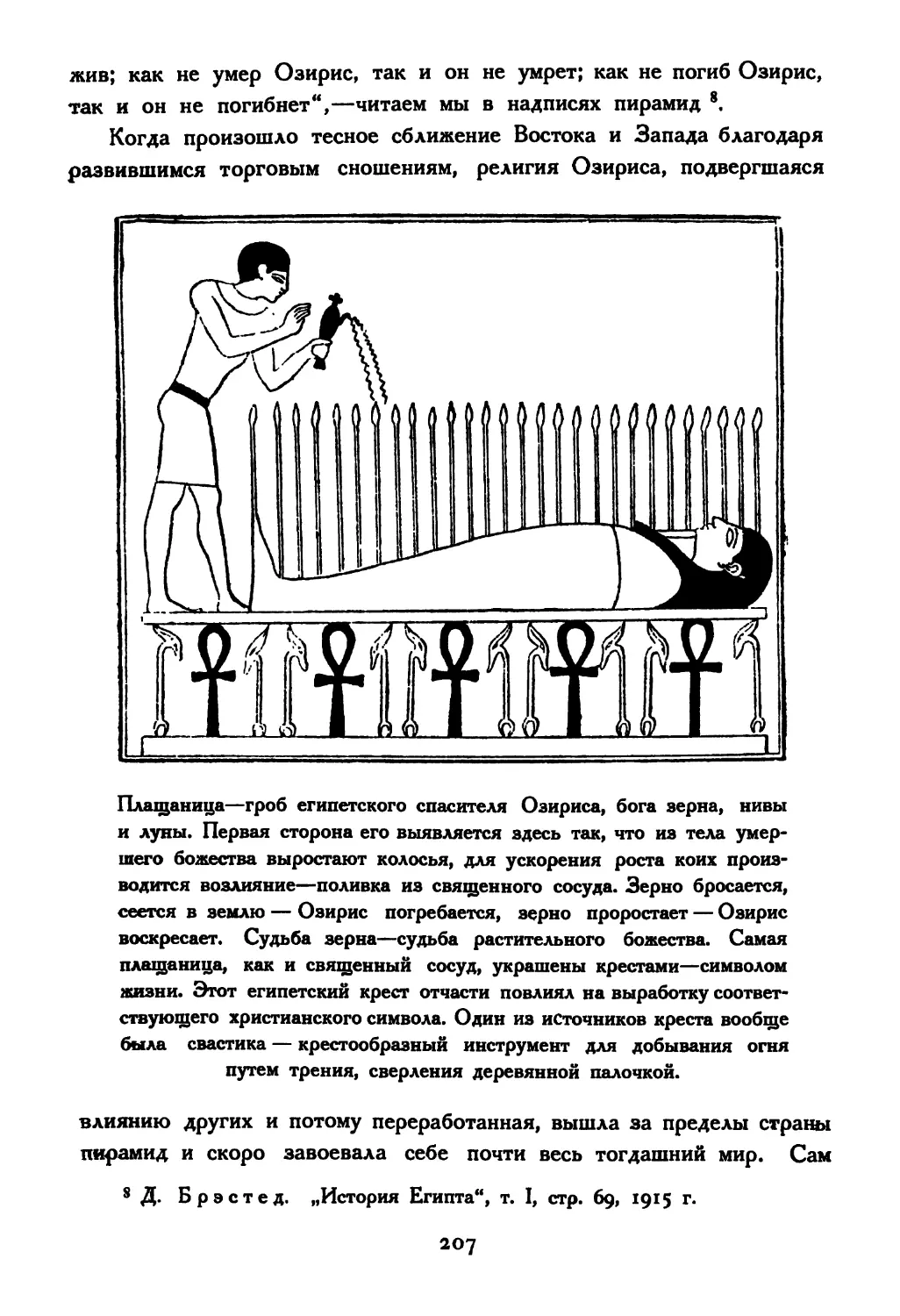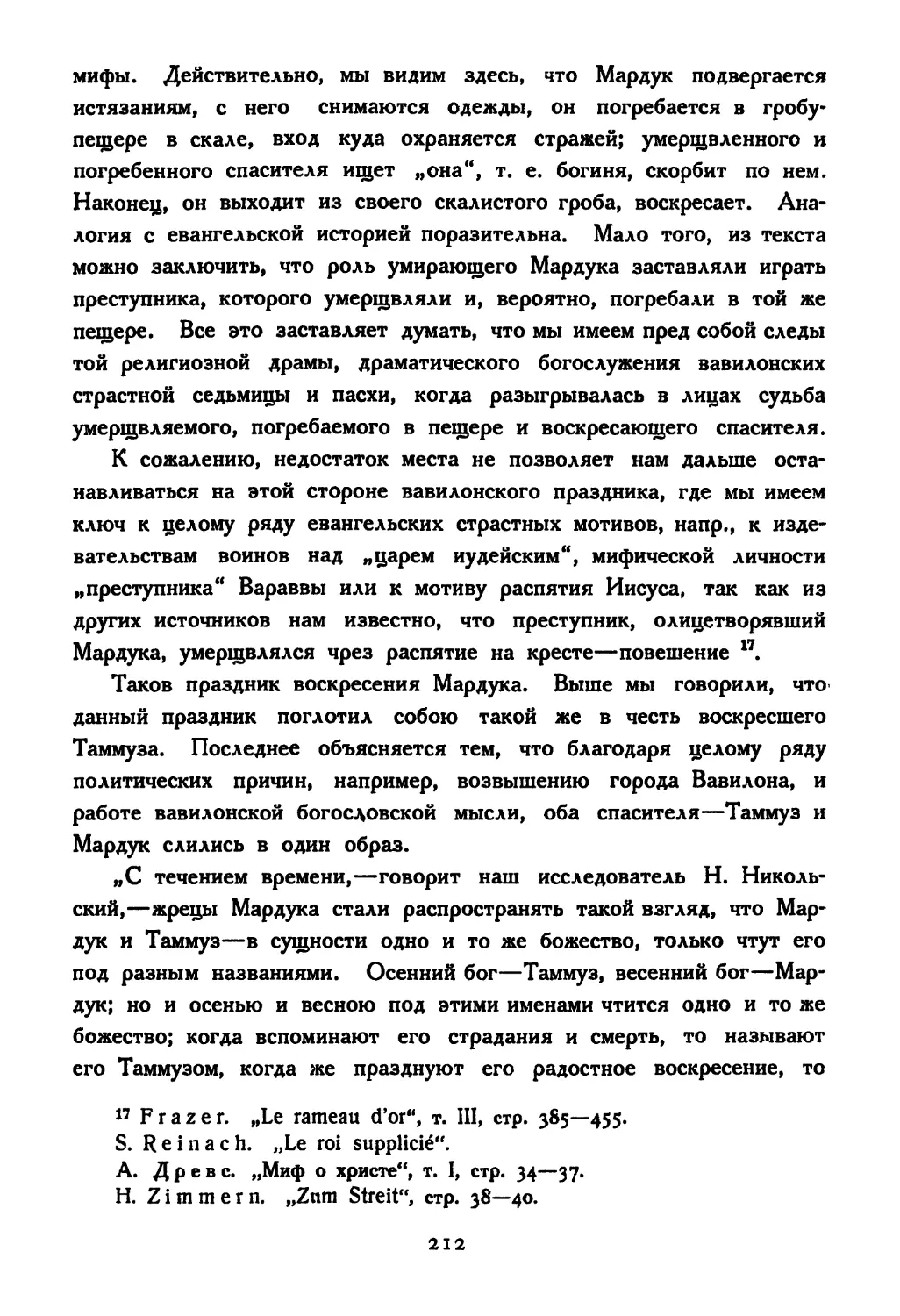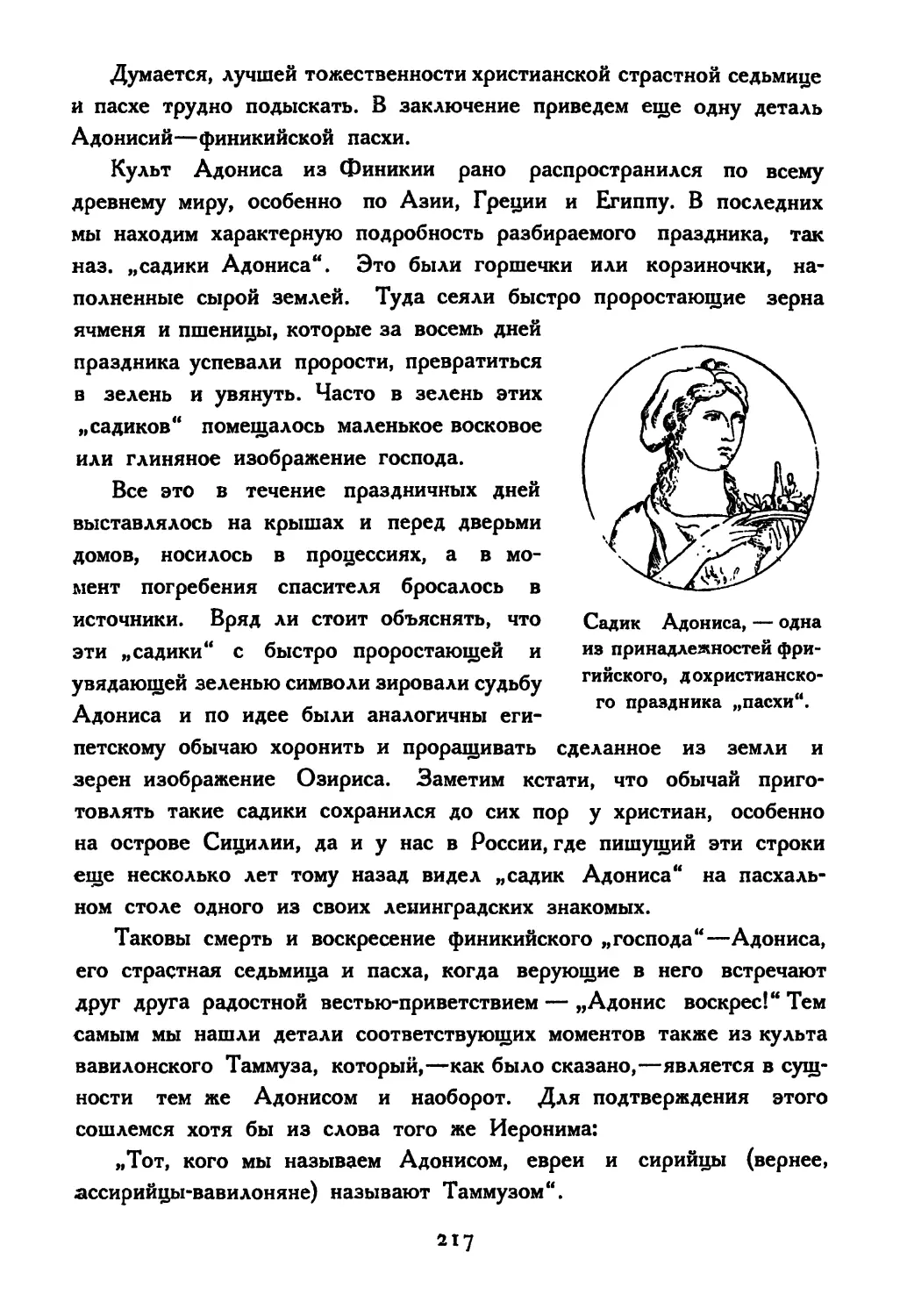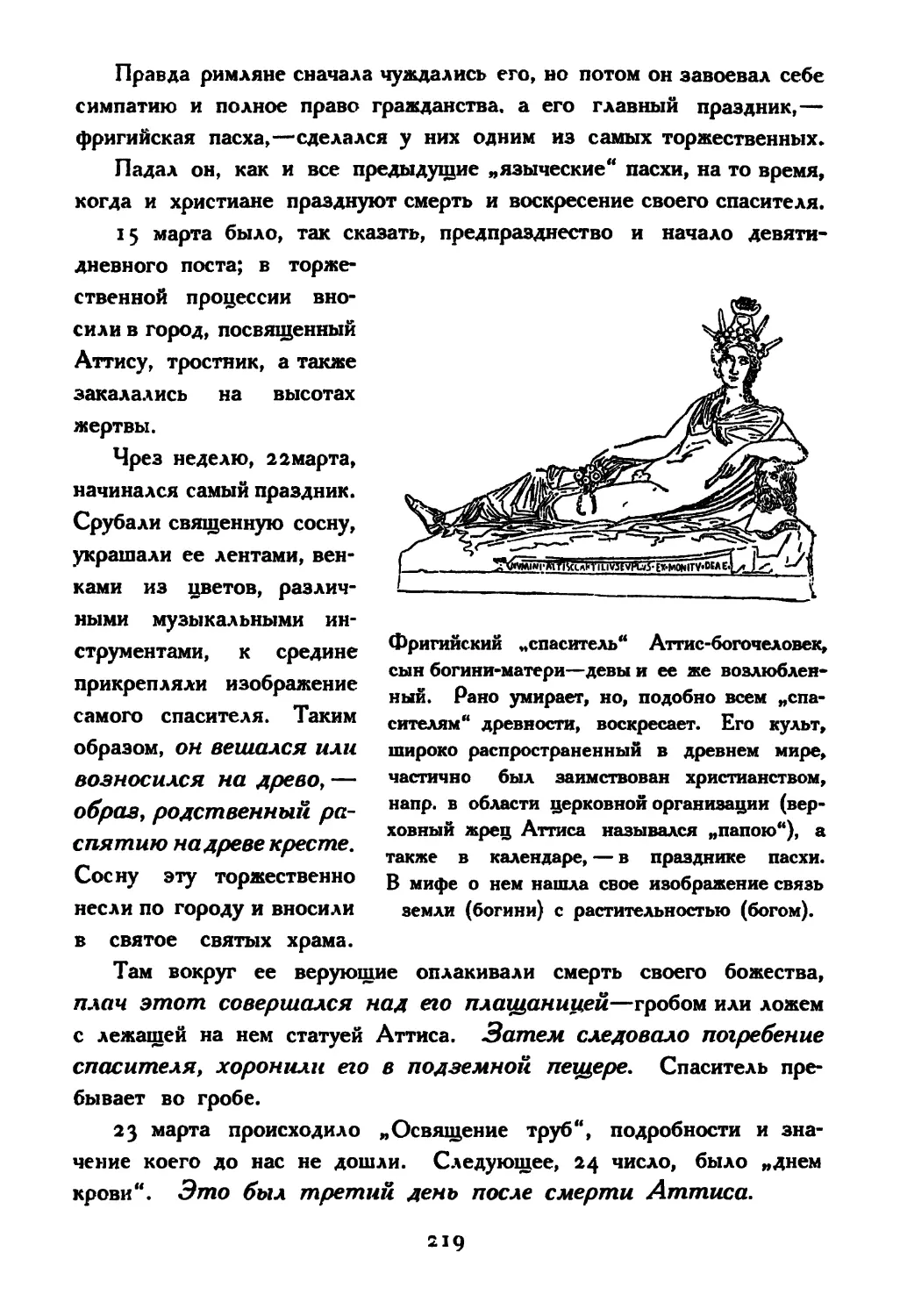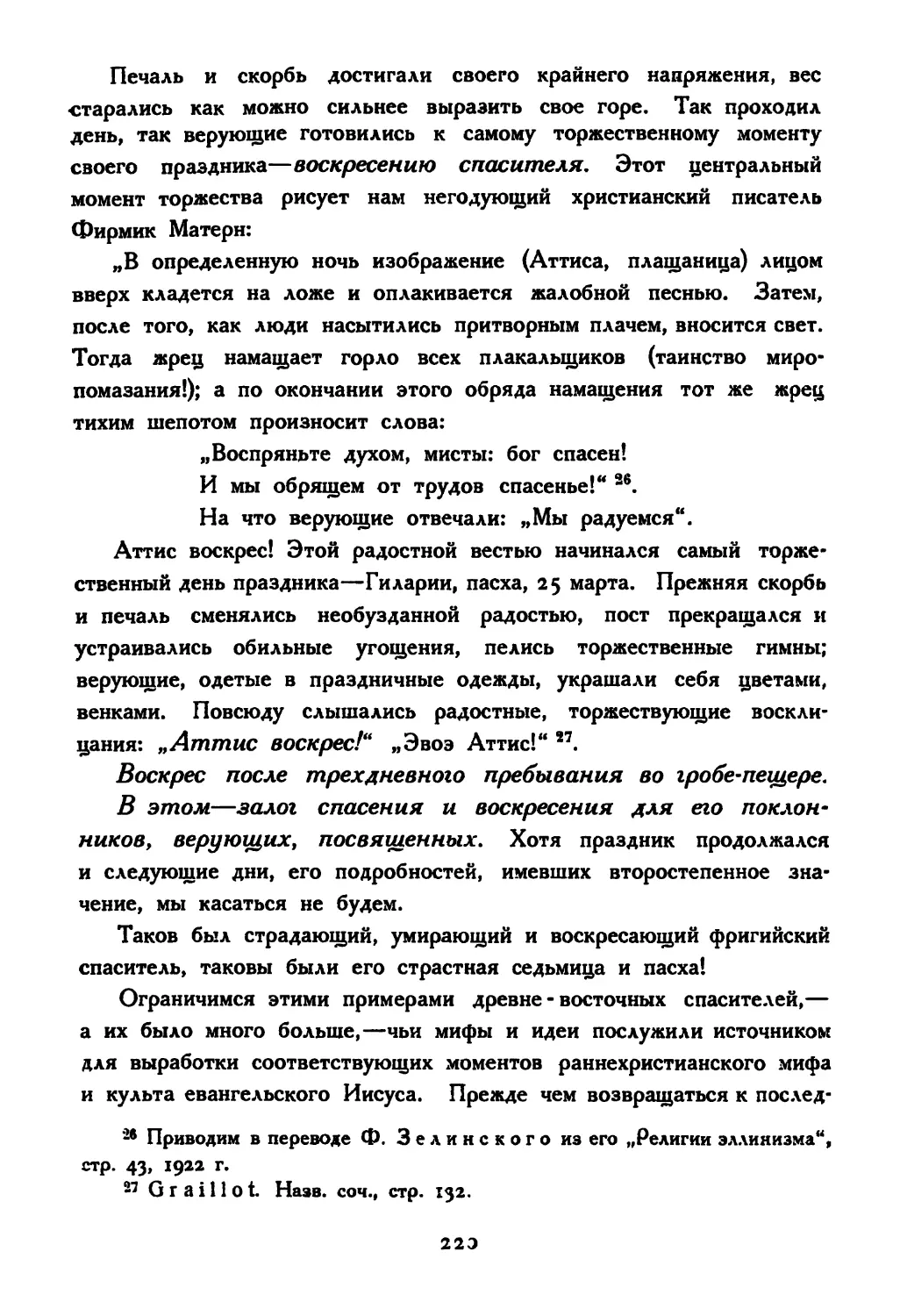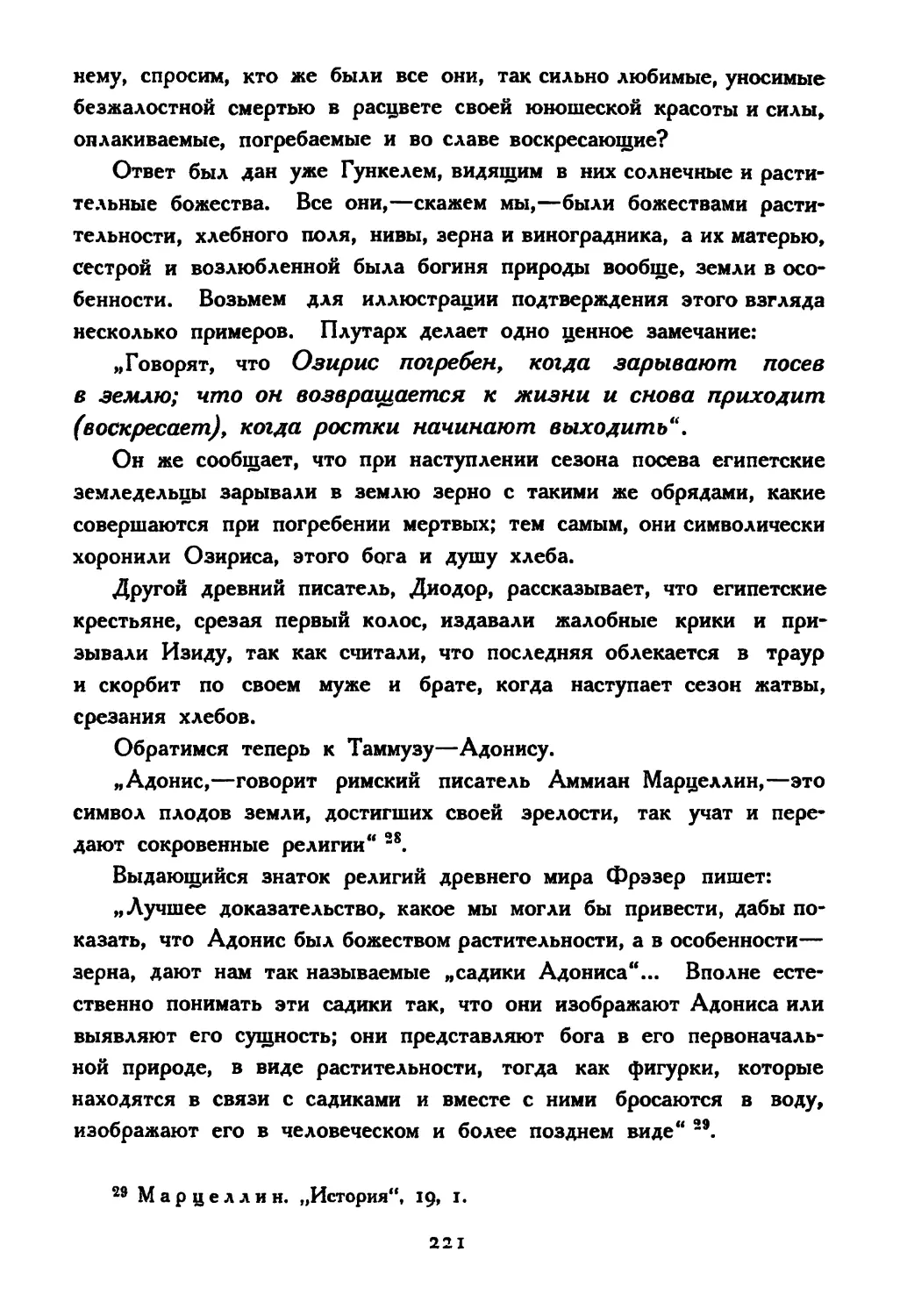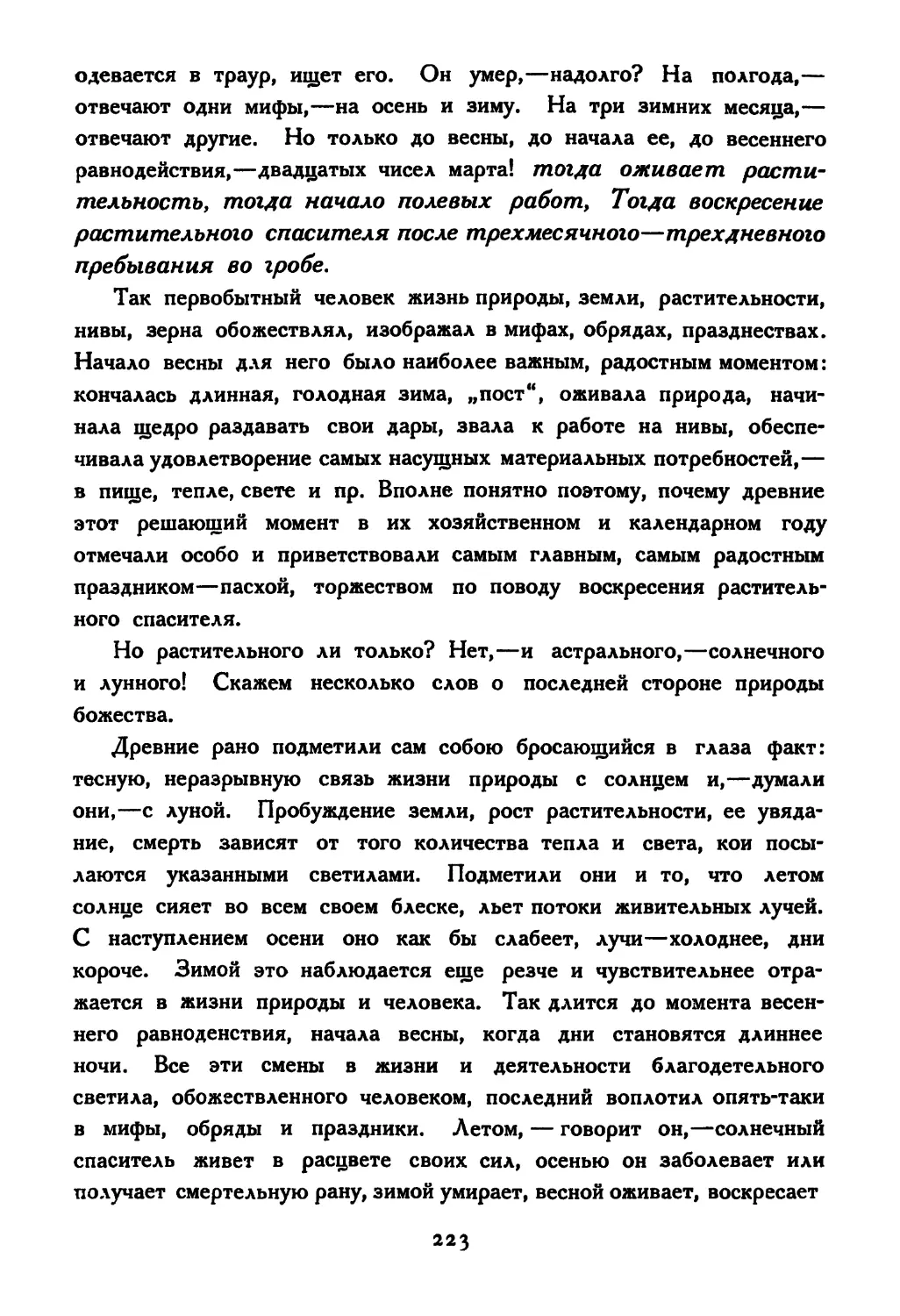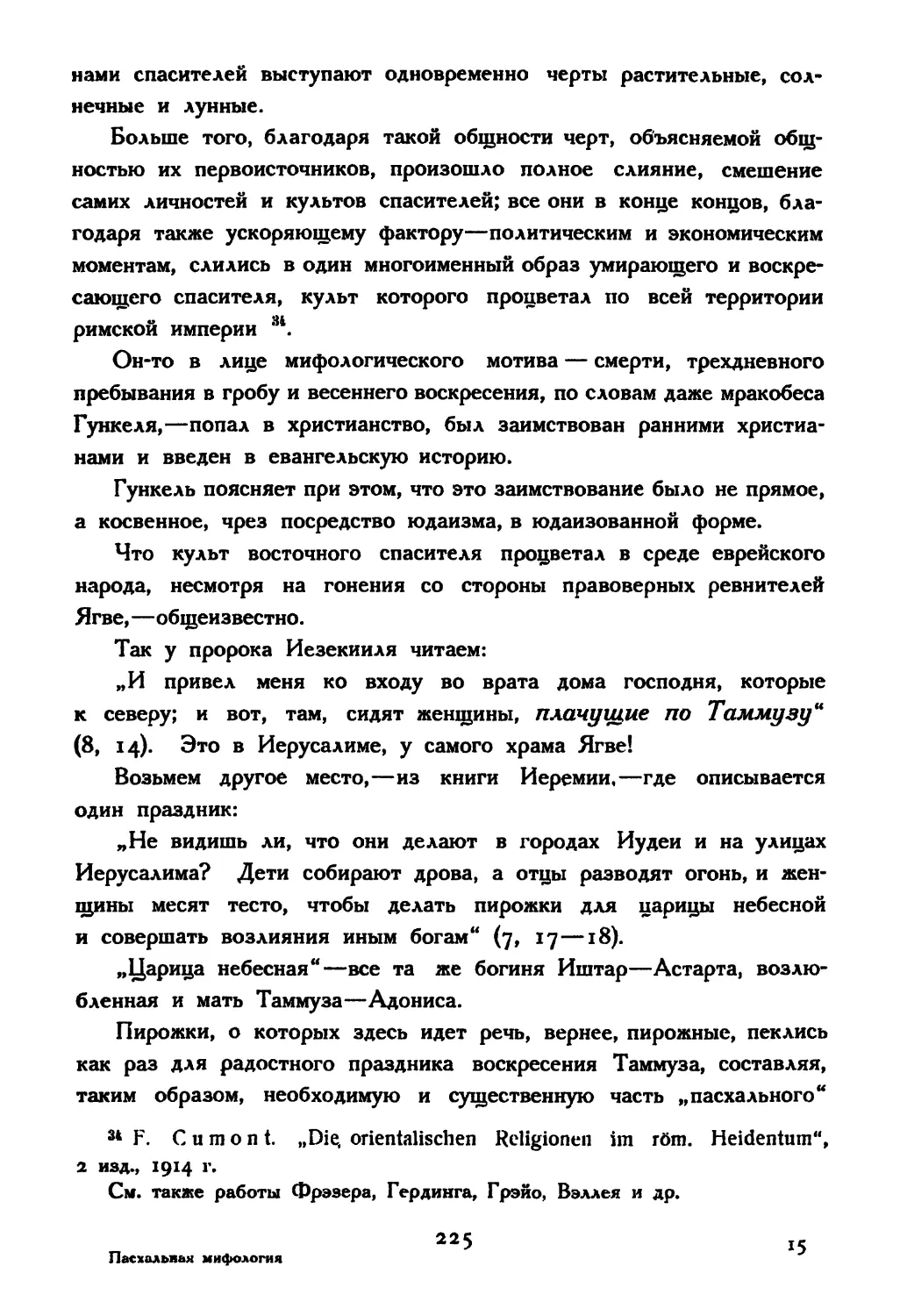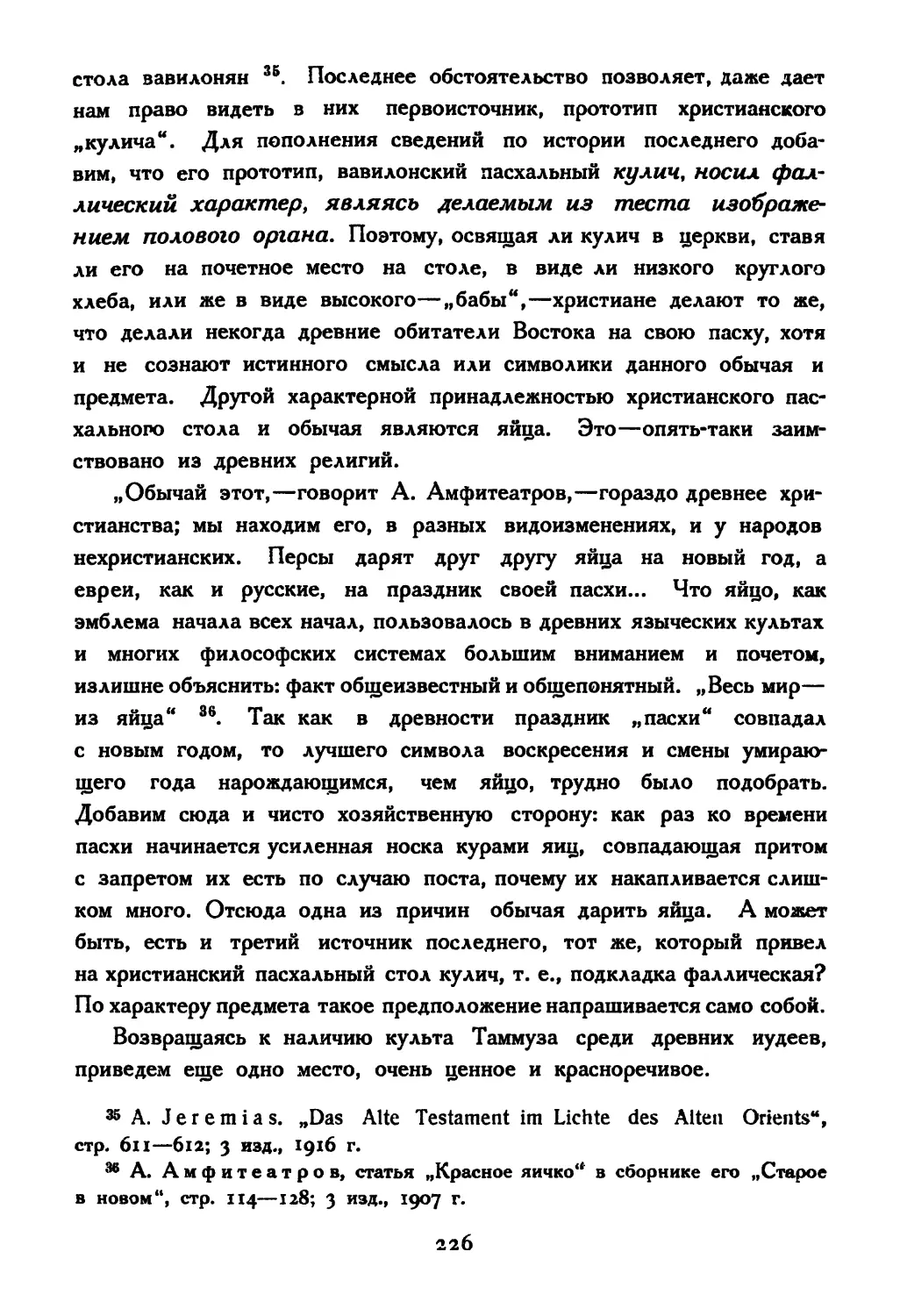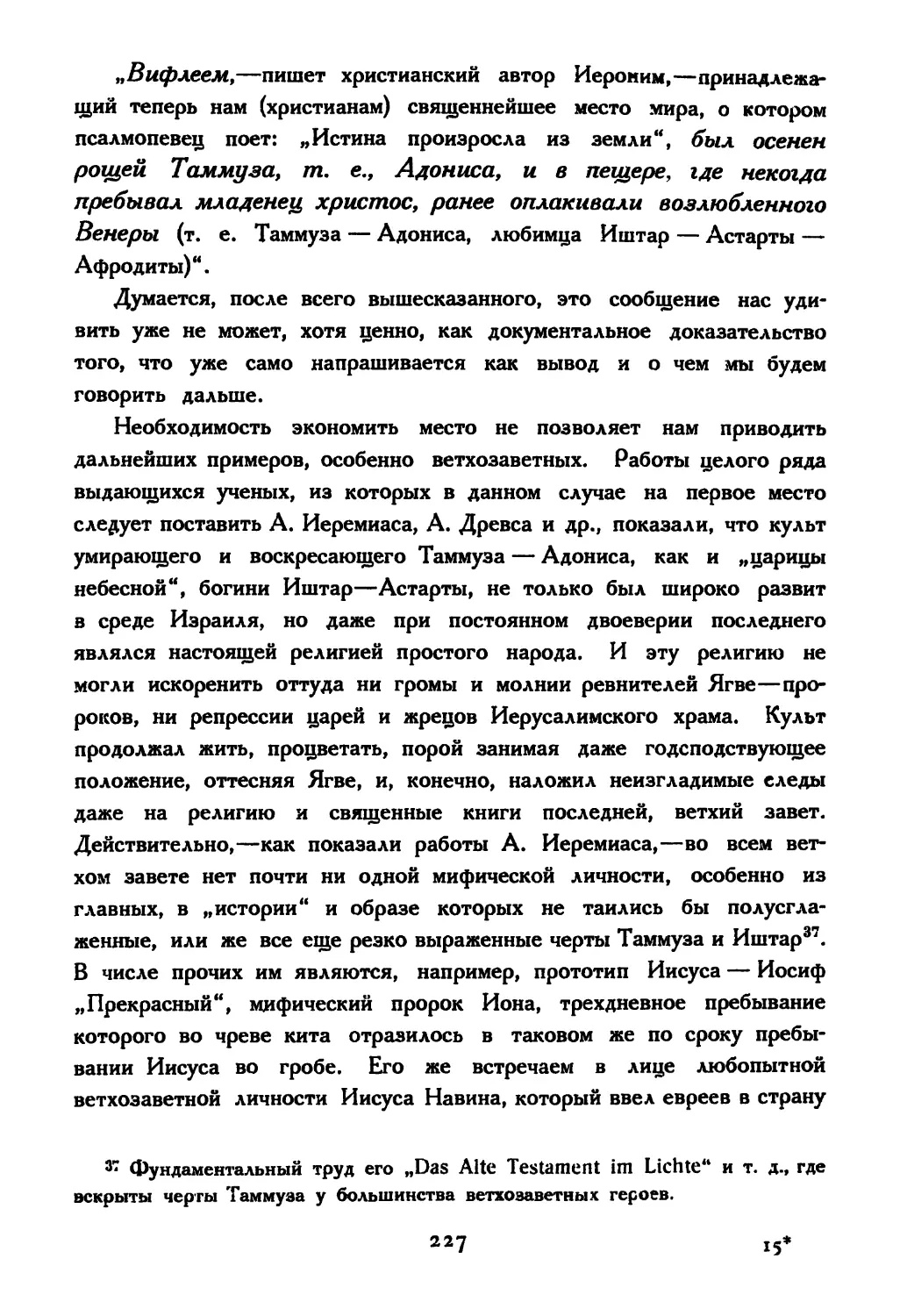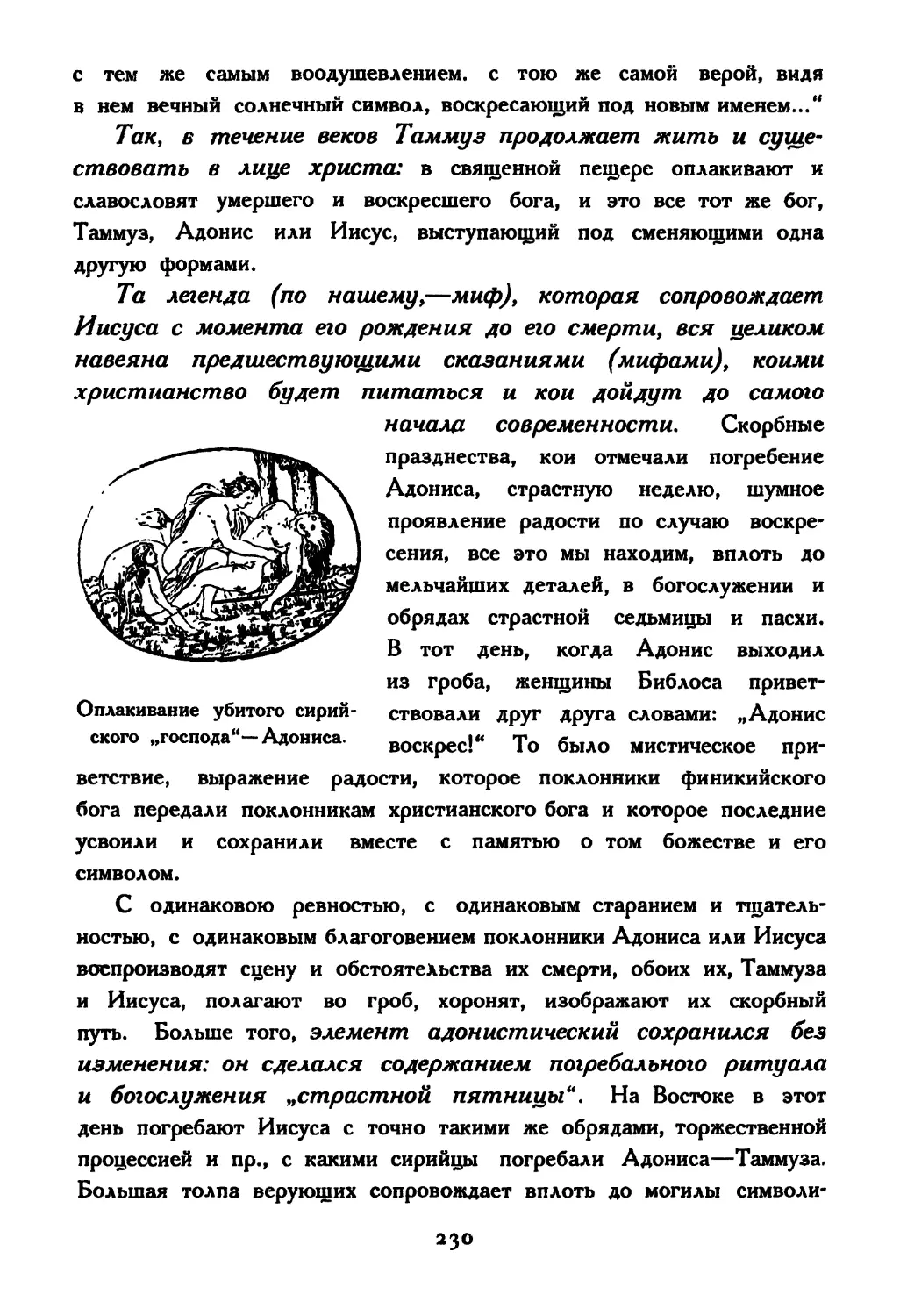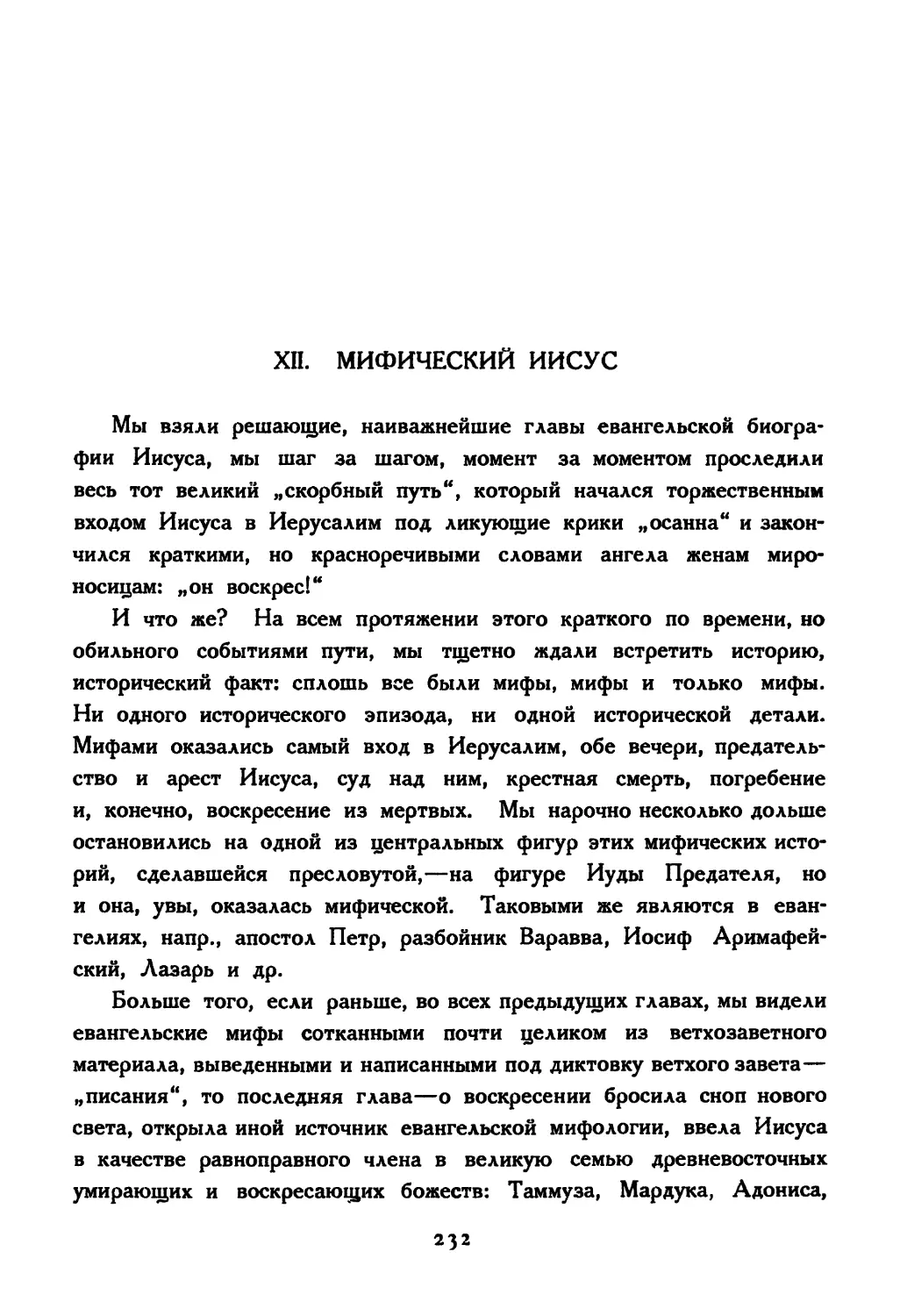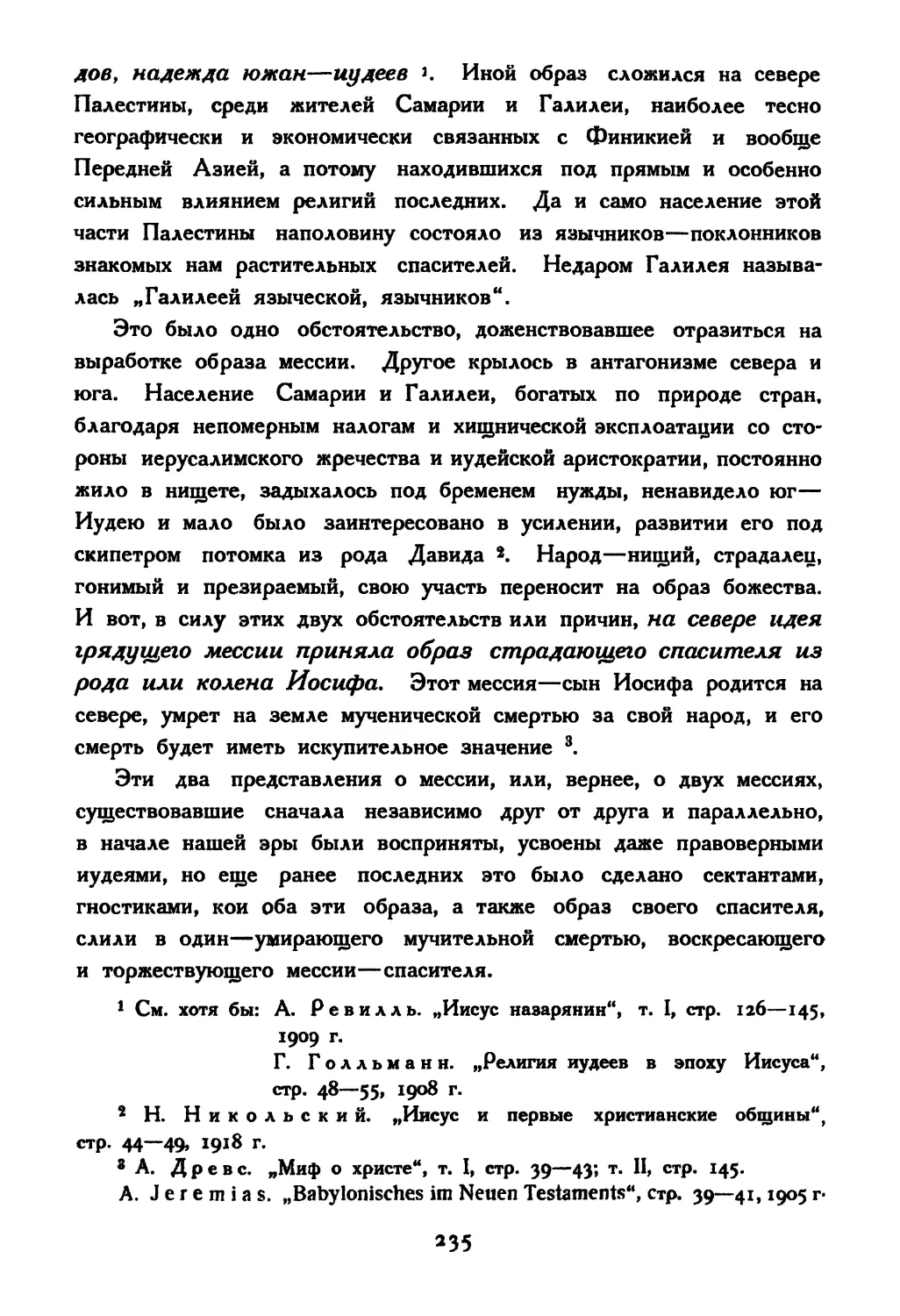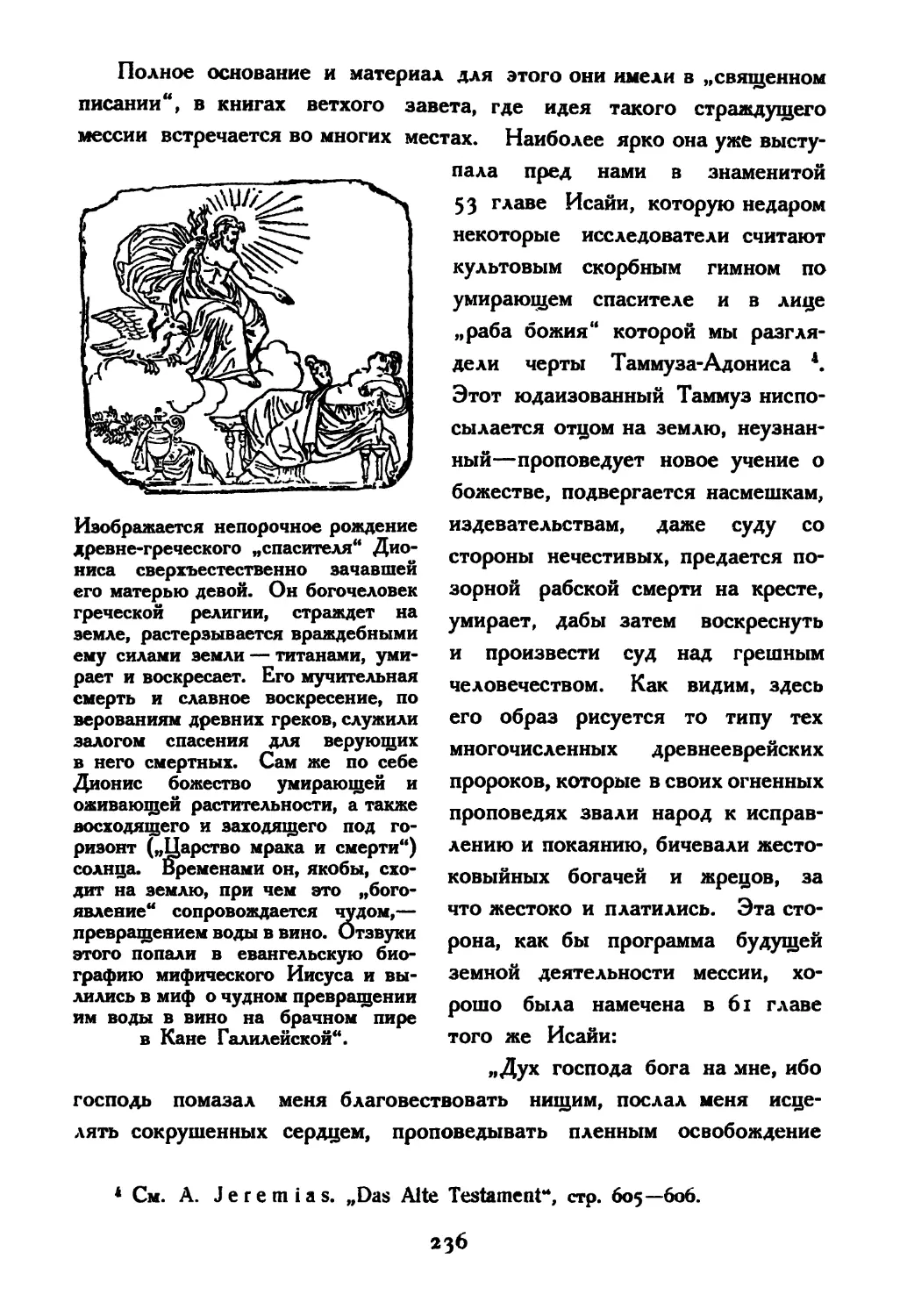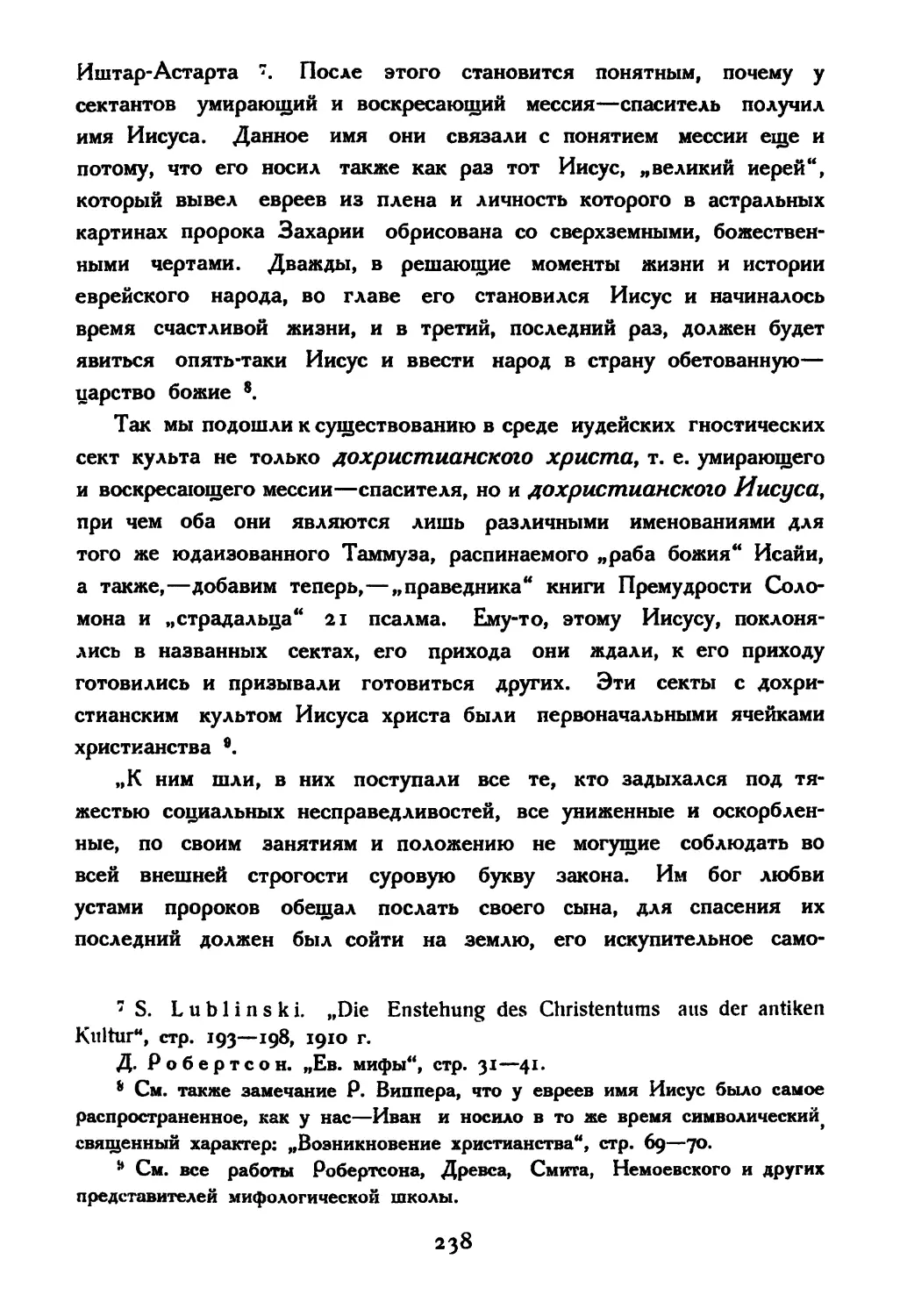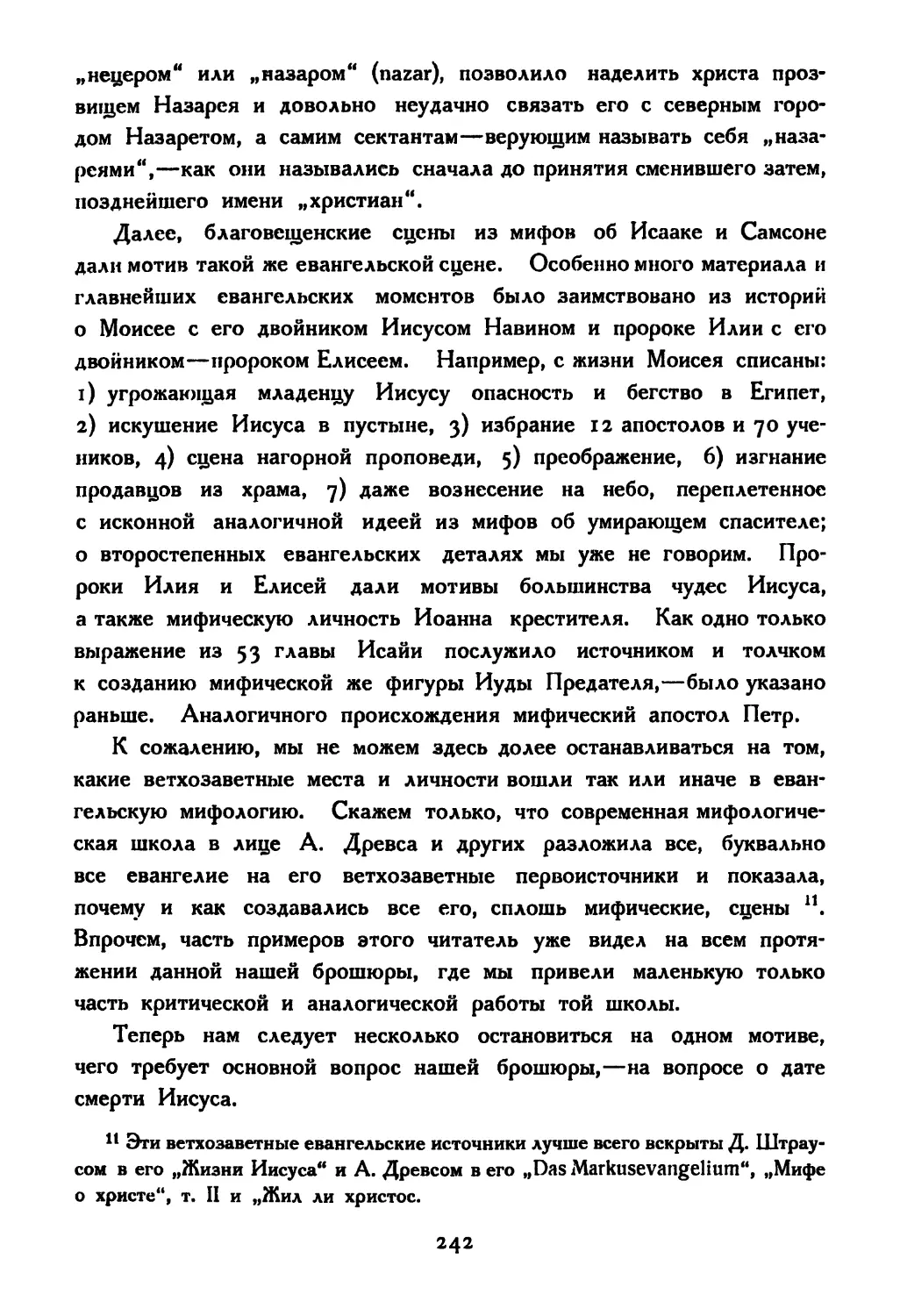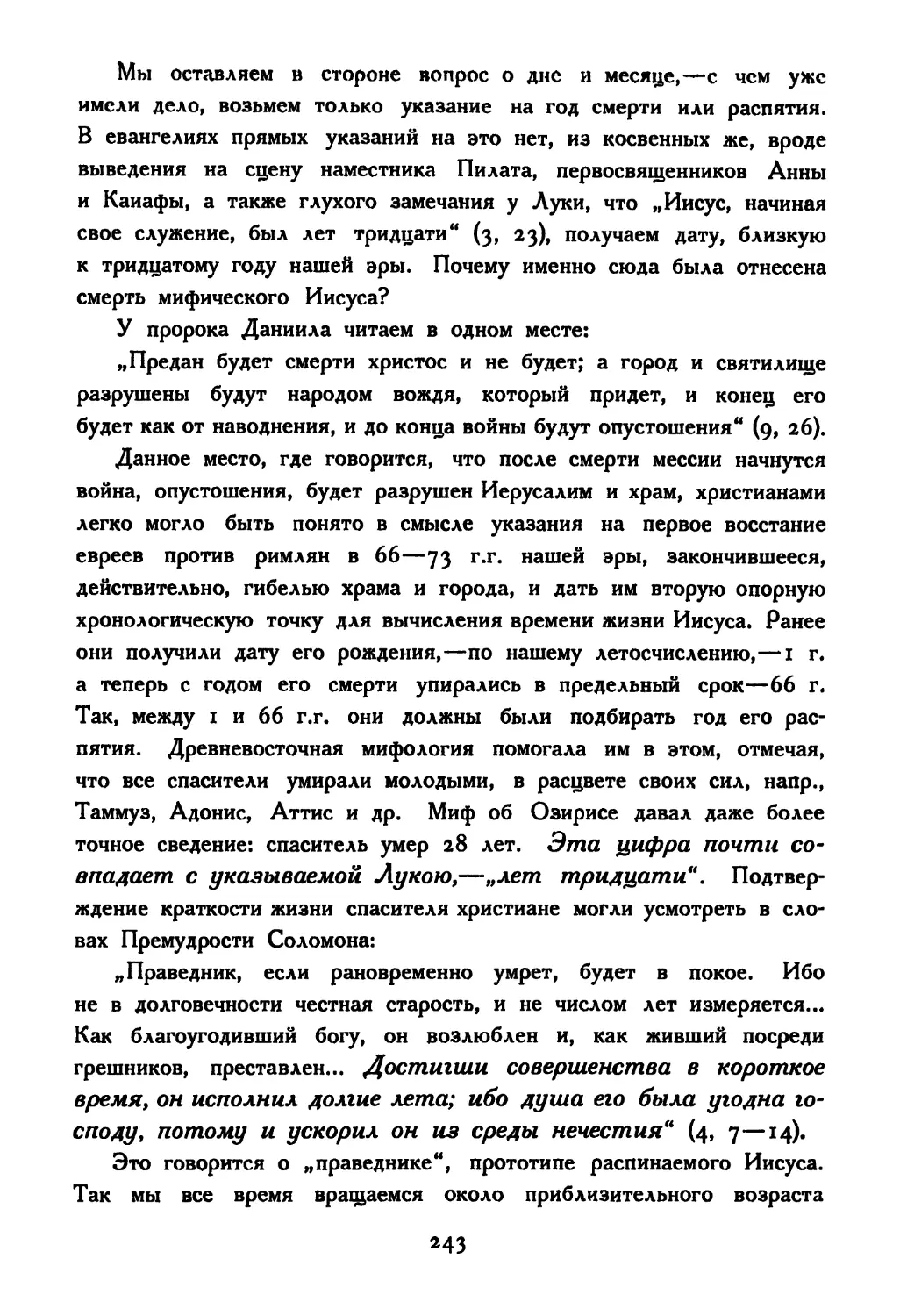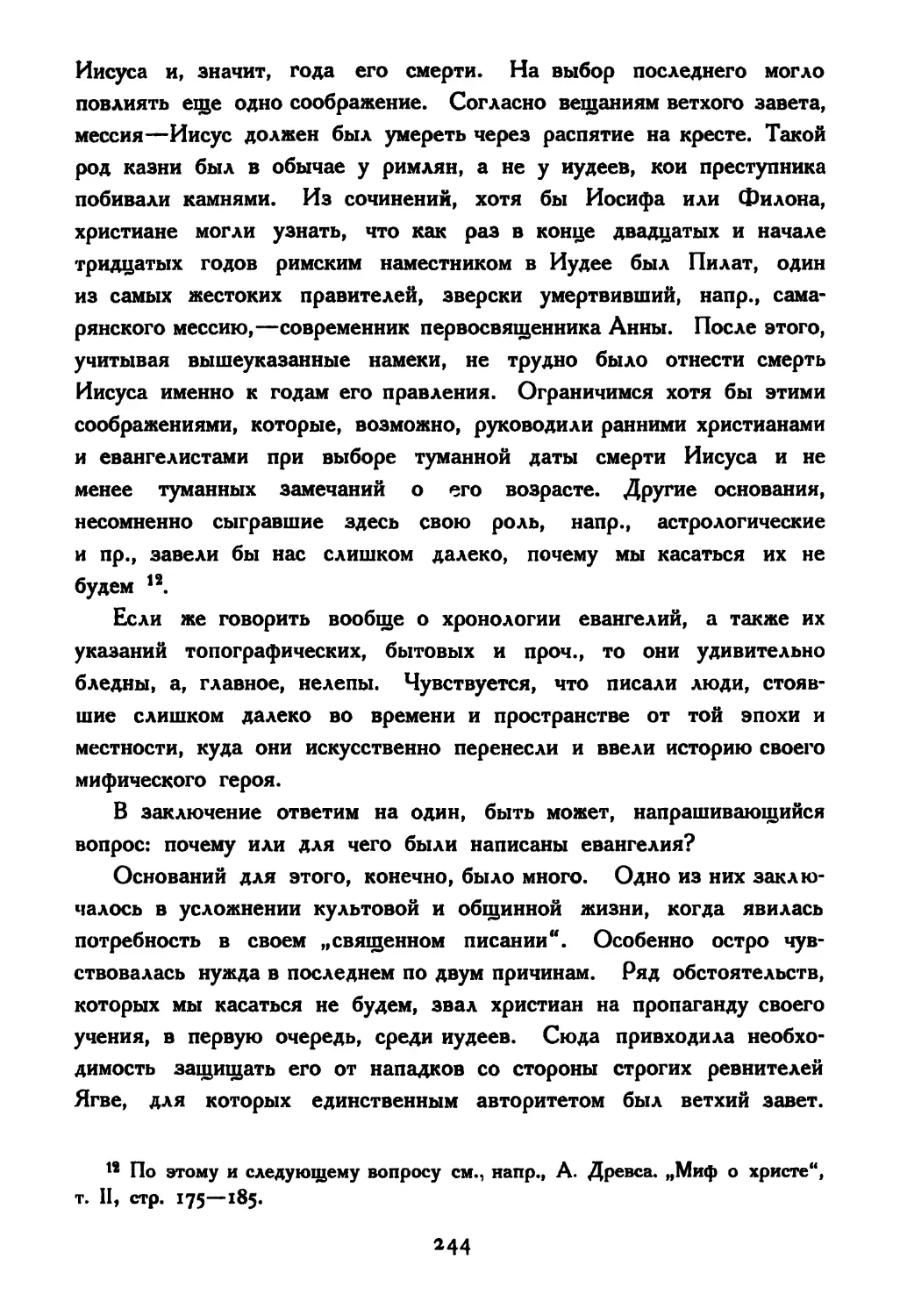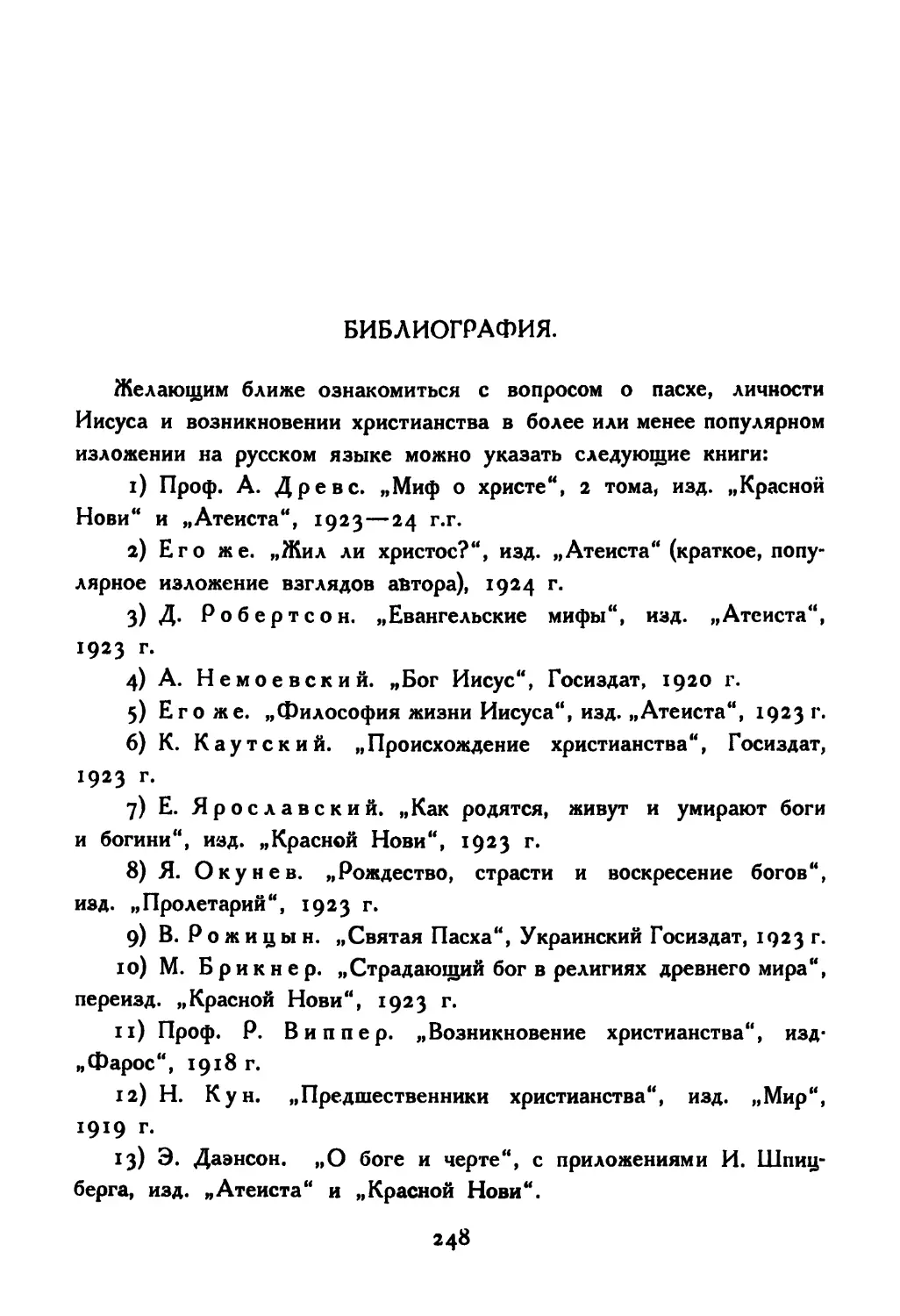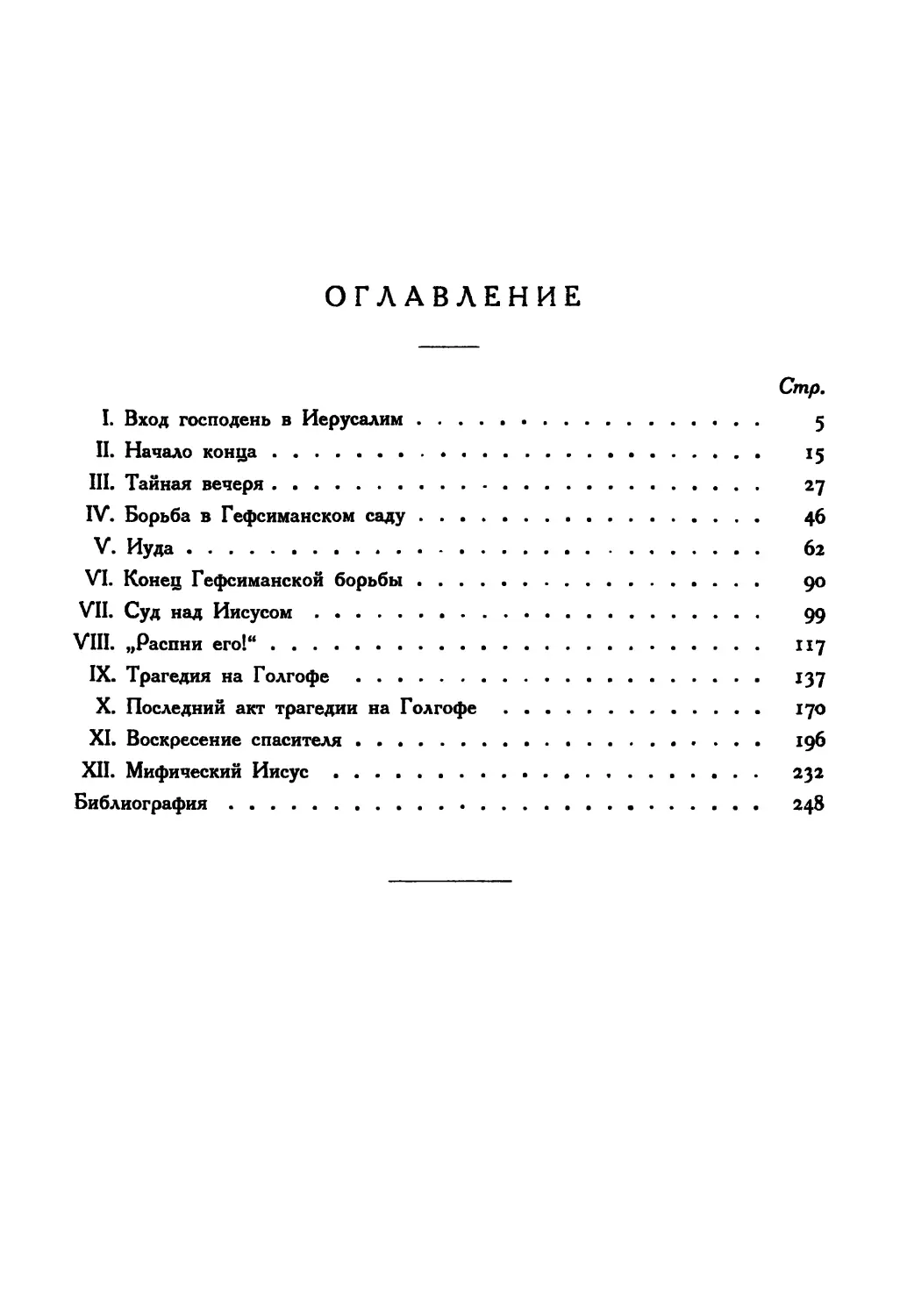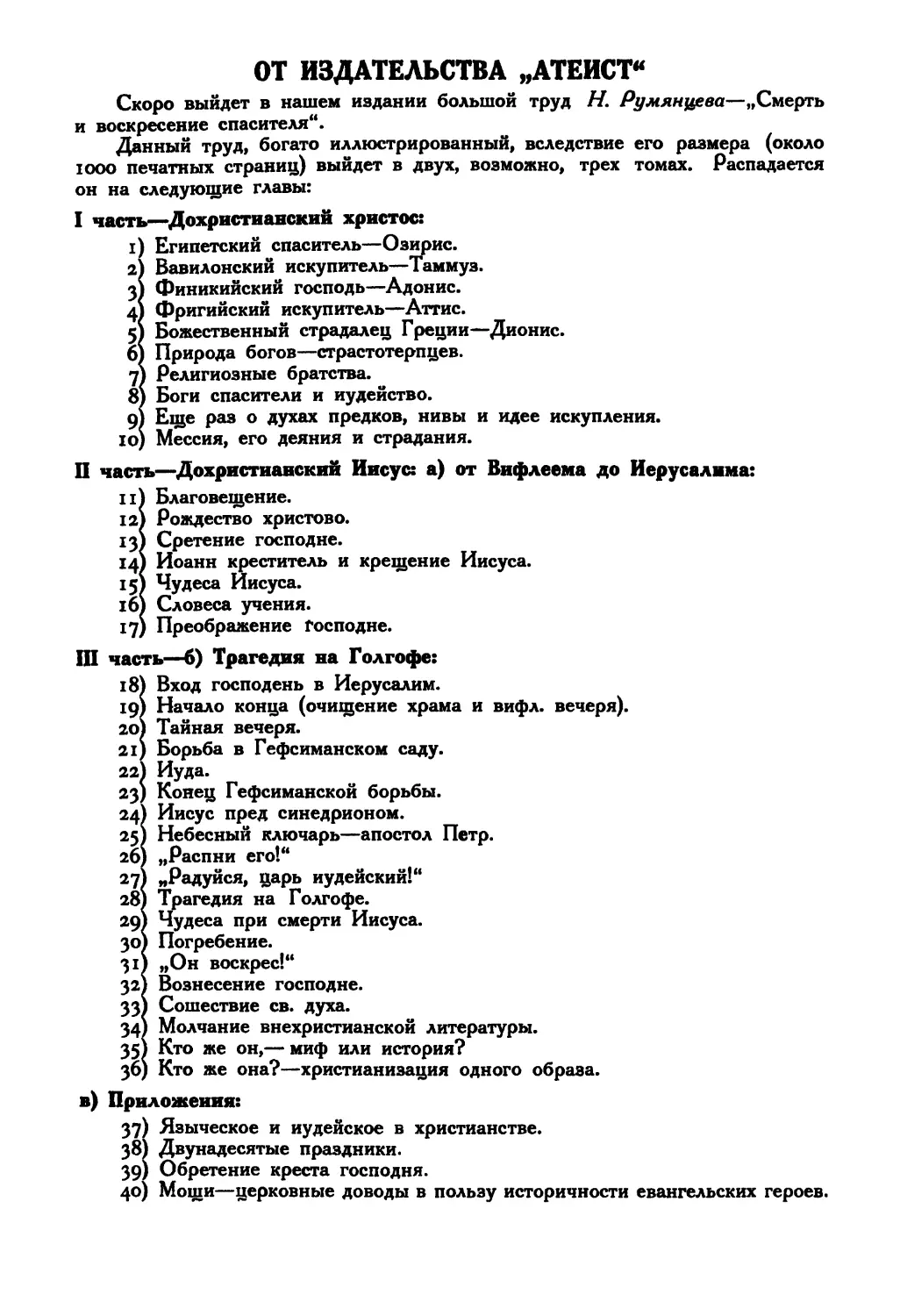Text
Религия — дурман для народа
Н. В. РУМЯНЦЕВ
ПАСХАЛЬНАЯ
МИФОЛОГИЯ
АТЕИСТ
1924
МОСКВА,
Гранатный пер., д. 1
Тел. 55-88
Ленинградгублит № 5818. Тираж 15.000 э.
В предисловии к одной из своих последних работ мы писали,
что „всякий раз, как приближается какой-нибудь более или менее
крупный церковный праздник, каждому просвещенцу-антирелигиоз-
нику, — а эти два понятия должны сопутствовать, — представляется
удобный случай или повод показать темным, т. е. верующим массам,
какова историческая ценность и истинный смысл лежащих в основе
праздника „историй" и каков тот мистический дурман, коим „отцы
духовные" все еще отравляют их души. Там же мы указывали,
что, в связи с трудностью доставать в глухих местностях соответ-
ствующую антирелигиозную литературу, назрела необходимость
в издании кратких, конспективного характера, статей и брошюр, где
давался хотя бы минимум необходимых сведений.
Так мы писали перед рождеством 1923 года, выпуская свою
„Рождественскую мифологию" и делая в ней попытку дать
такого рода специальную, конспективную брошюру. С тех пор прошло
слишком мало времени, чтобы положение вещей могло измениться.
Приближается главный христианский праздник — пасха, а в связи
с ней пред многими антирелигиозниками опять встает во всю вопрос
о литературе. Учитывая это, мы делаем для нас логический шаг
далее и предлагаем вниманию их свою новую работу, построенную
по типу и плану первой, — „Пасхальную мифологию".
Не скрываем, что последняя, как и та, являются лишь сокраще-
нием и переработкой некоторых глав нашего большого труда —
„Смерть и воскресение спасителя", уже приготовленного к печати
и имеющего выйти в недалеком будущем в издании „Атеиста".
Там читатель найдет многое из того, что нами в данной брошюре
или совсем опускается, или освещается недостаточно.
3
1*
Переходя теперь к содержанию самой брошюры, мы откровенно
сознаемся, что при составлении ее столкнулись с неизбежным и труд-
ным вопросом: с чего, с какого момента евангельской истории ее
начать и какие эпизоды трагедии на Голгофе выбрать? Наконец,
мы остановились на мысли, что, быть может, лучше по возможности
проследить все те события, которые служат содержанием церковного
богослужения как страстной недели, так и самой пасхи, при чем
исходным пунктом взять так наз. „вход господень в Иерусалим",
следующий в евангелиях за „преображением" и воскрешением Лазаря.
Само обилие соответствующего, подлежащего освещению, материала
и признаваемая важность описываемых в нем моментов „биографии"
Иисуса являются понятной и, думается, извинительной причиной
большего, чем хотелось бы, размера брошюры.
4
I. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Иисус „преобразился" на горе, глас божий признал его „воз-
любленным сыном" божиим, явившиеся великие ветхозаветные покой-
ники — Моисей и Илия закончили с ним свою беседу об его „исходе",
т. е. скорой смерти, сам он после этого еще раз предсказал о
последней своим ученикам, два исцеленных им иерихонских слепых
громогласно назвали его „сыном Давидовым" — царственным потом-
ком и мессией — спасителем (Матф. 20, 30—33), пора было отпра-
вляться в центр политической и религиозной жизни еврейского на-
рода, — в Иерусалим.
„И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию
к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете
ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите
ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они
надобны господу; и тотчас пошлет их... Ученики пошли и посту-
пили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла,
и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество
же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали
ветви с дерев, и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший
и сопровождавший, восклицал: осанна сыну Давидову! благословен
грядущий во имя господне! осанна в вышних. И когда вошел он
в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это?
Народ же говорил: это Иисус, пророк из Назарета Галилейского"
(Матф. 21, I—II).
Такова евангельская прелюдия к кровавой трагедии на Голгофе,
таково начало того пути, который приведет Иисуса к позорной
смерти на кресте. Однако, присмотримся повнимательнее к этому
5
рассказу евангелиста, — все ли в нем благополучно? Увы, как
будто, не все!
Первым обстоятельством, заставляющим нас подозрительно отне-
стись к нему, является чудесная прозорливость Иисуса. Судя по
описаниям некоторых евангелистов, — если забыть детские годы
Иисуса у Луки, — он посещает Иерусалим впервые. Не будем обра-
щать внимания на явную нелепость, допускаемую новозаветными
писателями, заставляющими своего героя, иудея по происхождению
и религии, жителя Палестины, посетить Иерусалим и его храм только
на тридцатом году своей жизни, а не, по примеру родителей, да
и всех иудеев, — посещать его ежегодно, хотя бы на праздник пасхи.
Это, — повторяем, — нелепость, явная историческая несуразность. Но
вот, можем ли мы считать заслуживающими нашего доверия указания
евангелиста, что Иисус, бывший в тот момент в той местности
впервые, дал самые точные директивы своим двум ученикам,
где и как им найти ослов, что им ответить на вопрос хозяина
последних и т. п.? Ведь, по Матфею, вся история с этими
животными разыгралась точь-в-точь, как заранее нарисовал ее учи-
тель. Подобную прозорливость, при подобных обстоятельствах, мы
отбрасываем как деталь, явно неисторическую, а вымышленную,
мифическую.
Вторым подозрительным, — скажем больше того, — опять-таки явно
нелепым моментом, по единогласному утверждению многих исследо-
вателей, является история с ослами и торжественным въездом на
них назаретского пророка. К чему Иисусу, когда до Иерусалима
было рукой подать, понадобились сразу два осла? Стоит ли отме-
чать, что во всей предыдущей истории мы видим его путешествующим,
притом длительно, — пешком?
Однако, все это, быть может, не важно, но вот что важно: как
он ухитрился ехать одновременно сразу на обоих ослах? Еванге-
лист Матфей прямо и определенно указывает, что ученики оседлали
обоих животных, и „он сел поверх их" (т. е., конечно, ослов,
а не учеников!). Нелепее фигуры въезжающего подобным образом
в Иерусалим „пророка" нельзя и представить; поистине, если рас-
сказ евангелиста понимать буквально, исторически, то его автор
сыграл со своим героем „ослиную" штуку.
6
Да, если все это понимать буквально, исторически!.. Однако, во
всем этом рассказе, с начала до конца, чувствуется что-то тенден-
циозное, преднамеренное, что-то такое, что или было заранее под-
строено, или же рассказ о нем был чем-то навеян. Вся эта картина
с ее прозорливым героем — пророком, с ее чудесно предсказанными
и найденными ослами, с ее странными хозяевами их, с ее торже-
ственным входом, вернее, въездом Иисуса в Иерусалим, с ее множе-
ством народа, устилающим путь одеждами и ветвями и восклицающим
„осанну сыну Давидову" так же, как он через несколько дней будет
восклицать свое зловещее: „распни, распни его!" — все это, ведь,
только продолжение и развитие предыдущей мифической истории,
все это было подготовлено содержанием предыдущих евангельских
мифов, разбор коих не входит здесь в нашу задачу и кои были
навеяны ветхим заветом и другими источниками 1.
В пояснение последних слов скажем, что целый ряд ученых, за-
нявшихся разбором евангельских сказаний о жизни Иисуса и окру-
жавших его лиц, пришли к определенному и, казалось бы, неожи-
данному выводу, что все эти сказания от начала до конца представляют
собою только мифы и мифы, т. е. сознательные и бессознательные
вымыслы, продукты фантазии. При этом они подметили и доказали,
что материал для данных мифов черпался как из мира языческих
сказаний о богах и героях, так и, особенно, из ветхого завета.
При чем в последнем случае евангелисты иногда открывали свой
секрет, — указывали источник, то или иное ветхозаветное место, вводя
его в свои писания под предлогом исполнения соответствующего
„пророчества" — „да сбудется писание" или „да сбудется реченное
господом чрез пророка", иногда же утаивали, замалчивали его.
„Исчерпывающее объяснение какого-нибудь евангельского рас-
сказа ссылками из ветхого завета, — говорит проф. А. Древс, —
1 См. А. Древс. „Миф о Христе", т. I и II, изд. Красной Нови и Ате-
иста; его же — „Жил ли Христос?" 1923 г., изд. Атеиста.
Д. Робертсон „Евангельские мифы" 1923 г., изд. „Атеиста".
А. Немоевский. „Бог Иисус", τυε, 1920 г.; его же „Философия жизни
Иисуса", 1923 г., изд. Атеиста.
См. также наши работы: „Рождество Христово", „Рожд. мифология" и
„Миф об Иоанне крестителе", 1923 г., изд. Атеиста.
7
признается обычно всеми за доказательство его неисторич-
ности" 2.
То же самое отмечает и другой, французский исследователь,
проф. С. Рейнак, говоря по поводу сообщений об обстоятельствах
казни Иисуса следующее:
„Всякий раз, как евангельский рассказ содержит в себе
детали — подробности, которые в глазах евангелистов или
древней экзегетики (толкования св. писания) являются испол-
нением слов писания или изъяснением событий, одинаково
рассказываемых в ветхом завете, критика абсолютно обя-
зана, должна отвергнуть историчность этих деталей, а
происхождение их приписать тому указываемому или замал-
чиваемому источнику, каковым является соответствующее
ветхозаветное место" 3,
Может быть и этот рассказ — о „входе в Иерусалим" такого же
сорта и такого же происхождения, т. е., составлен из ветхозаветного
материала и выведен по требованию „писания"?
Увы. да! Черным по белому стоит у Матфея лукаво выпущенное
нами раньше роковое: „Все же сие было, да сбудется реченное чрез про-
рока, готорый говорит: — скажите дщери Сионовой: се, царь твой грядет
к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной".
Это „реченное чрез пророка" является соединением в одно целое
двух ветхозаветных, мессиански-понятых мест, — Исайи и Захарии.
Пророк Исайя, рисуя будущую славу израильского народа, тор-
жественно взывает:
— „Проходите, проходите в ворота (Иерусалима), приготовляйте
путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите
знамя для народов. Вот, господь объявляет до конца земли: скажите
дщери Сиона: грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние
его пред ним" (62, 10—11).
Это место Исайи благодаря наличию общего мотива, — входа спа-
сителя в Иерусалим — было поставлено в связь с таковым же
2 A. Drews. „Das Markusevangelium als Zeugnis gegen die Geschicht-
lichkeit Jesu", стр. 289, 1921 г.
3 Статья S. Reinach. „Le verset 17 du Psaume XXII" в его сборнике
Cultes, Mythes et Religions", т. II, стр. 437—442, 1906 г.
8
у пророка Захарии. Произнеся от имени господа грозные про-
роческие слова по адресу финикийских и филистимских городов,
он круто переходит к грядущим судьбам еврейского народа и
продолжает:
„Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима:
се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, си-
дящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (9, 9).
Вот, откуда евангелист с двумя учениками привели для Иисуса
двух ослов и усадили его сразу на обоих! Однако, дело на этом
еще не кончается: этих двух ослов мессианцы, а за ними и еван-
гелист, усмотрели еще в другом месте ветхого завета, а именно:
в книге Бытия. Там мифический праотец Иаков пред своею смертью
благословил своих двенадцать мифических сыновей — родоначальников
двенадцати колен израилевых и по адресу одного из них, — Иуды
предсказал следующее:
„Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов
твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего... Не отойдет скипетр
от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примири-
тель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной
лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей"
(49, 8, 10—11).
В обоих последних местах целый ряд ученых нашли ключ к стран-
ному числу — два „привязанных" евангельских ослов Матфея. Осно-
вываясь на том, что в них имеется простой так называемый парал-
лелизм членов иудейского поэтического языка, т. е. особый оборот
речи, когда одно понятие выражается двумя равнозначащими, но
различными словами (напр.: 1) „бог стал в сонме богов и 2) среди
богов произнес суд, 1) доколе будете вы судить неправедно и 2) ока-
зывать лицеприятие нечестивым? 1) Давайте суд бедному и сироте и
2) угнетенному и нищему оказывайте справедливость" и т. д., псалом
81, 1 сл.), — они указали, что Матфей не понял такого параллелизма
в приведенных мессианских местах, а понял их буквально. По прин-
ципу параллелизма членов, двойное выражение: „осленок и сын
ослицы" должно было бы означать просто одного осла или осленка.
Это объяснение, хотя и заставляет нас подозрительно отнестись
к еврею Матфею, не знающему еврейского языка писания, все же
9
находит, как будто, подтверждение себе у других евангелистов, чьи
рассказы мы еще не приводили.
Марк рассказывает о входе Иисуса в Иерусалим, в главном, одина-
ково с Матфеем, но есть и характерные отличия. Учитель посылает
учеников за (одним) молодым ослом, „на которого еще никто не
садился", они находят осла привязанного у ворот на улице и отделы-
ваются знакомым нам ответом от „некоторых из стоявших там".
На этого осла они постилают свои одежды и на нем одном
Иисус едет.
Толпа, как и у первого евангелиста, стелет одежды, бросает ветви,
кричит „осанна", не называя пророка сыном Давидовым, но говорит
зато о „грядущем во имя господа царстве отца нашего Давида",
и никто не задает недоуменного вопроса о личности въезжающего
(Марк 11, 1—10).
У Луки дело с осленком (одним) происходит, как у Марка, только
вопрос задают „хозяева". Иисуса провожает ликующими кликами
„все множество учеников", народ не фигурирует, хотя чувствуется,
ибо (новая деталь!) „некоторые фарисеи из среды народа сказали
ему: учитель! запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ:
сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют"
(19, 29—40).
Иоанн рассказ своих предшественников совершенно перерабаты-
вает и создает как бы новый. У него вход в Иерусалим прямо
примыкает к воскресению Лазаря и рисуются последствия этого
чуда: „потому-то и встретил его народ" с пальмовыми ветвями.
Иисус никого никуда ни за кем не посылает, а просто, „нашедши
одного осла, сел на него, как написано". А дальше приводится
место из Захарии, но не целиком, а с упоминанием только „о моло-
дом осле". Ученики не принимают активного участия в триумфаль-
ном шествии, даже в тот момент не понимают его (мессианского)
смысла, „но когда прославился Иисус, тогда вспомнили (они), что
так было о нем написано, и это сделали ему".
Наконец, Иисуса „очень хотят" видеть „из пришедших на покло-
нение на праздник... некоторые эллины", т. е. греки (12, 12—36).
Так различно в сознании евангелистов преломились приведенные
нами выше ветхозаветные источники. Мы не будем пока останавли-
10
ваться на этих разногласиях, отметим только, что, действительно,
три последних автора не повторили „промаха" Матфея и вывели
на сцену одного молодого осла, „на котором никто не сидел".
Чтобы покончить с ослами, мы остановимся еще на одном евангель-
ском моменте, отмечаемом тремя первыми евангелистами и лишь
частично последним, — на самой обстановке обретения этих царствен-
ных животных. Откуда почерпнули материал для этих деталей
картины названные авторы? Опять из ветхого завета? Да!
Древс определенно указывает, что здесь сыграла свою роль
ветхозаветная история о помазании Саула на царство 4. Когда про-
рок Самуил, рассказ о котором во многом повлиял на выработку
„биографии" Иисуса 5, путем возлияния елея на главу Саула пома-
зал его на царство, то для подтверждения участия здесь воли
божией указал ему на ряд знамений. Так как Саул в то время
искал пропавших ослиц своего отца, то Самуил предсказал ему, что
у него будет ряд встреч на пути, и между прочим, что он встретит
двух человек, которые скажут ему, что ослицы нашлись (1 кн.
Царств, гл. 10). А дальше говорится, что предсказание в точности
исполнилось. Так и Иисус, посылая двух своих учеников за ослами,
заранее говорит, что с ними случится и что они должны будут делать,
Там же, в ветхом завете, мы находим мотив устилания царствен-
ного пути собственными одеждами, опять-таки, в связи с помазанием
на царство. Посланный пророком Елисеем отрок по его указанию
возлил елей на голову военачальника Ииуя, — помазал его в цари.
Когда помазанник рассказал об этом слугам своего господина, то
„поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему
на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй"
(4 кн. Царств, 9 гл.).
После нахождения в ветхом завете расстилаемых на пути Иисуса
одежд, мы легко находим там также источник, откуда были заимство-
ваны евангелистами приветственные и радостные клики народа, — его
„осанну" и „благословение грядущего".
4 A. Drews. „Das Markusevangelium", стр. 208—209.
5 См., напр., о влиянии его на рожд. миф о христе у D. Folter. „Die
evangelische Erzählungen von der Geburt und Kindheit Jesu", стр. 23 сл„
1911 г.; также в нашем „Мифе об Иоанне крестителе", стр. 9—12.
11
Они выхвачены из 117 псалма: „сей день сотворил господь: воз-
радуемся и возвеселимся в оный! О, господи, спаси же (таков именно
смысл еврейского „гошанна" — осанны, которое евангелист, повиди-
мому, ошибочно принял за радостное восклицание) 6. О, господи,
споспешествуй же! Благословен грядущий во имя господне" (25, 26).
Деталь Марка об осле, что на нем никто не сидел, введена под
влиянием книги Чисел, где предписывается привести для священника
Елизара телицу без порока, „на которой не было ярма" (19, 2), или
же из Второзакония, где тоже говорится о подобной телице (21, 4).
Замечание Иисуса по адресу фарисеев у Луки насчет славословия
учеников, что, если последние умолкнут, то камни возопиют, является
использованием одного места у пророка Аввакума: „камни из стен
возопиют" (2, 11).
Наконец, характерная подробность у Иоанна, что при торже-
ственном входе Иисуса в Иерусалим виновника торжества „очень"
хотели видеть и с ним познакомиться эллины, — не иудеи, язычники,
почему-то пришедшие на праздник, по нашему мнению, находит свое
объяснение в уже приведенном благословении — пророчестве Иакова
Иуде, где сказано, что придет „примиритель, и ему же покорность
народов". (Бытие, 49, 10). Последняя фраза в ином переводе читается
так: „он же чаяние языков-язычников". Евангелист, использовывая,
подобно другим, это место, один только обратил внимание на эту
фразу и создал из нее целую картину.
Так, данный евангельский рассказ, который на первый взгляд
мог бы показаться историческим, при ближайшем изучении весь рас-
пался на свои ветхозаветные части, весь целиком, со всеми своими
главными и второстепенными моментами. Вдобавок, он оказался
притом, подобно массе предшествующих ему мнимо-исторических
эпизодов из жизни христианского основоположника, выведенным
исключительно по требованию „писания", „да сбудется реченное
пророком". Поэтому, если даже Штраус, вскрывший только малую
часть ветхозаветных мотивов в этом рассказе, признал его только
„правдоподобным, и если в действительности ничего подобного не
произошло, то все-таки... весьма ценной иллюстрацией к ветхозавет-
6 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 180.
12
ному пророчеству о грядущем христе — мессии" 7, то мы после нашего
разбора можем спокойно и смело, даже должны, присоединиться
к мнению Брандта, Древса 8, Робертсона 9 и др., что и этот рассказ
представляет собою обычный и типичный миф, продукт религиозного
творчества. Больше того, мы даже можем проследить при этом
приблизительный ход христианской мысли.
В ветхом завете есть ряд указаний на картину грядущего при-
шествия мессии-спасителя. Так, пророк Даниил (7, 13) говорит, что
мессия явится на облаках небесных. Захария рисует его въезжающим
на осле. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в спасителе
хотели видеть царя мирного, а не воинственного. Эту мысль выра-
жали тем, что приписывали ему будущий приход как раз на осле,
символе мира, а не на коне, животном или символе войны, воин-
ственности 10. В одном раввинистическом произведении, где прово-
дится противопоставление мессии Моисею, автор задает вопрос: что
сказано в писании о первом спасителе народа? — и на вопрос этот
дается такой ответ: „Во второй книге Моисея (Исход 4, 20) сказано:
Моисей взял жену свою и сыновей своих и воссел на осла. Так
точно и в книге Захарии (9, 9) сказано о последнем спасителе народа:
прийдет он нищим, восседая на осле" 11. Когда раввины попытались
примирить пророчества Даниила и Захарии, то высказали предполо-
жение, что мессия придет во славе, на облаках, если народ израиль-
ский достойно приготовит себя, если же нет, то спаситель явится
в виде сидящего на осле нищего.
Христиане иначе примирили эти пророческие противоречия:
приход на облаках небесных они, логично, отнесли ко второму при-
шествию мессии, когда он сойдет с неба во всем своем неземном
величии; сидя же на осле, он придет в первый раз. Но так
как в понятие мессии они вложили наряду с прежним новый
7 Д. Штраус. „Жизнь Иисуса", кн. II, стр. 148.
8 А. Древс. „Das Markusev.", стр. 210. Его же „Жил ли христос?"
стр. 35.
9 Д. Робертсон. „Евангельские мифы", стр. 83.
10 A. Jeremias. „Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients",
стр. 646; 3 изд., 1916 г.
11 Д. Штраус, назв. соч., II, стр. 146.
13
смысл, новое содержание, видя в этом спасителе царя из семени
Давида и в то же время царя мирного, кроткого, а не воинствен-
ного, то и нарисовали нам картину соответствующего входа Иисуса
в Иерусалим. Главный материал и основную идею для нее они,
как мы видели, почерпнули из „пророчеств" Захарии, Исайи
и Бытия. Что последний источник, несомненно, был использован,
мы видим не только из подчеркиваемого евангелистами мотива
„привязанного" осла или ослов, но, между прочим, также, из книг
ранне-христианского писателя Юстина 12. Больше того, мы можем
даже объяснить себе, почему выводится ими этот мотив.
Могло ли удовлетворить евангелистов простое указание на испол-
нение пророчества Захарии?
Нет! — им, конечно, хотелось показать, что необходимые для
въезда животные были заранее заготовлены промыслом божиим для
Иисуса. Ослы уже заготовлены, привязаны, они ждут мессию-
христа, и он знает это, знает даже, где они находятся. Поэтому,
стоит только сходить за ними и привести их, при чем даже их
собственники-хозяева знают великое назначение своих ослов, почему
для них достаточно простой ссылки на требование христа-„господа",
чтобы отдать их для него. Только Иоанн, в задачу которого вхо-
дило нарисовать, главным образом, впечатление на народ от мифи-
ческого воскрешения Иисусом Лазаря, опускает обстановку обре-
тения ослов и просто заставляет своего героя найти их и ехать.
Так, в рассказах всех четырех евангелистов мы видим отнюдь
не желание рисовать какой-либо исторический факт, а только
и только догматику, тенденцию дать картину исполнения ветхо-
заветных пророчеств.
Краски для своей картины они брали с ветхозаветной палитры,
как из мессианских мест, так из псалмов и рассказов о помазании
на царство Саула и Ииуя.
12 „Сочинения св. Юстина мученика", — „Разговор с Трифоном иудеем",
гл. 52—53; 1892 г.
14
II. НАЧАЛО КОНЦА
(Очищение храма, проклятие смоковницы и
Вифанская вечеря).
Итак, исходный пункт крестного пути, вход господень в Иеру-
салим, оказался мифом и только мифом, а не отражением истори-
ческого факта. Это нас заставляет сильно задуматься. Однако,
посмотрим, что будет дальше.
Если мы, как и раньше, возьмем за основу евангельское пове-
ствование Матфея, то первое, что сделал Иисус, войдя в Иеруса-
лим, было „очищение храма":
„И вошел Иисус в храм божий, и выгнал всех продающих
и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи
продающих голубей. И говорил им: написано: „дом мой домом
молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников.
И приступили к нему в храме слепые и хромые; и он исцелил их.
Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотво-
рил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: „осанна сыну
Давидову!" вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они
говорят? Иисус же говорит им: да. Разве вы никогда не читали:
„из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?" И, оставив
их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь" (21, 12—17).
А теперь произведем очную ставку евангелистов.
У Марка Иисус в день своего входа „очищения" не произ-
водит:
„И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все,
как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью"
(11, 11). Только на следующий день, успев дорогой проклясть
15
смоковницу, о чем мы будем говорить ниже, — он вошел и очистил
храм. Самое очищение у Марка рисуется почти одинаково с Мат-
феем, зато Иисус проповедует в храме свое учение, каковому народ
дивился и из-за какового „книжники и первосвященники... искали,
как бы погубить его; ибо боялись его (Иисуса)" и совершенно
нет сцены со славословящими его детьми.
У Луки Иисус, приближаясь к городу, плачет и произносит про-
рочество о разрушении Иерусалима, затем, как у Матфея, входит
и очищает храм, при чем этот эпизод описан кратко:
„И, вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и поку-
пающих, говоря им: написано" и т. д. „И учил каждый день
в храме" (19, 41—47). Дети не фигурируют.
У Иоанна в данном месте совершенно нет „очищения храма",
так как этот эпизод он отнес к самому началу деятельности Иисуса
(гл. г). Здесь же Иисус, окруженный толпой народа, пораженного
его чудесным воскрешением Лазаря, и эллинами, произносит напы-
щенную проповедь, переходящую в молитву к богу-отцу о просла-
влении имени своего; с неба слышится глас: „и прославил, и еще
прославлю", далее — опять такая же длинная проповедь (12, 17—50).
Итак, в данном случае нам приходится иметь дело только
с тремя первыми евангелистами, рассказы коих разногласят друг
другу. Какова их историческая ценность. Одни эти разногласия
и отнесение Иоанном очищения храма к самым первым деяниям
Иисуса были бы достаточны для возможности сомнения. Последнее
еще больше напрашивается при мысли о том, что, как показал
Фолькмар, личное опрокидывание Иисусом столов и скамей торгов-
цев немыслимо ни с моральной стороны, ибо жертвоприношения,
делавшие необходимой торговлю, были предписаны законом, ни
с физической, ибо фантастическая выходка Иисуса обязательно
вызвала бы физическое противодействие. Поэтому названный
ученый видит здесь не исторический факт, а символику:
„Иисус очистил храм в идеальном, всемирно-историческим смысле" 1.
К такому же, чисто отрицательному, выводу приходит и наш
ученый, проф. Виппер.
1 A. Drews. „Markusev.", стр. 214.
16
„Этот рассказ, — говорит он, — очень важный и, так сказать,
обязательный для евангельской композиции, не соответствует
действительности того времени, куда он помещает Иисуса.
В великом Иерусалимском храме не было и не могло быть ничего
подобного описываемой торговле. Правда, торговали у ворот, на
прилегающем базаре, продавали предметы подношений и жертв, пред-
назначавшихся для храма, но такого рода торговля ничем не отли-
чается от того, что в христианскую эпоху происходило у ворот
какого-нибудь монастыря. Этих торговцев гнать не было никакого
основания, не говоря о том, что частному человеку храмовая адми-
нистрация и местные власти вообще не позволили бы так круто
распорядиться" 2.
Дальше же Виппер показывает, что данный евангельский рассказ
был составлен лицом, который, очевидно, не имел ясного предста-
вления об этом храме и его обстановке.
Уже одни эти психологические и исторические несуразности
заставляют нас распрощаться, как с фактом реальным, — с очищением
Иерусалимского храма строгим ревнителем святости его, — галилейским
проповедником, — или, — скажем словами Древса, — „героический жест
религиозного обновителя Израиля должен быть, таким обра-
зом, вычеркнут из биографии Иисуса". Следовательно, при-
мыкающий к предыдущей евангельской мифологии рассказ об
„очищении храма" сам, в свою очередь, является мифом, — и нам
остается только выяснить материал, откуда он был почерпнут и
чем навеян.
Нет сомнения, что главным основанием к созданию этого мифа
явился ранне-христианский протест против застывшей в казенщине,
оффициальной, храмовой религии иудейства, которая центр тяжести
перенесла на внешнее благочестие и обильное жертвоприношение
в храме. Этот протест подготовлялся уже давно и следов его много
в самом ветхом завете.
„К чему мне множество жертв ваших? — говорит господь
(у Исайи). — Я пресыщен всесожжениями овнов и туком (жиром) откор-
мленного скота; и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы
2 Р. Виппер. „Возникновение христианства", стр. 29—30, 1918 г.
17 2
Пасхальная мифология
приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы
вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных; курение
отвратительно для меня... Смойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро;
ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь
за вдову... Как сделалась блудницею верная столица моя, испол-
ненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы...
Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят
подарки и гонятся за мздою; не защищают сироты и дело вдовы
не доходит до них. Посему говорит господь, господь Саваоф,
сильный израилев: о, удовлетворю я себя над противниками моими
и отомщу врагам моим! И обращу на тебя руку мою, и, как
в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое"
(1, 11—25).
Если в этих грозных речах господа у Исайи, а мы привели их
только малую часть, — слышатся мотивы обличительных речей Иисуса
в Иерусалимском храме, то пророк Малахия рисует нам еще более
знакомую картину:
Вот, я посылаю ангела (вестника) моего, и он приготовит путь
предо мною, и внезапно придет в храм свой господь, которого
вы ищите, и ангел завета, которого вы желаете; вот, он идет,
говорит господь Саваоф.
„И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он
явится? И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия (священников) и переплавит их, как золото и как серебро,
чтобы приносили жертву господу в правде. Тогда благоприятна
будет господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и
как в лета прежние" (3, 1—4).
То, чего, как будто, недостает у Малахии, мы находим у Захарии,
В ярких красках рисуя предсказанный день пришествия небесного
карателя за преступления, он заканчивает все это такими словами:
„И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею господа
Саваофа... и не будет более ни одного торговца (в русской
библии — хананея) в доме господа Саваофа в тот день" (14, 21).
Наконец, приведем и те ветхозаветные места, кои, по указанию
самих евангелистов, нашли свое осуществление в деяния Иисуса, а
18
на самом деле послужили только первоисточником для создания
этого мифа.
Устами того же пророка Исайи бог говорит:
„Я приведу на святую гору мою, и обрадую их (т. е. правед-
ных) в моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут
благоприятны на жертвеннике моем: ибо дом мой назовется до-
мом молитвы для всех народов" (56, 7).
С гневом замечает господь у Иеремии то, что говорится в храме:
„Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших
дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, гово-
рит господь... То я так же поступлю с домом сим, над которым
наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое
я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом (т. е. разрушу
его).. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит
господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено
имя мое, чтобы осквернить его" (VII, 11, 14, 30).
Аналогичную идею находим у пророка Осии: „Все зло их
в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из
дома моего, не будет больше любить их; все князья их отступ-
ники" (9, 15).
Присоедините сюда, наконец, слова 68 псалма, во многом исполь-
зованного для предыдущих мифических эпизодов из жизни Иисуса:
„Ибо ревность по доме твоем снедает меня" (ст. 10).
Совокупность всех этих ветхозаветных мест дала основной фон,
детали и материал для евангельского мифа об очищении Иисусом
храма. Добавим, что характерная сценка со славословящими детьми,
которую рисует только Матфей, по словам его же самого, навеяна
тем же первоисточником. В одном из псалмов читаем:
„Господи, боже наш!.. Слава твоя простирается превыше небес.
Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, ради врагов
твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя" (8, 2—3).
Прямым продолжением данного мифа является рассказ о прокля-
тии Иисусом смоковницы, которая засыхает от слов его по ее адресу.
Разбирать историческую ценность этого эпизода не приходится: мы
имеем здесь дело с чудом, а оно, как таковое, целиком принадле-
жит мифологии, а не истории. Желающие посмотреть, как еванге-
19
2*
листы противоречат друг другу, при чтении увидят, что в то время,
как Матфей относит это „чудо" ко времени после „очищения",
Марк разбивает его на два момента и первый относит ко времени до
очищения, выводя при этом Иисуса в роли ненормального субъекта:
Иисус нашел на смоковнице только листья и за это проклял ее,
„ибо еще не время было собирания смокв" (11, 12—13; Мат-
фей, 21, 18—22). Лука и Иоанн мифа не приводят, навеян же
последний ветхозаветными местами: Осией, 9, 10, 16; Михеем, 7,
1—2; псалмом 36, 35—36; Книгой Иова, 18,4, 16 и др., некоторые
из которых повлияли на создание предыдущего мифа (например,
Осия, 9, 15—16).
Символический смысл данного евангельского „чуда" или мифа
о нем мы вскрывать не будем, укажем только, что он хорошо вы-
вялен Д. Штраусом 3.
Так между входом Иисуса в Иерусалим, очищением им храма
и проклятием смоковницы устанавливается тесная ветхозаветная
связь. Далее у всех евангелистов следуют длинные речи и притчи,
идеи и содержание которых опять-таки выхвачено из ветхого завета
и вообще тогдашней иудейской литературы. Интересующихся ими
мы отсылаем к трудам Древса, Смита и проч. 4, сами же обратим
внимание читателя только на один момент: у всех евангелистов
в данном случае учитель проповедует свое учение в Иерусалимском,
„очищенном" им храме. Но вот еще проф. Брандт, а за ним
Штейдель и другие определенно указывают на историческую неле-
пость, невозможность этого факта. Дело в том, что изъяснение
священного писания и проповеди производились в те времена, как
и теперь, в синагогах, молитвенных домах, но отнюдь не в Иеруса-
лимском храме. Эти два учреждения или места не были связаны
друг с другом. Храм был исключительно местом жертвоприношения,
3 Д. Штраус, — назв. соч., II, стр. 138—140.
4 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 209 сл.
W. Smith. „Der vorchristliche Jesus", 2 изд., 1911 г.
Его же. „Ecce Deus", 1911 г.
G. Sadler. „The inner meaning of four gospels", 1920 г.
Д. Робертсон. „Ев. мифы", стр. 138—186.
20
а не поучения 5. Поэтому Иисус ни в коем случае не мог разви-
вать своего учения и притом столь неоднократно, — как в еванге-
лиях, — в храме.
Здесь пред нами то же явление, что и при описании самого
„очищения", т. е., новозаветные авторы не имели правильного пред-
ставления об Иерусалиме и его храме.
Как результат этой исторически невозможной проповеди, где
галилейский проповедник, заметим еще раз, не преподносил слушате-
лям ничего нового, был гнев первосвященников и книжников и их
решение схватить и убить неудобного пришельца. Однако, прежде,
чем это произошло, имел место ряд других эпизодов, являющихся
продолжением все той же мифической истории Иисуса, — и прежде
всего так называемая „Вифанская вечеря".
До праздника пасхи оставалось два дня, евангельский герой все
время ходил из Вифании в Иерусалим и обратно, и вот однажды:
„Когда (же) Иисус, — продолжает Матфей, — был в Вифании, в доме
Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым
сосудом мира (душистого масла) драгоценного, и возливала ему воз-
лежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и
говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это
миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие,
сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала
для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда
имеете. Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня
к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано еван-
гилие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что
она сделала" (26, 6—13).
Марк рисует картину точно так же, только говорит, что возроп-
тали „некоторые" и что миро можно было бы продать „более, нежели
за триста динариев" (14, 3—9).
Не будем пока разбирать деталей этой сцены, заметим только
странное, само бросающееся в глаза обстоятельство: ни Матфей, ни
Марк не приводят нам имени этой женщины, память о коей, по
5 F. Steudеl. „Im Kampf um die Christusmythe", стр. 42—43, 1910 г.
W. Brandt. „Die evangelische Geschichte".
21
словам Иисуса, пронесется по всему миру. То, что мы не находим
здесь, дает нам Иоанн, представляющий дело несколько иначе.
„За шесть дней до пасхи, — рассказывает он, — пришел Иисус
в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из
мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила ему, а
Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт
нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла
волосами своими ноги его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который
хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не роздать нищим? Сказал же он это не по-
тому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор (он имел
при себе денежный ящик и носил, что туда опускали). Иисус же
сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие же
из иудеев узнали, что он там: и пришли не только для Иисуса, но
чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых" (12, 1—9).
Теперь сопоставим три этих рассказа. Что здесь рисуется одна
и та же „вечеря", сомнения, конечно, быть не может, но как она
различно описана. Безымянная женщина у первых двух евангели-
стов, — сестра Лазаря — у Иоанна, умастила драгоценным миром Иисуса.
Этим поступком ее возмущаются: у Матфея — ученики, у Марка —
„некоторые" (из присутствовавших), у Иоанна — один только „вор"
Иуда. Первые два автора имени ее не приводят, хотя говорят
о долгой памяти о ней, Иоанн дает имя, но зато и, очевидно,
потому молчит об этой памяти и проповедании евангелия. Если у пер-
вого говорится просто об алавастровом сосуде с миром, то у второго
оно оценивается более чем за триста динариев, а у третьего — ука-
зано количество — один фунт (много для головы, достаточно для
ног!). Характерно разногласие по поводу самого „помазания": у пер-
вых двух женщина возливает миро на голову Иисуса, у Иоанна
Мария умащает ноги учителя и вытирает их своими волосами.
Откуда он взял эту деталь?
Еще для своего мифа о воскрешении Лазаря идею, обстановку
и действующих лиц Иоанн позаимствовал из евангелия Луки: мифи-
ческого Лазаря он взял из притчи о богаче и бедном Лазаре, а
22
Марфу и Марию из истории посещения Иисусом этих двух сестер.
Все эти три личности фигурируют у него и в рассказе о Вифанской
вечери: Марфа прислуживает, Мария умащает, воскрешенный Лазарь
возлежит. Может быть, у Луки же Иоанн позаимствовал и харак-
терную здесь деталь о помазании ног и волосах? Да, у Луки.
Чтобы видеть, как складывался рассказ обо всем этом, приведем
соответствующее место из названного евангелиста:
„Некто из фарисеев, — повествует Лука, — просил его (Иисуса)
вкусить с ним пищи; и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот, жен-
щина того города (какого?), которая была грешница, узнавши, что
он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром;
и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами
и отирать волосами главы своей, и целовала ноги его, и мазала
миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе:
если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прика-
сается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус
сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе... (далее следует притча
о двух должниках). И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь
ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги
не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей
отерла. Ты целования мне не дал; а она, с тех пор, как я пришел,
не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не
помазал; а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе:
прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а
кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются
тебе грехи... Вера твоя спасла тебя; иди с миром" (7, 36—50).
Таков рассказ Луки об „умащении". Хотя автор этот эпизод
относит к началу деятельности Иисуса, еще в Галилее, все же,
несомненно, речь идет об одном и том же происшествии, о каковом
говорят и прочие евангелисты. Действительно, Лука Вифанской
вечери с помазанием совершенно не знает, его героиня также
приносит алавастровый сосуд с миром и умащает во время трапезы,
также подвергается нареканию, правда, мыслимому со стороны домо-
хозяина и также берется под защиту Иисусом,
Да и само действие происходит в доме Симона, хотя фарисея,
а не прокаженного.
23
Как видим, хотя мы и нашли источник Иоаннова рассказа, но
зато оказались пред новым вариантом „вечери" и помазания. Дело
запутывается все более: умащающая женщина выступает пред нами
то в виде какой-то поклонницы Иисуса, то в качестве Марии —
сестры Марфы и Лазаря, то, наконец, в роли кающейся галилейской
грешницы. Согласовать, примирить эти данные невозможно.
Поэтому поставим два главных вопроса: где произошла вечера с ума-
щением Иисуса и когда?
В Вифании, в доме Симона прокаженного, — говорят Матфей и
Марк; в Вифании же, — соглашается Иоанн, но потому, как он опи-
сывает присутствие Марии, Лазаря и чисто хозяйское прислуживание
Марфы, напрашивается вывод, что дело происходило в доме их;
в Галилее, в доме фарисея Симона, — утверждает Лука. Географи-
чески примирить эти показания также невозможно.
Умащение произошло за два дня до Пасхи, после очищения
храма, — так стоит у Матфея и Марка; оно имело место за шесть
дней до праздника и накануне „очищения", — утверждает Иоанн;
нет, Иисус был помазан в самом начале своей деятельности, еще
при жизни (мифического) крестителя 6, — заявляет Лука. И хроноло-
гически эти показания непримиримы.
Итак, на все наши вопросы, притом основные, при каких обстоя-
тельствах, кто, где и когда помазал Иисуса, — получаем или взаимно
исключающие, или же вообще несходные ответы. Показательно то,
что, хуже всего, повидимому, дело обстоит у предполагаемых прямых
учеников Иисуса, апостолов, в особенности у Иоанна, его любимого
ученика, коего он, говорят, имел при себе в самые интимные моменты
своей жизни, напр., в эпизоде с мифическим преображением.
Все это заставляет нас поставить под вопрос историчность, реаль-
ность Вифанской вечери. Сомнение в ее историчности еще более
усиливается, когда мы вдумаемся в слова Иисуса относительно жен-
щины: „где ни будет проповедано евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о том, что она сделала". Здесь слово
„евангелие" выступает не в смысле „радостной вести" о близости
царства небесного, а в смысле „евангельской истории" или рассказов
6 О нем см. хотя бы нашу монографию — „Миф об Иоанне крестителе".
24
о жизни Иисуса, кои разносятся по всему миру пропагандистами
христианства.
Иначе говоря, эти слова могли появиться только в сравнительно
позднее время, конечно, после предполагаемой смерти Иисуса, когда
сложилась уже биография галилейского проповедника и когда слово
„евангелие" приняло уже тот смысл, какой вкладывают в него обычно
христиане. На основании этого соображения, даже почтенный проф.
теологии О. Пфлейдерер признает слова Иисуса неисторическими 7.
Он же обращает внимание и на другое, исторически уязвимое, место:
на истолкование умащения в качестве подготовки тела Иисуса
к погребению. Откуда такое провидение у женщины скорой смерти
спасителя, каковую еще не предчувствуют даже его ближайшие
ученики, хотя он им, — если верить евангелиям, — неоднократно пред-
сказывал и намекал о ней? А что сцена носит, действительно, такой,
отзывающий смертью и трупом, характер, отрицать этого нельзя, да
и не даром она разыгрывается как раз пред скорым арестом,
смертью и погребением Иисуса, — в этом ее основная идея, глав-
ный смысл.
Если при чисто историческом подходе к Вифанской сцене мы не
можем выбраться из целого ряда тупиков и неразрешимых загадок,
то попробуем подойти к ней с другой стороны, с той, с какой нам,
быть может, и следовало бы начать, — с мифической. Ведь эта
вечеря тесно примыкает ко всей предыдущей, мифической истории,
является лишь ее дальнейшим развитем. Там весь материал давался
ветхим заветом и некоторыми другими источниками. Ну, а здесь?
Почему здесь выведена сцена помазания?
Когда мы разбирали происхождение мифа о входе в Иерусалим,
то видели, что материал для него был взят между прочим из двух
ветхозаветных историй о помазании: Ииуя и Саула. Так, ученик
Елисея „вылил елей на голову" первого; так „взял Самуил сосуд
с елеем и вылил на голову его (Саула), и поцеловал его". Может
ли быть простым совпадением, случайностью, — это сцепление моментов?
Конечно, нет. Двойное помазание елеем на царство должно был
привести на память евангелистов слова псалма:
7 О. Pfleiderer. „Das Urchristentum", т. I, стр. 385; 2 изд., 1902 г.
25
„Если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла,
потому что ты со мною, твой жезл и твой посох — они успокаивают
меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов
моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена"
(22, 4—5).
Мотив предстоящей смерти, трапезы, умащения главы елеем и
опасность со стороны врагов, — все это основые моменты Вифанской
вечери. Этот же намек на смерть и погребение содержится опять-
таки в истории помазания Саула. Самуил, предсказывая последнему
те встречи, кои послужат подтверждением — знамением божия соизво-
ления на помазание, и рисуя как раз использованную евангелистами
для „входа господня" сцену с нахождением ослов, говорит:
„Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек
близ гроба Рахили" (10, 2).
Наконец, идею скорой смерти или страданий давало само
название местности — Вифании, которое, как слово, означает „дом
бедных", а также в этом слове содержится корень, означающий „му-
чение" или „огорчение". Стоит ли указывать, что „дом бедных"
повлек за собою слова Иисуса о нищих, которые выхвачены из
Второзакония:
„Ибо нищие всегда будут среди земли вашей" (15, 11)?
Таким образом, в наших руках вифанская история целиком раз-
ложилась на ветхозаветные источники и оказалась лишь типичным
евангельским мифом 8.
8. О нем см. также Д. Робертсон. „Ев. мифы", стр. 80—83.
26
III. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Если разобранная нами и оказавшаяся мифической сцена миро-
помазания Иисуса в сознании христиан занимала важное место, то
гораздо более важную роль здесь, а особенно в общинно-культовой
и церковной жизни, играла и все еще продолжает играть другая
вечеря, так называемая „тайная" или последняя, которую, будто бы,
совершил учитель с учениками в последние дни, даже часы своей
жизни. Эта „тайная вечеря", превратившаяся потом в таинство
причащения, заняла центральное место в обрядовой практике хри-
стиан. К ней-то мы подведены теперь всем ходом предыдущей,
увы, мифической истории основоположника христианства.
Участниками ее были все ученики — апостолы, все двенадцать,
а значит, и некоторые авторы наших евангелий, прямые очевидцы
и свидетели этого момента величественной драмы страдающего,
умирающего и воскресающего спасителя.
Один из них даже, говорят, возлежал на груди его в тот мо-
мент, тот ученик, которого любил Иисус. Попросим же их рас-
сказать нам, как происходила эта памятная „тайная вечеря". Однако
начнем на этот раз с евангелиста Марка, так как его евангелие
считается в науке древнейшим и „надежнейшим". Итак, Марк?
„В первый день опресноков, когда закалали пасхального агнца,
говорят ему ученики его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и при-
готовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им: пой-
дите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды;
последуйте за ним. И, когда войдет, скажите хозяину дома того:
„учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть пасху с уче-
никами моими". И он покажет вам горницу большую, устланную,
27
готовую: там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли
в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
„Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И, когда они
возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас,
идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить
ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал
им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо.
Впрочем сын человеческий идет, как писано о нем; но горе тому
человеку, которым сын человеческий предается: лучше было бы тому
человеку не родиться. И, когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благо-
словил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите, сие есть тело
мое. И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
И скаазал им: сие есть кровь моя нового завета, за многих изли-
ваемая. Истинно говорю вам: я уже не буду пить от плода вино-
градного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии божием.
„И, воспев, пошли на гору Елеонскую" (14, 12—26).
Матвей передает почти также, с небольшими отклонениями в
словах Иисуса (26, 17—30). Лука изображает вечерю несколько
подробнее. В числе прочих новых деталей у него Иисус после
предложения ученикам хлеба-тела заповедует: „сие творите в мое
воспоминание". Далее идет новый характерный момент, рассказ
о коем следует привести, — спор учеников.
„Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться боль-
шим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и вла-
деющие ими благодетелями называются. А вы не так: но, кто из
вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий.
А я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со мною в напастях
моих; и я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство, да
ядите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на пре-
столах судить двенадцать колен израилевых.
„И сказал господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы
сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оску-
дела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.
Он отвечал ему: господи! с тобою я готов и в темницу и на смерть
итти. Но он сказал: говорю тебе Петр, не пропоет петух сегодня,
как ты трижды отречешься, что не знаешь меня".
28
Кончается вечеря предложением учителя ученикам запастись
оружием, мечами, на что слышит в ответ, что у них есть два меча,
говорит: „довольно" и идет на гору Елеонскую (22, 15—39).
Так как рассказы всех трех евангелистов, видимо, в существен-
ном не противоречат друг другу и являются только взаимодопол-
нением, то сделаем маленькую сводку их.
Главное содержание всех их сводится к следующему: тайная вечеря
происходит в первый день пасхи, учитель предлагает ученикам хлеб
и вино в качестве своей плоти и крови, завещевает творить вечерю
и дальше в его воспоминание, предсказывает о предательстве одного
из них — Иуды, разрешает их спор о первенстве, предвещает сиде-
ние на престолах, в качестве судей, а также об отречении Петра,
заканчивается вечеря словами о мечах. Впрочем, последних четырех
моментов нет в соответствующих рассказах Марка и Луки, хотя об
отречении Петра у них речь будет итти дальше.
Совершенно иначе рисует дело „любимый" ученик Иисуса
и участник этой сцены, — Иоанн.
„Пред праздником пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти
от мира сего к отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире,
до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вло-
жил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная,
что отец все отдал в руки его, и что он от бога исшел и к богу
отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв поло-
тенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу, и начал умы-
вать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
Подходит к Симону Петру; и тот говорит ему: господи! Тебе ли
умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю, теперь
ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: не умоешь
ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь
части со мною. Симон Петр говорит ему: господи! не только ноги
мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно
только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не
все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы
чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то, возлегши
опять, сказал им: знаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете
меня учителем и господом, и правильно говорите; ибо я точно то.
29
Итак, если я, господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали
то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не
больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас
говорю; я знаю, которых избрал"...
Далее идет предсказание и указание на предательство Иуды,
грядущую участь Петра и его скорое троекратное отречение, а за-
тем длинная, философски построенная, речь, вся вращающаяся вокруг
личности говорящего и его миссии, переходящая, наконец, в не
менее длинное молитвенное обращение — молитву „сына" к боже-
ственному „отцу" (13—18 гл.).
Как видим, материала у нас для разбора вопроса о „тайной
вечере" много, слишком много.
Поставим пред собой один, главный вопрос: когда, в какой день
она происходила?
Матфей, Марк и Лука определенно говорят, что вечеря имела
место в первый день праздника опресноков, в каковой день совер-
шалась пасхальная трапеза у евреев, а все это падало на 14 число
месяца нисана (март — апрель). В книге Исход описывается нам
самое установление или учреждение этого праздника:
„И сказал господь Моисею и Арону в земле Египетской, говоря:
месяц сей (нисан) да будет у вас началом месяцев, первым да будет
он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов
Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца по семействам, по агнцу на семейство... Агнец у вас
должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его
от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнад-
цатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание
общества израильского вечером... Пусть съедят мясо его в сию самую
ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами
пусть съедят его... Не оставляйте от него до утра и кости его не
сокрушайте... И да будет вам день сей памятен, и празднуйте
в оный праздник господу, во все роды ваши: как установление веч-
ное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб... С четыр-
надцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до
30
вечера двадцать первого дня того же месяца... И созвал Моисей
всех старейшин израилевых, и сказал им: выберите и возьмите себе
агнцев по семействам вашим и заколите пасху. И возьмите пучек
иссопа... храните сие как закон.... Это пасхальная жертва" (гл. 12).
Думается, после прочтения этих слов и сообщений первых трех
евангелистов сомнения быть не может: „тайная вечеря" Иисуса была
пасхальной трапезой и происходила как раз 14 числа месяца нисана;
Иисус совершал ее по еврейскому обрядовому закону.
Но вот, четвертый евангелист, Иоанн дает нам совершенно иную
дату, а именно: 13 число нисана, т. е., канун праздника опресно-
ков и пасхи.
Далее, из его описания не видно, чтобы тайная вечеря была
пасхальной, он прямо говорит, что она происходила „пред праздни-
ком пасхи".
Это вытекает еще из ряда его указаний. Так, когда Иисус во
время вечери сказал Иуде: „что делаешь, делай скорее" (13, 27),
ученики истолковали эти слова, как повеление закупить необходимое
к празднику: „некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что
нам нужно к празднику" (пасхи, 13, 29).
Следовательно, пасхальный праздник еще только предстояло
праздновать, он тогда еще не пришел. Наконец, подтверждение
этому мы находим еще и дальше.
На следующий день после вечери и ареста Иисуса иудеи не
вошли в языческую преторию (здание), „чтобы не оскверниться, но
чтобы можно было есть пасху" (18, 28).
Следовательно, у Иоанна, как мы сказали, тайная вечеря происхо-
дила накануне пасхи, т. е. 13 числа.
Кто же из евангелистов прав? Так как установление точной
даты важно для всякого исторического события, а таковым и даже
чрезвычайно ответственным христиане считают как раз эту вечерю,
то на ней следует еще раз остановиться. Ввиду тех хронологи-
ческих противоречий напрашивается подозрение, что синоптики и
Иоанн рисуют нам разные события, разные вечери. Может быть,
последних было две: одна 13 нисана — с умовением ног, другая —
14 нисана — вкушение пасхи? Однако, такое предположение не вы-
держивает никакой критики и опровергается нашими источниками.
31
Обе противоречащие стороны определенно рассказывают, что Иисус
во время вечери предсказывает предательство Иуды, отречение
Петра, и что непосредственно после ее Иисус идет в Гефсиманский
сад и там арестовывается. Значит, у всех четырех авторов имеется
в виду одно и то же событие, одна и та же вечеря, но она не
могла иметь место в два разные момента времени, — 13 и 14
нисана.
Таким образом, евангелисты загнали нас в хронологический
тупик, их указания на время непримиримы между собой и взаимно
исключающие, а посему, на наш главный, основной вопрос, — о дате
вечери, — удовлетворительного ответа нам не дается. Это, конечно,
весьма примечательно и заставляет нас быть настороже и в даль-
нейшем, в разборе обстоятельств, при каких протекала эта вечеря.
Да, как она протекала, каково было ее содержание? Начнем
с рассказа Иоанна.
Последний определенно указывает, что Иисус не вкушал пасхаль-
ного агнца и, значит, вечеря не носила характера пасхального.
Невольно возникает вопрос, — почему? Самое евангелие, а, вернее,
развиваемая в нем религиозная философия и символика дает нам
ответ на этот недоуменный вопрос. В план евангелиста входило
иудейской пасхе противопоставить христианскую, иудейскому пасхаль-
ному агнцу христианского „агнца" — Иисуса христа. Его описание
вечери, и затем суда и казни Иисуса все пропитано этой идеей:
спасителя распинают на кресте тогда же, когда закалался иудейский
пасхальный агнец, если у последнего нельзя было сокрушать костей,
то и у христа на кресте не были переломлены голени и „сие
произошло, да сбудется писание: кость его да не сокрушится...
и воззрят на того, которого пронзили" (Иоанн 19, 33—39).
Иоанном руководит только философия, догматика, а не история 1.
Желание отмежеваться от иудейских обрядностей, от иудейской пасхи
руководило ими в ином освещении последней трапезы Иисуса, в ко-
торой прочие евангелисты и ранние христиане видели учреждение
таинства евхаристии — причащения. Но куда же приурочил Иоанн это-
установление, как у него Иисус учредил его? Ответ на это дает
1 Д. Штраус, назв. соч., кн. II, стр. 157—158.
32
шестая глава евангелия, где рисуется чудесное насыщение хлебами
многих тысяч народа, — вот когда и как был установлен этот обряд.
Там-то, — у Иоанна, — спаситель говорит: „Истинно, истинно говорю
вам: верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни...
Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб
живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за
жизнь мира... Истинно, истинно говорю вам (иудеям): если не бу-
дете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь
имеет жизнь вечную; и я воскрешу его в последний день. Ибо
плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие.
Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я
в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий
меня жить будет мною...
„Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме" (6, 47—59).
Следовательно, у него Иисус учредил таинство причащения не
реальным образом, а мистико-идеальным и установил его вне всякой
связи с иудейскими обрядами, как совершенно новый обряд, отме-
чавший собою гибель старины. Эту идею он переплел с идеей
иудейского пасхального агнца путем противопоставления ему истин-
ного, закалаемого агнца — сына божия, Иисуса.
Но если так, то что же у него должен был делать Иисус на
последней вечери, каковая в сознании христиан занимала большое
место? Предсказывать о предательстве Иуды и отречении Петра?
Этого слишком мало. И мы видим, что у него взамен вкушения пасхаль-
ного агнца, преломления хлеба и предложения чаши, т. е. взамен
установления таинства причащения, происходит омовение ног ученикам.
Откуда у него этот мотив? Отражение реального события,
подлинного деяния Иисуса? Нет, нет и нет. Этот эпизод, носящий
у него опять-таки символический характер, явился плодом заимство-
вания и переработки некоторых мест у Луки. Вот почему мы
в свое время из рассказа последнего привели ряд слов Иисуса,
отсутствующих у Матфея и Марка.
Читатель, вероятно, помнит, что по рассказу Луки и только его
одного, во время тайной вечери ученики заспорили о старшинстве,
33 3
Пасхальная мифология
а Иисус советовал им быть большему меньшим и начальствующему
уподобляться служащему. При этом он сослался на себя: „а я
посреди вас, как служащий".
Эту же самую мысль Лука в другом месте разработал в целую
притчу, где было сказано, что христос при втором пришествии так
же наградит оставшихся ему верными, как награждает господин тех
рабов, коих он найдет бодрствующими: „он препояшется (полотенцем),
и посадит их, и, подходя, станет служить им" (12, 37).
Вот эти-то два места Луки, несомненно, были взяты Иоанном,
и он создал из них полную драматизма картину, где в не совсем
красивом свете в смысле догадливости и вообще умственных способ-
ностей выводится Петр, охотно предлагающий учителю вымыть ему
не только ноги, но руки и даже голову, и тем обнаруживающий свое
непонимание символизма деяния. Здесь мы еще раз наблюдаем
манеру письма Иоанна, этого предполагаемого участника вечери,
рисующего нам отнюдь не историческое событие, не действительное
деяние учителя, а только и только символическую, не реальную
сцену, — плод переработки чужого материала. Здесь картина та же,
что и в сцене воскрешения Лазаря, мифе, созданном им из отдельных
мест того же Луки. Однако, рисуя эту картину, он тем самым
желает заполнить его пробел, получившийся у него от опущения рас-
сказа об установлении таинства причащения. Недаром в словах
Иисуса указывается на его собственный „пример" ученикам и запо-
ведание совершать это же самое в дальнейшем. Хотя здесь смысл
и аллегорический — иносказательный, — призыв к самоуничижению, —
все же в повелительных словах чувствуется как бы наказ совершать
подобный обряд в общине.
На предсказаниях Иисуса относительно Иуды и Петра мы пока
останавливаться не будем, они, как и всякие подобные предсказания,
якобы, впоследствии сбывающиеся, исторического доверия не заслу-
живают и содержанием исторического события служить не могут. Не
будем разбирать мы и длинных, построенных по всем правилам
иудеогреческой философии александрийцев, особенно Филона, затра-
пезных речей и молитвы Иисуса. Скажем только, что по духу и
содержанию, а также по форме, они меньше всего подходят к вы-
бранному моменту, и чувствуется, что автор, ввиду скорого конца
34
своей истории и отсутствия в дальнейшем подходящего случая для
вложения своей философии в уста герою, заставляет его на этот
раз излить, как говорится, всю свою душу.
Вместе с тем поблекли все исторические краски на кар-
тине четвертого евангелиста, она выступила перед нами не
в качестве отображения или описания исторического события,
а только и только продуктом догматики, плодом религиозной фило-
софии, фантазии.
Ну, а картина синоптиков? Какова ее историческая ценность?
Характерными моментами их рассказа является подготовка к вечери
и учреждение евхаристии. Начнем с подготовки. Думается, читатель
и сам подметил, что чудесный, явно неисторический характер ее
с посылкой учеников в город, где они встретят человека с кув-
шином воды, пойдут за ним в богато-украшенную горницу, и он
отведет последнюю под вечерю, — этот характер навеян там же
ветхим заветом, больше того, все той же историей помазания Са-
муилом Саула на царство, которая послужила материалом для мифа
о входе господнем в Иерусалим и вифанской вечери.
Там Самуил предсказывает „помазанному" сначала о встрече
с двумя людьми, которые скажут ему о нахождении пропавших ослов,
а затем продолжает: „встретят тебя там три человека, идущих к богу,
в Вефиль: один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий
несет мех с вином (1 кн. Царств, 10, 3). Эти три предмета, — козленок,
хлеб и вино, — должны были, как замечает Древс, напомнить еван-
гелисту о пасхе.
Пфлейдерер, признавая возможным влияние этого ветхозаветного
места, указывает еще одно, а именно: обстоятельства, при каких
произошло избрание невесты для сына Авраама — Исаака. Патриарх
посылает своего раба, чтобы он по указанию божию выбрал для
сына невесту. Раб останавливается у колодца и заранее загадывает,
что богом будет указана ему та женщина, — буде таковая найдется, —
которая попадется ему навстречу с кувшином воды и согласится
напоить его и животных. Дело разыгралось так, как наметил
или загадал раб Авраама: Ревекка с кувшином воды исполнила
просьбу; значит, сам бог предназначил ее в жены сыну хозяина
(Бытие, 24 гл.).
35
3*
Названный ученый, ссылаясь на это место, имел в виду, конечно,
чудесные предуказание на встречу и самую встречу учеников Иисуса
с лицом, несущим кувшин воды 2.
Если чудом, заимствованным, как видим, из ветхого завета, является
предвидение и магическая сила слов Иисуса, — которому стоит только
послать учеников к любому обитателю города с многотысячным насе-
лением и известить о желании справлять пасхальную вечерю у него
в доме, как желание тотчас исполняется, — то не меньшим чудом
представляется и то, что помещение находится в предпраздничный
день. Следует только на минутку призадуматься и представить себе,
что должно было твориться в Иерусалиме в предпасхальные и пас-
хальные дни, когда в город со всех концов Палестины и даже
с чужбины стекалить тысячи, десятки тысяч народу. При его, рас-
читанном, конечно, только на определенное количество жителей, числе
зданий и вообще жилых помещений, найти при таких обстоятель-
ствах и притом на вечер пасхального дня помещение незнакомому
у незнакомых — чудо и только чудо. Предварительное же соглашение
с домохозяином или уговор Иисуса евангелистами отметается.
Так обстоит дело с обстановкой, подготовкой к пасхальной вечери.
Обратимся теперь к разбору ее самой. Основным моментом ее
является преломление хлеба и предложение чаши с вином, коими
Иисус угощает учеников, заявляя и усиленно подчеркивая, что это
есть плоть и кровь, проливаемая за них и многих.
Еще давно Бруно Бауэр (1808—1882), останавливаясь на этом,
заметил, что эта сцена, рассматриваемая исторически, отвратительна
и невозможна.
Человек, который присутствует, который одет в плоть и кровь,
не может додуматься до того, чтобы предлагать другим отведать
своей плоти и крови.
Требование к другим, чтобы они в его присутствии представляли,
что вкушают его самого в хлебе и вине, — такое требование невоз-
можно в устах реального, настоящего человека 3.
2 О. Pfleiderer. „Das Urchristentum", т. I., стр. 386.
3 А. Schweitzer. „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung", стр. 154,
1921 г.
36
Это — одно обстоятельство; другое кроется в словах Иисуса, что
„сие есть тело мое, которое за вас предается". Лука вкладывает
в уста Иисусу цитату из 53 главы Исайи: „и к злодеям причтен",
и слова, что на нем (Иисусе) должно исполниться все предсказанное
в ветхом завете. В этой главе мы находим источник вышеприве-
денных слов, — там таинственная личность, некий „раб божий", агнец,
ведомый на заклание праведных, „оправдает многих, и грехи их на
себе понесет" (ст. 11).
Наконец, центральное место, основной мотив всей сцены, указание,
что вино — кровь Иисуса, является „кровью нового завета", за многих
проливаемою, иначе говоря, указание на установление нового вместо
ветхого завета. Здесь находим такое описание установления отме-
няемого ныне ветхого завета:
„Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною
окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух
народу... И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: „вот
кровь завета, который господь заключил с вами о всех словах сих"
(Исход, 24, 6—8).
Как видим, евангельский рассказ о тайной вечере почти целиком
разложился у нас на свои ветхозаветные части, больше того, мы
видим, что в нем речь идет, несомненно, не о реальном, истори-
ческом событии, а только о символическом, мистическом устано-
влении нового завета на смену ветхого. Чувствуется, что вся эта
вечеря, центральным моментом коей является установление евхаристии,
служит только рамкой, искусственно подобранной обстановкой, куда
ранние христиане, здесь в лице евангелистов, ввели это самое уста-
новление главного их обряда. Так ли это? Ответ мы получим
тогда, если найдем, что подобный обряд, начиная с самой „вечери"
и кончая „хлебом и чашей", был не только у первых христиан, но
существовал еще до начала христианства.
Чтобы разобраться в этом вопросе, нам следует прежде знать, как
вышесказанный обряд совершался у ранних христиан. Описание
его нам оставил Юстин. Он рассказывает, что у его единоверцев
существуют „агапы" — „вечери любви", центральным моментом коих
является ритуальное причащение хлебом и водой с вином, и коим
предшествует омовение. Сам же он заявляет, что эти вечери уста-
37
новлены у христиан по завету Иисуса, сделанному им на тайной
вечере 4. К сожалению, мы не можем останавливаться на разборе
их, отметим только наличие в них нового момента — присутствие
воды наряду с вином, как составного элемента причащения.
Кто желает видеть еще более древнейшую форму агап и евхари-
стии - причащения, а в особенности причастных слов благодарения,
отсутствующих у Юстина, тот все это найдет в любопытном произ-
ведении „Дидахе" или „Учении двенадцати апостолов", каковое произ-
ведение некоторые, например, Д. Робертсон, считают принадлежащим
той дохристианской иудейской секте, из среды коей вышло потом
христианство и в которой божеством был Иисус 5.
Присоединим сюда еще одно важное обстоятельство: в посла-
ниях Павла, этих древнейших новозаветных произведениях, есть
упоминание об агапах и нет ни малейшею намека на знание
автором евангельских рассказов о тайной вечере. Единственное
место, стихи 23—З2 одиннадцатой главы первого послания к корин-
фянам, является позднейшей вставкой и безболезненно выбрасы-
вается из текста 6.
Если мы обратимся к истории еврейского народа, то встретим
там целый ряд подобных трепез. Сами евангелисты указывают, что
Иисус справлял вечерю по иудейскому обычаю; следовательно, уже
в ней, как таковой, в числе необходимых принадлежностей были
хлеб и чаша с вином, вкушение коих носило священнодейственный
характер. Такие же вечери имели место также у предполагаемых
врагов Иисуса — фарисеев, при чем во время их предписывалось воз-
лежание за столом.
Любопытный пример вечерь находим у дохристианской по проис-
хождению иудейской секты ессеев, учение и быт которых так близко
напоминали ранне-христианские 7. К сожалению, мы не можем оста-
4 Юстин. Собр. соч., стр. 97—99.
5 „Учение 12 апостолов", перевод Попова, стр. 16 сл., 1898 г.
J. Robertson. „The Jesus Problem", стр. 170—173, 1917 г.
6 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 78—84.
7 См. статью А. Зуссман — „Ессеи" в журн. „Вестник Знания", № 12,
1913 г. Организация ессеев хорошо освещена К. Каутским в его „Происхо-
ждении христианства", стр. 259—270, изд. 1923 г.
38
навливаться на них, заметим только, что священнодейственная трапеза
у них была ежедневно.
Аналогичное явление наблюдаем у другой такой же секты — фера-
певтов — „врачевателей" души и тела, „служителей" божества.
Замечательно, что учение обоих сект было тайное, втайне хранились
священные книги, поклонение же богу носило астральный характер, т. е.
соединялось с поклонением небесным светилам, особенно, солнцу 8.
Наш исследователь, церковник П. Соколов, приведя соответ-
ствующий материал об иудейских вечерях, ставит неизбежный вопрос:
„могут ли агапы христианской церкви считаться заимствованием у
есеев и ферапевтов, трапезы которых были так — особенно в
некоторых деталях — поразительно похожи на них"? Дальше,
в длинном рассуждении он пытается доказать, что это сходство
объясняется тем, что идея священнодейственной трапезы была при-
суща всему человечеству 9. Для нас важен здесь самый факт поста-
новки данного вопроса им, так как его вывод в книге, на обороте
первой страницы которой стоит красноречивое: „Печатать разре-
шается... Ректор (духовной) академии, епископ Евдоким", для нас
понятен и другого мы ждать не могли.
Если мы перейдем теперь в область так называемых языческих
религий, то обилие вечерь - трапез прямо таки подавляет. Благо-
даря политическому гнету, убившему общественную деятельность,
в последних веках до и первых после начала нашей эры развивается
густая сеть разного рода „братств", корпораций и т. п., члены
коих объединялись друг с другом для самых разнообразных целей,
например: коммерческих, взаимостраховых, культовых и проч. Цен-
тральным моментом всех их была совместная трапеза, приурочи-
ваемая обычно ко дню того или иного божества, избранного в небес-
ные патроны — покровители кружка.
Мы не будем касаться или разбирать их, скажем только, что во
всех вышеприведенных примерах, — как, наверно, подметил сам чита-
тель, — не выступает на сцену, не фигурирует одна и притом — наи-
более важная, черта тайной вечери Иисуса: вкушение плоти и крови
8 О ферапевтах см. хотя бы П. Соколов — „Агапы или вечери любви
в древне-христианском мире", стр. 193—198, 1906 г.
9 П. Соколов. Назв. соч., стр. 196—209.
39
спасителя. Правда, там шла речь о хлебе и вине, кои в евангелиях
символизируют только что названные моменты, но точек над „и"
не ставилось.
Эту, возбудившую отвращение Бауэра, сторону тайной вечери
мы встречаем в целом ряде древних культов.
Так, она ярко выявляется в том великом таинстве, когда веру-
ющие в греческого умирающего и воскрешающего спасителя Диониса,
сына божия и богочеловека, разрывают на части его живое вопло-
щение — священного быка и жадно поглощают еще дымящиеся „боже-
ственной" кровью куски „божественной" плоти — мяса. При этом
они ни на минуту не сомневаются, что приобщаются плоти и крови
своего спасителя.
В более смягченной форме это „таинство" встречается в культе
такого же спасителя фригийского Аттиса 10. К центральному мо-
менту этого культа мы еще вернемся, здесь же отметим, что в нем
существовала масса моментов, совпадающих с христианскими, напри-
мер, таинство крещения и миропомазания. И вот, у поклонников
этого бога была священная трапеза — вечеря. Содержание и идею
ее можно видеть хотя бы в словах христианского писателя Фирмика
Матерна:
„В некотором храме человек, чтобы быть допущенным в святое
святых и там принять смерть, говорит: я поел с тимпана (музыкаль-
ный инструмент), я напился с кимвала (муз. инстр.), я стал мистом
(„посвященным") Аттиса. Дурно, несчастный, сознаешься ты в допу-
щенном грехе: ты впитал в себя снедь смертоносной отравы, ты под
наитием нечестивого безумия вылакал чашу гибели; за такой пищей
следует смерть и кара... Иная та пища, которая дарует спасение
и жизнь" 11).
Думается, пояснять не приходится: поклонник христа усмотрел
здесь что-то слишком знакомое, родное и дорогое его религиозному
10 Лучшие труды о нем: Н. Graillot. „Le culte de Cybele, mere des
dieux", 1912 г.
H. Hepding, „Attis, seine Mythen und sein Kult", 1903 г.
H. Кун. „Предшественники христианства", стр. 47—61, 1922 г.
Ф. Зелинский. „Религия эллинизма", стр. 29—46, 1922 г.
11 Ф. Зелинский. Назв. соч., стр. 42.
40
чувству, слишком похожее на главнейшее из священнейших для него
таинств — причащения.
Перейдем теперь к другой религии, — „древнему сопернику хри-
стианства" — митраизму 12. В центре этого культа, сделавшегося
в первые века нашей эры почти государственной религией Римской
империи, стояла личность божественного „посредника", лучезарного
солнечного спасителя — Митры. Правда, митраизм, как и культ
Аттиса, были тайными, сокровенными религиями, т. е. их учение
раскрывалось только „посвященным", выдержавшим целый ряд раз-
личных испытаний. Но все же, благодаря наличию массы дошед-
ших до нас памятников и сообщений, мы некоторые стороны его
знаем. Больше того, мы знаем, что он оказал огромное влияние
на раннее христианство вообще, на рождественский миф евангелий
в частности.
Митра чудесно рождается в пещере 25 декабря. Пасшие свои
стада пастухи первыми приходят и поклоняются новорожденному
спасителю. Далее он ведет свою многотрудную и благодетельную
для людей жизнь. И, наконец, пред своим вознесением на небо
он в кругу своих учеников справляет последнюю, — „тайную
вечерю", дальнейшим продолжением которой является митраи-
стическая священная „вечеря" и таинство причащения.
Как же происходила эта тайная вечеря Митры с учениками, что
вкушалось на ней?
Ответ на это дают нам памятники. На одном из них изобра-
жена она так, как, в подражание или в „воспоминание", справляли
ее мисты — посвященные.
За столом возлежат ее участники, некоторые им прислуживают.
Возлежащие поднимают вверх чаши или бокалы, а на столе пред
ними находятся хлебы, помеченные... крестами 13.
12 Лучшие труды о нем: F. Сumоnt. „Textes et monuments figures
relatifs aux mysteres de Mithra", 2 т.
Его же. „Die Mysterien des Mithra", 3 изд., 1923 г.
J. Robertson. „Pagan Christs", стр. 181—338.
H. Кун. Назв. соч., стр. 128—154.
Есть наша статья: „Древний соперник христианства" в „Ежемесячном
Журнале", № 12; 1914 г.
13 См. снимок у F. Сumоnt. „Die Mysterien", в конце книги.
41
Митраистическая тайная вечеря учителя с учениками в воспоми-
нание о нем — вечеря - трапеза его поклонников, причастные чаша
и хлебы с крестами!
Можно ли после этого удивляться, если на другом митраисти-
ческом памятнике мы видим Митру среди таких символов его рели-
гии: над головою — птица, лунный серп и голова с солнечной коро-
ной, звезды, а внизу — жертвенник или стол с хлебами, причастная
чаша, голубь, рыба и проч. 14. Все это — символы, занимавшие
в раннем христианстве, да и теперь, первое место; прибавьте сюда
знак креста на причастных хлебах. Разве последние не напоминают
даже современных церковных просфор?
Теперь мы можем понять негодование вышеупомянутого Юстина,
когда он, рассказав о способе совершения ранними христианами
агап-вечерь с таинством причащения в центре, установленных, якобы,
по примеру Иисуса и в память о „тайной вечери", говорит далее:
„ То же самое злые демоны из подражания научили делать
и в таинствах Митры; ибо, как вы знаете или можете узнать, — при
посвящении вступающего в таинства предлагается там хлеб и чаша
с водою" 15.
Т. е. точно так же, как делали и христиане в отношении
вступающих в их таинства христа, предлагая чашу и хлеб?
Добавим к словам Юстина, что в митраистической причастной
чаще предлагалась не только вода, но и вино, притом виноградное 16.
Если этот автор для объяснения, якобы, непонятного для него
сходства митраистического причащения с христианским прибег
к помощи демонов, то иного выхода не находит и другой христиан-
ский писатель, Тертуллиан.
„Конечно, дьявол, задачей коего является извращение истины, —
это он в идольских мистериях подражает божественным таинствам", —
говорит Тертуллиан, а далее перечисляет все козни этого рогатого:
дьявол миропомазует мистов, он в крещенской купели смывает
грехи, он крестит лбы своих „воинов" у Митры, он же преломляет
причастный хлеб, проводит идею воскресения из мертвых, разрешает
14 См. снимок в книге Р. Carus. „The Story of Simson", стр. 91.
15 Юстин, стр. 98.
16 F. Cumont. „Mysterien", стр. 146.
42
только раз жениться первосвященнику, имеет своих девственниц и
аскетов — монашествующую братию 17.
Но почему же эти христианские авторы обвиняли во всем мифи-
ческого дьявола, а не прибегли к более простому и, казалось бы,
напрашивающемуся объяснению, — что митраисты попросту заимство-
Митраистическая тайная вечеря — первоисточник евангельской тайной вечери.
Она же является сценой ритуального вкушения плоти и крови спасителя —
таинства причащения. Эту вечерю персидский бог Митра справлял со своими
учениками пред вознесением на небо.
Участвующие держат в руках причастные чаши, на столе лежат священные
хлебы — митраистические просфоры, помеченными крестами.
вали все это у христиан? Потому что они и их современники пре-
красно знали, что митраизм со всеми его обрядами и пр. — древнее
христианства.
Посему мы, оставляя в покое незаслуженно оклеветанного рога-
того, предложим свое, да оно и не наше в смысле открытия, — объ-
яснение: христианство все это заимствовало из митраизма
и родственных ему языческих культов.
17 Тертуллиан. „De praescr. haeret.", 40, 2—5.
Ю. Николаев. „В поисках за божеством", стр. 54, 1913 г.
43
Оттуда-то, — повторим еще раз, — оно заимствовало и таинство
причащения, и евангельскую тайную вечерю, и ее мнимое продол-
жение — ранне-христианские агапы — „вечери любви".
Оттуда, из мира языческих, дохристианских религий, но не це-
ликом оттуда. В пояснение этого мы подведем итоги всему отме-
ченному нами на протяжении этой главы.
Евангельские рассказы о тайной вечери при историческом и кри-
тическом подходе к ним обнаружили свою несостоятельность, скажем
прямо — мифичность. Мы видели, как они в наших руках разложи-
лись на свои составные ветхозаветные части. Невольно чувствова-
лось, что все они были составлены искусственно, с определенною
целью — подвести мнимо-исторический и догматический фундамент, —
вплести в „историю" спасителя основной, центральный пункт ранне-
христианской, общинно-культовой жизни — агапы с составляющим
их ядро ритуальным вкушением хлеба и вина, таинством при-
чащения.
Приписывая Иисусу учреждение евхаристии и своих агап, еван-
гелисты и христиане, повидимому, не замечали, что тем самым лишний
раз выдают не историчность и догматичность своего расказа. Евангель-
ский Иисус, понимаемый как историческая личность, никогда не стал
бы учреждать чего бы то ни было, а тем паче целого таинства и
вечери, раз он, по словам самих же евангелий, все время предска-
зывал близость конца света, скорый приход свой, как мессии. „Не
прейдет (не умрет) род сей, — говорит он у Марка, — как все это
будет" (13, 30). Если он дело представлял так, то смешно говорить
об учреждении им агап и пр.
Но откуда же в христианстве взялись эти агапы — вечери, из
которых, добавим теперь, впоследствии выделилось и обособилось
таинство причащения и которые благодаря этому затем постепенно
сошли со сцены? Мы уже сказали, что не только из митраизма.
Нельзя забывать того непреложного факта, что христианство за-
родилось в среде юдаизма, больше того, иудейского сектантства, воз-
никшего между прочим под сильным влиянием языческих религий.
И вот, начало христианских вечерь там, в иудействе, но зато далее
они подверглись обработке и переработке языческих религий, осо-
бенно митраизма, помогшего связать их с „историей" Иисуса. Как
44
ранее он, в числе многого другого, дал христианам мотив и материал
для мифа о рождении христа в пещере 25 декабря и поклонении,
новорожденному пастухов, так здесь он оказал сильнейшее влияние
на создание евангельского мифа о прощальной вечери учителя с уче-
никами и на соответствующую переработку ранне-христианских агап
с их таинством причащения.
45
IV. БОРЬБА В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
Итак, „скорбный путь" к Голгофе пока еще оказывается настлан-
ным из мифологических плит и весь окутан мифологической пылью
или туманом, за которыми совершенно не видно реального, одетого
в плоть и кровь, шествующего по нем евангельского спасителя.
Отправимся вместе с Иисусом в Гефсиманский сад, на гору
Елеонекую, куда он идет после мифической „тайной вечери", окру-
женный своими учениками. Дорогой (у Матфея и Марка, у Луки и
Иоанна — еще на вечери) учитель предсказывает им, что они скоро
покинут его, а Петр трижды отречется, на что последний спешит
заверить его в своей готовности итти за ним даже на смерть.
А затем:
„Пришли в селение, называемое Гефсимания; и он сказал уче-
никам своим: посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою
Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал
им: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
„И, отошед немного, пал на землю, и молился, чтобы, если
возможно, миновал его час сей. И говорил: Авва отче! Все
возможно тебе; пронеси чашу сию мимо меня; но не чего я хочу,
а чего ты.
„Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон!
ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна.
И, опять отошедши, молился, сказав то же слово. И, возвратившись,
опять нашел их спящими: ибо глаза у них отяжелели; и они не
знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз, и говорит им:
вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается
46
сын человеческий в руки грешников, Встаньте, пойдем; вот, при-
близился предающий меня" (Марк 14, 26—42).
Матфей эту сцену душевной борьбы Иисуса рисует так же, как
Марк (26, 30—47).
У Луки она несколько короче: Иисус не берет с собою Петра.
Иакова и Иоанна, а оставляет всех учеников и вдали от них колено-
преклоненно молится. „Явился же ему ангел с небес, и укреплял его,
И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот его, как
капли крови, падающие на землю". К ученикам он приходит только
однажды, застает их спящими, увещевает и в тот момент к нему
приближается предатель (22, 40—47).
Мы остановимся пока на приведенном моменте Гефсиманской сцены
и посмотрим, как она выглядит при свете исторической критики.
Вся она, как мы видели, вращается вокруг душевной борьбы
Иисуса и его молитвы отцу о мимопронесении чаши страданий;
этот момент, этот мотив составляет ее основное, главное со-
держание.
Это обстоятельство заставляет нас сразу же решить вопрос об
историчности, действительности сцены, — притом решить в отрица-
тельную сторону.
Да, борьбу Иисуса в Гефсиманском саду и евангельские
рассказы о ней мы должны признать явно неисторическими,
мифическими уже по одному тому, что, раз ученики, даже самые
близкие ему, спали во все ее продолжение, а учитель к тому же
еще молится в отдалении, то слов его, слов молитвы к отцу никто
не слышал и не мог слышать. Любитель точности Лука сообщает
нам даже расстояние, отделявшее молившегося учителя от учеников:
он „отошел от них на вержение камня", т. е. на столько, на сколько
летит брошенный камень. Стоит ли добавлять, что тот же Лука
отнюдь не скрывает неисторического характера рассказа, выводя явно
мифическую сцену — ободрения Иисуса ангелом. Впрочем, так как
строго верующие этим рассказам о душевной борьбе Иисуса придают
большое значение и считают их не могущими подлежать никакому
сомнению в историчности, мы постараемся подойти к вопросу о по-
следней еще с другой стороны: разберем отдельные моменты Гефси
манской сцены.
47
Итак, „ни один докладчик или рассказчик, — по словам Г. Сад-
лера, — не слышал слов христа в саду. Этот рассказ (о Гефсиман-
ской сцене) не история" 1.
Так ли? Чтобы видеть это, начнем с основного вопроса, —
о месте, где разыгрывается евангельская сцена.
Вечеря кончилась. Иисус с учениками идет. Куда?
— „На место, называемое Гефсимания", — говорит Матфей (26, 36);
„в селение, называемое Гефсимания", — говорит Марк (14, 32); „на
гору Елеонскую" — , дополняет Лука (22, 39); „за поток Кедрон, где
был сад", — заканчивает Иоанн (18, 1).
Как видим, данных много, слишком много.
Свой разбор их мы начнем с последних двух указаний, — на гору
Елеонскую и поток Кедрон. Являются ли они отражением истори-
ческого эпизода евангелий, или же взяты под чьим-то влиянием?
Увы, здесь несомненно влияние ветхого завета. Сцена душевной
борьбы Иисуса, повидимому, разыгрывается на горе Елеонской
потому, что на этой горе нечто подобное переживал некогда и
предполагаемый предок его, царь Давид. Когда последний узнал,
что самые близкие лица, вплоть до родного сына, строят ему козни,
то „Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова у него была
покрыта (в знак печали); он шел босой, и все люди, бывшие с ним,
покрыли каждый голову свою, шли и плакали" (2 книга Царств, 15, 30).
В истории этого же Давида мы находим ключ к евангельскому
указанию (Иоанна) на переход Иисусом потока Кедрона. Дело
в том, что несколькими стихами выше приведенных ветхозаветных
слов, по тому же самому поводу, сообщается, что „плакала вся
земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел
поток Кедрон" (15, 23).
По сему случаю Древс делает характерное замечание, что этот
поток Кедрон вообще слыл у евреев потоком горя, беды и печали,
при чем в подтверждение этого ссылается на одно место из того же
ветхого завета 2:
„И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь
поток Кедрон, непременно умрешь" (3 кн. Царств, 2, 37).
1 G. Sadler. „The inner of the four gospels", стр. 91, 1920 г.
2 A. Drews. Markusev.", стр. 260.
48
Следовательно, в обоих топографических — местных данных еванге-
листов скрывается определенная тенденция: — заранее показать содер-
жание и характер грядущих событий; в выборе места ими руководит,
явно, ветхий завет и догматика, а не история или география
с топографией.
Ну, а как обстоит дело с первыми двумя данными указаниями
на Гефсиманию, кои тесно переплетаются с только что разобранными?
„Существование Гефсимании, — говорит А. Древс, — (как и Голгофы)
не доказуемо", в ней „нельзя еще видеть названия местности" 3.
Ее же вместе с Голгофой и Назаретом географической фикцией-
вымыслом считает и Сэдлер 4.
Присоединим сюда характерное замечание польского ученого и
переводчика труда еврейского историка современного Иисусу, Иосифа
Флавия — А. Немоевского: „замечательно, что у Иосифа Флавия,
с такой точностью описывающего Иерусалим и его окрестности,
нигде не упоминается о селении Гефсимания"; и он тоже отбрасы-
вает последнюю, как название исторической местности 5. Все на-
званные ученые, — как и многие другие, — идут здесь, между прочим,
следом за В. Смитом, разгадавшим нам тайну имени Гефсимании 6.
Последняя, как слово „Geth-semane", состоит из двух частей —
геф семани — и означает „пресс, точило для выжимания елея, олив-
кового или масличного масла".
„О местности, называемой Гефсимания („винное точило для
оливок"), — говорит Смит, — никто ничего не говорит. Как кажется,
к истине близко предположение, что это имя — чисто символическое,
находящее свое объяснение в пресловутом месте Исайи:
„Ризы у тебя (бога), как у топтавшего в точиле" („Геф").
Это „Геф" означает „точило" и, повидимому, как раз виноградное
точило (для выжимания вина). Связь „Геф-семани" („точило для
елея — оливкового масла или олив — маслин") стоит совершенно оди-
ноко и, конечно, в качестве имени местности весьма невероятна.
3 А Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 180, 181.
4 G. Sadler. Назв. соч., стр. 90.
5 А. Немоевский. „Бог Иисус", стр. 251.
6 W. Smith. „Ecce Deus", стр. 288—289.
49 4
Пасхальная мифология
Если бы оно вообще было названием, то это название должно
было бы переходить по наследству из века в век. Этого не слу-
чилось бы в том случае, если бы Гефсимания была незначительной
местностью, однако и в этом, последнем случае, мы все же должны
были бы, конечно, о ней слышать чаще. Таким образом, совершенно
невероятно, чтобы существовала местность, называвшаяся „Оливко-
вым или Масличным Точилом". Однако, этот образ объясняется
совсем просто. Это „Точило — Геф" упомянуто у Исайи (63, 2),
точило божественного страдания. Это объяснение, с какой бы сто-
роны к нему ни подходить, столь удовлетворительно, что всякое
дальнейшее доказательство или пояснение его оказывается излишним.
Что евангелист в данном случае имел в виду это место Исайи,
ясно видно из того, что он в соответствующем месте своего рассказа
заставляет Иисуса отдалиться от своих учеников: „Я топтал точило
один, и из народов никого не было со мной".
Сравните также, что (позднее) прибавляет Лука: „явился же ему
ангел с небес и укреплял его" (22, 43); — не человеческая, людская,
а божья помощь была нужна.
Таким образом, Смит дал нам ключ не только к Гефсиманскому
саду, но и к главному содержанию соответствующих евангельских
рассказов — мифов о душевной борьбе Иисуса.
Как же, в свете его объяснений, вырисовывается пред нами
истинное происхождение этих мифов?
Никакой исторически засвидетельствованной мест-
ности — селения или сада — Гефсимании не существовало.
Само имя ее — символическое и означает „точило для выжимания елея,
масла из оливок или маслин", — „гефсемани". Это „точило — геф"
евангелисты заимствовали из книги пророка Исайи, где читаем:
„Кто это идет от Едома, в червленных ризах от Восора, столь
величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей?
„Я — изрекающий правду, сильный, чтобы спасать". Отчего же одеяние
твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле („геф",
виноградном)? „Я топтал точило один, и из народов никого не
было со мною; и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости
моей; кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяни свое.
Ибо день мщения — в сердце моем, и год моих искуплений настал.
50
„Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было
поддерживающего; но помогла мне мышца моя, и ярость моя —
она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и со-
крушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их" (63, 1—6).
Так грозный ветхозаветный бог скорбит и негодует, что он
одинок в „Геф"-е, нет ему помощника, нет того, кто бы поддержал
его. „Здесь ясно, как день, — говорит Древс, — указание на чувство
одиночества Иисуса в Гефсиманском саду, на ободрение его ангелом,
также заметно отношение этого места и к проливаемой крови (Лука,
22, 44: „и был пот его, как капли крови, падающие на землю").
Акт мести Ягве — бога язычникам в евангелии превращен в про-
тивоположный акт самопожертвования Иисуса, и в то время, как
у Исайи из точила (Геф) льется вино ярости и мести, здесь, в еван-
гелии, на народы изливается из точила масло, елей спасения
и искупления" 7.
Ту же самую мысль приводит и Смит в своих, следующих за
вышеприведенными, словах:
Быть может, кто возразит и скажет, что воитель у Исайи
торжествует над своими врагами, и его одежды красны от их крови;
между тем как в евангелиях Иисус страдает, и его одежды обагрены
собственной кровью (Лука, 22, 44).
„Конечно, все это так. Идея точила („гефа") была перенята,
однако, не только перенята, но, при этом, и христианизована (т. е.
переделана на христианский лад). Месть была превращена в само-
пожертвование. В этом нет ничего странного. Это — обычный
прием у авторов новозаветных писаний, — выхватить из
ветхого завета идею или выражение и переработать, пере-
делать так, чтобы она соответствовала их собственным
целям. В данном случае процесс превращения прошел как раз так,
как мы и могли ожидать.
„Ведь всякий может подметить нежность и мягкие тона, кои видны
в связи „точила олив". У Исайии в это „точило" потоком льется
вино ярости и мщения; не так в евангелиях: здесь все то же „точило"
(геф) пророка, но из него на все народы изливается умиротворящее
масло, елей благодати и спасения".
7 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 180—181.
51
4*
Однако, это еще не все. Читатель, быть может, подметил, что
мы в переводе везде старались поставить рядом слова елей и масло
(оливковое или масличное); делали мы это умышленно. По нашему
мнению, в евангелиях здесь скрыта еще одна символика, вернее,
та же, но в другой форме. Обратите внимание на тот факт, что
евангелисты эту Гефсиманию — „Точило для елея" — ставят в топо-
графическую, местную связь с горой Елеонской. Гора эта в оригиналь-
ном, греческом, тексте носит название „Горы олив или Маслин",
Масличной горы. Почему выведена она, — мы видели раньше, а теперь
заметим, что это обстоятельство, быть может, отчасти повлияло
на то, что Исайевское „точило для вина геф" было евангелистами
превращено в „точило для маслин, олив, елея, т. е. Геф-симани-ю".
Больше того, как отмечает Немоевский, — греческое евангельское
название „то орос тон елайон (to oros ton elaion) — Масличная гора"
с потерей одной только буквы или с заменой родового члена чита-
лось бы: „го орос тон елайон (ho oros ton elaion) и означало бы, —
„масличное точило", ибо греческое „то орос" — гора, а „го орос" —
точило, пресс. Так что здесь могла быть скрыта еще игра слов,
основанная на сходстве написания самого греческого слова и разницы
только в роде и, потому, члене.
Это обстоятельство дает нам право в имени Гефсимании видеть
также перевод на еврейский язык греческого имени „Горы Елеон-
ской или Масличной", сделанный в целях символики.
Мы можем итти еще дальше и видеть здесь еще одну игру слов,
основанную опять-таки на их сходстве. Греческое слово „елайон,
елеон", перешедшее в наш язык целиком с сохранением своего смысла,
значит „елей, масло". Почти однозвучно с ним другое греческое
слово „елеос", означающее: „сожаление, сострадание", а в новом
завете — „милосердие, милость". Эти два слова сопоставлялись до-
вольно часто, и след этого мы видим в том, что „елей" стал сим-
волом „милости". А что эти два, похожих друг на друга в произ-
ношении, слова часто перепутывались, подтверждается одной бес-
смысленной фразой в православной христианской литургии — „милость
мира, жертва хваления", которая правильно должна была бы быть
переведена с греческого чрез „елей мира — жертва хваления". Елей —
масло было одним из обычных предметов для жертвоприношения.
52
В таком случае, действительно, „точило — геф-вина и мщения" ветхо-
заветного бога Исайи у евангелистов превратилось в „точило елея
и милости, милосердия" Иисуса (Гефсиманию на горе Елеонской).
Но, как бы то ни было, факт остается фактом, что никакой
местности Гефсимании не было, само ее имя только символическое
и явилось плодом соответствующей переработки евангелистами выше-
приведенного места Исайи, где речь идет о „точиле — гефе" вина
ярости Ягве. Возможно, что самый образ, — Ягве попирает народы
в ярости, как виноградные грозды в точиле виноградника, виноград-
ного сада, — послужил основанием, почему и Гефсимания превратилась
в „сад" (у Иоанна).
В этом же месте Исайи, т. е. в начале 63 главы, кроется также
первоисточник евангельских мотивов об одиночестве Иисуса в Гефси-
манском саду, о его негодовании на учеников, об укреплении его
ангелом и о подобных крови каплях пота. Заметим кстати, что как
в евангелиях сцена в Гефсиманском саду тесно хронологически и топо-
графически примыкает к сцене входа господня в Иерусалим, так
и у Исайи указанная 63 глава является простым продолжением конца
62 главы, каковой конец целиком вошел в качестве материала
в евангельские мифы о названном „входе".
Однако, всем этим влияние Исайи на разбираемый нами миф
о Гефсиманской драме не ограничивается: он же дал и мотив
чаши, чаши страданий, о которой Иисус молит отца, чтобы
она миновала его.
Этот мотив „чаши" является продуктом опять-таки соответствую-
щей переработки 51 главы Исайи:
„Воспряни, воспряни, встань, Иерусалим, ты, который из руки
господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения,
осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных
им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей,
которых он возростил. Тебя постигли два бедствия, кто пожалеет
о тебе? — опустошение и истребление, голод и меч: кем я утешу
тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц;
как серна в тенетах, исполнение гнева господа; прещения бога твоего.
Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так
говорит господь твой, господь и бог твой, отмщающий за свой народ:
53
Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожди из чаши
ярости моей; ты не будешь уже пить их" (51, 17—22).
Что здесь под „чашей" разумеется чаша страданий, видно вся-
кому хотя бы из слов бога: „страдалец и опьяневший, но не от вина".
Далее, здесь же есть ряд выражений — об „изнеможениии лежа-
щих по углам" сыновьях, — каковой, несомненно, и был использован
евангелистами для „сна" учеников Иисуса.
Раз мы заговорили о трех спящих учениках Иисуса, то укажем
теперь еще источник для этого евангельского мотива. Не будем
доказывать той простой вещи, что здесь мы, с одной стороны,
имеем подражание сцене преображения, восходящей своими перво-
источниками к мифу о „преображении" Моисея, сопровождаемого
тремя доверенными лицами (Исход, 24).
С другой стороны, — материалом послужил также ветхозаветный
рассказ о принесении Авраамом своего сына Исаака в жертву
(Бытие, 22). Авраам берет с собою сына и двух „отроков" и, когда
приходит на место жертвоприношения, на гору, приказывает им
остаться, а сам идет „поклониться", т. е. помолиться. Послушание
патриарха богу простирается вплоть до готовности по его повелению
принести в жертву своего единственного любимого сына; так и Иисус,
послушный воле небесного отца, готов пожертвовать собою. Правда,
там, в ветхом завете, бог только испытывает Авраама и не до-
пускает смерти его сына, за последнего в жертву приносится овен —
агнец. Но, по мысли евангелистов, Иисус сам является не только
сыном божиим, но и агнцем, закалаемым за грехи людей, во иску-
пление их, потому ему и надлежит испить „чашу", пострадать, быть
принесенным в искупительную жертву.
Если мы перейдем теперь к поискам других ветхозаветных перво-
источников картины душевной борьбы Иисуса, то их много, даже
очень много. Помимо приведенных мест Исайи сюда надлежит при-
соединить один из моментов „истории" пророка Илии.
Спасаясь бегством от гнева царя Ахава и его жены, уставший
пророк засыпает под можжевелевым кустом, дважды будится и укре-
пляется ангелом, который предлагает ему хлеб и кувшин с водою.
Что это место, несомненно, повлияло на соответствующие евангель-
ские мифы, можно видеть хотя бы из того, что здесь мы находим
54
скорбные слова пророка: „довольно уже, господи; возьми душу мою"
(3 кн. Царств, 19, 4), кои так хорошо подходят к молитве пребы-
вающего в тоске и ужасе Иисуса.
Далее, слова Иисуса у Марка — „душа моя скорбит смертельно" —
(14, 34) находят свой первоисточник также в словах псалма:
„Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на
бога, ибо я буду еще славить его, спасителя моего и бога моего.
Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о тебе"
(боге) (41, 6—7). Эти слова повторяются и в следующем, 42 псалме
(стих 5), так что всего три раза, из чего евангелист сделал трое-
кратное моление Иисуса одними и теми же словами. Вопрос, по-
чему новозаветный автор обратил свое внимание на все эти слова,
составляющих одно целое обоих псалмов и столь основательно по-
заимствовал их, этот вопрос свое объяснение находит в первом стихе
42 псалма:
„Суди меня, боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым
От человека лукавого и несправедливого избавь меня".
Этот стих позволял ему отнести себя и весь псалом к аресту
Иисуса и суду над ним, а также, возможно, и к предательству Иуды.
Молитва Иисуса к отцу о мимопронесении чаши страданий со-
ставлена также под прямым влиянием слов книги Иисуса Сирахова:
„Господи, отче и владыко жизни моей! Не оставь меня на волю
их, и не допусти меня пасть чрез них" (23, 1).
Правда, при этом Марк вкладывает в уста Иисусу „характерное
обращение к богу: „Авва отче", состоящее из арамейского слова —
„авва — отец" и его греческого перевода.
Однако, оно, как и дальнейшее обращение учителя к ученикам
с призывом бодрствовать, молиться и не поддаваться искушению,
а также крылатой фразой — „дух бодр, плоть немощна" — находят
свой источник в посланиях Павла, написанных, по общему призна-
нию ученых, много раньше евангелий.
Это евангельский первоисточник был указан еще „почтенным" про-
фессором теологии, пастором О. Пфлейдерером 8 и обстоятельно
выяснен Древсом.
8 О. Pfleiderer. „Das Urchristentum", т. I, стр. 389—390.
55
„Особенно значительным, — говорит последний, — признается обык-
новенно в данном рассказе арамейское выражение „Авва, отче",
с которым Иисус обращается к богу... Евангелист, несомненно,
выбрал это выражение под влиянием послания к галатам, где встре-
чается это выражение („А как вы — сыны, то бог послал в сердца ваши
духа сына своего, вопиющего: „Авва, отче", 4, 6), при чем четвертая и
пятая главы этого послания вообще повлияли на подбор тех слов,
которые Марк вложил в уста Иисусу во время сцены в Гефсимании.
Так, например, выражение — „если возможно, — в обращении Иисуса
к богу заимствовано, повидимому, из четвертой главы послания
к галатам („свидетельствую о вас, что, если бы возможно было"
и т. д., ст. 15).
Как раз незадолго перед этим (4, 13: „Знаете, что хотя, я в не-
мощи плоти благовествовал вам в первый раз") у Павла речь идет
о „немощи плоти", об „искушении во плоти", тогда как в 5, 16
исчерпывающе выражена противоположность между духом и плотью:
„Поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти.
Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы".
Теперь нам ясно, что именно эти места послания слышатся в
предостережении Иисуса ученикам: „бодрствуйте, чтобы не впасть
в искушение. Дух бодр, плоть же немощна"...
Призыв к бодрости, направленный по адресу учеников, уже раз
был приведен у Марка:
„Итак, бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет хозяин дома:
вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы,
пришедши внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю,
говорю всем: бодрствуйте" (13, 35—37; присоедините сюда еще слова
оттуда же: „смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда
наступит это время", ст. 33).
Четыре возможности, которые перечислены здесь в связи с при-
ходом хозяина, претворены в рассказе о Гефсимании в реальный
троекратный приход Иисуса к ученикам. Понятно теперь, почему
Иисус говорит: „пришел час". Ведь в 13, 35 он же говорит: „ибо
не знаете, когда придет хозяин" 9.
9 A. Drews. „Markusev.", стр. 262—263.
56
Таким образом, и эта, якобы, подлинно историческая деталь
евангельских рассказов оказалась, явно, заимствованной. А в резуль-
тате весь рассказ всех трех евангелистов, уже и раньше признанный
нами мифом, не только нашел новое подтверждение своей мифичности,
но и целиком разложился на свои ветхозаветные и некоторые другие
первоисточники, — весь, целиком.
Итак, пред нами опять миф и только миф, — все эти рассказы
о душевной борьбе Иисуса в саду Гефсиманском. Мы видим теперь,
как по указанию ветхого завета была подхвачена идея этой
борьбы, как подбиралась символическая обстановка для нее, —
насаждался никогда несуществовавший в действительности
„сад" или основывалось „селение", как тщательно новозавет-
ные авторы всюду выискивали материал для сценария и
самого содержания мифа,
И чрез всю эту их работу красной нитью проходит не стре-
мление к исторической истине, а только и исключительно догматика,
намерение изобразить великий акт душевной драмы того, пред мыслен-
ным взором которого, якобы, во весь свой рост уже высился сим-
вол страдания и смерти — крест и длинная, мрачная тень от него
уже доходила до Гефсиманского сада.
И в эти минуты страшной душевной борьбы, в эти моменты
борьбы плоти и духа, когда так нужна бывает поддержка, ободрение
со стороны кого-то другого, особенно близких, — Иисус одинок.
Он, требующий жертвенной смерти сына небесный отец, да
символ страданий — зловещая чаша, вот что на первом плане
евангельской картины. А там, вдали всей этой разыгрывающейся
драмы, отягченные сном, побежденные плотью, спят его ближайшие уче-
ники, спят те, кои своим присутствием и молитвою могли бы хоть на миг,
хоть немного облегчить горечь предлагаемой чаши. Как ветхозавет-
ный первообраз, ветхозаветный Ягве один, в одиночестве, оставлен-
ный всеми, мрачно давит кровавое вино мщения народам в своем Гефе —
точиле, так и его двойник или копия — евангельский спаситель один, без
помощи своих близких, даже любимых учеников, одиноко давит елей
милости и милосердия в своем „оливковом точиле" — Гефсимании.
Такова идея, таково содержание и композиция евангельских мифов,
созданных из ветхозаветного материала.
57
Однако, последний нами был приведен выше не весь, далеко не
весь. Марк и другие еванге листы, заканчивая описание Тайной Вечери,
продолжением коей является разбираемая нами сцена в Гефсиман-
ском саду, единогласно отмечают, что Иисус с учениками, „воспев,
пошли на гору Елеонскую" (14, 26). Спрашивается, что же они
пели или воспевали? Иудейская религия дает нам ответ на этот
вопрос: иудейская пасхальная трапеза заканчивалась пением так на-
зываемых аллилуйных псалмов (114—118).
Мы не будем приводить всех их целиком, это заняло бы слишком
много места, а возьмем из них только несколько стихов для иллю-
страции их содержания.
„Хранит господь простодушных: я изнемог, но он помог мне.
Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо господь облагодетельство-
вал тебя" (114, 6—7).
„Чашу спасения прииму, и имя господне призову" (115, 4).
„Из тесноты воззвал я к господу, и услышал меня, и на про-
странное место вывел меня господь. Господь за меня, не устрашусь
что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду смотреть на
врагов моих... Обступили меня, окружили меня, но именем господ-
ним я низложил их... Бог — господь, и осиял нас, вяжите ветвями
жертву, ведите к рогам жертвенника" (117, 5—7, 11, 27).
„Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время...
Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения
твои. Князья сидят и сговариваются против меня... Душа моя по-
вержена в прах; оживи меня по слову твоему... Душа моя истаи-
вает от скорби; укрепи меня по слову твоему... Ночью вспоминал
я имя твое, господи, и хранил закон твой... Молился я тебе всем
сердцем; помилуй меня по слову твоему... Сети нечестивых окру-
жили меня; но я не забывал закона твоего. В полночь вставал
славословить тебя за праведные суды твои... Гордые сплетают на
меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления твои...
„Истаивает душа моя в спасении твоем, уповаю на свово твое.
Истаивают очи мои о слове твоем; я говорю: когда ты утешишь
меня?.. Сколько дней раба твоего? Когда произведешь суд над
гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему...
Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь
58
в откровения твои... Сильно угнетен я, господи, оживи меня по
слову твоему... Нечестивые поставили для меня сеть; но я не укло-
нился от повелений твоих... Я преклонил сердце мое к исполнению
уставов твоих, навек, до конца... Укрепи меня по слову твоему,
и буду жить, не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и
спасусь... Я совершил суд и правду; не предай меня гонителям
моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня
гордые... Взываю всем сердцем: услышь меня, господи; и сохрани
уставы твои. Призываю тебя: спаси меня, и буду хранить откро-
вения твои. Предваряю рассвет, и взываю; на слово твое уповаю...
Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона твоего...
Князья гонят меня безвинно; но сердце мое боится слова твоего...
Да приблизится вопль мой пред лице твое, господи; по слову твоему
вразуми меня. Да придет моление мое пред лице твое; по слову
твоему избавь меня... Да будет рука твоя в помощь мне; ибо я
повеления твои избрал"... (и8).
Думается, и приведенных мест, — а они не все здесь, — доста-
точно, чтобы видеть, что уже в самых пасхальных псалмах для еван-
гелистов была заранее нарисована картина дальнейшего. В отдель-
ных местах этих псалмов слышатся мотивы и Гефсиманской душевной
борьбы страдальца, и надвигающихся бед — козней врагов, и пред-
стоящего скорого суда на ним.
Кстати заметим здесь, что последний мотив, мотив суда, особенно
резко выступает в псалме 118, где одно только слово „суд" или
„суды" повторяется, по нашему подсчету, целых семнадцать раз.
Такова угрожающая праведнику чаша, которая, как и указание на
ночное время борьбы, тоже фигурирует здесь.
Таким образом, уже в этих пасхальных псалмах новозаветным
авторам давались как бы тезисы для дальнейшей „истории" их
главного героя. Отсюда же, между прочим, как было показано еще
раньше, был ими взят материал, вернее, часть его, для мифа о
входе господнем в Иерусалим, как и для много другого.
Так весь рассказ евангелистов при ближайшем подходе к нему
оказался мозаикой, картиной, составленной из мельчайших, здесь,
ветхозаветных частичек, неодинаковых по размеру, форме и качеству.
От малейшего прикосновения к нему он распался, рассыпался на
59
свои составные части, и пред нами в результате — целая груда различ-
ных идей, образов, слов и выражений, кои так умело, один за другим,
были подобраны евангельскими художниками и путем соответствующей
обработки и помещения в соответствующее место превращены в та-
кую трогательную, подкупающую и на вид, — историческую картину.
Авторы этого мифа своею целью ставили показать нам своего
героя — богочеловека Иисуса на самом пороге роковых грядущих
событий, показать, как две стороны его существа — божеская и чело-
веческая — неодинаково реагировали на, якобы, преподносимую отцом
„чашу страданий", они боролись друг с другом, то была борьба
неба и земли и ареной борьбы была душа богочеловека. Победила
сторона божественная, победу одержал в нем бог.
После всего этого нам становится понятным, даже слишком
понятным тот красноречивый факт, что этой сцены душевной борьбы
Иисуса в Гефсимании не знает, не рисует четвертый евангелист
Иоанн, как нет у него мифов об искушении Иисуса сатаной и пре-
ображении господнем. Мы не будем подробно доказывать этого
положения и прослеживать ход мыслей евангелиста. Глубокий анализ
его читатель может найти в работе Д. Штрауса, который суть всего
этого выражает в следующих словах:
„Причина этого умолчания (о борьбе в Гефсимании, искушении
сатаной и преображении), повидимому, одна и та же: христу — Логосу —
Слову Иоаннова евангелия, — не приличествовало подвергаться по-
добным испытаниям. Иудейскому мессии, князю будущего мира, еще
можно было вступать в единоборство с дьяволом, князем сего мира,
как с равносильным противником, но подобный поединок не прили-
чествовал христу — Логосу, существу высшему, пришедшему с небес.
Просветление небесным светом лика и собеседование с великим
законодателем и великим пророком иудейским могли вящще (больше)
возвеличить и прославить синоптического (Матфея, Луки и Марка)
Христа, но не Христа Иоаннова евангелия. Наконец, малодушный
страх страданий и смерти и моление об отвращении грядущих испы-
таний, как и явление ангела — утешителя в момент душевного боре-
ния, — все это тоже не прославляло и не возвеличивало Иоаннова
христа, а скорее унижало и дискредитировало его" 10.
10 Д. Штраус. Назв. соч., II, стр. 163—164.
60
Мы видим здесь, как свободно, сообразно своим целям, распо-
ряжаются евангелисты „историей" Иисуса, „событиями" его земной
жизни.
Если бы эти эпизоды были реальными, историческими, действи-
тельно земными, мог бы царить такой полный произвол хотя бы
в интересах догматики? Факт отсутствия у Иоанна рассказа
о Гефсиманской сцене служит одним из многих доводов про-
тив ее историчности и за ее мифичность.
61
V. ИУДА
Предыдущую мифическую сцену мы прервали на том, что Иисус
после троекратного моления приходит к спящим ученикам и, обра-
щаясь к ним, говорит: „вот, приблизился час, и сын человеческий
предается в руки грешников. Встаньте, пойдем: вот, приблизился
предающий меня" (Матф. 26, 45—46).
Так новозаветные авторы подводят своих читателей к тому
драматическому моменту, который является второй половиной и
завершением Гефсиманского эпизода. Посмотрим, как он разыгры-
вается, а для того в качестве источника возьмем хотя бы то же
самое евангелие Матфея. У него прямым продолжением приведен-
ных слов служит следующая сцена:
„И, когда еще говорил он (Иисус), вот, Иуда, один из двена-
дцати, пришел и с ним множество народа с мечами и кольями,
от первосвященников и старейшин народных.
Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот
и есть, возьмите его. И, тотчас подошед к Иисусу, сказал: радуйся,
равви (учитель)! И поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг,
для чего ты пришел? Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса,
и взяли его" (26, 47—50).
Прервем рассказ евангелиста пока на этом и посмотрим, что же
пред нами: исторический, реальный факт, акт черной, гнусной измены
ученика учителю, или же... простое продолжение предыдущей еван-
гельской мифологии такого же сорта, качества и происхождения?
Марк данную сцену рисует в основном так же, как и Матфей,
с небольшими вариантами она и у Луки; Иоанн, как всегда, по-
дробнее и драматичнее: для ареста Иисуса Иуда берет даже отряд
62
воинов и служителей, они приходят в сад с фонарями, светильни-
ками и оружием, нет предательского поцелуя, но суть эпизода та же.
Итак, галилейский учитель, сын человеческий, чарующий силой
своих речей, будто бы увлекавший, толпы народа, встречаемый ими
с пальмовыми ветвями и кликами осанна, — этот то кроткий, как
агнец, то бурно-гневный, как воплощение божьего гнева учитель
предан в руки врагов, предан, и кем же? Своим ближайшим уче-
ником, одним из „двенадцати".
Возможно ли это, возможно ли, чтобы так далеко могла прости-
раться черная неблагодарность человека, чтобы так низко могла
падать человеческая натура, чтобы гнев, ненависть, зависть или что-то
другое могли вылиться в такое деяние, которое столь сильно пора-
жает и отталкивает всякого своей гнусностью?
Невольно, сам собою, напрашивается роковой ответ: здесь
что-то не то.
Однако, не будем спешить с ответом, посмотрим, нет ли мате-
риала для него в других местах евангелий, не найдем ли мы там
ключа к этой психологической и, какой хотите, загадке.
В предыдущих главах евангелий Иуда фигурирует мало и редко.
Он числится во всех трех, кстати сказать, несовпадающих друг
с другом списках „двенадцати апостолов", коих, якобы, сам Иисус
выделил, как наиболее верных, из числа всех прочих учеников,
при чем рядом с именем Иуды постоянно стоит замечание: „который
предал его" (Матф. 10, 1—4; Марк 3, 16—19; Лука 6, 13—16).
Дальше Иуду мы встречали уже в мифе о Вифанской вечери.
Хотя мы последнюю уже разбирали, однако добавим теперь еще
несколько деталей.
У Матфея на женщину, возливающую дорогостоящее миро,
негодуют „ученики", все ли двенадцать или же часть их, — не ска-
зано, и рассказ о вечери заканчивает так: „Тогда один из двена-
дцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его? Они предло-
жили ему тридцать серебренников. И с того времени он искал
удобного случая предать его" (26, 14—16).
У Марка по адресу женщины недовольство выражают только
„некоторые", а затем опять странный, непонятный переход:
63
„И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвящен-
никам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались,
и обещали дать ему серебренники. И он искал, как бы в удобное
время предать его" (14, 10—11).
Лука этого эпизода не знает: в его мифе об умащении Иисуса
негодует домохозяин — фарисей.
Только Иоанн как бы хочет поставить точку над „и", но только
хочет и... не делает.
Рассказав об умащении, он замечает: Тогда один из учеников
его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его (за что?),
сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не
роздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о
нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик
и носил, что туда опускали" (12, 4—6).
Наконец, все евангелисты уделяют внимание Иуде в мифе о
Тайной вечери, служащей как бы прелюдией к Гефсиманской драме.
В рассказе о ней Матфея Иисус приводит в уныние учеников
своим предсказанием, что один из них предаст его. Все спешат
спросить учителя: „не я ли, господи?" „Он же сказал в ответ:
опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем
сын человеческий идет, как писано о нем". Когда же и Иуда
задал ему тот же ответ: „не я ли, равви?", то получил прямой и
недвусмысленный ответ Иисуса: „ты сказал", т. е., „да, ты!"
Отличием Маркова рассказа от Матфеева является только то, что
имя Иуды не упоминается и нет прямого указания на его преда-
тельство; Иисус просто говорит, что его предаст „один из двена-
дцати, обмакивающий со мною в блюдо" (14, 20).
Любитель точности — Лука в данном случае изменяет себе: после
слов Иисуса: „и вот, рука предающего меня со мною за столом"
и грозного предсказания по адресу предателя, ученики спрашивают
друг друга, кто это сделает, а затем спокойно переходят к вопросу
о старшинстве.
Более словоохотлив и осведомлен на этот раз Иоанн, рисующий
целую сцену. Когда Иисус предсказал о предательстве и, ученики
в недоумении озирались друг на друга, то роковую загадку взялся
выяснить один из них, „которого любил Иисус" и который возле-
64
жал у груди Иисуса. „Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спро-
сил, кто это, о котором говорит (учитель). Он, припадши к груди
Иисуса, сказал ему: господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому
я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде
Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана.
Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из
возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды
был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: „купи,
что нам нужно к празднику", или чтобы дал что-нибудь нищим.
Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь" (13, 18—30).
Так рисуют всю предыдущую историю Иуды все четыре еванге-
листа. Удовлетворяют ли нас их рассказы, дают ли они нам ключ
к тому, что привело этого „одного из двенадцати" к позорному
акту измены и предательства?" Увы, нет и нет. Они всюду отте-
няют, даже подчеркивают, что именно этот апостол — настоящий или
будущий предатель, но почему и как, — не говорят.
Так ли это, или, быть может, мы что - либо не поняли, прогля-
дели и ключ давался нам?
Как освещает этот темный вопрос о предателе сама теология, —
богословие?
Этот вопрос ставит ребром немецкий теолог Вреде. Исходя из
того, что Иисус слыл великим прозорливцем и сердцеведом и что он
сам избрал себе тех „двенадцать," названный теолог говорит:
„Община прежде всего мучительно спрашивает себя, как Иисус мог
дойти до того, чтобы в число своих самых близких окружающих при-
нять такого человека, как Иуду, как мог он так глубоко ошибиться?" 1.
Другой теолог, один из столпов своей науки, недавно умерший,
И. Вейс определенно признает, что этой психологической загадки
разрешить нельзя: „Пред нами постоянно стоят вопросы: как мог
поступить так человек, который так долго находился под влиянием
Иисуса, и другой вопрос: как мог Иисус принять в число своих
верных, надежных учеников этого человека? Научного ответа на
эти вопросы дать нельзя" 2.
1 W. Wrede. „Vorträge und Studien", 1907 г.
2 J. Weiss. „Schriften des Neuen Testaments für die Gegenwart erklärt",
стр. 101; 2 изд., 1907 г.
65 5
Пасхальная мифология
На эту сторону вопроса было обращено внимание еще давно:
в первые века христианства, на основании такого же подхода, чисто
психологического, языческий философ Цельс строил довод против
божественности христианского спасителя.
Очевидно, учитывая это же, евангелисты, особенно в мифе о
тайной вечери, усиленно подчеркивают, что Иисус знал о преда-
тельстве, провидел предателя и его планы, даже определенно назы-
вал и указывал его. Но это обстоятельство не меняет, а даже еще
больше запутывает дело.
Если Иисус знал о готовящемся предательстве и его действую-
щем лице, то почему же он во-время не убрал его от себя, не пре-
дупредил события? Почему он не попытался усовестить Иуду,
подействовать на него, удержать его от преступления?
Если он знал и видел, какой страшный грех, тягчайшую вину,
готовится допустить один из избранных им, то он должен был бы
постараться наставить его на путь истинный, должен был бы, так
как того требовало даже „писание".
„Сын человеческий!.., — читаем мы у пророка Иезекииля словеса
бога, — когда я скажу беззаконному: „смертию умрешь", а ты бу-
дешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззакон-
ника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то безза-
конник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от
рук твоих" (3, 18).
Таким образом, если Иисус знал о планах Иуды и не удерживал
его, то он сам пятнал свою душу кровью преступника и тягчайшим
грехом, равным убийству, которое вдобавок, в данном случае, соеди-
няется для предаваемого евангельского героя еще и с самоубийством.
Однако, это еще не все. Пусть Иисус знал предателя и не
желал предпринимать никаких мер против него и в свою защиту.
Ну, а ученики? Ведь учитель, приведя их в смущение и страх
своим предсказанием о предательстве, ясно и определенно, в ответ
на их недоуменные вопросы о личности предателя, указал им на
Иуду. И что же они? Послушаем, что говорит на это теолог
Штейдель. Указавши, что признаваемый надежнейшим евангелист
Марк как-то странно беззаботно относится к „возможностям" и
„невозможностям" своего рассказа о предательстве, он продолжает:
66
„Так затем у него (евангелиста) Иуда своим одновременным
с Иисусом обмакиванием куска в блюдо, сам выдает себя, и
хоть бы кто-нибудь, хотя бы один из присутствующих
учеников выразил при этом чувство своего ужаса пред тем,
что в их собственной среде, среди них, находится преда-
тель любимого учителя. И еще непонятнее, непостижимее то,
что все эти одиннадцать сразу же после предсказания Иисуса,
каковое прямо-таки обязывало их смотреть в-оба за указанным
в качестве предателя учеником, — эти одиннадцать все же спокойно
предоставляют Иуду его пути, — он идет к первосвященникам, а они
сами сопровождают Иисуса в Гефсиманский сад" 3.
Пред этим же обстоятельством в недоумении останавливается,
в числе многих, и Вреде.
„Мы даже ничего не слышим о том, какое впечатление про-
изводит на учеников ответ Иисуса и что происходит с Иудой; пови-
димому, он спокойно продолжает сидеть на вечери, — все это вопросы,
на которые евангелист не обращает внимания".
Зайдя в тупик здесь, теологи пытались подходить к вопросу об
Иуде с другой стороны и задумывались над тем, что могло побудить
ученика предать учителя. Одни из них, подобно нашим приходским
„батюшкам", — старались акт измены объяснить жадностью, „сребро-
любием" Иуды. Однако, более здравомыслящие резонно указывали
им, что обещанная и, якобы, полученная предателем сумма до смеш-
ного ничтожна, и что даже самый указываемый ее малый размер
наводит на мысль о неисторичности деяния 4. Другие желали ви-
деть в Иуде пылкого, горячего мессианца-патриота, примкнувшего
к Иисусу в надежде, что именно он оснует обещанное царство иудей-
ское. Когда ученик увидел, что герой даже после торжественного
и полного энтузиазма приема его народом при входе в Иерусалим
медлит с активным выступлением, то разочарованный в своих ожи-
даниях предал его 5. Близко к этому взгляду примыкает К. Каут-
ский, видящий в Иисусе составившего политический заговор бунтаря
3 F. Steudel. „Im Kampf um die Christusmythe," стр. 47, 1910 г.
4 Th. Reik. „Der eigene und der fremde Gott", стр. 82, 1923 г.
5 Holtzmann. „Handkommentar zum Neuen Testament", т. I, стр. 98,
1901 г.
67
5*
и революционера, а в Иуде — того, кто этот заговор открыл и вы-
дал властям 6. Однако, все эти более или менее остроумные по-
пытки осветить вопрос не имеют под собой прочной почвы, они не
находят себе опоры в самих источниках — евангелиях.
В связи со всеми этими, напрашивающимися и исторически и
психологически неразрешимыми, вопросами выплывает еще один:
имело ли смысл предательство Иуды, нужен ли был послед-
ний врагам Иисуса?
Немецкий исследователь Люблинский, разбирая евангельские рас-
сказы о последних днях Иисуса вообще, предсказании его о преда-
тельстве ученика в частности, говорит:
„Этим учеником является Иуда Искариот, чье злодеяние, с ра-
зумной точки зрения, нельзя было бы даже объяснить или понять. Он
целует Иисуса, дабы тем самым указать священникам и книжникам:
это он. Но эти мужи изо-дня в день видели сего страшного для
них равви в храме и даже вступали с ним в диспуты, при чем обе
стороны соперничали в остроумии и страстности. Они отнюдь не
нуждались в том, чтобы Иуда знаком указал им их ежедневного
противника. Единственный смысл предательства мог бы заключаться
в том, чтобы Иуда открыл им, где христос скрывался ночью, потому
что днем фарисеи, якобы, из-за народа не отваживались на арест.
„Однако, соответствующий мотив такого рода нам пришлось бы
добывать, конечно, из собственной головы, так как в евангелиях
об этом нет ни слова, а это ведь — сомнительный метод. Слуги
первосвященника, конечно, всегда могли найти удобный случай
в ночную пору напасть на опасного противника, и кажется весьма
подозрительным то, что это произошло как раз в ту ночь, которая
следовала за пасхальной вечерей, за жертвоприношением агнца-ягненка.
Сверх того, нет ни малейшего намека на то, чтобы Иисус пошел
на гору Елеонскую потому, что боялся опасности и хотел скрыться
там. Таким образом, у нас остается только один выход, — что пре-
дательство Иуды носит иррациональный (несовместимый с разумом)
характер и становится понятным только в качестве чуда на изнанку,
в качестве вмешательства злого начала" 7.
6 К. Каутский. Назв. соч., стр. 311—312.
7 S. Lublinski. „Das Werdende Dogma vom Leben Jesu", стр. 145, 1910 г.
68
На самом деле, к чему было иудейским первосвященникам
и книжникам прибегать к помощи доносчика — Иуды, когда они и
так в любой момент могли чрез своих шпионов выследить и узнать
местопребывание Иисуса? Для того, чтобы узнать последнего в лицо,
опять-таки ни им, ни их слугам не за чем был предательский „по-
целуй" ученика. Ведь, судя по евангелиям, галилейский проповед-
ник, активно и публично выступавший против них всюду, был им,
конечно, хорошо, слишком хорошо знаком, да и им ли только?
Разве Иерусалим не видел его въезжающим на двух ослах под клики
осанна? Разве его во все последние дни не видели поучающим
в храме и бичующим его священнослужителей? По этому поводу
меткое сравнение делает Каутский. Указав на нелепость рассказа
о поцелуе и вообще указании Иуды на личность учителя, он
говорит:
„Это все равно, как если бы берлинская полиция наняла шпиона
для того, чтобы он указал человека, именуемого Бебелем".
Как видим, какой бы вопрос мы ни подняли относительно сути
и смысла деяния Иуды, с какой бы стороны мы к нему ни подошли,
мы все время попадаем в тупики, все время вращаемся в сфере
реально-невозможного. Почему так?
Подождем с ответом и спросим, ну, а что сообщает нам о пре-
дательстве Иуды остальная древне-христианская, особенно новозавет-
ная литература? Нет ли в ней каких-либо указаний или ключа?
Она такового события и личности не знает!
Да, при обследовании ее мы наталкиваемся на поразительный,
красноречивый факт: в ранне-христианской литературе нет
совершенно не только упоминания, но даже намека на зло-
деяние Иуды.
Не знают ни предателя, ни предательства послания
апостола Павла, эти древнейшие христианские документы.
Единственное место, где как будто упоминается о предательстве,
и, 23 первого послания к коринфянам, начиная с этого стиха и
вплоть до 33, как было нами уже указано, является позднейшей
вставкой в текст.
Но даже если бы оно было и подлинным, чего нет, то все же
в нем имени Иуды, указания на „предателя" — нет.
69
Нет ни слова об Иуде и в самом древнем, быть может,
новозаветном писании, в Откровении Иоанна.
Наконец, молчат о „предателе Иуде" писания мужей
апостольских, приводимое уже нами „Учение 12 апостолов"
и упоминаемый не раз апологет второго века Юстин, а
также другой апологет Аристид и пр.
Молчание, молчание и молчание!
Однако, все вышеприведенные источники не только молчат о
предательстве Иуде, но даже сообщают еще нечто странное.
Число двенадцать апостолов, несомненно, было избрано по числу
двенадцати колен израилевых. И вот, если это так, то как прими-
рить с отпадением Иуды слова Иисуса ученикам:
„Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовав-
шие за мною, — в пакибытии, когда сядет сын человеческий на пре-
столе славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить
двенадцать колен израилевых" (Матф., 19, 28)?
Это предсказание фигурирует у Луки в беседе Иисуса на пас-
хальной вечери, но автор, дипломатично упоминая о двенадцати
коленах, не приводит числа „престолов" (22, 30), хотя построение
этого предсказания не оставляет никакого сомнения в нем.
Любопытное замечание мы находим в найденном в конце XIX в.
отрывке древнего апокрифического евангелия, который считают частью
популярного в древности и утерянного потом евангелия апостола
Петра. Там последний подробно рассказывает обстоятельства суда,
смерти и воскресения Иисуса.
Отрывок заканчивается сообщением о том, как пришедшие ко
гробу господню нашли его пустым и, увидев ангела, в страхе бежали,
а далее идет следующее:
„Был же последний день пасхи, и многие разошлись по домам,
ибо кончился праздник. Мы же, двенадцать учеников господних,
плакали и были в смятении, и каждый возвращался смущенный
о бывшем в дом свой" 8.
Этот отрывок, как видим, прямо исключает евангельский рассказ
о предательстве и отпадении „одного из двенадцати".
8 См. перевод всего отрывка у Ю. Николаева „В поисках за божеством",
стр. 440—443; там же и история этого евангелия; 1913 г.
70
О „двенадцати" же апостолах говорит и Откровение Иоанна,
сравнивая их с двенадцатью основаниями стены небесного града
(21, 14).
Непримиримо с евангелиями и сообщение Павла в его первом
послании к коринфянам, что воскресший христос сначала „явился
Кифе (Петру), потом двенадцати" (15, 6). При чем, походу рас-
сказа, видно, что эти явления имели место до того времени, когда,
по словам Деяний, на место умершего Иуды был избран Матфей,
о котором, кстати сказать, больше мы ничего и не слышим (Дея-
ния, 1, 21 — 26).
Итак, что же пред нами? Места, определенно говорящие против
отпадения и предательства Иуды, „одного из двенадцати".
Опять тупик, опять обстоятельство, еще более запутывающее
наш вопрос. Но запутывающее ли? Не стоим ли мы сами на
ложном пути и не ошибаемся ли, видя историю, исторический факт
там, где пред нами просто только обычный и типичный... Что?
Подождем давать готовый уже сорваться с уст ответ. Недавно
немецкий ученый Шлегер заново пересмотрел весь вопрос о пре-
дателе Иуде, самым тщательным образом, критически проверил все
соответствующие источники и материалы и пролил при этом яркий
свет на многие темные стороны нашего вопроса. Поэтому спросим
его: каков же получился у него результат или вывод из всего
исследования?
Ответ прямой, не возбуждающий никаких сомнений, дают сле-
дующие заключительные, подводящие итог, слова его, посвященной
Иуде, работы:
„Предательство Иуды является не историческим фак-
том, а сказкой или легендой, или, если хотите, мифом" 9.
Личностью мифической, — добавим теперь, — считают Иуду также
Фолькмар (1809—1893) 10, Робертсон 11, Смит 12, Древс, Немоевский,
9 Schläger. „Die Ungeschichtlichkeit des Verräters Judas", стр. 59;
статья в „Zeitschrift für neutestamentl. Wissenschaft". H. 1, 1914 г.
10 G. Vоlkmar. „Religion Jesu", стр. 260, 1875 г. и его же „Markus und
die Synopse der Evangelien", стр. 555; 2 изд., 1876 г.
11 Робертсон. „Ев. мифы", стр. 100—104; его же „Pagan Christs"
(см. указатель изд. „Judas") и др.
12 W. Smith. „Ecce Deus", стр. 295—309.
71
Рейк 13, Штейдель, Люблинский. К ним примкнул в последнее время
Сэдлер, который тоже определенно говорит:
„Человека Иуды не существовало" 14.
Итак, евангельские рассказы о предательстве „одного из
двенадцати" — миф и сам Иуда — продукт мифотворчества,
подобно целому ряду евангельских персонажей. Это обстоятельство,
с одной стороны, выводит нас из того лабиринта невозможностей и
противоречий, куда завело нас обычное, традиционное понимание
фигуры и деяния „предателя", а с другой, — поставило пред нами
новый вопрос: из какого материала и как творилась эта мифическая
личность?
Ответ на это дают сами евангелия. Ошибкой нашей до сих
пор было то, что мы слишком мало уделили внимания этим источ-
никам, не вдумались в смысл их мифа. А там определенно, после-
довательно проводится основная идея, что все это „предательство" —
только исполнение божиих предначертаний, божественного, извечного
плана, все происходит, — „да сбудется писание", сам же Иуда —
только простое орудие божества. Этим объясняются все историче-
ские и психологические „невозможности", этим объясняется пове-
дение всех действующих лиц. И вот, красной нитью чрез все эти
рассказы проходит какая-то, резко подчеркиваемая, связь предателя
с нахождением его за одним столом с предаваемым, совместное
вкушение пищи. „Ядущий со мною предаст меня", — говорит, напр.,
Иисус у Марка.
Здесь определенно чувствуется что-то постороннее, внешнее, что
влияет и диктует евангелистам эту черту.
Их тайну выдает или „предает" Иоанн. У него Иисус, указавши,
что он знает и провидит все, добавляет:
„Но да сбудется писание: „ядущий со мною хлеб поднял на меня
пяту свою" (13, 18).
Это взято из псалма 40, где читаем:
„Все, ненавидящие меня, шепчут между собою против меня,
замышляют на меня зло...
13 Th. Reik. Назв. соч., стр. 75—133.
14 G. Sadler. Назв. соч., стр. 97.
72
„Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, кото-
рый ел хлеб мой, поднял на меня пяту" (8—10).
Сюда же можно присоединить еще слова псалма 44, который,
как будет показано, несомненно повлиял на выработку мифа об Иуде:
„Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня... Ибо не
враг поносит меня, — это я перенес бы; ненавистник мой величается
надо мною, — от него я укрылся бы: но ты, который был для меня
то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли
искренние беседы и ходили вместе в дом божий"(6, 13—15).
Мотив козней и приближения арестующих Иисуса мы уже могли
видеть в „аллилуйных псалмах" пасхальной вечери, а потому при-
ведем оттуда только часть мест:
„Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь
в откровения твои" (118, 95).
„Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона
твоего" (118, 150).
„Вижу отступников, и сокрушаюсь: ибо они не хранят слова
твоего" (118, 158).
„Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого"
(119, 2).
Пресловутый поцелуй Иуды также своим первоисточником имеет
ветхий завет.
„Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидя-
щего", — читаем в Притчах Соломоновых (27, 6).
Помимо данного места, в параллель Иуде, приводится также
целая сцена из жизни прототипа Иисуса — Давида, — расправа его
полководца Иоава с некиим Амессаем:
„И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И взял
Иоав правою рукой Амессая за бороду, чтобы поцеловать его,
Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава; и тот поразил
его им в живот, так что выпали внутренности его на землю... и он
умер" (2 кн. Царств, 20, 9—10).
Если все приведенные выше места повлияли, дали материал для
выработки обстановки сцены или мифа о предательстве, то основным,
главным источником, давшим самую идею мифа, явилось другое ветхо-
заветное место.
73
Немецкий ученый Ф. Фейгель, разбирая терминологию еванге-
лий, обращает внимание на то, что в них, особенно в рассказах о
страданиях и смерти Иисуса, наиболее часто фигурируют слова:
„кровь", „древо" и „передавать, предавать".
Первые два определенно взяты из ветхого завета, ну, а третье,
сделавшееся „техническим термином"?
„Откуда, — говорит он, — это слово: „передавать — предавать"
(„paradidonai — парадидонай"), столь часто употребляемое безо всяких
пояснений в качестве выражения для предания Иисуса в руки его
врагов на смерть, откуда как не из Исайи, 53, 12 (в греч. переводе 70),
где определенно стоит: „предан был за беззакония их" („dia tas
anomias auton paredothe").
Весь этот отдел (53 глава) из Исайи особенно принимался во
внимание при отыскивании ветхозаветных предсказаний: здесь древне-
христианская теология нашла божественное разрешение двух своих
наиважнейших задач: соблазн креста был устранен тем, что смерть
Иисуса стала рассматриваться, как исполнение предсказания и в ка-
честве жертвы за наши грехи, — обе эти идеи подкрепляются 53 гла-
вой Исайи. И особенно стих 12 этой главы в переводе 70 носит
столь новозаветный характер, что это место также хорошо могло
бы быть отчеканено или создано Павлом (ср. посл, к римл. 4, 25:
„который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего").
Как свободно стих этот мог подходить первообщине!
Теперь не за чем было долго копаться в писании, чтобы распятие
Иисуса понять, как божественную премудрость" 15.
Действительно, если мы вчитаемся во всю новозаветную литера-
туру, то везде и всюду встретим мотив „предания" Иисуса на смерть,
при чем последняя носит искупительный, жертвенный характер. Эта
идея и ее словесное выражение в форме глагола „парадидонай" — „пре-
давать" (paradidonai), носящего собственно смысл — „передавать, отда-
вать (на мучения или смерть), выдавать (с теми же дополнениями),
были заимствованы христианами из указанной 53 главы.
15 F. Feigel. „Der Einfluss des Weissagungsbeweises und anderer Motive
auf die Leidensgeschichte", стр. 10, 1910 г.
74
Мы дальше покажем, какую огромную роль сыграла она в истории
христианства и евангелий, как именно она навеяла целый ряд
„страстных" моментов последних, а пока отметим и подчеркнем, что
ни в самой идее, ни в ее словесном выражении, — глаголе „предавать,
передавать", первоначально вовсе не выступал мотив или оттенок
„предательства" в смысле измены, каковой смысл придается деянию
мифического Иуды.
Итак, по плану и указаниям ветхого завета, особенно 53 главы
Исайи, Иисус должен был быть „предан", т. е. передан или отдан
за грехи людей на страдания и смерть. Но кто же совершит или
совершил самый акт предания, передачи, отдачи?
Раннее христианство, которое сначала мирно уживалось с право-
верным иудейством, терпелось им, на этот вопрос отвечало, пови-
димому, просто, в духе самой же 53 главы.
Сына человеческого, спасителя должен был предать бог — отец,
предать его в качестве искупительной жертвы за человечество, или
даже сам сын, добровольно предающий, отдающий себя на страдания.
Поэтому, в тот период христианства и его литературы фигуры пре-
дителя мы не видим, не находим. Но дальше картина меняется.
Между иудейским народом, правоверными иудеями и его отще-
пенцами, сектантами — христианами стало намечаться расхождение,
перешедшее в разрыв и даже обоюдную ярую ненависть.
Когда поклонники фригийского Аттиса в припадке религиозного
исступления оскопляли себя, то рассказывалось, что и сам Аттис,
их спаситель, некогда оскопил себя.
Когда подвергались гонениям и преследованиям поклонники бога
Диониса-Вакха, то говорили, что сам бог подвергался некогда такой
же участи, хотя, в действительности, ни Аттис, ни Дионис никогда
не жили и являются плодом религиозной фантазии.
Так, поклонники того или иного бога превратности своей судьбы
и своей религии переносили в мифические „истории" своих богов
и последним приписывали то, что переживали, на самом деле, сами.
Перенесем это сравнение в историю раннего христианства.
Когда христиане и юдаисты раскололись на два враждующих
лагеря и между ними началась ожесточенная борьба, то преследова-
ние сектантов — христиан со стороны правоверных иудеев в сознании
75
и фантазии первых преломилось в гонение на самого спасителя —
Христа. Иудеи во главе со своим жречеством гнали христиан, отда-
вали их на мучения, предавали смерти. Гонимые видели в этом
гонении гонение на Христа, отдавание его на мучения, предание
его смерти.
Правда, христиане при этом забывали, умалчивали, что они и
сами платили той же монетой иудеям, сами гнали, мучили, предавали
смерти своих религиозных противников, где только могли. Но этого
они в историю своего христа, конечно, не вносили, хотя следов все
же затереть не могли. Возьмите все речи евангельского Иисуса,
пропитанные ненавистью к первосвященникам и книжникам, вспомните
все его „горе вам, змеи, порождения ехидны!" и т. д., вообще
все поведение евангельского героя, — и пред вами будут отзвуки,
слабые, сглаженные следы той позднейшей борьбы христиан с юдаи-
стами, которая, конечно, отнюдь не ограничивалась с обеих сто-
рон только словоизлияниями, — нет, слово переходило в соответ-
ствующее дело.
Этим объясняется тот разительный факт, подмеченный особенно
еврейскими учеными, что евангельские противника Иисуса, — фарисеи,
книжники и пр., выступают с характерными чертами второго века
нашей эры 16.
Таким образом, путем перенесения реальных, исторических усло-
вий жизни самой общины на историю и в историю ее божества,
в среде древних христиан мало-по-малу создавалась, вырабатывалась,
идея „предания" Иисуса на мучения и смерть именно иудеями, и
последние стали изображаться и клеймиться в качестве „предателей"
христа.
Но здесь сыграл свою роковую роль еще ряд моментов. Дело
в том, что указанная выше борьба христиан с правоверными иудеями
протекала, конечно, не только на почве Палестины, но вообще по
всей территории Римской империи, гражданами коей все они были.
Вполне понятно поэтому, что не раз противные стороны втягивали
в сферу борьбы римскую администрацию путем взаимных обвинений,
16 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 200—207 (глава „Иисус, фа-
рисеи и книжники").
76
доносов и проч. Последние приемы подчас сопровождались, как и
большинство политических доносов, материальной, денежной выго-
дой — „сребренниками Иудиными". Это — с одной стороны, с другой, —
сюда же примешивалось, привходило, как часть, еще и то обстоя-
тельство, что от заимствованного от Исайи, 53, 12, глагола „пере-
давать — предавать — парадидонай" в греческом языке, как и в рус-
ском, нет соответствующего существительного, которое должно было
бы произноситься „передатель — парадотес" и которое приходилось
заменять словом „предатель — продотес", взятым от другого, родствен-
ного по корню, но не одинакового по смыслу глагола „предавать —
продидонай" (prodidonai), в коем уже определенно выражалась идея
предательства, измены, провокации.
Посему, когда христиане укоряли своих противников — иудеев
в том, что они „предали" христа, то в это обвинение стал при-
мешиваться и политический оттенок предательства с само собой под-
разумеваемыми „сребренниками", а именование — „предатели" полу-
чило свой обычный, традиционный смысл.
Хорошую иллюстрацию мы находим в Деяниях апостолов, где
апостол Петр в своей речи к иудеям, являющейся, конечно, продук-
том позднейшего христианского творчества, как и все новозаветные
„речи", между прочим говорит им:
„Бог Авраама, Исаака и Иакова, бог отцов наших, прославил
сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись
пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его" (3, 13).
После этого оставалось сделать один только шаг до олицетво-
рения, до превращения всего, враждебного раннему христианству,
иудейского народа в одну собирательную, типичную личность Иуды:
„предатели" христиан-христа иудеи превратились в „предателя
Иуду".
Так, христианами была создана мифическая личность предателя
и окрещена именем Иуды. Если идею ее дал Исайя и ветхий завет,
то фоном для создаваемого портрета-образа служили социальные
условия, откуда брались и соответствующие краски, разводились они
ядовитой слюной ненависти и борьбы, а кистью, — кистью водил по
полотну самый дикий, религиозный фанатизм.
Кто писал этот портрет?
77
Выше мы все время грворили только о христианах-сектантах из
иудеев. Они уже набросали основные линии, черты этого образа,
но дописали, дорисовали не они, а христиане из язычников. Если
так называемые иудео-христиане занимали еще более или менее
примиримую позицию по отношению к иудейскому народу и его
„закону", то порвать с ним постарались христиане из неиудеев.
Они внесли в христианство массу своего, они окончательно оторвали
его от юдаизма и они продолжали борьбу с приверженцами последнего.
В их ненависти к иудейскому народу, в их борьбе с его сынами,
рассеянными по всему лицу обширной Римской империи, ими, конечно,
руководила не только „ревность по господе", не только религиозный
фанатизм. Нет, здесь привмешивались и, возможно, даже в сильной
степени моменты материальные, социальные. Не забудем, что еще
до разрушения Иерусалима, а в особенности после него, „иудеи рас-
сеяния" — диаспора, играли большую экономическую роль всюду, где
они только поселялись. Возьмите, например, хотя бы Александрию
в Египте, которая была настоящим центром диаспоры. Из среды
этих евреев выдвигался целый ряд капиталистов, ведших свои опе-
рации, особенно, финансовые, в широком масштабе 17. Понятно,
что этот еврейский капитал во многих местах стал конкурировать
с капиталом местной буржуазии. Конкуренция перешла в борьбу.
Вполне естественным приемом в этой борьбе двух буржуазии между
собой, двух капиталистических лагерей, было втянуть в нее низшие
слои населения. И вот, мы видим, что греко-римская буржуазия
начинает сеять в народных массах семена ненависти к иудеям, се-
мена антисемитизма, снимая с себя самой вину за обнищание масс
и возлагая ее как на еврейских капиталистов, так и на всех евреев
вообще, хотя масса последних представляла собою такой же зады-
хающийся в безысходной нужде пролетариат. Ловко переплетенная
с национальным и религиозным моментом, но экономическая в основе,
антисемитская пропаганда этих греко-римских капиталистов дала
скоро свои махровые, кровавые плоды в виде еврейских погромов 18.
17 См., напр., А. Тюменев. „Евреи в древности и средние века",
стр. 177—223, 1922 г.
18 См. А. Тюменев. Назв. соч., а также хотя бы книгу В. Бузескула.
„Античность и современность", стр. 75—76, 1913 г.
78
Этот прием, впервые примененный тогда, как известно, был усвоен
в дальнейшем буржуазией всех стран и времен, и этот позор, кро-
вавое пятно на совести человечества, еще не изгладилось, больше
того, с ним мы встречались даже в XX веке в центрах „ культурной"
Европы.
И вот, семена этого антисемитизма, человеконенавистничества,
посеянные греко-римским капитализмом, были занесены „ язычни-
ками" в христианские общины; эти христиане из язычников, поклон-
ники бога любви и всепрощения, дорисовали образ Иуды, еще более
черными красками обрисовали „предателей христа" — иудеев, в при-
влекательном свете выставили римскую администрацию в лице Пи-
лата и отчасти выдали себя, выдали подкладку своей ненависти,
превратив Иуду в апостольского казначея-сребролюбца и наделив его
не только целым денежным ящиком, но и пресловутыми „тридцатью
серебренниками", ценою невинно-проливаемой крови. Правда, для
всего этого, как увидим ниже, они в помощь себе привлекли иудей-
ское же „писание", ветхий завет.
Так, в конце концов, в среде христиан сложился мифический
образ Иуды предателя.
Но почему этот Иуда, олицетворение иудейского народа, оказался
одним из двенадцати учеников учителя.
Здесь опять свою роль сыграли ряд обстоятельств. В еванге-
лиях число „двенадцать" учеников стоит в связи с двенадцатью
коленами, на кои делился некогда еврейский народ. Иуда, очевидно,
был представителем как раз колена Иудина, с его центральным го-
родом Иерусалимом и храмом, жречеством. Последнее было главным
преследователем иудеев-сектантов, христиан, которые в Палестине,
вероятно, главным образом и первоначально вербовались среди полу-
языческого населения северной части, „Галилеи языческой" и Са-
марии. Недаром, якобы, там выступил впервые на проповедь Иисус,
там родился этот „галилеянин", — как его называл император Юлиан
Отступник, — оттуда же выводились его первые ученики — апостолы.
Поэтому, не мудрено, что и предателем сделали как раз представи-
теля этого „колена" Иудина, этого апостола. Здесь сказался анта-
гонизм севера и юга Палестины, сектантская и экономическая вражда
бедных северян к богатому и жестокому жречеству, правящим клас-
79
сам южан, группировавшихся в Иерусалиме, вокруг храма, на тер-
ритории колена Иудина. Отсюда и тесная, преступная связь пре-
дателя Иуды именно с жречеством и их „серебренниками".
Итак, Иуда — олицетворение враждебного христианству иудейского
народа вообще, колена Иудина — в частности. Но откуда же его
прозвище — Искариот?
Обычный, наиболее распространенный взгляд видит в этом проз-
вище указание на происхождение Иуды из города Кариот. Так
например, Гольцман определенно говорит:
„Искариот — муж из Кариота в колене Иудином; см. кн. Иисуса,
Навина, 15, 25" l9.
Здесь, в данном месте перечисляются ряд городов, отошедших
при разделе земли ханаанской к колену Иудину и в числе их: „Га-
цор-Хадафа, Кириаф (по другому произношению „Кариот"), Хецрон,
иначе Гацор".
Однако, Смит вместе с другими правильно указывает, что здесь
речь идет не о названии города, а просто о группе, множестве го-
родов в окружности Хецрона, кои даже не принадлежали, в дей-
ствительности, к колену Иудину, а само слово означает просто
„города" или „местности", поэтому в исправленных текстах ветхого
завета имена Кириаф и Хецрон ставятся вместе и не разделяются
запятой 20.
Далее, указывают на город Кериоф, упоминаемый у Иеремии
(48, 24) и Амоса (2, 2), но там определенно говорится, что этот город
принадлежит соседнему враждебному народу — моавитянам, почему
теолог Кейм ищет новый Кариот и находит его у Иосифа Флавия
под именем Кореи или Корей.
Все эти попытки географического истолкования прозвища Иска-
риота, однако, большинством ученых, даже самих теологов, отбрасы-
ваются, и ключ к нему ищут в другом месте, так как многим слово-
сочетание „иш — Кариот", т. е. „муж из Кариота" кажется слишком
неестественным. Теолог Вельгаузен предлагает видеть здесь еврей-
скую переделку латинского слова „сикариус" — сикарий, т. е. но-
19 Ноllzmann. „Handkommentar", I, 97.
20 Smith. „Ecce Deus", стр. 296.
80
жевщик, кинжальщик, бандит, и в прозвище Иуды видит позорную,
бранную кличку „бандита" 21. (С. Краус, а за ним и Рейк, находят
здесь намек на арамейское слово, означающее „смоковницу").
Смит указывает, на взгляд Брюера (Willis Brewer), что здесь
скрывается еврейский корень „С—К—Р", который в ветхом завете
в разных сочетаниях встречается 47 раз и всюду с определенным
значением: „найма, жалования, платы, награды", так что прозвище
Искариот значило бы „Наемный, Подкупленный".
Сам Смит указывает на другой еврейский равнозвучный корень
„С—К—Р" и прозвище выводит от слова „Сикарти", которое встре-
чается у пророка Исайи в смысле „передавать — предавать — (греч.
парадидонай) и которое в своей греческой форме (70) фигурирует
в евангелиях, в частности, для выражения предательства Иуды.
Он при этом ссылается на слова 19, 4 Исайи, где бог говорит
устами пророка:
„И предали египтян в руки властителя жестокого, и свирепый
царь будет господствовать над ними". От слова „сикарти — предам"
было образовано слово Искариот, как и от его греческого перевода
чрез глагол „передавать — парадидонай" с помощью другого родствен-
ного глагола „предавать — продидонай" получилось слово „преда-
тель — продотес". При этом Смит думает, что первоначально здесь
не крылась идея измены, предательства, а та мысль, что символисти-
ческий образ иудейского народа и иудеи передали язычникам идеи
новой религии, познакомили их с христианством в целях пропаганды,
а не измены.
Древс пытается примирить все последние взгляды и пишет:
„Теперь нам понятно, почему предатель называется Иудой: он
олицетворяет собою весь враждебный мессианской религии поклон-
ников Иисуса иудейский народ. Затем, мы уже видели, что в еврей-
ском выражении идеи „предателя" 53, 6 и 12 Исайи слышалось латин-
ское слово „сикарий", т. е. бандит или кинжальщик. В то же время,
действительно, существовал некий Иуда Сикарий, галилеянин, исто-
рическая личность, основатель секты кинжальщиков (сикариев), о ко-
тором нам рассказывает Иосиф. Что же могло быть проще, как не
21 Wellhausen. ,.Ewangelium Marci", стр. 25.
81 6
Пасхальная мифология
обозначить „сикария" („сикарти") Исайи именем Иуды? Возможно,
что именно здесь лежит объяснение всего вопроса: Иуда Сикарий
для иудейских гностиков был Иудой С. К. Р.: мужем найма, преда-
тельства, и это дало повод отожествить его с тем „Передателем —
Предателем", на которого намекал Исайя. Но как бы то ни было,
имя Иуды Искариота следует понимать чисто символически (курсив
Древса), а именно, что иудейский народ является настоящим Иудой
сикарием, тем, чрез кого был отдан на смерть, предан смерти „раб
божий" 53 главы Исайи" 22.
Так, пред нами расплылась в мифологическом тумане мнимо-
историческая личность евангельского предателя, Иуды Искариота.
Мы видели, из чего и как создавался этот мифический образ, какую
огромную роль сыграли здесь не только ветхозаветные, но и социаль-
ные факторы.
Никакого евангельского Иуды не существовало, гнусный
акт его измены — только плод мифотворчества. А ведь этот
вымышленный образ сыграл свою роковую, огромную роль в истории
человечества. Во имя мщения за это предательство, а на самом
деле, по соображениям чисто материального порядка, капиталисты-
христиане вот уже почти две тысячи лет натравливают на бедный,
распинаемый на кресте, еврейский народ темные, невежественные
масссы. За то, что, якобы, один еврей Иуда когда-то предал
другого еврея — Иисуса, чего, как мы видели, на самом деле и не
было, поклонница религии всепрощения и любви — христианская бур-
жуазия руками масс проливала и проливает реки крови, нагромождала
и нагромождает целые горы растерзанных трупов. Каким жалким,
ничтожно-микроскопически-малым проступком кажется то мимолетное,
однократное и мифическое предательство Иуды и, как следствие
его, — смерть одного человека по сравнению с этим огромным, кро-
вавым, кошмарным преступлением, тянущимся уже многие века и уно-
сящим десятки, сотни тысяч невинных людей, бьющихся на чужбине
в поисках куска хлеба. Эта каинова, братоубийственная „работа"
буржуазии проходит под знаком креста, под сенью этого христиан-
ского символа, проходит под благословением и при самой горячей, актив-
22 A. Drews. „Markusev.", стр. 249.
82
ной поддержке служителей любвеобильного бога, — христианского
духовенства. И если наука смыла мифическое кровавое пятно
с памяти мифического Иуды, то кто смоет с мировой христианской
буржуазии не пятно только, а всю ту невинную кровь еврейских
детей, женщин, стариков и пр., которая все еще не высыхает на
всем ее теле и которую не смоют никакие реки, даже целые моря
воды?.. А ведь все это творилось, якобы, во имя христа, во имя
мести за поцелуй мифического Иуды, на самом же деле, во имя
тех кровавых „серебренников", за которые сама буржуазия с ее
рясофорными союзниками продавала и до сих пор еще продает
своего христа.
На этом мы могли бы закончить свой разбор евангельских Иуды
и его деяния, однако, чтобы не возвращаться к ним впоследствии,
забежим немного вперед и захватим конец мифа, — смерть „преда-
теля". Последнюю из евангелистов описывает нам только Матфей.
Рассказав о том, что первосвященники после обсуждения вопроса
об Иисусе решили предать его смерти и для этого передали в руки
Пилата, евангелист продолжает:
„Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он (Иисус) осужден,
и раскаявшись, возвратил тридцать серебренников первосвященникам
и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную.
Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив
серебренники в храме, он вышел; пошел и удавился.
Первосвященники, взяв серебренники, сказали: не позволительно
положить их в сокровищницу церковную; потому что это цена крови.
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для
погребения странников. Посему и называется земля та „землею
крови" до сего дня" (27, 3—8).
Так как после предыдущего разбора мифа об Иуде, думается,
историчность его конца разоблачать не приходится, мы выясним
только источники этой части того же мифа.
Обратимся к выяснению вопроса о том, откуда Матфей заимство-
вал мотив самоповешения предателя?
На этот вопрос ответ был найден уже давно, и сами теологи
отсылают нас к истории ветхозаветного прототипа христа — царя
Давида. Ближайший друг и советник его, некий Ахитофел, в целях
83 6*
измены дал ему предательский совет, но дело не вышло. А далее
рисуется такая картина:
„И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал
осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал за-
вещание дому своему, и удавился и умер, и был погребен в гробе
отца своего" (2 кн. Царств, 17, 23).
Хотя нам теперь хорошо известно, что, вероятно, ни один из
псалмов не был написан царем Давидом 23, (хотя они и носят его
имя), все же в древности он считался их автором. Поэтому можно
думать, что евангелисты устанавливали внутреннюю связь между
только что приведенным эпизодом из жизни этого царя и уже цити-
рованными нами местами из 40 и 44 псалмов, где говорится о кознях
самого близкого человека, на которого автор полагался и с которым
даже ел за одним столом.
Итак, Иуда удавился, следуя примеру своего ветхозаветного
прототипа, — Ахитофела. При этом мы обращаем внимание читателя
на то, как несомненно во всей евангельской Гефсиманской драме
или мифе видно влияние „истории" Давида.
Последний случай может служить подтверждением предыдущих мо-
ментов, где читатель при наших ссылках на соответствующие детали
Давидовой биографии, быть может, недоверчиво качал головой.
Там же, в ветхом завете, мы находим и источник пресловутой
„цены крови" — тридцати серебренников. Сам Матфей при этом
открывает нам свой секрет. Рассказав о покупке земли первосвя-
щенниками, он добавляет:
„Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который гово-
рит: „и взяли тридцать серебренников, цену Оцененного, которою
оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как ска-
зал мне господь".
Здесь евангелист ошибся, так как приведенные им слова нахо-
дятся не у Иеремии, а Захарии (11, 12—13).
При этом мы наталкиваемся на одно любопытное явление,
а чтобы оно было понятно, посмотрим сначала, о чем идет речь
у самого Захарии.
23 См. работу Н. Никольского. „Царь Давид и псалмы", в частн.,
12—29 стр., 1908 г.
84
Там рассказывается, что бог назначил пророка быть пастырем
над народом, но эта тяжелая должность утомила его, и он просит
у народа расчет:
„И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою; если
же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать сере-
бренников.
И сказал мне господь: брось ее в церковное хранилище; отличная
цена, в какую они оценили меня. И взял я тридцать серебренни-
ков, и бросил их в сокровищницу дома господня".
Как видим, ни о какой земле горшечника речи нет. Откуда же
евангелист ее приобрел? Дело объясняется просто: еврейское слово,
означающее „сокровищницу", очень похоже (разница в одной только
гласной букве) на другое слово, означающее „горшечника" 24. И вот,
евангелист понял стоящее у Захарии слово во втором значении,
т. е., в смысле горшечника.
А в таком случае он должен был почувствовать, что у него
получилось что-то неладное с пророком, так как после перевода
оказалась такая фраза: „бросил их в дом господень для горшечника",
как переведено и в русской синодальной библии (мы выше привели
место по берлинскому русскому переводу и изданию).
Стоит ли добавлять, что при храме вообще, при еврейском
в особенности, никаких горшечников не существовало, о чем знал,
конечно, и евангелист. Поэтому ему надо было выйти как-нибудь
из неловкого положения. И он выходит из него блестяще, фабрикуя
целую историю: Иуда, подобно пастырю Захарии, личность коего
сливается с личностью самого господа, деньги бросил в храм,
но первосвященники нашли неудобным их положить в сокро-
вищницу, а посему, сделав совещание, купили на них землю гор-
шечника, и т. д.
Теперь спрашивается, — почему же евангелист ошибся, указав
на Иеремию вместо Захарии? Ошибка эта объясняется тем, что
ошибочно введенный в храмовой штат у Захарии горшечник на-
помнил ему о „горшечнике", действительно упоминаемом у Иеремии
(18, 1), хотя по поводу ничего общего с тем не имеющему.
24 Д. Штраус. Назв. соч., кн. II, стр. 174—178.
85
Но на этом злоключения несчастного предателя не закончились,
ибо если Матфей его удавил, то автор Деяний апостолов заставил
его претерпеть новую, более ужасную смерть.
Там апостол Петр в своей речи пред избранием некоего Матфия
на место Иуды, между прочим, говорит о последнем:
„Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего,
но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, рассе-
лось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось
известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном
их наречии названа Акелдама, т. е., „земля крови" (1, 17—19).
Откуда эти новые подробности? Из того же ветхого завета!
Сам Петр продолжает далее:
„В книге же псалмов написано: „да будет двор его пуст, и да
не будет живущего в нем", и: „достоинство его да приимет другой"
(1, 20).
Автор Деяний здесь имеет в виду слова псалма 68, 26:
„Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих"
В этом же псалме, в 24 стихе, читаем еще:
„Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их
расслабь навсегда", а также:
„Да изгладятся они из книги живых" (ст. 29).
Из этих стихов при некоторой доле воображения, конечно, было
не трудно составить целую картину: раз кто-либо имеет жилище,
должно предположить и землю, цена крови подсказывает ее проис-
хождение, от расслабления чресл навсегда не далеко до рассевше-
гося чрева и выпадения внутренностей, а изглаживание из книги
живота означает смерть.
Последняя фраза Деяний о принятии достоинства другим взята
из псалма 108, 8: „Да будут дни его кратки, и достоинство его
да возьмет другой". В этом же псалме находим еще такой стих:
„Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода,
во внутренность его, и как елей, в кости его" (ст. 18).
Если к этому стиху прибавить приведенный выше 24 стих 68
псалма целиком, то получим новую историю, согласно коей, чрево
Иуды расселось благодаря толстоте, которая явилась результатом
его болезни водянкой, а голова и веки предателя раздулись так,
86
что он не мог больше видеть. Почтенный Папий, епископ Иера-
польский (II в.), сообщая нам эти подробности, пополняет наши
сведения о болезни Иуды еще тем, что, по его словам, — предатель
из-за раздувшегося чрева не мог проходить там, где свободно проезжал
воз или телега. Гнойники и черви разъедали его, пока, наконец,
он не умер мучительной смертью на своем земельном участке, при
чем от выпадения его внутренностей получился такой запах, что
даже до времен самого Папия, т. е. по прошествии почти двухсот
лет, никто там не жил и без чувства отвращения не мог проходить
мимо того места.
Другой автор исправляет показания Папия, говоря, что Иуда
из-за своего чрева был раздавлен в тесном переулке ехавшим
навстречу ему возом, и все внутренности его выпали наружу 25.
Добавим еще несколько древних вариантов истории смерти пре-
дателя.
Так, по словам Ефрема Сирина, Иуда заперся в комнате, тело
его заживо начало разлагаться и затем выпали внутренности 26.
По словам церковного историка Евсевия, Иуда повесился, но
веревка оборвалась, он упал и сильно разбился, при чем произошло
сотрясение внутренностей, отчего через два дня он и умер.
Наконец, по сообщению перса Афраата, Иуда повесил себе на
шею мельничный жернов и бросился в море.
Источники всех этих вариантов ясны. Афраат, несомненно,
заимствует идею своей версии из евангельских слов Иисуса, где
последний рисует картину наказания для тех, кто „соблазнит единого
из малых сих". Евсевий пытается примирить непримиримое, т. е.
рассказы Матфея и Деяний. Папий использовывает псалмы. Однако,
сюда присоединяются еще и другие библейские места.
Поедающие Иуду черви, повидимому, заимствованы из истории
царя Ирода Агриппы:
„Но вдруг ангел господень поразил его за то, что он не воздал
славы богу; и он, быв изъеден червями, умер" (Деяния, 12, 23).
Сюда же, как часть, привходит страшная смерть врага иудеев —
Антиоха:
25 д. Штраус. Назв. соч., И, стр. 177.
26 F. Feigel. Назв. соч., стр. 43 (оттуда и два следующих примера).
87
„Но всевидящий господь, бог Израилев, поразил его неисцельным
и невидимым ударом: как только кончил он эти слова, схватила его
неистерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки..., из тела
нечестивца во множестве выползали черви, и еще у живого выпадали
части тела от болезней и страданий; смрад же зловония от него
невыносим был в целом войске" (2 кн. Маккавейская, 9, 5—9).
Нечто подобное находим мы и в 1 книге Мак.: „Не убойтесь
слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей" (2, 62).
Эта мысль — аналогична словам книги Иисуса Сирахова: „Когда
же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся,
звери и черви" (10, 11), или: „гниль и черви наследуют его, и дерз-
кая душа истребится" (19, 3).
Несомненно, в истории Иуды нашли отражение также слова
54 псалма:
„Ты, боже, низведешь их в ров погибели; кровожадные и ко-
варные не доживут и до половины дней своих" (ст. 24). Этот
псалом, как мы видели, повлиял также на выработку идеи
предательства.
Идея „падения" Иуды, кроме приведенных слов псалма, навеяна
еще Исайей:
„В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим;
под тобою подстилается червь, и черви — покров твой. Как упал ты
с неба, денница, сын зари? Разбился о землю, попиравший народы"
(14, 11—12).
Он же в другом месте говорит следующее:
„И будет он (господь) освящением и камнем преткновения и
скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для
жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и
разобьются, и запутаются в сети и будут уловлены" (8, 14—15).
На это мнимое пророчество намекает в евангелиях Лука устами
Симеона, говоря по адресу принесенного в храм младенца Иисуса:
„Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле" (2, 34).
Так, в итоге оказывается, что создание, разработка мифа об Иуде
продолжались и дальше, вслед за евангелистами, при чем харак-
терно и показательно то, что материал брался опять таки из ветхого
завета. Между прочим заметим, что этот мотив смерти предателя
88
интересовал многих еще с другой стороны. Например, многие бого-
словы и даже народы бились над вопросом о том, на каком дереве
повесился Иуда, и наш, напр., народ нашел, что это была осина,
потому-то у ней постоянно дрожат листья, а если содрать кору, то
выступает кровь предателя. А некий профессор медицины Эбштейн
пытался, на основании новозаветных данных, определить нам болезнь
Иуды, но нашел, что сведения слишком запутаны и легендарны;
так же полунеудачна, заметим кстати, — была его попытка определить
природу кровавого пота Иисуса в Гефсиманском саду. Вывод его
по последнему вопросу тот, что мы имеем здесь дело только с круп-
ными каплями пота, которые были столь велики и тяжелы, что
падали на землю, как капли крови 27. Как мы видели, причины
болезни Иуды и пота Иисуса были гораздо сложнее и серьезнее!
Итак, в вопросе о смерти мифического предателя мы разобрались.
Да, приходится признать, что прав был Иисус, когда, имея в виду
Иуду, говорил: „Горе тому человеку, которым сын человеческий
предается: лучше было бы этому человеку не родиться".
Действительно, путем продажи своего учителя заработать деньги,
чтобы потом отдать их священникам и удавиться, затем на эти деньги
все же купить себе землю и на нее низринуться, далее, лишиться
зрения, распухнуть от водянки до неприличия, гнить заживо, чтобы
попасть под воз в переулке и быть раздавленным так, что выпали
внутренности, затем живым разлагаться у себя, в собственном доме,
умереть там и, наконец, все же повесить себе мельничный жернов
на шею и утопиться, — да, после всего этого, лучше было бы не
родиться!
Спешим оправдаться за такое слишком большое внимание к лич-
ности и смерти Иуды. Мы привели весь этот обильный материал
не для того, конечно, чтобы подтвердить истинность пророческой
прозорливости Иисуса, а чтобы показать, как из отдельных малень-
ких, коротеньких и совершенно второстепенных ветхозаветных выра-
жений выростают, пухнут и лопаются, — не скажем, чтобы с приятным
запахом, — некоторые невозаветные истории, при чем истории, касаю-
щиеся очень важных действующих лиц евангельских повестований.
27 W. Ebstein. „Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud",
стр. 99—102, 1903 г.
89
VI. КОНЕЦ ГЕФСИМАНСКОЙ БОРЬБЫ
Мифический Иуда Искариот своим предательским поцелуем, сере-
бренниками и страшною смертью слишком долго задерживал наше
внимание, мы слишком долго дышали всей этой одуряющей атмо-
сферой, пропитанной зловонием заживо-разлагающегося человеческого
мяса, поэтому, чтобы освежиться, отправимся опять в, увы, — мифи-
ческий Гефсиманский сад и посмотрим, как там разыгрываются даль-
нейшие евангельские события. Покинули мы его как раз в тот
роковой и жуткий монент, когда слуги первосвященников „возложили
руки на Иисуса, и взяли его". Что же было дальше?
„И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек
меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда
говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо, все взявшие
меч, мечем погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить
отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов
(полков) ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?
В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли
вы с мечами и кольями — взять меня; каждый день с вами сидел я,
уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся
писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали (Матф.,
26, 51—56).
Марк дополнил картину еще одной деталью, — после бегства
учеников:
„Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, сле-
довал за ним (Иисусом); и воины схватили его. Но он, оставив
покрывало, нагой убежал от них", (14, 51—52).
У Луки против Иисуса выходят даже „первосвященники, началь-
ники храма и старейшины", и по адресу их он произносит слова
90
укоризны за „мечи и колья", когда они могли его всегда аресто-
вать в храме. „Но, — добавляет он, — теперь ваше время и власть
тьмы". Иисус раба исцеляет (22, 49—53).
Иоанн, как всегда, многословен и драматичен: для ареста Иисуса
Иуда ведет отряд воинов и служителей первосвященников, идут они
с фонарями, светильниками и оружием; Иуда не указывает и не
целует учителя. Последний сам на вопрос к пришедшим: „кого
ищете", и их ответ: „Иисуса Назорея", выдает себя словами
„Это я;", — „они отступили назад и пали на землю" (солдаты!!!).
На повторный вопрос и тот же ответ, он снова говорит: „Я сказал:
вам, что это я: итак, если меня ищите, оставьте их (учеников), пусть
идут, — да сбудется слово, реченное им (?): „из тех, которых ты мне
дал, я не погубил никого".
Учеником, извлекшим меч и отсекшим ухо слуге, оказывается был
Симон — Петр, а слуга именуется Малхом; Иисус, как у Матфея и
Марка, не исцеляет его (18, 1 —12).
Доказывать неисторичность, мифичность этого момента евгангель-
ской биографии Иисуса не приходится, так как он составляет прямое
продолжение и часть вообще Гефсиманского мифа, а также мифа
о тайной вечери: здесь разыгрывается то, что там только подгото-
влялось, имелось в виду, вроде сцены с мечами и бегства учеников.
Однако, несмотря на это, мы все же несколько остановимся на дан-
ном мифическом эпизоде, чтобы лишний раз понаблюдать над работой
новозаветных авторов.
Определенным, исторически, явно немыслимым мотивом
является отмечаемая евангелистами подробность, что для
ареста Иисуса пришли слуги первосвященников с мечами и
кольями. Ведь, по евангелиям, дело происходило в святую пасхаль-
ную ночь, в каковую, как вообще и во все праздничные дни, ноше-
ние оружия иудеями было строго воспрещено религией 1. Из истории
еврейского народа, напр., восстания братьев Маккавеев, мы знаем
факты, что из-за этого гибла масса иудеев, так как враги их, учиты-
вая такое запрещение, выбирали моментом для нападения субботы,
т. е. один из еврейских праздников. Посему, не только слуги
1 F. Steudel. Назв. соч., стр. 44.
91
первосвященников не могли притти с оружием в руках в Гефсиман-
ский сад, но их, как и „воинов" (у Иоанна), не могли тогда послать
для этого и сами первосвященники, а тем более последние не имели
права приходить туда сами и даже заниматься подобными мирскими
делами. То же самое относится, конечно, и к ученикам Иисуса.
Все это кому-нибудь может показаться мелочью, деталью второ-
степенной, однако, из таких мелочей состоит почти вся евангель-
ская история Иисуса. К тому же здесь она приводит к целой сцене
с учеником, мечем и раненым слугою — Малхом, продолжением коей
будет служить в дальнейшем новая сцена с отречением Петра.
Больше того, она же, как и сопутствующие ей другие подроб-
ности, служат прямым свидетельством того, что мы имеем дело не
с историей, не с историческими фактами, а только и только с догма-
тикой: все разыгрывается, „да сбудутся писания" или „реченное
чрез пророков".
Поэтому здесь мы должны искать основной материал разбирае-
мого мифа. Какие „писания" имели в виду евангелисты? Еще
„блаженный" Иероним указывает нам, а это так и на самом деле,
на 21 псалом, который сыграл, как увидим, огромную роль в истории
страданий и смерти Христа:
„Ибо псы окружали меня, скопище злых обступило меня" (ст. 17).
Так сетует некий, якобы, ветхозаветый прообраз Иисуса.
Затем, Иисус обращается к Петру со словами увещания вложить
бесполезный меч в ножны и указывает, что он мог бы на помощь
себе призвать легионы ангелов небесных. На ветхозаветную парал-
лель этому указал еще Сэдлер, отсылая нас к истории пророка
Елисея, так сильно повлиявшей на евангельскую мифологию 2.
Однажды царь сирийский, дабы захватить приносящего вред ему
пророка, окружил город войсками, конями и колесницами. Когда,
видя это, служитель Елисея стал сетовать на угрожающую им гибель,
пророк сказал ему:
„Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели
тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: господи! открой
ему глаза, чтобы он увидел. И открыл господь глаза слуге, и он
2 G. Sadler. Назв. соч., стр. 92.
92
увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными
кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился
господу и сказал: порази их слепотою. И он поразил их слепотою,
по слову Елисея" (4 кн. Царств, 6, 8—16).
Впрочем, мы могли бы обойтись и без этой параллели, так как
в евангелиях, в подражание ветхому завету и в отражение господ-
ствовавших в среде иудеев взглядов, большую роль играют ангелы.
Недаром во многие критические моменты Иисуса укрепляет ангел
Заметим кстати, что, возникшее под влиянием персидской религии
учение об ангелах, как и их противниках — бесах, в юдаизме было
разработано до мельчайших подробностей, все они были разбиты
на классы или разряды, введен был у них чисто военный строй.
По наследию это перешло и в христианство с его ангелами, архан-
гелами, властями, силами и прочими делениями чинов ангельских 3.
В качестве злой иронии „ангельской" мифологии отметим здесь
тот любопытный факт, что былое воинствующее черносотенство,
вдохновлявшее и устраивавшее еврейские погромы, своим небесным
покровителем избрало и считало Михаила архангела. Этот же
архангел считался в древности самими евреями покровителем, пат-
роном как раз еврейского народа 4. Как он выходил из своего
двусмысленного положения, когда обе покровительствуемые им сто-
роны взывали к нему о помощи?
Далее, Иисус обращается со словами негодования к первосвящен-
никам (!) и их слугам, пришедшим в пасхальную ночь с оружием, —
дрекольями и мечами, — против него, хотя они в любой момент и
свободно могли арестовать его в храме.
Нет сомнения, что этими словами евангелисты хотели заранее
отвести возражения своих противников, могущих указать на это
слабое место, а затем показать, что все разыгрывается согласно
„писаниям", т. е. ими руководила и здесь догматика. Сын чело-
веческий, во исполнение извечных искупительных планов божества,
3 См. огромный список соответствующей литературы в книге F. Andres,
„Die Engellehre der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts",
стр. XI—XX, 1914 г.
4 См. о нем хотя принадлежащее теологу, но ценное исследование, —
W. Lueken—„Michael", 1898 г.
93
добровольно отдает себя в руки врагов, не за чем выходить на
него с оружием, оно непригодно, ибо на защиту его могут встать
„тьмы тем", целые полчища непреоборимых небесных сил.
Если эта догматика видна у синоптиков, то особенно ее вы-
являет Иоанн. По мысли последнего, нет надобности в предатель-
ском поцелуе: он только огрязнил бы божественную, чистую лич-
ность христа; нет, сам Иисус выступает вперед и открывает себя
врагам: — „Это я", — говорит он им, — и вся эта масса вооруженных
людей... падает.
Она как бы чувствует, провидит, кто стоит пред ней, личность
необыкновенная, какое - то существо высшего порядка, могущее
себе на помощь призвать высшие силы. Падает от страху... Иоанн
любит такие драматические моменты, — это один из любимых прие-
мов его письма.
В этих словах — „это я", повторенных здесь дважды, а во всем
евангелии неоднократно (напр., в словах ободрения испуганных
учеников при его хождении по водам Галилейского моря, 6, 20)
слышится что-то властное, магическое, намек на полноту всего того,
что составляет природу его существа. Мало того, здесь слышатся
ветхозаветные отголоски, эхо грозных слов могущественного Ягве,
бога отца:
„Видите ныне, что это я, я — и нет бога, кроме меня, я умерщ-
вляю и оживляю, я поражаю, и исцеляю, и никто не избавит от,
руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я во
век! Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд-
то отомщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам" (Второзако-
ние, 32, 39—41).
Эти слова, проникнутые идеей мощи и угрозы, не подходили
к кроткому, жертвующему собою христианскому спасителю, поэтому
они были переработаны, смягчены, и не здесь ли кроется один из
источников мотивов о мече, ранении слуги и исцелении его Иисусом
в Гефсимании?
Его слова — „Это я", напоминающие ветхозаветные и заставляющие
в страхе падать врагов, дают нам право сделать такое предположение.
Те же слова ветхозаветного Ягве, только в несколько смягченной
форме, встречаются у пророка Исайи:
94
„А мои свидетели, говорит господь, вы и раб мой, которого я
избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это — я:
прежде меня не было бога, и после меня не будет.
Я, я — господь, и нет спасителя кроме меня. Я предрек, и спас,
и возвестил, а иного нет у вас, — и вы — свидетели мои, говорит
господь, что я — бог; от начала дней я — тот же, и никто не спасет
от руки моей; я сделаю, и кто отменит это?... Я — господь, бог
святый ваш, творец Израиля, царь ваш. Так говорит господь, от-
крывший в море дорогу, в сильных водах — стезю, выведший колес
ницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли
как светильня, погасли" (43, 10, 17). Далее идут слова, вошедшие
в евангельский миф о крещении и Иоанне Предтече 4.
У Иоанна эти слова Ягве, выступающие в двух только словах
Иисуса — „это я", перенесены на последнего; произнося их, христос,
как бы, сливает себя с небесным отцом, не отделяет себя от него
и в свои слова влагает идею мощи, силы пославшего его.
Далее, если в прежних словах Ягве мы усмотрели намеки на
некоторые моменты мифа об аресте Иисуса, то мы их находим и
здесь. По нашему мнению, в словах — „все легли вместе" и „по-
тухли, как светильня" Иоанн усмотрел благодатный для себя мате-
риал и, между прочим, поэтому заставил слуг притти со светиль-
никами, а затем вместе с воинами пасть на землю. Однако, на этом
толковании мы не настаиваем, хотя мы подмечали не раз, что для
евангелистов подчас достаточно только самого легкого намека или
даже отдельного выражения, образа, чтобы создать ту или иную кар
тину. Светильни могли быть выведены и потому, что ведь сцена
разыгрывается ночью и наступила „власть тьмы".
Прочие детали разбираемого мифа, несомненно, навеяны ветхим
заветом.
Так, трогательный мотив просьбы учителя, чтобы не трогали
его учеников, из которых один, Петр, уже успел мечем отрубить ухо,
хотя за это, к великому нашему удивлению, ничем не поплатился, —
этот мотив, по словам самого же Иисуса, является желанием — „да
сбудется слово, реченное им" (т. е. богом).
4 См. хотя бы нашу монографию „Миф об Иоанне крестителе".
95
Позорное бегство учеников, бросивших учителя в самый крити-
ческий момент, было предсказано им еще раньше и, опять таки,
словами пророчества. Еще после вечери, на пути в Гефсиманию, он
говорит им: „все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано:
поражу пастыря, и рассеются овцы стада" (Матф. 26, 30—31). Это
несколько измененное место из пророка Захарии:
„О, меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего,
говорит господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы" (13—7).
При этом мы обращаем внимание читателя на то, что одним из
самых излюбленных евангельских сравнений является, как раз-
сравнение Иисуса с пастырем, а верующих, учеников — с овцами. Кому
не приходит на память притча о потерянной овце или слова Иисуса
Петру — „паси овец моих!" Здесь же в словах бога у Захарии фи-
гурирует и меч, призываемый на пастыря. Он, конечно, превра.
тился в мечи и колья слуг первосвященников и воинов, а, быть
может, и Петра.
Однако, приведенным местом влияние Захарии на мотив „бегства"
учеников не ограничивается. Он же слышится и дальше, в словах, где
рисуется наступление дня страшного, рокового, дня мщения господа:
„И станут ноги его (господа) в тот день на горе Елеонской,
которая пред лицом Иерусалима... И все побежите в долину гор
моих" (14, 4—5).
Далее рисуется картина разгрома господом народов, при чем
„будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от
господа, так что один схватит другого, и поднимется рука его на
руку ближнего его. И сам Иуда будет воевать против Иерусалима"
(14, 13—14).
Здесь, в картине борьбы, в коей принимает участие Иуда, народ
иудейский, при некоторой доле воображения и желании всегда можно
было вычитать идеи не только бегства учеников, но поступка
поднявшего меч ученика и даже участия Иуды предателя. Повто-
ряем, — „при желании", так как, несомненно, пришлось бы прибегнуть
к самой вопиющей натяжке, но такие вещи евангелистов не оста-
навливали.
Возьмем, наконец, последнюю деталь, сообщаемую только Марком
древнейшим, „надежнейшим" Марком, — о бегстве одетого только
96
в покрывало юноши, оставившего в руках преследователей это свое
„одеяние" и убежавшего нагим. Странная сцена, таиственный, не-
понятный юноша со своим необыкновенным одеянием — покрывалом.
Как и откуда он попал в ту роковую ночь в Гефсиманский сад?
Из ветхого завета, из книги пророка Амоса!
Рисуя день гнева господня, пророк продолжает:
„И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит
господь" (12, 16).
Итак, вся новая евангельская сцена, одна из наиболее жутких
и захватывающих, в конечном итоге, оказалась самым типичным,
самым шаблонным евангельским мифом, сотканным из ветхозаветного
материала.
Почти ни одной оригинальной черты, ни одного оригинального
образа или идеи. Однако, только „почти", ибо есть нечто, чего
в ветхом завете мы не находим. Возьмем крылатую фразу Иисуса:
„все, взявшие меч, мечем погибнут" (Матф. 28, 52), которой, кстати
сказать, не знают ни Марк, ни Лука, ни Иоанн, сообразно своим
взглядам, приписывающие учителю совершенно иные слова. Откуда
она, под влиянием чего сложилась?
Ответ дает нам Откровение Иоанна, где мы встречаем ее в не-
сколько измененной форме:
„Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечем убивает,
тому самому надлежит быть убитому мечем. Здесь терпение и вера
святых" (13, 10).
Приведенные слова Откровения, которое было написано, вероятно,
задолго до евангелий, являются отражением тех жизненных условий,
в коих пребывали ранние христиане. Если здесь они, — как думает
Фейгель, — направлены против Рима, огнем и мечем искореняющего
последователей новой религии, то у Матфея они носят уже другой
характер. В них, по мнению того же исследователя, кроется уже
указание на то, что христианство отнюдь не носит характера рево-
люционного движения, или же увещание к христианам — воздержи-
ваться от революционных выступлений, борьбы 5. Иначе говоря,
здесь замешаны уже политические мотивы: желание подслужиться
5 Feigel. Назв. соч., стр. 101.
97
7
Пасхальная мифология
императорской власти, выставить новую религию в благонамеренном
свете, отвести обвинения против христиан в революционном на-
строении, в готовности восстать с оружием — „мечем" в руках. А
если это так и если „нет дыму без огня", мы имеем полное право
предполагать, что таковые тенденции у христиан были, что их дви-
жение носило определенно политический, порой даже активно-рево-
люционный характер, а не только характер религиозный, как говорят
и пишут церковники и те, кому было невыгодно, пытались его
сдерживать в угоду этой власти. Таково возможное происхождение
этих слов, таково несомненное происхождение и всех тех „воздайте
кесарево — кесарю, божие — богу", „несть власти, аще не от бога",
и т. п. Так, жизнь, социальные условия творили все эти „словеса
господни" и рукою евангелистов влагали их в уста Иисусу.
98
VII. СУД НАД ИИСУСОМ
Предыдущая глава закончилась у нас трагической сценой: иудей-
ские первосвященники поразили евангельского пастыря и рассеялось
его стадо. Теперь проследим дальнейшую судьбу этого пастыря.
За основу на этот раз возьмем евангелие Марка, как признавае-
мое наиболее надежным, так как теперь, может быть, больше,
чем когда-либо, нам надо иметь в руках заслуживающий доверие
источник.
Итак, Марк, что же было дальше с брошенным на произвол
судьбы своими учениками учителем, на коего уже наложили руки
слуги первосвященников?
„И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все
первосвященники и старейшины и книжники... Первосвященники же
и весь синедрион (верховное судилище) искали свидетельства на
Иисуса, чтобы предать его смерти; и не находили. Ибо многие
лжесвидетельствовали на него; но свидетельства сии не были доста-
точны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него,
и говорили: мы слышали, как он говорил: „я разрушу храм сей
рукотворенный, — и через три дня воздвигну другой, нерукотворен-
ный". Но и такое свидетельство их не было достаточно.
Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты
ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?
Но он молчал и не отвечал ничего.
Опять первосвященник спросил его и сказал ему: Ты ли хри-
стос, сын благословенного?
Иисус сказал: я; и вы узрите сына человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных.
99
7*
Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что
еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?
Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали
плевать на него, и, закрывая ему лице, ударять его, и говорить
ему: прореки. И слуги били его по ланитам...
Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжни-
ками и весь синедрион составили совещание, и, связав Иисуса,
отвели и предали Пилату" (14, 53, 55—65; 15, 1).
У Матфея первосвященник называется Каиафой, суд происходит
так же, в вину вменяются двумя лжесвидетелями слова: „могу разру-
шить храм божий и в три дня создать его", на вопрос, — признает
ли обвиняемый себя христом, дается полууклончивый ответ: „ты
сказал", хотя далее сразу же идут слова: „даже сказываю вам:
отныне узрите" и т. д., приговор судей: „повинен смерти", плюют,
бьют и издеваются только судьи, — о „слугах" — ни слова; после
утреннего совещания о том, „чтобы предать его смерти", связан-
ного отвели к „Понтию Пилату, правителю" (26, 57, 59—68;
27, 1—2).
Лука рисует иную картину, каковую поэтому мы приведем пол-
ностью:
„Взяв его, повели, и привели в дом первосвященника... Люди,
державшие Иисуса, ударяли его по лицу и спрашивали его: прореки,
кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него.
И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники
и книжники, и ввели его в свой синедрион, и сказали: ты ли хри-
стос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;
если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите
меня. Отныне сын человеческий воссядет одесную силы божией.
И сказали все: итак ты сын божий? Он отвечал им: вы говорите,
что я. Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? Ибо
мы сами слышали из уст его.
И поднялось все множество их, и повели его к Пилату" (22, 54,
63—71; 23, 1).
Совершенно иначе дело представляет Иоанн:
„И отвели его сперва к Анне; ибо он был тесть Каиафе, кото-
рый был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который
100
(ранее) подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за
народ... Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об
учении его. Иисус отвечал ему: я говорил явно миру; я всегда
учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не
говорил ничего. Что спрашиваешь меня? спроси слышавших, что
я говорил им; вот, они знают, что я говорил. Когда он сказал
это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке,
сказав: так отвечаешь ты первосвященнику? Иисус отвечал ему:
если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь
меня?
Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе... От
Каиафы повели Иисуса в преторию (к Пилату). Было утро; и они
не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было
есть пасху" (18, 13, 19—24, 28).
Как, вероятно, заметил читатель, мы берем только одну часть
евангельских рассказов о суде, — события после ареста до суда у
Пилата, и что же? Пред нами весьма и весьма печальный факт:
почти все евангелисты здесь противоречат друг другу или же рисуют
одну и ту же картину по разному. Примирить их, согласовать —
невозможно, особенно синоптиков с Иоанном, а потому нам прихо-
дится сделать какой-то выбор, остановиться на ком-то одном, а
остальных затрагивать только попутно. Впрочем, дело не так уже
безнадежно, — ведь, по общепринятому теперь в теологии; особенно
западно-европейской, — взгляду самым первым (по времени) и самым
надежным является Марк, прочие же евангелисты только целиком
его брали, кое-что переделывали на свой лад и дополняли. Посему,
в основу, — как мы и начали, — возьмем Марка.
Чтобы нам легче было разобраться во всем этом обшир-
ном „деле" Иисуса, разобьем, расчленим его на ряд главных,
основных вопросов, при чем начнем хотя бы с того, — кто судил
Иисуса?
Первосвященник, первосвященники, старейшины и книжники, —
отвечают евангелисты.
Такое единодушие новозаветных авторов, как будто, дает нам
надежду, что мы, наконец-то, отыщем в истории Иисуса нечто исто-
рическое, действительно бывшее.
101
Однако, посмотрим сначала, что говорит относительно этих судей
немецкий ученый К. Липпе, посвятивший специальную работу вопросу
о суде над Иисусом 1.
На основании тщательного изучения соответствующих иудейских,
особенно талмудических, документов — источников он приходит к не-
сколько неожиданному для нас выводу, что дело с судьями Иисуса
не ладно, даже весьма печально. Оказывается, что в эпоху Иисуса
пресловутые враги последнего — „книжники" (sofrim) не играли ни-
какой роли и опустились настолько низко, что едва могли учить
детей. Хуже обстоит дело со „старейшинами" (sekenim): они, как
институт, организация или коллегия, тогда уже совсем не существо-
вали. Не менее безотрадная картина рисуется относительно перво-
священника: во времена Иисуса судебная власть была уже изъята
из его рук и судить они не имели права.
Таким образом, из евангельской картины суда над галилейским
проповедником нам приходится отбросить, исключить, главных, актив-
ных действующих лиц, — судей.
Что же, в таком случае, от нее остается? Ровно ничего!
Раз мы заговорили о первосвященнике, то сделаем еще одно
замечание. У иудеев всегда существовал и мог существовать только
один первосвященник, число — два, одновременно правящих, перво-
священника — представляет историческую нелепость, допускаемую лю-
бителем точности — Лукою в рассказе о выступлении Иоанна кре-
стителя (3, 2) и почти допускаемую здесь Иоанном. Ну, а какое
название подобрать к тому факту, что у всех евангелистов в сцене
суда, да и в других местах, постоянно фигурируют „первосвященники"
и не в единственном или двойственном, а во множественном числе,
заключать о чем нам дают право окончания соответствующих слов
в оригинальном греческом языке?
Однако, допустим, — на что мы не имеем собственно права, — что
под первосвященниками следует понимать просто священников.
1 К. Lippe. „Der Prozess Jesu", статья в журнале „Das freie Wort",
№ 5, 1912 г. Не имея в настоящее время под руками этой статьи, свои све-
дения о достижениях К. Липпе мы почерпаем из статьи А. Немоевского
„Prozess i egzekucja Jezusa" в его журнале „Mysi Niepodlegla", № 211,
1912 г.
102
В таком случае, указание Марка, что „собрались к нему (в дом
первосвященника) все первосвященники и старейшины и книжники",
заставляет нас признать нечто не менее нелепое, ибо под этим
„все" скрывалось бы, — по подсчету некоего Исаака Уайза (Isaak
Wise), круглая цифра в 200.000 человек 2. Вряд ли даже у перво-
священника было такое обширное помещение, могущее вместить всех
этих судей.
Итак, на наш первый вопрос, — кто же судил Иисуса, —
евангелисты дают нам исторически-нелепый ответ, не отве-
чающий тогдашней действительности.
Ставим второй главный вопрос: где судили Иисуса?
Евангелисты определенно указывают на дом первосвященника,
при чем Марк и даже Лука имени его не приводят, что в высшей
степени странно. Но здесь дело опять неблагополучно.
Иудейское судебное учреждение — синедрион заседал постоянно
в так называемом „Зале из отесанных камней" (Lischhath Haggazith),
вероятно, при храме или в особом помещении, но ни в коем случае
он не мог собираться в частном доме первосвященника, как
здесь, у Каиафы. Далее, коллегия священников не могла присуждать
к наказанию, исключая дел храмового богослужения, но и в послед-
нем случае ее власть простиралась только на священников и низ-
ших храмовых служителей — левитов 3.
Следовательно, и в отношении места заседания суда над
Иисусом из уст евангелистов мы слышим опять таки не-
лепость.
Поднимаем третий главный вопрос: когда судили Иисуса?
Ночью, — даже в „святую" пасхальную ночь, — отвечают еванге-
листы и, тем самым, на прежние нелепости нагромождают еще
новые.
По иудейским законам, синедрион не имел права и не мог устраи-
вать своих судебных заседаний ночью, а только и только днем.
Больше того, если вина была слишком тяжкая и дело шло к смерт-
ному приговору, заседание не могло продолжаться после наступления
2 G. Sadler. Назв. соч., стр. 93.
3 Sadler и Липпе-Немоевский, там же.
103
вечернего часа и переносилось на следующий день 4. Иисуса
судят ночью.
Далее, так как приговор суда должен был приводиться в испол-
нение только на следующий день, то нельзя было судить в кануны
суббот и вообще праздников.
Наконец, что особенно важно, — строжайше воспрещалось устраи-
вать судебные заседания в самые праздники вообще, а тем паче, —
в самый большой праздник 5. У Иоанна Иисуса судят накануне
субботы, у синоптиков — на самую пасху.
Так, и здесь, на наги третий главный вопрос нам еванге-
листы преподносят только исторические и юридические не-
возможности, нелепости. По иудейским же законам происходящий
не по правилам суд считается не судом, а сборищем, бандой раз-
бойников.
Идем еще дальше и выдвигаем четвертый главный вопрос: как
происходил суд над Иисусом?
Вся суть евангельского суда вращается вокруг показаний лже-
свидетелей и самого обвиняемого. Но откуда сразу же первосвя-
щенники набрали столько лжесвидетелей, ночью, в праздничное
время и так быстро, подозрительно быстро? Евангелисты подчер-
кивают при этом мотив лжесвидетельства. Но иудейские судебные
законы в этом отношении были строги, до мелочности щепетильны.
Например, показания свидетелей аннулировались сразу же, если они
хоть в чем-нибудь не сходились. Показаний одного свидетеля,
особенно в делах серьезных, было недостаточно:
„По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен уме-
реть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам
одного свидетеля" (Второзакон., 17, 6).
Марк, а за ним и другие, забыли еще одно место Второзакония,
где читаем довольно красноречивые слова:
„Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь
вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, кото-
рым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех
свидетелей, состоится всякое дело.
4 G. Sadler. Назв. соч., стр. 94.
5 F. Steudel. Назв. соч., стр. 43—44.
104
Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя
его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у кото-
рых тяжба, пред господа, пред священников и судей, которые будут
в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель
тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то
сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему;
и так истреби зло из среды своей. И прочие услышат, и убоятся,
и не станут впредь делать такое зло среди тебя.
Да не пощадит его глаз твой: душу за душу, глаз за
глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу" (19, 15—21).
У евангелистов дело идет как раз о „душе", т. е. жизни
Иисуса, — ее добиваются найденные первосвященниками „лже-
свидетели".
Что же вменяется в вину Иисусу, за что его осуждают на
смерть? За то, что он выдал себя за мессию, христа, сына божия?
Но в этом признании не было вины, не было преступле-
ния, не было богохульства.
Останавливаясь на этом мотиве, Штейдель говорит:
„Иисус осуждается на смерть за „богохульство", но знатоки
древне-иудейского права тщетно ломали себе голову над тем, что же
это было за „гиддуф" (Gidduf), т. е. богохульство в смысле иудей-
ского права, на каковом обосновывался смертный приговор. Все
согласны с тем, что провозглашение себя мессией никогда не
могло рассматриваться, как богохульство. Скорее уже могла
быть поставлена в главную вину речь против храма, но как раз это
обвинение в евангельском рассказе не признается достаточным для
вынесения смертного приговора. Заметим кстати, что влагаемое
в уста первосвященнику выражение „сын благословенного" ни в ка-
ком другом месте иудейской литературы не встречается" 6.
Действительно, этот главный, религиозный пункт обвинения не
выдерживает ни малейшей критики. Сыном божиим мог себя смело
именовать каждый иудей, да и звание мессии могли себе присваивать
многие.
Читаем же мы во Второзаконии:
6 F. Steudel. Назв. соч., стр. 44.
105
„Вы сыны господа, бога вашего,.. Ибо ты народ святый
у господа, бога твоего, и тебя избрал господь, чтобы ты был
с обственным его народом из всех народов, которые на земле"
(14, 1 — 2).
Идя вслед за Брандтом и останавливаясь на этом, Древс пишет:
„Ведь и до Иисуса и после него были мессии, т. е. люди, выда-
вавшие себя за мессий, и они отнюдь не вызывали своими претен-
зиями такого враждебного отношения, как Иисус. Вар-Кохва был
признан мессией даже со стороны такого правоверного иудея, как
равви Акиба, так что претензия на роль мессии не могла никак
считаться заслуживающим казни преступлением. Ведь, мессия является
не самим богом, не кем-то выше бога, а существом, подчиненным
ему; как же претензия на роль мессии могла быть признана бого-
хульством? „Если уже кто-нибудь претендовал на роль мессии без
всяких на то данных, то с ним можно было бороться, его можно
было осмеивать, увещевать, предостерегать, наконец, предать суду,
как зачинщика волнений, но как же можно было судить его за бого-
хульство?" (Слова Брандта) 7.
Это исторически-нелепое место у евангелистов отмечается и под-
черкивается целым рядом ученых, и примирить его с историей,
с иудейскими религиозными взглядами и законами, — нельзя.
Не будем говорить уже о том, что даже самый вопрос перво-
священника Иисусу о его мессианском самосознании является
неожиданным, не вяжется со всем предшествующим как на допросе,
так и вообще с предыдущей историей этого „мессии". Ведь, судя
по евангелиям, Иисус тщательно скрывал свое мессианское достоин-
ство, даже ученики его не все прозревали в нем это, почему так
называемое исповедание Петра, признание его христом, особенно
подчеркивается.
Итак, в мессианском звании Иисуса отнюдь не крылось бого-
хульство, а все же первосвященник... раздирает свои одежды! Новая
нелепость. Одежды раздирались только в том случае, если при
богохулении виновным было произнесено таинственное, неизреченное,
священное имя „Ягве", так называемое „тетраграмматон", т. е.
7 A. Drews. „Markusev.", стр. 272.
106
„четырехбуквенное имя"; если же были произнесены другие имена
божии, то одежд не раздирали.
На это указывают, это подчеркивают как еврейские ученые, так
и все, приводимые нами, авторы, — Древс, Немоевский Липпе и др.
После признания Иисуса виновным в богохульстве и после разо-
драния одежд, ему сразу же выносится обвинительный приговор.
Юридически и это было невозможно. Невозможен он был уже
по одному тому, что никто из судей не защищал подсудимого,
а в таком случае приговор не имел никакой силы, не был действи-
телен и, значит, для евангельских судей — нелеп 8.
Не был возможен он еще и потому, что, как было выше сказано,
приговор, а особенно смертный, выносился только на следующий день.
Равным образом, невозможно, чтобы члены верховного учре-
ждения иудейского народа могли унизиться до того, чтобы там же,
в зале суда, избивать и издеваться над осужденным. Положение
дела не спасает и полуоправдательное замечание некоторых еванге-
листов, что избиение производили „слуги", или даже, что ударил
только однажды (у Иоанна) раб.
Таков полученный нами ответ на наш четвертый главный вопрос.
Мы привели еще не весь соответствующий юридический материал,
а только часть его, но, думается, и его уже достаточно. При-
соединим сюда еще несколько соображений.
Сразу же после ночного осуждения синедрион собирается снова,
утром того же дня, в праздник пасхи, и после совещания ведет
и передает Иисуса Пилату. Не говоря уже о том, что оконча-
тельный приговор всегда мог произноситься только на следующий
день, а не как здесь, в тот же и с промежутком только в несколько
часов, самая поспешность и прочее не вяжется с иудейским законом:
„В первый день (опресноков и пасхи) да будет у вас священное
собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой работы
не должно делать в них", — читаем мы в книге Исход (12, 16).
То же читаем в книге Левит: „В первый день да будет у вас свя-
щенное собрание; никакой работы не работайте" (23, 7; см. также
Числа, 28, 15, 25).
8 Sadler. Назв. соч., стр. 94.
107
При всей этой поспешности вряд ли можно было так быстро
организовать в огромном городе невозможное судебное заседание
с его многими лжесвидетелями. Странно, почему не был приглашен
в качестве главного свидетеля мифический Иуда предатель, коему
уже была уплачена „цена крови" и каковой еще не поканчивал
самоубийством. Весь допрос Иисуса как-то поразительно бесцветен,
пуст, бессодержателен. А впрочем, каков бы он ни был, поставим
еще один главный вопрос: откуда у евангелистов сведения
о процессе? Ведь ученики разбежались, апостол Петр, — если таковой
существовал, — стоял только во дворе первосвященника и грелся
у костра, некий Иосиф Аримафейский, на которого могли бы
сослаться, в совете или заседании не участвовал (Лука, 23, 50—51).
Сами же евангелисты о своих источниках благоразумно умалчивают.
И вот, если мы учтем все вышесказанное, все исторические,
юридические и прочие нелепости, преподносимые нам евангелистами,
а также присоединим сюда и предыдущие мифологические сцены,
то сам собою у нас получается роковой, неизбежный вывод, совпа-
дающий с выводом проф. Брандта, — что весь рассказ Марка,
древнейшего и самого надежного евангелиста, о судебном
процессе Иисуса в синедрионе и осуждении его является
чистейшим вымыслом и плодом фантазии. Иначе говоря,
никогда Иисус пред иудейским синедрионом не стоял, никто
из иудеев его не судил, и, конечно, никто из них его не
присуждал к смертной казни. Конечно, все это относится
к рассказам не только Марка, но и прочих евангелистов.
Следовательно, и эта часть евангельской „биографии",
истории Иисуса, является мифом и только мифом 9. Больше
того, здесь мы еще раз наблюдаем знакомую и, казалось бы, странную
картину: авторы евангелий имеют или превратное, или же самое
смутное представление об иудейских, притом главных, учреждениях,
9 A. Drews. „Markusev", стр. 267—279.
F. Steudel. Назв. соч., стр. 42—44.
G. Sadler. Назв соч., стр. 93—97.
А. Niemоjewski. „Prozess i egzekucja Jezusa".
S. Lub1inski. Назв. соч., стр. 147—148.
К. Lippe. Назв. статья.
108
законах и обычаях, они как бы стоят где-то вдали от них и во
времени, и в пространстве.
Еще новая глава евангельской мифологии... Каковы же ее источ-
ники, материал, план или композиции, — все тот же ветхий завет
и проч.?
Да, все те же!
Одной из таинственных личностей ветхого завета, которая нам
уже встречалась и в которой, — скажем теперь, — кроется иудейский
образ страждущего, умирающего и воскресающего спасителя, является
„раб божий" Исайи, он же, — добавим, — „праведник" книги Пре-
мудрости Соломона, он же — невинный страдалец во многих местах
ветхого завета. Этот образ нам будет теперь встречаться на каждом
шагу, а пока мы приведем хотя бы следующее место, — где нечести-
вые замышляют и строют козни „праведнику":
„Устроим", — говорят они, — ковы праведнику, ибо он в тягость
нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против
закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет
себя имеющим познание о боге и называет себя сыном
господа; он пред нами — обличение помыслов наших. Тяжело нам
и смотреть на него; ибо жизнь его не похожа на жизнь других,
и отличны пути его, он считает нас мерзостью и уда-
ляется от путей наших, как от нечистот; ублажает кончину
праведных и тщеславно называет отцом своим бога. Увидим,
истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо,
если этот праведник есть сын божий, то бог защитит его
и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением
и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие
его; осудим его на бесчестную смерть; ибо, по словам его,
о нем попечение — будет.
Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их и они
не познали тайн божиих, не ожидали возздаяния за святость и не счи-
тали достойными награды душ непорочных" (Прем. Сол., 2, 12—22).
Здесь, в этих немногих стихах, кроется целая программа для
евангелистов, здесь находится один из ключей к враждебному взаимо-
отношению между Иисусом и главными представителями официаль-
ной религии иудеев, — первосвященниками, книжниками и фарисеями,
109
с которыми новозаветные авторы заставляют своего героя бороться
на манер Дон-Кихота с ветряными мельницами. Здесь кроется все
то, что, якобы, привело Иисуса пред лицо иудейского синедриона.
Здесь пункты обвинительного акта, здесь же намек на дальнейшую
участь обвиненного, — здесь же намечается главное содержание тра-
гедии на Голгофе. Действительно, что это за „бесчестная смерть",
коей враги праведника собираются его предать? Ответ дается Второ-
законием:
„Проклят пред богом всякий повешенный на дереве" (21,23).
Заметим и подчеркнем теперь, что „повешение на дереве" озна-
чает в то же время „распятие на дереве , распятие на кресте 10.
Таким образом, основной мотив суда над Иисусом мы нашли
в ветхозаветной истории „праведника", дерзко именующего себя
„сыном божиим", за что ему назначаются оскорбления, мучения и
крестная смерть.
Оттуда же, из ветхого завета, были приведены и „лжесвидетели".
„Не предавай меня на произвол врагам моим, — молится псалмо-
певец, — ибо восстали на меня свидетели лживые, и дышут злобою"
(26, 12).
„Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о
том допрашивают меня" (34, 11).
Присоединим сюда слова столь сильно повлиявшего на выработку
мифа об Иуде псалма ю8:
„Отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят
со мною языком лживым. Отовсюду окружают меня словами нена-
висти, вооружаются против меня без причины" (ст. 2—3).
Повторим еще раз уже приводимые слова аллилуйного псалма:
„Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить
повеления твои" (и8, 69).
Тот же образ и идея в псалме 5:
„Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гну-
шается господь.
Ибо нет в устах их истины, сердце их — пагуба, гортань их —
открытый гроб, языком своим льстят" (ст. 7, 10).
10 А. Древс. „Миф о христе", т. I, стр. 83—94.
110
Как видим, материала для вывода евангелистами „лжесвидетелей"
ветхий завет дает достаточно. Но евангельская картина была бы
слишком бледна, если бы все дело и ограничилось их свидетель-
ствами. Характерно здесь то, что наши новозаветные авторы не
приводят содержания или сути лжесвидетельств. Нет сомнения, что
дело объясняется просто тем, что их соответствующие ветхозаветные
источники в данном случае тоже бессодержательны.
Наконец, против Иисуса выдвигается, видимо, серьезный пункт
обвинения, — слова о разрушении храма, но почему-то о нем говорят
только Марк и Матфей.
Поводом к предъявлению этого обвинения послужил тот же вет-
хий завет в лице эпизода с пророком Иеремией.
Господь устами Иеремии бичует иудеев за невнимание к словам
его пророков и между прочим грозит им следующим бедствием
за это:
„С домом сим (храмом Иерусалимским) я сделаю то же, что и
с Силомом (т. е. разрушу), и город сей предам на проклятие всем
народам земли". А далее рисуется такая картина:
„Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда
он говорил сии слова в доме господнем. И когда Иеремия сказал
все, что господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили
его священники и пророки и весь народ, и сказали: ты должен уме-
реть. Зачем ты пророчествуешь именем господа и говоришь: дом
сей будет как Силом (разрушен), и город сей опустеет, останется
без жителей. И собрался весь народ против Иеремии в доме го-
споднем" (26, 1—9).
После этого над Иеремией учиняется суд, обвиняемый в защиту
себя произносит целую речь, употребляя в ней одно выражение,
которое нам скоро встретится, и, в конце концов, спасается благо-
даря заступничеству одного лица.
Таков ветхозаветный первоисточник обвинения против Иисуса.
Однако, здесь нашел свое отражение и новый завет, точнее,
Павловы послания.
Согласно обычного понимания, в словах Иисуса, что он разрушит
старый, рукотворный храм и через три дня созиждет новый, неруко-
творный, скрывается намек на организацию христианской общины,
111
церкви, как совокупности верующих. Подобный образ мы встречаем
как раз у Павла.
„Мы (апостолы) соработники у бога, — говорит он, — а вы (верую-
щие) божия нива, божие строение (1 посл, к коринфянам, 3, 9).
Ту же мысль мы находим и дальше:
„Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас святого
духа" (6, 19).
Иную идею, но тот же образ, близкий к евангельскому, мы имеем
также во втором послании к коринфянам:
„Ибо знаем, что, когда земный наш дом, эта хижина разрушится,
мы имеем от бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный" (5, 1).
К этим двум источникам евангелисты пристегнули приписываемое
Иисусу предсказание о разрушении храма, являющееся, в действи-
тельности, продуктом позднейшего времени, — и в результате полу-
чилось „лжесвидетельство" против обвиняемого.
Один за другим проходят лжесвидетели, одно за другим сыпятся
на него обвинения, которых евангелисты дипломатично не приводят
(нет в ветхом завете!), а Иисус... молчит. Почему? Таковы дирек-
тивы ветхого завета, первоисточника.
„Друзья мои и искренние, — жалуется псалмопевец, — отступили
от язвы моей (подобно ученикам) и ближние мои стоят в дали (по-
добно Петру, о котором далее).
Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне
зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни.
А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает
уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не
имеет в устах своих ответа" (37, 12—15).
Если приведенное место продиктовало евангелистам мотив пове-
дения Иисуса на суде, то другое место повлияло здесь еще более.
Мы имеем в виду знаменитую 53 главу пророка Исайи, полное
значение и роль коей скоро выступит пред нами во-всю. В ней мы
находим главный, основной первоисточник молчания обвиняемого, —
выступающего здесь в лице „раба божия":
„Он истязуем был, но страдал добровольно, и не откры-
вал уст своих; как овца, веден был он на заклание, и, как агнеи
112
пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
От уз и суда он был взят" (ст. 7—8).
Иисус, этот евангельский агнец, долго молчит, но, наконец,
решается заговорить, и что же? — словами опять таки псалмопевца:
„Сказал господь господу моему: седи одесную меня, доколе положу
врагов твоих в подножие ног твоих" (109, 1).
Эти слова своего ветхозаветного прототипа он соединяет в одно
целое со словами пророка Даниила, вернее, видением последнего:
„Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел
как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был
к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили ему; владычество его — владычество вечное,
которое не прейдет, и царство его не разрушится" (7, 13—14).
Что слияние этих двух ветхозаветных мест дало реплику, ответ,
странный ответ Иисуса, якобы, решивший его участь, в этом сомне-
ваться нельзя.
Итак, мифический суд в этом мифическом ответе Иисуса увидел
мифическое богохульство и за это присудил его к смертной казни, —
какой, увидим после. Но дело этим у евангелистов не ограничилось,
так как, по их словам, после этого (у Луки до этого) обвиненный
и уже осужденный подвергся оплеванию, побоям и издевательствам
со стороны судей и их слуг. Мы уже отмечали невозможность,
мифичность этой детали, а теперь покажем истинных виновников сей
гнусной истории. Последними являются опять ветхозаветные источники.
Два из них, — 53 главу Исайи и 2 главу книги Премудрости
Соломона мы указали раньше, теперь приведем остальные.
„Разинули на меня пасть свою, — жалуется многострадальный
Иов, — ругаясь, бьют меня по щекам; все сговорились против меня.
Предал меня бог беззаконнику, и в руки нечестивых бросил меня"
(16, 10—11).
„Они гнушаются мной, — говорит он в другом месте, — удаляются
от меня и не удерживаются плевать пред лицем моим" (30, 10).
„Тростью будут бить по ланитам судью израилева", — вещает
Михей (5, 1).
„Я предал хребет мой биющим и ланиты мои поражаю-
щим; лица моего я не закрывал от поругании и оплевания.
113 8
Пасхальная мифология
И господь бог помогает мне: поэтому я не стыжусь, поэтому я
держу лице мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.
Близок оправдывающий меня".
Тут устами пророка Исайи говорит сам господь, мессия, пома-
занник, „раб божий" (50, 6—8).
Изо всей сцены надругательства над Иисусом у нас осталась
невыясненной еще только одна деталь Луки, что обвиненного били
по лицу и спрашивали: „прореки, кто ударил тебя?" Древс указы-
вает нам источник этого в эпизоде из жизни только что нами при-
водимого пророка Михея. Однажды некий Седекия подошел к нему
и, ударив его по щеке, спросил: „как, неужели от меня отошел дух
господень (дар пророчества), чтобы говорить в тебе?" (3 книга
Царств, 22, 24).
Последней деталью мы исчерпали как содержание евангельской
сцены суда, так и ее, возможно, не весь ветхозаветный материал.
Теперь нам следовало бы разобрать разногласия евангелистов
между собой, но так как вопрос о них слишком специален и не
имеет здесь актуального значения, то мы его обходим. Скажем
только, что он разобран блестяще Д. Штраусом, который показал,
что евангелистами там руководила отнюдь не история, а только и
только догматика 11.
Если все это мы соединим с выше-вскрытыми, явно неисториче-
скими, мифическими моментами, то получим самый обычный, хорошо
знакомый нам, типичный евангельский миф.
В заключение этой главы нам необходимо добавить еще не-
сколько слов об одном моменте, который нами выше нарочно не
затрагивался.
Когда мы в начале ее приводили сообщения евангелистов о суде
над Иисусом, то, как, вероятно, подметил читатель, опустили какое-
то вкрапленное туда евангельское место. Действительно нами, чтобы
не осложнять дела, был опущен там рассказ о пресловутом отречении
апостола Петра.
Суть его всем известна и сводится к тому, что Петр после
Гефсиманской борьбы следует за арестованным Иисусом во двор
11 Д. Штраус, II, стр. 171—174.
114
первосвященника, узнается там служанкой и слугами, после двукрат-
ного пения петуха трижды отрекается, отказывается от знакомства
с Иисусом и, наконец, плача, выходит вон, вспомня предсказание
учителя.
Эпизод этот, как составляющий часть всей разобранной уже
нами мифической истории Иисуса, сам, в свою очередь, поэтому
мифичен. Последнее обстоятельство подтверждается, помимо всего
этого, еще рядом оснований. Одно из них остроумно отмечает
К. Каутский.
„Так же неудачно, — говорит он, — как нынешняя версия о преда-
тельстве Иуды, придуман и рассказ об аресте Иисуса. Арестуют
именно его, который проповедует мирный образ действий. И совер-
шенно не трогают апостолов, обнаживших мечи и пустивших их
в действие. Петр, который отсек ухо Малху, последовал даже за
служителями, спокойно уселся на дворе первосвященника и вступил
с ними в разговор. Представим себе, что в Берлине кто-нибудь
оказывает насильственное сопротивление аресту его товарища, стре-
ляет при этом из револьвера, ранит полицейского, а затем любезно
сопровождает городовых в участок, чтобы погреться там и выпить
с ними стакан пива. Трудно представить себе более неудач-
ную выдумку" 12.
Да, действительно, выдумка неудачна. Но вот, более ли удачной
мы признаем наиболее характерную подробность этой сцены, — пение
петуха, если оказывается, что, по словам иудейских источников,
не только священникам вообще, но даже во всем Иерусалиме куро-
водство было запрещено, так как петух считался нечистой птицей,
стоящей в связи с языческими богами времени 13. Посему во дворе
первосвященника не могло находиться никакого петуха, а, значит, не
могло быть слышно и пения последнего.
Факт, казалось бы, смешной, однако это так: даже петух кричит
против историчности данного евангельского рассказа и за его ми-
фичность, каковая подтвержается также незнанием этого отречения
всей новозаветной литературой: посланиями. Деяниями и пр-
12 К. Каутский. Назв. соч., стр. 312.
13 Steudеl. Назв. соч., стр. 44. A. Drews. „Markusev.", стр. 258, 276.
115
8*
Больше того, как показали исследования целого ряда западно-
европейских ученых, сама личность небесного ключаря, апостола.
Петра, — мифическая и явилась результатом слияния в единый образ
фигур многих языческих божеств, особенно митраистического бога
времени — Зервана, римского новогоднего двуликого Януса, греческого
морского Протея и Петрея - Посейдона, семитического солнечного
Симона-Шамаша и проч., при чем символами многих из них были
как раз ключи неба и ада, а также — петух 14.
14 А. Древс доказательству мифичности Петра посвятил целую моно-
графию: „Die Petruslegende", 1910 г., которая в переработке автора переве-
дена и скоро выйдет в изд. Атеиста; ему же он уделяет много места в своих
остальных работах, особенно в „Markusev." и „Der Sternhimmel in der
Dichtung und Religion der alten Völker und des Christentums", 1923 г.
По специальной главе посвящают Петру Д. Робертсон — „Характеристика
Петра" в „Ев. мифах", А. Немоевский „Петух Петра" в „Боге Иисусе"
и С. Люблинский — „Petrus" в „Das werdende Dogma".
116
VIII. „РАСПНИ ЕГО!"
Итак, мифический Иуда предал, мифический Петр трижды отрекся,
мифические судьи осудили Иисуса на смерть, а затем отвели и
предали римскому наместнику, Понтию Пилату.
Матфей, что же было дальше?
„Иисус же стал пред правителем. И спросил его правитель: ты царь
иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. И, когда обвиняли его
первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит
ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И
не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.
На праздник же пасхи правитель имел обычай отпускать народу
одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник,
называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат:
кого хотите, чтоб я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого
христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем как
сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай
ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много постра-
дала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ
просить Варавву, а Иисуса погубить.
Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтоб я отпу-
стил вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я
сделаю Иисусу, называемому христом? Говорят ему все: да будет
распят. Правитель сказал: какое же зло сделал он? Но они еще
сильнее кричали: да будет распят.
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: неповинен я
в крови праведника сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ
сказал: кровь его на нас и на детях наших.
117
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие"
(27, 11—26).
Марк, рисуя картину так же, опускает вмешательство жены Пилата
и омовение им рук, толпа ревет: „распни его!", и наместник, „желая
сделать угодное народу", сдается (15, 1—15).
У Луки иудеи обвиняют Иисуса, что он „развращает народ
наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя христом
царем". Пилат после первого вопроса Иисусу: „Ты царь иудейский?",
и ответа: „ты говоришь", — сразу же заявляет народу: „я не нахожу
никакой вины в этом человеке, и, узнав, что Иисус из Галилеи,
пересылает его к Ироду, который был в те дни в Иерусалиме. На
многие вопросы Ирода Иисус ничего не отвечает, хотя прежние
судьи его усиленно обвиняют. После издевательств Ирод одевает
Иисуса „в светлую одежду" и отсылает обратно к Пилату, после
чего эти два лица, прежние враги, — делаются друзьями. Наместник
снова созывает народ, указывает на себя и Ирода, что не нашли
никакой вины, трижды предлагает им отпустить обвиняемого, пред-
варительно наказав его. Тщетно. В ответ несется эловещее: распни,
распни его! Пилат сдается: отпускает посаженного за возмущение
и убийство Варавву, а Иисуса „предал в их волю" (23, 1—25).
Иоанн подавляет подробностями. Иудеи не входят в преторию
(дворец наместника), чтобы не оскверниться и есть пасху. Пилат
спрашивает иудеев о вине Иисуса, те дают нелепый ответ, что если бы
не был виновен, не привели бы, и указывают, что им не позволено
казнить. Все это „да сбудется слово Иисусово".
Наместник уходит в преторию, вызывает туда Иисуса и сразу
же задает вопрос: ты царь иудейский? Далее начинается целая
беседа между ними с философским и мистическим уклоном, закан-
чивающаяся крылатым вопросом Пилата: „что есть истина?" Пи-
лат выходит, признает Иисуса неповинным и предлагает его отпустить.
Народ требует Варавву — „разбойника". Пилат отдает обвиняемого
на издевательство солдатам, те бьют, надевают терновый венец и
проч. В таком виде наместник снова выводит Иисуса к народу,
желая разжалобить, и произносит вторую крылатую фразу: „се, че-
ловек!" В ответ: распни, распни его! Затем, снова признавши
Иисуса невинным, предлагает его распять самим иудеям. Последние
118
настаивают на смерти, ибо Иисус, якобы, называл себя „сыном
божиим". Услышав это, Пилат „больше убоялся".
Новая беседа с Иисусом, заявляющим, что „более греха на том,
кто предал меня тебе". „С этого времени Пилат искал отпустить
его".
Иудеи выдвигают тогда угрозу и обвинение, что — Пилат, очевидно,
не друг кесарю, т. е. в измене. Пилат снова выводит Иисуса, но-
вые переговоры с народом, — „царя ли вашего распну?". „Перво-
священники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Пилат, наконец,
сдается и предает им на распятие (18, 28—40; 19, 1—16).
Чтобы разобраться во всей этой массе подробностей, выделим и
выбросим сначала все то, что, явно, неисторично, мифично.
В первую очередь отбросим у Матфея жену Пилата с ее злове-
щим и вещим сном. Еще в благовещенском и рождественском ми-
фах можно видеть, что этот евангелист питает непростительную
слабость к снам и на них основывает целый ряд эпизодов. Откуда
эта жена уже заранее знает „праведника", как она решается делиться
с мужем своими ночными новостями при исполнении им серьезных
служебных обязанностей и даже влиять таким путем на приговор, —
оставим все это на совести евангелиста. Нам опровергать такую
„сонную" мотивировку мягкости Пилата по отношению к Иисусу —
было бы наивно и смешно 1.
В область мифологии отнесем мы и вторую характерную подроб-
ность Матфея — умывание Пилатом рук. Этот обычай — не римский,
а только и только иудейский, при чем здесь он выведен исключи-
тельно по требованию ветхого завета, — „писания". Так, в книге
Второзакония читаем, что когда где-нибудь будет найден убитый и
неизвестно кем, то старейшины близ лежащего города должны при-
вести в поле молодую телицу, а священники заколоть ее. Далее
же: „и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть
омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и объ-
явят и скажут: „руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не
1 Такое понимание разделяется даже некоторыми теологами, из которых,
напр., Пфлейдерер называет рассказы о жене Пилата и умывании им рук
„в высшей степени невероятными сообщениями". См. его „Das Urchristentum",
т. I, стр. 597.
119
видели. Очисти народ твой, Израиля... и не вмени народу твоему,
Израилю, невинной крови. И они очистятся от крови. Так дол-
жен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе
и справедливое пред очами господа бога твоего" (21, 1—9).
Вот откуда Пилат позаимствовал не только обряд омовения рук,
но и свои пресловутые слова. Приписывая все это ему, Матфей
лишний раз хотел подчеркнуть как невинность, невиновность Иисуса,
смерти которого так настойчиво добиваются иудеи, так и невинов-
ность в имеющейся пролиться невинной крови самого Пилата, ри-
млянина и язычника 1. Что последний оказывается великолепным
знатоком иудейского писания, это, как видно, Матфея не беспокоит.
Однако, оказывается, Пилат знал не только это место еврейской
библии, но еще и другие. Например, он говорит почти словами царя
Давида, который после убиения Иоавом некоего Авенира, заявляет:
„Невинен я и царство мое вовек пред господом в крови Аве-
нира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь
дом отца его" (2 кн. Царств, 3, 29—30).
Да и псалмопевец говорит:
„Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду.
Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду.
Буду омывать в невинности руки мои... Не погуби души моей
с грешниками и жизни моей с кровожадными" (Пс. 25, 4—9).
Чтобы резче оттенить поведение Пилата и кровожадность иудей-
ской толпы, Матфей влагает ей в уста гнусную фразу: „кровь его
на нас и на детях наших". Эти, явно, неисторические, мифические
слова сфабрикованы в подражание как (противоположение) всем
предыдущим, так и словам из книги Иеремии.
Ранее мы приводили сцену из жизни этого пророка, когда за его
слова о разрушении храма над ним наряжается суд и его хотят предать
смерти. И вот, там он говорит судьям, — князьям и всему народу:
„Только твердо знайте, что, если вы умертвите меня, то невинную
кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его" (26, 15).
Характерно здесь заключение сцены: „но рука Ахикама, сына
Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа
на убиение". Прототип Пилата?
Присоедините сюда еще место из того же Иеремии:
120
„Обида моя и плоть моя — на Вавилоне, скажет обитательница
Сиона, и кровь моя — на жителях Халдеи, скажет Иерусалим" (51, 35).
Так, в область мифологии перешли и символическое омовение
Пилата, и его слова при этом, и противоположные слова иудейского
народа.
Перенесем туда же еще одну евангельскую деталь, — отослание
Иисуса Пилатом к Ироду, бессодержательный допрос и последующую
дружбу обоих властителей, которая, — заметим кстати, — отнюдь не
подтверждается историей.
В данном случае эта любезность Пилата (у Луки) объясняется
очень просто и источник ее указывают нам Деяния, написанные,
повидимому, тем же Лукой:
„Владыко боже,... ты устами отца нашего Давида (псалмопевца),
раба твоего, сказал духом святым: „что мятутся язычники, и народы
замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались
вместе из господа и на христа его". Ибо поистине собрались в городе
сем (Иерусалиме) на святого сына твоего Иисуса, помазанного
(„христа") тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом
израильским" (4, 24—27).
На самом деле во 2 псалме читаем:
„Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Вос-
стают цари земли и князья совещаются вместе против господа и
против помазанника („христа") его" (ст. 1—2).
Отбросим, как явно неисторическую, всю многократную беседу
Пилата с Иисусом, определенно догматико-символического и фило-
софского содержания, происходившую внутри претории — дворца,
когда весь народ и судьи — обвинители стояли вне из боязни осквер-
ниться. Кто мог слышать и передать эту нелепую в такой
момент беседу, не говоря уже о том, недоуменном для нас, во-
просе: на каком языке она велась? Вряд ли Пилат когда-либо сни-
зошел до изучения языка презираемого им народа и вряд ли Иисус
умел говорить по латыни или гречески, — знания каковых языков им
мы в евангелиях не видим.
Это относится и к переговорам Пилата с „народом".
Поставим исторический крест также над „старейшинами и перво-
священниками", из коих, как было указано раньше, первые тогда
121
вообще не существовали, а вторые могли быть только в единствен-
ном лице, — в виде одного первосвященника. Впрочем, о мифич-
ности всех этих судей над Иисусом мы уже говорили.
Возьмем самый суд, особенно у наиболее надежного евангелиста —
Марка, а за ним и Матфея, так как репутация „любителя точности"
Луки уже давно пострадала, а Иоанн безнадежно догматичен.
Еще Древс, идя за Вендлингом, подметил любопытный факт,
что допрос у Пилата совпадает с допросом пред синедрионом; это,
собственно, одна и та же сцена, повторенная только дважды с малень-
кой перестановкой 2. В обоих случаях Иисусу задаются два вопроса,
только у Пилата в обратном порядке, и вводятся они одними и теми
же словами, — первый вопрос — фразой: „спросил", а второй — „опять
спросил". Особенно поразительно почти полное совпадение резуль-
тата на второй вопрос: „не отвечал ничего" (синедриону) и „ничего
не отвечал" (Пилату).
В обоих случаях Иисус хранит молчание. „Следовательно, схема
ясна, как день".
Ранее мы разбирали вопрос о вопросах, ответах и молчании,
поразительном молчании Иисуса, которое, якобы, приводит в уди-
вление даже Пилата, и нашли, что все эти мотивы, как и мотив
избиения, выведены, по требованию ветхого завета и не являются
отражением исторического факта. Поистине:
„Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
своих; как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих" (Исайя, 53, 7).
Так находит свое ветхозаветное объяснение юридически-бессмы-
сленное здесь избиение обвиняемого по приказу Пилата, который
сам все время, якобы, на стороне Иисуса и признает ее невинов-
ность. Попытка затушевать дело Иоанном путем намека, что это,
мол, делалось в целях разжалобить иудеев, нелепа и смешна, чтобы
заслуживать обсуждения.
Итак, из всей истории суда над Иисусом пред Пилатом нам
пришлось отбросить целый ряд важных и второстепенных моментов
и даже лиц. Поведение судей-иудеев и самого Иисуса, — как было
2 A. Drews. Markusev., стр. 279.
122
выяснено еще раньше, — диктуется и настоятельно требуется писанием,
ветхим заветом. Осталась невыясненной вторая центральная фигура —
Пилат, а также мотивы суда и осуждения.
Послушаем, что сообщает нам об этом римском наместнике
С. Люблинский.
„Пилат, — говорит он, — играет в евангелиях роль, которую
никак нельзя примирить с его прочей деятельностью и с его
характером, достаточно хорошо известным нам из писаний
светских источников: более сильного и более разительного
противоречия нельзя было бы и представить. У Филона
приводится письмо царя Агриппы, которое полно самых горьких
жалоб на Пилата. Этот наместник рисуется там человеком непре-
клонным, упрямым и жестоким. Царь жалуется на страшные при-
теснения, которым подвергает иудеев Пилат: на лихоимство, грабеж
и истязания, на крайнюю злобу и произвольные убийства, на самую
крайнюю и страшную жестокость.
Равным образом, и из описания Иосифа Флавия следует, что
Понтий Пилат был одним из самых беспощадных наместников,
жившим в постоянной вражде с иудеями и постоянно оскорблявший
их религиозное чувство. В самом же начале своего наместничества
он дерзнул на то, на что не отважился ни один из его предше-
ственников. Когда в Иерусалим вводились римские легионы (полки),
то со знамен удалялись изображения императоров, чтобы они не
вызывали видимости существования поклонения изображениям, обоже-
ствления человека. Пилат отверг этот обычай и ввел в священный
город воинов с изображениями императоров на знаменах.
Естественно, это вызвало страшное возбуждение и возмущение,
которое в конце концов заставило его отменить свое распоряжение.
Позднее он наложил в Иерусалиме запрет на храмовые сокро-
вища, чем вызвал новое восстание.
На этот раз он не уступил, а приказал заранее расставленным
воинам врубиться в толпу, при чем много народу было убито. Нако-
нец, роковым для него оказалось то, когда он наижестоким образом
поступил с одним из многих мессианцев — фанатиков и фантазеров,
которыми тогда была полна страна. Говорили, что, якобы, на горе
Гаризим еще со времен Моисея зарыты священные храмовые со-
123
суды, и вот, один самаринский пророк обещал народу показать их,
если он взойдет с ним на гору. Конечно, многие поверили ему и
вооруженные собрались у подошвы горы. При этом вооружении
играла ли свою роль, возможно, вражда самарян против иудеев,
или же эти мессианцы намеревались выступить против римлян, —
сказать трудно. Во всяком случае, Пилат, должно быть, боялся
начинающегося восстания, почему приказал напасть на этих фанта-
зеров, при чем опять проливалось много крови. Со стороны по-
страдавших на Пилата была подана жалоба наместнику Сирии, и он
сместил своего подчиненного с должности, а для ответа отослал
в Рим, — с этого момента Пилат исчезает со страниц истории. Оче-
видно, его поведение даже для римских властей было черес-
чур римским 3.
Ну, а Пилат евангелий?
Этого кроткого, невинного, как агнец, умывающего пред наро-
дом руки, безо всякого допроса признающего обвиняемого невинов-
ным и праведником, так трогательно добивающегося от народа
оправдания, неоднократно уговаривающего его, наконец, все же
сдающегося и вопреки собственным убеждениям утверждающего
смертный приговор, — этого Пилата мы уже видели. А впрочем,
выслушаем еще суждение по этому вопросу К. Каутского. Указав,
что самым правдоподобным мотивом осуждения был бы приводимый
Лукою, — государственная измена, он продолжает:
„Масса иудейства не имела никакого основания негодовать на
человека, который восставал против римского владычества и при-
зывал к тому, чтобы не платили податей кесарю. Если Иисус дей-
ствительно делал это, то он поступал в духе крайнего зелотизма
(крайне-левая народная партия, боровшаяся с иудейской аристокра-
тией и римлянами), доминировавшего тогда в Иерусалиме. Следо-
вательно, если мы считаем отмеченное в евангелиях обвинение
правильным, то иудеи должны были относиться к Иисусу с симпа-
тией, а Пилат, напротив, должен был осудить его.
Что же говорят евангелия? Пилат не находит никакой вины в
Иисусе, хотя последний сам признает ее (? последнего нет у Луки.
3 S. Lublinski. „Das werdende Dogma", стр. 70—71.
124
Н. Р.). Все снова повторяет прокуратор, что обвиняемый невиновен,
и спрашивает, что сделал он злого?
И это уже довольно странно. Но еще более странным
является другое обстоятельство: несмотря на то, что Пилат не при-
знает вины Иисуса, он не освобождает его.
Иногда случалось, что прокуратор находил данное политическое
дело слишком запутанным, чтобы самому принять решение. Но не-
слыханное явление, чтобы представитель римского императора,
желая выпутаться из затруднительного положения, спрашивал со-
бравшуюся около его дома толпу, что делать ему с обвиняемым?
Если он не хотел сам присудить к смерти бунтовщика, то он должен
был отослать его на суд к императору в Рим. Так поступал, напр.,
Антоний Феликс (52—60). Вождя иерусалимских зелотов, атамана
банд Элеазара, двадцать лет державшего всю страну в постоянной
тревоге, Феликс заманил к себе обещанием полной безопасности и,
арестовав его, отправил в Рим. Что же касается сообщников Элеа-
зара, то прокуратор многих из них распял.
Так и Пилат мог отправить Иисуса в Рим. Зато роль, которую
заставляет его играть Матфей, просто смешна: римский
прокуратор, представитель (кровожадного) императора Тиверия, госпо-
дин над жизнью и смертью, который просит народное собрание
в Иерусалиме, чтобы оно разрешило ему оправдать и освободить
обвиняемого и, в ответ на отрицательные крики, заявляет (словами
ветхого завета! Р.): Нет, убивайте его, я неповинен в этом, — такой
прокуратор действительно представляет странное явление.
Роль эта очень мало подходит к историческому Пилату...
(Приводится выдержка из известного нам письма Агриппы к Филону).
Жестокость и беспощадность Пилата вызвали такое возмущение,
что даже римская центральная власть принуждена была обратить
внимание на его эксцессы и отозвать его (в 36 г. после р. х.).
И как раз этот изверг должен был выказать такую исключитель-
ную справедливость и мягкость к простому пролетарию Иисусу.
Евангелисты были слишком необразованные (неправда! Р.) люди,
чтобы заметить это противоречие, но они все же смутно чувство-
вали, что они приписывают римскому прокуратору слишком странную
роль. Поэтому они искали какой-нибудь предлог, чтобы сделать
125
ее более достоверной. Они сообщают, что иудеи, будто бы, ожи-
дали, что Пилат им отпустит на пасху одного преступника, и когда
он предложил им отпустить Иисуса, они закричали: Нет, отпусти
нам лучше разбойника Варавву!
Очень странно, однако, что о таком обычае рассказывают
нам только евангелия, он находится в противоречии с рим-
скими учреждениями, которые не давали прокуратору права помило-
вания. Находится также в противоречии со всяким упорядочен-
ным правовым строем тот факт, что право помилования передавалось
не какой-нибудь ответственной коллегии, а случайно собравшейся
толпе. Только теологи могут верить в возможность таких
юридических отношений.
Но если мы даже оставим все это в стороне и признаем, что
иудейская толпа, шнырявшая под домом прокуратора, имела право
помилования, то все же приходится спросить, какое собственно отно-
шение оно имеет к данному случаю?
Перед Понтием Пилатом стоит вопрос: виновен ли Иисус в госу-
дарственной измене или нет? Должен ли я осудить его или нет?
И он отвечает новым вопросом: хотите ли вы применить в пользу
Иисуса свое право помилования или нет?
Пилат должен произнести приговор, но, вместо этого, он аппели-
рует к помилованию. Да, разве он не имеет права освободить
Иисуса, если он считает его невиновным?
Но мы сейчас же наталкиваемся на новую несообразность.
Иудеи имеют будто бы право помилования, но как они пользуются им?
Довольствуются ли они тем, что требуют освобождения Вараввы?
Нет, они требуют распятия Иисуса. Евангелисты, очевидно, думали,
что из права помиловать кого-нибудь вытекает также право осудить
другого.
Этой странной юрисдикции соответствует не менее странная
политика.
Нам дают изображение толпы, которая до такой степени нена-
видит Иисуса, что она охотнее готова помиловать убийцу, чем его, —
именно убийцу, — более достойный объект (предмет) для помилования
она не находит, и которая не успокаивается, пока его не уводят,
чтобы распять.
126
Надо вспомнить, что это та самая толпа, которая вчера еще
кричала ему: осанна, как царю, которая устилала путь его своими
одеждами и единодушно, без малейшего протеста, приветствовала
его. Именно эта привязанность к нему массы была, согласно еван-
гелиям, главной причиной, почему аристократы искали смерти Иисуса,
почему они боялись схватить его днем и выбирали для этого ночь.
И вот эта же самая толпа так же единодушно охвачена теперь
чувством дикой и фанатической ненависти к Иисусу, к человеку,
обвиняемому в преступлении, которое в глазах всякого иудейского
патриота делает его предметом самого высокого уважения, т. е.
в попытке освободить иудейское государство от иноземного влады-
чества.
Что случилось, что могло вызвать такую внезапную перемену
настроения? Чтобы сделать ее понятной, необходимы были очень
сильные основания. Евангелия не сообщают нам на этот счет ни-
чего, кроме двух-трех незначительных слов. Лука и Иоанн вообще
не дают никакой мотивировки. Марк говорит: „первосвященники
возбуждали толпу" против Иисуса, а Матфей: они „уговаривали
массу".
Эти замечания показывают только, в какой сильной
степени ранние христианские писатели утратили последний
остаток понимания политических отношений.
Даже самую бесхарактерную массу нельзя возбудить к фанати-
ческой ненависти без всякого основания. Последнее может быть
нелепым или низким, но оно должно существовать. А иудейская
масса в изображении евангелистов превосходит самого гнусного и
нелепого театрального злодея своей нелепой свирепостью, ибо, не
имея ни малейшего основания, ни малейшего повода, она жаждет
сегодня крови того, кому она вчера еще поклонялась.
Но положение является еще более бессмысленным, если мы
примем во внимание политические условия того времени.
В противоположность всем остальным частям Римской империи, —
Иудея представляла тогда картину необыкновенно интенсивной поли-
тической жизни, самого резкого обострения всех социальных и поли-
тических противоречий. Политические партии были хорошо органи-
зованы и меньше всего напоминали плохо связанную массу. Низшими
127
классами Иерусалима безраздельно овладел зелотизм: они находились
в постоянной и резкой оппозиции к саддукеям и фарисеям и охва-
чены были фанатической ненавистью к римлянам. Мятежные гали-
леяне (а Иисус считался галилеянином) явились их лучшими союз-
никами.
Если бы саддукеям и фарисеям удалось даже „возбудить" некото-
рые элементы из народа против Иисуса, то они все же не могли бы
добиться такой единодушной манифестации и, в лучшем случае,
вызвали бы ожесточенную уличную борьбу. Необыкновенно стран-
ное впечатление производят эти зелоты, которые с дикими криками
бросаются не на римлян и аристократов, а на обвиняемого, казнь
которого они своей фанатической яростью вызывают у кукольного
римского прокуратора, охваченного внезапной симпатией к обви-
няемому.
Трудно представить себе более невероятное зрелище" 4.
Итак, что же пред нами в евангельских рассказах о суде над
Иисусом у Пилата?
Думается, что вывод напрашивается сам собой, — пред нами,
только и только историческая нелепость, одна из тех нелепостей,
которых так много встречали мы раньше и к которым эта, новая,
примыкает по ходу повествования вплотную. Исторически-нелепым
оказался суд пред синедрионом, таковым же выступает пред нами
и суд пред Пилатом. И это взгляд не одного только Каутского
или Люблинского, нет, он разделяется всеми теми, кто беспри-
страстно рассматривает евангельские сообщения.
Стоит ли называть имена А. Древса, Д. Робертсона, Ф. Штей-
деля, А. Немоевского, Сэдлера и др., которые определенно за-
являют, что здесь мы имеем пред собою суд не исторический, а
мифический, миф, а не историю. Больше того, здесь, как, быть
может, нигде в другом месте, мы можем указать даже приблизи-
тельный ход развития и материал для этого мифа. Мы можем по-
нять, почему и как весь залитый иудейской кровью деспот Пилат
евангелистами превращен в чистого, как голубь, и кроткого, как агнец,
наместника, а иудеи, народ и его вожди, выставлены в виде дикого,
4 К. Каутский. Назв. соч., стр. 340—343.
128
кровожадного зверя, неистового фанатика. Что давало евангелистам
краски для этой картины, что водило при этом их кистью или
пером?
Все те же, прежние, знакомые нам источники: ветхий завет,
социальные условия развития раннего христианства, догматика и проч.
Первый источник, ветхий завет, — нами приводился уже раньше,
по поводу суда пред синедрионом и мифа об Иуде предателе. Суд
пред Пилатом только двойник суда пред синедрионом, — совпадения
здесь — как в главном, так и в деталях. Одни и те же вопросы,
одно и то же поведение обвиняемого, — особенно продиктован-
ное ему ветхим заветом молчание, лжесвидетели, явная невинов-
ность и все же осуждение на смерть, даже Иоанново пересылание
Иисуса от Анны к Каиафе находит себе аналогию в отослании
обвиняемого Пилатом к Ироду и обратно. Нет сомнения, что здесь
одна и та же сцена или событие, рисующееся дважды, и цель этого
раздвоения ясна, как день: надо было показать отношение к Иисусу
иудеев и римлян, осуждение его теми и другими. Самая идея суда,
осуждения Иисуса, — как мы уже видели раньше, — были выведены
исключительно по требованию ветхого завета, особенно Прему-
дрости Соломона, псалмов и решающей дело 53 главы Исайи.
В лице Иисуса здесь, в евангелиях, судится невинный ветхозаветный
страдалец, „праведник" и „раб божий", агнец безгласный, тот, кото-
рый „от уз и суда был взят, но род его кто исповесть" (53, 8),
и который „называет себя сыном господа" (Прем. Сол., 2, 13).
Здесь судится и предается на смерть, „бесчестную смерть", тот,
кто „тщеславно называет отцом своим бога" (Прем. Сол., 2, 16),
„помазанник — христос", „господь", против которого „мятутся народы,
восстают цари земли, и князья совещаются вместе" (пс. 2, 1—2).
Таким образом, все содержание последних наших глав целиком,
включая самих судей и оба суда, выведено с догматической целью, —
„да сбудется писание".
И вот, если мы заглянем в новозаветные и апокрифические писа-
ния, то увидим, что самая идея суда и осуждения в своем развитии
прошла несколько стадий.
На первой ее стадии, древнейшей, смерть Иисуса, спасителя, не
приписывается ни иудеям, ни римлянам. Апостол Павел, в чьих
129 9
Пасхальная мифология
посланиях, особенно более надежных, не сообщается нам ни одной
подробности о предании Иисуса Иудой, о суде над ним и об его
осуждении, — этих историй совершенно не знает, очевидно, по-
тому, что к его времени они еще не были созданы. В первом
послании к коринфянам (2, 8) он глухо говорит, что распяли
„господа славы" „власти века сего", под которыми, по словам
Древса и других исследователей, — надлежит понимать не земных
владык, а демонов, проявляющих свою деятельность во влиянии
созвездий 5.
В дальнейшем своем развитии эта идея была перенесена на римлян.
Действительно, если мессии — христу, по вещаниям ветхого завета,
надлежало быть судимым, осужденным, подвергнутым истязаниям и,
наконец, распятым, то кто мог сделать все это, как не заклятые
враги иудейского народа, ненавистные насильники — римляне. Разве
не они, в лице своих наместников и прочих представителей власти,
подвергали незаконным судам сынов Израиля, разве не они превра-
тили жизнь народа в какой-то кошмарный сон своими грабежом,
произволом и убийствами, разве не они по всей Палестине вообще,
вокруг Иерусалима в особенности, воздвигали целые леса крестов,
на которых в страшнейших мучениях гибли десятки, сотни, тысячи
иудеев? А ведь мессии надлежало умереть как раз на кресте, и его
жертвенная смерть должна была явиться залогом освобождения
Израиля от власти угнетателей — язычников.
„Смерть Иисуса, поэтому, представлялась политическим событием
в той мере, в какой она являлась средством также и политического
освобождения".
Все это было тогда, когда поклонники Иисуса, иудейские сек-
танты, мирно уживались с правоверными иудеями. А дальше кар-
тина меняется: между ними произошел разрыв, перешедший во вза-
имную ненависть и борьбу. О них мы уже говорили, а теперь до-
бавим, что эта борьба началась особенно ожесточаться после того,
как сектанты — христиане, часть или все, не поддержали свой народ
в великой героической, заранее безнадежной политически попытке
5 A. Drews. „Markusev.", стр. 282.
См. также F. Dölger. „Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze",
стр. 132—133, 1919 г.
130
сбросить с себя рабские римские цепи. Иерусалим превратился в груду
развалин, святыня — храм сгорел, народ частью перерезан, распят,
частью продан на рабьи рынки, а остальные рассеяны по чужбине.
Рухнула надежда на независимость, — бог произвел свой страшный
суд над народом, отвернул от него свое лицо. За что?
За нарушение закона, даже буквы закона, — отвечали законники.
И мы наблюдаем крутой перелом в отношении к сектантам.
Правоверное иудейство замыкается в себя, уходит в мир своих
мессианских чаяний, все отдается самому тщательному выполнению
„божественного" закона, служению даже букве его.
И что же, разве можно рядом с собою терпеть сектантов, извра-
щающих, нарушающих этот закон? Может быть, по милости их
бог разгневался на свой народ? Создается обостренная обста-
новка, начинаются взаимные обвинения и преследования. Вполне
естественно, что за дело духовного возрождения сынов Израиля
берется духовенство и его присные.
Оно считается теперь главным врагом, противником христианства,
христиан и, значит, христа, ему последние приписывают теперь все
свои несчастья и беды, на него переносится их ненависть. Между
народом иудейским с его вождями и отщепенцами-сектантами-христиа-
нами создалась пропасть, вражда, ненависть и борьба.
Отголоски этого выражения мы находим во многих местах ново-
заветной литературы, часть их уже приводилась, но особенно ярко
оно изложено в знаменитой апокалиптической речи, которую еванге-
листы вложили, конечно, в уста Иисусу.
Иисус выходит из Иерусалимского храма, ученики любуются
роскошными зданиями и слышат из уст учителя, что от всего этого
не останется камня на камне. Но когда это случится, когда раз-
разится эта страшная катастрофа над священным городом и храмом,
какие признаки будут предвещать начало конца?, — так спрашивают
апостолы.
„Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим (мессии)
и будут говорить, что это — я; и многих прельстят.
Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь:
ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет
131
9*
народ на народ, царство на царство, и будут землетрясения по
местам, и будут глады и смятения. Это — начало болезней.
Но вы смотрите за собою; ибо вас будут предавать в суди-
лища и бить в синагогах, и пред правителями и царями
поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во
всех народах прежде должно быть проповедано евангелие. Когда
же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам
говорить, и не обдумывайте, но, что дано будет вам в тот час,
то и говорите: ибо не вы будете говорить, но дух святый. Пре-
даст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут дети на
родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за
имя мое: претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите
мерзость запущения (римскую колонию Элию Капитолину на разва-
линах Иерусалима), реченную пророком Даниилом, стоящую, где не
должно (читающий да разумеет!!!): тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы... Горе беременным и питающим сосцами в те дни.
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни
будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое
сотворил бог, даже до ныне, и не будет" и т. д. (Марк, 13, 1—19).
Мы не будем останавливаться на разборе этого „апокалипсиса"
и с помощью его освещать ряд важнейших моментов евангелий, что
обстоятельно выяснил Р. Виппер 6. Оставляем мы в стороне
и вопрос огромной важности о подготовке, сущности и роли апока-
липтики вообще в юдаизме и христианстве, — что достаточно хорошо
вскрыл Д. Буссе 7. Мы возьмем только то, что прямо касается
разбираемого нами вопроса о взаимоотношениях между иудеями
и христианами.
Нет сомнения, что приведенные слова Иисуса, „пророческие", —
продукт позднейшего времени, эпохи после разрушения Иерусалима
и храма. И что же? Определенные указания на преследования
христиан со стороны иудеев, таскание их по судилищам, избиение
в синагогах, обвинения пред властями предержащими, конечно,
в первую голову, пред римлянами, — и все это за Христа, за испо-
6 Р. Виппер. „Возникновение христианства", стр. 72—83.
7 См. хотя бы его монографию. D. W. Воusset. „Die jüdische Apoka-
Hptik", 1903.
132
ведание его и новой религии — христианства. Отсюда оставался
только один шаг до обвинения поклонниками христа иудеев, что
именно они — виновники смерти мессии, они его предали суду, побоям
и мучительной казни, — христианская мысль и воображение пошли
по тому же направлению, которое привело их к созданию из иудей-
ского народа мифико-символического образа Иуды предателя. Так,
ненависть, слепая ненависть вдохновляла перво-христиан, условия
их жизни давали материал, и они из этого рисовали картину суда
над Иисусом пред синедрионом и Пилатом, обеляя последнего.
Да, если нельзя было совершенно изгладить прежней картины, —
суда над Иисусом римлянами, если нельзя было совсем снять с них
вину за умерщвление мессии, то представить их лишь исполнителями
чужой злой воли и желания, изобразить их признающими невинность
христа, даже пытающимися спасти его, а главную вину возложить
на иудейский народ, ведомый своими кровожадными вождями, гони-
телями христиан, — это было можно и притом легко. Разве в ветхом
завете господь устами пророков не бичует иудеев за жестокосердие
и жестоковыйность, разве он не мечет там свои громы и молнии
против их, убивающих его посланцев-пророков, разве он не грозит
им мщением за проливаемую невинную кровь, да и вообще разве не
иудеи имеются в виду там, где речь идет о мессии, его пришествии
и участи? Они и, главным образом, они. Возмущенные за гоне-
ния со стороны иудеев, коим они платили тою же ценой, а, где
могли, и сторицей, руководимые желанием представить гонителей
в самом черном цвете и в белом тех, с кем ссориться было не-
выгодно, ранние христиане через очки ненависти читали ветхий
завет и, конечно, вычитывали все, что было нужно. А им нужно
было взвалить вину за мифический суд и казнь (мифического?) спа-
сителя на плечи правоверного иудейства, особенно его вождей, —
самый народ, эту такую же жертву „первосвященников и книжников",
они отодвигали на задний план, а в иных местах изображали даже
в привлекательном, внушающем симпатию, свете. Так, преследова-
ния, суды и казни христиан иудейскими вождями превратились
в преследования, суд и казнь ими христа, Иисуса, а для всего этого
выискивалось подтверждение в мессианских вещаниях ветхого завета.
А рядом с этим, параллельно, проводилась иная идея, иная тенден-
133
ция, — выгородить римлян, изобразить даже черных из них белыми
и тем подслужиться властям предержащим, привлечь симпатии их
на свою сторону, примирить их с новой религией. Эти мотивы,
эти побуждения красной нитью проходят чрез соответствующий,
разбираемый нами, рассказ евангелистов, — они руководят послед-
ними при превращении кровавого Пилата в невинного и кроткого
агнца.
Иудейские вожди судили христа, они предали его римлянам, они
добились его смертной казни, они казнили его, а римляне не при
чем, — так слышится с написанных ядом ненависти и лести страниц
евангелий. Ну, а дальше? Дальше?
Читайте кровавые страницы истории еврейского народа, сочтите
сотни тысячи трупов, измерьте реки крови его сынов и дочерей.
Все это творилось христианами под знаком мщения за мифи-
ческий, никогда не бывший в действительности, суд и казнь их
спасителя.
В подтверждение вышесказанного приведем слова Каутского по
этому же самому вопросу и поводу. Он, разобрав все сообщения еван-
гелистов о суде, казни и дальнейших моментах „жизни" Иисуса, —
и подводя итог всему найденному, заканчивает его следующими
словами:
„Весь этот рассказ так густо закрашен сервилизмом (рабской
лестью) по отношению к римлянам и невистью по отношению
к иудеям, что остается только удивляться, как мыслящие люди
могли не замечать его крайнюю тенденциозность. Мы хорошо знаем,
что это изображение прекрасно достигло своей цели. Окруженный
божественным ореолом, облагороженный мученичеством гордого (не
мифического ли? Р.) исповедника великого (вряд ли! Р.) учения,
этот рассказ в течение многих столетий служил одним из самых
могучих средств для возбуждения ненависти и презрения к иудейству
даже среди тех благожелательных кругов христианства, которые
лично не соприкасаются с иудеями. Он превращал иудейство
в выродков человечества, в расу, которая, по самой природе своей,
исполнена дьявольской злобы и закоренелости, которую, поэтому,
нужно держать вдали от всякого человеческого общества, которую
нужно всегда давить железной рукой.
134
Но вряд ли это представление об иудействе приобрело бы
когда-нибудь значение, если бы оно не зародилось в эпоху всеобщей
ненависти к иудеям и всеобщих преследований иудеев.
Порожденное ненавистью к иудеям, оно усиливало эту ненависть
до бесконечности, оно упрочивало ее долговечность, оно расширило
сферу ее действия.
Так (мифическая! Р.) история страданий господа Иисуса
христа стала в сущности только прологом к источникам
страданий иудейского порода" 8.
В заключение нам остается коснуться несколько подробнее о
выборе народа между Иисусом и Вараввой. Мифичность этого
мотива мы уже видели, но откуда его заимствовали евангелисты?
Из нескольких источников, и в первую очередь из того же ветхого
завета.
В 16 главе книги Левит рассказывается о том, как надлежит
ежегодно искупать грехи народа, для чего избирались два козла:
„И возьмет (первосвященник Аарон) двух козлов, и поставит их
пред лицем господним..., и бросит Аарон об обоих козлах жребий:
один жребий для господа, а другой жребий для отпущения (пра-
вильнее: „для Азазеля"). И приведет Аарон козла, на которого
вышел жребий для господа, и принесет его в жертву за грех, а
козла, на которого вышел жребий для отпущения („для Азазеля"),
поставит живого пред господом, чтобы совершить над ним очищение
и отослать в пустыню для отпущения („Азазеля")... И... приведет
он (Аарон) живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову
живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов израиле-
вых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на
голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И поне-
сет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и
пустит он козла б пустыню" (5—22).
Таков пресловутый „козел отпущения", несущий на себе грехи
народа и изгоняемый в пустыню, где он свергался со скалы в про-
пасть. Собственно, козел этот посвящался духу пустыни — козло-
образному Азазелю, как пережиток прежнего кочевого образа жизни
8 К. Каутский. Назв. соч., стр. 345.
135
евреев, пустыня символизировала к тому же царство смерти 9.
Приведем теперь из 53 главы Исайи слова относительно прообраза
Иисуса — „раба божия":
„Господь возложил на него грехи всех нас" (ст. 6), и: „он понес
на себе грех многих" (ст. 12).
Таким образом, Иисус выступает пред нами не только агнцем,
но и „козлом отпущения", несущим на себе грехи людей. Ему из
двух „козлов" выпадает на долю участь итти с этим тяжелым бре-
менем в „пустыню", в „землю непроходимую", в царство смерти.
Он — один из двух козлов искупления; бог устами Исайи указывает
на своего „раба", на прототип мессии — христа, и навстречу Пилату
несется роковое „распни, распни его!", „отпусти Варавву!" Все
разыгрывается „по писанию".
9 Н. Никольский. „Древний Израиль", стр. 38—39; 2 изд., 1922 г.
Д. Святский. „Страшный суд, как картина звездного неба", стр. 19
сл., изд. Атеиста, 1923 г.
А. Jeremias. „Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients",
стр. 398—399; 3 изд., 1916 г.
См. также С. Clemen. „Die Reste der primitiven Religion im ältesten
Christentum", стр. 127, 1916 г.
136
IX. ТРАГЕДИЯ НА ГОЛГОФЕ
Мы вплотную подошли к тому роковому моменту, когда стра-
дающий спаситель должен, наконец, испить до дна свою горькую
чашу мучений, унижений и смерти. Ведомый по усеянному мифи-
ческими терниями мифическому „скорбному пути", он восходит туда,
где уже, бросая огромную мрачную тень, высится зловещее орудие по-
зорной казни — рабский крест. Пусть там, в прошлом, были все мифы и
мифы, пусть евангелисты свои рассказы о судах и издевательствах
писали только под диктовку ветхого завета, — ученики обвиняемого,
ведь, рассеялись тогда, как овцы, и кто мог передать потом им,
с точностью стенографиста, как протекали все эти события. Но
вот здесь, при самом распятии, при котором присутствуют толпы
иерусалимлян, даже ученики, последовательницы казнимого, наконец,
сама мать его, — здесь мы можем, даже должны ждать историю и
только историю.
Мы вправе ждать, что сейчас окажемся пред самой настоящей
и подлинной историей, записанной или очевидцами, или же со слов
очевидцев, при чем таких, для которых предсмертные часы и ми-
нуты, даже секунды дорогого страдальца, его слова, наконец, его
жесты были особенно незабываемы и должны были врезаться в их
душу и память навсегда, неизгладимо.
Ну, а если? — слышим мы голоса скептиков, — если и на этот
раз мы окажемся пред наличием не истории, а мифа, сотканного
из различных источников, что же тогда?
Тогда? Мы, как Пилат, умоем руки и отдадим евангельского
героя на распятие мифологам.
Да, впрочем, к чему такой скептицизм, такое сомнение? Разве
возможно, чтобы евангелисты в этой решающей сцене из жизни
137
своего учителя и спасителя преподнесли нам опять-таки миф и только
миф? Спросим же их, как разыгрывался этот последний акт драмы
назаретского плотника и галилейского проповедника?
По примеру предыдущих глав, начнем с показаний евангелиста
Матфея. Рассказав о глумлении солдат Пилата над Иисусом, на
каковой сцене мы не останавливаемся, он продолжает:
31. „И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, и
одели его в одежды его, и повели его на распятие.
32. Выходя они встретили одного киринеянина, по имени Си-
мона; сего заставили нести крест его.
33. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит:
„лобное место",
34. дали ему пить уксуса, смешанного с желчью; и отведав, не
хотел пить.
35—36. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий;
и, сидя, стерегли его там.
37. И поставили над головой его надпись, означающую вину его:
„Сей есть Иисус, царь Иудейский".
38. Тогда распяты с ним два разбойника: один по правую сто-
рону, а другой по левую.
39—40. Проходящие же злословили его, кивая головами своими
и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя
самого; если ты сын божий, сойди с креста.
41—42. Подобно и первосвященники с книжниками и старей-
шинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя
самого не может спасти. Если он царь израилев, пусть теперь
сойдет с креста, и уверуем в него.
43. Уповал на бога; пусть теперь избавит его, если он угоден
ему. Ибо он сказал: я сын божий.
44. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его.
45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого.
46. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
„Или, или лама савахвани, т. е.: „боже мой, боже мой, для чего
ты меня оставил?"
47—49. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
Илию зовет он. И тотчас побежал один из них, взял губку, на-
138
полнил уксусом, и, наложив на трость, давал ему пить А другие,
говорили: постой; посмотрим, придет ли Илия спасти его.
50. Иисус же, возопив громким голосом, испустил дух".
Такова трагедия на Голгофе по описанию Матфея.
Мы не будем пока касаться того, как ее изобразили остальные
евангелисты, хорошую сводку их показаний дал нам Д. Штраус.
Но вот, он, разбирая слова Марка о преподнесенном Иисусу питье,
произносит убийственную фразу:
„Использованное им (Марком) сообщение Матфея было
не фактическим рассказом, а пророческим изречением, взя-
тым из псалма 68, который вместе с псалмом 21 и отрыв-
ком из 53 главы книги Исайи, видимо, служил программой
или прописью для евангельского рассказа о распятии Иисуса" 1.
После таких слов, где нам говорят, что мы опять имеем дело
только с ветхозаветной программой или прописью, при чем там, где
рисуется главная, решающая сцена всей евангельской истории, —
после таких слов у нас прямо опускаются руки.
Но, может быть, Штраус ошибается и видит „пропись" там, где
ее нет и не было? Посему обратимся к указываемым им источ-
никам вдохновения евангелистов и начнем с псалма 68.
Там псалмопевец — прообраз Иисуса сетует пред богом на своих
врагов и между прочим говорит:
„Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал состра-
дания, но нет его, — утешителей, но не нахожу. И дали мне
в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом"
(ст. 21—22).
Да, ведь это то же самое, что дали Иисусу на кресте (см. Матф.,
ст. 34 и 48)! Напомним, что из этого псалма был взят материал
для мифа о смерти Иуды. Дело, как видим, ухудшается.
Однако, идем далее, находим псалом 21 и читаем:
2. „Боже мой! боже мой! для чего ты оставил меня? Да-
леки от спасения моего слова вопля моего.
3. Боже мой! я вопию днем, — и ты не внемлешь мне, ночью, —
и нет мне успокоения.
1 Д. Штраус. Назв. соч., II, стр. 185.
139
4. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля.
5. На тебя уповали отцы наши; уповали, и ты избавлял их.
6. К тебе взывали они, и были спасаемы; на тебя уповали, и не
оставались в стыде.
7. Я же червь , а не человек, поношение у людей и презре-
ние в народе.
8. Все, видящие меня, ругаются надо мною; говорят
устами, кивая главою:
9. „Он уповал на господа, пусть избавит его, пусть спа-
сет, если он угоден ему".
10. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у гру-
дей матери моей.
11. На тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей ты бог мой.
12. Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка, а помощника нет.
13. Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окру-
жили меня.
14. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и
рыкающий.
15. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце
мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей.
16. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул
к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной.
17. Ибо псы окружили меня; скопище злых обступило
меня; пронзили руки мои и ноги мои.
18. Можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят,
и делают из меня зрелище.
19. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бро-
сают жребий.
20. Но ты, господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши
на помощь мне.
21. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою.
22. Спаси меня от пасти льва, и от рогов единорогов, услышав,
избавь меня".
Так вот, какова программа! Но, может быть, мы ошиблись,
сделали выписку из крестной сцены какого-нибудь евангелиста?
Увы, черным по белому стоит не вызывающее сомнений:
140
„21 — Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
Боже мой, боже мой" и т. д.
Следует ли пояснять, что этот скорбный псалом, полный горь-
ких сетований и выражений мучительных страданий того, кому „прон-
зили руки и ноги", — передает физические и душевные муки распи-
наемого на кресте?
Однако, подождем делать выводы, ведь нам в качестве „прописи"
указана еще 53 глава Исайи, как раз та глава, которая сыграла
такую решающую роль в предыдущих мифических сценах евангелий.
Так как чем-то вроде предисловия к ней является конец предыдущей
52 главы, мы на этот раз захватим и его, из самой же, 53, не раз
цитированной нами, приведем только часть стихов. В обоих их
речь идет о пресловутом „рабе божием".
Итак?
„Вот, раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется
и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, — столько
был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его — паче
сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление;
цари закроют пред ним уста свои: ибо они увидят то, о чем
не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали?" (52, 13—15).
i—2. „Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому откры-
лась мышца господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели
его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
3. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей
и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое;
он был презираем, и мы ни во что ставили его.
4. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен богом.
5. Но он изъязвлен бы за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего было на нем; и ранами
его мы исцелились.
6. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою
дорогу; и господь возложил на него грехи всех нас.
7. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не откры-
вал уст своих; как овца веден был на заклание, и, как агнец
141
пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст
своих.
8. От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит?
Ибо он отторгнут от земли живых; за преступления народа
моего претерпел казнь...
до. Но господу угодно было поразить его, и он предал его
мучению...
11. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством;
чрез познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих
и грехи их на себе понесет.
12. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными
будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть
и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех
многих, и за преступников сделался ходатаем".
Довольно, Исайя, мы теперь знаем твоего „раба божия", его
деяния, участь, род смерти и ее искупительное значение!
Мы могли бы дополнить ветхозаветную „программу", указанную
Штраусом, еще одним, упущенным им из вида, источником, а именно
2 главой Премудрости Соломона с ее предаваемым „неправо-
умствующими" на „бесчестную смерть" праведником, но это место
уже часто у нас фигурировало и встретится дальше.
Остановимся на этих примерах и подведем итоги. А они прямо
таки убийственны для историчности Матфеева рассказа о распятии
Иисуса, ибо оказывается, что все, решительно все главные евангель
ские моменты трагедии на Голгофе: 1) распятие, 2) питье, 3) деле-
ние одежд с метанием жребия, 4) издевательства и насмешки толпы
над претендующим на звание „сына божия" и божественную помощь,
наконец, 5) предсмертный вопль на кресте: „боже мой, боже мой", — все
они написаны по ветхозаветной программе, больше того, часть и боль-
шая часть прямо-таки списана почти слово в слово с этой „прописи".
Припомним слова С. Рейнака, а также А. Древса, что „исчер-
пывающее объяснение какого-нибудь рассказа евангелий ссыл-
ками из ветхого завета обычно признается за доказатель-
ство его неисторичности".
Что же нам сказать о разбираемом рассказе Матвея, все главное
содержание которого целиком выхвачено из ветхого завета? С пер"
142
вых же шагов нашего разбора мы абсолютно обязаны, должны
отбросить его историчность и признать только мифом.
Несмотря на это и чтобы проследить это, мы все же произведем
дальнейший разбор сообщений Матфея, а также прихватим и прочих
евангелистов, показаний коих здесь мы еще не касались.
Прежде всего ставим главный, кардинальный вопрос, каковой мы обя-
заны поставить при подходе ко всякому, якобы, историческому собы-
тию: когда, в какой год, месяц и число произошла казнь Иисуса?
Прямых указаний на год смерти в евангелиях не имеется. Пер-
вые три евангелиста единогласно сообщают, что накануне своей
смерти Иисус вкушал пасхального агнца, что должно было падать на
14 число месяца нисана, каковой день является полнолунием. Сле-
довательно, казнь Иисуса, по сообщениям евангелистов, приходилась
на 15 число нисана, первый день после полнолуния.
Помимо всего этого Матфей („от шестого же часа тьма была
по всей земле до часа девятого", 27, 45), Марк („в шестом же часу
настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого",
15, 33) и Лука („было же около шестого часа дня; и сделалась тьма
по всей земле до часа девятого. И померкло солнце", 23, 44—45)
отмечают, что в момент смерти спасителя произошло солнечное
затмение, виденное в Иерусалиме. Последнее обстоятельство очень
важно, так как с помощью астрономических вычислений можно уста-
новить дату — число солнечного затмения для любого времени и места
с точностью не только дней, но минут и секунд.
Итак, смерть Иисуса произошла 15 числа нисана, в первый день
после полнолуния, при чем тогда же имело место длительное, трех-
часовое, солнечное затмение. Таковы хронологические данные еван-
гелистов. Можем ли мы узнать теперь дату его казни?
Нет, нет и нет. Указанные данные наших авторов — не-
соединимы, нелепы. Солнечные затмения могут происходить
только в новолуния и никогда — в полнолуния 2.
2 А. Немоевский. „Философия жизни Иисуса", стр. 64—66.
Его же статья: „Zacmienie slonca opisane w ewangeljach" в журн. „Mysl
Niep.", № 126, 1910 г.
Д. Святский. „Затмение на Голгофе", статья в „Ежем. Журнале",
№ 4, 1916 г.
143
Поэтому, солнечное затмение евангелистов астрономически невоз-
можно, неисторично, мифично. Вряд ли следует после этого отме-
чать еще и другую астрономическую нелепость, — трехчасовую дли-
тельность затмения, каковое, в действительности, для определенной
местности (здесь для Иерусалима) может длиться только самое
большее семь минут.
Таким образом, на наги первый главный вопрос из уст
евангелистов мы слышим хронологическую и календарно-астро-
номическую нелепость. Желающие полюбоваться, как в подобном
случае мудрствуют наши теологи, спасая положение, могут найти это
хотя бы у проф. духовной академии В. Болотова (бывшего светила
отечественной теологии) 3. Проще поступает отец церкви Августин.
Признавши астрономическую невозможность евангельского затмения,
он говорит, что это было затмение чудесное, — что дневной свет при
виде неслыханной жестокости и безбожности иудеев удалился („О граде
божием", 3, 15). Нам такое „объяснение" не подходит: во что мог
верить полторы тысячи лет тому назад образованнейший отец церкви,
тому теперь не поверит любой школьник первой ступени.
В таком случае сам собою напрашивается новый вопрос: почему
евангелисты вывели этот мотив, — солнечного затмения или необыкно-
венной тьмы?
Ответить на это не трудно. Во-первых, в древности было ши-
роко распространено представление, что в момент смерти любимцев
богов затмевается солнце. Пример из жизни Юлия Цезаря обще-
известен, а, идя вглубь времен, аналогичное находим даже в поэмах
Гомера, где Зевс распростирает над землей мрак во время гибели
своего сына Сарпедона 4.
Это — один источник, т. е. мир древних представлений. Другим
и, конечно, решающим источником является все тот же ветхий завет.
Пророк Амос, рисуя картину дня судного, сообщает такую деталь:
„И будет в тот день, говорит господь бог: произведу закат
солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня" (8, 9).
Ставим теперь второй вопрос: где был распят Иисус?
3 В. Болотов. „Лекции по истории др. Церкви", I, стр. 89—92, 1907 г.
4 См. примеры у H. Usener. „Kleine Schriften", т. IV, стр. 307—308, 1913 г.
144
Вне, около Иерусалима, на Голгофе, — отвечают евангелисты и
раннехристианская литература.
Но вот, существование места казни — Голгофы, „лобною
места" не доказуемо. Ни один из иудейских писателей нам не
сообщает о нем ни слова, особенно поразительно молчание Иосифа
Флавия, детальнейшим образом описавшего Иерусалим и его окрест-
ности. „Лобное место", где, якобы, производились казни, не такой уж
заурядный пункт в истории иудейского народа, особенно Иерусалима,
стонавшего тогда от казней, — чтобы не быть отмеченным. Впрочем,
нам нечего доискиваться здесь географической и топографической
истины, — мы уже раньше видели, что у евангелистов дело решала
догматика. Она и здесь. Послание к евреям ставит точку над „и"
относительно детали распятия вне Иерусалима:
„Так как тела животных, которых кровь, для очищения греха,
вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, —
то и Иисус, дабы освятить людей кровию своею, пострадал вне
врат" (13, 11).
Догматикой же объясняется выведение и Иерусалима. Иисус
говорит у Луки:
„А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий
день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иеру-
салима" (13, 13).
Если мы заглянем в ветхий завет, то там именно Иерусалим
в лице его населения рисуется убийцей пророков. Затем следует
учесть и вообще значение этого города, как центра политической
и религиозной жизни иудейского народа. „На Иерусалим, — говорит
Древс, — направлены взоры всего народа. Там осуществятся все его
страстные желания. Оттуда распространится спасение на землю
а вместе с тем наступит и суд над людьми" 5.
Насколько сильно догматика руководила древними христианами,
можно видеть хотя бы из того любопытного факта, что, напр., цер-
ковный писатель II века Мелитон Сардийский называл местом рас-
пятия Иисуса самый центр Иерусалима и обосновывал свое ука-
5 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 178—179.
А. Немоевский. „Философия", стр. 62—63 („Причина страданий
Иерусалиме").
145
10
Пасхальная мифология
зание тем, что, согласно Второзаконию (16, 5), пасхальный агнец
должен был закалаться только на священной почве Иерусалима.
„Разве не в состоянии, — говорит по сему поводу Ф. Фейгель, —
прямо-таки озадачить то обстоятельство, что даже во втором веке,
наперекор преданию всего нового завета, не только вносятся новые
черты в страстную историю, но и самый ход событий, засвидетель-
ствованный „святыми апостолами", корректируется — исправляется на
основании... ветхозаветных пророчеств" 6.
Ставим третий главный вопрос: как был казнен Иисус?
Чрез распятие на кресте, — хором отвечают евангелисты, а за
ними и все христиане.
Здесь мы подошли к вопросу, который является одним из самых
разработанных в науке и который прямо-таки подавляет количеством
приводимого материла, к вопросу о кресте. Послушаем сначала, что
говорит на этот счет А. Немоевский:
„Орудие страданий Иисуса, называемое по гречески „столбом",
согласно древне-христианскому преданию, — имело форму креста, а по
словам евангелиста (Иоанна), Иисус сам нес его на место казни.
Между тем, римские источники говорят нам, что крестная казнь
выглядела иначе. Руки осужденного привязывались к жерди, имеющей
вид буквы Y. Называлась она „furca" — рогатка, вилы" (см. Darem-
berg et Saglio — „Dictionnaire des antiquites" и т. д., II, ч. 2, стр. 1409,
рис. 3365—3366). С привязанными и поднятыми таким образом
руками осужденный шел на место казни, где уже в землю заранее
был врыт столб. И только тогда казнимого поднимали, подтягивали
вверх. Между тем смерть Иисуса на кресте изображается иначе.
Христианские писатели ссылаются при этом не на историчность этого
факта, а только на его символическое значение" 7.
Итак, традиционное изображение казни — распятия спасителя не
выдерживает исторической критики: никакого креста ни сам он
(как у Иоанна), ни Симон (как у синоптиков) нести не мог, так
как крест, собственно столб (stauros, crux), заранее вкапывался на
месте казни, и осужденный только подвешивался на него, привязы-
6 Feigеl. Назв. соч., стр. 22—23.
7 Немоевский. „Prozess i egzekucja Jezusa", также в его „Фило-
софии", стр. 67—69 („Почему Иисуса распяли на кресте?").
146
вался веревками или цепями. Указаний на прибивание гвоздями
рук и ног греко-римская литература не дает. Главную роль в соз-
дании самой сцены распятия сыграла, по словам Немоевского, —
символика креста. К сожалению, мы не можем здесь останавли-
ваться на последней, как и на истории креста. Скажем только,
что они существовали задолго до христианства и своими корнями
восходят, с одной стороны, к обычаю вешать осужденных на дереве,
а, с другой, к изобретению крестообразного инструмента для добывания
огня чрез вращение деревянной палочки-свастики, откуда возникла
символика креста-дерева, как символа жизни, благодати, спасения 8.
Крест во втором его смысле, — символ благодати, жизни, спа-
сения и победы во многих языках, среди них в греческом и латин-
ском, подобно орудию казни, назывался или передавался чрез слова
„дерево, древо".
Дальше, — скажем словами А. Древса, — „так как выражения
„дерево", ксилон (xylon), стаурос, лигнум (lignum), крукс (crux —
крест) имели двусмысленное значение, обозначая то орудие казни,
то „печать благодати", то постепенно оба этих значения слились
в сознании верующих в одно" 9. Он же говорит далее:
„И у христиан крест первоначально являлся не орудием казни
Христа, а „деревом жизни", символом возрождения и спасения.
Но так как и орудие казни христа и крест, как символ спасения,
выражались одним и тем же словом, то эта двойственность в зна-
чении слова „дерево", ксилон и т. д. привела к тому, что оба эти
значения слова слились в одно: орудие казни христа превратилось
в крест, а крест в орудие казни христа.
8 Литература о кресте большая. На русском языке см.:
А. Древс. „Миф о христе", т. I, глава „Символика мессии: агнец
и крест".
Д. Робертсон. „Евангельские мифы", глава „Мифический крест".
А. Мальвер. „Наука и религия", стр. 32—54, 1923 г.
Также А. Немоевский. „Dzieje krzyza", 1908 г. (есть ряд статей
о кресте в „М. N.").
М. Brock. „La croix paienne et chretienne", 1881 г.
Gabriel de Mortillet.„ Le signe de la croix avant le christia-
nisme", 1886 г. и др.
9 А. Древс. „Миф о христе", т. I, стр. 90 сл.
147
10*
Юстин в своем Диалоге с иудеем Трифоном сообщает, что у
евреев был обычай прободать агнца вдоль и поперек копьями,
воткнутыми в перекладину, к которой прикреплялись передние ноги
агнца, так что оба копья представляли собою крест... Этот обычай,
разумеется, послужил для христиан, сравнивавших своего христа
с пасхальным агнцем иудеев, поводом к превращению креста в орудие
казни бога, тем более, что и фригийцы, как сообщает Матерн,
имели обыкновение привязывать агнца к подножию сосны („древа")
Аттиса, на которой висело изображение бога".
Так, мы опять подошли к „закалаемому агнцу" ветхого завета
и евангелий, их распинаемому на кресте „рабу божию" Исайи, „пра-
веднику" Премудрости Соломона, „страдальцу" 21 псалма и слит-
ному из них образу — христианского спасителя. Посему, оставляя
в стороне интересный и всем хорошо известный ныне вопрос об
агнце — Агни, мы обратимся опять к разбору евангельских мифов
о распятии Иисуса.
Если мы припомним все то, что говорилось раньше о ветхо-
заветных директивах относительно смерти спасителя, если еще раз
примем во внимание затею „нечестивых" предать „бесчестной смерти",
т. е. повешению — распятию на стауросе, столбе, кресте „праведника"
Премудрости Соломона, каковой праведник в лице „раба божия"
Исайи, „как овца веден был на заклание, и, как агнец пред стри-
гущим его безгласен... не отверзал уст своих", и каковой в лице
страдальца 21 псалма жалуется богу: „пронзили руки мои и ноги
мои", да прибавим сюда символику креста, — то поймем, почему
евангельский Иисус должен был быть распят на кресте.
Здесь пред нами не история, не какой-то исторический,
реальный факт распятия человека Иисуса, — а только догма-
тика и мифология, своими корнями восходящая в первобытную
эпоху жизни человечества с ее культом огня, а своим ближай-
шим источником имеющая ветхий завет и, как увидим далее,
восточные религии умирающих и воскресающих спасителей.
После мифико-символической сцены осмеяния Иисуса воинами,
он идет на „Лобное место — Голгофу". По словам всех трех синоп-
тиков, страшную, позорную ношу — крест для Иисуса несет некий
Симон Киринеянин (Матф. 27, 32; Марк, 15, 21; Лука 23, 26).
148
Иоанн, желая показать, что добровольно согласившийся пожертвовать
собою сын божий свою задачу проводит до конца, последовательно,
сообщает, что Иисус сам несет свой крест на место казни:
„И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное,
по еврейски Голгофа" (19, 17).
Мы уже видели, что обе эти подробности не соответствуют
древнему способу распятия, так как крест, столб заранее врывался
в землю, а поэтому ни Симон, ни сам Иисус его нести не могли, —
эта деталь мифическая и символическая, навеянная ветхим заветом.
В книге Бытия есть рассказ об искушении богом Авраама, кото-
рому он повелевает заколоть и принести в жертву единственного,
любимого сына — Исаака. „И взял Авраам дрова для всесожжения,
и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож,
и пошли оба вместе" (22, 1—15). И вот, сам сын, Исаак, несет
на себе дрова для своей же собственной смерти, хотя отец его взял
с собой „двух отроков" — рабов.
Дорогой Исаак спрашивает: „отец мой!.. Вот огонь и дрова,
где же агнец для всесожжения?", на что отец отвечает: „бог сам
усмотрит себе агнца". Далее оказывается, что этим агнцем должен
был быть Исаак, которого отец связывает и готовится уже заклать,
но бог кончает испытание, сын освобождается от жертвенной смерти,
а за него ее приемлет чудесно оказавшийся в нужный момент овен,
агнец.
Еще раньше мы видели, что из этого рассказа евангелистами
был взят материал для гефсиманской сцены (оставление учеников
вдали), а теперь нет сомнения, что он же вошел и в миф о несе-
нии креста. Встанем ли мы на точку зрения Иоанна, заставляющего
Иисуса самого нести свой крест, — мы найдем прототип спасителя
в несущем дерево-дрова для своего костра и смерти Исааке, един-
ственном сыне, долженствующем быть закланным в качестве агнца.
Возьмем ли мы рассказ синоптиков о Симоне с крестом для
Иисуса на плечах, пред нами опять будет тот же Исаак с дровами
для заменяющего его, чудесного агнца. В обоих случаях носителем
крестной ноши является один и тот же Исаак, фигурирующий
в евангелиях в качестве то Иисуса, то Симона, при чем основа-
ние для этой двойственности дал ветхозаветный миф с его двой-
149
ной, — предполагаемой и фактической жертвой: Исааком и агнцем.
Думаем, что оттенять здесь символику древа — креста в смысле
„дров" для жертвенного заклания „единственного сына" — излишне,
она сама бросается в глаза.
После всего этого мы понимаем данный евангельский мотив —
несения креста, сделавшийся одним из соблазнительных сюжетов для
художников, понимаем и разногласие между синоптиками и Иоанном:
каждый из них свою ветхозаветную „программу" понял по своему,
а догматика завершила остальное. Добавим здесь, что вышеотме-
ченная преемственная связь между мифами об Исааке и Иисусе и их
символика признавалась самими христианами, отмечавшими даже
„молчание" прототипа Иисуса при заклании его 10. Что толкало
евангелистов на заимствование ветхозаветного мифа? Идея жертвен-
ного заклания по воли божией единородного сына и символика
агнца. Возможно, что здесь отразился и другой момент. Христиане,
подобно митраистам, носили на себе изображение креста, крест — в
качестве ли охраняющего от „злых духов" амулета, как они делают это
и поныне, или же в виде печати, знамения на теле, — отсюда, ве-
роятно, явилось выражение носить на себе крест христов 11. Вместе
с этим мы находим в евангелии приписываемое Иисусу выражение:
„кто хочет итти за мной, тот отвергни себя и возьми крест мой и
последуй за мной" (Матф. 16, 24); здесь „крест" — символ христиан-
ства. И вот по поводу этого Штраус говорит:
„Вообще такого рода „образные" речи обладают тем свойством,
что всегда наводят на предположение о каком-нибудь фактически
случившемся происшествии. Но фактически крест христа мог быть
понесен за ним только тогда, когда его вели уже на распятие,
поэтому в воображении древних христиан легко вставала такая сцена:
на пути к лобному месту появляется человек, который возлагает
и несет на себе „крест христов", следуя за Иисусом и тем исполняя
волю христа, изъявленную им в Нагорной проповеди" (Матф., 5, 41) 12.
10 Feigel. Назв. соч., стр. 21.
11 Крест и крестное знамение у митраистов, см.:
J. Robertson. „Pagan Christs", стр. 308—310.
A. Drews. „Der Sternhimmel", стр. 174.
12 Д. Штраус. Назв. соч., II, стр. 184.
150
Разыскавши ветхозаветный первоисточник евангельского момента —
несения креста Иисуса, переходим к разбору следующего.
Евангелист Лука, и только он один, рассказывает об одном
факте, якобы, имевшем место на пути спасителя к Голгофе:
„И шло за ним великое множество народа и женщин, которые пла-
кали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери
Иерусалимские! не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших.
Ибо приходят дни, в которые скажут: „блаженны неплодные, и утробы
не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам:
„падите на нас" и холмам: „покройте нас". Ибо с зеленеющим
деревом это делают, то с сухим что будет?" (23, 27—31).
Как последние слова о дереве, так и все первые нам уже встре-
чались раньше. Этот плач женщин с мнимым предсказанием по их
адресу взяты из приводимого нами „апокалиптического" отрывка,
рисующего post factum, т. е., уже после события, здесь — разрушения
Иерусалима, горе иудейских женщин — матерей, их плач по по-
гибшим сынам, отцам и братьям. Таким образом, здесь задним
числом вложены в уста Иисусу в виде пророчества слова о том, что
случилось в эпоху восстания иудеев против римлян и кровавой
расправы последних, а также разрушения Иерусалима.
Все это, конечно, выводилось опять-таки под диктовку ветхого
завета. Когда мы указывали, что чудесное солнечное затмение на
Голгофе было попросту заимствовано из книги пророка Амоса, то
привели не все соответствующее место его, так как дальше там
следуют такие слова:
„И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач...
и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее
будет как горький день" (8, 10).
Сюда же надлежит присоединить грозную картину бедствий, ри-
суемую пророком Осией, где между прочим читаем:
„И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля; терние и
волчцы выростут на жертвенниках их, и скажут они горам:
„Покройте нас" и холмам: „падите на нас" (10, 8; ср.
также 10, 14 — „мать была убита с детьми").
Совокупность всех приведенных мест, к каковым можно еще при-
соединить ветхозаветный „плач Рахили" о детях своих, дала еван-
151
гелисту идею и материал для создания мифической, хотя и трога-
тельной детали о плачущих Иерусалимских женщинах и словах к ним
Иисуса. Впрочем, спросим также самих себя и Луку, — не слышится
ли здесь также плач тех женщин, которые оплакивают умирающего
и воскресающего многоименного языческого спасителя, — Таммуза,
Адониса, Аттиса и др.?
Сопровождаемый плачущими женщинами, Иисус пришел, наконец,
на место казни, всеми четырьмя евангелистами называемое Голго-
фой, т. е. „Лобным местом". Еще раз напомним, что историческая
топография Иерусалима последнего не знает, о нем молчит, чего
не могло было бы быть, если бы Голгофа была, действительно, исто-
рическим, реальным, земным пунктом.
Характерно отношение всех четырех евангелистов к самому акту рас-
пятия Иисуса: они проходят мимо него как-то странно быстро и, на вид,
спокойно. Кто распял, как, чем, на чем? — на это они ответа не дают.
Матфей момента самого распятия не выделяет, Марк коротко говорит:
„Был час третий, и распяли его" (15, 25).
Так же и Лука: „там распяли его" (23, 33).
Даже Иоанн, словоохотливый Иоанн, и тот повторяет просто
фразу Луки (19, 18).
Почему такая скупость на слова, или иссякли темные краски на
палитре евангелистов? Нет, далее они будут рисовать жуткую
картину. Почему же такая неравномерность, непоследовательность?
По нашему мнению, просто потому, что в первом случае молчала
их „пропись", т. е. в ветхом завете не было подходящего мате-
риала за отсутствием там деталей сцены или сцен распятия. Ну,
а во втором случае материалу оказалось достаточно, „программа"
была хорошо разработана.
Это видно из следующей за распятием подробности у Матфея, —
описания момента поднесения Иисусу питья. Однако, здесь все
евангелисты порядком понапутали и выдали себя с головой. Мы
уже видели раньше, что в выведении данной мифической детали
главную роль сыграли псалмы. А теперь присоединим еще один
момент. Ф. Фейгель, останавливаясь на данной сцене, говорит:
„Признать неисторичность ее заставляет нас также и
та явная путаница, какая царит в евангелиях по милости
152
ветхозаветных пророческих мест. Кто поил Иисуса, — иудей
или солдат? Чем поили его, — вином ли со смирною (первое питье
у Марка, 15, 23), или уксусом (второе питье у Марка, 15, 36,
Матф. 27, 48 и даже Иоанн 19, 29), или смесью желчи с уксусом
(первое питье у Матф. 27, 34)? Когда он пил: пред распятием
Матф. и Марк), или же на кресте (у всех евангелистов)? От первого
питья Иисус отказался из нежелания ли себя оглушать (Марк), или
же вследствие отвратительного вкуса (Матф.)? Предложение Иисусу
питья является выражением сострадания (Марк, Матф. и Иоанн),
или же насмешки (Лука)? Если все это свести вместе и согласовать,
то, по подсчету Штрауса, окажется, что Иисусу предлагалось питье
пять раз" 13).
Действительно, рассмотрим показания евангелистов на этот счет.
У Матфея Иисуса поят дважды. Как только пришли на Голгофу,
пред распятием „дали ему пить уксуса, смешанного с желчью: и
отведав, не хотел пить" (27, 34). Вторично дают ему на трости
с губкой уксус пред самою смертью, явно, из сострадания (27, 48).
У Марка пред распятием „давали ему (Иисусу) пить вино со
смирною; но он не принял" (15, 23).
Вторично — как у Матфея (15, 36).
У Луки, когда Иисус был уже на кресте, „воины ругались над
ним, подходя и поднося ему уксус" (23, 36). И только.
Иоанн однократное питье уксуса относит к предсмертным ми-
нутам страдальца:
„После всего этого Иисус, зная, что уже все совершилось, да
сбудется писание, говорит: жажду.
Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку
и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вку-
сил уксуса, сказал: совершилось. И, преклонив главу, предал дух"
(19, 28—30).
Займемся теперь самым питьем. Самая идея выведения его на
сцену вызвана, повидимому, обычаем оглушать осужденных соответ-
ствующим напитком, дабы облегчить им смерть. На это указывает
К. Липпе, который говорит, что у иудеев смертная казнь была
13 Feigеl. Назв. соч., стр. 69—70.
153
не актом мести, наказания, а, согласно с библией, — удалением зла
из среды Израиля, почему осужденному для облегчения страданий
давали одурманивающее вино со смирною, но отнюдь не уксус
с желчью 14). Так, еще в книге Притчей Соломоновых читаем:
„Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть
он выпьет, и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем
страдании" (31, 6—7).
Вот почему Марк, с целью показать, что Иисус желал встретить
страдания и смерть лицем к лицу, заставляет его отказаться от этого
облегчающего, но одуряющего напитка.
Матфей не так тонко догматичен и отказ Иисуса приписывает
неприятному вкусу напитка, каковой, кстати сказать, пользовался
большим успехом даже у женщин, гречанок и римлянок, как раз
вследствие приятного вкуса. Но все это у него диктовалось только
ветхим заветом, а именно, приведенными словами 68 псалма: „и дали
мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом" (ст. 21— 22).
При чем псалмопевец эти слова приводит в пояснение душевных и
физических страданий и отношения к ним окружающих.
В свою очередь, заимствование этих слов и мотива и переработка
их в целую сцену были вызваны, вероятно, словами решающего,
21 псалма, именно — теми стихами его, где рисуются страдания распя-
того, а они помимо боли от самого распятия скоро же влекут за собою
самую мучительную жажду. Почему и читаем в псалме — прописи:
„Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул
к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной" (ст. 6).
Возможно, что при этом сыграло свою роль еще одно ветхо-
заветное место, по духу похожее на 21 и 68 псалмы, а чрез них и
на евангельскую сцену страданий Иисуса. Пророк Иеремия, горько
сетуя на свои муки в своем „Плаче", говорит также:
„Я стал посмешищем для всего народа моего, все дневною песнию
их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью"
(3, 14—15).
Найдя, почему и чем поили Иисуса, посмотрим, как его поили.
В ход, якобы, была пущена губка и трость или иссоп (у Иоанна).
14 У Немоевского. „Prozess i egzekucja Jezusa".
154
Первые два предмета обычно употреблялись при распятии, ибо осу-
жденный мог висеть высоко и ему только таким путем можно было
подать питье. Но вот с иссопом Иоанна дело хуже. Он, как ма-
ленькое растение, не годился совершенно для этой роли, — не вы-
держал бы губку и был бы короток. Вывел его евангелист, явно,
с догматической целью. Ведь, у него Иисус на кресте символизи-
ровал закалаемого пасхального агнца. В книге Исход, где описы-
вается установление пасхи, предписывается при этом брать пучек
иссопа, омочить его в крови пасхального агнца и вымазать ею ко-
сяки дверей (символ креста). Для полноты пасхальной символики
Иоанну надо было вывести в сцене распятия этот иссоп, и он его
вывел в роли трости, палки, необходимой для подачи губки с питьем,
хотя для этой роли это растение было и не подходяще; однако, иначе
некуда его было приткнуть 15. Добавим, что иссоп играл какую-то
таинственную, символическую роль в иудейских сектантских вече-
рях — трапезах, где он был непременной частью самой священной
пищи.
Перейдем теперь к рассмотрению следующего евангельского
момента, — деления одежды Иисуса между распявшими его воинами.
Это мифическая подробность почерпнута евангелистами из 19 стиха
21 псалма:
„Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий".
Нет сомнения, что ветхозаветный автор или „программа" имели
в виду обычай отдавать одежду казненного исполнителям казни, при
чем здесь мы еще раз встречаем так называемый „параллелизм
членов", т. е. одна идея развивается или выражается дважды: ризы
и одежда, делят и бросают жребий.
Матфей правильно понял свою „пропись", почему у него распяв-
шие „делили одежды его, бросая жребий".
Марк в целях большей ясности пополняет свой ветхозаветный
источник и говорит:
„Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что
взять" (15, 24).
Лука на этот раз необычно краток:
15 FeigeI. Назв. соч., стр. 34—35.
155
„И делили одежды его, бросая жребий" (23, 34).
Итак, все синоптики целиком следуют за своей прописью, но
вот Иоанн создает из нее целую сложную картину:
„Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его, и разделили
на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был
не сшитый, а весь тканный сверху. Итак сказали друг другу: не станем
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется речен-
ное в писании: „разделили ризы мои между собою, и об одежде
моей бросали жребий". Так поступили воины" (19, 23—24).
При чтении этих слов мы как бы наблюдаем ход мыслей того
ученика, который, говорят, стоял у креста и, конечно, должен был
лучше знать, как происходило дело. Он здесь задумал быть одно-
временно критиком текста — прописи и... неловким фабрикатором
„истории", если ее понимать в обычном смысле этого слова.
Он видел, что в соответствующем месте псалма говорится от-
дельно о „ризах" и „одежде", при чем первые „делятся", о второй
„метают жребий", почему он, как бы, не понимая отмеченного выше
„параллелизма", усмотрел здесь два самостоятельных, отдельных
акта, а также верхнюю одежду и нижнюю — хитон. Первую одежду
воины прямо поделили на четыре части, а вторую, будто бы, пожа-
лели разрывать, так как „хитон был не сшитый, а весь тканный
сверху", почему о нем они и бросили жребий, да при этом оказались
великолепными знатоками иудейского „писания" и планов Ягве, утвер-
ждая, что все это они делают — „да сбудется реченное в писании" 16.
16 Церковники, в целях шантажа, ухитрились розыскать все эти мифиче-
ские одежды Иисуса. Так, хитон целиком до сих пор находится в одном из
соборов города Трира (в Германии). И все же части его, а также прочих
одежд до сих пор хранятся у нас, в России, напр., в Киевософийском соборе,
в Ленинграде — в церкви „Спаса нерукотворенного образа" в бывш. Зимнем
дворце и в соборе Петропавловской крепости. В Москве часть хитона хра-
нится в Успенском соборе; ее подарил персидский шах Аббас в 1625 г., увезя
пред этим из Грузии, после разграбления последней. В Грузию же хитон
попал, якобы, потому, что он при дележе воинов у креста достался грузин-
скому воину, который и унес его домой. Православная церковь использовала все
это еще тем, что на ю июля установила праздник „день положения ризы
господней".
См. об этом подробно у Г. Дебольского. „Дни богослужения право-
славной церкви", т. I, стр. 99—103, 10 изд., 1901 г.
156
Так, в лице Иоанна мы находим критика текста и фабрикатора
„истории".
Берем следующий мотив крестной сцены — распятие разбойников.
Матфей коротко говорит:
„Тогда распяты с ним два разбойника: один по правую сторону,
а другой по левую" (27, 38).
Точно так же поступает Иоанн:
„Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сто-
рону, а посреди Иисуса" (19, 18).
Марк открывает нам секрет — источник евангелистов, говоря:
„С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого
по левую сторону его. И сбылось слово писания: „и к злодеям
причтен..." И распятые с ним поносили его" (15, 27—28, 32).
Это „слово писания" ничто иное, как 53, 12 Исайи, т. е. часть
указанной нам Штраусом ветхозаветной „прописи".
Лука на этот раз верен себе и подавляет подробностями:
„Вели с ним на смерть двух злодеев. И когда пришли на место,
называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую,
а другого по левую сторону... Один из повешенных (иначе: „рас-
пятых") злодеев злословил его и говорил: если ты христос, спаси
себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не
боишься бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены
справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он
ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, господи,
когда приидешь в царствие твое. И сказал ему Иисус: истинно
говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю" (23, 32—33, 39—43).
Итак, Иисус, согласно директивам ветхозаветной программы,
распят вместе с двумя разбойниками или злодеями. Не будем ука-
зывать на то, что, по древне-иудейским законам, нельзя было про-
изводить одновременно более одной казни, ни под каким видом —
двух, а тем менее — трех 17. На Голгофе же разыгрываются сразу
три казни, так как казнят трех человек. Здесь — такая же нелепость,
как другая, неотмеченная нами выше относительно Иисуса, а именно:
17 Немоевский. „Prozess i egzekucja".
Его же. „Философия", стр. 69.
157
иудеи виновных побивали камнями, а не распинали, почему более
историческим был бы крик толпы иудейской: „побей, побей его кам-
нями!", а не „распни, распни его!" 18 Все это, повидимому, мало
беспокоило евангелистов, так как их задачей, поставленной писанием,
было изображение именно крестной смерти мессии, а не какой-нибудь
иной. Посему и два преступника, выведенные на казнь из 53 главы
Исайи, должны были быть распятыми. С этим согласны все еван-
гелисты, но откуда же Лука позаимствовал свои более подробные
сведения о происходившем тогда на крестах диалоге, беседе? Прежде
всего отметим еще одну нелепость, которая встретится нам и дальше:
распятие на кресте в самые же первые минуты вызывало у распя-
того такое сильное удушье, что он скоро терял возможность го-
ворить, между тем, по описанию Луки, все три казненных, вися на
крестах, ведут между собою целую беседу. Это отмечает и Фейгель,
а за ним и А. Древс.
Ну, а теперь вопрос об источнике Луки. Опять ветхий завет!
Здесь пред нами ничто иное, как переработка, при чем очень
вольная, рассказа книги Бытия об одном эпизоде из мифической
жизни мифического Иосифа „Прекрасного". Как известно, проданный
братьями, он попал в Египет, даже ко двору фараона, но отверг
ухаживание своей госпожи и очутился в тюрьме. В ней у него
оказываются два товарища по несчастью, два царских служителя —
виночерпий и хлебодар, которые видят странные сны. Иосиф раз-
гадывает им их, предсказывая хлебодару скорую казнь чрез пове-
шение (через три дня), а виночерпию?
„Через три дня фараон вознесет главу твою; и возвратит тебя
на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по преж-
нему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни
же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние,
и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома"...
Исполнилось так, как говорил Иосиф: „И возвратил (фараон)
главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку
фараонову. А главного хлебодара повесил на дереве" (Бытие, 40 гл.).
Припомним теперь, что повешение на дереве — „бесчестная смерть"
18 Steudel. Назв. соч., стр. 44.
158
в древности было тем же распятием на кресте. Итак, пред нами
целых три преступника, при чем двум определенно угрожало рас-
пятие, да и судьба третьего намечалась, повидимому, такая же.
Во что же евангелист Лука превратил этот эпизод? Он просто
повесил их всех трех на Голгофе 19.
Действительно, что Иосиф в некоторых случаях служил прото-
типом Иисуса, это мы видели не раз и даже недавно, эпизоды из
его жизни заимствовались для истории Иисуса.
В данном случае Луке пришлось переделать сцену, вернее, роли
преступников, ибо просьба об упоминании не подходила к его герою
Иисусу — Иосифу и ее пришлось вложить в уста одного из „ злодеев ".
Зато он выдержал символику мифа: его освобождение разбойника
„благоразумного" от тюрьмы ада и смерти и принятие в рай со-
ответствует освобождению виночерпия из тюрьмы и возвращению
его к прежней высокой должности.
Так, в мифе о трагедии на Голгофе мы наблюдаем влияние мифа
об Иосифе: „два" злодея всеми евангелистами заимствованы оттуда,
но только один Лука отважился на полное присвоение и нелегкую
соответствующую переработку этого эпизода, казалось, трудно при-
меним, к Иисусу и его участи.
Со своей задачей он справился довольно удовлетворительно,
при чем им преследовалась здесь определенная цель, сущность коей
хорошо выясняет Штраус:
„Матфей и Марк говорят, что оба разбойника, распятые по
правую и по левую сторону возле Иисуса, тоже „ругались над ним".
Но у Луки слух небыл сравненно тоньше, и потому он явственно
расслышал, что только один из „злодеев" действительно „злосло-
вил" по адресу Иисуса и говорил ему насмешливо: „Если ты хри-
стос, спаси себя и нас", но другой из „повешенных" злодеев, по
свидетельству Луки, „унимал" и усовещал своего товарища, и затем
сказал Иисусу (признав его мессией): „помяни меня, господи, когда
приидешь в царствие твое".
Разумеется, вполне невероятно, чтобы грубый и невежественный
„злодей", никогда не видавший Иисуса и не слыхавший его пропо-
19 См. A. Jеremiаs. „Babylonisches im Neuen Testament, стр. 20—22.
Feigel. Назв. соч. стр. 62.
159
веди, мгновенно уразумел сущность того учения о страждущем и
умирающем мессии, которое так долго и так тщетно Иисус старался
выяснить и внушить своим приближенным ученикам. Но мы пони-
маем, что побудило третьего евангелиста развить этот эпизод с рас-
пятыми „злодеями" в вышеуказанном направлении.
Вульгарное „злословие" распятого злодея доводило тот позор,
которому подвергался распятый мессия, до наивысшей степени, но
евангелист пожелал обратить этот позор в источник вящшей славы
для мессии — Иисуса, и подобное желание было вполне естественно
в таком евангелисте, который, как Лука, всегда подчеркивал друже-
любное и сострадательное отношение Иисуса ко всяким грешникам
вообще.
Что распятый злодей раскаялся и уверовал во христа, тогда как
самодовольные первосвященники и старейшины иудейские продол-
жали коснеть в неверии и нечестии, — такой контраст соответство-
вал идее притчи Иисуса о блудном сыне и духу рассказа о грешнице,
помазавшей Иисуса миром. Поэтому третий евангелист, в подра-
жание традиционному рассказу, предоставил одному из злодеев „зло-
словить" и высмеивать Иисуса и, противопоставив этому нечестивому
злодею раскаявшегося, верующего и христом прощенного грешника,
получил в итоге весьма эффектный и знаменательный контраст" 20.
Слова нераскаявшагося разбойника приводят нас к новой детали
крестной сцены, — издевательствам толпы над Иисусом.
У Матфея: „проходящие же злословили его, кивая головами
своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий,
спаси себя самого; если ты сын божий, сойди с креста. Подобно
и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями,
насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти.
Если он царь израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем
в него. Уповал на бога; пусть теперь избавит его, если он уго-
ден ему. Ибо он сказал: я сын божий" (27, 39—43).
Слов злословия у Марка мы приводить не будем, так как они,
как и действующие лица, почти те же, что и у Матфея, при чем,
отсутствует фраза: „Уповал на бога" и т. д. (15, 29—32).
20 Штраус. Назв. соч., II, стр. 188.
160
Лука еще кратче, хотя нескладнее:
„И стоял народ, и смотрел (не издеваясь. Н. Р.). Насмехались же
вместе с ними (с кем? — неизвестно) и начальники, говоря: других
спасал; пусть спасет себя самого, если он христос, избранный божий.
Также и воины ругались над ним (почему?), подходя и поднося ему
уксус и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого...
Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты
христос, спаси себя и нас" (23, 35—37, 39).
У Иоанна совсем нет злословия ни проходящих, ни воинов, ни
иудейских вождей, ни народа, ни разбойника. Наоборот, он рисует
совершенно иную картину.
Как видим, у всех трех синоптиков картина и слова издева-
тельства одни и те же. Причиной этого является то простое обстоя-
тельство, что все они писали по одной прописи, то рабски ей следуя,
то несколько ее видоизменяя.
Страдалец — распятый праведник 21 псалма говорит:
„Множество тельцов обступило меня; тучные Васанские окружили
меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и
рыкающий... Ибо псы окружили меня; скопище злых обступило
меня".
Лучшего образа издевающейся толпы, а в особенности — вождей
ее, для евангелистов трудно было бы и подобрать.
Возьмем теперь сетования ветхозаветного страдальца на эту
толпу:
„Все, видящие меня, ругаются надо мною; говорят устами, кивая
головою: он уповал на господа, пусть избавит его, пусть спасет,
если он угоден ему".
Почти слово в слово с Матфеем и прочими евангелистами! Не
хватает только указания на созидание храма, но это почерпнуто из
лжесвидетельства на мифическом допросе пред синедрионом, а также
смутно проступает идея „сына божия". Последняя для данного слу-
чая, как и раньше, заимствована из Премудрости Соломона, где не-
честивые говорят о „праведнике".
„Объявляет себя имеющим познание о боге и называет себя
сыном господа... Увидим, истинны ли слова его, и испытаем,
какой будет исход его; ибо, если этот праведник есть сын
161 11
Пасхальная мифология
божий, то бог защитит его и избавит его от руки врагов"
(2, 13, 17—18).
Опять, почти буквальное совпадение! Думаем, что всякие ком-
ментарии излишни. Характерно здесь только то, что евангелисты,
заставляя иудеев и воинов злословить Иисуса словами 21 псалма и
книги Премудрости Соломона, приписывают им хорошое знание вет-
хого завета и отнесение к самим себе довольно нелестных эпитетов,
вроде тельцов, псов и т. п. у псалмопевца и „нечестивцев" у Соломона.
Впрочем, приведем еще слова Ф. Фейгеля по этому поводу:
„Допущение, что речи злословящих искусственно подобраны,
освобождает нас от необходимости выводить для объяснения их и
вместе, и порознь зверское население. Члены синедриона, столь
недостойным и непристойным образом издевающиеся в священный
праздник пасхи над повешенным, — такие члены синедриона, во вся-
ком случае, являются исторической невозможностью. И в этом
взгляде нас может только укрепить то обстоятельство, что Лука
вычеркивает слова относительно храма, явно, потому, что он и о
соответствующем лжесвидетельстве на суде ничего не хотел знать" 21.
Идем далее и обратимся теперь к разбору еще одной детали
трагедии на Голгофе, — надписи на кресте.
Относительно ее текста Матфей говорит:
„И поставили над головою его надпись, означающую вину его:
„Сей есть Иисус, царь иудейский".
У Марка она сокращается до двух слов:
„И была надпись вины его: „Царь иудейский" (15, 26).
Лука подкупает подробностями:
„И была над ним надпись, написанная словами греческими, рим-
скими и еврейскими: „Сей есть царь Иудейский" (23, 38).
Иоанн, по обыкновению, рисует целую картину:
„Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано
было: „Иисус Назорей, царь Иудейский". Эту надпись читали мно-
гие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было не-
далеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески,
по-римски.
21 Feigel. Назв. соч., стр. 69.
162
Первосвященники же иудейские сказали Пилату: не пиши „царь
Иудейский", но что он говорил: „я царь Иудейский".
Пилат отвечал: „что я написал, то написал" (19, 19—22).
Что все четыре евангелиста единогласно указывают на существо-
вание надписи, все это является отражением древнего обычая, —
вешать на шею осужденному, или нести перед ним, или, наконец,
прибивать к кресту — столбу доску с надписью вины.
Но чтобы эта надпись в данном случае была исторической, гово-
рить смешно, тем более, что каждый из четырех евангелистов при-
водит ее по своему. Неужели никто не мог запомнить, буде она была,
коротенькой надписи в несколько слов? Ее разнообразие объясняется
просто тем, что каждый евангелист, придумывая ее, старался ярче
оттенить, выявить свою идею, мысль или представление о том, как
могла бы читаться подобная надпись.
Что она, якобы, была троязычной, — здесь явная догматика; тен-
денция показать, что учение Иисуса распространится по всему греко-
римскому миру, а не только по Иудее. Относительно же перего-
воров о ней у Пилата скажем словами А. Древса:
„Все это ведь чистейшая фантазия, это, как признают
и теологи: выходит, что Иисус — это, действительно, царь иудейский,
мессия, что даже и язычники волей-неволей признали вразрез с
иудейскими старейшинами. Это, разумеется, историческая неле-
пость".
При этом Древс приводит характерное признание одного из
выдающихся современных немецких профессоров теологии, — Буссе,
что надпись „явно-неисторична" 22.
Последнее, что осталось нам сделать, — это разобраться в словах
Иисуса, якобы, сказанных им с креста. Мы отступим на этот раз
от нашего порядка и начнем с Марка.
„В девятом часу, — говорит он, — возопил Иисус громким голосом:
„Элой, Элой, ламма савахфани", что значит: „боже мой! боже мой!
для чего ты меня оставил?" Некоторые из стоявших тут, услышав,
говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку уксу-
сом, и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: постойте, посмо-
22 A. Drews. „Markusev." стр. 296.
163 11*
трим, придет ли Илия снять его. Иисус же, возгласив громко (что?),
испустил дух" (15, 34—37).
Матфей почти рабски следует Марку, при чем отличается только
тем, что несколько иначе передает первую фразу:
„Или, Или, лама савахфани?"
Затем у него тому, кто давал уксус Иисусу, „другие говорили: постой
(не постойте, — как у Марка); посмотрим, придет ли Илия спасти его".
После этого Иисус, „опять возопив громким голосом, испустил дух".
„Прежде всего ясно, — говорит Фейгель, — что ни один из иудеев
не мог хлопотать у креста; подносящим уксус является римский
солдат. Солдаты же вряд ли хоть что-нибудь знали об Элогиме
(еврейском боге) и, во всяком случае, ничего об Илие. К тому же
непонятно, что общего имеет напоение и недоразумение с Илией?
Матфей, повидимому, почувствовал и то и другое, почему он после
напоения добавляет: „а другие говорили", а из „постойте" делает
„постой" т. е. подожди с питьем, посмотрим, придет ли Илия
спасти его.
Матфей также подметил, что арамейское слово „Элои" нельзя
было бы понять в смысле призыва к Илие, а потому он пишет
полуеврейскую и полуарамейскую фразу:
„Или, или! (евр.) лама савахфани (арам.)?" Арамейское „савах-
фани" еще стоит у Матфея, а это говорит против предположения,
что эти стихи перенесены из Матфея в Марка и переведены на
арамейский язык арамейским переделывателем евангелия, — картина
Марка — относительно первоначальна, оригинальна, Матфей ее рацио-
нализировал, переделал. Однако эта картина Марка является
исторической невозможностью...
Сообщение Марка касательно самих крестных слов подрывает
доверие к себе еще и тем, что оно произносимую „громким голосом"
самостоятельную фразу относит к девятому часу дня, следовательно,
к шестому часу после распятия" 23. Далее следует его указание на
быструю потерю речи распятыми.
Стоит ли добавлять, что и вторичный громкий крик Иисуса,
отмечаемый обоими евангелистами, не заслуживает исторического
23 Feigеl. Назв. соч., стр. 63—74.
164
доверия. А теперь напомним, что пресловутая фраза Иисуса: „боже
мой, боже мой" и т. д. является начальной 21 псалма прописи,
при чем приводится целиком и буквально, хотя и в переводе то
арамейском, то полуарамейском, полуеврейском.
Вопль отчаяния в устах Иисуса, хотя бы и словами прописи,
Луке и Иоанну казался унижающим достоинство мессии — христа, их
героя, почему они спокойно отбрасывают разобранные выше слова,
а вместо них вводят новые.
У Луки Иисус на кресте говорит трижды. В первый раз он
говорит сразу же после распятия с ним двух разбойников, при чем
вкладываемые ему в уста слова так хорошо подходят к любвеобиль-
ной личности, рисуемой этим евангелистом:
„Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают"
(23, 34).
„Это изречение — говорит А. Древс, — является, безусловно, самым
прекрасным из всех изречений Иисуса на кресте, приводимых еванге-
листами. Во всяком случае, именно это изречение сделалось излю-
бленным выражением человечества и любви в христианской пропо-
веди; именно, на этом изречении основываются те, кто усматривает
в Иисусе идеал непогрешимой доброты и гуманности. И тем не
менее изречение это никак не может быть признано „под-
линным". В наиболее важных рукописях это изречение отсутствует,
оно считается обычно позднейшей вставкой, но возможно, что оно
выражает излюбленную идею Луки, которую он в написанных им
также „Деяниях" приписал Стефану, говорящему перед смертью
(7, 60): „Не вмени им греха сего". Источником для Луки в дан-
ном случае была все та же 53 глава Исайи, где говорится о пра-
веднике, что он будет иметь „часть между великим" за то, что
предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как
он понес на себе многих и за преступников сделался ходатаем".
Вторую фразу, являющуюся ответом Иисуса на просьбу благо-
разумного разбойника", мы уже видели, когда относили источник
этой мифической сценки к истории Иосифа.
Третью, последнюю, фразу Иисус произносит пред самою смертью:
„Иисус, возгласив громким голосом, сказал: отче! в руки твои
предаю дух мой. И, сие сказав, испустил дух" (23, 46).
165
О возможности или, вернее, невозможности как беседы на кресте,
так и громких возгласов мы уже говорили. Самая же фраза стра-
дальца взята Лукою из 30 псалма, который представляет собою
горькие сетования и вопли невинно гонимого и преследуемого и
в котором читаем такие слова его к богу:
„В твою руку предаю дух мой" (ст. 6).
Обратимся к последнему евангелисту — Иоанну. Характерным
отличием его служит то, что он ввел в сцену распятия Иисуса
целый эпизод, отсутствующий у синоптиков, а именно беседу Иисуса
со своей матерью и любимым учеником. В то время, как первые
три автора определенно говорят, что близкие Иисуса стояли вдали
от креста, Иоанн пишет следующее:
„При кресте Иисуса стояли матерь его, и сестра матери его,
Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и
ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: жено!
се, сын твой. Потом говорит ученику: се, матерь твоя. И с этого
времени ученик сей взял ее к себе" (19, 25—27).
Весь этот рассказ, явно, неисторичен и написан с целью превоз-
нести в глазах верующих „любимого ученика" Иисуса, т. е. Иоанна,
предполагаемого автора четвертого евангелия.
Своими словами к нему и матери Иисус, как бы, делает его
своим братом, при чем братом наиболее близким — по духу, — а не
по плоти. Хотя здесь и говорится, что с этого времени ученик
взял богоматерь к себе, из Деяний мы узнаем, что она, будто бы,
после смерти Иисуса вступила в общину оставшихся и апостолов
(1. 14).
Новозаветные источники говорят нам и то, что из апостолов
особенно выделялся Петр, а из „братьев" Иисуса — Иаков, Иоанн
же стоял только на третьем месте. Самое происхождение этой
мифической сценки хорошо вскрыл нам Штраус.
„Впрочем, — говорит он, — настоящий рассказ четвертого
евангелиста, подобно некоторым иным его рассказам, является
не оригинальным произведением, а переделкой синоптического
рассказа. Когда Иисусу однажды доложили, что пришла к нему
его матерь с братьями, Иисус воскликнул: „кто матерь моя и кто
братья мои?" и затем, указав рукой на учеников своих, сказал: „вот
166
матерь моя и братья мои" (Матф. 12, 49; Марк 3, 34). Этот
прототип сказался и в Иоанновых изречениях Иисуса: „се, сын
твой" и „се, матерь твоя". Разница лишь в том, что в данном
случае в братские отношения Иисус становится не ко всем учени-
кам, а лишь к „ любимому" ученику своему (т. е. предполагаемому
автору четвертого евангелия") 24.
Второе и третье изречения Иисуса у Иоанна сами выдают свое
происхождение. Сразу же после вышеприведенных слов евангелия
там рассказывается следующее:
„После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется
писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса... Когда
же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось. И, преклонив главу,
предал дух" (19, 28—30).
В построении этих изречений сказался весь Иоанн. Если первое
из них имеет в виду исполнение мнимого пророчества о напоении
желчью и уксусом, то второе — „совершилось" выражает определен-
ную идею евангелиста, что пророчества все исполнились на Иисусе,
а его смерть завершила его дело искупления грешного человечества,
миссия вочеловечившегося Логоса — Слова божия — закончена, как
наступил и конец его земного бытия, а дальше начинается уже его
слава, его посредническая роль между примиренными богом — отцом
и людьми.
Этими последними изречениями Иисуса исчерпан весь материал
евангельских повествований о трагедии на Голгофе, о казни
и смерти христианского спасителя. И что же? Если простое, пер-
вое приведение и сопоставление ветхозаветной „прописи", „про-
граммы" с данными рассказами показало нам, что мы и на этот раз
имеем дело с мифом, а не историей, то весь дальнейший наш раз-
бор и исторический, и психологический, и сравнительный только
подтвердил это.
Распятие и смерть спасителя на кресте со всеми их
главными и второстепенными подробностями оказываются
исторически и психологически — нелепыми и просто мифиче-
скими, заимствованными из ветхозаветного писания. Больше
24 Штраус. Назв. соч., II, стр. 191.
167
того, сама личность Иисуса в данном случае особенно ясно выдает
свой нереальный, не исторический характер, оказывается слитным
образом, портретом, материалом и образом, а также идеей, для
создания которого послужила фигура ветхозаветного иудейского
страждущего, умирающего и воскресающего спасителя — мессии в лице
„раба божия" Исайи, „праведника" Премудрости Соломона и „стра-
дальца" 21 псалма, за коими, как мы покажем далее, в свою очередь
„скрывается как страждущий, иудейский народ, так и многоименный
„спаситель" языческих религий, — Таммуз-Адонис и проч.
Впрочем, присоединим сюда еще один источник, несомненно
сыгравший свою роль, особенно у Иоанна, чье знакомство с грече-
ской философией, особенно с Платоном, хотя бы в преломлении
Филона, неоспоримо 25. И вот, Платон тоже рисует нам образ
невинно страдающего праведника в книге „О государстве":
„В неизвестности и презрении ведет праведник жизнь, полную
мучений. Наконец, он подвергается бичеванию, пытке, его бросают
в темницу, ослепляют и, после всех страданий, пригвождают к дереву
(или распинают)" 26.
Итак, весь рассказ или рассказы о наиболее трагическом моменте
из жизни евангельского героя выдали нам свой мифический и симво-
лический характер и отсутствие в них элемента реального, истори-
ческого. Тщетно на всем протяжении нашего исследования мы
ждали истории, фактов, а не мифологии, — последней нашей надеждой,
последней нашей ставкой была ставка на евангельские рассказы
о трагедии на Голгофе, о главнейшем и наирешающем моменте
в жизни предполагаемого галилейского проповедника и даже истории
самого христианства.
И эта последняя наша ставка — бита. Что же нам делать дальше?
Умыть руки, подобно Пилату, и отдать Иисуса на распятие мифо-
логии? иначе говоря, — признать его самого окончательно, — раз на-
всегда, личностью неисторической, мифической?
25 См., хотя бы, Robertson. „Pagan Christs", стр. 218 сл.
Также G. Wetter. „Der Sohn Gottes". Eine Untersuchung über den
Charakter und die Tendenz des Johannes-Evangeliums", 1916.
26 Виппер. „Возникновение христианства", стр. 41.
Promus. „Entstehung des Christentums", стр. 44—45, 1905 г.
168
Мы так решили раньше, все толкает нас к этому, все заставляет,
подсказывает, даже кричит нам об этом и за это. Однако, подо-
ждем еще произносить роковой приговор, делать окончательный
вывод.
Ведь, сам Пилат, этот зверь во образе человека, хотя и кроткий
агнец в обрисовке евангелистов, не сразу, говорят, сдался на требо-
вания толпы, колебался, не решался сказать свое роковое „возьмите".
Не будем спешить, подождем еще и потому, что мы подходим
к концу исследования, нам осталось взять только несколько момен-
тов найти ответ на несколько только вопросов. А теперь вернемся
к евангельскому мифу о смерти Иисуса, хотя нам осталось разобрать
в нем немногое.
Так, в заключение, присоединим сюда еще одно и очень важное
обстоятельство, не говорящее, а прямо-таки кричащее за мифич-
ность смерти евангельского страдальца. Всем хорошо известно, что
когда имеют дело с исторической, реальной умершей личностью,
игравшей когда-либо и у кого-либо важную роль, то особое внима-
ние обращается на наиболее важные даты его жизни, особенно, даты
его рождения и смерти. Ранние христиане, в сознании коих лич-
ность их спасителя занимала выдающееся место, должны были бы
постараться запомнить или установить раз навсегда дату его смерти,
якобы, имевшей решающее значение как в их жизни, так и в жизни
всего человечества. Посему, мы могли бы и должны были бы
ждать, что они скажут нам, хотя бы даже ошибочно, день, месяц
и год этого события. И что же? Вместо этого мы наблюдаем
невиданный, беспримерный факт — подвижную дату. Оказывается,
что день смерти Иисуса, как и его воскресения, не закреплен раз
навсегда за определенным числом, а передвигается вместе со време-
нем еврейской пасхи, стоящим в связи с весенним полнолунием.
Характерно при этом то, что такая кочующая дата касается смерти
только Иисуса, для остальных евангельских героев, даже явно мифи-
ческих, в календаре отведены точные дни и месяцы 27. Почему
это так, покажет нам дальнейшее.
27 На этом странном обстоятельстве останавливается и А. Древс в своем
„Мифе о христе", т. II, стр. 151 и примеч. 355.
169
X. ПОСЛЕДНИЙ АКТ ТРАГЕДИИ НА ГОЛГОФЕ
Мифическая кровавая трагедия на Голгофе закончилась жутким,
но, увы, тоже мифическим финалом.
„Иисус, опять возопив громким голосом, испустил дух" (Матф.,
27, 50).
Что же было дальше, Матвей?
„И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу; и
земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и мно-
гие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскре-
сении его, вошли во святый град, и явились многим.
Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя земле-
трясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистинну
он был сын божий" (27, 51—54).
У Марка картина короче: после громкого возгласа Иисуса раз-
дирается надвое храмовая завеса, сотник же признает его „сыном
божиим" только потому, что увидел, „что он (Иисус), так возгласив,
испустил дух" (15, 37—39).
Лука на этот раз верен себе — подробен и драматичен, но не
согласен с двумя предыдущими евангелистами. У него после беседы
Иисуса с разбойником на кресте „происходит тьма" по всей земле
до часа девятого.
„И померкло солнце, и завеса в храме разодралась по средине.
Иисус, возгласив громким голосом, сказал: отче! в руки твои предаю
дух мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происхо-
дившее, прославил бога и сказал: истинно человек этот был пра-
ведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происхо-
дившее, возвращался, бия себя в грудь" (23, 44—48).
170
Иоанн всей этой сцены с чудесами, сотником и проч. совер-
шенно не выводит, а заменяет ее рассказом об ином чуде, о кото-
ром мы будем говорить дальше.
Как видим, нам приходится в данном случае иметь дело только
с синоптиками, а из них, в первую очередь, с Матфеем, как наиболее
осведомленным относительно обстоятельств, сопровождавших момент
смерти Иисуса. Что же он сообщает нам?
Целый ряд чудес: разодрание храмовой завесы, землетрясение,
воскресение и выход из могил умерших праведников. Присоедините
сюда еще чудесное солнечное затмение, о котором он говорил раньше
и которое им и прочими синоптиками относится опять-таки к разби-
раемому нами моменту трагедии на Голгофе, а также то разитель-
ное обстоятельство, что все эти чудеса ставятся в связь с „громким
криком" умирающего Иисуса.
Отыскивать во всем этом чудесном элементе историческую,
реальную подкладку было бы наивно и смешно: пред нами, несом-
ненно, и на этот раз только миф, пропитанный вдобавок
символикой.
Чтобы видеть, из чего и как он сложился, приступим к разбору
его составных частей или отдельных моментов и начнем с того, что
отмечается и подчеркивается всеми синоптиками, — с разодрания
завесы.
Обычный, наиболее распространенный взгляд в этой мифической
детали евангельских рассказов видит символику, навеянную Павло-
выми посланиями, особенно посланием к евреям.
Еврейский храм делился на несколько частей, из которых глав-
ными были две: святое и святое святых или святилище, которые
разделялись между собой и от прочих частей завесами.
В первое имели право входить только священники, а в святое
святых — только первосвященник, и то однажды в год, при чем пред-
варительно очистив себя и народ жертвенной кровью. Храм со всем
тем, что в нем находилось, символизировал небо, царство небесное,
местопребывание божества.
И вот, в послании к евреям читаем следующее:
„Христос, первосвященник будущих благ, пришедши с большею
и совершеннейшею скиниею (храмом), нерукотворенною, т. е., не
171
такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею
кровию, однажды вошел во святилище, и приобрел вечное искупление.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, чрез окро-
пление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело: то кольми
паче кровь христа, который духом святым принес себя непорочного
богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения богу
живому и истинному. И потому он есть ходатай нового завета,
дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от престу-
плений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное... Ибо христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице божие... Итак, братия, имея
дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса христа,
путем новым и живым, который он вновь открыл нам чрез завесу,
т. е. плоть свою, и имея великого священника над домом божиим"...
(9, 11—15, 24; 10, 19—21).
Иными словами, христос своею смертью искупил человечество,
открыл ему прямой доступ на небо, в местопребывание божества,
к самому богу, как бы, в святое святых небесного храма, и тем
самым, как бы, уничтожил заграждавшую вход туда — завесу. Вот
эта-то идея, — по мнению некоторых, — повлекла за собой мотив
разодрания храмовой завесы в момент жертвенной, искупительной
смерти христа.
Д. Штраус, приводя такое толкование, делает характерное замечание:
„Как видно, послание к евреям не считалось вовсе с выше-
отмеченным евангельским рассказом: если бы автору послания
(Павлу) был известен евангельский рассказ о разорвавшейся
завесе храма, то он, вероятно, не приминул бы использо-
вать его для иллюстрации своих рассуждений. С другой
стороны, нельзя и думать, что евангельский рассказ подсказан или
внушен был рассуждениями автора послания к евреям, но, сопоста-
вляя слова его и Павла, мы видим, как рассуждали древние христиане,
выросшие на идеях юдаизма, и как из совмещения идей христианских
и юдаистических создался вышеуказанный евангельский рассказ 2.
2 Штраус. Назв. соч., II стр. 192.
172
Отнюдь не соглашаясь с последним заявлением Штрауса, мы
отмечаем, что в этих словах важно и ценно одно указание: древ-
нейшая христианская литература, здесь в лице посланий Павла, еще
не знала соответствующего евангельского мотива, и, значит, послед-
ний является поздним продуктом религиозной фантазии.
Из других объяснений этого места можно указать на то, которое
видит здесь идею допущения язычников к спасению. У евреев
новообращаемые — язычники, прозелиты, отделялись в храме завесой,
и разрыв ее должен был символизировать равноправное допущение
и участие их в служении истинному богу. В подтверждение этого
указывают на характерное упоминание в соответствующем месте
евангелий об язычнике — сотнике.
Велльгаузен видит здесь образное выражение печали Иерусалим-
ского храма, предчувствующего отныне свою скорую, уже, яко бы,
решенную гибель 2. Приблизительно такого же взгляда держится теолог
Вейдель 3.
Более подкупающее толкование дает теолог Нестле 4. Он пред-
полагает, что рассказ о разодрании завесы в храме покоится на
описке, а именно, смешении двух похожих еврейских слов, из кото-
рых одно в переводе значит „завеса", а другое — „притолока"
у двери или ворот. В таком случае разбираемое евангельское
место можно возвести к ветхозаветным источникам.
Так, у пророка Амоса читаем:
„Видел я господа стоящим над жертвенником, и он сказал:
ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь
их на головы всех их, остальных же всех их (нечестивых) я поражу
мечем" (Э, 1).
Пророк Исайя рисует славословие серафимов господу и про-
должает:
„И поколебались верхи врат от гласа восклицающих"(6, 4).
2 Feigеl. Назв. соч., стр. 105—106. Wellhanseu. „Evangelium Marci",
стр. 141.
3 Drews. „Markusev.", стр. 305.
4 Nestle, статья в „Zeitschrift der neutestamenti. Wissenschaft", стр. 167 сл.
1902 г.
173
Что все эти места, действительно, имелись в виду ранними
христианами, — показывает евангелие от евреев, сообщающее, что от
восклицания Иисуса обрушилась притолока храма.
Любопытное и, думаем, правильное изъяснение символики раз-
дираемой завесы дает Р. Эйслер. Подробно разобрав и доказав,
что храмовые завесы символизировали небеса, он говорит далее:
„Из рассмотрения этой мистической связи завесы пред святое
святых с небом следует более глубокое значение или смысл того
характерного чуда, которое синоптики относят непосредственно
к крестной смерти христа (следуют евангельское слова о раздрании
завесы)...
Мировой порядок, созданный первым словом господа, уничтожа-
ется, разрушается его последним криком. Небесная завеса, которую
он сделал гранью между сущим и несуществующими, между настоя-
щим миром (kosmos paron) и миром будущим (kosmos mellon), разры-
вается надвое; умирает живущий и восстают усопшие" 5.
Перейдем теперь к разбору прочих чудес при смерти Иисуса —
землетрясения, воскресения мертвых и т. д.
Если предыдущий мотив трудно было подвести к ветхозаветному
первоисточнику, то на этот раз мы прямо-таки подавлены обилием
материала, откуда, несомненно, черпал Матфей.
Прежде чем приводить этот материал, скажем несколько слов
о том, что могло руководить евангелистом в соответствующем под-
боре его.
Еше раньше мы говорили, что крест, на котором, якобы, был
распят Иисус, имел двойной смысл: орудия казни и символа благо-
дати, спасения, жизни, — больше того, даже победа. А. Немоевский
обращает наше внимание на замечательный факт, что древнейшие
распятия изображают Иисуса на кресте не страдающим, а торже-
ствующим, как бы, победителем, триумфатором над смертью 6.
Из этого с несомненностью следует, что ранние христиане
в сцене распятия и смерти Иисуса выдвигали и подчеркивали мотив
победы над смертью, — что хорошо выражается в пресловутых словах
5 R. Eisler. „Weltenmantel", т. I,.стр. 252.
6 А. Немоевский. „Философия жизни Иисуса",стр. 122; его же „Dzieje
krzyza", 1908. Мальвер. „Наука и религия", стр. 32—54.
174
пасхального гимна: „смертью смерть поправ". В таком случае, его
предсмертный, физиологически невозможный, громкий крик является,
как бы, победным кличем, выражением торжества и могущества.
Эти стороны господа не раз и красочно описываются в ветхом
завете, где они отмечаются, например, в картинах его появления.
Некая мифическая поэтесса-певица Девора так рисует картину
могущества Ягве:
„Когда выходил ты, господи, от Сеира, когда шел с поля Едом-
ского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали
воду; горы таяли от лица господа" (Кн. Судей, 5, 4).
Почти в тех же словах описывает это псалмопевец. Отметивши
действие могущества бога на воды, бездны и облака, он продолжает:
„Глас грома твоего в круге небесном; молнии освещали вселен-
ную; земля содрогалась и тряслась" (76, 15—19).
Из числа массы аналогичных примеров возьмем еще один, — из
книги пророка Иоиля:
„Толпы, толпы в долине суда. Ибо близок день господень
к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют
блеск свой. И возгремит господь с Сиона, и даст глас свой
из Иерусалима; содрогнутся неба и земля" (3, 14—16).
Так рисует пророк картину страшного дня судного. Это место
для нас ценно во многих отношениях. Не говоря уже о том, что
мы лишний раз видим здесь результаты гласа — крика могуществен-
ного господа, мы имеем также целую сцену, повлиявшую на выра-
ботку евангельского мифа о трагедии на Голгофе.
Действительно, здесь и толпы народа, и глас господа, и затме-
ние, и землетрясение, — и все это в „день суда".
По древне-иудейским представлениям, когда чаша гнева господня
переполнится, и люди оканчательно погрязнут в грехе, должен будет
произойти страшный суд божий, наступит роковой „день суда" или
„день господень". Мессианцы все это связывали с приходом мессии
на землю. Так как день этот должен был сыграть огромную роль
в жизни человечества, то вполне понятно, что ему уделяется много
внимания в ветхом завете.
Тот же пророк Иоиль говорит о нем и в других местах своей
книги. Так, у него же читаем еще:
175
„И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы
дыма. Солнце превратится в тьму и луна — в кровь, прежде нежели
наступит день господень, великий и страшный. И всякий, кто
призовет имя господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иеру-
салиме будет спасение, как сказал господь, и у остальных, которых
призовет господь" (2, 30—32).
Или в другом месте:
„Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце
и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И господь
даст глас свой пред воинством своим; ибо весьма многочисленно
полчище его и могущественен исполнитель слова его; ибо велик день
господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще
говорит господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, и не одежды ваши и
обратитесь к господу богу вашему; ибо он благ и милосерден, долго-
терпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии" (2, 10—13).
Приведем теперь целиком то место из пророка Амоса, которое
дало между прочим мотив затмения:
„Клялся гоподь славою Иакова: поистине не забуду ни одного
из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не вое-
плачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она
как река, и будет подниматься и опускаться, как река еги-
петская. И будет в тот день, говорит господь бог: произведу
закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня.
И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши
в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую
голову, и произведу в стране плач, как о единственном
сыне, и конец ее будет как горький день" (8, 7—10).
Такими же мрачными красками рисует „день господень" и про-
рок Исайя:
„Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет
из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся,
и основания земли потрясутся.
Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно
потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как
колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет, и уже не
176
встанет, и будет в тот день, посетит господь воинство выспреннее
на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней
будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда
господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред
старейшинами его будет слава" (24, 18—23).
Немного далее он дополняет эту картину еще более знакомыми
нам чертами:
„Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Вос-
пряните и торжествуйте, поверженные во прахе- ибо роса твоя —
роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой,
войди в покои твои, и запри за собою двери твои, укройся на мгно-
вение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот, господь выходит из жи-
лища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля
откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых" (26, 19 сл.).
Если здесь день суда господня связан с мщением за преступления
народа, за пролитую им кровь, при чем сами мертвецы выходят из
могил своих, то нечто подобное мы находим в 3 книге Ездры, где:
„Не о том же ли вопрошали души праведных в затворах своих,
говоря: доколе таким образом будем мы надеяться? и когда плод нашего
возмездия? На это отвечал мне Иеремиил архангел: когда исполнится
число семян в вас; ибо всевышний на весах взвесил век сей, и мерою
измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит
до тех пор, доколе не исполнится определенная мера" (4, 35—37).
Присоединим сюда еще одно любопытное место, на этот раз,
из апокрифического Откровения или Апокалипсиса Варуха:
„И после того, когда исполнится время пришествия мессии, он
снова вернется к своей славе (на небо). Тогда все, уснувшие
в надежде на него, воскреснут. И будет в то время: от-
кроются затворы, где пребывало число душ праведных, и
они выйдут оттуда; и многие души все сразу явятся, по-
добно единой толпе одного образа мыслей. Души же нечестивых,
видя это, не будут знать, что делать от страха, ибо они знают,
что наказание их приблизилось и гибель их пришла" (30, 1 сл.) 7.
7 Kautzsch. „Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testa-
ments", т. II, стр. 423; переизд. 1921 г.
177 12
Пасхальная мифология
Остановимся на этих примерах, хотя число их можно было бы
увеличить еще несколькими. Думается, что доказывать их влияние на
выработку соответствующей главы биографии евангельского спаси-
теля — мессии не приходится. Действительно, они дают нам как
все ее отдельные мотивы порознь, так и всю ее целиком: чудесное
солнечное затмение, землетрясение, даже воскресение мертвых. Больше
того, там же источник и того, невыдвинутого нами мотива, — влия-
ние данных чудес на окружающих. Это обстоятельство подводит
нас к вопросу, почему и как использовали евангелисты соответ-
ствующий ветхозаветный материал.
Нет сомнения, что ими здесь руководила опять-таки догматика, —
желание выставить своего главного героя обещанным мессией, коего
одни должны признать за такового, другие — нет 8. Эту идею они
выражают различно. Ее мы видим в подчеркиваемой евангелистами
связи предсмертного крика Иисуса с грозными явлениями природы,
каковой крик рисуется победным, торжествующим возгласом победи-
теля смерти, только что одержавшего в своей смерти победу над ней.
Эта же идея сквозит в том, как природа реагирует на смерть
умирающего спасителя. В чудесных явлениях данного момента можно
и должно видеть также проявление гнева могущественного бога-отца
на людей, допустивших самое страшное, как только можно предста-
вить, преступление, — убийство его возлюбленного божественного
сына. Наконец, эта идея выявляется во всей картине чудес, выра-
жающей собою последний, страшный день господень, день суда божия.
Как же реагируют на все эти знамения и прямые указания на
мессианское достоинство распятого окружающие?
У Матфея и Марка видна здесь ненависть ранних христиан
к правоверным иудеям. Последних чудесная обстановка предсмертных
минут жизни спасителя не убеждает, они попрежнему глухи и слепы,
не понимают совершающегося на их глазах события, виновниками
коего они сами же являются: в Иисусе они даже теперь еще не мо-
гут или не хотят увидеть обетованного им мессию.
Только Лука смягчает краски. Его евангелие, вообще пропи-
танное симпатией к социально униженным и оскорбленным, к про-
8 Feigеl. Назв. соч., стр. 72—76.
178
стому народу иудейскому, — верно себе и здесь 9. Это видно из
тех немногих слов, коими у него заканчивается описание разби-
раемой нами сцены:
„И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь".
Однако, следует добавить, что и эта симпатичная черта Лукою
вычитана опять-таки из приведенных нами ветхозаветных мест, где
говорится о страхе и раскаянии народа в день суда господня.
Вместо всего этого первые два евангелиста, — Матфей и Марк,
рассказывают о „сотнике", т. е. язычнике, и тех, „которые с ним
стерегли Иисуса", — воинах из язычников. Они и только они, —
эти язычники, поняли совершающееся и признали, что „воистинну
он был сын божий" 10.
Здесь продолжение развития все той же, встречавшейся нам,
мысли, что язычники скорее уверуют в господа, спасителя, чем сам
иудейский народ, из среды которого он должен был выйти. В свою
очередь, эта мысль являлась только отражением исторического
факта — медленного распространения христианства среди иудеев, даже
позднейшей взаимной борьбы и массового обращения язычников, для
которых переход в новую религию облегчался тем, что они меняли
своего прежнего Озириса, — Таммуза, — Адониса, Аттиса, Диониса,
т. е. своего многоименного спасителя только на его новую разно-
видность — иудейского умирающего и воскресающего мессию — христа.
Впрочем, А. Древс даже для этого мотива указывает ветхо-
заветный первоисточник.
„101 псалом, — отмечает он, — в котором евангелист мог усмотреть
также намек на предсмертный крик Иисуса, говорит между прочим
следующее (16):
„И убоятся язычники (народы) имени господня, и все цари
земные — славы твоей ""
Это могло дать евангелисту первый толчек к тому, чтобы вложить
в уста язычника признание господа непосредственно пред лицем,
распятого страдальца. Ведь и Плутарх в своей биографии Клеомена
рассказывает о чуде, совершившемся при распятии последнего и
9 О. Pfleiderer. „Urchristentum" т. I, стр. 394, примеч.
10 О. Pfleiderer. Назв. соч., т. I, стр. 466.
179
12*
убедившем стражу в том, что Клеомен-герой и сын божий... Своим
выражением „сын божий" сотник только подчеркивает основную идею
всего евангелия" 11.
Что этот псалом носился пред глазами евангелистов при выра-
ботке ими деталей мифа о трагедии на Голгофе, можно видеть из
сопоставления с ними первых его стихов:
„Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред
господом печаль свою. Господи! услышь молитву мою, и вопль мой
да придет к тебе. Не скрывай лица твоего от меня, в день скорби
моей приклони ко мне ухо твое; в день, когда воззову к тебе,
скоро услышь меня" (ст. 1—3).
В заключение остановимся еще на двух сторонах нашего мифа.
Ранние христиане, здесь в лице евангелистов, следуя своим ветхо-
заветным источникам и создавая его, желали нарисовать картину
страшного „дня господня", который должен был наступить с при-
ходом мессии. Но так как этот день, по их взглядам, должен был
в своем окончательном виде наступить только при втором, последнем
пришествии мессии — христа, то они здесь в описании первого при-
шествия дали нам как бы прелюдию к нему, как бы образ того, что
должно будет разыграться в последние дни или день. Так они желали
примирить различные представления о приходе мессии, и сопровождаю-
щих его чудесных явлениях, для чего им пришлось это явление и
картину удвоить или разбить на два аналогичных момента: первое
и второе пришествие. Это обстоятельство особенно ясно видно из
евангельского мотива воскресения мертвых. По иудейским воззре-
ниям, приход мессии на землю должен был повести к всеобщему
воскресению и суду.
Так как христиане считали, что мессия уже приходил в лице
Иисуса и так как они прекрасно знали, что никакого всеобщего
воскресения и суда тогда не произошло, то они, дабы спасти поло-
жение, отнесли исполнение этого мотива ко второму пришествию
христа.
„Однако, — говорит Штраус, — для вящщего укрепления веры в хри-
стианах всетаки казалось целесообразным изобразить некий пролог
11 Drews. „Marcusev.", стр. 307.
180
такого воскресения и отнести его к периоду земной жизни Иисуса.
Такой пролог можно было приурочить удобнее всего либо к моменту
смерти Иисуса, либо к моменту его воскресения, ибо христос окон-
чательно „попрал", победил смерть и гроб тогда, когда он сам
воскрес из мертвых; но чтобы воскреснуть, ему надлежало умереть.
Поэтому Матфей решил эту проблему надвое, т. е. компромиссом.
По его словам, гробы отверзлись и многие усопшие святые воскресли
в момент кончины Иисуса, когда потряслась земля и расселись
камни, но вышли из гробов и явились в Иерусалим эти воскресшие
святые лишь позднее, после воскресения Иисуса, так как Иисусу
все же надлежало быть „первенцем из мертвых" (посл. к кол., 1, 18;
Откровение, 1, 5), т. е. воскреснуть „первым из умерших" (посл.
к кор., 15, 20) 12.
Соглашаясь со Штраусом в приводимом им толковании, мы счи-
таем, однако, что он упустил из виду еще один момент выведения
на сцену воскресших умерших, а именно: ветхозаветную программу, —
все те приведенные нами оттуда места, где данный мотив фигурирует
и стоит в связи с днем господним и приходом мессии. Иначе говоря,
и здесь, при выборе и выведении всех деталей мифа, евангелисты
руководствовались указаниями ветхого завета, своей обычной прописи.
После разбора чудес, сопровождавших мифическое распятие и
смерть христианского спасителя, рассмотрим теперь самый конец
последнего акта трагедии на Голгофе, при чем в качестве главного
рассказчика и свидетеля возьмем опять-таки Матфея, который на
этот раз кажется наиболее осведомленным.
Рассказав о чудесах и признании сотника, он продолжает:
„Там были также и смотрели издали многие женщины, которые
следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были
Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иоссии, и мать сыновей
Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он,
пришедши к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал
12 Штраус. Назв. соч., II, стр. 193. Желающие ближе ознакомиться
с мифологическими и символическим мотивом чудесных знамений при смерти
Иисуса и других личностей обильный материал найдут в книге P. Sain-
tives. „Essais de folklore biblique", стр. 405—463, 1922 г.
181
отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею
(полотном), и положил его в новом своем гробе, который высек он
в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.
Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели
против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собра-
лись первосвященники и фарисеи к Пилату, и говорили: господин!
мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал:
„после трех дней воскресну". Итак прикажи охранять гроб до
третьего дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его
и не сказали народу: „воскрес из мертвых"; и будет последний
обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите,
охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу,
и приложили к камню печать" (27, 55—66).
Марк, как всегда, — более краток, и в деталях расходится с Мат-
феем. Так, вместо матери сыновей Зеведеевых он называет Сало-
мию. Иосиф оказывается „знаменитым членом совета". Пилат
удивляется скорой смерти Иисуса и о времени ее справляется
у сотника. Совершенно нет сцены с делегацией первосвященников
и фарисеев к Пилату, а потому нет упоминания о страже и запеча-
тывании гроба (15, 40—47).
Лука, вопреки обыкновению, тоже краток и тоже разногласит.
Женщин он по именам не называет. Об Иосифе — члене совета —
замечает, что это был „человек добрый и правдивый, не участво-
вавший в совете и в деле их", т. е. иудейских судей. Тело Иисуса
он полагает в „гробе, высеченном в скале, где еще никто не был
положен", при чем отмечает, что „день тот был пятница, и насту-
пала суббота". Далее: „последовали также и женщины, пришедшие
с Иисусом из Галилеи и смотрели гроб, и как полагалось тело его.
Возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу
остались в покое по заповеди" (23, 49—56).
Так как Иоанн рисует несколько иную картину, мы приведем
рассказ его целиком. Иисус, „преклонив главу, предал дух".
Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на
кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили
Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли
воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним.
182
Но, пришедши к Иисусу, как увидели его уже умершим, не пере-
били у него голеней; но один из воинов копьем пронзил ему ребра,
и тотчас истекла кровь и вода.
И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он
знает, что говорит истину, — дабы вы поверили. Ибо сие произошло,
да сбудется писание: „кость его да не сокрушится" (Исх., 12, 46).
Также и в другом месте писание говорит: „воззрят на того,
которого пронзили" (Зах. 12, 10). После сего Иосиф из Аримафеи,
ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата,
чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел, и снял
тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший к Иисусу
ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак,
они взяли тело Иисуса, и обвили его пеленами с благовониями, как
обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был
сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен.
Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб
был близко" (19, 31—42).
Чтобы разобраться во всей этой массе запутанного материала,
разобьем его на отдельные моменты или мотивы и исследуем их,
придерживаясь приблизительного хронологического порядка. В таком
случае первым из них будет Иоаннов рассказ о преломлении голеней
у разбойников и прободении Иисуса копьем. Оба эти обстоятель-
ства выведены им исключительно в целях догматики. По римским
обычаям, присужденным к крестной казни преступникам дубиной пере-
бивались голени, дабы вызвать омертвение конечностей и более
скорую смерть. Однако, для Иоанна, очевидно, знавшего об этом
обычае, это не подходило.
Задачей своего рассказа он ставил показать, что Иисус — пасхаль-
ный агнец, заклаемый за грехи мира. Но, по словам книги Исхода,
у подобного агнца воспрещалось сокрушать кости, поэтому еванге-
лист, имея в виду данное запрещение и использовывая указания си-
ноптиков на необыкновенно быструю смерть Иисуса, старается выйти
из затруднительного положения: примирить римский и иудейский
пасхальный обычаи. Для этого он заставляет воинов перебить го-
лени у живых еще разбойников и обойти уже умершего Иисуса-агнца.
Этим резче оттеняет он мнимое исполнение ветхозаветного пророчества.
183
Но этого для него было мало, так как ему хотелось чудесам
синоптиков, слишком внешним, и, так сказать, грубым, противо-
поставить нечто иное, более тонкое и мистическое. Для этого он
вводит рассказ о прободении копьем, выдавая в то же время его
неисторический, мифический характер.
„Другим (после сокрушения голеней) неоспоримым приме-
ром вымысла новой истории на основании ветхого завета, —
говорит Ф. Фейгель, — является Иоаннов рассказ о прободении
копьем. Он ясно обнаруживает свое происхождение и построение
из 12, 10 книги пророка Захарии:
„А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благо-
дати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и
будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть,
как скорбят о первенце".
Связанный с критикой текста вопрос о правильном понимании
данного места в еврейском и греческом тексте здесь можно оставить
без рассмотрения. Во всяком случае, этот стих заставлял христиан
видеть в нем мессианский смысл уже самым сравнением оплакивае-
мого с единственным сыном или первенцем (см. также Откровение
Иоанна, 1, 7: „Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око и те,
которые пронзили его; и возрыдают пред ним все племена земные").
Еще Варнава из псалма 21, 21 („избавь от меча душу мою", pheisai —
пощади, охрани" вместо „rysai — избавь") заключает, что никакое
колющее оружие не могло коснуться Христа (5, 13); греческое же
слово „romphaia" (переведенное через „меч") может означать также
и копье. При правильном чтении и понимании слова „rysai — избавь"
из 21, 21 псалма можно было бы заключить, что при страданиях
мессии играет роль также и (колющее) оружие. Если бы Юстин
знал, вернее, признавал прободение копьем, то он, конечно, указал
бы на исполнение и этого пророчества. Однако, он исключает ко-
лющее оружие („Диалог", 105). С другой стороны, он требует,
и как раз на основании Захарии, 12, 10, также пронзения Иисуса
(„Диалог", 14, 32; „Апология", 1, 52). Но не следует видеть в этом
какого-либо противоречия: предсказание о пронзении он видит
осуществившимся в пригвождении Иисуса; но все же некоторую не-
ясность здесь отрицать нельзя.
184
Иоанн также и здесь устраняет препятствие: может быть, следуя
авторитету Откровения, 1, 7, он заставляет предсказание Захарии
12, 10, осуществиться буквально. При этом он спасает и репутацию
псалма 21, 21 от лжи: Иисус при жизни не подвергается удару
колющего оружия, а только, когда он уже умер, его пронзают
копьем.
Что удар копьем так же бесцелен, как было бы бесцельно раз-
дробление голеней, и что его, как и последнее, рассуждая разумно,
следовало бы не выводить, все это мало беспокоит Иоанна. А если
бы он задумался над этим, то увидел бы здесь только превосход-
ство божественного разума в истории спасения над обычным мышле-
нием и фактами. У Иисуса не сокрушают голеней, но зато сле-
дует прободение копьем, — и все это только потому, что того тре-
бует... ветхозаветное пророчество" 13.
Измыслив, таким обвазом, на основании ветхозаветных мест рас-
сказ о сокрушении голеней разбойникам и прободении копьем Иисуса,
Иоанн дополняет свою картину новой мифической деталью: из раны
„тотчас истекала кровь и вода".
Еще Д. Штраус по этому поводу замечает, что „всякий сведу-
щий человек, не обинуясь, удостоверит, что этого быть не
могло. Если кровь в теле Иисуса еще не успела свернуться, так
как Иисус был еще жив или недавно только умер, то могла
истечь из раны только кровь; если кровь уже свернулась, то из
раны не могло ничего истечь. Если же копье пронзило околосер-
дечную сумку и из нее „вода" стала изливаться наружу, а не внутрь
грудной полости, то она должна была бы перемешаться с кровью".
Дальше же он показывает, что этой деталью евангелист хотел только
подчеркнуть божественность Иисуса, его богосыновство, а также иску-
пительную и очистительную символику, намек на два главных хри-
стианских таинства — крещения и причащения, в каковом к вину —
крови раньше примешивали еще воду 14.
Хотя названный ученый совершенно правильно указывает мифич-
ность и символику этого мотива, однако он не дает нам того, что
же, собственно говоря, навело Иоанна на мысль вывести именно
13 Feigel. Назв. соч., стр. 39.
14 Штраус. Назв. соч., II, стр. 194—197 (Глава „Прободение копьем").
185
здесь воду и кровь. Этот пробел заполняет уже приводимый нами
Ф. Фейгель, указывающий ключ к этому все в том же пророческом
месте Захарии, которое дало мотив прободения копьем. Рисуя кар-
тину „дня господня", пророк продолжает так:
„В тот день откроется источник дому Давидову и жителям
Иерусалима, для омытия греха и нечистоты" (13, 1).
И вот, в первом послании Иоанна читаем:
„Кровь Иисуса христа, сына его (бога), очищает нас от всякого
греха" (i, 7).
Прибавьте сюда еще возможность понимания этих слов Захарии
в смысле намека также на крещение, которое в посланиях Павла
опять-таки ставилось в связь со смертью Иисуса — его кровью, и
в итоге мы получаем двоякое очищение — водою и кровью, подво-
дящие нас к тем же таинствам — крещению и причащению.
Заканчивая разбор этого евангельского мотива, Фейгель говорит:
„Если мы занимаемся здесь разбором этого мотива рассказа, то
только потому, что считаем эту связь его с Захарией 13, 1 весьма
вероятной. Для доказательства же его неисторичности вполне
достаточно было бы уже одного того обстоятельства, что
он стоит и падает и падает вместе с неисторичностью
прободения копьем".
Если кому-либо неисторичность последнего кажется недостаточно
обоснованной выше, то мы приведем еще заключительные слова
Штрауса по данному вопросу.
„Рассказ евангелиста Иоанна о прободении копьем распя-
того Иисуса, — говорит он, — представляется антиисторической
припиской еще и потому, что он не предусматривается и
даже исключается синоптическими евангелистами. Ни в одном
из синоптических рассказов воскресший Иисус не показывает уче-
никам пораненного бока, что отмечается лишь в четвертом евангелии
(20, 20). Мало того, только еще у Луки воскресший Иисус пока-
зывает ученикам свои руки и ноги, но и при этом ничего не гово-
рится о язвах, а Матфей, отметив кончину Иисуса, продолжает
рассказ в таком тоне, что можно подумать, что Иисус, скончавшись,
продолжал висеть на кресте до вечера, когда был снят с креста
Иосифом Аримафейским. Тут может показаться, что евангелист
186
только умолчал о факте, не думая отрицать его. Но дело обстоит
иначе у Луки и Марка. По словам Иоанна, Пилат, по требованию
иудеев, велел перебить голени у распятых и затем снять их с крестов.
Если поэтому Иосиф Аримафейский явился уже после того, то труп
Иисуса он должен был уже увидеть снятым. Но Марк и Лука за-
являют, что Иосиф сам снял с креста труп Иисуса. Следовательно,
оба евангелиста ничего не ведали о приказании Пилата перебить
голени у распятых и снять их с креста. Марк сообщает, что Пилат
удивился, когда услышал от Иосифа, что Иисус уже скончался, а
потому он не сразу и исполнил просьбу Иосифа; но ведь Пилат не
стал бы удивляться, если бы он перед тем действительно сам при-
казал перебить голени у распятых. Наконец, самым рассказом
четвертого евангелия исключается возможность преломления
голеней. Евангелист сам продолжает повествовать так, словно он
ничего не сообщал о преломлении голеней, как, как продолжают
повествовать синоптики, отметив кончину Иисуса. Он говорит:
„Потом Иосиф из Аримафеи просил Пилата снять тело Иисуса, и
Пилат позволил, и Иосиф пошел и снял тело Иисуса". Стало быть,
рассказ евангелиста можно понять в том смысле, что Пилат не
отдавал раньше приказа снимать с креста распятых; следовательно,
евангелист, вставив рассказ о преломлении голеней и прободении
ребра Иисуса, вновь обратился к синоптическому повествованию и,
стало быть, весь предыдущий им рассказанный эпизод он сам
придумал".
Так разъясняется дело с выводимыми Иоанном мотивами — пре-
ломлением голеней у разбойников и прободением Иисуса копьем,
т. е., они оказываются мифическими, мифами, созданными во имя
догматики на основе и из материала ветхого завета. Да, впрочем,
этого не скрывал и сам автор их, откровенно указывая на свои
источники: „да сбудется писание". Мы же весь этот разбор проделали
лишь для того, чтобы еще раз показать, чтр всякий раз, как в еван-
гелиях имеем дело с мотивом, выводимым из „писания", т. е. ветхого
завета, — пред нами прямой и неоспоримый, даже типичный миф.
А теперь перейдем к разбору следующей детали евангельских
рассказов, отмечаемой всеми, кроме Иоанна, — к присутствию при
распятии и смерти Иисуса женщин.
187
Все три синоптика единогласно выводят этот мотив, при чем
даже подчеркивают, что женщины стояли „вдали". Только Иоанн
обходится без последних и то, несомненно, потому, что он заста-
вляет стоять при кресте мать Иисуса и его любимого ученика.
Что руководило евангелистами при создании этого мотива — понять
не трудно.
С одной стороны, вызванное директивами ветхого завета бегство
учеников еще при аресте Иисуса исключало их в качестве зрителей
кровавой трагедии. Поэтому оставалось вывести только женщин.
На это, с другой стороны, толкал новозаветных авторов опять-таки
ветхий завет.
Так, страдалец псалма 87 между прочим в таких словах изли-
вает свою скорбь пред богом:
„Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отврати-
тельным для них... Око мое истомилось от горести; весь день я
взывал к тебе, господи; простирал к тебе руки мои... Ты удалил
от меня друга и искреннего; знакомых моих не видно"
(ст. 19—10, 19).
Еще более знакомый образ находим в псалме 37:
„Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей
моих — и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили
от язвы моей, и ближние мои стоят вдали" (11—12).
Эти места, — а число их можно было бы увеличить, — несомненно,
дали евангелистам мотив нахождения близких Иисуса „вдали" от
креста. Особенно ясно это видно у евангелиста Луки. В то время,
как Матфей и Марк упоминают только о женщинах, Лука рабски
следует своей ветхозаветной прописи и замечает:
„Все же, знавшие его, и женщины... стояли вдали и смо-
трели на это" (23, 49).
Мы можем даже понять, почему он выводит „знавших".
Он сознавал, что вывести на сцену бежавших учеников было бы
промахом, в то время „писание" определенно говорило о двух груп-
пах дорогих для страдальца лиц, — о друзьях и искренних, а также
в обоих псалмах как-то подчеркивались и оттенялись „знакомые".
Все это он ввел и в свой евангельский рассказ, сообщая о „знав-
ших" его и женщинах.
188
Теперь перейдем к вопросу о последних. Почему выведены они,
почему в таком большом количестве и почему среди них так много
Марий?
Одно основание нами уже приводилось: оно крылось в бегстве
учеников и только что разобранных ветхозаветных местах. Другое
основание находим опять-таки здесь, в „писании", даже в знакомой
нам 12 главе Захарии.
Пророк, произнося свое пророчество о дне господнем, когда
„воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце", —
продолжает описание этого дня в таких словах:
„В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач
Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, ка-
ждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо;
племя дома Нафаново особо, и жены их особо; племя дома Левиина
особо, и жены их особо; племя Симоново особо, и жены их особо.
Все остальные племена — каждое племя особо, и жены их особо"
(12, 11—14).
О несомненном влиянии данного места на евангельские мифы мы
уже говорили, когда касались детали у Луки о плаче иерусалимских
женщин во время шествия Иисуса на Голгофу. Оно же, несомненно,
сыграло свою решающую роль и в мотиве присутствия многих жен-
щин при сцене распятия и смерти страдальца. Действительно, пяти-
кратное упоминание Захарии о „женах", т. е. женщинах, настоятельно
требовало от евангелистов выведения на сцену последних, и при-
том в большем числе. Это одна сторона дела. Другая же, не
менее любопытная, кроется в плаче женщин, но о ней мы будем
говорить в следующей главе. Теперь же перейдем к разбору сле-
дующего мотива трактуемой сцены — снятия Иисуса с креста и его
погребения.
По римским обычаям распятые оставались висеть на кресте до
тех пор, пока трупы их не растерзывались и не пожирались пти-
цами. Отступление от этого допускалось иногда и то только по
личной просьбе родственников казненных, коим труп мог быть отдан
для погребения. Иудеи же имели обыкновение снимать труп с креста
и зарывать его на особом кладбище для преступников.
189
Приведем соответствующее место из Второзакония:
„Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он
будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве (т. е. распнешь): то
тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же
день" (21, 22—23).
Несомненно все это имели в виду евангелисты, в планы коих
отнюдь не входил подобный конец их героя, почему они выводят
на сцену некоего Иосифа Аримафейского и посылают его с соответ-
ствующей просьбой к Пилату. Что толкало их на это, что внушало
им мысль о необходимости „благочестного" погребения умершего
Иисуса, — исторический факт? Нет, целый ряд моментов, одними из
коих является ветхозаветная программа или пропись.
В знаменитой 53 главе пророка Исайи, давшей наряду с 21 псал-
мом идеи и главный материал для выработки всего мифа о страда-
ниях и смерти Иисуса, о прототипе последнего, „раба божием",
вернее, о конце его рассказывается следующее:
„От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо
он отторгнут от земли живых; за преступления народа моего пре-
терпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погре-
бен у богатого, потому что он не сделал греха, и не было лжи
в устах его" (8—9).
Развить данное место и превратить его в целую историю для
евангелистов было легко, так как оно давало все необходимое для
этого. Больше того, нам легко даже представить ход их мысли
или фантазии при выработке соответствующей мифической сцены,
Рабу божию — Иисусу „назначали гроб со злодеями", возможно,
даже с двумя распятыми с ним мифическими „разбойниками" — зло-
деями. Но ветхозаветная „программа" диктовала евангелистам не-
обходимость погребения „у богатого". Сюда же привмешивался
новый мотив — римский обычай оставлять преступников на кресте.
В силу всего этого выводится на сцену „богатый человек" — Иосиф
Аримафейский, который идет и просит у Пилата выдать ему тело
казненного. Вывести для этой просьбы кого-либо из родственников
Иисуса евангелисты не могли, так как последний рисовался ими чело-
веком из простой, бедной семьи, а „писание" требовало кого-то
„богатого". По той же причине не подходили и ученики распятого,
190
которые вдобавок мыслились под подозрением у властей и к тому же
разбежавшимися подобно стаду, у коего поражен пастырь. С дру-
гой стороны, выводя „богатого" и как бы постороннего, евангелисты
должны были поставить его в какую-то связь с умершим, для чего
лучше всего было выдать его за тайного или явного ученика или
поклонника галлилейского учителя.
Мало того, мыслилось, что Пилат мог выдать труп из посто-
ронних умершему только кому-либо именитому, знатному, влиятель-
ному, а раз дело шло об иудее — Иисусе, то иудею. Повидимому,
этот мотив повлек за собою то, что Марк и Лука выставляют
Иосифа членом совета, т. е. синедриона, при чем второй из них,
учитывая заранее недоуменный вопрос читателей о странной роли
одного из предполагаемых судей казненного, спасает положение заме-
чанием об Иосифе, что он был „человек добрый и правдивый, не
участвовавший в совете и в деле их", т. е. иудейских судей.
Не будем останавливаться и подчеркивать, что эта фраза Луки
отводит единственное лицо, коего поклонники Иисуса могли бы
выставить в качестве свидетеля, имевшего возможность дать ранним
христианам и евангелистам сведения о ходе процесса над их героем,
особенно же о допросе последнего и заседаниях синедриона.
Не будем останавливаться потому, что мы и здесь, в лице Иосифа
Аримафейского, несомненно, имеем фигуру мифическую, созданную
и выведенную под влиянием разбираемого стиха 53 главы Исайи 15
Итак, слова последнего — „погребен у богатого" повлекли за
собой выведение на сцену мифического богатого Иосифа.
Дальнейшим логическим развитием приведенных слов ветхозавет-
ной программы было, конечно, снятие Иисуса со креста и погребение
во гробе. Последнее, как совершаемое богатым иудеем, само собой
предполагалось соответствующе-благочестным. В силу этого, Иоанн
отмечает, что тело Иисуса было обвито пеленами с благовониями,
„как обыкновенно погребают иудеи", на что пошло, будто бы,
огромное количество „состава из смирны и алоя, литр около ста".
Синоптики здесь говорят только о плащанице — полотне и не отме-
чают умащения, помня, что последнее у них уже фигурировало
15 G. Sadler. „The inner meawing of four gospels", стр. 99.
191
раньше, в мифической сцене Вифанской вечери, когда женщина воз-
лиянием мира „приготовила его к погребению". Только Лука, у
которого Вифанской вечери нет, заставляет женщин запастись бла-
говониями для умащения, но только запастись, самого же акта
умащения они не производят.
Впрочем, все первые три евангелиста единогласно свидетельствуют,
что при погребении Иисуса присутствовали, если не в качестве актив-
ных участников, то, по крайней мере, пассивных — зрительниц, —
женщины.
Рассказы о погребении выдвигают пред нами новый вопрос —
о гробе, куда был положен спаситель.
Марк, а за ним Матфей и Лука определенно говорят, что гроб
был высечен в скале, при чем два последних евангелиста и Иоанн
подчеркивают, что в нем, т. е. гробе, еще никто не лежал, а Матфей
усиливает этот момент прибавлением определения „новый", каковыми
замечаниями все три автора оттеняют высокое предназначение гроба —
служить последним земным местопребыванием мессии.
Любопытно при этом отношение евангелистов к данному гробу.
Матфей, рабски следовавший ветхозаветной программе и потому
отметивший зажиточность Иосифа, делает логический вывод и говорит,
что гроб принадлежал самому богачу, был высечен им. Марк и Лука,
упустившие отметить богатство Иосифа, о собственнике гроба молчат.
Иоанн, желавший, очевидно, выразить идею божьего промысла, зара-
нее озаботившегося о гробе для Иисуса, игнорирует принадлеж-
ность гроба Иосифу и под предлогом спешности, ввиду скорого
наступления праздника субботы, заставляет положить умершего в бли-
жайший к месту казни гроб. Мало того, для этого ему пришлось
вывести на сцену новое лицо, некоего Никодима, который у него
до этого фигурировал дважды в качестве именитого и тайного уче-
ника Иисуса, выступавшего в весьма почетных и знаменательных
ролях (3, 1; 7, 50). Действительно, раз он решил, что тело Иисуса
должно было быть погребено по всем правилам, благочестно, а для
этого умащено и обвито пеленами, то один Иосиф у него всего
этого проделать бы не мог. Ведь последний должен был хлопотать
у Пилата, затем снимать тело с креста. Женщины в помощь ему
также не совсем годились, ибо необходимые для намащения — бальза-
192
мирования трупа сто литров благовонного состава им было нести
не под силу.
После всех этих замечаний касательно погребения и гроба Иисуса
мы ставим сам собою напрашивающийся вопрос: откуда евангелисты
заимствовали идею гроба, притом высеченного в скале?
Из того же ветхого завета!
Уже приводимые нами слова Исайи о погребении у богатого на-
водили на мысль о соответствующем гробе, не простом, а таком,
который был бы достоин своего богатого собственника. В древ-
ности богатые еще при жизни заботились о своем последнем жилище,
месте вечного успокоения, для чего ими высекались гробницы, если
таковой, особенно семейной или родовой, не было.
Это обстоятельство должно было толкать мысль евангелистов
в определенном направлении в поисках соответствующего материала,
а также указаний „писания". И вот у того же Исайи в 33 главе
они могли прочесть о праведнике, что
„тот будет обитать на высотах; убежище его — неприступные
скалы", или, по греческому переводу библии: „в пещере, высеченной
в скале" (ст. 16).
Немного ранее, в 22 главе, у того же пророка господь говорит
некоему богачу, царедворцу Севне:
„что у тебя здесь, и кто у тебя, что ты здесь высекаешь себе
гробницу? — он высекает себе гробницу на возвышенности, вы-
рубает в скале жилище себе" (ст. 16).
Этими словами пророк хотел выразить ту мысль, что высекаемая
в скале гробница слишком великолепна для Севны, но мессианцы —
евангелисты усмотрели здесь намек на гроб для Иисуса, т. е., что
гроб этот предназначался для высшего мужа, для грядущего спаси-
теля — мессии.
Что это место, действительно, было использовано евангелистами,
можно видеть из того, что из данной главы, даже из относящихся
к Севне слов, ими был заимствован материал, напр., для мифа о
ключаре-апостоле Петре.
Последним моментом, на котором нам следует остановиться,
является рассказ Матфея о просьбе первосвященников и фарисеев
к Пилату относительно охраны гроба, постановке ими стражи и запе-
193 13
Пасхальная мифология
чатании входного камня в него печатью. По этому поводу профессор
теологии О. Пфлейдерер замечает следующее:
„Равным образом, только Матфею принадлежит совершенно
невероятный рассказ о том, как первосвященники просили Пилата
приставить стражу ко гробу против иначе могущих выкрасть труп
учеников Иисуса, как затем после воскресения эти часовые были
подкуплены первосвященниками сказать, что труп во время их сна
был похищен учениками, и как „пронеслось слово сие между иудеями
до сего дня" (27, 62—66 и 28, 11—15). Единственно историче-
ское в этом рассказе является, без сомнения, существование по-
добной молвы в иудейских кругах во времена евангелиста или же во
времена выработки его источника..; чтобы уничтожить или подорвать
эту молву христианами и был придуман такого рода рассказ об ее
возникновении" 16.
Иначе говоря, во времена раннего христианства, вероятно, в эпоху
составления евангелия Матфея, на утверждение христиан, что их
господь воскрес из мертвых и чудесным образом вышел из гроба,
противники их — иудеи — говорили, что ученики просто выкрали труп
своего учителя. Чтобы отвести это объяснение и показать, что
кража трупа была невозможна, пришлось создавать целый миф о том,
что гроб охранялся стражей и что даже эта стража была постав-
лена по просьбе самих же правоверных иудеев в лице их перво-
священников.
Так как Пфлейдерер захватывает здесь также новый момент
этого мифа и так как с дальнейшей формой его мы еще встретимся,
то ограничимся пока сказанным, тем более, что оно исчерпывает
разбираемый нами мотив Матфеева мифа, но зато укажем еще на
один источник его.
Этот источник кроется в книге пророка Даниила, бывшего одним
из прототипов Иисуса.
Пророк был брошен в ров львиный (символ могилы или гроба),
а чтобы убедиться, спасет ли его от смерти бог, „принесен был
камень и положен на отверстие рва, а царь запечатал его
перстнем своим и перстнем вельмож своих" (6, 17).
16 Pfleiderer. „Urchristentum", т. I, стр. 598.
194
Это место навело Матфея на мысль не только заградить вход
в гроб Иисуса большим камнем, но и запечатать его печатью перво-
священников и фарисеев.
Последней деталью исчерпывается содержание евангельского мифа
или мифов о последнем акте трагедии на Голгофе. Как видим и
здесь пред нами обычная картина: мифы, извеянные ветхим заветом,
созданные из его материала с присоединением сюда еще отражения
некоторых моментов из общинной жизни христиан, их взаимоотношений
с правоверными иудеями.
195
13*
XI. ВОСКРЕСЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ
Итак, распятый и снятый с креста мифическим Иосифом спаси-
тель, — по словам евангелистов, — был погребен в высеченном в скале
гробу — пещере, могильный камень, запечатанный печатью первосвящен-
ников, закрылся гробовым камнем, и для охраны его была поста-
влена ими военная стража.
Что же было дальше?
„По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели,
пришла Мария Магдалина и другая Мария — посмотреть гроб. И вот,
сделалось великое земле-
трясение; ибо ангел го-
сподень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень
от двери гроба и сидел на
нем. Вид его был, как
молния, и одежда его
бела, как снег.
Устрашившись его, сте-
регущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же,
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь; ибо я знаю, что вы
ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал господь. И пойдите
скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предва.
ряет вас в Галилее; там его увидите. Вот, я сказал вам. И,
вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою
побежали возвестить ученикам его".
Дальше Матвей рассказывает о явлении воскресшего этим двум
Мариям, о подкупе первосвященниками воинов, чтобы последние
Оплакивание бога Адониса-Таммуза,
одного из мифических предшествен-
ников Иисуса христа.
196
говорили о своем сне на часах и происшедшей благодаря этому краже
тела Иисуса учениками. „Они, взяв деньги, поступили, как
научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня".
Заканчивается рассказ сообщением о явлении Иисуса одиннадцати
ученикам и его наставлении им (гл. 28).
Мы не будем спрашивать евангелиста, как его двух Марий про-
пустила ко гробу стража. Да и относительно последней заметим,
что эта мифическая деталь является завершением таковой же из
предыдущей главы и была вызвана желанием ранних христиан опро-
вергнуть заверения правоверных евреев, что Иисус не воскресал,
а его тело было просто выкрадено учениками. Матфей здесь
слишком надеется на наивность своих читателей, могущих поверить,
что римские воины могли ссылаться на свой сон на часах, каковой
при римской железной военной дисциплине стоил бы им ни больше,
ни меньше, как голов, безо всякой надежды на прощение.
У Марка, „по прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы итти помазать его
(Иисуса)". Картина с ангелом и его слова почти те же, что у
Матфея. Женщины со страху сначала никому ничего не рассказы-
вают, Иисус является Магдалине, она возвещает о воскресении
„бывшим с ним, плачущим и рыдающим", те не верят, воскресщий
является затем „двум" и „одиннадцати", коим делает наставление
о проповеди и, наконец, возносится на небо" (гл. 16).
Читатель, возможно, счел бы нас слишком придирчивыми к дан-
ному „надежнейшему" евангелисту, если бы мы спросили последнего,
когда его „жены мироносицы" успели купить ароматы, так как
в субботу они этого сделать не могли по случаю праздника, а в
„первый день недели", „по прошествии субботы", т. е. в воскре-
сенье, оказались уже с ароматами у гроба еще до восхода солнца?
Лука такого промаха не делает: у него жены запаслись благо-
вониями еще с пятницы и „в первый же день недели, очень рано,
неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними
некоторые другие". „То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария,
мать Иакова, и друге с ними". У гроба они видят двух ангелов,
которые сообщают им о воскресении Иисуса. Евангелие заканчи-
вается рассказом о явлении Иисуса ученикам и его вознесении (гл. 24).
197
Рассказ четвертого евангелиста, Иоанна, наиболее сложный и
драматический, являющийся переделкой сообщений синоптиков и, по
обыкновению, пропитанный догматикой, а также сильно отличаю-
щийся от них, — мы приводить не будем (гл. 20—21).
Если мы подведем теперь итог или сделаем маленькую сводку
показаний всех четырех евангелистов, то получим следующее: после
трехдневного пребывания во гробе Иисус воскресает из мертвых,
о чем возвещают пришедшим с ароматами женщинам ангелы или
ангел. Доказывать, что мы имеем здесь дело не с историческим
фактом, а только и только с мифом, значило бы ломиться в открытую
дверь. Впрочем, послушаем, что говорит об этом сама теология,
богословие. Один из виднейших западно-европейских теологов,
проф. Г. Гункель, касаясь интересующего нас вопроса, пишет:
„Воскресение из мертвых тесно связано с вознесением на небо
и является противоположностью сошествию в ад; все же эти
мотивы являются исконно - мифологическими представлениями.
Иисус христос, — так учит история религии, — отнюдь не един-
ственное и не первое божественное существо, в чье воскре-
сение из мертвых верили. Наоборот, вера в смерть и вос-
кресение богов была хорошо известна всему Востоку. Мы знаем,
что она существовала в Египте, где была особенно развита, также
в Вавилонии, Сирии, Финикии. На острове Крите показывали, —
конечно, пустую, — могилу Зевса. Воскресение этих богов, по
своему происхождению, представляет собою явление природы,
рассматриваемое как событие из жизни божества: боги
солнца и растительности зимой умирают и снова оживают, воскре-
сают весной. Не может быть никакого сомнения в том, что форма
представления о воскресении божественного существа в раннем хри-
стианстве — та же, что и в тех других религиях, хотя бы содержание
этой веры у учеников Иисуса и сильно отличалось от языческой.
Если мы будем исследовать далее, каким путем это языческое
представление проникло в раннее христианство, то целый ряд самых
веских обстоятельств будет говорить против допущения прямого
заимствования христианами из другой религии; зато здесь не остается
иной возможности, как только признать, что данное представление
о смерти и воскресении христа было навеяно первым ученикам уже
198
самим юдаизмом, иудейской религией. Это не так уж невозможно,
как, быть может, кажется на первый взгляд; так, четвертая (в рус-
ской библии — третья) книга Ездры, хотя и вскольз, говорит о смерти
Христа („после этих лет умрет сын мой христос и все люди, имею-
щие дыхание", 7, 29). Уже в ветхом завете существует целый ряд
таинственных мест, до сих пор не поддающихся истолкованию и гово-
рящих о некоей личности, которая больше Моисея и Иисуса Навина,
предназначается возвратить и восстановить народ израильский, воз-
вестить религию Ягве всем язычникам, больше того, заново устроить
небеса и утвердить землю; эта личность уже появлялась, но осталась
неузнанной; она претерпела позорную смерть, но воскреснет к пред-
назначенной ей славе. Все эти места можно объяснить только
тем, что в основе их таится, кроется фигура умирающего
и воскресающего бога, которую иудейство переделало на свой
лад, истолковало в качестве великого пророка Ягве и наделило
чертами, заимствованными из судеб Израиля..."
Прервем эти слова теолога замечанием, что он, говоря о таин-
ственной личности ветхого завета, в коей скрывается языческий
образ умирающего и воскресающего божества, и указывая при этом
на 49, 6—8; 51, 16 и 53 главы Исайи, тем самым отсылает нас
к знакомой уже личности пресловутого „раба божия" и „праведника",
чья „история" дала главный материал для выработки мифа о стра-
даниях и смерти христианского спасителя. Это нам следует хоро-
шенько запомнить.
„И вот, — продолжает он, — отнюдь не было случайностью то, что
община Иисуса ссылалась как раз на эти предсказания... Что эта вера
в умирающего и воскресающего христа ко времени Иисуса не существо-
вала в оффициальной иудейской религии, — это известно. Однако, это
не мешает нам допустить, что такая вера в такого христа —
мессию существовала в некоторых тайных кружках (сектах).
Далее, есть целый ряд обстоятельств, подтверждающих такое
предположение. Одним из них является, прежде всего, хронологи-
ческие данные или показание о воскресении Иисуса.
Первая пасхальная весть, весть о воскресении Иисуса, — читаем
мы в евангелиях, — разнеслась рано утром пасхального дня, при
восходе солнца (Матф., 28, 1; Марк, 16, 1—2; Лука, 24, 1).
199
Здесь, — можно думать, — даже тот, кто обычно не интересуется исто-
рией религии, будет озадачен и спросит: является ли простой
случайностью утверждение, что Иисус воскрес как раз в тот
особо-выдающийся календарный день, в то священное воскре-
сенье — день солнца, когда солнце воскресает, пробуждается
от зимней ночи? Не следует ли допустить, что эта идея о вос-
стании, воскресении умершего бога была уже задолго до того свя-
зана с этим календарным днем? Это совпадение христианской
даты с хорошо известным древневосточным днем воскресе-
ния солнечного божества — столь поразительно, что вывод
о заимствовании этого дня христианами не подлежит ни
малейшему оспариванию.
А если христианами была заимствована дата воскресе-
ния своего спасителя, то, конечно, ими было заимствовано
также и самое представление или идея воскресения Иисуса.
Мы пойдем еще дальше, если обратим внимание на то, что
в новозаветных писаниях постоянно фигурирует число „после трех
дней" или его вариант — „на третий день".
Какое значение складывающаяся христианская община придавала
этому числу, видно из того, что оно встречается или повторяется
неоднократно; еще апостол Павел в знаменитой 15 главе первого
послания к коринфянам говорит, что христос воскрес в третий день
по писанию („Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,
т. е., что христос умер за грехи наши, по писанию, и что он
погребен был, и что воскрес в третий день, по писанию," ст. 3—4);
больше того, это число фигурирует даже в „символе веры" (и „вос-
кресшего в третий день по писанию"). Что привело христиан
к мысли придать этому числу такое большое значение? Новозавет-
ная эпоха на этот вопрос отвечает так: это число было особо отме-
чено и узаконено потому, что оно было предсказано ветхозавет-
ными пророчествами.
Однако в настоящее время общеизвестно, что таковых проро-
честв в ветхом завете нет и что они только впоследствии
были вычитаны оттуда..."
Здесь Г. Гункель отсылает нас к книгам пророков Ионы и Осии,
из которых у последнего читаем такие слова Ягве:
200
„В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и гово-
рить: „пойдем и возвратимся к господу, ибо он уязвил — и он исце-
лит нас, поразил — и перевяжет наши раны. Оживит нас через
два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить
пред лицем его" (6, 1—2).
„В писании, — пишет далее названный теолог, — такие пророчества
о воскресении Иисуса после трех дней с момента смерти могли
быть найдены только тогда, когда самое число „три дня" для
воскресения Иисуса уже было заимствовано откуда-то, из другого
источника.
Откуда же это число было заимствовано христианами
и почему ему было придано такое большое значение? Ведь, —
даже по словам самих евангелий, — никто не был очевидцем воскре-
сения Иисуса. Заметьте далее, что самое число сообщается нам
в двух вариантах: „после трех дней" и „в третий день". Послед-
нее указание — „в третий день" совпадает с хронологией евангель-
ской истории, согласно коей Иисус умер накануне субботы и воскрес
на следующий за субботою день. Итак, откуда взято число „после
трех дней", не совсем согласующееся с датами евангелий?
Здесь может быть только один ответ: воскресение после трех
дней является догмой, которую христианская первообщина
заимствовала и которую можно объяснить только влиянием
другой религии (курсив его).
Число — „три дня" нам хорошо известно из других преданий.
Три дня пребывает Иона во чреве рыбы (в русской библии —
„кита"). Эта деталь рассказа об Ионе, к которой у нас есть ряд
параллелей, своим первоисточником имеет миф о солнечном боге,
поглощаемом на три момента времени морским чудовищем 1. В книге
пророка Даниила „три с половиною времени" является числом, когда
зло господствует на земле, временем „опустошительного нечестия"
(8, 13 сл.; 9, 27; 12, 117); „опустошительное нечестие" является
таинственным именованием чудовища хаоса, которое тоже, — согласно
1 Миф о Ионе со многими параллельными мотивами, в том числе и хри-
стианскими, хорошо разобран в книге Н. Shmidt. „Iona", 1907. См. также
фундаментальное исследование о символике и мифологии рыбы. F. Dö1ger.
„Ichthys", т. II. „Der Heilige Fisch", стр. 30, 260, 1922 г.
201
этому преданию, — проявляет свои жестокости на земле в течение
трех с половиной времен, периодов...
Во всех этих случаях мы имеем дело с родственными преданиями:
три или, вернее, три с половиной является тем временем, когда
властвует злое начало, время злодеяния и смерти, когда еще скрытно,
втайне выростает благое начало, когда последнее кажется поглощен-
ным злым началом, пока оно не воскресает и не побеждает злое
начало. Во многих этих случаях ясно заметно, что это число заим-
ствовано из жизни солнечного божества, это — время господства
зимы. И вот, здесь-то кроется ключ к объяснению стран-
ного числа — трех дней воскресения Иисуса; и это объяснение
опять-таки приводит нас к тому, что еще до Иисуса
в иудео-синкретических кругах существовала вера в смерть
и воскресение христа" 2.
Так сама теология устами, правда, наиболее либерального своего
представителя, проф. Гункеля, отвечает на наш вопрос о сущности
евангельских рассказов о воскресении Иисуса. Что же она говорит нам?
Соответствующие рассказы евангелий являются мифами, а не
историей. Последние, как и их основная идея — смерти и воскресе-
ния спасителя существовали еще задолго до начала христианства
и ранними христианами были просто заимствованы из мира языче-
ских религий чрез посредство юдаизма, в юдаизованной форме.
Больше того, оттуда же христианами была заимствована даже такая
деталь, как дата смерти и воскресения Иисуса, а также самое число
„трех" дней пребывания его во гробе. При чем все эти мотивы,
почерпнутые из мифов о солнечном божестве и выводимые в „исто-
рии" христианского спасителя, придают ему самому солнечный харак-
тер и вводят его в великую семью древневосточных умирающих
и воскресающих спасителей. Наконец, оказывается, что тот таин-
ственный ветхозаветный „раб божий" книги Исайи, он же „правед-
ник" книги Премудрости Соломона и невинный распинаемый „стра-
далец" 21 псалма, с чьей истории списаны самые решающие моменты
евангельской биографии Иисуса, представляет собою только юдаизо-
2 Н. Gunkel. „Zum religionsgesch. Verständnis des Neuen Testaments",
стр. 77—82; 2 изд., 1910 г.
202
ванный образ тех же древневосточных языческих спасителей. Таким
образом, чрез посредство этого распинаемого и воскресающего „раба
божия" евангельский герой опять-таки связывается с теми спаси-
телями.
Раз это так, то самый ход вещей заставляет нас обратиться
к первоисточникам разбираемого евангельского мифа, т. е. к древне-
восточным религиям, и посмотреть, что же в них рассказывалось
об их „спасителях", какие идеи и прочее связывались с образами
последних? Гункель указывает нам на религии Египта, Вавилонии
Сирии и Финикии, поэтому обратимся к рассмотрению их 3.
В Египте, где центральным моментом всей религии была идея
загробной жизни, умирающим и воскресающим божеством был Озирис.
Мы не будем приводить всей мифологии последнего, скажем только,
что этот „богочеловек" во время своей мифической земной жизни,
бывший благодетелем человечества, возбудил к себе ненависть своего
брата, коварного Сета. Последний хитростью заманил его к себе,
зверски умертвил и бросил ящик с телом в реку. Сестра — жена
погибшего, богиня Изида, с которой он еще во чреве матери всту-
пил в супружескую связь, узнает роковую весть и плача ищет доро-
гие останки. Она находит их, но Сет случайно наталкивается на
них, разрезает труп на 14 частей и разбрасывает по лицу земли.
Неутешная Изида отправляется в новые поиски, постепенно находит
почти все части растерзанного божества, складывает их одну к другой.
Затем разыгрывается последний акт этой божественной драмы. Изида
со своей сестрой — богиней Нефтис становятся у головы и ног
Озириса и совершают над ним погребальный плач, оплакивают
умершего. Вместе с этим они произносят над ним также волшеб-
ные заклинания, в чем им помогает бог — чаровник Тот; части тела стра-
дальца начинают проникаться жизнью и он... воскресает. Но вос-
кресший не желает больше жить на земле, где брат ненавидит брата,
3 О религиях всех этих стран на русском языке см. хотя-бы труды:
Шантепи-де-ля Сосей. „История религий", 2 т., изд. „Вестника
знания" (есть и другие издания).
М. Брикнер. „Страдающий бог в религиях древнего мира", 1909 г.
(переизд. „Красною Новью", 1923 г.).
Н. Кун. „Предшественники христианства", 1922 г.
203
где зло побеждает добро; он избирает местопребыванием себе под-
земное царство и делается там верховным судьей усопших.
Такова суть общераспространенного египетского мифа об Ози-
рисе. Основная идея его — страдания, смерть и воскресение боже-
ства — служила центральным моментом соответствующих праздников.
Главный из них, игравший в египетской религии и календаре ту же
роль, что у христиан — пасха, падал на месяц Атир — ноябрь, когда
в Египте начиналась пора полевых работ 4. Продолжался он несколько
дней. Первые, „страстные", дни носили мрачный и скорбный харак-
тер: вспоминалась трагическая участь „спасителя". 17 число было
одним из двух центральных моментов празднества, так как на него
падала смерть божества. Затем жрецы в лицах изображали даль-
нейшую судьбу божества. С плачем ходит Изида и отыскивает
части своего супруга, находит их, складывает вместе. Далее сле-
дует погребение „обретенного". Около плащаницы Озириса, т. е. гроба
с лежащей в нем статуей спасителя, покрытой погребальными пеле-
нами, Изида и Нефтис совершают оплакивание, причитают над ним,
умоляя усопшего вернуться к жизни.
„Приди в дом твой! — взывает Изида. — Твоих врагов здесь нет.
Приди в дом твой! Взгляни на меня. Это я, сестра твоя, которую
ты любишь, не отстраняйся от меня. Приди сейчас в дом твой!
Когда я не вижу тебя, сердце мое скорбит о тебе, очи мои ищут
тебя, я мечусь во все стороны, чтобы увидеть тебя. Приди к той,
которая любит тебя, приди к сестре твоей, приди к жене твоей;
о, ты, чье сердце более не бьется, приди в дом твой; я сестра
твоя, рожденная матерью твоею, не удаляйся от меня; боги и люди
все вместе оплакивают тебя; а я, я призываю тебя и плач мой
достигает до неба... Ты не слушаешь голоса моего? Это я, сестра
твоя, которую ты любил на земле, и ты никого не любишь больше,
чем меня". Таков же плач и сестры Озириса — Нефтис 5.
Оплаканный богинями — женщинами, умерщвленный спаситель
погребен.
На третий день после его смерти и погребения, 19 числа,
наступает второй центральный момент праздника — воскресение
4 См. J. Frazer. „Le rameau d'or", т. III, стр. 165—185, 1911 г.
5 А. Море. „Цари и боги Египта", стр. 94—95,1914 г.
204
спасителя. Для этого над статуей Озириса совершался ряд вол-
шебных заклинаний и действий, подобных тому, что в свое время
проделала Изида над телом брата и мужа. В некоторых местах
праздник заканчивался „Воздвижением столба Озириса", в каковом
видели позвоночный столб последнего. Посредством особых приспо-
соблений столб поднимался и ставился стоймя, символизируя этим
„ восстание " — воскресение божества.
Эту же идею смерти и воскресения Озириса жрецы выражали
наглядно самым различным образом. Наиболее распространенным
и характерным был следующий:
Жрецы брали смоченную землю, смешивали ее ладаном, хлебными
зернами и благовониями, лепили из этой массы фигуру божества и
Воскрешение египетского спасителя Озириса. Бог волшебства Тот
производит заклинания, у ног Озириса — плащаницы оплакивает его
сестра — жена, богиня Изида, у изголовья — то же самое делает другая
сестра его — богиня Нефтис. Праздник смерти и воскресения Озириса
был для египтян „пасхой".
полагали ее в гроб, при чем неоднократно потом поливали из свя-
щенного сосуда. Когда зерна проростали, получались очертания
фигуры человека, и в этом видели символ воскресения божества.
Итак, египетский спаситель воскресает на третий день.
Аналогичный вышеприведенному праздник впоследствии торже-
ственно справлялся в 16 главных городах Египта в 13—20 числах
месяца Хойака, в декабре, около момента зимнего солнцестояния
205
что объясняется смешением, слиянием воедино образов и праздни-
ков двух умирающих и воскресающих египетских божеств — расти-
тельно-лунного Озириса и солнечного Ра 6.
Оставляя в стороне интересный вопрос о том, как разбираемый
нами мотив из мифов об Озирисе выражался еще в ежедневном
богослужении египетских храмов, мы несколько остановимся на зна-
чении идеи его смерти и воскресения.
Во-первых, Озирис чрез свою мученическую смерть, по воззре-
ниям египтян, сделался „искупителем богов и людей". Постепенно
весь круг богов, так или иначе связанных с ним, начинает приобре-
тать все его черты: им приписываются смерть и растерзание Сетом,
а также воскресение. Плутарх, написавший целое исследование об
Озирисе, сообщает: „Жрецы Египта говорят не об одном Озирисе,
а и обо всех богах вообще, что тела их покоятся среди них, погре-
бенные и окруженные почитанием, и что души их суть блестящие
светила на небе" 7.
Во-вторых, смерть и воскресение египетского спасителя являлись
залогом бессмертия и для людей. Этим можно объяснить ту гро-
мадную роль, какую он играл в погребальных обрядах и молитвах
египтян.
Не даром он считался богом усопших по преимуществу и судьей
в подземном царстве; каждый покойник назывался Озирисом, он
как бы сливался с последним. Вот почему день поминовения
„страстей" Озириса был для всех египтян одновременно и днем
поминовения своих покойников, так сказать, египетской Радуницей.
Посему иногда труп человека при похоронах осыпался зернами
пшеницы или ячменя, которые своим проростанием как бы помогали
усопшему воскреснуть.
Найдены даже могилы, где труп покойника разрезан на части,
подобно Озирису, чтобы таким образом еще более уподобить его
последнему, так как в этом уподоблении лежал залог спасения
и воскресения для человека. „Как жив Озирис, так и он будет
6 A. Wiedemann. „Die Religion der alten Aegypter", стр. 112, 1890 г.
7 Плутарх. „Об Изиде и Озирисе", 21 (пользуемся прекрасным
польским переводом А. Немоевского в его „Mysi Niepodlegla", №№ 209—214).
206
жив; как не умер Озирис, так и он не умрет; как не погиб Озирис,
так и он не погибнет", — читаем мы в надписях пирамид 8.
Когда произошло тесное сближение Востока и Запада благодаря
развившимся торговым сношениям, религия Озириса, подвергшаяся
Плащаница — гроб египетского спасителя Озириса, бога зерна, нивы
и луны. Первая сторона его выявляется здесь так, что из тела умер-
шего божества выростают колосья, для ускорения роста коих произ-
водится возлияние — поливка из священного сосуда. Зерно бросается,
сеется в землю — Озирис погребается, зерно проростает — Озирис
воскресает. Судьба зерна — судьба растительного божества. Самая
плащаница, как и священный сосуд, украшены крестами — символом
жизни. Этот египетский крест отчасти повлиял на выработку соответ-
ствующего христианского символа. Один из источников креста вообще
была свастика — крестообразный инструмент для добывания огня
путем трения, сверления деревянной палочкой.
влиянию других и потому переработанная, вышла за пределы страны
пирамид и скоро завоевала себе почти весь тогдашний мир. Сам
8 Д. Брэстед. „История Египта", т. I, стр. 69, 1915 г.
207
спаситель отныне стал выступать под новым именем Сераписа и
в роли бога-целителя 9; особо-выдающееся место заняла богиня
Изида, и самая религия их превратилась в „таинства — мистерии",
доступные только для некоторых, „посвященных — мистов" 10. В таком
виде мы видим их, например, в начале нашей эры на территории
Римской империи вообще, в самом Риме в особенности. Мы не
можем останавливаться на целом ряде моментов этих таинств еги-
петского спасителя, попавших в христианство, например, на их
богослужении, — заутрене, обедне и вечерне, повлиявших на выработку
таковых же в христианстве, или хотя бы на кресте — символе жизни,
скажем только, что и здесь, в позднейшей форме религии Озириса-
Сераписа, центральным моментом были миф и идея его смерти
и воскресения, а также соответствующий праздник — египетские
страстные дни и пасха с их смертью божества, скорбью Изиды,
поисками и обретением трупа, его оплакиванием и погребением,
трехдневным пребыванием спасителя во гробе и, наконец, его славным
воскресением. Подводя итог сказанному, мы можем повторить только
слова французского ученого А. Море, что „Озирис, претерпев смерть,
рассекновение и погребение в земле, умерщвлял себя во всеобщее
спасение, становился Искупителем. Преисполненный покорной
решимости и веры, он указал человечеству стезю (путь) благой
смерти" 11.
Таков египетский страдающий, умирающий, оплакиваемый жен-
щинами и на третий день воскресающий спаситель, искупитель
Озирис — Серапис.
Перейдем теперь к указываемой Гункелем Вавилонии, — „стране
бывшего рая". Здесь роль такого же божества играл в древности
9 О Сераписе см. статью в словаре Rоsсher. „Ausführliche Lexikon
der griech. und röm, Mythologie", т. IV, кол. 338—382.
Также К. Sethe. „Sarapis und die cogenannte Katochoi des Sarapis",
1913.
O. Weinreich. „Neue Urkunde zur Sarapis Religion", 1919.
H. Кун. Назв. соч., стр. 88—111.
10 О посвящении в эти таинства см. оригинальную работу:
М. Dibelius. „Die Isisweihe bei Apuleius und verwandte Initiations
Riten", 1917.
11 А. Море. Назв. соч. стр. 122—123.
208
Таммуз. К сожалению, до нас не дошло связного и подробного
содержания его мифов, каковых было несколько и притом различных.
Наиболее известный из них, приблизительно, таков. Сын бога
морской пучины — Таммуз, красавец пастух, привлекает к себе взоры
богини любви и красоты Иштар. Последняя делается его возлюблен-
ной, но смерть среди лета уносит его. Неутешная богиня отпра-
вляется в подземное царство достать „живой воды", с помощью
ее воскресить любимца, вывести его оттуда. После всяческих му-
чений и оскорблений богиня добивается своего, и Таммуз воскре-
сает. В прелестной поэме „Сошествие Иштар в ад", где описы-
вается, что претерпела богиня — прототип сходящей в ад христиан-
ской богородицы, — находится намек на установление ею соответ-
ствующего праздника:
„В дни Таммуза играйте на лазоревой флейте,
На порфирном тимпане с ним мне играйте,
С ним мне играйте, певцы и певицы,
Мертвецы да восходят, да вдыхают куренья" 12.
Из других мифов можно думать, что причиной смерти Таммуза
была страстная любовь богини, или же он был смертельно ранен
на охоте вепрем — кабаном 13. Наконец, В. Шилейко приводит еще
один вариант: Таммуз 25 марта чудесно зачинается в момент
сцены благовещения богиней Иштар, рождается ею 25 декабря
и бросается в воду, утопляется, при чем попадает во власть адской
владычице. Затем мать сходит в ад и, по решению богов, Таммуз
должен полгода проводить в подземном царстве и полгода, воскре-
сая в конце марта, — у Иштар.
Таким образом, он является одновременно сыном и возлюблен-
ным богини.
В силу древнего обычая выявить ту или иную идею в праздне-
ствах и обрядах, смерть и воскресение Таммуза ежегодно чествова-
лись торжественными праздниками. В конце лета или начале осени,
12 Приводим в переводе В. Шилейко из журнала „Восток", № кн. 1,
1922 г., где дана вся поэма, стр. 7—14. В этом же номере его оригиналь-
ная статья „Родная старина", стр. 80—81, посвященная вавилонскому празд-
нику Благовещения Иштар и обычаю выпускать в этот день на волю птиц.
13 См. словарь Roscher под словом „Tamuz", т. V, кол. 46—72.
209 14
Пасхальная мифология
в месяце, носящем имя самого божества (Таммузе — июне), праздно-
вались „страсти", мучительная смерть спасителя. Как протекал
самый праздник, из вавилонских памятников хорошо не видно.
Несомненно, изображалась картина смерти Таммуза, неутешная
скорбь и плач его возлюбленной и матери. Пред верующими
выставлялась плащаница — гроб спасителя, и над ним пелись, при-
читались женщинами те скорбные гимны, большое количество которых
дошло до нас 14.
Впрочем, все это, как и другая сторона праздника — воскресение
Таммуза, нам еще встретится и выступит яснее дальше, а теперь за-
метим, что в самой Вавилонии весенний праздник воскресения его
слился с таковым же в честь другого спасителя — Мардука. Последний,
верховный бог столичного города, божество весеннего солнца, избрав-
ший своей излюбленной специальностью воскрешение мертвых, тоже
умирал и воскресал. Зимою справлялась его смерть, оплакивание
и погребение, почему он носил прозвище „бога погребального
плача".
Главный праздник Загмуку, бывший в то же время и ново-
годним, был посвящен славному воскресению Мардука из мертвых
и падал на момент весеннего равноденствия, конец марта, т. е.,
приблизительно, на время христианской пасхи. Загмуку охватывал
первые одиннадцать дней месяца нисана, соответствовавшего второй
половине март а иначалу апреля, и происходил приблизительно так:
Изображения Мардука и его супруги в торжественной процессии
везлись из главного храма в особый храм — „палату судеб". В этом
„выезде" божества видели его воскресение, возвращение из-под
земного царства. В „палату судеб" съезжались, свозились и прочие
главные боги. Затем происходило торжественное заседание богов.
Бог зимнего солнца передавал власть божеству весеннего солнца —
Мардуку, далее под председательством последнего решались и наме-
чались судьбы нового года. В эти же дни происходило и брако-
сочетание воскресшего спасителя со своей божественной супру-
14 См. хотя бы гимны в сборнике „Древний мир в памятниках его пись-
менности", ч. I. „Восток", 1915 г. Много „плачей" и гимнов приведено у
Н. Zimmern. „Babylonische Hymnen und Gebete". Zweite Auswahl, 1911.
210
гой — Сарпаниту. После этого боги возвращались обратно в свои
храмы 15.
В чем заключалось самое богослужение этого праздника?
Ранее предполагали, что оно протекало в чтении песен о победе
Мардука над первобытным водным чудовищем Тиамат и сотворении
им мира, при чем все это разыгрывалось жрецами в виде священной
драмы. Однако, в последнее время найдено, что содержание празд-
ника было гораздо сложнее и многообразнее.
Одну из сторон его, культовую и богослужебную, выявляет нам
недавно опубликованный проф. Г. Циммерном вавилонский текст,
посвященный как раз „пасхальному" ритуалу в честь воскресшего
Мардука, называемого здесь также Белом. Правда, не все здесь
ясно, но смысл текста уловить можно.
„Это Бел (Мардук), — читаем там, — когда он удерживается
в скале. Это дом на краю скалы, внутри которого допрашивают
его. Это раны, которыми он изранен, сочатся его кровью. Это
тогда, когда он вступает в скалу. Это голова преступника,
которого уводят с ним и затем умерщвляют. После того, как
Бел вошел в скалу, город из-за этого приходит в смятение
и в нем начинается борьба. Это его одежды, которые уносятся...
Вот почему она (богиня) своей рукой смывает кровь сердца,
которую пролили. В темницу, прочь от солнца и света, заставили
его спуститься. Это его стражи, их поставили над ним, они
стерегут его. Это там, где ищут Бела: где он томится? Это
дверь гроба, она (т. е. богиня) входит туда, она ищет его.
Она взывает: о, мой брат, о, мой брат! И вот происходит затем
то..., что он снова выходит из внутренности скалы" 16.
Если мы внимательно вчитаемся в данный текст, к сожалению,
дошедший до нас в неполном, поврежденном виде, то увидим, что
в нем рисуются „страсти" и славный выход из гроба, воскресенье
Мардука, удивительно напоминающие соответствующие евангельские
15 Н. Никольский. „Древний Вавилон", стр. 271, 1913 г.
Н. Zimmern. „Zum Streit um die „Christusmythe", стр. 46—48,
1910 г.
16 N. Zimmern. „Zum babyl. Neujahrsfest", II, 1918 г. Мы текст
заимствуем из книги: Jon. Jeremias. „Der Gottesberg", стр. 151, 1919 г.
211
14*
мифы. Действительно, мы видим здесь, что Мардук подвергается
истязаниям, с него снимаются одежды, он погребается в гробу-
пещере в скале, вход куда охраняется стражей; умерщвленного и
погребенного спасителя ищет „она", т. е. богиня, скорбит по нем.
Наконец, он выходит из своего скалистого гроба, воскресает. Ана-
логия с евангельской историей поразительна. Мало того, из текста
можно заключить, что роль умирающего Мардука заставляли играть
преступника, которого умерщвляли и, вероятно, погребали в той же
пещере. Все это заставляет думать, что мы имеем пред собой следы
той религиозной драмы, драматического богослужения вавилонских
страстной седьмицы и пасхи, когда разыгрывалась в лицах судьба
умерщвляемого, погребаемого в пещере и воскресающего спасителя.
К сожалению, недостаток места не позволяет нам дальше оста-
навливаться на этой стороне вавилонского праздника, где мы имеем
ключ к целому ряду евангельских страстных мотивов, напр., к изде-
вательствам воинов над „царем иудейским", мифической личности
„преступника" Вараввы или к мотиву распятия Иисуса, так как из
других источников нам известно, что преступник, олицетворявший
Мардука, умерщвлялся чрез распятие на кресте — повешение 17.
Таков праздник воскресения Мардука. Выше мы говорили, что
данный праздник поглотил собою такой же в честь воскресшего
Таммуза. Последнее объясняется тем, что благодаря целому ряду
политических причин, например, возвышению города Вавилона, и
работе вавилонской богословской мысли, оба спасителя — Таммуз и
Мардук слились в один образ.
„С течением времени, — говорит наш исследователь Н. Николь-
ский, — жрецы Мардука стали распространять такой взгляд, что Мар-
дук и Таммуз — в сущности одно и то же божество, только чтут его
под разным названиями. Осенний бог — Таммуз, весенний бог — Мар-
дук; но и осенью и весною под этими именами чтится одно и то же
божество; когда вспоминают его страдания и смерть, то называют
его Таммузом, когда же празднуют его радостное воскресение, то
17 Fraze г. „Le rameau d'or", т. III, стр. 385—455.
S. Reinach. „Le roi supplicie".
А. Древc. „Миф о христе", т. I, стр. 34—37.
Н. Zimmern. „Zum Streit", стр. 38—40.
212
называют его Мардуком. Точно так же и Иштар часто стали называть
супругой Мардука" 18.
Таким образом, объединяя воедино черты этих двух божеств, а
также их мифы и праздники, мы получаем в итоге личность вави-
лонского спасителя, который умирает мучительной смертью, распи-
нается, погребается в гробу-пещере, охраняется там стражей, разы-
скивается своей супругой — матерью, оплакивается ею и выходит
оттуда, воскресает, при чем все это является содержанием празднеств,
целиком соответствующих христианским страстной седьмице и пасхе.
Переходим теперь к третьей, указываемой Гункелем, стране —
Финикии, где умирающим и воскресающим спасителем был
Адонис.
Адонис является простой местной разновидностью того же вави-
лонского Таммуза и имя его, собственно, прозвище в переводе зна-
чит „господь". Поэтому нисколько неудивительно, если в мифах о
нем и празднествах мы встретим знакомую нам картину. Больше
того, они позволяют нам еще лучше и полнее ознакомиться с обра-
зом того вавилонского спасителя.
Согласно наиболее распространенному мифу, красавец Адонис,
страстный охотник, делается возлюбленным богини Афродиты —
Астарты — Иштар. Тщетно последняя, как бы предчувствуя своим
любящим сердцем грядущую беду, умоляет его не ходить на охоту.
Однажды юноша охотился в горах Ливана; дикий кабан, насланный
ревнимым богом Аресом или сам Арес, превратившийся в него, на-
пал на Адониса и нанес ему смертельную рану. Совершается чудо:
из крови умирающего красавца выростает цветы — анемоны, а сосед-
няя река багровеет от нее. До богини доносится роковая весть,
стонами и воплями неутешного горя наполняет она леса и долы,
бросается на труп дорогого покойника, плачет над ним. В память
этого в той местности был установлен культ Адониса 19.
Здесь, в мифе, мы не видим указания на дальнейшую судьбу
Адониса. Но вот, что пишет греческий писатель Лукиан (II в. нашей
18 Н. Никольский. Назв. соч., стр. 271—272.
19 Лучшие труды: Frazer. „Adonis" 1921 (самостоятельный том с посл.
англ. изд. „The golden Bough").
Сh. Vеllау. „Le culte et les fetes d'Adonis—Thammouz", 1904 г.
213
эры) в одном из своих произведений, посвященном как рза возлю-
бленной божества, богине Афродите-Астарте:
„В Библе я видел великое святилище Афродиты Библосскои,
в которой справляются оргии (празднества) в честь Адониса. Я по-
знакомился и с ними. Говорят, что оргии эти установлены в честь
Адониса, раненого в этой стране вепрем; в память об его страда-
ниях местные жители ежегодно подвергают себя истязаниям, опла-
кивают Адониса и справляют оргии, а по всей стране распростра-
няется великая печаль. Затем, прекратив удары и плачи, они при-
носят жертву Адонису, как умершему. На следующий день они
рассказывают, что он жив и удалился на небо" 20, т. е. воскрес.
Немного далее у него же читаем:
„В стране Библа есть еще и другое чудо: это река, текущая
с Ливанских гор в море. Имя ее — Адонис. Каждый год она ме-
няет свой цвет, делаясь кровавой. Впадая в море, она окрашивает
его на далекое пространство и тем указывает библосуам время вели-
кой печали.
Рассказывают, что в эти дни на Ливане уязвляется Адонис и
что его кровь, стекая в реку, меняет ее цвет".
Из этих двух сообщений мы ясно видим, что у жителей назван-
ной местности существовала идея не только смерти и воскресения
„господа", но и что и эта божественная трагедия совершается еже-
годно, ежегодно льется кровь спасителя и, значит, ежегодно он
воскресает.
Действительно, что идея существовала, была даже очень распро-
странена и наиболее ярко выявлялась в тех многообразных праздне-
ствах, кои были посвящены трагической судьбе „господа". Мы
сказали — „многообразных", так как, вследствие широкого распро-
странения культа, в различных местах праздники видоизменялись, но
общее у всех их было то, что главным моментом являлись сначала
оплакивание умершего господа, а затем радость по случаю его
воскресения.
Лукиан и ряд других древних авторов позволяют нам нарисо-
вать приблизительную картину того, как справлялось празднество
20 Лукиан, т. I, стр. 293; 1915 г. (изд. Сабашникова).
214
в своей древнейшей форме в городе Библосе, на исконной родине
этого культа.
Когда побагровевшие, якобы, от крови убитого Адониса воды реки
того же имени возвещали о роковом исходе охоты, в городе начи-
нался траур. Стоны, вопли и сетования неслись к небу. Женщины
с распущенными волосами, терзая свою грудь, носились по улицам,
как бы искали Адониса и жалобно причитали: „увы, господи! увы,
господи!" Семь дней длился траур; всем, чем было только
можно, старались проявить свою
скорбь: по целым ночам жен-
щины рыдали на пороге своих
жилищ или у стен храмов, пре-
кращались супружеские сноше-
ния, устанавливался строгий
пост. Вместе с тем соверша-
лись различные обряды. Каж-
дый день жрецы под звуки флейт
совершали погребальные и по-
хоронные танцы. В эти дни
в храмах выставлялись осо-
бые погребальные ложа, на ко-
торых лежали изображения уме-
ршего господа, — плащаницы.
Каждый „гроб господень" —
плащаница украшался цветами,
статуя спасителя омывалась, ума-
щалась и овивалась в погре-
бальные пелены. В то же
время, путем религиозного представления, воспроизводились все
моменты последних дней жизни господа: его охота, нападение ка-
бана, смерть, поиски, скорбь, плач Афродиты и пр.
Наконец, в последний день страстной седьмицы Адонису, как
умершему, приносились соответствующие жертвы и происходило
с особой торжественностью его погребение. Громадная толпа народа,
с плакальщицами и жрецами впереди, с пением похоронных молитв и
гимнов провожала плащаницу — гроб со статуей спасителя в предна-
Финикийский „спаситель" Адонис, имя
коего значит „господь". Чудесно за-
чатый и рожденный девою, он во
цвете лет умирает мучительной смерью,
но воскресает и делается „искупите-
лем смертных". Его весенний празд-
ник — „адонии", когда на поклонение
верующим выставлялась его „плаща-
ница", послужил, между прочим, перво-
образом и источником христианской
„пасхи". В своей первооснове он —
божество растительности, позднее —
солнца.
215
значенную для него могилу-пещеру 21. Плач и рыдания достигали
своей высшей степени, когда, после положения туда господа, закры-
вался могильный вход.
Так заканчивалась страстная седьмица — господь погребен и пре-
бывает в гробу-пещере.
На следующий, восьмой, день происходило „чудо", о котором
сообщает Лукиан: „каждый год из Египта в Библ прибывает голова,
плывущая по морю в течение семи дней. Ветры сами направляют
ее в чудесном плавании. На своем пути она никогда не сворачи-
вает в сторону и приплывает прямо в Библ".
Это известие пополняется сообщением христианского писателя
Кирилла Александрийского, что ежегодно жители его города, еги-
петской Александрии, посылали в осмоленной кружке по морю
письмо женщины города Библа. Когда последние получали его.
скорбь сменялась радостью, печаль — ликованием: „мы обрели его, мы
радуемся".
„Эта голова или кружка, — говорит исследователь Ш. Вэллей, —
полученная верующими города Библа, являлась для них символом
воскресшего бога: траур заканчивался и уступал место радости по
случаю воскресения господа" 22.
Насколько глубока была скорбь и печаль предыдущих дней, на-
столько сильна теперь радость и веселие.
Верующие при встрече друг с другом делились радостной
вестью: „Адонис-господь воскрес!" 23, а в воздухе слышались
торжественные гимны в честь победы его над силами смерти.
„Каждый год они справляли праздник в честь его (Адониса),
в течение которого женщины оплакивают его как умершего, а за-
тем воспевают и славословят, как воскресшего", — говорит отец
церкви Иероним 24.
21 P. Saintyvcs. „Les grottes", стр. 171, 1918 (лучшее исследование по
вопросу о роли пещер в мифах и обрядах рождения и смерти спасителей
в том числе и Христа).
22 Vеllау. Назв. соч., стр. 125.
23 Vеllеау. Назв. соч., стр. 180.
24 Иероним — „Толкование на прор. Иезекииля", кн. Ш.
216
Думается, лучшей тожественности христианской страстной седьмице
и пасхе трудно подыскать. В заключение приведем еще одну деталь
Адонисий — финикийской пасхи.
Культ Адониса из Финикии рано распространился по всему
древнему миру, особенно по Азии, Греции и Египпу. В последних
мы находим характерную подробность разбираемого праздника, так
наз. „садики Адониса". Это были горшечки или корзиночки, на-
полненные сырой землей. Туда сеяли быстро проростающие зерна
ячменя и пшеницы, которые за восемь дней
праздника успевали прорости, превратиться
в зелень и увянуть. Часто в зелень этих
„садиков" помещалось маленькое восковое
или глиняное изображение господа.
Все это в течение праздничных дней
выставлялось на крышах и перед дверьми
домов, носилось в процессиях, а в мо-
мент погребения спасителя бросалось в
источники. Вряд ли стоит объяснять, что
эти „садики" с быстро проростающей и
увядающей зеленью символи зировали судьбу
Адониса и по идее были аналогичны еги-
петскому обычаю хоронить и проращивать сделанное из земли и
зерен изображение Озириса. Заметим кстати, что обычай приго-
товлять такие садики сохранился до сих пор у христиан, особенно
на острове Сицилии, да и у нас в России, где пишущий эти строки
еще несколько лет тому назад видел „садик Адониса" на пасхаль-
ном столе одного из своих ленинградских знакомых.
Таковы смерть и воскресение финикийского „господа" — Адониса,
его страстная седьмица и пасха, когда верующие в него встречают
друг друга радостной вестью-приветствием — „Адонис воскрес!" Тем
самым мы нашли детали соответствующих моментов также из культа
вавилонского Таммуза, который, — как было сказано, — является в сущ-
ности тем же Адонисом и наоборот. Для подтверждения этого
сошлемся хотя бы из слова того же Иеронима:
„Тот, кого мы называем Адонисом, евреи и сирийцы (вернее,
ассирийцы-вавилоняне) называют Таммузом".
Садик Адониса, — одна
из принадлежностей фри-
гийского, дохристианско-
го праздника „пасхи".
217
Из указанных Гункелем стран, откуда ранними христианами при
посредстве иудеев была заимствована идея смерти и воскресения
спасителя после трехдневного пребывания во гробе, нами осталась
не посещенной Сирия, вернее, Фригия. Аналогичным Озирису и
Таммузу-Адонису господом там был Аттис. Переходя к вопросу о
нем, надлежит отметить прежнюю картину: наличие самых различ-
ных мифов. Согласно одному из них, чудесно и непорочно зача-
тый и рожденный девою, он привлекает к себе взоры богини любви,
но в припадке безумия оскопляет себя под сосной и умирает. Не-
утешная богиня оплакивает страдальца, хоронит его и устанавли-
вает культ, а также ежегодное празднество 25.
Согласно другому мифу, супруга царя Мэона родила дочь, но
он велел выбросить последнюю в горы. Девочка, найденная пасту-
хами, была воспитана, превратилась в девушку, наградила своей лю-
бовью красавца-юношу Аттиса и сделалась от него беременной.
В это время ее отыскали родители, взяли к себе, но отец, узнав
о позоре дочери, велел умертвить Аттиса, а труп его оставить без
погребения. Тогда неутешная Кибела, — так назвали девушку па-
стухи, — со стоном и воплями стала бродить по стране в поисках до-
рогого трупа. За преступление царя несчастье постигло страну, и
жители получили от богов повеление похоронить труп Аттиса, а
Кибелу чтить как богиню. Так как тело юноши исчезло, они
сделали изображение Аттиса и перед ним стали справлять ежегодно
траурное празднество.
Это празднество, как и самый культ Кибелы и Аттиса, носив-
ший в древности мистериальный характер, т. е. раскрываемый только
„посвященным" в таинства этих божеств, пользовался огромной по-
пулярностью, почему, напр., первым из иностранных культов был до-
пущен в тогдашнюю мировую столицу Рим (III в. до нашей эры) и
сделался даже частью государственной религией.
25 Лучшие труды: Н. Graillоt. „Le cultede Cybele, mere des dieux"
1912 г.
H. Hepding. „Attis, seine Mythen und sein Kult";
1903 г.
Посвященного Аттису тома работы Фрэзера не имеем; в его „Le rameau.
d'or", стр. 161—168.
218
Правда римляне сначала чуждались его, но потом он завоевал себе
симпатию и полное право гражданства, а его главный праздник, —
фригийская пасха, — сделался у них одним из самых торжественных.
Падал он, как и все предыдущие „языческие" пасхи, на то время,
когда и христиане празднуют смерть и воскресение своего спасителя.
15 марта было, так сказать, предпразднество и начало девяти-
дневного поста; в торже-
ственной процессии вно-
сили в город, посвященный
Аттису, тростник, а также
закалались на высотах
жертвы.
Чрез неделю, 22марта,
начинался самый праздник.
Срубали священную сосну,
украшали ее лентами, вен-
ками из цветов, различ-
ными музыкальными ин-
струментами, к средине
прикрепляли изображение
самого спасителя. Таким
образом, он вешался или
возносился на древо, —
образ, родственный ра-
спятию на древе кресте.
Сосну эту торжественно
несли по городу и вносили
в святое святых храма.
Там вокруг ее верующие оплакивали смерть своего божества,
плач этот совершался над его плащаницей — гробом или ложем
с лежащей на нем статуей Аттиса. Затем следовало погребение
спасителя, хоронили его в подземной пещере. Спаситель пре-
бывает во гробе.
23 марта происходило „Освящение труб", подробности и зна-
чение коего до нас не дошли. Следующее, 24 число, было „днем
крови". Это был третий день после смерти Аттиса.
Фригийский „спаситель" Аттис-богочеловек,
сын богини-матери — девы и ее же возлюблен-
ный. Рано умирает, но, подобно всем „спа-
сителям" древности, воскресает. Его культ,
широко распространенный в древнем мире,
частично был заимствован христианством,
напр. в области церковной организации (вер-
ховный жрец Аттиса назывался „папою"), а
также в календаре, — в празднике пасхи.
В мифе о нем нашла свое изображение связь
земли (богини) с растительностью (богом).
219
Печаль и скорбь достигали своего крайнего напряжения, вес
старались как можно сильнее выразить свое горе. Так проходил
день, так верующие готовились к самому торжественному моменту
своего праздника — воскресению спасителя. Этот центральный
момент торжества рисует нам негодующий христианский писатель
Фирмик Матерн:
„В определенную ночь изображение (Аттиса, плащаница) лицом
вверх кладется на ложе и оплакивается жалобной песнью. Затем,
после того, как люди насытились притворным плачем, вносится свет.
Тогда жрец намащает горло всех плакальщиков (таинство миро-
помазания!); а по окончании этого обряда намащения тот же жрец
тихим шепотом произносит слова:
„Воспряньте духом, мисты: бог спасен!
И мы обрящем от трудов спасенье!" 26.
На что верующие отвечали: „Мы радуемся".
Аттис воскрес! Этой радостной вестью начинался самый торже-
ственный день праздника — Гиларии, пасха, 25 марта. Прежняя скорбь
и печаль сменялись необузданной радостью, пост прекращался и
устраивались обильные угощения, пелись торжественные гимны;
верующие, одетые в праздничные одежды, украшали себя цветами,
венками. Повсюду слышались радостные, торжествующие воскли-
цания: „Аттис воскрес!" „Эвоэ Аттис!" 27.
Воскрес после трехдневного пребывания во гробе-пещере.
В этом — залог спасения и воскресения для его поклон-
никое, верующих, посвященных. Хотя праздник продолжался
и следующие дни, его подробностей, имевших второстепенное зна-
чение, мы касаться не будем.
Таков был страдающий, умирающий и воскресающий фригийский
спаситель, таковы были его страстная седьмица и пасха!
Ограничимся этими примерами древне - восточных спасителей, —
а их было много больше, — чьи мифы и идеи послужили источником
для выработки соответствующих моментов раннехристианского мифа
и культа евангельского Иисуса. Прежде чем возвращаться к послед-
26 Приводим в переводе Ф. Зелинского из его „Религии эллинизма",
стр. 43, 1922 г.
27 Graillot. Назв. соч., стр. 132.
220
нему, спросим, кто же были все они, так сильно любимые, уносимые
безжалостной смертью в расцвете своей юношеской красоты и силы,
оплакиваемые, погребаемые и во славе воскресающие?
Ответ был дан уже Гункелем, видящим в них солнечные и расти-
тельные божества. Все они, — скажем мы, — были божествами расти-
тельности, хлебного поля, нивы, зерна и виноградника, а их матерью,
сестрой и возлюбленной была богиня природы вообще, земли в осо-
бенности. Возьмем для иллюстрации подтверждения этого взгляда
несколько примеров. Плутарх делает одно ценное замечание:
„Говорят, что Озирис погребен, когда зарывают посев
в землю; что он возвращается к жизни и снова приходит
(воскресает), когда ростки начинают выходить".
Он же сообщает, что при наступлении сезона посева египетские
земледельцы зарывали в землю зерно с такими же обрядами, какие
совершаются при погребении мертвых; тем самым, они символически
хоронили Озириса, этого бога и душу хлеба.
Другой древний писатель, Диодор, рассказывает, что египетские
крестьяне, срезая первый колос, издавали жалобные крики и при-
зывали Изиду, так как считали, что последняя облекается в траур
и скорбит по своем муже и брате, когда наступает сезон жатвы,
срезания хлебов.
Обратимся теперь к Таммузу — Адонису.
„Адонис, — говорит римский писатель Аммиан Марцеллин, — это
символ плодов земли, достигших своей зрелости, так учат и пере-
дают сокровенные религии" 28.
Выдающийся знаток религий древнего мира Фрэзер пишет:
„Лучшее доказательство, какое мы могли бы привести, дабы по-
казать, что Адонис был божеством растительности, а в особенности —
зерна, дают нам так называемые „садики Адониса"... Вполне есте-
ственно понимать эти садики так, что они изображают Адониса или
выявляют его сущность; они представляют бога в его первоначаль-
ной природе, в виде растительности, тогда как фигурки, которые
находятся в связи с садиками и вместе с ними бросаются в воду,
изображают его в человеческом и более позднем виде" 29.
29 Марцеллин. „История", 19, 1.
221
Аналогичная идея кроется в образе и культе Аттиса.
„Одним из прозвищ, — говорит тот же Фрэзер, — которое давали
Аттису, было „изобильный"; в обращении к нему его именовали
„зеленым (или желтым) колосом сжинаемой пшеницы"; в его стра-
даниях, в его смерти и в его воскресении видели судьбу зрелого
колоса, срезаемого жнецами, зерна, полагаемого в хлебный амбар,
затем возрождающегося к новой жизни после своего посева в землю" 30.
Недостаток места не позволяет нам увеличить число примеров
и привести соответствующих доводов. Впрочем, думается, и без
того ясно, что в лице всех этих спасителей кроется одно и то же
божество зерна, колоса, нивы. Судьба зерна — судьба божествен-
ного страдальца и спасителя, чье воскресение чрез смерть и погре-
бение — залог благополучия для людей на земле в блаженной жизни
за гробом. Но все они в то же время и божества виноградной
лозы, винограда. Поэтому мы не будем доказывать, а только отме-
тим, что здесь — один из источников таинства причащения хлебом-
плотью и вином-кровью растительного спасителя, — таинства, наи-
более распространенного в древних религиях и оттуда заимствован-
ного ранними христианами.
Мы до сих пор старались отметить „хлебную", зерновую, земле-
дельческую сторону природы восточных спасителей. Но это только
одна из сторон. Она как часть входит в более широкое понятие
растительной природы вообще, так как в лице всех этих божеств
мы находим обожествленную растительность в целом, весь тот
изумрудный ковер трав и цветов, который, подобно любящему сыну
или возлюбленному, держит в своих объятиях землю, богиню-мать,
жену и сестру.
Это она — земля, согретая лучами весеннего солнца, оплодотво-
ренная вешними дождями, рождает своего красавца — сына, который
растет вместе с растущей к нему любовью богини, но под ударами
знойных ли лучей летнего солнца, под леденящим ли дыханием осени
и зимы умирает в самом расцвете своих сил и красоты, сходит
в подземное царство, и земля осенними ручейками плачет над ним,
30 Fraze г. „Adonis", стр. 184.
31 Fraser. „Le rameau d'or" т. III, стр. 165.
222
одевается в траур, ищет его. Он умер, — надолго? На полгода, —
отвечают одни мифы, — на осень и зиму. На три зимних месяца, —
отвечают другие. Но только до весны, до начала ее, до весеннего
равнодействия, — двадцатых чисел марта! тогда оживает расти-
тельность, тогда начало полевых работ, Тогда воскресение
растительного спасителя после трехмесячного — трехдневного
пребывания во гробе.
Так первобытный человек жизнь природы, земли, растительности,
нивы, зерна обожествлял, изображал в мифах, обрядах, празднествах.
Начало весны для него было наиболее важным, радостным моментом:
кончалась длинная, голодная зима, „пост", оживала природа, начи-
нала щедро раздавать свои дары, звала к работе на нивы, обеспе-
чивала удовлетворение самых насущных материальных потребностей, —
в пище, тепле, свете и пр. Вполне понятно поэтому, почему древние
этот решающий момент в их хозяйственном и календарном году
отмечали особо и приветствовали самым главным, самым радостным
праздником — пасхой, торжеством по поводу воскресения раститель-
ного спасителя.
Но растительного ли только? Нет, — и астрального, — солнечного
и лунного! Скажем несколько слов о последней стороне природы
божества.
Древние рано подметили сам собою бросающийся в глаза факт:
тесную, неразрывную связь жизни природы с солнцем и, — думали
они, — с луной. Пробуждение земли, рост растительности, ее увяда-
ние, смерть зависят от того количества тепла и света, кои посы-
лаются указанными светилами. Подметили они и то, что летом
солнце сияет во всем своем блеске, льет потоки живительных лучей.
С наступлением осени оно как бы слабеет, лучи — холоднее, дни
короче. Зимой это наблюдается еще резче и чувствительнее отра-
жается в жизни природы и человека. Так длится до момента весен-
него равноденствия, начала весны, когда дни становятся длиннее
ночи. Все эти смены в жизни и деятельности благодетельного
светила, обожествленного человеком, последний воплотил опять-таки
в мифы, обряды и праздники. Летом, — говорит он, — солнечный
спаситель живет в расцвете своих сил, осенью он заболевает или
получает смертельную рану, зимой умирает, весной оживает, воскресает
223
Три зимних месяца — три дня пребывания умершего солнечного спа-
сителя во гробе.
Здесь может возникнуть вопрос: почему три роковых месяца
в жизни растительного и солнечного героя превратились в мифологии
и праздниках в три дня? Укажем два основания. Одно из них —
то, что сюда первобытный человек перенес свое наблюдение над
трупом. Признаки разложения и, значит, несомненной смерти обычно
выступают на третий или на четвертый день с действительного
момента смерти. В течение этих дней душа, якобы, еще пребывает
около тела и только затем покидает его окончательно. Другое осно-
вание кроется в „жизни" луны, лунного божества. Луна живет
28 дней — лунный месяц. Рождается она в виде узенького серпика,
в течение двух недель достигает своего расцвета — полнолуния, затем
в течение стольких же дней убывает, пока, наконец, не сделается
совсем невидимой. Лунный бог умер! Надолго? на три дня, по
прошествии коих, иногда на четвертый день, снова заблистает на
небе, возродится, воскреснет. Это — так называемое лунное „трех-
дневие" — период невидимости луны 32.
Так, с резко выраженными лунными чертами, спаситель Озирис
живет 28 лет по числу 28 дней лунного месяца, разрезается Сетом
на 14 частей — дней убывания луны, умирает, погребется и на третий
день воскресает, почему на его праздниках пекли хлебцы в виде лунного
серпика. Заметим кстати, что самый миф о смерти лунного Ози-
риса, его оплакивании сестрами — богинями Изидой и Нефтис, и
воскресении — воскрешении на четвертый день целиком перекочевал
в евангелие Иоанна, в миф о двойнике Иисуса — Лазаре, где послед-
ний умирает, оплакивается сестрами Марфой и Марией и на чет-
вертый день воскрешается Иисусом, христианизованным чаровником —
Тотом 33.
Так мы познакомились с астральной природой умирающих и
воскресающих божеств. Было бы ошибочным резко отделять ее от
растительной; обе они рано и тесно переплелись друг с другом,
почему во всех мифах, обрядах и празднествах в честь разбираемых
32 А. Немоевский. „Бог Иисус", стр. 158.
33 А. Немоевский, статья „Glossy do Marji Magdaleny", № 242. „M. N".
224
нами спасителей выступают одновременно черты растительные, сол-
нечные и лунные.
Больше того, благодаря такой общности черт, объясняемой общ-
ностью их первоисточников, произошло полное слияние, смешение
самих личностей и культов спасителей; все они в конце концов, бла-
годаря также ускоряющему фактору — политическим и экономическим
моментам, слились в один многоименный образ умирающего и воскре-
сающего спасителя, культ которого процветал по всей территории
римской империи 34.
Он-то в лице мифологического мотива — смерти, трехдневного
пребывания в гробу и весеннего воскресения, по словам даже мракобеса
Гункеля, — попал в христианство, был заимствован ранними христиа-
нами и введен в евангельскую историю.
Гункель поясняет при этом, что это заимствование было не прямое,
а косвенное, чрез посредство юдаизма, в юдаизованной форме.
Что культ восточного спасителя процветал в среде еврейского
народа, несмотря на гонения со стороны правоверных ревнителей
Ягве, — общеизвестно.
Так у пророка Иезекииля читаем:
„И привел меня ко входу во врата дома господня, которые
к северу; и вот, там, сидят женщины, плачущие по Таммузу"
(8, 14). Это в Иерусалиме, у самого храма Ягве!
Возьмем другое место, — из книги Иеремии, — где описывается
один праздник:
„Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах
Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и жен-
щины месят тесто, чтобы делать пирожки для царицы небесной
и совершать возлияния иным богам" (7, 17—18).
„Царица небесная" — все та же богиня Иштар — Астарта, возлю-
бленная и мать Таммуза — Адониса.
Пирожки, о которых здесь идет речь, вернее, пирожные, пеклись
как раз для радостного праздника воскресения Таммуза, составляя,
таким образом, необходимую и существенную часть „пасхального"
34 V. Сumоnt. „Die, orientalischen Religionen im röm. Heidentum",
2 изд., 1914 г.
См. также работы Фрэзера, Гердинга, Грэйо, Вэллея и др.
225 15
Пасхальная мифология
стола вавилонян 35. Последнее обстоятельство позволяет, даже дает
нам право видеть в них первоисточник, прототип христианского
„кулича". Для пополнения сведений по истории последнего доба-
вим, что его прототип, вавилонский пасхальный кулич, носил фал-
лический характер, являясь делаемым из теста изображе-
нием полового органа. Поэтому, освящая ли кулич в церкви, ставя
ли его на почетное место на столе, в виде ли низкого круглого
хлеба, или же в виде высокого — „бабы", — христиане делают то же,
что делали некогда древние обитатели Востока на свою пасху, хотя
и не сознают истинного смысла или символики данного обычая и
предмета. Другой характерной принадлежностью христианского пас-
хального стола и обычая являются яйца. Это — опять-таки заим-
ствовано из древних религий.
„Обычай этот, — говорит А. Амфитеатров, — гораздо древнее хри-
стианства; мы находим его, в разных видоизменениях, и у народов
нехристианских. Персы дарят друг другу яйца на новый год, а
евреи, как и русские, на праздник своей пасхи... Что яйцо, как
эмблема начала всех начал, пользовалось в древних языческих культах
и многих философских системах большим вниманием и почетом,
излишне объяснить: факт общеизвестный и общепонятный. „Весь мир —
из яйца" 36. Так как в древности праздник „пасхи" совпадал
с новым годом, то лучшего символа воскресения и смены умираю-
щего года нарождающимся, чем яйцо, трудно было подобрать.
Добавим сюда и чисто хозяйственную сторону: как раз ко времени
пасхи начинается усиленная носка курами яиц, совпадающая притом
с запретом их есть по случаю поста, почему их накапливается слиш-
ком много. Отсюда одна из причин обычая дарить яйца. А может
быть, есть и третий источник последнего, тот же, который привел
на христианский пасхальный стол кулич, т. е., подкладка фаллическая?
По характеру предмета такое предположение напрашивается само собой.
Возвращаясь к наличию культа Таммуза среди древних иудеев,
приведем еще одно место, очень ценное и красноречивое.
35 А. Jeremies. „Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients",
стр. 611—612; 3 изд., 1916 г.
36 А. Амфитеатров, статья „Красное яичко" в сборнике его „Старое
в новом", стр. 114—128; 3 изд., 1907 г.
226
„Вифлеем, — пишет христианский автор Иероним, — принадлежа-
щий теперь нам (христианам) священнейшее место мира, о котором
псалмопевец поет: „Истина произросла из земли", был осенен
рощей Таммуза, т. е., Адониса, и в пещере, где некогда
пребывал младенец христос, ранее оплакивали возлюбленного
Венеры (т. е. Таммуза — Адониса, любимца Иштар — Астарты —
Афродиты)".
Думается, после всего вышесказанного, это сообщение нас уди-
вить уже не может, хотя ценно, как документальное доказательство
того, что уже само напрашивается как вывод и о чем мы будем
говорить дальше.
Необходимость экономить место не позволяет нам приводить
дальнейших примеров, особенно ветхозаветных. Работы целого ряда
выдающихся ученых, из которых в данном случае на первое место
следует поставить А. Иеремиаса, А. Древса и др., показали, что культ
умирающего и воскресающего Таммуза — Адониса, как и „царицы
небесной", богини Иштар — Астарты, не только был широко развит
в среде Израиля, но даже при постоянном двоеверии последнего
являлся настоящей религией простого народа. И эту религию не
могли искоренить оттуда ни громы и молнии ревнителей Ягве — про-
роков, ни репрессии царей и жрецов Иерусалимского храма. Культ
продолжал жить, процветать, порой занимая даже годсподствующее
положение, оттесняя Ягве, и, конечно, наложил неизгладимые следы
даже на религию и священные книги последней, ветхий завет.
Действительно, — как показали работы А. Иеремиаса, — во всем вет-
хом завете нет почти ни одной мифической личности, особенно из
главных, в „истории" и образе которых не таились бы полусгла-
женные, или же все еще резко выраженные черты Таммуза и Иштар 37.
В числе прочих им являются, например, прототип Иисуса — Иосиф
„Прекрасный", мифический пророк Иона, трехдневное пребывание
которого во чреве кита отразилось в таковом же по сроку пребы-
вании Иисуса во гробе. Его же встречаем в лице любопытной
ветхозаветной личности Иисуса Навина, который ввел евреев в страну
37 Фундаментальный труд его „Das Alte Testament im Lichte" и т. д., где
вскрыты черты Таммуза у большинства ветхозаветных героев.
227
15*
обетованную и матерью которого, согласно одному преданию, была
Мариам — сестра Аарона. „Навин" значит „сын рыбы". Таммуз
как раз считался „истинным сыном" рыбобога Эа-Оанна и богини
Иштар. Иисус „сын Рыбы" — Таммуз, мать его Мариам — Иштар;
Мариам же является древней и полной формой имени Марии.
Следовательно, по ветхозаветной мифологии, евреев вводит в страну
обетованную Иисус-Таммуз, сын Марии-Иштар.
Ее нам указал Гункель в лице того таинственного „раба божия"
книги Исайи, который именует себя сыном божиим, подвергается
гонениям и издевательствам со стороны нечестивых, во искупление
грехов человечества предается богом в руки врагов, судится послед-
ними, осуждается на позорную крестную смерть, умирает, погре-
бается в гробе „богатого" и, — добавим, — воскресает, чтобы затем
произвести суд над людьми, — мотивы, целиком вошедшие в еван-
гельские мифы о последних днях Иисуса и сыгравшие там
решающую роль. И вот, этот прототип Иисуса — „раб божий" —
является лишь юдаизованным Таммузом.
Раз мы подошли к евангельскому Иисусу, то обратимся теперь
к прерванному нами разбору мифа об его воскресении и спросим: как
нам понимать этот миф при свете всего вышеприведенного сравни-
тельного материала из ветхого завета и мифологии древне-восточных
спасителей? Ответом единственным и неоспоримым, самоочевидным,
уже подсказанным нам Гункелем, может быть только следующий:
в лице погребенного и воскресшего на третий день Иисуса
в данном мифе выступает пред нами все тот же много-
именный древне - восточный спаситель Таммуз — Адонис —
Мардук — Аттис — Озирис. Иисус соответствующих еван-
гельских мифов об его смерти, погребении и воскресении —
лишь юдаизованный образ повсеместно-чтимого растительно
астрального божества.
Действительно, подобно последнему, он умирает мучительной
смертью, погребается в гробу - пещере. Подобно ему, он оплаки-
вается женщинами, кои сопровождают его на смерть, присутствуют
при последней и затем фигурируют у гроба в момент воскресения.
Еще раньше мы обратили внимание на то, что здесь слишком много
выведено Марий и что в лице их, повидимому, скрывается одна
228
личность. Наличие многих евангельских женщин объясняется просто,
если мы припомним себе, что характерной чертой культов всех спа-
сителей было оплакивание его именно женщинами, игравшими в
обрядах оплакивания роль самой богини, плачущей и погребающей
своего сына, мужа или брата. В древности поклонники божества
часто носили его имя. Так, жрец Аттиса назывался тоже Аттисом,
жрец Митры — Митрой, поклонницы богини Меллисы — именовались
Мелиссами и т. д. Посему, поклонницы богини Марии, — если она
была, — могли, замещая ее, называться Мариями. И вот, если мы
у гроба Иисуса видали много Марий, то все они изображают собою
богоматерь Марию, оплакивающую сына, и ее обрядовых, ритуаль-
ных заместительниц — плакальщиц по умершему господу 38.
Продолжим сопоставление езангельских деталей далее. Подобно
восточному спасителю, Иисус воскресает после трехдневного пребы-
вания во гробе. Пойдем еще далее, — центральным моментом куль-
товой жизни верующих в это божество — был ежегодный, весенний
праздник его смерти и воскресения. Его же мы видели попавшим
в христианский календарь на соответствующее место. Самое содер-
жание богослужения и обрядов языческой пасхи христианами было
почти не изменено. То же выставление плащаницы, вынос ее, те же
погребальные, заунывно-похоронные песнопения, те же посты и те же
радостные, приветственные восклицания: „Христос воскресе!", анало-
гичные „Адонис воскрес!" или „Аттис воскрес!" Даже подбор
соответствующих яств для пасхального стола, исключая позднего
славяно-языческого добавления у православных русских — творожной
пасхи, с их фаллическими куличем и яйцами не претерпел суще-
ственных изменений; кое-где удержались и „садики Аттиса", обычно
заменяемые ныне просто цветами.
Подводя теперь итог всему найденному нами, мы можем выразить
его словами французского исследователя Ш. Вэллея. Последний,
отметив смену культа Адониса — Таммуза культом Иисуса в Вифлеем-
ской пещере, пишет далее:
„Та же самая толпа, которая ранее ходила чествовать Адониса
в Вифлеемской пещере, теперь идет туда чествовать Иисуса, идет
38 Д. Робертсон. „Евангельске мифы", стр. 31—37.
A. Drews. „Markusev.", стр. 307—311, 314—317.
229
с тем же самым воодушевлением, с тою же самой верой, видя
в нем вечный солнечный символ, воскресающий под новым именем..."
Так, в течение веков Таммуз продолжает жить и суще-
ствовать в лице христа: в священной пещере оплакивают и
славословят умершего и воскресшего бога, и это все тот же бог,
Таммуз, Адонис или Иисус, выступающий под сменяющими одна
другую формами.
Та легенда (по нашему, — миф), которая сопровождает
Иисуса с момента его рождения до его смерти, вся целиком
навеяна предшествующими сказаниями (мифами), коими
христианство будет питаться и кои дойдут до самого
начала современности. Скорбные
празднества, кои отмечали погребение
Адониса, страстную неделю, шумное
проявление радости по случаю воскре-
сения, все это мы находим, вплоть до
мельчайших деталей, в богослужении и
обрядах страстной седьмицы и пасхи.
В тот день, когда Адонис выходил
из гроба, женщины Библоса привет-
ствовали друг друга словами: „Адонис
воскрес!" То было мистическое при-
ветствие, выражение радости, которое поклонники финикийского
бога передали поклонникам христианского бога и которое последние
усвоили и сохранили вместе с памятью о том божестве и его
символом.
С одинаковою ревностью, с одинаковым старанием и тщатель-
ностью, с одинаковым благоговением поклонники Адониса или Иисуса
воспроизводят сцену и обстоятельства их смерти, обоих их, Таммуза
и Иисуса, полагают во гроб, хоронят, изображают их скорбный
путь. Больше того, элемент адонистический сохранился без
изменения: он сделался содержанием погребального ритуала
и богослужения „страстной пятницы". На Востоке в этот
день погребают Иисуса с точно такими же обрядами, торжественной
процессией и пр., с какими сирийцы погребали Адониса — Таммуза,
Большая толпа верующих сопровождает вплоть до могилы символи-
Оплакивание убитого сирий-
ского „господа" — Адониса.
230
ческий гроб (плащаницу); в полночь, при свете факелов, эта толпа
медленно идет среди рыданий и плача. Это — хоронят Христа...
Так Адонис продолжает существовать, выступая в настоя-
щее время под сенью христианства. Обряды его праздников
существуют до сих пор, правда, видоизмененные, утонченные, но
все еще легко различимые и более живучие, чем когда-либо" 39.
Последнее, — вряд ли!
39 Сh. Vellay. Наз. соч., стр. 180—183.
231
XII. МИФИЧЕСКИЙ ИИСУС
Мы взяли решающие, наиважнейшие главы евангельской биогра-
фии Иисуса, мы шаг за шагом, момент за моментом проследили
весь тот великий „скорбный путь", который начался торжественным
входом Иисуса в Иерусалим под ликующие крики „осанна" и закон-
чился краткими, но красноречивыми словами ангела женам миро-
носицам: „он воскрес!"
И что же? На всем протяжении этого краткого по времени, но
обильного событиями пути, мы тщетно ждали встретить историю,
исторический факт: сплошь все были мифы, мифы и только мифы.
Ни одного исторического эпизода, ни одной исторической детали.
Мифами оказались самый вход в Иерусалим, обе вечери, предатель-
ство и арест Иисуса, суд над ним, крестная смерть, погребение
и, конечно, воскресение из мертвых. Мы нарочно несколько дольше
остановились на одной из центральных фигур этих мифических исто-
рий, сделавшейся пресловутой, — на фигуре Иуды Предателя, но
и она, увы, оказалась мифической. Таковыми же являются в еван-
гелиях, напр., апостол Петр, разбойник Варавва, Иосиф Аримафей-
ский, Лазарь и др.
Больше того, если раньше, во всех предыдущих главах, мы видели
евангельские мифы сотканными почти целиком из ветхозаветного
материала, выведенными и написанными под диктовку ветхого завета —
„писания", то последняя глава — о воскресении бросила сноп нового
света, открыла иной источник евангельской мифологии, ввела Иисуса
в качестве равноправного члена в великую семью древневосточных
умирающих и воскресающих божеств: Таммуза, Мардука, Адониса,
232
Аттиса, Озириса. Умирающий и воскресающий после трехдневного
пребывания во гробе евангельский Иисус, как в самих мифах, так
в связанных с ним обрядах и праздниках, особенно страстной седь-
мице и пасхе, выступил пред нами с резко выраженными, типичными
чертами астрально-растительного, многоименного, но единого по при-
роде и идее страждущего спасителя.
В таком случае сам собою встает роковой вопрос об историч-
ности Иисуса: кто же он, — историческая ли, реальная личность, кото-
рая когда-то жила на земле и вокруг имени которой сплелась густая
сеть мифов, или же он является только и только тем, кем выступил
пред нами в евангельской пасхальной мифологии, т. е. образом
мифическим, юдаизованным древневосточным божеством?
Да, последним! Никакого исторического лица, одетого
в плоть и кровь человека, предполагаемого основоположника
христианства, евангельского Иисуса, в действительности
никогда не было и он является только мифом, продуктом
религиозной фантазии.
Для того, чтобы видеть, как сложился этот образ, мы обратимся
к истории еврейского народа, из среды которого вышло раннее
христианство.
„Тяжелые экономические и политические условия, — писали мы
в своей „Рождественской мифологии", — сложившиеся в среде иудей-
ского народа в последние века до и первые после начала нашей
эры, создали для массы населения гнетущую обстановку. Народ
задыхался, и, не видя для себя утешения на земле, стал все более
и более обращать внимание на небо и задумываться о своей загроб-
ной участи. Идея личного бессмертия и вечной жизни за гробом,
ранее неизвестная Израилю, под влиянием персидской религии, про-
никла сюда и наложила определенный отпечаток. Иудейская рели-
гия, представлявшая себе бога в качестве хотя и правосудного, но
строгого судьи, залог спасения для человека стала видеть в самом
неукоснительном и точном исполнении данного богом людям „закона",
даже буквы закона. Особенно последовательно, доходя даже до край-
ностей, проводили это фарисеи. Но среди простого народа, который
по своим ежедневным занятиям и жизненным условиям не был
в состоянии исполнять эту букву закона, а в то же время не
233
желал распрощаться с надеждой на спасение и блаженную жизнь,
хотя бы за гробом, возник вопрос, — неужели нет надежды спастись,
не приводя в защиту себя дел закона? Можно, если бог является
не просто строгим и правосудным судьею, цепляющимся за эту
букву, но если он — бог любви и милосердия, не карающий людей
за грехи, а прощающий их и берущий к себе на небо.
Навстречу этой тоске по спасению шло в среде иудейского
народа особое религиозное направление и учение, которое называ-
лось „гностицизмом". Последнее, сектантское движение возникло
под прямым и сильнейшим влиянием всех тех же восточных религий,
с коими мы уже имели дело. Поборники его, гностики, распадав-
шиеся на целый ряд сект, провозглашали себя единственными носи-
телями божественного учения, знания, „ведения — гносиса" тайн
божиих и мистических обрядов, кои одни только, будто бы, могут
обеспечить человеку спасение и лучшую участь за гробом. В центре
их учения стояла идея и образ ниспосылаемого богом-отцом на
землю спасителя. Последний должен сойти на землю, принести
людям благую весть — „евангелие" о спасении, во искупление грехов
человечества умереть мучительной смертью, спуститься в подземное
царство, сокрушить там власть владычицы последней — смерти, осво-
бодить души усопших и затем во славе вернуться к своему небесному
отцу. Итак, в центре учения — искупительная смерть спасителя и его
воскресение.
Думается, нам теперь не стоит доказывать, что здесь, в гности-
цизме, мы встретились с идеей того многоименного древневосточного
спасителя, с коей имели дело выше и существование коей в среде
иудейских сект признал даже теолог Гункель.
Однако, здесь она тесно переплелась с другой родственной идеей,
заимствованной из древне-персидской религии, — с идеей мессии —
христа — помазанника. У евреев в последних веках до нашей эры
существовало два образа мессии. Один из них, согласно монархи-
ческим тенденциям и взглядам правящих иудейских кругов, в оффи-
циальной религии евреев рисовался в виде имеющего притти на
землю могущественного властелина, который родится от царствен-
ного семени Давида в городе последнего — Вифлееме, победит врагов
Израиля и оснует мировую державу. Это — мессия, сын Дави-
234
дов, надежда южан — иудеев 1. Иной образ сложился на севере
Палестины, среди жителей Самарии и Галилеи, наиболее тесно
географически и экономически связанных с Финикией и вообще
Передней Азией, а потому находившихся под прямым и особенно
сильным влиянием религий последних. Да и само население этой
части Палестины наполовину состояло из язычников — поклонников
знакомых нам растительных спасителей. Недаром Галилея называ-
лась „Галилеей языческой, язычников".
Это было одно обстоятельство, доженствовавшее отразиться на
выработке образа мессии. Другое крылось в антагонизме севера и
юга. Население Самарии и Галилеи, богатых по природе стран,
благодаря непомерным налогам и хищнической эксплоатации со сто-
роны иерусалимского жречества и иудейской аристократии, постоянно
жило в нищете, задыхалось под бременем нужды, ненавидело юг —
Иудею и мало было заинтересовано в усилении, развитии его под
скипетром потомка из рода Давида 2. Народ — нищий, страдалец,
гонимый и презираемый, свою участь переносит на образ божества.
И вот, в силу этих двух обстоятельств или причин, на севере идея
грядущего мессии приняла образ страдающего спасителя из
рода или колена Иосифа. Этот мессия — сын Иосифа родится на
севере, умрет на земле мученической смертью за свой народ, и его
смерть будет иметь искупительное значение 3.
Эти два представления о мессии, или, вернее, о двух мессиях,
существовавшие сначала независимо друг от друга и параллельно,
в начале нашей эры были восприняты, усвоены даже правоверными
иудеями, но еще ранее последних это было сделано сектантами,
гностиками, кои оба эти образа, а также образ своего спасителя,
слили в один — умирающего мучительной смертью, воскресающего
и торжествующего мессии — спасителя.
1 См. хотя бы: А. Ревилль. „Иисус назарянин", т. I, стр. 126—145.
1909 г.
Г. Голльманн. „Религия иудеев в эпоху Иисуса",
стр. 48—55, 1908 г.
2 Н. Никольский. „Иисус и первые христианские общины",
стр. 44—49, 1918 г.
3 А. Древс. „Миф о христе", т. I, стр. 39—43; т. II, стр. 145.
А. Jeremias. „Babylonisches im Neuen Testaments", стр. 39—41, 1905 г.
235
Полное основание и материал для этого они имели в „священном
писании", в книгах ветхого завета, где идея такого страждущего
мессии встречается во многих местах. Наиболее ярко она уже высту-
пала пред нами в знаменитой
53 главе Исайи, которую недаром
некоторые исследователи считают
культовым скорбным гимном по
умирающем спасителе и в лице
„раба божия" которой мы разгля-
дели черты Таммуза-Адониса 4.
Этот юдаизованный Таммуз ниспо-
сылается отцом на землю, неузнан-
ный — проповедует новое учение о
божестве, подвергается насмешкам,
издевательствам, даже суду со
стороны нечестивых, предается по-
зорной рабской смерти на кресте,
умирает, дабы затем воскреснуть
и произвести суд над грешным
человечеством. Как видим, здесь
его образ рисуется то типу тех
многочисленных древнееврейских
пророков, которые в своих огненных
проповедях звали народ к исправ-
лению и покаянию, бичевали жесто-
ковыйных богачей и жрецов, за
что жестоко и платились. Эта сто-
рона, как бы программа будущей
земной деятельности мессии, хо-
рошо была намечена в 61 главе
того же Исайи:
„Дух господа бога на мне, ибо
господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исце-
лять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение
Изображается непорочное рождение
древне-греческого „спасителя" Дио-
ниса сверхъестественно зачавшей
его матерью девой. Он богочеловек
греческой религии, страждет на
земле, растерзывается враждебными
ему силами земли — титанами, уми-
рает и воскресает. Его мучительная
смерть и славное воскресение, по
верованиям древних греков, служили
залогом спасения для верующих
в него смертных. Сам же по себе
Дионис божество умирающей и
оживающей растительности, а также
восходящего и заходящего под го-
ризонт („Царство мрака и смерти")
солнца. Временами он, якобы, схо-
дит на землю, при чем это „бого-
явление" сопровождается чудом, —
превращением воды в вино. Отзвуки
этого попали в евангельскую био-
графию мифического Иисуса и вы-
лились в миф о чудном превращении
им воды в вино на брачном пире
в Кане Галилейской".
4 См. А. Jeremias. „Das Alte Testament", стр. 605—606.
236
и узникам открытие темницы проповедывать лето господне благо-
приятное и день-мщения бога нашего, утешить всех сетующих"
(ст. 1—2).
Так мессия — спаситель в сознании верующих превращается в
имеющего притти на землю великого проповедника, учителя и уте-
шителя, друга всех социально обездоленных.
Но как же он придет, от кого родится, как будет именоваться?
Для ответа на эти вопросы гностики привлекали целый ряд ветхо-
заветных „пророческих" мест и в первую голову 7, 14 Исайи:
„Се, дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему:
Еммануил". Посредством данного места, где неправильно переведено
(в греческом тексте) еврейское слово „алма — молодая женщина", они
обосновали еще ранее заимствованную ими из древневосточных куль-
тов идею о непорочном зачатии, рождении спасителя божественной
матерью — девой 5. Таким спасителем считались Таммуз-Адонис,
Аттис и др.
Сам бог устами пророка указывает, что его сын будет имено-
ваться Еммануилом, каковое имя в переводе значит „с нами бог",
а по смыслу тождественно „Иисусу" — „бог помощь" или „поможет
бог". Из этих двух имен, одинаково хорошо подходящих к идее
ниспосылаемого людям христа, второе одержало верх и оттеснило на
задний план своего соперника, при чем здесь решающую роль сыграла
мифическая личность Иисуса Навина, преемника — Моисея в води-
тельстве еврейским народом. Он, этот Иисус, ввел последнего в
страну обетованную, чего не мог сделать Моисей. Он этим введе-
нием положил для них начало новой счастливой эпохи, а потому
неудивительно, что впоследствии, особенно, в гностических сектах,
он принял характер спасителя типа языческих спасителей, одной из
разновидностей которых в действительности и был 6. Рядом с ним
в качестве богини, его матери, стала фигурировать также и
ветхозаветная Мариам — Мария, сестра Аарона, юдаизованная
5 Много мифов о чудесном рождении героев разобрано у О. Rank-
„Der Mythus von der Geburt des Helden", 2 изд., 1922 г.
6 А. Древс. „Миф о христе", т. II, стр. 171—175.
Его же. „Жил ли христос?", стр. 31—32.
237
Иштар-Астарта 7. После этого становится понятным, почему у
сектантов умирающий и воскресающий мессия — спаситель получил
имя Иисуса. Данное имя они связали с понятием мессии еще и
потому, что его носил также как раз тот Иисус, „великий иерей",
который вывел евреев из плена и личность которого в астральных
картинах пророка Захарии обрисована со сверхземными, божествен-
ными чертами. Дважды, в решающие моменты жизни и истории
еврейского народа, во главе его становился Иисус и начиналось
время счастливой жизни, и в третий, последний раз, должен будет
явиться опять-таки Иисус и ввести народ в страну обетованную —
царство божие 8.
Так мы подошли к существованию в среде иудейских гностических
сект культа не только дохристианского христа, т. е. умирающего
и воскресающего мессии — спасителя, но и дохристианского Иисуса,
при чем оба они являются лишь различными именованиями для
того же юдаизованного Таммуза, распинаемого „раба божия" Исайи,
а также, — добавим теперь, — „праведника" книги Премудрости Соло-
мона и „страдальца" 21 псалма. Ему-то, этому Иисусу, поклоня-
лись в названных сектах, его прихода они ждали, к его приходу
готовились и призывали готовиться других. Эти секты с дохри-
стианским культом Иисуса христа были первоначальными ячейками
христианства 9.
„К ним шли, в них поступали все те, кто задыхался под тя-
жестью социальных несправедливостей, все униженные и оскорблен-
ные, по своим занятиям и положению не могущие соблюдать во
всей внешней строгости суровую букву закона. Им бог любви
устами пророков обещал послать своего сына, для спасения их
последний должен был сойти на землю, его искупительное само-
7 S. Lublinski. „Die Enstehung des Christenturas aus der antiken
Kultur", стр. 193—198, 1910 г.
Д. Робертсон. „Ев. мифы", стр. 31—41.
8 См. также замечание Р. Виппера, что у евреев имя Иисус было самое
распространенное, как у нас — Иван и носило в то же время символический,
священный характер: „Возникновение христианства", стр. 69—70.
9 См. все работы Робертсона, Древса, Смита, Немоевского и других
представителей мифологической школы.
238
пожертвование должно было обеспечить их блаженство за гробом
И они ждали"...
Эпоха, с которой мы имеем дело, среди еврейского народа про-
ходила под знаком обостренного мессианского движения, страстного
ожидания его прихода. Еще ветхий завет, „писание", указывало
ряд признаков, по коим можно было узнать заранее этот чаемый
момент. Но особенно вопросом о времени его занялась так назы-
ваемая апокалиптическая апокрифическая литература, ярким образцом
коей является новозаветное Откровение Иоанна. Во всех этих
писаниях сквозила одна мысль, одна идея: мессия придет тогда,
когда на земле сложатся невыносимые условия, когда над народом
и ней пронесется ряд всяческих бедствий, при чем приход мессии
будет сопровождаться страшным „судным днем" божиим, „днем го-
сподним, „днем гнева и мщения".
С ходом десятилетий и столетий социальная обстановка среди
еврейского народа становилась все более и более невыносимой.
Свинцовый гнет правящих классов, еще более тяжелые и позорные
рабские цепи со стороны поработителей-римлян, — все это вместе
с полнейшим обнищанием масс электризовало атмосферу. Одно за
другим с небольшим промежутком во времени кровавой волной про-
катились по Иудее два народных восстания. На карту ставилось
все: миллионы жизней, существование хотя и порабощенного госу-
дарства, больше того, все настоящее и будущее нации.
Все сроки прихода обещанного богом спасителя пришли, насту-
пили. Неужели бог в столь решительный момент не поможет на-
роду, не выполнит обетований?
На карту ставилось все, решительно все, и повстанцев одуше-
вляла в этой героической борьбе только одна надежда, надежда на
помощь бога, на его вмешательство, на ниспослание им своего цар-
ственного сына из рода Давида, воителя и грядущего владыку над
миром. И эта карта была бита.
Более миллиона евреев перерезано, распято на крестах, продано
в рабство. Вся Иудея превращена в пустыню. Иерусалим и даже
самый центр религиозной жизни — храм, дом божий, представляют
груду залитых кровью и дымящихся развалин. Бог произвел свой
страшный суд над народом, о котором он предсказывал устами проро-
239
ков, но обещанный им мессия не пришел, не помог в роковой борьбе.
В последней, по целому ряду причин, не приняли участия и сек-
танты-христиане, они оказались ренегатами, предателями народа, и
это должно было повести к обоюдному разрыву, ненависти и борьбе.
Когда прошли кровавые, кошмарные дни восстаний, беспощадной
расправы римлян, понемногу жизнь стала входить в обычные рамки,
занялись оценкой и осознаванием пережитого и идея мессии опять
захватила внимание. Особенно ею занялись гностики-христиане. Им
казалось теперь, что все, указанные богом, признаки пришествия спа-
сителя осуществились, все сроки пришли и даже прошли, почему же
бог медлит со своим обетованием, почему он не посылает своего
сына? Почему же? А, может быть, сами они ошибаются, может
быть, мессия уже приходил, только не узнали его, и он ушел, осу-
ществив свое дело искупления? Ведь говорит же ветхий завет
устами пророков, что именно таково будет пришествие и деятель-
ность мессии, незаметные, неузнанные. Раз вопрос был поставлен
так, то только ветхий завет, это „писание", эти словеса и обето-
вания божий могут дать на него ответ, следует лишь внимательнее
пересмотреть рассыпанные там намеки и указания на признаки при-
шествия мессии, вчитаться, вдуматься в них. Бог заранее объявил
о нем все, и слова его — непреложны. Далее там, в словах откровения,
в вещаниях о мессии, как-то странно переплетаются прошедшее и
будущее, бывшее и грядущее. Стали читать, вчитываться, вычислять
и нашли, что христос уже... приходил, больше того, выполнил свою
искупительную миссию, и ушел, претерпев мученическую смерть.
Когда мессианцы пожелали теперь узнать, когда же должен был
родиться спаситель, то прямой ответ им давало, — по их мнению, —
мессианское место книги Бытия:
„Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и ему покорность народов" (49, 10).
Итак, он должен был притти тогда, когда на иудейском пре-
столе прекратится национальная династия и воцарится чужеземец.
Такой момент уже был в прошлом, имел место, когда на иудей-
ский престол сел чужеземец Ирод, в эпоху римского императора
Августа. Тогда отошел скипетр от Иуды и законодатель от чресл
его, тогда-то и только тогда надлежало притти мессии — Иисусу.
240
Так была найдена отправная точка для всех изысканий о при-
ходе и деятельности последнего. Больше того, теперь уже можно
было даже писать его биографию, земную „жизнь Иисуса", еван-
гелие. Но откуда же почерпать материал для последнего, где тот
источник сведений о нем, основной и не могущий подлежать сомне-
нию, оспариванию? Ветхий завет! Там бог уже заранее сообщил
все, что должен был делать его ниспосылаемый сын, все, вплоть до
мельчайших подробностей. Надо только отыскать все это, собрать
воедино, превратить в связный, жизненный рассказ. „Все разроз-
ненные в священном писании Израиля, — отмечает А. Ревилль, —
говорят о появлении „солнца справедливости" (мессии), восход ко-
торого, в предназначенное для этого время, озарит первыми лучами
своими Вифлеем. Собрав эти указания в известной системе,
можно было заранее составить целую биографию ожидаемого
Искупителя" 10. Необходимая для этого работа облегчалась для
христиан тем, что, — по их мысли, — весь ветхий завет, буквально
весь, говорит о мессии, рассказывает о нем как в отдельных про-
роческих вещаниях или вообще словах, так и в самых его образах,
фигурах, личностях: последние только прообразуют Иисуса, служат
его прообразами, как бы прототипами. Иисус должен был пережи-
вать, говорить и делать все то, что переживали, говорили и делали
они, — нет, превосходить их в этом, превосходить настолько, насколько
сын божий выше смертного, хотя бы и праведника.
Началась работа по составлению „истории" Иисуса, легшей
в основу евангелий. Все, что только можно было, вводилось туда.
О происхождении его имени мы уже говорили, — от Иисуса Навина;
мать последнего — Мариам превратилась в богоматерь Марию. Слия-
ние христианами образа обоих еврейских мессий: „сына Давидова"
и „сына Иосифа", с перевесом в сторону последнего, как умираю-
щего и воскресающего, дало мотив происхождения Иисуса от семени
Давида и наградило его земным отцом Иосифом. Исайя подкрепил
еще ранее заимствованную языческую идею рождения от девы.
Пророк Михей (5, 2) указал место рождения Иисуса — город Вифлеем.
То обстоятельство, что в и главе Исайи мессия назван „отраслью"—
10 А. Ревилль. Назв. соч., т. I, стр. 127.
241 16
Пасхальная мифология
„нецером" или „назаром" (nazar), позволило наделить Христа проз-
вищем Назарся и довольно неудачно связать его с северным горо-
дом Назаретом, а самим сектантам — верующим называть себя „наза-
реями", — как они назывались сначала до принятия сменившего затем,
позднейшего имени „христиан".
Далее, благовещенские сцены из мифов об Исааке и Самсоне
дали мотив такой же евангельской сцене. Особенно много материала и
главнейших евангельских моментов было заимствовано из историй
о Моисее с его двойником Иисусом Навином и пророке Илии с его
двойником — пророком Елисеем. Например, с жизни Моисея списаны:
1) угрожающая младенцу Иисусу опасность и бегство в Египет,
2) искушение Иисуса в пустыне, 3) избрание 12 апостолов и 70 уче-
ников, 4) сцена нагорной проповеди, 5) преображение, 6) изгнание
продавцов из храма, 7) даже вознесение на небо, переплетенное
с исконной аналогичной идеей из мифов об умирающем спасителе;
о второстепенных евангельских деталях мы уже не говорим. Про-
роки Илия и Елисей дали мотивы большинства чудес Иисуса,
а также мифическую личность Иоанна крестителя. Как одно только
выражение из 53 главы Исайи послужило источником и толчком
к созданию мифической же фигуры Иуды Предателя, — было указано
раньше. Аналогичного происхождения мифический апостол Петр.
К сожалению, мы не можем здесь долее останавливаться на том,
какие ветхозаветные места и личности вошли так или иначе в еван-
гельскую мифологию. Скажем только, что современная мифологиче-
ская школа в лице А. Древса и других разложила все, буквально
все евангелие на его ветхозаветные первоисточники и показала,
почему и как создавались все его, сплошь мифические, сцены 11.
Впрочем, часть примеров этого читатель уже видел на всем протя-
жении данной нашей брошюры, где мы привели маленькую только
часть критической и аналогической работы той школы.
Теперь нам следует несколько остановиться на одном мотиве,
чего требует основной вопрос нашей брошюры, — на вопросе о дате
смерти Иисуса.
11 Эти ветхозаветные евангельские источники лучше всего вскрыты Д. Штрау-
сом в его „Жизни Иисуса" и А. Древсом в его „Das Markusevangelium", „Мифе
о христе", т. II и „Жил ли христос.
242
Мы оставляем в стороне вопрос о дне и месяце, — с чем уже
имели дело, возьмем только указание на год смерти или распятия.
В евангелиях прямых указаний на это нет, из косвенных же, вроде
выведения на сцену наместника Пилата, первосвященников Анны
и Каиафы, а также глухого замечания у Луки, что „Иисус, начиная
свое служение, был лет тридцати" (3, 23), получаем дату, близкую
к тридцатому году нашей эры. Почему именно сюда была отнесена
смерть мифического Иисуса?
У пророка Даниила читаем в одном месте:
„Предан будет смерти христос и не будет; а город и святилище
разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения" (9, 26).
Данное место, где говорится, что после смерти мессии начнутся
война, опустошения, будет разрушен Иерусалим и храм, христианами
легко могло быть понято в смысле указания на первое восстание
евреев против римлян в 66—73 г.г. нашей эры, закончившееся,
действительно, гибелью храма и города, и дать им вторую опорную
хронологическую точку для вычисления времени жизни Иисуса. Ранее
они получили дату его рождения, — по нашему летосчислению, — 1 г.
а теперь с годом его смерти упирались в предельный срок — 66 г.
Так, между 1 и 66 г.г. они должны были подбирать год его рас-
пятия. Древневосточная мифология помогала им в этом, отмечая,
что все спасители умирали молодыми, в расцвете своих сил, напр.,
Таммуз, Адонис, Аттис и др. Миф об Озирисе давал даже более
точное сведение: спаситель умер 28 лет. Эта цифра почти со-
впадает с указываемой Лукою, — „лет тридцати". Подтвер-
ждение краткости жизни спасителя христиане могли усмотреть в сло-
вах Премудрости Соломона:
„Праведник, если рановременно умрет, будет в покое. Ибо
не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется...
Как благоугодивший богу, он возлюблен и, как живший посреди
грешников, преставлен... Достигши совершенства в короткое
время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна го-
споду, потому и ускорил он из среды нечестия" (4, 7—14).
Это говорится о „праведнике", прототипе распинаемого Иисуса.
Так мы все время вращаемся около приблизительного возраста
243
Иисуса и, значит, года его смерти. На выбор последнего могло
повлиять еще одно соображение. Согласно вещаниям ветхого завета,
мессия — Иисус должен был умереть через распятие на кресте. Такой
род казни был в обычае у римлян, а не у иудеев, кои преступника
побивали камнями. Из сочинений, хотя бы Иосифа или Филона,
христиане могли узнать, что как раз в конце двадцатых и начале
тридцатых годов римским наместником в Иудее был Пилат, один
из самых жестоких правителей, зверски умертвивший, напр., сама-
рянского мессию, — современник первосвященника Анны. После этого,
учитывая вышеуказанные намеки, не трудно было отнести смерть
Иисуса именно к годам его правления. Ограничимся хотя бы этими
соображениями, которые, возможно, руководили ранними христианами
и евангелистами при выборе туманной даты смерти Иисуса и не
менее туманных замечаний о его возрасте. Другие основания,
несомненно сыгравшие здесь свою роль, напр., астрологические
и пр., завели бы нас слишком далеко, почему мы касаться их не
будем 12.
Если же говорить вообще о хронологии евангелий, а также их
указаний топографических, бытовых и проч., то они удивительно
бледны, а, главное, нелепы. Чувствуется, что писали люди, стояв-
шие слишком далеко во времени и пространстве от той эпохи и
местности, куда они искусственно перенесли и ввели историю своего
мифического героя.
В заключение ответим на один, быть может, напрашивающийся
вопрос: почему или для чего были написаны евангелия?
Оснований для этого, конечно, было много. Одно из них заклю-
чалось в усложнении культовой и общинной жизни, когда явилась
потребность в своем „священном писании". Особенно остро чув-
ствовалась нужда в последнем по двум причинам. Ряд обстоятельств,
которых мы касаться не будем, звал христиан на пропаганду своего
учения, в первую очередь, среди иудеев. Сюда привходила необхо-
димость защищать его от нападков со стороны строгих ревнителей
Ягве, для которых единственным авторитетом был ветхий завет.
12 По этому и следующему вопросу см., напр., А. Древса. „Миф о христе",
т. II, стр. 175—185.
244
И вот, в обоих этих случаях лучшим орудием для пропаганды
и защиты могло быть „писание", все целиком составленное из ветхо-
заветного материала: как можно было лучше всего убедить своих
слушателей из иудеев в истинности новой религии и ее божества,
как не указанием на то, что все проповедуемое ведь было предска-
зано еще в ветхом завете, является лишь исполнением данных там
обетовании божиих и откровений? Яркие следы этого мы видим на
каждом шагу евангелий в виде ссылок на ветхозаветные места, —
„да сбудется писание" или „да сбудется реченное пророком" 13.
Кто считал ветхий завет откровением божиим, тот, — по мысли еван-
гелистов, — должен был верить и сообщаемому ими.
Далее, когда христиане вышли со своей проповедью на широкую
арену и обратились к язычникам с одним ветхим заветом, без своих
священных книг, мало было надежды на успех. Надо было дать
что-то новое, более ценное, воплотить свою „благую весть" в строй-
ное и цельное, в литературное произведение, а не довольствоваться
только устной пропагандой и тем заветом. Лучшим средством для
этого, особенно рассчитанным на тогдашние социальные низы, было
создать живой человеческий образ божества, написать его земную
биографию, связать с ним все то, что составляло сущность новой
религии и нового учения.
Наконец, и это, быть может, было главное основание для напи-
сания евангелий, — они были нужны самим христианам в их куль-
товой и общинной жизни. Последняя, вначале простая, как простым
было и первоначальное учение христиан, все вращавшееся вокруг
одной идеи — искупительной смерти и воскресения спасителя, с тече-
нием времени все более и более усложнялась. Развивалось учение,
расширялся культ, его практика, шире становился круг интересов
самих членов общин, возникали самые различные вопросы, требо-
вавшие ответа. Раз возникшая идея, что обетованный мессия Иисус
уже приходил, жил на земле, сама толкала на путь его историзации
путем создания соответствующей его „биографии". В ней можно
было поставить в связь с ним целый ряд моментов культовой жизни
13 Данная сторона и тенденция евангелий лучше всего вскрыта Л. Не-
моевским в его „Философии жизни Иисуса", изд. „Атеиста".
245
и практики, напр., некоторые праздники, вроде пасхи, ему приписать
то или иное установление, как это было хотя бы с таинствами при-
чащения и крещения, его именем можно было освятить и узаконить
то или иное решение какого-либо вопроса и пр.
Так сама культовая жизнь ранних христиан толкала их на путь
создания евангелий, которых, кроме четырех новозаветных, было еще
много, и изображения в них мифического Иисуса в виде реальной,
одетой в плоть и кровь, личности. Удалось ли им это сделать?
Мы уже видели, что нет, нет и нет.
Когда были написаны эти произведения? Сравнительно поздно, —
приблизительно, во второй половине II века нашей эры, при чем
впоследствии неоднократно перерабатывались, исправлялись, под-
правлялись, особенно христианами из язычников, внесших туда
многое свое.
Когда писались более ранние новозаветные сочинения,
фигурирующие под именем посланий апостола Павла, исто-
ризация Иисуса еще не наступила, в них еще нет ни одного
указания на какое-либо из евангельских мифов. Их автор
еще не знал земной личности, человека Иисуса, он знал
только божественное существо, бога и только бога. Анало-
гичное наблюдаем мы также в Откровении Иоанна, почти целиком
написанном астральным языком и пропитанным образами и мотивами
языческой мифологии 14.
Думается, после этого излишним будет останавливаться и дока-
зывать, что никакого человека Иисуса не знали также светские, как
иудейские, так и греко-римские писатели первых веков нашей эры,
даже жившие в те самые годы, а некоторые из них, вроде Иосифа
и Юста Тивериатского, в той самой местности, когда и где, якобы,
жил, действовал и умер Иисус 15.
14 См., напр., Н. Морозов. „Откровение в грозе и буре", 3 изд., 1910 г.
вскрыты некоторые астральные образы и картины; основные выводы автора
требуют коренного пересмотра и проверки).
Ценная работа F. Boll. „Aus der Offenbarung Johannis", 1914 г.
15 Вопрос об отсутствии внехристианских свидетельств о человеке Иисусе
разбирается в трудах всех вышеназванных представителей мифологической
школы. Он же кратко и хорошо освещен в брошюре Е. Hertlein. „Was
wissen wir von Jesus?, 1922 г.
246
Если в их сочинениях и встречаются сообщения об Иисусе, то
это только плод позднейшей христианской подделки, фальсификации.
История знает Иисуса только мифического, а не истори-
ческого.
Персидский „спаситель" Митра — „непобедимое солнце". Закалывает быка,
проливает „искупительную" кровь. О нем рассказывали, что он чудесно
родился в пещере, на поклонение ему пришли пастухи, на земле он совер-
шил много чудесных и благих для людей деяний, перед своим восшествием на
небо устроил „вечерю" с учениками, а затем вознеся на небо. Его считали
„посредником между богом и людьми", „ходатаем" за них на небе. В его
культе главным праздником было „Рождество", справлявшееся ежегодно 25-го
декабря, еженедельно также праздновали в честь его один день, перешед-
ший в христианство под именем „дня господня" или „дня солнца" (ныне, —
воскресение). Его поклонники — митраисты — имели таинства причащения, кре-
щения, миропомазания, литургию, иконы, церковную иерархию, нечто вроде
монахов и монахинь и т, п. В первые века нашей эры митраизм был
самым главным и страшным цротивником народившегося христианства, но
в силу ряда политико-экономических причин был побежден или, вернее по-
глощен своим соперником. Личность самого Митры и другого бога — Зервана
вылились в мифическую фигуру апостола Петра, — двойника христа.
247
БИБЛИОГРАФИЯ.
Желающим ближе ознакомиться с вопросом о пасхе, личности
Иисуса и возникновении христианства в более или менее популярном
изложении на русском языке можно указать следующие книги:
1) Проф. А. Древс. „Миф о христе", 2 тома, изд. „Красной
Нови" и „Атеиста", 1923—24 г.г.
2) Его же. „Жил ли христос?", изд. „Атеиста" (краткое, попу-
лярное изложение взглядов автора), 1924 г.
3) Д. Робертсон. „Евангельские мифы", изд. „Атеиста",
1923 г.
4) А. Немоевский. „Бог Иисус", Госиздат, 1920 г.
5) Его же. „Философия жизни Иисуса", изд. „ Атеиста", 1923 г.
6) К. Каутский. „Происхождение христианства", Госиздат,
1923 г.
7) E. Ярославский. „Как родятся, живут и умирают боги
и богини", изд. „Красной Нови", 1923 г.
8) Я. Окунев. „Рождество, страсти и воскресение богов",
изд. „Пролетарий", 1923 г.
9) В. Рожицын. „Святая Пасха", Украинский Госиздат, 1923 г.
10) М. Брикнер. „Страдающий бог в религиях древнего мира",
переизд. „Красной Нови", 1923 г.
11) Проф. Р. Виппер. „Возникновение христианства", изд.
„Фарос", 1918 г.
12) Н. Кун. „Предшественники христианства", изд. „Мир",
1919 г.
13) Э. Даэнсон. „О боге и черте", с приложениями И. Шпиц-
берга, изд. „Атеиста" и „Красной Нови".
248
14) Мальвер. „Наука и религия", Госиздат, 1923 г.
15) П. Красиков. „На церковном фронте", изд. Наркомюста,
1923 г.
16) Н. Румянцев. „Рождественская мифология", изд. „Атеиста",
1923 г.
17) Его же. „Миф об Иоанне Крестителе", изд. „Атеиста",
1923 г.
18) „Комсомольская пасха", изд. „Красной Нови", 1923 г.
По вопросу о происхождении религиозных суеверий следует про-
честь труд Г. Эйльдермана „Первобытный коммунизм и перво-
бытная религия", изд. „Атеиста", 1923 г.
249
Религия — дурман для народа
ВЫПИСЫВАЙТЕ ИЗ АГИТ-ПУНКТА
„АТЕИСТ"
(Москва, Советская площадь, 3-й Дом Союзов. Тел 55-88)
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ
БИБЛИОТЕЧКИ
Цена от 5—100 р.
Уступка против оптовой цены от 15—30%
Профсоюзам, партийным организациям,
рабочим клубам, кружкам атеистов
и т. п. объединениям советской обще-
ственности даем кредит
По адресам на деревню и село почтовые
расходы Издательство „Атеист" принимает
на себя
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
I. Вход господень в Иерусалим 5
II. Начало конца 15
III. Тайная вечеря 27
IV. Борьба в Гефсиманском саду 46
V. Иуда 62
VI. Конец Гефсиманской борьбы 90
VII. Суд над Иисусом 99
VIII. „Распни его!" 117
IX. Трагедия на Голгофе 137
X. Последний акт трагедии на Голгофе 170
XI. Воскресение спасителя 196
XII. Мифический Иисус 232
Библиография 248
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АТЕИСТ"
Скоро выйдет в нашем издании большой труд Н. Румянцева — „Смерть
и воскресение спасителя".
Данный труд, богато иллюстрированный, вследствие его размера (около
1000 печатных страниц) выйдет в двух, возможно, трех томах. Распадается
он на следующие главы:
I часть — Дохристианский христос:
1) Египетский спаситель — Озирис.
2) Вавилонский искупитель — Таммуз.
3) Финикийский господь — Адонис.
4) Фригийский искупитель — Аттис.
5) Божественный страдалец Греции — Дионис.
6) Природа богов — страстотерпцев.
7) Религиозные братства.
8) Боги спасители и иудейство.
9) Еще раз о духах предков, нивы и идее искупления.
10) Мессия, его деяния и страдания.
II часть — Дохристианский Иисус: а) от Вифлеема до Иерусалима:
11) Благовещение.
12) Рождество христово.
13) Сретение господне.
14) Иоанн креститель и крещение Иисуса.
15) Чудеса Иисуса.
16) Словеса учения.
17) Преображение Господне.
III часть — б) Трагедия на Голгофе:
18) Вход господень в Иерусалим.
19) Начало конца (очищение храма и вифл. вечеря).
20) Тайная вечеря.
21) Борьба в Гефсиманском саду.
22) Иуда.
23) Конец Гефсиманской борьбы.
24) Иисус пред синедрионом.
25) Небесный ключарь — апостол Петр.
26) „Распни его!"
27) „Радуйся, царь иудейский!"
28) Трагедия на Голгофе.
29) Чудеса при смерти Иисуса.
30) Погребение.
31) „Он воскрес!"
32) Вознесение господне.
33) Сошествие св. духа.
34) Молчание внехристианской литературы.
35) Кто же он, — миф или история?
36) Кто же она? — христианизация одного образа.
в) Приложения:
37) Языческое и иудейское в христианстве.
38) Двунадесятые праздники.
39) Обретение креста господня.
40) Мощи — церковные доводы в пользу историчности евангельских героев.