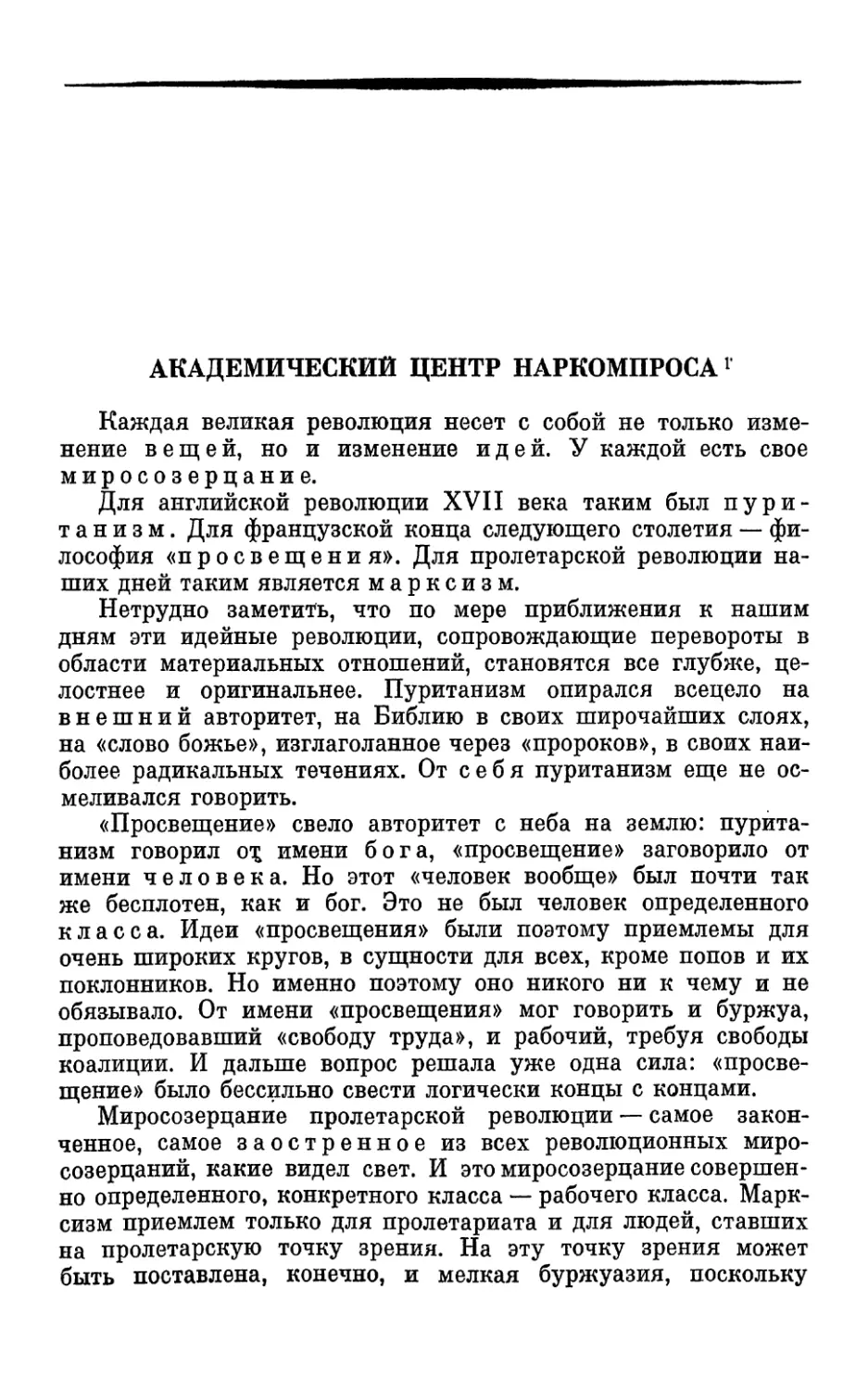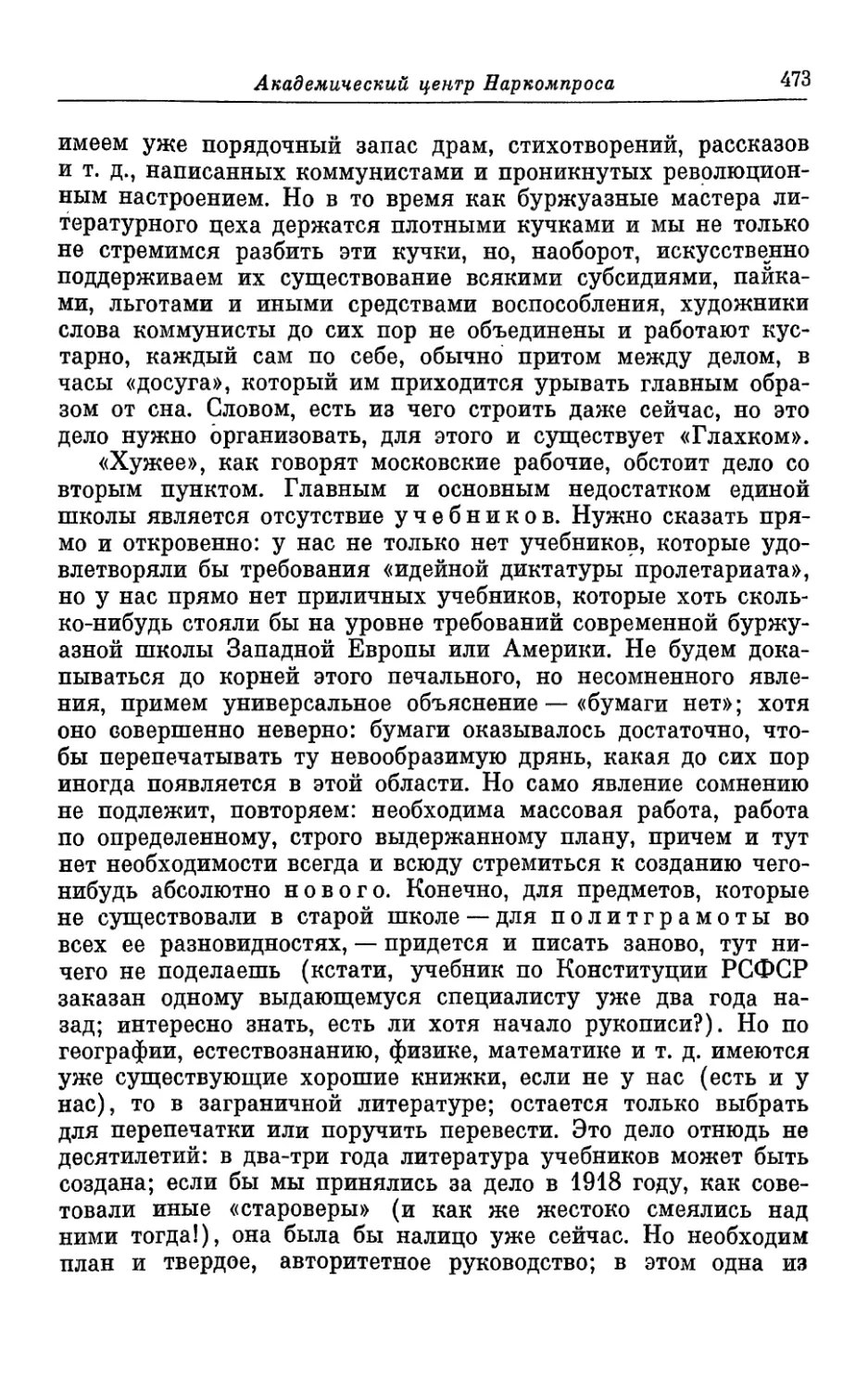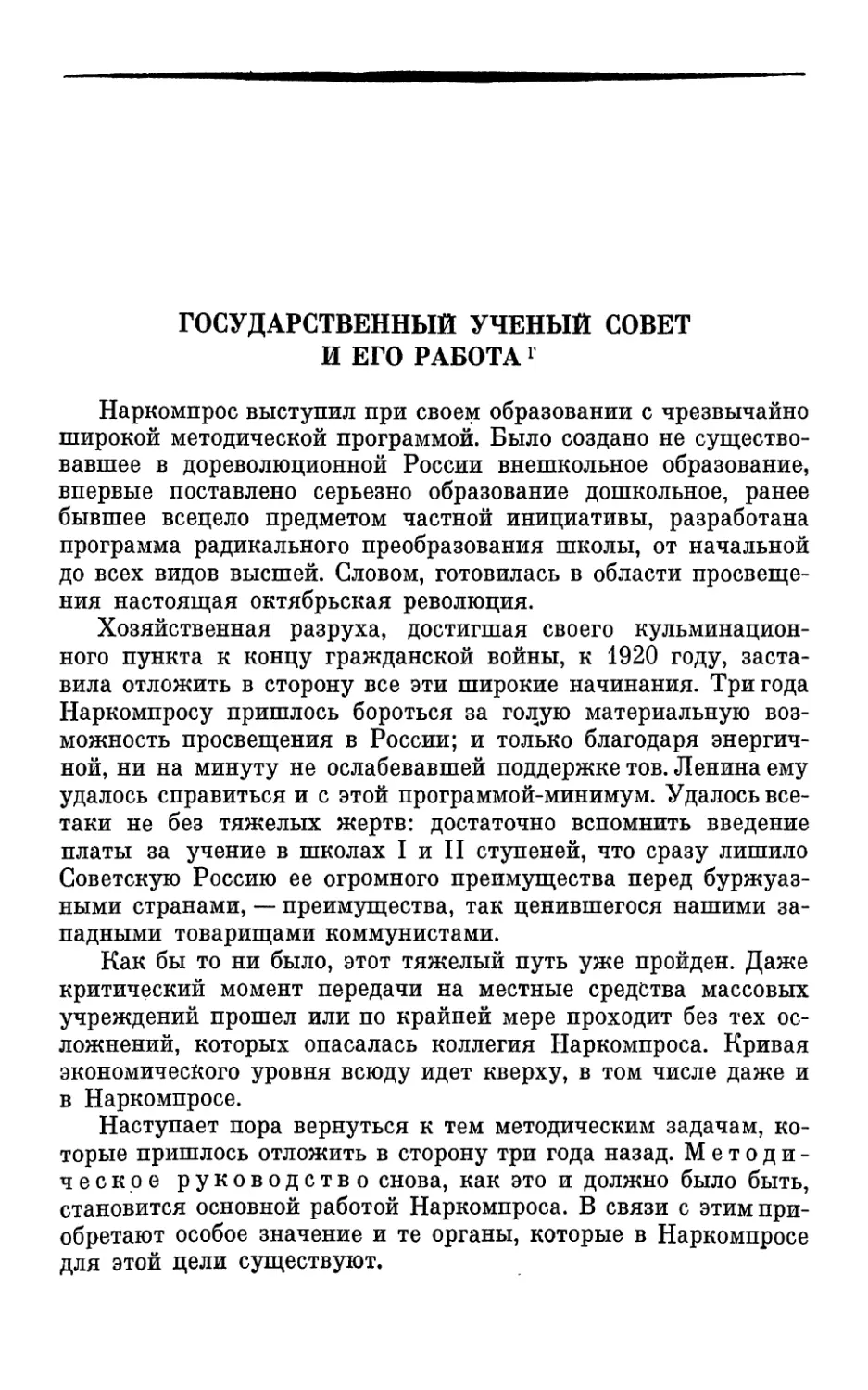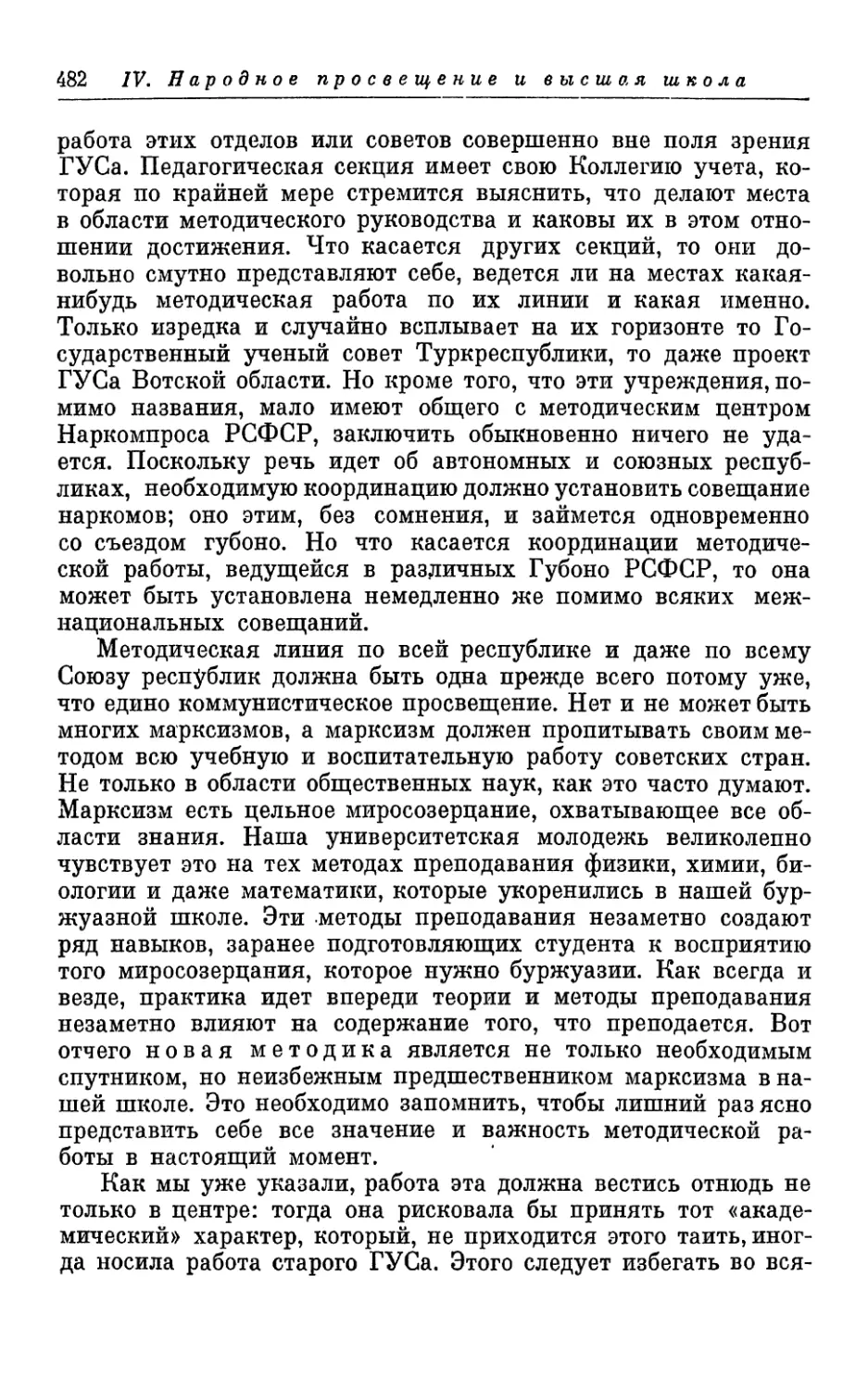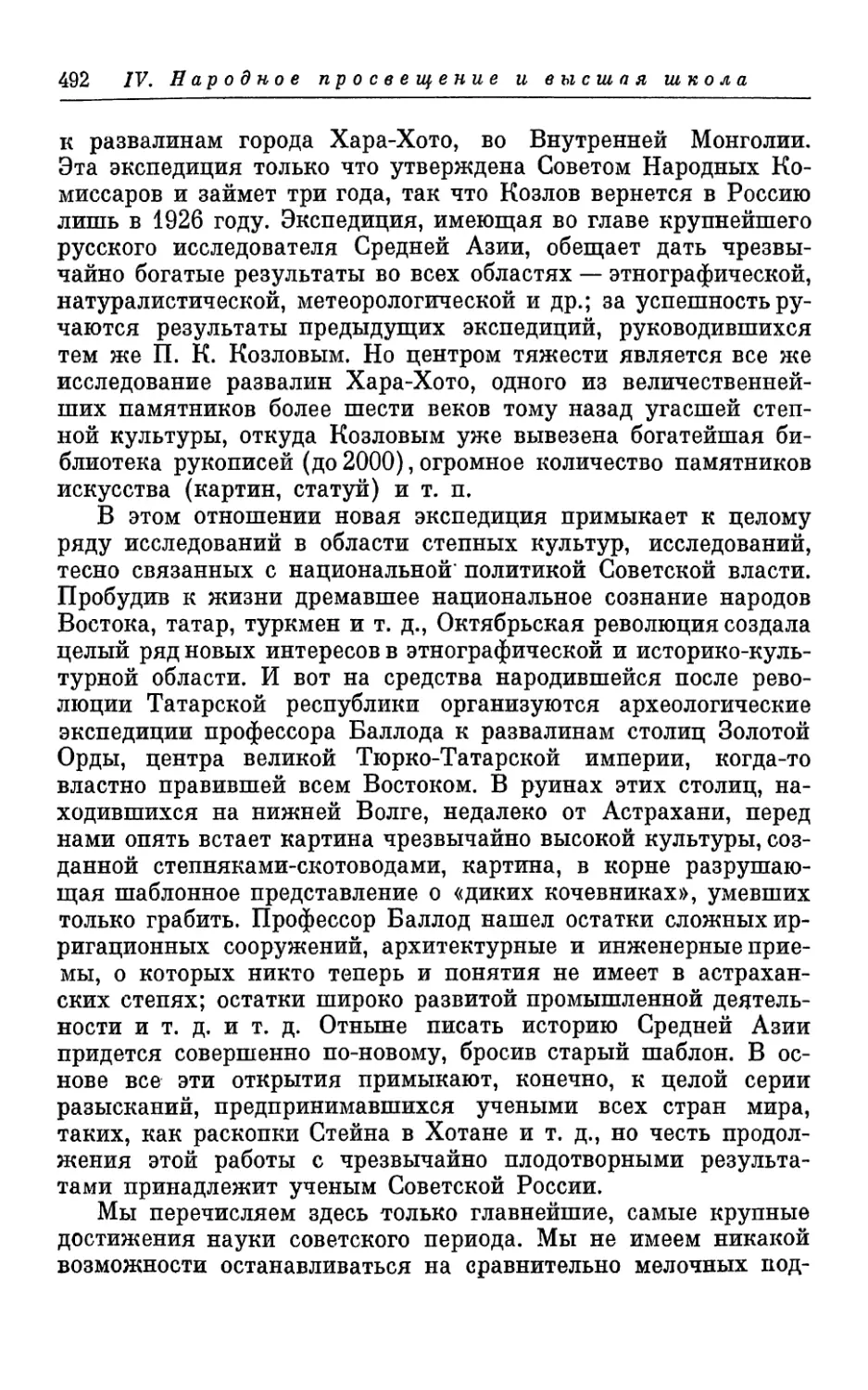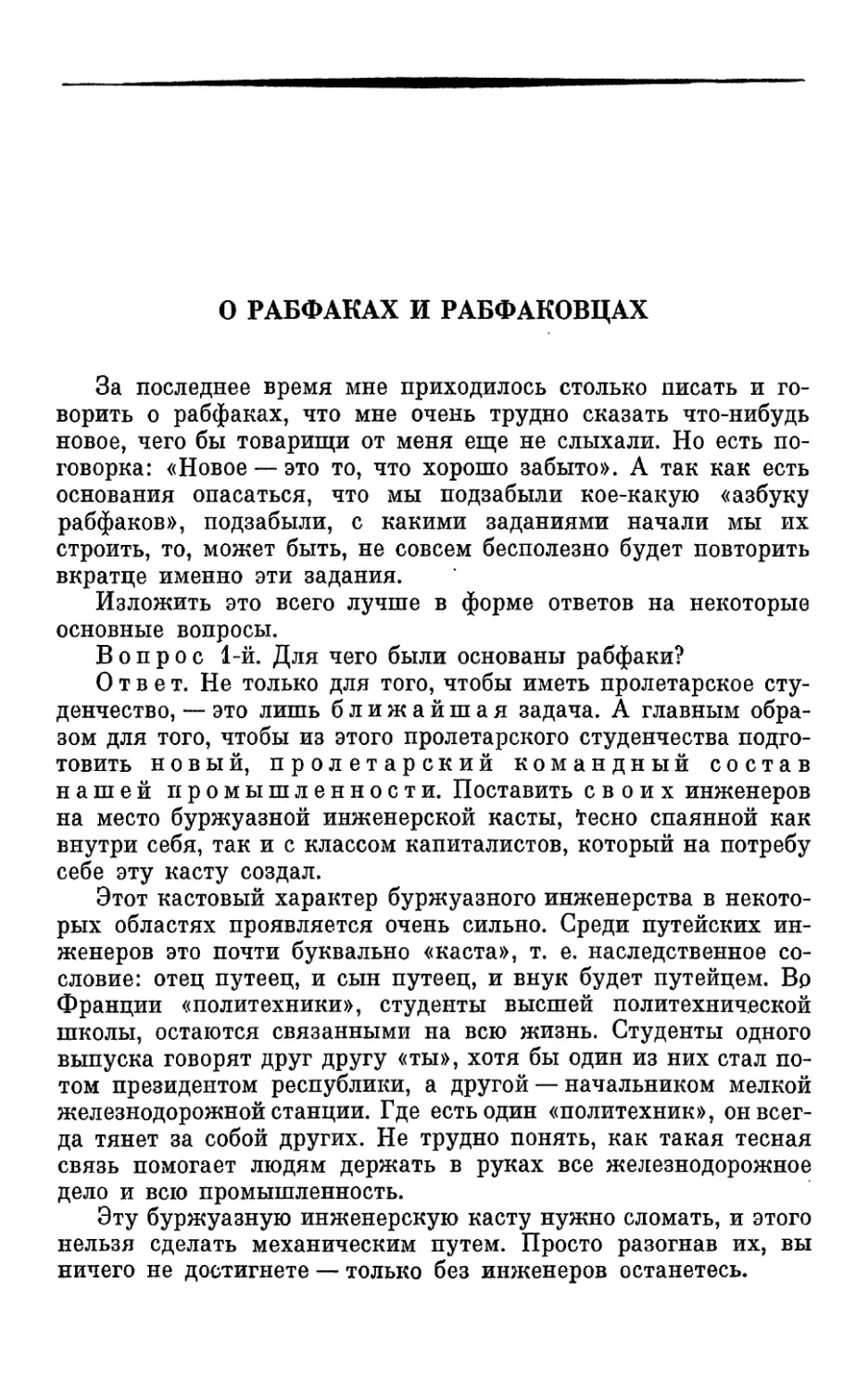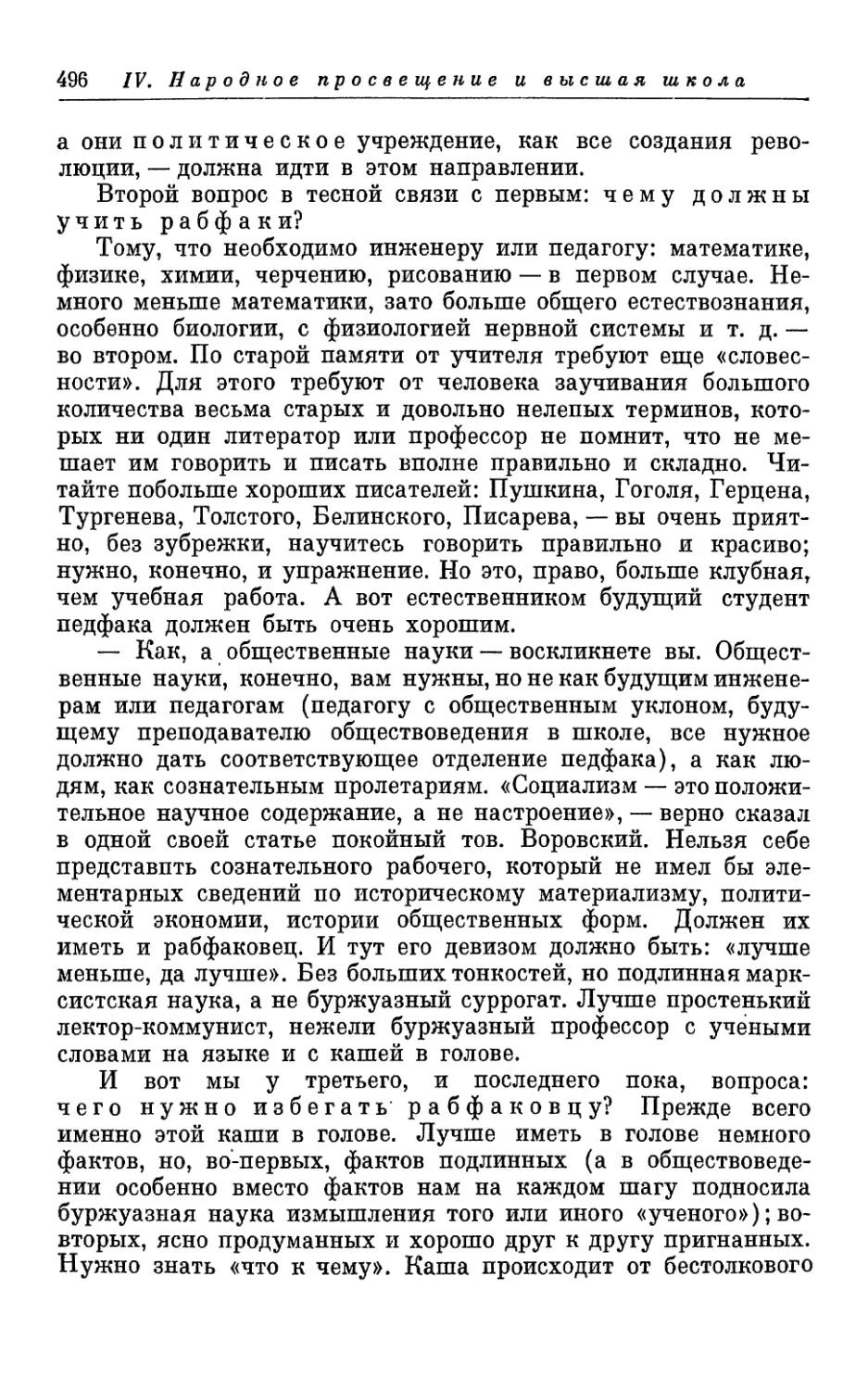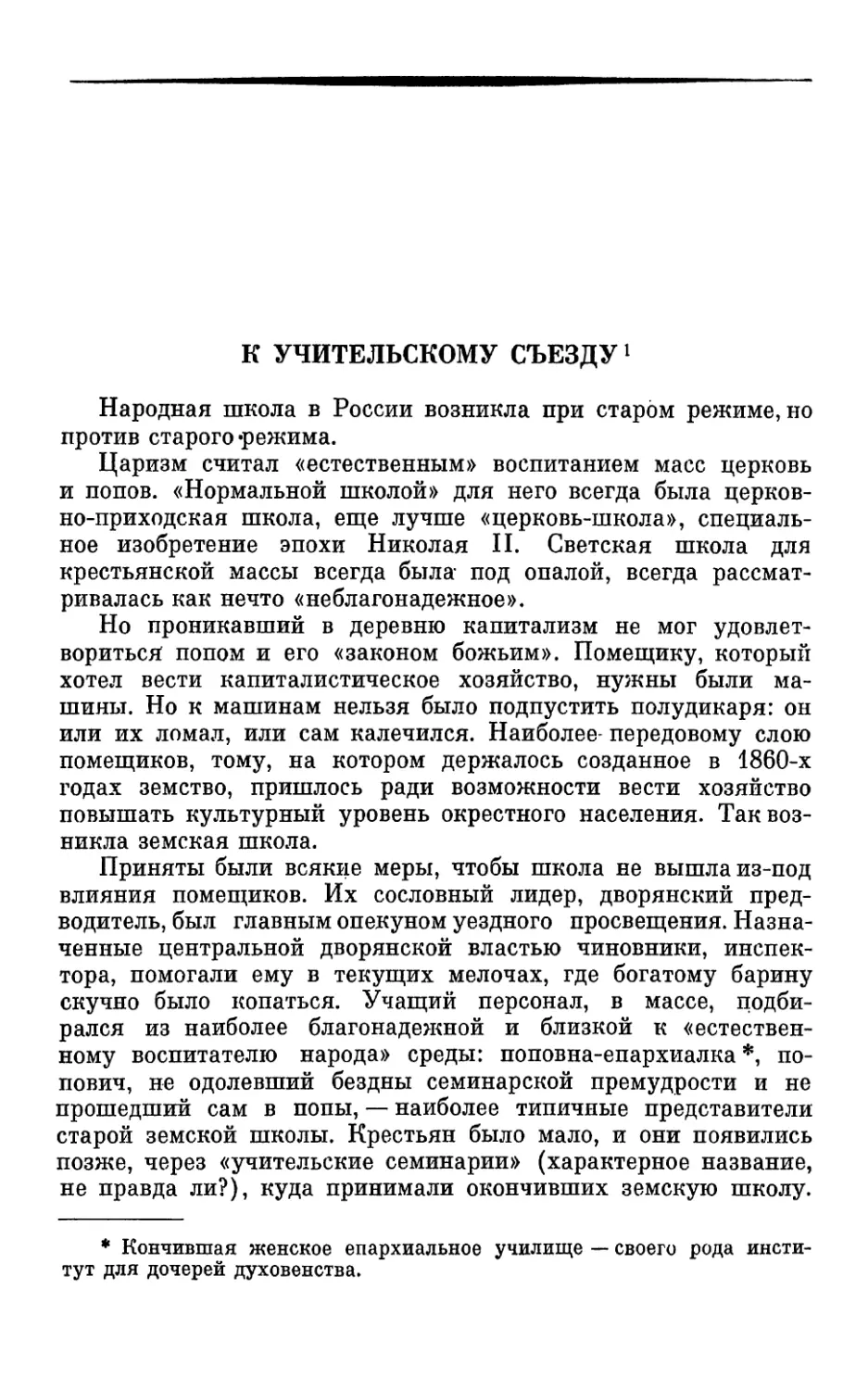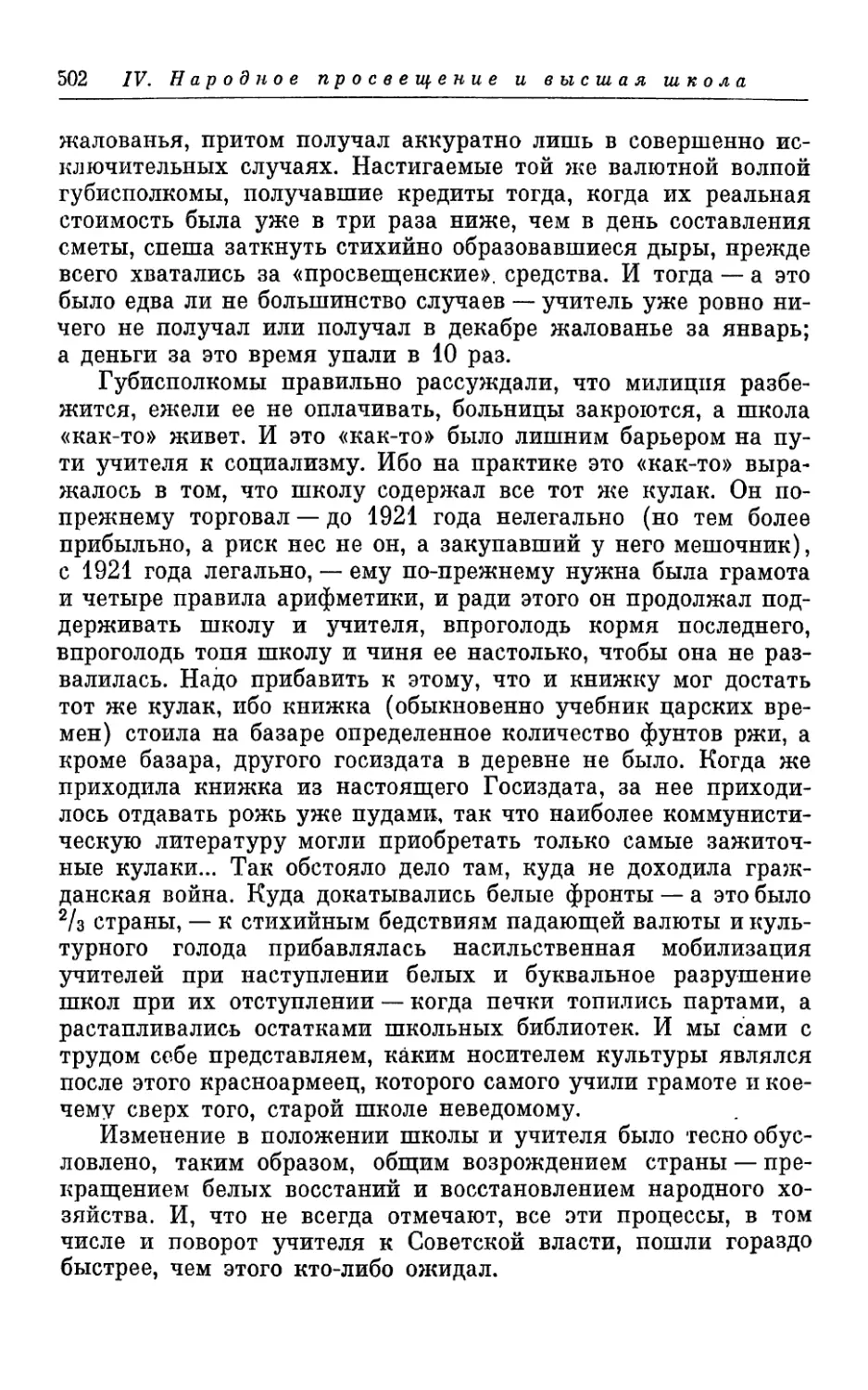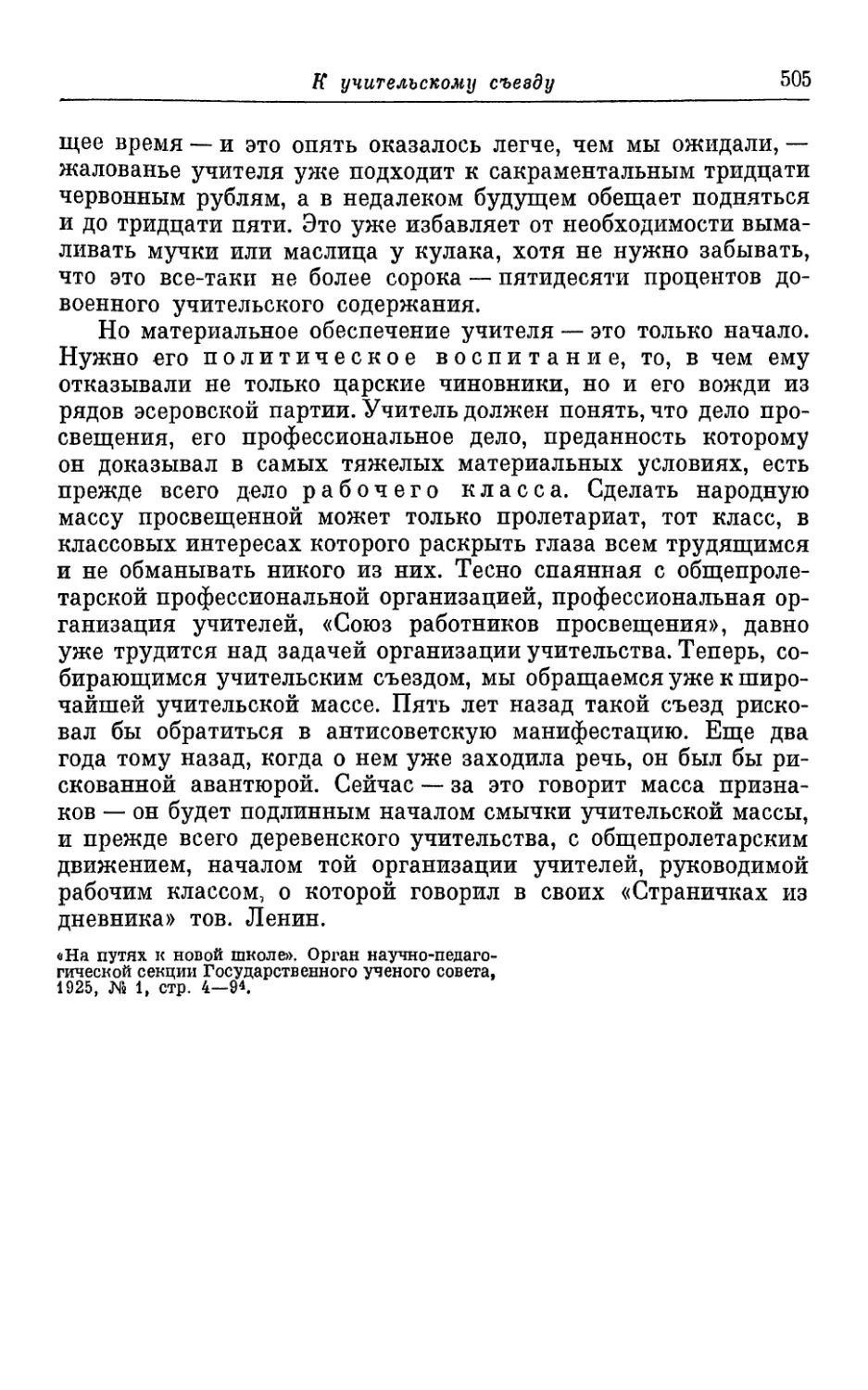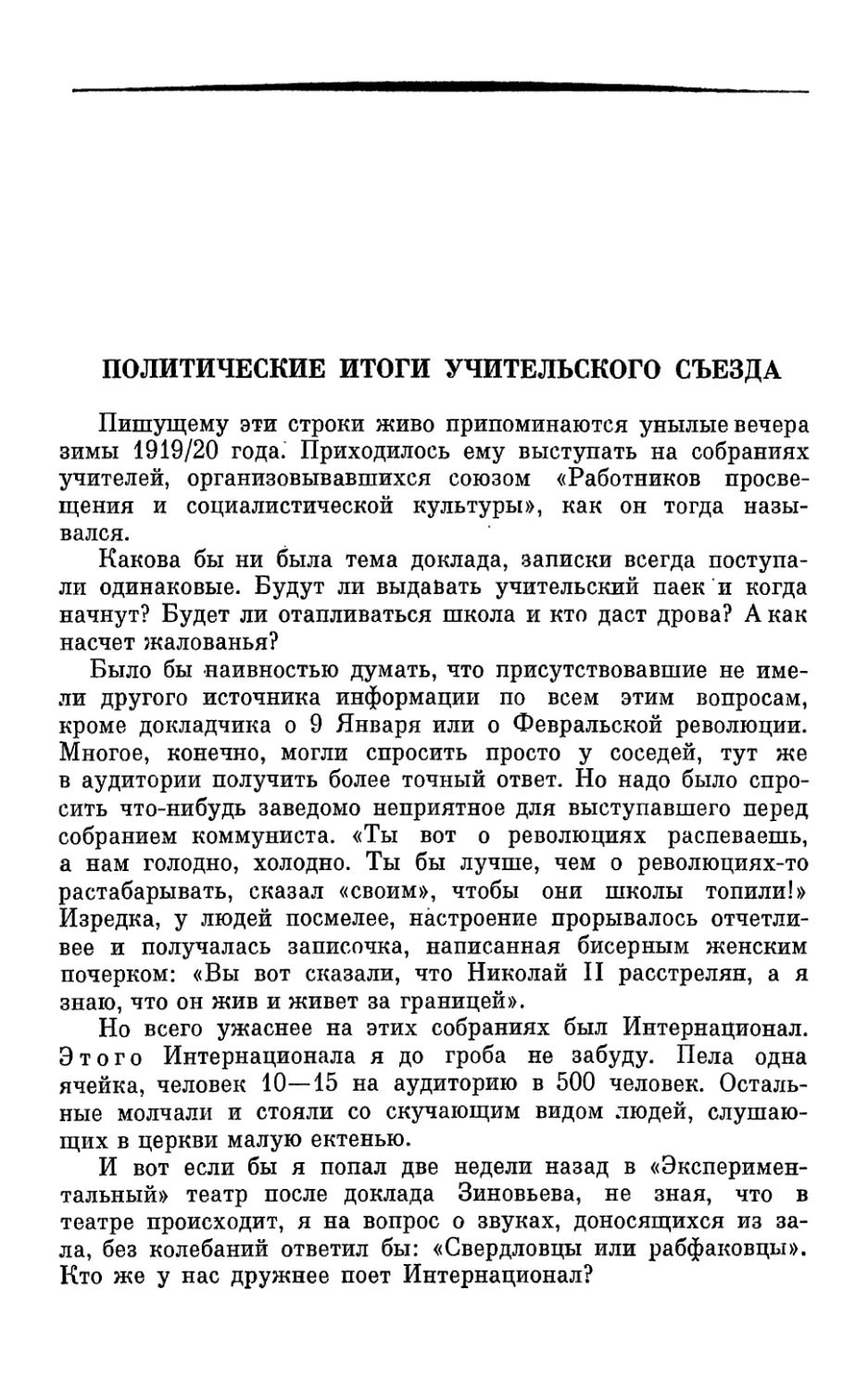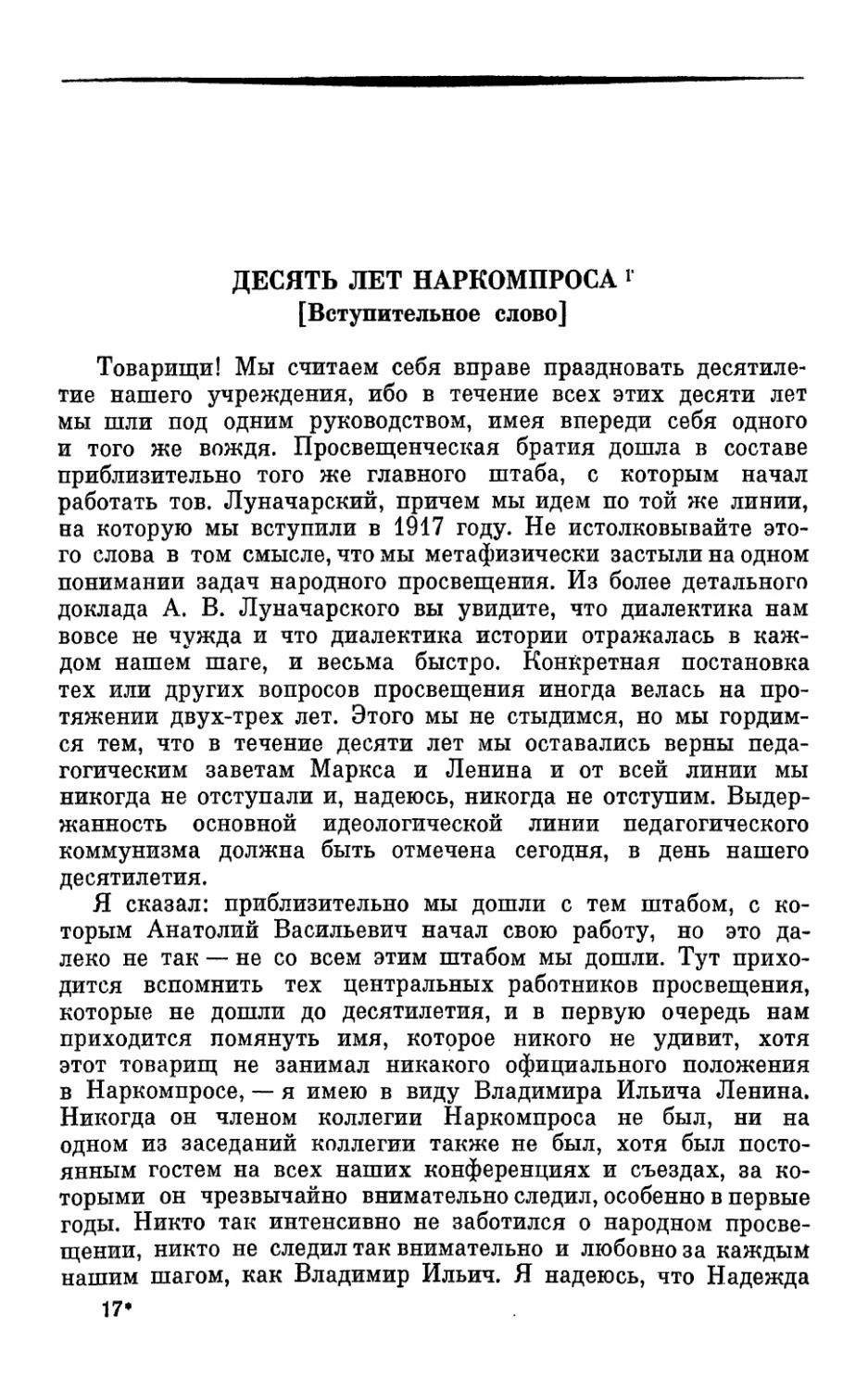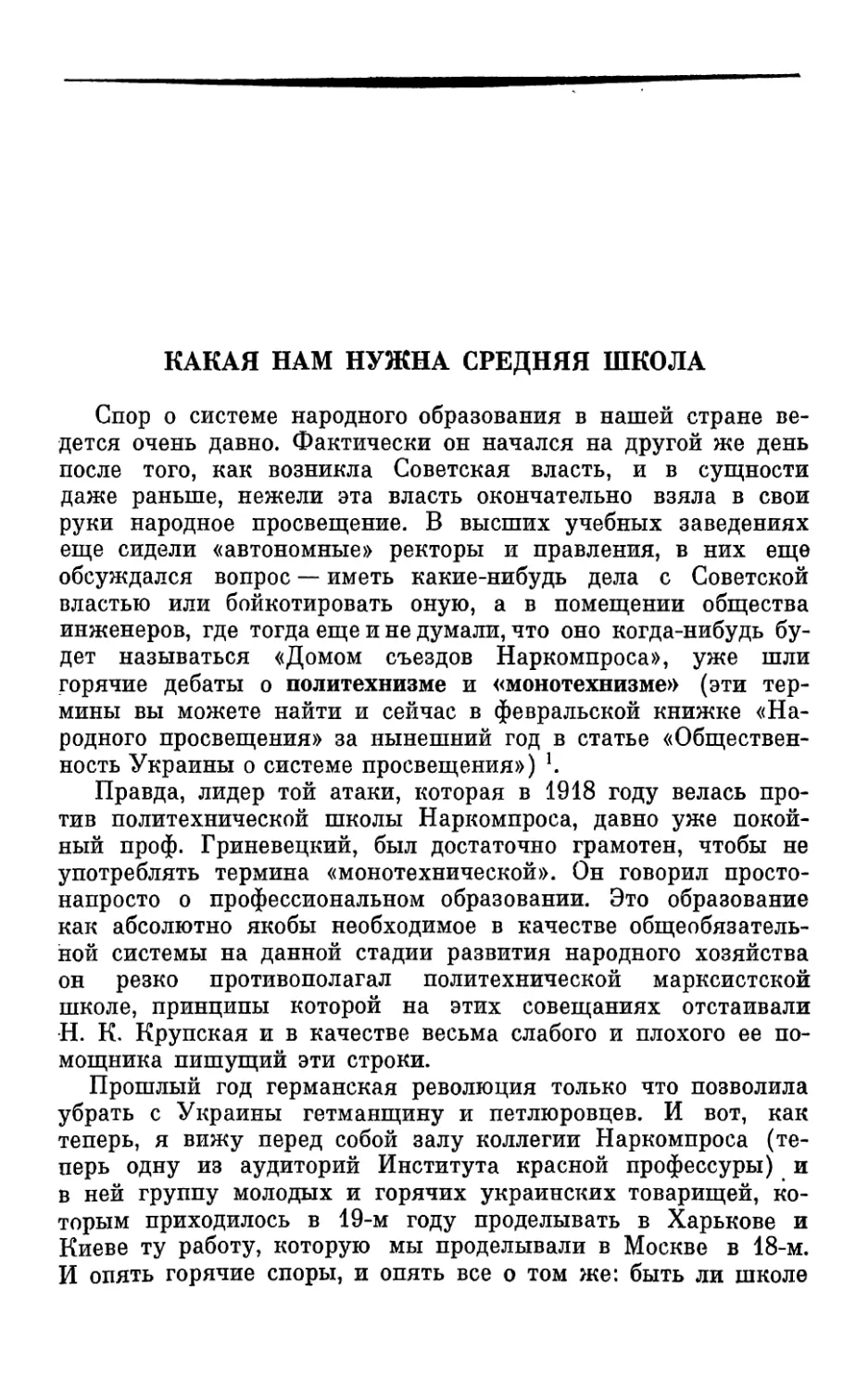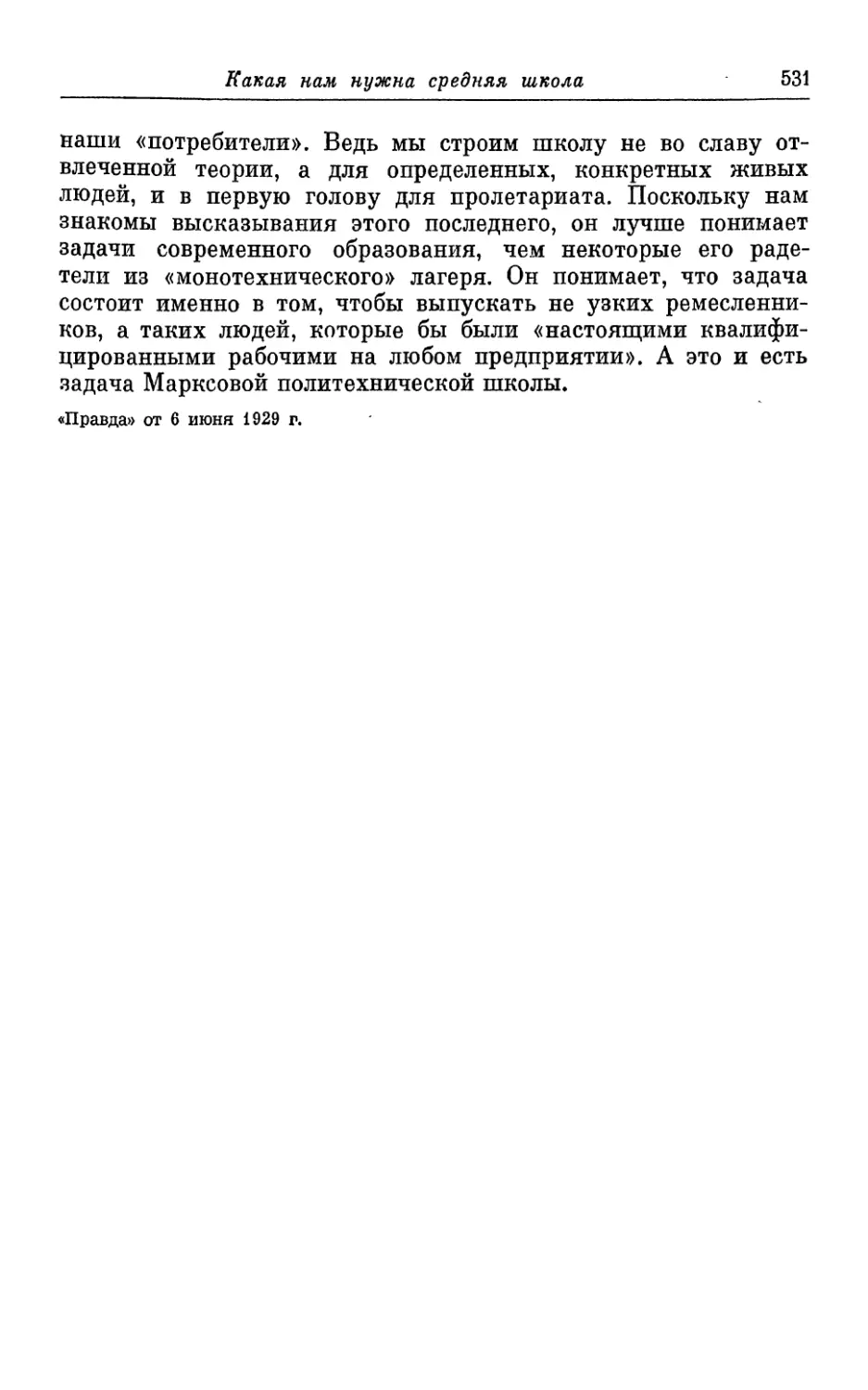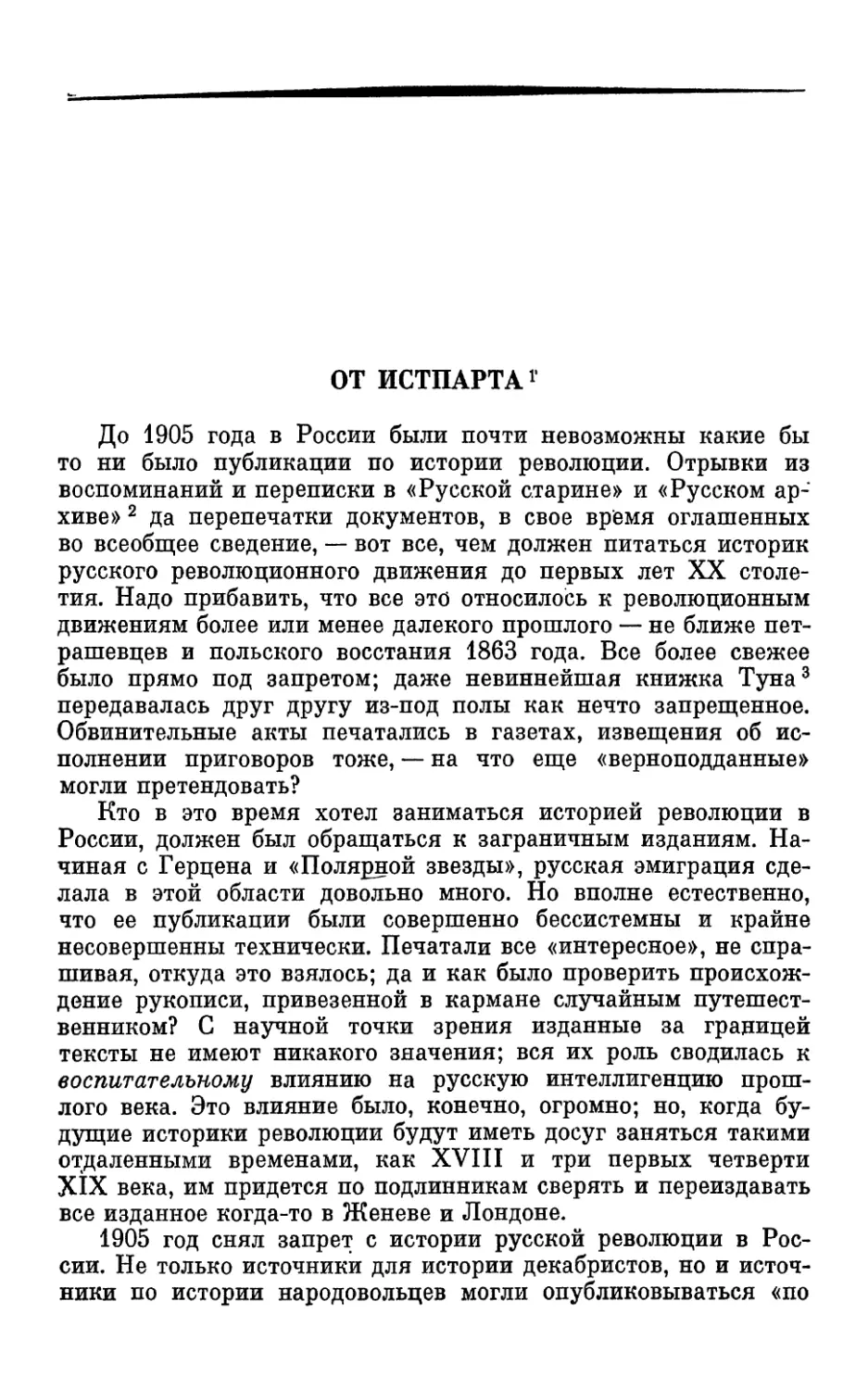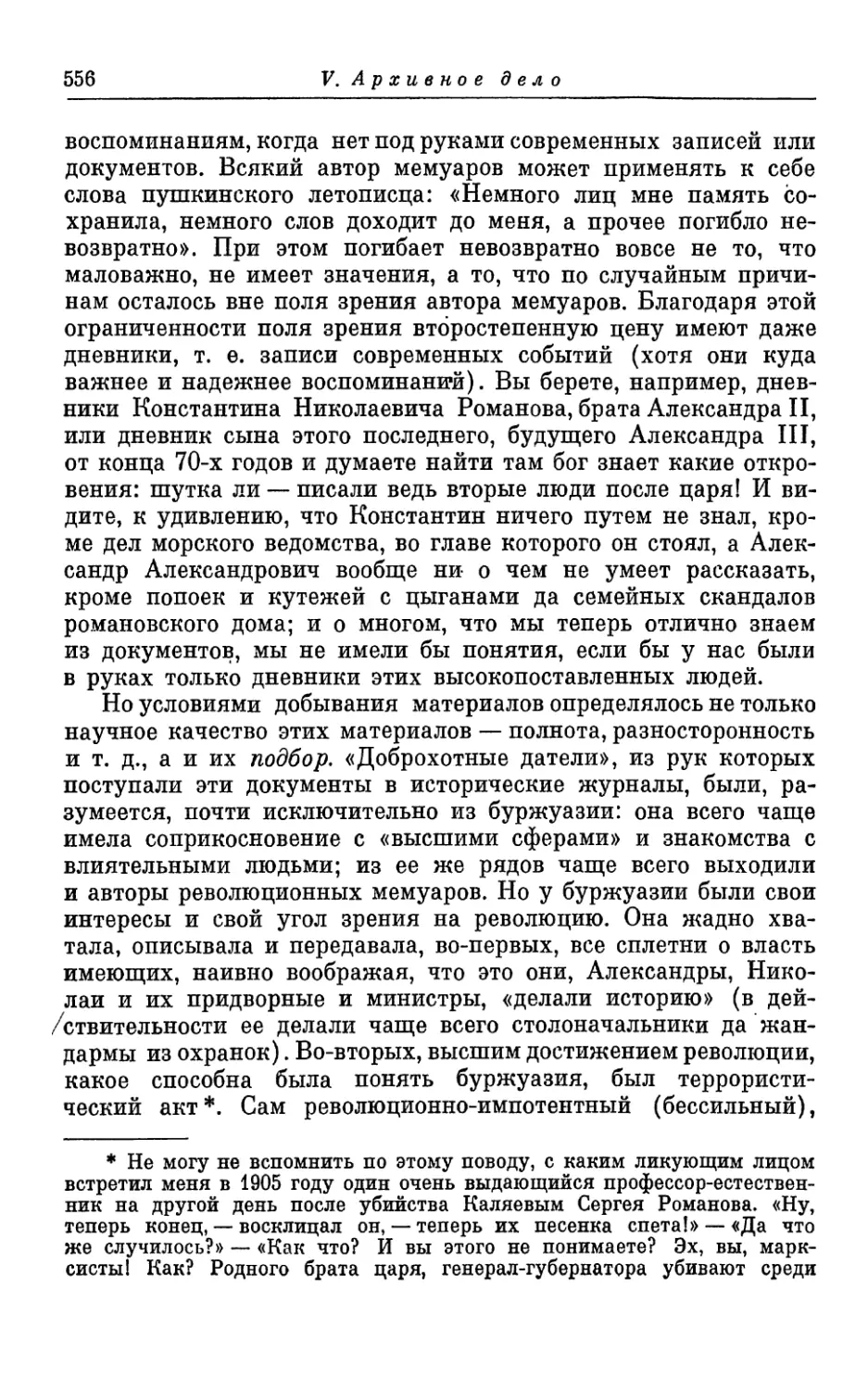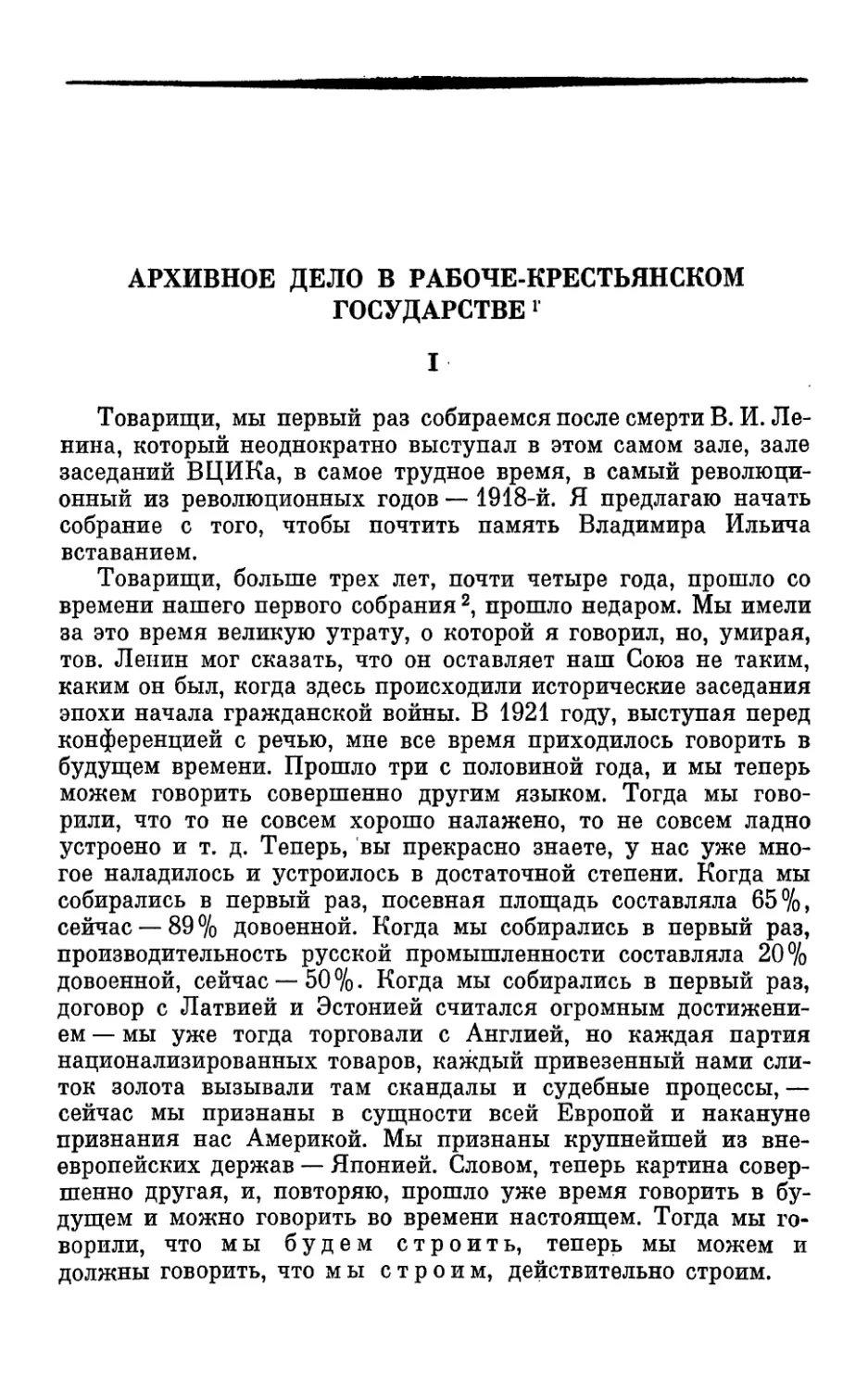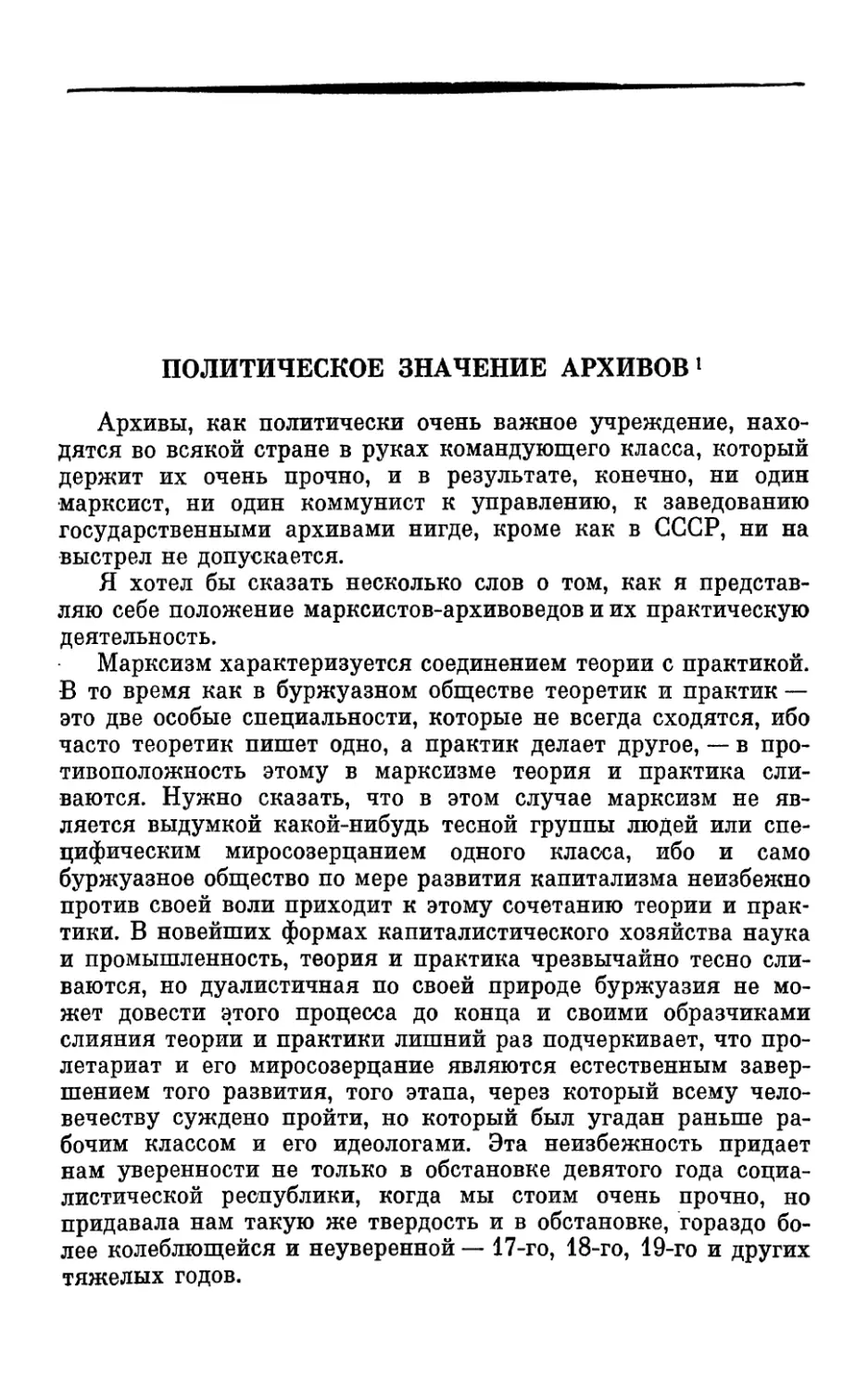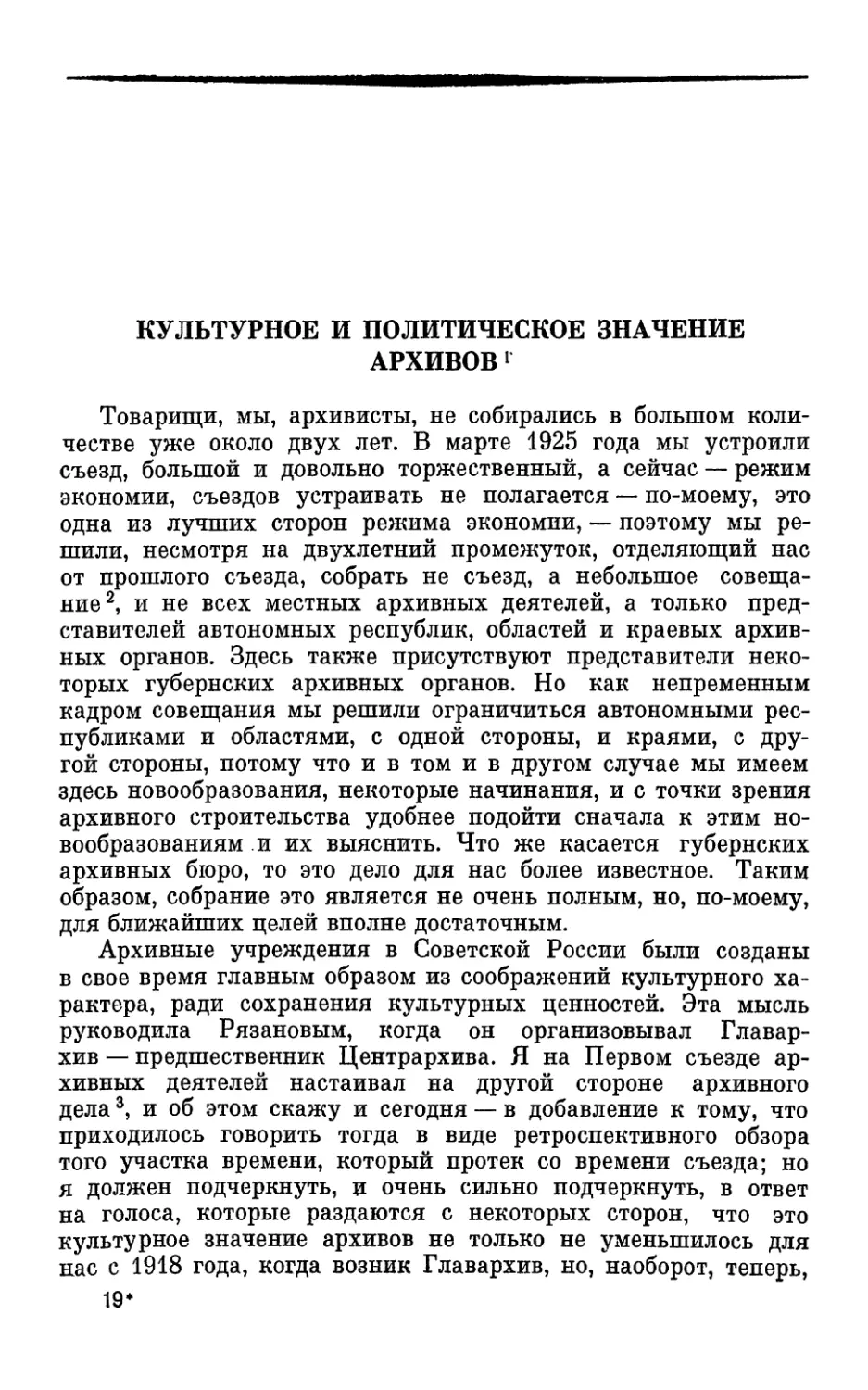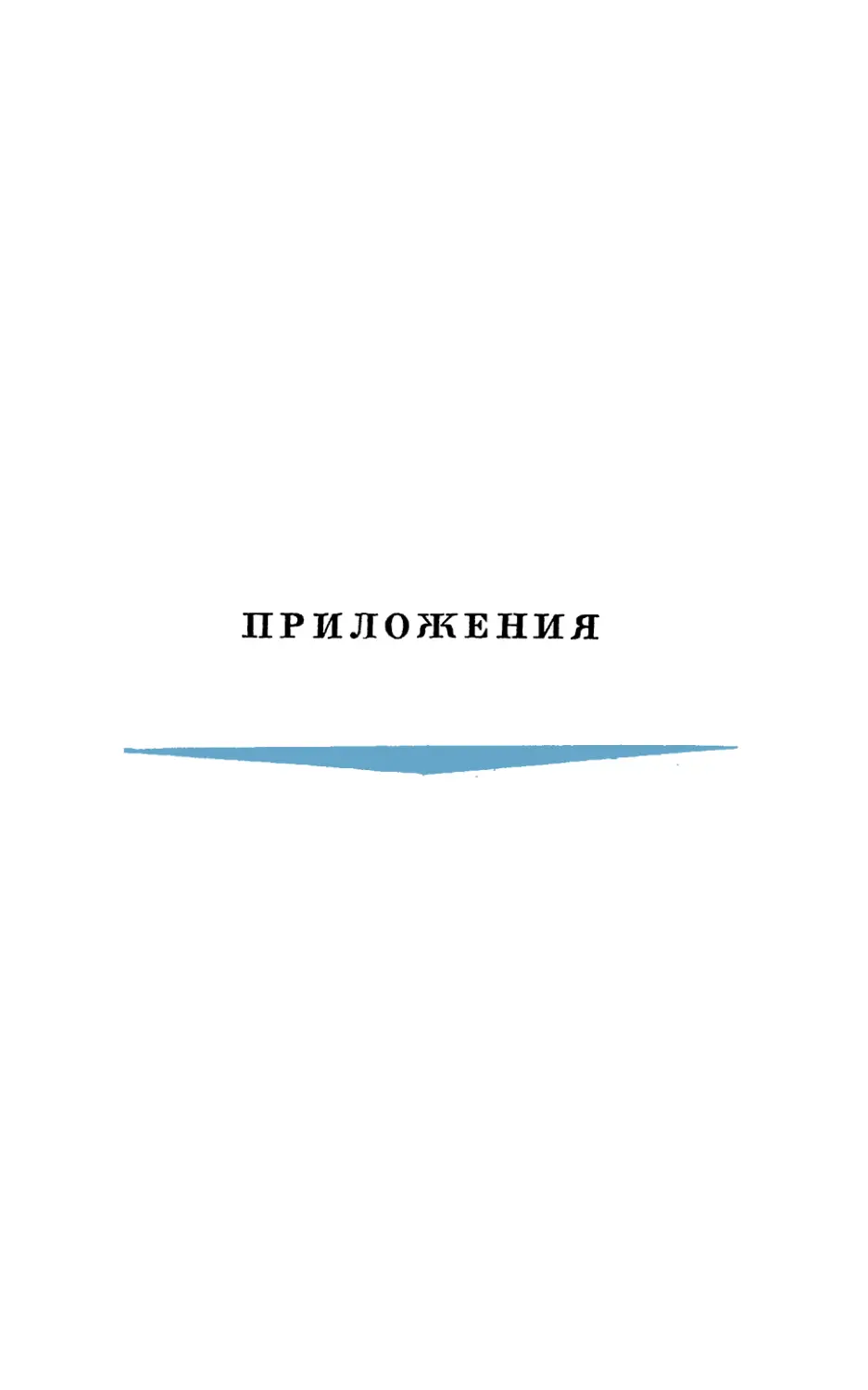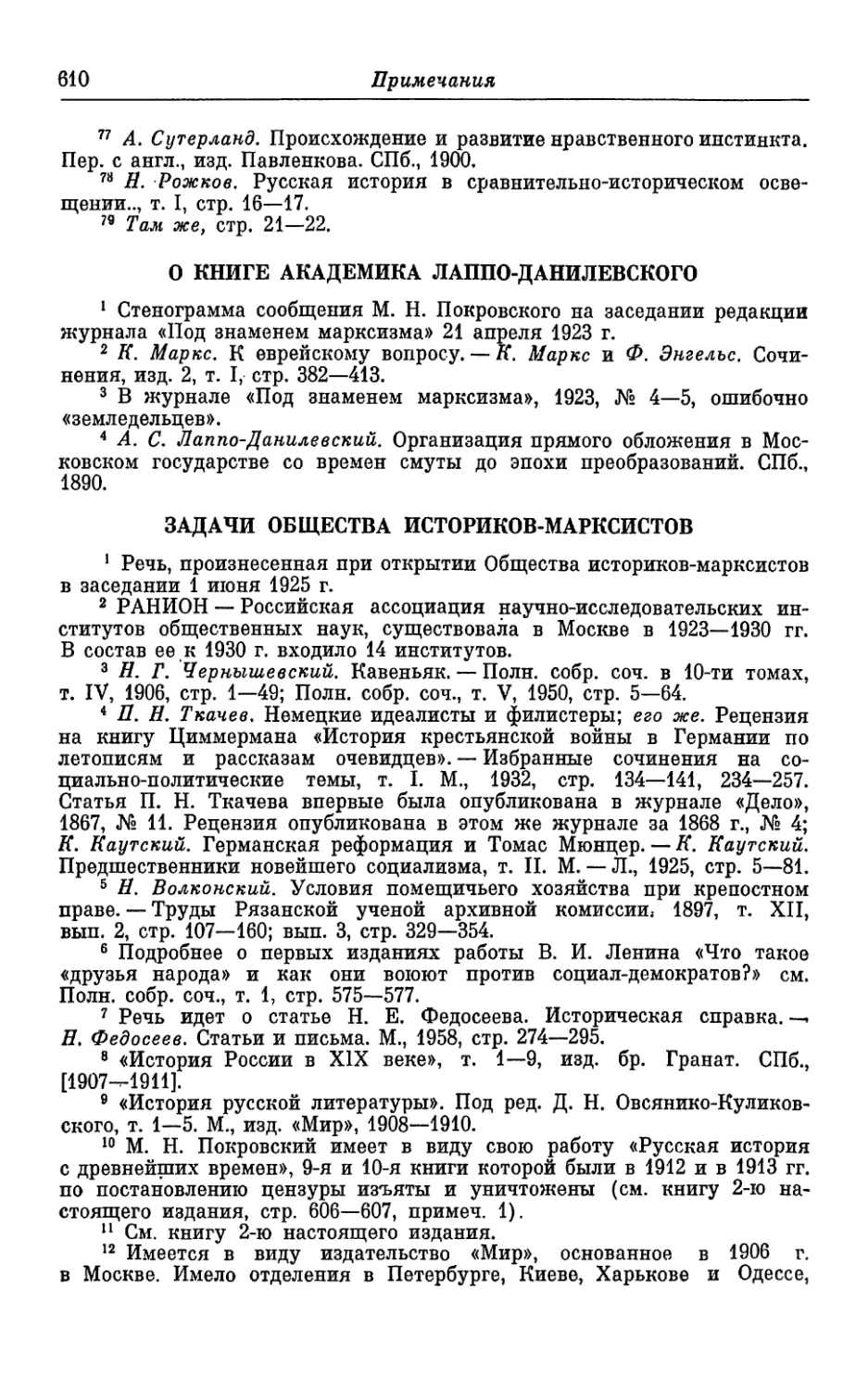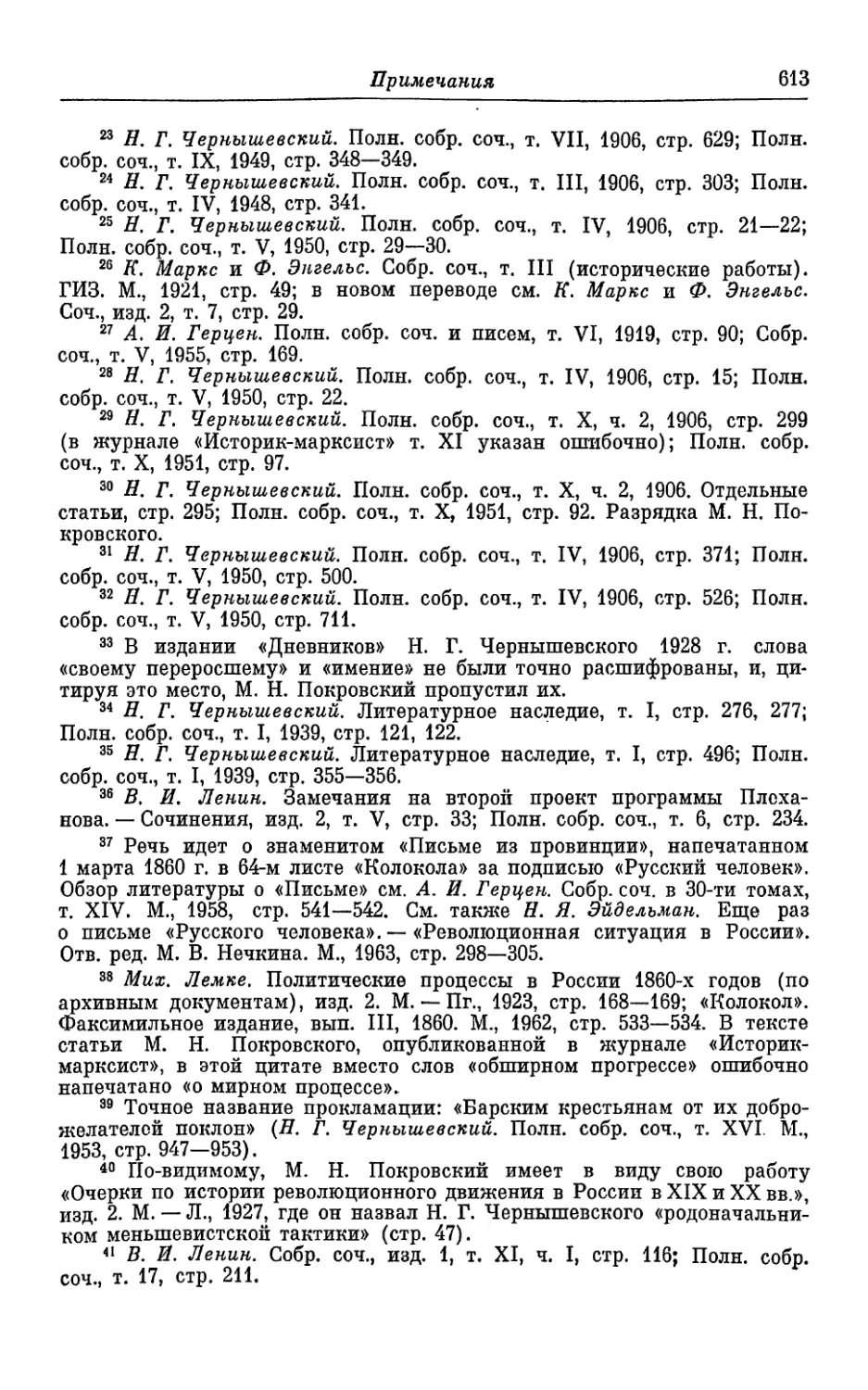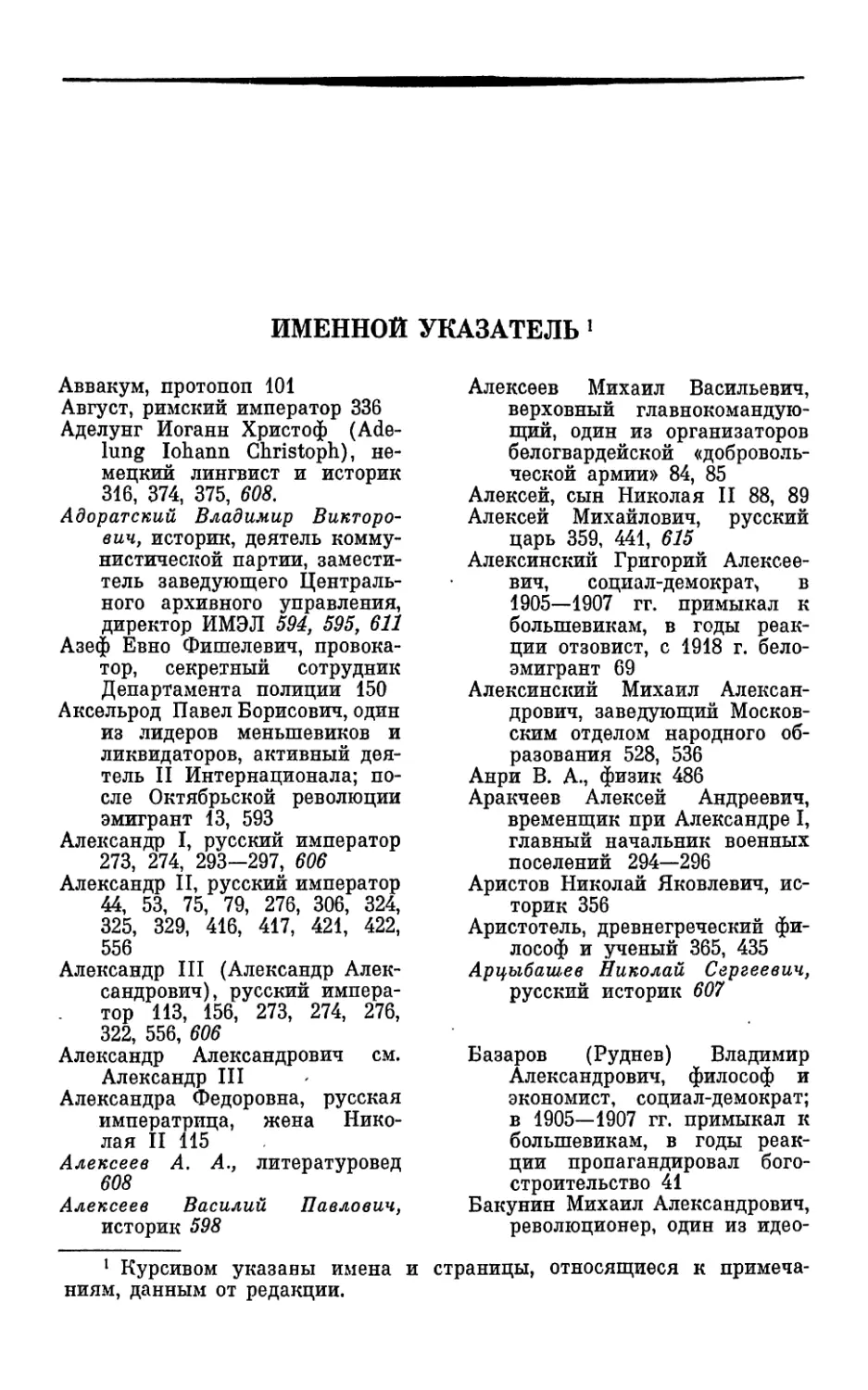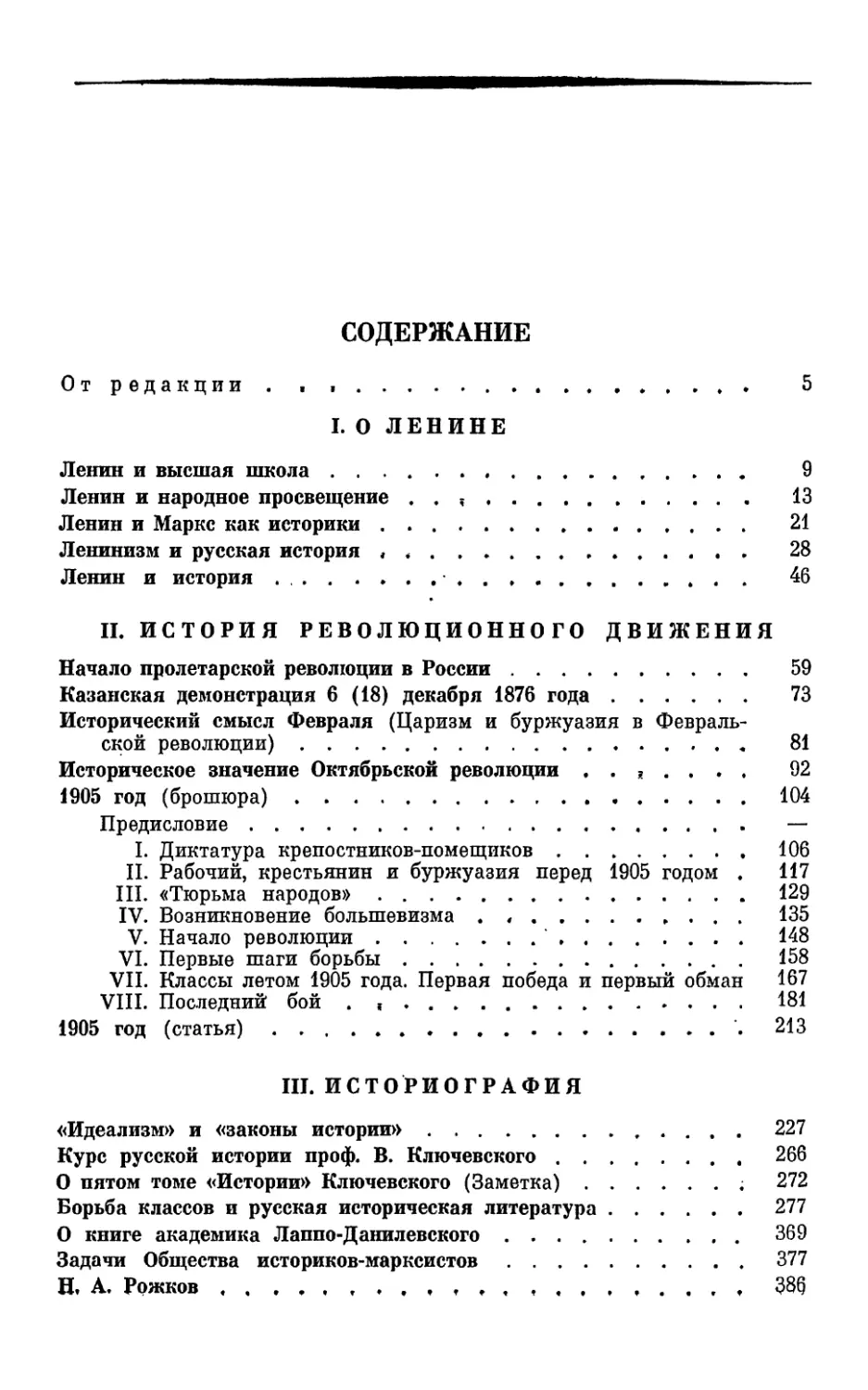Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
М. Н. ПОКРОВ с кий
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ
ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
под общей .редакцией
академика | М. Н. ТИХОМИРОВА, \ академика В. М. ХВОСТОВА, доктора исторических наук Л. Г. БЕСКРОВНОГО, кандидата исторических наук О. Д. СОКОЛОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «М Ы С Л Ь» Москва • 1967
М.Н. ПОКРОВ с кий
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
КНИГА
4
ЛЕКЦИИ, СТАТЬИ, РЕЧИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«м ы с л ь»
Москва • 1967
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КНИГА 4-я
ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Л. Г. БЕСКРОВНОГО
И
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Л. М. ИВАНОВА
М. Н. Покровский
Государственный музей Революции СССР
ОТ РЕДАКЦИИ
В последнюю книгу избранных произведений М. Н. Покровского включены его отдельные работы — статьи и брошюры, лекции, речи и выступления, написанные в основном после Великой Октябрьской социалистической революции. Эти работы отражают широкий круг интересов М. Н. Покровского и его роль в становлении советской исторической науки. В свое время они были опубликованы в периодической печати или выходили отдельными изданиями. Те немногие неопубликованные работы, которые обнаружены в архиве ученого, охватывают в основном тот же круг вопросов, который разработан в трудах М. Н. Покровского, предлагаемых ниже вниманию читателей, и поэтому они не включены в настоящую книгу.
Редакционная коллегия расположила весь материал по разделам, соответствующим тем важнейшим проблемам, над которыми работал М. Н. Покровский. Это в первую очередь его труды, посвященные В. И. Ленину. Далее следуют разделы, содержащие работы по истории революционного движения и историографии.
Ученый-историк и государственный деятель М. Н. Покровский, будучи заместителем народного комиссара просвещения РСФСР, руководителем Коммунистической академии, Института красной профессуры, Центрархива, вел большую организационную работу в области исторической науки и просвещения. В IV и V разделах настоящей книги публикуются выступления М. Н. Покровского, посвященные вопросам народного просвещения, организации высшей школы и архивного дела.
Материал в пределах каждого раздела расположен в хронологическом порядке.
Работы М. Н. Покровского печатаются, как правило, по последним прижизненным изданиям.
6
От редакции
В примечаниях указаны использованные М. Н. Покровским источники, уточнены отдельные ссылки, сделанные автором, отмечены первые публикации его работ. Ссылки М. Н. Покровского на современные ему издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина дополнены указаниями соответствующих страниц последнего (2-го) издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и Полного собрания сочинений В. И. Ленина (5-е издание). В тех случаях, когда цитаты из произведений В. И. Ленина не были снабжены М. Н. Покровским ссылками на источники, последние раскрыты по Полному собранию сочинений В. И. Ленина. По этому же изданию уточнены цитаты из ленинских работ.
О ЛЕНИНЕ
ЛЕНИН И ВЫСШАЯ ШКОЛА1
Не было в нашей партии человека, который лучше понимал бы политическое значение просвещения, чем Ленин. «Каждый сельский учитель должен быть нашим пропагандистом» — этот лозунг едва ли кто мог забыть, и едва ли кто из нас пять лет назад сознавал, насколько реален этот лозунг.
Мы так опутаны сетью условностей, бессознательно унаследованных мыслей, «традиционных», т. е. взятых у других напрокат, представлений, что живая, подлинная действительность кажется нам подчас миражем, обманом зрения. Сколько раз бывало, что сверхреальные, как сама жизнь, лозунги Ленина казались нам чем-то сверхфантастическим. Не разводили разве мы руками, прочтя в первый раз о национализации земли, о вооруженном восстании, о Советском правительстве? А огорошивавший нас всеми этими «неслыханными новшествами» просто думал своей головой и видел своими глазами. И это вовсе не так просто, как кажется.
Отношение Ленина к высшей школе было образчиком такой мудреной простоты. Рассуждений на ту тему, что в пролетарской школе все должно быть по-особенному — даже и химия не та, и геометрия не та, как в буржуазной школе, — таких рассуждений Ленин органически не переносил. Первый совет, который я от него услыхал, звучал совсем по-староверчески, до неприличия консервативно, можно сказать: «Ломайте поменьше!» Это было в те дни, когда количеством лома некоторые горячие. товарищи мерили достоинство советского работника. А Ленин говорил: «Чем меньше наломаешь, тем лучше».
Этот своеобразный «консерватизм» Ленина хорошо знаком всем старым его товарищам. Не выносил этот серьезнейший человек и огромной силы ученый — о Ленине как ученом будет написано не меньше книг, чем о Марксе, — ни революционной фразы, ни дилетантского «с кондачка». Но если эти слова — «в высшей школе ломайте поменьше!» — приятно прозвучат в ушах иного защитника покойной «автономии», мы должны
10
1. ОЛенине
сейчас же его разочаровать. Не говоря уже о том, что Ленин, это живое воплощение пролетарской диктатуры, не выносил и мысли о каких бы то ни было буржуазных автономиях — само слово это было беспощадно «изничтожено» в тезисах о высшей школе, которые пишущий эти строки докладывал в ЦК партии, — не говоря уже об этом, Ленин ценил в науке, конечно, не ее буржуазную оболочку, а ее пролетарскую сущность. В противоположность людям, которые убеждены, что пролетариат должен еще выдумывать «свою» науку, Ленин считал весь буржуазный инвентарь, включая и науку, достоянием победителя — пролетариата. Умей использовать этот инвентарь, и высшая школа будет твоя; а как пользоваться, присмотрись к старым хозяевам: они инвентарь строили и знают все его секреты; умей в них проникнуть.
И вот «старовер» и «консерватор» явился подлинным родоначальником такого «неслыханного новшества», как высшая пролетарская школа. Когда Наркомпрос проводил через Совет Народных Комиссаров декрет, снимавший всякие рогатки на дороге в высшую школу, делал ее юридически доступной для любого рабочего, перед Лениным тотчас же встал вопрос: а как жефактически-то пролетариат сможет там учиться? И проект Наркомпроса был дополнен обязательством: обеспечить стипендиями «студентов из среды пролетариата и беднейшего крестьянства». В этом было зерно будущих рабфаков и будущего «классового приема». Само слово «рабочий факультет» не принадлежит Ленину; и возможно, что этому нелюбителю парадоксов и оригинальничанья оно бы и не понравилось. Но так как вещь, называемая этим именем, ему, несомненно, очень нравилась, то ради доброкачественного содержания он простил и новое слово.
Фактический родоначальник рабфаков (декрет Совнаркома прошел за пять месяцев до открытия старейшего из них, который 2 февраля 1924 года мог бы праздновать свой пятилетний юбилей), Ленин был фактическим же инициатором и Института красной профессуры, который имел бы больше права требовать прибавки к своему названию «имени Ленина», чем любое из бесчисленных учреждений, на это претендующих 2.
11 февраля 1921 года Лениным был подписан декрет Совета Народных Комиссаров, гласящий:
«Учредить в Москве и в Петрограде3 институты по подготовке красной профессуры для преподавания в высших школах республики теоретической экономии, исторического материа¬
Ленин и высшая школа
И
лизма, развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства» 4.
Работать учрежденный институт начал с сентября 1921 года. Таким образом, исторической датой основания института является тот день, когда Ленин подписал декрет, но институт связан с ним, само собой разумеется, далеко не одной только этой подписью.
Я никогда не забуду маленького совещания в его кабинете, помнится, именно в ноябре 1920 года, где Ленин развернул перед нами план, тогда испугавший нас своей смелостью и грандиозностью, а теперь осуществляющийся в порядке обыкновенной повседневной работы, — план переподготовки преподавательского состава высших школ. Всем преподавателям по общественным наукам должно было быть дано задание: изучить в кратчайший срок основы марксизма и впредь вести преподавание только по марксистским программам. Теперь такая переподготовка стала, повторяю, будничным делом. Тогда это казалось страшно новым и смелым, и мы, несколько коммуни- стов-профессоров, собравшихся в кабинете Ленина, выдвинули «встречный промфинплан»: подготовить смену старой буржуазной профессуры по общественным наукам из молодежи, преимущественно нашей, партийной.
Характерно, что работу пересоздания личного состава высшей школы Ленин поставил на очередь, как только кончилась гражданская война, осенью 1920 года. Без коммунистического студенчества приниматься за эту задачу было делом безнадежным, а коммунистическая молодежь была на фронтах; да и материал для создания новой профессуры неоткуда было иначе взять: большая часть первого набора красных профессоров пришла с фронта; исключение составила лишь небольшая группа свердловцев, попробовавших фронта лишь под самый конец, иные уже под Кронштадтом.
Но подготовка академического молодняка — это была только одна сторона предложений Ленина на том совещании, из которого вышла «комиссия по коренному преобразованию преподавания общественных наук в высшей школе» (короче «комиссия Ротштейна», по председателю) 5. Эта мысль была легче всего усвоена присутствующими, и, как водится, это не была самая простая и самая оригинальная из мыслей, которые мы услышали.
Со свойственной ему бережливостью хорошего хозяина Ленин отнюдь не собирался расставаться навеки со старым живым аппаратом российских университетов. Не говоря уже
12
1. ОЛенине
о высшей технической школе, где лозунг «ломайте поменьше» сохранял свою силу в 1920 году, даже на факультетах общественных наук он видел возможность использовать старый преподавательский материал. «Свяжите их твердыми программами, — говорил он нам, — давайте им такие темы, которые объективно заставляли бы их становиться на нашу точку зрения. Например, заставьте их читать историю колониального мира: тут ведь все буржуазные писатели только и знают, что «обличают» друг друга во всяких мерзостях: англичане — французов, французы — англичан, немцы — тех и других. «Литература предмета» принудит наших профессоров рассказывать о мерзостях колониального капитализма вообще. Потребуйте, кроме того, от каждого из них основательного знания марксистской литературы; объявите, что, кто не сдаст специального марксистского экзамена, будет лишен права преподавания. Уверяю вас, что, если они не сделаются ортодоксальными марксистами, они все же будут излагать такие вещи, которые раньше совсем не входили в программу их курсов, а уже дело студентов, под нашим политическим руководством, использовать этот материал, как нужно».
Само собой разумеется, что эта картина профессора, переучивающегося «говорить по-марксистски», показалась нам неслыханным и совершенно нереальным новшеством. К осуществлению этого лозунга мы подошли позже всего и только недавно ввели обязательные экзамены по марксизму для лиц, претендующих занять кафедру в наших фонах6. Ожидали больших затруднений — не встретили никаких. Экзамены держат с удовольствием. А некоторые (и даже из очень старых!) вдруг открыли, что они всегда были марксистами.
+ Великим сердцеведом был покойный наш вождь и глубоко проникал в природу буржуазного человечества. Мудрый «консерватизм» Ленина спас высшую школу от разгрома, когда этот разгром объективно был возможен; он спас только для того, чтобы пролетариату, когда придет ему черед в эту школу идти, не оказаться в разоренной хоромине. А что барские антресоли и бельэтажи пролетариат сумеет переделать по своим вкусам и надобностям, Ленин ни минуты не сомневался: глубока была его вера в творческие силы рабочего класса, глубже, чем у всех нас, и она его не обманула.
М. Я. Покровский. О Ленине. Сборник статей и воспоминаний. М., 1933, стр. 18—22
ЛЕНИН И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
О Ленине как просветителе будут написаны целые книги. На это нужны если не годы, то многие месяцы.
Никто, как Ленин, не понимал так глубоко и не умел выразить так просто революционное значение просвещения. Не просвещения как орудия пропаганды, а просвещения вообще, формального образования прежде всего. Чтобы быть революционером, сознательным бойцом за свои и чужие права, нужно быть грамотным, — это минимум.
«...Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика» К
Это очень просто. Так просто, что, кажется, и говорить не стоит. Но эта связь революции и грамотности вовсе не такая сама собой разумеющаяся вещь, как кажется. Для контраста не могу не привести рассуждение на эту тему наших револю1 ционеров начала 70-х годов — эпохи, к которой и Ильич относился с полным уважением за моральные качества действовавших тогда людей. Вот что пишет П. Б. Аксельрод о тех днях в своем «Пережитом и передуманном»:
«...иные из бакунистов шли так далеко, что сомневались даже в пользе грамоты для народа. А некоторые считали ее прямо вредной.
Помню, у меня был однажды спор по этому поводу с Суд- зиловским. Я доказывал необходимость издания пропагандистской литературы «для народа». Судзиловский же возражал: «Не нужно народу и грамоты! Хуже станет, если народ грамоте научится. Будет газеты читать, заразится тлетворным влиянием старого мира, и придется еще бороться с заразившими его буржуазными предрассудками» 2.
14
1. О Ленине
Судзиловский (тогдашний «левый» бакунист) был уверен, что настоящий, свободный от буржуазных примесей коммунизм можно построить только среди людей, свободных даже от такой «буржуазной» черты, как грамотность. А Ленин думал, что «в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя... Коммунизм, — говорил он, — состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы: это наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных» 3.
И не нужно, разумеется, дожидаться реализации коммунизма в полном объеме, чтобы приняться за культурную работу. Предыдущие слова Ленина нужно понимать в том смысле, что в самом процессе коммунистической революции есть определенная просветительная сторона. Уже первый шаг к коммунизму — захват власти пролетариатом — налагает- на последний определенные просвещенческие обязанности. Самое пролетарскую диктатуру Ленин брал под этим углом зрения. Он говорил:
«Пролетарская диктатура должна состоять больше всего в том, чтобы передовая, самая сознательная и самая дисциплинированная часть рабочих городских и промышленных, которые больше всего голодают, которые взяли на себя за эти два года неслыханные жертвы4, чтобы они воспитали, обучили и дисциплинировали весь остальной пролетариат, часто несознательный, и всю трудящуюся массу и крестьянство» 5.
Вот отчего обязанность ликвидировать безграмотность рисовалась Ленину в форме такой же повинности, как повинность идти на фронт драться с Колчаком и Деникиным. Всякий грамотный человек должен «смотреть, как на свою обязанность, на необходимость обучения нескольких неграмотных... Мы должны взяться за простое, насущное дело мобилизации грамотных и борьбы с неграмотностью» 6.
Но на грамотности, конечно, дело остановиться не могло. Само приведенное сейчас рассуждение о наших ближайших задачах тесно связывается у Ленина с немедленным использованием явившейся формальной возможности стать сознательным. «Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку...» 7 — говорит он тотчас вслед за выписанными выше словами о «простом, насущном деле мобилизации грамотных». Никому, как пишущему эти строки, не памятны так эти заботы о немедленном, в самом революционном темпе, использовании
Ленин и народное просвещение
15
доставшихся в наши руки после Октября 1917 года книжных богатств. Когда-нибудь нужно будет опубликовать в связном виде его распоряжения по библиотечной части, в том числе и два выговора, полученные Наркомпросом от председателя Совета Народных Комиссаров за нестерпимо, как казалось Ильичу, медленное проведение в жизнь самых насущных мероприятий в этом направлении. Его идея состояла в том, чтобы продвинуть книгу к рабочему. Для этого все наши книгохранилища от публичных библиотек почти до изб-читален должны были бы быть связаны в одну грандиозную сеть, по ячейкам которой передвигались бы все без исключения книги, которые могли бы понадобиться местному читателю. Это была, разумеется, чрезвычайно заманчивая мысль: где-нибудь в Кургане за Уралом иметь любое сочинение по сравнительному языковедению, если бы там нашелся партийный работник или просто местный рабочий, которого бы интересовала эта наука. Нет нужды говорить, что идея далеко выходила за пределы наших технических средств и возможностей, особенно на фоне колоссальной разрухи 1918—1919 годов и гражданской войны. Ильич скоро это понял и на практическом осуществлении своей идеи больше не настаивал. Но насколько он был прав политически, показывает тот факт, что первый-то образчик грезившейся Ленину сети дан не более и не кенее как «Северным союзом русских рабочих» 1879 года: именно по такой миниатюрной, конечно, и зачаточной сети передвигал Халтурин нелегальную литературу по рабочим кружкам теперешнего Ленинграда.
Очень много нужно было бы написать об отношении Ленина специально к школьному образованию, но писать об этом нужно именно много и с полным знанием дела. Лучше всего это может сделать Надежда Константиновна. Я ограничусь тут парой совсем анекдотических примеров. Во-первых, существуют поистине замечательные заметки Владимира Ильича на тезисы Надежды Константиновны о политехническом образовании — заметки, сообщенные нам в свое время конфиденциально с пометками автора: «Приватно. Черняк. Не оглашать. Я еще раз и два обдумаю это». Для расшифровки этих заметок нужно, повторяю, написать целую самостоятельную статью. „Чрезвычайно характерно здесь стремление Ленина непременно к политехническому характеру образования, «дабы не было превращения в ремесленничество», причем он в то же время великолепно сознавал, как нам именно ремесленники до зарезу нужны. «Нам нужны столяры, слесаря, тотчас.
16
1. О Ленине
Безусловно. Все должны стать столярами, слесарями и проч., но с таким-то добавлением общеобразовательного и политехнического минимума» (все курсивы самого Ильича). Любопытна программа одной из этих общеобразовательных дисциплин, наиболее близкая пишущему эти строки, бегло набросанная Лениным: «Коммунизм, история вообще, история революций, история революции 1917 г.» Предполагалось, впрочем, как само собой разумеющееся, что такие программы уже имеются, — об этом свидетельствует написанная на полях заметка о необходимости применения энергичных мер к некоторым деятелям Наркомпроса, если таких программ не окажется. Заметку эту лучше опубликовать вместе со всем подлинным текстом 8.
Может явиться мысль, что эта идея безусловно политехнического образования навеяна беседами именно с Надеждой Константиновной и что в системе идей самого Владимира Ильича она является случайностью. Очень полезно напомнить поэтому, что идея трудовой школы с политехническим образованием представляет собой одну из старейших идей Ленина и высказывалась им еще в конце 90-х годов по поводу наивно-мещанской утопии ныне позабытого, а тогда гремевшего С. Н. Южакова, проектировавшего устройство гимназии, которая окупала бы себя трудом своих же учеников. Ленин, подвергнув беспощадному анализу мещанскую утопию и вскрыв ее классовые корни, прибавляет, что в южаковщине есть действительно «правильная мысль, [которая]9 заключается в том, что нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без производительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания. Эту мысль высказали еще старые великие утописты; ее вполне разделяют и «ученики»...» 10.
Под учениками эзоповский язык конца XIX столетия разумел, как известно, марксистов. Как марксист, Ленин всегда был противником книжной школы—-учебы и всегда же был сторонником трудовой политехнической школы. Заметки на тезисы Надежды Константиновны вовсе не случайны, а один из аспектов ленинского марксизма вообще. Как марксист, он подходил и к общей проблеме образования и культуры, и то, что нам от него осталось в этом отношении, не менее поучительно, чем приведенное выше.
Ленин и народное просвещение
17
Прежде всего, как для Ленина была ясна связь грамотности и революции, связь простая, простейшая, — что не мешало, как мы видели, некоторым революционерам прошлого времени ее не замечать, — так ясна была ему и другая связь, упорно не замечаемая некоторыми революционерами, в кавычках или без оных, времен новейших. Абсолютно не диалектическая, не марксистская формула «пролетарской культуры» как чего-то совершенно оторванного, независимого от всего предшествующего исторического процесса, ничем не связанного с буржуазной культурой, прошлого, — эта формула была не только чужда, она была глубоко противна Ильичу. Позволю себе не поскупиться тут на выписки:
«Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества...
И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса — вы сможете получить один ответ: это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме; изучивши законы развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли...
Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» и.
Всю эту премудрость прежних поколений, не в ее подробностях, разумеется, которые давно устарели и именно поэтому свято сохраняются в буржуазных учебниках, а в ее итогах
18
1. О Ленине
и окончательных достижениях, марксист должен усвоить. Как безграмотный не может быть революционером, так необразованный человек не может быть хорошим марксистом. И Ленин говорил комсомольцам:
«...коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека» 12.
И это признание старой науки как этапа, который пройден, но который нужно было пройти, который хоть конспективно нужно пройти каждому начинающему марксисту, это отношение к буржуазной науке окрашивало и отношение Ленина к буржуазным ученым. Величайший марксист нашего времени понимал, конечно, всю безмерную политическую ограниченность буржуазного «ученого сословия». Но в то время как от многих рядовых марксистов эта политическая ограниченность закрывает общественное значение этой группы, Ленин великолепно понимал, до чего ученые специалисты нам необходимы и долго будут нам необходимы даже и после пролетарской революции. Он великолепно понимал также и другое: что в свято охраняемой академическими жрецами науке есть изрядное количество, как он попросту выражался, «хлама». И чтобы этот хлам не засаривал наши образовательные работы, он и считал необходимой такую комбинацию сил, при которой немногочисленному кадру марксистов предоставлялась бы роль руководящая, а весьма многочисленной армии специалистов — роль разрабатывающая. И он мыслил себе этих работников по специальным областям отнюдь не как мертвые орудия. Они должны были иметь во всяком случае совещательный голос даже на партийных собраниях, посвященных делу образования. «На совещании партработников, — писал он в феврале 1921 года, — должны были быть выслушаны спецы, педагоги, лет Десять работавшие практически и могущие сказать нам всем, что сделано и делается в такой-то области, например, в области профессионального образования, и каким образом советское строительство с этим справляется, что достигнуто хорошего, каковы образчики этого хорошего (такие образчики, наверное, есть, хотя бы и в самом небольшом числе), каковы конкретные
Лепин и народное просвещение
19
указания на главные недочеты и способы устранения этих недочетов» 13.
Совершенно естественно, что и коммуниста-просвещенца Владимир Ильич мыслил себе прежде всего как главу отряда «спецов»:
«Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и больше, помощников из педагогов-практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть, их опыт показать и учесть» 14.
Нет нужды напоминать поистине трогательные отношения Ленина к самому нижнему в буржуазном обществе и самому близкому нам слою этих «педагогов-практиков» — сельскому учителю. Знаменитая фраза, гласящая, что «народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе» 15 — эта фраза обошла все митинги, посвященные памяти Ильича, и ее слишком хорошо все помнят. Эта фраза взята из последней статьи Ленина, посвященной вопросам народного образования. И мы не забудем его завещания — поддерживать всеми мерами и всеми силами те «сотни тысяч учителей [в деревне], которые забиты, запуганы кулаками или заколочены до полусмерти старым царским чиновничеством...» 16. И не забудем мы, что всякий партийный человек, на каком бы посту, он ни стоял, должен быть просвещенцем, потому что он — партийный, потому что он — революционер, потому что он — коммунист.
«Всякий партийный агитатор, который появляется в деревне, он вместе с тем должен быть и инспектором народных училищ, инспектором не в прежнем смысле слова, инспектором не в том смысле, чтобы он вмешивался в дело просвещения — этого допустить нельзя, но он должен быть инспектором в том смысле, чтобы согласовать свою работу с работой Наркомпроса, с работой Всевобуча, с работой военкома, чтобы он смотрел на себя, как на представителя государственной власти, представителя партии, которая управляет Россией. Чтобы он, являясь в деревню, выступал не только как пропагандист, учитель, но вместе с этим он должен смотреть, чтобы те учителя, которые не слышали живого слова, или эти десятки, сотни военкомов, чтобы все они принимали участие в работе этого партийного агитатора. Каждый учитель обязан иметь брошюрки агитационного содержания; он обязан их не только иметь, а читать
20
/. О Ленине
крестьянам. Если он этого не будет делать, он должен знать, что он лишится места. То же самое военкомы должны иметь эти брошюрки, должны читать их крестьянам» 17.
Этими словами пролетарского вождя, в просветительской роли пролетариата видевшего органическую, неразрывно связанную с целым часть пролетарской диктатуры, я и заканчиваю мои беглые заметки18.
М. Н. Поповский. Октябрьская революция.
Сборник статей. 1914—1927. М., 1929, стр. 25—30
Первая страница рукописи М. Н. Покровского «Ленин и Маркс как историки»
Отдел рукописных фондов Института истории АН СССР
ЛЕНИН И МАРКС КАК ИСТОРИКИ
И Маркс и Ленин были великими историками: это стало почти общим местом. Что марксизм насквозь историчен, что ленинизм немыслим без исторического подхода к действительности, об этом никто не спорит. Нет никакой надобности ломиться в открытую дверь, повторяя то, что было вполне удовлетворительно разъяснено тт. Быстрянским, Лелевйчем 1 и другими, разъяснено на ряде цитат, сопоставлений и т. ,д. Для тех, кто хорошо читал Ленина, никакой надобности и в разъяснениях не было, ибо историзм Ленина слишком бьет в глаза. Несравненно больше изобретательности должен был бы проявить тот, кто вздумал бы доказывать, что Ленин неисторичен.
Но значит ли это, что, открыв в Ленине историка, мы уже знаем все, что нужно по этой части? Едва ли опять-таки нужно объяснять, что историзм Ленина не имеет ничего общего, например, с «исторической школой права». Одно так же похоже на другое, как белая гвардия на белое каление. «Историческая школа» — одна из самых контрреволюционных исторических концепций, одно из самых черносотенных пониманий истории, какие только существовали. Она доказывала, что нельзя отменить крепостное право, потому что оно создано историей, нельзя коснуться самодержавия, потому что оно имеет «глубочайшие исторические корни», и т. д. Опять-таки едва ли даже знакомые с Лениным только по хрестоматиям не согласятся без всяких доказательств, что с ленинизмом такая «история» ничего общего не имеет.
Но значит ли это, что ленинское понимание истории адекватно — во всем совпадает — с некоторым более к нам близким пониманием истории, с таким ее пониманием, например, которое долго у нас называлось «марксистским»? Наши меньшевики очень любили писать историю и теперь усердно ее пишут в «Социалистическом вестнике» 2, но Ленин в одном из своих последних отрывков, когда ему уже совсем некогда было заниматься приличиями и церемониями, находил своевременным
22
/. О Ленине
этих меньшевистских историков «объявить... дураками»3. И тут уже, мне думается, без пояснений обойтись трудно, ибо в опасной близости с этим откровенным заявлением у Ленина стоит имя Каутского, притом не Каутского 1923 года, а Каутского начала столетия.
Откуда пошло столь решительно осуждаемое Лениным историческое направление, свойственное русскому — а как видно из упоминания Каутского, и не одному русскому — марксизму? До известной степени от самого Маркса. Не пугайтесь, читатель: не от идей Маркса, само собой разумеется, а от одной его фразы. Начиная свое «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», Маркс написал известные слова: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее не произвольно, не при свободно избранных, а при найденных ими, непосредственно данных, унаследованных условиях. Традиция всех умерших поколений как кошмар тяготеет над мозгом живущих» 4.
Я бы охотно подчеркнул последнюю фразу, но, к сожалению, условия газетного набора не любят курсива. Но читателю и так ясно, на чем лежит ударение. Над мозгами меньшевистских историков именно «как кошмар» тяготело это по существу правильное представление, что настоящее определяется прошедшим. И они шли вперед, поминутно оглядываясь назад. Всякий опытный пешеход знает, что нет лучшего средства попасть в яму.
Между тем двумя страницами дальше Маркс дает великолепный комментарий к этим своим словам: «Социальная революция XIX века может почерпать для себя поэзию не из прошлого, а только из бу^щего. Она не может даже начаться, пока не вытравлены все суеверия прошлого. Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть самих себя относительно своего истинного содержания. Революция XIX столетия, чтобы найти свое истинное содержание, должна предоставить мертвым погребать своих мертвецов» 5.
Русские «марксисты», с которыми так жестоко обошелся Ленин, не поняли, что именно революция-то и есть тот момент, когда настоящее освобождается от кошмара прошедшего, сбрасывает с себя его иго. И даже короткое время, несколько лет без ига «традиции», на целый ряд поколений становится маяком, освещающим дорогу вперед. Они не поняли того, что прошлое внесет свое, будьте покойны, и без всякого содействия с нашей стороны. Нам заботиться приходится о том, чтобы его было как можно меньше.
Ленин и Маркс как историки
23
Но у «марксиста» этого типа, вероятно, уже само упоминание о «содействии с нашей стороны» историческому процессу вызовет улыбочку. Ибо помимо ежеминутного оглядывания на прошлое — одна черта — у «марксистов» этого типа есть и другая черта, с первой тесно связанная, — фаталистическое понимание исторического процесса.
И тут опять повинен до некоторой степени Маркс. Ибо если не у него самого, то у одного автора, чрезвычайно взятого им под свое покровительство, объявленного, так сказать, официально марксистом самим Марксом, есть фраза, способная внушить и фаталистические предрассудки. Во всем известном «Послесловии» ко 2-му изданию I тома «Капитала» Маркс цитирует И. И. Кауфмана, который писал, что, по Марксу, «переход от одного порядка к другому непременно должен быть сделан, все равно, думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают». А дальше по поводу всего этого большого отрывка из Кауфмана Маркс замечает, что последний «очертил удачно то, что он называет моим [Маркса] действительным методом...» 6.
Значит ли это, что сам Маркс был фаталистом? Конечно, нет. Достаточно процитировать одно из его писем к Кугель- ману: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов. С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения» 7.
Под «случайностями», которые Маркс недаром поставил в кавычки, следует разуметь, конечно, то, что можно назвать индивидуальной обстановкой событий. Эта обстановка, куда Маркс правильно вводит и индивидуальные особенности лиц, события совершающих, до крайности капризна, и говорить о какой бы то ни было предопределенности в каждый отдельный момент истории может только педант. Ни у одного разумного человека не может быть ни малейшего сомнения — сама буржуазия на этот счет нисколько не сомневается, — что капиталистический строй в более или менее близком будущем падет. Но человек, который на этом основании счел бы заранее обеспеченным успех любого революционного выступления
24
1. ОЛенине
против капитализма, был бы. за это очень скоро и очень жестоко наказан.
Почему Маркс не оговорил этого точнее не в дружеской переписке, увидевшей свет только после его смерти, а в своих теоретических работах? Почему он ввел в заблуждение бесчисленное количество «малых сих», вообразивших, что можно жить, как обыватели, думать, как обыватели, действовать, как обыватели, а социалистическая революция все-таки каким-то манером совершится?
Потому что у Маркса в силу условий переживаемой им эпохи толкование текущей истории отступало на второй план перед защитой основ марксистской социологии. Мы теперь так привыкли к историческому материализму, что начинаем его .слегка забывать: домарксистские исторические построения начинают привлекать кое-кого из нас своей «новизной». А шестьдесят лет назад исторический материализм был самой свежей, до дерзости смелой новостью. Буржуазная история, буржуазная политическая экономия стояли еще во всем цвету, это был очередной идеологический враг, и Маркс бил по нему. Характерно, что его чисто исторические работы (куда нужно отнести и корреспонденции о Восточной войне) относятся к революционному периоду, к концу 40-х — началу 50-х годов, да к короткой революционной вспышке Коммуны. В промежуточные, органические периоды социология, естественно, выступала на первое место, и к тому же обосновать ее было делом первейшей практической необходимости: без нее не было теоретической базы у всего движения.
Теперь нам становится понятно, в чем Ленин по этой линии дополнил Маркса. Ленину посчастливилось жить в период ярко революционный, будущие историки поставят его, вероятно, выше периода Великой французской революции. События шли так густо, как идет рыба в камчатских реках. Империализм, прорвавшись впервые в испано-американской войне 1898 года, делал гигантские успехи, ставя рабочую массу перед выбором: или превратиться в настоящих рабов, душой и телом принадлежащих хозяевам, думающих, как они, и кладущих живот свой, когда хозяевам требуется, или восстать. Никакие стабилизации этого положения в общем и целом не изменят.
Очередным делом было не создание новой социологии: она была уже создана и в лице Плеханова была достаточно популярна в наших революционных кругах, Ленин ничего не собирался в ней менять, в области социологии он последовательный ортодоксальный марксист, и только. Но социологии было мало,
Ленин и Маркс как историки
25
как мало было ее самому Марксу в 1848 и 1871 годах. Нужно было дать ключ к пониманию тех «случайностей», без которых живой истории не бывает. Нужно было научить массы пользоваться этими «случайностями». Наиболее исторический из всех периодов, какие видало человечество, требовал не социологического только, требовал исторического анализа; в этом была задача того, кто должен был вести революцию. И Ленину эту задачу пришлось разрешать.
Рамки газетной статьи не позволяют осветить во всей полноте индивидуальные особенности исторической манеры Ленина. Было бы шаблоном повторять, что она глубоко диалектична. О диалектике очень любили говорить меньшевики в период нашей первой революции, идя в этом случае за Плехановым, и очень гордые, что имеют на своей стороне такой классический образчик марксизма. Но для Ленина именно Плеха- нов-то и «не обратил внимания» на «суть дела», на то, что «диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма...» (отрывок о диалектике в «Большевике», 30 марта 1925 г.) 8. Если бы меньшевики знали о такой ереси своевременно, они бы вторично предали Ленина партийному суду. Как? Плеханов не диалектик?!
А между тем Ленин был совершенно прав: меньшевистское понимание исторической диалектики совершенно не схватывало настоящей диалектики истории. Для меньшевиков, например, появление в России конституции после 1905—1907 годов было концом буржуазной революции: самодержавие превратилось в буржуазную монархию, революционные методы борьбы больше неприложимы, революционное подполье нужно ликвидировать. А для Ленина «переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке». И, перечислив ряд изменений, которые на протяжении веков пережила оболочка дворянского самодержавия, Ленин, чтобы у самого непонятливого читателя не осталось недоразумения, заканчивает: «На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, черносотенного самодержавия» 9. Диалектика формы нисколько не закрыла от Ленина устойчивости внутреннего содержания. Форма-то сделалась конституционной, а самодержавие-то осталось черносотенным.
Этот настоящий, подлинный диалектизм Ленина делал его непримиримым врагом всяких однобоких, «непримиримо-после-
26
1. О Ленине
довательыых» схем и положений. Никто лучше Ленина не сумел выяснить сущности империализма и железной необходимости империалистской политики. Никто лучше и убедительнее его не доказывал, что война 1914 года есть война империалистская. Но когда на этом основании некоторые прямолинейные люди стали утверждать, что «в эру этого разнузданного империализма не может быть более никаких национальных войн», Ленин им ответил: «Спрашивается: из того, что передовой европейский (и американский) капитализм вступил в новую эпоху империализма, вытекает ли, что войны теперь возможны лишь империалистские? Это было бы нелепым утверждением, неумением отличить данное конкретное явление от всей суммы разнообразных возможных явлений эпохи. Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и свойственных отсталым странам» 10.
И как живо и конкретно понимал Ленин эпоху империализма с учетом всех скрывающихся в ней противоречий, так же живо и конкретно понимал он и эпоху антиимпериалистической социалистическох! революции. «Последовательные» люди и тут утверждали: коли социалистическая, значит, никакой буржуазной революции быть не может. Ленина ничем нельзя было так рассердить до 1917 года, как заявлением «в России буржуазная революция невозможна». Такой фразой можно было сразу потерять всякий кредит в его глазах. Но он ставил дело шире, чем только для России. Тут приходится процитировать довольно длинный отрывок: «Социалистическая революция в Европе не может быть ничем иным, как взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных. Части мелкой буржуазии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней — без такого участия не возможна массовая борьба, не возможна никакая революция — и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки. Но объективно они будут нападать на капитал, и сознательный авангард революции, передовой пролетариат, выражая эту объективную истину разношерстной и разноголосой, пестрой и внешнераздробленной массовой борьбы, сможет объединить и направить ее, завоевать власть, захватить банки, экспроприировать ненавистные всем (хотя по разным причинам!) тресты и осуществить другие диктаторские меры, дающие в сумме ниспроверже-^
Ленин и Маркс как историки
27
ние буржуазии и победу социализма, которая далеко не сразу «очистится» от мелкобуржуазных шлаков»11.
Это программа на будущее, и конец осуществления этой программы увидит не наше поколение. А набросана эта программа в 1916 году. Нет места да и нет особой надобности — благо т. Кржижановский недавно об этом напоминал — цитировать другое «историческое пророчество» Ленина, описание им нэпа в «Государстве и революции», написанном за четыре года до нэпа. Исторический анализ в лице Ленина уже дает то, для чего существуют все исторические анализы, для чего существует и сама история, — дает возможность «по прошедшему угадывать будущее». Социология указывает только направление, в котором мы должны идти. Это схематическая карта, где нет ни гор, ни болот, ни лесов, ни оврагов. Нанести все это на карту —дело конкретного исторического анализа. Но было бы совершенно антиленинским делом взяться предсказывать все препятствия в начале съемки. Ленин дал нам метод, как это делается, — в этом его великая заслуга как историка; воспользоваться этим методом — дело наше.
М. Н. Покровский. Октябрьская революция.
Сборник статей. 1914—1927. M., 1929, стр. 42—
471а
ЛЕНИНИЗМ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ1
, Товарищи, разрешите констатировать несомненный правый уклон в московском климате. Пять лет тому назад, в 1923 году, я читал доклад на тему «Маркс как историк» 2. У меня был бронхит. Я чихал, кашлял, хрипел и т. д. Теперь я выступаю на тему «Ленинизм и русская история», и я буду опять чихать, кашлять, хрипеть и т. д. Поэтому правый уклон московского климата не подлежит никакому сомнению. Организационные выводы вы сделаете сами, а пока разрешите мне перейти к докладу и не отнимать у вас много времени, но мой бронхит не' позволит мне слишком много говорить.
Я очень извиняюсь перед собранием, что не дал тезисов этого доклада. Но я должен сказать, что доклад этот пережил быстрый диалектический процесс. Вначале ведь он назывался «Ленинизм и массовое движение в русской истории». Я хотел противопоставить отношение к массовым движениям буржуазных историков и отношение Ленина. У Ленина есть одно замечательное место, замечательное по своей дивияации, как говорили в старое время (слово, которое полезно, пожалуй, воскресить), о движении начала 60-х годов. Я вам это место прочитаю потом. Но кроме этого у него великолепно разработано только массовое движение эпохи первой революции, с 1901 примерно по 1907 год. Это массовое движение не было предметом изучения никаких историков, кроме авторов меньшевистского пятитомника3. Сравнивать Ленина с меньшевистским пятитомником мне казалось бы просто зазорным. Ну, что же тут сравнивать? Само собой разумеется, это две вещи несоизмеримые. Что же сравнивать сальную свечу с электрической лампой в 1000 свечей? Просто сравнивать-то нет никакого смысла. Я перешел тогда к другой теме, именно «Ленинизм и русская история вообще». Я на эту тему недавно читал доклад в Институте красной профессуры. Но ведь там не все присутствующие были. Некоторая часть была, и для этой части, конечно, этот доклад не представит интереса. Но подавляющее большинство
Ленинизм и русская история
29
присутствующих (особенно товарищи, приехавшие из провинции) там не присутствовало, и для них этот доклад может представить интерес новизны, он, по-видимому, заинтересовал слышавшую его публику. А потом, уже в процессе нашей конференции, передо мной неожиданно выросло вступление к этой теме. Когда я выступил по докладу т. Ванага4 с возражениями против чисто экономического, как я выразился по- немецки: nur okonomisch, понимания возникновения империалистской войны и вмешательства в эту войну России, то мне казалось, что я говорю архибанальные вещи. Но записки, которые я получил, и сторожкое, явно сторожкое, осторожное отношение аудитории к моим словам показало, что это вовсе не так просто, что, оказывается, после того как мы имеем Ленина уже в третьем, кажется, издании и, казалось бы, многие из нас знают его наизусть, все-таки борьба против экономического материализма нужна и нужно эту борьбу обосновать более подробно, чем я мог сделать в своем десятиминутном выступлении по поводу доклада т. Ванага. Я считал, товарищи, нужным остановиться на этом потому, что это факт очень большой важности и я сейчас это вам постараюсь показать. Собственно, если брать историю и понимание исторического процесса, то это та раздельная черта, которая идет между настоящим пролетарским социализмом и всякими под него подделками более или менее мелкобуржуазного, а иногда и крупнобуржуазного происхождения.
Вы знаете очень хорошо, что «экономический материализм» — это был цензурный термин для марксизма, такая цензурная наклейка, которой мы пользовались в дни первой революции. Я тогда назвал свою брошюру «Экономический материализм» 6 именно потому, что ни марксизма, ни даже исторического материализма, по всей вероятности, цензура не пропустила бы. Она уже разбиралась в терминах. Почему этот термин был приемлем? Потому, что это марксизм минус диалектика, т. е. марксизм минус революция. Такая чисто экономическая интерпретация исторического процесса сама по себе приемлема для любого буржуа, и она была приемлема для царской цензуры. При такой постановке марксизм оказывался «одним из течений» в объяснении исторического процесса. Есть разные течения, это одно из течений и больше ничего. Кто прошел через легальный марксизм, тот обычно долго носил на себе след такой установки, известный пережиток, болезненный пережиток этого недиалектического, хотя и материалистического, объяснения. Покойный И. И. Степанов-Скворцов считал
30
1. О Ленине
это одним из «недроветренных углов» моего мировоззрения. Я очень давно работаю пылесосом и твердо надеюсь, что этих недроветренных углов у меня все меньше и меньше. Но они, несомненно, были, я это сам пережил, и поскольку я сам это пережил, поскольку это было так, то я это чувствую, может быть, больнее, нежели другие товарищи. Но некоторые из моих товарищей дней первой революции совсем не вылечились от этой болезни. Таким был покойный Н. А. Рожков — типичнейший экономический материалист до самых последних своих дней. Он, правда, прибавил к своему экономическому материализму, не отказываясь от него, кое-какой психологизм, но это было еще дальше в сторону от марксизма, и об этом сейчас не будем говорить. А относительно экономического материализма Рожков был весьма последователен, и, товарищи, в этом, по-моему, основная причина, почему Рожков свернул направо в 1909—1910 годах. Ведь все-таки мы с ним оба — профессора истории. Когда мы будем предлагать резолюцию, где рекомендуется расстаться со всякими профессорскими привычками, я за эту резолюцию буду всячески голосовать, но, должен сказать, что все-таки от старого отрешиться трудно, и я думаю, что у Рожкова в его политических построениях его историческое мировоззрение играло очень большую роль. Царизм в России в лице столыпинщины дал толчок развитию капитализма, и Рожков сделал из этого вывод: если столыпинщина экономически прогрессивна, значит, царизм превратился в буржуазную монархию, значит, впереди, очень далеко только, социалистическая революция, а пока никакой бури не будет, будем работать в мирной обстановке. Значит, правы ликвидаторы и неправ Ленин. Вот какой был ход мыслей у Рожкова. Вы видите, что экономический материализм может привести к очень большим последствиям. Недавние споры, которые были года четыре тому назад, у всех на памяти, споры о том, что мы в силу объективных законов экономического развития осуждены на гибель или на реставрацию буржуазного строя; о чем тут шел спор, товарищи? О том же самом, потому что при чисто экономическом объяснении, при апелляции исключительно к законам экономики, игнорируя все остальное, нельзя было предсказать того, что действительно случилось: что мы прорвемся к социализму сквозь всякие законы, наперекор узкоэкономическим законам. Мы не обуржуазились и не провалились, а занимаемся социалистическим строительством. И в настоящее время не может быть никакого спора, что база у нас под этим есть. Так что, повторяю, экономический материализм
Ленинизм и русская история
31
есть источник больших ошибок в марксизме, и поэтому об этом говорить стоит, и стоит говорить в особенности на этой конференции.
Правда, войну с этим экономическим материализмом я начал с самого дня основания этого общества. Моя первая вступительная речь на первом заседании была посвящена именно этому вопросу6. С тех пор прошло более 3 лет — 4 года будет в мае, и все-таки приходится слышать: столько-то процентов в банках на той стороне, столько-то процентов капиталов на другой стороне, значит, Россия должна была в империалистическую войну держаться на стороне той или другой стороны, потому что процент того или иного капитала в банках такой-то. Позвольте на этом остановиться. Как Ленин рассматривал экономический момент? Мы имеем у него две цитаты, одна, я бы сказал, удивительнее другой. Вот вам его статья, не очень, кстати сказать, широко известная, — «Две утопии», где он разбирает либеральную утопию и подчеркивает ее контрреволюционность, гораздо сочувственнее относясь к народническим утопиям. Статья написана в связи с китайской революцией, которая тогда развернулась. Она относилась к 1912 году, китайская революция была в 1911 году, и утопия тогдашнего китайского народника Сун Ят-сена обратила на себя внимание Ленина. Он заинтересовался, что это такое, разобрал ее в особой статье, а потом, вернувшись к этой теме, вот что он пишет:
«Надо помнить замечательное изречение Энгельса:
«Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле».
Энгельс высказал это глубокое положение по поводу утопического социализма: этот социализм был «ложен» в формальноэкономическом смысле. Этот социализм был «ложен», когда объявлял прибавочную стоимость несправедливостью с точки зрения законов обмена. Против этого социализма были правы в формально-экономическом смысле теоретики буржуазной политической экономии, ибо из законов обмена прибавочная стоимость вытекает вполне «естественно», вполне «справедливо».
Но утопический социализм был прав в всемирно-историческом смысле, ибо он был симптомом выразителем, предвестником того класса, который, порождаемый капитализмом, вырос теперь, к началу XX века, в массовую силу, способную положить конец капитализму и неудержимо идущую к этому.
Глубокое положение Энгельса необходимо помнить при оценке современной народнической или трудовической утопии
32
1. О Ленине
в России (может быть, не в одной России, а в целом ряде азиатских государств, переживающих в XX веке буржуазные революции) » *.
Совершенно экономически нереальная вещь, какой является утопический социализм, тем не менее может оказаться правильным историческим принципом. Это положение, согласитесь сами, с тем вульгарным экономическим материализмом, из которого исходил Рожков, весьма расходится. Но возьмите другую вещь, это из очень уж известного произведения Ленина. Я не знаю, обращали ли вы внимание на эту вещь, потому что в этом очень известном произведении Ленин свою концепцию заострил в другую сторону:
«Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. И из этой неверности сплошь да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма, подделка его в духе приемлемости для буржуазии. Ибо учение о классовой борьбе не Марксом, а буржуазией до Маркса создано и для буржуазии, вообще говоря, приемлемо. Кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может оказаться еще невыходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов — значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма» **.
Не только экономический материализм, т. е. экономическая интерпретация истории, но и экономический материализм плюс борьба классов — это все-таки еще не марксизм. И только тот, кто признает политические выводы из марксизма, признает диктатуру пролетариата, тот настоящий марксист. Ну, не стоит напоминать, что Ленин, конечно, исторически буквально прав, что буржуазия впервые выдвинула идею борьбы классов, а не марксизм. Самая формула «lutte des classes» или, точнее, «guerre des classes», «война классов» кому принадлежит? Это формула Гизо. Так что, если хотите, в «Коммунистическом Манифесте» можно с буржуазной, петушиной точки зрения сказать, что там сплагиировали Гизо. Сплагиировали с некото¬
* В. И. Ленин. Собр. соч., т. XX, дополнительный, ч. 1, стр. 3597.
** В. И. Ленин. Собр. соч., т. XIV, стр. 3238.
Ленинизм и русская история
33
рым дополнением, которое Ленин указывает и которое для господина Гизо было совершенно неприемлемо. Но «guerre des classes» он принимал. Он написал слова: «История Франции сделана par la guerre des classes». Это его слова, Гизо.
Вы видите, до какой степени марксизм — сложная штука, до какой степени его нельзя исчерпать простецким экономическим объяснением истории. Если мы не привлечем к делу не только борьбу классов, но еще борьбу классов с определенным политическим исходом, с диктатурой пролетариата, то мы не будем стоять на настоящей марксистской точке зрения. Нужно сказать, что это не есть даже открытие Ленина. Ленину здесь принадлежит только исключительно четкая формулировка, а по существу Ленин повторял того же Энгельса, на которого он с таким уважением ссылался в первом из прочитанных мной отрывков. Энгельс заканчивал свое письмо к Конраду Шмидту следующим замечательным по своей наивности, гениальным по своей наивности вопросом: если политическая сила бессильна экономически, то к чему нам тогда диктатура пролетариата? Весь спор, который велся между меньшевиками и большевиками, между правыми и левыми у нас, он весь в этом. Если диктатура пролетариата не может перевернуть «стихийного» экономического развития, на что диктатура пролетариата? В конце концов законы экономики возьмут свое. Энгельс и Ленин нам отвечают: не возьмут свое. Политическая власть, говорит Энгельс в том же отрывке, повторяя в данном случае известную фразу Маркса, есть тоже экономическая потенция. Я не знаю, нужно ли приводить этот отрывок. Он очень известен. Раньше в этом же письме Энгельс подробно характеризует обратное действие государственной власти на экономическое развитие. Я не буду все читать, вы, конечно, это помните, но тут есть конец очень хороший:
«Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении, — тогда дело идет быстрее; она может действовать напротив, — тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит в течение более или менее продолжительного периода крушение, или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать вперед в других направлениях. Этот случай сводится в конце концов к одному из предыдущих. Но ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред и может породить растрату сил и материала в массовом количестве,
2 М. Н. Покровский, кн. 4
34
1. О Ленине
Кроме того, может произойти случай завоевания и грубого уничтожения экономических ресурсов, благодаря чему прежде могло гибнуть целиком все экономическое развитие данной местности и данной нации» *.
И для эпохи до образования мирового хозяйства это было совершенно верно. Возьмите судьбу всех знаменитых монархий Востока, чем нас угощал наш законоучитель в VIII классе гимназии как образцами исполнившихся пророчеств. Вы помните, все иудейские публицисты, называемые пророками, которые, конечно, крепко ненавидели Вавилон и Ассирию, говорили: камня на камне не останется, подохнете все и т. д. А затем у этого законоучителя был ряд выдержек из современных археологов — действительно, куча песку, и надо долго копаться, чтобы до чего-нибудь докопаться. Теперь, когда давно уже исполнилось пророчество над самим этим законоучителем и ему подобными, можно увеличить этот список пророчеств, и последним пророчеством будет марксизм.
Так вот, товарищи, как стоит вопрос об экономическом материализме по Ленину и по Марксу и Энгельсу, потому что они в этом отношении не представляют никаких различий. Экономическую интерпретацию даже с борьбой классов никто из них не считает настоящим марксизмом.
Настоящий марксизм допускает очень сильное вмешательство политического момента на всех стадиях развития. Притом, чтобы вы не впали в соблазн, разрешите вам прочесть еще один отрывок из Энгельса:
«Экономическое движение в общем проложит себе путь, но оно должно испытывать на себе также и обратное действие от политического движения, которое оно само для себя создало и которое обладает относительной самостоятельностью» **.
Картина получается примерно такая: социологически экономическое объяснение является в последней инстанции всегда решающим — это несомненно. Как говорит Энгельс в другом месте: «Чем дальше будет удаляться от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить, что она в своем развитии обнаруживает больше случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если же мы начертим среднюю ось кривой, то мы найдем, что, чем длиннее изучаемый период, чем больше изучаемая область, тем более
* «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса», стр. 2839,
** Там же, стр. 282 10.
Ленинизм и русская история
35
приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет» *.
В социологии мы поэтому и можем исходить из экономики более или менее прямо, потому что социология охватывает огромные периоды в истории больших стран. Но история отличается тем, что в истории каждый отдельный момент важен. Наша конференция, если брать социологически, все решительно конференции историков-марксистов, которые могут быть и будут, все они упираются в факт социалистической и пролетарской революции, а этот факт объясняется экономически и т. д. и т. д. Но попробуйте понять эту конференцию, не прибегая' к чисто личным объяснениям. Если бы не энергия т. Горина, конечно, конференция нам не удалась бы. Собрать ее — это чисто личный момент. Представьте себе, что вместо Горина сидел бы человек неэнергичный, и у нас не было бы никакой конференции. Она была бы отсрочена, т. е. темп развития марксистского движения в области истории в нашей стране был бы, несомненно, замедлен. Так-то вот, видите, даже личный момент приходится учитывать. Причем, извините пожалуйста, это не мое личное изобретение. Я вам прочту из Маркса:
«...история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения» **.
Вот первое, что я хотел сказать на. свою тему, и то это у меня отняло 20 минут времени. Это касается общей методологии. И мне хотелось бы затем проследить эту методологию на отдельных концепциях Ленина. Один пример. Та схема, та концепция русской истории, которую сейчас называют марксистской и которую иногда делают мне честь связать с моей скромной личностью, — это концепция Ленина, а не моя. Я оказался Колумбом после открытия Америки, и, не подозревая, что берега уже открыты, подошел к этим берегам, и, найдя их зело пустыми, поднял на них свой флаг. Мне поверили. Дело в том, что знаменитое произведение Ленина, действительно знаменитое, «Что такое «друзья народа»...» распространялось в гектографированных копиях, причем одна тетрадка ухитрилась совсем затеряться. Мы имеем только две трети
* «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса», стр. 316 п,
** Там же, стр. 226 12.
2*
36
1. ОЛенине
этого произведения, но целиком имеется на страницах этого произведения развитой та схема русской истории, которую мы называем марксистской и которую правильно было бы назвать ленинской.
Разрешите зачитать довольно длинный отрывок из «Друзей народа». Это то место, где он полемизирует с Михайловским о происхождении государства, и в частности русского государства:
«Есть у г. Михайловского и еще одно фактическое указание — и опять-таки это в своем роде перл! «Что касается родовых связей, — продолжает он исправлять материализм, — то они побледнели в истории цивилизованных народов отчасти действительно в лучах влияния форм производства (опять увертка, еще только более .явная. Каких же именно форм производства? Пустая фраза!), но отчасти распустились в своем собственном продолжении и обобщении — в связях национальных». Итак, национальные связи, это — продолжение и обобщение связей родовых! Г. Михайловский заимствует, очевидно, свои представления об истории общества из той детской побасенки, которой учат гимназистов. История общественности — гласит эта доктрина прописей — состоит в том, что сначала была семья, эта ячейка всякого общества (это — чисто буржуазная идея: раздробленные, мелкие семьи сделались господствующими только при буржуазном режиме; они совершенно отсутствовали в доисторические времена. Нет ничего характернее для буржуа, как перенесение черт современных порядков на все времена и народы), затем — дескать — семья разрослась в племя, а племя разрослось в государство. Если г. Михайловский с важным видом повторяет этот ребяческий вздор, так это показывает только — помимо всего другого, — что он не имеет ни малейшего представления о ходе хотя бы даже русской истории. Если можно было говорить о родовом быте в древней Руси, то несомненно, что уже в средние века, в эпоху московского царства, этих родовых связей уже не существовало, т. е. государство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войну со своими пол¬
Ленинизм и русская история
37
ками), особые таможенные границы и т. д. Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных» *.
Сколько меня гвоздили за этот торговый капитал. Вот вам: в 1894 году Ленин об этом торговом капитале написал, и, конечно, лучше написал, чем я. Я не сомневаюсь в том, что Ленин писал лучше меня. Когда я открывал эту Америку, я еще «Друзей народа» не читал. У Ленина та же схема торгового капитала: он показывает, как именно торговый капитал создает Московское государство, и, когда я спорил с Троцким в 1922 году, я защищал ленинскую схему, я действительно защищал ленинизм против троцкизма **.
Теперь дальше. Вторая наша идея заключается, как вы знаете, в том, что крепостное право вовсе не было отменено исключительно государством сверху в интересах государственных — схема Струве, — но его падение было подготовлено развитием товарных отношений еще в дореформенную крепостническую эпоху. Еще в крепостную эпоху имения превращались в фабрики для производства хлеба, и это толкало помещиков по пути ликвидации крепостного права. Опять возьмите эту же замечательную книгу Ленина, и тут вы прочтете:
«Основное содержание производственных отношений при этом было таково: помещик давал крестьянину землю, лес для постройки, вообще средства производства (иногда и прямо жизненные средства) для каждого отдельного двора, и, предоставляя крестьянину самому добывать себе пропитание, заставлял все прибавочное время работать на себя, на барщине. Подчеркиваю: «все прибавочное время», чтобы отметить, что о «самостоятельности» крестьянина при этой системе не может быть
* В. И. Ленин. Соч., т. I, Гиз, 1926. «Что такое «друзья народа».,.», стр. 72-73 13.
** По этому поводу см. вступительную статью «Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского» в 1 книге настоящего издания, — Ред,
38
1. О Ленине
и речи. «Надел», которым «обеспечивал» крестьянина помещик, служил не более как натуральной заработной платой, служил всецело и исключительно для эксплуатации крестьянина помещиком, для «обеспечения» помещику рабочих рук, никогда для действительного обеспечения самого крестьянина.
Но вот вторгается товарное хозяйство. Помещик начинает производить хлеб на продажу, а не на себя. Это вызывает усиление эксплуатации труда крестьян, — затем, затруднительность системы наделов, так как помещику уже невыгодно наделять подрастающие поколения крестьян новыми наделами, и появляется возможность расплачиваться деньгами. Становится удобнее отграничить раз навсегда крестьянскую землю от помещичьей (особенно ежели отрезать при этом часть наделов и получить «справедливый» выкуп) и пользоваться трудом тех же крестьян, поставленных материально в худшие условия и вынужденных конкурировать и с бывшими дворовыми, и с «дарственниками», и с более обеспеченными бывшими государственными и удельными крестьянами и т. д.
Крепостное право падает.
. Система хозяйства, — рассчитанного уже на рынок (это особенно важно), — меняется, но меняется не сразу. К старым чертам и «началам» присоединяются новые. Эти новые черты состоят в том, что основой Plusmacherei делается уже не снабжение крестьянина средствами производства, а, напротив, «свобода» его от средств производства, его нужда в деньгах; основой становится уже не натуральное хозяйство, не натуральный обмен «услуг» (помещик дает крестьянину землю, а крестьянин-продукты прибавочного труда, хлеб, холст и т. п.), а товарный, денежный «свободный» договор. Эта именно форма хозяйства, совмещающая старые и новые черты, и воцарилась в России после реформы. К старинным приемам ссуды земли за работу (хозяйство за отрезные земли, напр.) присоединилась «зимняя наемка» — ссуда денег под работу в такой момент, когда крестьянин особенно нуждается в деньгах и втридешева продает свой труд, ссуда хлеба под отработки и т. п. Общественно-экономические отношения в бывшей «вотчине» свелись, как видите, к самой обыкновенной ростовщической сделке: это операции — совершенно аналогичные с операциями скупщика над кустарями.
Неоспоримо, что именно такое хозяйство стало типом после реформы...» *
* В. И. Ленин. Соч., т. I, Гиз, 1926. «Экономическое содержание народничества...», стр. 349—350 14..
Ленинизм и русская история
39
Товарищи, это было написано в 1894 году. В 1894 году всякий порядочный человек верил, что крепостное право пало потому, что помещики сознали его мерзость. Помещики сознали мерзость крепостного права. Путем длинных цитат, преимущественно из поэтических произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и т. д., выявлялось, как это душой помещика овладевала такая тошнота по поводу крепостного права. Рядом с этим строилась цепь правительственных проектов, которые исходили из невыгодности крепостного права для государства, и таким способом получалась картина «падения крепостного права». В 1894 году Ленин дал ту схему, которая была потом развита в 1910—1911 годах: падение крепостного права как результат развития денежного хозяйства внутри крепостной вотчины. Вы мне скажете: эта часть вашего доклада не сходится с началом доклада. Вначале вы говорите то, что Ленин не экономический материалист, а тут он экономический материалист, он все объясняет экономикой. Подождите,, подождите. Проследим мысль Ленина о ходе русского исторического процесса дальше. Как раз в те годы, когда Рожков под влиянием экономического материализма сворачивал направо, характерно, что и Ленин занимался тем же самым историческим вопросом о развитии монархии в России. И сюда относятся три его отрывка, относящиеся приблизительно к одним и тем же 1909—1910 годам, где он возвращается к этой схеме и развивает ее каждый раз с некоторыми новыми подробностями. Наиболее подробно это дано в первоначальном издании, в его полемике против эсеров, в его статье «Как эсеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги эсерам».
«...И самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататор^ ских классов при иной оболочке. Например, русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма» и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии.
40
1. О Ленине
К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, полупатриархального самодержавия изжила себя. Переход к представительным учреждениям национального масштаба стал необходимостью под влиянием роста капитализма, усиления буржуазии и т. д. Революционная борьба 1905 года обострилась особенно из-за того, кто и как соберет первое всероссийское представительное учреждение. Декабрьское поражение решило этот вопрос в пользу старой монархии, а при таких условиях иной конституции, кроме черносотеннооктябристской, и быть не могло.
На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, черносотенного самодержавия»*.
В другой статье, написанной позже, Ленин говорит по поводу указа 9 ноября 1906 года и закона 14 июня 1910 года, в которых он видит своеобразную ступень всей капиталистической эволюции страны:
«Устраняет ли эта ступень сохранение «власти и доходов»—говоря в социологическом смысле — за землевладельцами феодального типа? Нет, не устраняет. Происшедшие изменения и в этой, как во всех других областях, не устраняют основных черт старого режима, старого взаимоотношения социальных сил. Отсюда понятна коренная задача сознательного общественного деятеля: учесть эти новые изменения, «использовать» их, охватить их — если можно так выразиться — и в то же время не отдаться беспомощно течению, не выбросить вон старого багажа, сохранить основное и в формах деятельности, а не только в теории, в программе, в принципах политики» **.
Наконец, в статье «Наши упразднители» мы читаем еще раз: «Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничьи-дворян- скую монархию XVIII века. Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861—1904 годов. В 1908— 1910 гг. явственно обрисовалась новая полоса, знаменующая
* В. И. Ленин. Соч., т. XI, ч. 1, 1909. «Как эсеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги эсерам», стр. 203 J5.
** Там же, ч. 2, стр. 239—240 ,6*
Ленинизм и русская история
41
еще один шаг в том же направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии. В тесной связи с этим шагом стоит и III Дума и наша современная аграрная политика. Новая полоса, таким образом, не случайность, а своеобразная ступень в капиталистической эволюции страны. Не решая старых проблем, небудучи в состоянии решить их, а следовательно, не устраняя их, эта новая полоса требует применения новых приемов подготовки к старому решению старых проблем. В этом — своеобразие этой невеселой, серой, тяжелой, но оказавшейся неизбежною, полосы. Из этого своеобразия ее экономических и политических особенностей вытекает своеобразие идейных группировок внутри марксизма. Те, кто признает новые приемы подготовки к старому решению старых проблем, сближаются на общей деловой почве, на общей задаче данного периода, хотя их продолжает разделять вопрос о том, как во время предыдущего периода следовало применять в тот или иной момент или двигать вперед старое решение. Те, кто отрицает (или не понимает) новых приемов подготовки или того, что перед нами стоят старые проблемы, что мы идем навстречу старому их решению, те покидают на деле почву марксизма, те оказываются на деле в плену у либералов (как Потресов, Левицкий и т. д.) или у идеалистов и синдикалистов (как В. Базаров и др.)»*.
Почему эти проблемы оказываются старыми, несмотря на то что как будто бы классовое содержание меняется? Слепков впал в этом месте в соблазн и стал доказывать на основании одного из окургуженных отрывков, первого отрывка, будто бы царское самодержавие в последнее десятилетие своего существования было представителем промышленного капитала, а вовсе не крепостников-помещиков. Это, конечно, чепуха. Возьмите вы первое «Письмо из далека» 18, где самодержавие оценивается как власть крёпостника-помещика, возьмите вы знаменитую схему 1905 года, где говорится: «...самодержавие у нас азиатски девственно» 19, у нас нет таких промежуточных ступеней между самодержавием и свободой, какие были даже в старой Франции. Это, конечно, бесспорно. Но все же какие причины, почему, несмотря на явно происшедшие изменения, перед нами остаются старые проблемы, которые приходится разрешать по-старому, т. е. путем вооруженных восстаний, революций и т. д.? А именно потому, что не удалась первая
* В. И. Ленин. Соч., т. XI, ч. 2, стр. 201—202 17.
42
1. ОЛенине
революция. Нелепо воображать, говорит своим читателям Ленин, будто экономика одна, каким-то фатальным стихийным путем может что-то победить. Победите сначала самодержавие, сбейте его, и тогда те экономические силы, которые просятся, которые нарастают, они дадут свой эффект. Вы, конечно, знаете, что Ленин тогда стоял на совершенно, правильной точке зрения, что России нужно пройти буржуазную революцию. Россия эту буржуазную революцию и прошла потом, в феврале 1917 года. Это совершенно естественно. Но это было написано до 1917 года; в годы 1909—1910 было написано, что нужен политический факт, нужна победа народных масс, пролетариата и крестьянства, над самодержавием, чтобы изменить действительное соотношение сил, и только этот политический факт сможет разрешить экономические проблемы, которые стояли перед Россией в 1905 году.
Несмотря на то что развитие идет в направлении к буржуазной монархии, в направлении к буржуазному строю, а не крепостному, но тем не менее старые классы стоят у власти, и то, что они стоят у власти, — это основное. Ленин был чрезвычайно неумолим ко всем, кто — а 1а Рожков или а 1а Троцкий этих времен — доказывал, что в России не может быть буржуазной революции. Ничем нельзя было больше раздражить Ленина, как заявлением, что у нас невозможна буржуазная революция, ибо для Ленина твердо было одно: пока власть в руках крепостников-помещиков, нет разрешения и экономической проблемы, только политический удар в очень короткое время сразу разрешит все, сразу откроет широкую дорогу стучащемуся в двери экономическому развитию.
С такой же точки зрения Ленин подходил и к крестьянской реформе. Великолепно обрисовав ее экономическую социологию в том отрывке из «Друзей народа», что я прочел выше, он ни на минуту не был загипнотизирован обычным трафаретом, что, значит, так все мирно, по стихийному велению экономических «законов» и происходило. То, что нам опять-таки кажется теперь «открытием», что крестьянская реформа имела своим акушером крестьянскую революцию конца 50-х и начала 60-х годов20, Ленин великолепно понимал еще на пороге XX в.
В статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» он писал:
«Говоря, что «мысль при создании земских учреждений была несомненно политическая», что с либеральным и консти- туционалистическим настроением общества в правящих сфе¬
Лениниам и русская история
43
рах «несомненно считались», «Записка» Витте говорит лишь половину правды. Тот казенный, чиновнический взгляд на общественные явления, который обнаруживает везде автор «Записки», сказывается и здесь, сказывается в игнорировании революционного движения, в затушевывании тех драконовских мер репрессии, которыми правительство защищалось от натиска революционной «партии». Правда, на наш современный взгляд кажется странным говорить о революционной «партии» и ее натиске в начале 60-х годов. Сорокалетний исторический опыт сильно повысил нашу требовательность насчет того, что можно назвать революционным движением и революционным натиском. Но не надо забывать, что в- то время, после тридцатилетия николаевского режима, никто не мог еще предвидеть дальнейшего хода событий, никто не мог определить действительной силы сопротивления у правительства, действительной силы народного возмущения. Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение, по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной. При таких условиях самодержавное правительство, которое свое высшее назначение видело в том; чтобы, с одной стороны, отстоять во что бы то ни стало всевластие и безответственность придворной камарильи и армии чиновных пиявок, а с другой стороны, в том, чтобы поддерживать худших представителей эксплуататорских классов, — подобное правительство не могло поступать иначе, как беспощадно истребляя отдельных лиц, сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации (т. е. «коноводов» «революционной партии»), запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных. Каторга —• тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы (безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы) тем,
44
1. О Ленине
кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса» *.
Ленин определенно говорит, что Александр II уступил в крестьянской реформе и, можно прибавить еще, уступил в откупной реформе, уничтожив откупа и введя акциз, уступил угрозе революции, открыл клапан для того, чтобы выпустить пары, и этим спасся от той участи, которая постигла его внука Николая II. Когда Ленин это говорил? В эпоху, когда, повторяю, все историки до самых добропорядочных утверждали, что в России все было спокойно, никакой революции не было, а что касается Чернышевского, то, по словам Кавелина, это такой «ЬгоиШоп», такой задира, такой бестактный человек22, что как же его не сослать на каторгу? Это подлинная цитата из письма Кавелина, которая всегда особенно возмущала Владимира Ильича. Ленин вполне понял революционную ситуацию 1861 года, революционную ситуацию, читая только скверные буржуазные книжки, где эта революционная ситуация отрицалась. Этот переход не происходил сам собой. Революционная ситуация тогда назревала. Это первое. Второе — был ли Ленин специалистом по русской истории? Нет, не был. Представь он тогда свою гениальную книжку «Что такое «друзья народа»...» в качестве магистерской диссертации, что было бы? Какой бы это был хохот среди академических историков. А ведь в этой книжке гораздо больше настоящей русской истории, чем в трех десятках диссертаций.
«Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно, его революционной диалектики», — писал Ленин об экономических материалистах-меныпевиках, носящихся «как с писаной торбой» с «бесспорным» положением, что «Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм». Но вот в целом ряде стран эта «высота» достигнута, а социализма-то там и нет... И Ленин еще и еще раз подчеркивает в этой статье («О нашей революции», по поводу записок Н. Суханова) возможность «начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня»23 (уровня культуры, необходимого для создания социализма), возвращаясь к гениальному в своей простоте вопросу Энгельса: к чему нам диктатура пролетариата, евли она ни на йоту не может ускорить экономического развития?
* В. И. Ленин. Соч., т. IV. «Гонители земства и Аннибалы либера¬
лизма», стр. 125—12721,
Ленинизм и русская история
45
Экономический материализм и ленинизм, вера в фатальные законы экономического развития, раз навсегда предопределившие ход истории, и признание революционной диалектики истории — две вещи несовместимые, товарищи. Об этом я хотел напомнить своим докладом, товарищи.
«Труды Первой Всесоюзной конференции исто- риков-марксистов». Изд. Комакадемии, 1930, т. I, стр. 301 —3178*
ЛЕНИН И ИСТОРИЯ
Зачем нужно заниматься историей? Многие думают, что совсем не нужно, что нужно заниматься только современностью. Или что история служит только так, для развлечения или в лучшем случае для «поучения». Если сказать, что без некоторого исторического образования, как и без некоторого философского образования, нельзя быть марксистом, иной широко раскроет глаза. Еще недавно спорили, учить ли в школах историю или нет, хотя Ленин требовал этого самым настойчивым, самым неукоснительным образом.
Для того чтобы избавиться от таких совершенно праздных споров, очень полезно вспомнить, что думал об истории Ленин. В своей лекции перед свердловцами о государстве в 1919 году Ленин говорил: «Для того чтобы наиболее научным образом подойти к этому вопросу, надо бросить хотя бы беглый исторический взгляд на то, как государство возникло и как оно развивалось. Самое надежное в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» *.
Естественно, что историческому материализму как составной части марксизма Ленин придавал огромное значение. «Величайшим завоеванием научной мысли явился исторический материализм Маркса. Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, сменились пора-
* Новые статьи и письма. Вып. I, 1930, стр. 94
Ленин и история
47
зительно цельной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, — из крепостничества, например, вырастает капитализм.
Точно так же, как познание человека отражает независимо от него существующую природу, т. е. развивающуюся материю, так общественное познание человека (т. е. разные взгляды и учения философские, религиозные, политические и т. п.) отражает экономический строй общества. Политические учреждения являются надстройкой над экономическим основанием. Мы видим, например,, как разные политические формы современных европейских государств служат укреплению господства буржуазии над пролетариатом» *.
Тут особенно важно подчеркивание Лениным теснейшей связи между историей и политикой. В политических спорах сегодняшнего дня мы не в состоянии разобраться, пока мы не знаем, как этд споры возникли, откуда они взялись, чьи интересы они отражают. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» **. Если человек просто безграмотный стоит вне политики, по определению Ленина, то человек исторически безграмотный стоит вне марксистской политики, он никогда не сумеет разобраться, какой класс с ним борется и даже интересы какого класса он сам защищает. Много добрых людей бывали убеждены — и сейчас убеждены, — что они борются за интересы пролетариата, тогда как на самом деле они отстаивают интересы кулака и всякого другого мелкого хозяйчика против пролетариата. Потому что классы сложились не вчера, они складывались десятилетиями и иногда веками, и, не разворошив их истории до дна, мы не разглядим их настоящего лица, тем более что лицо это обыкновенно прячется.
Великолепный образчик такого классового анализа дал сам Ленин на примере буржуазии и ее партий в эпоху III Государственной думы (1908—1912 гг.). На этом анализе, между прочим, видно, что заниматься современностью вовсе не значит сидеть, уткнувшись носом в то, что происходит сегодня;
* В. И. Ленин. Соч., т. XVI, изд. 3, стр. 350—351 2.
** Там же, стр. 3533.
48
1. О Ленине
иной раз и то, что происходило пятьдесят лет назад, весьма современно.
Вот что писал Ленин о III Думе весной 1912 года: «Третья Дума с новой стороны, в новой обстановке подтвердила то основное деление русских политических сил и русских политических партий, которое вполне определенно наметилось с половины XIX века, все больше оформлялось в 1861—1904 годах, вышло наружу и закрепилось на открытой арене борьбы масс в 1905—1907 годах, оставаясь таковым же и в 1908— 1912 годах. Почему это деление остается в силе и поныне? Потому, что не решены еще те объективные задачи исторического развития России, которые составляют содержание демократических преобразований и демократических переворотов везде и повсюду, от Франции 1789 года до Китая 1911 года» *.
Так глубоко надо было спуститься в историю, чтобы понять отношения, какие сложились между отдельными классами русского общества к 1912 году! Оказывается, что эти отношения начали складываться еще раньше «крестьянской реформы» 1861 года, в период борьбы за эту реформу. В одной из своих предыдущих статей, написанной в 1911 году, именно по случаю пятидесятилетнего юбилея этой самой «реформы», Ленин дает подробную, обоснованную схему, план того развития, которое привело в конце концов к III Думе. Эти пять страниц ленинской статьи 5 дают более глубокую и более содержательную оценку всего пятидесятилетнего периода русской истории, нежели пятьсот страниц любого профессорского курса.
Ленин отчетливо намечает два течения, идущие от тех далеких дней. Одно течение представлено крепостниками-по- мещиками, которых «заставила взяться за реформу», с одной стороны, «сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма», с другой — боязнь крестьянской революции. ««Крестьянская реформа» была проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию».
«Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либеральнонародническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие
* В. И. Ленин. Соч., т. XV, изд. 3, стр. 4074.
Ленин и история
' 49
революционные мысли об уничтооюении этой собственности, о полном свержении этой власти» *6.
Крепостники и либералы в 1861 году —это одно течение. Против него стояли крестьянские массы, которых «века рабства настолько забили и притупили», «что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием», да «одиночки-революционеры» с Н. Г. Чернышевским во главе. Это было другое течение.
«Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу времени». Чернышевский был «революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».
«Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, прошедшего после 19-го февраля, и расходились все яснее, определеннее и решительнее. Росли силы либерально-монархической буржуазии, проповедовавшей удовлетворение «культурной» работой и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии и социализма — сначала смешанных воедино в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных народников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек- пропагандистов к борьбе самих революционных классов».
«В революции 1905 года те две тенденции, которые в 61-м году только наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе, развились, выросли, нашли себе выражение в движении масс, в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в стачках, в восстании, в Государственных думах» 7.
«1861 год породил 1905. Крепостнический характер первой «великой» буржуазной реформы затруднил развитие, обрек крестьян на тысячи худших и горших мучений, но не изменил направление развития, не предотвратил буржуазной революции 1905 года. Реформа 61-го года отсрочила развязку, открыв
* В. И. Ленин. Соч., т. XV, изд. 3, стр. 142—146. Всо дальнейшие цитаты оттуда.
50
1. О Ленине
известный клапан, дав некоторый прирост капитализму, но она не устранила неизбежной развязки, которая к 1905 году разыгралась на поприще несравненно более широком, в натиске масс на самодержавие царя и крепостников-помещиков. Реформа, проведенная крепостниками в эпоху полной неразвитости угнетенных масс, породила революцию к тому времени, когда созрели революционные элементы в этих массах.
Третья Дума и столыпинская аграрная политика есть вторая буржуазная реформа, проводимая крепостниками. Если 19-ое февраля 61-го года было первым шагом по пути превращения чисто крепостнического самодержавия в буржуазную монархию, то эпоха 1908—1910 годов показывает нам второй и более серьезный шаг по тому же пути» 8.
В других местах Ленин, повторяя ту же мысль, предостерегает своего читателя от вывода, что если черносотенное самодержавие сделало шаг по направлению к буржуазной монархии, то эта буржуазная монархия уже налицо. Ничего подобного. «Те, кто отрицает (или не понимает)... что перед нами стоят, старые проблемы, что мы идем навстречу старому их решению, те покидают на деле почву марксизма, те оказываются на деле в плену у либералов...» 9 «Мы переживаем дальнейший сдвиг всего уклада российского государства, еще один шаг по пути превращения в буржуазную монархию. Этот новый шаг, столь же неуверенный, столь же колеблющийся, столь же неудачный, столь же несостоятельный, как прежде, ставит перед нами старые вопросы» 10. Царизм только идет к буржуазной монархии, идет ощупью и зигзагами, спотыкаясь на каждом шагу и на каждом шагу напоминая о своей черносотенной природе. Тем не менее он идет все время в одном определенном направлении. «Подчеркнуть же это направление тем более необходимо, чем чаще приходится слышать в наше время непродуманные суждения о том, будто «шаги» по пути превращения в буржуазную монархию делаются Россией чуть ли не в самые последние годы» * п.
Тем более необходимо, что люди, увидевшие перед собой столь «новую» вещь, как движение царизма по пути буржуазной монархии, сразу же уверовали, что путь уже пройден, что буржуазная монархия уже пришла и говорить о буржуазной революции в 1911 году —такая же устарелая вещь, как говорить об отмене крепостного права после 1861 года. А в числе этих людей, притом в числе тех, кто с особенной наивностью
* Там же, стр. 96, 99 и 123.
Ленин и история
51
высказывал подобные мысли, был ученый-историк Н. А. Рожков, которого многие тогда считали, а иные, может быть, и сейчас считают настоящим марксистом.
Из этого исторического анализа следовали практические выводы: для Ленина — что нужно не покладая рук работать над подготовкой новой революции и для этого в неприкосновенности сохранить старую большевистскую организацию; для Рожкова — что нужно хлопотать об основании «открытого общества рабочих», так как никаких «бурь» в ближайшем будущем не предвидится, а старую организацию ликвидировать. Из исторического анализа в том и другом случае следовала определенная политическая тактика.
Эта тактика определялась, разумеется, не историческими изысканиями, а тем действительным положением вещей и действительным соотношением классов, какое существовало в России в 1911 — 1912 годах. Но чтобы понять это действительное положение, нужно было очень ясно видеть далеко в глубь прошлого. У не занимавшего никакой исторической кафедры Ленина было это ясное понимание прошлого, как ни у какого другого человека его времени; у профессионального историка Рожкова этого ясного понимания прошлого не оказалось.
Что Ленин, как никто, понимал сущность русского исторического процесса, притом не только с 1861 года, а с гораздо более далеких времен, что всякая будущая история. России, заслуживающая имени марксистской, должна руководиться этим пониманием русской истории Лениным, об этом никто теперь не спорит. А из статей Ленина по национальному вопросу возьмет свои основные установки и создаваемая нами теперь история народов СССР — об этом тоже никто не станет спорить. Но что у Ленина есть замечательно глубокие и меткие установки по истории вообще, в частности по истории Западной Европы, об этом не то что спорят, но многие этого как- то не замечают.
А между тем и тут у Ленина есть схемы и планы, которые должны бы лечь в основу работы целого ряда историков-мар- ксистов. Возьмем для примера один отрывок. Ленин разбирает тот же вопрос об отношении либералов и демократов, какой он разбирал выше на примере русской истории после 1861 года, но разбирает теперь на примере Франции: «Либеральная буржуазия во Франции начала обнаруживать свою вражду к последовательной демократии еще в движении 1789— 1793 годов. Задачей демократии было создание вовсе не буржу¬
52
1. ОЛенине
азной монархии, как прекрасно знает Мартов. И демократия Франции, с рабочим классом во главе, вопреки колебаниям, изменам, контрреволюционному настроению либеральной буржуазии, создала, после долгого ряда тяжелых «кампаний»,тот политический строй, который упрочился с 1871 года. В начале эпохи буржуазных революций либеральная французская буржуазия была монархической; в конце долгого периода буржуазных революций — по мере увеличивающейся решительности и самостоятельности выступлений пролетариата и демократически буржуазных («левоблокистских», не во гнев будь сказано Л. Мартову!) элементов — французская буржуазия вся была переделана .в республиканскую, перевоспитана, переобучена, перерождена. В Пруссии, и в Германии вообще, помещик не выпускал из своих рук гегемонии во все время буржуазных революций и он «воспитал» буржуазию по образу и подобию своему. Во Франции гегемонию раза этак четыре за все восьмидесятилетие буржуазных революций отвоевал себе пролетариат в разных сочетаниях с «левоблокистскими» элементами мелкой буржуазии, и в результате буржуазия должна была создать такой политический строй, который более угоден ее антиподу» *.
Такой картины воспитания класса капиталистов революционными массами, «левоблокистскими», т. е. представлявшими соединение пролетарских и революционных мелкобуржуазных элементов**, вы не найдете, конечно, ни у одного не только прямо буржуазного, но и по-меньшевистски «марксистского» историка Западной Европы. А между тем тут действительно водораздел между судьбами французской и прусской, например, буржуазии — объяснение того, почему вторая до 1917 года терпела полусамодержавную монархию и дворянство, тогда как первая вынуждена была ввести полное формальное равенство между гражданами и выгнать из страны всех «претендентов» на французский престол.
Человек, так тонко и глубоко понимавший историю и России и Западной Европы, не мог терпимо относиться к исторической безграмотности и жестоко бичевал за нее своих противников. «Мартов сравнивает Россию эпохи крестьянских восстаний против феодализма с «Западной Европой», давным-давно покончившей с феодализмом. Это феноменальное извращение
* В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 342 и 343 12.
** «Левым блоком» называли союз с.-д. большевиков и эсеров на выборах во II Думу в 1906 г.; меньшевики шли тогда вместе с кадетами.
Ленин и история
53
исторической перспективы. Есть ли «во всей Западной Европе» социалисты, у которых в программе стоит требование: «поддержать революционные выступления крестьянства вплоть до конфискации помещичьих земель»? Нет. «Во всей Западной Европе» социалисты отнюдь не поддерживают мелких хозяев в их борьбе из-за землевладения против крупных хозяев. В чем разница? В том, что «во всей Западной Европе» давно сложился и окончательно определился буржуазный строй, в частности, буржуазные аграрные отношения, а в России именно теперь идет революция из-за того, как сложится этот буржуазный строй». «Как Мартов, так и Троцкий смешивают в кучу разнородные исторические периоды, противопоставляя России, совершающей свою буржуазную революцию, — Европу, давно кончившую эти революции» *.
«Безусловным требованием марксистской теории при разборе какого бы то ни было социального вопроса является постановка его в определенные исторические рамки, а затем, если речь идет об одной стране (например, о национальной программе для данной страны), учет конкретных особенностей, отличающих эту страну от других в пределах одной и той же исторической эпохи» 14. Вот почему Ленин был непримиримым противником всяких общих характеристик, не приуроченных к определенной конкретной исторической действительности. «Наши либералы вообще — а за ними и либеральные рабочие политики (ликвидаторы) — любят говорить и говорить об «европеизации» России. Малюсенькая правда служит здесь для прикрытия большой неправды.
Несомненно, что Россия, вообще говоря, европеизируется, т. е. перестраивается по образу и подобию Европы .(причем к «Европе» надо теперь причислять, вопреки географии, Японию и Китай). Но эта европеизация вообще идет с Александра II, если не с Петра Великого, идет и во время подъема (1905), и во время реакции (1908—1911), идет и в полиции и у помещиков типа Маркова, которые «европеизируют» свои приемы борьбы с демократией.
Словечко «европеизация» оказывается таким общим, что оно служит для запутывания дела, для затемнения насущных вопросов политики» ** 15.
История же должна служить не для затемнения, а для разъяснения основных вопросов политики. В этом ее смысл, в
* В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 12—13 13.
** В. И. Ленин. Соч., т. XVII, стр. 431 и 432; т. XVI, стр. 314.
54
1. О Ленине
этом ее значение для марксистов. История — это объяснительная глава к политике. И в этом связь в истории теории с практикой. В этой связи Ленин видел «душу живу» марксизма. «Наше учение — говорил Энгельс про себя и про своего знаменитого друга — не догма, а руководство для действия. В этом классическом положении с замечательной силой и выразительностью подчеркнута та сторона марксизма, которая сплошь да рядом упускается из виду. А упуская ее из виду, мы делаем марксизм односторонним, уродливым, мертвым, мы вынимаем из него его душу живу, мы подрываем его коренные теоретические основания—диалектику, учение о всестороннем и полном противоречий историческом развитии; мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут меняться при каждом новом повороте истории» *.
И с этой точки зрения увязки теории с практикой проделанная марксизмом историческая работа представлялась Ленину главным делом марксизма. «Главное в учении Маркса, это — выяснение всемирно-исторической роли пролетариата как созидателя социалистического общества. Подтвердил ли ход событий во всем мире это учение после того, как оно было изложено Марксом?» 17. «Не успели оппортунисты нахвалиться «социальным миром» и не необходимостью бурь при «демократии», как открылся новый источник величайших мировых бурь в Азии. За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. Мы живем теперь как раз в эпоху этих бурь и их «обратного отражения» на Европе. Каковы бы ни были судьбы великой китайской республики, на которую теперь точат зубы разные «цивилизованные» гиены, но никакие силы в мире не восстановят старого крепостничества в Азии, не сметут с лица земли героического демократизма народных масс в азиатских и полуазиатских странах.
Некоторых людей, невнимательных к условиям подготовки и развития массовой борьбы, доводили до отчаяния и до анархизма долгие отсрочки решительной борьбы против капитализма в Европе. Мы видим теперь, как близоруко и малодушно анархистское отчаяние 18. •
Не отчаяние, а бодрость надо почерпать из факта вовлечения восьмисотмиллионной Азии в борьбу за те же европейские идеалы.
* Там же, т. XV, стр. 71. Разрядка моя. — М. П.16.
Ленин и история
55
Азиатские революции показали нам ту же бесхарактерность и подлость либерализма, то же исключительное значение самостоятельности демократических масс, то же отчетливое размежевание пролетариата от всяческой буржуазии. Кто после опыта и Европы и Азии говорит о неклассовой политике и о неклассовом социализме, того стоит просто посадить в клетку и показывать рядом с каким-нибудь австралийским кенгуру...
После появления марксизма каждая из трех великих эпох всемирной истории приносила ему новые подтверждения и новые триумфы. Но еще больший триумф принесет марксизму, как учению пролетариата, грядущая историческая эпоха» *1Э.
Этим пророческим заключением (эта статья Ленина «Исторические судьбы учения Карла Маркса» написана в 1913 году) я заканчиваю коротенький подбор высказываний Ленина об истории и ее значении. Это лишь ничтожная доля таких высказываний. Исторические наблюдения и обобщения попадаются нам у Ленина почти в каждой статье. Их еще никто не подытожил как следует, по большей части ограничивались подбором цитат вроде приведенных выше. Хорошо, если бы читатели «Борьбы классов» занялись этим делом. Общими силами оно пойдет куда скорее, чем попытками отдельных марксистских литераторов.
«Борьба классов», 1931, JV& 1, стр. 1—7
* В. И. Ленин. Соч., т. XVI,. стр. 331 и 333.
ш
ИСТОРИЯ
РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДВИЖЕНИЯ
НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ1
Я буду подходить к революции 1905 года, о которой мы вспоминаем, приблизительно от тех позиций, на которых стояли мы, русские, когда эта революция приближалась. Вы знаете все, товарищи, конечно, что я бы не сказал «мы русские», но российская интеллигенция всегда отличалась нарочитой скромностью по отношению к Западной Европе. До некоторой степени эту скромность можно сравнить с тем трепетом благоговения, с каким сами западные европейцы относились к древнему миру. Громадные монументальные памятники старой культуры производили на людей, неспособных создать такие же памятники в настоящее время, подавляющее впечатление и заставляли их тянуться, что называется, за древними, тянуться для того, чтобы по крайней мере достичь уровня этих древних, если не обогнать их. Вы сами знаете это, конечно, потому что многие из вас кончили классическую гимназию, где это благоговение перед древностью внедрялось в молодые мозги. Так и русские интеллигенты, попав за границу и видя не в развалинах, а живыми такие монументы западноевропейской культуры, как Париж или Лондон, приходили в некоторый благоговейный трепет и думали: куда уж нам, где уж нам, куда же нам с суконным рылом в калашный ряд. И вот когда, приблизительно с 1901 года, определилось со всей ясностью, что у нас будут говорить по-французски, а не по-немецки, т. е. будет настоящая революция с уличными боями, вооруженными восстаниями и т. д., распланировывая эту будущую революцию, у нас брали самый скромнейший из всех примеров, какие можно было собрать в Западной Европе. Об английской революции XVII века и о французской великой революции не вспоминали даже некоторые наши тогдашние вожди, например Плеханов. Для него образчиком, по которому он готов был рисовать русскую революцию, была среднеевропейская революция 1848 года. Странным образом, с противоположной стороны баррикады, с ним сходился и покойный историк П. Г. Виногра¬
60
11. История революционного движения
дов, который стал известен широким кругам главным образом теми двумя цифрами, которые он выдвигал с чрезвычайной выпуклостью. Надо, говорил он, чтобы наша русская революция не пошла дальше 48 года и ни в коем случае не дошла до 89 года. Надо, чтобы это была скромная, среднеевропейская, немецкая, аккуратная, небольшая революция, чтобы она никоим образом не была великой революцией вроде французской2. Так рассуждали, повторяю, русские интеллигенты. Что касается русских рабочих и крестьян, то они этими интеллигентскими скромностями заражены вовсе не были и никаких параллелей не проводили. Они тогда, как и теперь, никакими параллелями не интересовались, а интересовались и интересуются сутью дела и закатили такие три революции, которые пошли дальше не только 89 года, как опасался покойный П. Г. Виноградов, но даже дальше 1793 — 1794 годов. Робеспьер в роковую минуту не решился, как вы знаете, разогнать Конвент, хотя из новейших исследований Матье видно, что он имел к этому полную объективную возможность3, ибо Конвент уже разбежался и нужно было только помешать ему опять собраться; а Ленин разогнал Учредительное собрание чрезвычайно просто, выполнив это как дело само собой разумеющееся, не встретив почти никакого сопротивления. Тот величайший фетиш Учредительного собрания, который выдвинула Западная Европа, оказался преодоленным нашей революцией чрезвычайно легко и скоро, без всяких сопротивлений и боев, потому что за Учредительное собрание никаких боев не было. Нельзя же считать боем стрельбу на петербургских улицах, которая была чрезвычайно невелика и боем, собственно говоря, не являлась.
Таким образом, уже в этом своем достижении русская революция перешла известный рубеж, и, как бы мы ни спорили, что у нас социализм или госкапитализм, как угодно определяйте этот вопрос, мы во всяком случае по ту сторону буржуазной демократии, как она существует в Западной Европе. Поскольку у нас национализирована крупная промышленность, национализирован транспорт и почти национализирована крупная торговля и т. д. и т. д., постольку нашему Советскому правительству никогда не придется стоять перед вопросом, перед которым стоит французское или английское правительство: а как, мол, та или иная железнодорожная компания отнесется к изменению железнодорожного тарифа? Мы этого не имеем, и, как все, так и тариф изменяется, как это нужно государству, целому, и всем трудящимся. Таким образом, мы уже перева¬
Начало пролетарской революции в России
61
лили через известный рубеж, повторяю, оправдав и надежды и опасения другой стороны в самых больших размерах.
Вы видите, что я рассматриваю нашу революцию как одно целое, как три больших эпизода, называя по месяцам: декабрь 1905 года, февраль 1917 года и октябрь 1917 года, и это как будто противоречит тому, о чем я уже говорил, о чем я писал сравнительно недавно и что мы вообще знаем, именно что революция 1905 года была чисто буржуазной революцией, между тем как Октябрьская революция была безусловно, бесспорно социалистической революцией. Но тут. придется внести некоторую поправку к той поправке, которую мы должны были сделать, воюя с теорией перманентной революции, которая готова была изобразить все три выступления на одном экономическом уровне и утверждала, что уже в декабре 1905 года возможна была социалистическая революция, а социалистическая революция предполагает империализм, т. е. господство монополистического капитализма. Борясь с этой теорией, приходилось несколько перегибать палку и подчеркивать буржуазный характер первой революции, которая, конечно, к социализму не шла и социалистических целей себе не ставила. Но тем не менее если бы вы стали искать резкую грань, непроницаемую переборку между 1905 и 1917 годами, то вы бы ее не нашли. Наша революция до известной степени развивалась «эволюционно» в промежуток времени от 1905 до 1917 года, без перерывов, без скачков, если хотите, этим опровергая «диалектику», в ее крайне вульгарном понимании разумеется. Основное условие для социалистической революции — господство монополистического капитализма; это основное условие вовсе не предполагает формального разрыва с предшествующим периодом, периодом промышленного капитализма, как и промышленный капитализм развивался из торгового без такого резкого переворота, без обязательной революции. Подобно этому и между нашими тремя революциями нет разрыва. Тот же класс на первом месте, он ведет, он в авангарде всего движения, и даже та же самая партия, те же самые большевики, которые были в 1905 году, они же и в 1917 году. Поэтому эти три выступления приходится рассматривать как одно целое, и сегодня я остановлюсь на первом выступлении, чтобы показать, что же в нем было оригинально, ибо, как вы увидите, кое-что оригинальное и предвосхищающее второе и даже третье выступление было также уже и в этот первый момент.
Тут приходится подчеркнуть, что основным недостатком всяких старых параллелей с 48, с 89 годами или даже с Анг¬
62
IL История революционного движения
лией, с Кромвелем было непонимание того, что на сцене в начале XX века выступил в русской революции совершенно новый общественный класс, который раньше в качестве главного деятеля революции еще нигде не выступал. Эта основная черта нашей революции, она как раз и должна была воздержать нас от всякого рода слишком легкомысленных параллелей. Тут, делая очень поверхностную аналогию, пробовали в те времена провести параллель между экономическим уровнем, на котором стояла Россия в 1905 году, и экономическим уровнем, на котором стояла Средняя Европа, и в частности Германия, в 48 году. Конечно, никакой параллели не получалось. Если мы возьмем за мерило развития индустрии, например, металлургию, а за мерило металлургии возьмем выпуск чугуна, то Россия даже 1897 года стояла на одном уровне с Пруссией 79, а не 48 года. Если мы возьмем развитие железнодорожной сети, которая достигала в Германии 1000 км в 1848 году и превышала 40 тыс. км в конце XIX века у нас в России, мы получаем ту же картину несоизмеримости экономической России конца XIX века и Германии середины этого века: первая стояла на уровне Германии не 48 года, а на уровне Германии времен исключительного закона о социалистах — 80-х годов. На таком уровне еще никогда ни одна революция не разыгрывалась, и Ленин был совершенно прав, когда он в 1917 году в качестве единственного предшественника нашей революции, предшественника, у которого мы могли бы чему-нибудь поучиться, из опыта которого мы могли бы извлечь кое-что для себя, выдвигал Парижскую коммуну 71 года. Это был действительно единственный случай, когда революция в Европе происходила приблизительно на том уровне экономического развития, на котором стояла Россия в начале XX века, но и то очень приблизительно, поскольку прежде всего Париж, в котором разыгралась вся революция 71 года, как знают все бывавшие там и все знающие это из книжек, даже в начале XX века далеко не принадлежал к числу крупнейших индустриальных промышленных центров Западной Европы. В 1909 году крупнопромышленный пролетариат в Париже был абсолютно малочисленное, нежели в Москве. В Москве было 130 тыс., в Париже — 108 или 110 тыс. рабочих, занятых в крупных предприятиях, а население в то же время в Москве было 1 300 тыс., а в Париже — 2 800 тыс. Таким образом, удельный вес крупного промышленного парижского пролетариата был сравнительно с московским ничтожен. Париж прежде всего — это центр производства всякого рода предметов роскоши, женских
Начало пролетарской революции в России
63
платьев, всякого рода нарядов, «бижутери» и т. д. и т. д., а это все сосредоточено в небольших мастерских, которые не могут быть названы крупными промышленными предприятиями. Подавляющее большинство парижских пролетариев — это ремесленные рабочие, Париж — крупнейший торговый центр Франции, один из крупнейших на всем континенте Западной Европы, с крупнейшими банками и т. д., и хотя, конечно, банковские клерки также являются своего рода пролетариатом, но тем не менее это не то, что наши металлисты, и не то, что наши ткачи. Это пролетариат, очень близкий к мелкой буржуазии. Вот почему Париж был гораздо более отсталым центром, нежели Москва и Петербург в 1905 году. Но этот пример все-таки до известной степени подходил. Из него можно было кое-что извлечь, а из германского примера 48 года в 1905 году уже ничего нельзя было извлечь. Вот почему революция — я говорю о революции 1905 года — самым жестоким образом разбила как всякие надежды, так и опасения, разбила все предвидения, и в том числе предвидение Плеханова, который нашей революции не понял и который в эти годы как раз начал отходить от революции. Она была для него чем-то чуждым, совершенно непохожим на ту схему, какую он нарисовал себе; а так как он был слишком самолюбив, чтобы пожертвовать схемой для революции, то он пожертвовал революцией для схемы.
Попытаемся выяснить, что, собственно, является оригинальным в этой революции, как на ней отразился тот факт, что она разыгралась на определенной ступени развития, на уровне очень высоком — развитого промышленного капитализма и связанного с этим господства в промышленности крупного промышленного пролетариата и т. д.; целый ряд любопытных черт, которые как раз и показывают невозможность аналогии с 48 годом и неполноту аналогии с 71 годом, сейчас же перед нами начинает вырисовываться. Вы знаете, что революция в Центральной Европе в 48 году была проиграна в значительной степени благодаря тому, что отчасти возникали сами собой, отчасти были чрезвычайно ловко инсценированы национальные противоречия внутри восставших масс. Австрийская революция прямо погибла на этих национальных противоречиях, она была ими расколота и провалилась. Германская также от них страдала. Партикуляризм отдельных германских государств сильно мешал ходу германской революции. Когда ставили задания нашей комиссии 1905 года4, то я обратился, между прочим, к председателю литературной подкомиссии одной из со¬
64
II. История революционного движения
юзных республик с просьбой дать нам статьи по национальному движению в их краях в 1905 году. Получить историю такого национального движения в Польше и Финляндии было очень легко, и товарищи без затруднения ее дали; но теперь и Финляндия, и Польша для нас отрезанный ломоть. Когда же я обратился с этим предложением в Закавказье, то мне ответили: не было у нас национального революционного движения. Было контрреволюционное движение, например резня в Баку между татарами и армянами, а революционного движения не было. Тщательное изучение документов показывает, что в такой категорической форме утверждение это, конечно, не совсем верно: были требования населения о введении преподавания на грузинском языке и о бойкоте школ, где насильственно велось обучение на русском языке, так что кое-какие черты были, но сравнения с Германией и особенно Австрией, где народности выступили друг против друга вооруженным образом, и в самой отдаленной степени не получается, и говорить о национальном движении 1905 года, дсключая Польшу и Финляндию, как о каком-то серьезном политическом факторе не приходится. Это создавало иллюзии насчет дальнейшего хода революции. Когда в 1916 году в Париже у нас шли споры о том, как пойдет революция в России, я выдвигал мысль, что одним из последствий крушения самодержавия будет отрыв от старой «Российской империи» насильственно с ней связанных крупных народностей, начиная с Украины*. Мне возражали, что капитализм слишком сильно спаял все отдельные части «империи», чтобы у нас возможно было сколько-нибудь серьезное национальное движение. Это оказалось неверным, и вы знаете, что был момент, когда Украина отделилась на целый год, Закавказье было отделенным гораздо больше года — 2—3 или 4 года, но в конце концов все-таки эти страны сложились в единый Союз. Вне его оказались только Польша и Финляндия, да и то и та и другая оказались вне больше в силу международной обстановки, и уже исключительно только в силу международной обстановки в положении таких отрезанных ломтей оказались и Латвия, и Эстония*— в силу вмешательства англичан, отчасти немцев и т. д. и т. д. Таким образом, в из¬
* Точка зрения М. Н. Покровского на вопрос о формах вхождения различных народов в состав России, и в частности о воссоединении Украины с Россией, ошибочна. См., например, «Воссоединение Украины с Россией». Документы и материалы, т. 1—3. М., 1953, и «Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654—1954 гг.)». [М.], 1954. См. также примеч. на стр. 296. — Ред.
Начало пролетарской революции в России
65
вестном смысле и я был прав в том смысле, что национальное движение было невозможно, и мои противники 1916 года были правы, когда они говорили, что капитализм слишком спаял тогдашнюю Российскую империю, чтобы возможно было серьезное национальное движение.
Вот, товарищи, первое следствие того экономического уровня, на котором застала нас революция в 1905 году, следствие, имевшее колоссальную важность. Самодержавие чрезвычайно охотно разыграло бы австрийскую трагикомедию 48—49 годов, оно обнаружило к этому полнейшую склонность, но никаких объективных возможностей инсценировать это у самодержавия не было. И в Чите, и в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екате- ринославе, Киеве, Одессе и даже до известной степени и с некоторыми оговорками в Варшаве и в Риге революция шла под таким же лозунгом и к тем же целям, как шла в Москве и Петербурге. Таким образом, получался колоссальный единый фронт, перед которым самодержавие металось в совершенной панике. И этот фронт получался благодаря высокому экономическому уровню, на котором революция застала Россию. Пролетариат спасал Россию от повторения австрийской революции 1848—1849 годов, хотя состав «империи» в национальном отношении был не менее пестрым, чем национальный состав Австрии в 1848 году.
О целях революции я не буду повторять, потому что я об этом говорил уже неоднократно и печатался, а когда что-нибудь печатаешь, то создается иллюзия, что все знают об этом, на самом деле это вовсе не так, это чистейшая иллюзия, но тем не менее не поворачивается язык повторять то, о чем как будто все знают, что уже напечатано. Я не буду повторять то, что уже напечатано и что — мне по крайней мере — известно о том, как пролетариат влиял на крестьянство, как он тащил за собой деревню, как он давал деревне свои формы борьбы и т. д. Это все можно прочесть, поэтому повторять не надо, не стоит на это тратить времени. Позвольте отметить, что опять-таки в этом отношении мы были впереди французов 71 года, ибо одна из основных причин крушения Парижской коммуны заключалась в том, что революция не вышла за пределы парижского «банльё», она была в нем заперта; другим рабочим центрам Франции — северо-востоку Франции, французскому Донбассу, или бассейну Верхней Луары, Сент-Этьенну—не удалось сделать своей революции, там революции не было. А у нас революция была повсеместно, и вот почему с нами было так трудно справиться, несмотря на то что у Парижской коммуны
3 М. Н. Покровский, кн. 4
66
11. История революционного движения
были крупные вооруженные силы — 150 тыс. вооруженных национальных гвардейцев с 1500—2000 пушек, тогда как у нас пушку захватили только одну — на Пресне и то стрелять из нее не умели. И, несмотря на то что в военном отношении мы были слабее Парижской коммуны 71 года, мы были гораздо сильнее благодаря разлитости революции, потому что она охватила всю страну, потому что эту страну связал железным кольцом капитализм, и это железное кольцо капитализма стояло во время революции перед царской властью, облеченное не в менее железное кольцо пролетариата. Позвольте иллюстрировать это маленьким, но характерным примером: очагом движения металлистов у нас стали железнодорожные мастерские, т. е. как раз та часть металлургии, которая приставлена была к железнодорожной сети и персонал которой движется по этой сети. Нет более подвижного, текучего элемента, нежели рабочие железнодорожных мастерских: сегодня он работает в Петербурге, завтра в Москве, послезавтра в Ростове-на-Дону, а после послезавтра еще где-нибудь дальше — в Киеве или Одессе и т. д. и т. д. Вот как раз там, среди этих живо и наглядно воплощающих связь всего пролетариата по всей стране масс железнодорожных металлистов впервые появляются лозунги 8-часового рабочего дня, идея всеобщей политической забастовки и т. д.
Это основная черта нашей первой революции 1905 года, черта, которая потом проходит и через две следующие революции. Революция 1917 года точно так же не создала сначала никакого местного движения, была «национальной» революцией, охватившей всю страну. Национальные движения явились лишь потом. А еще позже по мере восстановления промышленности распавшиеся в первую минуту отдельные части снова слились в единый Советский Союз. Но этим, конечно, оригинальность революции 1905 года не исчерпывается, у нее были и другие оригинальные черты, более глубокие и более интересные: прежде всего то, что поражало, вероятно, наблюдателей, поражало, действительно, французских наблюдателей, — это отсутствие у нашей революционной массы, у рабочих и крестьян, следующих за ними, отсутствие того формального подхода к революции, который так характерен для революций Запада, особенно для французской революции. Французская буржуазная: газета «Тан» выразила это таким образом: у русского народа в настоящем смысле этого слова нет политических понятий. В этом «Тан», получавшая хорошие субси-
Начало пролетарской революции в России
67
дип из русского посольства, видела основную гарантию прочности самодержавия и, значит, прочности тех русских бумаг, которые по рекомендации «Тан» покупала парижская мелкая буржуазия. И действительно, если подходить с точки зрения чисто формальной, то слабо у нас было по части этих политических понятий. Я ДЛЯ ясности опять иллюстрирую это парой анекдотов.
Когда мне весной 19075 года пришлось проводить избирательную кампанию на Лондонский съезд в ]\1оскве, передо мной прошел целый ряд рабочих собраний. Это были собрания рабочих, очень квалифицированных в политическом отношении, это были партийные товарищи, старые революционные бойцы. Рассуждали они чрезвычайно хорошо о революции, о классовом ее значении и т. д., но когда нам приходилось с ними выяснять значение лозунга Учредительного собрания, я натыкался на какую-то стену, ибо тот формальный момент, из которого исходит вся буржуазная наука, что это есть вопло1 щение высшей народной воли, он не был ясен для рабочих. Для них это были слова, а так как лозунг Учредительного собрания стоял в нашей партийной платформе, то они старались истолковать эти слова по-своему. Учредительное собрание, говорил один из них, это всеобщее вооружение народа, Учредительное собрание вооружит весь народ и тем закрепит революцию. Он не подозревал, что повторяет в несколько иной форме слова Энгельса. По существу рабочий был совершенно прав, но я боюсь, что на экзамене по государственному праву он получил бы единицу за ответ, что Учредительное собрание есть всеобщее народное вооружение. Другой рабочий говорил: Учредительное собрание — это значит 8-часовой рабочий день. Учредительное собрание должно провозгласить' 8-часовой рабочий день. Тут уже приходилось с товарищем рабочим спорить, указывать ему, что в Учредительном собрании будут не только одни рабочие, но и крестьяне, которые уже и тогда относились к 8-часовому рабочему дню довольно прохладно, и мы имели опасения, что 8-часовой рабочий день не пройдет. Это отразилось в некоторых крестьянских наказах. Все это страшно дискредитировало в глазах наших слушателей Учредительное собрание, и только партийная дисциплина мешала им выражать свой протест. Кому нужно Учредительное собрание, если даже 8-часового рабочего дня оно не даст? На первый взгляд это кажется смешным, но на самом деле тут есть глубокая и серьезная вещь, которая заключается в том, что формальная точка зрения — стремление к созданию такого рода Учредительного
3*
68
II. История революционного движения
собрания, которое бы выражало народную волю и т. д., — так сильна была в старых революциях потому, что они все, исключая до некоторой степени Парижскую коммуну, но лишь до некоторой степени, были революциями мелкобуржуазными. Мелкий самостоятельный производитель в силу объективных экономических условий не связан с другими мелкими самостоятельными производителями, и ему чрезвычайно трудно политически с ними объединиться. На крестьянском движении 1905 года это сказалось очень рельефно: ни разу не было случая, чтобы крестьяне объединились в пределах больше одного уезда, да и то с уездом был только один случай — с Балашов- ским уездом Саратовской губернии; что касается других мест, то объединялись волости, а по большей части и не волости, а соседние деревни дрались между собой из-за доставшегося им в наследство помещичьего имущества. В старое время, когда мелкий производитель не представлял собой отряда, идущего за пролетариатом, а представлял собой единственную революционную силу, необходима была какая-то формальная связь для того, чтобы всю эту массу мелких производителей обратить в одно целое; вот откуда это стремление мелких буржуа во что бы то ни стало создать искусственную форму, такую связь, которая естественным путем, условиями его хозяйства не дается. Вот отчего они обязательно должны себе фетишизировать или Конвент, или императора, или королевскую власть, или что угодно, на этом играли в течение всего XVII и XVIII века, и это отразилось в наших крестьянских разговорах о добром царе. Какая-то форма была им совершенно необходима, потому что иначе они развалились бы, распылились бы. Я говорил в другом месте и не буду повторять, что самодержавие очень играло на этом распылении мелкой буржуазии. Вот почему его архи-врагом явился пролетариат, связанный с производством. Пролетариату нечего было искать искусственного выражения народной воли в той или другой более или менее искусственной форме, потому что для него это воля данной производственной ячейки, это цех, все цехи данного завода, затем все заводы данного города, Совет депутатов рабочих данного города и, наконец, Совет депутатов всей России. Вот что воплощает для него народную волю. Рабочий в своем производстве ощущает эту связь с другими рабочими, и не только с рабочими своего производства, но и с рабочими других производств, поскольку рабочий строит для транспорта, для железной дороги, поскольку пролетариат ясно видит и сознает эту связь. Для него формальный момент, несомненно, должен был от¬
Начало пролетарской революции в России
69
ступить на второй план и, действительно, отступил на второй план.
Формальная сторона в нашей революции играет чрезвычайно слабую роль, и это выразилось в одной черте, на которую мало обращают внимания. Решительно все старые буржуазные и мелкобуржуазные революционеры усиленно предавались сочинениям конституции. Что касается декабристов, как вы знаете, после них почти ничего и не осталось, кроме проектов конституции. Но у нас по необходимости такую конституцию сочинили только одну, и то когда необходимо было оформить власть. Когда нужно было эту конституцию написать, создали деловую комиссию и при помощи нее составили конституцию6. Это была чисто деловая операция: когда совершается революция, нужно же какой-то распорядок ввести внутри. Но сочинением конституции «впрок» никто у нас не занимался. В своей программе-минимум мы перечисляли требования, которые предъявлял рабочий класс, но, как будут осуществляться эти требования, в какие формы они выльются, мы этими вопросами интересовались и занимались чрезвычайно мало. Это отражает тот класс, который мы представляем, дух этого класса, потому что этот класс спаяло само производство, он не имеет никакой нужды в том, чтобы создавать какую бы то ни было искусственную спайку, какое бы то ни было искусственное формальное объединение для того, чтобы выразить свою волю, и в этом трагедия нашего Учредительного собрания 1917—1918 годов, Все это казалось рабочей массе ненужным. Я хорошо помню выборы в Учредительное собрание в рабочем районе. Я жил тогда в Замоскворечье. Просто стыдно было идти и подавать голос, все равно как в церковь было стыдно ходить по царским дням, когда я учился: зачем, почему, для чего это нужно? Ясно было, что та рабочая масса, которая окружала меня в За^ Москворечье, совершенно этим не интересовалась и в то время, как в Западной Европе даже такие, как бывший депутат Государственной думы Алексинский, производили впечатление, решительно никому из нас не приходило в голову гордиться, что мы члены Учредительного собрания. Некоторые прошли по целому ряду губерний, и просто стыдно было подчеркнуть это, стыдно было выдвигаться, в особенности это стыдно было делать перед рабочими. Сами эсеры, которые играли на Учредительном собрании, признали, что этот лозунг никого не брал, ни одного солдата нельзя было вытащить на улицу и благодаря этому сорвалась их манифестация, которая имела цели сначала оборонительные (защитить от разгона Учредительное
70
II. История революционного движения
собрание),а потом в случае большого успеха и наступательные в смысле разгона нашего Совета. Этого не вышло, потому что ни одного солдата из казармы вытащить на улицу этим лозунгом нельзя было и ни одного рабочего, ни одного петербургского рабочего, нельзя было вытащить. А когда нужно было защищать Советы от тех же самых восставших эсеров, так весь петербургский пролетариат вышел на улицу, включая сюда и рабочих-эсеров, которые заявили: как же, мы за Советы деремся, — и поэтому они шли в рядах Красной гвардии.
Вот этот реализм рабочего класса, который составляет чрезвычайно характерную черту нашей революции 1905 года, и объясняет то своеобразие политической формы, которую эта революция создала, формы Совета рабочих депутатов, т. е. собрания представителей от производственных ячеек. Это чрезвычайно характерная форма, которая не осталась свойственной только одному пролетариату. Она передалась сейчас же и солдатам, которые создали такие Советы по своей профессии, и она передалась и крестьянам, которые создали крестьянские Советы. Между прочим, крестьянские Советы возникали и в 1905 году. В Тверской губернии было несколько таких крестьянских Советов. Характерной особенностью этих Советов было то, что они были созданы при непосредственном участии рабочих, т. е. тех же тверских крестьян, но работавших на тверских фабриках. Эти рабочие, отправившись к себе в деревню и разагитировав там крестьян, окружили Тверь целым кольцом Советов крестьянских депутатов, которые в сущности были рабоче-крестьянскими, поскольку в каждом таком Совете было обязательно несколько рабочих в качестве руководителей.
Эта черта организации по производству, которая лежит в основе нашей советской системы, представляет собой мировое достижение. И недаром, когда началась германская революция, то она выразилась в образовании Советов рабочих и солдатских депутатов, и провал этих Советов был одновременно провалом германской революции. Несомненно, если бы революция в Германии победила в 1919 году, а не была побеждена, то, по всей вероятности, в Германии были бы Советы,‘с теми же названиями или нет, я не знаю, но во всяком случае это были бы организации представительства по производствам. Из этих организаций представительства по производствам вытекал один вывод, который в 1905 году не был сделан, но который в 1917 году сделали, и вывод был логический: а, кто ни к какому производству не принадлежит и вообще ничего не производит, не является членом никакой производственной ячейки, он имеет
Начало пролетарской революции в России
71
право голоса? Очевидно, нет. Где же он будет голосовать? Тосканские дворяне, которые после революции горожан в XIII веке были лишены права голоса, прибегли к маскараду. Они записывались в цехи, вывешивали на дверях своих домов кто клубок шерсти, кто моток шелка и заявляли: я — ткач, шелкопряд, я — шерстопряд и т. д. Но такая комедия была возможна в XIII веке, а в XX веке ее осуществить очень трудно. Представительство по производству, выражая объективную спайку рабочего класса, спайку хозяйственную, которую не нужно создавать искусственно, само собой выпирало буржуазию, выпирало класс, присваивающий, но не производящий, из политической системы. 65-я статья конституции появилась только в 1918 году, но она носилась в воздухе уже в 1905 году7.
Вот, товарищи, в чем, по-моему, заключаются оригинальные черты революции 1905 года, и вот почему, мне кажется, мы имеем полное право назвать ее народной, как называл ее Ленин вслед за Марксом. Ион и Маркс искали, чем бы отделить революции этого рода от революций другого типа, от прежних буржуазных революций, ибо ясно было, что тут есть что-то на прежние революции непохожее и новое. И эта наша народная революция заслуживает названия Великой, потому что она начинает собой новый период истории. До сих пор мы знали два таких великих барьера: английскую революцию, которая покончила с феодализмом в Англии, но в мировой плоскости внесла лишь то, что в XVII веке уже начинало терять практическое значение, — свободу совести; французская революция конца XVIII века пошла гораздо дальше: она выдвинула идею народного суверенитета, в Англии представленную лишь крайним левым крылом движения, она выдвинула идею равенства, не социалистического равенства пока, но равенства, которое до известной степени подготовляет социалистическое равенство, равенства гражданского. И теперь мы имеем третий исторический рубеж, нашу революцию 1905—1917 годов, которая внесла совершенно новую идею организации народных масс, идею, настолько же опередившую формальную демократию французской революции, насколько крупное промышленное производство идет впереди мелкого ремесла. Наша революция впервые увязала современное хозяйство и политику, сокрушив беспощадно все те фетиши, которые остались современному миру в наследство от старой мелкобуржуазной демократии. Эти фетиши совершенно не нужны нашей новой советской демократии в России, и они окажутся ненужны в других странах, по мере того как туда будет продвигаться социа-
72
11. История революционного движения
диетическая революция. В 1905 году у нас только началось это великое движение, но с тех пор никаких китайских стен на этом пути мы не найдем. Наши требования 1905 года под скромным, легализированным названием неурезанных лозунгов прошли через весь межреволюционный период, и в 1917 году их дальнейшее развитие продолжалось как будто с того места, на котором оно остановилось в декабре 1905 года.
И теперь это развитие захватило ряд стран. Наименее интересующемуся историей человеку то, что теперь происходит в Индии, то, что теперь происходит в Китае, не может не напомнить наш 1905 год. И там во главе идет, первые удары наносит и первые удары на себя принимает рабочий класс, а за ним идут в бой многомиллионные, там еще более многомиллионные, чем у нас, массы крестьян. И не мудрено, что буржуазия Западной Европы, ссудившая деньгами Николая II на подавление русской революции, оказывает всевозможные услуги тем, кто стремится подавить революцию в Китае. Но все труднее и труднее становится эта операция, по мере того как революция приобретает все новые и новые очаги, после того как революция прочно обосновалась в одной из величайших стран мира, разлившись на некоторых новейших американских картах огромным красным пятном, втрое превышающим территорию Соединенных Штатов. Стереть это пятно уже не удастся ни западноевропейской, ни даже всемирной буржуазии ни двумя, ни двадцатью миллиардами не только золотых франков, но и золотых долларов. Революция, начавшаяся на улицах Петербурга в январе 1905 года, занимает теперь в мировой проекции приблизительно то положение, какое заняла французская революция в первые годы XIX века в проекции одной Европы. Это тогда считалось мировым событием, и все, что было в Европе передового, спешило на поклон в Париж. Теперь такой Меккой народов становится Москва. Этого никто не представлял себе, когда после разгрома московских баррикад мы считали те несчастные браунинги и маузеры, которые остались у нас в руках. А теперь мы считаем, сколько у нас аэропланов и броненосцев. Думали ли мы тогда в маленьких комнатах, где мы подводили печальные итоги нашему первому выступлению, что через 20 лет революция полетит на аэроплане?
«Красный архив», 1925, т. 4—5 (11—12), стр. V—XVI
КАЗАНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 6 (18) ДЕКАБРЯ 1876 ГОДА
6(18) декабря 1876 года в Казанском соборе в Ленинграде (тогдашнем Петербурге) собралось, как отметил церковный староста, «очень много народу». «Народ» был не обычный для этого помещения и мало походил на молящихся; разговаривали, переходили с места на место и, наконец, обнаружили свою полную неосведомленность в церковных делах, попросив попа отслужить панихиду, а это был царский день (именины будущего Николая II, которому тогда было 8 лет), и ничто печальное не должно было омрачать светлой радости подданных. В панихиде им отказали, но они были люди покладистые и соглашались вместо панихиды отслушать молебен... После молебна «молящиеся» всей массой двинулись на площадь перед собором, и здесь один из них — полиция только долго спустя узнала, что это был Плеханов, — произнес короткую речь, где говорилось о Чернышевском и других, замученных и замучивавшихся царским правительством за дело революции, а поднятый на плечи товарищами молоденький рабочий развернул красное знамя с надписью «Земля и воля».
Пятьдесят лет назад русская революция впервые вышла на улицу. В течение полутора десятка лет до этого она скрывалась в книгах и брошюрах, в листовках и разговорах, в низеньких, тесных и накуренных комнатах рабочих и студенческих кружков, в переодетых крестьянскими парнями интеллигентах, ехавших в народ, но открыто она не выступала, и народной массы, которая шла бы за ее знаменем, еще не было. В декабре 1876 года была сделана первая попытка найти эту массу и торжественно по улицам царской столицы повести ее за собой под красным стягом «социальной революции», как выражались тогда.
Этого дня ждали долго. Еще в 1862 году писала «Молодая Россия»: «...скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное» *. Ждать пришДось пятнадцать лет. А когда ожидания наконец сбылись, действи-
74
II. История революционного движения
телыюсть оказалась гораздо скромнее мечтаний. Шествия не вышло, получилась просто сходка на улице. Ожидались тысячи — пришли немногие сотни. Красное знамя было развернуто на минуту, и через минуту его пришлось спрятать. Несколько десятков молодежи обоего пола было варварски избито и потом еще более варварски наказано — пятнадцать лет каторги за демонстрацию, мирную, невооруженную, —т этому едва поверят даже люди, пережившие репрессии Столыпина, даже помнящие эпоху Плеве.
И вот эта-то свирепость расправы лучше подчеркивает значение события, чем все рассказы современников и участников. В глазах революционной и близкой к революционерам молодежи то, что произошло на Казанской площади, произвело, несомненно, впечатление провала и скандала. Глава «якобинцев» Заичневский из демонстрации 18 декабря сделал специальный пункт обвинения против бунтарей-бакунистов—доказательство их явного неумения что бы то ни было организовать. «Мы все ужасно негодуем на эту демонстрацию» 2, — писали в тюрьму арестованным народникам товарищи, оставшиеся на свободе. Организаторам манифестации приходилось оправдываться. Из- под пера одного из них вышел любопытный памфлет, который нам дальше придется цитировать, памфлет, объяснявший смысл манифестации самим революционерам. Даже им приходилось объяснять.
Враги всегда проницательнее друзей. Царское правительство в 1870 году заметило надвигающуюся волну рабочего движения, когда ее не видел еще ни один из профессиональных революционеров, все свое внимание сосредоточивавших на студентах. Классовый смысл Казанской манифестации — это правительство, правда, не разгадало; да он и не был так четко выявлен, как этого хотелось бы некоторым новейшим историкам. Мысль о демонстрации — мы это знаем от Плеханова — зародилась в рабочей среде, но на площади рабочих было мало и они составляли меньшинство. Правда, это была наиболее революционная, смелая и непреклонная часть манифестировавших, мы это увидим дальше на двух примерах. Но по внешности манифестация казалась студенческой, как таковая, она была подана и в агентурных донесениях, и во всеподданнейшем докладе Тре- пова царю. Даже неизбежные шпики были загримированы студентами, и настолько удачно, что «публика», т. е. дворники и городовые, с участием «молодцов» из соседних лавок избила их жесточайшим образом в йервую очередь. Извлечение этих ряженых сначала из общей массы арестованных, а потом из пред¬
Казанская демонстрация 1876 года
75
назначенного для печати «сообщения» комической чертой проходит через всю соответствующую часть переписки III отделения *. Речь Плеханова была чисто народнической, к рабочим в ней относилась только одна фраза, и кончалась она, лозунгом: «Земля и воля!»
Но, не разгадав сразу, что это была пролетарская демонстрация, правительство великолепно поняло одно: что революционное движение перешло к каким-то новым приемам борьбы, что оно прежде всего страшно осмелело. Этот психологический эффект манифестации сказывается в массе мелких, но характерных признаков. И в том, что в самую первую минуту манифестацию, даже в докладе царю, пытались подделать, превратив ее из революционной в патриотическую по случаю надвигавшейся тогда войны с Турцией. Но Александр II был уже достаточно информирован, и на полицейской бумажке появилась надпись: «Не совсем точные сведения». И в том, что старались уменьшить число манифестантов: в первом донесении их было 150, bq втором — уже 2003, на самом деле их было 300—400. И особенно в том грандиозном эхо, какое получила манифестация в провинции, где число манифестантов поднялось уже до 700—800, потом до 1000 и где рассказывали, что речь произносилась в присутствии самого царя, якобы находившегося в этот день в Казанском соборе. Как позже, в декабре 1905 года, революция считала себя более разбитой, чем она была разбита на самом деле, и ее враги гораздо лучше чувствовали всю опасность своего положения, чем это казалось снаружи.
Опасность грозила с двух сторон. Во-первых, пошедшая «в народ» революционная интеллигенция, разбитая арестами 1873—1874 годов, к 1876 году вновь оправилась, сконцентрировалась в Питере и собиралась возобновить свою работу на основе всего опыта предшествующего периода. Казанская демонстрация пришлась накануне возникновения «Земли и воли», точнее, она должна была явиться первым проявлением во вне возникающей организации. Недаром в деле III отделения о манифестации 18 декабря мы находим в числе другого материала два письма, излагающие по существу основы землевольческой организации и показывающие, к слову сказать, что
* Чувствую, что современному читателю многое непонятно без объяснений. Тренов -г- отец Трепова 1905 года и побочный сын Александра II — был тогда питерским градоначальником; «III отделением собственной его величества канцелярии» назывался будущий Департамент полиции.
76
11. История революционного движения
эта организация ставила себе отнюдь не только пропагандистские задачи, как ее предшественницы. В одном из этих писем мы читаем о «22 волонтерах, посвятивших себя на месть». Автор оговаривается, что эти «волонтеры», так сказать, вне организации: они «и без всех пойдут на то же». Но ясно, что если бы и организация усвоила себе идеологию этих «волонтеров», автор письма не был бы против этого. «Я думаю,—пишет он,— что известного рода поступки, обдуманные, взвешенные, рассчитанные, нужны, они вытекают из жизни. Если мы боремся с учреждениями, а не с личностями, то все же мы должны бороться с личностями, стоящими иногда учреждений, одушевляющими их».
Полицейский карандаш отметил, конечно, эти строки перехваченного в тюрьме письма. Но еще гуще этот карандаш должен был отчеркнуть одну строчку другого письма, неосновательно приписанного полицией Чайковскому. Здесь в конце организационной программы вновь возникающего «сообщества» прямо стояло: «5) Террористические поступки». При этом автор, совершенно деловым образом ставивший вопрос, отмечал, что «исполнение такой программы, конечно, требует массы денег», а предшествующее письмо упоминало о таких суммах, как 200 тыс. рублей в руках одного революционного кружка и 60—70 тыс. в руках другого.
Для нас теперь это служит только любопытнейшим доказательством того, что начало террора или его подготовки нужно спустить гораздо глубже покушения Соловьева и даже выстрела Веры Засулич. «Земля и воля» не постепенно втянулась в террор, как обычно изображали до сих пор, но с самого начала сознательно ставила себе и террористические задачи. Но для тех, против кого шла революция, это было грозным напоминанием о том, что проходят времена, когда революционер был мышью, а полицейский кошкой: роли могли и перемениться. Вот откуда такое внимание полицейских протоколов к револьверам, случайно оказавшимся в карманах манифестантов (револьверов нашлось всего два, притом один был подобран на полу участка, а другой оказался у Боголюбова, в демонстрации вовсе не участвовавшего, но наказанного жесточе всех). Из них пока еще не стреляли, но полиция уже знала, что будут стрелять. «Народная воля» была еще далеко впереди, но народовольческая психология была уже налицо.
Это было одно «напоминание о смерти» в буквальном смысле слова, которое получило царское правительство к концу 1876 года (оба письма были перехвачены 14 декабря, а напи¬
Каванская демонстрация 1876 года
77
саны, как видно из второго, вскоре посде манифестации: во втором есть о ней рассказ). Это была близкая опасность, она нависла над головой. Но впереди рисовалась другая, более отдаленная, но не менее грозная. Я сказал, что администрация не сразу заметила участие в казанском деле рабочих, ибо, собственно, на площади их было немного. Но дознание постепенно должно было привести администрацию к тому, к чему привело новейших историков изучение полицейских дознаний того времени: что в основе всего лежала сеть рабочих кружков, гораздо более «политических», гораздо более революционно выдержанных и опытных, чем опять-таки представляли себе до сих пор *. Из этих кружков вышла сама идея манифестации, через эти кружки революционеры надеялись получить ту массу, без которой невозможна никакая революция, и, что всего характернее, эти кружки доводили чуждых до того всякой «классовости» революционеров-народников до мысли о классовой, пролетарской революции.
До сих пор первые проблески марксистского понимания русской революции связывали с известными статьями Плеханова в «Земле и воле» начала 1879 года, а «материальной базой» для самих статей считали стачечное движение 1878 года, всем хорошо известное по рассказу того же Плеханова5. Теперь и это движение и вызванный им строй идей приходится признать старше по крайней мере года на два. Я уже упоминал, что организаторам манифестации пришлось «отгрызаться» от своих же товарищей-революционеров, костивших их за неудачное и «ненужное» выступление. Апологией явилась большая статья, оставшаяся в рукописи, под заглавием «По поводу собрания русской народной партии 6 декабря 1876 года»6. Только что цитированный мной автор весьма склонен приписать ее Н. Хазову, одному из главных организаторов Казанской демонстрации. Если это так, то мы имеем еще одного предшественника Плеханова по линии марксистской идеологии, притом предшественника гораздо более близкого по времени к Плеханову, нежели, например, Ткачев 1860-х годов, и, пожалуй, не менее четкого, хотя литературно и гораздо менее одаренного,
* См. Э. Королъчук. Первая рабочая демонстрация в России, ГИЗ, 1926, и ее же статью «Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй половине 70-х годов» («Историко-революционный сборник» под ред. В. И. Невского, т. III) 4. Автор относит и возникновение Севернорусского союза к этому же времени, но тут за ним уже гораздо труднее последовать.
78
11. История революционного движения
чем был сам основоположник российской социал-демократии в 1870-х годах.
В самом деле, вот что мы читаем в цоследней главе рукописи: «Одно из недоразумений, господствовавших еще недавно среди русских социалистов, заключалось в том, что они... основывали успех своего дела исключительно на движениях в массе сельского населения и потому туда, в деревни, были обращены главным образом их силы и надежды. Но жизнь дала результат несколько иной, чем тот, которого они ожидали. Этот результат состоял в том, что городские рабочие, более скученные, более связанные между собой равенством своего положения, более развитые вследствие разнообразия получаемых ими впечатлений от городской жизни и вследствие частых и резких столкновений с представителями правительства и правящих классов, чем сельское население, оказались более восприимчивыми к социалистической пропаганде, чем последнее. А вследствие своей еще не вполне разорванной связи с крестьянством, а также вследствие необходимости для этого крестьянства идти в города на заработки городские рабочие явились естественными проводниками социалистических идей в деревне. Таким образом, само собой происходит изменение в нашей программе действия, т. е. оно получает вообще то же направление, как и на Западе, именно идет из города в деревню, а не наоборот...» *
Это, конечно, еще не марксизм в настоящем смысле этого слова, но это уже отречение от народничества почти столь же полное, как и в статьях Плеханова. Может быть, даже более полное в том, что касается истолкования, собственно, самой манифестации, являющейся, по Н. Хазову (или кто бы он ни был), «началом сознательного участия русского рабочего класса в движениях этой (политической) жизни». А написано это было не позднее первых месяцев 1877 года. Вот с какого далекого времени приходится датировать идею классовой, пролетарской революции в России.
Была ли это только идея? Ведь мы помним, в манифестации-то, собственно, рабочие принимали не очень большое участие. Мы знаем нескольких настоящих подлинных рабочих- революционеров из той поры, но это все люди не рядовые, очень большой духовной силы, притом иногда полуинтелли- генты, как Халтурин или Обнорский. Дело III отделения о Казанской демонстрации дает нам пару рабочих-массовиков,
* «Историко-революционный сборник», т. III, стр. И 7.
Казанская демонстрация 1876 года
79
очень юных к тому же, — почему царское правительство и сделало попытку их «воспитать»... при помощи монастыря.
Это, во-перых, Яков Потапов, семнадцатилетний мальчик, которого стоит помнить хотя бы по одному тому, что он первый поднял красное знамя над нашей страной. Его сначала заточили в Спасо-Белавинскую пустынь на острове Кубенского озера (в Вологодской губ.). Отрезанный от всего мира, окруженный невежественными, фанатичными монахами, «крестьянский мальчик» (официальное название Потапова) должен скоро сдаться, мечтали его «воспитатели». Вышло совсем наоборот. Обороняющейся стороной оказались монахи, а наступающей — «крестьянский мальчик»; который ухитрился завести регулярные сношения с внешним миром, а «строителя» пустыни держал в таком страхе, что тот с минуты на минуту ждал, что Потапов его побьет. Ждал, сейчас увидим, не без основания. Главное же, Потапов «нарушал спокойствие братии, стараясь между ней поселить раздоры и ссоры». То есть, другими словами, вел среди монахов агитацию, и не без успеха.
За все это в 18798 уже году Потапова сослали в Соловецкий монастырь. Здесь он дожил до 1 марта 1881 года. Уже до этого выяснилось, что соловецкие монахи имеют в глазах заключенного не больше авторитета, чем спасо-белавинские: Потапов держал себя в церкви «неприлично», «не молился, стоял, развалившись на стену» 9, — словом, всячески проявлял, что с православием он ничего общего иметь не желает. А когда отслужили заупокойную обедню по Александру И, Потапов, подойдя к настоятелю со словами «теперь свобода», дал настоятелю по уху10.
Как его самого за все это били, полицейские документы не сообщают, к&к не сообщают они и о его дальнейшей участи. Но за пять лет монастырского заключения первый красный знаменосец не сдался и остался таким же революционером, каким он был на Казанской площади.
В том же роде был и другой из юных участников манифестации, рабочий Григорьев. «Воспитать» его поручено было одному глухому монастырю в астраханских степях. Игумен стал его поучать «от писания» и, выбрав случаем выстрел Соловьева в Александра II (дело было, значит, в 1879 году — на третий год ссылки Григорьева), процитировал царя Давида: «Да не коснется рука нечестивого помазанника моего». «Что за важность, — отозвался Григорьев, — одного помазанника
80
II. История революционного движения
убили бы, а другого помазали» и. За это и Григорьев был присоединен к Потапову в Соловецком монастыре.
Становится понятно, почему полиция, сначала не разглядевшая рабочих на Казанской площади, постепенно стала столь нервно чутка в этом отношении, что в дело о демонстрации попала даже переписка о чисто экономических волнениях рабочих на Колпинском заводе. От экономики далеко ли до политики? Уроки марксизма рабочее движение давало не одним революционерам...
«Правда», 18 декабря 1926 гм стр. 2
ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФЕВРАЛЯ (Царизм и буржуазия в Февральской революции)
Десять лет тому назад пало самодержавие.
Десять лет тому назад возродились Советы рабочих депутатов, с тех пор непрерывно существующие как новая форма власти, как новая форма демократии, сменившей демократию буржуазную.
Казалось бы, не подлежит сомнению, что второе из этих событий неизмеримо важнее, чем первое. И тем не менее 12 марта (27 февраля ст. ст.) мы празднуем десятилетие низвержения самодержавия. Это вы прочтете во всех календарях.
Правильно ли это? Стоит ли праздновать тот день, когда железнодорожные рабочие поставили последнего самодержца «в тупик» в самом прямом и буквальном смысле этого слова? Не есть ли это просто отрыжка 1905 года с его лозунгом «Долой самодержавие!»?
Некоторым молодым товарищам крепостническое самодержавие показалось для начала XX века такой устаревшей ветошью, что они решили его подновить, объявив его представителем промышленного капитализма. Удар по самодержавию при таком понимании дела являлся ударом по капитализму.' Февральская революция 1917 года и даже революция 1905 года являлись началом социалистической революции.
Это, конечно, не ленинская точка зрения. Для Ленина самодержавие накануне 1905 года отнюдь не было устаревшей ветошью. «У нас перелом круче, у нас между самодержавием и политической свободой не было и нет никаких промежуточных ступеней (земство не в счет), у нас деспотизм азиатски девственен», — писал он в самом начале этого года*. И социальное содержание самодержавия для него даже в 1917 году то же, какое было всегда. И в 1917 году для него «царская монархия» есть прежде всего «глава крепостни- ков-помещиков» **. Ни о каком «социальном перерождении»
* V Ленинский сборник, стр. 440. Разрядка моя. —• М. П. К
** Сочинения, т. XX, ч. 2, стр. 551. Первое «Письмо из далека» 2
82
II. История революционного движения
самодержавия Ленин не говорил, и то место его Сочинений, на которое ссылались иногда в доказательство этого, на самом деле, если читать его внимательно и без пропусков, говорит о прямо противоположном — об изменении внешней формы власти при сохранении ее социальной сущности *.
Эта внешняя форма при Столыпине была уже не та, что при Плеве, — это бесспорно. И только новейшие, после революции, публикации вскрыли нам, до какой степени болезненно ощущалось самодержавием даже это изменение формы. Спасший ценой формальной уступки самодержавие в 1906—1907 годах Столыпин был предметом ненависти для Николая и диких помещиков из «объединенного дворянства» 4. «В сущности Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти», — показывал Гучков Чрезвычайной следственной комиссии 1917 г.5 «Борьба в этих кругах велась не с радикальными течениями, а главным образом с целью свергнуть Столыпина, с ним вместе и тот минимум либеральных реформ, который он олицетворял собой. Как вы знаете, убить его политически удалось, так как влияния на ход государственных дел его лишили совершенно, а через некоторое время устранили его и физически»... «После исчезновения Столыпина там, наверху и в придворных сферах, раздался как бы вздох облегчения — отделались от назойливого и властного человека, который все-таки напоминал о данных обещаниях и угрожал грядущими бедами» 6. И обратное изменение формы все время носилось в воздухе. Зимой 1913/14 года возникал определенный план восстановления булыгинской конституции — превращения Думы в «законосовещательную» (царю должны были представляться мнения как большинства, так и меньшинства Думы, и он утверждал любое по своему выбору). IV Думу строили так, чтобы получить состав, от которого можно было бы добиться этого миром, а не достигнув этого, перед самой уже революцией готовили соответствующим образом выборы bV Думу**. Война, фактически восстановив самодержавие не в одной России, впрочем, очень смягчила вопрос о форме, позволив оттянуть его решение до заключения мира.
Весной 1917 года было что низвергать и помимо промышленного капитализма, находившегося вплоть до самого февраля в оппозиции, а не у власти. При, несомненно, далеко большей важности появления Советов падение самодержавия вовсе не
* Сочинения, т. XI, ч. 1, стр. 2033.
** См. «Монархия перед крушением». Из бумаг Николая II. ГИЗ, 1927, стр. 223 и сл.7
Исторический смысл Февраля
83
такая маловажная дата, чтобы ее стоило только забыть. Но весьма еще далекое от даже приблизительного воплощения «буржуазной монархии» (какой представляли себе самодержавие меньшевики, откуда и вытекала довольно последовательно их оборонческая позиция во время войны) помещичье самодержавие не было и отделено от буржуазии непроницаемой переборкой. Представлять себе самодержавие и буржуазию в феврале 1917 года как две непримиримо враждующие силы значило бы упускать из виду одно из основных своеобразий нашей буржуазной революции — то своеобразие, которое Ленин подчеркнул своей известной формулой, что в России победа буржуазной революции никоим образом не означает победы буржуазии. Эта формула, выставленная им по поводу 1905 года, вполне приложима и к февралю 1917. И тогда и теперь буржуазия ничего так не боялась, как полной победы революции. И тогда и теперь приближение этой полной победы бросило буржуазию в объятия царизма, от которого требовали для полного союза малюсенькой уступки, почти буквально фигового листка для прикрытия феодальной наготы. Тогда, в 1905 году, самодержавие отказало даже и в фиговом листке, теперь оно готово было надеть целую небольшую тунику, но революция шла слишком быстро, и для маскарадных переодеваний не оказалось времени. Только это лишило Россию счастья иметь в своей истории хотя бы короткий период настоящей буржуазной монархии и заставило все партии вплоть до черносотенцев (об этом свидетельствует Милюков) с молниеносной быстротой перекраситься в «республиканцев».
В дальнейшем я буду идти как по основному источнику по «Делу штаба главнокомандующего армиями Северного фропта «об изменении государственного строя России»»8. Целиком это дело еще никогда не было опубликовано, хотя отдельные документы, в него вошедшие, неоднократно появлялись в печати отчасти из других дел, где они или их копии также имеются. Я очень жалею, что не могу дать дела полностью, об этом, надо надеяться, позаботится Центрархив. Ибо, пожалуй, самое интересное в деле — это та общая связь, в какой появляются отчасти уже знакомые исследователям документы. Никакими цитатами не передашь этого буквально с каждым часом нарастающего вихря событий. Иногда кажется, что прошли недели, так изменилась ситуация, а на самом деле прошла одна ночь. Но для характеристики отношений агонизирующего царизма с мечущейся в предсмертной тоске буржуазией достаточно и цитат. Великолепным дополнением к последним
84
11. История революционного движения
могут служить стенограммы Чрезвычайной следственной комиссии, опубликованные в шести вышедших до сих пор томах «Падения царского режима». Опубликованы они со всеми ошибками стенографисток и машинисток (известный Кутепов, например, является в них «героическим» кавалером вместо «георгиевского»), но это не мешает им быть ценнейшим источником, далеко не вполне использованным нашими историками.
Прежде всего оба наших источника в корне разрушают легенду о якобы пассивности Николая перед надвинувшейся революцией. Непредусмотрителен он был до последней степени, — это верно, но пассивен он не был. Он начал с использования прекрасно им усвоенных уроков 1905 года. Вслед за известной телеграммой: «Повелеваю прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией» — телеграммой, которую петербургский главнокомандующий Хабалов правильно расшифровал: «Царь велел — стрелять надо», шла практическая директива Алексеева, гласившая: «Государь император повелел назначить сверх войск, высылаемых в Петроград согласно предшествовавшей моей телеграммы, еще по одной пешей и одной9 конной батарее от каждого фронта, имея на орудие по одному зарядному ящику и сделав распоряжение о дополнительной присылке снарядов в хвосте всего движения назначенных войск» 10.
Петроград предполагалось разгромить, как Пресню в декабре 1905 года. Если директива опаздывала на двое суток (была дана лишь 13 марта (28 февраля), когда в сущности все было уже кончено), в этом виноват был прежде всего военный министр Беляев, только 12 марта (27 февраля) к вечеру решившийся донести, что «положение в Петрограде становится весьма серьезным» 11 (!), и совершенно не заготовивший снарядов в самом Петрограде: на две батареи, находившиеся в его распоряжении у Зимнего дворца, было снарядов всего 8 штук (показание Хабалова Чрезвычайной следственной комиссии). А во-вторых, и самое главное, поведение петербургских рабочих и фронтовых солдат. Дружное восстание Выборгской стороны отрезало Беляева и Хабалова от пороховых складов («...прибывшая 3-я рота Преображенского полка оказалась без патронов, достать же патронов невозможно, потому что бастующая толпа занимает Выборгскую сторону» — то же показание Хабалова). А вне Петрограда батареи «отказывались грузиться для следования в Петроград» (следующая телеграмма Алексеева от того же числа по поводу «батареи, вызванной из Петергофа»). Вот
Исторический смысл Февраля
85
отчего принимавшиеся Николаем и его генералами «беспощадные меры» (подлинные слова того же Алексеева) не оправдали «уверенности» Беляева «в скором наступлении спокойствия» 12.
Цитировавшаяся телеграмма Алексеева насчет конных батарей и снарядов пошла, по всей видимости, в самом начале 28 числа, тотчас после полуночи, потому что уже к утру этого дня в Ставке знали, что «число оставшихся верными долгу уменьшилось до шестисот человек пехоты и до пятисот всадников при пятнадцати пулеметах и двенадцати орудиях, имеющих всего 80 патронов» 13. Петроград был в руках революции. Приходилось сдаваться. Еще накануне Фредерикс слышал от Николая, что «этот толстяк Родзянко написал» ему «разный вздор», на который он, Нйколай, «не будет даже отвечать», а 14(1) марта «толстяку Родзяике» говорили по прямому проводу: «Сегодня около 7 часов вечера прибыл во Псков государь император. Его величество мне (говорил Рузский)... высказал, что ожидает вашего приезда. К сожалению, затем выяснилось, что ваш приезд не состоится, чем (Николай) 14 был глубоко опечален. Прошу разрешения говорить с вами с полной откровенностью, этого требует серьезность переживаемого времени. Прежде всего я просил бы вас меня осведомить для личного моего (Рузского) сведения об истинной причине отмены вашего прибытия во Псков».
«Истинная причина» заключалась, как известно, в том, что петербургские рабочие не дали Родзянке поезда. Само собой разумеется, что об этой истинной причине Родзянко умолчал, приведя две неистинные: «...во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались», а во-вторых, «невозможность остановить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия» (!). Но, не выдавая некоторых неприятных для своего самолюбия конкретных подробностей, Родзянко тем ярче рисовал общую картину: «Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко ...Если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну», то последует что-то страшное, что застряло у Родзянки в горле, — фраза не окончена. Но дальше следовал факт, красноречивее всяких фраз: «...вынужден был во избежание кровопролития всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня...»15 Это был уже вопль души.
Для Рузского (и Николая) раскрывшаяся картина была, несомненно, в значительной степени новостью: исправные
86
II. История революционного движения
чиновники, Беляев и Хабалов, все время держали царя под впечатлением, что «все наладится», по обычаю вцех чиновников мира. Истинное положение вещей Николай угадывал больше по своим путевым впечатлениям, столь ярко свидетельствовавшим, что на железных дорогах господствует во всяком случае не «законная власть». Эти впечатления и толкнули Николая на первую уступку. Как видно из разговора Рузского с Родзянкой, эта уступка прошла за несколько часов две стадии. Сначала Николай думал удовлетвориться личной переменой — назначить Родзянку вместо Голицына премьером на обычных условиях. Еще до разговора с Родзянкой он убедился, или Рузский его убедил, что этого во всяком случае мало; и к прямому проводу Рузский подошел уже с новой редакцией проекта — «дать ответственное перед законодательными палатами министерство».
Буржуазии предлагали парламентарную монархию, трагедия буржуазии была в том, что этой уступки она уже не могла принять, именно не могла, а не не хотела. «Государственной думе вообще, а мне в частности оставалось только попытаться взять движение в свои руки и стать во главе для того, чтобы избежать такой анархии при таком расслоении, которое грозило гибелью государству», — говорил Родзянко. «К сожалению, это мне далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно... Считаю нужным вас (Рузского) осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром; сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться» 16.
На дальнейшие вопросы ошеломленного этими сведениями Рузского Родзянко только еще настойчивее повторял, что «ненависть к династии дошла до крайних пределов» и что он, Родзянко, сам «висит на волоске» и «власть ускользает» у него «из рук». «Я вынужден сегодня ночью назначить Временное правительство» 17, — признавался он. Уже в ночь с 14(1) на 15(2) марта революция шла под лозунгом республики и начиналась защитная перекраска всех, вплоть до черносотенцев, в республиканцев.
Революцию нельзя было больше взять силой, ее можно было взять только обманом, отложив силу на вторую очередь, когда обман уже сделает свое дело. А чтобы обман мог иметь, хотя бы кратковременный, успех, силу в данный момент нужно было убрать со сцены. «Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут», — говорил Род¬
Исторический смысл Февраля
87
зянко. Но что войска «действовать против народа не будут», в этом Николая уже удалось убедить. «Государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад вернуть на фронт все то, что было в пути»,— отвечал Рузский 18.
Но это было лишь предварительное условие, для полного успеха обмана этого было мало. Нужна была какая-нибудь конкретная перемена наверху, нужно было осуществить по крайней мере крестьянский лозунг 1905 года «переменить царя». «Грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием», — говорил Родзянко. Сам же он признавался перед этим, что вопрос стоит «династический», т. е. о монархии. Но на худой конец пусть хотя бы Николай уйдет. Ценой этой уступки Родзянко брался уладить дело. «Не забудьте, — говорил он Рузскому, — что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней».
Буржуазия самым форменным образом брала на себя роль маклера между революцией и царизмом. Брала притом вовсе не в припадке паники, как может показаться читающему разговор по прямому проводу между Рузским и Родзянко ночью 1—2 марта (ст. ст.) 1917 года. План был намечен давным-давно; вот как излагал его Милюков в своих показаниях перед Чрезвычайной следственной комиссией: «Одним словом, к концу 1916 года уже вполне сложилась вся обстановка открытой и притом вполне легальной борьбы с правительством. Чувствовалось, что событие 17 декабря * только первое в ряде событий, чувствовалось, что что-то должно произойти, все об этом говорили, и очевидно было, что предстоят дальнейшие катастрофы. В это время представители земского и городского союзов, военно-промышленного комитета и члены блока19 вступили друг с другом в сношения на предмет решения вопроса, что делать, если произойдет какое-нибудь крушение, какой-нибудь переворот, как устроить, чтобы страна немедленно получила власть, которую ей нужно. В это время в этих предварительных переговорах и было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 12 марта (27 февраля). Назначен был как председатель совета министров князь Львов, затем частью намечались и другие участники кабинета. Тогда же, я должен сказать, было намечено регентство Михаила Александровича
* Убийство Распутина.
88 11. История революционного движения
при наследии Алексея. Мы не имели представления о том, как, в каких формах произойдет возможная перемена, но на всякий случай мы намечали такую возможность» 20.
Из всей этой программы меньше всего встретила возражений со стороны Николая замена Родзянки князем Львовым. Буржуазные юристы, оказывается, не напрасно искали юридической спайки между старым режимом и Временным правительством: председатель первого Временного правительства, несомненно, был назначен Николаем, хотя в свое время никто об этом не знал. На телеграмме временного комитета Государственной думы с именем Львова, посланной 2 марта, еще до отречения, стоит надпись Рузского: «Представляя вашему
величеству, испрашивают разрешения» — очевидно, думский комитет (который однажды, оговорившись, Родзянко назвал даже верховным советом) «испрашивает». И дальше в самой телеграмме стоит: «Испрашиваю разрешения вашего величества исполнить». Можно бы отнести это на счет путаницы в главной квартире Северного фронта, но Гучков в своих показаниях перед Чрезвычайной следственной комиссией настаивал, что князь Львов был назначен именно Николаем II. «Мы подали совет государю, — говорил он, — указав ему лицо, которое могло бы объединить и пользоваться доверием, — указали князя Львова. Так что князь Львов был назначен государем, я так считал, а не комитетом» *.
Переряженные республиканцы у себя дома, сняв маскарадное платье, оставались добрыми монархистами. Еще пикантнее, что и российский Кавеньяк, генерал Корнилов, тоже был назначен Николаем. В той же телеграмме комитета говорилось: «Для установления полного порядка и для спасения столицы от анархии необходимо командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира XXV армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать генерала Корнилова в Петроград» 22. И на это Рузский «испрашивал разрешения» Николая, и это разрешение тоже было, разумеется, дано.
* «Падение царского режима», т. VI, стр. 2712|.
Исторический смысл Февраля
89
Все это было легко и просто. Но уже уламывать Николая на ответственное министерство пришлось целую ночь — только к 2 часам 15(2) марта он согласился, и тогда Рузский пошел говорить с Родзянкой. На отречение же его уломать никак не удавалось — ни напоминанием, что «существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства», ни угрозами, что «вся царская семья находится в руках мятежных войск» 23. Пришлось прибегнуть к давлению фронта и инсценировать всем известные телеграммы главнокомандующих Николаю с требованием отречься. Увидав, что поддержки абсолютно ниоткуда ждать нельзя, Николай «решился», и. произошла тоже всем известная комедия отречения с участием Гучкова и Шульгина. Комедией это было не только в том смысле, что это была часть заранее условленного маневра, но и в более прямом, ибо приехавшие «уговаривать» Николая Гучков и Шульгин имели перед собой в сущности уже сделанное дело.
С отречения начинался уже новый режим, где открытую силу сменило одурачивание масс. Сам акт отречения был уже началом такого одурачивания. Николай был в сущности свергнут. Его оставалось только арестовать и отвезти в Петропавловку, к его министрам, которых вынужден был посадить туда Родзянко. Вместо этого было инсценировано «добровольное» отречение. Как крупных чиновников царского времени, Николая заставляли «подать в отставку по домашним обстоятельствам». Дальше дело усложнялось. Царя, видимое дело, народные массы не выносили. Надо было устроить так, чтобы царь был по возможности незаметен: кандидатура Алексея это устраивала — что ж с мальчугана возьмешь? Всякий видит, что управлять мальчуган не будет. Управлять будет регент. А регент не царь; вообще, что такое «регент» (фигура, не появлявшаяся в русской истории со времени Бирона — больше 150 лет), кто же это знает, рабочие и солдаты всего менее. По нужде регента можно было даже выдать за нечто вроде президента республики.
Но Николай все время отставал от событий, и этой махинации своих друзей — и ставленников — разобрать сразу не умел. Назначив премьера первого «республиканского» кабинета, назначив будущего усмирителя революции, он решил, что отчего же не пойти до конца, и назначил царя. Что он действовал юридически последовательно, это едва ли можно отрицать. А что он срывает этим всю игру Родзянки и К°, он по простоте души не понял.
90
II. История революционного движения
Когда в Петроград пришел манифест о передаче престола Михаилу Александровичу, в «верховном совете» начался невероятный переполох. Только что царя от греха убрали в детскую, а он тут как тут. Настроение же масс все поднималось: ясно было, что Родзянко перехвастнул, обещав обойти революцию такими простыми мерами, и неизвестно было, окажется ли достаточно прочным убежищем для монархии даже и детская.
Тут разговор по прямому проводу между Петроградом и Псковом поднялся до трагизма. Революция обгоняла всякие соглашения буржуазии с царизмом. «У аппарата Родзянко... — бежала юзовская лента, — дело в том, что депутатов (Гучкова и Шульгина, которые должны были втолковать Николаю, в чем, собственно, дело) винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел, и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: «Земли и воли!», «Долой династию, долой Романовых!», «Долой офицеров!» И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. После долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось прийти только к ночи сегодня к некоторому соглашению, которое заключалось в том, чтобы было созвано через некоторое время Учредительное собрание для того, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало-помалу в течение ночи приводятся в порядок, но провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить; мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому. При предложенной форме (т. е. малолетнем императоре и регентстве) возвращение (!) династии не исключено; и желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать Верховный совет и ныне действующее Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение и решительная победа будет обеспечена, так как, несомненно, произойдет подъем патриотического чувства, все заработает в усиленном темпе, и победа, повторяю, может быть обеспечена» 24.
Я нарочно привел этот отрывок юзограммы полностью. Здесь вся программа первого Временного правительства: и обман династический (всучить-таки свергнутых Романовых снова наро-
Исторический смысл Февраля
91
ду — как характерна эта обмолвка о «возвращениидинастии»!), и обман патриотический, которым надеются подпереть первый, и признание в полном в сущности бессилии — признание, что настоящими хозяевами Петрограда являются рабочие. Дальнейшая телеграфная переписка наполнена перекорами насчет того, «почему же не объяснили», и попытками задержать опубликование злосчастного манифеста о Михаиле. В конце концов пришлось взять простейший выход: вновь назначенный царь отрекся, не «вступив в управление». Знаменитый разговор Михаила с Родзянкой, четко обрисовавший и меру власти последнего, и действительное соотношение сил («Гарантируете ливы мне жизнь, если я воцарюсь?» — «Никак не могу, ваше императорское высочество!»), всем хорошо известен. Династия не «вернулась», не спасла ее детская.
Самодержавие не было представителем промышленного и банковского капитализма, но этот капитализм в борьбе с рабочими не прочь был прикрыться даже и лохмотьями «изъеденной молью царской порфиры». Если это не удалось, то лишь потому, что «мозолистая рука миллионов рабочего люда» была слишком сильна, чтобы средневековая ткань могла выдержать ее прикосновение. И лишь появления на сцене этой роковой руки боялось всерьез самодержавие. Вся ошибка Протопопова, в которой он каялся сам перед Чрезвычайной следственной комиссией, состояла в том, что сначала он «не ожидал сильного движения среди рабочих», а потом, когда это движение началось, тщетно надеялся на то, что «движение не сорганизовано» и что «вожаков у них нет». А в буржуазии, наоборот, видели возможного союзника, даже когда та была, казалось, в яростной оппозиции. Разрабатывая в 1916 году план выборов в V Думу, на своей стороне вместе с деревенскими кулаками и попами самодержавие считало и 50—70 мест для банков (здесь под флагом отделений банков пройдут и торгово-промышленные круги), только эти банковские депутаты и обещали перевес над «интеллигенцией», заранее крамольной.
«Победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буроюуазии. Это кажется парадоксальным, но это факт» *.
После 1917 года это уже никому не кажется парадоксальным. Это просто факт, как и многое, о чем Ленин говорил в будущем времени.
М. Н. Покровский. Октябрьская революция.
Сборник статей. 1917—1927. М., 1929, стр. 97—
Ю726
* В. И. НеииНу т. XI, ч. 1, стр. 78 25‘.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Мы подошли вплотную к 10-летию нашей пролетарской революции — первой пролетарской революции в мире, которая победила. Это событие, полная и окончательная победа рабочего класса, имело место пока еще только один раз в истории. До сих пор за каждой временной победой революции (не считая тех случаев, когда революция оказывалась разбитой уже на пути к победе) неизменно следовала реакция. Буржуазным историкам это кажется своего рода законом, и они напряженно ищут, откуда, из какого угла полезет эта реакция на победившую в СССР революцию. Бесчисленное количество предсказаний они делали, бесчисленное количество раз они ошибались, но «закон» им кажется неопровержимым, на нем строились и строятся все надежды буржуазного мира, и его идеологи ищут и ищут без конца не хватающую им для сведения концов с концами реакцию. Не приходится греха таить, что кое-какие запахи того же самого мировоззрения поднимаются и из некоторых наших партийных кругов, которым тоже кажется, что они эту самую «реакцию» видят, щупают, а вот слепое и толстоко-. жее руководящее большинство не видит и не ощущает. Ново и необычно положение — революции без реакции. Когда рабочий класс победит в масштабе целого ряда стран, к этому ощущению, вероятно, привыкнут, как привыкли люди летать по воздуху вниз головой, а до первой «мертвой петли», сделанной Пегу, перевернуться в воздухе считалось величайшим несчастьем летчика, синонимом неизбежной гибели.
Этому необыкновенному факту — революции без реакции — должно быть, конечно, объяснение, как всему на свете. Были какие-то причины, обусловившие такой исход именно нашей революции в октябре 1917 года. В отдельности эти причины неоднократно указывались, неоднократно перечислялись, например, и Лениным. Повторять ленинскую характеристику нет надобности, она всем известна. И она избавляет от необходимости давать общий ответ на поставленный вопрос. Но есть две
Историческое значение Октябрьской революции
93
стороны дела, которые стоило бы выделить и обратить на них особое внимание в связи с нашим внутренним и международным положением именно в настоящий момент.
Всем известна фраза Ленина в одном из его «Писем из далека», что русская буржуазия вела войну не на свои деньги, что русский капитализм был участником (партнером) англо- французского К Как очень часто бывало с брошенными на лету ленинскими характеристиками, весь глубочайший реализм этого определения стал нам понятен только теперь, после целого ряда длительных детальных изысканий. Изыскания эти с несомненностью установили, что русская крупная промышленность и русские банки накануне войны были форменными подданными заграничного капитала и что различные группы иностранных капиталистов вели между собой борьбу на русской территории задолго до того, как эти группы сплелись в смертельной схватке мировой войны. Победе в России антантовской ориентации точно соответствовало постепенное вытеснение из русского хозяйства германского капитала, господствовавшего или уверенным шагом шедшего к господству, до 1910 года. Эту борьбу мы можем проследить до мельчайших деталей: до того, например, как один завод, изготовлявший различные принадлежности для миноносцев под эгидой крупнейшей англо-французской фирмы, моментально прекратил это занятие, как только его акции очутились в портфеле одного из берлинских банков. Банковые действия весьма аккуратно, хотя и бескровно, отвечали операционным линиям будущей войны.
К 1914 году зависимость России именно от англо-французского, антантовского капитализма обозначилась уже вполне. Выбора больше не было. Характерно, до какой степени рабски российский империализм слушался своих «старших». Как всякому империализму, российскому в перспективе был нужен выход на океан, потому что, только владея океанскими путями, можно серьезно говорить о разделе мира. Всем известно, что англо-германское столкновение было прежде всего столкновением в области морских интересов и морских вооружений. Русский империализм перед 1914 годом ставил себе также «морские» цели. Но почему его привлекало такое «узенькое» море, как то, которое лежит между Черным и Средиземным и которое вело русский империализм в конечном счете даже не к океану, а только к одному из замкнутых морей, только в несколько раз большему, чем наше Черное? Почему, рождался естественный вопрос, царская Россия не попробовала выйти на прямую океанскую дорогу через Мурман, который пришлось все же в
94
II. История революционного движения
конце концов использовать, но после уже того, как война за Дарданеллы началась? Теперь мы знаем, что это было вовсе не праздное мечтание досужих любителей географии, но что в последнее десятилетие перед войной существовал определенный план использовать Мурманское побережье как базу для русского военного и торгового флота. Но проект этот никакого «дальнейшего движения» не получил, и Мурманскую дорогу построили, как известно, только во время войны. Совершенно ясно, почему так было: на Мурмане, т. е. на Атлантическом океане (так называемый Ледовитый океан есть в сущности лишь залив Атлантического), Россия могла столкнуться только с Англией и англо-французскому империализму, который командовал империалистской Россией, это было совсем не нужно. А на Босфоре и Дарданеллах русские империалисты сталкивались с германскими и их грандиозным планом железной дороги от Берлина до Багдада. Поэтому «ключей от собственного дома» и надо было искать* на берегах Золотого Рога, а не на берегах Варангер-фиорда. Остается только добавить, что «мурманский» проект принадлежал не кому другому, как Витте, германофильство которого всем хорошо известно. И на этом участке мы имеем, таким образом, победу антантовского капитализма над германским.
Во время войны зависимость от Антанты превратилась в иго. Английский посланник в Петербурге был вторым императором, и, когда первый император его не послушался, второй принял меры к тому, чтобы его ссадить. И если этого не удалось - осуществить, то только благодаря «совершенно непредвидимым событиям» — в образе выступления на сцену рабочего класса. А избавившись от императора Антанта начала возводить и низводить министров. Дневники Бьюкенена и Палеолога не оставляют никакого сомнения в том, что Керенский был выбран и облюбован Антантой несравненно раньше, чем его «избрали» меньшевики и эсеры, в этом случае на нашей территории игравшие ту же роль, какую этого сорта люди играли и играют всюду по отношению ко всем империалистам. Менее известно — а стоит об этом упомянуть, — что и Милюков был низведен так легко потому, что он не угодил Антанте, слишком надоедливо напоминая о Дарданеллах, при каковом напоминании Англия всегда морщилась. Бестактного слугу не то что прогнали — прогнали его массы, — но его не стали защищать, «отдали на жертву». А 4 месяца спустя, когда разочаровались и в Керенском, на его место выдвинули Корнилова — дневник Бьюкенена не оставляет никаких сомнений насчет того, кто
Историческое значение Октябрьской революции
95
именно это сделал2. В это самое время американский капитализм, более склонный к «экономическому» давлению, чем к военным заговорам, взял эсеровскую верхушку прямо на жалованье, притом, что особенно пикантно и любопытно, на частное жалованье, на личный кошт одного американского миллионера. Дальше этого «услужение» уже не могло идти.
И надо было видеть переполох в этом лагере, когда массы, подлинные массы, а не статисты Керенского, стали у власти. Теперь перед нами налицо все документальные остатки этого переполоха. Это вздор, будто большевики заключили тогда мир против решительного протеста вчерашних «союзников», напоминавших России о «чести, совести» и т. п., причем окаянные большевики, разумеется, не обратили на эти протесты никакого внимания. На самом деле рядом с этими официальными протестами шло неофициальное шушуканье англичан, американцев и прочих антантовцев с низвергнутыми Октябрьской революцией мелкобуржуазными партиями — шушуканье, смысл которого вкратце можно выразить так: что ж вы, дураки, вовремя не догадались мир-то заключить? Ведь теперь большевики этим козырем вас без остатка покроют! И вот начинается хождение, спустя лето, по малину. Английский посланник Бьюкенен, вчерашний некоронованный император, а теперь поднадзорный «нежелательный элемент» в Петрограде, телеграфирует своему министру, что было бы куда как благоразумнее «освободить Россию от данного слова» 3, раз она воевать не хочет. Не хочет так не хочет, ничего с ней не поделаешь. А как силой загоняли русских солдат обратно в бой при Керенском, об этом позабыли! В том же роде начали шевелиться мысли и в тугом мозгу американского полпреда Френсиса. А на фронте в это время потерявшие власть керенщики, почесывая всей пятерней в затылке, придумывали, как бы это устроить, чтобы заключение мира досталось в руки не Ленина, а... Чернова. И додумались наконец: вскоре по фронту гуляла глупейшая и подлейшая прокламация, с неслыханным бесстыдством утверждавшая, что главным препятствием к заключению мира являются именно большевики 4: их же ведь никто не признает, кто с ними будет вести переговоры? А вот если поставить во главе государства правительство «из всех социалистических партий» с Виктором Михайловичем Черновым во главе, тогда совсем другая будет музыка. С этим почтенным человеком и с его почтенными коллегами всякий за честь почтет разговаривать, и мир, которого «страна ждет не дождется три года» (как будто в счет этих трех лет керенщина с ее попытками удержать Россию в войне
96
11. История революционного движения
совсем и не входила!), будет заключен в два счета. А генерал Духонин, отказавшийся вести переговоры с немцами по приказу Совета Народных Комиссаров, в частных беседах заявлял, что он миру вовсе не противник и не прочь вести переговоры с кем угодно, но чтобы не от имени большевиков, конечно. Иностранные же военные представители, в первую минуту грозным окриком ответившие на приказ Совнаркома о переговорах, вдруг потом смягчились, стали говорить, что они, собственно, не против мира, а против беспорядка, сиречь опять-таки против большевиков. А уже совсем по душе (но, однако же, с помощью телеграфа) заявляли, что они и их правительства даже советуют поскорее заключить мир. Потом, конечно, когда выяснилось, что генерала Духонина и его помощников на всем фронте слушаются только две роты ударников да три эскадрона польских улан и что главнокомандующий Западного фронта сколько- нибудь безопасно себя чувствует лишь в ставке польского генерала Довбор-Мусницкого, телеграмма была объявлена подложной 5.
А тем временем в Смольный начали ходить «соблазнители». Люди без официального звания, имена которых официальные дипломаты старались даже не упоминать, они были неофициально связаны с самыми верхушками антантовской коалиции и сулили большевикам золотые горы, если большевики выпустят из рук тот козырь, которого никто покрыть не мог, — откажутся от заключения мира. Среди «соблазнителей» были люди всякого сорта: был и наивный французский оборонец Садуль, позже ставший коммунистом; был и до крайности сомнительный американский человек Робинс, совмещавший в себе самые разнообразные качества: шахтера, полковника и попа; был и форменный английский шпион Локкарт; был и французский монархист граф де Люберсак, «злыми глазами» смотревший на Ленина, но признававшийся, что заключить сейчас мир — самое умное дело. Со всей этой пестрой публикой разговаривали, надеясь выжать из нее то, что было до зарезу необходимо новорожденной рабочей республике для того, чтобы в будущем, близком будущем, повести отчаянную борьбу со всем буржуазным миром: локомотивы и аэрдпланы, снаряды и пулеметы, съестные припасы и военных техников. Некоторые из этих людей так и остались в убеждении, что кабы вот та-то телеграмма пришла неделей раньше, так, наверное, Россия вернулась бы в войну на стороне Антанты. А Ленин лукаво прищуривал глаз и готовил войну не против какого-нибудь одного империализма, а против империализма вообще.
Историческое вначение Октябрьской революции
97
Вся эта антантовская возня около заключения мира с Германией лишний раз нам напоминает, до чего важен и нужен был мир в эту минуту не большевикам, как об этом кричала подкупленная буржуазная пресса, а стране, всей стране, всей России. Реакция для России в этот момент выразилась бы в возвращении в войну, вот отчего прежде всего другого реакция была невозможна. В этом отношении Россия 1917—1918 годов и Германия следующей зимы были в диаметрально противоположном положении. Германская буржуазия оказалась чуточку похитрее Керенского с компанией и заключила мир сама, не дожидаясь, пока его придется заключить победоносному пролетарскому правительству. И это подсекало под корень германское революционное движение: революция не только не давала мира, а, наоборот, ставила под угрозу немедленной интервенции со стороны победившей Антанты. Интервенция была и у нас, но у нас в разгаре последней схватки двух боровшихся империалистов, антантовского и германского, она не могла принять сколько-нибудь серьезных размеров. Армии Антанты были «заняты», а перед германской революцией стояла «освободившаяся» Антанта.
Но то обстоятельство, что пролетарская революция означала для России выход из войны, продолжало действовать и долго после того, как мир был заключен, в известном смысле продолжает действовать и до сих пор. Ибо в Брестском мире, это не все тогда уловили, был не столько важен мире германцами, сколько разрыв с Антантой. Буржуазия вопила, что мир «похабный» и «презренный», а на самом деле мир выводил Россию из самого презренного состояния, какое можно себе представить в какой бы то ни было стране, когда иностранный посланник является в этой стране некоронованным императором. Игу Антанты над Россией был положен конец, и это ярче всего выразилось не в том даже, что мы заключили мир, сколько в том, что мы отказались платить всякие, военные и довоенные, долги. Мы перестали быть «участниками», партнерами какого бы то ни было капитализма и империализма, и в это рабское состояние нас никому уже не загнать. Если в 1917 году реакция обозначала войну, то теперь реакция обозначает дань в сотни миллионов, наложенную на рабочих и крестьян Советского Союза. И недаром умные белогвардейцы давно заметили, что самой трудной стороной «реставрации» является именно вопрос о долгах. Если бы российский буржуа мог явиться домой с грамотой, которой все иностранные буржуа великодушно освобождали бы наследников покойной Россий-
4 М. Н. Покровский, кн. 4
11. История революционного движения
ской империи от всех и всяческих долговых обязательств, заключенных когда-либо этой последней! Но буржуа на то и буржуа, чтобы никому не прощать никогда и ни одной копейки долга. А пока реакция обозначает дань, до тех пор никакой реакции, не облеченной в форму вооруженного нашествия извне, быть не может.
Таково было международное условие, определившее, что наша революция в отличие от всех своих предшественниц будет революцией без реакции. Но в тесной связи с этим международным условием произошло и внутреннее очищение революции вообще и нашей партии в особенности от влияния тех элементов, которые во всех предшествующих революциях подготовляли почву для реакции.
Все предыдущие революции, даже и пролетарские по основному составу восстающей массы, какова Парижская коммуна 1871 года, проходили под руководством мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия, городское мещанство, нигде не была армией революции, как это иногда с чрезвычайным упрощением происходившего изображают, но, за исключением русской революции, она всегда была революционным штабом. Мелкобуржуазная идеология командовала даже в чисто буржуазных революциях. Лозунги свободы и равенства, выдвинутые Французской революцией конца XVIII века, отнюдь не были лозунгами того промышленного капитализма, которому расчищала путь эта революция. Буржуазная фабрика не знает и не может знать ни свободы, ни равенства. Работающая на ней масса подчинена железной диктатуре капитала и управляется иерархически. Свобода и равенство — это идеал мира, мелких производителей, мелких ремесленников, каждый из которых работает в своем углу и потому «свободен» или мнит себя таковым и каждый из которых старается, чтобы его одиночная, ремесленная, работа была поставлена в абсолютно такие же условия, как работа всякого другого ремесленника. Все должны быть поэтому равны и свободны. Крупному капиталу чрезвычайно выгоден такой изолированный человек: его ничего не стоит взять в руки, это куда удобнее, чем возиться с людьми, объединенными и организованными каким бы то ни было образом. И образец всех революций — Французская революция, провозгласив права человека и гражданина, запретила стачку. Не является крупнокапиталистическим лозунгом и лозунг «защиты отечества», ибо у капитала нет отечества или, вернее, его отечество всюду, где он может извлекать прибавочную стоимость. «Оборона отечества» — это опять типичный лозунг мира мел-
Историческое значение Октябрьской революции
99
них производителей, для которых «неприятельское нашествие» обозначает сожженный дом, разоренное хозяйство, уведенную корову, изнасилованную жену. Всякий мелкий производитель от природы оборонец. Крупный капитал и этим пользуется; ему, собственно, непосредственно нашествие не грозит, поскольку акций и облигаций нападающие неприятели обыкновенно не жгут (во время франко-прусской войны мы имеем пример того, как курс банковских акций очень скоро после заключения мира поднялся выше, чем он стоял до войны). Это не говоря уже о тех прибылях, какие приобретает буржуазия на военных поставках и спекуляциях всякого рода, связанных с войной. Капиталу нужна не оборона отечества от вражеского нашествия, а оборона рынка от конкурентов. Но одно так легко подменить другим; и нигде и никогда так не злоупотребляли лозунгами «обороны отечества», как в капиталистических странах во время империалистской войны *.
Мелкобуржуазной идеологией, повторяю, пропитаны самым густым образом все революции, происходившие в новое время на земном шаре до 1917 года. И очень крупная мелкобуржуазная примесь окрашивала нашу первую революцию 1905— 1907 годов. Не приходится от себя скрывать, что помимо непосредственно участвовавшей в революционной борьбе мелкобуржуазной массы эта идеология подчиняла себе и достаточно широкие круги рабочих. Целые производства, печатники например, шли за меньшевиками; а во время выборов во II Думу, в 1906 году, крупнейшие петербургские заводы оказались настолько в руках эсеров, что последние благодаря им собрали до 40% всех голосов по рабочей курии. Освобождение пролетариата от этого мелкобуржуазного шлака, имевшее место главным образом в предвоенные и военные годы, было главным симптомом подъема рабочей массы. Но до какой степени широкие низы этой массы легко поддавались еще мелкобуржуазному влиянию, свидетельствует «добросовестное оборончество» и мелкобуржуазный состав сначала Петербургского Совета, а
* Понятия «отечество» и «защита отечества» имеют исторически оправданный смысл. После победы пролетарской социалистической революции трудящиеся получили свое социалистическое отечество и защищают его в революционной войне, если это отечество подвергается опасности. «Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы — за защиту отечества с этого дня» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 395). Ленин считал прогрессивной и защиту отечества в национально-освободительных войнах, так же как в войнах, целью которых является демократическая борьба против угнетения. — Ред,
4*
100
11. История революционного движения
затем и I ВЦИК. И в течение революции 1917 года сознательные рабочие долго еще были в меньшинстве и мещанин, преимущественно городской мещанин, брал верх над рабочим.
В этом заключалась огромная опасность. Мелкая буржуазия со своими привычками и навыками является разлагающим элементом всякой революции. Мелкий буржуа — индивидуалист, мы видели, почему. Но это значит, что мелкого буржуа до необычайности трудно сорганизовать для какого-нибудь массового действия, что его до необычайности трудно подчинить единому настроению, ввести в рамки единого плана, что так легко достигает пролетариат. Мелкий буржуа всегда находится к чему-нибудь и к кому-нибудь в оппозиции. Соглашаться с другими ему кажется ниже своего достоинства. Он должен иметь во что бы то ни стало «собственное мнение». В то же самое время диктатуру он понимает только в личной форме, и всегда само собой разумеется, кандидатов в диктаторы бывает несколько. Отсюда все мелкобуржуазные партии постоянно делились и делятся на бесчисленное количество мелких фракций (робеспьеровцы, дантонисты, эбертисты французской революции; бруссисты, гедисты, аллеманисты, жоресисты Французской социалистической партии, партии типично мелкобуржуазной, конца XIX века). Но что может быть всего хуже — мелкий буржуа и к массе подходит также индивидуалистически. Ему кажется, что масса, как отдельный человек, движется личными мнениями, настроениями и страстями: о «страстях» как движущем начале для массы мелкобуржуазные историки написали бесчисленное количество томов. Оттого, между прочим, мелкий буржуа так неохотно принимает теорию классовой борьбы. Ему кажется диким и непонятным, как это могут быть какие-то объективные условия, которые делают непримиримой вражду пролетария и буржуа. Почему это непримиримой? Всегда можно уговорить, столковаться, наладить дело. И мелкий буржуа «налаживает», обыкновенно, конечно, за счет рабочего.
Отсюда, как правило, мелкий буржуа — типичный соглашатель. И именно потому, что в нем живет душа соглашателя, он «непримирим» и «не идет ни на какие компромиссы» в минуту подъема. Как озаренный, он требует немедленных и решительных выступлений, он не мирится на середине: или все, или ничего. Подчинить свои выступления общему плану революционной борьбы — это ему нравится всего менее. В то же время он очень любит теоретические широкие планы. Чем они грандиознее, тем лучше. Что выйдет из этих планов, это он не ясно себе представляет. Переоценка своих сил и возможностей,
Историческое вначение Октябрьской революции
101
недооценка стоящих на пути препятствий — одна из основных черт мелкого буржуа.
Октябрьской революции пришлось столкнуться с обоими проявлениями мелкобуржуазности. На ее пути лежало бревном сначала мелкобуржуазное соглашательство. После того как мелкобуржуазные партии меньшевиков и социалистов-револю- ционеров остались в меньшинстве на II съезде Советов 6, тем не менее многим казалось, что без соглашения с этими побежденными революцией партиями революция устоять не может. Что только правительство, составленное из представителей «всех социалистических партий», в состоянии удержать власть. Курьезно видеть, как этот лозунг — «правительство из представителей всех социалистических партий» — понравился генералам из военного министерства, отсиживавшимся от большевиков. Отказываясь исполнять распоряжения Совета Народных Комиссаров, эти генералы с важным видом говорили: «Как же мы будем повиноваться одной социалистической партии? Что же это за правительство, лишенное представителей других демократических партий»? Прав был старик Энгельс, когда говорил, что в минуту победы социалистической революции самые черные реакционеры будут прятаться под знамя «чистой демократии».
Читая теперь переговоры по прямому проводу ставок различных фронтов между собой и с Комитетом спасения родины и революции7, мы видим, чьим по существу лозунгом был лозунг «министерство из представителей всех социалистических партий». Быстрый переход на сторону большевиков всего фронта не дал времени для производства этого эксперимента, и первое бревно, бревно мелкобуржуазного соглашательства, было убрано с дороги революции легко и скоро. Но едва его успели убрать, как на дороге оказалось другое. Примиренческие настроения сдались перед очевидностью, но зато во весь рост поднялась мелкобуржуазная «непримиримость». Нельзя заключать мир с империалистами, потому что не может быть мира между социализмом и империализмом (довольно точное повторение формулы протопопа Аввакума: «Нет мира между господом богом и Велиалом»). И Ленину пришлось немало потрудиться, чтобы побороть эту формулу мелкобуржуазных настроений: целых полтора месяца, с начала января до конца февраля, ценой огромных трений в партии и огромных объективных потерь революции двигалась вперед действительно пролетарская точка зрения на чо, что партия должна делать перед лицом надвигающегося империализма,
102 11. История революционного движения
Само собой разумеется, что не всякий носитель мелкобуржуазной идеологии есть непременно сам мелкий буржуа; мы видели выше, как эта идеология подчиняла себе в прошлом широкие круги самых подлинных пролетариев. Вот отчего мелкобуржуазная болезнь не была для всех и всегда безусловно смертельной. Многие от нее вылечились. Но что и до сих пор в наших рядах есть люди, этой болезнью страдающие, показывает, до какой степени болезнь застарела и как трудно от нее избавиться. Мелкобуржуазность продолжает быть разлагающим началом партии и до сего дня, хотя, нужно сказать, распространение этой эпидемии разделяет участь всех эпидемий последнего времени: холеры, сыпного тифа, испанки и т. д.; все эти эпидемии колоссально идут на убыль, и вместо миллионов, как это было в Западной Европе, вместо сотен тысяч, как это было у нас в начале 1917 года, «хворают» только единицы.
Вот почему чрезвычайно важно, что Октябрьская революция нанесла чисто объективно жесточайший удар мелкобуржуазному миросозерцанию. Заключив мир, она вдребезги разбила буржуазную иллюзию «национальной войны», войны «для защиты родного очага». Мещанин готов был отказаться-от Дарданелл, но он не в силах был отказаться от Гродненской губернии. До какой степени мещанину всякого калибра трудно отрешиться от географических границ своего «отечества», показывает та интерпретация, какую давали представители буржуазии центральных держав борьбе русской делегации в Бресте с захватничеством австро-германского империализма; генерал Гофман уверяет, якобы наши делегаты «плакали от ярости», говоря о потере «Россией» восемнадцати «русских» губерний. Чернин приписывает Троцкому сожаление о 150 тысячах квадратных верст, теряемых «Россией». Нет надобности говорить, что наши брестские делегаты были достаточно грамотные люди, чтобы ясно представлять себе, что Гродненская губерния не Россия и что «полтораста тысяч верст» нужно было спасти не от немецкого ига, а от ига империализма. Но немецкие мещане — ими были и Гофман, несмотря на генеральский мундир, и Чернин, несмотря на графский титул, — не могли понять даже языка, на котором говорили представители рабочей революции.
Пролетариат не стал проливать свою кровь для защиты географического «отечества», на самом деле являвшегося результатом освященных давностью феодальных захватов. Он громко и внятно сказал всем, что защита его классовых интересов, защита здвреваний его революции для него важнее вся¬
Историческое значение Октябрьской революции
103
кой националистической географии. И тем самым раз и навсегда он покончил с одним из китов мелкобуржуазного миросозерцания. И вслед за этим он нанес жестокий удар другому фетишу мелкой буржуазии, ее основанной на «свободе и равенстве» демократии, нисколько не мешающей 999 тысячным человечества пребывать в рабстве у одной тысячной. Разогнав Учредительное собрание, выборы в которое на добрую половину были таким же «голосованием одураченных мещан», как и охарактеризованные этими словами Лениным выборы во II Думу, пролетарская диктатура раз и навсегда положила конец той вере в неограниченную правоту неорганизованного, распыленного на мельчайшие атомы арифметического большинства, на котором прочнее всего держалась и держится капиталистическая эксплуатация.
Октябрьская революция выбила из-под мелкобуржуазных иллюзий их объективное основание и тем самым сделала до необычайности трудным возрождение мелкобуржуазных иллюзий в какой бы то ни было форме. И этот факт подействовал на всю мещанскую массу гораздо сильнее, нежели могли бы подействовать тысячи самых,убедительных речей и статей. Вот отчего буржуазная интеллигенция, передовой и более сознательней отряд мелкой буржуазии, все в большем и большем количестве своих представителей переходит на точку зрения марксизма. Один материальный факт стоит десяти теорий. И вот отчего так затруднена у нас реакция: перешагнуть назад за Брестский мир и разгон Учредительного собрания, вновь восстановить иллюзии мелкобуржуазной демократии и националистического отечества — это задача материально неосуществимая. И мелкобуржуазные настроения, десять лет тому назад проявлявшиеся у нас в таком крупном и опасном виде, в настоящее время могут сплотить лишь совершенно ничтожные кучки, не представляющие уже серьезной опасности для дела революции и только лишний раз напоминающие о той большой угрозе, которая когда-то висела над партией десять лет тому назад.
«Коммунистическая революция», 1927, <№ 20,
стр. 3—13
1905 ГОД*
Предисловие
Настоящая брошюра не ставит своей задачей сравнение лозунгов партийных и классовых отношений 1905 года и нашего времени. Такая задача очень заманчива, но она предполагает полную осведомленность читателя относительно фактической стороны дела. Можно ли ожидать такой осведомленности?
Наша первая революция до сих пор привлекает к себе внимание широких кругов гораздо меньше, чем заслуживает. В особенности молодежь склонна относиться к этой революции как к чему-то в высшей степени «историческому». Революция 1905 года, рассуждают обыкновенно, была буржуазной, да еще и не удалась. Стоит ли много заниматься буржуазной, да еще неудачной революцией, когда мы в октябре 1917 года имели революцию пролетарскую, и притом блестяще удавшуюся?
Нет надобности говорить, что эта точка зрения совершенно неверная и сугубо неленинская. Прежде всего Ленин всегда подчеркивал неразрывную евязь между 1905и 1917годами. Его высказывания на этот счет так хорошо всем известны, так все знают его мнение о 1905 годе как «генеральной репетиции» 1917 года, что нет никакой необходимости на этом настаивать. Приемы и методы борьбы, приемы и методы организации — все это потому было использовано с таким блестящим успехом в 1917 году, что все это было подготовлено с 1905 года.
И отнюдь не следует создавать фетиша из «буржуазности» революции 1905 года. Эту «буржуазность» приходилось подчеркивать в дни борьбы с троцкизмом, который «несуразно левой» теорией перманентной революции давал повод к совершенно несуразному объяснению, того, что происходило в 1905 году. Теперь приходится подчеркивать не это, а то, что подчеркивал Ленин в своей статье о книжке Каутского. Наша первая революция, конечно, была буржуазной в том смысле, что она не ** Брошюра.
1905 год (брошюра)
105
ставила своей непосредственной задачей взятие власти пролетариатом и социалистическую реконструкцию хозяйства страны. Но это была «буржуазная» революция совсем особого типа, в которой буржуазия почти с самого начала играла контрреволюционную роль, а носителем «буржуазности» являлся класс, которому только еще в будущем предстояло превратиться в капиталистического фермера. Этот фермер составлял незначительное меньшинство населения деревни в 1905 году. Существовали скорее его зачатки. Этих зачатков было больше в «колониях», заселявшихся в период после реформы 1861 года, меньше в «метрополии» — коренном ядре крепостного права и барщины. Всюду остатки этого права и барщинного хозяйства имели больше значения, чем едва видный из-под них крестьянский капитализм.
Победа фермера в нашей деревне тогда означала бы огромный экономический переворот, так как фермерское хозяйство неразрывно связано хотя бы с неполной и незавершенной механизацией земледелия, остатки же крепостничества предполагали сохранение средневековых приемов и методов этого земледелия.
Таким образом, даже в области чисто объективных отношен ний революция 1905 года ставила на очередь одну из тех проблем, которые решаются на наших глазах, проблему ликвидации средневековых форм сельского хозяйства. Но значение революции этого года для нас далеко не ограничивается теми объективными переменами, которые тогда были поставлены на очередь. Неизмеримо важнее 1905 год как момент появления на сцене того фактора, который тогда многим «умным людям» казался каким-то курьезом истории и мировое значение которого теперь понимает всякий полусознательный мещанин любой страны света. 1905 год был моментом первого выступления большевизма. Кто из тогдашних большевиков подумал бы, что «маленькая секта» станет когда-нибудь предметом ужаса «великих буржуазий» передовых капиталистических стран? Буржуазия главное значение придает приемам и методам большевизма. Но суть не в этих приемах самих по себе, суть в том, что это революционные приемы, суть в том, что большевикам удавалось вызвать колоссальной силы энтузиазм масс, энтузиазм, помогавший этим массам преодолеть трудности, с нереволюционной точки зрения казавшиеся абсолютно непреодолимыми.
Три раза в новейшее время удавалось большевикам поднять такую волну энтузиазма: в 1905 году, в 1917—1920 годах и,
106
II. История революционного движения
наконец, в последние годы — годы построения социализма в нашей стране. И быть может, всего интереснее изучать методы работы большевизма на его первом выступлении, когда его организационные возможности были всего слабее, когда механические средства борьбы были почти всецело в руках его противника, с ужасом видевшего, как на пустом, казалось бы, месте перед ним вырастает грозная сила.
Те, кто изучают большевизм, начиная с его первой большой победы в 1917 году, никогда не поймут как следует значения этой исторической силы, мощь которой не в ее материальных средствах — средства пришли потом, — а в способности угадывать то, что от всех людей «простого здравого смысла» было и будет всегда закрыто вековой толщью обывательских привычек и предрассудков.
Все лозунги большевизма 1905 года воплотились постепенно в жизнь, ни один прогноз его противников не оправдался. В этом глубочайшее историческое оправдание той уверенности в себе, с какой наша партия шла и будет всегда идти вперед. Чем более долгий срок отделяет нас от нашего первого выступления, тем прямее кажется наша дорога и тем менее способны нас смущать те препятствия, какие встречаются на нашем пути. Мы преодолели в десять раз большие препятствия, мы начали в 1905 году с нуля, и мы перешли теперь далеко за пределы того, что считалось точкой кипения в великих европейских революциях. Там народным массам, как указывал в свое время Ленин, принадлежала только роль разрушителей: строить на очищенном массовым взрывом месте начинали уже эксплуататоры этих масс. Наша революция впервые выдвинула народную массу как творца, и эта творческая роль массы впервые нашла себе выражение в нашей первой революции 1905 года. Рассказать, и только рассказать, как происходила эта революция и на какой основе она возникла, — задача этой брошюры. Она не претендует на большее чем дать фактический материал. Политические выводы из фактов сделает сам читатель.
М. П.
I. Диктатура крепостников-помещиков
Двадцать пять лет назад страны, входящие теперь в состав Союза Социалистических Советских Республик, составляли большую часть «Российской империи». Кроме наших советских республик в эту «империю» входили еще большая часть тепе¬
1905 год (брошюра)
107
решней Польши, большая часть Литвы, Латвия и Эстония; Финляндия была особым государством, но ее «великим князем» был русский император, угнетавший эту часть своих владений не менее, чем другие их части.
Этот император всеми своими «владениями» управлял п о наследству: когда он умирал, правителем страны становился его сын. Нам теперь это кажется очень странным и диким: попробуйте себе представить, что Михаила Ивановича Калинина как председателя Центрального Исполнительного Комитета Союза должен заменить его сын, которого будут особым образом для этого воспитывать. Никто этого теперь не поймет, а сам т. Калинин, вероятно', будет обижен таким предположением. А двадцать пять лет назад, до революции 1905 года, подавляющему большинству населения нашей страны это казалось совершенно естественным. Разговоры о республике в 1905 году казались утопией, бессмысленным мечтанием людей, не понимающих действительной жизни. Настоящими последовательными республиканцами были тогда только большевики, а их перед 1905 годом была горсть. Самые «образованные» и считавшие себя «разумными» людьми думали, что стремиться можно самое большее к конституции, т. е. только к ограничению власти наследственного правителя. А сам этот правитель, царь Николай И, считал бессмысленным мечтанием и какое бы то ни было ограничение своей власти. Он считал, что власть ему дана от бога и что только богу он должен давать отчет в том, как он этой властью пользуется. А так как бога никто никогда не видел, то на самом деле царь не давал отчета в своих действиях никому. Это называлось самодержавием.
Это нам кажется теперь диким и бессмысленным, но у всякой бессмыслицы, даже у бреда сумасшедшего, есть какая-нибудь причина. Для бреда сумасшедшего такой причиной является состояние его мозга. А для тех порядков, которые я вкратце сейчас описал, причиной являлось состояние страны, прежде всего состояние ее хозяйства. Потому что хозяйством страны объясняются в конце концов все существующие в ней порядки и отношения. Причем сами эти порядки и отношения в свою очередь могут или помогать развитию хозяйства страны, или задерживать его.
«Российская империя» начала XX века была страной земледельческой. Что касается промышленности, то тут значение нашей страны в ряде других стран было очень невелико. Даже в 1913 году в «России» выплавлялось менее 6% всего чугуна,
108
11. История революционного движения
выплавлявшегося на земном шаре. Хлопка у нас обрабатывалось менее 9%, угля добывалось всего 2,5% мировой добычи. А нужно сказать, что между 1905 и 1913 годами вследствие толчка, данного нашей первой революцией 1905 года, промышленность «Российской империи» выросла почти в полтора раза. Раньше, в 1905 году, «Россия» была в ряде промышленных стран еще более ничтожной величиной. По части же земледелия в том же 1913 году «Россия» давала четверть мирового урожая пшеницы, половину мирового урожая ржи и треть мирового урожая ячменя. В области земледелия «Российская империя» была одной из первых стран мира, уступая только Соединенным Штатам Северной Америки. А в области промышленности она стояла на последнем месте среди всех крупных стран земного шара, далеко уступая не только Соединенным Штатам, но и Германии и Англии. Англия производила чугуна почти в два раза больше, чем «Россия», Германия — в четыре раза больше, Соединенные Штаты — в шесть раз с лишком.
В наши дни мы стараемся обрабатывать землю машинами. Уже в прошлом году в нашей стране было произведено сельскохозяйственных машин на 218,4 млн. руб., в нынешнем году будет произведено на 375 млн. руб., а в 1913 году в «России» было произведено сельскохозяйственных машин всего на 70 млн. руб. Меньше в пять раз с лишком, чем в нынешнем! Опять напомню, что 1913 год —это уже год большого успеха; до 1905 года производство сельскохозяйственных машин у нас было еще меньше. Трактора в 1913 году не было ни одного, а теперь их больше 70 тыс.
Кто же и как обрабатывал тогда землю? Обрабатывал крестьянин при помощи дедовской сохи, такой же точно, какой работали и 300—400 лет назад, на тощей заморенной коняге. А если получались при этом огромные урожаи, то это потому, что работало огромное множество людей, которые сами жили впроголодь, а почти все, что сработали, должны были выбрасывать на рынок, чтобы достать денег. Продавали осенью хлеб дешево, чтобы весной купить его по дорогой цене. Чтобы понять, как могли сложиться такие порядки, нам нужно присмотреться к тому, как была тогда распределена в нашей стране земля.
Всей земли, которая могла бы пойти в обработку, было в 1905 году около 280 млн. десятин. Из них 139 млн. десятин было земли крестьянской, надельной, а 102 млн. — «частновладельческой». Что такое «надельная» земля? До 1861 года, когда крестьяне принадлежали помещикам, последние «наделяли»
1905 год (брошюра)
109
«своих» крестьян небольшими участками земли, чтобы те могли прокормиться, или чтобы помещику не нужно было их кормить. Это значит, была натуральная заработная плата крестьянина: как заработная плата в деньгах обеспечивает существование фабричного рабочего, так эти участки земли обеспечивали существование работавшего на барина крестьянина. В 1861 году крестьяне перестали быть движимой собственностью отдельных помещиков, не перестав быть собственностью всего помещичьего государства, как мы сейчас увидим. Помещики через посредство государства продали крестьянам их надельные земли, но не все целиком и гораздо дороже, чем земли стоили. На юге -«империи», где земля хорошая, чернозем, помещики отрезали себе около четверти всей надельной земли, взяв за нее с крестьян 342 млн., а стоила эта земля по тогдашним ценам 284 млн. руб. На севере, где земля была плохая, надельную землю уступили крестьянам почти всю, но взяли за нее вдвое дороже, чем она стоила, тоже 342 млн., а стоила уступленная крестьянам надельная земля 180 млн. руб. В одном случае крестьянин получил, значит, гораздо меньше земли, чем ему было нужно для пропитания, в другом — он за эту землю должен был платить гораздо дороже, чем' она стоила. В обоих случаях крестьянин от «освобождения» проиграл, стал беднее.
За эту землю крестьяне платили до 1906 года — платили буквально — втридорога. «Надельная» земля оценена была по всей «России» в 867 млн. руб. (на самом деле она стоила 648 млн.), а выплатили крестьяне в форме «выкупных платежей» 17г млрд. руб. Кроме этих «выкупных платежей» крестьяне платили еще: 1) подушную подать (до 1883 года); 2) государственный земский сбор; 3) земский сбор — губернский и уездный; 4) волостной сбор; 5) сельский — мирской; 6) страховой. Благодаря всем этим сборам крестьяне платили со своей земли во много раз больше, чем помещики. В теперешней Центрально-Черноземной области крестьяне платили в семь раз больше, чем помещики, в Правобережной Украине и в Северо-Западной области — в одиннадцать раз больше. На 195 млн. руб. всяческих платежей крестьян приходилось только 13 млн. руб. платежей помещиков.
Между тем у помещиков осталось в руках после ограбления крестьян в 1861 году почти три четверти всей остальной, не надельной земли — 73 млн. десятин из 100 млн. десятин с небольшим. И это была самая лучшая земля: еще при крепостном праве помещик выделил себе, под барскую запашку,
110
II. История революционного движения
лучшую землю имения да при «освобождении» отводил крестьянам в надел по мере возможности самую плохую землю. И отводил гораздо меньше, чем может показаться по цифрам, которые сейчас видел читатель. Дело в том, что и в крепостное время не все крестьяне «Российской империи» были рабами помещиков, некоторые уже и тогда прямо и непосредственно были рабами государства (так и назывались: «государственные крестьяне»). Государственным крестьянам жилось немножко легче, чем помещичьим. Хотя и они жестоко страдали от грабежей и вымогательств чиновников «министерства государственных имуществ», которое управляло государственными крестьянами, но все же на барщину их не гоняли, поштучно не продавали, на собак и лошадей не меняли. Крепостные крестьяне завидовали государственным и даже, случалось, посылали ходоков к царю, прося перечислить их в государственные. Ходоков этих жестоко секли. При «освобождении» государственным дали земли несколько щедрее, чем помещичьим. При крепостном праве (по «ревизии» — переписи 1836 года) крепостных крестьян в империи было около И млн. (считались только мужчины), государственных — около 5 млн. — почти треть всех крестьян. Оттого и получился арифметический перевес крестьянского надельного земледелия над помещичьим. А если взять этих крепостных крестьян, то вот как их поделили с их бывшими господами при «освобождении» в 1861 году, по словам одного правительственного отчета: «Если сравнить количество земель, поступивших во владение и пользование крепостных обществ, с количеством земель, находившихся в собственности дворянства, то цифры эти относятся, как 38 к 62, т. е. из каждых 100 десятин 62 десятины достались дворянам, помещикам и лишь 38 десятин достались на долю крестьян».
Итак, крестьян жестоко ограбили при «освобождении» и продолжали грабить еще много десятилетий по случаю «освобождения». Дорого купили крестьяне себе свободу, скажете вы. В том-то и дело, что даже и этой бешеной ценой крестьяне никакой свободы себе не купили. Избавившись от произвола отдельного помещика, они остались под произволом всего дворянства в целом. При «освобождении» крестьяне получили «са- моупрайление» — сельских старост, волостных старшин, волостные суды и т. п. Это было самым злейшим издевательством, какое только можно придумать. Все это крестьянское «самоуправление» было подчинено дворянскому, помещичьему начальству. Под именем ли «мирового посредника», или
1905 год (брошюра)
111
под именем «непременного члена присутствия по крестьянским делам», или под именем «земского начальства» над крестьянским «самоуправлением» все время стоял дворянин, от крестьян, само собой разумеется, совершенно не зависевший, назначавшийся сверху, царской властью, но с согласия, а иногда и прямо по выбору местных помещиков. Вот как изображал власть этого дворянского опекуна над крестьянами один помещик в 70-х годах: «Посредник — все. И школы, и уничтожение кабаков, и пожертвования — все это от посредника. Захочет посредник — крестьяне пожелают иметь в каждой волости не то что школы, университеты. Посредник захочет — явится приговор, что крестьяне такой-то волости, признавая пользу садоводства, постановили вносить по стольку-то копеек с души в пользу какого-нибудь Гарлемского общества разведения гиацинтовых луковиц. Посредник захочет, и крестьяне любого села станут пить водку в одном кабаке, а другой закроют...» 1 А после этого по положению о земских начальниках 1889 года дворянская опека над крестьянами была еще расширена. Земскому начальству все выборное крестьянское начальство — сельский староста, волостной старшина и т. д. — было прямо подчинено, он их утверждал в должности, мог отстранять от должности и мог наказывать. После этого, конечно, никакой староста или старшина пикнуть не смел против своего дворянского начальства. А в числе этих подчиненных земскому начальству учреждений был волостной суд, который мог приговаривать крестьян к телесному наказанию, мог их сечь. Через волостной суд земский начальник мог выпороть любого крестьянина, и некоторые ретивые земские начальники так широко этим пользовались, что в иных деревнях пцсле 1889 года секли больше, чем при крепостном праве.
В то время как дворяне были освобождены от телесного наказания в 1785 году, с крестьян оно было снято лишь в 1904 году, уже в начале революции, когда первые крестьянские восстания (1902 год) уже прошли. Если к этому прибавить, что крестьянин не смел отлучиться от своей деревни без разрешения (на бумаге — сельского схода, но мы сейчас видели, что этот сход был подчинен дворянскому начальству), что он, где бы он ни жил, отвечал по круговой поруке за уплату податей своих односельчан (круговая порука была отменена только в 1903 году), мы поймем, что такое был крестьянин в царской «России». Это был самый настоящий «лишенец», человек, лишенный даже тех очень скромных прав, какими цользовались другие подданные царя. После «освобож.де-
112
11. История революционного движения
н и я» в 1861 году крепостное право для крестьян сохранилось больше чем наполовину. Это надо твердо помнить, чтобы понять нашу революцию 1905 года. Крестьяне, как мы увидим, массами поднимались против помещиков, чтобы сбросить последние остатки крепостной неволи, остатки очень крупные, настолько крупные, что помещики при помощи их, когда хотели, могли удержать все порядки крепостного хозяйства. Когда отрезали у крестьян часть их надела, стараясь отрезать не только лучшую землю, но все, без чего не Может идти крестьянское хозяйство, — выгон или дорогу к выгону, дорогу к воде, лес, луг, —• и все это «освобожденные» крестьяне должны были арендовать у своего бывшего барина. В одной деревне бывшей Тульской губернии все село было в кабале у помещика из-за семи десятин, которые врезывались клином в крестьянские земли и отрезали путь к водопою. В другой деревне бывшей Воронежской губернии «отрезки» так охватывали крестьянские земли, что крестьяне не могли ни проехать, ни пройти, ни прогнать скота, не нарушая помещичьих «прав»; а за каждое нарушение этих «прав» управляющий заставлял крестьян бить земные поклоны перед кадушкой, наполненной водой... Над «освобожденными» крестьянами, как мы видим, и глумились, как над крепостными. Но чаще, конечно, при помощи «отрезков» чинилось не издевательство, а вымогательство. За право арендовать «отрезки» крестьяне должны были обрабатывать огромное количество барской земли. Целый ряд помещичьих имений преблагополучно, таким образом, восстановил барщину. О Московской губернии один современник писал: «Все идет, как было в старину, при крепостном праве, и достаточно иметь только старосту, чтобы своевременно выгонять крестьян на работу». В очень большом количестве дворянских имений, местами до половины, местами больше четверти, не было никакого своего инвентаря, земля обрабатывалась крестьянскими лошадьми, при помощи крестьянских сох и плугов совсем как в XVIII веке в разгар крепостного хозяйства.
Помещик благодаря «отрезкам» был не столько хозяином- предпринимателем, сколько просто земельным ростовщиком. Он закабалял крестьян своей монополией на землю, отнятую им у крестьян в разное время и под разными предлогами. Эта наследственная монополия дворян на землю была основой господства помещиков как класса в земледельческой стране, называвшейся «Российской империей». Эта наследственность земельной собственности лежала в основе
1905 год (брошюра)
ИЗ
всего общественного строя, вот отчего наследственные права и играли такую роль во всех общественных отношениях «Российской империи». У человека прежде всего спрашивали, чей он сын; и ежели он был сыном «благородного», дворянина, одна была ему честь и одни права, ежели неблагородного, крестьянина, никакой чести и никаких прав. Даже учиться «мужику» не полагалось: министр народного просвещения 80-х годов Де- лянов издал циркуляр, запрещавший пускать в школу II ступени (тогда называлась гимназией) «детей кухарок и прачек». Его государь, Александр III, на прошении одной матери-крестьянки, говорившей, что она старается дать сыну образование, написал: «Это-то и ужасно: мужик, а тоже лезет в гимназию». Все население страны было разделено на наследственные сословия. В правительственных документах царской «России» вы не найдете ни рабочих, ни буржуа, ни землевладельцев, вы найдете «крестьян» (так назывался одинаково и фабричный рабочий, пришедший на заработки из деревни, и богатый кулак, и мелкий городской лавочник, в деревне родившийся), «дворян» (одинаково и безземельных, и владевших тысячами десятин), «мещан» (мелкие городские ремесленники и т. п.); даже там, где не было наследственности, положение человека определялось его родством. Купцом, например, не рождались — в купеческую «гильдию» нужно было записаться. И тем не менее мы встречаем такие обозначения, как «купеческий сын», «купеческая вдова». Дети мелких чиновников и низших военных командиров назывались «обер-офицерскими детьми» и т. п.
Лежавшая в основе власти господствующего класса наследственная собственность на землю, наследственная земельная монополия дворян на все накладывала свой отпечаток. Мы понимаем теперь, почему все так легко мирились с наследственной монархией, с тем, что правитель страны занимал свою должность по наследству. Царская власть была таким же достоянием определенной семьи («царская фамилия»), как было достоянием определенной семьи помещичье имение. Профессора государственного права из сил выбивались, чтобы провести тонкое различие между властью самодержца над страной и частного собственника над своим имением, но «самодержец» на каждом шагу разрушал хитросплетения профессоров. Он не только потому был «первым дворянином в своем государстве» (так он любил себя называть), что у него было больше земли, чем у какого угодно другого помещика, — почти 8 млн. десятин, не считая золотых приисков в Сибири, виноградников в Крыму и на Кавказе и т. д. Каков был царь как помещик,
114 11. История революционного движения
можно судить по тому, что именно в удельных имениях, принадлежавших царской фамилии, сильнее всего было республиканское движение среди крестьян. Но и тогда, когда речь шла об управлении страной, царь распоряжался как помещик в своем имении.
Однажды при Николае II Государственный совет открыл, что в Сибири русские крестьяне пользуются меньшими правами, чем буряты: бурят нельзя было сечь, а русских крестьян, как мы видели, можно. Государственный совет состоял из старых чиновников, назначенных царем, ожидать от него большой самостоятельности нельзя было, но тут замешалось «национальное» чувство: как же это, перед «инородцем» русского секут? Русскому имени обидно! И Государственный совет высказал мнение, что пора перестать сечь и русских крестьян. Николай написал на этом мнении: «Это будет, когда я этого захочу». Дескать, что хочу, то и делаю: хочу —порю крестьян, хочу — перестану пороть. Когда. он только что вступил на престол, ему подносили адреса с поздравлениями. В некоторых из этих адресов высказывалось желание, чтобы царь изредка собирал выборных от земства (местное самоуправление, почти сплошь дворянское по своему составу) для совещания. Это был чрезвычайно робкий и слабый намек на «конституцию». Но и этого слабого намека было достаточно, чтобы Николай выругал поздравлявших его земцев, назвав их скромнейшее пожелание «бессмысленными мечтаниями» 2.
Все эти заносчивые слова высказывались человеком, представлявшим собой лично, по общим отзывам, сущее ничтожество. Николай даже среди царской фамилии был одним из самых бездарных и глупых, многие великие князья были бойчее его. Николай получил, как и все предшествующие цари, военное воспитание и всю жизнь носил военную форму. Казалось бы, уж перед войсками-то он должен был знать, как себя держать. Не тут-то было. Перед фронтом Николай, по отзыву одного часто его видевшего генерала, «не знал, что сказать, куда пойти и что делать», и войска были при нем «как бы замороженными», видя перед собой такого чурбана. И на войне он оставался коронованным помещиком, держал себя барином, а не главнокомандующим. Позже, во время империалистской войны, одного генерала он пожаловал в генерал-адъютанты не за то, что это был храбрый и талантливый генерал, а по тому случаю, что Николай у него обедал. Другой раз он принял поднесенный ему раболепными военными чиновниками орден Георгия якобы за то, что он, царь, был под немецким
1905 год (брошюра)
145
обстрелом. Но дело-то в том, что в этот день был густой туман и немцы не стреляли. Тем не менее Николай не постеснялся принять орден, дававшийся «за храбрость», по тому случаю, что он удостоил побывать на том месте, где в другие дни бывало опасно.
Само собой разумеется, что управлять такое ничтожество не могло. У Николая хватило самостоятельности только на мелкие хитрости. Его министры знали, например, что если он с кем-нибудь очень любезен, то это предвещает отставку. Надо прибавить, что «лучших» из этих министров, т. е. тех, кто был поэнергичнее и поталантливее, как Витте или Столыпин, Николай терпеть не мог. Когда Витте умер, он открыто выражал свою радость, даже перед иностранными послами, весть о смерти Столыпина, который выручил его из беды в 1906 году, он принял совершенно равнодушно. Как всегда бывало с глупыми барами, от имени Николая управляли всякие проходимцы. Огромное влияние на него имел некий князь Мещерский, реакционный журналист, взяточник и развратник, личность настолько грязная, что даже в чиновничьих и помещичьих кругах, где тоже не святые были, Мещерским все-таки все гнушались. Одно время вся внешняя политика «империи» оказалась в руках некоего Безобразова, дико невежественного и безграмотного человека, собиравшегося завоевать Маньчжурию и Корею при помощи хунхузов (китайских бандитов) и втравившего в конце концов Николая в войну с Японией. Но всего опаснее были «чудотворцы». Как полагается чистокровному помещику-крепостнику, Николай и вся его семья, начиная с полусумасшедшей его жены Александры Федоровны, были страшно суеверны. До последнего предела достигло это суеверие во время империалистской войны, когда сибирский «старец» Распутин, которому по телеграфу заказывали погоду на фронте (помолится, ан дожди и пошли), в действительности управлял страной и назначал министрами, кого хотел. Но уже и ко времени революции 1905 года власть «чудотворцев» была достаточно сильна. Как раз перед этим временем всемогущим человеком при Николае стал некий «маг» (волшебник) Филипп, француз, которого во Франции преследовали за уголовные преступления, называвший себя «доктором», на самом деле просто шарлатан, что не помешало Николаю приказать выдать ему диплом доктора медицины. Николай чувствовал к нему такое суеверное почтение, что благоговейно хранил у себя палку, которую «наговорил» Филипп: палка эта будто бы приносила счастье. По приказанию Филиппа выдавались какие угодно
116 //. И сто-p и я революционного движения
суммы, на что горько жаловался Витте, бывший тогда министром финансов.
На примере Филиппа мы можем видеть, что дело было не в одном Николае и его жене: Филиппа, как и впоследствии Распутина, разыскали, привлекли ко двору две черногорские принцессы, вышедшие замуж за русских великих князей, а одна из этих черногорок скоро стала женой Николая Николаевича, будущего главнокомандующего во время империалистической войны, а позже претендента на российский престол. И этот Романов, более умный, чем Николай II, был также суеверен и невежествен, и если он потом стал врагом Распутина, то не потому, что его возмущала власть «старца» над «Российской империей», а что «старец» стал его соперником по влиянию на Николая II.
В этом влиянии, конечно, было все дело. Кто приобрел влияние на коронованного помещика, мог его именем творить все, что угодно. «Империя» управлялась любимцами, фаворитками, родственниками и свойственниками царя, как управлялась бы любая вотчина. Одним из любимцев Николая II перед 1905 годом был петербургский (ленинградский) градоначальник Клейгельс, грабивший направо и налево и покупавший на награбленное одно имение за другим, платя за них по 600 тыс. руб., — это дает понятие о размерах грабежей. Имениями управляли полицейские чиновники, числившиеся по штатам петербургской полиции и получавшие соответствующее жалованье. О грабежах Клейгельса все знали, дело доходило до прокурора, но, когда прокурор представил министру юстиции предложение предать Клейгельса суду, указывая, что за свои поступки петербургский градоначальник подлежит ссылке в Сибирь, министр ответил, что он не может возбудить этого дела, потому что тогда Николай сейчас же его, министра, прогонит в отставку, а у него есть важные проекты, которые он должен провести. Чтобы эти проекты осуществились, нужно было терпеть взяточника и вора Клейгельса.
Как такие порядки отражались на ходе общественных дел, покажет один пример. Составили проект на постройку вокруг Петербурга окружной железной дороги. Соискателями на постройку выступили один великий князь, фаворитка Николая Кшесинская и тот же Клейгельс. Тогда оказалось, что дорога будет стоить слишком дорого, и проект пришлось отложить.
Такой вид представляла собой диктатура крепост- нйков-помещиков, основа царского самодержавия. Мы видим, как наивны были те, кто думал «исправить» все «недо¬
1005 год (брошюра)'
117
статки» этой системы, ограничив царскую власть «конституцией». Самодержавие было только оболочкой, суть была в господстве помещичьего класса, державшегося при помощи своей монополии на землю и власти над крестьянами. Пока не был выброшен из страны помещик, невозможно было сбросить царя: уничтожение самодержавия и ликвидация помещика как класса, конфискация всей помещичьей земли и переход ее в руки крестьян были неразрывно связаны между собой, и в 1917 году это понимали уже и сами помещики *. Но в 1905 году вне рядов большевистской партии это мало еще кто понимал. И лозунг национализация земли, выдвинутый Лениным еще за несколько лет до революции 1905 года, казался такой же несбыточной мечтой, как и лозунг упразднения монархии и провозглашения республики. А между тем и то и другое было очень близко, и ни к чему другому крестьянская революция, руководимая пролетариатом, не могла привести в случае ее успеха.
II. Рабочий, крестьянин и буржуазия перед 1905 годом
Итак, свергнуть власть помещиков и вместе с тем опрокинуть самодержавие было ближайшей задачей революции в «Российской империи» начала XX века. Масса населения, все или почти все крестьянство не понимали, однако, что повалить помещика — значит повалить царя. Крестьянин видел только то зло, которое непосредственно его угнетало, — монополию помещика на землю — и боролся только с этим злом. Из-за земли крестьянин вел борьбу с помещиком давным-давно, с начала XVII столетия, когда во время так называемого помещиками Смутного времени восставшие крестьяне жгли помещичьи усадьбы и истребляли самих помещиков. Во второй половине XVII века это повторилось во время восстания Степана Разина, во второй половине XVIII века — в восстании Пугачева. Это были крупные восстания, когда власть помещиков исчезала на время на пространстве целых областей; более мелкие вспышки, кончавшиеся быстрым подавлением восстания, не
* Французский посол Палеолог после Февральской революции 1917 года во всех богатых помещичьих домах, где он бывал, встречал «одно беспокойство, один и тот же страх во всех умах — раздел земель». «На этот раз не увернешься, — говорили ему. — А что мы будем делать без доходов с наших имений?» 3
118
11. История революционного движения
прекращались по-настоящему ни на один год. Перед «волей», в конце 50-х годов, крестьяне «волновались» в 25 губерниях; тотчас после «воли», когда крестьяне стали понимать, что их грабят, было 1172 «волнения» в 2607 селах и деревнях, из них 686 пришлось подавлять силой оружия. Но ни в одном случае крестьянам не удалось свергнуть власть помещичьего государства; и в крупнейших крестьянских выступлениях (разинщина, пугачевщина) руководителями были не крестьяне: в разинщину — казаки и волжская «вольница» (главным образом судовые рабочие: бурлаки, грузчики и т. д.), в пугачевщину — опять казаки и уральские горнорабочие. Одни крестьяне даже большого восстания не могли поднять, не только победить. Объясняется это классовой природой мелкой буржуазии и свойствами крестьянского хозяйства: работая в одиночку, рассеянные на большом пространстве, разобщенные условиями своего труда, крестьяне с трудом объединяются; в силу тех же хозяйственных условий они плохо понимают связь между тем, что делается в их деревне, с тем, что делается далеко от этой деревни, в столицах, где была сосредоточена головка помещичьей власти; им, наоборот, казалось даже, что в столицах сидят их друзья, что царь заботится о крестьянах и любит их, а злые помещики его обманывают, скрывают от него правду. На самом деле обманывали не царя, а самих крестьян, обманывали в первую голову попы: главной задачей православной церкви, как и христианства вообще, было замазывать всячески существующую общественную неправду, эксплуатацию, утешая тем, что «на том свете» все устроится, а на этом надо потерпеть. А затем приучился понемногу пользоваться крестьянским самообманом и сам царь: «воля», например, была объявлена от имени царя, а отрезывали землю на месте разные мелкие сошки; что последние не посмели бы делать этого без согласия царя, это крестьяне понимали плохо, и 1861 год лишний раз укрепил у них убеждение, что царь добрый, а только помещики и чиновники злые. От царя все хорошее, а от его дурных слуг все злое.
Чтобы революция удалась, нужно было, чтобы за дело взялись люди, условиями своего труда подготовленные к тому, чтобы ясно понимать общественные отношения, условиями этого же труда хоть наполовину освобожденные от поповского дурмана, а главное — люди, условиями своего труда приученные работать не врозь, в одиночку, а дружно, локоть к локтю. Такими людьми были промышленные рабочие, особенно рабочие крупного машинного производства. Непременным уело-
1905 год (брошюра)'
119
вием победы революции в Российской империи было образование у нас промышленного пролетариата и возникновение могущественной рабочей партии. Этого долго не могли понять те «образованные люди», которые от всей души желали гибели проклятому самодержавию, но не умели с ним бороться. Им казалось, что так как крестьянская революция «буржуазная», крестьяне не стремятся низвергнуть капитализм, напротив, каждый крестьянин-единоличник норовит скопить себе деньжонок, стать мелким собственником — а из мелких собственников потом выходят крупные, — то рабочему классу в такой революции ничего не остается, как только помогать буржуазии, а вести революцию должна эта последняя. А между тем борьба против диктатуры крепостников-помещиков только тогда йогла быть успешна, когда именно руководить этой борьбой стал бы пролетариат. Поняли это только Ленин и созданная им большевистская партия. Понимание этого и поставило большевиков во главе пашей революции.
Пролетариат растет по мере роста капиталистического производства; надо поэтому сказать, как росло у нас это последнее, кстати, мы увидим и то, почему у нас буржуазия не могла стать руководящей революционной силой, какой она была, скажем, на западе Европы в XVII—XVIII веках. Страна наша была, мы видели, земледельческой страной, но никакая земледельческая страна, если она не порабощена всецело какой- нибудь промышленной страной и не является ее колонией, без своей промышленности существовать не может. Уже маленькому крестьянскому хозяйству не прожить без продуктов промышленности. Крестьянину нужно хотя небольшое количество железа: топор, сошни, зубья для бороны, подковы для лошадей; по железо на крестьянском наделе не растет; притом если эти вещи еще можно изготовить кустарным способом, то целой земледельческой стране нужно множество таких предметов, которые кустари изготовить не могут. «Российская империя» уже с конца XVIII века вела обширный торг хлебом. Большая часть хлеба, поступавшего на европейский рынок, шла в первой половине XIX века из Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, Украина и т. д.), а большая часть Восточной Европы была вотчиной царя. Хлеб отправляли за границу морем, но он же не растет на самом берегу моря, надо было зерно доставить к морским гаваням за сотни и тысячи километров. Сначала старались пользоваться для этого водными путями, наиболее дешевыми: вырыли несколько сот километров каналов. Но это было удобно только на севере, где есть
120
II. История революционного движения
густая сеть речных путей. На юге эта сеть гораздо реже, а лучшие земли как раз на юге, куда передвинулся уже со второй половины XVIII века и центр русского помещичьего земледелия. Чтобы черноземная полоса могла сбывать свой хлеб за границу, нужно было эту черноземную полосу связать с морскими портами искусственными путями сообщения, так началась у нас с 50-х годов постройка железных дорог.
Какой толчок должно было дать развитие железнодорожной сети развитию крупной промышленности, покажут несколько цифр. В 1865 году в «России» было железных дорог около 4 тыс. км, в 1890 году—-около 30 тыс. км и в 1904 году — около 63 тыс. км. А чугуна было выплавлено в 1867 году 280 тыс. т, а в 1902 году — почти 2,7 млн. г. Еще в 1870 году «России» * принадлежало только 2,9% мирового производства чугуна, а уже в 1894 году—-5,1%. Только за 15 лет —с 1877 по 1893 год — число паровых лошадиных сил в горном производстве с 28 тыс. увеличилось до 115 тыс., а число рабочих — с 257 тыс. до 445 тыс. человек.
Нам теперь эти цифры могут казаться маленькими: у нас выплавка чугуна за один год увеличилась больше чем на 30% (с 4 млн. т в 1928/29 году до 5,5 млн. т в 1929/30 году), машиностроение за один год увеличилось почти вдвое (с 703 млн. руб. в 1928/29 году до 1 300 млн. руб. в 1929/30 году), производство электрической энергии за 5 лет — с 1924 по 1929 год — увеличилось почти в 6 раз и т. д. Но не нужно забывать, что теперь наше промышленное развитие не связано никакими путами, даже теми, какие существуют в передовых капиталистических государствах, где рост производства ограничивается выгодой предпринимателя, а тридцать лет назад «Россия» была одной из наименее развитых стран и над ее промышленностью тяготели остатки крепостного хозяйства. Крестьянин, мы помним, был прикреплен к земле и не смел уйти без разрешения своего дворянского начальства. Этим путем помещики надеялись обеспечить для себя дешевые рабочие руки и успевали в этом: так в Калужской губернии в 90-х годах рабочий, уходивший на заработки на фабрику, получал от 8 р. 40 к. до 9 руб. в месяц, а батрак в имении — от 4 р. 90 к. до 5 р. 90 к. Только крайняя земельная теснота и последняя степень разорения могли «открепить» крестьянина от земли: в
* Читатель поймет из III главы, почему я это слово ставлю в кавычки. Но и помимо этого наша «Российская социалистическая федеративная советская республика» по границам совершенно не совпадает 0 «Российской империей»,
1905 год (брошюра)'
121
местечке Каховке (Южная Украина) в 1895 году из числа всех ушедших на заработки 81% ушел из-за безземелья и малоземелья; в Самарской губернии в 1899 году4 из-за безземелья и малоземелья ушло на заработки 12,5 тыс., из-за неурожая — больше 10 тыс., от недостатка заработка на родине (помещичьи экономии были уже сполна удовлетворены батраками) — почти 8 тыс., из-за долгов и недоимок (чтобы расплатиться с теми же помещиками) — 7 тыс. и лишь 709 человек потому, что в семье было достаточно рабочих рук (т. е. из-за интереса непосредственно крестьянского).
Если прибавить к этому, что оставшиеся на земле, не ушедшие на заработки крестьяне были сполна ободраны в угоду тому же самому помещику, то мы увидим, что у промышленности «Российской империи» должно было быть очень мало и рабочих, и покупателей. Если даже при таких условиях она все же так быстро развивалась (быстрее, чем в какой бы то ни было другой стране), то это показывает громадную силу толчка, который дала стране постройка железнодорожной сети. Дворянское правительство всячески «поощряло» развитие «русской» металлургии, обложив для этого привозное железо пошлинами, почти запретительными, т. е. такими, при которых ввозить его было крайне невыгодно *. Эти запретительные пошлины, между прочим, были для этого правительства отличным средством держать буржуазию в ежовых рукавицах. Простым изменением таможенного тарифа можно было разорить любого фабриканта: за границей все произведения промышленности стоили гораздо дешевле, чем у нас, наши фабрики могли приносить доход владельцам только при условии запретительных пошлин, открытая дверь для заграничных товаров была бы гибелью для сотен «русских» предприятий. Фабрикант это отлично понимал и низко кланялся начальству не только потому, что начальство помогало ему бороться с забастовками и держать в полукрепостном состоянии рабочих (мы сейчас это увидим), нет, все существование фабриканта зависело от милости начальства, и он это прекрасно понимал.
* Вот для сравнения пошлины на железо и на машины в конце XIX века:
железо (с пуда копеек)
машины (с пуда копеек)
САСШ
Германия
Россия
Россия
Германия
42-49
19-23
75-98
210
23-38
122
11. История революционного движения
Но это был лишь частный случай зависимости буржуазии от дворянского правительства; был и ряд других причин, например то, что большая часть капиталов, вкладывавшихся в русскую крупную промышленность в конце XIX века, была иностранного происхождения. В 1900 году этих иностранных капиталов считалось 785 млн. руб. (в том числе в металлургии и металлообрабатывающей промышленности 544 млн.). Владельцы этих капиталов — французы, бельгийцы, немцы, англичане — интересовались только своими доходами и к порядкам в «Российской империи» были глубоко равнодушны. Вместо конституции у них был свой посол в Петербурге, который и отстаивал их интересы, когда нужно было. Для этих господ «Россия» была форменной колонией. Далее, узость внутреннего «русского» рынка (мы уже видели, почему он был узок) давно уже (с 30-х годов!) наталкивала русского предпринимателя на мысли о рынках заграничных, преимущественно в менее, чем «Россия», культурных странах Востока. Но рынки этих стран «отечественная» промышленность должна была отбивать у иностранных конкурентов (до 1905 года главным была Англия). Военная мощь дворянского самодержавия казалась очень большой не только простоватому «российскому купечеству», но и за границей, хотя во второй половине XIX века «Российская империя» удачно справлялась только с малокультурными народами (кавказские горцы, туркмены, бухарцы, хивинцы). Не только сами европейцы ее били, как это было под Севастополем в 1854—1855 годах, но даже с европейски вооруженными и обученными турками ей было трудно справляться, как это было в 1877 году. Все же до японской войны 1904—1905 годов в эту военную мощь верили, и это было лишней цепью, привязывавшей буржуазию к самодержавию, тем более что сама подготовка к войне давала фабрикантам огромные «заработки». Так, на постройке Сибирской железной дороги (это была подготовка к захвату Маньчжурии, Кореи и Северного Китая) вырос целый ряд железоделательных заводов.
Основной причиной всех причин было то, что промышленность «империи» была придатком к сельскому хозяйству, а потому и буржуазия была второстепенной силой в стране, в общем дворянской. Первостепенной силой буржуазия могла бы стать, если бы «Россия» стала страной промышленной, индустриальной, но до этого было далеко не только в 1905, а и в 1913 году: даже в этом году валовое производство промышленности давало меньше половины всего производства страны (42,1%), а сельскохозяйственное производство —
1905 год (брошюра)
123
больше половины (57,9%). К этому времени буржуазия уже очень осмелела и у нее было целых две оппозиционные партии в Государственной думе: кадеты и прогрессисты. А перед 1905 годом у буржуазии никаких партий не было.
Но если у буржуазии «Российской империи» были все основания стать самой подлой и трусливой в Европе и от нее нельзя было ждать даже той скромной степени революционности, которую проявила германская, скажем, буржуазия в 1848 году, то у «российского» (по существу весьма, конечно, разноплеменного, как увидим ниже) пролетариата были все основания стать наиболее революционным в Европе. Выйдя, как мы видели, из наиболее обездоленных слоев деревенской массы, из самой ограбленной и задавленной части крестьянства, наши рабочие встречали на фабрике обстановку, которая для их западных товарищей была далеким прошлым.
Всюду в Европе рабочие к концу XIX века завоевали себе уже целый ряд возможностей сопротивляться чересчур грубой и бесстыдной эксплуатации.
Всюду существовали профессиональные союзы, всюду существовала свобода стачек. Всюду рабочие имели право голоса на выборах в парламент, имели вместе с тем возможность образовать свою рабочую партию. Теперь мы видим все это с оборотной стороны. Социал-демократы и прочие им подобные партии пользуются всеми этими кусочками «демократии», чтобы убедить рабочих, что социалистическая революция не нужна — и без нее, мирным путем всего добьемся! Но не надо забывать, что в конце XIX века вопрос о непосредственном переходе к социалистической революции нигде еще не стоял как практический вопрос, как вопрос сегодняшнего дня. Рабочим приходилось еще на долгое время отстаивать свои интересы в обстановке господства буржуазии, и то, что у последней хоть немножко были подстрижены когти, все же в огромной степени улучшало положение рабочих и помогало им организовываться для дальнейшей борьбы. Оттого пока вопрос не стал прямо о социалистической революции, пока дело шло только о низвержении диктатуры крепостников-помещиков, завоевание демократических свобод составляло видную часть программы нашей партии, ибо у нас этими демократическими свободами и не пахло. Стачка была уголовным преступлением, профессиональный союз — нелегальным сообществом, а за попытку организовать рабочую партию можно было попасть на каторгу даже и после 1905 года. Парламента никакого не было, а в тех скромных представительных собраниях, которые терпелись самодержа¬
124
II. История революционного движения
вием, потому что эти собрания были нужны и помещикам, и крупнейшей буржуазии (в земствах и городских думах), рабочие совершенно не были представлены и на выборах в них не имели права голоса. В основе этого права у нас лежала все та же знаменитая «собственность», «недвижимая собственность»: в деревне выбирали землевладельцы (крестьяне выбирали кандидатов, которых утверждало дворянское начальство), в городе — домовладельцы. Если у рабочего оставался надел в деревне, он выбирал, как «крестьянин» (и в паспорте у него написано было, что он крестьянин); а много ли было рабочих- домовладельцев, это и без объяснений нетрудно понять.
Стачечная борьба рабочих против фабрикантов началась у нас очень давно: не считая отдельных случаев такого рода еще в XVIII и начале XIX века, большое стачечное движение развернулось уже в 60-х годах, скоро после «воли». Насколько распространено было движение и насколько оно уже тогда казалось опасным самодержавию, показывает один циркуляр, разосланный царской политической полицией еще в 1870 году. Вот его главное содержание: «Обратить особенно строгое и бдительное внимание на фабрики, заводы, мастерские и вообще на все те места, где находится большое количество рабочих... Иметь наблюдение за теми рабочими, которые оставили фабрики и заводы не по собственному желанию, и вообще за всеми теми, кои оставили свои места по каким-либо неудовольствиям со своими хозяевами, так как рабочие эти легко могут возбуждать в среде своих товарищей на фабриках и заводах общее неудовольствие к хозяевам... Особенно тщательно наблюдать за тем, что не ведутся ли рабочими между собой рассуждения о получаемой ими задельной плате, что плата эта по трудности работы их мала и что необходимо просить прибавки оной; нет ли в среде этих рабочих таких личностей, которые по неблагонамеренности своей могут иметь вредное влияние на рабочих, поселять между ними смуты, волнения и затем производить беспорядки и общие стачки рабочих... Строго и бдительно наблюдать за отношениями с рабочими лиц подозрительных — выгнанных студентов, семинаристов, гимназистов и вообще молодых людей, обращающих на себя чем-либо внимание... Иметь также строгое наблюдение за сношениями с рабочими студентов С.-Петербургского технологического института, прибывающих на фабрики и заводы в летнее время для практических занятий» 5.
Это было за 35 лет — больше, чем за одно человеческое поколение, до 1905 года. В 80-х годах стачки так уже были
1905 год (брошюра)
125
страшны правительству, что под давлением их начали издавать законы, охранявшие права и интересы рабочих, больше, конечно, на бумаге, поскольку никаких организаций рабочих для самозащиты не допускалось. Некоторые положения этих законов были прямо списаны с требований, предъявлявшихся рабочими во время стачек (особенно во время знаменитой М о - розовской стачки 1885 года). Забастовки 1895—1896 годов всколыхнули всю страну и были поводом к первому в нашей стране формальному ограничению рабочего дня (тоже, конечно, на бумаге). Об их политическом значении мы еще скажем; экономически же положение рабочих не улучшалось, а все ухудшалось. Вот как изображается современниками положение рабочих в Петербурге (Ленинграде) и Туле около 1905 года. Первые отрывки я беру из записок попа Гапона, который на одно мгновение оказался во главе питерского пролетариата в 1905 году. Гапон был на службе в полиции, но рабочий быт знал хорошо, и врать ему по этому поводу не было, никакого основания. Второй отрывок я беру из секретного донесения одного жандарма, которому тоже врать не было резона, ибо начальство посылало егоза тем, чтобы он узнал, что именно происходит. Из всех отрывков выясняется, между прочим, очень ярко роль фабричных инспекторов, учрежденных в 80-х годах якобы для защиты интересов рабочих.
Вот что пишет Гапон: «Сблизившись с рабочими, я изучил условия их жизни и находил, что действительно они очень тяжелы. В Петербурге числится свыше 200 тыс. рабочих, большая часть которых работает в ткацких мастерских и на механических заводах и сосредоточена в рабочих кварталах города. Заработок их равняется’14 руб. в месяц, и только самые лучшие рабочие получают до 35 руб. Мастера часто относятся к ним грубо и несправедливо, вымогая взятки под угрозами расчета, и оказывают предпочтение «своим» родственникам и друзьям. В случаях недоразумений между мастерами и6 рабочими фабричные инспекторы становятся почти всегда на сторону хозяев, всеми силами стараясь принудить рабочих к уступке. Даже фабричные доктора, оплачиваемые хозяевами, — их верные слуги и при несчастных случаях дают такие свидетельства, которые лишают потерпевших рабочих права на вознаграждение. Такое отношение к рабочим со стороны хозяев, начальства.и полиции, которые действуют сообща, чтобы помешать им добиться справедливости, все более и более озлобляет рабочих... Я часто наблюдал эти толпы бедно одетых
126 11. И стория революционного движения
и истощенных мужчин и женщин, идущих с заводов. Ужасное зрелище. Серые лица кажутся мертвыми, и только глаза, в которых горит огонь отчаянного возмущения, оживляют их. Но спрашивается, почему они соглашаются на сверхурочные часы? По необходимости, так как они работают поштучно, получая очень низкую оплату. Нечего удивляться, что такой рабочий, возвращаясь домой и видя ужасную нужду своей домашней обстановки, идет в трактир и старается заглушить вином сознание безвыходности своего положения. После 15 или 20 лет такой жизни, а иногда и раньше мужчины и женщины теряют свою работоспособность и лишаются места. Можно видеть толпы таких безработных ранним утром у заводских ворот. Там они стоят и ждут, пока не выйдет мастер и не наймет некоторых из них, если есть свободные места. Плохо одетые и голодные, стоящие на ужасном морозе, они представляют собой зрелище, от которого можно только содрогаться, — эта картина свидетельствует о несовершенствах нашей социальной системы. Но и здесь подкуп играет отвратительную роль: нанимают только тех рабочих, которые в состоянии дать взятку полицейским или сторожам, являющимся сообщниками мастеров» 7.
А вот что доносил тульский жандарм, повествующий о причинах стачки на Тульском патронном заводе (где, между прочим, положение рабочих было не хуже, а лучше, чем у частных фабрикантов): «После приема депутаций, убедившись, что заработная плата велика только для самого незначительного числа рабочих, а что главная масса рабочих не вполне обеспечена, подполковник Вельсовский попросил помощника директора завода инженера путей сообщения М. М. Нежданова показать ему расчетные книжки, причем он убедился, что более половины завода, т. е. около 4 тыс. человек, имеет заработную плату от 90 коп. до 1 р. 25 к. в день, что составляет в месяц, за вычетом воскресных и праздничных дней, максимальный заработок от 23 до 33 руб., человек 300—400 зарабатывает менее 90 коп. в день; женщины, которых на заводе работает около тысячи душ, зарабатывают в день по 35 коп., что составляет общий заработок в месяц за вычетом праздничных дней, около 8 руб., а между тем многие из работниц содержат семью. Все остальные получают плату выше указанной, а человек 200— 300 зарабатывают свыше 2 руб. в день. Всего завод платит рабочим в месяц 167 тыс. руб., включая сюда же полуторную плату за сверхурочные часы и ночную работу и двойную плату8 за работу в праздничные дни. Всех рабочих на заводе 6200 человек, следовательно, средняя заработная плата одного рабо¬
1905 год (брошюра)
127
чего в месяц, работающего только за урочную плату, составляет значительно менее 26 руб. в месяц. На другой день, т. е. 12 сего июля, подполковник Вельсовский снова беседовал в толпе забастовщиков, причем, затронув вопрос о фабричном инспекторе, он со всех сторон услышал жалобы, что фабричный инспектор статский советник Тетеро никогда на заводе не бывает, в нужды и интересы рабочих не входит, что рабочих, которые являются к нему по своим нуждам как к фабричному инспектору, принимает его. кухарка, а если кто-либо настаивает на свидании с фабричным инспектором, то тех рабочих он принимает крайне грубо и при всяком возражении грозит, указывая в окно на 2-ю полицейскую часть, находящуюся через дорогу от его квартиры, говоря: «Вон, видишь, часть, так убирайся, если не желаешь туда попасть»» 9.
Что означали высчитанные жандармом тарифные ставки, когда в Туле мясо стоило «18—20 коп. фунт, дрова —30 руб. сажень, квартира в две комнатки — 10 руб.» (из того же донесения) 10, нетрудно себе представить. При этом заработок рабочего падал благодаря кризису, особенно в металлургии, отчасти это было отражением общеевропейского кризиса, отчасти результатом сокращения железнодорожного строительства с окончанием постройки Сибирской дороги. Число рабочих-ме- таллистов на юге (на Украине) с 45 тыс. в 1899 году упало до 39 тыс. в 1901 году. С 1903 по 1904 год упал даже номинальный заработок металлистов с 253 руб. до 237 руб. в год. А реальная заработная плата все время падала благодаря тому, что жизнь все дорожала. Если взять цены 1890 года за 100, то цены 1900—1904 годов будут: для хлеба — 104, для мяса —121,4, для мануфактуры — 119,3, для керосина— 113,1 и т. д. Особенно резко вздула цены японская война 1904—1905 годов. 16 кг ржаного хлеба в октябре 1903 года в Москве стоили 75 коп., а в октябре 1904 года —78 коп.; 400 г мяса третьего сорта в октябре 1903 года стоили 5 коп., а в октябре 1904 года — 8 коп.; 50 селедок в октябре 1903 года стоили 1 р. 63 к., а в октябре 1904 года — 2 р. 35 к.
Реальная заработная плата в «России» конца XIX века была в полтора раза ниже, чем в Германии, в два раза ниже, чем во Франции, в два с половиной раза ниже, чем в Англии, в три- четыре раза ниже, чем в Соединенных Штатах. Между прочим, это и привлекало к нам в таком изобилии иностранные капиталы: нигде уже не было такого дешевого рабочего, как в «России». Чем же это объясняется? Не географическими условиями
128
11. История революционного движения
страны во всяком случае: в первой половине XIX века заработная плата на московских фабриках была выше, чем в Германии за то же время. Но дело в том, что тогда благодаря крепостному праву, наглухо привинчивавшему рабочие руки к деревне, эти рабочие руки в городе были редки. Даже в первые десятилетия после «воли» «крестьян», т. е. выходцев из деревни, на московских фабриках было немного больше, чем постоянных жителей города: на Трехгорной мануфактуре в 1881—1882 годах на 575 крестьян было 375 мещан, отставных солдат и т. п. Но уже в 1889—1890 годах на 1823 крестьянина было других сословий 456. Из вновь поступивших на эту фабрику крестьян было в 1881—1882 годах 60%, а в 1889—1890 годах —77%.
Крестьянин валом повалил на фабрику. Почему? Тут нам надо припомнить другой кризис, который был лет на 20 старше промышленного (начавшегося около 1899—1900 годов). Это был кризис хлебных цен, потрясший сельское хозяйство всей Европы. Размеры его покажут две цифры: если мы возьмем цену пшеницы на английском рынке в 1871—1875 годах за 100, цены 1892—1895 годов будут 51. За двадцать лет хлебные цены упали вдвое. Главной причиной была конкуренция Америки, где после гражданской войны 60-х годов началась в гигантских размерах распашка девственных земель Западных штатов. Благодаря изобилию земли и применению машин впервые в таком огромном масштабе САСШ могли производить хлеб дешевле, чем старая Европа. Когда это падение цен докатилось до «России», помещик стал забрасывать сельское хозяйство, находя его невыгодным, и сдавать землю в аренду крестьянам. Крестьянин, не доедая сам, не думая даже ни о какой прибыли, кое-как держался некоторое время, но дальнейшее падение цен повалило и его; деревня стала пустеть, а перед воротами фабрик и заводов стояли огромные голодные толпы, пришедшие в города в поисках хлеба. Неурожаи 1891 и следующих годов, сигнализировавшие упадок крестьянского хозяйства, выпахан- ность почвы «наделов» докончили этот процесс пролетаризации деревни. За 12 лет (1885—1897 годы) минимальный прилив сельского населения в города тогдашняя статистика вычисляла в 2,5 млн. человек. Та же статистика, по переписи 1897 года, определяла количество пролетариев в «Российской империи» (со всеми их иждивенцами) в 22 млн., а с полупролетариями, т. е. крестьянами, которые не могли прокормиться от сельского хозяйства, не прирабатывая, до 63,7 млн. человек11.
1905 год (брошюра)
129
III. «Тюрьма народов»
Так готовилась та основная сила, которая немного лет спустя должна была пойти во главе народной массы, восставшей против помещичьего самодержавия. Гнет этого последнего был невыносим крестьянам, еще более невыносим рабочим, но это были еще не все жертвы гнета. Запас порабощенных и недовольных, скопленный русским самодержавием к концу его дней, не ограничился русскими крестьянами и рабочими. Положение нерусских крестьян и рабочих было еще хуже именно потому, что ко всему прочему они были еще и нерусскими. Положение это столь бросалось в глаза, что его можно описать словами официальных источников, словами русских чиновников и генералов и людей, ими уполномоченных. Не заметить этого было нельзя.
Вот как описывает общее положение вещей царский министр Витте (мной уже упоминавшийся). Он, конечно, выражался, как и следовало ожидать от крупного царского чиновника, но не будем смущаться его выражениями. Важно то, что даже этот чиновник понимал вещи, оказавшиеся позже, в 1917 году, недоступными пониманию русской буржуазии. Вот что писал Витте около 1911 года: «Вся ошибка нашей многодесятилетней политики — это то, что мы до сих пор еще не сознали, что со времени Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. Когда около 35% населения — инородцы, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белорусов, то невозможно в XIX и XX вв. вести политику, игнорируя этот исторический, капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других национальностей, вошедших в Российскую империю, — их религию, их язык и пр.» 12.
Не важно, что Витте по невежеству своему причисляет украинцев к русским да еще называет их «малороссами». Чего от него требовать, когда он, стоя впоследствии во главе борьбы против революции, даже названия «большевик» не знал и толкует о какой-то «анархической революционной партии русской», которой никогда не существовало. Важно то, что даже Витте по-настоящему должен был бы писать название «Россия» в кавычках, как пишу я теперь, ибо «Российская империя» вовсе не была национальным русским государством. Это было собрание нескольких десятков народов, среди которых русские составляли определенное меньшинство (около 47%), народов, объединенных только общей эксплуатацией со стороны помещи-
5 М. Н. Покровский, кн. 4
ISO
/7. История революционного движения
чьей верхушки, и объединенных притом при помощи грубейшего насилия.
Уже Московское государство XVII века не было вопреки мнению буржуазных историков национальным государством великорусского племени. Помимо остатков финских племен, порабощенных еще в домосковский период (карелы в Тверской, а до XVIII века еще и в Калужской губерниях), в XVI веке были завоеваны еще татары, мордва, мари, чуваши и башкиры; тогда же началось «завоевание Сибири», т. е. насильственное присоединение к Москве многих мелких северных народностей. При первой возможности порабощенные народы восставали: мари истребляли целые московские армии с их воеводами. Но лучшая военная организация русских всегда брала в конце концов верх, и восстания подавлялись. Вот два примера из истории «усмирения» башкиров. После восстания 1735— 1741 годов «башкирцев побито, казнено, под караулом померло, сослано в работу, жен и детей их... для поселения в России роздано, а всего числом 28 452 человека». А знаете ли, сколько этот автор — помещик, родственник усмирявшего пугачевское восстание Бибикова, хваленую биографию которого он написал, — считал вообще «башкирцев»? Всего около 100 тыс. человек! А это только одно восстание! В 1754 году башкиры «опять взбунтовались», и на этот раз опять было «для усмирения их побито и вывезено... до 30 тыс.» 13.
Вы скажете: это давно было, в XVIII веке, тогда нравы были жестокие, пытка была, людей секли кнутом на площади и т. д. Потом нравы смягчились. Вот посмотрим, как смягчились. Возьмем донесение русского главнокомандующего на Кавказе в начале XIX века —* царского генерала, у которого не было никакого основания чернить своих же подчиненных. Пишет он об отношении русских к кабардинцам (теперь Кабардино-Балкарская Автономная Республика): «Расширение Кавказской линии [полоса русской колонизации] на счет лучшей их земли сделало кабардинцев к нам недоверчивыми... Суетное желание некоторых из начальствовавших на линии, чтобы отличить себя военными действиями против кабардинцев, вместо того чтобы привлечь их к себе через кроткое и справедливое ими управление, ввело почти в обыкновение, чтобы каждый год действовать против них или других народов войсками, нередко без всякой причины. Таковыми мерами кабардинцы ожесточены до того, что, хотя они и не имеют и тени своей прежней могущественности, следовательно при последнем изнеможении своем, питают, однако же, доныне неодолимый дух мщения против
1905 год (брошюра)
131
России». Этот «дух мщения» как будто нарочно поддерживался и в тех народностях Кавказа, которые имели несчастье подчиниться русским. Вот, например, какой приказ издал другой кавказский главнокомандующий того времени — Ермолов — по отношению к «мирным» чеченцам (сами русские их называли «мирными», потому что эти чеченцы перестали уже сопротивляться): «В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всему семейству вора, то целое селение предается огню». Если «хищники», [т. е. продолжавшие сопротивление горцы], захватят русского в плен, а жители «мирного» селения не отобьют захваченного и не отыщут, «из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев». В случае же целого набега «хищников», не встречавшего сопротивления со стороны «мирных», «деревня [мирных] истребляется, жен и детей вырезывают» и.
После этого можно поверить словам одного чеченского историка (но офицера русской службы, т. е. больше, чем просто «мирного»), что, «беспрестанно разоряемые русскими, чеченцы так свыклись с переселением с одного места на другое, что это составляет их народную отличительную черту» 15. Но вы опять скажете: это ведь было все-таки при крепостном праве, когда и в самой «России» людей на собак и лошадей меняли, потом «нравы смягчились». Хорошо, возьмем «присоединение Туркестана», завоевание Средней Азии (теперешние Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). Это было уже после «воли» в 60—80-х годах. Один весьма черносотенный русский путешественник конца XIX столетия нашел население теперешнего Узбекистана проникнутым «трепетом» перед «русским именем». Мы сейчас увидим, что «трепет» можно назвать и иначе, но сначала скажем словами этого же путешественника, как этот «трепет» был достигнут. Он «был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее вполне безопасное положение. Целые кишлаки выжигались дотла за какое-нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству». При этом население дико эксплуатировалось: налоги с появлением русских, пришедших «освобождать» местное население от «ига» туземных властителей, увеличивались в два, три, четыре, в одном случае даже в 15 раз! Население при этом прямо вымирало: там, где было до прихода русских 45 селений и 956 дворов,
б*
132 11. История революционного движения
через двадцать лет было уже только 36 селений и 817 дворов, да и из тех 225 пустых. Немудрено, что упоминавшемуся выше черносотенному путешественнику «везде кругом чувствовалась какая-то раздраженная и недовольная атмосфера. Сотни сердитых глаз с неодобрительной суровостью следили за нашим торжественным шествием, и казалось, можно было руками схватить эти отовсюду вонзающиеся в нас злые лучи». И наш черносотенник начал наконец соображать, что, «случись в России какое-нибудь крупное политическое или военное замешательство, и в Туркестане сейчас же начнется народное движение против русских» 16. Не один Витте напоминал ту кошку, которая знает, чье мясо она съела.
На Востоке — на Кавказе, в Средней Азии, позже в Маньчжурии (маньчжурские грабежи русских ничем не отличались от кавказских и среднеазиатских, поэтому я и не говорю о них отдельно) — прямое насилие, конечно, чаще пускалось в ход, чем в более культурных областях на западе или юго-западе «империи». Но местами и там —в Польше, например, после ее «восстаний», попыток свергнуть русское господство — прямое насилие пускалось в ход очень часто, и множество поляков кончило жизнь в Сибири. Всюду «инородец», т. е. нерусский, был низшим существом, «лишенцем» в еще большей степени, чем даже русский крестьянин. Последнему хоть никто не мешал говорить на его языке, и, придя в суд или земскую управу, он слышал тот же понятный ему язык. А в нерусских областях — Польше, Латвии, Эстонии, на Украине, в Закавказье — все «управление» велось на русском языке: грамотные латышские крестьяне должны были, как какие-нибудь дикари в Центральной Африке, объясняться с русским судьей через переводчика! На Украине долго не допускали даже Евангелия на украинском языке, хотя попам для одурманивания украинского крестьянства это было бы прямо выгодно. В Польше в школах обучали польскому языку, но обучали обязательно на русском языке: учитель не смел объяснять польского писателя, Мицкевича например, детям на их родном языке, ибо в польской школе мог звучать только русский язык. Детей оставляли «без обеда», если их «ловили» на том, что они между собой говорили по- польски. Что украинских, белорусских, грузинских и т. д. школ не существовало, это понятно само собой. Если украинец или грузин хотел быть грамотным, он должен был учиться русскому языку. И это проделывалось по отношению к народам, у которых не только есть своя письменность (иногда старше русской), но есть своя литература, свои классические произве¬
1905 год (брошюра)
133
дения, переведенные нередко и на другие языки. Невольно спрашиваешь себя: чем же объясняются дикие попытки поворотить назад историю культуры, обезграмотить грамотные уже народности? Ответом на это может служить история народа, который среди всех «лишенцев» царской вотчины был лишенцем по преимуществу, — евреев.
В западной и юго-западной части «империи» они составляли иногда большинство городского населения. Оттуда их изгнать было нельзя, но их заперли там. Евреям запрещено было селиться в деревне и выезжать из «черты оседлости». Другим не позволяли учиться на родном языке, еврейским детям был почти закрыт доступ и в русскую школу. Существовал определенный «процент» еврейских учеников для каждой местности: там, где евреев было большинство, он доходил до 10, в других местах падал до 3. Евреям был закрыт доступ на государственную службу, так что в состав правящего класса еврей никак не мог проникнуть (для помещиков и буржуазии из других «инородцев» это было доступно). В военной службе, какие бы подвиги еврей ни совершил, его никогда не производили в офицеры. И в довершение всего время от времени на евреев натравливали безграмотных мещан, мелких торговцев и ремесленников тех городов, где они жили, и происходил еврейский погром. Такой погром был в Кишиневе, столице Бессарабии, весной 1903 года, он всколыхнул всю Европу; рассвирепевшими мещанами было убито и искалечено до тысячи евреев. Позже, в эпоху революции, мы увидим, погромы были любимым оружием царского правительства.
Погром и дает нам ключ к национальной политике этого правительства. Зачем натравливали русских или украинских мещан и крестьян на евреев? Чтобы отвести глаза этих обездоленных людей от настоящих виновников их бед. Этими настоящими виновниками были те, кто высасывал народ в угоду правящему сословию, кто облагал крестьян десятерными податями* по сравнению с помещиком, и т. д. Вместо этого крестьянину показывали на зажиточного еврея и говорили: «Видишь, как он богатеет! Это он на тебе нажился, вот отчего ты такой нищий!» И безграмотный, темный человек верил, что в еврее все зло, а настоящего источника зла не замечал. Не замечал и того, что на одного богатого еврея приходилась тысяча нищих *. Правда,
* Вот что говорит об этом на одном совещании сам организатор погромов Плеве: «Целые семейства, состоящие из многочисленных чле-
134
11. История революционного движения
удавалось это, чем дальше, тем хуже, и уже с 1902 года крестьянин, которого старались натравить на еврея, начал громить помещика. Но до поры до времени национальная рознь, которую старательно поддерживала царская власть, мешала объединению всех трудящихся и эксплуатируемых в одну массу. Русского натравливали на поляка («постоянно бунтует!»), на татарина или узбека («неверные, нехристи!»), на кавказского горца или туркмена («только и думает, как бы русского зарезать!») *. В Закавказье армянина натравливали на тюрка, а тюрка — на армянина. В Финляндии финна — на шведа, в Латвии латыша — па немца и т. д. и т. д. Первым условием успеха такого натравливания был низкий культурный уровень натравливаемой массы. Грамотное, сознательное население не натравишь на кого вздумается; и латышские крестьяне пошли в конце концов не на немцев вообще, а на немецких помещиков, самых жадных и безжалостных во всей «Российской империи». А так как безграмотное население легче было и эксплуатировать, то и с этой стороны царская политика шла навстречу грабежу русскими капиталистами «инородцев». Недаром башкиров даже во Францию вывозили, чтобы эксплуатировать там в особенно нездоровых промыслах.
Но мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что это угнетение «окраин» (некоторые из этих «окраин» начинались за 500 км от центра — и это в стране, по которой можно было проехать 10 тыс. км, не переезжая границы), что это угнетение «окраин» было только вспомогательным средством для самодержавия, только облегчало ему несколько борьбу с народными массами, раздробляя эти массы, восстанавливая одну часть против другой, держа их искусственно в невежестве. Нет, колониальная политика господствующего помещичьего класса (Ленин назвал ее «военно-феодальным империализмом») была одним из основных условий существования у нас в течение столь долгого времени помещичьей диктатуры вообще. Возможность эксплуатировать колонии, т. е. «окраины», т. е. земли, занятые «инородцами», помогала сохранять отсталые формы хозяйства в центре. «Развитие капитализма вглубь в старой,
нов, по неделям питаются одним черствым хлебом, и одна селедка, разделенная на маленькие кусочки, составляет роскошь, которую можно себе позволить лишь в праздники».
* Натравливали не только безграмотного — в русской «классической» литературе мы находим те же мотивы. У Лермонтова, например, в «Казачьей колыбельной песне»: «...злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Мы теперь знаем, почему «чечен» стал «злым»,
2905 год (брошюра)
135
издавна заселенной, территории задерживается вследствие колонизации окраин. Разрешение свойственных капитализму и порождаемых им противоречий временно отсрочивается вследствие того, что капитализм легко может развиваться вширь. Напр., одновременное существование самых передовых форм промышленности и полусредневековых форм земледелия представляет из себя, несомненно, противоречие. Если бы русскому капитализму некуда было расширяться за пределы территории, занятой уже в начале пореформенного периода, то это противоречие между капиталистической крупной индустрией и архаическими учреждениями в сельской жизни (прикрепление крестьян к земле и пр.)' должно было бы быстро привести к полной отмене этих учреждений, к полному расчи- щению пути для земледельческого капитализма в России. Но возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраинах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляет остроту этого противоречия и замедляет его разрешение» *.
Так писал Ленин в конце XIX столетия. Диктатура крепост- ников-помещиков была не только отражением хозяйственной отсталости нашей страны, она была и одной из причин этой отсталости. Держась сама на устаревших формах хозяйства, она не пускала его в то же время идти вперед. Пока она не была свергнута, «Россия» должна была оставаться отсталой земледельческой страной.
IV, Возникновение большевизма
Помещичье государство вовсе не было, таким образом, мирной и «патриархальной» формой господства, каким его изображала дворянская и буржуазная литература. Это вздор, будто масса населения «привыкла» к угнетению, а «бунтовали» только отдельные единицы, бунт которых и был в силу их малочисленности совершенно безнадежен. Так нужно было изображать дело помещикам, которые боролись с революцией, и буржуазии, которая боялась революции. Но на самом деле было не так. На самом деле помещичья диктатура держалась не сама собой, она держалась посредством постоянного яростного угнетения не отдельных личностей, а именно народной массы, угне¬
* В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Собр. соч., т. III, изд. 2, стр. 465, примеч.17
136
II. История революционного движения
тения во всех направлениях — и классового, и национального. Все угнетаемые массы восставали против гнета, и неуспех их объяснялся не тем, что восставших было мало, а тем, что они действовали крайне недружно, без всякого порядка. Помещичье государство, представлявшее собой все же организованную силу, хотя и очень устаревшего образца, силу средневековую, .не без труда, но справлялось со своими противниками. За последние пятьдесят лет существования самодержавия число всех привлеченных по политическим делам доходило до нескольких миллионов — уже это показывает, как вздорны были россказни помещиков и буржуазии об «отдельных личностях», выступавших будто бы против самодержавия, причем, чем ближе к началу XX столетия, тем больше среди этих привлеченных людей вышедших непосредственно из самой народной .массы. За 1884—1890 годы мы имеем среди «государственных преступников» на каждые сто человек: дворян («потомственных» и «личных» — надо иметь- в виду, что в то время личное, не потомственное дворянство получал каждый окончивший вуз) — 31 человек, мещан и крестьян (сюда же входили и рабочие, как мы знаем) — 47 человек, «прочих» — 22 человека. Значит, интеллигенция составляла больше трети. А в 1901— 1903 годах «дворян» на каждую сотню было уже всего И, Мещан и крестьян — 81, «прочих» — 818. Интеллигенция дает уже немного больше одной десятой. Но чтобы попасть в число «привлеченных», нужно было чем-то выделиться из толпы, обратить на себя внимание царской полиции — стать, хоть маленьким, вождем (по полицейской терминологии тех дней — «зачинщиком»). И таких маленьких вождей из рядов рабочих и крестьян перед революцией 1905 года выходило в восемь раз больше, чем из рядов интеллигенции.
Про себя помещики, конечно, отлично знали, что они борются с массами, а не с отдельными личностями. Но расценивали массы Ъни по-разному, с точки зрения опасности этих масс для помещичьего государства. Расценка эта была такой же устарелой, как и само помещичье государство. Меньше всего помещики боялись националистов, крупные движения которых в XIX веке происходили уже действительно только на окраинах (Кавказ, Средняя Азия, а из европейских владений царя — в Польше). В своей столице царь был от них в безопасности. В «коренных» областях «империи» всего опаснее казались крестьяне — недаром их не только подавляли, но удостаивали и - обмана: «воля» в 1861 году, отмена подушной подати
в 1883 году, «крестьянский банк» в 1885 году и т. д. На деле,
1905 год (брошюра)
137
конечно, крестьянам от всего этого выгоды было мало: вместо подушных увеличили во много раз косвенные налоги (в частности, огромные таможенные пошлины на железо, о которых уже упоминалось, удорожая железо на внутреннем рынке, приводили к тому, что полудеревянная соха дожила у нас во многих местах до XX столетия, избы продолжали крыться соломой и т. д.), «крестьянский банк» выгоднее всего был помещикам, которые через него продавали зажиточным крестьянам землю втридорога, в то самое время когда земля под влиянием падения хлебных цен год от году дешевела, и т. д. Но то, что крестьянскую массу обманывали, показывает, что ее побаивались. И в 1905 году всю надежду возлагали на крестьян: пока движе-^ ние в деревне не разрослось, в крестьянах видели главную «опору престола», а когда крестьяне зашевелились, впали в панику и стали кричать, что «все пропало». Мне об этом еще придется говорить.
Гораздо меньше боялись рабочих, хотя они были тут же, под боком: в самой царской столице, тогда Петербурге (Ленинграде) , их было сколько угодно. Но их, во-первых, плохо отличали от крестьян: у очень многих рабочих еще оставались в деревне «наделы», обрабатывавшиеся их семьями. Значит, рассуждали помещики, это не пролетарии, как в Западной Европе, а за отсутствием пролетариата нельзя у нас опасаться и пролетарской революции. Мы видели, что полиция была в этом случае проницательнее, чем ее господа, и внимательно следила за стачками еще в 1870 году. Но и полиция надеялась рабочих обмануть такими же средствами, как обманывали крестьян. Мы видели, что начиная с 80-х годов у нас издавались всякие законы, на бумаге ограждавшие рабочего от произвола хозяина. Затем на рабочего были спущены попы. В 1905 году мы увидим попа во главе огромной рабочей массы, но уже задолго до этого, в конце 80-х — начале 90-х годов, попы в Петербурге образовывали «общества трезвости», куда вошло много хороших энергичных рабочих, видевших вокруг себя непробудное пьянство и воображавших, что все зло от водки (а не от беспросветного положения рабочих, которое заставляло их топить горе в вине). Позже многие из этих рабочих стали революционерами, но на короткое время попам удавалось сбить их с толку. Наконец, была и еще одна причина медленного развития революционного движения рабочих в нашей стране. Этой причиной была малая революционная сознательность тогдашних (до начала 90-х годов) наших революционеров. С начала 60-х годов у нас .шло, не переставая ни на минуту, революцион¬
138
//. И с т о р и я революционного движения
ное брожение среди мелкобуржуазной интеллигенции, преимущественно среди беднейших слоев студенчества. Иногда — в самом начале 60-х годов, в эпоху Чернышевского, в начале 70-х годов, в эпоху так называемого хождения в народ, в конце 70-х — начале 80-х, в эпоху «Народной воли» — это движение вспыхивало ярким пламенем. Оно отражало собой ту борьбу крестьянина против помещичьего государства, о которой говорилось выше. Оно было, значит, демократическим. К сожалению, мелкобуржуазные революционеры, будучи на самом деле демократами, считали себя социалистами, а источник социализма искали в деревне. Воспоминание о разинщине, о пугачевщине казалось им ручательством, что такое же грандиозное движение крестьянства возможно и в наши дни. На рабочего они смотрели как на более грамотного и развитого крестьянина, и если обращались к рабочим, то только для того, чтобы набирать из их среды агитаторов и пропагандистов среди крестьян. Связать свою революционную пропаганду с классовой борьбой пролетариата за его интересы они не умели.
Революционная пропаганда, хотя и неудачно направленная, все же не могла, конечно, не всколыхнуть рабочей массы. Уже с 70-х годов мы имеем политические организации рабочих в нашей стране («Южный союз рабочих» — в 1875 году, «Северный» — 1876—1879 годах). На фабриках и заводах царской столицы открыто говорили о революции. Начнись в эту минуту широкое массовое движение, революционная рабочая партия могла бы вырасти очень быстро. Но движение пошло не вширь, а вглубь. Потерпев неудачу в своих попытках поднять деревню (неудача объяснялась главным образом тем, что мелкобуржуазные революционеры не умели использовать и классовую борьбу крестьян против помещиков), революционеры-интеллигенты пошли по пути образования маленьких, очень строго законспирированных групп, которые непосредственно на себя взяли борьбу с самодержавием, пытаясь дезорганизовать, расшатать помещичье государство, истребив или запугав его верхушку — царя и его министров и губернаторов; В этой борьбе революционеры-интеллигенты совершили подвиги поистине геройские. Но в конце концов организация помещичьего государства оказалась сильнее организации революционных групп. Члены последних были один за другим истреблены, перевешаны или заключены в тюрьмы. К середине 80-х годов революционная «головка» была снята царской полицией, и начинавшееся революционное движение рабочих оказалось без вождей. Созданные революционерами-интеллигентами 70-х годов рабочие кружки
1905 год (брошюра)
139
продолжали существовать на предприятиях Петербурга в течение всех 80-х годов и дожили до 90-х, но ни в какую рабочую организацию, похожую на «союзы» 70-х годов, они не сомкнулись. Часто эти кружки даже не знали друг о друге.
Прошло десять лет, и картина резко изменилась. Кто видел «Россию» 80-х годов и потом оставил ее на десятилетие, не поверил бы своим глазам в конце 90-х. Страна, которая по части революции после поражения народовольцев казалась почти безнадежной, теперь имела вид страны, находящейся накануне революции.
Для этого был целый ряд причин. Во-первых, начали сказываться последствия дикой эксплуатации крестьянина помещиком. Урожаи, в особенности на «надельных» землях, стали резко падать, и все чаще бывали неурожаи. Из 22 лет (1880— 1901 годы) в Поволжье от 6 до 8 лет было неурожайных; в При- уралье было даже 5 неурожаев за 12 лет. Неурожай 1891 года захватил большую часть губерний «империи» и вырос в громадное общественное бедствие, всколыхнувшее самые отсталые обывательские слои. Одновременно оживилось и революционное движение: стали вновь возникать кружки народовольцев. Но большая часть революционной молодежи пошла теперь по другому пути. Уже опыт 70-х годов убедил наиболее наблюдательных из революционеров, что рабочие гораздо легче поддаются пропаганде и организации, чем крестьяне. Но так как этот опыт противоречил народнической теории, согласно которой революция должна была пойти из деревни, старались не видеть того, что било в глаза, и даже сами распропагандированные рабочие соглашались, что главная революция — это крестьянская. Когда революционное движение кончилось неудачей, все большее и большее количество интеллигентской молодежи начинало разочаровываться в старой теории. Стали говорить, что не только у нас рабочие революционнее крестьян, что пролетариат всюду самый революционный класс. Другими словами, от народнического понимания революции стали переходить к марксистскому. В начале 80-х годов у нас появились и первые революционные группы, которые называли себя «марксистами». В «России» в обстановке лютой реакции после разгрома «Народной воли» трудно было разрабатывать какую бы то ни было теорию. Центром русского марксизма стала поэтому заграничная, эмигрантская группа «Освобождение труда» во главе с Плехановым. По сочинениям Плеханова училась тогда вся молодежь. Но успех группы «Освобождение труда» объясняется тем, что почва для нее была чрезвычайно
140 II. История революционного движения
хорошо подготовлена. И независимо от Плеханова и его влияния у нас на каждом шагу возникали марксистские кружки и сами народовольцы все чаще и чаще переходили к марксистам.
Старая революционная теория лопалась по всем швам. Революционеры-интеллигенты 70-х годов, ожидая революции из деревни, не обращали внимания на рост города и обрабатывающей промышленности, утверждали даже, что у нас капитализма вовсе нет и почвы для него нет. Но с конца 80-х годов крупное производство у нас стало так быстро расти, что отрицать развитие капитализма мог только слепой. За десятилетие 1889—1899 годов число веретен во всей Европе выросло только на одну треть (33%), а в «России» —на три четверти (76%). Выплавка чугуна быстрее всего увеличивалась в Германии — почти на три четверти за эти десять лет (72%), а в «России» — почти втрое (на 190%). Добыча каменного угля увеличилась больше чем вдвое (на 131%), тогда как даже в САСШ она выросла немного больше, чем в полтора раза (61%). Добыча нефти за то же время увеличилась в САСШ на 9%, а в «России» — на 132%.
А вместе с капитализмом росла эксплуатация рабочего я учащались столкновения рабочих с хозяевами. Если в 1895,году фабричная инспекция отметила на предприятиях, подчиненных ее надзору, 68 стачек, то в 1899 году стачек было уже 215, а в 1903 году — 550. Если разочарование в народовольчестве и успех пропаганды среди рабочих создавали почву для марксизма среди революционной интеллигенции, то стачечное движение создавало почву для влияния марксистов на широкие рабочие массы. Теперь революционеры уже умели связывать свою теоретическую пропаганду с повседневной борьбой пролетариата за его материальные нужды. Низкая заработная плата, огромный рабочий день, штрафы, притеснения мастеров и директоров — всему этому марксистская теория умела дать понятное для рабочих объяснение. При этом объяснение давалось совершенно конкретное, деловое, а не в виде общих фраз; В I томе Собрания сочинений Ленина вы найдете и объяснение закона о штрафах и объяснение «сокращенного» рабочего дня в 1897 году, а в написанном Лениным же листке к рабочим Торнтона есть такие подробности (о вредных примесях в пряже, о сортах пряжи и т. д.), которые понятны только текстильщику 19. Так близко подходили тогдашние пропагандисты к непосредственным нуждам рабочей массы!
1905 год (брошюра)
141
Из прочной связи марксистской теории и рабочего движения и выросла русская социал-демократия, из которой в свою очередь путем длительной, годами тянувшейся борьбы выделилась наша большевистская партия. Как без рабочего движения, с одной теорией ничего не получилось бы, кроме книжных разговоров интеллигентов, так без марксистской теории наше рабочее движение никогда не сделалось бы той могучей силой, которая стала во главе народной революции и опрокинула в конце концов самодержавие. Ошибочно думать, что одной «стихийной» силы рабочего класса достаточно для революции, — Ленин от этой ошибки предостерегал еще в 1902 году. «История всех стран свидетельствует, — писал он в «Что делать?», — что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.» 20. В особенности свидетельствует об этом история родины тред-юнионизма — Англии. Там рабочее движение и профессиональные союзы старше, чем в какой бы то ни было другой стране. И нельзя сказать — Ленин как раз это и оговаривает в примечании, — чтобы рабочие там не занимались политикой. У них даже своя парламентская партия образовалась, и как раз сейчас (в 1930 году) эта партия стоит у власти. Но эта партия вела всегда политику либеральную, а не революционную; она не стремилась низвергнуть господство предпринимателей, отнять власть у буржуазии, она торговалась с буржуазией, а когда дело доходило до открытой борьбы, она капитулировала перед буржуазией. В конце концов для буржуазии такая партия прямо выгодна, потому что она борется с революционными выступлениями рабочих: эти революционные выступления мешают ее «торгу» с буржуазией.
Таким образом, тред-юнионистское рабочее движение может стать даже контрреволюционной силой, может задерживать торжество рабочей революции, вместо того чтобы ускорять его.
Отсюда громадное значение правильной революционной теории, какой является марксизм. Сама по себе одна теория, конечно, ничего не может создать: там, где нет ни капитализма, ни пролетариата, никакая теория не сможет вызвать пролетарскую революцию. Но там, где есть рабочее движение, правильная теория может во много раз его ускорить, а неправильная — задержать или даже завести на время в тупик. Конечно, когда-нибудь английские рабочие справятся со
142
11. История революционного движения
своим тред-юнионизмом, и даже начинают уже справляться благодаря Коминтерну. Но сколько сил было зря истрачено, какие громадные ненужные трения приходится переживать английскому рабочему классу! Оттого Ленин всегда придавал теории огромное значение и самые, казалось бы, тонкие и сложные теоретические споры отнюдь не считал праздными, раз эти споры касались политики рабочего класса. «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» *.
Нам теперь, имеющим 27 томов сочинений Ленина, Программу партии и Коминтерна и целый ряд резолюций наших партийных съездов и конгрессов Коминтерна, может показаться странным, что чисто теоретические разногласия могли создавать столько мучений и хлопот создателям нашей партии и даже подвергать опасности само существование партии. В наше время люди, теоретически несогласные внутренне с партией, стараются это всячески скрыть, прикидываясь марксистами более, нежели Маркс и Ленин. Надо представить себе время, когда всяческие «уклоны» существовали совершенно открыто, каждый уклонист считал себя лучше понимающим Маркса, чем какой угодно другой марксист, а партийного центра, который мог бы решить вопрос, попросту не было. Перед первой большой петербургской (ленинградской) стачкой 1896 года питерские марксистские кружки впервые сомкнулись в одно целое, оказавшееся настолько обширным, что пришлось разделить город на три «района» — первый раз у марксистов была такая большая организация! Все кружки вместе приняли название «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Но это была организация все же лишь одного, хотя и крупнейшего в царской империи, пролетарского центра. Даже о том, что делалось в Москве, узнали не сразу и очень обрадовались, когда
* В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Собр. соч., т. XXV, изд. 2, стр. 17521.
1905 год (брошюра)
143
оказалось, что и там возникает свой «Союз борьбы». Связи с рабочими были еще настолько слабы, что могли быть споры: пускать рабочих непосредственно в «Союз» или создать из них особую организацию? Фактически в союзы и входили только отдельные рабочие, с массами соприкасались только в острые моменты, в дни стачек. Уже то, что этими стачками удавалось руководить, удавалось при помощи типографии, основанной еще народовольцами, печатать и распространять огромное по тогдашнему масштабу количество листовок и брошюр, было крупным успехом. И этот успех был куплен дорого. После первых же больших стачек полиции удалось выследить и арестовать почти весь состав петербургского (ленинградского) «Союза борьбы» — арестовано было до ста человек во главе с Лениным.
Рассказывая об этом, Мартов, будущий вождь меньшевиков, а тогда один из членов «Союза», утешает себя тем, что «блестящий дебют [выступление] нашего «Союза» выявил назревший среди революционной молодежи перелом и десятки студентов, курсисток и вообще интеллигентов стали предлагать «Союзу» свои услуги всякого рода, так что организация скоро оказалась окруженной множеством содействовавших ей групп, из которых могла по мере надобности в изобилии черпать новые силы. Благодаря этому она не имела недостатка ни в средствах, ни в технических возможностях. Прокламации посыпались как из рога изобилия, во всех районах агитацией было затронуто большинство промышленных заведений, число рабочих кружков росло, а организация, несмотря на мало законспирированный характер ее работы, казалась уже обеспечившей непрерывность своей деятельности, каковы бы ни были грозящие ей еще удары» 22.
Это правда, что марксистам первым за все время революционной борьбы с царизмом удалось создать организацию, которую царской полиции никогда не удавалось разрушить до основания. Все предшествовавшие революционные организации всегда кончали разгромом, после которого зиял длинный период пустоты до возникновения новой организации. От «Союзов борьбы» идет непрерывная линия до ВКП(б). Но в первую минуту огромный приток интеллигенции представлял и огромную опасность. Соединение рабочих стачек с политической борьбой было такой новостью, что заинтересовало широчайшие круги интеллигенции вплоть до «солидных» либералов. В материальном смысле это было весьма полезно: либералы давали квартиры для заседаний, деньги, связи, возможность печатать марксистские произведения в легальных журналах и сборниках,
144
//. История революционного движения
расходившихся гораздо шире, чем напечатанные в тайной типографии листовки и брошюры. Но в политическом отношении это было очень опасно, потому что либералы стремились, конечно, не к тому, чтобы вызвать самостоятельное рабочее движение, притом революционное, а к тому, чтобы заставить рабочих служить своим, либеральным целям, в которых, нет нужды говорить, не было ничего революционного.
И вот одновременно с ростом рабочего движения увеличивается путаница около этого движения. Увлеченная успехами стачечной борьбы неопытная молодежь, наполнившая теперь союзы, когда «старики» были в Сибири, стала проповедовать, что стачка — это главное, политическая же агитация, борьба с самодержавием могут и подождать. А так как революция, видимо, не хотела ждать, движение уже с 1901 года вышло на улицу и стало выливаться в' бурные уличные демонстрации, схватки с полицией и казаками, даже с войсками (восстание на Обуховском заводе в мае 1901 года), то явное дело, что ограничивать рабочее движение экономической борьбой с хозяевами значило плодить русский тред-юнионизм, значило отдавать политику в руки либеральной буржуазии. «Экономисты», как стали называть сторонников нового направления, это и говорили всеми словами. «Разговоры о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу почву», — писали они в одном документе, вызвавшем резкий протест Ленина и его товарищей из их сибирской ссылки. «Для русского марксиста исход один: участие, т. е. помощь экономической борьбе пролетариата, и участие в либерально-оппозиционной деятельности» 23.
Если эти «марксисты» просились в либералы, то, с другой стороны, либералы не прочь были перекраситься в марксистов — модный был цвет. И вот либерал Петр Струве (впоследствии министр при генерале Врангеле, а ныне глава монархической организации за границей), человек большого литературного и ораторского таланта, очень популярный тогда среди студентов, пишет ряд ярко «марксистских» статей и книжек, где жестоко и метко критикует народнические ошибки, сыплет цитатами из Маркса и Энгельса как горохом, — словом, чем не марксист? Только что разве о революционной борьбе пролетариата ничего не говорит, так ведь этого и царская цензура не позволила бы. А статьи Струве печатались в легальных, разрешенных цензурой журналах. Цензура и служила отличной ширмой для Струве и подобных ему «легальных марксистов», чтобы увиливать от революции. Что они ничего не говорят
1905 год (брошюра)
145
о рабочей революции не потому, что цензура мешает, а потому, что им нечего сказать, потому, что они сами вовсе не революционеры и рабочей революции боятся не меньше самых заправских буржуа, этого долго не замечали — не замечали очень умные марксисты: Плеханов долго не находил нужным критиковать Струве, считая его вполне «своим» — так только кое в чем путает. Что эта путаница выдает переряженного в марксисты либерала, это сразу решился сказать только Ленин, но цензура и тут помогла Струве: ленинская статья была сожжена24. В широкие круги ленинская критика поэтому не проникла. Широкие круги долго, почти до кануна революции 1905 года, продолжали считать Струве «своим»; и когда «Союзы борьбы» различных городов «России» (по инициативе киевского) сделали в 1898 году попытку объединиться в Российскую социал-демократическую рабочую партию, манифест новой партии поручено был написать Струве как наиболее талантливому из марксистских литераторов, оставшихся на свободе (должен был писать Ленин, но он был в тюрьме).
Попытка объединения на первое время ничего не оставила, кроме этого манифеста. ЦК вновь образовавшейся партии был сейчас же арестован. Хаос, создававшийся «экономистами» и «легальными марксистами», все продолжал усиливаться. Вот как Ленин изображал положение в 1900 году: «Главная черта нашего движения, которая особенно бросается в глаза в последнее время, — его раздробленность, его, так сказать, кустарный характер: местные кружки возникают и действуют независимо друг от друга и даже (что особенно важно) независимо от кружков, действовавших и действующих в тех же центрах; не устанавливается традиции, нет преемственности, й местная литература всецело отражает раздробленность и отсутствие связи с тем, что уже создано русской социал-демократией» 25. Формальное объединение этого хаоса в партию ничего еще не могло дать, если бы даже ЦК новой партии и не был арестован сейчас же полицией: нужна была настоящая, действительная, а не формальная связь. «По нашему мнению, — писал Ленин еще несколькими месяцами позже (в брошюре «С чего начать?», май 1901 года), —исходным пунктом деятельности, первым практическим шагом к созданию желаемой организации, наконец, основною нитью, держась которой мы могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, — должна быть постановка общерусской политической газеты». «Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением
146
II. История революционного движения
политических союзников. Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но 'также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оцени-т вать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии» *.
Такой газетой и стала основанная в конце 1900 года за границей при ближайшем участии Плеханова и всей группы «Освобождение труда» «Искра», фактическим редактором которой стал вернувшийся тем временем из ссылки Ленин. Кружки содействия «Искре» в «России» были опорными пунктами настоящего, подлинного революционного марксизма в его борьбе и с «экономистами», и с «критиками марксизма» вроде Струве (который уже успел от пропаганды легального марксизма перейти к критике марксизма революционного). Если «Союзы борьбы за освобождение рабочего класса» были зачатком Российской социал-демократической рабочей партии, то организации «Искры» были зачатком революционного крыла этой партии, зачатком будущих большевистских организаций.
Так впервые в истории рабочего движения нашей страны организующим центром стала газета. Это повторялось потом не один раз: таким центром для большевизма в 1905 году были «Вперед» и «Пролетарий», в 1912—1914 годах—«Звезда» и «Правда», летом 1917 года — «Правда» ит. д. Теперь нельзя себе представить сколько-нибудь крупной пар-, тийной организации без газеты, теперь организующая роль газеты — общее место. А тридцать лет назад эту ступень пришлось завоевывать. И это была только первая ступень. Газета разыскивала друзей нового течения, помогала им сплачиваться и объединяться, но газета ре могла быть непосредственно действующим центром. Для действия необходима была более сплоченная и тесная организация. Газета не исключала необходимости партийной организации, она подготовляла ее.
* В. И. Ленин. Собр. соч., т. IV, изд. 2, стр. 110—1112б.
1905 год (брошюра)
147
В августе 1903 года редакция «Искры», опираясь на кружки «Искры» в России, созвала II партийный съезд за границей (опыт I съезда, кончившегося арестами, показал, как рискованны подобные съезды в «России»). На этом съезде искровцы одержали блестящую победу над «экономистами». «Искра» были признана центральным органом партии. Но сейчас же сами искровцы и раскололись. И расколол их вопрос о партийной дисциплине. Ленин требовал безусловного подчинения каждого члена дисциплине партии, а мелкобуржуазная интеллигенция, которой было еще очень много в партии, желала возможно более просторных рамок для своей «личной инициативы». Опираясь на «Бунд» — социал-демократическую организацию еврейских рабочих теперешних Польши, Литвы, Белоруссии и Украины, рабочих преимущественно ремесленного типа, очень близких к мелкой буржуазии, мелкобуржуазные интеллигенты провалили ленинский проект первого параграфа партийного Устава и приняли проект Мартова, Выступившего во главе мелкобуржуазной части искровцев. Потом «Бунд» ушел со съезда, и центральные органы партии были сформированы так, как требовали Ленин и его сторонники, оказавшиеся после ухода «Бунда» в большинстве (отсюда название «большевики»). Но как только приехавшие из «России» искровцы разъехались по домам, в заграничных организациях в большинстве оказалась мелкобуржуазная интеллигенция. Мартовцы привлекли на свою сторону Плеханова (который на II съезде шел вместе с Лениным), завладели редакцией «Искры» и вытеснили оттуда Ленина. С каждым днем становилось яснее, до какой степени неустойчивой почвой является партийная интеллигенция, оторванная от рабочей массы. Опираясь на подавляющее большинство «российских» комитетов (к этому времени уже не было крупного центра в «империи», где не было бы социал-демократической организации), ленинцы добились при более или менее явном противодействии зараженных меньшевизмом центральных учреждений партии созыва в мае 1905 года III съезда. Это был первый чисто большевистский съезд. Меньшевики, предвидя неизбежность полного разгрома, на него не явились. Съезд окончательно закрепил партийную дисциплину, принял ленинский проект Устава партии. О других его решениях мне еще придется говорить дальше. Но меньшевики не подчинились съезду и создали свою особую, «фракционную» организацию. Так впервые на почве мелкобуржуазной оппозиции партийной линии возникла у нас фракция*
148
11. История революционного движения
V. Начало революции
В лице большевистской партии, сложившейся в 1903—1905 годах на II и III съездах, начинавшаяся революция получила свой руководящий центр. Наличие такого центра представляло собой громадное преимущество рабочего движения нашей страны. Ни в одной еще стране рабочим не удавалось создать своей революционной партии, притом не во время революции, но накануне ее. До сих пор революциями, главную силу которых составляли, конечно, всюду рабочие и крестьяне-середняки и бедняки, руководили мелкобуржуазные революционеры, вносившие в движение всю путаницу, на какую они были способны. Между тем без руководящего центра не могла обойтись ни одна революция. Это вздор, будто революции возникают и проходят стихийно. Возникновение революции без стихийного подъема масс, конечно, невозможно: в совершенно спокойной стране никакая организация восстания не поднимет. Но в стране, где кипит классовая борьба, всегда есть почва для революционной агитации и пропаганды, и уже в этот момент очень важно, чтобы эта пропаганда велась толково, чтобы она не затемняла сознание масс, а проясняла его. Значит, даже в возникновении революции стихийность только одно из условий, тем более стихийность играет подчиненную роль при проведении революции: проходят «стихийно» только революционные выступления, осужденные на гибель. Потому что враг революции — господствующие классы всегда ведь организованны, а организованная сила, хотя бы и небольшая, всегда разобьет силу неорганизованную, хотя бы и гораздо более крупную. Оттого даже временный успех революции всегда сопровождался образованием какого-нибудь руководящего центра, хотя бы на короткое время. Так было и у нас во время разинщины и пугачевщины. Чисто стихийные вспышки крестьянских восстаний в начале и середине прошлого столетия всегда подавлялись сразу, в несколько дней. Вот отчего так важно, что наша революция 1905 года заранее подготовила свой организующей центр.
Но организация эта осуществлялась в чрезвычайно трудных условиях. Мы уже видели, какие трения создавала мелкая буржуазия внутри социал-демократической партии. Но мелкая буржуазия была не только внутри. Ленин так определял два первых этапа начинавшейся революции: «1) Рабочее движение поднимает пролетариат сразу под руководством РСДРП и будит либеральную буржуазию: 1895—1901/2. 2) Рабочее движение
1905 год (брошюра)
149
переходит в открытую политическую борьбу и присоединяет политически проснувшиеся слои либеральной и радикальной буржуазии к мелкой буржуазии: 1901/2—1905» *. Пролетариат таким образом, уже в этот период был вождем всей револю ции, но его организация была слишком слаба еще, чтобы охватить все движение. Проснувшаяся либеральная буржуазия начала с того, как мы видели, что попыталась обмануть рабочих «легальным марксизмом» и действительно обманула большое количество мелкобуржуазной молодежи. Но эта последняя шла не только за «легальными марксистами» и «экономистами». Вождям тех и других, Струве и бывшему «экономисту» Прокоповичу, удалось втянуть лишь наименее революционную часть мелкой буржуазии в прямой союз с либералами, в так называемый «Союз освобождения», где левое крыло состояло из земских врачей, учителей, агрономов, статистиков и т. п., а правое — из либеральных помещиков и капиталистов. «Союз» возник в 1903 году и распался в 1905 году. Но «осво- божденцами» стала преимущественно не мелкобуржуазная молодежь, а люди среднего возраста: для молодежи там было слишком скучно. Зато молодежь очень привлекали возродившиеся на фоне рабочего движения и быстро растущие кружки народовольческого типа, сомкнувшиеся к 1904 году в партию социалисто в-революционеро в. Эта партия нашла себе и классовую основу в мелком, преимущественно зажиточном, крестьянстве. Она разделяла все предрассудки народовольцев насчет того, что главная революция — крестьянская, что и социализм придет у нас из сельской общины и т. д. Что со- . циалисты-революционеры партия буржуазная — это их вождями замазывалось, а массой не сознавалось.
Со всей неумолимостью это вскрылось только в 1917 году, когда социалисты-революционеры оказались лицом к лицу с настоящей социалистической революцией. В 1905 году они еще могли свободно разыгрывать из себя социалистов перед малосознательными людьми, даже перед малосознательными рабочими (таких, правда, удавалось залучить немного). Но мелкобуржуазную молодежь эсеры** привлекали в большом количестве своей яркой, как казалось молодежи, революционностью. По примеру народовольцев эсеры взяли на себя непосредственную борьбу с самодержавием. Убийство ряда царских министров — Боголепова, который отдавал студентов в солдаты
* Ленинский сборник V, стр. 45121.
** Сокращенное «социалисты-революционеры», от первых букв «с.-р.».
150 11. История революционного движения
за «беспорядки», Сипягина, который раздавил первое крестьянское восстание 1902 года, наконец, Плеве, который душил все и вся и ссылал людей в Сибирь тысячами, — сделало эсеров героями в глазах молодежи и либеральной интеллигенции; только первая стремилась в ряды эсеровских боевиков, а вторая, стоя в стороне, ими восхищалась (давая, впрочем, им и деньги охотнее, чем социал-демократам).
Эсеры в сущности уже тогда были выразителями интересов кулачества и были поэтому непримиримо враждебны марксизму и социал-демократии. Их «яркая» революционность, благодаря которой малосознательные люди легко делались игрушкой в руках полиции (во главе эсеровской «боевой организации» долгие годы стоял агент Департамента полиции Азеф), помогала им создавать большую путаницу в головах юных интеллигентов. Смотрите, говорили эсеровские агитаторы студентам и курсисткам*, что ваши большевики? Только разговоры разговаривают да «организуют» — когда-то еще что-нибудь сорганизуют! А мы бьем самодержавие прямо в лоб (это, кстати, неверно было: Азеф не позволял устраивать покушений на самого Николая). Когда убили в феврале 1905 года московского генерал- губернатора, дядю царя, «великого князя» Сергея, московские либералы были убеждены, что революция завтра же победит. На деле эсеры только помогали одному мерзавцу сесть на место другого, и так как запас мерзавцев у царского правительства был очекь велик, то эсеровский террор не двигал вперед революцию ни на шаг; но тем, кто действительно вел революцию, эсеры мешали, отбивая людей и затемняя сознание массы старыми народническими бреднями.
Таким образом, революционное движение было расколото уже между двумя силами: одна тянула вперед, другая — назад, к традициям народовольчества, воскресшим исключительно благодаря рабочему движению (до начала рабочего движения после поражения «Народной воли» движения не было, не было и эсеров), как чужеядное растение, опутывая ствол революции, мешая ему развиваться. Единство руководства в самой социал- демократической партии было особенно необходимо в таких условиях, но мы видели, что и тут завелись свои чужеядные растения. Что такое меньшевики по своей политической сущности, они показали очень скоро — еще до III съезда. В 1904 году Николай ввязался в войну на Дальнем Востоке — с Японией.
* Женщин тогда не пускали в вузы и они учились на особых «женских курсах».
1905 вод (брошюра)
151
Война эта подготовлялась давно — еще в конце 80-х годов стали строить Сибирскую дорогу, именно как стратегическую (военную) дорогу, по которой можно было бы перебрасывать войска и боевые припасы на Дальний Восток. В середине 90-х годов заняли Порт-Артур на дороге в Пекин; главной целью был захват Кореи, Маньчжурии и Северного Китая отчасти как рынков для русской промышленности, потому что внутренний рынок для этой последней благодаря остаткам крепостного права и нищете крестьянства развивался слишком медленно, отчасти как новой «окраины», эксплуатация которой могла поддержать еще на некоторое время хозяйничанье отсталых помещиков в Европейской части «России». Соперниками здесь были, собственно, Англия и Соединенные Штаты, смотревшие на Китай как на свой, можно сказать, прирожденный рынок, но они легко нашли себе орудие в лице только что перешедшей к капиталистическому хозяйству Японии, промышленность которой быстро развивалась и для которой другого рынка, кроме того же Китая, в виду не было. Американцы и англичане снабдили японцев деньгами и оружием, и, пока помещичья «Россия» медленно раскачивалась, «готовилась» к войне чуть не через десять лет, война оказалась на носу. Грубые захваты царских чиновников и генералов в Мань-^ чжурии и Корее вызвали протест Японии. Николай не хотел уступать «япошкам» (он в молодости наследником был в Японии, когда ездил закладывать Сибирскую дорогу, и тогда один японец ударил его саблей по голове, с тех пор у него было плохое мнение об этом народе), мялся, не отвечал на протест ни «да» ни «нет», но японцы не стали ждать и быстро сказали «да», подбив минами три крупнейших русских броненосца в Порт-Артуре (в феврале 1904 года). К войне помещичье государство оказалось совершенно не готово: Сибирская дорога еще не была достроена, и провозоспособность ее была ничтожна, флот был отчасти тоже не готов, а что готово, было разбросано по всем морям. К тому же флот помещики особенно ревниво держали в своих руках: во флоте офицером мог быть только дворянин. Что из этого выходило при современном флоте, который был механизирован гораздо раньше сухопутной армии (современный корабль представляет собой совокупность сложнейших механизмов), нетрудно себе представить. Между социальным составом морского командования и задачами современной морской войны в «России» начала XX столетия было такое вопиющее противоречие, какое только можно придумать. Японцы быстро разбили русский флот и заперли его
152
11. История революционного движения
в гаванях, а потом добрались и до сухопутной армии Николая. Окончательный разгром этой последней при Мукдене и окончательное уничтожение «русского» флота в Цусимском проливе приходятся уже на весну 1905 года; но уже и первые поражения царских войск в этой войне усилили брожение среди буржуазии во много раз. В опасности был ведь ее кошелек: дурацкая политика Николая сулила огромные убытки и в конце концов грозила государственным банкротством. Буржуазия зашевелилась, а Николай слегка струсил и на место свирепого Плеве, убитого эсерами, назначил «мягкого» Святополка-Мир- ского, который заговорил о «доверии». Ободрившаяся буржуазия стала нажимать — стала устраивать собрания и торжественные обеды, где «почти» говорила о конституции (стараясь не произносить самого слова — втайне она еще боялась Николая...). Тут-то и отличились меньшевики: они стали советовать рабочим помогать буржуазии, участвовать в ее собраниях и выступлениях, притом осторожно, чтобы как-нибудь почтенную буржуазию не огорчить и не расстроить. Это превращение рабочего движения, которое уже ряд лет вело революцию, в какой-то придаток к жалким, вовсе не революционным выступлениям помещиков и капиталистов, так ярко обрисовывало трусость мелкого буржуа перед крупным, отсутствие у мелкого буржуа всякой самостоятельности в капиталистическом мире, что Ленину нетрудно было высмеять «земскую кампанию» меньшевистской «Искры»28.
Вы спросите: как же все-таки за меньшевиками шли какие- нибудь рабочие? Тут мы подходим к еще одной из трудностей v политического руководства революцией. Не следует думать, что перед 1905 годом марксистская пропаганда успела проникнуть во все слои рабочего класса во всей стране. Благодаря стачечному движению очень широкие рабочие круги охватило уже тред-юнионистское понимание классовой борьбы — понимание, что нужно и можно обуздать хозяина. Но как многие крестьяне были уверены, что помещиком и земским начальником кончается все зло, а царь добрый, так же думали, к сожалению, и очень многие рабочие, можно сказать, что перед 1905 годом так думало большинство рабочих.
Окончательно вылечила рабочих от этого заблуждения только именно революция. И тут, помимо того что всякая пропаганда требует времени, а настоящая большевистская пропаганда началась только за два-три года до революции, надо помнить еще и условия этой пропаганды. Я вот сказал, что газета «Искра» была организующим центром рабочего движения,
1905 год (брошюра)
153
но я не подчеркнул, предполагая, что читатель это сам знает, что газета-то была запрещенная, «нелегальная» и что распространять ее можно было лишь тайком. Ее печатали за границей (потом стали перепечатывать и в «России», в Закавказье, в тайной типографии в Баку) и перевозили в «Россию» контрабандой в небольшом количестве и с большим запозданием: иной раз номер доходил до какого-нибудь захолустья через два- три месяца. Едва ли больше, чем нескольким тысячам человек, и то преимущественно из интеллигенции, удавалось прочесть этот номер, а рабочих были миллионы. Газета организовывала, собственно, только руководящий слой революции, а еще не массы: массу могла организовывать только открытая, всем доступная печать; а чтобы иметь такую печать, нужно было если не свергнуть, то здорово пошатнуть самодержавие; открытую большевистскую печать мы получили только после октября 1905 года.
При таких условиях рабочие иногда шли не то что за меньшевиками и эсерами — бывало и похуже. В первые годы XX столетия, видя, что революционная пропаганда среди рабочих делает все большие успехи, полиция в виде некоего охран- щика Зубатова (дожил до 1917 года и тогда застрелился) задумала подорвать эту пропаганду, допустив рабочие организации под надзором полиции, и только для экономической борьбы. Решила, значит, использовать во славу «царя и отечества» тред-юнионистские настроения. Это, между прочим, ярко подчеркивает характер самодержавия как помещичьего правительства; будь у нас «буржуазная монархия» (так думали, между прочим, народники, считавшие «русский» капитализм созданием самодержавия), конечно, буржуазная полиция не стала бы устраивать стачек. А Зубатов и его агенты устраивали стачки, деньгами помогали забастовщикам, добивались в отдельных случаях увеличения заработной платы и т. д. Трепов, начальник Зубатова, московский обер-полицмейстер, говорил одному из великих князей, что рабочие угнетаются фабрикантами хуже, чем в прежнее время крепостные помещиками, что неудовольствие этих рабочих «угрожало общественному порядку и спокойствию» и что он, Трепов, для предотвращения подобных бедствий счел необходимым устроить союзы и клубы рабочих. Великий князь был этим совершенно убежден. Помещичье правительство находило, что купец должен же что-то платить в конце концов за «поддержание спокойствия в империи»: у купца мошна здоровая. Но когда в Москве зубатовская политика задела мошну французских
154
11 История революционного движения
предпринимателей, в дело вмешался французский посол, и Зубатова пришлось убрать. Но от его политики не отказались. Только решили, что полиция не должна так открыто вмешиваться в дело, тем более что это и рабочих поумнее отталкивало. Полицейские «рабочие союзы» должны были принять более «свободный» характер, казаться делом самих рабочих, а во главе всего движения поставили попа, который по существу ничем, конечно, от охранщика не отличался, но мундира полицейского не носил и был «служителем Христа». Так в 1903 году в Петербурге возникло «Собрание фабрично-заводских рабочих» во главе с попом Георгием Гапоном.
Поповский тред-юнион сначала пробовал отыграться на «культурной работе», устраивая для рабочих концерты, лекции и т. п. (с Зубатовым не гнушались, между прочим, работать профессора Московского университета). Но как раз в эти годы, когда японская война сильно вздула цены (см. выше), материальное положение рабочих стало резко ухудшаться, и музыкой с профессорскими лекциями их успокоить было нельзя. К тому же это были столичные рабочие, среди которых десятилетиями велась политическая пропаганда. Га- пону пришлось приспособляться ко всему этому. Уже весной 1904 года он стал толковать наиболее к нему близким руководящим рабочим своего союза, что он, Гапон, собирается подать царю прошение о нуждах рабочего класса. Эти рабочие, как и большинство, верили еще, что от царя можно ждать помощи, но только от него одного. Что с фабрикантами добром не сговоришься и что царские чиновники с фабрикантами заодно, это уже все рабочие хорошо понимали. Так и родилась мысль о совершенно своеобразном рабочем выступлении — всеобщей забастовке, соединенной с подачей прошения (петиции) царю; петиция должна была «раскрыть глаза» царю, будто бы «ничего не знавшему», на действительное положение рабочего класса и всей страны. Причем в петиции дело шло гораздо дальше непосредственных нужд рабочего класса: теперь даже и тред-юнионисты понимали, что без известных политических прав рабочие ничего не добьются. «Петиция» рабочих требовала, по существу дела, конституции — того самого, что требовали либералы, только те говорили вполголоса и запинались, а рабочая петиция говорила ясно и твердо, всеми словами. Что Гапон к этому времени (конец 1904 года) находился под влиянием либералов, на это есть множество указаний, а через Гапона либералы получили влияние и на рабочих его «Собрания», Из революционных партий Гапон был связан
1905 год (брошюра)
155
с эсерами и отчасти с меньшевиками. Большевики были, конечно, совершенно в стороне от всего этого предприятия. С попом и либералами им было не по дороге.
Таким образом, перед январем 1905 года готовилось вовсе не мирное челобитье царю, как иногда изображали дело. Готовилась огромная уличная манифестация, смысл которой был в том, чтобы добиться от царя прав для рабочих. По существу дела, выступление рабочих 9 января с самого начала носило революционный характер, тоненькой пуповиной, связывающей его со старым мировоззрением, была уверенность рабочих, что царь за них. Но когда на собраниях ставили вопрос: «А что если царь окажется не за нас?», масса единодушно отвечала: «Тогда нет у нас царя!» Что ближайшее начальство против рабочих, это они все отлично понимали, очень многие предвидели, что будут стрелять, и готовились к смерти. Вся надежда была — про- рваться-таки к царю и добиться от него прав для рабочих. Этот характер движения отлично понимали, между прочим, и те из царских чиновников, которые ближе стояли к рабочей массе, — фабричные инспектора. Вот что писали они в своих донесениях: «Забастовки в С.-Петербургской губернии в 1905 году характерны в том отношении, что с помощью их рабочие не столько стремятся улучшить условия работы и своего быта в настоящем, сколько добиваются такой постановки их отношений к правительственной и фабрично-заводской администрации, при которых у них была бы полная уверенность, что уступки, сделанные им во время забастовок, не будут взяты назад после их успокоения, а этого, как учили их руководители всех сортов и наименований и как им показали текущие события, они могут ожидать только в случае получения ими разрешения организовываться во всевозможные союзы и общества и признания за последними права говорить от имени как отдельных своих членов, так и всего фабрично- заводского населения С.-Петербургской губернии» 29.
Речь шла, таким образом, совсем не о том, чтобы Николай вышел на крыльцо дворца и «милостиво» поговорил с рабочими. Рабочие шли к Николаю требовать конституции, хотя этого слова и не употребляли. Их отсталость выражалась в том, что они требовали конституции, а не республики и что они считали стоящим делом разговаривать с Николаем. Но это це были уже тихие и смирные «верноподданные», которые ни: о какой конституции и думать не смели. И Николай это понял, а если не понимал он, ему растолковывал# «царская фамилия»,:
156
11. История революционного движения
его дяди, великие князья. Конституцию у него только что просили буржуазные либералы, земцы, собравшиеся в ноябре 1904 года. Он помялся по обыкновению и отказал. Теперь приходят «мужики» — мы помним, что помещичье государство не знало такой категории, как «рабочие», — и требуют этой самой конституции. Неужели это стерпеть? Вы помните резолюцию Александра III: «Мужик, а тоже лезет в гимназию!», «мужик» — и тоже требует конституции! Надо его так проучить, чтобы дети и внуки помнили! Вот каково было то настроение помещичьего правительства, которое объясняет нам нелепый с первого взгляда жест — стрельбу в мирно идущих к царю с просьбой рабочих. Да, мирно, но ведь их 200 тыс. человек! Мы помним, как помещики замазывали факт, что они борются с массами. А теперь массы были налицо, на улице. Что же, ждать, пока они во дворец «влезут»? Тогда уж поздно будет!
И массы были расстреляны по всем правилам военного искусства. Мы теперь имеем в руках весь план '«сражения» и знаем, что никакой случайности здесь не было и быть не могло. Расстрел был решен за несколько дней и систематически подготовлялся; те рабочие, которые ждали пальбы и готовились к смерти, были совершенно правы. Теперь мертвые лежали на улицах царской столицы сотнями, и, казалось, мертвое спокойствие, спокойствие кладбища должно было водвориться на долгие годы. Так было после 14 декабря 1825 года, когда против царя восстала кучка либеральных помещиков. Но не так было теперь. Не страх, а ярость охватила рабочие массы после этой подлой стрельбы по безоружным. Несмотря на залпы, толпа собиралась вновь и вновь, безжалостно расправляясь с теми отдельными палачами в военной форме, которые попадались ей в руки. На улицах Петербурга появились первые в истории «России» баррикады. Не подлежит сомнению, что, если бы в руках рабочих было оружие, царская столица сделалась бы театром вооруженного восстания уже в этот день — 9 (22) января 1905 года. И за неимением оружия рабочие ответили тем, чем могли ответить: накануне 9 января в Питере была огромная забастовка; на другой день в Питере была всеобщая забастовка; 9-го бастовало 111 тыс. рабочих, а 10-го—125 тыс.; в этот день работало по всему Петербургу, по точному расчету фабричной инспекции, 1255 человек. Более полная всеобщая забастовка была только в Москве в декабре 1905 года.
Рабочие не испугались пальбы; зато те, кто палили и велели палить, перетрусили до последней крайности. Министерство
1905 год (брошюра)
157
финансов, в руках которого была фабричная инспекция и которое лучше знало поэтому, что делается в рабочей среде, попросту предлагало эту самую конституцию дать, не дожидаясь, пока хуже будет. Министр финансов Коковцев предлагал Николаю разрешить рабочие организации, уменьшить рабочий день до 10 часов (по закону был 11,5-часовой), допуская сверхурочные работы лишь как редкое исключение, и отменить запрещение забастовок. Слово «конституция» министр, конечно, не употребил, но предложение «последовать примеру западноевропейских государств» было достаточно выразительно. Но и этого казалось мало: министры (на этот раз уже не только министр финансов) настаивали, чтобы Николай издал особо торжественный манифест, где формально отрекся бы от расстрелов, заявил, что он-де ничего не знал (!) и что «пролитие драгоценной русской крови» произошло «по силе роковых обстоятельств». Хотели, значит, свалить на «стрелочника» — на низших офицеров и солдат, тогда как все знали, что расстрелом заправлял царский дядя, великий князь Владимир (между прочим, ярый зубатовец), и солдаты только исполняли приказания. Даже Николай понял, что это было бы глупо выше всякой меры и что никто этому не поверил бы. Мысль о манифесте осталась только памятником позорной трусости тех, кто управлял 9 января «Россией». Но для «улучшения положения рабочих» были созданы две комиссии: упоминавшегося сейчас Коковцева 30 и сенатора Шидловского; выборы в эту последнюю комиссию представителей от рабочих действительно были первой попыткой «последовать примеру западноевропейских государств» и позволить рабочим собираться и обсуждать свои дела самостоятельно31. Но питерские рабочие, собравшись и обсудив, решили в комиссию не идти: они теперь считали разговор с Николаем и его слугами нестоящим делом — 9 января вылечило их от монархических чувств. Выборы в комиссию Шидловского дали только случай большевикам поставить политическую пропаганду среди рабочей массы так широко, как это еще ни разу не делалось. А забастовка из Питера разлилась по всей «России», хотя не стала всеобщей. Но в западной части «империи» — в Риге, в Ревеле, в Варшаве — она была почти всеобщей и сопровождалась столкновениями с войсками и расстрелами почти столь же жестокими, как в Петербурге. В Москве бастовало 45 тыс. человек (почти 50% всех рабочих крупных предприятий), в других городах — меньше. Всего, однако, в связи с 9 января по всей «империи» забастовало 444 тыс. человек. Что это значит, вы
158
11. История революционного движения
поймете, когда узнаете, что за предшествующие 10 лет (1895— 1904 годы) бастовало в среднем за год всего по 43 тыс. человек. Один месяц революции дал ровно в 10 раз больше забастовщиков, чем целый год за предшествовавшие «мирные» 10 лет.
VI. Первые шаги борьбы
9 января 1905 года мы считаем началом революции 1905 года. И это верно по двум причинам. Во-первых, для рабочей массы сначала Петербурга, а потом и для пролетариата всей «империи» стало ясно, что 9 января положило конец всяким попыткам столковаться с царем. А так как вся либеральная буржуазия стояла на том, что с царем именно нужно сговориться, столковаться, то 9 января сразу высвободило рабочих от последних остатков влияния на них буржуазии. Николай, не заметив этого, расстрелял не только монархизм, но и «экономизм». Попытки зубатовщины после 9 января не имели никакого успеха. Поп Гапон исчез еще во время расстрела, играл некоторое время роль в заграничной эмиграции (преимущественно у эсеров), но,когда попробовал вернуться в «Россию», был сейчас же изобличен как шпик и повешен теми самыми рабочими, которые шли за ним до 9 января. Это высвобождение рабочих из-под последних остатков влияния на них буржуазии означало, между прочим, что республиканское движение стало у нас массовым движением. Ленин писал еще в 1902 году. «Когда какие-нибудь гг. Р. Н. С. [так подписывал свои нелегальные произведения Струве]... будут торговаться с правительством о правах властного земства или о конституции, мы будем бороться за демократическую республику» 32. Но тогда это было убеждение искровцев-интел- лигентов и немногих передовиков-рабочих. Теперь вся рабочая масса крупнейшего пролетарского центра «империи» стала республиканской. В 1917 году даже иностранцы, французский посол Палеолог например, ни на минуту не сомневались, что «рабочие за республику» 33. А в 1904 году разговоры о республике казались «утопией», фантазией даже иным социал-демократам (не большевикам, конечно).
Прошло довольно много времени, пока лозунг «демократической республики» был усвоен всей рабочей массой всей «России». Но начало усвоения этого лозунга массами было положено именно 9 января. То же и с другим лозунгом, который тоже казался «утопией» и мечтой накануне 9 января, —
1005 год (брошюра)
159
с лозунгом вооруженного восстания. О возможности такого восстания в «России» Ленин писал уже в 1901 году, тотчас после первого столкновения петербургских рабочих с войсками на Обуховском заводе. Одну из задач организационной работы «Искры» он видел в подготовке, назначении и проведении «всенародного вооруженного восстания» 34. Делегатам II съезда ставились вопросы о состоянии на местах вооруженной подготовки, о связях в армии и т. д. Но Ленин тогда еще не призывал к восстанию. Он только указывал на необходимость к нему готовиться. После 9 января он пишет уже:
«Как бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петербурге, во всяком случае оно неизбежно и неминуемо станет первой ступенью к еще более широкому, более сознательному, более подготовленному восстанию» *. А в мае 1905 года III съезд —чисто большевистский, как мы знаем, — признал, что «движение в настоящий момент уже привело к необходимости вооруженного восстания...». «Задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент» 36.
Каково было расстояние по этому вопросу между большевиками и меньшевиками, показывает тот факт, что меньшевики в это самое время заговорили о необходимости готовиться к вооруженному восстанию, т. е. о том, о чем Ленин говорил три года назад. А что заговорили об этом даже меньшевики, трусливо жавшиеся к либералам, показывает, до чего вопрос назрел. Действительно, едва были приняты резолюции III съезда, как через месяц вооруженное восстание разразилось почти одновременно в двух разных концах «империи»: в польском мануфактурном центре — Лодзи и на Черном море.
Польский пролетариат был в 1905 году лучше русского подготовлен к революции. Польский капитализм старше русского. Польша ближе к Западной Европе, и западноевропейское рабочее движение влияло на польское более непосредственно (даже некоторые вожди польского и германского движения были общие, например Роза Люксембург), в Польше была вековая революционная традиция, ряд восстаний против русских (в конце XVIII века, в 1830/31 и в 1863/64 годах), а главное —
* В. 0, Ленин. Собр. соч., т. VII, изд. 2, стр. 8035,
160
11. История революционного движения
в силу этой традиции польскому рабочему чужд был всякий самообман по части действительного значения русского царя. Никакому польскому пролетарию никогда не пришло бы в голову, что царь, расстрелявший его отцов и дедов, может стать его защитником. 9 января нигде не встретило столь бурного отклика, как в Польше; в Варшаве была всеобщая забастовка, ряд столкновений с войсками и расстрелы с сотнями убитых и раненых. Естественно, что в Польше раньше, чем где бы то ни было в других местах «империи», пролетариат перешел к вооруженной самозащите. В ответ на расстрел лодзинские рабочие забаррикадировались в своих домах и осыпали казаков с крыш градом камней и револьверными выстрелами. Несколько дней продолжался бой. Но если в Польше рабочих легче было поднять на восстание, в Польше же и неизмеримо труднее было довести восстание до успешного конца. Как область, пограничная с Германией,— а отношения Германии и России были плохими уже с 80-х годов, — Польша была переполнена русскими войсками. Если вообще в «империи» один солдат приходился на 100 жителей, а внутри страны, вдали от границ, даже на 130—150 (в Москве, например, на 1300 тыс. населения было около 10 тыс. гарнизона), в Польше приходился один русский солдат на 50 человек местного населения. Из этих солдат не было ни одного поляка: поляков угоняли служить в Среднюю Азию, на Кавказ и т. п., а в Польшу посылали или русских, или малокультурных националов с восточных «окраин». Между местным населением и войсками не было никакой связи, они часто даже языка друг друга не понимали. Вообще в этих войсках старались всячески развить ненависть к полякам, и это тем легче было сделать, что и поляки, столетие угнетаемые русскими, никакой любви к русским военным, главному орудию их угнетения, не питали. Остатками этих чувств поляков к русским до наших дней живет Пилсудский, уверяющий менее сознательные слои польской массы, что СССР — это все та же «Россия». Можно представить себе, насколько эти чувства были горячее тогда, в 1905 году. Словом, вооруженное восстание в Польше было поставлено в неимоверно тяжелые условия. Бои в Лодзи продолжались три дня; было убито и ранено до 2 тыс. человек, главным образом, конечно, со стороны рабочих. Но наконец последние должны были сдаться: из Варшавы подъезжали все новые и новые отряды царского войска. Если вооруженное восстание могло победить, то это могло быть не здесь, а в центре «империи». И одним из непременных условий успеха было ко¬
1905 год (брошюра)
161
лебание в самих войсках и переход хотя бы части войск на сторону восставшего народа.
И вот оказалось в те же дни, что и это условие гораздо ближе к осуществлению, чем думали меньшевики и либералы (последние приходили в ярость при одном слове «вооруженное восстание»). 25 июня (по старому стилю) были разгромлены последние лодзинские баррикады, а 24-го закончилось восстание в Черноморском флоте Николая II. Так как о броненосце «Потемкин» и его восстании всякий знает, то описывать его мы здесь не будем, напомним только, что и это восстание не было чисто «стихийным», что оно было подготовлено революционной пропагандой, которую вели -во флоте и социал-демократы, и социалисты-революционеры. Пропаганда падала на очень благодатную почву: если начальство во флоте было дворянское, то среди нижних чинов был такой процент рабочих, как нигде в сухопутной армии. Механизация современного корабля заставляла набирать в состав его команды людей, умеющих обращаться с механизмами; благодаря этому процент рабочих, в сухопутной армии не превышавший 2—3, во флоте доходил до 14. Каждый седьмой матрос был из рабочих. Это делало флот гораздо более восприимчивым к революционной пропаганде, чем сухопутная армия. Но в частности, команда «Потемкина» была распропагандирована меньше других и восстание там вспыхнуло исключительно из-за гнусного поведения начальства, действительно почти стихийно и раньше срока, на который революционные организации вообще намечали выступление Черноморского флота. Этим отчасти определялась конечная неудача всего дела: «Потемкину» удалось привлечь к восстанию только еще один миноносец и один из других броненосцев Черноморского флота лишь на короткое время. Но если в этом отношении восстание «Потемкина» было не вовремя, зато восставший броненосец необычайно вовремя пришел в Одессу: там в это время происходила всеобщая забастовка, начавшая переходить в вооруженное восстание — стреляли в полицию и казаков, «бросали камнями, сносили доски, устраивая на улицах баррикады, останавливали вагоны конки, отпрягали и угоняли лошадей, а вагоны переворачивали на бок, останавливали паровые трамваи и дачные поезда, выбивали в вагонах стекла, выпускали пар» (из донесения одесского жандарма) 37. Была кое-какая подготовка — в полицейских и казаков бросали бомбы, склад которых был потом захвачен полицией. Появление «Потемкина» страшно подняло настрое-
6 м. Н. Покровский, кн. 4
162 II. История революционного движения
ние бастующих. «Прибытие в Одессу ' с взбунтовавшимся экипажем броненосца «Потемкин» явилось для Одессы настоящим бедствием, — доносил тот же жандарм. — Не имею данных утверждать, что броненосец этот прибыл в Одессу для усиления бывших тогда уже здесь беспорядков, но несомненно, что беспорядки не достигли бы таких размеров, каких достигли, если бы броненосец сюда не прибыл» 38. Жандармы так перетрусили, что переоделись в штатское платье. Но перепугались не одни жанДармы: главный начальник Черноморского флота адмирал Чухнин, находившийся в Николаеве, не решался морем плыть в Севастополь, так как, телеграфировал он своему начальству, «мне не подобает быть захваченным». Он считал, что уже все Черное море в руках восставших. Военное начальство Одессы, до тех пор храбро расстреливавшее рабочих и студентов, убрало войска, «опасаясь орудийного огня «Потемкина» (донесение одесского градоначальника), да опасаясь и того, как бы сухопутные войска не присоединились к матросам. Словом, броненосец, на котором было 800 матросов и масса всякого оружия, вполне мог бы завладеть городом, если бы он нашел умелых политических руководителей. Представитель социал-демократической организации, меньшевик, не находил ничего лучшего сказать, как то, что рабочие не должны выступать в данный момент, так как они еще не организованы и не имеют оружия. «Потемкин» простоял несколько дней под Одессой, сжег почти весь уголь и израсходовал все имевшиеся на корабле съестные припасы, безуспешно пытался достать их в разных портовых городах и наконец 24 июня пришел в гавань Констанцу и сдался румынским властям.
Чрезвычайно благоприятный момент для начала вооруженного восстания был упущен потому, что революционные организации еще не. были готовы. Большевики были совершенно правы — терять нельзя уже было ни минуты. Тем не менее не следует думать, что восстание «Потемкина» прошло даром: это был громадный удар по самодержавию и громадный шаг революции вперед. И правы были потемкинские матросы, когда они писали в своем воззвании «Ко всему цивилизованному миру»: «Обезумевшее самодержавие забыло одно, что темная и забитая армия — это сильное орудие его кровавых замыслов — есть тот же самый народ, есть те же самые сыны трудящихся масс, которые решили добиваться свободы. И армия рано или поздно поймет это и сбросит наконец с себя позорное пятно палачей своих же отцов и братьев. И вот мы, команда
1905 год (брошюра)
163
эскадренного броненосца «Потемкин-Таврический», решительно и единодушно делаем этот первый великий шаг. Пусть все те братские жертвы рабочих и крестьян, которые пали от солдатских пуль и штыков на улицах и полях нашей родины, снимут с нас свое проклятие, как с их убийц. Нет, мы не убийцы, мы не палачи своего народа, а защитники его. И наш общий девиз — смерть или свобода для всего русского народа» 39.
Вооруженное восстание было еще недостаточно подготовлено, но зато совершенно готово было классовое оружие пролетарской борьбы: тридцать лет стачечного движения отточили это оружие достаточно. Эта подготовка так выпукло обрисована Лениным, что было бы бессмысленно пытаться обрисовать ее лучше, и я прошу читателя не посетовать, если я приведу довольно большой отрывок из одной статьи Ленина, кстати не очень известной: она в свое время осталась в рукописи и была напечатана только во втором издании Собрания его сочинений, в первом ее еще не было.
«Почти 20 лет тому назад, в 1885 году, произошли первые крупные рабочие стачки в центральном промышленном районе, у Морозова и других. Тогда Катков писал о показавшемся на Руси рабочем вопросе. И с какой же поразительной быстротой развивался пролетариат, переходя от экономической борьбы к политическим демонстрациям, от демонстраций к революционному натиску! Припомним главные вехи пройденного пути. 1885 год — широкие стачки с ничтожным участием совершенно единичных, не сплоченных никакой организацией, социалистов. Общественное возбуждение по поводу стачек заставляет Каткова, верного пса самодержавия, говорить по поводу суда о «сто одном салютационном выстреле в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса». Правительство идет на экономические уступки. 1891-ый год — участие петербургских рабочих в демонстрации на похоронах Шелгунова, политические речи на петербургской маевке. Перед нами социал- демократическая демонстрация передовиков-рабочих при отсутствии массового движения. 1896-ой год: петербургская стачка нескольких десятков тысяч рабочих. Массовое движение с началом уличной агитации, при участии уже целой социал-демократической организации. Как ни мала еще, по сравнению с теперешней нашей партией, эта почти исключительно студенческая организация, все же ее сознательное и планомерное социал-демократическое вмешательство и руко¬
6*
164 II. История революционного движения
водство делают то, что движение приобретает гигантский размах и значение против морозовской стачки. Правительство опять идет на экономические уступки. Стачечному движению по всей России положено прочное основание. Революционная интеллигенция повально становится социал-демократической. Основывается социал-демократическая партия. 1901-ый год. Рабочий идет на помощь студенту. Начинается демонстрационное движение. Пролетариат выносит на улицу свой клич: долой самодержавие! Радикальная интеллигенция распадается окончательно на либеральную, революционно-буржуазную и социал-демократическую. Участие организаций революционной социал-демократии в демонстрациях становится все более широким, активным, прямым. 1902-ой год: громадная ростовская стачка превращается в выдающуюся демонстрацию. Политическое движение пролетариата не примыкает уже к интеллигентскому, студенческому движению, а само вырастает непосредственно из стачки. Участие организованной революционной социал-демократии еще более активное. Пролетариат завоевывает для себя и для революционных социал-демократов своего комитета свободу массовых уличных собраний. Пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и царскому правительству. 1903-ий год. Опять стачки сливаются с политической демонстрацией, но на еще более широком базисе. Стачки охватывают целый район, в них участвуют более сотни тысяч рабочих, массовые политические собрания повторяются во время стачек в целом ряде городов. Чувствуется, что мы накануне баррикад (отзыв местных социал-демократов о киевском движении 1903 г.). Но канун оказывается сравнительно долгим, как бы приучая нас к тому, что могучие классы иногда копят силы месяцами и годами, как бы испытывая маловерных интеллигентов, примыкающих к социал- демократии. И действительно, интеллигентское крыло нашей партии, новоискровцы или (что то же) новорабочедельцы стали уже искать «высших типов» демонстраций в виде соглашения рабочих с земцами о непроизведении панического страха. Со свойственной всем оппортунистам беспринципностью, новоискровцы договорились уже до того невероятного, невероятнейшего тезиса, что на политической арене две (!!) силы: бюрократия и буржуазия (смотри второе письмо редакции «Искры» по поводу земской кампании). Оппортунисты новой «Искры», ловя момент, забыли о самостоятельной силе пролетариата! Наступил 1905-ый год, и девятое января еще раз изо¬
1905 год (брошюра)
165
бличило всех непомнящих родства интеллигентиков. Пролетарское движение сразу поднялось на высшую ступень» *.
Но различные области и различные слои пролетариата были подготовлены неодинаково. В своей работе «О статистике стачек в России» Ленин указывает, что из шести округов, на которые делилась фабричная инспекция «империи», в двух западных, Петербургском и Варшавском, число стачечников в 1905 году было с лишком вдвое больше, чем в остальных округах (в первых двух — 1 920 тыс., а в остальных четырех — 943 тыс.), а рабочих в западных округах была одна треть всего российского пролетариата (550 тыс. из 1 660 тыс.). Стачечное движение 1905 года в Петербургском и Варшавском округах было, таким образом, вшестеро сильнее, чем в остальной «России». Это относительно распределения по областям. А по производствам мы имеем такие соотношения: рабочих- металлистов считалось всего 252 тыс. человек, из них за 1895— 1904 годы бастовало 117 тыс., а в 1905 году они дали 811 тыс. забастовщиков — каждый металлист бастовал в этом году чаще трех раз. Текстильщиков считалось всего 708 тыс., до 1905 года из них бастовало 237 тыс. человек (около трети), а в 1905 году они дали 1 296 тыс. забастовщиков; на одного рабочего приходится больше одной забастовки, но не полные две. Каждый металлист прибегал к оружию стачки по крайней мере три раза, а не каждый текстильщик даже и повторял стачку41.
Революция охватывала рабочий класс постепенно, не все районы и не все производства сразу. Но в течение 1905 года этот охват шел неизмеримо более быстрыми темпами, чем до этого года. Выражение «революционный темп» становится нам всего понятнее, если мы присмотримся к ходу забастовочного движения 1905 года. Иваново-Вознесенск был и тогда одним из самых крупных текстильных центров «империи»; рабочие там были полукрестьяне из окрестных деревень; там наблюдался даже такой факт, как рост деревень вокруг фабрик: рабочий еще так мало привык чувствовать себя пролетарием, что он при первой возможности заводил свое деревенское хозяйство около своего производства. 9 января здесь почти не почувствовалось. Но ухудшение материального положения рабочих не могло не чувствоваться и здесь, и 26 мая 1905 года здесь разразилась всеобщая забастовка,
* В. И. Ленин. Первые уроки. Собр. соч., изд. 2, т. VII, стр. 105— 10640.
166 II. История революционного движения
сначала на чисто экономической почве: рабочие боялись брать в руки социал-демократические прокламации и шарахались в испуге при словах «долой самодержавие!». А через месяц, пройдя через ряд собраний на р. Талке и через расстрел одного такого собрания казаками (причем было убито 28 человек и масса ранено), те же рабочие на вопрос оратора: «Теперь вы, наверно, не боитесь этого слова—«долой самодержавие»?» — дружно отвечали: «Нет, не боимся!» А пoqлe речей, доносил местный жандарм, «из толпы выскакивает несколько человек мужского пола, садятся в кружок и под личным его, [оратора], руководством поют революционные песни по адресу императора и г. Трепова» 42. Но революция учила не только правильным взглядам на царскую власть, она учила и организовываться. Иваново-вознесенские забастовщики летом 1905 года первые образовали Совет рабочих депутатов, выступавший перед хозяином и начальством от всей рабочей массы; и хозяева и начальство с этим считались. Это создание постоянного рабочего представительства было огромным шагом революции вперед; пример Иваново-Вознесенска быстро был усвоен соседями, и в то же лето возник Совет рабочих депутатов в Костроме. Движение не ограничилось одними рабочими. На одном из собраний на Талке читалось такое письмо от муромских рабочих (в Муроме были железнодорожные мастерские): «Мы, муромские рабочие, благодарим вас, иваиово-вознесенских рабочих, что вы бастуете твердо и стойко за рабочее дело. Но и мы, муромские крестьяне, начинаем бастовать. Мы сходимся из трех деревень в одну и говорим, что не будем платить оброков и земля будет наша. А вы урядниками нам мешаете, а за это мы будем рвать вас всех. Мы уже одного земского начальника убили...» (Народ закричал: «Спасибо!») А губернатор доносил в Петербург: «Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка» 43.
Рабочее движение передавалось деревне и войскам... Иваново-вознесенская стачка держалась чрезвычайно стойко (окончательно погасла только к 17 июля) и напугала фабрикантов до того, что те бежали в Москву и пошли на уступки: иваново-вознесенцы получили 20% прибавки к заработной плате. Но суть была, конечно, не в этом. Суть эту превосходно выразил иваново-вознесенский большевистский комитет (стачка все время шла под руководством большевиков), писавший в своей листовке «Уроки стачки»: «Товарищи, до тех пор мы не сможем улучшить наше положение, пока не будет политической свободы, пока политическая власть не
1905 год (брошюра)
167
перейдет ко всему народу. Поэтому научила эта забастовка кричать: «Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!» Забастовка показала нам также, что добиваться политической свободы нужно с оружием в руках. Научила она нас, что только тогда, когда мы будем организованы и вооружены, мы силой сможем добиться наших прав. Поэтому мы и кричали: «Да здравствует вооруженное восстание!»» 44
VIL Классы летом 1905 года. Первая победа и первый обман
К лету 1905 года все классы, участвовавшие в русской революции, уже выступили открыто. Совершенно открыто прежде всего обозначалась тактика вчерашних хозяев — кре- постников-помещиков. До сих пор они держались на слепой, нерассуждающей дисциплине, на веками привитой массам привычке слепо повиноваться барину и царю. Теперь было совершенно ясно, что этой слепой дисциплины нет даже в армии. Летом 1905 года Николай написал в одной своей резолюции: «Где мои верноподданные слуги?» «Верноподданных слуг» действительно больше не было даже на кораблях и в казармах.. Единственной надеждой самодержавия было то, что хотя рассуждать стали все, но рассуждать умели не все. Последней ставкой крепостника-помещика была ставка на несознательность и безграмотность массы. Уже в феврале 1905 года Николай понял, что без конституции в том или другом виде, без созыва народных представителей дело не обойдется. В феврале был издан на этот счет царский указ, составленный нарочно неясно и неопределенно, чтобы потом можно было его перетолковывать, смотря по обстоятельствам. Это была уступка, вырванная у самодержавия кровью рабочих, пролитой 9 января. Но уступка была неискренняя, жульническая, сделанная с заранее обдуманным намерением обмануть массы при первой возможности. Когда летом 1905 года приступили к выработке полуобещанной конституции, это и выявилось со всей ясностью. «Народное представительство» было основано в сущности на старом сословном принципе: получили право голоса дворяне, получили право голоса крестьяне; маленькой поправочкой «на современность» было то, что дали право голоса чиновникам и более зажиточной интеллигенции и купцам, конечно (но они и раньше, еще с XVIII века, имели право голоса в городских
168
11. История революционного движения
думах). Рабочим права голоса не дали. Рабочий по-прежнему для помещичьего государства не существовал. А из крестьян особые надежды возлагались на безграмотных. Об этом в царской комиссии под председательством самого Николая шли горячие споры; и Николай, конечно, стал на сторону безграмотности. Предполагавшаяся статья, что в «Государственную думу» может быть избран только грамотный, была вычеркнута.
Само собой разумеется, что эту «Государственную думу», где должны были сидеть помещики и посаженные ими безграмотные крестьяне с небольшой забелкой из буржуазных либералов посмирнее рабочий класс мог только бойкотировать. Бойкот Булыгинской думы (она так называлась по имени министра, вырабатывавшего проект, Булыгина) и был сразу же провозглашен нашей партией. Но и сами помещики понимали, что революционеры такого «народного представительства» не примут: Булыгинской думой надеялись обмануть, собствен- н о, крестьян. А против революционеров бессознательность отсталых слоев использована была другим манером. Начались погромы. Натравленная толпа, руководимая городовыми и шпиками, избивала революционеров, разгоняла митинги и т. д. Такой погром был в июле 1905 года в Нижнем Новгороде, попытки таких погромов были в Екатеринославе (Днепропетровске), Самаре, Тифлисе и т. д. Погромы дали толчок к дальнейшему вооружению рабочих и образованию дружин, охранявших митинги, отражавших нападения погромщиков и т. д. Одна из первых таких дружин действовала во время нижегородского погрома, она состояла из 70 сормовских рабочих, двое из которых были убиты громилами. Во главе всего погромного движения стал генерал Трепов, бывший московский обер-полицмейстер, отец зубатовщины; в мае 1905 года он был назначен начальником полиции во всей «империи» с неограниченными полномочиями. Полиция, по теории буржуазных профессоров, существовала для охраны порядка: так вот Трепов при помощи погромов и показывал, что такое «порядок» в помещичьем государстве.
На несознательности массы пыталась спекулировать по- своему и либеральная буржуазия. Мы помним, что осенью 1904 года эта либеральная буржуазия просила у Николая конституции, не решаясь назвать это слово. По мере успехов рабочего движения либеральная буржуазия становилась все смелее по отношению к царю и все трусливее по отношению к народным массам. Накануне 9 января Струве имел
1905 год (брошюра)
169
несчастье написать: «В России еще нет революционного народа» 45. Это было не только выражением крайней непроница- тельности буржуазного либерала, но и «криком души»: Струве выболтал тайную надежду либералов, что в «России» дело обойдется без революции. И не высохли еще чернила написанной Струве глупости, как «революционный народ» оказался налицо: вечером 9 января на улицах царской столицы были уже революционные массы. Не успев предупредить революцию, буржуазия готовится ее теперь обмануть. Орудием обмана народной массы в руках капиталистов всегда являлась мелкая буржуазия, в своих привычках, в образе жизни и в своем мировоззрении всегда тянувшаяся за буржуазией крупной.
Весной 1905 года основанный либералами «Союз освобождения» приступает к организации широких кругов профессиональной интеллигенции: образуются союзы учителей, инженеров, адвокатов, профессоров и т. д. и т. д. Союзы, более или менее радикальные, особенно на словах, состояли из наиболее бедной интеллигенции вроде учителей, а более или менее близкие к «умеренной» либеральной буржуазии — это были союзы хорошо обеспеченных слоев интеллигенции, профессоров например. Но все они стояли на платформе либеральной буржуазии, т. е. добивались не свержения царизма, а конституции, уступок со стороны царизма, притом уступок, достигнутых по возможности мирным путем, т. е. без вооруженного восстания. Как бы для того, чтобы показать, что они идут не впереди и не рядом с пролетариатом, а тащатся позади него, мелкобуржуазные интеллигенты допускали, однако, употребление того оружия, которое уже неоднократно и с большим успехом было испробовано рабочими: «Союз союзов», к лету 1905 года объединивший все мелкобуржуазные интеллигентские организации, стал готовить стачку.
Обеспечив себя резервом на случай победы народной массы, буржуазные либералы не оставляли и старых путей и в июне 1905 года ездили вновь с челобитьем к Николаю. Николай принял их очень сухо и по обыкновению не сказал ни «да» ни «нет». Едва либеральные депутаты успели вернуться, как вспыхнуло восстание на «Потемкине». После этого либералы на своем съезде46 стали произносить слово «революция», но прибавляя из осторожности, что все-таки хоть и революция, а по возможности без пролития крови. Тут со всей ясностью обрисовалось значение лозунга вооруженного восстания: кто был действительно на стороне революции, тот был за вооруженное восстание; кто подделывался под революцию,
170
II. История революционного движения
кто собирался революцию провести или надуть, тот готов был говорить какие угодно страшные слова, но на вооруженное восстание не шел ни в каком случае. Ибо вооруженное восстание обозначало переход всей власти в руки народной массы, а либеральные буржуа и петушком бежавшие за ними мелкобуржуазные демократы вовсе не желали передавать всей власти народным массам, а желали по-прежнему сидеть на хребте у этих масс, соглашаясь пожертвовать только тем, что было им совсем не нужно, — царем и помещиками, но и то только в самом крайнем случае. Наилучшим выходом им представлялся сговор с царем и помещиками на условиях раздела власти.
Фальсификация, подделка революции либералами не ограничивалась словами, она распространялась и на лозунги. Большевики с самого начала выдвинули лозунг Учредительного собрания. Для них это было неразрывно связано с низвержением монархии и переходом к демократической республике. Напомним еще раз, что революция 1905 года мыслилась всеми, в том числе большевиками и Лениным, как низвержение последних остатков феодального, крепостнического строя и открытие совершенно свободного пути для развития капитализма в бывшей царской вотчине. О низвержении капитализма и переходе к социализму тогда вопрос еще не стоял, хотя Ленин и предвидел, что этот переход в случае успеха начатой пролетарской революции может совершиться в кратчайший исторический срок. Тем не менее, подчеркивал всегда Ленин, буржуазная революция, т. е. низвержение царизма и уничтожение помещичьего государства, — это одно, а пролетарская революция, низвержение капитализма и диктатура рабочего класса это другое. Большевики никогда не смешивали этих двух вопросов и для завершения буржуазной революции требовали созыва Учредительного собрания после решительной победы восставших народных масс над помещичьим государством и царской властью. Созвать это собрание должно было революционное правительство, опирающееся на восставшие массы рабочих и крестьян. Лозунг Учредительного собрания стал очень популярен, особенно среди мелкобуржуазной интеллигенции. Но либеральная буржуазия поспешила и тут сейчас же заняться подделкой: она тоже стала говорить о созыве Учредительного собрания, но по ее толкованию выходило, что созвать его должно не революционное правительство, а царское правительство для выработки конституции. Конечно, от такого лозунга Учредительного собрания не только боль¬
1905 год (брошюра)
171
шевикам, но и всем революционным партиям пришлось самым энергичным образом открещиваться.
Выявилось к лету 1905 года и крестьянство. Эхо 9 января отозвалось не только в промышленных центрах, уже в первые месяцы 1905 года губернаторы доносили о начинающемся в деревнях движении в связи со «слухами, распространяемыми возвращающимися с заработков крестьянами», т. е. рабочими: мы знаем что для помещичьего государства и его чиновников рабочий —это и был «крестьянин», только занимающийся не настоящим своим делом. Слухи сводились к тому, что землю будто бы решено отдать всю крестьянам и что она отобрана у помещиков уже в тридцати губерниях, — это подтверждал в одном месте, между прочим, местный крестьянин, служивший в полиции, — чего вернее! Какая путаница была в крестьянских головах, показывает следующее донесение самарского жандармского начальника о разговорах среди крестьян, относящееся к марту 1905 года: «В Бугурусланском уезде настроение крестьян нехорошее: среди них ходят разные толки; высказывается неудовольствие против войны с Японией; начальствующих лиц называют ворами и изменниками, сетуют на выдачу кормовых семьям солдат, ушедших на войну, причем указывают, что кормовые выдаются только зажиточным и богатым семьям, а бедным — нет; что на войну берут крестьян, у которых земли мало, а помещиков — нет. Земских начальников называют дармоедами, так как до них раньше жилось лучше, а теперь все налоги увеличиваются, и земские начальники не объясняют, на что и куда налоги собираются; что скоро будут бить студентов и всех вообще образованных людей, чтобы они не бунтовали против веры христианской и не шли против царя» 47.
Мы видим, на чем могла держаться тактика погромов, но мы видим в то же время, что в крестьянских головах скоплялся материал совсем не по той линии, по какой нужно было погромщикам, и что от крестьян в первую очередь должно было достаться «начальствующим лицам» и «земским начальникам», а уж только после «студентам». И действительно, уже весной 1905 года был разгромлен целый ряд усадеб, принадлежавших, как нарочно, помещикам с самыми громкими именами из высшей знати: графам Шереметевым, князьям Куракиным, графу Орлову-Давыдову, графам Бобринским, наконец, великому князю Сергею (убитому Каляевым в феврале). Все эти знатные господа не менее громко, чем их имена, вопили, требуя присылки войск для охраны их владений и вызывали
172
11. История революционного движения
тем зависть у кулаков, которых тоже громили, и, пожалуй, не реже. Указаний на разгром кулацких усадеб уже весной 1905 года очень много, они не всегда заметны потому, что кулаки часто выступают то в качестве торговцев (и тогда мы читаем: «...лавку разграбили»), то в качестве арендаторов барской земли, то иногда в качестве «помещиков»; один раз мы встречаем кулацкую семью, награбившую 7 тыс. десятин, но это явным образом не дворяне, потому что жандармское донесение называет «помещика» весьма непочтительно — «Насоном Дмитриевым», а не «Дмитриевичем», несмотря на его тысячи десятин; ясно, что это был разбогатевший крестьянин. Этот крестьянин ро- стовщичил награбленной им землей не хуже родовитых дворян, и нелепо огромная арендная плата, которой он требовал с крестьян, была причиной, что его сожгли: 6 июня у него в «усадьбе произошел пожар, причем выгорел почти весь двор, за исключением дома». Это было в Воронежской губернии48. Но и из Пензенской губернии жандарм доносил: «Настроение крестьян весьма враждебное не только в отношении помещиков, но даже и в отношении тех крестьян, которые владеют землей».
Крестьянин был против земельной монополии, кто бы ею ни пользовался в том или другом месте, в тот или другой момент. Это со всей яркостью сказалось на программе Крестьянского союза, возникшего как раз летом 1905 года. Этот союз сложился внешним образом по образу и подобию тех мелкобуржуазных организаций, которые весной образовали учителя, железнодорожники и т. п. Но по существу это было нечто совсем другое. «Это была действительно народная, массовая организация, — писал о Крестьянском союзе Ленин, — разделявшая, конечно, ряд крестьянских предрассудков, податливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестьянина (как податливы к ним и наши социалисты-революционеры), но безусловно «почвенная», реальная организация масс, безусловно революционная в своей основе, способная применять действительно революционные методы борьбы, не суживавшая, а расширявшая размах политического творчества крестьянства, выдвигавшая на сцену самих крестьян с их ненавистью к чиновникам и помещикам» 49. Первый же съезд Крестьянского союза единогласно высказался за отмену частной собственности на землю. Влияние зажиточных элементов выразилось в том, что кулацкие земли в известных пределах были признаны подлежащими выкупу, а дворянские имения конфисковались без выкупа. «Мало мы переплатили за арен¬
1905 год (брошюра)
173
ду?» — говорили они на съезде о помещиках. «Я не могу сосчитать бочек нашей крови, которою мы полили землю. Мало того, наши бабушки молоком своих грудей выкармливали борзых щенят для них... Это ли не выкуп? Столетиями мы были перекати-поле, а они нашим ветром. И теперь им платить?»50 Влияние зажиточных сказалось и на политической программе Крестьянского союза. Эта программа была гораздо ближе к программе либеральной буржуазии, чем к программе рабочих. Съезд принял требование созыва Учредительного собрания, но созвать его должно было еще царское правительство. Вооруженным восстанием союз только грозился как крайним средством. Что без вооруженного восстания не может быть и речи об удовлетворении таких крестьянских требований, как конфискация всех помещичьих земель без выкупа (требование, принятое нашим III съездом еще в мае), этого крестьяне не понимали. Как и для других мелкобуржуазных организаций, самой решительной мерой для них являлась забастовка: не давать помещикам рабочих, не платить им аренды, не покупать у них земли, вообще никакого с ними дела не иметь и не давать им хозяйничать. Дальше крестьянский съезд не шел.
Крестьянские массы шли гораздо дальше своих вождей — крестьяне прибегали к силе против помещиков и кулаков, против стражников и казаков, против войска, где только могли; и Ленин не зря говорил о «крайней революционности мужика, доведенного вековым гнетом крепостников до самого отчаянного положения»51. К сожалению, эти революционные выступления крестьян совершались почти буквально с голыми руками, и даже вооруженные нагайками казаки оказывались в военном отношении сильнее крестьянской массы. В иных случаях, но это бывало чаще в более позднюю эпоху, чем лето 1905 года, крестьяне «разлагали» своего противника, заражая своей революционностью царские войска; оттого начальству приходилось подчас заменять нагайки пушками, позволявшими громить бунтующие деревни за километры, на таком расстоянии, что людей и не видно было; так начал действовать уже прославившийся позже в Москве Дубасов в Курской и Харьковской губерниях в ноябре 1905 года, так действовали потом царские генералы на Северном Кавказе в 1906 году. Но организованное вооруженное выступление крестьян мы имеем только одно — в Вятской губернии, увенчавшееся полным успехом, но только одно. Крестьяне к настоящей, вооруженной революции против царской власти были готовы меньше,
174
11. История революционного движения
чем рабочие. Но революционность крестьян не стояла на одном месте. Крестьянские выступления дают такую же любопытную статистику, как и стачки рабочих. Со времени «воли», когда крестьянскими волнениями было охвачено 45 губерний (девять десятых всей «империи»), крестьянское движение до сколько-нибудь крупных размеров поднималось только в начале 80-х годов, в период народовольческой революции (27 губерний — немного больше половины «империи»; это, конечно, не значит, что все эти губернии сплошь волновались, но в этих губерниях случались «волнения»; в других их вовсе не отмечено, все было спокойно). А в 1902—1904 годах крестьянские движения замечались в 42 губерниях, почти в таком же количестве, как в дни ограбления крестьян «волей» (более четырех пятых всей «империи»). Но и это были только цветочки. Самый бурный из этих годов (сплошное крестьянское восстание в нескольких уездах Полтавской и Харьковской губерний весной 1902 года) дал 340 крестьянских выступлений; а 1905 год дал их 3228— почти в десять раз больше; 1906 год дал 2600 выступлений, и даже 1907 год —год подавления революции и торжества столыпинщины — дал 1337 выступлений — почти столько же, сколько все годы «воли» (около 1600). Если мы возьмем отдельные полосы, сравнение будет еще поучительнее: в Центрально-Черноземном районе за 1900—1904 годы было 84 крестьянских выступления, в 1905—1907 годах —2196. В Белоруссии в первую пятилетку XX века было всего 31 выступление, а в революционное трехлетие — 655 — в двадцать раз больше. И три четверти этих выступлений были направлены непосредственно против помещика: крестьяне умели целиться в своего главного врага. На первом месте стояло уничтожение крепостнической диктатуры, стоявшей перед крестьянами в образе монополии дворян на землю. Кулак приспособлялся к этой диктатуре, становясь арендатором, управляющим, иногда самостоятельным помещиком («чумазые лендлорды», как с насмешкой, прикрывавшей зависть, звали их разорявшиеся дворяне). Бедняк и середняк громили эту диктатуру в том виде, в каком она непосредственно стояла перед ними и была доступна их пониманию.
На следующую, высшую ступень — борьбы с помещичьим государством — могло поднять крестьянское движение только влияние рабочих. Это влияние выступает перед нами с самого же начала крестьянского движения XX века. Один из наиболее толковых прокуроров, расследовавший крестьянское
1905 год (брошюра)
175
движение весны 1902 года на Полтавщине, одной из причин восстания крестьян считал «случившийся в последние годы промышленный кризис». «Толпы рабочих обратились за недостатком занятий на заводах в деревню. Эти недовольные событиями люди, успевшие притом там, в этой специальной заводской обстановке, набраться новых идей, новых мыслей часта весьма вредного направления, внесли в деревню много такого, что жадным ухом крестьянами слушалось и комментировалось (объяснялось) на свой лад» 52. Это «вредное» с прокурорской и жандармской точки зрения, влияние рабочих сразу же дало себя почувствовать и в 1905 году. В Симбирской (позднее Ульяновской) губернии еще в апреле этого года в деле нападения на усадьбу княгини Куракиной «одним из главных руководителей оказался крестьянин той же деревни Григорий 'Уляхин, проживавший некоторое время в Петербурге на заводах»53. В донесениях губернатора и жандармов этот Уляхин встречается нам потом на каждом шагу. Только новый успех рабочей революции мог толкнуть вперед революцию крестьянскую. А неудача рабочей революции означала и крушение крестьянской. И ту и другую перемену видел тот же 1905 год.
К середине 1905 г. (июль — август) стачечное движение добралось уже до самых глухих мест и в самых глухих местах воспитывало рабочую массу так же, как, мы видели, воспитывало оно ее в Иваново-Вознесенске. Но организационно закрепить это воспитание удавалось лишь очень постепенно. Правда, под напором рабочего движения полиция очень сдала, и то, что раньше вызвало бы немедленный арест, теперь почти не встречало полицейских препятствий. Уже в мае — июне 1905 года не только в Москве, но и в крупных провинциальных центрах — Туле, Владимире, Рязани — собрания в 200—300 человек с двухчасовыми докладами происходили почти открыто и городовые терпеливо переминались с ноги на ногу у входа, дожидаясь, пока «кончится». Один раз в Москве, когда высшее начальство потребовало, чтобы «преступная лекция» (так на полицейском жаргоне назывались партийные доклады) ни в каком случае не была допущена, полиция вежливо предупреждала приходящих, что «сегодня собрания не будет». Только переодетые сыщики выслеживали иногда оратора, чтобы попытаться арестовать его на вокзале или по возвращении домой. Но толпы полиция, очевидным образом, боялась. Это сказывалось и на печати. Не говоря о том, что летом 1905 года газеты уже совсем не стеснялись
176
11. История революционного движения
писать о революции, конституции, Учредительном собрании и тому подобных за полгода еще вполне запретных вещах (еще в декабре 1904 года касаться даже конституции было формально запрещено особым циркуляром министерства внутренних дел), все чаще и чаще находились буржуазные издатели для «нелегальных» партийных брошюр и книжек. Постепенно только чисто революционные, агитационные воззвания да официальные органы партии продолжали еще печататься в подпольных типографиях (которых в одной Москве было теперь три или четыре), всю пропагандистскую, теоретическую литературу стало возможно печатать открыто. Несмотря на все это, организация подвигалась вперед медленно, отчасти именно потому, что пропаганда перед широкими массами вместо прежних «кружков» в 10—15 человек поглощала много времени и сил. И организация, конечно, выросла во много раз. Вот для образчика, что представляла собой Москва к началу осени 1905 года:« В организационном отношении город разделен на шесть районов: Рогожский, Городской, Замоскворецкий, Бутырский, Сокольнический и Железнодорожный союз; бывший Пресненский район теперь присоединен частью к Замоскворецкому, частью к Городскому. По количеству организованных рабочих и связей первое место занимает Замоскворецкий район, второе — Рогожский. Этот последний разросся быстро до такой степени, что на еженедельных массовках бывало до 300 человек. Во главе районов стоят районные комитеты, организованные по следующему типу. Представителем Московского комитета является организатор; он имеет от трех до семи помощников, которые все входят в районный комитет; далее в него входят пропагандист и секретарь (заведует денежной отчетностью, контролем над районной техникой и ведением протоколов). Районные комитеты собираются еженедельно в определенные дни; районными организаторами являются обыкновенно интеллигенты, а их помощниками— рабочие. Заведование пропагандой в каждом районе находится в руках особой коллегии, руководимой районным пропагандистом; в коллегии же районных пропагандистов, руководимой ответственным пропагандистом Московского комитета, вырабатывается общая постановка дела во всей организации... При районных комитетах в качестве совещательных органов состоят районные собрания; в них входят от одного до двух представителей от каждого из тех промышленных предприятий, с которыми имеются связи. На этих собраниях районные комитеты получают полную возможность осведомления о назревающих нуждах района, здесь же обсуждаются темы для массовок и
1905 год (брошюра)
177
летучек, вопрос об организации боевых дружин и т. ц. Далее идут заводские комитеты, которые состоят из ответственных лиц по каждому предприятию, распространителей листков, заведующего нелегальной библиотекой, устроителя кружков, заведующего привлечением слушателей на массовки и кассира. Таких заводских комитетов к концу лета насчитывалось до 40» 54.
Это было нечто совершенно несоизмеримое даже с 1904 годом, когда во всей Московской организации считалось 300 человек — столько, сколько теперь собиралось на массовку в одном районе. Но как скромны эти цифры на теперешний масштаб! В огромном Замоскворецком районе, где были сосредоточены почти все крупнейшие металлургические предприятия Москвы и было, наверное, не меньше 30—40 тыс. рабочих, считалось всего 2500 организованных (всего на всю Москву с ее 150-тысячным пролетариатом считалось организованных около 8 тыс.). За партией шли миллионы рабочих, в партии были лишь тысячи; правда, сравнительно с сотнями членов предшествующих годов это был колоссальный скачок вперед, но бой с самодержавием мог бы победоносно провести только хорошо организованный пролетариат. Для этой организации нужно было время. Ленин это превосходно понимал. В октябре— еще из-за границы— он писал М. М. Эссен: «Время восстания? Кто возьмется его определить? Я бы лично охотно оттянул его до весны и до возвращения маньчжурской армии, я склонен думать, что нам вообще выгодно оттянуть его. Но ведь нас все равно не спрашивают. Возьмите теперешнюю грандиозную стачку» *.
Грандиозная октябрьская забастовка показала,что революция действительно не ждет и что остается только приспособляться к ее темпам, поскольку хватает сил. К всеобщей забастовке ряд большевистских организаций (Московская, Нижегородская и др.) начал призывать немедленно после Лодзи и «Потемкина». В конце июня (ст. ст.) московские большевики писали в своем воззвании: «Капиталисты и правительство уже устроили политическую стачку — помните это, товарищи! Чем же ответить на это рабочему классу? Рабочие должны для борьбы с политической стачкой грабителей устроить в свою очередь всеобщую политическую забастовку всего рабочего класса». Воззвание выдвигало два лозунга: 8-часовой рабочий день и «созыв народных представителей». Оно хорошо предвидело
* Ленинский сборник V, стр. 522бБ.
178 11. История революционного движения
механику всеобщей забастовки, как она действительно осуществилась в октябре, в частности роль железных дорог: «Вы, господа грабители, говорите, что у вас есть войска. Но кто будет перевозить их, если бастуют железные дороги?» Но воззвание очень еще осторожно говорит о вооруженной борьбе: вместо слов «вооруженное восстание» мы находим в нем лишь слова «народное восстание», причем стачка оказывается уже этим народным восстанием: «Всеобщая стачка есть уже народное восстание, а народное восстание есть уже победа». Выходило, что победу можно одержать и без применения оружия, при помощи только забастовки. Ленин правильно указывал, что московские рабочие шли в деле революции позади петербургских, варшавских, рижских и т. д., и организация, видимо, приспособлялась к этой сравнительной отсталости.
Призывы к всеобщей стачке мы встречаем и в ряде других воззваний Московского комитета и его районных организаций в июне —июле 1905 года. Но забастовочное движение развернулось только в сентябре, и притом довольно неожиданно для наших организаций, — лишнее доказательство того, что влияние этих организаций хватало не так далеко, как хватала большевистская пропаганда. Большевики правильно намечали путь движения, но у них было еще слишком мало сил, чтобы непосредственно руководить движением масс по этому пути. Воззвание Московского комитета от 25 сентября (ст. ст.) застает уже сложившуюся крупную забастовку у типографов и булочников и сначала не призывает еще к всеобщей забастовке, а только к забастовке всех рабочих московских предприятий. Но зато оно гораздо правильнее оценивает значение забастовки: «Забастовка есть начало, есть первый выход рабочего на борьбу с ненавистным врагом рабочих — самодержавным правительством» — и гораздо определеннее говорит о дальнейших шагах: «Отспячки к стачке, от стачки к вооруженному восстанию, от восстания к победе, — таков наш путь, путь рабочего класса!» 56
Как и в июне — июле, тут намечался путь, на который даже самые передовые слои рабочей массы вступили лишь через два месяца. Ленин, имея лишь скудные данные заграничных газет, правильно оценил события, происходившие в Москве в конце сентября — начале октября 1905 года. Он писал: «Вспышка восстания в Москве не представляет, сравнительно с другими, высшей ступени движения. Нет ни выступления подготовленных заранее и хорошо вооруженных революционных отрядов, ни перехода на сторону народа хотя бы известных частей вой¬
1905 год (брошюра)1
179
ска, ни широкого употребления «новых» видов народного оружия, бомб...» * «Новое» в октябрьской забастовке 1905 года было не в методах борьбы, а в том, что первый раз в этом году забастовка под политическими лозунгами, забастовка против самодержавия, против помещичьего государства охватила всю «Россию», а не только наиболее передовые промышленные центры, как это было в январе. В январе было 444 тыс. стачечников, из которых лишь меньшинство выступало под политическими лозунгами; в октябре стачечников было немного больше — 519 тыс.**, но под политическими лозунгами бастовало подавляющее болыпинство— 328 тыс. Если 9 января мы имели только к концу дня, после расстрела, выступление лишь петербургских рабочих против самодержавия, то теперь, в октябре, мы имели выступление против самодержавия всего рабочего класса страны. В этом то новое, что дала октябрьская забастовка.
Выпущенное в разгаре стачки обращение Московского комитета нашей партии характеризует так состав забастовавшей массы:
«В настоящее время в Москве забастовало более 100 тысяч рабочих. Забастовали все железные дороги, фабрики, заводы, почти все аптеки; прекратили работу городские, почтовые, телеграфные служащие и решили забастовать водопроводчики». К этому перечню нужно только присоединить еще учащихся и большую часть государственных служащих (бастовали суды, контрольные палаты и т. п.). В качественном отношении в этой стачке особенное значение имели железнодорожники. По московским бюллетеням видно, как постепенно подходила забастовка к железным дорогам: первые железнодорожные мастерские, брестские (теперь белорусско-балтийские) и курские, забастовали 27—28 сентября (ст. ст.), а 7 октября стал весь московский железнодорожный узел. «Начали», таким образом, не машинисты, как иногда думают, а рабочие-металлисты, обслуживавшие транспорт. Именно с присоединением к стачке транспорта она и стала всеобщей. «Прекратился подвоз свежих припасов в город, замирает и замрет скоро вся жизнь» 58, — писал Московский комитет. Разорвана была и та связь, на которой держалось господство помещичьего государ¬
* Ленинский сборник V, стр. 40657.
** Все эти цифры, не надо забывать, относятся лишь к промышленным предприятиям, находившимся под надзором фабричной инспекции. Бастовало всего уже в январе до миллиона, в октябре несколько миллионов.
180
11. История революционного движения
ства над страной. Лев Толстой назвал это государство «Чингисханом с телеграфами». Теперь «Чингисхан» был без телеграфов и железных дорог, и бессилие его стало ясно всем, прежде всего ему самому.
Положение Николая было в эту минуту отчаянное. У Петергофа дежурили германские миноносцы, на которых «царь всероссийский» готовился бежать за границу. Помимо ярости, охватившей его и его шайку при виде цоднявшейся народной массы, справиться с которой не было никаких средств, ибо никакие расстрелы не могли сдвинуть с места ни одного паровоза, не могли заставить работать ни один телеграфный аппарат, — он переживал жгучее чувство стыда перед своими «друзьями» в Европе, от которых он материально зависел. Японская война, только что закончившаяся — в августе — постыдным миром, проделала такую дыру в его кармане, что ее можно было заштопать только при помощи крупного нового займа за границей, о чем Витте как раз и вел переговоры. Но кто же даст взаймы царю, которого в его «собственной» стране никто не слушается? Надо было во что бы то ни стало оборвать забастовку, подавить которую уже не было средств. Мы видели, что Николай давно уже начал систематически обманывать малосознательные слои народной массы: Булыгинская дума была своего рода крестьянской зубатовщиной. Рабочих тогда обмануть не надеялись. Теперь приходилось пойти на попытку обмануть и рабочих, хотя бы наиболее широкие и наименее сознательные их массы. Что без обмана из такого положения не выпутаешься, было совершенно ясно всем. Но тут возник спор: кто будет обманывать? Витте и стоявшая за его спиной либеральная буржуазия требовали, чтобы обманывать было предоставлено им. Николай оскандалился окончательно, пусть он отойдет в сторону и предоставит капиталистам и чиновникам (это была в сущности одна шайка) * надуть рабочих. Они это сделают в лучшем виде. Но сделать это значило передать либеральной буржуазии власть, а Николай вовсе не хотел отказываться от власти. И он настоял на том, что обманет народ сам: Витте требовал, чтобы царь только положил резолюцию на его докладе, а Николай издал манифест от себя. В манифесте говорилось как будто обо всем, чего требовали бесчислен¬
* Ленин еще в 1894 году писал в «Что такое «друзья народа»...»: «Пополняемая, главным образом, из разночинцев, эта бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко буржуазной...»59.
1905 год (брошюра)
181
ные резолюции, принимавшиеся в те дни на тысячах собраний: были и «незыблемые основы гражданской свободы», и «действительная неприкосновенность личности», «свобода совести, слова, собраний и союзов», и «привлечение и участие в Думе таких слоев населения, которые ныне совсем лишены избирательных нрав», т. е. рабочих, и т. д. Только перестаньте бастовать — все вам будет. А перестанете — там посмотрим, ведь забастовка — единственное оружие, которое пока у вас есть в руках...
Вся цель манифеста 17 октября и заключалась в том, чтобы выбить из рук массы то оружие, которым она пока научилась владеть. Нетрудно представить себе, как отнесся бы к манифесту Николая хорошо организованный пролетариат, но он был пока в ничтожном меньшинстве. А поднявшиеся стихийно народные массы, где настоящие в подлинном смысле этого слова рабочие тонули в болоте всяких «служащих», «учащихся», всевозможной мелкой буржуазии, чувствовали уже утомление от своего подъема. Московский комитет решил прекратить забастовку не потому, что вышел царский манифест, а потому, что забастовка сама шла на убыль: более отсталые группы одна за другой становились на работу. Приходилось удовольствоваться моральной победой над самодержавием, тем фактом, что самодержавие явно, на глазах у всех струсило. Материальные выводы из этой победы нужно было закреплять еще новыми боями.
VIII. Последний бой
Что самодержавие струсило перед забастовкой, что нашлась сила, перед которой царь и дворяне со скрежетом зубов должны были снять шапку, — это был все же огромный успех революции. Этот успех должен был приободрить всех, кто боролся с помещичьим государством, он означал, что масса революционеров, уже в октябре 1905 года очень большая, должна была вырасти еще во много раз. Прежде всего окончательно поднялась деревня. Предыдущие годы и начало 1905 года видели все разраставшиеся и разраставшиеся крестьянские волне н и я, но в последние месяцы 1905 года в деревне бушевала настоящая крестьянская революция. В среднем за революционное трехлетие, 1905—1907 годы, мы имеем около 200 крестьянских выступлений в месяц, а на ноябрь и декабрь 1905 года приходится более 800 выступлений. Помещики и местное начальство были в панике. Как только после всеобщей забастовки
182
11. История революционного движения
заработал телеграф, с мест полетели в Петербург отчаянные депеши. «В последние дни крестьянское движение, выражавшееся ранее в мелких расхищениях и порубках, стало приобретать в некоторых уездах грозный характер», — доносили из Тулы. «Погромы усиливаются», — телеграфировали из Курска. «В Новооскольском уезде истреблены все экономии при 21 поселении; в Старооскольском — несколько меньше; войск на месте —200 казаков, рота пехоты; завтра прибудут еще 30 казаков, рота пехоты; больше выслать нечего, а эти крайне утомлены. Этими силами совершенно невозможно остановить дальнейшее распространение пугачевщины... Сейчас получено известие: беспорядки захватывают Грайворонский, Обоянский, Суджанский уезды...» «В губернии со страшной силой разрастается аграрное движение, — доносили из Воронежа, — грозит повальное истребление помещичьих усадеб, наличных войск крайне недостаточно...» «Губерния в опасности, — телеграфировали из Тамбова,— в уездах Кирсановском, Борисоглебском сожжены, разграблены более 30 владельческих усадеб... войск мало...» «Солдат, солдат, солдат!» — вопили отовсюду губернаторы, предводители дворянства, жандармские полковники. И на все это министр внутренних дел сыщик Дурново должен был отвечать: «К сожалению, все мои настояния о присылке войск остаются без успеха за неимением вообще войск в империи...» 60 Для «усмирения» были разосланы по губерниям царские генерал-адъютанты, но без войск, с одними «чрезвычайными полномочиями», и они ничего сделать не могли, а наиболее решительный из них, пытавшийся громить восставшие деревни артиллерией, будущий бомбардировщик Москвы адмирал Дубасов пришел к заключению, что ничего в сущности не остается, как оставить за крестьянами те земли, которые они уже захватили. «Этим крестьян успокоите, и помещикам будет лучше, — говорил он Витте, — так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных владельцев» 6l.
На Дубасова больше всего произвело впечатление то, что даже там, где были войска, царская власть на них положиться не могла. «Обоянский и Грайворонский пехотные полки... стояли в Курске, но были ненадежны ввиду массы запасных»; и эти полки перед лицом разрастающейся революции пришлось демобилизовать, уволив запасных. Преемник Дубасова генерал- адъютант Пантелеев доносил:«Войска утомились. Приказ увольнения в запас срока 1901 года в кавалерии вызвал глубокое брожение в пехоте». Дальше упоминается о брожении в 51-й
1905 год (брошюра)’
183
артиллерийской бригаде62. Рабочее движение туго передавалось сухопутной армии, где подавляющее большинство солдат были крестьяне; «пугачевщина», как и в XVIII веке, быстро захватывала войска. А в то же время главный военный резерв, какой еще оставался у Николая,—действующая армия в Маньчжурии, не возвращенная еще в Европу после заключения мира, была охвачена «брожением» куда больше, нежели части, стоявшие в европейских губерниях «империи». Главнокомандующий Маньчжурской армии Линевич так описывал свои войска:
«Это были не более как толпы и вооруженные банды, державшие перечисленные города — [Никольск, Хабаровск, Харбин, Маньчжурию, Читу и т. д.], как и Владивосток, в осадном положении». Количество этих неповинующихся войск Линевич исчислял в 100 тыс.
«Говорят, [что] наша армия дезорганизована и дисциплины в ней нет, так что нельзя быть уверенным, что подчиненный не пойдет бить начальника. Да, это правда»63, — писал один полковник своему начальству. Слухи об октябрьской забастовке доходили на Дальний Восток в очень преувеличенном виде, и там были убеждены некоторое время, что Николай уже свергнут. Эти слухи и бурное движение среди солдат, рвавшихся изо всех сил на родину, до такой степени подействовали на высшее военное начальство, что даже генералы и губернаторы подписывали конституционные заявления и принимали к исполнению резолюции образовавшегося в Маньчжурской армии «Союза солдатских и казачьих депутатов». Дальний Восток конца 1905 года очень напоминал то, что происходило на фронте в 1917 году, но разница была в том, что фронт империалистической войны был в непосредственной близости к восставшим рабочим массам, а Маньчжурская армия была отделена от промышленных центров «России» 8 тыс. км. Ленин недаром ждал возвращения маньчжурских солдат, но царское правительство понимало, что может получиться из соприкосновения революционного солдата с революционным рабочим и революционным крестьянином. И оно спешило во что бы то ни стало как можно скорее покончить с революцией.
Для правительства в таком положении всего опаснее было хорошо подготовленное и твердо проведенное вооруженное восстание. Лозунг, поднятый Лениным еще в 1901—1902 годах и ставший практической директивой нашей партии с III съезда, был теперь основным. От того, насколько авангард революции, ее наиболее организованные элементы, способен поднять и про¬
184
11. История революционного движения
вести восстание, зависело все. Орган для проведения восстания и захвата власти был налицо: в качестве своего прочного следа октябрьская забастовка оставила Советы рабочих депутатов*.
Первые рабочие Советы в Иваново-Вознесенске и Костроме возникли еще летом 1905 года. Но на первое время их задача была еще довольно узкая: они только руководили забастовкой. Старая власть существовала рядом с ними, и они вели с этой властью переговоры. У некоторых товарищей рождалась даже мысль, что Советы «очень скоро легализуются, становясь официальными, всеми признаваемыми центрами». Это было, конечно, глубочайшее заблуждение: сила Советов была в их революционности, т. е. в их совершенной нелегальности. Легальные, признаваемые царским правительством Советы были бы в сущности зачатками профессиональных союзов; но царское правительство теперь, в октябре 1905 года, очень дорого бы дало, чтобы рабочие ограничились устройством профессиональных союзов. Обман 17 октября (ст. ст.), поскольку дело шло о рабочих, главным образом эту цель и преследовал: гапоновец Ушаков убедил одного из великих князей (Николая, будущего главнокомандующего), что если дать рабочим «конституцию», дать им право организовываться на экономической почве, политическое движение рабочих сразу прекратится, а тот убедил в этом царя. Средство, которое, может быть, годилось бы несколько лет назад, чтобы предупредить революцию или по крайней мере ее отсрочить (пример — Англия), теперь хотели испробовать, чтобы прекратить революцию. Но было уже слишком поздно. Старания Ушакова в Петербурге ни к чему не привели: он был просто оплеван рабочими. И во главе последних стала не тред-юнионистская, а чисто боевая, революционная организация в лице образовавшегося 13 (26) октября Петербургского Совета рабочих депутатов. На примере этого Совета мы можем видеть, чем Совет в силу непреклонной логики революции должен был стать и какие препятствия встречал он на пути своего развития. Другие Советы или не встречали этих препятствий и пали вследствие других причин, или не достигли той ступени развития, на которую поднялся Петербургский Совет.
Значение Петербурга в истории всей русской революционной борьбы на протяжении столетия было очень велико. Пер¬
* История революции *1905 года насчитывает их до тридцати; известнейшими были после Петербургского и Московского Екатерино- славский, Новороссийский и Красноярский.
1905 год (броппора)
185
вое выступление с оружием в руках против самодержавия произошло именно здесь 14(26) декабря 1825 года, и здесь же 27 февраля (12 марта) 1917 года самодержавие окончательно пало. Как после победы на Сенатской площади в Петербурге у Николая I не было больше серьезных противников, так после поражения в Петербурге Николай II не имел больше в стране точки опоры. В промежутке между двумя этими историческими датами почти все крупные революционные выступления имели место в Петербурге: здесь протекала вся революционная деятельность Чернышевского, здесь было совершено покушение Каракозова, отсюда главным образом «шли в народ» пропагандисты 70-х годов, здесь была основана «Земля и воля», здесь былГ центр деятельности народовольцев. Первые массовые выступления рабочих, «разбудившие» буржуазию, происходили в Петербурге; здесь был крупнейший и основной «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и здесь же 9 (22) января 1905 года началась первая наша революция. В октябре 1917 года самые жестокие бои происходили в Москве; сопротивление, встреченное Октябрьской революцией в Питере, было слабее; но не следует себя обманывать: если бы Петербург не победил раньше, чем кончились московские бои, Москву постигло бы в октябре 1917 года то же, что постигло ее в декабре 1905 года; военная победа Москвы в октябре 1917 года объясняется прежде всего тем, что московские белогвардейцы не получили ниоткуда никаких подкреплений и были предоставлены самим себе, а московская Красная гвардия все время усиливалась как за счет московской округи, так и за счет только что победившего пролетарского Питера.
Петербург был столицей не только царской «империи», но и нашей революции; и ни один город в Советском Союзе не достоин более его носить имя вождя этой революции, называться Ленинградом. Победа в Петербурге означала больше 50% победы революции вообще; поражение Петербурга почти наверное предрешало поражение революции. Уже то, что октябрьская забастовка 1905 года началась в Москве и захватила целиком Питер только к концу (правда, она там и продержалась двумя днями дольше), было плохим предвещанием. Петербург как будто начал терять свое место во главе революционной колонны. Но это могло быть чистой случайностью, и в 1917 году Ленин одно время находил, что «Москва могла бы начать» 64. Первое же обращение только что образовавшегося Петербургского Совета рабочих депутатов от 14 (27) октября 1905 года кончается великолепным призывом: «Товарищи, тех
186 11. История революционного двиокения
рабочих, которые не желают, несмотря на все наши убеждения и постановления Совета депутатов, прекратить работы, снимайте с работы. Кто не с нами, тот против нас, и к ним Совет депутатов постановил применить крайнее средство — силу»65. На третьем заседании Совет постановил: «Требовать от городской думы денег на вооружение всех борющихся за народную свободу... предложить всем потребительским лавкам и столовым служащих и рабочих отказывать полиции и казакам в продовольствии, даже за деньги» 66. Может быть, больше соответствовало бы гигантскому подъему революции не «требовать» денег на вооружение от петербургских купцов и чиновников, а просто взять эти деньги; не одним только потребил- кам и рабочим столовым, а кому бы то ни было запретить продавать хоть кусок хлеба «царским псам», как начинали называть казаков и полицию даже крестьяне. Но все же Совет выступил как боевая и революционная организация и как революционный орган власти. И как орган власти 18 (31) октября Совет объявил в Петербурге уничтоженной царскую цензуру и ввел свободу печати: «Газеты, не подчинившиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены, типографии и машины будут попорчены, а рабочие, не подчинившиеся постановлению Совета депутатов, будут бойкотированы» 67. Совет знал, что революция есть последовательное и беспощадное применение силы, и, казалось, умел это теоретическое положение революции применить на практике.
Но следующим применением силы в борьбе с самодержавием после всеобщей забастовки было оружие. Рабочая масса это понимала. Уже 14(27) октября рабочие печатного дела — те самые, которым через несколько дней предстояло проводить в жизнь первый акт власти Совета, — представили последнему резолюцию, где говорилось: «Всеобщая политическая забастовка, объявленная РСДРП, является первой ступенью, с которой рабочий класс пойдет дальше по пути решительной борьбы с царским самодержавием. .Признавая недостаточность одной пассивной борьбы, т. е. одного прекращения работ, постановляем: обратить армию забастовавшего рабочего класса в армию революционную, т. е. немедленно организовывать боевые дружины. Пусть эти боевые дружины позаботятся вооружением остальных рабочих масс, хотя бы путем разгрома оружейных магазинов и отобрания оружия у полиции и войск, где это возможно» 68. Фактически вооружение на целом ряде заводов уже прошло, были образованы бое-
1905 год (брошюра)
187
вые дружины, которым и приходилось весьма нередко действовать против полиции и казаков, которые тоже, где могли, применяли силу, расстреливая и избивая нагайками небольшие собрания рабочих. Дружинники отвечали на выстрел выстрелом, элементы вооруженного восстания были налицо, не хватало только организации вооруженного восстания. Этой организации руководители Совета не умели создать до конца.
Этими руководителями Совета — факт, который нужно разъяснять возможно шире, ибо в этом факте три четверти причины неудач Петербурга в революции 1905 года, а эти неудачи были неудачей всей революции, — этими руководителями были меньшевики. Уже то, .что Петербург был театром гапоновщины, должно было показать читателям, что в Петербурге были сильны тред-юнионистские настроения, недаром и главное гнездо «экономизма» было здесь. Но там, где были сильны экономисты, должны были быть сильны и непосредственные их соседи и преемники — меньшевики. Тред- юнионисту до меньшевика было гораздо ближе, чем до большевика. Рабочая масса постепенно тяжелыми жертвами изживала свой тред-юнионизм. Петербургский совет 1905 года был в сущности Советом металлистов, они имели 351 депутата из 508 рабочих делегатов, а никто не дрался так отчаянно в революцию 1905 года, как металлисты. Но от предыдущего периода в Петербурге осталась сильная меньшевистская организация, более сильные были только на юге «империи». В Москве, Иваново-Вознесенске и вообще в Центральном районе ничего подобного не было. Меньшевики обладали большой способностью прилаживаться ко всяким обстоятельствам — оппортунист потому так и называется, что он обладает способностью прилаживаться (это слово по-французски и значит «прилаживающийся») ко всяким обстоятельствам. Меньшевики прилаживались в свое время к земскому движению, теперь сумели приладиться и к всеобщей забастовке. На первом собрании Петербургского Совета председательствовал меньшевик, а большевики совсем на него не пришли. Ленина не было еще в Петербурге, он был на пути из Женевы, где он должен был жить как нелегальный эмигрант; его возвращение задерживалось отсутствием паспорта: под своим именем он ехать не мог. Где-где, а на границе царские жандармы еще держались твердо. Во главе большевиков в Петербурге стоял тогда принадлежавший к нашей партии известный литератор Богданов, будущий создатель «всеобщей организационной науки». Под влиянием Богданова у большевиков явились теоретические
188
11. История революционного движения
сомнения насчет правильности Советов. Положение действительно было нелегкое: впервые приходилось руководить беспартийной рабочей организацией такого масштаба. /Это удалось в Иваново-Вознесенске, но то — сравнительно мелкий провинциальный центр, а тут столица и 200 тыс. квалифици- рованнейшего пролетариата. В теоретических колебаниях большевики потеряли только один день, но потерять день в революции — это все равно что потерять час на поле сражения. Явившись наконец на второе заседание, Богданов и его товарищи нашли позиции прочно занятыми меньшевиками, и, что всего хуже, последние смогли выдвинуть фигуру, на редкость способную «приладиться» именно к той обстановке, какая была в тогдашний момент. Это был всем теперь известный Троцкий, под именем Яновского бывший фактическим председателем Совета; для отвода глаз был выбран беспартийный адвокат Хрусталев-Носарь, в сущности либерал, хоть он и вступил потом в меньшевистскую фракцию. Никто лучше Троцкого не умел соединять звонкую революционную фразу с самой что ни на есть оппортунистической политикой. Почитать его речи в Петербургском Совете, так удивляешься: почему же он не свергнул самодержавия? А всмотритесь в содержание этих речей, вы сразу увидите, что политика Троцкого в Совете была насквозь оппортунистической, она не помогала рабочим использовать их успехи, а мешала им в этом. А на словах эта политика была революционнее большевистской, потому что язык Троцкого прямо шел к социализму, тогда как большевики говорили лишь о свержении помещичьего государства и демократической республике.
Троцкий приписывал себе и приписывает до сих пор авторство теории перманентной революции. На самом деле эта теория принадлежит Марксу и Ленину. И тот и другой учили, что пролетариат, завоевав демократическую республику, не должен ни в в каком случае на этом останавливаться, а должен толкать революцию дальше и дальше, к низвержению господства буржуазии и диктатуре рабочего класса. Большевики в 1905 году не забывали об этом ни на минуту. Перечитайте все прокламации и листовки большевиков за первую революцию — вы всюду увидите постоянные напоминания рабочим, что основная борьба — это есть борьба за социализм, а демократическая республика есть лишь наиболее удобная политическая форма для этой борьбы, форма, позволяющая ускорить эту борьбу во много раз. Как долго продержится эта форма, как скоро пойдет борьба, этого ни один добросовест¬
1905 год (брошюра)
189
ный человек не взялся бы предсказать, и Ленин всегда категорически отказывался это предсказывать, а история решила, что в нашей стране промежуток между падением диктатуры помещиков и падением власти капиталистов будет всего в 8 месяцев (1917 год). Но все-таки у нас была отдельно буржуазная Февральская революция и отдельно социалистическая — Октябрьская. «Оригинальность» Троцкого, которой он очень гордился, заключалась в том, что у него конец буржуазной революции и начало социалистической для нашей страны сливались: падение самодержавия было в то же время первым актом социалистической революции. Обосновал он это тем, что наш капитализм будто бы создан самодержавием и что с падением самодержавия ему не на чем будет держаться, буржуазия будет так ослаблена, что сбить ее будет уже очень легко. Это была старая, народническая, в частности народовольческая, ошибка, давно разъясненная еще Плехановым. По отношению к теории Маркса и Ленина теория Троцкого была тем, что называют «утрировкой», крайним и нелепым преувеличением. Они говорили, что пролетариат должен стремиться сделать промежуток между буржуазной и социалистической революциями возможно короче; Троцкий же утверждал: «Никакого промежутка! Сразу!» А когда ему указывали на стомиллионную массу мелких производителей, крестьян, которые тоже участвуют в буржуазной революции, Троцкий отвечал (буквально): «История не может вверить мужику раскрепощения буржуазной нации». «Мужик» был для Троцкого только вспомогательным отрядом революции, обозной колонной или партизанской группой. И тут опять была нелепая утрировка верного положения, что крестьянская революция при капитализме не может быть самостоятельной революцией, как в докапиталистическую эпоху, в средние века. Но в «России» шедшая за рабочими крестьянская революционная масса была огромной мощности тараном, бившим самодержавие: мы видели, в какую панику впадали слуги самодержавия при первых ударах этого тарана. Сам же Троцкий потом должен был признать, что в «декабре 1905 г. русский пролетариат разбился не о свои ошибки, а о более реальную величину: о штыки крестьянской армии». Это опять утрировка: штыки очень нехотя и из-под палки выполняли лишь техническую функцию, на самом деле для неудачи движе-. ния были более глубокие причины: недостаточная организованность рабочего класса, несвязанность действий двух революционных сил — пролетариата и крестьянства, отсутствие до
190
II. История революционного движения
конца единого руководства даже и у пролетариата (эсеры и меньшевики продолжали существовать рядом с большевиками), наконец, ошибки местных организаций.
Все это мы сейчас увидим. Но для Троцкого характерно, что, отринув сначала с пренебрежением «мужика», он теперь его же, одетого в солдатскую шинель и с винтовкой в руках, делает главной контрреволюционной силой. Противоречия этих двух положений: мужик — плохой революционер, мужик — хороший контрреволюционер — Троцкий так, по- видимому, и не заметил.
Но это последнее положение, что мужик — основная контрреволюционная сила, позволяет безошибочно причислить Троцкого к определенной фракции, как бы он от этого ни открещивался. Учение, что деревня есть основная контрреволюционная сила, что только город подлинно революционен, — это есть одно из основных положений меньшевизма, не понимавшего революционного значения борьбы крестьянина с помещиком и делавшего из этого свой вывод: на мужика надежды нет, он — реакционный мелкий буржуа, рабочих же мало, так пойдем под ручку с либеральной буржуазией, иначе реакция нас съест. Троцкий формально не входил тогда в меньшевистскую фракцию, но меньшевики не мешали нисколько «внефракционному» Троцкому работать, прекрасно понимая, что вся вода пойдет на их мельницу, в то время как большевикам они вставляли столько палок в колеса, сколько могли.
Мы видели, что к концу октябрьской стачки настроение петербургских рабочих было самое боевое, шло стихийное вооружение, стихийное образование рабочих дружин. Казалось, путь был ясен: не теряя ни минуты, усиливать боеспособность пролетариата, вооружать его и организовывать для вооруженной борьбы. Технические условия были для этого необыкновенно благоприятны: холодное оружие рабочие-металлисты изготовляли сами; что касается огнестрельного, то с оружейными магазинами повторялось то же, что было летом с книгоиздателями, — они перестали обращать внимание на какие бы то ни было полицейские запрещения и продавали револьверы и винтовки направо и налево; кроме того, под боком у Петербурга была Финляндия, где тогда велась правильная контрабанда оружием и боевыми припасами; многое можно было получить через солдат, ибо связи были. На заседаниях Совета появлялись представители воинских частей, движение захватывало даже офицеров. Сам Троцкий рассказывает, как он
1905 год (брошюра)
191
однажды присутствовал на офицерском собрании. Вместо того руководители повели Совет по старой дороге стачек. Боевое настроение рабочей массы использовывалось, чтобы объявлять одну забастовку за другой: то за 8-часовой рабочий день, то для поддержки Польши, где было объявлено военное положение, то за кронштадтских матросов, которым после неудачного восстания угрожал расстрел. Причем ни одна забастовка не доводилась до конца. Питерский пролетариат бастовал необыкновенно дружно, но уже слышались предостерегающие голоса. «Совету рабочих депутатов нельзя так играть забастовками: то назначать, то отменять это страшное оружие», — говорили отдельные депутаты. «Политическая забастовка — это громадное оружие, к которому нельзя прибегать с легким сердцем, но которое нельзя и бросать с легким сердцем» — это говорили как раз люди, которые были против прекращения забастовок, т. е. не оппортунисты, а революционеры.. В ответ на такие речи «представитель исполнительного комитета» (едва ли может быть сомнение, что это был сам Троцкий*) развил целую теорию, излагающую всю суть той практики, которая погубила Петербургский Совет.
«Наша настоящая забастовка имеет характер демонстративный, — говорил «представитель» по поводу забастовки, спасшей кронштадтских моряков от расстрела, — и только под этим углом зрения мы можем оценивать ее успех или неуспех. Если смотреть так, что целью нашего выступления должно быть свержение самодержавия, то таких выступлений может быть только одно, и тогда — я согласен с товарищами — мы должны бороться до конца, но наши выступления — это ряд поступательных битв; цель их — дезорганизация правительства, приобретение симпатий новых групп, в том числе армии. Не забывайте, что только недавно создались для нас те условия, при которых мы можем устраивать тысячные митинги, организовывать широкие массы пролетариата, и уже теперь мы диктуем свои условия мировой бирже. Необходимо возможно полнее использовать эти условия для самой широкой агитации и организации пролетариата. Этот период подготовки масс к решительным действиям мы должны растянуть, быть может, на месяц-два, чтобы затем выступить возможно более сплоченной и организованной массой».
* Речь «представителя» перепечатана в книге «1905 год» Троцкого почти целиком, с необычайно характерными исправлениями и сокращениями.
192
11. История революционного движения
Итак цель рабочего движения не свержение самодержавия, а только его дезорганизация, «приобретение симпатий новых групп, в том числе и армии». Армии — это понятно, ну, а другие-то группы какие же? Пролетариат Питера стоял сплошной стеной, его агитировать было нечего, и к нему присоединялись такие группы, как почтовики и телеграфисты. Этой последней группе, кстати сказать, пролетариат помогал технически, разрушая провода и аппараты, делая невозможной работу почтовых контор. Меньшевистское ухо торчит: важно было сохранить контакт с буржуазией и буржуазной интеллигенцией. Никаких других «групп», на которые можно было бы подействовать мирной забастовкой, не переходящей в вооруженное восстание, уже не было. Вот откуда чрезвычайно кислое, чтобы не сказать более, отношение верхушки Совета к борьбе за 8-часовой рабочий день — борьбе, чрезвычайно популярной в рабочих массах.
Несмотря на то что ряд представителей заводов считал возможным продолжение забастовки за 8-часовой рабочий день; несмотря на то что даже после ряда обескураживающих речей в исполкоме четыре крупных района (Невский, Василе- островский, Петербургский и Выборгский) высказались за продолжение; что к Петербургу собирались примкнуть окрестности вплоть до Нарвы с 30 тыс. рабочих; что голосование на отдельных заводах, т. е. опрос непосредственно рабочих, давало большинство за забастовку (на Обуховском — 2630 против 1906, в медных мастерских Семяниковского — даже 220 против 26) — словом, несмотря на то что настроение было в самом худшем случае только колеблющееся под влиянием разговоров исполкомщиков, что-де важно не только завоевать, но и закрепить прочно это завоевание — а это возможно при наличности хорошо организованных боевых профессиональных союзов — и что нужно сначала «разбить все предприятия по производствам, исследовать положение каждой отрасли производства и, когда ясен будет вопрос во всех деталях (!!), вводить 8-часовой рабочий день»,—-и эту забастовку решено было сорвать, не доведя до конца.
13 (26) ноября Хрусталев и Троцкий внесли резолюцию, гласившую: «Решение Совета рабочих депутатов ввести 8-часовой рабочий день революционным путем встретило упорное сопротивление объединенных капиталистов. Правительство гр. Витте, которое стремится сломить силу пролетариата, стало на защиту капитала и этим самым превратило вопрос о 8-часовом рабочем дне в Петербурге в вопрос общегосудар-
1905 год (брошюра)
193
ственный. А это приводит к тому, что петербургские рабочие отдельно от рабочих всей страны не могут сейчас осуществить постановление Совета рабочих депутатов. Поэтому Совет рабочих депутатов считает необходимым временно приостановить немедленное повсеместное проведение революционным путем 8-часового рабочего дня» 69.
В утешение рабочим было сказано, что «самодержавие уже умерло и нужно только вколотить последний гвоздь в его гроб». Сейчас мы увидим, как это самодержавие умерло. Но пока подведем итог тактике Троцкого. Тактика эта привела к тому, что в Петербурге, там, где «старая власть была наиболее сильна», «соответствующий орган новой власти был наиболее слаб»70, говоря словами Ленина. Правительство Витте и Совет рабочих депутатов существовали бок о бок полтора месяца, и Витте имеет нахальство уверять в своих воспоминаниях, что существовали они рядом совершенно мирно, причем будто бы ему, Витте, наличность Совета рабочих депутатов не причиняла никакого беспокойства. Он, конечно, врет, иначе зачем ему было арестовывать Совет (решение арестовать состоялось еще в начале ноября)? Но Совет ему мешал действительно не столько своими действиями, сколько тем громадным агитационным влиянием, которое он имел на всю страну. Образчиком этого агитационного влияния может служить так называемый «финансовый манифест» Совета (2(15) декабря), где Совет призывал «отказываться от взноса выкупг ных и всех других казенных платежей. Требовать при всех сделках, при выдаче рабочей платы и жалованья уплаты золотом, а при суммах меньше пяти рублей — полновесной звонкой монетой. Брать вклады из ссудо-сберегательных касс и из Государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом»71. После этого количество выдач из сберегательных касс «империи» превысило количество вкладов на 90 млн. руб., тогда как обычно за этот месяц (декабрь) количество вкладов превышало количество выдач миллиона на четыре. Это агитационное влияние Совета и вызвало арест сначала его номинального председателя Хрусталева (полиция и буржуазные газеты считали его настоящим председателем). Руководители Совета, уверенные, что самодержавие умерло и остается лишь вколачивать гвозди в его гроб, совершенно растерялись при виде воскресшего мертвеца. Троцкий быстро нашел очень звонкую фразу: «21 ноября царским правительством взят
в плен председатель Совета рабочих депутатов т. Хрусталев- Носарь. Совет рабочих депутатов временно избирает нового
7 M. Н. Покровский, кн. 4
194
11. История революционного движения
председателя и продолжает готовиться к вооруженному восстанию». На самом деле к вооруженному восстанию никто не готовился, кроме отдельных групп рабочих по их собственному почину, а в исполкоме раздавались речи, фактически клеймившие прежнюю политику того же самого исполкома: «Вопрос о том, как ответить правительству на арест Хрусталева, обсуждался в исполнительном комитете, причем все пришли к заключению, что забастовка в Петербурге как местная может иметь лишь демонстративное значение и потому нежелательна» (!). После месяца демонстративной тактики пришли наконец к убеждению, что эта тактика «нежелательна». Это было, конечно, правильное заключение, но слишком: запоздавшее. На арест своего председателя Совет в сущности ничем не ответил, а 3 (16) декабря был арестован весь исполком с Троцким во главе. Это ещё не было концом деятельности Совета, как часто думают: он продержался до 2(15) января 1906 года, когда был .арестован второй исполком, выбранный на место первого. Новый исполком признал, что «петербургские рабочие рвутся к открытой борьбе, не довольствуясь больше забастовкой», — это было совершенно очевидно уже месЦц назад, но для открытой борьбы нужна была какая-то организация, а ее не было. Тем временем начала, полагаясь на Питер, вооруженное восстание Москва и была разбита. Была разбита, как сейчас увидим, на большую половину потому, что потеряла три дня, а троцкистское руководство в Петербурге потеряло два месяца. Такой отсрочки никакая революция не даст.
Я так долго остановился на Петербурге потому, во-первых, что там решалась судьба революции: если бы московский пролетариат и победил, это было бы, по всей вероятности, лишь отсрочкой конца революции, поскольку царское правительство удержало бы за собой Питер; потому, во-вторых, что Петербург октября — декабря 1905 года в лице Троцкого дает исключительно яркий пример того, как не следует руководить революцией. Что происходило в это время в остальной «России»? Период октябрь — декабрь отмечен тремя главными фактами: широким развертыванием открытого массового движения (что дало этому периоду название «дней свободы»); переходом после удачи обмана 17(30) октября в наступление царского правительства и всей черносотенной шайки; и, наконец, в-третьих, началом настоящего вооруженного восстания сначала опять, как летом, в Черноморском флоте, затем в Москве и в целом ряде других пролетарских центров.
1905 год (брошюра)
195
Уже летом 1905 года революционные партии начали выходить из подполья, многое уже с этого времени делалось открыто. Но делалось от случая к случаю, урывками, с постоянной оглядкой на полицию и казаков, которые вот-вот могли появиться из-за угла и действительно появлялись достаточно часто, чтобы о них не забыли. Открыто печатались уже марксистские, отчасти и народнические, пропагандистские книжки, но постоянной ежедневной печати не было; партийные газеты печатались до этого времени еще в тайных типографиях. Теперь партийные газеты стали выходить открыто: большевики издавали в Петербурге «Новую
жизнь», в Москве — «Борьбу»72; меньшевистские и эсеровские партийные газеты также выходили открыто. Трудно себе представить теперь, с каким чувством люди видели на открыто продававшейся на всех перекрестках Петербурга газете лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — лозунг, который еще вчера был непременным признаком произведения печати, вышедшего из подполья. С каким чувством люди читали политические статьи Ленина, напечатанные не на папиросной бумаге плотнейшим шрифтом, а на обыкновенном газетном листе! Какое впечатление производили известия о партийных собраниях, появившиеся в составе обычной газетной хроники! В значительной степени все это было лишь иллюзией, поскольку самодержавие не было еще разбито в отг крытом бою, но это не мешало тому, что в эти три месяца для распространения наших идей в массах было сделано больше, чем за предшествующие тридцать лет. И рядом с этой печатной пропагандой шла устная такого размаха, какой еще вчера нельзя было бы себе представить. Летом полиция терпела собрания в 200—300 человек; теперь собирались митинги по 2—3 тыс., совершенно не терпевшие полиции. Споры между большевиками, меньшевиками и эсерами происходили совершенно открыто — так, как будто никакого самодержавия и в помине не было. И наконец, третья черта «дней свободы», на которую буржуазия и интеллигенция обращали меньше всего внимания, а она имела огромное значение: фабричная конституция, которой добивались рабочие перед 9 января 1905 года, фактически на очень многих предприятиях была уже завоевана. Рабочие-депутаты существовали не только в виде общегородских или районных собраний, они существовали и на отдельных фабриках и заводах; и ни установление правил внутреннего распорядка, ни увольнение и прием рабочих не проходили мимо этих депутатов — на все требовалось 7*
196
11. История революционного движения
их согласие. Администрация фабрик, директора и инженеры ходили на задних лапках перед рабочими, и хотя на большинстве предприятий 8-часового рабочего дня не удалось завоевать, но 9-часовой был теперь почти всюду, а прежде был 11,5-часовой на бумаге и более продолжительный на самом деле. Победа рабочих была огромна, но и она, как все прочие «свободы», не была еще ничем закреплена. Фабриканты и их слуги присмирели, потому что видели, какую затрещину дала царю «мускулистая рука миллионов рабочего люда»; но при малейшем признаке, что эта рука слабеет, к капиталистам бы вновь вернулось их прежнее нахальство. Петербург это уже видел: после двух неудачных — или не совсем удачных и не доведенных до конца — ноябрьских забастовок петербургские предприниматели объявили локаут до тех пор, пока рабочие не станут на работу на прежних, дооктябрьских условиях. 100 тыс, человек было выброшено на улицу. А в октябре те же питерские предприниматели тоже ходили на задних лапках перед рабочими.
Превратятся ли дни свободы в годы свободы, в окончательную свободу — это всецело зависело от исхода «последнего решительного боя» с самодержавием. Слуги царя отлично это понимали и тотчас после своего октябрьского обмана сделали попытку перейти в наступление. По всей «России», от Одессы до Томска, прокатилась волна погромов, по организации похожих на те, что были летом, но в 20 раз более свирепых. Черносотенной толпой было убито до 4 тыс. человек, искалечено до 10 тыс. Громили главным образом евреев. В черте оседлости погромы были особенно варварскими, в одной Одессе было до 500 убитых. Но не только евреев — был большой погром в Твери, а в Томске черносотенцы перебили и сожгли до тысячи человек. Сразу же выяснилось, что для борьбы против главного врага самодержавия, против рабочих, это средство не годится: ни в одном крупном пролетарском центре погрома устроить не удалось. Отдельные выступления черносотенцев, поддерживаемых полицией и казаками, бывали и в Петербурге, и в Москве; отдельные группы рабочих были при этом избиты, отдельные революционеры убиты, но сплошного погрома здесь вызвать не удалось, и попытки нападать не на отдельных людей, а на организованные группы стоили громилам таких потерь, что второй раз они обыкновенно и не пытались пробовать счастья. И даже убийства отдельных революционеров иногда оказывались лишь поводом для еще большего торжества революции, В Москве черносотенцы убили
1905 год (брошюра)
197
члена нашего комитета т. Баумана, одного из основных работников тогдашнего большевистского штаба. Похороны Баумана стали грандиознейшей из рабочих манифестаций 1905 г.: за его гробом шло до 100 тыс. человек, и вся Москва была на улицах. Особенно обращала на себя внимание группа офицеров и солдат, окружавшая знамя Московского социал-демократического комитета (большевистского): войско все более и более открыто переходило на сторону революции.
Полиция и черносотенцы исчезли с улиц — точно их и не было никогда, и только ночью, в темноте, казаки решились напасть на последние группы процессии, возвращавшейся с Ваганьковского кладбища.
Что самодержавие теряет последнюю свою опору — войско, в этом оно очень скоро после похорон Баумана могло убедиться на гораздо более крупном примере. После неудачного восстания кронштадтских моряков, о котором уже упоминалось в связи с петербургскими «демонстративными» забастовками, вспыхнуло новое грандиозное восстание в Черноморском флоте, своим началом обещавшее далеко затмить «Потемкина». Поднялись не только почти все матросы, но в первую минуту восстанием были захвачены и сухопутные войска и артиллеристы Севастопольской крепости. При энергичном и умелом руководстве крупнейшая крепость Черного моря с ее исторической славой стала бы одной из цитаделей революции. Но руководства не нашлось совсем. Во главе восставших оказался случайный человек, лейтенант Шмидт, не то толстовец, не то либерал, не то социалист, не принадлежавший ни к какой партии и плохо в них разбиравшийся, исполненный прекрасных намерений, произносивший прекрасные речи и больше всего старавшийся избегать кровопролития. Этот несчастный человек, геройски ведший себя потом на месте казни, как будто был создан нарочно для того, чтобы выручить начальство, совершенно растерявшееся в первую минуту. Пользуясь бездействием Шмидта, оно повело ловкую черносотенную агитацию между малосознательными пехотинцами и артиллеристами, откололо их от восстания, исподтишка обезоружило восставшие корабли и потом расстреляло их посредством береговой артиллерии.
Как велика была паника начальства, показывает то, что оно знало, что на кораблях находятся офицеры, арестованные восставшими матросами: начальство решило принести «своих» в жертву, лишь бы только задавить восстание как можно скорее. А после подавления разгромивший восстание генерал
198
11. История революционного движения
не нашел другого средства предупредить такие случаи на будущее время, как ликвидировать, хотя бы временно, Черноморский флот. Таково было мнение начальства о настроении моряков этого флота.
Настроение в сухопутных войсках было немногим «лучше», с точки зрения начальства. Что делалось на Дальнем Востоке, мы уже знаем. Это было за тысячи километров и потому непосредственно для самодержавия было менее опасно. Но и «дома», внутри «империи», становилось все грознее. В Екате- ринославе (Днепропетровске) еле-еле предупредили «демонстрацию нижних чинов» по случаю царских именин (6(19) декабря); можно догадаться, что едва ли это была демонстрация в честь Николая. В Петербурге задержали на сходке 6 человек гвардейских артиллеристов. В Вятке «усмирявшие» революционеров солдаты застрелили своего собственного батальонного командира и т. д. и т. д. — я беру наудачу случаи из многих десятков, которыми кишат полицейские донесения тех дней. В Петербургском Совете за несколько дней до ареста исполкома выступал представитель от войск, стоявших в Финляндии, с заверениями о полной солидарности этих войск с Советом. Еще раньше там выступал представитель саперов. Саперы, железнодорожники, в значительной части артиллеристы — это такие роды оружия, которые соприкасаются с механикой и химией. Поэтому солдаты в таких частях по необходимости подбирались более интеллигентные, и процент рабочих в них был иногда выше, чем даже во флоте (например, у железнодорожников), эти части были особенно захвачены революционным движением. А из районов кроме Дальнего Востока и Черноморского флота это движение было особенно сильно в войсках Московского округа. Уже вскоре после октябрьской забастовки была арестована большая сходка представителей от нескольких гренадерских полков, стоявших в Москве и подмосковных городах; «брожение» в московском гарнизоне не прекращалось в течение всего ноября (ст. ст.), а в конце этого месяца вспыхнуло восстание в Ростовском гренадерском полку, который выгнал офицеров и выбрал свой солдатский комитет, принявший команду не только над Ростовским, но и над стоявшим в тех же казармах Астраханским полком. Революционное настроение быстро передавалось другим частям московского гарнизона; у артиллеристов пришлось отобрать пушки, они были сосредоточены в Кремле под охраной «надежных» еще пехотинцев; а саперы прислали депутацию в наш Московский комитет с предложе¬
1905 год (брошюра)
199
нием выступить по его приказу и снабдить рабочих оружием (саперов было в Москве два батальона). Организовывался Совет солдатских депутатов, одно заседание уже было.
Московский комитет в общем великолепно владел положением. Меньшевики в Москве были подлинно «меньшевиками», составляя незначительное меньшинство, и шли послушно за большевистским комитетом: они везде приспособлялись к более сильному. Влиятельней в Москве были эсеры, но не среди рабочих, а среди интеллигенции; эсеровский пролетариат составлял тоже небольшое меньшинство московского пролетариата вообще. Выбранный в Москве месяцем позже, чем в Петербурге, Совет рабочих депутатов был чисто большевистским по настроению и крепко связан в то же время с крупнейшими московскими предприятиями, •* это был настоящий «хозяин города» на случай победы вооруженного восстания. К вооруженному восстанию передовые группы рабочих были совершенно готовы политически — ждали только указания от партии; технически подготовка была гораздо слабее: боевые дружины насчитывали всего 300—400 человек и были вооружены кое-как, они служили главным образом для защиты митингов от черной сотни и для этого были достаточны. Против нераспропагаидированного, черносотенно настроенного войска это была слабая сила.
В революционном настроении, быстро * охватывавшем войска, было главное условие успеха вооруженного восстания в Москве. Это настроение надо было поддержать и использовать всячески. Его не использовали никак. Наиболее близким к нам саперам не сказали ни «да» ни «нет». В Ростовском полку повели очень неумелую агитацию, не захватившую солдатской массы, и не сделали главного — не подняли на помощь восставшим солдатам рабочих Москвы, не спаяли военное и рабочее движение. А начальство не дремало: оно распустило солдат старших сроков (дольше проживших в рабочем центре и более сознательных) и улучшило питание в казармах. Настроение войск стало понижаться. 3(16) декабря Ростовский полк «заступил в караул» — механическая дисциплина была восстановлена. На другой день пришло в Москву известие об аресте Петербургского исполкома.
Партия стояла лицом к лицу с вооруженным восстанием; надо было сдаваться или выступать.
Решено было, разумеется, последнее. Московский Совет, проверив еще раз настроение масс по предприятиям, с чрезвычайным единодушием объявил всеобщую забастовку с переводом
200 11. История революционного движения
ее в вооруженное восстание. На практике для этого перевода в течение трех дней (7(20) — 9(22) декабря) ничего сделано не было. Первые инструкции о вооруженном восстании появились тогда, когда на улицах уже два дня шел бой (11/24). Массы схватились за оружие сами, потому что начальство пустило в ход оружие с первой же минуты: московский генерал- губернатор, знакомый уже нам Дубасов, начал расстреливать шрапнелью мирно манифестировавших на улицах рабочих, как только получил пушки, ему удалось найти в Твери не- распропагандированную и настроенную черносотенно конную батарею. Сил у него все-таки было мало, так как три четверти московской пехоты (и даже часть казаков!) он должен был обезоружить и запереть в казармах. Он взывал о помощи к Петербургу, но там тоже была объявлена всеобщая забастовка; и пока начальство не знало, что из этого получится, оно не могло уступить из петербургского гарнизона ни одной роты.
Решительный переход в наступление мог бы еще спасти дело. Силы восставших быстро росли в первые дни: к разгару боев дружины считали до тысячи вооруженных и до двух тысяч бойцов, так как дрались в две смены. Настроение массы населения, не только рабочих, но и мелкой буржуазии, было на стороне восставших: мелкие лавочники, ремесленники кормили дружинников, давали им ночлег, предупреждали о движениях «неприятеля», т. е. дубасовских войск, и т. д. Что касается войск, то ростовцы были, конечно, потеряны, но на саперов еще можно было опереться. На стороне «порядка» были только чиновники да капиталисты. Дубасов настолько был убежден, что подавляющее большинство населения против него, что начал обстреливать город «по площадям», т. е. стрелять не по определенным группам восставших, а просто в тот или другой район, не заботясь, в кого именно попадут гранаты. Множество людей, не принимавших никакого активного участия в восстании, было при этом перебито и переранено; на тысячу слишком пострадавших было едва ли более нескольких десятков дружинников. Этот обстрел «по площадям» особенно возмутил и революционизировал мелкобуржуазную массу, а Дубасов, чтобы увеличить свою популярность, издал еще приказ, угрожавший расстрелом тем, кто будет подбирать раненых. Никто на этот приказ не обращал внимания, но негодование против «царских псов» еще более усилилось.
Казалось, этот порыв, охвативший "/юо городского населения, должен был слиться в одну огромную волну и эта волна должна была смыть Дубасова с его жалкими 11/г тыс. штыков
1905 год (брошюра)
201
и сабель среди почти полуторамиллионного города *. На самом деле волна разбилась на бесчисленное количество мелких ручейков. Дубасовцы не могли показать носа из центра города, где они засели вокруг Кремля, не будучи обстреляны; героизма они тут обнаружили чрезвычайно мало: достаточно было одного удачного залпа, чтобы побежала целая рота. Чтобы придать своим войскам бодрости, Дубасов жестоко поил их водкой: черносотенные солдаты были почти постоянно пьяны, но от этого их стрельба становилась только еще более беспорядочной и опасной для мирного населения. Но к дубасовцам в центр почти никто не ходил. Дружины в сущности защищали рабочие районы, тогда как вся суть вооруженного восстания, все его спасение было в нападении возможно более стремительном. Но это нападение предполагало заранее обдуманный план и какое-то центральное руководство. Ни того ни другого не было. Каждый район за своими баррикадами жил самостоятельною жизнью — жизнью осажденного города, а все районы вместе осаждали центр города, где сидел Дубасов. Вместо живых, активных «маневренных» действий получалось нечто вроде «окопной войны», а окопная война есть война на истощение, и ее исход зависит от того, к какой из окопавшихся сторон скорее придет выручка. Этой выручки ждали обе стороны: за московскими баррикадами передавали друг другу, что в Петербурге «взят арсенал» и т. д. На самом деле в Петербурге не дошло даже до вооруженного восстания. Все предложения активных выступлений среди тамошних рабочих отчаянно саботировались петербургскими меньшевиками, между тем совершенно очевидно, что сколько-нибудь серьезного применения силы в Петербурге — взрыв электрической станции, мостов на Николаевской (Октябрьской) дороге, даже систематические нападения на полицейские участки — было бы достаточно, чтобы задержать посылку подкреплений Дубасову и увеличить возможность успеха для московских дружинников. Меньшевики (учитель Троцкого Парвус — настоящий изобретатель знакомой нам «теории перманентной революции», которую Троцкий у него заимствовал) лицемерно советовали питерским рабочим нападать на городовых, но для этого нападения снабжали их спринцовками с порошком, который не то что на городового, а даже на собаку средних размеров не оказывал никакого действия. Начальство, убедившись, что в Питере все спокойно и будет спокойно, что и стачка идет
* В Москве тогда считалось 1 300 тыс. жителей.
202
11. История революционного движения
к концу, решилось наконец помочь Дубасову. В Москву были отправлены люточерносотенный Семеновский полк царской гвардии, конные гренадеры, тяжелая полевая артиллерия, еще полк пехоты из Варшавского округа. И эти силы подавили восстание не без труда и только при самом беспощадном применении артиллерии. Пресня, последнее прибежище дружинников, подверглась форменной бомбардировке; попытка же Семеновского полка взять ее штурмом потерпела неудачу. Московское восстание и тут доказало свой огромный нравственный перевес над противником, доказало огромное мужество восставших, но против нескольких тысяч пехоты и конницы с артиллерией вплоть до тяжелых орудий несколько сот человек, половина которых была вооружена карманными револьверами, держаться не могли. Сдачей Пресни московское восстание кончилось 1 января 1906 года (19 декабря 1905 года по ст. ст.). Анализируя причины неудачи вооруженного восстания, нельзя говорить о недостатках организованности. Именно в декабре 1905 года московский пролетариат был так хорошо организован, как это только возможно было до победы пролетарской революции. И тут с грустью приходится говорить о другой причине — ошибках местных организаций. В Москве наша организация оказалась позади масс — не сумела использовать их настроение, не сумела повести их в бой тогда, когда было надо, и так, как было надо. Московские баррикады лишний раз напомнили, что вооруженное восстание есть искусство и что овладеть этим искусством не так легко и просто.
Неудача в Петербурге, неудача в Москве решили судьбу вооруженного восстания. Стоя твердой ногой в обеих столицах, помещичье правительство имело огромный перевес над восставшими, которые притом нигде не были организованы лучше, чем в Петербурге и в Москве. Но не нужно забывать, что восстание декабря 1905 года было в полном смысле слова «всероссийским»: оно охватило пролетарские центры, а отчасти крестьянство всей «империи». Крестьянство дошло, правда, до настоящего вооруженного восстания только на окраинах. В Латвии господство помещиков было начисто сметено, и лишь посылка больших военных сил из Питера позволила «баронам» вернуться в свои разоренные гнезда. Подавление революции здесь носило такой кровавый характер, как нигде. В то время как в Москве и ее окрестностях было расстреляно семеновцами и казаками несколько сот человек, не считая убитых шальными пулями и снарядами Дубасова, в Латвии и Эстонии было расстреляно до 10 тыс. И если в коренной
1905 год (брошюра)
203
России за принадлежность к большевистской партии только ссылали на поселение в Сибирь, товарищей латышей за то же самое отправляли на каторгу. Латышская революция навела ужас не только на латвийских и эстонских помещиков, но и на дворянство соседней Пруссии, и рассказы о «зверствах большевиков» в немецких буржуазных и юнкерских (дворянских) газетах по этому случаю предвосхитили на 12 лет то, что появлялось потом в той же печати по поводу Октябрьской революции. Другим театром крестьянского восстания была западная часть Грузии, Гурия, где местные крестьяне начисто свергли господство царской администрации на несколько месяцев; присланными из «России» войсками эта крестьянская революция была раздавлена самым беспощадным образом. Обе эти революции, особенно латвийская, шли под руководством пролетариата; господствующей партией и там и тут была социал-демократическая, в Латвии чисто большевистская, в Грузии же большое влияние имели меньшевики, опиравшиеся на мелкую буржуазию Тифлиса. Но кавказские меньшевики тогда были наименее оппортунистическими из всей этой разновидности, они были за вооруженное восстание, и некоторые из них, когда их в Москве или в Питере попрекали меньшевизмом, с гордостью указывали на пули солдатских винтовок, оставшиеся в их теле. Причиной такой относительной революционности кавказских меньшевиков было, во-первых, отсутствие в Закавказье сильной либеральной буржуазии, основное гнездо которой было в русской части «империи» (особенно сильна она была именно в Петербурге), во-вторых, национальная ненависть кавказских народов к русским угнетателям: хотя национальных лозунгов грузинские социал-демократы и не выставляли, но фактически восставшие здесь дрались за освобождение и от русского господства.
Национальный гнет, таким образом, очень увеличивал силу революционного взрыва; еще сильнее, чем в Латвии и Грузии, это нашло выражение в Польше и в Финляндии — революционное движение в этих странах не позволяют осветить размеры этой брошюры. Чем свежее был русский гнет, тем сильнее было революционное движение. И Польша, и Финляндия,, и Закавказье стали «русскими» только в XIX столетии. Там, где царизм был хозяином уже несколько веков, стремление к национальной самостоятельности, давно задушенное, просыпалось медленнее. Украинские крестьяне в 1905 году не ставили своей задачей свержение русского господства; но поскольку они дрались против своих обрусевших помещиков,
204
II. История революционного движения
поддерживаемых «всероссийской» полицией и «всероссийской» военной силой, они на практике, разбивая помещичьи экономии, разбивали в то же время цепи, скреплявшие «Российскую империю». Возникновение национального движения здесь было одним из последствий революции 1905 года, а то, что революционная агитация здесь, как правило, велась на украинском языке, сделало этот язык вдвойне опальным в глазах царской администрации. На других национальных «окраинах» движение носило еще менее ярко выраженный национальный характер, и лишь там и сям мы натыкаемся на такие, например, факты: то крестьяне-чуваши прогонят учительницу, потому что она не хочет знать чувашского языка, то крестьяне- татары нападут на крестьян-русских, колонизаторов, которые когда-то отняли у них или их предков землю. Но нигде в 1905 году национальное движение не было основным, даже в Польше и Финляндии: мелкобуржуазные националисты (например, в Польше народовые демократы, «эндеки») в конце концов примирились с царским господством. До конца революционным и тут был только пролетариат, а пролетарское движение всюду носило не национальный, а чисто классовый характер. Но, поднимая массы на революцию, пролетариат будил и национальную культуру этих масс: национальная политика диктатуры пролетариата в зародыше имелась уже налицо в революции 1905 года, поскольку эта революция шла под гегемонией пролетариата.
За исключением Латвии и Грузии, отчасти Польши и Финляндии, вооруженное восстание в 1905 году было исключительно пролетарской формой борьбы. Не было крупного рабочего центра, где в декабре этого года полицейские донесения не отмечали бы наличности рабючих боевых дружин и вооруженного сопротивления. В Ярославле, в Орехово-Зуеве, в Александрове (по Северной железной дороге, где рабочие на несколько дней завладели властью), в Сормове, в Уфе, в Харькове, в Екатеринославе, в Новороссийске (в обоих последних городах власть тоже на несколько дней переходила в руки рабочих), в Ростове-на-Дону, в Донбассе, в Риге, в Ревеле, по линии Сибирской железной дороги (где в Красноярске и Чите рабочие привлекли на свою сторону часть местного гарнизона и тоже образовали самостоятельные «республики») — везде, где звучали выстрелы с обеих сторон, не только со стороны «усмирявших», но и со стороны восставших, это служило явным признаком, что восставали рабочие. Повторяю еще раз: рабочее восстание было столь же «всероссийским», как и та
1905 год (брошюра)
205
власть, против которой оно было направлено. Нет ничего нелепее разговоров о «московском» вооруженном восстании 1905 года, разве только еще более глупая формулировка о восстании в декабре 1905 года «в Москве, на Пресне». Эта «Пресня» тянулась на 10 тыс. км в длину, от Варшавы до Читы, и на 3 тыс. в ширину, от Ярославля до Тифлиса. И с этим падают не только глупые, но и подлые разговоры о том, что будто бы «восстание в Москве» было вызвано «агитацией большевиков» «преждевременно», почему и потерпело неудачу. Разговаривавшие так буржуазные либералы и их подголоски — меньшевики — хорошо бы сделали, если бы своим примером показали, как это «путем агитации» можно вызвать восстание во всех рабочих центрах на протяжении одной шестой всей суши земного шара. Большевики не опередили истории своими призывами к восстанию, они, наоборот, отстали от истории недостаточной организацией восстания, точнее, отсутствием всякой «всероссийской» организации в этом направлении и очень слабой организацией в отдельных центрах. Кривая революции все время шла круто вверх:-на 328. тыс. чисто политических стачечников в октябре мы имеем 372 тыс. политических стачечников в декабре, и это несмотря на то, что Петербург к декабрю почти наполовину выпал уже из движения; в Москве декабрьская забастовка была гораздо дружнее октябрьской. Волна нарастала непрерывно, но организационные возможности партии были слишком слабы, чтобы регулировать движение этой волны. А местами, мы видели, организации, и не ясно себе представляли, что именно они должны делать в данный момент. Ленин был прав, когда он находил, что лучше было бы восстание оттянуть до весны 1906 года; но он был прав и в своем предвидении, что история не даст этой отсрочки.
Черносотенцы и либералы приняли разгром вооруженного восстания за конец революции вообще, и ликование в их стане было великое. Черносотенцы надеялись попросту восстановить самодержавие; либералы надеялись, что самодержавие, основательно напуганное рабочими, будет теперь уступчивее и согласится припустить буржуазию к власти. И те и другие ошибались. Наша партия твердо стояла на том, что революция может кончиться только достижением тех целей, во имя которых она началась, — ликвидацией помещичьего землевладения и опирающейся на него диктатуры крепостников; февраль 1917 года блестяще оправдал это предвидение. Но какой именно срок отделяет нас от нового взрыва, этого никто предсказать не мог,
206
11. История революционного движения
так же как никто не мог предсказать, сколько времени пройдет от буржуазной революции до социалистической. Сначала были все основания думать, что срок будет очень коротким. Крестьянские восстания, немного стихшие непосредственно после поражения вооруженного восстания рабочих, вновь вспыхнули с необычайной яркостью к весне 1906 года. Впечатление от этой новой волны крестьянских восстаний было такое, что многим казалось, будто революция в деревне страшно усилилась. На самом деле восстаний в 1906 году было меньше, чем в 1905 году (2600 восстаний в 1906 году против 3228 в 1905 году); но на этот раз движение носило столь яростный характер — в ряде уездов все помещичьи усадьбы были буквально сметены с лица земли, — что паника среди помещиков была еще больше. Крестьянин как будто торопился к «ГДуме» покончить с барином. То, что Николай вынужден был все-таки созвать эту Думу, несмотря на победу над рабочими, было вторым ободряющим признаком: значит, самодержавие трусит. Оно действительно трусило, но только теперь уже не столько революции, сколько заграничной биржи. Николаю до зарезу нужны были деньги «на поправку» после неудачной войны и революции (биржа вторую расценивала выше первой: никогда после самых сильных поражений царской армии в Маньчжурии русские государственные бумаги не стоили так дешево, как в декабре 1905 года). Но его «личный кредит» был совершенно подорван, и биржа требовала более солидной гарантии. Особенно прижимать Николая европейские биржевики не собирались. Колоссальный подъем рабочего движения напугал буржуазию всей Европы. Даже начинавший уже гнить II Интернационал приободрился: германская социал-демократия стала серьезно толковать о всеобщей стачке, которая раньше признавалась совершенной бессмыслицей, австрийская социал-демократия даже прибегла к этому оружию, чтобы завоевать всеобщее избирательное право, причем австрийское правительство сдалось очень быстро, опять- таки под впечатлением нашей революции. Еще сильнее было эхо этой последней на Востоке — в Турции, Персии, Китае. Разгром декабрьских баррикад вызвал поэтому вздох облегчения из груди всех владельцев земли и капитала. Николаю все эксплуататоры очень сочувствовали, но деньги без гарантии дать все-таки боялись. Порешили на том, что Николай созовет Думу, и если та це опротестует нового русского займа (более крупного, чем все предыдущие, и заключенного на более тяжелых условиях), то этого и достаточно: значит, заем признан «народным представительством». Николай со своей стороны твердо решил разогнать
1905 год (брошюра)
207
«народное представительство» при первой возможности, в особенности если Дума вздумает заговорить о земле, а для крестьян, которые должны были дать 40% депутатов, в решении земельного вопроса был весь смысл Думы. Состав ее избирателей был значительно расширен под впечатлением рабочего движения конца 1905 года. Получили право голоса вся мелкая городская буржуазия и даже рабочие, которых, как зачумленных, отделили от всей остальной массы населения и заперли в особую «рабочую курию», так что они всегда должны были находиться в Думе в ничтожном меньшинстве. Этот закон был проведен Витте в самый разгар вооруженного восстания — 11(24) декабря 1905 года. Рабочие, впрочем .еще проникнутые боевым настроением, решили бойкотировать и Виттевскую думу так же, как они бойкотировали Булыгинскую.
Если прибавить к этому, что лето 1906 года видело такой подъем военного движения, какого никогда не было раньше, причем HgL этот раз восстали не только моряки и гарнизоны морских крепостей (после разгона I Думы в июле 1906 года были большие восстания в Кронштадте и Свеаборге), но и царская гвардия до первого полка ее пехоты, Преображенского, включительно, то мы поймем и веру в революцию широких масс и снова быстро овладевшую Николаем трусость. Летом 1906 года он уже писал матери жалостные письма, что ему за ворота петергофского дворца выехать нельзя; он попробовал бежать на яхту, но и среди экипажа царской яхты был открыт эсеровский заговор. В 1906—1907 годах было еще два больших подъема в настроении: во время I Думы (где, к большой неприятности для либералов, считавших себя после разгрома вооруженного восстания хозяевами положения, образовалось сильное революционное крестьянское крыло в лице трудовиков) и во время II Думы (зима 1906/07 года), на выборах в которую участвовали и рабочие и которая по составу оказалась еще революционнее первой. Но ни разу этот подъем не доходил до высоты октября — декабря 1905 года, и ни разу наша партия не призывала более к вооруженному восстанию. Помещичье правительство получило передышку, которая явно становилась все продолжительнее, и пользовалось ею. Прежде всего был повторен удавшийся прием Москвы декабря 1905 года: постепенно все солдаты, участвовавшие в японской войне и захваченные рабочим движением, были распущены по домам, а набранную вновь молодежь подвергли систематической черносотенной обработке, улучшив притом материальное положение солдата. Затем использовали классовую борьбу внутри крестьянства и
208
11. История революционного движения
дали право кулакам грабить деревню, выделяясь на хутора и отруба (ряд законов, начавшихся указом 9 ноября 1906 года). Теми же законами, способствуя пролетаризации деревенской бедноты (не «выделявшейся», как кулаки, а просто продававшей свои наделы), увеличили резервную армию труда для крупной промышленности и примирили этим с собой либералов лучше, чем это могли сделать какие угодно «свободы». Активных революционеров стали попросту истреблять при помощи полевых и всяких иных чрезвычайных судов. А против рабочих была пущена в ход свирепейшая реакция, причем тред-юнионизм в известной мере даже поощрялся, что давало возможность «заработать» меньшевикам, все более и более становившимся подголосками буржуазных либералов. До разгрома вооруженного восстания они еще кое-как приспособлялись к большевикам, после же декабря они «осмелели» окончательно, и учение о вредности выступления с оружием в руках, что давно проповедовалось либералами, стало их дощатом. Плеханов не только присоединился к ним окончательно, но занял место на их крайнем правом крыле, всего ближе к либералам. Временное расстройство большевистской организации, неизбежное после потерь вооружённого восстания, дало меньшевистской фракции даже временный перевес в партии: на IV Стокгольмском съезде РСДРП (весна 1906 года), на который торжествующие меньшевики, конечно, явились, прошли их резолюции и был избран в большинстве их Центральный Комитет. На V съезде (весна. 1907 года) равновесие было опять восстановлено, но меньшевики снова удержались в качестве «фракции». Лишь к 1912 году большевики окончательно освободились от этого тормоза, но это было на фоне уже нового грандиозного подъема рабочего движения.
И партии и стране пришлось тяжело заплатить за первые уроки революции. Но все же победа пришла гораздо скорее, чем в других странах. Сравним, в самом деле: лозунги, выдвинутые левым крылом английской революции в XVII веке,— полная демократизация всего строя — осуществились в XIX веке, и т о не вполне, поскольку уцелели монархия, палата лордов, привилегии государственной церкви и т. д. Два века понадобились на неполную реализацию идеалов английской революции. Французская революция конца XVIII века привела к формальному торжеству демократии в 70-х годах, через 80 лет, причем остались самая грубая и нахальная в Европе бюрократия, полицейщина, военщина, изрядная доля крупного помещичьего землевладения и даже власть попов (в школе и семье), В Цен¬
1905 год (брошюра)
209
тральной Европе — Германии, Австрии — буржуазная революция 1848 года (ход которой несколько напоминал наш 1905 год, но прошла она под руководством не пролетариата, а мелкой буржуазии) имела свое завершение — опять неполное, ибо крупнейшее землевладение осталось, — только в 1918 году, ровно через 70 лет. У нас помещичье государство было ликвидировано совсем и окончательно и корни его были вырваны из земли ровно через двенадцать лет после первого восстания против него народных масс. Конечно, у этого были свои объективные причины — революционно быстрый темп нашего хозяйственного развития в последние десятилетия, чудовищное противоречие между «последними словами капитализма» и невероятно устарелыми земельными и правовыми порядками «империи». Но нужен был «субъективный фактор», который умел бы использовать эти причины, и этим субъективным фактором была наша большевистская партия. Какие бы ошибки ни делали отдельные партийные организации в ходе революции, основную линию этой революции наша партия предусмотрела верно, и благодаря ей массы видели путь перед собой так ясно, как не видели еще никогда никакие революционные массы во всем мире. А что другое может дать любая агитация и любая пропаганда, кроме прояснения сознания масс? Труднее всего была задача организации масс, потому что это задача длительного воспитания; и если хотят понять, почему и у нас прошло все же больше десятилетия от начала боя до окончательной победы, нужно обратить внимание именно на это условие. И именно для этого воспитания масс колоссально много сделала наша первая революция. «Миллионы населения приобрели практический опыт в самых разнообразных формах действительно массовой и непосредственно-революционной борьбы, вплоть до «всеобщей стачки», изгнания помещиков, сожжения их усадеб, открытого вооруженного восстания. Тот, кто был уже революционером или сознательным рабочим до революции, не сразу может представить себе во всем его громадном значении этот факт, который внес самую коренную перемену в целый ряд прежних представлений о ходе развития политического кризиса, о темпе этого развития, о диалектике практически творимой массами истории. Учет этого опыта массами — невидный, тяжелый и медленный процесс, играющий гораздо более важную роль, чем многие явления на поверхности политической жизни государства, соблазняющие младенцев не только младенческого в политике, но иногда и очень «изрядного» возраста. Руководящая роль пролетарских масс во всей революции и на
210
II. История революционного движения
'всех поприщах борьбы, начиная от демонстраций, продолжая восстанием и кончая (в хронологическом порядке) «парламентской» деятельностью, выступила наружу воочию перед всеми за этот период, взятый в его целом» *.
Но не следует думать, что наша первая революция имела значение только огромного предметного урока для масс. Она имела определенные объективные последствия, и с этой стороны ее никак нельзя рассматривать как чистую неудачу, хотя бы временную. «Великий «сдвиг», уже бесповоротно совершенный революцией, состоит в том, что черносотенное самодержавие раньше могло опираться на средневековые формы' землевладения, а теперь вынуждено, всецело и бесповоротно вынуждено с лихорадочной быстротой работать над их разрушением. Ибо оно поняло, что без ломки старых земельных порядков не может быть выхода ттото противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию: самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!» **
Революция не сбила сразу врага, но она заставила его отступить. А у него в тылу была пропасть. К этой пропасти 1905 год подвинул помещичье государство еще на один шаг, и очень большой шаг. Не будучи еще победой народной массы, революция была уже крупным поражением самодержавия.
И еще была одна черта в нашей революции 1905 года, которой нельзя пропустить, ибо эта черта превратилась в мировое достижение. .Этой особенностью нашей первой революции была ее советская форма —форма совершенно новая, не встречающаяся ни в одной из предыдущих революций в других странах. Все старые революции, исключая Парижскую коммуну 1871 года, были мелкобуржуазными. Мелкий самостоятельный производитель в силу объективных экономических условий не связан с другими мелкими самостоятельными производителями, и им чрезвычайно трудно политически объединиться. На крестьянском движении 1905 года это сказалось очень рельефно: ни разу не было случая, чтобы крестьяне объединились в пределах больше одного уезда, за исключением Балашовского уезда Саратовской губернии; что касается других мест, то объединялись волости, а по большей части даже и не волости, а соседние дерев¬
* В. И. Ленин. Об оценке текущего момента. Собр. соч., изд. 2, т. XII, стр. 376 (статьи 1908 г.) 73.
** В. И. Ленин. Политические заметки (1908 г.), стр. 12474.
1905 год (брошюра)
211
ни. В старое время, когда мелкий производитель не представлял собой отряда, идущего за пролетариатом, а представлял собой единственную революционную силу, необходима была какая-то формальная связь для того, чтобы всю эту массу мелких производителей обратить в одно целое: вот откуда это стремление мелких буржуа во что бы то ни стало создать искусственную форму, такую связь, которая естественным путем, условиями его хозяйства не дается. Вот отчего они обязательно должны себе фетишизировать или Конвент, или императора, или королевскую власть, или что угодно. На этом играли в течение всего XVII и XVIII века, и это отразилось в наших крестьянских разговорах о добром царе. Какая-то связующая форма была им совершенно необходима, потому что иначе они развалились бы. Самодержавие ловко играло на этом распылении мелкой буржуазии. Вот почему его архиврагом явился пролетариат, объединенный производством. Пролетариату нечего было искать искусственной формы для выражения своей воли. Организованным выразителем этой воли является Совет депутатов рабочих данного города и, наконец, Совет депутатов всей страны. Рабочий в своем производстве связан с другими рабочими, и не только с рабочими своего производства, но и с рабочими других производств, поскольку рабочий строит для транспорта, для железной дороги и т. п.; пролетариат ясно видит и сознает эту связь.
Эта особенность рабочего класса составляет чрезвычайно характерную черту нашей революции 1905 года и объясняет то своеобразие политической формы, которую эта революция создала,— формы Совета рабочих депутатов, т. е. собрания представителей от производственных ячеек. Это чрезвычайно характерная форма, которая передалась сейчас же и крестьянам, которые создали свои Советы. Между прочим, крестьянские Советы возникали и в 1905 году. В Тверской губернии было несколько таких крестьянских Советов. Характерной особенностью этих Советов было то, что они были созданы при непосредственном участии рабочих, т. е. тех же тверских крестьян, работавших на тверских фабриках. Эти рабочие, отправившись к себе в деревню и разагитировав там крестьян, окружили Тверь целым кольцом Советов крестьянских депутатов. В каждом таком Совете было обязательно несколько рабочих в качестве руководителей. Эта черта организации, которая лежит в основе нашей советской системы, представляет собой мировое революционное достижение. И недаром, когда началась германская революция, она выразилась в образовании Советов рабочих
212
II. История революционного движения
депутатов, и провал этих Советов был одновременно провалом германской революции. Из этих организаций представительства производителей вытекал один вывод, который в 1905 году не был сделан, но который был учтен в 1917 году: кто ничего не производит, не является членом никакой производственной ячейки, тот не имеет права голоса. Представительство производителей, выражая объективную спайку рабочего класса, спайку хозяйственную, которую не нужно создавать искусственно, само собой выпирало буржуазию из политической системы как класс, присваивающий, но не производящий. 65-я статья Конституции появилась только в 1918 году, но она носилась в воздухе уже в 1905 году75.
Вот почему мы имеем полное право назвать нашу первую революцию народной, как ее вслед за Марксом назвал и Ленин. И он и Маркс искали, чем бы отделить революции этого рода от революций другого типа, от прежних буржуазных революций, ибо ясно было, что тут есть что-то на прежние революции непохожее и новое. Это непохожее и новое заключалось в том, что наша революция была делом всей трудящейся массы. Не будучи еще пролетарской, т. е. социалистической, наша революция 1905 ■ года не была уже и буржуазной в настоящем смысле этого слова, поскольку ни одна революционная партия не осмелилась выставить чисто буржуазных лозунгов. Она была буржуазной лишь в том смысле, что она расчищала путь капитализму от феодального мусора, чтобы господа капиталисты могли себя показать во всем великолепии. Им на это много времени не понадобилось.
М. Покровский. 1905 год. M., 1930, 111 стр.
1905 ГОД *
Четыре крутых перевала пришлось и приходится брать нашей партии. Первым был 1905 год. Вторым —1917 год и гражданская война. Третий — построение социалистического хозяйства в нашей стране — мы берем, в основном уже взяли, теперь. Впереди четвертый — мировая пролетарская‘революция, большевистский характер и большевистское руководство которой уже теперь ни для кого не оставляют сомнений, даже для г. Пуанкаре.
Каждый перевал круче предыдущего, но к каждому мы, имея больший опыт, подходили лучше вытренированными, употребляя физкультурные термины, лучше «втянутыми». Идеологическое руководство в нашей партии всегда было четким, но сейчас иной член парткружка на фабрике лучше понимает многие вопросы, чем понимали их иные члены городских комитетов двадцать пять лет назад.
Особенно пестра была колонна, которая подходила к первому перевалу. Двадцать пять лет назад все, что было подлинно и искренне революционного, стремилось в нашу партию. В нее бурным потоком вливались элементы, не знавшие первой буквы азбуки марксизма. И Ленин не боялся этого наводнения. Он писал (в статье «Новые задачи и новые силы» в марте 1905 года): «...надо сильно расширить состав всевозможных партийных и примыкающих к партии организаций, чтобы хоть сколько-нибудь идти в ногу с возросшим во сто раз потоком народной революционной энергии. Это не значит, разумеется, чтобы следовало оставить в тени выдержанную подготовку и систематическое обучение истинам марксизма. Нет, но надо помнить, что теперь гораздо большее значение в деле подготовки и обучения имеют самые военные действия, которые учат неподготовленных именно в пашем и всецело в нашем направлении. Надо помнить, что наша «доктринерская» ** Статья.
214
11. История революционного движения
верность марксизму подкрепляется теперь тем, что ход революционных событий дает везде и повсюду предметные уроки массе и все эти уроки подтверждают именно нашу догму. Не об отказе от догмы, следовательно, говорим мы, не об ослаблении нашего недоверчивого и подозрительного отношения к расплывчатым интеллигентам и революционным пустоцветам, совсем напротив. Мы говорим о новых методах обучения догме, о которых непозволительно было бы забывать социал-демократу... Всякое промедление наше в этом деле послужит на пользу врагам социал-демократии, ибо новые ручьи ищут выхода немедленно и, не находя соц.-дем. русла, они будут устремляться в несоц.-демократическое. Помните, что каждый практический шаг революционного движения будет неизбежно и н емину е м о у ч ить молодых рекрутов именно социал-демократической науке, ибо эта наука основана на объективно-верном учете сил и тенденций различных классов, а революция есть не что иное, как ломка старых надстроек и самостоятельное выступление различных классов, стремящихся по-своему создать новую надстройку» *.
Ленин был совершенно прав. Если бы (по совету одного нижегородского пролетария 1890 года) тогда допускался прием в партию только тех, кто знает наизусть первый том «Капитала», мы никогда не сделались бы массовой партией, а превратились бы в ту узенькую секту, какой нас любила изображать буржуазия. Но все же это наличие в наших рядах людей, иные из которых совсем не знали марксизма (это были преимущественно рабочие), другие понимали марксизм по-книжному, не по-революционному (это были интеллигенты), наложило свой отпечаток на тогдашнюю партию. Многие тогда популярные точки зрения и многие тогдашние ошибки не понятны, если мы не учтем этого обстоятельства.
Легче и лучше всего было с первой категорией — с марксистски неграмотными рабочими. Их просто приходилось учить, и они учились хорошо и быстро. Иногда нам удавалось устраивать даже массовые занятия — так было в 1906 году в До- мниковском училище у Сухаревой — под видом обучения «теории музыки». Ужасное количество людей вдруг захотело быть композиторами — прямо тысячи. Меня поражало тогда, как быстро слушатели-рабочие разбирались в своих преподава- ** В. И. Ленин, т. VII, изд. 3, стр. 148—149 \ Последняя разрядка МОЯ;' — М. П.
1905 год (статья)
215
телях. Наиболее красноречивые лекторы, кумиры интеллигентской аудитории, имели у них очень мйло успеха. Наоборот, запинающийся, заикающийся преподаватель, но проникнутый действительно революционным марксизмом легко завоевывал общие симпатии. В общем дело шло у нас очень дружно, беда только, что полиция, не видя прямых музыкальных успехов от наших трудов, в один прекрасный день заперла двери учи- лища, арестовав, кстати, учителя, дававшего нам приют.
Гораздо хуже было со второй категорией — интеллигентской. Люто ненавидя либералов, за что иные меньшевики ядовито называли новую большевистскую интеллигенцию «антикадетами», эта интеллигенция в жестокой степени страдала демократическими иллюзиями. Учредительное собрание, демократическая республика — вещи, которые для Ленина были только ступенькой к дальнейшим революционным боям, этой новой интеллигенции представлялись самодовлеющими ценностями, чем-то таким, на чем мы должны остановиться и с чем мы должны жить долгое время. Конечно, выступая перед широкими беспартийными собраниями, мы развертывали всю нашу программу борьбы за социализм. Но соотношение программы- минимум и программы-максимум, т. е. соотношение борьбы за демократию и борьбы за социализм, представлялось многим тогда совершенно механически. Многие, может быть, не стали бы спорить, что, повторяя конец чеховского «Дяди Вани», социализм придет через 200 лет.
По отношению к Учредительному собранию позиция многих из нас, перед рабочими в особенности, была прямо беспомощной. Рабочие, как бы предвидя 5 января 1918 года, спрашивали нас: «А что, ежели это самое Учредительное собрание в большинстве окажется кадетским или эсеровским? Как же, и тогда нужно ему беспрекословно подчиняться?» И рабочие — помнится, это было в мастерских Казанской дороги — предлагали именно то, что впоследствии была осуществлено в 1918 году в виде, конечно, очень грубого наброска. Они предлагали поставить перед Учредительным собранием вопросы о вооружении рабочих или о 8-часовом рабочем дне и в случае отрицательного ответа гнать это самое Учредительное собрание ко всем чертям. Наше- «демократическое правосознание» приходило от этого в совершенный ужас, и не только в 1905 году, а, грешным делом, и в ноябре 1917 года были сильны настроения, что созвать оное собрание все-таки непременно нужно. А в 1917 году мы были уже двумя головами политически выше того, чем мы были в 1905 году.
216 11. История революционного движения
Некоторым оправданием таких настроений может служить то, что понимание революции 1905 года как «буржуазной» в тесном смысле этого слова не чуждо кое-кому и из наших современников. Мне приходилось слышать, что на семинариях в наших вузах иные студенты весьма решительно оспаривают, что проблема перерастания буржуазной революции в социалистическую стояла перед Лениным уже в 1905 году. Вот почему полезно и теперь напомнить слова Ленина на этот счет — слова, которые, казалось бы, должны были быть наизусть известны именно каждому студенту. Вот что писал Ленин в «Послесловии» к «Двум тактикам»:
«Полная победа теперешней революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будет полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии, — будет началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг «демократической» диктатуры и выражает исторически-огра- ниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплуатации. Другими словами: когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции, — тогда мы «подменим» (может быть, при ужасных воплях новых будущих Мартыновых) лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, т. е. полного социалистического переворота» *.
Это предвидение Ленина опиралось на безошибочный классовый анализ того соотношения сил, которое отличало нашу буржуазную революцию от ее предшественниц. Позвольте этот анализ формулировать словами Ленина из его набросков «Революция типа 1789 или типа 1848 года?». Я беру только два отрывка, непосредственно сюда относящиеся:
«У нас развитие сознательно-революционных партий, литературы и организации их во много раз выше, чем в 1789, 1848 и 1871 годах... Антагонизм пролетариата и буржуазии у нас
* В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической
революции, т. VIII, стр. 118—1192.
1905 год (статья)
217
гораздо глубже, чем в 1789, 1848, 1871 гг., поэтому буржуазия будет больше бояться пролетарской революции и скорее бросится в объятия реакции» *.
Наша буржуазия в 1905 году не была еще той сплошной реакционной массой, какой становится буржуазия в момент социалистической революции. Но она была ближе к этому состоянию, чем какая бы то ни было другая буржуазия в какую бы то ни было из предшествовавших буржуазных революций. Наша буржуазия была в колоссальной степени ближе к этому состоянию, чем, например, французская буржуазия 1789 года. И вот почему вопрос о борьбе с буржуазией не сходил ни на минуту с основного фона той картины, в которую развертывалась революция. На первом плане этой картины стояло, конечно, низвержение диктатуры крепостников-поме- щиков, опиравшейся на средневековые формы землевладения и сельского хозяйства. Средневековье лезло изо всех пор этой системы — дикое, грубое и отсталое средневековье, предполагавшее различие «барина» и «мужика» как нечто само собой разумеющееся. И конец одного неизбежно влек за собой конец другого: падение крепостников-помещиков неизбежно вело за собой и падение средневековых форм сельского хозяйства. На эту связь вещей мне уже приходилось указывать в другом месте. Мы недаром приступили к переделке мелкого единоличного крестьянского хозяйства с его «полосынькой», заморенным конягой и деревянной сохой. Коллективизация сельского хозяйства реально поставлена на очередь только социалистической революцией, потому что только социалистическая революция дала в руки пролетариата власть над страной. Но логически упразднение средних веков в нашей деревне вытекало уже из той борьбы, которую подняли рабочие, а за ними крестьяне в 1905 году против феодальной надстройки.
С участием крестьянства в нашей буржуазной революции тоже связан ряд ошибок. Как можно услыхать еще теперь, что Ленин не ставил вопроса о перерастании буржуазной революции в социалистическую в 1905 году, так можно услыхать еще теперь, что наша революция 1905 года была для большевиков только крестьянской революцией, что в такой оценке будто бы отличие ленинизма от троцкизма, который игнорировал крестьянство.
* В. Я. Ленин, т. VII, стр. 1823.
218
II. История революционного движения
Суть троцкизма, разумеется, не только в том, что он «игнорировал» крестьянство, что Троцкий заимствовал у меньшевиков «отрицание» роли крестьянства, что подобно всем меньшевикам Троцкий вообще склонен был считать крестьянство реакционной силой. Сущность троцкизма как одной из разновидностей оппортунизма, замаскированного революционной фразой, заключалась и в неверии в силы и способности пролетариата повести за собой крестьянство.
Так как лучше всего этот вопрос в нашей литературе сформулирован тов. Сталиным, то позвольте привести цитаты из одной его статьи. Характеризуя троцкистскую теорию «перманентной» революции, тов. Сталин писал: «...ошибка русских «перманентников» состояла не только в недооценке роли крестьянства, но и в недооценке сил и способностей пролетариата повести за собой крестьянство, в неверии в идею гегемонии пролетариата» *.
Возражая на слова Зиновьева, будто «вопрос о роли крестьянства является основным вопросом большевизма, ленинизма», тов. Сталин пишет:
«Правилен ли тезис Ленина о том, что диктатура пролетариата является «коренным содержанием революции» (см. т. XV, стр. 447)?4 Безусловно, правилен. Правилен ли тезис о том, что ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции? Я думаю, что правилен. Но что же из этого следует? А из этого следует то, что основным вопросом ленинизма, его отправным пунктом, его фундаментом является вопрос о диктатуре пролетариата».
«Слов нет, что Ленин был знатоком крестьянского вопроса. • Слов нет, что крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике пролетариата, имеет важнейшее значение для пролетариата и является составной частью основного вопроса о диктатуре пролетариата. Но разве не ясно, что если бы не стоял перед ленинизмом основной вопрос о диктатуре пролетариата, то не было бы и производного вопроса о союзнике пролетариата, вопроса о крестьянстве? Разве не ясно, что если бы не стоял перед ленинизмом практический вопрос о завоевании власти пролетариатом, то не было бы и вопроса о союзе с крестьянством?
Ленин не был бы величайшим пролетарским идеологом, каким он, несомненно, является, он был бы простым «кресть-
* И. В. Сталин. Об оппозиции. Из предисловия к «Вопросам ленинизма», стр. 239.
1905 год (статья)
219
янским философом», каким его нередко рисуют заграничные литературные обыватели, если бы он вел разработку крестьянского вопроса не на базе теории и тактики диктатуры пролетариата, а помимо этой базы, вне этой базы» *.
Правда, Ленин называл нашу первую революцию «крестьянско-буржуазной», но это только означает, как и объясняет тут же Ленин, что в центре буржуазной революции в России стоял аграрный вопрос. И принижать Ленина до вождя не рабочего класса, а крестьянской, революции, какой-то марксистской пугачевщины есть, конечно, величайшее тупоумие и самое полное непонимание ленинизма, какое только можно себе представить.
Ленин всюду подчеркивает, что наша революция 1905 года была по своему социальному содержанию буржуазно-демократической, но по средствам борьбы была пролетарской. Ленин подчеркивал, что пролетариат был руководящей силой, авангардом движения, что рабочие ее вели, увлекая за собой крестьянство.
«Своеобразие русской революции заключается именно в том, — писал Ленин, — что она была по своему социальному содержанию буржуазно-демократической, но по средствам борьбы была пролетарской. Она была буржуазно-демократической, так как целью, к которой она непосредственно стремилась и которой она могла достигнуть непосредственно своими собственными силами, была демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация колоссального крупного дворянского землевладения, — все меры, которые почти в полном объеме осуществила буржуазная революция во Франции в 1792 и 1793 гг.
Русская революция была вместе с тем и пролетарской, не только в том смысле, что пролетариат был руководящей силой, авангардом движения, но и в том смысле, что специфически пролетарское средство борьбы, именно стачка, представляло главное средство раскачивания масс и наиболее характерное явление в волнообразном нарастании решающих событий» **.
Наметив (в своей статье «Перед бурей», написанной в сентябре 1906 года7) три главных этапа.нашей революции и описав самодовольную буржуазную и мелкобуржуазную возню, которая сопровождала все эти этапы, Ленин говорит:
* И. В. Сталин. Там же, стр. 237 и 238 5.
** В. И. Ленин, т. XX, ч. 2, стр. 306.
220
11. История революционного движения
«На деле решение поставленной на очередь историей политической задачи брали на себя всякий раз пролетарии, увлекая за собой передовое крестьянство, выходя на улицу, отбрасывая все старые законы и все старые рамки, обогащая мир новыми формами, приемами, комбинациями средств прямой революционной борьбы.
Припомните девятое января. Как неожиданно для всех закончили рабочие своим геройским выступлением эпоху «доверия» царя к народу и народа к царю! И как подняли они сразу все движение на новую, высшую ступень! А ведь по внешности 9-ое января было полным поражением. Тысячи перебитых пролетариев, разгул репрессий, темная туча нависшей над Россией треповщины... Действительное разрешение следующей исторической задачи дано было опять-таки только революционной борьбой пролетариата. Конституционный манифест был вырван всероссийской октябрьской стачкой. Крестьянин и солдат ожили и потянулись к свободе и свету, вслед за рабочим» *.
В этих словах Ленина интересно не только подчеркивание роли пролетариата как основной и главной революционной силы, как силы, без которой не было бы и самой революции 1905 года, в этом качестве данные слова являются только одним из бесчисленных примеров ленинского понимания этой революции, какое можно встретить на множестве страниц его тогдашних и позднейших работ. В них ценно еще одно, еще одна мысль, которую тоже никак нельзя считать общепризнанной и общепринятой. Эта мысль о том, что кажущееся по внешности кровавое поражение на самом деле может оказаться гигантским поступательным шагом революции. Еще лучше это выражено в одном из абзацев, которым начинается статья «Перед бурей»:
«Тяжелым и трудным путем идет русская революция. За каждым подъемом, за каждым частичным успехом следует поражение, кровопролитие, надругательства самодержавия над борцами за свободу. Но после каждого «поражения» все шире становится движение, все глубже борьба, все больше масса втянутых в борьбу и участвующих в ней классов и групп народа. За каждым натиском революции, за каждым шагом вперед в деле организации боевой демократии следует прямо-таки бешеный натиск реакции, следует шаг вперед в деле организации черносотенных элементов народа, возрастает наглость
* В. И. Ленин, т. X, стр. 23—248,
1905 год (статья)
221
контрреволюции, с отчаянием борющейся за существование. Но силы реакции, несмотря на все ее усилия, неуклонно падают. На сторону революции становится все большая часть рабочих, крестьян, солдат, вчера еще бывших равнодушными или черносотенными. Одна за другой разрушаются те иллюзии, один за другим падают те предрассудки, которые делали русский народ доверчивым, терпеливым, простодушным, покорным, всевыносящим и всепрощающим» *.
Лев Толстой говорит в одном месте, что, если спросить раненого солдата, которого несут на носилках с поля битвы, как идут дела, он, наверное, ответит: «Всех побили, все пропало!» Лев Толстой был хорошим наблюдателем военных нравов. Многие из нас, так или иначе раненные в великом бою 1905 года — кто эмиграцией, кто ссылкой, — как раненые солдаты, считали, что коли нам пришлось плохо, то, значит, всех побили и все пропало. Под этим впечатлением многие жили годами, под этим впечатлением писались мемуары и всякие другие книги о революции 1905 года. И до сих пор для некоторых стоит эта революция как какая-то великая покойница, покрытая черным флером и окруженная траурными венками. Давно пора расстаться с этой картиной, внушенной лихорадочной фантазией раненых людей. Глубокое отличие нашей формально неудачной революции 1905 года от ее предшественниц и товарок по неудаче, Парижской Коммуны, скажем, или июньских баррикад 1848 года, заключается в том, что, несмотря на отсутствие формальной победы, наша революция была гигантским шагом вперед. Возьмите Коммуну: после нее — длинные десятилетия, когда еле-еле брезжила рабочая борьба, распад I Интернационала, трудное основание II Интернационала, зараженного демократическими иллюзиями не меньше, чем многие из нас в 1905 году (и наша-то зараза на добрую долю шла оттуда!). После Коммуны был явный спуск рабочего движения книзу и лишь полтора десятилетия спустя медленный и тяжелый подъем.
Теперь сравните, что было у нас. Начнем с того, о чем нам тогда стыдно было говорить и о чем на 13-м году пролетарской диктатуры можно говорить уже не стыдясь. С точки зрения разоблачения конституционных иллюзий некоторые из нас считали правильным поплевывать на Государственную думу, но, исторически-то рассуждая, разве раньше было у нас что- нибудь хотя бы отдаленно похожее на то политическое
* В. И. Ленин. Перед бурей, т. X, стр. 209.
222 11. История революционного движения
представительство рабочего класса, каким явилась большевистская фракция Думы? И разве эта фракция не сыграла поистине блестящей роли в самый критический момент, во время империалистической войны? Мы совершенно правильно называли каторжными те условия, в которые была поставлена рабочая печать в дни столыпинщины. Но разве можно себе представить что-нибудь отдаленно похожее на «Звезду» и «Правду» до 1905 года? Разве была в те времена возможна сама мысль о массовой, открытой рабочей печати?
Но это, конечно, не самое главное. Еще гораздо важнее тот колоссальный политический скачок вперед, какой сделало во время нашей первой революции крестьянство и именно благодаря этой революции. Сравните идеологию первого крестьянского восстания 1902 года, когда полтавские мужички объясняли свое выступление тем, что «царь уехал к теще, оставил управляющего, а тот велел разбирать панов», и крестьянские выборы осенью 1906 года, всего через четыре года, когда крестьяне выбирали в Думу социал-демократов, эсеров и трудовиков, людей явно, всем известно, «неблагонадежных», которые шли против царя и сиживали за это в тюрьмах, что выбиравшие их крестьяне великолепно знали. Знали, выбирали и давали этим своим депутатам наказы — держаться вместе с ра^ бочей фракцией, «потому что дело у нас общее». Без этого крестьянского воспитания 1905 года был бы немыслим 1917 год. Перечтите письма солдат с фронта, написанные сквозь военную цензуру и о многом умалчивающие, но все это письма сознательных людей, которые и в партиях отлично разбираются, и кадетов умеют отличить от революционеров, и хотя очень настаивают на «разборке» помещиков, но, само собой разумеется, ни о какой царской теще не поминают. Крестьянин до 1905 года и крестьянин после 1905 года — это разные люди.
И наконец, не 1905 год сделал нас большевиками (я говорю о партии, а не об отдельных лицах). Большевистская партия существовала и до этого года. Но массовой большевистской партии до 1905 года не было. Массы пришли к нам и стали под наше знамя именно в этом году. Сравните январь этого года, когда значительная часть рабочих Петербурга шла за попом Гапоном, и декабрь 1905 года, когда вся масса московских менее сознательных, чем питерские, рабочих поднялась, как один человек, на зов нашего комитета, и вы оцените тот колоссальный путь, какой прошла партия в деле овладения массами за эти 12 месяцев. А в декабре 1905 года партия
1905 год (статья)
223
руководила уже не только пролетарскими массами — на московских баррикадах дрались лучшие из рабочих, но строили эти баррикады не только одни рабочие — их строила вся городская беднота, весь «народ» города Москвы был на нашей стороне в эту минуту; и я никогда не забуду, как, вернувшись с последнего перед восстанием заседания нашей лекторской группы, я увидал дворника дома, где я жил, с помощью приказчиков соседней лавки с трудом выламывавшего тяжелые железные ворота, ведшие на наш двор (двор был проходной). Когда я спросил дворника, зачем он это делает, он, запыхавшись и не прекращая работы, коротко ответил: «Дружина приказала». В этот день даже дворники слушались не участков, а наших боевых дружин.
Придя в партию, массы не ушли из нее. Все лучшее, что в них было, неразрывно слилось с большевизмом и образовало тот железный костяк, которым держится наша партия до сего дня. Среди ее руководящего слоя только между молодежью не находишь людей, которые в прошлом были бойцами 1905 года. Целый ряд этих бойцов уже отошел от нас, подчиняясь вечному закону всего живущего, но все они, пока были живы, вели до конца дело пролетарской революции, которую они начали в 1905 году, — вели под руководством того вождя, который их вел тогда и который тоже отошел от нас... Но наши мертвецы — это не мертвецы Коммуны. О тех сохранилась трогательная память, они могут служить примером для молодежи, и только. Наше поколение было неизмеримо счастливее коммунаров. Оно в массе своей видит теперь завершение того дела, которое было только словом, было только лозунгом 25 лет назад. Как не было еще на свете революций грандиознее нашей, так не было и революционного поколения счастливее нашего. Будем же вспоминать наши первые революционные бои не с печалью, только потому что они сразу же не дали нам победы, а бодро и весело, потому что они были залогом всех наших будущих побед.
«Большевик», 1931, № 1, стр. 47—53
ЕШ
ИСТОРИОГРАФИЯ
«ИДЕАЛИЗМ» И «ЗАКОНЫ ИСТОРИИ»*
I
На русской почве «закономерность исторического процесса» принадлежит к «среднешкольным» вопросам. Об этой «закономерности» говорят в школьных программах и в предисловиях к учебникам. Ее объясняют на примерах гимназистам и гимназисткам старших классов. О ней реже говорят и еще реже спорят в кругу взрослых. Дело кажется само собой разумеющимся. Если человек есть часть природы, то и человеческая история может быть лишь частью общего мирового природного процесса. И если этот процесс закономерен, то должны существовать и законы истории: нельзя себе представить вне- законной части закономерного целого.
Но такое отношение к «законам истории» — до некоторой степени наш национальный предрассудок. Его разделяют с нами (отчасти) французы и англичане. Его совсем не разделяет большинство немцев. А многие из университетских профессоров истории в Германии питают прямо органическое отвращение к «законам истории». Когда несколько лет тому назад известный лейпцигский историк Лампрехт попытался — довольно запутанно и с оговорками — доказать немецкому ученому миру то, о чем в других местах уже не спорят, он вызвал против себя бурю. Представители академической истории до сих пор не без удовольствия вспоминают о неудаче, постигшей тогда Лампрехта. Один из них (фон Белов) с отрадным чувством отметил недавно, что публика стала теперь, слава богу, «очень подозрительна, ко всяким новшествам в исторической науке». И самый видный представитель этой области, какого только имеет Германия теперь, после смерти Моммзена, автор классической «Истории древности» Эд. Мейер2** скрепил недавно судьбу злосчастных «законов»
* Генрих Риккерт. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. Пер. с нем. А. Бодена. СПб., 1903 К
** У нас известный более своими брошюрами о «Хозяйственном развитии древнего мира» и «Рабстве в древнем мире»3,
8*
228
111. Историография
авторитетным заявлением, что, «давно занимаясь историей, он не нашел ни одного исторического закона и не видел, чтобы кто-нибудь другой нашел таковой» *.
Мы далеки от мысли принижать громадные специальные заслуги немецкой исторической науки. Но вопрос о закономерности в той или другой области явлений — вопрос вовсе не специально научный, а философский или даже больше и шире — вопрос общего миросозерцания. Как ни странно это может звучать, но он решается не столько исследованием фактов, сколько отвлеченно-логическими соображениями, а в конечном счете даже не столько логикой, сколько своего рода «борьбой за существование» и «переживанием приспособленнейших». Если понятие закономерности природы взяло верх над всякими другими объяснениями — анимистическим, спиритуалистическим и т. п., то главным образом потому, что понятие закономерности оказалось способнее других уяснить нам природные процессы и помочь нам овладеть ими. Человеку, который верит в домового, нельзя доказать, что домового не существует, самое большее, что можно сделать, это показать ему, что явления, которые он приписывает домовому, гораздо лучше объясняются иным путем. Но «лучше» и «хуже» в каждом индивидуальном случае — дело вкуса. И если для моего собеседника домовой представляет некоторую «ценность», употребляя термин, особенно излюбленный тем автором, книгу которого мы собираемся рассматривать, то сторонник домового, вероятно, останется при своем старом воззрении. При этом он может обладать весьма большими фактическими сведениями в той области, явления которой он объясняет при помощи сверхъестественного агента. То же самое может случиться и в исторической науке: можно быть превосходным знатоком античного хозяйства или средневекового права и в то же время держаться того или другого философского предрассудка, по своей методологической «ценности» ничуть не уступающего вере в домового.
Судьба немецкой историографии — не по каким-либо особым свойствам «немецкого национального характера», разумеется, а просто в силу местных исторических условий — судьба немецкой историографии была в этом случае несчастлива. Прежде всего сказалось опасное соседство с богословием и его законной и достойной наследницей — догматической метафизи-
* В своей небольшой книжке «Zur Theorie und Method'ik der Ge-
schichte», вышедшей в 1902 году4.
«Идеализм» и «законы истории»
п
229
кой. С богословием сближало уже само материальное содержание истории немецкого народа. Реформация долго была кардинальным пунктом этой истории: если немцу нужно было указать, чем его народ отметил себя в истории общеевропейской культуры, он прежде всего припоминал Лютера. Наша школьная история, построенная по схеме немецких учебников, в своих рубриках до сих пор хранит следы этой особенности своего прототипа. До сих пор мы объединяем западноевропейскую историю XVI—XVII веков названием «эпоха Реформации», пытаясь охарактеризовать всю сложную картину укладывающихся в эти хронологические рамки хозяйственных, политических и культурных явлений по одному второстепенному признаку — церковной реформе. До сих пор мы ставим в центре этой эпохи Лютера, который не был ни первым, ни самым влиятельным деятелем даже церковного переворота.
Лютеранский пастор стал первым наставником и руководителем немецкого историка. В известном смысле он стал таким руководителем даже для тех немцев, которые остались верны старой церкви: католические историки немецкого народа ориентировались и ориентируются (как, например, в последнее время Янсен) все по той же «Реформации», давая ей только другую, противоположную оценку. С XVIII века церковное влияние понемногу уступает влиянию университетской метафизики. Но более либеральная в выражениях, более рассудочная в деталях и мелочах метафизика не порвала окончательно ни с одним из основных догматов протестантского богословия. Признание личного божества, бессмертия души и свободной воли человека, обусловливающей его нравственную ответственность, — все это осталось на своих местах в догматической метафизике и с некоторыми, больше словесными, уступками в пользу эмпиризма и механического миросозерцания все это пережило критическую реформу Канта. К истории ближайшее отношение имело учение о свободе воли и связанное с ним своеобразное понимание «роли личности в истории».
Споры об этом предмете не так давно были так страстны и в русской литературе. Но у нас ни одна из спорящих сторон не сомневалась, что человеческая личность — явление между другими явлениями, и спор мог идти лишь об относительном удельном весе «личности» в мире явлений. Для немецкого историка очень часто и до сего дня личность не простое явление, а нечто исключительное, явление с трансцендентным признаком свободы, не позволяющим поставить его в общий ряд. Э. Мейер в только что цитированной брошюре придает
230
111. Историография
очень серьезное значение свободной человеческой воле как одному из факторов исторического процесса. И когда Риккерт заявляет, что «понятие исторического закона есть contradictio in adjecto, так как история и закономерность (Geschichts- wissemschaft und Gesetzeswissenschaft) суть понятия, взаимно исключающие друг друга»5, то он может казаться Колумбом лишь, может быть, некоторым русским мыслителям новейших типов: по содержанию то, что говорит Риккерт, — азбучная истина для большинства университетских историков Германии.
Бороться с застаревшими умственными привычками — дело очень трудное: если мы так легко сравнительно с немцами усвоили себе более прогрессивный тип исторической науки, то причиной, вероятнее всего, было просто полное отсутствие у нас каких бы то ни было научных традиций. Но научный предрассудок становится почти непобедим, когда он находит себе опору в чьем-либо интересе, личном или в особенности в групповом. И надо же было случиться так, что исторический детерминизм в Германии стал лозунгом социал-демократии и понятие «истории», как мы ее формулируем, т. е. как науки, устанавливающей законы, явилось перед немецким бюргером в ужасной форме марксизма... * После этого защищать «культурную историю», сложившуюся по образу и подобию естествознания, стало признаком не то что политической неблагонадежности — от этого понятия немцы уже понемногу отвыкают, — но во всяком случае признаком отсутствия академической респектабельности, признаком дешевого популярничанья и, пожалуй, даже шарлатанства... Когда вы просматриваете в немецких ученых журналах рецензии на книги немногих отщепенцев вроде Лампрехта, Брейзига и др., нельзя не заметить, что ученые авторы рецензий никак не могут признать «культурных» историков своими товарищами или по крайней мере честными и равноправными противниками. «Культурный» историк всегда недобросовестный невежда, пишущий о том, чего он не знает, — это шаблонная, можно бы сказать тоже «академическая» в своем роде, характеристика.
Эти беглые замечания имеют целью наметить тот общий фон, на котором выросла основная идея книги Риккерта —г столь чуждая и странная для нас идея коренной, непримиримой противоположности истории и естественных наук.
* Привычка смотреть на дело под этим углом очень характерно сказалась, например, в том, что Лампрехт не без кокетства и задора назвал новую историческую методу «коллективистической» в противоположность общепринятой в Германии «индивидуалистической».
«Идеализм» и «законы истории»
231
«История рассматривает действительность с совершенно иной точки зрения, [чем естествознание]6, и пользуется совершенно иным методом», — говорит Риккерт. «Его наиболее общая точка зрения должна отличаться от наиболее общей точки зрения естественных наук и даже быть противоположна последней» (русск. перев., стр. 220; ориг., стр. 251. Курсив наш. — М. П.). «Как бы ни определялось в частностях понятие исторических наук, естественнонаучное трактование истории ни в каком случае недопустимо, а потому естествознание и историческая наука всегда должны находиться в принципиальной логической противоположности между собой» (русск. перев., сгр. 200—201; ориг., стр. 228).
При этом Риккерт несколько раз указывает, что он имеет в виду не какую-нибудь науку будущего, а действительно существующую историческую науку. Так как он не делает никакой оговорки насчет того, что все носящее имя «истории» вне Германии носит это имя незаконно, что, например, «История цивилизации во Франции» Гизо или «Старый порядок» Токвиля7 не имеют права называться историческими произведениями, потому что и Гизо, и Токвиль пользуются обычным «естественнонаучным» методом наблюдения и обобщения, то, очевидно, он принимает в расчет лишь германскую историографию. Более детальный анализ показал бы, что и эту последнюю он берет далеко не вполне, что Моммзен, например, не подошел бы под его определение «историка». Едва ли Моммзен признал бы «исторической наукой в нашем смысле» только ту, которая «имеет дело с единичными индивидуумами, как таковыми», и непременным признаком которой являются собственные имена (русск. перев., стр. 377; ориг., стр. 444). Едва ли он согласился бы, что для того, «чтобы понять дух времени, история должна прежде всего исследовать индивидуальность «руководящих умов» и показать, как чисто индивидуальное мало-помалу переходит к массам» (русск. перев., стр. 422; ориг., стр. 500). Мы все читали, конечно, в «Римской истории» очень скучные главы с множеством собственных имен — разные'описания сражений, например,— и очень художественные, хотя и спорные в научном отношении, характеристики великих «индивидуумов». Но главную силу и привлекательность «Римской истории» составляет, конечно, изображение общего потока римской жизни (в последнем русском переводе Моммзена только эти главы и оставлены) 8. Кроме разве большей талантливости и глубины, эта общая картина ничем не отличается от обычной «культурной», или «социологической»9,
232
111. Историография
истории, и если разные фон Беловы старых лет не подняли но ее поводу крика, то это потому, что Моммзен с мудрой осторожностью не дразнил своих коллег, не придавал своим «культурно-историческим» экскурсам принципиального значения и не пытался обосновать ими «новой исторической методы». Тип истории дало Риккерту, несомненно, только одно направление немецкой исторической науки — то, самым блестящим представителем которого был Ранке. Причем, как нам придется показать ниже, Риккерт смешал приемы исследования Ранке с приемами его изложения, весьма неосторожно заключив от последних к первым. Это смешение само по себе было бы любопытно у писателя, поставившего своей задачей дать «логическое введение в исторические науки», даже будь оно результатом случайного недосмотра или отсутствия специальной подготовки. Но дело обстоит гораздо хуже: совершенно не подозревая той колоссальной работы, какую представляет собой воссоздание исторического факта, работы, сравнительно с которой приемы изложения являются второстепенной подробностью, Риккерт систематически сосредоточивает свое внимание на этой подробности. «Нас занимает не столько процесс нахождения результатов и исследования в исторических науках, — читаем мы во введении (русск. перев., стр. 26; ориг., стр. 25), — сколько форма их изложения, т. е. логическая структура их выводов». Это отождествление «формы изложения» с «логической структурой выводов» становится еще более интересным благодаря следующему за ним комментарию; из него мы узнаем, что изложение-то и есть настоящая цель научной работы историка и что процесс работы оказывается подчиненным этой цели*.
Другими словами, делая научное открытие, ученый прежде всего руководится тем, как он это открытие будет излагать в своей книге или на лекциях... ** Нельзя найти лучшего при¬
* Ввиду важности этого места выписываем его целиком: «Нам хотелось бы прежде всего установить сущность исторического понятия, если уместно пользоваться этим выражением в противоположность естественнонаучному понятию. Однако, поскольку весь процесс научной работы и здесь оказывается подчиненным той цели, достижение которой имеется в виду при нем, или по крайней мере должен был бы быть подчиненным этой цели, уже и при этом исследовании об изложении в исторических науках должно обнаружиться, по крайней мере в основных своих чертах, то, что вообще существенно для логического своеобразия этих наук» (Курсив наш. — М. П.).
** Ошибка Риккерта как нельзя более характерна для метафизического склада его мышления. В самом деле, так как метафизик весь
«Идеализм» и «законы истории»
233
мера тех допотопных воззрений на историю, какш* до сих пор «имеют обращение» в кругу неспециалистов. Далее, конечно, не для одного Риккерта история прежде всего «словесная» наука —opus maxim е oratorium.
Не имея ясного представления о науке, трудно устанавливать ее нормы. Историк не извлечет из книги Риккерта ничего для себя полезного, а неисторика она не познакомит с приемом и методами той исторической науки, какая существует в действительности. Методологическое значение этого толстого трактата равно нулю. И это очень жаль, потому что исходные точки работы Риккерта, как мы увидим, совершенно правильные, и последовательное применение их к исторической методологии разрешило бы очередную задачу. Но нам думается, что Риккерта едва ли соблазнила бы эта слава — реформировать методы истории, применив к этой науке точки зрения, выработанные «теорией познания» в ее новейших формах. Хотя он не без почтения ссылается на Георга Зиммеля (см., например, стр. 261 русск. перев.), «идти по стопам» автора «Проблемы философии истории» едва ли входило в его планы. Они гораздо шире и направлены в другую сторону. Заголовок книги «Границы естественнонаучного образования понятий» несравненно характернее для ее содержания, нежели подзаголовок «Логическое введение в исторические науки». О последнем можно позабыть без всякого ущерба для дела: логически обосновать метод истории не так важно; «дело идет прежде всего о том, чтобы разрушить веру, будто при помощи только естествознания или естественнонаучной философии возможно дойти до того, что для всех нас должно быть наиважнейшим» (русск. перев., стр. 12; ориг., стр. 7). «Мы желаем... разрушить логические утопии некоего универсальногЬ метода» (русск. перев., стр. 494; ориг., стр. 591. Курсив наш.— Л/.Я.).
материал своего изложения имеет готовым в своей голове, то ему не приходится заботиться о добывании материала и научное констатирование факта кажется ему совсем пустым и легким делом. В то же время изложение метафизической системы действительно совпадает с ее логической структурой. Поэтому в метафизике «изложение» (Dar- stelhing) и «понимание» (Auffassung) суть частью покрывающие друг друга понятия, но прилагать это к истории, как делает Риккерт на страницах 271—272 (стр. 313 ориг.), и думать на этом основании, что методология истории «вправе не касаться вопроса о том, каким образом из источников получается знание фактов», можно только при очень большом дилетантизме. В науке, чем она сложнее, тем больше труда и времени уходит именно на простое добывание фактов, и как раз в истории эта предварительная работа разрастается до размеров крупной и сложной методологической проблемы (см. об этом ниже).
234
111. Историография
«...He существует никакого научного универсального метода» (русск. перев., стр. 496; ориг., стр. 593). «Мысль «о монизме» эмпирически-научного метода есть утопия» (русск. перев., стр. 499; ориг., стр. 597). Главное в том, чтобы выработать «окончательное (eine abschliessende) миро- и жизнепонимание» (ориг., стр. 15). А поперек дороги этой задаче стоит естествознание с своим «пресловутым ignorabimus». «Оно, [это ignorabimus], вытекает из односторонне естественнонаучного образа мышления, для которого остается непостижимым, что там, где ему чудятся границы познания природы, для более проницательной точки зрения не оказывается решительно никаких проблем» (русск. перев., стр. 13; ориг., стр. 9). «Естествознание» (Naturwissenschaft), или «наука, устанавливающая законы» (Gesetzeswissenschaft), т. е., короче говоря, то, что мы называем «наукой», просто знает и хочет знать только явления. Все лежащее «по ту сторону явлений», все трансцендентное не только отвергается наукой как предмет познания, но — обидно сказать — признается за совершенно праздную и научно ненужную гипотезу... А для людей религиозного склада мысли, для всей той мистико-индивидуалистической реакции, которая прикрывается красивым именем «идеализма» и ярким представителем которой является Риккерт, для всего этого направления не может быть цельного «миро- и жизнепонимания», которое не включало бы в себя трансцендентного. Втиснуть трансцендентное в рамки естествознания признали слишком трудным: если еще в биологии можно с грехом пополам продюизировать «таинственное и непонятное» в форме витализма (о котором Риккерт говорит в примечании на стр. 279 русск. перев. (ориг., стр. 242) с сочувствием, наоборот, вполне понятным), то в физике или химии такая попытка может вызвать лишь смех. Оставалось попробовать общественные науки: сложность материала, невыработанность методов, почти безысходная путаница теоретических и практических точек зрения давали больше шансов на успех. Нельзя ли из этого хаоса создать новое научное царство, равноправное с «естествознанием», но не связанное его нормами? Риккерту показалось, что можно, и он признается в этом с похвальной откровенностью: «Коль скоро история вообще должна быть разрабатываема как наука, она не может обойтись без трансцендентных элементов» (русск. перев., стр. 24; ориг., стр. 22). А раз овладев задним двором «естествознания», где пока осуждены пребывать историки, нельзя ли будет сделать оттуда набег и на его парадные аппартаменты? «Имманентный натура¬
«Идеализм» и «законы истории»
235
лизм логически' не может быть проведен до конца. Наукоуче- ние вообще должно (как характерна эта последняя форма долженствования! — М. П) привести нас к тому результату, что такие [трансцендентные] элементы необходимы для всякой науки. Естественные науки могут заблуждаться относительно употребления этих элементов, так как в них это употребление стало до такой степени само собой разумеющимся, что его в большинстве случаев совершенно упускают из виду» (там же).
На каком смешении понятий основана последняя фраза, мы постараемся показать в дальнейшем изложении. Резюмируем пока наше основное приобретение: в форме методологического трактата перед нами лежит типичное метафизическое произведение. Любопытно, что нашли нужным придать ему эту форму. Говорят, что лицемерие есть дань, которую порок приносит добродетели. Псевдонаучная форма есть тоже дань, которую метафизика приносит своей победоносной сопернице.
Очевидно, трансцендентное в голом виде начинает быть неприемлемо даже в германских философских кружках...
^Дать сколько-нибудь полный обзор этого Umwalzung der Wissenschaft и установить всевозможные его «ценности» нельзя в тесных пределах одного реферата. Было бы очень желательно иметь философскую критику работы Риккерта, только, конечно, не в «идеалистическом» духе, ибо тогда получилась бы не критика, а панегирик. Было бы, далее, очень хорошо, если бы кто-нибудь дал общественную оценку этого похода против науки; такая оценка, конечно, возможна лишь в общей связи, для всего направления, которое лишь резюмировало себя в «Границах естественнонаучного образования понятий». Задача следующего изложения гораздо скромнее. Из всех возможных точек зрения на Риккерта мы выбираем лишь три и пытаемся выяснить:
1) действительно ли Риккерту удалось доказать, что понятие закона в естественнонаучном смысле в приложении к истории есть contradictio in adjecto? Для этого нам придется сначала выяснить, что Риккерт разумеет под законом и как он понимает «природу»;
2) если теперешняя историческая наука не удовлетворяет основному требованию Риккерта, чтобы методы истории и «естествознания» были радикально противоположны, то возможно ли создать такую науку, которая удовлетворяла бы этому требованию?
3) если бы такая наука была создана, то действительно ли она была бы в каком бы то ни было отношении более
236
111. Историография
«научна», нежели теперешняя история, т. е. представляла ли бы собой шаг вперед, или она была бы шагом назад?
Но прежде чем приступить к дальнейшему анализу «Границ», необходимо сделать одну оговорку. При беглом чтении книга Риккерта производит впечатление «блестяще написанной». Скоро, однако, вы убеждаетесь, что это впечатление, так сказать, чисто литературное: его дают сравнительно легкий, живой язык, умение автора поддержать интерес читателя. По существу трудно представить себе что-нибудь более сбивчивое. Термины, даже самые основные, :те имеют одного строго определенного значения на всем про 'яжении книги: они становятся то шире, то уже, смотря по потребностям автора в тот или другой данный момент. Встретив какое-либо утверждение, вы никак не можете ручаться, что через несколько страниц автор не ограничит его настолько, что от него в сущности ничего не останется, или не даст ему совершенно нового толкования. Приведем несколько примеров. Выше мы видели, что Риккерт сосредоточивает внимание на изложении историка, основываясь на том, что «изложение» и логическая структура в- науке совпадают. Но на стр. 378 (русск. перев., стр. 324) мы читаем, что «из характера истории как повествовательной науки, имеющей дело с действительностью, вытекает, что в ней внешняя форма изложения гораздо менее совпадает с его внутренней логической структурой, чем это имеет место в естественных науках», т. е. — что и совершенно справедливо — от изложения еще никак нельзя заключать к методу исследования... «Индивидуумом», или «ин-дивиду- умом», как предлагает писать в своем особом смысле Риккерт, является иногда то, что все обыкновенно так называют, — отдельные человеческие личности, например. В этом смысле говорится о первостепенных и второстепенных исторических индивидуумах на стр. 375 (русск. перев., стр. 402; срав. также 408—409 стр.). Отсюда мы узнаем, что сами великие люди суть «первостепенные» исторические индивидуумы, а родители их «второстепенные». Примеры, выбираемые на этих страницах Риккертом, — Фридрих Вильгельм I, Шиллер, Лютер, Бисмарк — казалось бы, не оставляют читателю никакого сомнения насчет того, что in concreto соответствует понятию «исторического индивидуума». Но раскройте стр. 394 (русск. перев., стр. 337), здесь вы прочтете: «Род, связь, коллективное, или как бы вы ни пожелали еще назвать некоторое историческое целое, напротив того, точно так же, как всякая из их частей, суть нечто индивидуальное и особливое, т. е. они, ко¬
«Идеализм» и «законы истории»
237
нечно, обширнее и больше, но не логически более общее, нежели единичные индивидуумы, из которых ^>ни состоят. Например, итальянское Возрождение настолько же есть исторический индивидуум, как Макиавелли, романтическая школа — настолько же, как Новалис». Все это прекрасно, и Риккерт мог бы избавить от урока элементарной логики своего читателя, который, вероятно, слыхал о различии между «объемом» и «содержанием» понятий. Но вот затруднение: Риккерт обещает не только логический, а и теоретико-познавательный анализ. «Теория познания стала для нас делом добросовестности, — говорит он, — и мы не желаем выслушивать никого из тех, которые обходятся без оправдания ею своих мыслей» (русск. перев., стр. 16; ориг., стр. 13). Для теории же познания существенны не только объем и содержание понятий, но и происхождение их. Индивидуумы второго типа из указанных Риккертом произошли путем упразднения индивидуальности индивидуумов первого типа. «Возрождение» возникает в нашем сознании, когда мы отвлекаемся от индивидуальностей Макиавелли, Боккачио, Филельфо и т. п. и берем лишь то, что в них есть общего, не индивидуального. Понятие «Возрождения», будучи индивидуально само по себе, есть тем не менее общее понятие. А на стр. 223 весьма категорически заявлено, что «история никогда не может пытаться приводить свой материал в систему общих понятий». Итак, историк, образующий общее понятие «Возрождения», поступает, с точки зрения Риккерта, неправоверно. Он уподобляется естественнику, который, устанавливая какой-нибудь закон, тоже ведь создает в известном смысле индивидуальное понятие. Закон Мариотта, например, относится только к газам, и в этом смысле он так же индивидуален, как «Возрождение». Итак, одно из двух: или историк «может пытаться» образовывать общие понятия — и тогда между ним и естественником разница только в степени, а не по существу, или же индивидуум второго типа не есть «исторический индивидуум» в смысле Риккерта.
Вопроса об «индивидууме» нам придется еще касаться; здесь мы имеем центр риккертовской «философии истории». Другим основным вопросом является возможность познания действительности, и тут мы встречаемся с той же особенностью изложения. На стр. 252 (русск. перев., стр. 221) мы читаем: «Действительность в ее воззрительной и индивидуальной форме не входит ни в какую науку». А двумя страницами дальше мы узнаем, что историю «можно охарактеризовать
238
111. Историография
и как подлинную науку о действительности (eigentliche Wirklichkeitswissgnschaft)». На стр. же 338 (русск. перев., стр. 292): «...еще раз приходится повторить: сама действительность, как воззрительная и индивидуальная, не входит ни в какую науку». И еще Риккерт в примечании к этой странице обижается, что у читателей «возникают недоразумения».
Было бы очень легко заключить от этой путаницы изложения к путанице мыслей и обличить фрейбургского логика 10 в неумении свою науку прилагать к делу. Мы этого не сделаем. В книге Риккерта, как и в безумии Гамлета, несомненно, «есть последовательность»; но нельзя не отметить, что неряш-. ливость изложения, бесчисленные повторения одного и того же с разными, однако, вариациями крайне затрудняют критический анализ книги. Всякому утверждению, основанному на подлинных словах Риккерта, можно противопоставить контрутверждение, основанное тоже на подлинных словах, но взятых с другой страницы. У немецких метафизиков выработан шаблонный прием, которым они парируют все упреки в неясности и туманности: они высокомерно заявляют, что их книгу может понять лишь тот, кто ее прочел от первой до последней строчки. Риккерт не был бы метафизиком, если бы он не прибег к этому приему: «...обязательно предварительно прочесть всю книгу для того, чтобы узнать, что я имею в виду», необходимо «отложить суждение о правильности моего взгляда до конца книги» (русск. перев., стр. 5; ориг., стр. VII).Правда, с обычной наклонностью к противоречиям он советует некоторым из своих читателей на стр. 531 «не читать далее», лишая их удовольствия узнать, «что он имеет в виду», и «судить о правильности его взглядов». Но в общем рекомендуемый им прием практически необходим ввиду особенностей его изложения: чтобы составить себе понятие о книге, нужно брать ее целиком, не считаясь особенно строго с отдельными местами.
Поэтому мы должны заранее отклонить всякие упреки в «неверном понимании» того или другого отдельного положения Риккерта, той или другой отдельной страницы его книги, ибо отдельные положения. сам автор на разных страницах понимает различно. Речь может идти лишь о «понимании» или «непонимании» общей связи его идей, и нам кажется, что в этом отношении мы не исказили взглядов Риккерта, не исказим их и в дальнейшем.
«Идеалиам» и «законы истории»
239
II
В недавние еще времена в исторической науке, как и во всякой другой, господствовали взгляды, еще и теперь незыблемо стоящие для людей, не причастных к науке и придерживающихся так называемого здравого смысла. Наука должна изучать действительность, т. е., во-первых, наука должна «описать» действительность, дать ее по возможности точную копию. Во-вторых, наука должна «открыть» законы этой действительности, найти в природе то, что дает правильность ее ходу и делает ее «ракой, какова она есть.
Один из новейших немецких философов-историков (Линд- нер) совершенно справедливо ставит перемены основных научных воззрений в связь не с переменами внутри самой науки, а с эволюцией общего миросозерцания. То представление о науке, которое мы сейчас формулировали, связано как с общим мировоззрением с «наивным реализмом». Люди «здравого смысла» и теперь еще верят, что действительность именно такова, какой мы ее узнаем при помощи наших пяти чувств, что чувства — это своего рода открытые окна- нашего сознания, через которые «мы» видим «действительность».
Простые, неученые люди смотрят в эти окна так, как вообще смотрят в окно: или когда это практически нужно, или от нечего делать. Ученый ведет через окно систематические наблюдения; он устраивается около окна со своим «методом», как фотограф с аппаратом, и снимает нечто вроде портрета с «действительности». Но при этом между учеными есть разница: физик, химик, биолог «видят действительность» непосредственно, почему их фотографии и отличаются точностью. Историк же имеет дело с действительностью опосредствованной: он лишь читал рассказы людей, видевших исторические лица и события, но сам их не видел. Оттого ему никогда не достигнуть такой точности, как представителям естественных наук.
Но какое мы имеем право утверждать, что наши чувства нас не обманывают? Что видимое нами через окно есть подлинно сама действительность, а не какой-либо систематический мираж? Если вы зададите такой вопрос человеку «здравого смысла», он с соболезнованием покачает головой, пощупает ваш пульс * и посоветует на первый случай водолечение. При этом утешит вас, что это еще ничего, бывает, что и выздоравливают. Но история европейской философии за последние два века показала, что болезнь неизлечима. Со времен Локка
240
111. Историография
философская мысль стоит перед вопросом: что такое познание и что мы, собственно, познаем? И в результате двухсотлетней работы она пришла к выводу: мы ничего не знаем, кроме того, что есть в нас самих, — наших ощущений и их бесконечно разнообразных и бесконечно сложных комбинаций. Действительность есть только наше представление. Мир есть совокупность наших «переживаний».
Эту «критическую», или «субъективно-идеалистическую», точку зрения, противоположную прежней «наивно-реалистической», возводят обыкновенно к Канту. Его называют иногда даже отцом, родоначальником критической философии. Занимавшиеся историей философии знают, что Кант в этом случае был лишь учеником англичан, главным образом Юма, и что предшественник самого Юма — Беркли был гораздо более последовательным «субъективистом», чем Кант. Но еще раньше Канта основная идея «критицизма» была усвоена присяжными популяризаторами английской философии в XVIII веке— французскими философами «Просвещения». Еще Дидро в своем «Письме о слепых для зрячих» («Lettre sur les aveugles a l’usage de- ceux qui voienit») старался объяснить французской публике, что наша «действительность» вполне зависит от наших чувств. Дидро пользовался для этой цели наблюдениями одного английского врача над слепорожденными и на примере последних показывал, как отсутствие одного чувства ведет к отсутствию целой категории явлений «действительности» и перестраивает всю нашу «картину мира». Даже моральные представления у слепорожденного иные, чем у нормального человека: ему незнакомо, например, чувство стыда в обычной форме, ему не стыдно ходить раздетым, и он испытывает при этом только одно неприятное ощущение холода.
«Субъективный идеализм» является, таким образом, вовсе не специально кантовской особенностью. Это одна из основных особенностей всей той системы идей, которая явилась на смену средневековому догматизму. Если он был усвоен на континенте Европы преимущественно в форме, выработанной немецкой метафизикой, то, кажется, между прочим, потому, что последняя сумела совместить критицизм с благонамеренностью, тогда как англичане о благонамеренности мало заботились, французы же были явно неблагонамеренны.
Мы не будем следить за тем, какие этапы прошла основная идея критицизма у Канта, Фихте, Шопенгауэра, новокантиан- цев и эмпириокритиков и какие оттенки при этом она принимала. Для нас эта идея важна только в самой общей ее форме.
«Идеализм» и «законы истории»
241
у
Если мир есть совокупность наших «переживаний», состояний нашего сознания, то никаких «фактов», вне нас находящихся, в этом мире не существует. Говоря точнее, мы создаем эти факты из простейших психических элементов, из «ощущений», путем организующей работы нашего сознания. «Когда мы говорим: я вижу человека или я вижу дом, то мы высказываем теорию или гипотезу», — замечает один из новейших «критических эмпиристов» *. Когда мы говорим об исторических «фактах», о Петре Великом или Иоанне Грозном, мы высказываем гипо!езы необыкновенной сложности. Люди «здравого смысла» философствуют каждую минуту, сами того не подозревая, как мольеровский Журдэн, сам того не подозревая, говорил прозой.
Следует ли, однако, из этого, что мир есть продукт нашей фантазии? Когда мы в молодости начинаем заниматься философией и впервые знакомимся с новой точкой зрения, этот вопрос обыкновенно интересует нас больше всего. И в первом увлечении логической весны на него отвечают утвердительно. Между тем именно с новой точки зрения вопрос не имеет никакого смысла. Коренное противоречие между «фантазией» и действительностью существовало только для наивного реализма. Но раз действительность есть только наше представление, демаркационную черту приходится вести в ином направлении. Именно из субъективности нашей картины мира можно сделать вывод, что картина мира есть создание нашей воли. Риккерт не прочь поспекулировать на таком радикальном понимании «субъективного идеализма». Не без его помощи, как увидим ниже, он рядом с «законом» и на равных с ним правах возводит свое понятие «ценности». Итак, действительно ли «субъективный идеализм» последовательно ведет к признанию необходимой для нас реальности только за нашим «я» и ни за чем более? На самом деле это именно тот пункт, где идеализм недостаточно критичен. Канта и его последователей (в том числе это приложимо и к Риккерту) совершенно справедливо упрекали в том, что они смешивали субъективное и произвольное. Но это вовсе не одно и то же. Что может быть «субъективнее» чувства голода? Я не могу чувствовать вашего голода, а вы моего. Но люди были бы очень счастливы, если бы от их воли зависело вызывать аппетит и убирать его, когда он мешает. Наши «переживания» субъективны в том смысле, что они происходят не вне нас, а в нас (грубо метафорически выражаясь), но они возникают независимо от нашей воли. Мы
* Kleinpeter, в «Kantstudien». Bd. VIII, Heft 2—3, S. 281,
242
111. Историография
можем руководить потоком наших переживаний, регулировать его силу, воздвигать на нем шлюзы, устраивать запасные резервуары, но и это в известных пределах: есть переживания, болезнь, например, и самое великое из всех переживаний, называемое смертью, которые кладут конец на время или навсегда даже этой организующей работе и совершенно помимо нашей воли. Сам же поток переживаний есть нечто стихийное, а для нас нечто данное, с чем нам нужно считаться и чего мы не можем устранить.
Как видим, «субъективно-идеалистическая» точка зрения не так много меняет в фактическом содержании науки, как это могло показаться с первого взгляда. Будем ли мы считать солнце, например, вне нас существующей реальностью или обязательным для нас состоянием сознания, наше научное отношение к нему существенно не изменится. И в этом и в другом случае это будет для нас нечто «данное», к чему мы должны приспособляться. Гг. неоидеалисты, обдающие презрением «позитивизм» и в то же время тщательно воздерживающиеся от всяких фактических исследований, поступают вполне благоразумно*, ибо в этом последнем случае им пришлось бы волей-неволей обратиться в жалких позитивистов.
Но и даже в отношении к факту перемена все же чувствительна.
Само понятие «факта» понемногу меняется, становится строже, последовательнее. В «факте» стараются выделить то, что мы прибавляем к непосредственному ощущению и что может еще быть произвольным, и оставить лишь само ощущение, независимое от нашей воли. «Я вижу белое или я чувствую жар —вот факты с точки зрения современной физики»,— говорит тот же автор, которого мы цитировали выше п. «Я вижу человека» — это уже теория, как мы знаем. Но на практике большинство ученых имеет дело не с отдельными ощущениями — их можно выделить только путем анализа, — а с их комплексами, с ощущениями, над которыми уже произведена бессознательно организующая работа. Наши факты большей частью вторичные, а не первичные. Это уже нечто созданное до нас. Как создаются факты, с которыми нам приходится иметь дело в науке? Этого вопроса, который ставит «теория познания», не существовало для ученого прежнего типа. Вопрос особенно серьезный для историка. Прежде хладнокровно принимали, что существуют в науке истории Людовик XIV или Иоанн Грозный, как существует камень или береза. Но если «камень» и «береза» уже результат целого ряда умозаклю¬
V
«Идеализм» и «законы истории»
243
чений и обобщений, подлежащих проверке, то какой же проверке должно подлежать наше представление о Людовике XIV? «Теория исторического познания» — очередной вопрос XX века; если история должна быть наукой — а что она должна ею быть, этого никогда не отрицали даже «индивидуалистические» историки типа Ранке, — то она должна прежде всего критически обработать свой материал.
Мы не будем распространяться об этом вопросе, потому что он уже обсуждался в русской литературе с большей компетентностью, чем на какую может притязать пишущий эти строки*. Но еще больше, чем на вопрос о факте, теория познания повлияла на понятие закона: тут идеалистическая точка зрения произвела настоящий переворот, ярко отразившийся, между прочим, в первых главах книги Риккерта.
«Наивный реалист» «искал» закон в природе, как ищут золотую руду в земле. Он был твердо убежден, что они, эти законы, существуют объективно, т. е. независимо от нашего сознания. Нельзя — по крайней мере неосторожно — говорить о «закономерности в той области явлений, где ни один закон пока не открыт.
Но мы теперь знаем, что в «действительности» существует только хаос первичных ощущений — то, что мы выражали словами: белое, зеленое, горячее, кислое, твердое, мйгкое и т. д. Лишь это до известной степени может быть названо объективным, потому что это по крайней мере не зависит от нашей воли. Все комбинации этой первичной действительности субъективны. В том числе субъективны и все законы природы. Законы природы суть общие понятия.
Человек — и не только человек, а всякое живое существо, сознающее и действующее, — не может жить среди хаоса. Ему нужно ориентироваться, нужно прежде всего для поддержания своей жизни, для борьбы за существование. Эта ориентировка началась задолго до появления науки, вероятно, даже задолго до того, как человек приобрел все те признаки, какие мы считаем типичными для него в отличие от животного.
Верх и низ, правый и левый, день и ночь, зима и лето, небо и земля — все это воплощение первоначальной,’ донаучной, может быть, дочеловеческой ориентировки, попытки ра¬
* См. статью ыроф. Виппера «Несколько замечаний о теории исторического познания» в «Вопросах философии и психологии» за май — июнь 1900 года 12. В настоящее время по-русски переведена и основная немецкая работа по этому вопросу «Die Probleme der Geschichtsphilo- sophie» Георга Зиммеля, вышедшая в оригинале в 1892 году ,3.
244
111. Историография
зобраться в хаосе первичных впечатлений. Путем систематизации, углубления, обобщения и проверки из житейских навыков сложилось то, что мы называем наукой.
То, что получается таким путем, может ли быть названо «копией» действительности? Может ли существовать копия хаоса и к чему она нужна? Едва ли не лучшие страницы книги Риккерта посвящены обстоятельному разъяснению того, что науки не могут и не должны «описывать». Действительность, во-первых, экстенсивно необозрима: ее явления бесчисленны в каждый данный момент, и с каждой новой секундой благодаря непрерывному изменению всего появляются новые. Только моментальный фотографический снимок мог бы несколько приблизиться к решению той задачи, которую «наивный реализм» ставил науке. Да и он годился бы лишь для одного момента, т. е. практически был бы бесполезен для ориентировки среди «действительности». Но рядом с экстенсивной необозримостью есть еще интенсивная: в природе все разложимо и нет пределов этому процессу разложения. Организм состоит из клеток, но и эти последние могут быть разложены на составные элементы, и нет никакого основания верить в неразложимость этих последних. Собственно говоря, те «атомы», из которых по нашему представлению складывается «материя», и те «первичные ощущения», которые составляют основу явлений нашего сознания,. — все это лишь абстракции, придуманные нами в интересах практического удобства. Действительность неизмерима вглубь так же, как и вширь.
Преодолеть хаос можно только одним путем — упрощая его. Из миллиона действительных и возможных впечатлений мы берем два-три, которые нам нужны для практических целей ориентировки. Если они выбраны удачно — дают возможность в краткой формуле охватить то, что составляет для нас сущность явления, то, чем оно для нас важно, — этого достаточно.
Мы берем сходное в самом разнообразном и ставим его за одну скобку, поскольку оно помогает нам понять разнообразные явления, разобраться в них. Падение яблока с дерева, притяжение. Луны к Земле и полет ядра из пушки мы одинаково объясняем тяготением. До того, что индивидуально это три совершенно различных явления, нам в данном случае нет никакого дела. Напротив, чем общее наша формула, тем она научно совершеннее. Если только многие явления охватываются установленным нами понятием, то это лишь эмпирическое правило. Но когда под определение подходят все без исключения явления, имеющие данный признак, настоящие,
t
«Идеализм» и «законы истории»
245
прошедшие и будущие, мы имеем перед собой закон природы. Так, в приведенном нами примере все явления тяготения, какова бы ни была их индивидуальная оболочка, подходят под известную формулу Ньютона. Мы и называем эту формулу законом тяготения.
Есть ли этот закон изображение действительности? Никоим образом. Если бы мы имели, предположим, абсолютно невозможное — полный каталог всех существующих законов природы, то это не дало бы нам ни малейшего представления о той природе, которая непосредственно воспринимается человеком. Закон — это даже не план действительности, не ее схема, это ее мерка, масштаб. Потому что закон есть общее понятие, а воспринимаем мы непосредственно индивидуальное.
«Действительность иррациональна» — это неоднократно повторяет Риккерт, подчеркивая «иррациональность» со своей особой точки зрения. Но в известном смысле он прав со всякой философской точки зрения: нельзя понять явление, т. е. подвести его под общее понятие, не лишив его индивидуальных йгризнаков. «Сера, мой друг, теория всегда, а древо жизни блещет в полном цвете...» Отсюда прямо и просто следует, что индивидуальное, частное, единичное не может быть предметом «естествознания», по Риккерту, т. е. предметом науки по нашей обычной терминологии. Все, что попадает «в науку», в известном смысле обезличивается. Даже больше, еще до науки язык обезличил древо жизни в достаточной степени, выработав общие понятия: человека, лошади, дерева, животного и т. д., потому что без такого обезличения ориентировка в мире действительности невозможна.
Фактический вопрос о закономерности в той или другой области явлений превращается с такой точки зрения в вопрос логический или, лучше, - теоретико-познавательный. Наивный реалист мог «не верить» законам истории, «пока сам их не увидит», и возражать сторонникам закономерности, например, аргументом Эд. Мейера. Теоретико-познавательная точка зрения молчаливо упраздняет этот аргумент. Вопрос о «законах истории» не фактический: он сводится к вопросу о том, можно ли подводить явления, составляющие материал истории, под общие понятия. Если да, то, хотя бы мы по какой-нибудь случайности, например вследствие несовершенства наших наблюдений, не открыли ни одного закона в течение неопределенно долгого времени, закономерность в истории несомненно существует.
Итак, действительно ли всякого рода явления могут быть подводимы под общие понятия? Если в чем книга Риккерта
246
111. Историография
представляет крупный шаг вперед сравнительно с другими подобными произведениями немецкой науки, то это в том, что Риккерт отвечает на этот вопрос безусловно утвердительно. Самым шаблонным приемом было бы устранить из цепи «закономерности» человеческие поступки в силу присущей человеку «свободной воли». «Важно поставить на вид,— говорит Риккерт (русск. перев., стр. 353—354; ориг., стр. 415), —что логическая противоположность между природой и историей не имеет ничего общего с противоположностью между необходимостью и свободой и что индивидуалистическое понимание истории вовсе не утверждает индивидуальной свободы в смысле беспричинности». «Напротив того, сторонники естественнонаучного универсального метода совершенно правы, утверждая сплошную причинную обусловленность всех исторических фактов» (русск. перев., стр. 349; ориг., стр. 410).
Но в историю входят как известные «материальные» явления (вся внешняя культура, например), так и явления «духовные» (факты человеческого сознания). Притом вторые, по распространенному мнению, в ней доминируют*. Нельзя ли обосновать отличие истории от естествознания качественной противоположностью этих двух категорий явлений? Так думал выйти из затруднения Дилтей (в своей «Einleitung ini die Geisteswissenschaften»», вышедшей в 1883 г.) 14 — до Риккерта главный немецкий авторитет в области историософии. Риккерт имеет логическое мужество отказаться и от этой уловки. Целую, сильно написанную главу (вторую) он отводит обстоятельному опровержению понятия «науки о духе» как чего-то противоположного «естествознанию». Дилтей видел два главных отличия «психического» от «физического»: единство сознания в противоположность бесконечной делимости материи и «спонтанность» воли в противоположность механической причинности, господствующей в мире материи («Einleitumg», S. 15). Риккерт, как мы уже видели, считает закон причинно¬
* Нельзя не обратить внимания на следующую странность. В современной философии, вообще говоря, признано, что «физическое» несводимо на «психическое» и наоборот. Как бы ни относиться к психофизическому параллелизму, но это господствующее учение. Казалось бы, при таких условиях не совсем удобно причинно обусловливать человеческие поступки, т. е. «физическое», состояниями сознания, так же по меньшей мере неудобно, как объявлять сознание продуктом деятельности нервных клеток. Однако если второе вызывает всегда вопли ужаса, то первое приемлется беспрекословно. Или физическое «не смеет» принимать психическую форму, а психическое может, если удостоит, принять низменный физический образ?
t
«Идеализм» и «законы истории»
247
сти приложимым и к человеческой психике, а насчет неделимости сознания указывает, что мы вполне можем представлять себе состояния сознания как комплексы простейших психических элементов, первичных ощущений, параллельных по своему логическому значению материальным атомам. Психология есть такая же естественная наука, как и биология. «Поэтому, если историю характеризуют как науку о духе и как объект исторических наук определяют некоторую часть человеческой духовной жизни, совершенно невозможно логически отграничить историю от естествознания принципиально» (русск. пе- рев., стр. 193; ориг., стр. 219). Д. С. Милль «мог основательно не находить в душевной жизни, как таковой, ничего требующего иных методов, чем те, которые испытаны в естественных науках» (русск. перев., стр. 193; ориг., стр. 220).
Но если «материальный мир» всецело может быть подводим под общие понятия, духовные явления также не заключают в себе ничего с ними несовместимого, то, очевидно, закономерность должна быть свойственна и тем сложнейшим психофизическим явлениям, которые мы определяем как «социальные» и которые составляют исключительное содержание истории? Без сомнения, отвечает Риккерт. «Вполне возможно пытаться построить и систему понятий, в которой находили бы выражение природа общественной жизни, т. е. общее ее различным формам,и, если возможно,ее законы». «С логических точек зрения не приходится возражать против естественнонаучного трактования общественной действительности...»; «...в пределах «социологии» могут существовать еще специальные науки, стремящиеся к тому, чтобы изобразить природу каких-либо особых процессов общественной жизни, например: политики, экономической жизни, искусства, науки и т. д., т. е. пытаться подводить соответственные процессы под систему общих понятий. Ведь принципиально духовная жизнь нигде не оказывается не допускающей естественнонаучного трактования, и, следовательно, никто не может воспретить естествознанию исследование объектов, с которыми имеет дело история в обычном смысле слова» (русск. перев., стр. 249—250; ориг., стр. 287-288).
III
Итак, вся действительность без остатка может быть подведена цод. систему общих понятий. Эту рационализированную общими понятиями действительность мы и называем природой. И «законам природы» подчиняется решительно все.
248
111. Историография
Если читатель припомнит то, что мы говорили в первой главе, он вправе будет почувствовать некоторое недоумение. Что же остается для той «истории», которой так дорожит Рик- керт, — для истории, по своему методу противоположной естествознанию?
Что касается «фактов», не остается ничего. Но «история» отличается от «естествознания» не своим фактическим мате^ риалом, как химия отличается от биологии. «Факты» для истории и для естествознания одни и те же, но они обращены к этим двум наукам разными сторонами. «История» и «естествознание» суть, собственно, только две различные точки зрения на одну и ту же действительность.
«Существует множество вещей и процессов, интересующих нас не только со стороны того, в каком отношении находятся они к общему понятию или системе понятий, но имеющих для нас значение и как воззрительные, или индивидуальные, формы, т. е. как действительность» (русск. перев., стр. 219; ориг., стр. 249). «Все то, что сообщает нам о процессах в определенных пунктах пространства и времени, мы называем историей...» «История может пытаться изображать действительность не таким образом, чтобы при этом имелось в виду общее, но лишь таким образом, что при этом имеется в виду частное, так как лишь частное действительно происходит» (русск. перев., стр. 220; ориг., стр. 250—251).
В этом смысле должны существовать — и существуют на самом деле — «исторические составные части» в естествознании. Всюду, где мы встречаем нечто несводимое на другое, самостоятельное, особливое, мы имеем перед собой объект истории. Звук и свет, например, поскольку это «индивидуальные», несводимые друг на друга группы восприятий, представляют собой «историческое» в физике. Неразложимые далее и несводимые друг на друга химические элементы играют эту роль в химии. О возможности исторической геологии или исторического метода в биологии всем известно.
Вдумываясь в это противоположение «истории» и «естествознания», вы начинаете припоминать, что оно вам как будто знакомо. В самом деле, кто это противополагал интерес к общему интересу к частному? Да не более и не менее как
О. Конт. «По отношению к каждому роду явлений, — читаем мы в «Курсе положительной философии» *, — надо различать два класса естественных наук: науки абстрактные, общие, стре¬
* 2-я лекция. Русск. перев., т. I, стр. 30 15.
г
«Идеализм» и «законы истории»
249
мятся путем изучения всех возможных случаев к открытию управляющих различного рода явлениями законов; науки конкретные, частные, описательные, иногда называемые просто естественными науками, состоят в приложении этих законов к истории различных существующих тел». Это деление «можно очень ясно установить при сравнении, с одной стороны, общей физиологии, а с другой — собственно зоологии и ботаники; эти науки, очевидно, носят совершенно отличный друг от друга характер: тогда как первая изучает общие законы жизни, вторые определяют образ жизни всякого оюивого тела в частности; при этом вторые основаны, конечно, на первой» (курсив наш. — М. П.).
Мы за тысячу верст от мысли подозревать Риккерта в неоговоренном позаимствовании у создателя французского позитивизма. Напротив, если бы когда-нибудь фрейбургский профессор почувствовал недовольство своим трудом, то это было бы именно в том случае, если бы ему указали отмеченное нами сходство. Но сходство тем не менее остается в высшей степени характерным и показательным. Конт был «наивный реалист»: он принимал, что мы познаем вещи, как они существуют*. «Общее» и «индивидуальное» были для него признаком вещей: наука могла регистрировать в одной своей части одни признаки, в другой — другие. Ни логической, ни методологической противоположности здесь не было, было -лишь различное применение одного и того же научного метода. «Вторые», т. е. конкретные, науки, «конечно, основаны на первой» (т. е. абстрактной). С позитивной точки зрения 16 отчего бы не «познавать» конкретное так же, как мы познаем абстрактное? Первое как будто даже легче — не требует такого усилия мысли.
Положение Риккерта гораздо труднее. Он только что выяснил, что индивидуального мы не познаем обычным естественнонаучным путем, что действительность иррациональна. Стало быть, для того, чтобы стала возможной «история», нужно доказать, что существует особый вид познания, отличный не только от естественнонаучного, но и от обычного, житейского. Ибо, как показывает история языка, донаучный человек
* Некоторым предчувствием теоретико-познавательной точки зрения было то, что Конт называл «вещи», как известно, «явлениями». Но он противополагал «явления» метафизическим сущностям, а не «наивной» действительности и не ставил вопроса: откуда мы берем эти явления и как их образуем?
250
111. Историография
ориентируется в действительности все же при помощи общих понятий.
Теперь мы подошли вплотную к трем поставленным нами в первой главе вопросам:
1. Удалось ли Риккерту доказать, что существует такое антиестественнонаучное познание?
2. Если его нет в действительности, то можно ли его создать?
3. В этом последнем случае будет ли оно «лучше» естествознания или по меньшей мере равноценно ему?
Контовское деление, которое бессознательно * легло в основу противоположения «истории» и «естествознания» у Риккерта, само по себе создавало особое затруднение. Приходилось объяснять «исторические элементы» в естественных науках, где, однако же, до невозможности трудно найти два противоположных метода. Риккерт выходит из затруднения тем, что устанавливает понятие «относительно исторического». «Историческое есть нечто имеющее степени, — говорит он, — т. е. не только возможно абсолютно историческое рассмотрение, при котором действительность рассматривается таким образом, что при этом имеется в виду индивидуальное и единичное, но историческим же следует называть и такое рассмотрение, при котором хотя и имеется в виду нечто общее, но это общее рассматривается как нечто частное по сравнению с еще более общим» (русск. перев., стр. 232; ориг., стр. 266). «Относительно историческое» допускает трактование согласно естественнонаучному методу: оттого в тех науках, которые имеют дело с «относительно историческим», «мы приходим к тому пункту, где, по-видимому, не может быть проведено принципиальное противоположение науки, имеющей дело с понятиями, и науки, имеющей дело с действительностью» (русск. перев., стр. 235; ориг., стр. 270).
И метод здесь, например в исторической биологии, еще «относительно исторический»: «материал все еще подводится под понятия» (русск. перев., стр. 236; ориг., стр. 270).
Если кто-нибудь на основании этого подумает, что Риккерт своим «относительно историческим» упразднил с таким шумом заявленную «логическую противоположность» истории и естествознания, то мы не будем спорить...
* Не совсем, впрочем, бессознательно: на стр. 299—300 (русск. перев., стр. 259) Риккерт с одобрением ссылается на А. Навилля, который к истории причисляет геодезию, астрономию, геологию и даже ботанику и зоологию, так как они трактуют о действительных телах, тогда как механика, физика, химия и биология ищут законы, т. е. стоят очень близко к контовскому делению.
«Идеализм» и «законы истории»
251
>
В самом деле, возьмем какого-нибудь первостепенного исторического индивидуума, например Лютера. Как и всякая «действительность», Лютер представляет собой практически бесконечное разнообразие, как «экстенсивное», так и «интенсивное».
Нет никакой возможности охватить все, что говорил и делал Лютер за 63 года своей жизни. И за каждым «проявлением» Лютера стоит весь он, со всей его индивидуальной сложностью, так что по поводу каждого его слова или поступка, если пытаться изобразить его во всем присущем данному поступку своеобразии, пришлось бы вести анализ бесконечно далеко. Не только историк, но даже и те люди, которые видели Лютера и говорили с ним и рассказами которых руководится историк, — даже эти «очевидцы» уже пытались «преодолеть» экстенсивное и интенсивное «многообразие» Лютера при помощи общих понятий. Они, во-первых, сводили в одно различные проявления Лютера и на основании этого определяли его характер — определяли его, например, как человека «постоянного» или «непостоянного» (последнее мнение, как известно, часто высказывалось после крестьянской войны). При этом, раз составив такое общее понятие, они дальнейшие проявления Лютера подводили уже под это понятие, как мы на каждом шагу делаем, говоря о поступках хорошо знакомого нам человека. Далее, они преодолевали интенсивное многообразие Лютера, подставляя как мотив к каждому его поступку известное общечеловеческое психическое содержание: любовь, ненависть, страх и т. п. Поведение Лютера в крестьянскую войну, например, некоторые объясняли тем, что он боится князей и желает снискать их благоволение. Мы уже не говорим о том, что в том и другом случае мы имеем не первичные ощущения, т. е. нечто «объективное»' (как в физике, например), а ряд чрезвычайно сложных гипотез. Нам важно, что по своей логической структуре эти гипотезы естественнонаучного характера: они йред- ставляют собой попытку выразить индивидуальность Лютера в общих понятиях.
Итак, Лютер имеет все признаки относительно исторического индивидуума: он, конечно, представляет собой нечто индивидуальное по отношению к еще более общему, например по отношению к «реформатору» вообще. Но сравнительно с той «действительностью», которую представлял собой живой Лютер, исторический образ Лютера есть очень далекое и сложное обобщение.
Риккерт напрасно соблазнился словами Ранке, что история изображает лишь то, что происходило, и так, как оно действи¬
252
111. Историография
тельно происходило. Величайший немецкий историк — хотя некоторые и не прочь были бы теперь произвести его в кантианцы * — на самом деле был «наивным реалистом» и, будучи весьма «критичен» в специально-историческом смысле, относился к процессу своей работы без всякого философского критицизма. Он, конечно, был уверен, что изображает «was eigen- tlich war». Но на самом деле он дает, как и может давать всякий историк, только одностороннюю схему того, что было. Он берет у каждого исторического лица те черты, которые ему нужны, и отбрасывает все остальное совершенно так, как делает «естественник». Любая из исторических характеристик Ранке может служить примером.
Берем наудачу, например, характеристику Карла Великого в V томе «Weltgeschichte» (II Abteil, S. 243—245) 18, она вся состоит из общих понятий. Карл не гениален, как его отец, но у него прирожденный стратегический талант; он рассудителен, последователен, сразу схватывает самое существенное; он старается, чтобы все, что он делал, было справедливо; у него есть вкус к деталям управления, у него было прирожденное умение властвовать и распоряжаться и т. д. Что это такое, как не подведение «действительности», именуемой Карлом Великим, под общие понятия (мы едва не написали «общие места»), выработанные только, правда, не наукой, а еще донаучным «здравым смыслом»?**
Итак, индивидуалистическая историография в ее высшей форме все же может подняться лишь до «относительно исторического» и не может отрешиться от подведения своих объектов под общие понятия. Еще меньше, конечно, к этому способна культурная история. Что шаблонные определения культурной истории старого типа вроде приводимых Риккертом «Возрождения» и «Романтизма» суть общие понятия, об этом мы уже говорили. Но впрочем, по поводу книги Риккерта едва ли стоит
* См., между прочим, по этому поводу статью Medicus’a «Kant und Ranke» в предпоследней книжке «Kantstudien» ,7.
** Само собою * разумеется, что каждая черта этой характеристики Ранке, как и других, прекрасно обоснована детальной, кропотливой работой над источниками. Думается, не надо говорить ‘читателю, что именно на этой последней работе над источниками и зиждется всемирная слава Ранке как историка. Здесь он не имеет соперников по тонкости анализа, но, увы! метод его тут уже совсем «естественноисторический», метод наблюдения и обобщения. Кто интересуется этим сюжетом, тому мы можем порекомендовать как хороший образчик небольшую статью Ранке о каролингских летописях в его «Abhandlungen und Ver- eucbe», вышедших в 1888 году19.
«Идеализм» и «законы истории»
253
пускаться в подробности относительно культурной истории. Сам термин Риккерт очень любит; в его большом трактате есть целый отдел, посвященный «исторической науке о культуре»; популяризацию своей основной идеи он даже озаглавил «Куль- туроведение и естествознание» («Kulturwissenschaft und Natur- wissenschaft»). Но для правильной оценки этих терминов нужно помнить, что история культуры в том смысле, как ее понимает у нас и ученая и просто читающая публика, т. е. в смысле истории быта, для Риккерта не есть историческая наука. Если бы он знаком был с ее образчиками, он отнес бы ее к не особенно уважаемой им «социологии». Его история культуры есть наука о событиях неповторяющихся, однократных, а не о быте, т. е. не о массе мелких, повторяющихся явлений. «Быт» есть у всякого народа, и на этом основании мы говорим о культуре первобытной, о культуре негров или полинезийцев. Риккерт наряду со всякими другими устаревшими «ценностями» вполне усвоил себе и шаблонное деление, принятое немецкой этнографией, — деление всего человечества на Naturvolker und Kulturvolker. «Раз у данного народа не обнаруживается никаких исторически существенных изменений, мы можем подвести его лишь под общие понятия повторений, стало быть, рассматривать как «природу» в логическом смысле» (русск. перев., стр. 485, ориг., стр. 580). «История всегда должна изображать постепенное развитие * своих объектов, т. е. ряды изменений, которые не могут быть рассматриваемы как повторения» (русск. перев., стр. 484; ориг., стр. 579).
«Изменения», которые «не повторяются», по обычной терминологии суть события. Итак, культурная история Риккерта есть тоже история событий, и он со своей точки зрения совершенно прав, находя, что «все противоположение политической, [у нас ее обыкновенно называют «прагматической»], истории культурной неудачно» (русск. перев., стр. 489; ориг., стр. 585). Точного определения их разницы мы у Риккерта не нашли, но из общего сопоставления получается такой вывод, что «политическая» история есть история «внешних» событий (войны и мира), а «культурная» — внутренних (например, сюда, по Риккерту, входят изобретения) (русск. перев., стр. 487; ориг., стр. 582).
Резюмируем наш вывод. Существующая история даже типа Ранке не может служить образцом познания, по своему методу
* Мы обещали не «придираться к словам» у Риккерта, но здесь
не можем воздержаться от замечания, что ведь «развитие» одно из
самых общих понятий, какими только оперирует наука,
254
111. Историография
противоположного «естествоведению». Даже если согласиться, что историю делают «великие люди» — одна из центральных идей Риккерта, все же мы не можем представить себе этих великих людей в их непосредственной индивидуальности, и, чтобы сделать их доступными нашему пониманию, мы должны подводить их под общие понятия. Науки, которая удовлетворяла бы основному методологическому требованию Риккерта, налицо не оказывается.
Быть может, однако, это лишь временный недостаток? Быть может, со временем идеал будет осуществлен и во всяком случае можно к нему стремиться? Быть может, когда историк благодаря усовершенствованным способам фиксации событий получит возможность стать с последними лицом к лицу, ему уже не понадобятся общие понятия и он будет непосредственно созерцать индивидуальное, как ангелы непосредственно созерцают лицо отца небесного? Очень нетрудно показать, что и в этом случае без «общих понятий» никакой науки из своего созерцания историк не извлечет.
Вообразим на минуту, что мы можем воспроизвести какие- нибудь события, например: созвание государственных чинов, образование Национального собрания и взятие Бастилии (5 мая, 17 июня и 14 июля 1789 года), с буквальною точностью, так, как они происходили, при помощи фонографа или кинематографа что ли. Всякий жест, всякое слово действующих лиц будет перед нами. Представим себе, далее, для простоты, что нам нужно рассказать об этих событиях хотя бы лишь в их внешней связи, т. е. написать главу из «повествовательной истории». Первое, с чего нам придется начать, это с подведения видимой нами индивидуальной действительности под общие понятия места и времени: нам придется установить, что дело происходит во Франции и все действующие лица суть французы (общее понятие), что все три события относятся к лету 1789 года, т. е. с первых же шагов нам придется констатировать сходство, а не разницу, общее, а не индивидуальное. Чем дальше будет подвигаться наш рассказ, тем больше мы должны будем ввести общих понятий: нам придется, например, установить сходство настроения, с одной стороны, членов Национального собрания, с другой — людей, бравших Бастилию, и тех и других между собой. Придется говорить о «королевской власти», о «государственных чинах», о «населении Парижа» и т. д. и т. д. И все-таки наш рассказ будет совершенно непонятен и неинтересен для человека, не располагающего
«Идеализм» и «законы истории»
255
еще более общими понятиями, как «государство», «общество», «свобода», «равенство» и т. д.
Между всеми этими понятиями и естественнонаучными есть, конечно, разница: естественнонаучные понятия вырабатываются при помощи строго определенного метода, т. е. при соблюдении известных логических условий. Исторические понятия по большей части берутся из жизни, где они сформировались без всякого метода. В этом, разумеется, существенное отличие истории от физики, например. Но это отличие в степени совершенства, а не по существу. Понятия, которыми оперирует историк, относятся к той же логической категории, как и естественнонаучные понятия, только они хуже последних приспособлены к научным требованиям — вот и вся разница *.
Итак, если согласиться с Риккертом, что задача исторической науки — «искание действительного в частном и единичном» и что эта наука «никогда не может пытаться приводить свой материал в систему общих понятий» (русск. перев., стр. 223; ориг., стр. 254—255), то такой задачи не разрешает ни существующая в настоящее время, ни могущая когда-либо существовать историческая наука. Стало быть, остается или признать, что «естествознание» есть тип науки вообще, или же воззвать к трансцендентному и попытаться, не выведет ли оно из того тупика, куда завела Риккерта его «логика».
Нет надобности говорить, что автор «Границ...» идет последним путем. Само собой также разумеется, что мы отказываемся разбирать вопрос о правильности его взгляда на трансцендентное само по себе. Нас может интересовать только одно: какое употребление делает он из трансцендентного в истории и каких результатов он этим достигает.
* Это понимание истории как науки об индивидуальном не составляет, конечно, индивидуальной особенности Риккерта: если мы в тексте говорили только о нем, то лишь потому, что никто в немецкой литературе не пытался обосновать этого взгляда так обстоятельно и с такой, можно сказать, страстностью. Более эскизно и умеренно ту же задачу за несколько лет раньше выполнил известный историк философии Виндельбанд в своей актовой речи «История и естествознание» («Ge- schichte und Naturwissenschaft», 1894), хорошо знакомой и русской публике по переводу ее в «Русской мысли» за 1898 год. Идея нашла живой отклик и во французской литературе последних дней: кроме большой книги пишущего по-французски румынского историка Ксено- поля (A. Xenopol. Les principes fondamentaux de l’histoire. Paris, 1889) и его статей в «Revue philosophique» можно отметить еще ряд статей в «Revue de synthese historique», проникнутых тем же духом. С культурно-исторической точки зрения очень характерно это стремление создать особую «индивидуалистическую» науку параллельно с общим возрождением индивидуализма.
256
HI. Историография
Вкратце положение Риккерта в этом вопросе можно определить так: без общих понятий даже в истории обойтись нельзя; обобщения необходимы, но исторические обобщения должны строиться по совершенно иному принципу, чем естественнонаучные. «Должны» не потому, чтобы без этого нельзя было обойтись: мы видели, что на практике историк отлично справляется при помощи естественнонаучных общих понятий. «Должны» потому, что есть «воля, хотящая истории». Эта воля хочет, чтобы при построении исторических понятий те или другие признаки выбирались или отбрасывались не по принципу противоположности общего и индивидуального, а по совсем особому принципу — ценности.
«Если мы желаем знать, для каких частей действительности никогда не может быть достаточным естественнонаучное трактование и какие предметы не только делают возможным историческое изложение, но и требуют его, т. е. если мы желаем действительно установить предметное понятие истории и дойти до него путем более точного определения выясненных до сих пор логических принципов, мы можем при этом принять за исходный пункт лишь понятие о ценностях, которыми руководится' историческое образование понятий. От них зависит, что становится существенным и что нет, и в особенности более точное определение их должно точнее определить понятие исторического центра». «Всякое историческое изложение, раз оно хочет быть наукой, должно относить свои объекты к некоторой ценности, которая есть ценность для всех, и притом прежде всего для тех, к которым обращается историк» (русск. перев., стр. 477—478; ориг., стр. 570—571).
Последняя цитата попутно открывает нам еще одну коренную противоположность между «историей» и «естествознанием». В «естествознании» основные принципы науки вырабатываются теми, кто сам занимается наукой. Профаны должны в этом случае подчиняться людям сведущим: «естествознание» деспотично и тиранически обращается со своей публикой. Не то в «истории»: здесь сама публика («те, к которым обращается историк») диктует, что ценно, что нет. А там уже есть такая архивная крыса, пером только тр... тр... пошел писать. Если вас удивляет, что в серьезной книге серьезный человек может говорить такие... ну, странности что ли, то вспомните определение метода истории во введении к «Границам...»; то, что мы выше выписали, не случайная обмолвка: «история» — дело прежде всего ораторское. А как же оратору не считаться с публикой? Кто его будет слушать?
{(Идеализм» и «законы истории»
257
Уже в этом пункте историческая методология Риккерта может смутить даже сторонника «индивидуалистической» историографии, если он серьезно к ней относится*. Дальнейший анализ понятия «ценности» может только увеличить это смущение.
Когда речь идет о том, что та или другая вещь, та или другая мысль «имеют цену», то прежде всего является естественный вопрос: для кого? Ответ, который мы сейчас видели: «Для публики», — слишком неопределенен. Что такое эта публика: люди того или другого направления, без различия времени и места их существования, или же люди известной национальности и эпохи, или, может быть, вообще культурное человечество? Только конкретные примеры могут нам выяснить этот вопрос.
Прежде всего Риккерт восстал бы против последнего, самого широкого понимания той массы, которая устанавливает «ценности». «Тот, кто хочет быть лишь «человеком», хочет быть чем-то таким, что он давно уже представляет собой и чем ему, следовательно, и не приходится еще только хотеть быть». «Мечтания об общечеловеческом» ** в этике могут лишь дискредитировать слово «этическое» (русск. перев., стр. 598—599; ориг., стр. 721 и 723). «Прямо-таки невозможно усматривать в общечеловеческом этический идеал» (там же). Напротив, «выраженный национальный характер должен быть признан имеющей важное значение этической ценностью» (там же). «Тем более прискорбное впечатление должно производить то обстоятельство, что и в самой исторической науке появляется направление, которое, желая сделать из истории естественную науку и неминуемо расточая богатство индивидуальной национальной жизни в смутных общих понятиях, старается вновь разрушить все великие приобретения исторического мышления» (русск. перев., стр. 599; ориг., стр. 723. Курсив наш. — М. #.).
* Ср. известные слова Ранке по поводу «Истории XIX в.» Герви- нуса: «Гервинус часто повторяет, что наука должна воздействовать на жизнь. Совершенно справедливо, но, чтобы иметь влияние, она прежде всего должна быть наукой; невозможно брать свои точки зрения из жизни и переносить их в науку: тогда жизнь будет влиять на науку, а не наука на жизнь...» («Historische Zeitschr.», В. 27) 20.
** «Die Schvarmerei fur das allgemein Menschliche» — что русским переводчиком едва ли законно смягчено в «экстаз, вызываемый общечеловеческим». Слово «экстаз» по-русски не имеет того оттенка пренебрежения, какой есть в немецком «schwarmen, Schwarmerei».
9 М. Н. Покровский, кн. 4
258
111. Историография
Итак, всякие мечтания об общечеловеческом — вроде, например, идеи всестороннего развития личности, являющейся центральной исторической «ценностью» у Канта, — глубоко неисторичны. «Ценностью» может служить только национальное: «...какой бы космополитический идеал ни построился, в нем всегда будут оказываться черты, в которых ясно видно его происхождение из национальных образований» (русск. перев., стр. 600; ориг., стр. 724). Националистическая историография — «великое приобретение исторического мышления». Г-н Иловайский может торжествовать: его противники посрамлены окончательно. Его «метода» блестяще оправдана последним словом немецкой философии.
Но гордиться может не только г. Иловайский: вся наша «национальная индивидуальность» имеет право считать себя сопричастной этой гордости*.
Ибо то, что говорит Риккерт, и почти теми же словами уже высказал тридцать лет тому. назад один русский мыслитель. Теперь вряд ли многие помнят знаменитую в свое время «Россию и Европу» Н. Я. Данилевского — некогда историческое евангелие Каткова и эпигонов славянофильства. Если бы не блестящая полемика В. Соловьева, вероятно, никто бы и не йо- мнил. На стр. 127 Данилевского (в исправленном издании 1871 года) мы читаем: «Понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно уже, теснее, ниже понятия о племенном или народном... Общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности — одним словом, довольствоваться невозможной неполнотой. Иное дело — всечеловеческое, которое надо отличать от общечеловеческого: оно, без сомнения, выше всякого отдельно человеческого или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать... Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой- либо сфере деятельности одно общечеловеческое, за исключением всего национально особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем смысле этого слова), а тот, кто, выражая вполне сверх общечеловеческого и всю свою национальную особенность, присоединяет к этому еще
* Просим извинения у читателя за такой, может быть, чересчур
риккертовский стиль. Приближаясь к розе, невольно приемлешь ее
запах.
«Идеализм» и «законы истории»
259
некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям... Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и нежелательная неполнота» (там же, стр. 128)21.
Полемизировать с Данилевским после В. Соловьева значило бы писать «Илиаду» после Гомера. Мы отсылаем интересующихся поэтому к «Национальному вопросу в России» и статье Соловьева «Немецкий подлинник и русский список» («Вестник Европы», 1890, декабрь)22. Можем только добавить, что Данилевский и его защитник Страхов теперь отомщены: Соловьев уличал автора «России и Европы», что тот повторял в своем ультранационалистическом произведении немца Рюк- керта23. Теперь другой немец — и вдобавок почти Рюккерт — с высоты философской, кафедры повторяет русского националиста. Можно, конечно, вполне поверить, что как Данилевский не читал Рюккерта, так и Риккерт не читал Данилевского: les beaux esprits se rencontrent.
Если только националистическая историография может называться наукой, то этим самым уже исключается всякое научное значение исторических теорий, не считающихся с признаком «национальности». О научности «исторического материализма», например, и речи быть не может. Правда, историк- материалист считается с ценностями, которые имеют громадное значение для подавляющего большинства людей всех стран и времен. Но какие это низменные ценности! Какой-то кусок хлеба, какие-то вопросы «ножа и вилки»! Предоставим, впрочем, слово самому Риккерту. На этот раз, чтобы найти наиболее выразительную цитату, нам придется взять не главный его трактат, а выпущенную несколько ранее популяризацию. На стр. 38—39 русского перевода «Естествоведения и культурове- дения» 24 мы читаем:
«Больше всего места общие понятия займут в тех науках о культуре, объектом которых является хозяйственная жизнь, ибо, поскольку последняя вообще допускает изолирование, здесь очень часто действительно важны только массовые элементы, и существенное для этой науки о культуре будет поэтому в большинстве случаев совпадать с содержанием относительного общего понятия. Исторической сущностью крестьянина или фабричного рабочего, например, будет именно то, что обще всем отдельным экземплярам и что могло бы поэтому образовать их естественнонаучное понятие. Здесь, следовательно, может чисто индивидуальное отступать на задний план, а установление отношений в виде общих понятий —
260
111. Историография
занять очень много места. Из этого становится, между прочим, понятным и то, почему стремление превратить историю в естественнонаучную дисциплину так часто идет рука об руку с утверждением, что всякая история есть в сущности история хозяйства.
Но в то же время именно здесь выступает всего яснее, насколько неосновательны эти попытки разрабатывать ^историю только как историю хозяйства и затем как естественнонаучную дисциплину. Эти попытки покоятся, как легко показать, на таком принципе отделения существенного от несущественного, который выбран совершенно произвольно и, даже более, который с самого начала получил предпочтение благодаря целиком ненаучной политической партийности. Это можно проследить уже у Кондорсе, а так называемое материалистическое понимание истории, которое представляет лишь крайнюю форму всего направления, является почти классическим примером того. Именно оно в большей части зависит от социал-демократических желаний. Так как руководящий культурный идеал демократичен, то существует, естественно, склонность и в прошлом рассматривать великих людей как нечто «несущественное» и лишь тому придавать значение, что берет начало у толпы. Благодаря этому историческое описание становится «коллективистическим». С точки зрения пролетариата важны, далее, главным образом материальные ценности, следовательно, одно то «существенно», что находится в непосредственном отношении к ним, — именно хозяйственная жизнь. Благодаря этому история делается «материалистической». И эти принципы оценки приобрели такое решающее значение, что важное превратилось в истинно сущее и вся культура в высшем смысле стала поэтому только «отражением». Таким образом, здесь возникает почти что платоновский идеализм, с той разницей, что на место идеалов головы и сердца стали идеалы желудка; этим была добыта точка зрения, с которой все историческое развитие человечества необходимо должно рассматриваться как «борьба за место у корыта». Стоит однажды уяснить себе эти принципы оценки, на которых зиждется «исторический материализм», чтобы видеть, чего стоит «объективность» такой истории» (Курсив наш. — М> П.).
Извиняемся перед читателями за длину цитаты, но ведь здесь весь Риккерт во весь его филистерский рост. Чего стоит, например, это отрицание индивидуальности у крестьянина или фабричного рабочего! Жаль, что Риккерт не определяет, с какого именно чина и звания начинается право на индивидуаль¬
«Идеаливм» и «ваконы истории»
261
ность. Нельзя не вспомнить, что и тут его опередил один русский мыслитель: покойный петербургский психолог Владиславлев не оставлял таких интересных вопросов без ответа. Каким, далее, неподражаемым буржуазным самодовольством дышит противоположение «идеалов головы и сердца» «идеалам желудка». Правда, «политические социалисты», которых так не любит Риккерт, пожалуй, скажут, что у профессоров философии тоже есть желудок и они, эти профессора, тоже заботятся о том, чтобы он был наполнен. Но ведь то «политические социалисты»: они вообще отрицают значение великих людей (см. стр. 423 русск. перев. «Границы...»), что же с ними и разговаривать... *
«Ценности», следовательно, должны носить отпечаток не только определенной национальности, но и определенного общественного класса.
Буржуазный национализм — таково политическое credo Риккерта и таково же должно быть credo «научного» историка. Правда, «общеобязательности» «ценностей» этой категории всегда будет мешать то обстоятельство, что ведь интересы немецкой буржуазии, например, и английской не совпадают. Значит, и ценности у немецкого и английского историков будут разные. Предвидение этого неприятного обстоятельства заставляет Риккерта сделать оговорку. Он «самым решительным образом ставит на вид», что признание «безусловно общих ценностей... вовсе не заключает в себе возможности согласной оценки исторических объектов» (русск. перев., стр. 333; ориг., стр. 389—390). Почему при таком самоубийственном ограничении ценности все же продолжают носить титул «безусловно общих», этого грубому позитивному мышлению, конечно, не понять. Но у Риккерта для этого есть метафизические основания, которые стоит привести не для того, чтобы их оспаривать, а лишь чтобы дорисовать портрет автора «Границ естественнонаучного образования понятий».
Абсолютные, «сверхиндивидуальные ценности могут и должны существовать потому, что познание должно сообразоваться не с событием, а с долженствованием...».
* Для «духа времени» весьма характерно, что гг. неоидеалисты, переводящие, издающие и пропагандирующие Риккерта, не находят нужным как-либо оговаривать подобные махровые признания своего методологического авторитета и считают русскую читающую публику способной потреблять риккертовскую «философию» в чистом виде. Как она, однако, развилась, эта публика? Или как мало ее уважают?
262
Ш. Историография
«Долженствование, сознаваемое нами как безусловная ценность, вполне способно служить руководящей нитью для наших актов суждения, как утверждающих, так и отрицающих». Это долженствование «независимо от индивидуального субъекта». «Чтобы охарактеризовать не зависящую от всякой индивидуальной воли обязательность того долженствования, которое придает нашему познанию объективность, мы назовем его сверхэмпирическим или трансцендентным долженствованием» (русск. перев., стр. 567; ориг., стр. 681—682).
Сам Риккерт скромно называет такое перенесение абсолютного понятия долга в область науки, где все относительно, все развивается, т. е. меняется, где «все течет», не исключая и математических аксиом, «антропоморфистической точкой зрения» (русск. перев., стр. 562; ориг., стр. 657).
Такой способ мышления исторически носит еще другое, более подходящее название — авторитарно-догматическое. Так мыслила, например, средневековая церковь, диктовавшая те или другие «ценности» средневековой философии. Ценности эти вполне отвечали риккертовскому требованию «сверхиндивидуальности», потому что индивидуум о них не смел рассуждать. В том-то и Отличие современной науки или, если угодно, естествознания от средневековой философии, что наука не знает абсолютных истин. Нет неподвижных вещей, есть процессы, и наука — один из таких процессов. Слова доктора Штокмана, что «истины не походят на долговечных Мафусаилов» и «при нормальных условиях живут не долее 20 лет», вовсе не экстравагантность ибсеновского героя. Это убеждение всякого философски мыслящего ученого нашего времени, нужно только изменить срок: наука живет не так быстро. Возможность появления риккертовского «культуроведения» в начале XX века показывает, что наука живет даже слишком медленно.
Нам могут возразить, однако, что мы критикуем формальный принцип Риккерта, исходя от того содержания, которое он вливает в эту форму, и что такое поведение неправильно. Из той же «ценности», скажут нам, можно сделать и совсем другое употребление. Самые жестокие критики папской власти вышли именно из рядов средневековых богословов. И если «трансцендентное» помогало средневековой церкви держать массы в темноте и рабстве, то оно же, «трансцендентное», было орудием освобождения массы. Возможность такого благоупо- требления «идеализма» — вот, если не ошибаемся, главное, что делает его привлекательным для некоторой части русской интеллигенции.
«Идеализм» и «ваконы истории»
263
Оставляя в стороне общественную состоятельность или несостоятельность подобных надежд, мы можем только сказать, что для исторической науки «идеализм» во всяком случае не нужен. Дети могут думать, что рыцарские мечи, копья и панцири действительно оружие; взрослые знают, что это только бутафорские принадлежности, а оружие нашего времени совсем иное. Науке нет надобности прибегать к схоластической аргументации, чтобы избавиться от пут разных допотопных «ценностей».
Наука знает, как они возникли, эти «ценности», какие условия их создали и дали им окрепнуть. И зная, как изменились условия, наука может предсказать исчезновение созданных ими «ценностей» почти что с часами в руках. Эволюционная точка зрения — вот что избавляет историка от необходимости подражать в XX столетии Уиклифу и Вильгельму Оккаму. Потому-то и ненавидят так теорию общественной эволюции, Целиком подсказанную истории естествознанием, Риккерты и их сторонники, сознательные и бессознательные. И эта ненависть так же почетна для историка-эволюциониста, как ненависть папской власти была почетна для Уиклифа.
Для науки теория «ценности» может быть интересна только с одной стороны — с методологической. Не поможет ли она нам лучше связать явления, нежели мы могли сделать это до сих пор? Вот вопрос, которым решается судьба «трансцендентного» в истории. Существуют два критерия научности. Один был выставлен еще Платоном и удержан Кантом. Это — общеобязательность. Наука есть собрание истин, одинаковых для всех. Научно то, что можно доказать всякому пользующемуся человеческой логикой и против чего нельзя возражать, не погрешая против логики. Насколько «ценности» Риккерта, по собственному его признанию, различные для разных народов, классов и т. д., удовлетворяют этому требованию общеобязательности, разъяснять это нам кажется неделикатным. Это значило бы сомневаться в понятливости читателей. Но канто-платоновский критерий уже устарел, он создание доэволюционной мысли. Мы знаем, что все меняется, может по крайней мере меняться и логика. Что сегодня было «научно», может оказаться завтра уже «ненаучным». Вдобавок, чем сложнее наука, тем большую роль в ней играют гипотезы, т. е. такие положения, которые доказать до конца нельзя, которые всегда оставляют некоторое место личному убеждению. Отсюда современный критический позитивизм, в лице главным образом Э. Маха и его школы, выдвинул другой критерий научности. Этот другой критерий
264
111. Историог.рафия
признает и Риккерт, по крайней мере по отношению к естествознанию. А так как ему не удалось доказать, что историк мыслит иначе, чем естественник, то мы имеем право приложить критерий Маха и к истории. Критерий этот — целесообразность. Наука есть средство ориентироваться в хаосе переживаний и таким путем экономизировать энергию сознания, которая иначе рассеивалась бы до бесконечности. Наука, как признает и Риккерт, есть средство преодолевать экстенсивное и интенсивное многообразие хаоса путем его упрощения. С этой точки зрения более научно будет то, что лучше, вернее ведет к основной цели науки. Гипотеза, наиболее непосредственно объясняющая наибольшее количество явлений, обладает maximum’oM научности в данный момент. Этот maximum, конечно, относительный: в следующий момент может явиться гипотеза еще более научная, но она будет такой лишь в том случае, если она окажется еще ближе к научному идеалу. Не трудно видеть, что теория «ценности», пытающаяся навсегда утвердить в истории национальные и всякие иные разнообразия, увековечивает в этой области тот хаос, преодоление которого и составляет задачу науки.
«История» Риккерта больше чем ненаучна, она антинаучна.
Подведем итоги. Книга Риккерта распадается на две части, в изложении не всегда строго разграниченные, а иногда переплетающиеся. Первые три главы заняты главным образом теоретико-познавательным анализом. Оригинального здесь мало. Несмотря на то что Риккерт брезгливо сторонится от всякого соприкосновения с позитивизмом, нельзя не видеть в его общей характеристике естествознания близкого родства с Э. Махом, а в применении гносеологического субъективизма к истории — явной зависимости от Зиммеля.
Поскольку Риккерт является здесь выразителем точек зрения, усвоенных новейшей философией, эти главы могут быть даже полезны, тем более что в оригинале они написаны сравнительно легко и живо; русский перевод, не исказив текста по существу, к сожалению, не воспроизводит этой его особенности, как можно было видеть по приведенным цитатам.
Вторая половина книги гораздо больше имеет отношения к метафизике, чем к гносеологии. Она так же мало оригинальна, как и первая. Мы находим здесь все тот же «примат практического разума», набивший уже оскомину в «идеалистических» писаниях переводных и туземных. В частности, попытку пристроить «практический разум» в исторической науке следует признать совершенно неудачной. Автор принялся за работу,
«Идеализм» и «законы исторьи»
265
имея самое смутное представление о современной исторической науке, ее приемах и методах. В объяснение, если не в извинение этого метафизического набега на историю можно сказать, что и вызван он был, по-видимому, вненаучными соображениями. Не занимаясь историей, Риккерт не имел оснований быть недовольным состоянием этой науки. Если книгу задумал философ, то писал ее человек определенного общественного склада. Страх перед надвигающейся волной социализма — вот что дает основной фон исторической метафизике Рпккерта. Она едва ли будет иметь какое-нибудь влияние на историков, даже самых юных, особенно если эти последние сознают то, что уже давно сознано естественниками, — необходимость элементарного научно-философского образования для занятия всякой наукой. Элементарная научно-философская подготовка совершенно достаточна для иммунизации против методологических капризов вроде теории «ценности». Но книга Риккерта, несомненно, займет видное место в литературе как один из памятников буржуазной реакции начала XX века.
«Правда». Ежемесячный журнал искусства, литературы, общественной жизни. Изд. 2, 1904, февраль, стр. 124—141; март, стр. 112—126
КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ ПРОФ. В. КЛЮЧЕВСКОГО *
Книгу проф. Ключевского не приходится рекомендовать публике. Появляющийся теперь впервые в печати курс давно уже стал одной из самых популярных книг в России. И не может быть сомнения, что эта изящно отпечатанная книжка так же быстро исчезнет с полок книжных магазинов, как быстро расходились по рукам студентов ее неуклюжие предшественницы, ремингтонированныё или еще просто от руки писанные литографии.
Но печатный текст лекций не есть простое воспроизведение прежних студенческих записок. Он дает не только последнюю их редакцию, это, по словам самого автора, свод различных редакций. Тут мы имеем, таким образом, все, что в курсах различных годов было признано автором как наиболее удавшееся. Читатели печатного «Курса» получают, таким образом, больше, нежели имели слушатели проф. Ключевского в том или другом академическом году. Новая книга представляет собой нечто вроде компиляции, сделанной автором из его собственных произведений, — автокомпиляции, если можно так выразиться.
У такой манеры издания есть своя оборотная сторона. Проф. Ключевский читает лекции в Московском университете, если не ошибаемся, уже 25 лет. Много за это время переменилось: менялась публика, менялся, покорный общему закону, и сам лектор. Всякая мысль, какую мы встречаем в «Курсе», глубоко и всесторонне обдумана автором. Но отдельные мысли продумывались в разное время, в разной обстановке и под разными влияниями. Проф. Ключевский в 1904 году не тот, каким он был в 1894 и 1884 годах, а в книге, помеченной 1904 годом, все продуманное автором за много лет стоит рядом, на одной плоскости.
* В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I. М., Синодальная
типография, 1904.
Курс русской истории проф. Ключевского
267
Нельзя сказать, чтобы «Курс» от этого выиграл. Пишущий эти строки живо помнит, какое цельное и яркое впечатление произвела на него в свое время вводная, первая лекция «Курса». Читая печатное издание, он никак не мог воскресить в себе это первое впечатление... Там был сжатый и сильный поток одной органически развивающейся мысли. Здесь, на этом потоке, были устроены запруды из мыслей того же автора, может быть не менее сильных в отдельности, но взятых из другой связи, обдуманных в ином настроении и теперь только отвлекающих в сторону мысль читателя. Там все было ясно и понятно, здесь же, по совести говоря, мы многое затрудняемся понять. Что, например, может значить различие «двух основных предметов исторического изучения» на стр. 2—3? «Одним из этих предметов служат успехи человеческого общежития» — это по терминологии автора история культуры и история цивилизации. «Другой предмет исторического изучения — состав и строй самого общежития». Автор называет его еще «историческим изучением строения общества», а науку, занимающуюся этим вторым предметом, — «исторической социологией». «В кругу исторических наук эта отрасль — то же, что физиология в науках биологических».
В чем же тут различие? С первого взгляда может показаться, что мы имеем тут противоположение «социальной динамики» и «социальной статики». Но нет, наука, занимающаяся «строем самого общежития», недаром названа исторической социологией. Она тоже, как и история культуры, ведает не состояния, а процессы, что прямо указано на стр. 2. Тогда, быть может, первый предмет исторического изучения — так называемая «духовная» культура, а второй — «материальная»? И это нет. Историческая социология занимается «свойством тех многообразных нитей, материальных и духовных, которыми связывается людское общежитие» (стр. 3). Или тут разница в том, что история культуры оперирует субъективным понятием процесса («успехи... общежития»), а социология изучает свой предмет вполне объективно, как естественные науки? Но почему же «успехи» нельзя изучать объективно и следить, например, за «прогрессом» опричнины Грозного или крепостпого права, как врач изучает «успехи», которые делает в организме больного тиф или холера? Почему, с другой стороны, «культуру» и «цивилизацию» нельзя рассматривать как предмет естественноисторического изучения? И это толкование, очевидно, не подходит. Едва ли без личного содействия автора
268
HI. Историография
кому-либо удастся установить ясное и однообразное понимание того, что сведено из разных курсов на стр. 2 и 3.
Основное свойство автокомпиляции дает себя чувствовать и на дальнейших страницах вступительных лекций. Каких только историко-философских воспоминаний не будят они в памяти читателя! Тут есть и нечто от Ог[юста] Конта, как мы сейчас видели, есть и знаменитая всемирно-историческая схема Гегеля, распределяющая историческую работу между народами, как режиссер распределяет роли между актерами (стр. 4 и 6—7: «Греки... развили в себе художественное творчество и философское мышление, а римляне... дали удивительное гражданское право»). Есть индивидуализм (стр. 29: «Идеи —плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности индивидуальных умов»), отдана дань и «органической» школе (стр. 2: «Человеческое общежитие выражается в разнообразных людских союзах, которые могут быть названы историческими телами и которые возникают, растут и размножаются, переходят один в другой и наконец разрушаются — словом, рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы»). Автор как будто игнорирует тот факт, что ведь прежде всего те философско-исторические схемы, образчики которых он такой щедрой рукой рассыпал перед читателями, представляют собой нечто органически цельное. За каждой отдельной формулой тянется длинная цепь логически с ней связанных положений. И нельзя по произволу взять одно из звеньев этой цепи, почему-нибудь приглянувшееся, и поставить его рядом с также произвольно выхваченным звеном другой цепи, идущей в противоположном направлении. Вполне возможно и естественно, что проф. Ключевский в разные периоды своей жизни был и позитивистом, и гегельянцем, индивидуалистом и сторонником «органического» понимания общества. Но нельзя быть всем этим сразу, как он предлагает сделать своему читателю в настоящее время.
Совершенно естественно также, что при сводке различных курсов наряду с мыслями, всесторонне и глубоко обдуманными, могут случайно попасть и такие, которые не были продуманы до конца или не нашли себе вполне удачного адекватного выражения. К числу последних мы бы отнесли попутно по поводу порядка княжеского владения брошенную автором мысль о противоположности в известном смысле жизни и личного, индивидуального сознания; последнее оказывается «вообще консервативнее, неповоротливее жизни, ибо есть дело одиночное, индивидуальное, а жизнь изменяется коллективными усилиями»
Курс русской истории проф. Ключевского
269
(стр. 202). Смеем уверить, что сам «Курс» дает массу бле^ стящих доказательств неповоротливости жизни и сравнительной гибкости сознания. Взять хотя бы пример, использованный автором на стр. 35—36, — классический пример безуспешной борьбы русской церкви с рабовладением. В сознании идея рабства была осуждена еще в XI веке, а из жизни рабство исчезло только в XIX веке. Афоризм, которым обмолвился проф. Ключевский на стр. 202, очевидно, не может считаться вполне точным отражением его взглядов.
Едва ли можно счесть за такую же обмолвку все, что автор говорит по поводу «идей» и значения их в истории (стр. 29 и след.). Идеи, как мы уже видели, по мнению проф. Ключевского, суть «плоды личного творчества» и в этом смысле противоположны «фактам политическим и экономическим». «Эти факты суть общественные интересы и отношения, и их источник — деятельность общества, совокупные усилия лиц, его составляющих». Отсюда практическое влияние тех и других весьма различно. Многие «прекрасные мысли» «украшают частное существование, разливают много света и тепла в семейном или дружеском кругу, помогая домашнему очагу, но ни на один заметный градус не поднимают температуры общего благосостояния...». «Идея» становится «историческим фактором», когда «овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом...» (стр. 32; на стр. 30 к этим практическим силам присоединяются еще «общественное мнение, требование закона или приличия, ' гнет полицейской силы»).
Итак, то, что люди думают, — само по себе, а то, что общество делает, — само по себе. Лишь изредка — и более или менее случайно притом — содержание человеческого сознания может стать определяющим условием общественной жизни людей. Каким же таинственным путем происходит отбор идей, становящихся «обязательными», и как узнать, какой идее суждено такое будущее? Автор этого не объясняет, и красивое сравнение с «электрической искрой», которую «поймали и приручили», не уясняет дела. Ибо, во-первых, без «идей» и этой искры никогда бы не поймали, а, во-вторых, пойманные и прирученные идеи обыкновенно весьма малодейственны. Невольно рождается мысль, что, может быть, дело не в том, какая идея, а в том, чья это идея, принадлежит ли она интеллекту, снабженному бронированным кулаком, о котором так образно говорил недавно один отечественный мыслитель, или простому интеллекту, «не вооруженному энергетически» (употребляя
270
111. Историография
выражение того же мыслителя) *. Тогда этот взгляд имел бы одно преимущество — крайнюю простоту и доступность даже для умов, вовсе не искушенных в философии. Но такому упрощенному пониманию мешает упоминаемое тут же «общественное мнение», ибо общественное мнение есть совокупность мнений и убеждений личных. А так как целое равно сумме всех своих частей, то, признавая творческую силу общественного мнения, автор должен будет признать известную долю влияния и за убеждениями личными. Но тогда все противоположение личных идей и общественных фактов падает. То, что потеряла личность, как таковая, она вновь приобретает как член общества. И вся аргументация автора может доказать лишь, что изолированная человеческая личность — например, Робинзон на своем острове — не может иметь влияния на ход истории. Но стоило ли это доказывать?
Не последний повод к недоразумениям может подать и своеобразное толкование проф. Ключевским взаимоотношения политического и экономического факторов в истории (стр. 34): «...жизнь политическая и. жизнь экономическая — этЪ различные области жизни, мало сродные между собой по своему существу. В той и другой господствуют полярно противоположные начала: в политической — общее благо, в экономической — личный материальный интерес; одно начало требует постоянных жертв, другое — питает ненасытный эгоизм». Но мы не будем входить в разбор еще и этого, по-нашему, недоразумения: наша рецензия и без того слишком затянулась. Отметим только, что неудачных страниц больше всего в двух первых вступительных лекциях общего характера, занимающих всего около Vю книги (стр. 1—42). В дальнейших главах, занимающихся более конкретными вопросами древней русской истории (первая часть «Курса» доходит только до XIV века и заканчивается «замечаниями о значении удельных веков в русской истории»), главный недостаток нашего издания «Курса» — эклектизм — уже по самому свойству материала меньше дает себя чувствовать. Тут даже можно местами упрекнуть автора в противоположном: слишком часто меняя свои точки зрения в первых лекциях, он слишком редко склонен изменить традиционному взгляду в дальнейших. Отметим для примера лекцию XI, целиком посвященную «порядку княжеского владения русской землей после Ярослава». Сам проф. Ключевский при¬
* См. «Полемику» в «Вопросах философии и психологии», 1903,
ноябрь — декабрь \
Курс русской истории проф. Ключевского
271
знает, что этот «порядок» «никогда вполне» не действовал, а его изложение этого порядка имеет вид правила, состоящего из одних исключений. В литературе давно установлено, что никакого порядка древнерусские князья не могли создать по той простой причине, что замещение столов зависело не только от соглашений между князьями, но и от соглашений князей с вечевыми сходками стольных городов, которые считали себя вправе брать себе такого князя, какой им нравился. Весьма сомнительно даже, чтобы князья пытались установить какой- нибудь определенный раз навсегда порядок; схема, построенная на этот случай Соловьевым, очень произвольна и опирается на факты, которым можно дать и иное толкование (интересующихся подробностями отсылаем к первому выпуску второго тома «Русских юридических древностей» проф. Сергеевича) 2. Существование этой главы в «Курсе», и притом в виде не критико-литературного, а догматического очерка, едва ли можно чем-нибудь объяснить, кроме верности традиции соловьевской школы, для которой междукняжеские отношения некогда были одним из кардинальных пунктов русской истории.
Мы отметили эти теневые стороны новой и в то же время так хорошо знакомой книги вовсе не для того, чтобы умалить ее значение для тех, кто изучает и будет изучать русскую историю. Даже и в литературе, не столь бедной научными пособиями, как наша, «Курс русской истории» занял бы одно из первых мест. Но нам кажется, что то направление русской исторической науки, блестящим представителем которого является «Курс», само уже становится понемногу предметом истории. Чем дальше, тем больше книга проф. Ключевского будет приобретать значение ценного исторического документа. А историку естественно желать, чтобы исторические документы издавались во всей неприкосновенности. Что сказал бы сам автор «Курса», увидев такое издание исторического памятника, где хронологически различные редакции были бы слиты в один текст?
«Правда». Ежемесячный журнал искусства, литературы, общественной жизни. Изд. 2, 1904, март, стр. 211—215
О ПЯТОМ ТОМЕ «ИСТОРИИ» КЛЮЧЕВСКОГО * (Заметка)
Большой публике долго пришлось ждать последнего тома «Курса» Ключевского. Предисловие редактора (Я. Л. Барскова) помечено январем 1919 года(!), на титульном листе стоит 1921 год, а на обложке — 1922 год. Солидно работал старый Госиздат!
От долговременного пребывания в недрах одного из советских учреждений книга, конечно, не «осоветилась» и вообще не стала более современной. В этом отношении «большой публике» предстоит большое разочарование. Основной текст напечатан с литографированного издания 1883—1884 годов — того самого, по которому наше поколение когда-то готовилось к экзаменам. Было это почти ровно тридцать лет тому назад.
От книги такого возраста можно не ожидать свежих мыс- лещ даже независимо от какого-либо специфического отношения автора к изображаемой им эпохе, а такое отношение было. Новая русская история, которой посвящен этот том, охватывающий период от Екатерины II до смерти Николая I, не принадлежала к любимцам В. О. Ключевского. Филигранно отделывая древнейший период до Петра включительно, покойный историк скользил по дальнейшему довольно бегло. То, что это дальнейшее приходилось обычно на конец года, когда всякий профессор спешит свести концы с концами, очень помогало этой беглости и отчасти извиняло ее перед слушателями. Некогда подробно этим заниматься, а «дать понятие» аудитории все же нужно. Поэтому сообщается «самое существенное», без подробностей.
«Подробности» и шли поэтому в убывающей прогрессии. Об эпохе Екатерины их сообщалось еще довольно много, хотя больше бытовых и анекдотических, нежели исторических в серьезном смысле этого слова. Но крепостное право, например, отделывалось довольно тщательно: это был уже отрезан¬
* В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V. Пб., Гиз, 1922.
О пятом томе «Истории» Ключевского
273
ный ломоть истории, по отношению к которому безопасно было говорить что угодно, не касаясь только легенды 19 февраля. В ином положении было, конечно, самодержавие. Тут приходилось лавировать между студенческой массой, красневшей год от году, и начальством, становившимся год от году все более черносотенным. Вообще говоря, эта лавировка удавалась столь умному человеку, как В. О. Ключевский; раз только он сорвался вправо, в своей речи об Александре III в 1894 году.
Об этой речи, печатавшейся обыкновенно в приложении к последней части «Курса» (имевшей кроме литографированных еще два печатных издания «на правах рукописи») \ редактор нынешнего издания говорит, что ее «настоящее место» не при «Курсе», а в Полном собрании трудов Василия Осиповича. С полным правом это можно сказать о всей V части. Ибо, даже помимо той лавировки, о которой сейчас говорилось, курс 1883/84 года должен был страшно устареть в чисто академическом смысле, так как истории России XIX века как научной дисциплины в те дни не существовало. Создана она преимущественно марксистами в наиболее широком понимании этого термина, т. е. включая сюда и «легальных марксистов» (работы Струве о крепостном хозяйстве и Туган-Барановского о русской фабрике) 2, а помимо них тут больше всего поработали полулегально историки-народники (В. И. Семевский, Бо- гучарский и др.) 3, военный историк Шильдер (биография Павла, Александра I и Николая I) 4 да берлинский проф. Ши- ман, давший недурной и свежий материал о Николае I в самом черносотенном освещении, какое можно придумать5. И труды всех перечисленных авторов вышли после 1884 года. Историк, читавший свои лекции в этом году, многих фактов просто не знал, не мог знать.
Что должно было получиться из этого сочетания политической лавировки и фактической неосведомленности, легко показать на любой лекции «Курса», хотя бы на той, где Ключевский говорит о декабристах, например. Конечно, вожди движения везде именуются «вожаками» (кроме страницы 212 — не из более ли свежей это редакции?).
Конечно, о Пестеле подчеркивается, что это был «сын прославившегося взяточничеством сибирского генерал-губернатора», а о «Русской правде», лежавшей в то время в «секретных» архивах за семью печатями, — ни слова. Едва ли Ключевский ее и видел в 1884 году. О Рылееве сказано буквально: «Кондратий Рылеев, бывший артиллерист, потом служивший в Петербургской казенной палате по выборам дворянства
274
111. Историография
и вместе с тем управляющий делами Русской североамериканской компании» 6. Пишущий эти строки весьма мало склонен благоговеть перед памятью человека, первым жестом которого после ареста было выдать Пестеля; но тут все же нельзя не почувствовать гг обиды за Рылеева — как-никак, а это был крупнейший после Пушкина русский поэт 1820-х годов... Представьте себе историка, который позволил бы себе аттестовать Пушкина как «титулярного советника и камер-юнкера», «позабыв» отметить, что этот человек написал «Евгения Онегина». Какой бы гвалт поднялся во всей русской литературе! А вот Ключевский охарактеризовал приблизительно так Рылеева, и три поколения русской интеллигенции глотали это безропотно.
Но это все номенклатура и «этикет», так сказать, иначе говорить о каких бы то ни было революционерах с университетской кафедры при Александре III не полагалось. Перейдем к фактической стороне. На стр. 208 нам сообщают после упоминания о Пестеле и Рылееве о «Северном» и «Южном» союзах, что «существование этих союзов не было тайной для правительства... но никакие меры против замыслов обществ не были приняты» 7. Тут явная путаница: Александр I знал о невинном «Союзе благоденствия», распавшемся в 1821 году, но о республиканском заговоре Пестеля он узнал только летом 1825 года от провокатора Шервуда, донос которого имел следствием совершенно определенные «меры»: целый обширный провокаторский план, в центре которого стал главный начальник военных поселений юга России гр. Витт. Александр неожиданно умер за несколько дней до «ликвидации» пестелевской группы (19 ноября ст. ст. 1825 года, а Пестель был арестован 13 декабря), и только поэтому «мера» случайно оказалась не связанной с его именем.
На стр. 209 повторяется давным-давно устраненная еще Шиманом легенда о том, будто Николай не знал о завещании Александра, делавшем Николая наследником престола вместо Константина. На стр. 210, «по Корфу» (автору официальной истории 14 декабря, вышедшей в 1850-х годах) 8, рассказывается о мерах кротости и увещания, якобы предпринимавшихся Николаем до картечи, и сообщается совершенно невероятный факт, будто и из пушек сначала стреляли холостыми зарядами. Этого даже 1884 годом не объяснишь — все-таки мемуары-то декабристов кое-какие были в печати и тогда. К убийству Милорадовича «товарищи Каховского» отнеслись «с отвращением», а накануне Рылеев, как мы теперь знаем, уговаривал Каховского убить самого Николая! и т. д. Все это
О пятом томе «Истории» Ключевского
275
кончается совершенно достойным всего остального выводом, что «14 декабря не было бы в том случае, если бы заранее приняты были меры» 9, — выводом, который не становится убедительнее и содержательнее от того, что к нему присоединился впоследствии прусский реакционер Шиман, говоривший даже еще определеннее об одной мере — аресте Рылеева.
Совершенно естественно, что от автора, так смутно представлявшего себе конкретную сторону событий, — мы не хотим думать, что. Ключевский знал, что в действительности происходило, но скрывал это от своих слушателей, —- не приходится ожидать их глубокого понимания. Декабристы для Ключевского «большей частью добрые, умные, образованные молодые люди с горячим желанием быть полезными отечеству, руководившиеся чистыми побуждениями, но неопытные, без знания света, людей и отношений...» 10. Знание света начиналось, очевидно, в те времена с III класса петровской табели о рангах — с дивизионного генерала и тайного советника, ибо полковников и бригадных генералов, равномерно и гражданских особ до IV класса табели о рангах включительно, среди декабристов было достаточно.
Мы останавливались на декабристах подробнее только потому, что эти страницы в обычных курсах этого рода бывают обыкновенно наиболее интересными. Но глубина понимания на всем протяжении этих глав приблизительно одинаковая. Хотите ли вы знать, например, отчего медленно шло крестьянское дело при Николае I? Вы, может, думаете, что объективные экономические условия мешали? Но об этом марксистском мудровании в 1884 г. и помину не было. Ключевский, правда, не мог не заметить интенсификации барщины в начале XIX века (стр. 230), но он далек от мысли, чтобы это имело какие-нибудь причины, более общие и глубокие, чем помещичий произвол, и какие-нибудь последствия, кроме раздражения крестьян. Влияние рынка, кризиса хлебных цен и т. д. — все это для него оставалось такой же книгой за семью печатями, как «Русская правда» Пестеля, и на этот раз уже вовсе не из-за политической обстановки: просто в русской литературе тогда ничего на этот счет не было. И умнейший Ключевский довольствуется совершенно детским объяснением неудачи Николая I в крестьянском деле: «...высочайшая воля издавала законы, а исполнительные учреждения втихомолку прибирали эти правила к рукам, крали их» (там же). А крестьяне, зная о «высочайшей воле», но не видя улучшения своему положению, волновались. Вот и все.
276
111. Историография
Непонятно, зачем эту архаическую книгу понадобилось печатать в 50 тыс. экземпляров. И уж если вообще ее печатать, то поручить редакцию следовало не Я. Л. Барскову, благоговеющему перед каждым словом покойного учителя, а какому- нибудь историку-марксисту, который снабдил бы ее соответствующими комментариями. Печатать ее и тогда не было бы необходимости даже для того, чтобы «Курс» имел внешне законченный вид, ибо ведь все равно царствование-то Александра II напечатать не решились, больно уж, очевидно, резало современный взгляд. Так что книга все-таки обрывается «на полуслове» — на смерти Николая I. Но с комментариями от книги не было бы по крайней мере прямого вреда. А теперь ее издание, конечно, очень на руку всем, кто мечтает о режиме Александра III как о пределе благополучия. Тут уже марксизмом и не пахнет! И глядишь, книжку начнут рекомендовать даже на наших рабфаках — рекомендуют же Корнилова п,
«Печать и революция». Журнал литературы, искусства, критики и библиографии, кн. 3, 1923, стр. 101—104
БОРЬБА КЛАССОВ
И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА * Предисловие к первому изданию
Большая часть предлагаемой книжки представляет собой стенограмму лекций, читавшихся в Зиновьевском университете в начале мая этого года. Это необходимо сказать в объяснение стилистических особенностей текста. Хотя у публики и существует предрассудок, будто стенограф записывает «слово в слово», на самом деле записать все слова возможно только при очень большой медленности произношения — при диктовке. В живой же речи самое большее, что может быть достигнуто, — это не пропустить ни одной фразы и не исказить смысла. Данная стенограмма после правки этим требованиям вполне удовлетворяет: за смысл и содержание я ручаюсь, слова же и обороты речи весьма часто не мои. Как литератор, я бы во многих случаях выразился иначе, вероятно, иногда и сказал иначе, как лектор, но записывавшим не удалось схватить формы изложения, а только содержание. Для деловой цели — сообщить читающей публике известные факты и мысли по их поводу — этого вполне достаточно.
Там, где и этот скромный результат не мог быть достигнут, я предпочел взять печатный текст моих статей на те же темы (в «Вестнике Социалистической академии» и «Под знаменем марксизма» — из последнего журнала почти целиком взята глава о Плеханове с небольшой вставкой и еще менее существенным пропуском). В одном случае — фактической критики взглядов Соловьева и Ключевского — я добавил то, что должно было войти в состав курса, но было при чтении опущено из-за недостатка времени.
Обращается книжка к той же читающей публике, какая слушала лекции, — к студентам наших комвузов и фонов. Это отнюдь не исследование, это просто маленькое пособие для первоначальной ориентировки при чтении основных немарксистских или не совсем марксистских книжек по русской истории. В марксистской литературе такого пособия не существует, да и немарксистские пособия на эту тему не идут дальше
278
111. Историография
«рационализированной библиографии» —* перечня авторов и названий с кратким изложением содержания, так что оправдывать появление в свет настоящего пособия как будто не приходится.
I
Товарищи, позвольте в вашем лице приветствовать Второй коммунистический университет, где я имею честь выступать. В Свердловском я уже действую довольно давно.
Вы — та новая школа общественных наук, о которой мы до сих пор только мечтали. И я должен сказать: уже не впервые за эту революцию мечты оказываются гораздо ближе к действительности, чем мы позволяли себе надеяться. Уже сейчас вы представляете совершенно своеобразное, оригинальное, не по какому-нибудь плану выдуманное, но созданное действительно самой жизнью, самой стихией революции учреждение.
Вы и есть, собственно, тот факультет общественных наук, о котором мы мечтали. С течением времени из Зиновьевского и Свердловского университетов выйдет та новая школа общественных наук, которая будет действительно марксистской не потому, что там преподают марксисты, а потому, что там немыслима будет никакая история, кроме марксистской, и никакое студенчество, кроме пролетарского. В этом и заключается сущность преобразования высшей школы.
Не в том дело, чтобы в старую высшую школу посадить людей, знающих Маркса. Опыт показывает, к сожалению, что люди, великолепно знающие Маркса, попав на кафедру обычного университета, весьма скоро становятся похожими на самых заурядных университетских профессоров. Чтобы не беспокоить никого из товарищей, близких к нам, я приведу вам классический пример —- Кунова. Крупный марксист в прошлом, став профессором буржуазного Берлинского университета, теперь пишет вещи, от которых не откажется любой буржуазный профессор того же Берлинского университета. Так что не в этом дело, а в том, чтобы создать обстановку работы совершенно новую. В основе всего лежит дело, в основе всего лежит практика, а не теория. Сам способ вашей работы, живой и активной работы, а не мертвого слушания лекций, — этот способ и является наиболее ценной особенностью новой школы, из чего вы можете заключить, что мое появление на этой кафедре отнюдь не составляет необходимой части этой новой школы общественных наук. Несомненно, что я и всякий другой лектор, читающий лекции сотням людей, — это, конечно, остаток ста¬
Борьба классов и русская историческая литература
279
рой школы в новом коммунистическом университете. Это нечто вроде остатка хвоста у человека, инструмент, в значительной степени ненужный. И моим величайшим счастьем будет момент, когда вы будете обходиться без таких лекций. Сейчас вы, к сожалению, обходиться без них, по-видимому, не можете и здесь, и в Свердловском университете. Поэтому приходится лекции читать, но курс мы держим на время безлекционное, когда ваши самостоятельные, активные занятия будут.заполнять все время и когда ваше образование будет делом ваших собственных рук, только при помощи старших товарищей. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться. Идеал студента, как губка, пассивно впитывающего в себя мудрость профессора, —* это идеал старой, буржуазной школы, и с ним надо расстаться.
С этой точки зрения — что нужно отправляться от практики, а не от теории — я подхожу и к тому маленькому курсу, который я собираюсь вам прочесть. Так как у меня в распоряжении очень малое количество часов, так как, с другой стороны, мне кажется, что вы достаточно осведомлены о конкретной стороне новой и новейшей русской истории, то я решил так: конкретного курса не читать. В какой бы области я мог бы вам дать что-нибудь новое, да и то не наверняка? Скорее всего в области истории XX века, но XX век в русской истории не уложишь в 8—10 часов. Это было бы нечто до такой степени скомканное, до такой степени конспективное, что читать это в форме лекций было бы и мне самому скучно, и вам слушать неинтересно. Я поэтому выбрал нечто другое. В то короткое время, которое вы здесь работаете, вы не можете ведь овладеть всей литературой по русской истории. Несомненно, вы будете пополнять те лекции, которые у вас читаются, самостоятельными занятиями дома, чтением дома. Что вы будете делать? Я допускаю, что вы читаете, конечно, и марксистские книжки по русской истории, вероятно, многие из них знаете наизусть, но в этих книжках далеко не все, что вам нужно. Вам постоянно придется обращаться к домарксистской литературе. И вот тут налицо есть большая опасность, что вы отнесетесь к ней так же, как относятся многие товарищи гораздо старше, гораздо опытнее, гораздо авторитетнее вас. Вы будете брать буржуазные книжки по русской истории совершенно так же, как вы берете книжки по физике, например, т. е. как некоторую фотографию того, что есть в действительности. Когда в физике описываются явления электричества, то описывается то, что есть в действительности. Поэтому, если вы возьмете
280
111. Историография
книжку с рисунками, чертежами и будете ее читать, эта книжка даст вам понятие, какое можно дать о явлениях электричества, не показывая их в виде лабораторного опыта. Это действительно так, и многим из нас кажется, что если вы возьмете книжки по русской истории, то вы найдете в них точно такую же фотографию известного исторического периода.
Возьмем «Историю государства Российского» Карамзина2. Она устарела, устарел подход, устарела точка зрения, но все- таки, думает читатель, в ней изображается русская история от времен Рюрика до Смутного времени, на котором остановился Карамзин. По этой книге можно, стало быть, ознакомиться с русской историей точно так же, как по учебнику физики вы знакомитесь с электричеством. Эту ошибку совершают многие товарищи, очень авторитетные. Они говорят: «Это установлено в науке», приводят ссылки на тот или другой курс Ключевского, Платонова, на работы Чичерина, Соловьева. «Это, — говорят, — факты, такие факты были». А между тем, дорогие товарищи, это вовсе не факты. Это идеология, т. е. отражение фактов — я не знаю, как сказать, — в вогнутом или выпуклом зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью.
Что такое идеология? Это есть отражение действительности в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом интересов классовых. Вот что такое идеология. И в этом смысле всякое историческое произведение есть прежде всего образчик известной идеологии. Не следует смущаться тем, что там каждая строчка прибита цитатой, к каждой строчке примечание: «Смотри летопись такую-то, том такой-то, страницу такую-то». Это ровно ничего не доказывает. Все идеологии составляются из кусочков действительности, совершенно фантастической идеологии не бывает, и между тем всякая идеология есть кривое зеркало, которое дает вовсе не подлинное изображение действительности, а нечто такое, что даже с изображением в кривом зеркале сравнить нельзя, ибо в кривом зеркале вы все-таки свое лицо узнаете по некоторым признакам: есть борода — нет бороды, есть усы — нет усов. Здесь же идеологически настолько может быть замаскирована действительность, что брюнет окажется блондином, бородатый человек окажется бритым, совершенно как херувим, и т. д. Ко всякой исторической книжке надо иметь ключ—-все равно как имеешь ключ к шифру; и только когда вы сумеете расшифровать историческую книжку, только тогда вы действительно будете в состоянии пользоваться ею. Повторяю, с крупнейшими и авторитетнейшими товарищами бывают случай, что они, не имея этого
Борьба классов и русская историческая литература
281
шифра, на веру принимают ту абракадабру, которую представляет всякая шифрованная вещь, и воображают, что эта абракадабра есть действительно история.
Задачей моего курса является показать вам на нескольких примерах — это можно сделать именно при помощи примеров и не в долгое время, — что представляет собой в действительности домарксистская, а отчасти и марксистская литература русской истории и как ее нужно расшифровать, чтобы воспользоваться ею. Прежде всего в буржуазной науке, как и полагается, хороший шифровальщик старается скрыть, что перед вами шифрованный текст. Я вам приведу пример. Недавно Академия наук выпустила книгу по методологии истории, загробное произведение покойного академика Лаппо-Данилев- ского3. Там вы найдете изложение сотен сочинений по методологии истории. Изложение ведется так: берется книжка, из нее даются цитаты, дается ее сжатое содержание, резюме книги, затем соответствующие сноски; потом берется другая книга, третья; все это расположено в хронологическом порядке; и в целях наибольшей объективности ни звука не сказано о том, что за человек был автор, в какой обстановке возникла книга, какая общественная среда окружала автора, какая борьба происходила в этой общественной среде. Об этом нет ни звука. Это нарушило бы академичность и объективность изложения. В результате, читая Лаппо-Данилевского, вы никогда не догадаетесь, что стержнем, пронизывающим весь марксизм, является классовая борьба. Лаппо-Данилевский, когда был жив, вероятно, очень горд был чрезвычайной объективностью своего изложения, но эта объективность — чисто публицистический прием. Это и есть зашифрованный текст. В самом деле, чего достигает Лаппо-Данилевский таким изложением? Именно того, что этого самого стержня — классовой борьбы — вы не замечаете не только в марксизме, но и на всем протяжении исторической науки, которую излагает Лаппо-Данилевский. Вы не замечаете живых людей с их интересами и реальной общественной средой, которая их воспитала и выдвинула. Вы видите перед собой только книги, написанные в кабинете людьми, которые были совершенно оторваны от действительности и руководствовались соображениями «высшей истины» в четырех стенах своего кабинета.
Что нужно буржуазии? Да именно скрыть эту самую классовую борьбу, потому что, если она встанет на точку зрения классовой борьбы, она должна будет принять и социалистическую революцию как ее завершение, т. е; подписать себе смертный
282
111. Историография
приговор. Поэтому буржуазия всех стран всячески замаскировывает классовую борьбу, и отношение буржуазных критиков к историкам-марксистам именно тем и меряется, как данный марксист ставит классовую борьбу. Ставит он ее менее остро — отношение более благожелательное, ставит более остро — и отношение более острое. Чем острее и определеннее ставит классовую борьбу данный автор-марксист, тем непримиримее отношение к нему буржуазии, точно она сама от него заражается классовой точкой зрения. На самом деле, повторяю, для буржуазии чрезвычайно важно доказать, что классовой борьбы нет, потому что это значит, что буржуазия и буржуазная интеллигенция представляют весь народ. Как только они станут на классовую точку зрения, им придется признать, что их парламент классовый и, значит, не выражает интересов всего народа, что их литература классовая, что их наука классовая. Они должны будут это признать. Но если они замяли этот классовый момент, если они показали своему читателю, что существуют только отдельные ученые с их мыслями, а классов нет, если они классы угнали за пределы видимости, то они сведут концы с концами. У них получится надклассовая наука, которая плавает как дух Иеговы над хаосом.
Вот почему книга Лаппо-Данилевского, на вид такая объективная, на самом деле является типичным образчиком классовой буржуазной публицистики в области истории. Только одним тем, что эта книга скрывает, как классовая борьба влияла на писание истории на протяжении веков, она уже этим самым делает дело определенного класса. И нам приходится прежде всего поставить на ноги то, что у Лаппо-Данилевского стоит на голове, — вернуть в историю ту классовую борьбу, которую он отрицает, подходить к каждому историческому произведению как к продукту этой классовой борьбы. Если вы перестанете верить, что историческая книжка, написанная буржуазным историком, представляет моментальную фотографию исторического процесса, если вы поймете, что это кривое зеркало, вы получите ключ к тому шифру, каким написана книжка.
Теперь позвольте перейти к конкретной части цзложения. Историю влияния борьбы классов на писание русской истории приходится начинать задолго до того, как появились те исторические книжки, которые вам приходится читать, ибо не только сами эти книжки являются продуктом классовой борьбы, но и те материалы, на которых эти книжки основаны, тоже являются продуктом классовой борьбы. Многие из вас, я думаю, что большинство, помнят картину, изображенную Пушкиным
Борьба классов и русская историческая литература
283
в «Борисе Годунове»: летописца Пимена, пишущего свою хронику, «добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева». Это первый исторический обман, с которым мы, учившиеся в средней школе, встречались в самом раннем возрасте. Фигуру этого летописца, бесстрастного, спокойного, — «так, точно дьяк, в приказах поседелый, спокойно зрит на правых и виновных» и т. д., — эту фигуру надо разрушить. Чрезвычайно любопытно, что теперь под влиянием, может быть, отчасти нашей заразы начинают расставаться с этим образом сами буржуазные исследователи. Вам, вероятно, приходилось слышать имя Шахматова (был такой академик, тоже скончавшийся недавно, работавший над летописями). Это крупнейший специалист по русским летописям, какого выдвинула буржуазная наука в последнее время. Вот что он говорит о летописцах. Наши летописи, говорит Шахматов, «пристрастно... освещали современные события; рукой летописца управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника, умеющего дать правдивую оценку событиям, развертывающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими событиями, — оценку религиозного мыслителя, чающего водворения царства божия в земной юдоли, — рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы» 4. Он не договорился до того, что рукой летописца управляли классовые интересы. Но тогда Шахматов не был бы буржуазным исследователем. Но и буржуазные исследователи дошли в конце концов до того, что никакого бесстрастного Пимена никогда не существовало и что на самом деле летопись, такую сухую, такую далекую на первый взгляд от жизни, писали живые люди с плотью и кровью и пером их руководили политические страсти.
Вот маленький образчик, которым я закончу первый час.
Этот маленький образчик касается одного факта, может быть вам известного, хотя, к счастью, ваши головы не начиняют той чепухой, какой начиняли в свое время наши головы. Это рассказ о начале русского государства, или, как короч*е говорят, «о начале Руси». Вы помните этот рассказ, как собрались разные племена — и чудь, и меря, и кривичи — и решили призвать из-за моря, из Швеции, князя Рюрика с братьями, которые бы «владели нами и княжили по ряду, по праву». Это стало поговоркой — «обратиться к варягам», «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» и т. п. Уже довольно давно еще буржуазные историки не могли не заметить явных, наглядных несообразностей этого рассказа. Прежде всего, как
284
III. Историография
это разноязычные племена, пребывающие в состоянии большой дикости (о некоторых из них сам летописец говорит, что они жили «зверинским образом»), как они ухитрились создать такую учредилку, которая выбрала этого Рюрика и К0, как это себе представить, на каком языке объяснились они? Это одно. Вторая странность: где они стали искать себе князей? Послали к варягам! Что такое варяги? Норманны. Что такое норманны? Морские разбойники, которые дали повод добавить к «Отче наш»: «...спаси нас от неистовства норманнов». Почему обращаются к этим разбойникам, чтобы они княжили и судили по праву? Это странно. Человека должны были бы вести на суд в качестве подсудимого, и вдруг, когда его привели, его сажают на судейское кресло и говорят: «Пожалуйте, милый человек* судите». Это напоминает стихотворение Гейне о царе Рампсе- ните, который после похищения у него драгоценностей не нашел ничего лучше, как объявить:
Чтоб на будущее время Прекратить сии хищенья, Заявивши вместе вору Нашу дружбу и почтенье,
Мы женить его на нашей Дщери правильным находим И, как будущего зятя,
В сан царевича возводим5.
Но это пародия, это насмешка над королями, царями и т. д. Кто же в действительности делает такие вещи, чтобы взять вора и объявить его наследником престола? А славяне сделали это.
Займемся более детальным анализом фактов. По этому рассказу князья были призваны из-за моря править Русью для того, чтобы навести в ней порядок, прежде всего завести правильный суд, «иже бо судил нас по ряду, по праву». Но удалось восстановить первоначальную запись, первоначальный текст русских судебных обычаев X века (а призвание князей совершилось в IX веке, за 100 лет раньше). И вот удивительно: через 100 лет после призвания этого мирового судьи из уголовного отделения тюрьмы вдруг оказывается, что князь никакого участия в суде не принимал. Судят присяжные, 12 человек, а князь к суду отношения не имеет. Мало того, в той же летописи мы имеем ряд фактов, намечающих, как князь постепенно завладевает судебной властью, причем попытки эти встречают сопротивление, и только в начале XI века князь действительно завладевает судебной властью прочно, и главным образом с финансовой стороны. Он берет себе судебные пошлины, так что о том, чтобы судить по праву, он весьма мало ааботится и в это время. Анализ того, что рус¬
Борьба классов и русская историческая литература
285
ские. знали о своем прошлом в XI веке, показывает, что и в XI веке они ничего не знали о Рюрике, о первом князе, о призвании князей и этот рассказ составлен только в начале XII века, так что мы имеем перед собой странный с точки зрения даже буржуазной истории факт. В начале XII века появился рассказ о том, как зачалось русское государство в середине IX века; буржуазные историки тут ставят точку. Да, говорят они, действительно в начале XII века, не раньше. Иные готовы признать еще, что мы имеем тут «странствующее сказание». Но почему именно этот рассказ, а не другой? Почему зашло к нам именно в начале XII века это странствующее сказание?
На этом буржуазная история останавливается. Между тем тут мы имеем любопытный образчик того, как классовая борьба влияла на зарождение самых первых рассказов о начале русского государства. Кто является, нельзя сказать, автором, а компилятором начального летописного свода, той древнейшей части русской летописи, где мы находим рассказ о призвании князей? Это был Сильвестр Выдубицкий, на которого еще в начале XV века ссылались как на большой авторитет. Этот Сильвестр некоторым образом первый русский историк. Он был игуменом в монастыре св. Михаила в Киеве. Это был придворный, княжеский монастырь. Князья, не имея времени за пирами и делами сами молиться, но твердо уверенные, что до бога молитва все равно доходит, от кого бы она ни исходила, создавали общины монахов, которые в то время, когда князья пировали, грабили, воевали, молились за князя и его род. Это так же, как занятые советские работники держат секретарей, которые им пишут письма. Так богатые люди, князья, имели своих секретарей — монахов, которые молились богу, и молитвы их доходили, как доходят письма, написанные секретарями, хотя автор письма его и не создавал. Сильвестр Выдубицкий был игуменом такого придворного монастыря, человеком, близким к князю. Он написал свою летопись в 1116 году, когда игуменствовал в монастыре св. Михаила в Киеве, а княжил тогда Владимир Всеволодович Мономах; кончается летопись 1110 годом. Что в это время происходило? На этот период падает вторая, более крупная киевская революция. Я не буду вам подробно изображать экономические условия Киевской Руси, поверьте мне на слово, что в то время в Киеве под влиянием внешней торговли начинал складываться купеческий, ростовщический капитал, который жестоко эксплуатировал массы киевского населения — и городского, и сельского. У него в сетях
286
111. Историография
были и мелкие торговцы, купцы, и ремесленники, и крестьяне. И драл он с них так, как драл деревенский кулак в царской России, — 50 % годовых. Это был законный процент, а сверх законного брали гораздо больше. Это было самое главное вымогательство, которое в результате приводило к тому, что должн'як делался рабом своего кредитора. Это было буквально закабаление этими пиявками масс трудящегося населения. Но пиявки были неприкосновенны, потому что во главе их стояли две силы. С одной стороны, князь; тогдашний киевский князь Святополк Изяславович был спекулянт и ростовщик, он спекулировал солью, предметом первой необходимости, на этом пути он столкнулся с Киево-Печерским монастырем, который также спекулировал солью,, причем это столкновение привело в такому результату: мы узнаем, что монастырь примешивал к соли золу и таким образом увеличивал вес соли, не увеличивая затрат со своей стороны. Этот прием был раскрыт агентами князя, и на этой почве князь устроил монастырю, как своему конкуренту, скандал. Значит, это ростовщическое общество увенчивали князь и монастырь, и, куда ни сунется бедный человек, ничего не получает. Монастырь учит его, что надо терпеть, что за это он получит царство небесное; от властей тоже ничего не получишь. Народ терпел, терпел, но в 1113 году, воспользовавшись смертью Святополка и легким замешательством наверху, народные массы восстали. Летописец очень хотел бы изобразить это в виде еврейского погрома. Он рассказывает, как громили ростовщиков-евреев, но он должен был признаться, что евреи, собственно, только первые под руку попались, они были более слабыми и беззащитными, ибо он тут же говорит, что при продолжении восстания досталось бы княгине-вдове, которая являлась обладательницей награбленного имущества, и монастырям. А что касается княжеских бояр, то их уже ограбили одновременно с еврейскими ростовщиками. Происходила социальная революция — не социалистическая, но социальная: низы киевского населения встали на верхи. Верхи чувствовали себя так плохо, что решились на крутой поворот — на перемену династии. Они бросили Святополка с его потомками и вызвали к себе популярного князя Владимира Моно- маха из Переяславля. Мономах оправдал свою популярность. Он явился в Киев, уговорил ростовщиков — и духовных, и светских — сделать большие уступки; годовые проценты были понижены с 50 до 20, рабство за долги было в значительной степени стеснено, закабаленные крестьяне получили право судебных жалоб .на своих закабалителей. Словом, он значительно ослабил
Борьба классов и русская историческая литература
287
напряжение «мудрыми реформами», выпустил пары из котла, где их накопилось слишком много, и этим восстановил порядок.
И вот как раз в этот момент его придворный игумен садится писать «откуда пошла русская земля». Теперь вы понимаете, откуда могли взяться все несообразности рассказа о призвании князей: князя к чему призвали? Для восстановления порядка. Так было при Владимире Мономахе. Он сел в Киев не совсем законно, он «пересел» киевскую династию. Чем это оправдать? Кто его призвал? Призвал его народ. В конце концов приглашение это было облечено в форму приглашения от города Киева. Так как исторической перспективы у Сильвестра не было — он был человек простой, — ему и казалось, что то, что могло быть в городе Киеве в XII веке (столковались и призвали Владимира из Переяславля), то могло быть и в IX веке, когда кривичи, меря и другие племена собрались и позвали князя. Что тут удивительного? Зачем позвали Владимира Мономаха? Чтобы он установил порядок. Вот всегда так и было. А для кого был выгоден порядок? Выгоден он был для того общества, верхушки которого уступками Мономаха были спасены от гибели. Пришел Мономах и сказал: глупые люди, лучше уступите — живы останетесь, а драть с народа все-таки будете достаточно; а если не уступите, всех вас погубят и ничего не останется. Этим он победил. Эта роль князя как третейского судьи, восстановителя порядка и была изображена Сильвестром в исторической перспективе. И само собой разумеется, не случайно эта роль была сделана стержнем всей начальной русской истории. Среди этого хаоса, который привел Мономаха на киевский стол, приходилось поддерживать с трудом восстановленный «порядок» всеми средствами, в том числе средствами пропаганды и агитации. Нужно было внушить народной массе, какое высокое значение имеет княжеская власть, как нужно слушаться князя. В глазах тогдашней, почти сплошь безграмотной, массы всякая писаная строка казалась чем-то священным. Летопись имела громадный авторитетна нее ссылались в политических спорах. Закрепить в летописи теорию высокого и благодетельного значения княжеской власти, образ князя как праведного судьи, восстановителя порядка было чрезвычайно важно. Произведение первого русского историка преследовало, таким образом, определенные политические цели. «Начальный летописный свод»6 был в сущности агитационной вещью.
Таким образом, рассказ о появлении первых князей на Руси является отражением вовсе не тех событий, которые имели
288
111. Историография
место где-то там, в земле кривичей, мери и других в конце IX века, а событий, которые имели место в Киеве в начале XII века. Другими словами, этот рассказ отражает идеологию современников Владимира Мономаха, и притом тех его современников, которые стояли наверху, которые были заинтересованы в спасении себя от народного восстания разумными уступками и справедливым судом Владимира Мономаха. Таким образом, на самом пороге русской истории нас встречает форменная публицистика: первая «история» русской земли написана с определенной политической целью — возвысить значение княжеской власти и тем закрепить положение имущего класса.
Итак, не только наша историческая литература пронизана классовыми тенденциями, но и тот материал, на котором основывалась эта литература, сам классовый, сам пронизан такими же классовыми тенденциями. И чем ближе к новому времени, тем, конечно, эти классовые тенденции гуще, потому что тем классовая борьба сознательнее. Если уже в XII веке мы встречаем ее отзвуки в летописи и эти отзвуки являются источниками целых легенд, то в XVI и в XVII веках —веках напряженной классовой борьбы — этот классовый привкус уже гораздо гуще, гораздо определеннее. Какая-нибудь «гистория», написанная кн. Курбским, в сущности есть памфлет, вышедший из определенного круга, из определенного общественного слоя, боярский памфлет. Это памфлет того класса, который потерпел поражение в столкновении с землевладельческими низами, был разграблен и отбивался публицистически из-за границы. История Курбского, написанная им в эмиграции, есть литературный памфлет, которым он отбивался от своего врага. Таким же классовым произведением является и ответ Грозного Курбскому7. Еще больше этот классовый налет, когда мы подходим к Смутному времени. Вам приходилось, вероятно, слы-. шать выражение «тушинский вор». Костомаров даже озаглавил одну часть своей «Истории Смутного времени» «Царь Василий Шуйский и воры» 8. Вор — это слово вполне соответствует термину «злоумышленник». Вор —это человек, который злоумышляет на общественный порядок и спокойствие. Тушинский вор был вояедем, правда номинальным больше, восставшего крестьянства и казачества, поэтому он был вор; был «царик», а его противник — представитель имущих классов, буржуазии и боярства, каким был Шуйский, — был настоящий царь. С одной стороны, царь, с другой — царик, царишка и вор. Вы догадываетесь сразу, откуда идут те исторические произведения, где та¬
Борьба классов и русская историческая литература
289
кая терминология имеется. До нас дошли от этой эпохи только произведения имущих классов, что совершенно естественно, потому что восставшие в Смутное время крестьянские низы были неграмотны и сами, конечно, писать истории не могли. По отношению к этим низам мы встречаем поэтому в литературе «Смуты» «единый фронт». Классовая борьба внутри этой буржуазно-боярской литературы отразилась в конфликтах менее глубоких между отдельными группами и оттенками правящего слоя. Но и этих мелких и неглубоких конфликтов было достаточно, чтобы глубоко исказить довольно крупные факты. И опять конкретные события, которым долго все верили, которые вошли во все учебники, при подходе к ним с этой точки зрения оказываются мифом, оказываются легендой. Возьмем рассказ о том, как по приказанию Бориса Годунова был убит маленький Димитрий Иванович, сын Грозного. И тут мы опять имеем возможность сослаться на труд академика — нам везет сегодня на академиков, это уже третий, которого мне приходится цитировать, — академика Платонова, где он признает этот рассказ, вошедший во все школьные учебники, легендой9. Я должен сказать, что имею в этом отношении некоторое право первенства, потому что я на страницах своей «Русской истории» давно доказывал, что это выдумка. И я был не один. Первые историки, доказывавшие легендарность этого рассказа, относятся еще к 30-м годам XIX века, но их голоса не были слышны. Из истории одного писателя, который доказывал, что на самом деле Борис Годунов не убивал никакого Димитрия, была выдрана цензурой Николая I целая глава 10.
Зачем понадобилась эта легенда? Для того чтобы утопить в грязи Бориса Годунова. А зачем это было нужно? Это мы легко поймем, если вспомним, что рассказ об убийстве Димитрия появляется в тогдашней литературе в первые месяцы царствования Василия Шуйского, давнего соперника Бориса Годунова, причем сам Василий попал на престол революционным путем, низвергнув и убив того, кто выдавал себя именно за сына Грозного, за якобы убитого Димитрия. И вот вступивший на престол через труп своего предшественника царь рассылает исторический памфлет, явно сочиненный по его приказанию кем-то в его канцелярии, где доказывается, во-первых, что Димитрий был давно убит в Угличе, стало быть, убитый Шуйским царь был, явное дело, самозванец, а во-вторых, что убивал маленького Димитрия в свое время именно Борис Годунов. Это был осиновый кол сразу в две могилы. Приводится целый рассказ о том, как этот «рабо-царь», Борис Годунов, сел на пре-
Ю М. Н. Покровский, кн. 4
290
111. Историография
стол, совершенно незаконно поправ права тех, кто имел эти права, т. е. самого Шуйского и его родичей, знатных бояр, как он убил Димитрия, рассказывается подробно, а затем рассказывается, как явился расстрига, беглый монах Гришка Отрепьев, назвал себя царем и как затем был убит. Два трупа, через которые пришлось перешагнуть Василию Шуйскому, были оправданы. В этом памфлете вы впервые встретите указания на то, что Димитрий был убит именно Борисом Годуновым, в то время как имеются подлинные, современные смерти Димитрия свидетельства об этой смерти и там говорится, что он погиб жертвой несчастного случая. Целым рядом свидетельских показаний дядей царевича и окружавших его людей установлено, что он играл в дикую игру «тычку», бросая нож в цель, а у него была падучая, он был эпилептик, он с ножом в руках упал в припадке, и нож, вонзившись в него, перерезал крупную артерию, из нее полилась кровь, и кровью он изошел. Имеются официальные документы, следственное дело, которое вдобавок вел сам Василий Шуйский, автор или заказчик того памфлета, о котором я говорил. Но теперь Шуйскому нужен был не только законный повод для убийства царя Димитрия Ивановича (Лже- димитрия Г наших учебников), ему нужно было еще кое-что: чудотворные мощи нового угодника божьего. «Невинно убиенный отрок» был великолепным материалом для этой последней цели. И Шуйский, легко позабыв, как он сам же производил следствие о кончине царевича Димитрия от несчастного случая, перевозит из Углича в Москву тело «убитого» пятнадцать лет тому назад мальчика, и, разумеется, у тела сейчас же начинают происходить «чудеса». И «чудеса» эти еще в XIX веке мешали сказать правду о смерти Димитрия и очистить от клеветы имя того царя, который стоял когда-то поперек дороги Василию Шуйскому. Только Октябрьская революция, покончив со всеми мощами и «чудесами», от них происходившими, разрешила академику Платонову сказать, что все это чепуха.
И рассказ о том, что Димитрий Иванович был монах-рас- стрига, который взял на себя имя Димитрия-царевича и под его именем облыжно вошел на московский престол, нужен был Василию Шуйскому для того, чтобы оправдать убийство царя и доказать, что он убил не царя. Какой же это царь, который -облыжно взял на себя царское имя, всех обманул? Между тем все больше и больше даже буржуазные историки склоняются к той мысли, что этот неизвестный человек во всяком случае не был ссшозванцем, не он назвал себя Димитрием, а другие
Борьба классов и русская историческая литература
291
назвали его Димитрием, — правильно или нет, трудно сказать. Некоторые историки говорят, что это настоящий Димитрий и есть и что погибший от несчастного случая мальчик не был самим собой, что это был подложный царевич, которого подставили нарочно, чтобы запрятать настоящего. Это очень искусственное объяснение, товарищи; на нем я не настаиваю. Но несомненно, что первый Димитрий твердо верил в то, что он настоящий сын Грозного — царевич Димитрий Иванович, и соответствующим образом действовал. Только потому и мог Шуйский его убить, что он твердо верил в свое царское происхождение и, веря в это, не помышлял о том, чтобы его свергли с престола, не принимал никаких мер предосторожности. Благодаря этому Василий Шуйский и другие заговорщики могли взять его, что называется, голыми руками, потому что, если бы он принял меры предосторожности, добраться до него было бы трудно. Таким образом, легенда о «самозванце» — первом Димитрии — это такая же чисто политическая легенда, как и легенда о том, что настоящий или мнимый царевич Димитрий был убит по приказанию Бориса Годунова.
Нам приходится брать эти мелкие случаи потому, что литература, дошедшая до нас от Смутного времени, есть литература имущих классов и ни одного произведения, которое отражало бы в себе точку зрения крестьянства, к сожалению, мы не имеем. Но это, конечно, заставляет нас относиться к этой литературе с сугубым недоверием и особенно критически рассматривать все ее показания. Если о Борисе Годунове мы находим в ней столько ядовитой лжи, пущенной в оборот Василием Шуйским, — а впоследствии его противники, главным образом сторонники Романовых, умели рассказать немало пахучих анекдотов о самом Василии, — то какой же «объективности» могли бы ожидать от тогдашних историков вождь восставшего крестьянства Болотников или тушинское правительство? Изучать народное движение «Смуты» по дошедшим до нас современным хронистам — то же, что изучать Октябрьскую революцию по «Русскому слову» п.
Эту довольно сухую материю, вас, вероятно, несколько утомившую, мне бы хотелось закончить веселым штрихом. Этот веселый штрих заключается в знаменитой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, который, по словам Пушкина, был Колумбом древней России — открыл древнюю Россию, как Колумб открыл Америку. Эта фигура чрезвычайно любопытная, потому что в Карамзине, писавшем в начале XIX века, политическая публицистика под видом объективной
10*
292
111. Историография
истории приобретает особенно выпуклый и, я бы сказал, цинический характер. «История государства Российского» — это не только публицистическое произведение, но это публицистическое произведение, корни которого для нас открыты. Я постараюсь рассказать вам. это его собственными словами, рядом выдержек из его писем. Эта своего рода автобиография вам покажет, чего можно ожидать от «Истории» Карамзина как научного произведения.
Первое письмо, которое приходится цитировать, Карамзин адресовал к тогдашнему попечителю Московского учебного округа, как он тогда назывался, куратору Московского университета Муравьеву:
«Имея доказательства вашего ко мне благорасположения, а более всего уверенный в вашей любви ко славе отечества и русской словесности, беру смелость говорить вам о моем положении. Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принужденною работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы — одним словом, сочинять Русскую Историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою. Теперь слабые глаза не дозволяют мне трудиться по вечерам и принуждают меня отказаться от «Вестника» *. Могу и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды. С журналом я лишаюсь 6000 рублей доходу. Если вы думаете, милостивый государь, что правительство может иметь некоторое уважение к человеку, который способствует успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение российской публики и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов, то нельзя ли при случае доложить императору о моем положении и ревностном желании написать историю не варварскую и не постыдную для его царствования?.. Хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет; ибо в это время надеюсь управиться с Историею. И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная История и публика не оставили бы меня в нужде. Смею думать, что я трудом своим заслужил бы профессорское жалованье, которое предлагали мне дерптские кураторы, но вместе с должностию, неблагоприятною для таланта. — Сказав все и вручив вам судьбу моего авторства, остаюсь в ожидании вашего снисходительного ответа. Другого человека я не
* «Вестник Европы» — журнал, который издавал Карамзин 12.
Борьба классов и русская историческая литература
293
обременил бы такою просьбою; но вас знаю и не боюсь показаться вам смешным. Вы же наш попечитель...» 13
Письмо послано 28 сентября 1803 года, и 31 октября состоялся высочайший указ: «В именном его императорского величества указе, данном кабинету, от 31 октября 1803 г., сказано: как известный писатель, Московского университета почетный член, Николай Карамзин изъявил нам желание посвятить труды свои сочинению полной Истории отечества нашего, то мы, желая ободрить его в столь похвальном предприятии, всемилостивейше повелеваем производить ему в качестве историографа по две тысячи рублей ежегодного пенсиона из кабинета нашего» 14.
Карамзин, рассказывает его биограф, «выразил свою благодарность почтенному покровителю следующим письмом, которое должно украшать и биографию Муравьева:
«Вам единственно обязан я милостию государя и способом заниматься таким делом, которое может быть славно для меня и не бесславно для России; к сему одолжению вы присоединили еще всю нежность души кроткой, чувствительной и тем возвысили цену его... Как вам приятно делать добро, так сердцу моему сладостно быть навеки благодарным. Прошу вас, милостивый государь, изъявить великодушному монарху усердную и благоговейную признательность одного из его вернейших подданных, который посвятит всю жизнь свою на оправдания его благодеяний» 1Е.
Дело совершенно ясное. Император Александр I, взвесив все обстоятельства, убедился, что писатель заслуживает доверия, хочет посвятить дни свои писанию «Истории», которая бы прославила, между прочим, и царствование Александра, и дал ему за это определенную сумму денег. Совершенно ясная и определенная вещь. Так началась «История государства Российского» Карамзина. Когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое — куда он идет? Он идет в Коммунистическую академию и там читает. Когда Карамзин написал первую главу «Истории» — что он сделал? Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры Екатерины Павловны, и там Александру I читал первую главу своего произведения. Совершенно естественно — читают тому, для кого пишут. Писал Карамзин Александру по его заказу, ему и нужно прочесть. Мы пишем для нашей коммунистической публики и ей читаем, а он поехал царю читать. Совершенно естественно, Александр заслушался «Русской Истории» так, что позабыл следить за временем; когда Карамзин кончил читать, Александр, вынув
294
111. Историография
часы, обратился к сестре и сказал: «Знаете ли, который час? Уже 12. До полуночи засиделся, не заметив времени!» «История», таким образом, была одобрена. Карамзин, ободренный успехом, продолжал ее писать и в 1816 году с готовыми 10 томами приехал в Петербург — не с первой главой, как с образчиком, а уже со всей «Историей». Тут начинается история с «Историей» Карамзина. Я не знаю, как вам читать, это длинно, но это до такой степени выразительно... Он приехал в Петербург, довел до сведения государя, что он привез «Историю», которая была ему заказана. Государь сказал, что пригласит его и выслушает в назначенное время, но не сказал — когда. Тут праздник замешался; это был мясоед — сначала Рождество, потом масленица все мешали. Сидит Карамзин и ждет и томится, что будет.
«7 и 8 февраля... Будучи бесперестанно в движении, я не ступил почти ни шагу к главной цели. Один вельможа или боярин (ибо здесь нет вельмож, кроме одного графа Аракчеева, как сказывают) вымолвил моему приятелю такое слово: «Карамзин хочет, чтобы казна дала деньги на печатание его Истории; но сумма велика, и вероятно, что по новым правилам экономии ему откажут или не откажут, да не дадут. В таком случае я с удовольствием предложил бы ему 50 тысяч для сего дела». Я рад, что у нас есть такие бояре, но скорее брошу свою Историю в огонь, нежели возьму 50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».
«И февраля. От государя ни слова. Императрица Мария нередко говорит обо мне с другими, как мне сказывают. Что будет далее, не знаю; но знаю, что 10 марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей».
«18 февраля. Государь, как знаешь, обещался позвать меня в кабинет после праздников. Через два дня пост; но говенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль продать свою Историю тысяч за сто, то есть если не увижу государя еще недели три или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может быть, найдется; но согласно ли это с достоинством Российской Империи и с честью историографа?»
«24 и 25 февраля. Уже три недели я здесь и теряю время на суету: не подвигаюсь вперед и действительно имею нужду в терпении. Почти ежедневно слышу, и в особенности через
Борьба классов и русская историческая литература
295
великую княгиню, что государь благорасположен принять меня — и все только слышу. Видишь, как трудно войти в святилище его кабинета. Вчера граф Капо д’Истрия (сидевший у меня три часа) в утешение говорил мне, что государь во все это время еще никого не принимал у себя в кабинете, следовательно, надобно ждать... Буду молчать до третьей недели поста, а там скажу, что пора мне домой, как я уже писал к тебе» 16.
Дальше развертывается история. Оказывается, чтобы попасть в кабинет к Александру I, надо было пройти через кабинет Аракчеева, «единственного вельможи». Сначала думали, что Карамзин догадается это сделать сам, но он не догадывался. Тогда Аракчеев прислал сказать, что он желал бы его у себя видеть. Карамзин думал, что приглашение относится к его брату, который был знаком с Аракчеевым, и то ли от скромности, то ли от гордости не пошел. Пошел брат, и произошло кви-про-кво: Аракчеев не узнал брата и стал выражать свое удовольствие по поводу того, что знакомится с великим историографом. Брат объяснил недоразумение, и тут-то выяснилось, что сомнений нет: Аракчеев желает видеть именно историка Карамзина. Тот надел мундир и завез свою визитную карточку Аракчееву. Все это время он питался слухами о том, что сказал государь: то, что денег ему не дадут, то, что сделают его камергером. Среди этих томлений он появился у Аракчеева и имел с ним беседу. «Я отвез карточку к графу Аракчееву, и на третий день получил от него зов; приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторой искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал: «Не прошу, ваше сиятельство; но если вам угодно, и если будет кстати» и проч. Он сказал: «Государь, без сомнения, расположен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь». Пришел третий человек, его ближний, и разговор наш переменился. Слышно, что он думает пригласить меня к обеду. Вообще я нашел в нем человека с умом и с хорошими правилами» 17.
Наконец 16 марта (после 2 месяцев ожидания) мог написать Карамзин жене: «Милая! Вчера в 5 часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково, обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь; не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию; два раза начинал и не кончил. Скажи;
296
III. Историография
тем лучше, ибо он хотел говорить со мною. Я предложил наконец свои требования: все принято, дано, как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге; весну и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и проч.» (!!).
«Марта 17. Вчера я отвез карточку к графу Аракчееву: он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с императором».
«21 марта. Ты уже знаешь, друг бесценный, что государь пожаловал мне еще Аннинскую ленту через плечо, и самым приятнейшим образом» 18.
Какая это типичная придворная история! И при свете этой истории вы легко понимаете отношение тогдашней либеральной публики к «Истории Карамзина», отношение, выразившееся в едкой эпиграмме Пушкина: «В его «Истории» изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастья необходимость самовластья и прелести кнута». Это была действительно официальная «историография» той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шагу вперед. Это была книга, написанная по заказу Александра I и для него, — но нужно, чтобы она угодила и Аракчееву.
Нам теперь приходится выяснить прежде всего не тот угол зрения, под которым Карамзин смотрел на историю, а смысл той философии истории, смысл того подхода, который нашли нужным Александр I, Аракчеев, вообще все тогдашнее правительство продиктовать Карамзину. Если мы подойдем с этого конца, то мы поймем основную идею Карамзина. Основная идея заключается в том, что Россия всегда спасалась единодержавием, объединением под одной властью. Возьмите царствование Екатерины II и Александра I. Что это были за люди? Это были великие собиратели земли. Екатерина II поделила Польшу и отрезала от нее громадный кусок в пользу Российской империи; Александр I захватил остатки Польши, привислинские губернии и Финляндию. В промежутке он закрепостил Закавказье, Грузию, нынешний Азербайджан, Армению и т. д. * Надо было оправдать это собирание земли новейшими царями,
* Присоединение Закавказья (Грузии, Азербайджана, Армении) происходило в сложной международной обстановке. Народы этих стран подвергались бесконечным нападениям извне со стороны Ирана и Турции, поддерживаемых Англией и Францией. Войдя в состав России, Грузия, Армения и Азербайджан обеспечили себе внешнюю безопасность и получили условия для своего экономического развития. — Ред.
Борьба классов и русская историческая литература
297
и вот Карамзин собирание русской земли делает стержнем всего русского исторического процесса. Сначала собирал Рюрик или во всяком случае Владимир. Ярослав по глупости разделил собранное между своими детьми. Приходилось собирать сызнова. Собирали Иван Калита, Иван III, собирал Иван Грозный. Потом стали собирать Романовы, Екатерина II, Александр I. Правда, собирали они довольно своеобразно: они собирали то, что лежало в чужих карманах.
И вот их историограф, который пишет по их заказам, из этого собирания делает смысл всей русской истории. У него все сводится к этому собиранию. Значит, для того чтобы понять, расшифровать «Историю» Карамзина окончательно, нам остается одно — узнать, чем руководилось это собирание. И тут мы без труда увидим ту классовую силу, которая стояла за «собирателями»'. Собирание Руси с самого начала Московского княжества и до Александра I двигалось совершенно определенным экономическим фактором — этим фактором был торговый капитал. Для торгового капитала чрезвычайно важны были размеры территории, на которой он действует, потому что, чем шире территория, находящаяся в монопольном обладании торгового капитала, тем крупнее его оборот и тем больше его прибыль. Отсюда наклонность государств торгового капитала собирать землю. Французский торговый капитал заставил французских королей собирать Францию. Торговый капитал XVI века повел к образованию громадной империи Карла У, в пределах которой не заходило солнце. Торговый капитал всегда и всюду вел к собиранию земли, потому что ему экономически было нужно объединить в одних руках громадную территорию. И, изучая шаг за шагом историю так называемой Российской империи, вы видите, что это есть ряд завоеваний торгового капитала, под влиянием которого складывается империя, собираются земли. Источником собирания земель служили, с одной стороны, завоевания на Востоке, а с другой — отнятые области на Западе, у Польши, у Украины. Торговый капитал тянул к себе все новые земли и в конце концов при Николае I начал распухать за географические пределы русской равнины, попытавшись втянуть в круг своих действий и Персию, и Турцию, и даже Среднюю Азию.
Если вы подойдете с этим ключом к Карамзину, вы не только поймете его «Историю», поймете, почему торговый капитал, о котором ни слова не говорится в «Истории», вел эту «Историю» к собиранию земли, но вы поймете и физиономию Карамзина как общественного типа, вы поймете, почему он был
298
III. Историография
сторонником крепостного права, почему он был противником освобождения крестьян: потому что торговый капитал у нас в России создал барщинное хозяйство как средство выжимать из крепостных крестьян прибавочный продукт для рынка. Торговому капиталу необходим был аппарат в виде крепостного права: торговый капитал был настоящий царь, который стоял за коронованным в сущности призраком или, если хотите, за коронованным манекеном, был настоящей руководящей силой, которая создала и Русскую империю, и крепостное право.
Теперь представьте себе, что наивный человек возьмет и начнет читать «Историю» Карамзина, рассматривать ее как фотографию того, что происходило в России на протяжении с IX по XVI век. Вы согласитесь со мной, что этот человек будет в чрезвычайно глупом положении, потому что он не знает самого основного, у него нет ключа к этой загадочной летописи. Только когда у вас будет ключ, вы не будете обращать внимания на все это собирание Руси,' потому что это нужно Карамзину для его публицистических целей, но вы вышелушите из этого те факты, которые он взял из разных источников. Правда, вам придется произвести работы и по отношению к этим фактам, но вы будете и тут иметь ключ к тому, как возникли эти факты, и только таким образом вы в состоянии будете использовать и Карамзина, и его источники. Если же вы все это упустите из виду и будете рассматривать Карамзина как идеального историка, который из интереса к прошлому занимался писанием русской истории, вы, конечно, ничего у него не поймете и будете им обмануты, как была им обманута когда-то вся наша школа. Та школьная история, которую вы, к счастью, не изучали, действительно строила всю русскую историю по линии собирания Руси и в этом собирании видела громадную заслугу русских государей в прошлом и весь смысл существования русского народа. Причем на вопрос: а зачем нужна вся эта куча земель, собранных под одной властью, зачем нужно,, чтобы не понимающий русского языка финляндец, не понимающий его грузин присягали на подданство русскому царю, — история ответа дать не могла. Ответ на это дает классовая точка зрения.
На этом я заканчиваю характеристику чисто публицистического периода русской истории. То, что пойдет дальше, будет иметь больше отношения к науке, поскольку у этого дальнейшего и у нас есть общий корень. После Карамзина я перейду к гегелевской школе в русской истории. Гегелевская школа — в родстве с марксизмом, но это не мешает ей подчиняться на всем протяжении определенным классовым интересам, и, мало
Борьба классов и русская историческая литература
299
того, даже первые зачатки материалистического понимания истории в России — хотя это был уже маленький шаг в настоящую науку —- были вызваны также интересами определенного класса и носят на себе его отпечаток.
II
Та теория, которая сводила весь смысл русской истории к образованию огромного (его считали равным Уб части всей суши) государственного тела, именуемого Российской империей, и которая нашла свое выражение в «Истории» Карамзина, — эта теория устарела уже, можно сказать, в день своего появления.
Уже в 20-х годах XIX века в ученом мире с Карамзиным почти не считались; oq был тем оселком, на котором пробовали свое научное остроумие молодые историки. И только широкая публика, которая увлекалась главным образом манерой изложения, продолжала его еще читать, да авторы учебников, частью поневоле, по долгу службы, почерпали из Карамзина философию русской истории. Такое быстрое устарение исторической теории, связанной с торговым капитализмом, характерно для. быстроты экономического и общественного развития России.
Когда Карамзин кончил свой труд, вдохновлявшийся интересами торгового капитала, в России сложился промышленный капитализм, требовавший новых точек зрения всюду, между прочим и в истории.
С точки зрения занимательности надо было бы постепенно подвести вас к этой теории, показать, как постепенно под давлением промышленного капитала складывалось это понимание. Но в данном случае, я думаю, надо пожертвовать занимательностью ради педагогического интереса, и поэтому я вам дам эту теорию в двух словах, а затем вы проследите, как она складывалась, откуда брались ее отдельные элементы. Эту теорию вы встретите всюду —от первых страниц книги Троцкого «1905» и до введения к «Истории русской общественной мысли» Плеханова включительно 19. Из старых экономических материалистов от нее отделался только Н. А. Рожков, и хотя он и несовершенный исторический материалист, но это его большая заслуга; другие от нее отделаться не могли. Поэтому, какую бы книгу по русской истории вы ни взяли, вы на эту теорию наткнетесь. А состоит эта теория вот в чем.
Общество создано государством. Государство во имя своих интересов образовало в России общественные классы, которые
300
111. Историография ,
в юридической государственной оболочке получили у нас форму сословий. Благодаря тому что у нас общество создано государством, у нас иные отношения между обществом и государством, чем они были на Западе. На Западе сословия ограничивали государственную власть — в России они не могли ее ограничить по той причине, что они сами являются созданием этой государственной власти. Поэтому в России не было и классовой борьбы в том развернутом виде, в каком она существовала в Западной Европе; русская история гораздо более монотонна, более однообразна, чем западная.
Государство создало сословия и прикрепило каждое из них к своему тяглу: дворянство — к военной службе, купечество — к торговле, крестьянство — к земледелию на пользу государства и дворянства.
Затем, когда государству уже не требовалось больше это прикрепощение сословий, началось раскрепощение. В XVIII веке сняты были повинности с дворянства; в начале XIX века получило гражданское равноправие купечество, а в середине XIX века — в 1861 году — были освобождены и крестьяне. Таким образом, сначала, все русское общество было закрепощено создавшим его государством, а потом государство раскрепостило, сняло тягло.
Вот в двух словах та историческая теория, которой мы сегодня займемся.
Несмотря на то что эта теория звучит крайне националистически, несмотря на то что она подчеркивает отличие русской истории от истории других европейских народов, — несмотря на это, теория эта происхождения не русского, а западноевропейского, можно даже сказать шире — всемирного, ибо она отражает в себе интересы промышленного капитала и промышленной буржуазии, интересы которой были тождественны всюду, не только в Европе, но и в Америке, позднее в Китае и в Африке. Отсюда эта теория имела бы все шансы быть усвоенной и китайцами, и неграми Конго, и разными другими народами, до которых «блага» капитализма еще не дошли.
Вы видели, что бог — творец русской истории по этой схеме есть государство. Почему же государство заняло такое положение в этой схеме? Почему Карамзин не вел своего государственного бога дальше образования территории, а вот этот новый бог — бог промышленной буржуазии — оказался творцом всего общества? Да по той причине, что торговый капитал не вмешивался в производство. Он оставлял крестьянина на своем наделе, ремесленника в своей мастерской, купца в своей лавке
Борьба классов й русская историческая литература
301
и только эксплуатировал их системой домашнего производства: производители сидят у себя по домам, а капитал их эксплуатирует, тянет из них жилы, делает их источником своего дохода, но в их производство не вмешивается. Путем внеэкономического принуждения капитал заставляет их делать то, что ему нужно. С этой целью в России торговый капитал создал крепостное право и барщинное хозяйство, чтобы выжимать из крестьян продукты для рынка. Промышленный капитал не может оставить крестьянина у себя на земле, он должен отнять у него надел, пролетаризировать крестьянина, чтобы получить из него рабочего для фабрики. Он не может оставить ремесленника в своей мастерской, он должен отнять у него мастерскую и превратить его в пролетария. Таким образом, задача промышленного капитала гораздо революционнее сравнительно с задачами торгового капитала. Вот почему промышленный капитал нуждается в ломке тех отношений, какие для торгового капитала безразличны или которыми торговый капитал даже пользуется, очень хорошо пользуется — они ему нисколько не мешают. Промышленному капиталу нужен был поэтому молот, которым он мог разбивать все оставшиеся от средних веков социальные перегородки. Этим молотом в руках промышленного капитала и было то новое буржуазное государство, которое характеризуется именно отсутствием глухих перегородок между общественными группами и превращением всего населения в две группы: с одной стороны, владельцы орудий производства, капиталисты; с другой стороны, пролетариат. Это — цель, которую ставит историческому процессу не только субъективно наша теория капиталистического общества, но и объективно само капиталистическое общество стремится именно к этой цели. Государство, ломающее все социальные перегородки и тем очищающее, как мощный таран, дорогу промышленному капиталу, естественно, должно было явиться в руках этого капитала силой, если хотите, божественной силой, которая выше всего, — силой, которой ничто не может противиться. Вот откуда взялась эта национально как будто русская, а на самом деле, повторяю, вовсе не русская, а классовая, буржуазная, промышленно-капиталистическая теория всемогущего государства, творящего общество.
Я изложу вам эту историческую схему словами того, кто в русской исторической литературе может считаться основоположником этой теории. Обращаю ваше внимание на то, что эти строки написаны в конце 50-х годов XIX века, приблизительно, значит, лет 70 тому назад или несколько меньше.
302
111. Историография
«Гражданское общество составляет вторую ступень в историческом развитии нашего отечества. В первую эпоху, на заре истории, мы видим союз кровный, затем является союз гражданский, наконец — союз государственный. Первый составляет первоначальное, естественное проявление человеческого общества. Человек — существо общежительное; вне общества он никогда не жил и не может жить. Но это стремление к общественности выражается в нем сначала бессознательным образом; оно лежит в нем как естественное определение его природы и проявляется в союзе, данном самою природою. Это союз кровный, происшедший из нарастания семьи. Люди связаны здесь сознанием об единстве происхождения; личности еще не выделились и составляют массу, имеющую одни нравы, одно наречие, одни верования и расчленяющуюся внутри себя по естественным, физиологическим определениям: семья, род, колено, племя...
Этот союз, основанный на сознании естественного происхождения, должен, однако, распасться при более или менее частых столкновениях с другими народами, при вторжении чужестранных элементов, которые достаточно крепки, чтобы не поддаться силе кровного быта, наконец, при развитии человеческой личности. Такое разложение совершилось у нас с появлением варяжской дружины, основанной на договоре лиц свободных. Принесенные ею элементы, смешавшись с прежними, образовали порядок вещей, совершенно отличный от предыдущего. Общественное единство, которое коренилось в сознании кровной связи, рушилось; личности, не сдержанные более в своих стремлениях тяготением общего, господствующего обычая, предались частным своим интересам; отношения родственные, договорные, имущественные, одним словом частное право, сделались основанием всего быта, точкою зрения, с которой люди смотрели на все общественные явления. Так произошел союз гражданский, образовавшийся из столкновений и отношений личностей, вращающихся в своей частной сфере. Общественною связью служило либо имущественное начало — вотчинное право землевладельца, либо свободный договор, либо личное порабощение одного лица другим... личность во всей ее случайности, свобода во всей ее необузданности лежали в основании всего общественного быта и должны были вести к господству силы, к неравенству, к междоусобиям, к анархии, которая подрывала само существование союза и делала необходимым установление нового, высшего союза — государства. Только в государстве может развиваться и разумная свобода, и нравственная личность; предоставленные же самим себе, без высшей, сдержи¬
Борьба классов и русская историческая литература
303
вающей власти, оба этих начала разрушают сами себя. Необузданная свобода ведет к порабощению слабого сильным; личность, выражающаяся в преимуществах чисто индивидуальных, ведет к уничтожению внутреннего достоинства человека. Таков диалектический процесс различных общественных элементов» 20.
Эти слова — «диалектический процесс» — для тех из вас, кто знает историю марксизма, уже задают вопрос — не ученик ли Гегеля написал это? Да, это так. Я цам прочел цитату из одной статьи Чичерина. Он был первым и самым популярным из русских гегельянцев. Гегелевская философия — не национально-русское явление, а мировое — отразила в себе интересы промышленного капитала в области понимания истории. И вы поглядите, как все здесь хорошо сложено. Почему нужно государство с точки зрения этой теории? Потому, что без него мы имеем хаос отдельных личностей. Другими словами, система капиталистического общества держится вовсе не какой- нибудь внутренней экономической гармонией, как утверждают вульгарные экономисты, разоблаченные в свое время Марксом, — эта система держится на полицейской диктатуре буржуазного государства. Вам это трудно втолковать, потому что вы не видели этого буржуазного государства во всей его прелести, но читали книжки, написанные об этом буржуазном государстве, а в этих книжках читали определенную ложь об этом государстве как о царстве свободы, ибо русские интеллигенты принимали за чистую монету то, что говорилось о свободе в западноевропейских конституциях. Главным образом потому с русским интеллигентом происходила такая ошибка, что он не жил в качестве обывателя в этой самой свободной буржуазной общественности, а приезжал за границу в качестве туриста, — ну, турист, путешественник, из окон вагона и из своей гостиницы всей жизни страны не увидит, тем более что для туриста, дабы его не отпугивать, во всех буржуазных государствах было заведено более льготное положение, чем то, которое существовало для туземцев. Но когда вы попадали в положение туземца — как мне пришлось прожить в Париже 8 лет, — то поневоле смотрели не с точки зрения гостиницы и железнодорожного вагона, а с точки зрения коренного жителя страны. И что поражало в свободной демократической республике, называемой Францией, — это колоссальный культ городового, культ городового, который я слабым своим языком не . могу изобразить. Это нечто неимоверное и непонятное. Городовой для доброго французского буржуа — это богоподобное существо, оскорбление которого карается примерно так, как у нас при
304
111. Историография
царском режиме каралось оскорбление Иверской богородицы или что-нибудь в этом роде. Когда известный в то время крайне левый социалист, а позже крайне правый националист Густав Эрве за несколько лет до войны по случаю особенно возмутительного образчика французского полицейского произвола высказался как следует в одной своей статье о французской полиции, т.. е. подобающим образом изобразил ее прелести, его на три года отправили в каторжную тюрьму. Кто же туда его отправил? Отправили присяжные свободной страны; его статья на них произвела такое впечатление, какое произвел бы у нас 20 лет назад камень, пущенный в Иверскую часовню. Когда я, не один раз соприкасавшийся с русской полицией в качестве «политического преступника», попал в парижский участок в качестве простого обывателя, мое впечатление было ни с чем не сравнимо — это сверхучасток, там с вами не разговаривают, на вас орут, дают понять, что чуть что — вас исколотят вдрызг. У нас могли исколотить забастовщика, но там колотят и домовладельцев. В один из парижских участков зашел случайно по своему частному делу местный домовладелец, которого в участке не зналц в лицо. В участке в это время ждали кого-то, кто должен был подвергнуться избиению. Домовладельца схватили дюжие городовые и исколотили. Потом выяснилось, что это почтенный буржуа, но это не имело никаких последствий, газеты об этом не кричали, никого не судили: божество иногда ошибается. Господь бог ошибается: нужно солнце, а он шлет дождь.
Эти несколько анекдотов я привел для того, чтобы наглядно нарисовать вам полицейскую диктатуру буржуазного государства, при помощи которой это своеобразное божество справляется с хаосом буржуазного хозяйства, ставит каждого на свое место, поддерживает твердую руку хозяина. Вот для чего нужно это государство промышленному капиталу. Это отнюдь не простая фраза — это нечто абсолютно необходимое; и философия Гегеля, отразившая в себе буржуазную французскую революцию, одним своим крылом, правым, обоготворила это государство. Но гегелевская философия отражала не только буржуазную эволюцию, но и буржуазную революцию. Гегель с удивительной для прусского тайного советника и казенного профессора Берлинского университета откровенностью признал роль насилия в истории. Вы помните, что в его диалектическом процессе история не гнушается ничем. Он прямо говорит: ничто великое в мире не совершается без страсти; в своем бурном стремлении историческая диалектика пользуется не только
Борьба классов и русская историческая литература
305
насилиями, но даже прямо преступлениями. Таким образом, диалектика Гегеля не останавливается ни перед чем. Слово «диалектика» и даже понятие есть у Чичерина, но вы тщетно стали бы искать в русской исторической литературе этого направления, этой стороны гегелевской диалектики, ее революционной стороны. Наоборот, самая мысль о возможности насилия в государственных делах приводила Чичерина в ужас, и, когда он нашел в одной статье Герцена «воззвание к топору»21, он разразился против Герцена ругательной статьей, из которой я позволю прочесть выдержку.
«На каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете, вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззваниям к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти!.. Нет, всякий, кому дорога гражданская жизнь, кто желает спокойствия и счастия своему отечеству, будет всеми силами бороться с такими внушениями, и, пока у нас есть дыхание в теле, пока есть голос в груди, мы будем проклинать и эти орудия, и эти воззвания» 22.
Как видите — это гегельянец особого толка. Из философии буржуазной революции осталась только первая половина — прилагательное «буржуазная», а существительное «революция» куда-то исчезло. Таким образом, нельзя просто сказать, что Чичерин был гегельянец; приходится назвать его своеобразным русским гегельянцем, принимавшим Гегеля без революции. Но нам интересно объяснение с классовой точки зрения: откуда взялось то национальное, своеобразное гегельянство, которое отразилось в теории Чичерина? Его статьи, заключающие в себе квинтэссенцию его исторического мировоззрения (знаменитые «Опыты по истории русского права»), написаны в конце 50-х годов XIX века, буквально накануне освобождения крестьян. Некоторые из этих статей представляют собой прямой ответ на вопрос: откуда взялось то крепостное право, которое сейчас, завтра, послезавтра будет ликвидироваться? Кто был Чичерин по своему классовому положению? Это был, во-первых, там¬
306
111. Историография
бовский помещик и, во-вторых, профессор государственного права в Московском университете. В этих двух своих ипостасях он должен бы быть сторонником мирной ликвидации крепостного права. При Александре II трудно было представить ,себе на кафедре профессора-революционера; еще труднее было представить себе, чтобы тамбовский помещик желал насильственной ликвидации крепостного права, которая угрожала бы кровавой ликвидацией ему самому.
Между тем операция была довольно трудная. Вы, конечно, знаете уже из общего курса русской истории, что само освобождение было самое последнее дело, стоявшее на самом последнем плане. Дело было не в освобождении, а в том, чтобы заставить крестьян уступить помещикам часть своей земли и при этом, лишившись части своей земли, уплатить помещику некоторую сумму денег, дабы у помещиков были и земля, и капитал для заведения нового, батрацкого хозяйства на этой земле. Эта операция была невыразимо трудная и сложная. Как устроить так, чтобы крестьянин отдал землю, да еще и заплатил за это деньги? Согласитесь сами — это не так просто. То, что крестьяне ответили приблизительно двумя тысячами восстаний на эту свободу, — это было гораздо ниже ожиданий, которые были у Чичерина и у тогдашнего правительства. Александр II почти прямо говорил, что когда крестьянин увидит ту волю, которую он ему дает, то он взбунтуется, — и требовал назначения всюду генерал-губернаторов с самыми широкими, неограниченными полномочиями, чтобы заставить крестьян эту волю признать. Александр II не был гениальным человеком, но эту простую вещь он понимал. Это понимал лучше его профессор Чичерин. «Вспомните... — говорит он Герцену,— в какую эпоху мы живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противодействующие стремления, согласить враждебные интересы, [т. е. крестьян и помещиков], развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой! Здесь также есть борьба [о, конечно, здесь также есть борьба!], но... борьба обдуманная, осторожная. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать... чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силой страсти, кипением гнева?» 23 Попробуйте к мужику подойти и сказать: давай деньги и еще землю в придачу. Нужна была искусная
Борьба классов и русская историческая литература
307
рука, а в это время Герцен начинает говорить о палке, топоре и других неудобных вещах.
* Итак, вы понимаете, что из гегелевской формулы, по существу сводившейся к «буржуазной революции», Чичерин мог принять только первую часть — «буржуазная», а вторую часть — «революция» — он принять не мог. Как раз в России в то время для класса, к которому принадлежал Чичерин, складывались такого рода отношения, при которых революция была совершенно не желательна и не нужна. Только в этой связи мы и понимаем ту своеобразную форму, которую приняла диалектическая теория в России и которую я вам вкратце изложил в начале лекции, эту самую теорию закрепощения и раскрепощения. Что нужно было доказать Чичерину? Во-первых, что все крупные общественные перемены в России совершились сверху, силой всемогущего государства, стало быть, так должна была совершиться и предстоящая перемена в отношении крестьян и помещиков. Во-вторых, что воля государства при этом не встречала противодействия, перемены происходили мирно, без революции. Теперь возьмите краткое резюме теории «закрепощения и раскрепощения» в собственном изложении Чичерина.
«Таковы указы об укреплении крестьян. Из последнего видно, что неустройства, происшедшие от укрепления неполного, повели к укреплению полному. — Если мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущею историею, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских; тяглые люди — посадские и крестьяне — отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне кроме уплаты податей и отправления повинностей также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству. Служилые люди не были укреплены к местам, ибо служба их была повсеместная. Тяглые же люди, как мы уже видели, считались крепостными и не могли ухо¬
308
111. Историография
дить со своих мест. Невозможно было не распространить этого положения и на вотчинных крестьян. Во времена всеобщего укрепления это было бы несправедливым исключением...»
«Итак, этот переворот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего быта. Но каким же образом мог он совершиться без сильных потрясений? Только в пословице «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» сохранилось о нем воспоминание в народе. Мы найдем этому объяснение, если взглянем на способ укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом перехода: «А боярам и слугам вольным воля». Но когда уничтожилась удельная система, московские государи стали требовать, чтоб они перестали отъезжать. И вот без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг сделались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре, ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как, например, феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрозненны. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами; их сделали холопами, а они все-таки продолжали отъезжать. Точно так же и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII век наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписать главным образом этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло наконец верх, потому что на стороне его было право. Оно не делало исключений ни для кого; оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и сослужили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 года оно получило разные права и преимущества как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы, приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, под¬
Борьба классов и русская историческая литература
309
павши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается наконец и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая '.была положена в XVI веке, и начинается для России новая пора»24.
Почему нужно было государство-бог, которое творило сословия, которое их закрепощало и раскрепощало? Да потому, что это давало историческое оправдание готовящемуся акту 19 февраля. Кто создал крепостную неволю? Государство. Кто ее должен ликвидировать? Конечно, государство. «Я тебя породил, я тебя и убью», — могло бы сказать это государство словами Тараса Бульбы, обращаясь к крепостному праву. Оно создало крепостное право из государственных соображений. Новые государственные соображения крепостное право отменяют. Чичерин утешает своего читателя тем, что в прежнее время закрепощение прошло без всякого сопротивления со стороны крестьян. Только, говорит, пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» осталась. Так же безболезненно пройдет и новая, предстоящая (в 1858 г. дело было) операция над крестьянами. Вы видите, как тут объяснение истории переходит в фальсификацию истории, фальсификацию, вероятно, бессознательную. Чичерин слишком крупный мыслитель, чтобы его можно было подозревать в грошовых передержках, но как он смазал Смутное время, куда он спрятал Разина, куда он спрятал Пугачева? Да разве одного Пугачева было не достаточно, чтобы оценить, как крестьяне реагировали на закрепощение? А у нас был не один Пугачев, был еще Разин, а раньше Смутное время с Болотниковым. Это значит выкинуть из русской истории чуть ли не половину. Она выбрасывается потому, что она мешает схеме. Осталась только поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», а полторы тысячи повешенных Пугачевым помещиков — ну, это так, это беспорядок, это в историю не входит.
Вы видите, как классовая точка зрения от своеобразного, выгодного для данного класса объяснения переходит к форменному искажению русской истории. И вы увидите, что принимать эту теорию закрепощения и раскрепощения за чистую монету нельзя. Когда мы будем говорить о Ключевском, я расскажу, как даже этот последователь Чичерина должен был сдаться перед фактами и признать, что никакого государственного закрепощения крестьян не было, но мы об этом поговорим в другом месте. Итак, вот вам одна классовая точка зрения
310
111. Историография
русской историографии 50—60-х годов, философии истории, извлеченная из Гегеля представителями нашего дворянства, наших помещиков в лице Чичерина, которому нужна была историческая подготовка к 19 февраля. Это опять та же публицистика, которая была и раньше. Но нужно сказать, что в этой публицистике есть крупица науки. Чичерин знал, что такое диалектика. Чичерин оперировал со схемой Гегеля, и постольку он стоит до известной степени на научной почве. Это объясняет нам, почему это могли принимать за науку даже марксисты. Но марксисты не заметили, что в то же время в России уже зарождалась настоящая историческая наука — материалистическая, но только она зарождалась не в дворянских кругах, откуда вышла теория Чичерина, — она зарождалась в мелкобуржуазных кругах. Родоначальником ее был человек, которого без всякой натяжки можно считать по происхождению мужиком, потому что его отец был сельским дьячком, а вы знаете, что сельский дьячок от крестьянина отличается мало.
О биографии Чичерина я ничего не говорил, да и не стоит говорить, кроме тех сведений, что он был профессор государственного права и тамбовский помещик (позже он был городским головой в Москве). Биография Щапова больше заслуживает внимания прежде всего потому, что Щапов меньше известен. Недавно мне понадобилась книга Щапова. Я зашел в библиотеку Коммунистической академии, где я узнал, что он постоянно стоит на полке и что его никто не читает. Я не говорю, что Щапова можно читать вместо Ключевского: во-первых, Щапов устарел, а во-вторых, он писал тяжелым языком, его сочинения читаются с большим трудом. Ораторский талант у него был колоссальный; своими лекциями он умел очаровать не только студентов Казанского университета, но даже и профессоров, даже попечителя Казанского учебного округа; этот сухой чиновник однажды заслушался лекцией Щапова до такой степени, что стал ему аплодировать. Это был человек потрясающе красноречивый, но писал он тягуче и длинно. Поэтому в литературном отношении состязаться с художественной прозой Ключевского он не может, но по содержанию, по своим взглядам он является его учителем, и учителем хорошим.
Как я уже сказал, Щапов был сын сельского дьячка, переживший ужасные годы учения в иркутской бурсе, где ученики духовного училища были осыпаны вшами, оборваны и голодны, вследствие чего воровали с огородов. Поэтому их рассматривали как язву, как чуму тех мест. Словом, до духовной академии он вел босяцкое существование. Духовную академию он
Борьба классов и русская историческая литература
311
одолел благодаря своему колоссальному терпению. У его столика в библиотеке студенты показывали два углубления в полу, которые якобы были вырыты ногами Щапова, простаивавшего целыми часами над книгами.
Ученая его карьера в сущности сводится к одной зиме. После «освобождения» был расстрел крестьян, между прочим в селе Бездне (Казанской губ.). Несколько человек было убито, а их предводитель Антон Петров — казнен. Студенты устроили по погибшим панихиду. Щапов выступил с речью, по тем временам (1861 г.) весьма яркой и революционной*, и в результате из профессора университета превратился в опального журналиста; некоторое время перебивался в Питере, а затем был выслан к себе на родину — в Сибирь. В Сибири он спился (он был злейший алкоголик) и умер сорока с небольшим лет, в 1876 году. Он писал довольно много; писания его наполняют три толстых тома.
Отношение его к Чичерину, а значит, и к той теории, которую я вам сейчас излагал, лучше всего изложить его же собственными словами. Извините, я тут опять вам процитирую' два довольно длинных отрывка.
«Первую теорию,—так начинает он свое изложение различных объяснений русской истории, — можно назвать историкоюридическою. Эта теория по преимуществу старалась развивать с разных точек зрения идею постепенного государственного развития и благоустройства русского общества. Исходной и основной идеей ее была та мысль, что благосостояние русского народа зависит от хороших или правильных государственных учреждений, от постепенных политических реформ — административных, юридических, гражданских, от либерально-преобразовательной деятельности и умеренной опеки правительства. Лучшими представителями этой теории в литературе можно назвать Кавелина, Калачова, Беляева, Лешкова, Чебышева-Дмитриева, Муллова и проч. Чичерин проявился в этой категории писателей типом ультрагосударственного фанатизма, рьяным проповедником строгой, систематической государственной унии и централизации, или централиза- ционно-бюрократического государственного пантеизма. «Госу¬
* Подлинный текст ее, писанный рукой Щапова, найден совсем недавно, уже после того как я читал свои лекции. Этот подлинный текст совершенно опровергает легенду об «осторожности», навязываемой Щапову всеми его биографами из буржуазно-либерального лагеря. Я жалею, что в своей лекции положился на слова одного такого биографа.
312
111. Историография
дарство и народ,—по его метафизико-юридической доктрине,— одно и то же, одно целое, государство в народе, народ в государстве» и т. п. Другие писатели историко-юридического направления пошли прямо вразрез с доктриной Чичерина, затвердили не об абстрактной идее государства, не о централизации, не о единстве государственном, не о слиянии народа с государством, а о земстве, о народе, о земском самоустройстве, саморазвитии, самосуде и самоуправлении, о децентрализации, о земских соборах и об областных земских собраниях, об общинах сельских и городских и т. д. В том числе грешен был и я: на эти темы я писал статьи в «Веке», в «Отечественных записках», даже в «Очерках». До издания «Очерков» земство и земское саморазвитие было моей idee fixe. Под земством и земским саморазвитием я разумел все сферы социального развития, всю массу народа со всеми ее этнографическими видоизменениями, всю совокупность сил народных — умственных и физических, все интересы и потребности народные — умственные и экономические. Я защищал инициативу и самодеятельность сил народа в деле его социального саморазвития. Только при свободном и. равном праве инициативы и самостоятельности всех сил народных, думал я, возможно было и могло начаться прогрессивное, здоровое и всецелое саморазвитие народное — и умственное и экономическое. Веря в инициативу, самодеятельность земства, земских, народных, социальных сил, я верил не только в земские собрания, в земские банки и т. п., но и в земские реальные училища, в земские реальные гимназии, в земские реальные университеты, академии и т. д. Со времени издания «Очерков», после тяжелого сознания своего семинарского невежества и пустоты, после сознания в своей голове совершенного отсутствия естественных знаний и после болезненной работы и борьбы мыслей, — я стал думать, не по своим силам, о взаимодействии и взаимоотношении сил и законов внешней, физической природы и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлениях их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов. Хотя я почувствовал все свое бессилие на этом новом пути мышления, но все же, сколько мог, понял тогда, что какая бы то ни было, хоть бы самая совершенная, абстрактная социально-юридическая теория непрочна, произвольна, без единственно прочных основ — естественнонаучных, физико-антропологических, потому что она не что иное, как временный продукт изменяющейся — отстающей или развивающейся—человеческой мысли,
Борьба классов и русская историческая литература
313
временная и условная, следовательно произвольная, форма склада и настроения наших метафизических, абстрактно-философских идей и понятий о человеке, о его физиологических и общественных функциях и отношениях, об его соотношении с внешним физическим миром и проч. Все юридические теории без теории строго реальной и экономической почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общество прямо к главнейшей' его цели — экономическому и умственному развитию и совершенствованию».
«Другая теория, ясно высказанная в нашей журналистике,— экономическая. По этой теории сущность, цель и основа социального развития заключается в экономическом благосостоянии всех классов общества. Лучшим выразителем этой теории был переводчик и критик «Политической экономии» Милля *. Эта теория сразу подорвала десятки теорий юридических, органических, почвенных, славянофильских, классических и т. п. На разных языках — славянофильских, классических, англоманских, русско-летописных, шумными, трескучими, высо- коглаголивыми и всякими фразами трещали и трактовали мы о самоуправлении, об английском self-government, о необходимости восстановления московской старины, излюбленного земского самоуправления времен Грозного, о почве, об органическом развитии, о самопроникновении русским духом, даже о воспитании детей по Несторовой летописи и проч. и проч. И о чем мы не трещали и чего не словоизвергали! И где-то мы не искали счастья русского народа! Каких потребностей и необходимостей не насчитали мы для него, когда он вопил: нет денег, не знаем ремесел и промыслов, нет работы, нет железа, нет соли, неурожай в Вологодской губернии, неурожай в Пермской губернии и т. п.! И вдруг светлая, здравая, рационально- экономическая критика и теория возвестила нам: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о мнозе службе, едино же есть на потребу — прежде всего хлеб насущный, прежде всего нужно, чтобы все были сыты, обеспечены и довольны. Да, — подумали мы, — и в самом деле, вопрос хлеба есть вопрос жизни и, следовательно, мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты-естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину. «Государственное устройство, — говорит Либих, — социальные и семейные связи, ремесла, про-
* Чернышевский.
314
Ш. Историография
мышлениость, искусство и наука — одим словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обусловливается фактом, что для поддержания своего существования человек ежедневно нуждается в пище, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни»... Да, пока существует голодное человечество, пролетариат, пауперизм, возможно ли, мыслимо ли, чтобы желудочная машина человеческой природы не была тяжелым тормозом человечества на пути его высшего материального и умственного движения, а, напротив, служила беспрепятственным естественным локомотивом для живого, быстрого, прогрессивного движения машины мозговой, для прогресса естествоиспытующего разума» *.
Как видите, он обращается не к философии Гегеля, а к химии Либиха (великий химик 60-х годов). Таким образом, Щапов в своем понимании истории становится на чисто материалистическую базу.
Мне хотелось бы в двух словах сказать о материализме как классовой подоплеке философии истории Щапова. Это был почти мужик по происхождению, во всяком случае мелкий буржуа по своему быту сначала нищего профессора, потом нищего журналиста. Это был мелкобуржуазный интеллигент крестьянского происхождения, и не случайно, что помещик Чичерин создал барскую теорию истории, а мужик Щапов — мелкобуржуазную теорию русской истории. Класс трудящихся, в том числе и мелкая буржуазия, по своему мировоззрению почти всегда материалистичен. Наш крестьянин умудряется даже в религии быть материалистом. Этот материализм в религии называется фетишизмом, и крестьянин со своей верой в мощи и иконы является фетишистом, но он все-таки материалист.
Почему помещик или буржуа редко бывает материалистом? Потому, что те блага, которыми они пользуются, — одежда, пища и пр. — достаются им в готовом виде: они получают их путем приказаний, путем «идейного воздействия» на подчиненных им людей — ближайшим образом на прислугу. И для них ясно, что слово — выражение мысли — есть та сила, которая уп-
* Соч. А. П. Щапова, т, II (СПб), изд. М. В. Пирожкова, 190625,
Борьба классов и русская историческая литература
315
равляет миром. Поэтому для имущих классов идеалистическая философия, философия словесная, чрезвычайно естественна.
Но войдите в положение самого портного или повара, готовящего своему барину обед. Он имеет дело с материей (кожа для сапог, сукно для сюртука, мясо и пр.). Как вы ни внушайте ему, что все дело в идее, в словах, он вам ответит: я могу 20 слов сказать сукну, но от этого не сделается сюртук, — я должен взять материал, вещь и поработать над ней. Не только пролетариат, но и все трудящиеся классы являются материалистами, — это наиболее естественный для них подход.
Как я уже сказал, Щапов был сын сельского дьячка, сам пахал землю и косил, будучи в деревне, а затем в качестве нищего бакалавра Казанской духовной академии должен был сам себя обслуживать, естественно, что он был материалистом. Идеалистической философии надо было много над ним стараться, чтобы он на время свихнулся в идеализм, но в конце концов природа взяла свое, и он сделался материалистом. В этом отношении он не был одинок, так как вся русская литература 60-х годов, созданная выходцами из мелкой буржуазии, была проникнута материалистическими тенденциями. Таким образом, материализм Щапова понятец. Мне не хочется отвлекаться в сторону, а то стоило бы остановиться на том, что исторический материализм является лучшим подходом к научному объяснению истории. Замечательная вещь, что из всех философов истории на наиболее научной точке зрения всегда стояли материалисты. Первая схема истории культуры создана римским писателем Лукрецием; например, он гениально предугадал ход технического развития. Человек не проходил археологического института, а между тем его теория правильная: сначала камень, а потом металл (каменный и железный века). Затем возникновение религии на почве страха, на почве зависимости. Это опять-таки идея Лукреция, идея, несмотря на возражения некоторых критиков, материалистическая. Уже в первом веке до нашей эры мы встречаем первую схему истории культуры у писателя-материалиста. В средние века арабские философы— мелкобуржуазные по своей подкладке, поскольку арабская культура держалась на ремесленной промышленности, — выдвигают материалистическую философию. Именно на почве этой арабской материалистической философии мы встречаем первого историка, который договаривается до того, что в основе исторического развития лежит развитие производительных сил (Ибн-Халдун). XVIII век в Западной Европе ярко окрашен материалистическим цветом, и на этом фоне появляется исто¬
316
111. Историография
рия культуры Аделунга. Книжка им написана в 1782 году, а рассказывает он приблизительно то же, что и Милюков в «Истории русской культуры», повторяя французского статистика Левассера26. Возьмите его закон народонаселения, — как постепенно, по мере роста населения изменялась техника производства и люди переходили от охоты к земледелию, от земледелия к скотоводству. Эта теория, которая могла показаться новой Милюкову, на самом деле изложена немецким лингвистом Аделунгом в 1782 году. Аделунг писал под несомненным влиянием французского материализма XVIII века: и тогда материализм являлся лучшим подходом.
Аделунг и Милюков подводят нас к той разнице, которая имеется между Щаповым и нами. Щапов объяснил исторический процесс материалистически: образование государства он, например, сводит к процессу материальному—в основу он кладет средства существования. Люди стараются добыть себесред^ ства к существованию наименее трудным способом, живут на даровщинку, ведут хозяйство экстенсивное. Но экстенсивное хозяйство требует большой площади, и поэтому по мере нарастания населения хозяйство должно было перейти к более интенсивному или же растекаться по земле. В основу образования громадной Российской империи Щапов кладет стремление русского народа для своего экстенсивного хозяйства разбежаться по возможно большей территории. Он мастерски определяет физические условия, создавшие границы Российской империи. Чем определяется северная граница? Карамзин отвечает: успехами русских великих князей, а Щапов говорит: это гораздо проще; где кончается возможность земледелия по климатическим условиям? На такой-то широте. А где кончаются русские поселения? На такой же широте. Люди со своим экстенсивным хозяйством двигались к северу до тех пор, пока позволяли климатические условия.
Почему люди также шли на Восток, сначала к Уралу, потом за Урал? Что оттуда шло? Меха. Истребили бобра и соболя на русских землях — пошли на Урал, из Урала в Сибирь. Щапов мастерски описывает, как в погоне за соболем русские охотники завоевывают всю Сибирь.
Возьмите теперь объяснение Щаповым народного русского характера, и вы почувствуете разницу между нами и им, вы поймете, почему мне приходится говорить, что Щапов является нашим родоначальником, но не прямым учителем. Вот это объяснение. Вследствие суровых климатических условий кровообращение северных людей более медленно, чем у южан (не надо
Борьба классов и русская историческая литература
317
забывать, что Щапов стоял на уровне биологических знаний 60-х годов, и я не ручаюсь за научность его обобщений, но нам важно выяснить его теорию). Эта медленность кровообращения, по его мнению, создает медленность нервных реакций: нервы русского человека туго реагируют на окружающую среду, но раз реакция достигнет своего апогея, она происходит быстро. Поэтому у нас период апатии сменяется порывами энергии: лежит человек, потом вскочит, забегает, а потом опять завалится. Этот факт необычайной диалектичности русского народного характера, выражающейся в резкой смене периодов, совершенно верно отмечен, но дело вовсе не в холодном климате, который якобы замораживает кровь, потому, что норманны забирались за Исландию, а кровь у них была довольно горячая. Почитайте Ибсена «Северные богатыри» 27, вы увидите, что в их жилах текла кровь быстро, несмотря на то что они жили среди льдов. Дело здесь не в климате, а в необычайной отсталости русского народного хозяйства, с одной стороны, и чрезвычайно быстром росте капитализма в России — с другой. Это создавало резкие контрасты, и эти резкие контрасты выковали под конец в народном характере ту склонность к резким переходам, к резким скачкам, которая выразилась в области политики, например, тем, что мы сразу прыгнули от самодержавия к социализму, минуя все промежуточные ступени. Этот исторический прыжок чрезвычайно характерен. Это объясняется условиями нашего экономического развития, а не той температурой, которая существует в России. Тут мы видим водораздел между нами и Щаповым. Щапов приписывал экономическому фактору непосредственно природное происхождение: ему казалось, что природа действует на человека прямо. Это точка зрения не одного Щапова, а очень многих домарксистских материалистов, например Бокля, объяснявшего суеверие перуанцев тем, что в Перу часто происходили землетрясения. Это объяснение, конечно, немарксистское; если привлекать сюда землетрясения, надо показать, как они отразились на развитии производительных сил, на'развитии производственных отношений в древнем Перу, а прямо связывать эти две вещи нельзя.
Но, несмотря на то что Щапов не является марксистом (по- видимому, он Маркса даже и не читал), несмотря на это, Щапов делает огромный шаг вперед по пути научного понимания русского исторического процесса, потому его объяснение образования громадной Российской империи в тысячу раз более научно, чем чичеринская теория закрепощения и раскрепощения» В то время как чичеринская барская теория сделалась
318
111. Историография
популярной, мужицкая теория Щапова была замолчана. Даже профессор Ключевский, который носит на себе явный отпечаток Щапова, ни слова не говорит о нем. В то же время это был человек, произведения которого были запрещены к выдаче из библиотек. Я помню, что, будучи студентом, я с трудом мог доставать его сочинения.
Вот вам лишний образец влияния классовых отношений на историю. Барская теория Чичерина стала настолько популярной, что ею заразились Плеханов и Троцкий, а теория Щапова покоится на полках библиотеки Коммунистической академии.
На этом я останавливаю свое сегодняшнее изложение, а завтра перейду к синтезу этих теорий, который нашел себе выражение в писаниях В. О. Ключевского. Чтобы понять Ключевского, надо привлечь к делу еще одну буржуазную теорию теорию националистическую, автором которой является Сергей Михайлович Соловьев.
III
Итак, товарищи, мы остановились на * характеристике двух резко противоположных схем — схемы материалистической, отражающей идеологию мелкой буржуазии, и схемы государственной, отразившей идеологию имущих классов. Противоположность этих схем лучше всего рисуется на одном примере, который я должен был бы привести в прошлый раз. Позвольте мне, напоминая вам об этом противоречии двух схем, привести его сейчас: это вопрос о происхождении сельской общины.
Вот как объясняет происхождение общины Щапов: «Как ни груба была древнерусская община или общинная «земская дума», идея веча или Земского собора, но и эта северная община и мирская дума при первоначальной, естественно слабой, возбуждаемости и медленной и вялой деятельности индивидуальных умов и сил вызвана была естественною потребностью коллективной, общинной борьбы грубых умов и рабочих сил народа с земско-хозяйственными бедствиями, производимыми суровым северным климатом с труднодоступной и скупой естественной экономией суровой северной природы, с бесчисленными физическими и историческими препятствиями, на каждом шагу стремившимися сокрушить жизнь и благосостояние отдельных личностей. И эта грубая, первобытная, древнерусская ассоциация индивидуальных сил в силу естественного физиолого-психологического притяжения сил концентрировалась для коллективного, общинного обсуждения и решения («пого- воря со всем миром», «мирскою сказкою», «по мирскому уло¬
Борьба классов и русская историческая литература
319
жению», «повальным обыском всяких чинов людей») всех общинных естественнобытовых вопросов».
А вот как рисуется этот процесс Чичерину: «Из этого исторического обзора сельских учреждений мы можем вывести следующее:
1) Что наша сельская община вовсе не патриархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собою из естественного союза людей, а устроена правительством под непосредственным влиянием государственных начал.
2) Что она вовсе не похожа на общины других славянских племен, сохранивших первобытный свой характер посреди исторического движения. Она имеет свои особенности, но они вытекают собственно из русской истории, не имеющей никакого сходства с историею западных славянских племен.
3) Что наша сельская община имела свою историю и развивалась по тем же началам, по каким развивался и весь общественный и государственный быт России. Из родовой общины она сделалась владельческою и из владельческой — государственною. Средневековые общинные учреждения не имели ничего сходного с нынешними; тогда не было ни общего владения землею, ни ограничения права наследства отдельных членов, ни передела земель, ни ограничения права перехода на другие места, ни соединения земледельцев в большие села, ни внутреннего суда и расправы, ни общинной полиции, ни общинных хозяйственных учреждений. Все ограничивалось сбором податей и отправлением повинностей в пользу землевладельца, и значение сельской общины было чисто владельческое и финансовое.
4) Настоящее устройство сельских общин вытекало из сословных обязанностей, наложенных на земледельцев с конца XVI века, и преимущественно из укрепления их к местам жительства и из разложения податей на души» 28.
В то время как для Щапова сельская община была образчиком первобытной, зачаточной кооперации, трудовой ассоциации, созданной тяжелыми природными, климатическими условиями, с которыми человек не в силах был справиться в одиночку, для Чичерина и община была созданием государства. Государство, создавая русское общество, создало и сельскую общину — для того, чтобы было удобнее собирать подати. Круговая порука для Чичерина есть то, откуда развилось общинное землевладение; с крестьян взыскивали подати, и естественно, что деревня, платя подати за каждого крестьянина, устанавливала равенство землепользования. Вот вам один из образчиков, где эти
320
111. Историография
теории резко сталкиваются. Щапов не дает организации производства, из которой выросла община, он только неопределенно говорит, что это была трудовая ассоциация; он не связывает ее с типичными формами земледелия — земледелием подсечным, потому что вырубить и очистить от деревьев лесную площадь было не под силу одному человеку или даже одной маленькой семье. Это могла осуществить только группа в несколько десятков человек, т. е. большая семья, из которой позднее развилась сельская община. Вот почему, будучи явлением седой старины для Европейской России, зарождение общинного землевладения — факт весьма современный для Сибири; здесь общинное землевладение возникает стихийно. Но он твердо стоит на том, что община есть экономический факт. Нет, возражает теория Чичерина, община есть факт политический.
Чичеринская схема в чистом виде мало известна широкой публике; мы ее знаем главным- образом из курса Ключевского. Влияние Чичерина на Ключевского настолько велико, что, если вы возьмете, например, статьи о земских соборах Ключевского, вы увидите, что он буквально клянется именем Чичерина. Но его понимание русского исторического процесса сложнее чиче- ринской схемы. Тут необходимо вставить два звена: одно пришедшее из русской исторической литературы, а другое — заимствованное Ключевским из современной ему публицистики.
Ключевский — эклектик; он так или иначе суммировал, объединил в своей исторической концепции, в своем понимании русской истории основные признаки нескольких теорий, и прежде всего он усвоил чичеринскую теорию с теми существенными дополнениями, которые в эту теорию внес Соловьев.
Прежде чем переходить к Ключевскому, надо, таким образом, охарактеризовать Соловьева, тем более что он и сам по себе этого стоит.
Соловьев безусловно есть величайший русский историк XIX столетия. Его отличительной чертой среди русских историков прежде всего является громадная историческая образованность, тогда как русские историки в истории других стран обыкновенно бывали большими невеждами.
Благодаря тому что в 30-х годах XIX века под влиянием национализма эпохи Николая I была создана особая кафедра русской истории и тому, что от желавших занять эту кафедру не требовалось знания иностранных языков, ее стали занимать люди, не знавшие их. Эта безъязычность русского историка создала из кафедры русской истории своего рода гетто, замкну-
Борьба классов и русская историческая литература
321
тый квартал. Русские историки великолепно знали свои летописи и документы, но имели смутное представление о том, как выглядит историческая наука в Англии, Гермаиии, Франции и т. д. Вот почему они свои теории — а без теорий и вовсе они жить не могли — заимствовали исчужа. Чичерин был, как я уже говорил, профессор не русской истории, а государственного права, и в качестве такового был знаком с европейскими языками и с европейской литературой, ибо без этого изучать западноевропейское государственное право нельзя. Выгодное отличие Соловьева от варившегося в собственном соку русского историка заключалось в широкой исторической его образованности. Читая его статьи, вы видите, что он был в курсе всего, что писалось по истории на всех языках. Благодаря этому он двумя головами был выше всех своих современников. Это во- первых. Во-вторых, Соловьев, не обладая художественным талантом Ключевского, не будучи таким гениальным стилистом, каким был Ключевский, был человеком выдающегося ума, а так же как в конце XVIII и в начале XIX века каждый умный человек был по природе якобинцем, так во второй половине XIX века каждый умный человек по природе немножко марксист, — сознает он это или нет. Мы встречаем у Соловьева ряд таких объяснений русской истории, которые очень напоминают по крайней мере «экономический» материализм. Он первый выяснил громадное влияние в русской истории речных путей. И действительно, если мы возьмем период торгового капитала, мы увидим, что в этом-то и суть дела, что группируется русская территория именно около водных путей. В частности, он первый дал экономическое объяснение возникновению Москвы. Почему возвышается Московское княжество? Потому, что оно стояло на одном из больших дорожных узлов. Остается только подвести под это настоящий экономический базис. Все это мы знаем из курса Ключевского, и многие считают, что Ключевский — автор таких объяснений. На самом деле он целиком взял их у Соловьева. Ключевский этого и не скрывал. Он неоднократно говорил нам, своим ученикам, что без «Истории России с древнейших времен» Соловьева29 он не в состоянии был бы составить своего курса. И действительно, целые главы курса Ключевского, например глава о междукняжеских отношениях в Киевской Руси, не что иное, как художественная популяризация Соловьева. Влияние Соловьева, таким образом, — и непосредственное, и в особенности посредством Ключевского — было колоссальное. Но само собой разумеется, что это нисколько не устраняет того факта, что и Соловьев был представите-
Ц М. Н. Покровский, кн. k
322
111. Историография
лем определенного класса и, значит, развивал определенную классовую точку зрения.
Класс этот был не совсем тот, который представлял собой Чичерин. Чичерин был тамбовский помещик, Соловьев был городской житель. По происхождению своему он был сын московского протопопа, который раньше был законоучителем в коммерческом училище. В доме этого коммерческого училища Соловьев родился; на этом доме есть доска, отмечающая этот факт. Он принадлежал к кругу зажиточного городского духовенства, которое вело буржуазный образ жизни и было проникнуто теми взглядами и симпатиями, которые свойственны зажиточной городской интеллигенции. Нужно сказать, что мировоззрение Соловьева было глубоко буржуазное, и не только в области истории, в области книги, но и в области бытовой. К сожалению, в последнем издании его записок—он оставил очень интересные записки30 — выпущена замечательная страница, которая в первом издании была и которая выпущена детьми Соловьева, издававшими эти записки, вероятно, именно ввиду скандальности этой страницы. На этой странице Соловьев изливает свою душу по поводу социальных последствий реформ 60-х годов. Он относился к ним весьма условно: конечно, хорошая вещь — реформы, это верно, но зачем после этих реформ горничные стали носить шляпки, — ни с чем несообразная вещь; всякий сверчок знай свой шесток, — горничная, так ходи в платочке, зачем шляпу надевать? Буржуазия не может себе представить, чтобы рабочий человек смел бы одеваться так, как одеваются почтенные, образованные буржуазные господа. Уже одно это, что Соловьев всем своим мировоззрением был буржуа, достаточно характеризует его в смысле идеологии, но, кроме того, и внешнее положение обязывало. Соловьев был профессором Московского университета, членом Академии наук, учителем двух наследников русского престола: сначала читал лекции Николаю Александровичу, а когда тот помер — Александру Александровичу. Уже эта близость ко двору указывает, что тут никоим образом не могло быть взъерошенного семинариста, каким был Щапов, которого на порог во дворец не пустили бы, а не то что приглашать читать лекции наследникам. Соловьев был приличный человек, профессор, академик, и естественно, что его положение делало его представителем не пролетарского, даже не мелкобуржуазного, а крупнобуржуазного, собственнического лагеря. Но подход Соловьева к русской истории был, как вы увидите, хоть и буржуазный, но своеобразный. Теория Чичерина оставляла без ответа один очень интересный вопрос.
Борьба классов и русская историческая литература
323
Государство создало общество, закрепостило его себе на службу — и дворян, и крестьян, и горожан — всех. А зачем оно это сделало, почему это понадобилось? Чичерин удовлетворялся тем, что это дело государства, так как государство, как известно, все может сделать, это, повторяю, некое земное божество, то нечего здесь и спрашивать—захотело государство и сделало. Но естественно, что такой ответ мог удовлетворить только метафизика, только отвлеченного мыслителя, который твердо запомнил, что правовые идеи сами творят жизнь. Государственная идея закрепощения создала известную систему — общественную, и кончен бал. Спрашивать дальше нечего. Кто спрашивает: зачем бог создал мир? То же самое и тут. Соловьев, — в этом сказался историк, инстинктивный, бессознательный марксист — понимал, что нельзя так объяснять, и дополнил схему Чичерина чрезвычайно интересными соображениями, в результате чего и получилась та схема, которую мы имеем в развернутом виде у Ключевского. Вот как он формулировал этот свой взгляд в одной из своих статей — в статье «Древняя Россия», напечатанной в 1856 году.
«Подобно юго-восточной европейской украйне, Греции, северо-восточная европейская украйна, принявшая с половины IX в. название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатцами, первая принимает на себя их удары. В то время как юго-восточная украйна, Греция, с таким успехом, с такою славою отбивалась от персов, северо-восточная украйна, сколько знала ее тогда история, находилась под владычеством кочевых азиатцев, которым оседлое народонаселение рабствовало. Такой порядок вещей продолжался до половины IX века по Р. X.... Только с основания Русского государства начинается освобождение славянских племен, оседлого европейского народонаселения восточной украйны от ига кочевых и полукочевых азиатцев. Новое государство берет на себя удары степных хищников, долго борется с переменным счастьем. Но вот в XII веке Азия вследствие сильного движения в степях своих высылает на Запад бесчисленные толпы кочевников: Русь склоняется перед ними, но не погибает под их ударами; собирает силы; и, в то время как Византия падает перед турками, Россия, Московское государство, торжествует над татарами и начинает в свою очередь наступательное движение на Азию» 31.
В конце своей деятельности, в статье «Начала русской земли», в этой предсмертной статье, своего рода завещании, Соловьев через 20 с лишком лет возвращается опять к этой мысли.
11*
324
111. Историография
«...Известия летописца о начале Русской земли стоят непоколебимо в силу своей внутренней исторической правды. В половине IX в. он приводит нас на европейскую украйну, в те местности, где проходила граница между двумя формами, имеющими такое важное значение в нашей истории, между полем (степью) и лесом. Степь—море сухое, но обитатели этого моря представляют жидкий, подвижной, бесформенный элемент народонаселения. Вечное движение осуждает их на вечный застой относительно цивилизации; они не чувствуют под собой твердой почвы; они не любят непосредственно соприкасаться с нею, проводя время на спине верблюда или лошади. Остановка их на одном месте коротка; они не обращают внимания на землю, не работают над нею; их животное ищет для себя корма и дает от себя корм хозяину. Их дело догнать живую добычу на бегу, поймать, убить; их дело напасть на других кочевников или на оседлого человека, ограбить, взять его в плен; они охотники нападать, но не умеют защищаться, при первом сопротивлении мчатся назад; да и что им защищать? Но, убежавши в степь, где никто не догонит, кочевник скоро возвращается назад и нечаянными разбойничьими нападениями не оставит в покве оседлого человека, живущего на окраине степи. И города не всегда спасут последнего: толпы кочевников окружают город и голодом заставляют его сдаться. Но верное спасение оседлому человеку от кочевника — это лес дремучий с его влагою, его болотами. Крепкий и выдержливый вообще, кочевник, как ребенок, боится влаги, сырости и страдает от них, поэтому он не пойдет далеко в лесную сторону, скоро воротится назад. В степи виднеются круглые вежи кочевников, как громадные постройки животных, громадные муравьиные кучи; быстро воздвигаются они, быстро исчезают, складываются, ибо в них почти нет ничего твердого. Этой круглой веже кочевника оседлый славянин противоположил свой крепкий, долго стоящий дом, который построил из твердого материала в лесу или в его близости» 32.
Прежде всего обращают внимание хронологические даты статей: одна написана в 1856 году — год Парижского мира, когда кончилась Восточная война Николая I — Крымская война. Что же из себя представляет 1877 год, который стоит на второй статье? Это год второй Восточной войны, которую вел Александр И. Эти две статьи, где так четко формулирована борьба леса со степью, хронологически связаны с двумя турецкими войнами — одной неудачной, другой более удачной.
Что же представляют собой русско-турецкие войны?
Борьба классов и русская историческая литература
325
Идеологически это были войны «за закон». «Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству, — писала Екатерина в своем манифесте по поводу первой турецкой войны (1768 года), — законом магометанским преданная, стремится совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже...» На практике Государственный совет Екатерины находил, что «при заключении мира надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море, стараться об учреждении порта и крепости». Практические цели двигались все дальше и дальше. Уже в 1829 году Николай I видел себя в мечтах «владыкой Константинополя»; уже и Николая не было на свете, и Константинополь собирался брать его сын, Александр И, а старая идеология все годилась: война по-прежнему велась «за закон» и по-прежнему мотивировалась стремлением освободить «древностью и благочестием знаменитые народы» от «ига Порты Оттоманской». Только к характеристике народов стали теперь прибавлять, что они не только «единоверные», но и единокровные «братья славяне» *. Греки, с «освобождения» которых началось дело, окончательно вышли из моды.
Мотив екатерининского манифеста вошел в состав «железного инвентаря» русской историографии. Для Соловьева война «за закон» является само собой разумеющимся и вполне бесспорным основанием русской восточной политики с конца XVIII века.
«С начала XVIII века в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: Шведский, Турецкий, или Восточный, и Польский; иногда они соединяются вместе до два, иногда все три...»
«Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря, Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями, Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря и утверждается в Новгороде, а второй уже утверждается в Киеве и победоносно плавает на Черном море.
* Победа России в русско-турецкой войне, вспыхнувшей в 1877 году в результате противоречий между европейскими государствами на Ближнем Востоке, обеспечила независимость Румынии, Сербии и Черногории, а также освобождение от турецкого ига Болгарии. «Свое национальное освобождение Болгария получили из рук русского народа, — писал Г. М. Димитров. — Этот факт укрепил в среде болгарского народа глубокие традиции признательности и любви к русскому народу» (см. Г. М. Димитров. В чем спасение Болгарии. М., 1944, стр. 10). — Ред,
326
111. Историография
Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому при первых князьях русских завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства, греческой веры; а по нижнему Дунаю и дальше на юг — сидели все родные славянские п.л емена, тем более близкие к русским, что исповедовали ту же греческую веру- Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы. Московское государство осталось единственным независимым государством греческой веры, понятно, следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова...» *
Читатель заметил модернизацию мотива при помощи «родных славянских племен». Но Соловьев был слишком крупный ученый, чтобы ограничиться такой газетной корректурой; и он вводит новый мотив, которому и посчастливилось так у следующего поколения.
«Нестерпимое хищничество орд — Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской — заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских — с Крымскою, которая находилась под верховной властью султана турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью; чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольник чьих рынков...» 33
То, что в «Истории падения Польши» было лишь слегка намечено, стало лейтмотивом для всей «философии истории» русского народа после того, как новая турецкая война (1877— 1878 годы) заново отремонтировала идеологию екатерининских манифестов. Подводя итог тридцатилетней работе в своей лебединой песне — статье о «Началах русской земли» (написанной между 1877 и 1879 годами — последний был годом смерти Соловьева), на борьбе леса и степи он строит весь русский исторический процесс, если не исторический процесс вообще.
«Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украйна, со стороны Азии. Это украинское поло-
* «История падения Польши», Разрядка, моя, — Л/. Я.
Борьба классов и русская историческая литература
327
жение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю.
В самой глубокой древности мы видим столкновения между народами, стоящими на разных ступенях развития, и происходившие именно от этого различия. Таковы были издавна противоположность и враждебность двух форм быта — кочевой и оседлой. Западная Европа и южные ее полуострова, бывшие главной сценой древней истории, по свойствам своей природы не представляли никаких удобств для кочевого быта, и потому мы не находим в преданиях этих стран известий о нем и о столкновениях между кочевым и оседлым народонаселением. Азия и Африка в своих степях и пустынях давали — и до сих пор дают — возможность народам вести кочевой образ жизни; до сих пор Средняя Азия, области, на днях вошедшие в состав Русского государства, представляют любопытную картину отношения между кочевым и оседлым народонаселением, наглядно восстановляющую отношения, которые некогда существовали и в других местах, именно в Восточной Европе, на той обширной, прилежащей к Азии равнине, на которой образовалась русская государственная область... В первых известиях о Восточной России, записанных у Геродота, мы уже встречаемся с отношениями между кочевым и оседлым ее народонаселением. Геродот отличает скифов кочевых от скифов-земледель- цев и говорит, что первые господствовали над вторыми. Мы не станем решать нерешимого вопроса, принадлежали ли эти два вида геродотовых скифов к одному племени или к разным; для нас важно отношение — кочевые господствуют над оседлыми; для нас важно то, что в известиях летописца о начале русской истории мы находим то же отношение — кочевники или полукочевники хозары, живя на востоке, у Дона и Волги, господствуют над оседлыми племенами славянскими, живущими на западе, по Днепру и его притокам» 34.
Итак борьба со степью связана с турецкими войнами, которые вела Россия в XIX веке. Если мы поймем, зачем велись турецкие войны, то мы получим материалистическое объяснение интересующей нас идеологии. Зачем велись эти войны?
Это, конечно, непререкаемая истина, что русская промышленность не может расти без внутреннего рынка и что создание этого рынка было первостепенным условием для развития в России промышленного капитализма. Но этот внутренний рынок, столь необходимый для русской промышленности, рос при царском реяшме очень медленно, потому что интересы старого хозяина русской земли — помещика здесь сталкивались
328
111. Историография
с интересами промышленного капитала. Промышленному капиталу нужна была быстрая дифференциация деревни, пролетаризация ее для получения рабочих на фабрики, с одной стороны, и для расширения этого самого внутреннего рынка — с другой. Этот процесс дифференциации крестьянства дворянство искусственно задерживало. В первой половине XIX века оно чрезвычайно долго не мирилось с ликвидацией крепостного права, и ликвидировать крепостное право не удавалось, несмотря на то что промышленный капитал чрезвычайно энергично и настойчиво этого требовал. Крымская война заставила ликвидировать крепостное право, но с крайней осторожностью. Крестьянин остался фактически прикрепленным к земле; именно этот смысл имел тот небольшой, уменьшенный против крепостного времени надел, который крестьянину при «освобождении» оставили. О таком значении «освобождения с землей» говорилось почти открыто. Это Кошелев, один из умнейших представителей дворяц, говорил, что если освободят крестьян без земли, то это будет второе переселение народов, все уйдут в черноземные места. Затем в деревне крестьянина нужно было поставить в такие условия, чтобы он имел внутреннее побуждение идти искать работу в барской экономии. Без разрешения мира — а мир был поставлен под надзор дворянского мирового посредника — он не мог ни выделиться из семьи, ни уйти на заработки в сторону, ни тем паче раскрестьяниться и превратиться из земледельца в промышленного рабочего. На все это требовалось согласие мира. А мир — это очень выразительно описывал Энгельгардт в своих «Письмах из деревни» — был всецело в руках посредника, который блюл за тем, чтобы не было переселения народов, чтобы крестьяне не разбежались 35.
В связи со всем этим крестьяне остаются только наполовину раскрепощенными или даже на четверть. Конечно, дифференциация крестьянства и пролетаризация его — это был стихийный экономический процесс, и его нельзя было перевернуть никакими законами, но образование пролетариата шло у нас до 80-х годов чрезвычайно медленно.
Это медленное расширение внутреннего рынка и ставило перед русским промышленным капитализмом чуть не с момента его зарождения вопрос о рынках внешних.
Экономический смысл русско-турецких войн и заключался в попытках русской мануфактуры прорваться на юг от Черного моря, Кавказского хребта и Каспийского моря в страны Передней Азии, где, как еще в 1836 году находил Государст¬
Борьба классов и русская историческая литература
329
венный совет Николая I, «при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми, собственно, для азиатского торга, как в доброте, так и в цене...» А так как «законными хозяевами» мануфактурного рынка этих стран были уже в те времена англичане, то стремление русского самодержавия «пролагать оружием новые пути для торговли нашей на Востоке» тотчас же встречало отпор со стороны «заграничной расчетливости», в свою очередь стремившейся «заградить пути нам в Азию с той стороны, где иностранцы открыли новый сбыт своих произведений, сбыт, который, как известно, значительно озабочивает ныне Англию и Францию».
Эти последние слова кажутся написанными накануне Крымской войны, а* они взяты из «мнения» Государственного совета от 4 февраля 1832 года. Так глубоко в прошлое уходят корни конфликта. Но коварный Альбион нашел целесообразным вынуть из ножен свой собственный меч только однажды: двадцать два года после того, как государственные люди николаевской России констатировали его коварство. И до и после этого события «пролагать вооруженной рукой новые пути» приходилось на счет ближайших мусульманских соседей России — Турции и Персии. То, что для историка является русско-английским конфликтом, для современной публики было русско-персидскими, а главным образом русско-турецкими войнами. Отсюда Крымская война Николая I и Турецкая — Александра И. Таким образом, вы видите, что эти войны были необходимы как отдушины для русского промышленного капитала. И учитель наследника престола вынужден был построить такую историческую теорию, под которую это можно было подвести. Таким образом, теория носит определенно классовый характер, несмотря на то что как будто бы между лесной сыростью и ситцевыми фабриками Владимирской губернии нет ничего общего.
Ключевский, к которому мы перейдем в следующий час, усвоил теорию Чичерина с этим ее чрезвычайно ценным с точки зрения буржуазной идеологии дополнением, ибо теория Чичерина объясняла лишь внутреннюю историю, а теория Соловьева захватывала и внешнюю. Посмотрим же, что представлял из себя как историк Ключевский.
«Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят общежитие» 36. Так формулировал Ключевский свое понимание исторического процесса.
330
111. Историография
Людское общество, как это видно из его дальнейшей характеристики, — это приблизительно то, что Чичерин называл государством.
Откуда Ключевский взял личность? Он ее взял не у Чичерина, не у Соловьева и даже не у Щапова — Ключевский ее взял у Лаврова, столетний юбилей которого мы будем праздновать в июне настоящего года. Вам он, вероятно, известен как один из основоположников нашего народничества: его «Исторические письма» 37 были евангелием революционера 70-х годов. Вы помните, что в основе его исторического мировоззрения лежит теория, согласно которой народные массы представляют собой нечто инертное, малоподвижное, почти не меняющееся и что двигателем прогресса этих масс является критически мыслящая личность. Мелкобуржуазный характер этой теории, сводящей все развитие к влиянию индивидуумов, бьет в нос. Процесс Лаврову представляется так: известная идея зарождается в мозге человека и оттуда, постепенно распространяясь, завладевает мозгами других личностей, а затем и всем обществом. Эта мысль была усвоена Ключевским.
«Идеи — плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности индивидуальных умов и совестей, и в своем первоначальном, чистом виде они проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности в пользу ближцего... Вы поймете, когда личная идея становится общественным, т. е. историческим, фактом, это когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, т. е. общепризнанным правилом или убеждением. Но, чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен целый прибор средств, поддерживающий это действие, — общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы... Итак, я вовсе не думаю игнорировать присутствие или значение идей в историческом процессе или отказывать им в способности к историческому действию. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадает в этот процесс, а попадая, не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид. В этом виде, просто как идея, она остается личным порывом, поэтическим идеалом, научным открытием, и только; но она становится историческим фактором, когда овладевает какой- либо практической силой, властью, народной массой или капиталом, силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предцриятие, в обычай, нако-
Борьба классов U русская историческая литература
331
нец, в поголовное массовое увлечение или художественное всем ощутительное сооружение, когда, например, набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора» *.
Вы видите, насколько мировоззрение Ключевского является мало марксистским и как наивны те люди, которые считают Ключевского одним из родоначальников исторического материализма в России; он является родоначальником исторического материализма лишь постольку, поскольку он стоит на почве Щапова.
«Внешняя природа нигде и никогда ие действует на все человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям: разным частям человечества по его размещению на земном шаре она отпускает неодинаковое количество света, тепла, воды, миазмов, болезней — даров и бедствий, а от этой неравномерности зависят местные особенности людей. Я говорю не об известных антропологических расах: белой, темножелтой, коричневой и проч., происхождение которых во всяком случае нельзя объяснить только местными физическими влияниями; я разумею те, преимущественно бытовые, условия и духовные особенности, какие вырабатываются в людских массах под очевидным влиянием окружающей природы и совокупность которых составляет то, что мы называем народным темпераментом» **.
Вспомните Щапова с его измерениями температуры, с одной стороны, и с его учением о непосредственном влиянии климата на характер — и вот он, живой Щапов. Вы видите, что у Ключевского есть кусочек от Лаврова — роль идей и личности, есть кусочек от Щапова — из старого домарксистского экономического материализма, и рядом с этими кусочками у него вы находите в развитом виде и чичеринскую теорию.
«На физиологических основах кровной связи строилась первобытная семья. Семьи, пошедшие от одного корня, образовывали род, другой кровный союз, в состав которого входили уже религиозные и юридические элементы, почитание родоначальника, авторитет старейшины, общее имущество, круговая самооборона (родовая месть). Род через нарождение разрастался в племя, генетическая связь которого выражалась в единстве языка, в общих обычаях и преданиях, а из племени или племен
* В. О. Ключевский. Курс русской истории. Часть I, Лит.-изд. отд.
НКП. Петроград, 1918, стр. 29, 30 и 32 38.
** Там же, стр. 10—1139,
332
III. Историография
посредством разделения, соединения и ассимиляции составился народ, когда к связям этнографическим присоединялась нравственная, сознание духовного единства, воспитанное общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб и интересов. Наконец, народ становится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения» *.
Я вам говорил, что Ключевский есть синтез, или, точнее говоря, Ключевский — эклектик. Конечно, популярности Ключевского много помогло то, что это был человек совершенно исключительного художественного таланта. Страницы курса Ключевского выдерживают сравнение с любым отрывком тургеневской прозы. Вот почему Ключевский читается так легко и вот почему его читать приятно. Без этого таланта его громадная популярность была бы непонятна. Можно, однако, быть уверенным, что даже при таком литературном таланте, но будучи более односторонним, Ключевский никогда бы не сделался таким кумиром русской интеллигенции, ибо эта интеллигенция ничего так не любит, как того, чтобы ей подавали предмет, как она говорит, с разных сторон. Она терпеть не может «односторонности». Поэтому она всегда без всякой симпатии относилась к марксистам, ибо это люди явно односторонние. А ей нужно, этой интеллигенции, чтобы одновременно тут и народничество было — и у Ключевского есть Лавров, чтобы была и государственная теория —у Ключевского есть Чичерин и чтобы был также и природный фактор — Ключевский дает Щапова. Пожалуйте, все есть. И интеллигент, читая Ключевского, плавает в блаженстве: вот это действительно не узколобый марксист — у него все есть.
Конечно, эти теории немножко исключают друг друга, как вы догадываетесь. Если психологические особенности народа определяются материальной обстановкой, среди которой живет этот народ, то, очевидно, идеи стоят в какой-то связи с этой же обстановкой и нельзя их рассматривать как свободное проявление индивидуального творчества. С другой стороны, если семья с железной, внутренней необходимостью развивается в племя, племя — в народ, народ — в государство, тут как будто
* Там же, стр. 1340.
Борьба классов и русская историческая литература
333
уже не остается места ни для природного фактора, ни для личной инициативы. Но для массового читателя тут нет большой беды. Вы знаете изречение: кто много дает, всем что-нибудь приносит. Поэтому всякий интеллигент, будь он сторонником теории Чичерина или народником типа Лаврова, находил у Ключевского родственные нотки. Отсюда вы видите, что Ключевский не может считаться выразителем какой-нибудь определенной классовой психологии, каким являлись Чичерин, Соловьев и Щапов. Это типичный представитель интеллигенции, т. е. того междукласоового слоя, который, с одной стороны, связан с капиталом, поэтому волей-неволей танцует по дудке буржуазии, но, с другой стороны, эксплуатируется этим капиталом, поэтому он против буржуазии. Он очень любит разговоры о социализме, но, как только этот социализм начинает превращаться из разговора в действительность, это для него является чем-то непереносимым: тут появляются и немецкие деньги, и шпионство, и пр., — это вы знаете. Этот промежуточный класс и имел своим выразителем, гениальным выразите-; лем (потому что Ключевский, в особенности по своему изложению, несомненно, гениальный историк) В. О. Ключевского..
«Жизнь политическая и жизнь экономическая—это различные области жизни, малосродные между собой по своему существу. В той и другой господствуют полярно противоположные начала: в политической — общее благо, в экономической — личный материальный интерес; одно начало требует постоянных жертв, другое — питает ненасытный ' эгоизм. Во-вторых, то и другое начало вовлекает в свою деятельность наличные духовные средства общества. Частный, личный интерес по природе своей наклонен противодействовать общему благу. Между тем человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможным потому, что в составе частного интереса есть элементы, которые обуздывают его эгоистические увлечения. В отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельности духовной. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эта последняя на высшей ступени своего развития выражается в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга
334
III. Историография
действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал по мере того, как развивающееся общественное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законного простора, требуемого личным интересом» *.
Если мы возьмем отдельные теории Ключевского, то мы встретим на них точно такой же отпечаток эклектики, точно такое же сочетание различных точек зрения, сочетание, иногда довольно искусное. Если вы эту главу, которую я вам процитировал, прочитаете сплошь, не сопоставляя отдельных мест, вы, пожалуй, проглядите это: благодаря' блестящему изложению довольно легко не заметить белых ниток, которыми все шито. Его теория развития русского общества есть, в сущности говоря, Чичерин, умноженный на Соловьева и дополненный теми теориями, которые Ключевский извлекал из современной ему публицистики. Прежде всего, в .основе у Ключевского лежит теория закрепощения и раскрепощения. Для него точно также русское общество образовано государством, причем государство сформировало это общество так, как ему нужно было. Всего характернее этот взгляд Ключевского выразился в его теории земских соборов, причем в своих статьях о земских соборах он поминутно ссылается на Чичерина, как я упоминал, клянется именем Чичерина. По отношению к земским соборам Ключевский проделал ту же операцию, которую Чичерин проделал по отношению к русской общине. Он попытался и земские соборы рассматривать как известную форму круговой поруки. Что такое были земские соборы — говорит он. Это было совещание правительства со своими собственными агентами. Правительство было слишком слабо, чтобы заставлять на местах выполнять свою волю путем приказа из центра, как это делалось в XIX в. Правительство созывало местных людей в Москву и говорило, что от них требуется и сколько требуется. Оно говорило им: на вас, верхушках местного общества, лежит ответственность. Эти верхушки разъезжали по местам и проводили там директивы центра. Вот что такое земские соборы. Этим Ключевский объясняет тот факт, что у нас земские соборы не превратились в орудие политической оппозиции. Они не могли стать у нас зачатками парламента, потому что парламент в Западной Европе создавался в противовес центральной власти как выразитель воли общества и против воли государства, а у
* Там же, стр. 34—354I.
Борьба классов и русская историческая литература 335
нас земские соборы XVI—XVII веков были созданы государством для него, на его потребности. Вот в чем разница. Так что Земский собор, по Ключевскому, у нас есть чисто государственное произведение. Это является дополнением к теории Чичерина.
То же относительно образования в России сословий. Ключевский образование сословий ставит в непосредственную связь с волей государства. Государство у нас создало сословия, но почему оно их создало? Он, по Чичерину, берет удельную Русь как тип гражданского общества, где все держится на договорах между отдельными лицами, и заканчивает так:
«Своеобразный склад [русского] государственного порядка объясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа, во имя которой политически раздробленные прежде части его соединились под одною властью. Великороссия объединилась под властью московского государя не вследствие завоевания, а под давлением внешних опасностей, грозивших существованию великорусского народа. Московские государи расширяли свою территорию и вооруженной борьбой; но то была борьба с местными правителями, а не с местными обществами. Поразив правителей княжеств или аристократию вольных городов, московские государи не встречали отпора со стороны местных обществ, которые большей частью добровольно и раньше своих правителей тянули к Москве. Итак, политическое объединение Великороссии вызвано было необходимостью борьбы за национальное существование» *.
Вы видите, что теория Чичерина дополнена теорией Соловьева — борьбой со степью, ибо главным образом приходилось обороняться от татар, — и собственной мыслью Ключевского о том, что оборонялось некое целое, именуемое великорусским народом.
Вот с этой стороны, может быть, нам будет всего удобнее начать критику Ключевского. В заключение своей характеристики «основного факта» русской истории XV века он заводит речь «об идее национального (разрядка Ключевского) государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается прежде всего в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия объединялась под московской властью». Эту «идею народного государства» «рождала объединившаяся
* Ключевский. История сословий, изд. 1918, стр. 120—122 42.
336
III. Историография
Великороссия»; но Ключевский не ставит пределов «народному государству»; пределы эти «в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа» 43.
Оговорка очень благоразумная, ибо тексты, которые пытается приводить тут же Ключевский в подтверждение своей «национальной» гипотезы, к Великороссии-то уже ровно никакого отношения не имеют. Эти тексты, взятые из дипломатической переписки Ивана III, развивают ту обычную для своего времени мысль, что московский великий князь есть вотчич всей Русской земли, но образчики этой «вотчины», здесь упоминаемые, — Киев, Смоленск — и поводы для самой переписки — переход на московскую сторону черниговских князей — ясно показывают, что московская дипломатия отправлялась не от великорусского национализма. Что в Смоленске— «Белая Русь», а в Киеве — «Малая» — это в Москве очень хорошо знали и помнили: но в эти дни там еще лучше знали и помнили, что московский великий князь — прямой потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, когда-то державшего всю Русскую землю. Что национальность тут была ровно ни при чем, убедительнее всего свидетельствуется именно этой генеалогией, на которую так напирает в те годы как раз распространявшееся «Сказание о князьях Владимирских» 44. В Моио- махе больше всего ценили греческую кровь его деда, императора Восточной Римской империи, ибо этой кровью надеялись стать вотчичами всемирного православного царства. Ничего более, чем это последнее, противоположного национальному государству нельзя себе и представить. А в дальнейшем развертывании византийское происхождение Владимира Мономаха приводило к знаменитой теории, делавшей предком Ивана III не более и не менее как императора Августа. Основываясь на этой теории, Иван Грозный уверенно заявлял, что он не русский, а немец; и, подражая своему царю, все знатные бояре его времени выводили свой род от какого-нибудь именитого иностранца, якобы во время оно приехавшего служить знаменитейшей в мире династии. А Ключевский из этих людей хочет сделать великорусских патриотов!
И тут опять корни исторической гипотезы гораздо легче найти в современной историку среде, нежели в том прошлом, для объяснения которого гипотеза выдвинута. В 1860-х годах даже Наполеон III распинался в своем уважении к «принципу национальности», и налицо были два таких факта, как национальное объединение Италии и Германии. Русские вариации
Борьба классов и русская историческая литература
337
на тему о единокровных братьях славянах были лишь запоздалым перепевом того же мотива. «Идея национальности» носилась в воздухе в те годы, когда Ключевский рос как ученый. Труднее было отгородиться от нее, нежели ее усвоить.
Но если логическая подпорка схемы Чичерина — Соловьева сама так плохо держится, лучше ли отвечает фактам сама схема? Этим вопросом стоит заняться подробнее.
Начнем с самого общего факта — борьбы со степью. Примем на минуту, что эта борьба действительно была пружиной, толкавшей вперед развитие Московского государства, и посмотрим, что получается.
Максимум напора степи на русское славянство приходится, безо всякого спора, на XI—XIV столетия. Датами тут могут служить: 1068 год, когда Киевская Русь впервые была разгромлена половцами и наступление на степь, очень заметное при Владимире и Ярославе, сменилось надолго обороной от степи, с одной стороны; с другой — 1382 год, взятие Москвы Тохта- мышем; последний случай, когда новая столица Северо-Восточной Руси побывала в татарских руках, в 1571 году, татарам удалось выжечь московский посад, но против кремлевской артиллерии степная конница оказалась бессильна. На этот промежуток, казалось бы, и должно падать по крайней мере начало московской централизации, по крайней мере начало пресловутого «закрепощения».
Обратимся к Соловьеву. Констатировав, что «северо-восточная европейская украйна, принявшая с половины IX в. название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатами», вот как характеризует он внутреннее состояние этой «украйны» за отмеченный нами период — самый критический период «борьбы со степью»:
«В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенчества. Так бывает и в обществах человеческих: одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские, вследствие слабости не сложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV века представляет беспрерывные усобицы: «Тогда земля сеялась и росла усобицами; в княжих крамолах век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны,
338
III. Историография
деля между собой трупы; часто говорили свою речь галки, сбираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: это мое, а это мое же; и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями; тоска разлилась по русской земле». Русь превратилась в стан воинский: бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно? *
По мнению Соловьева, оно спаслось «нравственными» силами, «ибо материальные были бесспорно на стороне Азии» 46. Не будем об этом спорить; для нас важно то, что сам автор теории, объяснявший возникновение московской государственности потребностями национальной обороны от «степных хищников», должен был признать, что на период, когда эта оборона была особенно нужна, когда стране грозила «конечная гибель» от этих хищников, падает максимум децентрализации, максимум разложения, а не сложения сил. Действие борьбы со степью походит, таким образом, на действие некоторых заражений, малярией например, когда болезнь начинает проявляться лишь долго спустя после момента заражения. Когда-то боролись со степью, это привило микроб «закрепощения», и лет этак через полтораста микроб начал действовать...
Лет через полтораста, ибо «закрепощение», т. е. обязательная военная служба помещиков, падает на середину XVI столетия (между 1550 и 1556 годами; см. «Курс» Ключевского, ч. И, стр. 273—274), Но защитники теории скажут нам: позвольте, однако, ведь на XVI век приходится все-таки целых два крупных набега татар (крымских) на Москву—1521 и 1571 годы. Последний составил эпоху — от 1571 года, от «татарского разорения», вели летосчисление, как впоследствии от 1812 года. Разве этого было недостаточно?
Как раз сравнение с 1812 годом и показывает, что весьма, конечно, недостаточно: до сих пор никто еще не выставил теории, объясняющей милитаризм Николая I уроками 1812 года. Но примем, что татарские набеги XVI столетия действительно могли сыграть роль в «закрепощении», — из затруднения мы все-таки не выйдем.
* С. М. Соловьев. Собрание сочинений, изд. «Общественная польза»,
стр. 794. Из статьи «Древняя Россия» 45.
Борьба классов и русская историческая литература
339
Первый большой набег татар имел место в 1521 году. Имело ли после него место закрепощение? От 1539 года до нас дошла писцовая книга Тверского уезда47, перечисляющая тогдашних тверских землевладельцев. Их всего 572; из них великому князю служили только 230 человек, 126 были на службе у крупных землевладельцев (больше всего у тверского архиерея и у князя Микулинского), а 150 человек не служили никому. Общеобязательной военной службы всех землевладельцев великому князю еще не было.
После 1556 года этД служба была несомненным фактом; но «степная бацилла» и тут дожидалась 35 лет, чтобы начать действовать. И так как набег 1571 года все же хронологически ближе (всего пятнадцать лет против тридцати пяти), то остается предположить, не обладала ли бацилла обратным действием, вызывая болезнь до заражения. Степные хищники так коварны...
Конечно, если вспомнить, что на этот период, 1550—1560 годы, падает расцвет московского империализма XVI в. — в эти годы был захвачен южный конец великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море, началась Ливонская война,—если это вспомнить, пожалуй, не нужно будет никаких предположений более или менее сверхъестественного характера. Но нужна ли тогда будет и гипотеза «борьбы со степью»?
Так дело обстоит с «закрепощением» благородного российского дворянства. Лучше ли обстоит оно с настоящим, уже без всяких кавычек, закрепощением сидевших на земле этого дворянства крестьян?
Для того чтобы связать его с оборонческой теорией, нужно, конечно, чтобы закрепощение было актом той государственной власти, которая руководила этой самой обороной. Естественно, что создавшие нашу теорию историки немало потратили труда и времени на то, чтобы отыскать этот акт. Чем кончились их поиски, лучше всего рассказать словами В. О. Ключевского.
«Первым актом, в котором видят указания на прикрепление крестьян к земле как на общую меру, считают указ 24 ноября 1597 года. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказания об общем прикреплении крестьян в конце XVI века. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убе^- жал от землевладельца не раньше 5 лет до 1 сентября (тогдашнего нового года) 1597 года и землевладелец вчинит иск о нем, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возвратить
340
111. Историография
назад к прежнему землевладельцу, «где кто жил», с семьей и имуществом, «с женой и с детьми и со всеми животы». Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 года, не вчинил о нем иска, такого крестьянина не возвращать и исков и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ, очевидно, говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев «не в срок и без отказу», т. е. не в Юрьев день и без законной явки со стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и возврата беглых временная давность, так сказать обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время. Такая мера, как выяснил смысл указа Сперанский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового в право, а только регулировал судопроизводство о беглых крестьянах. И раньше, даже в XV веке, удельные княжеские правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 году, должно было последовать общее законоположение, лишавшее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним и Беляев основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 года; только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем, и Беляев думал, что если не в 1592 году, то не раньше 1590 года должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 года сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах. Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того ни другого указа, ни 1590, ни 1592 года, потому что ни тот ни другой указ не был издан» *.
«Итак, — заканчивает Ключевский, — законодательство до конца изучаемого периода (т. е. до конца «Смуты».-— М. П.) не устанавливало крепостного права. Крестьян казенных и
* «Курс», II, стр. 385-38648.
Борьба классов и русская историческая литература
341
дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действие круговой поруки. Крестьян владельческих оно ни прикрепляло к земле, ни лишало права выхода, т. е. не прикрепляло прямо и безусловно к самим владельцам» 49.
Мы не выписываем промежуточных страниц, где Ключевский очень тонко и обстоятельно развивает свою известную теорию об обязательствах крестьянина к помещику, как возникших на почве исключительно гражданских правоотношений, безо всякого вмешательства государства. Что теория эта бьет в лицо развиваемую тем же Ключевским в других лекциях теорию закрепощения, едва ли нужно на этот счет распространяться; историк, т. е. бессознательный марксист, взял здесь у Ключевского верх над буржуазным публицистом. И, как всегда бывает с новой и свежей мыслью, ею стараются объяснить слишком много. Нет сомнения, что прямое вмешательство государства даже и в XVI веке было значительнее, чем изображает Ключевский. Классовое землевладельческое правительство (с 1565 года отражавшее интересы не только крупнофеодальной верхушки, а всей помещичьей массы) не могло же в борьбе крестьянина и помещика соблюдать нейтралитет. Для XVII века этого прямого вмешательства не отрицает и сам Ключевский. Но характерно тут то, что, чем дальше от «борьбы со степью», тем это вмешательство смелее и бесцеремоннее. Первые указы, не мифические, а вполне реальные, о крестьянской крепости появляются на фоне помещичьей реакции после «Смзгты», начиная с чрезвычайно характерного указа Шуйского (7 марта 1607 года), закрепившего результаты разгрома болотниковского восстания: поражение крестьянской рати под Котлами и обратное взятие царскими войсками Коломенского имели место за три месяца до указа; в момент его издания правительство боярско-купеческой реакции всюду уже перешло в наступление, между прочим и на фронте крестьянской политики. «Борьба со степью» была бы в приложении к этому моменту чистой иронией, поскольку пришедшие с границ степи казаки представляли собой наиболее боеспособную часть болотниковского ополчения.
А когда степь совсем скрылась за горизонтом русской внешней политики, прочно заменившись финскими болотами, указ Петра 1723 года совершенно незаметно, мимоходом смешал крестьян в одну кучу с холопами. И, как нарочно, максимума своего географического распространения крепостное право
342
111. Историография
достигло именно в год завоевания русскими Крыма, как бы для того, чтобы окончательно обелить «борьбу со степью» от обвинения в содействии гибели крестьянской свободы. В 1783 году, когда Екатерина распространила крепостное право на Украину, вести борьбу было не с кем: в последнем гнезде «степных хищников» господствовали русские штыки. Но связь между их появлением в Крыму и распространением крестьянской крепости на всю площадь русского чернозема, конечно, была: Черное море теперь открылось для русской пшеницы и черноземному помещику, как никогда, нужны были рабочие руки.
Таким образом, теорию «закрепощения» с удобством можно разрушить руками ее создателей.
IV
В прошлый раз, товарищи, я дал вам характеристику главных течений русской исторической мысли, поскольку они отражали собой известные классовые интересы. Я сказал, что последняя из охарактеризованных мной концепций, способов понимания русского исторического процесса является до некоторой степени синтезом: она объединяет собой целый ряд предшествующих концепций. Именно в этом синтезированном виде все эти концепции — и чичеринская с ее закрепощением и раскрепощением, и соловьевская с борьбой со степью, и щаповская с влиянием географических условий, именно в этом синтезированном виде эти концепции, сгущенные в виде экстракта, получили широкую популярность в русской интеллигенции под именем «Схемы русской истории» Ключевского. Нисколько не уменьшает достоинства Ключевского то, что все эти элементы понимания русского исторического процесса взяты у его предшественников — и в марксизме есть элементы, перешедшие к нам от предшествующих поколений: материализм — от французских материалистов XVIII века, а диалектика — от Гегеля и т. д. Разница только в том, что из всего этого у нас получилось химическое соединение, т. е. нечто совершенно новое. Химическое соединение тем и отличается от элементов, входящих в его состав, что не похоже ни на один из этих элементов — марксизм есть нечто совершенно самостоятельное.
У Ключевского мы имеем механическую смесь этих трех элементов, благодаря чему перед читателем, более или менее вдумчивым, схема Ключевского ставит целый ряд недоуменных вопросов. Поскольку у Ключевского выдвигается личность, является вопрос: как связать личность с географическими уело-
Борьба классов и русская историческая литература
343
виями? Он не дает даже прямого ответа на то, как связать с географическими условиями общество или государство. Таким образом, у Ключевского мы имеем не такой синтез, каким был марксистский, но тем не менее это нечто объединенное. И вот тот факт, что мы в конце развития имеем обобщающую схему, дает ответ на вопрос, который вы мне задали в прошлый раз: «А как нам быть с теми книжками, к которым вы не даете ключа в ваших лекциях?»
Ключевский наложил отпечаток на всю новейшую историографию, вы везде встретите осколки его влияния. Имея ключ к шифру Ключевского, вы имеете ключ ко всей русской историографии, и к Платонову, и к Милюкову, и ваше дело им воспользоваться применительно к зашифрованному тексту. Так что для большей части русской исторической литературы Ключевский дает великолепную исходную точку зрения. Только две группы историков остаются вне нее: одну группу можно назвать юридической, а другую — федералистской.
Позвольте сказать два слова относительно этих двух групп. Легче всего расшифровать юридическую группу, которая начинается с Неволина и кончается недавно умершим академиком Дьяконовым. Эта юридическая школа легче всего расшифровывается, поскольку у нее никакой исторической концепции нет и быть не может. Все эти юристы, одни более, другие менее, стоят на той точке зрения, что юридические нормы — правовые категории — есть нечто вечное, оно изменению не подлежит; и когда юрист приступает к истории, для него вся задача заключается в том, чтобы отыскать применение этих норм.
Наиболее выразительным представителем этой категории является Сергеевич, оставивший очень полезную книжку «Русские юридические древности» 50. Полезна эта книжка тем, что в ней имеется масса цитат из подлинных документов; она может быть вам полезна в качестве хрестоматии.
Точка зрения Сергеевича очень проста: ои был непримиримым врагом Ключевского, издевался над ним, потому что Ключевский был бессознательным диалектиком. В вопросе о происхождении крепостного права, вы помните, Ключевский очень тонко и красиво прослеживает, как из частных договоров крестьян с помещиками в XVI веке постепенно складывалась в XVII веке крестьянская крепость, крестьянская неволя. Сергеевич издевается над этим. Договор есть договор, кто бы его ни заключал — египетский фараон 5 тысяч лет назад или теперешние помещики, — никакой крепости из него получиться не
344
Ш. Историография
может. Разве в результате заключения контракта на квартиру с домовладельцем для ваших потомков может получиться крепостное право? Сергеевич смеется над этим. Для него нет другого объяснения возникновения крепостного права, как закрепощение сверху. Были свободные люди, а получилось крепостное право. Как это вышло? Очень просто — пришел указ сверху. Вы видите, что отсутствие собственной концепции приводит Сергеевича к тому, что он принимает кусок чужой концепции — концепции Чичерина, которой он в сущности не разделяет.
Так называемые объективные историки, которые всячески отгораживаются от высказывания своих взглядов, невольно повторяют чужие взгляды; нельзя одной памятью брать факты — их надо объяснять.
И у Дьяконова факты группируются по известным юридическим категориям, которым он верит. Он тщательно воздерживается от всякого рода обобщений, но в конце концов у него получается схема, похожая на схему Ключевского51.
Таким образом, по отношению к юристам можно сказать, что у них собран очень ценный фактический материал, которым нужно пользоваться, а расшифровывать тут ничего не нужно, ибо у вас определенный подход к юридическим нормам должен быть. Юридическая норма есть идеологическое отражение данного буржуазного хозяйства — это самая простая расшифровка.
Что касается федералистов мелкобуржуазного ответвления, которые представлены в исторической литературе Костомаровым и Грушевским, у них не может быть концепции русского исторического процесса, потому что вся суть их деятельности заключается в разрушении понятия единого русского исторического процесса. Вы знаете, что мелкая буржуазия в борьбе с надвигающимся на нее капиталом — в тех случаях, когда этот капитал чужой, т. е. приносится людьми другого языка, — свою оборону против надвигающегося капитализма облекает в форму национальной самозащиты. Мелкобуржуазный национализм есть по существу оборона против капиталистического гнета, идущего из центра. В особенности ясно это в наше время, когда в окружающих нас странах господствует империализм. В Индии, Египте, Китае это выражается в особенно отчетливой форме. Поэтому национализм является известной формой мелкобуржуазной обороны против капитализма.
Костомаров, украинец (бывший раньше членом левого тайного украинского общества) 52, мечтавший о самостоятельности Украины, борется с концепцией в сущности Карамзина, где
Борьба классов и русская историческая литература
345
вся суть русской истории заключается в образовании громадной империи. Для него это вовсе не суть. Для него суть в тех местных национальных движениях, которые были оппозицией против этого объединения; он берет, например, новгородскую общину и драматически изображает ее борьбу с Москвой. Он берет Смутное время, когда верхушка государства на время развалилась и на сцену выступают местные «миры»; в особенности он, конечно, интересуется историей Украины53. С ее историей мы знакомимся, главным образом по Костомарову, тем легче, что он — превосходный рассказчик, один из самых художественных наших историков. Из его теоретических, не чисто описательных работ (в описании он особенно силен, надо сказать) лучшая посвящена происхождению московского единодержавия — гвоздю карамзинской схемы. Костомаров весьма остроумно изображает этот факт как одно из отражений татарщины. Связь московских князей с ордой, которую они ловко использовали в борьбе со своими тверскими, нижегородскими и другими конкурентами, — несомненный факт. Но конечно, объяснять этим возвышение Москвы значило бы вводить юридическую теорию с другого конца.
Суть дела не в том, от чьего имени, по чьему полномочию действовали московские князья, суть дела в тех экономических силах, которые выдвигали Москву, а на это Костомаров ответа не дает.
Костомаров *— талантливый рассказчик, а Грушевский в своих первых томах, посвященных Киевской Руси, является наиболее свежим и наиболее европейским исследователем; поэтому я рекомендую вам I том Грушевского как справочник для получения известных сведений о Киевской Руси54. Он опирается на новейшие археологические и лингвистические данные, но концепции никакой дать не может по самой сути дела, и противопоставлять их обоих Ключевскому не приходится.
Теперь, товарищи, я перехожу к заключительной части своего курса —• к характеристике тех отражений изложенных мной буржуазных теорий, которые имели место в нашей марксистской литературе. Присутствующие, вероятно, ждут от меня изложения в этом пункте моих разногласий с Троцким, но от этого я уклонюсь: Троцкий никакой книги, посвященной специально общей концепции русской истории, пока не дал. Его маленькое введение к «1905» издано для западноевропейских читателей его книжки, к которым он обращался, чтобы дать
346
III. Историография
им элементарное понятие о русском историческом процессе *. В первых двух главах он объясняет, откуда пришла революция. Мне казалось и продолжает казаться, что для русских читателей эти главы лишние, но Троцкий держится иного мнения; во всяком случае это не есть попытка самостоятельно перегруппировать материал. У Троцкого были две книжки: «Курс» Ключевского и «Очерк» Милюкова55. Но Ключевского я разбирал, а Милюкова не стоит, ибо общая схема его есть повторение схемы Ключевского. Разбирая Троцкого, мне пришлось бы разбирать тех авторов, ключ к которым у вас уже имеется. Поэтому я предпочитаю заняться двумя другими марксистами, которые пытались самостоятельно пересмотреть сырой материал и на его основе дать свою концепцию русской истории.
Те два автора, о которых мне придется говорить, — покойный Г. В. Плеханов и доныне здравствующий Н. А. Рожков — оба не избежали большого влияния предшествующей историографии.
Плеханов закончил свою литературную карьеру большим трудом по русской истории; вышли три тома его «Истории русской общественной мысли». Эта книжка очень полезная, поскольку в ней изложено содержание целого ряда памятников русской литературы, которые в подлиннике к вам в руки не попадут. Например, напомню изложение Пересветова или Кри- жанича; эти главы полезны даже для лектора.
Я не буду касаться ни ошибок, ни положительных сторон Плеханова в тех его главах, где он излагает отдельные произведения русской общественной мысли, а возьму общую концепцию, общее понимание исторического процесса. Есть ли историческая концепция основоположника русского марксизма действительно марксистская?
Вот какую форму исторического процесса давал Плеханов в те дни, когда он, безо всякого спора, был выразителем пролетарской идеологии, — в 90-х годах прошлого столетия. «Всякая данная ступень развития производительных сил, — читаем мы в его тогдашней основной методологической работе, — необходимо ведет за собой определенную группировку людей в общественном производительном процессе, т. е. определенные от-
* Утверждение Троцкого о самодовлеющем характере русского самодержавия, якобы возникшего для защиты отечества от нападений извне и стоявшего над обществом, заимствовано им в буржуазной историографии; оно легло в обоснование троцкистского понимания революции в России и было использовано врагами ленинизма для борьбы против марксистско-ленинской концепции революции в России. — Ред.
Борьба классов и русская историческая литература
347
ношения производства, т. е. определенную структуру всего общества. А раз дана структура общества, нетрудно понять, что ее характер отразится вообще на всей психологии людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. Привычки, нравы, взгляды, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, их способу добывания себе пропитания (по выражению Пешеля). Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею. Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самым характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к условиям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма» 56.
Здесь дан совершенно отчетливый ответ на вопрос, как движется исторический процесс в пределах развития производительных сил. Оставалось ответить на дополнительный вопрос: что толкает вперед развитие этих последних? Плеханов и на это в 90-х годах давал ясный и точный ответ.
«Первоначальный толчок для развития общественных производительных сил дает сама природа, их рост в значительной степени определяется свойствами географической среды. Но отношение человека к географической среде не неизменно; чем больше растут его производительные силы, тем быстрее изменяется отношение общественного человека к природе, тем быстрее подчиняет он ее своей власти. С другой стороны, чем больше развиваются производительные силы, тем скорее и легче совершается их дальнейшее движение: производительные силы в современной Англии растут несравненно быстрее, чем росли они, например, в Древней Греции. Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются, пример: рабство, которое перестало существовать, когда пришло в противоречие с производительными силами общества, т. е., говоря проще, когда стало невыгодным. Само
348
111. Историография
собой понятно, что это устранение отживших учреждений и отношений вовсе не происходит само собой, — нелепая мысль, которую часто приписывают диалектическим материалистам их противники. Даром ничто никому не дается, — эту старую истину прекрасно знают материалисты-диалектики» *,
Короче, в виде очень сжатой схемы Плеханов повторил еще эту формулировку в 1908 году в «Основных вопросах марксизма».
«Если бы мы захотели кратко выразить взгляд Маркса — Энгельса на отношение знаменитого теперь «основания» к не менее знаменитой «надстройке», то у нас получилось бы вот что:
1. Состояние производительных сил.
2. Обусловленные им экономические отношения.
3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической «основе».
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общественного человека.
5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики» 58.
Тут, конечно, есть кое-что новое, и это новое, без сомнения замеченное уже читателем, заключается в несомненной попытке сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил, отодвинуть его подальше от них. Но и отделенная более или менее толстой прослойкой «основа» все же остается на своем месте (хотя зачем-то и попадает в кавычки). Формулировка «Основных вопросов» все же еще приемлема для всякого марксиста. -
И вот автор всех этих формулировок принимается за изображение конкретного исторического процесса общественного развития определенной страны, России. Как должен был он поступать?
Прежде всего, конечно, выяснить условия географической среды. Показать, как отразилась она на развитии производительных сил. Показать далее, какие на основе последних возникали группировки людей, классовые отношения. Выяснить, как эти отношения отразились на политической надстройке, которую, впрочем, автор «Монистического взгляда на историю» правильно не находил нужным
* «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изд.
1919 г., стр. 140—141 и 273б7.
Борьба классов и русская историческая литература
349
выделять из «структуры всего общества»: государство действительно лишь самый верхний этаж этой структуры. Наконец, из этой структуры вывести «психику общественного человека», показать, как в данных условиях развития производительных сил развивалась в России «общественная мысль».
Подойти к географической среде русской истории было сравнительно нетрудно. Огромный и при всей хаотичности правильно с точки зрения материалистического объяснения истории ориентированный материал собрал уже Щапов в 1860—1870 годах. Синтезировавший все предшествующее развитие, включая и Щапова, Ключевский посвятил вопросу две лекции своего курса — из лучших в I части. Во всем этом не хватало диалектики: географические условия изображались как равные себе на всем протяжении процесса; того изменения в отношениях человека и среды, которое подчеркивает Плеханов, не замечалось. Кому, казалось бы, внести в этот уже подобранный материал диалектическую точку зрения, как не основоположнику диалектического материализма в России?
В действительности, как это ни удивительно, Плеханов проходит мимо всей этой группы ценнейших для него фактов. Как отправную точку историко-географического анализа Плеханов берет одно из общих мест автора, писавшего ранее и Ключевского, и даже Щапова, одно из общих мест Соловьева, который, обосновывая историческую неизбежность для России быть единым централистическим государством (мы — в 50-х годах, не забудем этого!), выдвигал на первый план «однообразие природных форм», «исключавших областные привязанности» 59.
В одном месте своего четырехтомника я попрекнул как-то Соловьева «школярством» (по поводу его объяснения петровской эпохи). Это стяжало мне исключительную честь быть названным на страницах «Истории русской общественной мысли» (вообще избегающей упоминать о марксистах, писавших по русской истории). Плеханов длинно и нудно по своей обычной манере последних лет поучает своего читателя, какой я невежливый и невежественный человек, что решаюсь о Соловьеве (подумайте!) употреблять столь непочтительные термины. Мое уважение к Соловьеву, одному из умнейших и, без всякого сравнения, образованнейшему русскому историку XIX столетия, не меньше плехановского. Но на «школярстве» я все- таки продолжаю настаивать. Виноват в нем не Соловьев, а качество его аудитории. Как все профессорские произведения, исторические писания Соловьева выросли из его лекций.
350
III. Историография
А эти лекции читались публике, по своему развитию стоявшей не выше теперешних школьников второй ступени (очень извиняюсь перед последними). С этой публикой приходилось говорить наиболее простым и общедоступным языком, начинать с самых элементарных обобщений. Соловьеву нужно было доказать, что централизованная империя Николая I (да, вот давно как это было!) есть осуществление той идеальной цели, к которой стремилась российская история «с древнейших времен». Для сидевших перед ним, фактически гимназистов, еще не решивших окончательно, какой мундир лучше, студенческий или гусарский *, «однообразие природных форм» было, конечно, аргументом силы потрясающей. Для нас — это фраза из гимназического учебника 50-х годов XIX века.
Но посмотрите, как носится с этой фразой Плеханов («История русской общественной мысли», I, стр. 32 и сл.). Как обстоятельно и учено, с цитатами из Маркса, с параллелями из биологии пытается он еще более разжевать своему читателю «ценную мысль», которая без всякого разжевывания была понятна дворянским гимназистам времен Крымской войны. Общие места Соловьева «до сих пор», видите ли, «слишком мало принимались в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса» 60.
Между тем если даже на минуту отнестись серьезно к обобщению Соловьева и признать.за ним не только педагогический, но и некоторый научный смысл, то оно фактически верно лишь для Российской империи начала царствования Екатерины II, для середины XVIII столетия. Только оставаясь в пределах этого периода, когда еще не вошли в сельскохозяйственную эксплуатацию южнорусские степи, и, принимая Россию за чисто земледельческую страну, можно говорить об «однообразии природных форм». Уже для конца царствования Екатерины, 1790-х годов, утверждение было бы устарелым: распашка «новороссийского» чернозема создала два типа земледельческого хозяйства, типа, разница которых была настолько глубока, что ею обосновалось подклассовое деление класса русских землевладельцев, деление, легшее в основу конфликтов, связанных с «крестьянской реформой». «Освобождение крестьян» выглядело бы иначе и не так нуждалось бы в кавычках, если бы у нас существовал только один тип нечернозем-
* Такой анекдот был не более и не менее как с Лермонтовым.
Не смейтесь!
Борьба классов и русская историческая литература
351
ного помещика — дворянина-манчестерца и не было другого типа — черноземного, степного помещика-плантатора. Если же мы возьмем промышленный период русского развития, XIX век, то нам придется привлечь к делу и криворожскую руду, и донецкий уголь, и бакинскую нефть, и туркестанский хлопок и мы наткнемся на такое разнообразие природных условий, которое побьет все европейские рекорды и найдет себе соперника только в Америке, в Соединенных штатах. Для Соловьева в 50-х годах это было будущее, и как историк он не обязан был с ним считаться, но для Плеханова, выпустившего свою книгу в 1914 году, это было уже прошлое, игнорировать его значило отказаться от объяснения ближайшей к нам и самой интересной для марксиста части русского исторического процесса.
Итак, что дало исходный толчок развитию производительных сил на русской равнине, остается невыясненным; мы узнаем в сущности, лишь в чем заключался географический фундамент российского «единодержавия» по мнению русских историков конца царствования Николая I. Проще говоря, приступая к изучению «Истории русской общественной мысли», читатель Плеханова — ежели он только не прочел раньше хотя бы Ключевского — о «географической среде» ничего не узнает. Зато он узнает хоть, как развивались самые-то производительные силы? Увы, и этого нет. Он убедится только лишний раз, что Плеханов ценил историков как доброе вино — чем старше, тем лучше.
Пленившись одним обобщением I тома соловьевской «Истории России с древнейших времен» (напомним еще раз, что этот том вышел в начале 50-х годов), Плеханов приводится в еще больший восторг другим обобщением — все того же типа. «Великая равнина, — продолжает он выписывать Соловьева, — открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно со степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главнейших явлений будет постоянная борьба со степными варварами» 61.
Глубина этого обобщения не больше, чем предыдущего. Его связь с практическими задачами русской политики времен Соловьева и его фактическая несостоятельность мной подробно
352
111. Историография
разобраны в другом месте *, и я позволю себе здесь к этому не возвращаться. Здесь для нас неважно, что оно еще раз и уже окончательно сбивает Плеханова с той дороги, которую он сам считал единственно правильной.
«Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России?» — спрашивает Плеханов, и вы чувствуете трепет человека, который наконец нашел ключ к давно мучившей его загадке. «С. М. Соловьев, — продолжает Плеханов, — делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежит к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: «Татары (после покорения Руси. — Г. П.) остались жить вдалеке, заботились, только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было». Но другие кочевые народы, предшествовавшие татарам в своих столкновениях с русскими племенами, еще меньше татар «вмешивались во внутренние отношения». Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти кочевники еще более, чем татары, «оставляли все, как было». А если это так, то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя «все, как было», кочевники своим влиянием замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. «Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь, — говорит он, — они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византиею. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников; варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та сообщалась с образованной Европой». Но если это так, то очевидно, что и кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю прежде всего и, может быть, главным образом тем, что замедлили наше экономическое развитие. К сожалению, С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса»... «Кочевники «только» опустошили Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли все, как было. Но если опустошения задерживали внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому разви¬
* См. выше лекцию III.
Борьба классов и русская историческая литература
353
тию новое направление, бо^ее или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно, разница в быстроте развития есть лишь количественная разница. Но, постепенно накопляясь, количественные различия переходят наконец в качественные. Кто знает? Может быть, опустошая Русь и, стало быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе...» 62
Попав на эту зарубку, Плеханов так и не сходит с нее уже до конца. О развитии производительных сил России читатель от него ничего не узнает, если не считать беглых, попутных замечаний по поводу «поистине замечательного труда» В. А. Келтуялы («Курса истории русской литературы») 63 на стр. 37—4564 I тома «Истории общественной мысли». Начавшись довольно правильными соображениями насчет относительного значения лесных промыслов и земледелия в древнерусском хозяйстве и кончаясь весьма сомнительного достоинства рассуждениями о превосходстве меча над саблей или сабли над мечом, Плеханов оставляет вопрос открытым — никакого влияния на ход исторического процесса различных военно-хозяйственных фактов эти замечания не устанавливают. Характерно только явное скольжение от экономического момента (земледелие — лесные промыслы — скотоводство) к военно-техническому (сабля — меч); тенденция подальше от экономики, поближе к политике чувствуется все опеределеннее. Скоро она окончательно берет верх. Нимало не смущаясь фактом, что «производительные силы» по-прежнему для него и его читателя остаются иксом, Плеханов все свое внимание сосредоточивает на вопросах: какие политические причины задерживали развитие этого икса и какие политические последствия эта задержка имела?
Он явно досадует, что Соловьев не сумел извлечь из своего нового общего места — пресловутой «борьбы со степью» — всех возможных логических последствий. («С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени» 65. На самом деле это неверно. Плеханов считался только с «Историей» и упустил из виду последнюю предсмертную статью Соловьева, цитированную нами выше, где все строится на борьбе «леса» и «степи».) И он спешит этот пробел пополнить. У него-то уже ничто не увильнет
12 М. Н. Покровский, кн. 4
354
111. Историография
от этого «классического» объяснения — ни классовый состав русского, общества, ни его, этого общества, политическое воз- глав л ение!
Почему Россия больше похожа на Азию, чем на Европу? Ключевский в своем географическом обзоре приводит ряд остроумных сближений, показывающих, как русская равнина в целом ряде отношений (пропорция моря и суши, устройство поверхности ит. д.) ближе к своим соседкам на восток, равнинам Северной и Средней Азии, нежели к Западной Европе. От Вислы и Карпат до Великого океана мы имеем в сущности один географический комплекс. Не следует преувеличивать историческое влияние этого сходства, но что однообразие, например, водных речных путей, так привычных русскому, очень облегчало быстрое продвижение на восток наших сибирских конквистадоров, а следом за ними и быструю колонизацию Сибири, — это не подлежит сомнению; как и то, что, будь вместо равнины в этом направлении хороший горный хребет вроде Кавказского, и завоевание, и колонизация наткнулись бы на затруднения для XVII века неодолимые, — о завоевании Кавказа и обрусении Закавказья до XIX в. русскому империализму не приходилось и думать. В Сибири же не приходилось над этим задумываться.' В сближениях Ключевского есть несомненный смысл для историка-материалиста. Но Плеханова это мало интересует. Для него «азиатизм» России, которому он придает даже преувеличенное значение, имеет совсем другой источник. Он берет не географическую характеристику Ключевского, а другое место «Курса», где тот объясняет не сходство России и Азии, а основные мотивы русских былин, «углубляет» мысль московского историка и получает то, что требовалось.
«Борьба со степным кочевником, половчином, злым татарином, длившаяся с VIII почти до конца XVII в., — говорит проф. Ключевский, — самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно, глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни». Это справедливо, может быть, более, чем предполагал сам проф. Ключевский. Даже те «европейские недочеты», которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономичен ского развития России».
Борьба классов и русская историческая литература
355
Хотите ли вы знать, почему у нас не сложилось могущественной феодальной аристократии, подобной Западу или хотя бы Польше? Ларчик открывается просто. «Мы уже знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней, за исключением Волыни и Галиции, влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и в случае надобности поддержать их силой. Те условия, в которых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти «европейские недочеты в русской исторической жизни» и тем содействовали постоянному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий».
И уже легче легкого из той же универсальной причины вывести московское самодержавие. Тут даже можешь сослаться на Энгельса. «Чтобы обезопасить себя от внешних нападений, — например от набегов тех же кочевников, которые и на северо-востоке не оставляли в покое русского земледельца66, — обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое «собирание Руси» великими московскими князьями могло идти так успешно только потому, что «собирательная» политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же самое время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой их же нуждами и их же сочувствием укреплявшейся центральной власти: крошечная деревенька в два-три двора могла оказать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту; напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с «воровством» непокорных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин этого явления лежит в условиях
12*
356
Ш. Историография
натурального хозяйства, исключающих экономическое разделение труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу именно в силу полного тождества их экономического и общественного положения» *.
А чтобы читатель от этой мысли Энгельса не впал, чего доброго, в «экономический» материализм, в примечании назидательно напоминается: «К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось, между прочим, в следующем: «Со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ее обитателей» («Промышленность Древней Руси» Н. Аристова, СПб., 1866, стр. 49)»68.
Это ли не мастерство — сочинение специально по экономической истории России использовать для того, чтобы лишний раз отгородиться от экономики и восстановить «чистую политику» в ее неотъемлемых правах!
Ибо основная задача Плеханова в том и состояла, чтобы поставить незаслуженно возвеличивавшуюся им в 90-х годах; экономику «на свое место». Наивно было бы думать, что этот тонкий наблюдатель не замечал банальности и поверхностности обобщений Соловьева, которыми он восхищается. Соловьев был нужен Плеханову, чтобы помощью солидного авторитета обосновать собственную мысль: в России экономика давала лишь самый сырой, первичный материал в образе «натуральнохозяйственных отношений». Все формы лепила из этого сырого теста политика, — та политика, самодовлеющего значения которой упорно не хотели понимать большевики, выдвигавшие на первое место национализацию земли, диктатуру пролетариата и крестьянства и тому подобные русской серости совсем неприличные вещи. Надо было показать, что в формально-политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, вся суть дела; что прав был Плеханов и кадеты, когда они советовали сначала обеспечить себе эту формально-политическую сторону, завоевать хорошую конституцию, а потом уже разговаривать и о захвате власти. Действовать наоборот значило идти против течения всего русского исторического потока; и надо было это показать невежественным людям. Формально-
* Плеханов. История русской общественной мысли, т. I, стр. 52,
55, 74 и 7567*
Борьба классов и русская историческая литература
357
политический момент, воплощенный в созданной потребностями национальной обороны государственной власти, сотворил Россию со всем ее общественным строем, а они этот момент игнорируют.
И вот, со ступеньки на ступеньку, мы у знаменитой теории закрепощения. «Значительно отставая от своих западных соседей в хозяйственном отношении, Московская Русь XVII в. вела с ними продолжительные войны. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты. В стране, продолжавшей оставаться колонизующейся страной, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению всех слоев населения, а в особенности трудящейся массы для непосредственной или посредственной службы государству... Общественно-политический быт русского государства представлял собою как бы двухъярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству... При сопоставлении этой особенности с тою, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западноевропейских стран, у нас получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший, земледельческий, но и высший, служилый класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны, — тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население» *.
Теории этой пишущий настоящие строки отдал достаточно внимания в своей статье «Откуда взялась теория внеклассового происхождения русского самодержавия» 70 и в предыдущих лекциях. Повторять детально развитую там аргументацию не имеет смысла; напомню только, что родоначальником теории является Б. Н. Чичерин, идеологический предок позднейшего «Союза 17 октября», и что сложилась она в эпоху «освобождения крестьян», когда Чичерину даже Герцен казался ярко- красным якобинцем. В названной статье выяснены и причины долговечности схемы, понадобившейся первоначально, собственно, русскому помещичьему центру перед 19 февраля. Классовое происхождение схемы вне сомнения, и усвоение ее Плехановым
* Там же, т. I, стр. 203—204, 107, 866Э.
358
III. Историография
служит лучшей иллюстрацией того, к чему приводит уклонение от принципов исторического материализма, когда-то так красноречиво развитых тем же Плехановым.
С первого взгляда может показаться, что Плеханов просто усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса и что он никакой более или менее оригинальной «группировки людей» не представляет. Дело, однако, не так просто. Буржуазная схема понадобилась ему не сама по себе, а как средство для обоснования некоторой, опять-таки своей, мысли. Эту свою мысль он формулировал так на стр. 110: «Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существующего у нас политического порядка, а напротив, чрезвычайно упрочивала его» 71.
Для того чтобы иллюстрировать это на одном примере, который является типичным для характеристики классовой борьбы в Древней Руси, лучше всего взять отношение Плеханова к казачеству. Казачество — это тот элемент русского крестьянства и мелкого городского населения, который эмигрировал за рубеж, но периодически пытался вернуться в то общество, которое вытеснило его из себя, и преобразовать это общество по-своему — особенно характерно это у Разина, но это встречается и у Пугачева, — подчинить общество своему казацкому влиянию. Но когда мы имеем дело с казаками, то трудно стать на точку зрения сотрудничества классов: «Коготок увяз — всей птичке пропасть». В вопросе о казаках Плеханов усваивает идеологию уже и не Соловьева, а прямо и непосредственно Чичерина. Чичерин был непримиримым врагом казачества исторически. Для характеристики явлений, несимпатичных ему в нашей литературе 60-х годов, он постоянно пользовался этим термином: «Чернышевский — представитель умственного и литературного казачества». Хуже этого он ничего не мог сказать: казаки — прирожденные анархисты. Вот что говорит Плеханов:
«Прав Соловьев и в том, что казаки были для Русского государства подчас опаснее самих кочевых орд. Однако этими указаниями еще не исчерпывается вопрос о роли казацких удальцов в истории русского общественного развития. А так как он сильно интересовал когда-то наших народников, то нам приходится досказать то, чего не досказал покойный историк».
Борьба классов и русская историческая литература
359
«Предприимчивые, подвижные, по необходимости воинственные казаки временами переходили в наступление, и тогда они действительно становились для Москвы опаснее, чем «кочевые орды», которые, впрочем, нередко выступали их союзниками в борьбе с нею. Они много причинили ей хлопот в Смутное время, хорошо «тряхнули» ею в царствование Алексея Михайловича (Ст. Разин), а потом не на шутку перепугали и Петербург в царствование Екатерины II (Е. Пугачев)».
«Протест казаков был исторически бесплоден, и в конце концов они превратились в орудие угнетения той самой народной массы, из которой они когда-то вышли и которая величала их «добрыми молодцами», любуясь их удалыми подвигами как выражением своего собственного протеста... Проф. С. Ф. Платонов нашел интересную отметку о донских казаках от 22 декабря 1613 г., т. е. от того времени, когда, несмотря на избрание Михаила Федоровича, смута далеко еще не была окончена. Отметка гласит, что «они-де во всем царскому величеству послушны и на всяких государевых недругов стоять готовы». Конечно, отметка слишком сгущала краски. Донские удальцы еще не один раз сами превращались потом в «государевых недругов». Но, как сказано, их общественный протест вышел исторически бесплодным. А их служба государству в конце концов сделала их одним из удобнейших орудий борьбы реакции с истинно Освободительным движением народа. Так что в последнем счете история вполне оправдала отметку».
Казаки были такой же ордой в глазах Плеханова, как татары и половцы. Итак, открытая борьба классов, поскольку она и проявлялась в русской истории, дала только чисто отрицательные результаты. Этот единственный случай — случай явно ненормальный. Как норма, открытая борьба классов не характерна для русской истории. Потребности государственной обороны притушили эту борьбу и во всяком случае отодвинули ее на второе место. Оттого и «промежуточные» и «внеклассовые» партии вроде кадетов могут у нас играть совсем иную роль, чем на Западе. И не только «так было», но и «так будет»: потребности обороны всегда будут сглаживать классовые противоречия. «Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития и взаимными
360
111. Историография
отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть объяснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса» *.
«Относительное своеобразие русского исторического процесса» заранее обосновало оборончество группы «Единство». Мы видим, до какой степени близоруко было бы причислить Плеханова к сонму тех социал-демократов, которых неожиданный сюрприз войны загнал в лагерь «защитников отечества». Первый том его «Истории» уже вышел из печати, когда еще, кажется, и Фердинанд Австрийский был жив и когда говорить о надвигающейся войне считалось для доброго марксиста безусловно неприличным: стыдно помогать рекламе пушечных заводчиков. Не испуг, а теория загнала Плеханова к оборонцам, теория, отражавшая интересы отнюдь не класса предпринимателей (которые в России и оборонцами стали далеко не сразу), а их образованных слуг, того слоя, который можно назвать технической интеллигенцией.
Этот слой уже успел создать на Руси свою идеологию. То была идеология «легального марксизма», не отрицавшего влияния бытия на сознание, но отрицавшего классовую борьбу и воспевавшего в лице Струве внеклассовое государство. Этот марксизм без революции был вполне приемлем и для левого крыла кадетов, многие из которых в теории мало отличались от правых меньшевиков.
Этому слою нужна была не только своя «внеклассовая» власть, но и своя «философия русской истории» — не революционная, ибо он смутно предчувствовал свою судьбу в дни массового революционного движения (уже в декабре 1905 года его принудительно заставляли питаться черным хлебом), но все же почти материалистическая, с классами, но без борьбы классов, по возможности. Во внешней политике этот слой был большим патриотом, нежели предприниматели, ибо он представлял интересы русского капитализма в целом, русского капитализма, как такового, а рядовой предприниматель представлял интересы только своего собственного капитала. «Оборона страны» для него была менее звуком, чем для «толстосума» (с толстой сумой везде хорошо!), и он громче и искреннее кричал «ура», чем кто бы то ни было, когда Германия на нас «напала» в 1914 году.
Этому слою нужен был свой идеолог — и он нашел его в лице Плеханова после 1905 года. Последний же просто под¬
* «История русской общественной мь^сли», т.. I, стр. И72.
Борьба классов и русская историческая литература
361
дался влиянию буржуазных книжек. Буржуазные книжки были ему нужны для обоснования его собственных мыслей, но обосно- вывал-то он теперь не наступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени.
Что представляет из себя Рожков? Я опять-таки не буду касаться отдельных взглядов Рожкова на отдельные явления русской истории, а постараюсь заняться его общей концепцией и дать общую характеристику. Как он себе представляет развитие общества?
«Представляя себе, таким образом, развитие общества как единый и цельный процесс, развертывающийся с закономерной необходимостью из хозяйственных условий, дальнейшее звено этой цепи мы видим в социальных отношениях, причем в сфере этих последних первенствующее место принадлежит классовому строю. Естественным продолжением этого является политический строй, выражающий интересы господствующих классов, и духовная культура, в которой объединяющим элементом служит психический тип. Как классовые отношения с необходимой и постоянной последовательностью вытекают из хозяйственных условий и в соответствии с эволюцией последних сами развиваются, не являются неподвижными, так и государственный строй подчинен классовой эволюции и психология общества есть всегда в сущности психология его отдельных классов, и опять-таки не неподвижная, а последовательно, закономерно развивающаяся. Психология каждого класса в данный момент отличается от психологии других классов, отличается73 и от психологии того же класса в другое время. И все эти различия, проявляясь в истории духовной культуры разных народов, находят себе яркое выражение в смене психических типов» 74.
Все как будто бы благополучно — концепция почти как у Плеханова, но есть одна маленькая черточка, очень характерная. Вы помните, что Плеханов в своей первоначальной, «классической» можно сказать, постановке социальный и политический строй объединяет в одну категорию, исходя из положения Маркса, что правительство есть исполнительный орган господствующего класса. Рожков это разъединяет. Для него политический строй выражает интересы господствующих классов, но это не есть организация этих классов. Это выделение политического строя на особую ступень хотя и кажется мелочным,
362
III. Историография
но все же характерно, и особенно оно характерно при свете последних событий, которые сорвали много завес, между прочим, и с этого секрета — связи политического и социального лозунга. В «мирные» времена социальный материк власти действительно скрыт — для непосвященного взгляда — под «политической надстройкой». Но общественные катастрофы грубо обнажают материк, и мы тогда видим, много ли значат политические формы, как таковые. Ну какую роль играл у нас в 1917 году лозунг монархии или республики? А лозунг Учредительного собрания? Когда его разогнали, то иные обыватели думали: «Батюшки, что будет — оскорбили народную волю», а народ даже не почесался. Политический лозунг отступил на задний план, а социальная природа выступила на передний план. Важно было, в чьих руках, в руках какого класса власть, а то, как она организована, — вопрос второстепенный. Это дает ключ к целому ряду явлений, например к тому, почему одна из самых сознательных буржуазных демократий — английская — мирится и с королем, и с палатой лордов. Политический момент есть второстепенный, а у Рожкова он равноправный.
Но главное не в этом. Рожков начинет с фразы, которую его поклонники глотают так же спокойно, как стакан воды: в основе лежат хозяйственные условия. Значит, марксист, о чем же больше толковать? Но это далеко не так просто. С каких хозяйственных условий начинает Рожков свой анализ? Что такое «хозяйственные условия»? Для него они следующие: добывающая промышленность, обрабатывающая, земледелие, скотоводство, раньше всего охота. Это деление на экономические категории для марксиста несколько неожиданное. Разве марксизм объединяет по этому принципу, разве можно объединить в одну категорию деревенского кузнеца и Путиловский завод на том лишь основании, что они относятся к обрабатывающей промышленности, в частности к металлургии? Деревенский кузнец — это одна категория, а Путиловский завод — другая.
Возьмите охоту. Разве какая-нибудь капиталистическая организация охоты вроде компании Гудзоновского залива или Русско-американской компании это то же, что охота первобытных краснокожих? И тут и там охота. Охотой занимаются и краснокожие, и Гудзоновская компания, но никто не скажет, что это одно и то же. Для нас «революцией» является переход от мелкого производства к крупному, машинному; мы говорим, например, о «промышленной революции» в Англии з XVIII
Борьба классов и русская историческая литература
363
столетии. У Рожкова же переход от скотоводства к земледелию является экономической революцией.
«Таким образом, рассматривая в целом соотношение разных отраслей хозяйства в России X, XI и XII веков, надо признать, что основной новой чертой здесь являлось быстрое увеличение удельного веса земледельческого производства: оно по своему значению стало почти уже равняться добывающей промышленности и скотоводству. То была целая экономическая революция, из которой последовательно с железной необходимостью произошел целый ряд крупных перемен в хозяйстве, обществе и государстве» 75.
Для Рожкова революция — это появление «земледельческого производства».
Итак, когда Рожков и марксисты говорят о «хозяйственных условиях» — это не одно и то же. И это повторяется во многих местах. Так, например, Рожков говорит: «В хозяйстве варварских обществ наблюдается преобладание уже не только добывающей промышленности (охоты, рыболовства, пчеловодства), но также и скотоводства при второстепенном значении земледелия и иногда еще внешней торговли» 76. Это категории, странные для нас, которые в наше марксистское сознание входят с большим трудом.
Не более благополучно обстоит у Рожкова со следующей ступенькой — связью «хозяйственных условий» и политики с «психологией общества». Ошибки, которые делает в данном случае Рожков, тем любопытнее, что они имеют не только отрицательное значение — помогают провести водораздел между ним и марксистами, но помогают установить и положительный признак, наметить ту общественную группу, к которой Рожков идеологически несомненно ближе, чем к пролетариату.
«Мы, — пишет, он, — полагаем в основу социологии духовной культуры понятие «психического типа»». Что же лежит в основе самого этого «типа»? «...Первенствующее значение в психической жизни имеют эмоции и теория ассоциативной связи» *.
«Ассоциативная связь» есть «формальное» условие — «материю» психической жизни дают таким образом эмоции. А каково происхождение этих последних?
«Физическая сторона эмоций, по Сутерланду77, состоит в изменении тонуса или напряжения сосудистой системы нашего тела. Существуют две категории эмоций — эмоции, повыша¬
♦ Рожков, т. I, стр. 14—15.
364
111. Историография
ющие и понижающие телесную энергию, так как иногда животному надо было защищать себя, иногда уклоняться от опасности. Эмоции сначала были автоматическими, просто изменениями в кровообращении; только потом рефлекс, начинающийся внешним стимулом и оканчивающийся сокращением мускула, стал проходить через сознание. Первые признаки страха замечаются у червей, первые признаки полового чувства — у насекомых. Но у холоднокровных животных эмоции слабы, эмоциональность связана с теплокровностью» *.
Вы, конечно, уже сами вспомнили Щапова с его медленно текущей в жилах кровью северян как основой русского народного темперамента. В самом деле, это подлинная щаповщина, домарксистский исторический материализм. Что «изменение тонуса» может воздействовать на общественную природу человека лишь через общественные отношения — этого вопроса для Рожкова не существует. Во всем дальнейшем анализе** он считается, как и его источник — Сутерланд, исключительно с индивидуумом, а не с членом общества.
Мы приближаемся к социальному материку, на котором стоит Рожков. Присматриваясь к его взглядам, мы все более и более находим то, что роднит его с домарксистским историческим материализмом. Возьмите его деление на статику и динамику. Откуда оно взялось? Рожков взял его не у Маркса или Энгельса — для диалектика само понятие статики есть нечто чуждое — он взял его у позитивистов, типично мелкобуржуазной разновидности полуматериализма, предполагавших, что то или иное явление может пребывать «в покое» и что так, конечно, очень удобно его рассматривать. Для марксиста ничто никогда не остается «в покое» — такие уж мы беспокойные люди. Между тем Рожков «статику» явно любит больше, чем «динамику»: вся его периодизация, так восхищающая его немарксистских критиков, построена на сравнении статических характеристик, причем, нужно сказать, тут уж и материализму — хотя бы домарксистскому — иной раз плохо приходится. Возьмите его основную периодизацию всей культурной истории.
«Девять основных периодов можно различить в истории каждого общества, каждой культуры... Периоды эти следукь щие:
1. Первобытное общество.
* Рожков, т. I, стр. 16 78,
** Там же, стр. 17—20.
Борьба классов и русская историческая литература Я65
2. Общество дикарей.
3. Дофеодальное общество или общество варваров.
4. Феодальная революция.
5. Феодализм.
6. Дворянская революция.
7. Господство дворянства.
8. Буржуазная революция.
9. Капитализм» 79.
Я очень извиняюсь, но мне эта периодизация напомнила издедку старого Льюиса над Аристотелем, будто бы делившим животный мир на «людей, четвероногих, лошадей, ослов и пони». Только 9-я рубрика построена на чисто экономическом признаке. 1-й и 2-й периоды охарактеризованы по признаку общекультурному; 3, 4, 5 и 8-й — по признаку социальному, в основу положено строение общества, в 6-м и 7-м мы благополучно скатываемся к признаку юридическому. Дворянство — это юридическая категория, это известное сословие. Это не экономическая, не социальная категория.
Как видите, и в области статики дело обстоит не совсем благополучно, может быть, потому, что этой важнейшей для него области он не уделил достаточного внимания. Он сам это смутно сознает. «Строго говоря, следовало бы предпослать социальной динамике социальную статику» *, — пишет он. Но уже то, что он признает возможным рассматривать «общественное явление» «в состоянии покоя»п(там же), достаточно характеризует его основной дефект. Он не там, где его видит сам автор. «Это схематично, это чересчур схематично», — слышится ему упрек воображаемых критиков. Это не диалектично— имеют полное право сказать ему его действительные критики из марксистского лагеря.
Рожков ближе к Щапову, чем к Плеханову классической поры; от Плеханова-упадочника он далек, на этот раз к величайшей своей выгоде. И это последнее расхождение не случайно. Ни Плеханов дней своего заката, ни Рожков на всем протяжении своей деятельности не являются идеологами рабочего класса, но они представляют идеологически разные общественные группы.. Плеханов, мы видели, отражает интересы технической интеллигенции, так бурно нарождавшейся у нас в последние десятилетия XIX века. Она не прочь была от перемен, только не революционных. Она готова была принять марксизм и даже диалектику в качестве учения
* Там же, стр. 14.
366
111. Историография
о вечном и постоянном изменении, но без борьбы классов. Рожков не прочь от революции, но революция для него не борьба непрерывно движущихся, переплетающихся между собой общественных сил. Революция для него — столкновения твердых, как дерево, кусков, фетишизированных общественных форм. Он как будто хочет заморозить явления, чтобы удобнее с ними оперировать, превратить их в куски, не связанные друг с другом, а не в части живого общественного процесса. В то же время он искренний социалист — я говорю только об общественной стороне. Какой общественной формации принадлежит такой социализм? Я только что слышал здесь, что Рожков пользуется особенным авторитетом среди учителей. Это великолепно гармонирует с его системой. Учитель — это тип дотехнит ческой интеллигенции. С одной стороны, он, как мелкий буржуа, материалист, до известной степени революционен, поскольку он враждебен капитализму, но в то же время он не может примириться с той диалектической точкой зрения, которую выставляют марксисты, потому что эта диалектика в применении к нему означает его упразднение. Никогда общественный класс не примирится с теорией, которая говорит ему: «Ты умрешь», ни один класс, ни один человек с этим не примирится, — это противоречило бы классовой природе. Поэтому дотехническая интеллигенция, не желающая помирать, склонна видеть явления в статическом состоянии, причем, как говорится в одной грамоте Смутного времени, думает: «Может быть, господь смилуется, и до нас не дойдет». Эта дотехническая интеллигенция составляет, по моему мнению, ту социальную базу, на которой стоит Рожков. Этим объясняется, во-первых, его подход к хозяйственным явлениям. В то время как марксисты и пролетариат в лице марксизма берут хозяйство со стороны организации его, для них важен тип хозяйства — пролетарского, мелкобуржуазного; для мелкой буржуазии важен труд, как таковой, в своей непосредственной форме. Наиболее в этом отношении мелкобуржуазным типом является толстовщина, когда человек садился на землю, начинал тачать сапоги, не справляясь с тем, целесообразно ли это, садился на землю только потому, что «надо трудиться». С этой стороны чрезвычайно типично внимание Рожкова к внешним формам хозяйственной деятельности — ко всем этим земледелиям и скотоводствам, иными словами, к труду в его индивидуальной, а не вето общественной форме. И недаром популярность Рожкова дала такой скачок кверху именно после Октябрьской революции. Едва ли нужно напоминать, что эта последняя, разрушив круп¬
Борьба классов и русская историческая литература
367
ное капиталистическое хозяйство и не успев еще создать на его место социалистическое, в промежуточный период, в связи с закрытием рынка, междоусобицей и блокадой, невольно вызвала к жизни целый ряд форм угасшего со второй половины XIX века мелкого производства. Что, особенно в промежуток 1919—1921 годов, мы нырнули в область натуральнохозяйственных отношений, это еще в свежей памяти у всех и, повторяю, едва ли стоит об этом напоминать. «Трудовая интеллигенция» стала более трудовой, чем она была когда-либо на всем протяжении своего существования. Именно в этот период работы на огородах, колки дров и ношения на спине всевозможных пайков она приобщилась к физическому труду, как никогда раньше. И в лице фактически трудовика, а не марксиста Рожкова она нашла историка как нельзя более ей по сердцу.
Итак, поскольку речь идет о впавшей в натуральнохозяйственный рецидив интеллигенции, Рожкова можно считать хозяином сегодняшнего дня. Значит ли это, что плеханов- щина —хозяин «вчерашнего дня»? Нет, наоборот, плеханов- щина в значительной степени может возродиться завтра с возрождением нашей промышленности, нашей технической интеллигенции. Правда, теперь эта интеллигенция идет из рабфаков, через классовый прием: мы употребляем все меры к тому, чтобы она как можно меньше была похожа на свою предшественницу — интеллигенцию 90-х годов, но как марксист я не могу делать такого ударения на происхождении интеллигенции. Рожков группирует декабристов по их происхождению — на аристократию, бюрократию и т. д. Происхождение, особенно от фабричного станка, очень важно, но все-таки оно не решает еще всего. Представьте себе такую картину: возрождается крупная промышленность, а с ней — техническая интеллигенция. Представьте себе все это в капиталистическом окружении — на фоне ожесточенной войны с Западной Европой; тут есть определенная угроза ежеминутно впасть в плехановщину, возвратиться к оборончеству. Плеханов в своих исторических концепциях, в частности в понимании русской истории, не является учителем прошлого, он является, может быть, учителем будущего. Вот почему в настоящий момент не так важно бороться с рожковщиной, ибо она сама собой умирает, поскольку возрождается русская промышленность, она умирает, как умерли в 90-х годах народнические концепции русской истории: ее убивает стихийный исторический процесс, но этот же процесс может обусловить возрождение плехановщины. Вот почему ясное представление об
368
HI. Историография
ошибках Плеханова и его зависимости от буржуазной идеолог гии чрезвычайно важно запечатлеть в своем сознании, особенно вам, товарищи зиновьевцы, потому что вы являетесь одной из тех групц, которые вырабатывают новую философию истории, вернее, одной из тех групп, через которые массовое движение вырабатывает свою историческую схему. Ибо оно, это массовое движение, при всей своей подвижности представляет собой тот прочный грунт, на котором стоит диалектический материализм. Вот почему так быстро перестают быть историческими материалистами те, кто от этого движения отрывается.
М. Я. Покровский. Историческая наука и борьба классов, вып. 1. М.-Л., 1933, стр. 7—100
О КНИГЕ АКАДЕМИКА ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО
Книжка Лаппо-Данилевского не заключает в себе методологии истории, а представляет скорее попытку истории методологии истории. Может быть, во втором томе будет и о методологии. Здесь Лаппо-Данилевский, как полагается академику, пытается самым объективным образом изложить в хронологическом порядке все методологические взгляды по истории, которые высказывались с сотворения мира до наших дней, и делает это с большой добросовестностью. Для справок его книга весьма полезна. Тут можно найти и о таких писателях, изложение взглядов которых вы найдете не во всяком энциклопедическом словаре. Что же касается анализа исторического метода, очевидно, это будет в следующей части. Будет ли это так же скучно, как то, что написано здесь, я не знаю. Оригинального постановка Лаппо-Данилевского ничего собой не представляет. Он исходит из обычного противоположения «номо- тетической науки» и «идеографической». Я думаю, что не нужно здесь объяснять, в чем заключается разница между номотетической и идиографической точками зрения; первая пытается установить законы явлений, вторая ограничивается описанием отдельных индивидуальных процессов. Некоторый интерес представляет то, что весь конец первой, номотетической части заполнен попытками изложить взгляды Маркса и Энгельса. Передать, как это он излагает, я не могу. Представьте себе человека, абсолютно не понимающего марксизма и пытающегося изложить его по книжке. Он берет из Маркса не то, что для него характерно. Попадается ему статья «Judenfrage»2, и он почерпывает из нее материал. Ему кажется, что «Judenfrage» и все остальные произведения Маркса стоят на одной плоскости. Получается нечто совершенно своеобразное. Энгельс оказывается гораздо левее Маркса. Я всегда ** А. С. Лаппо-Данилевский. Методология истории, вып. I, посмертное издание. Петроград, 1923-
370
III. Историография
думал наоборот. Маркс, по уверению Лаппо-Данилевского, допускал идеализм в ограниченном размере. Что касается Энгельса, он до последних лет жизни был неумолимым материалистом и в этом смысле поправлял Маркса. Но под конец жизни и он разочаровался в материализме. И в последних письмах он поэтому сделал отступление от Маркса. Взгляда на Маркса здесь нет никакого. На этой главе можно иллюстрировать всю методику Лаппо-Данилевского. Он берет книжку, абсолютно оторванную от среды, где она сложилась. Для него книжка есть книжка. Когда и где написана, до рождества или после рождества, в Африке, Японии или Китае, — ему все равно. Он излагает содержание этой книжки. Так же подходит он к Марксу. Но попробуйте объяснить идеологию Маркса, не давая исторической среды, ни 1848 года, ни рабочего движения, — абсолютно ничего не поймете. Это радикальнейший способ закрыть для себя понимание Маркса. Лаппо-Данилев- ский берет все сочинения Маркса, делает из них кашу и ложечками подносит вам Маркса. Вы там прочтете, что Маркс вовсе не рассматривал человека как «совокупность общественных отношений». Лаппо-Данилевский доказывает, что Маркс смотрел на человека с гораздо более возвышенной точки зрения. «Маркс, пожалуй, допускал возможность рассуждать о человеке в целом, а не только в смысле «персонификации экономических категорий» или носителя «классовых интересов и отношений» и, значит, мог представить себе, что человек возвышается над собственно экономическими отношениями, классовыми интересами и т. п. в поступках неэкономического характера» (стр. 235).
«Впрочем, Маркс не совсем упускал из виду то значение, какое в известной мере имеют «идеи» в самом широком смысле слова, и не отрицал существования идеальных целей в человеческих представлениях и стремлениях; он полагал, что «результат работы уже идеально и предварительно имеется в представлении работника», что материальный способ производства «прежде превращается в головах людей в представления и идеи», и, значит, приписывал им некоторую роль в социальной жизни; он указывал, например, на то, что человек работает, «между прочим», под влиянием данной степени научного развития ввиду «цели», о которой он знает и которая определяет как закон, род и способ его деятельности, что «целесообразная воля» требуется для ее исполнения, что «сознательное приложение» научных знаний к пользованию силами природы играет все более заметную роль, что «классовое созцание»
О книге академика Лаппо-Данилевского
371
влияет на борьбу классов и т. п.; с такой точки зрения он признавал, что между экономическими и идеологическими формами, раз они уже возникли, может быть «взаимодействие», что идеи часто давали ближайшие основания для исторически предстоящих изменений в области права, что политические отношения влияли на производственные и т. п.; но он настаивал на «заранее данных условиях», при которых люди действуют; отрицал, что человеческие представления о добре и зле имеют самостоятельное существование в особом (нравственном) мире и что они могут возникать в виде самостоятельного, обособленного (от материальных факторов) причинного ряда; вместе с тем он утверждал, что преследуемые время от времени идеальные цели не последние причины социальных движений, но что сами они возникли лишь в виде отражения определенного состояния общественного хозяйства. Таким образом, Маркс все же приходил к заключению, что социальные идеи, представления и желания законосообразно зависят от социального хозяйства и реальных изменений, происходящих в нем» (стр. 232—233).
Все эти попытки «смягчить» Маркса и косвенно «кольнуть» его «непоследовательностью», разумеется, только смешны. Не лучше обстоит дело и с Энгельсом. «В позднейших своих сочинениях Энгельс высказал несколько замечаний, в сущности ограничивающих область приложения таких взглядов. Незадолго до смерти Маркса Энгельс стал заявлять, правда мимоходом, что положения о зависимости идеологии от экономии имеют силу до «теперешнего времени». «Всякая моральная теория, доныне построенная, — писал он, например, в своей критике учения Дюринга, — есть, в последней инстанции, порождение экономического положения общества данного времени» (стр. 234). Можно сказать, подражая Энгельсу, что такого гелертерского тупоумия мир «до теперешнего времени» еще не видел; но это отнюдь не значит, что гелертерское тупоумие является новостью.
Что можно извлечь из этой книги? Я кое-что извлек. Может быть, мне только по невежеству моему кажется это более или менее интересным. Это интересно прежде всего для иллюстрации той мысли, что единственными людьми, у которых складывалось известное общее представление об историческом процессе, оказывались или материалисты, или бывшие под влиянием материалистов. Лашю-Данилевский в данном случае дает своему излагателю большой козырь в руки. Удивительно, что человек, написавший книжку о методологии истории,
372
III. Историография
специально не трактует самого исторического философа XIX века—Гегеля, потому что вообще писать об этом, не упоминая Гегеля, невозможно. Но по непонятным причинам он нигде специально на нем не останавливается. Он излагает отдельные его мнения, но не гегельянство как систему. Это особенно курьезно у русского историка. Русская история испытала колоссальное влияние Гегеля через Чичерина и Соловьева. Но, не останавливаясь специально на Гегеле, Лаппо-Данилевский не скрывает материалистов. Прежде всего он дает очерк истории культуры Лукреция. Он всем, вероятно, известен. Я его отметил. У Лукреция есть определенный переход от материализма философского к материализму историческому. «Лукреций различал несколько главнейших факторов прогресса — нужду, опыт и разум, который с течением времени «наставил» людей; он ярко характеризовал их в состоянии «дикости» и дал понятие о естественном происхождении языка, некоторых проявлений духовного и- материального быта, обычаев и учреждений, а также о постепенном развитии более совершенной гражданственности. Лукреций усматривал в нем несколько периодов: он отличал, например, древнейшее беспорядочное сожительство и жизнь каждого «для себя и для своей самозащиты» от более постоянного общения между людьми, которое наступило после изобретения огня, появления жилищ и других удобств жизни, происходило у семейного очага благодаря смягчению нравов и водворилось в силу некоего соглашения и справедливости среди нескольких семей или общества; при характеристике последующего периода он принимал во внимание образование членораздельной речи, возникновение религии, открытие металлов (сперва меди, потом железа) и появление промышленности, а также искусств; вслед за том он отмечал деятельность царей, приступивших к основанию городов и установлению частной собственности, изобретение письменности и процветание торговли, падение царской власти и учреждение магистратур, а также законов, зарождение международных союзов и т. п. Впрочем, утверждая существование прогрессивного развития человечества, Лукреций предвидел и его предел: он полагал, что мир ветшает и медленно приближается к гибели, которой подвержено все человеческое» («стр. 58).
Как видите, тут есть зачатки и материалистического объяснения истории, и, если хотите, диалектического. Еще любопытнее в этом отношении Полибий, у которого мы встречаем диалектику в довольно развернутом виде: «Полибий довольно
О книге академика Л anno-Данилевского
373
отчетливо формулировал естественный закон таких переходов: «Прежде всего возникает единовластие без всякою плана, само собой, за ним следует и из него образуется посредством упорядочения и исправления царство; когда царское управление переходит в соответствующую ему по природе извращенную форму, т. е. тиранию, тогда в свою очередь на ее развалинах вырастает аристократия; когда затем и аристократия выродится в олигархию и разгневанный народ выместит обиды правителей, тогда нарождается демократия; необузданность народной массы и пренебрежение к законам порождают с течением времени охлократию...» и т. д. »(стр. 62).Смысл тот,что всякая форма общежития в процессе развития превращается в противоположную. Я предполагаю, что Лаппо-Данилевский это выписал ради последней цитаты, характеризующей охлократию: «Тогда «толпа, собравшаяся вокруг вождя, совершает убийства...»» и т. д. Это было выписано явно не без удовольствия. Но это все вещи общеизвестные. Для Лаппо-Данилевского была новостью теория арабского историка Ибн-Халдуна. Сам по себе это был тип довольно банального «правоверного мусульманина». Но вся арабская философия была пронизана материалистическим влиянием, и от нее пошел «аверроизм», который заразил тогдашнее — конца средних веков — европейское общество и таких его представителей, как Фридрих II Гоген- штауфен. Теория Ибн-Халдуна очень любопытна в этом отношении: «Действительно, Ибн-Халдун уделял много места изучению географических условий человеческого существования: он признавал, что климат и в особенности «воздух», а также почва оказывают действие не только на физические свойства людей, на цвет их кожи и т. п., но и на их характер, а также на их образ жизни и учреждения; он принимал в расчет то влияние, какое имеют изобилие или недостаток в пище и ее качества на человеческие общества, на тела и на души их членов; он полагал, что «способы, какими народ доставляет себе средства существования», обусловливают его «обычаи и учреждения»; он отмечал то действие, какое рост населения оказывает на ею культуру; он говорил еще и о некоторых других факторах ее развития, в особенности об общем чувстве родства или принадлежности людей к данному племени, играющем существенную роль в возникновении их общежития и предшествующем образованию истинно религиозной связи между ними в государстве, а также о средствах, нужных для последующего его благосостояния: о промыслах и торгах, об искусствах и науках и т. п.; он обращал внимание и на то
374
111. Историография
соотношение, какое существует, по его мнению, между факторами подобного рода, и приходил к заключению, что, «после того как люди, живущие в обществе, могли доставить себе своим трудом более того, что им нужно было для их существования, они обращают свои взоры на более отдаленную цель и занимаются такими предметами, которые подобно наукам и искусствам теснее связаны с собственно человеческой природой и в большей мере свойственны ей» (стр. 77). Это писал араб XIV века. Затем Ибн-Халдун рассматривает с этой точки зрения развитие истории и дает общую схему культурного развития, поразительную, если вспомнить, что это написано арабом XIV века и в самой глуши средних веков. Это, несомненно, влияние арабского аверроизма. Другое, более близкое нам влияние — французских материалистов. Как французские материалисты смотрели на историю — факт общеизвестный, но факт также и то, что они из своей философии предпосылок для истории извлекали чрезвычайно мало. Они были очень плохие ми историками. И кроме общих рассуждений, у них ничего нет. Можно было бы думать, что материализм XVIII века в этом отношении дослужил чем-то вроде удобрения для гегельянцев. Мое личное мнение, что Гегель многим обязан французским материалистам. Я думаю, что то, что они дали для закономерности исторического процесса, было использовано гегельянстт вом. Но оказывается, был писатель XVIII века, не француз, писавший задолго до Гегеля, который сумел сделать вывод из предпосылок французских материалистов и предвосхитил тот домарксистский материализм, который мы находим отчасти у Бокля, отчасти у нашего Щапова. Это известный лингвист Аделунг. «Известный лингвист Аделунг, вероятно знакомый с трудом Гельвеция, — говорит Лаппо-Данилевский, — последовательно развил мысль о том, что исторический процесс есть преимущественно результат увеличения населения, которое при ограниченных пределах земли, занимаемой данной нацией, влияет на ее экономическое развитие, а вместе с ним и на другие явления культурной жизни. В самом деле, по мнению Аделунга, повышение численности населения повело к тому, что охотничьи и пастушеские племена перешли к земледелию, связанному с развитием частной собственности, и что они благодаря возраставшей скученности начали заниматься ремеслами и складываться в гражданские общества; такой процесс обнаружился, например, в истории «густонаселенных ионийских островов» или в переменах, происшедших в жизни среднеевропейских племен в начале средних веков; вместе
О книге академика Л anno-Даниле веко го
375
с тем рост населения соответственно отражался и в других сферах культуры: такой процесс был, например, «главнейшей причиной», «обусловившей и ускорившей» развитие европейского просвещения в новое время, а также способствовал смягчению нравов, ибо, чем ближе люди сходятся, тем больше они «шлифуются» друг о друга. В связи с ростом населения Аделунг выдвигал, однако, вообще развитие экономической жизни, в свою очередь обусловливающей успехи «просвещения»: размножение населения побуждает людей к подысканию новых, более разнообразных и более совершенных способов пропитания и изощряет их изобретательность, которая вместе с новыми способами пропитания порождает избыток; избыток в свою очередь дает возможность пользоваться досугом, а досуг, если только он при жарком климате не превращается в косность, вызывает стремление к спекулятивным размышлениям и к работам духа. Такие положения Аделунг применял к построению разнообразных состояний и периодов культуры: законы Моисея, например, отражают переходную стадию европейской экономической жизни от кочевого быта к земледельческому; феодальный строй, сложившийся после завоевания, стал разлагаться благодаря росту населения, а значит, и усилению его потребностей, не находивших себе удовлетворения в старом порядке и вызывавших борьбу между повинующимися и повелевающими; рецепция римского права должна была удовлетворить осложнившемуся гражданскому обороту; монастыри и крестовые походы в сущности вызваны были стремлением европейских наций освободиться от избытка населения, лишенного надлежащего пропитания; современные науки и искусства (в той мере, в какой они не были унаследованы от древности) возникли под влиянием потребности увеличить или изыскать новые средства к существованию и т. п.» (стр. 204—205).
Как видите, диалектики здесь нет. Это не марксизм, но это попытка экономического объяснения всего исторического процесса, основанная не на законе, который мы напрасно называем законом Левассера, а на законе Аделунга, который за сто лет .до Левассера развил его. Ковалевский все время держался такого упрощенного экономического объяснения истории. А Ковалевского многие почтенные люди, конечно не марксисты, всерьез считали за исторического материалиста. К сожалению, Лаппо-Данилевский не касается ни Кондорсе, у которого можно найти кое-какие материалистические объяснения, ци Варнава, у которого есть развернутая теория классовой
376
111. Историография
борьбы. Впрочем, виноват, о Варнаве у него есть несколько строк: «Варнав противополагал аристократию, т. е. класс крупных землевладельцев3, работоспособному классу, развивающемуся на почве «промышленной собственности» и уже вступившему с ним в ту борьбу, которая должна привести к народовластию, и т. п.» (стр. 206).
В общем безусловно полезно пользоваться этой книгой для справок. Из нее даже можно извлечь кое-что новое. Но как теоретическая работа она никакого интереса не представляет. Может быть, во втором томе будет что-нибудь интересное. У меня относительно Лаппо-Даиилевского со времени его первой работы «История прямого обложения в Московском государстве» 4 создалось определенное мнение, что он может одолеть невероятное количество материала и изложить его, но не пойти дальше.
«Под энаменем марксизма», 1923, №4—5,стр. 190—196
ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ1
Потребность объединить на научной работе уже довольно многочисленный сейчас контингент товарищей коммунистов, преподающих историю в наших вузах, а также все более и более увеличивающиеся кадры близких к нам буржуазных историков, «приемлющих» марксизм,— потребность эта чувствуется уже довольно давно. В годы учения эта потребность удовлетворяется историческими семинарами Института красной профессуры; но как только учение кончилось, разрывается и научная связь, вчерашние участники коллективной работы превращаются в одиночек, т. е. самым наглядным и очевидным образом деградируют. Примыкающие же к нам буржуазные историки совсем лишены возможности примкнуть к какой-либо коллективной работе *.
Мысль об организации общества, объединяющего истори- ков-марксистов, почти одновременно с Москвой возникла в Ленинграде среди историков-коммунистов, посланных туда на работу. Но их было слишком мало, они представляли собой незаметный островок среди буржуазно-исторического океана: местные центры, видимо, ощущали опасение, как бы волны океана, не залили островка, и «опасный эксперимент» разрешен не был. Теперь здесь, в Москве, мы опираемся на несравненно более широкий круг партийной молодежи, здесь есть налицо и «старшее поколение», — перед нами все шансы, по крайней мере формальные шансы, успеха налицо.
Из этого вовсе не следует, что наша задача очень легка и что путь наш очень гладок и ровен. Исторический материализм наших дней есть нечто гораздо более тонкое и сложное, нежели исторический материализм даже 1917, не говоря уже 1897 года. Судьбы исторического материализма в России представляют собой такой блестящий образчик исторической
* Когда говорилась эта речь, РАНИОН2 с его Историческим институтом и соответствующими, семинарами еще только складывался.
378
111. Историография
диалектики, что собрание разрешит мне, надеюсь, остановиться на этом несколько подробнее.
Когда наше поколение начинало сознательную жизнь, первый и довольно блестящий расцвет материалистического подхода к истории в нашей стране был уже далеким прошлым, прошлым, основательно позабытым, густо намоченной губкой стертым из памяти людей.
Этот исторический материализм «первого призыва» связан с именами Щапова, а в особенности Чернышевского и еще более, пожалуй, с именем Ткачева. Первый из них захватил наиболее широкий район своими историческими концепциями, но самые концепции были необычайно туманны и как небо от земли далеки от марксизма, несмотря на всю свою весьма подлинную материалистичность, но материалистичность метафизическую. Чернышевский в период расцвета своей литературной деятельности плохо знал Маркса; с его главнейшими произведениями он познакомился уже в ссылке, когда от его имени в русской литературе осталась только буква Ч., да и то не в качестве подписи под его статьями. Но тем не менее его «Кавеньяк» 3 дает образец классового анализа французской революции 1848 года, в мировой'Литературе уступающий только анализу Маркса. А в ранних статьях Ткачева мы имеем постановки, столь близкие к позднейшим постановкам Каутского 1880—1890 годов, что, например, известная статья Каутского о реформации не дала бы почти ничего нового тому, кто знал бы старую статью Ткачева4.
Но беда в том, что к 90-м годам статьи Ткачева решительно никто не знал и не читал; не исключена возможность, что и сам Ткачев (уже знавший Маркса и цитировавший его) позабыл свою статью к периоду расцвета своей деятельности, когда он был довольно чистой воды бланкистом. Мокрая губка «субъективно-социологического» метода все это безнадежно стерла, и в солиднейших научных исторических трактатах проблема «падения крепостного права» изображалась как чисто моральная проблема: чтобы сие событие совершилось, нужно было, изволите ли видеть, чтобы помещики сознали всю «мерзость» крепостного права, что и побудило их «добровольно» отказаться от своих прав на крестьян. Мои слушатели, вероятно, с тру^ дом представляют себе возможность такого положения вещей. Но я могу их уверить, что это действительно было так и что когда к этой сахарной водице Ключевский подбавлял немного крепкого уксуса «государственного интереса», то это казалось уже верхом «научного» объяснения. Мудрено ли, что мы при-
Задачи общества историков-марксистов
379
шли в восхищение от одной статьи будущего октябриста, а тогда рязанского предводителя дворянства князя Волконского5, где объяснялось, что крепостное право пало не вследствие благородства души помещиков, а потому, что эти последние стали вместо домодельных сальных свечей употреблять покупные стеариновые, а дочери их начали играть на фортепиано, которого тоже руками крепостных мастеров соорудить было нельзя. Что появление помещика на рынке в качестве покупателя обозначало появление его на рынке и в качестве продавца — эта элементарная мысль, в настоящее время слишком элементарная даже для совпартшколы I ступени, после народнического периода русской историографии могла показаться настоящим откровением.
Господство народнической идеологии недаром связано в нашей литературе с относительным застоем русской промышленности в 1860—1870 годах. Бурный промышленный подъем 1880—1890 годов должен был дать новую идеологию, и она не заставила себя ждать. Правда, наиболее подлинные ее образчики были скрыты от глаз массового читателя. Царская цензура переживала период еще весьма бодрой и крепкой старости и твердо держала стражу. Издания группы «Освобождение труда», писания Плеханова, первые работы Ленина распространялись в России в ничтожном количестве экземпляров и в сущности не шли дальше немногочисленных в ту пору революционных кружков. Примером может служить судьба «Что такое «друзья народа»...»: ведь для того чтобы одна из ее глав безнадежно пропала, нужно было, чтобы сама брошюра существовала в том примерно количестве экземпляров, в каком существуют средневековые рукописи6. А некоторые марксистские работы тех дней, например касавшаяся как раз крестьянской реформы работа Федосеева, и совсем ни в каком количестве экземпляров не увидели света7.
И тем не менее исторический материализм пошел такой бурной волной, что захватил территорию, далеко выходившую за пределы не только революционных рабочих кружков, но и вообще всего так или иначе связанного с пролетариатом. Мои слушатели опять-таки с трудом поверят, что фронт «экономического материализма» (такое тогда было название, я к этому еще вернусь позднее) тянулся от Плеханова и Ленина слева до Максима Ковалевского и Милюкова (!) на крайнем правом фланге. Иные старые люди, помнящие те времена, и до сих пор считают Максима Ковалевского одним из родоначальников исторического материализма на Руси. И что удивительного,
380
III. Историография
если в те дни на страницах большого журнала «открывали», как некогда Америку, исторический материализм в писаниях немецкого приват-доцента Вейзенгрюна, — это когда существовали уже, отчасти даже и на русском языке, весь Маркс, весь Энгельс, лучшие ранние работы Каутского и Меринга и т. д. А на совсем русском, и очень хорошем русском, языке существовал Плеханов, не считая старых работ Чернышевского и Ткачева. Нет ничего более нового, чем то, что хорошо забыто,
Широчайшее «марксистское пятно», вдруг расплывшееся чуть не на всю российскую историографию, при таких условиях должно было отличаться не только неопределенностью очертаний, но и большой тусклостью окраски. Уже ежели Милюкова с его древле щаповским благочестием, помноженным на «государственность» Чичерина — Ключевского, можно было сопричислить к лику «экономических материалистов» (от марксизма Милюков с самого начала категорически и четко отмежевался, он и тогда не любил этого слова), то что же удивительного, если всякого, кто к экономическому объяснению исторического процесса присоединял упоминание о классовой борьбе, зачисляли в самые подлинные «ученики» (тогдашнее название для марксиста; само слово было, конечно, нецензурным) .
Только к самому началу нового столетия подлинный революционный марксизм, погребенный под этой грудой мусора, начал выбираться на свет: появились в легальном массовом издании такие крупные работы Ленина, как «Развитие капитализма в России», ряд работ Плеханова, увеличилось и количество переводных работ во много раз по сравнению с тем, что было за десять лет раньше. С другой стороны, несколько уже воспитавшаяся публика не причисляла к историческим материалистам не только Ковалевского и Милюкова, но и Булгаков с Бердяевым. Под некоторым сомнением до 1905 года у широкой публики оставались Струве и Туган-Барановский, которых иные продолжали еще считать какой-то «разновидностью» марксизма.
Было ли это, однако, сколько-нибудь «окончательное» достижение? Ничего окончательного диалектика истории не знает; и достаточно было подняться сильному ветру, чтобы некоторые внешние украшения и нового здания, здания уже «революционного марксизма», начали отваливаться. Наша первая революция, мне это приходилось говорить уже не один раз, была великим учителем русских историков. После нее марксистами сделались многие, раньше никакого касательства к исто¬
Задачи общества историков-марксистов
381
рическому материализму не имевшие, а в 90-х годах даже яростно спорившие с ним. Этот «марксизм после 1905 года» оказался не особенно устойчивым (пример — проф. Р. Ю. Виппер). Но он отразился прежде всего колоссальным по сравнению даже с 90-ми годами распространением исторических идей, более или менее близких к подлинному марксизму. «История России в XIX веке», гранатовского издания8, разошлась в 15 000 экземплярах, за ней шла имевшая немного меньше успеха меньшевистская «История русской литературы», изданная «Миром»9, и т. д. и т. п. Недаром в конце этого периода Департамент полиции забеспокоился и стал говорить о «легальной социал-демократической пропаганде» и даже о легальной пропаганде большевизма по поводу издававшихся в России писаний Ленина и некоторых других большевиков. Словом, количественное распространение исторического материализма к началу второго десятилетия XX века было фактом, неоспоримым ни для кого, не исключая кадетов, которые именно этим обстоятельством, огромной популярностью, какую приобрел исторический материализм, вынуждены были от прежней тактики вышучивания и высмеивания перейти к тактике замалчивания, доходившей до того, что некоторые марксистские исторические произведения не отмечались даже в библиографических обзорах «Вестника Европы» и в «Русской мысли». Только громкий процесс, разыгравшийся около одного из таких произведений и созданный теми опасениями Департамента полиции, о которых упоминалось выше, удостоил его этой чести 10.
Но если количество было безусловно на нашей стороне, то никак нельзя сказать то же о качестве. Издаваться в массовом масштабе имели возможность прежде всего меньшевики, роль которых как буржуазной агентуры среди пролетариата со всей отчетливостью выяснилась уже к 1907 году. У них были литераторы, у них были и издатели — у большевиков и по той и по другой линии была значительная нехватка. Вдобавок, что разрешалось меньшевику и кадету, то было под строгим запретом для большевика. «Русская история с древнейших времен» должна была почтительно остановиться на пороге XX столетия, ограничиваясь глухими и невнятными намеками на то, что произошло по ту сторону этого порога11. Для истории первой русской революции имелись только меньшевистские руководства, где так блестяще оправдавшая себя в 1917 году формула «диктатуры пролетариата и крестьянства» объявлялась совершенно немарксистской глупостью.
382
III. Историография
Разборчивость цензуры доходила до того, что кадет мог беспрепятственно цитировать документы, за выдержки из которых сажали на скамью подсудимых и автора, и издателя, если то был социал-демократ; большевику же даже именование (в цитате!) Желябова «Андреем Ивановичем» вменялось как доказательство явного сочувствия террору.
Между тем требования, какие предъявлял к историку послереволюционный период, были не те, что до 1905 года. Кто оставался на позициях даже «революционного» марксизма перед революцией, тот был безнадежно отсталым человеком и обыкновенно и политически быстро скатывался вправо, уходя к меньшевикам. Оставшиеся верными «неурезанным лозунгам» должны были сильно пересмотреть свой исторический багаж. Собрание простит мне пример слишком личного характера, но другой сейчас не приходит на память: получив от «Мира» 12 заказ на составление большого курса русской истории, я надеялся, попросту, издать свои лекции, несколько обработав их с чисто академической стороны; на деле получилась совершенно новая книжка, ставившая многие вопросы так, как до 1905 года мне и в голову не пришло бы их поставить. Самое главное, что нам дал этот памятный год, — это было превращение диалектики исторического процесса из отвлеченного литературного термина в живой, осязаемый и конкретный факт, факт, не только наблюдавшийся нами воочию, но факт, нами пережитый. Мы, я имею в виду оставшихся верными «неурезанным лозунгам», просто не могли смотреть на прошлое глазами не пережившего революции человека. Это был новый этап в развитии исторического материализма в России, точно соответствовавший новому историческому этапу, в который вступила историческая жизнь нашей страны.
Была ли это окончательная форма нашего исторического миросозерцания? Опять и опять, диалектика истории не знает ничего окончательного. Двух вещей не хватало нам для того, чтобы наш исторический материализм не только отражал на себе пламенное дыхание революции, но и стоял на высоте требований этой последней. Во-первых, продолжала по старинке недооцениваться творческая роль масс. «Заветам рабства страшно верен», русский историк дореволюционных времен привык рассматривать массу как объект действия сверху — никогда как субъект. В целом ряде глав «Русской истории с древнейших времен» —«Смутное время», «Пугачевщина», «Декабристы» — эта застарелая привычка определенно чувствуется; сегодняшнее заседание как раз посвящено разрушению
Задачи общества историков-марксистов
383
одного из устоев этого исторического миража*. Революция 1905 года, к сожалению, мало способна была его разрушить. Выступление масс тогда было, во-первых, неудачным («всегда побитый виноват»), а во-вторых, в своих подробностях оно осталось нам, собственно, неизвестным в том, что касается деревни. Материал, собранный Вольным экономическим обществом от своих корреспондентов насчет аграрного движения 1905—1906 годов, дал явно искаженную картину13. Понадобилось опубликование жандармских донесений — жандармы люди практические и тенденциозной публицистикой в своей секретной переписке не занимались, — чтобы мы увидели истинный лик русской деревенской революции и убедились, что она была неизмеримо более сознательной, неизмеримо более политической и вовсе не так уже далекой от революции рабочей, как нам казалось. Исправить этот грех старой русской историографии — первейшая задача историков-марксистов входящего в жизнь поколения. Наш рабочий и наш крестьянин должны наконец иметь в руках книгу, которая изображала бы их прошлое не как дело хозяев и чиновников, а как их собственное дело, дело рабочих и крестьян.
Другую историческую извилину исправлять труднее, ибо нам немалых усилий стоило этот вывих получить, так как то была профессиональная уродливость, в известной степени развития нашего ремесла очень для нас полезная. Я говорю об экономическом материализме. Для того чтобы обосновать объяснение политических перемен экономическими, для того чтобы вышибить раз навсегда сладенькую легенду «субъективной социологии», делившей всех исторических деятелей на добрых и злых, на симпатичных и антипатичных, для того чтобы продолжить дорогу хотя бы элементарно научному пониманию истории, нам пришлось собрать грандиозный экономический, в частности историко-статистический, материал. Мы им гордились, он делал чрезвычайно наглядной и математически неопровержимой нашу аргументацию, — и теперь еще идущий от идеалистического понимания истории к материалистическому неизбежно пройдет через эти ворота. Но если нехорошо останавливаться в позе барана перед новыми воротами, то и задерживаться долго в воротах тоже не годится. Историческая статистика сама по себе нужна и необходима, но заменять ею историю совсем не годится. Никогда не надо забывать
' * На первом собрании Общества историков-марксистов стояли доклады о Пугачевщине и о Крестьянской войне в Германии.
384
111. Историография
слов Маркса и Энгельса — они оба неоднократно на этом настаивают, — что, хотя история и делается в определенной экономической обстановке, на определенной экономической базе, без понимания которой и сама история останется нам непонятной, но делают историю все-таки живые люди, которые непосредственно могут руководиться и неэкономическими мотивами. Анализ этих мотивов, даже совсем индивидуальных (Маркс это нарочито подчеркивает), вовсе не сводит нас с почвы метода историко-материалистического и не превращает нас в «психологистов».
Со всей ясностью этот наш дефект, пережитки «экономического материализма», сказался после империалистической войны и Октябрьской революции. Никакой цифровой анализ, никакие колонны цифр в объяснении этих событий не поведут нас дальше понимания той социологической базы, на которой события разыгрались. А мы должны понять, и понять по-марксистски, т. е. понять историко-материалистически, диалектически, и самые события. Возможная вещь, что в 90-х годах показалось бы гениальным откровением объяснить момент начала войны 1914 года колебанием цен на пшеницу (как это сделано в одном близком мне и не очень давно, всего 7 лет назад, опубликованном произведении), но теперь, когда мы в мельчайших подробностях знаем о таких вещах, как русско-французская военная и англо-русская морская конвенции, когда нам со всей точностью известна сложная махинация убийства Франца Фердинанда, мы понимаем, что цены на пшеницу тут не при чем. Политика империалистской войны опиралась на экономику империалистического хозяйства, без этой последней, попросту говоря, не было бы и этой политики; но, однажды родившись из недр финансового капитализма, эта политика, как всякий новорожденный, отделившийся от материнского организма, зажила собственной жизнью, и нельзя же всю будущую жизнь ребенка рассматривать с точки зрения утробного периода его существования.
Можно опасаться, что исправление этого вывиха больше всего пострадает от закона инерции; еще Энгельс отметил большие практические удобства экономико-материалистического объяснения истории, предостерегая против увлечения этими удобствами14, Я должен себя подкрепить поэтому каким-нибудь большим авторитетом, и думаю, что мне не так трудно его найти. Кто подходил к нашей Октябрьской революции с точки зрения экономического материализма? Прежде всего, конечно, наши добрые меньшевики. По «уровню развития про¬
Задачи общества историков-марксистов
385
изводительных сил» Россия 1917 года была совершенно неподходящей страной для начала социалистической революции: статистика тут была решительно против нас — цифры окончательно не хотели «сходиться». Взять хотя бы тогдашнюю русскую и заграничную производительность труда, соотношение мелкого и крупного хозяйства и т. п. Стало быть, рассуждали меньшевики, попытка низвергнуть в России власть буржуазии заранее осуждена на неудачу. Буржуазия немедленно же (первоначально, как известно, определялся срок в 3 недели) вернется, и ничего, кроме дискредитирования социализма, изо всей затеи не получится. Прошло не 3 недели, а немножко побольше, около 6 лет, и Ленин писал о предсказателях: «Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно, его революционной диалектики». И закончил свою статью словами: «Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками» 15.
Это сказано жестко, но это сказано по-ленински: в самый глаз. А так как общество, несомненно, пойдет по ленинскому пути — иначе ему незачем было бы и возникать, — то, несомненно, в числе другого ему придется изживать и «экономический материализм» 90-х годов, крепко еще сидящий во многих из нас. Жесткая ленинская формула подтолкнет нас быстрее идти по этому пути и этим поможет нам стать не только исто- риками-марксистами, но и историками-ленинцами. Этим пожеланием позвольте закончить мое вступительное слово,
«Историк-марксист», т. I, 1926, стр. 3—10
Н. А. РОЖКОВ1
Общество историков-марксистов посвящает это свое заседание памяти скончавшегося около двух недель тому назад Н. А. Рожкова. В лице Н. А. мы потеряли, во-первых, одного из крупнейших историков материалистического направления, каких имела наша страна. Мы потеряли в нем, кроме того, исключительного по своему таланту и по своей энергии про- пагандиста-просветителя, которого можно поставить наряду с лучшими образцами этого типа 60-х годов. Мы потеряли в его лице превосходного преподавателя истории, без которого мы ощущаем пустоту в целом ряде наших высших учебных заведений, и мы потеряли, кроме того, старого товарища, человека, который был вместе с нами в самые трудные минуты и, как это было признано Лениным, даже в статьях, направленных прямо против Н. А., с честью нес знамя партии в эти тяжелые годы. •
Я несколько самочинно начинаю выступления своим докладом просто потому, что первый докладчик, который должен был осветить фигуру Н. А. как нашего маленького политического центра в 1905 году, почему-то опоздал, не приехал; он, вероятно, приедет, и тогда мы поставим его доклад на соответствующее место, а пока позвольте мне мои 20 минут заполнить характеристикойН. А. Рожкова какисторика-марксиста.
Хотя совершенно правильно было сказано на гражданской панихиде по Н. А., что он пришел к нам не через какую-нибудь либеральную организацию, тем не менее Н. А. не принадлежит к числу тех писателей, которые как писатели, так сказать, родились марксистами, как, например, Ленин. У Ленина мы не знаем домарксистских произведений, он выступил уже как сложившийся марксист в своем первом произведении. Рожков в этом отношении больше похож на Плеханова и имел свой домарксистский период. И период довольно длительный, период, измеряющийся годами. Он, значит, не родился марксистом, а им сделался. Я был свидетелем того,
Н. А. Рожков
387
как он делался марксистом, и поэтому позвольте сказать об этом несколько слов, хотя бы в порядке воспоминаний.
В наших маленьких докладах воспоминания и анализ, конечно, будут переплетаться. Свежа еще слишком могила Н. А., чтобы над этой могилой можно было даже академическим людям предаваться чисто академическим изысканиям. А мы, марксисты, вообще не склонны к чисто академическим изысканиям.
Н. А. Рожков приехал в Москву, по-моему, в 1897 году. И первая моя встреча с ним произошла на заседании комиссии по организации домашнего чтения, очень памятном, вероятно, многим учреждении, которое теперь — не самое учреждение, а его работа — начинает вновь входить в моду: теперь о заочном обучении вновь везде говорят. Так вот на первой попытке организации такого заочного обучения мы и сошлись с Н. А. Было это, вероятно, зимой 1897/98 года. Н. А., который немедленно же вошел в работу, немедленно же, чуть ли не в первой беседе, взял на себя задачу составить очерк развития русских финансов в XIX веке, т. е. взялся дать программу и ряд вопросов, подобрать литературу и т. д., пришел на наше заседание и прочел чисто народническую программу. Ему было указано, что программа чисто народническая, а мы были тогда хотя очень плохими, легальными, но все-таки марксистами. Мы указали Н. А., что нам это не подходит. Н. А. с характеризующей его на всем протяжении деловой добросовестностью не стал с нами спорить, не стал отстаивать своих народнических взглядов, а, свернув в трубочку свою программу, ушел и через две недели принес новую программу, нас вполне удовлетворившую. Совершенно ясно, что, конечно, он в течение этих двух недель не мог изучить марксизма, очевидно, кое-что марксистское было в нем заложено и раньше, но на первый раз он не решался — может быть, тут провинция сказывалась, в которой он прожил столько времени, — он не решался развернуть этого во всей широте.
И в дальнейшем, в ближайшие после этого годы, примерно до 1905 г., он все еще оперировал с марксизмом как с какой-то вещью, которая ему довольно близка, которую он ценит, которую он одобряет, но к которой он не присоединяется целиком. Тут есть у меня пара цитат, которые я позволю себе прочесть для характеристики Рожкова периода становления, периода, когда он только шел к марксизму.
Вот что он писал, например, в 1898 году в «Образовании»: «Второе недоразумение может заключаться в том, что пишу¬
13*
388
111. Историография
щий эти строки будет принят за экономического материалиста» 2.
В 1898 году быть принятым за экономического материалиста еще казалось Н. А. каким-то искажением его физиономии. Еще в 1901 году в «Мире божьем» он писал: «Я считаю нужным заявить, что вовсе не принадлежу к тем крайним сторонникам так называемого экономического материализма, которые склонны все и вся объяснять непосредственно из хозяйственных, именно производственных, отношений» 3.
Вы видите, что эта фраза звучит уже гораздо более по- марксистски, нежели та краткая формулировка, которую я прочитал. В 1901 году он уже признает, что принадлежит к последователям так называемого экономического материализма, но не крайним. Н. А. с полным правом мог сказать: я не принадлежу к тем плохим последователям экономического материализма, которые все и вся объясняют непосредственно из хозяйственных или производственных отношений. Это будет, конечно, плохой, вульгарный исторический материализм, который все и вся выводит непосредственно из хозяйственных отношений. Это тот самый вульгарный материализм, с которым боролся Энгельс. Я цитировал Энгельса в своей речи при открытии Общества историков-марксистов и позволю себе сослаться на эту цитату4. Можно сказать, что Н. А. просто мог отмежевываться от плохих исторических материалистов, но он сказал не от плохих, а от крайних. Ему казалось тогда, что настоящий стопроцентный материализм все и вся выводит из экономических отношений, а я не крайний, умеренный, и поэтому всего из экономики не вывожу. Это было в 1901 году, и совершенно естественно, что в то же приблизительно время у него могла встречаться и такая фраза: «Выдающийся русский ученый, — пишет Н. А. Рожков о М. М. Ковалевском, — в одном из своих последних сочинений провел ту основную мысль, что развитие народного хозяйства в стране определяется в конечном счете отношением ее населения к территории, иначе, степенью плотности населения. Я и в мыслях не имею отрицать справедливость этого обобщения...» 5
Другими словами, Рожков этого периода находит возможным присоединиться к резко немарксистской мысли потому, что, конечно, рассматривать нарастание населения как самодовлеющий биологический фактор и из этого выводить те или другие экономические отношения — это значит ставить марксистское понимание истории на голову, ногами кверху, ибо для марксиста рост населения есть явление социальное, обусловли¬
U. А. Рожков
389
ваемое, между прочим, и хозяйственным строем страны, но ни в коем случае не первоисточник, откуда приходится объяснить самую хозяйственную систему. Так что в первые годы мы у Рожкова встречаем еще большое количество явно немарксистских положений и некоторую антипатию к терминам «марксисты», «крайние марксисты», «крайние экономические материалисты». Но это черты, которые напрасно иногда историки Н. А. Рожкова распространяют на всю его биографию, говоря, что вообще Рожков не любил называть себя марксистом. Это неверно, это совершенно неправильно. Это правильно только по отношению к этим первым годам — к 1897—1898 и 1899 и 1901 годам, когда, действительно, эта черта в Н. А. была в период его «становления».
Но и в его диссертации тоже встречаются чрезвычайно немарксистские положения, вроде того, например, что будто бы эксцессы помещичьих хозяйств и дикая эксплуатация земель и крестьян, которые наблюдались у русских помещиков конца XVI века, определялись юридической природой поместья. Тут опять-таки поставлен марксизм на голову, ногами кверху. Но Н. А. принадлежал к людям, которые никогда не перестают учиться. Если возьмете вышедшую в 1923 году 4-ю часть его «Русской истории в сравнительно-историческом освещении», вы увидите, как он постепенно подходил к настоящей марксистской постановке вопроса. Я возьму как раз тот момент, где он касается этой самой природы поместья. Давая характеристику хозяйства XVI века, он говорит:
«Теперь все понятно: поместпая система и по идее своей, и на практике представляла собой форму землевладения, приспособленную к натуральному хозяйству и к экстенсивной, хищнической заложной системе земледелия. Создалось, таким образом, непримиримое противоречие между главным господствовавшим в XVI в. видом землевладения и новыми экономическими условиями и задачами. Противоречие носило свое конкретное выражение в острой нужде помещиков в деньгах вследствие перехода к товарному хозяйству, а это только увеличило их грабежи и насилия, т. е. усилило хозяйственный кризис, переход к более экстенсивной системе земледелия»6.
Как видите, здесь марксизм, поставленный ногами кверху в диссертации, поставлен на ноги. Теперь уже доказывается не то, что система помещичьей эксплуатации была отражением юридической природы поместья, а что юридическая природа поместья была отражением этого кризиса, что безусловно верно. Таким образом, марксизм в данном случае одолел, и Рожков
390
111. Историография
к 1923 году в этом вопросе, на котором он споткнулся в 1899 году, дошел до правильной, четкой марксистской формулы. И он в этой книге, которую я считаю лучшим из томов его «Истории в сравнительно-историческом освещении», даже поправляет, и хорошо поправляет, целый ряд установок в книжках, которые считаются, вообще говоря, марксистскими. Так, например, он вносит ряд хороших поправок в характеристику Смутного времени «Русской истории с древнейших времен». Там вообще имелось некоторое принижение массового движения. На книге отразилось жестокое разочарование в крестьянской революции 1905—1906 годов, которая, казалось нам, окончательно собьет самодержавие, но которая ничего не сбила не только окончательно, но даже приблизительно. И под влиянием этого разочарования я действительно склонен был в своем анализе социальных факторов Смутного времени отводить очень мало места крестьянству. В силу этого я даже Болотникова изобразил не как вождя восставшего крестьянства, а как служилого человека; в связи с этим я подчеркивал, что Болотников был холопом князя Телятевского. Рожков великолепно меня здесь поправил:
«И напрасно М. Н. Покровский ссылается здесь на участие в бунте кн. Телятевского и на то, что Болотников обещал «ворам» боярство, воеводство, окольничество и дьячество. Неудивительно, что опустившийся, обедневший дворянин сражается против олигархии рядом со своим бывшим холопом, а обещания старых чинов, если они переданы даже точно, свидетельствуют лишь о том, что общественная мысль низов общества естественно и неизбежно отливалась в обычные, традиционные формы. Внушение Болотниковым боярской дворне «всяких злых дел на убиение и на грабеж», агитация среди боярских холопов, чтобы они «побивали своих бояр» и брали себе «их жен, вотчины и поместья», достаточно красноречивы. Понятна и та кровавая, беспощадная расправа, какую произвело над сторонниками Болотникова победившее их правительство боярского царя: «Целая треть государственной территории отдана была на окончательное разорение и узаконенный грабеж»; «Воеводы царя Василия и он сам осуждали на казнь сразу тысячи военнопленных»» *.
Опять-таки очень хорошая поправка явно не только не марксистской, а не революционной характеристики, которая была дана в моей книжке. Рожков в 1923 году не только луч-
* Н. А. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом
освещении, т. IV, стр. 177..
Н. А. Рожков
391
ший марксист, чем я был в 1910 году, но и больший революционер, чем я был в 1910 году. Это несомненный факт.
Дальше он, опять-таки в моей книжке, выуживает совершенно правильно обмолвку о том, что будто бы воеводское управление XVII века носило характерные феодальные черты. Я вам подробно этого вычитывать не буду, но он хорошо развивает ту мысль, что это было зачаточное бюрократическое управление, которое никаких феодальных черт не носило. Как видите, тут мы имеем у Рожкова целый ряд хороших марксистских поправок к книжкам, которые, вообще говоря, признаются марксистскими.
Таким образом, Рожков не застыл на тех домарксистских формулах, которые он выдвигал в конце 90-х и начале 900-х годов, но он рос постепенно в настоящем марксистском направлении. Вот почему я думаю, что он в конце концов перерос бы и те ошибки, о которых я буду сейчас говорить, которые больше всего отделяли его от нас и нашли, к сожалению, отражение в последнем, XII томе этой «Истории в сравнительно-историческом освещении». Он, по всей вероятности, перерос бы и их и в конце концов сделался бы настоящим ортодоксальным марксистом в понимании русского исторического процесса на всем его протяжении. Только глупая физиологическая случайность, которой кто-то из слушателей гражданской панихиды пожелал и мне (я получил на другой день открытку в этом духе), — эта глупая физиологическая случайность помешала ему выработаться в настоящего, вполне ортодоксального марксиста-историка.
И естественный вопрос, на котором приходится остановиться, — анализом его я займу оставшиеся у меня 8 минут — это вопрос: что же остановило его на этой дороге? В чем причина его «девиации», причина того, что он сбился с прямого пути? Вот тут приходится, может быть, невольно усвоить рожков- скую манеру объяснения индивидуальности, о которой будет говорить т. Фриче и которая сама по себе, конечно, не есть марксистская, но мне кажется, что когда говоришь об индивидуальности, то привлекать к делу биолого-психологический фактор все-таки мыслимо. Я сошлюсь на то, что и сам В. И. Ленин объяснял многое в поведении Н. А. около 1910—1911 годов его «скоропалительностью», как он выражался, т. е. фактором несомненно биолого-психологического свойства.
Защитившись, таким образом, примером Ленина, я и попытаюсь объяснить, как я понимаю эту его аберрацию. Н. А., несомненно, отличался необычной возбудимостью, необычай¬
392
III. Историография
ной чуткостью ко всяким внешним влияниям, тем, что теперь назвали бы необычайной быстротой условных рефлексов. Это был человек изумительно находчивый, а находчивость как раз и есть бытовое выражение этого фактора. Придя на какое-нибудь собрание и встретив там ситуацию, которую он не ожидал, о которой он совершенно не знал до прихода на это собрание, он не смущался, не молчал, у него через 10 минут находились четкие формулы и определенные аргументы, — словом, он справлялся с таким положением, с такой ситуацией как не надо лучше. Вот эта необычайная быстрота его реакции на все окружающее, мне кажется, лежит в значительной степени в основе той аберрации, которая с ним произошла.
Лев Толстой в «Севастопольских рассказах» приводит совершенно правильное наблюдение, что, если вы спросите тяжелораненого солдата, которого несут с поля сражения на носилках, как идут дела, вы, наверное, получите ответ: пропало, всех побили. Его самого ранили-, ему больно, плохо, и ему кажется, что вообще все плохо.
Н. А. был чрезвычайно тяжело ранен реакцией после 1907 года. Три года пришлось ему просидеть в тюрьме, потом оказаться в глуши Сибири. Эта рана и осталась у него, у него осталось преувеличенное представление о нашем поражении в 1905—1907 годах. Ему казалось, что мы разбиты вдрызг, что ничего не осталось, и он начинает себя утешать тем, что если революция не удалась, то удастся эволюция. В этом он находил себе утешение, принимая за исходную точку совершенно правильно кое-какие прогрессивные черты столыпинщины. Экономически, конечно, в столыпинщине было кое-что прогрессивное, что толкало хозяйство вперед, а не назад. Исходя из этого, он начинает мечтать о победе культурного капитализма над хищническим, грубым капитализмом дореволюционного времени и на этой победе культурного капитализма строить весь свой дальнейший прогноз. Бури, как он выражается, т. е. революции, больше не нужны. Местами даже проскальзывает мысль, что эта революция может испугать культурный капитализм, как она испугала его в октябре 1905 года, и от этого будет плохо: культурный капитализм, испугавшись, может броситься в объятия некультурного капитализма и даже в объятия феодализма. Произойдет опять жесточайшая реакция, будет много раненых, убитых и т. д., — словом, будет совершенно ненужное кровопролитие. Он выступает со своими знаменитыми проектами образования политического общества защиты интересов рабочего класса чисто мирными средствами. Он под¬
Н. А. Рожков
393
черкивает, что в программу этого общества отнюдь никакие насильственные средства не входят. Оно будет действовать исключительно мирными путями. И таким образом, вторично такой неудачи, какую мы испытали в 1907 году, не будет. Но для того чтобы сделать и для себя, и для своих читателей приемлемой эту картину роста культурного капитализма и завоевания в среде его рабочими себе всяких прав и т. д., а может быть* даже и социализма, при помощи мирных действий, не прибегая к революции, Рожков начинает густо-розовой краской замазывать столыпинщину. Пуришкевичи, говорит он, и Марковы 2-е уже издыхают, это жалкая свора, которая в углу сидит и никакой воли уже не имеет. На первый план теперь выдвигаются люди типа Гучковых, Милюковых, типа людей, которые представляют собой более или менее культурный капитализм, в особенности Милюков, а вовсе не дикий помещик. С диким помещиком кончено. О нем больше как о живой силе говорить не приходится.
Выходит, что и самодержавия как будто бы нет и т. д. Ленин жестоко посмеялся над всей этой концепцией и, с чрезвычайной меткостью взяв за жабры этот «культурный капитализм», вытащил его и доказал, что в этой чисто либеральной концепции нет ничего общего с марксизмом и что, если бы все это на практике осуществилось, это повело бы к политическому порабощению рабочего класса либеральной. буржуазией — кадетами и около кадетов, которые сделались бы при таком порядке вещей естественными. вождями рабочего движения. Поэтому, конечно, Ленин с крайним отрицанием отнесся к этой концепции Рожкова и посвятил ей две статьи — одну в «Звезде», другую в «Социал-демократе», в которых он радикальным образом разнес эту концепцию7. Теперь мы знаем, что такое этот «культурный капитализм». Мы на примерах видим, где эта концепция заняла прочное место. Ведь все присутствующие, вероятно, уже перевели этот культурный капитализм Рожкова начала второго десятилетия нашего века на «нормальный капитализм» теперешней социал-демократии, «нормальный капитализм», который отгораживает их и помогает им отгородиться от социалистической революции и превращает их в форменных пособников буржуазии. Так что Ленин был прав в своем прогнозе, и Рожков действительно здесь сильно ошибался, и, к сожалению, эта ошибка оказалась у него довольно прочной.
Воспоминание о ране, полученной Рожковым в 1908 году, было еще довольно свежо в 1917 году. Я помню наши разго¬
394
111. Историография
воры с ним в период выборов в Учредительное собрание. Мы оба были кандидаты — он от меньшевиков, я от большевиков. Это не мешало нам в вагоне трамвая на очень длинном штреке — минут в 40 — мирно разговаривать. Этот разговор оставил у меня о личности Н. А. одно из самых приятных воспоминаний. Нельзя было подумать, что это едут два кандидата резко враждебных между собой политических партий. Основной мотив был тот: «Вы идете, — говорил он, — на явную гибель, вы идете на разгром, я очень вас жалею, ибо вы все скоро станете покойниками». Мне пришлось ему доказывать, что, во-первых, без покойников вообще нельзя устраивать революций, что в истории не было таких революций, а во-вторых, что не всегда побеждают те, кто остается в живых, иногда, наоборот, победителями оказываются как раз покойники. Так что положение наше вовсе не такое безнадежное, как ему кажется.
Я пошел с ним на его лекцию. Он очень любезно согласился. Я слушал его великолепное, чрезвычайно популярное и ясное изложение как раз аграрного вопроса, причем он даже никаких особенных ересей об этом вопросе не говорил, он только избегал упоминать о том, что аграрный вопрос может быть разрешен при помощи пальбы, при помощи винтовок и пулеметов. Этого он не говорил. И этим искажал радикальным образом ту действительность, какая была перед нами в начале октября месяца 1917 года. Но само изложение аграрной программы меня поразило чрезвычайной яркостью, четкостью, общедоступностью и т, д, так что с этой стороны это была популярная лекция, чрезвычайно полезная для слушателей.
Я не знаю, прошел ли на выборах Н. А., но это не имеет никакого значения. Я не интересовался ни тем, где я прошел, ни тем, где прошел Н. А. Рожков. Может быть, он где-нибудь и прошел.
Так вот та основная ошибка, которая отделяла Рожкова от нас. В своей рецензии8 я выражал надежду, что с этой ошибкой Рожков справится, что он ее переварит и, как полагается, все переваренное извергнет и наполнит свое умственное содержание другой пищей, более марксистской. Тот факт, что в целом ряде исторических вопросов он от немарксистских положений перешел к положениям четко марксистским, по-моему, оправдывает это предсказание и оправдывает то, что я сказал: что только глупая физиологическая случайность помешала нам видеть Н. А. Рожкова настоящим историком-марксистом,
«Историк-марксист», 1927, т. IV, стр. 179—180
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК
«...Какой отраслью знания может интересоваться публика, которую не интересует история? Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук, и все-таки быть образованным человеком; но не любить историю может только человек, совершенно неразвитый умственно» *.
Эти слова взяты из одной ранней статьи Чернышевского, но это отнюдь не юношеское увлечение. Как мы увидим дальше, основные взгляды Чернышевского начали складываться гораздо раньше 1854 г., к которому относится цитированная только что статья о сборнике «Пропилеи». Можно сказать, что на протяжении всей своей дальнейшей литературной деятельности Чернышевский оставался верен этому пониманию истории и что редко к кому, больше чем к Чернышевскому, приложимы слова Ленина, что публицист есть историк современности. Публицистика и история у Чернышевского постоянно переливаются одна в другую: говоря о прошлом, он постоянно имеет в виду настоящее, а настоящее постоянно стремится объяснить исторически, идя от прошлого. Он чрезвычайно охотно берется за исторические темы, с явной любовью — характерный признак именно историка по склонности — относится к конкретным историческим фактам, и, когда у него нашелся «досуг», в Алексеевском равелине, он принимается за писание своей собственной истории, за свою «Автобиографию» 2, которая является в то же время таким великолепным образчиком местной истории, истории Нижнего Поволжья первой половины XIX в., что из «Автобиографии» Чернышевского многому могут научиться наши краеведы.
Но Чернйшевский не только любил конкретное прошлое, как любит его всякий историк, он нередко — хотя и не всегда — и понимал это прошлое как нужно его понимать настоя¬
* Чернышевский. Соч., т. I, стр. 367, из статьи «Пропилеи» 1.
т
11L Историография
щему историку, т. е. историку-материалисту. Некоторые его замечания прямо поразительны для его времени. Догмат о «глубоком историческом своеобразии» каждого отдельного народа, каждой отдельной страны в дни Чернышевского был почти непоколебим. Считалось само собой разумеющимся, что история России должна быть чем-то непохожим на историю других стран. Об этом говорили не только славянофилы, для которых это несходство было исходной точкой всего их понимания исторического процесса, но от этого недалеки были и западники, готовые согласиться, что материал, из которого строится история, одинаков в России и в Западной Европе. Материал одинаков, но постройка все-таки совершенно другого стиля. На Западе общество создало государство, в России государство создало общество со всеми его классами. Запад шел путем революции снизу, Россия шла путем мудрых реформ сверху. Словом, никак нельзя мерить Россию европейским аршином. И в новейшее время материалистической историографии пришлось проделать очень большую работу по разрушению этого основного предрассудка историографии идеалистической, будто у нас все не так, как у других.
Чернышевский уже в 1860 году прекрасно понимал, что под этими «своеобразиями» скрывается основное тождество исторического процесса в самых различных странах. Он нарочно берет две страны, гораздо далее отстоящие друг от друга, чем Россия и Западная Европа, и рисует такую картину: «В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь якутов нет, по-видимому, ничего соответствующего этим явлениям. Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже самым оглавлением своим наведет нас на мысль, что поверхностное заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат, способы добывания пищи, жилища, одежда, пути сообщения, торговля и т. д. Как, спрашиваете вы себя, неужели у якутов есть и пути сообщения, и торговля? Да, разумеется, есть, как и у англичан; разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон, но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь, поселяются в землянках; эти землянки вырыты по соседству одна от другой, так что составляют какую-то группу,— вот вам и зародыш города; в самой Англии дело началось с
Н. Г. Чернышевский как историк
397
того же: зародыш Лондона была такая же группа таких же землянок. У англичан есть Манчестер с гигантскими машинами, которые называются бумагопрядильной фабрикой; но ведь и якуты не довольствуются звериными шкурами в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти войлок; от валяния войлока уже недалеко до тканья; от иголки недалеко до веретена, а Манчестер составляется просто накоплением десятков миллионов веретен с удобной для них обстановкой; в работе якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш Манчестера, как в якутской землянке — зародыш Лондона. Дело иного рода, насколько где развилось известное явление; но явления всех разрядов в разных степенях развития существуют у каждого народа. Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по одним и тем же законам, только обстановка у него в разных местах различна, оттого различно и развитие; берлинский кислый виноград — тот же самый виноград, какой растет в Шампани и в Венгрии, только климат разный, потому с практической точки зрения можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что не годится, — вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая или Эперне, из которого делают дивные вина; так, разница огромная, явная для всякого, но согласитесь, что ученые люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде» *.
В другом месте той же статьи Чернышевский выразил ту же мысль еще яснее и короче, и притом в применении именно к русской истории. «Русская история понятна только в связи с всеобщей, объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории» 4. Между историями двух различных народов разница только количественная, а не качественная. «Быть может, раса народа имела некоторое влияние на то, что известный народ находится ныне в таком, а не в ином состоянии; абсолютно нельзя отвергать этого, исторический анализ еще не достиг математической, безусловной точности; после него, как и после нынешнего химического анализа, еще остается небольшой, очень небольшой residuum, остаток, для которого нужны более тонкие способы исследования, еще недоступ-
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, стр. 221—222. «Антропологиче¬
ский принцип в философии». Разрядка везде, где это особо не оговорено,
моя. — М. Я.3
398
111. Историография
ные нынешнему состоянию науки; но этот остаток очень мал» *.
Но современная Чернышевскому историография была не только националистической, она была еще и индивидуалистической. Причем индивидуализм и национализм в некоторых исторических школах сливались, как это было, например, со «школой Ранке». Чернышевский и в этом отношении стоял на позициях, гораздо более к нам близких. В пресловутом «вопросе о роли личности в истории» он шел, пожалуй, дальше самых ярых отрицателей этой «роли» 1890-х годов. «Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, — пишет он, — ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от исторического нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другой фамилией, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг.
Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только слугой исторической потребности, и с нашей отвлеченной точки зрения нас интересует только развитие содержания русской критики, во всем существенно важном с необходимостью определявшееся обстоятельствами, созданными историей. И если мы будем иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее, то вовсе не потому, чтобы, собственно, от его личности зависело выражение этой идеи, напротив, в том, что есть существенного в его критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только те или другие слова, употребление того или другого оборота речи, но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени; от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль» **.
Но и признание основного единообразия исторических процессов различных стран и отрицание творческой роли лично¬
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VII, стр. 21, из примечаний к «Политической экономии Милля» 5.
** Чернышевский. Соч., т. И, стр. 165. «Очерки гоголевского периода» 6.
Н. Г. Чернышевский как историк
399
сти в истории — все это вещи еще весьма элементарные, давным-давно нашим поколением усвоенные и переваренные. Как от всякого переваренного, от них остался также и некоторый «резидуум», который пришлось отбросить; и мы теперь знаем, что и исторические своеобразия в истории отдельных стран глубже, нежели кажется с первого взгляда, и личность в истории играет большую роль, чем сначала казалось. Для того чтобы попасть в цель, всегда необходимо сначала дать перелет. Но Чернышевский поднимался до понимания вещей, не всегда ясных даже людям нашего поколения. Едва ли можно утверждать, что теперь уже является общераспространенным мнением, что не только публицистика и общественные науки в тесном смысле этого слова являются отражением классовой борьбы, но что и в самых отвлеченных из отвлеченных теорий достаточно глубокий анализ откроет ту же классовую борьбу, А Чернышевский в том же «Антропологическом принципе в философии» уже в 1860 году писал: «Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политической стороной жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббз был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше, он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде
400
III. Историография
не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, — это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, — это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки» *.
Итак, лишь очень наивные люди могут думать, что даже отвлеченные теории не зависят от политики, т. е. от классовой борьбы. Так представлял себе дело Чернышевский в 1860 году. Если мы вспомним, что слишком полстолетия спустя, в 1918 году, органы Советской власти издавали буржуазных историков, в то время как марксистских историков в это же самое время издавали частные издатели, мы поймем, насколько Чернышевский опередил свое время. Ибо даже если отвлеченнейший философ есть не что иное, как одно из орудий политической борьбы, то что же сказать об историке, который к политике неизмеримо ближе? И тем не менее наши государственные издатели 1918 года были, видимо, твердо убеждены, что йстория —все равно история, кто бы ее ни писал, это объективная наука, а если на ней «до известной степени отражается» классовое положение ее автора, то таких солидных авторов, как Ключевский, это нисколько не портит.
Я боюсь, что у читателя уже готово представление, очень «модное» в наши юбилейные дни: Чернышевский «самородный марксист», «наш национальный Маркс» и т. д. Представление это, вытекшее из похвального, но недостаточно как будто продуманного желания возвеличить юбиляра, несомненно, дает нам исторически (а мы помним, как Чернышевский любил и уважал историю!) совершенно неправильный образ. И нет никакого труда привести из произведения того же автора отрывки, вполне уполномочивающие к заключению, какое в свое время сделал Плеханов: что Чернышевский в истории был идеалистом.
Возьмем, например, его знаменитую полемическую статью против Герцена «О причинах падения Рима». В этой статье
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, стр. 1807.
В. Г. Чернышевский как историк
401
Чернышевский — исторически совершенно правильно — ополчается против той точки зрения, что в истории «всегда побитый виноват» и что падение Римской империи было исключительно результатом ее внутреннего разложения. С большой исторической меткостью он подчеркивает, что нельзя судьбу культур и народов объяснять исключительно условиями их внутреннего развития, когда этих культур и народов на сцене несколько и они между собой борются. Нет никакого сомнения, что Римская империя в эпоху наиболее интенсивного нажима на нее германских племен переживала тяжелый внутренний кризис и что этот кризис очень облегчил победу германцев. Но .без германцев кризис мог получить и иную развязку, а с точки зрения внутреннего развития Римской империи германцы были, конечно, случайностью. В особенности же возмущает Чернышевского утверждение, что этот разгром большого культурного объединения народами, стоящими на гораздо более низкой ступени развития, был сам по себе чем-то хорошим и благодетельным для человечества — был проявлением какого-то «прогресса». И вот по этому поводу Чернышевский неожиданно пускается в рассуждения, совершенно опрокидывающие то представление о Чернышевском как историке, какое могло сложиться у читателя на основании предшествующих цитат.
«Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар. Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия, от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание, от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и, чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила
402
III, Историография
прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания»*.
Движением культуры вперед мы, оказывается, обязаны исключительно накоплению и развитию знаний. От Маркса мы оказываемся неожиданно отброшенными на позиции Бокля и Щапова (последний, к слову сказать, в этом пункте был, несомненно, учеником Чернышевского). Возьмемте теперь другой отрывок. Читателю, конечно, хорошо известно, какую роль в буржуазной русской историографии играла теория, изображавшая русский общественный строй со всеми его особенностями как результат влияния государства. Эта теория очень живуча. Ее отзвуки можно встретить еще в советской литературе (объяснение деления русского общества на классы как результата воздействия «политических факторов» у Ооновского). И вот представьте себе, что и эта теория, резко буржуазная, резко антимарксистская и антиленинская, могла бы найти себе точки опоры в некоторых писаниях Чернышевского. Возьмите статью «Суеверие и правила логики», и вы прочитаете там: «Мы нашли коренную причину не только явления, объяснением которого специально занимаемся в этой статье, но и всех тех фактов, которые представлялись нам ближайшими причинами егб. Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии — все это и не только это, но также и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость, — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти.
Другая сильнейшая причина нашей бедности... — крепостное право—произошло некогда от дурного управления и поддерживалось им. О происхождении крепостного права мы заметим только, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной администрации охранить прежние свободные отношения поселян, живших в известной даче, к владельцу дачи и удержать постепенное расширение произвольной власти, захватываемой владельцем над
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, стр. 158. «О причинах падения
Рима»8,
Н. Г. Чернышевский как историк
403
населявшими его землю людьми; заметим еще, что... возможность учредить крепостное состояние происходила только от того, что вольные люди, слишком плохо защищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком большой потери для себя от записки в принадлежность сильному человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к старине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем положении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право держалось до сих пор, то оно было обязано такою продолжительностью своего существования только дурному управлению. Действительно, каковы бы ни были законы, определявшие права помещиков над крепостными людьми, но если бы даже эти законы соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех поместьях крепостное право было бы прекращено частными судебными решениями по процессам о злоупотреблении власти» *.
Читатель понял, без сомнения, что статья, напечатанная в подцензурном издании10, изъяснялась эзоповским языком и что под «состоянием нашей администрации и судебной власти» следует разуметь не кого другого, как самодержавие. Но методологически дело от этого нисколько ие улучшается. Что социальный строй дореформенной России был создан государством, что деятельность самодержавного государства была «коренной причиной», «сильнейшей причиной», определившей все эк-ономическое и социальное развитие России, — это все становится лишь ярче, если мы переведем нашу цитату с эзоповского языка на обыкновенный. «Политические факторы» Огановского могут похвастаться, как мы видим, весьма блестящей генеалогией. Но и это еще не предел. В одной из крупнейших историко-литературных статей Чернышевского «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» мы прочтем такую тираду:
«Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времени Регентства в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о
* U. Г. Чернышевский. Соч., т. IV, стр. 562—563 9.
404
111. Историография
национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII в. немцы во всех отношениях были двумя веками позади англичан и французов. В начале XIX в. они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII в. немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX в. немцы явились народом, полным могучих сил,—народом, которому предстоит великая и счастливая будущность, — народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи для своего обновления. Все это совершила литература...»*
Что история движется вперед прогрессом знаний, прогрессом науки — это еще современный читатель может кое-как освоить. Что творческим движущим началом является государство, верить этому опять-таки есть еще охотники, пример — Огановский. Но что перевороты в жизни народов может совершать литература— к этому едва ли могли отнестись серьезно даже более или менее исторически образованные современники Чернышевского, в особенности если вспомнить, что народные массы Германии этой литературы даже и не читали. Едва ли честные немецкие ремесленники времен Лессинга читали что-нибудь, кроме Библии и газет (тогдашних газет!), а крепостные крестьяне были наверняка и вовсе безграмотными. Как и какими путями литература при таких условиях могла произвести переворот в жизни целого народа — едва ли это сумел бы объяснить даже и сам Чернышевский. Хотя, нужно сказать, некоторая теория по этому поводу, теория, к сожалению, не имеющая совершенно ничего общего с историческим материализмом, у него была. В статье ««Обзор исторического развития сельской общины в России» Чичерина» (1856 год) мы читаем: «Известно, что общий ход исторического движения состоит в расширении его круга; начинается оно с передовых классов общества и достигает низших слоев народа, что совершается очень медленно. И в Англии, и во Франции народ еще недавно и очень мало вовлечен в историческое движение; тем естественнее, что у нас оно еще и не касалось сельского быта, и факты доказывают, что историческими деятелями у нас доселе были только высшие сословия и отча-
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. III, стр. 587 п.
R. Г. Чернышевский как историк
405
сти города: о народе история упоминает редко, разве в исключительных случаях, как в 1612 году, да и то для того только, чтобы тотчас же опять забыть о нем» 12.
Тут мы имеем уже не только вообще идеалистическую, но определенно классово-буржуазную постановку. Историю, оказывается, совершают не классы производящие, а классы потребляющие. Естественно, что и движущим началом является не развитие производительных сил, а процессы, происходящие в мозгу потребителей. И что за странный аргумент, что о классах — производителях истории приходится говорить очень мало. Да что же это доказывает кроме того, что наши исторические источники создавались исключительно командующими классами, а обрабатывавшие их историки, сами вышедшие из этих классов, еще заботливо отметили то, что интересам этих классов противоречило?
Итак, Чернышевский как историк стоит перед нами в образе некоего двуликого Януса. С одной стороны, как будто совсем марксист, с другой стороны, как будто совсем буржуа. Те, кто полагает, что в дни юбилея нужно только или хвалить, или ругать (примером последнего может служить отношение некоторых товарищей к юбилею Толстого), по отношению к Чернышевскому попадают в положение одного персонажа из одного черносотенного романа, который (персонаж, разумеется, а не роман), подвергаясь равносильному давлению и своих аристократических друзей справа, и своих демократических друзей слева, на известной лекции Костомарова в дни петербургской студенческой забастовки 1861 года руками хлопал, а губами свистел. Мы полагаем, что наша обязанность по отношению к нашим великим мертвецам не хлопать и не свистеть, а постараться понять их и этим самым выделить то, что в них есть подлинно бессмертного, т. е. такого, что вошло как неразрывное звено в общую цепь исторического развития и определило таким образом в той или другой степени мировоззрение нас самих.
Нужно прежде всего понять, как складывалось мировоззрение самого Чернышевского. Для этого у нас есть теперь богатейший материал в только что опубликованных юношеских его дневниках, охватывающих последние годы его студенчества и первые — его провинциального учительства до переезда Чернышевского в Петербург, до того как он из провинциального учителя превратился в столичного литератора. Трудно переоценить значение этих дневников как одного из ценнейших источников, не только для биографии Чернышевского, но и для
406
111. Историография
истории умственного развития всей его эпохи, всего того поколения, к которому принадлежал Чернышевский.
Эти дневники лишний раз устанавливают, какое глубокое и почти непосредственное влияние на историю русской общественной мысли имела революция 1848 года, обыкновенно в баланс этого развития вовсе не включавшаяся. Мы знали, конечно, какой огромный сдвиг обозначала эта революция в миропонимании Герцена. Но Герцен как раз жил за границей, и могло показаться, что именно поэтому и именно только для него революция 1848 года была таким сдвигом. Теперь мы знаем, какое влияние она имела не только на очевидцев, непосредственно с нею соприкасавшихся, но и на рядовую петербургскую интеллигенцию, которая знала об этой революции только по газетам, пропускавшимся цензурой Николая I.
Тому, кто не читал дневников Чернышевского в подлиннике, трудно себе представить, с какой живостью реагировал на далекие, в тогдашние времена, без железных дорог и телеграфа, особенно далекие события европейской истории этот зеленый юноша, еще не совсем освободившийся от впечатлений и привычек патриархальной саратовской обстановки. Вот два отрывка.
«...Прочитал окончательно о том, что Роберт Блюм, член Франкфуртского Собрания, расстрелян в Вене, и о том, как единогласно во Франкфурте принято требование наказания всех, кто участвовал в этом поступке. Это меня взволновало, и теперь я об этом думаю: как Европа так еще близка к тем временам, когда деспотизм осмеливался нарушать формы явно! Расстрел члена Собрания без его ведома! Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства; да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба твоего, да воцарится он в жизни твоей! — Когда шел от Славянского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам» 13.
Но конечно, больше, чем германская, интересовала Чернышевского французская революция 1848 года. Вот что он писал в сентябре этого года, когда в Национальном собрании шли дебаты о выдаче суду Ледрю-Роллена, Луи Блана и Косси- дьера за участие в майско-июньских событиях этого года: «Вчера до 3 час. читал объяснения Ледрю-Роллена, Луи Бла-
П. Г. Чернышевский как историк
407
на и, пропустивши Коссидьерово, — конец заседания. Ледрю- Роллен сказал превосходно, не хуже, а может быть, лучше какого-нибудь Верньо, которого, однако, я знаю только по отрывкам у Беккера. Что за высота, на которую он; возвел прение! Он не оправдывался, а разил своих противников, он обвинитель, а не обвиняемый, и не совсем-то ловко должно было быть Комиссии, когда он так говорил. Он говорил, собственно, не о себе, а об общих началах и о Луи Блане и Кос- сидьере: «Нет, вы не должны отдавать их под суд!» —Превосходно, так что я начал, наконец, читать вслух. После так же хорошо стал говорить Луи Блан. В первой части своей речи, когда он говорит об общем направлении дела и оправдывает свое участие, он также велик, может быть, еще выше Ледрю-Роллена по красноречию и увлекательности; во второй, когда он объясняет свое поведение в мае, он удивителен, хотя здесь интерес не такой общий. По моему мнению, он совершенно уничтожил точно так же, как и Ледрю-Роллен, все обвинения, на него возводимые, совершенно уничтожил, так что я даже удивился, как у него достало, как и [у] Ледрю- Роллена, средств и силы так оправдаться. Я всегда считал их невинными перед историей, теперь вижу, что они невинны должны быть и перед судом полиции, если только судить будет она беспристрастно. Великие люди!» 14
Луи Блан и долго после оставался героем для Чернышевского. Год спустя, мечтая о своем личном будущем, он писал в дневнике: «Через несколько лет я —журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блан а... надежды вообще: уничтожение пролетариатства и вообще всякой материальной нужды — все будут жить, по крайней мере, как теперь живут люди, получающие в год 15—20 тыс. руб. дохода... Аминь, аминь» 15.
Луи Блана Чернышевский впоследствии разгадал и оценил гораздо правильнее, как впоследствии он избавился от обаяния Гизо-историка, восторженными отзывами о котором наполнен дневник. Один раз Гизо даже убедил Чернышевского, что всеобщего избирательного права не нужно... Напомним еще раз, что все-это мы читаем в дневнике 20-летнего студента. Повторяю, от мимолетных, хотя и весьма восторженных, симпатий Чернышевский впоследствии вылечился. Но на его исторической концепции неизгладимо легло впечатление от того колоссального предметного урока классовой борьбы, каким для все?: мыслящих людей своего времени явился
408
III. Историография
1848 год. Мы ужо видели, что [в] 21 год от роду Чернышевский ставит «уничтожение пролетариатства» как одну из своих жизненных задач. В его дневнике классовые оценки в связи с отзывами о событиях 1848 года встречаются на каждом шагу. Вот один отрывок: «Эх, господа, господа,, вы думаете, дело в том, чтобы было слово «республика» да власть у вас, — не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блаи, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода, — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого» 16.
Было бы удивительно, если бы на такого вдумчивого и страстного в то же время юношу, каким был тогда Чернышевский, события «безумного года» не произвели именно такого впечатления, ибо эти события учили классовому пониманию истории не только крупных современников, безразлично какого лагеря, реакционера Токвиля и революционеров Герцена и Бакунина, — но не понять урока не могли даже самые дюжинные люди вроде шпиона III отделения в Париже Якова Толстого, доносившего своему начальству о происходившем в весьма точных классовых терминах. Уже 9 (21) марта 1848 года он пишет: «Парижские беспорядки нашли отзвук в провинции: повсюду фабриканты и собственники — в открытой борьбе с рабочими и народом...» 12 (24) июня 1848 года: «Это всецело восстание рабочих, полных ненависти и поклявшихся уничтожить национальную гвардию и богатых...» , 15 (27) июня
1848 года: «Пленный, которого упрекали за то, что он поднял оружие на своих братьев, ответил: «Чего вы хотите? Это война неимущего против имущего!» Таков вообще был лозунг мятежников» *.
* Центрархив, «Революция 1848 г. во Франции (Донесения Я. Толстого)» (стр. 42—87) 17.
Так как на заседаниях Общества историков-марксистов, посвященных юбилею Чернышевского, в ходу было противополагать «буржуазного либерала» Герцена «революционному коммунисту» Чернышевскому,
В. Г. Чернышевский как историк
409
Чернышевский запомнил урок на всю жизнь. Его мысль как публициста постоянно возвращается к французской революции 1848 года и ее подготовке. Все три его большие исторические статьи («Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия» и «Кавеньяк») посвящены в сущности истории классовой борьбы во Франции перед 1848 годом и являются лучшими образчиками примене¬
но худо привести несколько отрывков из «Писем из Франции» (письма 9—11).
«...Демократическая партия была незрела... у нее не было ничего готового... народ вообще до такой степени привык быть управляем другими, что сейчас удовольствовался правителями, взятыми в рядах парламентской и журнальной оппозиции, не сообразив, что край буржуазного радикализма против Гизо становился 'ретроградным в отношении к социализму и пролетариату» (т. VI, стр. 74) 18.
«Временное правительство окрепло, и Ламартин, как вы знаете, подвергая свою жизнь опасности, отстоял трехцветное знамя. Знамя ’ народа, знамя, водруженное под пулями, знамя демократии, республики грядущей было отринуто; знамя прошедшей республики, перешедшей в империю,, знамя Наполеона, обидное для всей Европы, обагренное кровыо всех народов, знамя, семнадцать лет осенявшее Людовика- Филиппа, знамя, из-под которого стреляли муниципалы в народ, знамя буржуазии — было принято хоругвией новой республики. Новая республика объявляла себя мещанскою, она не разрывалась с прошедшим и, следственно, необходимо должна была встретиться с республикой ожидаемой, и встретиться злее, нежели монархия, потому что между монархией и социализмом именно стояла еще политическая, формальная республика. Как только буржуазия узнала о трехцветном знамени, лавки открылись, у нее отлегло на сердце. За эту уступку и она, с своей стороны, делала не меньшую—она соглашалась признать республику!» (т. VI, стр. 76) 19.
«Между тем в Париж наезжали со всех сторон представители. Народ и республиканцы с негодованием и краснея до • ушей смотрели на эти ограниченные лица, на эти скупые глаза проприетеров, на эти черты, искаженные любовью к барышу и к порядку, на жирные носы и узкие лбы провинциалов-стяжателей, шедших теперь перед лицом мира устраивать судьбы Франции, создавать республику, имея критериумом йфшин лавочника и разновес эписье. И вы отдали будущность вашей прекрасной Франции им, вы их допустили, вы позволили им, — несите же горький плод» (т. VI, стр. 95).
«Обыкновенно думают, что социализм имеет исключительною целью разрешение вопроса о капитале, ренте и заработной плате, т. е. об уничтожении людоедства, в его образованных формах. Это не совсем так. Экономические вопросы чрезвычайно важны, но они составляют одну сторону целого воззрения, стремящегося наравне с уничтожением злоупотреблений собственности уничтожить на тех же основаниях и все монархическое, религиозное — в суде, в правительстве, во всем общественном устройстве и, всего более, в семье, в частной жизни, около очага, в поведении, в нравственности» (т. VI, стр. 99) 20.
Чем не культурная революция?
410
HI. Историография
ния материалистического метода в русской исторической литературе до Плеханова. Кстати, читатель, вероятно, удивляется, что я не пользуюсь для характеристики Чернышевского-исто- рика именно этими статьями. Объяснение этому весьма простое.
Чернышевский в этих статьях широко пользуется заграничной литературой, являвшейся нецензурной в тогдашней России. По вполне понятным причинам он не делает никаких цитат, переводя нередко, в иных статьях на каждом шагу, дословно. По отношению к июльской монархии во Франции он прямо пишет, что «вовсе не Гизо [мемуары Гизо были названы как источник в начале статьи. — М. П.] будет нашим руководителем. Читатель, знакомый с литературой французской истории, конечно, назовет наши рассказы почти простым переводом, — мы не имеем другой претензии, кроме той, чтобы эти статьи могли назваться не совсем дурным переводом. Теперь мы считаем излишним распространяться об этом, но со временем удовлетворим и требование библиографической точности представлением цитат, от приведения которых ныне уклоняемся только для того, чтобы не сделать свое изложение чрезмерно тяжелым» *.
Цитируя текст этих статей так же, как и текст великолепных политических обзоров Чернышевского, где им использовались иностранные газеты того времени, можно попасть в то забавное положение, в какое 30 лет назад попала «Рабочая мысль», тогда уже объявлявшая Чернышевского предтечей и чуть не родоначальником научного социализма. «Рабочей мысли» понесчастливилось для характеристики понимания Чернышевским рабочего вопроса взять отрывок из «Июльской монархии», почти целиком переведенный из «Истории 10 лет» Луи Блана. Если добавить к тому, что Чернышевский не просто переводил свои «нелегальные» для того времени источники, а и поправлял их, сокращал или расширял там, где оригинальный текст казался ему недостаточно понятным для русского читателя, то мы поймем, перед какой гигантской историко- литературной работой, даже еще и не начатой, мы стоим. Несомненно, что, когда дойдет речь до «академического» издания сочинений Чернышевского, все его заимствования будут текстуально вскрыты и отмечено будет также и то, в чем он добавил или исправил свои источники. Пока эта работа не произведена, как ни соблазнительно ссылаться на статьи Чернышевского из истории Франции, делать это было бы крайней неосторо-
* ZZ. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, стр. 53. «Июльская монархия» 21.
II. Г. Чернышевский как историк
411
жностью, — это могло бы поставить цитирующего в то смешное положение, в каком оказалась «Рабочая мысль» 22.
Вот почему Чернышевского-историка удобнее характеризовать по его попутным историческим замечаниям в его неисторических работах. Как правильно он оценил и запомнил впечатления своей юности, показывают, например, его примечания к Миллю. Вот что он там пишет: «В 1848 году повсюду, где был переворот, бывали в нем более или менее заметны или у всей массы простонародья, или у довольно больших отделов ее какие-то отчасти неясные тенденции, клонившиеся к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции... казавшиеся сходными с коммунизмом. В то же время обнаруживалось, что бывшие защитники коммунизма и социализма в литературе думают воспользоваться этими тенденциями, которые были порицаемы даже и самыми радикальными из демократов, не бывших коммунистами или социалистами. Таким образом раскрылось для всех, что между коммунистами и социалистами и всеми другими партиями есть большая разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали в это время, что у них у обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди, оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционера, и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом» *.
Можно сказать, что в общем, когда Чернышевский говорит о западноевропейской или даже о восточной истории, он ближе всего к точкам зрения марксизма. Правда, это марксизм довольно относительный, поскольку Чернышевскому совершенно чуждо представление, что «пролетариатство» есть совершенно необходимая стадия социального развития, без которой не мо- \жет быть социалистической революции. Вот что мы читаем в очень известной статье Чернышевского о «Studien» Гакст- гаузена (1857 год): «Экономическое движение в Западной Европе породило страдания пролетариата. Мы нимало не сомневаемся в том, что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь «не к смерти, а к здоровью», но переносить настоящие свои страдания для Западной Европы все-таки тяжело, и врачевание этих страданий требует долгого времени и великих
* Ы. Г. Чернышевский. Соч., т. VII, стр. 629 23.
412
III. Историография
усилий. У нас, принимающих ныне участие в экономическом движении Европы, сохранилось противоядие от болезни, соединенной с этим движением на Западе, и мы поступили бы очень нерасчетливо, если бы по нелюбви к патриархальности вздумали отступиться от него в такое время, когда оно оказывается чрезвычайно пригодным для предохранения нас от страданий, видимых нами на Западе» *.
Итак, пролетариат и его классовая борьба с буржуазией, — факт этой борьбы Чернышевский, конечно, признавал, признавал еще в 1848 году, как мы помним, — вовсе не являются чем-то необходимым для будущего социалистического переворота. Это самый дорогой и тяжелый путь к перевороту — можно найти более легкий и дешевый. Естественно, что такое отношение к пролетариату должно было деформировать до известной степени и изображение истории классовой борьбы на Западе, как ни близок здесь Чернышевский к историческому материализму. Так как приходится слышать сравнения «Ка- веньяка» Чернышевского с «Борьбой классов во Франции» К. Маркса, причем будто бы и то и другое произведения являются единственными в мировой литературе образчиками материалистического анализа французских событий 1848 года, то небесполезно сравнить хотя бы характеристику июньских д н е й у того и другого автора. Еще раз напоминаем читателю о всей условности такого сравнения — источников для этой страницы Чернышевского мы не знаем и не можем сказать, насколько наш автор от них зависел. Тут важны не слова и не отдельные факты, а общая окраска, общие черты характеристики: свои или не свои. Чернышевский их ввел в свою статью, значит, эта общая характеристика не казалась ему неправильной. Вот она:
«Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокойства во Франции, июньское междоусобие отличается от других парижских междоусобий, в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней. Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотелиони? — Этодо сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед
* И. Г. Чернышевский. Соч., т. III, стр. 30324.
II. Г. Чернышевский как историк
413
ними. То не были ни коммунисты, (ни социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они? — Улучшения своей участи; но какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чегоже они хотели, если небыли даже коммунистами? Отчаяние —вот единственное объяснение июньских дней, оно составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы, — они не имели ни определенного политического образа мыслей, ни определительных требований от правительства или общества, кроме одного требования: они хотели иметь работу и кусок хлеба, доставляемый работой, и думали, что противники хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько раз торжественно обещанной. Оттого-то и дрались они с таким отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; далеко не все работники Парижа, далеко невсе работники национальных мастерских взялись за оружие; надежды на успех почти не было, инсургенты шли на погибель почти несомненную, и потому к ним не присоединился никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или вероятность иметь работу на фабриках. Зато отважившиеся на битву почти безнадежную дрались с энергией, какой не было ни в июле 1830 года, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выступала национальная гвардия Парижа еще более многочисленная, выведена была «подвижная гвардия», garde mobile, составленная из отчаянных юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная артиллерия тяжелого калибра, — всего было мало, постоянно прибывали по железным дорогам новые войска и новые отряды национальной гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это громадное превосходство в силах подавило мятеж, — да и этой медленной победой противники инсургентов были обязаны только новой системе борьбы, которую Ка- веньяк применил к делу с редким искусством и еще более редкой непоколебимостью» *.
* Н. Г. Чернышевский, Соч., т. IV, стр. 21—22 25t
414
111. Историография
А теперь возьмем сжатую характеристику Маркса: «Рабочим не оставалось выбора: они должны были умереть голодною смертью или вступить в бой. 22 июня они ответили грандиозным восстанием — первой битвой между двумя классами, раскалывающими современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение буржуазного строя. Покрывало, скрывавшее республику, разорвалось. Известно, как рабочие с беспримерным мужеством и гениальностью, без вождей, без общего плана, без средств, по большей части без оружия, в продолжение пяти дней боролись против армии, летучей гвардии, парижской национальной гвардии, а также против национальной гвардии, нахлынувшей из провинции. Известно, как буржуазия неслыханным зверством вознаградила себя за испытанный ею смертельный страх и перебила более 3000 пленных» *.
Разница в трактовке события бьет в глаза. Для Маркса июньские дни — первый взрыв социалистической революции; страдания парижского пролетариата — только повод для взрыва. Для Чернышевского эти страдания — причина взрыва, которого могло бы и не быть, веди себя буржуазия иначе. Поднялись люди потому, что их обманами и издевательствами довели до отчаяния; и Чернышевский заботливо подчеркивает, что, кого не довели до отчаяния, те и остались спокойно дома: «Далеко не все работники Парижа... взялись за оружие... не присоединился никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести (!), или вероятность иметь работу на фабриках». Нужно очень пристрастно относиться и к Марксу, и к Чернышевскому, чтобы видеть тут какое-нибудь сходство кроме того самого общего, какое будет у любых других историков, изображающих классовую борьбу. И если уже сравнивать всех писавших об этом сюжете, то ближе к Марксу будет, конечно, Герцен, отрывки из «Писем» которого о том же самом нами приведены выше. У Герцена неизбежность конфликта проходит яркой чертой через всю характеристику событий от февраля до июня 1848 года. Все остальное дано на фойе этой нарастающей трагедии. Все отдельные характеристики связаны этим единством основной мысли. Воз- мите его саму по себе великолепную характеристику Бланки:
«Не таков был Бланки. Разрывая связи с правительством, он разрывал их окончательно, он никого и прежде не любил
* Сочинения Маркса и Энгельса, т. III, стр. 49. Первая разрядка моя. — М. Я.26
Н. Г. Чернышевский как историк
415
из этих слабых людей, теперь он их ненавидел и подозревал. Бланки, человек сосредоточенный, нервный, угрюмый, изнуренный и больной от страшного тюремного заключения, сохранил невероятную энергию духа, Бланки — революционер нашего века, он понял, что поправлять нечего, он понял, что первая задача теперь — разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальным красноречием, он потрясал массы, каждое слово его было обвинение старого мира и вызов на казнь его. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше. Правительство было испугано этим беспощадным человеком, что бы оно ни делало, злой и иронический взгляд Бланки был у них перед глазами, и они бледнели. Извести его старались все, Ледрю-Роллен и Коссидьер так же, как и другие, с Барбесом они надеялись поладить» *.
А Чернышевский находил для Бланки только эпитет «интригана» («...слабые движения, возбужденные интриганами вроде Бланки...») 28, чуть ли ше помешавшего «предотвратить эти волнения». Пусть «интриган» навязано ему испугавшейся цензуры редакцией «Современника», но не мог же Чернышевский допустить, чтобы под его именем было напечатано нечто в корне противоречащее его воззрениям. От себя лично Чернышевский, может быть, и не называл бы великого французского революционера «интриганом», как он назвал Барбеса и Гюбера в первоначальном, нецензурированном тексте не «фанатиками», как напечатано, а «энтузиастами». Все же, что Бланки и его позиция для Чернышевского случайность, притом ухудшавшая дело, не подлежит сомнению. Дело могло бы быть улажено, «волнения» могли бы быть «предотвращены», будь другие люди, а главное, будь буржуазия менее слепа и более добросовестна по отношению к рабочим. На неизбежность классового взрыва как исходного момента социалистической революции это все же мало похоже; гораздо больше это похоже на схему будущих историков русского революционного движения, объяснивших террор землевольцев и народовольцев тем, что полиция «ожесточила» революционеров своими преследованиями.
Но если по отношению к западной истории все это лишь досадные «уклоны», портящие в общем правильно взятую материалистическую линию, по отношению к русским событиям, с которыми Чернышевский непосредственно соприкасался и историю которых он писал по горячим следам, дело обстоит
* Герцен. Собр. соч., т. VI, стр. 9027.
416
111. Историография
гораздо хуже. Классовое чутье тут временами совершенно покидает Чернышевского, и он начинает говорить вещи, ни с каким материализмом ничего общего не имеющие, вещи, целиком оправдывающие характеристику Плехановым Чернышевского как историка-идеалиста.
Едва ли не самой сильной из статей Чернышевского по поводу крестьянской реформы 1861 года являются «Письма без адреса»: они столь ярко написаны, что царская цензура на минуту растерялась, но в конце концов опубликование их допущено не было. Есть, однако, основания думать, что адресат, т. е. Александр II, их прочел и что в трагической судьбе Чернышевского они сыграли не последнюю роль, хотя на процессе и не фигурировали. Таким образом с самодержцем еще никто в России не разговаривал. Не знаю, обращал ли кто- нибудь внимание, что в самом названии статьи скрывается каламбур, Чернышевский рассказывает в «Прологе», что к Волгину (т. е. к нему, Чернышевскому) обращались с предложением написать адрес царю. Волгин от этого поручения со смехом отказался, адреса он писать не стал, ну а просто «письмо» Александру II, «без адреса», — это другое дело. Политически письма чрезвычайно смелы, со времени Радищева русский печатный станок не видел ничего подобного. Чернышевский угрожает Александру революцией совершенно определенно, всеми словами. Но нас интересует сейчас историческая оценка Чернышевским момента. Вот как он характеризует те общественные силы, которые были на сцене в этот момент.
«В самом деле, каково было положение фактов при начатии крестьянского дела? Существовали четыре главных элемента в этом деле: власть, имевшая дотоле бюрократический характер; просвещенные люди всех сословий, находившие нужным уничтожение крепостного права; помещики, желавшие отсрочить это дело из опасения за свои денежные интересы, и, наконец, крепостные, тяготившиеся этим правом. В стороне от этих четырех элементов находилась вся остальная половина населения —- государственные крестьяне, мещане, купцы, духовенство, то большинство беспоместных чиновников, которое не получало больших выгод от бюрократического порядка» *.
Согласитесь сами, что «просвещенных людей всех сословий» ни под какую классовую характеристику не подведешь. Это вовсе не маскировка для «буржуазии»; Чернышевский как будто нарочно принимает меры против такого толкования, упо-
* Н. Г. Чернышевский. Соч., т. XI, стр. 299 *9.
Н. Г. Чернышевский как историк
417
миная далее «купцов» в числе слоев общества, стоявших «в стороне» от активных сил реформы. Это даже не «разночинная интеллигенция», взятая как класс, хотя и такая постановка никаким способом с марксизмом связана быть не могла бы. Это чисто идеалистическая категория «просвещенных людей», какую можно было бы встретить у любого «просветителя» XVIII века.
Это не единственное отступление от материалистического анализа, какое мы встречаем в «Письмах без адреса». По своей установке это сплошь идеалистическое произведение. Возьмите, например, такой отрывок. Сказав Александру почти всеми словами, что наиболее выгодным путем для народной массы был бы путь революции, Чернышевский квалифицирует свое обращение к царю -—хотя только с «письмом», а не с «адресом» — как «измену». «Да, я изменяю своему убеждению и..своему народу. Это низко. Но мы принуждены были делать уже столько низостей, что одна лишняя ничего для нас не значит.
А я предчувствую, что она будет совершенно лишнею, что останется недостигнутою та жалкая цель, для которой изменяю я народу. Никто не в силах изменить хода событий. Одни хотели бы, но не имеют средств; удругихесть средства, но не может быть желания»30.
Итак, изменить ход событий, т. е. ход истории, вопреки тому, что мы читали в свое время в «Очерках гоголевского периода», можно: для этого только нужно, чтобы те люди, которые хотят изменения, имели в руках и с и л у, могущую изменить. Нет сомнения, что от таких высказываний Чернышевского шли позднейшие рассуждения Ключевского об идее, которая становится силой, когда завладевает властью. Но нет сомнения также, что никакого исторического материализма в подобных высказываниях нет и с л е д а. А они характерны не только для «Писем без адреса», но и для всех статей Чернышевского, посвященных крестьянскому вопросу,—для всех статей конца 50-х годов, где ему приходится касаться современной ему русской истории.
В статье «Труден ли выкуп земли?» мы читаем: «Совесть говорит, что дурно поступает тот, кто не старается миролюбиво и ко взаимному удовольствию кончить взаимными уступками дело, которое очень может кончиться миролюбиво и ко взаимному удовольствию, но которое не может кончиться ничем хорошим, если не будет ведено миролюбиво к общему удовольствию, со взаимными уступками» 31.
14 М. Н. Покровский, кн. 4
418
Ш. Историография
Еще позже в статье «Материалы для решения крестьянского вопроса» Чернышевский пишет: «От образа действий самих помещиков будет зависеть, останется ли недоброжелательство к ним у поселян, или оно увеличится, или, напротив, исчезнет, заменившись признательностью и преданностью. Привязанность людей бедных и угнетенных приобретается легко. Будьте только справедливы к ним, хотя даже не совсем справедливы, а лишь несколько справедливы, и они станут обожать вас. Не делайте им напрасных убытков и обременений без всякой выгоды для самих вас, и их любовь станет ограждать вас от всяких неприятностей; вы будете не только способны, но и сильны, как никогда еще не были-» 32.
Итак, помещики могут повернуть свои отношения к крестьянам как хотят, все дело зависит от поведения помещиков, точнее, от правильного понимания помещиками своих интересов. Это, конечно, чистейшей воды исторический идеализм. Пусть не говорят нам, что это «демагогия». Во- первых, объявляя Чернышевского демагогом, мы лишаем себя права считать его серьезным революционером, ибо серьезные, большие революционеры никогда не опускаются до средств мелкой демагогии. Больших революционеров всех стран всегда обвиняли в демагогии с целью этих больших революционеров дискредитировать. А те, кто говорит по этому поводу о демагогии, считают Чернышевского одним из величайших русских революционеров. Но станем на минуту на эту, неприемлемую по существу точку зрения «демагогии» Чернышевского. К чему, как крестьянский революционер, он должен был стремиться? К ускорению взрыва крестьянской революции, без сомнения. Что для этого нужно было? Раздувать классовую вражду между помещиками и крестьянами. А о чем заботился Чернышевский в приведенных цитатах? О примирении тех и других. Какая же это демагогия, если Чернышевский только действительно был революционер, а не «соглашатель»?
Нет, «демагогия» тут ничего не объяснит, даже если мы и унизим Чернышевского до демагогических приемов. Для того чтобы понять, почему Чернышевский немедленно опускается до исторического идеализма, как только дело касается русских отношений (хотя мы видели, спорадически это с ним случается и когда он пишет об истории Запада, — это надо запомнить) , нужно какое-то другое объяснение.
Некоторые материалы для этого объяснения мы найдем, прежде всего, если спустимся снова к «годам учения» Чернышевского — к тем годам, когда он идеологически складывался
Н. Г. Чернышевский как историк
419
под влиянием уроков революции 1848 года. Эти уроки познакомили его с классовой борьбой на Западе. Но вот как преломлялась эта борьба в русских условиях, — возвращаемся опять к знакомому нам «дневнику».
«...Вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным; между тем, у кого есть состояние и у кого нет; между тем, у кого развит ум и у кого не развит? Нет, если вы допустили борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станет рабом. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или, лучше, наследственная неограниченная монархия, но которая понимает свое назначение, — что она должна стоять выше всех классов и, собственно, создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главой их и защитницею их интересов... Так действовал, например, Петр Великий, по моему мнению. Но эта власть должна понимать, что она временная, что она средство, а не цель, и благородно и велико будет ее достоинство и значение в истории, если она поймет это и будет стремиться к развитию человечества, хотя это должно повести ее уничтожение; поняв, [что] она для человечества, а не человечество для нее и что, противясь вечному ходу вещей, действительно можно, может быть, затруднить его, но, может быть, нельзя даже и замедлить: беременная женщина не может не родить, но можно облегчить и затруднить ее роды, и то, что должно пасть с развитием человечества, то падет, только падет сопровождаемое благословением человечества, если само сознается, что время пасть, и само передаст своему переросшему его воспитаннику имение,33 или падет с кровью и проклятием, которые заставят позабывать и о заслугах его, если захочет пережить свое время» 34.
Что тут мы имеем именно скрещивание уроков западной истории и традиций истории русской, не подлежит сомнению, Год спустя, после расправы с петрашевцами, крайнего обострения николаевской реакции, выступления самодержавия в образе всеевропейского жандарма во время венгерской войны, на самодержавие Чернышевский смотрят уже иначе. В дневнике 1850 года он пишет: «С год, должно быть, назад тому или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демокра-
14*
420
111. Историография
тического духа, так что, как скоро начнется правление народное, правление de jure u de facto перешло в руки самого низшего и многочисленнейшего класса — земледельцы+поденщики + рабочие, так чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии. — А теперь я решительно убежден в противном — монарх и тем более абсолютный монарх — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней... Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ неприготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться, потому что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному, даже и в средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на совершенное угнетение, на совершенное иссосание средним, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым» 35.
Отнесемся к этой цитате внимательно. Конечно, она свидетельствует о редкой гениальности этого «мальчишки», как назвал Чернышевского эпохи «дневника» один из его панегиристов. Тут при желании даже зачатки социал-демократической программы можно вычитать: самодержавие — «причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах», сравним: самодержавие как «враг... культурного развития всего народа» — в проекте Ленина *. Но вчитайтесь в ход мысли Чернышевского: пока существует самодержавие, нет классовой борьбы; она начнется, только когда самодержавие будет свергнуто. АСмут-
* В. И. Ленин. Соч., т. V,, изд. 2, стр. 3336.
Н. Г. Чернышевский как историк
421
ное время, а разинщина, а пугачевщина, а бесчисленные бунты крестьян и убийства помещиков во времена уже самого Чернышевского, — это не классовая борьба? Чернышевский забыл обо все этом нечаянно, но подчиняясь бессознательно традиции русской официальной историографии, которая нарочно все эти факты классовой борьбы затушевывала, т. е. замаскировывала тот факт, что это была классовая борьба. Самого факта, например, пугачевщины и Устрялов не мог скрыть: к его популярной книжке, изданной для вящего восхваления Николая I, даже географическая карта была приложена с обозначением «мест, где злодействовал Пугачев». Но что эта была классовая борьба помещиков с крестьянами — об этом, конечно, ни слова. И «гениальный мальчишка», многое поняв, чего не понимали его современники, этого обмана официальной историографии все же раскрыть оказался не в силах. И для него царская Россия оставалась страной, где «классовая борьба еще не началась».
Но, скажете вы, нельзя же из юношеских произведений Чернышевского прямо выводить оценку им русской истории эпохи освобождения крестьян, сделанную им уже в зрелом возрасте. Конечно, нельзя, прямо этого никто и не выводит; тут был целый ряд посредствующих звеньев. Одно из этих звеньев дает нам едва ли не сам Чернышевский, ретроспективно обозревая историю развития русской общественной мысли в 1850-х годах. В марте 1860 года в «Колоколе» было напечатано письмо за подписью «Русский человек». Принадлежность этого письма Чернышевскому не бесспорна37, но все же очень вероятна: есть прямые указания. Как бы то ни было, это писал один из русских революционных демократов того времени, человек во всяком случае из одного лагеря с Чернышевским (персонально как на другого возможного автора указывают на Добролюбова). Жестоко бичуя Герцена за его веру в «социальную монархию» в России, горячо доказывая, что у русского народа нет другого выхода, кроме революции («К топору зовите Русь!»), автор тем не менее так изображает ход политического развития русского общества до его окончательного разочарования в Александре II:
«Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай
422
HI. Историография
умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула...» «Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом, а теперь это возможно, и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустился ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто бы дело было кончено, крестьяне свободны и с землей. Все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою» *.
Чернышевский (или кто бы ни был автор) недаром два раза говорит о «всех» очутившихся в угаре «социальной монархии». Бичуя Герцена, автор задним числом бичует и себя. И у него был своего рода «ухаб», только не такой глубокий и широкий, как у его корреспондента. Детские мечты о «власти», стремящейся к «развитию человечества», не дотла были вытравлены Николаем I, как ни успешно действовал он в этом направлении. Достаточно было его сыну показать хотя некоторые черты благоразумия и человечности, как мечты возродились снова.
Нужен был опыт настоящей классовой борьбы в процессе крестьянской реформы, борьбы за землю и личность крестьянина, чтобы снова рассеять этот мираж. Но форма, в которой велась борьба, мешала ему рассеяться до конца и на этот раз. Это вздор, будто самодержавие мешает классовой борьбе; но что оно мешает сознавать классовую борьбу — в этом нет никакого сомнения. В этом отношении самодержавие является почти столь же удачной маскировкой, как и демократия: в первом случае налицо как будто бы внеклассовая власть, во втором — как будто бы всеклассовая власть; что власть есть и может быть только классовой, ни там ни тут сразу не видно. Русской историографии именно самодержавие мешало так долго — до Плеханова включительно! — отделаться от внеклассового призрака. И даже прозрев на минуту, легко забывали мелькнувшее перед глазами видение истины. Казалось бы, еще в 1850 году, дойдя до сознания, что абсолютизм есть «верхушка аристократии», не-
* Ленке. Политические процессы в России 1860-х годов, стр. 168— 16938.
Н. Г. Чернышевский как историк
423
трудно было перейти к мысли, что самодержавие есть организованный как государство помещичий класс. И однако же, еще двенадцать лет спустя Чернышевский апеллирует на помещиков — к царю. Конечно, автор «Писем без адреса» уже сам по- лусмеется над своей апелляцией; конечно, он почти вполне уже понимает, что надежды отсюда ждать нечего, и объясняет свой поступок исключительно глупой писательской привычкой. Но все же апеллирует...
Написанная почти за год до «Писем» прокламация «К барским крестьянам» 39 — самое яркое воззвание именно к классовой борьбе крестьян против помещиков, какое мы имеем от этого времени, — показывает, что привычка была уже почти механической, что сознательно Чернышевский уже стоял на классовых позициях. К сожалению, цитировать этот замечательный документ так же трудно, как и статьи Чернышевского из истории Франции, и по той же причине: нельзя сказать, что именно в этом тексте принадлежит самому Чернышевскому, а что прибавлено и подправлено его молодыми друзьями, нашедшими текст учителя слишком сухим (а может быть, присочинено или переврано даже и провокатором, через руки которого прошел документ: судьба его была так сложна; во всяком случае подлинника руки Чернышевского мы не имеем). Но основная идея прокламации не оставляет никаких сомнений, — это воззвание к новой пугачевщине, только сознательной, а не стихийной, какой была пугачевщина XVIII в. *
Революция 1848 года открыла глаза Чернышевскому на факт классовой борьбы и ее огромное значение в европейской истории. Русское самодержавие замаскировывало, насколько это было возможно, русскую классовую борьбу от Чернышевского. Начинавшаяся крестьянская революция начинала снимать с глаз писателя и эту специфическую, «национальную» пелену. Дошел ли бы по этому пути Чернышевский до конца, до чисто материалистического понимания русского исторического процесса? На это должна ответить не только обстановка исторического момента — это обусловлено было и
* Стихийной в целом как классовая борьба, что, конечно, не исключает и в старой пугачевщине отдельных моментов сознательной агитации. В одном из своих прежних произведений40 я присвоил Черны-. шевскому на основании одного места прокламации меньшевистскую тактику. То, что выше сказано о тексте «К барским крестьянам», совершенно устраняет всякую возможность таких выводов. Мы не знаем, кому это место принадлежит.
424
111. Историрграфил
особенностями того класса, который представлял в революции Чернышевский. Чернышевский был вождем, точнее, готов был стать вождем крестьянской революции. Но мы помним, как изображал Ленин крестьянскую революцию в России даже 1905 года— через полвека после написания прокламации «К барским крестьянам». «Б нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «хо- дателей»...» *
И это было в 1905 году, когда в России вырос уже настоящий революционный класс, существовал пролетариат, который — мы знаем это теперь доподлинно, по документам, — на самом деле вел крестьянскую- революцию. Чем была она в 1861 году, без этого вождя, скажем опять словами Ленина: «...революционное движение в России было тогда слабо до ничтожества, а. революционного класса среди угнетенных масс вовсе еще не было». Крестьянские массы «были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием...» **.
Крестьянская революция без пролетариата как руководителя была осуждена на то, чтобы остаться недоконченной, половинчатой, непоследовательной. Она не могла, даже в умах сильнейших из ее участников и руководителей, сформировать законченную, последовательную идеологию. «Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» ***.
От слабых сторон исторического мировоззрения Чернышевского пошло народничество. Но я не хочу кончить, не приведя еще одного образчика силы исторического суждения Чернышевского, образчика, показывающего, насколько он был выше многих из своих идейных потомков. Как долго загромождали народники нашу социологическую литературу рассуждениями
* В. И. Ленин. Соч., т. XI, ч. 1, стр. 116. «Лев Толстой, как зеркало русской революции» 4l.
** Там же, ч. 2, стр. 262. «Крестьянская реформа и пролетарски- крестьянская революция»42.
*** В. И. Ленин. Соч., т. X, стр. 30643.
Я. Г. Чернышевский как историк
425
о том, что в России развитие капитализма невозможно! А вот что писал Чернышевский на эту тему еще в 1857 году: «Достоверно, что развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, построением железных дорог, учреждением компаний пароходства и т. д., необходимо изменит наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею, мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы. До сих пор семейство наших селян покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и пр., и пр., — все остальное производилось домашним хозяйством: и сукно, и ткань для женского платья и для белья, и обувь, и мебель, и самая изба с печью. Скоро будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным (мы не знаем, будет ли он покупать фабричное сукно лучшего сорта, нежели покупает теперь, но в том нет сомнения, что его жена разучится ткать сукно), льняные и посконные ткани домашнего изделия сменятся хлопчатобумажными (которые, очень может быть, будут не выше их добротою, но все- таки вытеснят их своею дешевизною) и т. д. и т. д. Все это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершилось только в больших городах» *.
«Историк-марксист», 1928, т. 8, стр. 3—26
* Я. Г. Чернышевский. Соч., т. III, стр. 186. «Заметки о журналах» 44.
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЗАДАЧИ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ1
Товарищи, открывая Первую Всесоюзную конференцию историков-марксистов, позвольте сказать несколько слов о том, почему мы ее созываем и почему обстановка настоящего момента является особенно благоприятной для такой конференции. В проспектах то, о чем я буду говорить, носит пышное заглавие: «Доклад о развитии исторической науки на Западе и задачах историков-марксистов». О задачах историков-марксистов, товарищи, мы будем говорить в течение всей конференции. Задача конференции и заключается в том, чтобы выяснить задачи историков-марксистов. Поэтому было бы в высшей степени странно исчерпать во вступительном слове эти задачи.
Что же касается развития исторической науки на Западе, то в 2 часа я бы смог дать доклад на такую тему. Но я собираюсь говорить не больше 20—25 минут и полагаю, что в таком большом собрании доклады больше получаса непрактичны. Такие доклады могут читаться в секциях, где будет 100— 150 человек народу, но не в собрании, где народу около 1000. По всем сим причинам я должен значительно сузить рамки своего доклада и сказать несколько слов буквально —но их нужно сказать — о положении исторической науки вне СССР. Не будем говорить о Западной Европе, потому что тут не одна Западная Европа, но и Америка Северная и Южная и азиатские страны и т. п., — а о положении вне СССР разрабатывающейся исторической науки, как это положение выявилось на конгрессе в Осло. Так что мой доклад будет одновременно и краткой информацией нашей делегации об этом конгрессе и затем о задачах историков-марксистов, точнее говоря, той точки зрения, с которой мы, организаторы этой конференции, подходим к этим задачам. Повторяю, я надеюсь, что больше получаса, а скорее, даже меньше у меня это не возьмет, а затем мы приступим к заслушанию информационных же докладов о деятельности различных учреждений, ведущих конкретную научно-исследовательскую работу и поэтому для вас крайне
Развитие современной исторической науки
427
важных и интересных. Позвольте напомнить в двух словах ту ситуацию, в которую мы вступаем, ибо я считаю не нуждающимся в доказательствах то положение, что деятельность историков-марксистов связана с деятельностью марксистов и ленинцев в настоящий момент вообще.
Мы, историки-марксисты, как мы называем себя в СССР, мы являемся одним из отрядов ленинской армии, и положением фронта в целом объясняются и наши задачи. У нас на этом фронте есть свое определенное место, свои определенные противники, свои определенные позиции, которые мы защищаем, и определенные позиции, которые мы штурмуем. В двух словах поэтому об общей ситуации приходится сказать, тем более что поездка за границу дала известные конкретные формы тому теоретическому представлению, которое мы об этом имеем. Для нас сейчас более ярко рисуется'картина взаимоотношения буржуазного мира и нашего Союза, нежели до нашей поездки за границу. То, что мы без помощи буржуазного капитала восстановили наше хозяйство, — это факт, к которому мы привыкли, который нам кажется естественным и само собой разумеющимся, но который сильнейшим образом ударил по мозгам этой самой буржуазии, которая со времени Генуэзской конференции2 была твердейшим образом убеждена, что у нас на шее мертвая петля и что от нее, от буржуазии, зависит затянуть эту петлю, задавить нас совсем или дать нам дышать. Когда эта буржуазия увидела, что, не получив от нее ни гроша, мы восстановили хозяйство, то этот факт для нас, если хотите, тривиальный, к которому мы привыкли, о котором мы каждый день говорим на собраниях и пишем в газетах, — этот факт ударил по буржуазным мозгам с необычайной силой и создал два течения, которые представляют собой в сущности две стороны одного и того же настроения. С одной стороны, бешеная злоба, желание во что бы то ни стало внеэкономическими средствами достигнуть той задачи, которую экономическими средствами они достигнуть не сумели, — подчинить нас своему влиянию. Отсюда все эти поездки генералов Лерон3, все соглашения с Румынией и Польшей и т. д., подготовка военного натиска на СССР. Это нас, историков, касается, конечно, потому, что мы все ленинцы, историки-марксисты, и поэтому мы не можем не быть заинтересованными с этой стороны, не говоря уже о том, что нам придется и физически готовиться к этому упражнению, которое нам готовят с той стороны. Но есть другая сторона, которая все же нас затрагивает еще ближе. Рядом с этой волной ненависти против нашего Союза и подготовкой
428
III. Историография
к нападению на него — огромное любопытство по отношению к этим людям, которые, не получив ни копейки, не получив финансовой поддержки со стороны капитала и стран капитализма, тем не менее восстановили свое хозяйство, т. е. сделали такую штуку, которая в Западной Европе всюду делалась только ценой громадных займов и колоссального закабаления своей страны этим самым буржуазным капиталом. Немцы восстановили хозяйство, но ведь они же в мертвой петле действительно, и над ними измываются так, как едва ли когда-нибудь измывались над какой-нибудь страной. Другие — англичане, французы — тоже восстановили свое хозяйство, но при помощи чего? При помощи грабежа немцев. Мы никого не грабили, но хозяйство восстановили. И вот настроение, которое в этой связи создается в западноевропейских и американских буржуазных кругах, очень напоминает, по-моему, то настроение, которое отразилось в «Германии» Тацита4. Это ведь тоже произведение, появившееся в тот момент, когда Рим убедился, что от германцев ему не увильнуть, что германцы — это сила, которая давит на них и которая, может быть, в конце концов раздавит. И естественный интерес — посмотреть, что же это за люди, чем они занимаются, на что они похожи. И вот эта вторая волна •— волна любопытства по отношению к нам — нас, работников идеологического фронта, затрагивает еще сильнее, чем первая волна. В первой волне мы, так сказать, англобированы вместе со всем ленинским миром, а вторая касается уже нас, ученых коммунистов-марксистов, и в частности историков. Возьмите хотя бы тот факт, что в течение нынешнего года мы два раза выступали за границей — сначала в Берлине, затем в Осло5. И оба раза не по нашей инициативе, оба раза мы не напрашивались на эти выступления, наоборот, нас звали и нас при помощи всяких средств тянули, нажимали на наши полпредства за границей, полпредства писали сюда, в Наркоминдел, Нар- коминдел теребил нас: когда же вы поедете, сколько вас поедет, что вы там будете говорить. Был пущен в ход целый аппарат, я уже не говорю о личных письмах, о личных посещениях и т. д. Что в основе здесь лежит? Любят они нас что ли очень? Ну, со стороны некоторых — я потом этого коснусь в двух словах — можно подозревать с основанием известную к нам симпатию, но их ничтожное меньшинство. Подавляющее большинство — это люди, которые социально относятся к нам так, как национально относились римляне к германцам в начале XI столетия так называемой христианской эры. Интересно посмотреть, что это за люди; и, как я уже упоминал в своей статье,
Развитие современной исторической науки
429
большинству из вас знакомой, с нами в Осло завязывали сношения люди, от которых можно было ожидать, что они на другую сторону улицы будут перебегать, встречаясь с большевиками, а они с нами заговаривали, завязывали сношения, они первые, по своей инициативе. Любопытно посмотреть на нового зверя!
Вообще, если брать этот вопрос с точки зрения чисто тактической, вы догадаетесь, что это дает нам совершенно до сих пор не имевшуюся у нас возможность влиять на тот широчайший круг, отчасти пролетарский, связанный с пролетариатом, отчасти и мелкобуржуазных интеллигентов, которые колеблются, как всякая мелкая буржуазия, которые готовы кричать и «долой большевиков», готовы кричать и «да здравствует Ленин» — это в зависимости от обстановки. Природа мелкой буржуазии такова. А вы помните, что говорил Ленин о социалистической революции, в частности о социалистической революции на Западе. Он говорил, что наивно представлять себе дело так, что это будет чисто пролетарская революция, без всякого участия других социальных элементов. Все недовольные капитализмом, хотя и по разным основаниям, примкнут к этому движению, будут вносить в него свои слабости и ошибки — это Ленин предвидел, конечно, — но в то же время будут помогать этому движению, в то же время увеличат ту массу, которая движется против капитала, против трестов, против империализма и т. д. Так что выступать в Западной Европе, пользуясь этим пробудившимся к нам интересом, весьма, товарищи, стоит. Весьма стоит. Это дело не бросовое, не праздное, и этим надо пользоваться. Но для того чтобы как следует этим воспользоваться, нужно, во-первых, иметь ясное и четкое представление об этой самой буржуазной науке, с которой мы будем сражаться, а с другой стороны, иметь полное единство и полную согласованность в наших собственных рядах. Эти два условия совершенно неизбежны, потому что если мы выступим перед этой публикой и начнем петь на разные голоса, то она этим моментально воспользуется и сейчас же нас дискредитирует.
Так вот мой доклад, если хотите не доклад, а вступительное слово, как хотите называйте, имеет целью дать самое общее представление об уровне теперешней западноевропейской науки, слегка конкретизируя ее положение. Слегка. А затем у нас будут доклады уже более специальные об этой науке. Ну, скажем, будет доклад о Допше, имя которого мне придется упомянуть. И тогда вы получите специальное, уже более
430
III. Историография
детальное представление. Мне же для того, чтобы дать это детальное представление, нужно было бы не меньше, чем два часа, — отнять у вас такое количество времени я считаю себя не вправе. Для нас конгресс в Осло — я буду о нем главным образом говорить, не касаясь берлинской недели, хотя о ней стоило бы сказать, — ну, скажем, берлинская неделя и конгресс в Осло для нас очень важны, я осмеливаюсь высказать дерзкую мысль, что они исторически будут важны именно в этом отношении. На них впервые выступили коммунисты не в качестве отдельных лиц, а в качестве организованного целого, выступила марксистская, коммунистическая делегация. Между прочим, к вашему сведению, мы, конечно, различаем коммунистов и беспартийных марксистов. Но дело не в том, что у нас их различают — там их не различают. ^Там, если вы открыто заявите себя марксистом и в особенности в ваших речах и докладах будете высказывать четкую классовую точку зрения, вы, конечно, большевик, это все равно — имеете ли вы партбилет в кармане или нет, для них это значения не имеет. Так что они каждого, кто заявляет себя марксистом, считают большевиком. А наша делегация в Осло была сплошь марксистская или очень близкая к нам, там немарксистов было 1—2 человека. Так что тут приходится ставить скобки очень широко. Мы прекрасно понимаем, что эта скобка с пролетарской точки зрения ненаучна и неправильна, но опять-таки это у нас, а у них на этот счет другой взгляд. Так что это был первый случай выступления марксистов-болыпевиков (по их терминологии, так как все для них большевики) организованной группой. Я не знаю, по-моему, ни на одном всемирном конгрессе появления такой организованной массы марксистов еще не было. Отдельные коммунисты и отдельные марксисты выступали раньше, но чтобы была марксистская организация, была форменная делегация от воинствующего марксизма — этого не было. И это, повторяю, для нас и для нашего потомства будет главной меткой, вероятно, и берлинской недели, и конгресса в Осло.
Но если вы прочтете отчеты об этом конгрессе, которые появлялись, например, в германской литературе, то вы, к вашему удивлению, ничего похожего на то, о чем я сейчас говорил, не найдете. О марксизме и о марксистах там нет ни звука. Но зато эти отчеты странным образом, но неотразимо наводят нас на ассоциацию с военными сводками, которые мы читали 10 лет тому назад... они испещрены цифрами, и это цифры, к счастью, не убитых, раненых и т. п., а цифры докладов, про¬
Развитие современной исторической науки
431
читанных на немецком языке, и докладов, прочитанных на французском языке. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, что на 190 докладов, прочитанных на французском языке, было только 103 доклада, прочитанных на немецком языке, причем надо отметить тот факт, что эти языки могли быть совершенно случайно языками того или другого докладчика. Я читал свой доклад по-французски, только потому, что из нескольких европейских языков французский язык тот, который я лучше всего знаю. Другие товарищи читали свои доклады по-немецки только потому, что они лучше всего владеют немецким языком. Но немецкий обозреватель, крупный историк, так рассортировал: 190 докладов по-французски и 103 доклада по-немецки. В чем же дело? Оказывается, что суть конгресса вовсе не в том, что там впервые организованно выступили марксисты, а суть в том, что туда впервые пустили немцев, которых в. Брюссель не пустили и которых не пустили даже на конференцию в Варшаве, происходившую летом 1927 года. В Брюсселе конгресс был в 1923 году. Тогда немцев не пустили, а тут пустили. И когда их пустили, то после конгресса что они стали делать? Они стали считать «раны, товарищей считать». Они стали считать, сколько было немцев или по крайней мере сколько было говоривших на немецком языке. Таким образом, В. П. Волгин, который читал свой доклад на немецком языке, в этой статистике попал в немцы, а я, который читал свой доклад на французском языке, попал в «французы», сторонники Антанты. Из дипломатических приличий немецкие обозреватели ограничиваются, к сожалению, больше цифрами и стараются затушевать некоторые колоритные бытовые картинки, имевшие место на конгрессе. Они говорят, что между немцами и поляками были некоторые расхождения по вопросу о типе первобытного жилища. Но, товарищи, это, как говорится, эвфемизм, это — прикрашивание истины. Мы же, члены конгресса, видели совершенно отчетливо гораздо более яркую картину: как только на трибуну вступает германский докладчик, все поляки — а их было 48 человек — поднимаются, как один человек, и выходят из зала. Как только на трибуну поднимается польский докладчик, все немцы, как один человек, встают и уходят из зала. Об этой картине немецкие обозреватели не говорят. Но если брать конгресс в национальной плоскости, надо говорить, как действительно было. А было так, как я только что сказал. Благодаря этому чрезвычайно живо проходили пленумы. Это не то, что сидят люди и слушают, слушают. Нет. Посидят люди, послушают, а как только поляк
432
III. Историография
сменяется немцем или наоборот, сейчас движение: часть выходит, часть входит. Одним словом, оживление чрезвычайно приятное. Вот прежде всего под каким углом проходил этот научный конгресс. Причем один из немецких обозревателей со всей наивностью прямо так и сказал: «Да, были большие трудности, которые приходилось преодолевать во имя политики и науки». Политика раньше науки, ибо буржуазная историческая наука — едва ли нужно вам объяснять — есть привесок к политике. Это несомненный факт, который сказывался не только в этом направлении, он сказался очень сильно и в целом ряде других направлений.
Сначала два слова все-таки для того, чтобы закончить первый аспект — национальный. Здесь, конечно, были не одни немцы и не одни поляки, не одни французы и не одни немцы. Здесь были и другие. Ну, скажем, наш чрезвычайно любезный хозяин, профессор Кут. Он встретил нас прямо дружески, ограждал нас от иападков со стороны белых эмигрантов, относился к нам как не надо лучше, и когда он приедет сюда, то мы его встретим как друга. Прочел он доклад о классовой борьбе в современной Европе. Там было много цитат из Маркса и Энгельса — из Ленина я не слыхал цитат, а из Маркса и Энгельса были цитаты, и точные, — а вывод был такой: прежде, говорит, носителем национального принципа была буржуазия, а теперь таковым является пролетариат. Нам кажется, что пролетариат — это сила интернациональная, сила мировая. Мы об этом привыкли читать, начиная с «Коммунистического Манифеста», и мы как будто имели подтверждение этому вовремя нашей гражданской войны, когда пролетариат воевавших с нами антантовских стран нас поддерживал, заставил Англию снять свои войска с берегов Белого моря — английский пролетариат. Мы видели это недавно на грандиозных демонстрациях по случаю казни Сакко и Ванцетти, когда казнь двух рабочих Америки всколыхнула весь пролетариат всего мира, а по профессору Куту выходит так, что пролетариат национален в настоящее время. Причем это ничего не имеет общего с тем, что пролетарская диктатура, уничтожая всякий гнет, уничтожает и национальный гнет и тем дает возможность развиваться национальностям, дает возможность национального самоопределения народов. Конечно, поскольку пролетариат освобождает всех, он освобождает и в этом отношении, он поднимает дремлющие национальные силы и дает возможность национальностям развиваться, но это не значит, что он сам национален. Это не значит, что РСФСРовский пролетариат проникнут великорусским
Развитие современной исторической науки
433
национальным духом, что он есть носитель великорусского начала. Это не значит, что украинский пролетариат есть носитель украинского национального начала. А профессору Куту это казалось более или менее естественным, — настолько обстановка этого национализма была густа и охватывала даже тех, кто официально выступал как марксист. Даже тот, кто искренне считает себя марксистом, и тот не мог отрешиться от этой точки зрения. На этом фоне становится понятнЬм поразивший нас доклад Германа Онкена, который стоял тотчас же после доклада Кута. Он читал об идейных движениях в Германии и о влиянии этих движений на другие страны, и оказалось, что все национальное движение всего мира вышло из Германии. Кое-что было верно, например насчет чешского движения: что чешское движение получило толчок от германского движения. Это верно, но, когда вы читаете такую штуку, что национальное самоопределение сербов было сформулировано Л. Ранке, т. е. что сербы не сознавали себя до этого времени, — это, конечно, неверно. Сербы выдержали жесточайшую борьбу с турками. Наиболее героический период сербского национального восстания прошел до появления книги Ранке. Это ничего не значит. По Герману Онкену выходило, что сербское национальное движение возникло лишь тогда, когда вышла книга Ранке. Но это еще не все. Оказывается, что и Мадзини, и итальянского национального возрождения не было бы, если бы не было германского влияния. На первый взгляд этот доклад поражал, но, когда теперь присматриваешься к нему в общем ракурсе, на общем фоне он уже не вызывает удивления, он становится довольно естественным, и довольно естественна та ассоциация, на которую меня навел доклад Онкена. Я когда-то в ранней молодости, студентом, очень любил читать Ранке. Все-таки гениальный был историк, историк-писатель, хотя, конечно, и буржуа, и националист, и все что угодно. И когда я слушал Онкена, так и представлялась мне старая аудитория Московского университета, малая «математическая», малая «словесная», — все это уже исчезло. Буквально я слышал то самое, что можно было прочесть в гениальном изложении у Ранке 40 лет тому назад.
Вот вам один аспект буржуазной исторической науки, и аспект, который в заграничных отчетах о науке звучит всего ярче, звучит всего сильнее, —• это аспект национальный. У меня очень немного времени, чтобы сказать о двух других аспектах, тоже любопытных, но они будут дополнены секционными докладами. Не все стоят прямо и открыто на национальной точке
434
111. Историография
зрения, хотя, конечно, можно вскрыть национализм, скажем, у Допша. Но возьмите, какую общую концепцию дает Допш. Он читал доклад о натуральном и денежном хозяйстве. Допш — это очень крупный немецкий, т. е., вернее, австрийский, историк (но в президиуме Международного исторического комитета он представляет и Германию), создатель новой теории возникновения феодализма, новой теории объяснения средневекового феодализма. Так вот он выступил с докладом о натуральном и денежном хозяйстве в средние века, даже не только в средние века, а вообще, где он проводил ту мысль, что натуральное и денежное хозяйство есть две параллельные линии исторического процесса, которые идут на всем протяжении от времени Мафусаила до империалистической войны. Он подобрал некоторые явления эпохи войны и говорил: вот вам. возрождение натурального хозяйства даже и теперь. Так что неверно, что это две формы, которые идут одна за другой, на самом деле это две извечные формы.
Я не стану пускаться в теоретическую критику этого положения, тем более что любой из вас может ее дать. Эти немецкие знаменитости наводят на другую ассоциацию, не на ассоциацию с нашими юными годами, а на ассоциацию с нашими добрыми рабфаками. Тут совершенно ясно, что, если бы Допша пропустить хотя бы через рабфаковское обществоведение, он бы много, пожалуй, выиграл и стал бы теоретически много грамотнее. Но не в этом дело. Одновременно на конгрессе раздавался номер «Архива для культурной истории» («Archiw fur Kulturgeschichte») со статьей Допша, так как он дал тезисы очень сжатые. Очевидно, эта статья должна была служить иллюстрацией его идей. Статья Допша посвящена «индивидуализму и хозяйственному духу раннего средневековья». Здесь Допш доказывает, что исконное мировоззрение германца было индивидуалистическим. Это подтверждается парой цитат из Тацита, заботливо обходится Цезарь, который в этом отношении опаснее, причем любопытно, что цитаты из Тацита, по- моему, начинаются не всегда с точки, как принято начинать цитаты, а иногда с запятой. Не стану вас затруднять латинскими цитатами. Это можно будет сделать потом, на секции. При помощи трюкированных цитат из Тацита Допш доказывал, что древние германцы были индивидуалистами. Затем он ведет этот индивидуализм через все средние века, дает очень яркую картину индивидуалистических настроений в X—XI веках и заканчивает так: индивидуализм был исконным, средневековье создало квазикоммунистические организации. Оно создало та¬
Развитие современной исторической науки
435
кие явления, как крепостное право, оно создавалось в течение средних веков, а не существовало с их начала, создало такие явления, как гильдии, цехи, цеховые объединения, стесняющие индивидуальность. И затем новый взрыв индивидуализма в эпоху возрождения весь этот коммунизм разрушил. Перед вами яркий политический памфлет против коммунизма на примере средних веков. Допш рисует такую картину: был индивидуализм, его подавили тогдашние коммунисты с католическими монахами во главе. Подавили не вовремя. Затем индивидуализм опять воскрес. И так будет всегда — должен заключить читатель Допша, всегда индивидуализм будет торжествовать над коммунизмом. Вот вам картина. Сознавал ли Допш, что он пишет политическую статью? Судя по трюкироваиным цитатам из Тацита, думаю, что сознавал. Ведь он Тацита наизусть знает, как же такую штуку сделать — начать с середины цитаты, не с первой фразы, а со второй. Сознавал человек отлично, что делал и что писал. И тем товарищам, которые верят в существование какой-то объективной буржуазной исторической науки, это наглядный предметный урок.
Вот как великие западные буржуазные ученые поступают, когда им нужно провести в сознание читателя определенные политические мысли. Я не буду утруждать вас примерами, но любопытная вещь, когда человек непосредственно подходит к фактам и когда это не Допш, т. е. историк почти гениальный, которому ничего не стоит Тацита препарировать как ему нужно. Гениальные люди вообще отличаются смелостью. А когда рядовой человек сталкивается с фактом, он не знает, как ему быть. Один среднего калибра польский профессор читал доклад о политических партиях в древности и в настоящее время. Как вы думаете, чем отличается древность от настоящего времени? А тем, что в древности были классы, а теперь их нет. В Древней Греции были классы, тут сомневаться нечего, и была классовая борьба, и очень яркая, а теперь личность высвобождается из партийных, классовых и других уз. Конечно, мы видим, что эта несчастная личность не только не освободилась, а, наоборот, так завязла в этих узах, как никогда не увязал никакой грек. Но сам трюк чрезвычайно любопытен. Человек не может отрицать, что он все-таки знает древнегреческую историю, и гениальной смелости Допша у него нет. Фукидида и Аристотеля препарировать так, как препарировал Допш Тацита, у него не хватило смелости, он допускает, что тогда было, а теперь нет. И само собой разумеется, что еще более простые и еще более порядочные люди — они в таких конкретных
436
111. Историография
случаях слагают оружие перед материалистическим методом* Французский профессор Депре — я его сам не знаю, он, может быть, социалист — читает доклад о причинах великих географических открытий. Тут он прямо говорит без всяких церемоний, что причины чисто экономические, и приводит целый ряд очень интересных фактов насчет цены на перец в Лиссабоне, в Венеции и т. д. и т. д., чтобы показать, насколько океанские пути были дешевле и выгоднее и насколько было важно пользоваться этими путями в интересах торговли пряностями, — причины чисто экономические.
Конечно, это не марксизм. Когда люди объясняют всю русскую историю исключительно влиянием торгового капитала, упуская из виду классовую борьбу, это, разумеется, не марксистская точка зрения. Но чрезвычайно характерно, что как раз немарксисты скорее всего истолковывают с этого конца и этот самый торговый капитал, роль которого я открыл гласно и официально, следуя Владимиру Ильичу, который негласно и неофициально открыл ее в своем подпольном произведении «Что такое «друзья» народа...» и сделал это за 15 лет до меня. Об этом я в своем докладе о ленинизме в русской истории буду рассказывать подробно6. Значит, этот торговый капитал до некоторой степени официально я открыл, нашел. Но тем не менее мне жестоко надоедает, когда в нос начинают совать этот торговый капитал. Ведь не один торговый капитал, но тут есть и классовая борьба, которая велась на основе торгового капитала. Были классы или нет? Дрались классы между собой или нет? Ведь у меня не один торговый капитал, но есть и классовая борьба. Так вот, если возьмете некоторые издания, хорошие издания, но выпущенные немарксистами, скажем «Атлас» Кудряшова7, вам, вероятно, известный, там видите чрезвычайно точное выявление торговых путей старой России. С этого конца немарксисты скорее всего могут подойти к материалистическому объяснению истории. Классовую борьбу понять, диалектику истории понять трудно, а торговые пути — это легко. И один из тамошних левых историков на конгрессе, Леритье, и не один Леритье, а вся его группа выдвинули целую теорию объяснения всей истории торговыми путями. Что такое Центральная Европа — ставит вопрос Леритье. Это перекресток. И цитирует статьи из венских газет 1849 года и т. д., поддерживающих эту мысль, что значение Центральной Европы в том, что это есть перекресток, на котором сходятся торговые интересы различных наций. То же самое и относительно Восточного вопроса. Значение восточной части Средиземного моря в
Развитие современной исторической науки
437
том, что это был перекресток. Тут создается философия истории перекрестков. Так вот с этого конца несомненно исторический материализм начинает пробиваться в мелкобуржуазную среду, и, конечно, нам пригодится и «веревочка», надо и этим пользоваться. С этого конца тут можно влиять. С этого конца можно к ним подойти. И тактически нужно к ним подойти, но нужно подойти так, как мы всегда подходим, — подойти с боем, с дракой, доказывая, что философия истории перекрестков никуда не годится, что существует история классовой борьбы — вещь не национальная, а интернациональная, в какие бы национальные формы она ни облекалась. Конечно, нужно идти так, и идти можно.
Если бы были какие-нибудь наивные люди, которые верили в историческую науку, оторванную от политики, то полагаю, что теперь их уже после конгресса в Осло не может быть, а если они и будут, то это люди патологические, которых нужно лечить. Это — одна сторона.
Другая сторона — это то, что этот мир уже не так гомогенен, как был раньше.
В 80-х годах XIX века был Ранке, и был Ранке великим автЬритетом даже для нас — тогдашней молодежи. 40 лет прошло, и Ранке больше не удовлетворяет своих поклонников. Когда эти поклонники — люди порядочные, когда они считаются с фактическим материалом, то они видят, что единственно научный метод, который остался сейчас, — это есть метод марксистский, что другого метода нет, и они неуклюже, робко, со всевозможнейшими оговорками, все время отгораживаясь от сути марксизма, от его революционной диалектики, все же идут за нами, и нам надо их за собой повести. Я глубоко убежден — в этом меня убеждает, впрочем, не столько конгресс в Осло, а больше та публика, которая теснилась на наших докладах в Берлине, — что мы можем эту публику за собой повести. Нам нужно вести пропаганду своих взглядов, своих марксистских взглядов. А я должен, к стыду нашему, сказать, что это начинает уже происходить самотеком. Самотеком начинают переводить наши книжки на английский и тому подобные языки. Иу до какой степени самотеком, видно из того, что перевода моего «Сжатого очерка» на немецкий язык я до сих пор еще не имею. За границей я видел много счастливцев, обладавших этой книжкой. Ко мне обращались и говорили: вот перевод вашей книжки; я же отвечал: я ее не видел. Да как же это так, не видели? Да очень просто, не видел. До такой степени, товарищи, происходит это самотеком, что даже
438
111. Историография
переведенные книжки не считают нужным прислать автору, автор для них решительно никакого значения не имеет.
Так вот, товарищи, параллельно с этим должна идти пропаганда. Что же нам нужно для того, чтобы в роли таких марксистских пропагандистов, в роли пропагандистов марксизма и исторической науки выступить? Нам, товарищи, прежде всего нужно быть чрезвычайно подкованными в научно-технической области самим, ибо если не подлежит никакому сомнению, что история тесно связана с политикой, то так же, как у политики, так же у истории есть своя аппаратура, и этой аппаратурой нужно владеть. Если вы идете в битву, то вам нужно иметь аэропланы, скорострельные пушки, газы и все то, чем отличается теперешнее вооружение. Для этого у нас существуют Академия воздушного флота, Военная академия, для этого у нас есть соответствующие учреждения. Но нам необходимо создать и особое историческое научное учреждение. Что же вы думаете, что в годы мира политическая борьба не так сложна? Она сложнее. Здесь с голыми лозунгами выступать нельзя. Здесь нужно выступать на основе определенной научной работы, научной в том смысле, чтобы она была научно доказательна. Нам нет надобности искусственно стремиться к этому, потому что марксизм сам по себе есть единственно научное объяснение истории. Но здесь должна быть научной и наша аппаратура. Посмотрите на Допша, как он свою «научную» теорию обосновывает цитатами, он приводит тысячи цитат, не всегда эти цитаты трюкированы. Если они и трюкированы, то для того, чтобы вскрыть это, нужно хорошо знать эти цитаты, чтобы знать, с чего данная цитата начинается. Таким образом, я повторяю, что нам необходима в этом отношении серьезно научная, техническая, как я выражаюсь, если хотите, академическая, как выражаются в таком почтенном учреждении, как Институт красной профессуры8, академическая подготовка. И вот для того, чтобы сговориться и создать базу для нашей научно-исследовательской работы, создать основу для такой подготовки, которая ведется у нас в разных местах, но ведется со страшным разнобоем, нам и нужно было собраться здесь, историкам-марксистам всего Союза, всему активу историков- ленинцев, чтобы на этих заседаниях обсудить основные вопросы, которые стоят перед нами в этой области.
Вот основные задачи нашей конференции в настоящее время. Мы выбрали форму, может быть менее удачную, чем та, которая могла бы быть. Мы выбрали форму постановки конкретных докладов по отдельным историческим вопросам, кото¬
Развитие современной исторической науки
439
рые дадут возможность выявить политическую подкладку истории и прийти к соответствующим выводам. Немножко это громоздко. Когда мы сначала проектировали это, то нам казалось, что это очень хорошо, но потом я убедился, несколько дней тому назад, что мы ошиблись. Я вообще занимаюсь самокритикой так, как, по моему мнению, не занимается ни один гражданин Советского Союза: я всегда критикую самого себя, в то время как обыкновенные люди, занимающиеся самокритикой, критикуют своих соседей. Конечно, было бы лучше, если бы вместо 47 докладов мы поставили 10 и, может быть, не дробясь на секции, все эти 10 докладов провели бы in pleno. Пленум, вероятно, в результате этого несколько рассеялся бы, но все- таки все могли бы принять участие в обсуждении этих вопросов. Но вино налито, и его надо выпить в таком виде, в каком оно налито, и такое, какое есть под руками, другого мы произвести не можем, мы не импортируем ничего, а довольствуемся туземным продуктом. Ничего не поделаешь — надо так идти. Причем, поскольку это не последняя встреча, а, наоборот, первая, я думаю, что сам факт нашего общего сговора и взаимного ознакомления имеет колоссальное значение независимо совершенно от того, в смысле техники идеально поставлена наша конференция или нет. В смысле техники она хромает со всех концов. Вы думаете на конгрессе в Осло такая вешалка была, как у нас? Там вы раздевались в один миг, без всякого затруднения и стеснения, а здесь мы из-за этой вешалки опоздали с открытием конференции на 2 часа.
После этого позвольте, хотя бы с опозданием на 2 часа, а теперь на 2*/г часа, если причислить к опозданию мою речь, объявить Первую Всесоюзную конференцию историков-марк- систов открытой.
«Труды Первой Всесоюзной конференции исто- риков-марксистов», т. 1. М., 1930, стр. 3—*15
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ
Исторический материализм в нашей стране сделал новый крупный шаг вперед. 30 лет тому назад он боролся за существование, за право признания его одним из «законных» научных течений. 10 лет тому назад об этих «правах» исторического материализма больше уже не могло быть споров. 5 лет тому назад редкий из профессоров истории, по крайней мере в РСФСР, не объявлял себя «марксистом», находя людей, которые этому верили. Но — говорили все это время, и, чем ближе к нашим дням, тем чаще, — марксизм-то у нас есть, но ученые историки-марксисты — где они? И 4 года тому назад робко возникло первое добровольное объединение таких историков Были сомнения, возможно ли, имеет ли под собой реальную базу даже такое скромное начинание.
После конференции совершенно ясно, что добровольного общества в области марксистско-ленинской исторической науки нашей стране далеко не достаточно. Мерой значительности нашей конференции может служить отношение к ней наших идеологических противников. Одна большая германская газета правого направления поместила обстоятельный фельетон, посвященный нашей конференции. Статью писал человек, несомненно достаточно осведомленный в наших исторических делах и великолепно схвативший сущность происшедшего, великолепно понявший, что конференция — это шаг к подлинной, реальной гегемонии марксизма в создании исторической науки СССР, что теперь дело идет не о вывесках и не о самозванщине, не о людях, причисление которых к марксизму может лишь вызвать улыбку на устах любого ленинца, хотя бы он в данный момент обретался в самом угрюмом настроении, но о подлинных научных работниках, которые мыслят по-ленински, все мировоззрение которых настолько проникнуто историческим материализмом, что нематериалистических трудов они давать просто не могут, а труды давать будут, ибо имеют для этого рее данные,
Всесоюзная конференция историков-марксистов
441
И автор помянутого фельетона, злобно шипя на конференцию, пытается утешить себя своеобразной статистикой, по которой выходит, будто конференция представляет лишь ничтожное меньшинство людей, работающих в области исторической науки в нашей стране. 9/ю русских историков, говорит он, не имеют ничего общего с марксизмом.
Именно конференция неопровержимо установила, что подавляющее большинство нашей исторической молодежи состоит из марксистов. И если 600 человек, собравшихся на конференцию, представляют собой действительно одну десятую всех историков, работающих у нас, то СССР может поздравить себя с 6000 научных работников в области этой науки. Мы первая историческая страна в мире, черт возьми! Всякие Германии и Америки перещеголяли.
Но это, разумеется, чепуха. Число активно работающих историков нашей страны едва ли далеко выйдет за пределы одной, первой тысячи. Из них 600 марксистов уже налицо, да, наверное, не меньше половины такого числа, рассеянных по Союзу, не смогли приехать. Ученый, автор статьи в правой немецкой газете, своей статистикой охватил совсем не это бу- дущее нашей науки. Его 9/ю — это 9/ю бывших «ординарных», «экстраординарных» и в особенности бывших «заслуженных»; вот тут он, вероятно, совершенно прав. На этом научном кладбище (просят не смешивать с обыкновенным, материальным кладбищем для физических тел грешных людей; впрочем, этимологически кладбище ведь и обозначает место, куда складывают вообще что не нужно, а вовсе не одних покойников: сравните] «кладбище паровозов», «кладбище автомобилей» и пр.) нет, конечно, места для марксизма, для самого живого и животворящего мировоззрения, какое есть на земном шаре. На кладбища мы решительно никаких претензий не заявляем: пусть покоятся в мире. «Вы еще не в могиле, вы живы, но для дела мертвы вы давно»; и никак даже нельзя сказать, что этим людям суждены были какие-либо «благие порывы». Давным-давно прошло то время, когда «заслуженным» такие порывы были свойственны. Если брать их действительно крупные, ведущие работы, дату их напечатания придется начинать по большей части с цифры «18...», а уж если работа написана в первом десятилетии нынешнего века, то это прямо последнее слово науки. А мы накануне перехода в четвертое десятилетие... На одной-двух путных книжках по истории, вышедших в последние два десятилетия, оправдания «заслуженным» не построишь. Одним «Царем Алексеем Ми-
442
III. Историография
хайловичем в своем хозяйстве» Заозерского2 — прекрасная книга, показывающая, между прочим, как исторические факты текут сами на поддержку марксистской концепции, хотя бы собиратель этих фактов был в 1000 километрах от марксизма, лишь бы он только фактов не фальсифицировал, — не перешибешь запах тлена, идущий от остатков «школы Ключевского». И автор последних крупных работ «школы Виноградова» довольно давно уже в могиле — в настоящей могиле, — к величайшему огорчению всех марксистов, которым А. Н. Савин, как всякий подлинный крупный ученый, был очень нужен и полезен. А что нового дала «школа Виноградова» после Савина?
Но, возразят мне любители «памятников старины и искусства», что же вы можете противопоставить шеренге живых еще физически, хотя пусть и дряхлеющих, пусть ничего нового не производящих, но все же крайне мудрых и «опытных» работников? Прежде всего, позвольте напомнить, что «опытность» — великое дело в искусстве, а не в науке. В 40-х годах прошлого столетия Погодин был неизмеримо опытнее Соловьева и Кавелина: но даже никто из «заслуженных» не решится отрицать, что вели вперед русскую историческую науку тех дней именно «мальчишки» Соловьев и Кавелин, а не «маститый» Погодин. Тов. Татаров очень кстати напомнил, как Погодин советовал Кавелину вместо общих исторических концепций заняться изучением вопроса, кто именно были тиуны и целовальники. Старый приказный от исторической науки великолепно понимал, что для него и его «охранительницы», как именовал он историю, опасны именно общие концепции «мальчишек» *, а вовсе не их мелкие специальные монографии. Теперешние Погодины, брюзжащие на современных «мальчишек», понимают это не хуже их предшественника середины XIX столетия. Повторяется старая история. «Мальчишки» наших дней отличаются от «мальчишек» 40-х годов прошлого столетия главным образом тем, что наши «мальчишки» —революционеры, а те были только либералы. Допустим, что решение вопроса, на чьей стороне тут преимущество, — дело вкуса: когда речь идет о науке, нужно быть готовым ко всякого рода странностям. Но к спору о науке непосредственно это-то ведь отношения и не имеет. Труды научные подайте! Ну так вот: труды есть, труды в области западной истории гораздо более серьезные, чем какими были первые научные труды Грановского (на фоне тогдашней
* К сведению поклонников старины: Соловьев защищал свою маги¬
стерскую диссертацию 24-х лет от роду, а свою знаменитую доктор¬
скую — 28-ми лет, т. е. как раз в возрасте нашей красной профессуры...
Всесоюзная конференция историков-марксистов
443
науки, разумеется, — я строго соблюдаю необходимую историческую пропорцию; с точки зрения современной науки первая работа Грановского не ученое исследование, а просто студенческий реферат). В области русской истории мы имеем не только крупные научные работы, которые не стыдно было реферировать перед заграничной публикой, даже на международных конгрессах (доклады тов. Дубровского в Берлине и Осло), но мы имеем постановку новых вопросов, т. е. то именно, чем занимались, к ужасу и негодованию Погодина, Соловьев и Кавелин в 40-х годах. А что «новым вопросом» в дни Соловьева были отношения между древними русскими князьями, а для нашей молодежи — вопрос о характере русского империализма и причинах участия России в войне 1914 года (работы тт. Ванага, Ронина, Гиндина, Грановского, А. Сидорова и др.) — это уже относится на счет той разницы между революционерами и либералами, о которой говорилось выше.
Против «заслуженных» выступает фаланга не студентов и даже не магистрантов, а, по старой терминологии, воскресающей иной раз и теперь, «приват-доцентов». Святая серая скотинка, на которой, между прочим говоря, ехали «заслуженные» к своей «заслуженное™», хочет теперь, как это бывало во все критические эпохи исторического процесса и исторической науки, из батрака превратиться в хозяина. Что при старом режиме в силу господствовавших тогда принципов академической бюрократии, иерархии и подчиненности многим из теперешней молодежи не удалось бы попасть даже и в батраки — это тоже между прочим. Как бы то ни было, теперь смена налицо. Это надо твердо помнить. В области общественных наук и философии смена уже пришла. Это в области естественных и точных наук, в области техники и медицины нам приходится еще создавать смену. Здесь можно брать то, что уже есть. Что мы совершаем эту операцию восприятия новой смены из рук вон плохо — об этом не может быть двух мнений. Происходит это главным образом от общей хаотичности и неурегулированности научного дела в нашем Союзе. По-видимому, долго еще придется у нас обосновывать и доказывать ту мысль, которую на конгрессе в Осло развивал представитель столь малореволюционного учреждения, как Лига наций. Этот почтенный человек совершенно здраво рассуждал, что время индивидуальной работы отдельных ученых в области истории давно прошло, что те проблемы, которые стоят перед историками наших дней, могут быть разрешены лишь коллективным трудом. А этот коллективный труд не всегда может совершаться в порядке
444
111. Историография
персимфанса3: иногда, и очень часто, дирижерская палочка будет нужна. И вот тут-то мы и сталкиваемся с основным фактом, около которого почти все время вилась мысль конференции и из которого на самой же конференции был сделан надлежащий практический вывод. Наши научные исследовательские учреждения в области истории всецело находятся в руках именно старых людей. Дирижерскую палочку держат в руках или сами «заслуженные», или их уполномоченные, которым физически предстоят еще долгие годы бодрой жизни, но которым давно готов роскошный мраморный памятник на кладбище идеологий. У нас еще нет ни одного научного учреждения в области истории, где наша научная молодежь, молодежь уже не только учащаяся, но молодежь творящая, молодежь, ведущая науку вперед, чувствовала бы себя в своей идеологической обстановке, чувствовала бы себя «дома» и не видела бы рядом с собой в качестве «старшего поколения» никого, кроме старших по возрасту представителей той идеологии, за которую борется, которой проникнута сама эта молодежь.
Важнейшим практическим выводом конференции была хотя и незарегистрированная официально в ее резолюциях, но органически вышедшая из работы конференции мысль о необходимости создания марксистского научно-исследовательского Института истории. Нужно сказать, что мысль эта уже давно стучится в дверь. Ее неоднократно высказывал Рязанов, и до и после того, как он отряс от ног своих прах исторического института РАНИОНа. Правда, Давид Борисович, по-видимому, еще колеблется относительно точки привеса этого нового учреждения, и ходят слухи, будто он намеревается поставить его в самом центре кладбища в виде, должно быть, крематория... Думается, что загружать работу этого нового учреждения функцией погребения научных покойников нет ни малейшей надобности. Предоставим им самим погребать друг друга. Новое учреждение должно быть, конечно, связано с одним из тех новых центров марксистской мысли, которые созданы революцией, вышли из революции. Коммунистическая академия4 — это единственный научно-организационный центр, который мы можем считать вполне нашим, в котором не может случиться таких трюков, что вот на издание немарксистской литературы денег сколько угодно, а на издание марксистской нет ни гроша. Или где заказы «заслуженных» исполняются моментально и с образцовой тщательностью, а если заказ идет, по грехам, от коммуниста, так жди-пожди годика два, а то и вовсе ничего не дождещьсл. Таких анекдотов в Ком¬
Всесоюзная конференция историков-марксистов
445
мунистической академии быть не может, все подобное в ее деятельности органически исключено. И вот почему единственным местом, где можно поставить новое учреждение, новый Институт истории, может быть только Коммунистическая академия.
Итак, первое, что доказала наша конференция, — это существование у нас настоящей марксистской исторической науки не в форме популярной и общих курсов (в таком виде марксистская историческая наука существовала у нас и до революции), но в форме исследовательской работы. В форме большого отряда молодых исследователей, многое уже выработавших, иногда чуть не прямо контрабандой, в стенах тех учреждений, где официальной хозяйкой является старая домарксистская наука, а еще чаще в стенах учреждения, в сущности вовсе не являющегося «исследовательским» по своей официальной вывеске, — Института красной профессуры. Научно-исследовательская работа ленинизма в области истории до сих пор шла, надо прямо сказать, кустарным путем. Пора ей принять у нас те формы, которые приличествуют стране, где господствует диктатура пролетариата и ленинизм является единственно приемлемой идеологией для широчайших кругов. Но наша конференция выявила не только это.
Конференция была первым всесоюзным совещанием историков-марксистов: на ней присутствовали не только русские историки (секции «русской истории» на конференции даже и не было — была секция пародов СССР), не только историки РСФСР, но историки Белоруссии, Украины, Закавказья, Туркменистана и Узбекистана. От последних двух, правда, национальных историков было очень мало — двое или трое, из молодежи, еще более молодой, нежели наша красная профессура. Там смена только приближается, да и есть ли там кого сменять? «Заслуженные» занимались историей «инородцев» больше из Ленинграда (то бишь Петербурга, в дни славы и мощи «заслуженных»), выезжая на места лишь в порядке экспедиций. Там, вероятно, марксистская история будет первым видом научной истории, тотчас после летописей. Счастливые люди! Но в других перечисленных союзных республиках своя историческая наука есть, иногда с глубоко уходящими национальными корнями. Являлось опасение — не заглушит ли то, что растет из этих корней, молодую марксистскую поросль? Не окажется ли национализм сильнее марксизма?
В общем для всей конференции опасения были рассеяны и пристыжены самым блестящим образом. Решение об образовании всесоюзного общества историков-марксис-
446
III. Историография
т о в было принято единогласно. В пользу этого решения первыми выступили именно «националы» — Грузии и Белоруссии. Упрекнуть в каком бы то ни было «исправлении» марксизма в угоду национализму ни грузинские, ни белорусские доклады (от Средней Азии докладчиками были ненационалы) не смог бы самый придирчивый критик. И что касается докладов, то же относится и к Украине. Но в прениях именно со стороны украинцев раза два прозвучал тягостный диссонанс. По- видимому, это был диссонанс почти в буквальном смысле слова, некоторая неспетость внутри самой украинской делегации (характерно, что при предварительном голосовании по вопросу о всесоюзном обществе украинская делегация раскололась — часть голосовала за общество, часть против; по нашим наблюдениям, большинство украинской делегации голосовало за и меньшинство против — товарищи украинцы категорически это отрицают; возможно, что наша аберрация объясняется «великодержавным шовинизмом»...). К сожалению, в статьях украинских историков, появившихся после конференции, диссонанс не ослабел, а стал резче. Объяснить его нетрудно. Некоторые — и выдающиеся — украинские историки-марксисты пришли к нам сравнительно недавно, пришли из партий, идеологически полярно противоположных марксизму. Между тем марксизм, особенно в его последней, наиболее сложной, ленинской форме, отнюдь не такая вещь, которую можно было бы усвоить в два счета, без особых усилий, особенно не располагая таким могучим репетитором, каким для нашего поколения явилась революция. И вот некоторым украинским историкам- марксистам начинает казаться, что учение о гегемонии пролетариата в буржуазной революции есть троцкизм (!). Другие находят, что классовое объяснение идеологий должно быть «поправлено» этнографическим: не только, говорят они, такие-то суть мелкие буржуа, но именно украинские мелкие буржуа, й в этом гвоздь. Этак ведь можно докатиться и до того, что не то важно, что Дзержинский был коммунистом, а то, что он был поляк. А пожалуй, даже и до того, что не то важно, что Ленин был величайшим из вождей рабочего класса, а то, что он был великоросс (и улики налицо — статья «О национальной гордости великороссов» 5). Словом, трудно себе представить, до какой нелепости можно докатиться с таким «классово-национальным» методом. Не то удивительно, что среди украинской исторической молодежи проскальзывают такие течения: люди, которые еще относительно недавно, уже взрослыми людьми, были националистами, не могут сразу совлечь
Всесоюзная конференция историков-марксистов
447
с себя ветхого Адама, — это естественно. Но удивительно, что старые ленинцы, националистами никогда не бывшие, им в этом потакают и их в этом поддерживают. Неужто до такой степени «бытие определяет сознание»? А ясный и очевидный вред от этой реакционной идеологии, явное заражение атмосферы этой националистической отрыжкой обнаружились тут же на месте. Член конференции, русский, совершенно зря обвиненный в «великодержавном шовинизме» за то, что он классовое объяснение предпочел этнографическому, возражая, с видимым удовольствием привел цитату из книги одного украинского исторического деятеля, где украинцы названы «малороссиянами». Формально ничего не возразишь — цитата есть цитата, в ней слова не выкинешь. Но таким цитатам на нашей конференции, казалось бы, совсем не место; и если бы не малотактичные националистические выпады с одной стороны, их не было бы и с другой. Думается, что эта маленькая перепалка лучше всего другого свидетельствует, до чего полезно нам будет именно всесоюзное общество историков-марксистов — лучшее средство для искоренения как «великодержавного»* так и всякого иного шовинизма.
Другим очень хорошим противоядием явится, конечно, постановка в центре внимания наших историков-марксистов какой-нибудь крупной проблемы, классовый характер которой бил бы в глаза, не допускал бы никаких националистических споров и «недоразумений». И это было сделано на нашей конференции. Одним из центральных ее докладов был доклад тов. Панкратовой об изучении истории рабочего классавСССР. Гегемон нашей буржуазной революции и диктатор после революции социалистической, класс, делавший нашу историю на протяжении последних тридцати лет/ не имеет еще своей «биографии». Несколько отрывочных монографий, несколько полу-, а то и совсем меньшевистских популярных обзоров, и это все. Давно пора было заполнить этот пробел; то, что за это принялся покойный Н. А. Рожков в последний год своей жизни, снимает многое множество его старых грехов. Мы знаем, что сделала пролетарская масса в старой «России» и в новой Советской стране. Но как возникала эта масса? Из каких элементов она составилась? Как превратилась она в тот поток раскаленной лавы, который сжег не только царизм, который — в единственной стране в целом мире — испепелил и буржуазный, капиталистический строй? Ответа, научного и конкретного ответа на это нет. Пролетариат появляется на нашей исторической сцене совсем готовым, как Минерва из головы Юпитера,
448
111. Историография
в 1890-х годах. Но и с тех пор мы больше знаем о его политических выступлениях, нежели о его интимной жизни, чаще всего видим его на улице на баррикадах и реже всего на фабрике у станка. Между тем для истории нашего пролетариата менее всего годится западноевропейский трафарет. На Западе пролетарская масса складывалась из потерявших свою мастерскую городских ремесленников и открепленных от земли крестьян. У нас первые рабочие крупной промышленности выходили из рядов крестьян, прикрепленных к земле, а ремесленный слой был совсем тонкий (он был все же). У нас между феодализмом и промышленным капитализмом не было тех промежуточных ступеней, которые так характерны для Запада. Хозяин нашей мануфактуры XVIII века был иногда чистой воды феодал, а более яркой средневековщины, чем история нашей крупной металлургической промышленности на Урале или на Выксе, не найдешь в Западной Европе моложе XIV—XV веков. И наши-первые забастовки часто направлялись не столько против капиталиста, сколько против барина, закабалившего принадлежащие ему «души» на фабрику. Развиваться наш промышленный капитал начал, когда еще во всем цвету стояло крепостное право. Понять историю нашего пролетариата во всем ее своеобразии — значит понять своеобразие нашей пролетарской революции. Может быть, о характере этой последней не было бы таких споров (они замолкли теперь, но обманываться не следует: в прикровенной форме они продолжаются и по сей день; «правый уклон» фактически отрицает социалистический характер нашей революции, сознают это правые уклонисты или нет —все равно), если бы мы ясно представляли себе, кто именно делал эту революцию. Но мы неясно представляем себе не только это, но также и то, что именно сталось с главной движущей силой революции после победы пролетариата. Мы никогда не изучали систематически рабочего класса советских стран, и мы составляем себе нередко о нем суждение по наиболее ярким фактам, встречающимся на страницах газет, т. е., откровенно говоря, по «анекдотам». Тут огромное поле для работы не одних историков-марксистов, а всех секций Коммунистической академии.
Я не имею возможности останавливаться на всех многочисленных темах, затронутых докладами в различных секциях конференции (не в пример Международному конгрессу историков в Осло посещаемость этих секционных докладов была такова, что по внешнему виду заседания секции всякому показались бы пленумом). В этой же книжке «Историка-марксиста»
Всесоюзная конференция историков-марксистов
449
читатели найдут подробный обзор всех занятий конференции6. Но я не могу не остановиться на одной особенности этой последней. Она вскрыла не только гораздо более обширные кадры последователей исторического материализма в нашей стране, чем можно было ожидать, она показала, что наше мировоззрение начинает захватывать и соседние с нашей наукой области, притом такие области, где еще недавно господствовали безраздельно идеализм и психологизм. Великолепный доклад академика Н. Я. Марра7 показал, что к нашим материалистическим выводам можно прийти не только от изучения классовой борьбы (каковое изучение некоторые наивные люди считают основным характеристическим признаком марксизма, забывая, что такое понимание марксизма давно опровергнуто самим Марксом), но и от изучения истории человеческой речи. Все человеческое есть продукт общественной работы. «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности она есть совокупность общественных отношений». Индивидуальное не начало, как казалось и кажется буржуазным историкам, а конец, итог. И отправляться в объяснении исторического процесса от индивидуального, как до сих пор делают «заслуженные», — это значит заставлять историю идти вверх ногами.
«Историк-марксист», 1929, т. 11, стр. 3—11
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА СССР. ПРОЛЕТАРИАТ ЦАРСКОЙ РОССИИ»
История пролетариата нашей страны именно теперь становится одной из самых замечательных страниц мировой истории. Пока дело шло о низвержении старого порядка в обоих его видах, у нас тесно переплетавшихся, — в виде диктатуры крепостников-помещиков и в виде диктатуры финансового капитала, — можно было для объяснения происходившего выдвигать на первое место «объективные условия». Нигде, кроме как у нас, не было такого сочетания допотопной политической верхушки, бесконечно устарелого и застарелого самодержавия с крупной промышленностью почти американского типа; не было такой отсталой, косной, бестолковой, и политически не организованной буржуазии рядом с наиболее зрелой революционной организацией рабочего класса, какая существовала на земном шаре. Нигде не было такой возможности, точнее говоря, необходимости увязать рабочую революцию с крестьянской войной, как у нас, потому что нигде крупное землевладение не сохранило до наших дней стольких пережитков феодализма. Словом, пока дело шло только об объяснении Октября, не было абсолютной необходимости ставить ударение в объяснении исторических фактов на субъективном моменте — задавать вопрос: а какие специфические особенности того класса, который сделал Октябрьскую революцию, обуслрвили ее возможность и необходимость?
Это, конечно, отнюдь не оправдание, а только некоторое извинение тому факту, что за историю пролетариата нашей страны мы принимаемся через двенадцать лет после того, как этот пролетариат взял в свои руки власть. Но теперь, когда рабочий класс показал, что он не только умеет взять в руки власть и ее удержать, но умеет и ею пользоваться, теперь, когда он не только низвергает старое, но и строит новое, является первым
Предисловие к «Очеркам истории пролетариата СССР»
451
создателем социалистического общества в мире, ставить ударение на «объективных причинах» более нет никакой возможности. Ибо «объективные причины» теперь против нас, и на этом строились предсказания как наших «друзей», постепенно теряющих надежду, что мы «исправимся» и «образумимся», так и наших врагов, постепенно тоже теряющих надежду, что мы провалимся. Объективная логика старого «экономического материализма» против нас, — а мы идем вперед, и этот ход вперед так неоспорим, что любая серьезная буржуазная газета Западной Европы считается с этим нашим поступательным движением как с объективным фактом, его же не прейдеши. «Падения» серьезные наши противники ожидают только от политических причин. Что мы не справимся с экономическими затруднениями — в это никто не верит.
Есть, значит, что-то в самой «природе» пролетариата нашей страны, что дает ему возможность побеждать, даже когда «объективные причины» не за него, а против него. И теперь от вопроса, как сложилась эта разновидность рабочего класса, откуда она взялась, чем объясняется не только ее последовательная революционность, — на это «объективные причины» еще кое-как могли дать ответ, — а чем объясняется ее неистощимая способность творчества, — теперь от этого вопроса никуда не уйдешь. История рабочего класса нашей страны, так, как он возник и существовал до наших дней, становится очередной исторической задачей не только для нас, но и еще больше для наших западных и восточных товарищей.
От буржуазных историков нам на эту тему, к счастью, нит чего не осталось. После 1848 года, «Коммунистического Манифеста» и июньских дней в Париже наша буржуазия до обморока боялась пролетарской революции и утешала себя уверениями, что «в России нет рабочего вопроса». Мелкая буржуазия в этом случае оказалась всецело под обаянием крупной: народники умели только подписаться под буржуазными теориями русского исторического развития — своей они не создали. Они не замечали, за очень немногими исключениями, что благодать не свалилась нашей буржуазии с неба, что кое-что делалось, и весьма энергично делалось, чтобы избавить «Россию» от появления на ее территории «рабочего вопроса». Знаменитое «освобождение крестьян с землей» было придумано не только — и, может быть, не столько — для предупреждения крестьянской революции, но и для того, чтобы предупредить появление • у нас пролетариата. Этого и не скрывали: об этом писали в офи¬
16*
452
111, Историография
циальном порядке редакционные комиссии, об этом говорил, и с большим подчеркиванием, умнейший из дворянских теоретиков крестьянского вопроса Кавелин. «Скелет в доме», однако же, нельзя было заклясть никакими словами о том, что ему, «скелету», существовать у нас по буржуазной исторической теории совсем не полагается. Наоборот, в противоположность обычным скелетам он обрастал мясом и кожей, приобретал все более крепкие мускулы и уже в 70-х годах заставил считаться с собой народников, хотя и по их теории ему существовать также не полагалось.
С 90-х годов отрицать существование рабочего класса и рабочего вопроса в нашей стране могли лишь очень отсталые или очень тупые люди, — близко стоявшие к делу практики, совсем не зараженные марксизмом, вроде первых фабричных инспекторов, писали об этом уже в 80-х. Стать одним из объектов исторического исследования помешало рабочему классу — странная вещь! — именно то положение гегемона революционного движения, которое этот класс начал занимать. Его история утонула в истории общей революционной борьбы в стране. О «классовых интересах пролетариата» больше всего говорили те, кто был против революции, как «экономисты», или кто понимал революцию не по-марксистски, как Троцкий. Провести довольно тонкое для немарксиста различие между троцкистским пониманием революции как классового рабочего дела в узком и тесном смысле слова и представлением, что пролетариат есть вождь общенациональной революции, историки мелкобуржуазного склада не умеют до сих пор. Им кажестя, что учение о гегемонии пролетарита в буржуазной революции есть чистой воды троцкизм. Но и не мелкобуржуазные историки недостаточно обратили внимание на то, что главнейшая работа Ленина о революции 1905 года имела своей темой именно стачечное движение рабочих1, хотя никто резче и чаще Ленина не подчеркивал значения крестьянства в нашей буржуазной революции.
В результате всех этих невниманий и непониманий историю нашего пролетариата стали писать те, кто меньше всего имел на это право и у кого меньше всех было к этому способностей. Почти все работы этого рода вышли из меньшевистского лагеря. Почти все они не умеют связать историю рабочего класса с историей рабочей партии, почти все они отправляются от неверной концепции «стихийного» движения пролетарских масс и почти все поэтому не в состоянии подняться над историей
Предисловие к «Очеркам истории пролетариата СССР»
453
экономической борьбы в тесном смысле этого слова. Почти у всех наш рабочий имеет вид захудалого кузена английского тред-юниониста и германского социал-демократа, тогда как вся суть в том, что английского и немецкого рабочего история на долгие годы отогнала далеко в сторону от революционной дороги, в то время как наш пролетариат становился тем революционнее, чем был сознательнее, так что термины «сознательный рабочий» и «революционер» у нас наконец слились.
Благодаря этому и меньшевистская история нашего пролетариата настоящим образом не собрала даже материалов. В серенькой и пресной фигуре, которая глядит на нас со страниц меньшевистских писаний, никак нельзя угадать будущего совершителя первой в мире удачной социалистической революции и строителя первого в мире социалистического хозяйства. Наши первые историки пролетариата просто-таки его не видели, его революционная роль казалась им последствием какого-то ленинского прельщения и большевистского искривления «нормальной» истории рабочего* класса. Нам предстоит, таким образом, не только по-иному толковать собранные до нас факты, но и открыть целый ряд новых фактов, которыми наши предшественники просто не интересовались. История пролетариата как класса-бойца должна быть целиком написана заново. У меньшевиков ее нет. Яркая и красочная картина пролетарской борьбы досоциал-демократического периода у них просто отсутствует, и даже историю рабочего восстания 1905 года они постарались обесцветить насколько это возможно. Мы не всегда это замечаем, потому что пользуемся для своих Общих характеристик статьями Ленина. Но статьи Ленина (кроме названной выше) — это не конкретная история. Ленин и в области международных отношений угадал много такого, что во всей конкретности открылось нам только теперь благодаря раскопкам в бывших «секретных» архивах. Это не избавляет нас, однако, от необходимости издавать документы империалистской войны. Конечно, мы собираемся излагать историю нашего рабочего класса «по Ленину», но это не избавляет нас от необходимости собрать фактический материал.
Изучение истории пролетариата как революционного класса не означает, что мы берем этот класс только в его революционной деятельности. Напротив, задача в том и состоит, чтобы из условий образования и роста нашего рабочего класса объяснить его революционную роль. Если меньшевики выхолос¬
454
III. Историография
тили из истории пролетариата политику, это вовсе не уполномочивает нас выкинуть оттуда экономику. Надо всегда помнить то, что говорил Ленин о неразрывности экономической и политической борьбы рабочих — о невозможности политической борьбы без предварительной «раскачки» рабочей массы борьбой экономической.
Б. Б. Граве, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова,
К. Ф. Сидоров. Очерки истории пролетариата СССР. Пролетариат царской России. М., 1931, стр. 5—9
т
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВЫСШАЯ ШКОЛА
РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В своей университетской реформе Народный комиссариат по просвещению ставит себе тройную задачу.
Во-первых, демократизировать науку, ныне составляющую монополию небольшой кучки дипломированных ученых, тесно связанных своими интересами с буржуазией, из рядов которой они по большей части и вышли.
Во-вторых, демократизировать знание, то профессиональное знание врача, инженера или педагога, которое выделяет их из рядов других работников и дает им превосходство над другими работниками, делает их «начальством» над этими другими. До сих пор это профессиональное знание, даваемое университетами и другими высшими школами, было как бы наследственным уделом сыновей и дочерей зажиточного мещанства, детей чиновников, попов, лавочников, деревенских кулаков. Сын рабочего или рядового крестьянина попадал в университет только в виде редчайшего исключения, благодаря какой-нибудь счастливой случайности. Рабоче-крестьянская республика должна широко распахнуть двери университета перед своей молодежью, создать свою истинно демократическую рабоче-крестьянскую интеллигенцию на месте того «интеллигентского» мещанства, которое такой лютой ненавистью ненавидит теперь правительство рабочих и крестьян.
В-третьих, демократизировать просвещение, до сих пор украшавшее жизнь все той же буржуазии и буржуазной интеллигенции, а «трудящимся» предлагавшееся в таком разжиженном виде, что усмотреть в этом пойле следы подлинной науки было нелегким делом. Завоевавший власть народ имеет право на настоящую науку, а не на жалкий суррогат. А уж дело ученых дать этой науке такую форму, при которой она была бы доступна всякому среднему нетупому человеку, пришедшему в университетскую аудиторию с серьезным желанием что-то узнать и чему-то научиться. Замечательно, что все великие и даже просто крупные ученые всегда умели говорить и писать
458 IV. Народное просвещение и высшая школа
просто — Дарвин, Гекели, Гельмгольц, Клод Бернар, Поль Бэр, у нас Тимирязев, Сеченов, Ключевский и др. Скрывать свое убожество под мудреным языком всегда было'* уделом ученых тупиц, всеми правдами, а особенно неправдами забравшихся на университетскую кафедру.
И вот — в этом великая задача университетской реформы, покрывающая все остальные, — тройная демократизация высшей школы прежде всего другого должна обеспечить место на университетской кафедре настоящим крупным ученым, подлинному научному творчеству. Ибо как классовое буржуазное хозяйство пережило давно само себя, и господство капитализма самым фактом своего существования искусственно понижает производительность труда, задерживает развитие производительных сил, так давно пережила самое себя и буржуазная университетская наука. Замечательно, что крупные ученые, еще встречающиеся и в буржуазной среде, хотя все реже и реже, бегут из университетов в разные специальные «институты», где они могут работать, не стесняемые академической китайщиной, мелкими дрязгами и интригами, убивающими всякий творческий дух, всякое желание, всякую способность плодотворно трудиться. Только полная доступность кафедры для всякого могущего учить, полная доступность аудитории для всякого желающего учиться, только близкое соприкосновение университета с широкими народными массами могут спасти университетскую науку от старческой дряхлости, признаки которой так явны уже не только у нас, но и на Западе. Там это более могучая и красивая старость, но все же старость, и там университетская академическая жизнь идет не вперед, а назад.
У нас это старческое окоченение очень рельефно выражается несколькими цифрами. Если мы возьмем научную производительность двух крупнейших наших университетов — Петербургского и Московского — за десятилетие 1907—1916 годов, мы получим такую картину.
Число ученых работ, опубликованных за 10 лет
Годы
Университеты
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Петербургский ....
321
325
353
407
474
477
517
454
541
331
Московский
819
449
763
908
450
462
594
467
410
456
Реформа высшей школы
459
Особенно выразительны цифры ученых трудов Московского университета: за 10 лет число их упало почти вдвое. В Петербургском зато рельефнее картина застоя: на протяжении 10 лет мы встречаем в конце снова почти ту же цифру, которою десятилетие началось, так что ученый, проспавший 10 лет, проснувшись, не заметил бы никакой перемены. Пусть на ученой работе университетов под самый конец десятилетия отразилась война, пусть резкое понижение кривой, специально для Московского университета, после 1910 года отметило начало деятельности Кассо: ведь и Кассо, во-первых, не с неба упал, а вышел из рядов той же профессуры (до назначения министром он был профессором гражданского права в Московском университете) , а что касается войны, так она науку некоторых других стран в известных областях, связанных, например, с военной индустрией, скорее подстрекнула не только в Германии, но даже и в отсталых государствах вроде Франции: именно с войной связан целый ряд открытий в физике и химии. Но на работах российской университетской науки трудно заметить это влияние войны: в Московском университете 1913 год дал 141 работу по физико-математическому факультету, а 1915 год — 124, цифру, буквально повторившуюся и в 1916 году. Петербургский же университет, давший по этому факультету в 1913 году 199 работ, спустился к 1916 году до 115 —на 40% слишком. Война у нас не оплодотворила «точных» наук, как это было на Западе, зато процвели история и филология (в Московском университете в 1913 году —79 работ, в 1916 году—115). Как тут не вспомнить патриотическое усердие московских историков, выразившееся в знаменитом адресе Николаю? Уж не попал ли в число «ученых» работ и этот адрес?
Зная эти цифры, нетрудно было бы предсказать, к чему наиболее нестерпимо отнесется российская профессура.
В тезисах, представленных совещанию по реформе высшей школы, открывшемуся в одной из аудиторий Московского университета в понедельник 8 июля, было немало новшеств, очень «радикальных» на обывательский взгляд: бесплатность обучения, уничтожение дипломов, ученых степеней, участие слушателей в управлении университетами. Против всего этого спорили (даже против бесплатности, пусть читатель не удивляется — из платы за ученье составляются так называемые «специальные» средства университетов, т. е. средства, находившиеся в бесконтрольном распоряжении профессуры, которые можно тратить, не спрашиваясь начальства; нужно ли объяснять, сколь это иногда удобно?). Но в конце концов даже
460 IV. Народное просвещение и высшая школа
самая крупная кость — допущение учащихся в советы университетов — прошла благополучно, лишь слегка поцарапав горло. Принятая по этому случаю подавляющим большинством резолюция гласила:
«Признавая участие представительства студенчества в управлении университетом в некоторых случаях необходимым, а в других допустимым, совещание не возражает против введения представителей студенчества в органы университетского управления с правом решающего голоса во всех вопросах, за исключением избрания профессоров и преподавателей и присуждения ученых степеней. Формы осуществления этого участия (количество представителей, определение избирающих их групп и т. п.) подлежат ближайшему обсуждению при разработке устава на местах» 1.
Даже такой удар обухом по лбу, как краткосрочность профессуры (по тезисам — 5 лет), профессорство, только что обеспечивавшее себе, год тому назад, возможность сидеть на кафедре не 25 лет, как было в старое царское время, а целых 30, перенесло довольно твердо. Десятилетний срок (Уз «завоеванного» российскому ученому мартовской революцией), по- видимому, пройдет в комиссии. Но чего перенести оказалось невозможно — это создания в университетах особой ученой ассоциации, где профессора занимались бы не чтением лекций (раз навсегда составленных в дни молодости и перечитывавшихся до окончания тридцатилетия: сколько воспоминаний должны возбуждать у почтенных старцев пожелтевшие листки!), а самостоятельной научной работой. Слияние с университетом тех научных институтов, куда бежит теперь живая часть профессуры, как указано выше, — это было слишком сильно для непогребенных мертвецов казенной науки. Как, помилуйте! Заставлять человека каждые 10 лет, а может быть, и каждые 7 доказывать, что он работает. Мешать ему мирно почивать, положив под голову свою докторскую диссертацию, написанную 20 лет назад. От этого российские университеты прямо-таки погибнут. Лучше уж пустить в наши аудитории рабочего, уничтожив дипломы и вступительные экзамены. Рабочий, посмотрев да послушав нас, может еще и прочь уйдет, оставив нас в покое. А тут никогда покоя не будет. Исследуй, пиши, издавай — можно ли снести такую каторгу?
Само собой разумеется, что Комиссариату по просвещению никогда не приходило в голову насильно заставлять гг. университетских ученых предаваться научному творчеству. Насильно творить нельзя ни в какой области, научной тем более.
Реформа высшей школы
461
Ежели российской профессуре показалось уместно выдать себе свидетельство о научной бедности — ее дело. Научные институты будут основываться вне университетов, живые силы последних будут по-прежнему бежать туда, около них будет скопляться та живая, талантливая молодежь, которой никакой скрытый ценз, в форме ли диплома, в форме ли платы за ученье, не будет более заграждать дорогу к науке. А научившись сама научно работать, эта молодежь, верно, не забудет своих привычек и выйдет на кафедру, дорогу к которой опять- таки не будет заграждать ей полусгнивший труп предшествующего научного поколения. Русские университеты сделаются крупными научными центрами, хотят этого или не хотят теперешние «хозяева» университетских кафедр. Но борьЬа этих «хозяев» против обязательности для них научной работы представляет собой глубоко поучительную страницу, страницу последнюю, истории нашего буржуазного университета. Подобно нашим купеческим династиям наша буржуазная наука выродилась быстро. И какой скорбной тенью предстали бы перед только что закрывшимся совещанием Пироговы, Кавелины, Костомаровы, основоположники российского буржуазного университета, если бы они могли выйти из могил. Первый докладчик от комиссариата их именами пытался заклясть университетскую рутину. Тщетно. Речи великих шестидесятников замерли на собрании их духовных внуков, не встретив отклика. Те добивались полной свободы научной работы — эти свято берегут свободу — научно не работать. Где тут понять друг друга?
Вопросом о «научной» ассоциации не исчерпывается, конечно, сущность противоречия между проектами комиссариата и взглядами тех, кого комиссариат созвал на совещание. Не исчерпывается этим и значение предпринимаемой реформы. Казовыми концами ее, несомненно, сделаются, с одной стороны, принятая на себя университетами повинность служить делу просвещения широких народных масс (это выразилось в создании особой «просветительной» ассоциации университетов), с другой — в замене выбора профессоров факультетами образованием широких всероссийских конкурсов. Но к этим вопросам «Народное просвещение» еще вернется.
Домов2.
«Народное просвещение». Социалистический орган, общественно-политический, педагогический и научный, 1918, Яв 4—5, стр. 31—33
ОБЩИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ1 [Доклад]
Прежде всего следует отметить особые трудности организации дела народного образования в настоящий момент. Власть буржуазии сломлена, политически эта власть в руках пролетариата и беднейшего крестьянства, но социальный строй капиталистического общества, его хозяйство еще не преодолены. Мы прошли первую ступень социальной революции — переход политической власти в руки пролетариата, но мы еще далеки от последних, верхних ступеней лестницы, ведущей в царство социализма. И вот в этом промежуточном положении может случиться, что социальное влияние отдельных общественных элементов не совпадет с распределением политической власти, что в Совете сидят и правят рабочие, а в жизни, вне Совета, имеет силу и влияние какой-нибудь деревенский кулак или даже буржуа-предприниматель. И только держа этого кулака в страхе божьем, Совет может провести свою волю в данный момент. Совет есть прежде всего орган революционной диктатуры, и без диктатуры в центре и на местах в этот период революции обойтись нельзя. Но в то же время образовывать народ путем диктатуры, путем приказа сверху также нельзя: истинное народное образование должно быть самообразованием. Примирить это противоречие возможно, лишь создав два органа управления: отделы народного образования и советы народного образования. Из них отдел народного образования создается подлежащей губернской, уездной, волостной Советской властью. В руках этих отделов и сосредоточивается управление школьным делом. Они являются как бы местными комиссариатами или министерствами народного просвещения. Население же получает место в управлении школой в советах народного образования, избираемых из тех организаций, которые имеют представительство в Совдепах, с допущением в них представителей от учащих и учащихся. Эти учреждения уже не советские и не политические, а просветительные. Советы народного образования — органы совещательные и контрольные!
Общий план организации дела народного просвещения
463
Следует отметить сходство конституции губернских, уездных и волостных отделов и советов народного образования. Центральный орган управления делом народного образования — государственная комиссия, составленная из выборных от советских и профессиональных организаций. В ней дается место также одному представителю от национальностей и одному от Высшего Совета Народного Хозяйства, так как цель школы — поднять уровень производительных сил в стране, почему необходима совместная постоянная работа представителей Высшего Совета Народного Хозяйства, руководящего делом управления хозяйством страны. Государственную комиссию возглавляет народный комиссар, являющийся объединительным звеном с высшим органом Советской власти — Советом Народных Комиссаров — и утверждаемый Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов. Его ближайшие помощники утверждаются Советом Народных Комиссаров. Эти конструкции являются компромиссом, как и вся наша жизнь. Когда будет социализм, тогда отпадет и двойственность. Таким образом, как видите, органы управления делом образования построены на принципе выборности. Необходимо этот принцип по аналогии с выборностью других должностей распространить и на учительство. Выборы учителей уже существуют, например в Швейцарии. К ним начинают привыкать и у нас. Выборы будут производиться на срок, хотя это многим кажется и диким. Но работникам бояться этого нечего, этого могут бояться лишь никчемные люди. Как же производить выборы? Самое лучшее было бы предоставить это населению, но теперь, в переходном периоде, при существовании разнородных классов, этого допустить нельзя, особенно там, где преобладает богатое население. С другой стороны, пока не освоились с отделением церкви от государства, сделанным сверху, приходится бояться и клерикального влияния; этого бояться есть основания, так как существуют примеры выборов «батюшек» и даже в Совдеп. Последнее еще ничего, пока такие факты являются исключением, но станет опасным, если это сделается правилом, так как тогда работа Совдепов будет постоянно тормозиться. Все это заставляет осторожно относиться к предоставлению права выборов учителей населению. Приходится поэтому временно выборы учителей предоставить Совдепам. Как вопрос разрешится на практике — покажет будущее. В то время как на местах наряду с отделами народного образования организуются советы народного образования, так и в дополнение к постоянному центральному органу — Государственной комиссии — предположено
464 IV. Народное просвещение и высшая школа
периодически созывать Всероссийский съезд по просвещению из выборных представителей от отделов и советов по народному образованию: по 2 от губернских и по 2 от всех уездов губернии.
[Заключительное слово на заседании 4 июня 1918 года]
Тов. Покровский в заключительном слове резюмирует все сказанное. Нормальное образование населения должно быть самообразованием. Выборы учащих населением не должны пугать учителей. Выборы пугают разве только профессоров. Что касается учащих средних школ, то они должны снизойти со своего высокого пьедестала. Выборы учителей должны непременно производиться порайонно, ибо там их всякий знает. Местное учительство должно быть привлечено к работе, но при этом необходимо держаться строгой дисциплины, ибо только то терпимо, что не мешает укреплению власти рабочих и крестьян. Нас уверяют, что масса учительства — это одно, а верхи—другое. Допускать к делу союз нельзя, ибо учительство слепо следует за своими вождями, но это не значит, что учительство не должно быть привлечено к работе. Следует приветствовать мысль о привлечении к работе учащихся старших классов. Даже «хорошее» николаевское начальство считалось с мнением учащихся в деле увольнения педагога.
Советская власть имеет в виду увеличить ставки на жалованье, социальное обеспечение учащих. Вероятно, процент выброшенных за борт учащих не будет превышать 2%; учительские институты преобразуются в педагогические академии или факультеты. Курс обучения пяти летний. Первые три года проходится теоретический курс, четвертый год учитель обучается при помощи показательных школ, в пятом же году он самостоятельно преподает под надзором Педагогической академии. Педагогические факультеты готовят учащих для высшей и для средней школы. Что касается преобразования учительских семинарий, то вопрос пока не поставлен в первую очередь. Пока устраиваются только центральные педагогические курсы для выпуска учащих низшей школы; курсы будут месячные. Программа их освежается введением новых предметов. Лекции знакомят слушателей с Советской Россией, политической, экономической, с учением о социализме. Обслуживать Россию научными силами является делом государственным. Но вряд ли выпущенные смогут на первых порах объехать и половину Рос¬
Общий план организации дела народного просвещения
465
сии; поэтому необходимо чрезвычайно усилить самодеятельность на местах. В учителя привлекается всякий, кто имеет общеобразовательный ценз и может быть педагогом. Минимум образовательной допустимости безусловно нельзя установить; минимума политической благонадежности не должно быть; либо человек воюет против Советской власти, либо нет. Срок перевыборов для учащих еще не выработан. По крайней мере на первых порах срок должен быть дан на два года.
[Заключительное слово на заседании 5 июня 1918 года]
В своем заключительном слове тов. Покровский говорит, что положение о перевыборах учителей не совсем правильно понято возражавшими. Здесь говорили о том, насколько возможны перевыборы учителей населением, и нужно по этому поводу вынести известную резолюцию.
Резолюция о выборах наиболее -целесообразными признает выборы учителей Совдепами, причем должен быть представлен отзыв населения, учащихся старше 14 лет, должен быть выслушан голос организаций, стоящих на платформе Советской власти. Но в конечном результате надо считаться с Совдепами. Нельзя думать, что учителя все определенно против Советской власти, — они скорее проникнуты известным ложным пониманием социализма. Надо отдать справедливость Всероссийскому учительскому союзу, что он не руководится какой-то стихийной черносотенностью, но состав его буржуазный и главным образом мелкобуржуазный. Представители этого слоя и ведут остальное учительство на поводу. Крестьянство здесь безусловно придет нам на выручку, а сдвиг среди народных учителей уже начался. По вопросу о методике тов. Темкин не совсем правильно толкует слова докладчика, который не думает отрицать этой науки. Вопрос о том, нужен ли повторительный курс этой науки для учителей, уже практиковавшихся. Можно высказаться за преподавание методики на предполагающихся педагогических курсах, но в краткой форме. Указывалось, что не следует принижать объем знаний учителя. Безусловно, что изучать по первоисточникам невозможно. Научная пища учителя должна быть сконцентрирована в ряде мелких курсов.
Наконец, несколько слов о централизации. Совет комиссаров Московской области понимает это как центральность революционной диктатуры власти. В настоящее время в централизме,
466 IV. Народное просвещение и высшая школа
который был’ в старой России, необходимости нет. Но есть одна сторона, которую не надо забывать: старый аппарат сломан, а нового нет. Следовательно, главный вопрос в создании нового аппарата. Вообще революционной диктатуре трудно проводить директивы на местах. Русская революция шла не таким путем, как французская. У нас были два борца: Москва и Петербург. В глухих местах также сорганизовалась Советская власть, только гораздо позже, и вообще это процесс медленный. Местные Советы не слепые орудия, а сознательные работники единой Советской власти. При наших условиях (расстройство телеграфа, железных дорог и т. п.) мечтать о диктатуре организационной, централизованной в политическом смысле не приходится.
Необходимо местным Советам и учреждениям считаться с директивами центра народного просвещения, но пытаться управлять ими из центра — безнадежное дело. Давая общие политические указания, центр считается с указанием с мест, и местные организации могут требовать не только сведений информационного характера, но и отчета от высших органов.
«Сборник Всероссийского союэа учителей-интер- националистов». Труды 1-го Всероссийского съезда. М., 1918, № 1, июль, стб. 36—38, 44—45,
66—68
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(Тезисы доклада на 2-м Всероссийском съезде учите лей-интернационалистов) г
1. Интеллигенция не есть самостоятельный общественный класс. По своему положению в производстве она является одной из составных частей мелкой буржуазии, отсюда родство интеллигентских идеологий с мелкобуржуазными. По своей исторической роли данная разновидность мелкой буржуазии — как и эта последняя вообще — может быть и прогрессивной силой, и силой реакционной, отсюда изменчивость интеллигентской идеологии.
2. Интеллигенция как нечто обособленное появляется не ранее наиболее старых форм капиталистического хозяйства (так называемый период первоначального накопления, характеризуемый преобладанием торгового капитала). В докапиталистическую эпоху интеллигенция сливалась с господствующим классом вообще; остатки этой феодальной интеллигенции дожили до наших дней в лице духовенства и чиновничества.
3. С переходом власти к денежному капиталу интеллигенция в лице юристов, врачей, ученых, художников попадает в разряд сил, обслуживающих этот капитал и в то же время им эксплуатируемых. Живописец, как и портной, должен отдавать плоды своего труда капиталисту. Интеллигент, как и всякий другой ремесленник, служа капиталу, ненавидит его как угнетателя, отсюда чуткость интеллигенции этого периода к народническому (мелкобуржуазному) социализму и ее симпатии революции.
4. С развитием промышленного, а позднее финансового капитализма интеллигенция становится необходима последнему как организующая сила. Из ремесленника, эксплуатируемого торговым капиталом, интеллигент превращается в контрметра, помогающего предпринимателю организовать производство и эксплуатировать рабочего. Интеллигенция этого периода становится антисоциалистической и в момент социальной революции неизбежно должна была стать реакционной силой.
468 IV. Народное просвещение и высшая школа
5. С переходом власти к пролетариату роль интеллигенции как организующей силы не кончается, поскольку и для коммунистического общежития необходима техника в ее высших формах. В противоположность буржуазии интеллигенция не умирает в момент торжества социалистической революции. Мало того, ее объективная роль по существу остается та же; лишь то, что раньше она делала за счет капитала, теперь она делает для победивших капитал рабочих. Но идеология контрметра нелегко превращается в идеологию рабочего. Духовно интеллигенция продолжает идти на поводу у буржуазии, остается прикованной к ее трупу.
6. Разорвать эту связь может только трудовая школа, равняющая интеллигентскую молодежь с пролетарской в физическом труде, и новый учитель, несущий в эту школу коммунистическое миросозерцание.
«Народное просвещение». Социалистический орган, общественно-политический, педагогический и научный, 1919, Mi 6—7, стр. 104—105
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОМПРОСА1
Каждая великая революция несет с собой не только изменение вещей, но и изменение идей. У каждой есть свое миросозерцание.
Для английской революции XVII века таким был пуританизм. Для французской конца следующего столетия — философия «просвещения». Для пролетарской революции наших дней таким является марксизм.
Нетрудно заметить, что по мере приближения к нашим дням эти идейные революции, сопровождающие перевороты в области материальных отношений, становятся все глубже, целостнее и оригинальнее. Пуританизм опирался всецело на внешний авторитет, на Библию в своих широчайших слоях, на «слово божье», изглаголанное через «пророков», в своих наиболее радикальных течениях. От себя пуританизм еще не осмеливался говорить.
«Просвещение» свело авторитет с неба на землю: пуританизм говорил о% имени бога, «просвещение» заговорило от имени человека. Но этот «человек вообще» был почти так же бесплотен, как и бог. Это не был человек определенного класса. Идеи «просвещения» были поэтому приемлемы для очень широких кругов, в сущности для всех, кроме попов и их поклонников. Но именно поэтому оно никого ни к чему и не обязывало. От имени «просвещения» мог говорить и буржуа, проповедовавший «свободу труда», и рабочий, требуя свободы коалиции. И дальше вопрос решала уже одна сила: «просвещение» было бессильно свести логически концы с концами.
Миросозерцание пролетарской революции — самое законченное, самое заостренное из всех революционных миро- созерцаний, какие видел свет. И это миросозерцание совершенно определенного, конкретного класса — рабочего класса. Марксизм приемлем только для пролетариата и для людей, ставших на пролетарскую точку зрения. На эту точку зрения может быть поставлена, конечно, и мелкая буржуазия, поскольку
470 IV. Народное просвещение и высшая школа
постепенно она будет приходить к сознанию, что перед нею только два выхода: или обратиться в илотов капитала, или войти свободными в коммунистическое общество.
С этим связаны огромные трудности в.деле распространения марксизма по сравнению с «просвещением», тем более по сравнению с пуританизмом. Для последнего все дело решал моментальный психологический перелом, нужно было «уверовать». «Просвещение» требовало несколько более длительной подготовки, но во всяком случае, кроме клерикализма, бороться ему было не с кем. Поперек дороги марксизму стоит именно «просвещение». Мир должен принадлежать рабочим, говорит марксизм. «Всем людям», слащаво поправляет буржуа. И хотя столетний опыт доказал, что «все люди» на практике сводятся к буржуазии, что отдать мир «всем людям» — значит освободить сто тысяч ценой рабства ста миллионов, всегда находятся простаки, готовые слушать «просвещенного» буржуа и возмущаться «узостью» марксистского миросозерцания.
Вот почему диктатуре прошлых революций почти не приходилось иметь своего идейного аппарата. У английской революции его вовсе не было. Французская ограничилась преследованием попов — на 3U по чисто политическим мотивам, да и то Робеспьер под конец не мешал служить обедню. Мы такими элементарными предприятиями ограничиться не можем.
Этим вызывается необходимость для пролетарской революции иметь свой особый орган идейной диктатуры. Орган, который действует не материальными средствами борьбы (это бывало во всех революциях), а разрушает миросозерцание противника, выбивает из его рук то оружие, при помощи которого тот, уже раздавленный физически, умственно и нравственно, продолжает держать в руках темную крестьянскую и полутемную мещанскую массу.
Таким органом пролетарской диктатуры в РСФСР является — должен являться по крайней мере — весь Наркомпрос. У Наркомпроса есть своя техника и своя политика. Техника сводится к тому, чтобы были школы, были учебники, были учителя. Политика сводится к тому, чтобы была трудовая политехническая школа, коммунистические учебники, красные учителя. Конечно, политика без техники — вещь очень плохая: нечто вроде Красной Армии без пушек. Но техника без политики вещь очень опасная: нечто вроде наемной «Красной армии», людей, которые служат республике, пока им это выгодно. И тут всегда полезно вспоминать чехословаков, кото¬
Академический центр Наркомпроса
471
рые тоже ведь воевали за РСФСР, пока им это было нужно. А потом стали воевать с н е ю.
Политическая работа Наркомпроса — та, где он является одним из органов пролетарской диктатуры, — до сих пор не была объединена. Каждый «сектор» вел эту работу по-своему, своими средствами, по своей программе, обращая главное внимание на то, что руководителям этого сектора казалось наиболее нужным. В одном секторе преобладала «техника», в другом из-за «политики» не видели, что от «техники» уже ничего почти не остается. Коллегия Наркомпроса, объединяющая и «технику», и «политику», не могла, само собой разумеется, специализироваться ни на той, ни на другой. Притом нечего скрывать греха: при той колоссальной разрухе, среди которой приходилось вести дело, — когда в целых губернских городах не оставалось ни одного школьного здания, в целых школах не было ни одного учебника и т. д. и т. д., — «техника» в работе коллегии преобладала и должна была преобладать. Из-за пайков и зданий, перьев и карандашей мы иногда забывали «политику»,—в этом нужно признаться открыто, тем паче что это всего менее наша «вина». Это беда, и не наша, а всей РСФСР.
Создание академического центра и должно пополнить этот пробел — объединить политическую работу Наркомпроса в том смысле, в каком употребляется слово «политика», «политический» на всем протяжении этой статьи, — в смысле боевой идейной работы. Должен быть центр, который бы выполнял эту работу по одному плану, ставя себе одну определенную цель и координируя на средствах достижения этой цели деятельность всех управлений и отделов Наркомпроса. И тут намечаются три определенных русла, по которым работа должна идти:
1) координация всей научно-исследовательской работы в РСФСР;
2) координация всей учебной, школьной работы;
3) координация всей пропагандистской работы.
Благополучнее всего дело обстоит с третьим пунктом: пропагандистская работа уже объединена в Главполитпросвете и за академическим центром остается только теоретическое руководство в тесном смысле этого слова. Но не следует обольщать себя мыслью, что, значит, здесь уже «все сделано». Напротив, есть огромная область, где совсем ничего не сделано. Пропаганда пролетарской революции через искусство почти еще не начиналась. Искусство по-прежнему является ареной спора между буржуазными течениями, «академические»
472 IV. Народное просвещение и высшая школа
же театры, мудро стоящие в сторонке от этой борьбы, ставят себе «Дочь Анго». Надо раз навсегда себе сказать, что ни «футуризм», ни «реализм» сами по себе к пролетариату никакого отношения не имеют, что это всецело явления из области «просвещения» и что на них мы, представители пролетарской революции, можем смотреть только как на «технику». Вопрос в том, что действительнее? Если бы оказалось, что футуристическая техника лучше «берет» зрителя, нежели реалистическая, этот спор для нас был бы решен. А содержание для этой «техники», лозунги для «футуристов» и «реалистов» одинаково должна давать революция. И этого мы совсем не видим. Шаблонного изображения «мускулистой руки пролетария» да фабричных труб в виде пейзажа мало для этой цели. Тут нужно то, что рецензенты художественных выставок опошлили в слове «настроение», нужно, чтобы картина или пьеса «заражала». Как этого достигнуть — это колоссальная проблема художественного образования, т. е. образования художниковлИ ею «Глахком» (Главный художественный комитет) должен заняться в первую очередь. Ибо нет более могучего средства воздействовать на массы, чем искусство. Прочесть книгу, услышать речь оратора могут тысячи, да и то нужно, чтобы книга жгла, чтобы оратор тоже «заражал», т. е. опять-таки нужно искусство. А пересмотреть пьесу, или видеть плакат, или прослушать музыкальную вещь могут сотни тысяч.
А пока вырастет это новое поколение красных художников, нужно так или иначе использовать существующий материал. В сценической области тут необходимо тщательно пересмотреть просто-напросто уже существующий репертуар: почти изо всякой драмы Островского можно сделать сатиру на буржуазию, и не только на нее («Волки и овцы», например, кажется, уже пытались поставить так, как их понимала вся современная публика, но не смел ни написать автор, ни поставить театр при царском режиме: в обстановке настоящего монастыря), причем, конечно, каленым железом придется выжечь нелепую идею, будто всякая драма с сюжетом из какой- нибудь революции есть революционная драма. В области изобразительных искусств любой «музей старого быта» — а они растут буквально как грибы — может быть великолепным оружием пропаганды, а не только средством ознакомления публики со стилем старых гостиных и кабинетов. В Москве в одном старинном барском особняке даже тюрьма для провинившихся крепостных сохранилась, и никому, конечно, не пришло в голову это использовать. В области искусства слова мы
Академический центр Наркомпроса
473
имеем уже порядочный запас драм, стихотворений, рассказов и т. д., написанных коммунистами и проникнутых революционным настроением. Но в то время как буржуазные мастера литературного цеха держатся плотными кучками и мы не только не стремимся разбить эти кучки, но, наоборот, искусственно поддерживаем их существование всякими субсидиями, пайками, льготами и иными средствами воспособления, художники слова коммунисты до сих пор не объединены и работают кустарно, каждый сам по себе, обычно притом между делом, в часы «досуга», который им приходится урывать главным образом от сна. Словом, есть из чего строить даже сейчас, но это дело нужно организовать, для этого и существует «Глахком».
«Хужее», как говорят московские рабочие, обстоит дело со вторым пунктом. Главным и основным недостатком единой школы является отсутствие учебников. Нужно сказать прямо и откровенно: у нас не только нет учебников, которые удовлетворяли бы требования «идейной диктатуры пролетариата», но у нас прямо нет приличных учебников, которые хоть сколько-нибудь стояли бы на уровне требований современной буржуазной школы Западной Европы или Америки. Не будем докапываться до корней этого печального, но несомненного явления, примем универсальное объяснение — «бумаги нет»; хотя оно совершенно неверно: бумаги оказывалось достаточно, чтобы перепечатывать ту невообразимую дрянь, какая до сих пор иногда появляется в этой области. Но само явление сомнению не подлежит, повторяем: необходима массовая работа, работа по определенному, строго выдержанному плану, причем и тут нет необходимости всегда и всюду стремиться к созданию чего- нибудь абсолютно нового. Конечно, для предметов, которые не существовали в старой школе — для политграмоты во всех ее разновидностях, — придется и писать заново, тут ничего не поделаешь (кстати, учебник по Конституции РСФСР заказан одному выдающемуся специалисту уже два года назад; интересно знать, есть ли хотя начало рукописи?). Но по географии, естествознанию, физике, математике и т. д. имеются уже существующие хорошие книжки, если не у нас (есть и у нас), то в заграничной литературе; остается только выбрать для перепечатки или поручить перевести. Это дело отнюдь не десятилетий: в два-три года литература учебников может быть создана; если бы мы принялись за дело в 1918 году, как советовали иные «староверы» (и как же жестоко смеялись над ними тогда!), она была бы налицо уже сейчас. Но необходим план и твердое, авторитетное руководство; в этом одна из
474 IV. Народное просвещение и вы с ш-а я школа
главнейших задач педагогической подсекции Государственного ученого совета.
Но на этой подсекции лежит еще и другая задача: показать (или постараться, чтобы показало Главное управление социального воспитания) образчики — пока хотя бы только образчики —политехнической трудовой школы в России. Что в социалистическом обществе никакой другой школы быть не может (в коммунистическом — школы как особого института совсем не будет: производительный труд и воспитание сольются в одно) — это аксиома для всякого марксиста. Но недостаточно повторять аксиому каждый понедельник. «От слова не сделается», — говорит правильно пословица. Нужно показать, что до сих пор не показано: объяснение этому может быть дано в том же роде, что и по поводу учебников: «Оборудования нет». И на этот раз ответ, надо признать, гораздо содержательнее, чем в первом случае: оборудования действительно нет, хотя и то, какое можно было достать, не было использовано в надлежащей мере. Но теперь-то во всяком случае оборудование на пару школ или даже на полдюжины достать можно. Руководителей в таком масштабе тоже можно и мобилизовать по России, и выписать из-за границы, в отдельных случаях. И показать наконец неверующим, что политехническая трудовая школа не есть только программный лозунг, а вполне реальная и конкретная вещь.
Что касается высшей специальной школы, ею главным образом придется заниматься двум первым подсекциям ГУС: научно-политической и научно-технической; тут дело сошло с мертвой точки уже довольно давно, и этим подсекциям не приходится ставить себе новых задач, достаточно продолжать начатое уже. Труд — не приходится скрывать это от себя — колоссальный, в сущности колоссальнее, нежели создание политехнической трудовой школы. Нигде старое не стоит перед нами таким монолитом, как в этой области, и нигде создание нового не требует такой массы упорной, притом сложной й тонкой, работы. Самое главное, чего многие не хотят видеть, — это что здесь именно приходится считать не годами, а десятилетиями. Хорошего учителя трудовой школы можно приготовить * в три, даже в дв а года, если не гнаться за отделкой деталей и интенсифицировать учебную работу до максимума.
* Эта величайшей важности задача лежит теперь на Главпрофобре почему мы и не говорим о ней специально в статье, посвященной академическому] центру.
Академический центр Наркомпроса
475
Хорошего профессора нужно готовить не менее шести лет. При этом в каждом десятке нормальных людей можно найти одного, из которого можно сделать порядочного педагога, тогда как удовлетворительным профессором может стать один из десяти тысяч. Как его отобрать, пока не построена сплошная учебная лестница, от детского сада до университета, на каждой ступеньке которой выделялись бы наиболее талантливые субъекты? Пока что подготовка научных работников во всем мире дело случая на 99%, и случай этот в 99 раз чаще выпадает на долю юноши из буржуазной семьи, нежели из пролетарской. Рабочие факультеты помогут нам в ближайшие годы получить сотню- другую профессоров и ассистентов — пролетариев, а нам нужно несколько тысяч. Остатки буржуазии будут служить здесь рекрутским депо еще добрых полдесятилетия, а до окончательного «орабочения» нашей высшей школы в этом верхнем этаже (студент-пролетарий уже теперь повсюдное явление) придется ждать несколько десятилетий.
Так ли это безнадежно плохо, как кажется? Мы думаем, что в отчаяние впадать нет никаких оснований. Миросозерцание не есть что-нибудь потомственное и наследственное. Маркс был интеллигентом из буржуазной семьи, а Шейдеман — рабочий- металлист, что не помешало первому быть создателем пролетарского мировоззрения, а второму в совершенстве усвоить себе буржуазное. Мы, коммунисты-интеллигенты, большей частью выходцы из буржуазной среды, усвоили же марксизм в те годы, когда все было против него, от «авторитетов», с вершин академического Олимпа поражавших молниями «узкое», «одностороннее» и «ненаучное» учение, до полиции, усердно содействовавшей «авторитетам», сажая и ссылая тех, кто не убеждался их доводами. Теперь, когда весь текущий наглядный опыт всего мира за марксизм, поток буржуазных перебежчиков с каждым днем становится гуще, причем бегут даже из рядов старой профессуры. В Петербурге уже образовалась группа левых профессоров в несколько десятков человек, иные уже члены РКП, все во всяком случае приемлющие пролетарскую диктатуру. В Москве каждый день являются университетские преподаватели, заявляющие, что они «убедились», что они «не- понимают, как могли думать иначе», и т. д. Конечно, рассчитывать на массовое обращение «стариков» не приходится, но это и неважно: нам важен массовый приток молодежи и коммунистическое воспитание последней. Программной, теоретической стороной этого дела и должен заняться ГУС. Задача тут разбивается на две: во-первых, выработка
476 IV. Народное^ просвещение и высшая школа
программ, это дело уже начато комиссией тов. Ротштейна, остается его продолжать; во-вторых, составление и издание учебников, при помощи которых эти программы могли бы осуществляться. Тут, как предвидел уже декрет, на основании которого возникла комиссия тов. Ротштейна, придется, вероятно, прибегнуть к содействию западных товарищей: у них сейчас еще может найтись для этого больше досуга, чем у нас. А затем специально с этими воспитательными целями — не только ради будущих профессоров, но и для воспитания массовых работников — выработан особый, «марксистский минимум», обязательный для каждого студента, и создается кадр красной профессуры3 из коммунистической молодежи, готовящейся специально для проведения этого минимума*.
Остается самая трудная задача — координация научно- исследовательской работы в стране. Она распадается опять-таки на две. Слова «наука» и «ученый» у нас до сих пор употребляют без различия кафедр и специальностей: И. П. Павлов — ученый и покойный Евгений Трубецкой или ныне здравствующий Петр Струве — ученые же. Почему же с первым никому из нас не придет в голову спорить, а с последним никакой диалог для нас не был бы возможен иначе как в форме спора? Что вторые — менее «патентованные» ученые, что ли, чем первый? Ничуть не бывало. Струве такой же академик, как и Павлов, его имя до сих пор украшает списки членов Российской Академии наук. Но есть наука и наука: одна, являющаяся в сущности дальнейшим, бесконечно утонченным и усложненным приспособлением человека к природе. Первым механиком был тот, кто изобрел каменный топор, первым химиком тот, кто открыл искусство добывать огонь, первым астрономом тот, кто по расположению звезд на небе угадыкал, когда нужно бросать семена в землю. И от них идет непрерывная цепь развития до Ньютона и Дарвина, Тимирязева и Павлова. Но есть другая наука — возведение в теорию существующих общественных отношений. Тут предками являются не работники, а жрецы, и цепь идет не через Ньютона и Дарвина, а через патриарха Фо- тия и Иосифа Волоколамского, учивших о божественности царской власти, к Струве и Милюковым, учащим о незыблемости буржуазного строя, а чтобы мы не позабыли родословной, рядышком есть Булгаков.
♦ Вопросу о подготовке профессуры высшей школы пишущий эти строки посвятил специальные тезисы, оглашенные на партийном совещании в январе сего года4.
Академический центр Наркомпроса
477
Первая наука необходима пролетарской революции столько же, сколько и сам марксизм, базирующийся именно на этой науке. Вторая враждебна ей столько же, сколько богословие было враждебно «просвещению». Первую науку мы должны поддерживать и развивать всеми силами. Ради нее мы можем идти даже на персональные уступки, в отдельных случаях: крупному ученому можно дать кафедру, даже если он белогвардеец, под известными гарантиями разумеется. И первой гарантией является существование студенческой комячейки: начнет человек заниматься белогвардейской агитацией вместо того, чтобы читать химию или геологию, сейчас же можно вывести на свежую воду и призвать к порядку.
Ко второй науке возможно только одно отношение: мы должны ее разоблачать, т. е. объяснять массе, и прежде всего студенческой массе, что эта «наука» есть просто-напросто обобщенное миросозерцание того класса, который до сих пор сидел на шее трудящихся физически, а теперь, сброшенный на землю, пытается удержать идейное господство. В эту точку должна бить вся наша и учебная и исследовательская работа в данной области. Об учебной не стоит распространяться, дело ясно само по себе, но приходится подчеркивать необходимость создания научной марксистской литературы не только в виде курсов и учебников. Кое-что есть у нас по этой части только для политической экономии. И этого, конечно, мало. На очереди и марксистский анализ государственных форм, существующий только в виде набросков, и в особенности марксистская история самой пролетарской революции со всеми ее антицедентами, мировой войной и т. д. При больших материальных и человеческих ресурсах эту последнюю задачу стоило бы развернуть до размеров самостоятельного предприятия, что на бумаге уже и сделано (декрет об Истпарте5)* К сожалению, людей на это пущено так мало, что дальше собирания материалов мы здесь еще долго не пойдем.
Но было бы ошибочно думать, что в области точных и естественных наук академическому центру делать совершенно нечего. Разумеется, мы не собираемся учить химика химии, а геолога геологии; Содержание науки в этом смысле подлежит ведению других органов — академий или исследовательских институтов. Но для того чтобы прекратить господствующую в этой области до сих пор кустарщину, академиям и институтам должен быть дан твердый и достаточно детально разработанный производственный план, поставленный в связь с общим хозяйственным планом республики. Выработка
478 IV. Народное просвещение и высшая школа
этого исследовательского плана должна составить одну из важнейших задач академического центра и одну из существеннейших частей общего просветительного плана, — задача, которая также ложится на академический центр. Правда, в этом последнем случае академический центр действует не самостоятельно, а как своего рода «экспертная комиссия» коллегии Нарком- проса. Но в области исследовательского плана академический центр действует вполне самостоятельно и должен явиться не только идейным, но и действующим, прежде всего властно-контрольным аппаратом. Ныне по этой части дело обстоит невероятно плохо: наши ученые исследовательские институты, начиная с Академии наук, не только не работают по нашим заданиям, но не удостаивают даже представлением хотя бы формальных отчетов и своих «трудов», хотя выпускают их довольно аккуратно. И наверное, Петр Струве, сидя у Врангеля, гораздо лучше знал, чем занимается Российская Академия наук, нежели тот советский орган, в ведении которого Академия номинально состоит. Этому надо положить конец, и как можно скорее.
«Народное просвещение». Еженедельник Народного комиссариата по просвещению, 1921, № 80, стр. 3—6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ И ЕГО РАБОТА1
Наркомпрос выступил при своем образовании с чрезвычайно широкой методической программой. Было создано не существовавшее в дореволюционной России внешкольное образование, впервые поставлено серьезно образование дошкольное, ранее бывшее всецело предметом частной инициативы, разработана программа радикального преобразования школы, от начальной до всех видов высшей. Словом, готовилась в области просвещения настоящая октябрьская революция.
Хозяйственная разруха, достигшая своего кульминационного пункта к концу гражданской войны, к 1920 году, заставила отложить в сторону все эти широкие начинания. Три года Наркомпросу пришлось бороться за голую материальную возможность просвещения в России; и только благодаря энергичной, ни на минуту не ослабевавшей поддержке тов. Ленина ему удалось справиться и с этой программой-минимум. Удалось все- таки не без тяжелых жертв: достаточно вспомнить введение платы за учение в школах I и II ступеней, что сразу лишило Советскую Россию ее огромного преимущества перед буржуазными странами, — преимущества, так ценившегося нашими западными товарищами коммунистами.
Как бы то ни было, этот тяжелый путь уже пройден. Даже критический момент передачи на местные средства массовых учреждений прошел или по крайней мере проходит без тех осложнений, которых опасалась коллегия Наркомпроса. Кривая экономического уровня всюду идет кверху, в том числе даже и в Наркомпросе.
Наступает пора вернуться к тем методическим задачам, которые пришлось отложить в сторону три года назад. Методическое руководство снова, как это и должно было быть, становится основной работой Наркомпроса. В связи с этим приобретают особое значение и те органы, которые в Наркомпросе для этой цели существуют.
480 IV. Народное просвещение и высшая школа
До 1921 года методическая работа была распределена по тем «секторам», на которые тогда распадался Наркомпрос. Методика школьного дела была сосредоточена в школьном секторе, методика художественного образования и воспитания — в художественном секторе, методика профессионального образования — в профсекторе и т. д. Научный сектор имел также свой методический орган в лице Государственного ученого совета, сокращенно ГУС, возникшего в начале 1919 года.
Конституция Наркомпроса, принятая в начале 1921 года, сосредоточила или по крайней мере сделала попытку сосредоточить всю методическую работу в одном центре, выбрав как точку привеса методический центр бывшего Научного сектора — ГУС. Последний распался на четыре секции: педагогическую, политическую, техническую и художественную, которые должны были заменить как части единого аппарата существовавшие ранее для этой цели методические центры отдельных секторов.
К сожалению, те экономические условия, о которых говорилось в начале этой статьи, не позволили развернуть в полном объеме эту новую систему на практике. Чтобы оценить как следует эту сторону дела, надо иметь в виду, что даже теперь, при относительно улучшившихся условиях, все кредиты на методическую работу ГУСа, предположительно, не превысят в наступающем году 120—150 тысяч золотых рублей при общем предполагаемом бюджете Наркомпроса в 50 почти миллионов, т. е. кредиты не доходят даже до полупроцента всего бюджета. По этому можно судить, что было ранее. Никак нельзя сказать, однако, чтобы новый методический центр Наркомпроса «остался на бумаге». Нет, ГУС энергично продолжал работать в тех формах и рамках, к которым он приспособился за время нарком- просовского лихолетья. Продолжал работать прежде всего старый ГУС, методический центр бывшего Научного сектора, задачи которого перешли теперь главным образом к политической и технической секциям нового ГУСа. Благодаря ему двигалось вперед, хотя отнюдь не семимильными шагами, преобразование нашей высшей школы. Был выработан новый ее устав; достаточно вспомнить, что в предыдущую эпоху новый университетский устав отмечал собой периоды в жизни высшей школы, периоды, захватывавшие десятилетия; за уставом 1863 года последовал новый устав только через 20 лет, в 1884 году, и это был последний университетский устав царской России. Уже одна эта работа ГУСа оправдала бы его существование. Но старый ГУС за это время выполнил и целый ряд других работ, реорганизовавших не только учебные планы, но и методы препода¬
Государственный ученый совет и его работа
481
вания нашей высшей школы. Проведение в жизнь этой части его работы задерживается только теми же экономическими условиями, которые до сих пор тормозят работу Наркомпроса вообще. Для реализации новых учебных планов и в особенности новых методов преподавания, сводящихся в основе к упразднению л е к ц и й и переводу центра тяжести на всякого рода практические занятия (кружки, просеминарии и семинарии), требуется в два с половиной раза больше денег, нежели требовала старая система. Между тем бюджет нашей высшей школы не только не предполагается увеличивать, но, напротив, он подвергся чувствительному уменьшению.
Благодаря исключительной энергии Н. К. Крупской, сумела реализовать постановленные ей новой конституцией Наркомпроса задачи педагогическая секция. Ею разработаны новые учебные планы школ I и II ступеней и издана программа двух первых лет I ступени и первого года II ступени. Громадную дополнительную задачу представляет издание новых серий учебников взамен совершенно устаревших, но продолжающих перепечатываться руководств дореволюционной поры. К этой гигантской работе только приступлено, но уже теперь мы имеем, в книжках тт. Блонского, покойного М. Н. Ковален- ского и др., ряд образчиков новой учебной литературы, проникнутой совершенно новыми идеями и настроениями; и надо надеяться, что скоро то, чему учат в школе, не будет стоять в таком резком противоречии с тем, что происходит в окружающей жизни, как это имеет место теперь в области общественных наук.
Работа педагогической секции представляет главное достижение нового ГУСа в области массового просвещения. Остальные секции до сих пор работают преимущественно по- старому, над высшей школой. Создание подсекций массовой технической и политпросветительной работы составляет наиболее злободневную задачу политической и технической секций. Только после этого новый ГУС действительно вберет в себя все методические функции старых «секторов» Наркомпроса. Этому окончательному развертыванию Государственного ученого совета и будет посвящена ближайшая зима.
Как раз методическое руководство массовой работой и представляет собой ту спайку между центром и местами, налаже* ние которой до сих пор составляло также один из слабых пунктов нового методического центра Наркомпроса. На местах существуют при губоно методические отделы или методические советы. Но, за исключением опять-таки педагогической секции,
16 М. Н. Покровский, кн. 4
482 IV. Народное просвещение и высшая школа
работа этих отделов или советов совершенно вне поля зрения ГУСа. Педагогическая секция имеет свою Коллегию учета, которая по крайней мере стремится выяснить, что делают места в области методического руководства и каковы их в этом отношении достижения. Что касается других секций, то они довольно смутно представляют себе, ведется ли на местах какая- нибудь методическая работа по их линии и какая именно. Только изредка и случайно всплывает на их горизонте то Государственный ученый совет Туркреспублики, то даже проект ГУСа Вотской области. Но кроме того, что эти учреждения, помимо названия, мало имеют общего с методическим центром Наркомпроса РСФСР, заключить обыкновенно ничего не удается. Поскольку речь идет об автономных и союзных республиках, необходимую координацию должно установить совещание наркомов; оно этим, без сомнения, и займется одновременно со съездом губоно. Но что касается координации методической работы, ведущейся в различных Губоно РСФСР, то она может быть установлена немедленно же помимо всяких межнациональных совещаний.
Методическая линия по всей республике и даже по всему Союзу республик должна быть одна прежде всего потому уже, что едино коммунистическое просвещение. Нет и не может быть многих марксизмов, а марксизм должен пропитывать своим методом всю учебную и воспитательную работу советских стран. Не только в области общественных наук, как это часто думают. Марксизм есть цельное миросозерцание, охватывающее все области знания. Наша университетская молодежь великолепно чувствует это на тех методах преподавания физики, химии, биологии и даже математики, которые укоренились в нашей буржуазной школе. Эти методы преподавания незаметно создают ряд навыков, заранее подготовляющих студента к восприятию того миросозерцания, которое нужно буржуазии. Как всегда и везде, практика идет впереди теории и методы преподавания незаметно влияют на содержание того, что преподается. Вот отчего новая методика является не только необходимым спутником, но неизбежным предшественником марксизма в нашей школе. Это необходимо запомнить, чтобы лишний раз ясно представить себе все значение и важность методической работы в настоящий момент.
Как мы уже указали, работа эта должна вестись отнюдь не только в центре: тогда она рисковала бы принять тот «академический» характер, который, не приходится этого таить, иногда носила работа старого ГУСа. Этого следует избегать во вся-
Государственный ученый совет и его работа
483
ком случае, вот почему создание методических бюро на местах является необходимой составной частью всей системы. Эти бюро должны быть связаны с центром путем постоянной переписки, которая со стороны ГУСа должна выражаться в систематической рассылке методических писем.
Чрезвычайно плодотворную роль в этом использовании местного опыта и подведении под него теоретической базы должны сыграть наши педагогические учебные заведения, до сих пор слишком оторванные как от местной практики, так и от теории, разрабатывающейся в центре. В нормальном порядке вещей наши педвузы и педфаки должны быть своего рода «опытными станциями» новой педагогики и марксистской методики. Цель эта вовсе не так недостижима, как может показаться с первого взгляда. По своему составу эти учебные заведения так же быстро пролетаризируются, как и наша высшая школа вообще. Между тем — за это говорит прежде всего опыт комвузов — ничто так не способствует укреплению марксистских методов и навыков в высшей школе, как пролетарская аудитория. Эта аудитория является своего рода автоматическим сепаратором, с чрезвычайной быстротой отделяющим и выбрасывающим вон все марксистски непригодное и антиматериалистическое. И не только в области общественных наук еще раз приходится об этом напомнить, но и в области наук точных и естественных. Тут стоит указать хотя бы на только что образовавшийся при Свердловском университете кружок «красных естественников», составившийся из тех же университетских профессоров и ассистентов, отличающихся от своих собратий только тем, что остались верны заветам того естественнонаучного материализма, на основе которого совершился бурный подъем во всех областях естествознания в течение XIX века и который теперь, в эпоху буржуазного заката, у буржуазии понемногу «выходит из моды». Пролетариату нет никакой необходимости придумывать свою философию природы; он может без перерыва продолжать «традицию» лучших времен буржуазной науки совершенно так же, как он смог взять из рук той же буржуазии промышленное производство, чтобы дальше продолжать эту работу далеко за те пределы, о которых когда-либо могла мечтать его предшественница — юная и смелая буржуазия XVIII и первой половины XIX века.
«Народное просвещение». Ежемесячный журнал Наркомпроса. М., 1923, № 9, стр. 16—19
16*
НАУКА В РОССИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ (1918-1923)
«В большевистской России наука гибнет» — такой вопль слышится со страниц русской контрреволюционной и европейской буржуазной печати. Русские профессора, бежавшие за границу как участники белогвардейских заговоров и восстаний или высланные туда за антисоветскую пропаганду, всячески спасают остатки загубленной большевиками русской науки, организуя в Берлине, Праге и Париже различные импровизированные «институты».
Нельзя не признать, что в .этой белогвардейской шумихе есть кое-что объективно полезное. Благодаря ей на положение русской науки обратили внимание за границей, и мы начинаем получать оттуда материальную поддержку для России, как для всякой разорённой страны, чрезвычайно ценную. Нельзя также не признать, что в этих воплях есть и некоторая крупица истины: было бы чудом, если бы положение науки среди колоссальной экономической разрухи, какую переживает теперь Россия, было блестяще. Конечно, русскому ученому и русскому студенту приходится обнаруживать такое упорство в труде, такую выдержку и такое терпение, какого не требуется от ученого или студента Англии или Америки (в Центральной Европе сейчас положение немногим лучше русского, если вообще лучше). Но значит ли это, что наука в России действительно «гибнет» или по крайней мере остановилась в своем развитии?
Прежде всего, несколько цифр. В 1918 году в русских высших учебных заведениях считалось, круглым числом, 60000 слушателей обоего пола. В 1922 году их считалось 130 000: увеличение с лишком вдвое. К этому надо прибавить, что слушатели 1922 года гораздо более реальные слушатели, чем в 1918-м. Тогда многие записывались в университет ради тех выгод, какие он тогда давал: чтобы спастись от «тылового ополчения», получить право жительства в Москве и т. п. Теперь в этом смысле университет не может быть использован, и если человек туда поступает, то только для того, чтобы учиться. Таким образом, действительное число студентов увеличилось, вероятно, даже не вдвое, а вчетверо.
Наука в России га пять лет
485
Профессоров и преподавателей высшей школы в 1918 году считалось около четырех с половиной тысяч. Сейчас в списках Центральной комиссии по улучшению быта ученых (учреждение, о котором еще придется говорить ниже) зарегистрировано свыше 10 000 научных работников. Конечно, не все они — преподаватели высших учебных заведений; тут есть и работники музеев, библиотек, обсерваторий и научных институтов, не связанных непосредственно с высшей школой. Тем не менее к преподавательскому составу этой последней принадлежит не менее 60% всего числа, т. е. сейчас в России профессоров и преподавателей до 6000 человек. Сюда не входит около 4000 научных работников Украины; но так как украинские высшие учебные заведения не входили в подсчет 1918 года, то мы их не будем считать и теперь. Как никак преподавательский состав нашей высшей школы увеличился, хотя и не в такой пропорции, как состав учащихся, но все же не меньше, чем на целую треть.
Личный состав русской науки, как в ее старшем, руководящем поколении, так и в младшем, подготовляющемся, как мы видим, представляет собой картину, весьма мало напоминающую «вымирание» и «гибель». Но говорят, что же могут делать эти несчастные люди? Как они могут учиться и учить, практиковаться в науке и вести исследовательскую работу среди тех ужасных условий, в которые поставили их большевики?
Все это отнюдь не настоящая наука, уверяют нас российские реакционеры, все это одна декорация, на самом деле никакая продуктивная научная работа в современной России невозможна.
Мы не будем останавливаться на том, насколько подобные утверждения глубоко оскорбительны для русского ученого, как и для русского студента. Ведь это значит, что последний записывается в университет не ради учения, а ради диплома; а так как дипломов теперь не выдают и нигде не требуют, то невозможно понять вообще, для чего теперь люди записываются в число студентов. Вероятно, для того, чтобы спать в Москве на голых досках, а не в своем родном уездном городе или в своей родной деревне на мягком тюфяке; чтобы жить в холодной комнате, а не в теплой; питаться впроголодь и т. д. Такова, нужно признать, теперь жизнь среднего русского студента. Если поверить реакционерам, то окажется, что студенчество в России — это особый род аскетических подвижников, с выгодой заменивших распухшее от обжорства и пьянства русское монашество. А так как мировоззрение этих новых аскетов, безусловно,
486 IV. Народное просвещение и высшая школа
материалистическое, то явление обещает стать одним из самых загадочных в мире.
Но еще бессмысленнее с точки зрения реакционных утверждений оказывается положение профессуры. Ведь если никакой настоящей научной работы в России не ведется, то, значит, российские ученые берут народные деньги даром, ни за что ни про что. Значит, они обманывают и Советскую власть, и своих учеников «обезьяньей работой», от которой никакого толку ни студентам, ни стране не предвидится.
Нечего сказать, хорошо изображают беглые русские профессора своих оставшихся на родине собратий.
Достаточно бросить даже беглый взгляд на самые крупные явления в области научной работы в России за последние пять лет, чтобы снять это позорное обвинение с русской науки, т. е. с науки Советской России, представители которой не бежали за рубеж и не поставили Советскую власть в необходимость их туда выслать.
В области физики на первом месте приходится поставить исследования профессора Д. С. Рождественского в области строения атомов.
Уже лет десять тому назад западноевропейской науке удалось установить, что атом, являющийся гипотетической основой материалистической картины мира еще с древних времен, есть вовсе не гипотеза, а совершенно реальная вещь, и была построена даже модель атома водорода. Профессор Рождественский, продолжая эти исследования при помощи спектрального анализа, выяснил строения другого, гораздо более сложного атома, именно атома лития. Таким образом, на пути к научному обоснованию того, что до сих пор изображалось как область чистой «философии», русская наука в революционные годы сделала крупный шаг вперед.
И сделала она этот шаг,именно благодаря революции. Вот как изображает условия своей работы сам профессор Рождественский: «Вследствие закрытия границ наш сотрудник
В. А. Анри не мог привести в Петроград все, что было заказано за границей, но часть приборов мы создали собственными средствами, помогая своими еще не вполне организованными мастерскими не только своей работе, но и работе других ученых учреждений. Часть приборов ревностные и настойчивые сотрудники разыскали в России. Все это мы могли осуществить только благодаря энергичной поддержке Народного комиссариата по просвещению. Он пошел навстречу идее научно-технического учреждения не только большими, подчас выходящими из
Наука в России за пять лет
487
всякой нормы средствами, но и активным содействием, в котором фактическое осуществление ставилось всегда выше формы, буква закона преступалась, если от этого выигрывало дело» \
Открытие профессора Рождественского относится к области науки так называемой чистой; но физика прикладная может за этот период, и опять-таки в связи с революцией, отметить выдающееся достижение.
Гражданская война, беспощадно разрушая все средства сообщения и связи ради минутных стратегических выгод, поставила русское телеграфное ведомство, между прочим, перед задачей воссоздания русской телеграфной сети. Сразу стало очевидно, что при современных технических условиях, с одной стороны, при бедности России всякого рода материалами — с другой, несомненно практичнее восстановления старой проволочной сети будет создание новой сети беспроволочной телеграфной и телефонной связи. И вот начался ряд опытов, отзвук которых недавно услыхала буквально вся Европа: Эйфелева башня по радио благодарила Москву за концерт, который большевистская столица устроила всей Европе. Уже в декабре 1921 года Москва разговаривала по беспроволочному телефону с Иркутском, а скоро, можно надеяться, будет разговаривать и с Америкой.
С точки зрения русских условий, политических и хозяйственных, чрезвычайно важно, что удалось не только произвести чрезвычайно интересные лабораторные опыты, но и поставить в массовом масштабе изготовление необходимых приборов. Нижегородская радиолаборатория изготовила уже до 5000 столь необходимых для радиотелеграфии катодных ламп, практически почти не уступающих заграничным. Вообще развитие электрической промышленности идет в России с чрезвычайной быстротой; это пока единственная индустриальная область, где, по некоторым по крайней мере отраслям, производство превысило уже 50% довоенного.
В области химии выделяются работы Химического института имени Л. Я. Карпова, руководимого А. Н. Бахом. Наиболее интересные открытия, сделанные в этом институте (всецело являющимся созданием революции) касаются изучения ферментов крови. Ферменты эти обладают способностью ускорять химические процессы, причем для этого достаточно присутствия их хотя бы в ничтожном количестве. Естественно, что роль фермента в процессах, протекающих в живых организмах, огромна. Благодаря этому открытию наука приобрела новое могучее орудие
488 IV. Народное просвещение и высшая школа
для дальнейшей работы как в области биохимии, так и в медицине. Наряду с этим в институте удачно разрабатываются приемы для определения продуктов распада белка в крови и для выяснения процессов поглощения этих продуктов кровяными шариками. Изучение процесса поглощения продуктов распада белка служит ключом для выяснения механизма процесса борьбы живого организма с болезнями и указывает средства помочь этой борьбе.
В области биологии на первом месте стоят работы знаменитого русского физиолога И. П. Павлова и его школы. Для характеристики их воспользуемся изложением профессора А. К. Тимирязева в его статье «Наука в Советской России за пять лет».
««Должны ли мы для понимания новых явлений [условные рефлексы] входить во внутреннее состояние животного, по-своему представлять его ощущения, чувства и желания?
Для естествоиспытателя остается на этот последний вопрос, как мне кажется, лишь один ответ — решительное «нет». Где хоть сколько-нибудь бесспорный критерий того, что мы догадываемся верно и можем с пользой для понимания дела сопоставлять внутреннее состояние хотя бы и такого развитого животного, как собака, с самим собой?.. Не постоянное ли горе жизни состоит в том, что люди большей частью не понимают друг друга, не могут один войти в состояние другого! Затем, где же знание, где власть знания в том, что мы могли бы, хотя и верно, воспроизвести состояние другого? В наших психических (пока будем употреблять это слово) опытах над слюнными железами мы сначала добросовестно пробовали объяснить полученные результаты, фантазируя о субъективном состоянии животного, — ничего, кроме бесплодных споров и личных, отдельных, несогласимых между собой мнений, не было достигнуто. Итак, ничего не оставалось, как повести исследование на чисто объективной почве, ставя для себя как первую и особенно важную задачу — совершенно отвыкнуть от столь естественного переноса своего субъективного состояния на механизм реакции со стороны экспериментируемого животного, а взамен этого сосредоточить все свое внимание на изучении связи внешних явлений с нашей реакцией организма, т. е. с работой слюнных желез» (курсив наш) 2. В этих словах целая новая программа работ, тесно примыкающая к трудам знаменитого русского физиолога И. М. Сеченова, труды которого в области физиологии нервных процессов сохранили все свое значение и в наше время.
Наука в России за пять лет
489
Выясним, что разумеет И. П. Павлов под условным рефлексом. Простым безусловным рефлексом в физиологии называется непроизвольное, маншнообразное действие организма, вызванное каким-нибудь внешним раздражителем. Попала, например, пища в рот животному или человеку — выделяется слюна. Муха пробежала по лицу спящего человека — возникают мышечные движения, выражающиеся в отмахивании этой мухи. Все это происходит автоматически, без всякого участия сознания. Условным рефлексом называется рефлекс, вызываемый раздражителем, который сам по себе не мог его вызвать и который оказывается в состоянии вызвать рефлекс только потому, что он в нервной системе предварительно сочетался с другим раздражителем, способным давать рефлекс безусловный. Так, вид нищи вызывает отделение слюны у собаки; в течение продолжительного периода времени каждое кормление сопровождается звучанием одного и того же определенного звука. С течением времени этот звук в отсутствии пищи вызывает уже у собаки выделение слюны. До сочетания звука со временем кормления он не мог вызывать сам по себе отделения слюны. Таким образом, выделение слюны под действием определенного звука есть выработавшийся в нервной системе «условный рефлекс», а самый звук является «условным раздражителем» слюнной железы. Пища же раздражитель безусловный.
И. П. Павлову удалось даже болевые ощущения животных связать с отделением слюны; добиться, что болезненные удары или электрический разряд вызывал отделение слюны, раз эти болезненные ощущения искусственно связывались с принятием пищи.
В настоящее время И. П. Павлов занят условными рефлексами второго порядка, т. е. установившийся условный рефлекс, например звук, сопровождающий принятие пищи, связывается с каким-нибудь другим возбудителем, например светящимся кругом.
В этой области возникли большие затруднения, но совсем недавно удалось разобрать, в каких случаях и почему получается такой условный рефлекс второго порядка и когда этот второй раздражитель вызывает обратное действие — вызывает образование того, что Павлов предложил назвать «условным тормозом». Распутать этот сложный клубок явлений И. П. Павлову удалось за последние два года вместе со своим сотрудником Д. С. Фурсиковым. Фурсиковым же открыто явление, названное им «индукцией», которое сразу ставит на реальную научную почву психологическое учение о «едином поле внимания».
490 IV. Народное просвещение и высшая школа
Методом условных рефлексов Фурсиков доказал, что процесс возбуждения в каком-либо участке мозговой коры вызывает (индукцирует) в окружающих центрах состояние угнетения или торможения.
Самого Павлова занимает в настоящее время выработка строгой теории нормального сна. Сон рассматривается как состояние общего торможения, распространившегося на всю кору мозга. Явления частичного торможения, т. е. процессов, которые задерживают, угнетают рефлекторные акты, были тщательно изучены в лаборатории Павлова. Таким образом, сон по этой новой теории есть общий случай внутреннего торможения, распространившегося из данного участка коры на всю кору мозга.
Эти работы изложены в речи, произнесенной в Гельсингфорсе в текущем году, которая будет отпечатана Госиздатом в собрании сочинений И. П. Павлова.
В 1919—1920 годах И. П. Павловым было положено начало учению о «трофических нервах». Врачи-практики на основании своих клинических наблюдений считали возможным говорить о существовании особой группы «трофических нервов», которые управляют обменом веществ, т. е. регулируют питание клеток и тканей в организме. Но с физиологической точки зрения не было еще достаточно убедительных и сколько-нибудь определенных доказательств их существования. У Павлова накопился огромный фактический материал при его опытах с изготовлением у животных фистул, выпускающих желудочный сок; при этих операциях происходили изменения в расположении органов, сопровождающиеся нарушением обмена веществ. Эти исследования имеют громадное значение для физиологии нервной системы. Несмотря на то что в лабораториях Павлова ставятся все новые и новые задачи, там же с успехом продолжают разрабатываться и прежние циклы работ; так, вопросы пищеварения, для которых был выработан метод фистул, исследуют Савич, Фурсиков, Быков, Розанов, Степанов и другие многочисленные сотрудники, изучая, между прочим, этим методом «условия действия ферментов»»3.
При разрухе русского народного хозяйства еще труднее, чем лабораторные работы, была организация научных экспедиций. Научные экспедиции вообще принадлежат к самым дорогим видам научной работы. Даже для богатых стран, какова Англия, большая экспедиция является событием и составляет эпоху в ее научной жизни. Нашей России, казалось бы, и мечтать не приходилось ни о чем подобном. И вот чрезвычайно характерно
Наука в России за пять лет
491
для того подъема научной энергии, который был стимулирован революцией, образование постоянной грандиозной экспедиции на севере России в лице плавучего Морского научного института. Благодаря совершенно исключительной энергии нескольких ученых, по духу стоящих чрезвычайно близко к Советской власти, к лету 1921 года удалось снарядить и оборудовать большой пароход, на котором с удобством разместились 32 человека ученых исследователей и их помощников с целым рядом лабораторий: гидрологической, биологической, ихтиологической, метеорологической, гидрографической и фотографической — с общей площадью свыше 600 квадратных футов. Выйдя в море 11 августа 1921 года, экспедиция вернулась в Архангельск 21 сентября, сделав огромный круг вокруг Новой Земли, через Карское море, и произведя за это время 60 всесторонних самостоятельных наблюдений в различных пунктах пройденного пространства (так называемых станций).
В научном отношении экспедиция прошла при очень благоприятных условиях и собрала богатый и разнообразный материал по гидрологии, метеорологии, биологии, гидрографии; и вследствие хорошего оборудования лабораторий специалисты выполнили ряд работ, выходящих из рамок обычных экспедиций. По гидрологии сделано 45 основных и 125 частичных станций и собран 351 образец воды. Определение хлора и кислорода производилось немедленно в лаборатории экспедиции. В качестве предварительных данных можно указать на значительную прогретость вод в Баренцевом море по сравнению с данными Мурманской научно-промысловой экспедиции (почти на 3°). Все станции южнее широты Маточкиного Шара характеризуются положительными температурами сверху донизу; наоборот, станции, лежащие севернее, — отрицательными придонными температурами. По мере удаления к северу теплый слой воды сходит на нет, и в области льдов (П0Ъ§') температура оказалась сплошь отрицательной. По биологии сделано 60 драгаж- ных и 44 планктонные станции. Собрано свыше 1500 банок донного материала, 60 проб грунтов и 242 пробы планктона. Поблизости от Югорского Шара (широта 69°38', долгота 57°20') открыты богатые промысловые рыбные банки, что является интересной в теоретическом и практическом отношениях находкой. До этой находки предполагалось, что треска и пикша едва ли заходят восточнее острова Колгуева.
Говоря об экспедициях естественнонаучных, нельзя не отметить несколько экспедиций историко-культурного характера. Важнейшей из них является, конечно,,экспедиция П. К. Козлова
492 IV. Народное просвещение и высшая школа
к развалинам города Хара-Хото, во Внутренней Монголии. Эта экспедиция только что утверждена Советом Народных Комиссаров и займет три года, так что Козлов вернется в Россию лишь в 1926 году. Экспедиция, имеющая во главе крупнейшего русского исследователя Средней Азии, обещает дать чрезвычайно богатые результаты во всех областях — этнографической, натуралистической, метеорологической и др.; за успешность ручаются результаты предыдущих экспедиций, руководившихся тем же П. К. Козловым. Но центром тяжести является все же исследование развалин Хара-Хото, одного из величественнейших памятников более шести веков тому назад угасшей степной культуры, откуда Козловым уже вывезена богатейшая библиотека рукописей (до2000),огромное количество памятников искусства (картин, статуй) и т. п.
В этом отношении новая экспедиция примыкает к целому ряду исследований в области степных культур, исследований, тесно связанных с национальной' политикой Советской власти. Пробудив к жизни дремавшее национальное сознание народов Востока, татар, туркмен и т. д., Октябрьская революция создала целый ряд новых интересов в этнографической и историко-культурной области. И вот на средства народившейся после революции Татарской республики организуются археологические экспедиции профессора Баллода к развалинам столиц Золотой Орды, центра великой Тюрко-Татарской империи, когда-то властно правившей всем Востоком. В руинах этих столиц, находившихся на нижней Волге, недалеко от Астрахани, перед нами опять встает картина чрезвычайно высокой культуры, созданной степняками-скотоводами, картина, в корне разрушающая шаблонное представление о «диких кочевниках», умевших только грабить. Профессор Баллод нашел остатки сложных ирригационных сооружений, архитектурные и инженерные приемы, о которых никто теперь и понятия не имеет в астраханских степях; остатки широко развитой промышленной деятельности и т. д. и т. д. Отныне писать историю Средней Азии придется совершенно по-новому, бросив старый шаблон. В основе все эти открытия примыкают, конечно, к целой серии разысканий, предпринимавшихся учеными всех стран мира, таких, как раскопки Стейна в Хотане и т. д., но честь продолжения этой работы с чрезвычайно плодотворными результатами принадлежит ученым Советской России.
Мы перечисляем здесь только главнейшие, самые крупные достижения науки советского периода. Мы не имеем никакой возможности останавливаться на сравнительно мелочных под¬
Наука в России за пять лет
493
робностях текущей научной работы, хотя среди них есть чрезвычайно монументальные по своим результатам, как труды состоящей при Академии наук Комиссии по изучению естественных производительных сил России, дошедшие, кажется, уже до сотни томов и чрезвычайно любопытные по замыслу, как Институт археологической техники при Академии материальной культуры, воскрешающий перед нами давно забытые методы производства, одновременно обогащая этим новейшую научную технику и давая ключ к объяснению многих экономических явлений прошлых веков.
Мы совершенно не коснулись целого ряда научных работ в области обществоведения. Это по той причине, что здесь нашей академической науке особенно похвастаться нечем; мы же поставили себе задачей осветить в этом беглом очерке, как продолжала развиваться в новой обстановке та корнями уходящая в дореволюционное прошлое наука, которую оплакивают русские реакционеры и их западные друзья. В области же общественных наук нам пришлось бы говорить почти исключительно о достижениях научных работников-коммунистов или коллективных трудах, выполненных под надзором и руководством советских органов. Об этом можно было бы написать очень много. Никогда еще так не была в России свободна философская мысль, с которой сняты окончательно и бесповоротно всякие клерикальные путы. Никогда не предпринималось более смелых и оригинальных экономических исследований, никогда не открывалась для работ русского историка такая масса ценнейших, до 1917 года абсолютно секретных, документов. Чуть не всю новейшую русскую историю, в особенности в области внешней политики, придется переписывать заново.
Мы не хотим касаться всего этого, так как мы хотим только показать, что 130 000 студентам и 6000 профессорам есть над чем заниматься в России, есть откуда получать импульсы для свежей и продуктивной научной деятельности. Только колоссальная экономическая разруха стесняла до сих пор эту деятельность. Но теперь разруха начинает проходить, наши высшие учебные заведения начинают снова возвращаться в нормальные условия (как отвыкли мы от них, показывает хотя бы тот пример, что только вторую зиму аудитории Московского университета отапливаются), и русская наука может использовать то великое благо, какое ей могла дать только революция: полную и абсолютную свободу научного исследования.
«Высшая школа в РСФСР и новое студенчество».
О РАБФАКАХ И РАБФАКОВЦАХ
За последнее время мне приходилось столько писать и говорить о рабфаках, что мне очень трудно сказать что-нибудь новое, чего бы товарищи от меня еще не слыхали. Но есть поговорка: «Новое —это то, что хорошо забыто». А так как есть основания опасаться, что мы подзабыли кое-какую «азбуку рабфаков», подзабыли, с какими заданиями начали мы их строить, то, может быть, не совсем бесполезно будет повторить вкратце именно эти задания.
Изложить это всего лучше в форме ответов на некоторые основные вопросы.
Вопрос 1-й. Для чего были основаны рабфаки?
Ответ. Не только для того, чтобы иметь пролетарское студенчество, — это лишь ближайшая задача. А главным образом для того, чтобы из этого пролетарского студенчества подготовить новый, пролетарский командный состав нашей промышленности. Поставить своих инженеров на место буржуазной инженерской касты, !гесно спаянной как внутри себя, так и с классом капиталистов, который на потребу себе эту касту создал.
Этот кастовый характер буржуазного инженерства в некоторых областях проявляется очень сильно. Среди путейских инженеров это почти буквально «каста», т. е. наследственное сословие: отец путеец, и сын путеец, и внук будет путейцем. Вр Франции «политехники», студенты высшей политехнической школы, остаются связанными на всю жизнь. Студенты одного выпуска говорят друг другу «ты», хотя бы один из них стал потом президентом республики, а другой — начальником мелкой железнодорожной станции. Где есть один «политехник», он всегда тянет за собой других. Не трудно понять, как такая тесная связь помогает людям держать в руках все железнодорожное дело и всю промышленность.
Эту буржуазную инженерскую касту нужно сломать, и этого нельзя сделать механическим путем. Просто разогнав их, вы ничего не достигнете — только без инженеров останетесь.
О рабфаках и рабфаковцах
495
Касте буржуазных инженеров нужно противопоставить тесную, сплоченную фалангу инженеров пролетарских. Вот зачем прежде всего были основаны рабфаки: они должны были готовить рабочих в высшие технические учебные заведения.
Разрешена ли эта задача? Действительно ли у нас все вакансии студентов втузов заполняются только рабочими? Далеко еще нет, хотя, нужно сказать, процент рабфаковцев на втузах выше, чем на вузах вообще. Но нужно стремиться, чтобы все 100% поступающих на втузы шли из рабочих факультетов, чтобы, помимо рабфаков, туда дороги не было.
Это значит, что еще рановато рабфакам разбрасываться и пытаться подготовлять студентов для всех вузов одинаково.
Кроме высшей технической школы нужно отметить только еще одну-другую специальность, которая ждет именно нового интеллигента от фабричного станка. Это прежде всего педагогика. Готовить учителей из рабочих пробовали уже довольно давно. Еще в 1919 году в этом направлении работал «Институт инструкторов физического труда», и работа шла успешно. Дело развалилось по причинам, к педагогике отношения не имеющим. Хорошо его возобновить, в особенности для школ фабзавуча (а это основной тип школы будущего, практически осуществляющий завет Маркса «соединять обучение с производительным трудом»). Эти школы должны получить пролетарский состав учительства в первую голову. Затем пора и самим рабфакам начать готовить себе преподавателей, — почин рабфака Московского университета (насколько он мне известен по газетам) заслуживает бсяческого одобрения и поощрения.
К инженерам и учителям пролетарских школ (орабочить всю стотысячную армию русского учительства нам удастся только в течение целого поколения) надо еще присоединить, по возможности, агрономов и статистиков. И те и другие чаще всех других интеллигентских профессий приходят в соприкосновение с широкими массами населения. И те и другие в дореволюционную эпоху были главными проводниками нашей революционной пропаганды. И те и другие среди темной мелкобуржуазной массы легко могут стать проводниками агитации контрреволюционной. Свои люди нам и здесь крайне желательны.
На остальные профессии — врача, юриста, совработника, внешторговца — нам пока нет необходимости разбрасываться. Если пролетариат прочно завоюет фабрику и школу, он завоюет все. Нужно это помнить. И политическая линия рабфаков —
496 IV. Народное просвещение и высшая школа
а они политическое учреждение, как все создания революции, — должна идти в этом направлении.
Второй вопрос в тесной связи с первым: чему должны учить рабфаки?
Тому, что необходимо инженеру или педагогу: математике, физике, химии, черчению, рисованию — в первом случае. Немного меньше математики, зато больше общего естествознания, особенно биологии, с физиологией нервной системы и т. д. — во втором. По старой памяти от учителя требуют еще «словесности». Для этого требуют от человека заучивания большого количества весьма старых и довольно нелепых терминов, которых ни один литератор или профессор не помнит, что не мешает им говорить и писать вполне правильно и складно. Читайте побольше хороших писателей: Пушкина, Гоголя, Герцена, Тургенева, Толстого, Белинского, Писарева, — вы очень приятно, без зубрежки, научитесь говорить правильно и красиво; нужно, конечно, и упражнение. Но это, право, больше клубная, чем учебная работа. А вот естественником будущий студент педфака должен быть очень хорошим.
— Как, а общественные науки — воскликнете вы. Общественные науки, конечно, вам нужны, но не как будущим инженерам или педагогам (педагогу с общественным уклоном, будущему преподавателю обществоведения в школе, все нужное должно дать соответствующее отделение педфака), а как людям, как сознательным пролетариям. «Социализм — это положительное научное содержание, а не настроение», — верно сказал в одной своей статье покойный тов. Боровский. Нельзя себе представить сознательного рабочего, который не имел бы элементарных сведений по историческому материализму, политической экономии, истории общественных форм. Должен их иметь и рабфаковец. И тут его девизом должно быть: «лучше меньше, да лучше». Без больших тонкостей, но подлинная марксистская наука, а не буржуазный суррогат. Лучше простенький лектор-коммунист, нежели буржуазный профессор с учеными словами на языке и с кашей в голове.
И вот мы у третьего, и последнего пока, вопроса: чего нужно избегать рабфаковцу? Прежде всего именно этой каши в голове. Лучше иметь в голове немного фактов, но, во-первых, фактов подлинных (а в обществоведении особенно вместо фактов нам на каждом шагу подносила буржуазная наука измышления того или иного «ученого»); во- вторых, ясно продуманных и хорошо друг к другу пригнанных. Нужно знать «что к чему». Каша происходит от бестолкового
О рабфаках и рабфаковцах
497
чтения, свойственного в чрезвычайной степени нашему интеллигенту. Отсюда вывод: ничего не читать зря, читать по твердо выработанной программе, и опять-таки лучше меньше, да лучше.
Но интеллигент становится бестолковым не только от беспорядочного чтения, а и от занятия исключительно чтением, от того, что он знает мир только сквозь книжку. Это книжное представление о мире и в связи с ним книжный подход к жизни — самая главная беда в нашей старой интеллигенции. Как ее избыть?
Лучший образчик дают тут школы фабзавуча, где книжка и фабричный станок постоянно сменяют, чередуясь, друг друга. Как устроить так, чтобы пролетарий на рабфаке не отвыкал от станка? Кое-что в этом направлении исправляет лабораторная работа, но не все, ибо в лаборатории мы все же имеем дело с искусственными, тепличными условиями, с жизнью, приспособленной под книжку, если можно так выразиться. Настоящую, неподкрашенную материальную действительность вы встречаете только в производстве. Как устроить, чтобы и на рабфаке ученье соединено было с производительным трудом и чтобы студент не переставал быть рабочим? Это большая задача, и за разрешение ее должны взяться сами рабфаковцы. Всякое вмешательство со стороны или сверху тут может быть только гибельно.
На этом позволю себе закончить свои беглые заметки. Но к затронутым в них вопросам еще придется вернуться.
«Рабфаковец». Орган рабочего факультета имени М. Н. Покровского при i-м МГУ, 1923, июнь,
№ 1, стр. 7—8
К УЧИТЕЛЬСКОМУ СЪЕЗДУ1
Народная школа в России возникла при старом режиме, но против старого «режима.
Царизм считал «естественным» воспитанием масс церковь и попов. «Нормальной школой» для него всегда была церковно-приходская школа, еще лучше «церковь-школа», специальное изобретение эпохи Николая II. Светская школа для крестьянской массы всегда была под опалой, всегда рассматривалась как нечто «неблагонадежное».
Но проникавший в деревню капитализм не мог удовлетвориться попом и его «законом божьим». Помещику, который хотел вести капиталистическое хозяйство, нужны были машины. Но к машинам нельзя было подпустить полудикаря: он или их ломал, или сам калечился. Наиболее' передовому слою помещиков, тому, на котором держалось созданное в 1860-х годах земство, пришлось ради возможности вести хозяйство повышать культурный уровень окрестного населения. Так возникла земская школа.
Приняты были всякие меры, чтобы школа не вышла из-под влияния помещиков. Их сословный лидер, дворянский предводитель, был главным опекуном уездного просвещения. Назначенные центральной дворянской властью чиновники, инспектора, помогали ему в текущих мелочах, где богатому барину скучно было копаться. Учащий персонал, в массе, цодби- рался из наиболее благонадежной и близкой к «естественному воспитателю народа» среды: поповна-епархиалка*, попович, не одолевший бездны семинарской премудрости и не прошедший сам в попы, — наиболее типичные представители старой земской школы. Крестьян было мало, и они появились позже, через «учительские семинарии» (характерное название, не правда ли?), куда принимали окончивших земскую школу.
* Кончившая женское епархиальное училище — своего рода инсти¬
тут для дочерей духовенства.
К учительскому съевду
499
Городская интеллигенция, обыкновенно фигурирующая в сентиментальных рассказах из жизни сельского учителя конца XIX века, преобладала в литературе, а не в действительности. Отдельные героические образы помогали укрепиться литературной легенде. Но на самом деле земский учитель, в массе, был весьма смирным и покорным существом. Он, не брезгая, сотрудничал с попом: «закону божьему» и в земской школе принадлежало первое место. Крестьянские дети отлично знали имена юношей, ввергнутых в огненную пещь Навуходоносором, и не знали имени ни одного из повешенных Николаем I декабристов. Русская литература легально кончалась Пушкиным и Гоголем, полулегально проникал Тургенев и вовсе нелегально Некрасов. Все это в таких гомеопатических дозах, что даже земские школы Московской губернии в 1890-х годах были, по существу дела, просто школами грамоты.
Все, от безгласного, подчиненного помещику и попу учителя до программы с ее обрывками барской литературы как высшим достижением, казалось, гарантировало, что школа даст грамотного батрака, набожно крестящегося на церковь и подобострастно смотрящего в рот барину. Но против объективной силы исторического процесса ничто не помогло. Земская школа при всем ее убожестве все же подкапывала крепостническое хозяйство, а земский учитель являлся одним из разлагающих крепостной строй элементов.
Связь с крестьянской массой брала свое. Охваченный этой массой со всех сторон, сам в большинстве случаев крестьянствовавший — земское жалованье могло кое-как обеспечить разве в лучших губерниях, как Московская, — учитель проникался интересами этой массы и думал по-крестьянски, а не по- барски.
Революция 1905 года вскрыла эти настроения. Учительство зашевелилось. Учительский «профессионально-политический союз» был одним из первых по возникновению (первый съезд в апреле 1905 года) и одним из самых радикальных по физиономии. И после революции, когда началась расправа, ряд учителей попал в ссылку — и даже на столыпинскую виселицу, — тысячи были выкинуты из школ.
Но и эта революционность народного учителя носила крестьянский, т. е. мелкобуржуазный, характер. Революционное учительство в массе шло за эсерами. Социал-демократы были определенно непопулярны в учительской среде. Классовая точка зрения вызывала у середняка-учителя негодование. Он был нищ и гол, как крестьянин, и наивно воображал, что нищий —
500 IV. Народное просвещение и высшая, школа
это и есть пролетарий. И когда его уличали в мелкобуржуазности, он выходил из себя. «У меня только и есть что этот пиджак», — кричал он, потрясая полами пиджака, — «а вы уверяете, будто у меня душа буржуазная».
Надо правду сказать, в подходе нашем к учителю 1905 года искусства было не очень много. Мы как будто спешили вслух и публично высказать то, о чем за год раньше можно было говорить лишь под покровом строгой конспирации, и ультимативно требовали, чтобы все, нас слушавшие, немедленно принимали нашу программу. Лишь постепенно мы учились, что не только требовать безоговорочного принятия нашей программы, но и излагать-то целиком эту программу нужно было не всем и не всегда.
Как бы то ни было, учительства в 1905 году мы не завоевали, и 1905 год до некоторой степени предопределил 1917-й. Учительство, в широкой массе, не пошло за пролетариатом, оно осталось с крестьянством. И чем дальше шла реакция, тем больше уцелевшее от помещичьей расправы учительство оказывалось даже и не со всем крестьянством, а с определенной его частью.
Крестьянская масса брала школу и учебу, как она берет все, с практического конца. Чтобы пахать землю по дедовскому обычаю, грамоты не нужно, а чтобы торговать, грамота нужна. И без четырех правил арифметики много не наторгуешь. Торговое крестьянство, т. е. кулачество, и оказалось тем слоем, который раньше других слоев деревни оценил создание прогрессивного помещика, земскую школу. А при столыпинском режиме кулак рос, как никогда. И на этом расцвете кулачества деревня увидела не только начальную школу, технически совершенную, как никогда раньше; появилась и деревенская средняя школа, появились волостные гимназии и прогимназии, готовившие из кулацких детей новую буржуазную интеллигенцию.
Весь этот «расцвет» деревенской культуры, параллельный развитию хуторского хозяйства, не мог не увлечь культурни- ка-профессионала, каким является учитель; вспомните при этом, что то было учительство «укрощенное» и очищенное от «неблагонадежных элементов». Если раньше сельский учитель сливался с серой крестьянской массой, то теперь он все больше равняется по сельской буржуазии. Характерно, что ту же эволюцию проделала и та партия, за которой шел учитель в 1905 году, — партия эсеров, в 1917 году успевшая стать в деревне кулацкой партией.
К учительскому съеаду
501
К этому году учительство оказалось дальше от пролетариата, чем когда бы то ни было. Его организационная верхушка — «Всероссийский учительский союз» был почти партийной эсеровской организацией. На всю революцию учитель приучался смотреть через эсеровские очки. И когда эсеры потеряли власть, перешедшую в руки рабочего класса и его партии, для ВУСа это было катастрофой, и как катастрофу он старался изобразить Октябрьскую революцию шедшей за ним учительской массе.
Было бы неосторожно и несправедливо изображать настроение учительской массы в эти первые годы Советской власти как определенно контрреволюционное. Учительство и теперь разделяло колеблющиеся настроения деревни. Революция дала землю и прогнала помещика, которого ненавидел не только середняк, но и кулак, — это хорошо. Но революция привела в деревню коммунистов, — это плохо. Что только коммунисты могли прогнать помещика, это не сразу вмещалось в деревенскую логику. Хорошо, что идет дождь — будет урожай, но зачем мокро. Что не может быть сухого дождя, революции без коммунистов, эта истина усваивалась постепенно, и на это усвоение ушли все последние годы.
«Мы наблюдали всегда, что в первое время прошлое держит еще в своей власти силу и влияние на массовые организации», говорил Ленин на первом съезде работников просвещения (в августе 1919 г.). «Поэтому нас нисколько не удивляла и та продолжительная упорная борьба, которая шла среди учительства, с самого начала представлявшего из себя организацию, в громадном большинстве, если не целиком, стоящую на платформе, враждебной Советской власти... Если мы бросим взгляд вокруг себя, если посмотрим на те доводы, с которыми боролись вчера против нас и борются сегодня представители старого учительского союза и которые мы до сих пор встречаем у наших идейных противников, называющих себя социалистами, у эсеров и меньшевиков, те доводы, которые мы в малосознательной форме встречаем в ежедневных разговорах с крестьянской массой, еще не понявшей значения социализма...» 2
Путь к социализму и сам по себе был бы медленным и трудным для того народного учителя, какого застал 1917 год. Он был в сотни раз труднее в той обстановке, в какой учителю пришлось его проходить. Повышение учительских ставок, начатое Наркомпросом немедленно же, с весны 1918 года, не могло угнаться за стремительно падающей волной дензнаков. К 1921 году учитель едва ли получал 20% старого «земского»
502 IV. Народное просвещение и высшая школа
жалованья, притом получал аккуратно лишь в совершенно исключительных случаях. Настигаемые той же валютной волной губисполкомы, получавшие кредиты тогда, когда их реальная стоимость была уже в три раза ниже, чем в день составления сметы, спеша заткнуть стихийно образовавшиеся дыры, прежде всего хватались за «просвещенские», средства. И тогда — а это было едва ли не большинство случаев — учитель уже ровно ничего не получал или получал в декабре жалованье за январь; а деньги за это время упали в 10 раз.
Губисполкомы правильно рассуждали, что милиция разбежится, ежели ее не оплачивать, больницы закроются, а школа «как-то» живет. И это «как-то» было лишним барьером на пути учителя к социализму. Ибо на практике это «как-то» выражалось в том, что школу содержал все тот же кулак. Он по- прежнему торговал — до 1921 года нелегально (но тем более прибыльно, а риск нес не он, а закупавший у него мешочник), с 1921 года легально, — ему по-прежнему нужна была грамота и четыре правила арифметики, и ради этого он продолжал поддерживать школу и учителя, впроголодь кормя последнего, впроголодь топя школу и чиня ее настолько, чтобы она не развалилась. Надо прибавить к этому, что и книжку мог достать тот же кулак, ибо книжка (обыкновенно учебник царских времен) стоила на базаре определенное количество фунтов ржи, а кроме базара, другого Госиздата в деревне не было. Когда же приходила книжка из настоящего Госиздата, за нее приходилось отдавать рожь уже пудами, так что наиболее коммунистическую литературу могли приобретать только самые зажиточные кулаки... Так обстояло дело там, куда не доходила гражданская война. Куда докатывались белые фронты — а это было 2/з страны, — к стихийным бедствиям падающей валюты и культурного голода прибавлялась насильственная мобилизация учителей при наступлении белых и буквальное разрушение школ при их отступлении — когда печки топились партами, а растапливались остатками школьных библиотек. И мы сами с трудом себе представляем, каким носителем культуры являлся после этого красноармеец, которого самого учили грамоте и кое- чему сверх того, старой школе неведомому.
Изменение в положении школы и учителя было тесно обусловлено, таким образом, общим возрождением страны — прекращением белых восстаний и восстановлением народного хозяйства. И, что не всегда отмечают, все эти процессы, в том числе и поворот учителя к Советской власти, пошли гораздо быстрее, чем этого кто-либо ожидал.
К учительскому съезду
503
Ибо едва ли кто ожидал, что уже в 1924 году мы будем иметь твердую валюту, не получив никакого кредита из-за границы. И еще менее можно было ожидать, чтобы учитель, прошедший эсеровскую школу ВУСа, видевший главным образом изнанку революции и материально зависевший от кулака, уже в 1924 году будет определенно нашим учителем. А между тем это факт, такой же, как червонный рубль. Отчеты инспекторов Наркомпроса, ездящих по губерниям, не оставляют никакого сомнения, что если учитель-массовик еще далек от того, чтобы стать коммунистом, то белогвардейских настроений у него уже нет и следа. Чрезвычайно резким показателем здесь служит ход нового учебника, учебника, в котором уже целиком отразилась наша революция, учебника, который предполагает советский строй как данное. Этот учебник идет бурно, требуя все новых допечаток, сбивая все расчеты Госиздата, между тем как старые учебники, «советизированные» книжки царских времен, не находят себе сбыта. И лишь в тех случаях, когда к старому мировоззрению подходят уж слишком круто и резко, старые привычки хотят переделать слишком «военным» темпом, можно услыхать не протест, а ноты грустного недоумения. Нужно ли вести в школе I ступени антирелигиозную пропаганду. Но сдается, и партия этого не требует *. Нужно ли весь день учителя разграфить на клеточки и требовать от него, чтобы он точно указал, что именно в какой час он делает (причем все в один и тот же час должны делать одно и то же). Но как будто НОТ еще не декретирован ни в советском, ни в партийном порядке. При большом усердии таким путем можно себе нажить конфликты с отдельными группами учительства. Но в целом оно повернуло в нашу сторону всерьез и, надо надеяться, надолго.
Порукой последнего является прежде всего другого новая крестьянская молодежь.
Начиная от комсомольского возраста, мечтающего о рабфаке (если бы в силу каких-либо совершенно фантастических причин нам не пришлось послать на рабочие факультеты пролетарскую молодежь, на каждую вакансию явилось бы по пяти крестьянских юношей), и продолжая «переростками» и совсем малышами, так переполняющими теперь деревенскую школу, что «земские» комплекты выросли втрое, если не вчетверо, кончая взрослыми, ликвидирующими свою безграмотность, — в деревне все тянется к просвещению с такой силой напора, какая
* А некоторые весьма авторитетные просвещенцы, как тов. Лилина, вообще отрицают возможность этой пропаганды в школе.
504 IV. Народное просвещение и высшая школа
напоминает рабочий класс эпохи «Звезды» и «Правды». В деревне просвещение сейчас едва ли не центральный вопрос. Это вовсе не потому, что базис и надстройка поменялись местами. У деревенской тяги к просвещению есть вполне прочный экономический фундамент. Крестьянская масса поняла, какое громадное значение имеет в теперешних условиях грамотность в деревенской классовой борьбе; а эта классовая борьба в деревне сейчас в полном разгаре, и о ней напоминают не только ежедневные газетные известия об убийствах и избиениях селькоров, но и переполненные учащимися всякого возраста школы. Середняк и бедняк не хотят оставлять привилегии грамотности кулацким детям.
В этой классовой борьбе едва ли не определяющая роль принадлежит сельскому учителю. Своим прошлым он, как мы видели, больше связан с верхушками крестьянской массы, нежели с ее низами. Но эта масса в те времена была еще не настолько резко дифференцирована, чтобы ее нельзя было рассматривать как одно целое. И мы видели, что сельский учитель отражал в своей идеологии общекрестьянские черты. Притом же в царские времена масса молчала и только один кулак разговаривал. Теперь зашевелилось и заговорило все крестьянство, выступили на сцену элементы, молчавшие до революции. Учителю приходится выбирать, на чью сторону он станет. Не от этого, конечно, исключительно зависит исход развивающейся в деревне борьбы — она имеет свои законы, и исход ее приходится предугадывать из общих условий экономического развития нашего Союза. Более чем когда-либо является своевременной одна из предсмертных директив Ленина: «Надо систематически усилить работу по организации народных учителей, чтобы сделать их из опоры буржуазного строя, которой они являются до сих пор во всех, без исключения, капиталистических странах, опорой советского строя, чтобы отвлечь через них крестьянство от союза с буржуазией, и привлечь их к союзу с пролетариатом» («Странички из дневника», январь 1923 г.) 3.
Но для того чтобы быть настоящим союзником, учитель должен стать из объекта всяческих воздействий, слева и справа, каким он был при старом режиме, субъектом нашего строительства. Мы должны звать его к самодеятельности, заинтересовать его в его работе, сделать так, чтобы он не по приказу свыше, а по собственной инициативе делал то, что нужно пролетарской революции. Самым элементарным было, конечно, освободить учителя из материальной кабалы у кулака. В настоя¬
К учительскому съеаду
505
щее время — и это опять оказалось легче, чем мы ожидали, — жалованье учителя уже подходит к сакраментальным тридцати червонным рублям, а в недалеком будущем обещает подняться и до тридцати пяти. Это уже избавляет от необходимости вымаливать мучки или маслица у кулака, хотя не нужно забывать, что это все-таки не более сорока — пятидесяти процентов довоенного учительского содержания.
Но материальное обеспечение учителя — это только начало. Нужно его политическое воспитание, то, в чем ему отказывали не только царские чиновники, но и его вожди из рядов эсеровской партии. Учитель должен понять, что дело просвещения, его профессиональное дело, преданность которому он доказывал в самых тяжелых материальных условиях, есть прежде всего дело рабочего класса. Сделать народную массу просвещенной может только пролетариат, тот класс, в классовых интересах которого раскрыть глаза всем трудящимся и не обманывать никого из них. Тесно спаянная с общепролетарской профессиональной организацией, профессиональная организация учителей, «Союз работников просвещения», давно уже трудится над задачей организации учительства. Теперь, собирающимся учительским съездом, мы обращаемся уже к широчайшей учительской массе. Пять лет назад такой съезд рисковал бы обратиться в антисоветскую манифестацию. Еще два года тому назад, когда о нем уже заходила речь, он был бы рискованной авантюрой. Сейчас за это говорит масса признаков — он будет подлинным началом смычки учительской массы, и прежде всего деревенского учительства, с общепролетарским движением, началом той организации учителей, руководимой рабочим классом, о которой говорил в своих «Страничках из дневника» тов. Ленин.
«На путях к новой школе». Орган научно-педагогической секции Государственного ученого совета,
1925, № 1, стр. 4—94.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ УЧИТЕЛЬСКОГО СЪЕЗДА
Пишущему эти строки живо припоминаются унылые вечера зимы 1919/20 года. Приходилось ему выступать на собраниях учителей, организовывавшихся союзом «Работников просвещения и социалистической культуры», как он тогда назывался.
Какова бы ни была тема доклада, записки всегда поступали одинаковые. Будут ли выдавать учительский паек и когда начнут? Будет ли отапливаться школа и кто даст дрова? А как насчет жалованья?
Было бы наивностью думать, что присутствовавшие не имели другого источника информации по всем этим вопросам, кроме докладчика о 9 Января или о Февральской революции. Многое, конечно, могли спросить просто у соседей, тут же в аудитории получить более точный ответ. Но надо было спросить что-нибудь заведомо неприятное для выступавшего перед собранием коммуниста. «Ты вот о революциях распеваешь, а нам голодно, холодно. Ты бы лучше, чем о революциях-то растабарывать, сказал «своим», чтобы они школы топили!» Изредка, у людей посмелее, настроение прорывалось отчетливее и получалась записочка, написанная бисерным женским почерком: «Вы вот сказали, что Николай II расстрелян, а я знаю, что он жив и живет за границей».
Но всего ужаснее на этих собраниях был Интернационал. Этого Интернационала я до гроба не забуду. Пела одна ячейка, человек 10—15 на аудиторию в 500 человек. Остальные молчали и стояли со скучающим видом людей, слушающих в церкви малую ектенью.
И вот если бы я попал две недели назад в «Экспериментальный» театр после доклада Зиновьева, не зная, что в театре происходит, я на вопрос о звуках, доносящихся из зала, без колебаний ответил бы: «Свердловцы или рабфаковцы». Кто же у нас дружнее поет Интернационал?
Политические итоги учительского съезда
507
А это пел учительский съезд. Пел по собственной инициативе и безо всякого предварительного сговора. Просто само собой вырвалось.
Конечно, съезд был левее учительской массы. Все учительские съезды с 1905 года начиная были левее учительской массы — по той простой причине, что «середняка» на съезд не пошлют. На съезд едет всегда «головка». Получить иной съезд можно было бы, только назначив делегатов по жребию. В данном случае левизна съезда подчеркивалась тем, что на нем было почти 30% членов партии, тогда как среди учительства вообще коммунистов менее 5% (4,6). Но ведь и те собрания, с печального воспоминания о которых я начал, организовывал союз, и там были только учителя, по тогдашнему крылатому слову, стоявшие «на советской площадке». Те, которые и на этой площадке не стояли, ни на какие собрания не ходили и сидели дома, терпеливо ожидая, пока их «освободят», на худой конец хотя поляки. Надежды этого рода были очень распространены среди московского интеллигентного мещанства весной 1920 года, когда началась война с Польшей.
А теперь, с такой же настойчивостью, как на съездах 1905 года «Долой самодержавие!», на съезде 1925 года звучало: «Хотим в Коммунистическую партию!» Сколько раз это было повторено на съезде? Любители статистики подоч- тут по стенограммам. Я в таком количестве этого желания не слыхал еще нигде. И после речей тов. Фрунзе и тов. Луначарского (посвятившего военным возможностям около получаса) определенно чувствовалось: если бы теперь Польша объявила нам войну, народный учитель был бы в первых рядах призывающих к защите социалистического отечества.
Ничем, может быть, резче не оттенилось это настроение съезда, чем речью Н. А. Рожкова. Он пришел призывать беспартийных учителей поддерживать Коммунистическую партию во имя общекультурных интересов — а перед ним были люди, которые сейчас же взяли бы партийные билеты, если бы их раздавали попросту, без церемоний. Не мудрено, что съезд не заинтересовался этой речью. А в 1920 году как радикально она прозвучала бы!
Надо сказать откровенно: такого сдвига учительской массы никто из нас, старых просвещенцев, ожидать не мог. Наибольшей оптимисткой в этом вопросе у нас всегда была тов. Н. К. Крупская (спорившая постоянно со мной и по поводу моих впечатлений 1920 года), но, я думаю, съезд обогнал даже ее ожидания. Было бы, конечно, наивностью думать, что мы
508 IV. Народное просвещение и высшая школа
имеем уже учителя-коммуниста: желать вступить в партию и быть выдержанным ленинцем — это две вещи разные. И винить за это учителя нельзя, ибо где у нас марксистская литература, для него доступная и к его нуждам приноровленная? Но что у нас есть советский учитель и что этот советский учитель играет руководящую роль в учительской массе — на этот счет никаких сомнений быть не может.
Что было причиной этого сдвига? Первая мысль, которая приходит в голову, — это объяснить его упрочением Советской власти. Убедившись, что новый порядок практически, в пределах предвидения одного человеческого поколения, несокрушим, что с ним надо как-то уживаться, люди отказались от своей «критики» и берут то, что есть, как оно есть.
Против этого объяснения можно прежде всего возразить* что ведь в 1920 году мы тоже не были уже в положении случайных «захватчиков». Острый и опасный для нас период гражданской войны был уже назади, Юденич был уже отбит от Питера и отброшен за Нарову, Деникин стремительно откатывался к Новороссийску, Колчак был в плену у красных. О знаменитых «трех неделях» не заикались уже самые беспардонные белогвардейские Хлестаковы. Отдельные интеллигентские группы уже готовились «сменять вехи», но учитель в массе к нам не шел. Это во-первых. А во-вторых, на съезде чувствовалось не пассивное подчинение неизбежному, а настроения определенно активные, желание работать, и притом работать политически, рука об руку с РКП. Пришлось бы заподозрить учительскую массу в чудовищном лицемерии — объяснение по отношению к массе совершенно немарксистское, а в данном случае не имеющее под собой и никакой фактической почвы. Просто до учительства дошла наконец Октябрьская революция. Поздновато, но дошла. Лучше поздно, чем никогда.
В другом месте (см. «На путях к новой школе», 1925, № 1)1 я наметил три препятствия, которые лежали перед учительством на этом пути: социальный состав учительской массы, эсеровское воспитание, материальная зависимость от сельской буржуазии.
Что касается первого, в своей характеристике я имел в виду учительскую массу перед 1905 годом — основные кадры старого земского учительства. Что поповичи среди него преобладали — не подлежит сомнению. Но уже в конце этого периода заметно было пополнение этих кадров новым социальным элементом — крестьянскими детьми, прошедшими через
Политические итоги учительского съезда
509
земскую школу. Шесть лет после первой революции, в 1911 году, крестьян-учителей было уже более !/з (36,2%) — больше, чем поповичей и поповен, которые давали лишь 7б (20,2%). По данным тов. Я. Яковлева, «из обследованных в марте 1924 г. 34 волостей РСФСР —399 учителей —60% оказываются крестьянами и 12% рабочими»2. В Саратовской губ. крестьяне составляют 55%. Данные эти крайне неполны, но тем не менее говорить о поповиче как о типе сельского учителя давно уже не приходится. Этот тип или сбежал к белым или в дни голода ушел в советские учреждения. Нет худа без добра: жестокая голодовка учителя в годы военного коммунизма, о которой мне пришлось говорить в моей статье, очистила учительские кадры, во-первых, от шкурнических, во- вторых, от пришлых элементов. Удержались те, кто был предан своей профессии и не шел в советскую канцелярию, хотя она и обеспечивала ежедневную вяленую воблу и ежедневный фунт черного хлеба, да еще удержались местные люди, которым около своего хозяйства легче было прокормиться.
Среди последних немало было связанных и с местными кулацкими элементами, и сама по себе их наличность еще не была признаком улучшения социального состава учительства. Но тут подошли на помощь политические моменты. Первым из них по времени была массовая работа учительства в Красной Армии. Влияние Красной Армии на работавших в ней просвещенцев не было еще, сколько я знаю, предметом обследования, но по отдельным случаям, какие приходилось встречать, влияние это было огромным. Красноармейская атмосфера преображала учителя, особенно молодняк. Один старый буржуазный мыслитель говорил, что огромной важности вещь — быть связанным с каким-нибудь крупным делом: после этого житейским мелочам уже гораздо труднее засосать человека. Участие в гражданской войне и было таким крупным делом для нового, вышедшего из деревенской массы учительства. Не для всего, конечно, но для весьма значительной его части.
Другим политическим моментом был разгром партии эсеров. Надо знать, как ревниво эта партия, пока была в силе, «оберегала» учительство от всякого постороннего влияния — до какой степени влияние эсеровщины было здесь поистине монопольным. На пути к сближению с коммунистами это влияние было главным препятствием; вот отчего учитель «не сдавался» ни в 1920, ни в 1921 году — годах наибольших упований эсеров на успешную контрреволюцию. Теперь эта партия
510 IV. Народное просвещение и высшая школа
стала заграничной по преимуществу — внутри СССР сколько- нибудь серьезных эсеровских организаций более нет. Процесс 1922 года и в особенности связанные с ним разоблачения должны были нанести сильный удар эсеровской идеологии в учительской среде. Многим учителям, из стариков, теперь просто- напросто стыдно, что они когда-то шли за эсерами. И они робко спрашивают нашего брата коммуниста: «простили ли» их теперь? С первого взгляда даже не поймешь, за что простили, в чем он был виноват? А разговоришься и увидишь, что имеешь дело с бывшим эсером или эсерствующим, стыдящимся своего политического прошлого.
Это отпадение учителя от эсеров нашло себе очень интересное отражение в эсерствующей литературе. Чрезвычайно ласковая к учителю, пока он оказывал «геройское» сопротивление коммунистам, эта эсерствующая литература с 1923 года примерно просто перестала его замечать в деревне. Нет, говорит, его вовсе, учителя, в деревне. Есть люди, которые притворно возятся около школы (ради очень больших доходов, должно быть!), но какие же это учителя? Разве такие учителя в «наше, эсеровское, время были? На удочку одной из таких эсерствующих книжонок попалась тов. П. Виноградская, объявившая на основании «наблюдений» эсерствующих студентов, что в деревне «что касается учительства — «шкрабов», то они почти отсутствуют, их роль в деревне пока сводится к нулю» *. Не верьте этим «наблюдателям», тов. Виноградская, это роль эсеров сводится в деревне к нулю, а так как учитель представлялся эсерам (и еще так недавно, всего в 1921 году!) присяжным агитатором и пропагандистом их партии, то теперь на его счет и собираются под видом «этнографических исследований» всякие деревенские сплетни. А когда попадает в деревню коммунист, то глаза его видят, представьте себе, совсем другое. Обследование целого ряда губерний — Московской, Харьковской, Владимирской, Воронежской; Екате- ринославской — свидетельствует об огромном подъеме общественных интересов среди учительства**. Его общественная работа так разрослась уже теперь, что начинает серьезно мешать его педагогической работе, и уже теперь приходится ставить вопрос, как эти работы увязать, чтобы учитель, став
* «Печать и революция», 1924, кн. VI, стр. 973.
** См. цитир. статью Я. Яковлева в сборнике «Учитель и революция», стр. 64 и сл.4
Политические итоги учительского съезда
511
общественником, не «разучителился». Этнография — общественная наука, и классовая позиция этнографа так же важна, как и классовая позиция историка. Почитайте-ка эсеровские истории Октябрьской революции.
Превращение учителя из эсеровского агитатора и пропагандиста в пропагандиста и агитатора на службе Советской власти и РКП и представляет собой тот процесс, который совершается на наших глазах и одним из проявлений которого был только что прошедший Всесоюзный учительский съезд. Наша насущнейшая задача — всячески облегчить и ускорить этот процесс, идущий пока что больше самотеком. Избавление учителя от материальной зависимости перед сельской буржуазией — одна из само собой разумеющихся объективных предпосылок этого процесса; вот почему увеличение учительского содержания и декрет об учительских пенсиях были отнюдь не случайными спутниками съезда. Другим объективным моментом является организация учительства на местах.
Организация эта и сейчас гораздо выше того, что мы себе представляем. Мне пришлось говорить на съезде с учительством как раз из тех северных губерний, где, по эсерствующим «этнографам», учительство — пустое место. С удивлением я узнавал, что учителя глухих лесных мест регулярно собираются по каждым 5—10 школам, читаются педагогические доклады, обмениваются своим школьным опытом. А от ближайшего города 40 верст, и никакой железной дорогой и не пахнет. После этого узнать, что в Московской губернии только 20% учителей не втянуты в общественную работу, было уже не удивительно. Наркомпросовские инструкторы, посещавшие уездные учительские конференции, единогласно свидетельствуют, что по уровню общественной сознательности эти конференции недалеки от хороших рабочих собраний, а раздававшиеся на них речи были таковы, что инструктор иной раз впадал в сомнение — не на партийную ли конференцию он попал. А это говорили беспартийные, правда, как мы видели, очень желающие войти в партию.
Словом, никогда еще не было более благоприятного момента, чтобы превратить народного учителя (противное слово «шкраб», которого не выносил Владимир Ильич, умерло тихой смертью на всесоюзном съезде и, надо надеяться, не возродится; хорошо бы воспретить его в официальном словоупотреблении формально) — чтобы превратить народного учителя в того советского агитатора и пропагандиста в деревне, каким
512 IV. Народное просвещение и высшая школа
хотел его видеть Ленин *. На пути к этому стоит еще, однако, ряд препятствий.
Прежде всего, надо твердо помнить, что если даже работника физического труда приходится заинтересовывать в его работе индивидуально, чтобы труд был действительно производителен, то по отношению к работнику труда умственного это условие категорическое. Учитель, который не интересуется своей работой, выполняет ее из-под палки, — не учитель; его нужно гнать из школы. Учителей, живо интересующихся своим делом, у нас достаточно — в процентном отношении, как мне уже пришлось упоминать, их, вероятно, больше, чем было до революции. И этим лучшим как раз учителям очень туго приходится, когда они на местах сталкиваются с «властью», весьма мелкой по калибру, на нашу оценку, но там, на месте, располагающей громадными полномочиями. Методы военного коммунизма, методы действия исключительно сверху, давно изжитые и осужденные в центре, на местах до сих пор являются аксиомой. Один из образчиков применения таких методов к школе и учителю был опубликован «Учительской газетой» в самый день открытия съезда (статья «Ложка дегтю»). Я приведу, по письму одной провинциальной учительницы, другие, менее яркие, но относящиеся непосредственно к педагогической работе и потому еще более убедительные в данном случае. «На конференции осенью наш инспектор определенно произнес такую фразу: «Нам нет дела до индивидуальных наклонностей ваших учеников и вам не должно быть до них дела: вы должны воспитывать нам только социальных единиц». На переподготовке программы ГУСа разрабатываются по дням, весь материал строго определен и рассчитан и в таком виде преподносится и «пропускается» через учителей... Теперь в нашей секции мы разрабатываем подробнейшую программу, чуть ли не по дням, для станичных учителей, которые съехались сюда на конференцию и получат ее от нас в готовом виде для применения на местах...»
В Красной Армии все это очень хорошо, и очень плохо было бы, если бы каждый красноармеец по-своему вздумал маршировать, стрелять и т. д. Это была бы партизанщина, а не армия. Но уже в Генштабе никто не попробует сочинять готовые рецепты на всевозможные случаи войны, а пробовавшие это делать во время войн французской революции ав¬
* См. его речь на совещании по работе в деревне в июне 1920 года (Соч., т. XVII, стр. 219)5.
Политические итоги учительского съезда
513
стрийцы поплатились за это под Маренго и Аустерлицем. Всякому учителю приходится, хотя и в маленьком масштабе, творить, приспособляясь к имеющемуся вокруг его учеников материалу и к индивидуальности этих учеников. И предписать всем учителям во всех школах со всеми учениками в один и тот же день проходить одно и то же — это идеал французской школьной бюрократии, а никак не советской педагогики. Пока мы не изживем этих французско-бюрократических приемов, учитель у нас, пожалуй, действительно останется тем несчастным «шкрабом», который своим забитым видом доставляет злорадное удовольствие эсерам, потерявшим всякую надежду обратить его в свою веру.
Другим недостатком, который надо изживать, является отсутствие. живого и компетентного руководства на местах. Ведь тот инспектор, речь которого выше цитировалась, ничего больше единицы (не «социальной», а обыкновенной) по педагогике получить не может. Квалифицированные коммунисты у нас не в избытке и в центре. На местах их очень часто вовсе нет, а есть более или менее усердные просвещенские чиновники. Но вопреки известнрму старорежимному афоризму «усердие» далеко не «все превозмогает». Прежде всего, одного усердия мало, чтобы стать марксистом. А нужно определенное марксистское руководство. И тут приходит на память мысль, возникшая когда-то на лекторской группе Свердловского университета: сформирование особых «лекторских бригад», куда входили бы и лучшие педагоги-спецы, и хорошие руководители-коммунисты и которые проводили бы ряд учительских курсов на местах. Такие курсы в свое время сыграли роль в эсеровском воспитании учительской массы. Где удавалось прорваться сквозь эсеровское заграждение, пользовались этими курсами и мы, большевики (мне, например, пришлось читать на таких курсах в Вологде в июне 1906 года; немедленно после моего отъезда эсеры направили туда «Непобедимого» — Фундаминского,—дабы сгладить впечатление...).
В третьей линии (не по значению, конечно, третьей) необходима специальная литература для учителей. Вопрос этот уже поставлен на очередь и в Госиздате, и в Научнопедагогической секции ГУСа, но о нем как-то мало говорят, а нужно кричать с крыш. Учителю не в покуп и не в подъем толстые книги, а между тем учитель в деревне — это ходячая энциклопедия. Именно для своей агитаторской и пропагандистской работы он должен все знать, на все уметь дать ответ. И отдельные номера учительской библиотечки должны быть
17 М. Н. Покровский, кн. 4
514 IV. Народное просвещение и высшая школа
если не написаны, то проредактированы фактически и очень тщательно нашими лучшими авторами. Американцы в этих случаях прибегают к сотрудничеству целого ряда лиц: один подбирает материал, другой политически (у американцев с точки зрения империализма, разумеется) его редактирует, третий облекает все это в литературную форму. Мы должны отнестись к своей учительской литературе не менее тщательно.
Всесоюзный учительский съезд задал нам огромные задачи. Но над ними стоит трудиться. До сих пор смычка с деревней мыслилась у нас только по одной линии — через связанного с деревней рабочего. Эта линия остается и до сего дня главной. Но теперь у нас есть и другой привод — через народного учитейя. Если прибавить сюда привод третий — через организуемую комсомолом деревенскую молодежь, получится передача такой силы, какой мы еще никогда не имели, о какой мы недавно еще и не мечтали. Наша политическая позиция в деревне сейчас неизмеримо сильнее позиции наших противников, и было бы настоящим чудом, чудом нашей неумелости, если бы, сидя на таких командных высотах, мы не сумели, бы стать политически в деревне так же прочно, как мы стоим в городе.
«Большевик», 1925, JSfi 2 (18), стр. 56—62
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАРКОМПРОСА г [Вступительное слово]
Товарищи! Мы считаем себя вправе праздновать десятилетие нашего учреждения, ибо в течение всех этих десяти лет мы шли под одним руководством, имея впереди себя одного и того же вождя. Просвещенческая братия дошла в составе приблизительно того же главного штаба, с которым начал работать тов. Луначарский, причем мы идем по той же линии, на которую мы вступили в 1917 году. Не истолковывайте этого слова в том смысле, что мы метафизически застыли на одном понимании задач народного просвещения. Из более детального доклада А. В. Луначарского вы увидите, что диалектика нам вовсе не чужда и что диалектика истории отражалась в каждом нашем шаге, и весьма быстро. Конкретная постановка тех или других вопросов просвещения иногда велась на протяжении двух-трех лет. Этого мы не стыдимся, но мы гордимся тем, что в течение десяти лет мы оставались верны педагогическим заветам Маркса и Ленина и от всей линии мы никогда не отступали и, надеюсь, никогда не отступим. Выдержанность основной идеологической линии педагогического коммунизма должна быть отмечена сегодня, в день нашего десятилетия.
Я сказал: приблизительно мы дошли с тем штабом, с которым Анатолий Васильевич начал свою работу, но это далеко не так — не со всем этим штабом мы дошли. Тут приходится вспомнить тех центральных работников просвещения, которые не дошли до десятилетия, и в первую очередь нам приходится помянуть имя, которое никого не удивит, хотя этот товарищ не занимал никакого официального положения в Наркомпросе, — я имею в виду Владимира Ильича Ленина. Никогда он членом коллегии Наркомпроса не был, ни на одном из заседаний коллегии также не был, хотя был постоянным гостем на всех наших конференциях и съездах, за которыми он чрезвычайно внимательно следил, особенно в первые годы. Никто так интенсивно не заботился о народном просвещении, никто не следил так внимательно и любовно за каждым нашим шагом, как Владимир Ильич. Я надеюсь, что Надежда
17*
516 IV. Народное просвещение и высшая школа
Константиновна расскажет нам о том, в какой конкретной форме Владимир Ильич направлял нашу просвещенскую работу. Его внимание буквально доходило до исключительных деталей в области нашей организации, и был момент в нашей истории, когда Владимир Ильич чуть ли не еженедельно требовал от нас отчеты о положении народного просвещения. Это было в тот тяжелый организационный период 1920, 1921 и 1922 годов, когда происходил поворот от военного коммунизма к новой экономической политике, когда школьное и просветительское строительство протекало внешним образом в чрезвычайно тяжелых условиях. В связи с этим приходится вспомнить другого ушедшего товарища, не могущего по своей работе идти в сравнение с Владимиром Ильичем, но связанного с тем периодом и пользовавшегося особым его доверием, — Е. А. Литкенса. Он погиб случайно, сделавшись жертвой уголовного разбоя в Крыму. Но попал он в Крым благодаря работе в Наркомпросе, где он окончательно надломил свое здоровье и, хотя и косвенно, пал, таким образом, жертвой этой работы.
Но мне хочется вернуться немного назад от этих времен и вспомнить двух-трех наших основных работников, историю которых не знает большинство теперешних просвещенцев, не знает, какую роль сыграли они в построении нашего наркомата и всего дела просвещения. На первом месте здесь стоит поистине героическая фигура Павла Карловича Штернберга, ученого-астронома и одного из руководителей вооруженного восстания в Москве, человека, который почти всю свою жизнь провел в обсерватории и кончил ее на фронте, где получил смертельную болезнь, от которой скончался в феврале 1920 года. Он был первым руководителем нашего научного центра, объединявшего собой тогда высшую школу и научно-исследовательские учреждения, он был бы незаменим нам теперь совершенно исключительным сочетанием, какое он собой представлял, — активного бойца-революционера и ■ крупного теоретика, знатока организации научного дела. Рядом с ним нельзя не упомянуть другого строителя Наркомпроса — Ф. И. Калинина, цролетария от станка, который пришел к нам почти прямо с фабрики. Он строил на французских заводах автомобили, а у нас он начал строить народное просвещение. Это был один из главных строителей по организационной линии. Он вносил в это дело весь тот практический подход, который так естествен настоящему пролетарию. Пролетарию недюжинному, который прошел университет в царских аре-
М. Н. Покровский и А. В. Луначарский
Отдел рукописных фондов И петиту та истории АН СССР
Десять лет Наркомпроса
517
стантских ротах и из столяра или слесаря сделался литера- тором-культурником, произведения которого давно не мешало бы издать.
Приходится упомянуть В. М. Величкину, которая буквально пала жертвой своего долга. Больная инфлуэнцой, она пошла все же на заседание Совнаркома, где обсуждался важный вопрос по охране детства, получила осложнение и скончалась. Приходится упомянуть Левина, старого товарища по 1905 году и создателя отдела по подготовке преподавательского персонала. Приходится вспомнить целый ряд товарищей, которых я называть не буду, вплоть до рядовых работников фронта просвещения, погибших отчасти жертвой тяжелых условий, отчасти прямо жертвой гражданской войны. Я предлагаю, товарищи, почтить их память вставанием. А теперь, товарищи, позвольте перейти к основной части нашего сегодняшнего заседания и предоставить слово А. В. Луначарскому для доклада о работе Комиссариата народного просвещения.
[Речь М. Н. Покровского]
Товарищи, мне придется выполнить самую трудную часть задачи, которая выпадает на нас сегодня: дать характеристику первого руководителя, я не скажу НКП, но всего дела советского просвещения, которое мы сегодня чествуем, вспоминая и десять лет нашего учреждения.
Анатолий Васильевич находится в неблагоприятном положении — по этой линии ему не повезло, сравнительно со мной. Я получил свою характеристику из уст одного из крупнейших ораторов нашей революции, вероятно, самого крупного художника слова, каким обладает наша партия. Обо мне сказано было еще в юности, когда мне было лет 25: у него есть стиль, но корявый. Моя речь должна оскорбить художественное чувство Анатолия Васильевича, но за то я обещаю говорить о нем только правду, и вы увидите, что буду говорить без всяких комплиментов. Фигура Анатолия Васильевича в них не нуждается. Перед вами будет довольно цельный образ, по крайней мера перед моим воображением этот образ рисуется. Если у меня ничего не выйдет, то в этом будет виноват корявый стиль.
Разрешите сделать несколько поправок к речи Анатолия Васильевича. Анатолий Васильевич изобразил это дело так, как будто политический руководитель НКП я, а он культурный руководитель и т. д. Это неправильное представление о нашем взаимоотношении.
518 IV. Народное просвещение и высшая школа
Позвольте вам прежде всего сказать, что товарищ Луначарский настолько же старше меня по линии революционной, насколько я старше его по линии биологической. Я на 8 лет старше его. Кстати, поглядите на нас двоих: кто поверит, что между нами только 8 лет расстояния? Свою революционную деятельность Анатолий Васильевич начал в 1896 году, а я в 1905 году, следовательно, и тут нас разделяет почти такое же расстояние. Из этого вы видите, что если кто-нибудь из нас и был политическим руководителем, то во всяком случае не я, и, будь у меня такая тенденция, я был бы жестко осмеян всеми, начиная с Владимира Ильича, слова которого здесь цитировал Анатолий Васильевич, и совершенно ясно, что я являюсь вовсе не политическим руководителем Наркомпроса, а только политическим помощником Анатолия Васильевича. Вот это действительно верно. По политической или, точнее говоря, по идеологической линии я являюсь ближайшим заместителем Анатолия Васильевича, но это уже совсем не та картина, которую он по скромности своей здесь нарисовал. Я могу утверждать, что если бы постараться нарочно придумать такого члена партии, которого можно было бы поставить во главе просветительной работы, то невозможно было бы придумать человека, имеющего для этого больше данных, чем Анатолий Васильевич Луначарский. В сущности говоря, Анатолий Васильевич был своего рода комиссаром по просвещению еще в подпольный период партии. Я не стану защищать той политической линии, которая характеризовала наши заграничные партийные школы в 1910—1911 годах, но я должен сказать, что те, которые прошли через эти школы, хотя и отстоят теперь очень далеко от своих прежних политических позиций, все же с чрезвычайной теплотой вспоминают об этих школах и теплее всего о самом Анатолии Васильевиче, фактическом организаторе школ, входившем во все решительно детали их организации. Я помню, например, как Анатолий Васильевич отыскивал мне квартиру на острове Капри. Все мы, преподаватели этих школ, приезжали с разных концов Европы, и Анатолию Васильевичу приходилось самому заботиться о нашем размещении. И вот ему при организации школ приходила на помощь одна из его черт, на которой здесь необходимо остановиться, ибо она теперь приобретает все большее и большее значение. Анатолий Васильевич из всех членов партии был, не скажу самым (памятуя о Рязанове), но во всяком случае одним из самых «европейских», если можно сделать такое определение. Он теснейшим образом был свя¬
Десять лет Паркомпроса
519
зан с революционными кругами Франции, Италии и отчасти Германии. Его тогда знали все революционеры Европы. Он был непременным нашим представителем на всех международных конгрессах, и если мы, эмигранты, узнавали что-нибудь по непосредственным впечатлениям об этих конгрессах, то чаще всего именно от товарища Луначарского. Естественно, здесь ему на помощь приходили его ораторский талант, но главное было в том, что он являлся человеком, глубоко проникнутым европейской культурой, и это давало ему возможность вращаться в европейских интеллигентских кругах, как в своих собственных; это в огромной мере облегчало нам работу подпольного периода, так как устраивать просветительские] учреждения мы могли только при условии связи через Анатолия Васильевича с местными социалистическими кругами.
Анатолий Васильевич и тогда чрезвычайно интересовался вопросами просвещения в гораздо более широком масштабе, нежели этого требовало устройство партийных школ.
Если память мне не изменяет, то в 1907 году, т. е. вскоре после первой революции, в связи с первыми педагогическими опытами по организации нового типа школ упоминалось не раз имя товарища Луначарского как человека, чрезвычайно интересующегося этими работами. Лично с ним мне в тот период соприкасаться не приходилось, так как один из нас находился в Москве, а другой в Финляндии. Вот Анатолий Васильевич сейчас подтверждает, что он действительно и тогда интересовался педагогическими вопросами, а что он интересовался ими непосредственно перед 1917 годом, мы знаем из его воспоминаний. Таким образом, Анатолий Васильевич в подпольный период нашей партии заключал в себе целый ряд таких черт, которые необходимы были именно для будущего руководителя народным просвещением в будущей социалистической республике.
В чем —не скажу «была», а в чем и теперь заключается особенная ценность Анатолия Васильевича в этой плоскости? В тот период перед нами реально стояли две опасности: с одной стороны, опасность остаться на старой колее, так как была у нас известная боязнь слишком крутой и решительной ломки; и в результате могло получиться пленение нас буржуазными специалистами. Я не хочу делать никаких намеков, но я думаю, что с некоторыми нашими советскими работниками такие несчастья случались. С другой стороны, опасность заключалась в том, что были товарищи, которые говорили: «Все буржуазное просвещение абсолютно никуда не годится. Все это надо выкинуть и начать заново». Если такие люди
520 IV. Народное просвещение и высшая школа
слышали о проекте создания нового учебника, они с негодованием говорили: «Помилуйте! Этот человек думает, что в новой школе нужно употреблять какие-то учебники! Никаких учебников!» Такое направление было не менее опасным, потому что оно грозило привести к полнейшему разрыву с прежними культурными ценностями, а про этих ярых новаторов мы далеко не могли сказать с определенностью, что они сумеют построить что-нибудь столь же ценное и притом абсолютно новое. Но благодаря опытности Анатолия Васильевича, благодаря его европейской культуре, его старой революционности (хотя Анатолий Васильевич и кажется молодым человеком, но коммунист он почтенный — уже 31 год он состоит членом партии) —- благодаря такому счастливому сочетанию положительных качеств он был далек от крайности и не склонялся ни в ту ни в другую сторону. Никто так отчетливо не воспринимал то, что товарищ Ленин старался нам вбить в голову, как Анатолий Васильевич, а мысль Владимира Ильича сводилась к тому, что коммунизм представляет собой выражение всей просветительной работы всего человечества, причем сюда входит не только капиталистическое просвещение, но и просвещение феодальных времен. «Маркс, — говорил Ленин, — построил свою систему, опираясь на в с е знания, которые добыты человечеством» 2. Анатолий Васильевич чрезвычайно глубоко проникался этой идеей. Я процитирую его слова из одной лекции, прочитанной им в 1918 году:
«...По мере того как коммунистическое начало будет доминировать над принципом одиночества и принципом «человек человеку волк», каждый начнет рассматривать всю человеческую историю как своего рода великую постройку...»
«Коммунист отличается от индивидуалиста именно тем, что, говоря «человек», он тем самым предполагает «человечество». И если он так себя рассматривает, он не может начать цакую-нибудь непланомерную работу, он должен считаться с общим, он должен свои силы гармонизировать, координировать с усилиями других, тут должен быть общий план».
«Ведь если труд идет все дальше и дальше, если накопление мощи в руках человека действительно прогрессирует, то, само собой разумеется, совершается и прогресс сознательности человека. И чем больше он становится царем природы, тем более для каждого работника, который .совершает очень сложный процесс, нужно сознание этого процесса в целом» 3.
Эта лекция Анатолия Васильевича посвящена вопросу преподавания истории в коммунистической школе. Я читал
Десять лет Паркомпроса
521
эту статью — я историк — и испытывал известную профессиональную зависть в том, что специалист другой области (хотя Анатолий Васильевич близок к нам как историк литературы, философии и эстетики) так мастерски схватил суть истории как предмета преподавания, как предмета, который роднит со всем гигантским культурным процессом, идущим из глубины времени, и дает понять этот процесс как нечто целое. Это — одна сторона Анатолия Васильевича.
В то же время нет человека, который бы так реагировал на все новое и свежее, где бы оно ни появилось. Недавно, третьего дня, я был свидетелем того, с какой быстротой Анатолий Васильевич схватил суть развитой перед нами чисто биологической теории. Он сразу усвоил себе основную мысль этой теории и объяснил ее нам в течение пяти— десяти минут лучше, чем тот профессор, который излагал, правда, профессор говорил по-немецки, чем затруднялось до некоторой степени общение с ним. Этот пример является одним из образчиков того, с какой необыкновенной быстротой реагирует Анатолий Васильевич на все новое, как быстро все это у него претворяется в известную стройность. Например, когда в системе нашего просвещения появилась идея трудовой школы, комплекса, рабфака, все это моментально у Анатолия Васильевича находит чрезвычайно четкое отражение и самую горячую поддержку, ибо он не только человек тонкого, живого ума, но и необыкновенно живого темперамента, что делает его особенно ценным работником, потому что умный человек без темперамента может объяснить что к чему, но его идеи останутся доступными лишь немногим людям, не овладеют массами. Он должен найти себе талантливых помощников, толкачей — тогда будет другое дело. Таких толкачей Анатолию Васильевичу не нужно. Анатолий Васильевич в течение десяти лет ведет нас, ведет Иаркомпрос без боев, в течение десяти лет остается на своем посту и останется на нем гораздо' больше десяти лет, потому что Анатолий Васильевич совсем молодой человек. Никто не поверит, что он недавно справлял пятидесятилетие со дня своего рождения. Он обещал мне, что я буду присутствовать на двадцатилетием юбилее Наркомпро- са, за что я ему очень благодарен, но я думаю, что сам он имеет все шансы дожить и до пятидесятилетнего юбилея.
Я хочу говорить исключительно объективно, я не хочу говорить никаких комплиментов, я нарочно стараюсь говорить цитатами, из-за этого соображения я не останавливаюсь на личности Анатолия Васильевича, — но должен сказать? если
522 IV. Народное просвещение и высшая школа
наша коллегия была всегда одной из самых дружных коллегий, какие работают над советским делом, то это происходило благодаря личному характеру Анатолия Васильевича. Я никогда не видел его рассердившимся и не могу себе представить, чтобы этот человек когда-нибудь рассердился. Может быть, это с ним бывает, но, думаю, редко, потому что 4—5 раз в неделю я вижу его и не замечаю у него ничего подобного.
Я хотел бы в заключение подчеркнуть еще одну сторону дела: Анатолий Васильевич не есть какая-то культурная сила, которую наша революция вовлекла и поставила себе на службу. Это один из самых старых наших подпольщиков, и когда посмотришь на всю нашу коллегию, то увидишь то же самое: с товарищем Ходоровским мы были в Московском комитете лет 20 тому назад, Варвара Николаевна Яковлева очень смеялась над одним старым письмом, которое я недавно разыскал, письмом по одному политическому делу — по части конспиративной, а Надежда Константиновна давала мне первые уроки шифровки. Из кучки, как выражается буржуазия, заговорщиков, которые сидели где-то в подполье и что-то там стряпали и над которыми всякий буржуазный почтенный человек смеялся, вышли люди, которые строят теперь систему народного образования, на которую приезжают смотреть со всех концов земного шара.
Кто это сделал? Наша партия, та партия, которая была этой группой подпольщиков. Анатолий Васильевич помнит самый древний период этой партии, когда еще она была собранием подпольных кружков. Теперь она выросла в массовую рабочую партию, стала во главе рабочего класса у власти и теперь управляет страной.
Анатолий Васильевич человек, лучше которого партия не могла найти для того, чтобы поставить его на это место, но именно партия его нашла и поставила, он вырос с партией. Он является в то же время одним из создателей нашей партии, поскольку он вошел в революционную работу раньше, чем партия образовалась.
В заключение я и хотел бы воздать настоящую хвалу той силе, которая всех нас сорганизовала и выдвинула и которая держит теперь власть в своих руках, которая, я убежден, будет держать ее до тех пор, пока не окоммунизируется, не оп- ролетаризируется весь капиталистический мир.
«Народное просвещение». Вопросы политики и организации народного просвещения, 1927, № 11—
12, стр. 5—6, 21—24
КАКАЯ НАМ НУЖНА СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Спор о системе народного образования в нашей стране ведется очень давно. Фактически он начался на другой же день после того, как возникла Советская власть, и в сущности даже раньше, нежели эта власть окончательно взяла в свои руки народное просвещение. В высших учебных заведениях еще сидели «автономные» ректоры и правления, в них еще обсуждался вопрос — иметь какие-нибудь дела с Советской властью или бойкотировать оную, а в помещении общества инженеров, где тогда еще и не думали, что оно когда-нибудь будет называться «Домом съездов Наркомпроса», уже шли горячие дебаты о политехнизме и «монотехнизме» (эти термины вы можете найти и сейчас в февральской книжке «Народного просвещения» за нынешний год в статье «Общественность Украины о системе просвещения») 1.
Правда, лидер той атаки, которая в 1918 году велась против политехнической школы Наркомпроса, давно уже покойный проф. Гриневецкий, был достаточно грамотен, чтобы не употреблять термина «монотехнической». Он говорил просто- напросто о профессиональном образовании. Это образование как абсолютно якобы необходимое в качестве общеобязательной системы на данной стадии развития народного хозяйства он резко противополагал политехнической марксистской школе, принципы которой на этих совещаниях отстаивали Н. К, Крупская и в качестве весьма слабого и плохого ее помощника пишущий эти строки.
Прошлый год германская революция только что позволила убрать с Украины гетманщину и петлюровцев. И вот, как теперь, я вижу перед собой залу коллегии Наркомпроса (теперь одну из аудиторий Института красной профессуры) и в ней группу молодых и горячих украинских товарищей, которым приходилось в 19-м году проделывать в Харькове и Киеве ту работу, которую мы проделывали в Москве в 18-м. И опять горячие споры, и опять все о том же: быть ли школе
524
IV. Народное просвещение и высшая школа
политехнической или профессиональной? Товарищи украинцы решительно настаивали на профессиональной школе. Спор разрешился самым неожиданным образом. Украина была занята деникинцами, и вопрос о том, какую систему народного образования примет Советская Украина, стал примерно на год вопросом чисто теоретическим. Но пришел конец деникинщине. Украина снова сделалась советской, и в 1920 году мы опять беседовали с тт. украинцами, беседовали на этот раз в гораздо более солидной и внушительной обстановке: на первом партсовещании по просвещению в самом конце 1920 года2.
Как все знают, это был год, когда кривая нашего промышленного производства достигла своей самой низкой точки за все советское время. Марксистский политехнизм казался «роскошью» и «утопией», больше чем когда бы то ни было за все предшествующие годы. Термин «монотехнизм» звучал гордо и победно. Правду сказать, сколько-нибудь приличных профессионально-технических школ было столько же, сколько и политехнических: и те и другие считались единицами и никакой «системы» для 100-миллионного государства образовать не могли. Спор шел, по существу дела, о будущем. Будущее это рисовалось в красках скорее мрачных. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что через 9 лет наши поезда будут ходить со скоростью 70 километров в час и опаздывать не чаще, чем они это делали в дореволюционное время, а тем более если бы кто-нибудь сказал, что через 9 лет мы будем вкладывать в нашу промышленность миллиарды рублей (на «миллиард» 1920 года можно было два раза сытно пообедать — не больше), — такого человека объявили бы немедленно вреднейшим утопистом. Самые мудрые из ученых специалистов, явно кривя душой в пользу большевиков, соглашались признать возможным достижение «довоенного уровня» к 1932 году.
В такой обстановке «монотехнизм» одержал первую победу. Правда, победа была из тех, о которых сложилась народная пословица: «Хоть рыло в крови, да наша взяла». Но выбить с поля борьбы политехнизм оказалось невозможным: слишком энергичную и авторитетную поддержку он нашел тогда, как мы сейчас увидим. Вся победа сторонников «монотехнизма» заг ключалась в том, что курс политехнической школы был спущен с 9 лет на 7, спущен лишь временно, ввиду исключительных обстоятельств 1920 года. Это было подчеркнуто в специальной статье В. И. Ленина о работе Наркомпроса.
Какая нам нужна средняя школа
525
Совершенно необходимо напомнить, что писал тогда Владимир Ильич о борьбе «политехнизма» с «монотехнизмом». «Рассуждения о том, «политехническое или монотехническое образование» (именно эти взятые в кавычки и подчеркнутые мною слова, во всей их чудовищной нелепости, мы встречаем на стр. 4-й названного «Приложения к бюллетеню»!)—эти рассуждения в корне неверны, для коммуниста прямо недопустимы, показывают и незнание программы и пустейшее «увлечение» абстрактными лозунгами. Если мы вынуждены временно понизить возраст (перехода от общего политехнического к профессионально-политехническому образованию) с 17-ти лет до 15, то «партия должна рассматривать» это понижение возрастной нормы «исключительно» (пункт 1-й директив ЦК) как практическую необходимость, как временную меру, вызванную «нищетой и разорением страны».
Общие рассуждения с потугами «обосновать» подобное понижение представляют из себя сплошной вздор» 3.
Согласитесь сами, что видеть после этого слова, взятые Лениным в кавычки и подчеркнутые, в номере «Народного просвещения» от 1929 года, хотя и в «дискуссионной» статье, особенно пикантно. Еще более, конечно, пикантны рассуждения в вышеназванной статье.
«Одиннадцатигодичный опыт переубедил теперь большинство в том, что РСФСР надо было и здесь, как и в системе социального воспитания, отказаться от объективного «правого уклона» (сохранения дуализма системы царской России), хотя и построенного на левой фразе (марксова школа), а УССР — приблизиться к общему образованию (профшкола не готовит в вузы). Теперь ясно, что необходимо было найти ту диалектическую доминанту [?!], которая наиболее соответствовала бы требованиям современности и не теряла перспектив для создания марксовой школы» 4.
Искать «диалектической» доминанты, т. е. искать какого- нибудь выхода из положения через 9 лет после «победы», заставляет «монотехниста» то объективное положение, в каком теперь находится крупная индустрия всех стран мира. Как ни толстокожи «монотехнисты», не ощущать этого объективного положения не могут даже и они; вот отчего и приходится отступать с барабанным боем, возвещая всему миру о колоссальных потерях противника. Суть дела в том, что «моно- технизм» начинает проваливаться в тех именно странах, которые служили образцом и примером для проф. Гриневецкого в 1918 году.
526 IV. Народное просвещение и высшая школа
Американская школа фактически уже в большей степени политехническая, нежели наша, т. е., говоря точнее, нежели подавляющее большинство наших школ.
«Индустриальные навыки в элементарной школе, — говорит один русский наблюдатель, — представляют собой самые первоначальные и элементарные работы детей с различными материалами — с бумагой (вырезывание и аппликация), пап- кой и картоном (вырезывание фигур, склеивание игрушек, вагончиков, коробочек, домиков и т. п.), лепка из пластилина и глины (модели птиц, животных, домиков, орудий и т. д.), работы из дерева (строгание, вязка дерева, изготовление моделей сельскохозяйственных и прочих орудий, лодок, корабликов, станков, мебели и т. п.). Иллюстративные работы в связи с курсом истории, физики, географии, естествознания. В старших группах начальной школы дети обычно изготовляют модели первобытной и современной глиняной посуды, модель ткацкого станка с образцами работ на них (аналогичные работы я наблюдал и во многих германских школах). Глиняная посуда обжигается детьми в специальных газовых печах и глазируется или художественно расписывается (в богатых школах). Казалось бы, что тут есть индустриального? И почему такие занятия называются Industrial Arts (индустриальными навыками)? Но американцы находят, что такие работы всесторонне и наилучшим образом вводят детей в мир индустрии, сообщают им самые элементарные, необходимые и доступные навыки и знания для общей ориентировки и деятельности в будущей практической жизни, в той или иной области производства... Вся эта работа в высшей степени интересует детей и наилучшим образом развивает их конструктивные творческие способности, инициативу, умение проектировать и планировать свою работу» *.
Перейдем теперь к Англии. Здесь в 1925 году по инициативе одного крупного предпринимателя, лорда Эммота (английские лорды, как всем известно, кроме титула, ничего* общего с феодализмом не имеют), и под его председательством была образована Комиссия по исследованию связи технического образования с другими видами образования, а также с требованиями промышленности и торговли. Комиссия провела 4 обширные анкеты, преимущественно среди предпринимателей и педагогов; рабочих не спрашивали.
* «На путях к новой школе», 1928, № 10—11, стр. 134—135'5.
Какая нам нужна средняя школа
527
«Из ответов видно, что ни одна промышленная организация не нашла нужным вводить в школьную работу специализацию в узком смысле слова; наоборот, вся желаемая «индустриализация» школы сводится к знакомству с общими задачами индустрии, знакомству с рынком, сбытом, с организацией производства, организацией предприятия, организацией труда на предприятии, основами машинных процессов и, наконец, с новой дисциплиной — «принципами экономизации труда и материалов». Все эти разделы, очевидно, имеют целью теснее спаять рабочую массу с жизнью предприятия и целой отрасли индустрии и до некоторой степени предотвратить возникновение конфликтов. Из ответов видно, дальше, что промышленники больше всего жалуются на недостаточную подготовку мастеров и управляющих» 6.
Наконец, Германия. Для «монотехнистов» до сих пор это была земля обетованная, ибо там над общеобразовательной элементарной школой (правда, 8-летней, а не 7-летней, как в планах наших «монотехнистов») шел ряд чисто профессиональных надстроек. Увы! Теперь и эта цитадель колеблется. В отчете о Берлинском конгрессе по вопросам народной школы, происходившем в апреле прошлого года (отчет составлен одним из инспекторов по техническому образованию), мы читаем:
«Образование народа, живущего по законам индустриализации, должно быть вообще очень высоким. В какой бы области этой жизни ни работали люди, они всегда должны обладать высокой степенью интеллигентности. Кроме того, в обществе, живущем по законам непрестанно развивающейся и непрестанно меняющейся техники, нельзя быть уверенным, что однажды приобретенная специальность, однажды приобретенные навыки будут иметь длительную ценность. И в собственных интересах индивидуума, так же как в интересах целого, желательны наибольшая подвижность, наибольшая приспособленность к быстрой ориентации. Качество, требуемое немецкой хозяйственной жизнью в целом, — это не высокая ремесленная тренировка (заводская или индивидуально-ремесленная— безразлично), а общетехническая интеллигентность и дисциплина. Даже в сельском хозяйстве на первом плане стоит использование всех возможностей производственного развития» *.
* «На путях к новой школе», 1929, № 3, стр, 77 7,
528 IV. Народное просвещение и высшая школа
В чем же дело? Ленинскую статью, что ли, прочли эти люди, благо сочинения Ленина переведены теперь на все иностранные языки? Ничего подобного, разумеется! Просто-напросто учителя «монотехнистов» со всего размаху ударились лбом в рационализацию, перевернувшую вверх дном не только методы промышленного производства, но и методы технического обучения. Старый, «монотехнический» тип рабочего в обстановке рационализируемой промышленности все менее и менее находит себе применение. Само собой разумеется, что до марксистского политехнизма, стремящегося сделать рабочего хозяином производства, этим людям, как до звезды небесной, далеко. По всей вероятности, они были бы крайне изумлены, если бы им кто-нибудь сказал, что они попали в педагогике на одну дорожку с окаянными большевиками да еще идут по этой дорожке теоретически далеко позади их (практически, не будем от себя этого скрывать, американцы ушли дальше нас — на практике американская школа уже больше политехническая, чем наша; имея перед собой лозунг догнать и перегнать Америку, мы не должны скрывать от себя этот несомненный факт). На упоминавшемся Берлинском конгрессе один из выдающихся германских педагогов во всеуслышание заявлял, впрочем, что немцы должны «учиться у американцев и у русских». Так что кое-какая сознательность есть и в опытах капиталистического политехнизма. Но в основном они идут по этой дороге стихийно, потому что без рационализации не выбьешь с рынка рационализированного противника, а рационализация требует политехнизма, требует рабочего с более или менее широким техническим кругозором. Цитировавшаяся выше английская комиссия Эммота дала именно такую мотивировку, почти этими самыми словами.
Но у политехнизма есть враг несравненно более опасный, нежели «монотехнизм». Этот враг — существующая как господствующий тип поныне словесная общеобразовательная школа. Так как вдобавок, спасая драгоценную словесность (человек, не изучивший «Вишневого сада», ведь почти даже и не человек, надо же спасти хоть какие-нибудь остатки культуры...), педагоги примиренческого типа частенько сло- воблудили, приклеивая ярлык «политехнической» к самой пошлой мелкобуржуазной школе, то этим дискредитация политехнизма достигалась в гораздо большей степени, нежели аргументами самых твердолобых «монотехнистов». Не приходится скрывать от себя и этого факта. Прав был тов. Алексинский, когда он говорил Московскому Совету в декабре прошлого
Какая нам нужна средняя школа
529
года: «Отсутствие мастерских, плохое оборудование кабинетов превращают нашу школу в школу словесности, что сказывается на всем ее внутреннем строе, приближая в этой части к прежней гимназии».
Эта картина безусловно верна, если мы возьмем состояние нашей — и тут уже приходится употреблять кавычки — «политехнической» школы в среднем за последние 10 лет. «Количество специального оборудования мастерских в школах 1 ступени ничтожно, достигая в среднем 0,5 проц. числа школ (0,3 проц. в деревне, 1,8 проц. в городе)», — говорят тезисы доклада Главсоцвоса о школе, как она есть, под углом зрения требований политехнизма (последняя сессия ГУСа). Но уже для школ повышенного типа тот же доклад дает в среднем 25% школ, имеющих кое-какое оборудование. А ближайшее исследование в самое последнее время — выборочное — показывает, что физический труд в той или иной форме имеется почти в половине и начальных школ. Дело не стоит на месте— дело двигается. Это движение сказывается с особенной силой на школе крупных индустриальных центров. В школах Ленинграда в 1927/28 году было 337 мастерских, а в 1928/29 году — уже 527 мастерских, за один год увеличение больше чем на 50%. Что касается опытных учреждений, районных и опорных школ, то здесь имеются уже если и не все, то многие данные для совершенно серьезной постановки политехнического образования. Из 97 опытных школ 78 имеют по 2—3—4 и больше мастерских (главным образом столярные, слесарные, переплетные, швейные).
Политехническая школа в РСФСР как тип есть в наши дни реальность, притом реальность, растущая с поразительной быстротой. Движение это, курьезным образом, почти столь же стихийно, как движение по направлению к политехнизму в Америке или Англии. Планомерной организации политехнической школы у нас еще нет — не к нашей особой славе, разумеется. Надо надеяться, что 1928/29 год окажется последним годом этого стихийного развертывания политехнизма. Но реальность самого факта еще больше подчеркивается этим стихийным ростом. Основа же этой стихийности совсем другая, чем в буржуазных странах. Там на линию политехнизма наталкивает самых твердолобых монотехнистов уже происходящая, отчасти уже происшедшая, рационализация промышленности. У нас рационализация еще только начинается, но зато рабочий класс у нас имеет возможность влиять на школьные порядки в неизмеримо большей степени, чем это бывает
530 IV. Народное просвещение и высшая школа
на Западе, где рабочих по таким вопросам, как мы видели, даже и не спрашивают. Не случайно максимально бурный рост политехнической школы мы имеем в Ленинграде, старейшем центре рабочего движения и одном из крупнейших индустриальных центров нашей страны по сей день. Я не имею, к сожалению, под руками высказываний ленинградских рабочих. Но среди рабочих московских этот вопрос был про- дискутирован. Можно было слышать такие речи. Тов. Семенов в клубе «Работница» говорил:
«Представьте себе, ребенок кончил школу, пошел на биржу. Значит, ему нужно идти по линии физического труда, а что он может делать, если он никакой квалификации не имеет? Здесь вытекает вопрос, что в течение 9 лет этого учения, если поставить производственный принцип, он после окончания все-таки будет иметь какую-то квалификацию. Надо было бы в школах оборудовать механические мастерские, слесарные и т. д., которые бы наравне с общим образованием дали какое-нибудь ремесло нашим детям».
В клубе КОР8 тов. Яковлев сказал следующее:
«Теперь насчет детей рабочих. Ребята подрастают в семье рабочих, они видят, что родители их трудятся, их невольно тянет к работе. Он еще малыш, а он тоже тянется к работе. У них нет такой склонности — специально учиться, редко встретишь таких ребят, которые интересуются так учебой. В большинстве случаев их она не удовлетворяет — теоретическая программа школы, а надо что-то такое практическое»*
На заводе «Динамо» тов. Николаев говорит:
«Нам нужна такая школа, которая приспосабливала бы к дальнейшему продвижению в вузы, или, если он оканчивает нашу школу, чтобы он был настоящим квалифицированным рабочим на любом предприятии», и т. д. и т. д.
Один рабочий предлагал прикреплять учеников к взрослым рабочим для обучения; это немножко старомодно и напоминает старинное ученичество. Зато одна работница требовала, чтобы дети не только допускались на производство (мне приходилось говорить на съезде Советов, что это далеко не само собой разумеющаяся вещь), но чтобы дети принимали участие в производственных совещаниях.
Чрезвычайно желательно, чтобы на предстоящем партсо- вещании мы заслушали по поводу системы народного образования не только просвещенцев, но непременно и представителей пролетарской массы. Нам необходимо знать не только, что мы сами думаем друг о друге, но и что думают о нас
Какая нам нужна средняя школа
531
наши «потребители». Ведь мы строим школу не во славу отвлеченной теории, а для определенных, конкретных живых людей, и в первую голову для пролетариата. Поскольку нам знакомы высказывания этого последнего, он лучше понимает задачи современного образования, чем некоторые его радетели из «монотехнического» лагеря. Он понимает, что задача состоит именно в том, чтобы выпускать не узких ремесленников, а таких людей, которые бы были «настоящими квалифицированными рабочими на любом предприятии». А это и есть задача Марксовой политехнической школы.
«Правда» от 6 июня 1929 г.
СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (К первой сессии ГУСа 1)
1. Основная схема народного образования, принятая в РСФСР уже более десяти лет тому назад (в 1918 году), весьма проста. Она складывается из таких звеньев: дошкольное образование (детский сад), школа I ступени (1—4 группы), старшие группы семилетки (5—7), над семилеткой идет либо двухгодичная школа второго концентра2 IIступени (8—9группы), либо техникум, над ним вуз. Техникум и вуз являются представителями специального или профессионального образования, готовят специалистов: техникумы — средней квалификации, вузы — высшей квалификации. Все предшествующие техникуму и вузу ступени образования представляют собой единую школу; это обозначает, что в нашей системе, в ее теоретическом построении, нет и не может быть параллельно различных типов школ с различной целевой установкой, какими были, например, в дореволюционной России классические гимназии, с одной стороны, реальные училища — с другой; не может также быть у нас различных школ для различных классов населения вроде «народной школы» с крайне элементарным курсом для массы населения, с одной стороны, и «приготовительных» и низших классов гимназии или реального училища для «обеспеченных» слоев населения — с другой. У нас все дети, из какого бы общественного слоя они ни вышли, проходят одну и ту же школу вплоть до определенного возраста, когда они избирают себе ту или другую специальность.
2. Выдержать эту систему во всех деталях оказалось, однако, невозможным на той хозяйственной базе, на которой начиналось наше школьное строительство десять лет тому назад. Как будет видно из дальнейших тезисов, нам пришлось сделать целый ряд уступок, приведших к тому, что у нас имеются параллельно школы с различной целевой установкой (профшколы, ФЗУ, ШКМ и т. д. см. ниже). Действительно,
Система народного образования РСФСР
533
«едиными» у нас остались только дошкольное образование и школа I ступени.
3. Но все эти уступки, именно потому, что это уступки условиям и требованиям определенного исторического момента, определенного этапа нашего экономического развития, не устраняют того основного факта, что руководящие принципы нашей системы, закрепленные в программе нашей партии, остаются обязательными, и не только для РСФСР, до сего дня, несмотря на все частичные уступки и изменения. И теперь мы подходим к такому этапу нашего хозяйственного развития, когда это единство и общеобязательность принципов нашей системы приходится подчеркивать особенно решительно. Социалистическое строительство может быть только одно, различных социализмов на различной национальной базе быть не может; в то же время классовое единство нашего государства, как рабочего государства, а не компромисса интересов различных классов, подчеркивается, более нежели когда бы то ни было. Как не может быть национального социализма, так не может быть и крестьянского социализма в отличие от пролетарского. Но социальное единство всей государственной системы и классово выдержанный характер всего строительства хозяйственного, культурного и т. д. — логически ведут к единству системы народного образования. Компромиссом нескольких систем наше образование быть не может, как нельзя себе мыслить управление нашей страной в виде компромисса нескольких классов.
4. Отсюда следует, что наше образование, более нежели когда бы то ни было, должно быть марксистским. В области школьного образования характерным признаком марксистской системы является прежде всего ее политехнический характер. Лишь крайним марксистским невежеством некоторых педагогов можно объяснить утверждение, будто под «политехническим» образованием Маркс разумел просто «техническое», т. е. профессиональное. XIII глава «Капитала» и «Анти-Дюринг» не оставляют никакого сомнения насчет того, в к^ком смысле марксисты употребляют термин «политехнический». Политехническая по характеру даваемого ею образования наша школа является и пролетарской по своей классовой установке. Кто бы в школе ни воспитывался, прививаемое ею мировоззрение может быть только мировоззрением пролетариата, борющегося за социализм. Проводником внеклассовой или бесклассовой культуры наша школа являться ни в каком случае не может.
534 IV. Народное просвещение и высшая школа
5. Из вполне сохранивших свою старую постановку звеньев системы народного образования некоторые, однако, не получили того развития, на какое Наркомпрос первоначально рассчитывал, а другие, в их теперешнем виде, оказываются опереженными ходом нашего строительства. К числу первых принадлежит система дошкольного образования, приобретающая в условиях социалистического строительства исключительное значение. Ни о какой общественной роли женщины не может быть речи, пока она задавлена хлопотами о детях, и никакая трудовая школа не справится со своей задачей, пока она будет получать совершенно сырой материал, лишенный всякого подобия образования, и тем вынуждена будет на первых порах выполнять работу детского сада. Дошкольное образование правильно поэтому являлось когда-то гордостью Наркомпроса, настойчиво добивавшегося в спорах с Нарком- здравом, чтобы дети попадали в учреждения Наркомпроса в возможно более раннем возрасте (стрех лет). Жестокий экономический кризис нашего просвещения в начале 20-х годов почти разрушил все, что удалось создать в этой области Нарком- просу в первые годы революции. Количество учреждений и детей в них упало более нежели в пять раз; к 1928/29 году произошло некоторое частичное восстановление системы дошкольного воспитания и образования, но в размерах, совершенно не удовлетворяющих самым элементарным требованиям; по данным последнего, IV съезда по дошкольному образованию, мы обслуживаем в РСФСР только одного ребенка на 1697 жителей в наших дошкольных учреждениях.
6. Опереженным жизнью оказывается принятый нами в 1918 году тип школы I ступени — четырехлетка. В четыре года обучения, в особенности обучения детей, никогда не бывших ни в каком образовательном учреждении — а такими является подавляющее большинство вступающих в нашу школу I ступени, — нет никакой возможности вложить тот материал, который безусловно необходим, чтобы кончающий школу мог сознательно относиться к тому социалистическому строительству, в котором ему придется принимать активное участие. В то же время в порядке массового, доступного для всех обучения подавляющее большинство населения дальше школы I ступени долго еще не пойдет. Анкета, проведенная в Москве, правда в очень отсталом районе, но все-таки в столице Союза, а не в глухой деревне, показала, что кончающие четырехлетку не имеют никакого представления о социализме и не разбираются в самых элементарных вопросах общего
Система народного образования РСФСР
535
мировоззрения. Между тем ни возраст детей, кончающих четырехлетку, ни их предварительная подготовка не позволяют ставить вопросы идеологического порядка в теперешней четвертой группе. Для фабрично-заводских районов мы должны держать курс на семилетку, как общее же правило придется начать развертывание четырехлетней школы I ступени по крайней мере в пятилетнюю. Для города дело не представляет особой трудности, но, несомненно, огромных усилий потребует развертывание пятилетки в деревне. В то время как в городе из 100 поступивших в 1-ю группу I ступени достигает 5-й группы 85 человек, в деревне на 100 учеников 1-й группы до 5-й доходит всего 16 человек (цифры 1927/28 года). Таким образом, наращение 5-х групп (и далее, 6-х и 7-х) может, в масштабе всей страны, происходить лишь весьма постепенно, по мере повышения общего экономического уровня.
7. Но не могут быть оставлены в их теперешнем виде и дальнейшие звенья единой трудовой школы. Тут, прежде всего, пришло уже время отказаться от некоторых уступок, сделанных в свое время по отношению к возрасту, на котором заканчивается общее образование. В 1921 году этот возраст был понижен с 17 до 15 лет. Это понижение было обстоятельно мотивировано в то время, когда оно делалось, как временная мера, вызываемая исключительно тяжелым экономическим положением страны. При этом политехнический характер даваемого школой образования специально подтверждается. В настоящее время, когда тяжелое экономическое положение тех дней является уже прошлым, исходить из этого момента при каких-либо отступлениях от марксистской системы нет ни малейшего основания, а другой мотивировки никогда не давалось. Наоборот, со всей ясностью выявилось, что девятилетняя общеобразовательная школа, спроектированная в 1918 году, недостаточна. Минимальная общеобразовательная программа не может быть осуществлена в девять лет иначе как ценой крайнего напряжения сил учащихся — при предположении исключительно талантливого учителя. Надстройка десятой группы над общеобразовательной школой становится совершенно неизбежной, но почти не менее неизбежна и подстройка снизу некоторой подготовительной группы (ноль-группа) для детей, не получивших никакого дошкольного образования, а таковое получает у нас лишь ничтожное меньшинство. Таким образом, мы приходим к одиннадцатилетней общеобразовательной школе (от 7 до 18 лет) — минимальной продолжительности общего
536 IV. Народное просвещение и высшая школа
образования в других культурных странах, где, однако, материальные условия получения образования значительно более благоприятны в большинстве случаев, нежели у нас.
8. Удлиненный срок общеобразовательной школы сам по себе ничуть не замедлил бы приток массовой квалифицированной рабочей силы. Требование Ленина, чтобы школа давала слесарей, плотников, столяров и т. д., вполне совместимо с политехнизмом школы, ибо школа действительно политехническая дает если не квалифицированных рабочих непосредственно, то людей, которые легко могут таковыми стать после некоторого упражнения, поскольку они знакомы с употреблением важнейших рабочих инструментов и наиболее распространенными производственными процессами. Требование сокращения общего образования с целью ускорения получения квалифицированной рабочей силы предполагает как само собой разумеющуюся не политехническую, а старую словесную общеобразовательную школу. Эту расшифровку безусловно необходимо произвести для понимания сущности спора. Вот что говорит отчет заведующего МОНО тов. Алексинского, представленный пленуму Моссовета 17/XII 1928 года: «Огромным пробелом школы является отсутствие мастерских для труда в ней. Подавляющее большинство школ в Москве и уездах никаких мастерских не имеет. Там же, где мастерские есть, в силу их плохого оборудования, штатных затруднений, недостатка средств на материалы они почти не работают. Отсутствие мастерских, плохое оборудование кабинетов превращают нашу школу в школу словесности, что сказывается на всем ее внутреннем строе, приближая в этой части к прежней гимназии. Отсюда вопрос о превращении школы действительно в трудовую политехническую по существу, а не по названию должен быть решен в ближайшее время практически, чтобы добиться действительного, а не на словах оздоровления школы». В связи с этим пролетаризация нашей школы II ступени идет крайне медленно. Вот что говорит об этом тот же отчет: «Что касается школ II ступени (семилетки, девятилетки), то они страдают целым рядом весьма существенных дефектов. Прежде всего, одним весьма важным моментом является их классовый состав и недостаточный еще охват школой II ступени детей рабочих. По городу Москве в 1926/27 г. на всю ученическую массу школ II ступени — 61305 человек— детей рабочих было 19 939 человек, или 32,5%; в 1927/28 г. на 72 249 человек — 27 814 человек, или 38,5%. Изу-
Система народного образования РСФСР
537
чение этого вопроса на ряде московских школ (в частности, по произведенному в апреле — мае 1928 года обследованию) показывает, что причинами этого служат необеспеченность родителей и дороговизна содержания безработных подростков 15—-17 лет в семье, уход на работу (во многих школах учащиеся состоят на Бирже труда с 4-й—5-й групп), уход по неуспеваемости и уход в профтехнические учебные заведения. При этом уход в фабзавуч мотивируется стремлением по окончании ФЗУ, после получения трудового стажа, поступить на рабфак и затем идти в вуз. Одновременно обследование показало, что у учащихся огромнейшая тяга к учению и неохота покидать школу. Отсюда необходимо сделать вывод о принятии ряда мер, обеспечивающих окончание детьми рабочих школы, из коих наиболее реальной мерой будет установление стипендий в общеобразовательной школе (в старших классах). Если проследить прохождение детьми рабочих всего курса девятилетки и сравнить с прохождением его детьми других классов и слоев населения, то получается следующая картина. Эта таблица показывает динамику процесса «вымывания» детей рабочих из школ. Берем из таблицы лишь два-три примера. Из детей рабочих и крестьян в 7-ю группу в 1927/28 г. перешло 75,8%, а из «прочих» —87,4%. В 8-ю группу первых перешло 40,8 %, вторых — 54,7 %; в 9-ю первых — 56 %, вторых—102,4%. По провинции можно найти еще более выразительные цифры. По Таганрогу, Грозному и Новороссийску мы имеем на 50,2% детей рабочих в 1-й группе школы-девятилетки лишь 18,6% в последней группе; а детей служащих 20,4% в 1-й группе и 65,3% в последней. Картина «вымывания» пролетарского элемента еще более выразительная, чем по Москве.
9. Таким образом, наша школа II ступени страдает не от того, что в силу якобы ошибочной системы она политехническая, а именно потому, что она еще и не политехническая, т. е. на практике вообще не является частью какой бы то ни было системы, соответствующей потребностям рабочего и социалистического государства. Наша школа есть пока мелкобуржуазная, словесная школа, не дающая никаких трудовых навыков, за ничтожными в этом отношении исключениями. Это вызывает необходимость всякого рода мер суррогатного характера, главнейшей из которых является профессионализация двух или, по новому плану, трех старших групп общеобразовательной школы. Как временная мера — на довольно продолжительный, однако, период — эта
538 IV. Народное просвещение и высшая школа
профессионализация является единственным выходом из крайне трудного положения.
10. Несравненно более серьезными отклонениями от линии единой школы, отклонениями, органически связанными с особенностями нашего хозяйственного развития, являются, с одной стороны, система школ для подростков, работающих в промышленности (основной тип ФЗУ), с другой стороны, для подростков и молодежи, работающих в сельском хозяйстве (основной тип ШКМ). Школа ФЗУ является также одним из суррогатов политехнической школы, притом несравненно лучшим, нежели профессионализированная в своей верхушке общеобразовательная школа. ФЗУ: а) дает широкую производственную подготовку; б) дает широкую техническую и технологическую подготовку; в) обеспечивает выдвижение подготовленного низшего и среднего техперсонала промышленности; г) дает выход массе подростков, ограждая ее. от безработицы и деклассирования. На практике достижение этих целей тормозится, во-первых, стремлением промышленных предприятий вести дело с максимально возможной экономией, а также устаревшим оборудованием, теснотой и неприспособленностью помещений и т. д. Несмотря на все это, ФЗУ ближе к типу трудовой политехнической школы, нежели какой- либо другой вид народного образования у нас. В первое время программы ФЗУ страдали перегруженностью, особенно со стороны общеобразовательных предметов, отчасти и преобладанием ремесленничества. Теперь перегруженность в значительной мере устранена, производственное обучение сконцентрировано. Есть основания опасаться, что теперь, когда администрирование ФЗУ передано хозяйственным органам, уклон в сторону узкого профессионализма, равно как и та не вполне разумная экономия, о которой говорилось выше, получат новый толчок к своему развитию. Упрощенным типом ФЗУ является школа бригадного ученичества, охватывающая на некоторых заводах почти всех подростков, не попавших в школу ФЗУ. По данным инспектуры Наркомпроса, чисто производственное обучение в школах бригадного ученичества поставлено более или менее удовлетворительно, что же касается общеобразовательной стороны дела, то она стоит очень низко.
И. Система школ для деревни охватывает: ШКМ дневные с тремя годами обучения, деревенские семилетки, девятилетки и школы II ступени, старшие группы которых подлежат постепенной реорганизации в ШКМ, и вечерние ШКМ (двух- или даже одногодичные). ШКМ дневная в силу своей отно¬
Система народного образования РСФСР
539
сительной дороговизны, длительного срока обучения и т. п. может охватить лишь меньшую часть подросткового и юношеского возраста в деревне (имеются два типа ШКМ: для 12—16-летних и для 14—18-летних). По некоторым наблюдениям, дневные ШКМ скорее создают хороший материал для сельскохозяйственных техникумов, нежели непосредственных работников для деревни, так как кончающие дневные ШКМ по большей части жаждут «продолжать учение». Есть указания на то, что они более приспособлены к удовлетворению потребностей индивидуального крестьянского хозяйства, чем для того, чтобы давать будущих работников колхоза. Большие надежды возлагаются на только что возникающий тип вечерних ШКМ, которые не будут отрывать своих учеников от непосредственной работы в сельском хозяйстве.
12. Наконец, как профессиональное образование для возрастов, которые в нормальной системе должны заполнять старшие группы единой трудовой школы, следует указать профшколу как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, с тремя годами обучения, строящуюся над курсом четырехлетки, либо на простой грамотности (ФЗУ должны строиться над курсом фабрично-заводской семилетки, но пока строятся также над четырехлеткой подобно ШКМ). Если ФЗУ создает подготовленный низший и средний техперсонал крупной промышленности, профшкола готовит квалифицированных рабочих для средней и мелкой промышленности; сельскохозяйственная профшкола готовит мастеров узкой специальности; имеется еще и двухлетняя школа сельскохозяйственного ученичества (подростки, работающие в совхозах), но она существует почти только на бумаге (13 школ на всю РСФСР).
13. Техникум опирается до сих пор на семилетку, по общему отзыву не дающую достаточной подготовки для специального образования, хотя бы и не высшего. Как тип учебного заведения техникум вполне отвечает потребности в снабжении промышленности и сельского хозяйства средним техническим персоналом («помощника инженера»),количественно крайне недостаточным у нас. Пока техникум дает и хороших студентов для вузов (особенно по сельскохозяйственной линии), но это не может быть признано нормальным явлением. Здесь. мы имеем опять одно из последствий отсутствия у нас политехнической школы: кончающие техникумы все же имеют лучшие производственные навыки, нежели кончающие общеобразовательную школу. Как скоро последняя будет эти навыки давать, преимущества кончающих техникумы перед
540 IV. Народное просвещение и высшая школа
кончающими девяти- или десятилетку исчезнут. Но остается плохая подготовка, даваемая семилеткой для техникумов. Некоторые облоно рекомендуют перестроить базу техникумов на восьмилетнюю (при ноль-группе получится даже девять лет).
14. Особое место в системе нашего образования занимают рабфаки. Наличность дневных рабфаков объясняется опять- таки все тем же основным фактом — отсутствием у нас политехнической школы, пополняемой из рядов пролетариата. Даже на самих рабфаках, в их последних группах, рабочие иногда оказываются в меньшинстве, и не только потому, что рабфаки принимают крупный процент крестьян. Парадоксальным образом приходится ставить вопрос об орабочении рабфаков. Несравненно более надежной пролетарской школой являются рабфаки — вечерние, — но совмещение работы на фабрике с интенсивной учебой так истощает силы учащихся, что лишь меньшинство их (иногда не более 20%) добирается до окончания курса, нередко с окончательно расстроенным здоровьем. Благодаря этому отсеву мы имеем тут другой парадокс: школа, не обеспечивающая всех своих питомцев стипендией, как это делает дневной рабфак, обходится, считая расход на каждого окончившего, дороже школы со стипендиями. Главным каналом, по которому пролетариат идет в вузы, остается благодаря этому дневной рабфак. В 1927/28 г. он дал 4900 окончивших, вечерний—700; в 1928/29 г. первых предполагается 5700, вторых — 900 (складывая более точные данные по отдельным рабфакам, получаем несколько меньшие цифры).
15. Каким бы необходимым звеном в системе нашего образования ни являлись рабфаки, как бы ни было колоссально их политическое значение, все же и они наравне с целым рядом других явлений (к которым нужно отнести и такое сугубо ненормальное явление, как подготовительные курсы) свидетельствуют о несомненном прорыве, существующем между нашей единой школой, с одной стороны, и нашим специальным образованием — с другой. При нормальной системе ступеньки образования, от дошкольных учреждений до аспирантуры, представляют одно целое; не все проходят всю лестницу, но всякий может перейти с одной ступеньки на другую безо всяких прыжков и обходов стороной. У нас имеются, несомненно, ступени, обрушившиеся или недостроенные, которые приходится перепрыгивать или обходить. Главными причинами здесь является, во-первых, то обстоятельство, что наша
Система народного образования РСФСР
541
высшая школа в силу требований индустриализации быстро технизируется как школа специальная, но предполагающая в качестве своей необходимой базы школу политехническую; на деле же у нас базой для школы технической является школа словесная, не имеющая к технологии никакого отношения. Студент идет в мастерскую вуза или, еще лучше, прямо на завод, никогда не держав в руках самых распространенных инструментов, не имея понятия о простейших производственных процессах. Это помимо всего прочего страшно удорожает высшее образование, заставляя студента удлинять нормальный четырех- или пятилетний курс до шести и семи лет. Во-вторых, мелкобуржуазный состав нашей общеобразовательной школы рядом с необходимостью иметь свой, кровно связанный с делом пролетариата, командный состав промышленности постоянно вынуждает к разного рода суррогатным мерам, имеющим целью повысить процент рабочих среди студенчества, в особенности втузов. Наконец, слабая техническая подготовка студенчества несомненно облегчает консервирование в высшей школе устарелых, близких к старой словесной школе методов преподавания. В этой плоскости скорейшая реализация хотя бы элементарных форм политехнизма является необходимой предпосылкой перелома в методах преподавания высшей школы, победы над той профессорской рутиной, которая тянет эту школу книзу, опираясь на низкую квалификацию студенчества.
16. Задачи развития государственной пропаганды коммунизма среди взрослого населения, как и распространения коммунистического воздействия на подрастающие поколения вне школы, требуют усиленного развертывания сети политико-просветительной и внешкольной. Изба-читальня, библиотека, клуб, самообразование и т. п. — для взрослых, детские площадки и клубы, технические станции, разнообразные кружки и т. п. — для молодежи как виды внешкольной работы должны служить дополнением к системе школьного образования детей и по линии политпросветработы среди взрослых.
Эта система школьного образования для взрослых должна быть такова: 1) ликпункт; 2) школа для малограмотных; 3) школа I ступени с двухлетним курсом обучения, соответствующая в основном общеобразовательной программе четырехлетки соцвоса; 4) школа повышенного типа с трехлетним курсом обучения, соответствующая в основном программе семилетки соцвоса; 5) рабочие и крестьянские университеты,
542 IV. Народное просвещение и высшая школа
строящиеся как на базе школ I ступени, так и на базе школ повышенного типа.
По линии советско-партийного просвещения эта школьная система должна иметь следующее выражение: 1) школа политграмоты с двухлетним курсом обучения; 2) совпартшкола
I ступени с двухлетним курсом обучения; 3) совпартшкола
II ступени с двухлетним курсом обучения и 4) комвузы.
17. Перед системой РСФСР стоят теперь, таким образом, следующие задачи: 1) в тесной связи с задачами социалистической реконструкции нашего хозяйства осуществить принцип политехнизма в полной мере, начав это осуществление с фабрично-заводской семилетки и школы крестьянской молодежи, которые и по составу учащихся, и по особенностям окружающей их производственной обстановки легче могут быть приближены к марксистскому типу воспитания и обучения, нежели какие бы то ни было другие виды школы; 2) создать для политехнической школы базу в виде сети дошкольных учреждений; временным суррогатом в данном случае может служить «ноль-группа», прежде всего и наиболее настоятельным образом необходимая при ФЗС; 3) вне фабрично-заводских районов — где основным типом минимальной общеобразовательной школы должна стать семилетка — держать курс на постепенное развертывание четырехлетки в п я т и л е т н ю ю школу, дающую возможность законченной идеологической подготовки той массе, которая неизбежно еще долгое время должна будет ограничиваться школой I ступени; 4) для развернутой до конца общеобразовательной политехнической школы (I и II ступеней вместе) перейти возможно скорее к десятилетнему курсу вместо теперешней девятилетки путем надстройки новой, добавочной группы над 9-й (способ, наиболее дешевый и дающий наиболее быстрое улучшение квалификации той молодежи, которая идет в вузы); причем до осуществления в окончательно развернутом виде политехнической системы три старшие группы девятилетки должны сохранить профессиональный уклон, приданный теперь 8-й и 9-й группам; 5) немедленно приступить к реформе нашего педагогического образования, поставив себе задачей в ближайшие же годы добиться, чтобы наши педтехникумы выпускали учителя-политехниста; 6) в области профтехническо- го массового образования начальное звено профобразования в форме ФЗУ и профшкол отдельных типов должно строиться над семилеткой, причем нормальным типом массовой профессиональной школы должна считаться школа фабрично-завод¬
Система народного образования РСФСР
543
ского ученичества, наиболее приблизившаяся на практике к принципам Марксовой школы и могущая обеспечить народное хозяйство рабочей силой, отвечающей всем требованиям социалистической промышленности.
В соответствии с изменением в профессиональном составе рабочих, вызываемым рационализацией производства, необходимо создание трех основных типов школ ФЗУ:
первый тип — двухгодичный, готовящий рабочих массовых квалификаций, выполняющих узкопроизводственные операции;
второй тип — двух-трехгодичный, готовящий рабочих универсального типа (токари, слесари);
третий тип — трех-четырехгодичный, готовящий высококвалифицированных рабочих (установщики, ремонтировщики, контролеры, браковщики, подмастерья).
Для обслуживания крупного сельского хозяйства, нуждающегося в квалифицированных рабочих по отдельным отраслям и специальностям, при крупных колхозах и совхозах необходимо создать школы сельхозуча, соответствующие по принципам своего строительства школе ФЗУ.
Техникумы должны быть профессиональными учебными заведениями среднего типа и иметь своей задачей подготовку среднетехнической силы.
Ввиду большой потребности народного хозяйства в средней технической силе необходимо форсированное развитие сети техникумов, причем в техникумы могут быть реорганизуемы и отдельные хорошо оборудованные профконцентры и профшколы. Базируясь в основном на семилетке, техникумы, однако, в зависимости от сложности специальностей могут иметь различные сроки обучения и различную общеобразовательную базу.
«Народное просвещение». Вопросы политики и организации народного просвещения, 1929,
Н 3 - 4, стр. 178—183 з
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ (К 60-летию со дня рождения)
Благодаря бесконечной скромности Надежды Константиновны Крупской о ней в просвещенской массе нет, боюсь я, правильного представления. Все, конечно, ее знают, все ее любят как чрезвычайно доброго, милого, простого и отзывчивого человека. Все эти качества, без сомнения, у Надежды Константиновны имеются. Но вовсе не одни эти качества обеспечивают за ней одно из самых выдающихся мест как в истории нашей партии, так и в истории педагогической мысли всего мира. Мне бы и хотелось в самой сжатой форме напомнить о тех именно сторонах личности Надежды Константиновны, о которых как-то мало вспоминают.
Всем известно, что Ленин строил нашу партию, но не всем известно, что строил он нашу партию в тесном сотрудничестве с Надеждой Константиновной, которая была его ближайшей сотрудницей и без которой строительная работа Ленина была бы до крайности затруднена, если не вовсе невозможна. Ядром, около которого партия начала складываться, была, как опять- таки всем известно, газета «Искра». Не всем известно, что Надежда Константиновна была секретарем редакции этой «Искры», что вся переписка этой газеты, издававшейся за грани-» цей, с Россией шла через руки Надежды Константиновны, которая была в этом деле не секретарем Владимира Ильича, а его форменным «замом». Она делала то самое, что делают теперь настоящие, хорошие «замы», — разгружала Ленина от всей текущей работы, сберегая его время для таких крупных вещей, как «Что делать?». Без Надежды Константиновны либо этих вещей, руководящих вещей Ленина, не было бы написано, либо организационная работа газеты (колоссальная работа, если вспомнить, что газета могла получать свои материалы из России и находить своих читателей в России, только пользуясь самыми конспиративными путями и каналами) совершенно развалилась бы. Без «Искры» не было бы большевистской пар¬
Надежда Константиновна Крупская
545
тии, а без Надежды Константиновны не было бы «Искры» — это прежде всего необходимо напомнить.
Когда большевики сложились уже в партию, после 1903 года, Надежда Константиновна стала генеральным секретарем и этой партии. Пишущий эти строки именно в качестве секретаря нашего тогдашнего ЦК с нею и встретился. От Надежды Константиновны я, вчерашний «легальный марксист», получал первые уроки конспирации, шифровки и всякой другой революционной техники. Думал ли я тогда, да могло ли и ей тогда прийти в голову, что через 20 лет мы будем сидеть в Государственном ученом совете и заниматься тоже педагогическими вопросами, но несколько иного порядка?
Но если Надежда Константиновна является одной из основательниц нашей партии, одной из теснейшего кружка, помогавшего Ленину в этом гигантском деле, то по отношению к марксистской педагогике она является единственным основателем. Тут уже мы ей помогали, и нужно сознаться, что помогали очень плохо. Прежде всего, не все знают и ценят как следует, что Надежда Константиновна была педагогом-теоретиком задолго до революции, что в ее лице мы имеем первого педагогического «спеца» нашей партии. Та деятельность, которую она развернула в Наркомпросе, была бы совершенно немыслима и непонятна, если бы она была в революционном порядке мобилизована на педагогическую работу подобно многим из нас после Октября. На самом деле, то, что очень многим обывателям казалось «революционным увлечением», было лишь попытками воплотить в жизнь старые, давно сложившиеся и глубоко продуманные идеи Надежды Константиновны, которые она высказывала по частям иногда в изданиях еще 1910—-1911 годов. Уже в эти и последующие годы писала она о таких вещах, как школьное самоуправление, совместное обучение, трудовая школа, отношение школы к семье и т. д. Ее борьба с наказаниями, например, началась еще в 1909 году на страницах «Свободного воспитания»; она писала: «Вряд ли в ком-либо из задумывавшихся над делом воспитания существует какое-либо сомнение относительно того, что царящая в современной школе система отметок, наград, наказаний направлена на развитие самого неприглядного эгоизма, на подавление в детях чувства солидарности, взаимной симпатии, на подавление чувства самой элементарной справедливости» *. И находятся люди, которым в 1928 году эти элементарные вещи кажутся ужасно опасным новшеством. Где-где, а в области педагогики наша просвещенская масса двигается, увы, не на аэроплане,
18 М. Н. Покровский, кн. 4
546 IV. Народное просвещение и высшая школа
Когда власть царей, помещиков и купцов была в России свергнута, Надежда Константиновна получила возможность не только высказывать свои заветные мысли, не применяясь к цензурным условиям, но и осуществлять их на практике. Вместе с теми массами, которые сделали революцию, Надежда Константиновна ставила то, что теперь называют культурной революцией, на самое первое место. «Массы понимают, — писала она в 1918 году2,— что мало отнять у буржуазии ее материальные богатства, нужно отнять у нее то, что составляло до сих пор ее главную силу, — монополию знания. Народ сознает, что только тогда освободится от власти буржуазии, когда станет столько же знающим, как она»3. Бесчисленные вереницы делегаций со всех концов тогдашней РСФСР приходили в Наркомпрос, требуя школ, школ и школ — всяких школ, начиная от деревенской I ступени и кончая университетом. Что революция и культурный подъем суть два тесно связанных между собой и обусловливающих друг друга явления — это отлично понимали даже и по ту сторону баррикады. Недаром отступающие колчаковские войска с такой старательностью уничтожали даже школьные парты, учебники и тетрадки, которые попадались им в руки.
Глубоко трагично, что отсутствие сколько-нибудь соответствующего по размерам гигантской задаче руководящего коллектива не дало тогда использовать этой колоссальной тяги масс к просвещению немедленно. Учительская масса бастовала: активно — в средней школе, пассивно — в низшей. Здесь, в низшей школе, саботаж до чрезвычайности облегчался, а иногда и находил свое моральное оправдание в голой и беспросветной нищете, не позволявшей и думать не только о новых, но вообще о каких бы то ни было методах преподавания. А в качестве среднего командного состава мы имели, по большей части, импровизаторов, которые сами неясно себе представляли, что именно можно и нужно делать в исключительно трудной обстановке тогдашнего момента.
Идея Надежды Константиновны опереть просвещение прямо на массы не осуществилась сразу по вполне понятным в такой обстановке причинам. Вот какой был ее план. Она писала (статья «Контроль сверху и контроль снизу в деле народного образования»): «По мнению Комиссариата просвещения, надо организовать население в особые советы народного образования. Эти советы народного образования составляются из делегатов от всех тех организаций, которые посылают своих представителей в местный Совет. В количестве одной трети к ним
Надежда Константиновна Крупская
547
добавляются представители от учащих и учащихся. Составленный таким образом совет народного образования собирается приблизительно раз в месяц, но не реже раза в три месяца. Перед этим советом отчитывается народный комиссар, на этом совете обсуждаются всесторонне все вопросы, касающиеся воспитания и образования. Так как собрание делегатское, то каждый делегат обязан делать доклады в своей организации о происходящем в советах народного образования» 4.
Только теперь наступил наконец момент, когда эта идея Надежды Константиновны начинает облекаться в плоть и кровь, начинает облекаться под непосредственным давлением самих масс, потребности которых Надежда Константиновна отчетливо представляла себе еще 10 лет назад, но сами-то массы этого еще себе не представляли.
То же самое было и с трудовой школой, вызвавшей такую бешеную ярость против себя со стороны наших «прогрессивных» педагогов. Ненависть как-будто странная на первый взгляд, поскольку ведь трудовая школа не есть создание Октябрьской революции — идея трудовой школы принадлежит буржуазным педагогам, и Надежда Константиновна писала об этих новых течениях в буржуазной педагогике еще в 1912 году (статья в «Свободном воспитании»: «Вопрос о трудовой школе на Берлинском конгрессе учителей») 5. Идеи эти начали проникать и в Россию еще до революции, и несколько трудовых школ у нас существовало уже в 1917 году. Но достаточно было, чтобы эту идею сделали своей ненавистные большевики, чтобы всякое дальнейшее развитие в этом направлении прекратилось и чтобы все «приличные» педагоги от трудовых процессов повернули к изучению Достоевского. Со своей точки зрения, впрочем, «приличные» педагоги были кое в чем правы. Трудовая школа Н. К. Крупской, само собой разумеется, вовсе не была ни повторением, ни даже приспособлением к советским условиям школы Кершенштейнера. Последний, ставя у себя трудовые процессы, был в тысяче верстах от марксистской педагогики. Для него важен был труд как таковой, и только. От этого мелкобуржуазного понимания труда Надежда Константиновна отмахнулась самым решительным образом в первом же номере нашего журнала «Народное просвещение»: «Теперь много говорят о трудовом методе, но в социалистической школе должен применяться не только трудовой метод, но должен быть организован производительный труд детей. Социалисты против эксплуатации детского труда, но они, конечно, за детский посильный, всесторонний, развивающий труд. Производительный
18*
548 IV. Народное просвещение и высшая школа
труд не только готовит из ребенка в будущем полезного члена общества, он делает его полезным членом общества в настоящем, и сознание этого факта ребенком имеет громадное воспитывающее значение» 6.
В 1918 году в сущности Надежда Константиновна писала о том, что теперь называют «общественно полезной» работой школы. Мне кажется, что те товарищи, которые тогда видели в трудовых процессах главным образом средство изгнать из школы книжку, весьма плохо понимали и проводили в своей практике мысль Надежды Константиновны. Они подходили к делу, эти товарищи, с цеховой точки зрения педагога, в самом узком понимании методики, приемов обучения. А между тем идея Надежды Константиновны была широкой общественной идеей, техника проведения этой идеи являлась уже подсобным делом. К сожалению, приходится повторить еще раз: наш средний командный состав того времени не только не выказал творческих способностей, но не выказал даже способности просто-напросто понять настоящую марксистскую педагогику, о которой говорила Надежда Константиновна.
Глубокой, общественностью проникнуты все немногочисленные и скупые на слова, но в своей сжатости, иногда до лаконизма, истинно классические произведения нашей педагогики, какими являются статьи Крупской. Я не могу отказать себе в удовольствии привести немножко длинный, но изумительный по своей силе и яркости отрывок из статьи «Задачи профессионального образования», напечатанной в «Известиях ВЦИК» в 1918 году: «Профессиональное образование, даваемое рабочим буржуазией, носило на себе особый отпечаток. Для заводчика рабочий, даже квалифицированный, продолжал оставаться «рабочими руками». Предпринимателю нужны были умелые руки, но именно «руки». Он заботился именно о подготовке этих рук, заботился потому, что этого требовало развитие промышленности, но нисколько не заботился о развитии понимания рабочими нужд своей отрасли промышленности, о приобретении умения управлять своим производством. Об управлении производством заботились господа фабриканты, а делом рабочих было заботиться о том, чтобы делаемая ими для завода работа была хорошо выполнена. — В настоящее время профессиональное образование должно приобрести иной характер. Изменившиеся условия делают рабочего одновременно и рабочим и хозяином в крупном производстве. И потому профессиональное образование должно учить рабочего и тому, как работать, и тому, как налаживать производство, как контролировать его, как
Надежда Константиновна Крупская
549
вести учет. В данную минуту рабочему нужно не узкое профессиональное образование, а профессиональное образование, поставленное самым широким образом. Рабочему нужно уметь не только точить на токарном станке, но и знать, как этот токарный станок устроен, знать, какие другие роды токарных станков существуют, какие для каждой работы нужны, нужно знать, где, за какую цену можно достать эти лучшие станки, стоит ли их, выгодно ли будет ввести, какие пошлины придется платить; нужно уметь все рассчитать, все прикинуть. Для этого ему нужно знать и черчение, нужно уметь делать всякие вычисления, знать механику и ее историю, знать коммерческую географию. Нужно знать ему и свойство обрабатываемого железа, где оно и как добывается, при каких уело- виях, где и как его доставать и т. п. Нужно знать ему, каковы потребности в железе в своей и чужих странах, на что наибольший спрос, нужно знать, куда и как сбывать выработанные продукты, как рассчитать их стоимость и пр. и пр. А с этим всем тесно связано и понимание тех условий, при которых рабочий может быть в то же время и хозяином, нужно понимать сущность капиталистического строя и сущность строя социалистического. Да и многое другое должен еще знать рабочий, если он хочет сделаться хозяином производства» 7.
Я не знаю, переведена ли эта статья Надежды Константиновны на иностранные языки и вообще как организована пропаганда ее идей за границей. Я очень боюсь, что никак не организована, и первое, за что мы должны приняться, — это издание основных произведений Надежды Константиновны на всех крупнейших мировых языках. Ибо ни у одной из коммунистических партий, входящих в наш Интернационал, ничего похожего на Н. К. Крупскую нет и нельзя ожидать, чтобы такие Крупские внезапно у них явились. А между тем речь идет о вопросе, который встанет во всей своей громадности на другой же день в любой стране, которой удастся провести до конца пролетарскую революцию, как это сделали мы в 1917 году. Будет очень нехорошо и очень стыдно для нас, если всем таким странам придется заниматься импровизаторством. Если бы предварительная пропаганда марксистской педагогики была возможна у нас до 1917 года, идеям Надежды Константиновны не пришлось бы дожидаться своей реализации 10 лет.
А в заключение не могу не охарактеризовать одной черты Надежды Константиновны, черты на этот раз всем известной, •— уж очень соблазнительно охарактеризовать эту черту ее собственными словами.
550 /У. Народное просвещение и высшая школа
Читатель, наверное, пришел уже в великое изумление. Как? Скромнейшая Надежда Константиновна говорит сама о себе? Нет, она говорит о Плеханове, но говорит такие вещи, которые характеризуют в высшей степени удачно ее самое. Вот что она говорит в своих воспоминаниях: «Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражал блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, — он так и не смог поговорить» 8.
Так вот, от Надежды Константиновны никто и никогда не уходил в таком настроении, в каком уходили рабочие от Плеханова. Плеханов оторвался от масс совсем и окончательно, массы его не понимали, а он их понимал еще меньше. Надежда Константиновна—первый педагог в мире, который ясно осознал, что воспитание дается не только массам, но и создается самими массами и что только это воспитание, массовое, как сама революция, может действительно создать новых людей. Никакими индивидуалистическими приемами этого не добьешься. И вот почему массы тянутся к Надежде Константиновне, вот почему к ней ходит бесконечное количество людей, загружая и утомляя ее выше всякой меры. Как облегчить Надежду Константиновну от этой нагрузки, являющейся прямым результатом ее капитального достоинства, это большая задача. Надежда Константиновна нужна не только нам, в РСФСР, она нужна пролетарским массам всего мира. Теоретически можно себе представить время, когда к Надежде Константиновне будут ходить не одни русские, а и польские, германские, английские и т. д. рабочие. Иностранные делегации и теперь уже частенько бывают в ее кабинете. Ничего не поделаешь. Это логически вытекает из ее положения единственного марксистского педагога на весь Коминтерн. Пожелаем же ей сил и бодрости, чтобы нести этот тяжелый груз, и пожелаем, чтобы около нее поскорее начала складываться школа, которая помогла бы ей вести эту гигантскую работу.
«Народное просвещение». Вопросы политики и организации народного просвещения, 1929, Ne 2, бт". 5—10»
АРХИВНОЕ
ДЕЛО
ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б) 23 СЕНТЯБРЯ 1920 ГОДА О НЕОБХОДИМОСТИ СБОРА ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
...Тов. Покровский указывает на то, что мы не можем допустить, чтобы наши потомки, наши дети изучали историю нашей великой эпохи, нашей революции по буржуазным книгам. Буржуазные историки уже не раз затемняли смысл и ход событий прошлого, и уже теперь появилась «историческая» книга Милюкова о русской революции и целый ряд мемуаров оставшихся не у дел белогвардейских полковников и генералов. Нам необходимо создать свою, коммунистическую историю нашей революции в действительно научном духе. Это налагает обязанность на всякого члена партии собирать все ценные документы, относящиеся к революции и к нашей борьбе, необходимость следить за архивами и т. д.
«Известия» от 24 сентября 1920 г.
ОТ ИСТПАРТА1
До 1905 года в России были почти невозможны какие бы то ни было публикации по истории революции. Отрывки из воспоминаний и переписки в «Русской старине» и «Русском архиве» 2 да перепечатки документов, в свое время оглашенных во всеобщее сведение, — вот все, чем должен питаться историк русского революционного движения до первых лет XX столетия. Надо прибавить, что все это относилось к революционным движениям более или менее далекого прошлого — не ближе петрашевцев и польского восстания 1863 года. Все более свежее было прямо под запретом; даже невиннейшая книжка Туна3 передавалась друг другу из-под полы как нечто запрещенное. Обвинительные акты печатались в газетах, извещения об исполнении приговоров тоже, — на что еще «верноподданные» могли претендовать?
Кто в это время хотел заниматься историей революции в России, должен был обращаться к заграничным изданиям. Начиная с Герцена и «Полярной звезды», русская эмиграция сделала в этой области довольно много. Но вполне естественно, что ее публикации были совершенно бессистемны и крайне несовершенны технически. Печатали все «интересное», не спрашивая, откуда это взялось; да и как было проверить происхождение рукописи, привезенной в кармане случайным путешественником? С научной точки зрения изданные за границей тексты не имеют никакого значения; вся их роль сводилась к воспитательному влиянию на русскую интеллигенцию прошлого века. Это влияние было, конечно, огромно; но, когда будущие историки революции будут иметь досуг заняться такими отдаленными временами, как XVIII и три первых четверти XIX века, им придется по подлинникам сверять и переиздавать все изданное когда-то в Женеве и Лондоне.
1905 год снял запрет с истории русской революции в России. Не только источники для истории декабристов, но и источники по истории народовольцев могли опубликовываться «по
От Истпарта
555
сю сторону Вержболова», как говорили тогда *. Но во-первых, короток был миг, когда эти публикации ничем не были связаны. Очень скоро «власть» явилась на свое место, и публикуемые революционные тексты стали в изобилии украшаться многоточиями. Что из этого получалось, показывает судьба той маленькой вещи, за которую Писарев четыре года провел в стенах Петропавловской крепости. Писаревская статья появилась в таком виде, что и после ее опубликования кадетские историки могли изображать ее автора умереннейшим из граждан и не быть немедленно же уличенными во лжи4. Все тексты, напечатанные в «Былом» и «Минувших годах», почти так же мало научны, как и тексты, напечатанные полувеком раньше в «Полярной звезде» 5, хотя и по другим причинам, и их также придется переиздавать, когда до этой эпохи доберутся «типографские возможности».
Но и сам выбор этих текстов, опубликованных уже при наличии «свободы печати», был немногим менее случаен, чем выбор предшествовавших им зарубежных публикаций. Государственные архивы официально продолжали оставаться запертыми. Из них теперь можно было, попросту говоря, кое-что выкрасть; но хватать приходилось опять-таки, что попадалось под руку. Благодаря этому в целом виде подлинные показания декабристов увидят свет только теперь. Только теперь мы имеем в подлиннике и полностью «Исповедь» Бакунина, «дело Чернышевского» и т. д. и т. д. И все это еще стоит в хвосте у лечат-, ного станка. До сих пор напечатаны лишь фрагменты (отрывки), бессистемные и неполные, попавшие в печать в зависимости от доброй воли тех отдельных лиц, через которых они были получены, от ловкости и умения тех «изыскателей» (их нельзя даже назвать исследователями), которые смогли до них добраться.
Наиболее ценным из добытого таким путем были мемуары (записки). Их опубликовано с 1905 года довольно много, благодаря им мы можем представить себе историю революционного движения 70-х, например, годов куда живее и нагляднее, чем по суховатой книжке Туна. Но очень неосторожен был бы тот, кто на основании одних мемуаров вздумал бы писать историю. Мемуары пишутся обыкновенно много лет спустя после тех событий, которые в них описаны, часто пишутся по
♦ Для незнающих этой древней истории сообщаем, что так называлась пограничная станция на тогдашней русско-германской границе, через которую чаще всего выезжали в Западную Европу.
556
V. Архивное дело
воспоминаниям, когда нет под руками современных записей или документов. Всякий автор мемуаров может применять к себе слова пушкинского летописца: «Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно». При этом погибает невозвратно вовсе не то, что маловажно, не имеет значения, а то, что по случайным причинам осталось вне поля зрения автора мемуаров. Благодаря этой ограниченности поля зрения второстепенную цену имеют даже дневники, т. е. записи современных событий (хотя они куда важнее и надежнее воспоминаний). Вы берете, например, дневники Константина Николаевича Романова, брата Александра И, или дневник сына этого последнего, будущего Александра III, от конца 70-х годов и думаете найти там бог знает какие откровения: шутка ли — писали ведь вторые люди после царя! И видите, к удивлению, что Константин ничего путем не знал, кроме дел морского ведомства, во главе которого он стоял, а Александр Александрович вообще ни о чем не умеет рассказать, кроме попоек и кутежей с цыганами да семейных скандалов романовского дома; и о многом, что мы теперь отлично знаем из документов, мы не имели бы понятия, если бы у нас были в руках только дневники этих высокопоставленных людей.
Но условиями добывания материалов определялось не только научное качество этих материалов — полнота, разносторонность и т. д., а и их подбор. «Доброхотные датели», из рук которых поступали эти документы в исторические журналы, были, разумеется, почти исключительно из буржуазии: она всего чаще имела соприкосновение с «высшими сферами» и знакомства с влиятельными людьми; из ее же рядов чаще всего выходили и авторы революционных мемуаров. Но у буржуазии были свои интересы и свой угол зрения на революцию. Она жадно хватала, описывала и передавала, во-первых, все сплетни о власть имеющих, наивно воображая, что это они, Александры, Николаи и их придворные и министры, «делали историю» (в действительности ее делали чаще всего столоначальники да жандармы из охранок). Во-вторых, высшим достижением революции, какое способна была понять буржуазия, был террористический акт*. Сам революционно-импотентный (бессильный),
* Не могу не вспомнить по этому поводу, с каким ликующим лицом встретил меня в 1905 году один очень выдающийся профессор-естественник на другой день после убийства Каляевым Сергея Романова. «Ну, теперь конец, — восклицал он,— теперь их песенка спета!» —«Да что же случилось?» — «Как что? И вы этого не понимаете? Эх, вы, марксисты! Как? Родного брата царя, генерал-губернатора убивают среди
От Истпарта
557
буржуа упивался рассказами о подвигах революционеров-тер- рористов, как скопец упивается рассказами о любовных похождениях, ему самому недоступных. Террорист был революционным кумиром буржуа, о нем он всего охотнее читал и о нем всего охотнее писали те, кому нужен был буржуазный читатель. Почти с таким же удовольствием этот последний читал только еще рассказы о провокаторах, вселявшие в него приятное убеждение, что революционеры морально ничуть не лучше его, буржуа: «Вон какие у них бывают — за деньги всю партию Департаменту полиции продают!» И буржуа, никогда ничего не продававший, кроме собственной своей совести, с гордостью оглядывался на себя...
Подталкиваемые своим читателем, наши исторические журналы 1906—1908 годов быстро скатывались по наклонной плоскости к сборникам «житий» подвижников-террористов, с одной стороны, пикантных рассказов о провокаторах — с другой, довольно точно воспроизводя схему Печерского патерика6, где тоже ведь не одни подвиги чудотворцев, а и проделки бесов описываются. Главный герой русской революции — рабочий класс в этом революционном патерике почти начисто отсутствовал. Если попробовать определить в процентах страниц место, которое ему было отведено, мы не выйдем из цифр первого десятка, да и его грань останется далеко впереди. Насколько буржуазный читатель любил террориста, настолько он не любил революционного рабочего. Конечно, опекать сверху «трудящиеся массы» не отказывалась ни одна из радикально-буржуазных программ; но чтобы дать этим массам самим действовать— боже сохрани! Они же «необразованные», куда им! А когда эти массы непрошеные явились на сцену в октябре — декабре 1905 года, всем известно, какие это настроения вызвало у буржуазии. Тем более что «стихия безумия» или «безумие стихий» сразу же показало себя с самой невыгодной стороны, лишив буржуазию белой булки *.
Двенадцать лет спустя рабочий класс стал на место Романовых. Не меньше полустолетия боролся он за свою свободу;
бела дня у порога его собственного дворца, — и вы говорите, что это ничего! Да у нас завтра же будет революция». Мой естественник был очень огорчен, когда и «завтра» и послезавтра ничего не произошло...
* В московских районах, где власть попала в руки пролетариата в декабре 1905 года, запрещено было печь белый хлеб. В pendant естественнику, о котором говорилось выше, не могу не вспомнить негодования одного профессора-историка по этому поводу. В лишении его белого хлеба он усматривал прямое посягательство на культуру.
558
V. Архивное дело
но что он сам знает об этом? Великолепно зная переживания каждого отдельного «бунтаря» 70-х годов, что знаем мы о стачечном движении тех дней? Кроме кое-каких отзвуков в тогдашней революционной печати — ничего. А вполне возможно, что само-то революционное движение тех дней было в значительной своей части отзвуком рабочего. Слишком уж близко оказываются к рабочим массам и чайковцы, и землевольцы; и брать их объяснение, что это они сверху воздействовали на рабочих, а не рабочие на них, для нас вовсе не обязательно. Обоюдное по крайней мере влияние гораздо вероятнее.
В то же самое время те источники добывания сведений, на которые были осуждены «изыскатели» революционных данных десять лет назад, теперь далеко ушли в прошлое. Государственные архивы — наши архивы; пролетариат и Коммунистическая партия в них такой же хозяин, как на фабрике или на железной дороге. К «доброхотным дателям» из буржуазии нам обращаться не приходится. И остается только удивляться, что до сих пор, за три года, не образовалось исторического журнала, посвященного специально рабочей революции в России (в то время как эсеровское «Былое» продолжает выходить). Слишком пора этот пробел заполнить!
«Пролетарская революция»7 и ставит своей задачей опубликование материалов в первую голову по тому отделу истории русской революции, который до сих пор оставался более всех в тени: по истории пролетарского революционного движения в России. Сюда войдут прежде всего документы по истории РКП и ее предшественницы — большевистской фракции РСДРП, но также, разумеется, и документы других партий, поскольку в них отразилось рабочее движение, и документы рабочего движения, беспартийного, организованного (история профсоюзов) и неорганизованного («стихийные» забастовки, отдельные случаи фабричных «волнений» и т. д.). Все эти виды и формы рабочего движения временами — так было в 1905 и в 1917 годах — сливались в один колоссальный взрыв рабочей революции: все без исключения документы, относящиеся к таким взрывам, от шпионских донесений и частных писем до депеш иностранных послов, являются ценнейшим материалом для истории пролетарской борьбы. Нет возможности, разумеется, напечатать их все целиком; мы будем печатать лишь наиболее крупное, яркое и характерное, помещая одновременно сводки, небольшие монографии, основанные на более полном изучении материала.
От Истпарта
559
Начиная с 1917 года эти материалы, не прямо рабочие, но являющиеся тем не менее одним из первоисточников для истории рабочего движения, умножаются до чрезвычайности.
Все белогвардейские архивы имеют сюда прямое и непосредственное отношение; все более любопытное из этих архивов имеет такое же право быть опубликованным на этих страницах, как и документы из архива московской или парижской охранки. Чем документ, освещающий политику Антанты относительно пролетарской диктатуры в России, хуже в этом отношении документа, изображающего политику царского правительства относительно пролетарской партии в России десяток лет назад?
Большая часть наших материалов будет взята непосредственно из документальных собраний, составляющих различные части Государственного архива РСФСР. В основном, таким образом, нам не придется зависеть от «частной благотворительности» подобно историческим журналам, созданным революцией 1905 года. Но это не значит, чтобы мы смотрели на наш журнал как на чисто казенное издание, нечто вроде классических «описаний документов и бумаг, хранящихся» в таком-то архиве. Отличительной чертой этих «описаний» является то, что, кроме самых узких специалистов, в них никто не заглядывает. Мы отнюдь не стремимся к такой судьбе. Мы пишем о вечно живом и вечно юном пролетариате, а не о мертвых приказах и канцеляриях, и мы зовем к себе всех живых, интересующихся историей пролетарской революции. Мы ждем прежде всего от товарищей, работавших в провинции, ценных пополнений нашего запаса, почерпнутого из центральных архивов и не всегда дающего возможность проследить развитие движения на местах. Далее, в истории конспиративного, подпольного периода нашей партии многое не нашло и не могло найти себе отражения в документах. Тут в особенности ценными являются всякого рода воспоминания, дающие тот психологический фон и ту связь, без которой имеющиеся в наших руках отдельные документы могут оказаться непонятыми или понятыми неправильно. Непосредственные свидетели возникновения документа могут лучше истолковать его букву, нежели люди, подходящие к документу через ряд лет с настроениями и представлениями, которых не было ни у кого в ту минуту, когда документ возник. Выше мы говорили, что по одним воспоминаниям нельзя писать истории; теперь нужно это дополнить, сказав, что и без воспоминаний живых свидетелей происходившего писать историю крайне трудно. Такая история
560
V. Архивное дело
прежде всего рискует быть не очень субъективной, ибо ее автор, вынужденный связывать разрозненные документальные факты собственными домыслами и предположениями, неизбежно дает нечто вроде мемуаров неочевидца, т. е. мемуаров во всяком случае еще худшего сорта, чем обычные. Чем писать такую историю, лучше просто напечатать документы в виде сырого материала.
А наша цель именно в том и состоит, чтобы помочь писанию истории пролетарской революции в' России. Документального сырья никто читать не станет, кроме самих историков; а нам нужны книжки, которые бы читались и рабочим, и студентом. Создание такой книжки путем непосредственного изучения всей массы документов — дело явно невозможное. Так пишутся только монографии (описания отдельных событий или процессов). Общую книжку, даже «ученую», университетский курс например, можно писать только по подобранному, напечатанному материалу. Как ни плохо «Былое», но без «Былого» написать историю народнической революции 70—80-х годов было бы нельзя. Наш журнал должен стать, таким образом, необходимой базой для будущих историков пролетарской революции, — это его первое и главное назначение. Но далеко не единственное: не стоило бы издавать журнала в несколько тысяч экземпляров для этой цели. В наших школах — прежде всего партийных — читаются десятки, если не сотни курсов по истории революции; в наших университетах будут же когда- нибудь вестись семинарии по этой давно существующей на бумаге, но, кажется, нигде пока не осуществившейся на деле кафедре. Для наших партийных лекторов, для студентов этих будущих семинарий абсолютно необходимы источники. Без справок с подлинными текстами важнейших документов не обойдется ни один лектор; те же небольшие монографии, которыми мы надеемся сопровождать публикацию документов, дадут этому лектору путеводную нить; а руководитель семинария должен будет остановить свою работу, если ему нечего будет дать своим студентам в виде тщательно отобранного, проверенного, но в то же время сырого еще материала. Исторически работать можно научиться только на первоисточниках: человек, который никогда ничего не видал, кроме чужих «изложений», никогда не сделается ученым, навсегда останется дилетантом.
«Пролетарская революция». Исторический журнал Истпарта, 1921, Яв 1, стр. 3—9
АРХИВНОЕ ДЕЛО В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1
I
Товарищи, мы первый раз собираемся после смерти В. И. Ленина, который неоднократно выступал в этом самом зале, зале заседаний В ЦИКа, в самое трудное время, в самый революционный из революционных годов — 1918-й. Я предлагаю начать собрание с того, чтобы почтить память Владимира Ильича вставанием.
Товарищи, больше трех лет, почти четыре года, прошло со времени нашего первого собрания2, прошло недаром. Мы имели за это время великую утрату, о которой я говорил, но, умирая, тов. Ленин мог сказать, что он оставляет наш Союз не таким, каким он был, когда здесь происходили исторические заседания эпохи начала гражданской войны. В 1921 году, выступая перед конференцией с речью, мне все время приходилось говорить в будущем времени. Прошло три с половиной года, и мы теперь можем говорить совершенно другим языком. Тогда мы говорили, что то не совсем хорошо налажено, то не совсем ладно устроено и т. д. Теперь, вы прекрасно знаете, у нас уже многое наладилось и устроилось в достаточной степени. Когда мы собирались в первый раз, посевная площадь составляла 65%, сейчас — 89 % довоенной. Когда мы собирались в первый раз, производительность русской промышленности составляла 20% довоенной, сейчас —50%. Когда мы собирались в первый раз, договор с Латвией и Эстонией считался огромным достижением — мы уже тогда торговали с Англией, но каждая партия национализированных товаров, каждый привезенный нами слиток золота вызывали там скандалы и судебные процессы, — сейчас мы признаны в сущности всей Европой и накануне признания нас Америкой. Мы признаны крупнейшей из внеевропейских держав — Японией. Словом, теперь картина совершенно другая, и, повторяю, прошло уже время говорить в будущем и можно говорить во времени настоящем. Тогда мы говорили, что мы будем строить, теперь мы можем и должны говорить, что мы строим, действительно строим.
562
V. Архивное дело
Это ощущается и в нашем архивном деле, я бы сказал по- старому — в нашем скромном архивном деле. Но как увидите, я буду сейчас не очень скромен в этом отношении. Я считаю, что в наших центрах, в Москве и Ленинграде, дело обстоит почти хорошо. Достаточно указать, например, что в Москве Центрархиву удалось получить целый ряд превосходных зданий, которыми мы в настоящее время и пользуемся. Это нужно ценить, товарищи, когда известно, что в Москве буквально каждый аршин на счету. И когда при таких условиях Центральное архивное ведомство получает три-четыре крупных здания, то это не пустая вещь. Это показатель того, что у нас Советская власть архивам начинает уже отводить место, которого они заслуживают. В провинции дело обстоит хуже. И один из главных смыслов этого съезда я вижу в том, чтоб нам прийти в тесный контакт с провинциальными работниками, выяснить, что у них болит и как можно им помочь, и в то же время ободрить их, так как несомненно, что та волна, которая идет в архивном деле в центре, докатится и уже, вероятно, докатывается и ощущается в значительной степени и на местах. Нам желательно эту волну продвинуть быстрее. Я считаю, что тут нет никакого каприза или блажи, если хотите, со стороны той власти, которая нами руководит, и что тут имеется налицо только здравая и правильная оценка архива и архивного дела в Советской России. Тут приходится очень подчеркнуть, что положение архивного дела у нас и положение архивного дела на Западе, а в особенности в старой России — это две совершенно различные вещи. В Западной Европе до сих пор, а в царской России в усугубленных размерах, архивы были делом прежде всего ученых, а ученый — это, по представлению практических людей, нечто вроде взрослого ребенка, которому иногда нужно заткнуть рот соской, чтоб он не кричал, но которого не следует допускать ни к чему серьезному. Поэтому в Западной Европе до сих пор, а в царской России во много раз больше, ученые подпускались лишь к очень старым бумагам. В России примерно сакраментальный 1812 год, год «отечественной» войны, был до первой революции 1905 года во всяком случае тем переломным пунктом, до которого допускали любого ученого. С 1812 года и примерно до эпохи «освобождения» крестьян пускали с разбором, а после эпохи освобождения крестьян, т. е. к архивам последних 50 лет, не пускали никого. После первой революции 1905—1907 годов положение значительно смягчилось. Тогда появилась возможность публиковать документы, касающиеся декабристов, и т. д. Но во-первых, все это
Архивное дело в рабоче-крестьянском государстве
563
было'довольно мимолетно и непрочно, а во-вторых, все это шло более или менее нелегальными путями. И положение вещей в царской России было только более резким выражением того, что существовало всюду. Еще совсем недавно в Англии были доступны для ученых только архивы, которые не моложе 60 лет, и только недавно открыты архивы до 1878 года. Во Франции, кажется, и до сих пор 50-летний юбилей является своего рода аттестатом ученой зрелости для архива.
То обстоятельство, что архивным деятелям, архивным исследователям приходилось иметь дело исключительно с очень старыми документами, наложило отпечаток решительно на всю жизнь архивов, в частности на подготовку архивных работников. Их прежде всего обучали разным палеографиям и тому подобным вещам, которые нужны для того, чтобы читать старые документы. Собственно, этим состоянием архивов определялось и содержание исторической науки. У нас почти нет крупных работ по XIX веку. Большая часть наших исторических исследователей останавливалась на XVIII столетии, и это совершенно естественно: это был тот архивный рубеж, дальше которого ученых не пускали. Октябрьская революция и в этом отношении была моментом колоссального перелома. Перелом этот сказался на первой же неделе после Октябрьской революции, когда новая власть стала пачками выбрасывать на мировую арену документы вчерашней истории, документы эпохи империалистической войны, которые тогда были даже не вчерашним, а нынешним днем. Это произвело колоссальное впечатление всюду, и это впечатление чувствуется до сих пор. Под давлением наших публикаций — не только, конечно, 17 года, но и более поздних, новейших публикаций — англичане приступают к печатанию своих документов, касающихся мировой войны. Можно заранее догадаться, как эти документы будут подчищены и просеяны, но тем не менее по сравнению с недавней еще английской практикой это прогресс огромный. Что касается других стран, то немцы свои документы до 1914 года уже напечатали. Они почему-то воздерживаются от печатания документов самой войны, но по 1914 год у них опубликовано или намечено к опубликованию почти все. Таким образом, наша Октябрьская революция и в скромном, как говорили в старое время, архивном деле сыграла очень большую роль. И вот этот перелом в архивном деле, который совершился благодаря Октябрьской революции, налагает своеобразный отпечаток на всю работу наших архивных деятелей в настоящее время. Прежде всего это выразилось в том внешнем факте, что
564
V. Архивное дело
не без участия Владимира Ильича Ленина Центральное архивное управление было передвинуто из ученого ведомства Нар- компроса в ведение центрального политического органа республики — ВЦИК. Этим символизируется именно политическое значение архива, то, что это не есть что-то старое, что интересно только взрослым младенцам, которых называют учеными (я думаю, что ученые не обидятся на это замечание; я также имею некоторое отношение к этому цеху и, говоря так, имею в виду и себя). Это не есть что-то такое для утешения старых ученых, это есть живая, актуальная политическая вещь, и нужно сказать, что мы мало пользуемся тем громадным политическим оружием, которое имеется в наших руках.
У нас есть журнал «Красный архив». Все присутствующие в этом зале его хорошо знают, но я думаю, что вне этого зала едва ли найдется столько же человек, которые были бы с ним знакомы. А между тем много публикаций этого журнала немедленно по появлении здесь переводятся на целый ряд европейских языков, издаются отдельными книжками. Многие публикации имеют мировое значение в самом точном смысле этого слова: они становятся известными всему миру, их читают во Франции, Германии и Америке. Но повторяю, мы не в достаточной степени оцениваем, какой громадной силы политическое оружие имеется в наших руках в лице архивов, конечно не тех, которые приходится изучать при помощи палеографии, но архивов империалистической войны, царского времени, XX столетия и архивов самой Октябрьской революции.
Это политическое значение наших архивов дает совершенно иной угол зрения, под которым мы рассматриваем все архивное дело, поскольку это есть дело живое и политическое. Оно у нас должно быть поставлено иначе, нежели оно поставлено повсюду. Но это, конечно, не значит, что мы ничем не воспользуемся из того, что было выработано старыми архивными деятелями, и что сами эти деятели нам не нужны. Мы должны использовать в широчайшей мере весь опыт, всю архивную технику, которая была создана предыдущим периодом. Но повторяю, угол зрения у нас другой. Там очень часто все уходило в эту технику, и она была разработана действительно до мельчайших подробностей, но публиковались документы, которые были важны для ученых и им интересны, а сейчас архив должен непосредственно выполнять известную политическую работу: он своими публикациями тоже делает политику.
Отсюда неизбежна тесная связь нашего архивного управления с политическими органами республики- Отсюда и свое¬
Архивное дело в рабоче-крестьянском государстве
565
образный состав органов, дирижирующих архивным управлением, и т. д.
И вот то, что в настоящее время архивное дело является не мертвым делом, которое интересует только крыс, а делом живым (к сожалению, все еще не совсем достаточно оценивается жизненное политическое значение наших архивов), это определяет всю нашу работу.
Вот почему такие собрания, как настоящее, где встречаются политические руководители архивного дела и специалисты, без которых они не могут работать, где имеется такого рода симбиоз, которого не то что нет сейчас (под влиянием Октябрьской революции он есть везде), но которого не было 10 лет тому назад, — это придает особое значение таким собраниям, как настоящее. Я надеюсь, что наш съезд в этом отношении будет не последним и что он заложит твердую основу для дружной работы специалистов и коммунистов, специалистов и политических руководителей, которые в особенности необходимы для этой новой постановки архивного дела, являющейся в одно и то же время и делом политическим, оставаясь также делом техническим-, и делом научным, ибо я нисколько не думаю отрицать факта, что архивные документы в первую голову нужны и необходимы для исторической науки. Но самое историческую науку мы, марксисты, представляем себе иначе, нежели ее представляли в буржуазном обществе. Как я выразился однажды — я позволю себе повторить это сегодня, — марксисты даже о каменном веке должны писать с точки зрения современности. Присутствующие марксисты не откажутся засвидетельствовать, что исторические работы Энгельса, хотя бы они касались первобытного брака, первобытной семьи, все шли от той современной обстановки, от тех современных задач, которые перед ним стояли.
Вот почему, товарищи, наш съезд имеет в моих глазах такое большое значение, и я надеюсь, что он будет иметь очень большое значение для нашей будущей работы, и в системе нашего советского строительства архивы оправдают то внимание, которое им оказано Советской властью. IIII
Съезд наш заканчивается. Меня просили прежде всего напомнить обстоятельство, которое никому из вас, да и мне самому до последнего времени известно не было: что наш съезд почти совпал с 200-летним юбилеем архивного дела в России.
566
V. Архивное дело
Почти 200 лет тому назад, в августе 1724 года, здесь, в Москве, в Кремле, был открыт первый архив, какой только существовал на территории РСФСР, — архив Иностранной коллегии. Этот маленький юбилей возвращает нас к той центральной мысли, которую я неоднократно высказывал здесь, но которую не могу не повторить в заключение сегодня. Чем был этот архив, который возник в 1724 году? Собранием старых бумаг? Очевидно, нет. В ту эпоху Россия переживала революцию торгового капитала, завязывала сношения со всеми тогдашними цивилизованными, как говорили в старое время, буржуазными, как мы говорим теперь, странами. Приблизительно был момент, напоминающий теперешнее возобновление сношений с разными державами, и архив понадобился кому? Иностранной коллегии в первую голову, конечно, как политическое орудие в работе этого учреждения, которое должно было поддерживать связь внешнюю в порядке международной политики между тогдашней Россией и всем внешним миром. Так что, товарищи, архив оказывается учреждением политическим, с какого конца ни подходить к нему, даже с юбилейного конца, и мы твердо должны это помнить.
Позвольте еще раз повторить, что мы, архивисты, должны откликаться на все политические злобы дня и участвовать во всех тех политических кампаниях, которые предпринимают Советская власть и партия для разрешения насущных вопросов момента, что и архив должен стать лицом к деревне, как вся остальная Советская Россия, прежде всего тщательно храня и обрабатывая документы, касающиеся истории действительного хозяина русской истории на всем протяжении — крестьянства, потому что пролетариат у нас выступил только в конце XIX века. Но этого мало. Я должен указать еще на одну сторону, еще на одну политическую задачу нашего архива. Ведь Октябрьская революция не только окончательно раскрепостила крестьянство, ибо нельзя было объявить крестьян некрепостными, свободными не только на словах иначе как упразднив помещика. Упразднение помещика — это и было настоящим актом освобождения крестьян, освобождения не только всерьез и надолго, но, попросту говоря, навсегда. И как вы знаете, это операция довольно длительная, так как некоторых помещиков приходится выкуривать из их гнезд еще сейчас, на 8-й год существования советских республик. Итак, окончательное разрешение крестьянского вопроса, конечно, было первым делом нашей революции, но она раскрепостила и всех тех «инородцев», как выражались в старое время, которые стонали под
Архивное дело в рабоче-крестьянском государстве
567
гнетом господствующей народности нисколько не меньше, чем крестьянин под гнетом помещика, ибо они всюду наталкивались на всевозможные рогатки. Своим языком «инородец» не мог пользоваться, своих национальных учреждений не имел, его национальной историей никто не занимался, его национальной литературы никто не разрабатывал и не обрабатывал. Словом, он культурно и политически не существовал, а если существовал, как существовал украинец, то контрабандно, под риском ежеминутно быть схваченным и с неизбежной необходимостью иметь свои центры вне пределов тогдашней царской державы. Украинская история в последние годы чрезвычайно энергично разрабатывалась во Львове, а не в Киеве и Харькове, где разрабатывать ее было неизмеримо труднее. Октябрьская революция, товарищи, принесла, таким образом, за собой раскрепощение не только русского крестьянина, но и всех тех нерусских и невеликорусских народностей, которые страдали под игом царизма; и, конечно, воссоздание этих национальностей без их истории, без изучения этой истории невозможно; и наши архивы, в особенности архивы автономных республик, имеют все основания выдвигать этот момент. Посмотрите, как он отразился на истории пугачевщины. Пугачевщина еще недавно изображалась бессмысленным и беспощадным бунтом крепостных крестьян. Но что же оказывается теперь? Оказывается, это было довольно стройное крестьянское движение, которое можно почти назвать крестьянской революцией, и притом не одних русских крестьян, но и движением всех угнетенных народностей. Совершенно естественно, что в связи со 150-летним юбилеем пугачевщины собираются выпускать плакаты и Баш- республика, и Кирреспублика, и, вероятно, Татреспублика. Недаром в числе пугачевских вождей, которые получили от Пугачева благодарственную грамоту, мы видим одного муллу. Мы, конечно, не находимся с клерикальным элементом в таких дру- жеских отношениях, как Пугачев, но вы, мыслящие марксисты, понимаете, что нужно расценивать явления на данном уровне развития. Вот это участие всех угнетенных в пугачевском бунте, и в первую очередь угнетенных национальностей, людей не русского языка — киргизов, калмыков, татар, башкир и т. д., напоминает нам, что на наших архивных учреждениях лежит и еще одна политическая задача — задача участвовать в национальной работе. В этом отношении они, конечно, пойдут рука об руку и мы все пойдем рука об руку — Центрархив РСФСР и архивные органы союзных республик, на которых у себя дома ложится та же задача. Здесь прочная смычка всей
568
F. Архивное дело
Октябрьской революции с этим национальным движением угнетенных народностей. Наконец, вот третья задача, которая стоит перед нами. Сейчас, вы знаете, поставлен лозунг оживления Советской России. Это неизбежно приводит нас и приведет Институт советского строительства к изучению корней того советского строя, который сейчас существует. Одно почтенное учреждение — я не буду его называть — очень горько скорбит в своем годичном отчете, что оно до сих пор не могло издать научно екатерининского положения о губерниях. Я не совсем понимаю, для чего нам нужно екатерининское положение о губерниях, но что нам надо собирать, классифицировать, изучать и издавать документы, которые отметили собой зарождение теперешнего советского строя, что без этого нам нельзя понять многих вопросов, например вопрос об областничестве и областном делении, которым теперь занимаются, — это несомненно. И тут архив должен пойти навстречу при разрешении чисто политического вопроса, который стоит перед нами. Институт советского строительства, только что созданный при Коммунистической академии, не раз будет, конечно, обращаться к услугам .наших архивных учреждений, и, конечно, он эти услуги должен получить.
Перед архивом стоит, таким образом, целый ряд политических задач, и эти политические задачи архивы, конечно, могут выполнить только в тесной связи с Советской властью и Коммунистической партией. Эта связь и осуществляется персонально, можно сказать, настоящим съездом, где присутствуют два элемента: с одной стороны, элемент политический, товарищи коммунисты, заведующие центральными и местными архивными учреждениями, с другой стороны, элемент технический, те специалисты архивного дела (слово «спец» пора бы выбросить из употребления), те настоящие специалисты архивного дела, без которых работа политических учреждений, конечно, невозможна.
Товарищи, я с глубоким удовлетворением констатирую, что из наших архивных учреждений не только в центре — в центре это было давно замечаемо, — но и на местах начинает, употребляя выражение тов. Калинина, сказанное по другому поводу и в другом смысле, «переть коммунистическим духом»; здоровым коммунистическим духом прет, товарищи, из наших местных, архивных учреждений, и это очень хорошо. Действительно, наконец пролетариат и идущая с ним масса трудящихся начинают брать архив в свои руки, как они уже взяли высшую школу и как они, увы, далеко еще не взяли наших научных
Архивное дело в рабоче-крестьянском государстве
569
учреждений. Первое, чего приходилось опасаться по старому шаблону в данном случае, — это то, что теперь, значит, всякой науке и теории пришел карачун. Ничего подобного, как вы видите, на этом съезде не случилось. Сравните прежние конференции архивные и теперешний съезд. На этом съезде меньше мы уделяли внимания теоретическим вопросам? Ничего подобного. У нас стояли такие вопросы, которые своим академизмом способны удивить многих академиков, вроде вопросов об архивной терминологии, о способах издания архивных документов и т. д. Все эти вопросы мы обсуждали и вынесли по ним резолюции, и мнения специалистов, высказанные здесь, были учтены. Наоборот, чем выше будет политическое значение данного учреждения и чем сильнее из него будет «переть коммунистическим духом», тем благодарнее будет положение работающего в нем ученого специалиста, потому что тем больше будет у него возможности работать. Тут перед нами выступали ученые специалисты, работающие в контакте с Институтом Ленина, учреждением, которое, естественно, стоит в центре партийного внимания в настоящий момент; и вы видите, что как раз этот контакт чрезвычайно выгодно отражается на их работе. И конечно, пустыми являются всякие страхи, будто коммунизм может где-нибудь, и в частности в архивах, убить науку. Наоборот. Коммунизм, идущий под знаменем научного социализма, т. е. под знаменем наиболее совершенного, передового обществоведения — а архивы хранят главным образом документы по обществоведению, — этот коммунизм самым плодотворным образом может и должен подействовать на всякую науку, и в особенности на архивную работу, и он уже подействовал. Ведь если бы этого не было, то не могло бы быть настоящего съезда или во всяком случае он имел бы совершенно иной характер в старой России. Кто бы там встретился на таком съезде? Разноголосые представители различных ведомств с их архивными документами, они могли бы разговаривать только по вопросам, имеющим общетеоретическое значение и интерес. Но они не могли бы наметить общую архивную политику по тем простым причинам, что у каждого ведомства, откуда они пришли, была своя линия, и от этой линии каждое ведомство не отказалось бы. Они могли бы потолковать только о тех теоретических вопросах, которые занимали ваше внимание, но которые не исчерпали задач настоящего съезда. Но мы здесь в настоящий момент смогли установить начало архивной политики по всей РСФСР, по всей республике, по всей России, выражаясь по-старому, ибо РСФСР *— это сокращенное
570
У. Архивное дело
название России — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Вот что мы могли сделать. Благодаря чему? Благодаря тому что мы пережили Октябрьскую революцию, которая позволила нам создать единый государственный архивный аппарат, которым мы управляем. И вот в самом своем создании, в самих возможностях своей работы мы являемся настоящими детьми победоносной Пролетарской Революции.
«Архивное дело»>, 1925, вып. HI—IV, стр. 3—10
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРХИВОВ 1
Архивы, как политически очень важное учреждение, находятся во всякой стране в руках командующего класса, который держит их очень прочно, и в результате, конечно, ни один марксист, ни один коммунист к управлению, к заведованию государственными архивами нигде, кроме как в СССР, ни на выстрел не допускается.
Я хотел бы сказать несколько слов о том, как я представляю себе положение марксистов-архивоведов и их практическую деятельность.
Марксизм характеризуется соединением теории с практикой. В то время как в буржуазном обществе теоретик и практик — это две особые специальности, которые не всегда сходятся, ибо часто теоретик пишет одно, а практик делает другое, — в противоположность этому в марксизме теория и практика сливаются. Нужно сказать, что в этом случае марксизм не является выдумкой какой-нибудь тесной группы людей или специфическим миросозерцанием одного класса, ибо и само буржуазное общество по мере развития капитализма неизбежно против своей воли приходит к этому сочетанию теории и практики. В новейших формах капиталистического хозяйства наука и промышленность, теория и практика чрезвычайно тесно сливаются, но дуалистичная по своей природе буржуазия не может довести этого процесса до конца и своими образчиками слияния теории и практики лишний раз подчеркивает, что пролетариат и его миросозерцание являются естественным завершением того развития, того этапа, через который всему человечеству суждено пройти, но который был угадан раньше рабочим классом и его идеологами. Эта неизбежность придает нам уверенности не только в обстановке девятого года социалистической республики, когда мы стоим очень прочно, но придавала нам такую же твердость и в обстановке, гораздо более колеблющейся и неуверенной — 17-го, 18-го, 19-го и других тяжелых годов.
572
V. Архивное дело
В чем может выразиться слияние теории и практики в такой области, как история? В том, что тот, кто делает историю, тот ее и пишет и, наоборот, тот, кто пишет, тот ее и делает. Что описывает буржуазный историк? Он описывает деятельность царей, генералов, министров, но он сам не был ни царем, ни генералом, ни министром, он сам — профессор истории, архивист. Или он описывал страдания, народных масс, но он описывал их, смотря из окна своего кабинета, он не переживал этих страданий, он мог только им сочувствовать. Интеллигенция всегда сочувствовала страданиям трудящихся народных масс, но ничего другого от нее трудящиеся массы не могли получить. В совершенно ином положении находимся мы. Мы, как класс, делаем историю, пролетариат делает историю, и в то же время выделенные им идеологи, выделенные им историки пишут эту историю.
Конкретно это воплотилось в том, что нет ни одного выдающегося марксиста, который в том или ином смысле не был бы историком. От Маркса и Энгельса остался целый ряд исторических работ; и Энгельс в своей книге «Революция и контрреволюция в Германии» показал, что в нем скрывался первоклассный историк, у которого не хватало немногого, чтобы сделаться настоящим профессионалом. Более глубокое и тонкое понимание исторического процесса, чем то, какое встречается у Энгельса в этой и в других его работах, трудно найти во второй половине XIX века. То же самое было и у нас. От Плеханова остался целый ряд исторических работ. Правда, это не лучшее из того, что дал Плеханов, но его тенденция стать историком, понять исторический процесс характерна для марксиста. Несомненно, величайшим историком был бы Ленин, если бы в нем действенность практическая — не в старом смысле этого слова, а в буквальном — не поглощала всего человека. И если мы можем говорить о Ленине как историке, то не потому, что он писал исторические книжки, а потому, что его подход к фактам в самом процессе политической борьбы был глубоко историчен. Это особенно ярко выявляется, например, в полемике Ленина с Плехановым по поводу первого наброска программы нашей партии2. Ленин упрекал Плеханова в том, что Плеханов декламирует против какого-то капитализма вообще от имени какого-то пролетариата вообще. Он говорил: не так нужно ставить вопрос, нужно говорить о задачах российского пролетариата по отношению к российскому капитализму на данной ступени развития, т. е. брать вопросы в тех конкретных исторических рамках, в каких дает их действитедь-
Политическое аначение архивов
573
ность. Вот как нужно формулировать задачи партии в программе, говорил Ленин. Это — характерный подход, и так же характерно, что никто лучше Ленина не понимал тесной связи отдельных периодов развития. Я не буду говорить о тех схемах развития нашей партии, которые им набрасывались и которые глубоко верны, я возьму другую область — как он понимал связь культурного развития — знаменитую речь комсомольцам, где он подчеркивал, что коммунизм стоит на плечах всего положительного, что было добыто всей предшествующей человеческой культурой, и что, не усвоив того, что эта культура дала прочного и полезного, нельзя стать коммунистом. Таким образом, историческая связь не в пределах тесного периода, а в пределах мировой истории сознавалась Лениным вполне и поставлена так отчетливо, что эту речь можно до сих пор рекомендовать как образец марксистского понимания истории культуры. Таким образом, все великие марксисты или прямо занимались историей или, не занимаясь историей, были глубоко историчны в своем подходе к фактам, как это видно на примере Ленина.
Ленин был более крупным историком, чем Плеханов, — в этом сомнения нет, но Плеханов много исторических книжек написал, а Ленин ни одной. Дело, таким образом, не в писании книжек, а в подходе к действительности; и такая проблема, как отношение крестьянства к революции, была взята Лениным в исторической постановке диалектически, а не метафизически, как должен был брать марксист, а не как брал метафизик, не как брали, с одной стороны, народники, с другой стороны, меньшевики. Народники утверждали, что крестьяне революционны, прирожденные социалисты, а меньшевики говорят, что крестьяне реакционны и прирожденные буржуи. Ленин взял правильную постановку: когда крестьяне бывают революционны? Когда рабочий класс может использовать крестьян в своей рабочей революции? Как вы знаете, он блестяще разрешил эту задачу.
Таким образом, — я повторяю то, что говорил на юбилее Маркса3 по поводу его историзма, — нельзя быть марксистом, не будучи историком. Это можно иначе выразить: нельзя быть марксистом, не будучи диалектиком, а диалектика общественного процесса — это и есть история.
Тут мы встречаемся с предрассудком, очень распространенным в нашей среде. Люди соглашаются признавать диалектику стержнем всего своего миропонимания и отсюда понимают значение истории для изучения марксизма, но ограничивают это
574
V. Архивное дело
хронологически очень тесным пределом. Они говорят: будем заниматься новейшей историей — XIX века и начала XX; но в этом случае может явиться мысль: зачем же беречь все это барахло, все эти документы XVI—XVII веков? Вот тут и приходится не только напомнить о Ленине с его всемирно-исторической культурной связью, но и привести несколько фактов из нашей практики, которые показывают, что ограничиться изучением только ближайшего прошлого никак нельзя, потому что жизнь непосредственно требует от человека ответов на вопросы вовсе не современные. Приведу пример из жизненной практики одного высшего учебного заведения, где, кстати, и преподаватели, и слушатели принадлежат к нашей партии и представляют собой гомогенное целое. Они там занимаются историей новейшего времени, и вот слушатель спрашивает у своего преподавателя: когда кончилось крепостное право в Англии? А это было около XV—XVI веков.— Когда в Англии впервые собрался парламент? А это было в XIII веке. Ему нужно все это знать: изучающий современную Англию человек не сведет концов с концами, не зная этого, у него там будет дыра, провал, эту черную пропасть ему нужно заполнить. Иногда бывает, что преподаватель, усвоивший себе, что нужно изучать только современность, не находит иного ответа, как выйти из комнаты, шумно хлопнув дверью, что, конечно, не есть ответ. Так что исходя из житейских соображений, чтобы иметь возможность давать ответы на вопросы изучающих современную историю, нужно заниматься историей прошлых веков. Затем нужно понять и то, что мы не можем, изучая прошлый период истории, ограничиться тем, что нам оставили буржуазные историки. Это будет странное одеяние: на человеке марксистская шляпа и марксистская накидка, а дальше — костюм буржуазный, а если продолжить еще дальше, то этот костюм может оказаться рыцарским, средневековым костюмом. Естественно, что, раз мы должны изучать исторический процесс, мы должны его изучать в целом, т. е. не только факты вчерашнего дня, но и факты третьего дня и т. д. и т. д. Дело только в пропорции. Само собой разумеется, что мы правильно поступили, когда перегнули палку исключительного интереса к далекому прошлому. Интерес к далекому прошлому объясняется тем, что историю писали не практики, а писали люди, которые хотели возможно дальше уйти от бурного потока современности. Им хотелось замкнуться в прошлом, уйти от современности, причем это далекое прошлое казалось им чрезвычайно мирным и идиллическим. Проф. Кизеветтер только недавно, года три тому
Политическое значение архивов
575
назад, когда он уже был заграницей, открыл, что нашXVII век, который всегда изображался и который он сам изображал такими патриархальными красками, был «бунташным веком» 4.
«Бунташным веком» оказывается XVII столетие, которое Ки- зеветтер раньше изображал в мирных красках. Этому его научила наша революция, а своим умом он до этого не доходил. Естественно, что эти люди погружались в прошлое. Мы так относиться к делу не можем. Мы и в прошлом должны быть теми практиками, каким является всякий марксист. Когда Энгельс писал о Крестьянской войне, Каутский — об анабаптистах, Ме- ринг —о прусских королях XVIII века, то они вели классовую борьбу XIX века и давали новое оружие, новый материал для современной пролетарской борьбы. И мы должны уметь пользоваться этим оружием для защиты нашего миросозерцания и пропаганды наших взглядов не только из истории XVI— XVII веков, но и из клинообразных надписей, египетских иероглифов и из всего исторического материала, ибо нельзя камня на камне оставить в старых буржуазных построениях.
Вот почему архивные документы, часто очень старые, не являются излишней роскошью. В них, конечно, есть некоторое, я бы сказал, перенакопление. Надо два слова сказать о том, что, собственно, из этих документов и по каким причинам мы можем в настоящее время устранить. Одна из задач Центрархива заключается в том, чтобы из того колоссального бумажного материала, в котором мы тонем и который не вмещают 23 здания в Москве, вычерпать то, что нам более или менее непосредственно нужно. Что это значит? Значит ли, что, вообще говоря,' архивные документы, сосредоточенные в 23 зданиях, не имеют никакой цены или большое количество из них не имеют цены? Нет, это не значит. Тут наша беда заключается в том, что нет достаточного количества исследователей, чтобы овладеть этим материалом. Смотришь иногда на очень интересные документы и думаешь: когда же доберутся до этого — через 20—30 лет? Но ведь тогда накопится еще громадная масса документов, а еще через 20—30 лет опять накопится, и так будет бесконечно. Вы знаете, какой был бы культурный способ обращения с этими культурными ценностями, которые не используются, к которым подойти нельзя, потому что нет людей? Это тот способ, который предлагал один специалист: микроскопическая фотография на маленькой металлической пластинке такого размера, что на маленькой карточке, величиной меньше фотографической, помещается целый лист большой газеты. Читать это нельзя, но в случае надобности можно снять фотографию в
576
V, Архивное дело
натуральном размере и получить документ в настоящем виде. Этот изобретатель обещал в одной комнате, обставленной книжными шкафами, собрать, если понадобится, архивы всей России. Это был бы чрезвычайно культурный способ сохранения документов, а мы получили бы огромное количество бумаги, которая пошла бы на хозяйственные надобности, и сохранили бы все, что написано на этой бумаге. Но это нам не по карману. Вероятно, лет через 50 будут считать величайшим варварством выбрасывание того, до чего рука не доходит сейчас, чем сейчас заниматься нельзя, но сейчас иначе мы поступить не можем.
Нам по отношению к архивам, попавшим в наши руки только после революции, приходится проделывать очень большую подготовительную работу, и эта подготовительная работа требует большой сравнительно и хорошей подготовки тех, кто этим занимается. Как всякий марксист должен быть историком, так и всякий архивист должен быть историком. Архивист, ничего не смыслящий в истории, может быть только сторожем архива, но работы архивной он производить не может. Поэтому в программы наших архивных курсов мы ввели целый ряд общеисторических дисциплин.
Но конечно, для нас в настоящий момент самое важное значение имеют именно новейшие архивы, которые попали в наши руки в самое последнее время и которые технически являются хуже всего разобранными. Благодаря тому что они плохо разобраны, мы до сих пор чрезвычайно плохо ими пользуемся. Надо сказать, что мы являемся единственными во всем мире хранителями секретов империалистической войны, поскольку они отражались в российском министерстве иностранных дел, а они там отражались довольно широко! Что касается остальных государств, то они ревниво оберегают эти секреты. Обратите внимание, как германское республиканское правительство скупо дает всякие публикации по империалистической войне. Что там печаталось? Те самые письма Извольского к Сазонову, которые мы давно напечатали5. Они теперь их печатают с большой рекламой и помпой, а свои секреты берегут очень тщательно. Про Америку, Англию, Францию говорить нечего, и если к нам попали французские секреты, то лишь благодаря тем перипетиям, которые пережили французские и английские консульства в России. Вот какое у нас колоссальное преимущество перед всеми другими странами (я беру этот вопрос как образчик). Тут, в СССР, в распоряжении пролетариата, т. е. одной из борющихся на революционной арене
Политическое значение архивов
577
сторон, той стороны, которая ведет революцию, находятся все секреты другой стороны, такие важные, как секреты империалистической войны.
А как это использовано? Крайне плохо. Сравните, что опубликовано у нас по этой части, с тем, что опубликовано там. На основе материалов, выкраденных из русских архивов, за границей опубликовано гораздо больше. Некоторые публикации нашего «Красного архива», не обратившие на себя совершенно внимания в России, о которых здесь совершенно не говорили или говорили меньше, чем о каком-нибудь уличном происшествии, вызвали буквально мировую сенсацию и были поводом для предъявления дипломатических требований чрезвычайно важных. После того как мы опубликовали «Дневник Сазонова» 6, касающийся первых дней войны, германское правительство поставило вопрос о снятии с Германии ответственности за войну. Это вопрос, вокруг которого вертится план Дауэса. На основании документов, нами опубликованных, Германия говорила: вот здесь черным по белому написано, что они начали войну, зачем же нам платить миллиарды? Таким образом, за границей документы, которые у нас не обращали на себя внимания, получили колоссальное значение. Конечно, там их используют для себя, со своей точки зрения, с точки зрения плана Дауэса и с точки зрения других вещей, нам малоинтересных, но никто нам не мешает использовать эти материалы с нашей классовой точки зрения. Мы должны это делать, и не в таких микроскопических размерах, как мы это делаем на страницах «Красного архива», а гораздо шире.
Комиссия по изучению империалистической войны была создана Совнаркомом еще в 1918 году. Я не знаю, видели ли читатели труды этой комиссии где-нибудь, — я их не видел, но думаю, что читатели были не счастливее меня.
Итак, мы в данном случае являемся хранителями колоссальных ценностей, которые нами используются плохо отчасти потому, что эти ценности, плохо разобранные, находятся в совершенном беспорядке. Только внешним образом мы их описываем, внешним образом подбираемся к ним, делая интересные открытия на каждом шагу, и пройдет порядочно времени, пока эта задача будет разрешена.
Из совокупности всего, что я сказал выше, ясно, что нам нужны архивные курсы, где бы преимущественно марксисты и коммунисты готовились технически овладеть нашими архивами. Мне остается только напомнить, что говорил Владимир Ильич относительно того, как наша культура стоит на плечах
19 М. Н. Покровский, кн. 4
578
V. Архивное дело
всего добытого в предшествующие времена, — об истории техники, а архивное дело — техника. Как нелепо было бы придумывать пролетарский локомобиль, отвергая существующий на том основании, что он буржуазный, так нелепо отвергать архивную технику, раз та, которая есть, великолепно служит и может быть использована. Наши археологические институты создавали прежде целые архивные отделения, где учились по 3 — 5 лет. Это было просто некоторое раздувание своего собственного дела, — естественное, поскольку этим делом ведали теоретики-специалисты, которые смотрели на жизнь в лупу и которым казалась всякая мелочь важной. Мы же считаем, что годичного курса за глаза достаточно, чтобы подготовить архивиста вполне к выполнению его задачи, а задача эта в теперешней обстановке является прежде всего задачей политической. Спасая старые архивные документы, мы сохраняем то оружие, при помощи которого рабочий класс вел, ведет и будет вести борьбу со своим классовым противником. Не надо забывать ни на одну минуту, что на первый взгляд самый незначительный документ может в умелых руках оказаться тем камнем, каким был камень Давида, пущенный в лоб Голиафа, и не один Голиаф свалится от такого камня, как мы на опыте видели в наших публикациях.
Архивная работа является чисто марксистской работой, а для партийных товарищей — частью партийной работы. Неправильно смотреть на эту работу как на-гробокопательство, не имеющее никакой связи с жизнью. Наоборот, это имеет колоссальное значение для жизни, для нашей борьбы и революции.
♦Политическое значение архивов», изд. Центрального архива РСФСР. М., 1925, стр.. 5—11 *
КУЛЬТУРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРХИВОВ 1
Товарищи, мы, архивисты, не собирались в большом количестве уже около двух лет. В марте 1925 года мы устроили съезд, большой и довольно торжественный, а сейчас — режим экономии, съездов устраивать не полагается — по-моему, это одна из лучших сторон режима экономии, — поэтому мы решили, несмотря на двухлетний промежуток, отделяющий нас от прошлого съезда, собрать не съезд, а небольшое совещание2, и не всех местных архивных деятелей, а только представителей автономных республик, областей и краевых архивных органов. Здесь также присутствуют представители некоторых губернских архивных органов. Но как непременным кадром совещания мы решили ограничиться автономными республиками и областями, с одной стороны, и краями, с другой стороны, потому что и в том и в другом случае мы имеем здесь новообразования, некоторые начинания, и с точки зрения архивного строительства удобнее подойти сначала к этим новообразованиям и их выяснить. Что же касается губернских архивных бюро, то это дело для нас более известное. Таким образом, собрание это является не очень полным, но, по-моему, для ближайших целей вполне достаточным.
Архивные учреждения в Советской России были созданы в свое время главным образом из соображений культурного характера, ради сохранения культурных ценностей. Эта мысль руководила Рязановым, когда он организовывал Главархив — предшественник Центрархива. Я на Первом съезде архивных деятелей настаивал на другой стороне архивного дела3, и об этом скажу и сегодня — в добавление к тому, что приходилось говорить тогда в виде ретроспективного обзора того участка времени, который протек со времени съезда; но я должен подчеркнуть, и очень сильно подчеркнуть, в ответ на голоса, которые раздаются с некоторых сторон, что это культурное значение архивов не только не уменьшилось для нас с 1918 года, когда возник Главархив, но, наоборот, теперь,
19*
580
V. Архивное дело
когда мы вступили в полосу хотя и чрезвычайно энергичного, но спокойного социалистического строительства, спокойной, ровной, планомерной работы, становится еще больше, чем раньше. В первоначальной постановке, на мой взгляд, по отношению к культурному значению архивов чересчур перегибали палку. И этим объясняется первоначальный личный состав архивов, где политический элемент почти совершенно отсутствовал. Этим же объясняется и местоположение центрального архивного ведомства в Комиссариате народного просвещения и т. д.
Это, конечно, было известным перегибом палки. Несомненно, архив имеет не только культурное значение, и я об этом сейчас скажу. Но, товарищи, не нужно забывать, что отличие культурного человека от дикаря в том и состоит, что у дикаря есть только настоящее, текущий момент, которым он живет, а у культурного человека есть и прошедшее, и будущее. Мы сейчас как раз строим планы на это будущее, и поэтому нам приходится особенно энергично и настойчиво оглядываться на прошлое. Я приведу один пример, очень свежий и близко соприкасающийся с нашей специальностью. Один из кардинальных вопросов, которые сейчас намечаются, — это вопрос, в каком направлении развивается наша деревня. Этот вопрос поставлен в целом ряде органов, образованы специальные комиссии, которые энергично работают, и вот эти комиссии уперлись в тот факт, что, пока мы не будем знать, как развивалась деревня под влиянием империалистической войны и революции, до тех пор мы не построим картины того, как она развивается сейчас и как будет развиваться в дальнейшем, потому что корни тех процессов, которые происходят на наших глазах, сидят в 1916, 1917—1922 годах. Во все эти годы происходили сельскохозяйственные переписи, материал есть. Но эти переписи обрабатывались под углом зрения текущего момента в тесном смысле этого слова, — то, что нужно было для текущих операций, бралось из этих материалов, но научно их никто не обрабатывал. И с год тому назад по постановлению Совнаркома при Коммунистической академии была создана Комиссия по изучению последствий аграрной революции. Эта комиссия на основании первичного сырого материала — первичных формуляров — разрабатывает вопросы о явлениях, имевших место в нашем сельском хозяйстве и в нашей деревне под влиянием сначала империалистической войны, а затем революций Февральской, Октябрьской и т. д. Это работа чисто научная и в значительной степени архивная, поскольку
Культурное и политическое значение архивов
581
первичные формуляры есть архивный материал. В связи с этими материалами мне вспоминается, как вопреки нашим настояниям были уничтожены первичные материалы московской переписи, что произошло с год тому назад.
То, что происходит в области аграрных отношений, оправдывает, таким образом, нашу позицию в этом отношении — уничтожать этих материалов нельзя. Это чисто историческая работа, и она нужна для того, чтобы выяснить нашу текущую аграрную политику, создать базу, без которой эта аграрная политика невозможна.
Таких примеров можно было бы привести много, но и этот показывает, что значение архивов как хранилищ старых культурных ценностей громадно, и, повторяю, это приходится подчеркивать и теперь. Нельзя говорить: это старая бумага, ее незачем хранить, ее нужно в котел и т. д. На основании этой старой бумаги мы можем сберечь не только большое количество новой бумаги, которая идет из-за границы и оплачивается валютой, но и сберечь огромное количество той бумаги, которая изготовляется в Гознаке. Можно привести целый ряд примеров, когда десятки тысяч рублей бросались зря, бросались в окошко, потому что люди не знали, что результаты, которых они добиваются, имеются в архивных материалах и что вместо того, чтобы бросать десятки тысяч рублей на какие-нибудь сложные экспедиции, достаточно просто навести справку в соответствующем архиве и за гроши, которые стоит переписка на машинке соответствующих материалов, приобрести все то, на что бросаются десятки тысяч. Таким образом, и с точки зрения режима экономии хранение архивов, оберегание архивов, приведение архивов в порядок — все это имеет колоссальное значение. С какой точки зрения вы ни подойдете к архивам независимо от их политического значения, вы увидите, что архивы играют и всегда будут играть громадную роль, и нам всегда эта старая бумага, о которой с презрением говорят люди, пишущие исключительно на новой бумаге и истребляющие несметное количество новой бумаги, — эта старая бумага нам всегда будет нужна, и мы всегда должны будем ее сохранять.
Но я все-таки продолжаю оставаться при той точке зрения, которую я развивал на нашем прошлом съезде и которая заключается в том, что для нас в настоящий момент основным значением архивов является их политическое значение. Роль архивов как своеобразного арсенала, откуда берется оружие,
582
V. Архивное дело
которым оперируют до того момента, когда начинает действовать оружие, изготовленное из железа и стали, особенно велика. До этого момента действуют при помощи оружия, хранящегося в архивах. Позвольте привести некоторые яркие примеры, накопившиеся с того времени, как мы с вами виделись на прошлом съезде.
Самым ярким примером является вся новейшая история империалистской войны, история, из которой были сделаны в свое время на Версальском конгрессе весьма острые практические выводы: были осуждены одни страны, были оправданы и возвеличены другие страны, и в результате получилась колоссальная тяжесть, наваленная на те или иные народы, обдирание этих народов до костей, стремление совершенно «изничтожить» их, «извести» и т. д. Но эти народы вспомнили, что как раз в их архивах хранится оружие, которым они могут воспользоваться. И немцы первые издали великолепное собрание, совершенно исключительное по быстроте издания, дипломатических документов — так называемую «Большую политику европейских кабинетов» 4, где они напечатали якобы все то, что у нцх есть по внешней политике. Правда, специалисты говорят, что они напечатали не все то, что у них есть, но это понятно. Дело в том, что когда люди употребляют оружие, то они обыкновенно используют то оружие, которое стреляет в противника, но такой самопал, который стреляет в стреляющего, вряд ли они станут употреблять. Я не стану поэтому бросать особенно много камней в немцев за то, что они издали только те документы, которые говорят в их пользу.
Тем не менее эти документы оказались такой громадной лавиной старой бумаги, навалившейся на головы тех, кто на Версальском конгрессе судил и присуждал народы к чрезвычайно тяжелому наказанию, что в противном лагере произошла настоящая паника и переполох. Теперь вы нигде не встретите такой точки зрения, что якобы коварная Германия устроила заговор и напала на невинную Антанту —- Францию, Англию и т. д. Даже .такой господин, как Грей, выступает с чрезвычайно исторической теорией, которая гласит, что в войне не следует искать виноватых, что виноваты только исторические условия, что корни конфликтов 1914 года лежат чрезвычайно глубоко. Ну знаете, когда люди, которые еще только вчера распинали Германию и приговаривали ее к позорному наказанию за то, что она будто бы начала войну, начинают теперь говорить: не будем искать виновников, то это напоминает известное место в «Ревизоре», который как раз теперь у всех на
Культурное и политическое вначение архивов
583
памяти, где говорят: «Ну, это место можно пропустить, к чему же это читать?..»
Литературные защитники этих людей начинают, с величайшей ловкостью обходя подводные камни, строить совершенно новую теорию происхождения войны. Но мало того, на выстрелы надо отвечать выстрелами. И вот вслед за немцами англичане начинают издавать свои документы и уже успели издать целый ряд томов. Затем американцы делают то же самое, потому что и у них рыльце в пушку. В конце концов благодаря этой борьбе архивным оружием мы получим великолепное собрание документов, подобранных с разных точек зрения, документов, которые помогут беспристрастному историку выяснить объективные причины того, как на самом деле произошла война.
Очень жалко, что в этом сражении мы не принимаем никакого участия. И здесь режим экономии, который я одобрил в начале своей речи, придется упомянуть уже совсем не с такой симпатией. Бросить двести или триста тысяч рублей на научное издание подобных дипломатических документов стоило бы потому, что мы взорвали бы этим самым великолепную бомбу, вмешались бы в этот спор и, вероятно, заставили бы пересмотреть целый ряд вопросов не только исторических и. теоретических, но чисто практических. Ведь не надо забывать, что начало всем этим изданиям положено нашими публикациями, к сожалению отрывочными, но настолько эффектными, что они дали толчок всему этому движению.
Я привел пример нарочно не из русской действительности, но из действительности мировой, чтобы показать, какое громадное значение имеет это оружие, хранящееся в наших арсеналах, в наших архивах. Оно имеет колоссальное значение. До тех пор пока не действует оружие из металла, главным оружием, при помощи которого разговаривают и отдельные государства, и отдельные классы, там где они могут, — надо сказать, что господствующие классы во всех странах настолько крепко держат архивы в своих руках, что классовая борьба с помощью архивных документов там может вестись только партизанским порядком, — до тех пор главным оружием в различных переговорах между отдельными странами являются как раз эти архивные документы.
Спрашивается: стоят ли перед нами в связи с этим какие- нибудь внутренние задачи в этой области? Конечно, стоят. Предстоящий 10-летний юбилей Октябрьской революции ставит перед нами чрезвычайно важную задачу, политическую
584
V. Архивное дело
задачу — осветить это крупнейшее событие мировой истории и, без всякого сравнения, крупнейшее событие нашей истории на основании тех материалов, которые имеются в наших архивах. Опять-таки приходится пожалеть, что благодаря режиму экономии средства на это будут отпущены весьма ничтожные, а также что это дело будет сделано с чрезвычайно большим запозданием. Однако позвольте вас предупредить, что свои обязанности арсенальных хранителей, так сказать арсенальных сторожей, мы должны выполнить до конца. Мы должны подготовить к изданию все то, что представляет интерес с точки зрения проблем, связанных с Октябрьской революцией, ибо эти проблемы в свою очередь связаны со всеми спорами, происходящими в данный момент в нашей партии. В конце концов все эти споры сводятся к исторической аргументации и решаются на основании тех или других документов.
Подготовка материалов для. этой политической работы и является нашей прямой обязанностью независимо от того, будут ли у нас средства на издание этих материалов или никаких средств на это у нас не будет. Режим экономии приводит к тому, что на издание отпускается возможно меньше. Отчасти влияет и тот кризис издательского дела, в тесном смысле этого ‘слова, который всем известен и о котором распространяться не приходится.
Но хотя издательский кризис и усугубляет трудности положения, это не должно помешать нам выполнить наши обязанности во что бы то ни стало и подготовить с нашей стороны все то, что мы должны подготовить. Имейте в виду, что, если мы не будем готовы, если окажется, что по нашей вине невозможно опубликование тех или иных материалов, на нас падет вся вина, а не только та маленькая доля вины, которая, казалось бы, должна пасть на таких маленьких людей, какими являемся мы, архивисты. На нас падет вся вина, и мы окажемся главными виновниками, если окажется, что к 10-летнему юбилею издано мало, не то, что нужно, не так, как нужно,, и т. д. Это — политическая задача, это — политическая работа, которая стоит перед нами во всей своей широте и которую мы должны выполнить, ибо она связана не только с 10- летним юбилеем Октябрьской революции, но и со всеми теми практическими задачами, которые стоят перед Советской страной, перед Советским Союзом в настоящее время. Во имя этих практических задач мы должны оберегать этот материал, ибо этим самым мы будем выполнять ту культурную работу и на¬
Культурное и политическое вначение архивов
585
ши архивы будут иметь то культурное значение, о котором я вначале говорил.
Таким образом, я призываю вас по-прежнему быть политическими людьми и помнить, что, строя и охраняя архивы, подбирая материалы для издания архивных документов, мы выполняем политическую задачу, и мы не должны переставать быть политическими людьми ни на одну секунду.
Теперь вкратце позвольте сказать о кое-каких наших достижениях за эти два года, которые прошли со времени нашего первого съезда. О нашем организационном строительстве будет говорить тов. Максаков. Я этого касаться не буду. Мои функции в Центрархиве не организационные, а главным образом функции идеологического руководства, поэтому мне позвольте указать те достижения, какие нами были осуществлены в области чисто научной. Мы курьезным образом в настоящее время не числимся настоящим научным учреждением: в секции Главнауки не входим, с Коммунистической академией не связаны, к Академии наук не имеем прямого отношения. Казалось бы, мы — вне науки, но если вы дадите себе труд заглянуть на обложку и на последнюю страницу последнего тома, выпущенного нами, вы убедитесь, что никогда ни одно научное учреждение в старой России не обнаруживало такой колоссальной продукции в области издания документов, какую обнаружили за эти последние годы мы. Наше издательство превращается в мировое событие, — люди русского происхождения, рассеянные в настоящее время по всему миру, говорят об этом, белая зарубежная пресса, скрежеща зубами от зависти и выпуская бешеную слюну, вынуждена признать, что дальше заниматься русской историей даже белогвардейцам нельзя, не опираясь на «Красный архив» и на сродные с ним издания. Мы двинули по тем периодам, которые являются для русской истории наиболее темными — потому что они наиболее близки к нам, потому они и темные, — такую массу материала, какой, повторяю, никогда дано не было. Самый старый из наших юбилеев -- пугачевский — нами обслужен не так хорошо, как бы мы хотели, но все же достаточно: вышел первый том «Пугачевщины» (манифесты, указы и переписка), набран второй и совершенно подготовлен к печати третий том. Гораздо лучше пошло дело с юбилеем декабрьского восстания 1825 года. Он прошел блестяще. Мы издали первый, второй и пятый тома дел Верховного уголовного суда и Следственной комиссии, «Алфавит декабристов», хрестоматию «Декабристы», сборник мемуаров и переписки царской семьи
586
V. Архивное дело
«Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов», монографии А. Е. Преснякова «14 декабря 1825 г.» и М. В. Нечки- ной «Общество соединенных славян» 5. Кроме того, печатаются: третий, четвертый и шестой тома следственного дела о декабристах, «Русская правда» Пестеля и «Библиография литературы о декабристах».
Наша.серия публикаций по истории восстания 14 декабря 1825 года есть наше величайшее достижение. Сейчас всем легендам о декабристах положен конец, потому* что у всех в руках имеются научно изданные — а нужно сказать, что с научной точки зрения наше издание является образцовым, — подлинные документы декабризма, после опубликования которых не может идти спора о том, что это было такое. Остается только его изучать. Изучать его придется именно по нашим архивным изданиям.
Что касается изданий 1905 года, где мы действовали вместе с Истпартом, то они идут несколько медленнее, чем издание документов о декабристах. Тем не менее издание материалов по 1905 году идет, и только при помощи архива может быть это издание осуществлено. Первый том сборника по крестьянскому движению под редакцией тов. Дубровского6 вышел довольно давно. Второй том выйдет в ближайшем будущем. Документы этого сборника открывают совершенно новую картину крестьянского движения. Если вы просмотрите этот сборник и сравните с тем, что писалось о крестьянском движении раньше, на основании всякого рода косвенных источников, местных корреспонденций и т. п., то увидите, что новая картина разнится от старой как небо от земли. Крестьянская революция, оказывается, была гораздо более сознательной, чем предполагали до сих пор. Особенно ценно следующее: выясняется диктатура пролетариата в этой крестьянской революции в ее конкретной форме, т. е. руководство рабочих в этой революции. Она была наиболее сознательной, наиболее последовательной там, где в центре ее стояли настоящие или бывшие фабричные и заводские рабочие. Издание этих документов о крестьянском движении представляет громадное достижение в научном отношении. Но мы издали не только это, а целый ряд других вещей, напр., прокламаций, хотя это печатный материал, но извлеченный главным образом из наших архивов.
Что касается изданий по Октябрьской революции, то нами подготовлен к печати целый ряд томов, но в связи с режимом экономии и вытекающей отсюда суженностью издательских средств, по всей вероятности, издать удастся не все. Это,
Культурное и политическое значение архивов
587
однако, не значит, что это не будет издано вообще. Не в те^ чение одного года, а в течение 2, 3, 5-ти лет мы издадим. Не забудьте, что всякий юбилей всегда тянет за собой целый хвост изданий. К сожалению, хорошо скоро не выходит.
Таким образом, в чисто научной области, хотя мы и не являемся формально научным учреждением, мы сделали больше, чем какое бы то ни было другое учреждение в этой области в такой же срок.
Мы ведь живем не столетия, а мы, в сущности говоря, настоящим образом живем с 1922 года, когда мы стали самостоятельным учреждением при ВЦИК, т. е. мы живем каких-нибудь 5 лет.
Это, между прочим, признают и на Западе. Вы будете иметь случай заслушать специальный доклад профессора Тарле о западноевропейских течениях в архивном деле. Он подробно расскажет о них, но я не могу с вами не поделиться одним пикантным фактом: когда Д. Б. Рязанов проводил в 1918 году централизацию архивного дела в Советской России, то он ссылался на Францию и поместил свой Главархив в Наркомпросе, потому что во Франции Национальный архив находится в ведении министерства народного просвещения. На самом же деле во Франции только теперь проводят централизацию архивного дела, а в 1918 году там этого не было, и только сейчас она действительно там осуществляется, и французы не ссылаются на нас, кажется, только потому, что это было »бы ^неудобным в условиях буржуазной Франции. Я знаю, что на прошлом архивном конгрессе французские архивисты с завистью отзывались о нашей архивной реформе, — это было 2 года тому назад, и только теперь они проводят и осуществляют у себя централизацию архивного дела. Предположим, что эта зависть лежала в основе того процесса, который в настоящее время привел к централизации архивного дела во Франции. Во Франции до сих пор департаментские архивы не были подчинены Национальному архиву в Париже. Сейчас же они ему подчинены, как подчинены наши губернские или краевые архивы Центральному архиву. Все это, конечно, очень похоже на нашу схему.
Мы завязали тесную связь с заграничными французскими учеными (Ж. Буржен, Анри Сэ, Шмидт и др.). Они сотрудничают в наших изданиях, и таким образом мы вошли в мировую сеть архивного строительства, причем вошли не в качестве младшего родственника с заднего крыльца, а вошли в качестве чуть не вождей, — цризнайтесь, что это положение
588
У. Архивное дело
довольно почетное. Когда у нас бывают заграничные ученые, то они прежде всего говорят комплименты нашей архивной централизации. Они говорят: «Вы имеете дело с одной инстанцией и отсюда получаете все документы, тогда как мы должны околачивать пороги в целом ряде министерств, чтобы достать тот или другой документальный материал, который нам необходим». Об этом же печатно заявил в газете «Politiken» работавший у нас профессор Фриис*. Таким образом, в этой области архивной организации мы имеем большие достижения. Конечно, мы имеем не одни достижения, но имеем и немало минусов.
С точки зрения строительства, в буквальном смысле этого слова, до сих пор, несмотря на громадные успехи, сделано нами за последние 2 года все же довольно мало. Мечты о том, чтобы иметь «Национальный архив», до сих пор не осуществлены. Мы в значительной степени сжали количество адресов в Москве, еще в большей степени сжали их в Ленинграде, но все-таки наши архивы разбросаны в целом ряде зданий и это, конечно, мешает правильному руководству всем архивным делом. У нас есть архивы и на Серпуховке, и в Лефортове, и на Девичьем поле — словом, они разбросаны по всей Москве, и это, конечно, представляет собой значительный минус.
Другой значительный минус представляет собой крайняя медленность, с которой проводятся наши издания. Прежде чем книга выйдет из печати, она вылеживается в разных инстанциях в течение долгих месяцев и лет, и в результате иногда книги выходят с устаревшим предисловием, с устаревшим до комизма. В этих предисловиях часто бывают намеки на такие происшествия, которые всеми утрачены из памяти, и тогда эти предисловия приходится сопровождать комментариями.
В последнее время у нас были некоторые нелады с теми инстанциями, которые должны были нам доставлять архивный материал, но я должен констатировать, что в настоящее время эти нелады, видимо, изживаются. С наиболее крупными нашими клиентами у нас устанавливаются ровные, спокойные и деловые отношения. Они понимают, что мы для них совершенно необходимы, потому что техникой хранения они не владеют, и это для них большая и сложная работа. Мы же убеждаемся, что некоторые требования с их стороны заслуживают несомненного внимания, что условия, в которые мы ставим
* См. в VII вып. «Архивного дела» статью «Датский ученый об архивах Советской России» 7.
Культурное и политическое значение архивов
589
представитедей учреждений, нуждающихся в архивных материалах, иногда бывают стеснительны, и потому мы, не отступая от наших основных задач, в этих порядках делаем некоторые отступления, не рискуя сохранностью архивов. Недоразумения постепенно изживаются и изживутся. Может быть, я слишком большой оптимист, но позвольте мне быть лучше оптимистом, чем пессимистом, и не заглядывать слишком далеко в будущее, а также не вспоминать слишком далекого прошлого.
В области строительства, как и во всех других областях, нас постигло чрезвычайно приятное разочарование. Все твердо верили, что мы восстановим наше народное хозяйство только к 1930 году, а мы его восстановили уже теперь. Так и в области архивного строительства здесь, в центре, мы достигли гораздо больших результатов, нежели надеялись. Может быть, это и хорошо, что мы были скромными людьми, не возвещали, что зажжем море и т. д. и т. д., а скромненько и тихо строили кирпичик за кирпичиком и в конце концов построили нечто такое, что имеет не только всесоюзное, но и мировое значение. Теперь очередь за вами, за товарищами с мест. Вы также массу сделали, это не подлежит сомнению, но я думаю, что никто не обидится, если я скажу, что все-таки положение архивного дела на местах более слабо, чем в центре.
Все это естественно, не стоит ни обижаться на это, ни обвинять кого-нибудь, но нужно приняться за исправление и этого дела. Тут приходится подходить с целого ряда точек зрения. С одной стороны, со стороны политического руководства наших архивов, я считаю, что здесь дело обстоит очень хорошо, опять-таки гораздо лучше, чем я когда бы то ни было ожидал. Ведь было время, когда это политическое руководство осуществлялось одним человеком — заведующим Главархивом, он был единственным политическим руководителем, все остальные были научными или рядовыми техническими работниками. Сейчас у нас политические руководители имеются повсюду. Но можно опасаться здесь некоторого перегиба палки, а именно: стремились осуществить политическое руководство нашими архивами, а специальное руководство немножко забывали. Несомненно, нам придется усилить именно эту сторону — специальное руководство нашими местными архивами. Что касается центра, то тут, по нашему мнению, гармония достигнута, нужная пропорция политических и специальных элементов имеется. Что же касается мест, то тут далеко не все
590
F. Архивное дело
в таком порядке, так что тут кое о чем нам с вами придется поговорить.
Очень интересную картину представляют собой (недаром мы пригласили сюда представителей автономных республик и областей) архивы наших автономных республик. Им достались в руки архивы, которые говорят об их народах, которые говорят об их прошлом, но которые написаны на чужом для них языке. Тут возможен целый ряд конфликтов, недоумений, переплетов и т. д., которые как-то нужно разрешить. Вот почему вопрос об организации архивов именно автономных областей и республик представляет особый интерес, не говоря о том, что перед нами стоит другая задача — по возможности собрать бывшие в дореволюционное время неофициальные, но отчасти существующие их собственные местные национальные архивы. Тут кое-какие документальные материалы имеются. Эти документальные материалы раньше игнорировались колонизаторами, но теперь они чрезвычайно для нас ценны и важны. Перед местами в этом отношении стоит очень большая за-* дача. Настоящее совещание представляет приступ к разрешению этой задачи, приступ, который, надеюсь, будет таким же плодотворным, как та архивная деятельность, которой питались мы до сих пор.
Настоящее совещание не съезд, а нечто гораздо более скромное, но, товарищи, скромность есть не только просто добродетель, у нас это является специфической добродетелью архивных деятелей, и при помощи этой добродетели мы нажили большой капитал, так что не будем пугаться нашей скромности. Будем помнить, что мы прежде всего политические люди и что к архивам мы должны подходить политически, но в то же время мы не должны забывать культурной ценности громадных документальных хранилищ, которые находятся в нашем распоряжении.
«Архивное дело», 1927, вып. X, стр. 3—13
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примечания составлены
Л. Г. БЕСКРОВНЫМ, Л. М. ИВАНОВЫМ и
Р. Е. АЛЬТШУЛЛЕР
Именной указатель составлен Р. Е. АЛЬТШУЛЛЕР
ПРИМЕЧАНИЯ
I. О ЛЕНИНЕ
ЛЕНИН И ВЫСШАЯ ШКОЛА
1 Впервые статья была опубликована (в меньшем объеме) в 1924 г. в газете «Правда» (№ 22) от 27 января под заголовком «Чем был Ленин для нашей высшей школы». В этом же году она была издана (по тексту газеты) отдельной брошюрой в серии- «Ленинская библиотека» под названием «Ленин и высшая школа».
2 Следующие далее четыре абзаца (включительно до слов «преимущественно нашей, партийной») в газете и брошюре отсутствовали. По-видимому, они были дополнены М. Н. Покровским при подготовке к изданию сборника его статей и воспоминаний «О Ленине». Этот сборник вышел уже после смерти автора — в 1933 г.
3 В сборнике статей М. Н. Покровского «О Ленине» ошибочно «в Петербурге».
4 «Известия» (№ 34) от 16 февраля 1921 г.
6 Ф. А. Ротштейн— советский историк, общественный деятель, академик. В 1920 г. — председатель Комиссии СНК по пересмотру учебных планов факультетов общественных наук.
6 ФОН — факультет общественных наук.
ЛЕНИН И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ>
1 В. И. Ленин. Новая экономическая политика и задачи политпро- светов. — Поли. собр. соч., т. 44, стр. 174.
2 П. В. Аксельрод. Пережитое и передуманное, кн. I. Берлин, 1923, стр. ИЗ.
3 В. И. Ленин. Задачи союзов молодежи. — Поли. собр. соч., т. 41, стр. 315.
4 В сборнике статей М. Н. Покровского «Октябрьская революция», так же как и в третьем издании Сочинений В. И. Ленина, которое цитирует М. Н. Покровский (т. XXV, стр. 300), напечатано «тяжести».
5 В. И. Ленин. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов но работе в деревне 12 июня 1920 г. — Сочинения, изд. 3, т. XXV, стр. 300; Поли. собр. соч., т. 41, стр. 147.
6 В. И. Ленин. I Всероссийский съезд по внешкольному образованию 6—19 мая 1919 г. Приветственная речь 6 мая. — Поли. собр. соч., т. 38, стр. 331, 332.
7 Там же, стр. 332.
8 Си. В. И. Ленин. О политехническом образовании. Заметки на тезисы Надежды Константиновны. — Поли. собр. соч., т. 42, стр. 228, 230, 229.
594
Примечания
9 Слово «которая» вставлено М. Н. Покровским.
10 В. И. Ленин. Перлы народнического прожектерства. — Поли. собр. соч., т. 2, стр. 485.
11 В. И. Ленин. Задачи союзов молодежи. — Поли. собр. соч., т. 41, стр. 301, 304-305.
12 Там же, стр. 305.
13 В. И. Ленин. О работе Наркомпроса. — Поли. собр. соч., т. 42, стр. 324.
14 Там же, стр. 325.
15 В. И. Ленин. Странички из дневника. — Поли. собр. соч., т. 45, стр. 365.
16 В. И. Ленин. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. — Поли. собр. соч., т. 41, стр. 148. Слова, заключенные в прямые скобки, принадлежат М. Н. Покровскому.
17 В. И. Ленин. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. — Сочинения, изд. 3, т. XXV, стр. 302; Поли. собр. соч., т. 41, стр. 149.
18 Статья «Ленин и народное просвещение» первоначально бщла опубликована в газете «Правда» (№ 93) от 23 апреля 1924 г., затем с незначительными изменениями и с подзаголовком «Беглые заметки» перепечатана в журналах «Знамя рабфаковца», 1924, № 1—2, и «Коммунистическое просвещение» (М.), 1924, № 1 (13).
ЛЕНИН И МАРКС КАК ИСТОРИКИ
1 В. А. Быстр янский. Ленин как материалист-диалектик. Л., 1925; его же.. Ленин — историк. Историзм в ленинизме. Л., 1925; Г. Лелевич. Ленин и ленинизм. М. — Л., 1924; его же. Ленин как историк партии и революции. Изд. 2. М. — Л., 1925.
2 «Социалистический вестник» — меньшевистский орган, издавался с 1921 г. в Берлине, затем в Нью-Йорке.
3 В. И. Ленин. О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова) . — Поли. собр. соч., т. 45, стр. 382.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III (исторические работы). М., ГИЗ, 1921, стр. 135; В новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 8, стр. 119.
5 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III, изд. 1921, стр. 137—138; В новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 8, стр. 122.
6 В новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, .изд. 2, т. 23, стр. 20, 21. Слово Маркса вставлено М. Н. Покровским.
7 Письмо К. Маркса Людвигу Кугельману в Ганновер, 17 апреля 1871 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Перевод, статья и примечания В. В. Адоратского. М., 1923, стр. 251; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 175.
8 В. И. Ленин. К вопросу о диалектике. — «Большевик», 1925, № 5—6 (21—22); В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 321.
9 В. И. Ленин. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам. — Поли. собр. соч., т. .17, стр. 346.
10 В. И. Ленин. О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме». — Поли. собр. соч., т. 30, стр. 86—87.
Примечания
595
11 В. И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении. — Полы. собр. соч., т. 30, стр. 54—55.
12 Статья «Ленин и Маркс как историки» впервые была опубликована в газете «Правда» («№ 92) от 22 апреля 1926 г.
ЛЕНИНИЗМ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ
1 Доклад М. Н. Покровского на Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов в секции истории народов СССР 3 января 1929 г. Конференция была созвана по инициативе Общества историков-марксистов при Коммунистической академии и проходила в Москве с 28 декабря 1928 по 4 января 1929 г. В задачи конференции входило подведение итогов развития марксистской исторической науки в СССР, постановка основных проблем исторической науки и объединение историков-марксистов в масштабе всей страны.
2 См. «Вестник Социалистической академии». М. — Пг., 1923,. кн. 4, стр. 372—384.
3 «Общественное движение в России в начале XX века». Под ред. Л. Мартова, П. Маслова, А. Потресова, т. I—IV (т. IV, ч. 1 и ч. 2). СПб., 1909-1911.
4 Н. Ванаг выступил с докладом «О характере финансового капитала в России». См. «Труды Первой Всесоюзной конференции историков- марксистов», изд. Комакадемии, 1930, т. I, стр. 318—338. Выступление М. Н. Покровского по докладу Н. Ванага см. там же, стр. 339.
6 М. Н. Покровский. Экономический материализм (Лекции и рефераты по вопросам программы и тактики социал-демократии, вып. 3). М., 1906; то же. Пб., ГИЗ, 1920.
0 См. настоящую книгу, стр. 377—385.
7 В. И. Ленин. Две утопии. — Собр. соч., изд. 1, т. XX, дополнительный, ч. I, стр. 359; Поли. собр. соч., т. 22, стр. 120.
8 В. И. Ленин. Государство и революция. — Собр. соч., изд. 1, т. XIV, ч. II, стр. 323; Поли. собр. соч., т. 33, стр. 34.
9 Письмо Ф. Энгельса Конраду Шмидту в Берлин, 27 октября 1890 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. Перевод, статья и примечания В. В. Адоратского, [изд. 1]. М., 1922, стр. 283; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 417.
10 Письмо Ф. Энгельса Конраду Шмидту в Берлин, 27 октября 1890 г.— Я. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. М., 1922, стр. 282; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 417.
11 Письмо Ф. Энгельса В. Боргиусу в Бреславль, 25 января 1894 г.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. М., 1922, стр. 316; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 39, стр. 176.
12 Письмо К. Маркса Людвигу Кугельману в Ганновер, 17 апреля 1871 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. М., 1922. стр. 226; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 175.
13 В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — Сочинения, изд. 3, т. I, стр. 72—73; Поли. собр. соч., т. 1, стр. 152—154. В последнем издании текст в скобках после слов «всякого общества» помещен под строкой.
14 В. И. Лепин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. — Сочинения, изд. 3, т. I, стр. 349—350;
596
Примечания
Поли. собр. соч., т. 1, стр. 516—517. В цитируемом тексте В. И. Ленина имеются два подстрочных примечания, опущенные М. Н. Покровским.
16 В. И. Ленин. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционе- рам. — Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. I, стр. 203; Поли. собр. соч., т. 17, стр. 346. Разрядка М. Н. Покровского.
16 В. И. Ленин. О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве. — Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. 2, стр. 240; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 188. Разрядка М. Н. Покровского.
17 В. И. Ленин. Собр. соч., изд. 1, т, XI, ч. 2, стр. 201—202; Поли, собр. соч., т. 20, стр. 121—122. Разрядка М. Н. Покровского.
18 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 14.
19 По-видимому, М. Н. Покровский имеет в виду работу В. И. Ленина «Революция типа 1789 или типа 1848 года?», но цитирует ее неточно. В. И. Ленин пишет: «...у нас деспотизм азиатски девственен». — Поли, собр. соч., т. 9, стр. 381.
20 См. М. Н. Покровский. Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х годов. — «Историк-марксист», 1928, т. 10, стр. 3—12.
21 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. IV, стр. 125—127; Поли. собр. соч., т. 5, стр. 28—30. В цитате отсутствует имеющееся в тексте В. И. Ленина подстрочное примечание к словам «очень часто».
22 См. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену». Женева, 1892, стр. 82.
23 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 378, 380, 381.
24 Текст доклада М. Н. Покровского «Ленинизм и русская история» впервые был опубликован в журнале «Пролетарская революция», 1929, № 1. Изложение доклада было помещено в «Правде» (№ 7) от 9 января 1929 г. Доклад издан отдельной брошюрой под тем же названием (изд. Комакадемии. М., 1930).
ЛЕНИН И ИСТОРИЯ
1 В. И. Ленин. Новые статьи и письма, вып. 1. ГИЗ, 1930, стр. 94; В. И. Ленин. О государстве. — Поли. собр. соч., т. 39, стр. 67.
2 В. И. Ленин. Три источника и три составных части марксизма. — Сочинения, изд. 3, т. XVI, стр. 350—351; Поли. собр. соч., т. 23, стр. 44.
3 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XVI, стр. 353; Поли. собр. соч., т. 23, стр. 47.
4 В. И. Ленин. Политические партии за 5 лет третьей Думы. — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 407; Поли. собр. соч., т. 21, стр. 171.
5 М. Н. Покровский имеет в виду статью В. И. Ленина ««Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция». — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 141—146; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 171—180.
6 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 143; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 173, 174.
7 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 144—145; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 175, 176.
8 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 146; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 177—178.
9 См. статьи В. И. Ленина «Наши упразднители» и «О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве». — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 83, 123; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 121, 187.
10 В. И. Ленин. По поводу юбилея. — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 99; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 169.
Примечания
597
11 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 96; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 166.
12 В. И. Ленин. Принципиальные вопросы избирательной кампании. — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 342—343; Поли. собр. соч., т. 21, стр. 83—84.
13 В. И. Ленин. Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России. — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 12, 13; Поли. собр. соч., т. 19, стр. 361, 363.
14 В. И. Ленин. О праве наций на самоопределение. — Сочинения, изд. 3, т. XVII, стр. 431—432; Поли. собр. соч., т. 25, стр. 263—264.
15 В. И. Ленин. Возрастающее несоответствие. — Сочинения, изд. 3, т. XVI, стр. 314; Поли. собр. соч., т. 22, стр. 371.
16 В. И. Ленин. О некоторых особенностях исторического развития марксизма. — Сочинения, изд. 3, т. XV, стр. 71; Поли. собр. соч., т. 20, стр. 84.
17 В. И. Ленин. Исторические судьбы учения Карла Маркса. — Сочинения, изд. 3, т. XVI, стр. 331; Поли. собр. соч., т. 23, стр. 1.
18 В сборнике «Историческая наука и борьба классов» (вып. II. М. — Л., 1933), где перепечатана статья М. Н. Покровского «Ленин и история», ошибочно: «...близоруко малодушно анархическое молчание».
19 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XVI, стр. 333; Поли. собр. соч., т. 23, стр. 3—4.
И. ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 11 Доклад на общем собрании Ассоциации научно-исследовательских институтов обществоведения 16 января 1926 г.
2 М. Н. Покровский, говоря о П. Г. Виноградове, основывается на ленинской критике его взглядов. См. В. И. Ленин. Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа? — Поли. собр. соч., т. И, стр. 225—230.
3 A. Mathiez. La Revolution frangaise, 3 vol. Paris, 1922—1924; Autour de Robespierre. Paris, 1925.
4 Речь идет о Комиссии ЦИК СССР по организации празднования 20-летия революции 1905 г., которая работала совместно с Истпартом ЦК РКП (б).
5 В журнале «Красный архив», откуда перепечатана эта статья, опечатка «1917 г.».
6 В январе 1918 г. 3-й Всероссийский съезд Советов принял решение о подготовке первой Советской Конституции. В состав Конституционной комиссии, созданной ВЦИК 1 апреля 1918 г., вошел и М. Н. Покровский. Решающую роль в подготовке конституции сыграла созданная в июне 1918 г. специальная комиссия ЦК РКП (б) под председательством В. И. Ленина. 10 июня 1918 г. 5-й Всероссийский съезд Советов единогласно утвердил Конституцию РСФСР.
7 По 65-й статье Конституции 1918 г. эксплуататорские элементы были лишены права избирать и быть избранными во все органы Советской власти.
598
Примечания
КАЗАНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 6(18) ДЕКАБРЯ 1876 ГОДА
1 «Политические процессы 60-х гг.» Материал подготовлен к печати В. П. Алексеевым под ред. Б. П. Козьмина. М. — Пг., 1923, стр. 269.
2 «Первая рабочая демонстрация в России. К пятидесятилетию демонстрации на Казанской площади в Петербурге 6 (18) декабря 1876». Сборник воспоминании и документов. Составила Э. Корольчук. М. — Л., 1927, стр. 15.
3 Там же, стр. 19, 20.
4 «Первая рабочая демонстрация в России. К пятидесятилетию демонстрации на Казанской площади в Петербурге 6 (18) декабря 1876». Сборник воспоминаний и документов. Составила Э. Корольчук. М. — Л., 1927; Э. Корольчук. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй половине 70-х годов. — «Историко-революционный сборник». Под ред. В. И. Невского, т. III. М. — Л., 1926, стр. 49—63.
5 Г. В. Плеханов. Русский рабочий в революционном движении (по личным воспоминаниям), [б/м.], 1940, стр. 46—70.
6 «Историко-революционный сборник», т. III, стр. 107—117.
7 Там же, стр. 115.
8 В газете ошибочно указан 1897 г. О пребывании Я. С. Потапова в заключении см. Г. Г. Фруменков. Участники Казанской демонстрации в остроге Соловецкой крепости. — «Сборник историко-краеведческих статей. Ученые записки Архангельского государственного педагогического института имени М. В. Ломоносова», вып. 16. Архангельск, 1964, стр. 127—144..
9 Там же, стр. 134.
10 Там же, стр. 135.
11 Там же, стр. 143.
ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФЕВРАЛЯ (Царизм и буржуазия в Февральской революции) 1 II1 В. И. Ленин. Революция типа 1789 или типа 1848 года? — Ленинский сборник V, стр. 440; Поли. собр. соч., т. 9, стр. 381.
2 В. И. Ленин. Письма из далека. Письмо 1. — Собр. соч., изд. 1, т. XX, ч. 2, стр. 551; Поли. собр. соч., т. 31, стр. 14.
3 См. В. И. Ленин, Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционе- рам. — Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. 1, стр. 203; Поли. собр. соч., т. 17, стр. 346.
4 Имеется в виду Совет объединенного дворянства. Возник на первом съезде уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 г., являлся вдохновителем реакционной политики самодержавия — разгона I и
II Дум, изменения избирательной системы, подавления крестьянского движения, проведения столыпинской аграрной реформы. Руководящую роль в Совете играли помещики-крепостники, типа Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича и др.
5 Указом Временного правительства от 5 марта 1917 г. была учреждена Верховная следственная комиссия, а 12 марта 1917 г. было опубликовано положение о Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров,
Примечания
599
главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств. Показания крупнейших деятелей царского режима, которые давались комиссии, существовавшей до октября 1917 г., опубликованы в семитомном издании «Падение царского режима» (М. —JL, 1924—1927).
6 «Падение царского режима». Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, т. VI. М. — JL, 1926, стр. 252—253.
7 «Монархия перед крушением. 1914—1917. Бумаги Николая II и другие документы». М. — Л., ГИЗ, 1927, стр. 223—241.
8 Дело хранится в Центральном государственном военно-историческом архиве, ф. 2031, Штаб Северного фронта, on. 1, д. 1539. В нем содержатся документы с 27 февраля по 20 мая 1917 г. ст. ст.
9 Слова «пешей и одной» в журнале «Пролетарская революция», 1927, № 2—3, и в сборнике статей М. Н. Покровского «Октябрьская революция». М., 1929, пропущены.
10 «Февральская революция 1917 года (Документы Ставки верховного главнокомандующего и штаба главнокомандующего армиями Северного фронта)». — «Красный архив», 1927, т. 2(21), стр. 17.
11 Там же, стр. 9.
12 Там же, стр. 8; см. также стр. 15.
13 Там же, стр. 23.
14 Цитируется неточно. В «Красном архиве». 1927, т. 2 (21), стр. 55, напечатано «чем я [т. е. генерал Рузский] был глубоко опечален».
15 Там же, стр. 55—56.
16 Там оке, стр. 56.
17 Там же, стр. 57, 58—59.
18 Там же, стр. 57, 58.
19 Всероссийский земский союз — организация, объединившая губернские и уездные земства для помощи царской армии продовольствием и санитарным обслуживанием. Городские думы входили в Союз городов. В 1915 г. оба союза объединились и получили название Земгор (Земско-городской союз). Военно-промышленные комитеты — созданы крупной буржуазией в 1915 г. с целью мобилизации промышленности для военных нужд, политического давления на царское правительство и подчинения рабочего класса влиянию буржуазии. «Члены блока» — имеется в виду так называемый прогрессивный блок — объединение фракций буржуазно-помещичьих партий IV Государственной думы («прогрессистов», «националистов», октябристов, кадетов) и трех фракций Государственного совета; образован в августе 1915 г. После Февральской революции 1917 г. лидеры «прогрессивного блока» создали Временный комитет Государственной думы, который сформировал Временное правительство.
20 «Падение царского режима», т. VI, стр. 350.
21 Там же, стр. 271.
22 «Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 9.
23 «Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 75.
24 «Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 28.
25 В. И. Ленин. К оценке русской революции. — Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. 1, стр. 78; Поли. собр. соч., т. 17, стр. 44.
26 Впервые статья М. Н. Покровского была опубликована в журнале «Пролетарская революция», 1927, № 2—3 (61—62), стр. 5—16.
600
Примечания
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1 В. И. Ленин. Письма из далека. Письмо 4. — Поли. собр. соч., т. 31, стр. 50.
2 Джордж Бьюкенен. Мемуары дипломата. М., [б. г.], стр. 209, 254; Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М. — Пг., 1923, стр. 356, 394, 373.
3 Джордж Бьюкенен. Мемуары дипломата, стр. 279.
4 «Накануне перемирия». — «Красный архив», 1927, т. 4(23), стр. 196; М. Н. Покровский. Большевики и фронт в октябре — ноябре 1917 года. — «Красная новь», 1927, № И, стр. 165, 169.
5 «Красный архив», 1927, т. 4 (23), стр. 239—241; «Красная новь», 1927, № И, стр. 169, 170.
6 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов происходил 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. Съезд объявил о переходе власти в руки Советов, принял декреты о мире и о земле, сформировал первое Советское правительство во главе с В. И. Лениным.
7 Комитет спасения родины и революции — контрреволюционная организация, созданная в ночь на 26 октября (8 ноября) 1917 г. в Петрограде для борьбы с Октябрьской революцией. 29 октября (И ноября) комитет возглавил вооруженный юнкерский мятеж. После подавления мятежа Советская власть ликвидировала комитет.
1905 ГОД (брошюра)
1 А. И. Энгельгардт. Из деревни. 11 писем. 1872—1882, изд. 2. СПб., 1885, стр. 146; А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. 1872—1887. М., 1960, стр. 145.
2 П. Н. Успенский. Очерк царствования Николая II. — «Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования». М., 1917, стр. 6, 57.
3 Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М. — Пг., 1923, стр. 382. Здесь слова Палеолога даны в переводе, несколько отличном от перевода М. Н. Покровского.
4 В брошюре «1905 год» изд. 1930 г. ошибочно: 1929 г. Дата уточнена по книге: Петр Маслов. Условия развития сельского хозяйства в России. Опыт анализа сельскохозяйственных - отношений. СПб., 1903, стр. 463.
5 См. Э. А. Корольчук. Рабочее движение семидесятых годов. Сборник документов. М., 1934, стр. 248, и «Рабочее движение в России в XIX веке». Под ред. А. М. Панкратовой, т. II, ч. I. М., 1950, стр. 534.
6 Слова цитаты «родственникам и друзьям. В случаях недоразумений между мастерами и» в брошюре «1905 год» пропущены. В настоящем издании они восстановлены по книге Г. Гапона «История моей жизни». Л., 1925, стр. 42.
7 Г. Гапон. История моей жизни. Л., 1925, стр. 42—43, 75.
8 Слова «за сверхурочные часы и ночную работу и двойную плату» в брошюре «1905 год» изд. 1930 г. пропущены. В настоящем издании они восстановлены по тексту сборника «1905. Стачечное движение». Составила А. Панкратова. Материалы и документы под общей редакцией М. Н. Покровского. М. — Л., 1925, стр. 200.
9 «1905. Стачечное движение». Составила А. Панкратова. М. — Л., 1925, стр. 199-200.
10 Там же, стр. 199.
Примечания
601
11 См. В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. — Поли. собр. соч., т. 3, стр. 505.
12 С. Ю. Витте. Воспоминания, т. 3. М., 1960, стр. 273—274.
13 [А. А] Бибиков. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова сыном его сенатором Бибиковым. СПб., 1817, стр. 283—284.
14 Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. V. СПб., 1887, стр. 411—412; т. VI. СПб., 1888, стр. 302. Здесь и ниже в цитатах слова, заключенные в квадратные скобки, принадлежат М. Н. Покровскому. Разрядка его же.
15 Умалат Лаудаев. Чеченское племя (с примечаниями). — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. VI. Тифлис, 1872, стр. 50.
16 Евг. Марков. Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге, т. I. СПб., 1901, стр. 530, 378—379, 524. Последняя цитата приведена в брошюре «1905 год» неточно.
17 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2, т. III, стр. 465 (примеч.); Поли, собр. соч., т. 3, стр. 596 (примеч.).
18 Ср. с данными, приведенными В. И. Лениным в работах «Роль сословий и классов в освободительном движении» и «Из прошлого рабочей печати в России». — Поли. собр. соч., т. 23, стр. 397; т. 25, стр. 95.
19 М. Н. Покровский имеет в виду следующие работы В. И. Ленина: «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах», листовку «К рабочим и работницам фабрики Торнтона» и брошюру «Новый фабричный закон». — Поли. собр. соч., т. 2, стр. 15— 60, 70-74, 263-314.
20 В. И. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. — Поли. собр. соч., т. 6, стр. 30.
21 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2, т. XXV, стр. 175; Поли. собр. соч., т. 41, стр. 7—8.
22 Ю. Мартов. Записки социал-демократа. М., 1924, стр. 303.
23 М. Н. Покровский цитирует «Credo» «экономистов», которое полностью приведено в работе В. И. Ленина «Протест российских социал- демократов» (Сочинения, изд. 2, т. II, стр. 479, 480; Поли. собр. соч., т. 4, стр. 168).
24 Статья В. И. Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе). По поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». СПб., 1894 г.» была напечатана в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» в 1895 г. Сборник был запрещен царской цензурой, и тираж его уничтожен. Удалось спасти около 100 экз. (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 592—593, примеч. 102).
25 В. И. Ленин. Заявление редакции «Искры». — Сочинения, изд. 2, т. IV, стр. 37; Поли. собр. соч., т. 4, стр. 355.
26 М. Н. Покровский цитирует статью В. И. Ленина «С чего начать?». — В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2, т. IV, стр. НО, 111; Поли. собр. соч., т. 5, стр. 9, И,
27 В. И. Ленин. Этапы, направление и перспективы революции. — Ленинский сборник V, стр. 451; Поли. собр. соч., т. 12, стр. 154.
28 См. В. И. Ленин. Земская кампания и план «Искры». ™ Поли, собр. соч., т. 9, стр. 75—98.
602
Примечания
29 «Начало первой русской революции. Январь— март 1905 года». Документы и материалы. Отв. ред. Н. С. Трусова. М., 1955, стр. 221.
30 В. Н. Коковцев возглавил в 1905 г. Комиссию по разработке нового проекта фабричного законодательства. Деятельность комиссии оказалась безуспешной, и в мае 1905 г. она была распущена.
31 29 января 1905 г. под председательством сенатора Н. В. Шидлов- ского была учреждена Комиссия для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в. г. Санкт-Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем. В нее должны были войти представители промышленников и рабочих, но последние отказались выбирать своих представителей в комиссию, и в феврале 1905 г. она была распущена.
32 В. И. Ленин. Политическая агитация и «классовая точка зрения». — Поли. собр. соч., т. 6, стр. 270. Слова, заключенные в прямые скобки, принадлежат М. Н. Покровскому.
33 См. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М. — Пг., 1923, стр. 344.
34 В. И. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. — Поли. собр. соч., т. 6, стр. 177.
35 В. И. Ленин. Начало революции в России. — Сочинения, изд. 2, т. VII, стр. 80; Поли. собр. соч., т. 9, стр. 203.
36 «III съезд РСДРП 12—27 апреля (25 апреля —10 мая) 1905 г.». Резолюция о вооруженном восстании. — В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 118.
37 «1905. Стачечное движение». Сост. А. Панкратова. М. — Л., 1925, стр. 317 (Из донесения начальника жандармского управления г. Одессы).
38 Там же, стр. 323; «Революционное движение в России весной и летом 1905 года. Апрель — сентябрь». Документы и материалы, ч. 2, кн. 1. Отв. ред. Н. С. Трусова. М., 1961, стр. 267—268.
39 «1905. Стачечное движение». Сост. А. Панкратова. М. — Л., 1925, стр. 327.
40 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2., т. VII, стр. 105—106; Поли. собр. соч., т. 9, стр. 250—252.
41 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 19, стр. 383, 387.
42 «1905. Стачечное движение». Сост. А. Панкратова. М. — Л., 1925, стр. 247, 249.
43 Там же, стр. 252, 240; «Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих в 1905 году». Сборник документов и материалов. Иваново, 1955, стр. 191.
44 «1905. Стачечное движение». Сост. А. Панкратова. М. — Л., 1925, стр. 275; «Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих в 1905 году». Сборник документов и материалов. Иваново, 1955, стр. 213.
45 См. В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года. — Поли. собр. соч., т. 30, стр. 310.
46 Имеется в виду съезд земско-городских деятелей в июле 1905 г.
47 «1905 год в Самарском крае». Материалы по истории РКП (б) и революционного движения. Под ред. И. Сперанского. Самара, 1925, стр. 380. В начале цитаты слово «нехорошее» было изменено М. И. Покровским на «тревожное».
48 «1905. Аграрное движение в 1905—1907 гг.». Сост. С. Дубровский и Б. Граве. Материалы и документы под общей редакцией М. Н. Покровского, т. I. М. — Л., 1925, стр. 282.
49 В. И. Ленин. Победа кадетов и задачи рабочей партии. — Ноля, собр. соч., т. 12, стр. 334.
Примечания
603
50 «Протокол Учредительного съезда Всероссийского Крестьянского союза». СПб., 1905, стр. 32 (М. Н. Покровский приводит цитату в несколько измененной редакции).
61 В. Ш. Ленин. К оценке русской революции. — Поли. собр. соч., т. 17, стр. 40. -
52 «Крестьянские движения 1902 года». Материалы по истории крестьянских движений в России. Вып. III. М. — Пг., 1923, стр. 99.
53 «1905. Аграрное движение в 1905—1907 гг.», т. I. М. — Л., 1925, стр. 504.
54 «Пролетарий» (№ 22), 11 (24) октября 1905 г., стр. 14, 15.— ««Вперед» и «Пролетарий». Первые большевистские газеты 1905 года», вып. VI. М. — Л., 1925, стр. 42, 43. «Вперед» и «Пролетарий» — нелегальные большевистские еженедельные газеты, издававшиеся в Женеве: «Вперед» — с 22 декабря 1904 по 5 мая 1905 г., «Пролетарий» — с 14 мая по 12 ноября 1905 г.
55 В. И. Ленин. Письмо М. М. Эссен от 26 октября 1905 г. — Ленинский сборник V, стр. 522; Поли. собр. соч., т. 47, стр. 100.
56 «1905. Большевистские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии». Материалы и документы под общей редакцией М. Н. Покровского. М. — Л., 1926, стр. 165, 267.
67 В. И. Ленин. Кровавые дни в Москве. — Ленинский сборник V, стр. 406; Поли. собр. соч., т. И, стр. 316. В брошюре «1905 год» ошибочно «хорошо вооруженных рабочих отрядов».
58 «1905. Большевистские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии», стр. 291.
59 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 301 (примеч.).
60 «1905. Аграрное движение в 1905—1907 гг.», т. I. М. — Л., 1925, стр. 134, 239, 290, 343, 344.
61 С. Ю. Витте. Воспоминания, т. 3, стр. 145.
62 «Аграрное движение в 1905 г. по отчетам Дубасова и Пантелеева». Публикация С. Дубровского. — «Красный архив», 1925, т. 4—5 (11-12), стр. 186, 189.
63 «Движение в войсках на Дальнем Востоке». Публикация В. Лембергской. — «Красный архив», 1925, т. 4—5 (11—12), стр. 327, 311.
64 М. Н. Покровский неточно цитирует слова В. И. Ленина из статьи «Большевики должны взять власть». В этой статье сказано: «Может быть, даже Москва может начать». См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 241.
65 «1905. Советская печать и литература о Советах». Сост. В. И. Невский. М. — Л., 1925, стр. 3. «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Документы и материалы, ч. I. Отв. ред. Л. М. Иванов. М., 1955, стр. 367. Разрядка М. Н. Покровского.
66 «1905. Советская печать и литература о Советах», стр. 5; «Всероссийская политическая стачка», ч. I, стр. 370.
67 «1905. Советская печать и литература о Советах», стр. 19; «Всероссийская политическая стачка», ч. I, стр. 385.
68 «1905. Советская печать и литература о Советах», стр. 5.
69 «Новая жизнь» (№ 13), 15 ноября 1905; «Высший подъем революции 1905—1907 гг. Вооруженные восстания, ноябрь — декабрь 1905 года». Документы и материалы, ч. I. Отв. ред. А. Л. Сидоров. М., 1955, стр. 391—392.
70 См. В. И. Ленин. Победа кадетов и задачи рабочей партии. — Поли. собр. соч., т. 12, стр. 317.
604
Примечания
71 Газета «Новая жизнь» (№ 27), 2 декабря 1905 г.; «Высший подъем революции 1905—1907 гг.», ч. I. М., 1955, стр. 26.
72 «Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета, выходившая ежедневно с 27 октября по 3 декабря 1905 г. в Петербурге. «Борьба» — ежедневная легальная большевистская газета, выходившая в Москве с 27 ноября по 7 декабря 1905 г.
73 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2, т. XII, стр. 376; Поли. собр. соч., т. 17, стр. 272-273.
74 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 2, т. XII, стр. 124; Поли. собр. соч., т. 16, стр. 416—417.
76 См. примеч. 7 к статье «Начало пролетарской революции в России».
1905 ГОД (статья)
1 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. VII, стр. 148—149; Поли. собр. соч., т. 9, стр. 302—304.
2 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. VIII, стр. 118—119; Поли. собр. соч., т. И, стр. 120—121.
3 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. VII, стр. 182; Поли. собр. соч., т. 9, стр. 381.
4 Здесь дана ссылка на работу В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» по 1-му изд. Собр. соч. В. И. Ленина. В Поли, собр. соч. см. т. 37, стр."240.
5 М. Н. Покровский цитирует работу И. В. Сталина «К вопросам ленинизма» по книге: И. В. Сталин. Об оппозиции. Статьи и речи 1921— 1927 гг. М. — Л., 1928, стр. 239, 237—238. См. также И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1953, стр. 114, 112—113.
6 В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года. — Собр. соч., изд. 1, т. XX, ч. 2, стр. 30; Поли. собр. соч., т. 30, стр. 311.
7 Статья написана В. И. Лениным 21 августа (3 сентября).
8 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. X, стр. 23—24; Поли. собр. соч., т. 13, стр. 333.
9 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. X, стр. 20; Поли. собр. соч., т. 13, стр. 331—332.
III. ИСТОРИОГРАФИЯ
«ИДЕАЛИЗМ» И «ЗАКОНЫ ИСТОРИИ»
1 В журнале «Правда», где впервые была опубликована эта статья М. Н. Покровского, ошибочно: 1904 г. Немецкое издание: Heinrich Rickert. Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tubingen, 1902.
2 E. Meyer. Geschichte des Altertums. Bd. 1—5. Stuttgart, 1884—1902.
3 Эдуард Мейер, Экономическое развитие древнего мира. СПб., 1898; его же. Рабство в древнем мире. М., 1899.
4 Е. Meyer. Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Geschichts- philosophische Untersuchungen. Halle, 1902.
5 Г. Риккерт. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1903, стр. 435. '
6 Здесь и далее в цитатах слова, заключенные в прямые скобки, принадлежат М. Н. Покровскому.
7 Ф. Гизо. История цивилизации во Франции, т. 1—4. М., 1877—• 1881; А. Токвилль. Старый порядок и революция. М., 1896.
Примечания
605
8 Т. Моммзен. Римская история, т. 1—3. М., 1887; «История Римской империи по Моммсену». Вып. 1. М., 1900.
9 В сборнике статей М. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов», где также была помещена эта работа (вып. II, 1933, стр. 10), ошибочно напечатано «социалистической».
10 С 1894 по 1915 г. Г. Риккерт был профессором Фрейбургского университета в Бадене.
11 В. Kleinpeter. Kant und die naturwissenschaftliche Erkenntnis- kritik der Gegenwart. — «Kantstudien». Bd. 8. Berlin, 1903, S. 281.
12 P. Ю. Виппер. Несколько замечаний о теории исторического познания. — «Вопросы философии и психологии», кн. 53 (111), 1900, стр. *450—480.
13 Георг Зиммелъ. Проблемы философии истории (Этюд по теории познания). М., 1898.
14 W. Dilthey. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung fur das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Leipzig, 1883, S. 15.
16 Огюст Конт. Курс положительной философии, т. 1. СПб., 1899, стр. 30.
16 В сборнике статей М. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов» (вып. II, стр. 28) ошибочно напечатано «с противной точки зрения».
17 F. Medicus. Kant und Ranke. Eine Studie tiber die Anwendung der transscendentalen Methode auf die historischen Wissenschaften. — «Kantstudien». Bd. 8. Berlin, 1903, S. 129—192.
18 Leopold Ranke. Weltgeschichte, 4 Aufl., 5. Teil, II Abteilung. Leipzig, 1889, S. 243-245.
19 L. Ranke. Zur Kritik frankisch-deutscher Reichsannalisten.— Samtliche Werke. Bd. 51—52. Abhandlungen und Versuche. Neue Samm- lung. Leipzig, 1888, S. 93—149.
20 Leopold Ranke. Georg Gottfried Gervinus. Rede zur Eroffnung der zwolften Plenarversammlung der historischen Comission gehalten. — «Historische Zeitschrift». Bd. 27. Munchen, 1872, S. 142—143.
21 H. Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому, СПб., 1871, стр. 127, 128.
22 Владимир Соловьев. Национальный вопрос в России, изд. 2. СПб., 1888; Владимир Соловьев. Немецкий подлинник и русский список. — «Вестник Европы», 1890, т. 5, № 11—12, стр. 707—736.
23 Heinrich Ruckert. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung. Leipzig, 1857, Teil 1—2. В сборнике статей M. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов» (вып. II, стр. 37) ошибочно вместо фамилии Рюккерт напечатано Риккерт.
24 Генрих Риккерт. Естествоведение и культуроведение. СПб., 1903, стр. 38—40.
КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ ПРОФ. В. КЛЮЧЕВСКОГО
1 В. А. Некрасов. Логика мудрых людей и мораль (Ответ В. А. Голь- цеву). — «Вопросы философии и психологии», кн. V (70). М., 1903 стр. 907.
606
Примечания
2 В. Сергеевич. Русские юридические древности, т. 2. Власти, вып. I. Вече и князь. СПб., 1893.
О ПЯТОМ ТОМЕ «ИСТОРИИ» КЛЮЧЕВСКОГО
1 В. О. Ключевский. Памяти... Александра III. Речь, произнесенная в заседании Общества истории и древностей российских при Московском университете 28 октября 1894 г. М., 1894.
2 П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, вып. I. СПб., 1894; его же. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России XVIII и XIX вв. [СПб.], 1913; М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем, т. 1. СПб., 1907.
3 В. И. Семевский. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, т. 1—2, 1881—1901; его же. Крестьянский вопрос в России в XVIII в. и первой половине XIX в., т. 1—2. СПб., 1889; его же. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909; В. Я. Богучар- ский. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912; его же, Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912, и другие работы.
4 Н. К. Шильдер. Император Павел I. СПб., 1901; $го же. Император Александр Первый, его жизнь и царствование, т. I—IV. СПб., 1894— 1898; его же, Император Николай Первый, его жизнь и царствование, т. I—II. СПб., 1903.
5 Th. Schiemann. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. Bd. I—II. Berlin, 1908.
6 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V, 1922, стр. 208.
I Там же.
8 «Восшествие на престол императора Николая I». Составлено по высочайшему повелению статс-секретарем бароном Корфом, изд. 3 (первое для публики). СПб., 1857.
9 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V, стр. 209.
10 Там же, стр. 213—214.
II А. Корнилов. Курс истории России XIX века, ч. 1—3. М., 1918.
БОРЬБА КЛАССОВ И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1 Лекции, читанные в Коммунистическом университете имени Зиновьева в Петрограде (позднее II Коммунистический университет) 3—7 мая 1923 г. Впервые изданы в 1923 г. (Пг., изд. «Прибой»); второе, исправленное издание — Л., 1927.
2 Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. 1—12. СПб., 1816-1829.
3 А. С. Л anno-Данил веский. Методология истории, вып. I, посмертное издание. Пг., 1923. Подробнее об этой работе см. стр. 369—376 настоящей книги.
4 А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Пг., 1916, стр. XVI.
5 Г. Гейне. Поли. собр. соч., изд. 2. Под ред. П. Вейнберга, т. 5. СПб., 1904, стр. 268.
6 Начальный или Киево-Печерский свод 1093 г. возник на основе Древнейшего Киевского свода 1037 г., Киево-Печерского свода 1073 г.
Примечания
607
и Новгородского свода 1079 г. В свою очередь Начальный летописный свод послужил основой для «Повести временных лет».
7 «Сочинения князя Курбского», т. I. СПб., 1914, стр. 1—354 (Переписка князя Курбского с царем Иоанном Грозным и История о великом князе Московском).
8 Н. И. Костомаров. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. 1604—1613, ч. 2. Царь Василий Шуйский и воры. — Собр. соч„ кн. 2, т. V. СПб., 1904.
9 С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории, изд. 10. Пг., 1917, стр. 230—234.
10 М. Н. Покровский имеет в виду работу Н. С. Арцыбашева «Повествование о России», т. I—III. М., 1838—1843. В третьем томе, вышедшем посмертно (автор умер в 1841 году), по настоянию Н. Г. Устрялова тот лист, где описывались обстоятельства смерти Димитрия, был уничтожен и заменен рассказом об убийстве (а не самоубийстве, как писал Н. С. Арцыбашев) царевича. См. П. Арцыбашев. О кончине царевича Димитрия. — «Вестник Европы», 1830, № 12, стр. 241—246. Эта статья была перепечатана в «Русском архиве» в 1886 г. (№ И, стр. 273— 284); В. Иконников. Н. С. Арцыбашев и Н. Г. Устрялов. — «Русский архив», 1886, № 12, стр. 523—527; А. И. Тюменев. Пересмотр известий о смерти царевича Димитрия. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1908, май, стр. 93—135; июнь, стр. 323—359. См. также М. П. Покровский. Избранные произведения, кн. I. М., 1966, стр. 340—343.
11 «Русское слово» — ежедневная буржуазная газета, основанная в 1895 г. в Москве. В декабре 1917 г. за помещение клеветнических, антисоветских измышлений газета «Русское слово» была закрыта.
12 «Вестник Европы» — литературно-художественный и научно-политический журнал, основанный в Москве Н. М. Карамзиным, под редакцией которого издавался в 1802—1803 гг. Существовал до 1830 г.
13 М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. II. М., 1866, стр. 17—18.
14 Там же, ч. I, стр. 397.
15 Там же, ч. И, стр. 19.
16 Там же, стр. 136-137, 138, 139, 143.
17 Там же, стр. 153.
18 Там же, стр. 154. Разрядка М. Н. Покровского.
19 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли. М., 1919.
20 Б. Н. Чичерин. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей.— Б. Н. Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858, стр. 366—369.
21 М. И. Покровский имеет в виду помещенную в «Колоколе» статью за подписью «Русский человек». См. также примеч. 37 на стр. 613 настоящей книги.
22 Б. И. Чичерин. Письмо к издателю «Колокола». — В. Н. Чичерин, Несколько современных вопросов. М., 1862, стр. 14—15.
23 В. П. Чичерин. Несколько современных вопросов, стр. 13. Здесь и ниже в цитатах слова, заключенные в квадратные скобки, принадлежат М. И. Покровскому.
24 В. Н. Чичерин. Холопы и крестьяне в России до XVI века. — Опыты по истории русского права, стр. 227—228, 230—231.
25 А. П. Щапов. Естествознание и народная экономия. — Сочинения, т. 2. СПб., 1906, стр. 157—158, 159—160. Разрядка М. Н. Покровского,
608
Примечания
26 1. С hr. Adelung. Geschichte der Kultur, 1782; /7. H. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. 1—3. СПб., 1896—1903; Е. Levasseur. Histoire de la population frangaise avant 1789 et demo- graphie de la France, t. 1—3, 1889—1891.
27 Г. Ибсен. Северные богатыри. — Собр. соч. под ред. А. А. Алексеева, вып. 3. М., 1892; Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1956.
28 Б. Н. Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858, стр. 56—57.
29 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 1—6. СПб., [б/г.], «Общественная польза»; С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. В 15-ти кн. Отв. ред. Л. В. Черепнин. М., 1959—1966.
30 «Записки Сергея Михайловича Соловьева. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других». Пг., 1915.
31 С. М. Соловьев. Древняя Россия. — Собр. соч., изд. «Общественная польза». СПб., [б/г.], стб. 793—794.
32 С. М. Соловьев. Начала русской земли. — Собр. соч., изд. «Общественная польза». СПб., стб. 784—785.
33 С. М. Соловьев. История падения Польши. — Там. же, стб. 3—4.
34 С. М. Соловьев. Начала русской земли. — Там же, стб. 764—765.
35 А. Н. Энгельгардт. Из деревни. И писем. 1872—1882, изд. 2. СПб., 1885, стр. 146; А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. 1872—1887. М., 1960, стр. 145.
36 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I. Пг., 1918, стр. 11; Сочинения, т. I. М., 1956, стр. 21.
37 П. Л. Лавров. Исторические письма, изд. 5. Пг., 1917.
38 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I. Пг., 1918, стр. 29, 30, 32; Сочинения, т. I. М., 1956, стр. 35, 36, 37.
39 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I, изд. 1918 г., стр. 10—11; Сочинения, т. I, изд. 1956 г., стр. 20—21.
40 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I, изд. 1918 г., стр. 13; Сочинения, т. I, изд. 1956 г., стр. 22—23.
41 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I, изд. 1918 г., стр. 34—35; Сочинения, т. I, изд. 1956 г., стр. 38—39.
42 В. О. Ключевский. История сословий в России. Курс, читанный в Московском университете в 1886 году, изд. 3. Пг., 1918, стр. 121—122; Сочинения, т. VI. М., 1959, стр. 372—373.
43 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II. Пг., 1918, стр. 141, 142; Сочинения, т. II. М., 1957, стр. 115, 116.
44 И. Н. Жданов. Повести о Вавилоне и «Сказание о князех Владимирских». СПб., 1891. [Исследование и тексты]; Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях Владимирских. М. — Л., 1955. [Исследование и тексты].
45 С. М. Соловьев. Древняя Россия. — Собр. соч., стб. 794.
46 Там же.
47 Писцовые книги XVI века, изд. Русского географического общества. Под ред. Н. В. Калачова, ч. I, отд. 2. СПб., 1877, стр. 40—403.
48 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II. Пг., 1918, стр. 385—386; Сочинения, т. II. М., 1957, стр. 310—312.
49 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II, изд. 1918 г., стр. 406; Сочинения, т. И, изд. 1917 г., стр. 327.
50 В. Сергеевич. Русские юридические древности, т. 1—2. СПб., 1902.
51 См. М. А. Дьяконов. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве (XV—XVII вв.). СПб., 1898; его же. Очерки
Примечания
609
общественного и государственного строя Древней Руси, изд. 4. СПб., 1912; переиздание с предисловием М. Н. Покровского. М. — Л., 1926.
52 Н. И. Костомаров был одним из организаторов и авторов устава и программы тайного Кирилло-Мефодиевского общества, ставившего целью создание славянской демократической федерации.
53 Н. И. Костомаров. Собр. соч. Исторические монографии, кн. 1—8. СПб., 1903—1906.
64 М. С. Грушевсъкий. 1стория Украши — Руси, т. 1—10. Льв1в— Кшв, 1898-1936.
55 П. Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. 1—3. СПб., 1896-1903.
56 Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., изд-во ВЦИК Советов Р.С.К. и К. депутатов, 1919, стр. 140— 141; его же. Избранные философские произведения, т. I. М., 1956, стр. 644.
67 Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1919, стр. 273.
38 Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма. СПб., 1908, стр. 81—82; его же. Избранные философские произведения, т. III. М., 1957, стр. 179—180.
59 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I. М., 1919, стр. 32.
60 Там же, стр. 33.
61 Там же, стр. 248 и след.
62 Там же, стр. 35—36.
63 В. А. Келтуяла. Курс истории русской литературы, ч. I. СПб., 1911.
64 Точнее, стр. 37—42.
65 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I,
стр. 35.
66 В сборнике статей М. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов» (вып. I. М. — Л., 1933, стр. 87) ошибочно напечатано «землевладельца».
67 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I,
стр. 52, 55, 74—75.
68 Там же, стр. 75, примеч. 1.
69 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I,
стр. 203-204, 107, 86.
70 М. Н. Покровский. Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия? — «Вестник Социалистической академии» № 1, ноябрь 1922; № 2, январь 1923; № 4, апрель — июль 1923. Статья перепечатана в сборнике «Марксизм и особенности исторического развития России». Л., 1925.
71 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I,
стр. 110.
72 Там же, стр. И—12.
73 Слова «от психологии других классов, отличается...» в сборнике статей М. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов» (вып. I, стр. 93) пропущены.
74 П. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики), т. I, изд. 2. М. — Пг., 1923, стр. 13—14.
75 Там же, стр. 144.
76 Там же, стр. 156—157.
20 М. Н. Покровский, кн. 4
610
Примечания
77 А. Сутерланд. Происхождение и развитие нравственного инстинкта. Пер. с англ., изд. Павленкова. СПб., 1900.
78 Н. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении.., т. I, стр. 16—17.
79 Там же, стр. 21—22.
О КНИГЕ АКАДЕМИКА ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО
1 Стенограмма сообщения М. Н. Покровского на заседании редакции журнала «Под знаменем марксизма» 21 апреля 1923 г.
2 К. Маркс. К еврейскому вопросу. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. I, стр. 382—413.
3 В журнале «Под знаменем марксизма», 1923, № 4—5, ошибочно «земледельцев».
4 А. С. Лаппо-Данилевский. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890.
ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ
1 Речь, произнесенная при открытии Общества историков-марксистов в заседании 1 июня 1925 г.
2 РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, существовала в Москве в 1923—1930 гг. В состав ее к 1930 г. входило 14 институтов.
3 Н. Г. Чернышевский. Кавеньяк. — Поли. собр. соч. в 10-ти томах, т. IV, 1906, стр. 1—49; Поли. собр. соч., т. V, 1950, стр. 5—64.
4 П. Н. Ткачев. Немецкие идеалисты и филистеры; его же. Рецензия на книгу Циммермана «История крестьянской войны в Германии по летописям и рассказам очевидцев». — Избранные сочинения на социально-политические темы, т. I. М., 1932, стр. 134—141, 234—257. Статья П. Н. Ткачева впервые была опубликована в журнале «Дело», 1867, №11. Рецензия опубликована в этом же журнале за 1868 г., № 4; К. Каутский. Германская реформация и Томас Мюнцер. — К. Каутский. Предшественники новейшего социализма, т. И. М. — Л., 1925, стр. 5—81.
5 Я. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве. — Труды Рязанской ученой архивной комиссии, 1897, т. XII, вып. 2, стр. 107—160; вып. 3, стр. 329—354.
6 Подробнее о первых изданиях работы В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» см. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 575—577.
7 Речь идет о статье Н. Е. Федосеева. Историческая справка. —. Я. Федосеев. Статьи и письма. М., 1958, стр. 274—295.
8 «История России в XIX веке», т. 1—9, изд. бр. Гранат. СПб., [1907—г-1911].
9 «История русской литературы». Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 1—5. М., изд. «Мир», 1908—1910.
10 М. Н. Покровский имеет в виду свою работу «Русская история с древнейших времен», 9-я и 10-я книги которой были в 1912 и в 1913 гг. по постановлению цензуры изъяты и уничтожены (см. книгу 2-ю настоящего издания, стр. 606—607, примеч. 1).
11 См. книгу 2-ю настоящего издания.
12 Имеется в виду издательство «Мир», основанное в 1906 г. в Москве. Имело отделения в Петербурге, Киеве, Харькове и Одессе,
Примечания
611
существовало на правах кооперативного товарищества. В 1934 г. слилось с издательством художественной литературы.
13 См. «Аграрное движение в России в 1905—1906 гг.», ч. I и II. Издание Вольного экономического общества. СПб., 1908.
14 По-видимому, М. Н. Покровский имеет в виду письмо Ф. Энгельса Йозефу Блоху в Кенигсберг 21 [—22] сентября 1890 г . — К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Перевод, редакция и примеч. В. В. Адоратского, изд. 3. М. — Л., 1928, стр. 337—338; К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 394—395.
15 В. И. Ленин. О нашей революции (по поводу заметок Н. Суханова).—Собр. соч., изд. 1, т. XVIII, ч. 2, стр. 120; Поли. собр. соч., т. 45, стр. 378, 382.
Н. А. РОЖКОВ
1 Стенограмма доклада М. Н. Покровского в Обществе историков- марксистов 14 февраля 1927 г. на заседании, посвященном памяти Н. А. Рожкова.
2 Н. А. Рожков. Происхождение сословий в России. — «Образование», 1899, № 7—8, стр. 30. Год (1898) указан М. Н. Покровским ошибочно. Цитируемая им статья написана Н. А. Рожковым в 1899 г.
3 Н. А. Рожков. Ответ г. Батину. — «Мир божий», 1901, N° 8, стр. 25. При публикации доклада М. Н. Покровского в журнале «Историк- марксист» цитата была передана неточно. В настоящем издании она исправлена по указанному источнику.
4 См. письмо Ф. Энгельса Йозефу Блоху в Кенигсберг 21 [—22] сентября 1890 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. Перевод, статья и примечания В. В. Адоратского, изд. 2. М., 1923, стр. 303—304; К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 394—395.
6 Н. А. Рожков. Из русской истории. Очерки и статьи. Пг., 1923, стр. 3.
6 В журнале «Историк-марксист» цитата приведена неточно. Исправлена по тексту книги Н. А. Рожкова «Русская история в сравнительно- историческом освещении (основы социальной динамики)», т. 4. Дворянская революция в России. М. — Пг., 1923, стр. 51.
7 Имеются в виду статьи В. И. Ленина «Манифест либеральной рабочей партии» и «Из лагеря столыпинской «рабочей» партии». — Поли. собр. соч., т. 20, стр. 396—409, и т. 21, стр. 23—28.
8 М. Я. Покровский. Новая книга по новейшей истории (Я. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики), т. 12. Финансовый капитализм в Европе и революция в России). — «Большевик», 1926, № 12, стр. 72—80.
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК
1 Я. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч. в 10-ти томах, т. I. СПб., 1906, стр. 367; Поли. собр. соч. в 16-ти томах, т. II. М., 1949, стр. 546. Статья, о которой идет речь, относится не к 1854 г., как указывает М. Н. Покровский, а к 1855 г. («Современник», 1855, № 4 и 5. Критика).
При подготовке последнего издания сочинений Н. Г. Чернышевского некоторые его произведения, в частности «Дневники», написанные шифром, были заново расшифрованы, что позволило уточнить их текст,
20*
612
Примечания
В настоящей книге приводимые М. Н. Покровским цитаты из произведений Н. Г. Чернышевского даются по уточненному тексту последнего издания.
2 В. Г. Чернышевский. Из автобиографии. — В. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I. М. — Л., 1928, стр. 3—125; Поли. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 566-691.
3 В. Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии («Очерки вопросов практической философии». Сочинение П. Л. Лаврова. I. Личность. СПб., I860). —Поли. собр. соч., т. VI. СПб., 1906, стр. 221— 222; Поли. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 273—274.
4 Там же, т. VI, 1906, стр. 217; т. VII, 1950, стр. 268.
6 В. Г. Чернышевский. Примечания к книге Д. С. Милля «Основания политической экономии». — Поли. собр. соч., т. VII, 1906, стр. 21; Полн. собр. соч., т. IX. М., 1949, стр. 25.
6 В. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. — Полн. собр. соч., т. II, 1906, стр. 165; Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, стр. 182-183.
7 В. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VI, 1906, стр. 180; Полн. собр. соч., т. VII, 1950, стр. 223—224.
8 В. Г. Чернышевский. О причинах падения Рима (Подражание Монтескье). —Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1906, стр. 158; Полн. собр. соч., т. VII, 1950, стр. 645.
9 В. Г. Чернышевский. Суеверие и правила логики. — Полн. собр. соч., т. IV. М., 1906, стр. 562—563; Полн. собр. соч., т. V. М., 1950, стр. 703, 708.
10 «Современник», 1859, № 10.
11 В. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, 1906, стр. 587; Полн. собр. соч., т. IV, 1948, стр. 7—8.
12 М. Н. Покровский цитирует рецензию Н. Г. Чернышевского на статью Б. Н. Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России». — В. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 645.
13 В. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I. М. — Л., 1928, стр. 323; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 171.
14 В. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I, стр. 265; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 109—110.
15 В. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I, стр. 442; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 298.
16 В. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I, стр. 266; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 110.
17 «Революция 1848 г. во Франции (Донесения Я. Толстого)», изд. Центрархива. Л., 1925, стр. 42, 86, 87.
18 А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии. — Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. VI. Пг., 1919, стр. 74; Собр. соч. в 30-ти томах, т. V. М., 1955, стр. 151.
19 А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. VI, 1919, стр. 76; Собр. соч., т. V, 1955, стр. 152.
20 А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. VI, 1919, стр. 95, 99; Собр. соч., т. V, 1955, стр. 174, 179.
21 В. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VI, 1906, стр. 53; Полн. собр. соч., т. VII, 1950, стр. 64.
22 См. В. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, 1950, стр. 1010, 1011. «Рабочая мысль» ^ газета «экономистов», издавалась с октября 1897 по декабрь 1902 г.
Примечания
613
23 Н. Г. Чернышевский. Полы. собр. соч., т. VII, 1906, стр. 629; Поли, собр. соч., т. IX, 1949, стр. 348—349.
24 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. III, 1906, стр. 303; Поли, собр. соч., т. IV, 1948, стр. 341.
25 Я, Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IV, 1906, стр. 21—22; Поли. собр. соч., т. V, 1950, стр. 29—30.
26 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III (исторические работы). ГИЗ. М., 1921, стр. 49; в новом переводе см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 7, стр. 29.
27 А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. VI, 1919, стр. 90; Собр. соч., т. V, 1955, стр. 169.
28 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, 1906, стр. 15; Полн. собр. соч., т. V, 1950, стр. 22.
29 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, ч. 2, 1906, стр. 299 (в журнале «Историк-марксист» т. XI указан ошибочно); Полн. собр. соч., т. X, 1951, стр. 97.
30 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, ч. 2, 1906. Отдельные статьи, стр. 295; Полн. собр. соч., т. X, 1951, стр. 92. Разрядка М. Н. Покровского.
31 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, 1906, стр. 371; Полн. собр. соч., т. V, 1950, стр. 500.
32 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, 1906, стр. 526; Полн. собр. соч., т. V, 1950, стр. 711.
33 В издании «Дневников» Н. Г. Чернышевского 1928 г. слова «своему переросшему» и «имение» не были точно расшифрованы, и, цитируя это место, М. Н. Покровский пропустил их.
34 Я. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I, стр. 276, 277; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 121, 122.
35 Я. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I, стр. 496; Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 355—356.
36 В. И. Ленин. Замечания на второй проект программы Плеханова. — Сочинения, изд. 2, т. V, стр. 33; Полн. собр. соч., т. 6, стр. 234.
37 Речь идет о знаменитом «Письме из провинции», напечатанном 1 марта 1860 г. в 64-м листе «Колокола» за подписью «Русский человек». Обзор литературы о «Письме» см. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV. М., 1958, стр. 541—542. См. также Я. Я. Эйдельман. Еще раз о письме «Русского человека». — «Революционная ситуация в России». Отв. ред. М. В. Нечкина. М., 1963, стр. 298—305.
38 Мих. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов (по архивным документам), изд. 2. М. — Пг., 1923, стр. 168—169; «Колокол». Факсимильное издание, вып. III, 1860. М., 1962, стр. 533—534. В тексте статьи М. Н. Покровского, опубликованной в журнале «Историк- марксист», в этой цитате вместо слов «обширном прогрессе» ошибочно напечатано «о мирном процессе».
39 Точное название прокламации: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» {Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XVI. М., 1953, стр. 947—953).
40 Г1о-видимому, М. Н. Покровский имеет в виду свою работу «Очерки по истории революционного движения в России в XIX и XX вв.», изд. 2. М. — Л., 1927, где он назвал Н. Г. Чернышевского «родоначальником меньшевистской тактики» (стр. 47).
41 В. 0. Ленин. Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. I, стр. 116; Полн. собр. соч., т. 17, стр. 211.
614
Примечания
42 В. И. Ленин. Собр. соч., изд. 1, т. XI, ч. 2, стр. 260, 262; Поли, собр. соч., т. 20, стр. 172, 174.
43 В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Собр. соч., изд. 1, т. X, стр. 306; Поли. собр. соч., т. 18, стр. 384. Разрядка М. Н. Покровского.
44 В. Г. Чернышевский. Заметки о журналах (Из № 5 «Современника», апрель 1857). —Поли. собр. соч., т. III, 1906, стр. 181; Поли. собр. соч., т. IV, 1948, стр. 745.
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЗАДАЧИ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ
1 Вступительная речь на открытии Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов 28 декабря 1928 г.
2 Генуэзская международная конференция (с 10 апреля по 19 мая 1922 г.) по экономическим и финансовым вопросам занималась преимущественно «русским вопросом». Представители капиталистических государств пытались добиться от Советского правительства экономических и политических уступок, среди них признания долгов царского правительства, возвращения иностранным капиталистам национализированных предприятий, ликвидации монополии внешней торговли и т. д. Обсуждение финансово-экономических вопросов было продолжено на Гаагской конференции 1922 г. В ходе Генуэзской конференции советской дипломатии удалось прорвать единый империалистический фронт и заключить с Германией Раппальский договор.
3 М. Н. Покровский имеет в виду посещение французским генералом Лероном в 1928 г. Варшавы и Бухареста. «Вся европейская пресса, не только наша, советская, обратила внимание на участившиеся поездки в ближайшие к нам страны французского генерала Лерона» (Из доклада М. М. Литвинова на IV сессии ЦИК СССР 10 декабря 1928 г. — М. М. Литвинов. Внешняя политика СССР. Речи и заявления. 1927-^1935. М., 1935, стр. 13).
4 Публий Корнелий Тацит. О Германии. — Сочинения, т. I. СПб., 1886.
5 Представители Общества историков-марксистов принимали участие в работе Недели советских историков в Берлине (7—14 июля 1928-г.) и Международного исторического конгресса в Осло с 14 по 19 августа 1928 г. О Неделе советских историков в Берлине см. статью Е. Б. Пашу- каниса в «Вестнике Коммунистической академии», кн. XXX(6), 1928, стр. 238—246. О конгрессе в Осло см. М. И. Покровский. О поездке в Осло. — «Вестник Коммунистической академии», кн. XXX (6), 1928, стр. 231—237. Доклад о поездке в Осло М. Н. Покровский сделал на заседании президиума Коммунистической академии 15 декабря 1928 г.
6 См. статью «Ленинизм и русская история» на стр. 28—45 настоящей книги.
7 К. В. Кудряшов. Русский исторический атлас. Предисл. М. Н. Покровского. М. — Л., 1928.
8 Институт Красной профессуры был организован в 1921 г. в Москве с целью подготовки преподавателей общественных наук для высших учебных заведений, а также работников научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов; существовал до 1930 г. В 1930 г. вместо единого ИКП создан ряд отдельных институтов (экономический» философский, исторический И др.). Ректором ИКП q 1921 по 1932 г. был М. Н. Покровсцищ
Примечания
615
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ
1 М. Н. Покровский имеет в виду Общество историков-марксистов, основанное в 1925 г. при президиуме Коммунистической академии. Первоначально оно возникло как организация историков Москвы, но вскоре стало фактически всесоюзным научным обществом. На конференции, проходившей в декабре 1928 —январе 1929 г., была принята резолюция о создании Всесоюзного общества историков-марксистов и окончательно оформлена его структура. Оно существовало до 1933 г.
2 А. И. Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917; А. И. Заозерский. Царская вотчина XVII века. Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича. 2-е, просмотр. и испр. изд. М., 1937.
3 Персимфанс — Первый симфонический ансамбль Моссовета — симфонический оркестр без дирижера, известный своей концертной деятельностью в Москве в 1922—1932 гг. (с 1927 г. — заслуженный коллектив республики).
4 Коммунистическая академия — высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, основанное в Москве в июне 1918 г. по инициативе В. И. Ленина. До апреля 1919 г. именовалась Социалистической академией общественных наук, в 1919—1924 гг. — Социалистической академией; в апреле 1924 г. переименована в Коммунистическую академию. В феврале 1936 г. Комакадемия была ликвидирована, ее учреждения и институты переданы Академии наук СССР.
5 В. И. Ленин. О национальной гордости великороссов. — Поли, собр. соч., т. 26, стр. 106—110.
6 Отчет о Всесоюзной конференции историков-марксистов с кратким изложением содержания докладов и сообщений см. «Историк-марксист», 1929, т. XI, стр. 216-265.
7 Н. Марр. К вопросу об историческом процессе в освещении яфетической теории. — «Труды Первой Всесоюзной конференции историков- марксистов», т. II. М., 1930, стр. 267—292.
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА СССР. ПРОЛЕТАРИАТ ЦАРСКОЙ РОССИИ»
1 См. В. И. Ленин. О статистике стачек в России. — Поли. собр. соч., т. 19, стр. 377—406. IV.IV. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВЫСШАЯ ШКОЛА РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
1 См. Ф. Ф. Королев. Из истории народного образования в Советской России (низшие и средние профессиональные школы и высшее образование в 1917—1920 гг.). —«Известия Академии педагогических наук РСФСР», вып. 102, 1959, стр. 100. Там же см. подробности о совещании по вопросу о реформе высшей школы, которое продолжалось с 8 по 15 июля 1918 г.
2 Домов — псевдоним М. Н. Покровского.
616
Примечания
ОБЩИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
1 Доклад, сделанный М. Н. Покровским как заместителем народного комиссара просвещения на 1-м Всероссийском съезде учителей-интерна- ционалистов 3 июня 1918 г., и его заключительные слова на заседаниях съезда 4 и 5 июня. 1-й Всероссийский съезд учителей-интернационали- стов состоялся в Москве 2—6 июня 1918 г. Съезд объединил учителей — наиболее активных сторонников Советской власти. На четвертом заседании съезда 5 июня 1918 г. выступил В. И. Ленин (см. Поля. собр. соч., т. 36, стр. 420—421).
Союз учителей-интернационалистов был создан в декабре 1917 г. в противовес контрреволюционному Всероссийскому учительскому союзу (распущен в декабре 1918 г.). Новый союз объединил учителей, перешедших на сторону Советской власти. Он оказал большую помощь Народному комиссариату по просвещению и стал основным ядром образовавшегося в августе 1919 г. Союза работников просвещения.
Доклад и заключительные речи М. И. Покровского были опубликованы с некоторыми сокращениями.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1 2-й Всероссийский съезд учителей-интернационалистов состоялся в Москве 12—19 января 1919 г. 18 января 1919 г. на съезде выступил В. И. Ленин (см. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 430—433).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОМПРОСА
1 Настоящая статья была написана М. Н. Покровским в связи с проведенной в 1921 г. реорганизацией Наркомпроса. 11 февраля 1921 г, В. И. Ленин подписал новое «Положение о Народном комиссариате по просвещению», по которому органами Наркомпроса стали: академический центр, или центр общего теоретического и программного руководства, с двумя секциями — научной (Государственный ученый совет) и художественной, организационный центр и четыре главных управления: 1) социального воспитания и политехнического образования детей до 15 лет, 2) профессионально-политехнических школ (с 15 лет) и высших учебных заведений (Главпрофобр), 3) внешкольное, ведающее всеми видами внешкольной, преимущественно политико-просветительной, работы среди взрослых (Главполитпросвет), 4) Главное управление государственным издательством (Госиздат). См. «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства», 1921, № 12, ст. 78. Председателем Академического центра был назначен М. Н. Покровский.
2 В январе 1920 г. издан декрет об учреждении Главного комитета по профессионально-техническому образованию (Главпрофобр).
3 См. примечание 8 на стр. 614.
4 ЦГАОР, ф. 2306, оп. 2, д. 706, ч. 2, л. 262—263.
5 См. примечание 1 к статье «От Истпарта» на стр. 619.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ И ЕГО РАБОТА
1 С 1919 г. М. И. Покровский был председателем ГУСа — руководящего научно-методического центра Наркомпроса. ГУС разрабатывал вопросы социального воспитания, профессионально-технического обра¬
Примечания
617
зования, политико-просветительной, научно-исследовательской работы и научно-художественной деятельности. В соответствии с этим ГУС состоял из четырех секций (научно-педагогической, научно-политической, научно-технической, научно-художественной), Центрального методического бюро и Комиссии по подготовке научных работников.
НАУКА В РОССИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ (1918—1923)
1 А. Тимирязев. Наука в Советской России за пять лет. М., 1922, стр. 5.
2 Курсив А. К. Тимирязева, который цитирует работу И. П. Павлова «Экспериментальная психология и психопатология на животных». Речь на Международном медицинском конгрессе в Мадриде в апреле 1903 г. (см. И. П. Павлов. Поли. собр. соч., т. III, кн. 1, стр. 27). Далее следует текст А. К. Тимирязева.
3 А. Тимирязев. Наука в Советской России за пять лет, стр. 20—22.
4 Статья М. И. Покровского «Наука в России за пять лет» впервые была опубликована в журнале «Призыв». Орган культработы профсоюзов, кн. 1. М., 1923, стр. 70—78.
К УЧИТЕЛЬСКОМУ СЪЕЗДУ
1 Речь идет о I Всесоюзном учительском съезде, который состоялся 12—18 января 1925 г.
2 В. И. Ленин. Речь на 1-м Всероссийском съезде работников просвещения и социалистической культуры 31 июля 1919 г. — Поли. собр. соч., т. 39, стр. 131—132, 133.
3 В. И. Ленин. Странички из дневника. — Поли. собр. соч., т. 45, стр. 366.
4 Статья М. Н. Покровского была также опубликована в журн. «Коммунистическая революция», 1925, № 2, и в сборн. «Учительство на новых путях». Л., 1925, стр. 5—13.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ УЧИТЕЛЬСКОГО СЪЕЗДА 11 М. П. Покровский. К учительскому съезду. См. настоящую книгу, стр. 498—505.
2 Я. А. Яковлев. Об учителе-общественнике. — «Учитель и революция». Сборник статей и материалов. М., 1925, стр. 63. В журн. «Большевик», 1925, № 2 (18), ошибочно «24 волостей».
3 П. Виноградская. Современная деревня. — «Печать и революция», 1924, кн. VI, стр. 97. Статья П. Виноградской представляет собой развернутый обзор сборника «Старый и новый быт» под ред. проф. Тан- Богораза. Л., 1924. В сборнике помещены очерки студентов Ленинградского географического института и университета, участвовавших в этнографических экскурсиях по губерниям северо-западного края.
4 «Учитель и революция», стр. 64—69.
6 В. И. Ленин. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. — Собр. соч., изд. I, т. XVII, стр. 219; Поли. собр. соч., т. 41, стр. 147.
618
Примечания
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАРКОМПРОСА
1 Вступительное слово и речь М. Н. Покровского на торжественном заседании коллегии Народного комиссариата просвещения 14 ноября 1927 г., посвященном десятилетнему юбилею Наркомпроса и десятилетию пребывания А. В. Луначарского на посту наркома просвещения.
2 По-видимому, М. Н. Покровский неточно цитирует речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г. «Задачи союзов молодежи», где говорится: «...Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме». — Поли. собр. соч., т. 41, стр. 304.
3 А. В. Луначарский. О преподавании истории в коммунистической школе (Лекция, прочитанная на сентябрьских педагогических курсах в Петербурге в 1918 г.).—А. Луначарский. Проблемы народного образования. Сборник статей, изд. 2. М., 1925, стр. 112, ИЗ, 120.
КАКАЯ НАМ НУЖНА СРЕДНЯЯ ШКОЛА
1 М. Кравченко. Общественность Украины о системе просвещения. — «Народное просвещение. Вопросы политики и организации народного просвещения», 1929, № 2, стр. 66—81.
2 Партийное совещание по вопросам народного образования проходило в Москве с 31 декабря 1920 по 4 января 1921 г.
3 В. И. Ленин. О работе Наркомпроса. — Поли. собр. соч., т. 42, стр. 323. В. И. Ленин ссылается на «Приложение к бюллетеню VIII съезда Советов, посвященное партийному совещанию по вопросам народного образования», изд. ВЦИК, 10 января 1921 г., и на «Директивы ЦК РКП коммунистам — работникам Наркомпроса (в связи с реорганизацией комиссариата)»; напечатаны в «Правде» (№ 25) от 5 февраля 1921 г. См. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 319—321.
4 «Народное просвещение», 1929, N° 2, стр. 75.
6 Ссылка ошибочна. По-видимому, М. Н. Покровский использовал статью Н. Н. Ильина «Увязка профессионального образования с общим в американских школах». — «На путях к новой школе», 1928, № 7—8, стр. 95—111.
6 Е. Гуро. Новая массовая школа II ступени в Англии. — «На путях к новой школе», 1928, № 10—И, стр. 134—135.
7 Е. Гуро. Библиография по политехнизму в капиталистических странах. — «На путях к новой школе», 1929, № 3, стр. 77.
8 КОР —Клуб имени Октябрьской революции.
СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
1 В январе 1929 г. ГУС был реорганизован, его структура значительно упрощена. Одновременно был расширен состав ГУСа. В него вошли выдающиеся теоретики и практики различных отраслей просвещения. В мае 1929 г. состоялась первая сессия реорганизованного ГУСа (см. М. Н. Покровский. К итогам первой сессии ГУС. — «Народное просвещение», 1929, № 5, стр. 7—10).
2 Концентризм в обучении — принцип построения школьных курсов основ наук, при котором часть учебного материала повторно, но с разной степенью глубины изучается на нескольких ступенях обучения.
Примечания
619
В 20-е годы советская школа имела следующую структуру: школа первой ступени (1—4 классы), первый концентр второй ступени (5—7 классы), второй концентр второй ступени (8—9 классы).
3 Кроме журнала «Народное просвещение» статья М. Н. Покровского «Система народного образования РСФСР» была напечатана также в изданиях «На путях к новой школе». М., 1929, № 3, стр. 33—40, и «Материалы к Ленинградскому областному партийному совещанию по вопросам народного просвещения», изд. ЛОНО. [Л.], 1929, стр. 1—22.
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ
1 П. К. Крупская. «К вопросу о свободной школе». — «Свободное воспитание», 1909—1910, № 7, стб. 5—6; Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 1. М., 1957, стр. 114. «Свободное воспитание»—педагогический журнал, издававшийся в Москве в 1907—1917 гг.
2 В тексте статьи М. Н. Покровского, опубликованной в журнале «Народное просвещение», ошибочно напечатано «в 1912 году».
3 Н. К. Крупская. Контроль сверху и контроль снизу в деле народного образования. — Н. Крупская. Вопросы народного образования, изд. 2. Берлин, 1922, стр. 24; Педагогические сочинения, т. 2. М., 1958, стр. 43.
4 В. Крупская. Вопросы народного образования, изд. 2, стр. 23—24; Педагогические сочинения, т. 2, стр. 42—43.
5 Я. К. Крупская. Вопрос о трудовой школе на Берлинском конгрессе немецких учителей. — «Свободное воспитание», 1912—1913, № 7; Педагогические сочинения, т. 1, стр. 183—195.
6 Я. К. Крупская. К вопросу о социалистической школе. — «Народное просвещение». Социалистический орган, общественно-политический, педагогический и научный (Пг.), 1918, № 1—2, стр. 42; Педагогические сочинения, т. 2, стр. 15.
7 Статья Н. К. Крупской «Задачи профессионального образования» была опубликована в газете «Народное просвещение» (приложение к газете «Известия ВЦИК»), 1918, № 2; Педагогические сочинения, т. 4. М., 1959, стр. 20-21.
8 Я. Крупская. Воспоминания. М. — Л., 1926, стр. 54; Я. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1957, стр. 46.
9 В сокращенном виде статья М. Н. Покровского «Надежда Константиновна Крупская» была впервые опубликована 27 февраля 1929 г. в газетах «Известия» и «Правда».
V. АРХИВНОЕ ДЕЛО
ОТ ИСТПАРТА
1 1 июня 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». По этому декрету все документы, хранящиеся в архивах, составили Единый государственный архивный фонд, подлежащий ведению Главного управления архивным делом.
В марте 1919 г. Совнарком принял^ второй декрет — «О хранении и уничтожении архивных дел», имевший первостепенное. значение для обеспечения сохранности документов, ценных в политическом и науч¬
620
Примечания
ном отношении. Вслед за этим после большой подготовительной работы в сентябре 1920 г. вышло постановление ЦК РКП (б) и Совнаркома о создании Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП (б) (Истпарт). Почти одновременно коллегия Цеитрархива (Главархива) вынесла постановление об организации Государственного архива РСФСР, в состав которого вошли архив бывшего министерства иностранных дел, Историко-революционный архив и Архив Октябрьской революции.
М. Н. Покровский возглавлял Центрархив и одновременно входил в состав коллегии Истпарта.
Статья «От Истпарта» написана М. Н. Покровским и напечатана в № 1 журнала «Пролетарская революция» за 1921 г. как редакционная.
2 «Русская старина» — ежемесячный исторический журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг. Основателем и редактором-издателем до 1892 г. был историк В. И. Семевский. «Русский архив» — ежемесячный исторический журнал, издававшийся в Москве в 1863—1917 гг. Основателем и редактором-издателем (до конца 1912 г.) был археограф и библиограф П. И. Бартенев.
3 А. Тун. История революционных движений в России. Женева, 1903.
4 Речь идет о статье Д. И. Писарева, не имеющей названия и условно озаглавленной «О брошюре Шедо Ферроти». — Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2. М., 1955, стр. 120—126. О публикациях этой статьи см. там же, стр. 408—410.
5 «Былое» — журнал по истории революционного движения в России. Основан В. Л. Бурцевым, который в 1900—1904 гг. издавал его за границей; в 1906—1907 гг. журнал издавался в Петербурге; в 1907 г. был запрещен и в 1908 г. его отчасти заменил журнал истории и литературы «Минувшие годы». В 1908—1913 гг. «Былое» издавалось в Па-? риже, а летом 1917 г. возобновилось его издание в Петрограде (до 1926 г.). «Полярная звезда» — литературные и общественно-политические сборники, издававшиеся ежегодно в 1855—1862 и 1869 гг. А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в «Вольной русской типографии» в Лондоне (последняя книга вышла в Женеве).
6 Патерик (от греческ. «патер», русское наименование «отечник») — название сборников церковно-религиозного содержания, возникших в Византии. Они составлялись из отдельных повестей о подвижнической жизни монахов. Печерский патерик — один из известнейших памятников русской древне-церковной письменности.
7 «Пролетарская революция» — журнал Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП (б). Издавался в Москве с 1921 по 1941 г.
АРХИВНОЕ ДЕЛО В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 11 Две речи М. Н. Покровского на съезде архивных деятелей РСФСР 14—19 марта 1925 г.
2 Первая Всероссийская конференция архивных деятелей происходила в Москве 29 сентября = 3 октября 1921 г.
Примечания
621
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРХИВОВ
1 Речь М. Н. Покровского на открытии архивных курсов при Центрархиве РСФСР 21 ноября 1924 г.
2 В. И. Ленин. Материалы к выработке программы РСДРП. Замечания на первый проект программы Плеханова. — Поли. собр. соч., т. 6, стр. 195—202.
3 М. Н. Покровский. Маркс как историк. — «Вестник Социалистической академии». М. — Пг., 1923, кн. 4, стр. 27—37. Доклад М. Н. Покровского на торжественном заседании Института красной профессуры и Социалистической академии 14 марта 1923 г., посвященном 40-летней годовщине со дня смерти К. Маркса.
4 Подробнее о статьях А. А. Кизеветтера см. М. Н. Покровский. История и современность. — «На путях к новой школе», 1926, № 10, стр. 104.
5 См. «Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг.». Сборник секретных дипломатических документов. М., 1922; «Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis, 1911—1924», Bd. 1—4, Berlin, 1924—1925.
6 M. H. Покровский имеет в виду дневник Министерства иностранных дел, опубликованный в «Красном архиве» (т. 4, 1923, стр. 3—62) под заголовком «Начало войны 1914 г. Поденная запись бывш. министерства иностранных дел». См. также предисловие М. Н. Покровского к книге К. Каутского «Как возникла мировая война». — М. П. Покровский. Империалистская война. Сборник статей 1915—1927. М., 1928, стр. 121—149.
7 Речь М. Н. Покровского «Политическое значение архивов» была опубликована также в журн. «Архивное дело», 1925, вып. 2.
КУЛЬТУРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРХИВОВ
1 Речь на открытии 2-й конференции архивных деятелей РСФСР И января 1927 г.
2 Совещание в заключительном заседании (15 января 1927 г.) было переименовано во 2-ю конференцию архивных деятелей РСФСР.
3 См. настоящую книгу, стр. 561—570.
4 «Die Grosse Politik der europaischen Kabinette, 1871—1914, Samm- lung der diplomatiscben Akten Auswartigen Amtes». 40 V. Berlin, 1922— 1926.
5 «Пугачевщина», т. I. Из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка). М. — Л., 1926; «Восстание декабристов». Материалы, т. I. М. —Л., 1925; т. II. М. — Л., 1926; т. V. М. — Л., 1926; т. VIII (Алфавит декабристов). Л., 1925; «Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подгот. к печати Б. Е. Сыроечковский. М. — Л., 1926; А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 г. М. — Л., 1926; М. В. Печкина. Общество соединенных славян. М. — Л., 1927.
6 «1905. Аграрное движение в 1905—1907 гг.», т. I. М. — Л., 1925.
7 «Датский ученый об архивах Советской России». — «Архивное дело», вып. VII, 1926, стр. 123—125. (Перевод интервью, данного сотруднику газеты «Politikеп» датским профессором Оге Фриисом, работавшим в Москве летом 1925 г. в Центральном историческом архиве.)
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 1
Аввакум, протопоп 101 Август, римский император 336 Аделунг Иоганн Христоф (Ade- lung Iohann Christoph), немецкий лингвист и историк 316, 374, 375, 608.
Адоратский Владимир Викторович, историк, деятель коммунистической партии, заместитель заведующего Центрального архивного управления, директор ИМЭЛ 594, 595, 611 Азеф Евно Фишелевич, провокатор, секретный сотрудник Департамента полиции 150 Аксельрод Павел Борисович, один из лидеров меньшевиков и ликвидаторов, активный деятель II Интернационала; после Октябрьской революции эмигрант 13, 593 Александр I, русский император 273, 274, 293-297, 606 Александр II, русский император 44, 53, 75, 79, 276, 306, 324, 325, 329, 416, 417, 421, 422, 556
Александр III (Александр Александрович), русский император ИЗ, 156, 273, 274, 276, 322, 556, 606
Александр Александрович см. Александр III
Александра Федоровна, русская императрица, жена Николая II 115
Алексеев А. А., литературовед 608
Алексеев Василий Павлович, историк 598
Алексеев Михаил Васильевич, верховный главнокомандующий, один из организаторов белогвардейской «добровольческой армии» 84, 85 Алексей, сын Николая II 88, 89 Алексей Михайлович, русский царь 359, 441, 615 Алексинский Григорий Алексеевич, социал-демократ, в 1905—1907 гг. примыкал к большевикам, в годы реакции отзовист, с 1918 г. белоэмигрант 69
Алексинский Михаил Александрович, заведующий Московским отделом народного образования 528, 536 Анри В. А., физик 486 Аракчеев Алексей Андреевич, временщик при Александре I, главный начальник военных поселений 294—296 Аристов Николай Яковлевич, историк 356
Аристотель, древнегреческий философ и ученый 365, 435 Арцыбашев Николай Сергеевич, русский историк 607
Базаров (Руднев) Владимир Александрович, философ и экономист, социал-демократ; в 1905—1907 гг. примыкал к большевикам, в годы реакции пропагандировал богостроительство 41 Бакунин Михаил Александрович, революционер, один из идео-
1 Курсивом указаны имена и страницы, относящиеся к примечаниям, данным от редакции.
Именной указатель
623
логов анархизма и народничества 408, 555
Баллод Франц Владимирович, археолог 492
Барбес Арман, французский революционер-демократ, участник революции 1848 г. 415 Барнав Антуан, деятель французской революции конца XVIII в., социолог 375, 376 Барсков Яков Лазаревич, русский историк 272, 276 Бартенев Петр Иванович, археограф, библиограф, издатель 620
Батин П. см. Шишко Л. Э. Бауман Николай Эрнестович, революционер, большевик 197 Бах Алексей Николаевич, биохимик, академик, общественный деятель 487
Безобразов Александр Михайлович, статс-секретарь Николая II 115
Беккер Иоганн Филипп, деятель немецкого и международного рабочего движения, активный участник революции 1848— 1849 гг. в Германии 407 Белинский Виссарион Григорьевич 398, 496
Белов Георг фон, немецкий историк 227, 232
Беляев Михаил Алексеевич, военный министр (1917 г.) 84, 85, 86
Беляев Иван Дмитриевич, русский историк 311, 340 Бентам Иеремия, английский юрист и философ 399 Бердяев Николай Александрович, реакционный философ, мистик, идеолог «веховства» 380 Беркли Джордж, английский философ 240
Бернар Клод, французский естествоиспытатель, физиолог и патолог 458
Бибиков Александр Александрович, тайный советник, сенатор 601
Бибиков Александр Ильич, генерал-аншеф, участник подав¬
ления восстания Е. И. Пугачева 130, 601
Бирон Эрнст Иоганн, герцог Курляндский, регент России 89
Бисмарк Отто Эдуард фон, князь, германский государственный деятель, дипломат, первый канцлер Германской империи 236
Блан Луи, французский социалист-утопист, деятель революции 1848 г., историк 406— 408, 410
Бланки Луи Огюст, французский революционер, утопист-коммунист, участник революций 1830 и 1848 гг. 414, 415
Блонский Павел Петрович, психолог и педагог, активный участник строительства советской школы 481
Блох Йозеф, редактор журнала «Sozialistische Monatshefte» 610, 611
Блюм Роберт, немецкий политический деятель и публицист, участник революции 1848 г., расстрелян по приговору австрийского военного суда 406
Бобринские, графы, крупные землевладельцы и сахарозаводчики 171
Богданов (Малиновский) Александр Александрович, философ, социолог, экономист; с 1903 г. большевик, после революции 1905—1907 гг. отзовист 187, 188
Боголепов Николай Павлович, профессор римского права, министр народного просвещения в 1898—1901 гг. 149
Боголюбов см. Емельянов А. С.
Богучарский, также Б. Базилевский (Яковлев) Василий Яковлевич, историк революционного движения в России 273, 606
Боккачио Джованни, итальянский писатель, один из первых гуманистов эпохи Возрождения 237
624
Именной указатель
Бокль Генри Томас, английский историк, социолог-позитивист 317, 374, 402
Болотников Иван Исаевич, предводитель крестьянского восстания в начале XVII в. 291, 309, 390
Боргиус В.., 595
Борис Годунов, русский царь 289—291
Брейзиг Курт, немецкий социолог и историк 230
Булгаков Сергей Николаевич, экономист, публицист, «легальный марксист», идеолог «ве- ховства», в 1922 г. выслан из СССР 380, 476
Булыгин Александр Григорьевич, в 1905 г. министр внутренних дел 168
Буржен Жорж, французский историк 587, 620
Бурцев Владимир Львович, публицист, издатель и редактор, собиратель материалов по истории русского революционного движения, белоэмигрант 620
Быков Константин Михайлович, физиолог, академик 490
Быстрянский Вадим Александрович, советский историк, публицист, автор ряда работ, посвященных В. И. Ленину 21, 594
Бьюкенен Джордж, английский дипломат, в 1910—1918 гг. посол в России 94, 95, 600
Бэр Поль, французский зоолог и физиолог 458
Ванаг Николай Николаевич, советский историк 29, 443, 595
Ванцетти Бартоломео, американский рабочий-революционер 432
Василий Иванович Шуйский, русский царь 288—291, 341, 390, 607
Вейзенгрюи, немецкий историк 380
Вейнберг Я., литературовед 606
Величкина (Бонч-Бруевич) Вера Михайловна, большевичка,
заведующая Отделом охраны здоровья детей Наркомпроса 517
Вельсовский, подполковник 126, 127
Верньо Пьер, деятель французской революции конца XVIII в., один из лидеров партии жирондистов 407 Виндельбанд Вильгельм, немецкий философ-идеалист, историк философии 255 Виндишгрец Альфред, князь, австрийский фельдмаршал, в 1848 г. подавил революционные восстания в Праге и Вене 406
Виноградов Павел Гаврилович, русский историк 59, 60, 442, 597
Виноградская Полина Семеновна, историк 510, 617
Виппер Роберт Юльевич, русский историк, академик (с 1943 г.) 243, 381, 605
Витт, главный начальник военных поселений юга России 274 Витте Сергей Юльевич, граф, русский государственный деятель, в 1892—1903 гг. министр финансов, в 1903—1905 гг. председатель Комитета министров, в 1905—1906 гг. председатель Совета министров 43, 94, 115, 116, 129, 132, 180, 182, 192, 193, 207, 601, 603 Владимир Всеволодович Мономах, великий князь Киевский 285-288, 297, 336, 337 Владимир, великий князь, дядя Николая II 157
Владиславлев Михаил Иванович, философ-идеалист, профессор и ректор Петербургского университета 261 Воден А., переводчик 227 Волгин Вячеслав Петрович,' советский историк и общественный деятель, академик, член Государственного ученого совета 431
Волконский Николай Сергеевич, председатель Рязанской губернской земской управы,
Именной указатель
625
октябрист, автор трудов по крестьянскому вопросу 379, 610
Боровский Вацлав Вацлавович, советский государственный и партийный деятель, дипломат, публицист, литературный критик 496
Врангель Петр Николаевич, барон, генерал, руководитель контрреволюции на юге России 144, 478
Гакстгаузен Август, немецкий барон, автор работ об аграрном строе предреформенной России и русской общине 411
Гапон Георгий Аполлонович, священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», тайный агент полиции 125, 154, 158, 222
Гегель Георг Вильгельм Фридрих, 25, 268, 303-305, 310, 314,372, 374, 399
Гейне Генрих 284, 606
Гекели Томас Генри, английский биолог 458
Гельвеций Клод Адриан, французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии XVIII в. 374
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд, немецкий естествоиспытатель 458
Гервинус Георг Готфрид (Gervi- nus Georg Gottfried), немецкий историк, литературовед 257, 605
Геродот, древнегреческий историк 327
Герцен Александр Иванович 305—307, 357, 400, 406, 408, 414, 415, 421, 422, 496, 554, 596, 612, 613, 620
Гизо Франсуа Пьер Гийом, французский историк и политический деятель 32, 33, 231, 407, 409, 410, 604
Гиндин Иосиф Фролович, советский историк 443
Гоббс (Гоббз) Томас, английский философ XVII в. 399
Гоголь Николай Васильевич 496, 499
Голиаф, библейский персонаж 578
Голицын Николай Дмитриевич, князь, последний председатель Совета министров царской России 86
Гольцев Виктор Александрович, русский публицист, литературный критик 605
Гомер, легендарный поэт Древней Греции 259
Горин Павел Осипович, советский историк, ученый секретарь общества историков- марксистов 35
Гофман Макс, немецкий генерал 102
Граве Берта Борисовна, советский историк 454, 602
Гранат А. Н., руководитель издательства, основанного в конце XIX в. в Москве и в 1917 г. переименованного в Библиографический институт (выпустило помимо энциклопедии ряд трудов по истории и общественным вопросам) 610
Грановский Тимофей Николаевич, историк, общественный деятель 442, 443
Грановский Евгений Львович, советский историк 443
Грей Эдуард, лорд Фаллодон, английский политический деятель и дипломат, в 1905— 1916 гг. министр иностранных дел 582
Григорьев Матвей, рабочий, участник Казанской демонстрации 1876 г. 79, 80
Гриневецкий Василий Игнатьевич, теплотехник, профессор Московского высшего технического училища 523, 525
Грушевский (Грушевський) Михаил Сергеевич, украинский историк 344, 345, 609
Гуро Е., автор статей по педагогике 618
Гюбер Луи, участник французской революции 1848 г. 415
626
Именной указатель
Гучков Александр Иванович, лидер партии октябристов, в 1915—1917 гг. председатель Центрального военно-промышленного комитета, военный и морской министр Временного правительства, белоэмигрант 82, 88—90, 393
Давид, полулегендарный царь Израильско-Иудейского государства (XI—X в. до н. э.) 79, 578
Данилевский Николай Яковлевич, публицист, естествоиспытатель, идеолог пореформенного славянофильства. и панславизма 258, 259, 605 Дарвин Чарльз Роберт, английский биолог-материалист, основоположник научной теории развития органического мира 458, 476
Дауэс Чарльз Гейтс, американский банкир и политический деятель, вице-президент США (1925—1929); предложил репарационный план для Германии («план Дауэса») 577 Делянов Иван Давыдович, министр народного просвещения в 1882—1897 гг. ИЗ Деникин Антон Иванович, генерал, главнокомандующий контрреволюционными вооруженными силами юга России 14, 508
Депре, французский историк, профессор 436
Дзержинский Феликс Эдмундович 446
Дидро Дени, французский философ-материалист, просветитель, идеолог французской буржуазии XVIII в. 240 Дилтей (Dilthey) Вильгельм, немецкий философ-идеалист и историк 246, 605 Димитрий, царевич см. Дмитрий Иванович, царевич Димитров Георгий Михайлович, деятель болгарского и международного революционного
рабочего движения, руководитель Болгарской коммунистической партии 325 Дмитриева Руфина Петровна, советский историк 608 Дмитрий Иванович (Димитрий), царевич 289—291, 607 Добролюбов Николай Александрович 421
Довбор-Мусницкий Ю., генерал, командир польского корпуса, поднявший мятеж против Советской власти в начале 1918 г. 96
Допш Альфонс, австрийский историк 429, 434, 435, 438 Достоевский Федор Михайлович 547
Дубасов Федор Васильевич, адмирал, в 1905—1906 гг. московский генерал-губернатор, руководивший подавлением декабрьского вооруженного восстания в Москве 173, 182, 201, 202,'603
Дубровин Николай Федорович, генерал-лейтенант, военный историк, академик 601 Дубровский Сергей Митрофанович, советский историк 443, 586, 602, 603
Дурново Петр Николаевич, в 1905—1906 гг. министр внутренних дел 182
Духонин Николай Николаевич, генерал, после подавления мятежа Керенского — Краснова исполняющий обязанности верховного главнокомандующего 96
Дьяконов Михаил Александрович, русский историк, академик 343, 344, 608 Дюринг Карл Евгений, немецкий философ, экономист 371
Екатерина» II, русская императрица 129, 272, 296, 297, 308, 325, 342, 350, 359, 605 Екатерина Павловна, великая княгиня 293
Емельянов (Боголюбов) Андрей Степанович, член общества «Земля и воля», арестован во
Именной указатель
627
время Казанской демонстрации 1876 г. 76
Ермолов Алексей Петрович, генерал, военный и государственный деятель 131
Жданов Иван Николаевич, русский историк литературы, академик 608
Желябов Андрей Иванович, выдающийся революционер, один из руководителей партии «Народная воля» 382
Заичиевский Петр Григорьевич, революционер-народник 74
Заозерский Александр Иванович, русский историк 442, 615
Засулич Вера Ивановна, видная участница народнического, а затем социал-демократического движения, после II съезда РСДРП один из лидеров меньшевизма 76
Зиммель Георг, немецкий философ и социолог 233, 243, 264, 605
Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич, один из лидеров антипартийного блока 218, 506, 606
Зубатов Сергей Васильевич, начальник Московского охранного отделения 153, 154
Ибн-Халдун Абдуррахман Абу- Зейд, арабский историк и социолог XIV — начала XV в. 315, 373, 374
Ибсен Генрик, норвежский драматург 317, 608
Ивай I Данилович Калита, великий князь Московский 297
Иван III Васильевич, великий князь Московский 297, 336
Иван IV Васильевич (Иоанн Грозный), русский царь 241, 242, 267, 288, 289, 291, 297, 313, 336, 607
Иванов Леонид Михайлович, советский историк 603
Извольский (Iswolski) Александр Петрович, русский дипломат, в 1906—1910 гг. министр ино¬
странных дел, в 1910—1917 гг. посол в Париже 576, 621 Иконников Владимир Степанович, русский историк, академик 607
Иловайский Дмитрий Иванович, русский историк 258 Ильин Никифор Наумович, автор работ по педагогике и организации народного образования 618
Иосиф Волоцкий (Волоколамский), церковный писатель и публицист 476
Кавелин Константин Дмитриевич, русский историк права, социолог, публицист 44, 311, 442, 452, 461, 596 Кавеньяк Луи-Эжен, французский реакционный политический деятель, военный министр, подавивший восстание парижских рабочих в 1848 г. 88, 409, 412
Калачов Николай Васильевич, русский историк, юрист, археограф, академик 311, 608 Калинин Михаил Иванович 107, 568
Калинин Федор Иванович, член коллегии Наркомпроса, член редакции журнала «Пролетарская культура» 516 Каляев Иван Платонович, революционер, эсер 171, 556 Кант (Kant) Иммануил, немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма 229, 240, 241, 252, 258, 263, 399, 605 Каподистрия (Капо д’Истрия) Иоаннис, греческий государственный деятель, в 1809— 1827 гг. на русской дипломатической службе 295 Каракозов Дмитрий Владимирович, революционер-народник 185
Карамзин Николай Михайлович, русский историк, писатель, публицист 280, 291—300, 316, 344, 606, 607
628
Именной указатель
Карл Великий, франкский император, основатель династии Каролингов 252
Карл V, император Священной Римской импе.рии 297 Карл X, французский король 409 Карпов Лев Яковлевич, деятель русского революционного движения, один из организаторов советской химической промышленности 487 Кассо Лев Аристидович, в 1910— 1914 гг. министр народного просвещения России 459 Катков Михаил Никифорович, реакционный публицист и журналист 163, 258 Каутский Карл, один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала, впоследствии ренегат марксизма и революционного рабочего движения 22, 104, 378, 380, 385, 575, 604, 610, 621
Кауфман Илларион Игнатьевич, русский экономист и статистик 23
Каховский Петр Григорьевич, декабрист 274
Келтуяла Василий Афанасьевич, литературовед 353, 609 Керенский Александр Федорович, эсер, председатель Временного правительства и верховный главнокомандующий, белоэмигрант 94, 95, 97 Кершенштейнер Георг, немецкий педагог, теоретик буржуазной трудовой школы 547 Кизеветтер Александр Александрович, русский историк и публицист, кадет, в 1922 г. за контрреволюционную деятельность выслан из СССР 574, 575, 621
Клейгельс, петербургский градоначальник 116
Ключевский Василий Осипович, русский историк, академик 265—277, 280, 309, 310, 318, 320, 321, 323, 329—344, 346,
349, 354, 380, 400, 417, 442,
458, 605, 606, 608
Ковалевский Максим Максимович, русский историк, социолог, этнограф, академик 375, 379, 380, 388
Коваленский Михаил Николаевич, советский историк 481 Козлов Петр Кузьмич, географ и путешественник, исследователь Центральной Азии 491, 492
Козъмин Борис Павлович, советский историк 598 Коковцев Владимир Николаевич, министр финансов (1904— 1905, 1906-1914) 157, 602 Колумб Христофор 35, 230, 291 Колчак Александр Васильевич, адмирал, организатор контрреволюции в Сибири 14, 508 Кондорсе Жан Антуан, французский философ-просветитель, социолог и политический дея-4 тель 260, 375
Константин Николаевич, великий князь 556
Константин Павлович, цесаревич 274
Конт Огюст, французский философ и социолог 248, 249, 268, 605
Корнилов Александр Александрович, русский историк 276,606 Корнилов Лавр Георгиевич, генерал, главнокомандующий войсками Петроградского военного округа, верховный главнокомандующий, командующий белогвардейской «добровольческой армией» 88, 94
Королев Федор Филиппович, автор работ по истории советской педагогики 615 Корольчук Эсфирь Абрамовна, советский историк 77, 598, 600
Корф Модест Андреевич, русский историк, управляющий делами Комитета министров, статс-секретарь 606 Коссидьер Марк, французский революционер, участник революции 1848 г. 406, 407,
415
Именной указатель
629
Костомаров Николай Иванович, русский историк, этнограф и писатель 288, 344, 345, 405, 461, 607, 609
Кошелев Александр Иванович, общественный деятель и публицист 328
Кравченко М., историк 618 Кржижановский Глеб Максимилианович, деятель революционного движения, большевик, ученый-энергетик, академик; в 1920 г. возглавил ГОЭЛРО 27
Крижанич Юрий, священник- миссионер, представитель научной и общественно-политической мысли славян XVII в. 346
Кромвель Оливер, деятель английской буржуазной революции XVIi в., лорд-протектор Англии 62
Крупская Надежда Константиновна 15, 16, 481, 507, 515, 516, 522, 523, 544-550, 593, 619
Ксенополь A. (Xenopol Alexandra), румынский историк 255 Кугельман Людвиг, немецкий социал-демократ, участник революции 1848—1849 гг., член I Интернационала 23, 594, 595 Кудряшов Константин Васильевич, советский историк 436, 614
Кунов Генрих, немецкий историк, социолог, этнограф, социал-демократ 278 Куракина, княгиня 175 Куракины, князья 171 Курбский Андрей Михайлович, политический деятель и военачальник, писатель-публицист 288, 607
Кут Хальвдан, норвежский историк, председатель VI Международного конгресса историков в Осло (1928) 432, 433 Кутепов А. С., полковник царской армии, генерал «добровольческой армии», белоэмигрант 84
Кшесинская, фаворитка Николая И, балерина 116
Лавров Петр Лаврович, идеолог революционного народничества, философ и социолог 330—333, 608, 612
Ламартин Альфонс, французский политический деятель, историк, поэт 409
Лампрехт Карл, немецкий историк 228, 230
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич, историк, академик 281, 282, 369—376, 606, 610
Лаудаев Умалат, чеченский историк, офицер русской службы 601
Левассер (Levasseur Pierre Emile), французский экономист, историк, статистик и географ 316, 375, 608
Левин Кирик Никитич, работник Наркомпроса 517
Левицкий (Цедербаум) В. О., социал-демократ, меньшевик 41
Ледрю-Роллен Александр Огюст, французский политический деятель 406, 407, 415
Лелевич Г. (Могилевский Л.), советский историк, литератор 21, 594
Лембергская В., историк 603
Лемке Михаил Константинович, историк русского общественного движения и литературы 422, 612, 613
Ленин Владимир Ильич 5—7, 9— 19, 21, 22, 24-35, 37-42, 44, 46-48, 50—55, 60, 62, 71, 81— 83, 91-93, 95, 96, 99, 103, 104, 106, 117,119,134, 135,140-148, 152, 158, 159, 163, 165, 170,172, 173, 177, 178, 180, 183, 185,
188, 189, 193, 195, 205, 210,
212—221, 379—381, 385, 386, 391, 393, 395, 420, 424, 429,
432, 436, 446, 452—454, 479,
501, 504, 505, 511, 512, 515,
516, 520, 524, 525, 536, 544,
545, 561, 564, 569, 572-574,
577, 593-604, 610, 611, 613— 619, 621
630
Именной указатель
Леритье, французский историк 436
Лермонтов Михаил Юрьевич 39, 134, 350
Лерон, французский генерал, принимавший участие в 1920 г. в войне белополяков с Советским государством 427, 614
Лессинг Готхольд Эфраим, немецкий философ-просветитель, драматург и критик 403, 404
Лешков Василий Николаевич, русский историк 311 ЛжеДмитрий I (Отрепьев Григорий), авантюрист, самозванец 290, 291
Либих Юстус, немецкий химик 313, 314
Лилина Злата Ионовна, заведующая Ленинградским отделом народного образования 503 Линевич Николай Петрович, генерал 183 ■
Линднер Теодор, немецкий историк и философ 239 Литвинов Максим Максимовичу участник революционного движения, большевик, советский дипломат, нарком иностранных дел 614 Литкенс Евграф Александрович, заместитель наркома просвещения в 1921—1922 гг. 516 Локк Джон, английский философ-просветитель 239, 399 Локкарт Роберт, английский генеральный консул в России, глава антисоветского заговора 96
Луи Бонапарт см. Наполеон III Луи Филипп (Людовик-Филипп), французский король 409 Лукреций Кар Тит, древнеримский поэт и философ-материалист 315, 372
Луначарский Анатолий Васильевич 507, 515, 517-522, 618 Львов Георгий Евгеньевич, князь, председатель Совета министров (с марта по июль 1917 г.) 87, 88
Льюис Джордж Генри, английский журналист, литературный критик, философ 365 Люберсак Жан де, граф, офицер французской военной миссии, находившейся в России в 1917-1918 гг. 96 Людовик XIV, французский король 242, 243
Людовик XVIII, французский король 409
Людовик-Филипп см. Луи Филипп
Люксембург Роза, видный деятель международного рабочего движения 159 Лютер Мартин, деятель Реформации в Германии, основатель протестантизма 229, 236, 251
Мадзини Джузеппе, итальянский революционер, один из вождей национально-освободительного движения 433
Макиавелли Никколо, итальянский политический мыслитель и историк эпохи Возрождения 237
Максаков Владимир Васильевич, советский историк, архивист 585
Мариотт Эдм, французский физик 237
Мария Федоровна, императрица, жена Павла I 294
Марков Евгений Львович, писатель, публицист 601
Марков Николай Евгеньевич (Марков 2-й), крупный помещик, один из руководителей «Союза русского народа», белоэмигрант 53, 393,
598
Маркс Карл 6, 9, 17, 21—25, 28, 32-35, 46, 54, 55, 71, 142, 144, 188, 189, 212, 278, 303, 317,
348, 350, 361, 364, 369—371,
378, 380, 384, 400, 402, 412,
414, 424, 432, 449, 475, 495,
515, 520, 533, 572, 573, 594f
595, 597, 610, 611, 613, 617f
621
Именной указатель
631
Марр Николай Яковлевич, советский филолог, археолог и этнограф, академик 449, 615 Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович), один из лидеров меньшевизма, 'белоэмигрант 52, 53, 143, 147, 550, 595, 601 Мартынов (Пикер) Александр Самойлович, участник революционного движения в России, один из лидеров «экономизма», затем меньшевизма; в 1923 г. вступил в РКП (б) 216
Маслов Петр Павлович, экономист, меньшевик, автор работ по аграрному вопросу, академик (с 1929 г.) 595,600 Матьез (Матье, Mathiez) Альбер, французский историк 60,597 Мафусаил, в библейской мифологии долговечнейший из людей 262, 434
Мах Эрнст, австрийский философ и физик 263, 264 Мейер Эдуард (Meyer Eduard), немецкий историк древнего мира 227, 229, 245, 604 Меринг Франц, историк, философ и публицист, один из основателей Компартии Германии 380, 575 Мещерский, князь 115 Микулииский, князь 339 Милль Джон Стюарт, английский философ, экономист и социолог 247, 313, 398, 411, 612 Милорадович Михаил Андреевич, русский военный деятель, генерал-губернатор Петербурга 274
Мильтон Джон, английский поэт и публицист 399
Милюков Павел Николаевич, политический деятель, лидер кадетов, историк, публицист, белоэмигрант 83, 87, 94, 316, 343, 379, 380, 393, 476, 553, 607—609
Михаил Александрович, великий князь 87, 90, 91
Михаил Федорович Романов, русский царь, родоначальник династии Романовых 359
Михайловский Николай Константинович, социолог, литературный критик, публицист, видный теоретик народничества 36, 37
Мицкевич Адам, польский поэт и деятель освободительного движения 132
Моисей, библейский пророк и законодатель 375 Моммзен Теодор, немецкий историк 227, 231, 232, 605 Монтескьё Шарль Луи, французский философ-просветитель, историк, социолог 399 Морозов Тимофей Саввич, фабрикант 163
Муллов Павел Андреевич, юрист, автор работ по гражданскому и обычному праву 311 Муравьев Михаил Никитич, в 1803—1807 гг. товарищ министра народного просвещения, попечитель Московского университета 292, 293 Мюнцер Томас, предводитель восставших крестьян и городских низов в крестьянской войне 1524—1525 гг. 610
Навилль Адриан 250 Навуходоносор II, вавилонский царь 499
Наполеон I (Наполеон Бонапарт), французский император 399
Наполеон III (Луи Бонапарт), французский император 22, 336
Насон Дмитриевич, крестьянин 172
Неволин Константин Алексеевич, юрист, историк государства и права 343
Невский (Кривобоков) Владимир Иванович, деятель Коммунистической партии, историк 77, 598, 603
Нежданов М. М., инженер, помощник директора Тульского патронного завода 126 Некрасов Николай Алексеевич 39, 499
632
Именной указатель
Некрасов Павел Алексеевич, математик 605
Нечкина Милица Васильевна, советский историк, академик 454, 586, 613, 621 Николаев, рабочий 530 Николай I, русский император 185, 272-276, 289, 297, 320,
324, 325, 329, 338, 350, 351,
406, 421, 422, 499, 606 Николай II, русский император 44, 72, 73, 82, 84-90, 106, 114-116, 150-152, 155, 157,
161, 167-169, 180, 181, 183— 185, 198, 206, 207, 459, 498,
506, 599
Николай Александрович, сын Александра II 322 Николай Николаевич, великий князь, главнокомандующий русскими армиями в 1914— 1915 гг. 116
Новалис (псевдоним Фридриха фон Гарденберга), немецкий писатель 237
Ньютон Исаак, английский физик, астроном и математик 245, 476
Обнорский Виктор Павлович, рабочий-революционер, один из основателей «Северного союза русских рабочих» 78 Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич, русский литературовед и лингвист, почетный академик 610 Огановский Николай Петрович, экономист 402—404 Огарев Николай Платонович 620 Оккам Уильям (Вильгельм), английский философ и богослов XIV в. 263
Онкен Герман, немецкий историк 433
Орлов-Давыдов А., граф 171 Островский Александр Николаевич, драматург 472
Павел I, русский император 273, 606
Павленков Флорентий Федорович, книгоиздатель 609
Павлов Иван Петрович, физиолог, академик 476, 488—490, 617
Палеолог Морис, французский посол в России (1914— 1917 гг.) 94, 117, 158,600,602 Панкратова Анна Михайловна, советский историк, академик 447, 454, 600, 602 Пантелеев, генерал-адъютант 182, 603
Парвус (Гельфанд А. Л.), меньшевик 201
Пашуканис Евгений Брониславович, советский историк 614 Пересветов Иван Семенович, писатель-публицист XVI в. 346 Пестель Павел Иванович, декабрист, руководитель Южного общества декабристов 273— 275, 586
Петр I, русский царь, с 1721 г. император 53, 129, 241, 272, 341, 419
Петр III, русский император 308 Пешель Оскар, немецкий географ 347
Петров Антон, крепостной крестьянин, руководитель крестьянского восстания в с. Бездне (1861) 311
Пилсудский Юзеф, фашистский диктатор Польши в 1926— 1935 гг. 160 Пимен, летописец 283 Пирогов Николай Иванович, хирург, основоположник военно-полевой хирургии 461 Писарев Дмитрий Иванович 496, 555, 620
Платон, древнегреческий философ-идеалист 263 Платонов Сергей Федорович, русский историк, академик 280, 289, 290, 343, 359, 607 Плеве Вячеслав Константинович, в 1902—1904 гг. министр внутренних дел и шеф жандармов 74, 133, 150, 152 Плеханов Георгий Валентинович 24, 25, 59, 63, 73—75, 77, 78, 139, 140, 145, 147, 189, 208, 277, 299, 318, 346, 348—354, 356—361, 365, 367, 368, 379,
Именной указатель
633
380, 400, 410, 416, 422, 550, 572, 573, 598, 607, 609, 613, 620
Погодин Михаил Петрович, русский историк, публицист, писатель 340, 442, 607
Полибий, древнегреческий историк 372
Потапов Яков Семенович, рабочий фабрики Торнтона 79, 80, 598
Потресов (Старовер) Александр Николаевич, один из лидеров меньшевизма, белоэмигрант 41, 595
Пресняков Александр Евгеньевич, советский историк 586, 621
Прокопович Сергей Николаевич, экономист, министр продовольствия Временного правительства, белоэмигрант 148
Протопопов Александр Дмитриевич, помещик и фабрикант, октябрист, в 1916 г. министр внутренних дел 91
Пуанкаре Раймон, в 1913—1920 гг. президент Французской республики 213
Пугачев Емельян Иванович, предводитель крестьянской войны 1773-1775 гг. 117, 309, 358, 359, 421, 567, 621
Пуришкевич Владимир Митрофанович, монархист, реакционер-черносотенец 393, 598
Пушкин Александр Сергеевич 39, 274, 282, 291, 296, 496, 499
Радищев Александр Николаевич 416
Разин Степан Тимофеевич, предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг. 117, 309, 358, 359
Ранке Леопольд фон (Ranke Leopold), немецкий историк 232, 243, 251—253, 257, 398, 433, 437, 605
Распутин (Новых) Григорий Ефимович, авантюрист, пользовавшийся большим влиянием при дворе Николая II 87, 116
Риккерт Генрих (Rickert Heinrich) , немецкий философ- идеалист 227, 230—238, 241, 243-265, 604, 605 Робеспьер (Robespierre) Максимилиан Мари Изидор, деятель Французской революции конца XVIII в., глава якобинского правительства 60, 470, 597
Робинс, американский полковник 96
Родзянко Михаил Владимирович, один из лидеров октябристов, председатель III и IV Государственных дум, во время Февральской революции возглавил Временный комитет Государственной думы 85—91
Рождественский Дмитрий Сергеевич, советский физик, академик 486, 487
Рожков Николай Александрович, русский историк 30, 32, 39, 42, 51, 299, 346, 361—367, 386—394, 447, 507, 609—611 Розанов, физиолог 490 Романовы, династия русских царей и императоров 90, 291, 296, 297, 567
Ронин Соломон Лазаревич, советский историк 443 Ротштейн Федор Аронович, советский историк и общественный деятель, академик И, 476, 593
Рузский Николай Владимирович, генерал 85—89, 599 Руссо Жан-Жак, французский просветитель, философ 399 Рылеев Коидратий Федорович, русский поэт, декабрист 273— 275
Рюккерт Генрих (Ruckert Heinrich), немецкий историк 259. 605
Рюрик, князь 280, 283—285, 297 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович, участник социал- демократического движения, меньшевик; в 1931 г. исключен из ВКП(б) 444, 518, 587
634
Именной указатель
Савин Александр Николаевич, русский историк 442 Савич Владимир Васильевич, советский физиолог 490 Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностранных дел в 1910-1916 гг. 576, 577 Садуль Жак, французский социалист, член военной миссии в России, доброволец Красной Армии 96 Сакко Никола, американский рабочий-революционер 432 Святополк II Изяславович, киевский князь 286
Святополк-Мирский Петр Данилович, князь, министр внутренних дел (август 1904— январь 1905 г.) 152 Семевский Василий Иванович, русский историк 273, 606,620 Семенов, рабочий 530 Сергеевич Василий Иванович, русский историк права 271, 343, 344, 606608
Сергей Александрович, великий князь, московский генерал- губернатор 150, 171, 556 Сеченов Иван Михайлович, основоположник русской физиологической школы 458, 488 Сидоров Аркадий Лаврович, советский историк 443, 603 Сидоров Кузьма Федорович, советский историк 454 Сильвестр Выдубицкий, игумен монастыря св. Михаила в Киеве, один из составителей Начального летописного свода 285, 287
Сипягин Дмитрий Сергеевич, в - 1899—1902 гг. министр внутренних дел и шеф жандармов 150
Славянский Яков Степанович, однокурсник Н. Г. Чернышевского 406
Слепков А. Н., историк, публицист 41
Соловьев Александр Константинович, революционер-народник 76, 79
Соловьев Владимир Сергеевич, философ-идеалист, публицист и поэт 258, 259, 605 Соловьев Сергей Михайлович, русский историк, академик 271, 277, 280, 318, 320-323, 325, 326, 329, 330, 333-335, 337, 338, 349-353, 356, 358, 372, 442, 607, 608 Сперанский Михаил Михайлович, русский государственный деятель 340 Сперанский Н., историк 602 Сталин Иосиф Виссарионович 218, 219, 604 Стейн, археолог 492 Степанов Георгий Иванович, советский физиолог 490 Степанов-Скворцов (Скворцов- Степанов) Иван Иванович, партийный и советский государственный деятель, директор Института Ленина, литератор, историк, экономист 29 Столыпин Петр Аркадьевич, в 1906—1911 гг. министр внутренних дел и председатель Совета министров 74, 82, 115 Страхов Николай Николаевич, русский публицист 259 Струве Петр Бернгардович, экономист, публицист, представитель «легального марксизма», член ЦК партии кадетов, член правительства Врангеля, белоэмигрант 37, 144-146, 149, 158, 168, 169, 273, 360, 380, 476, 478, 595, 601, 606
Судзиловский Н. К., революционер-народник 13, 14 Сун Ят-сен, китайский революционер-демократ и государственный деятель 31 Сутерланд Александр, английский философ 363, 364, 610 Суханов Н. (Гиммер Н. Н.), экономист, меньшевик, руководитель подпольной меньшевистской организации 44 Сыроечковский Борис Евгеньевич, советский историк 621 Сэ Анри, французский историк 587, 620
Именной указатель
635
Тан-Богораз Владимир Германович (Тан Н. А. — псевдоним), советский этнограф, лингвист и иисатель 617 Тарле Евгений Викторович, советский историк, академик 587
Татаров Исаак Львович, советский историк 442 Тацит Публий Корнелий, древнегреческий историк 428, 434, 435, 614
Телятевский, князь 390 Темкин М., работник отдела единой школы Наркомпроса 465 Тетеро, фабричный инспектор 127
Тимирязев Аркадий Климентьевич, советский физик 488, 617
Тимирязев Климент Аркадьевич, естествоиспытатель - дарвинист, выдающийся ботаник- физиолог 458, 476 Ткачев Петр Никитич, один из идеологов революционного народничества 77, 378, 380, 610
Токвиль Алексис, граф, француз^ ский историк и политический деятель 231, 408, 604 Толстой Лев Николаевич 180, 221, 392, 405, 424, 496 Толстой Яков, русский агент в Париже 408, 612 Торнтон, фабрикант 140, 601 Тохтамыш, хан Золотой орды 337 Тренов Дмитрий Федорович, московский обер-полицеймей- стер, петербургский генерал- губернатор, товарищ министра внутренних дел 75,153, 166, 168
Трепов Федор Федорович, петербургский градоначальник 74, 75
Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович, идеолог и лидер троцкизма, враждебного ленинизму течения в международном рабочем движении, враг большевистской партии и Советского государства 37,
42, 53, 188-194, 201, 218, 299, 318, 345, 346, 452
Трубецкой Евгений Николаевич, князь, философ-идеалист и публицист 476
Трусова Надежда Сергеевна, советский историк 602 Туган-Барановский Михаил Иванович, экономист, деятель «легального марксизма» 273, 380, 606
Тун А., историк 554, 555, 620 Тургенев Иван Сергеевич 496, 499, 596
Тюменев Александр Ильич, русский историк, академик 607
Уиклиф Джон, английский религиозный реформатор XIV в. 263
Уляхин Григорий, крестьянин 175 Успенский Н. Н., русский историк 600
Устрялов Николай Герасимович, русский историк, академик 421, 607
Ушаков, рабочий, гапоновец 184
Федосеев Николай Евграфович, организатор и руководитель первых марксистских кружков в России 379, 610 Филельфо Франческо, итальянский гуманист XV в. 237 Филипп, авантюрист, приближенный Николая II 115, 116 Фихте Иоганн Готлиб, немецкий философ-идеалист 240, 399 Фотий, церковный и политический деятель Византии IX в. 476
Франц-Фердинанд, австрийский эрцгерцог 360, 384 Фредерикс Владимир Борисович, министр императорского двора и уделов 85
Френсис, американский посол в России в 1917 г. 95 Фридрих-Вильгельм I, прусский король 236
Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи, король Сицилии 373
636
Именной указатель
Фриис Оге, датский историк 588, 621
Фриче Владимир Максимович, советский литературовед и искусствовед 391 Фруменков Георгий Георгиевич, советский историк 598 Фрунзе Михаил Васильевич 507 Фукидид, древнегреческий историк 435
Фундаминский И. И. (Бунаков), один из лидеров партии эсеров 513
Фурсиков Дмитрий Степанович, физиолог, ученик И. П. Павлова 489, 490
Хабалов Сергей Семенович, в 1916—1917 гг. командующий войсками Петроградского военного округа 84, 86 Хазов Николай Николаевич, революционер-народник 77, 78 Халтурин Степан Николаевич* рабочий-революционер, один из организаторов «Северного союза русских рабочих» 15, 79
Ходоровский Иосиф Исаевич, в 1922—1928 гг. заместитель наркома просвещения 522 Хрусталев-Носарь Георгий Степанович (Переяславский Ю.), адвокат, меньшевик, в 1905 г. председатель Петербургского Совета рабочих депутатов 188, 192-194
Циммерман Вильгельм, немецкий историк 610
Чайковский Николай Васильевич, революционер-народник, после Октябрьской революции враг Советской власти 76 Чебышев-Дмитриев Александр Павлович, юрист, участник судебной реформы 311 Черепнин Лев Владимирович, советский историк 608 Чернин Оттокар, в 1916—1918 гг. министр иностранных дел Австрии 102
Чернов Виктор Михайлович, теоретик и лидер партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, белоэмигрант 95
Чернышевский Николай Гаврилович 43, 49, 73, 138, 185, 313, 358, 378, 380, 395-425, 555, 596, 610—614
Чичерин Борис Николаевич, историк государственного права, философ, видный деятель либерального движения 280, 303, 305-307, 309-312, 314, 318-323, 329, 330, 332- 335, 337, 344, 357, 358, 372, 380, 404, 607, 608
Чингисхан, монгольский хан и полководец 180
Чухнин, адмирал, в 1905 г. командующий Черноморским флотом 162
Шахматов Алексей Александрович, русский филолог, историк древней русской культуры, академик 283, 606 Шедо Ферроти, псевдоним публициста Федора Ивановича Фиркса 620
Шейдеман Филипп, один из лидеров правого оппортунистического крыла германской социал-демократии 475 Шелгунов Николай Васильевич, русский общественный деятель, публицист 163 Шеллинг Фридрих-Вильгельм Йозеф, немецкий философ- идеалист 399
Шервуд Иван Васильевич, предатель декабристов 274 Шереметевы, графы, крупные землевладельцы 171 Шидловский Н. В., сенатор 157, 602
Шиллер Иоганн Фридрих 236 Шильдер Николай Карлович, русский военный историк 273, 606
Шиман Ф. Ф. (Schiemann Theodor) , немецкий историк 273— 275, 606
Именной указатель
637
Шишко (Батин П.) Леонид Эммануилович, историк, революционер-народник, эсер 611 Шмидт Конрад, немецкий экономист и философ 33, 595 Шмидт Петр Петрович, лейтенант, один из руководителей севастопольского восстания 1905 г. 197
Шмидт, французский историк 587
Шопенгауэр Артур, немецкий философ-идеалист 240 Штернберг Павел Карлович, астроном, активный участник Октябрьской революции 516 Шуйский Василий см. Василий Шуйский
Шульгин Василий Витальевич, монархист, белоэмигрант; в 30-х годах отошел от политической деятельности, в настоящее время гражданин СССР 89, 90
Щапов Афанасий Прокофьевич, русский историк и публицист 310, 311, 314-320, 330-333, 349, 364, 365, 374, 378,402,607
Эйдельман Натан Яковлевич, советский историк 613 Эммот, лорд 526, 528 Энгельгардт Александр Николаевич, русский публицист 328, 600, 608
Энгельс Фридрих 6, 31, 33, 34, 44, 54, 67, 101, 144, 348, 355, 356, 371, 384, 388, 414, 424, 432, 565, 572, 575, 594, 595, 610, 611, 613
Эрве Гюстав, французский социалист-шовинист 304
Эссен Мария Моисеевна, после II съезда РСДРП большевичка; работала в Истпарте и Институте Ленина 177, 603
Юденич Николай Николаевич, генерал, один из руководителей белогвардейской контрреволюции 508
Южаков Сергей Николаевич, публицист и экономист, либеральный народник 16
Юлий Цезарь 434
Юм Дэвид, английский философ, психолог, историк и экономист XVIII в. 240
Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич, деятель Коммунистической партии и Советского государства, в 1920 г. работал в Главполитпросвете 509, 510, 617
Яковлев, рабочий 530
Яковлева Варвара Николаевна, с 1922 по 1929 г. работала в Наркомпросе, сначала заведующей Главпрофобром, затем заместителем наркома 522
Янсен Иоганн, немецкий историк 229
Ярослав Владимирович, великий князь киевский 270, 297, 337
Kleinpeter Hans, немецкий философ 241, 605
Medicus Fritz, немецкий философ 252, 605
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции . , 5
I. О ЛЕНИНЕ
Ленин и высшая школа 9
Ленин и народное просвещение , . 13
Ленин и Маркс как историки 21
Ленинизм и русская история , * . 28
Ленин и история . 46
II. ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
Начало пролетарской революции в России 59
Казанская демонстрация 6 (18) декабря 1876 года 73
Исторический смысл Февраля (Царизм и буржуазия в Февральской революции) 81
Историческое значение Октябрьской революции . . * . . . . 92
1905 год (брошюра) . . 104
Предисловие —
I. Диктатура крепостников-помещиков 106
И. Рабочий, крестьянин и буржуазия перед 1905 годом ♦ 117
III. «Тюрьма народов» 129
IV. Возникновение большевизма . „ . . . 135
V. Начало революции ‘ 148
VI. Первые шаги борьбы 158
VII. Классы летом 1905 года. Первая победа и первый обман 167
VIII. Последний бой . * 181
1905 год (статья) 213
III. ИСТОРИОГРАФИЯ
«Идеализм» и «законы истории» 227
Курс русской истории нроф. В. Ключевского 266
О пятом томе «Истории» Ключевского (Заметка) 272
Борьба классов и русская историческая литература 277
О книге академика Лаппо-Данилевского 369
Задачи Общества историков-марксистов 377
Н, А. Рожков , , . , , т . . , t ♦ 386
Содержание
639
Н. Г. Чернышевский как историк 395
Развитие современной исторической науки и задачи историков-
марксистов 426
Всесоюзная конференция историков-марксистов 440
Предисловие к книге «Очерки истории пролетариата СССР. Пролетариат царской России» 450
IV. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВЫСШАЯ ШКОЛА
Реформа высшей школы 457
Общий план организации дела народного просвещения [Доклад] 462 [Заключительное слово на заседании 4 июня 1918 года] . . . 464 [Заключительное слово на заседании 5 июня 1918 года] . . . 465 Интеллигенция и социалистическая революция (Тезисы доклада
на 2-м Всероссийском съезде учите лей-интернационалистов) 467
Академический центр Наркомпроса 469
Государственный ученый совет и его работа 479
Наука в России за пять лет (1918—1923) 484
О рабфаках и рабфаковцах 494
К учительскому съезду 498
Политические итоги учительского съезда 506
Десять лет Наркомпроса 515
Вступительное слово —
Речь М. Н. Покровского 517
Какая нам нужна средняя школа 523
Система народного образования РСФСР (К первой сессии ГУСа) 532 Надежда Константиновна Крупская (К 60-летию со дня рождения) 544
У. АРХИВНОЕ ДЕЛО
Изложение выступления на IX Всероссийской конференции РКП (б) 23 сентября 1920 года о необходимости сбора исторических материалов по Октябрьской революции 553
От Истпарта 554
Архивное дело в рабоче-крестьянском государстве 561
Политическое значение архивов 571
Культурное и политическое значение архивов 579
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примечания . 393
Именной указатель , , . . * 622
Покровский, Михаил Николаевич
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ. Под общ. ред. |М. Н. Тихомирова,1, В. М. Хвостова, Л. Г. Бескровного, О. Д. Соколова. М.,
«Мысль», 1967.
Кн. 4. Лекции, статьи, речи. 1967.
639 с. (Акад. наук СССР. Ин-т истории)
9(01
Редактор Л. Н. Лазаревич
Младший редактор Г. В. Захарова Оформление художника В. В. Максина Художественный редактор Д. А. Аникеев Технический редактор В. Н. Корнилова Корректоры Л. Г. Севастьянова, Л. М. Чигипа
Сдано в набор 14 февраля 1967 г. Подписано в печать 27 июля 1967 г. Формат бумаги 60X90Vie. № 1. Бумажных листов 20,18 с вкл. Печатных листов 40,37 с вкл.‘ Учетно-издательских листов 38,11 с вкл. Тираж 15 000 экз. А11289. Цена 2 р. 40 к. Заказ № 848.
Подписное издание
Издательство «Мысль».
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.







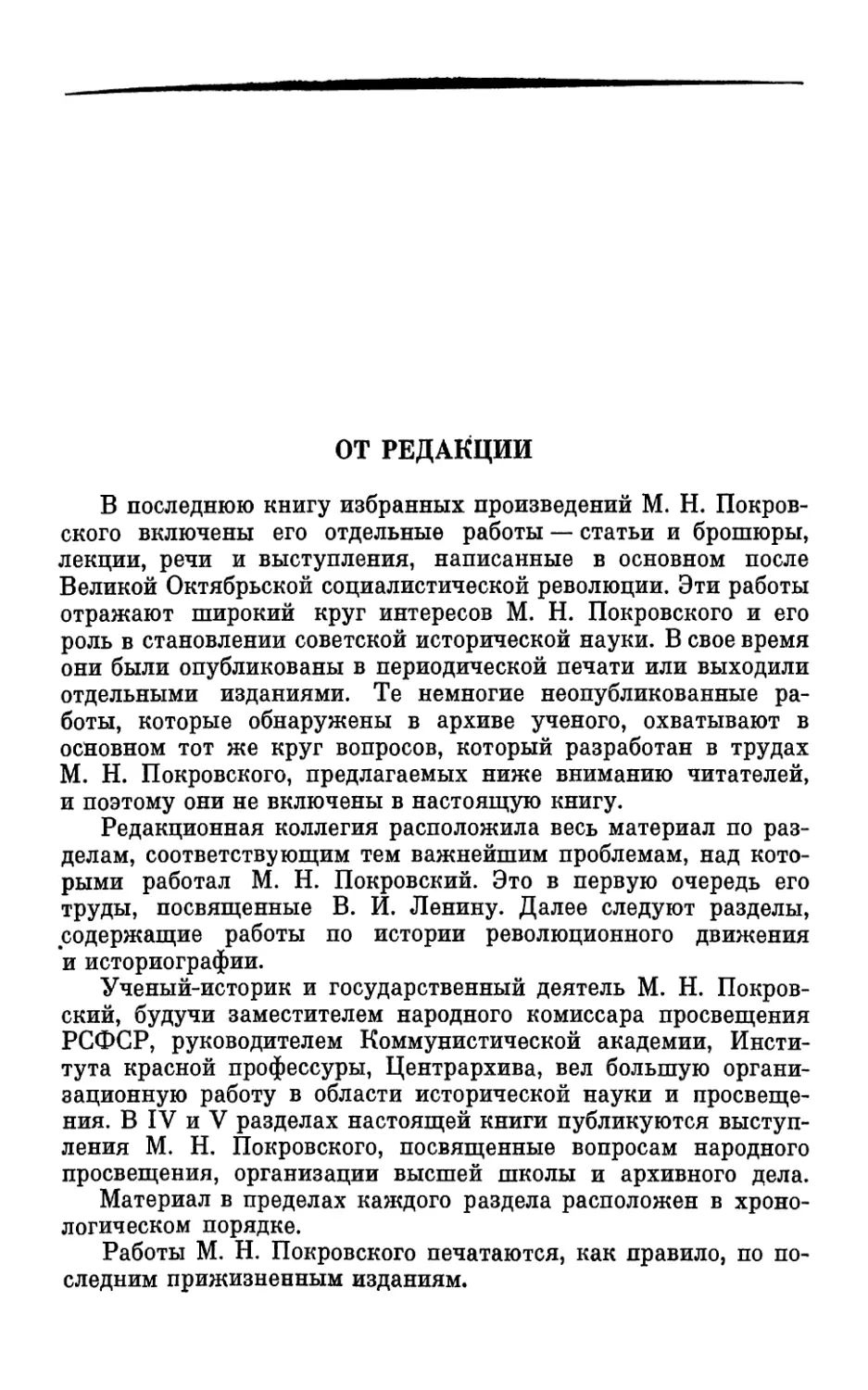







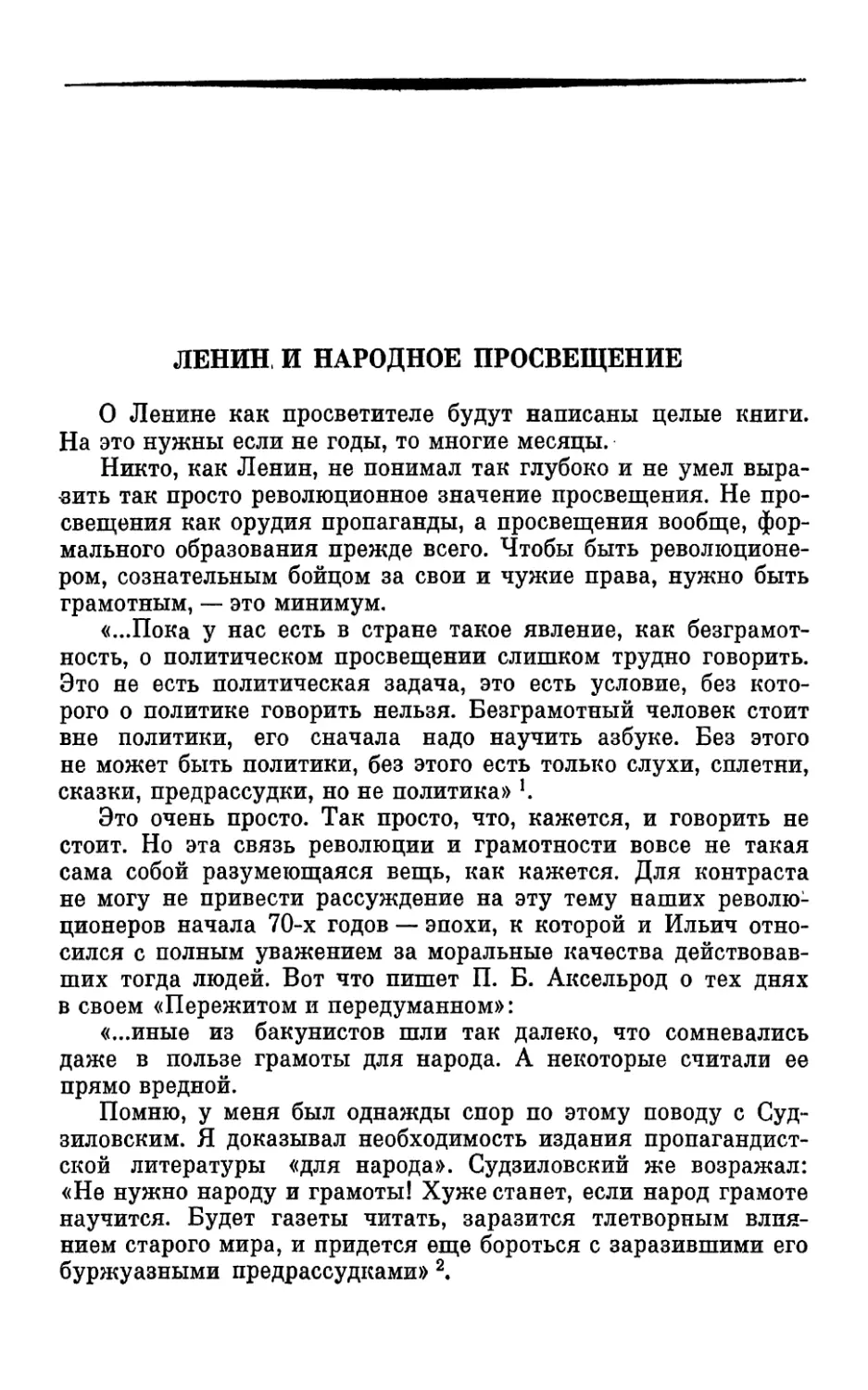









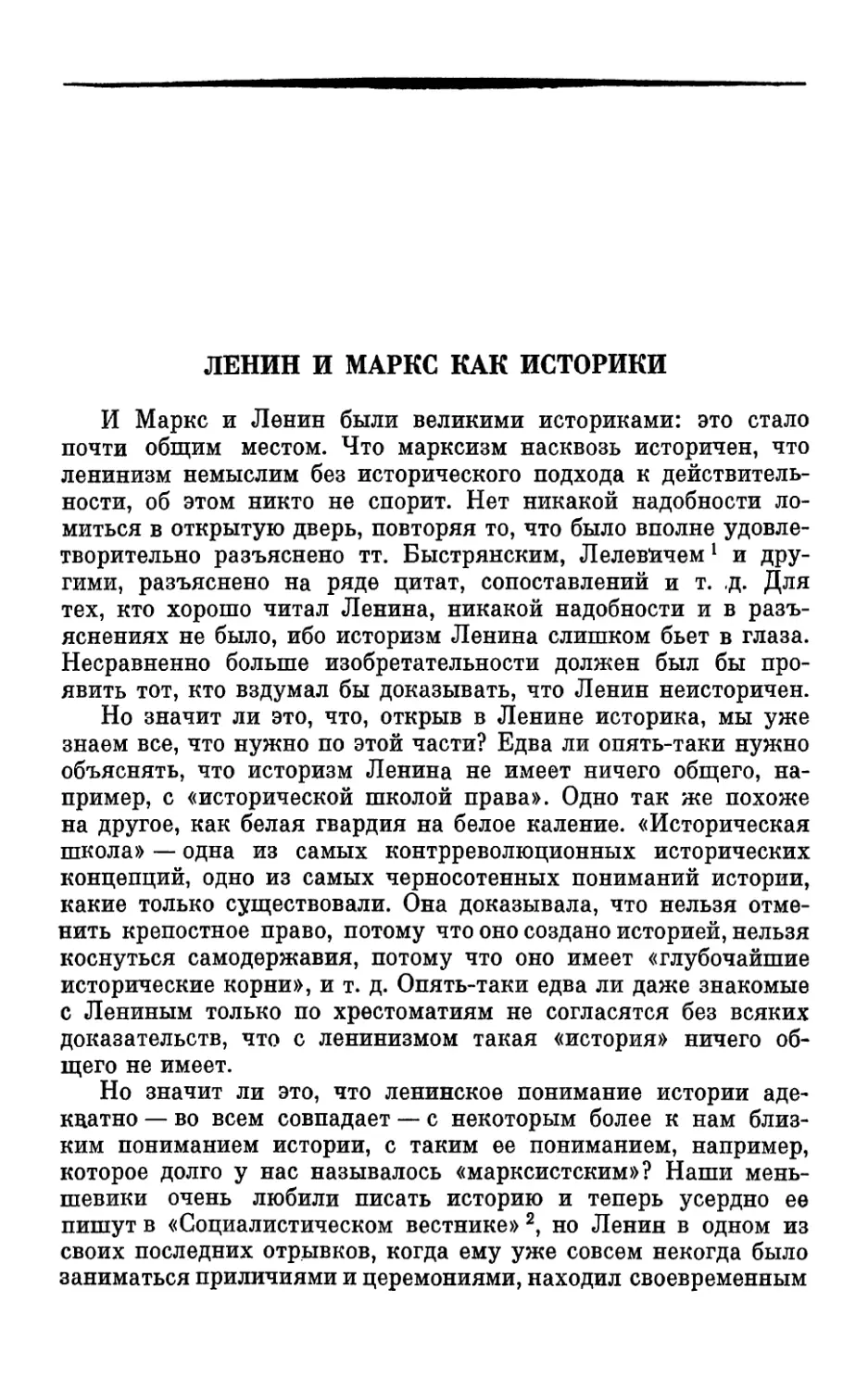






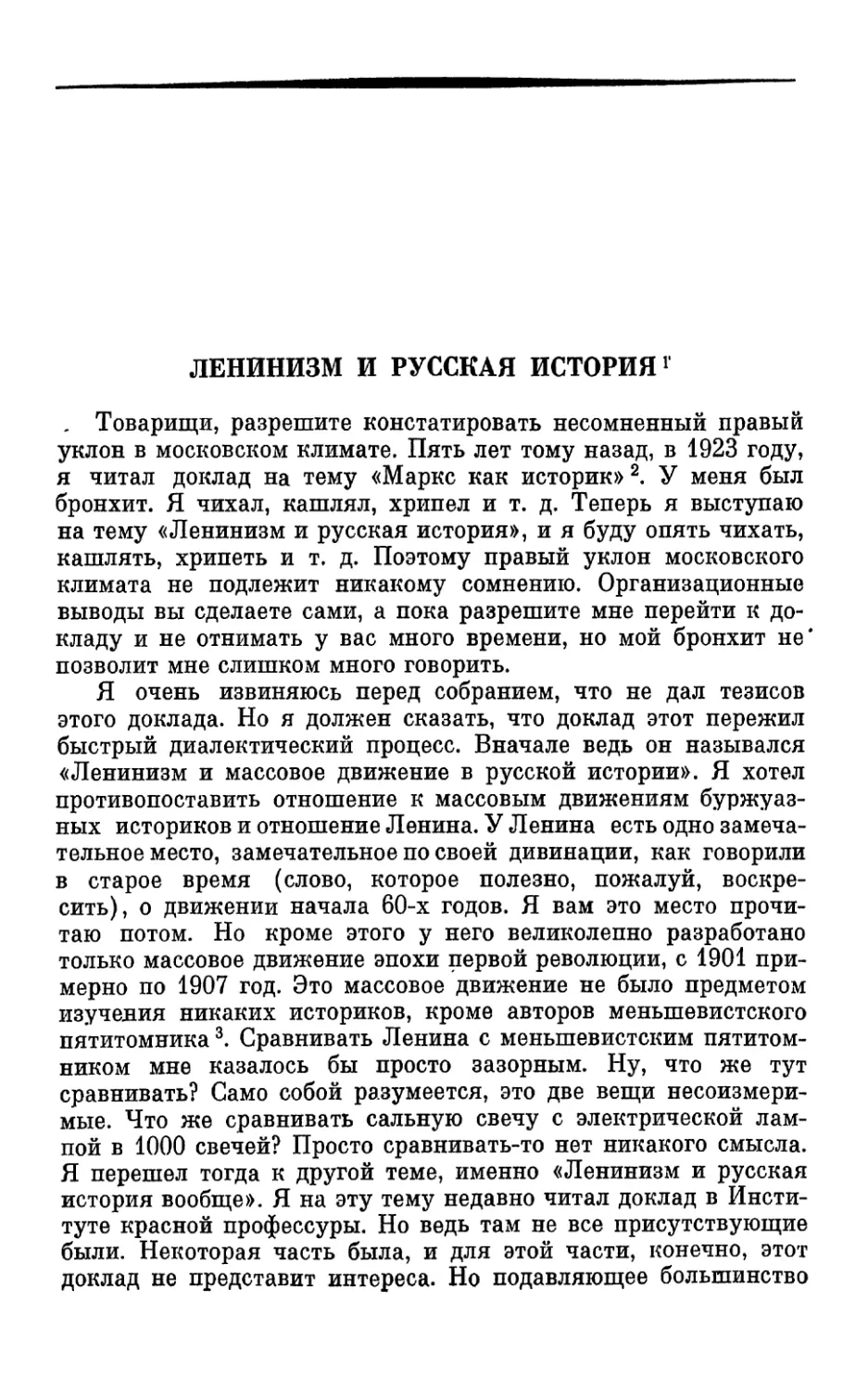

















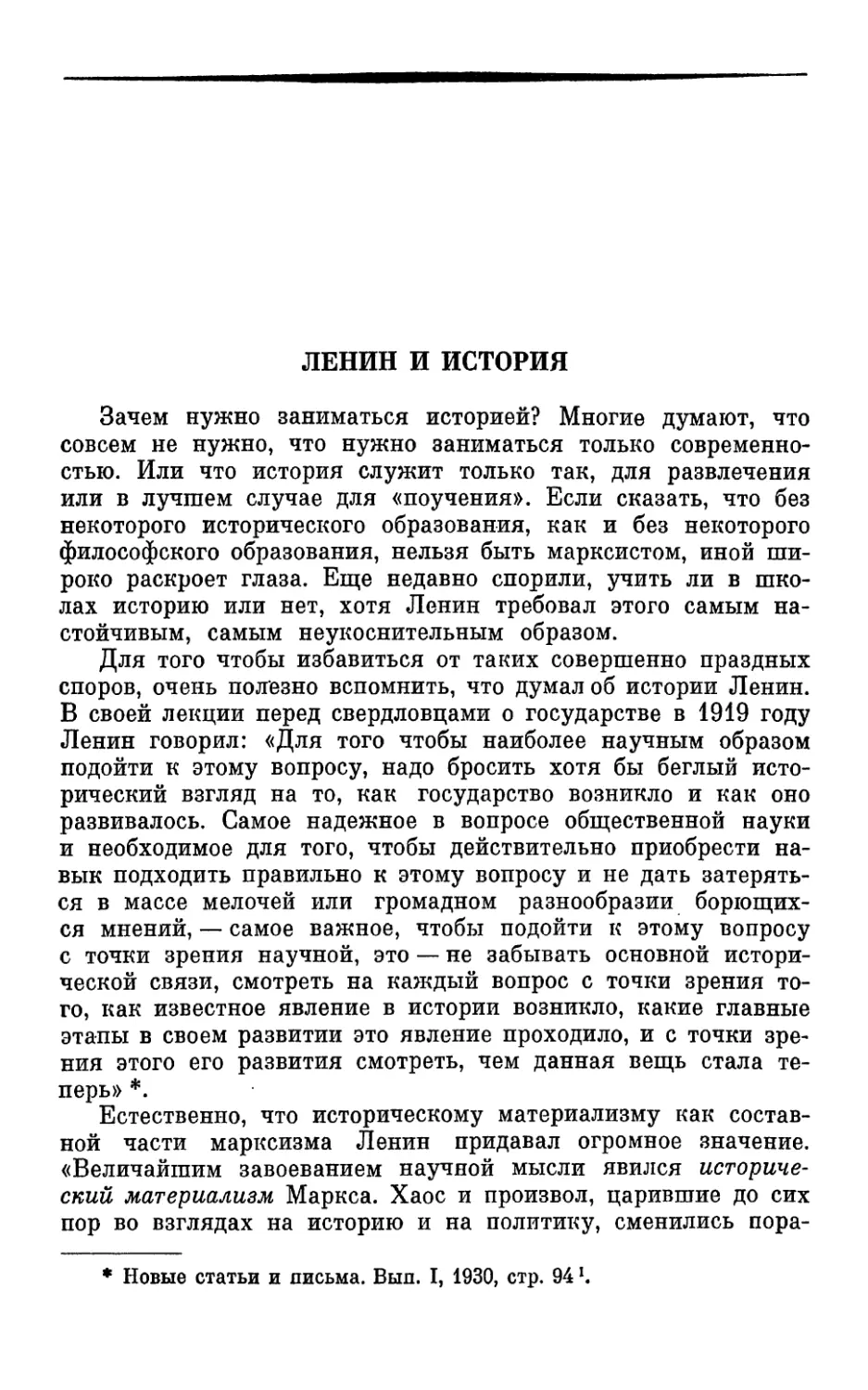






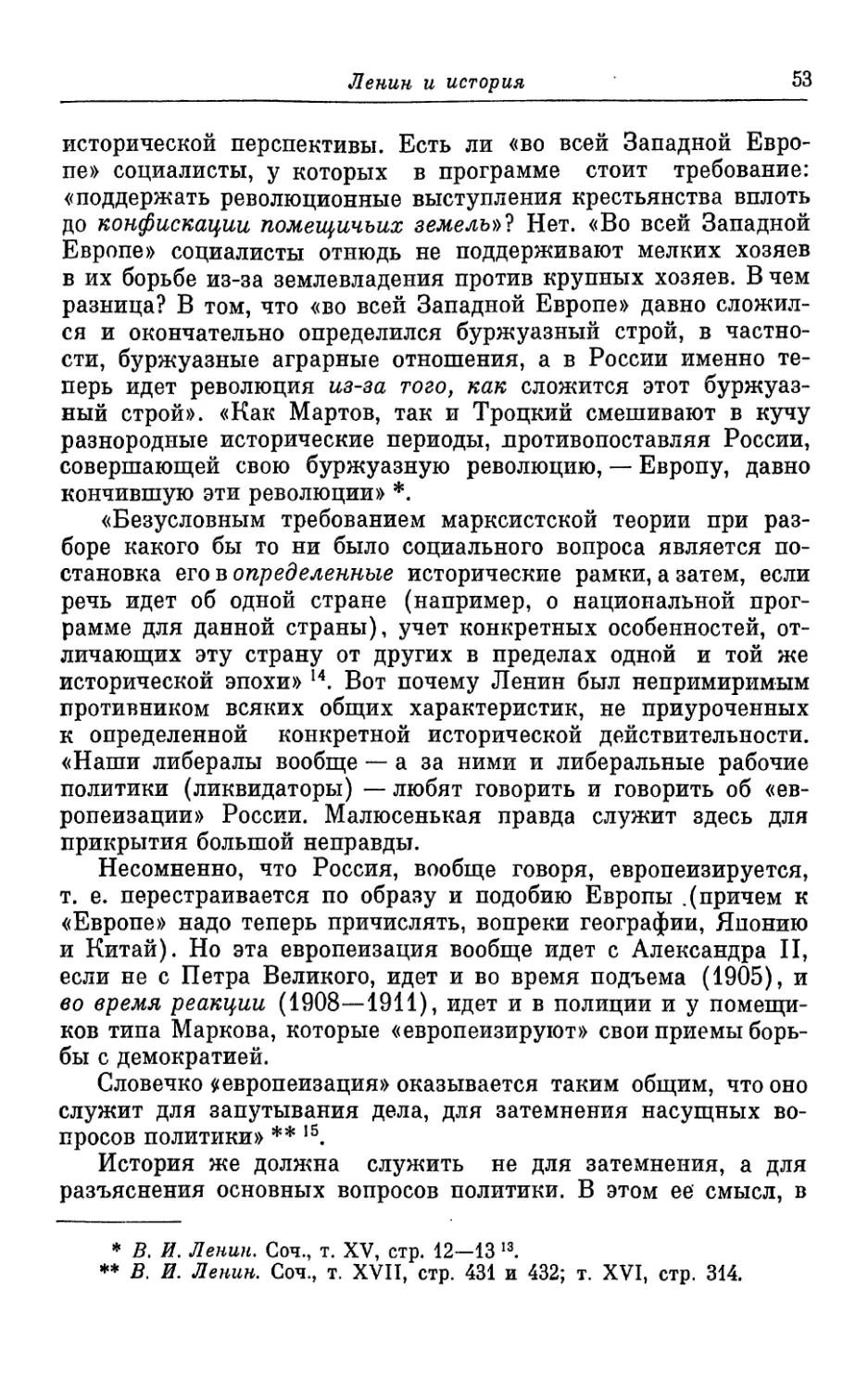
















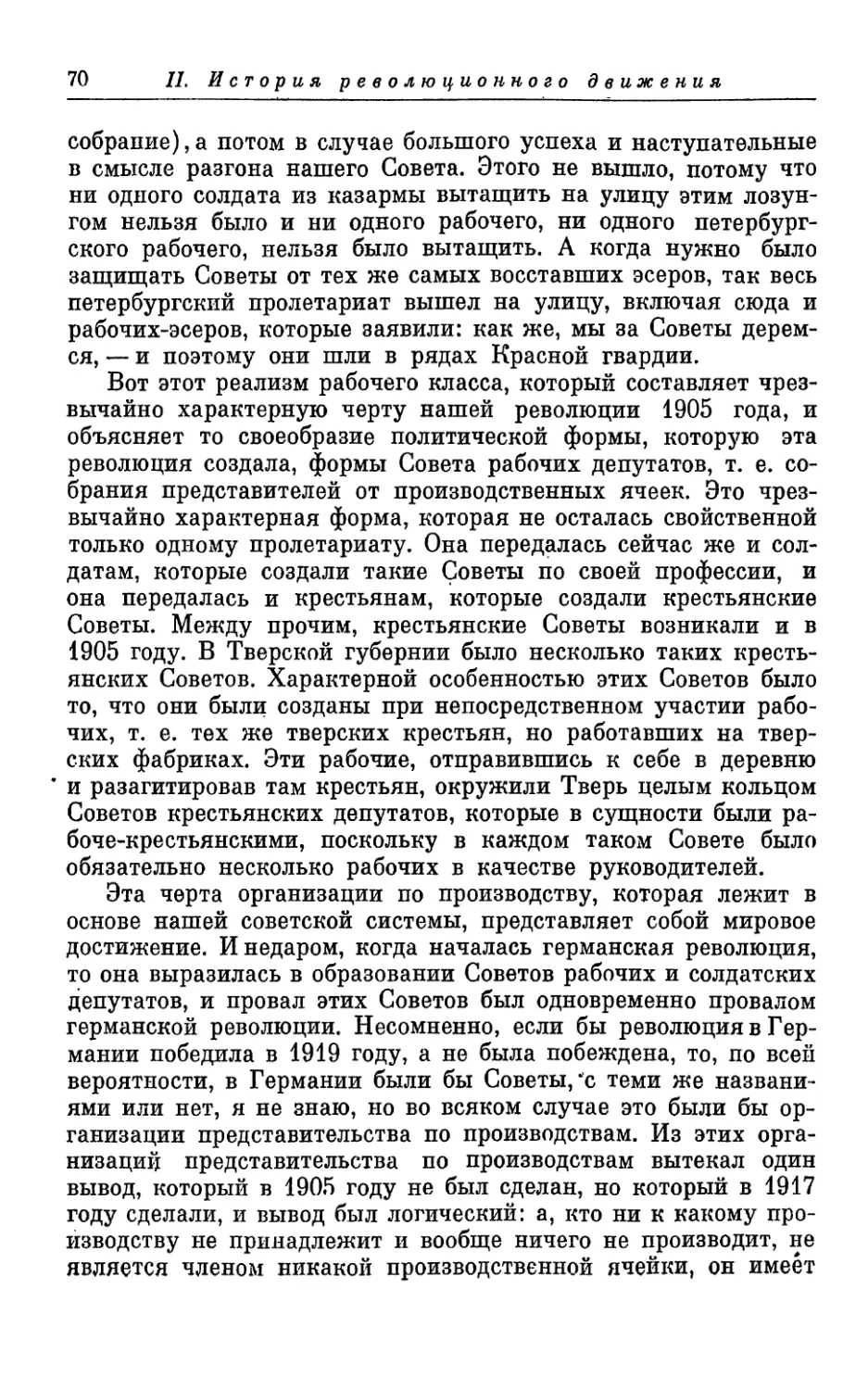






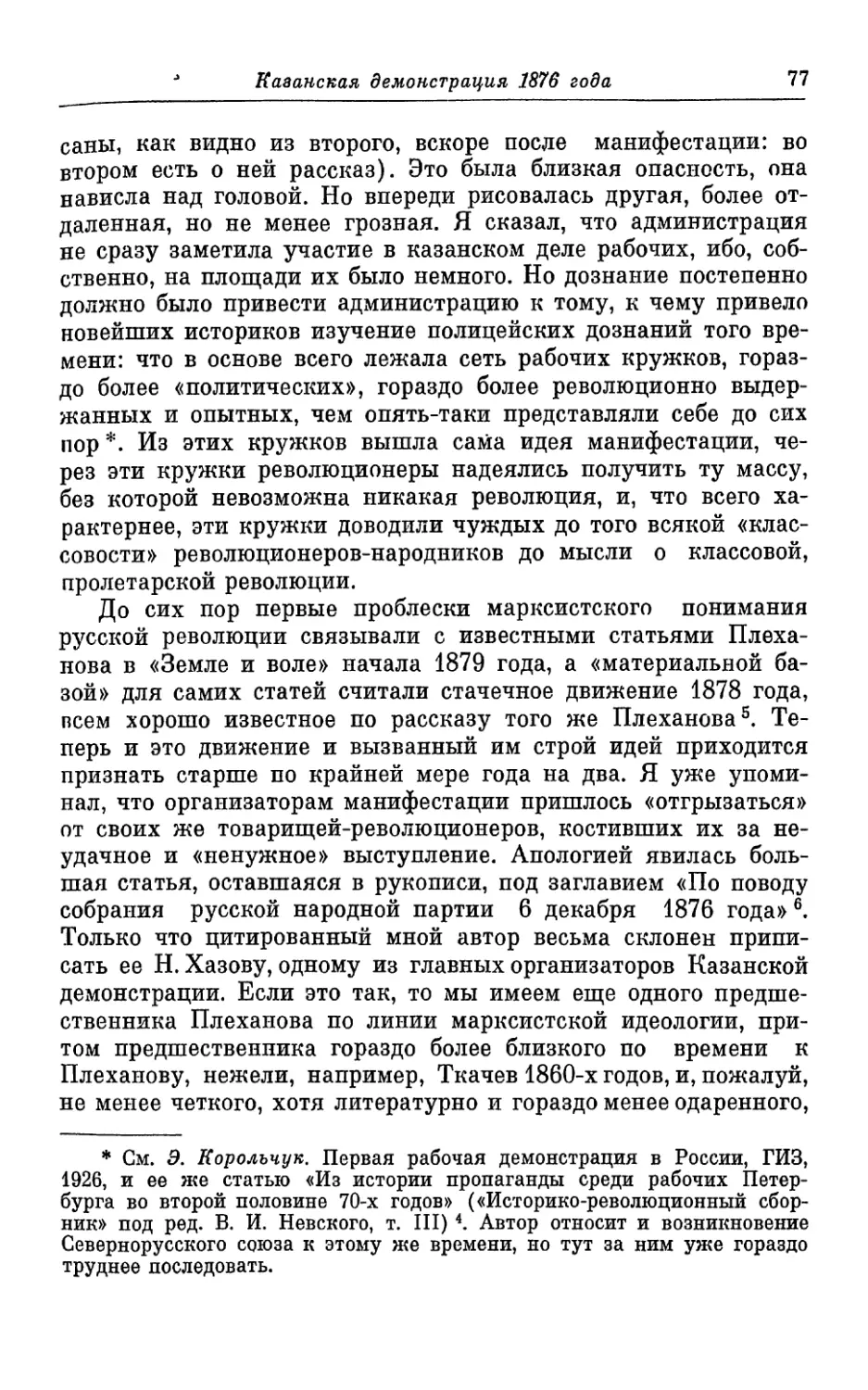














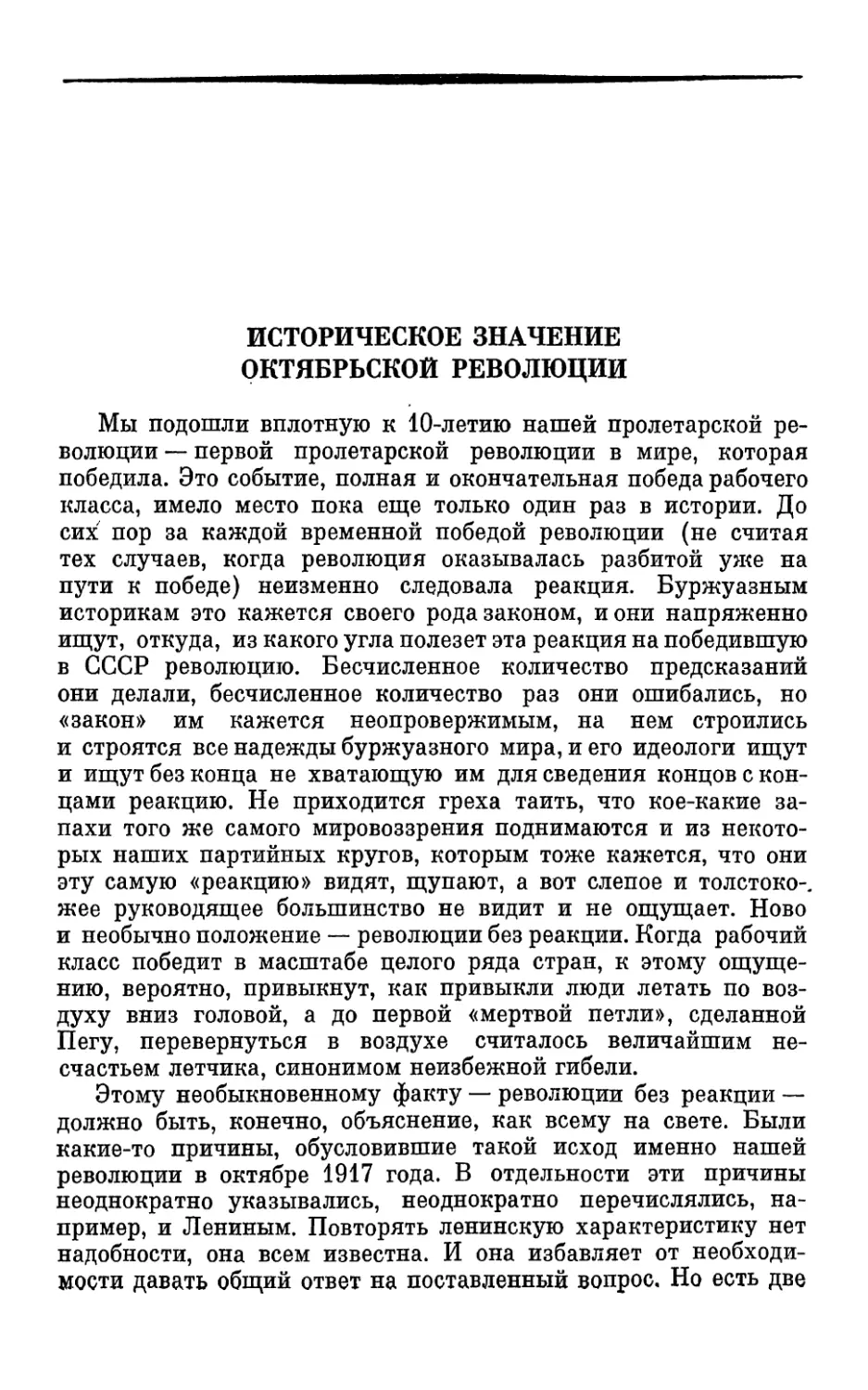
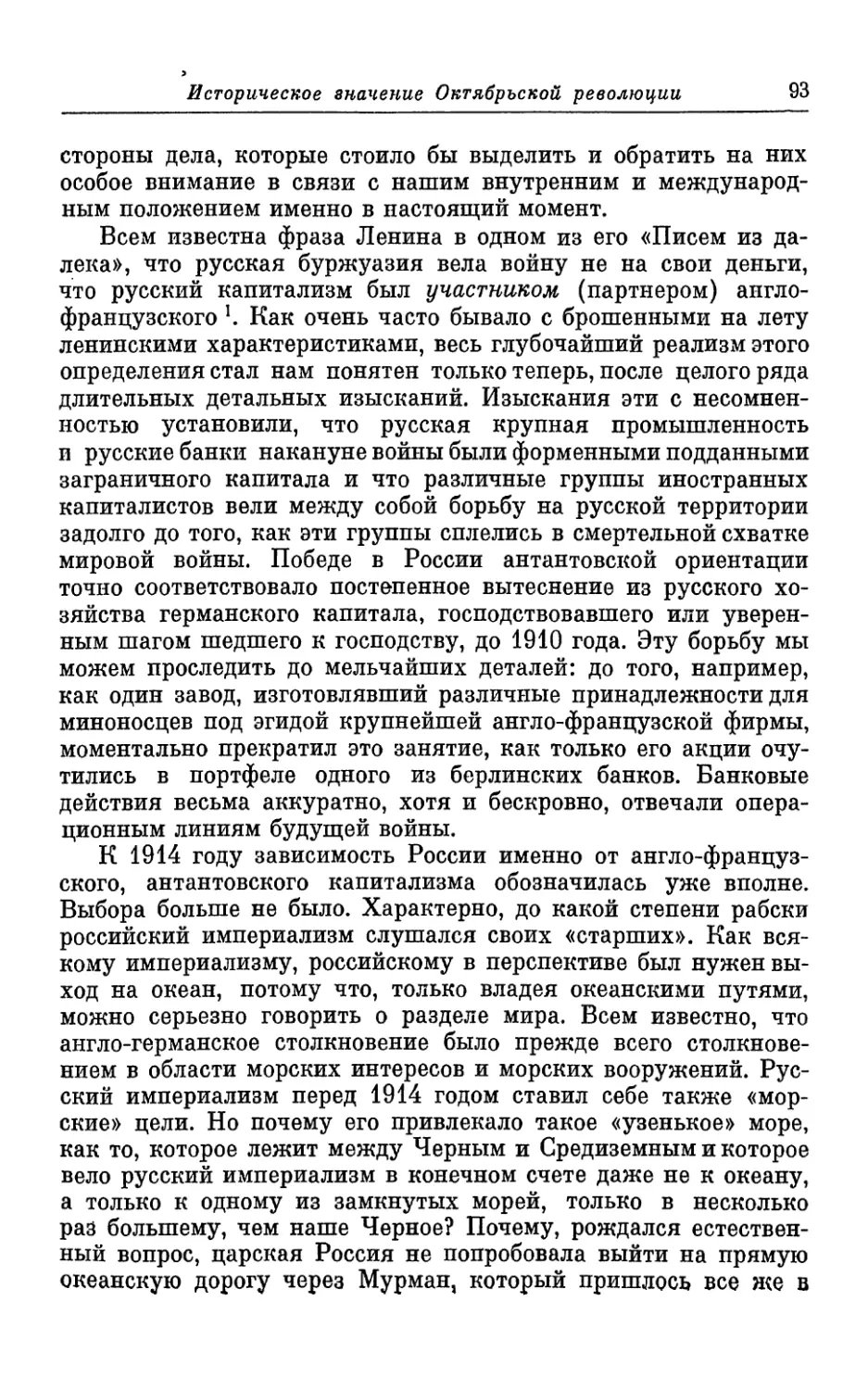








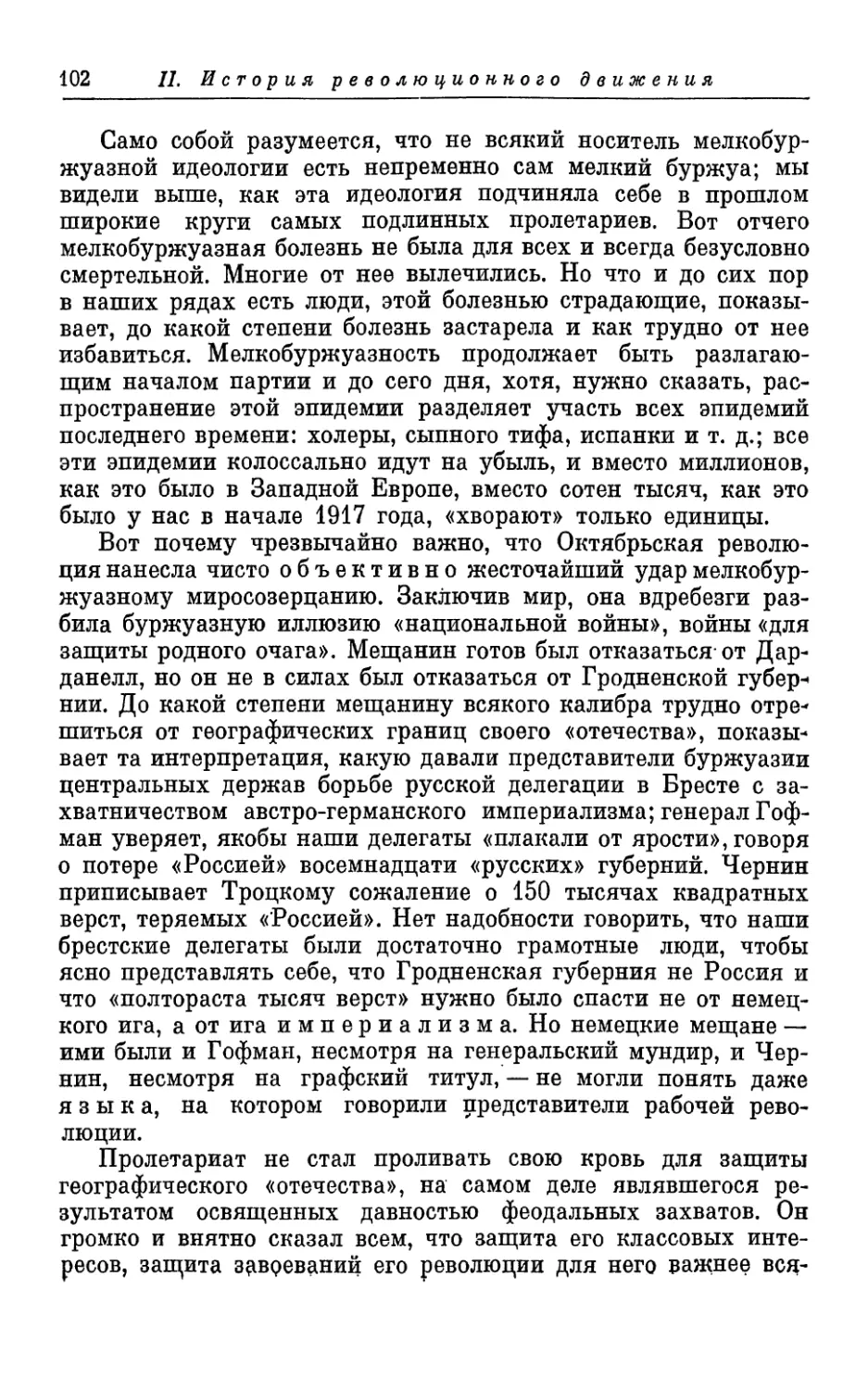

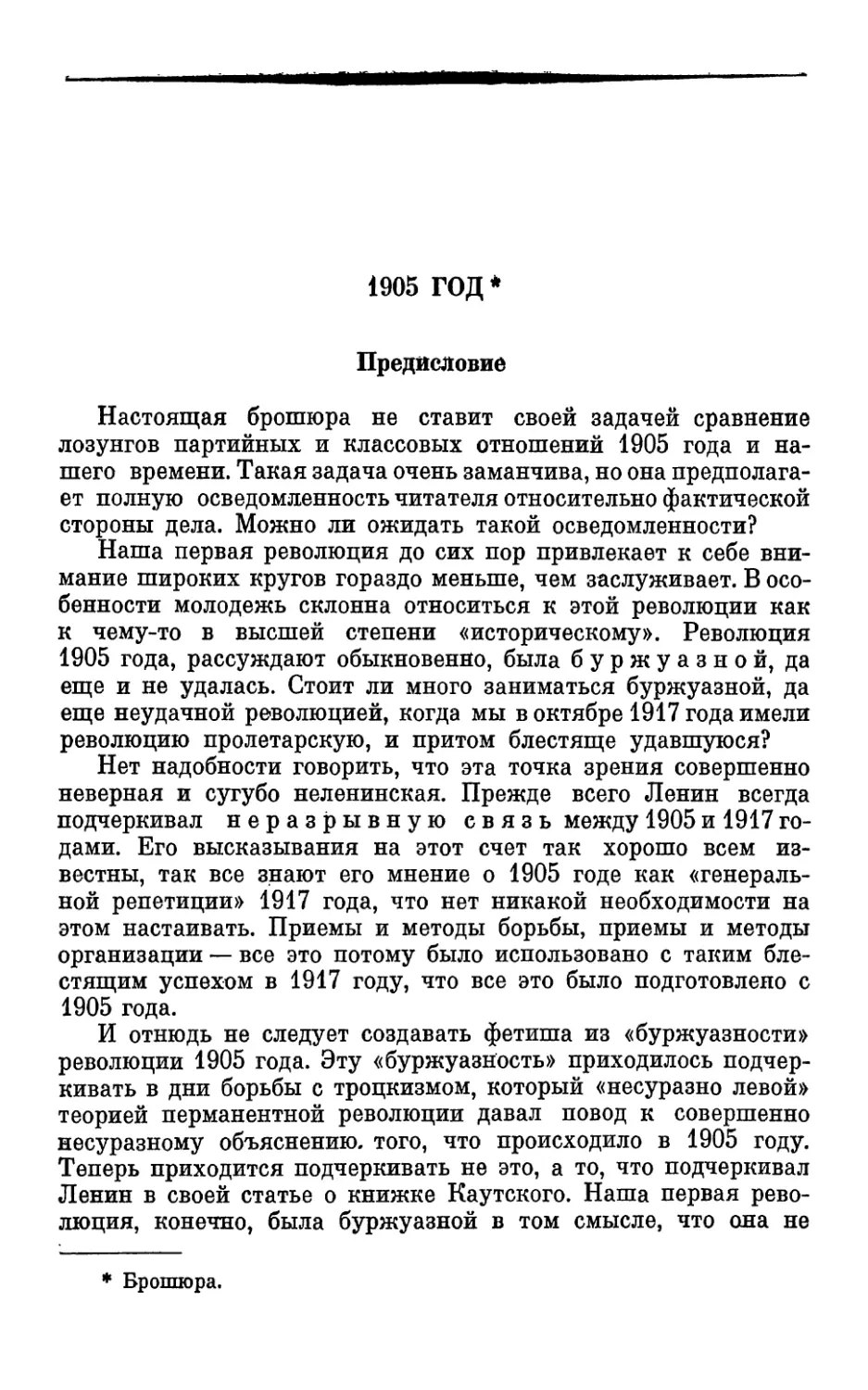










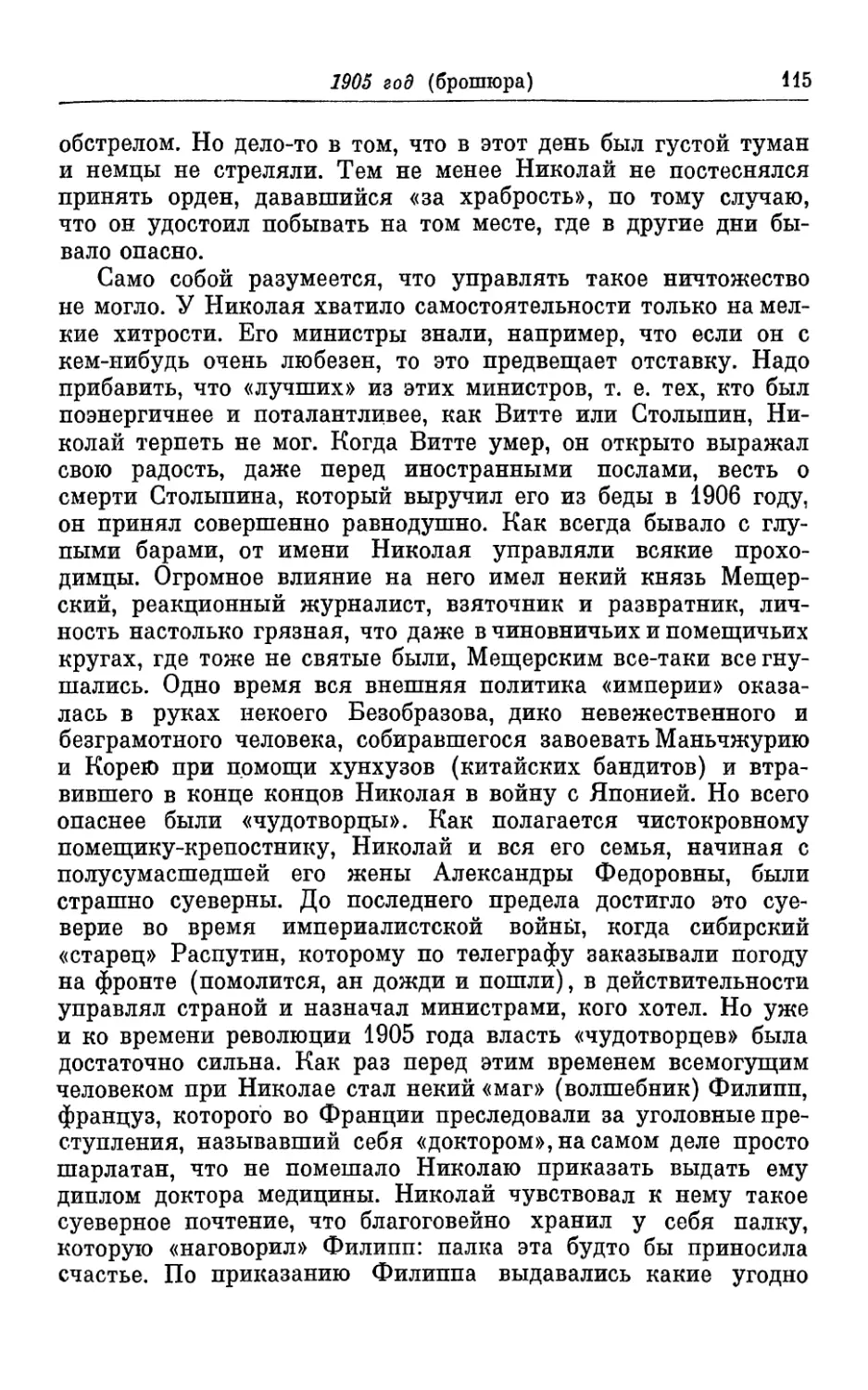







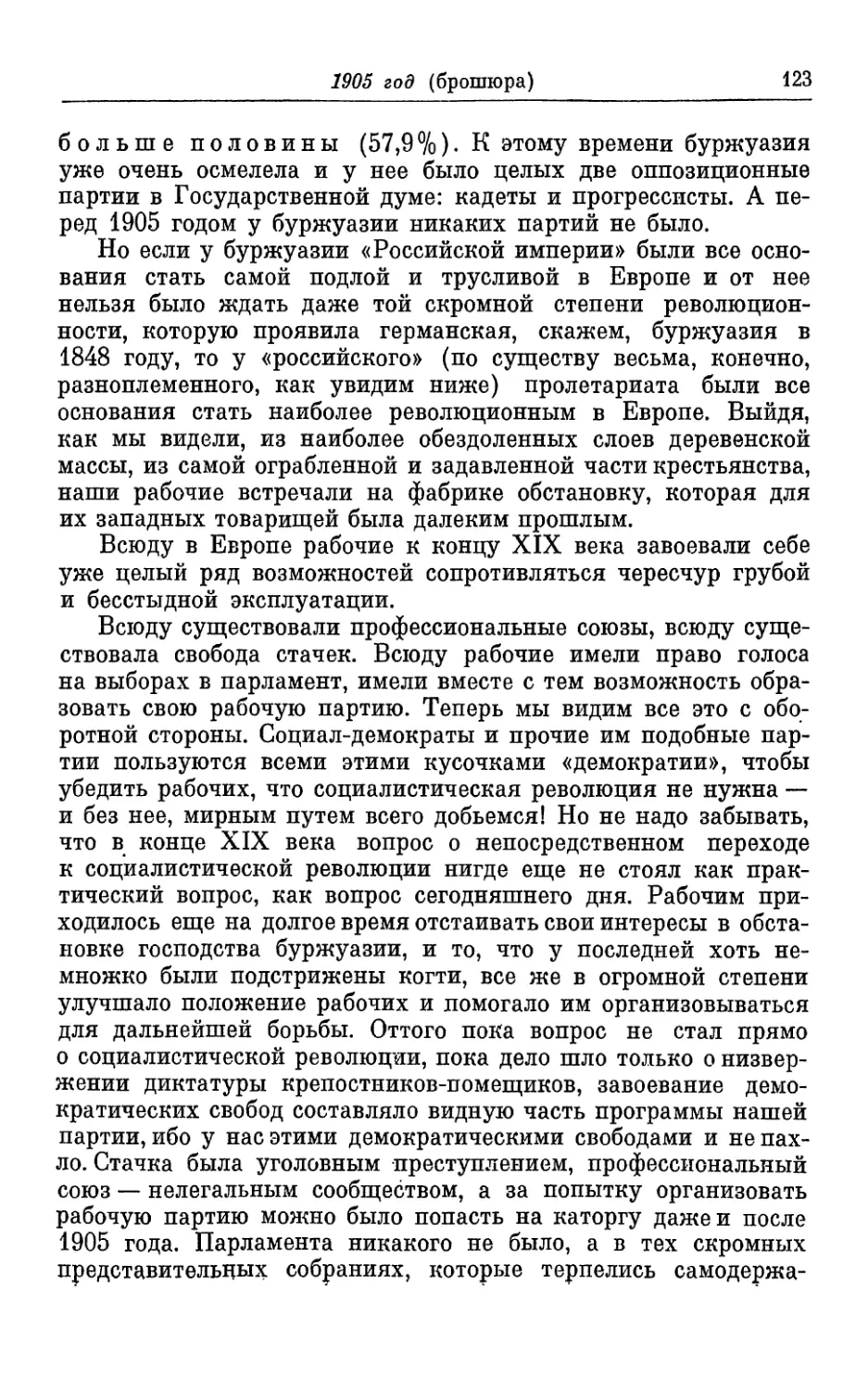



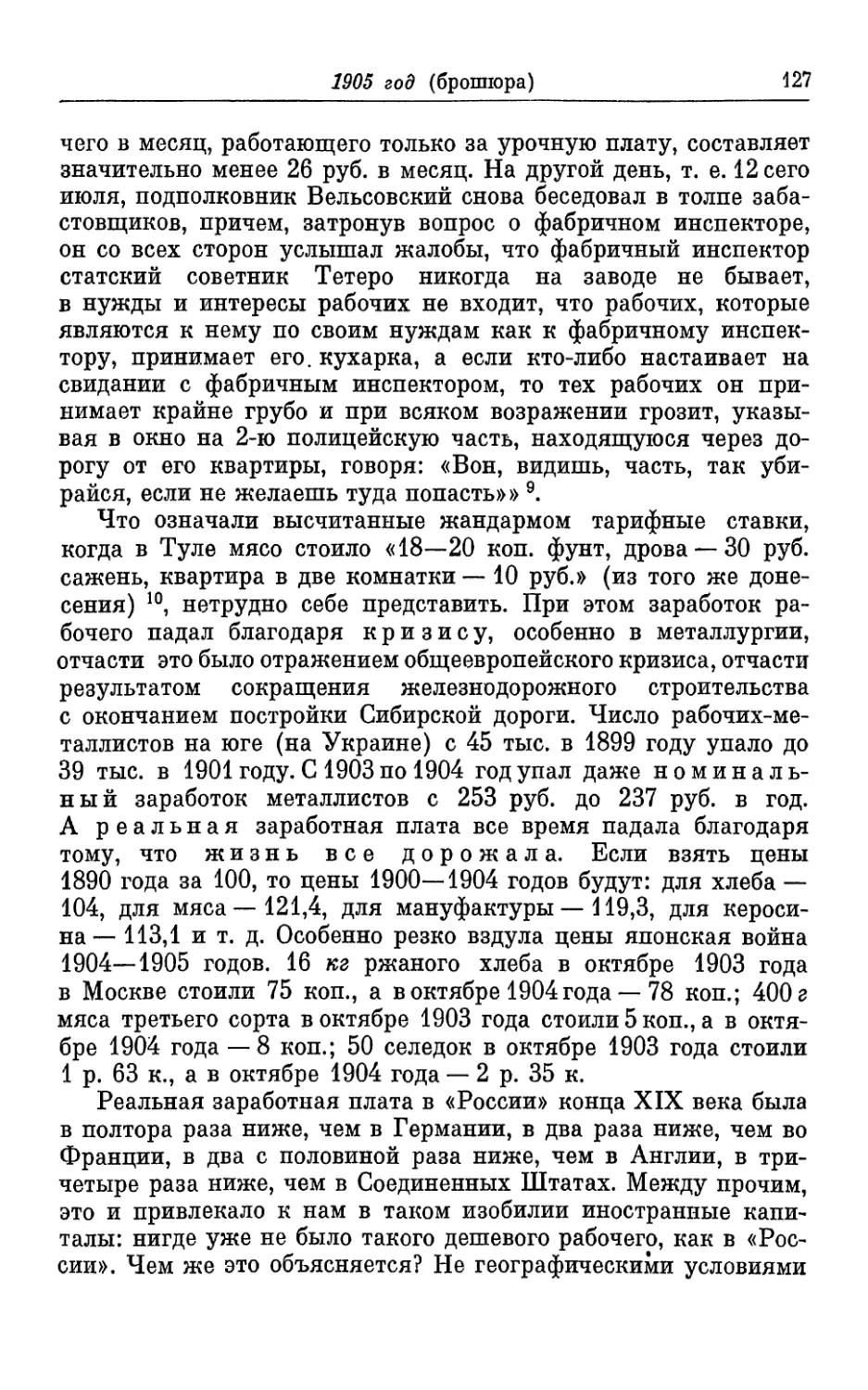





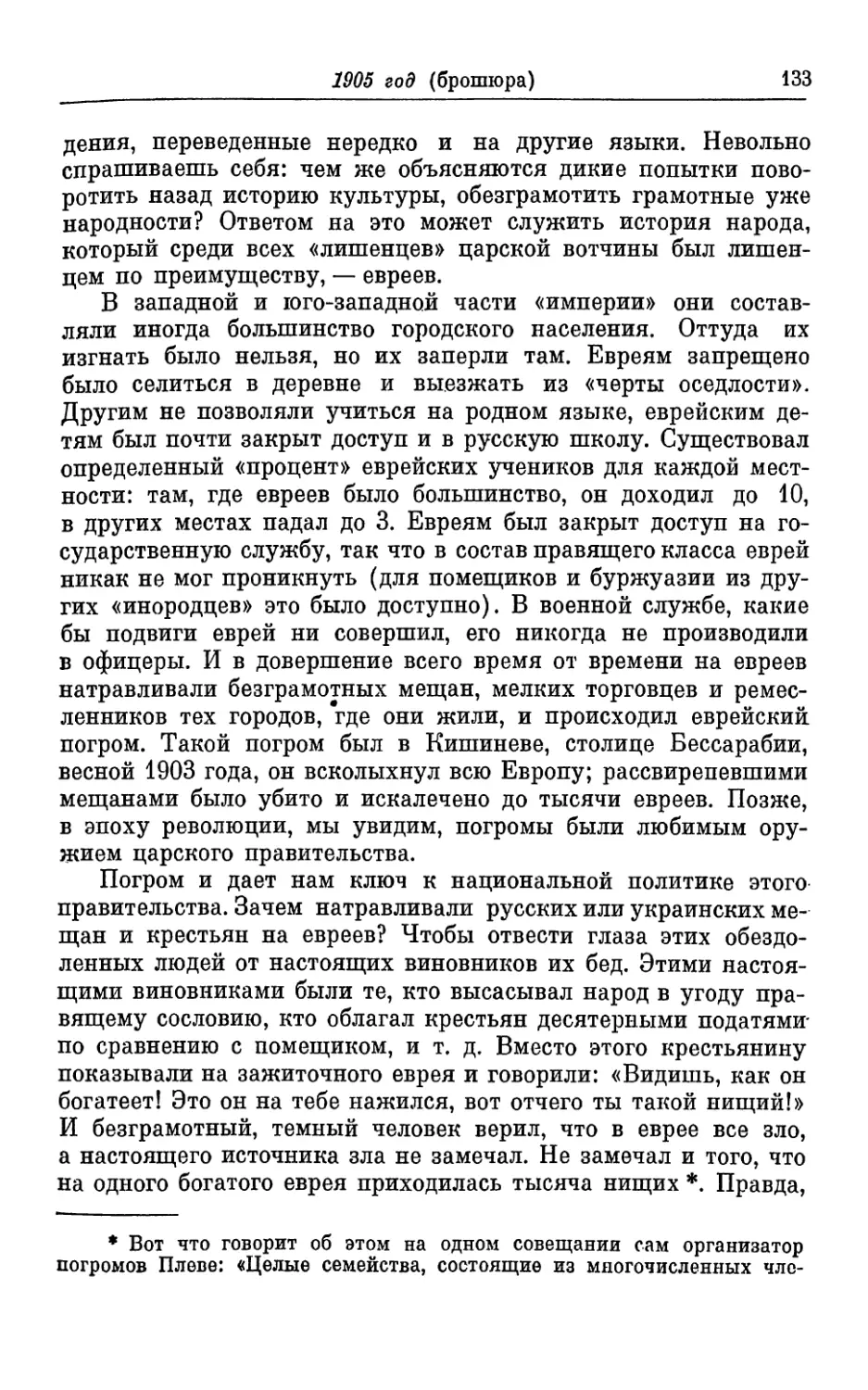


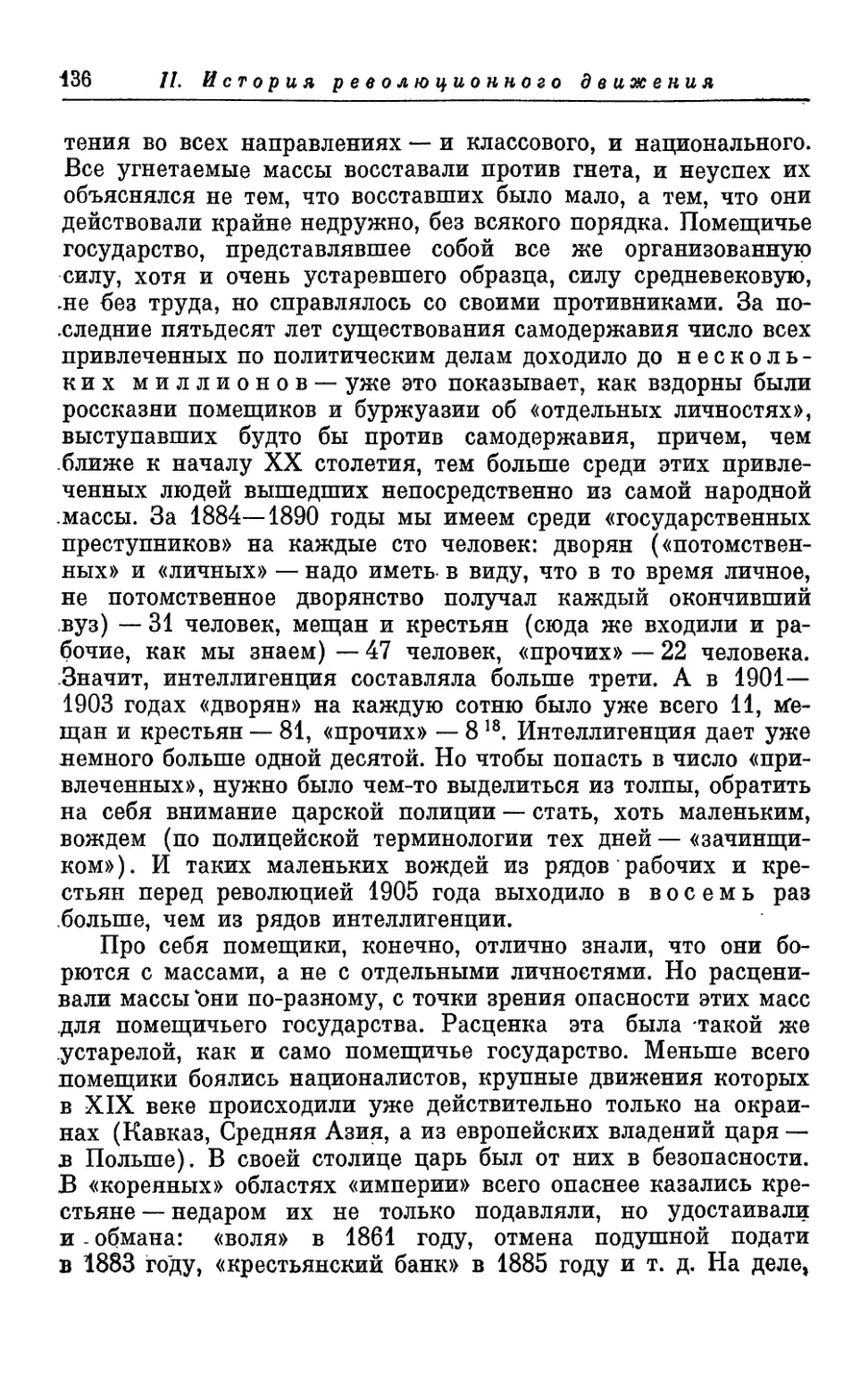









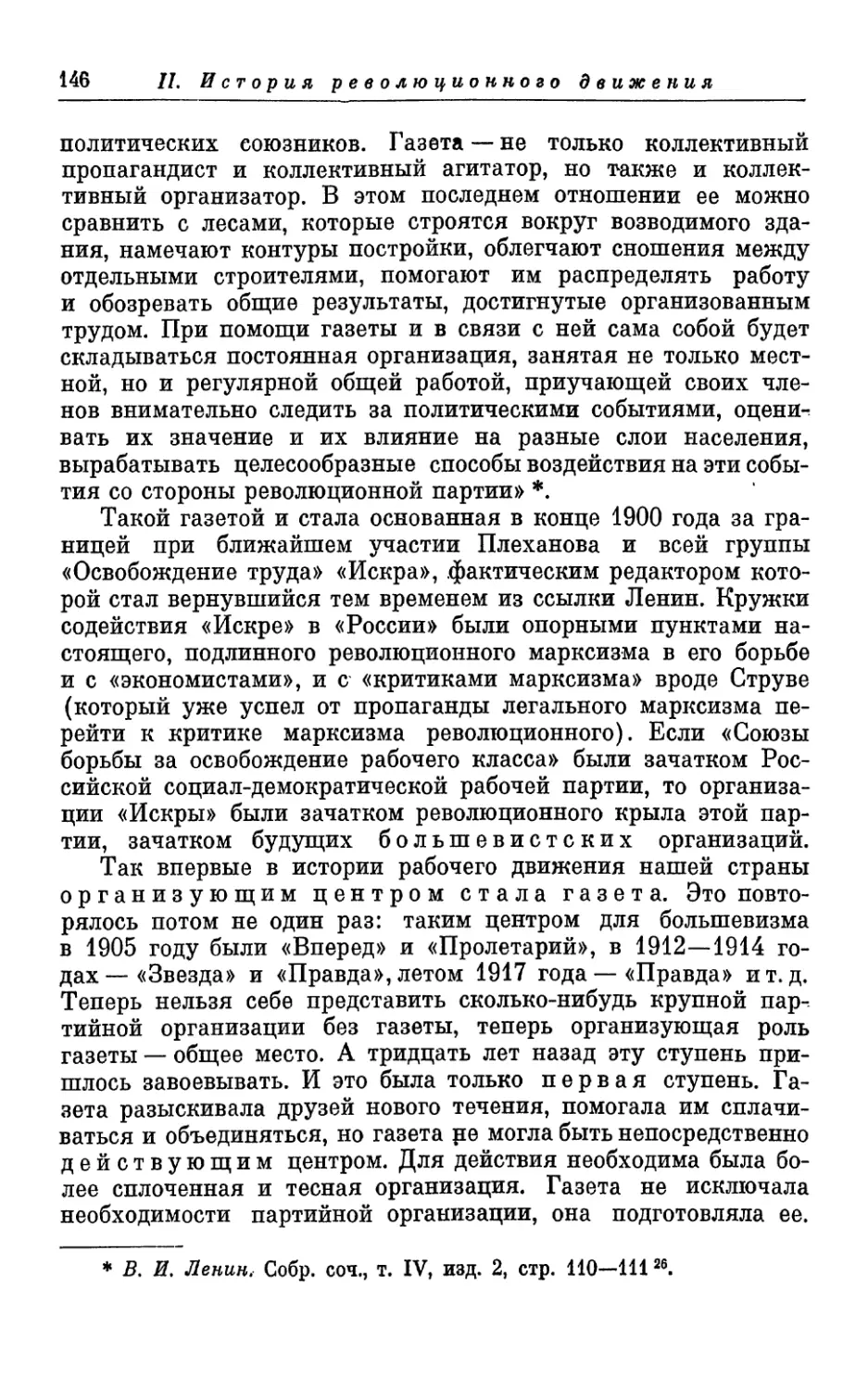









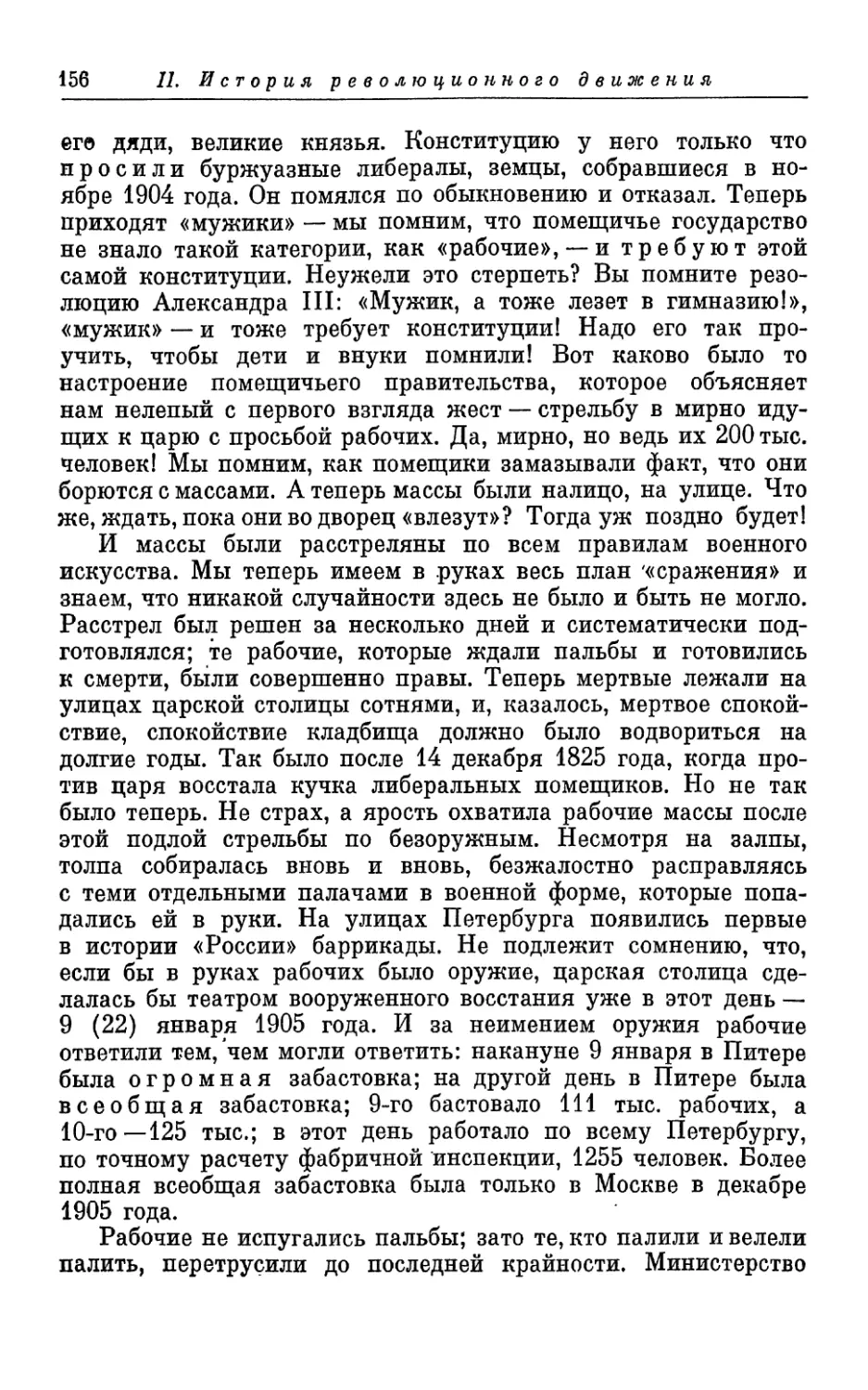


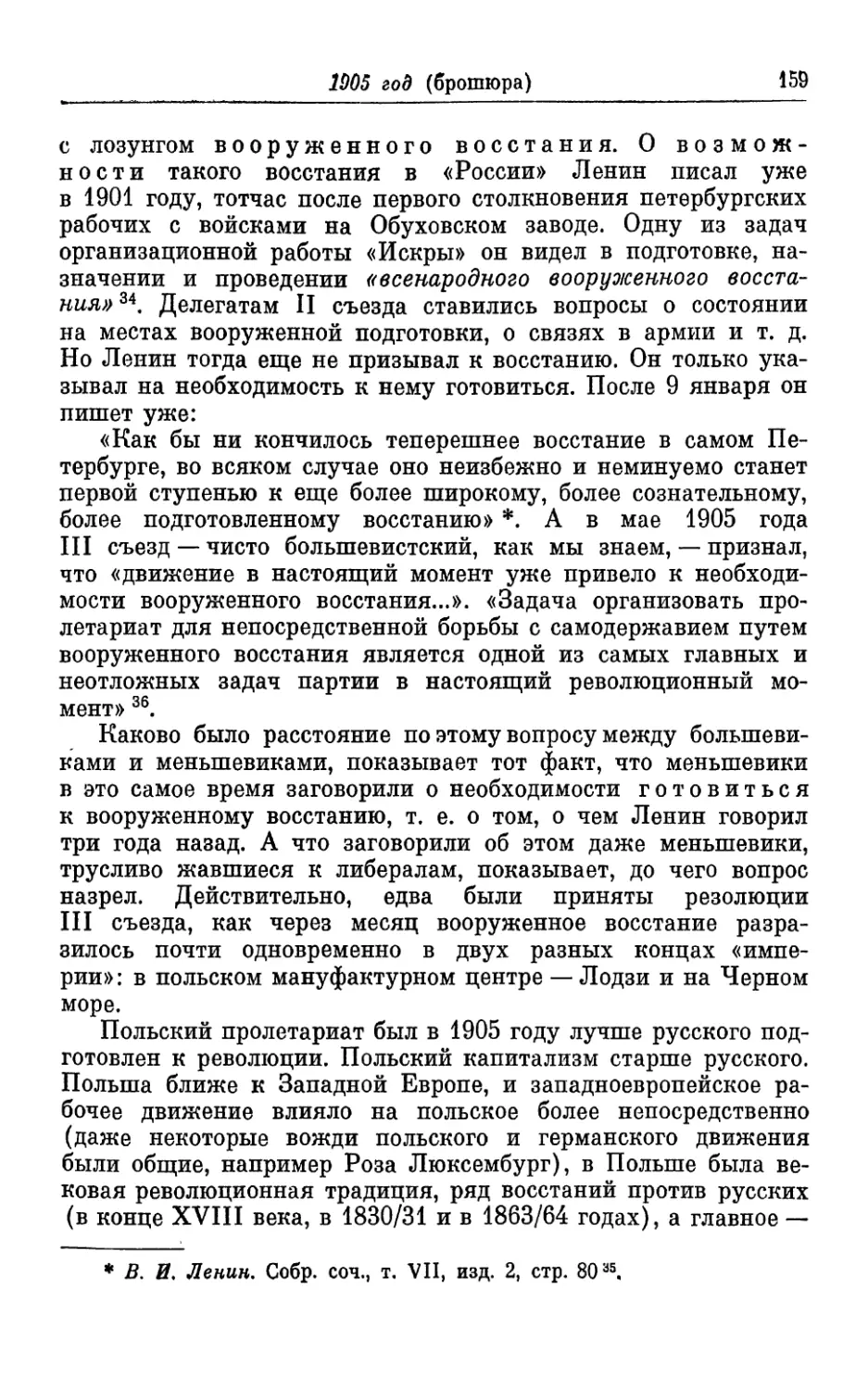





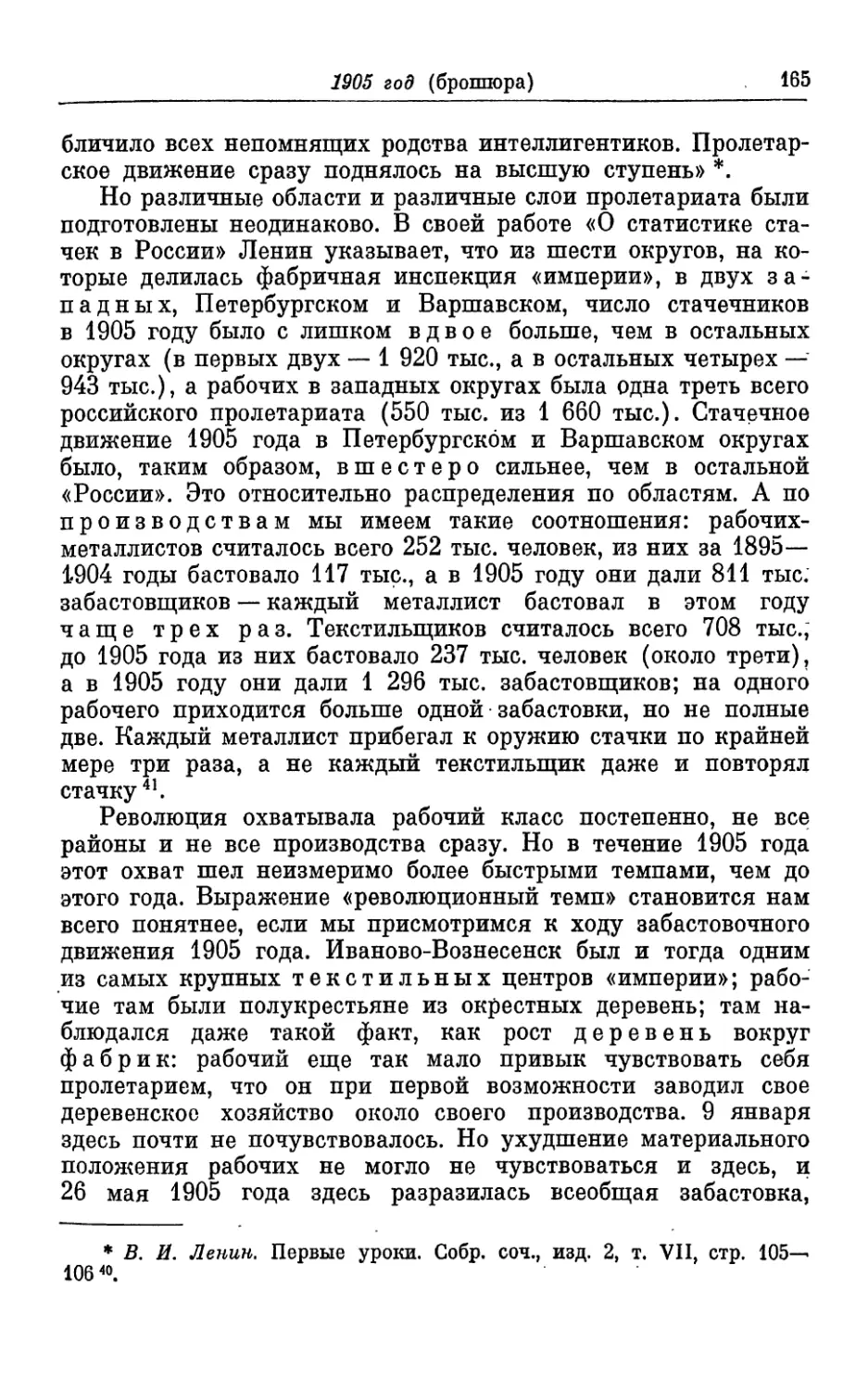


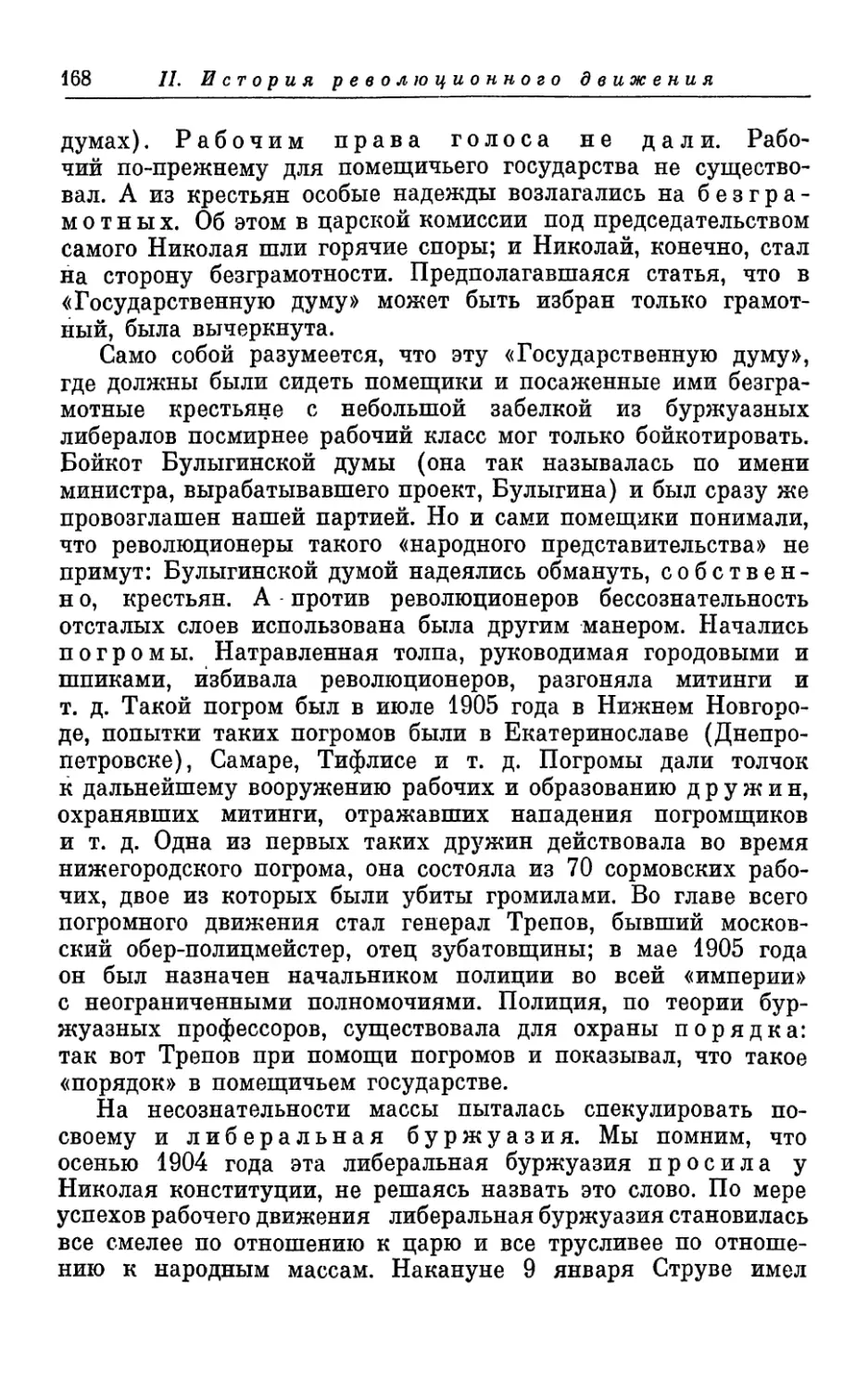



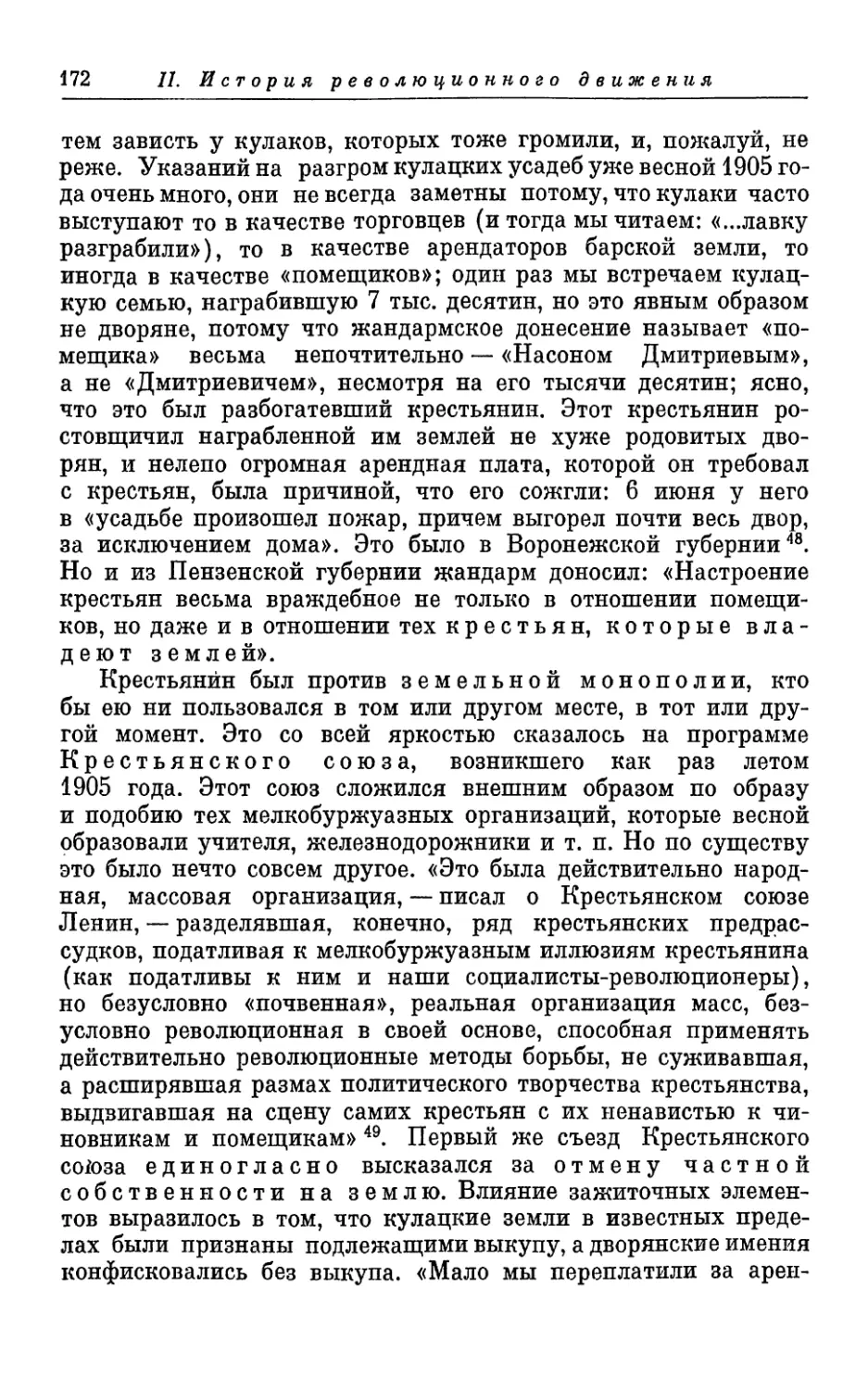






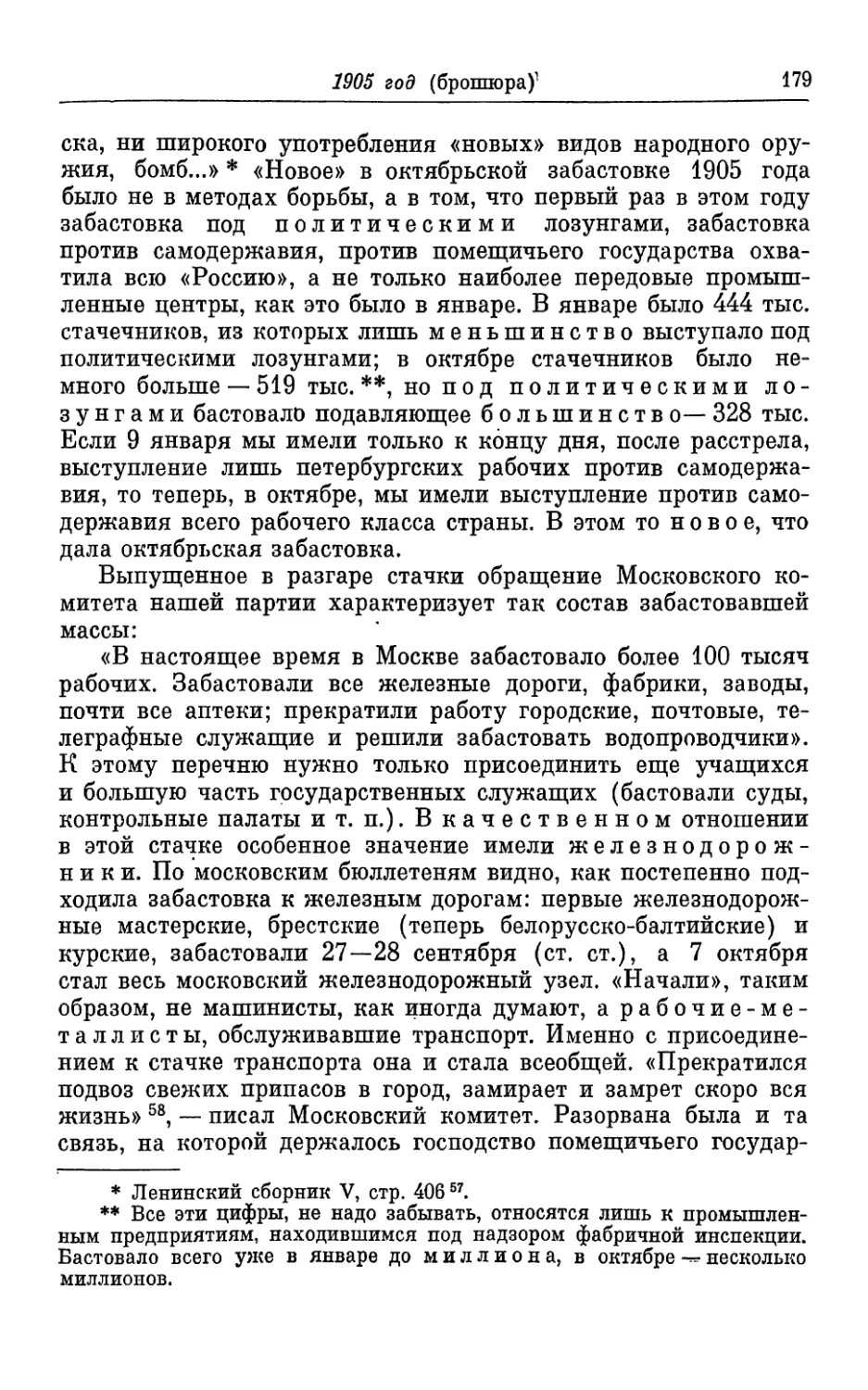





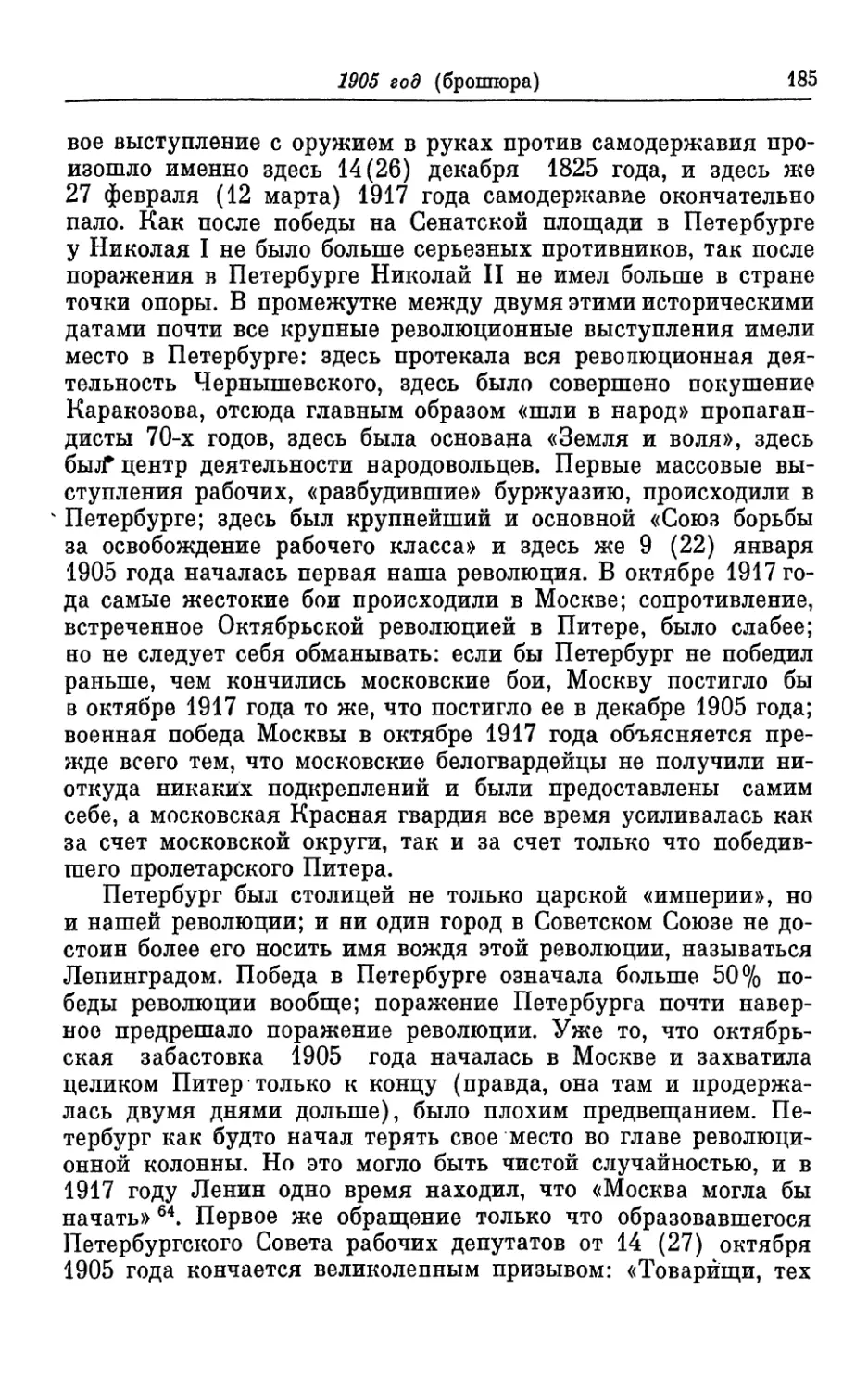













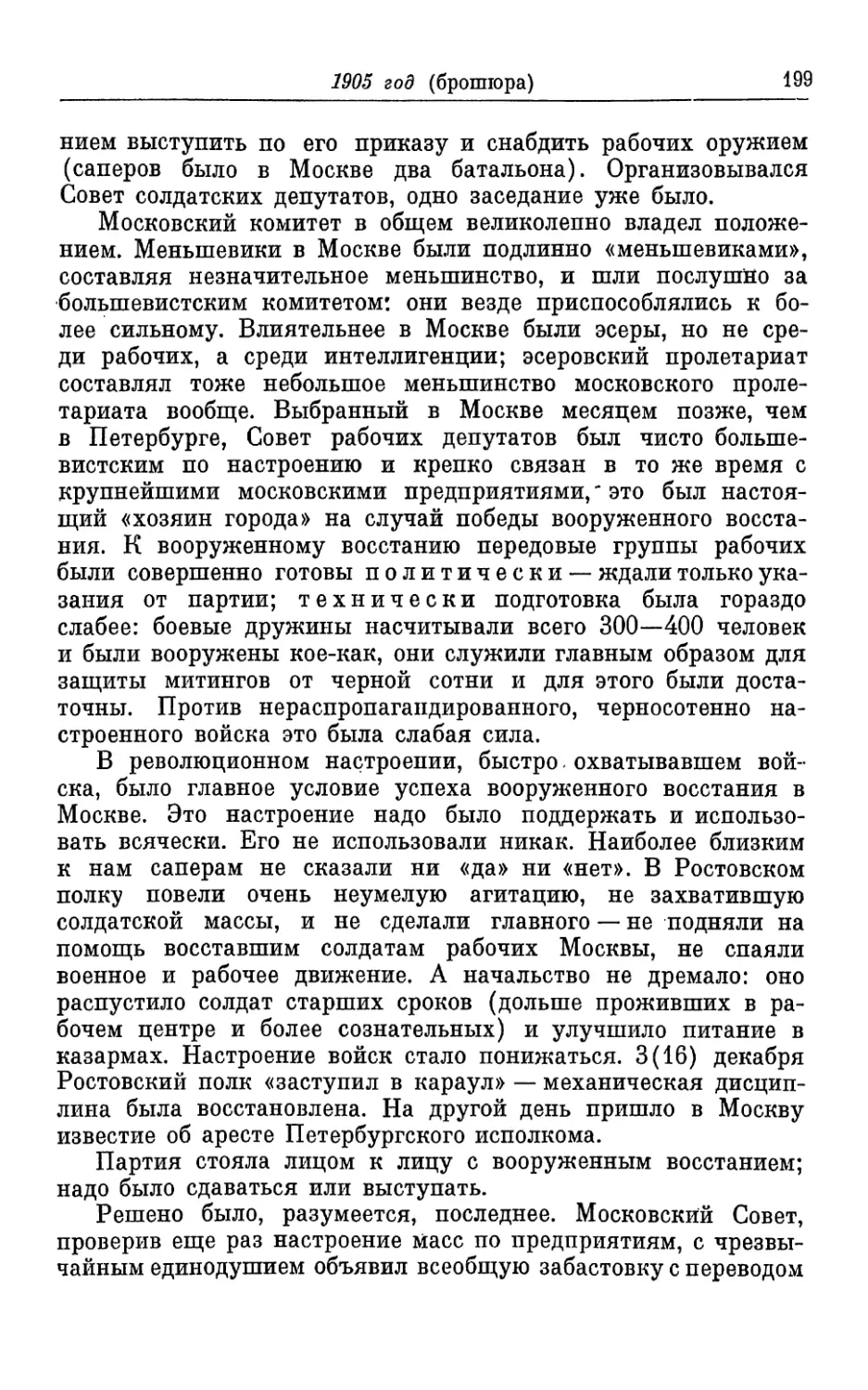




















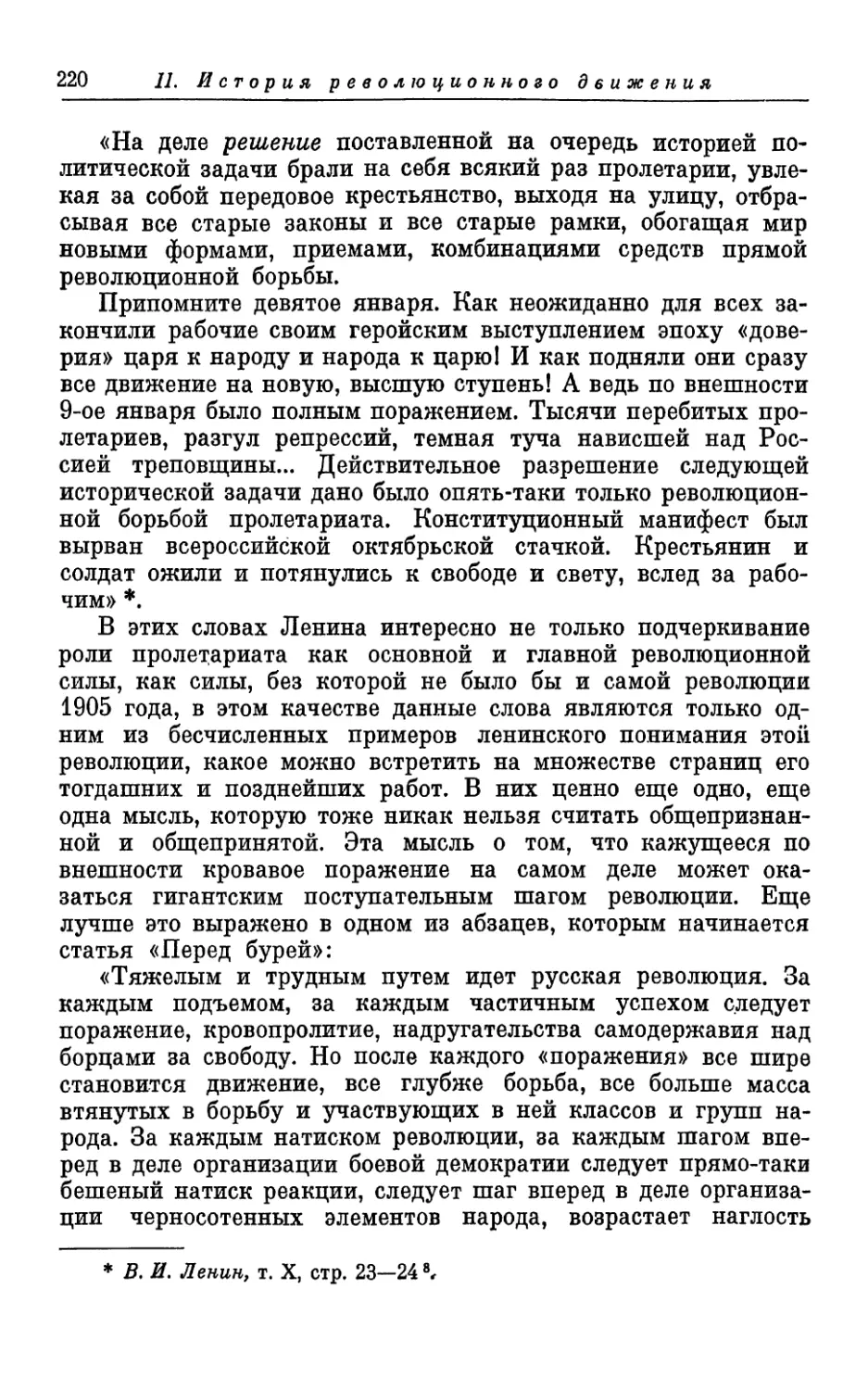













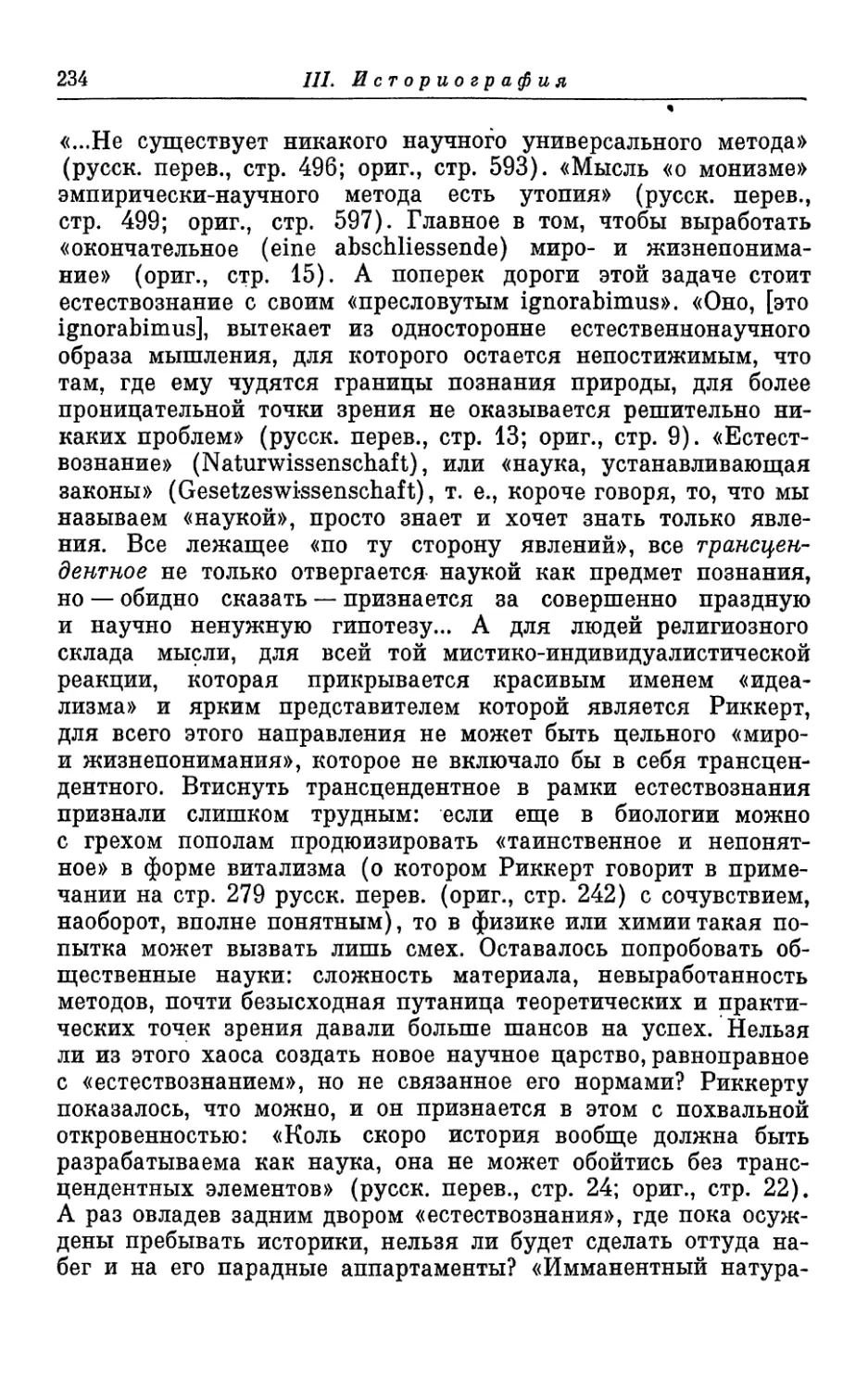
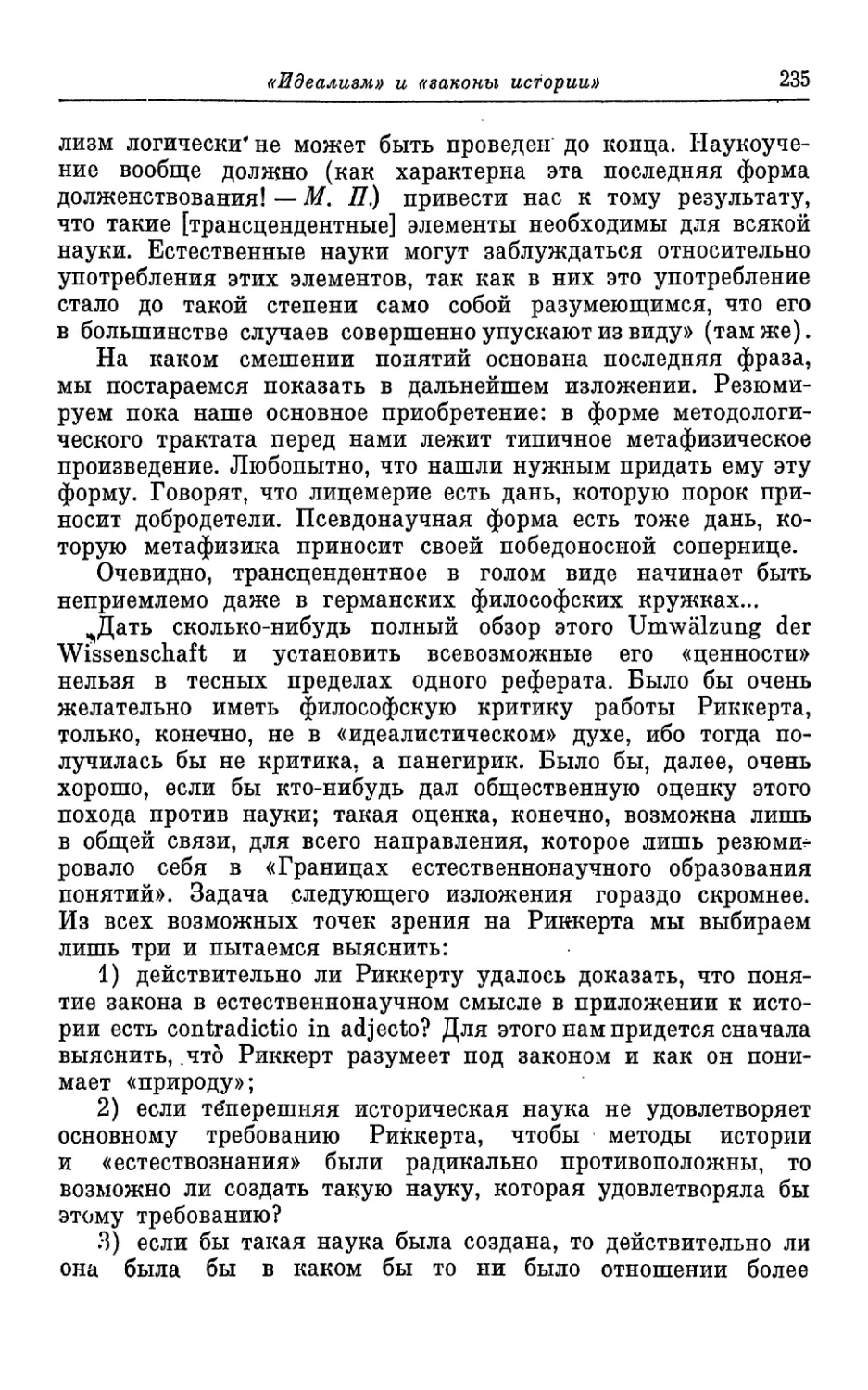






















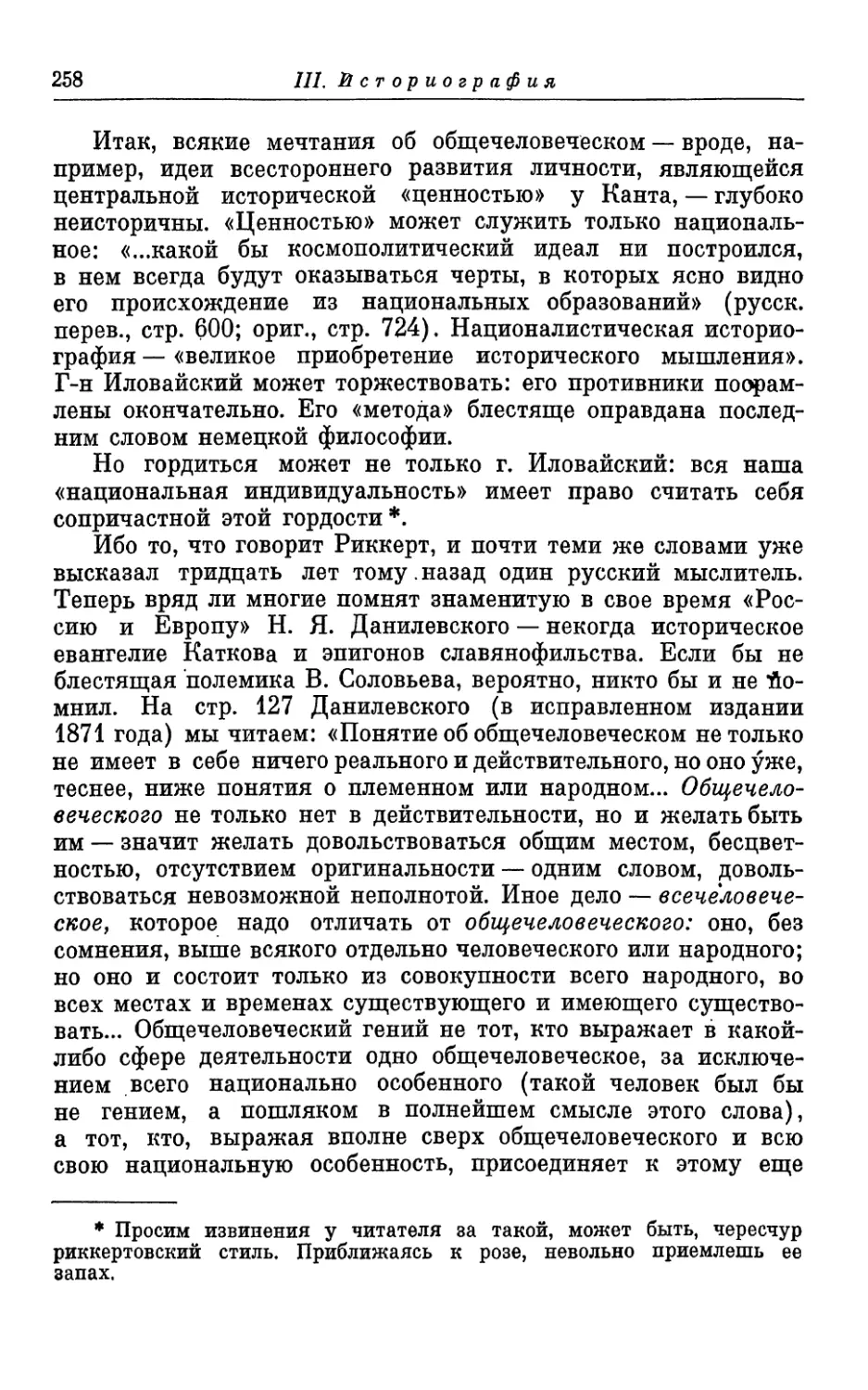
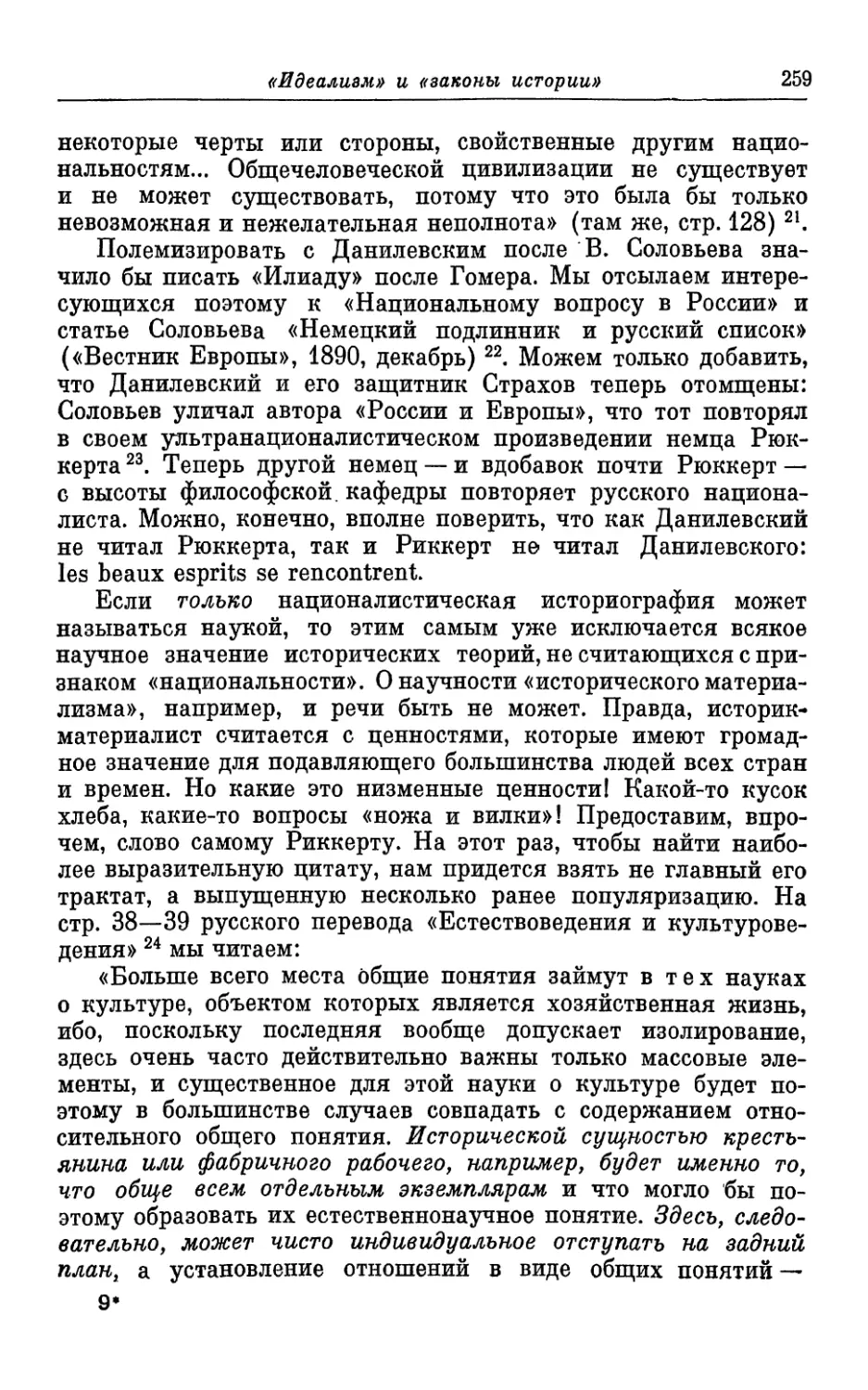



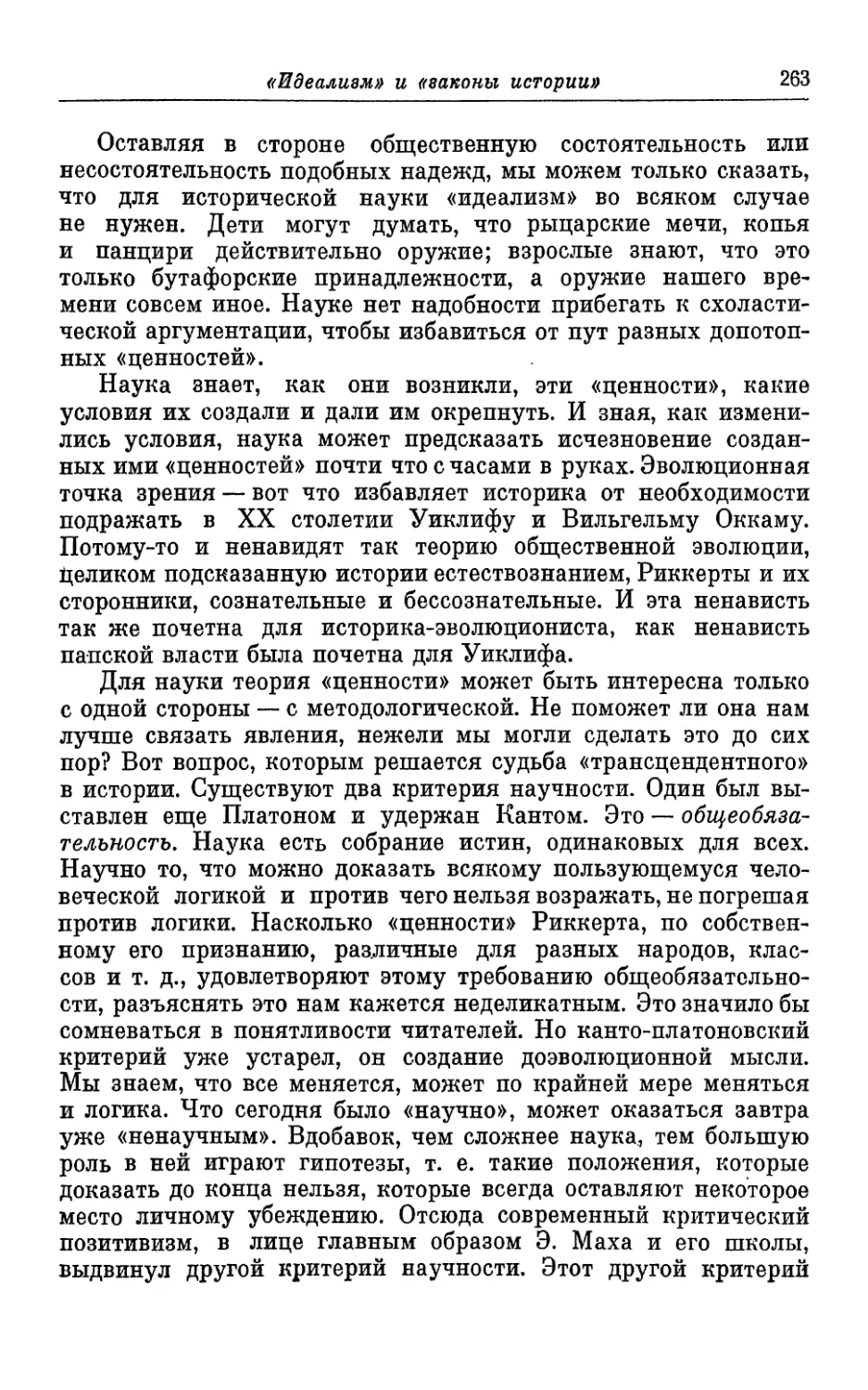


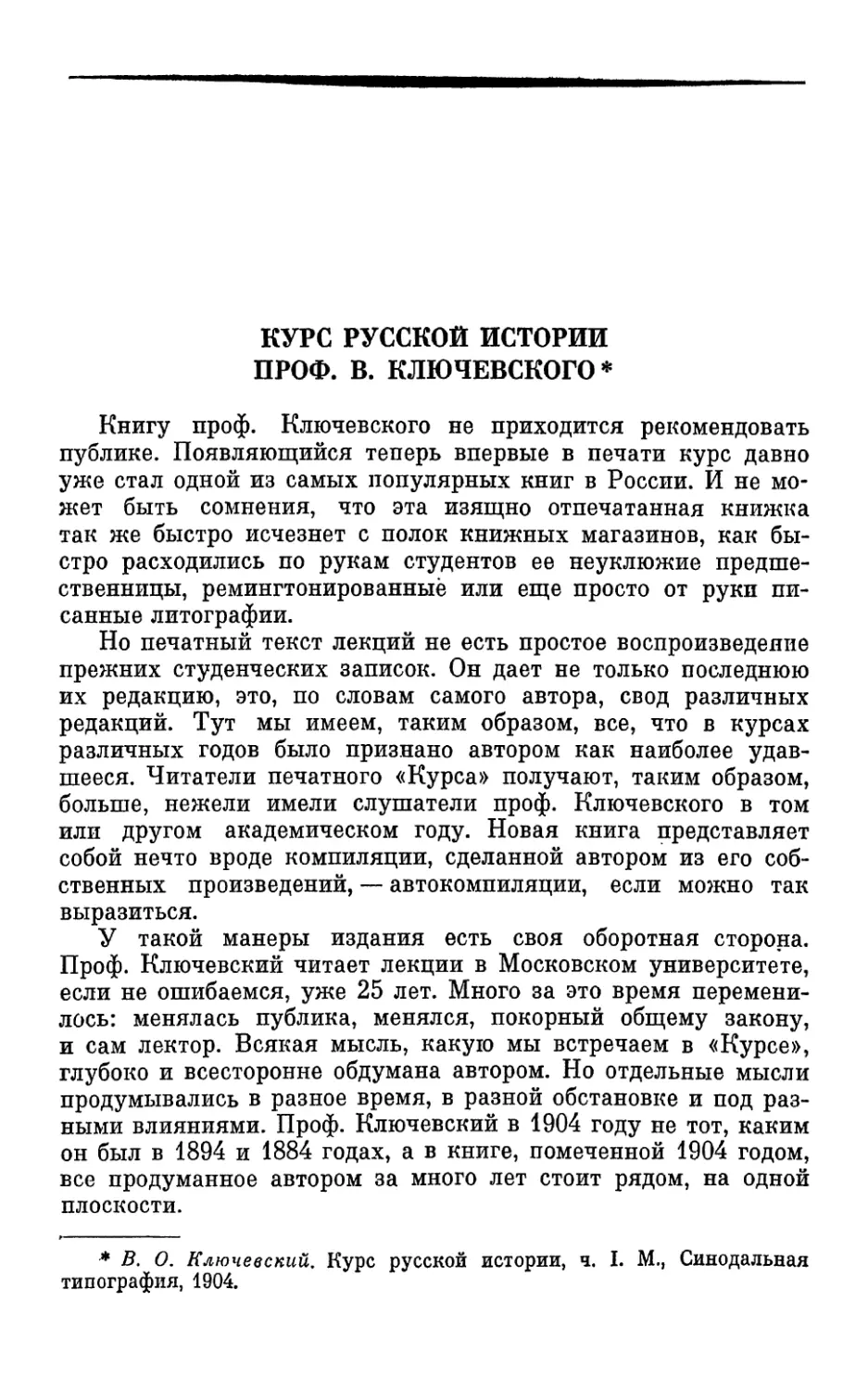










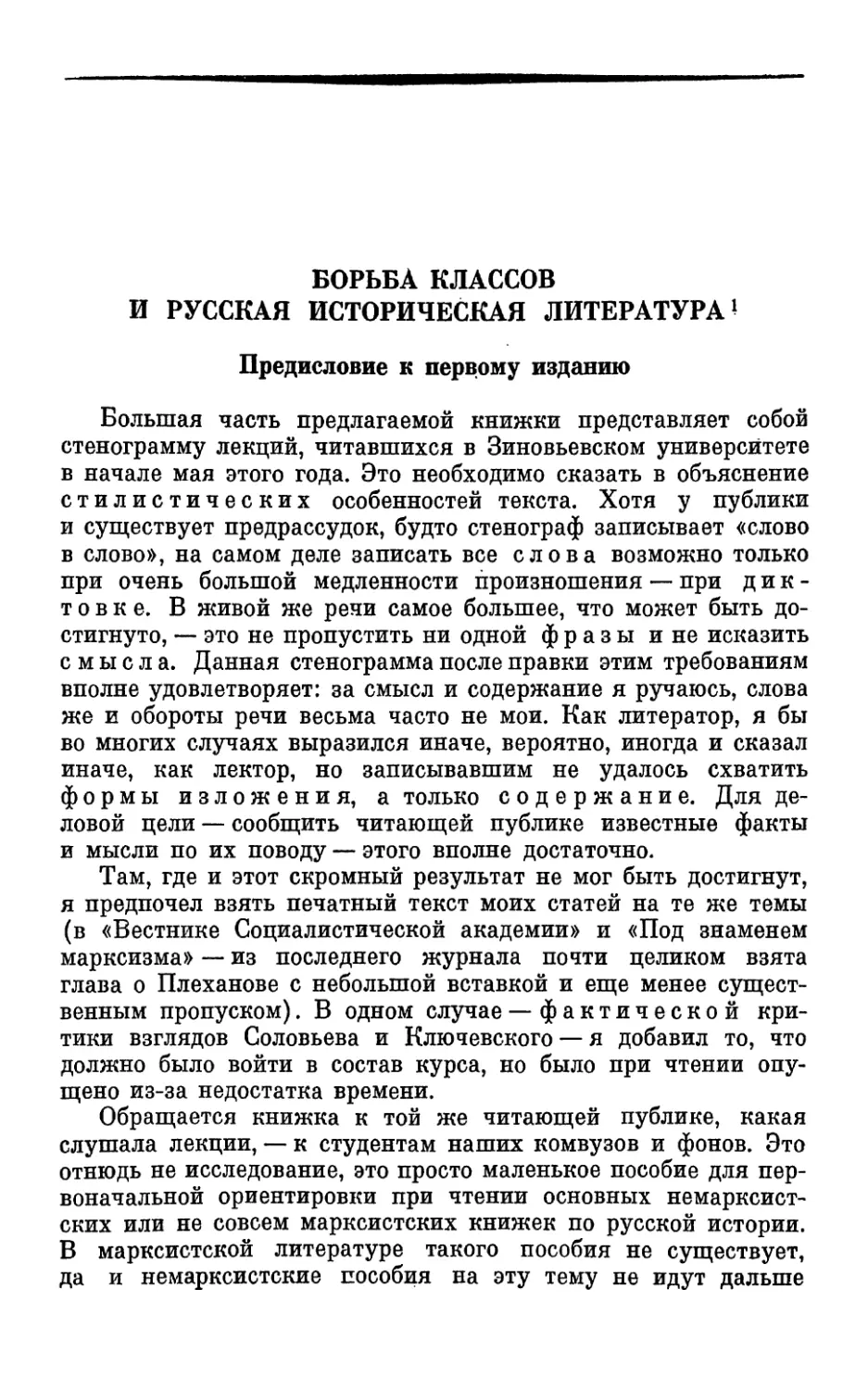






















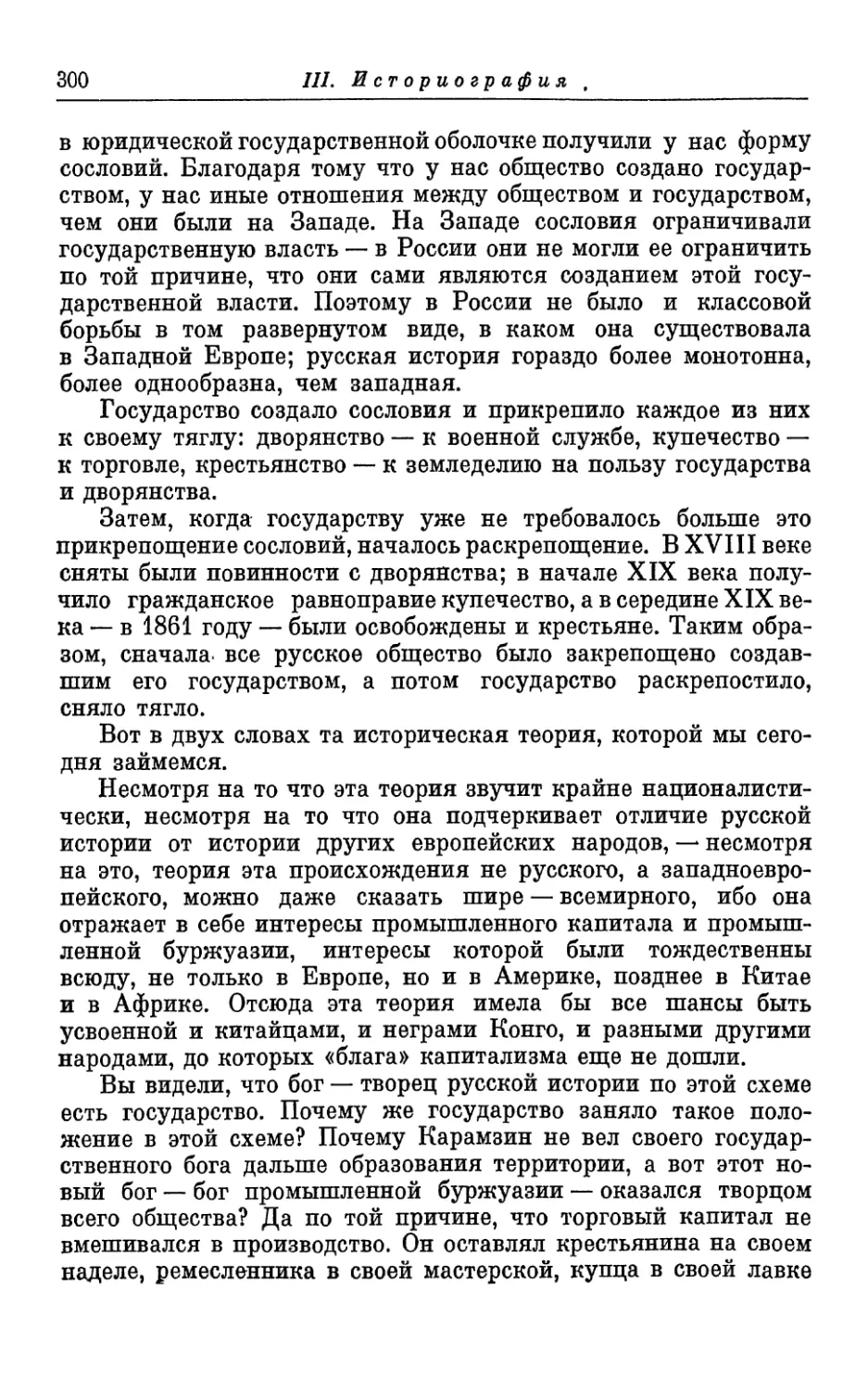



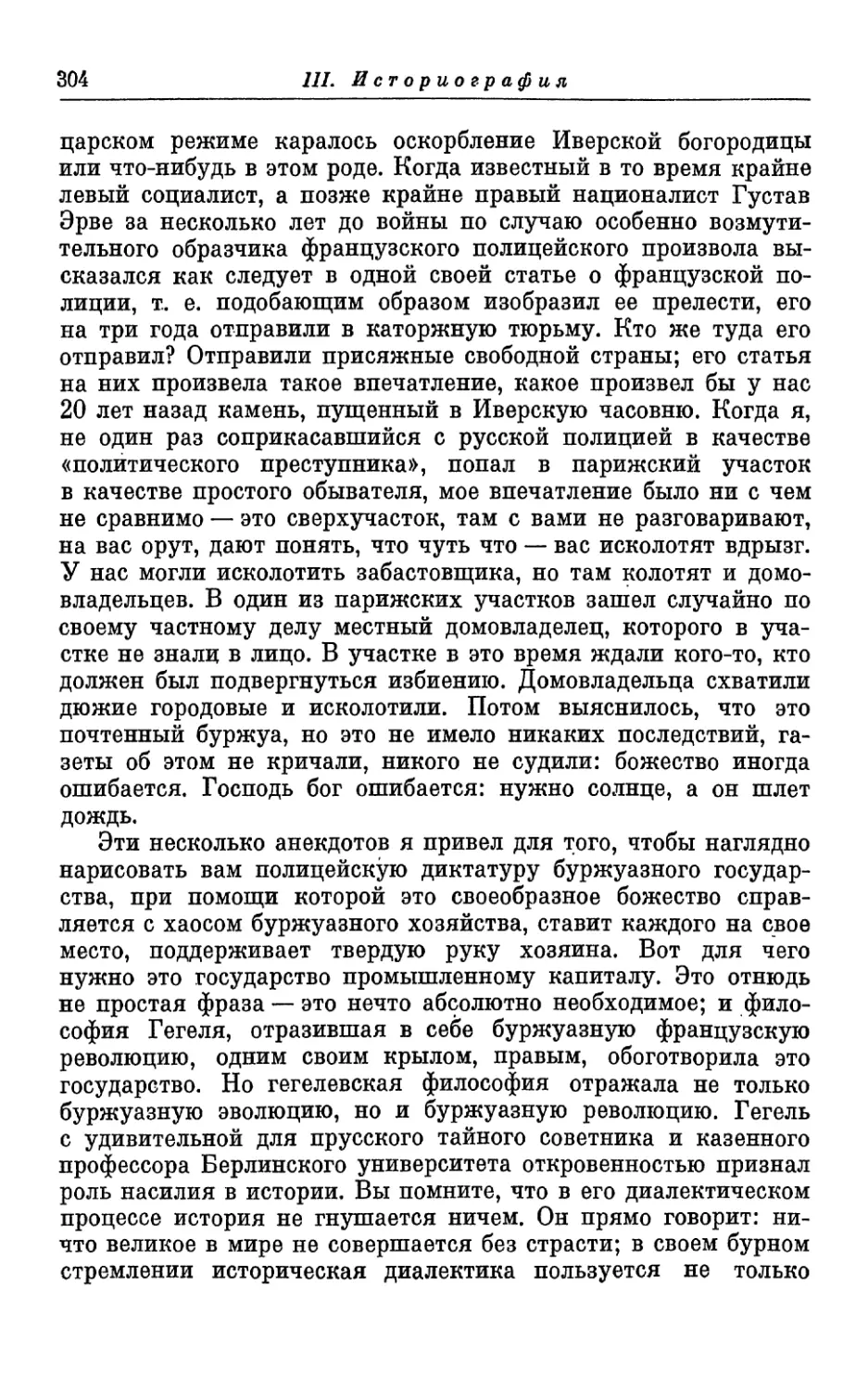

















































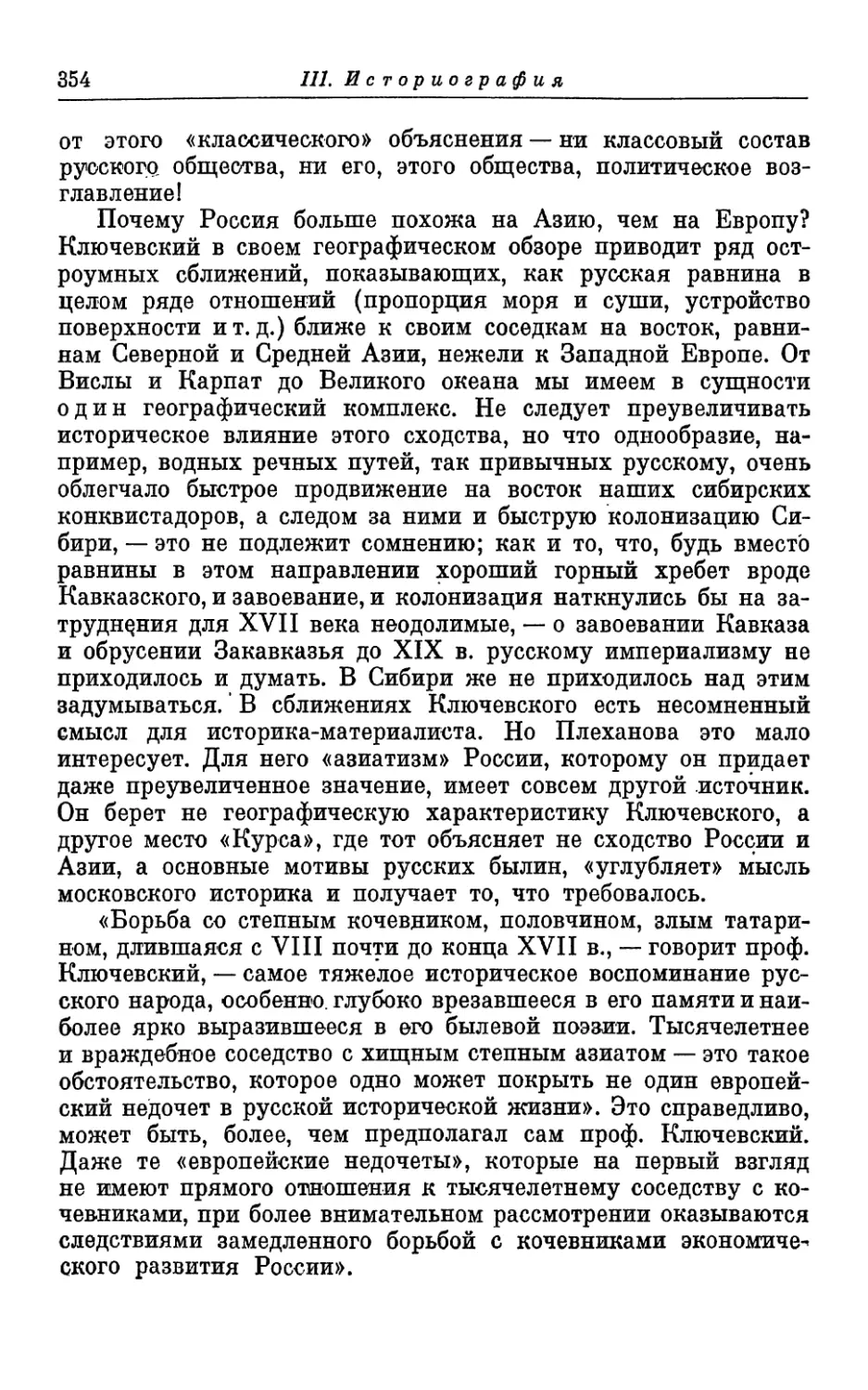


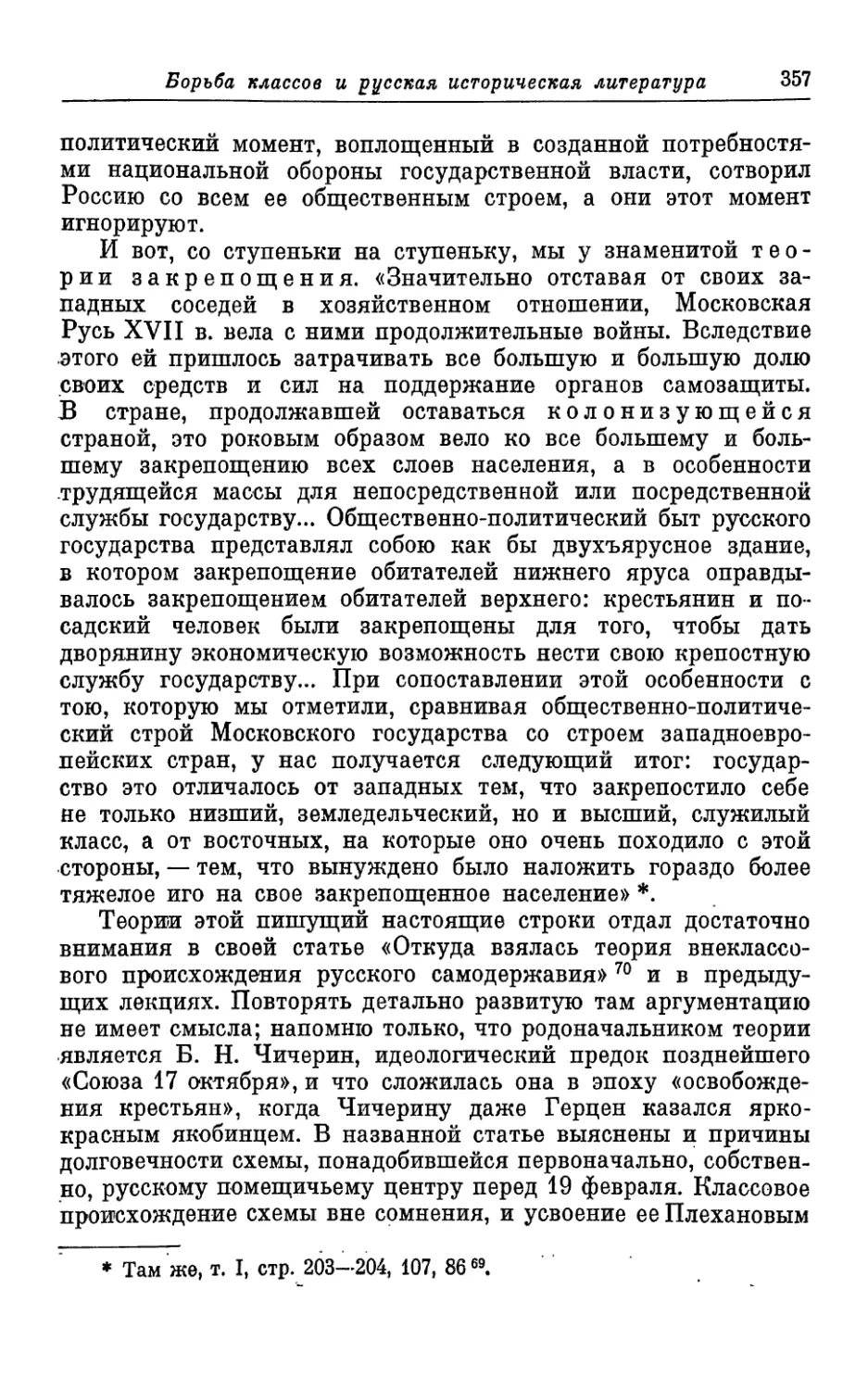











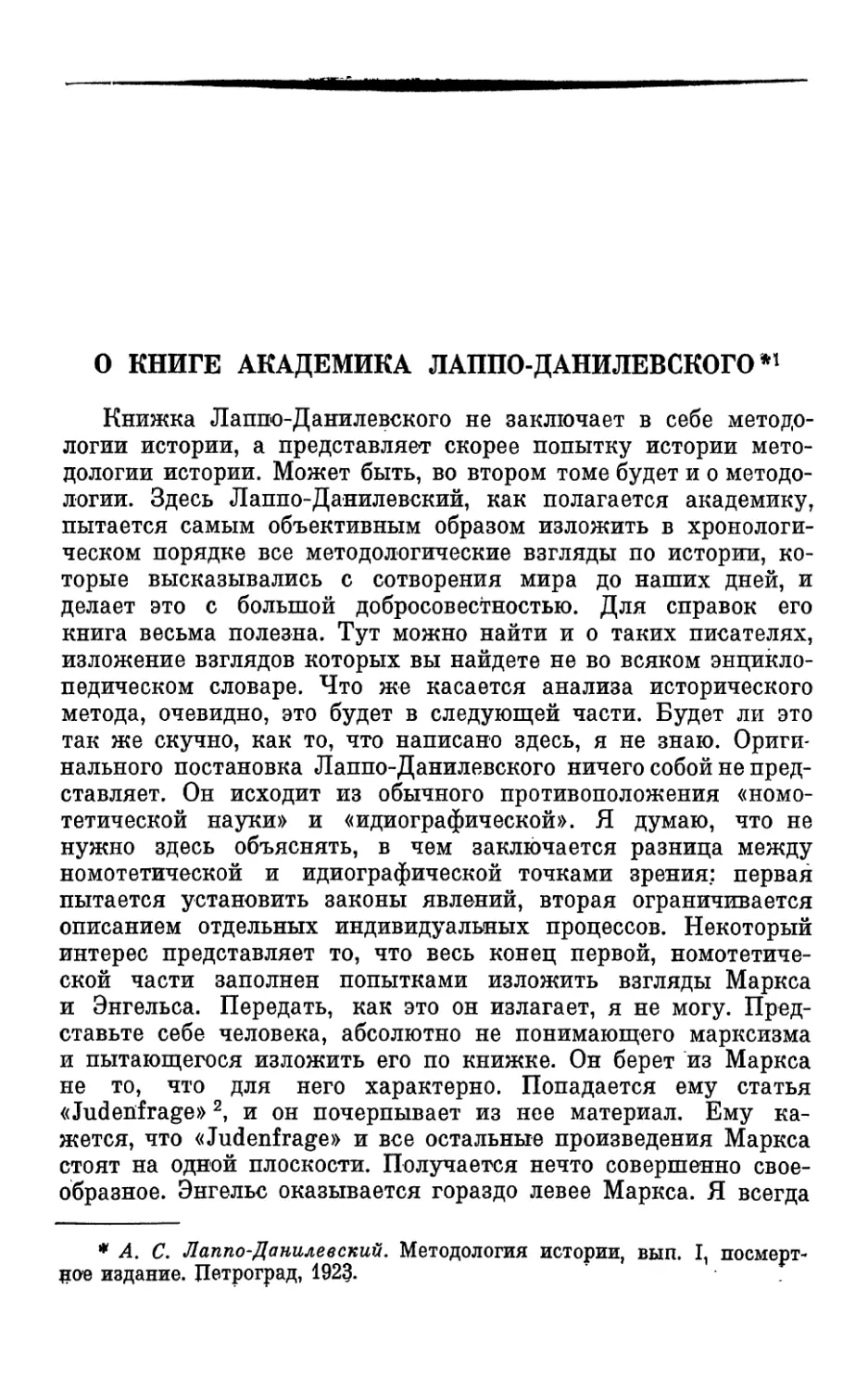



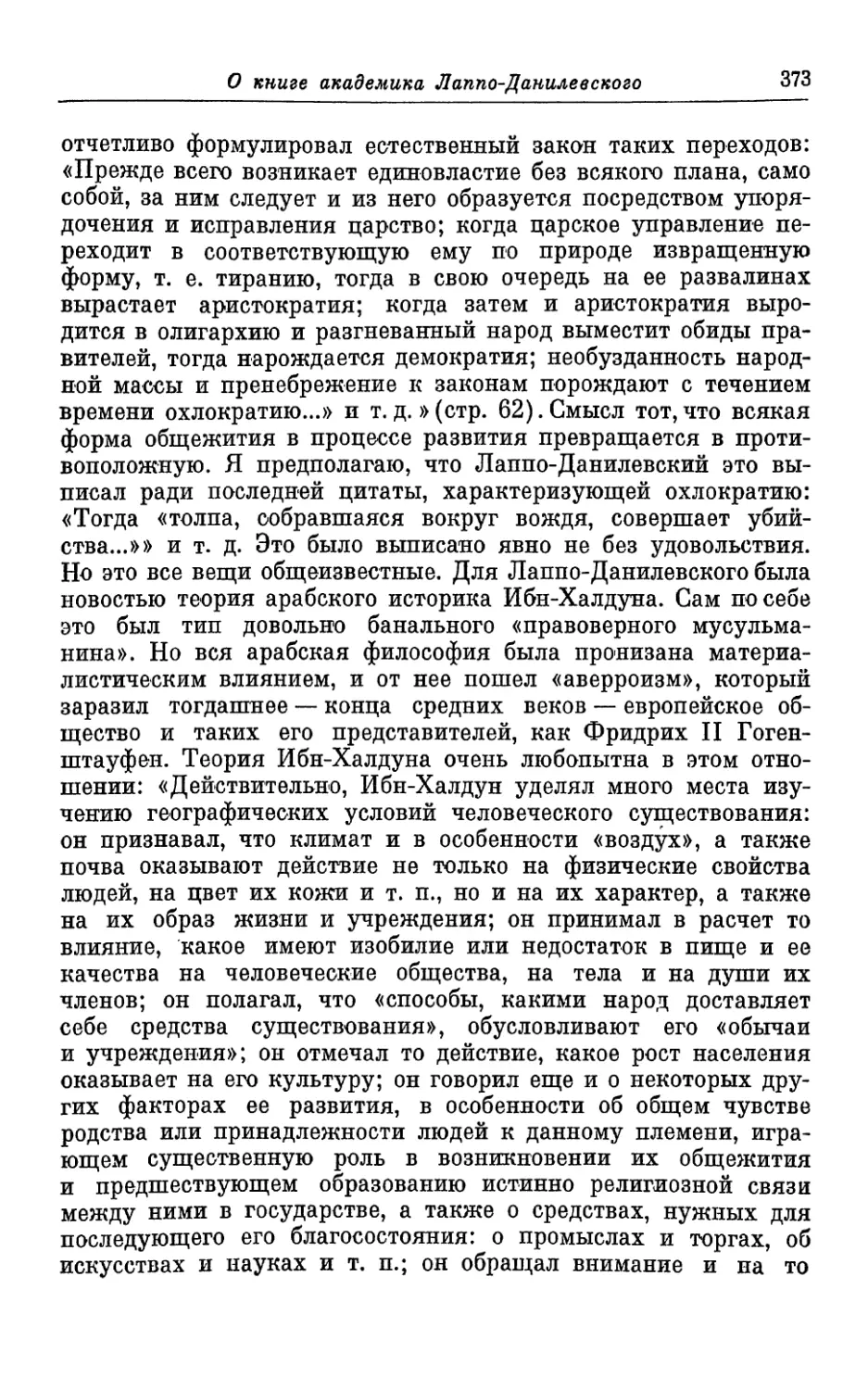

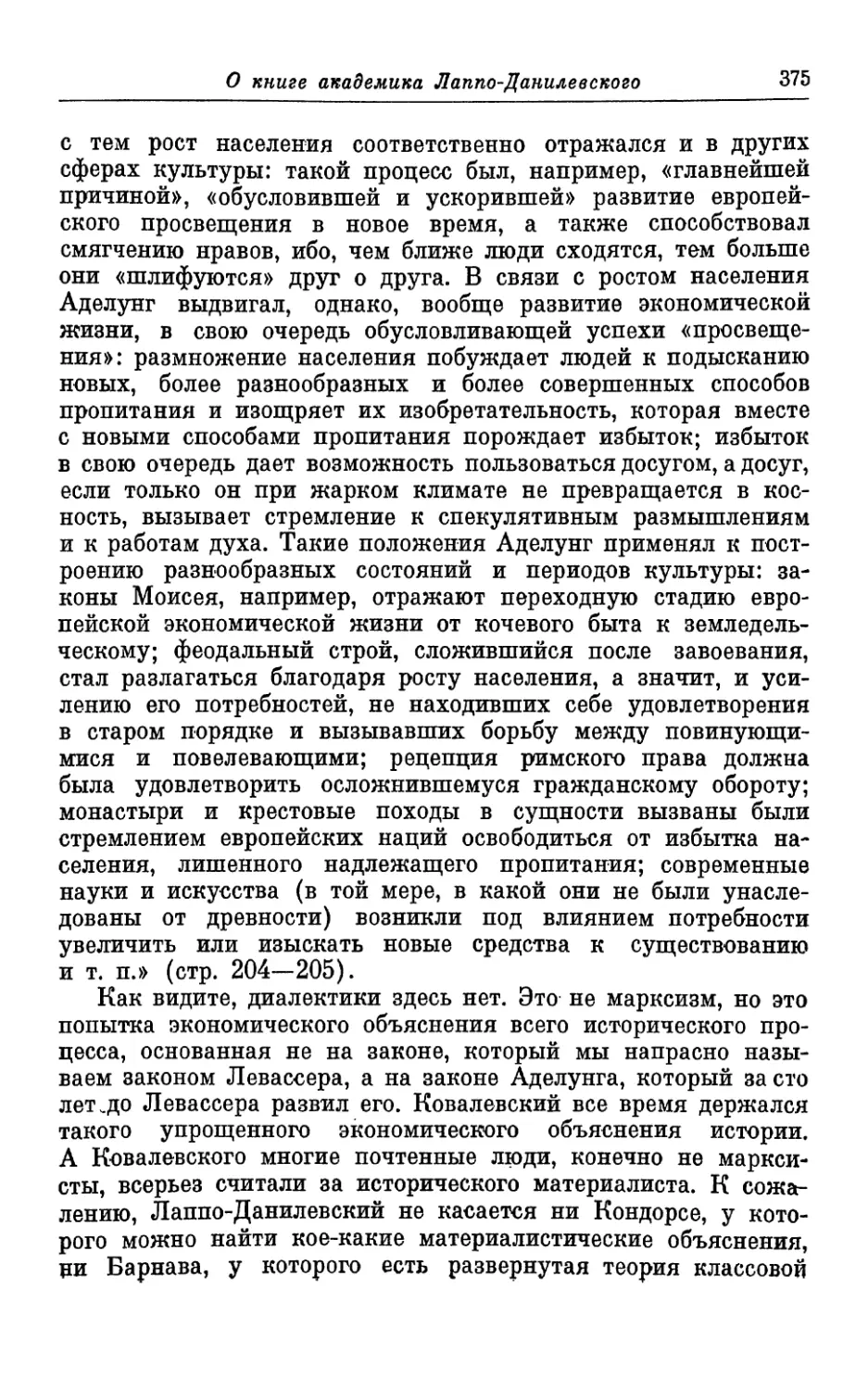

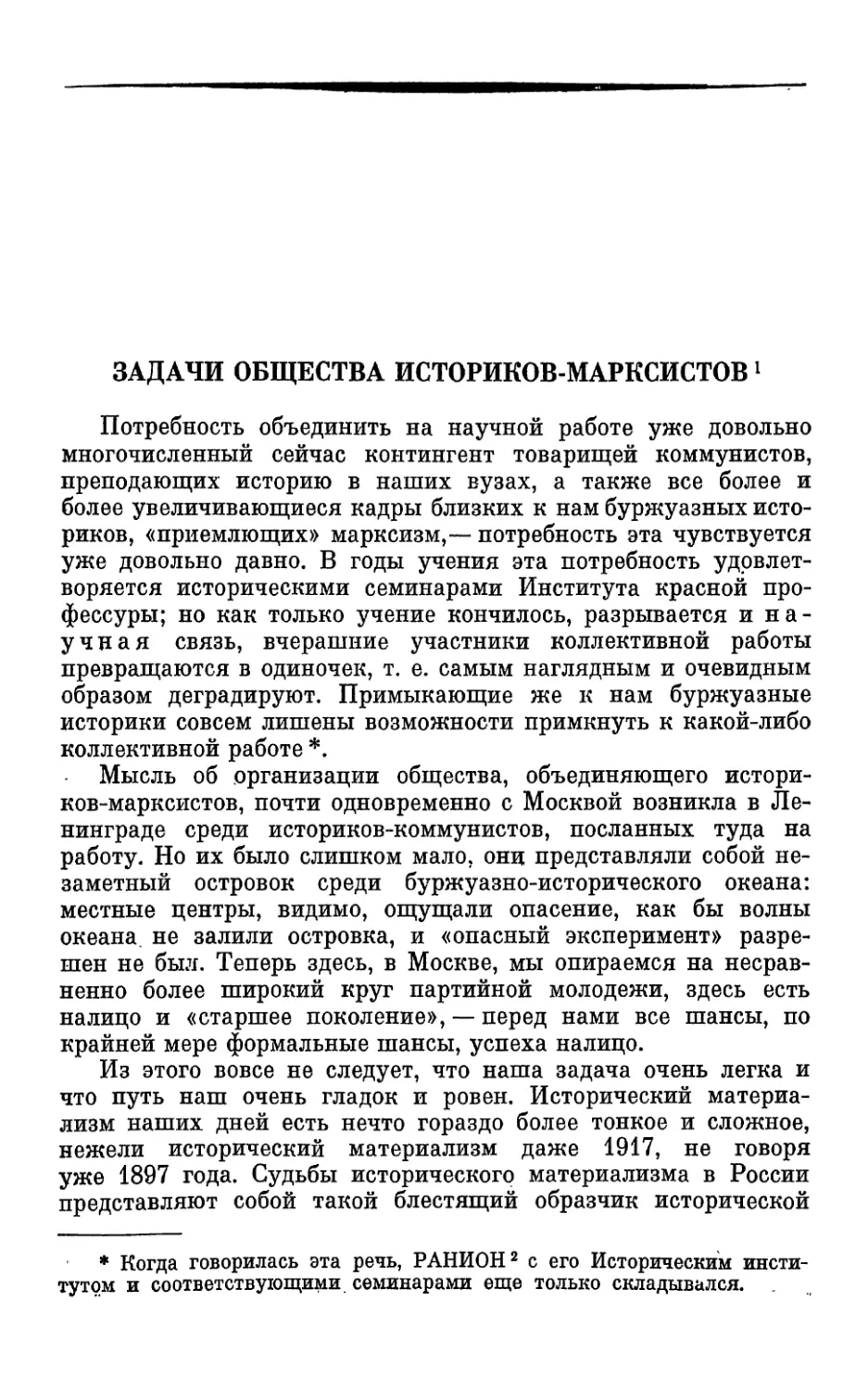








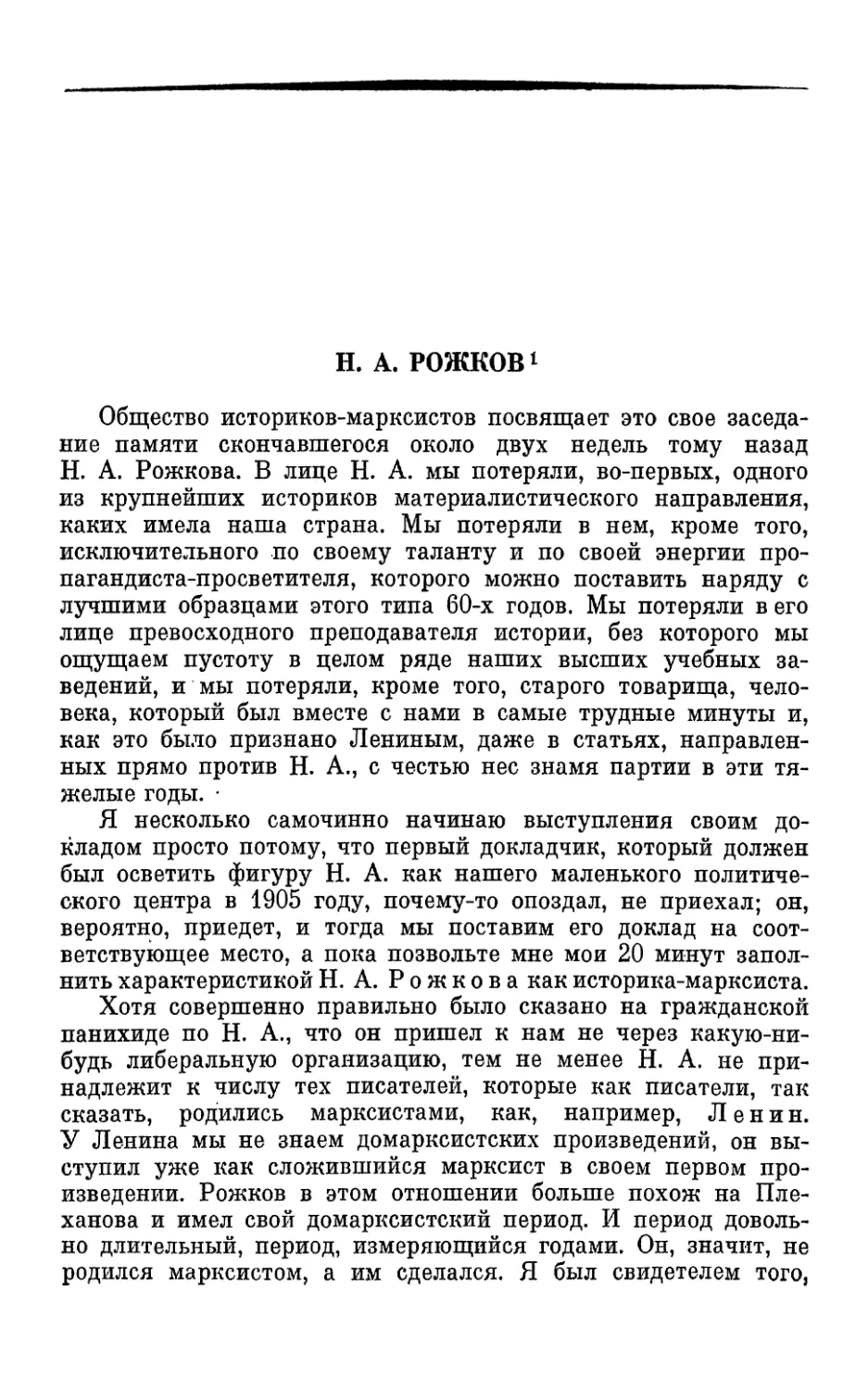








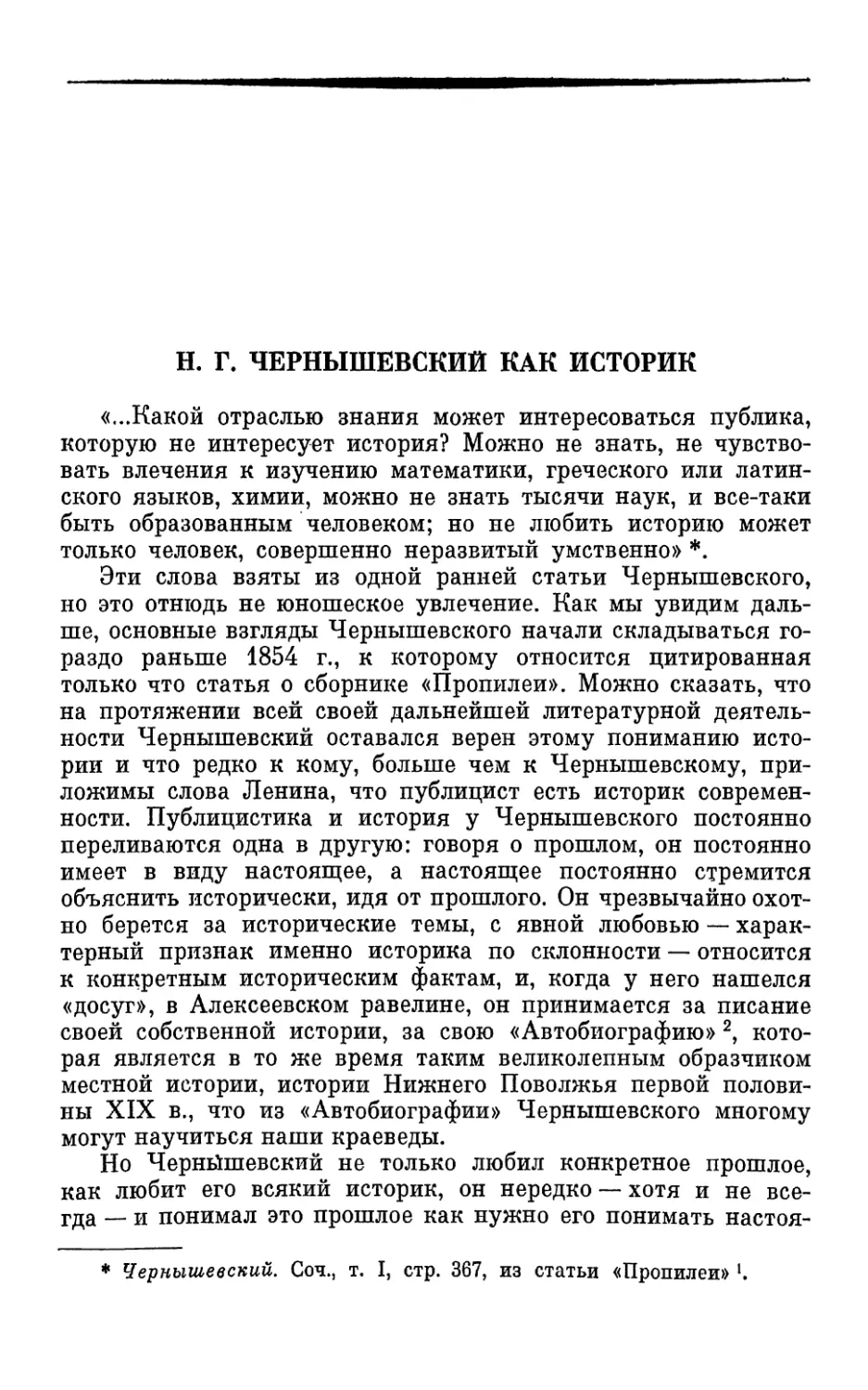
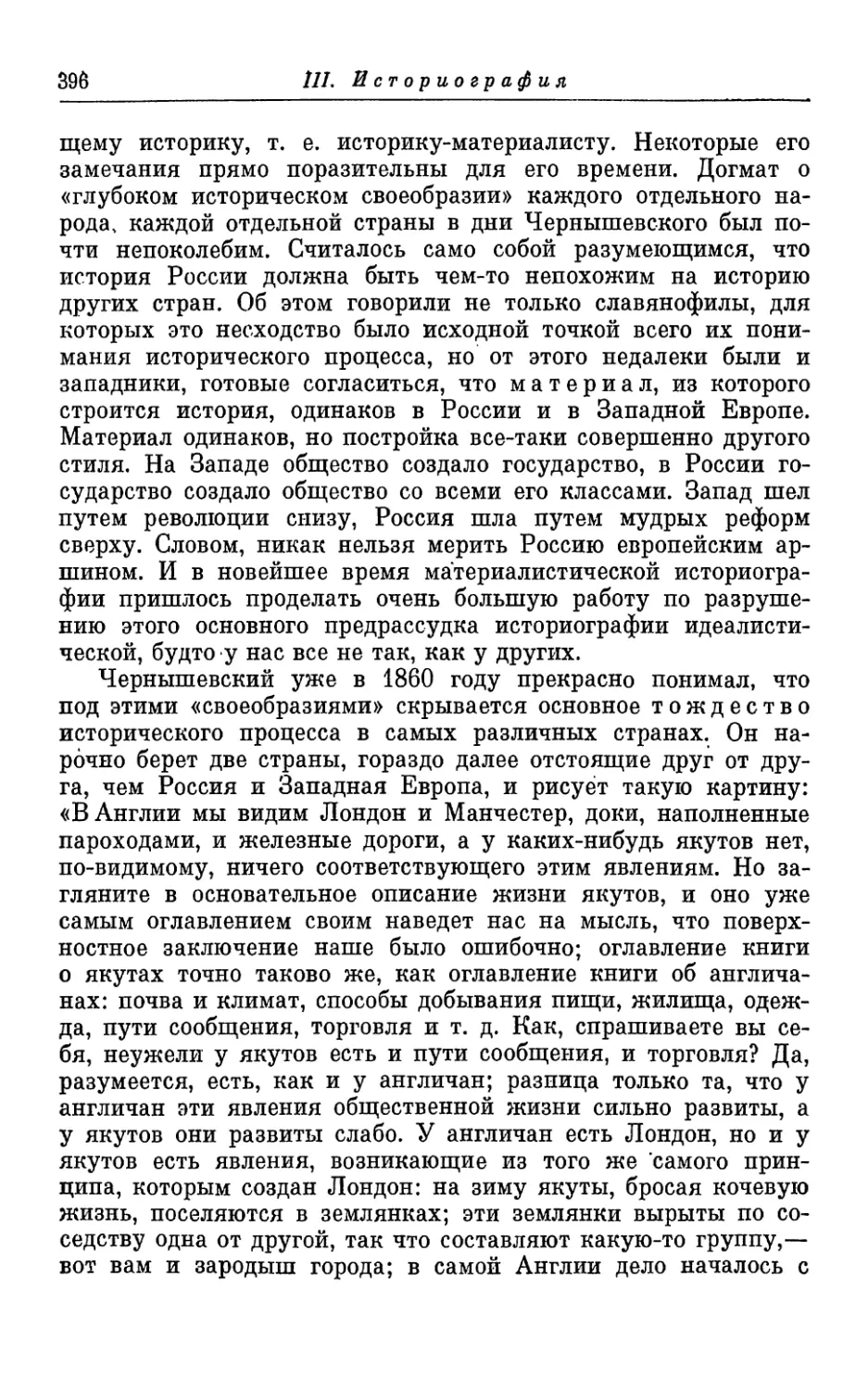





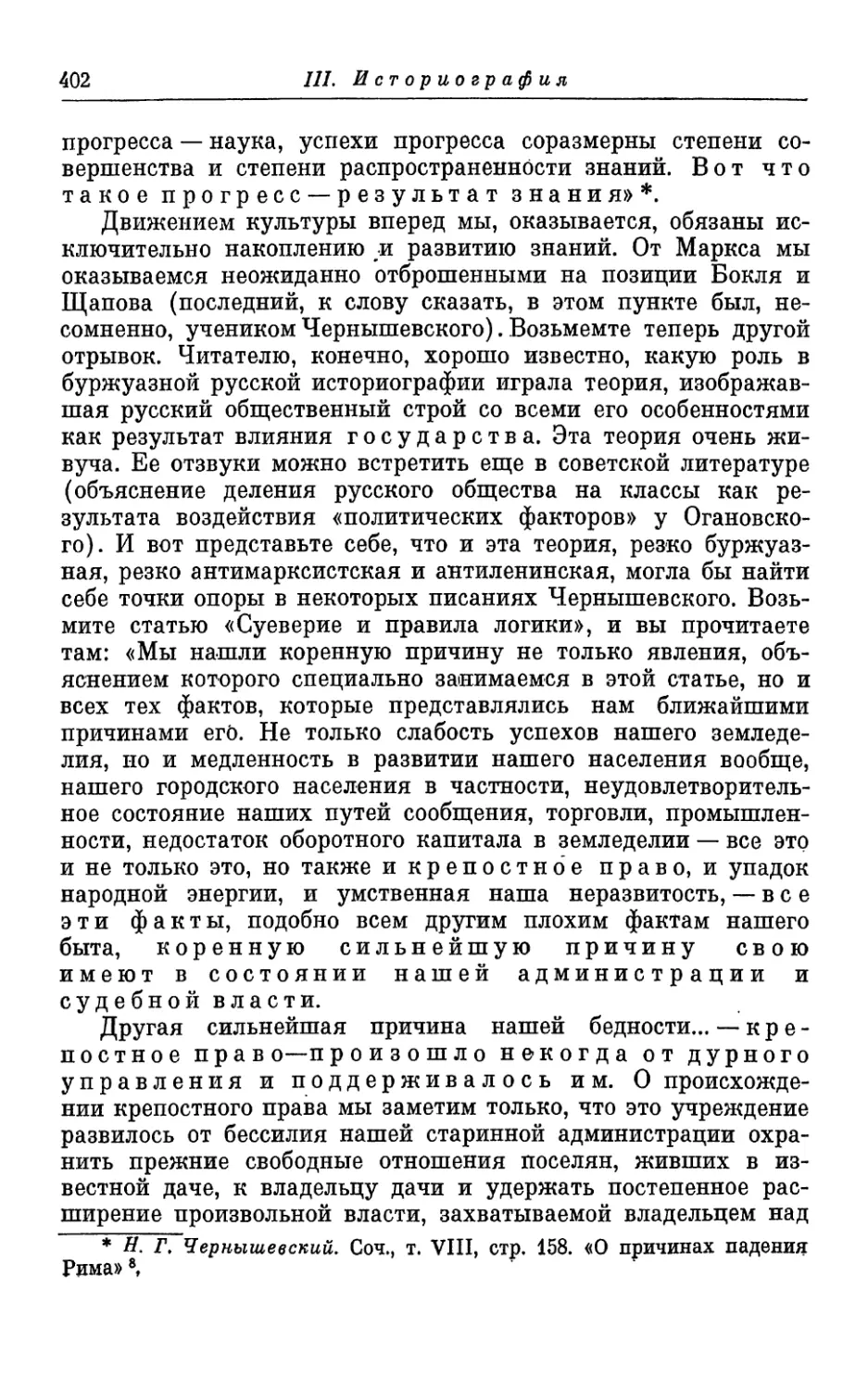



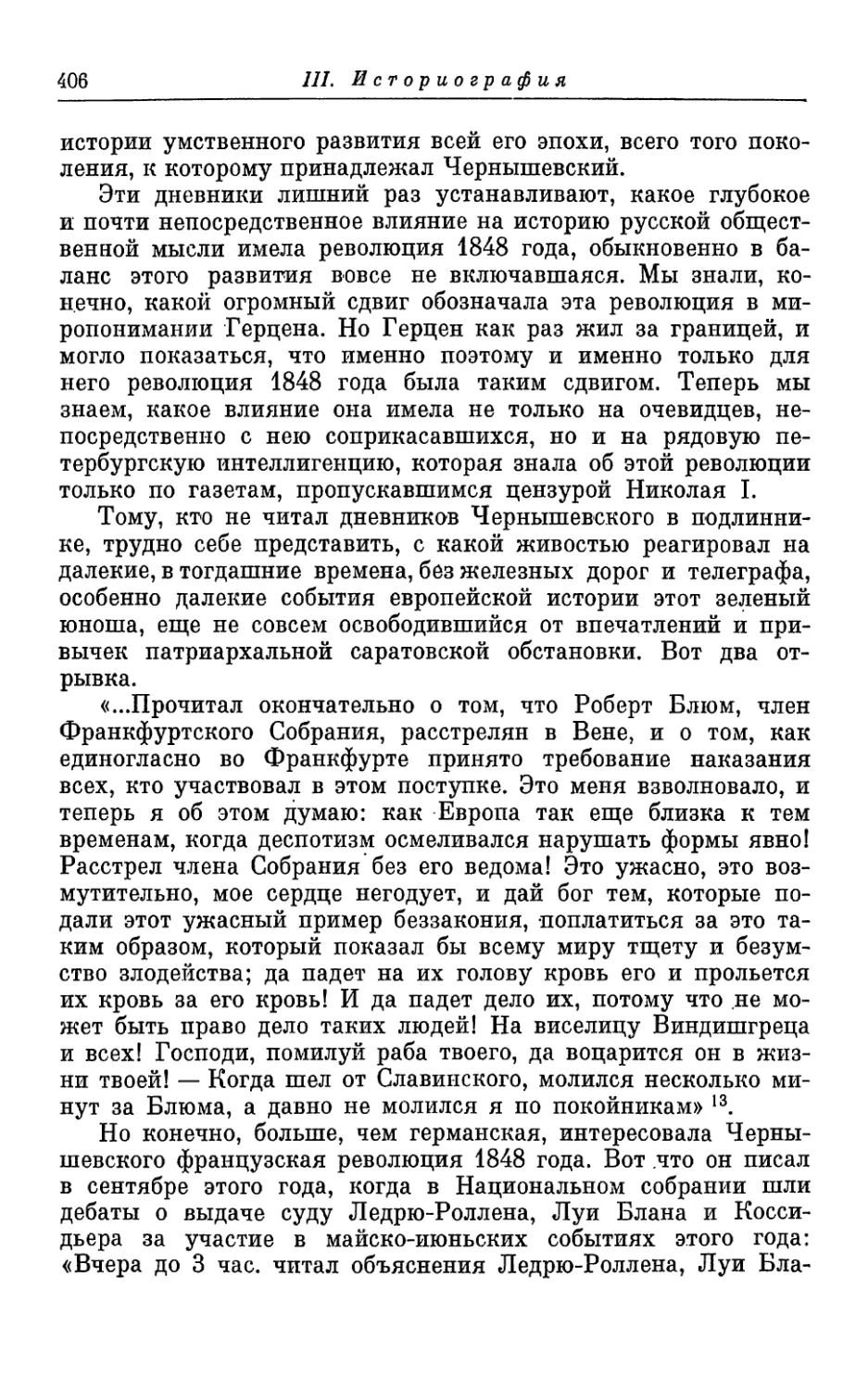




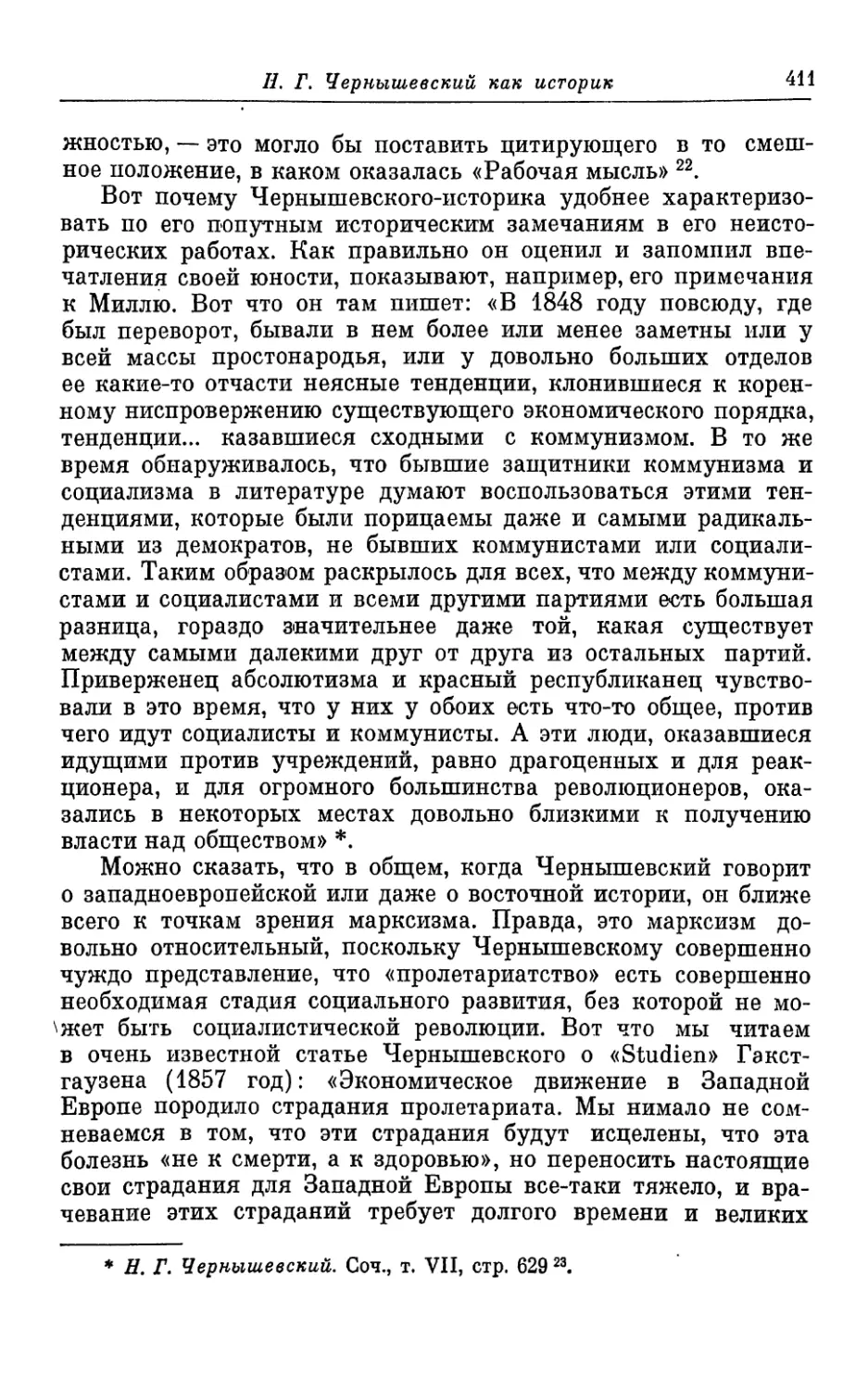
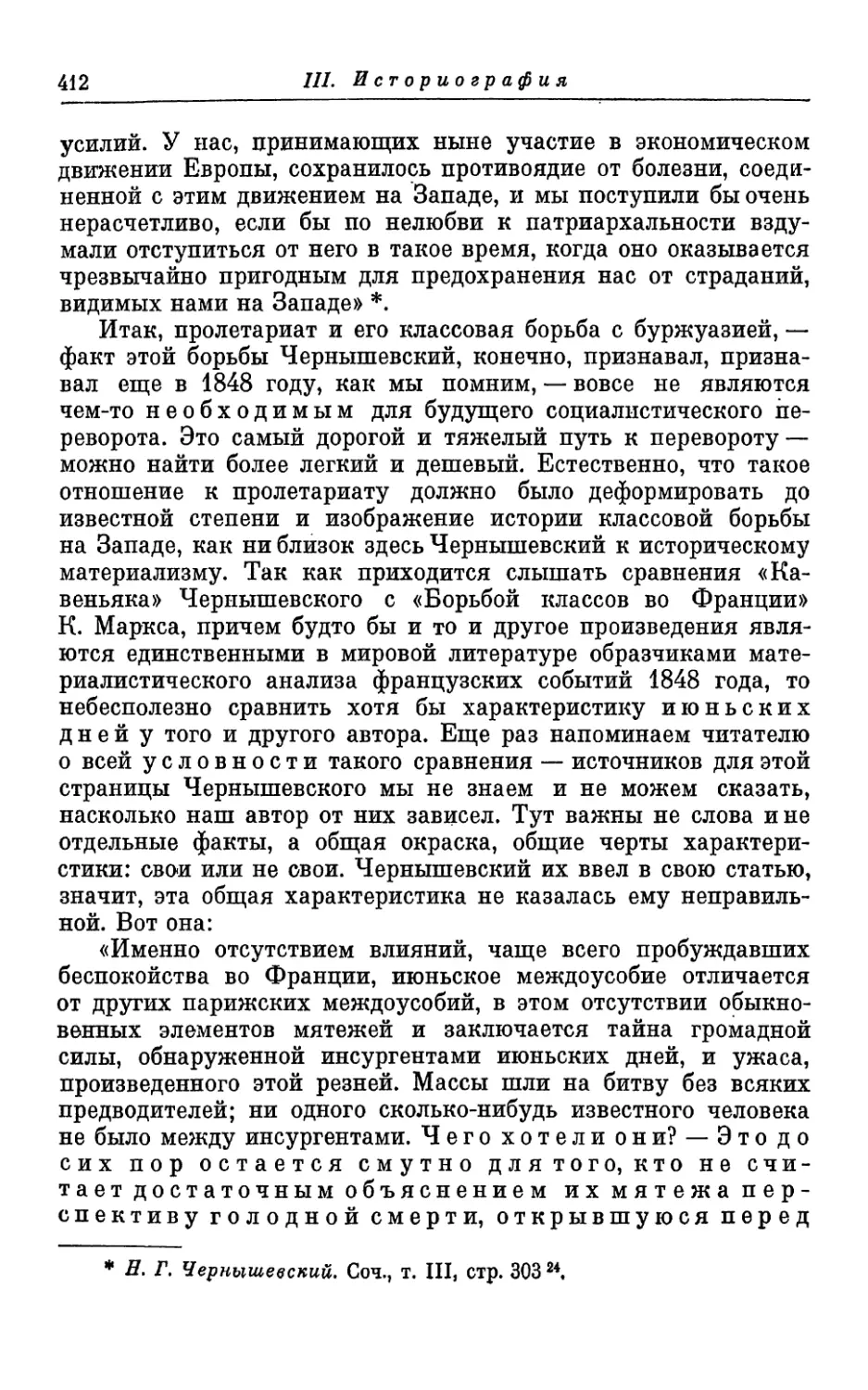



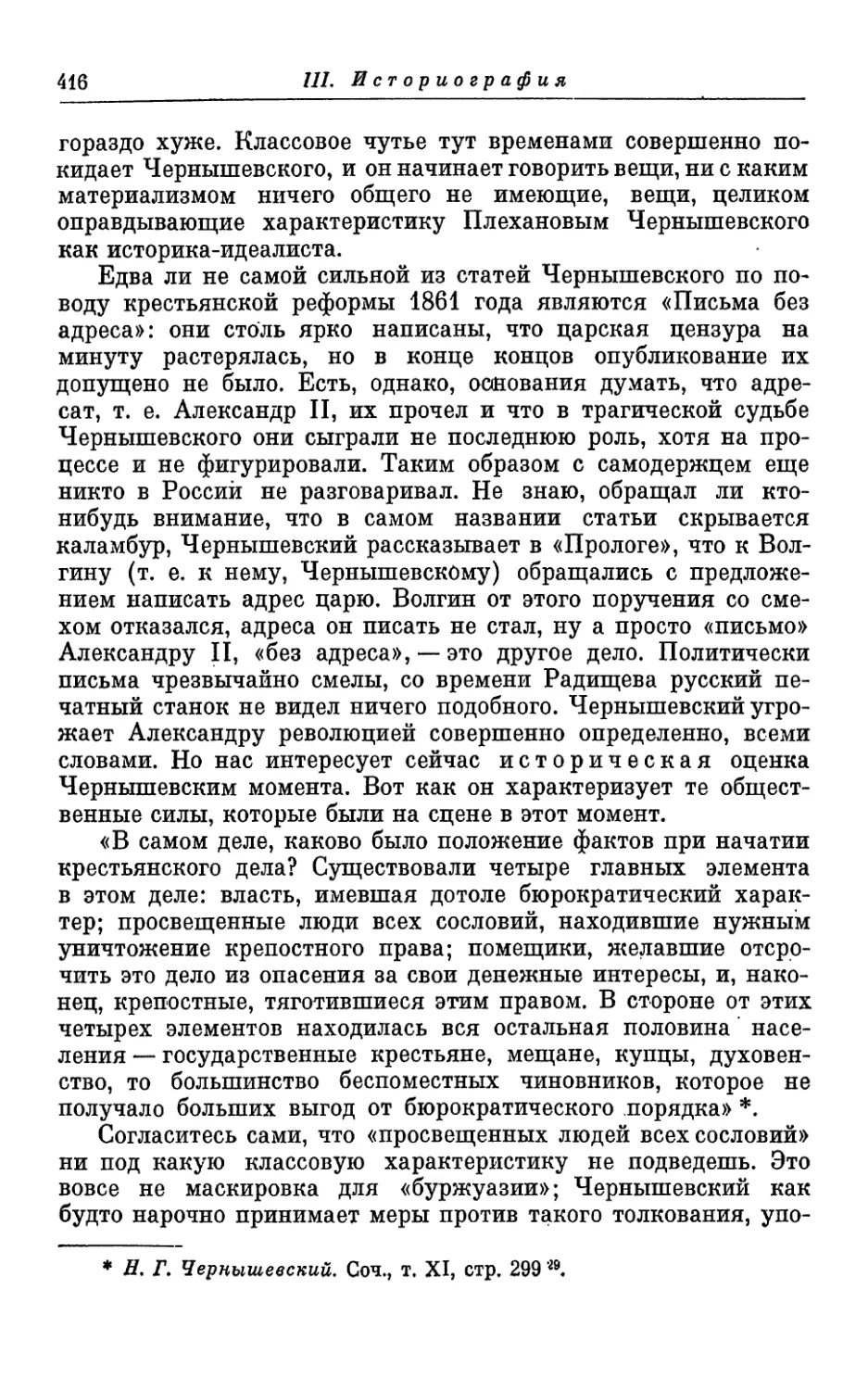









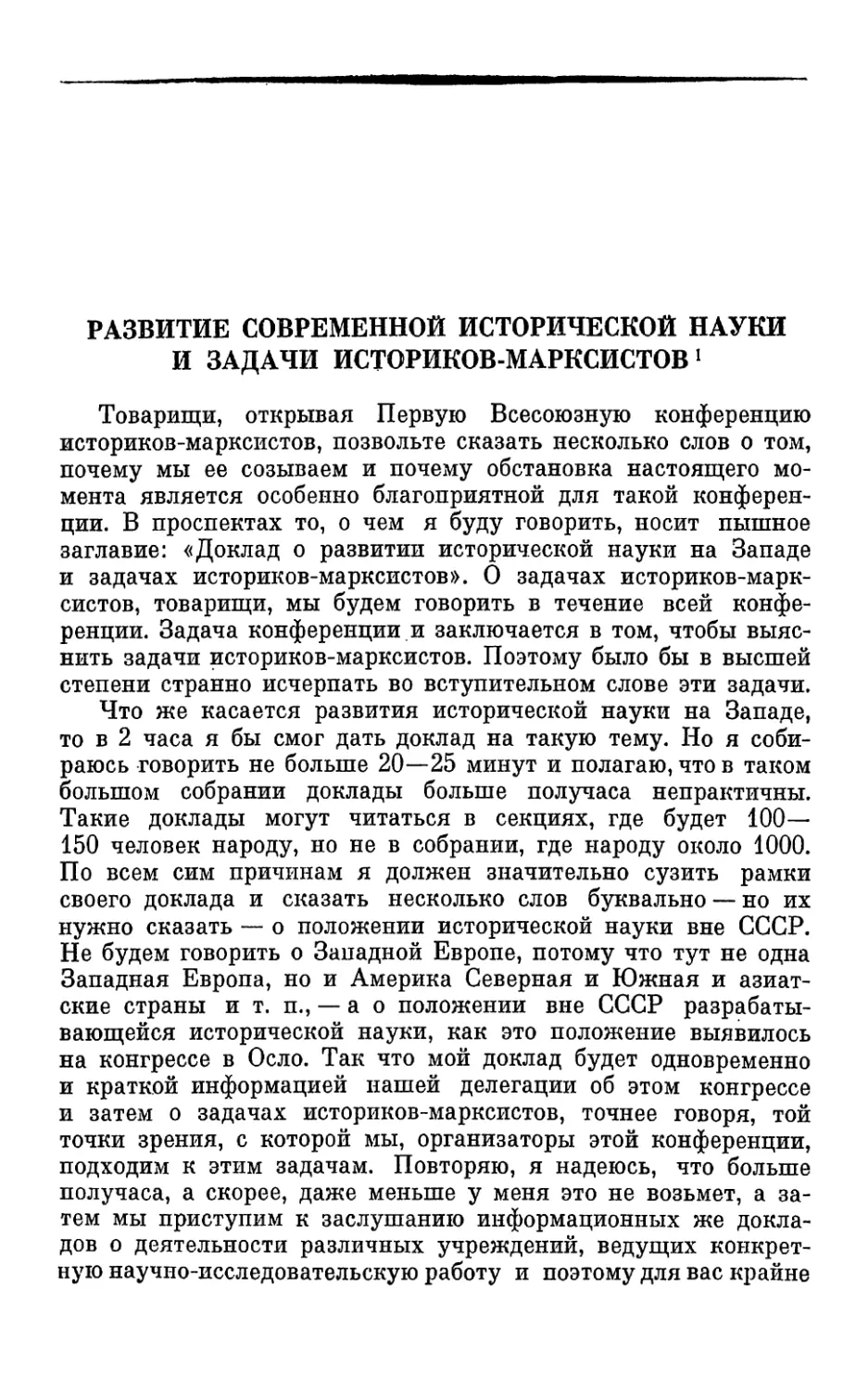













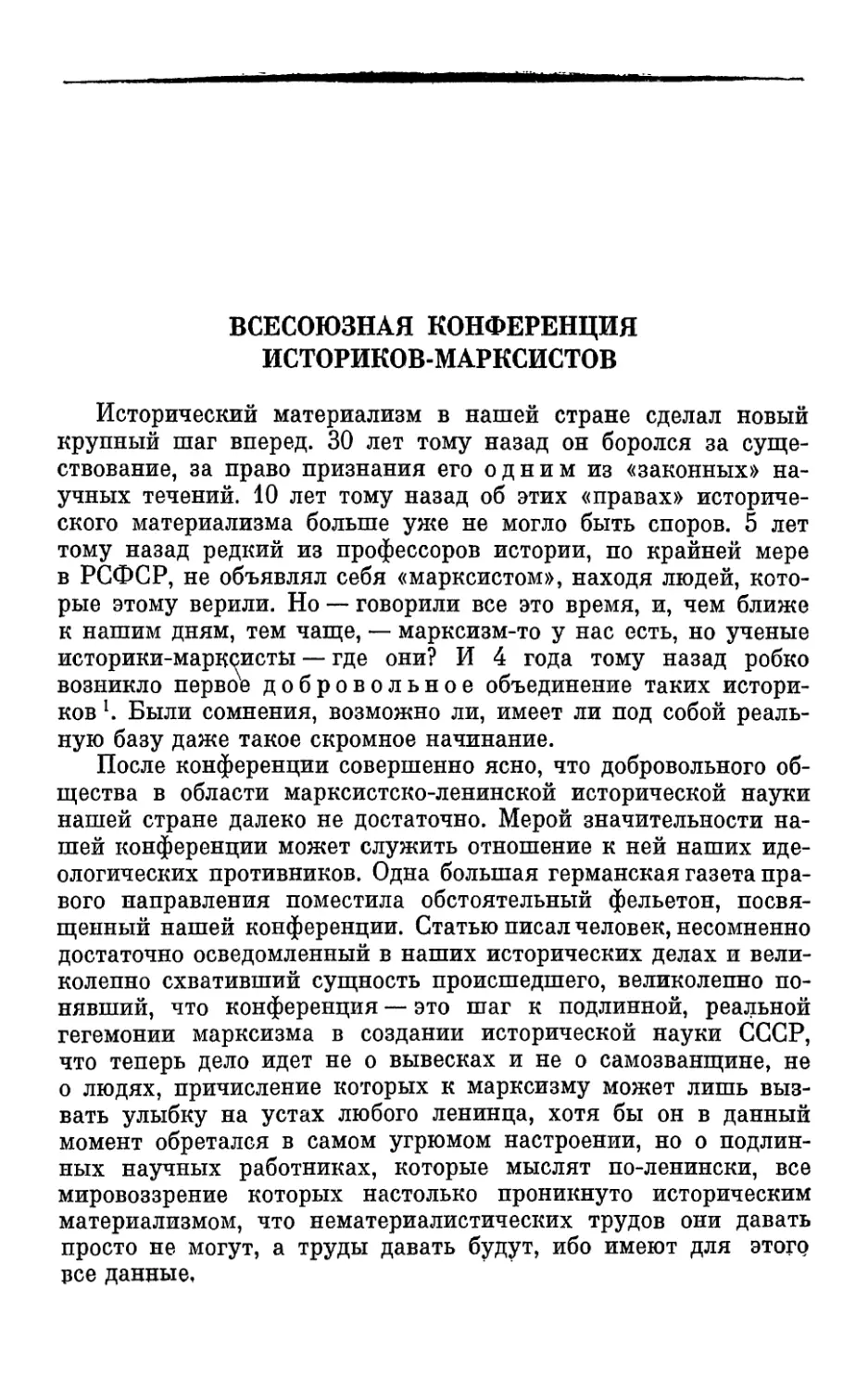




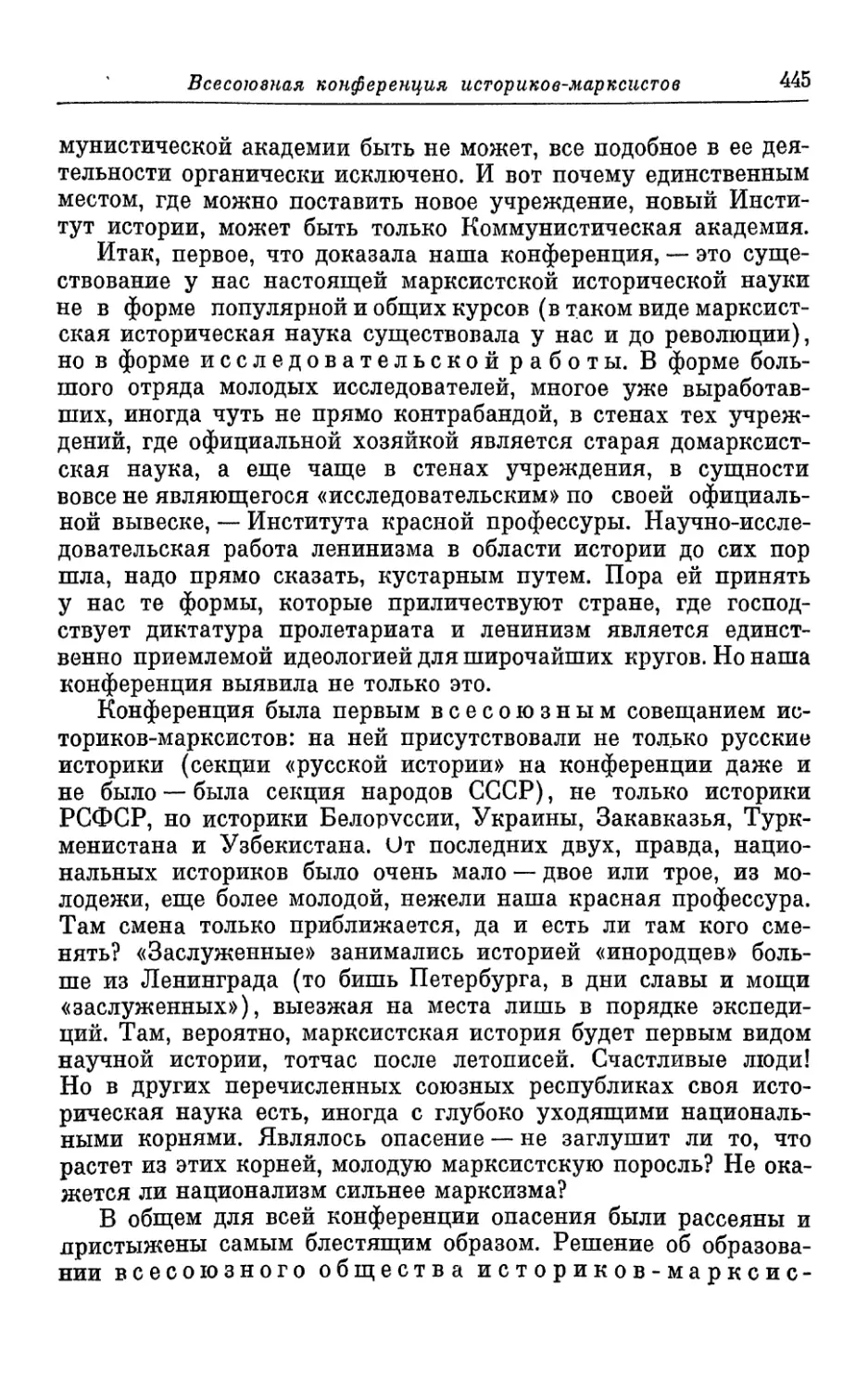


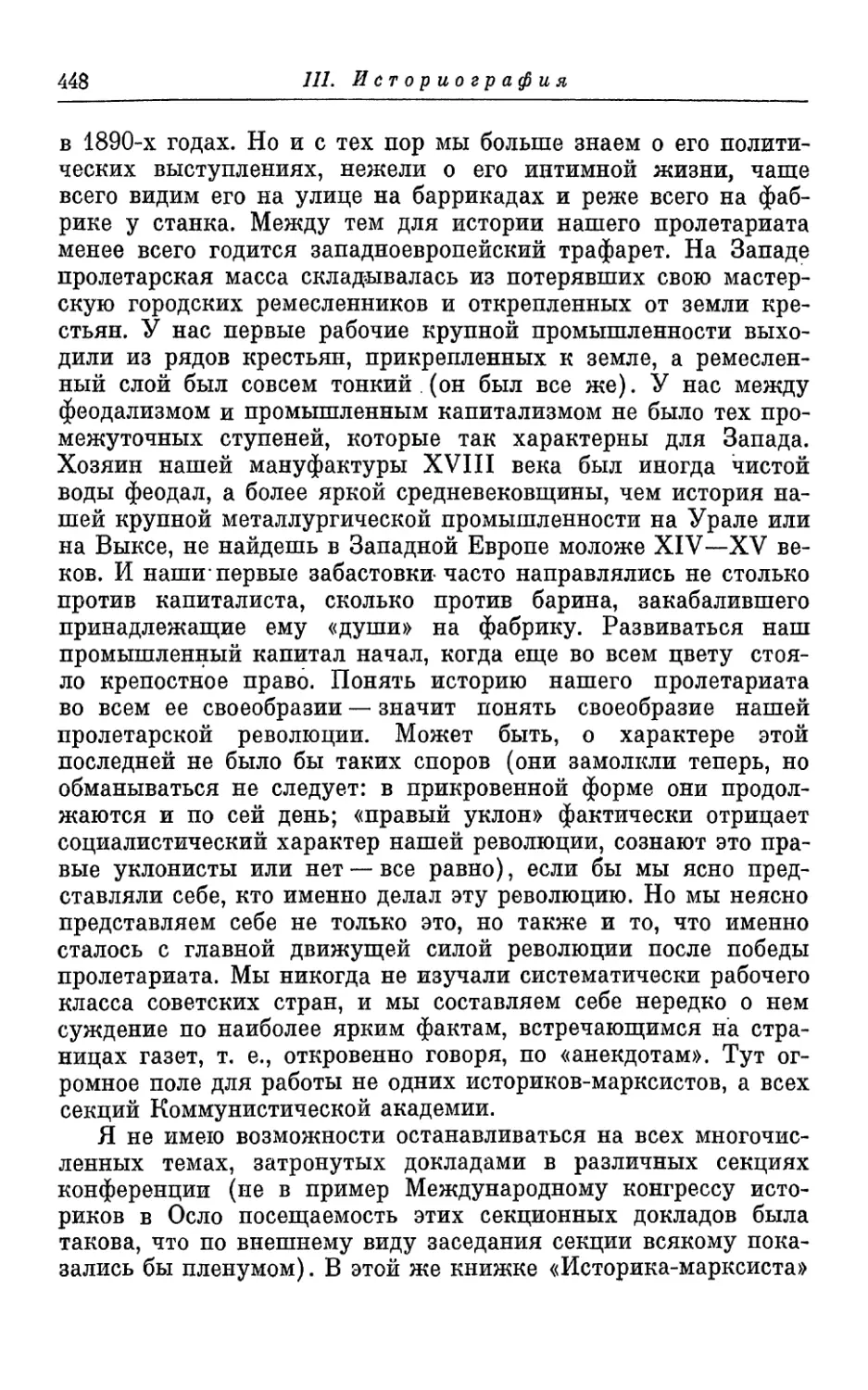

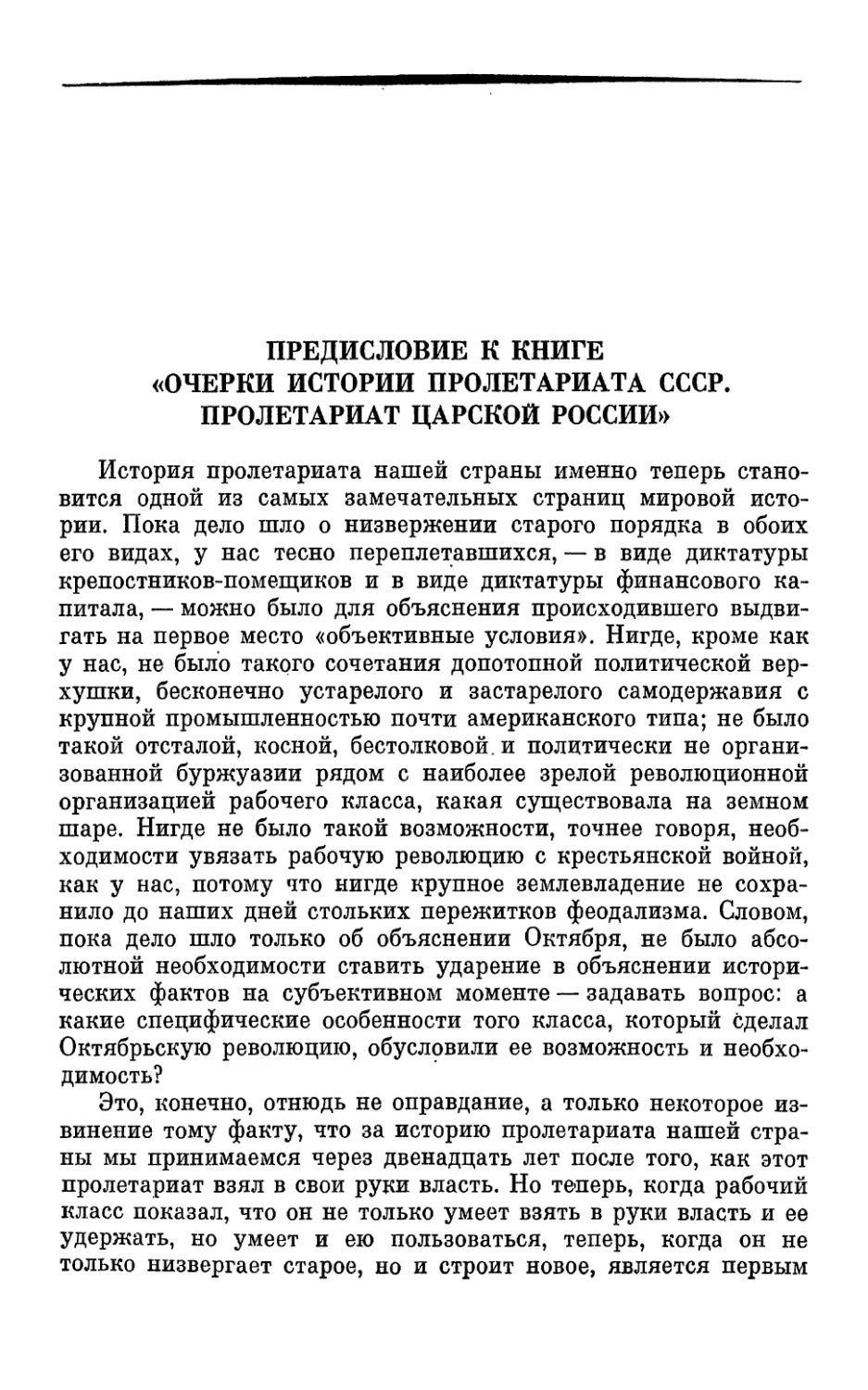






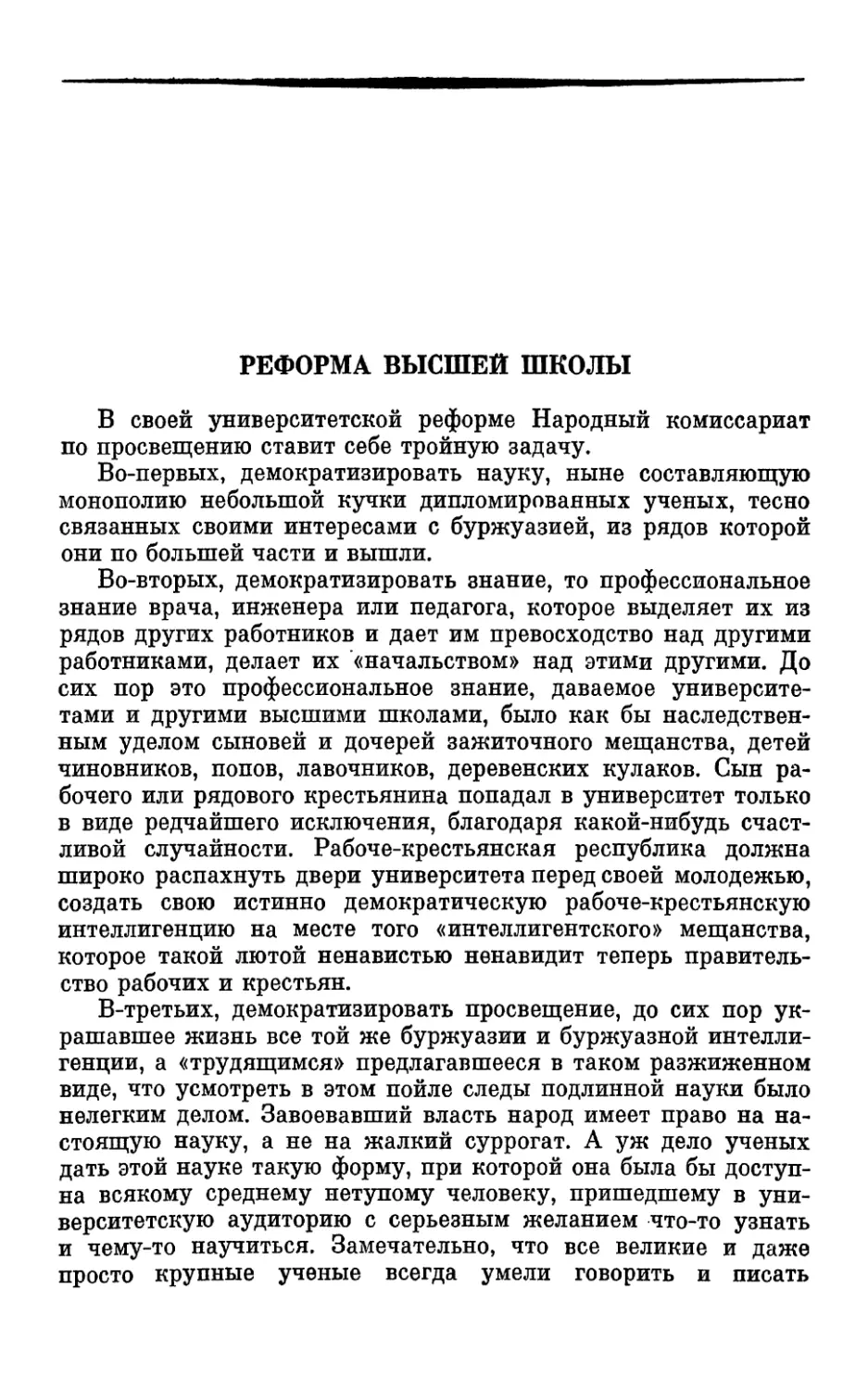




![Общий план организации дела народного просвещения [Доклад]](https://djvu.online/jpg/B/N/B/BNBBCp8RgNTDf/467.webp)

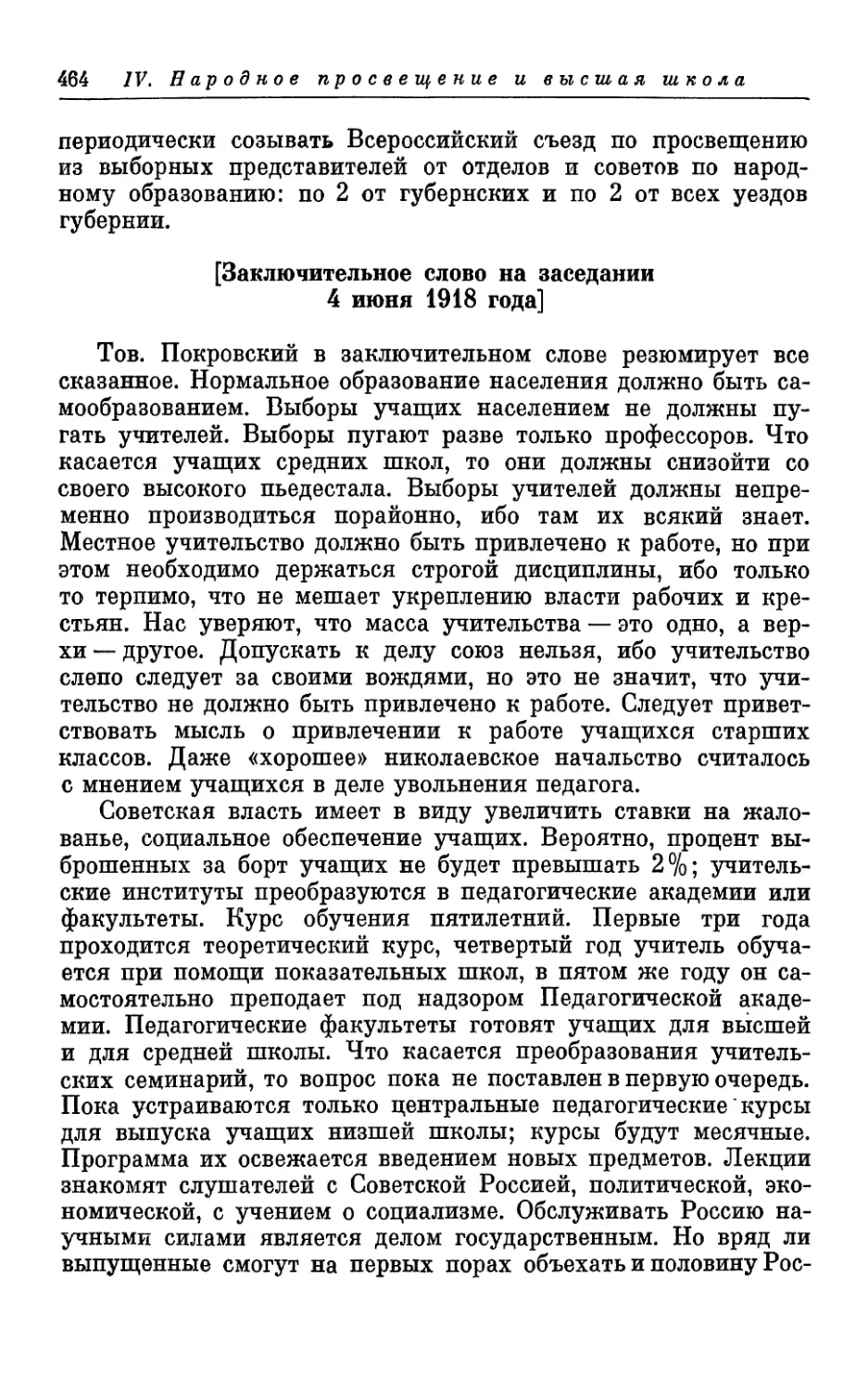
![[Заключительное слово на заседании 5 июня 1918 года]](https://djvu.online/jpg/B/N/B/BNBBCp8RgNTDf/470.webp)