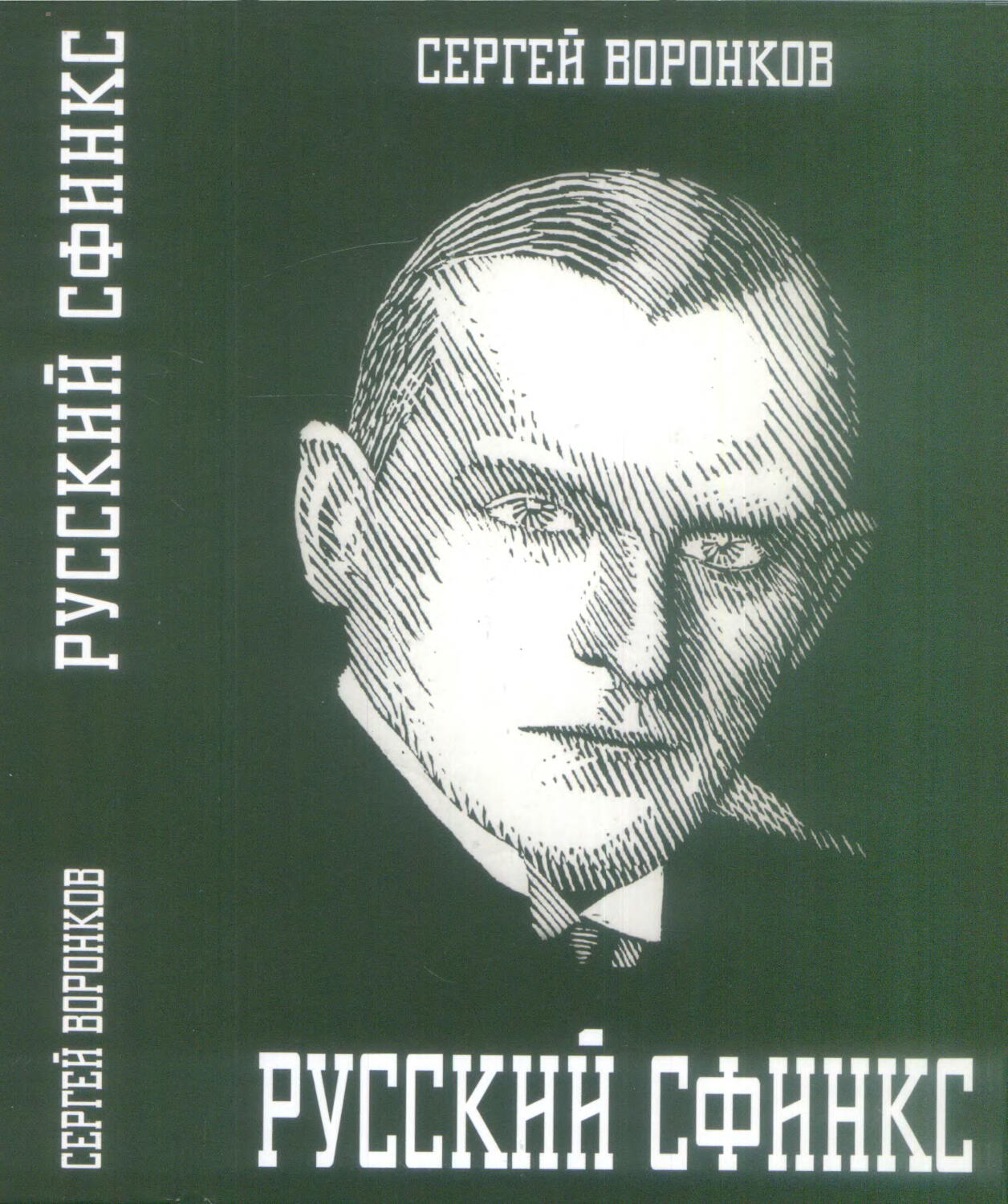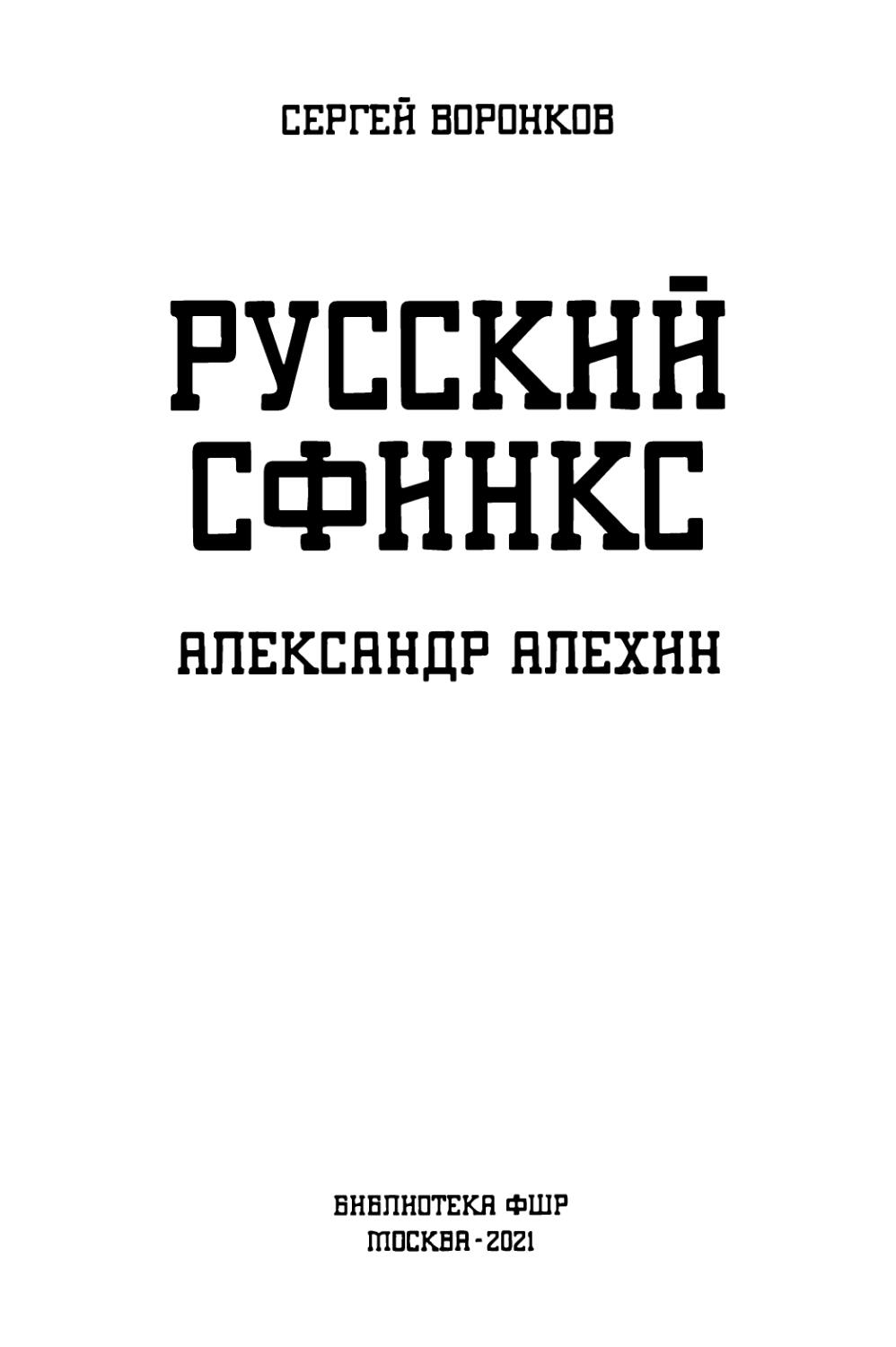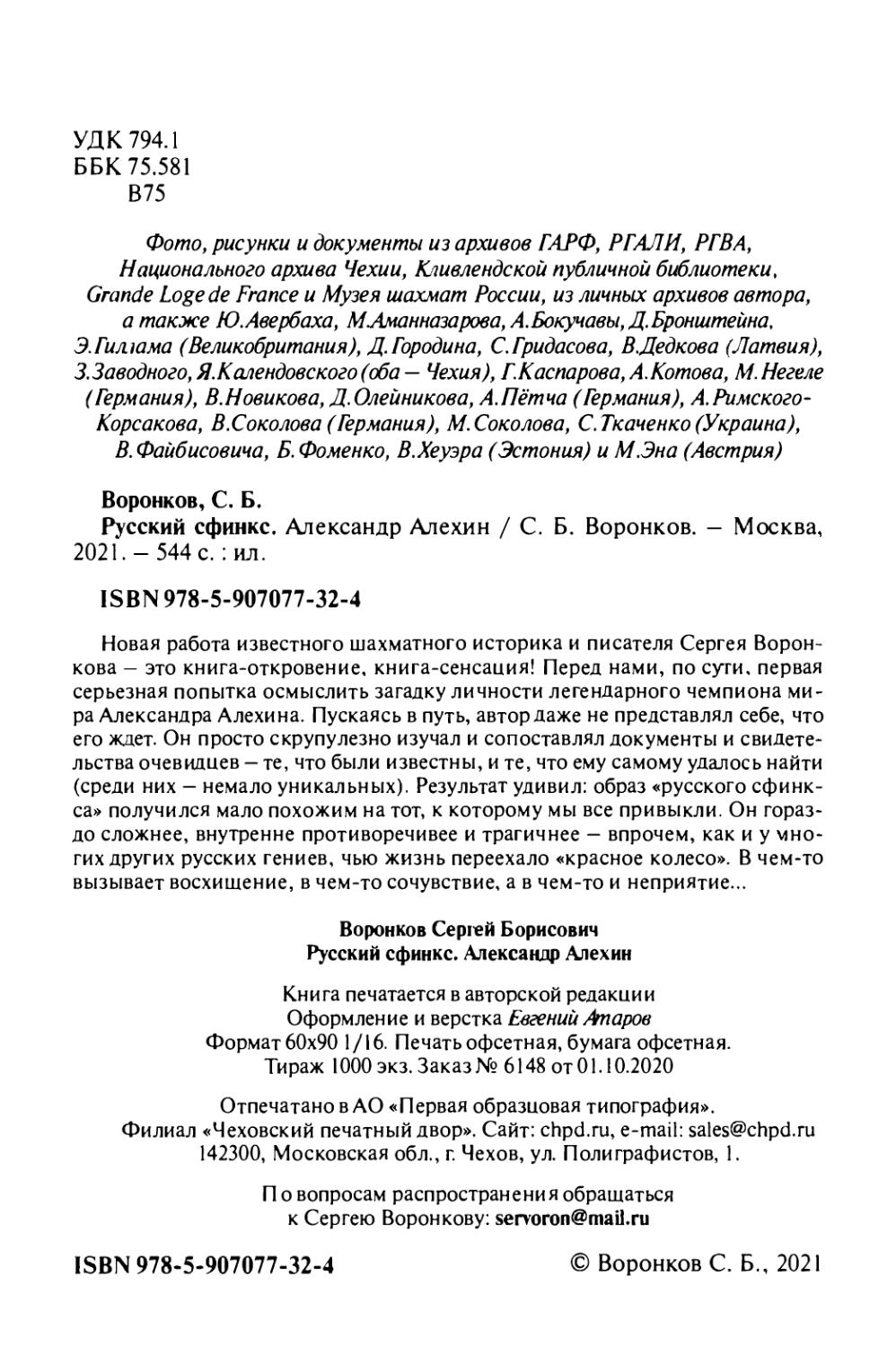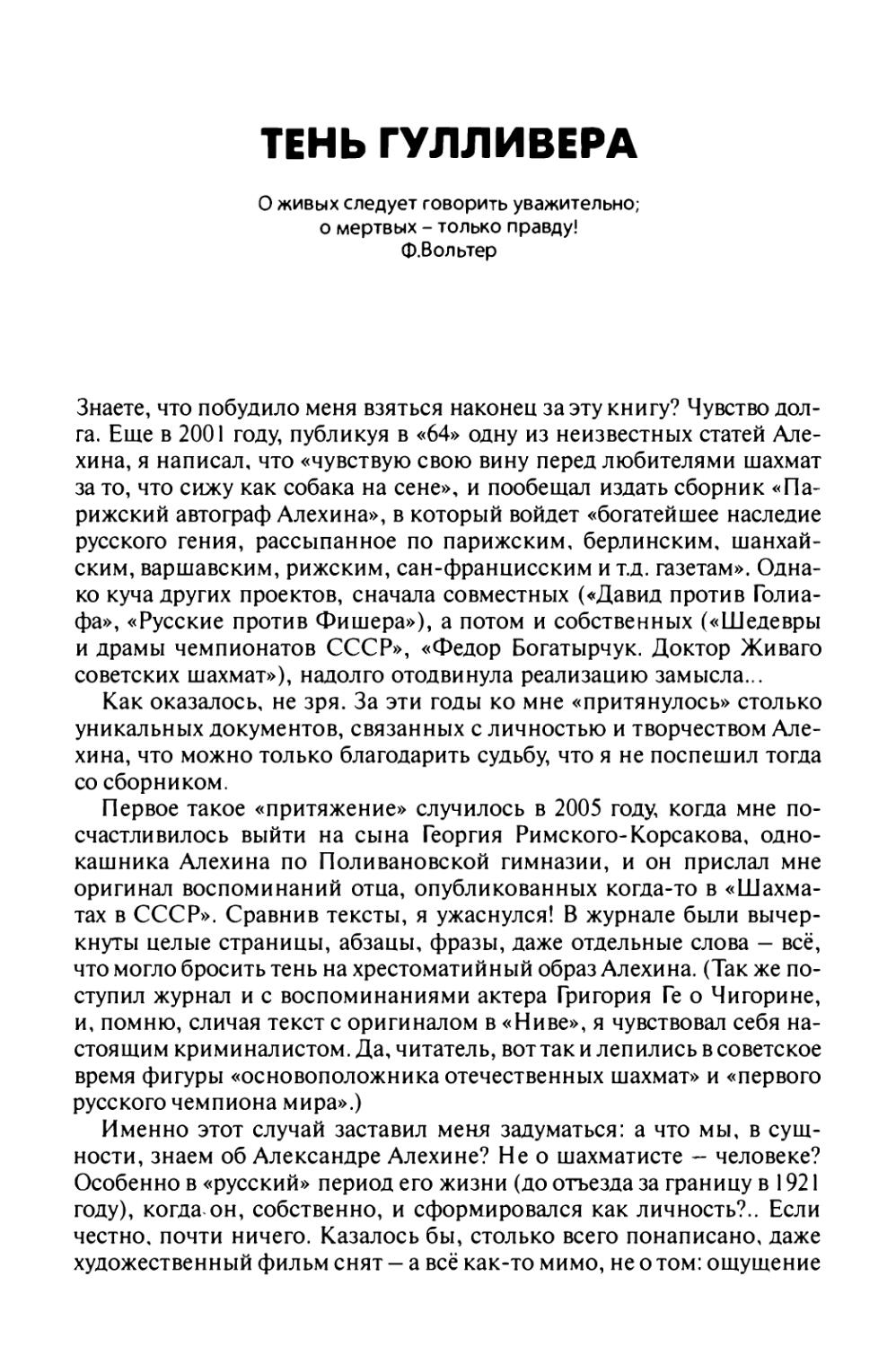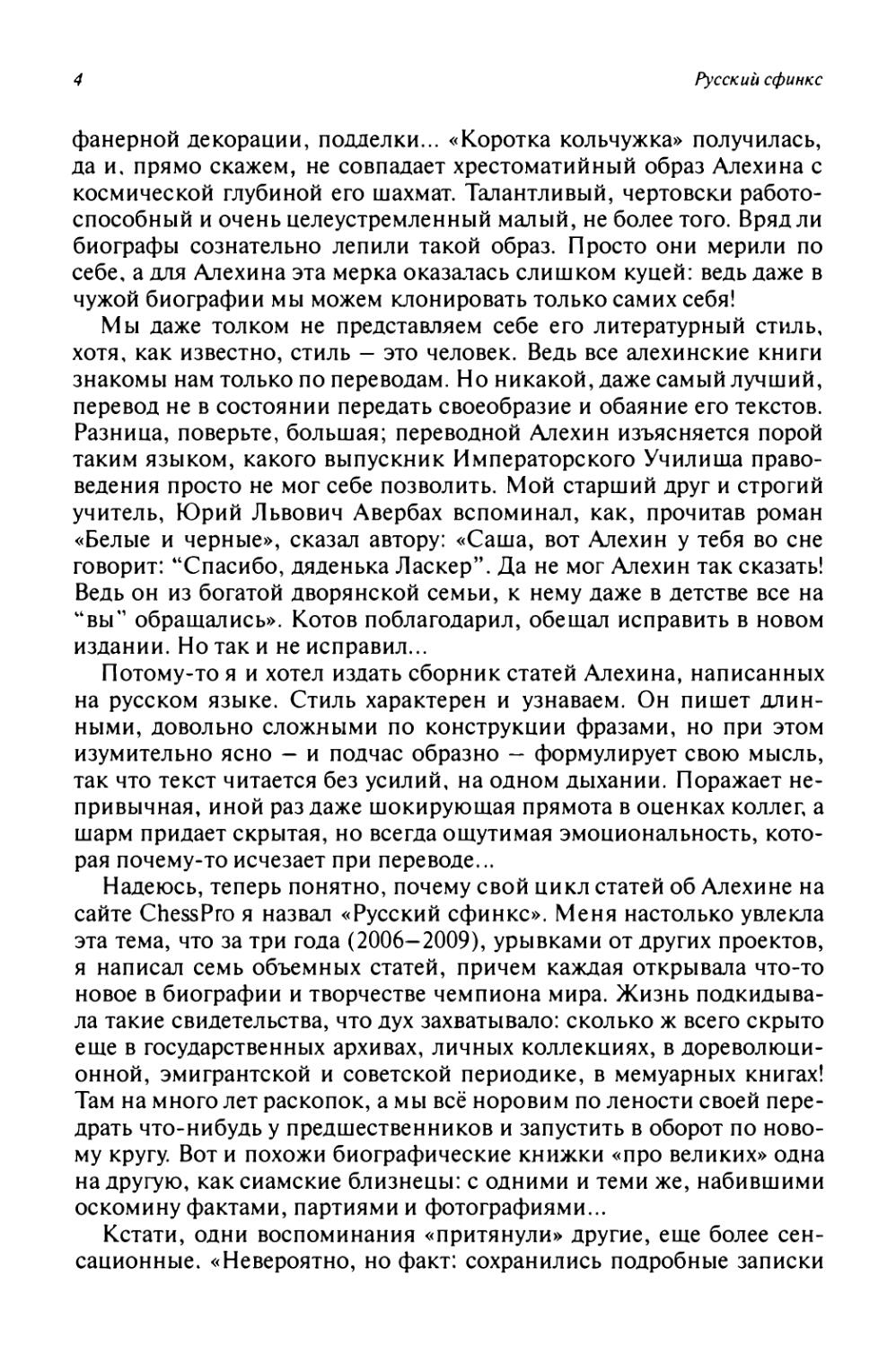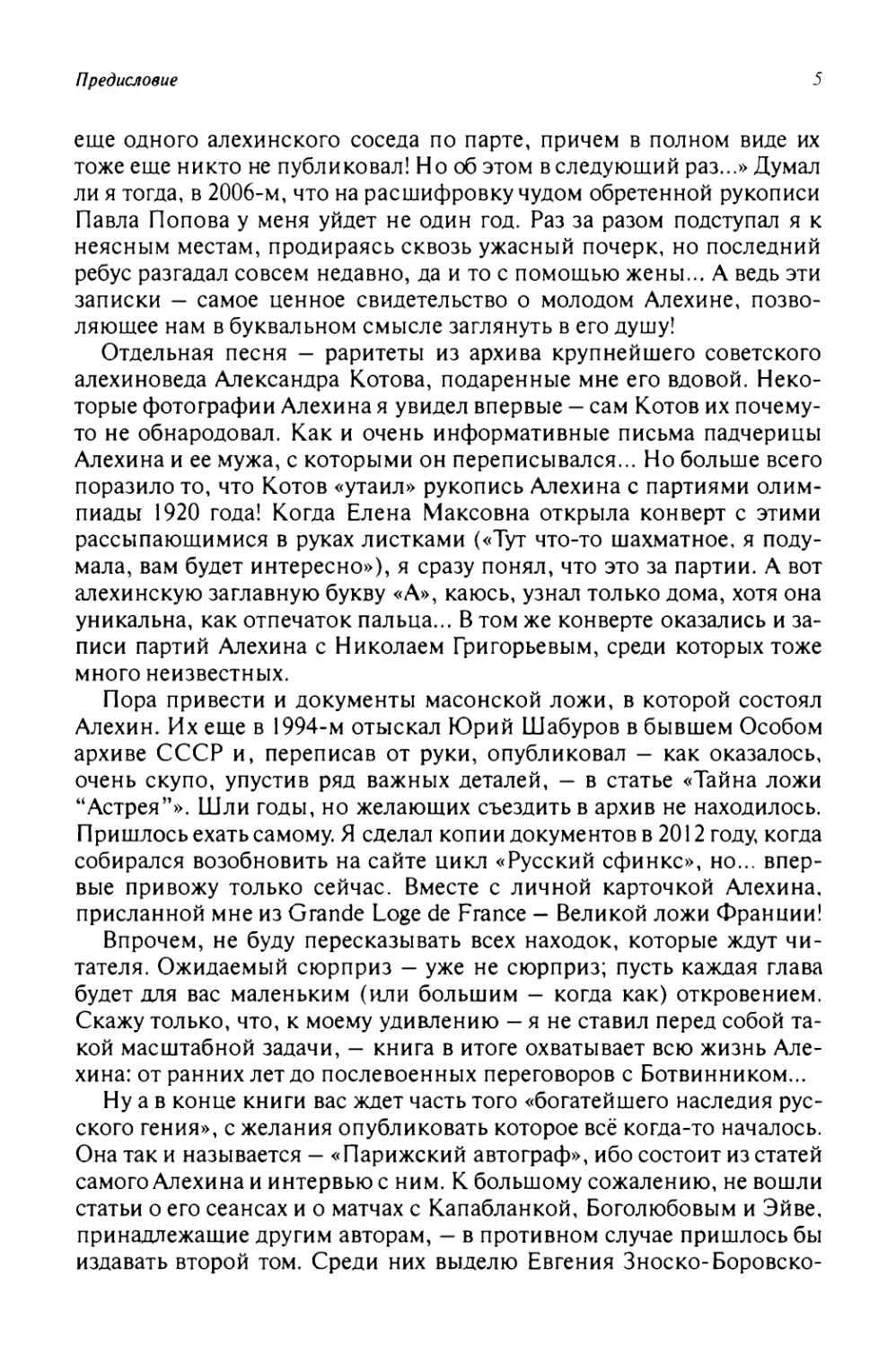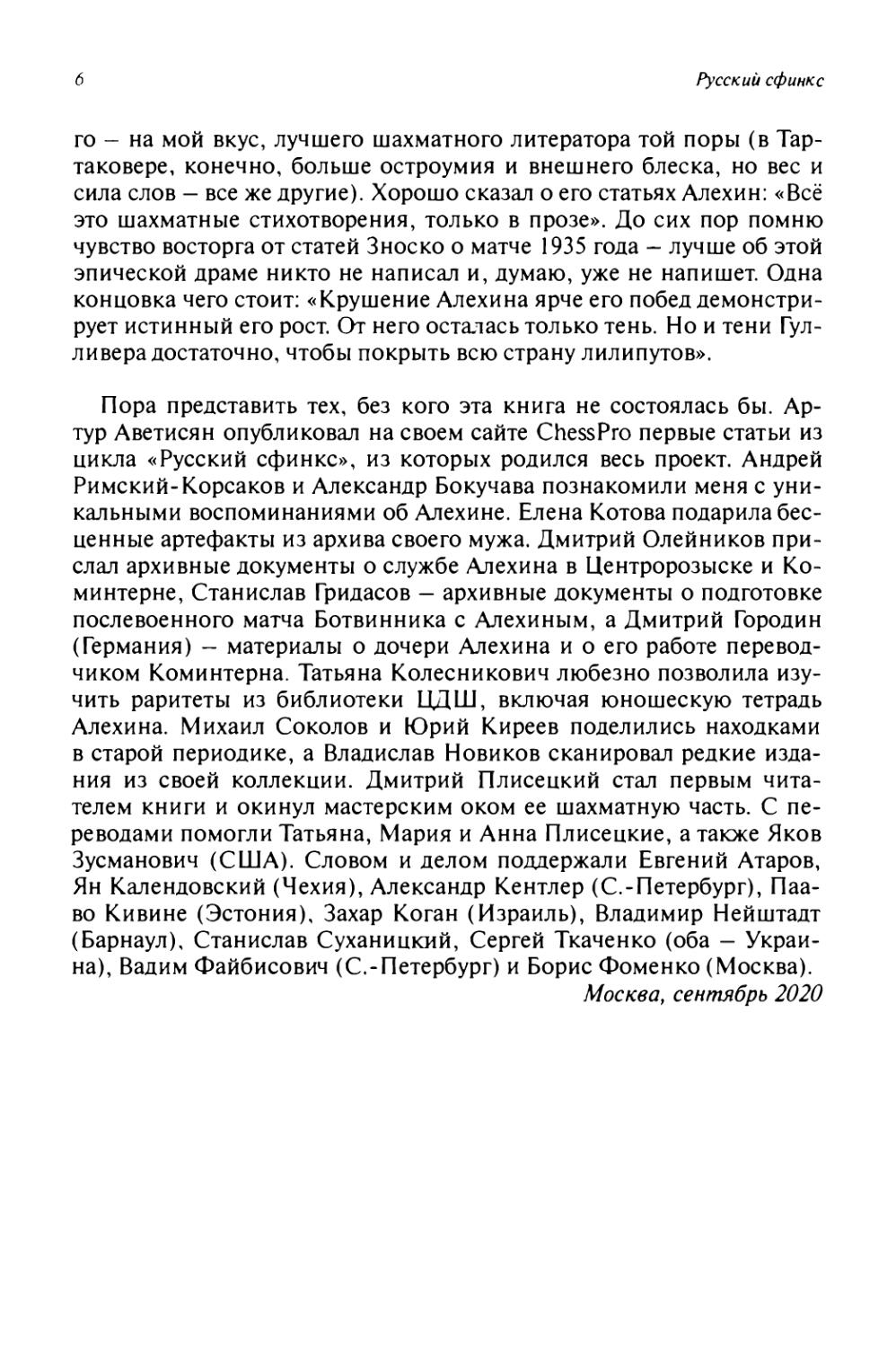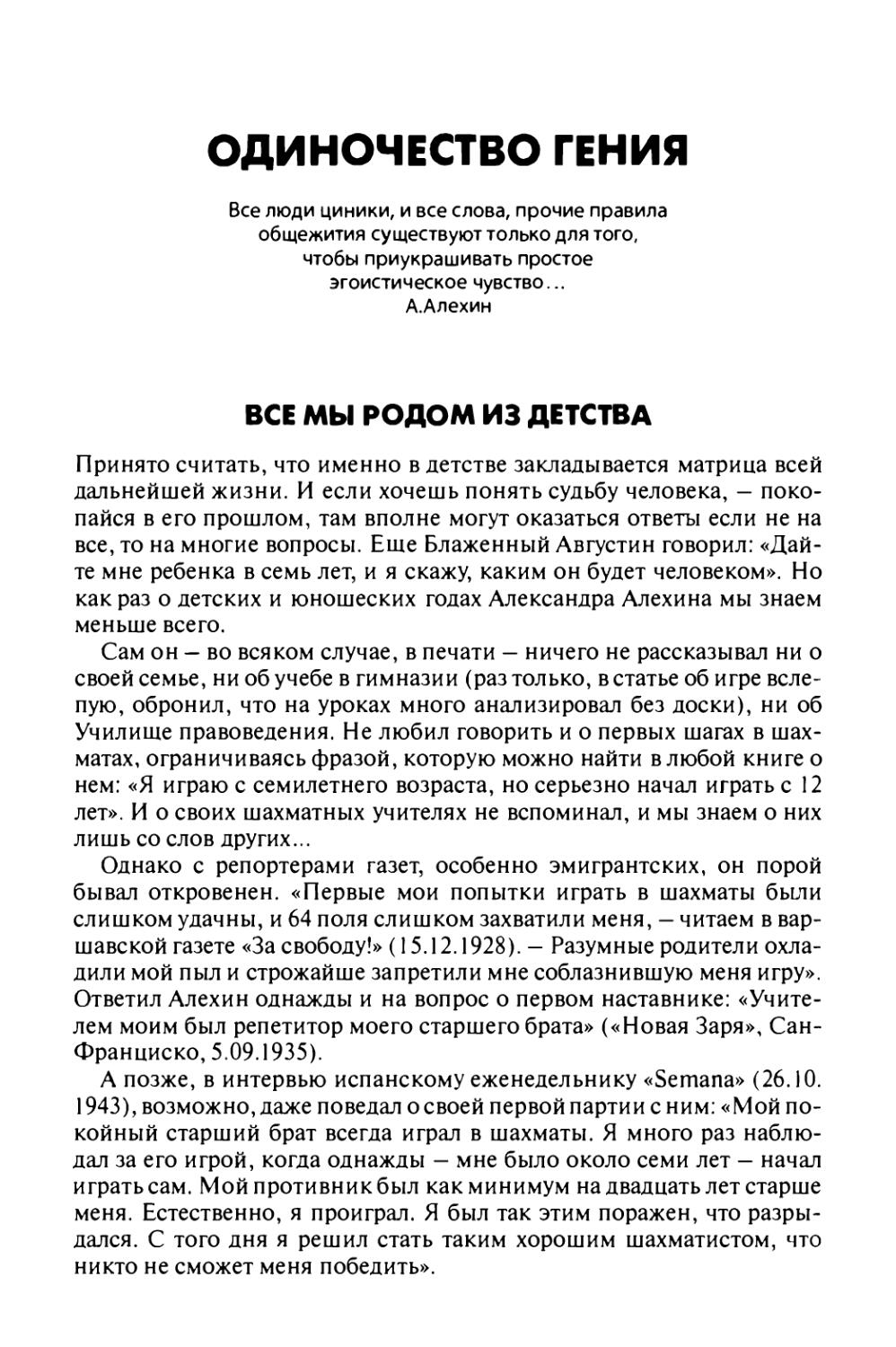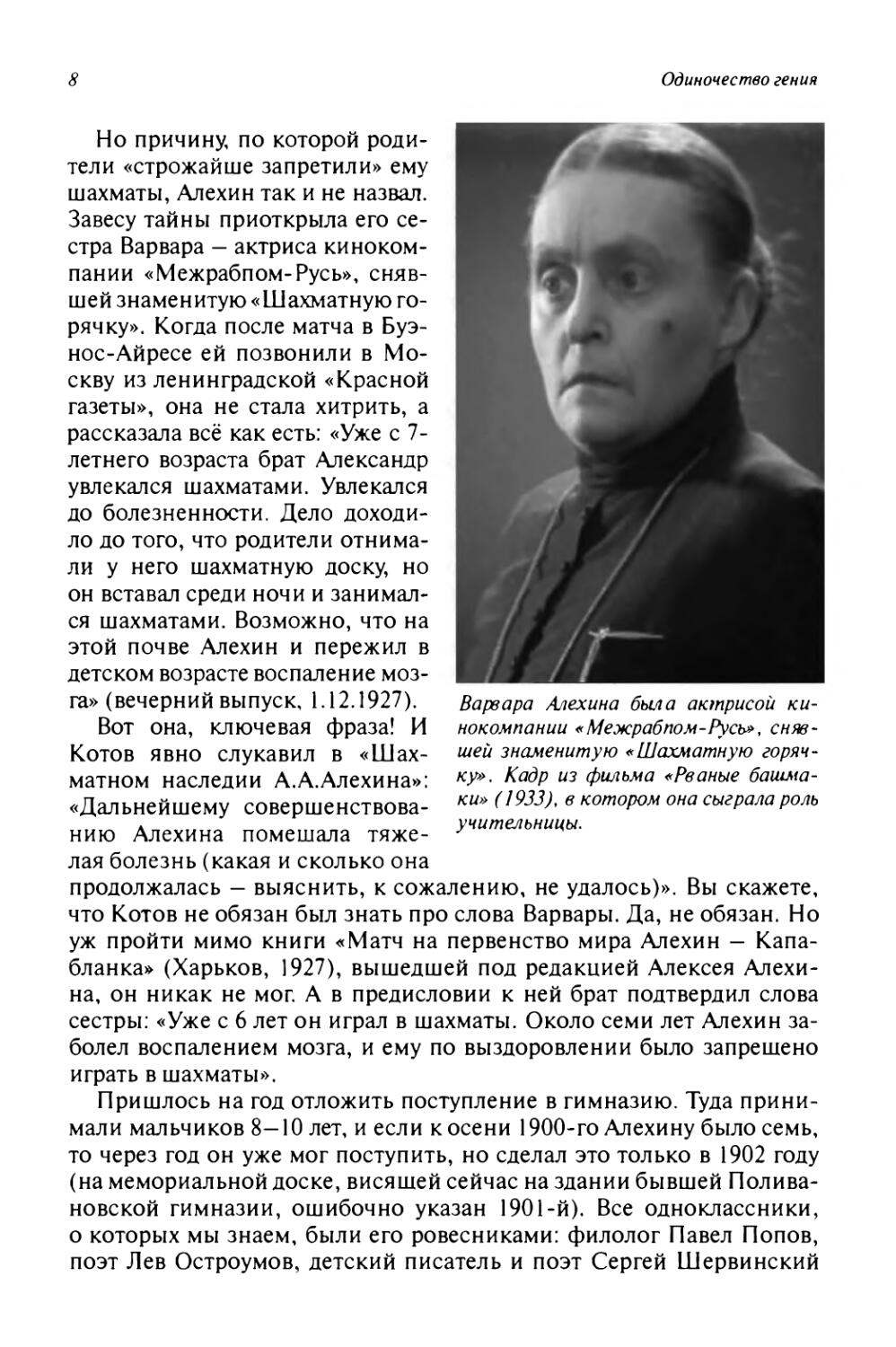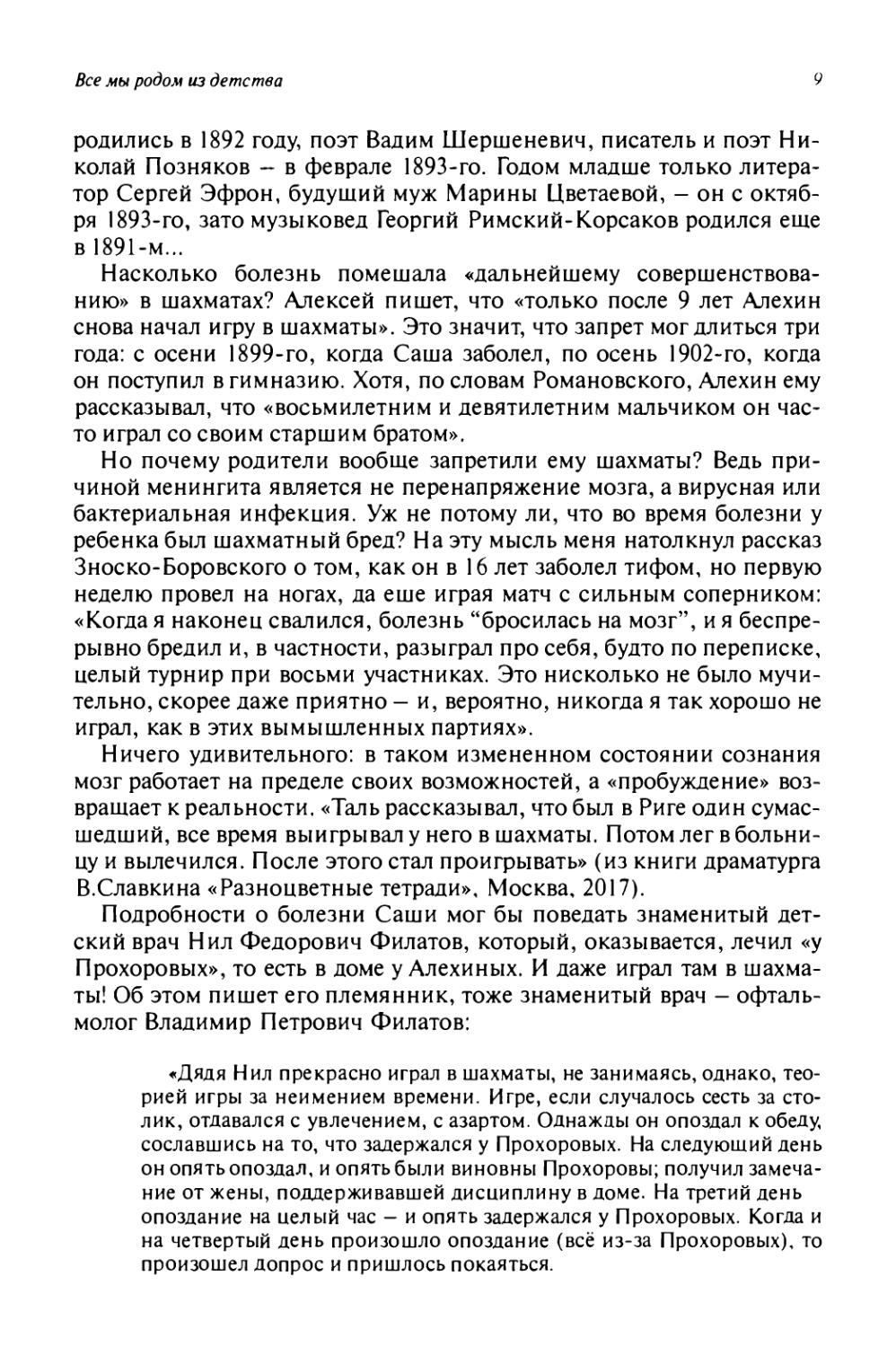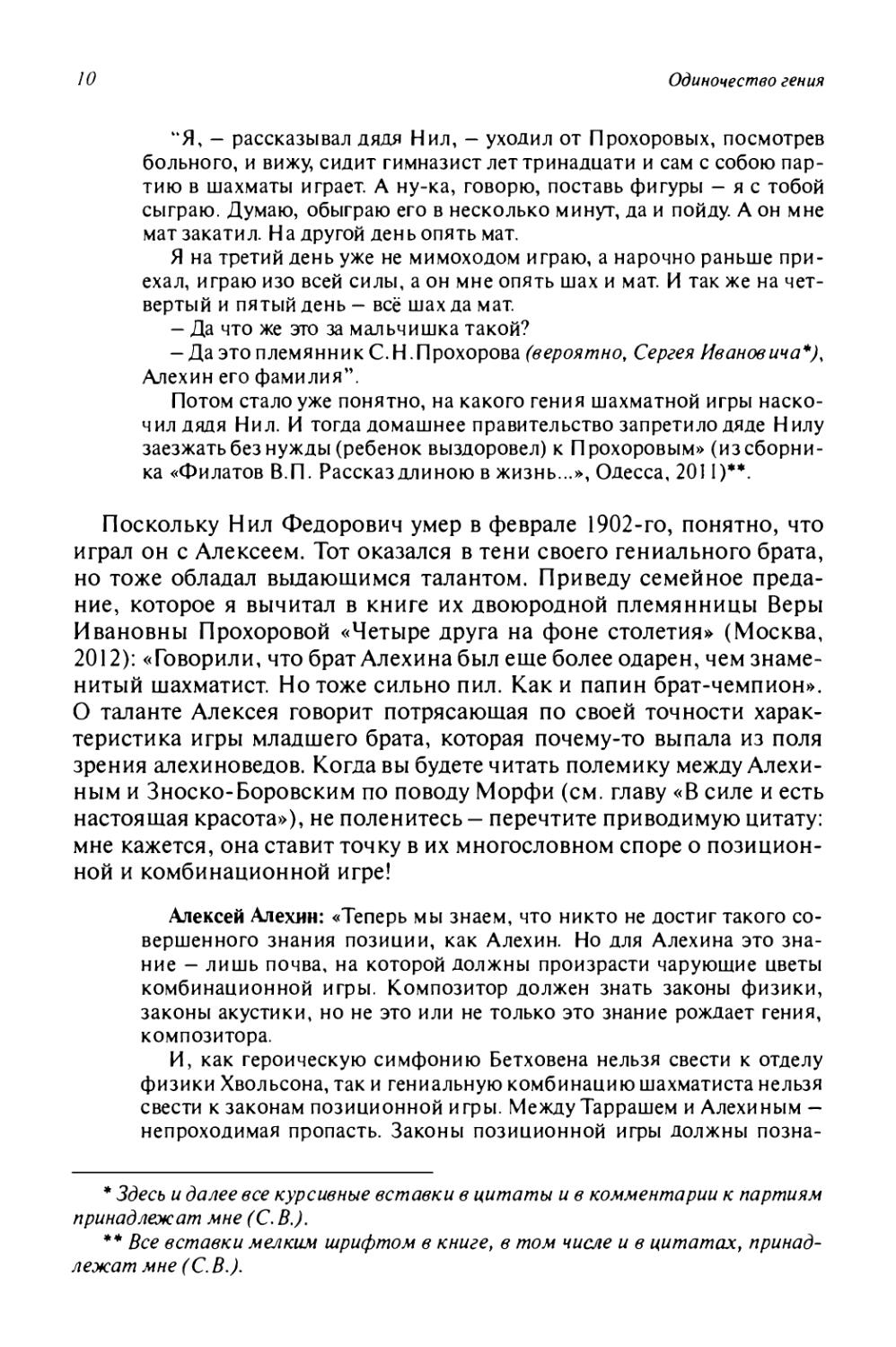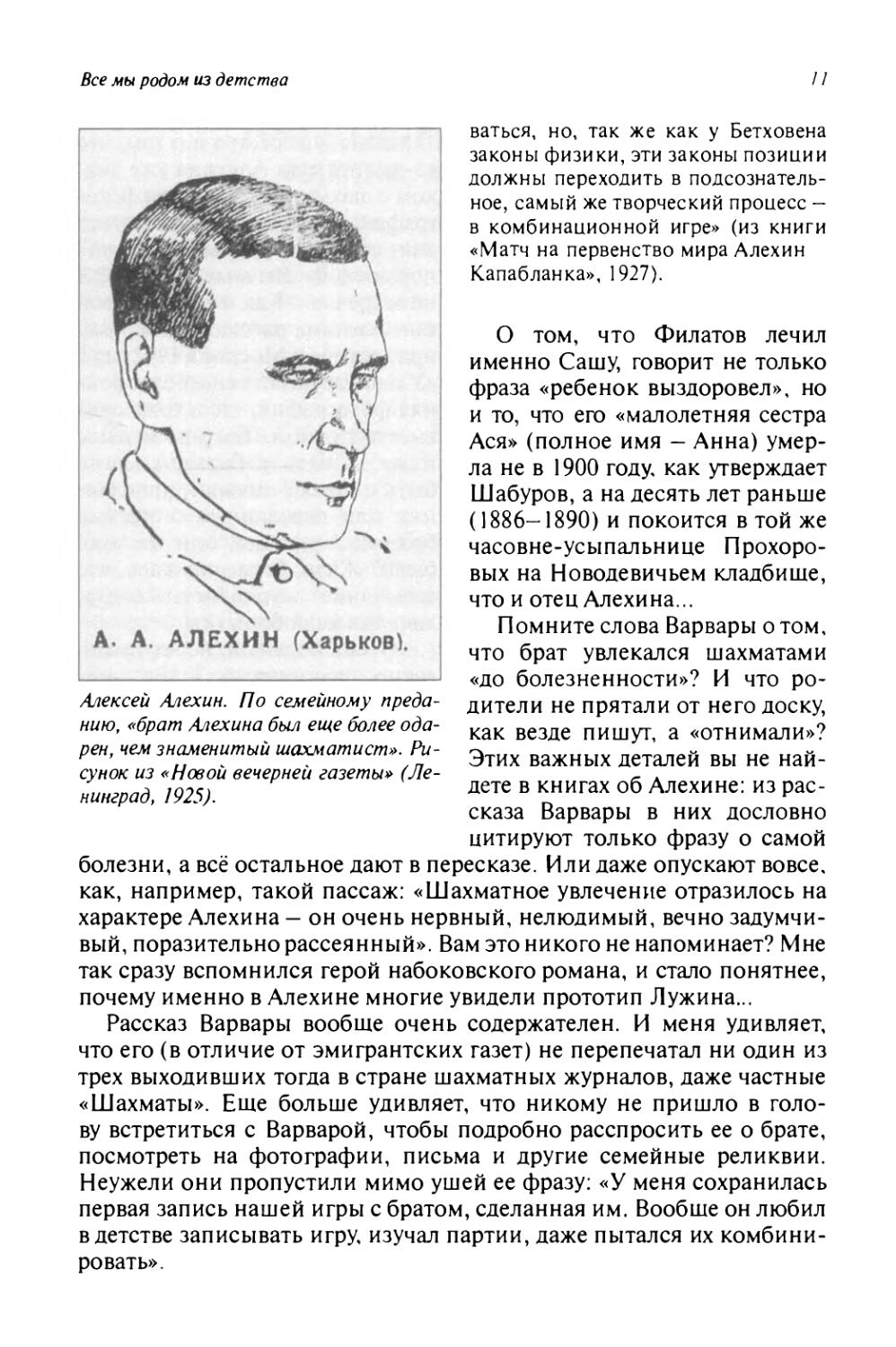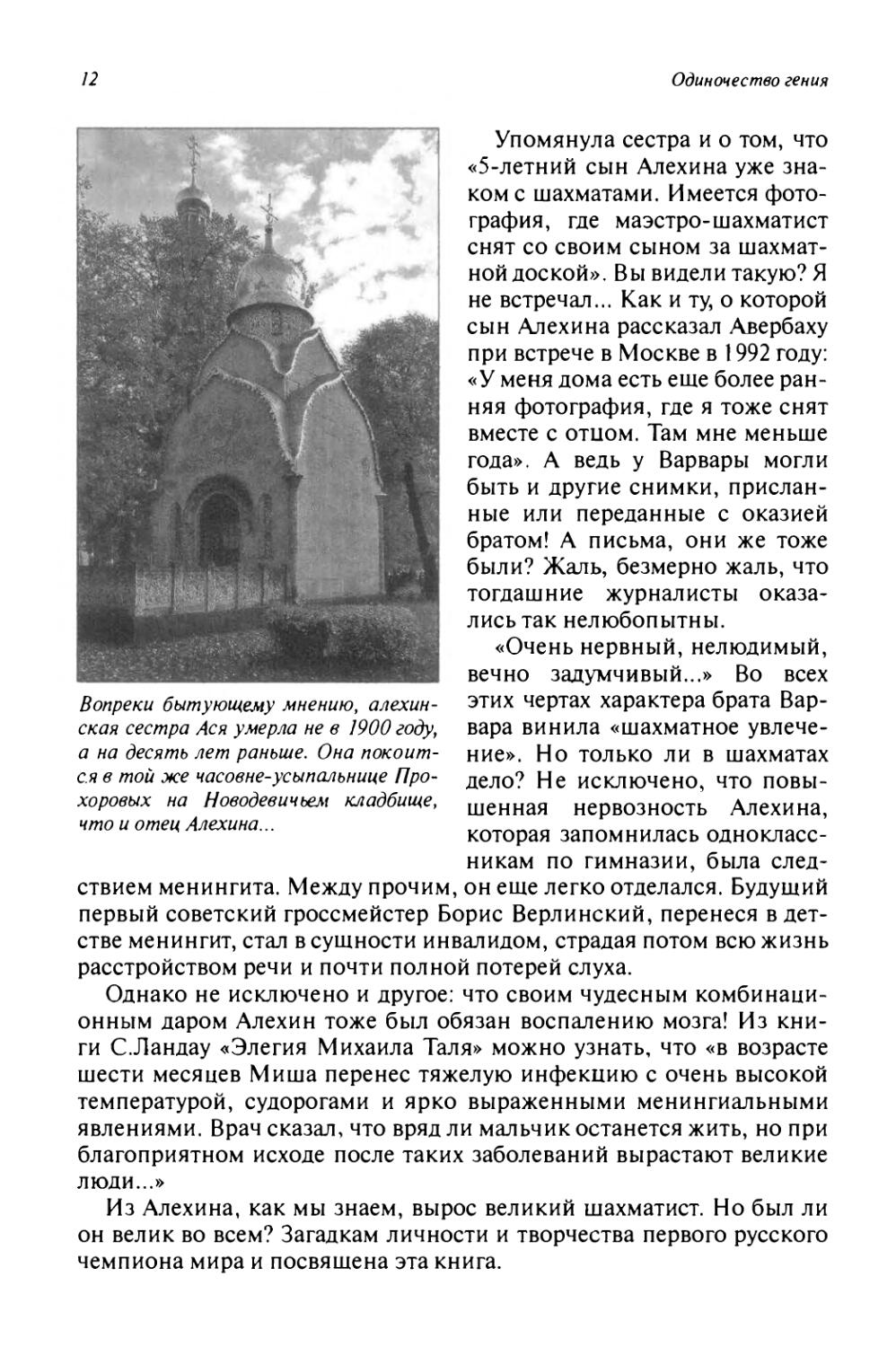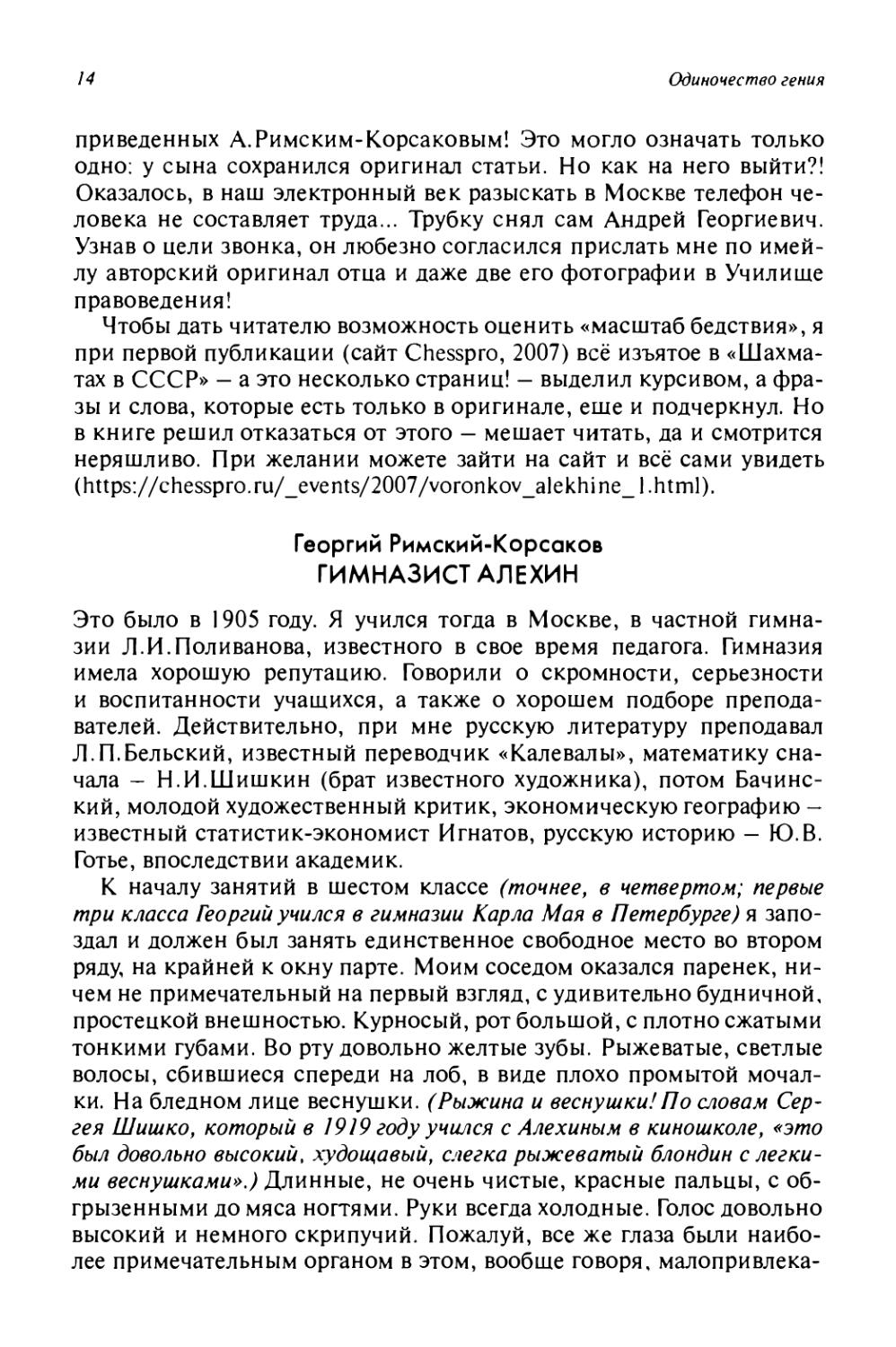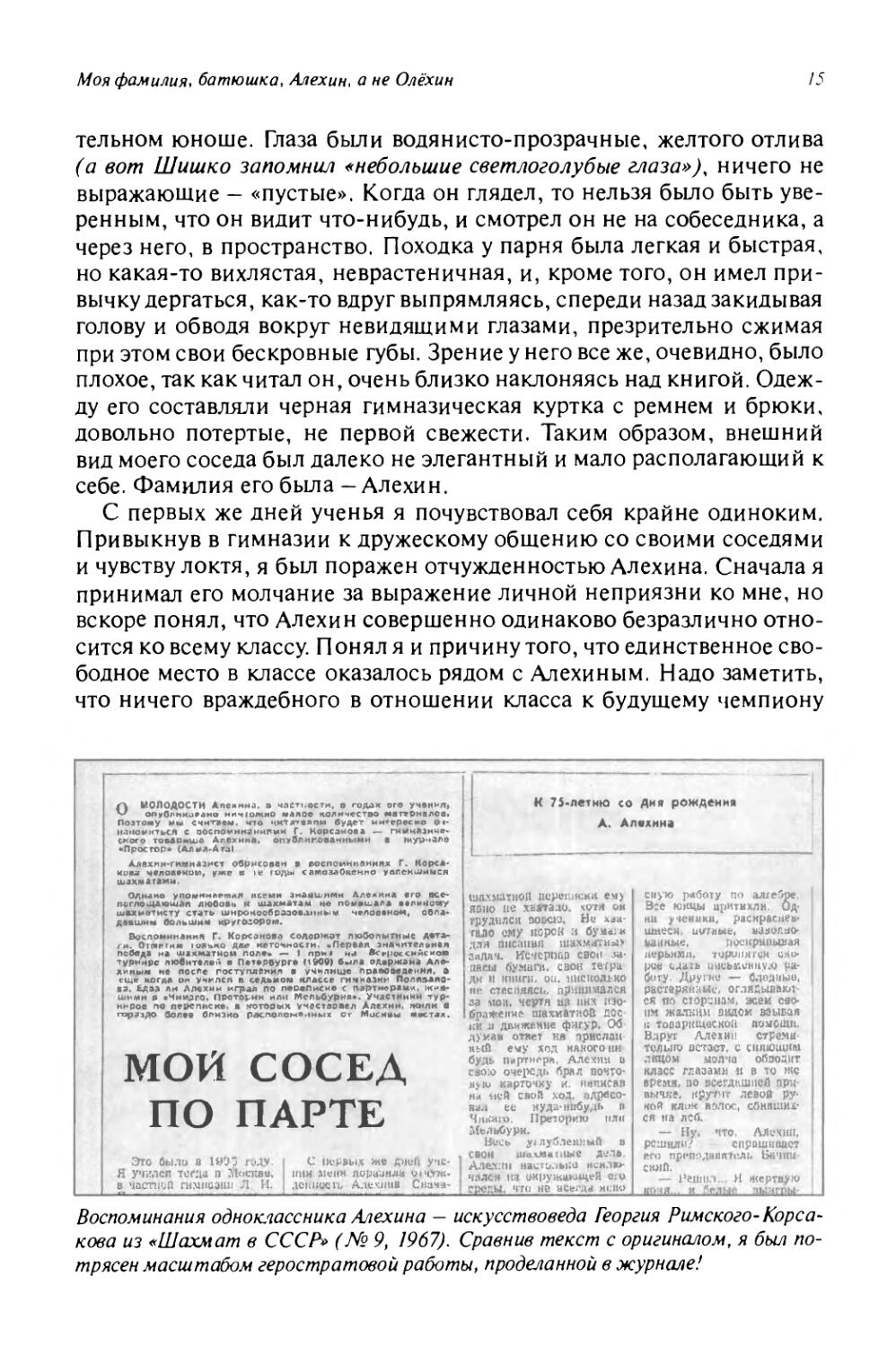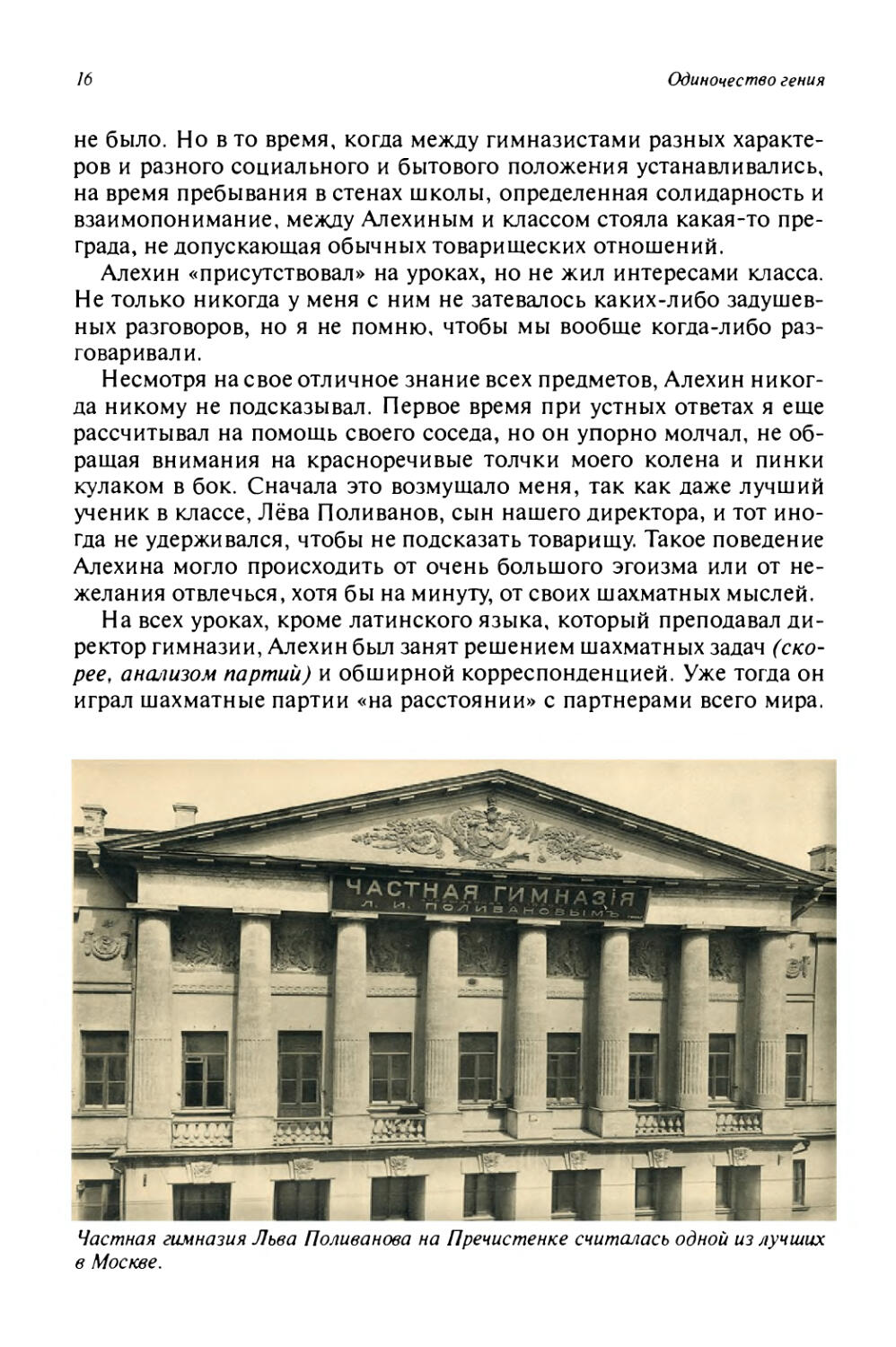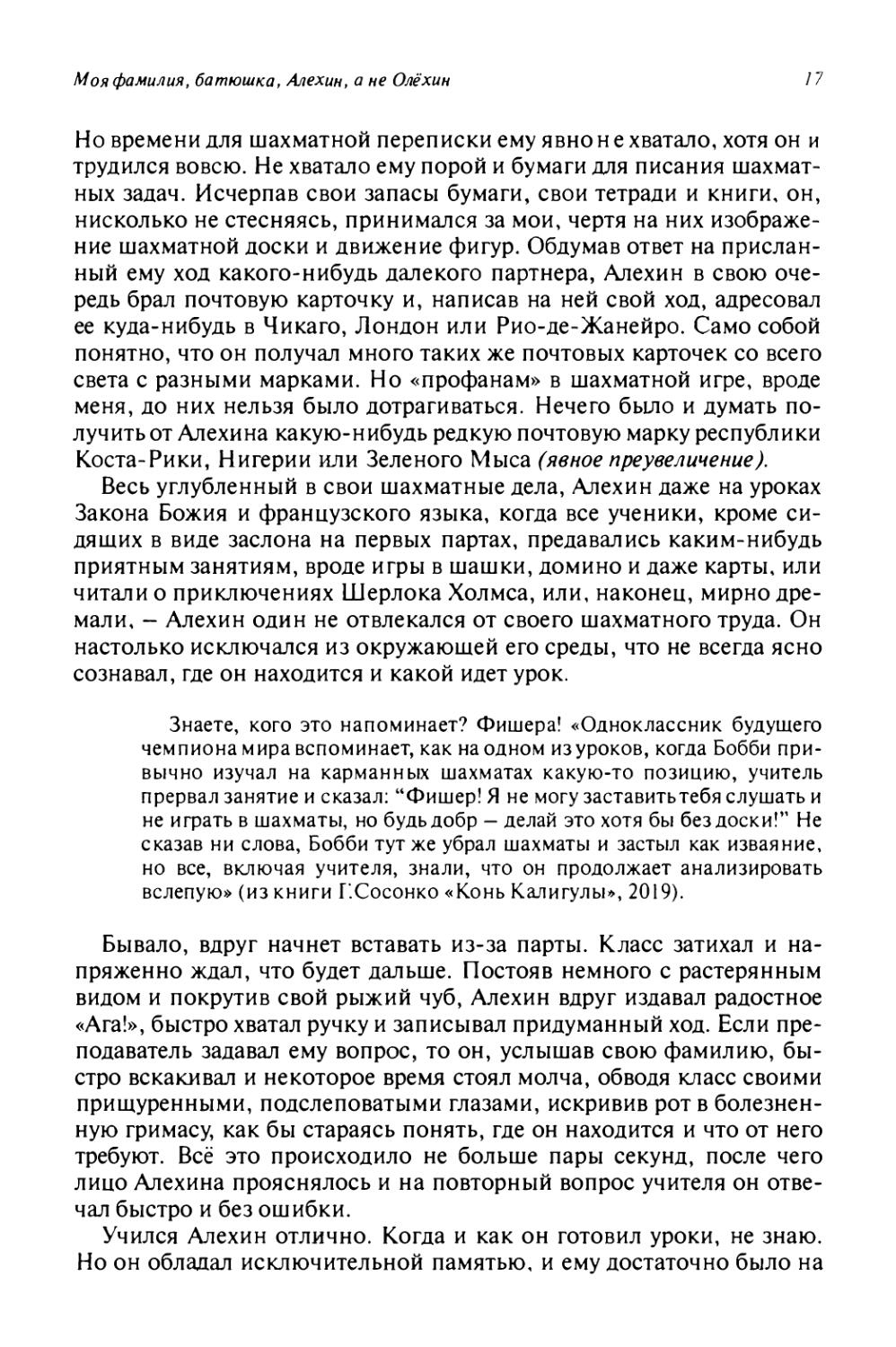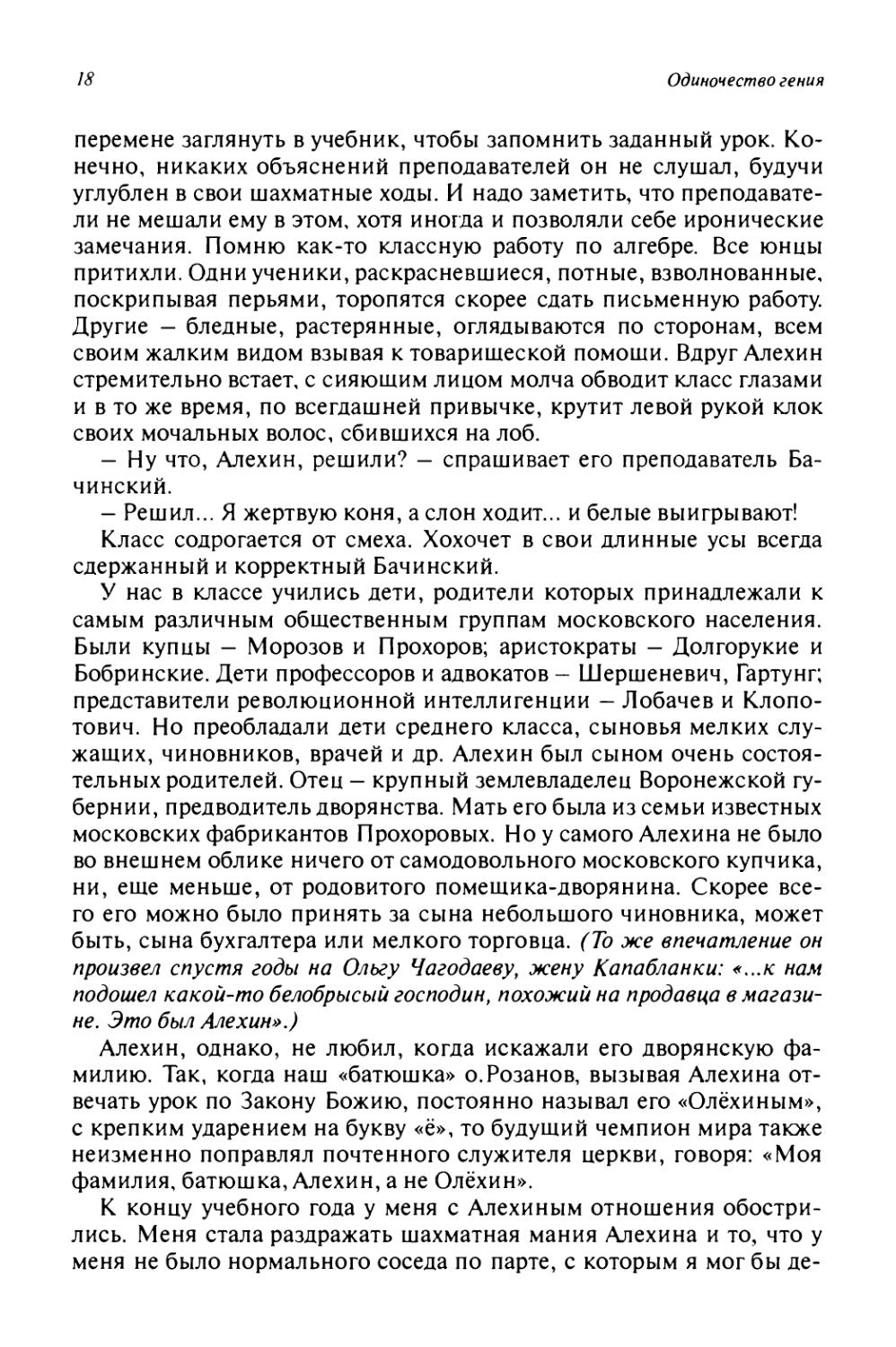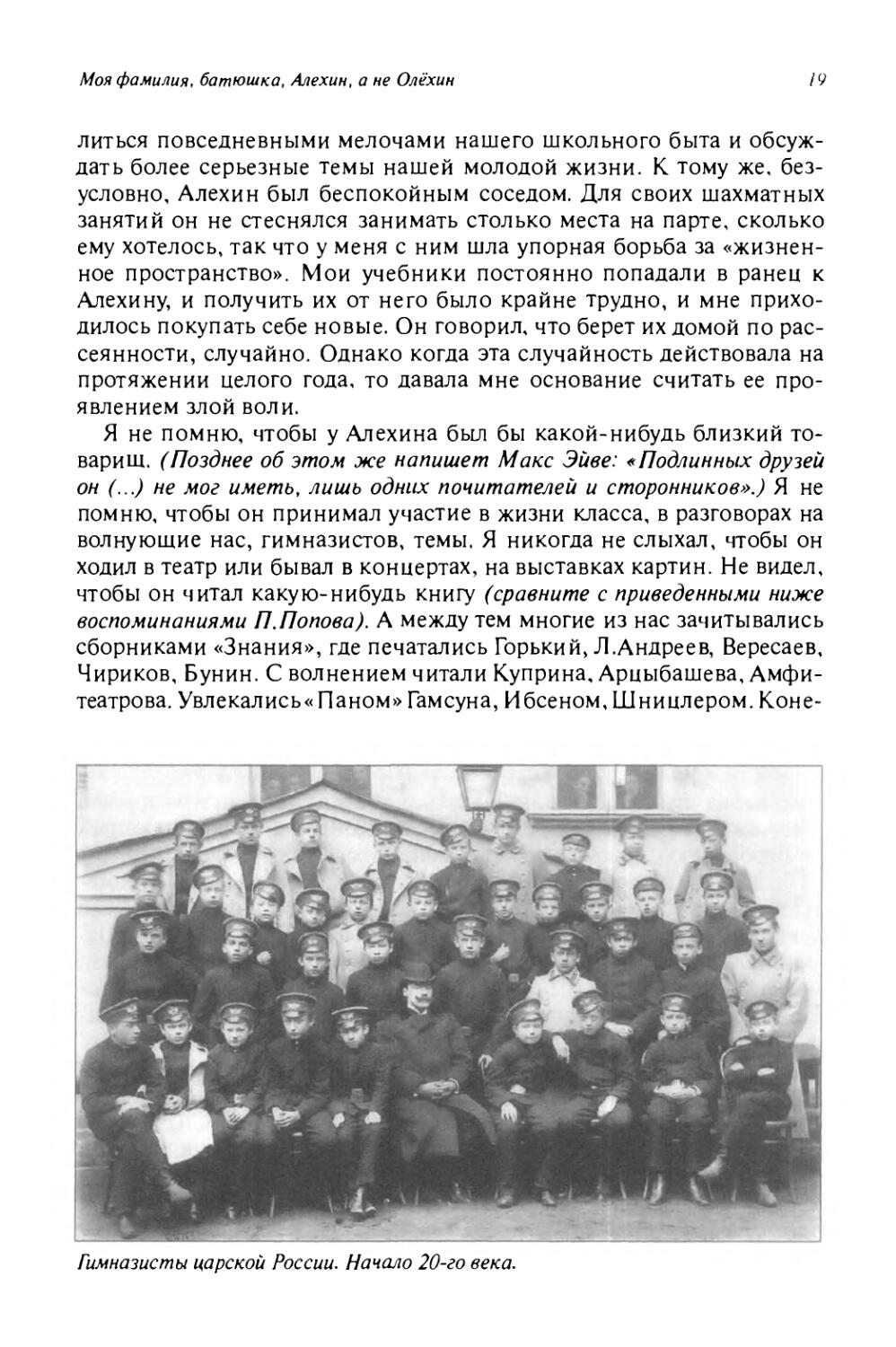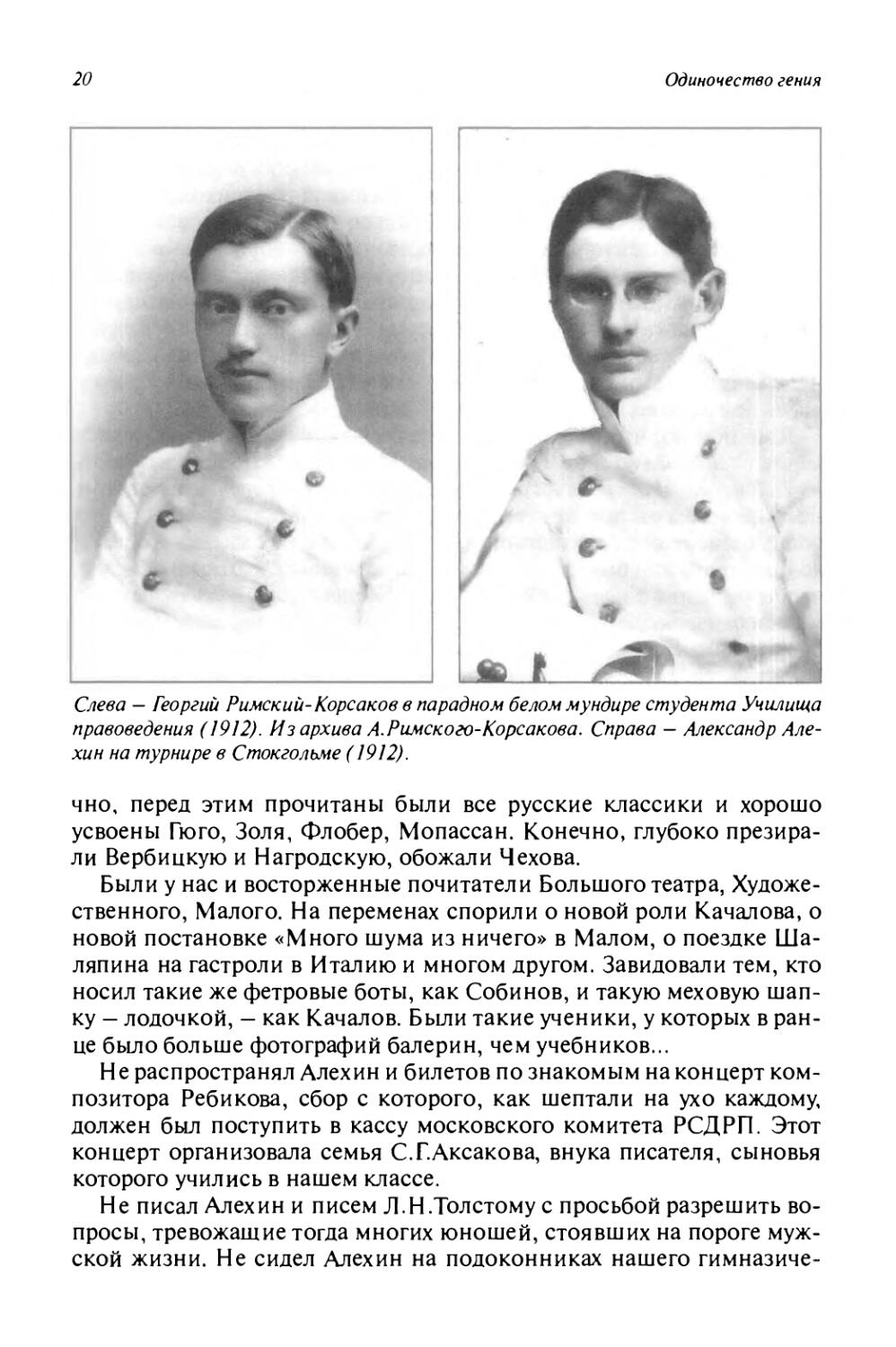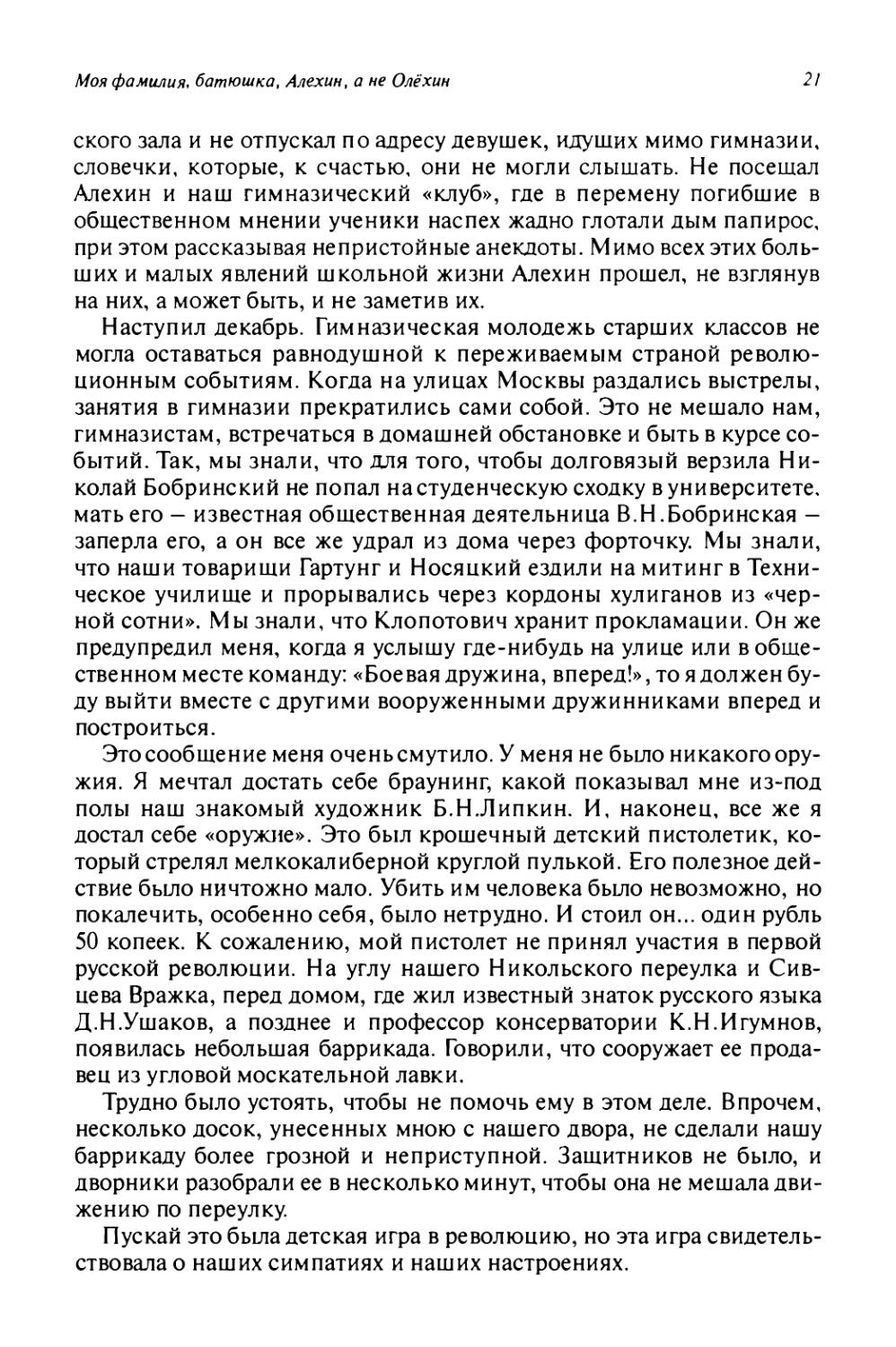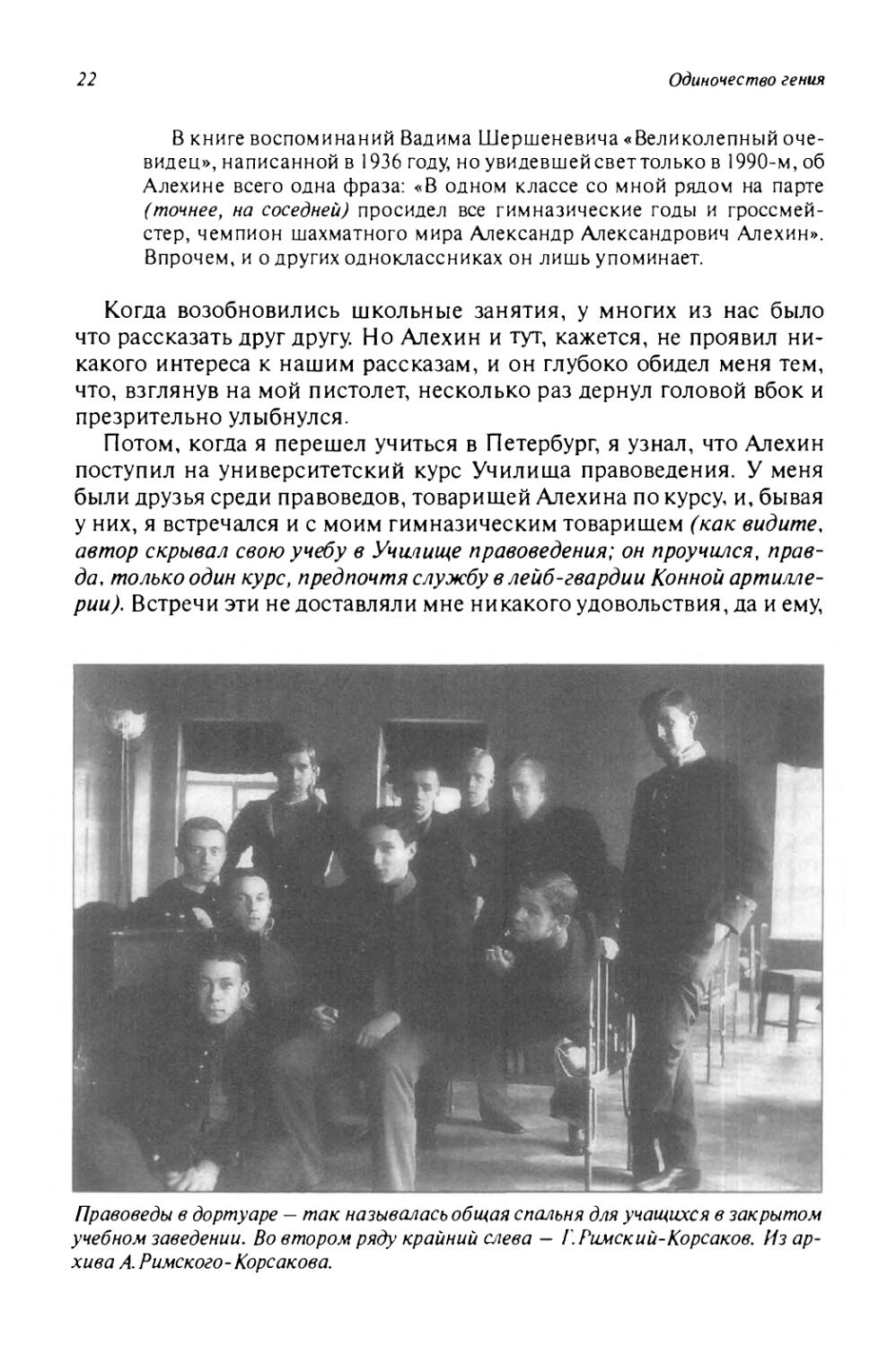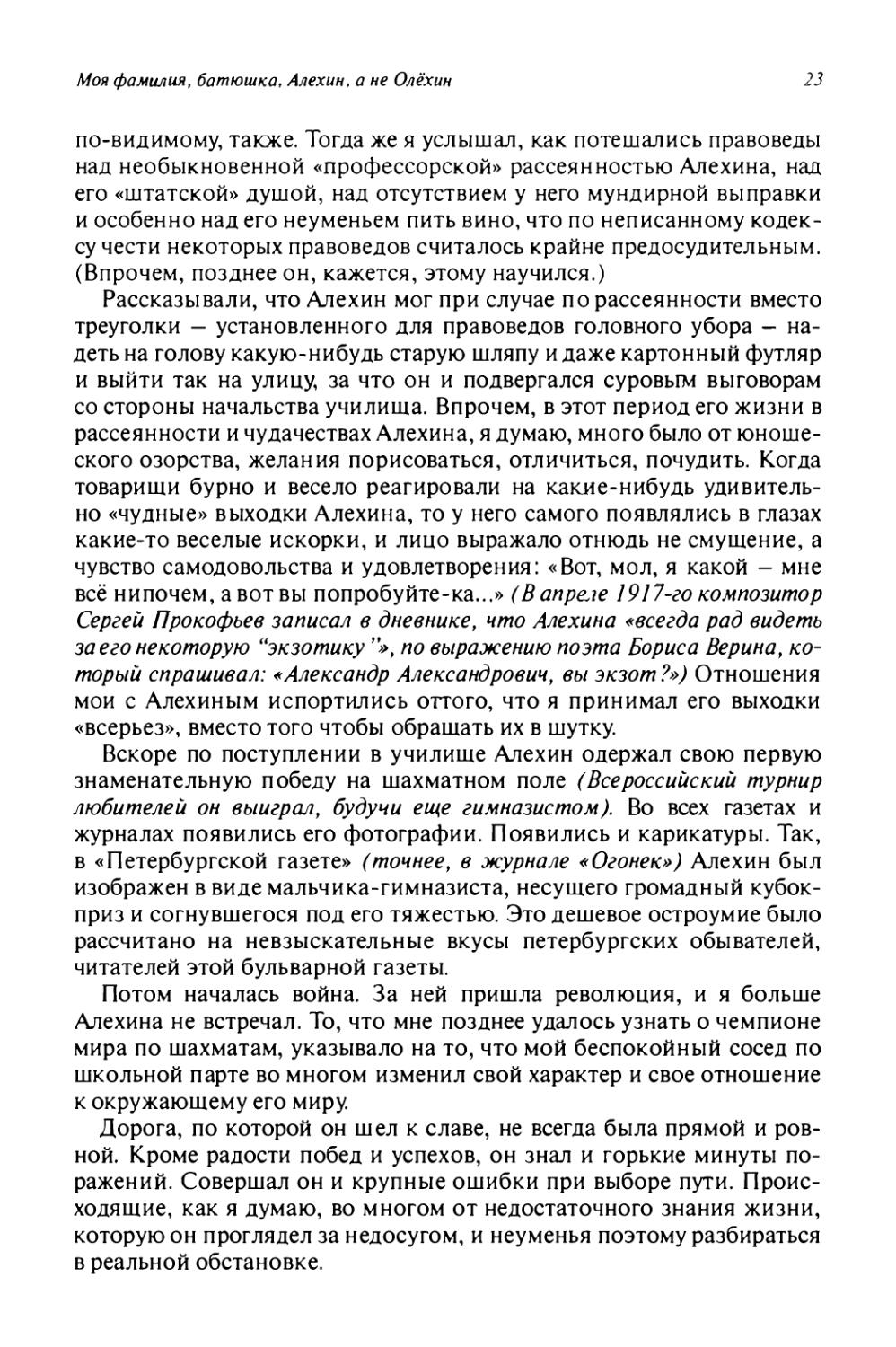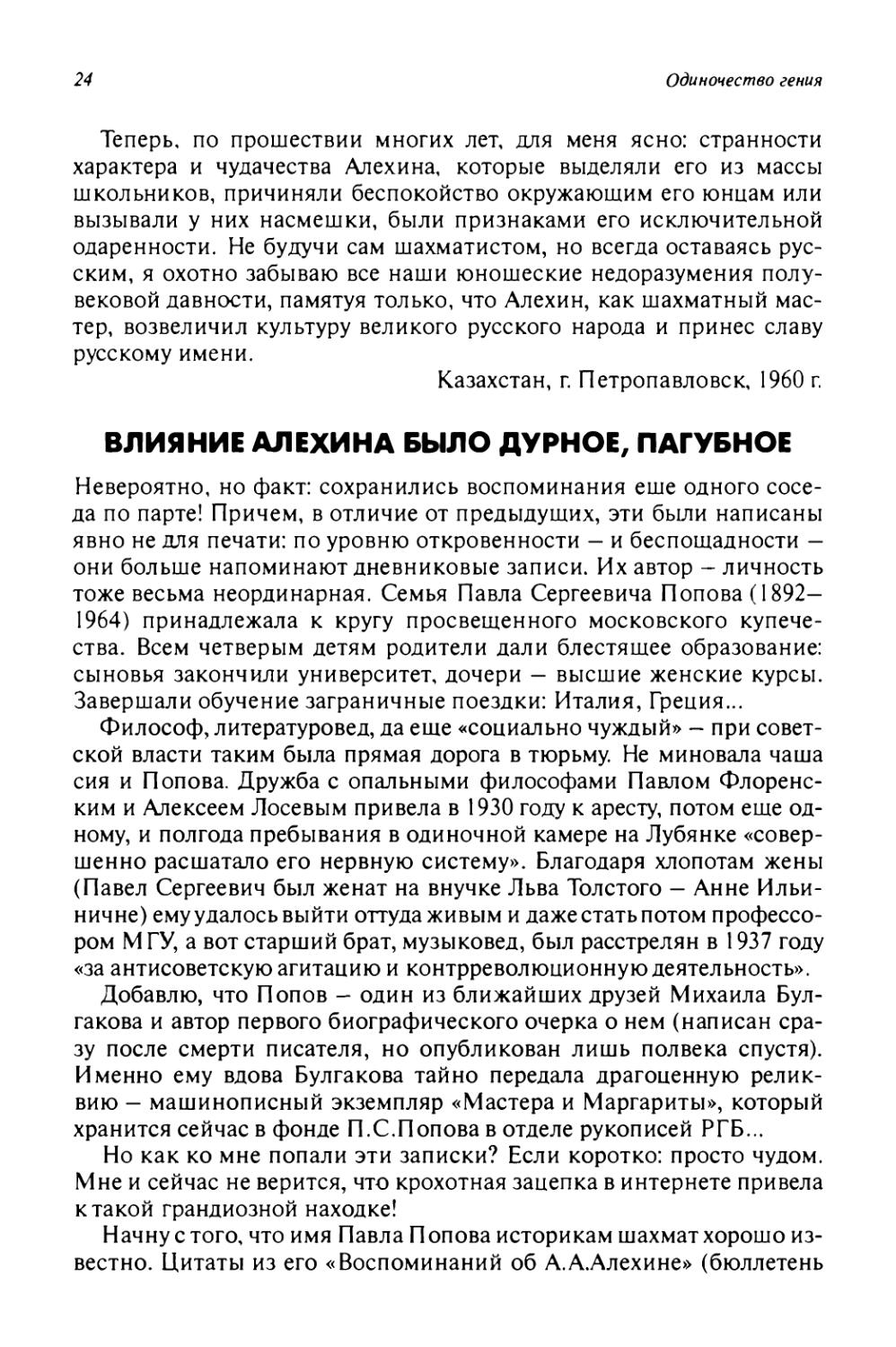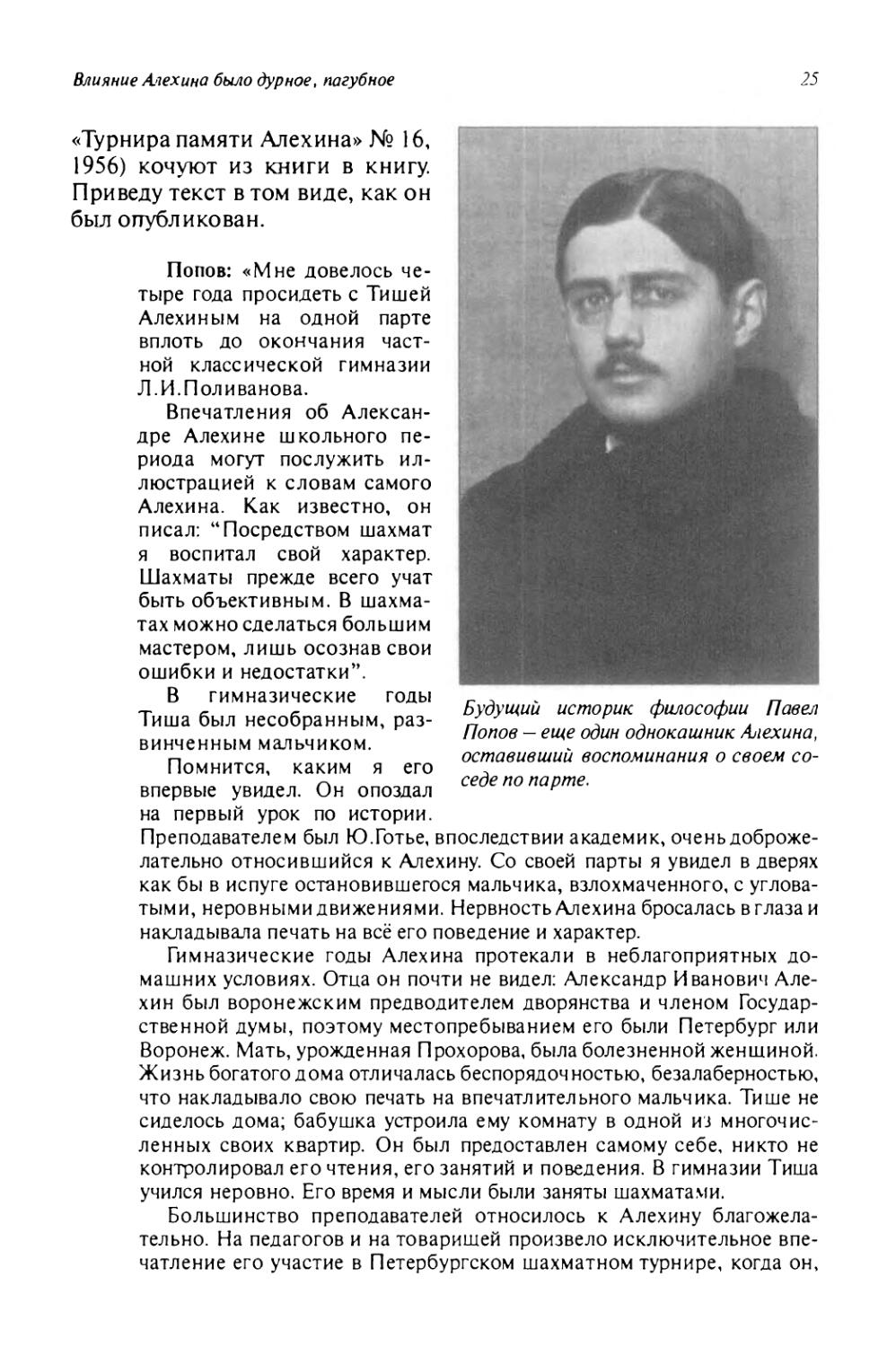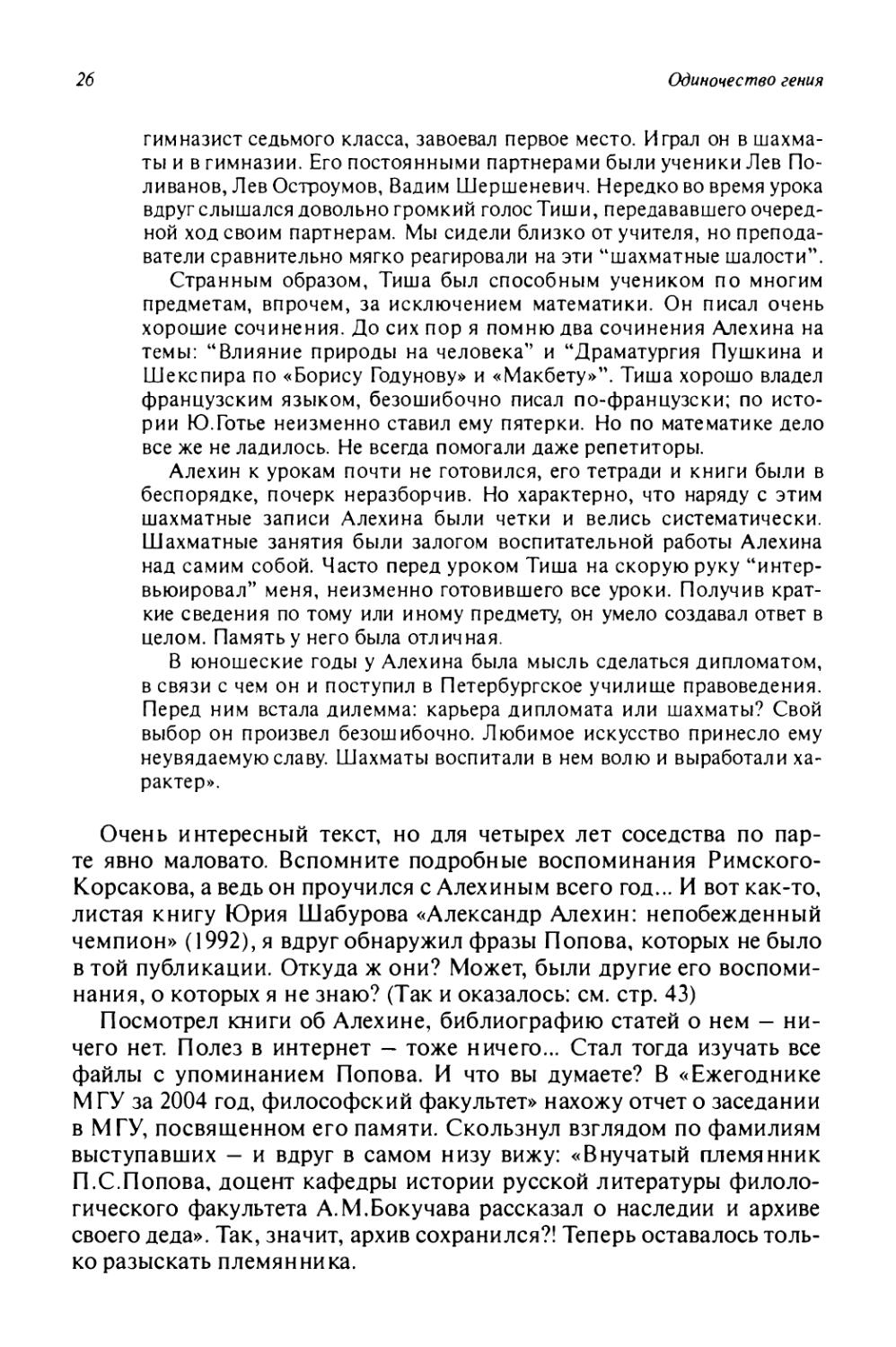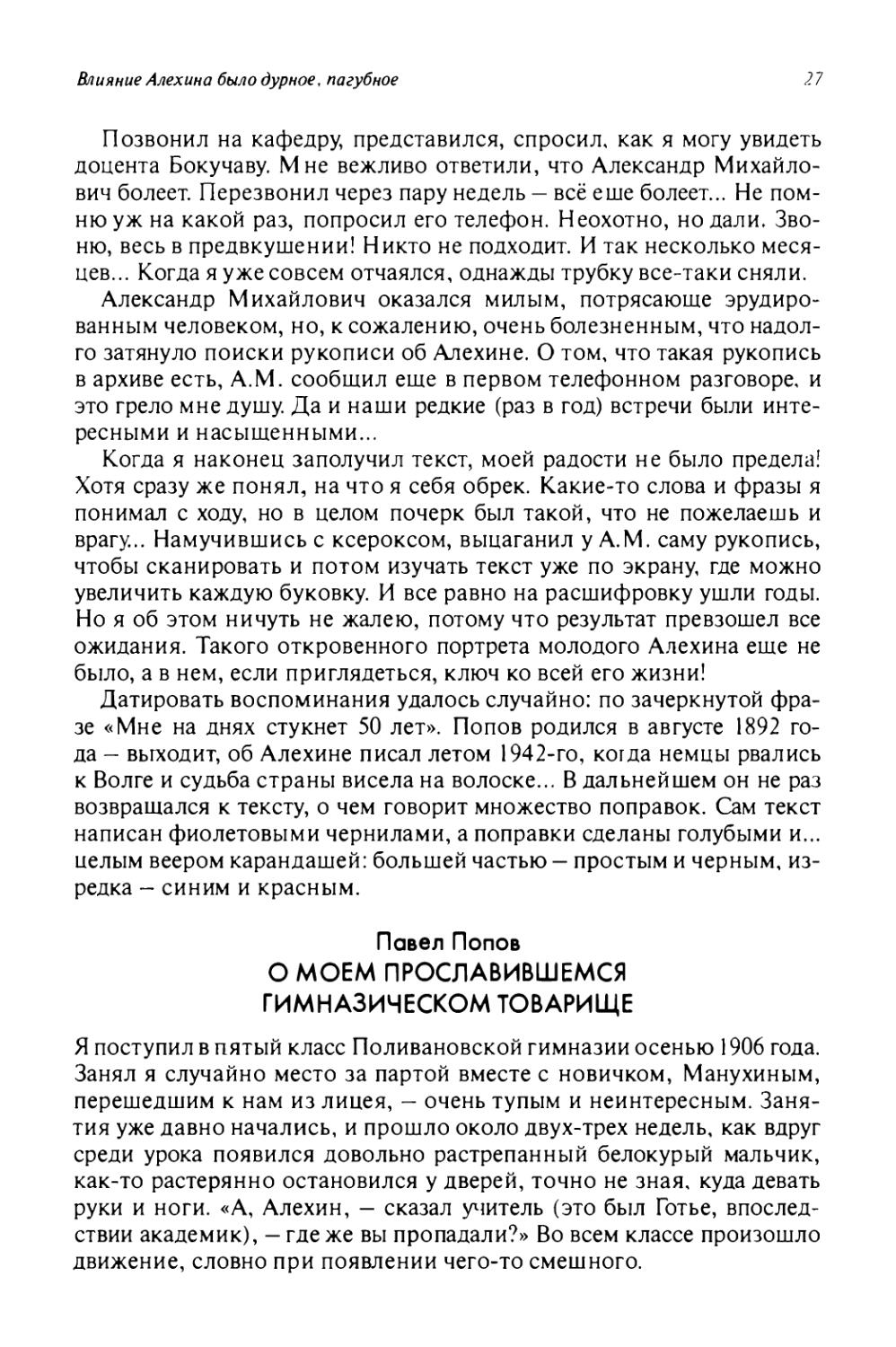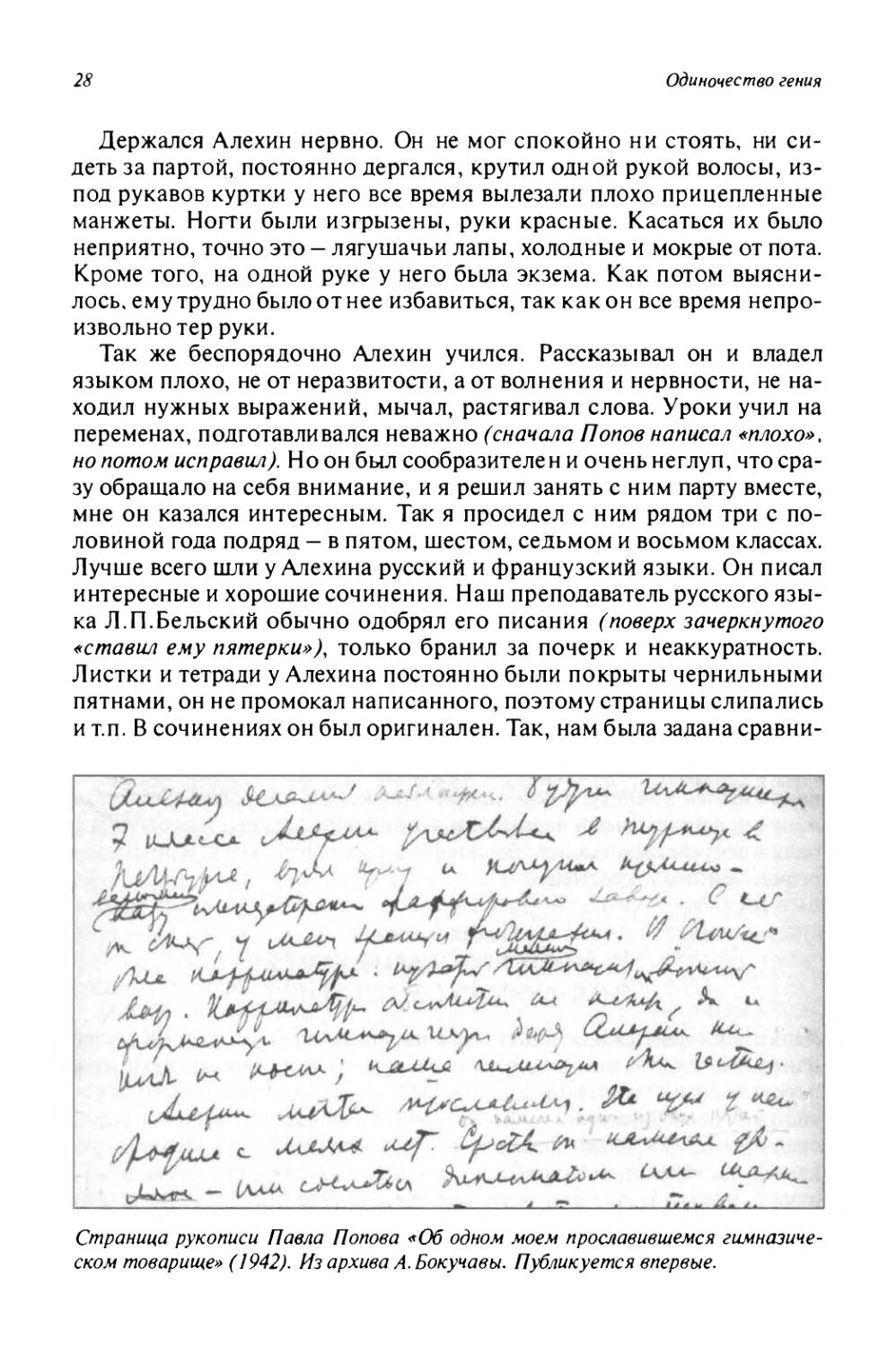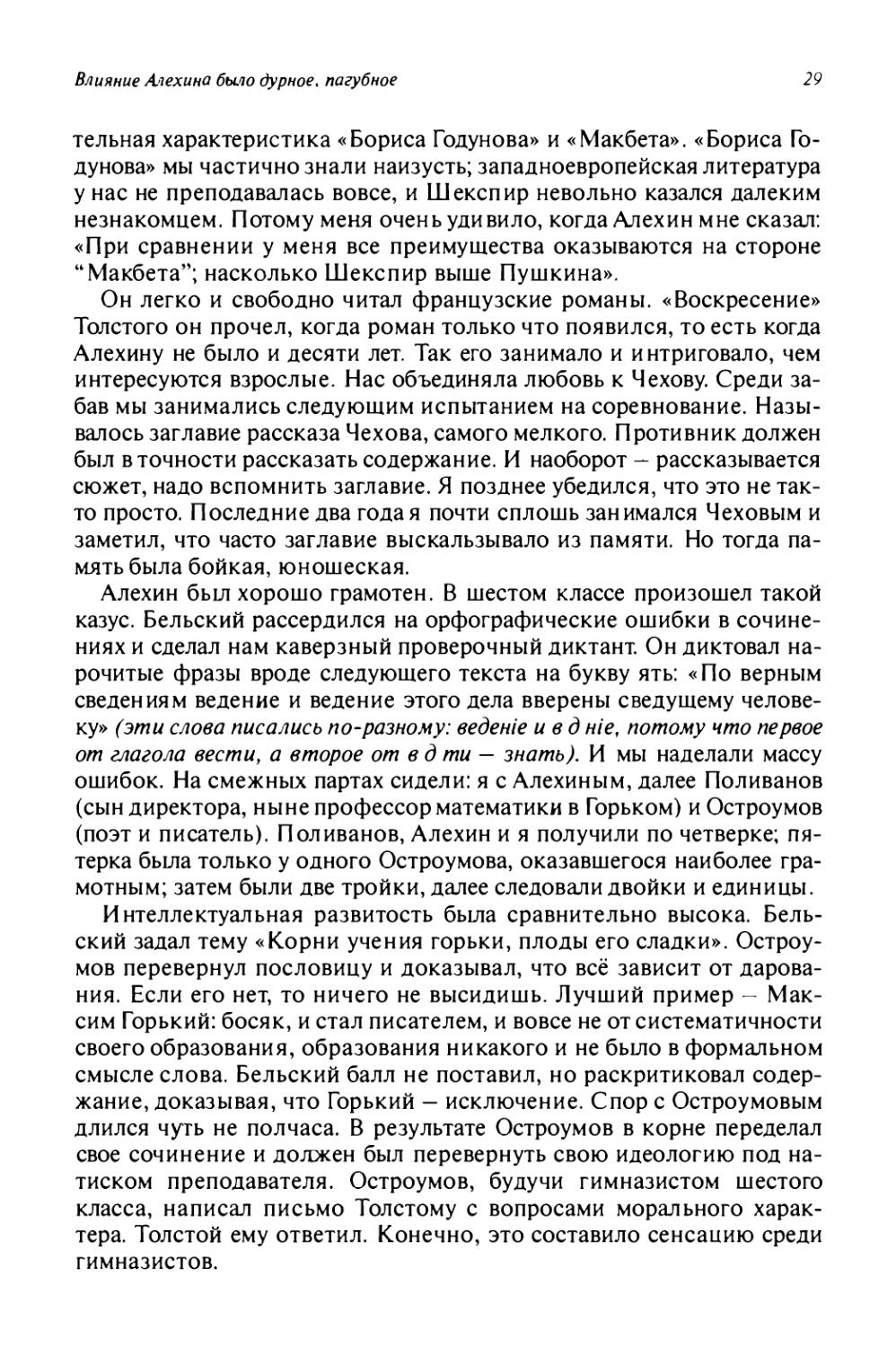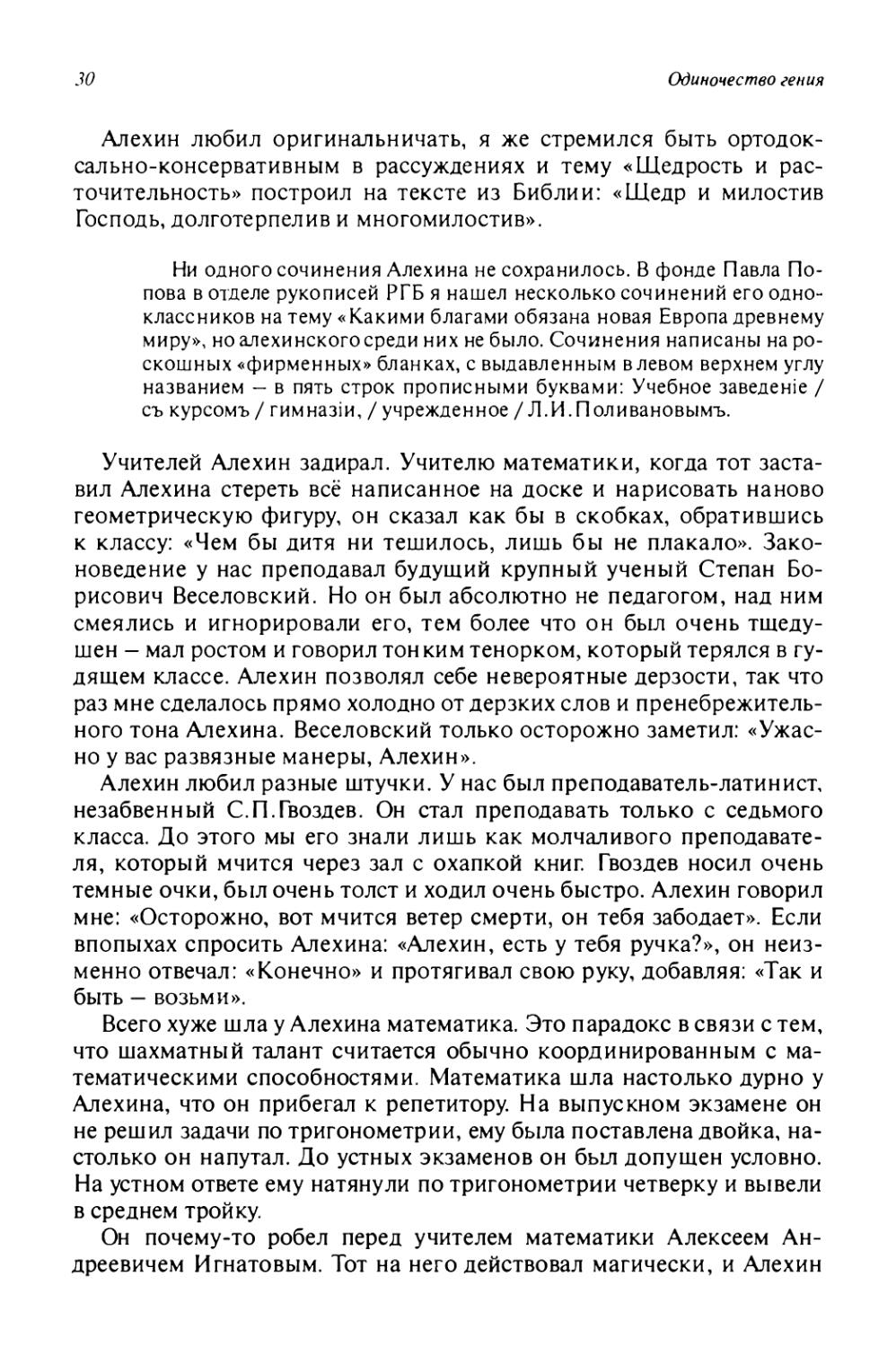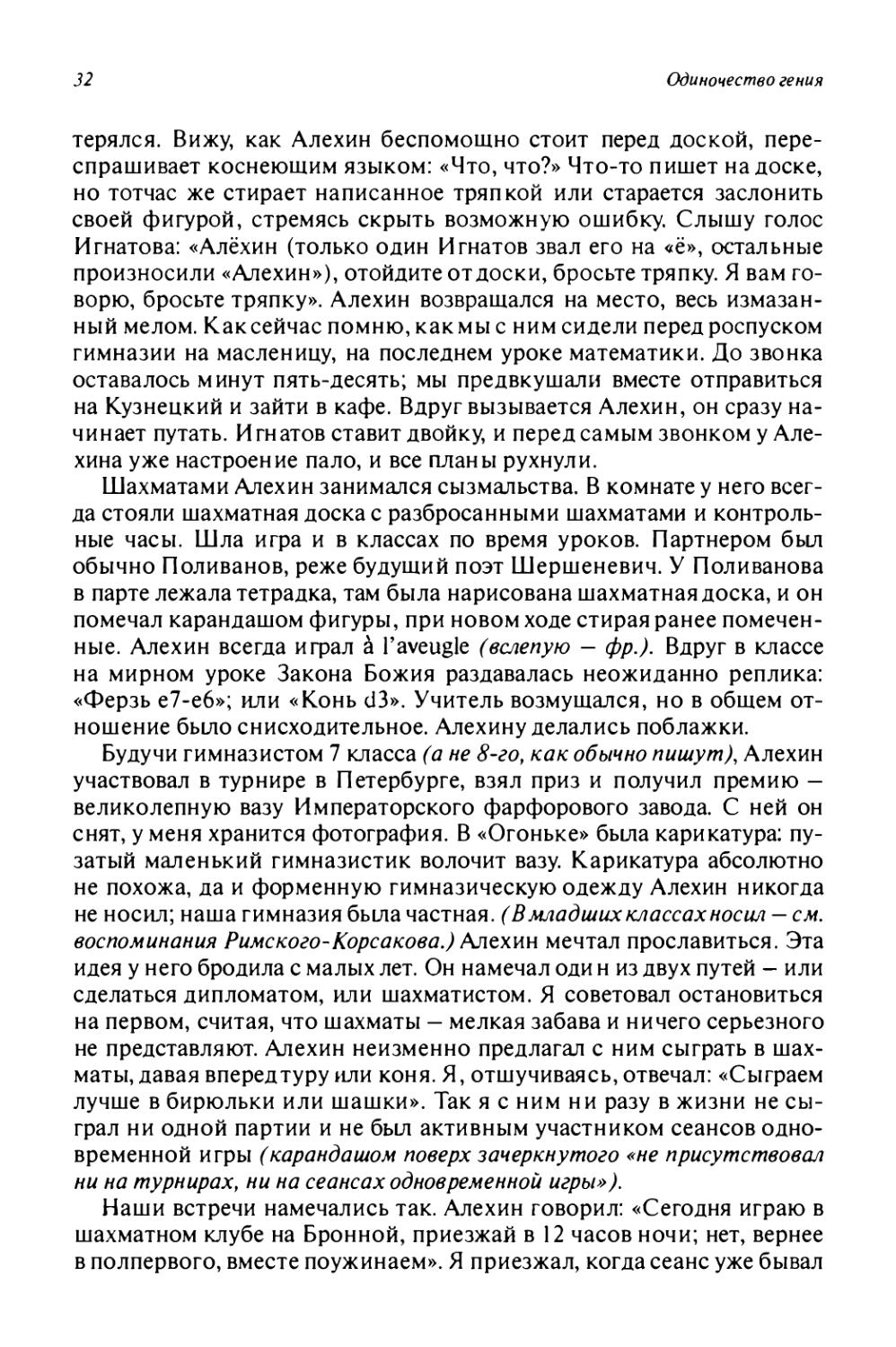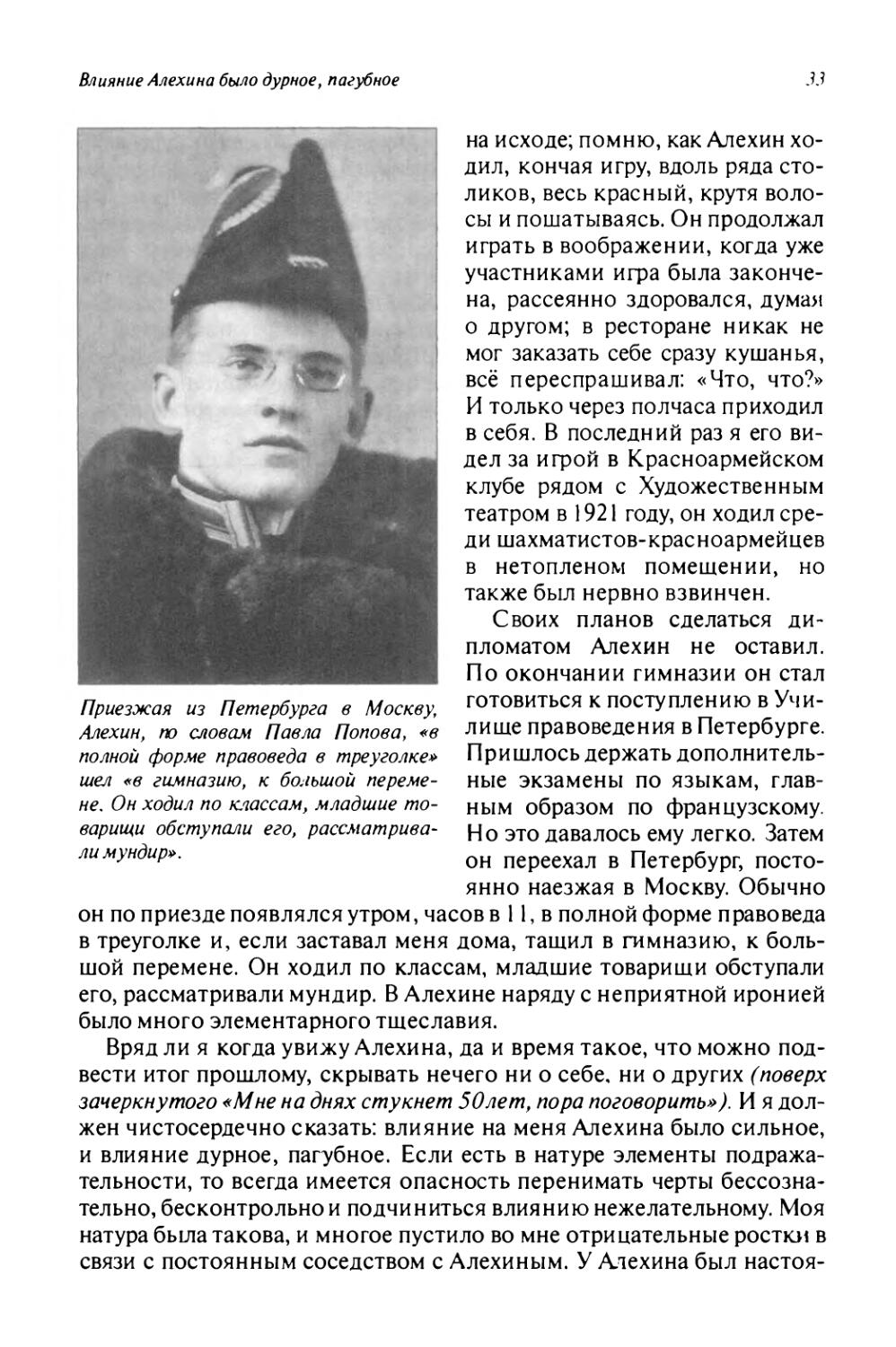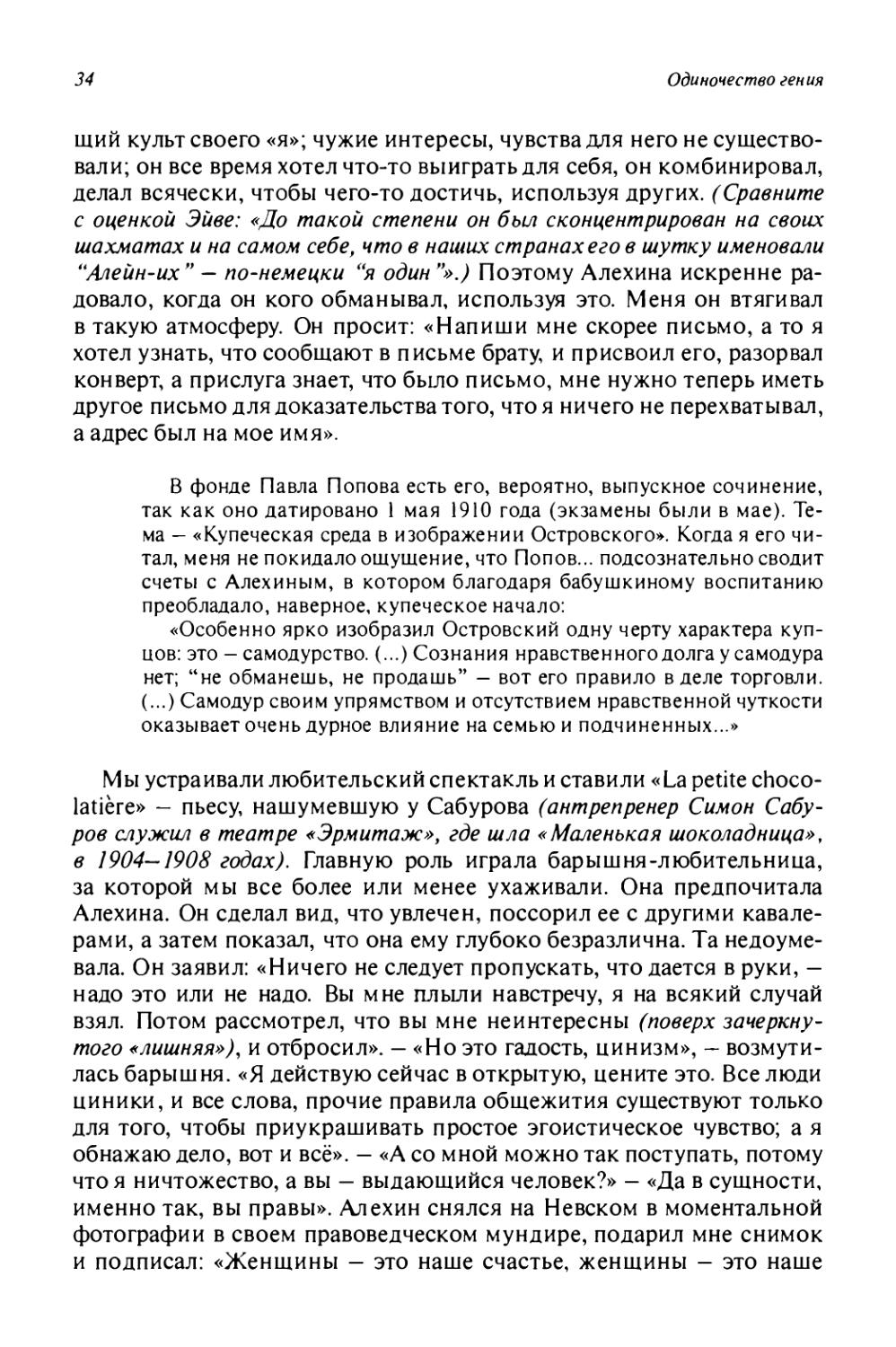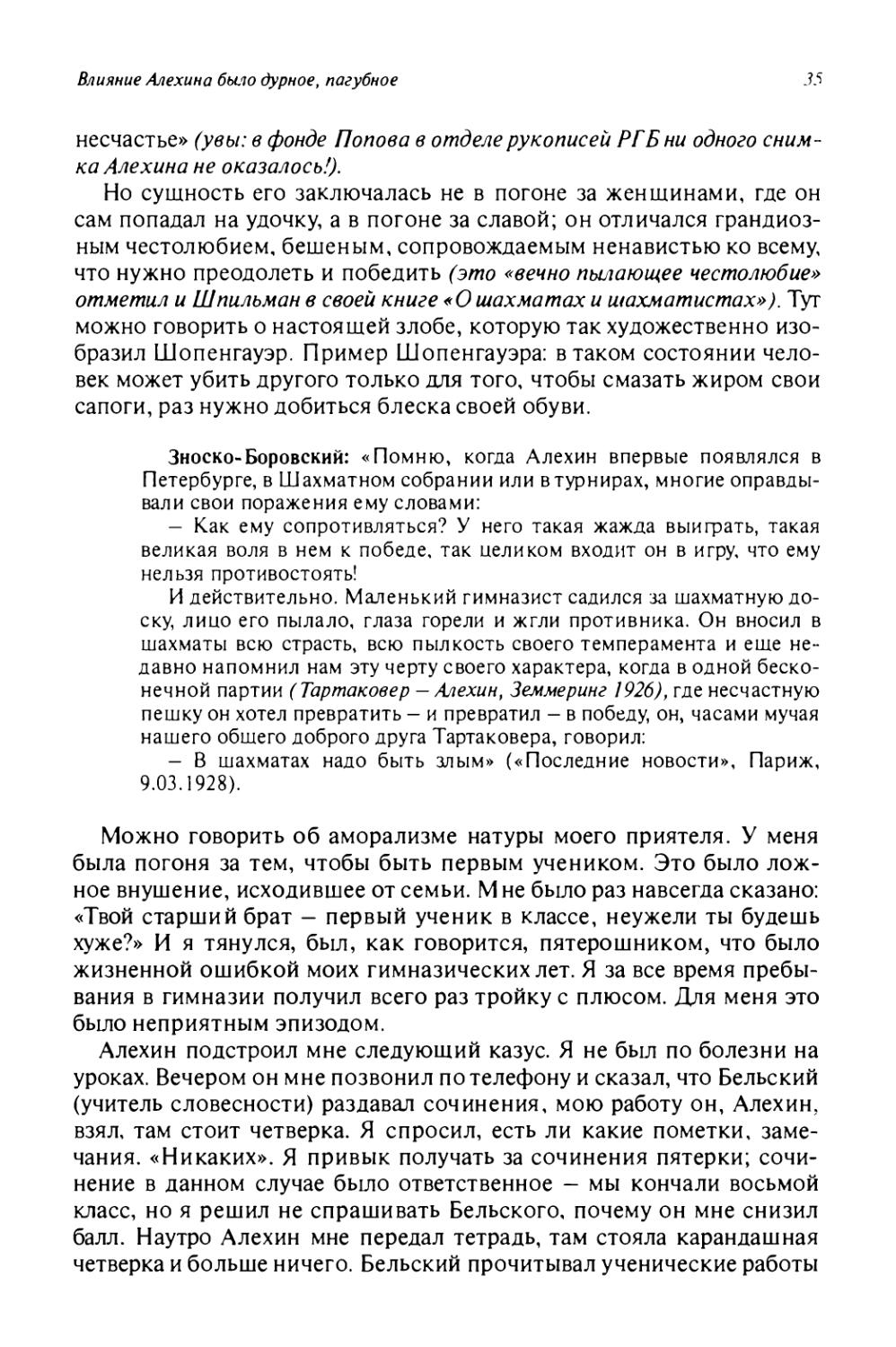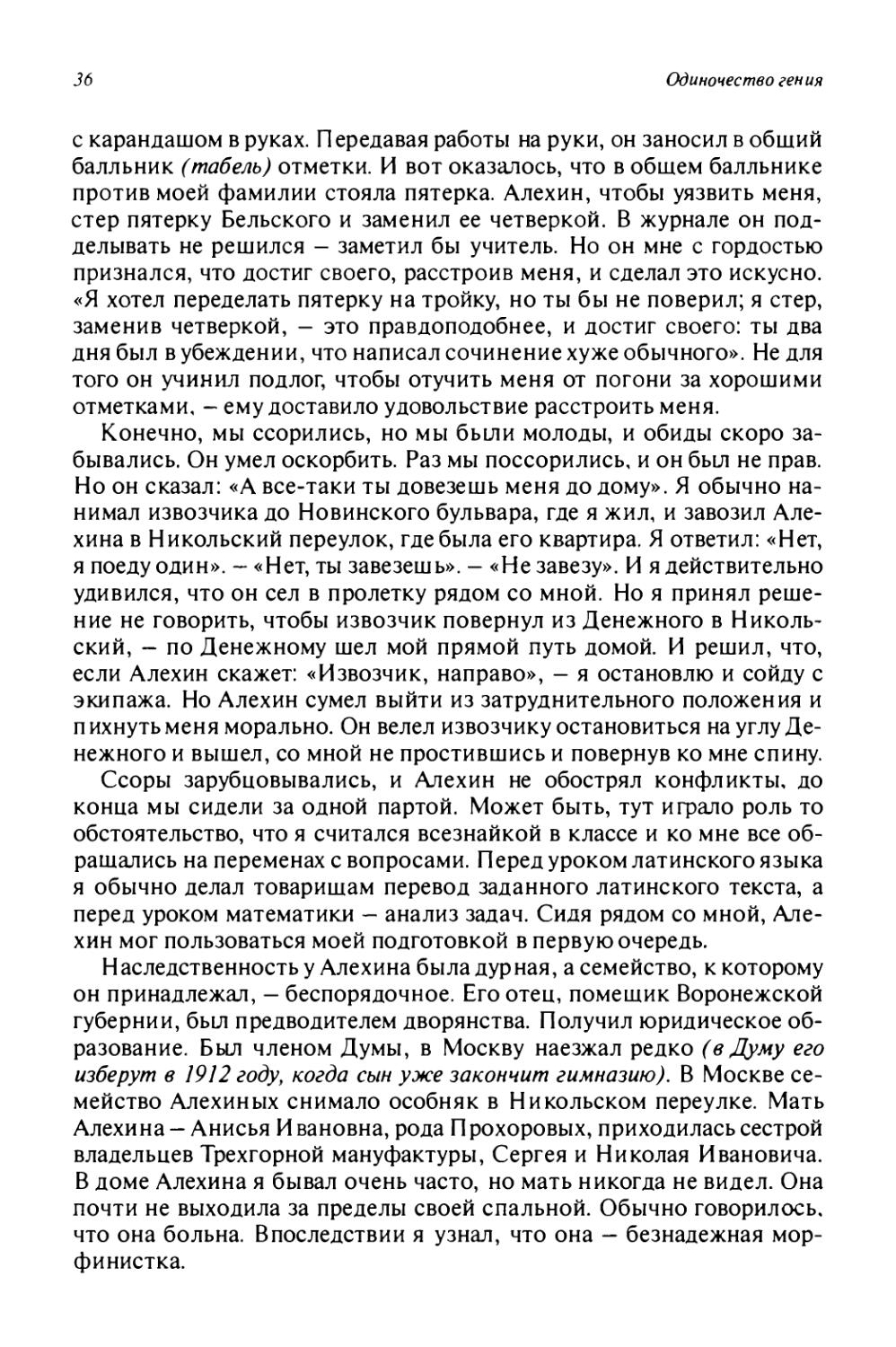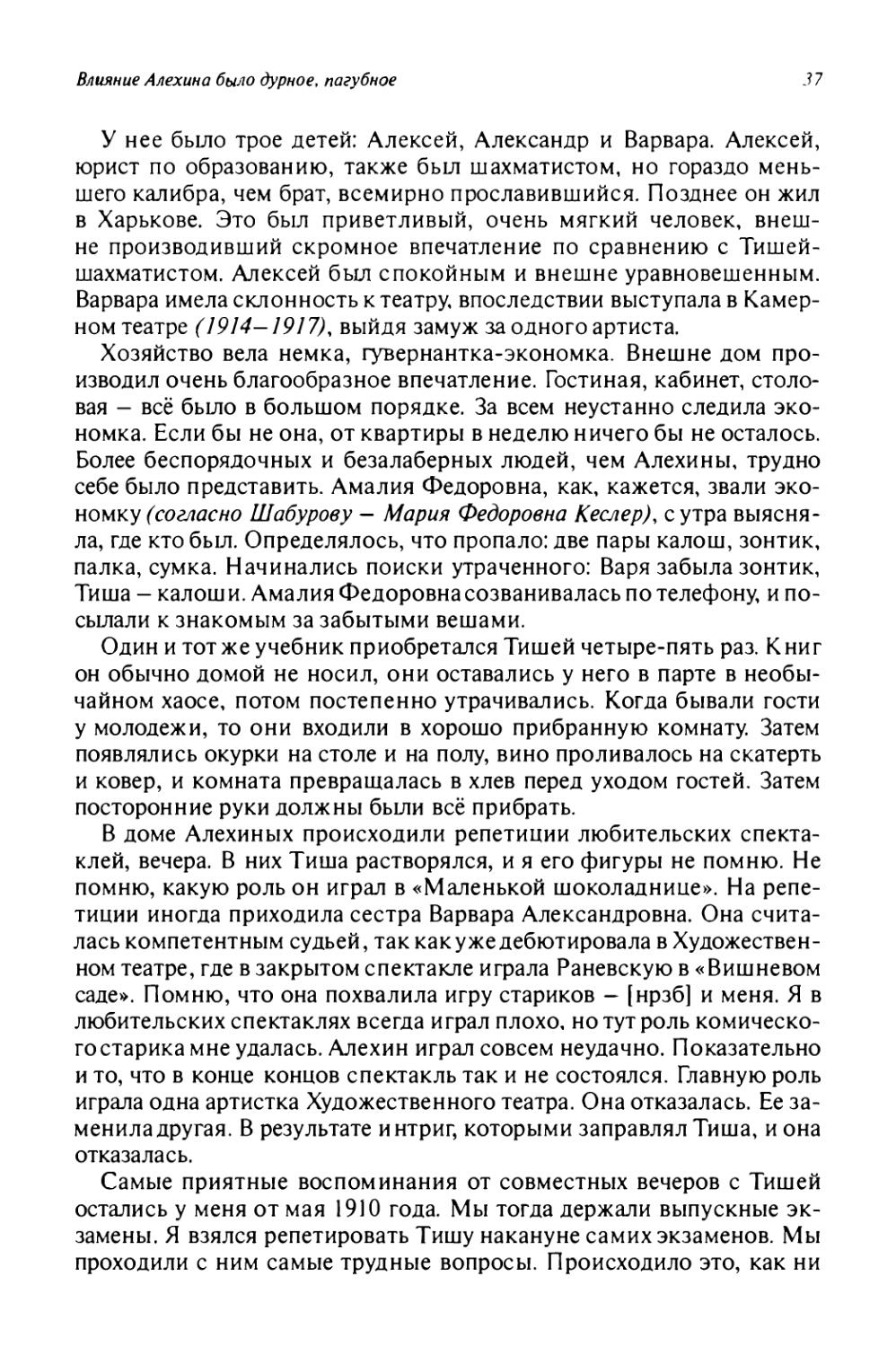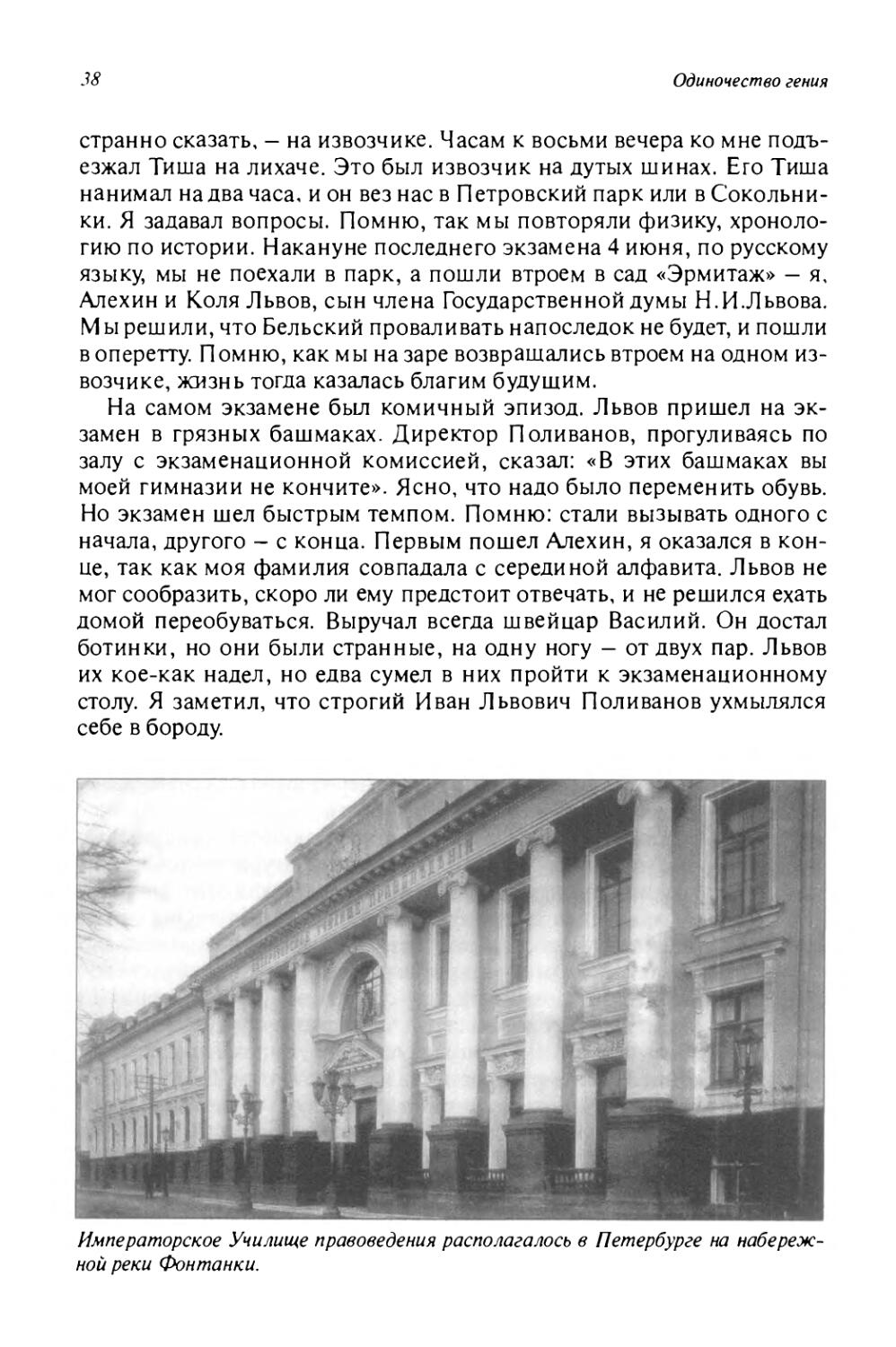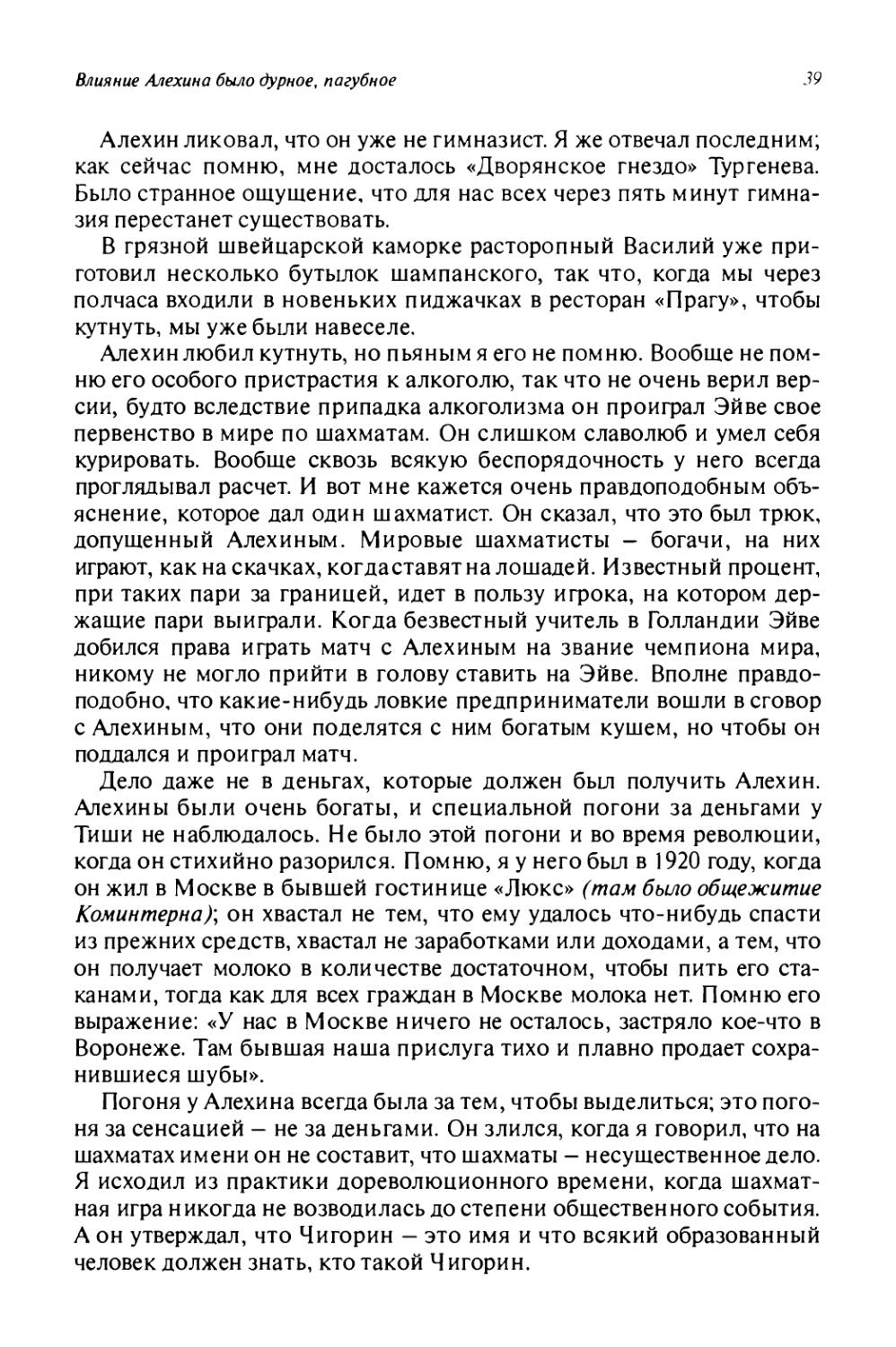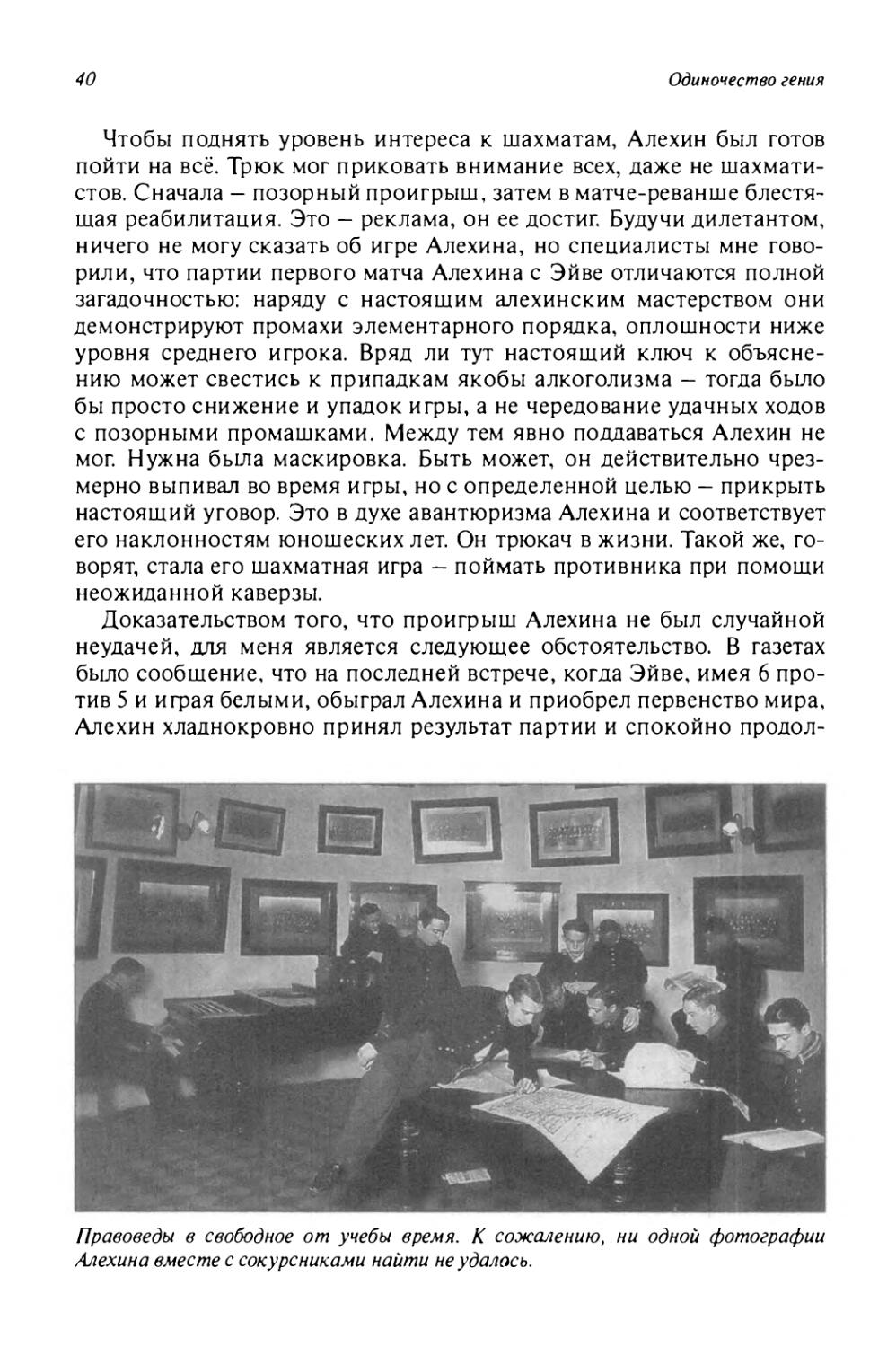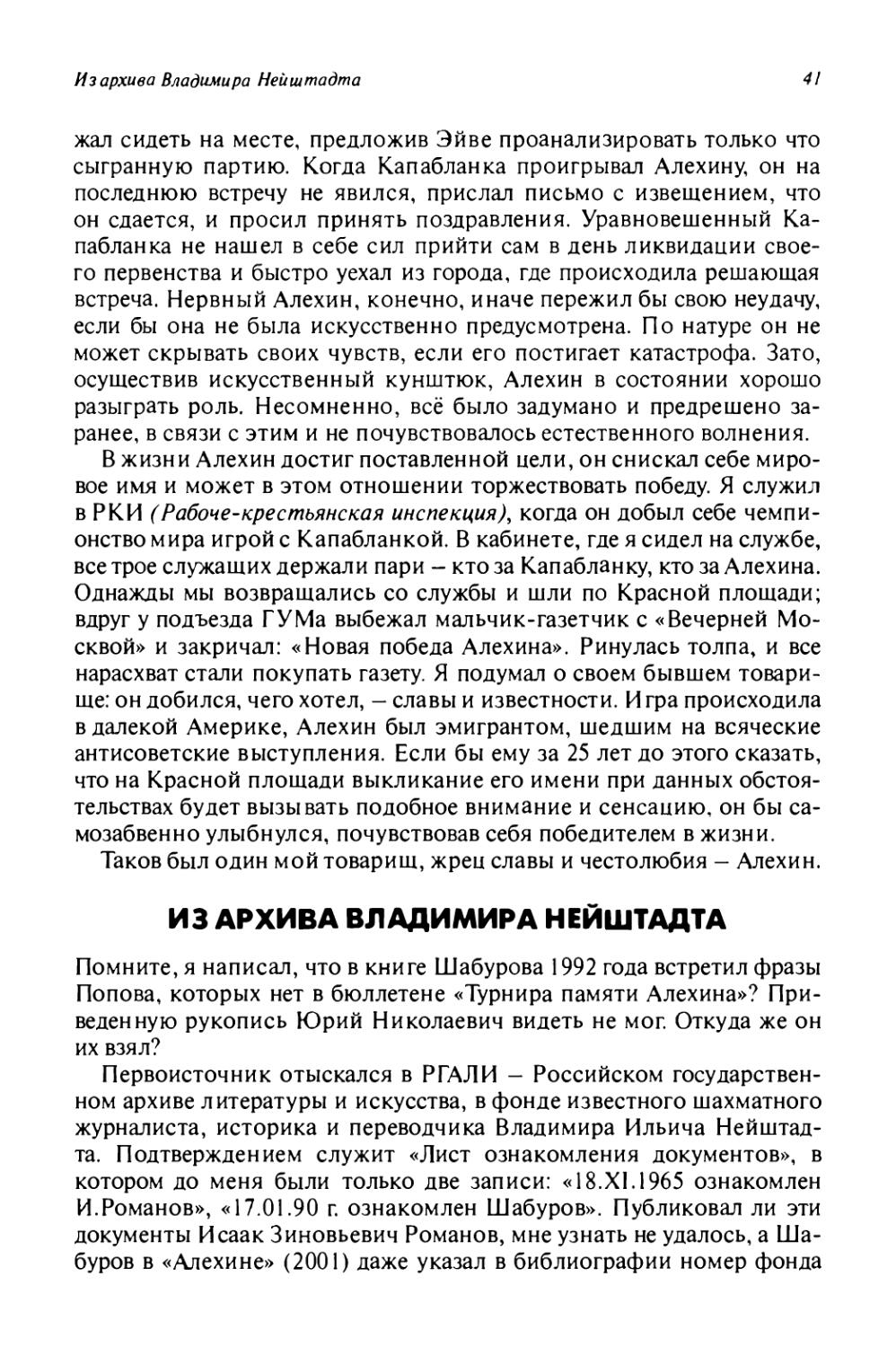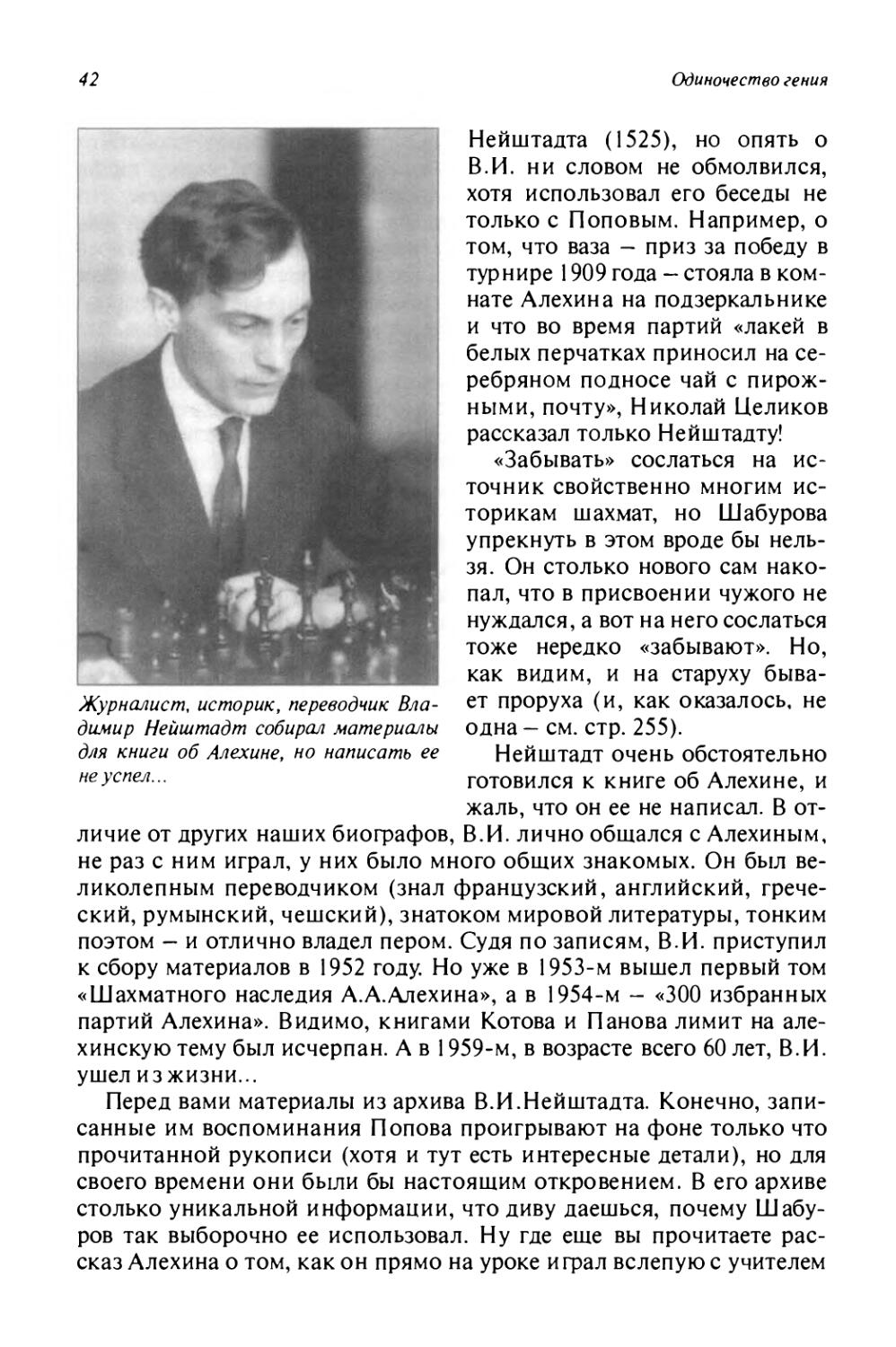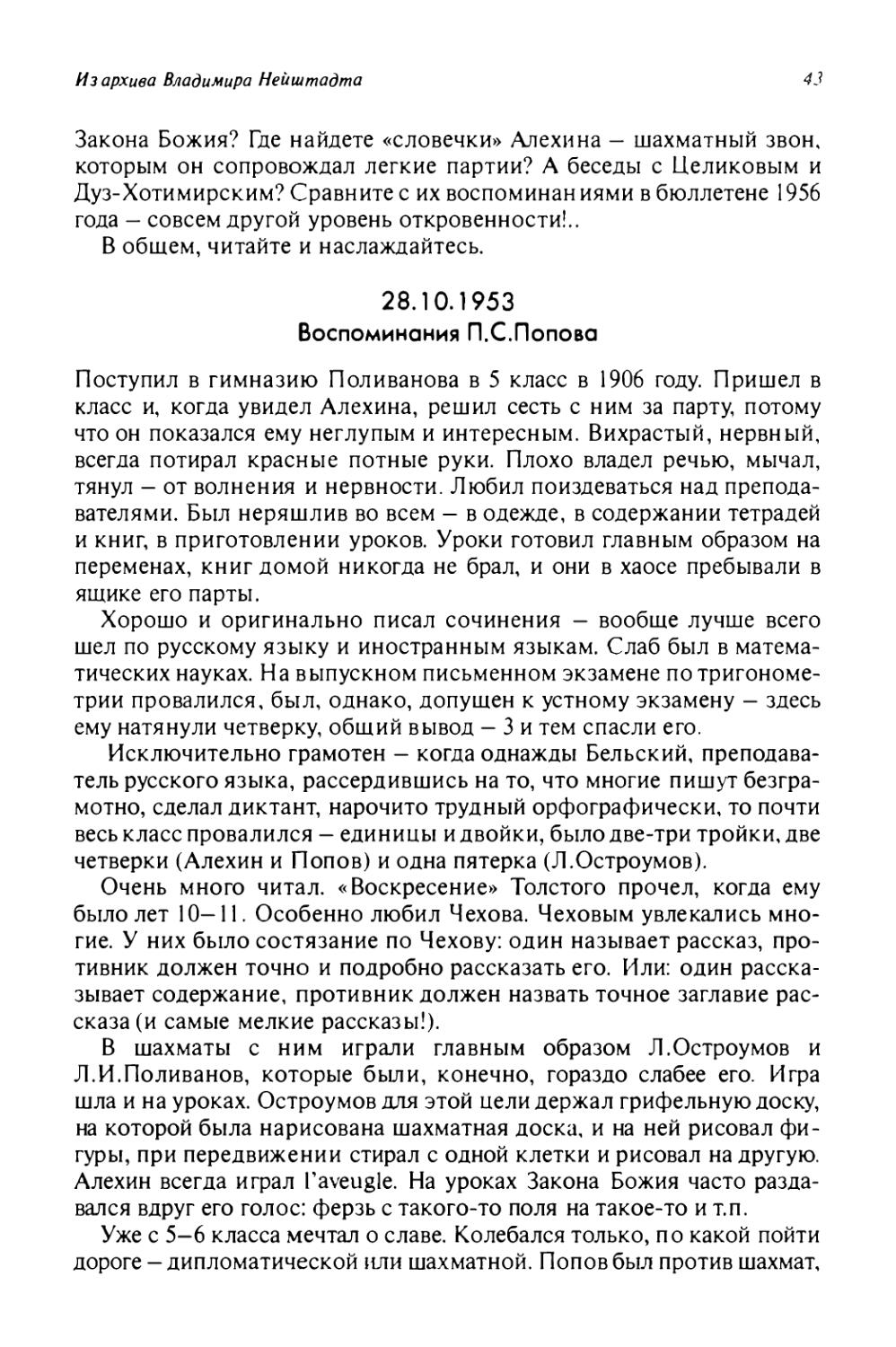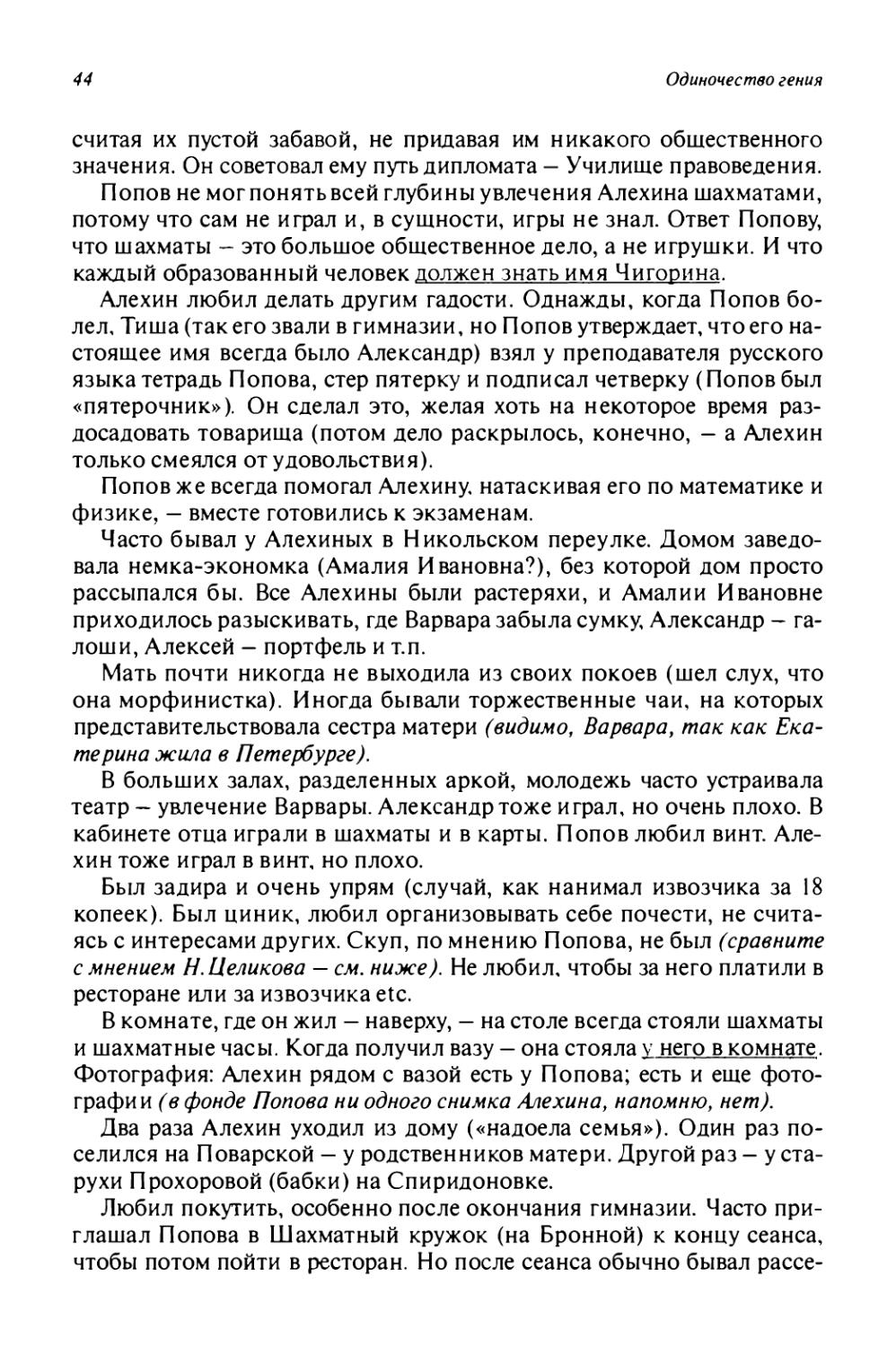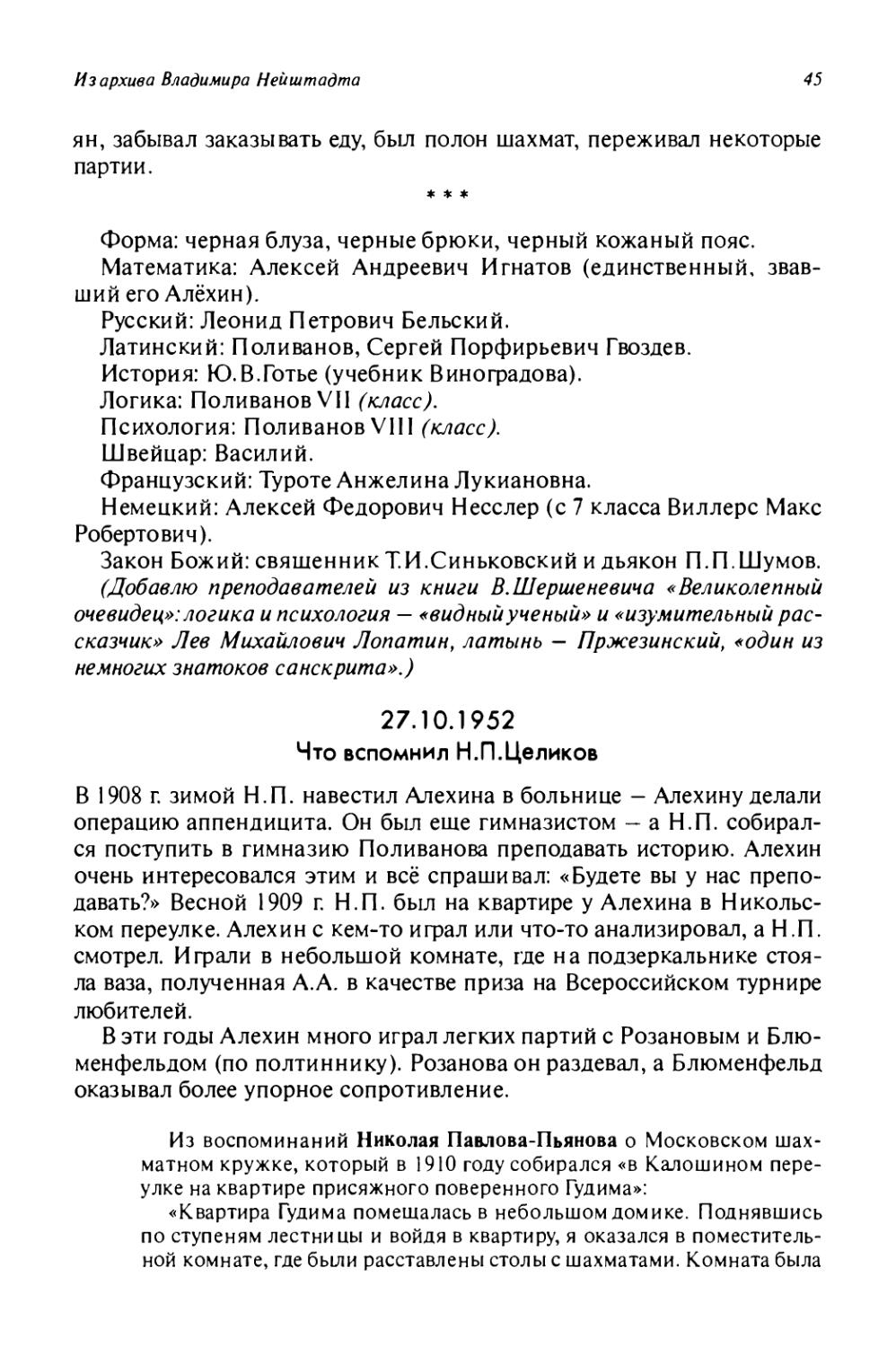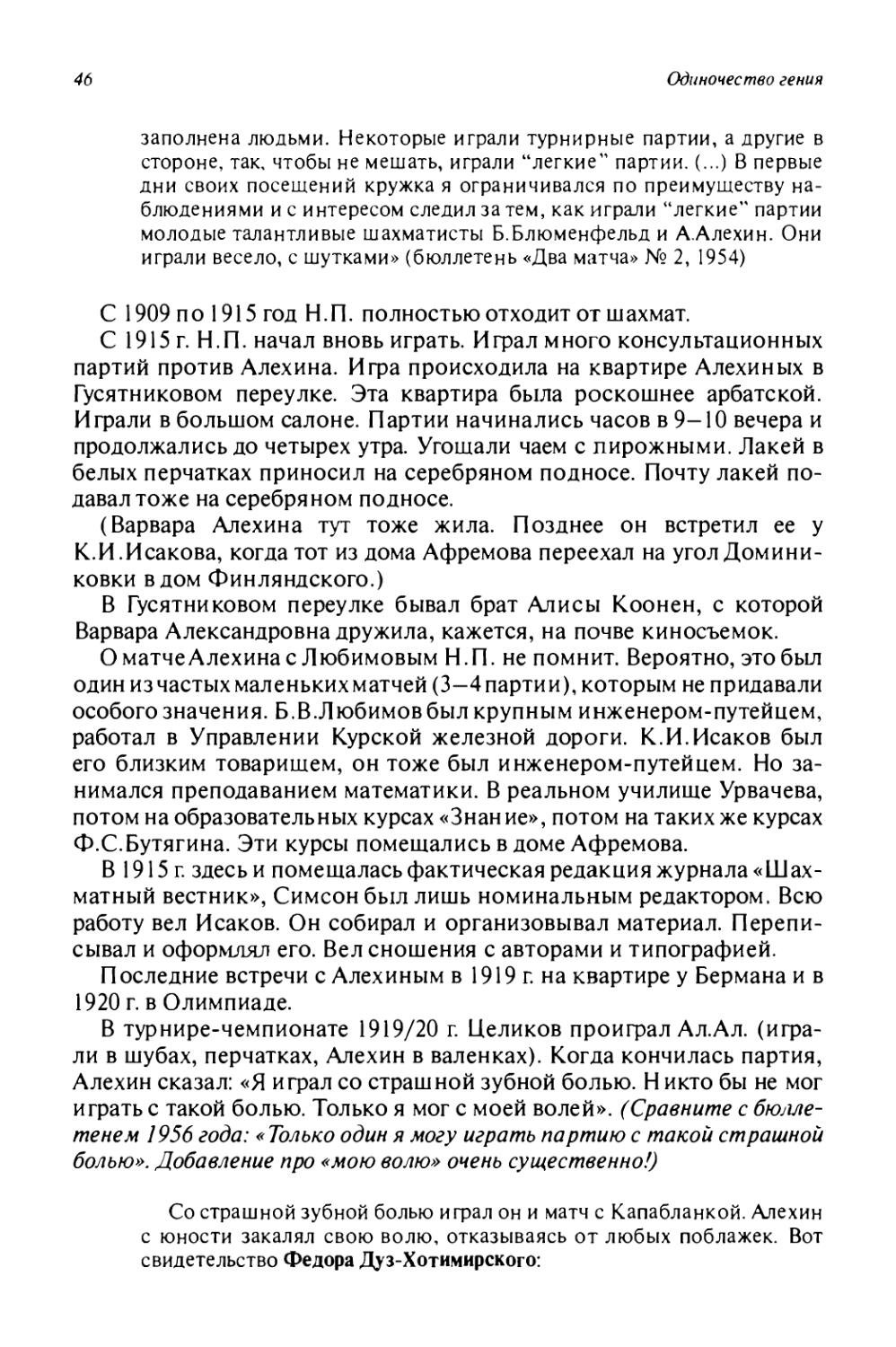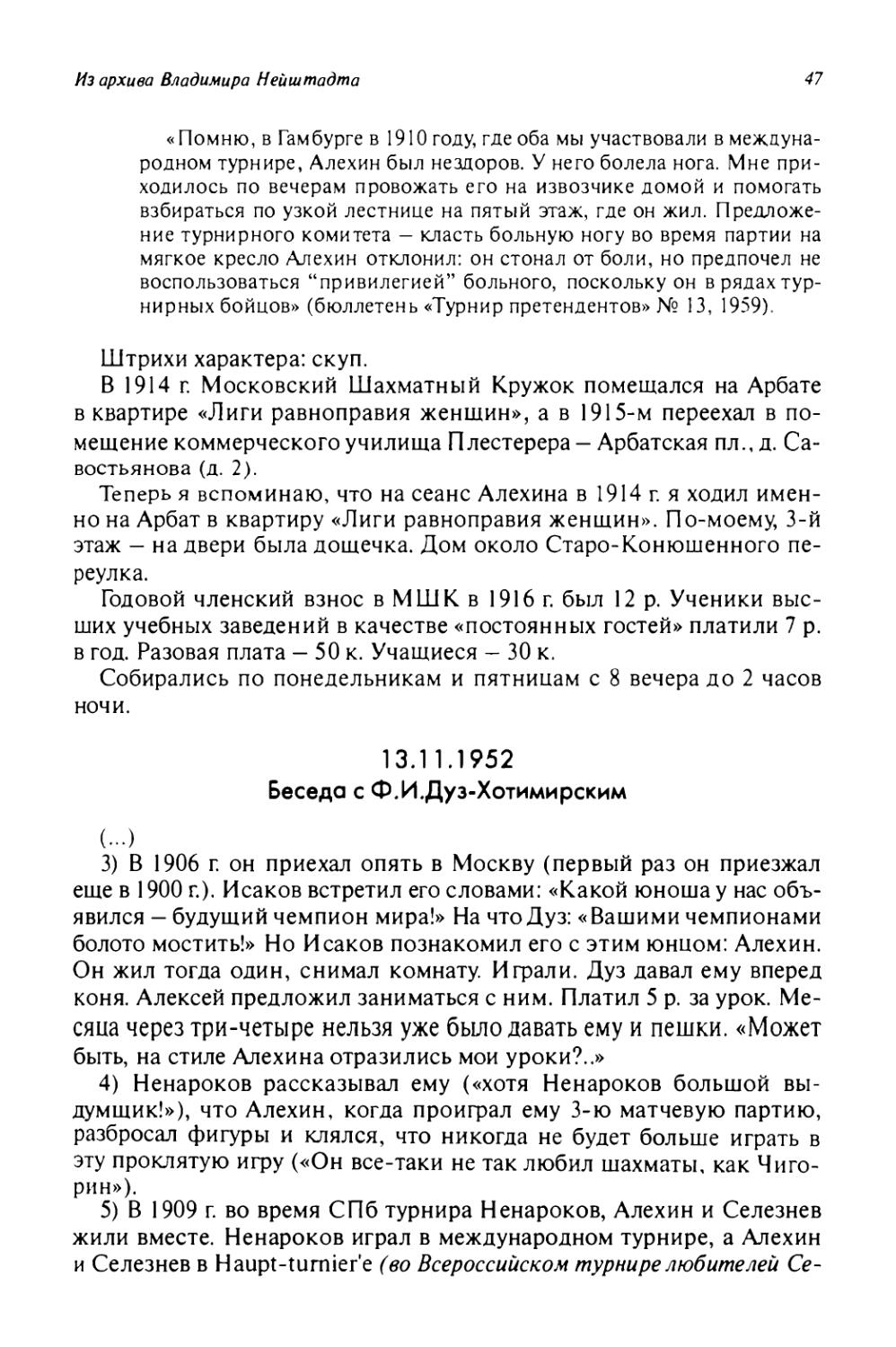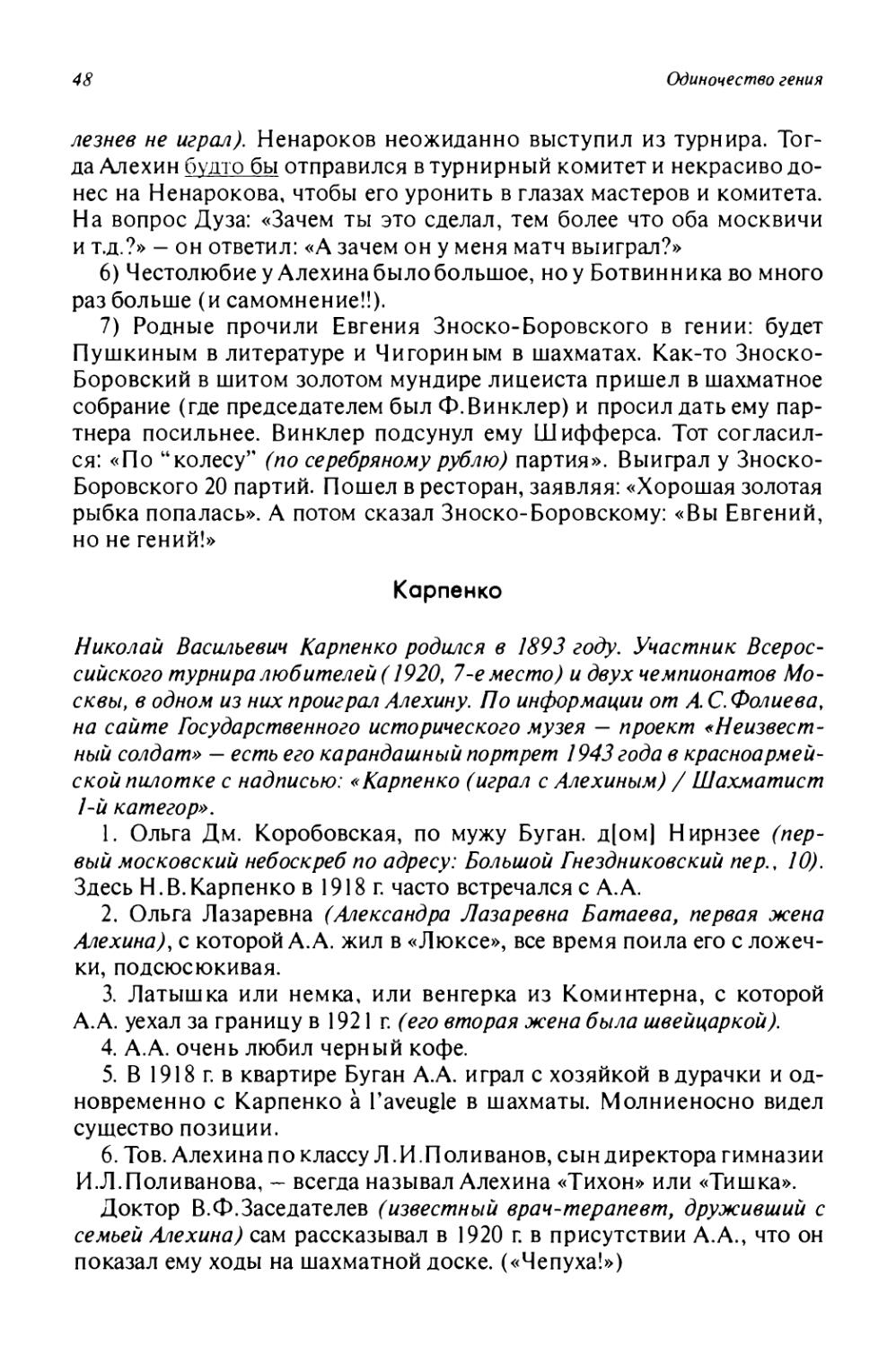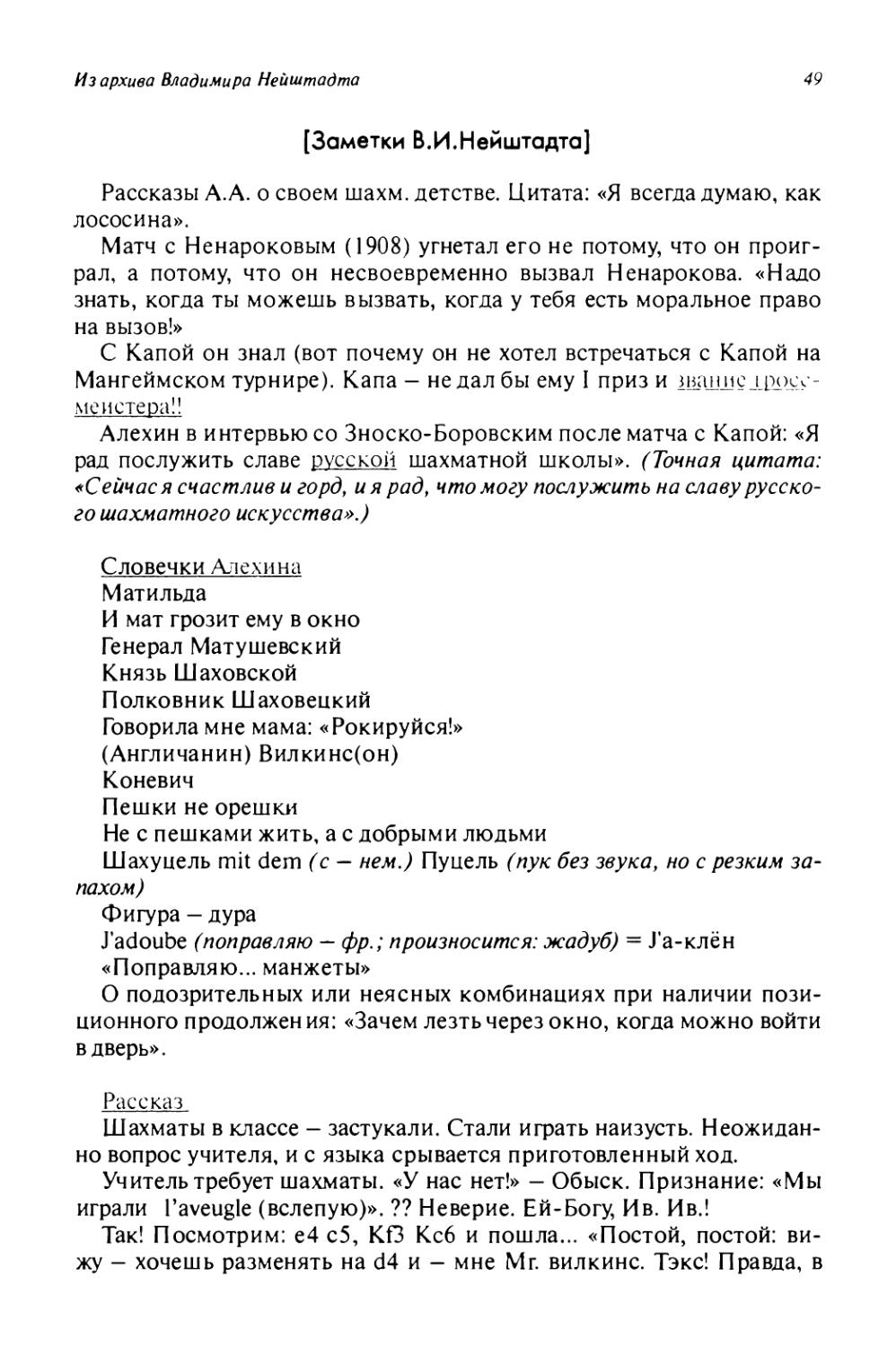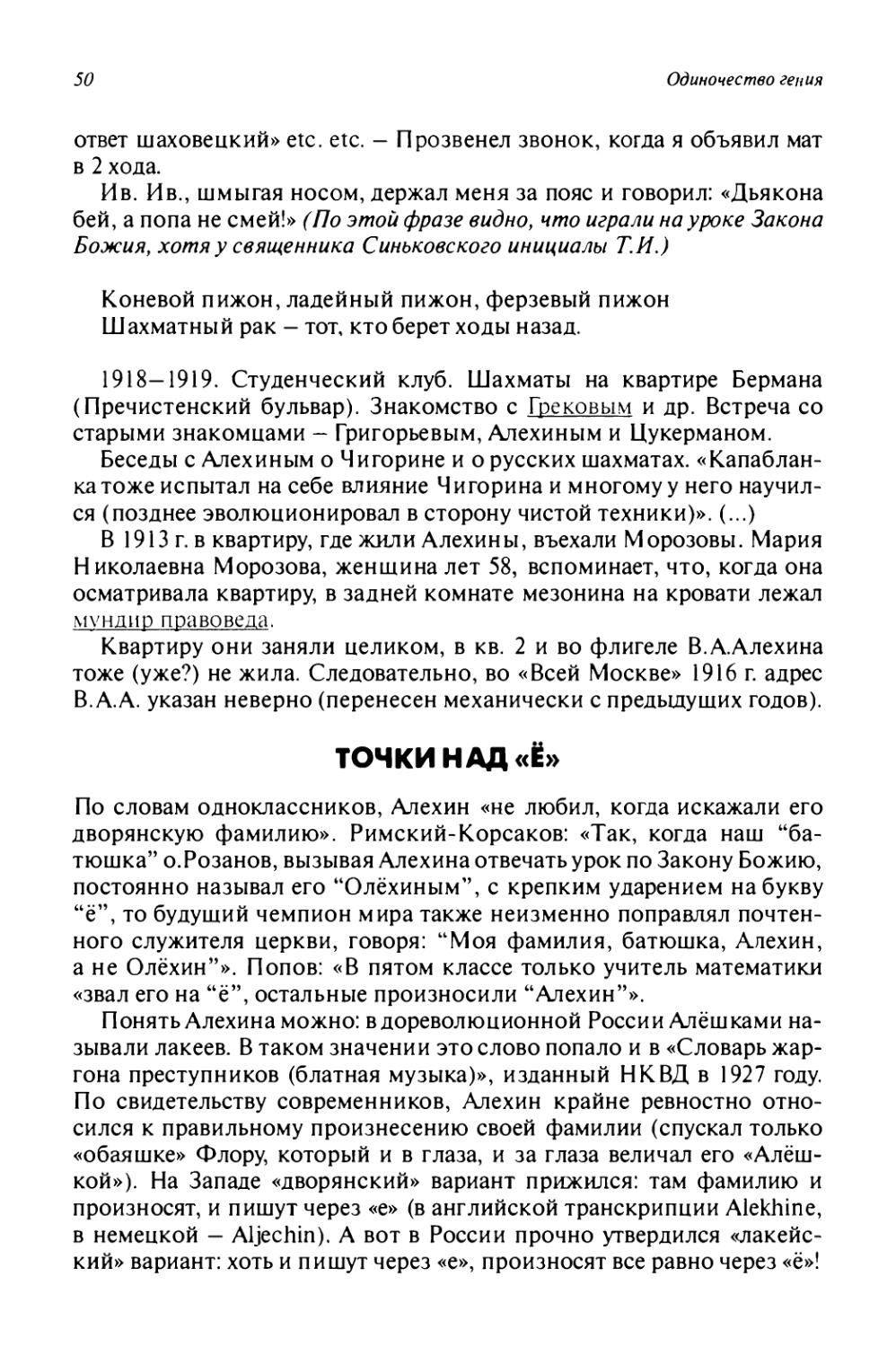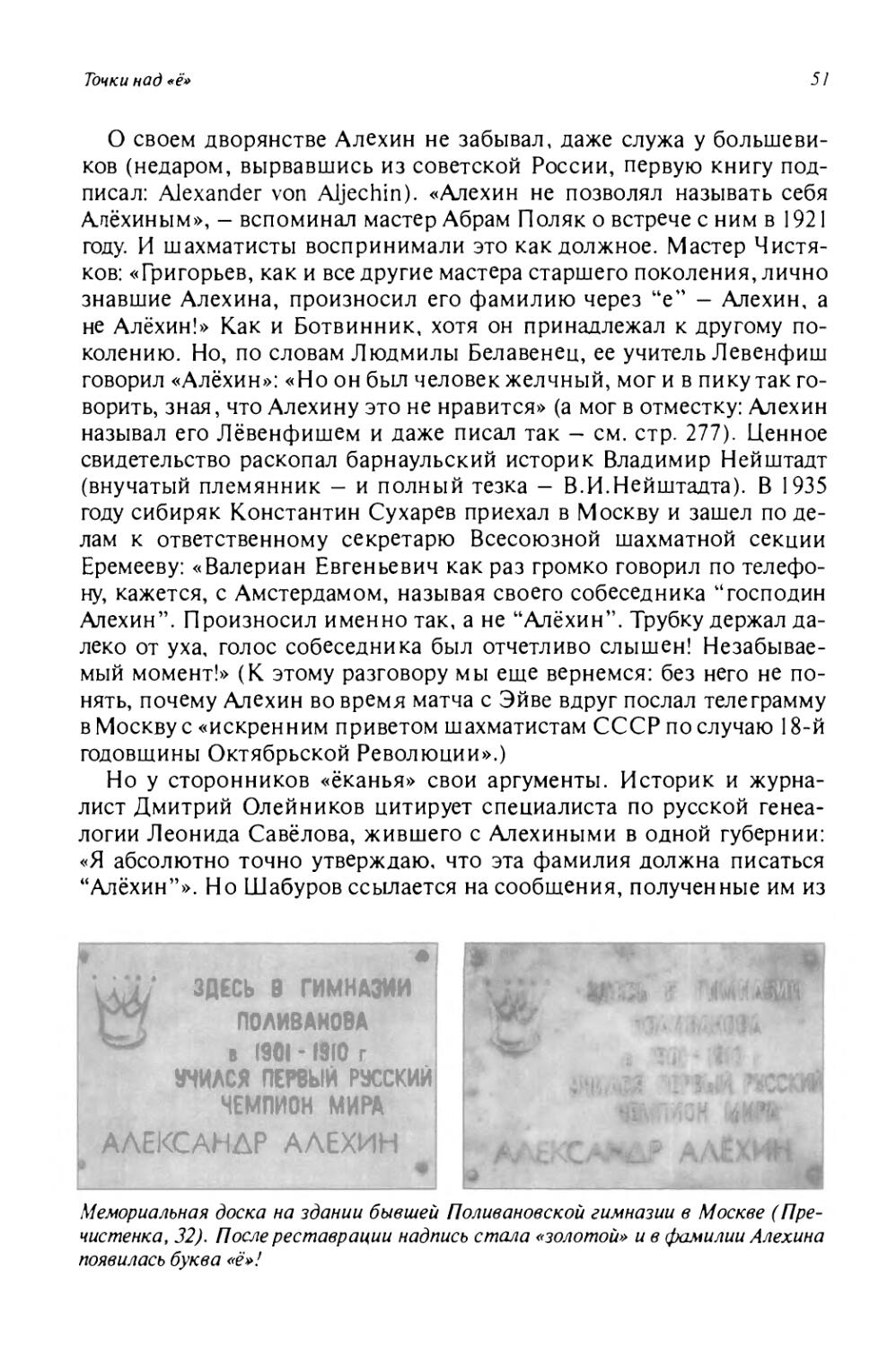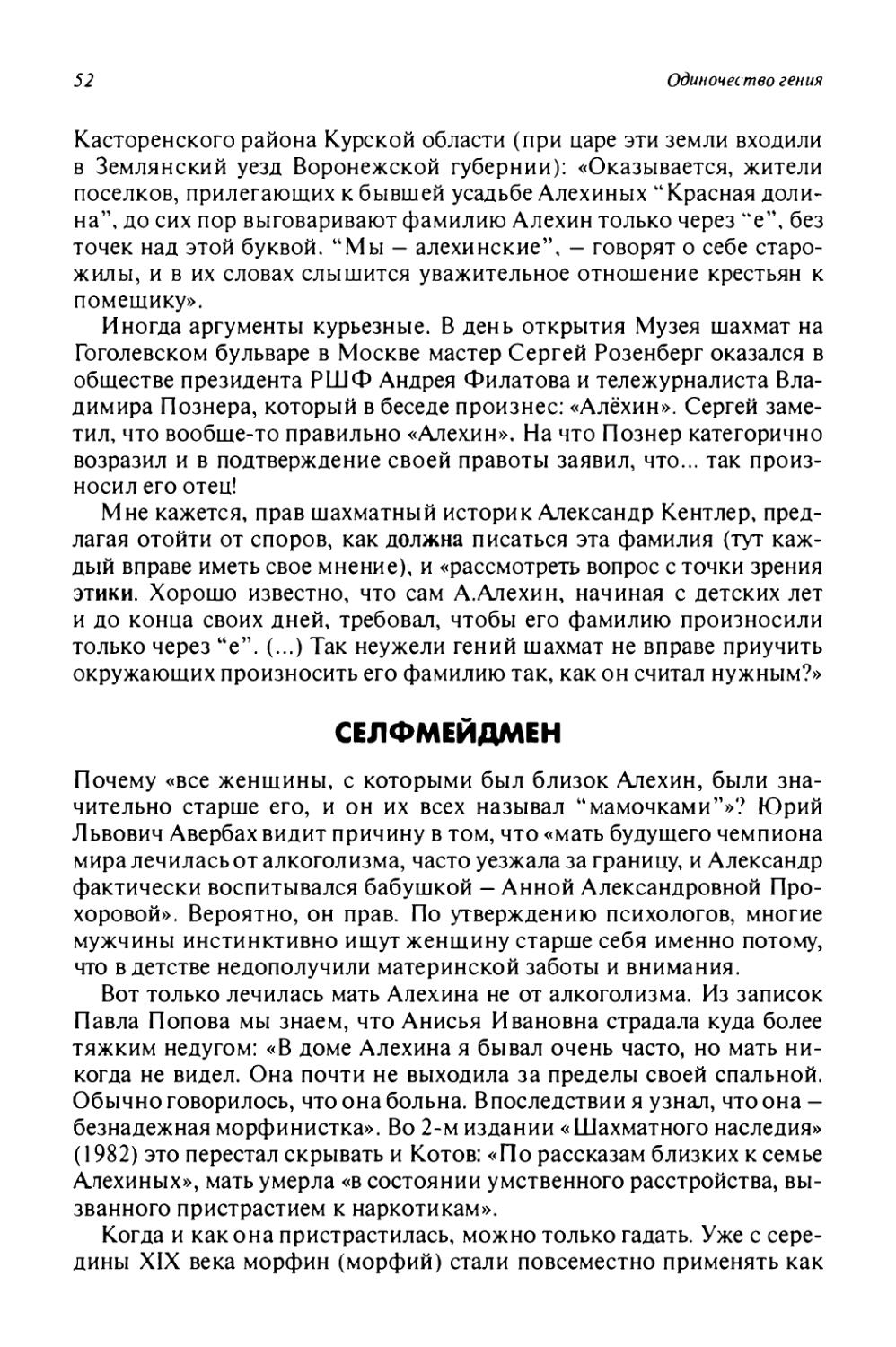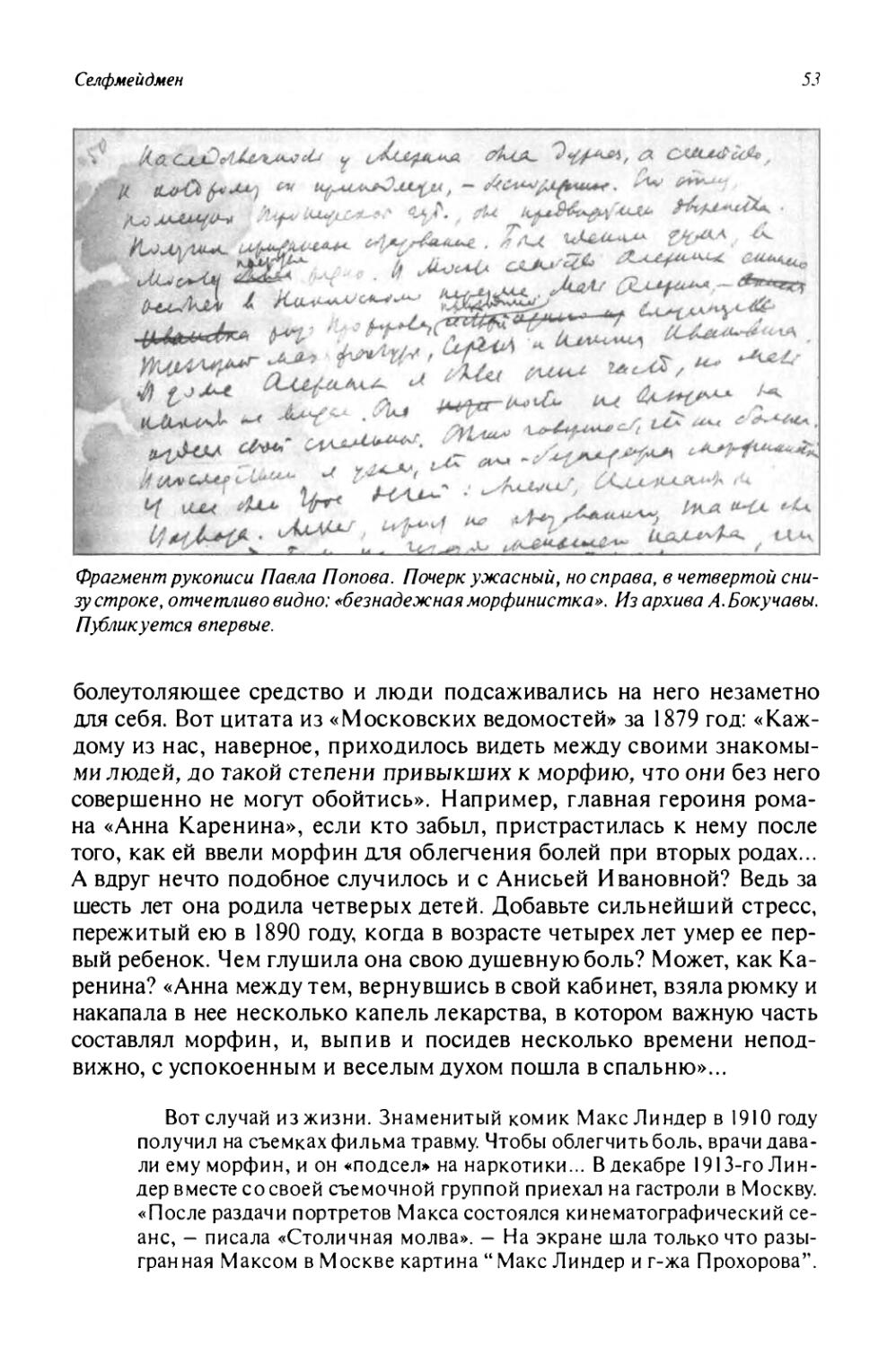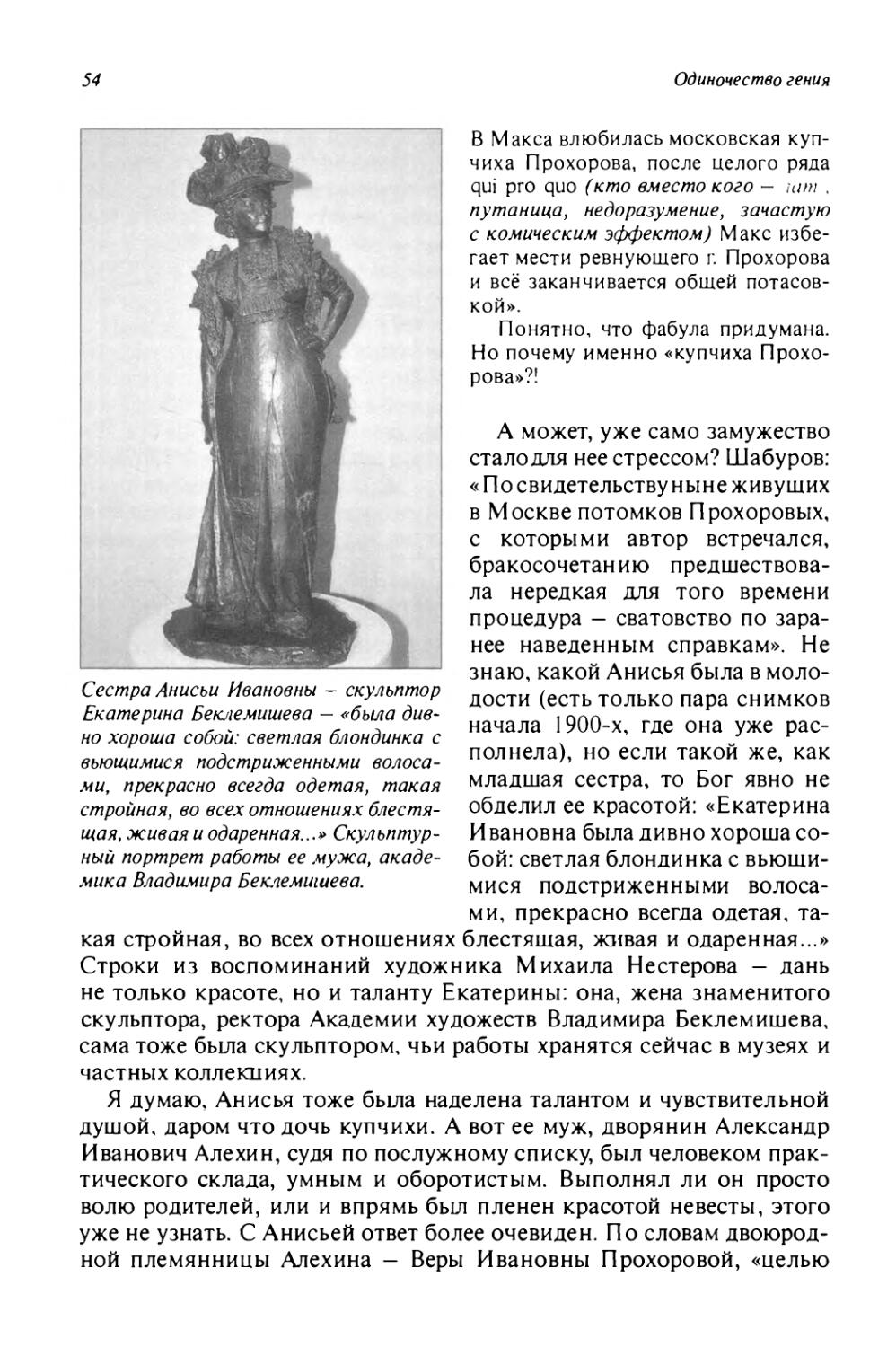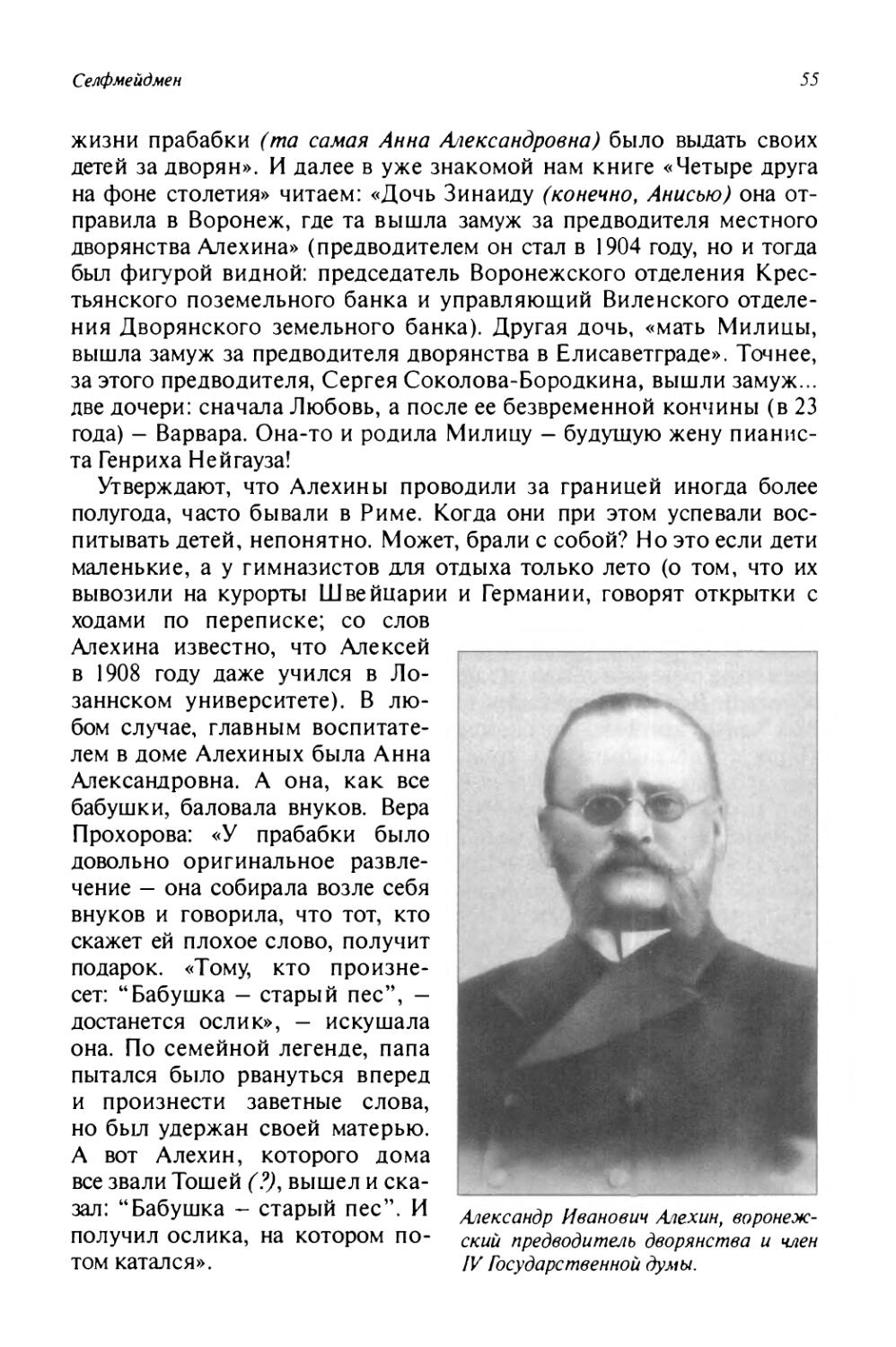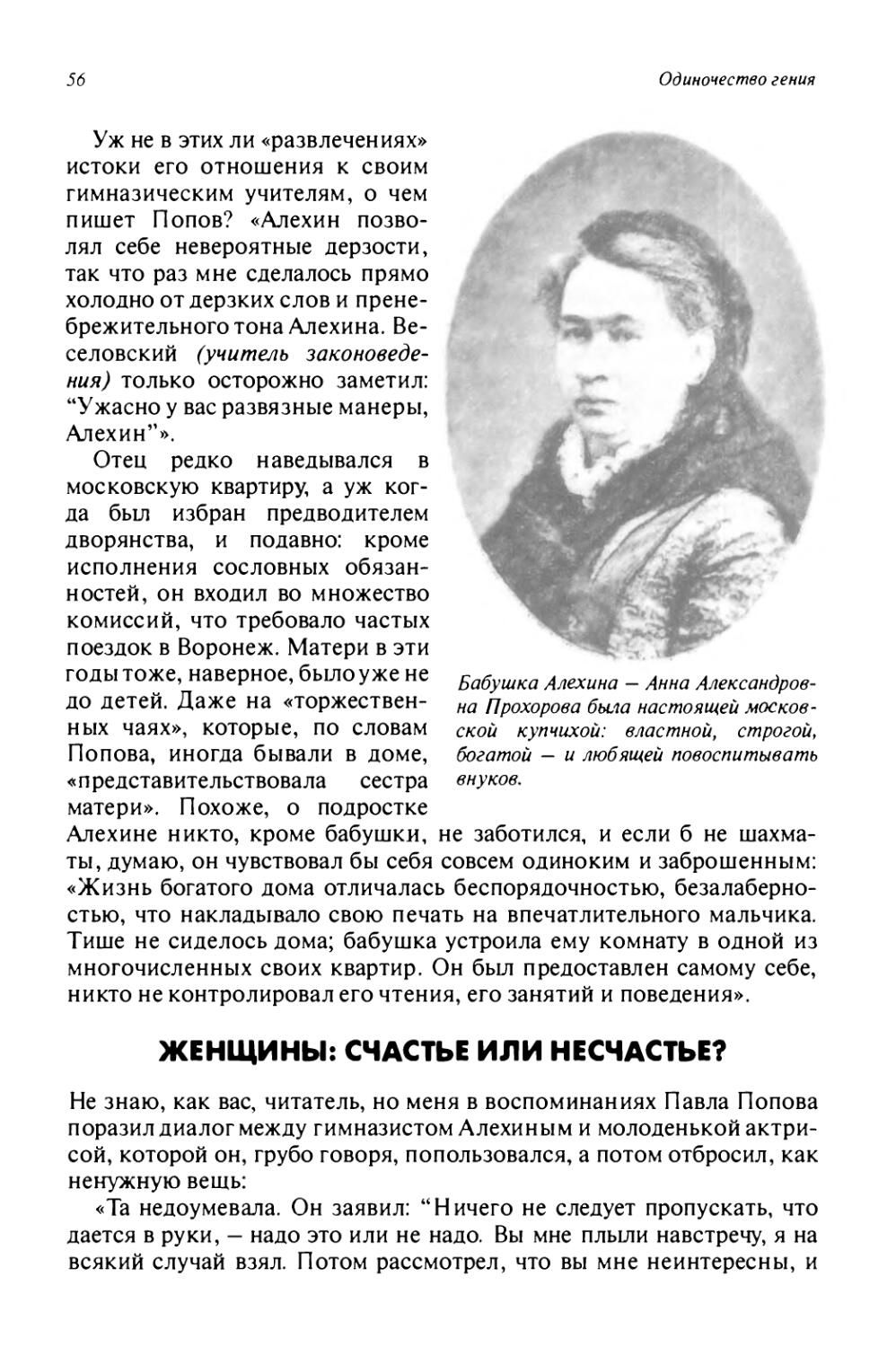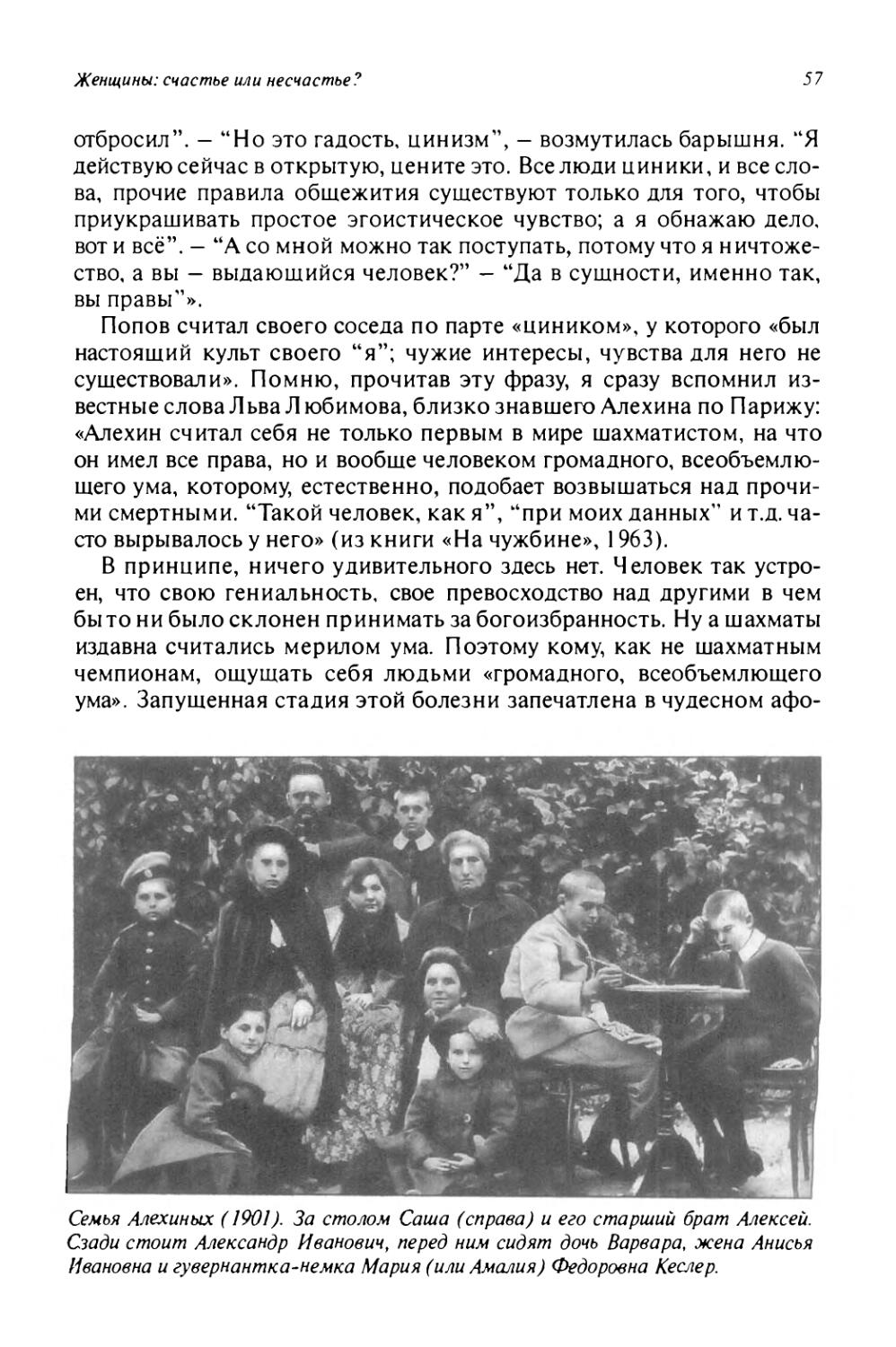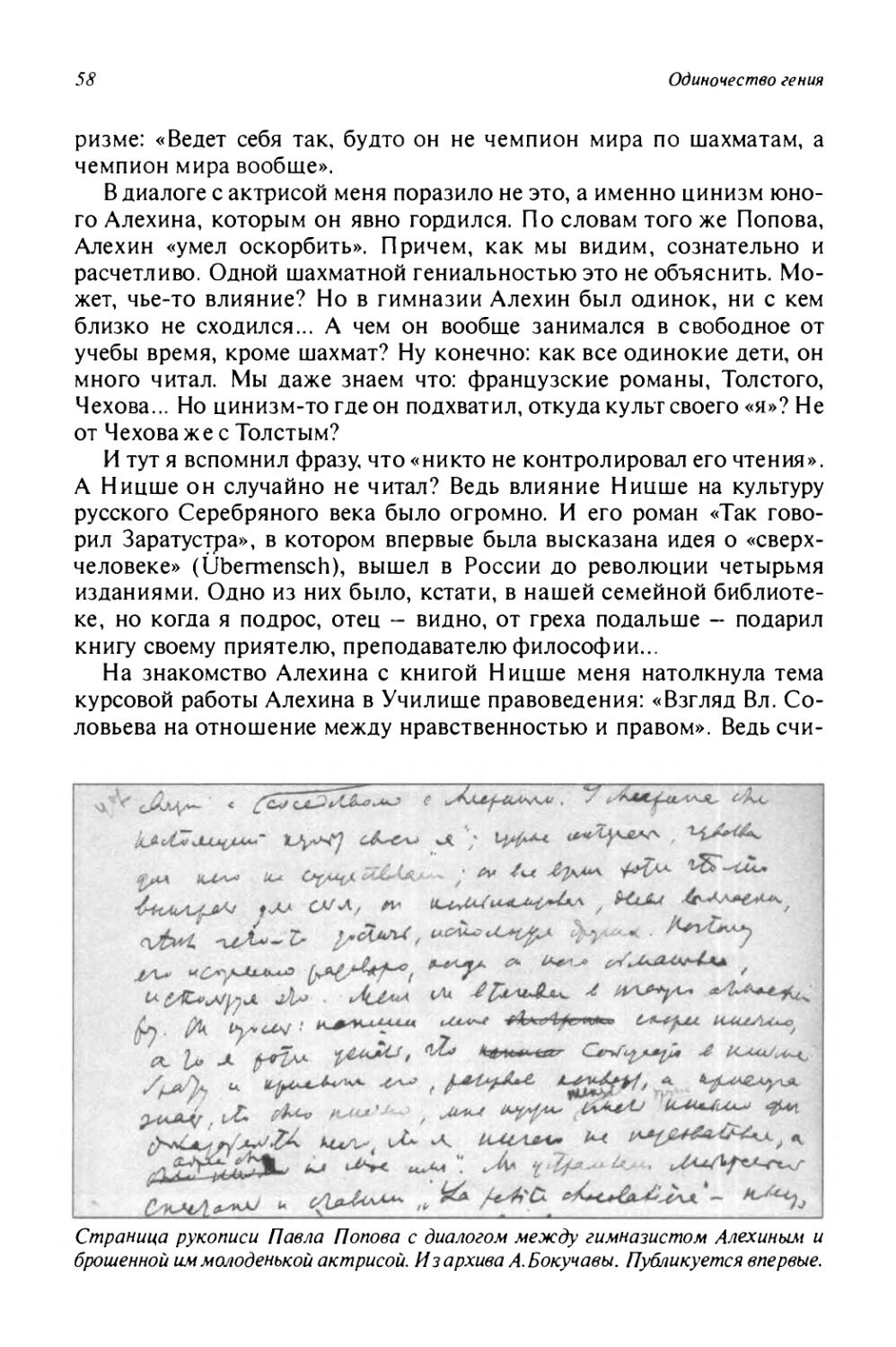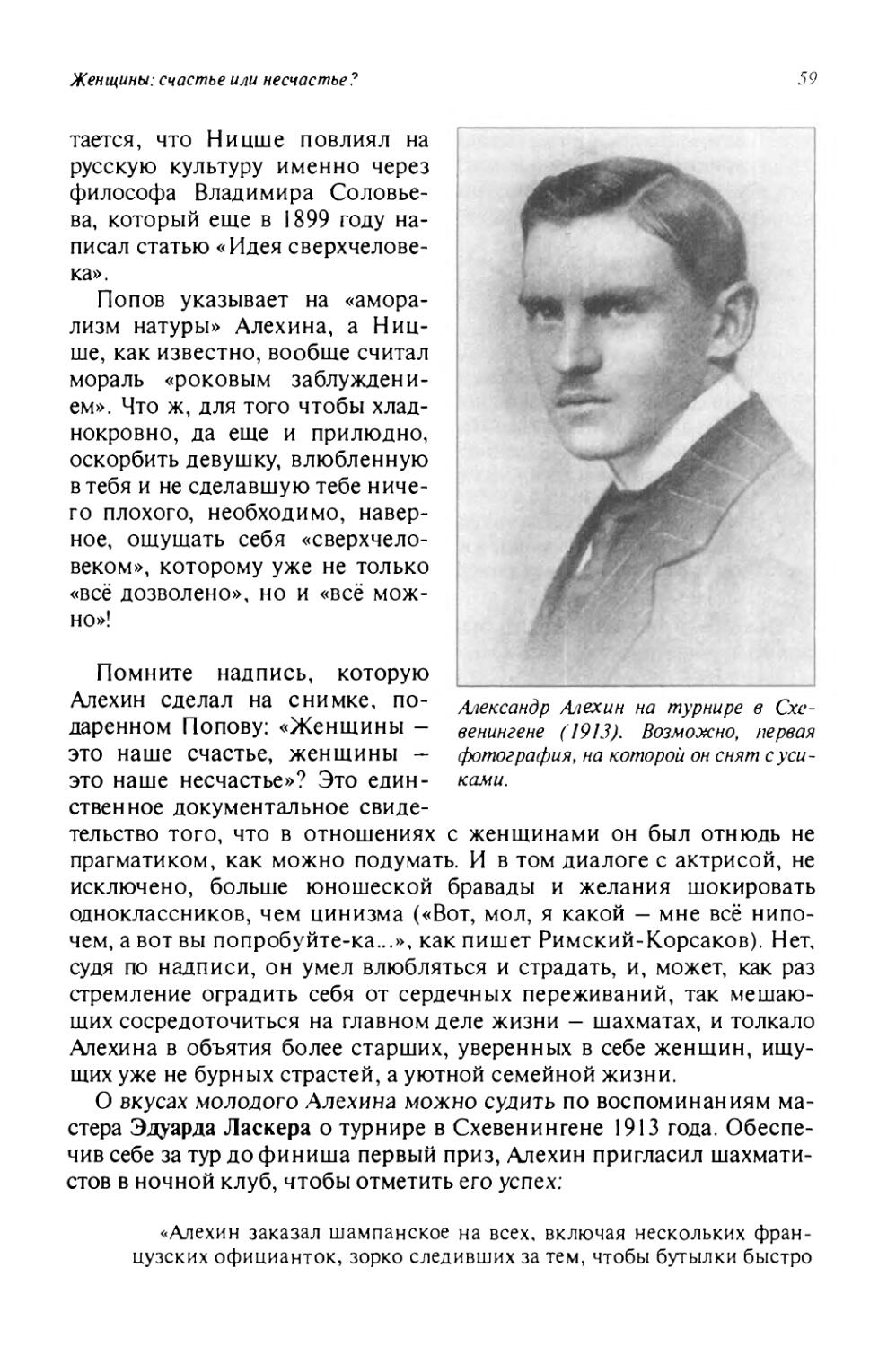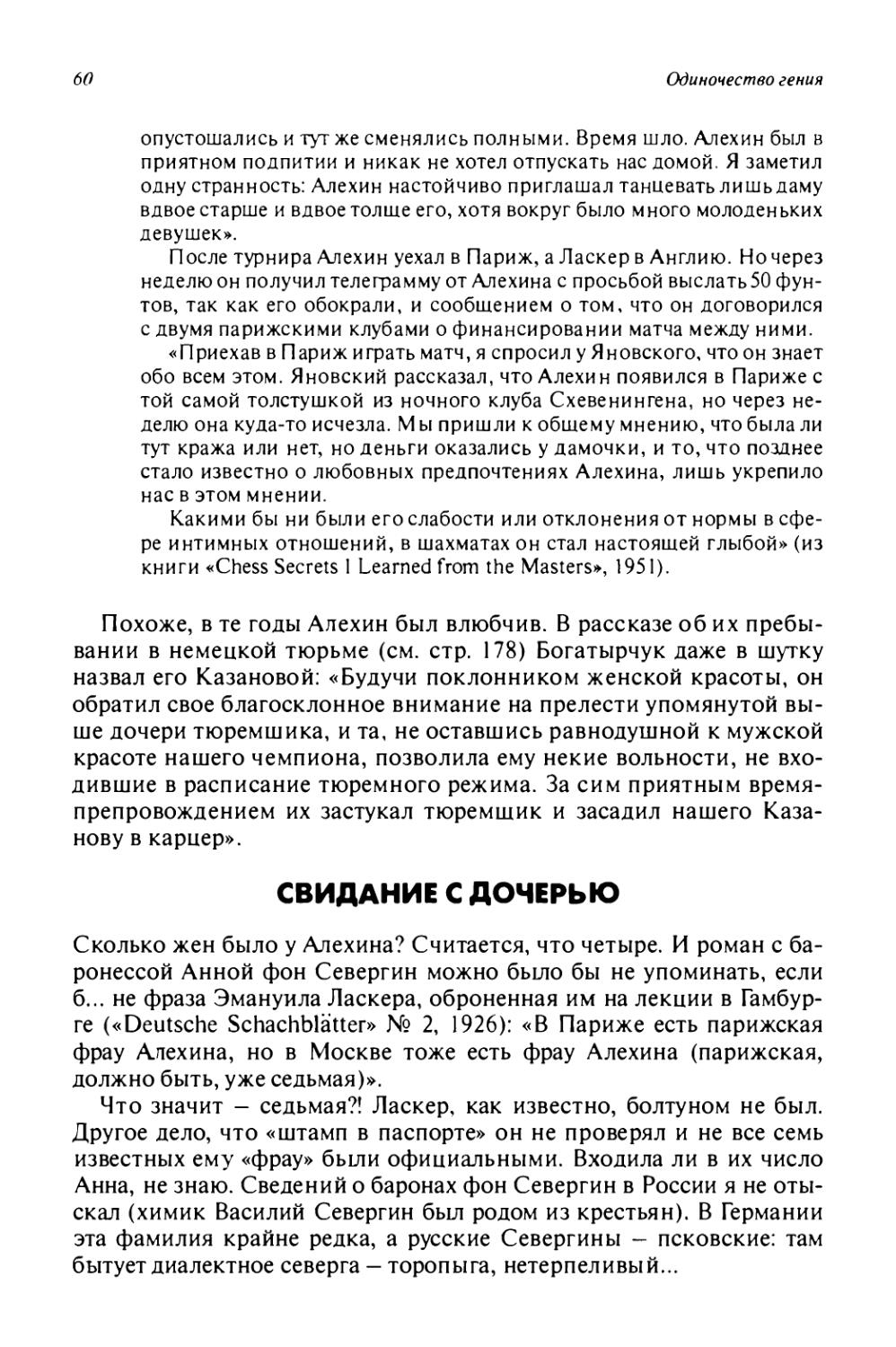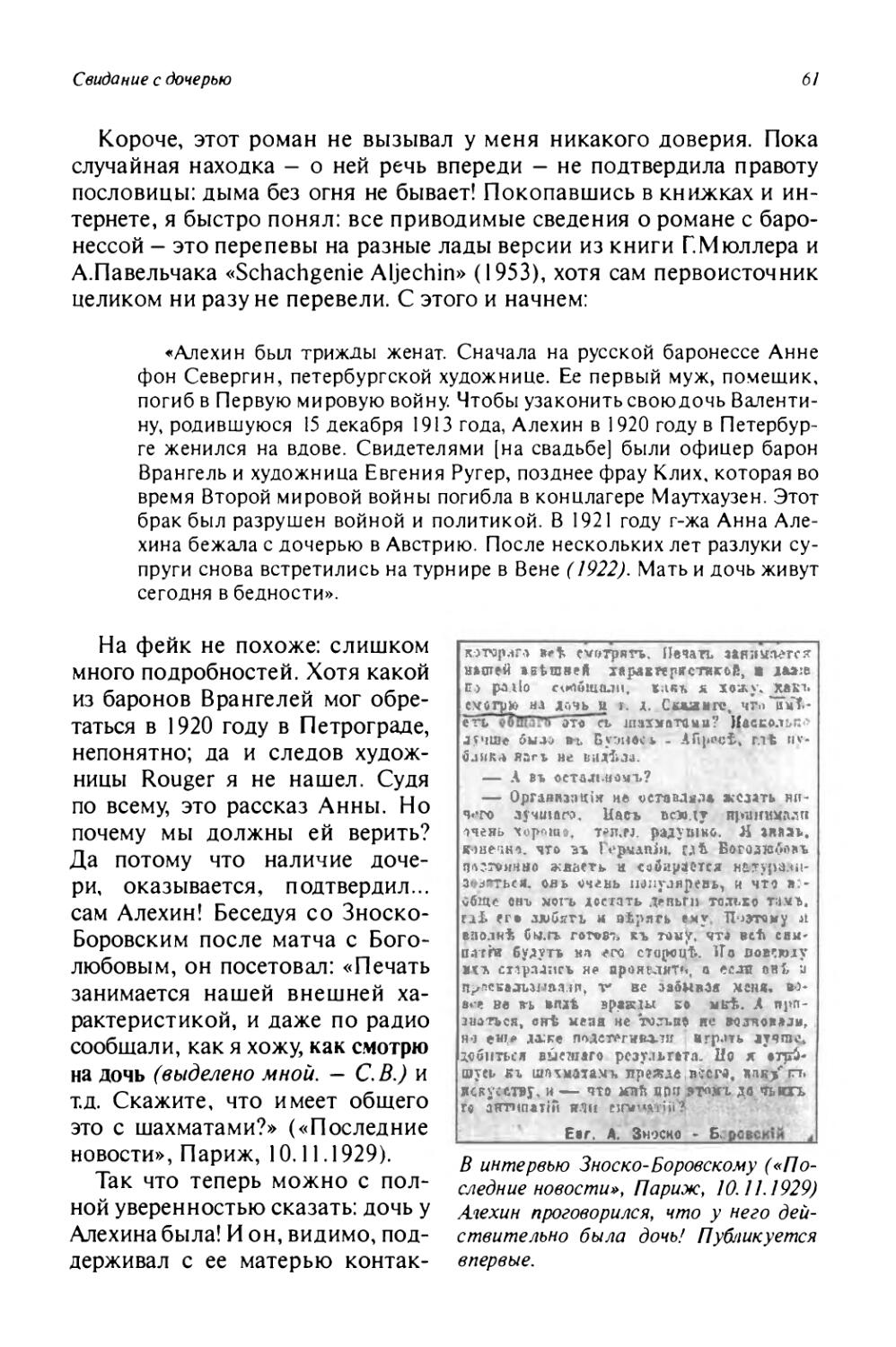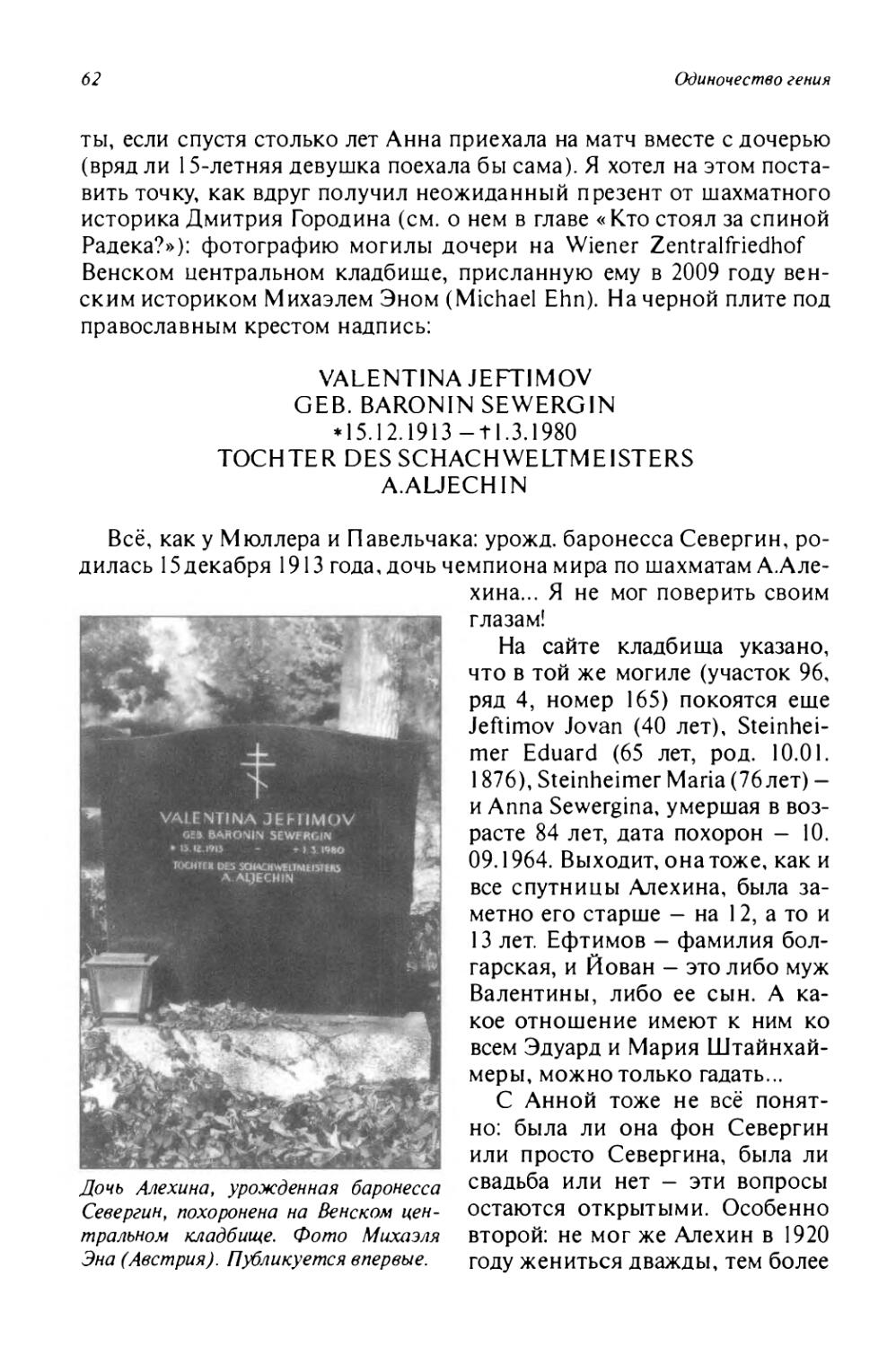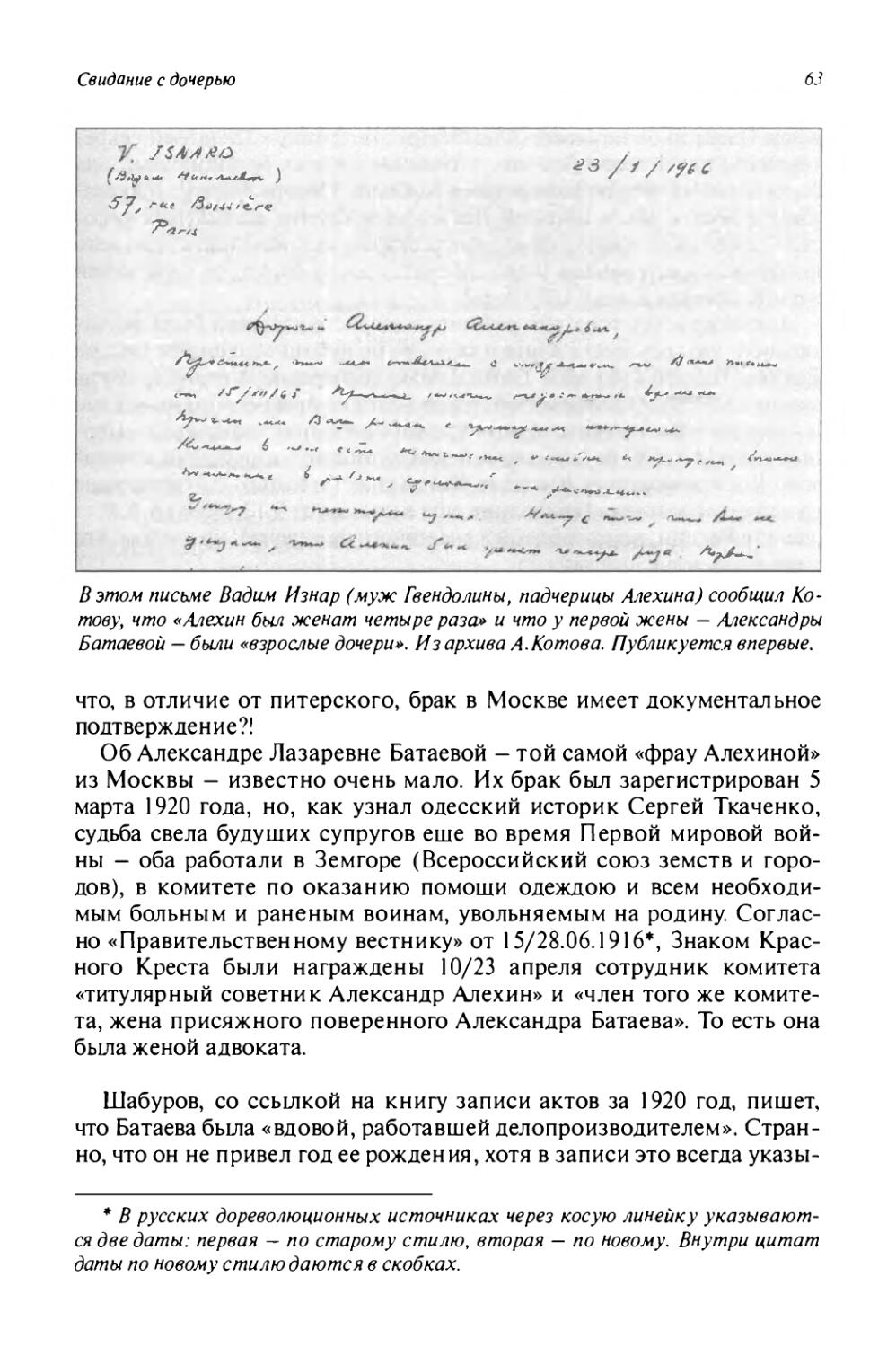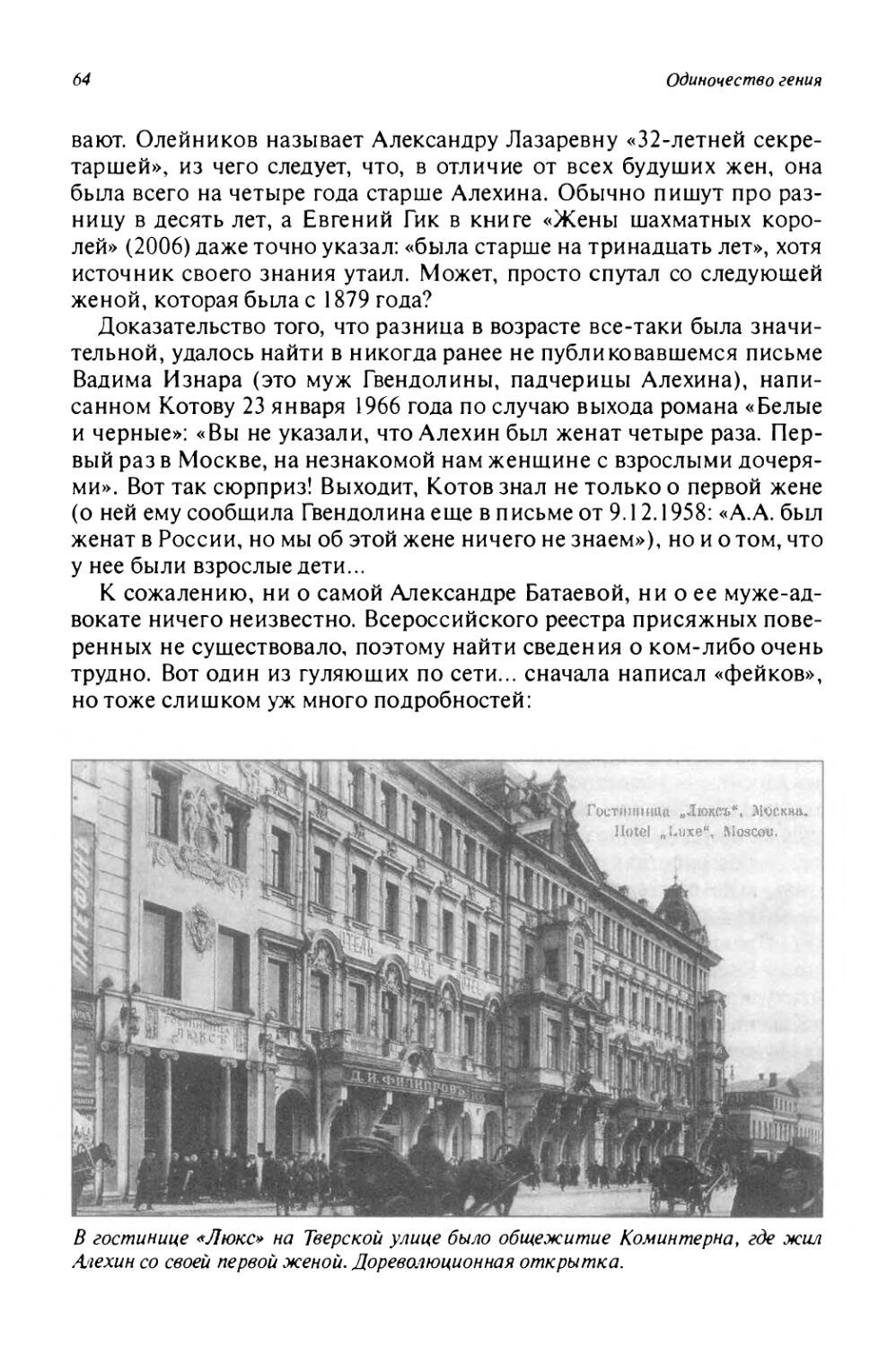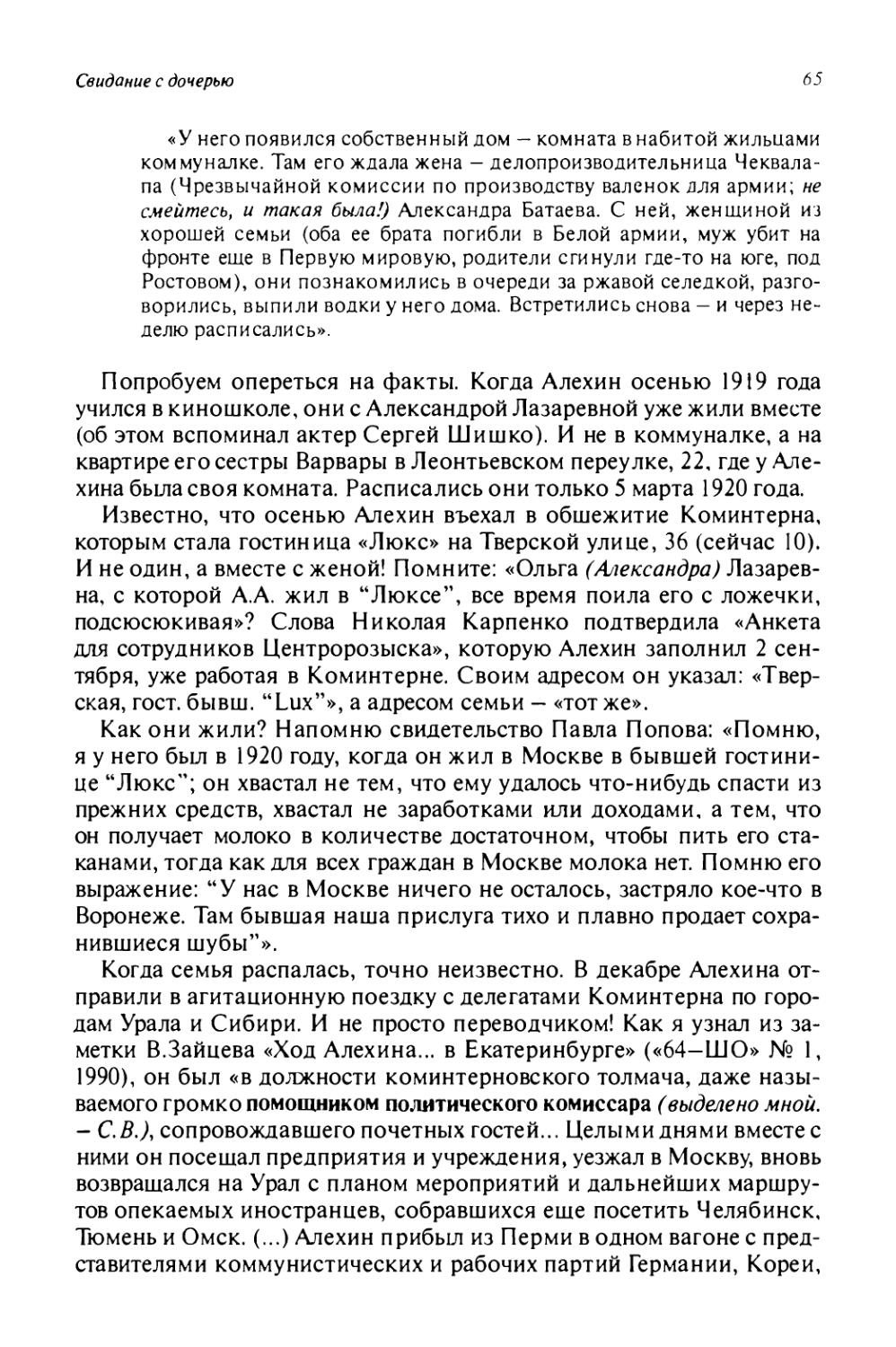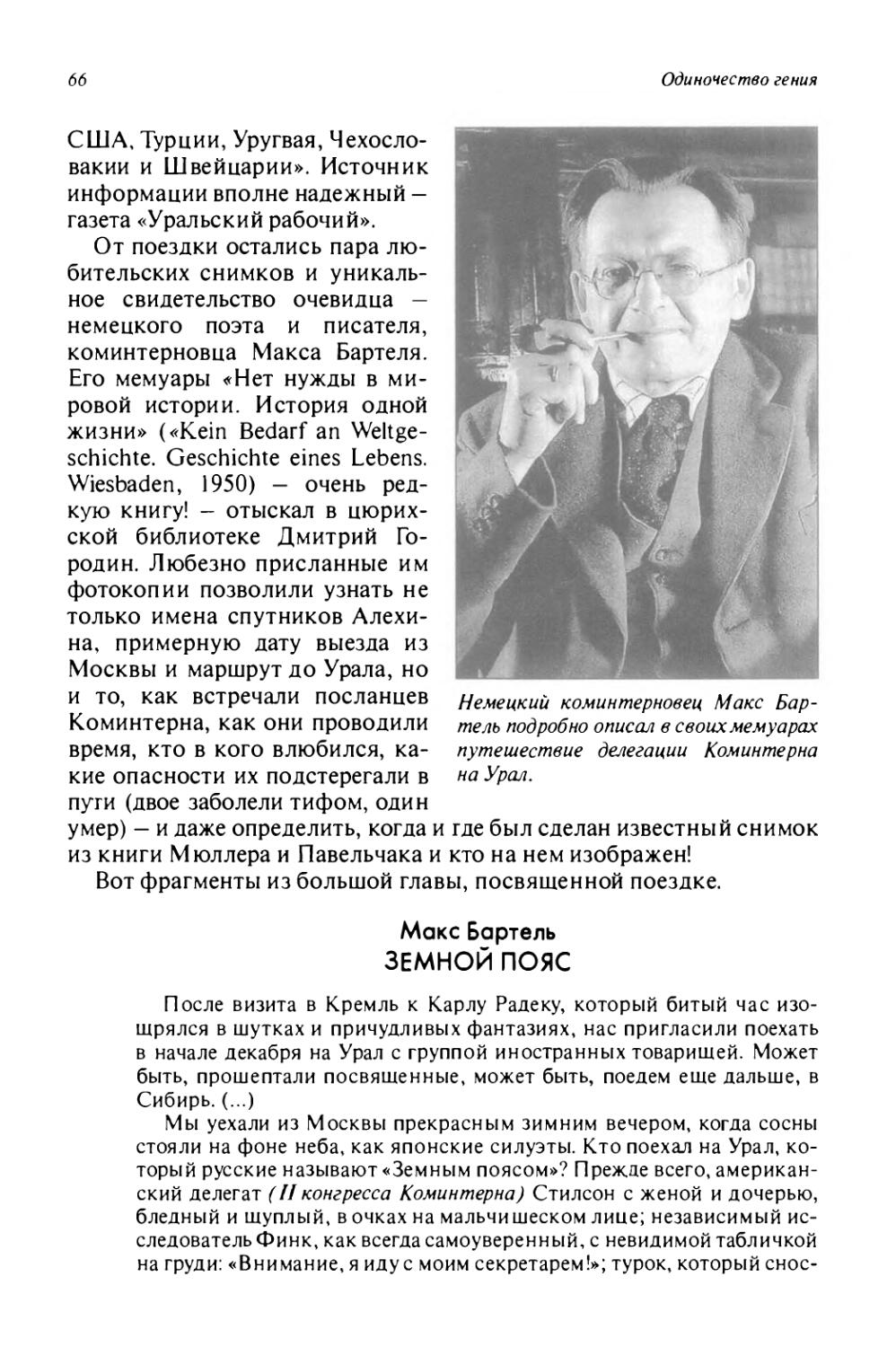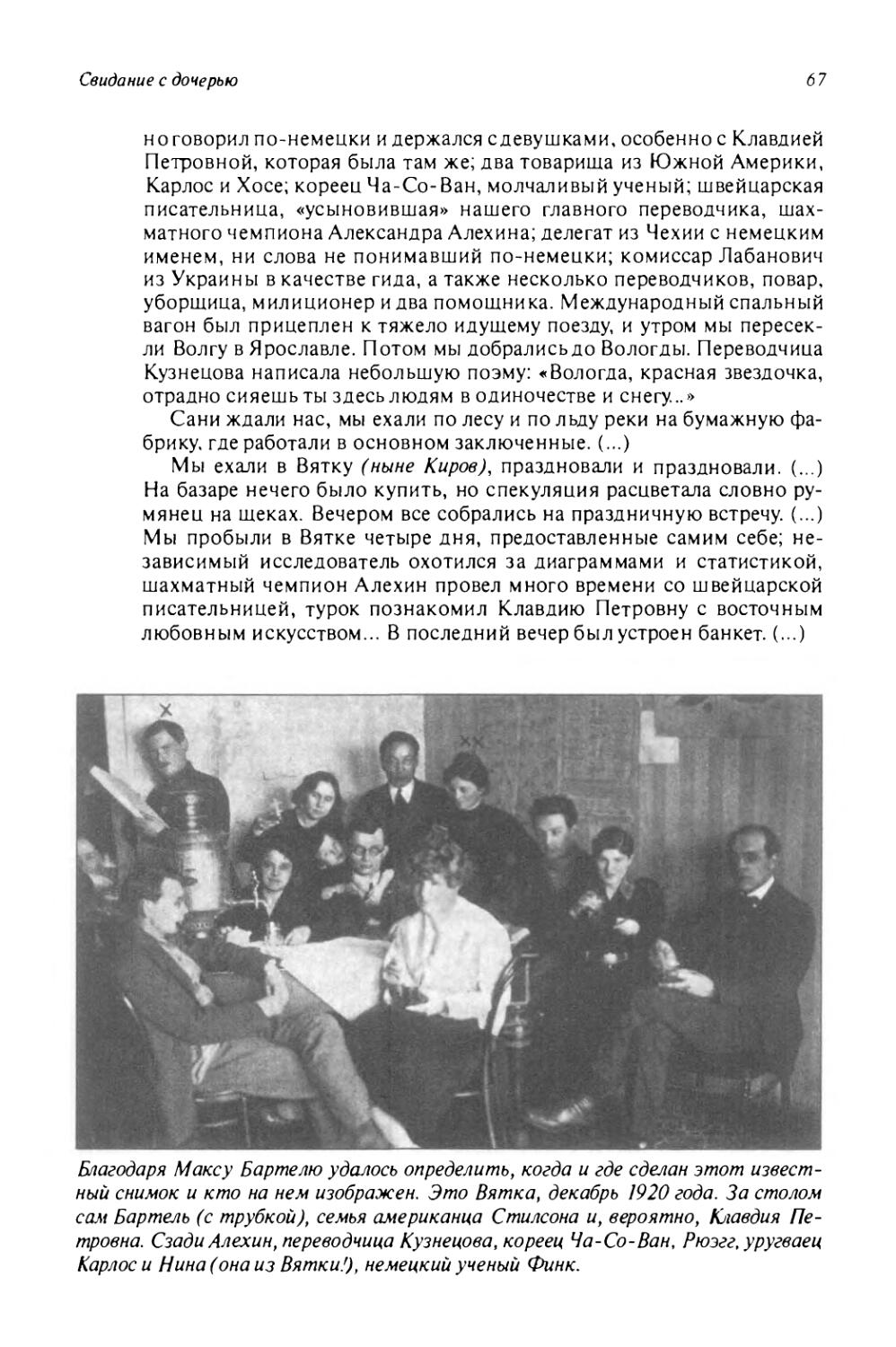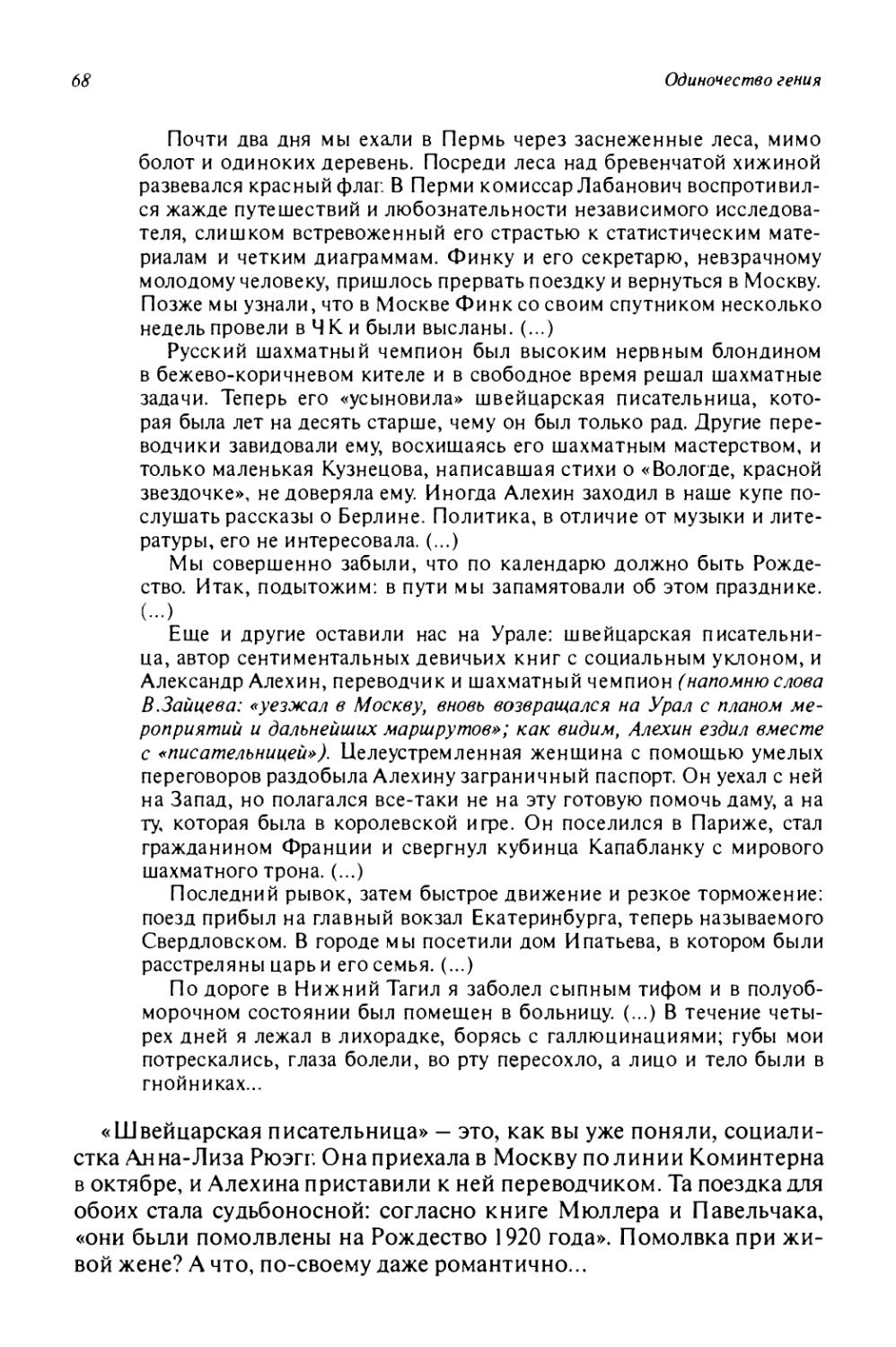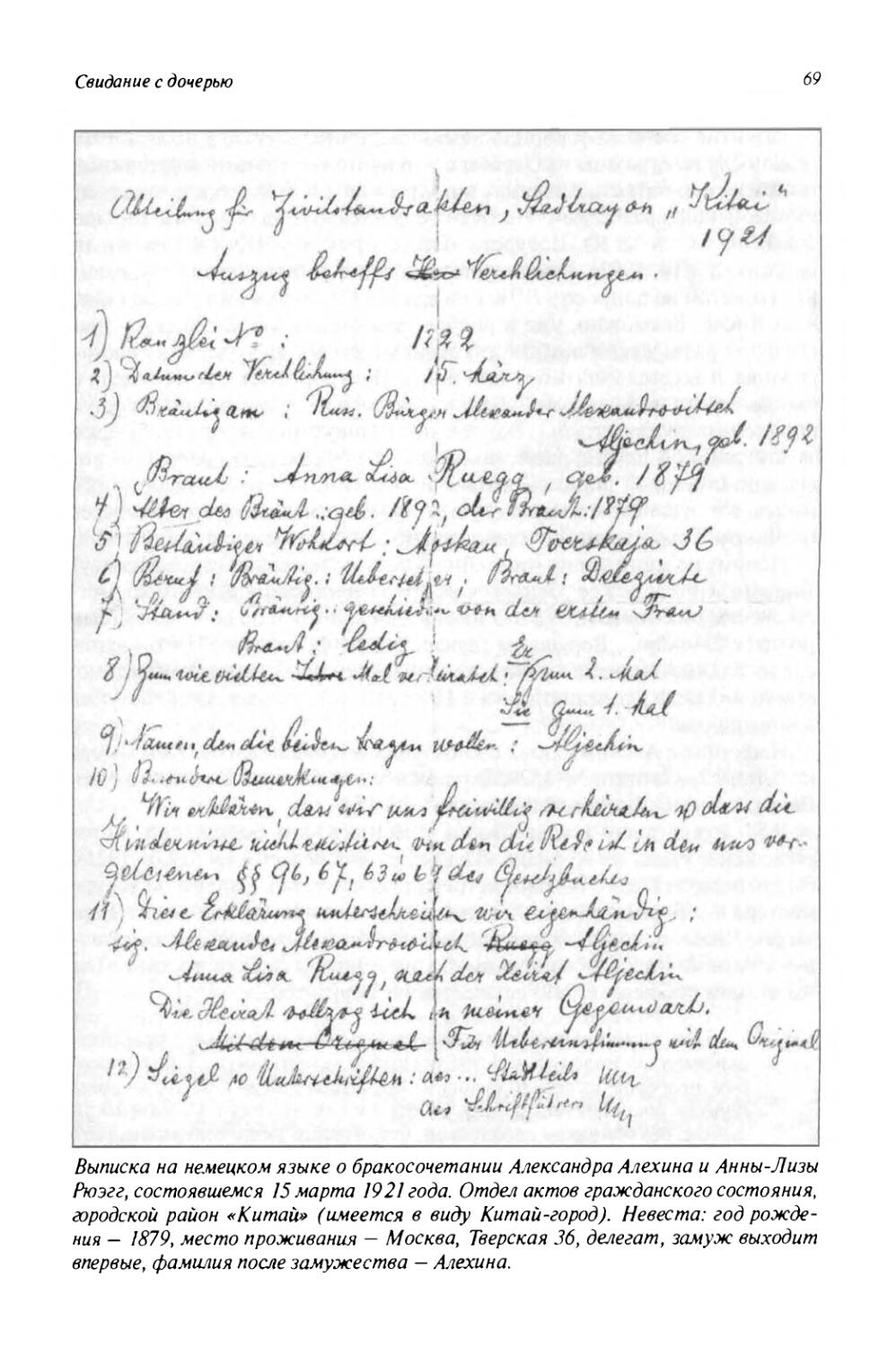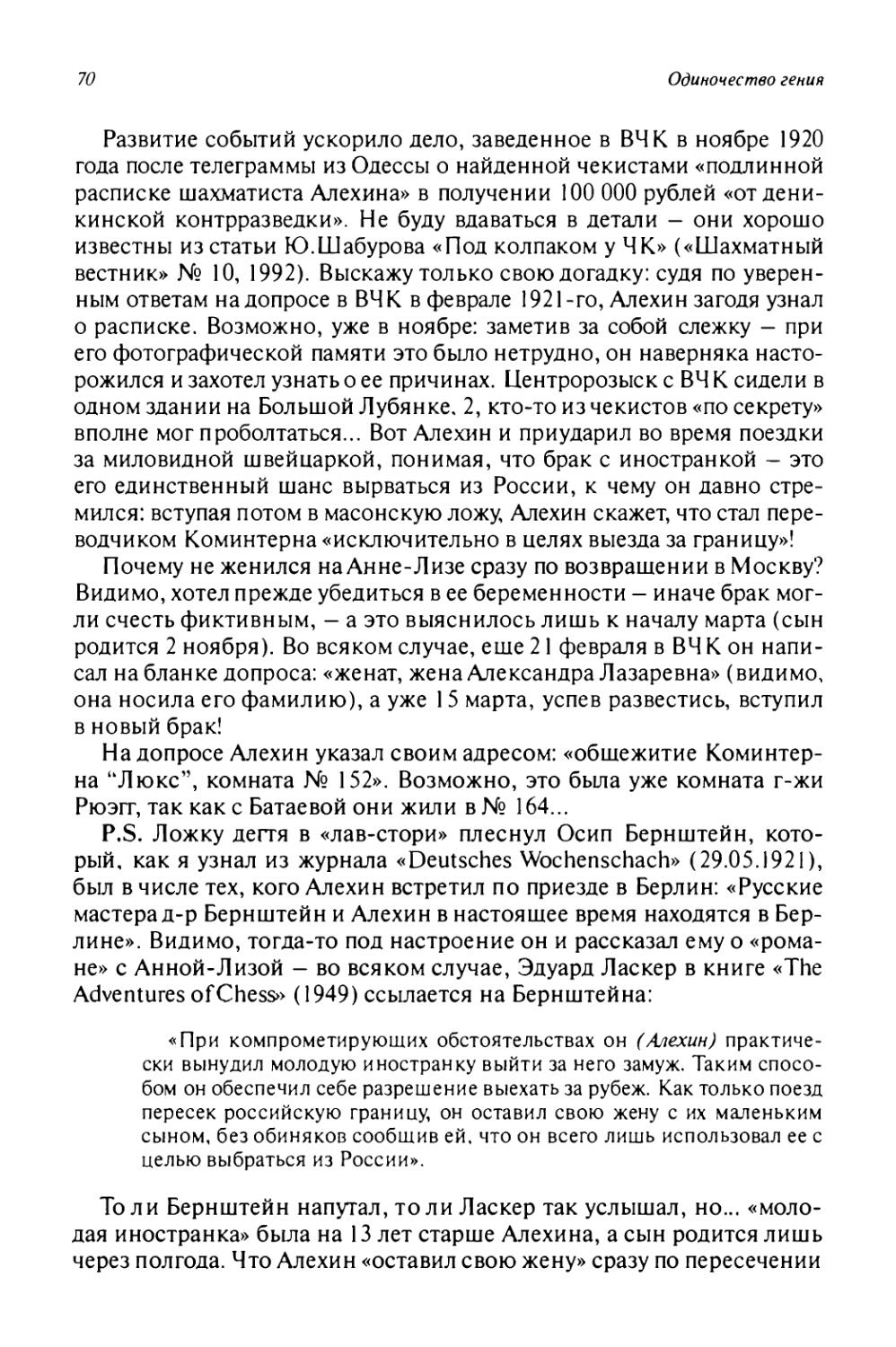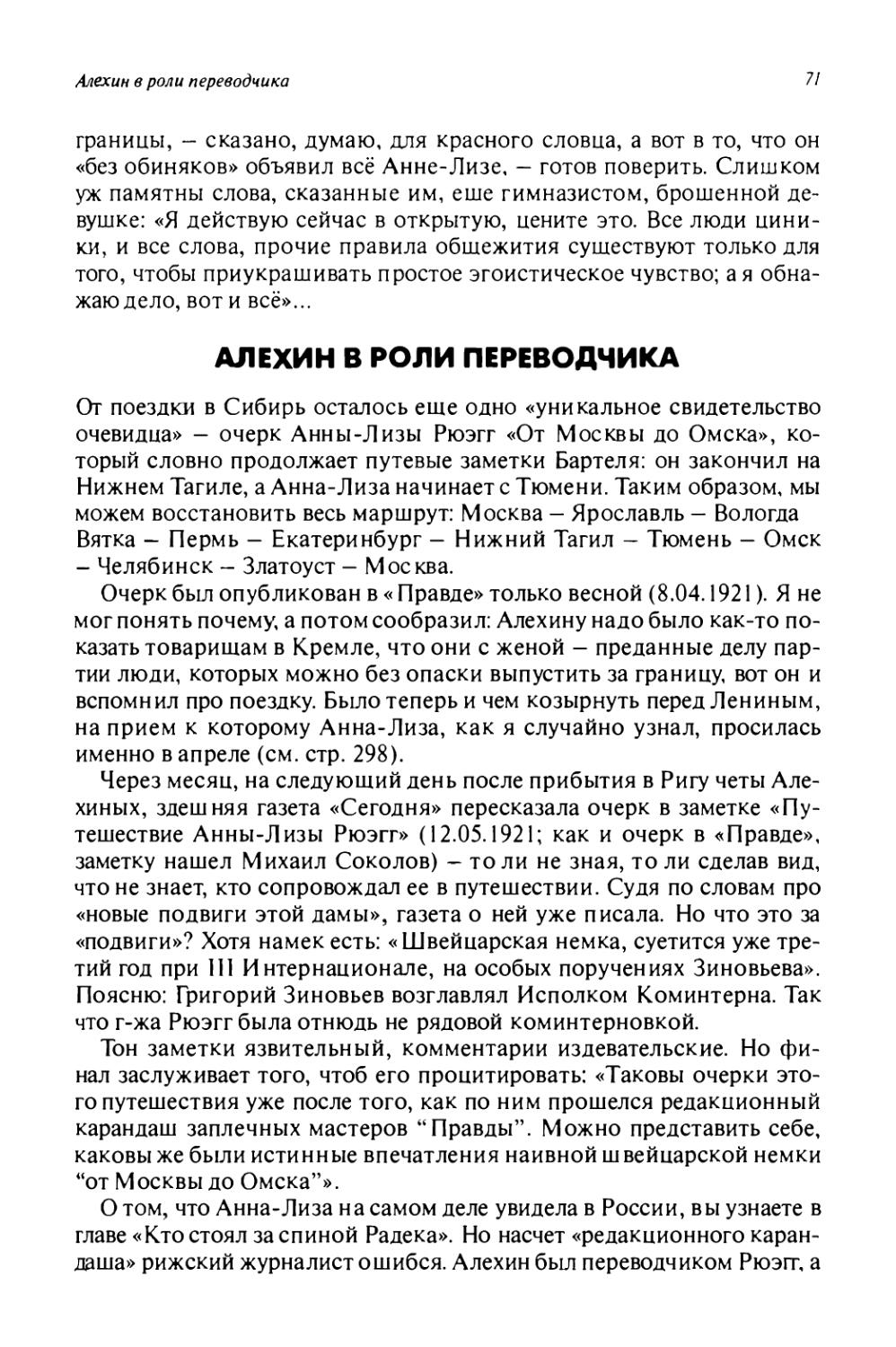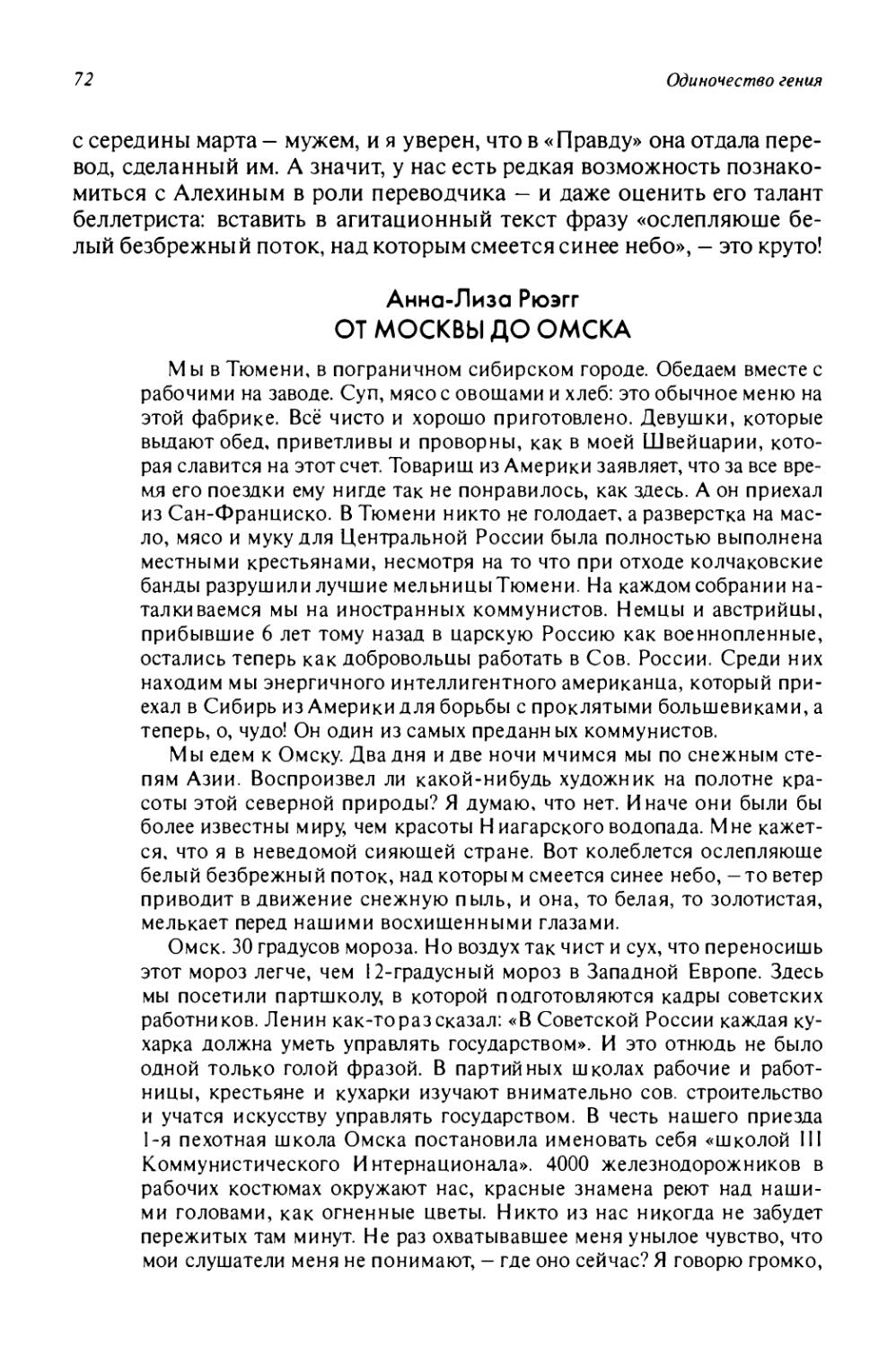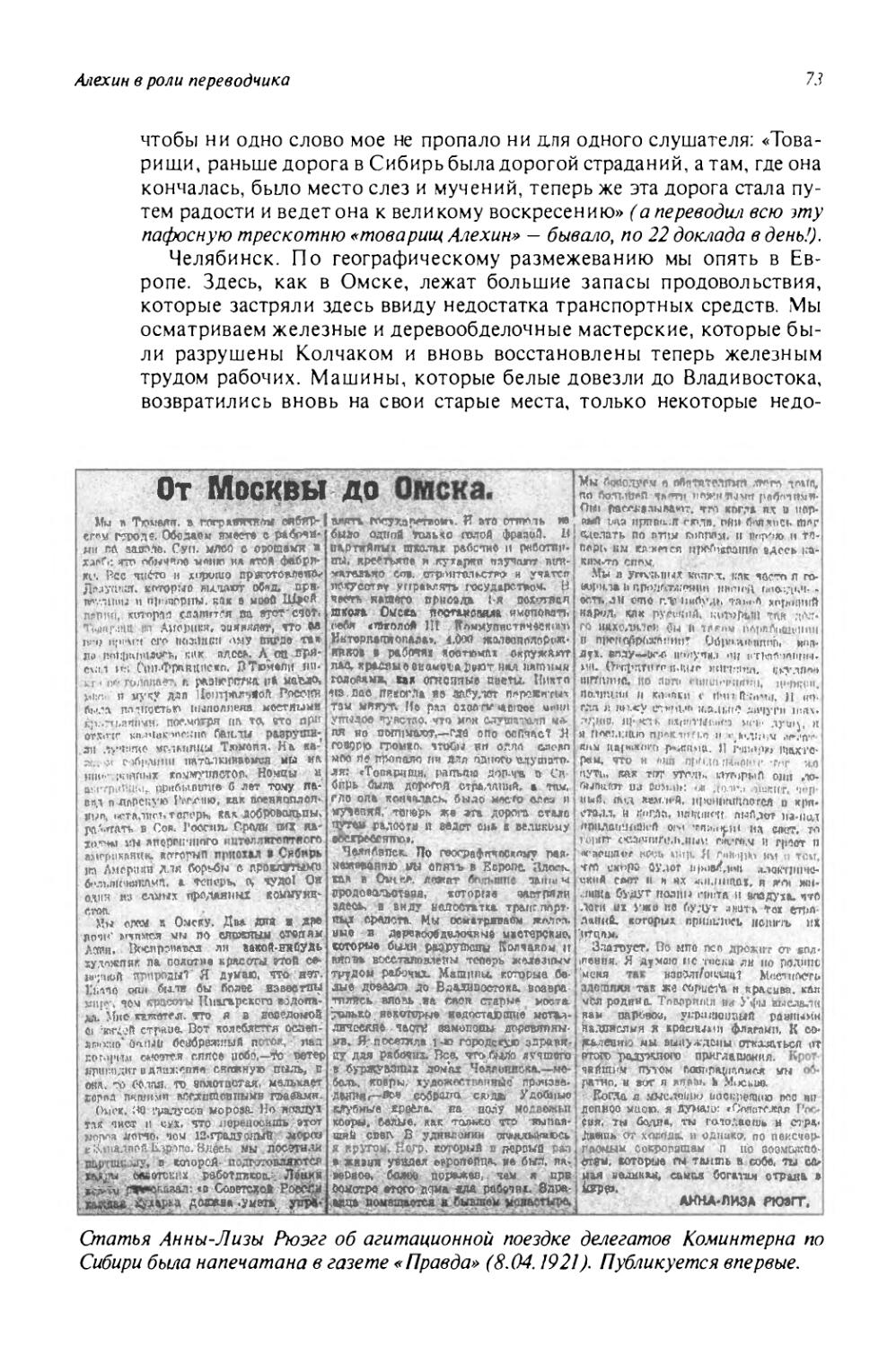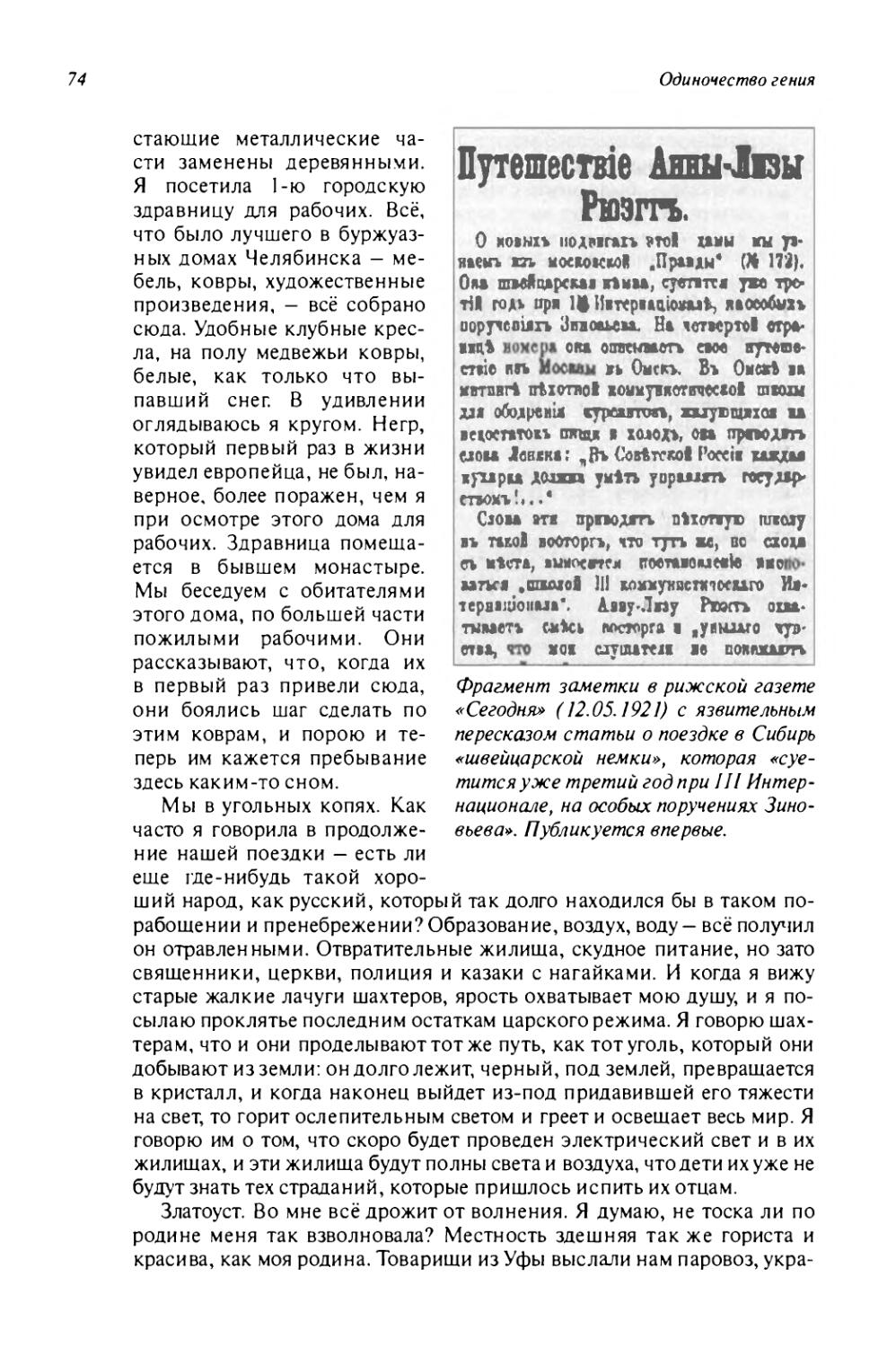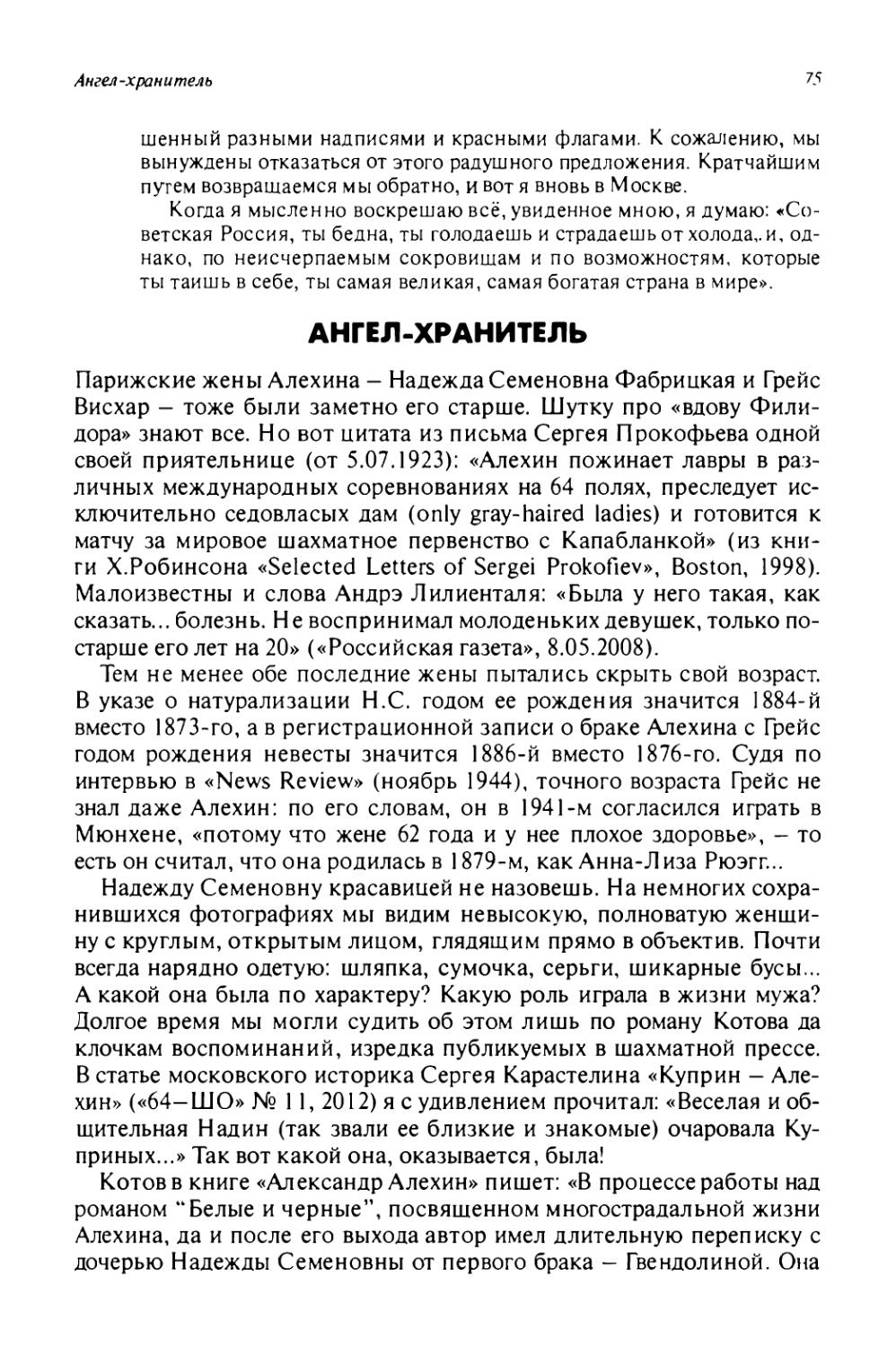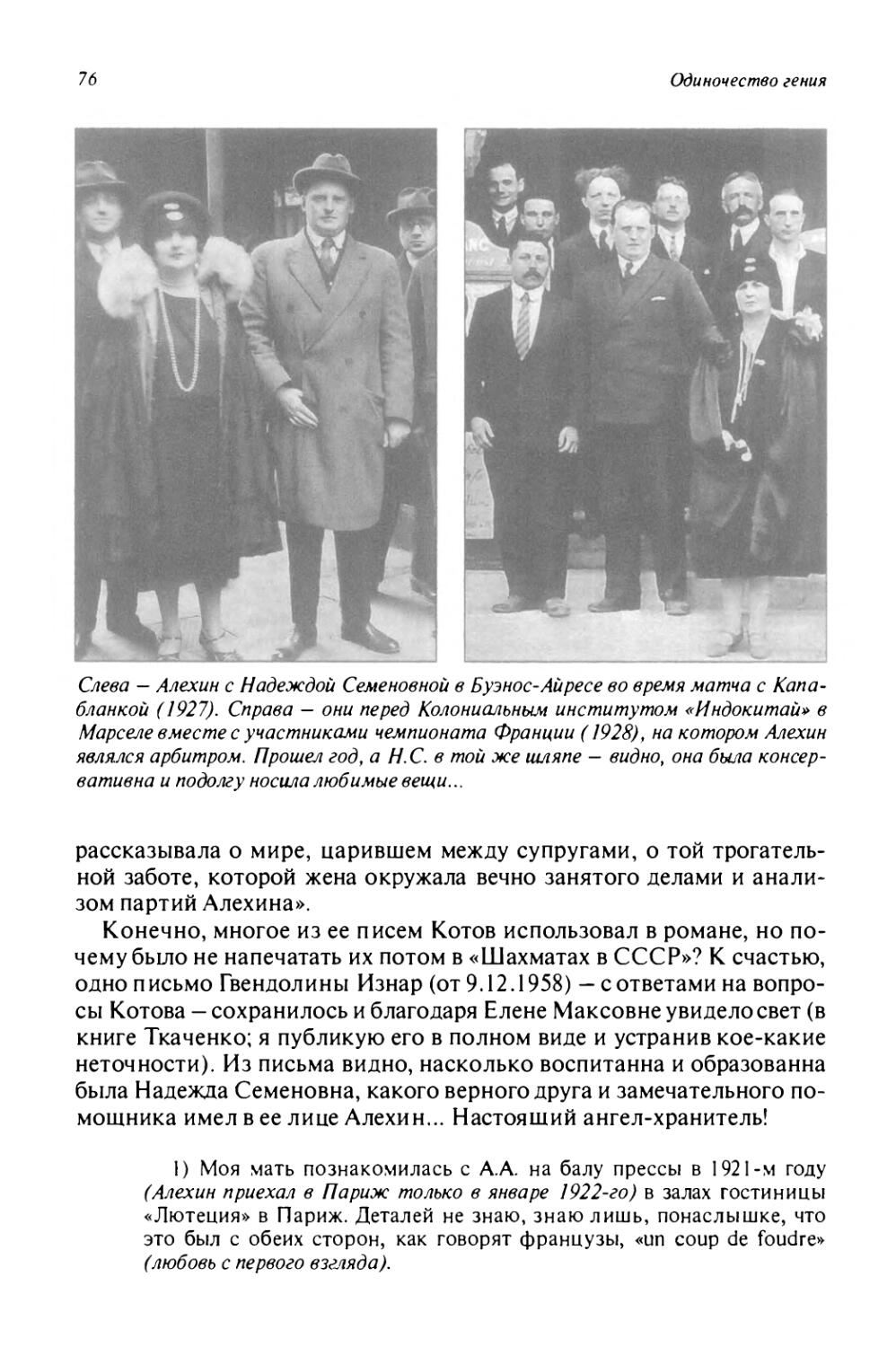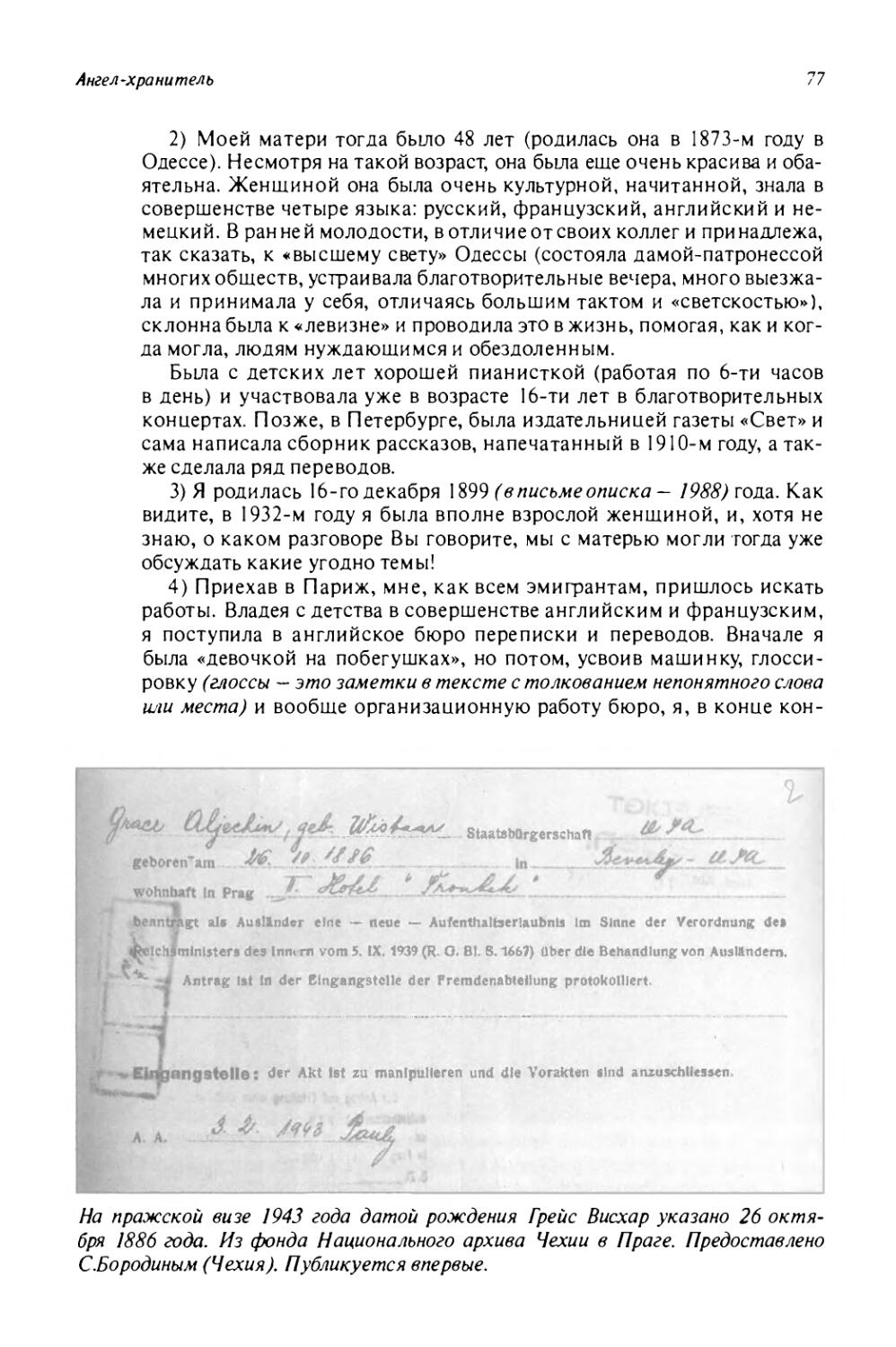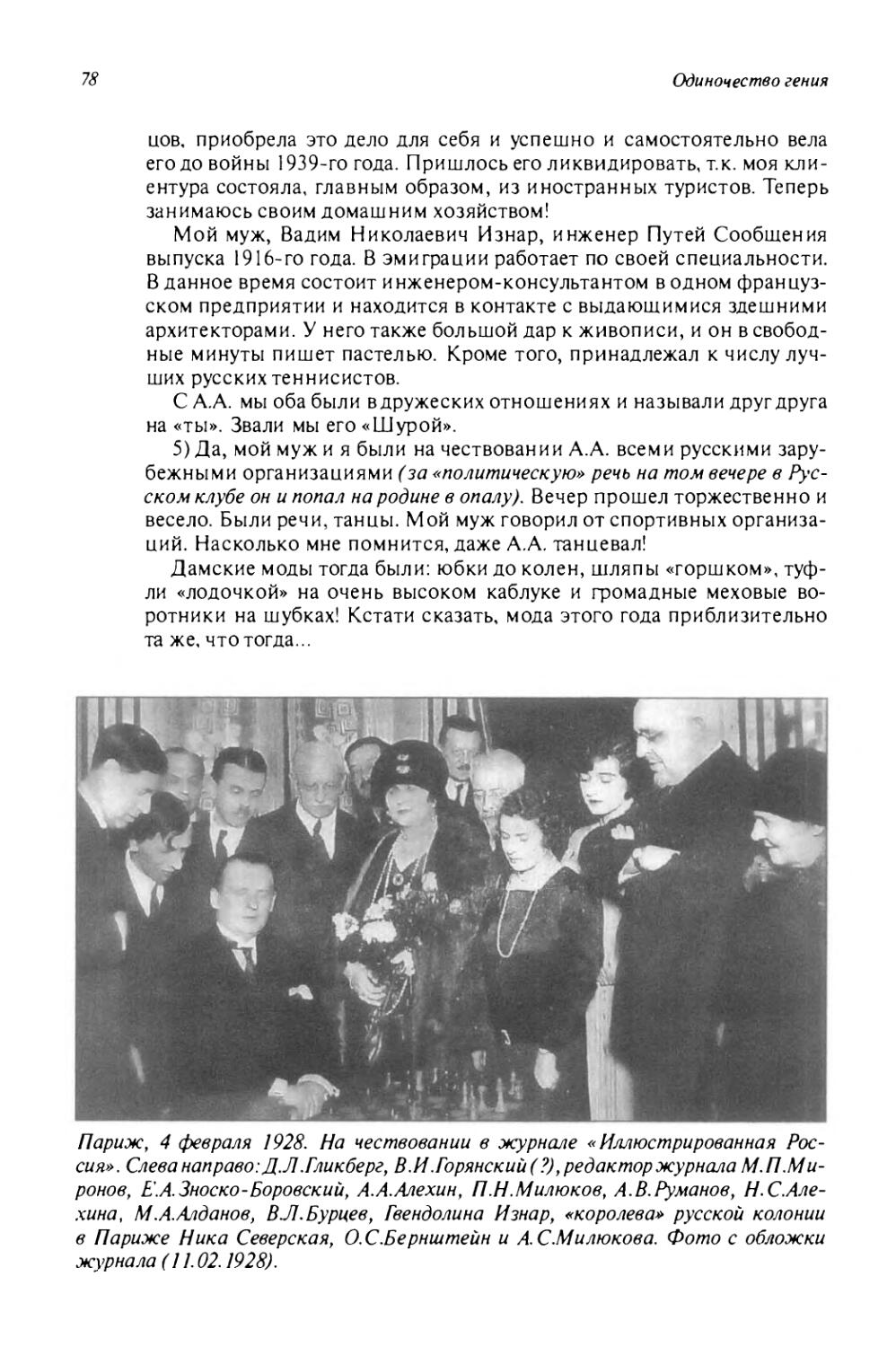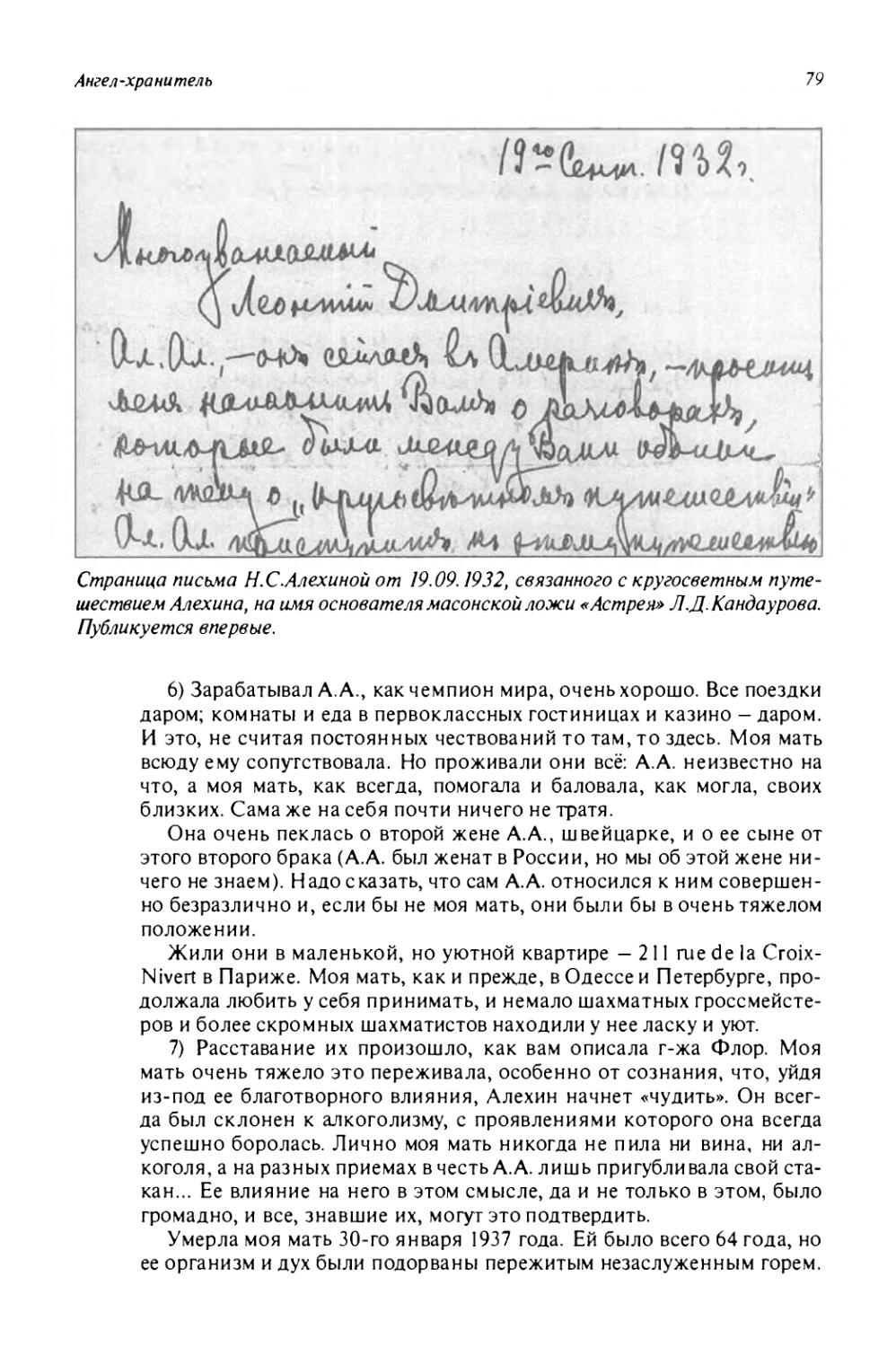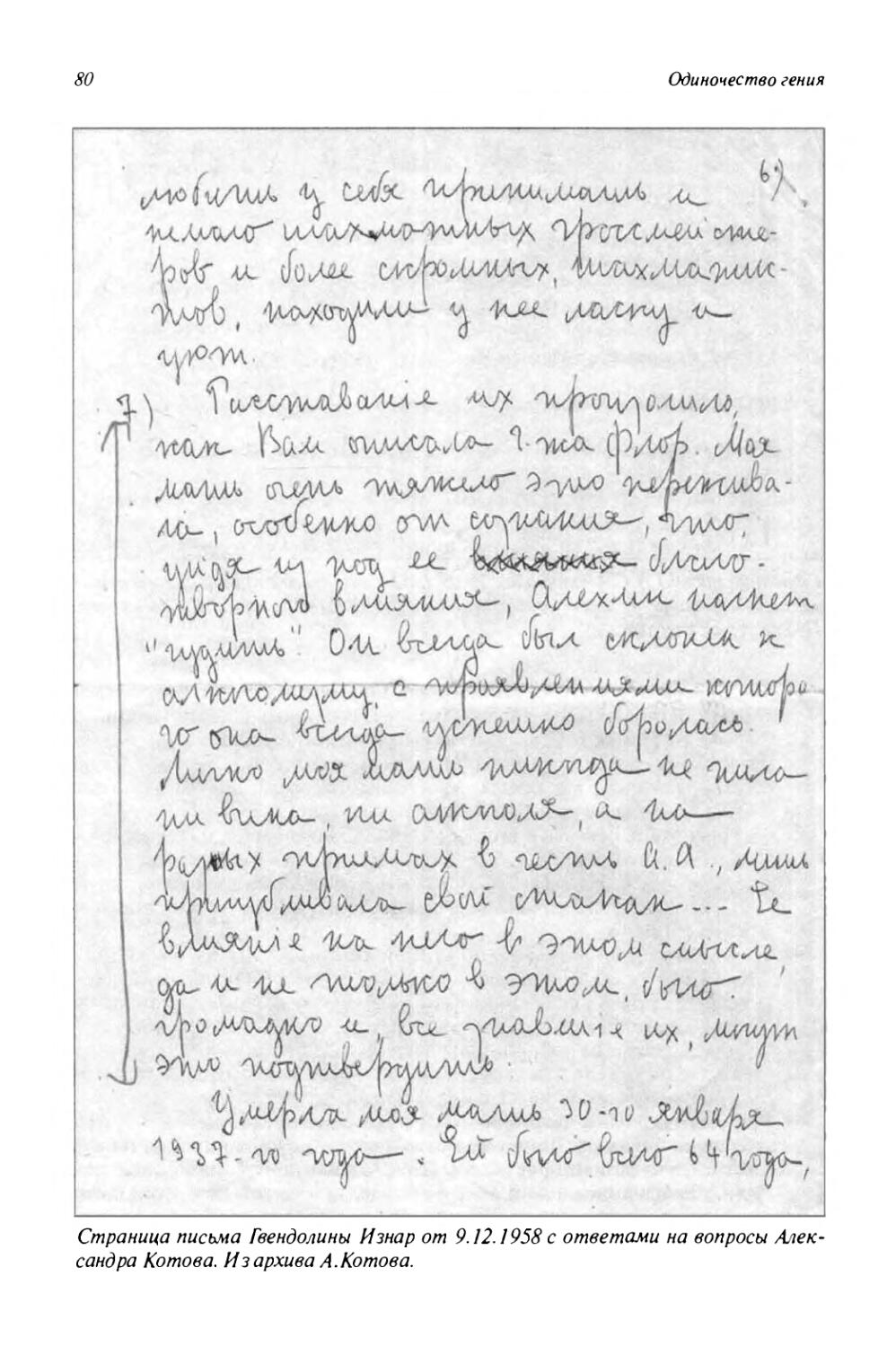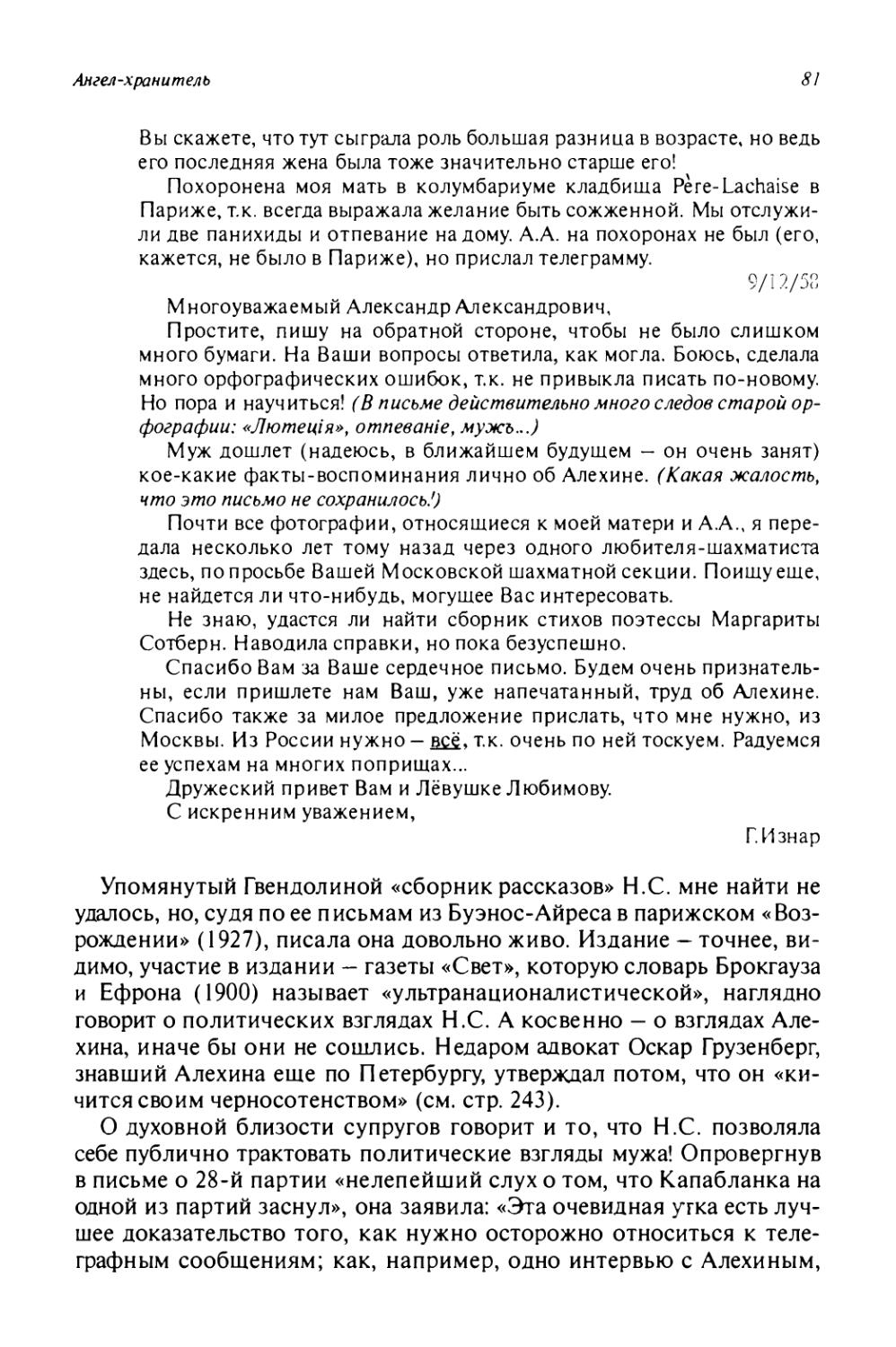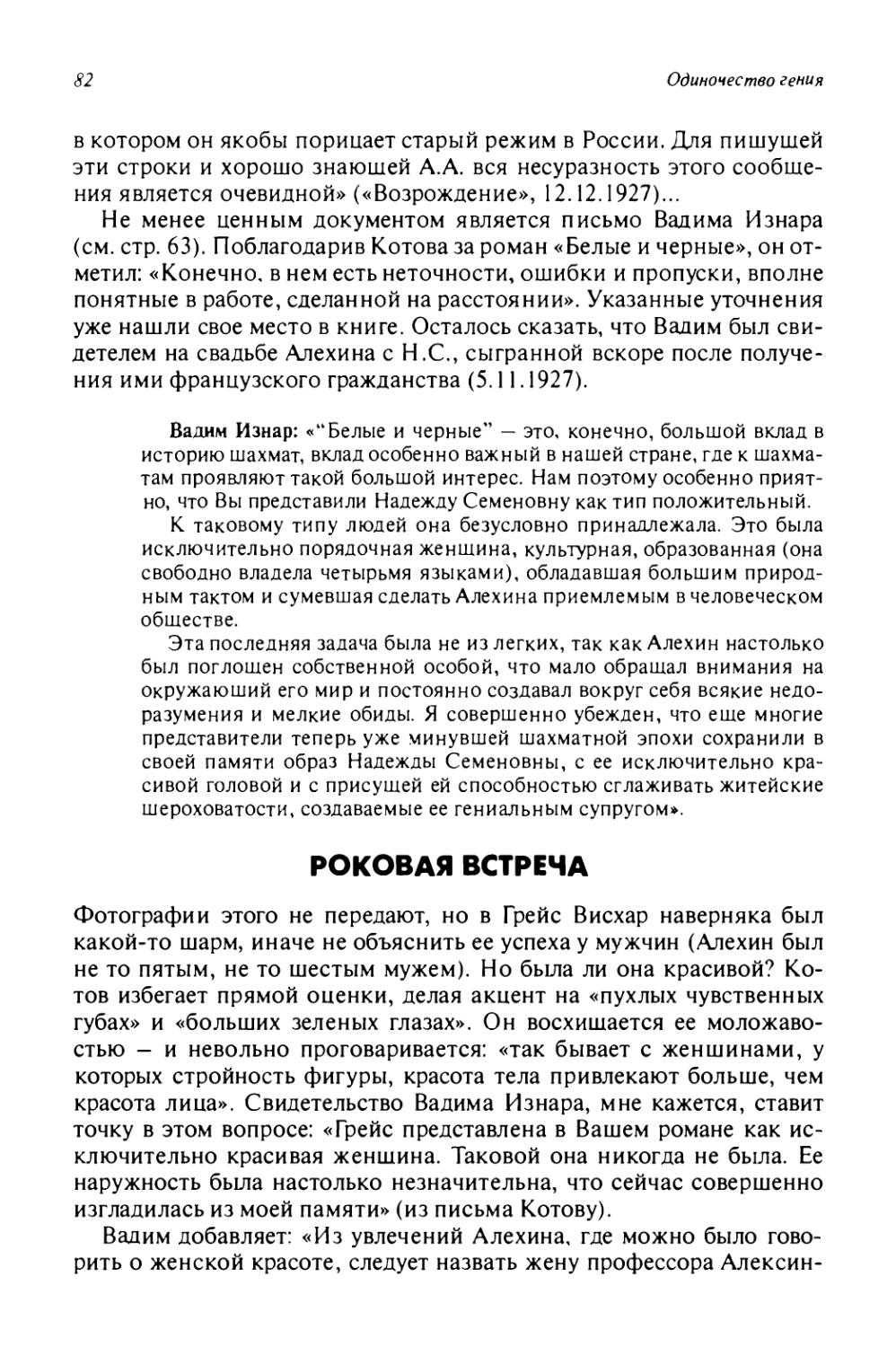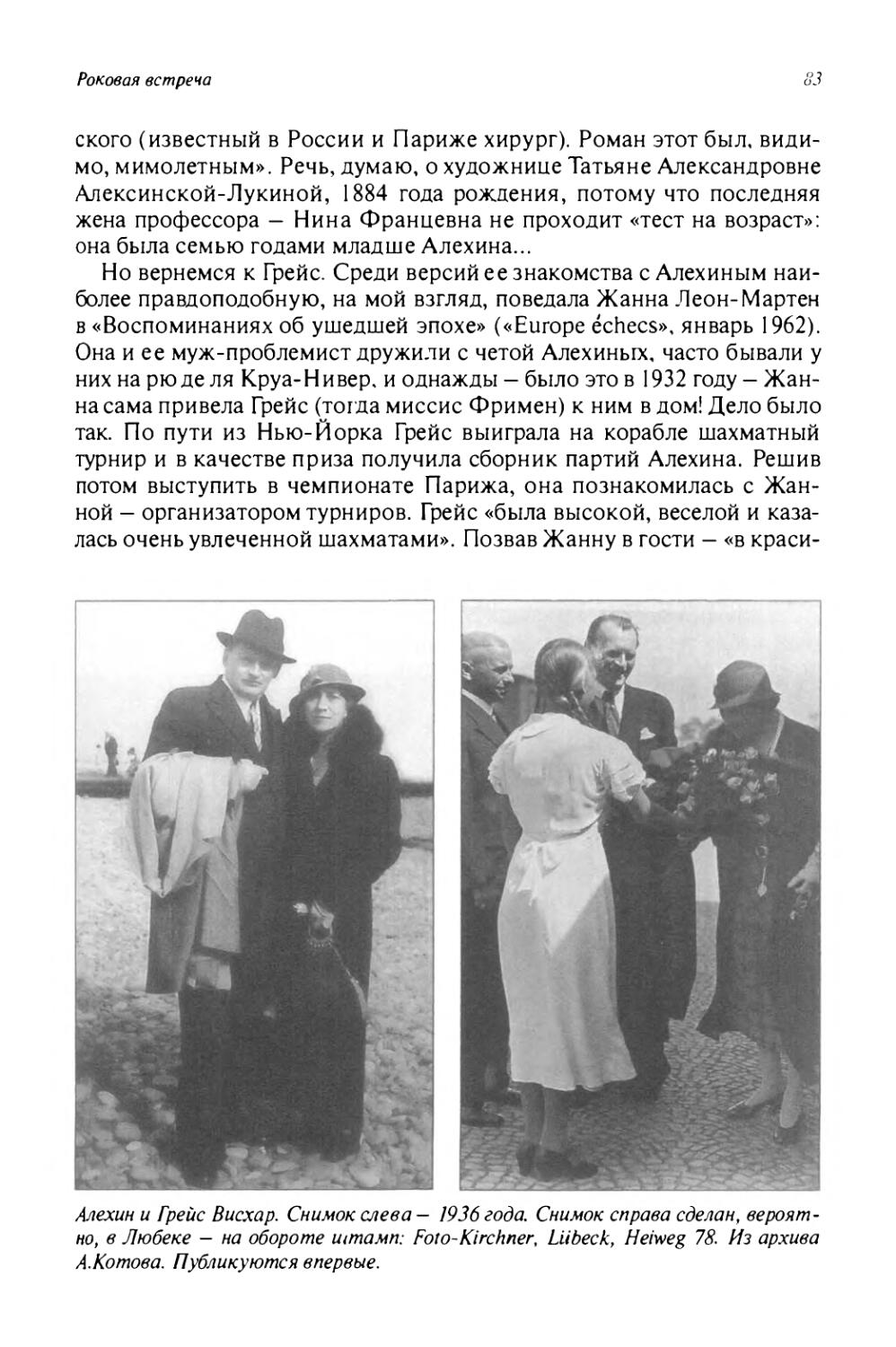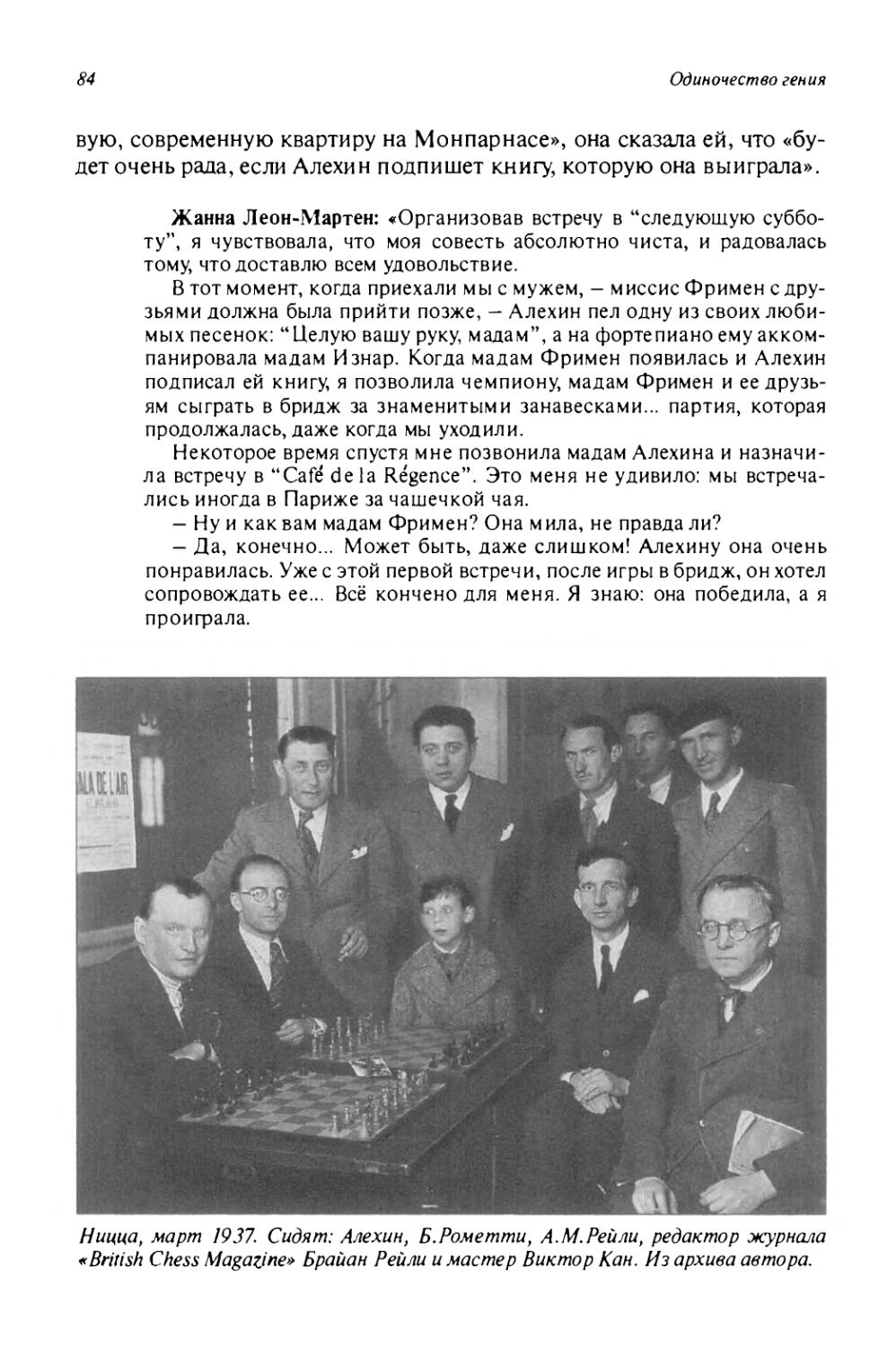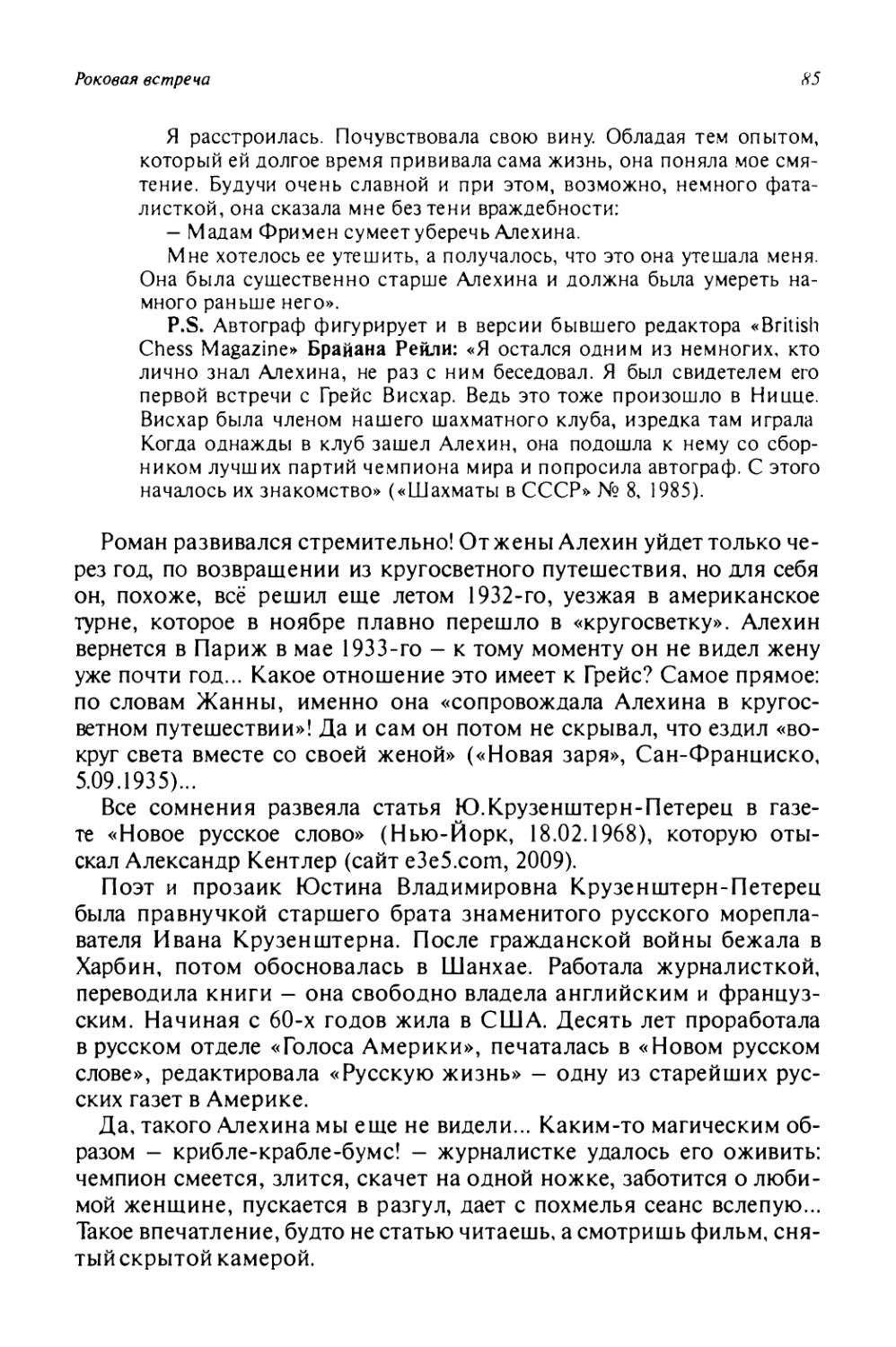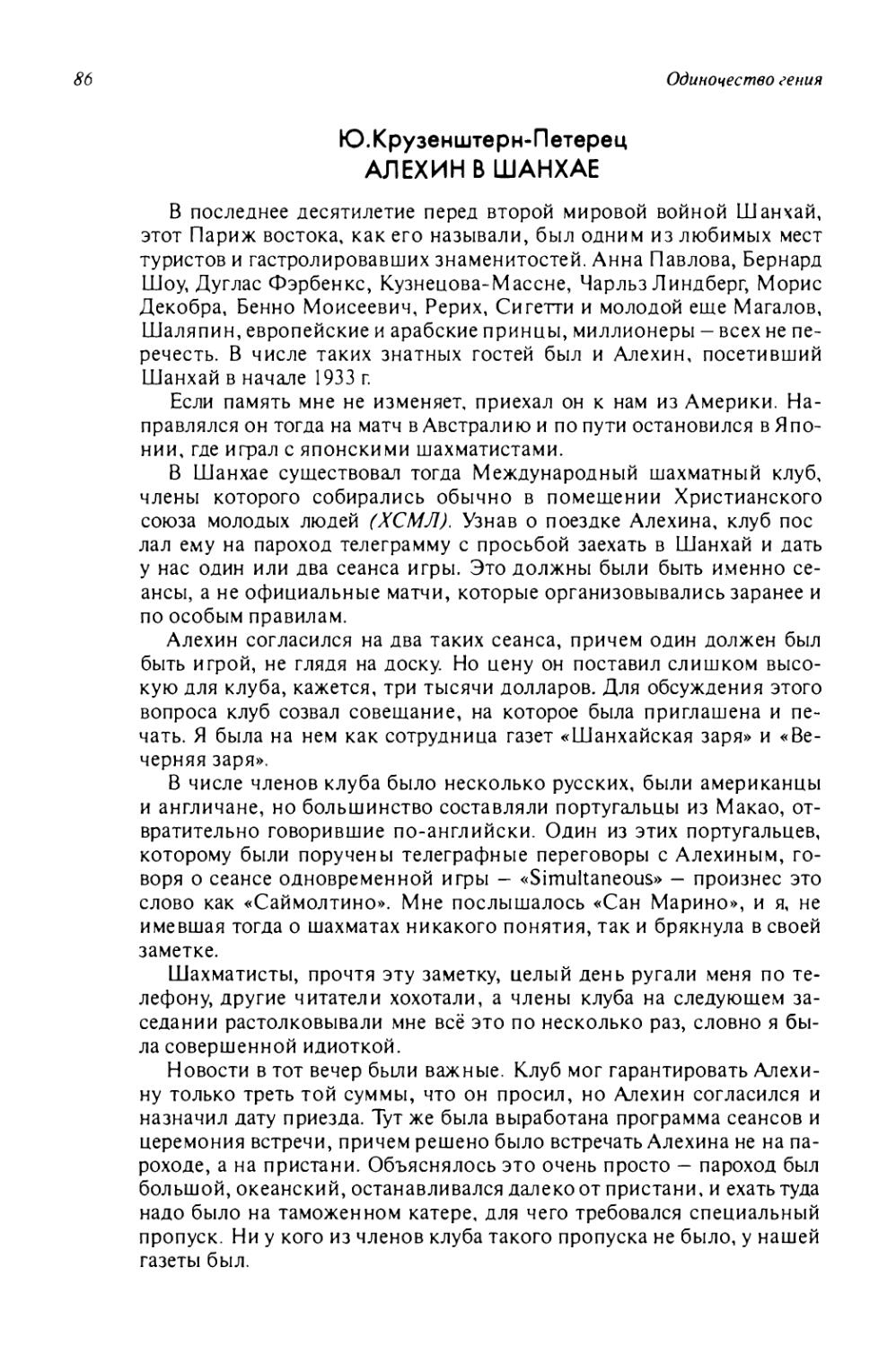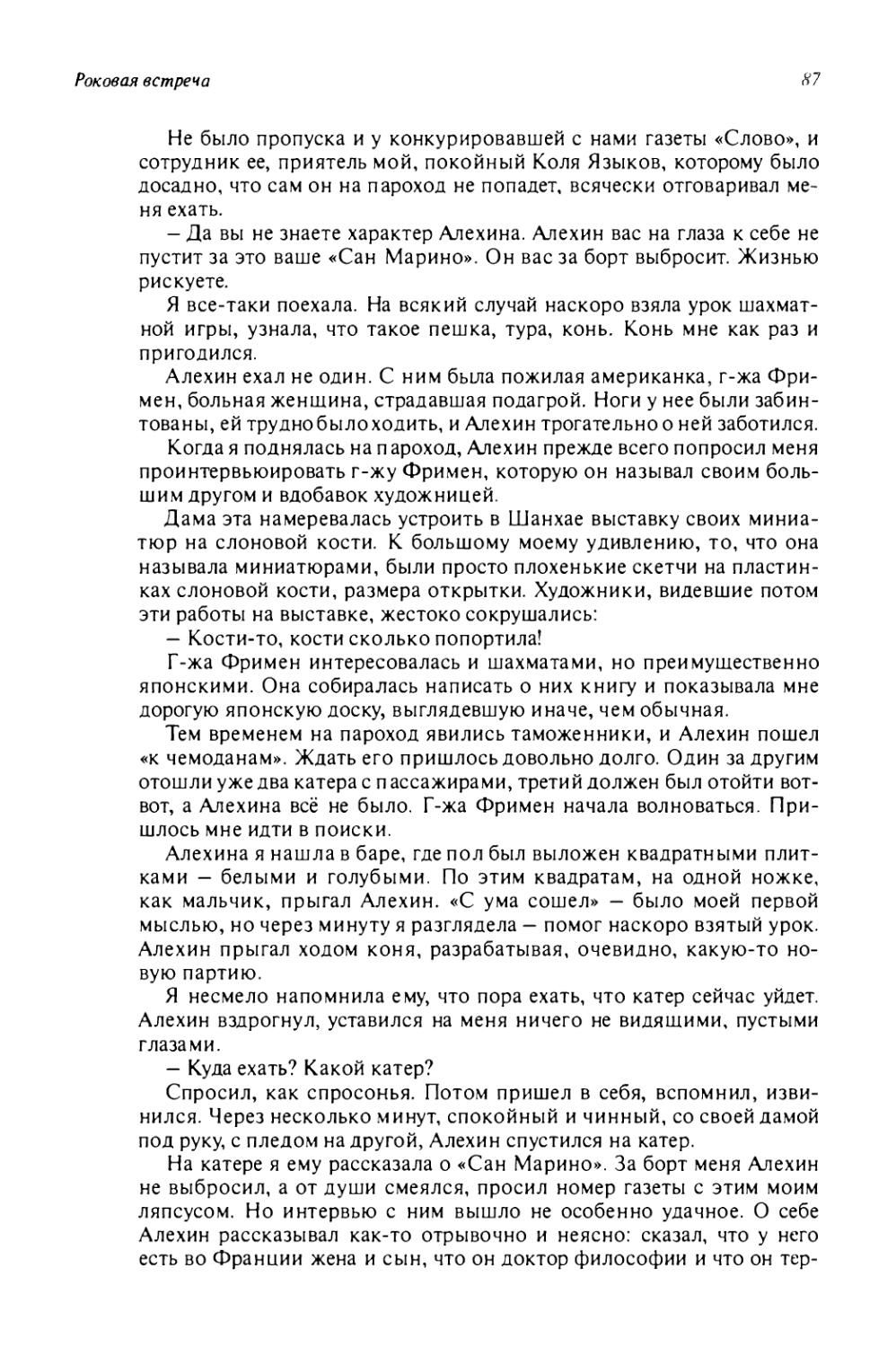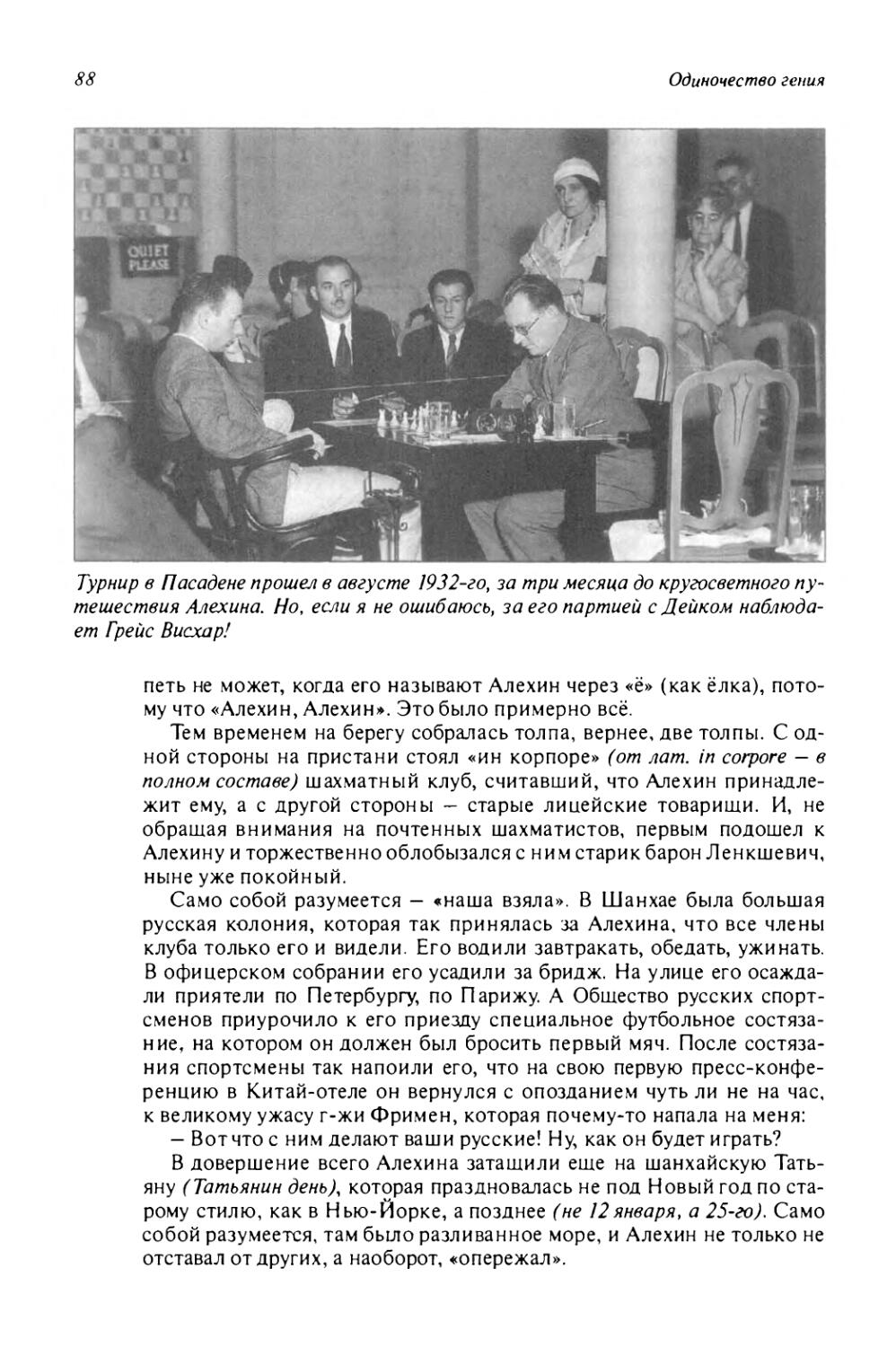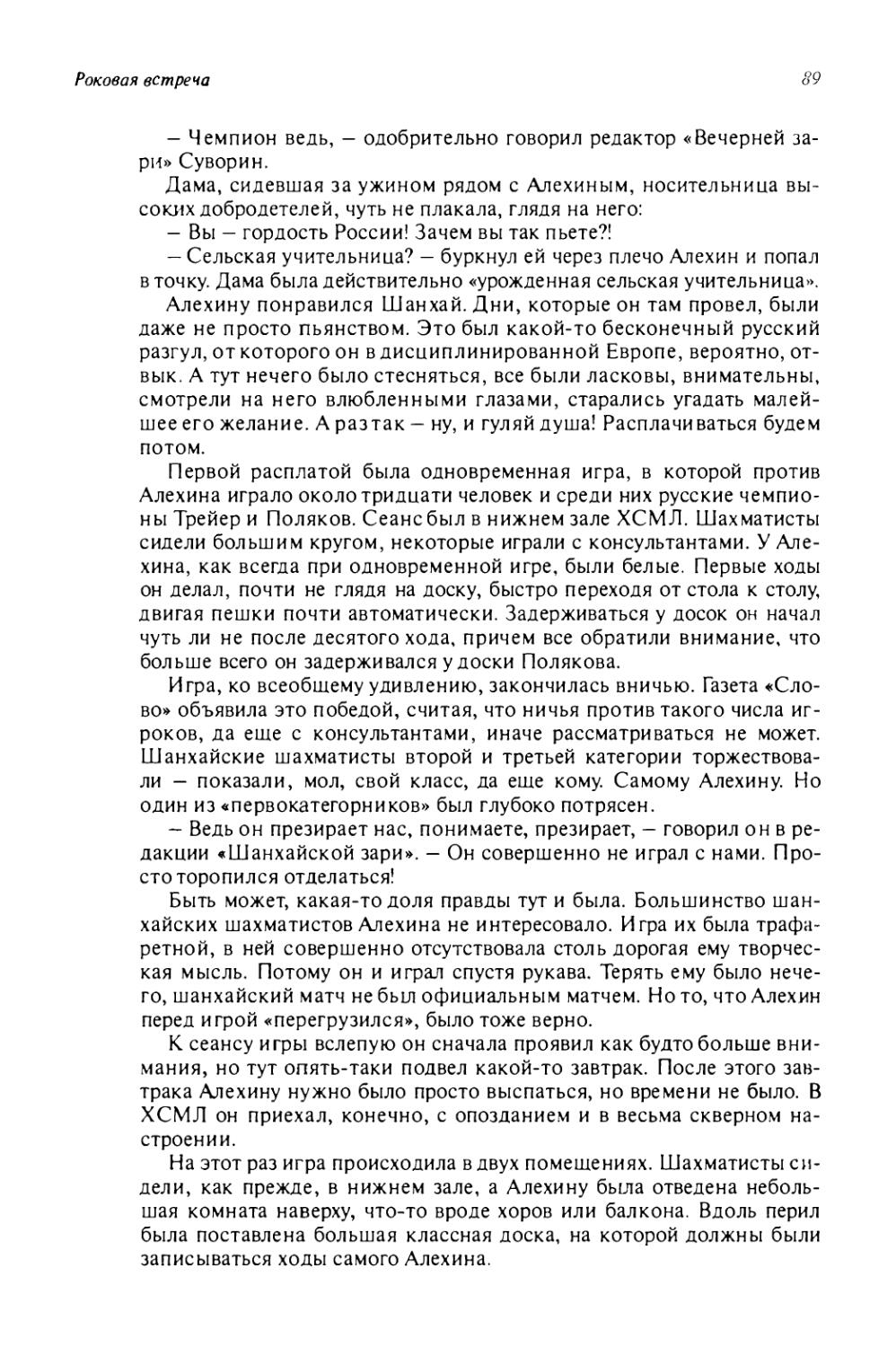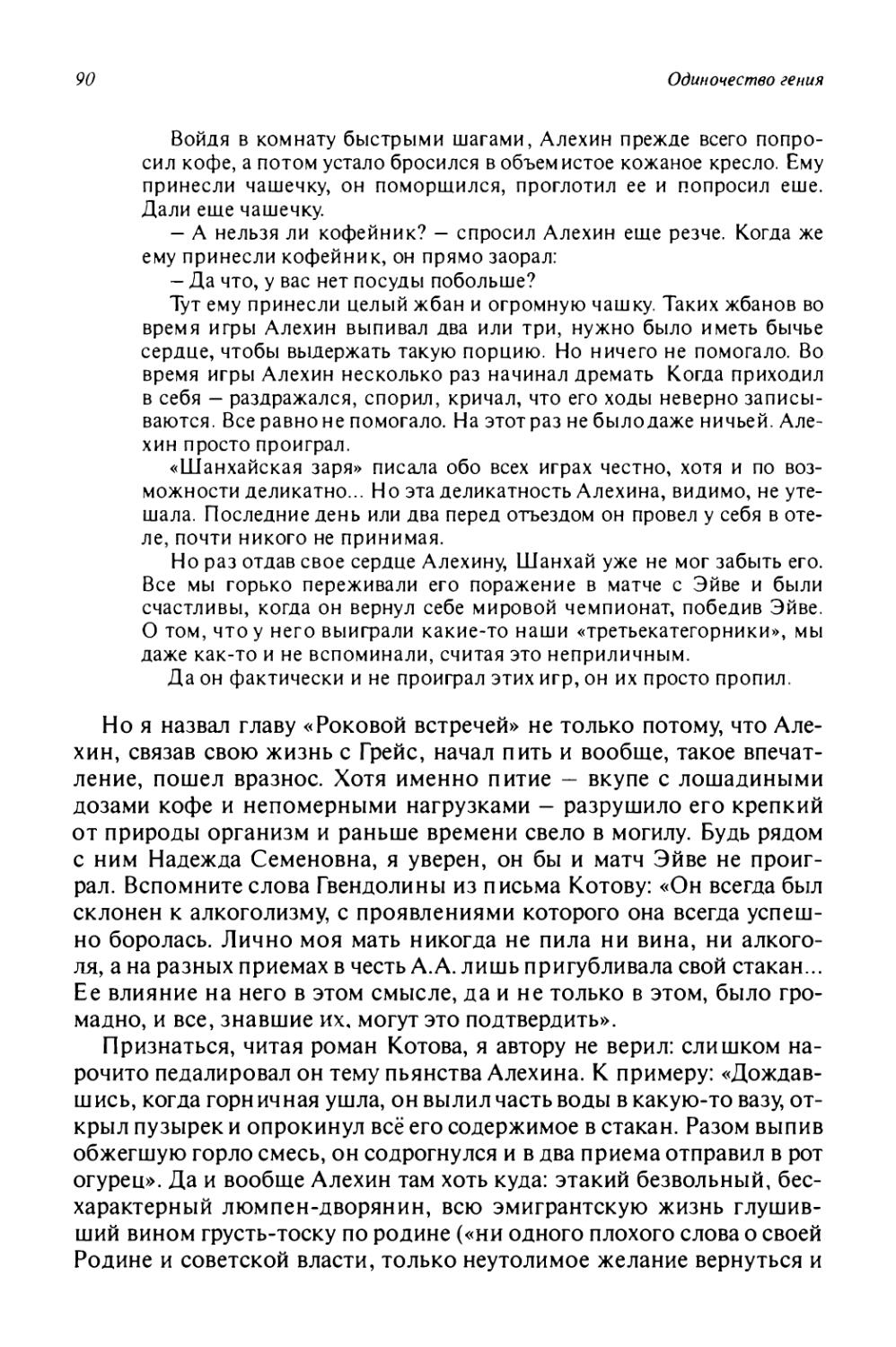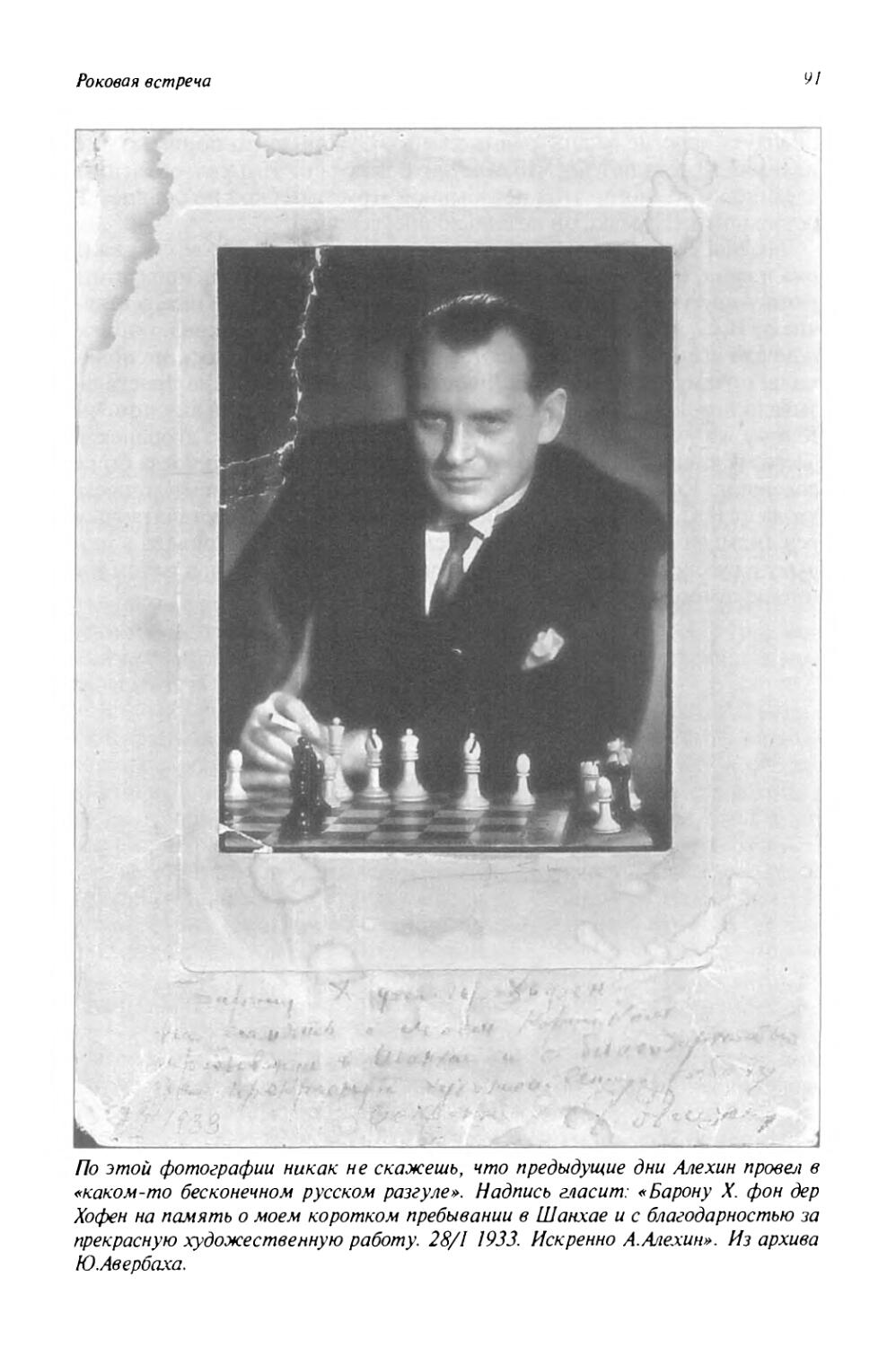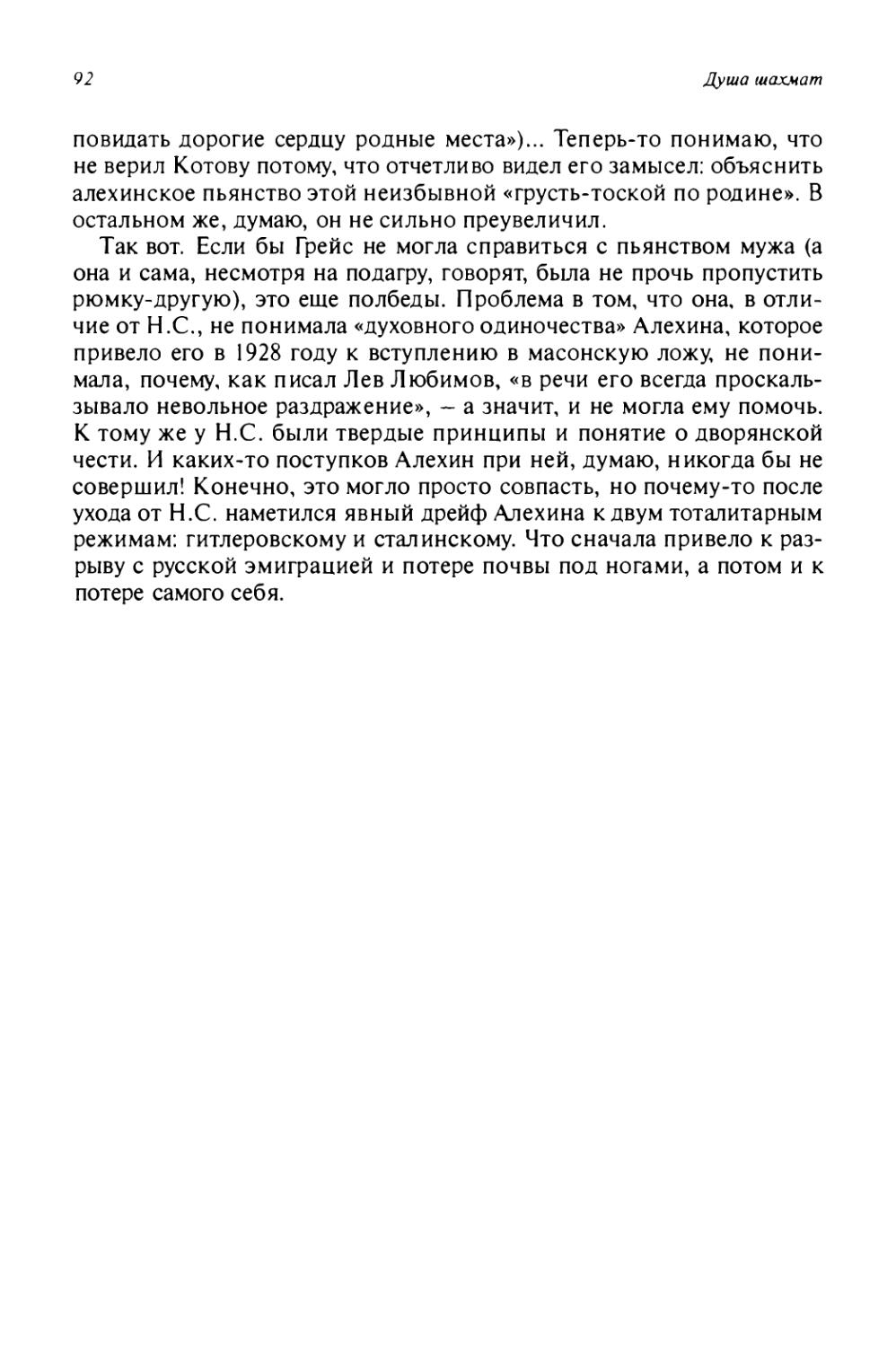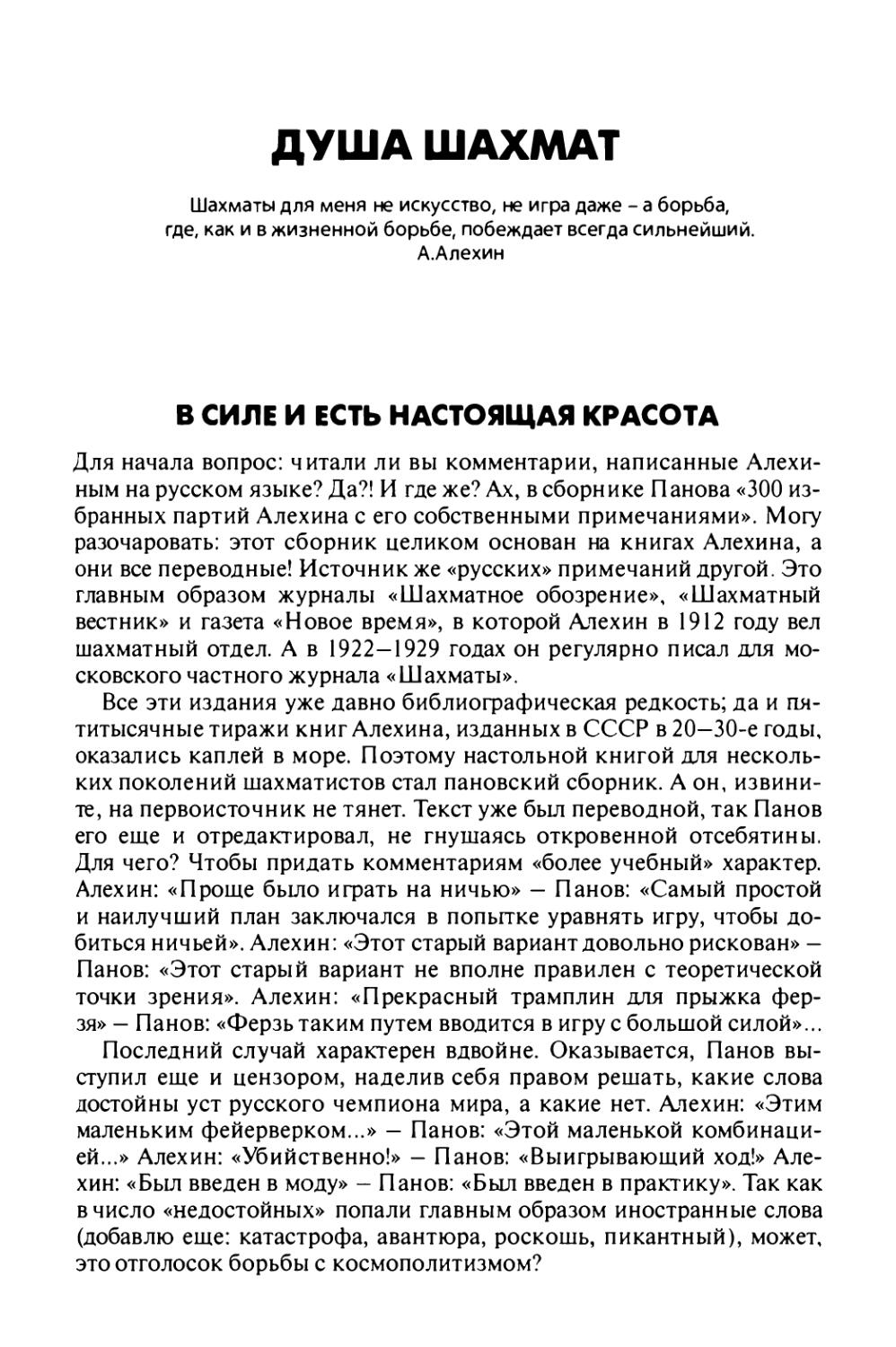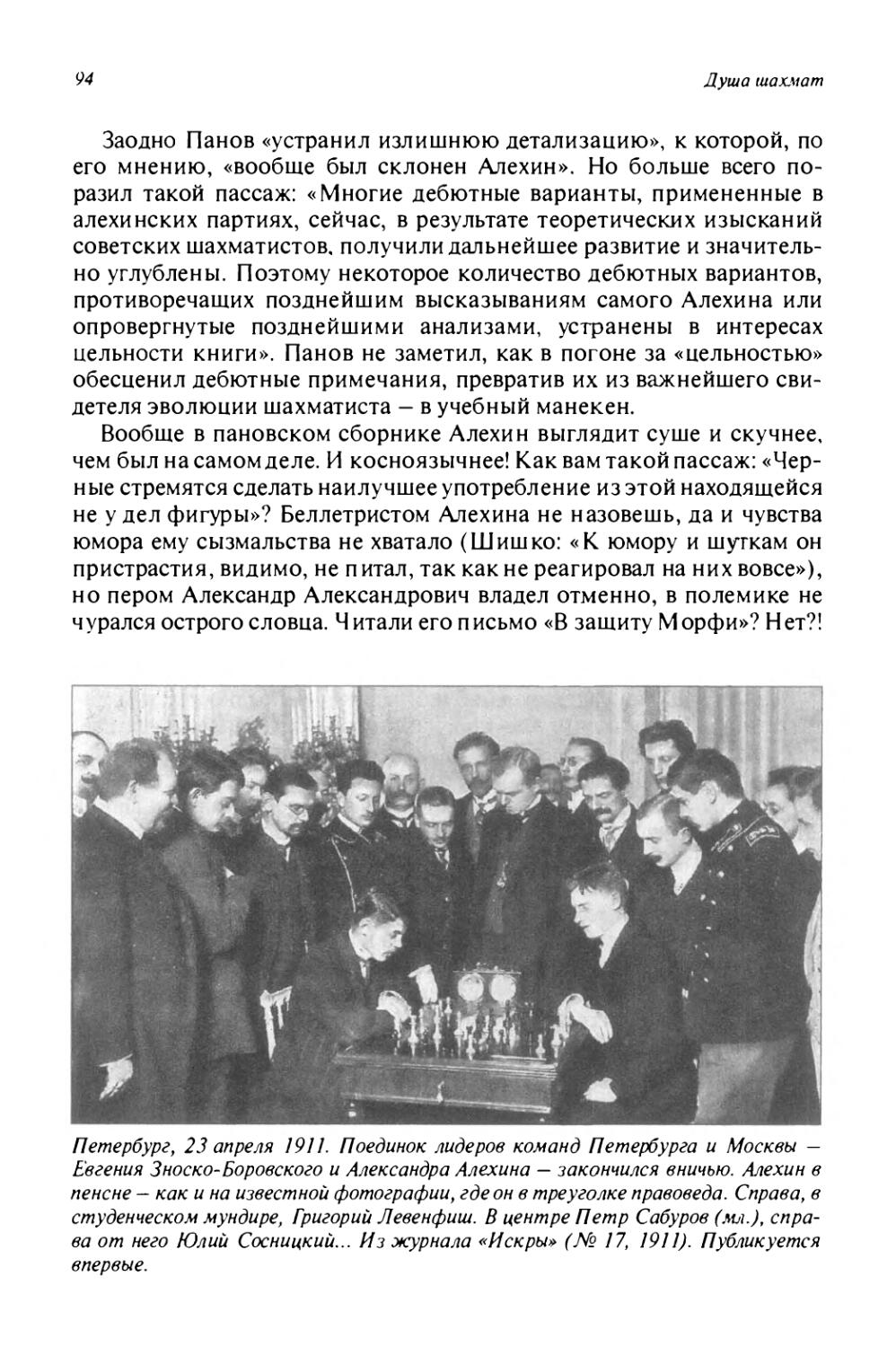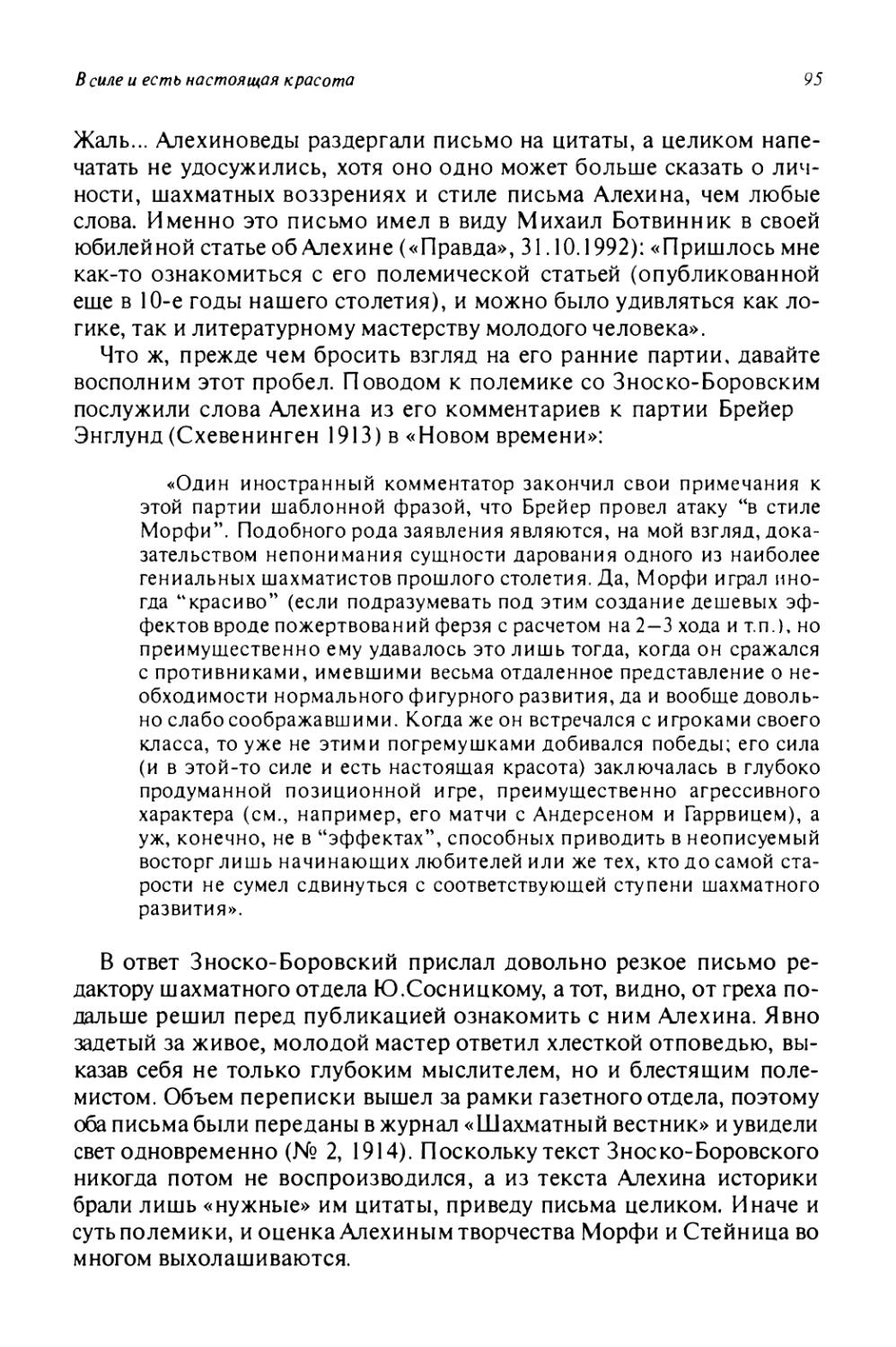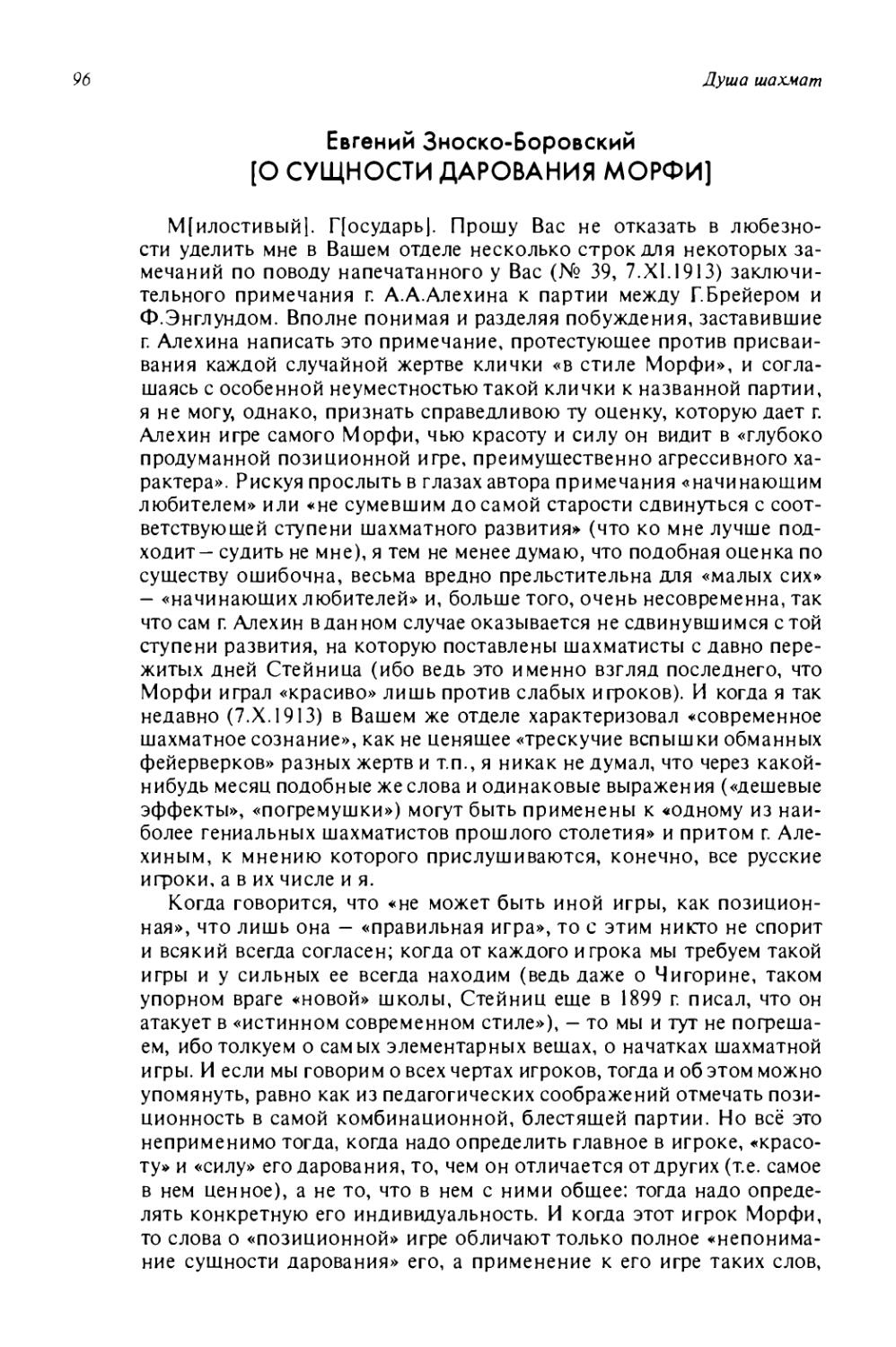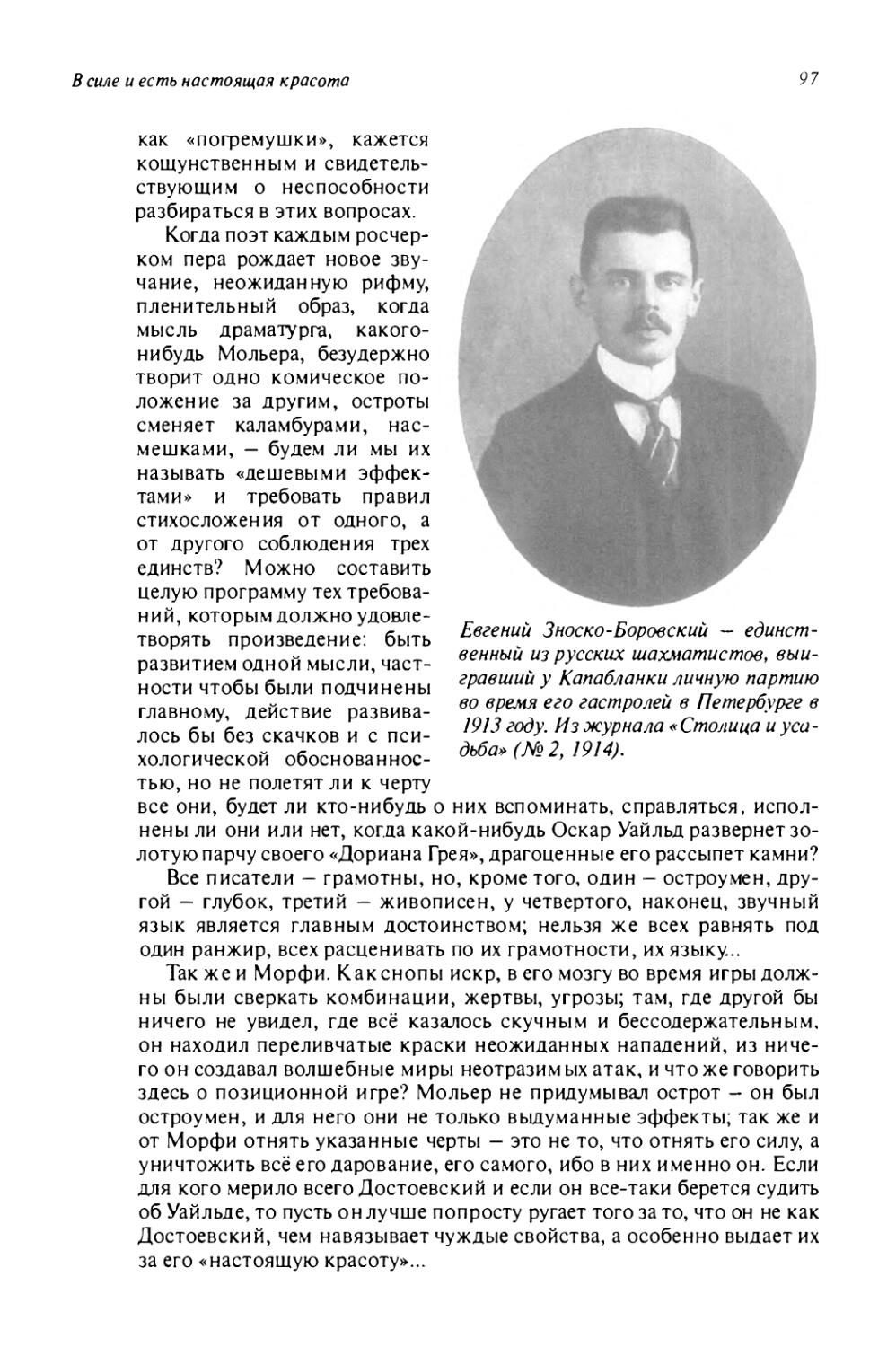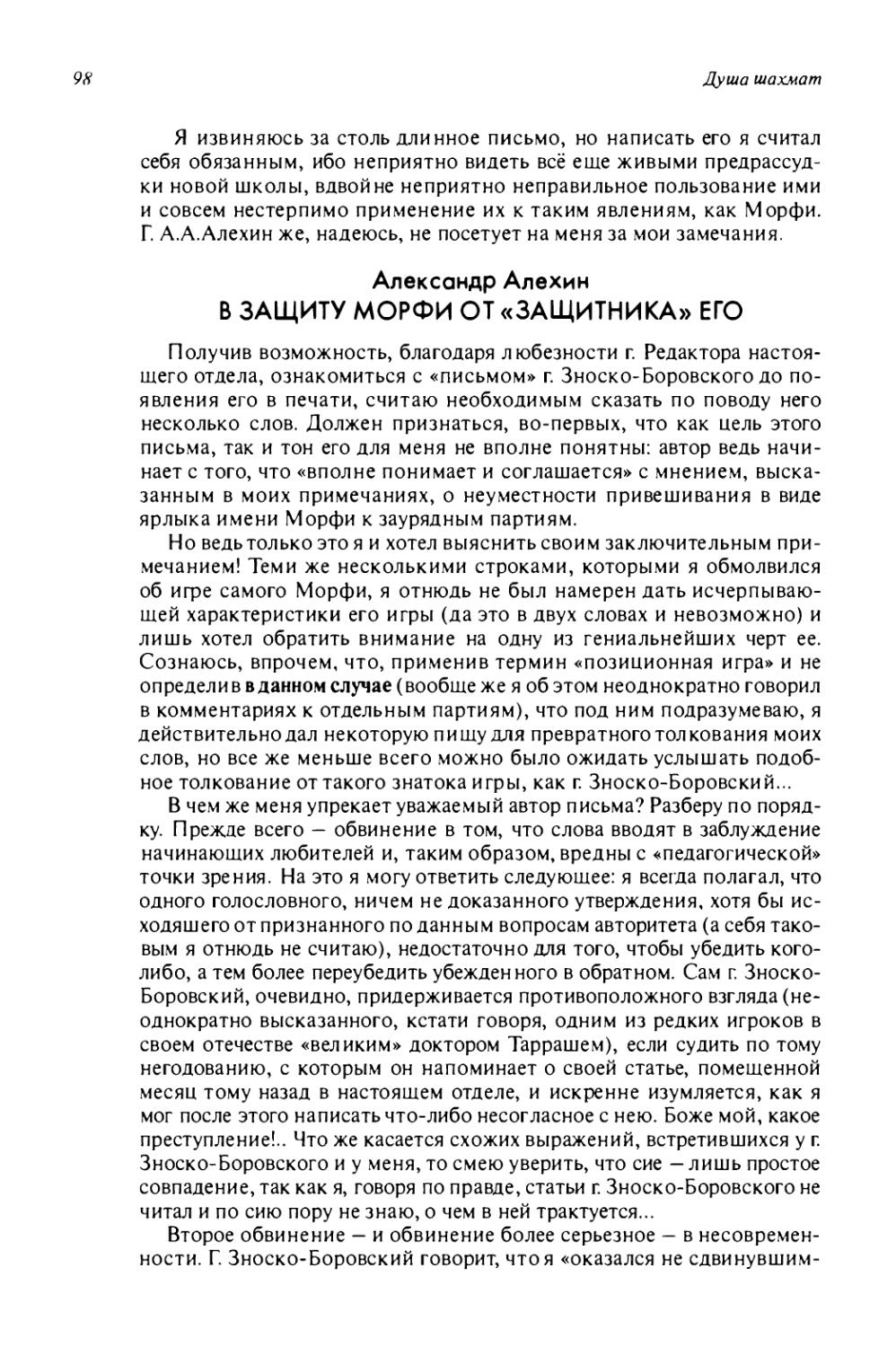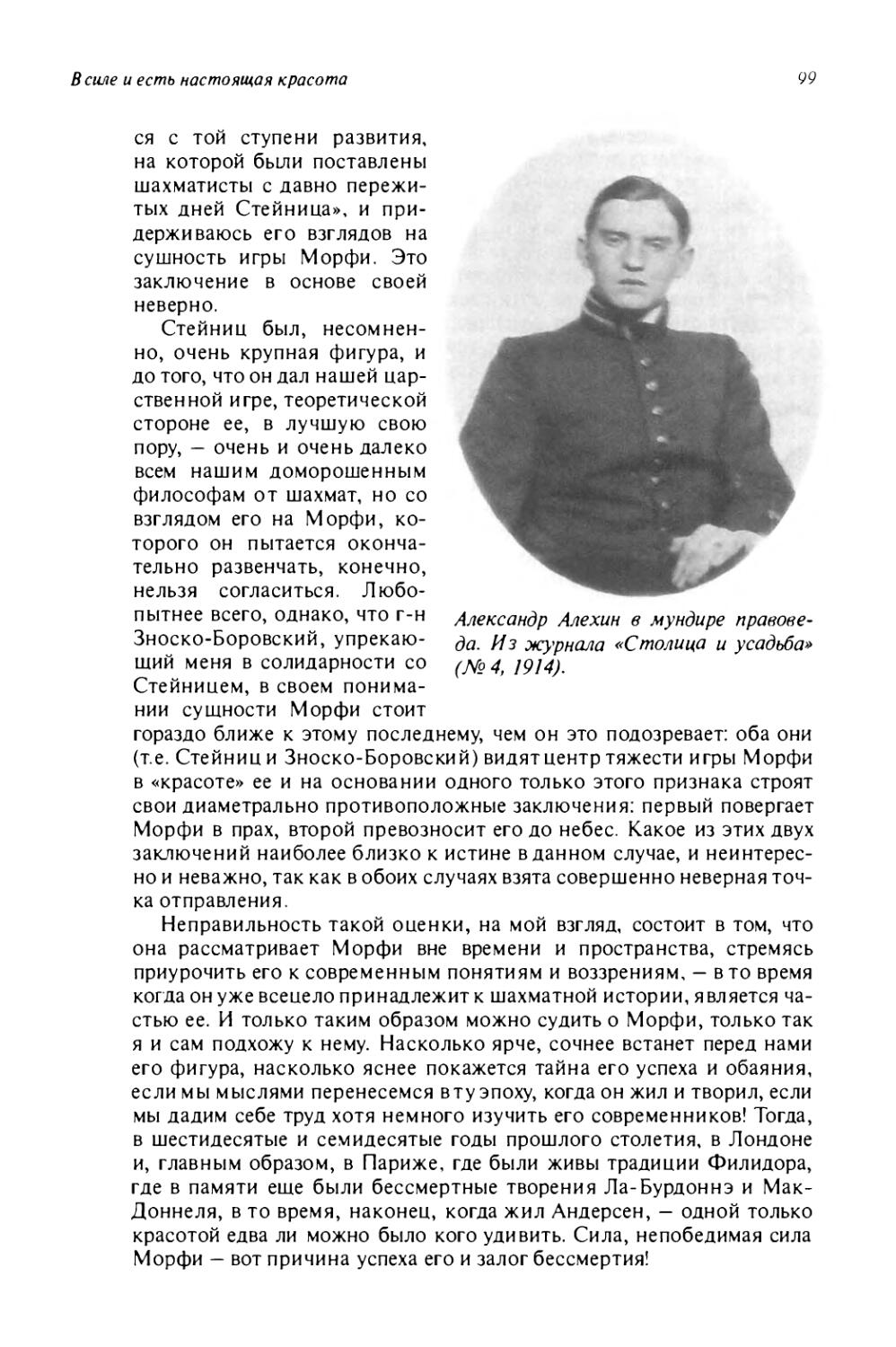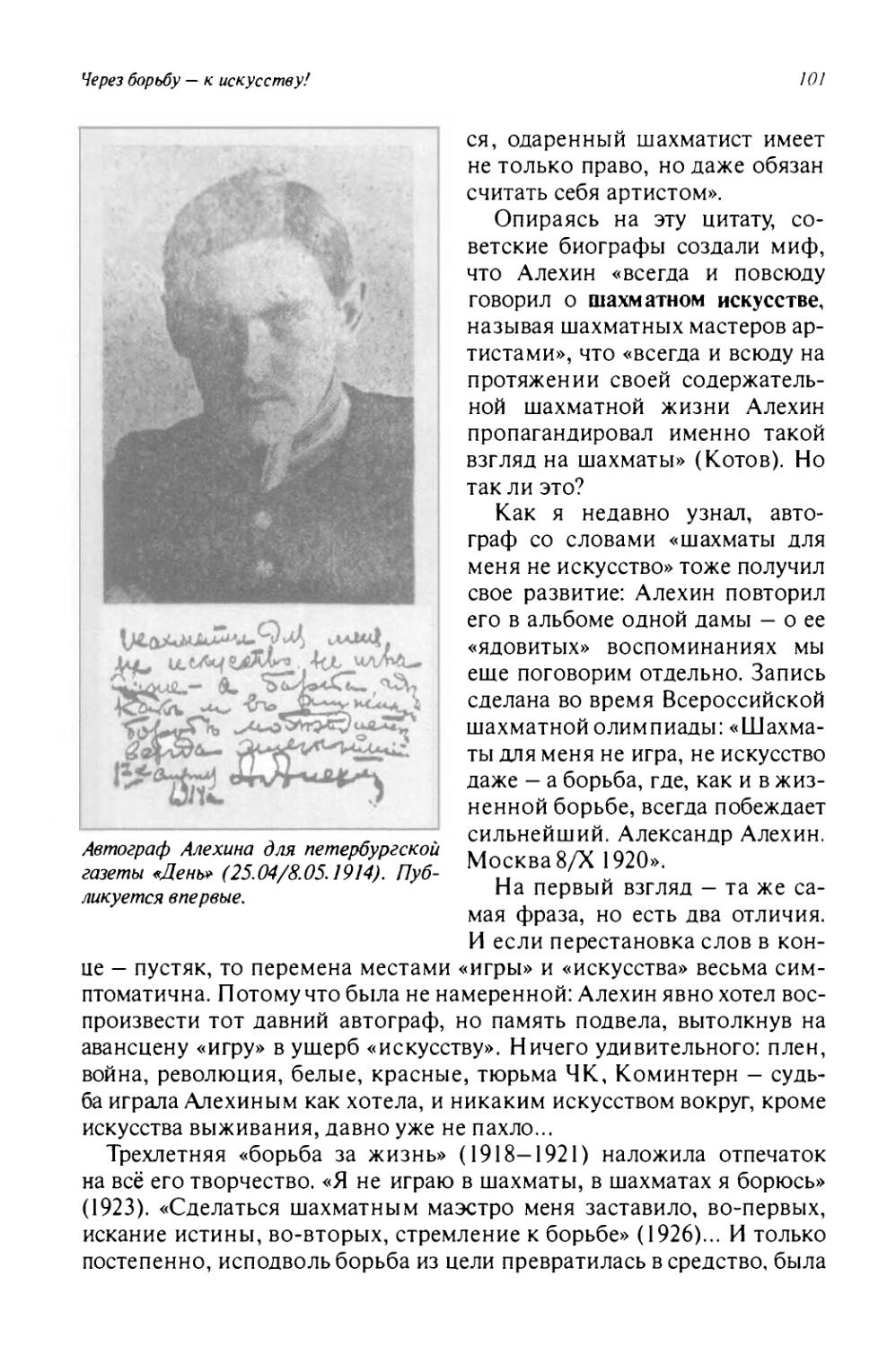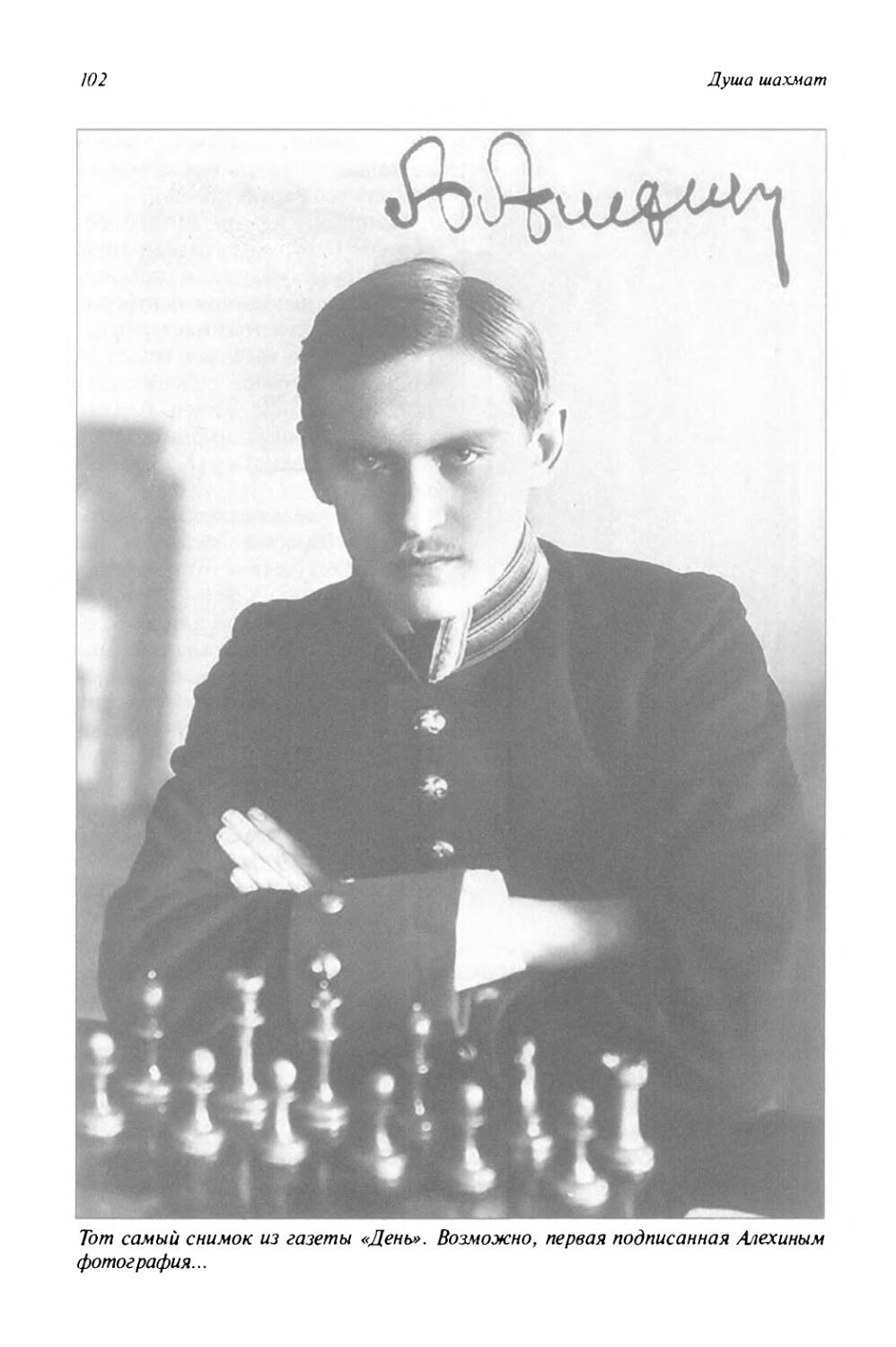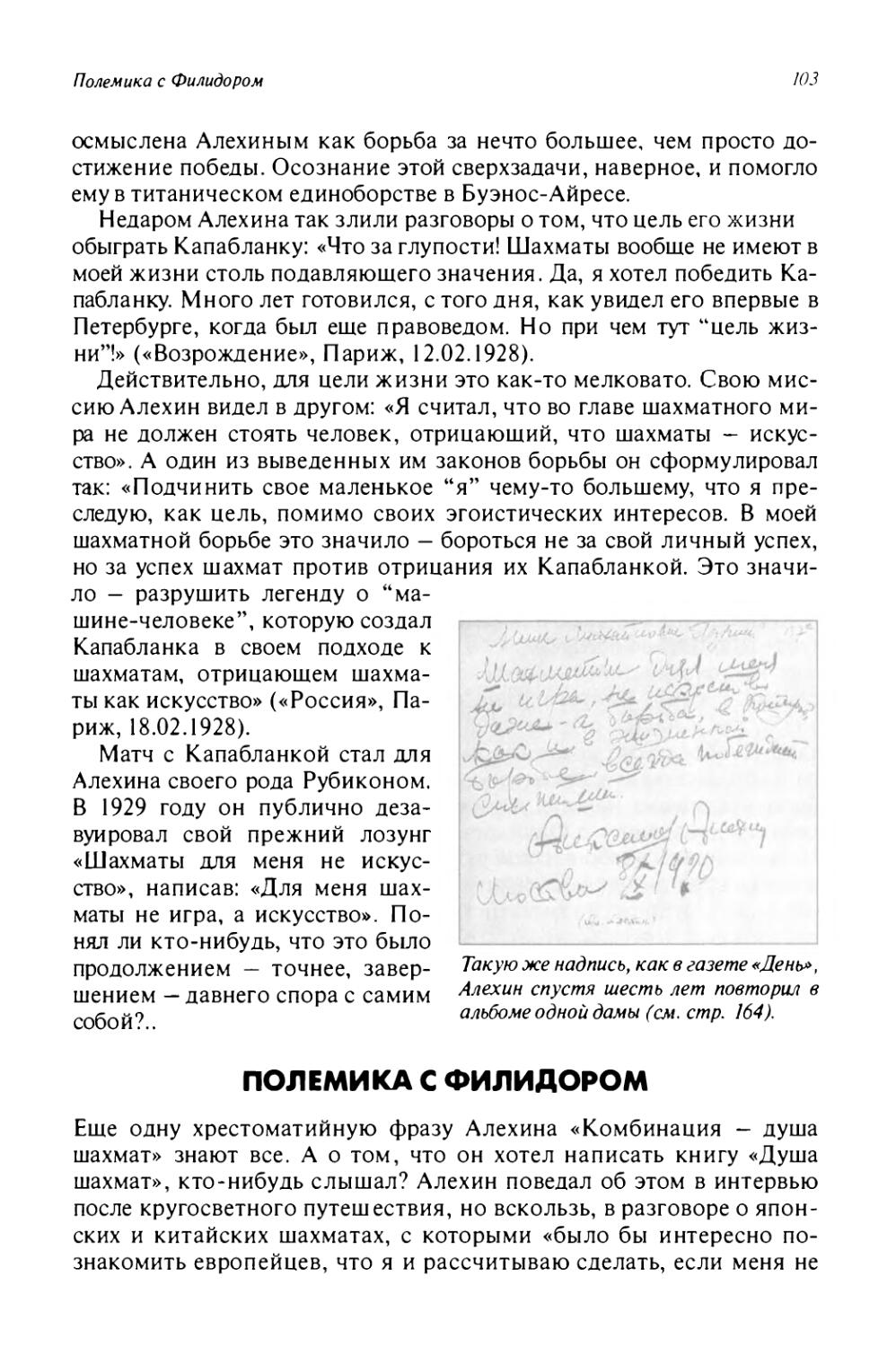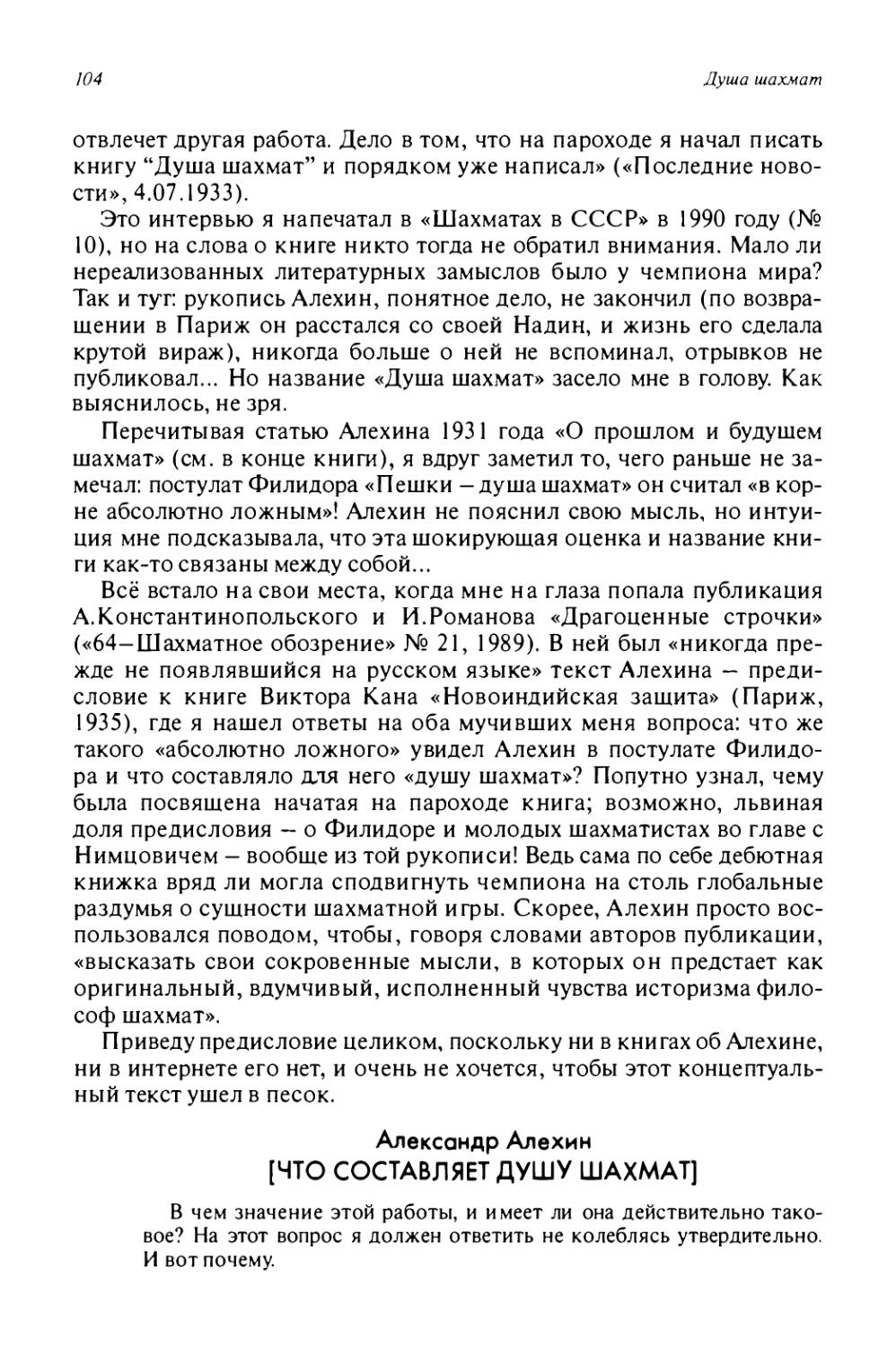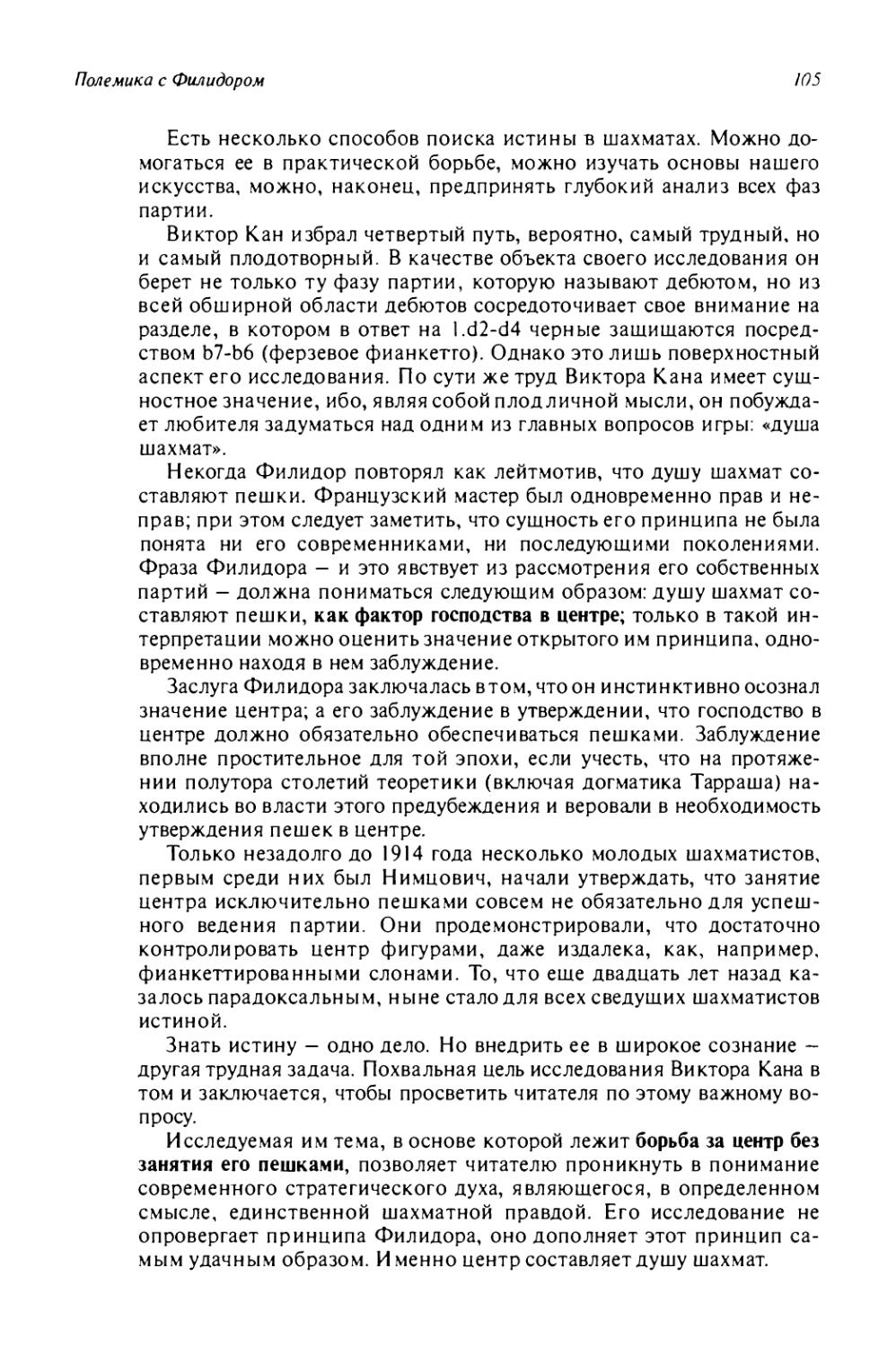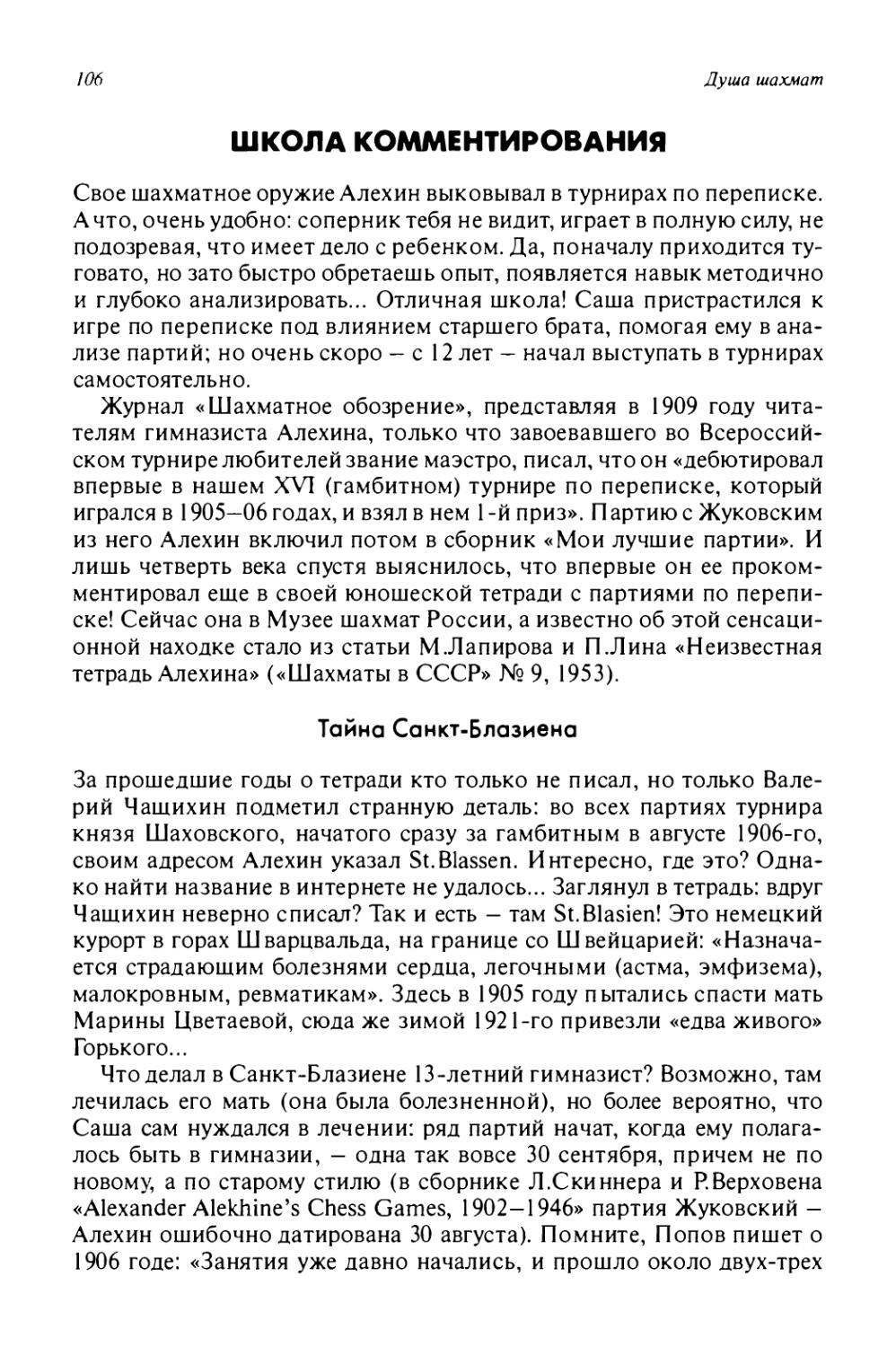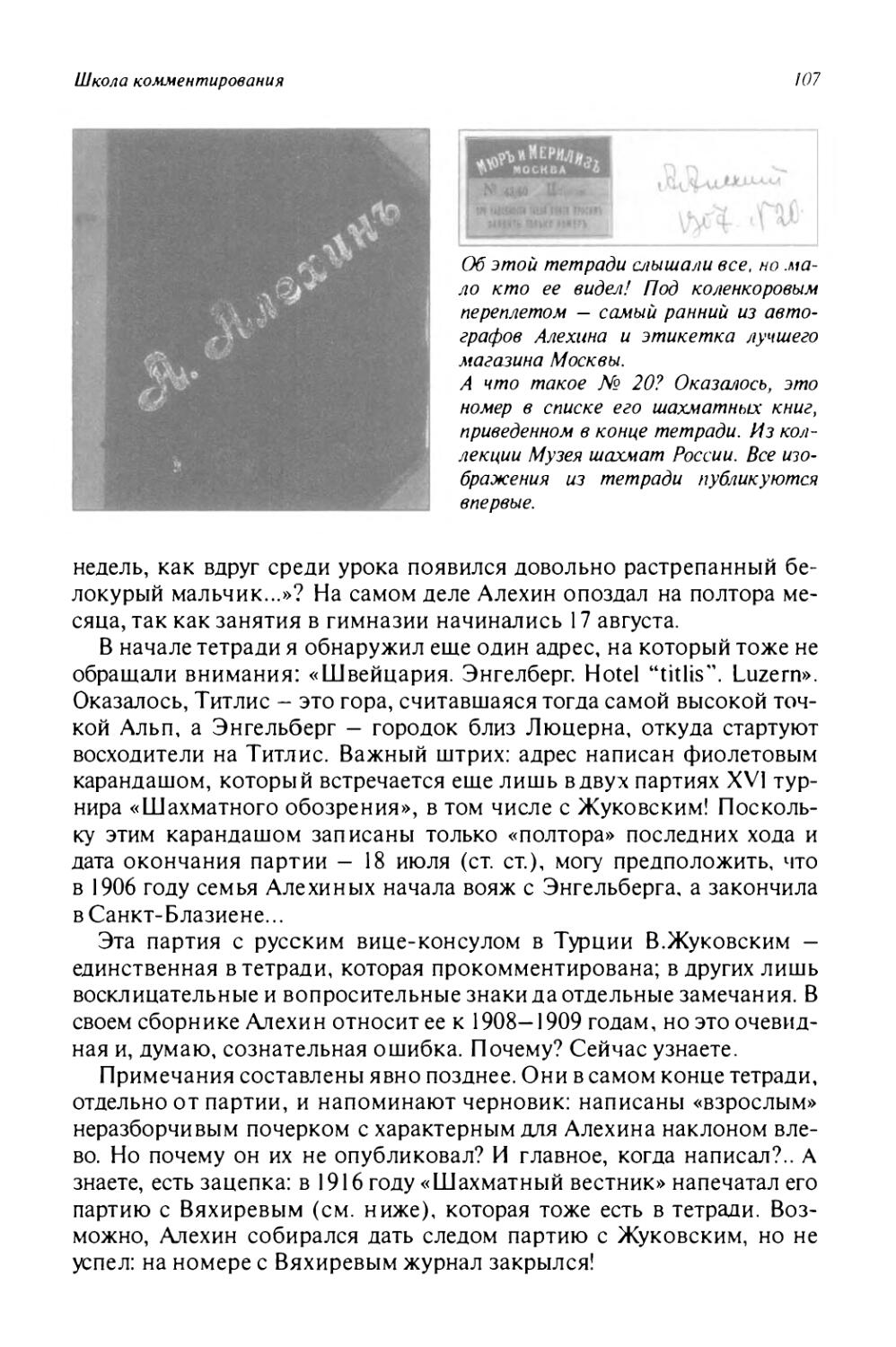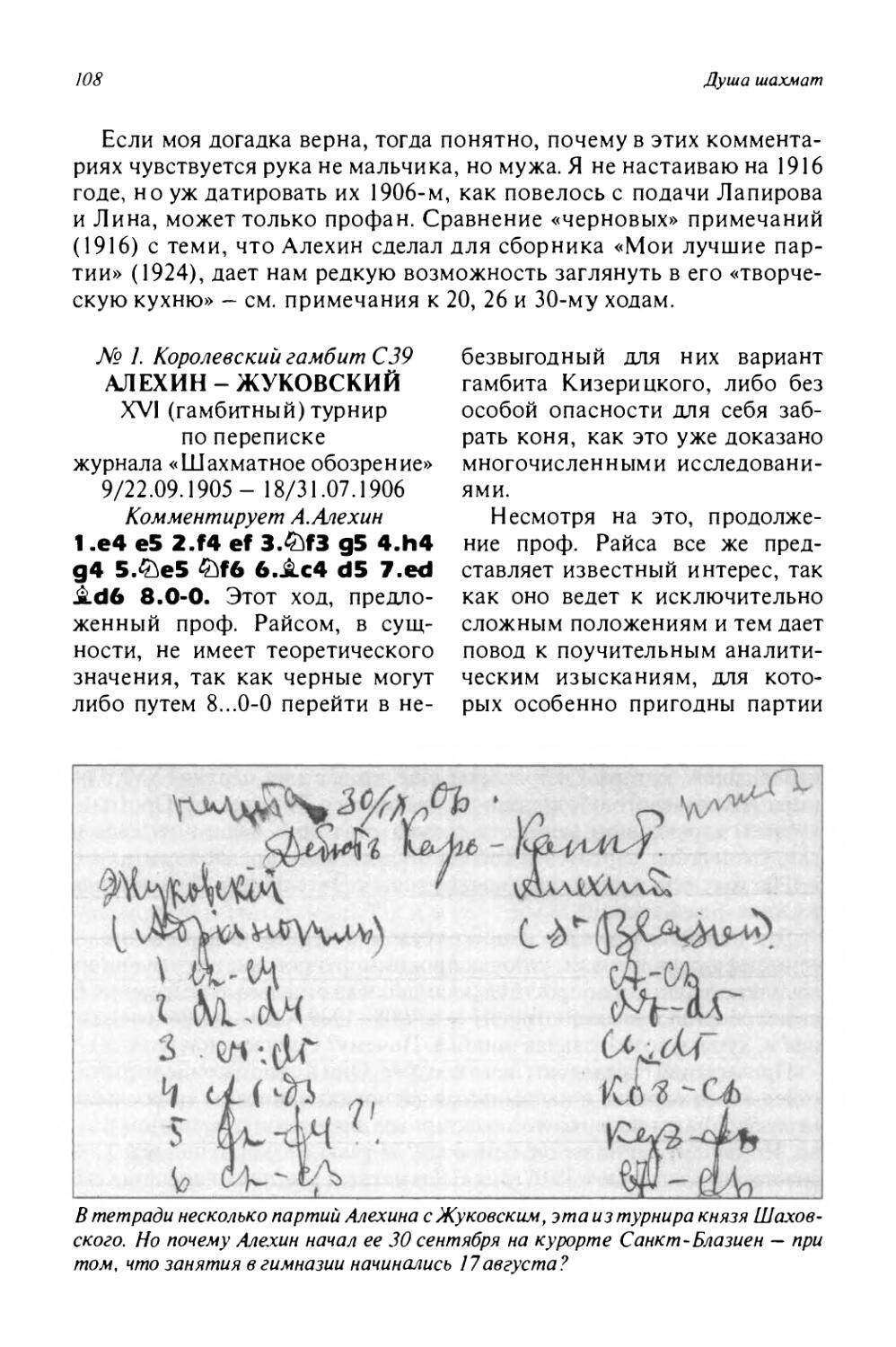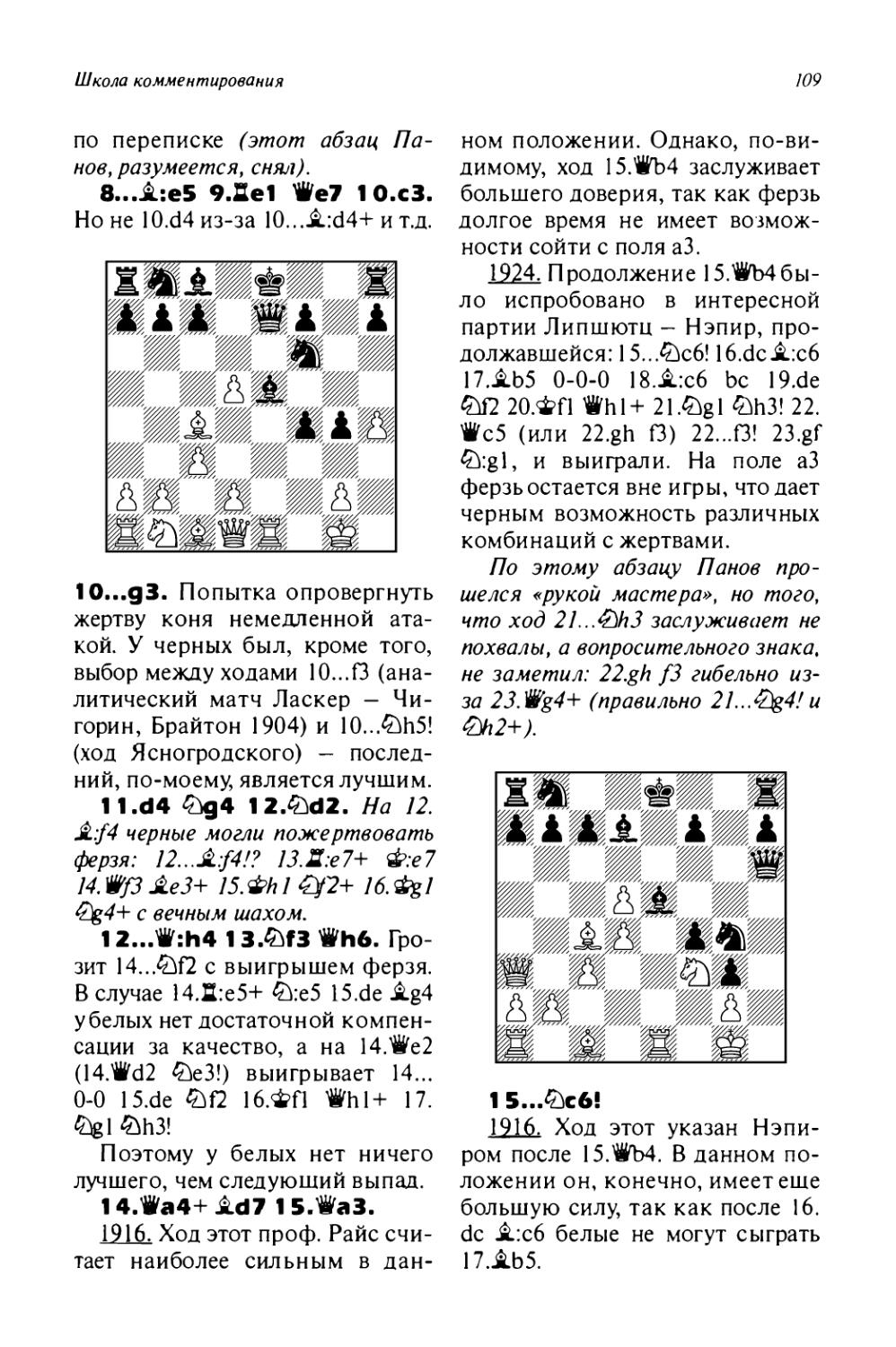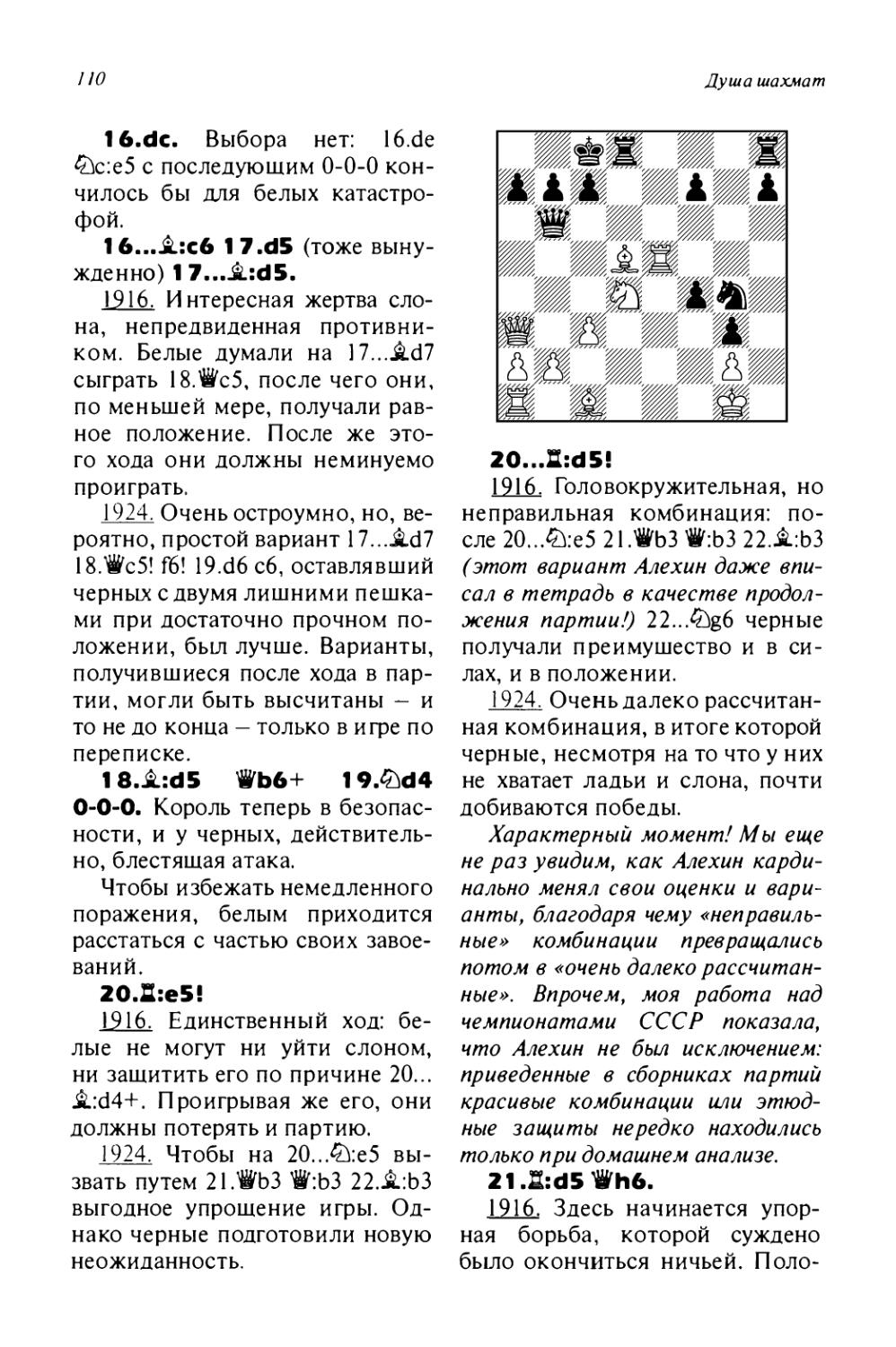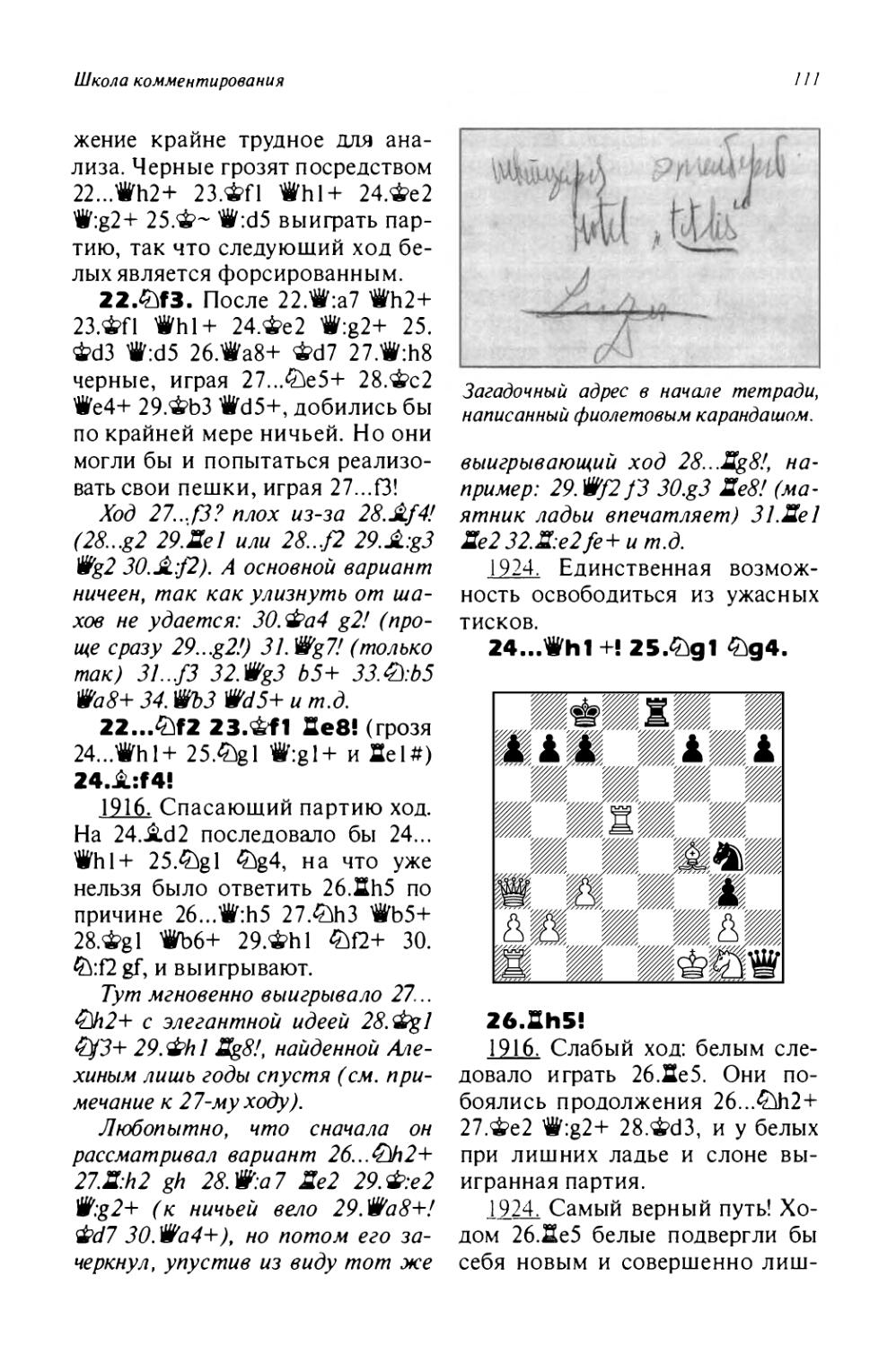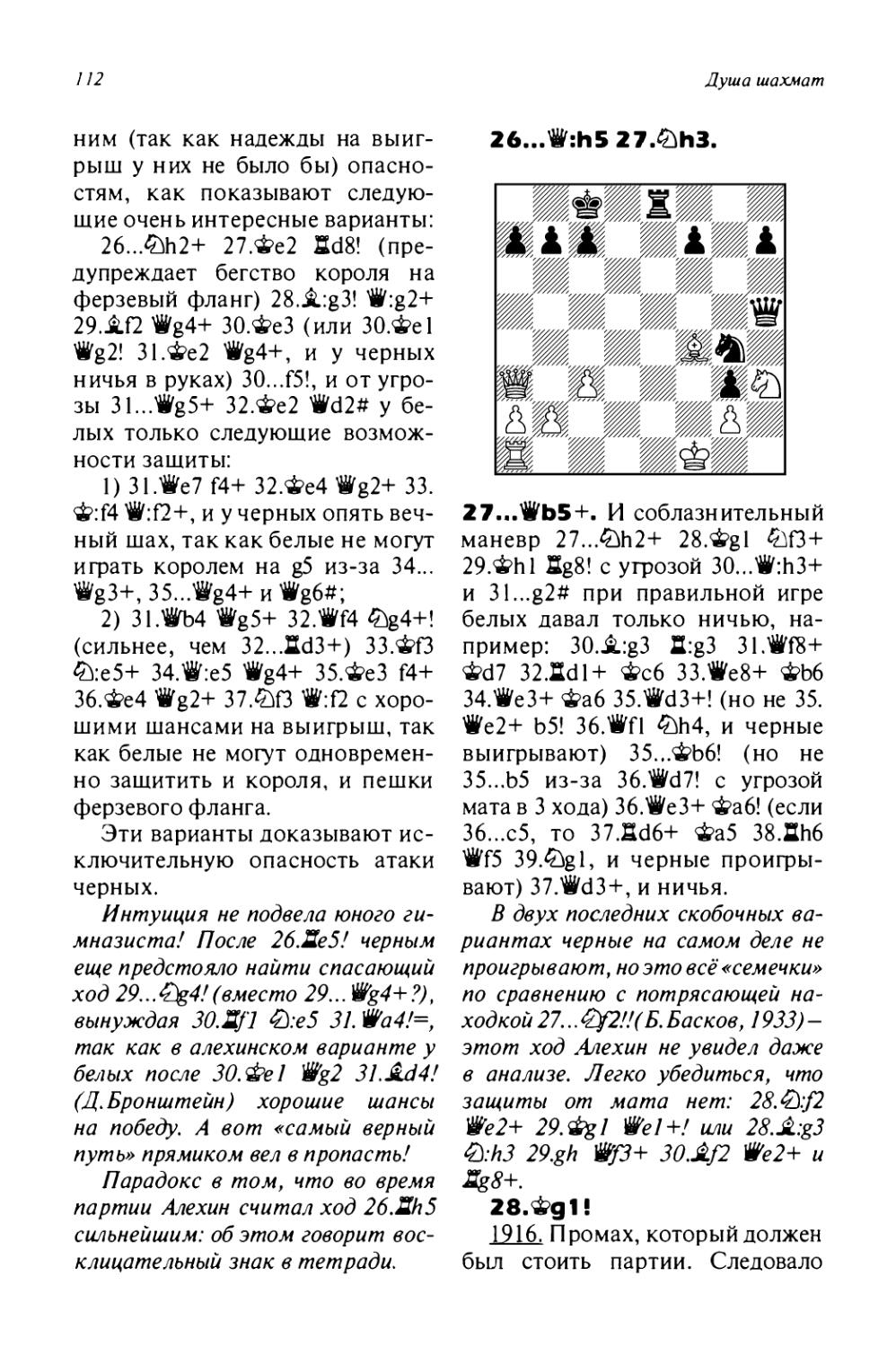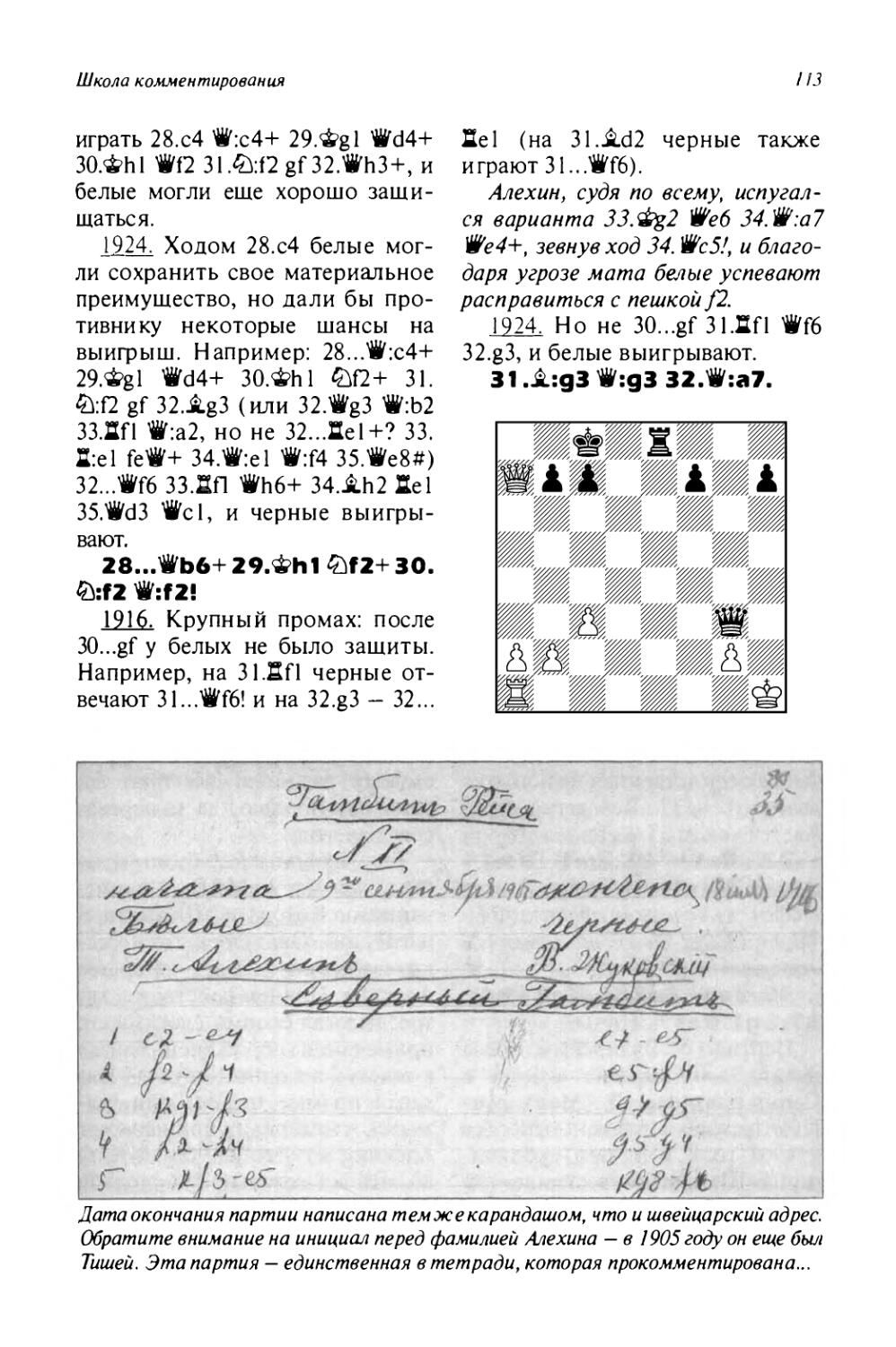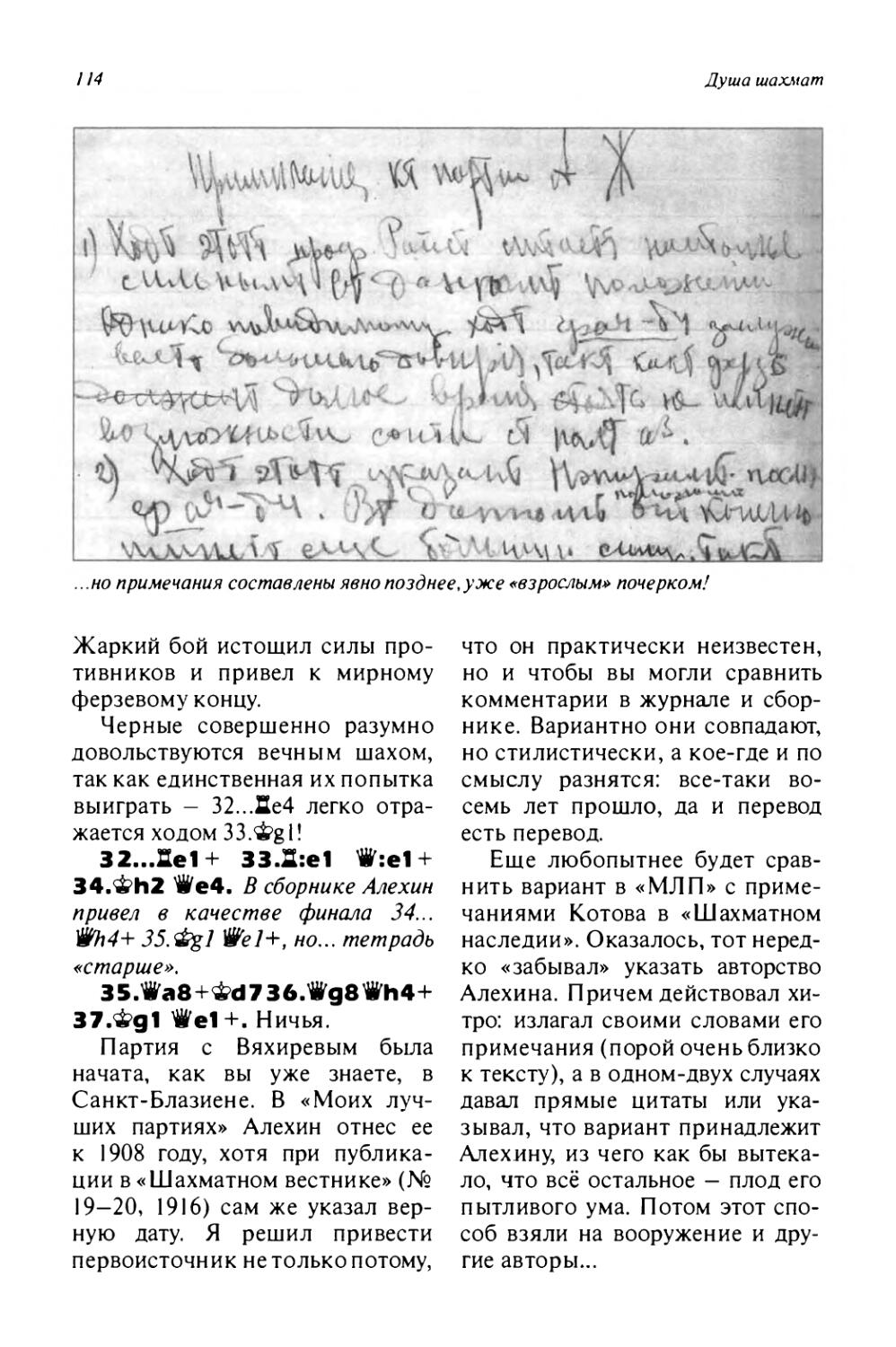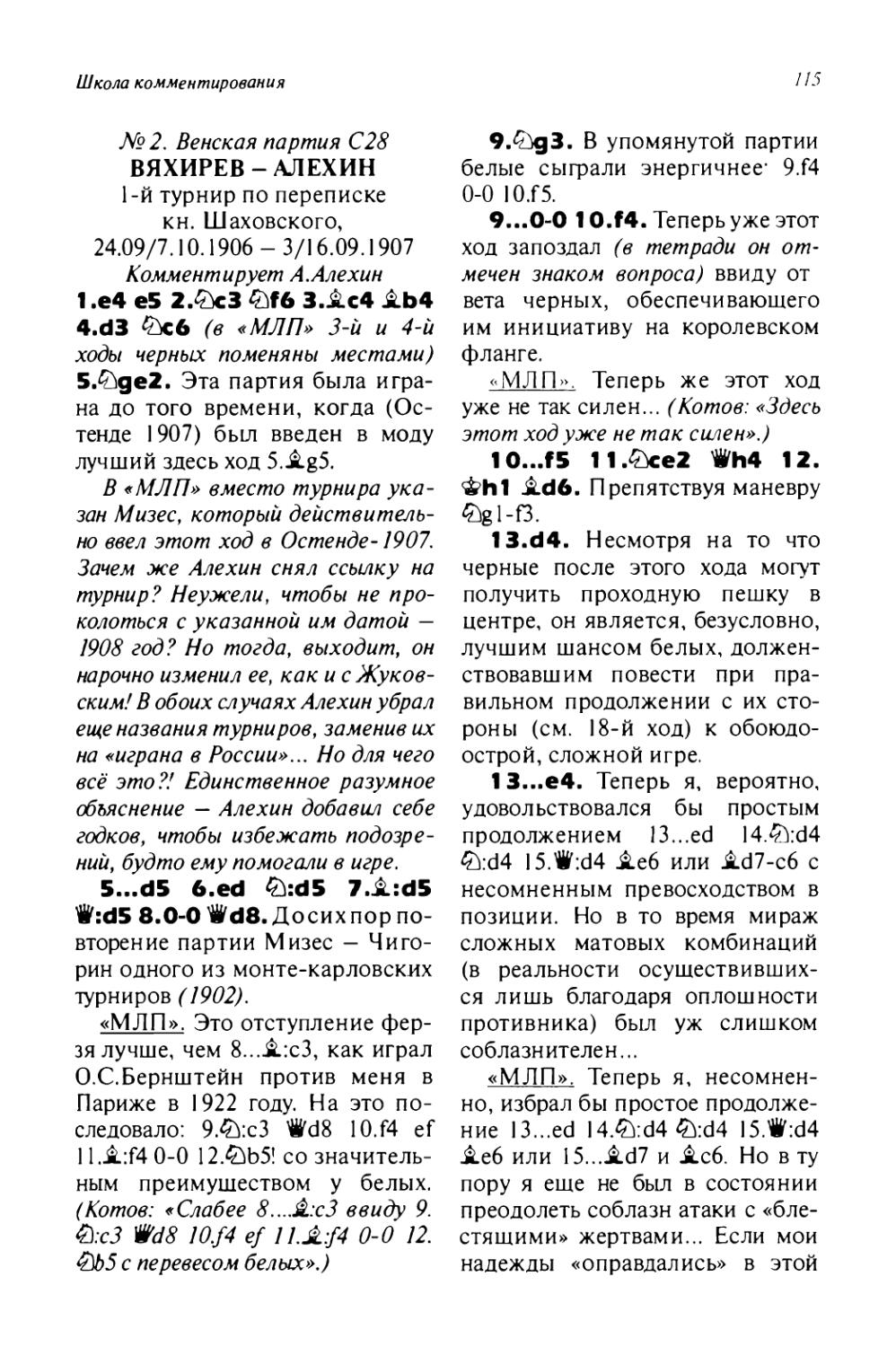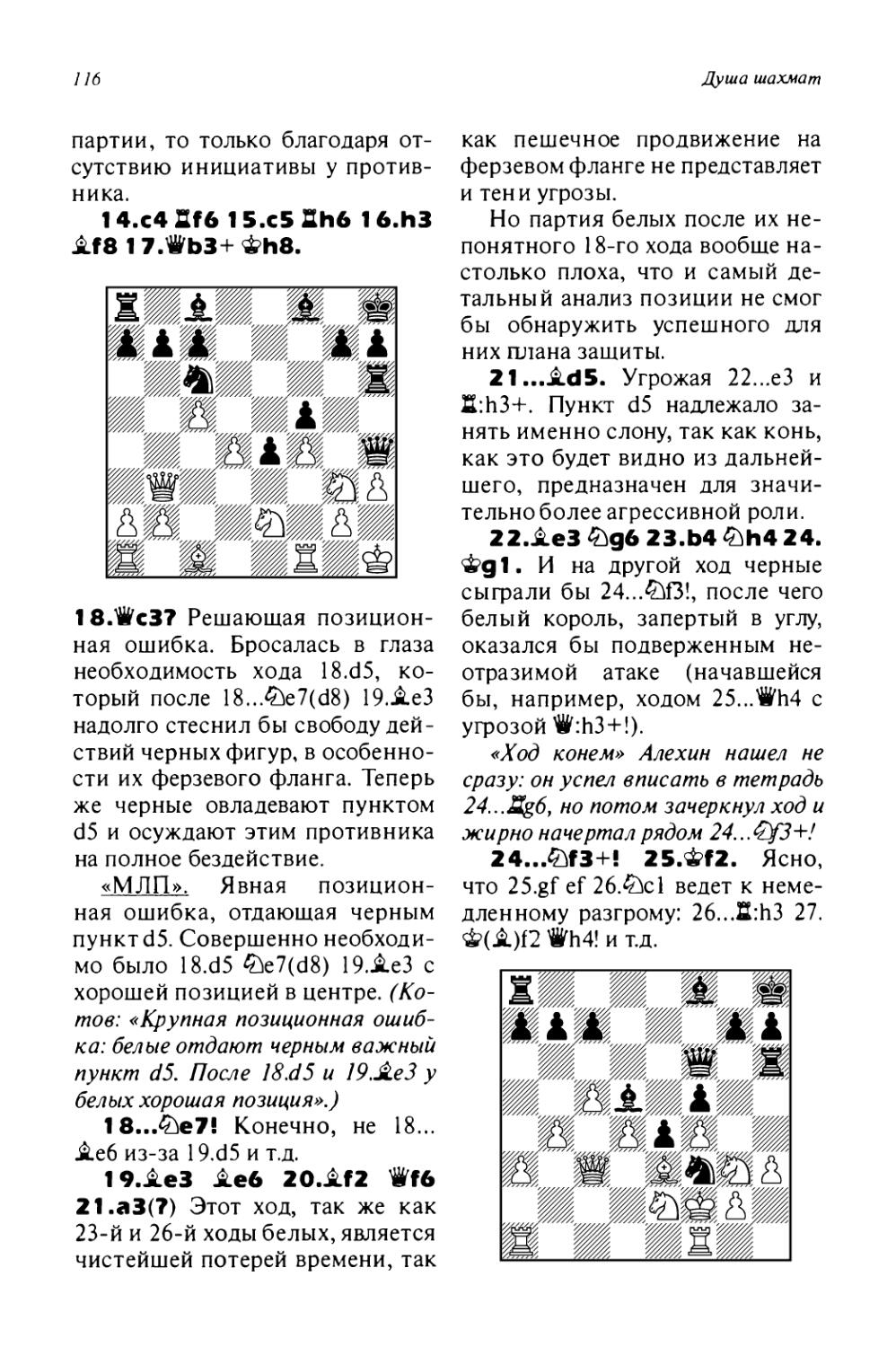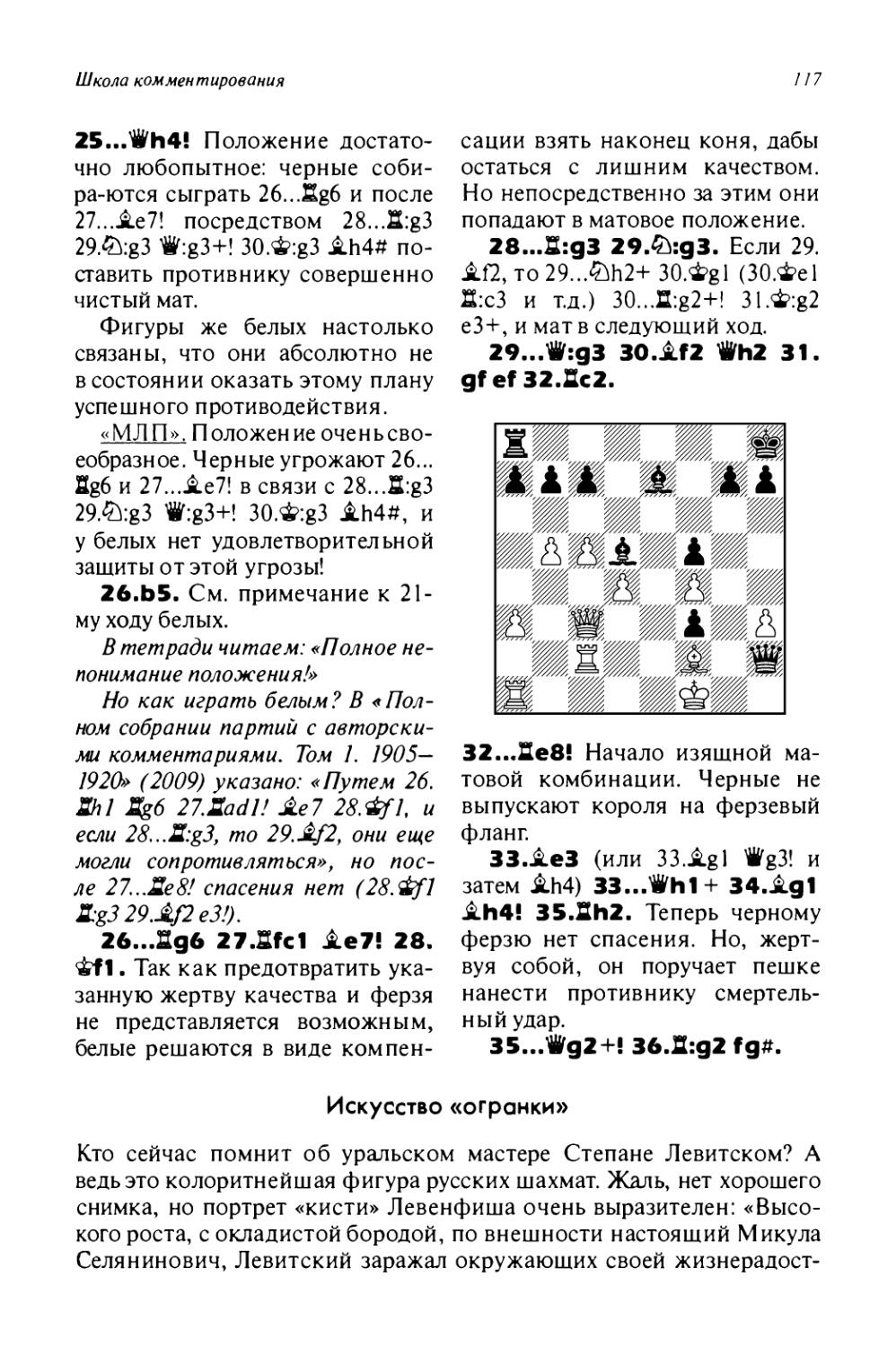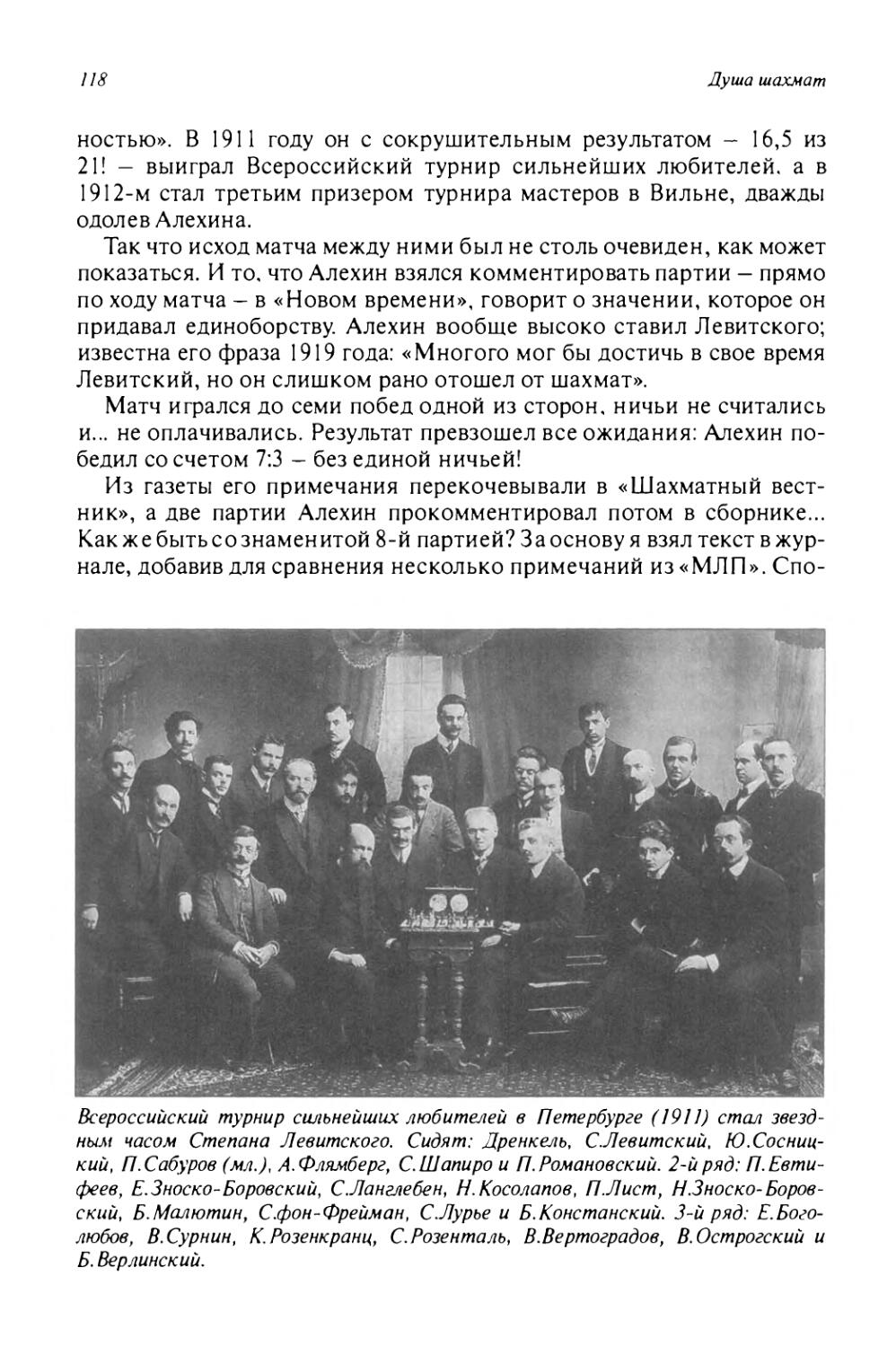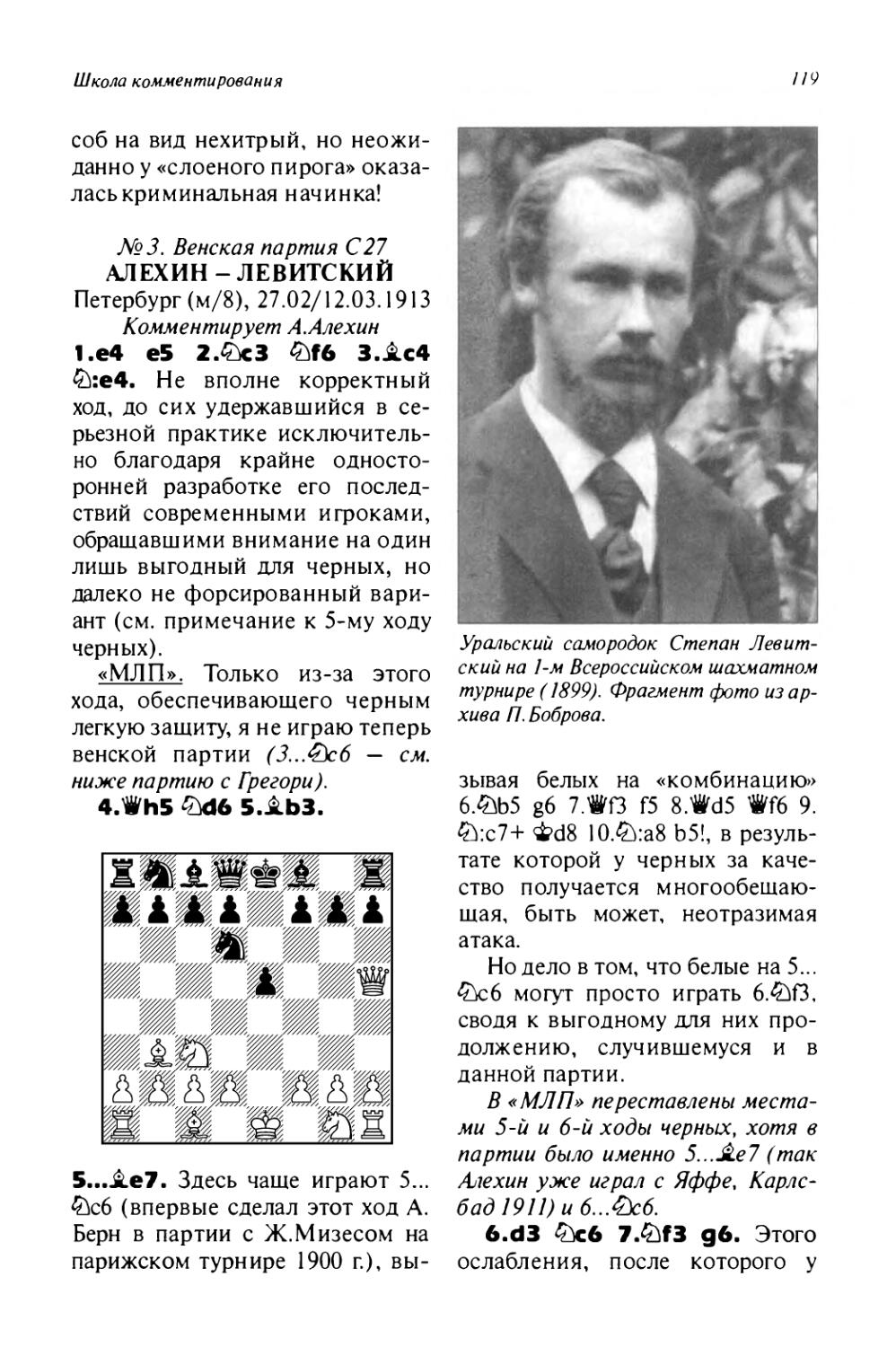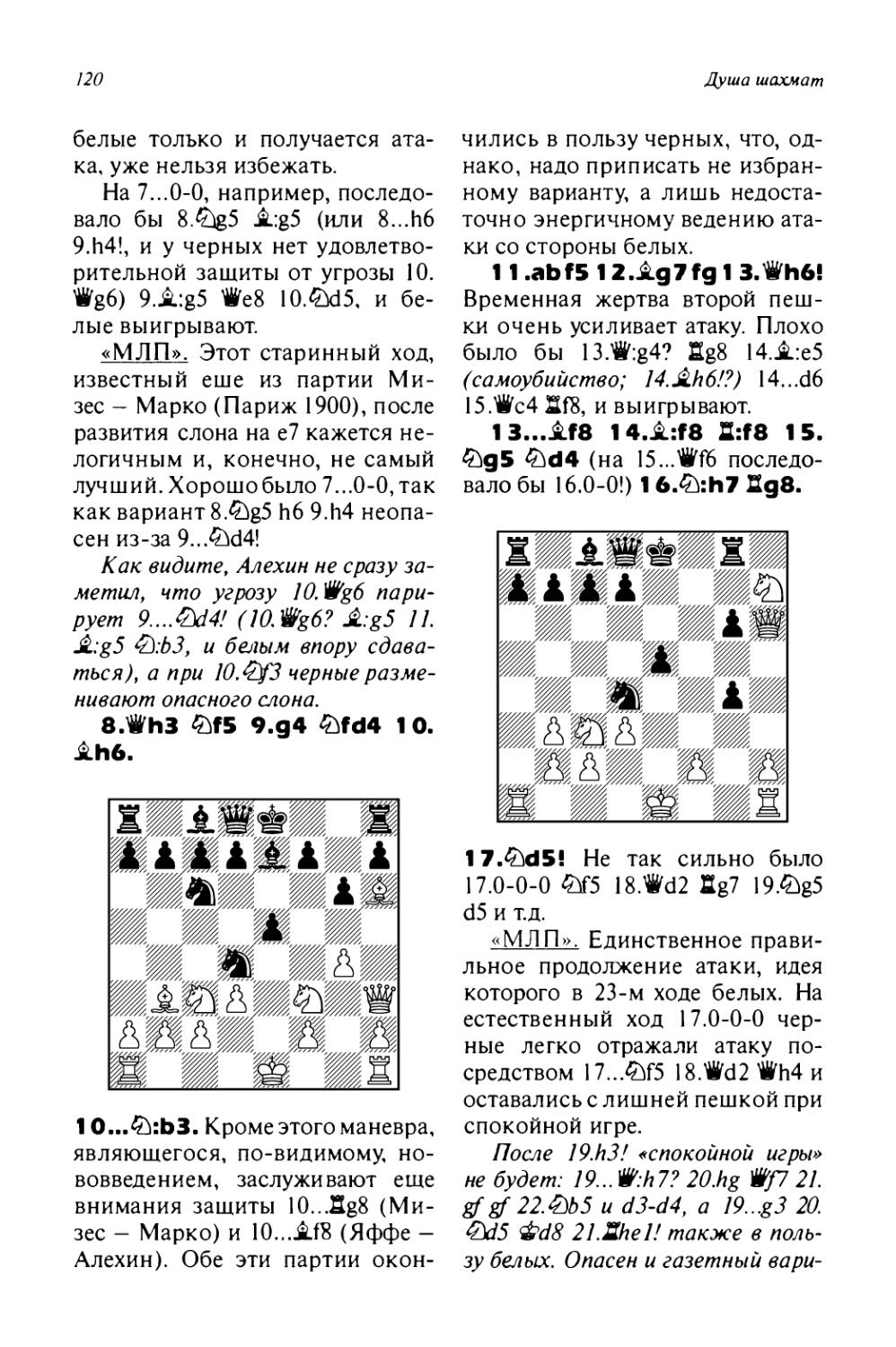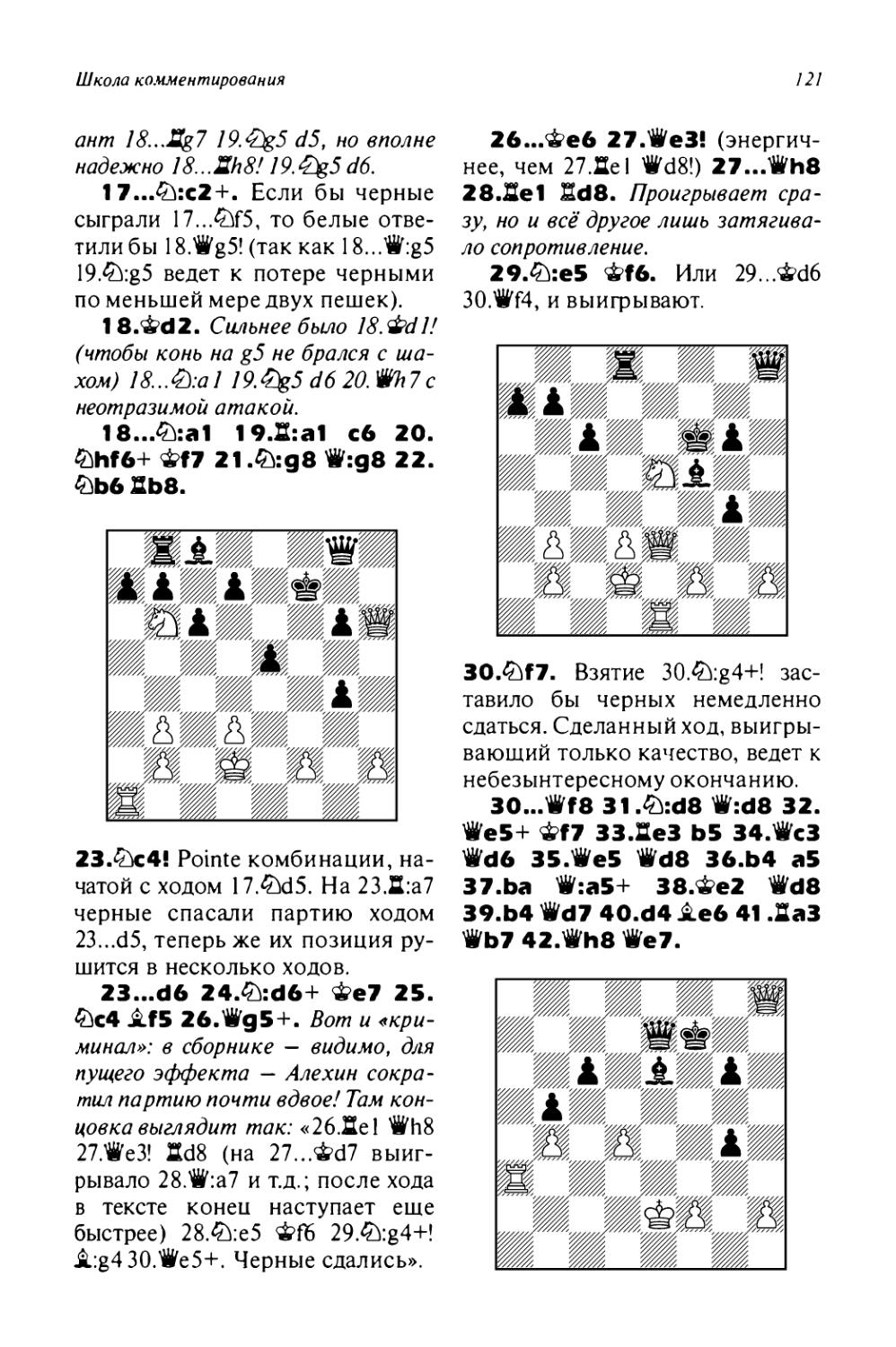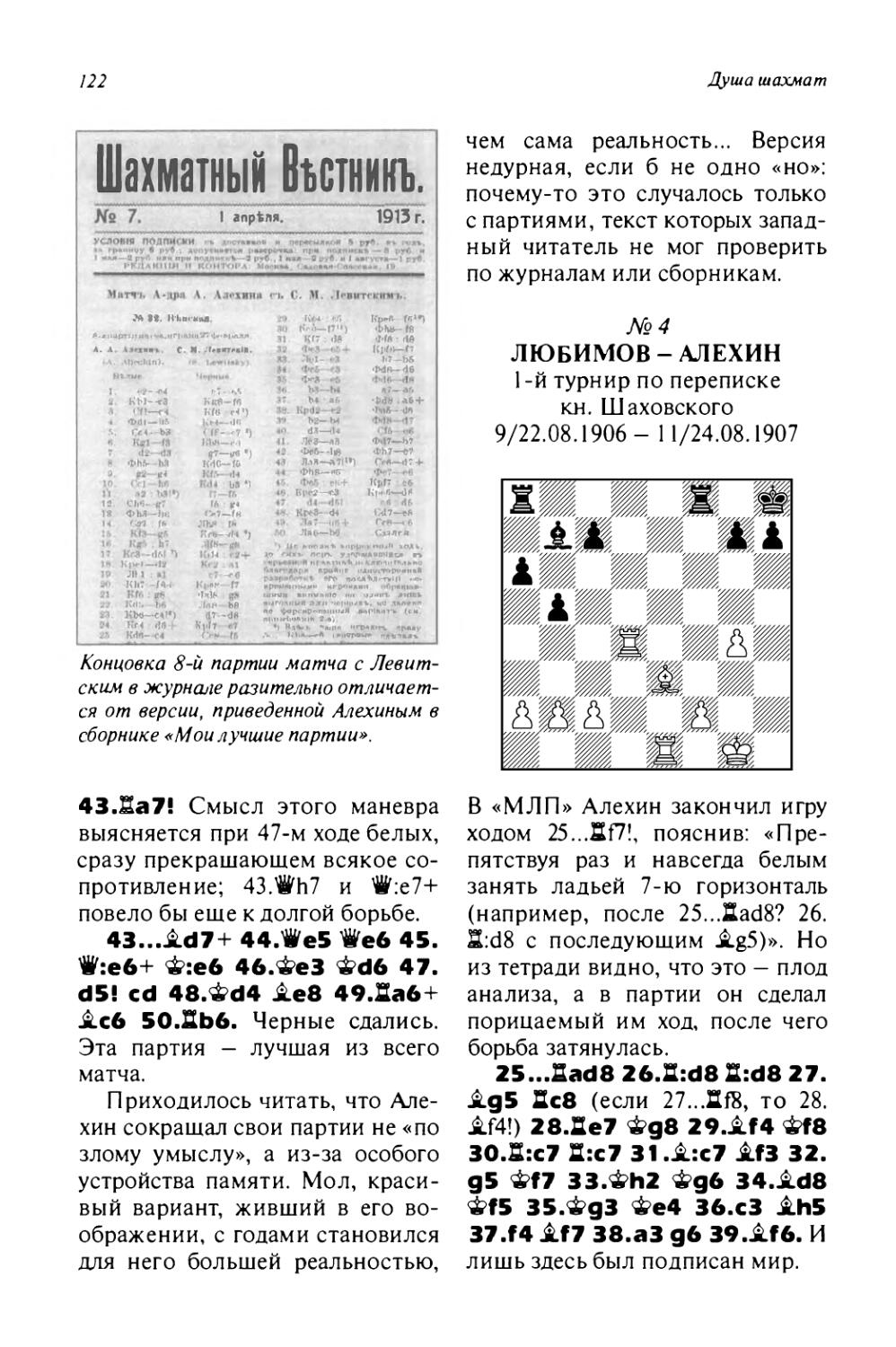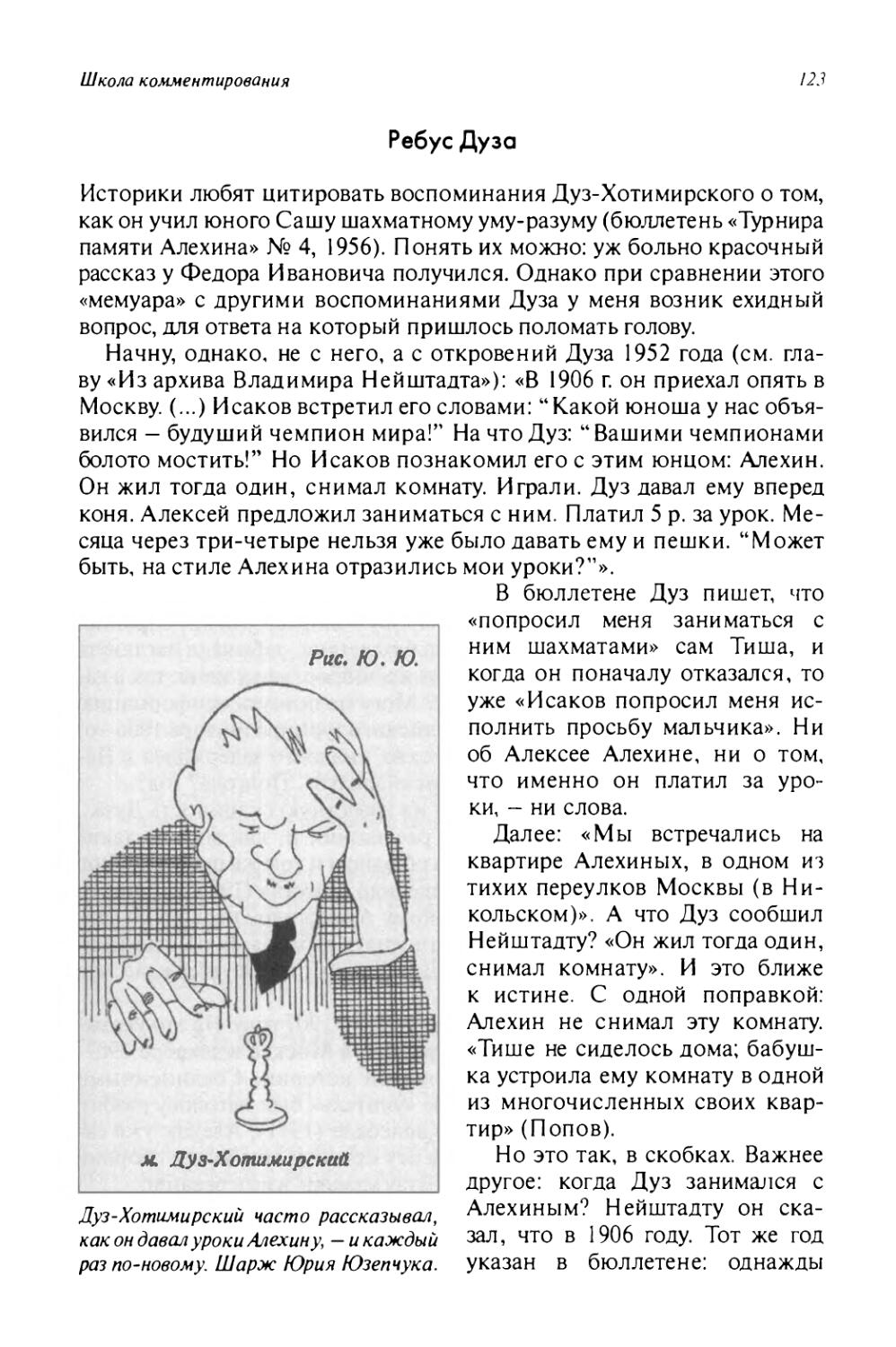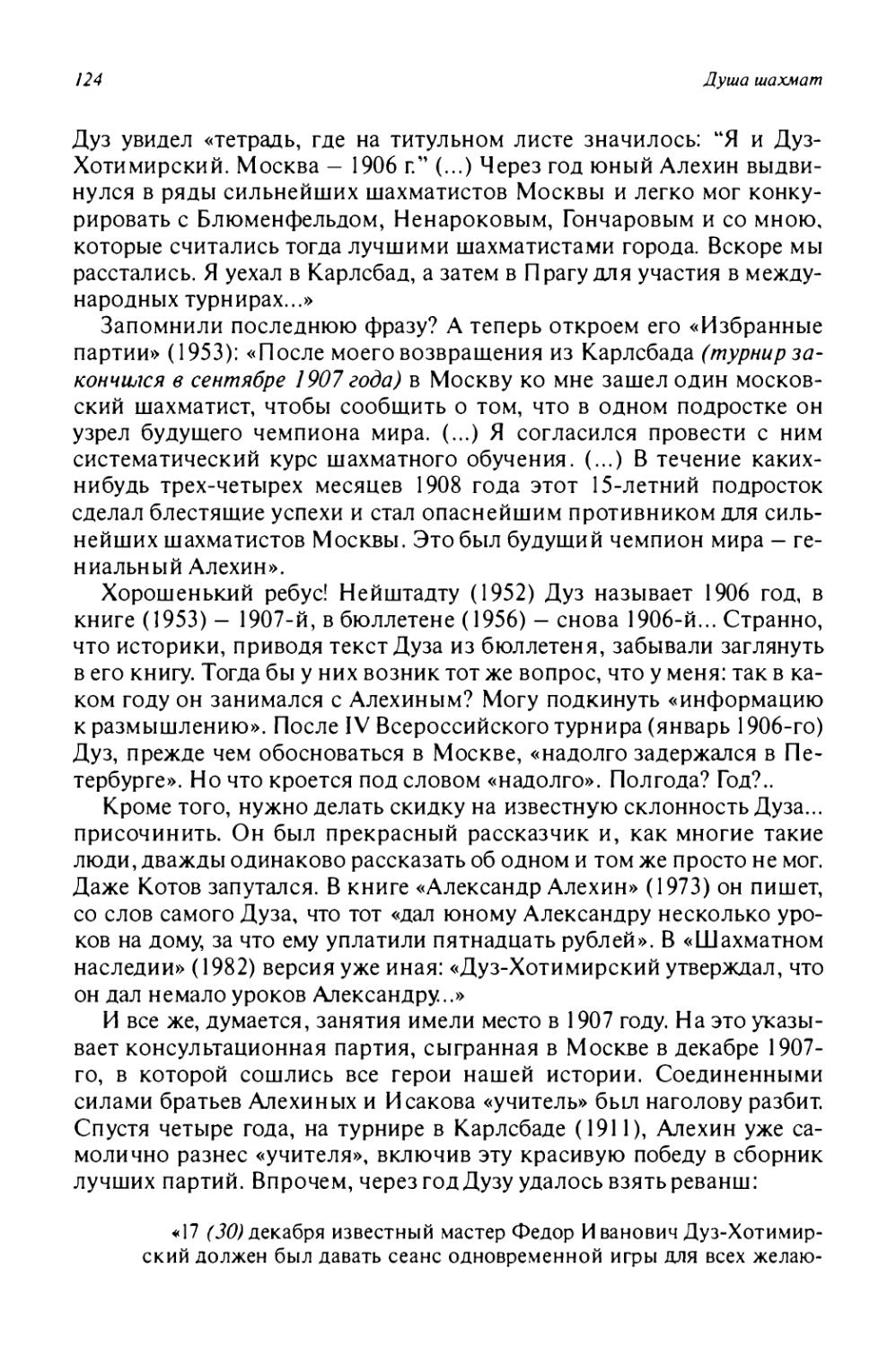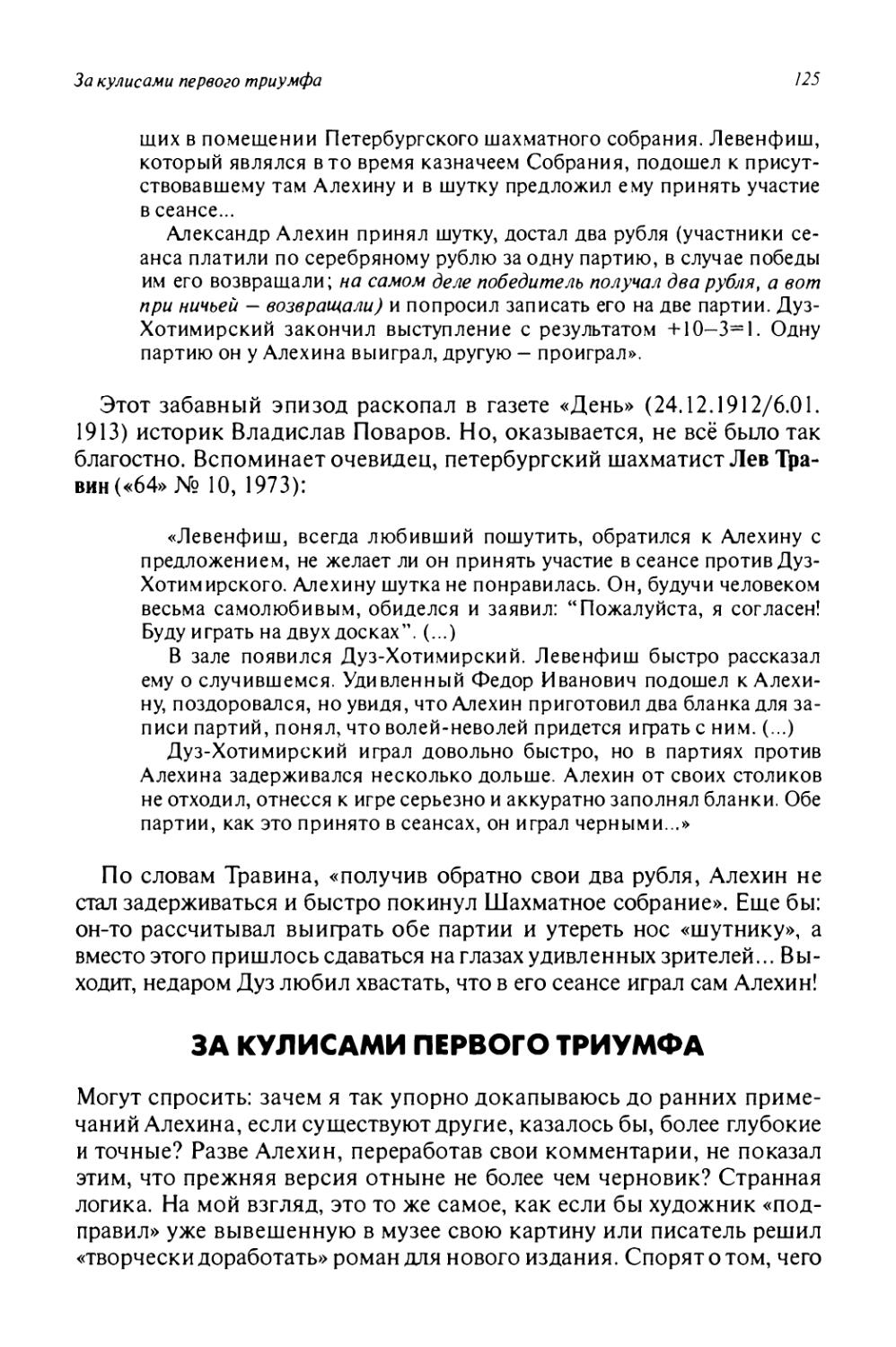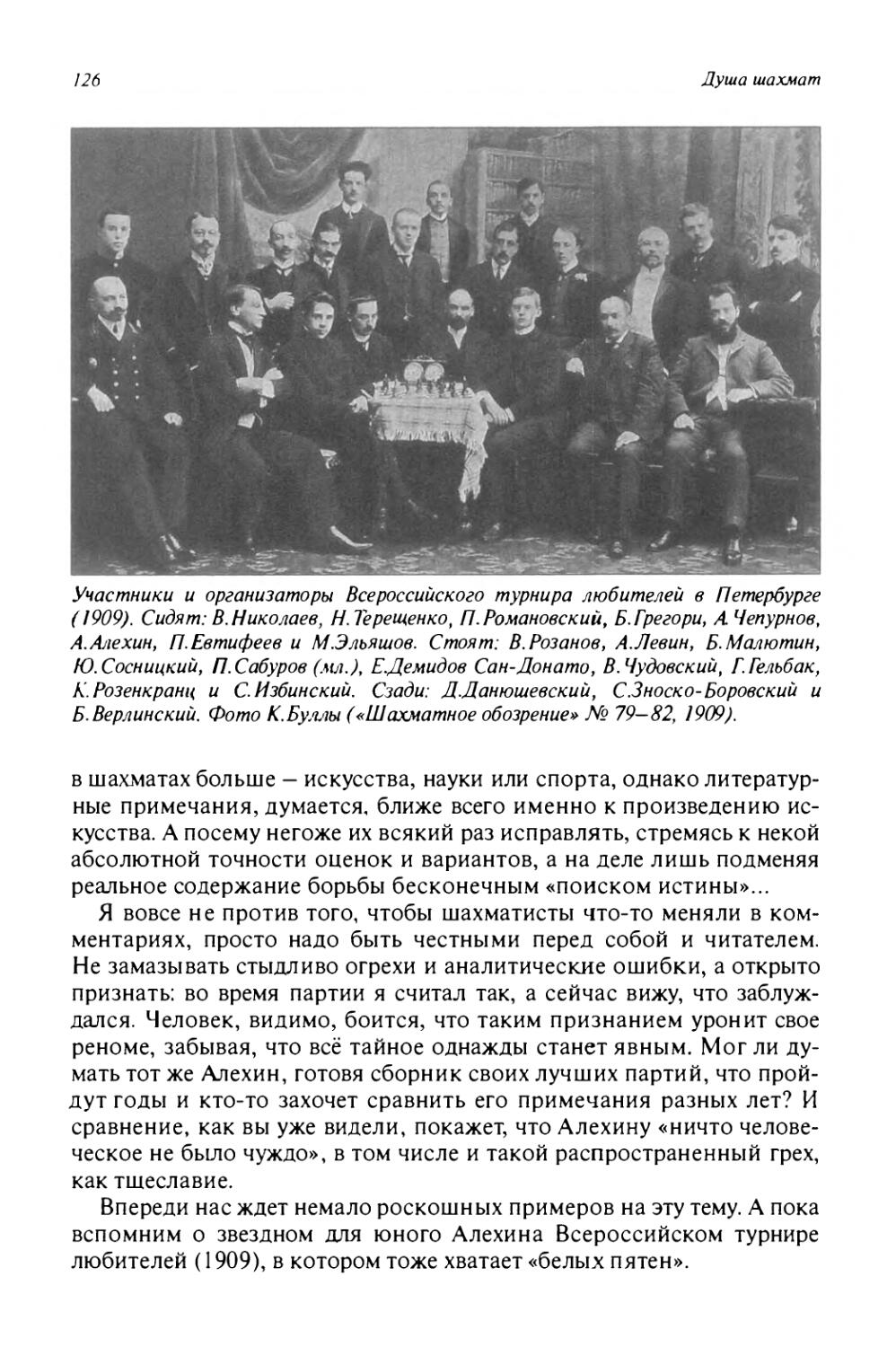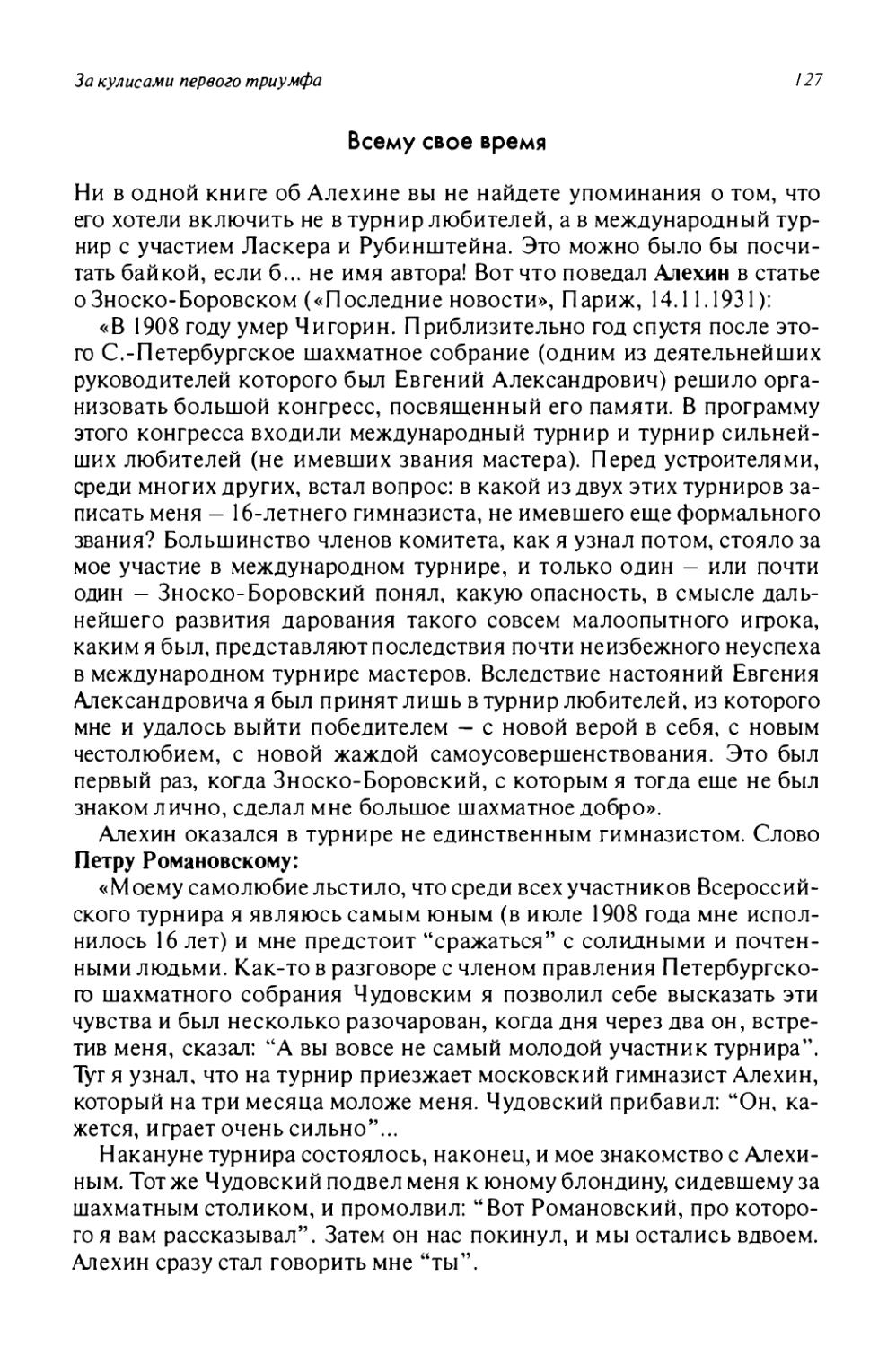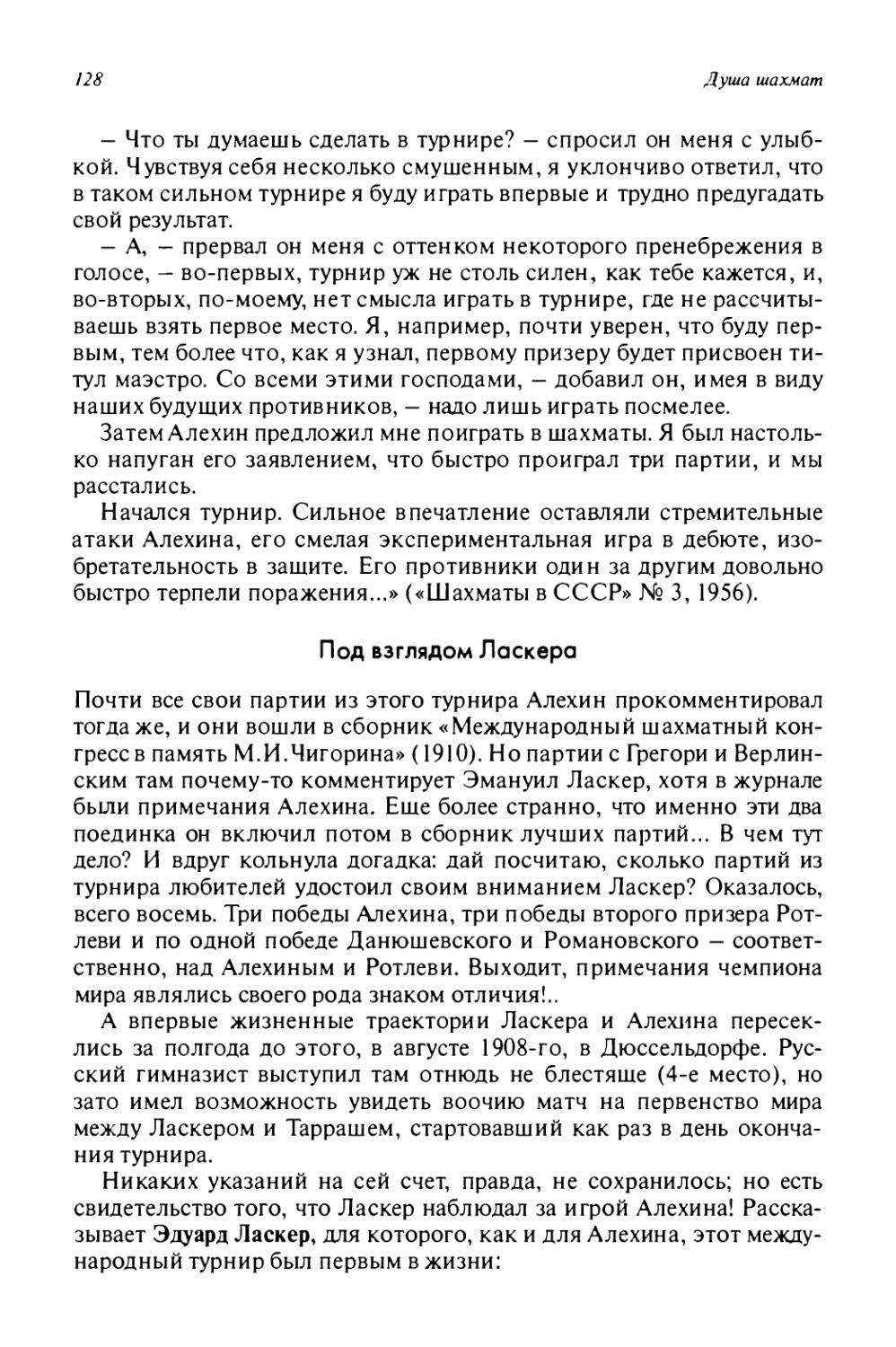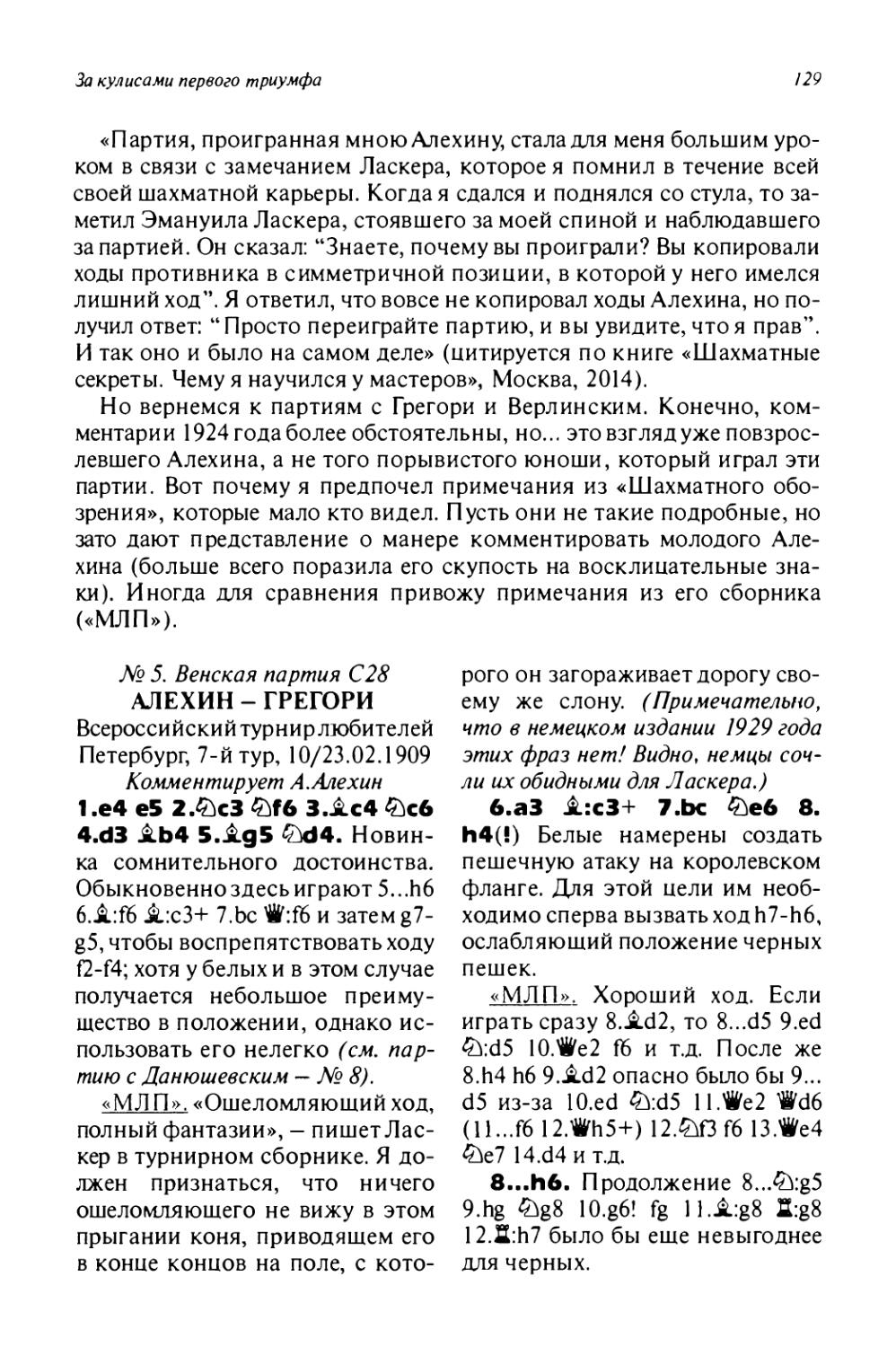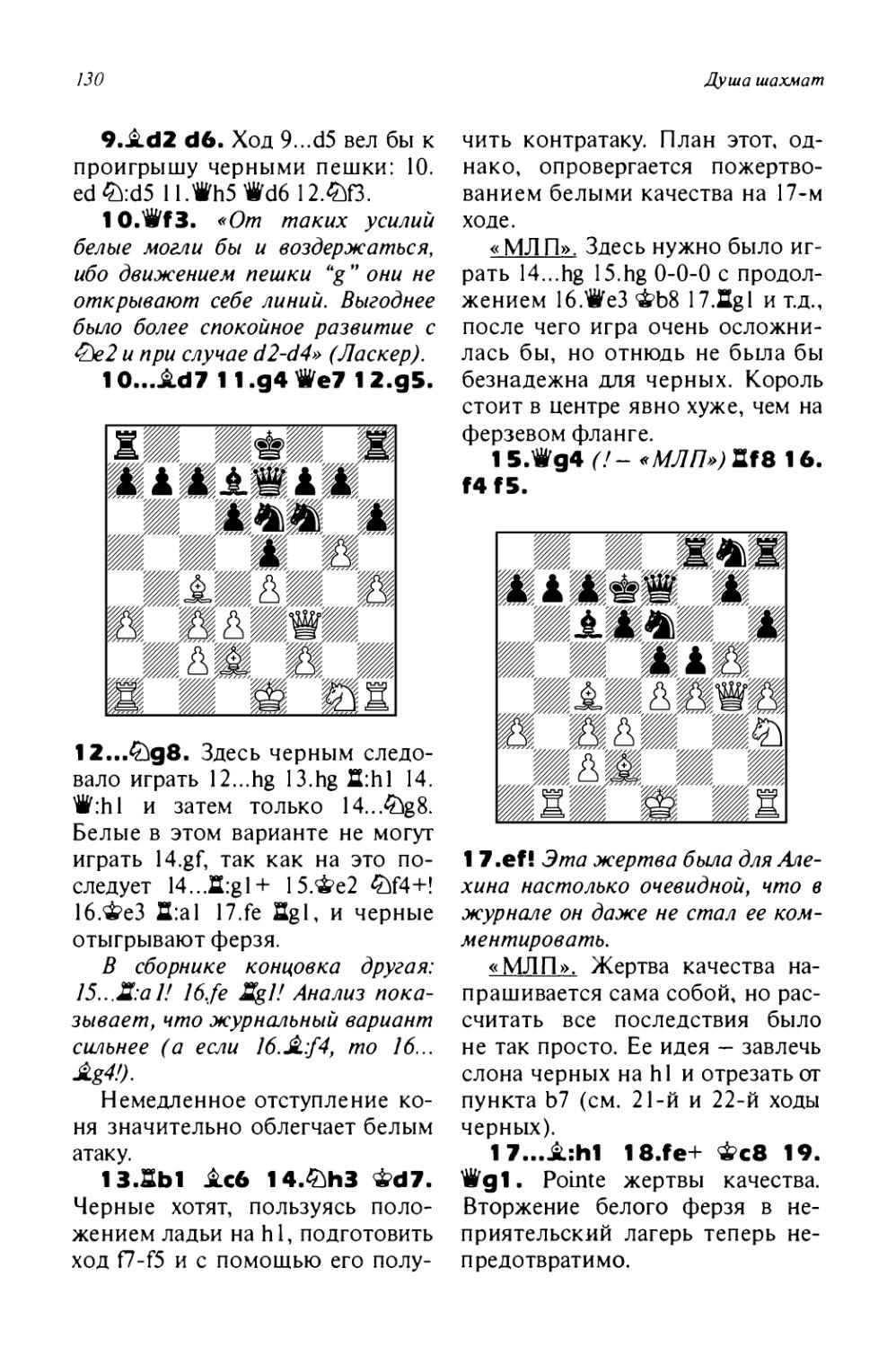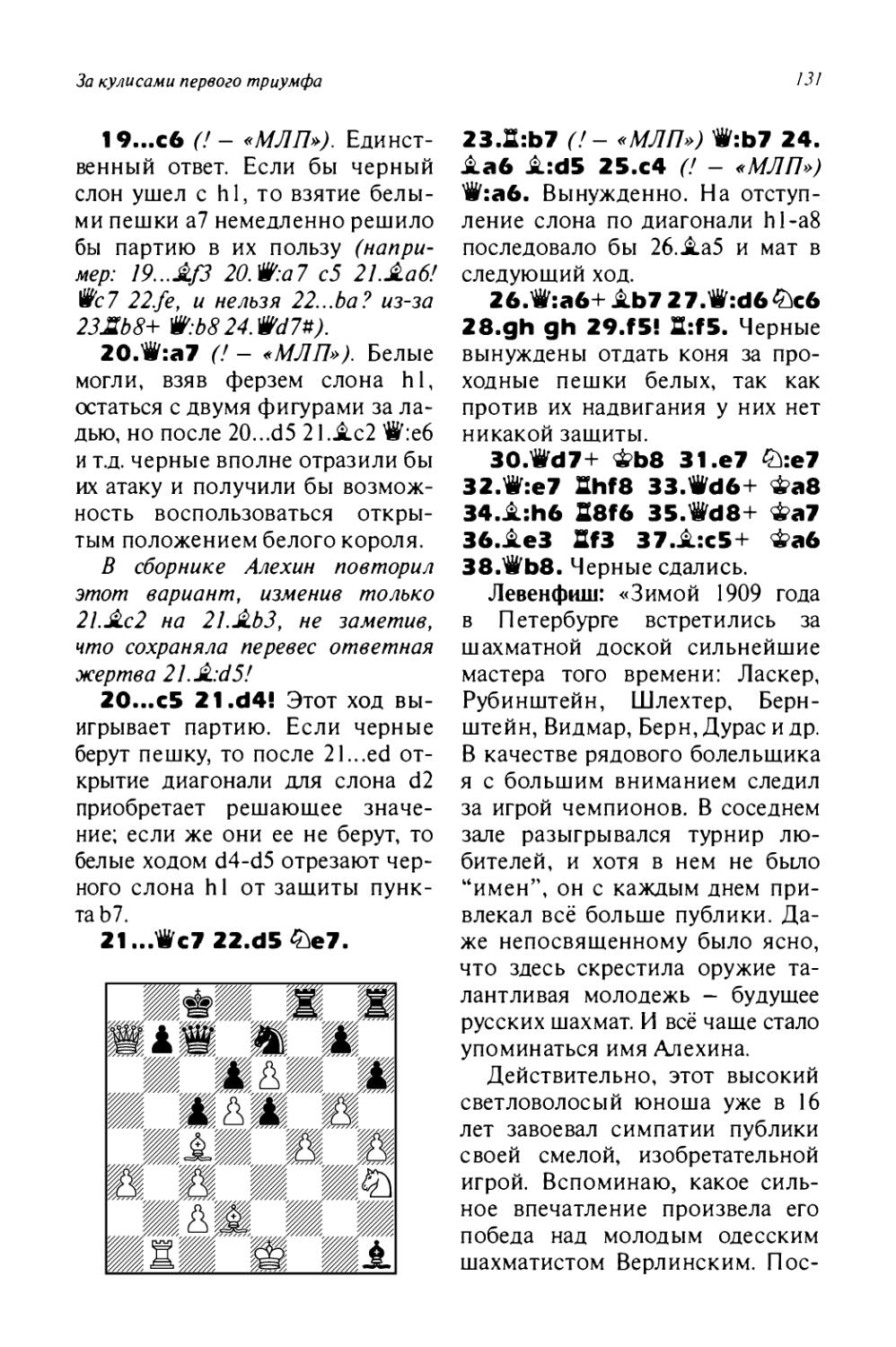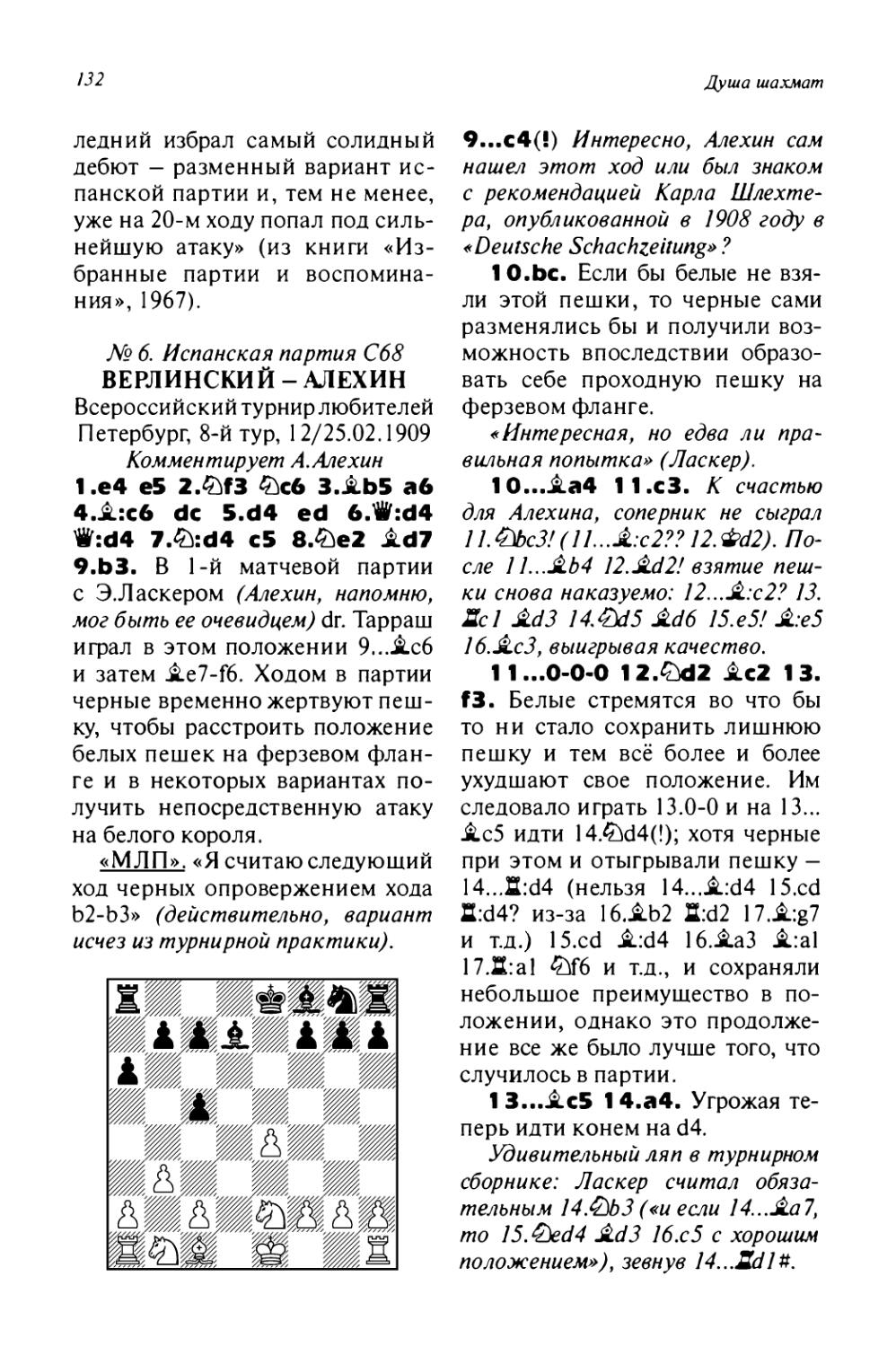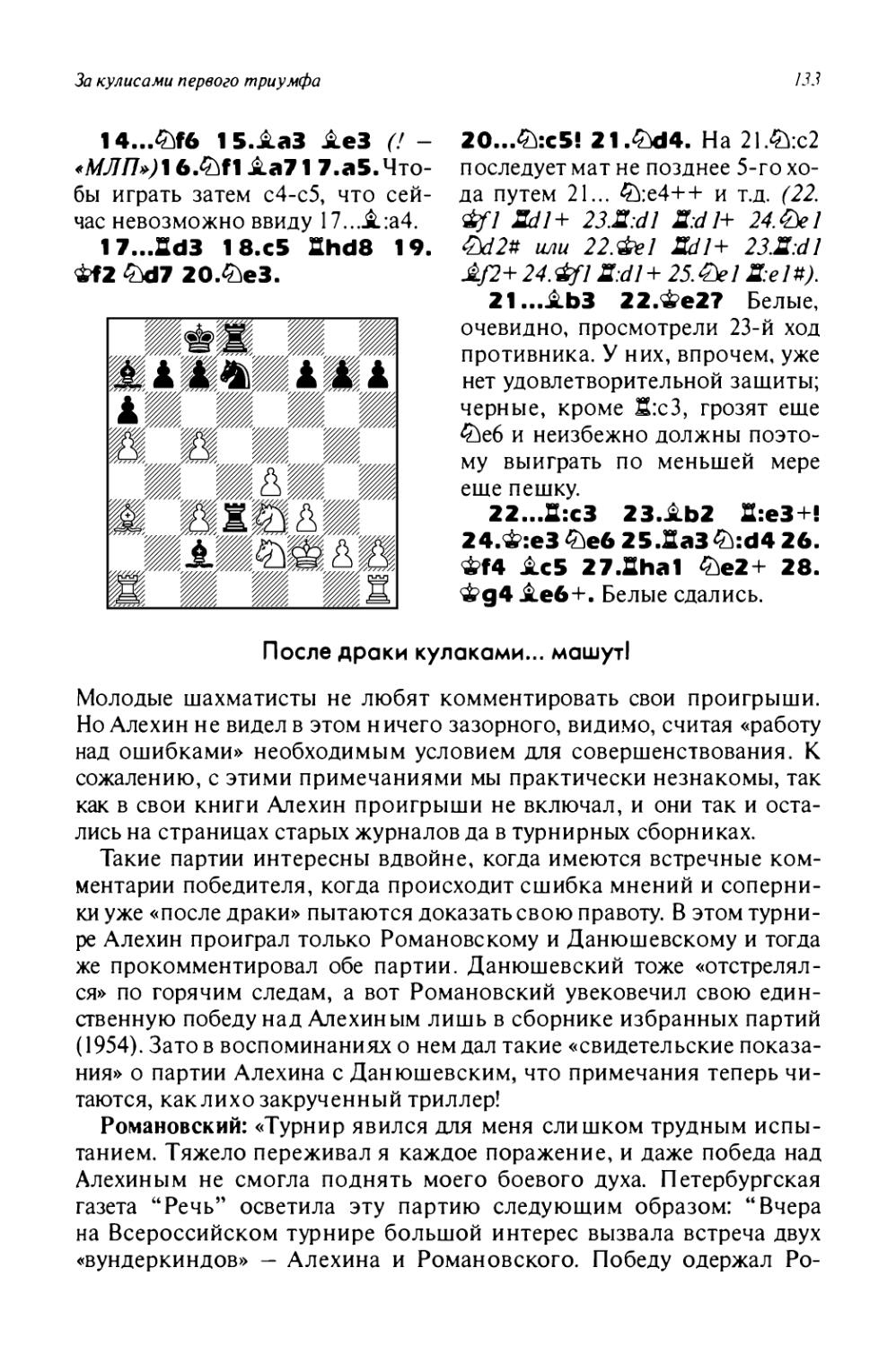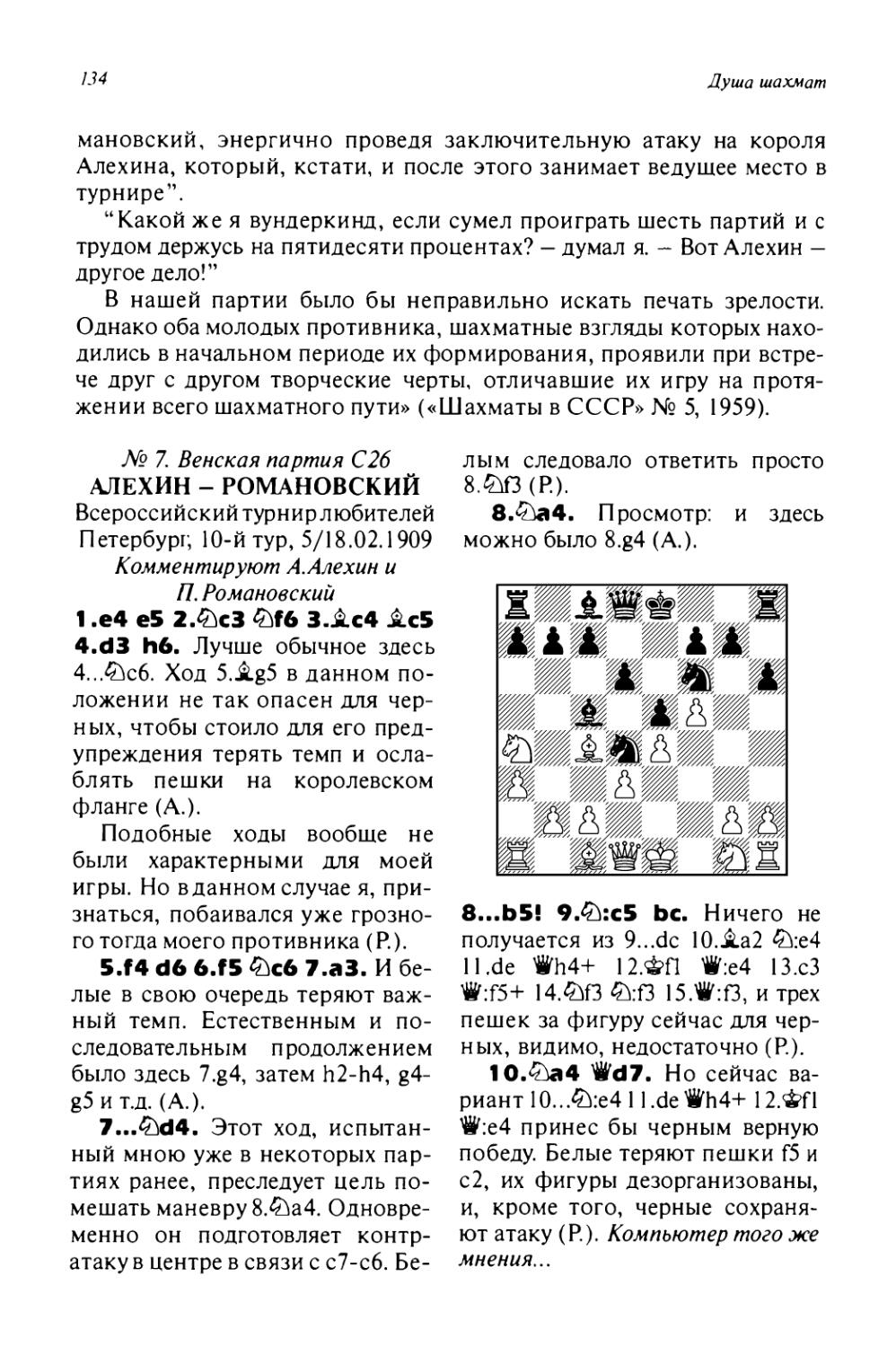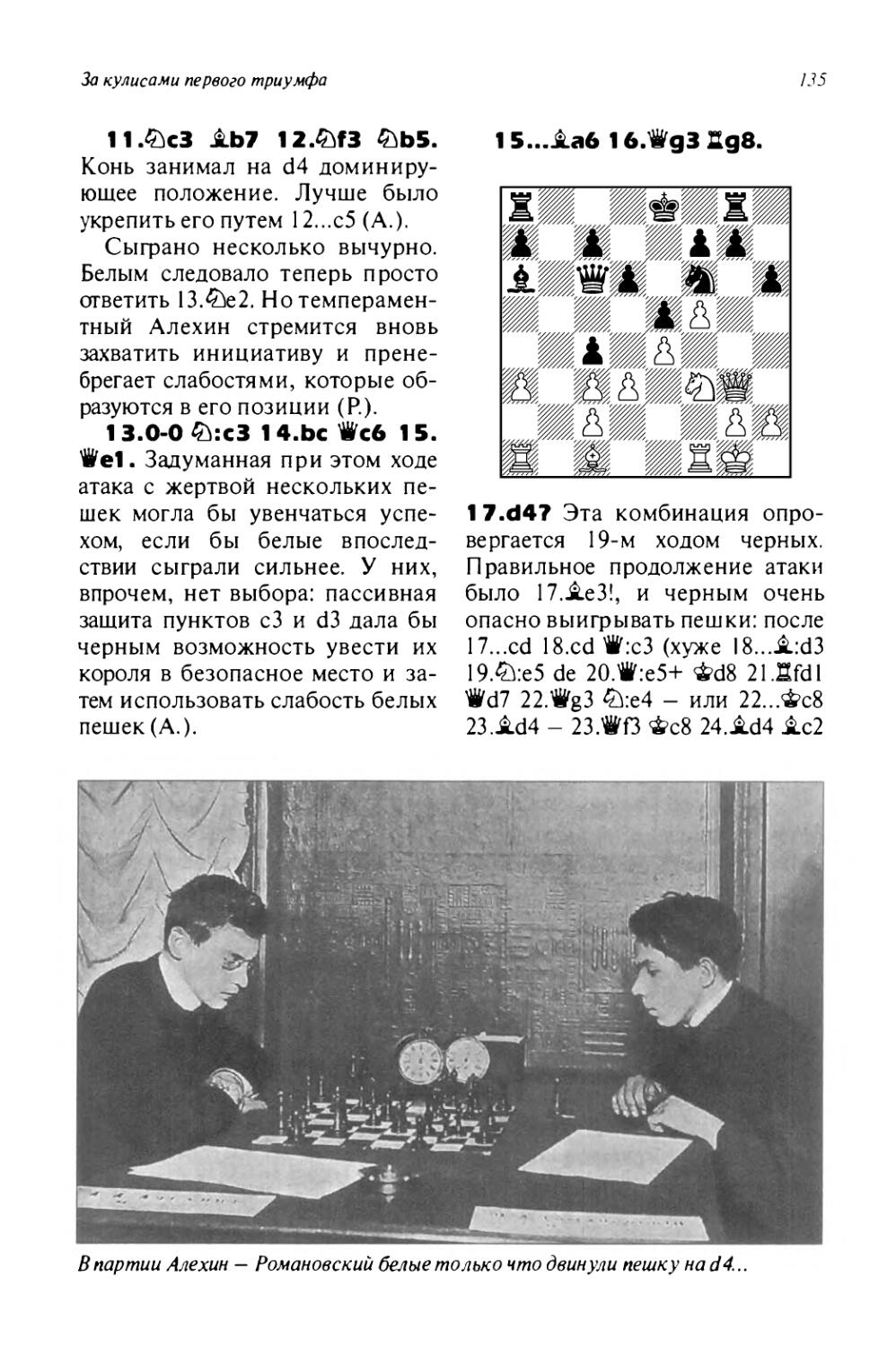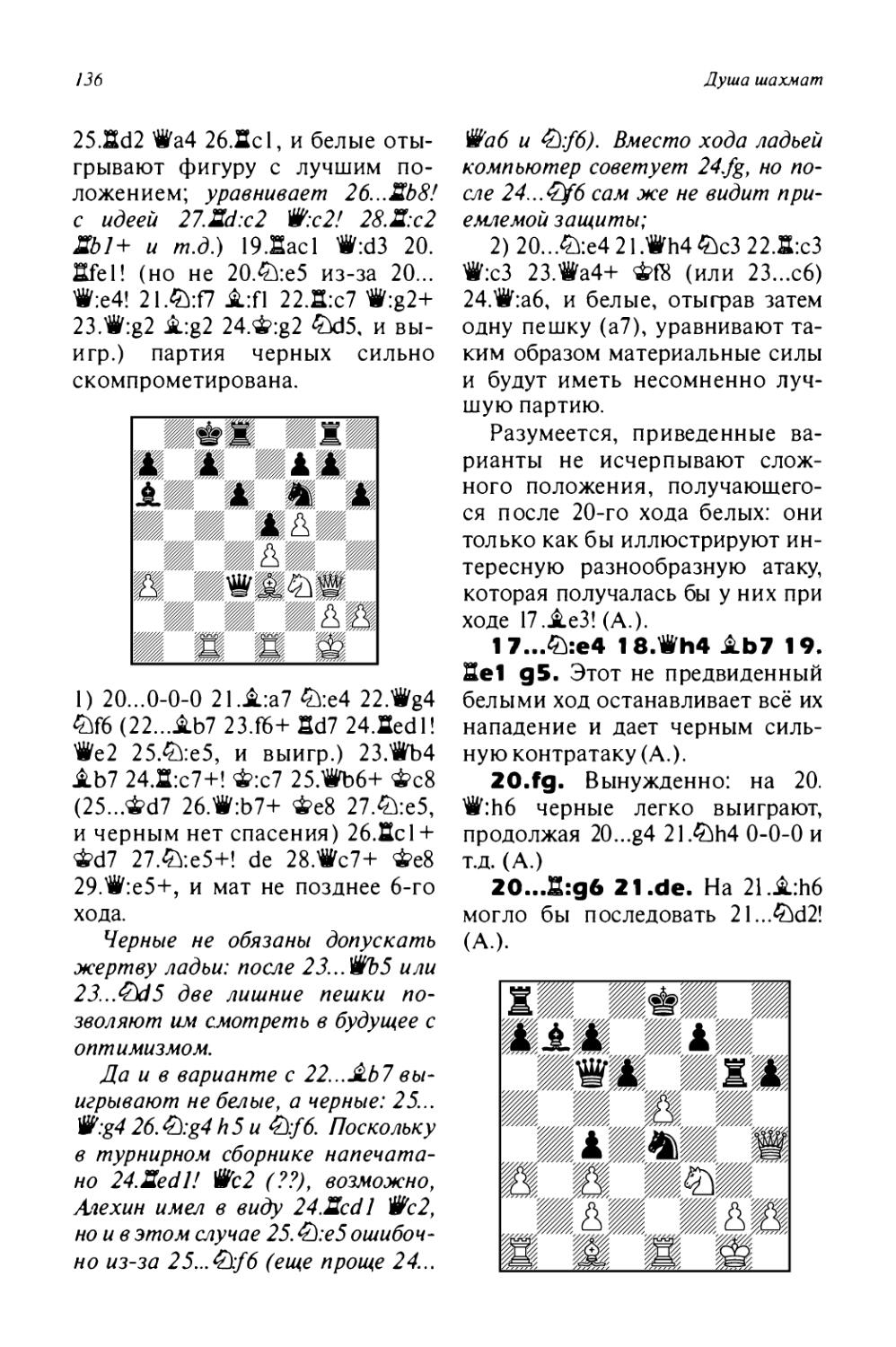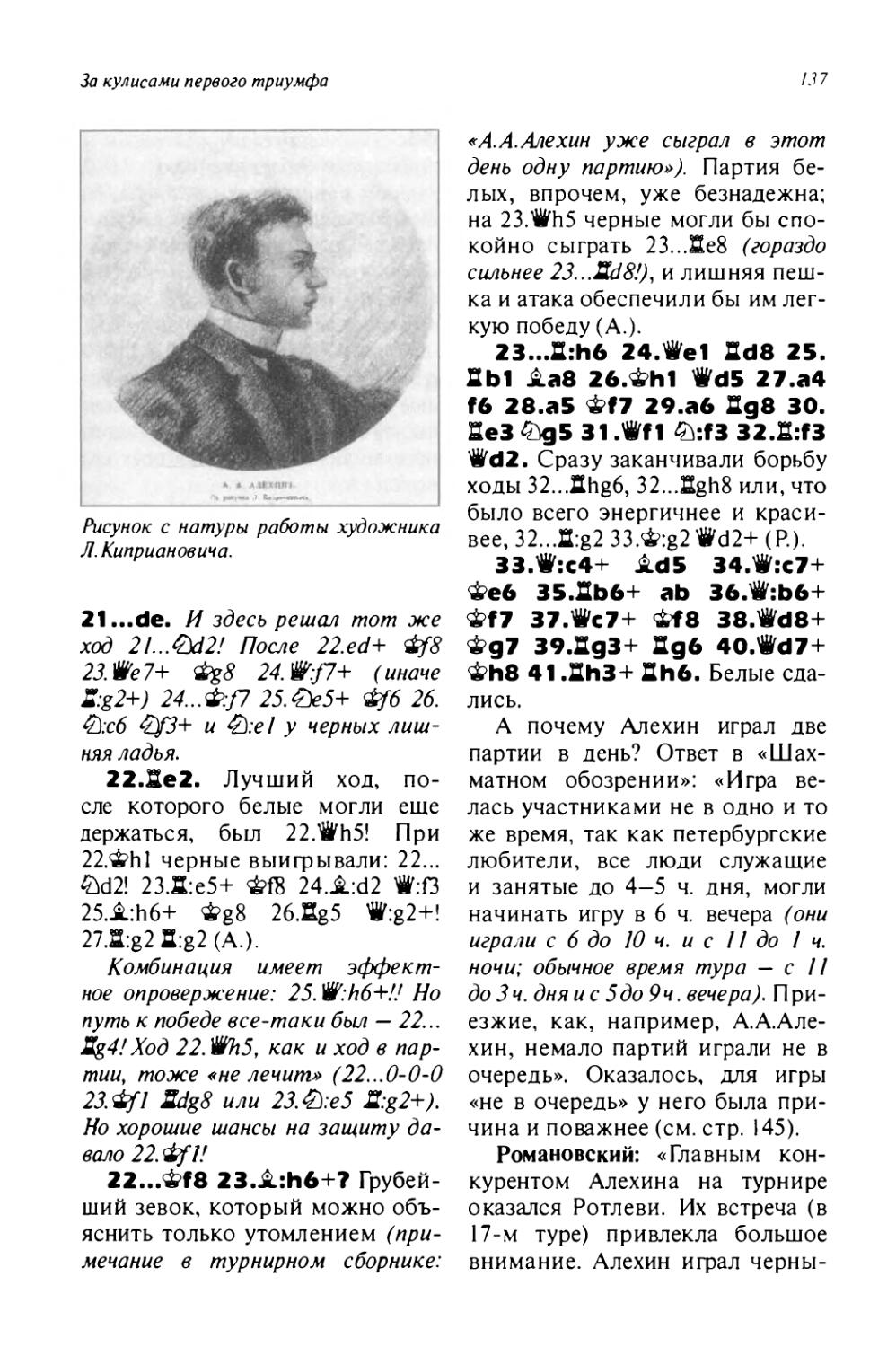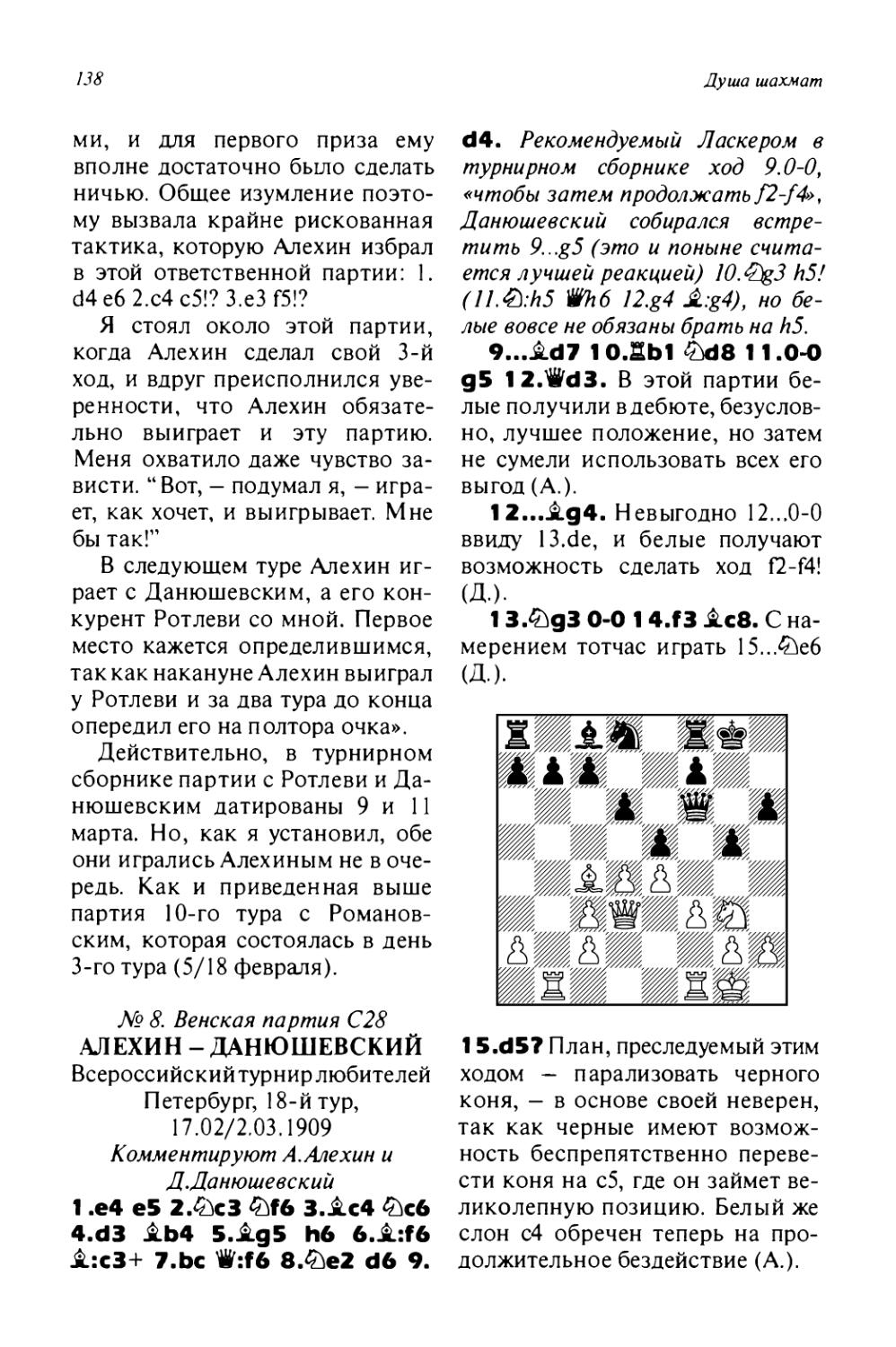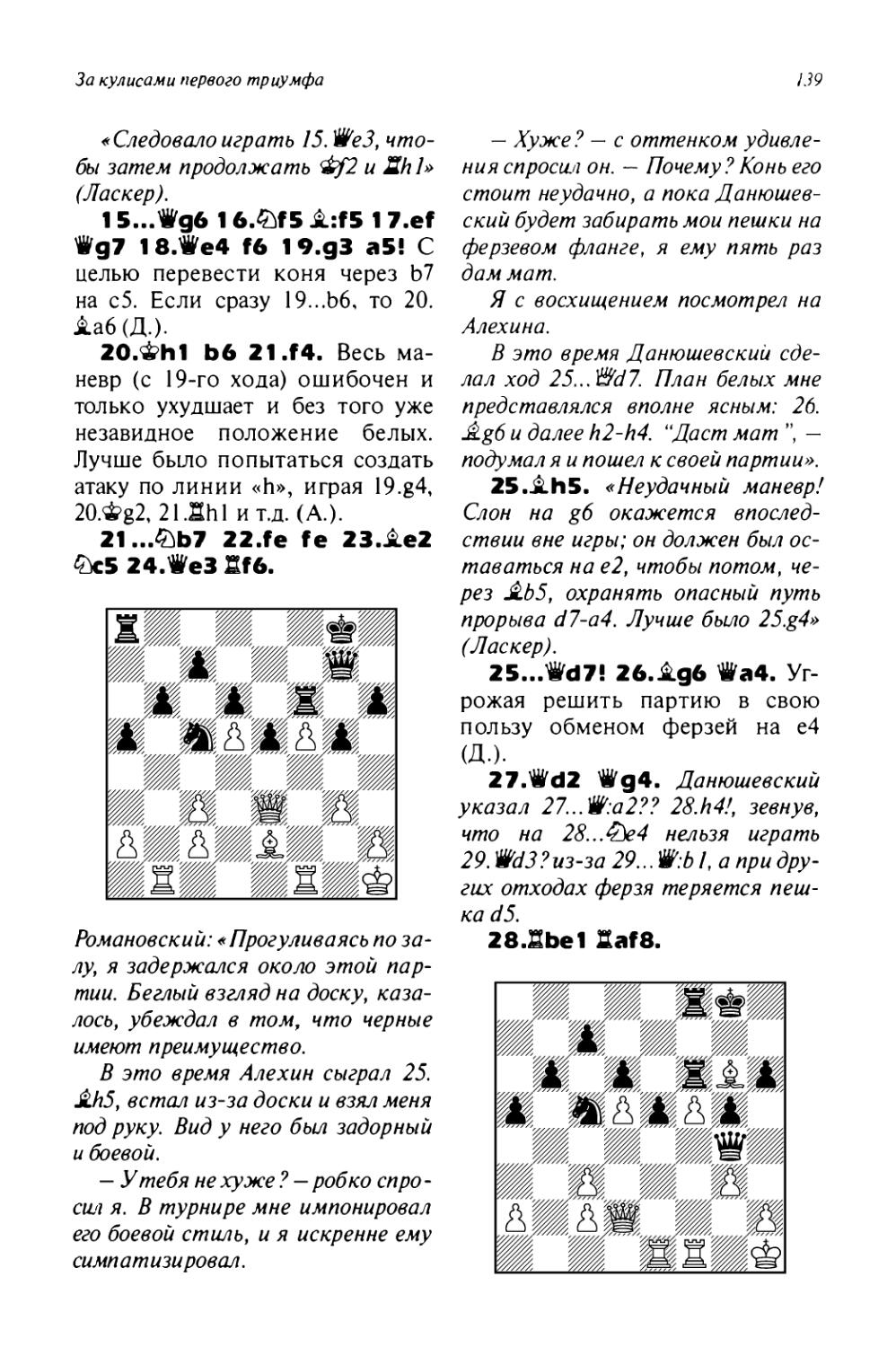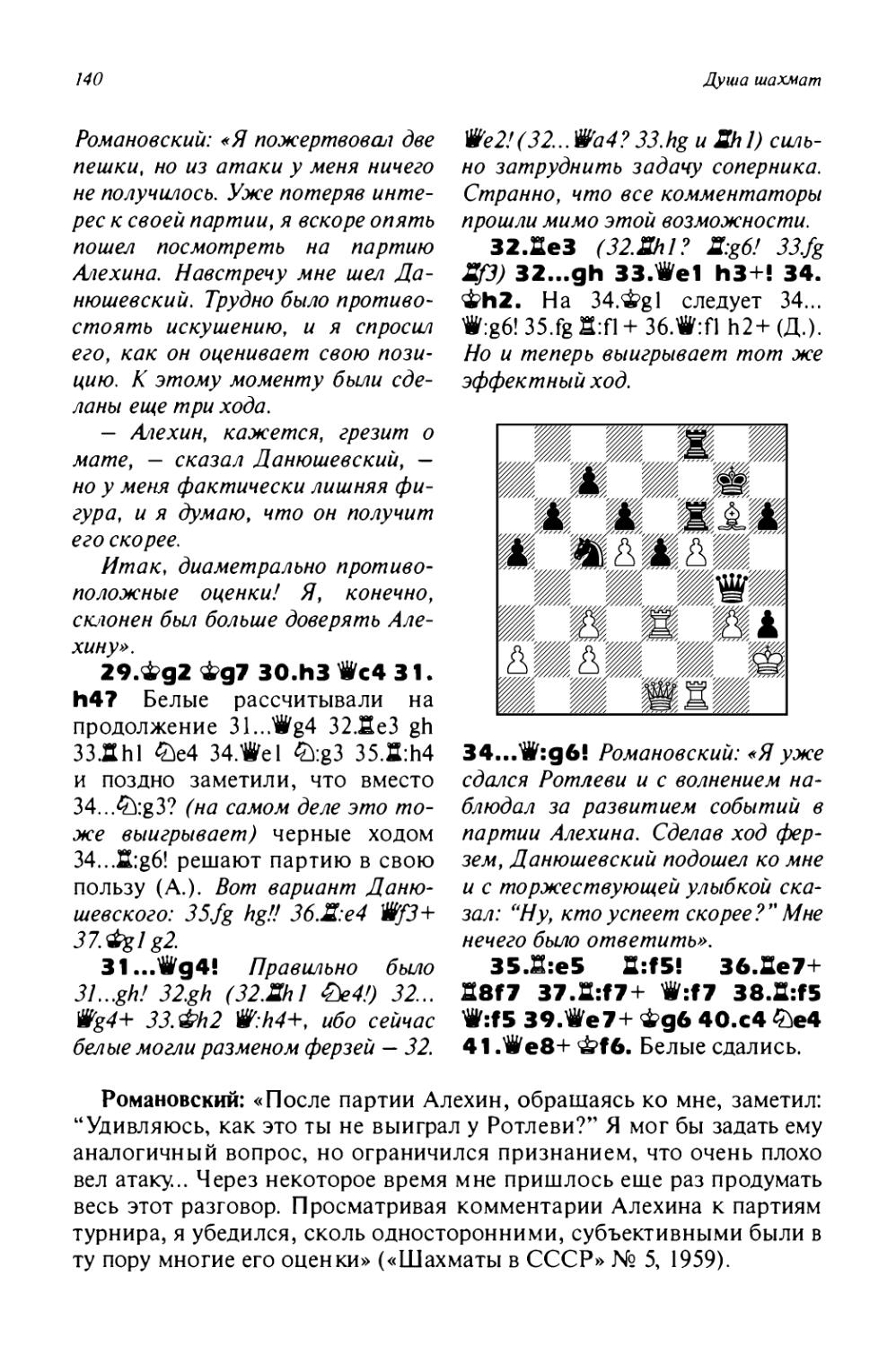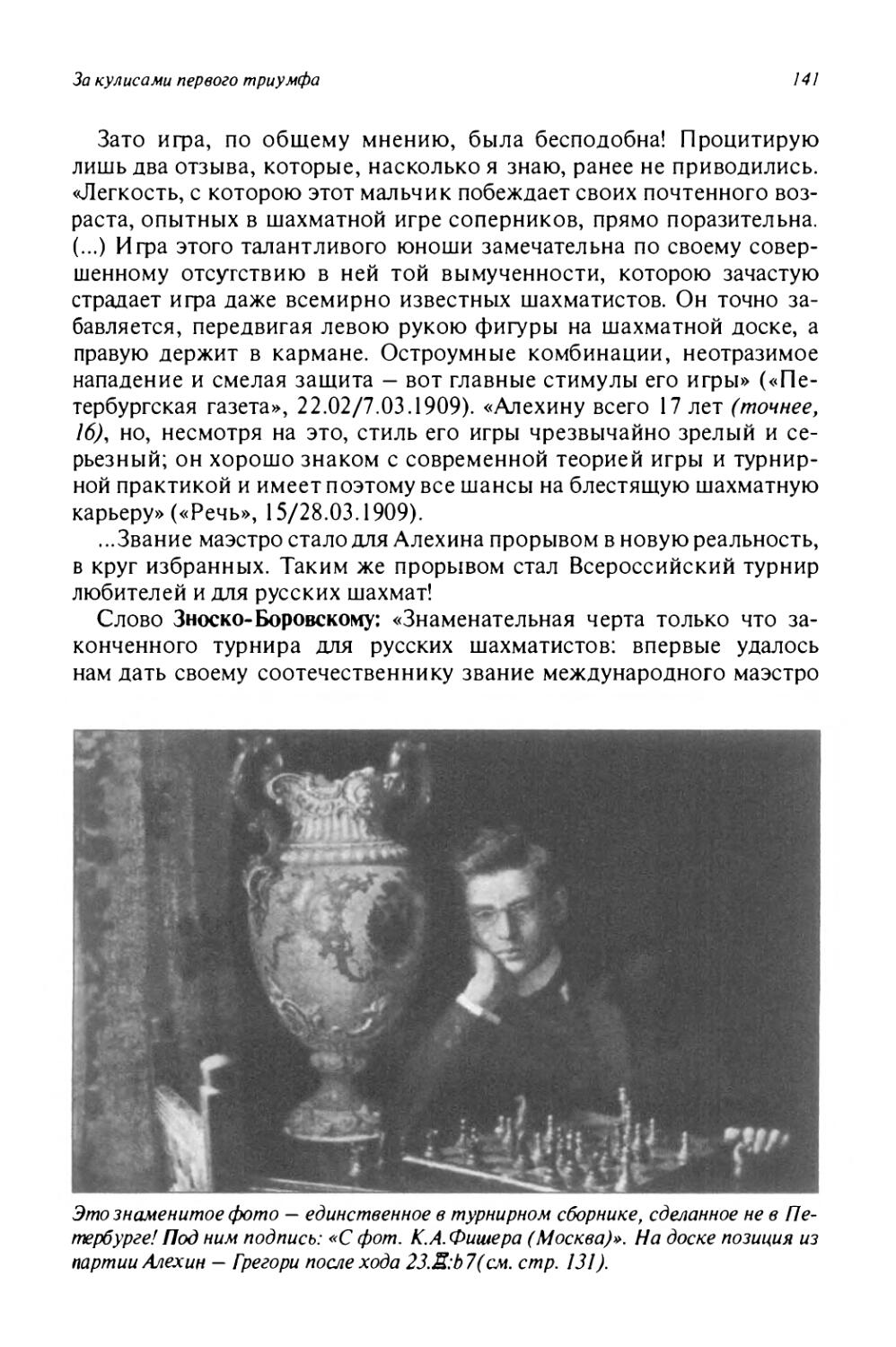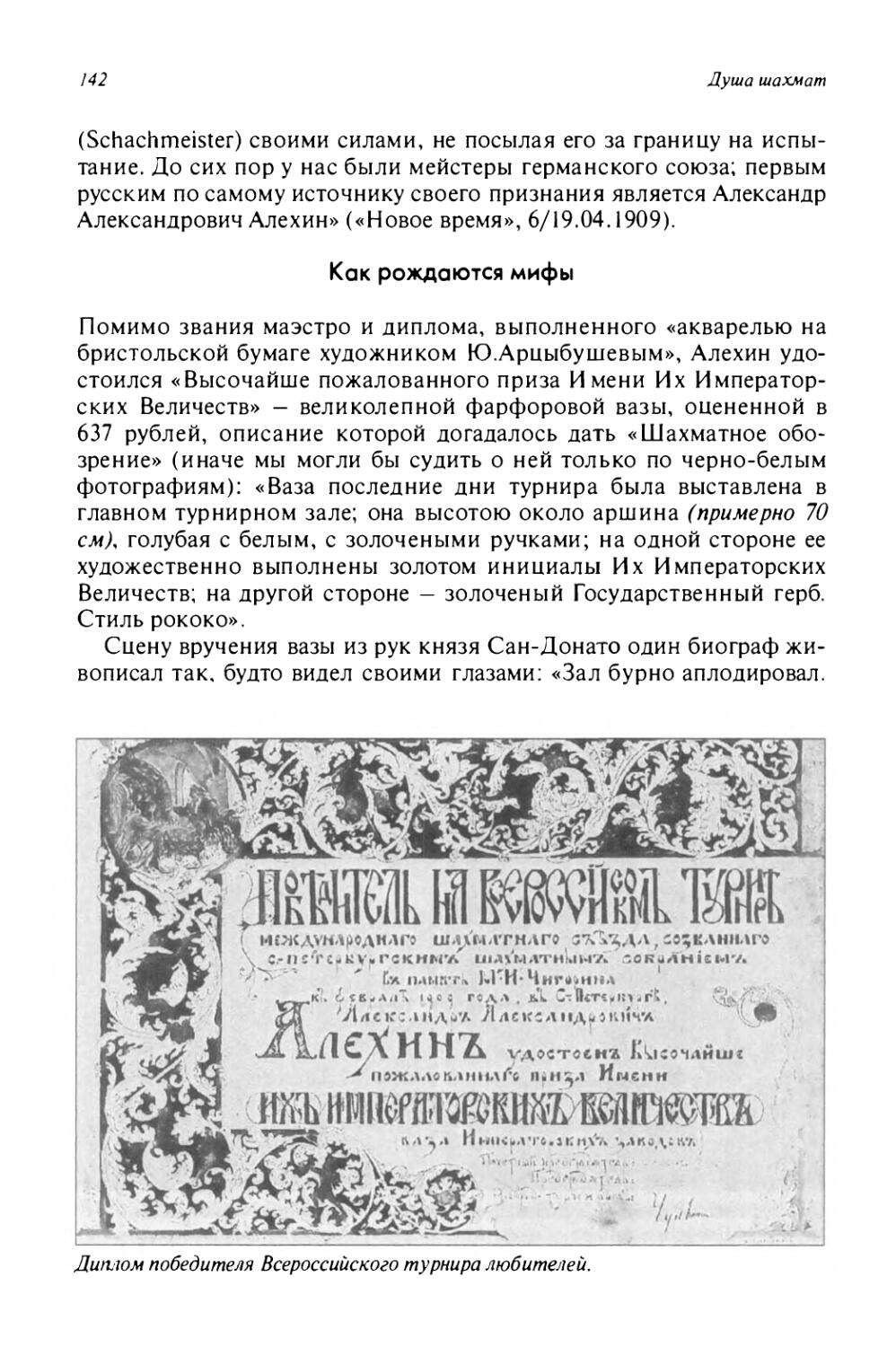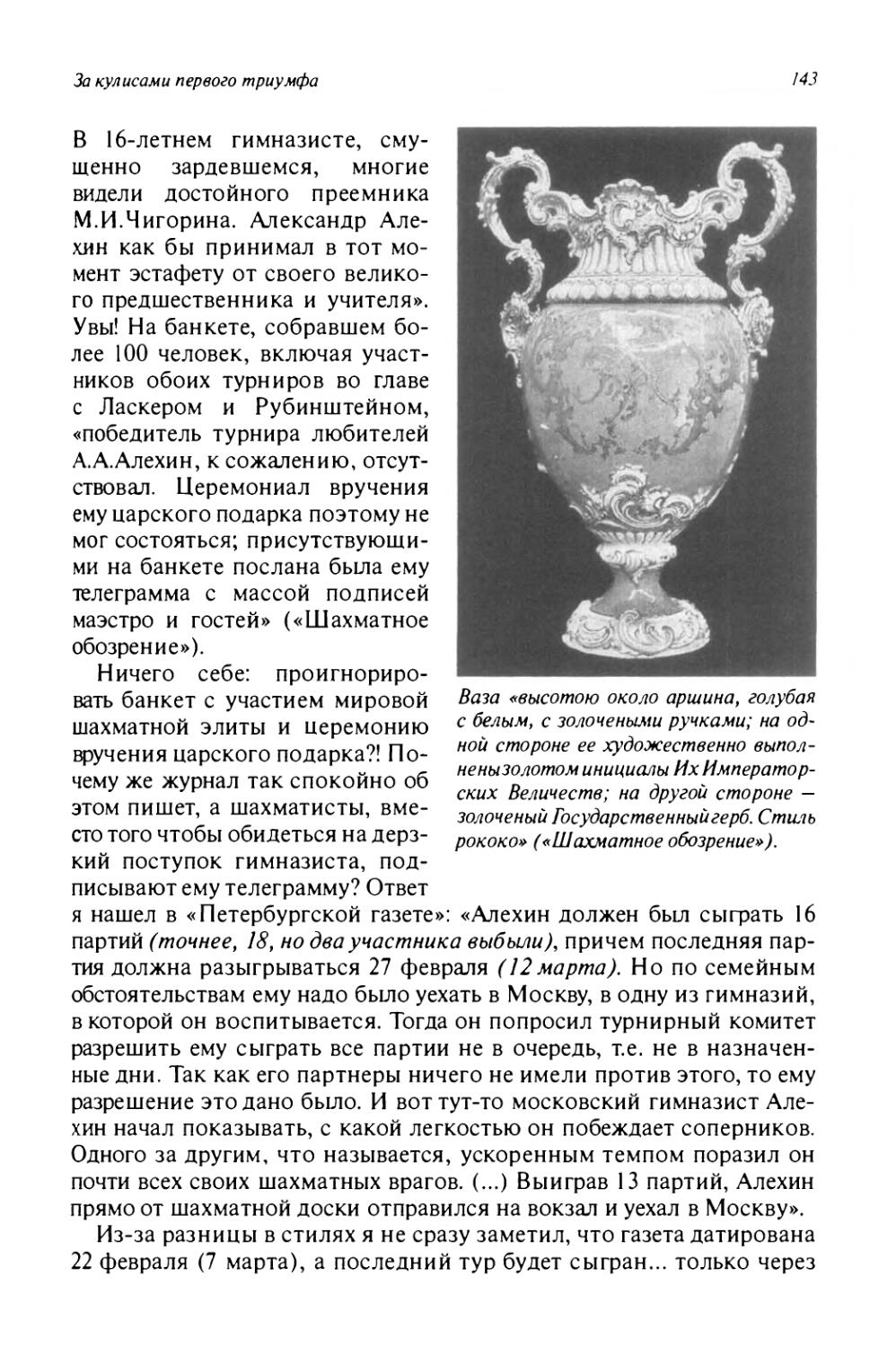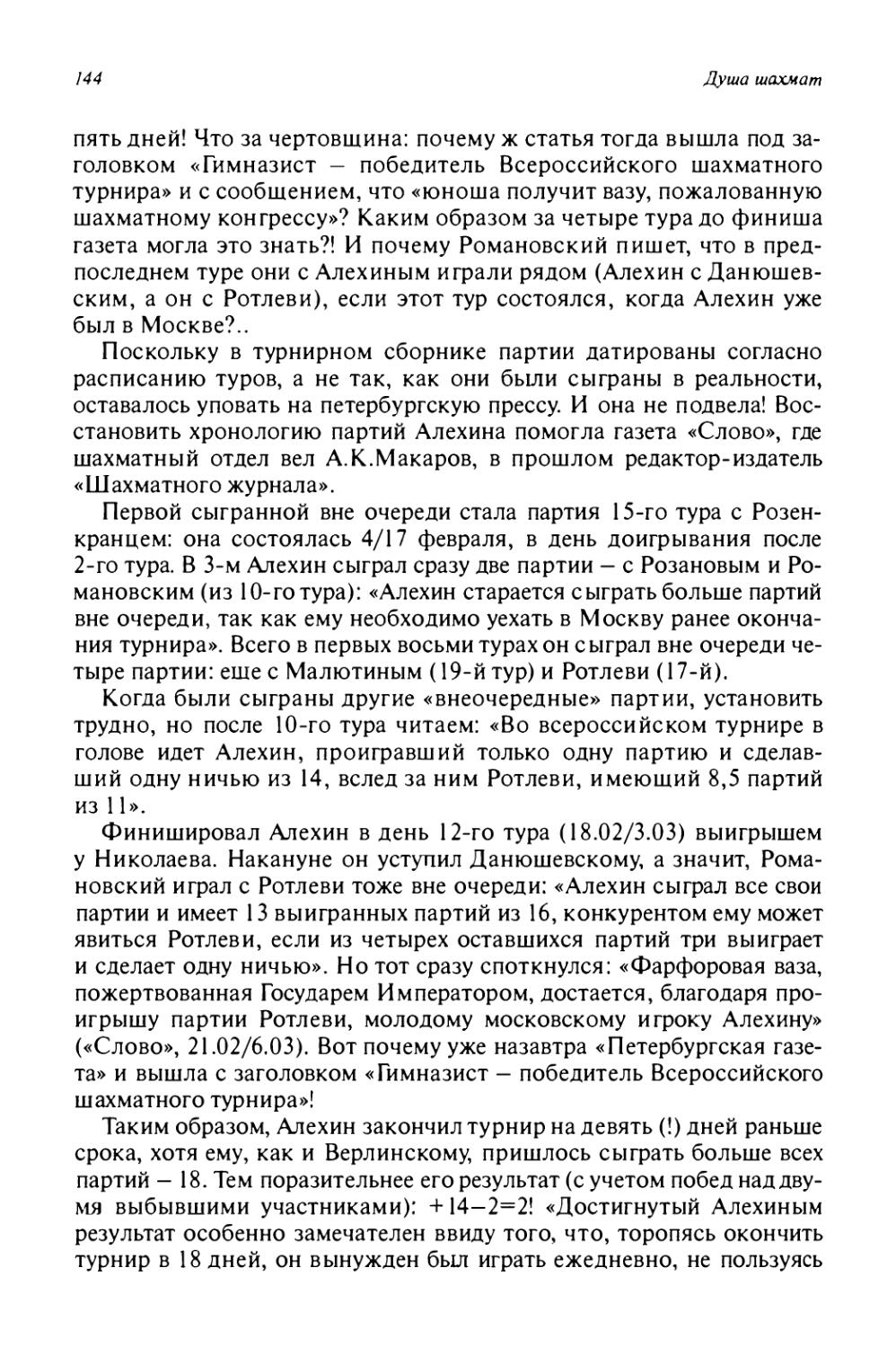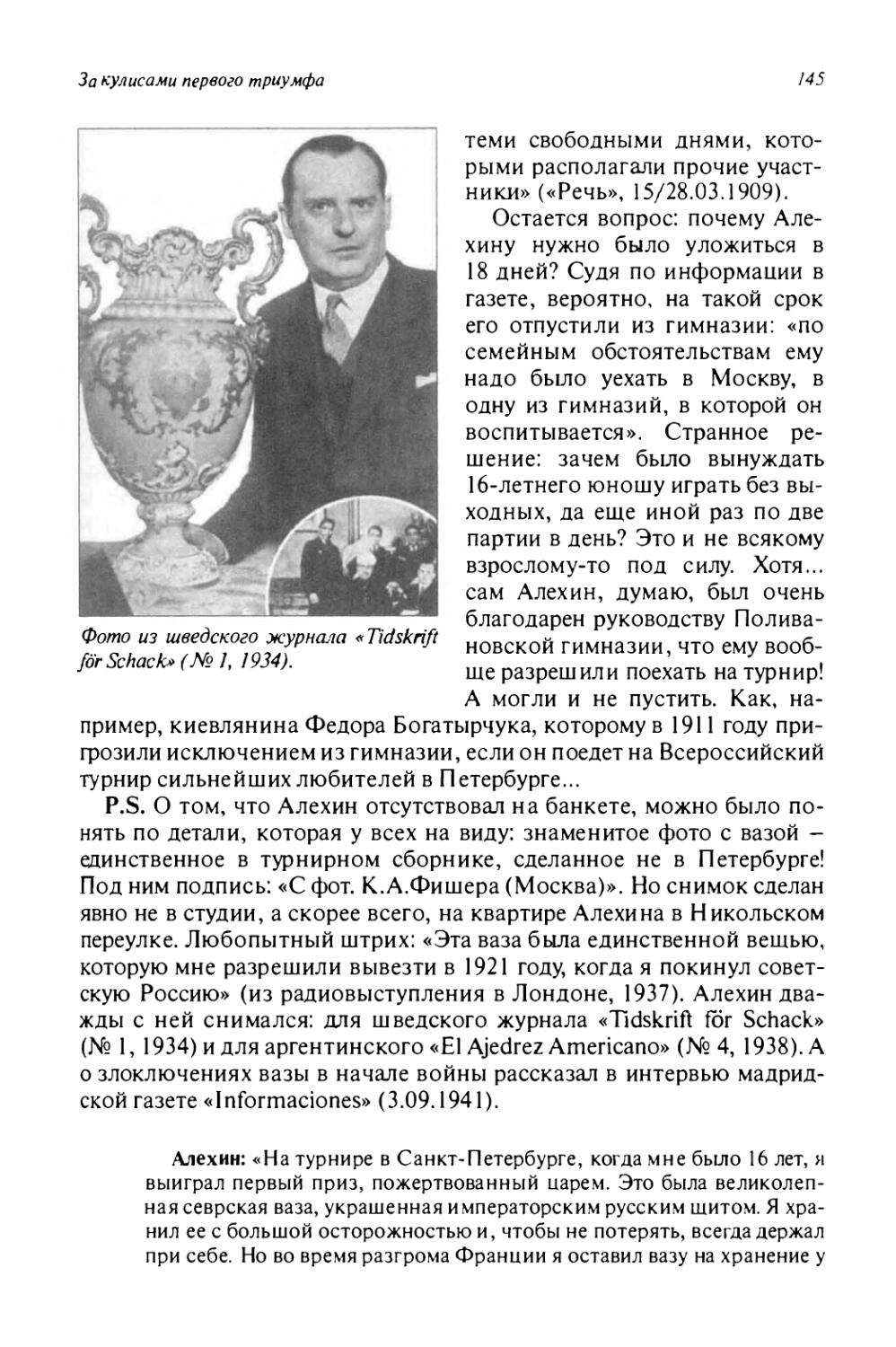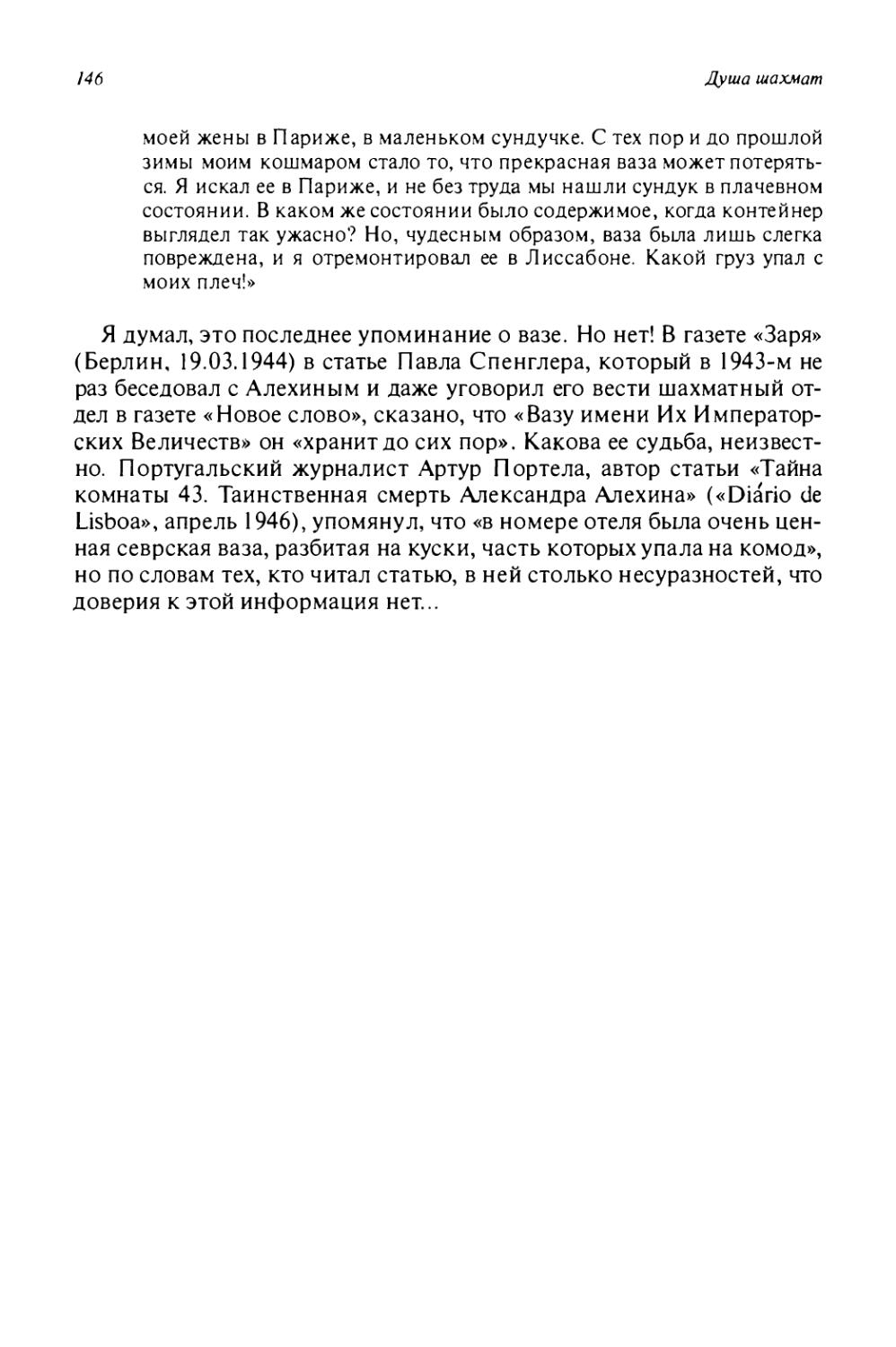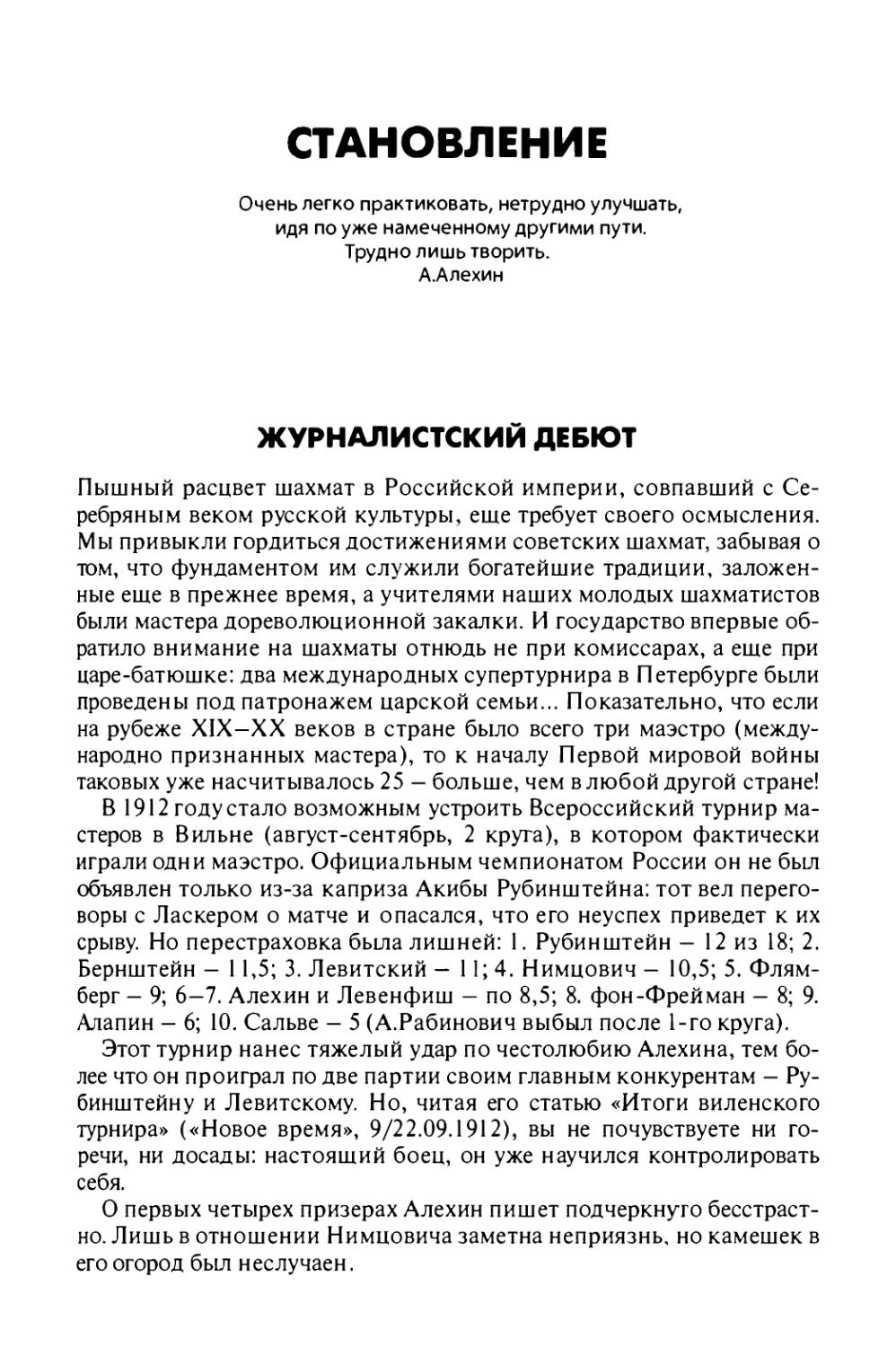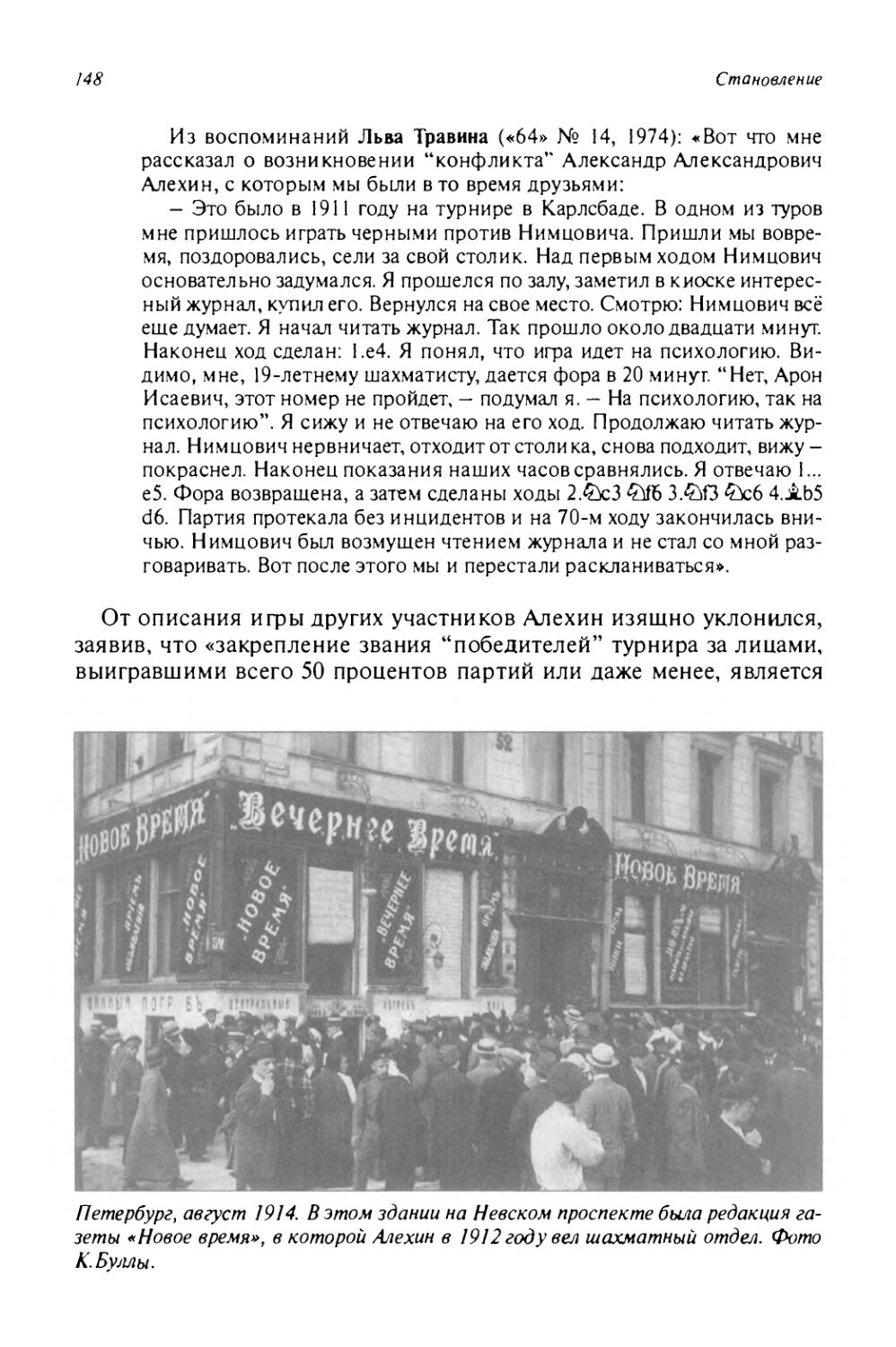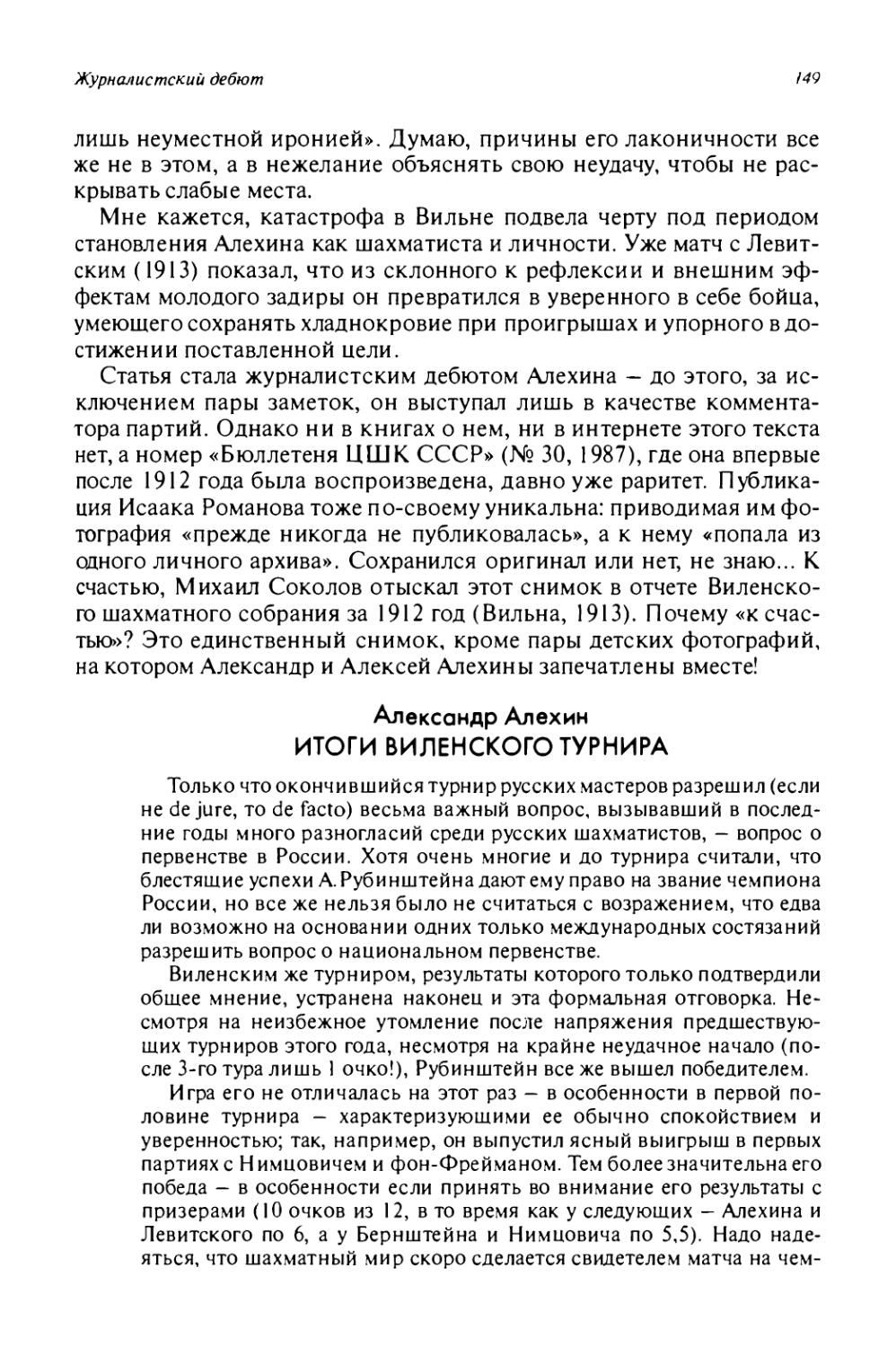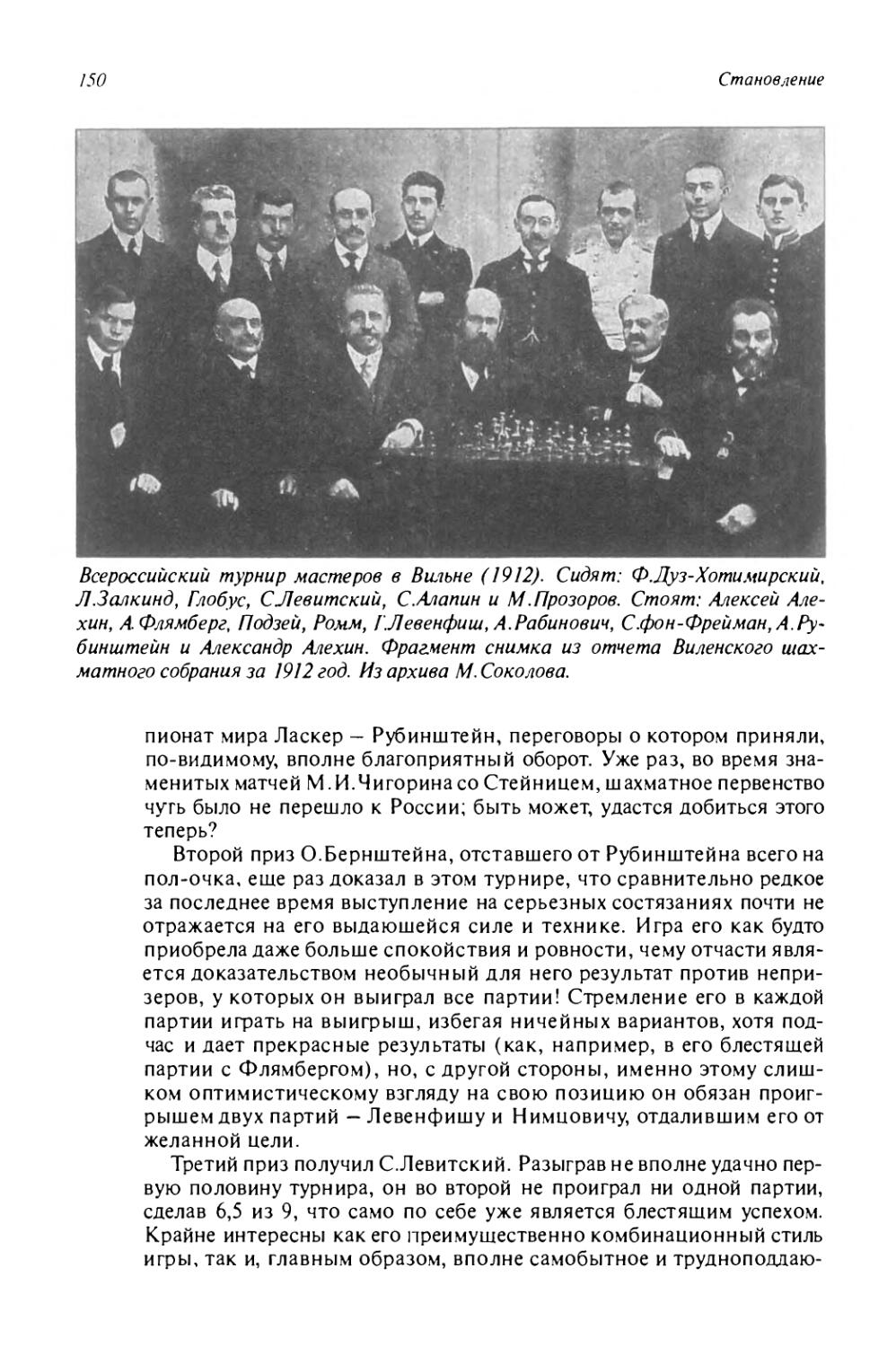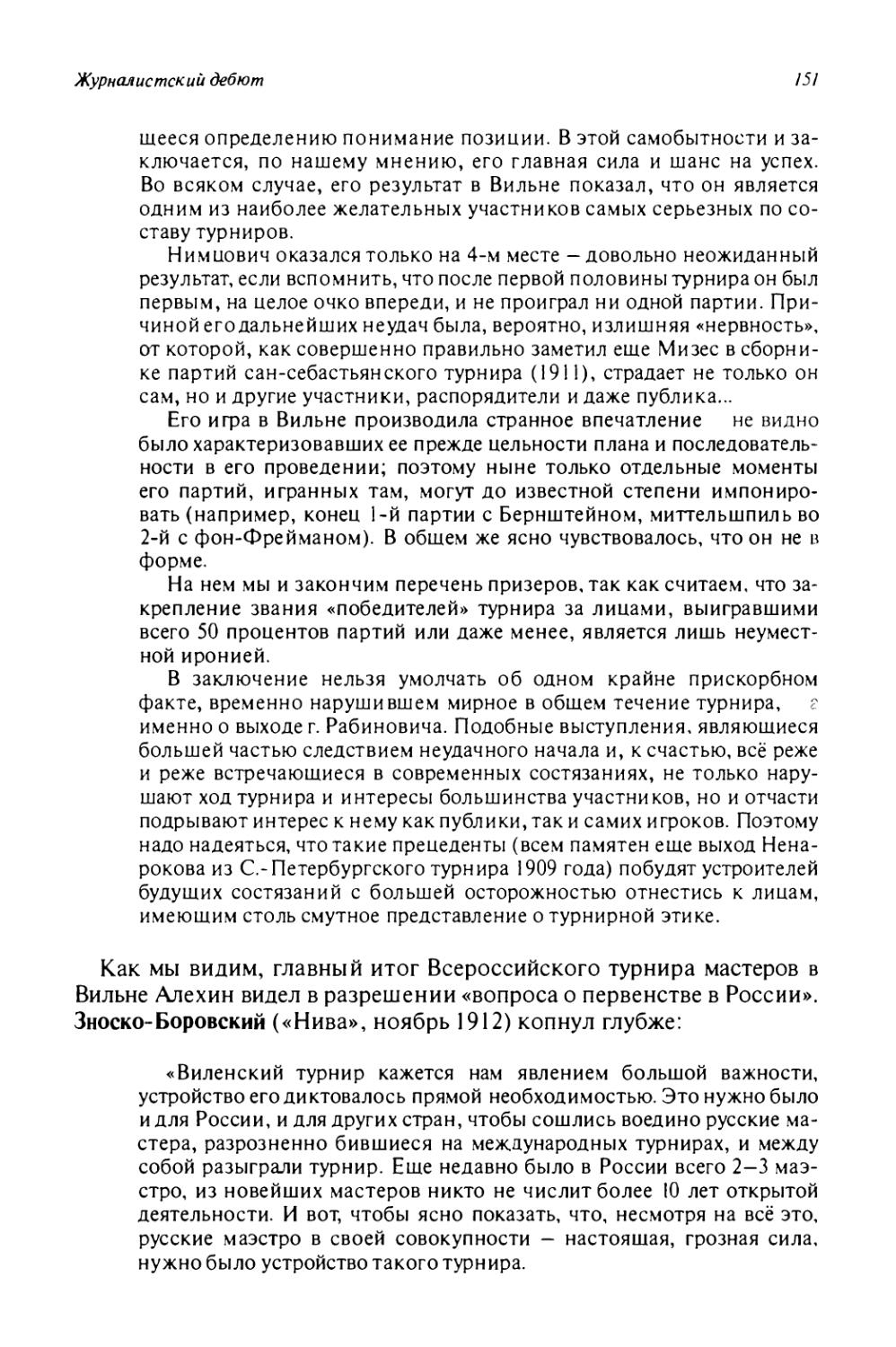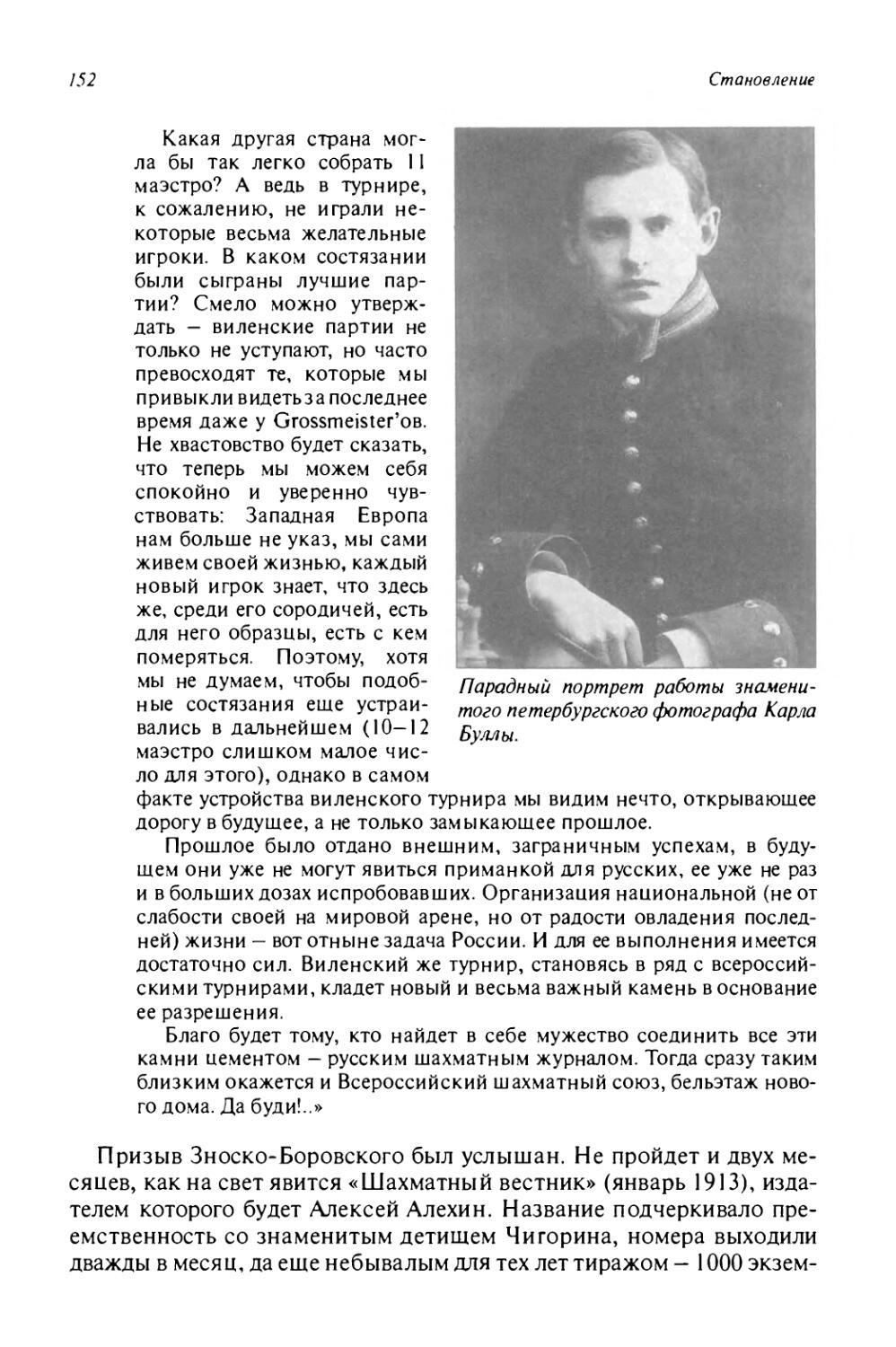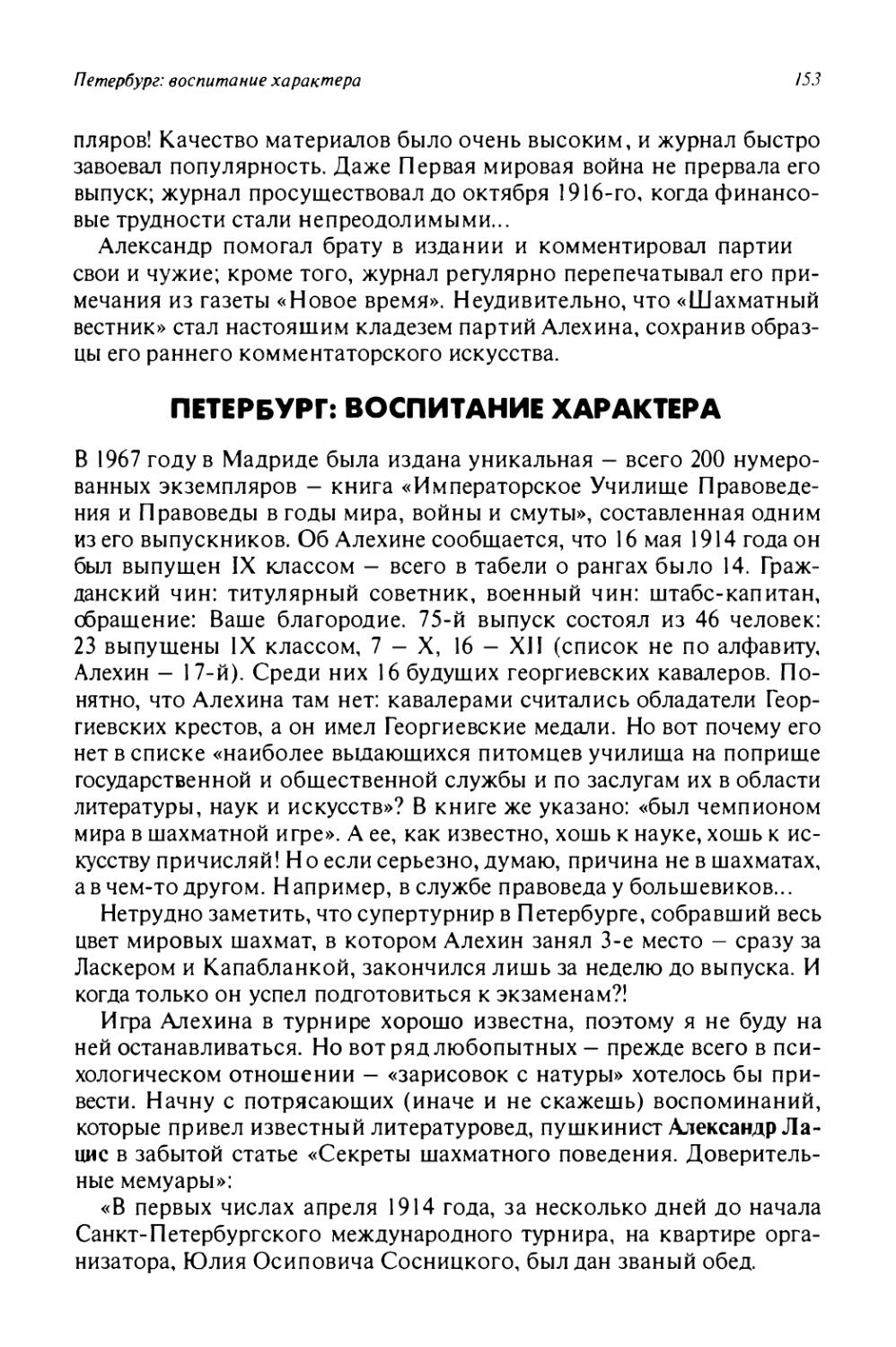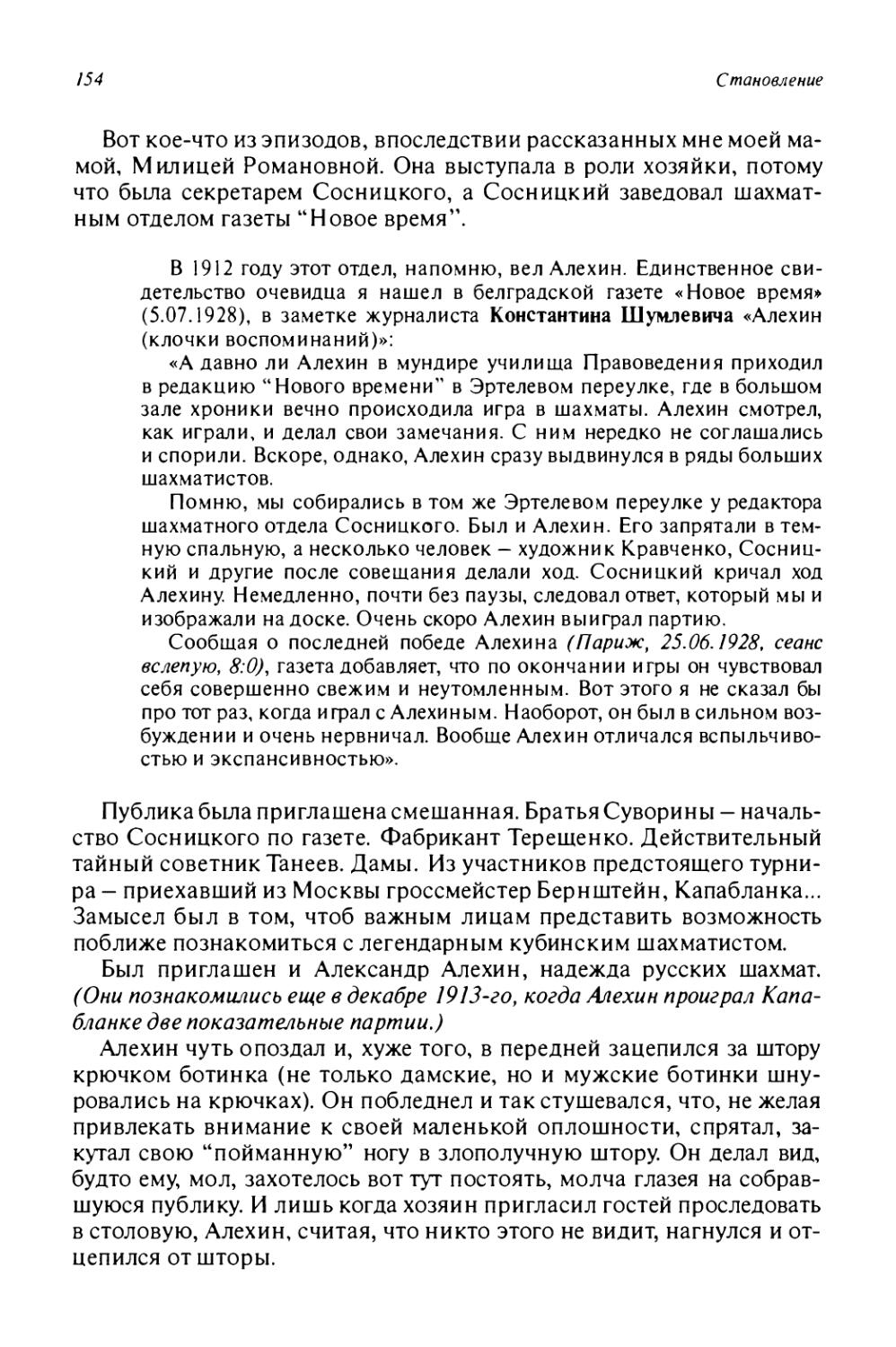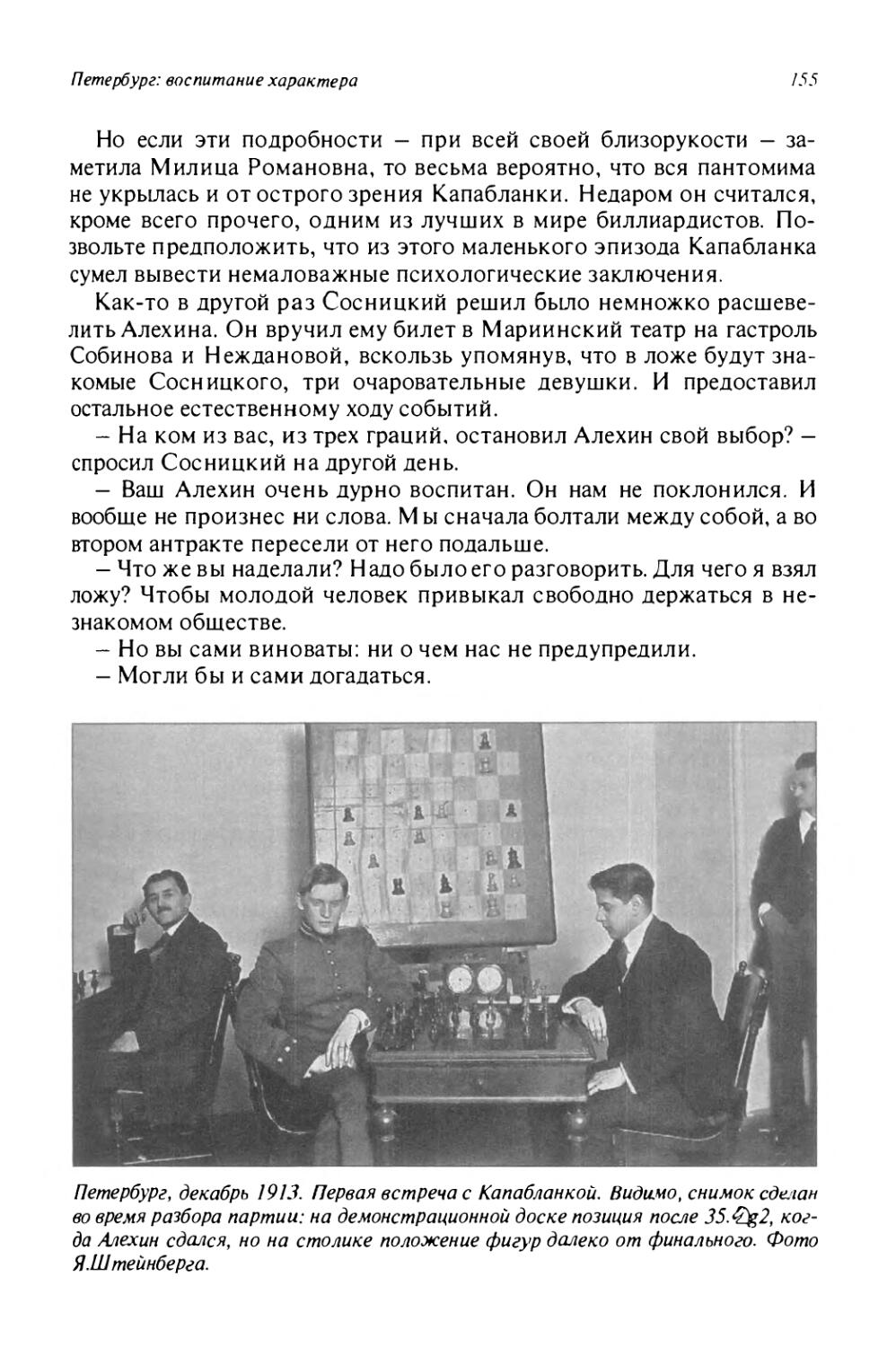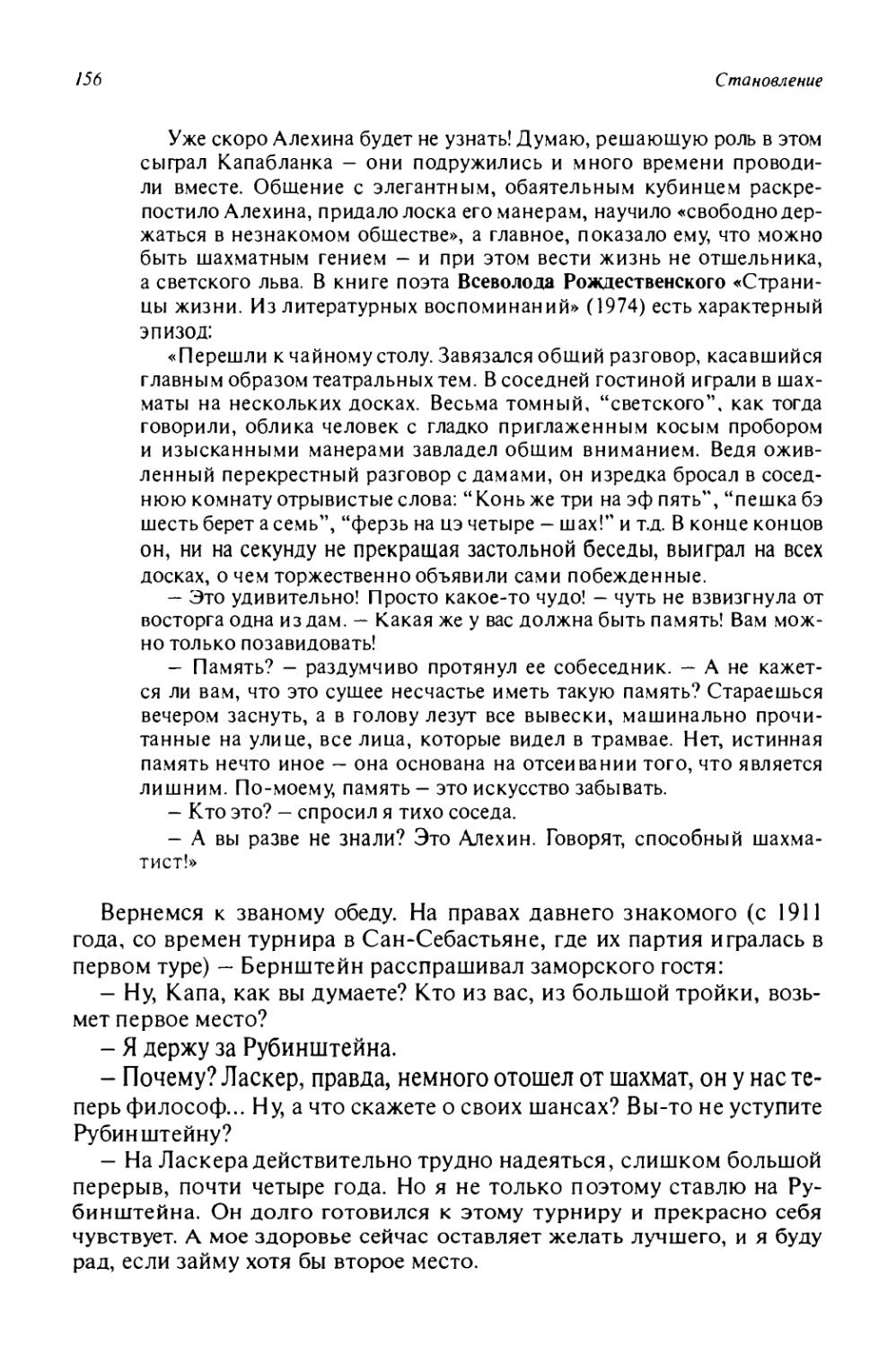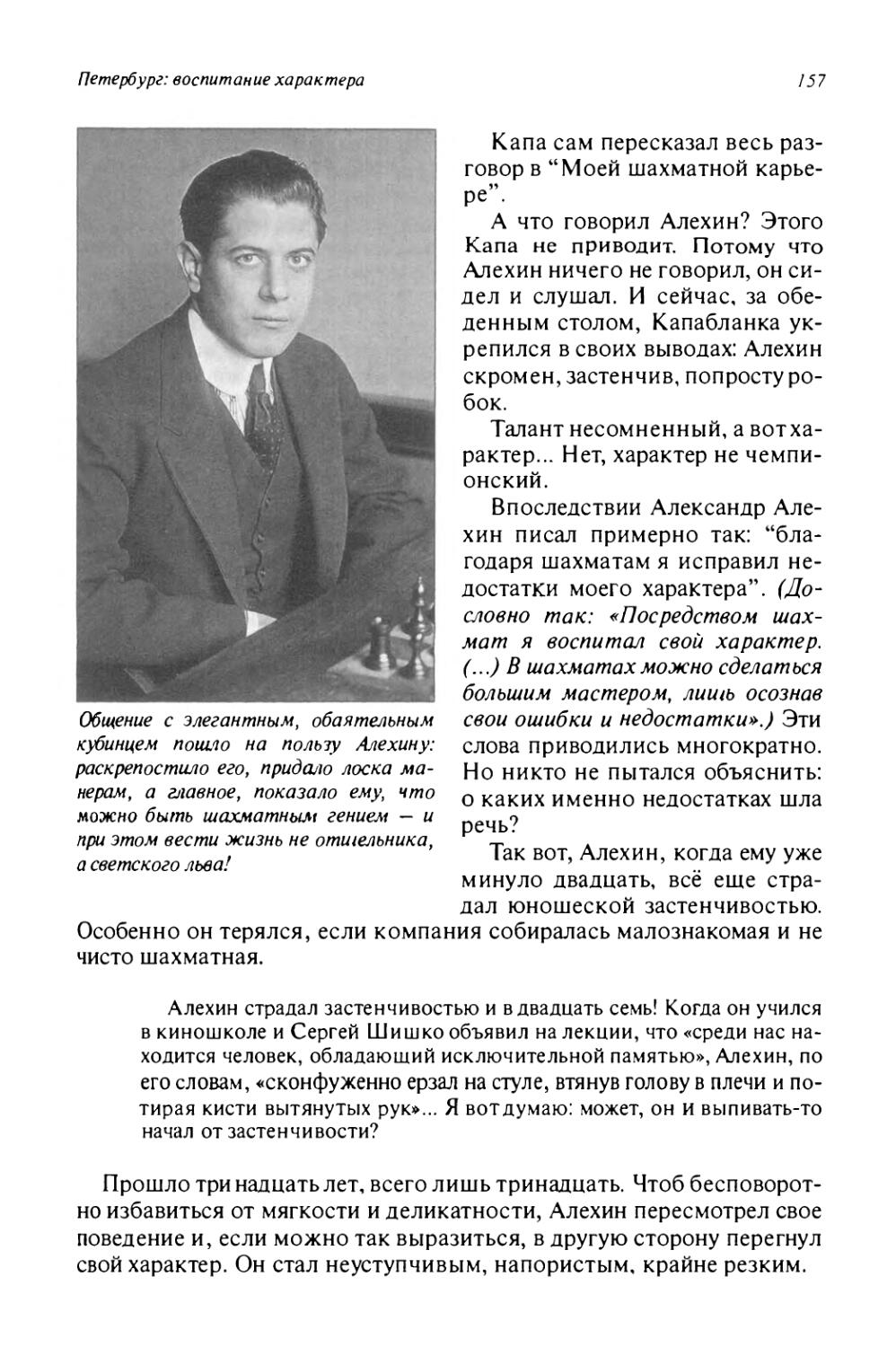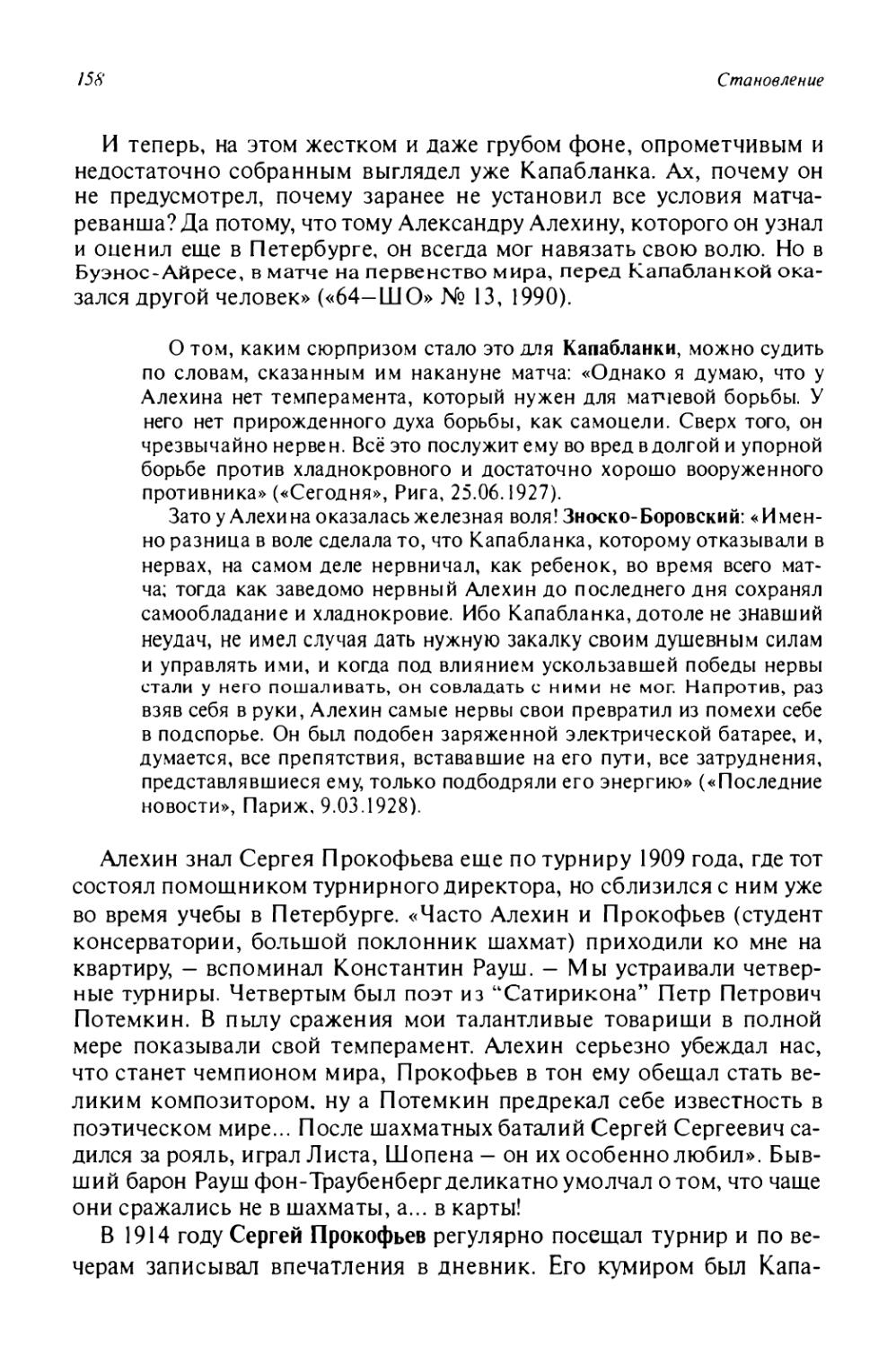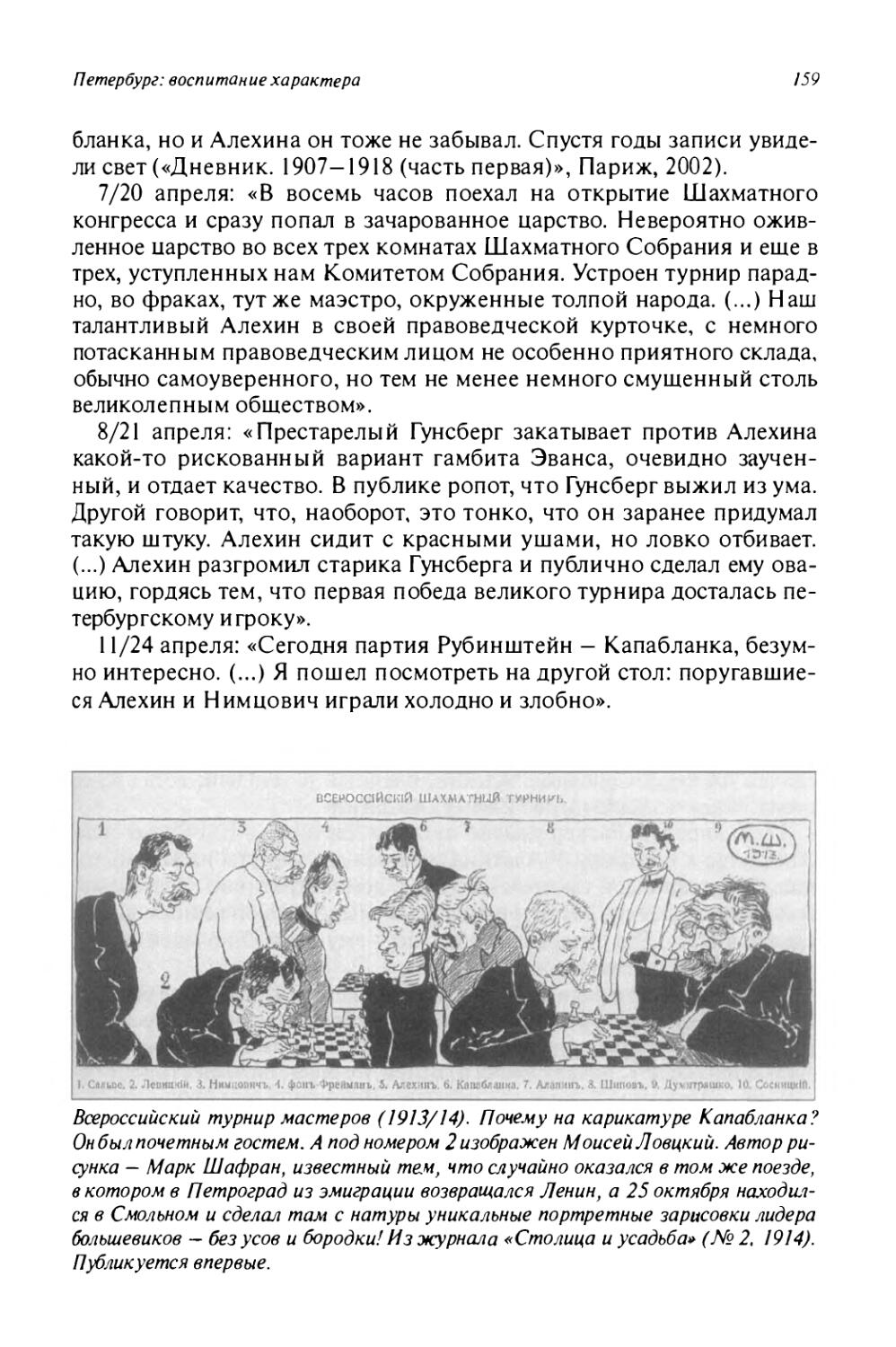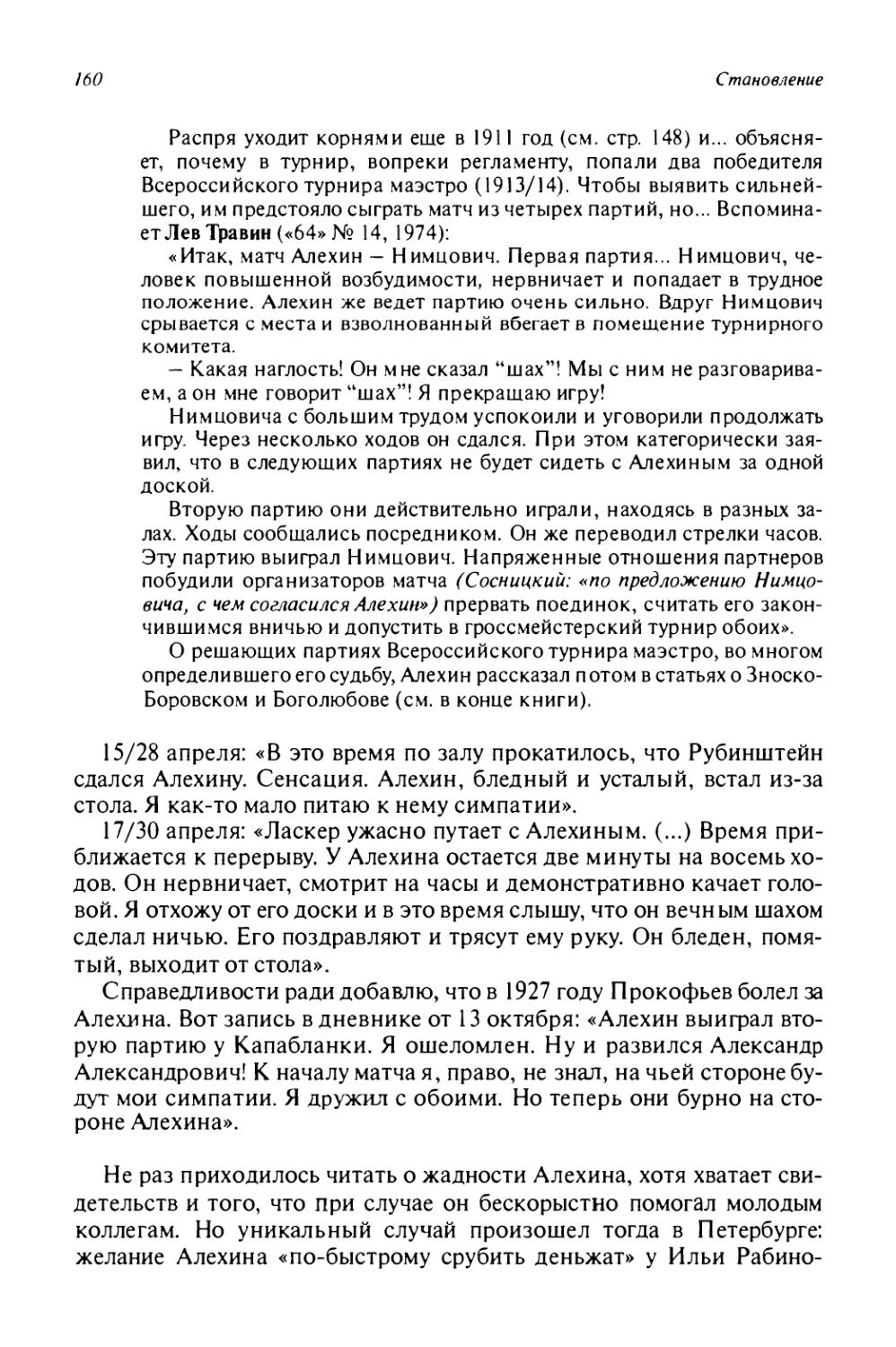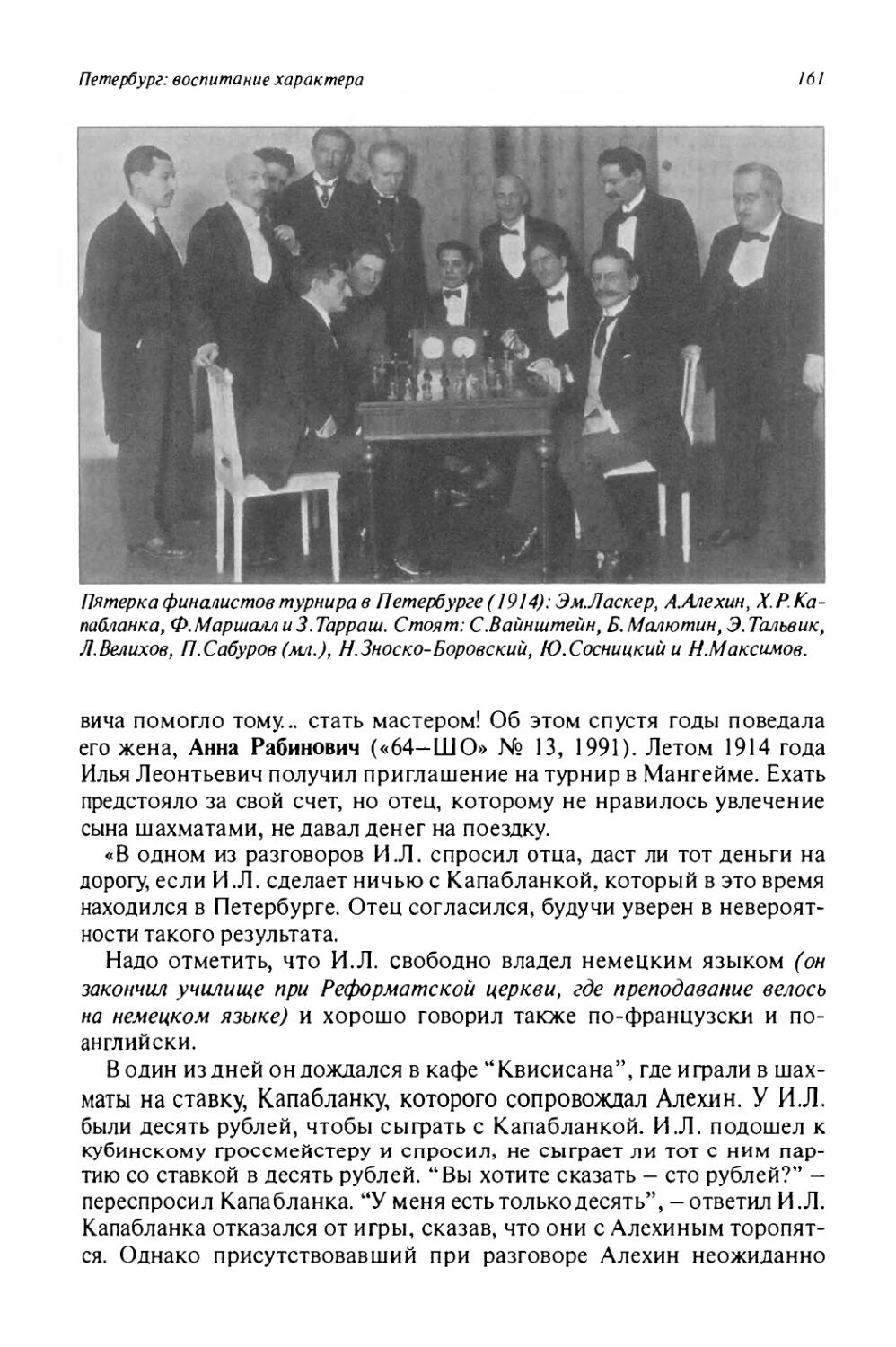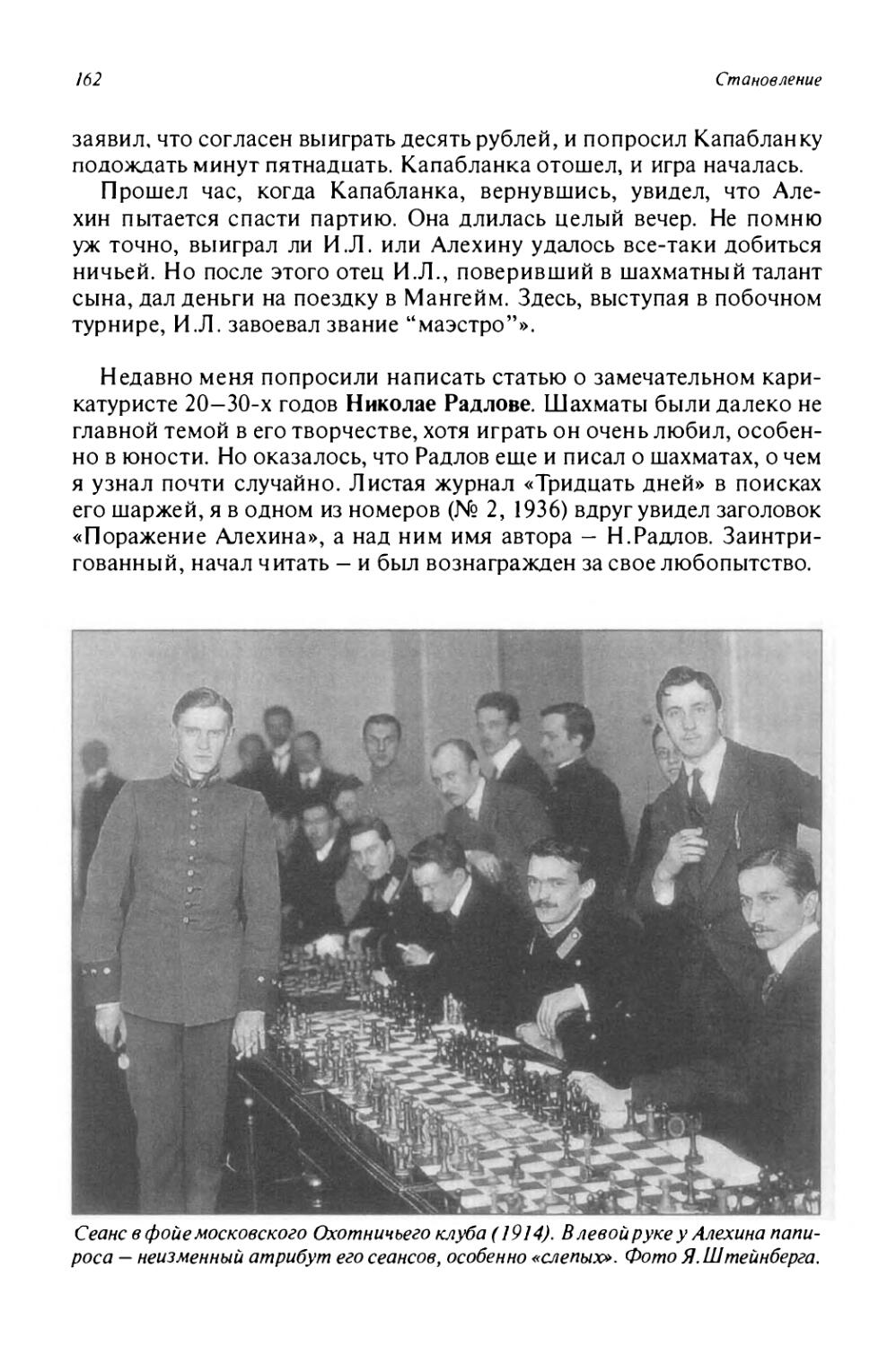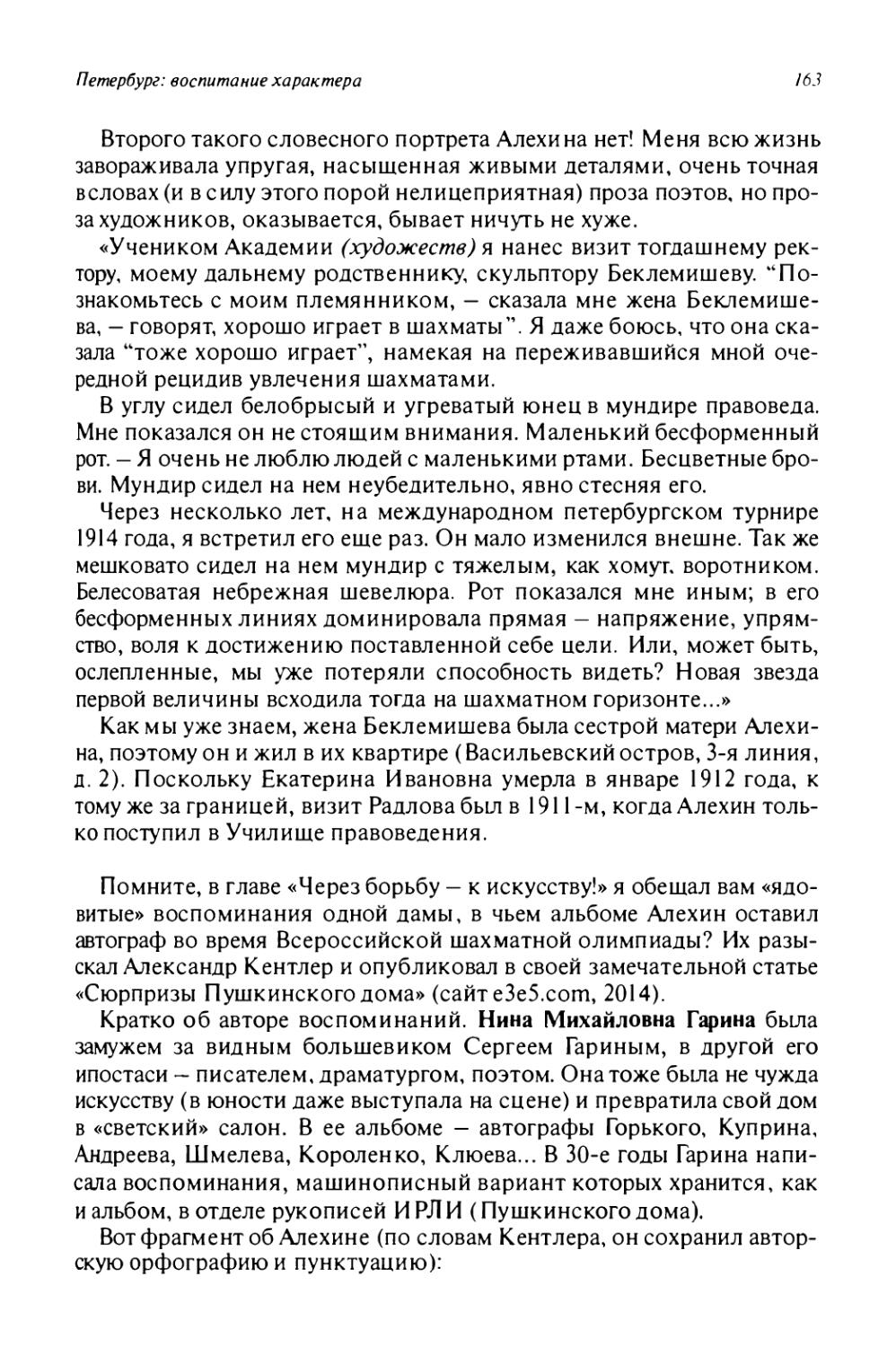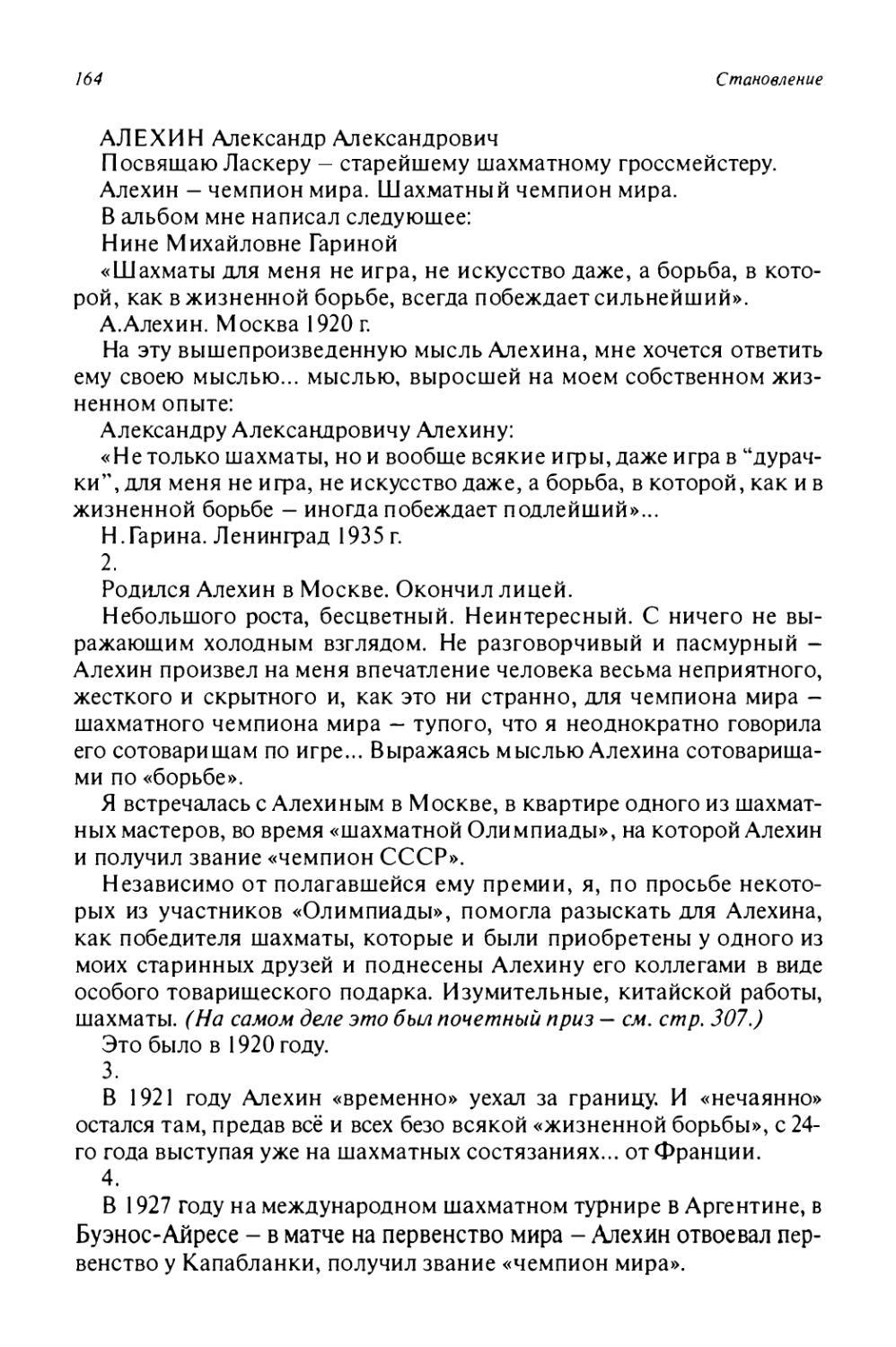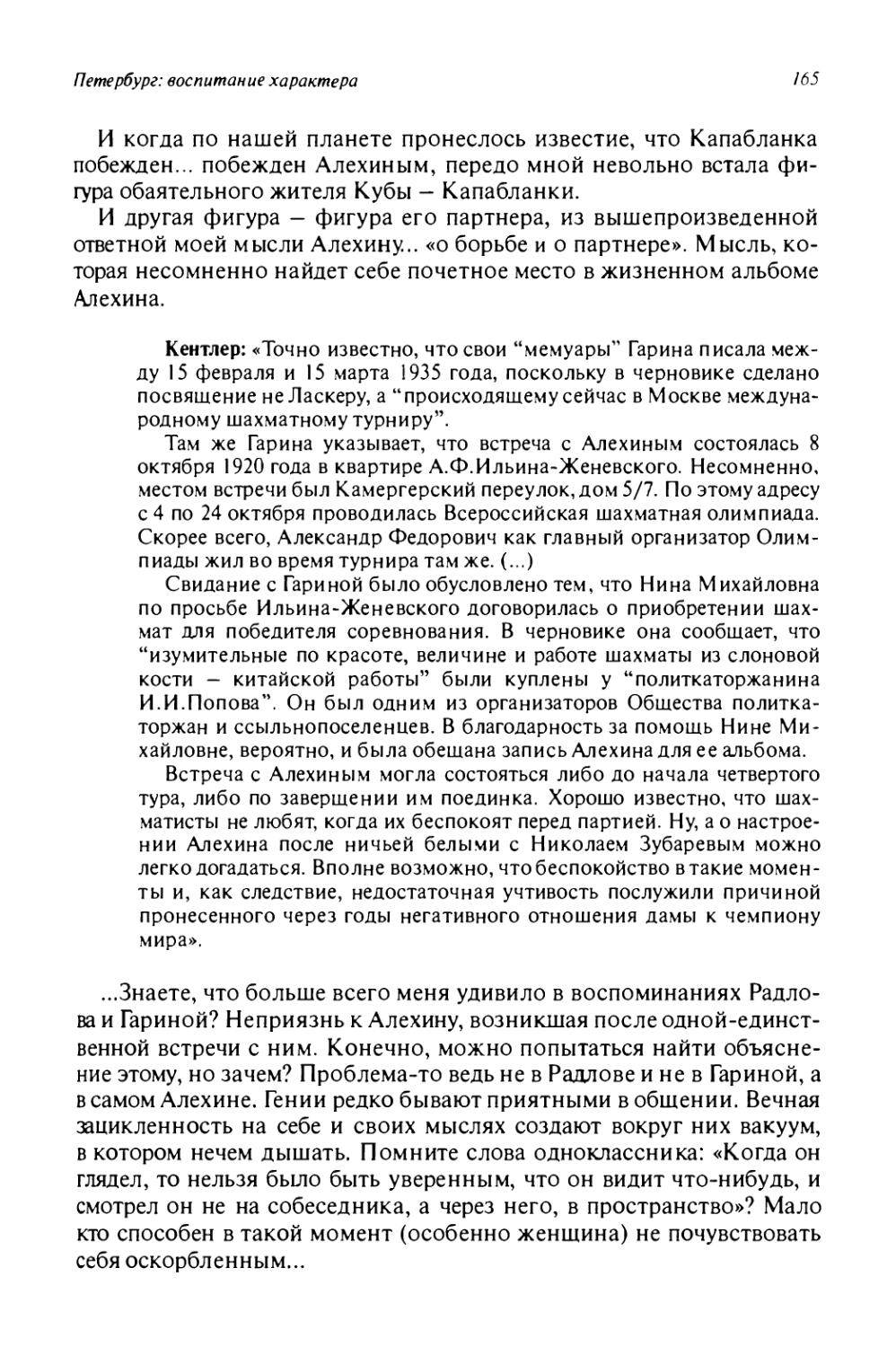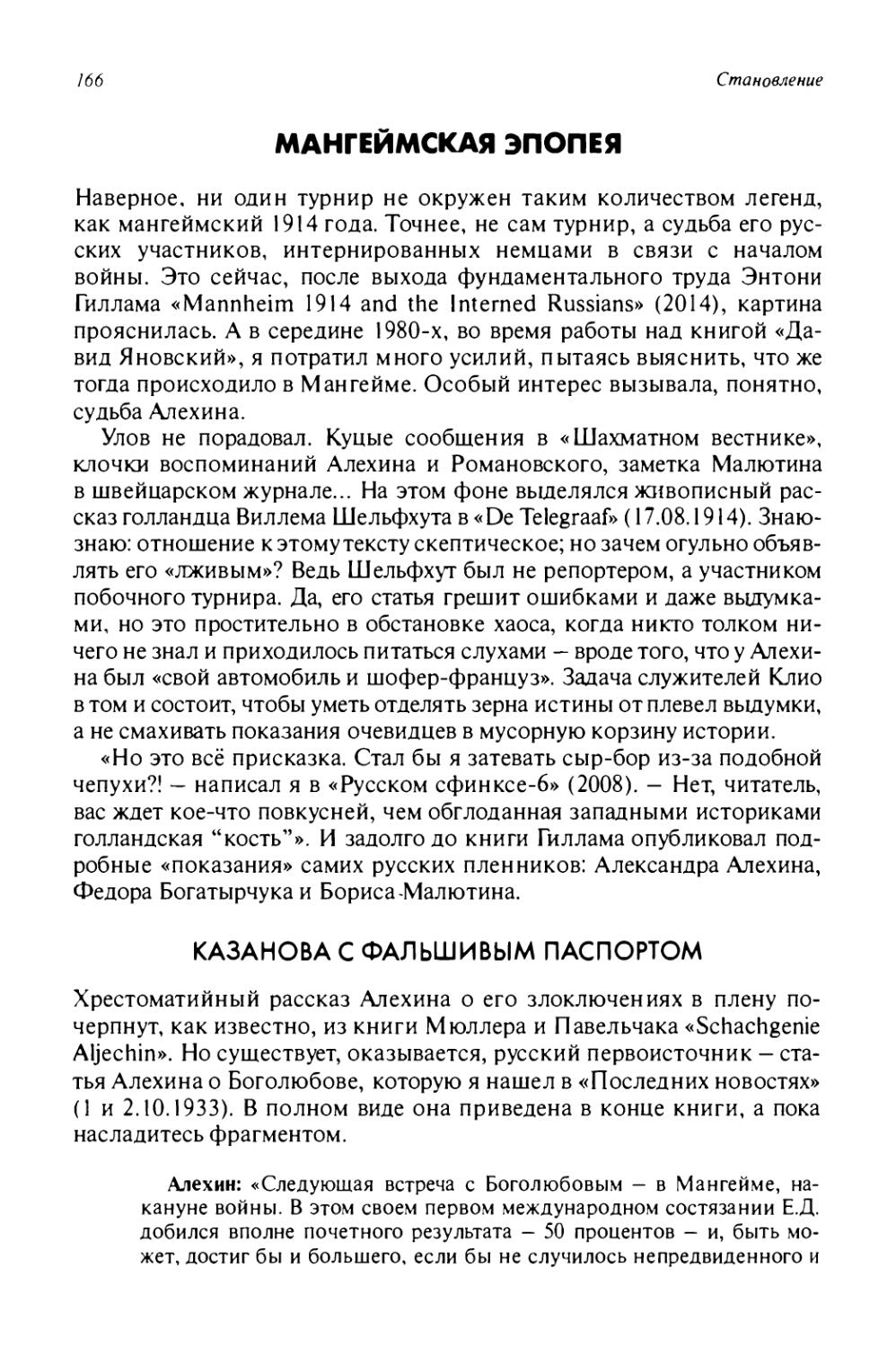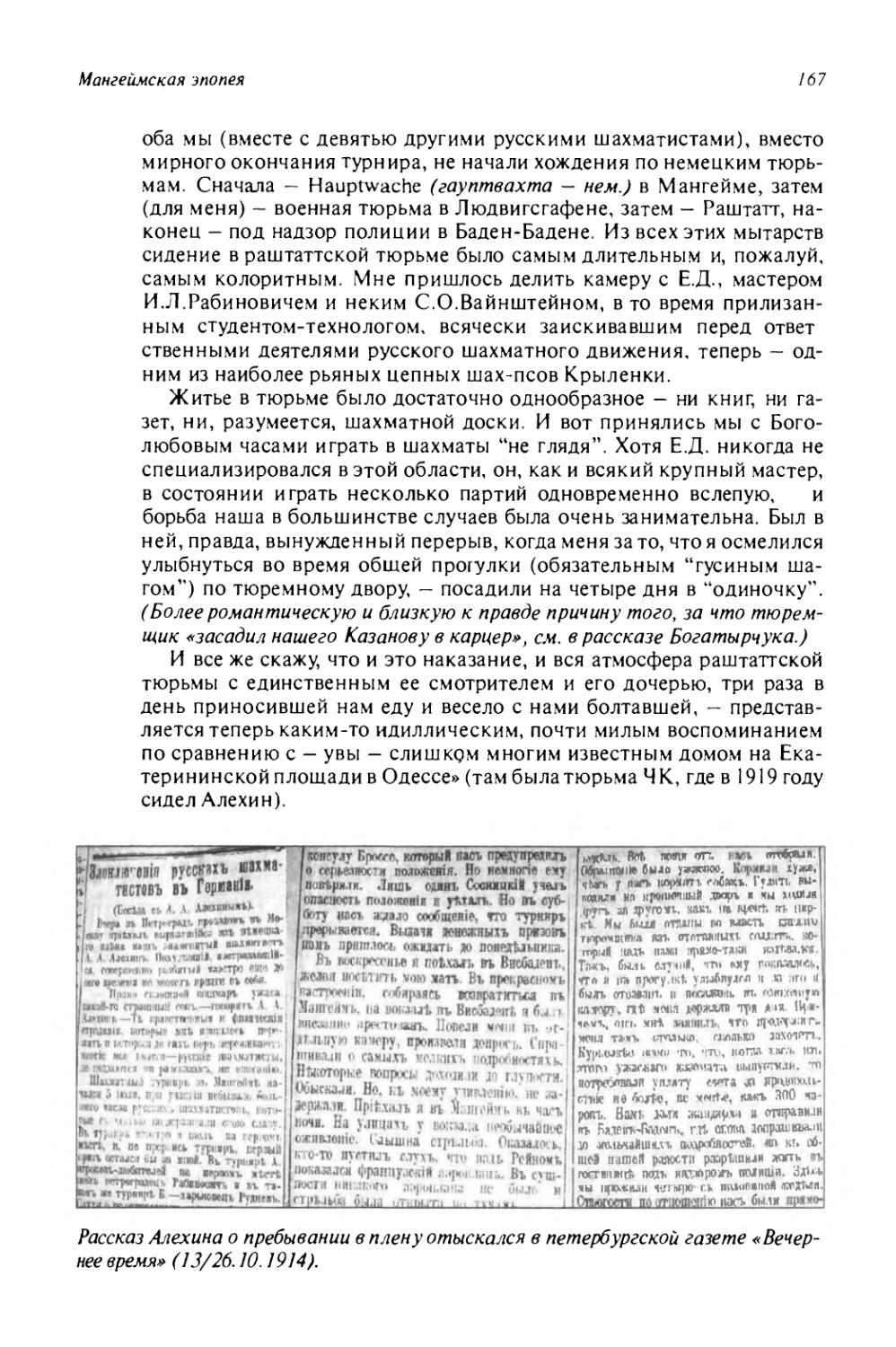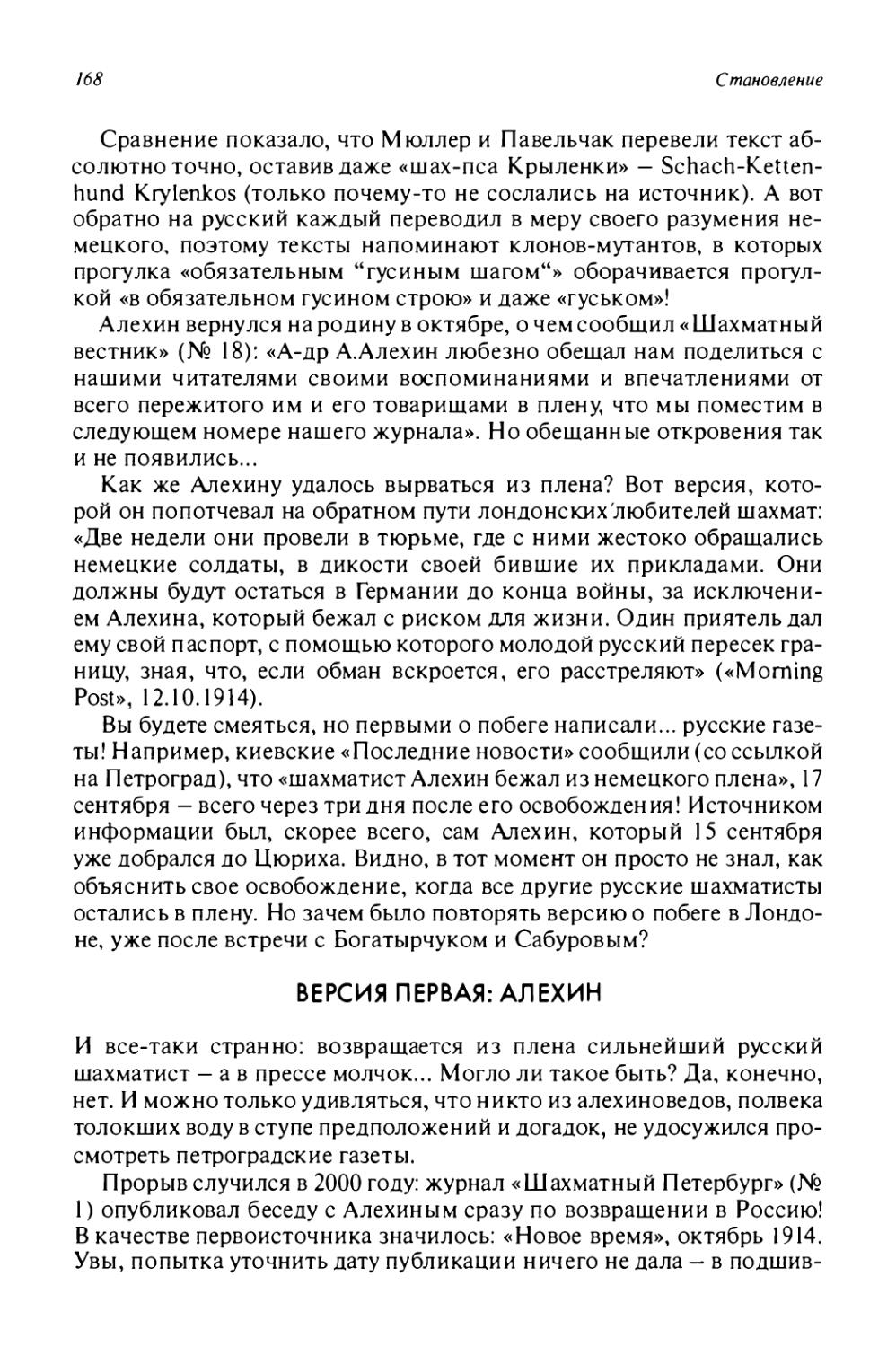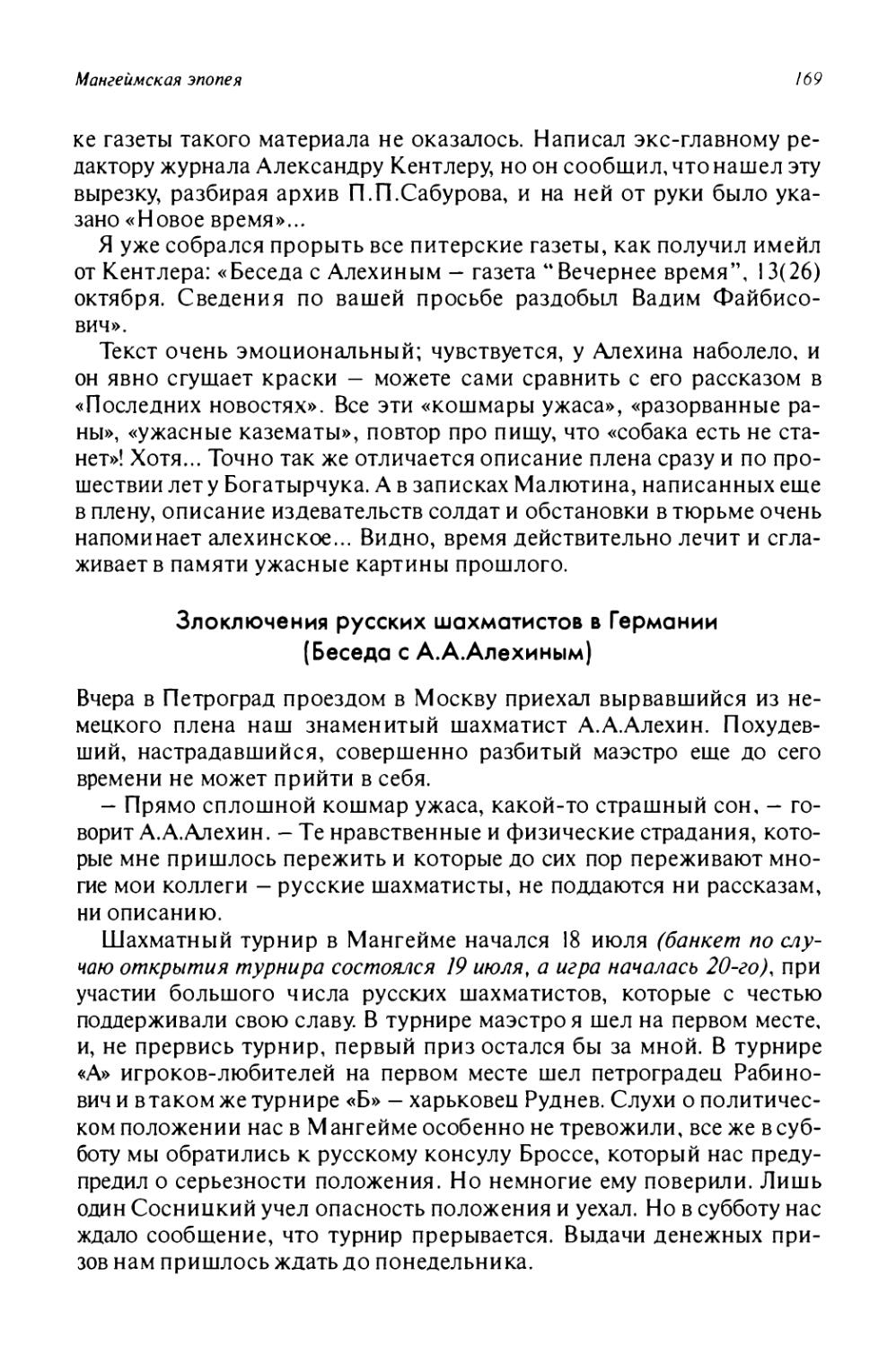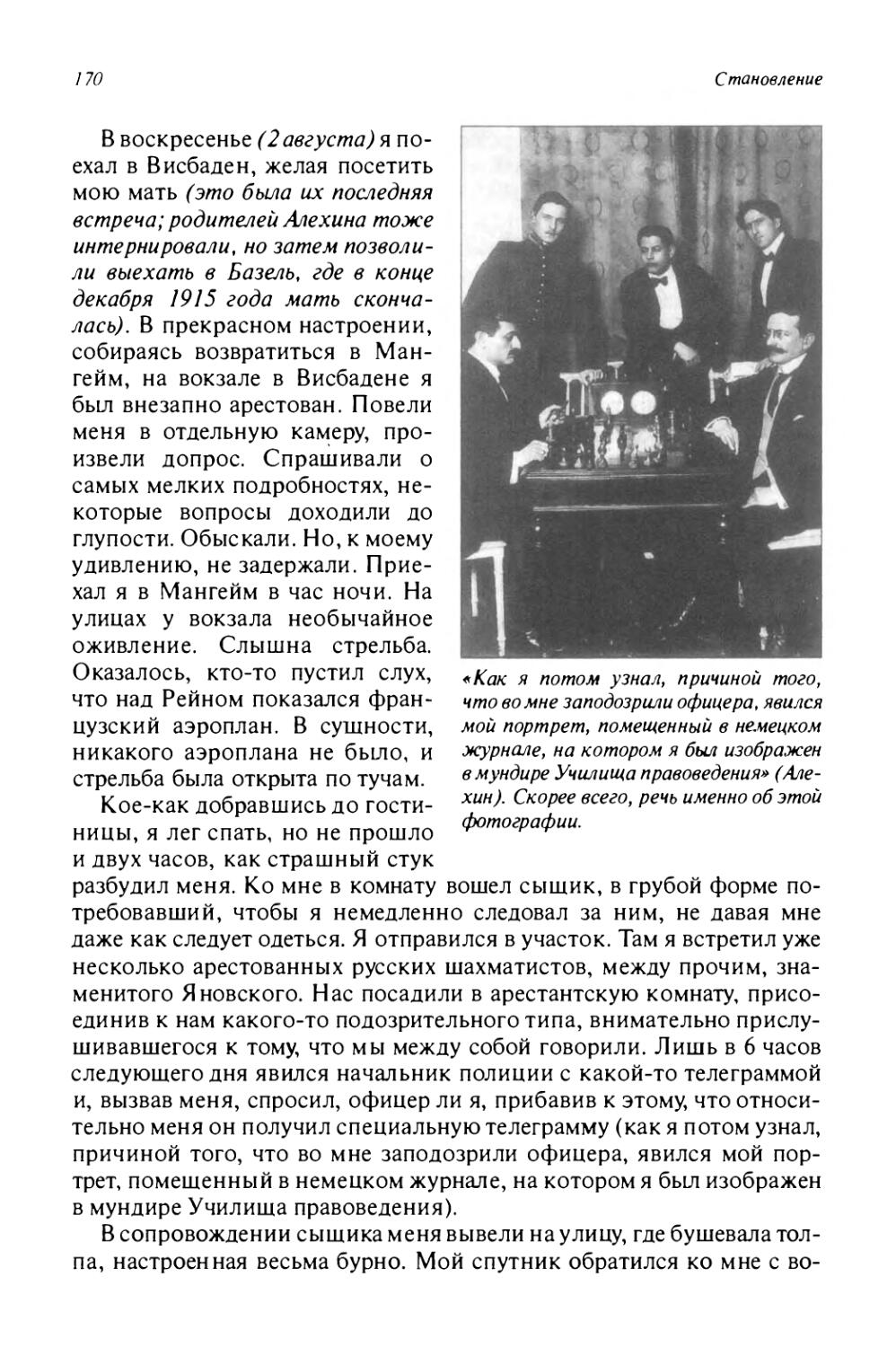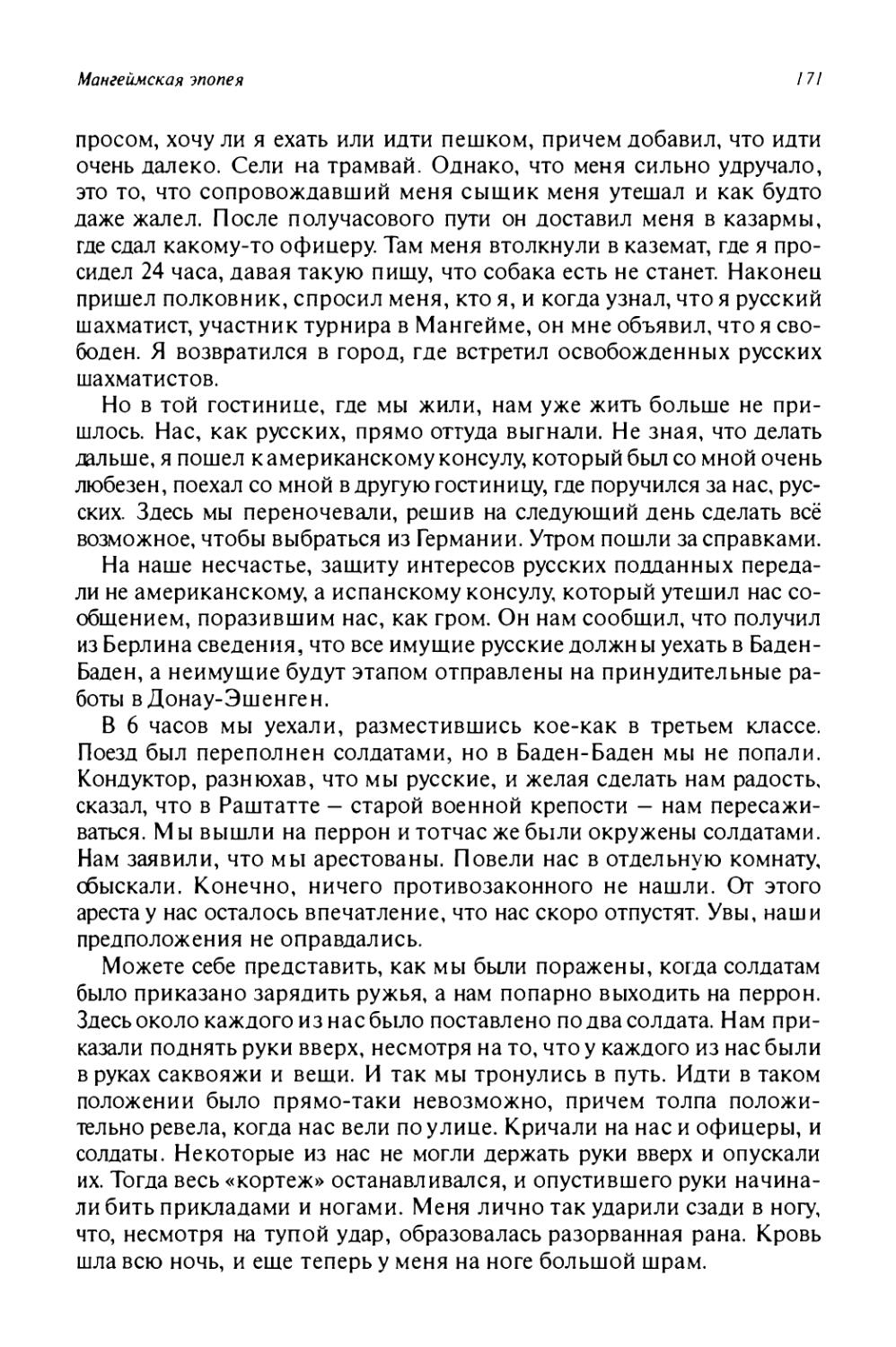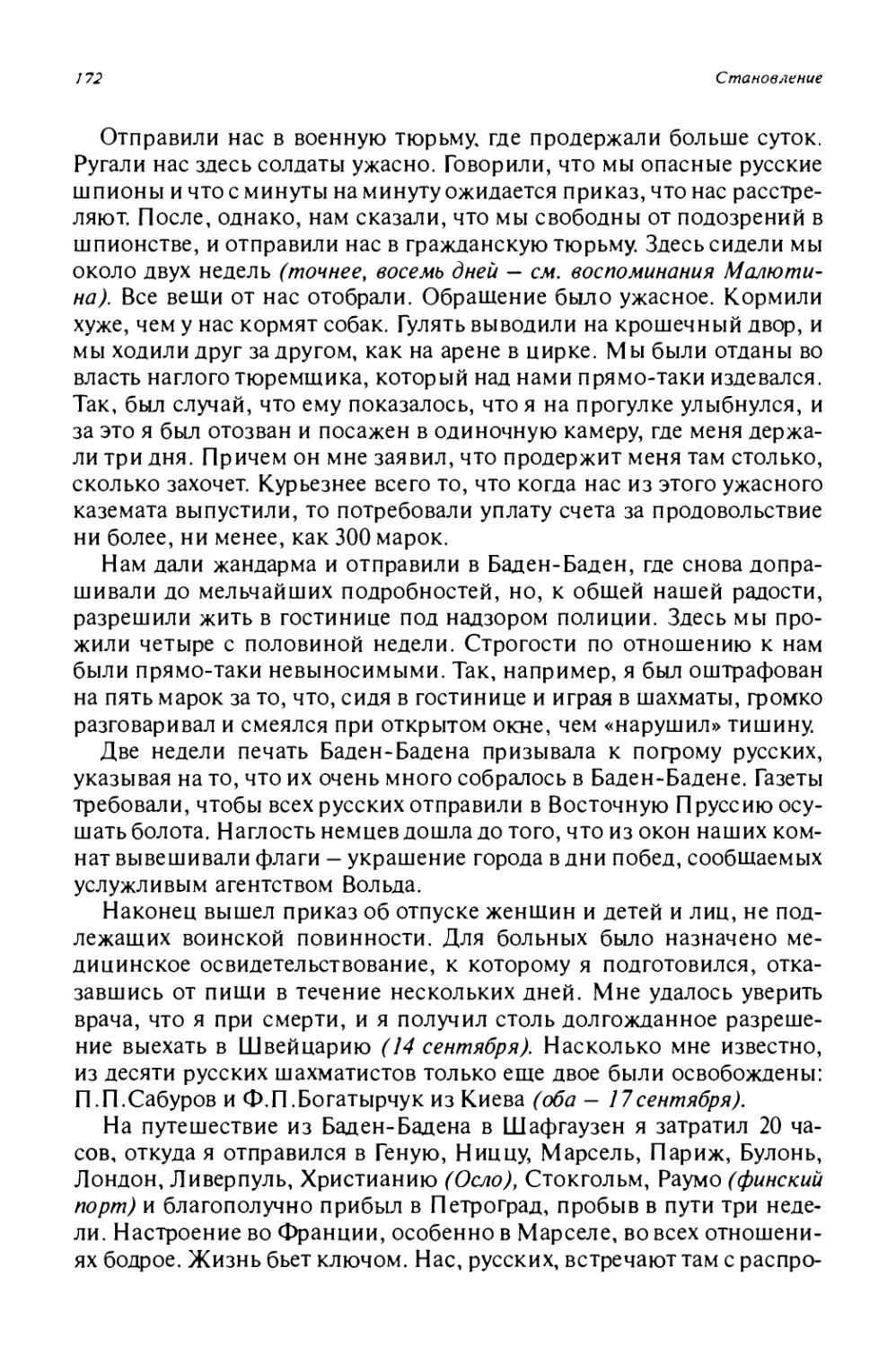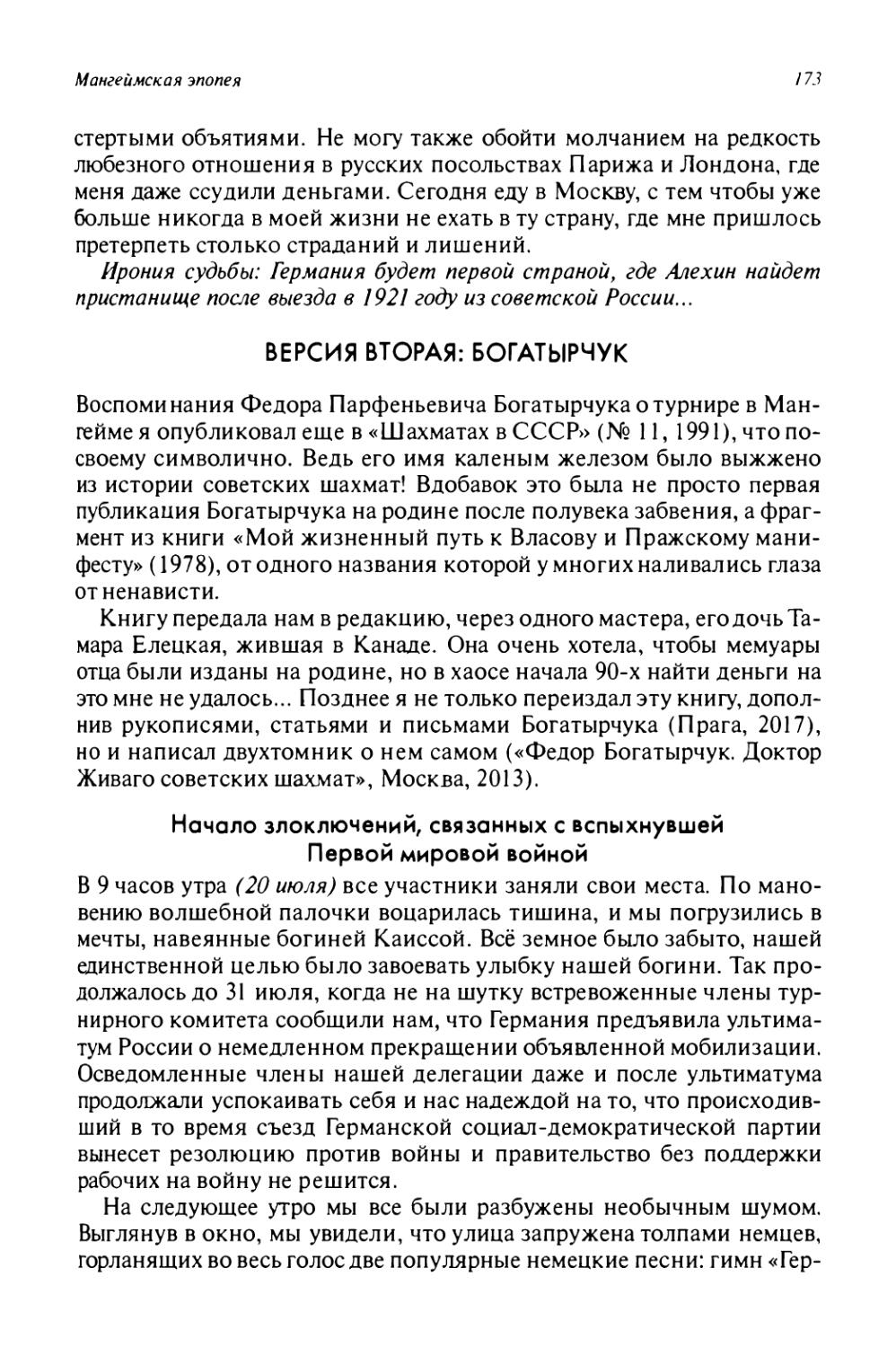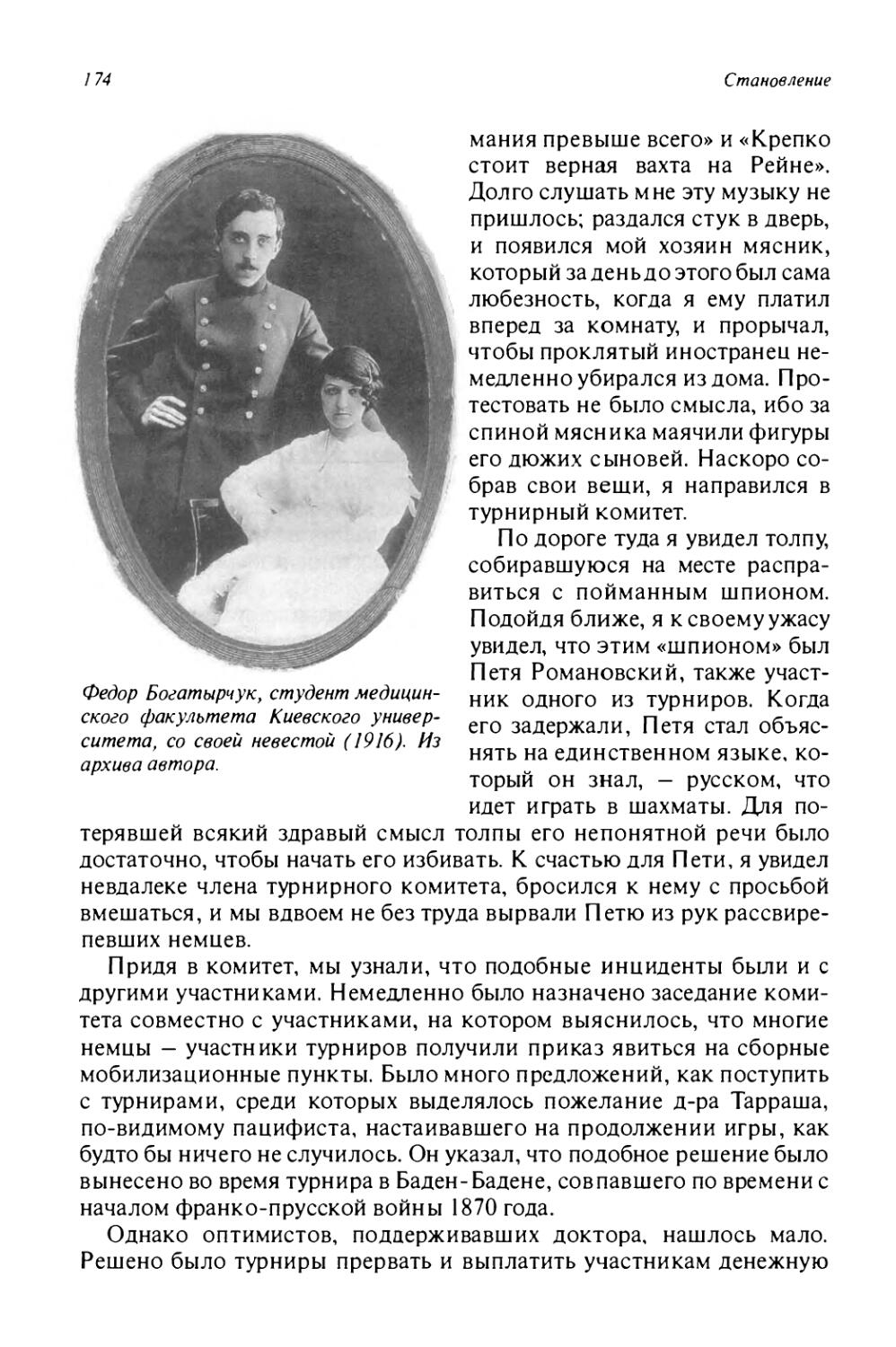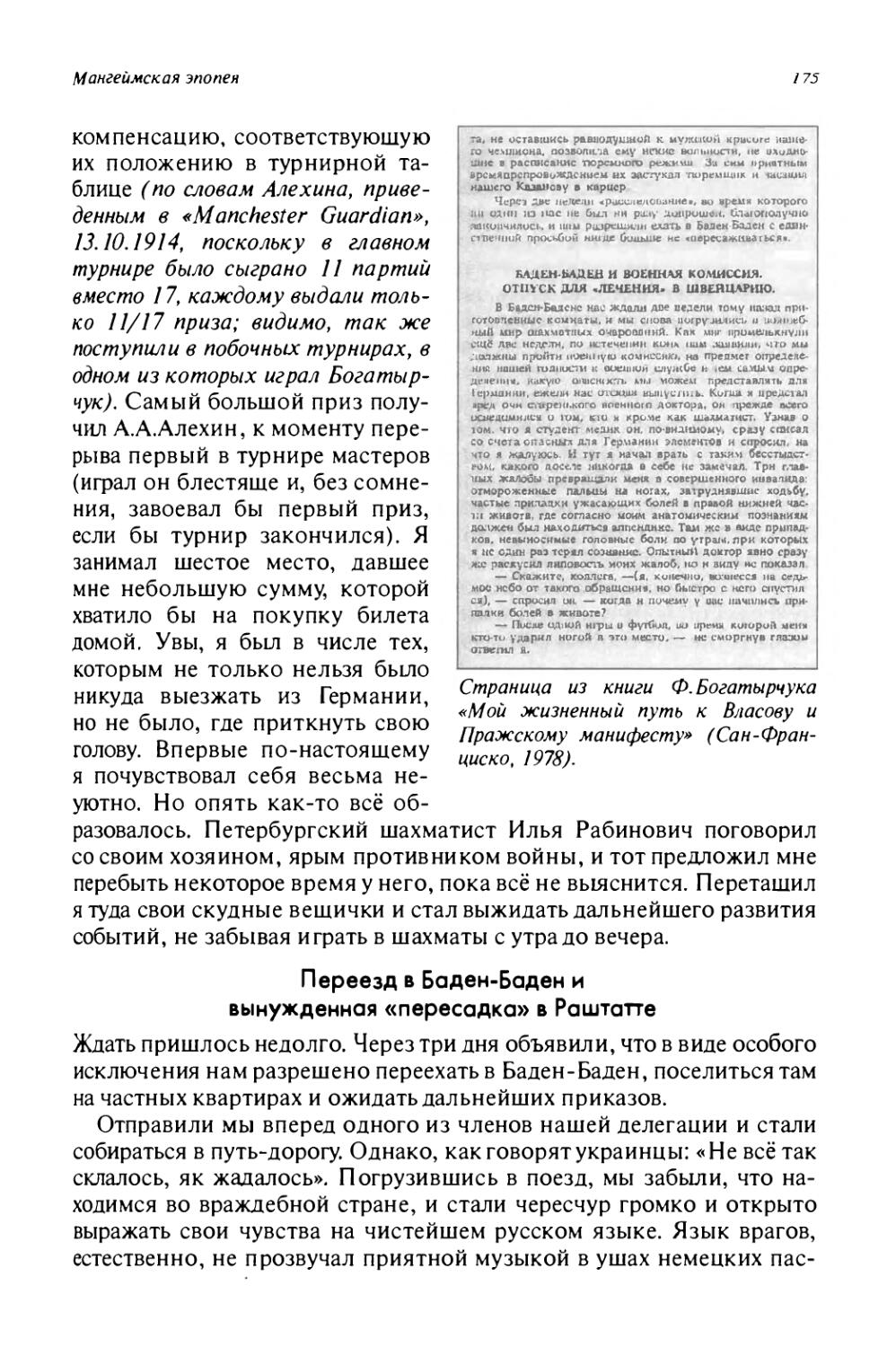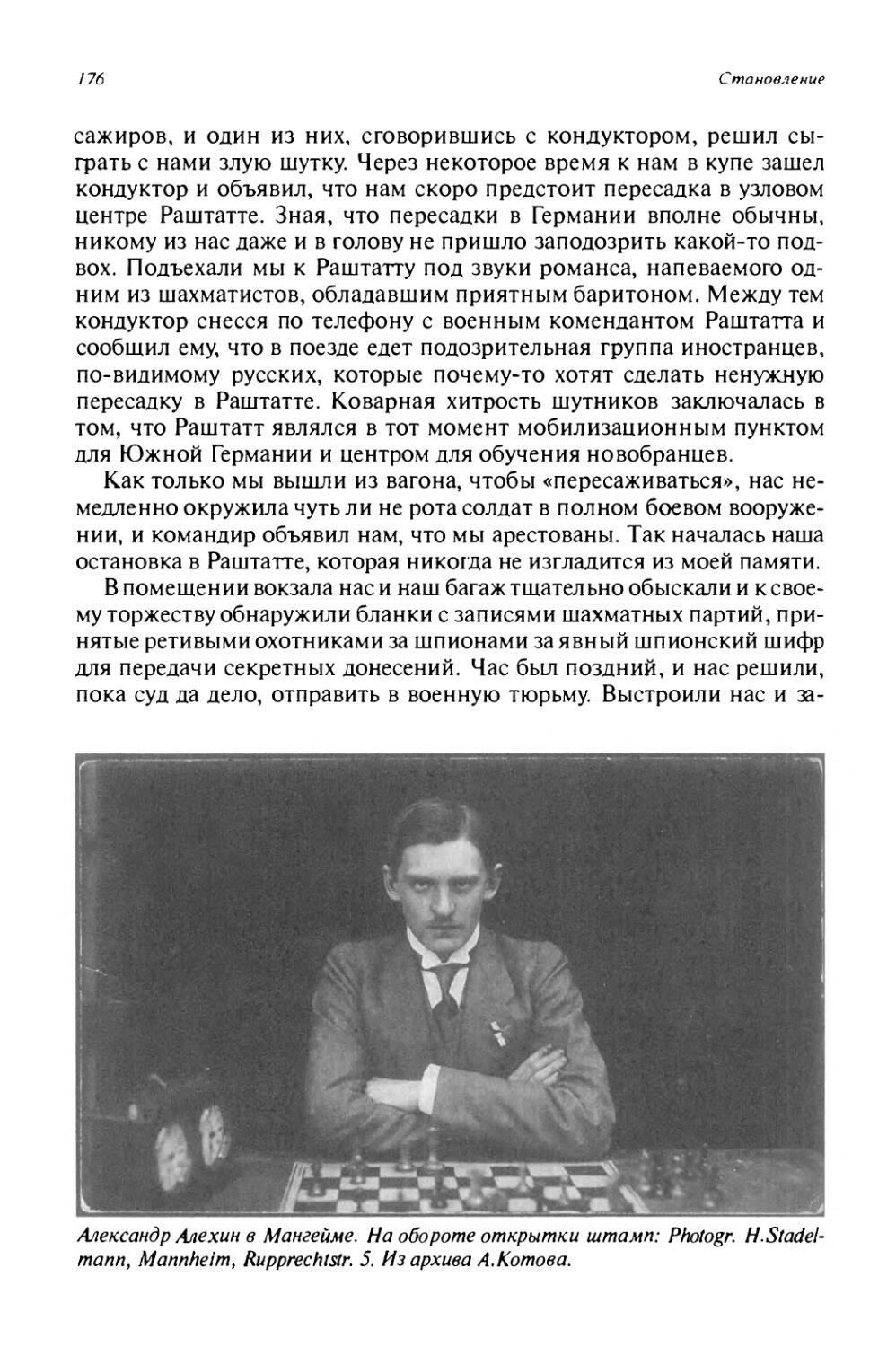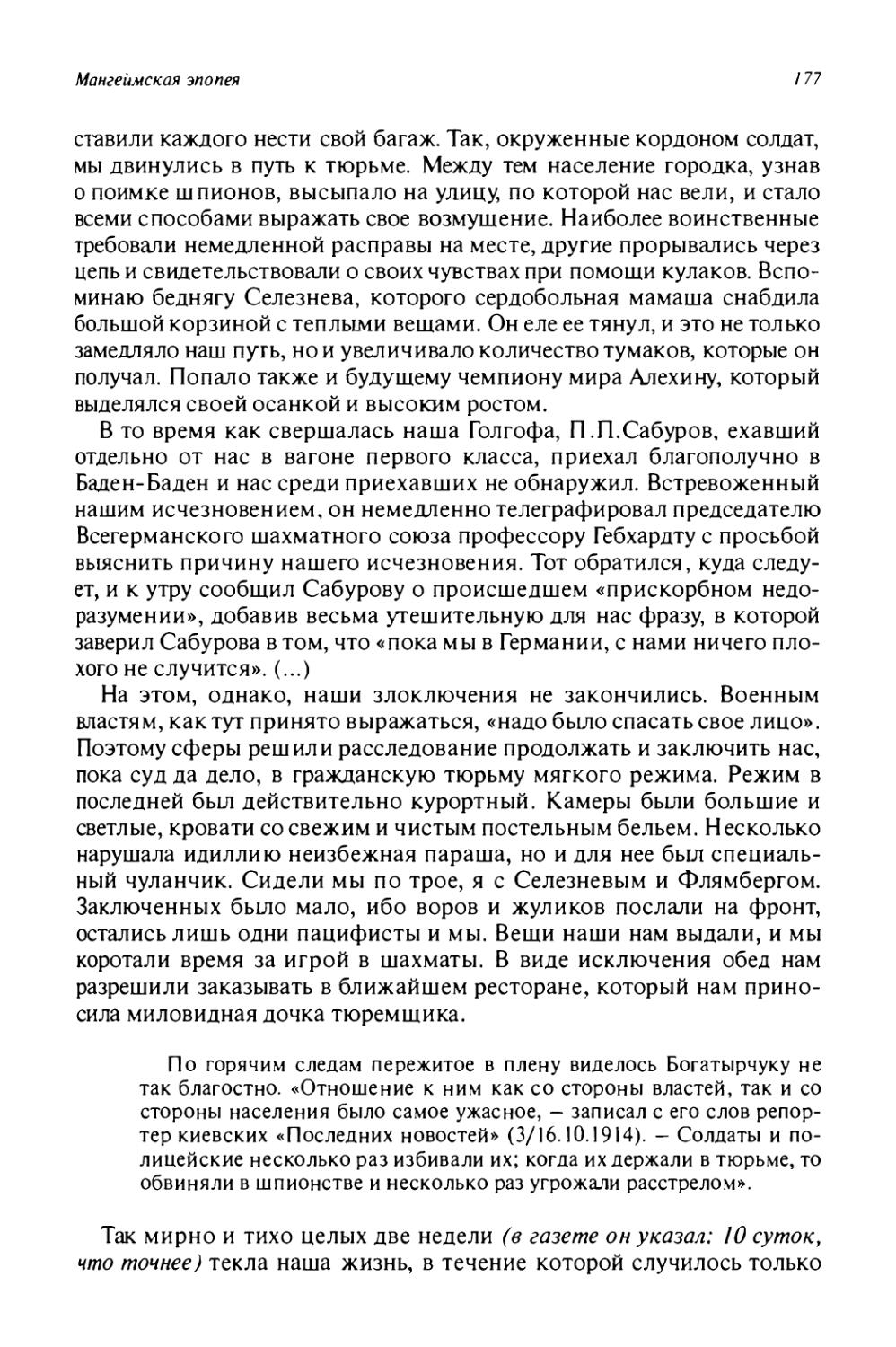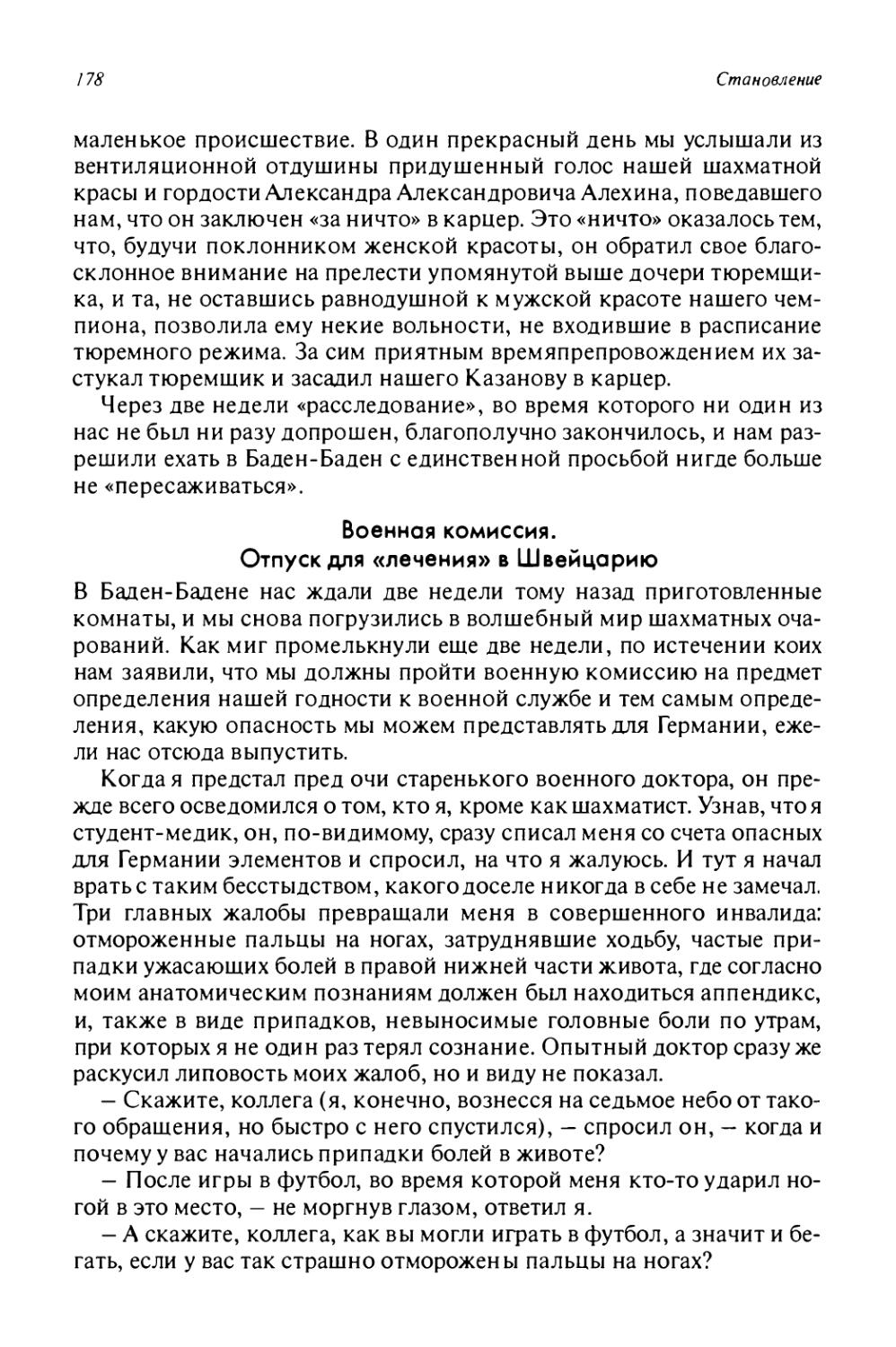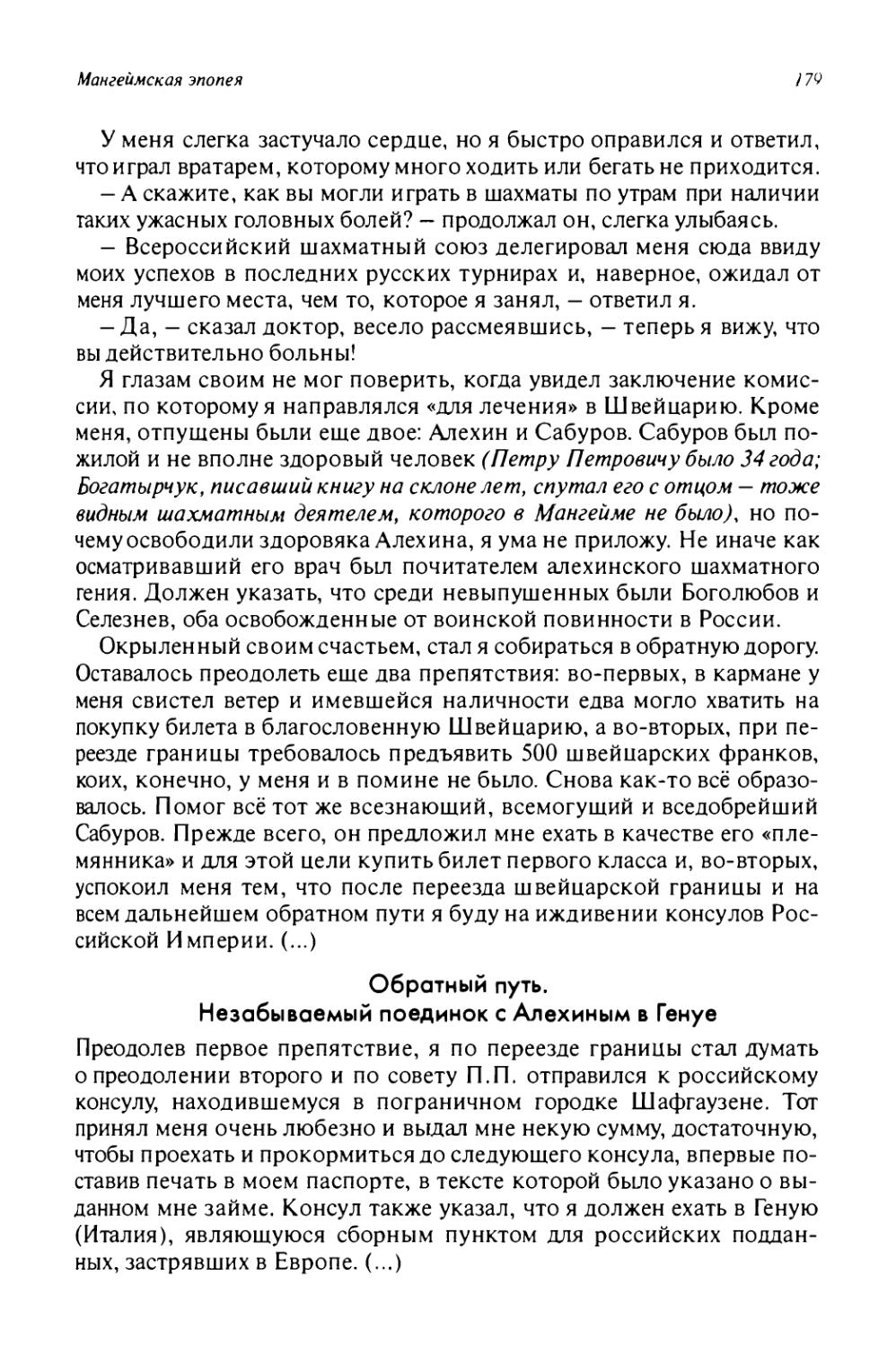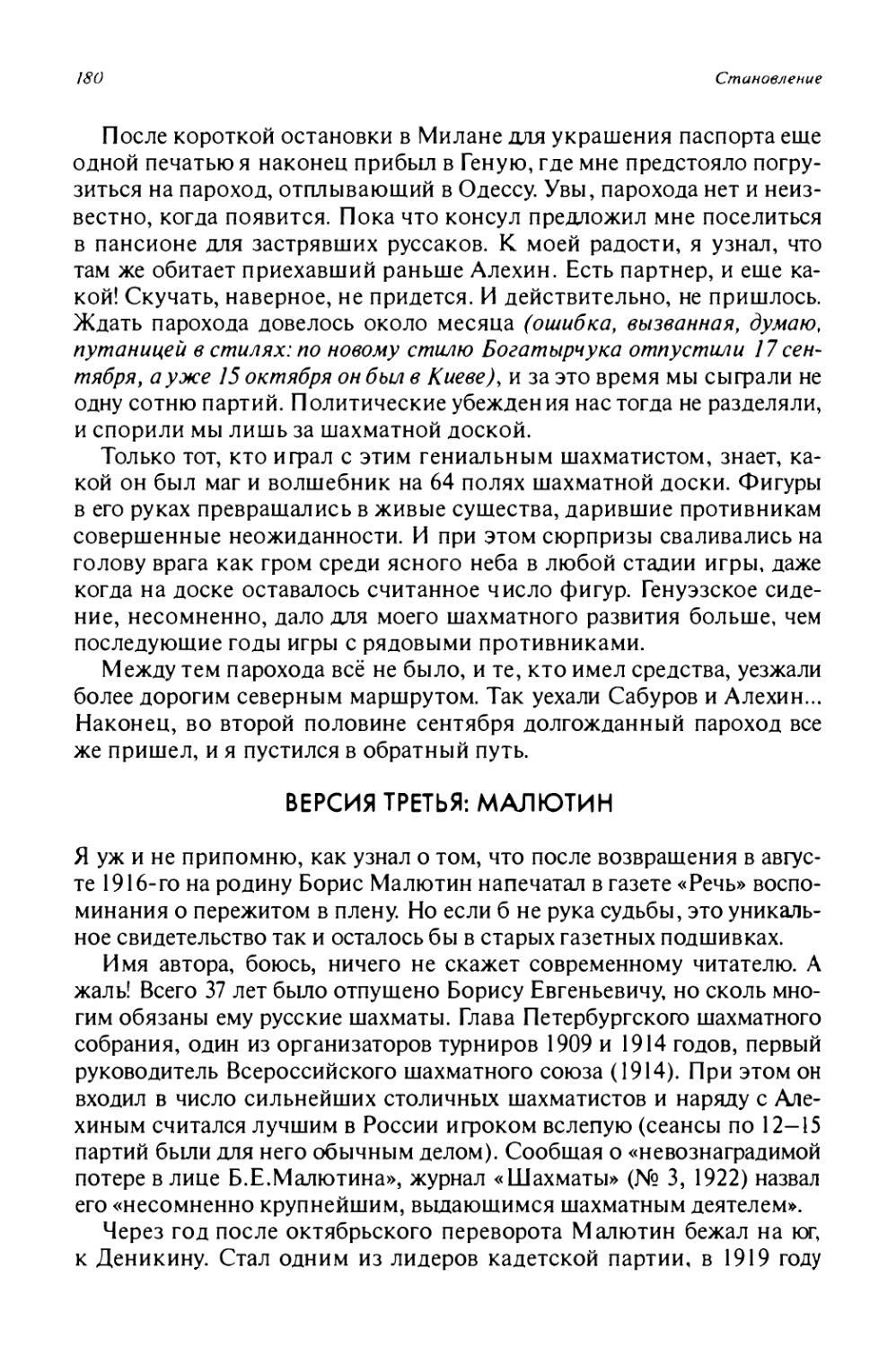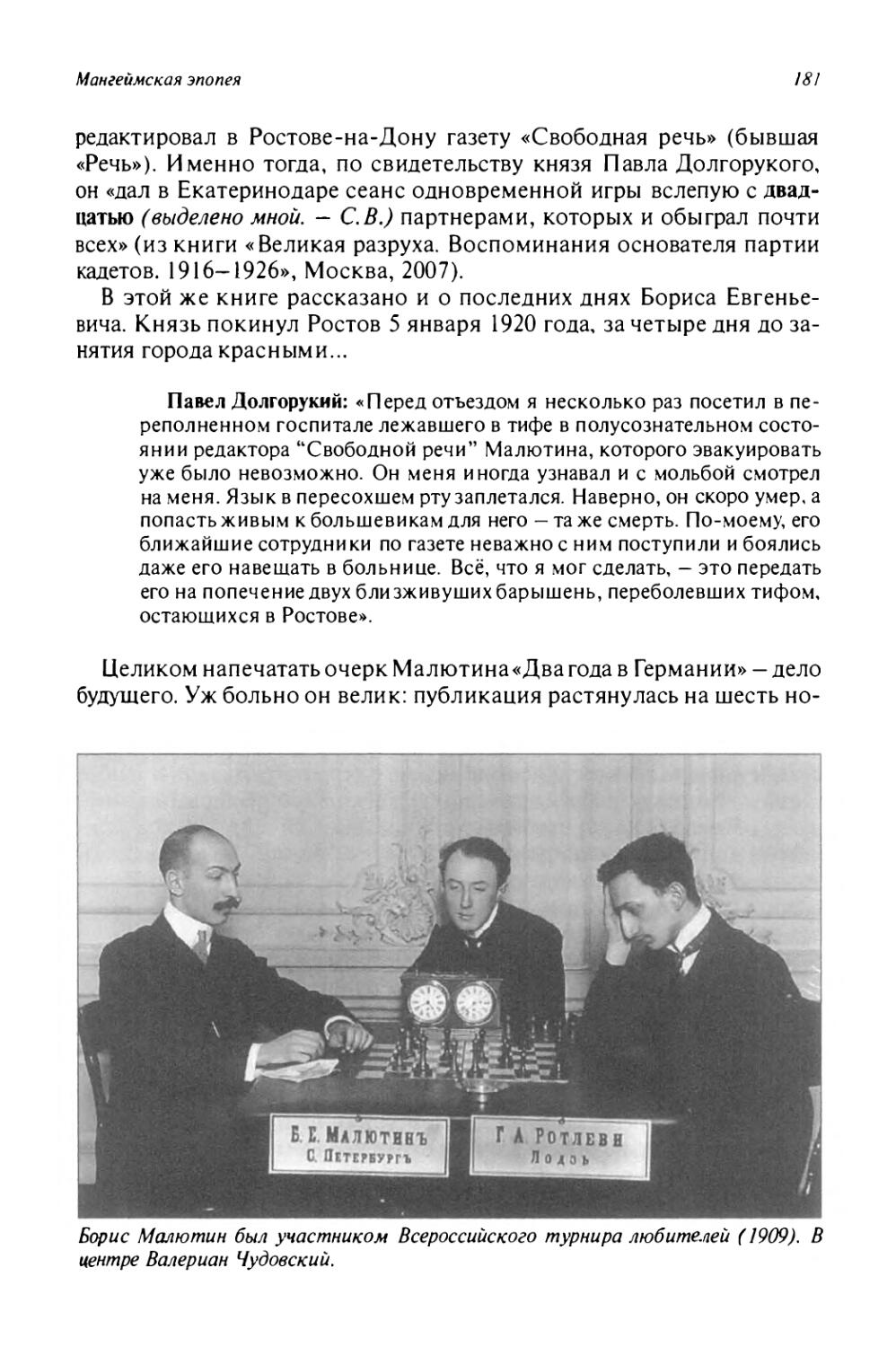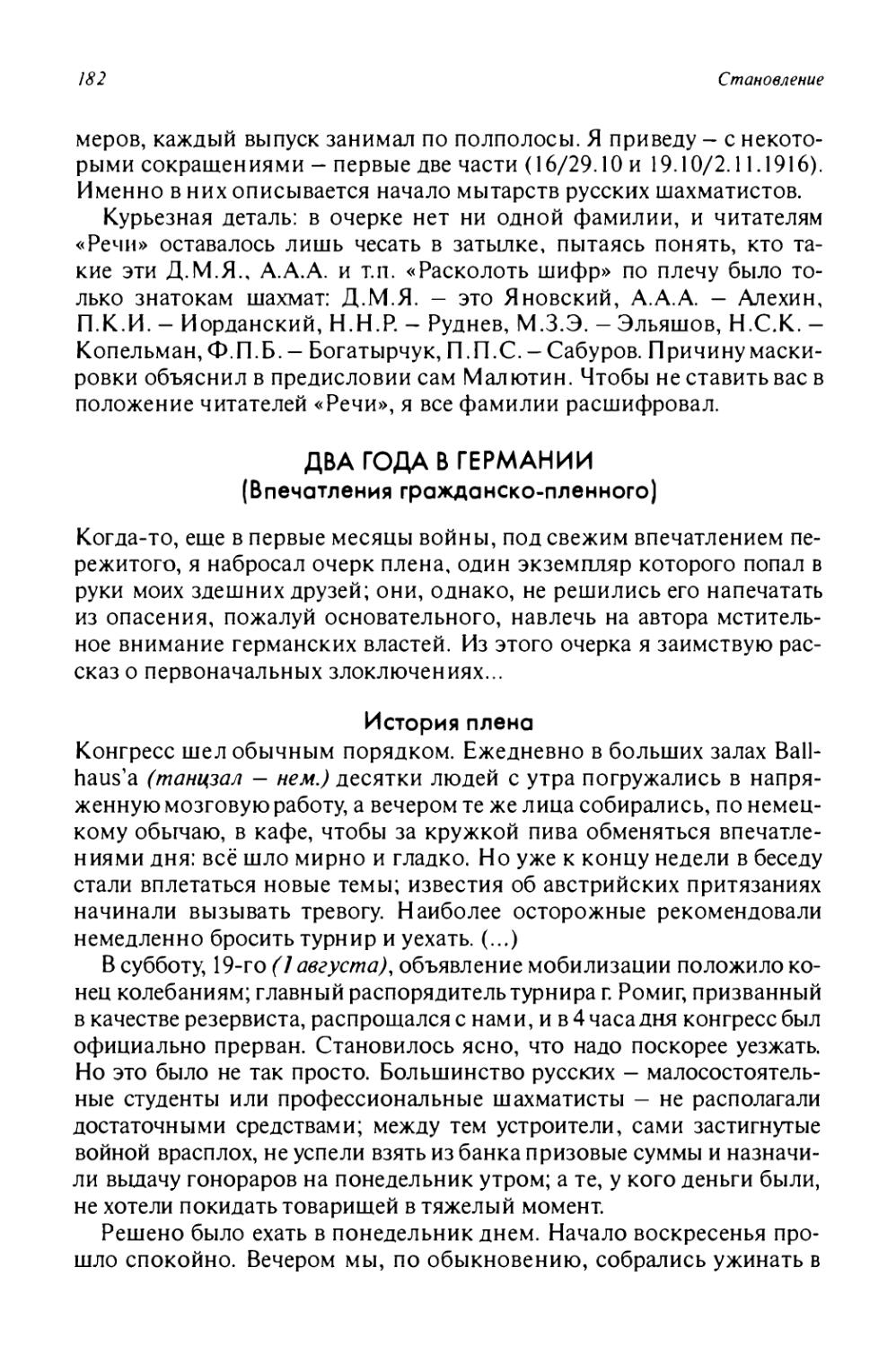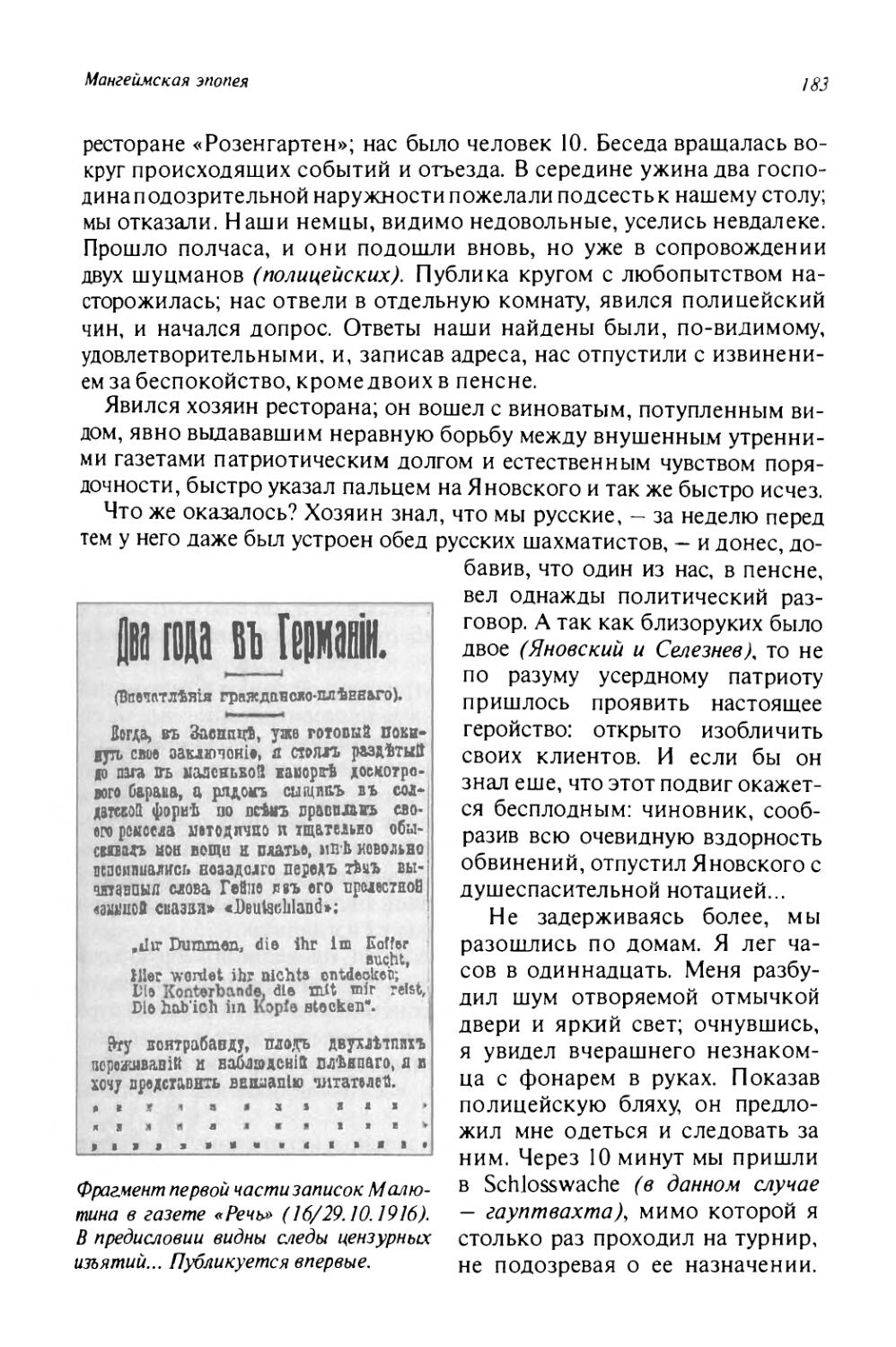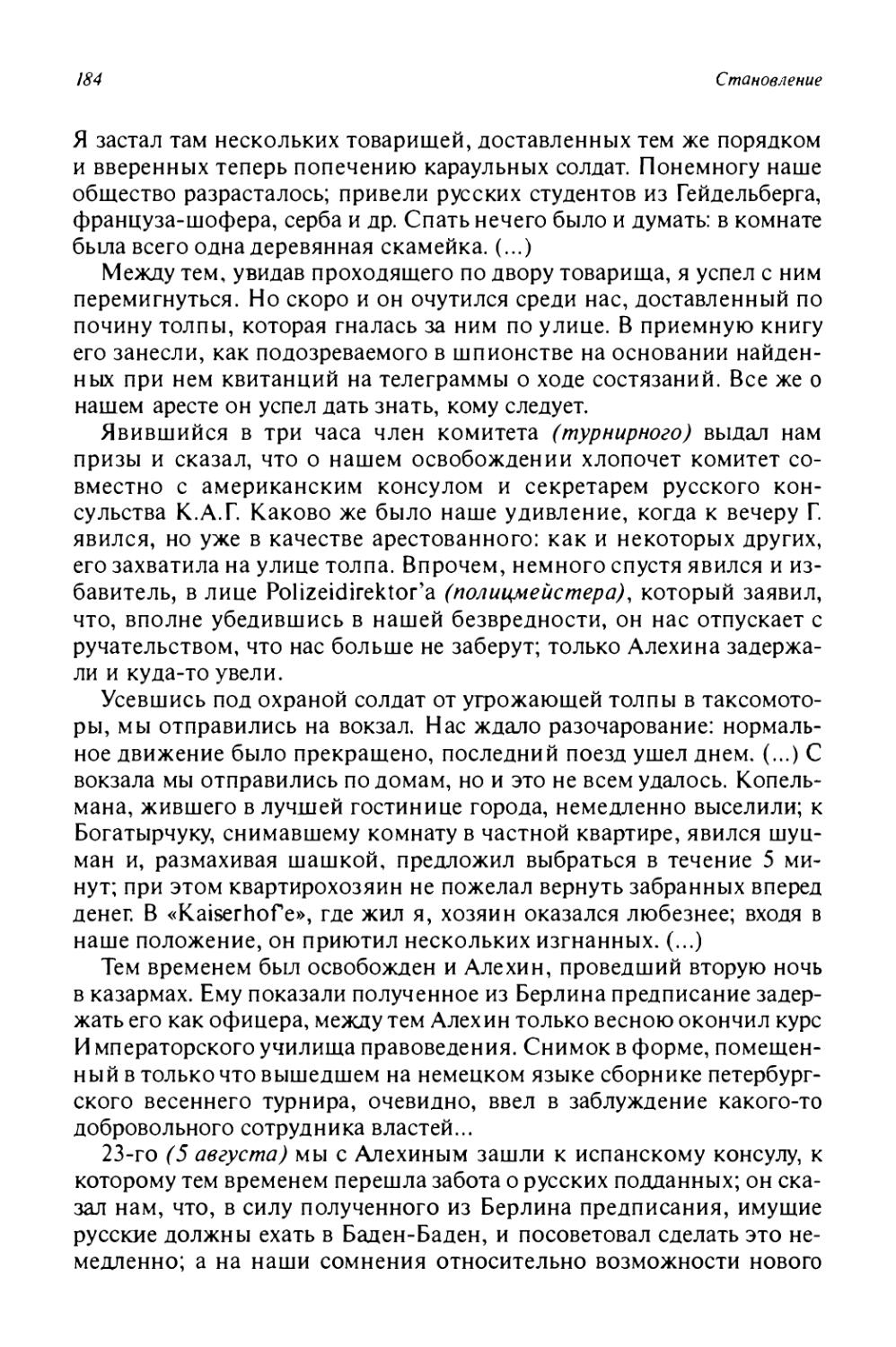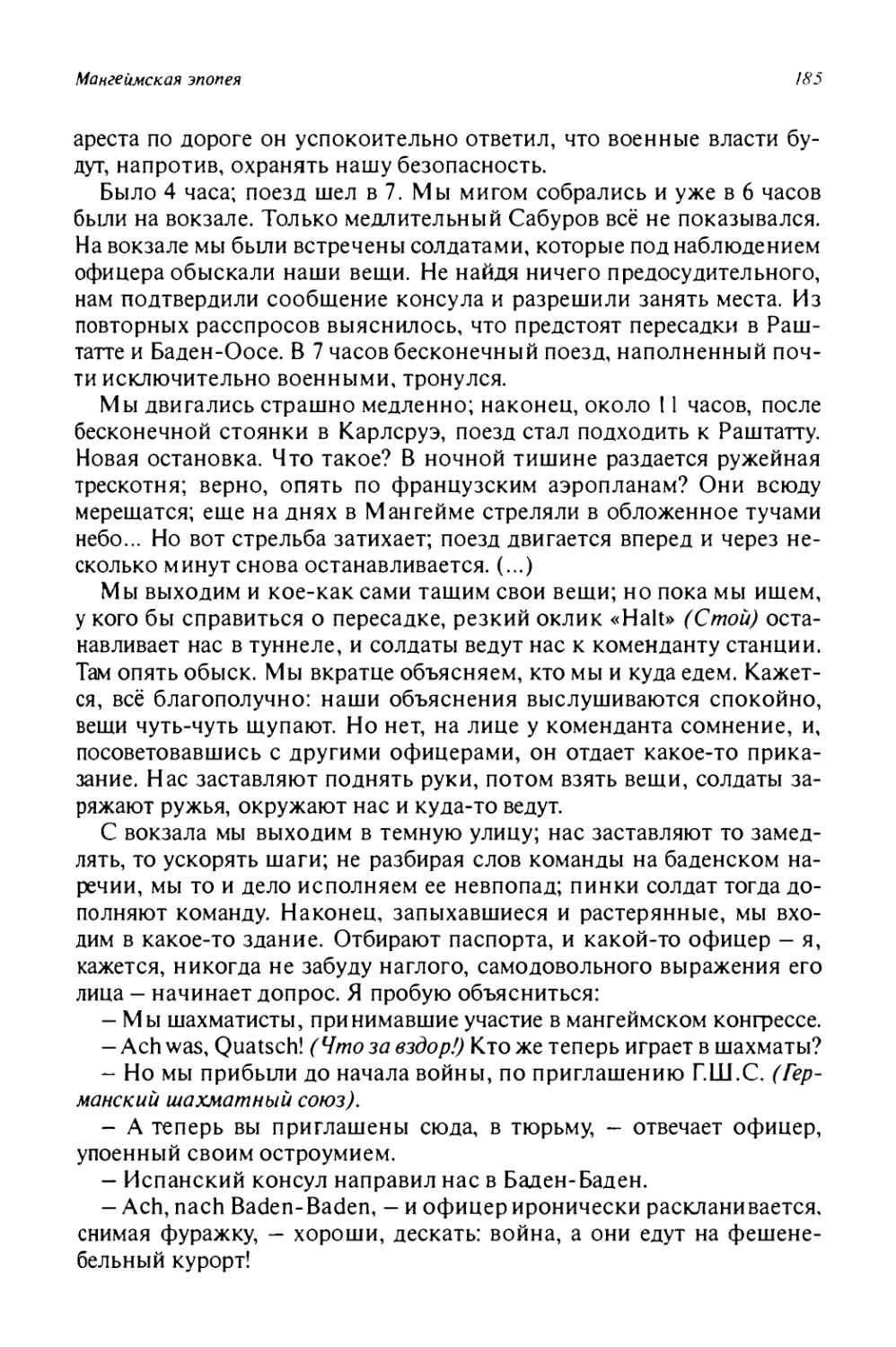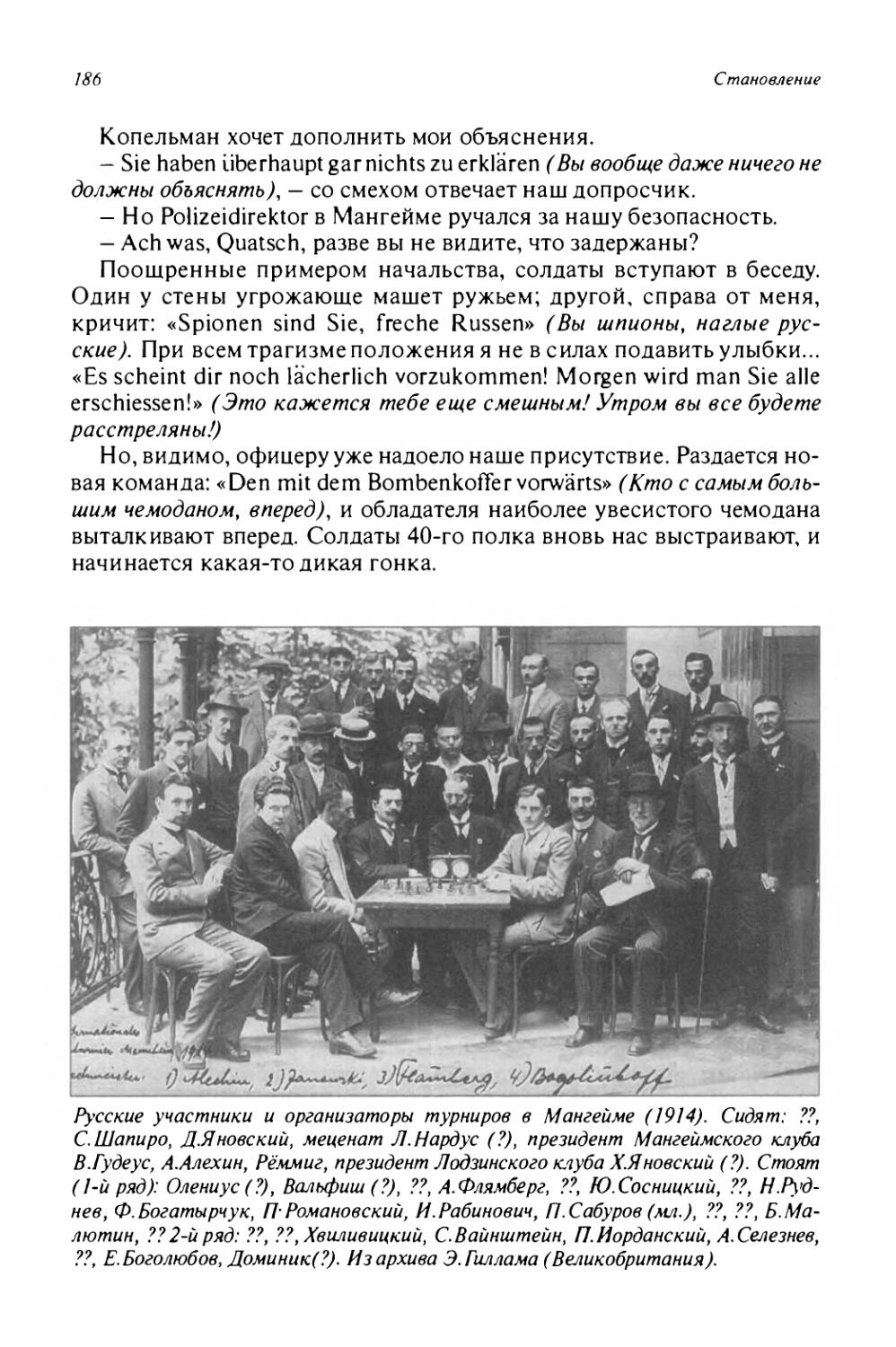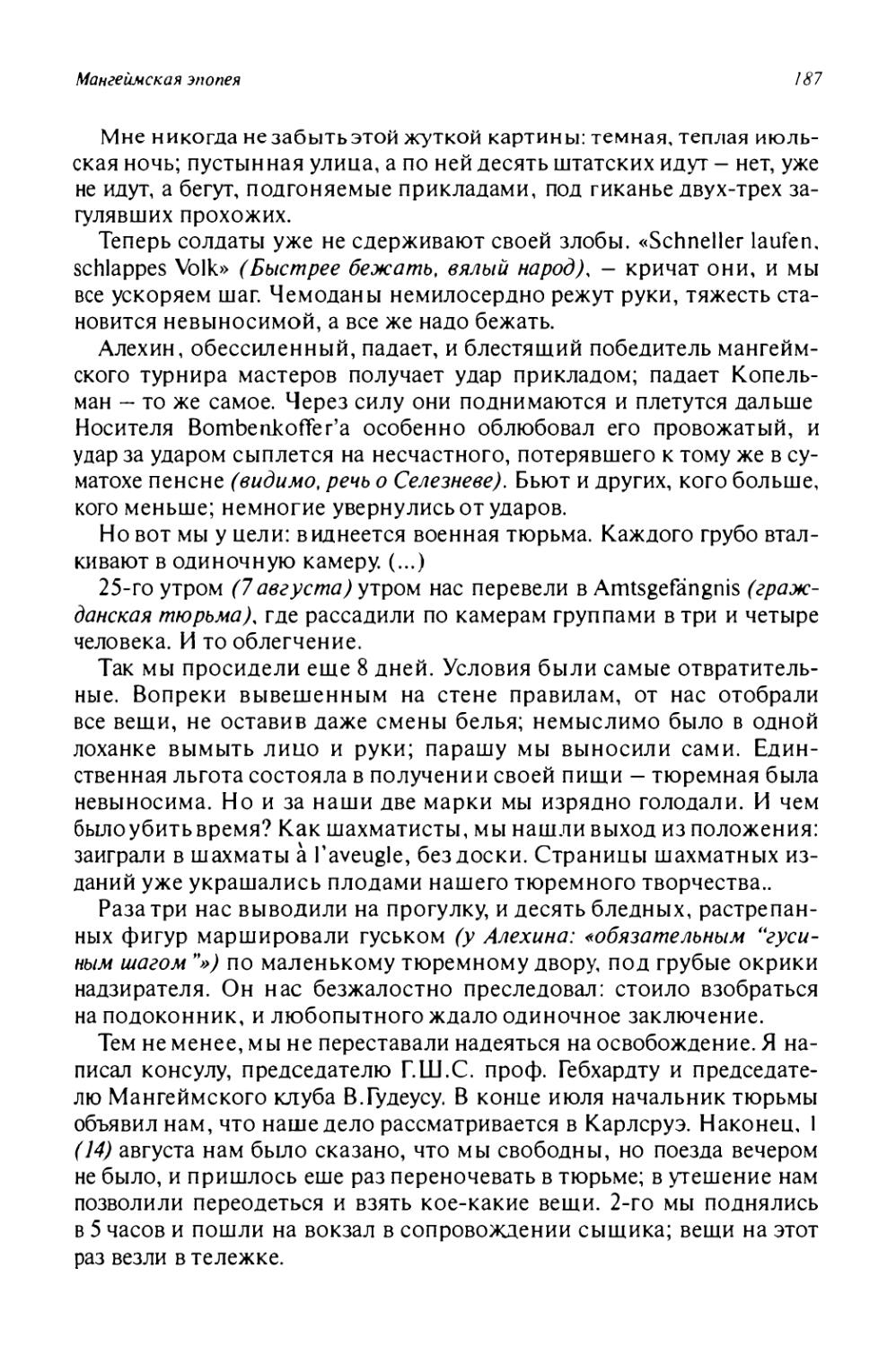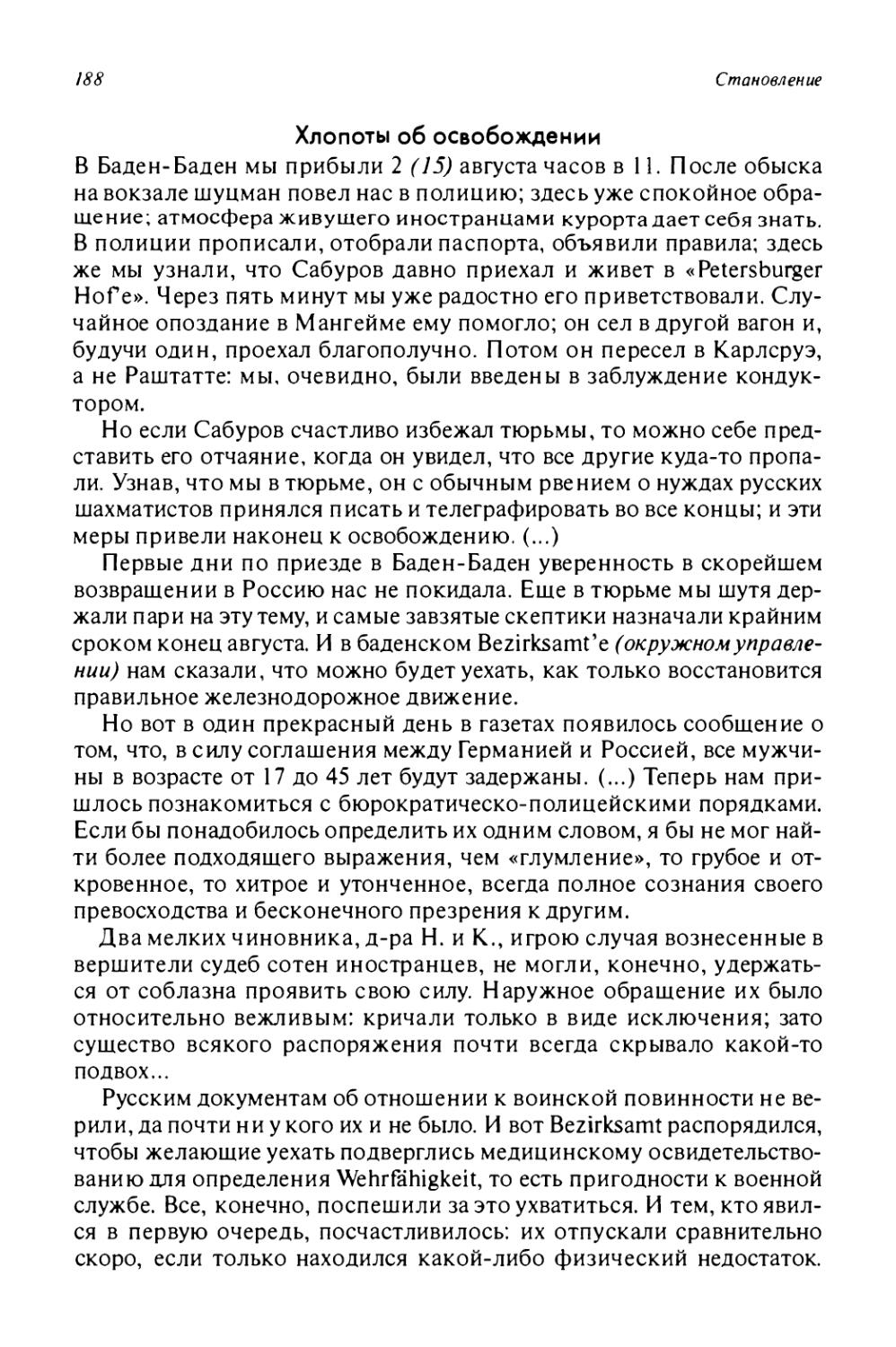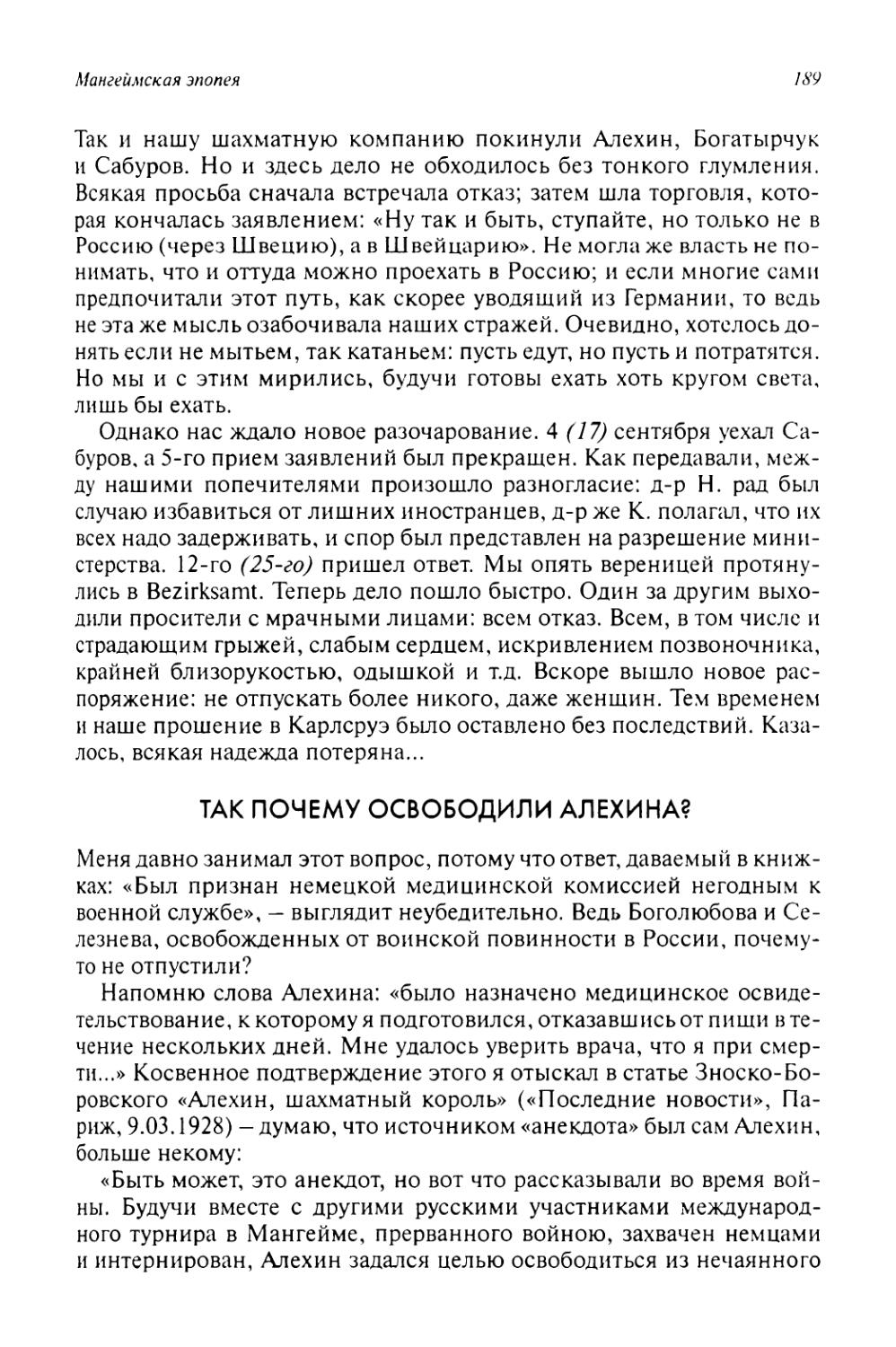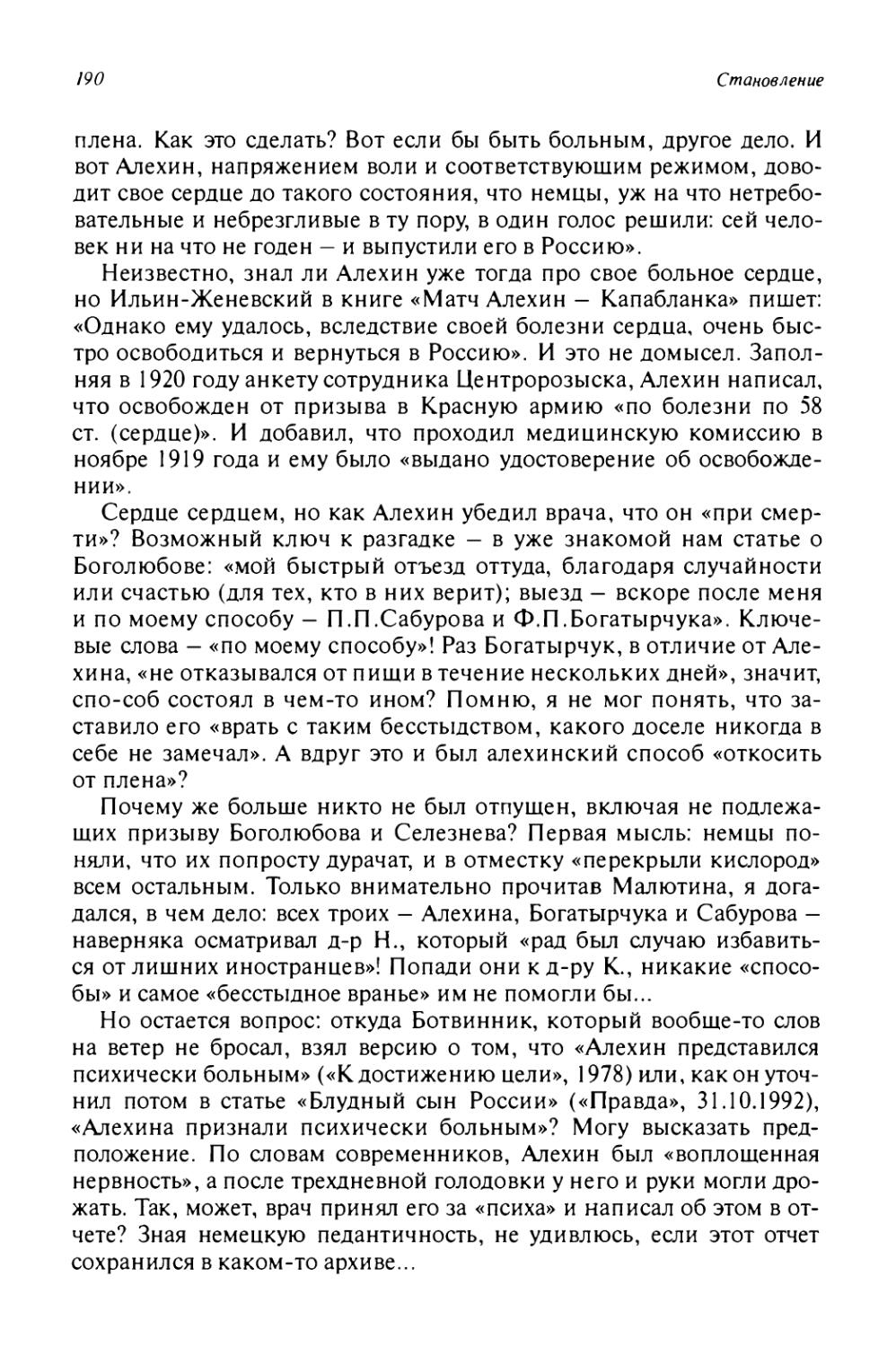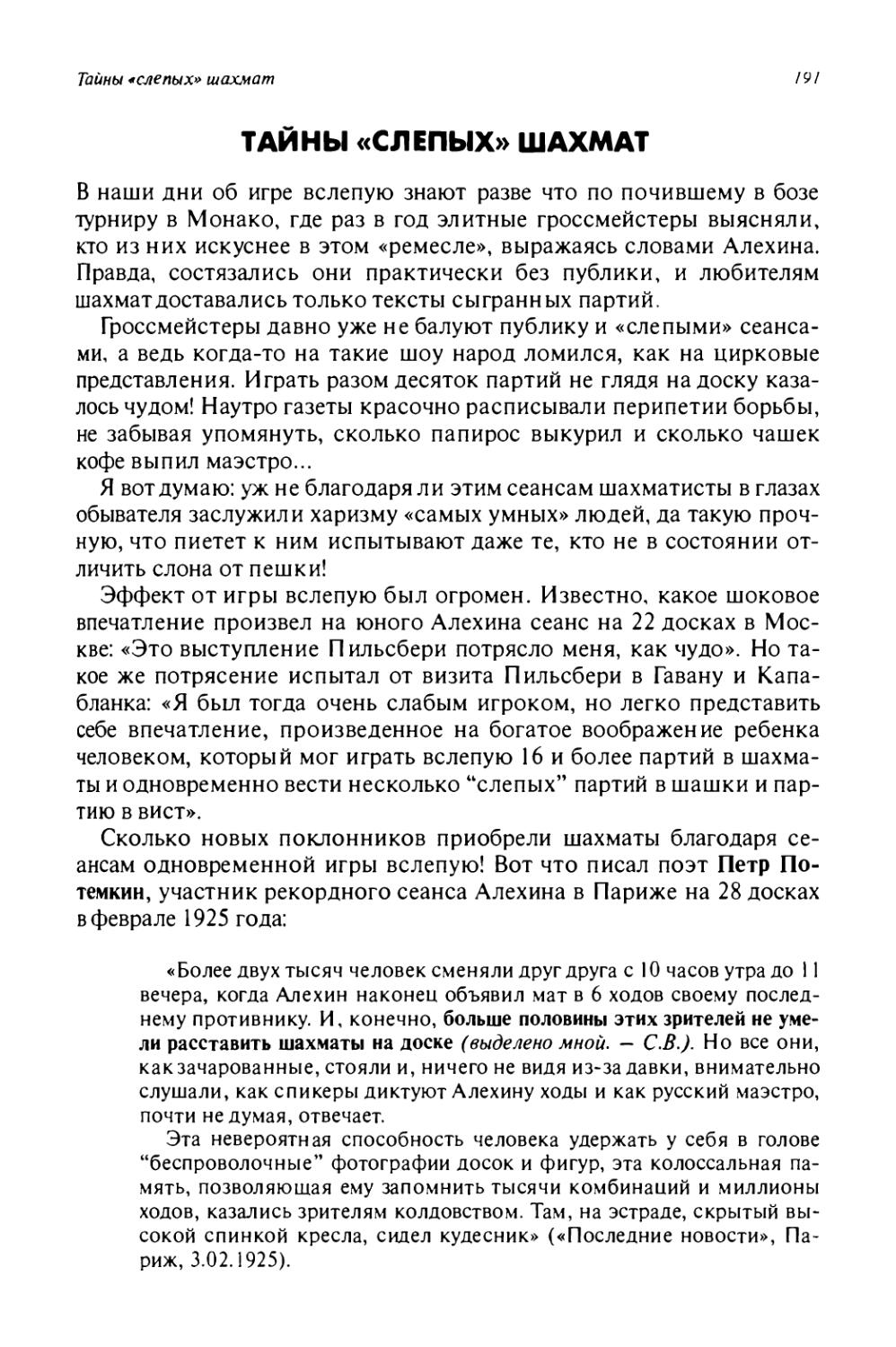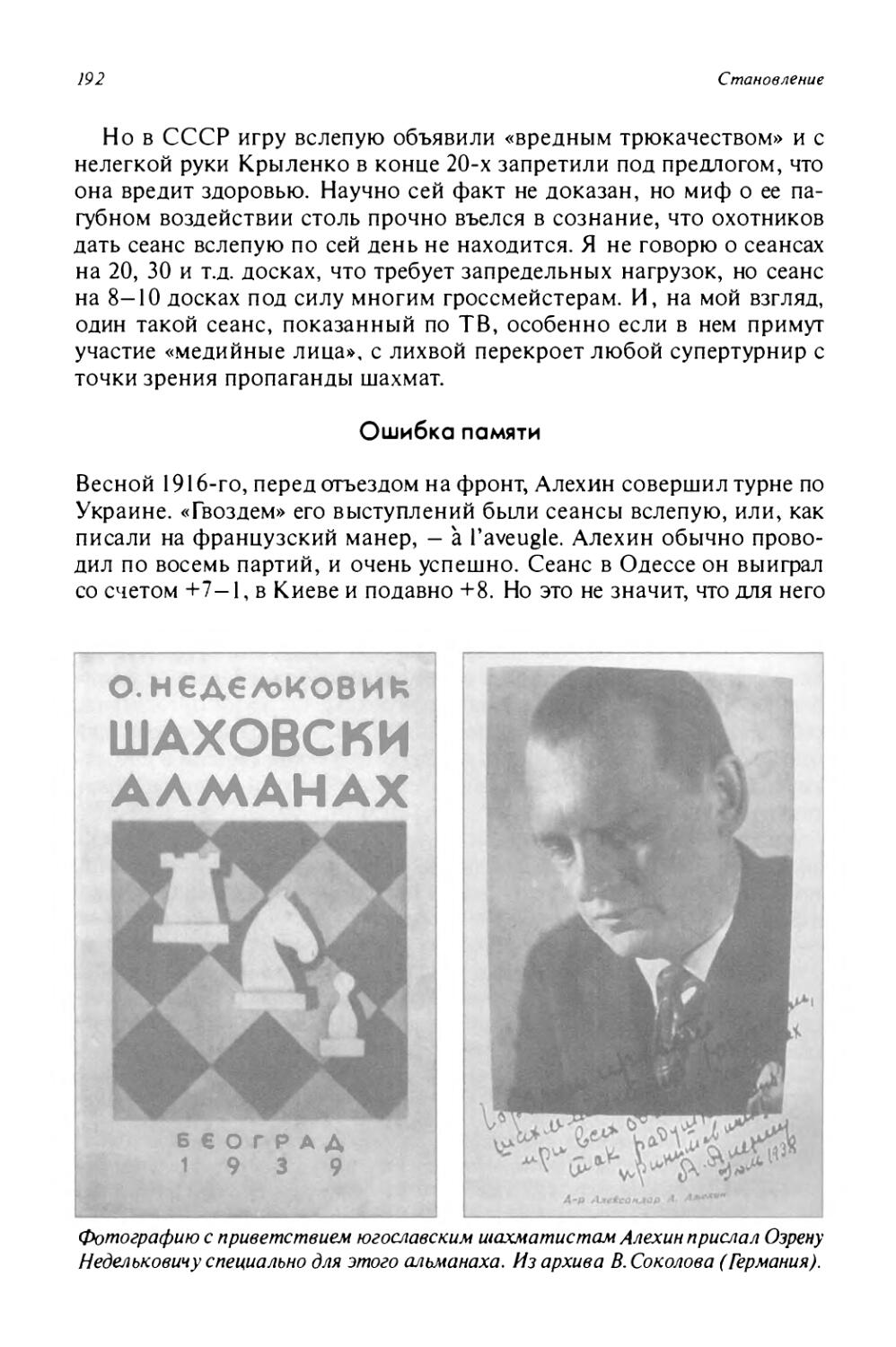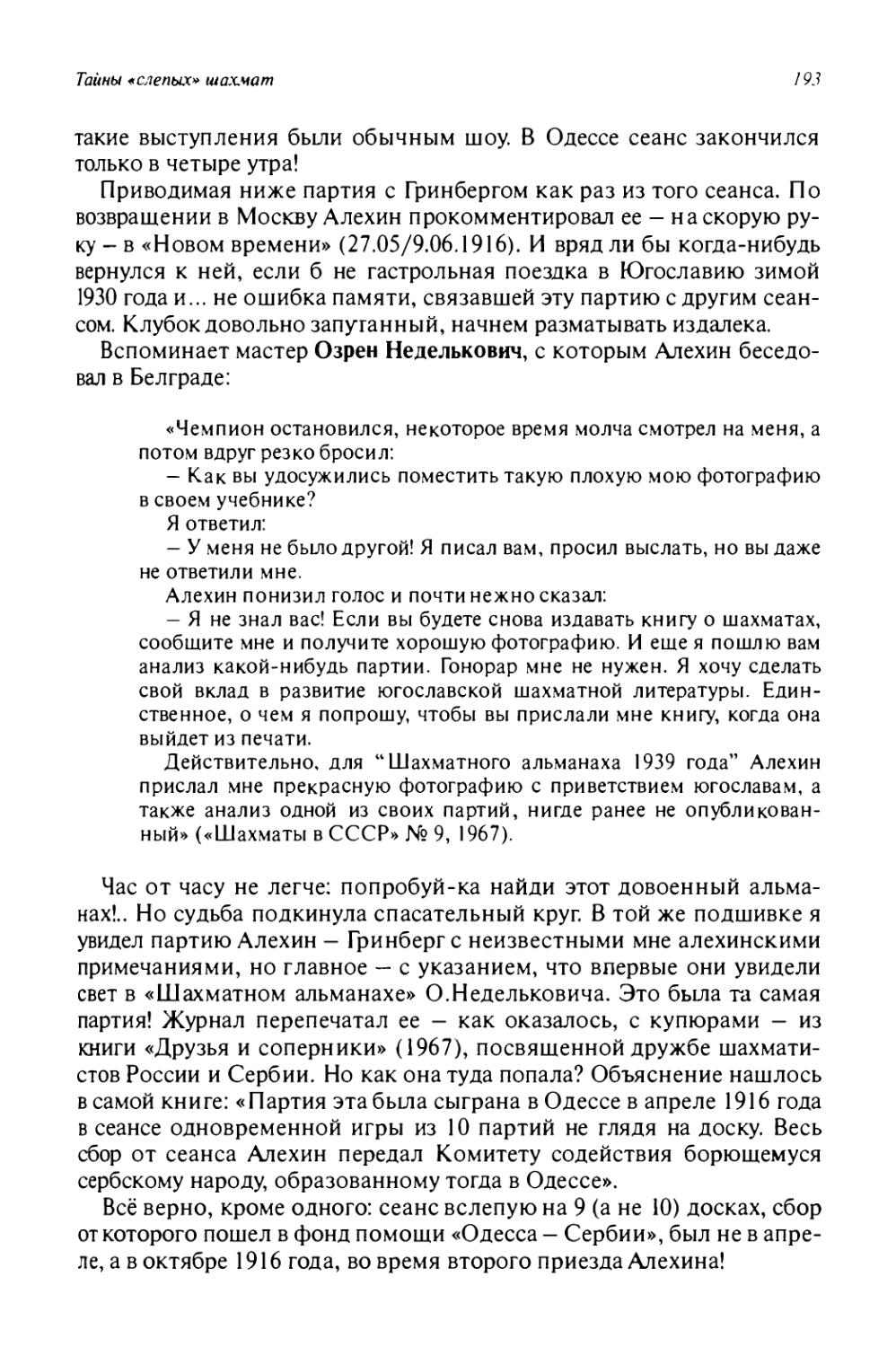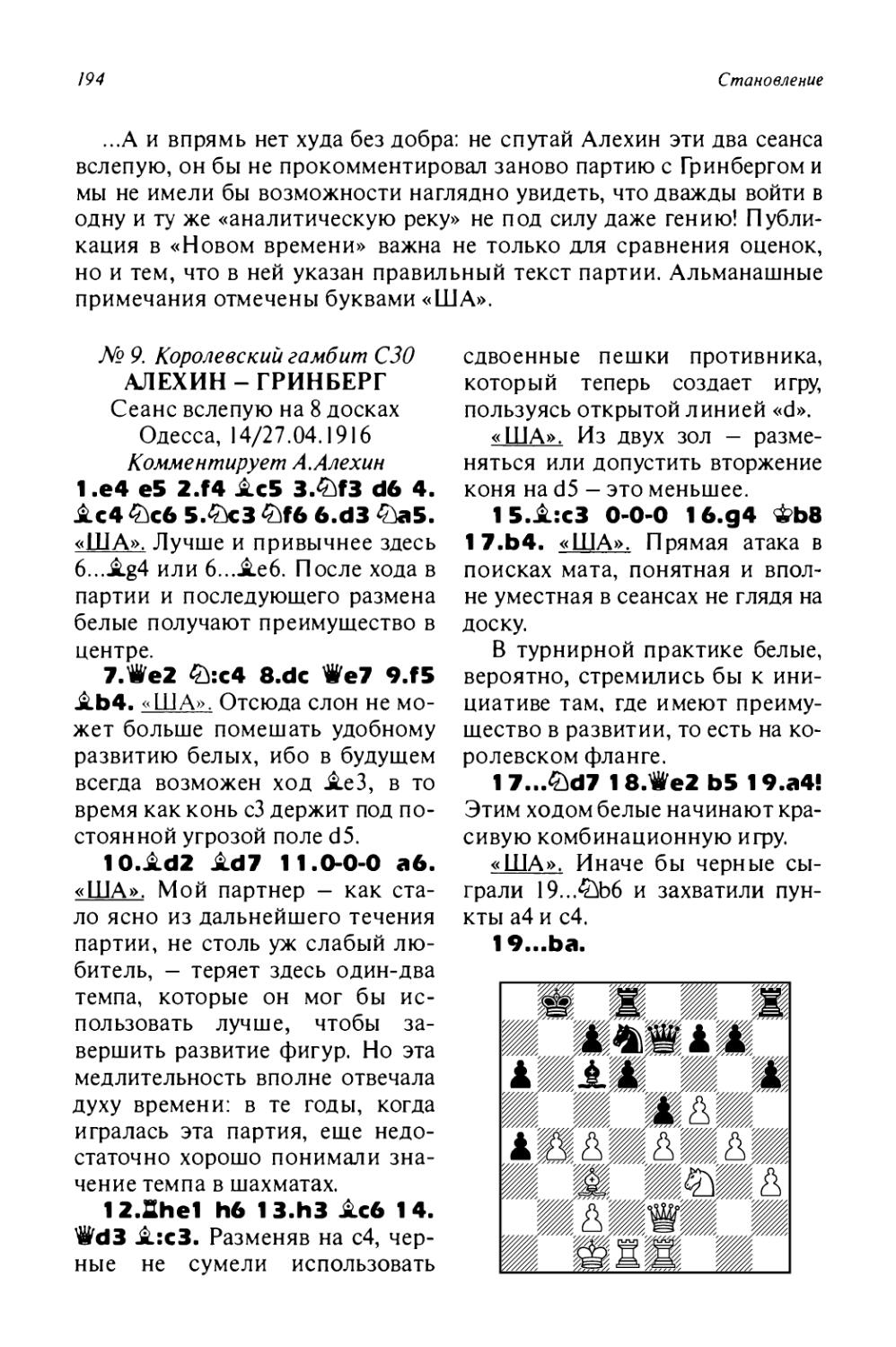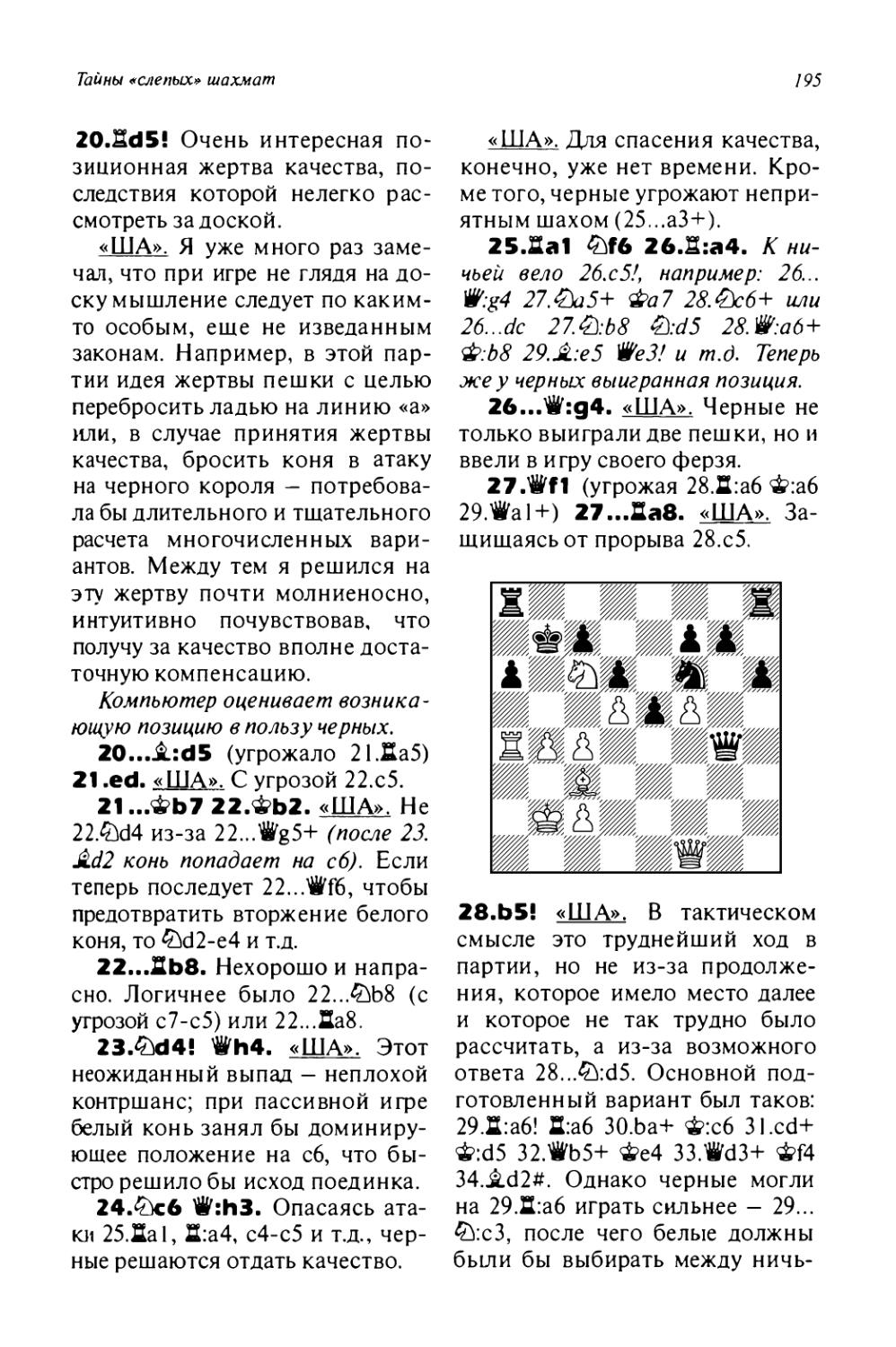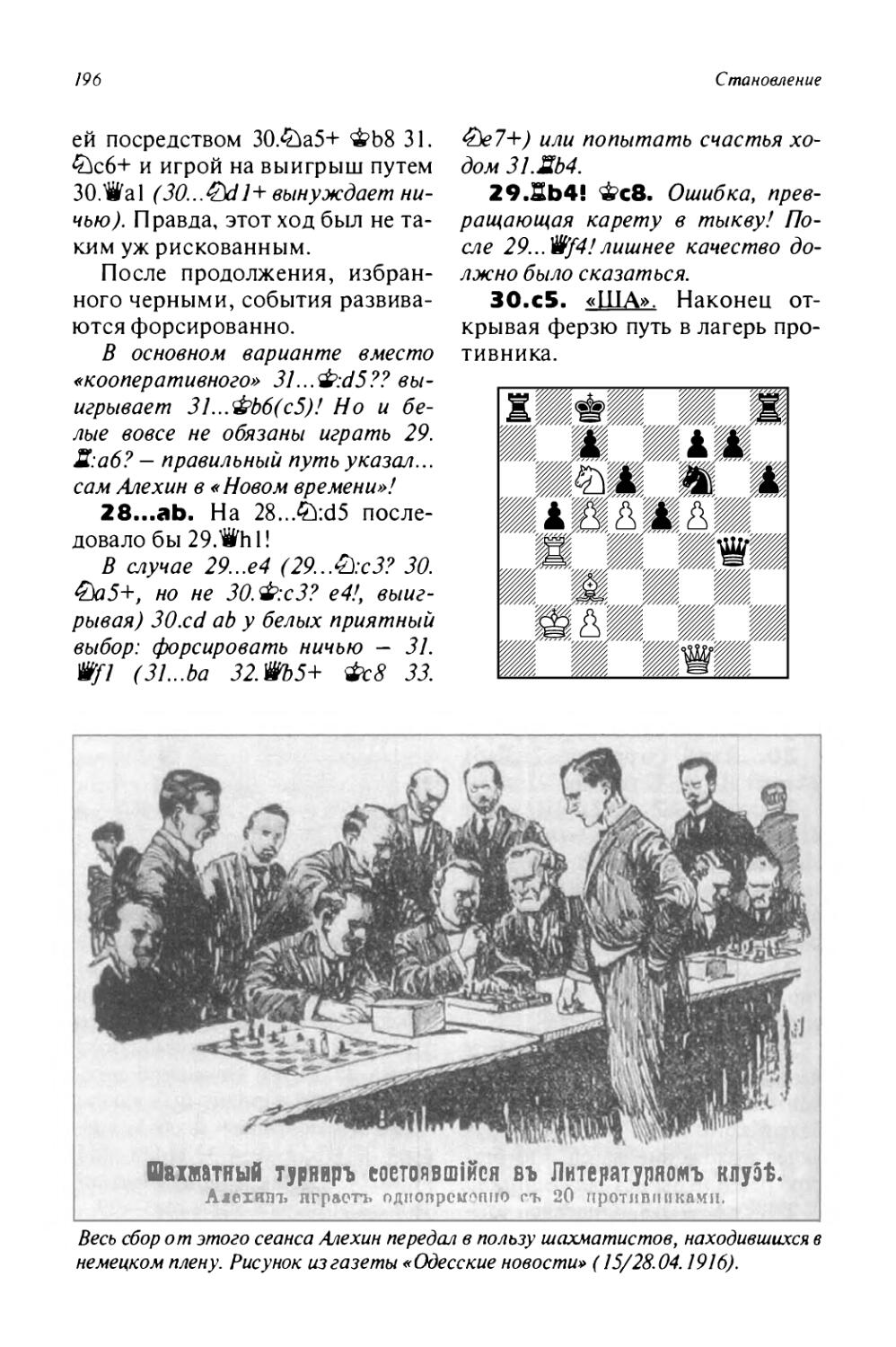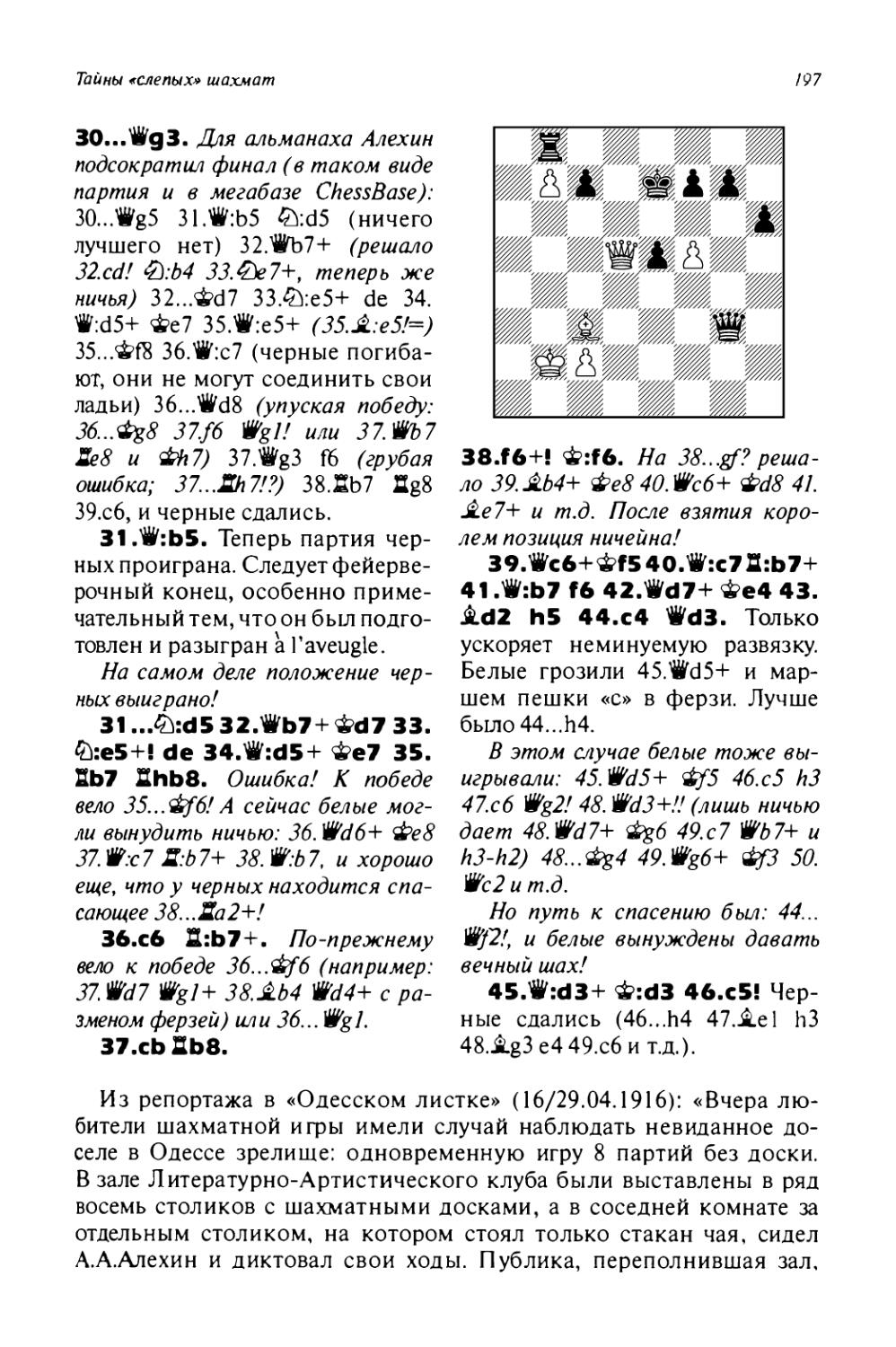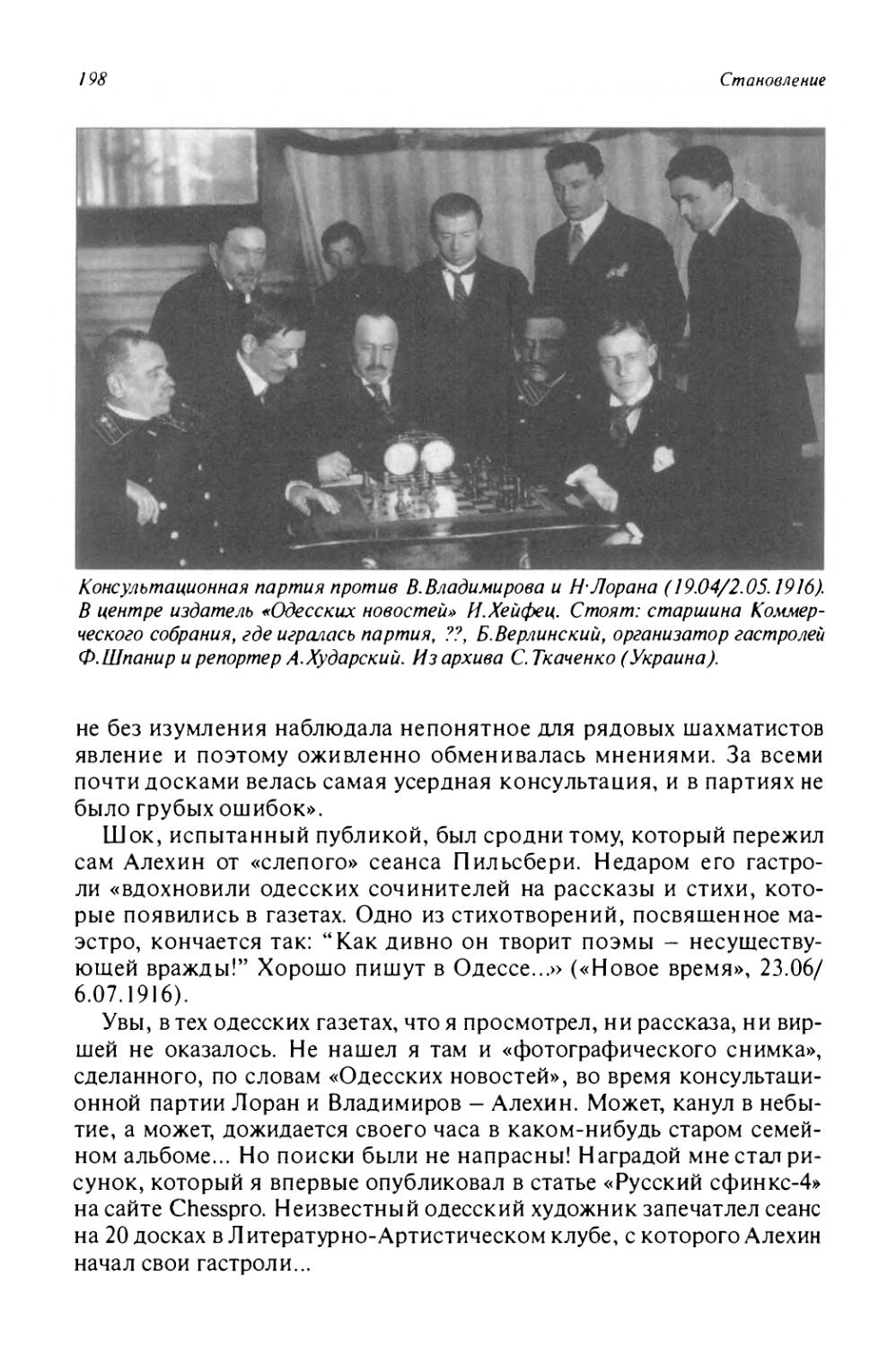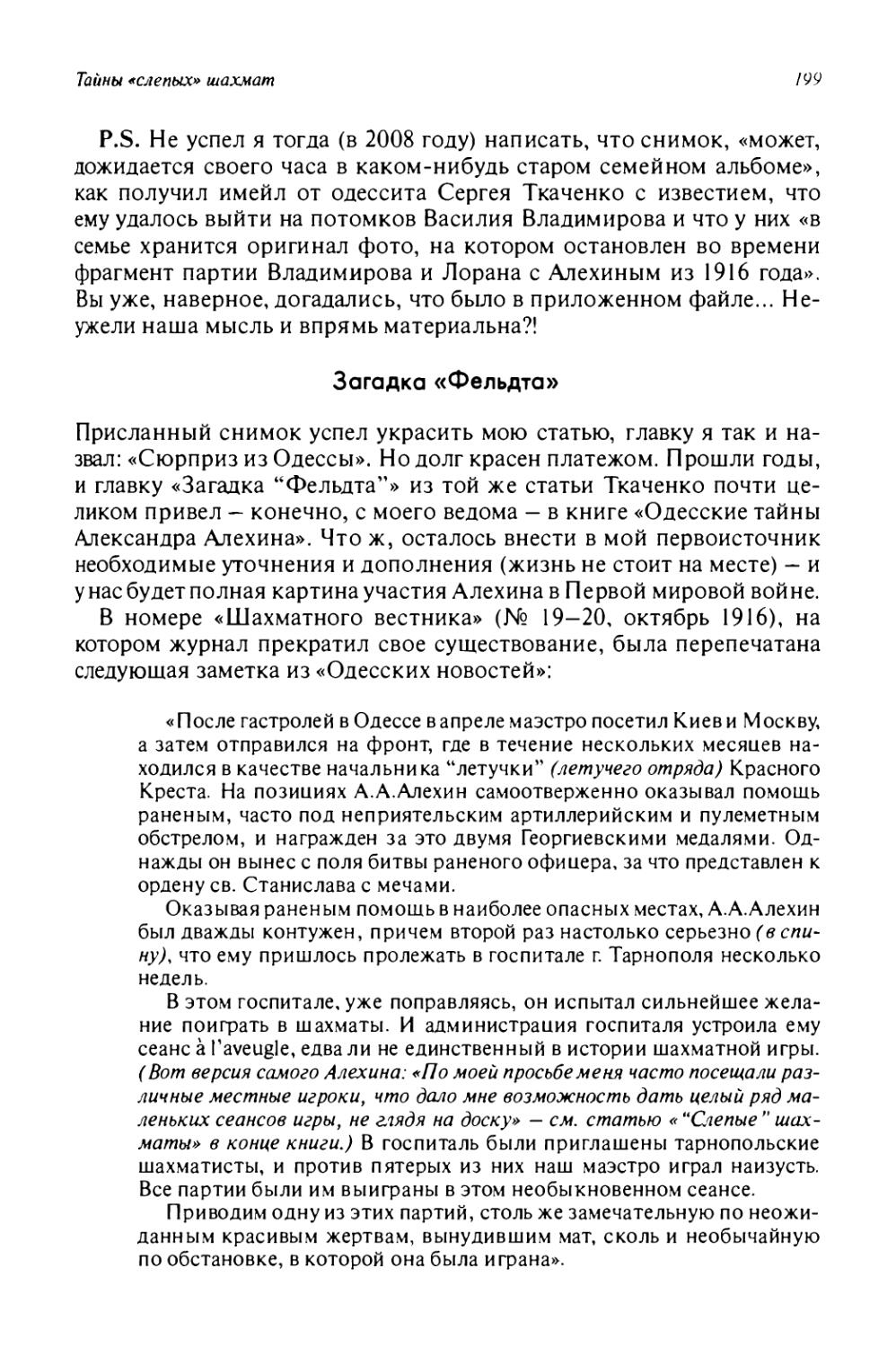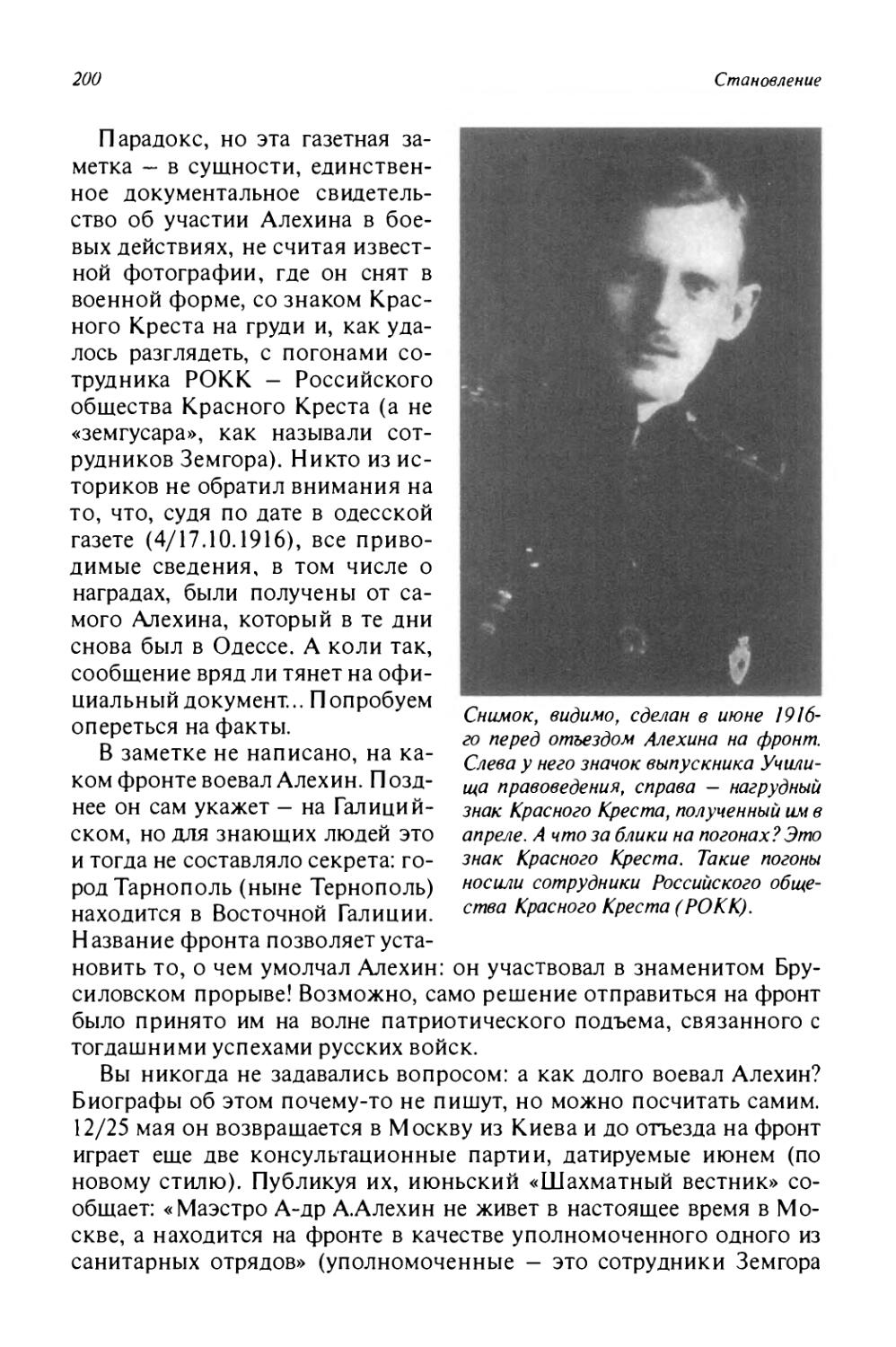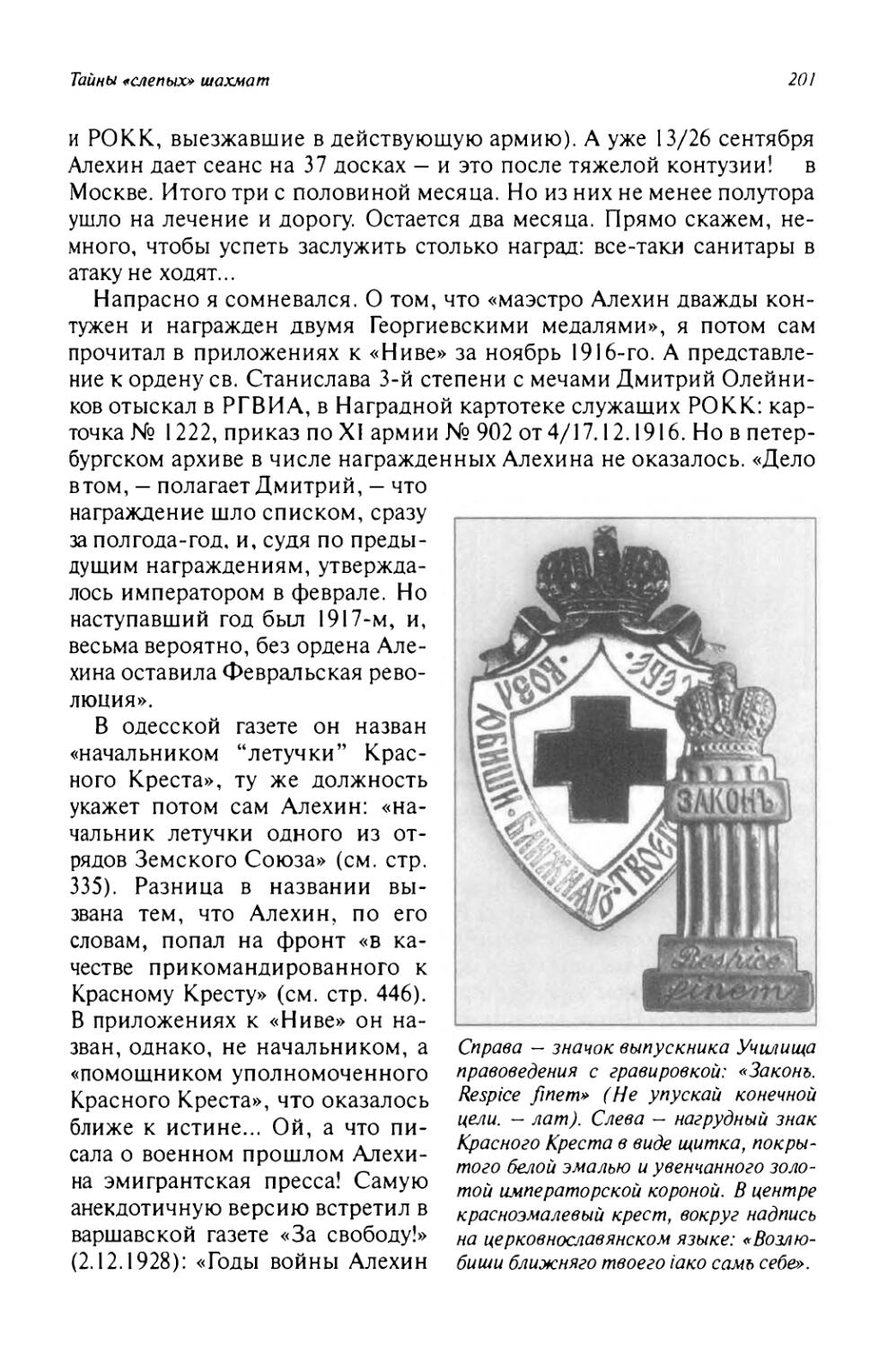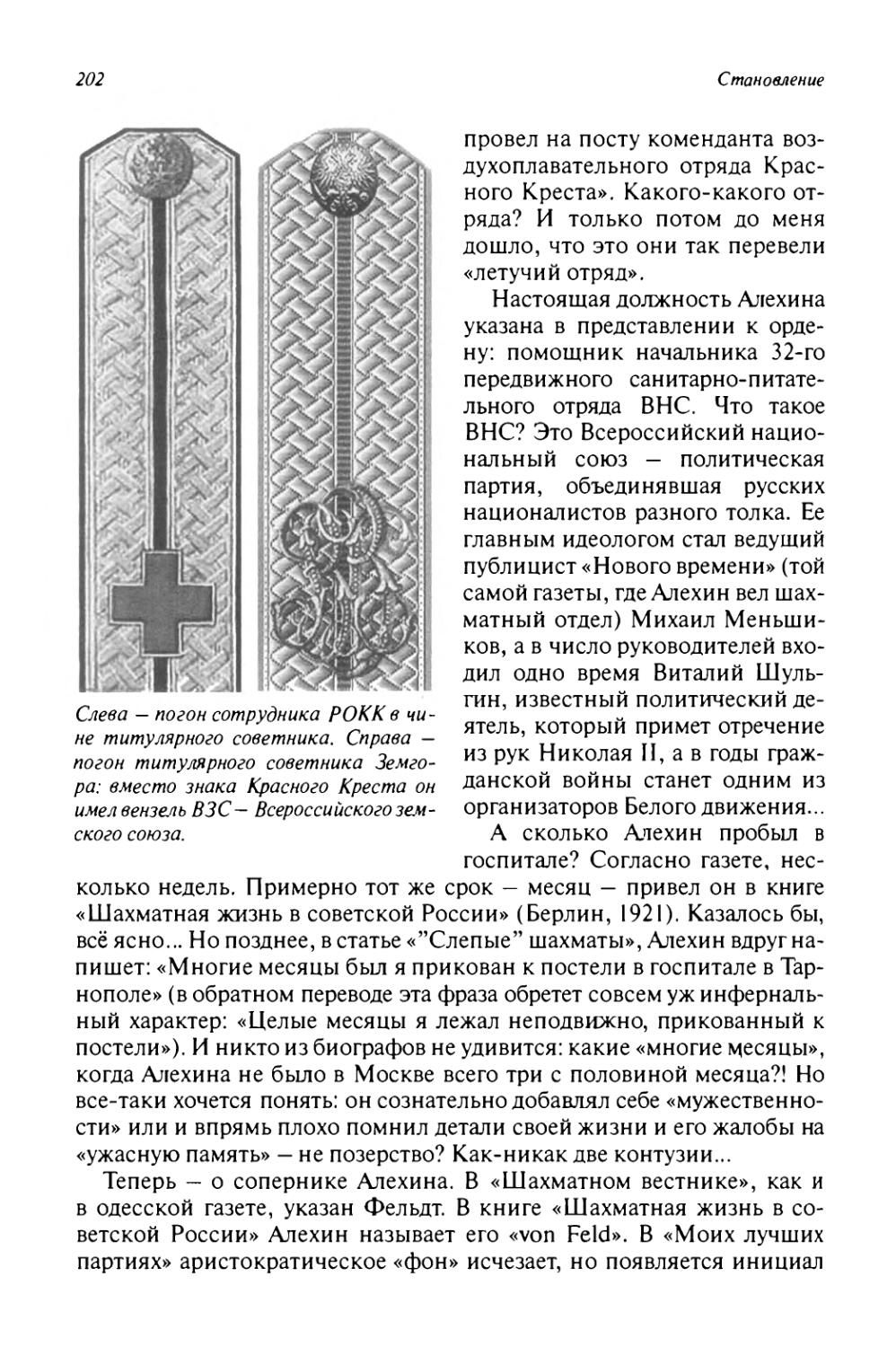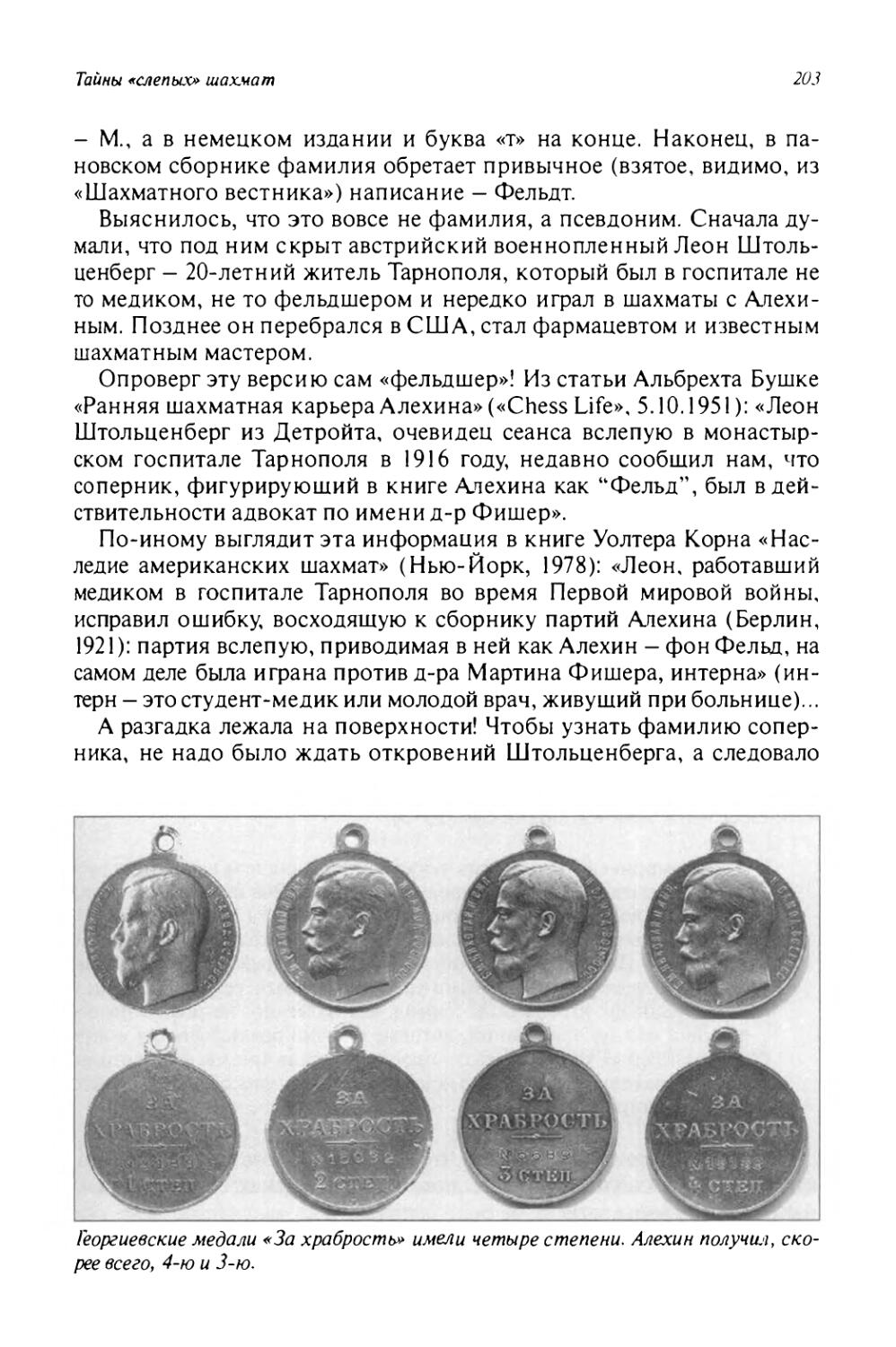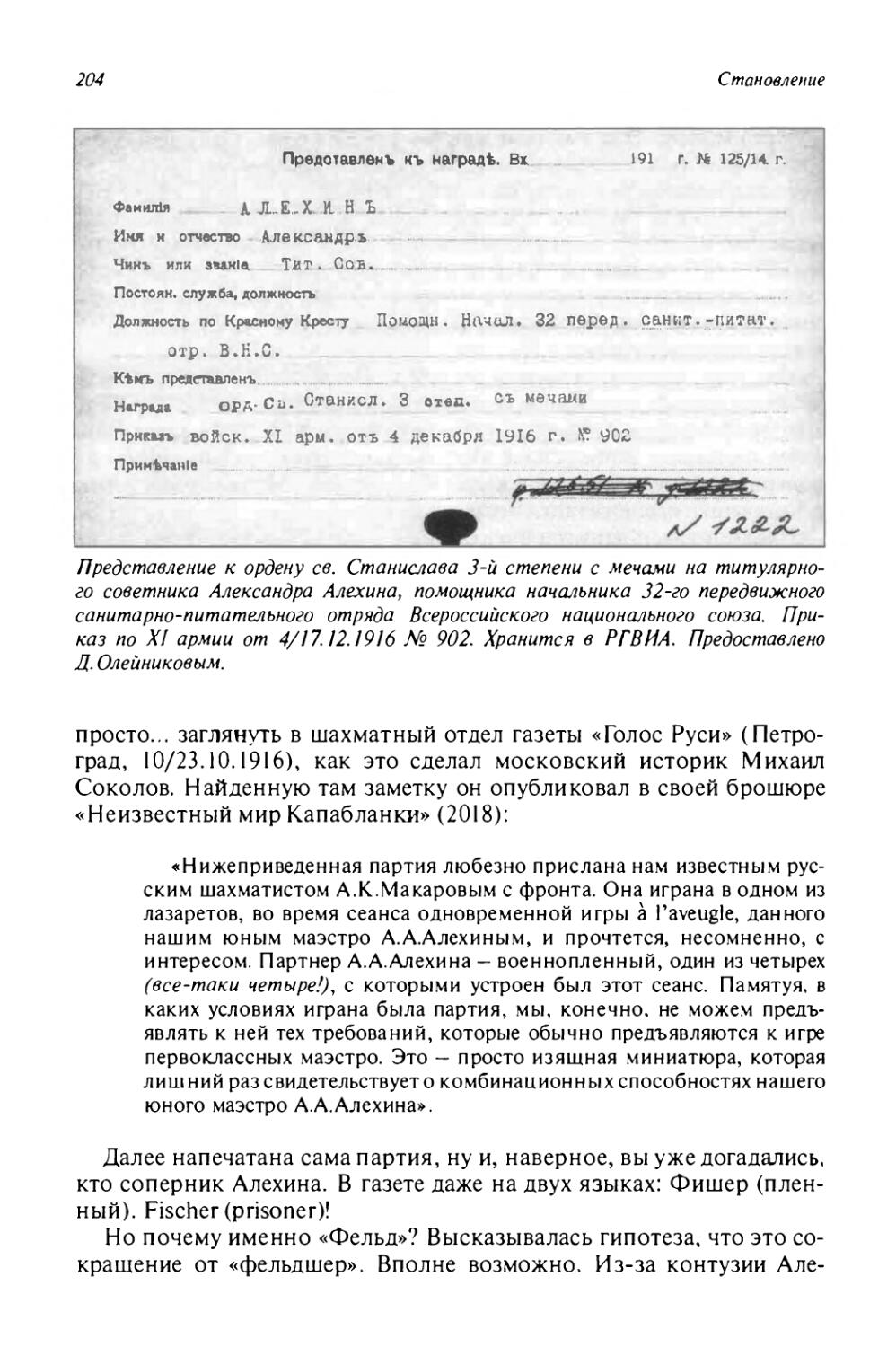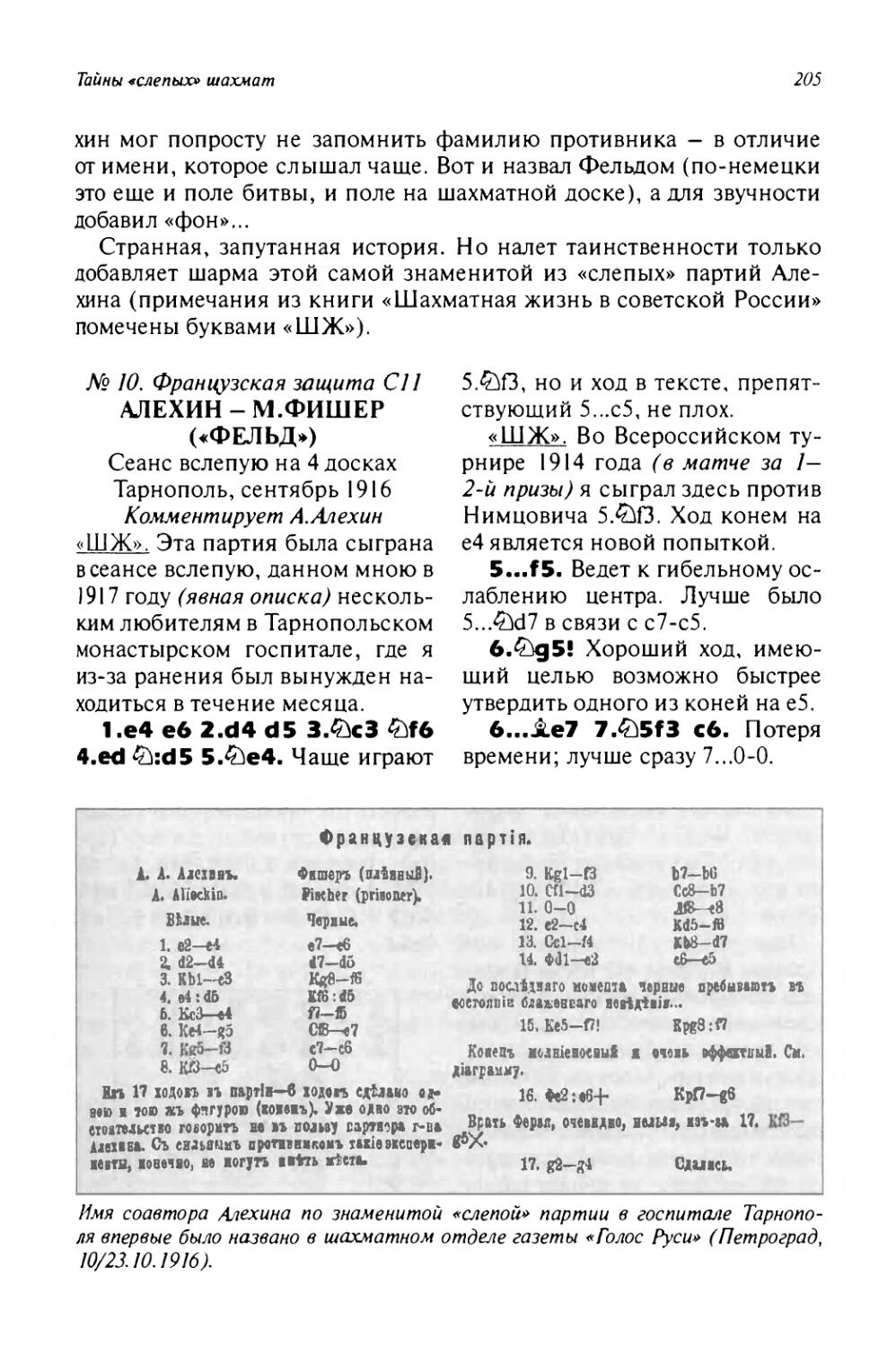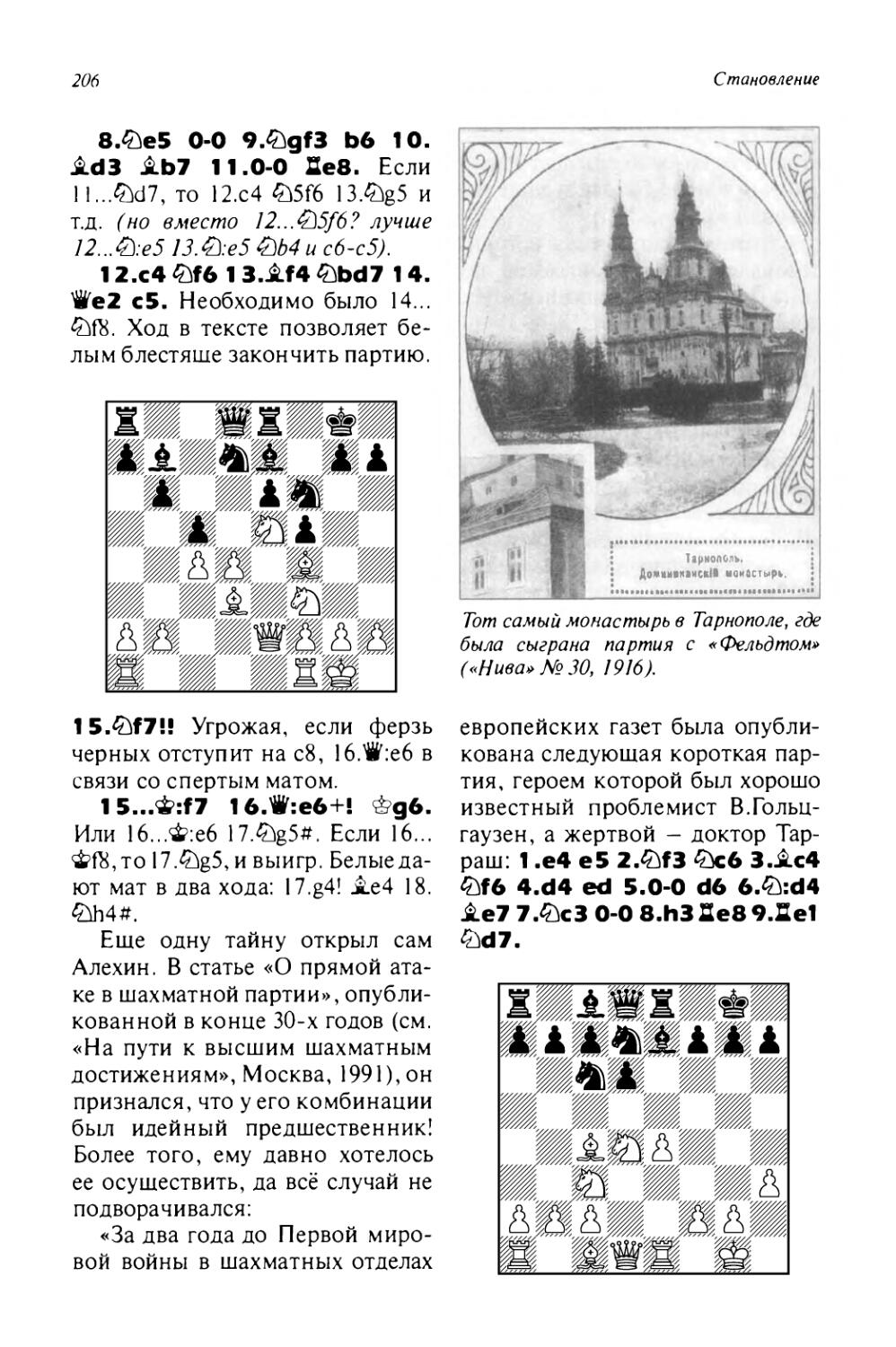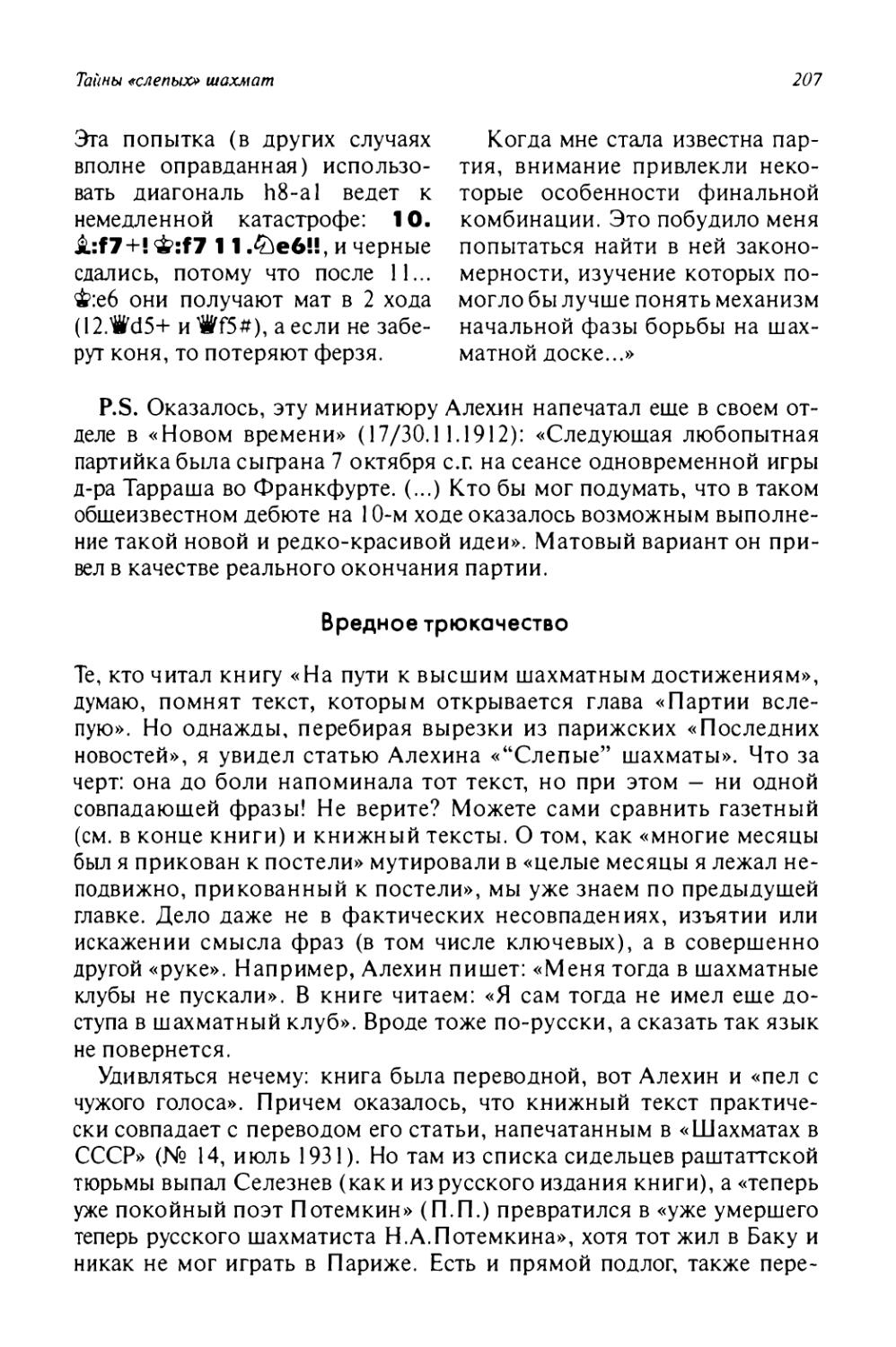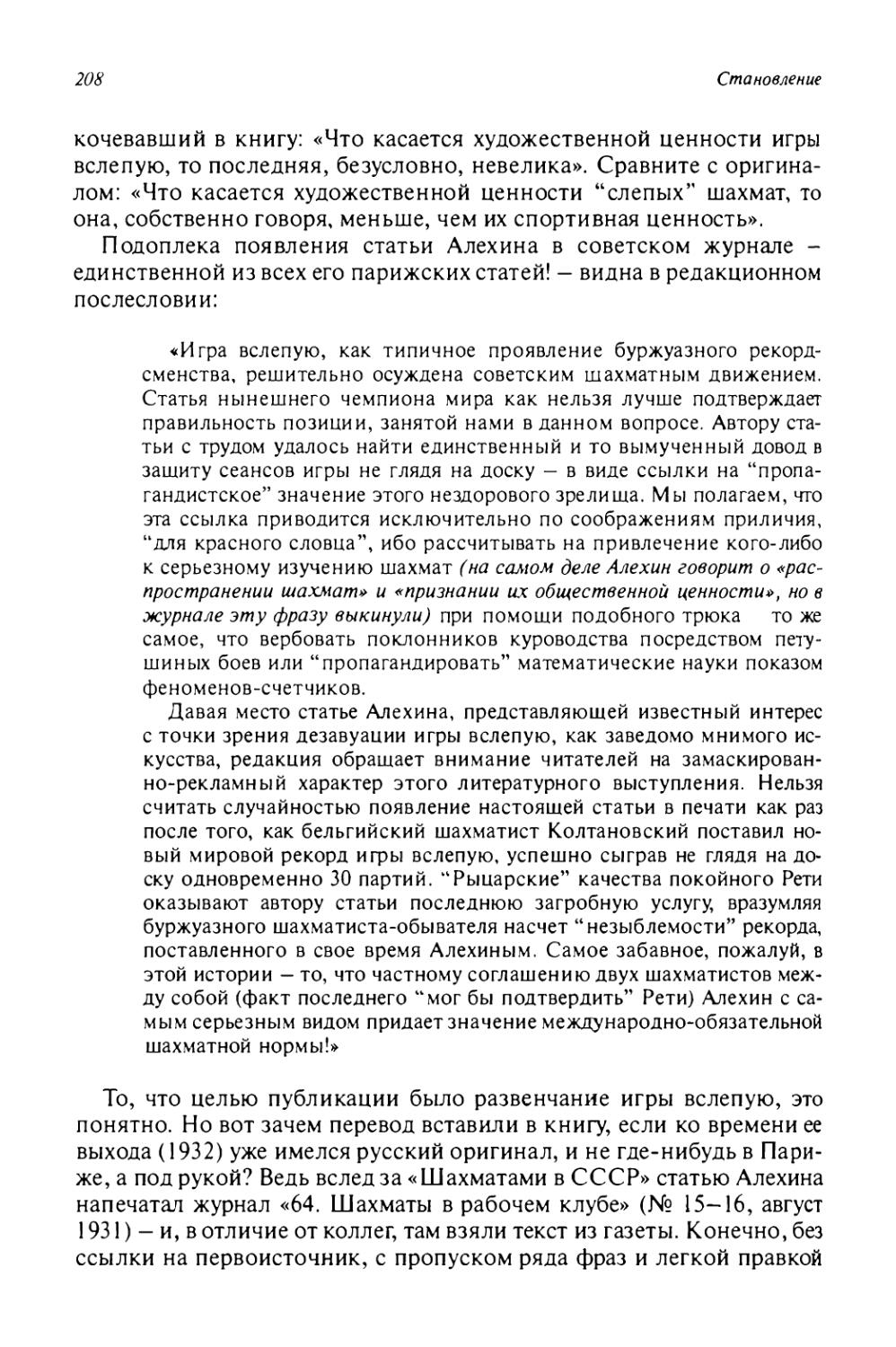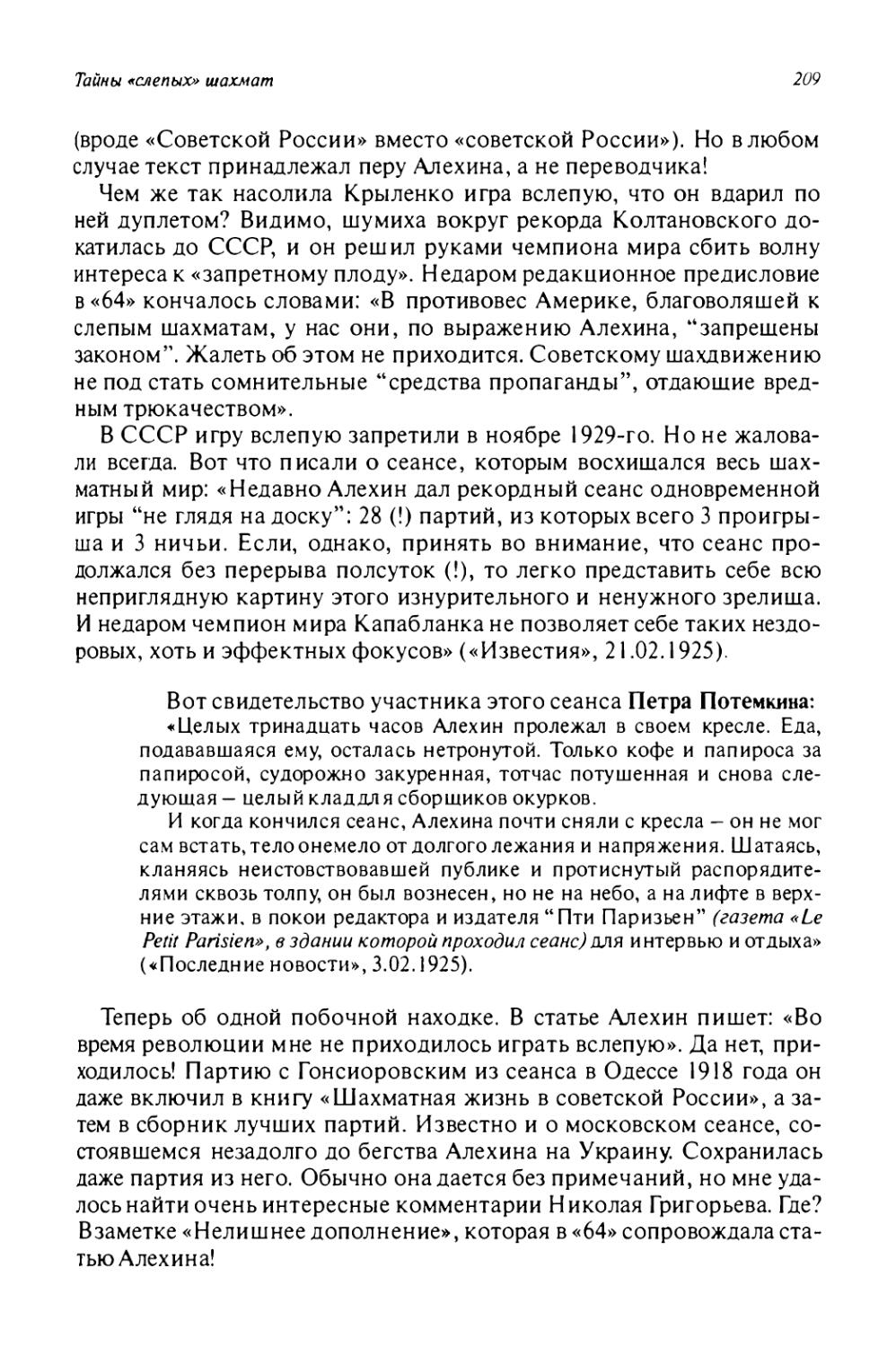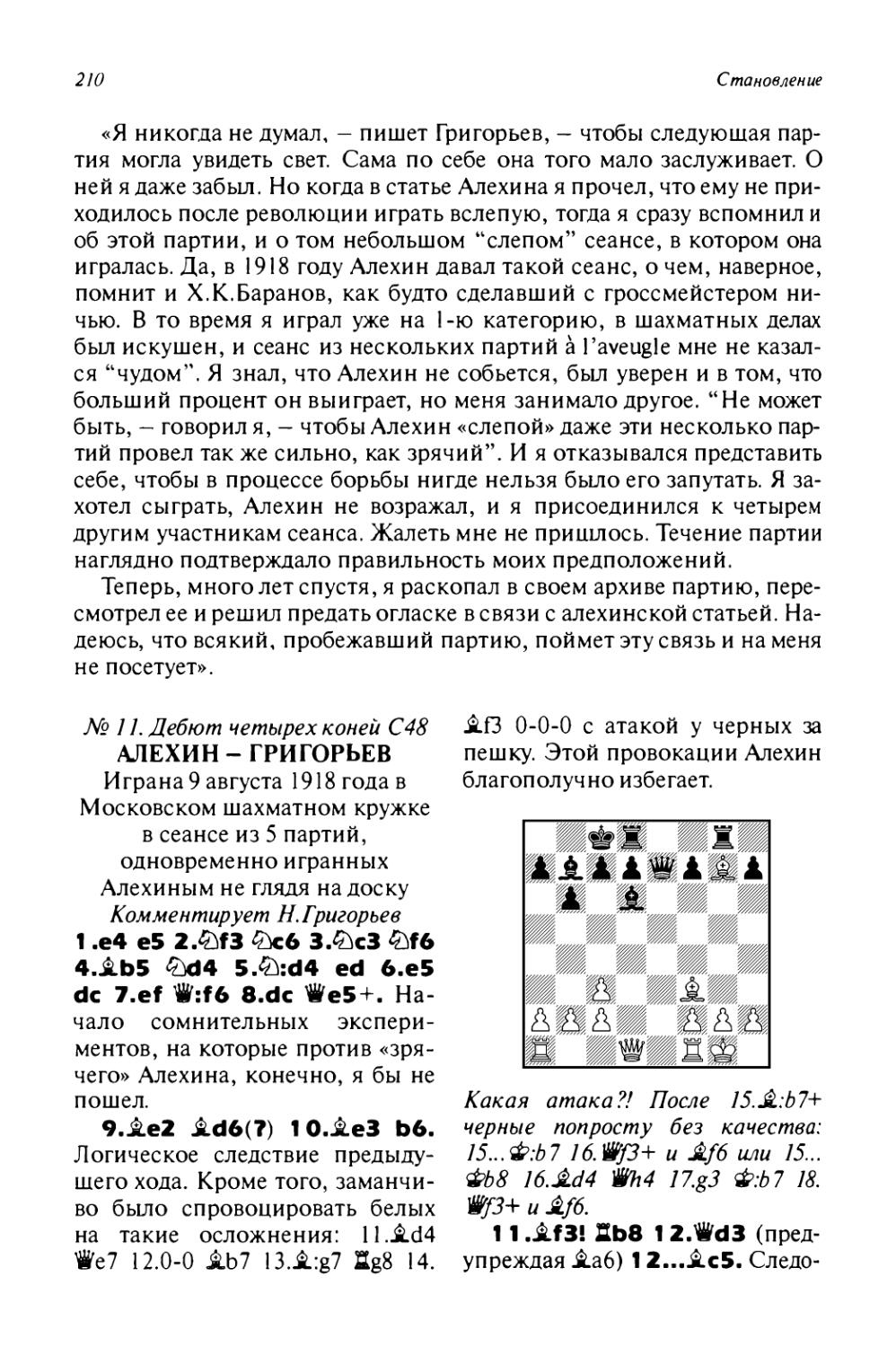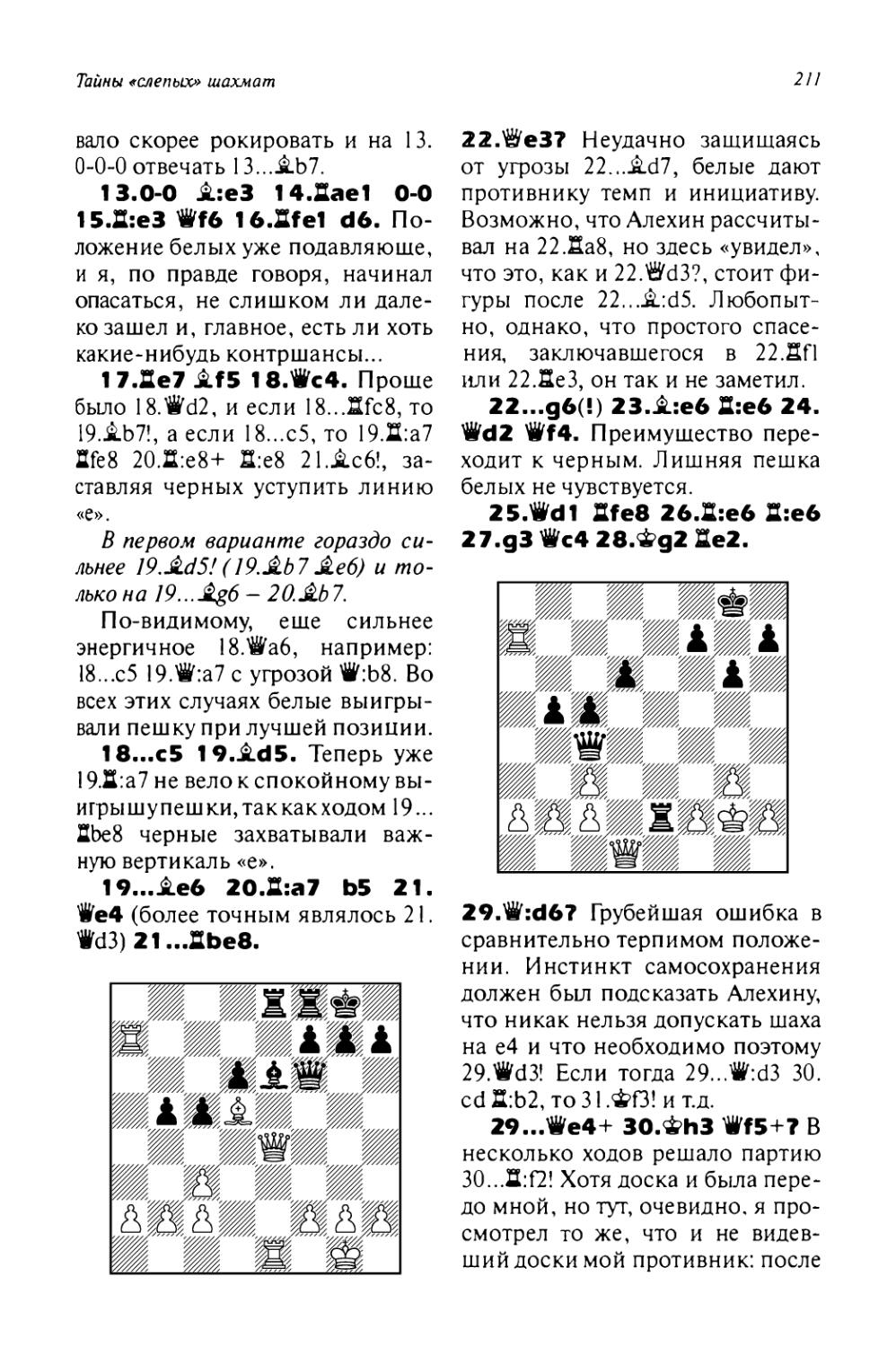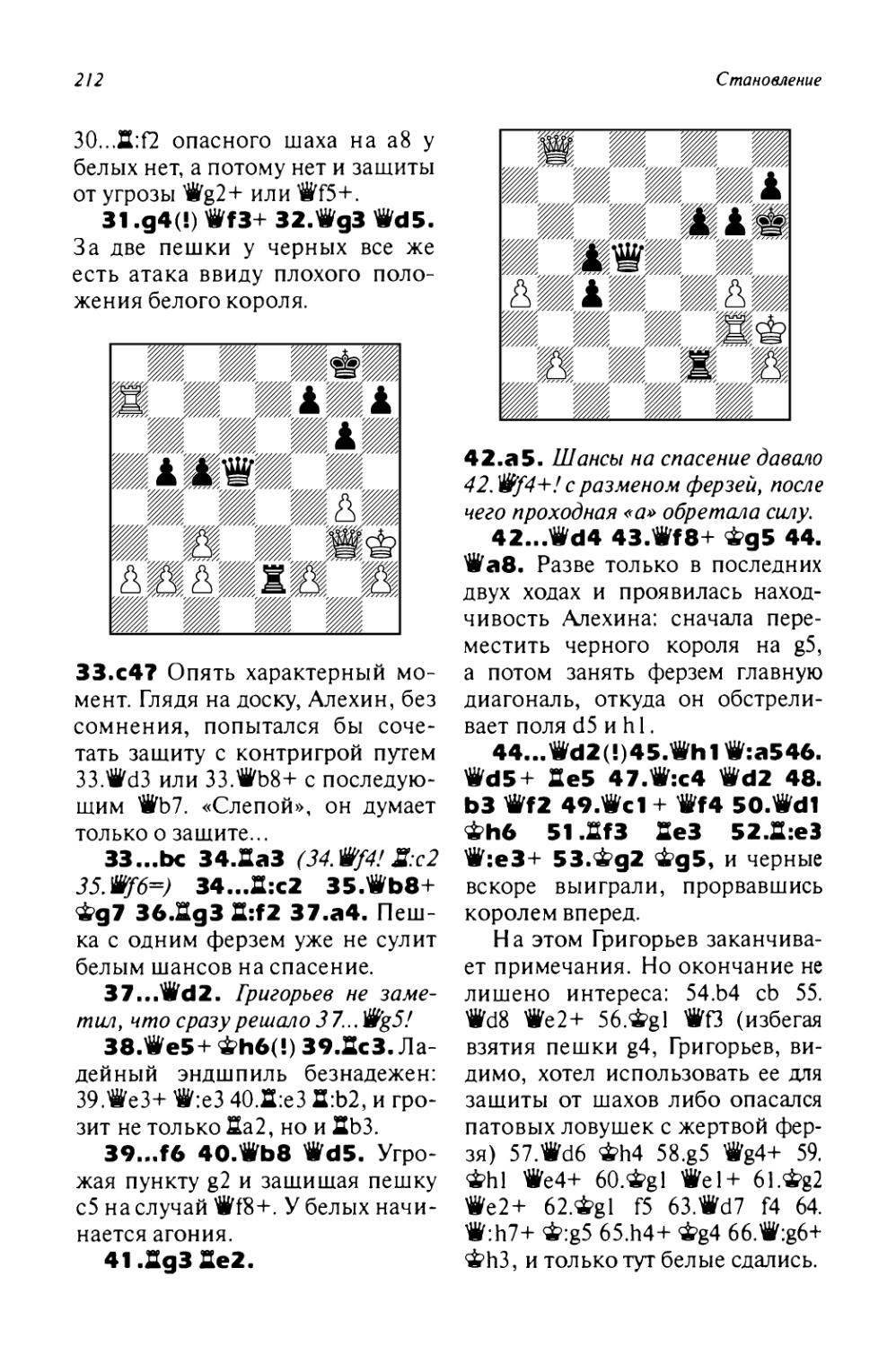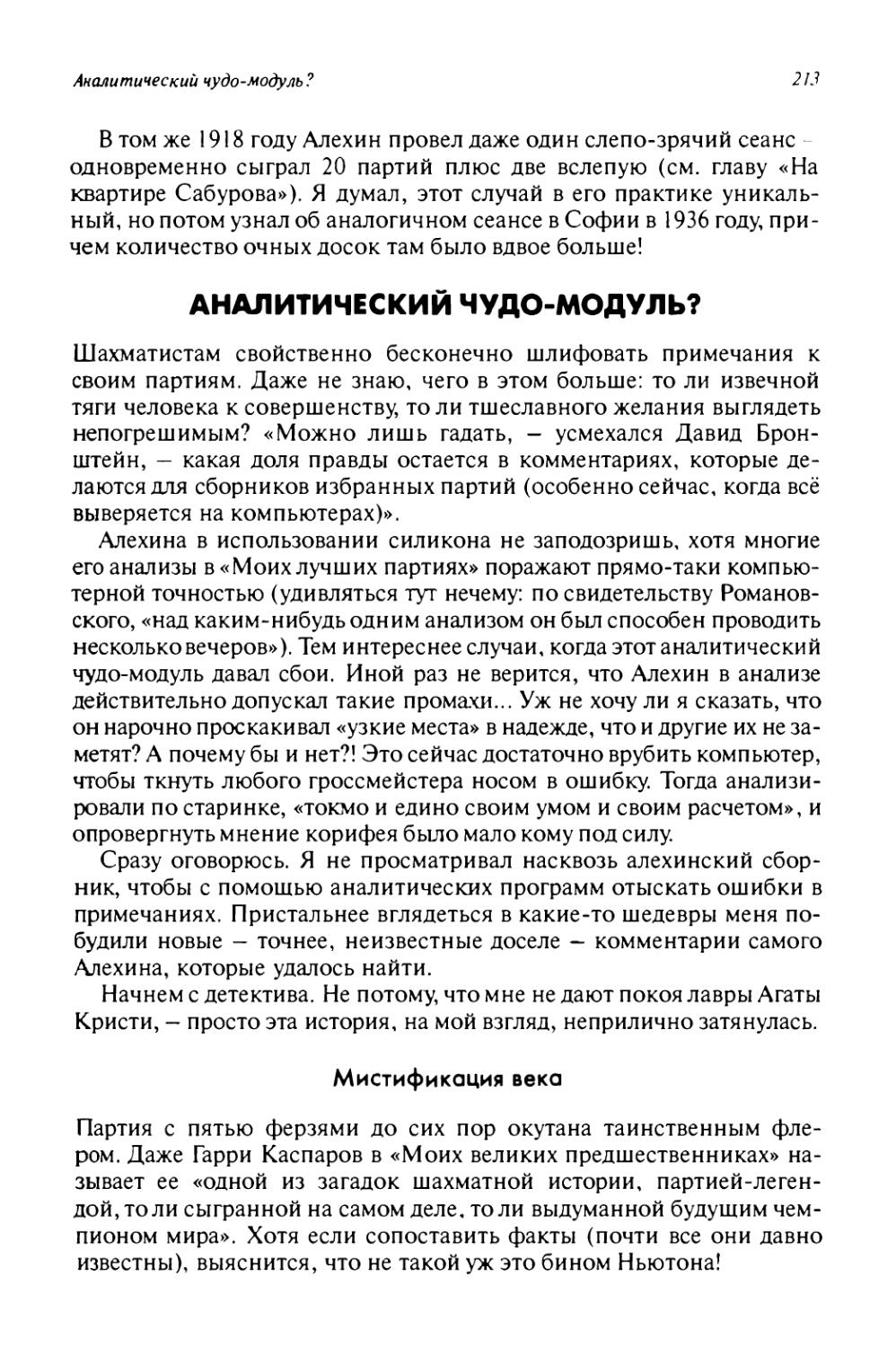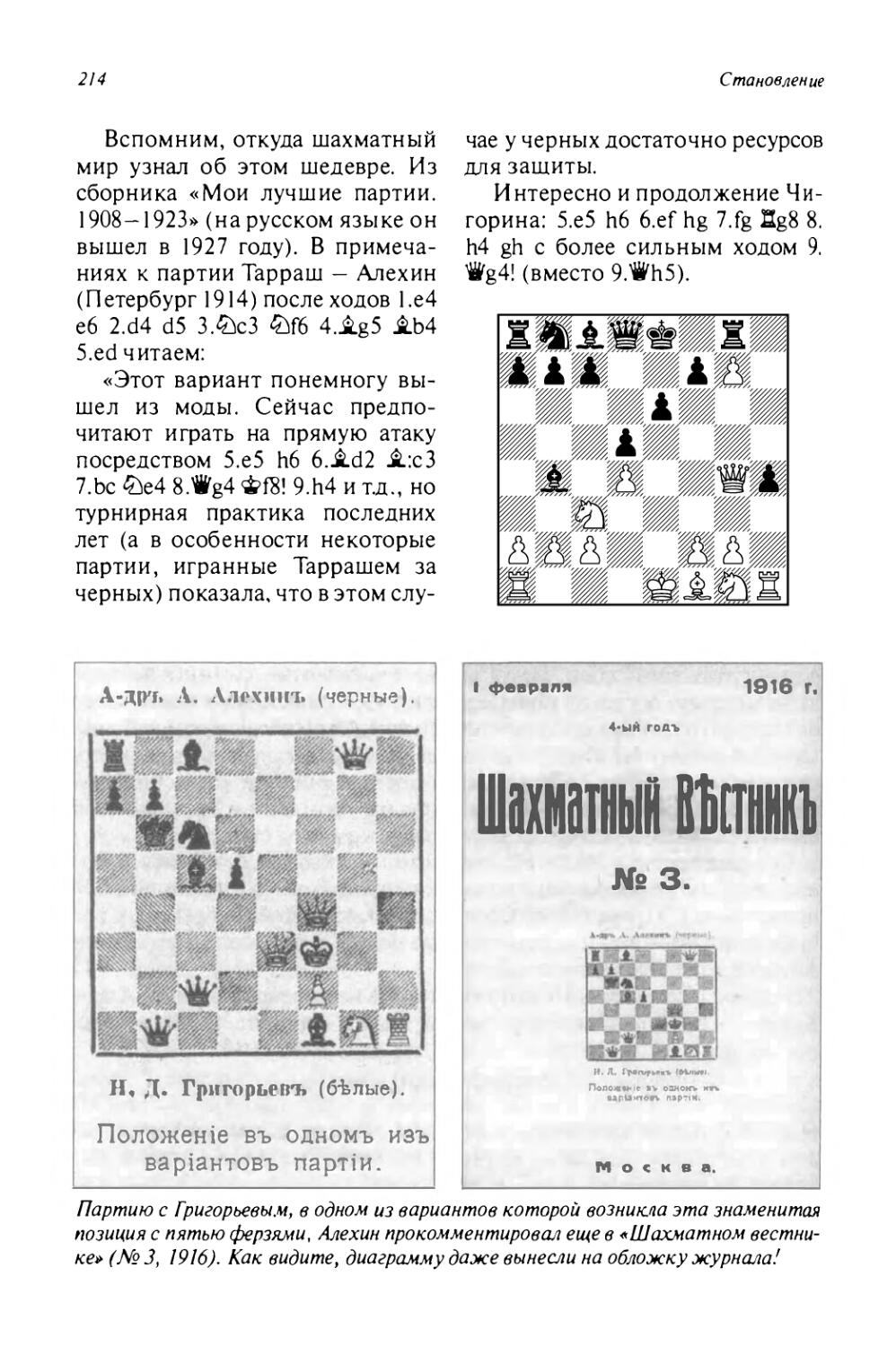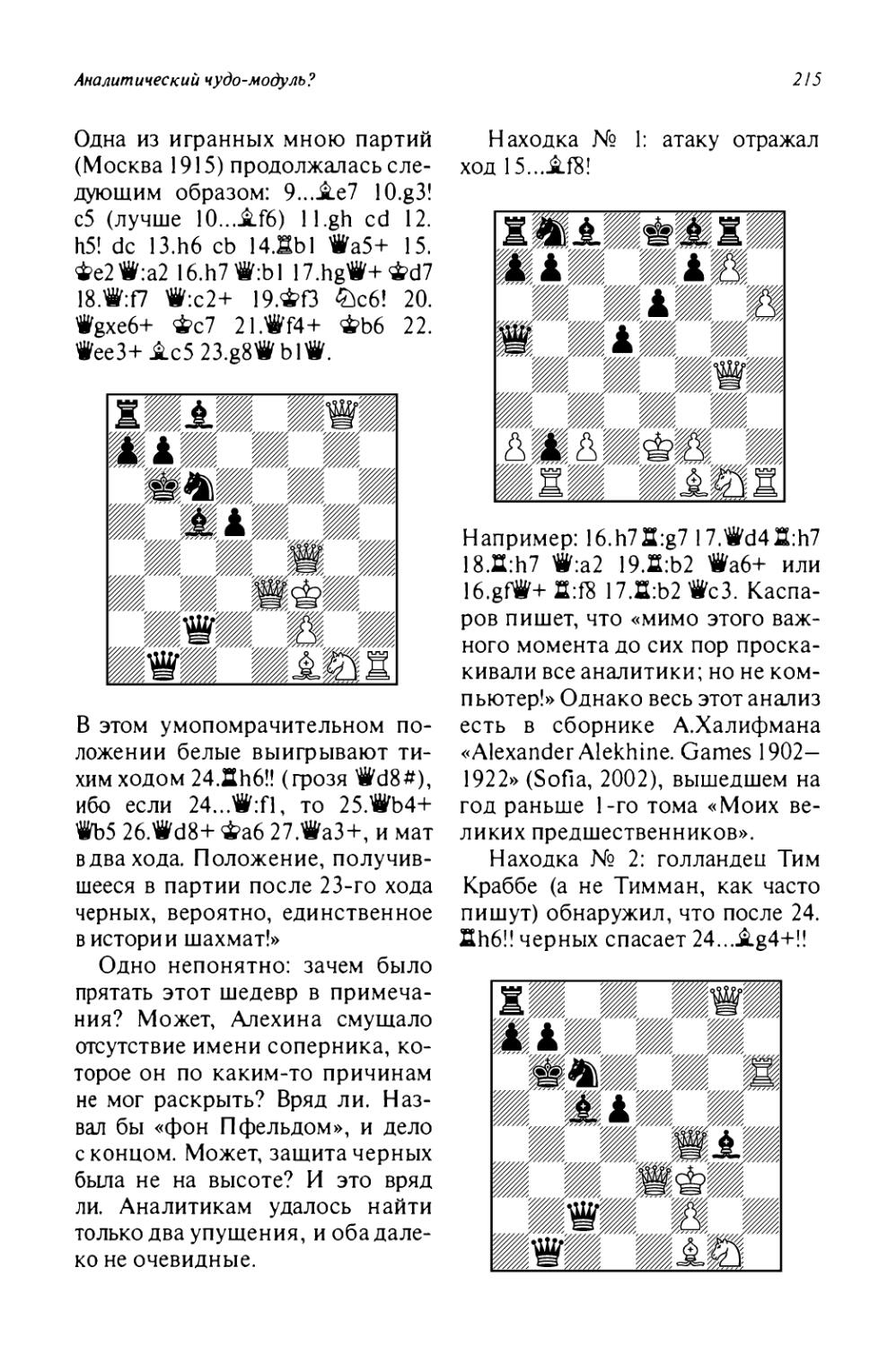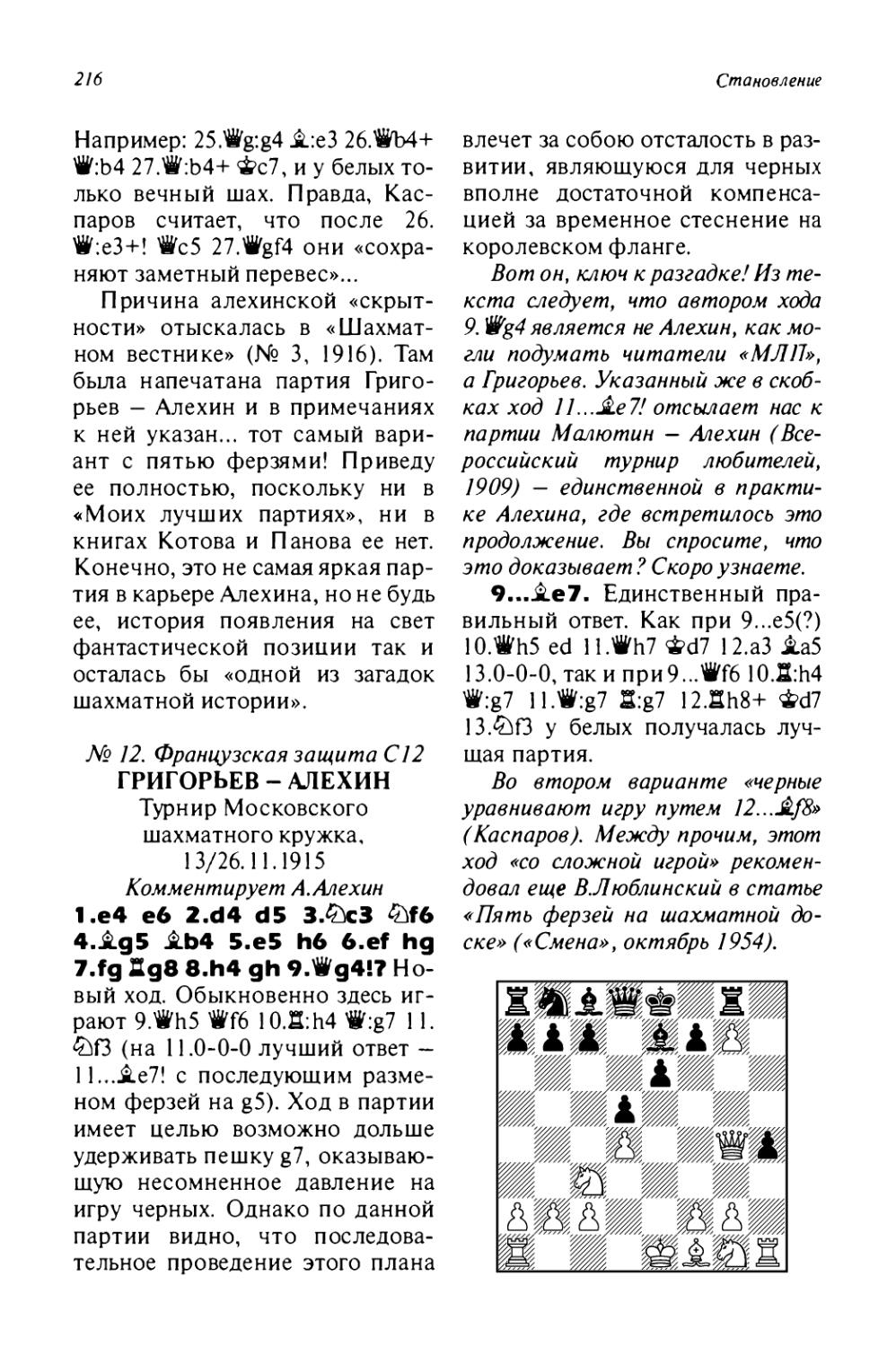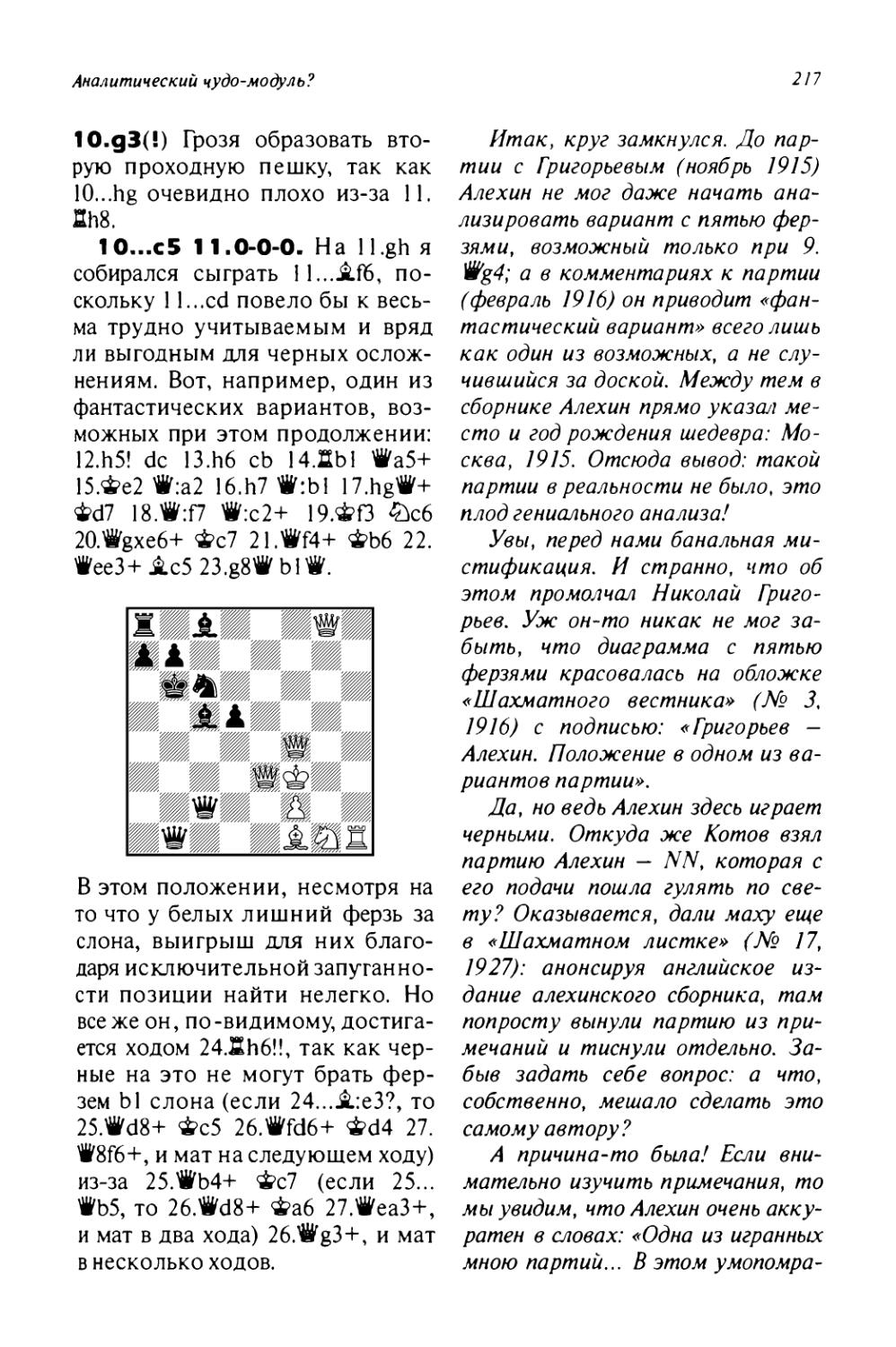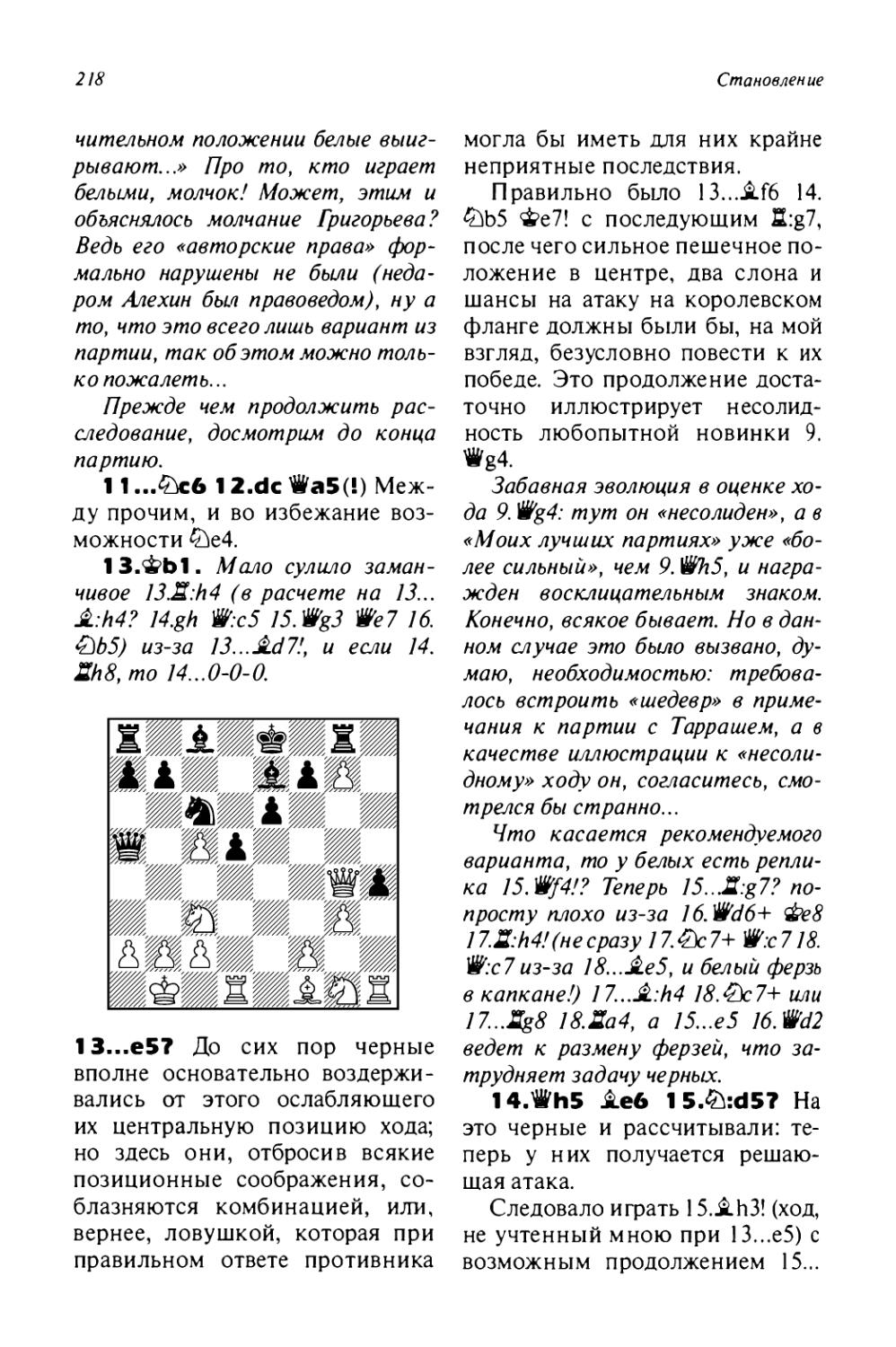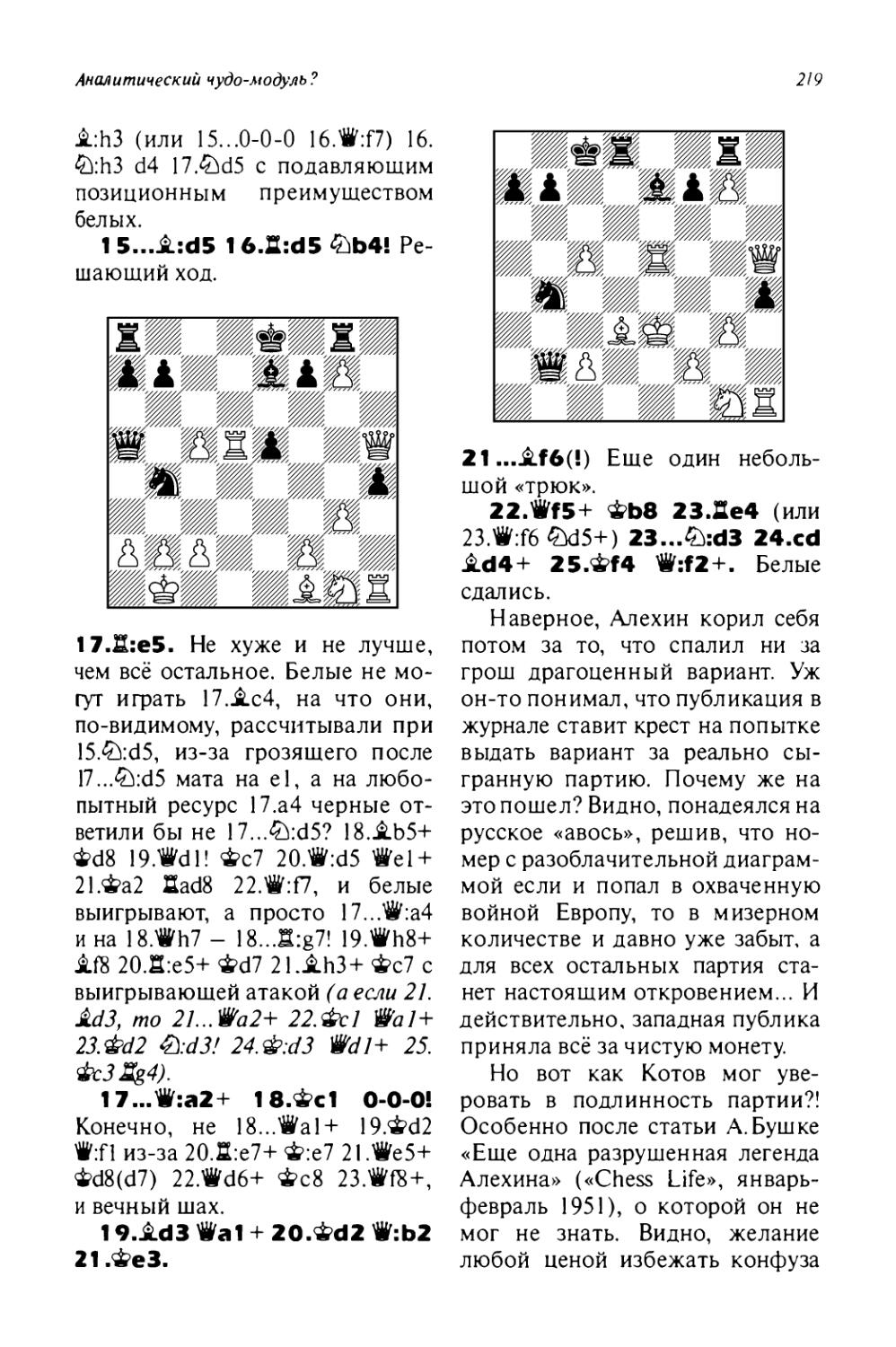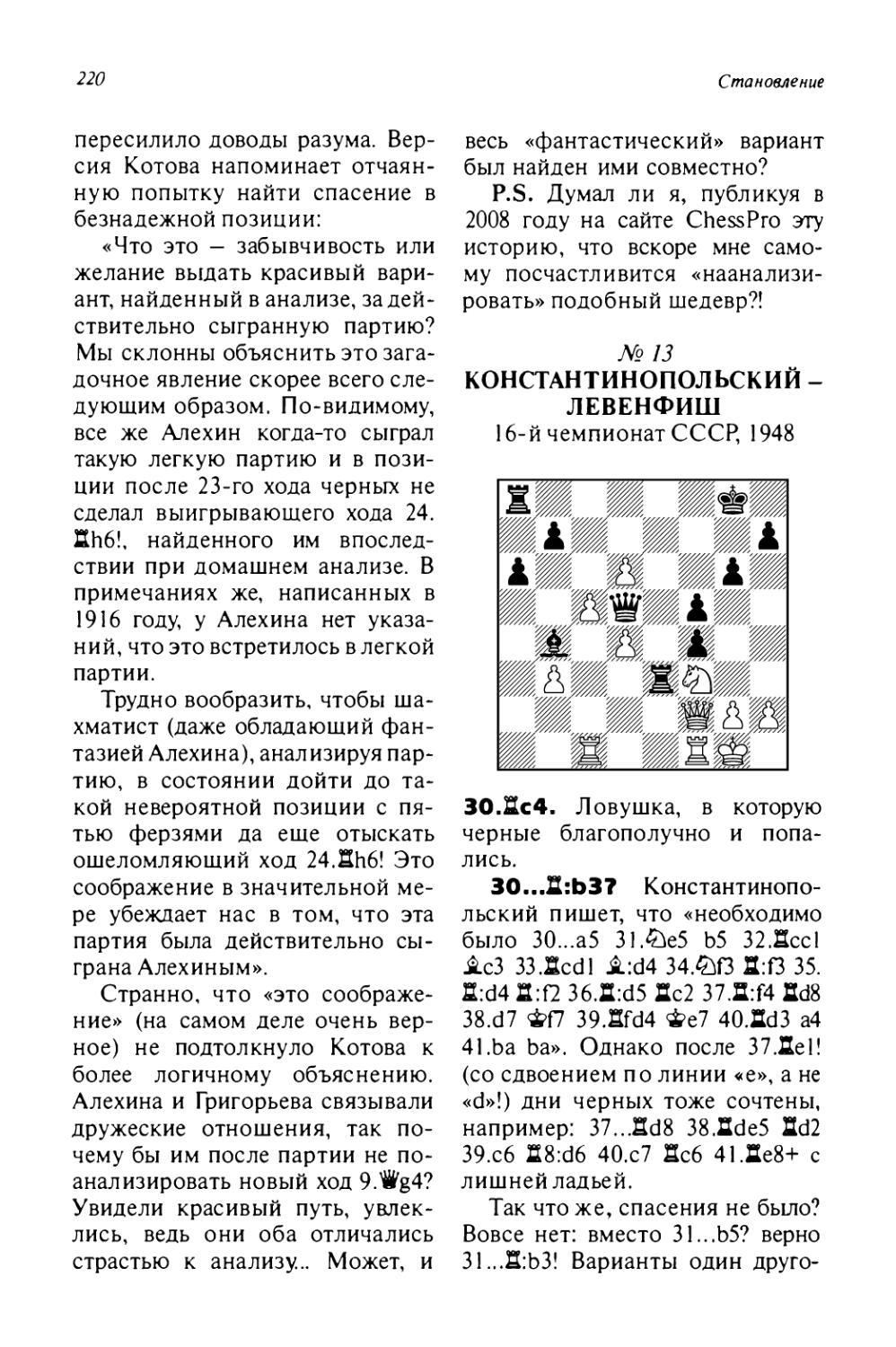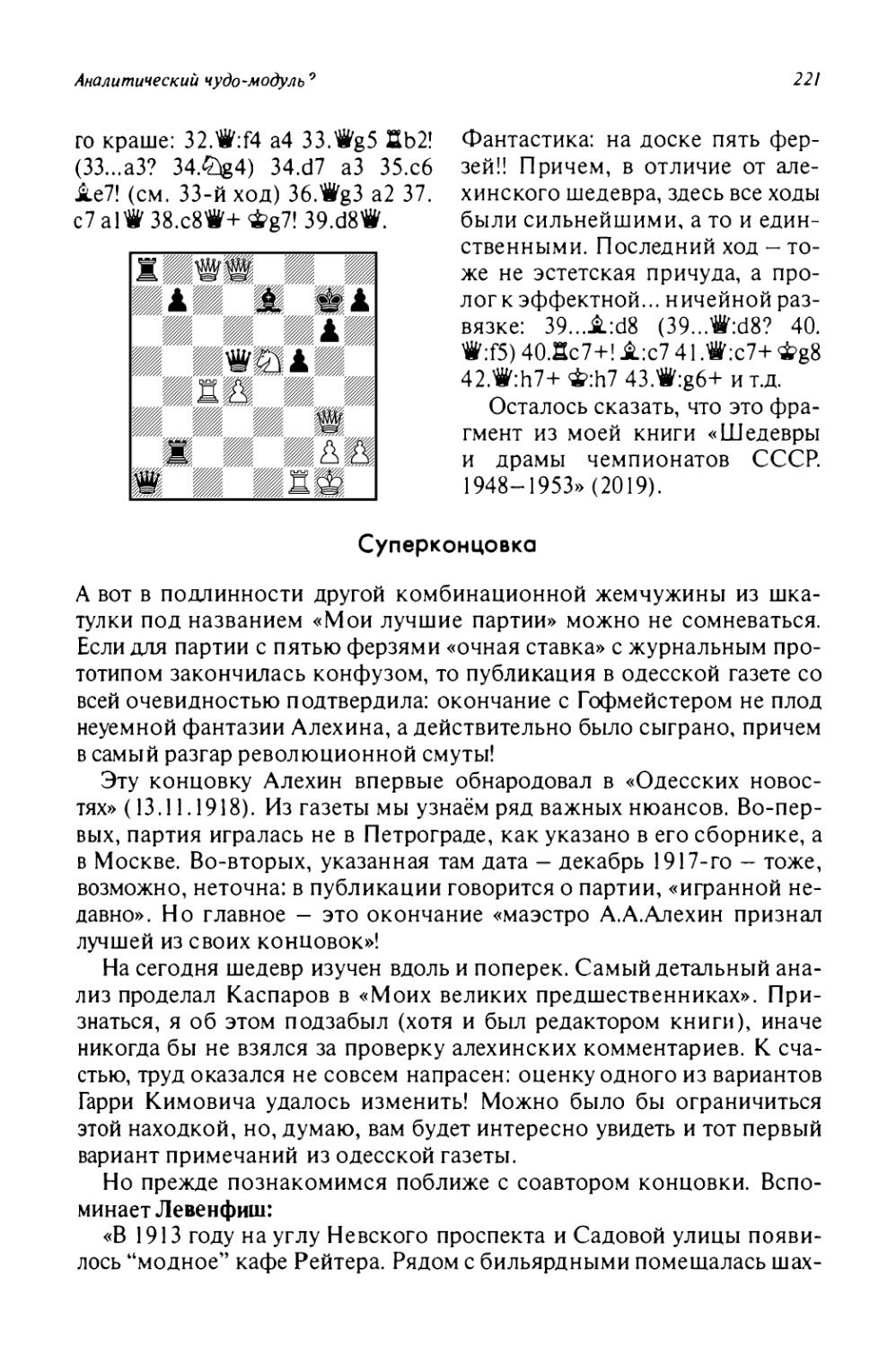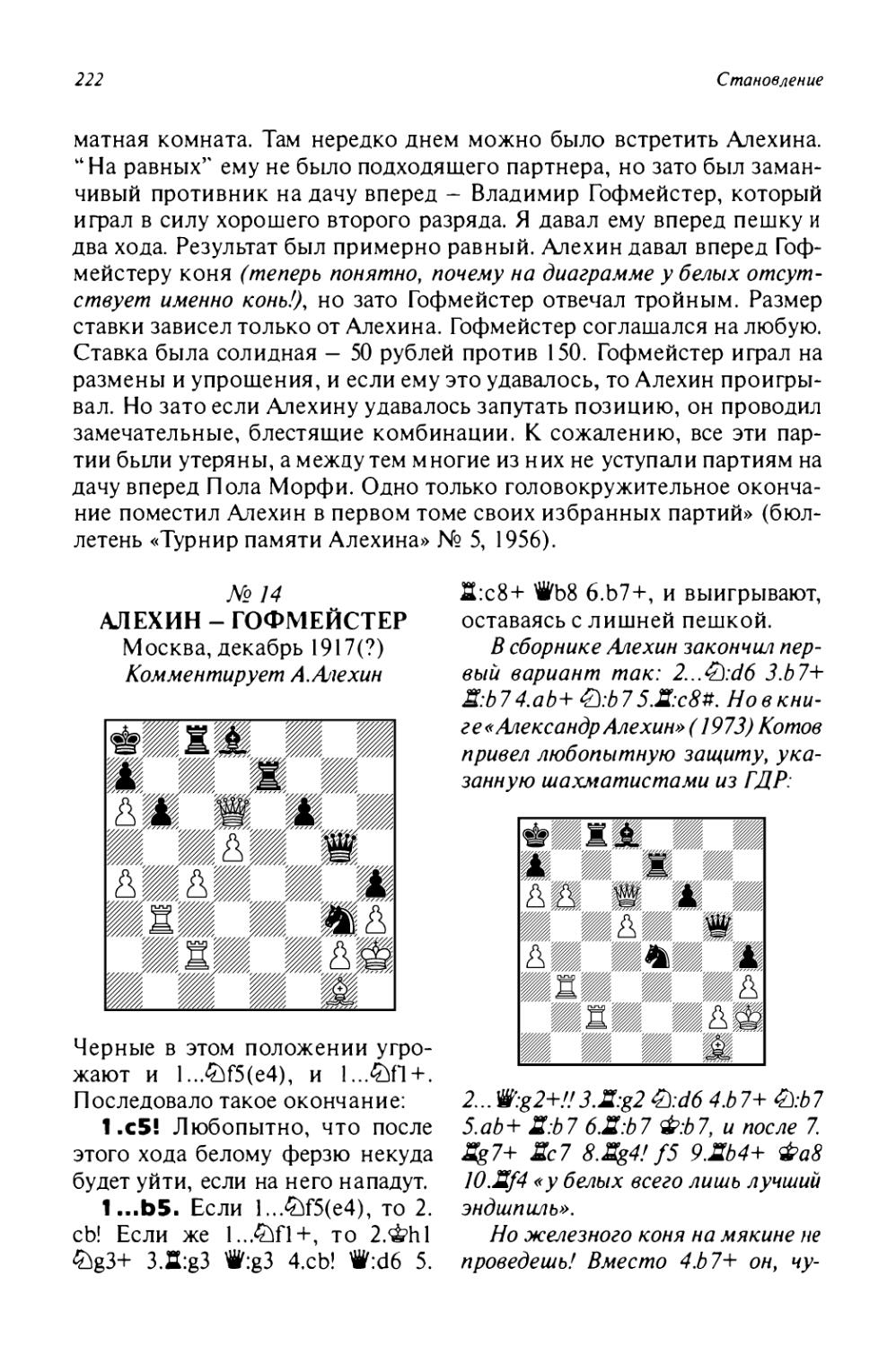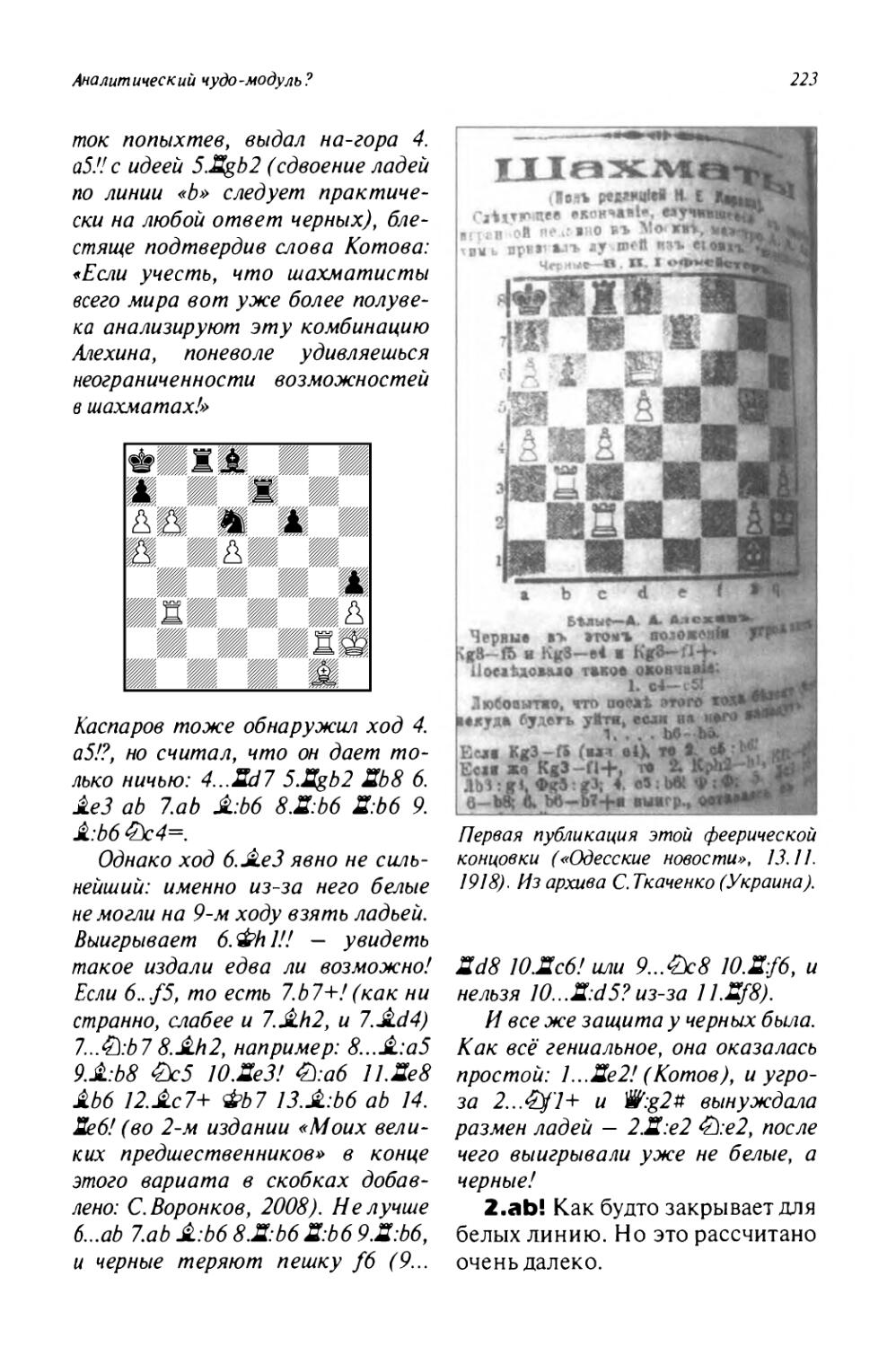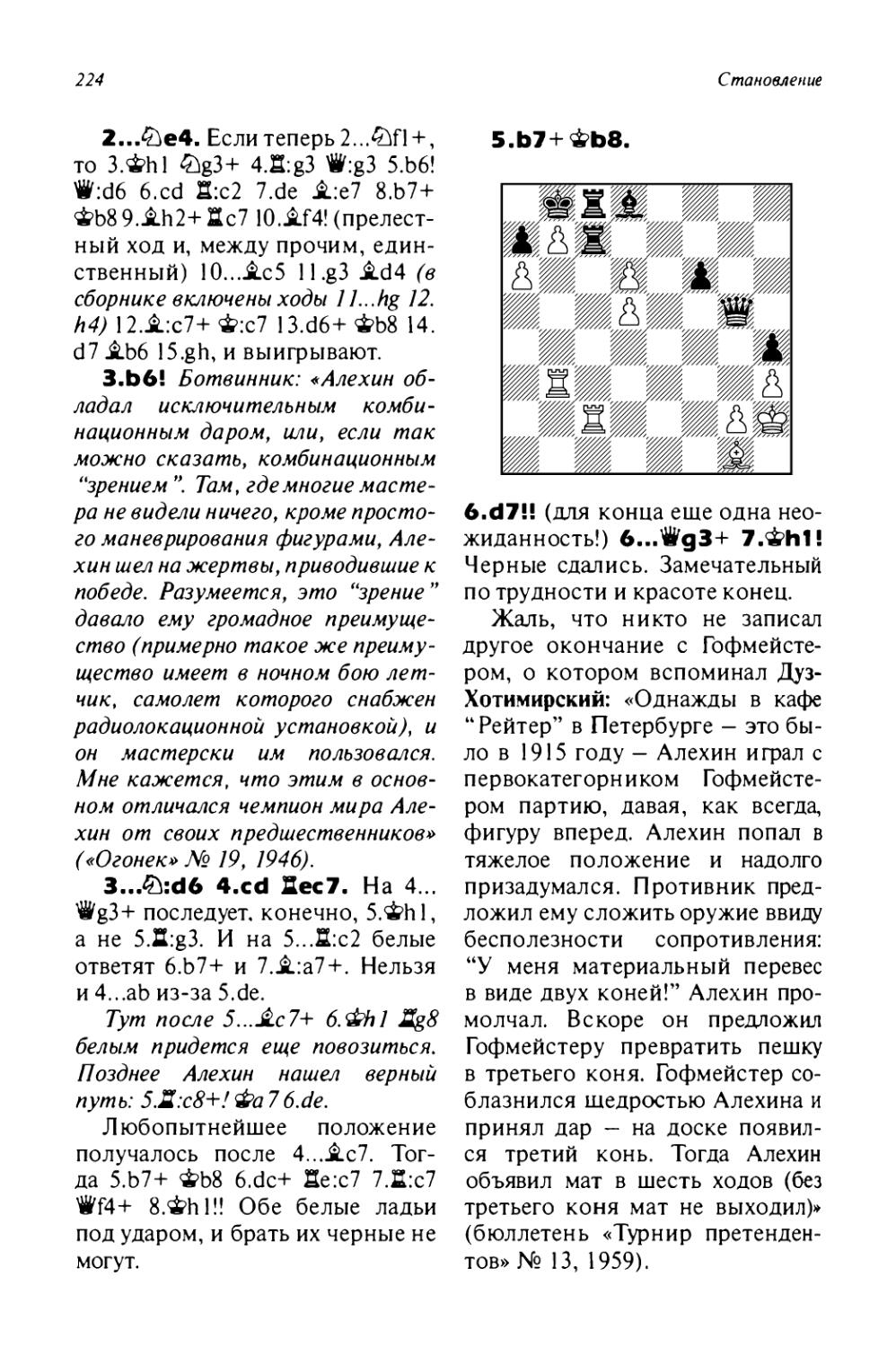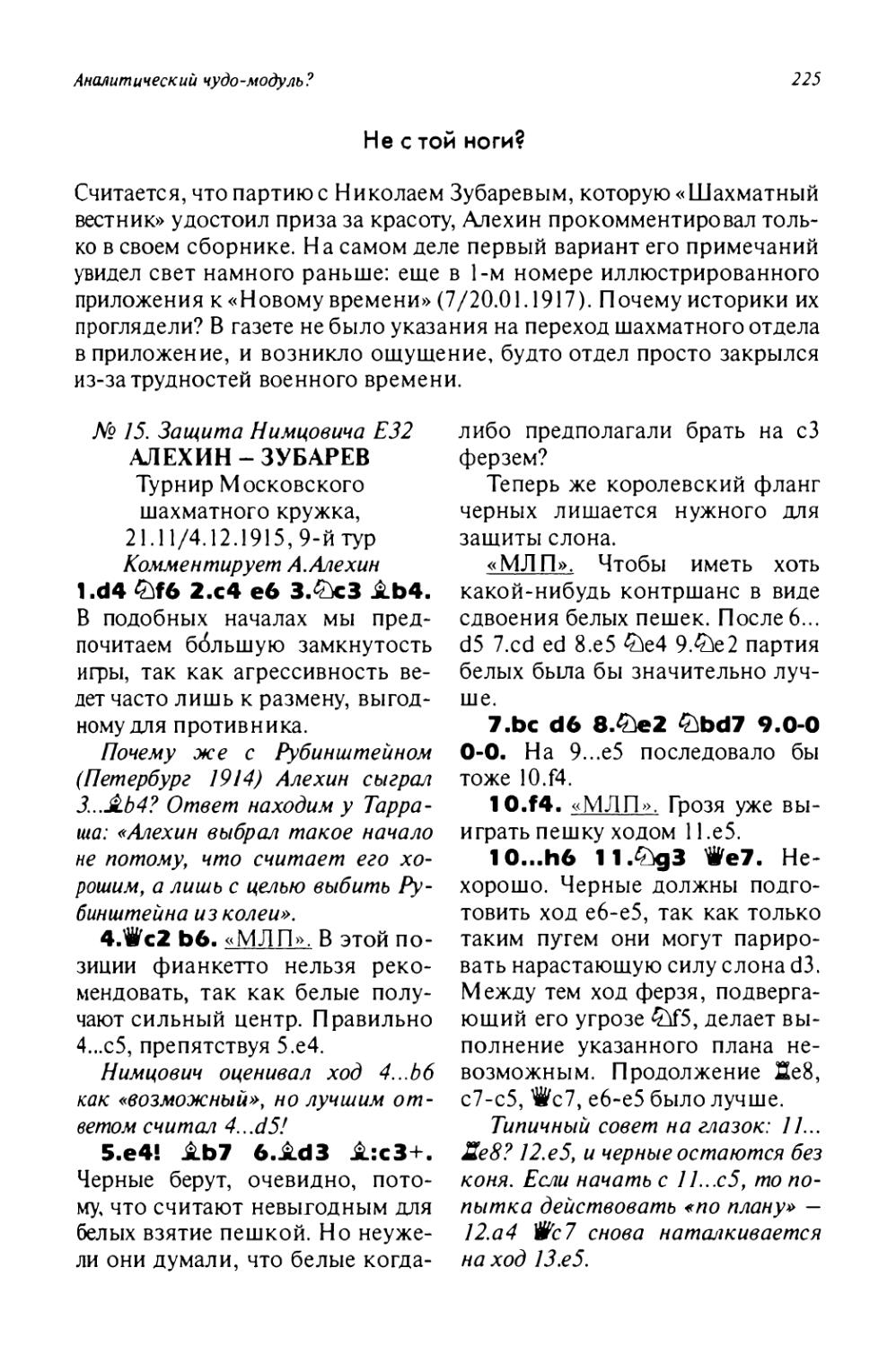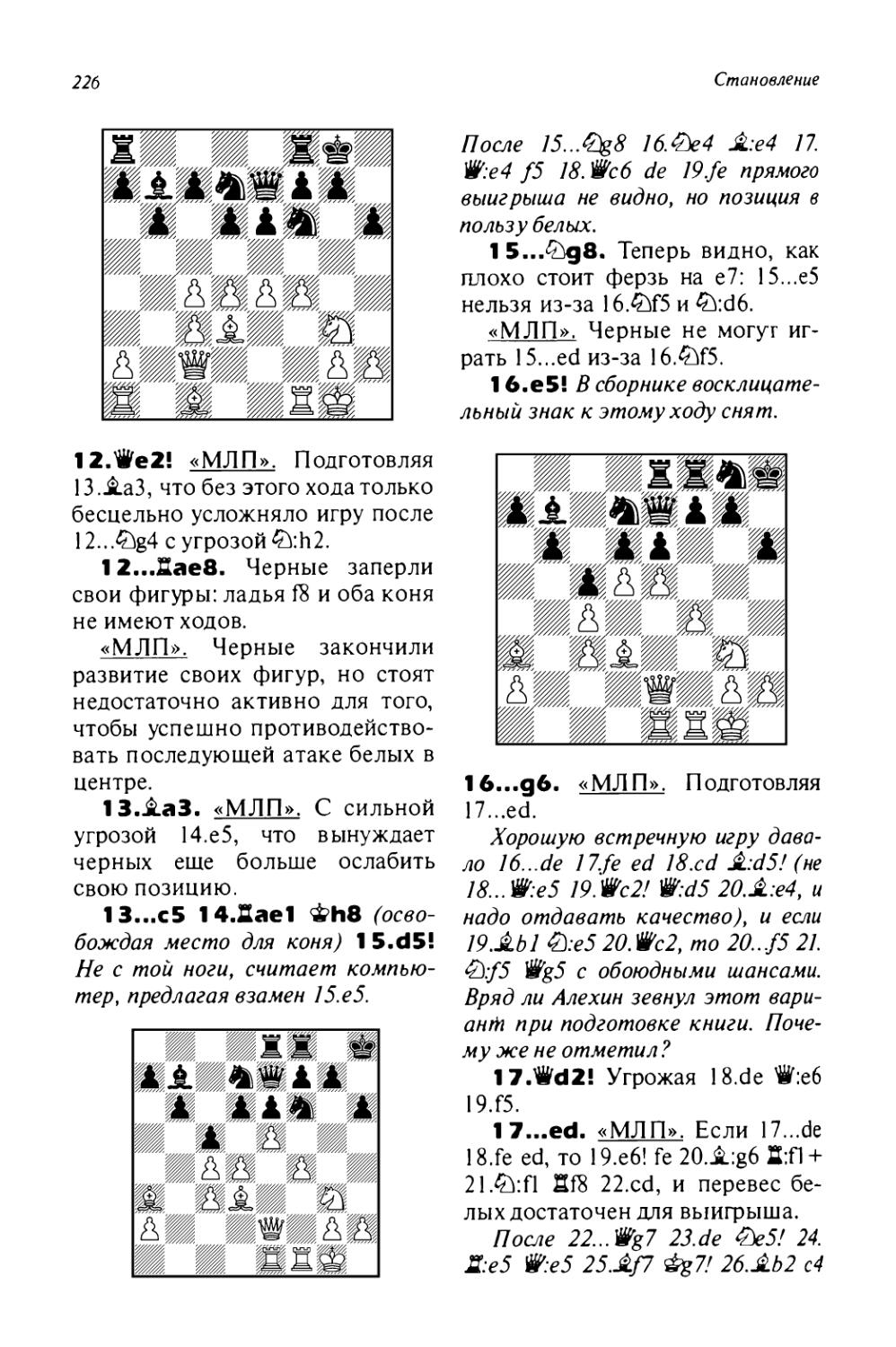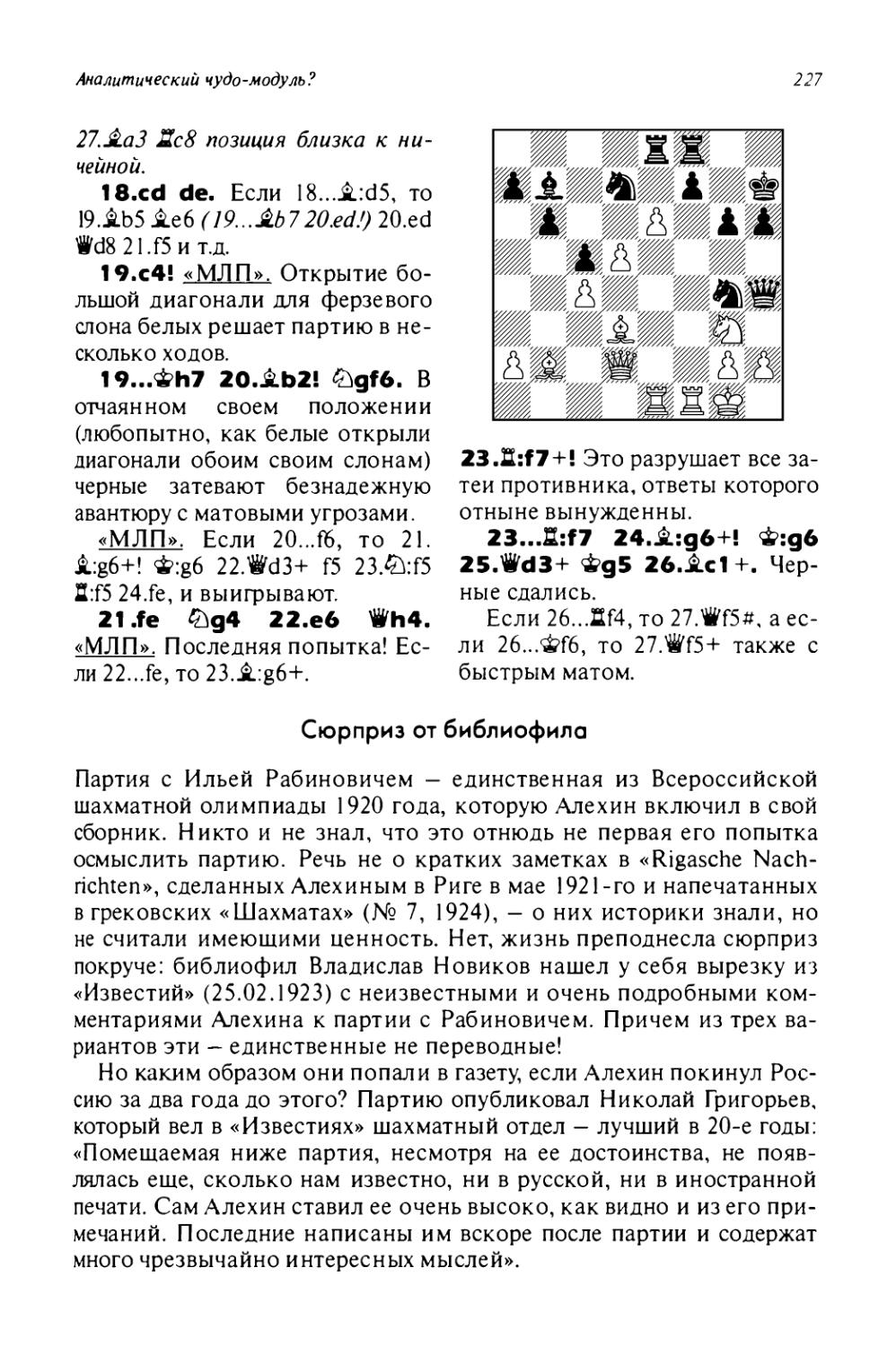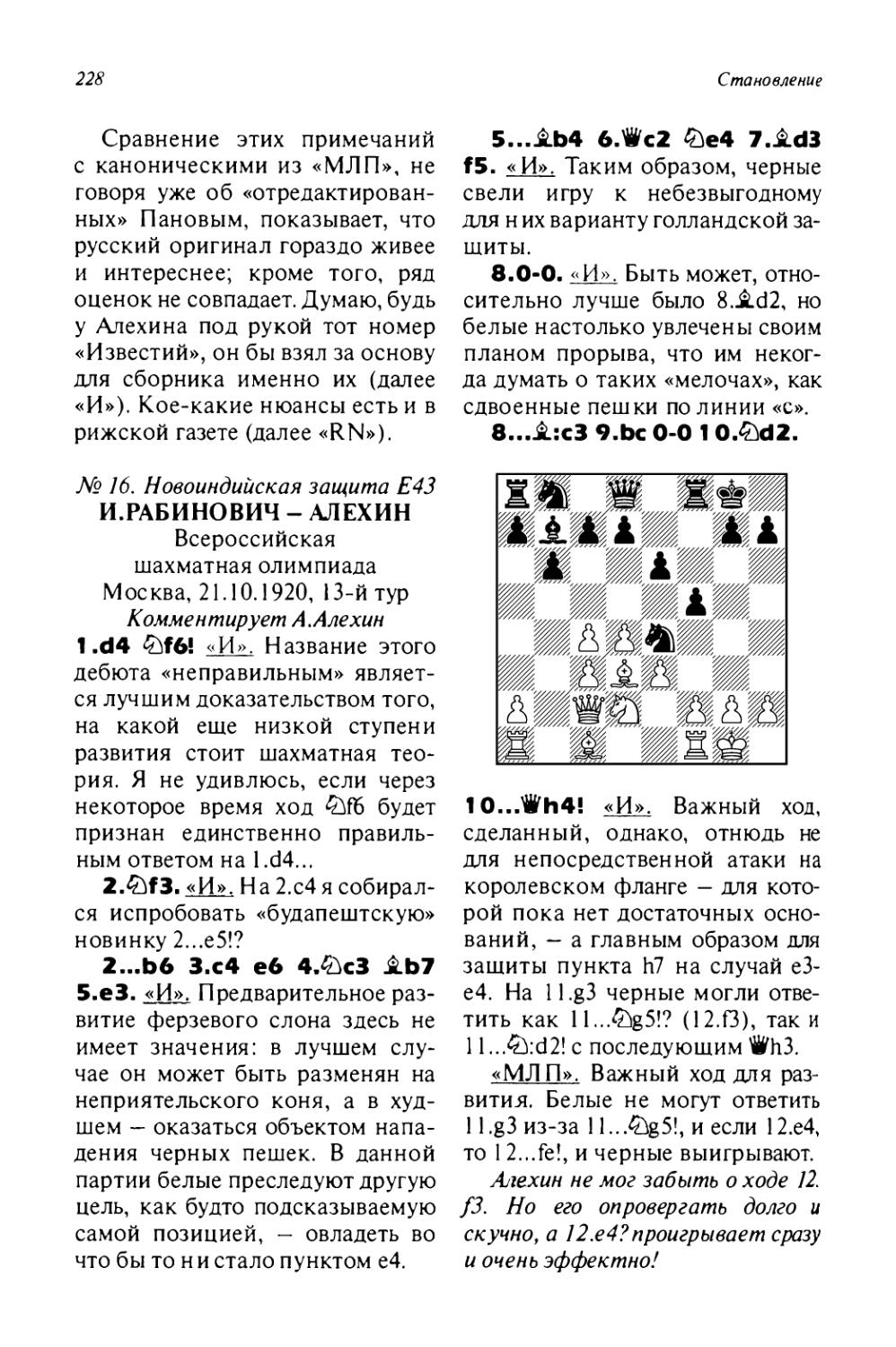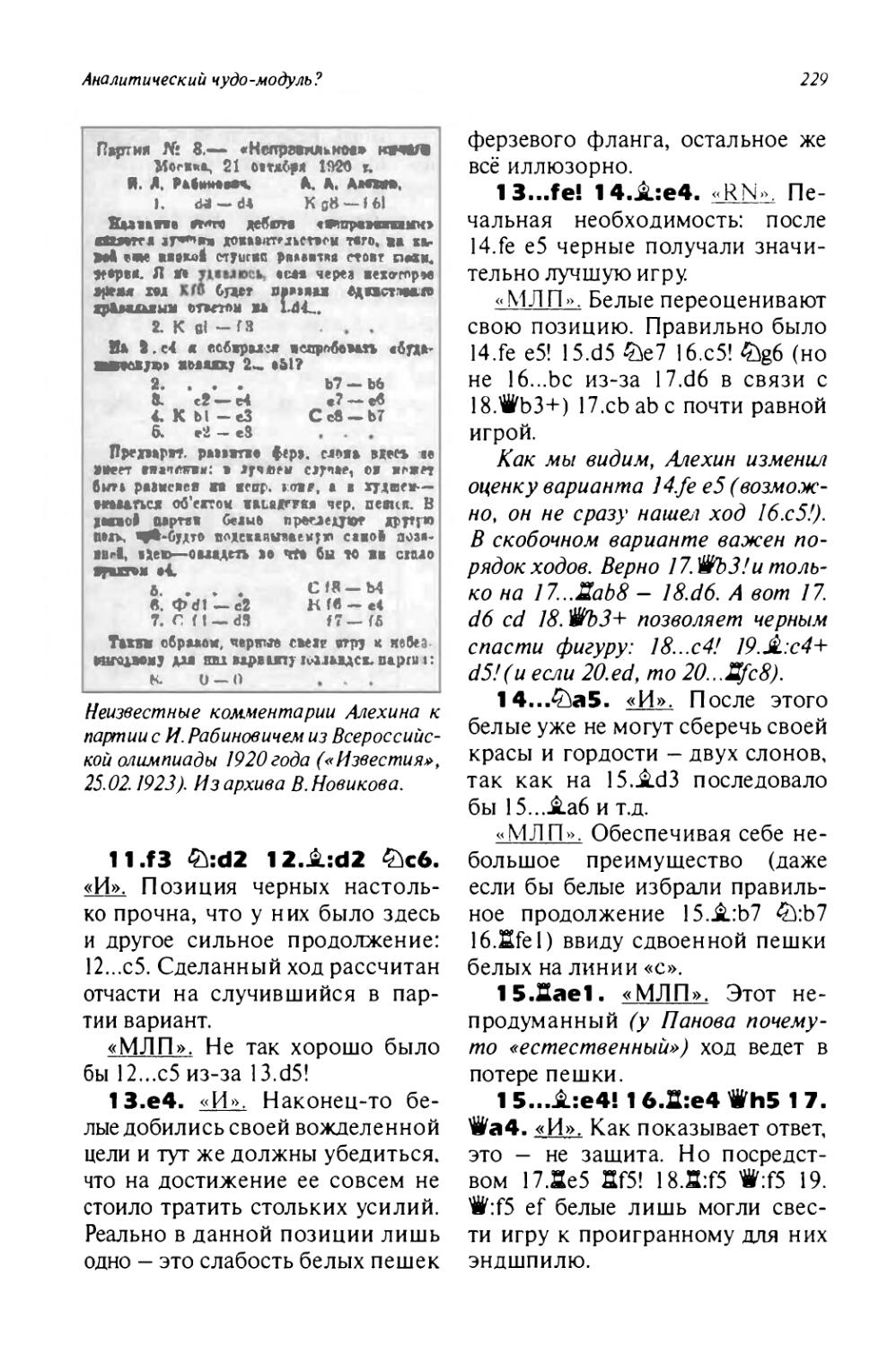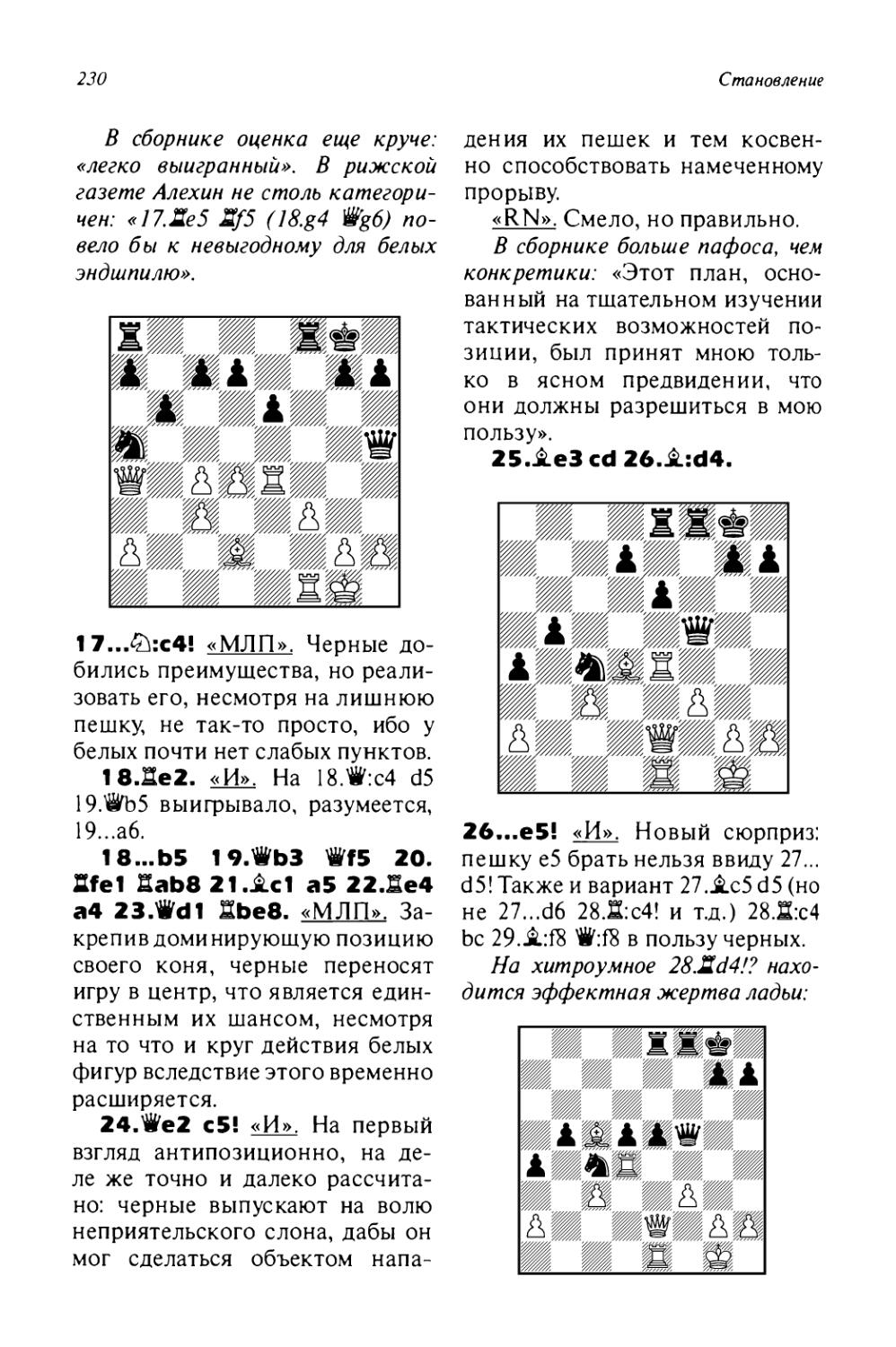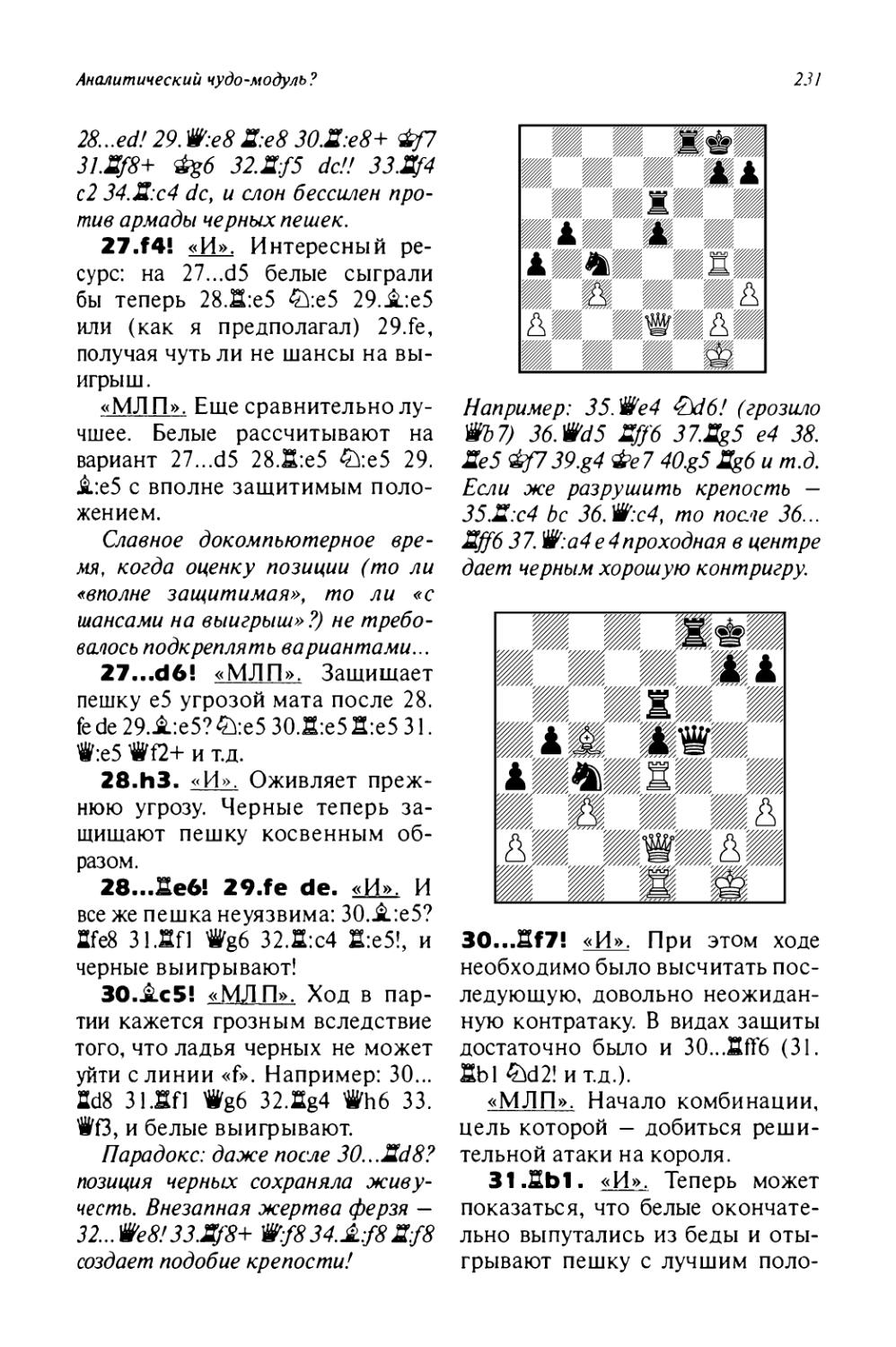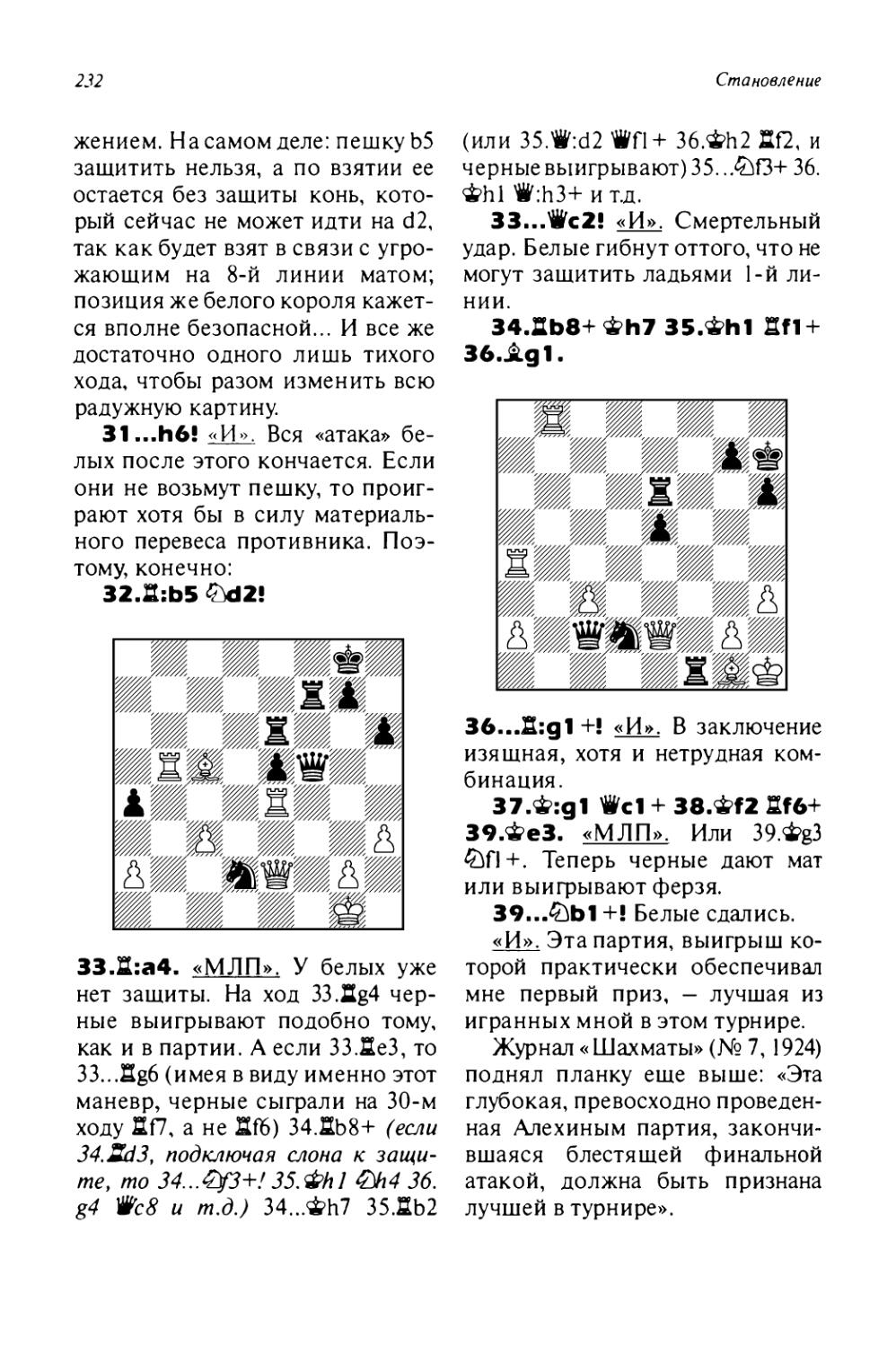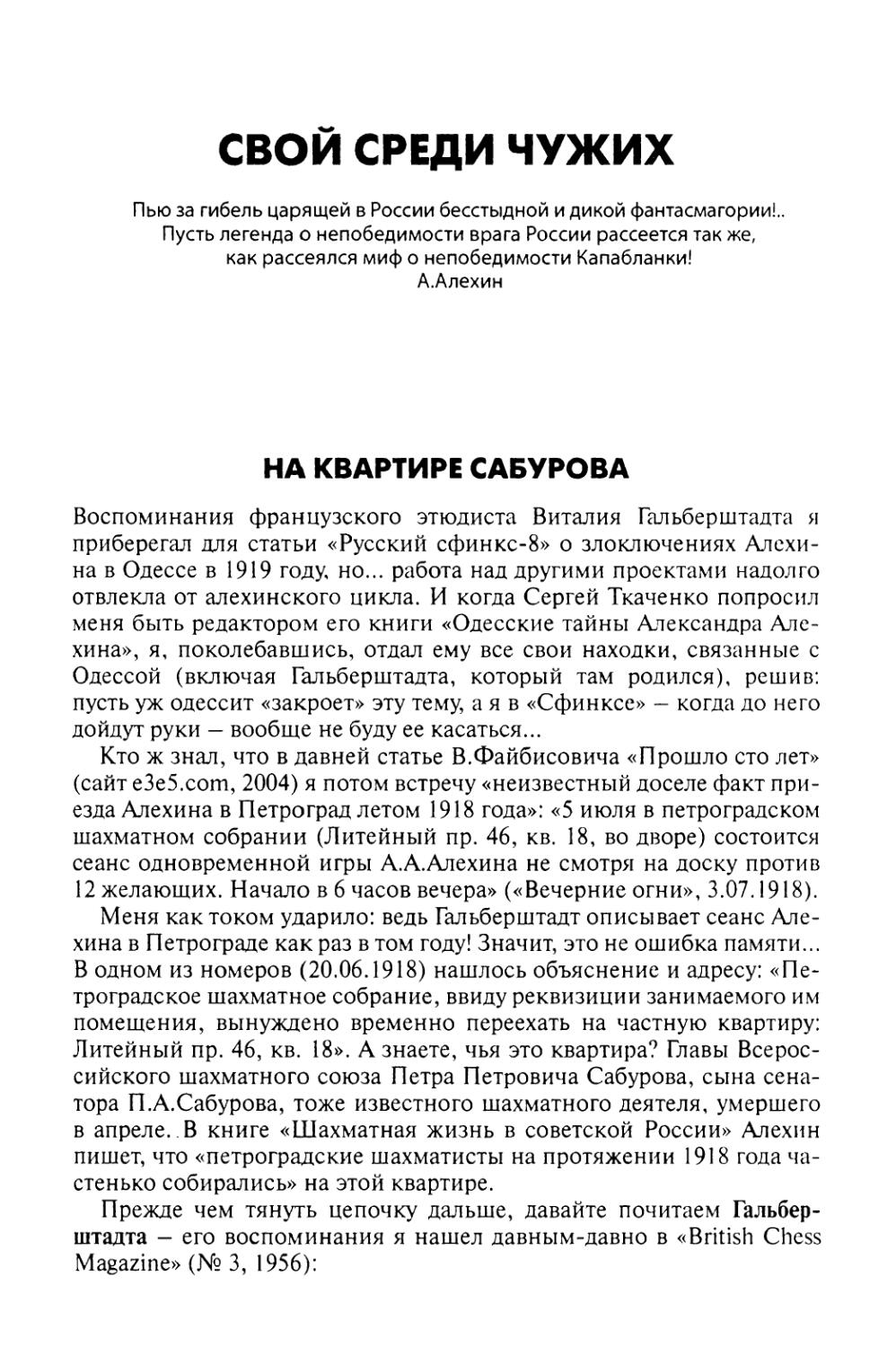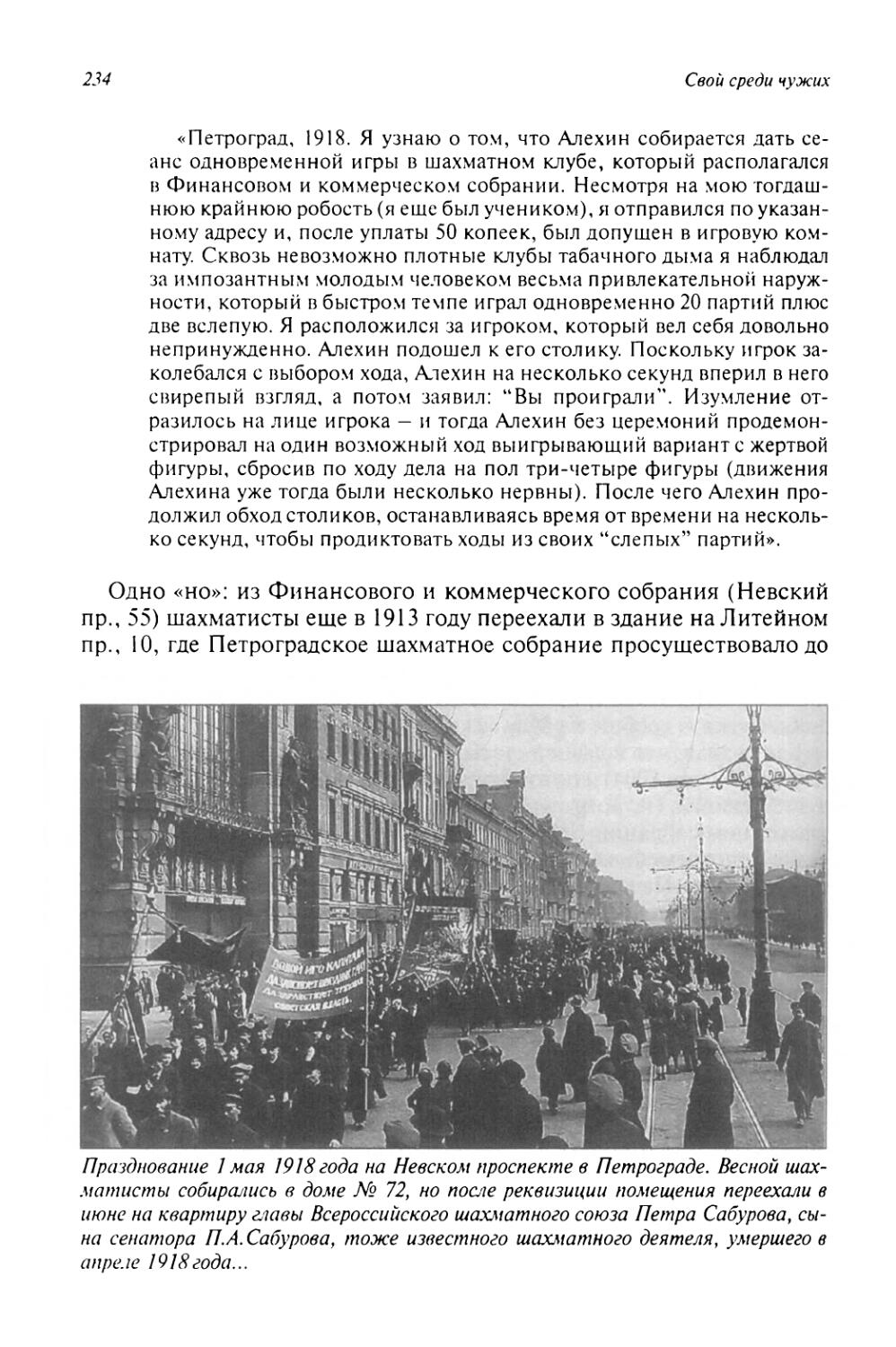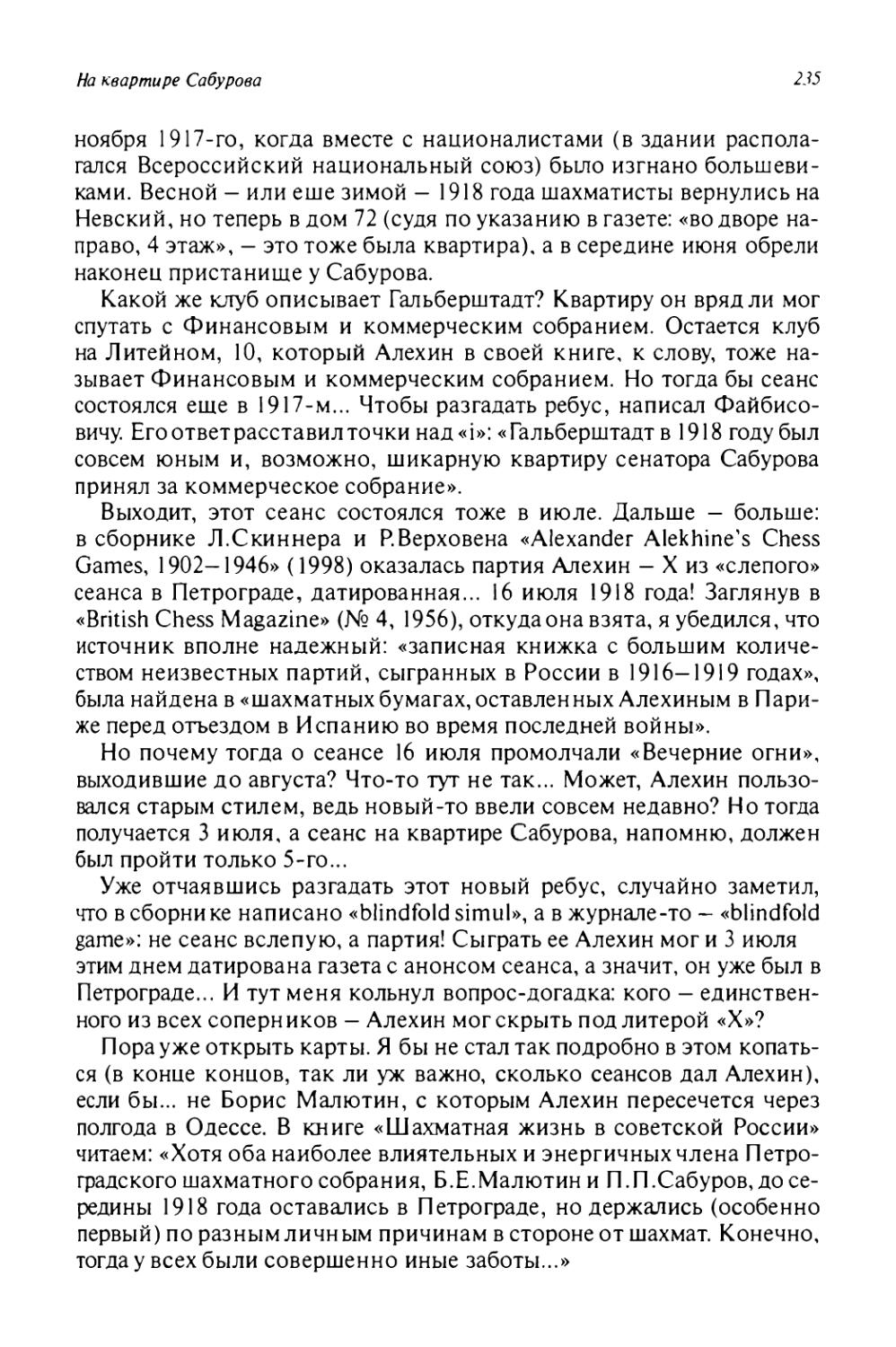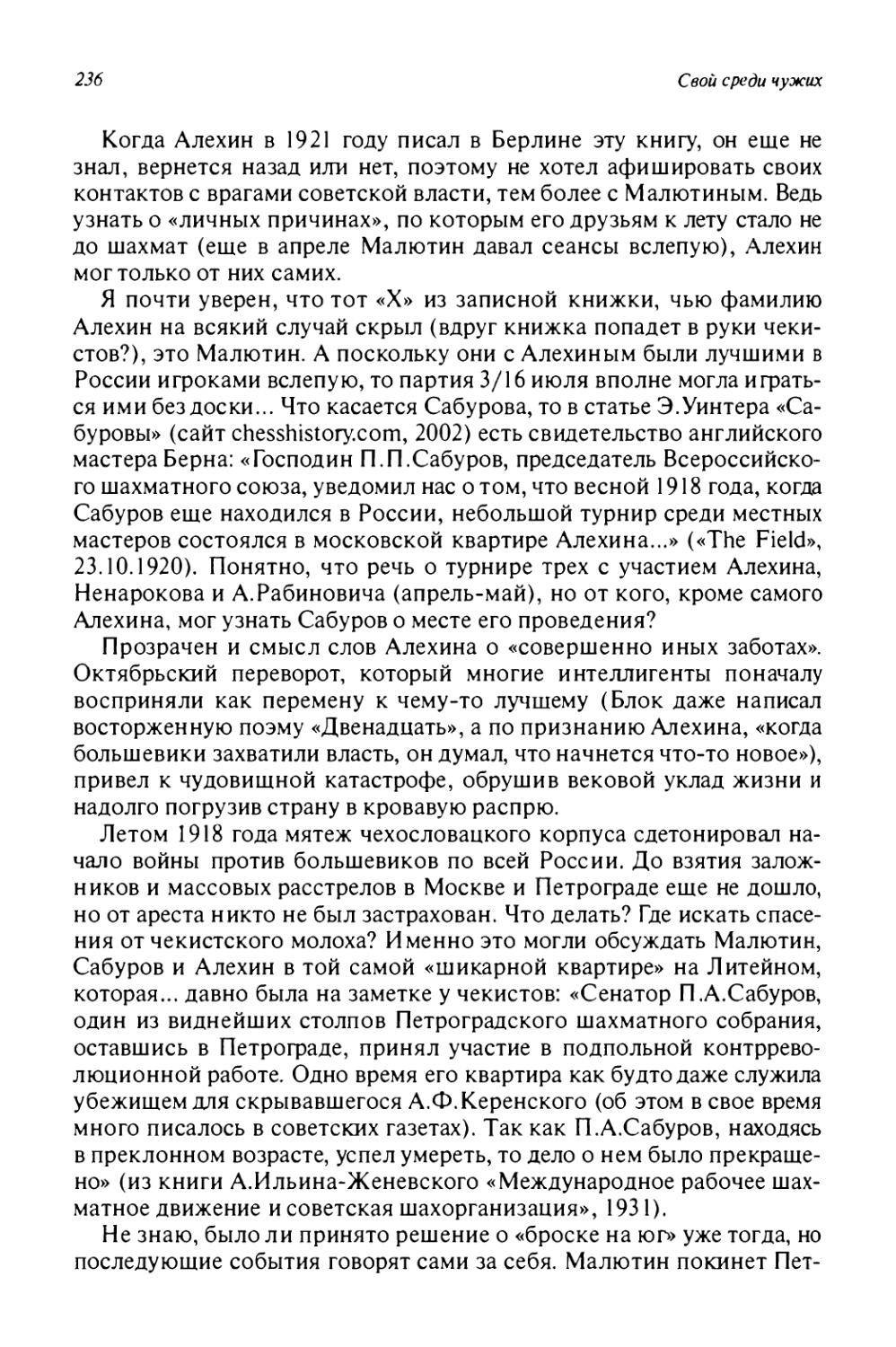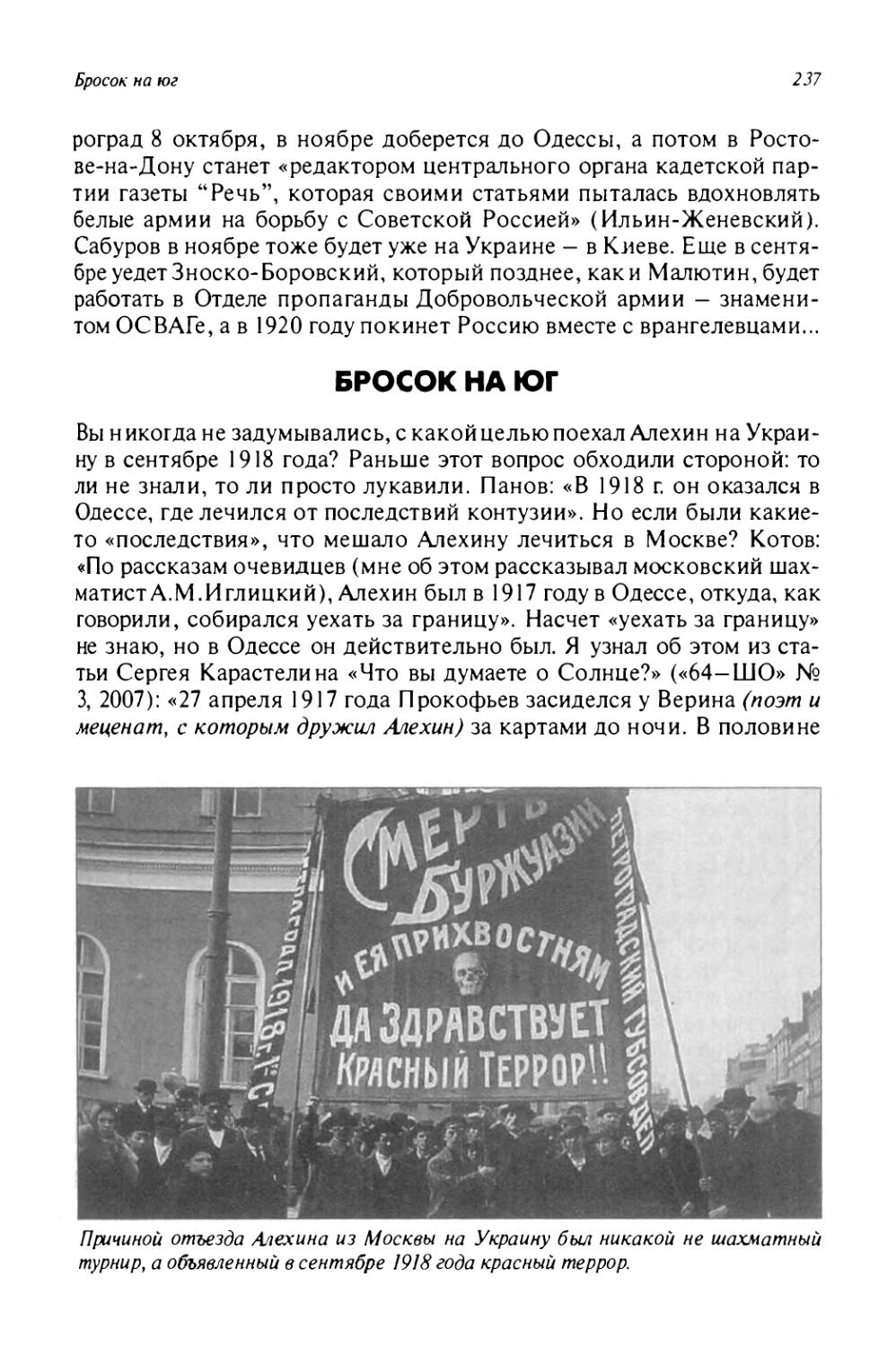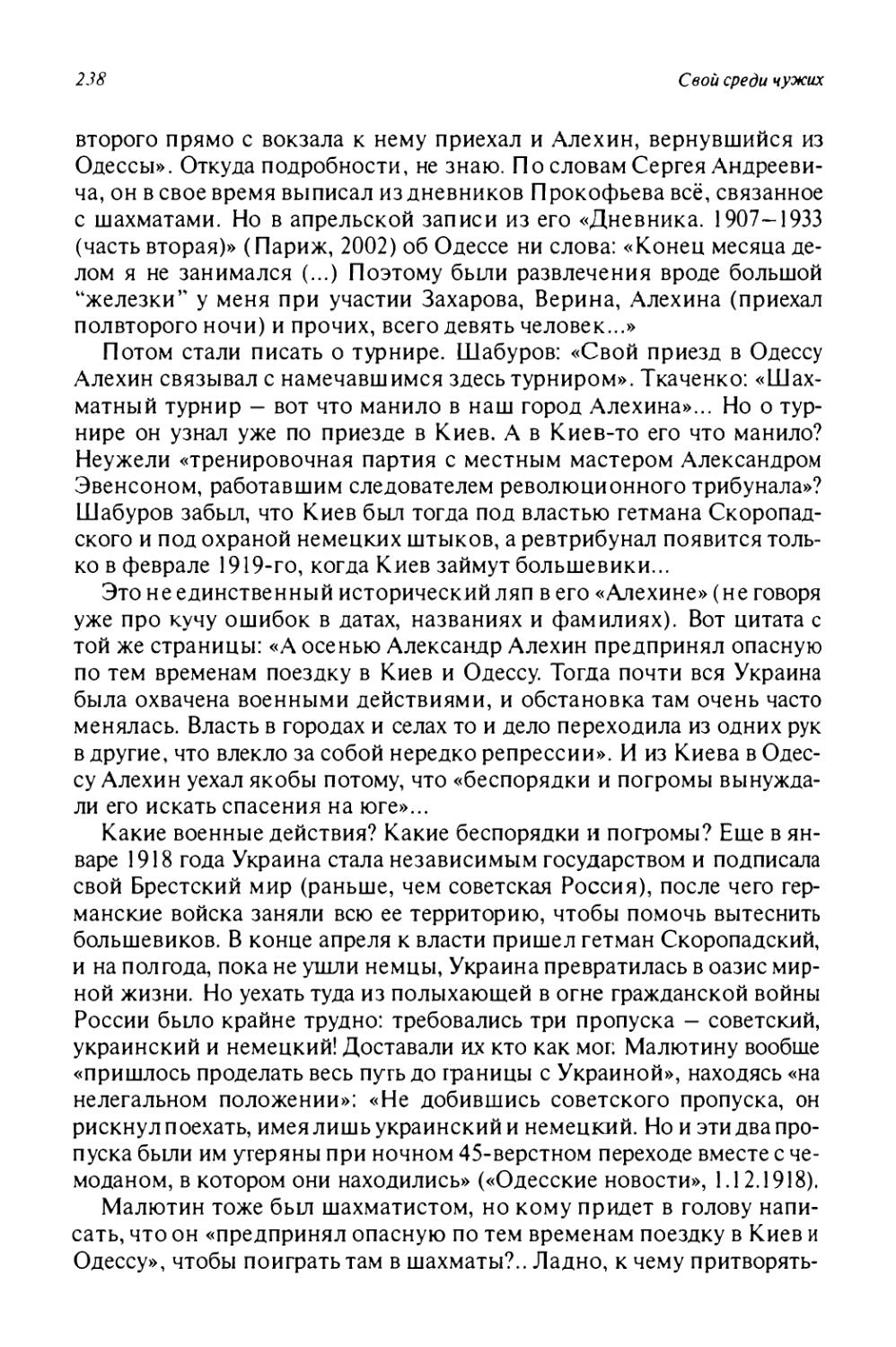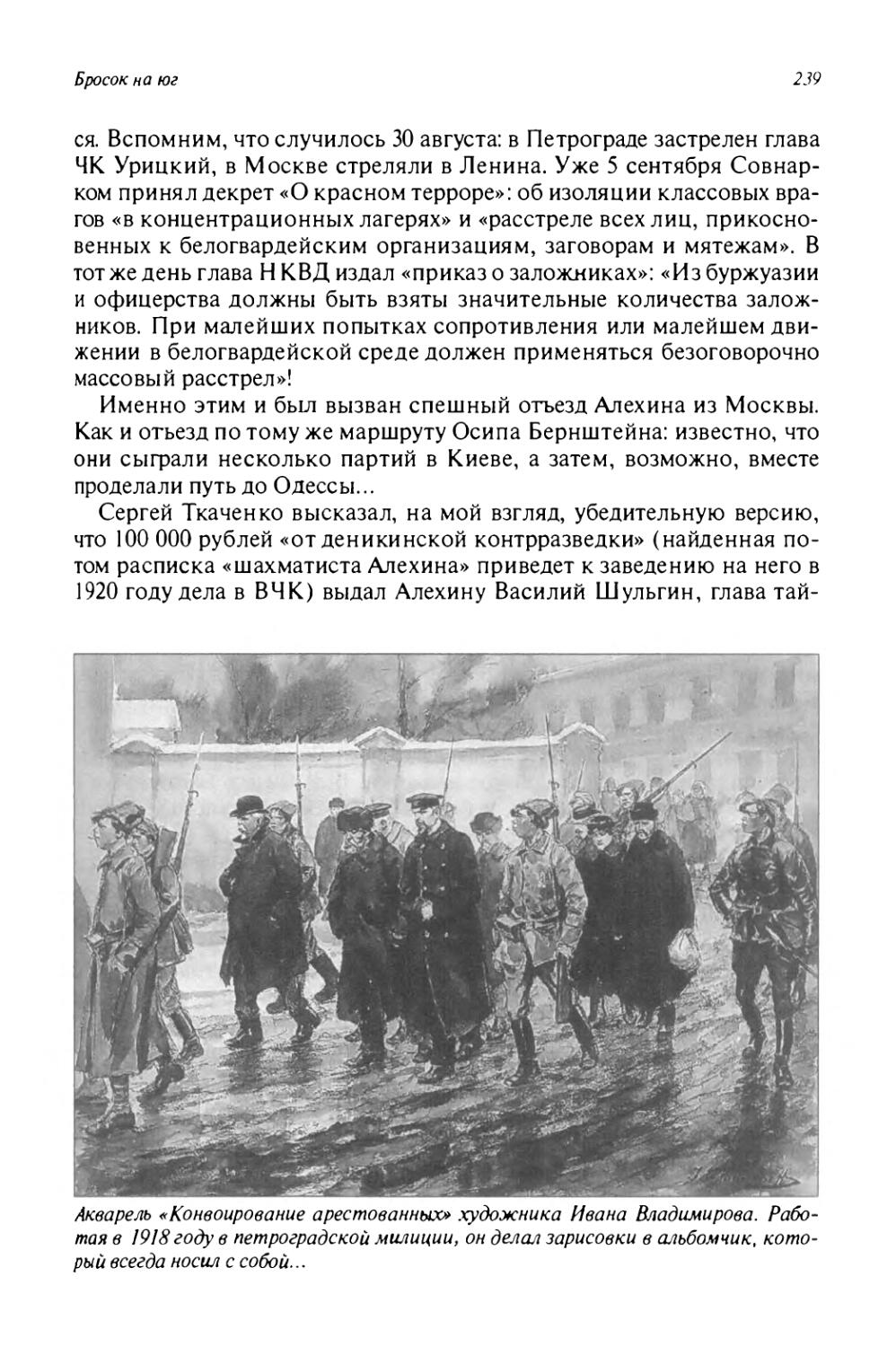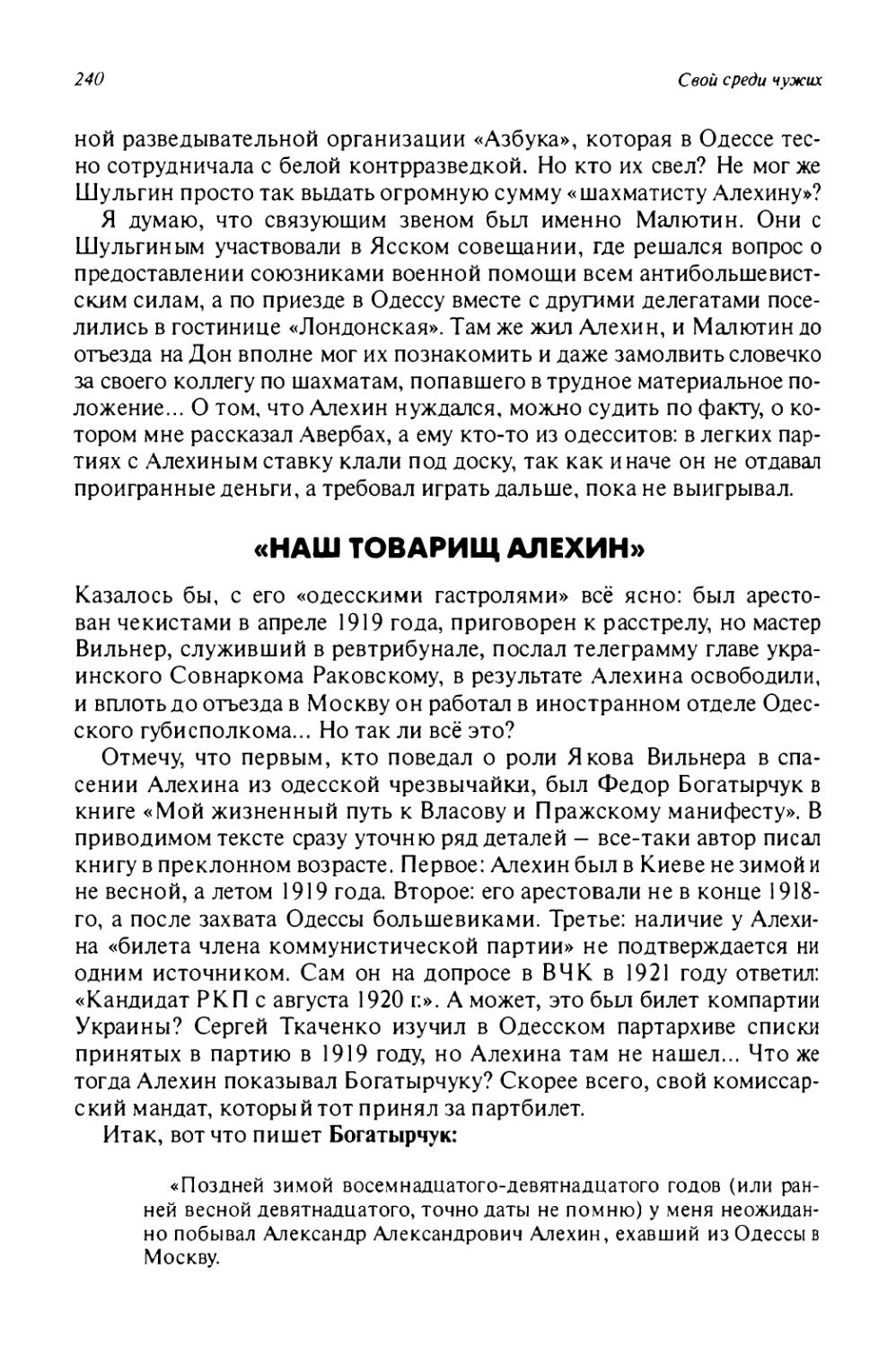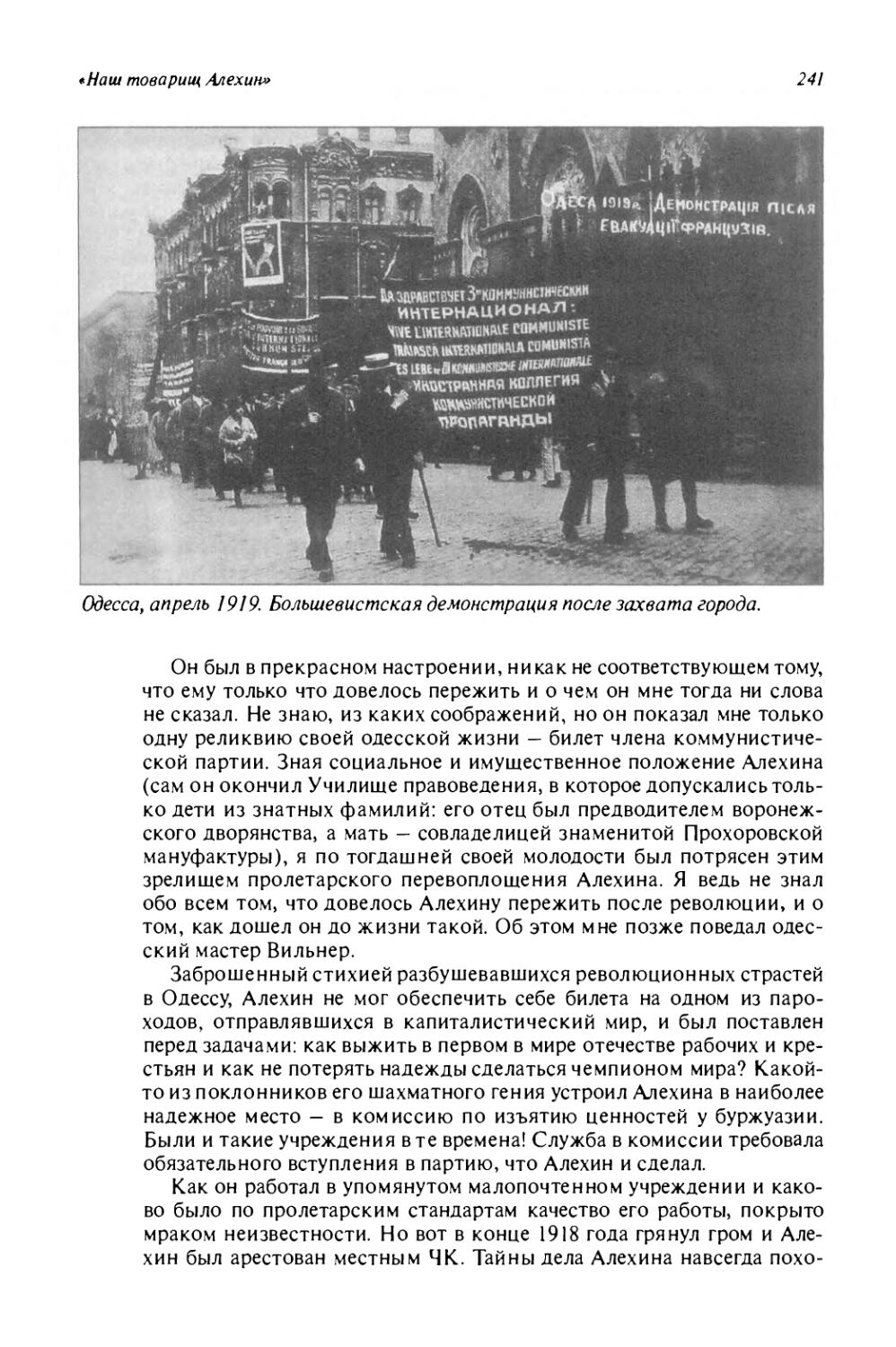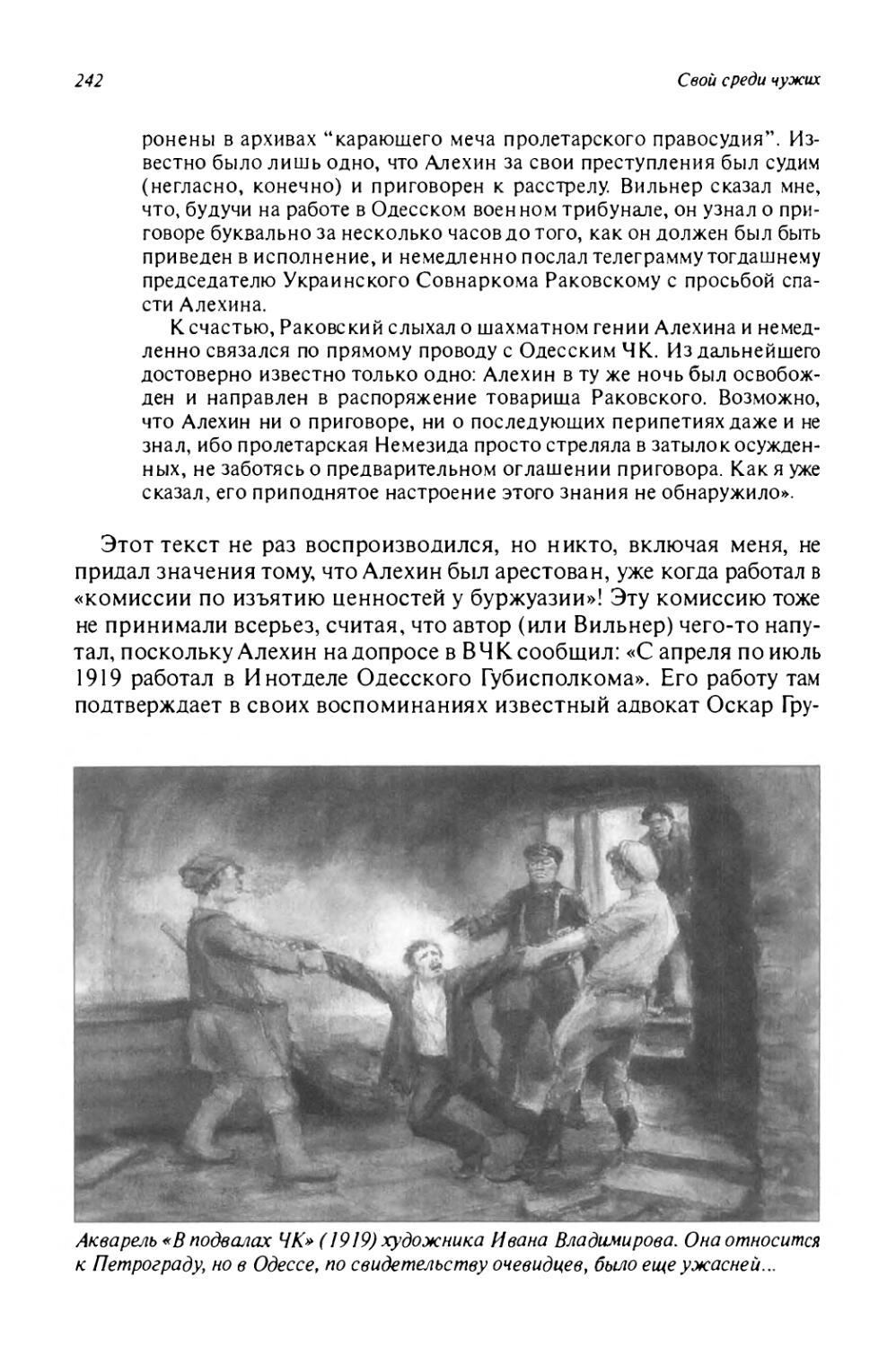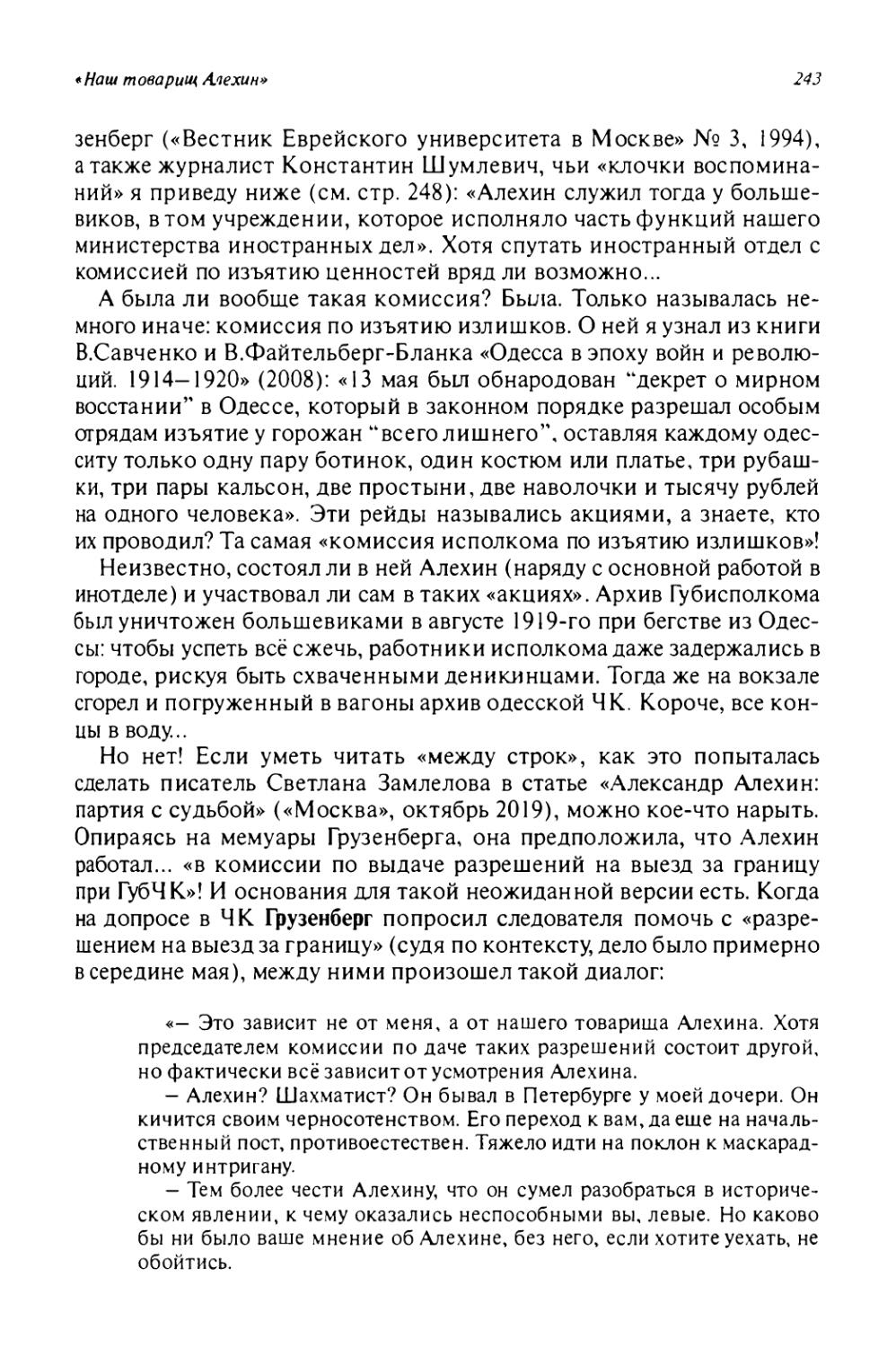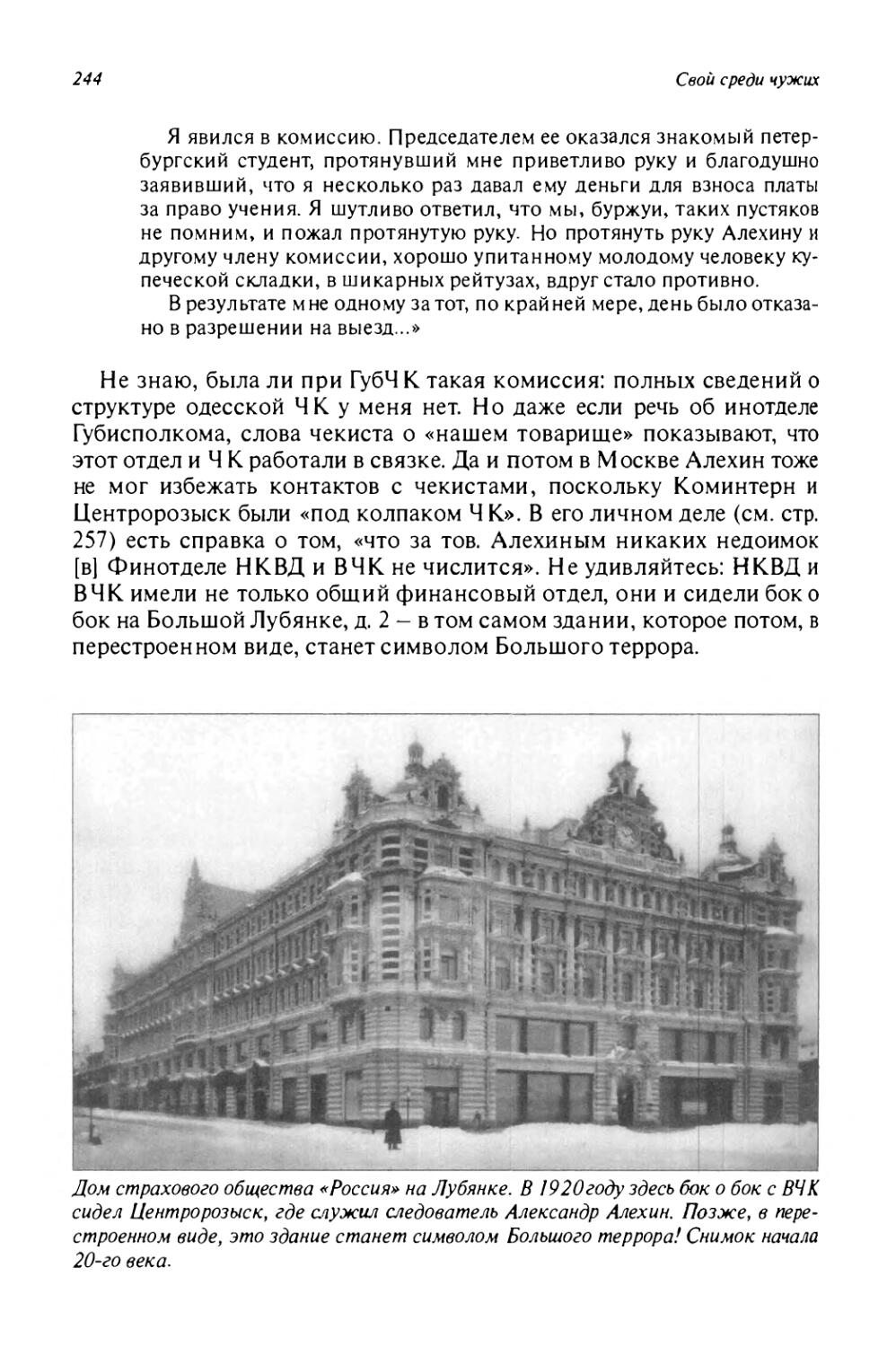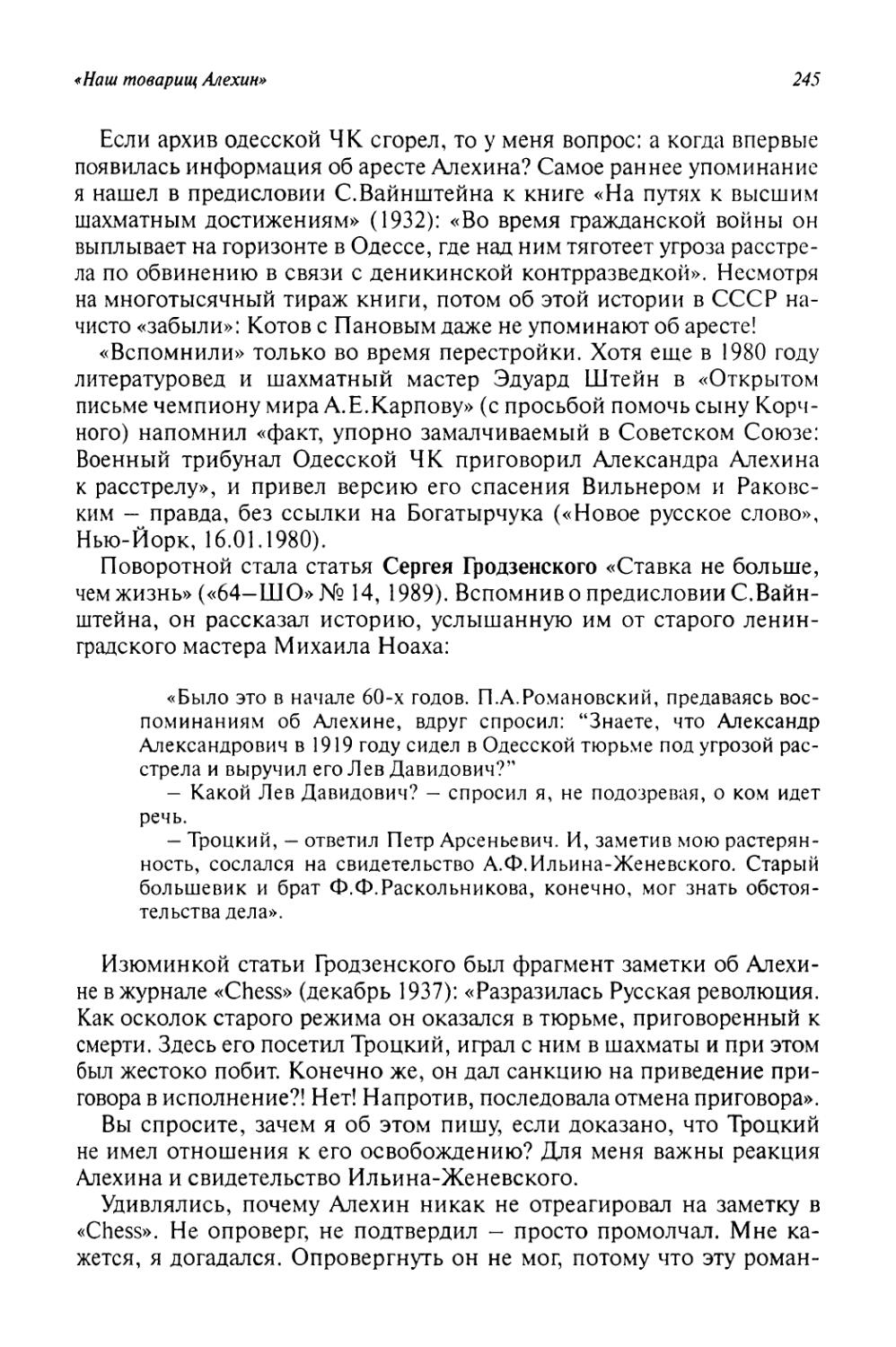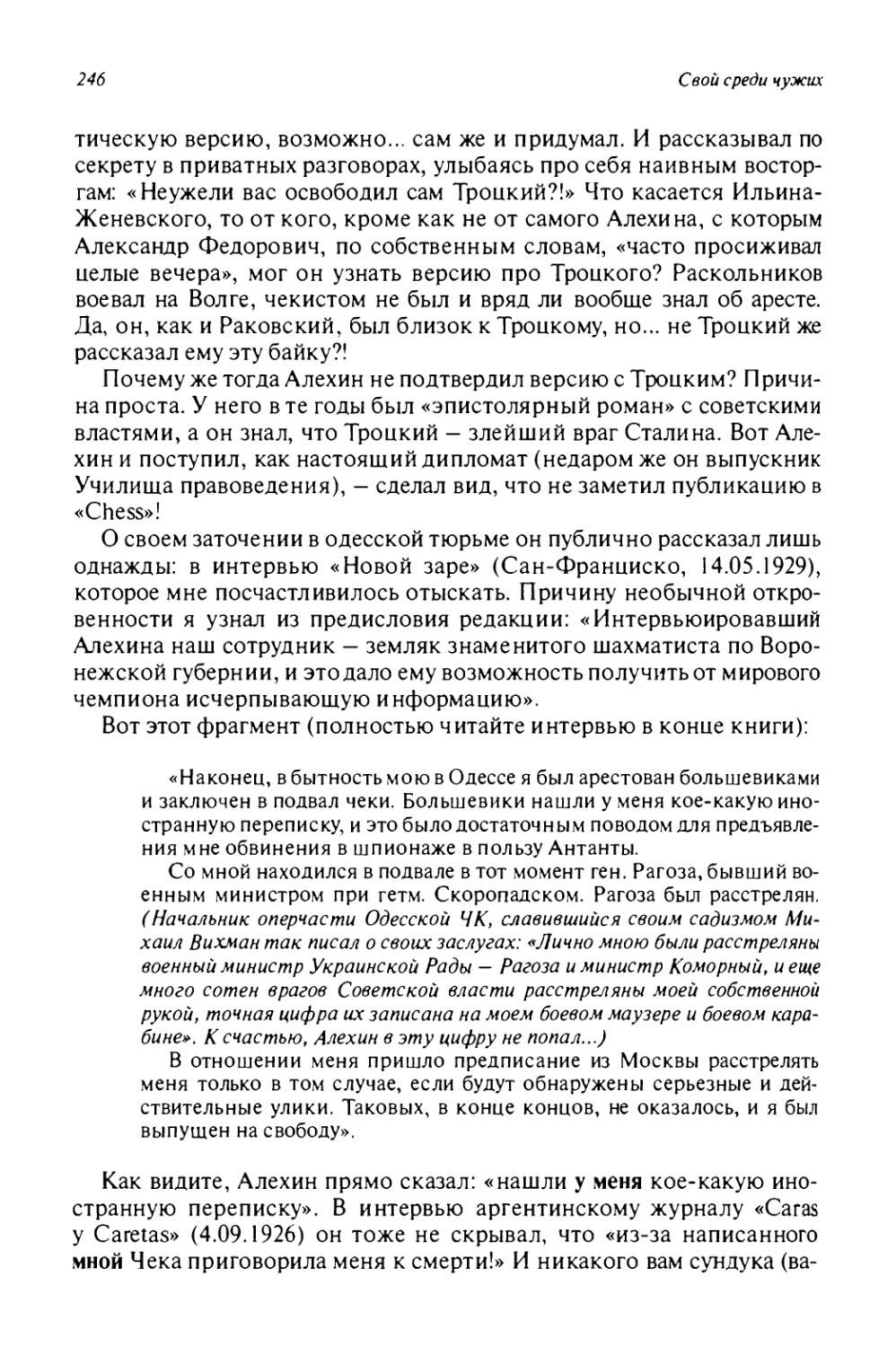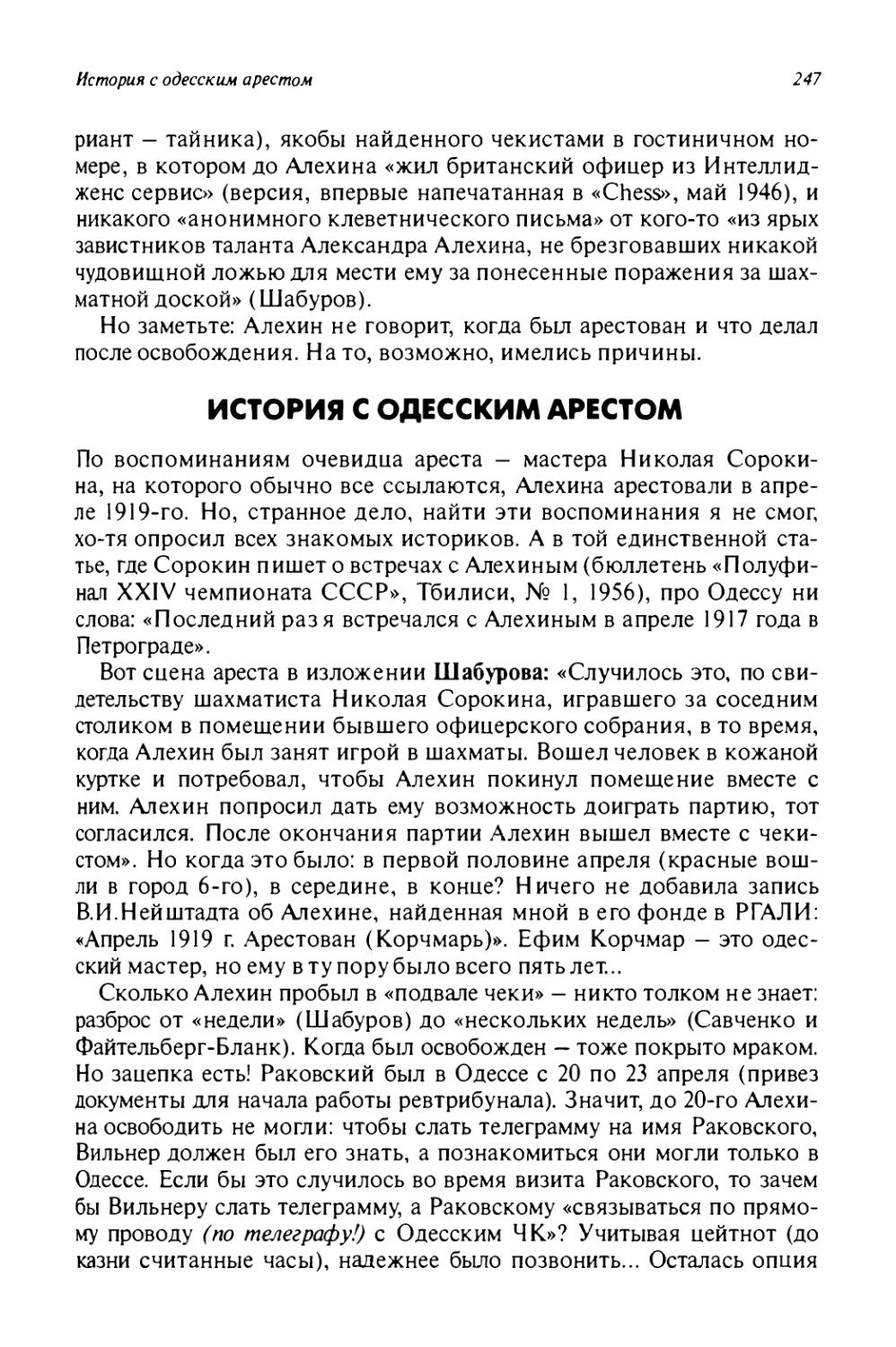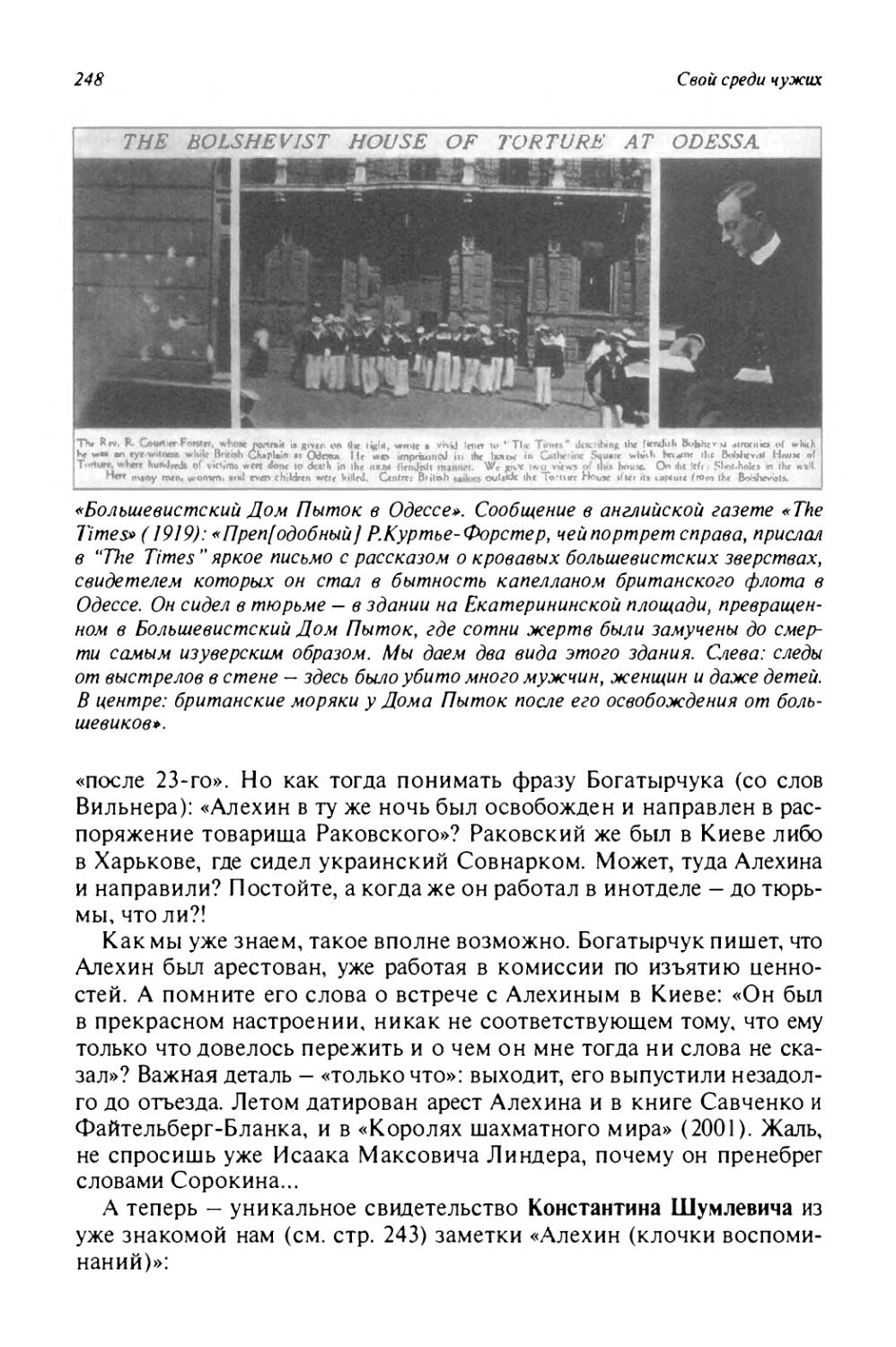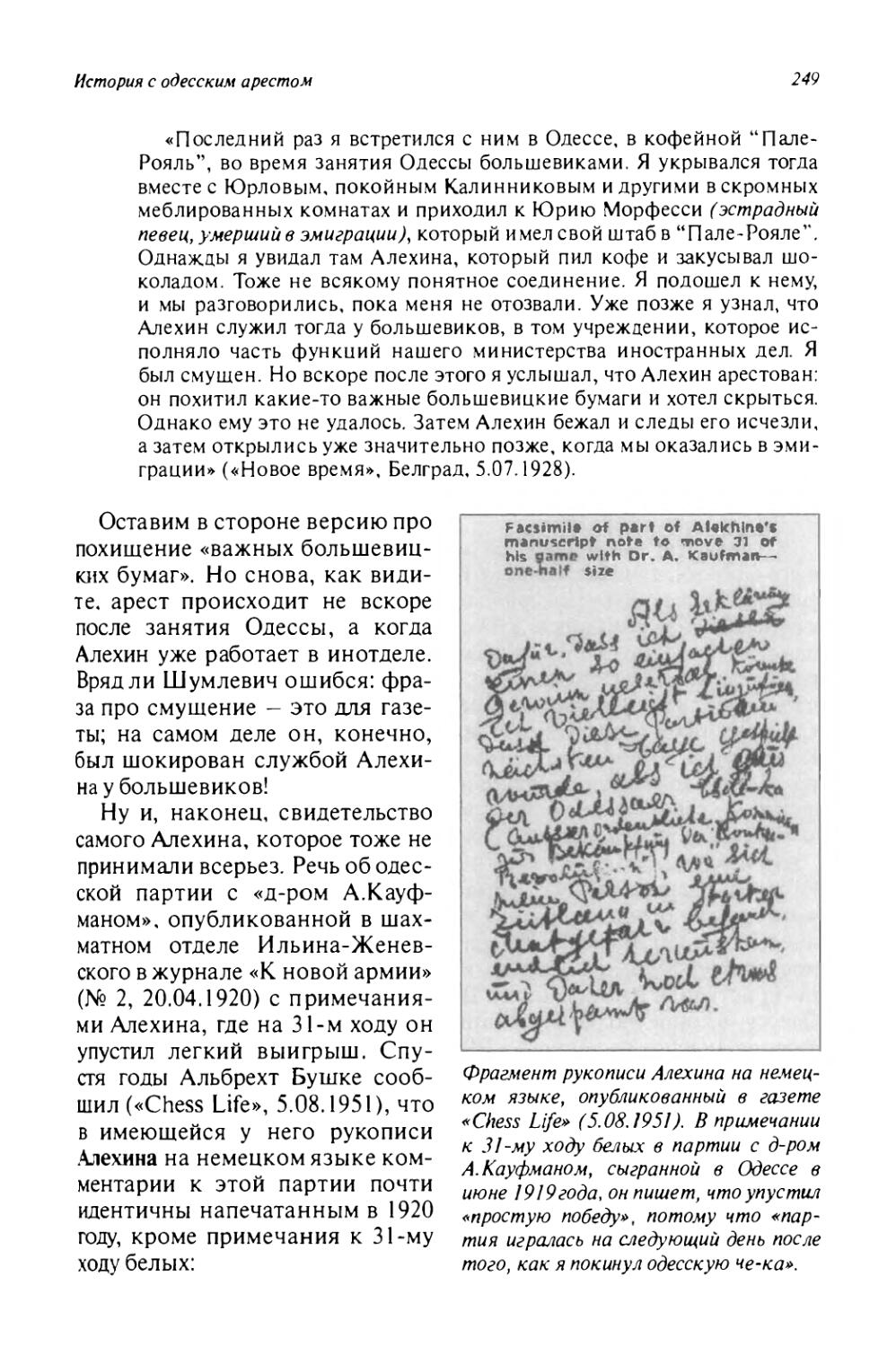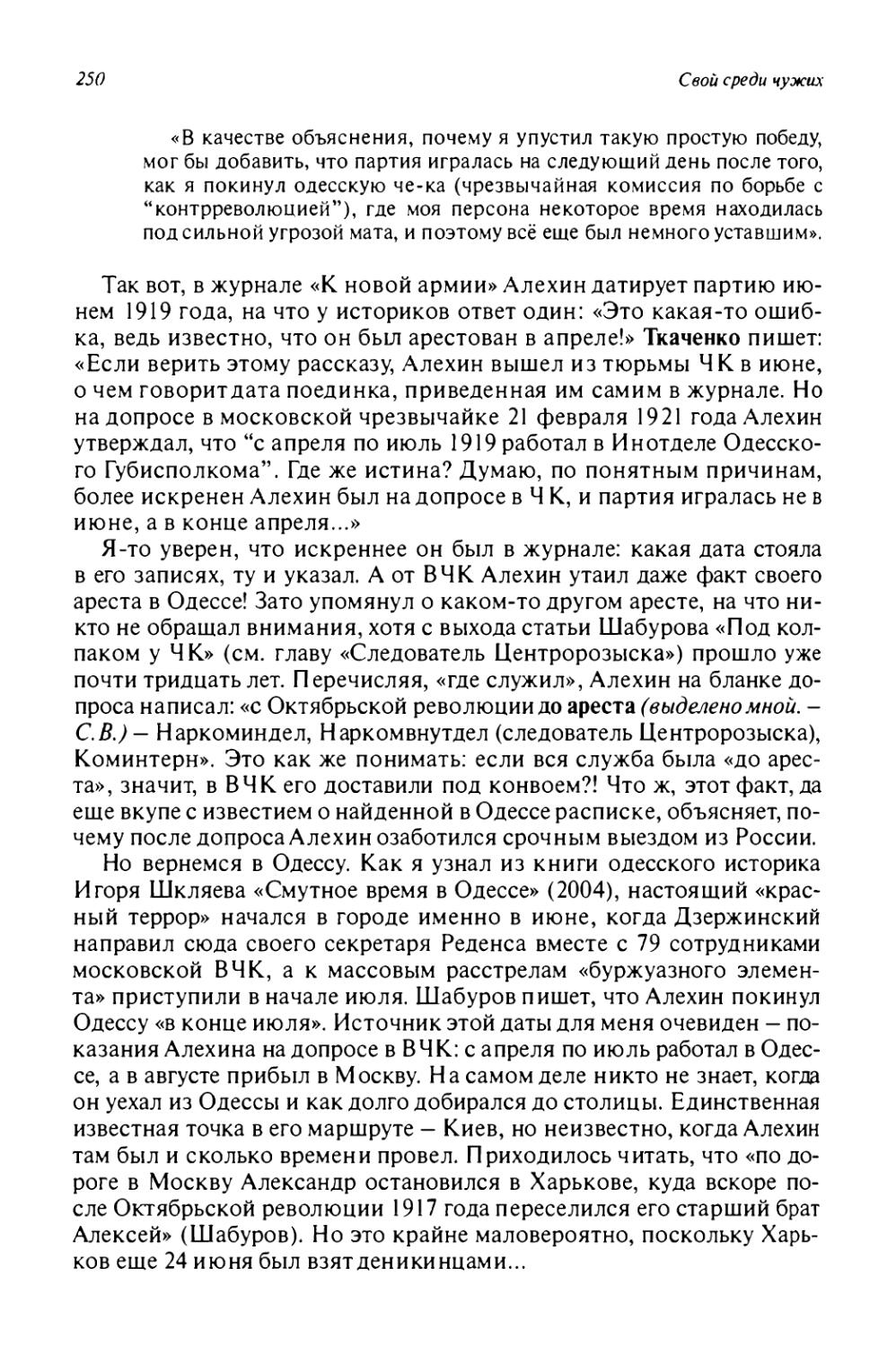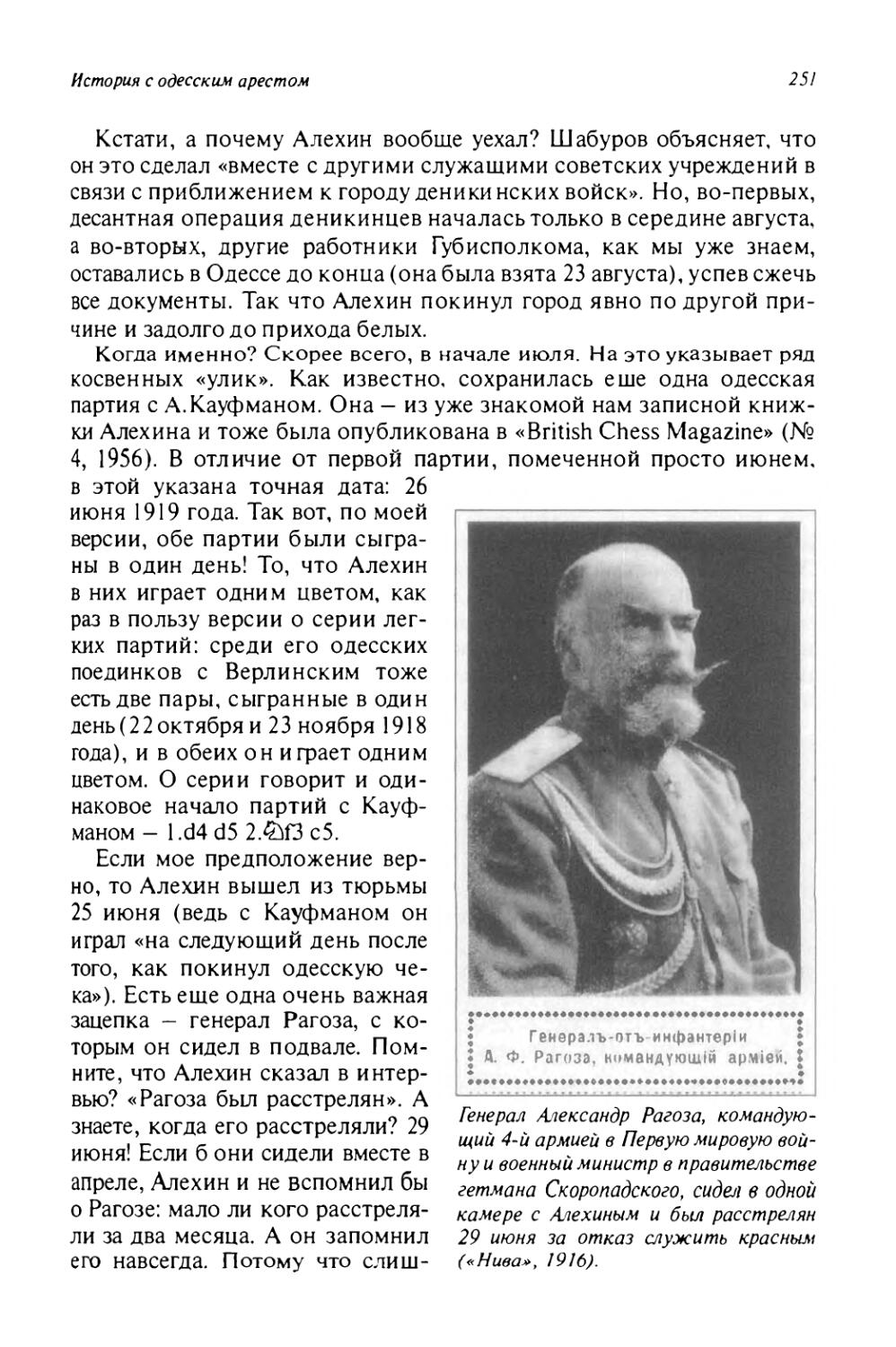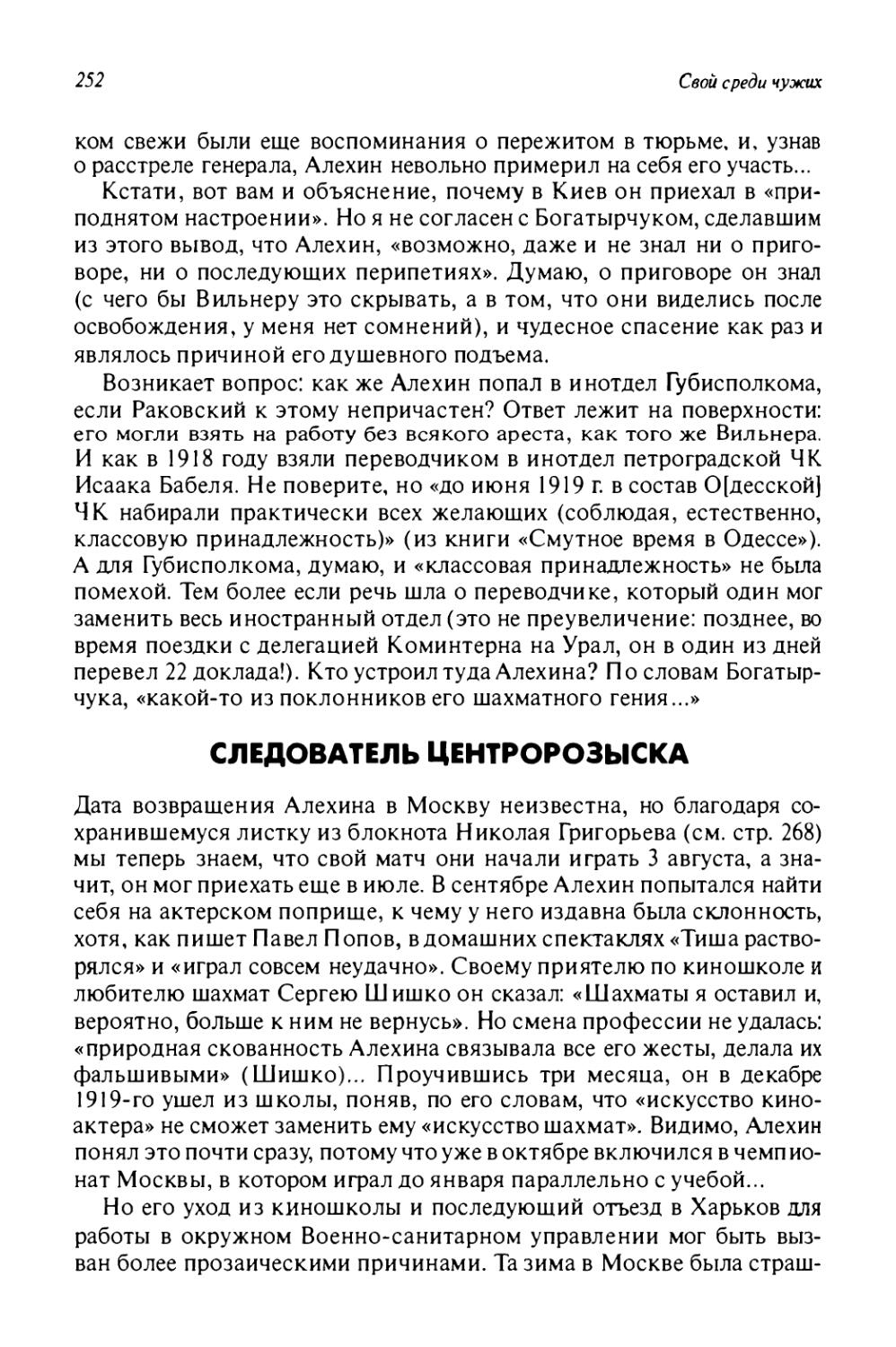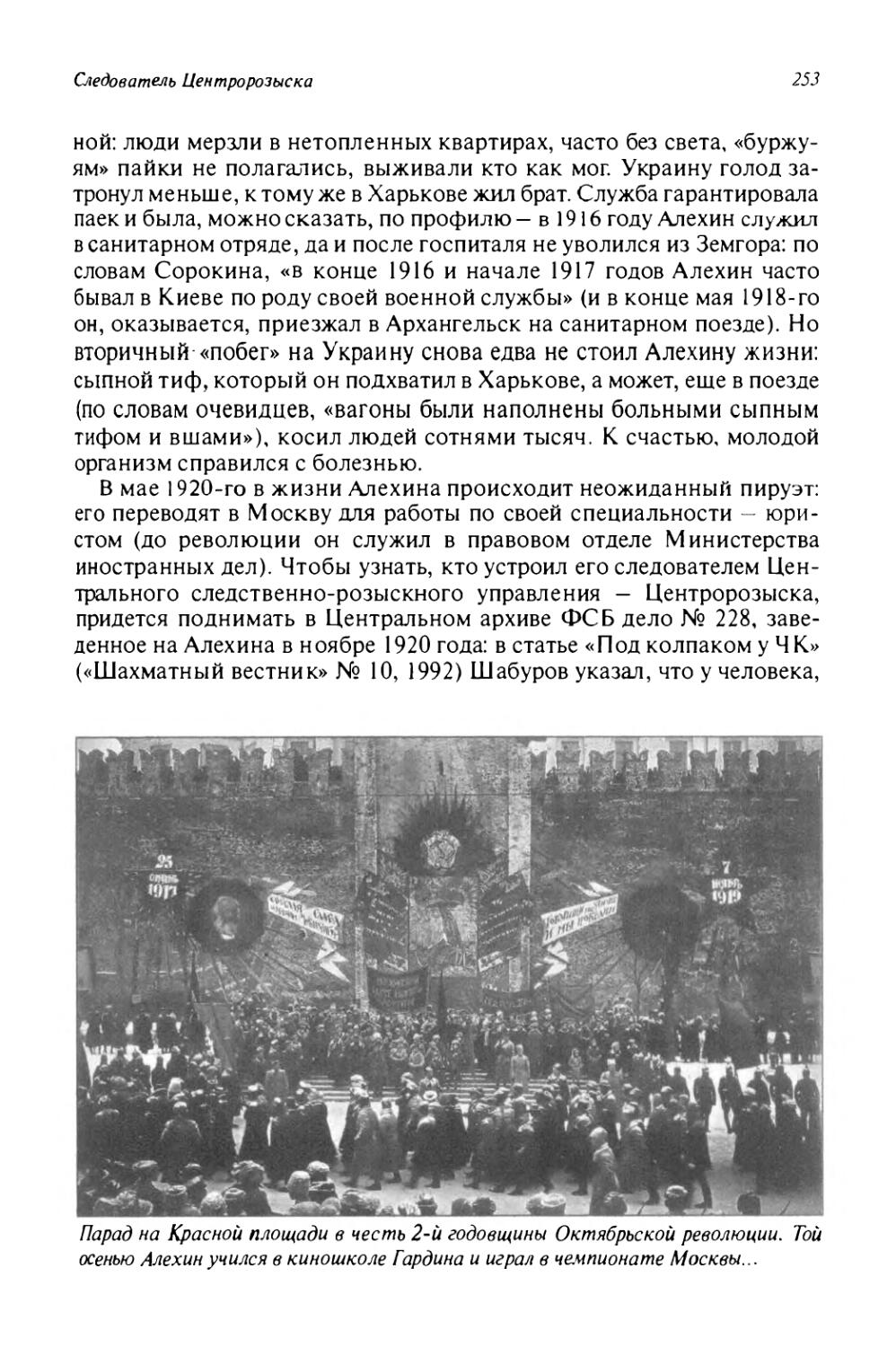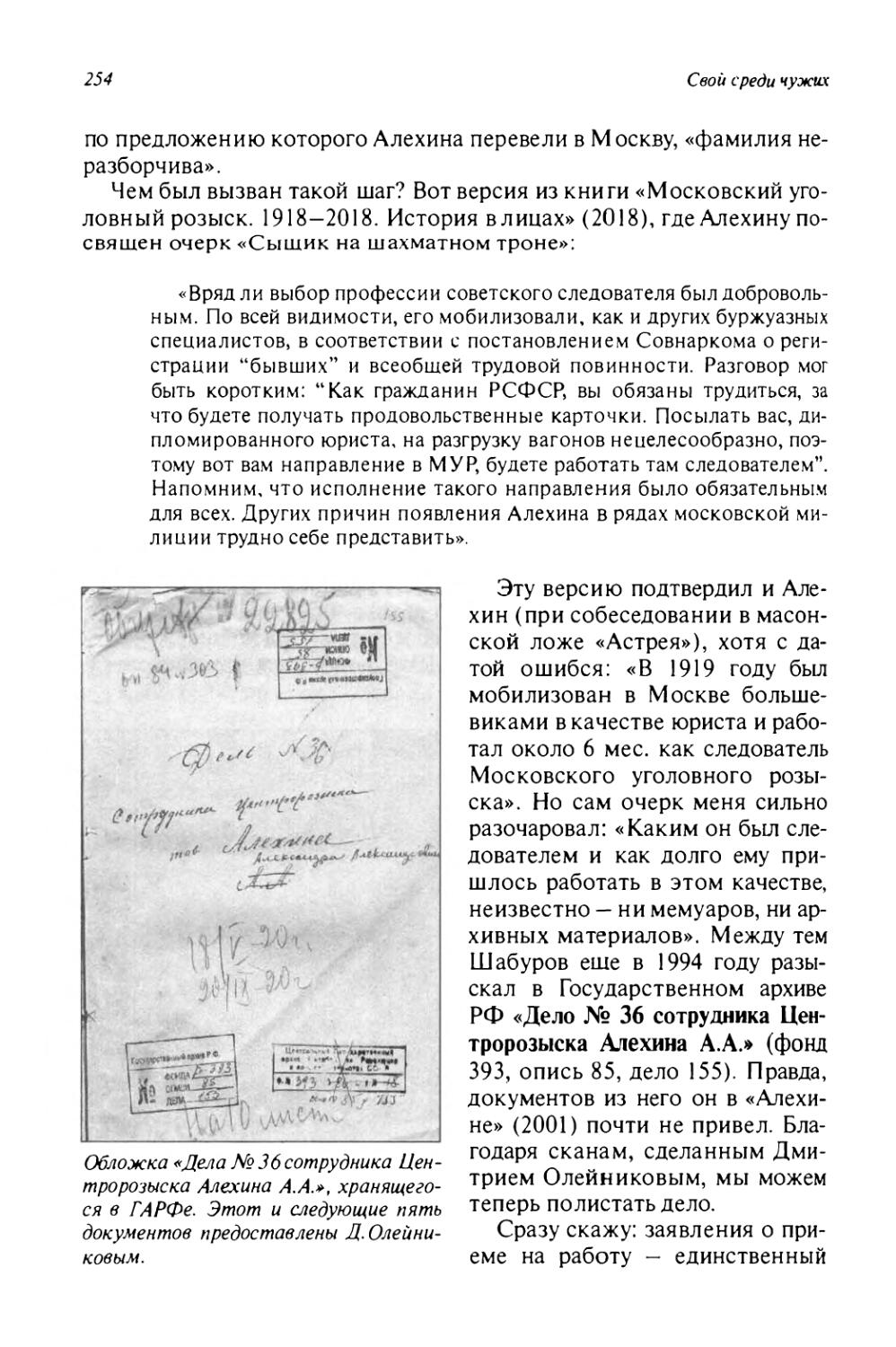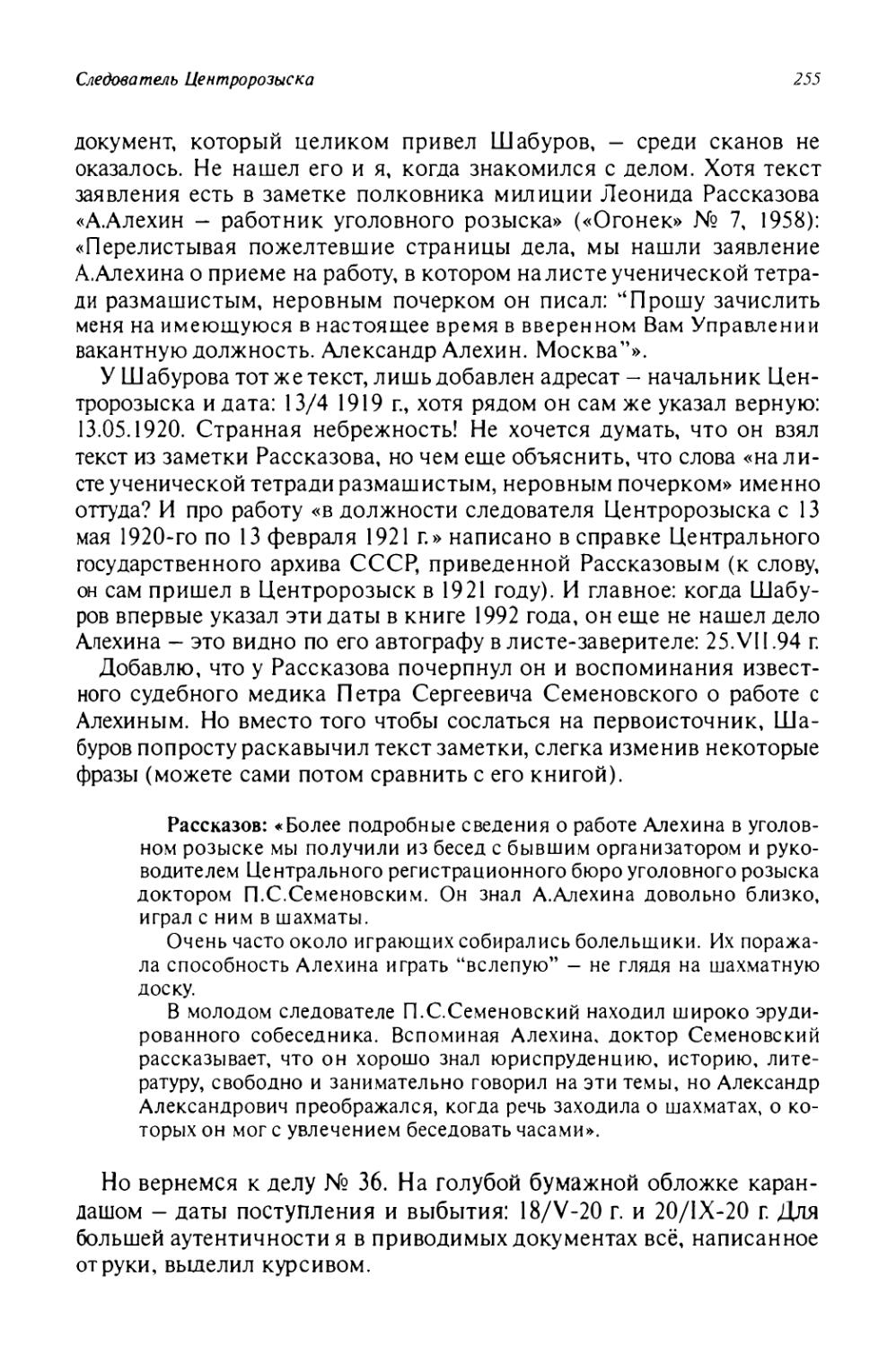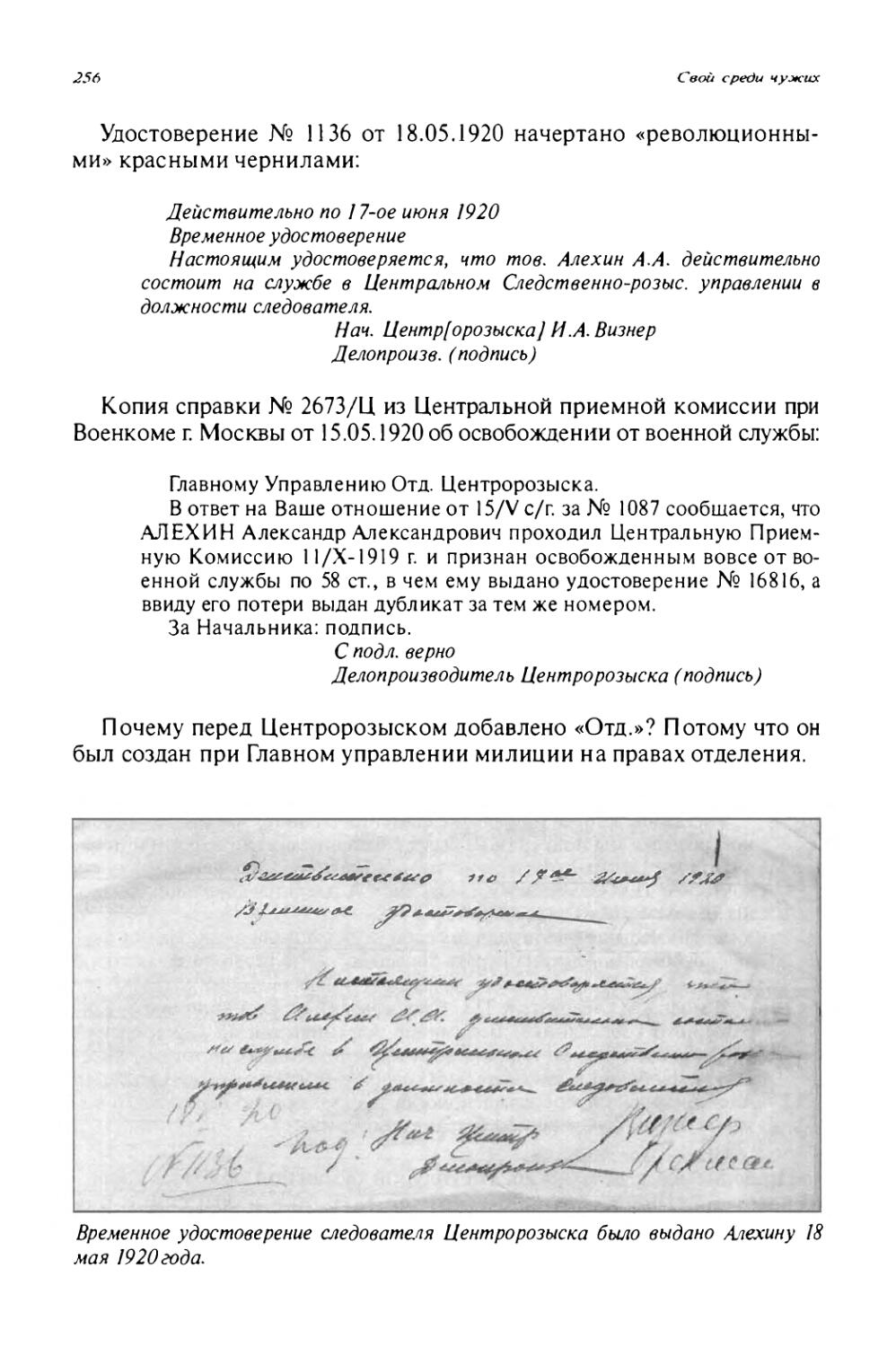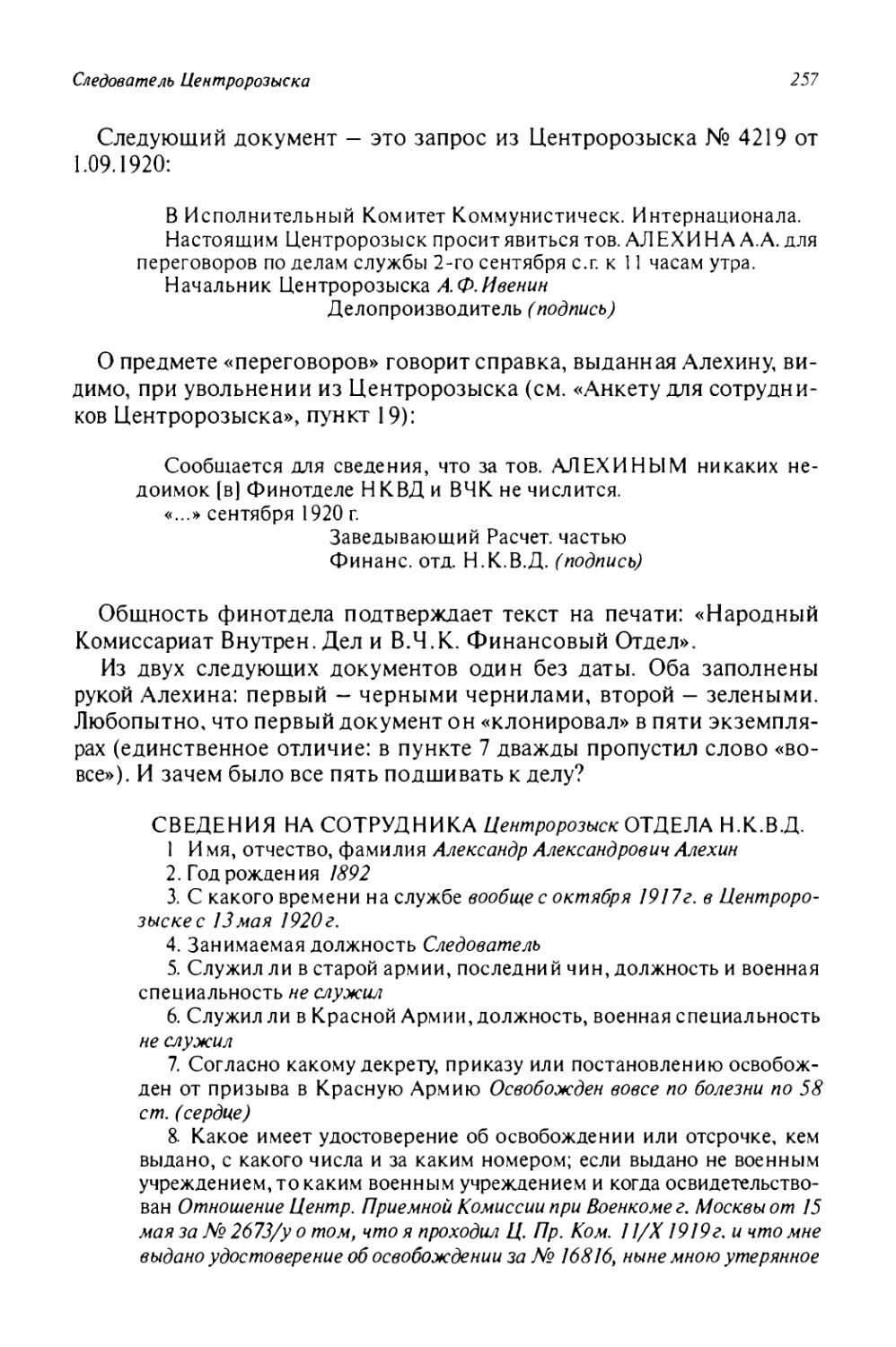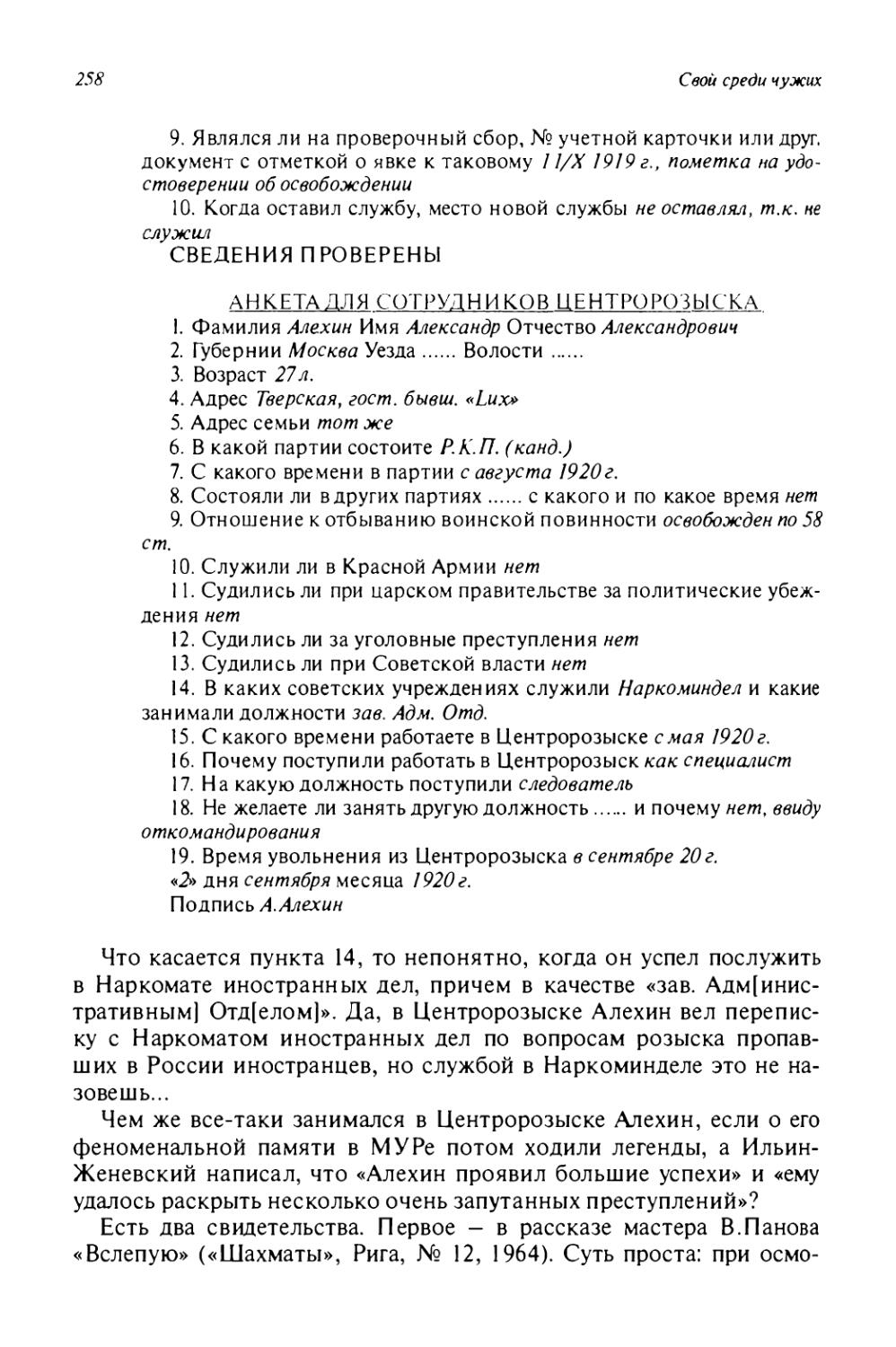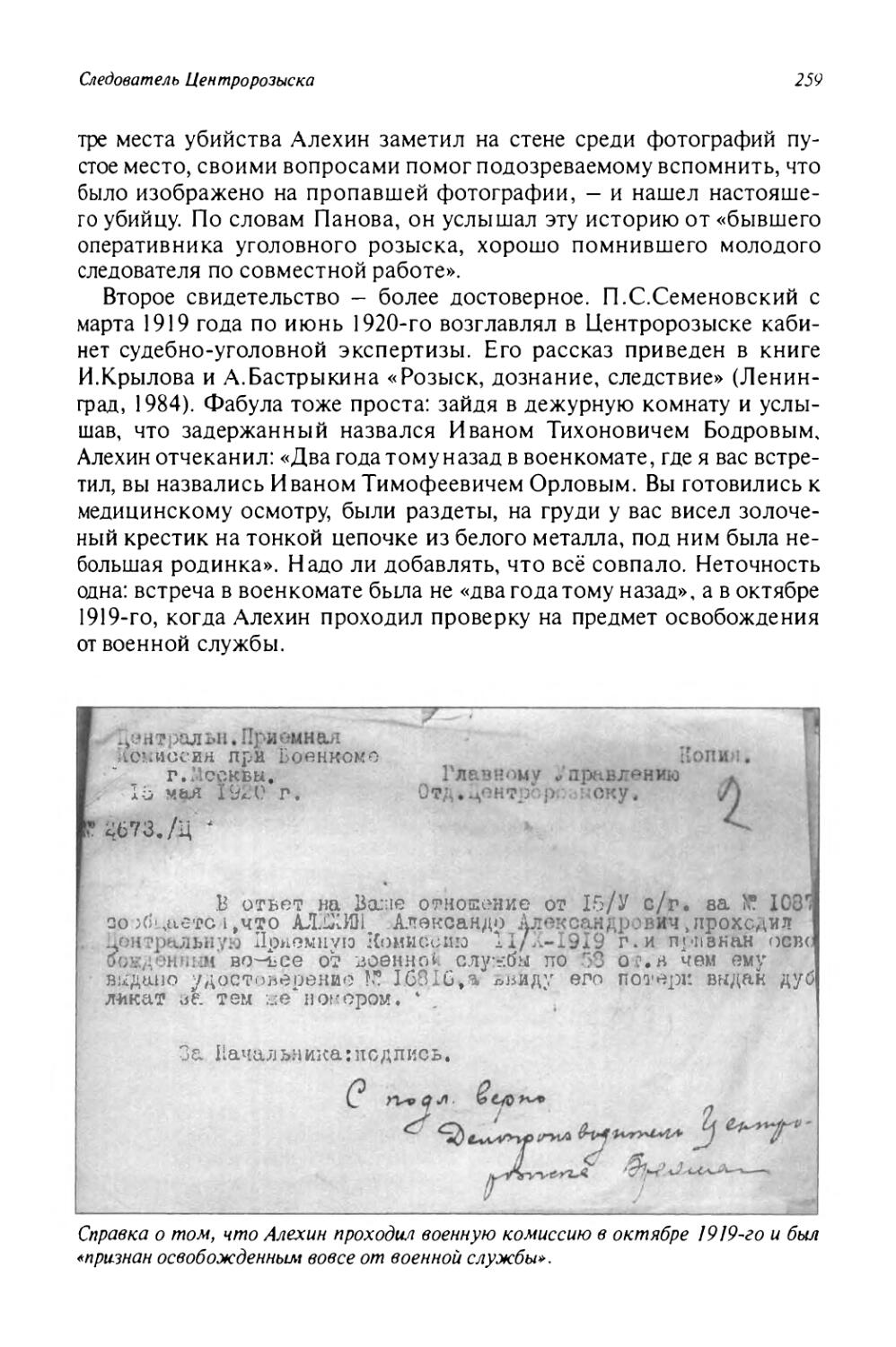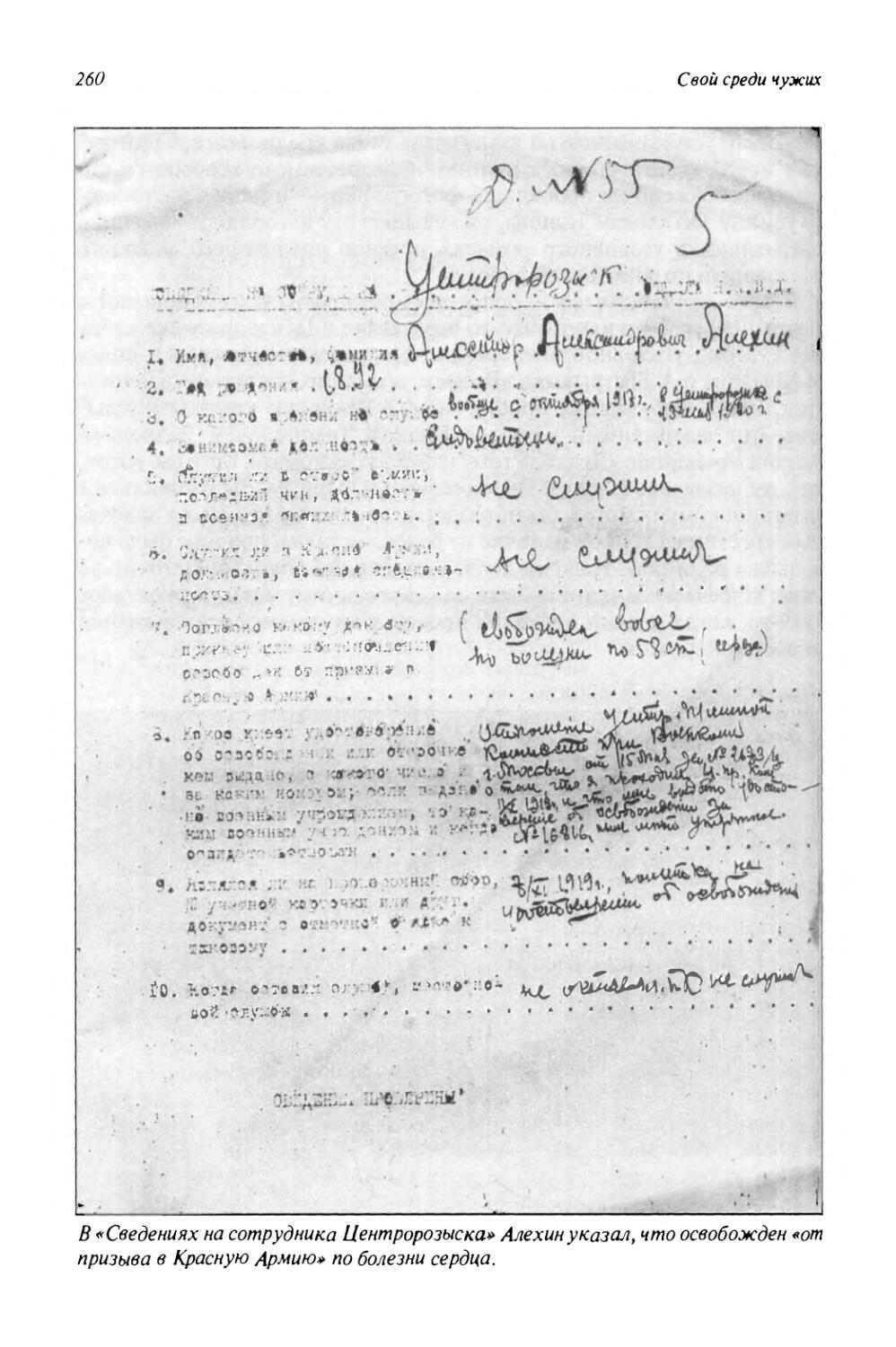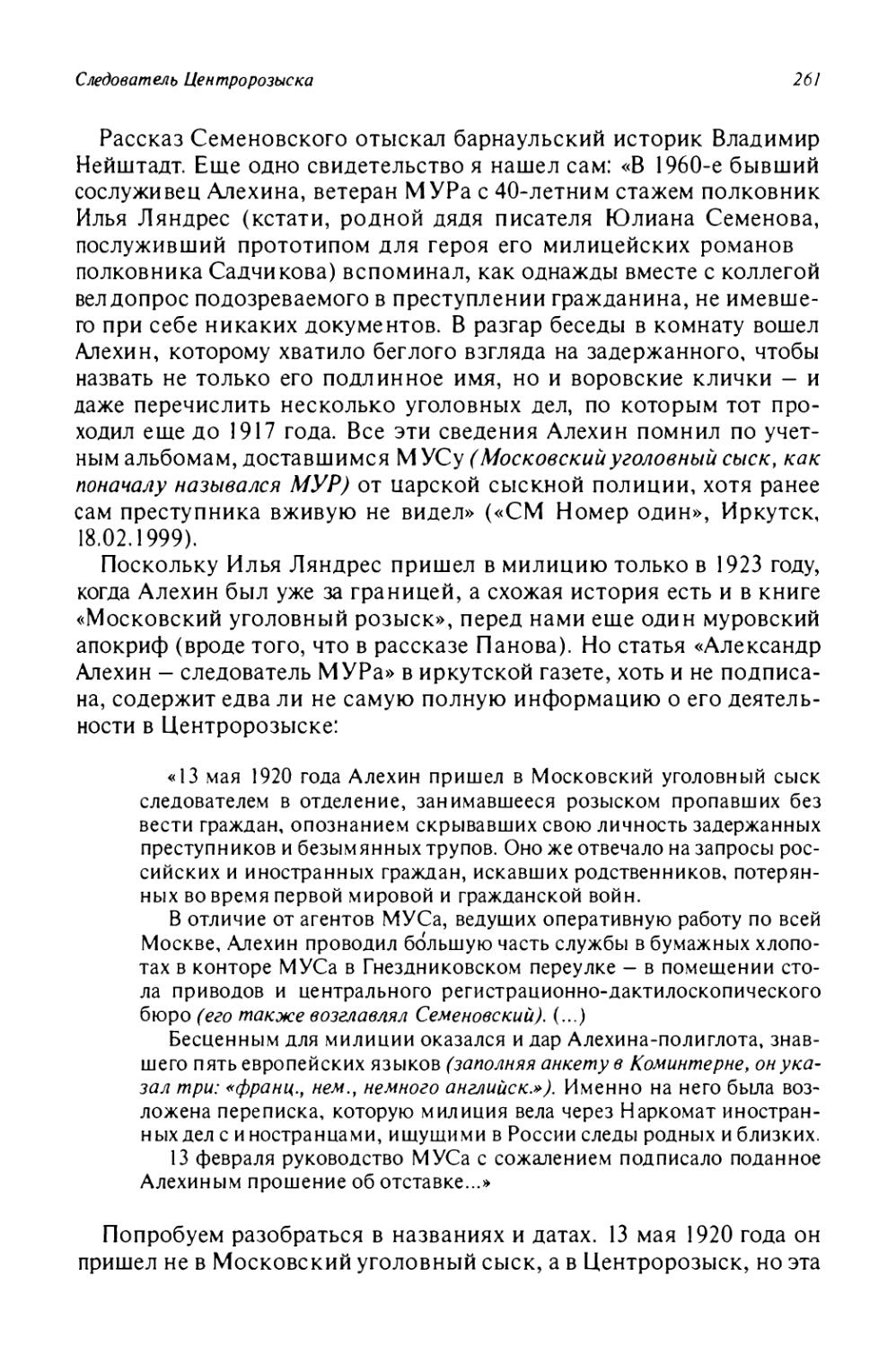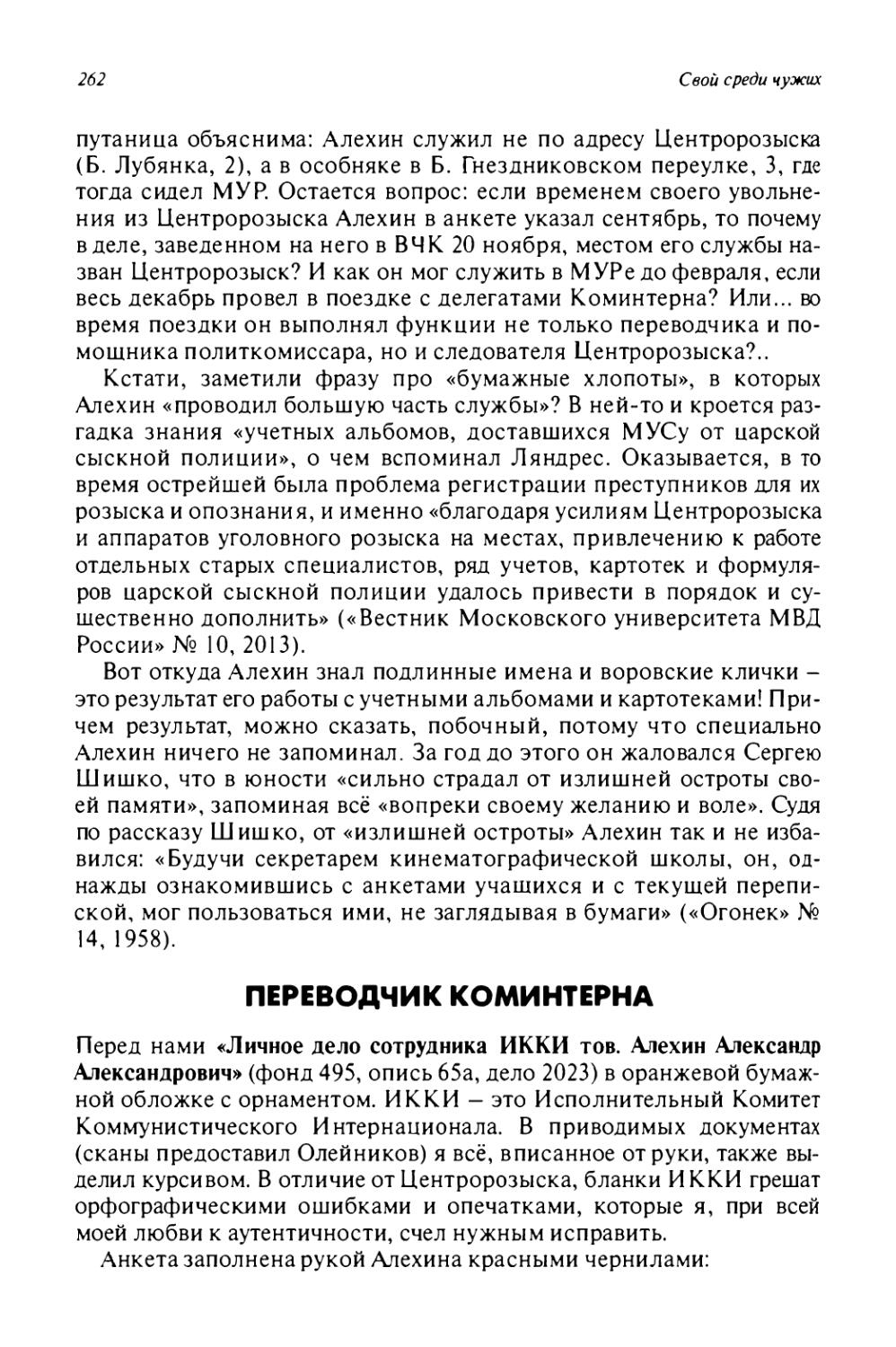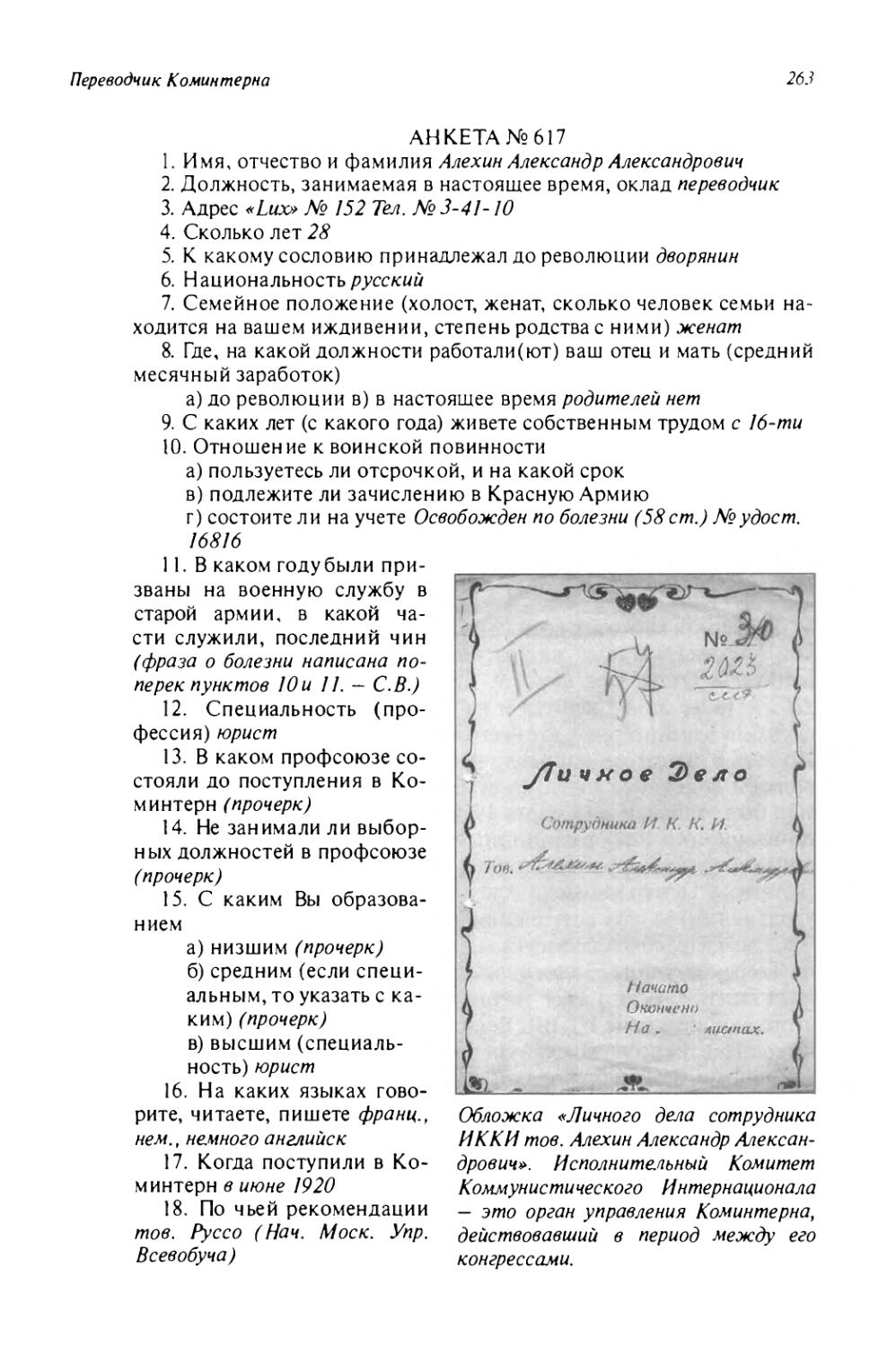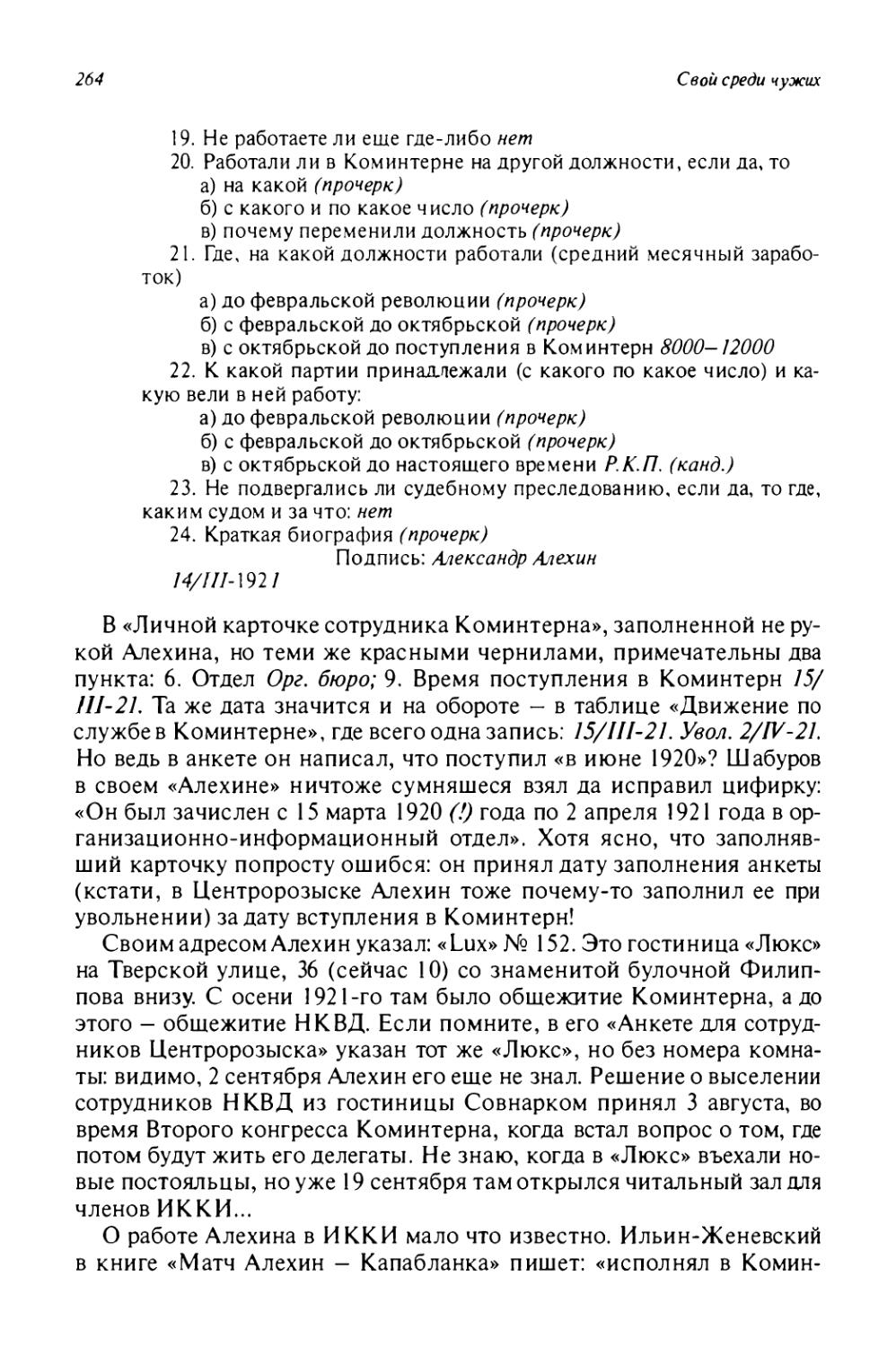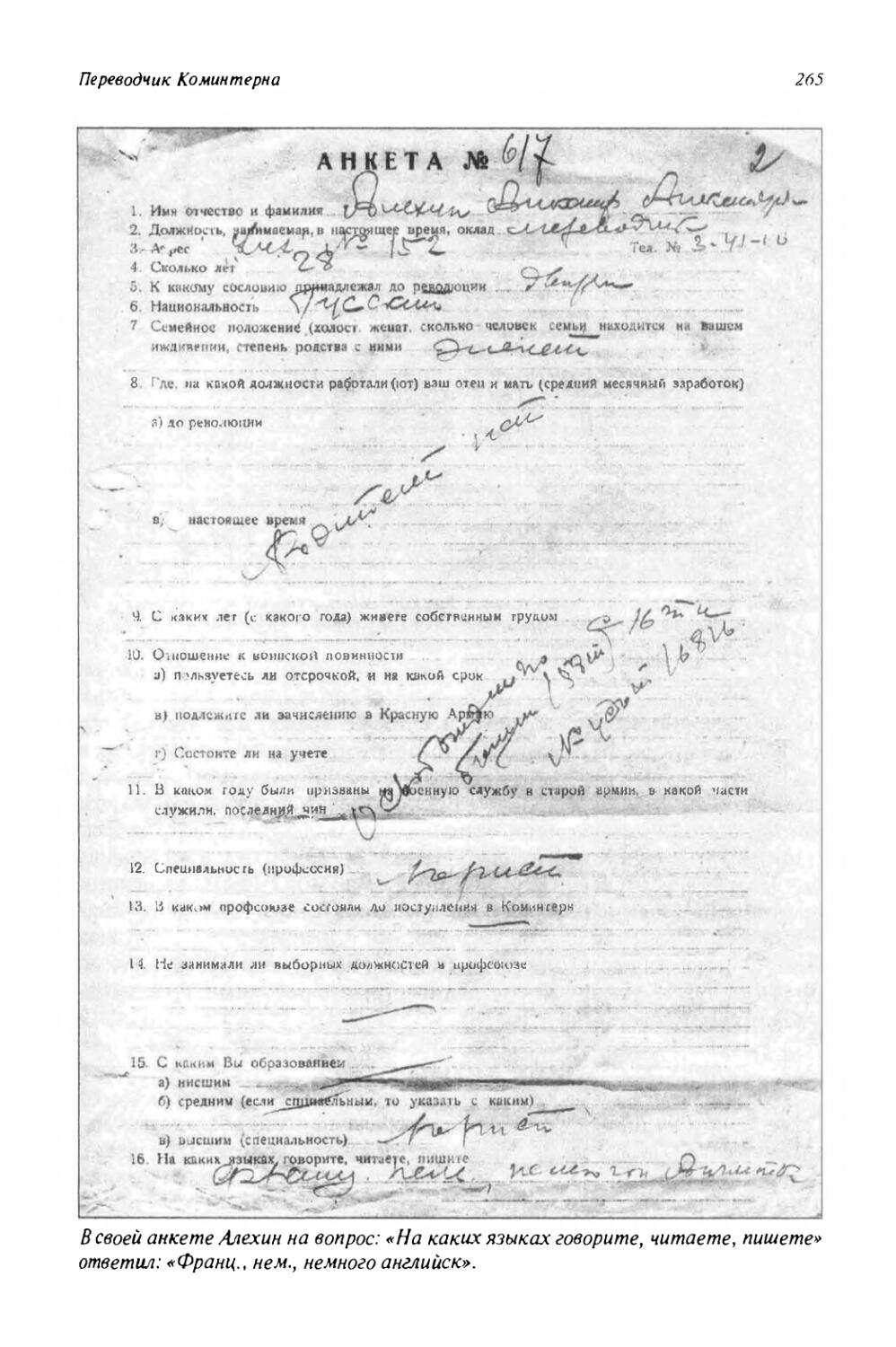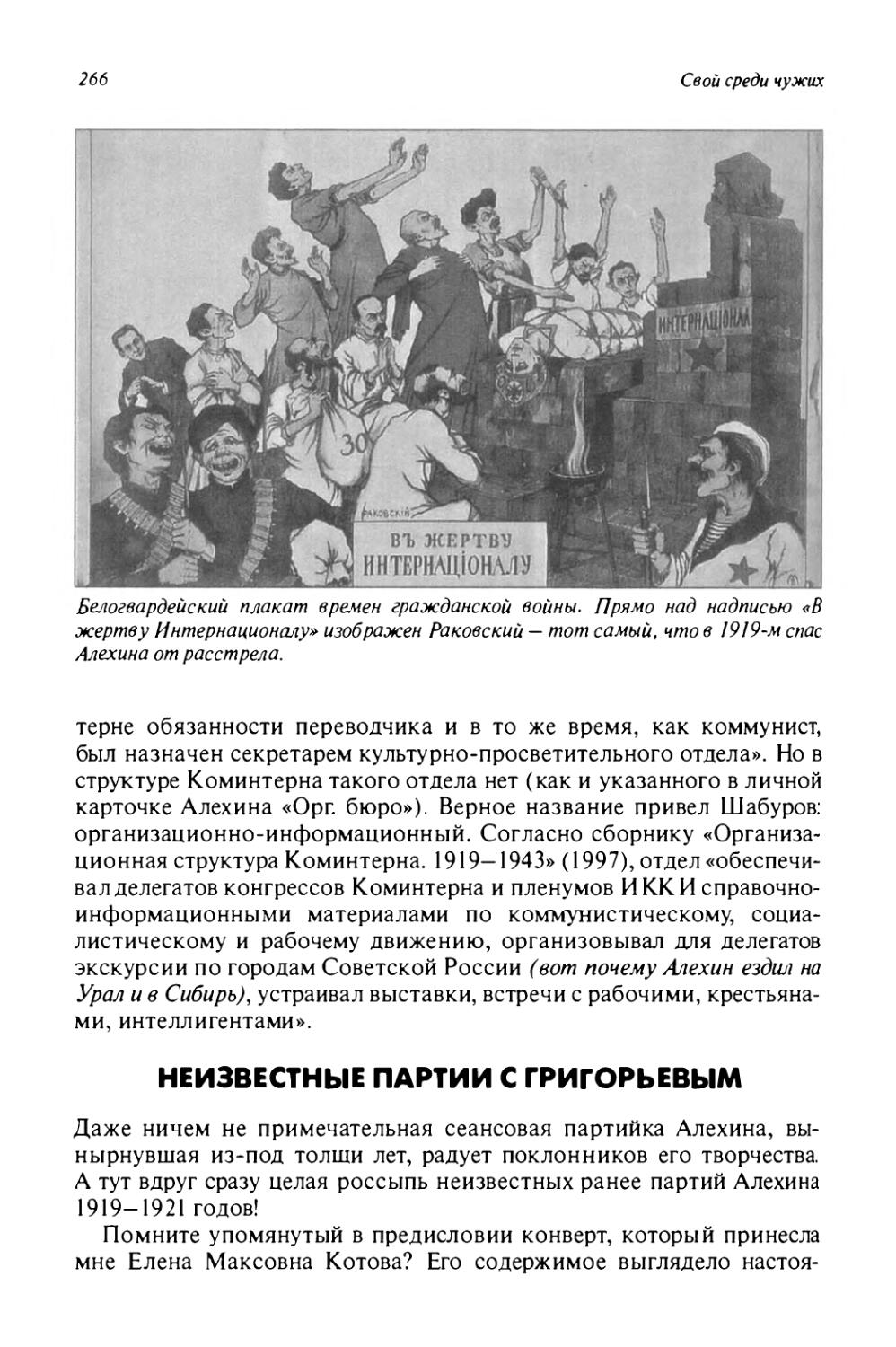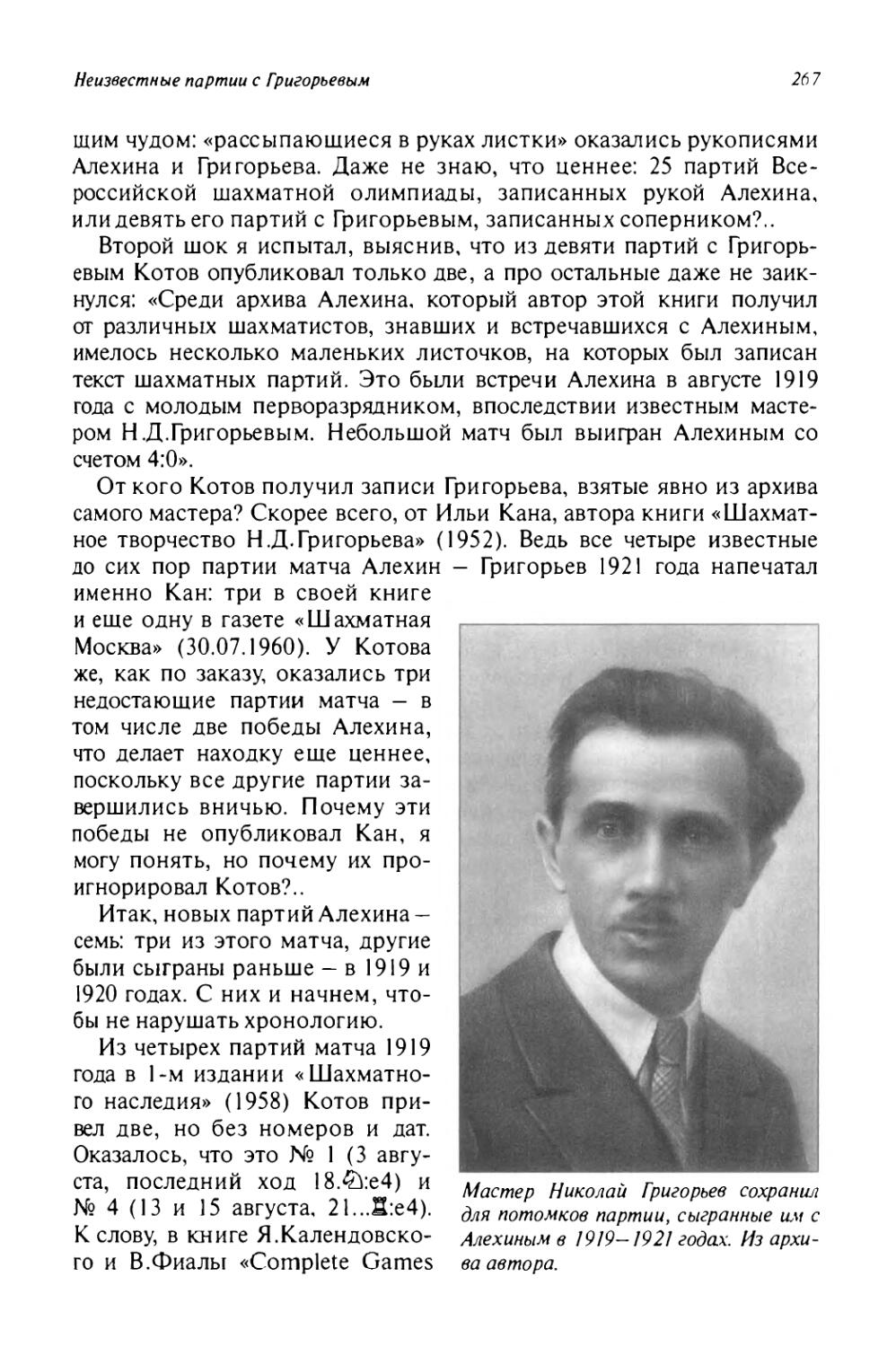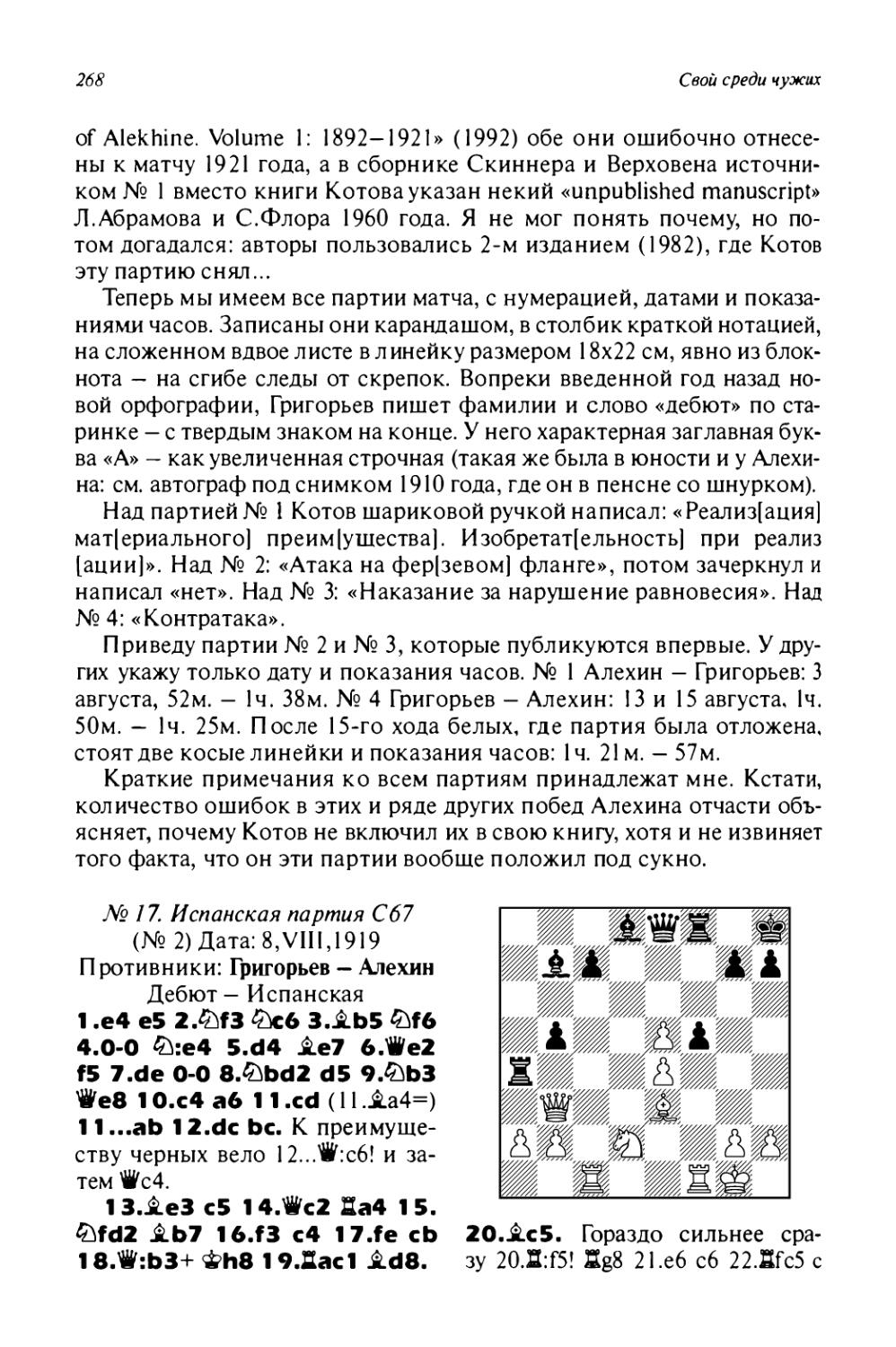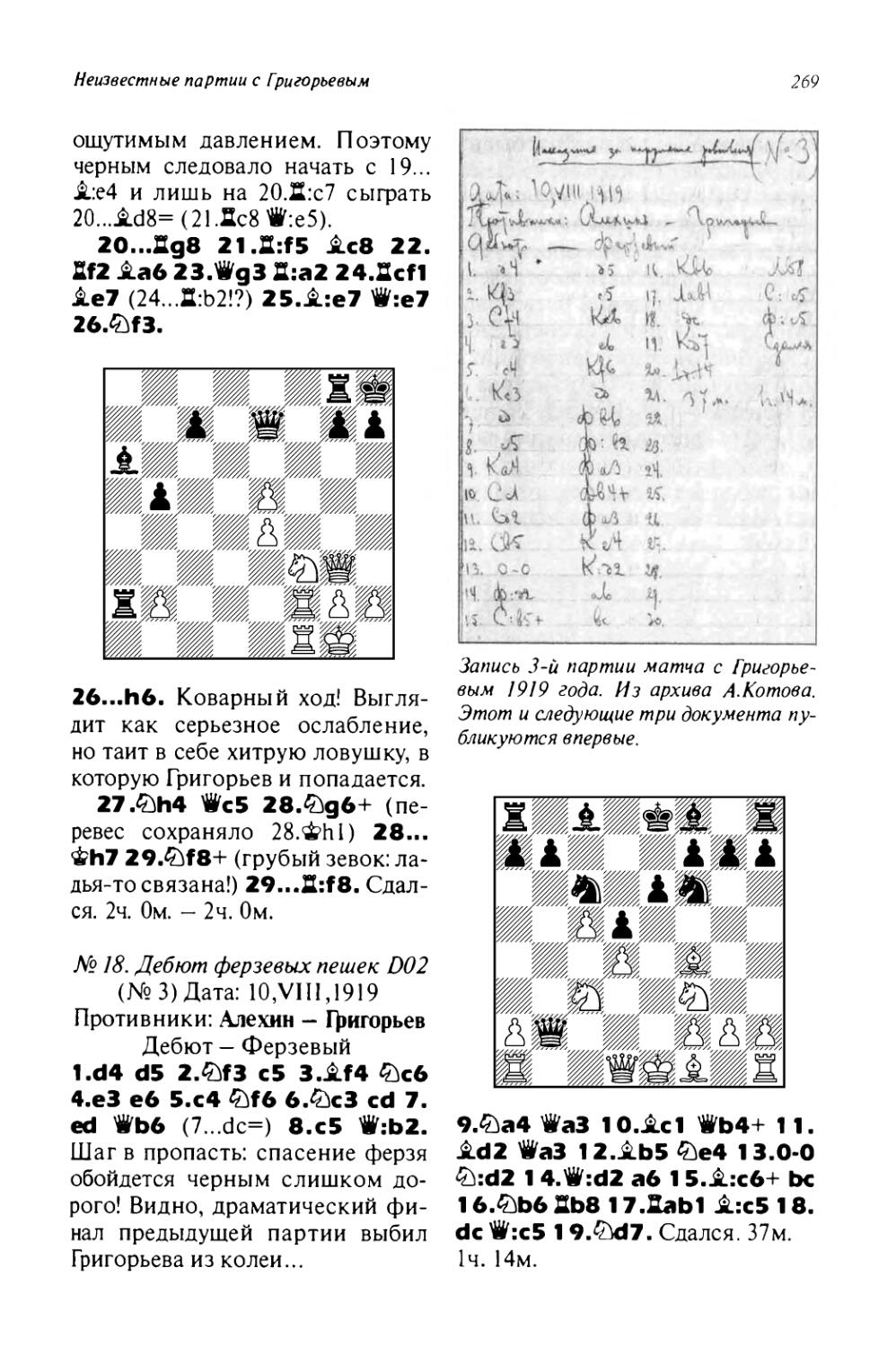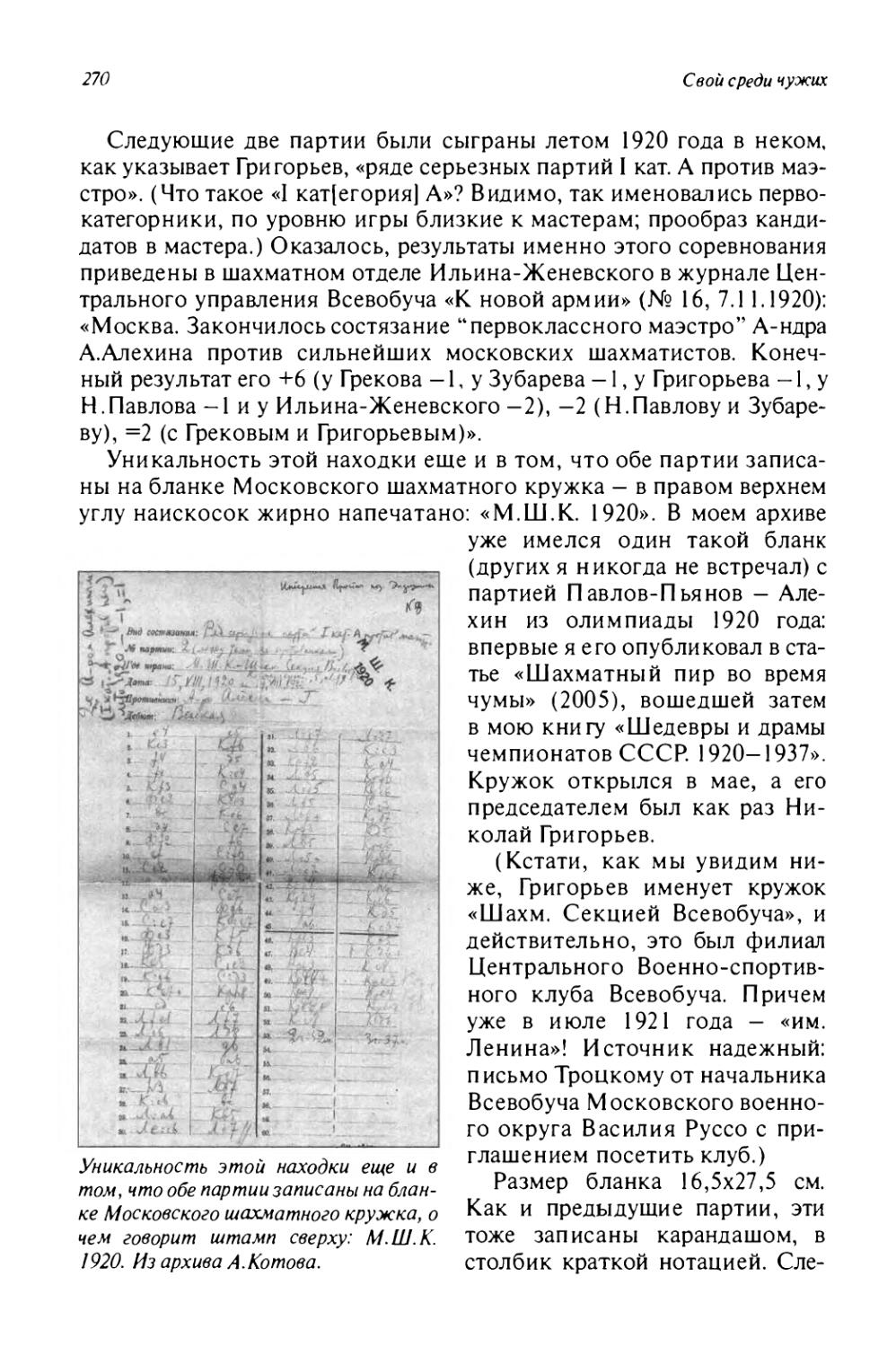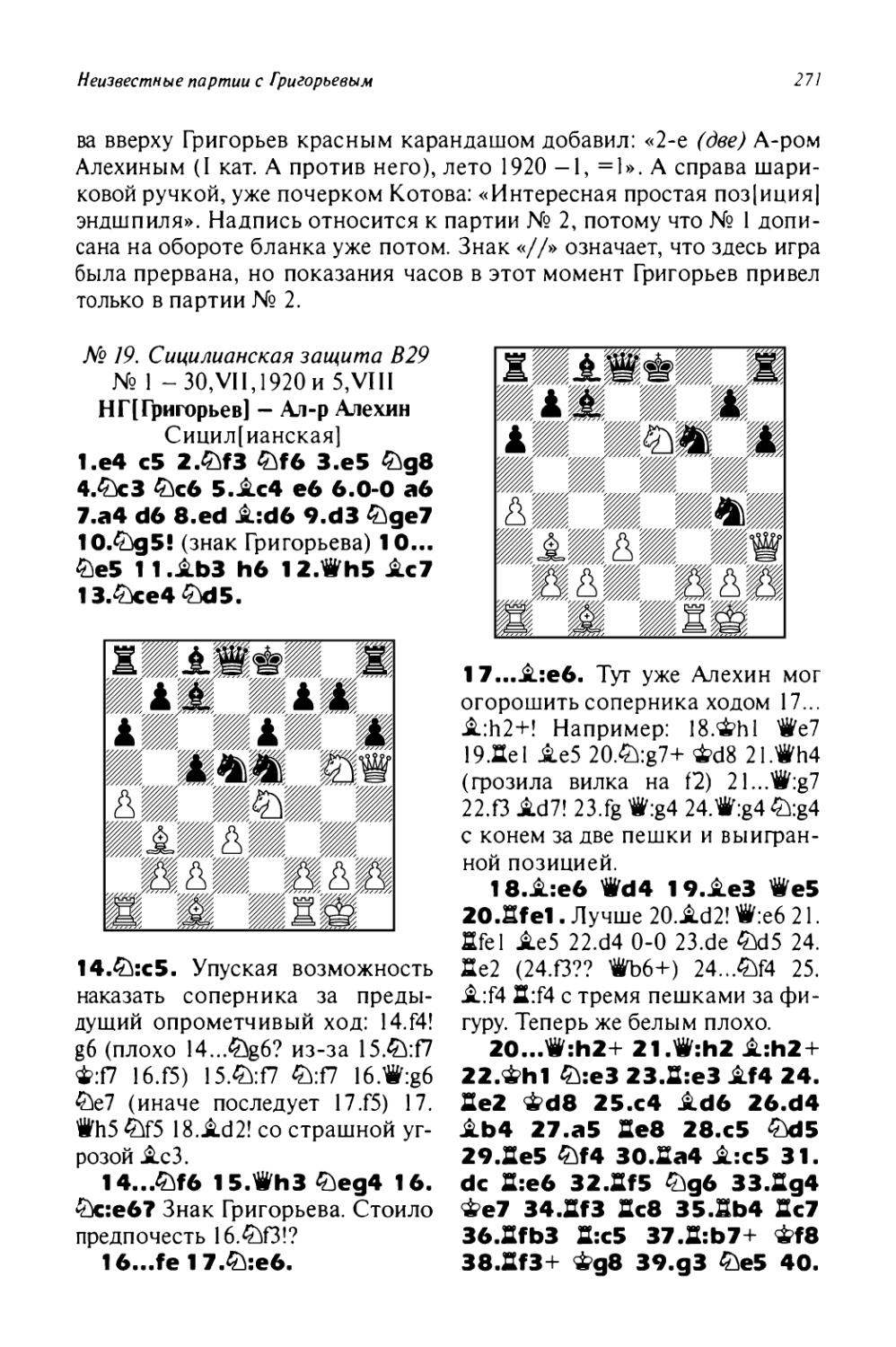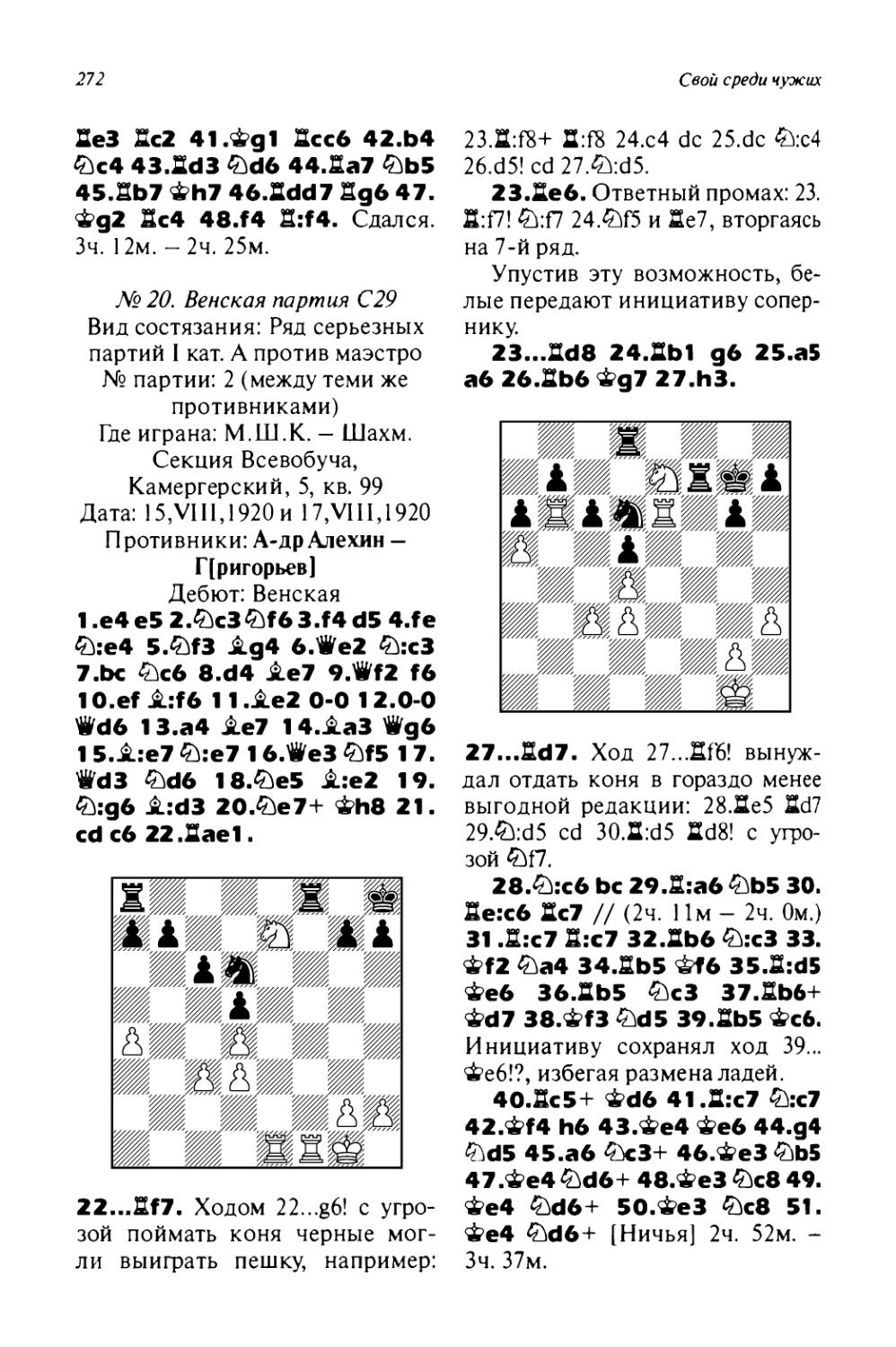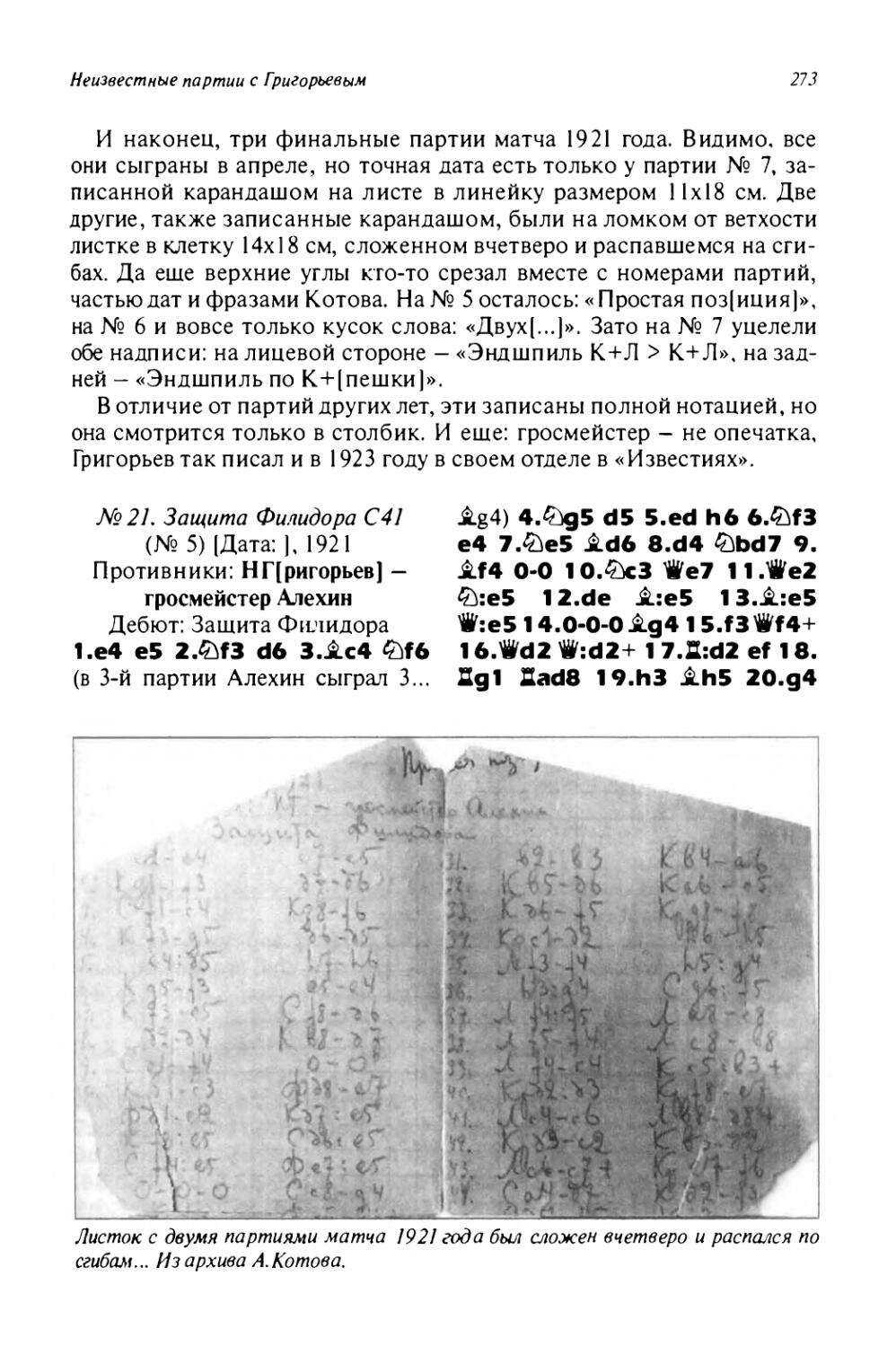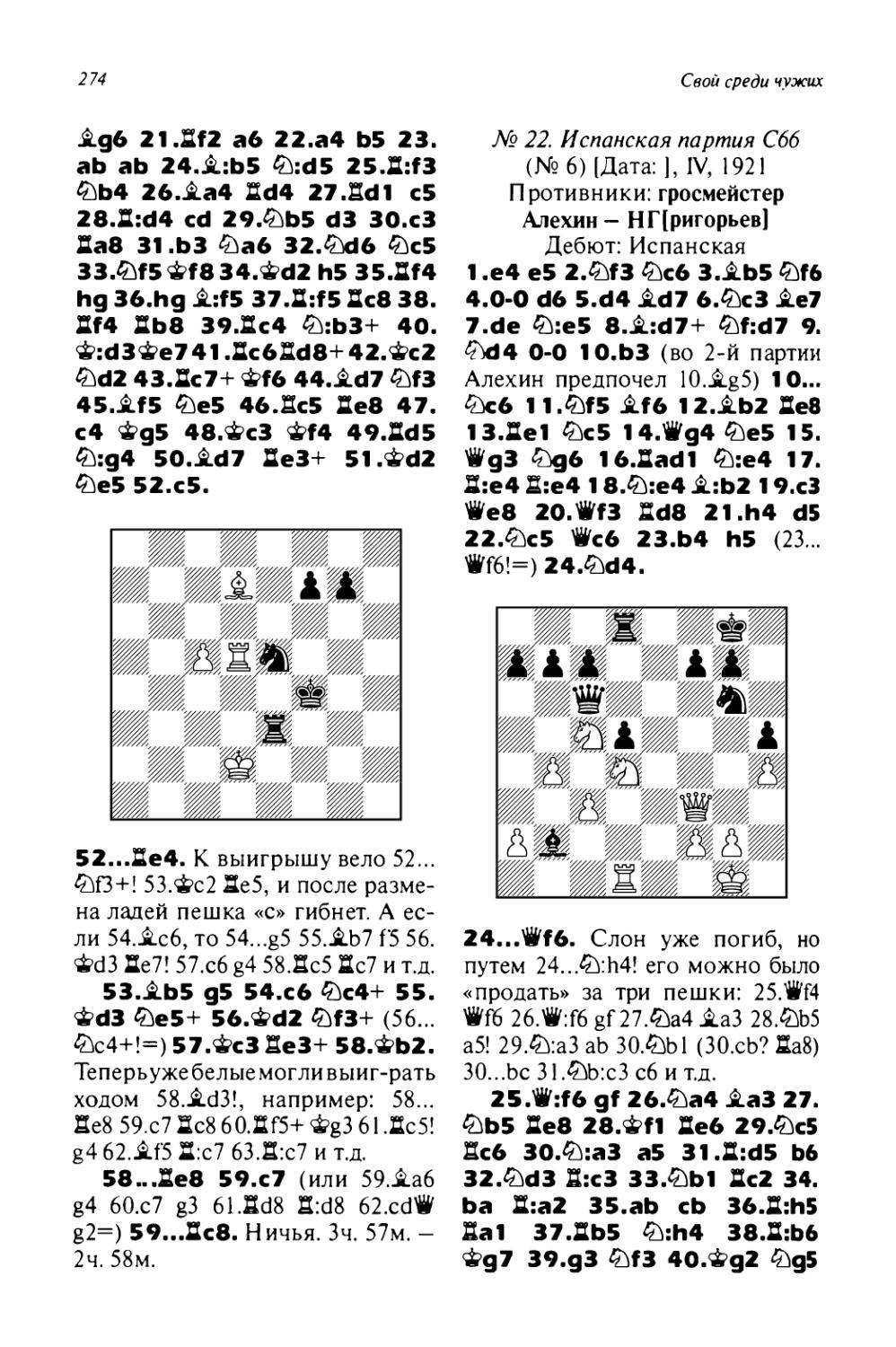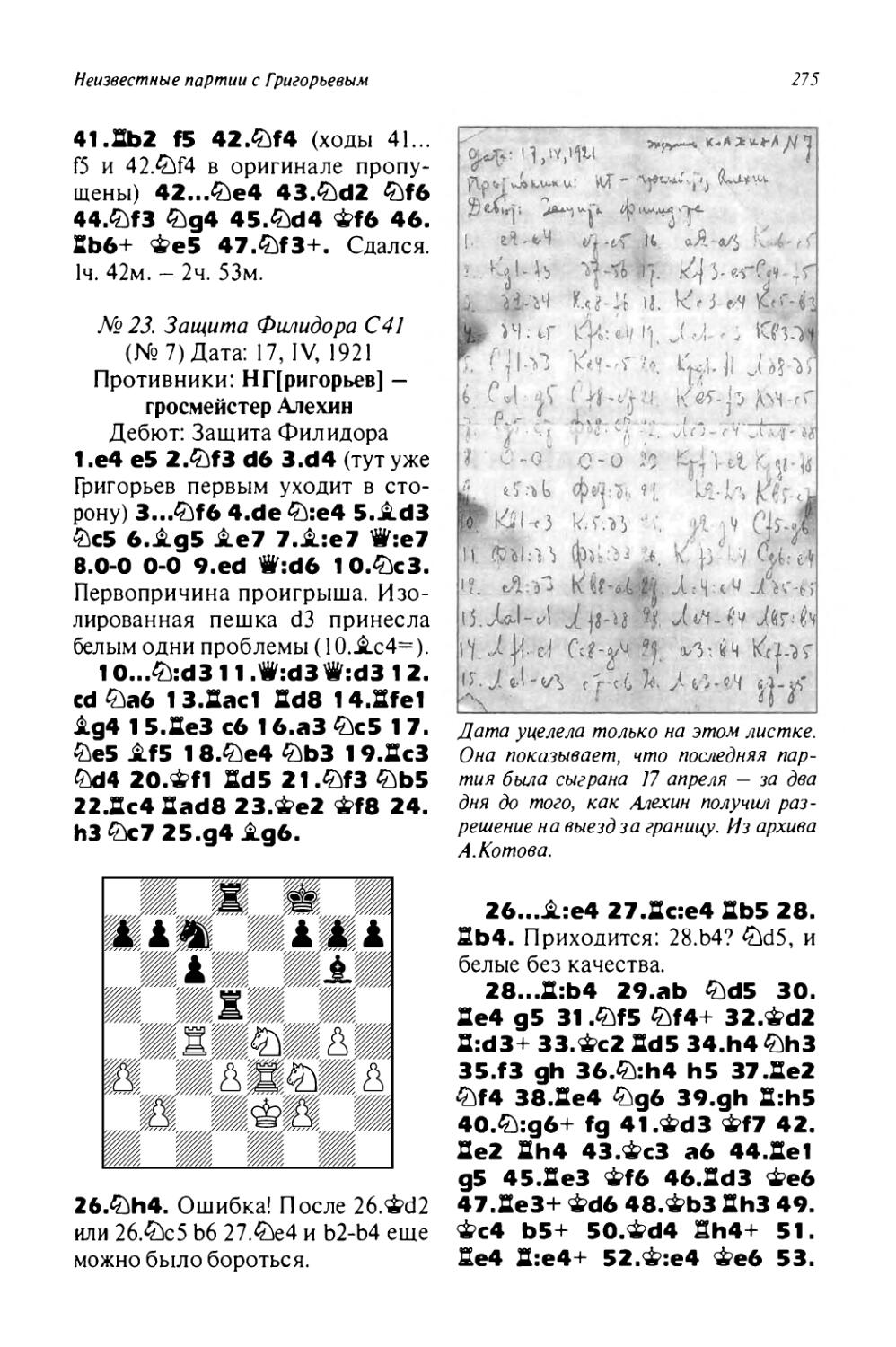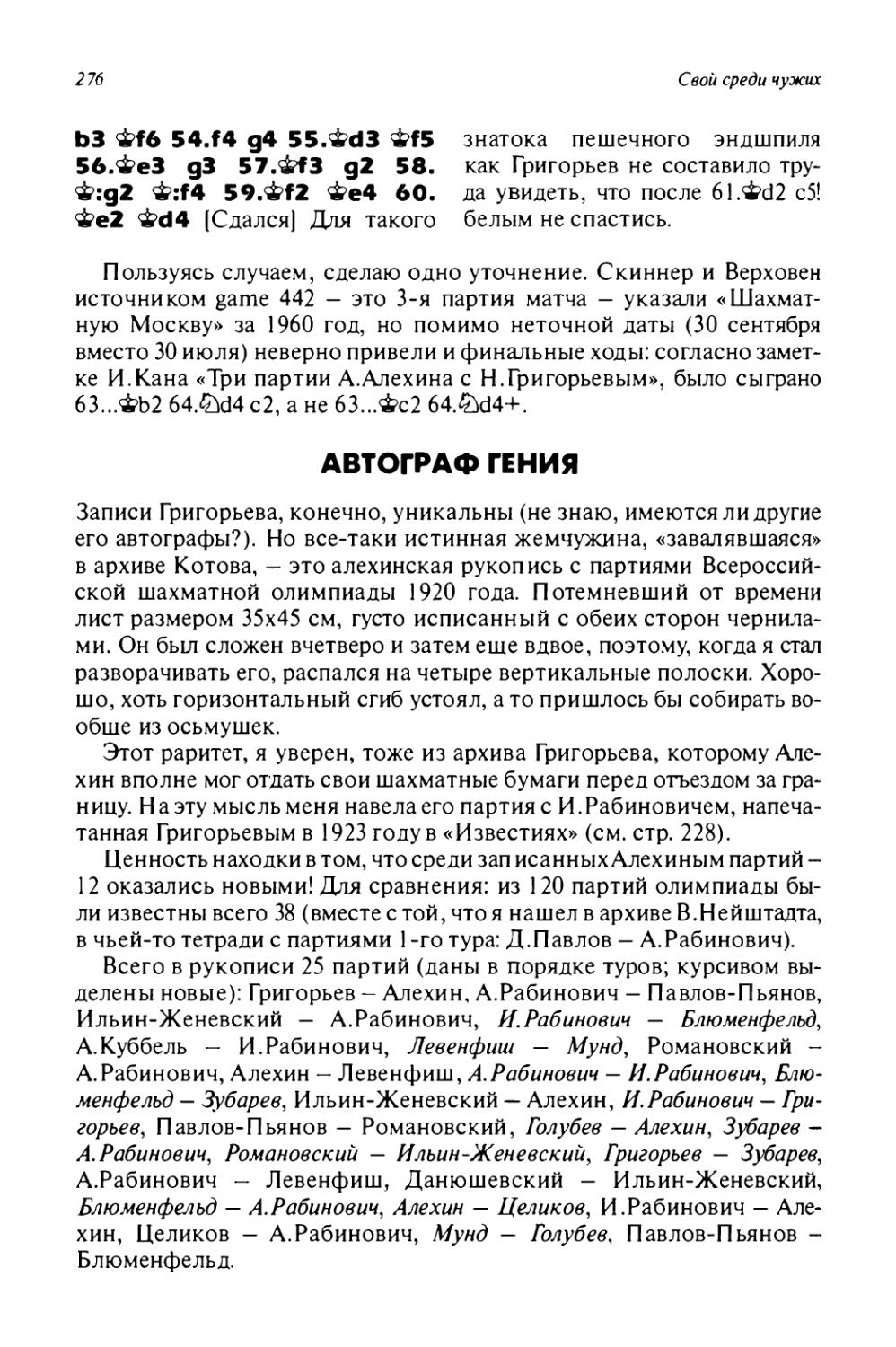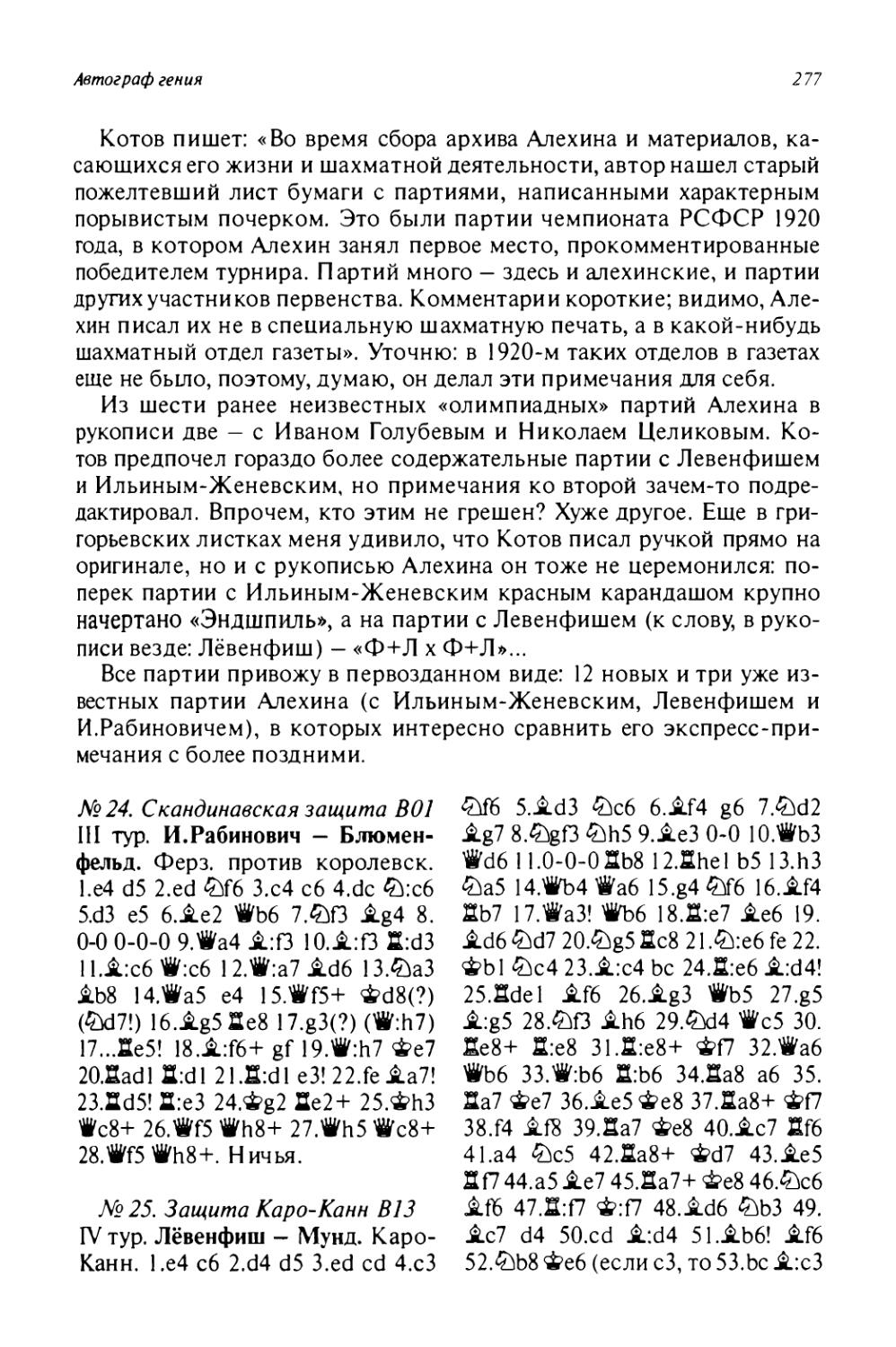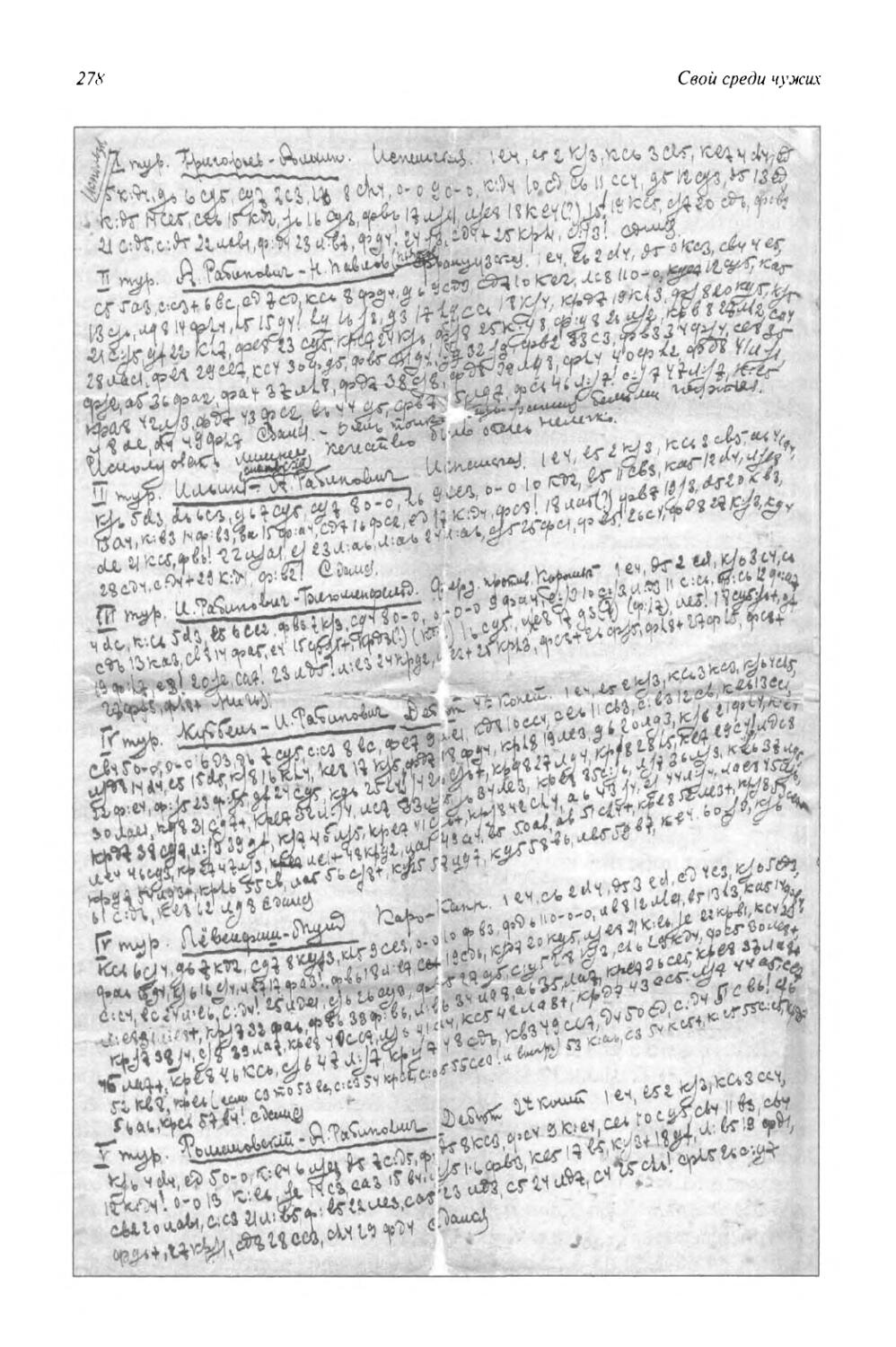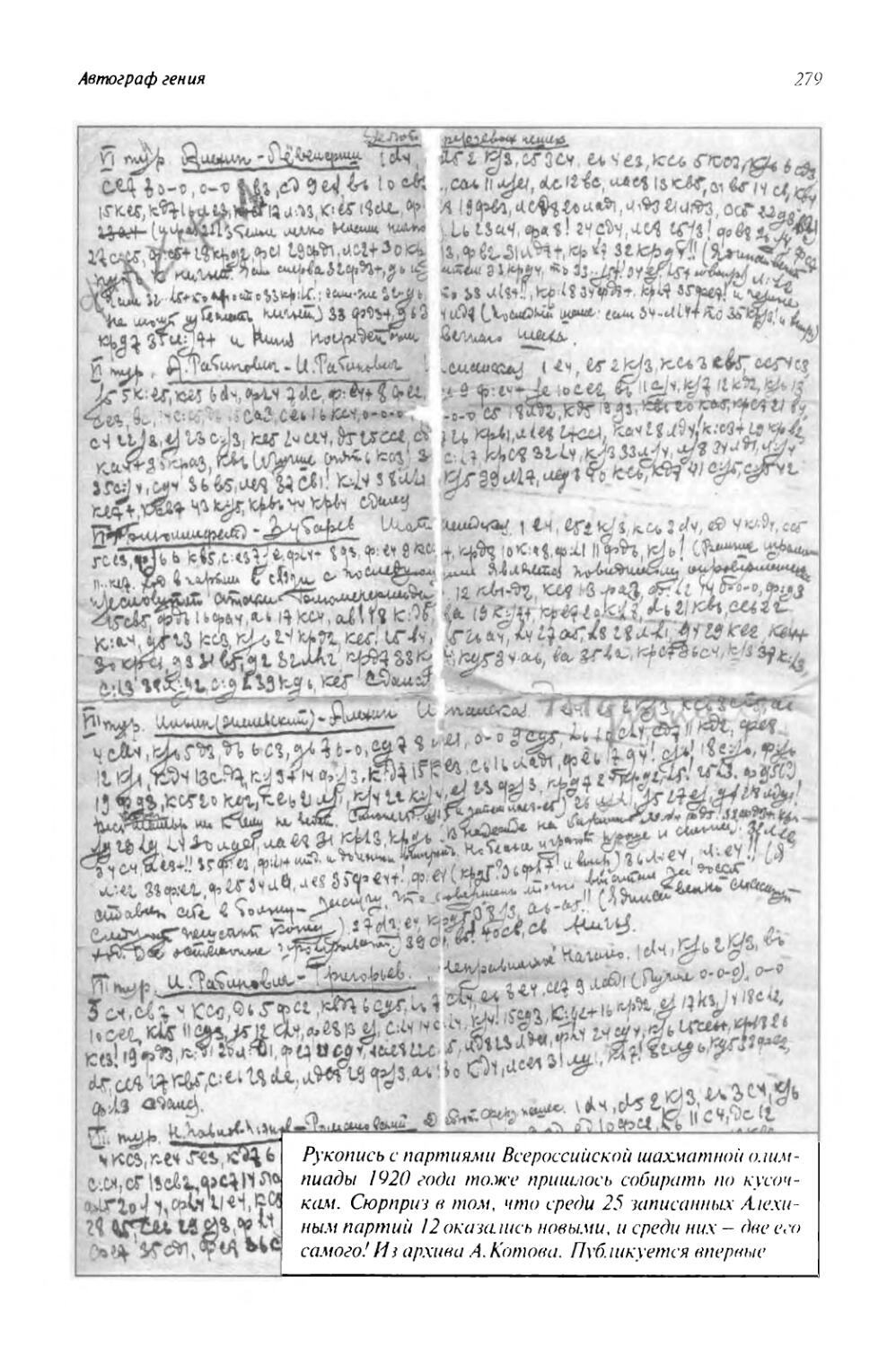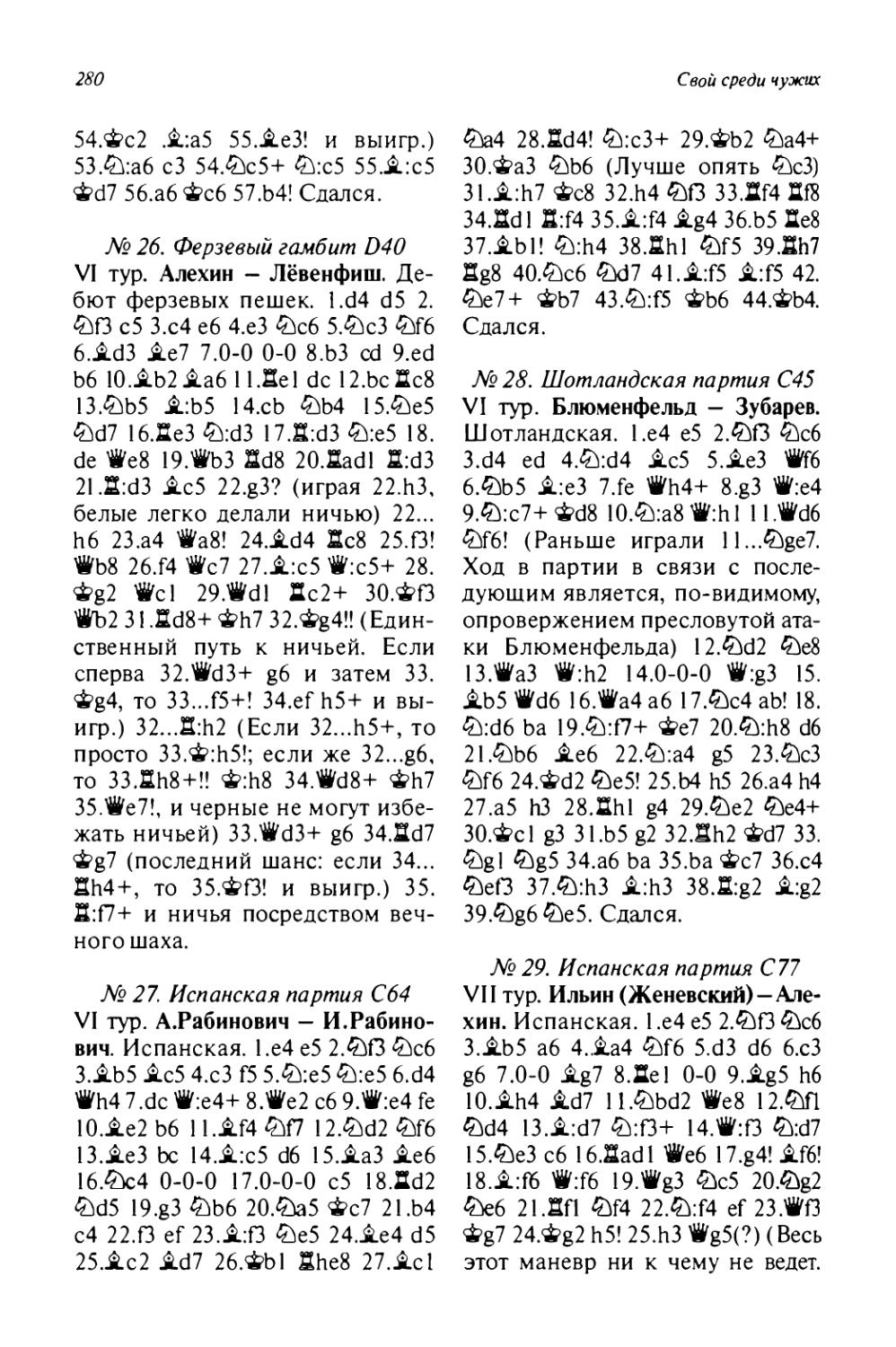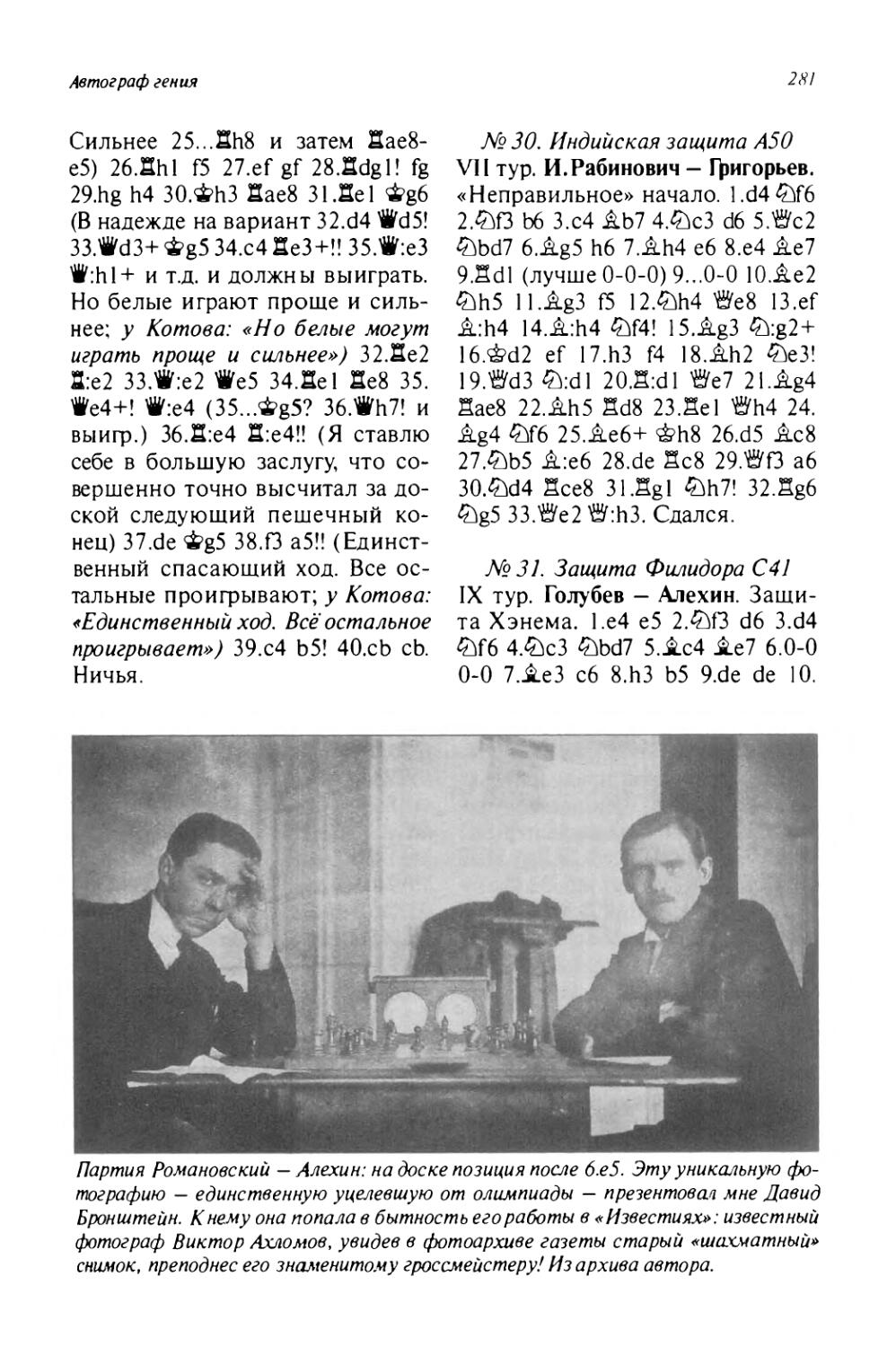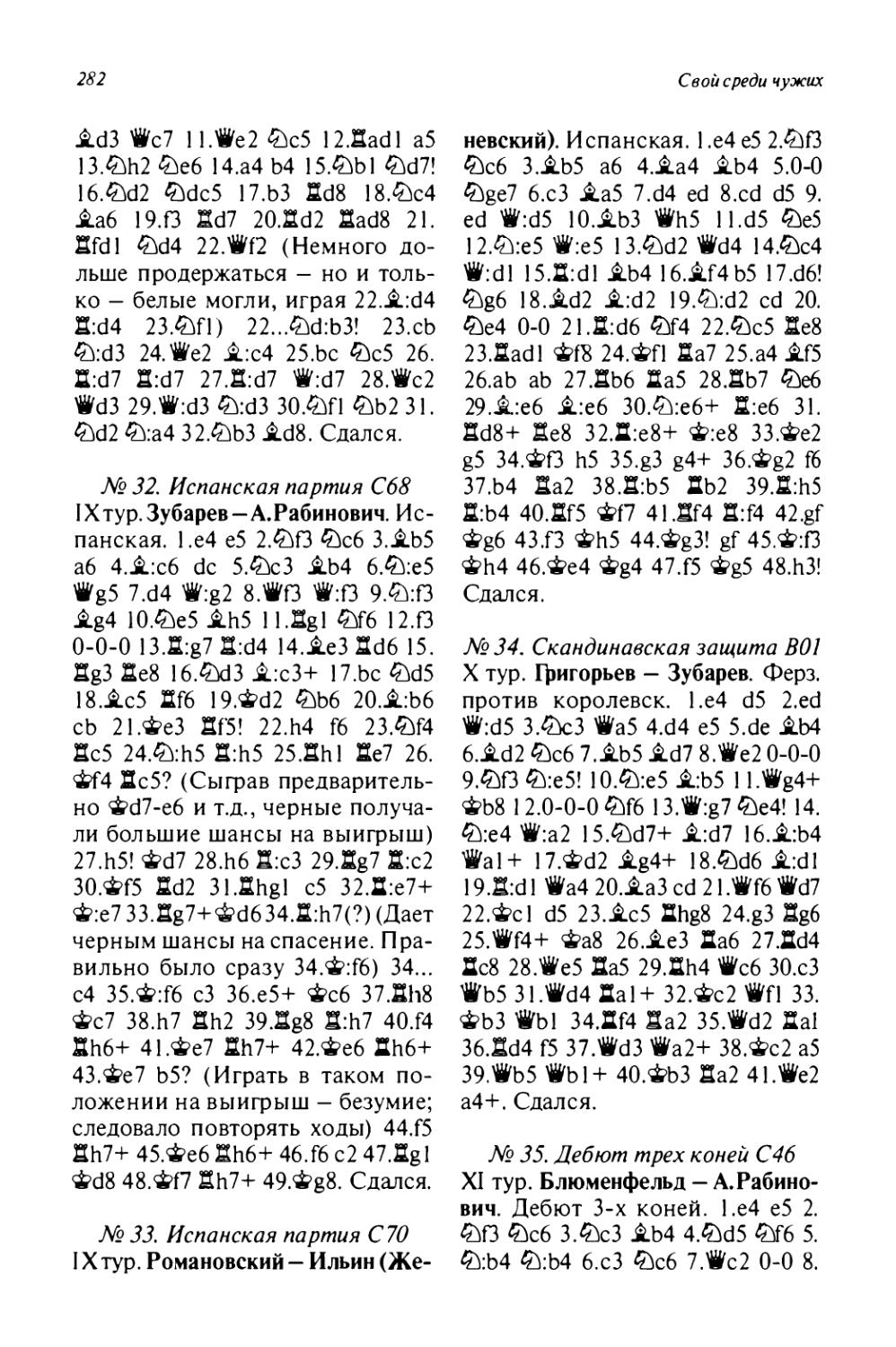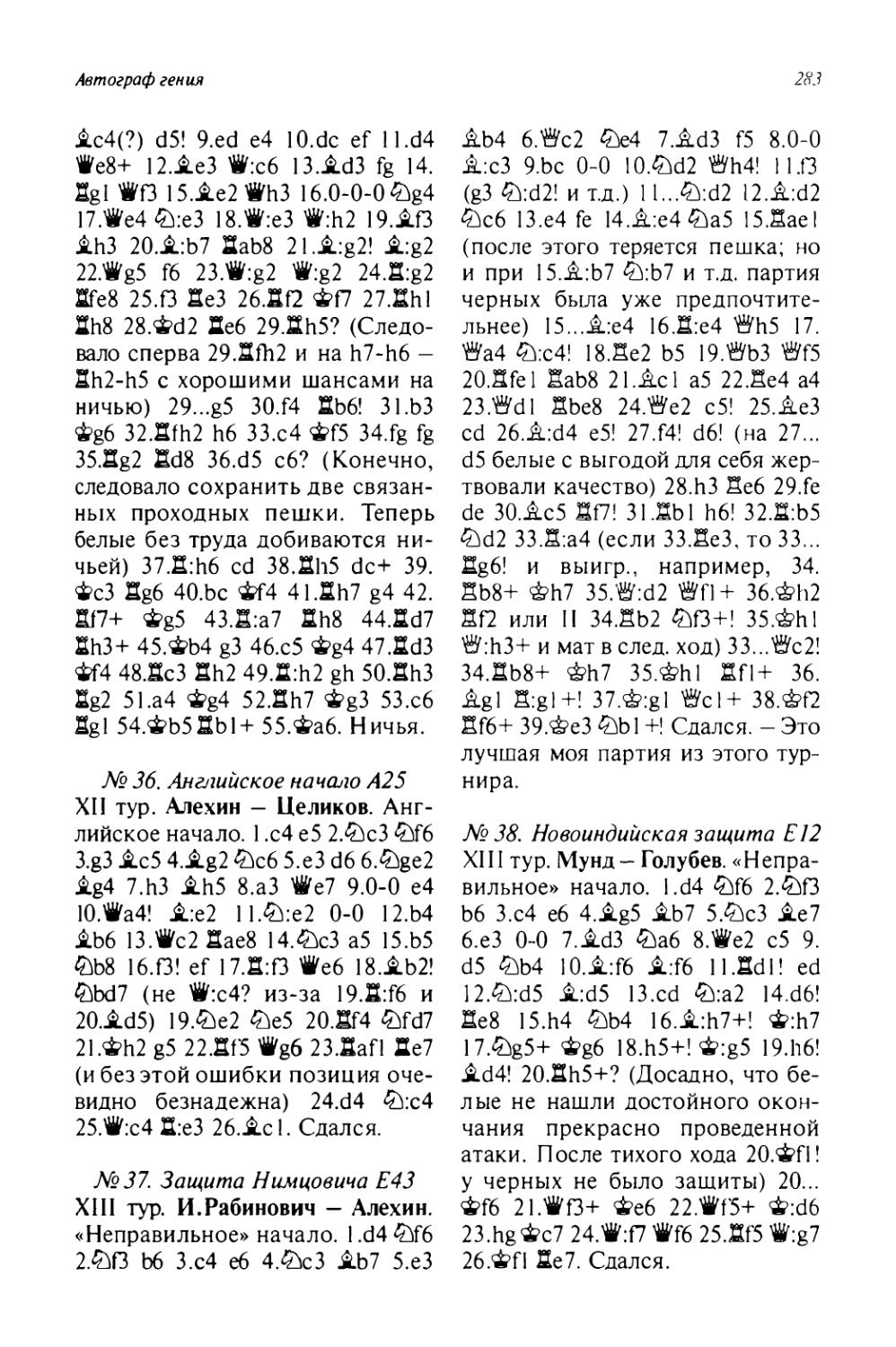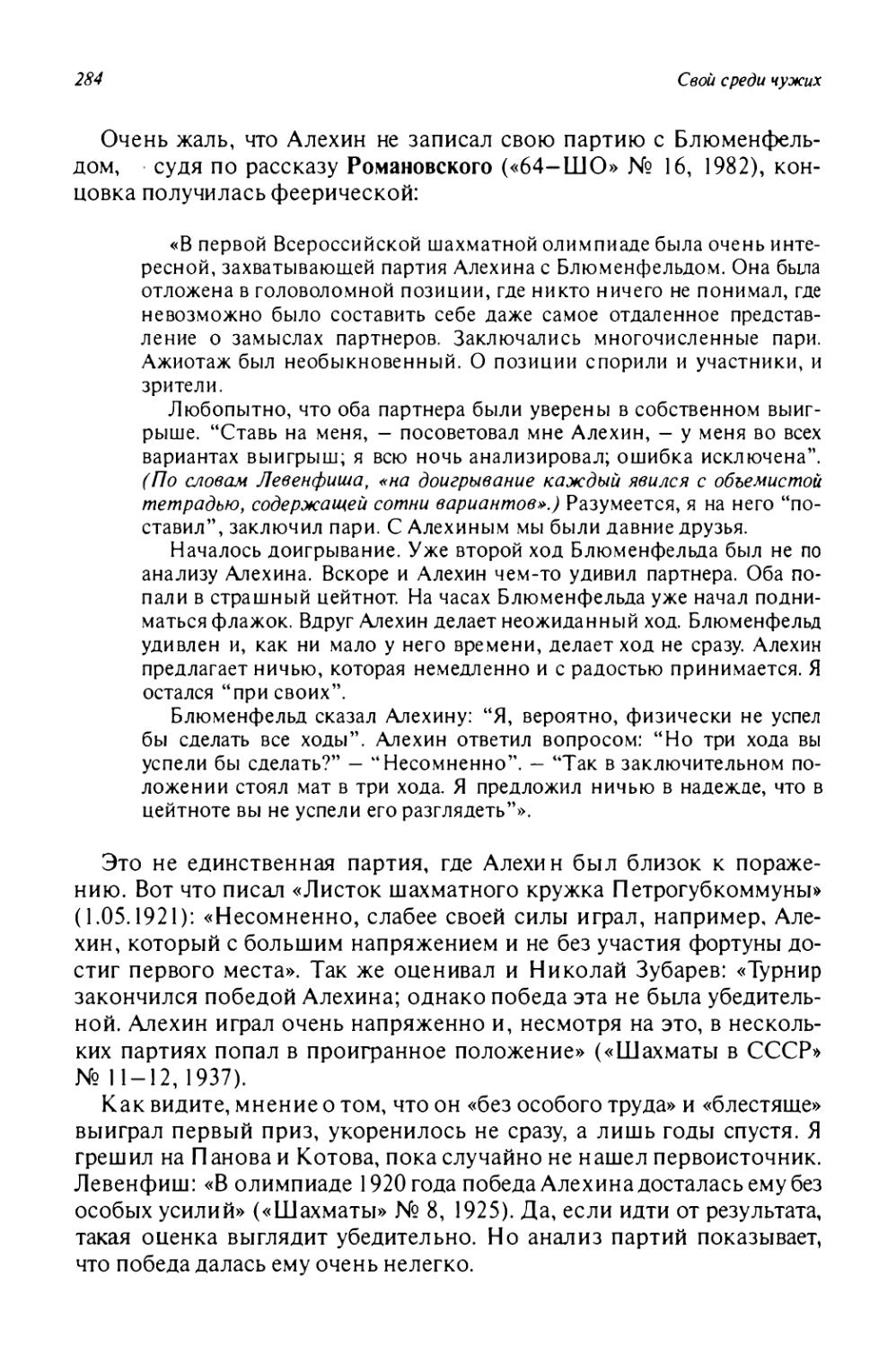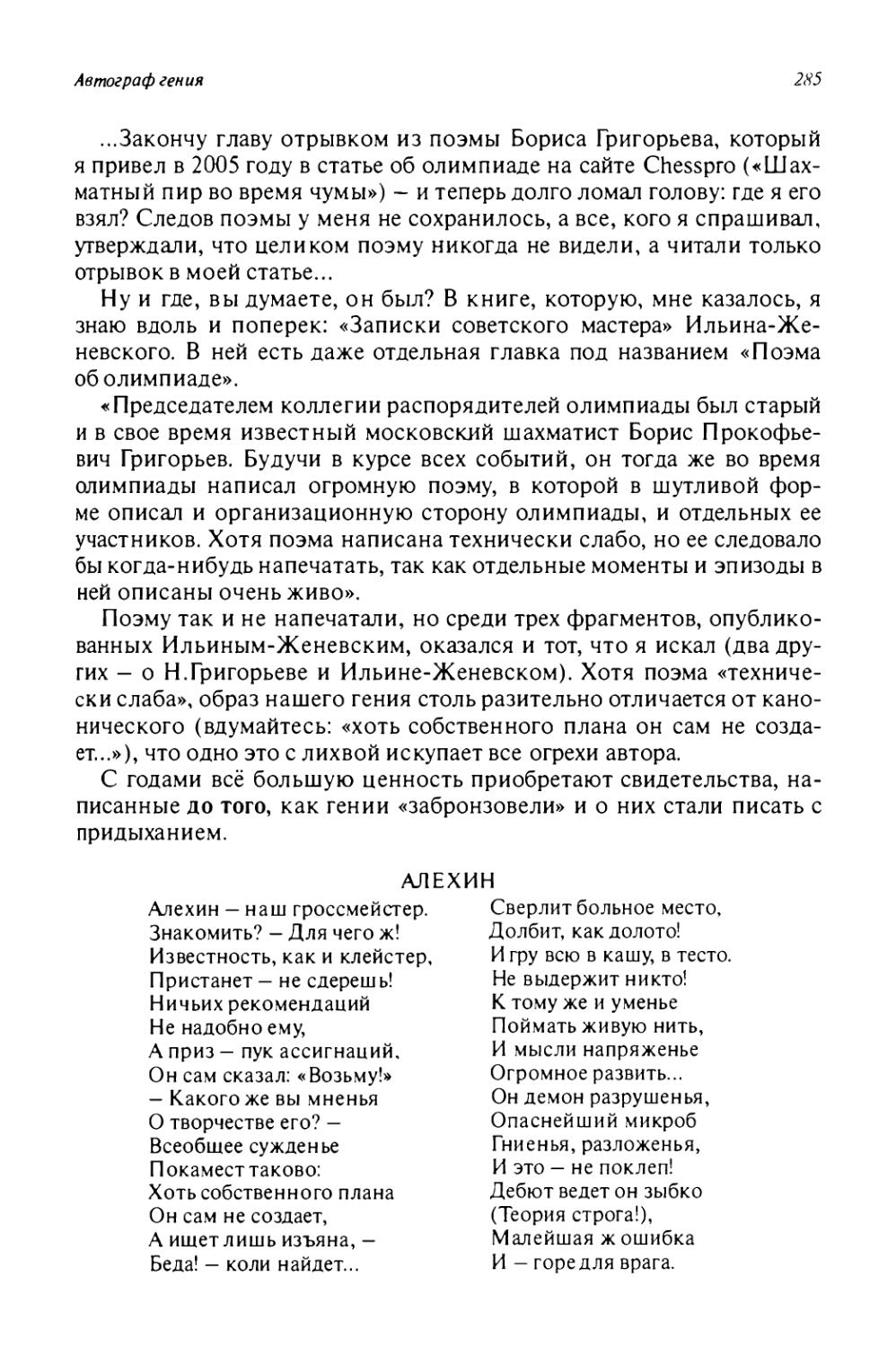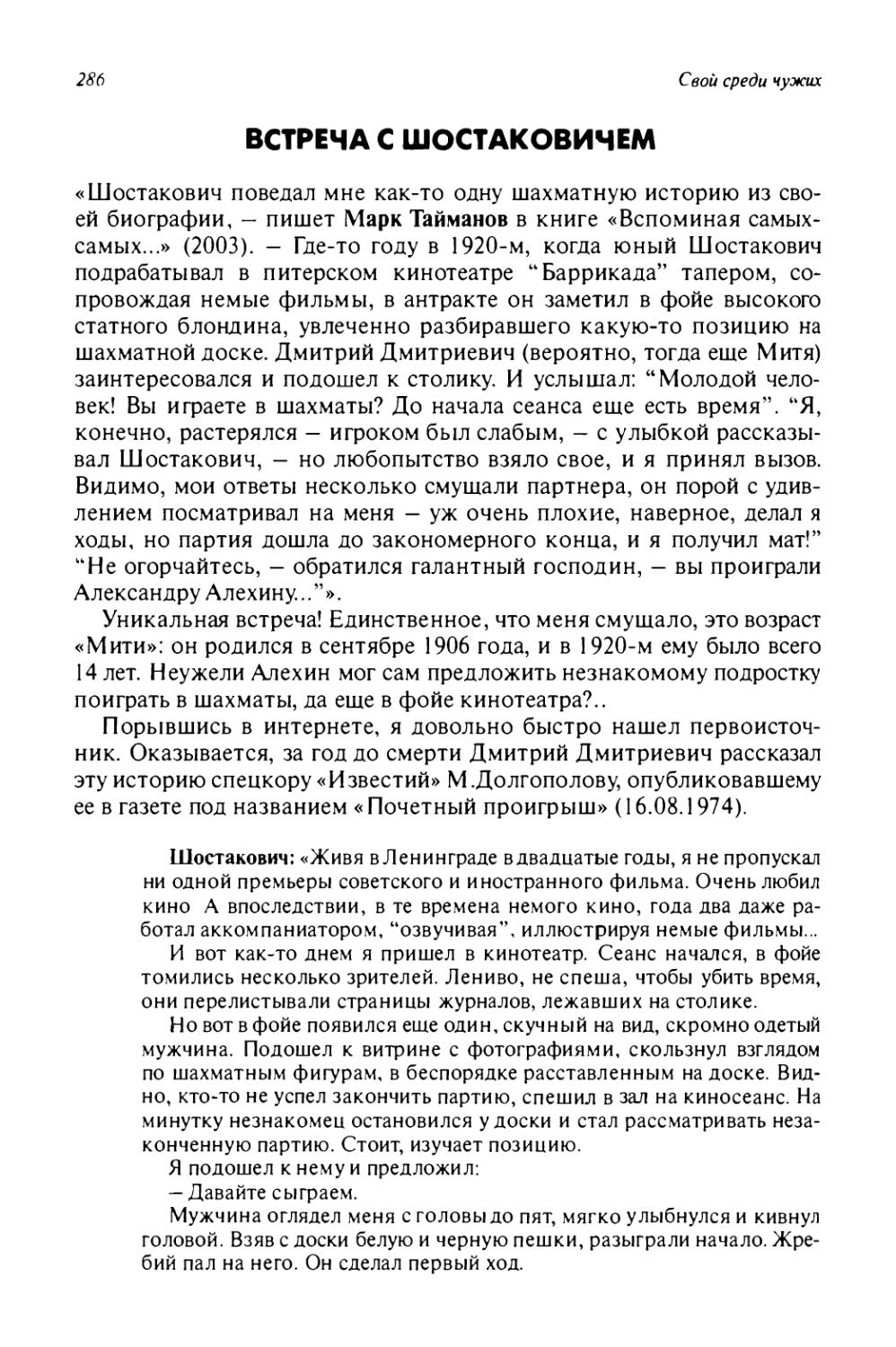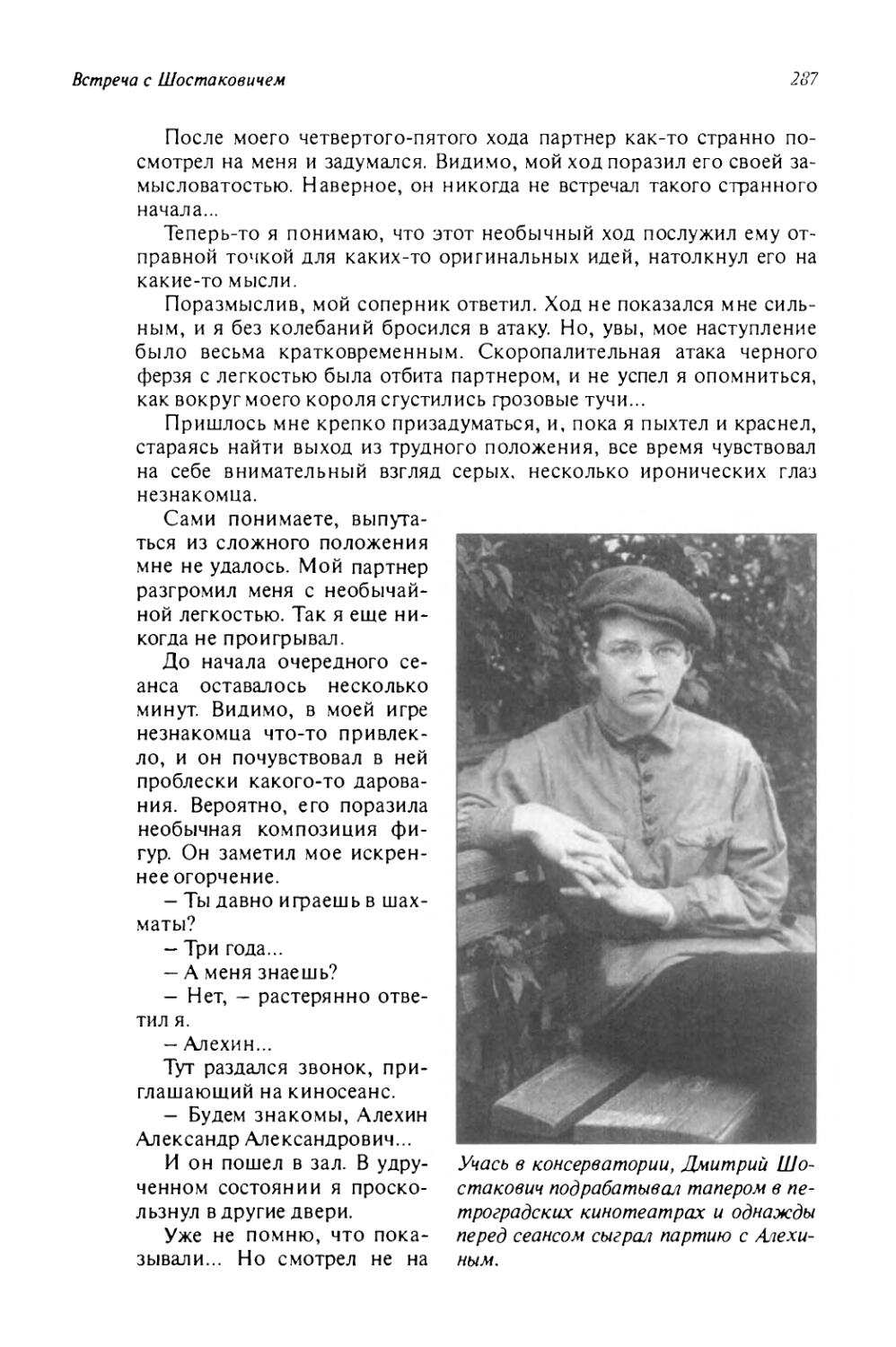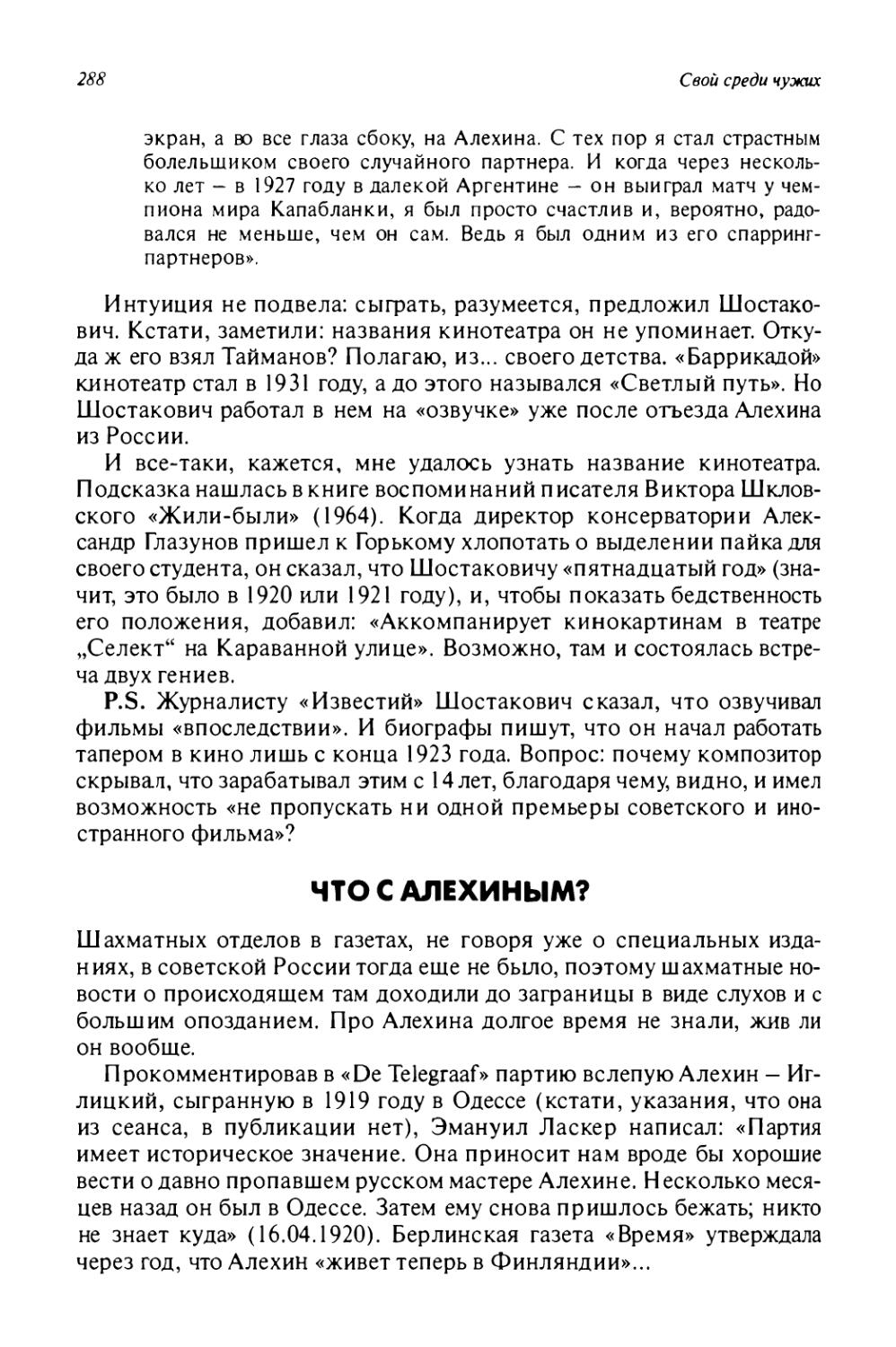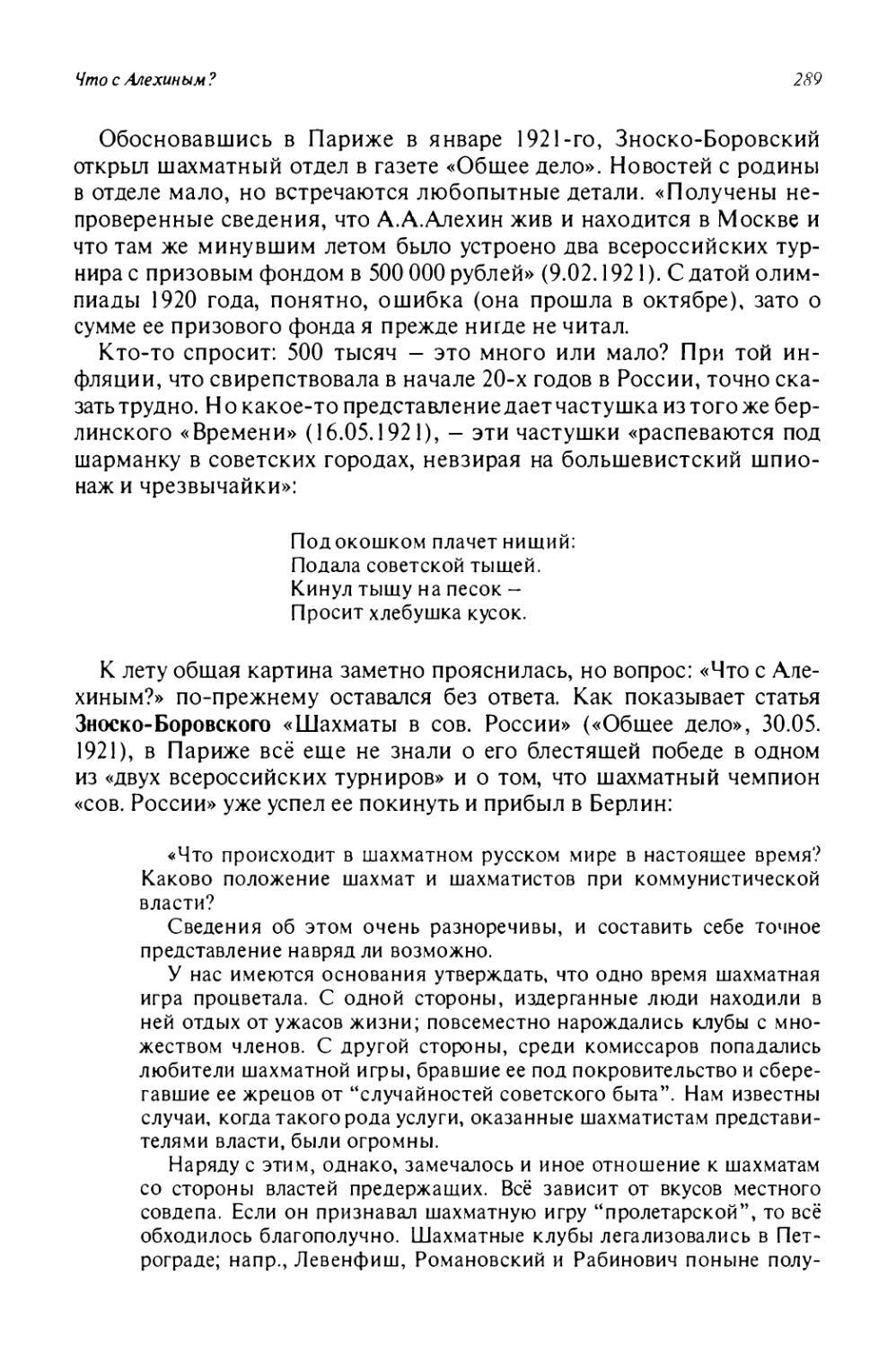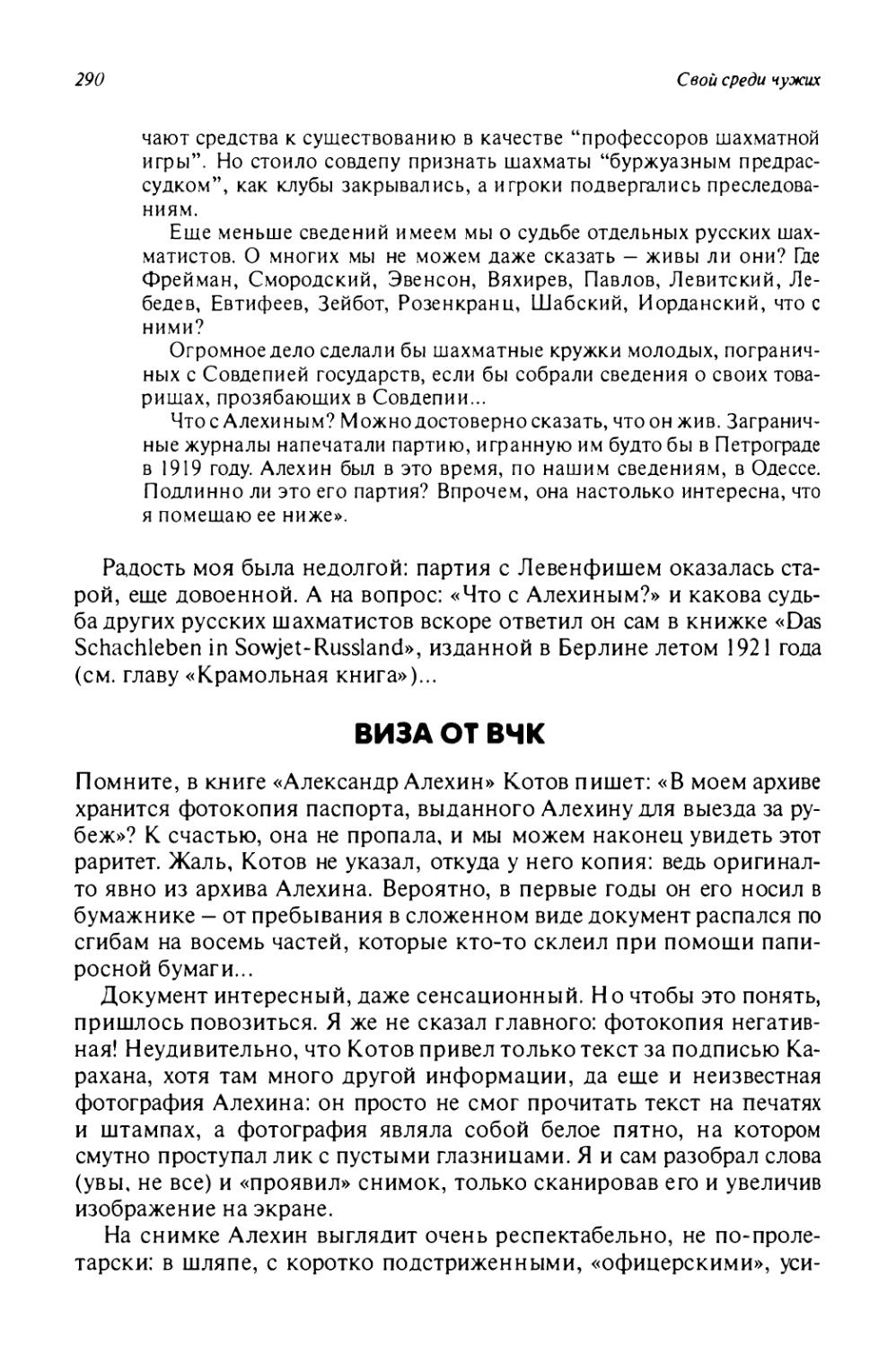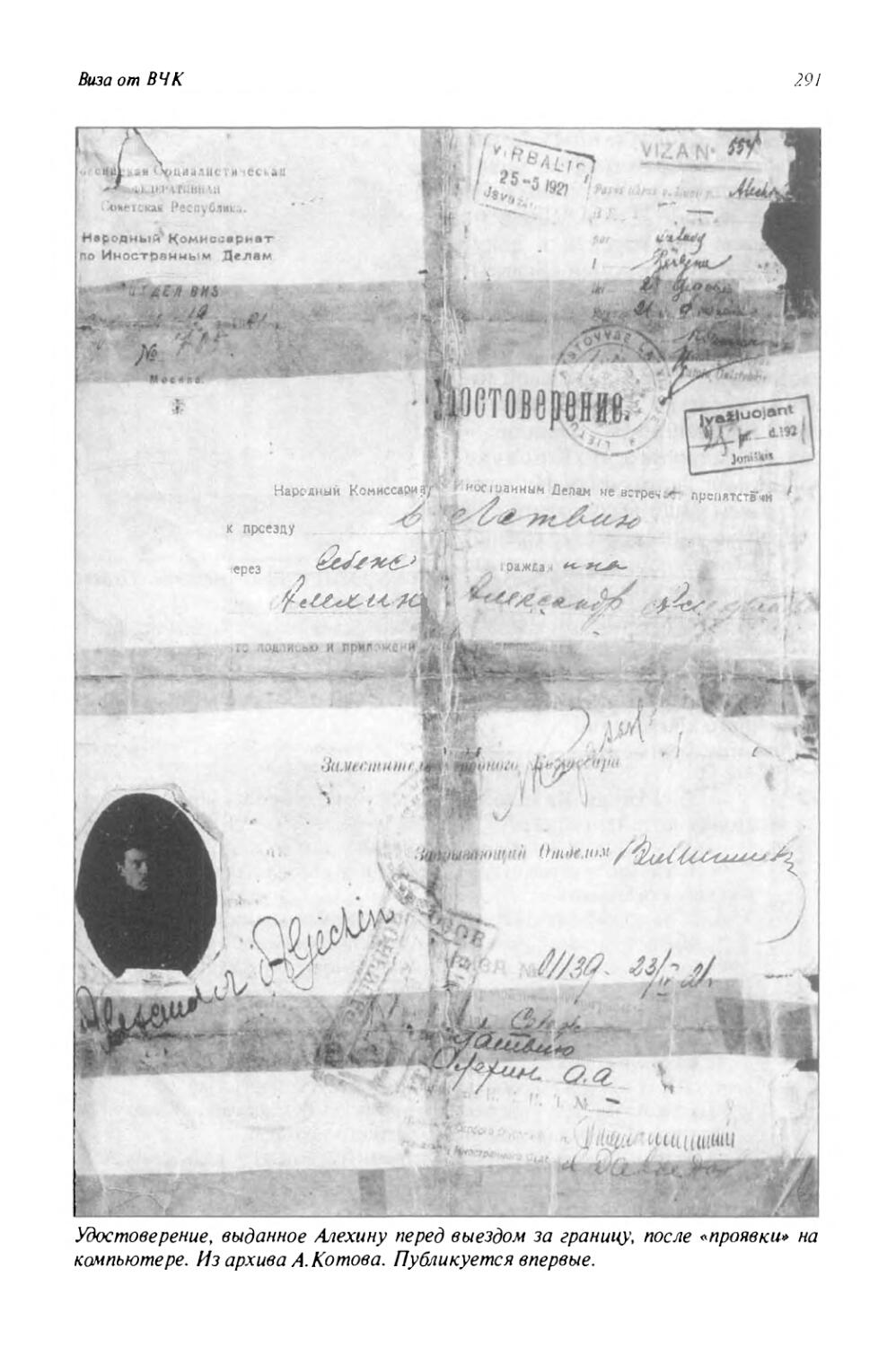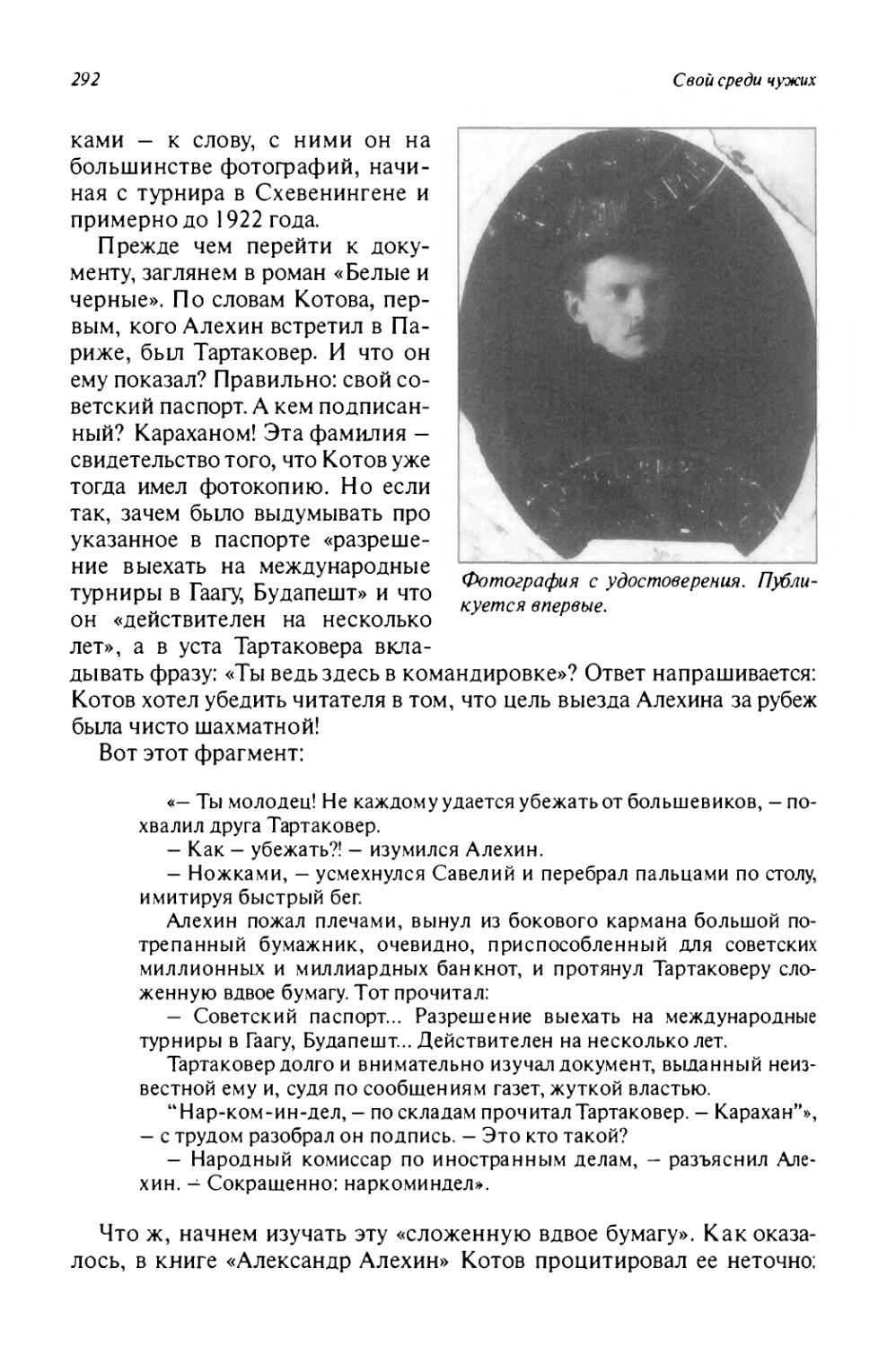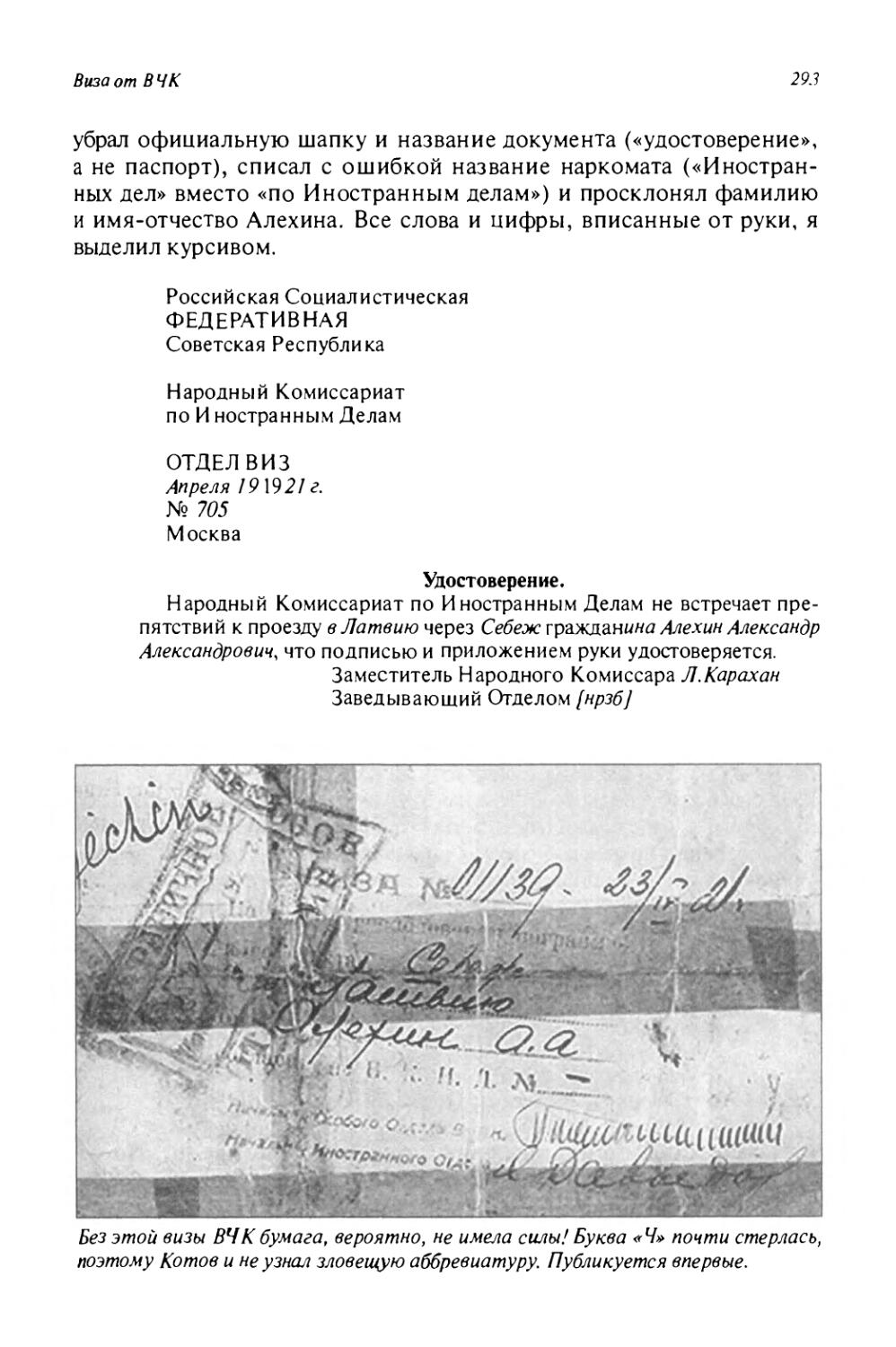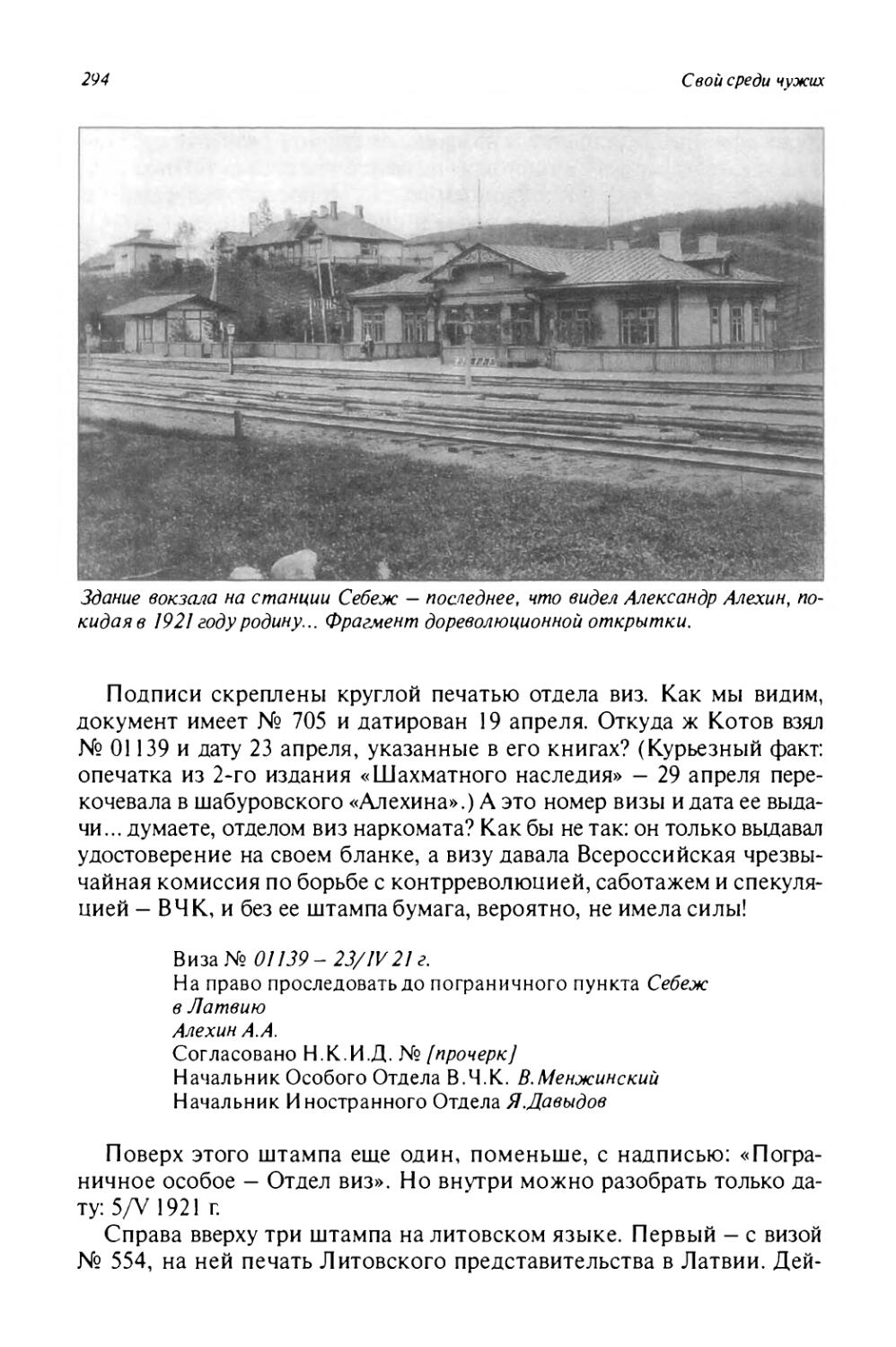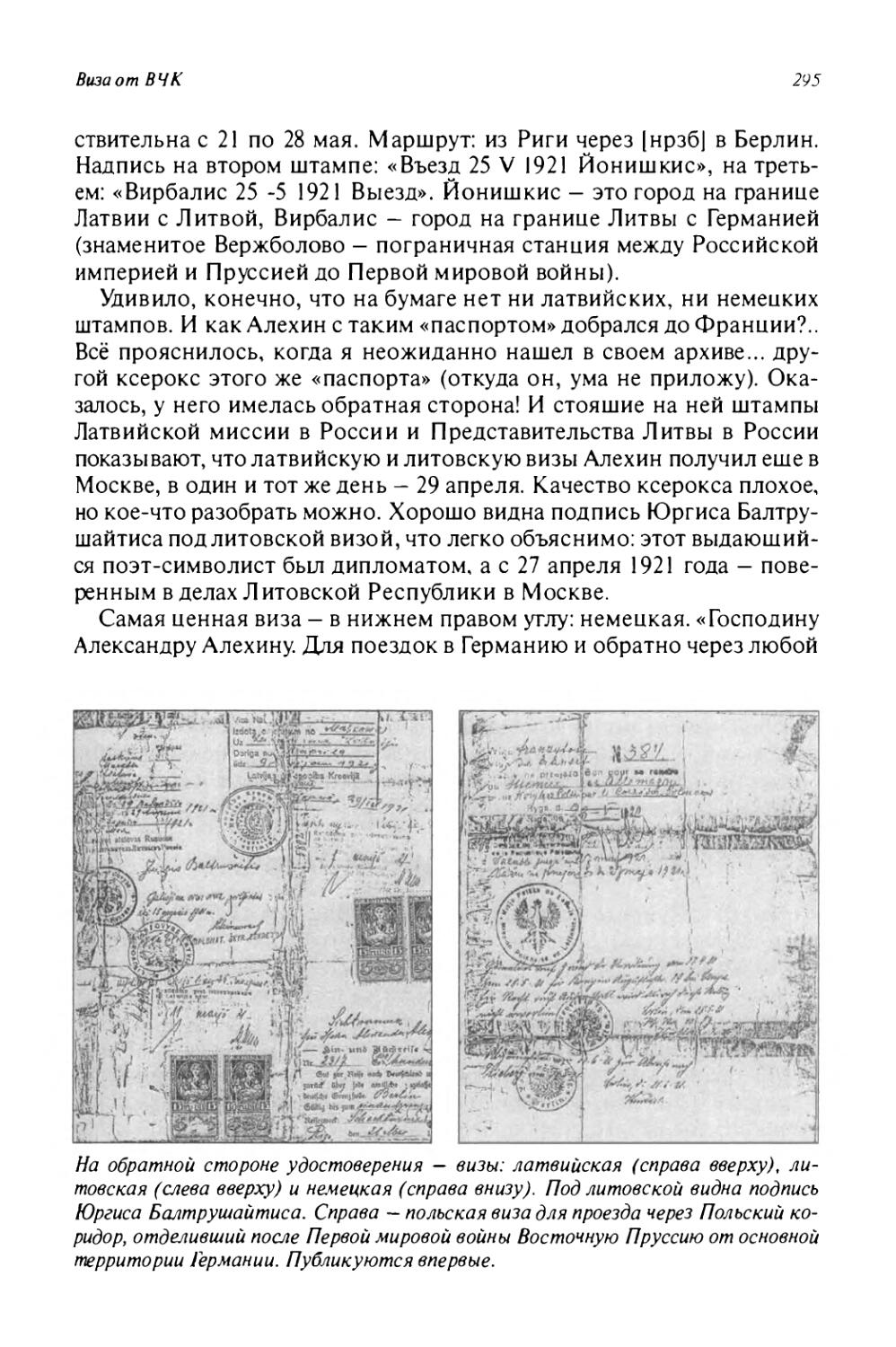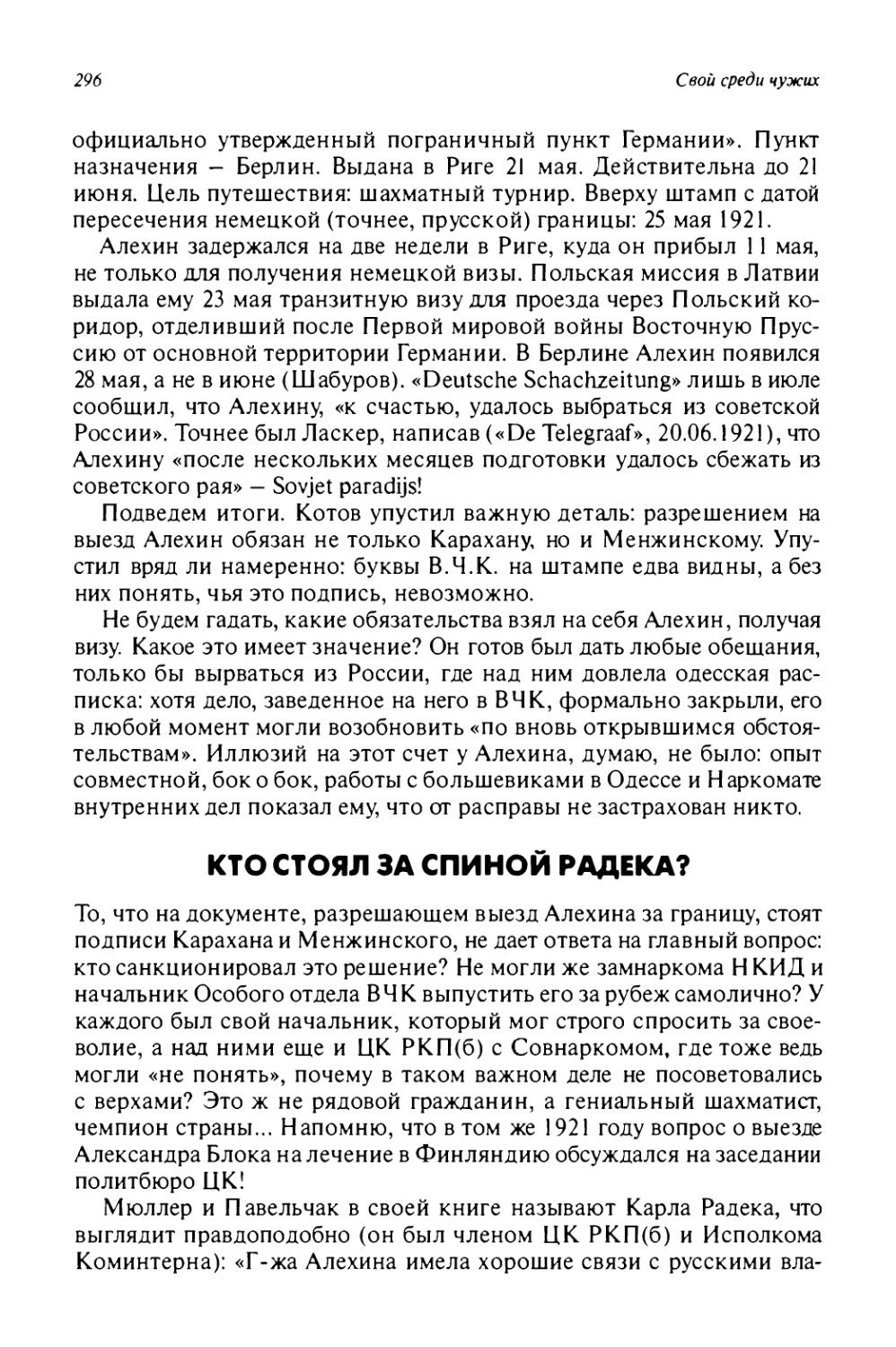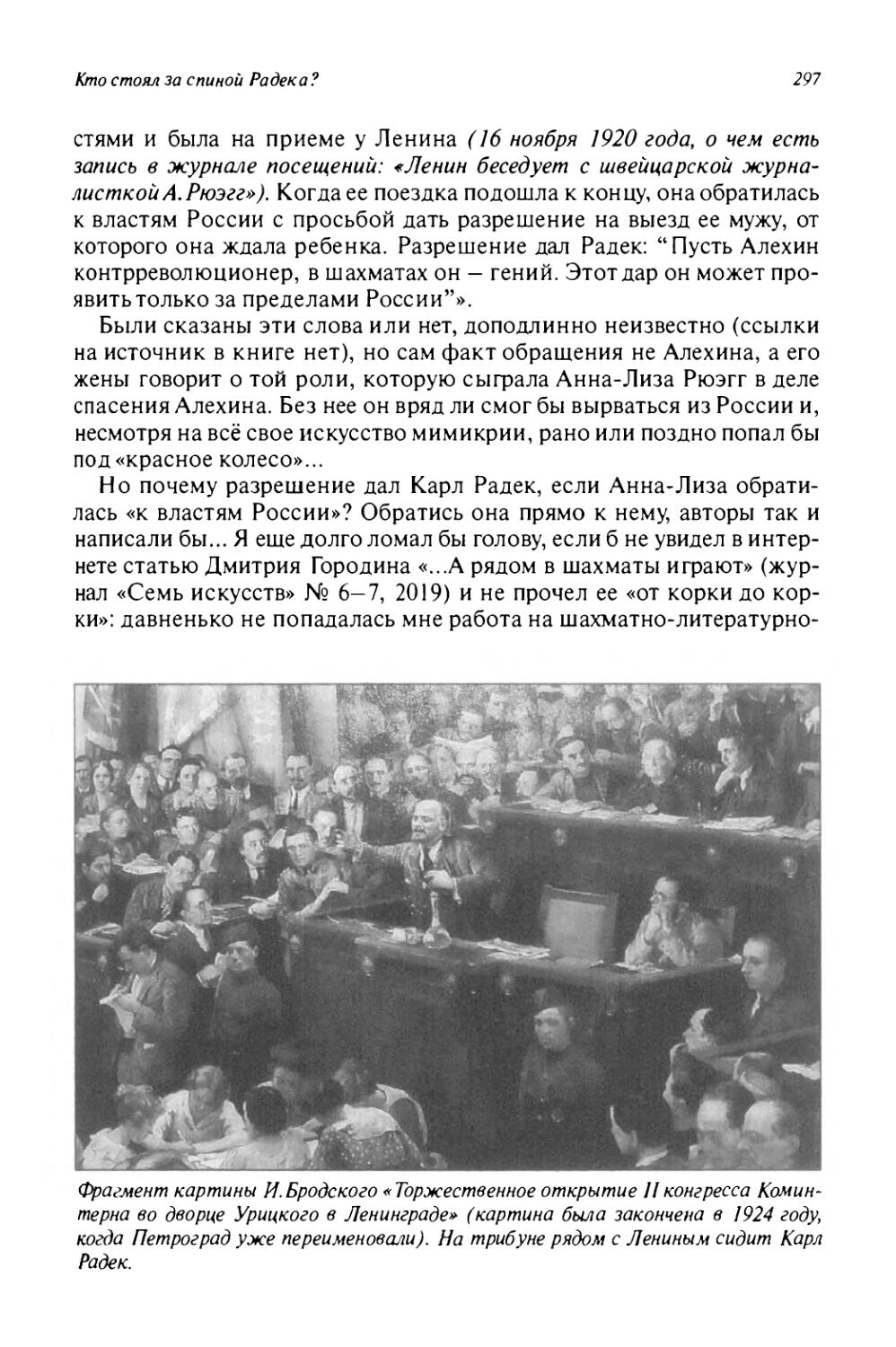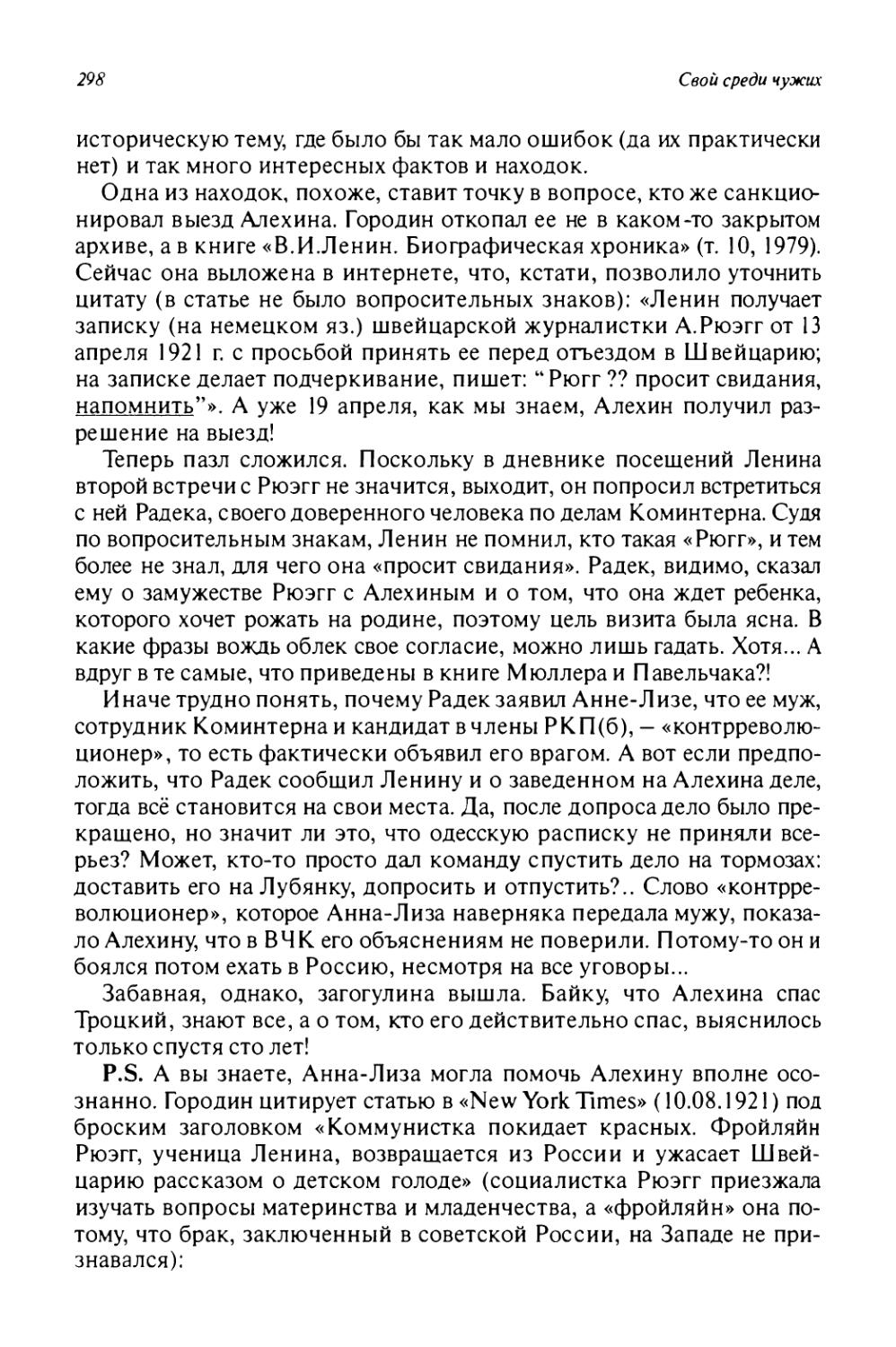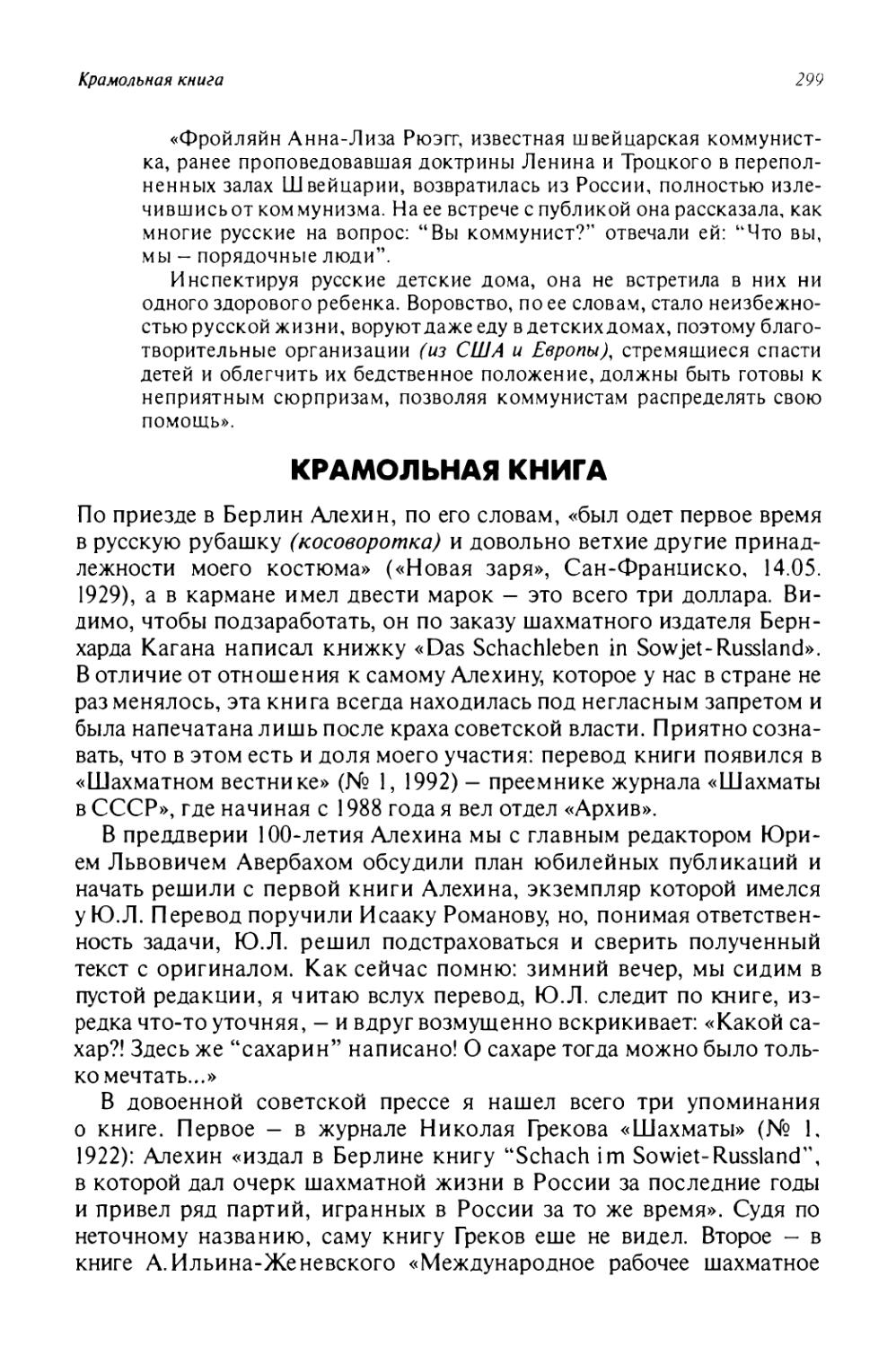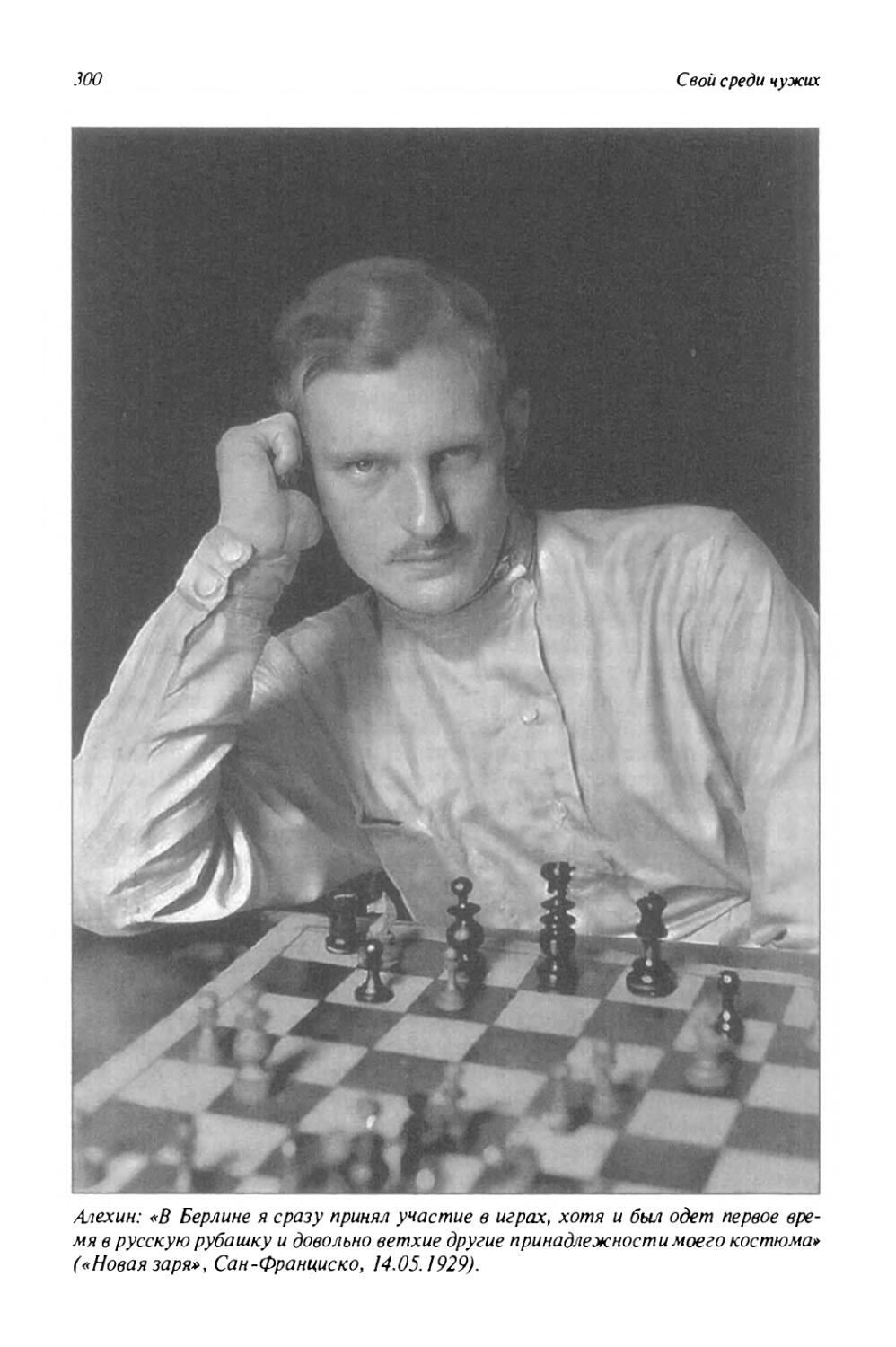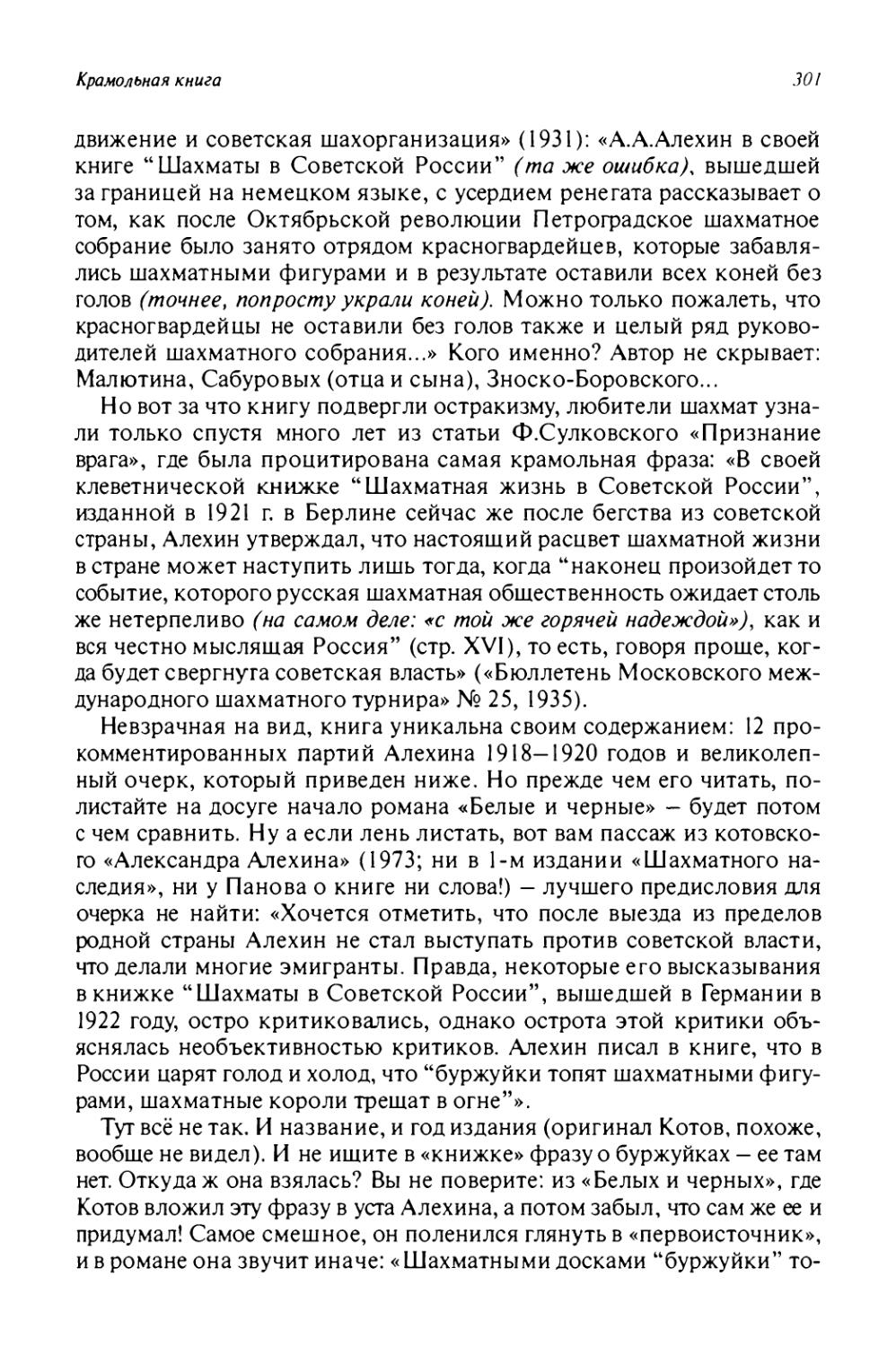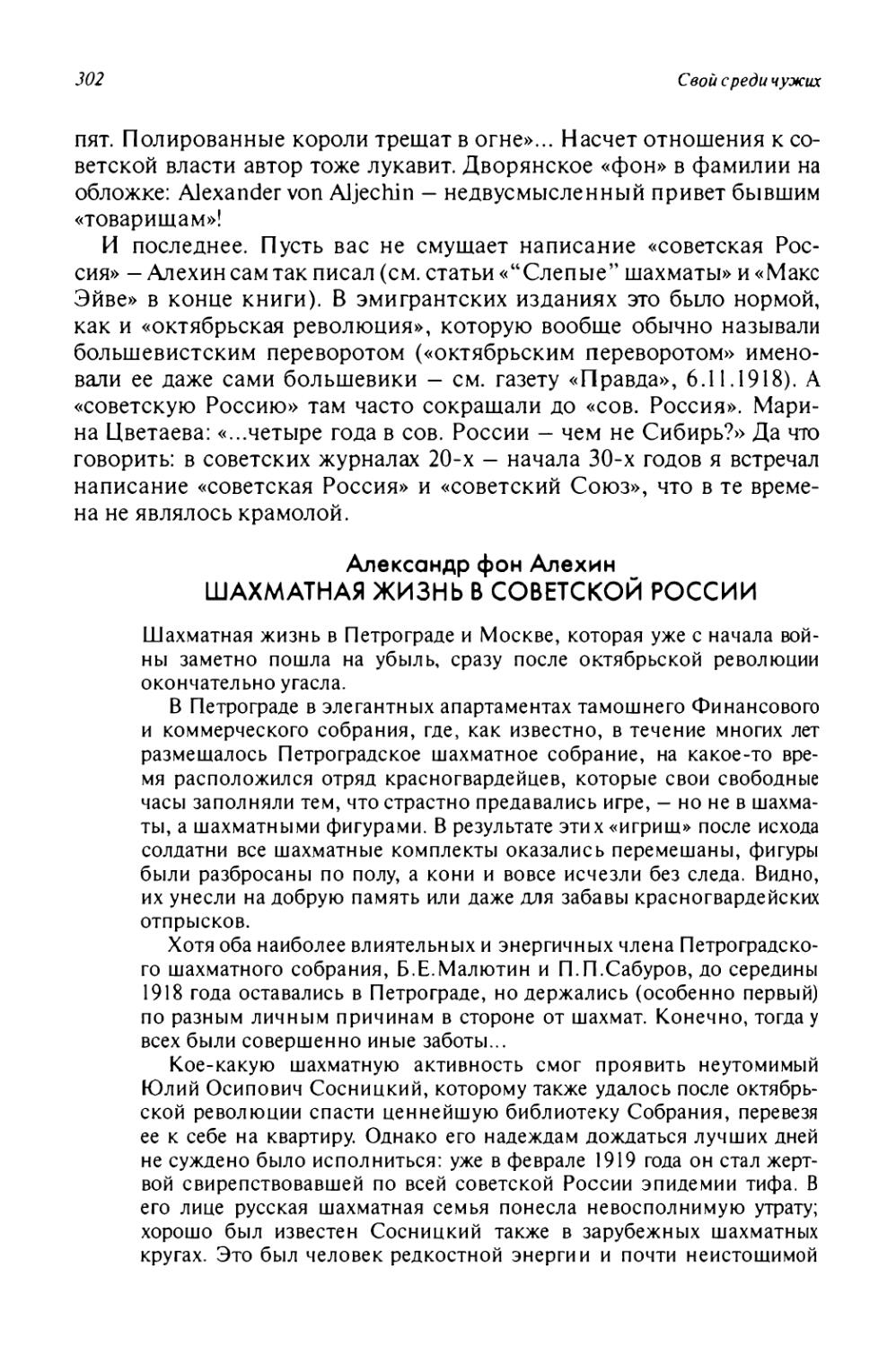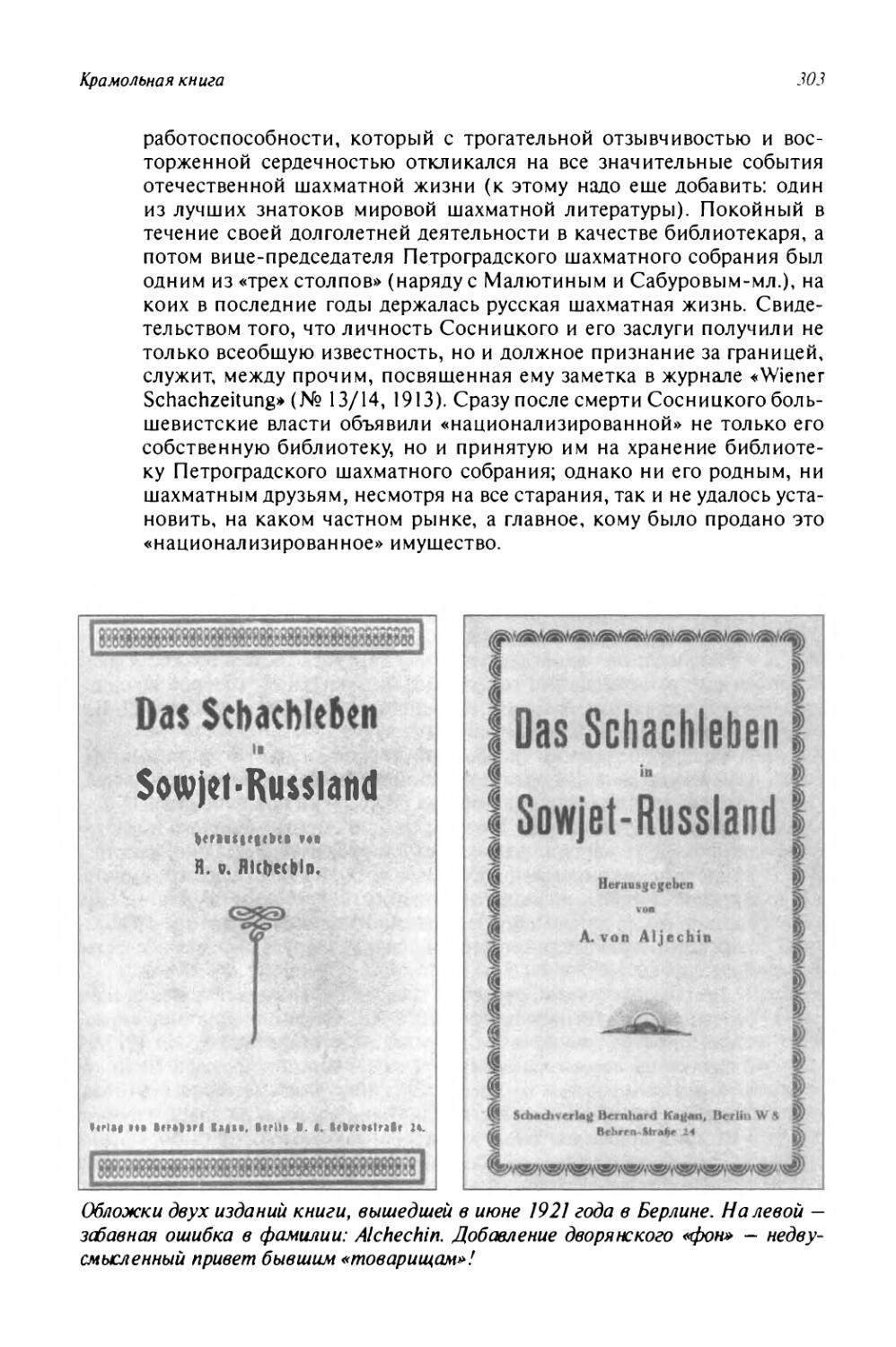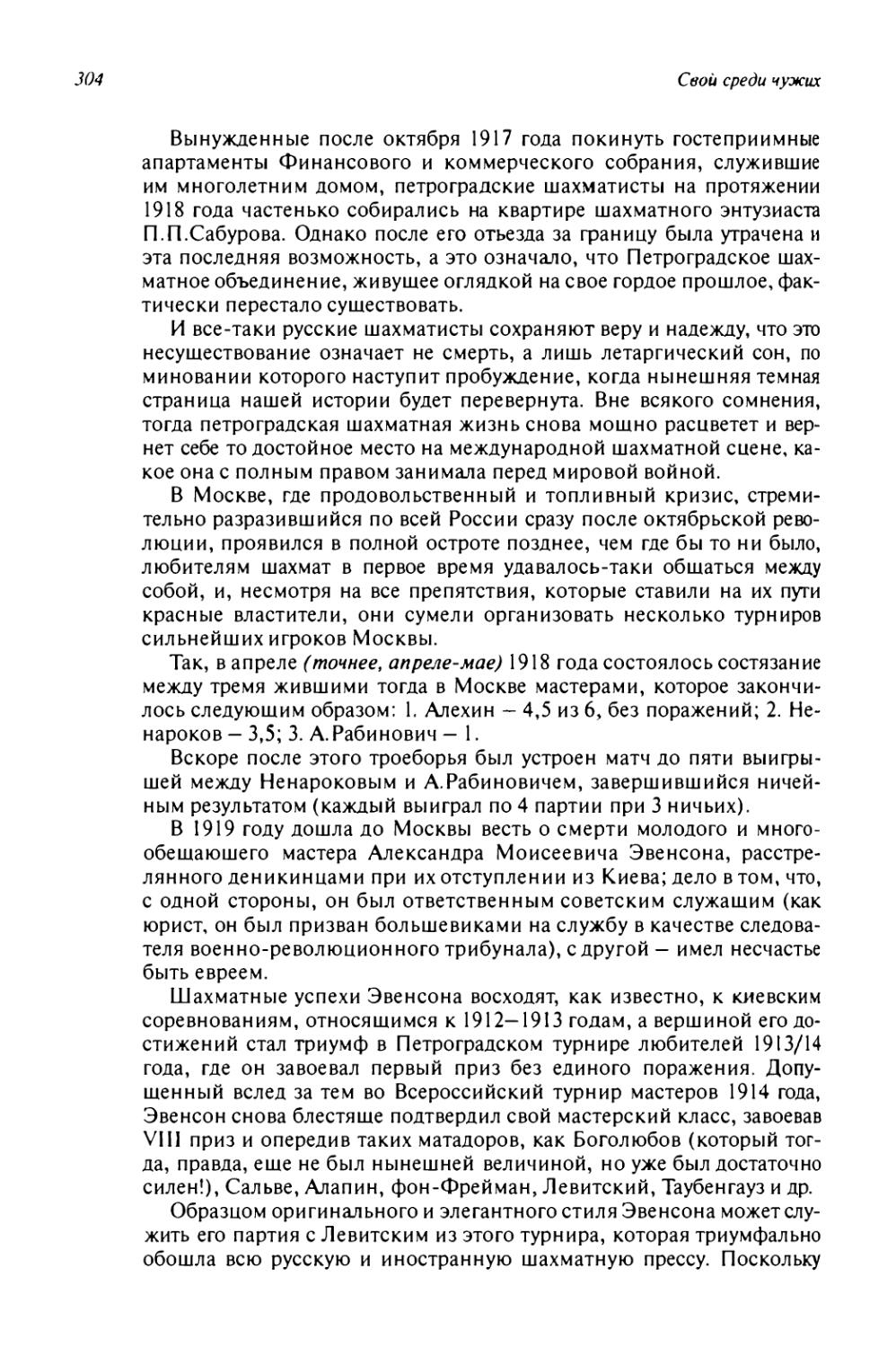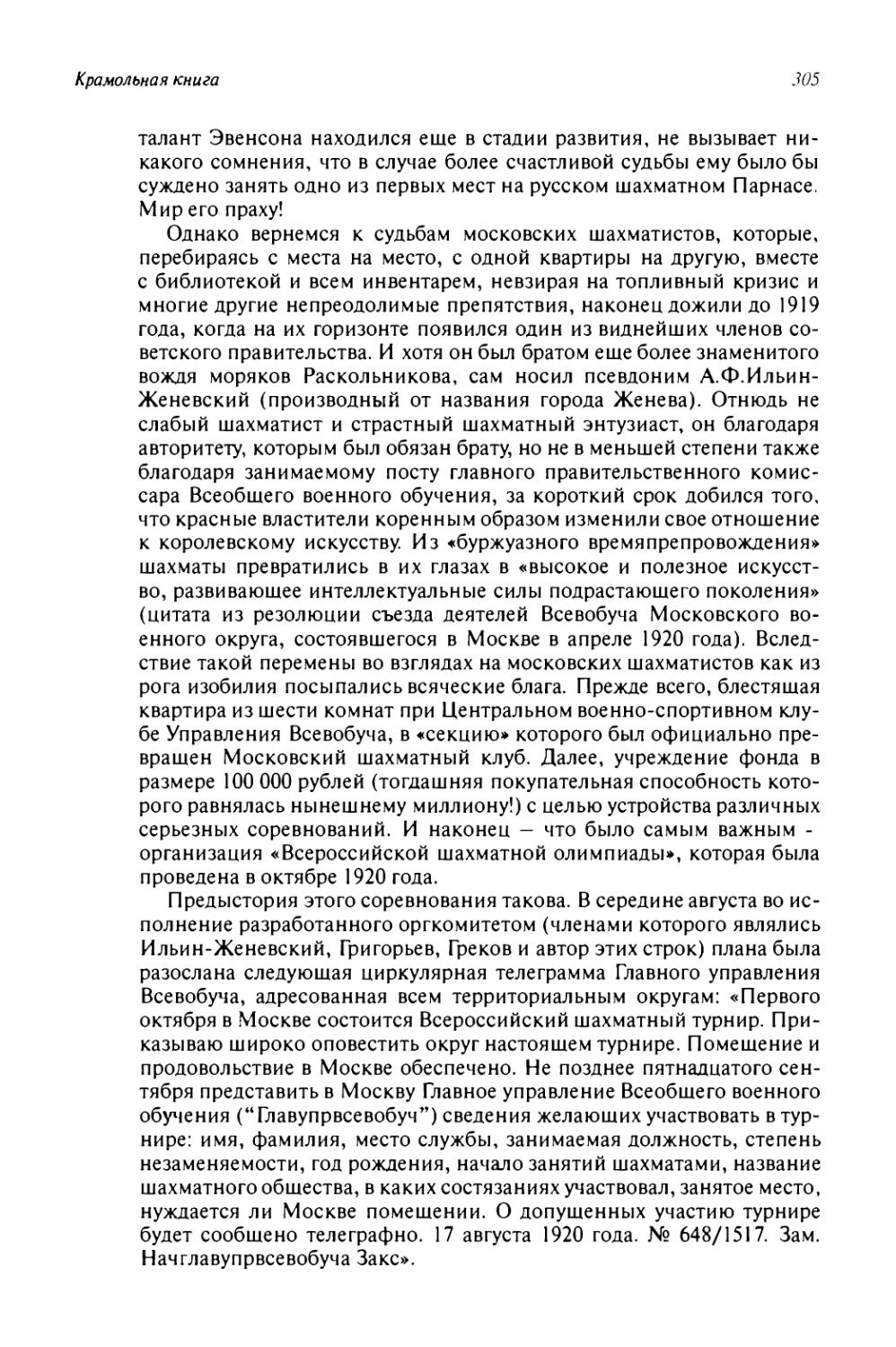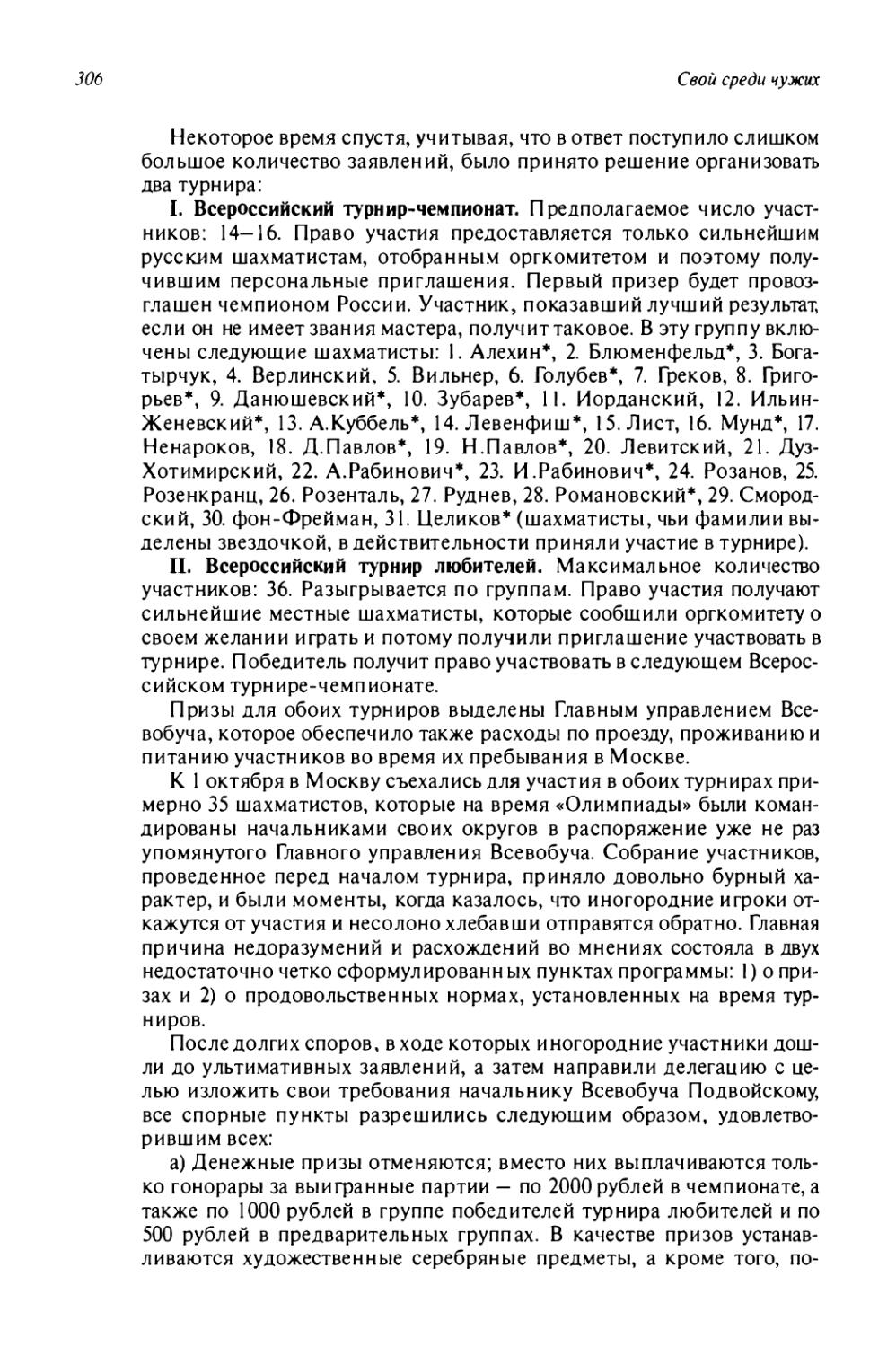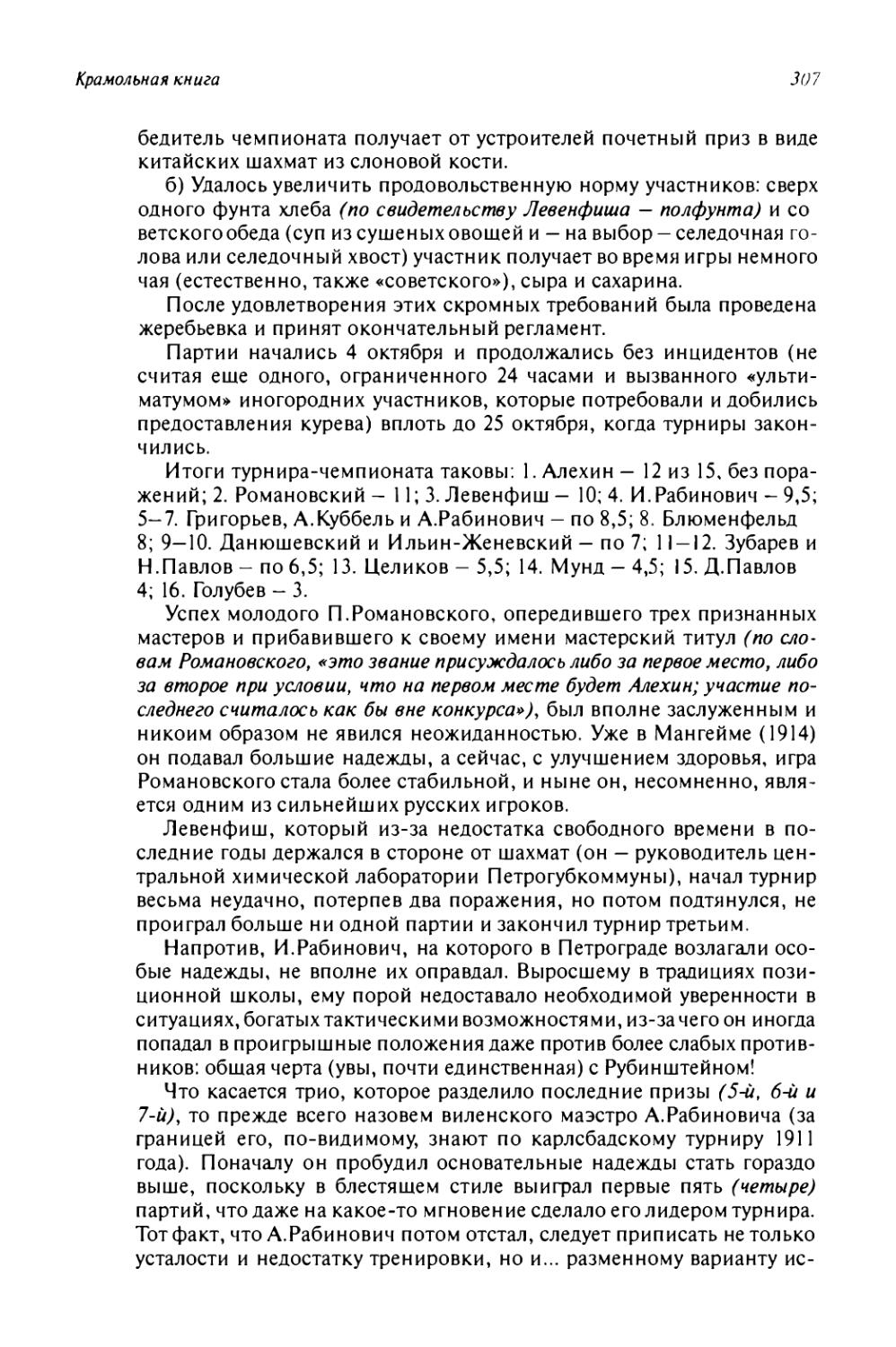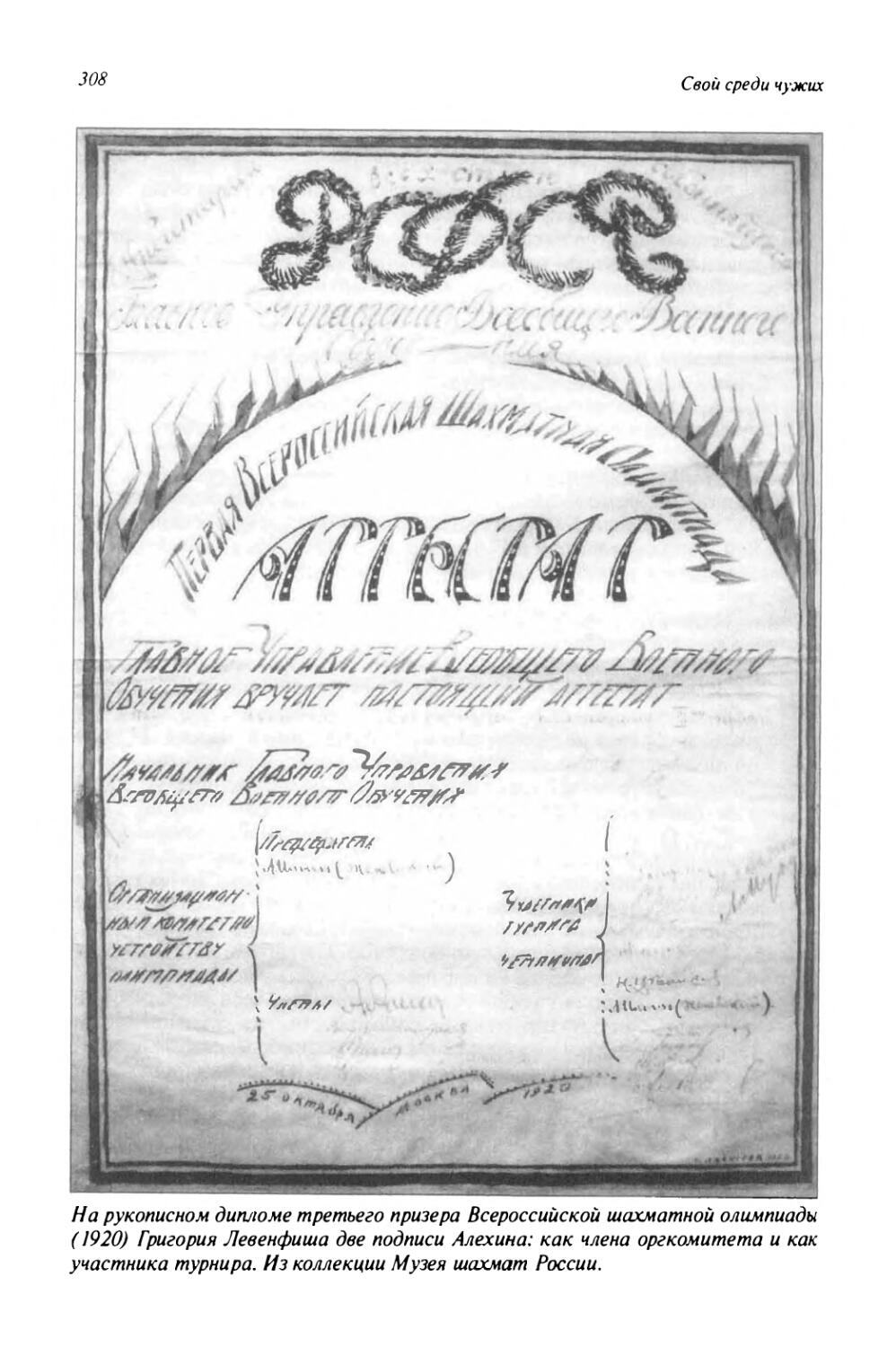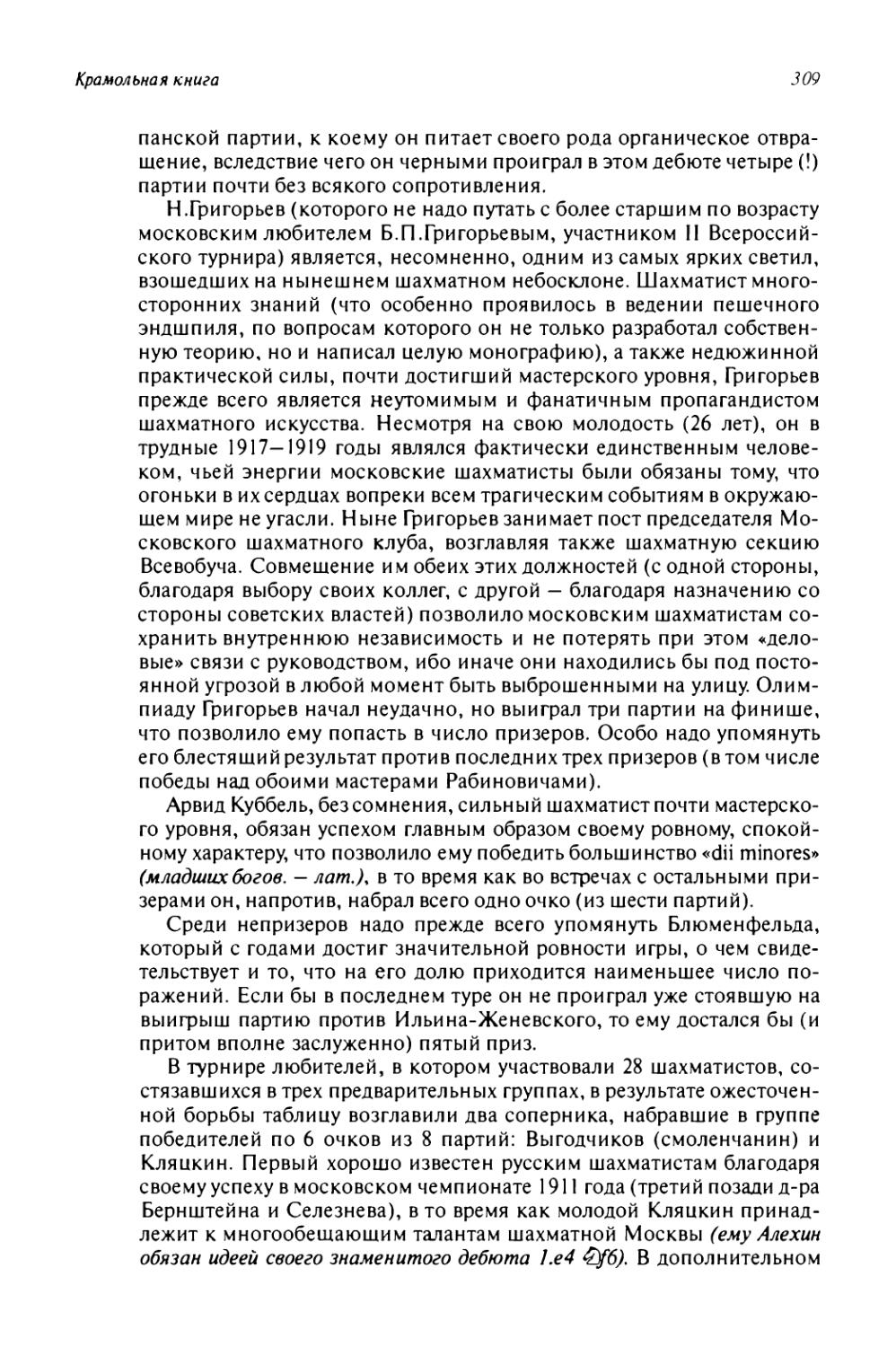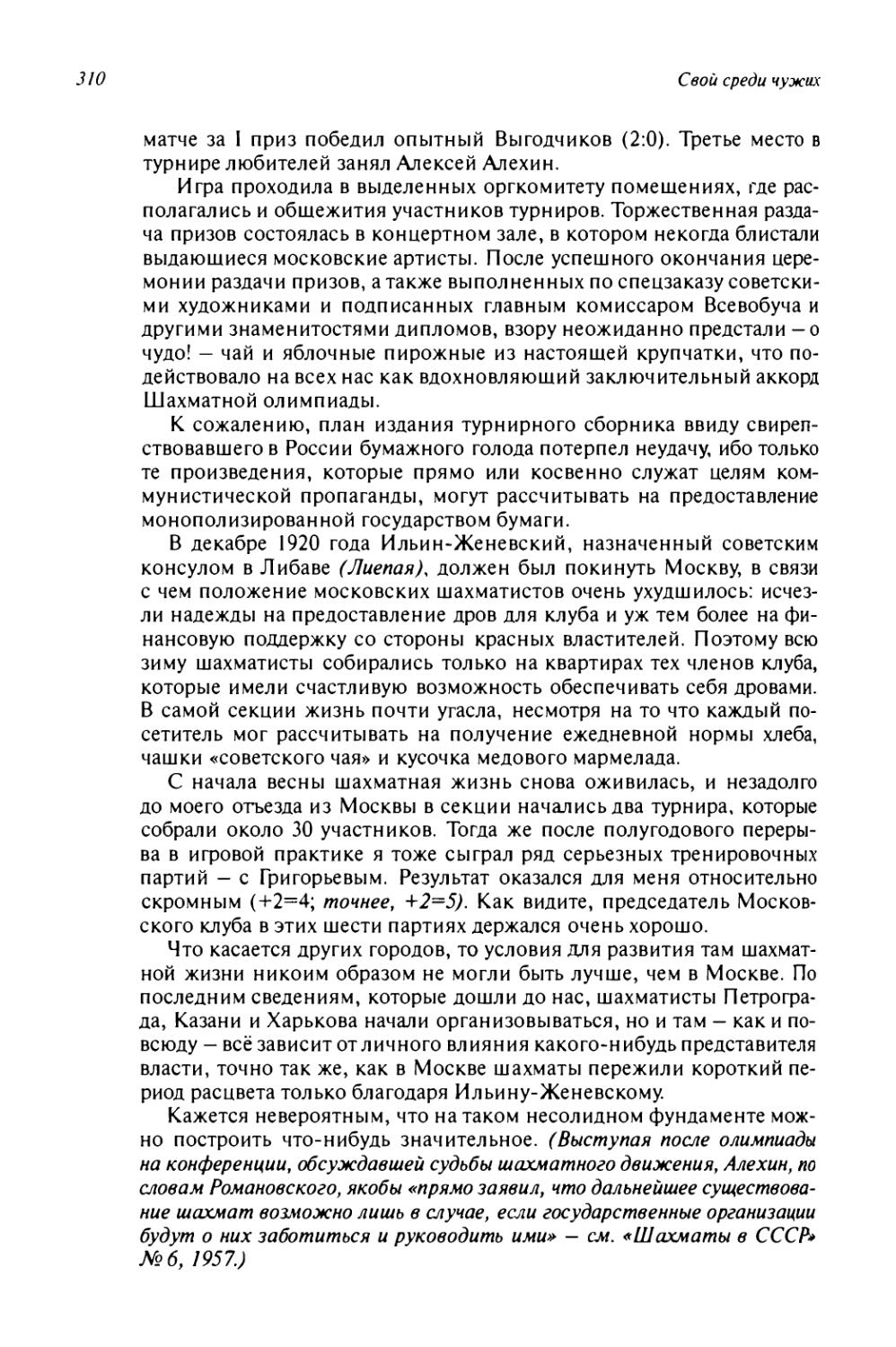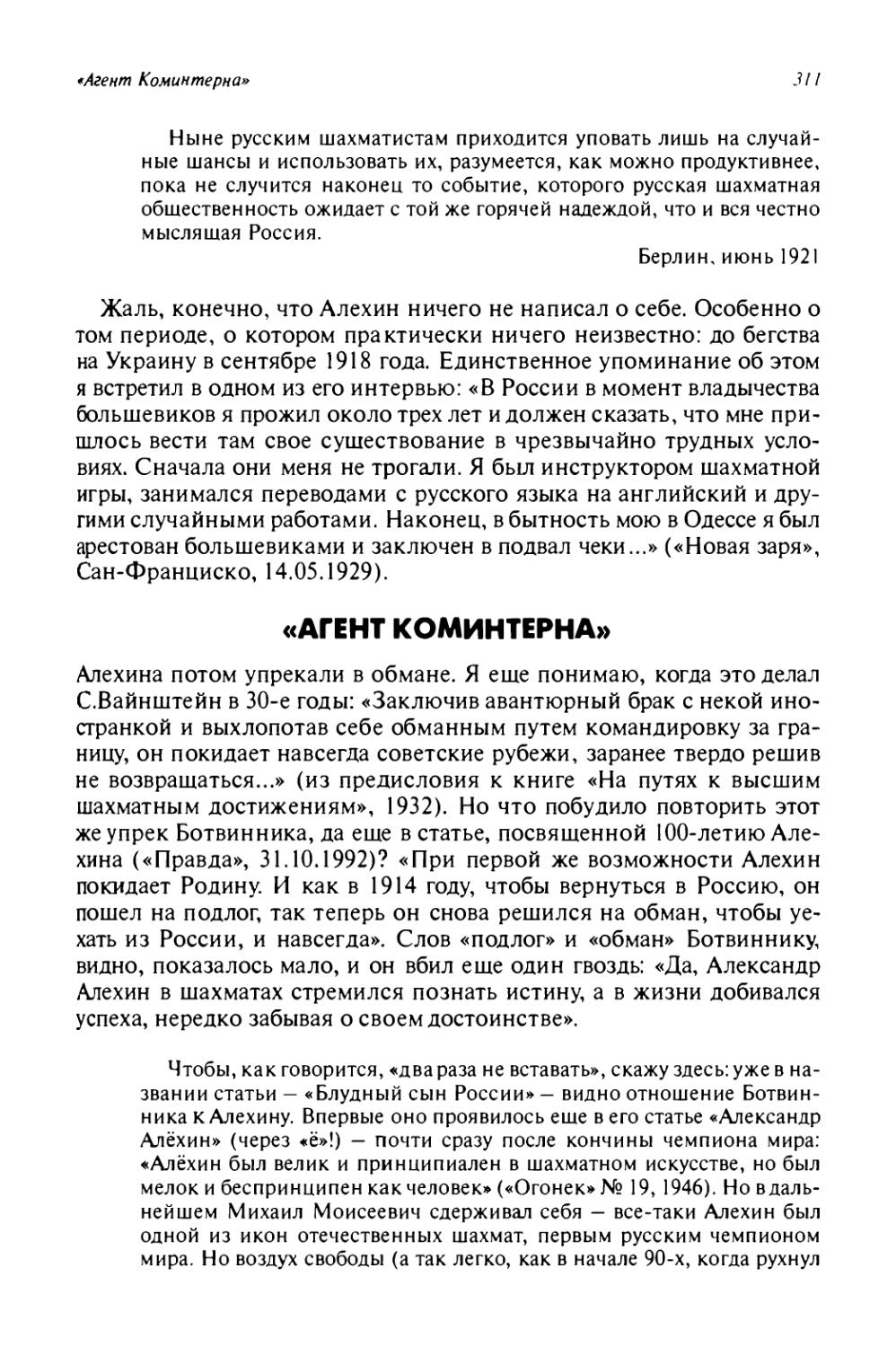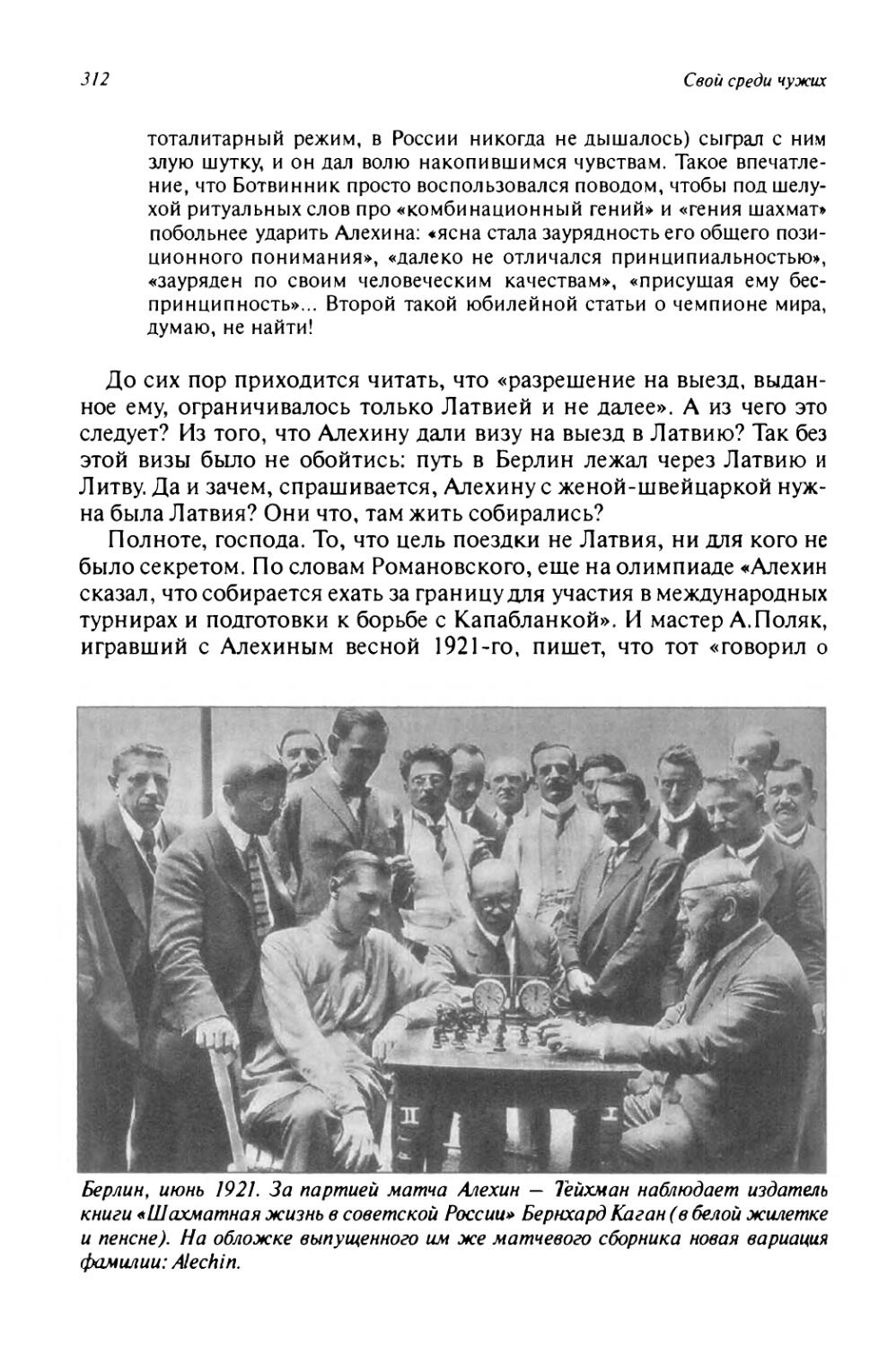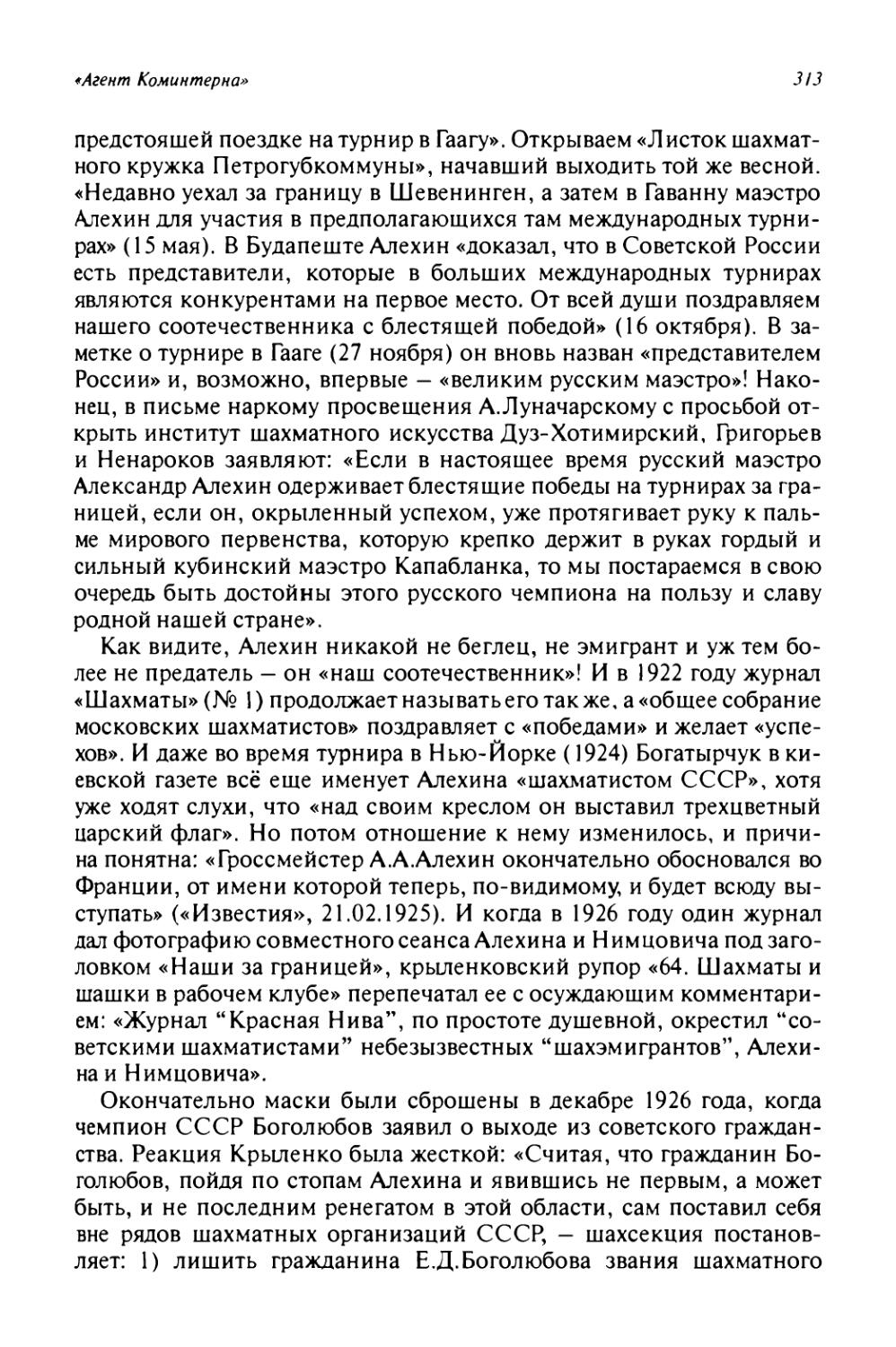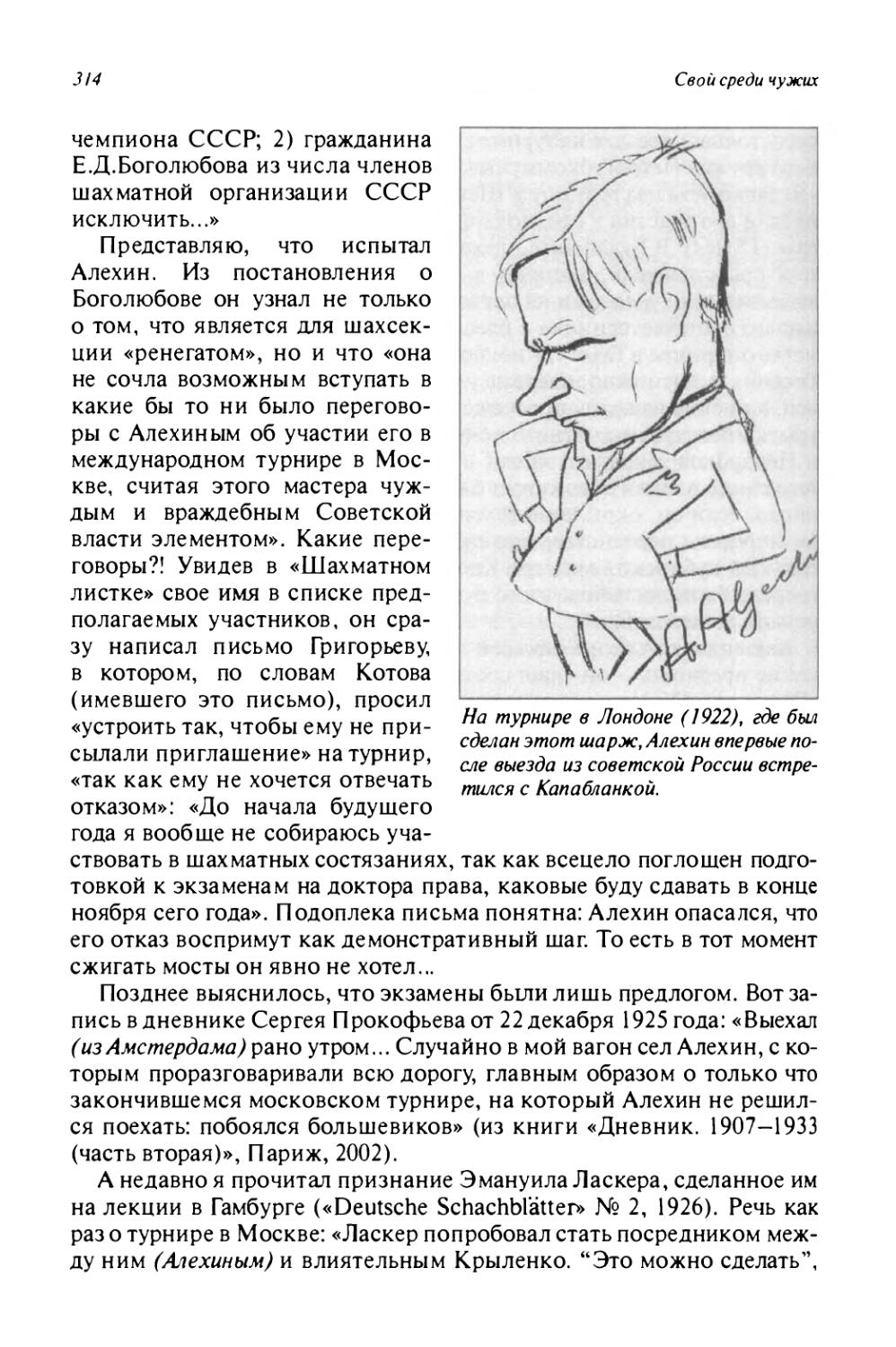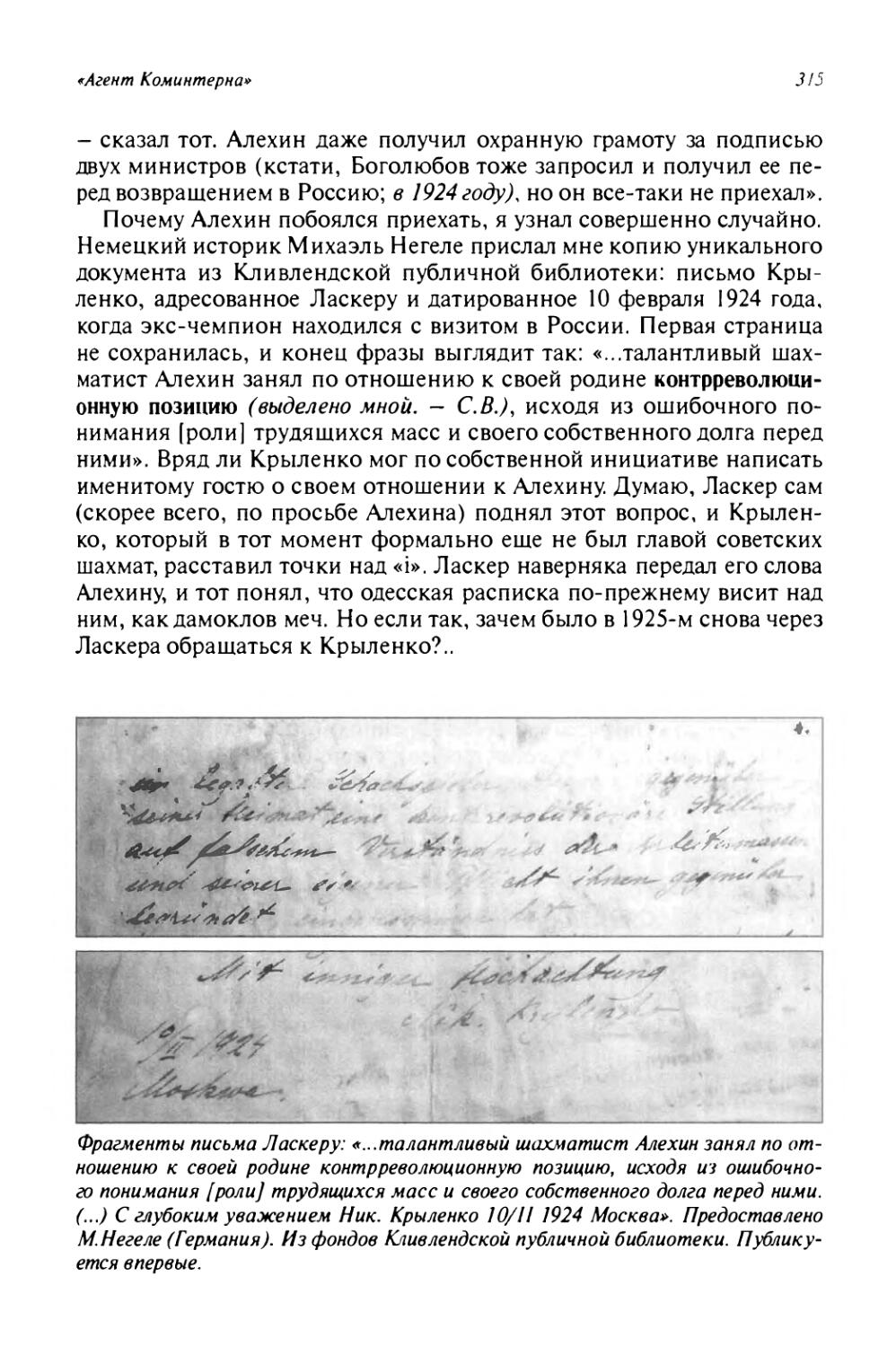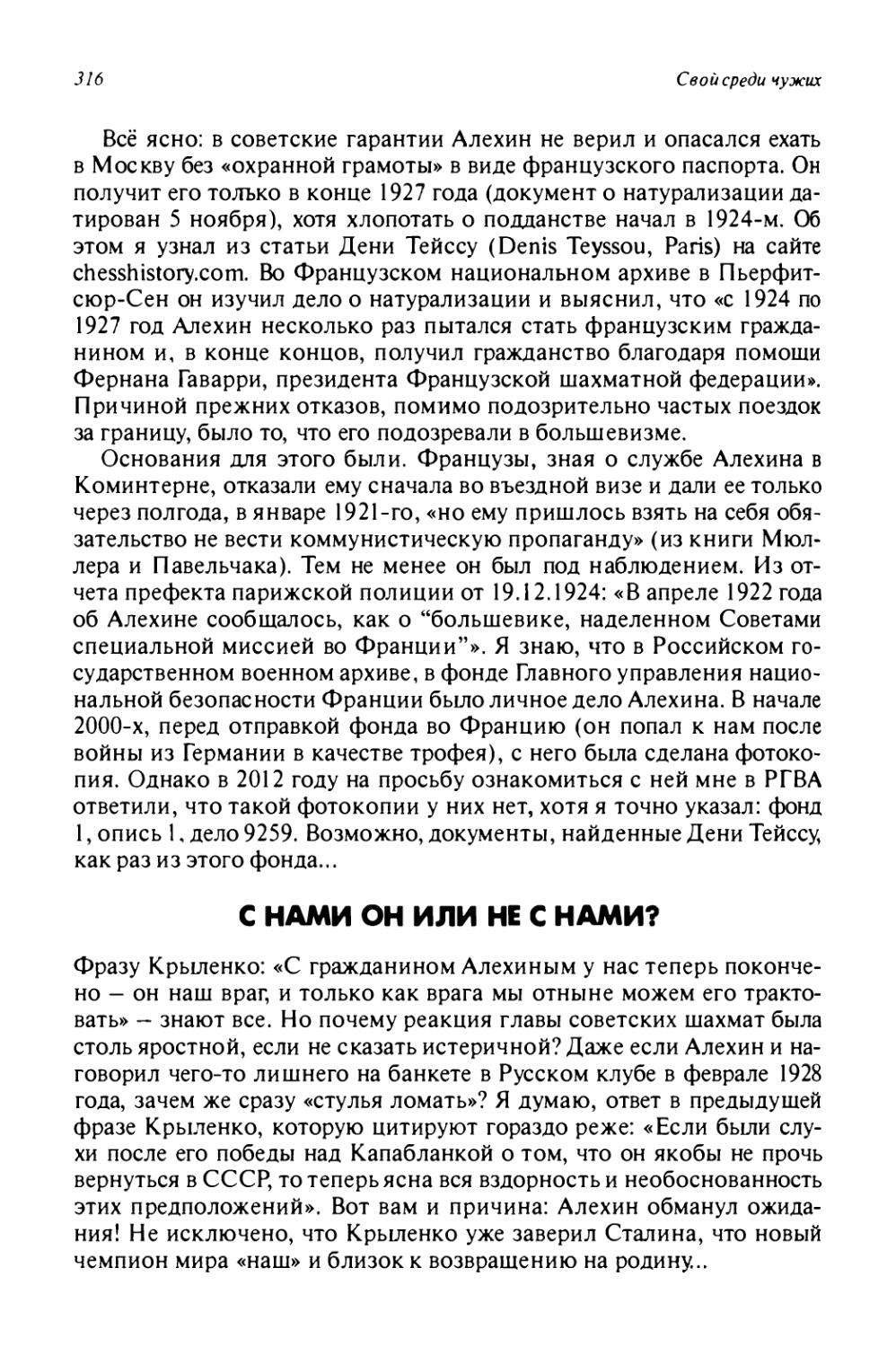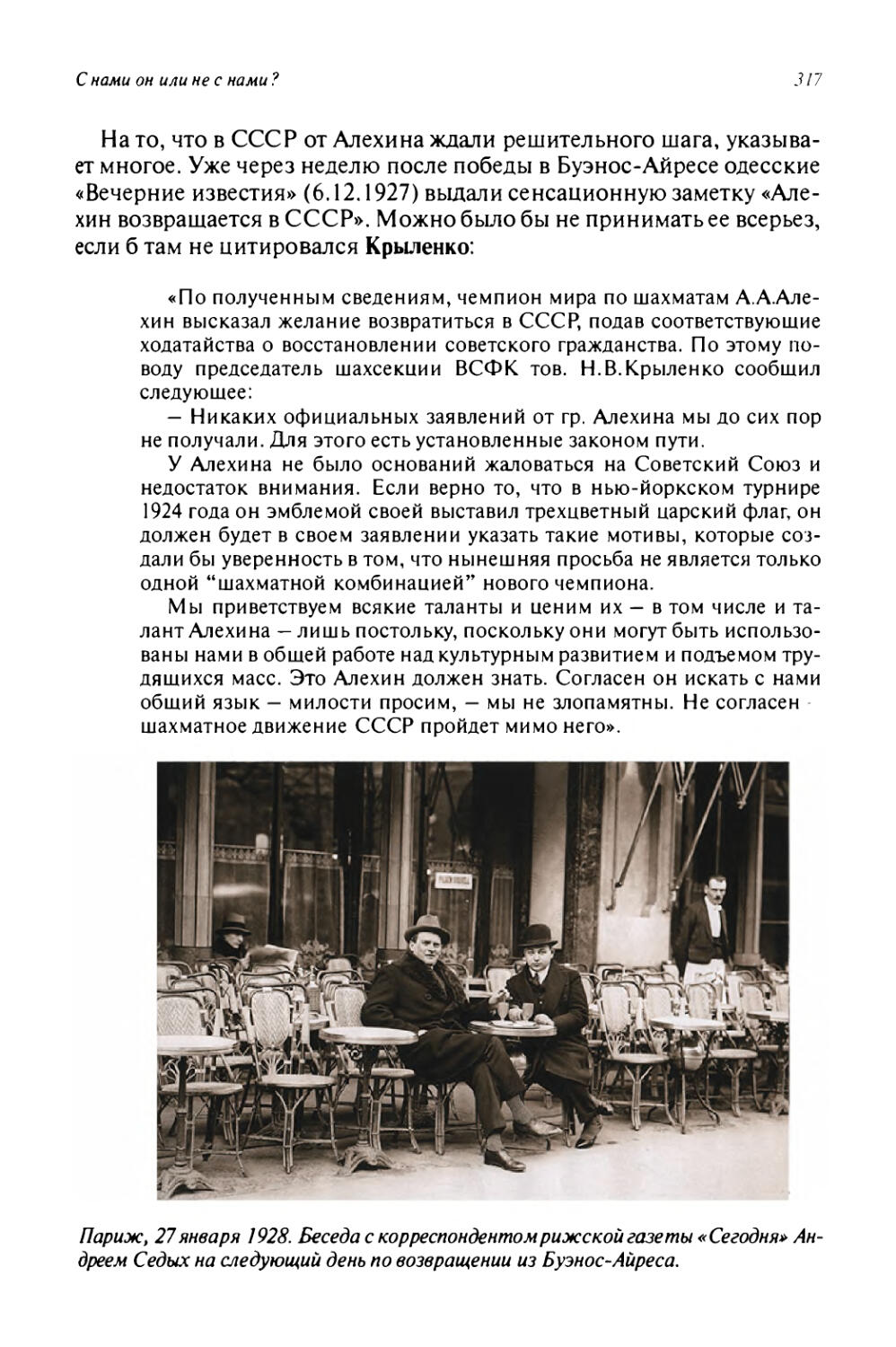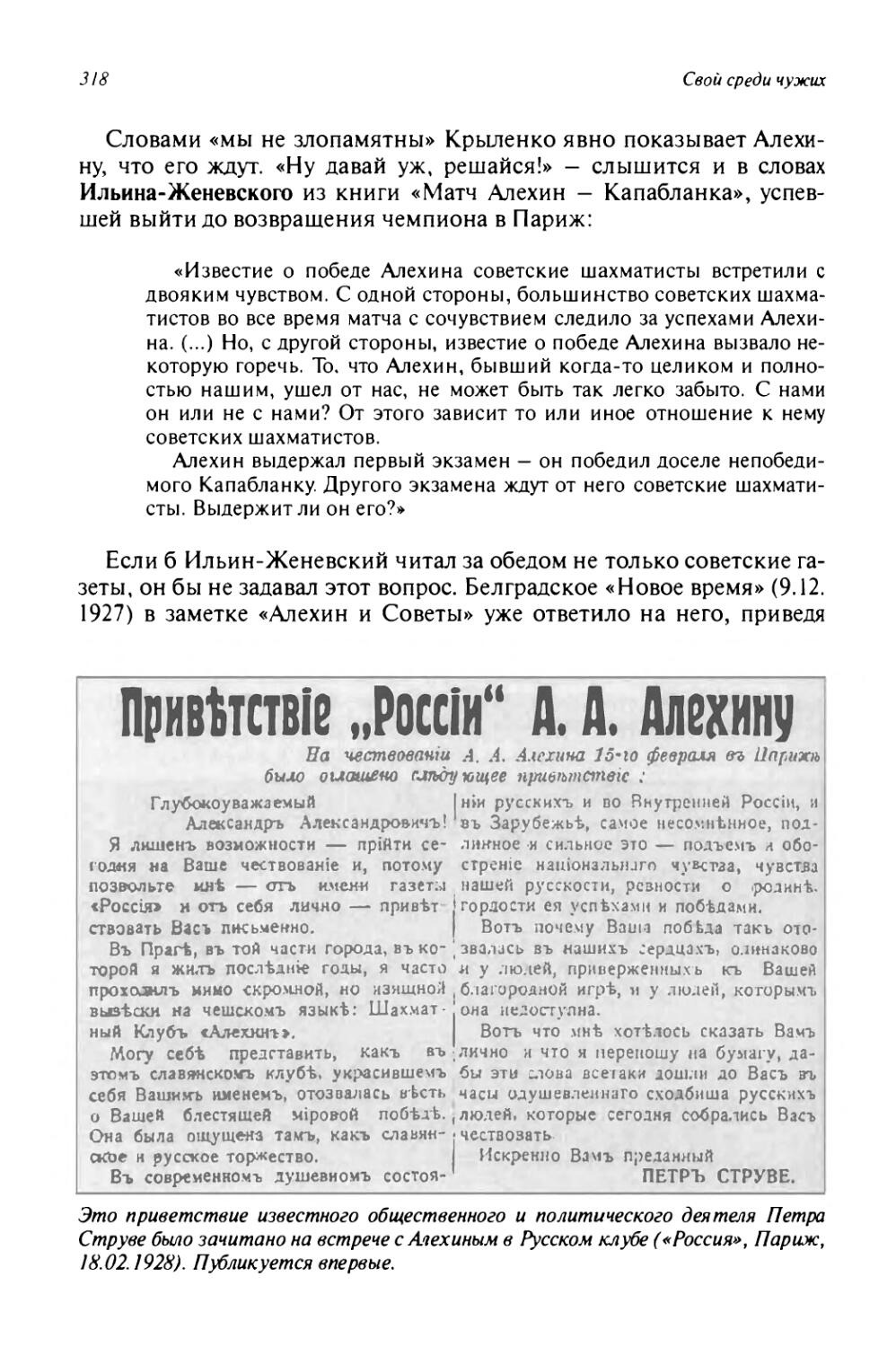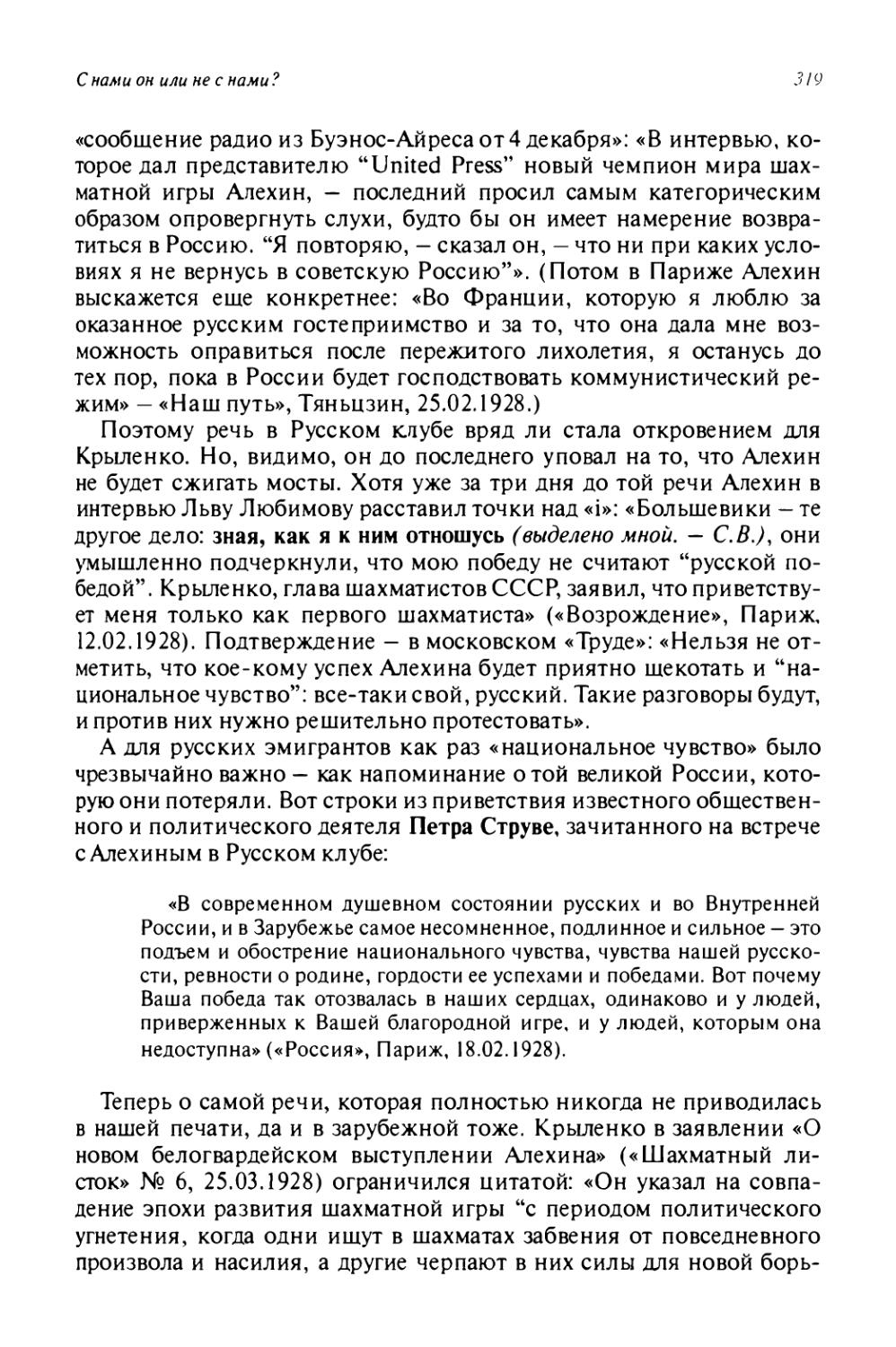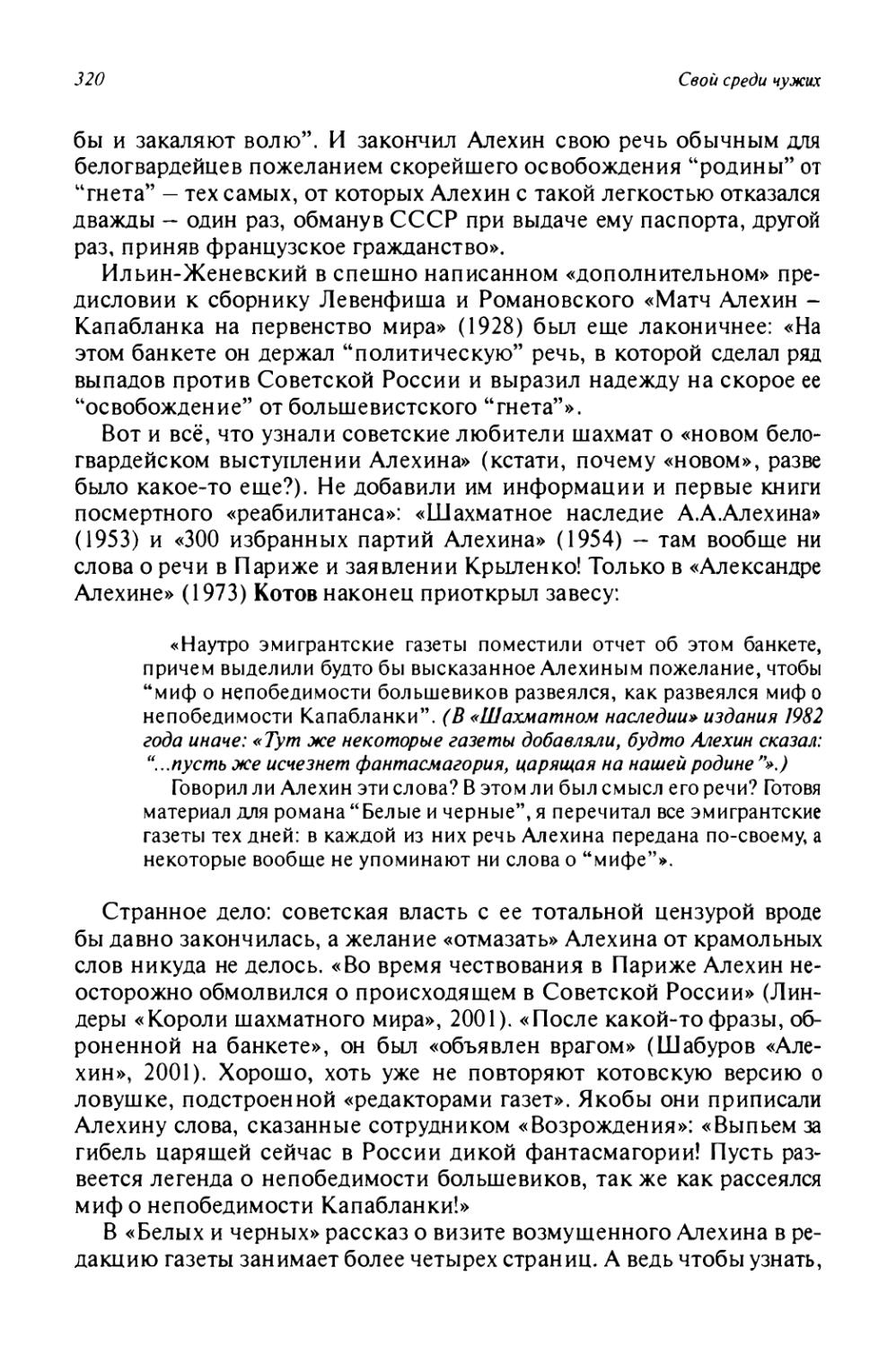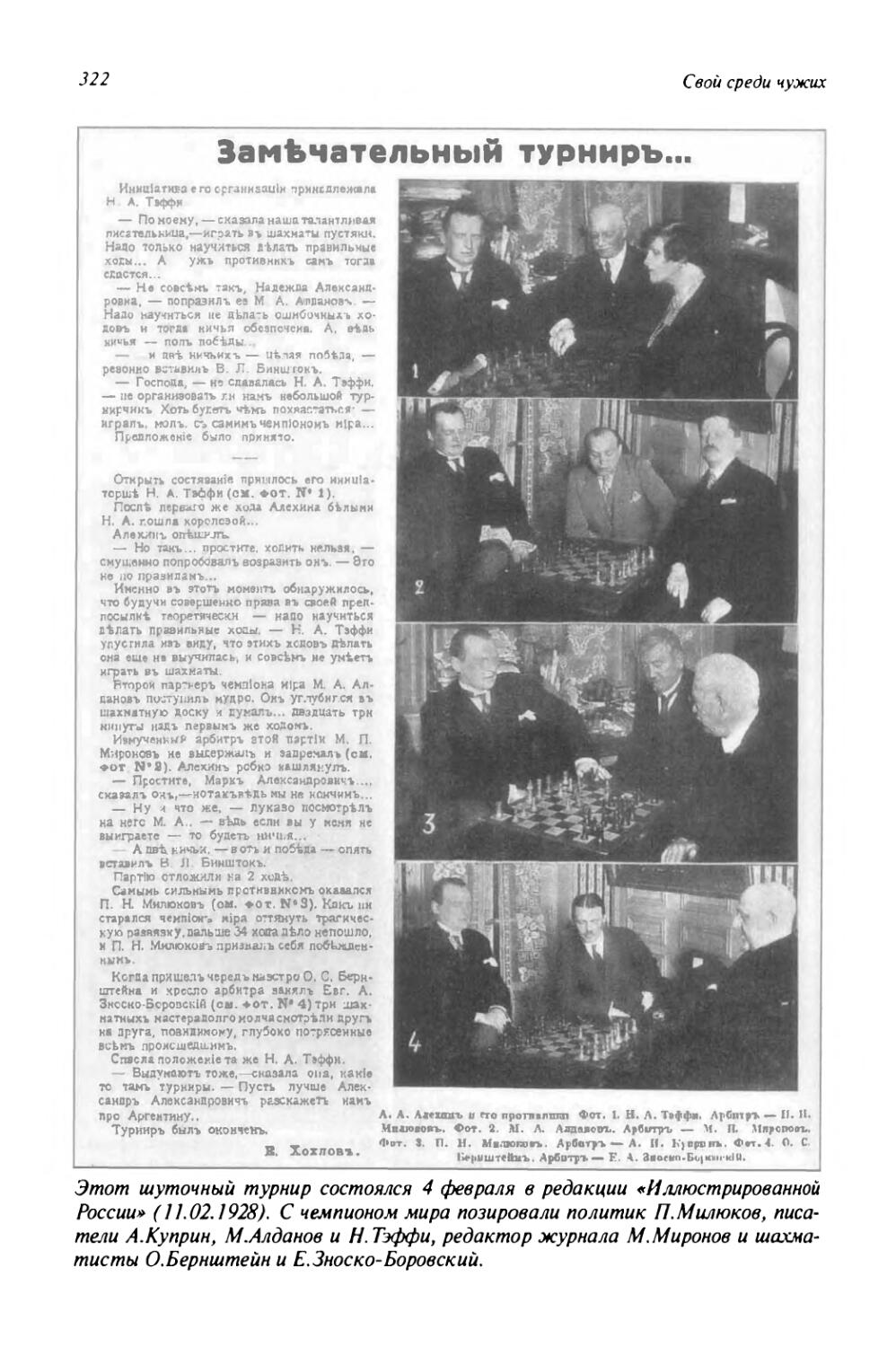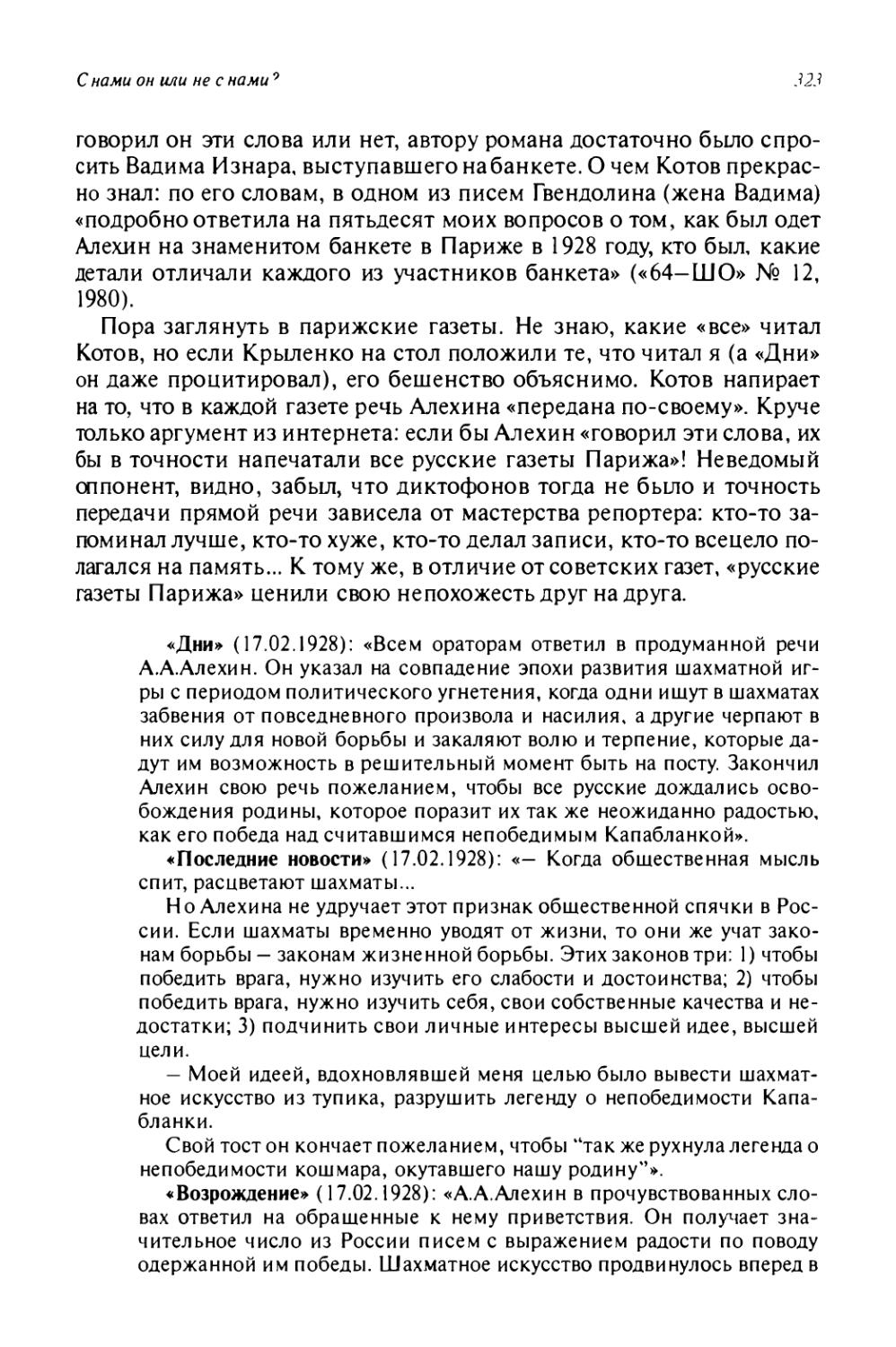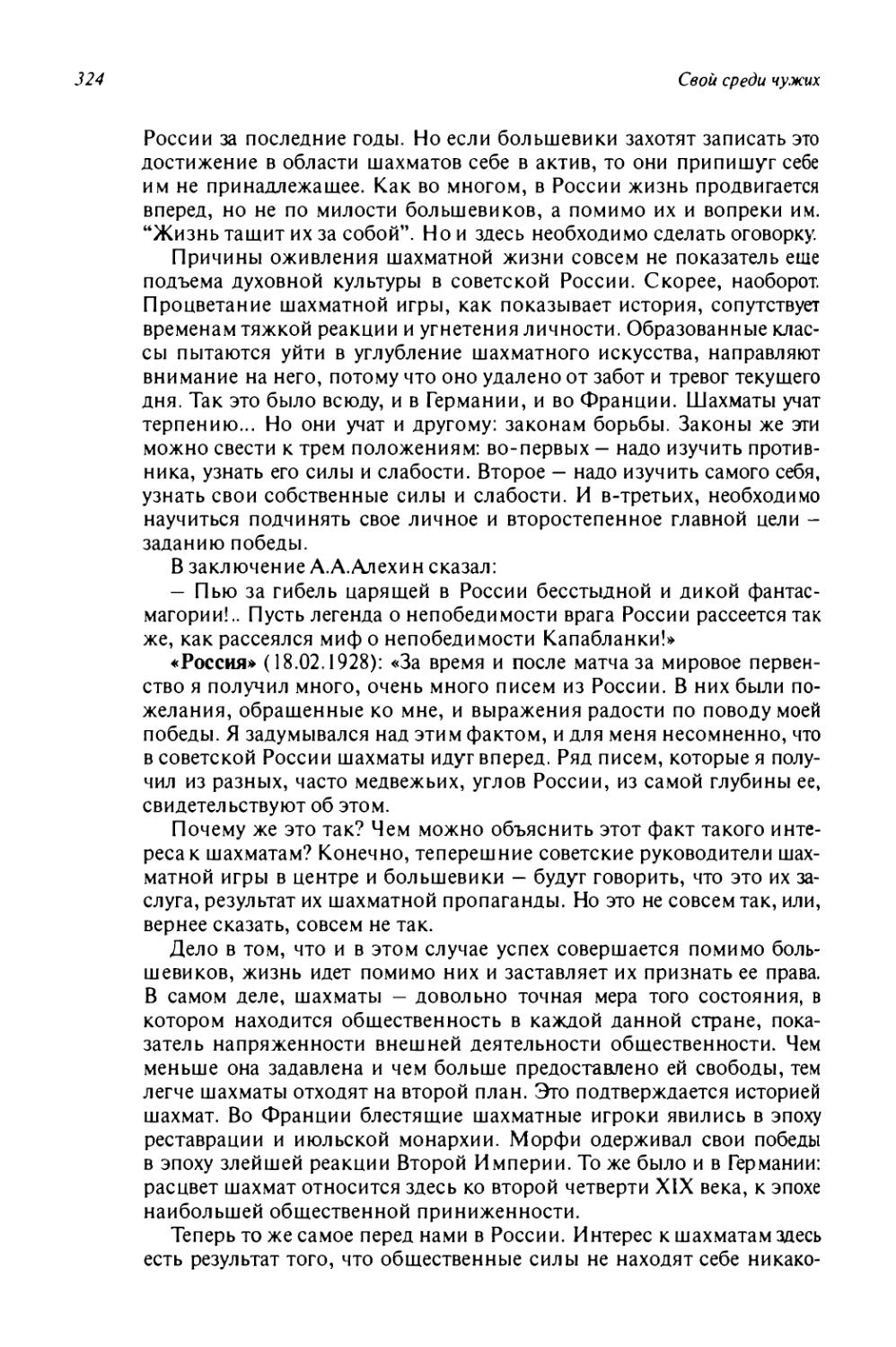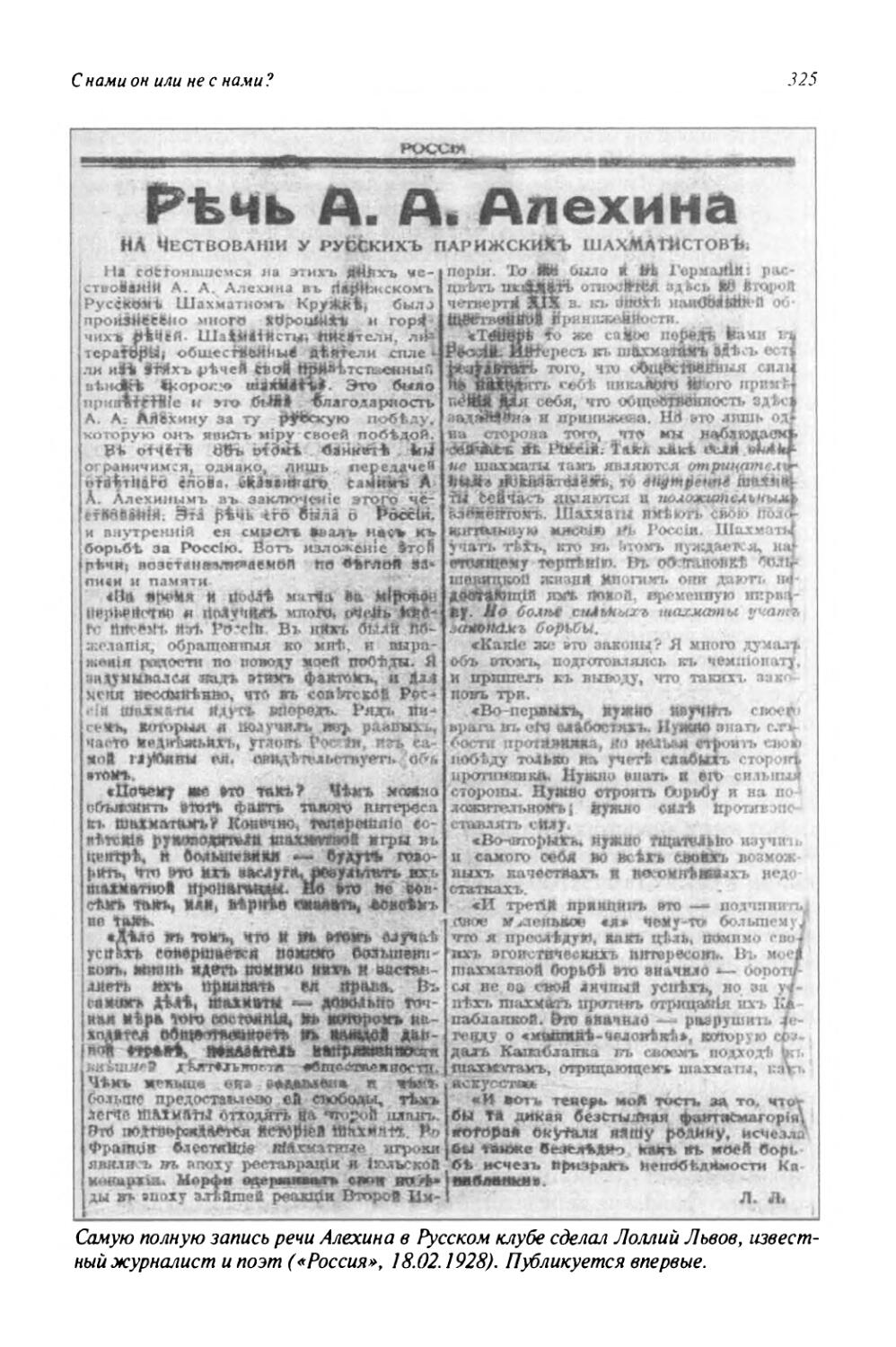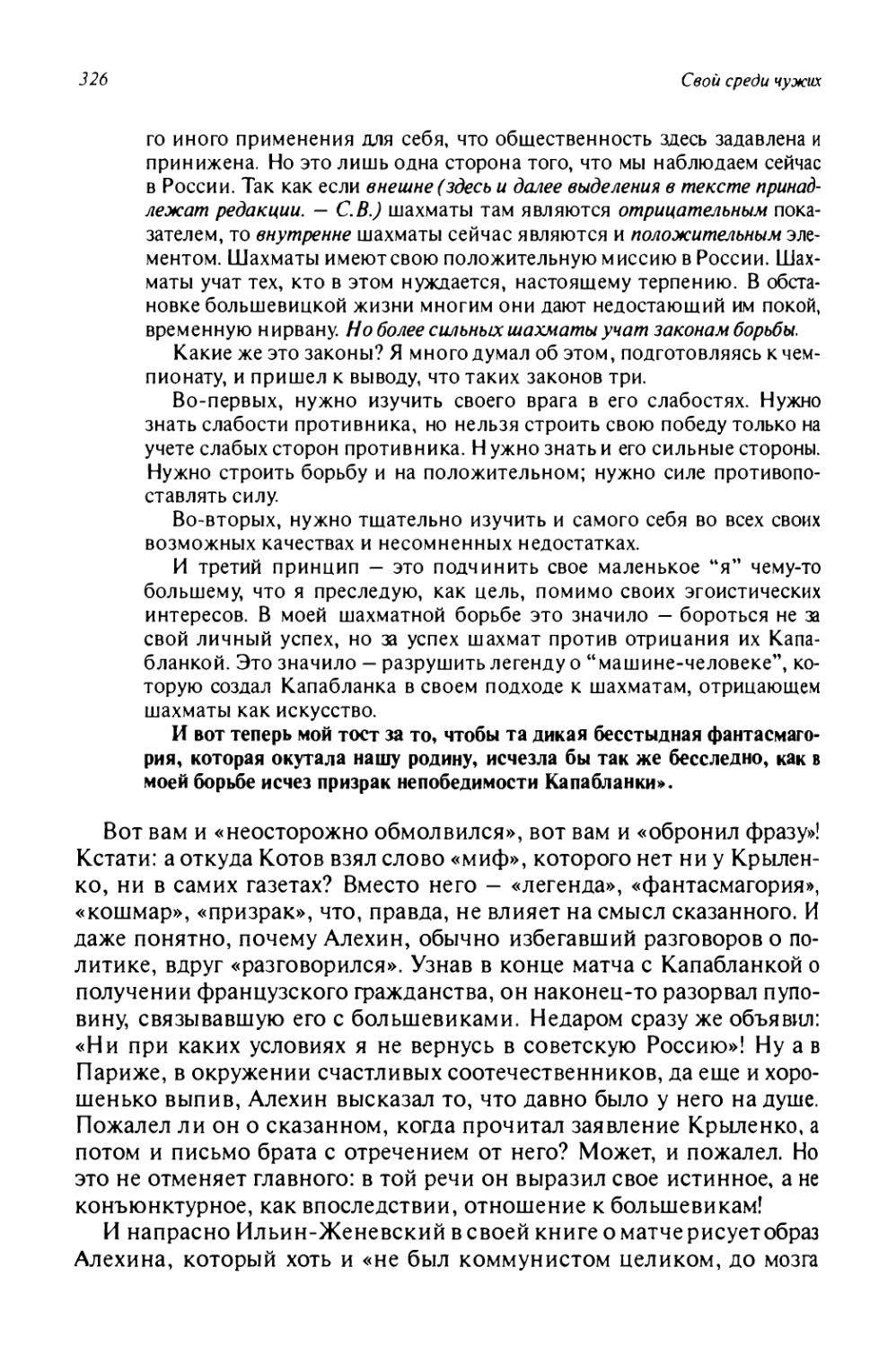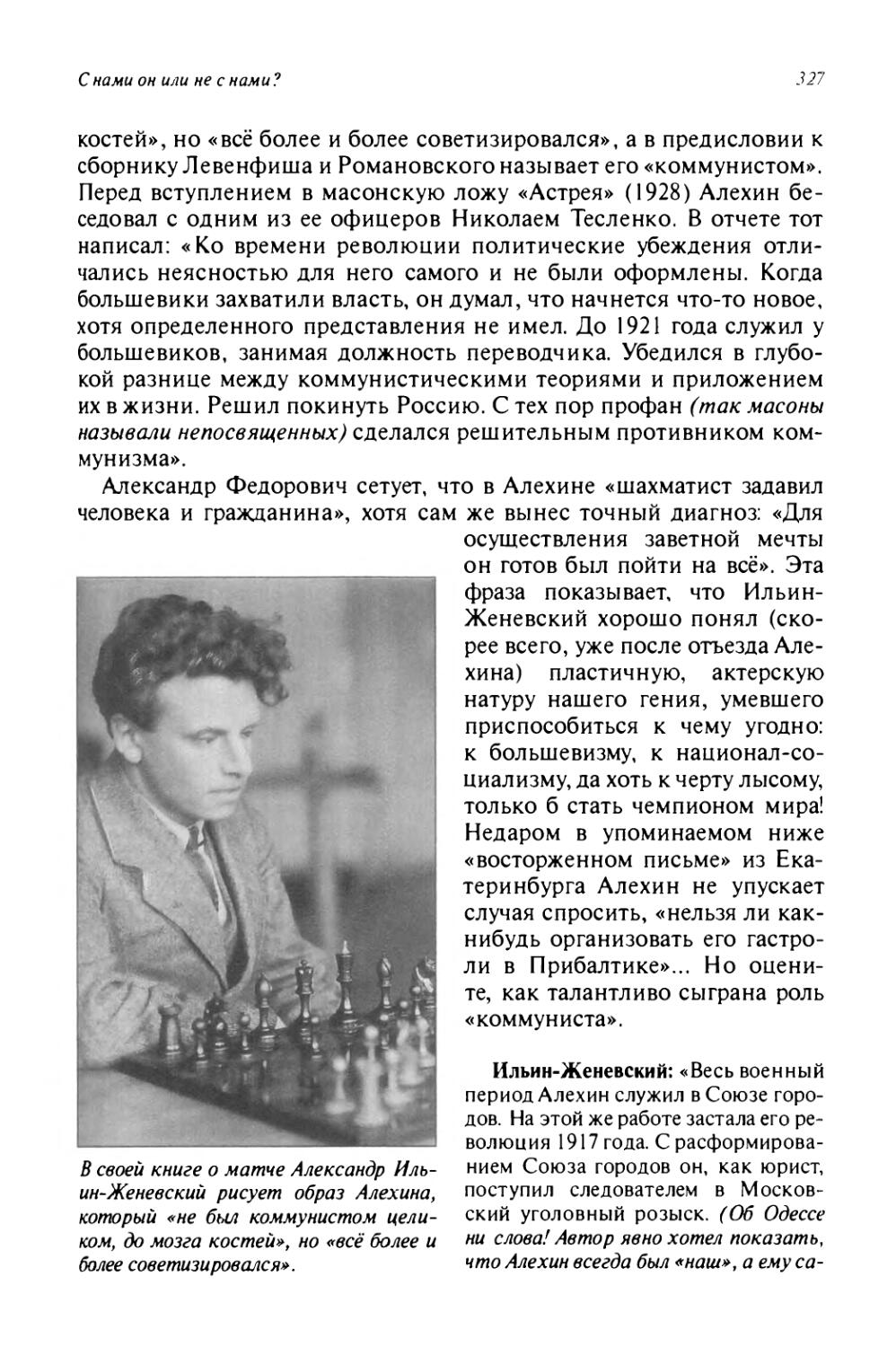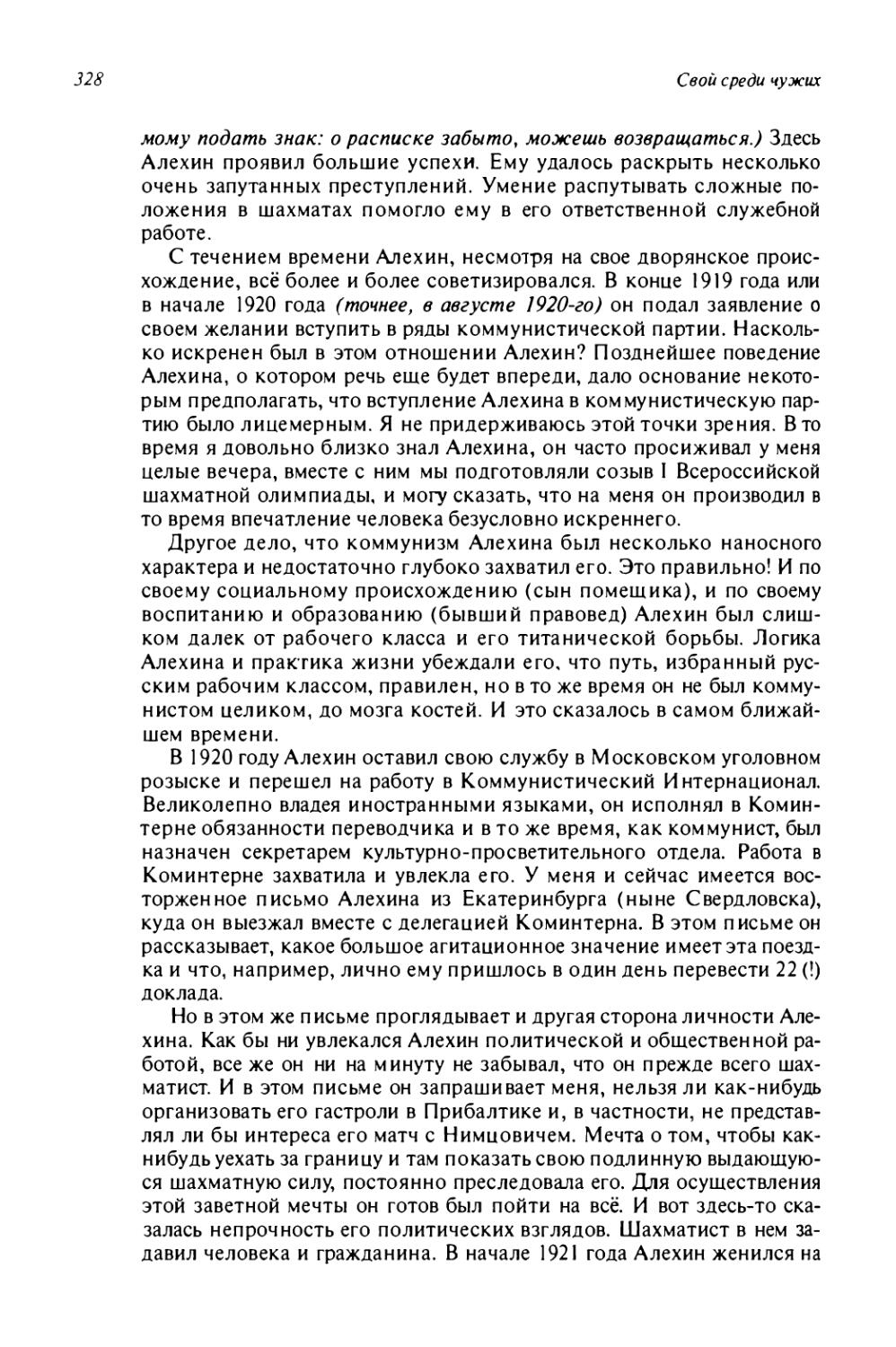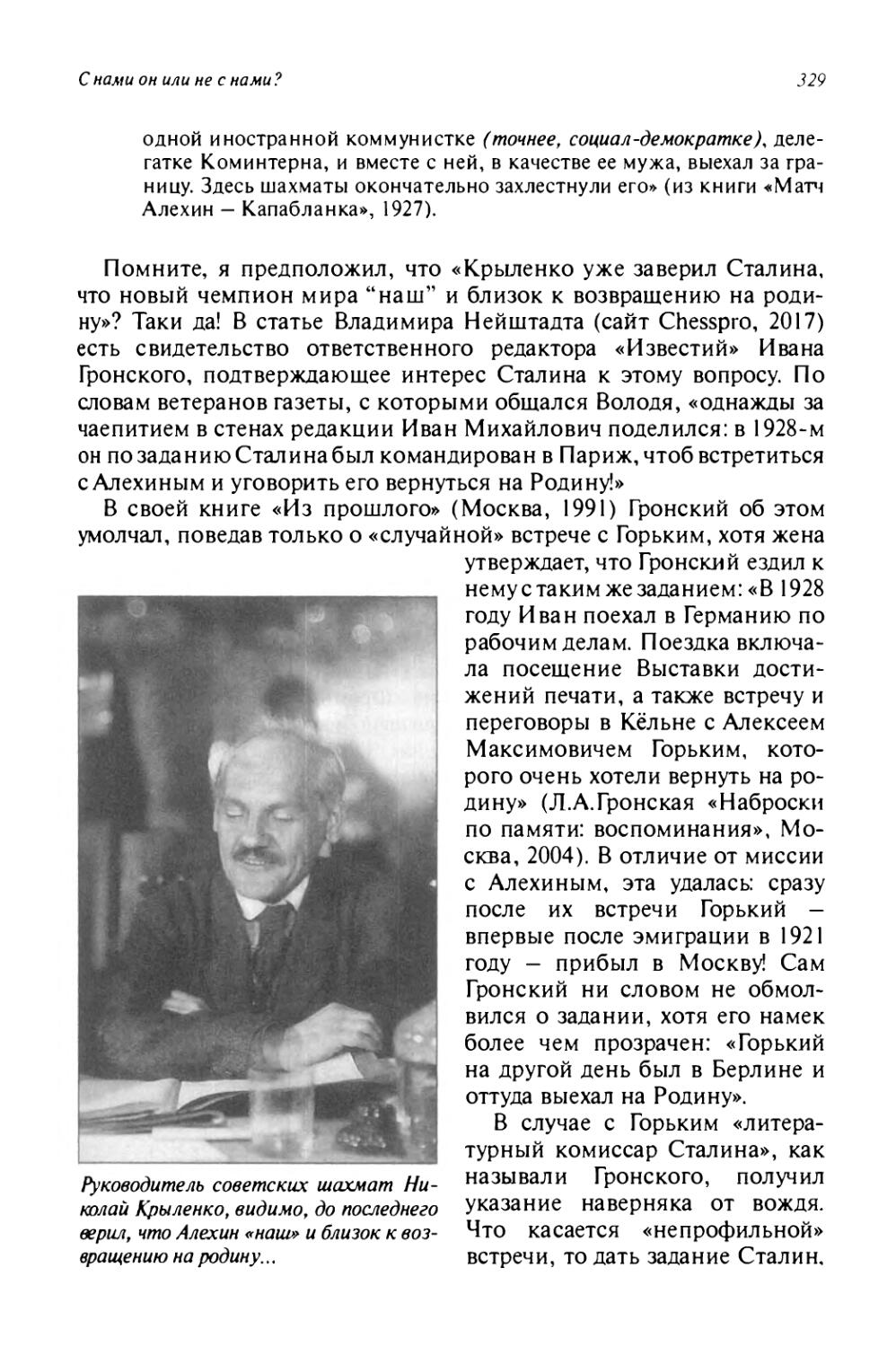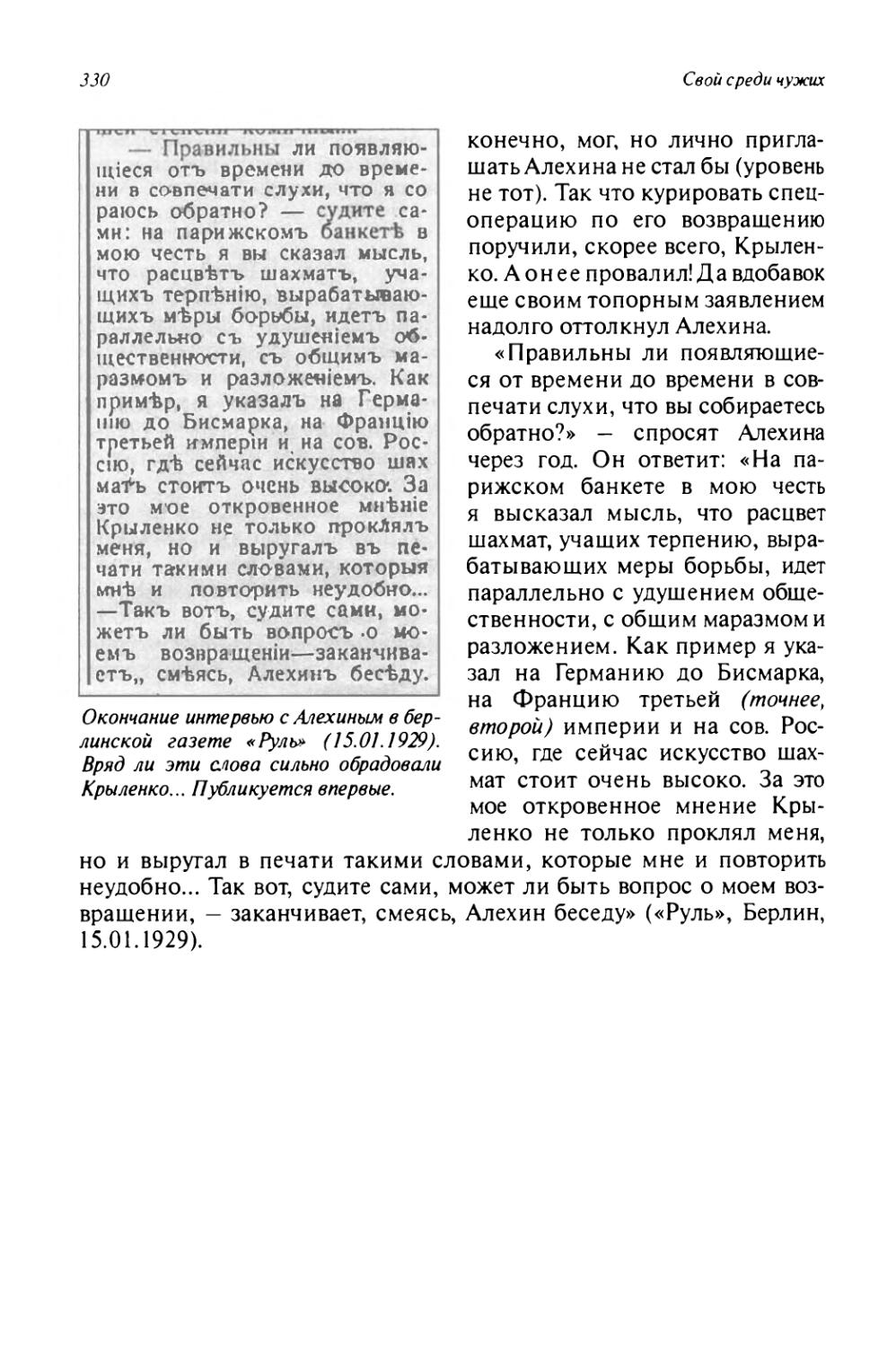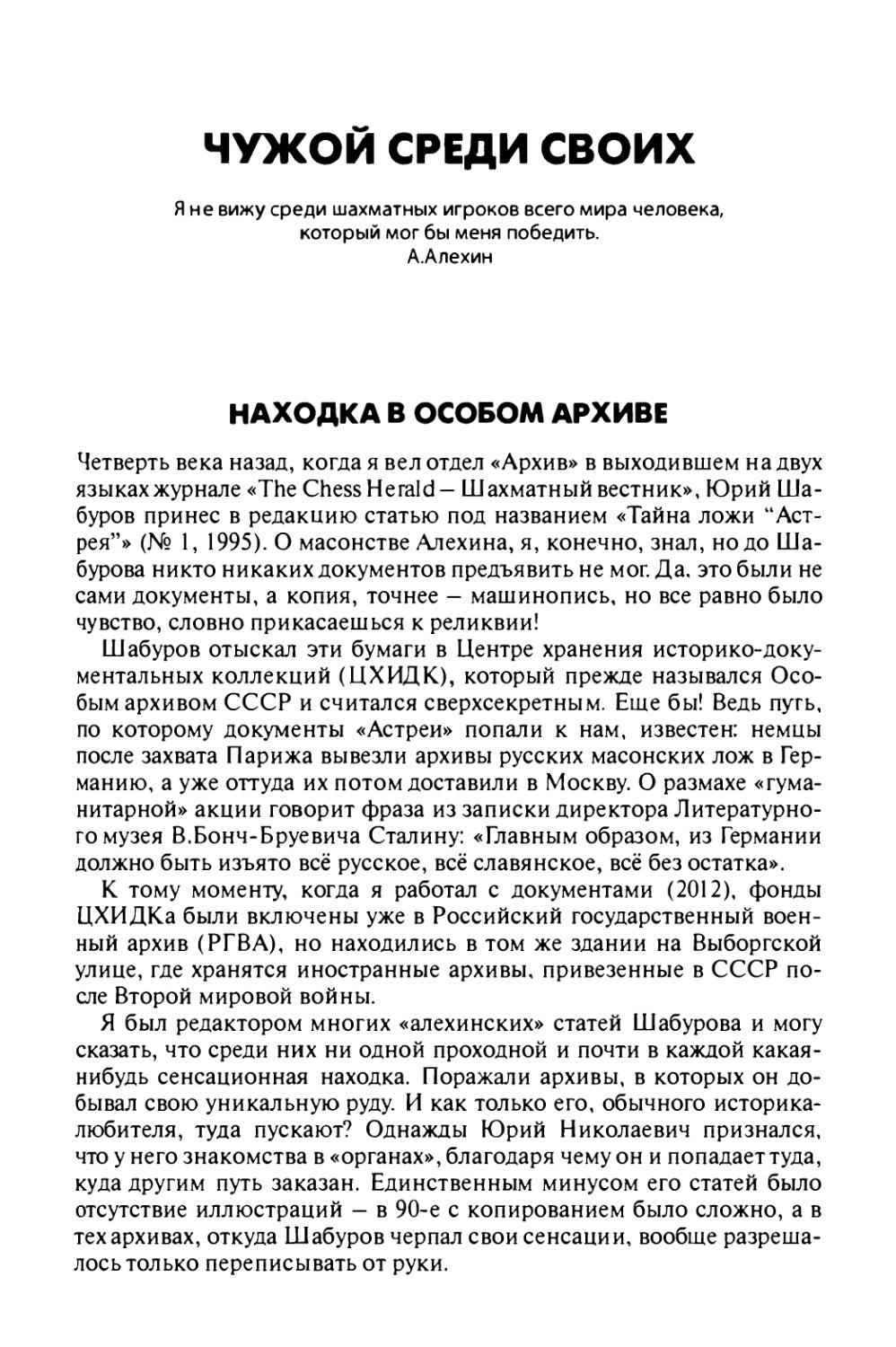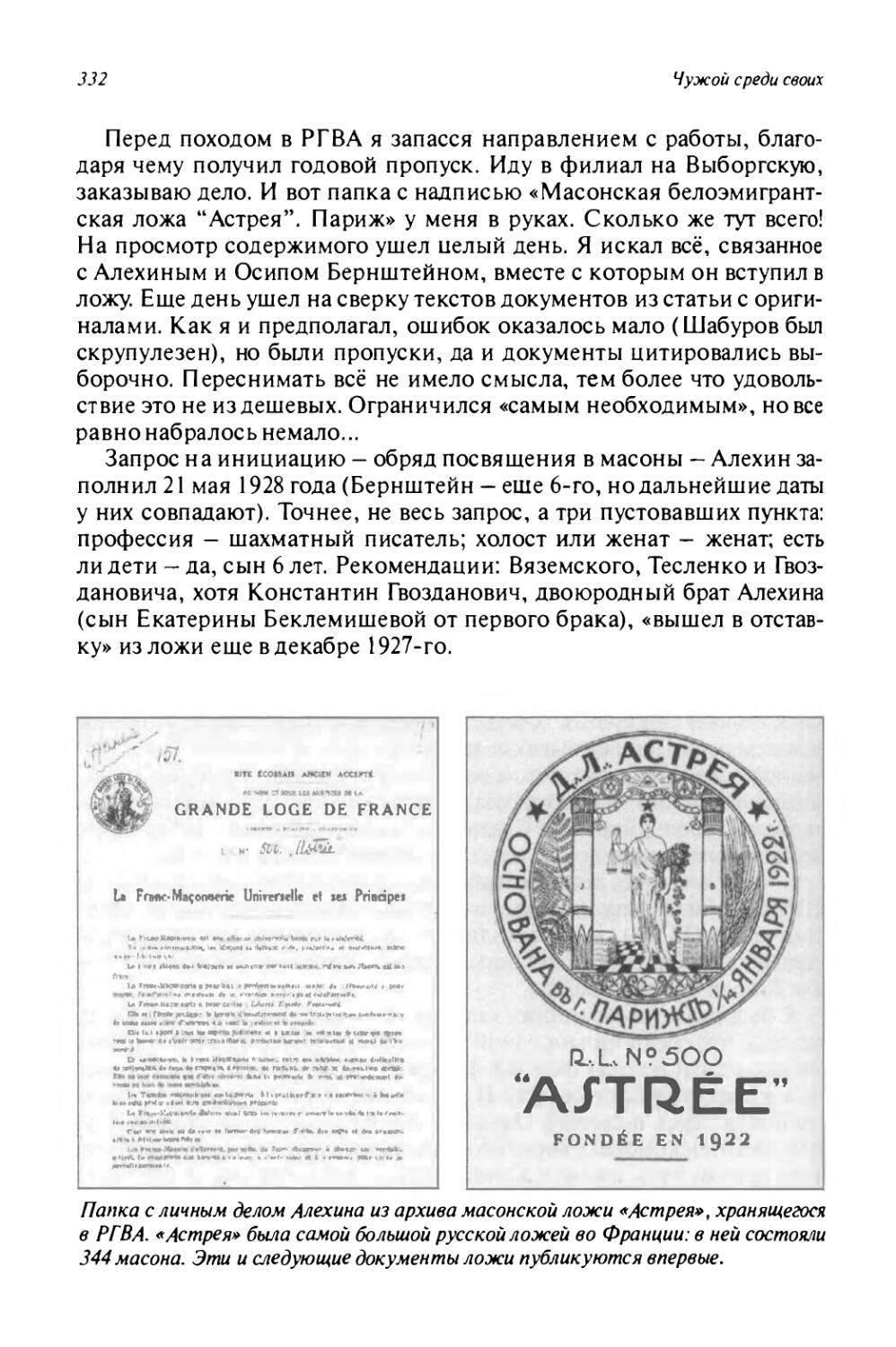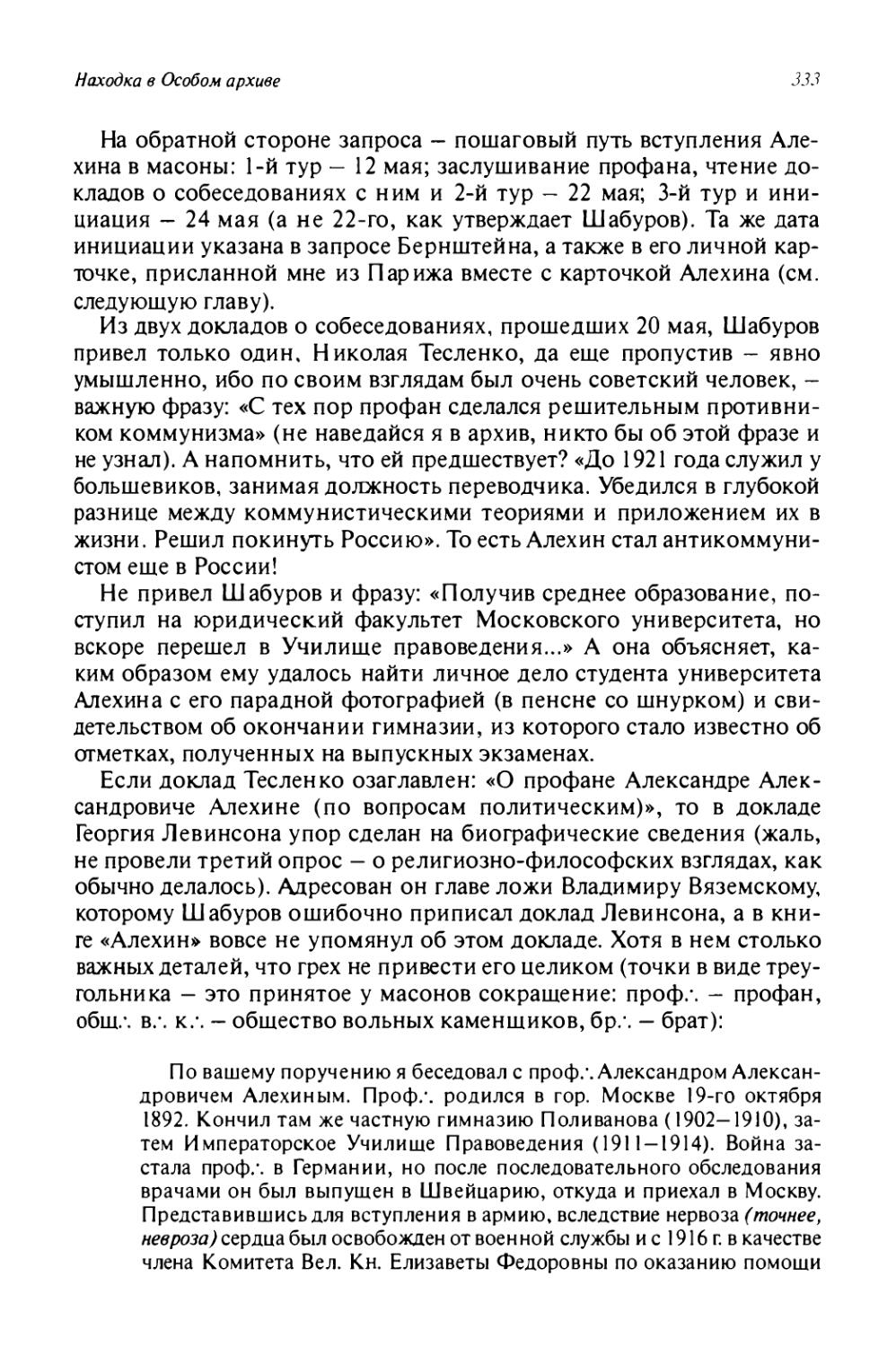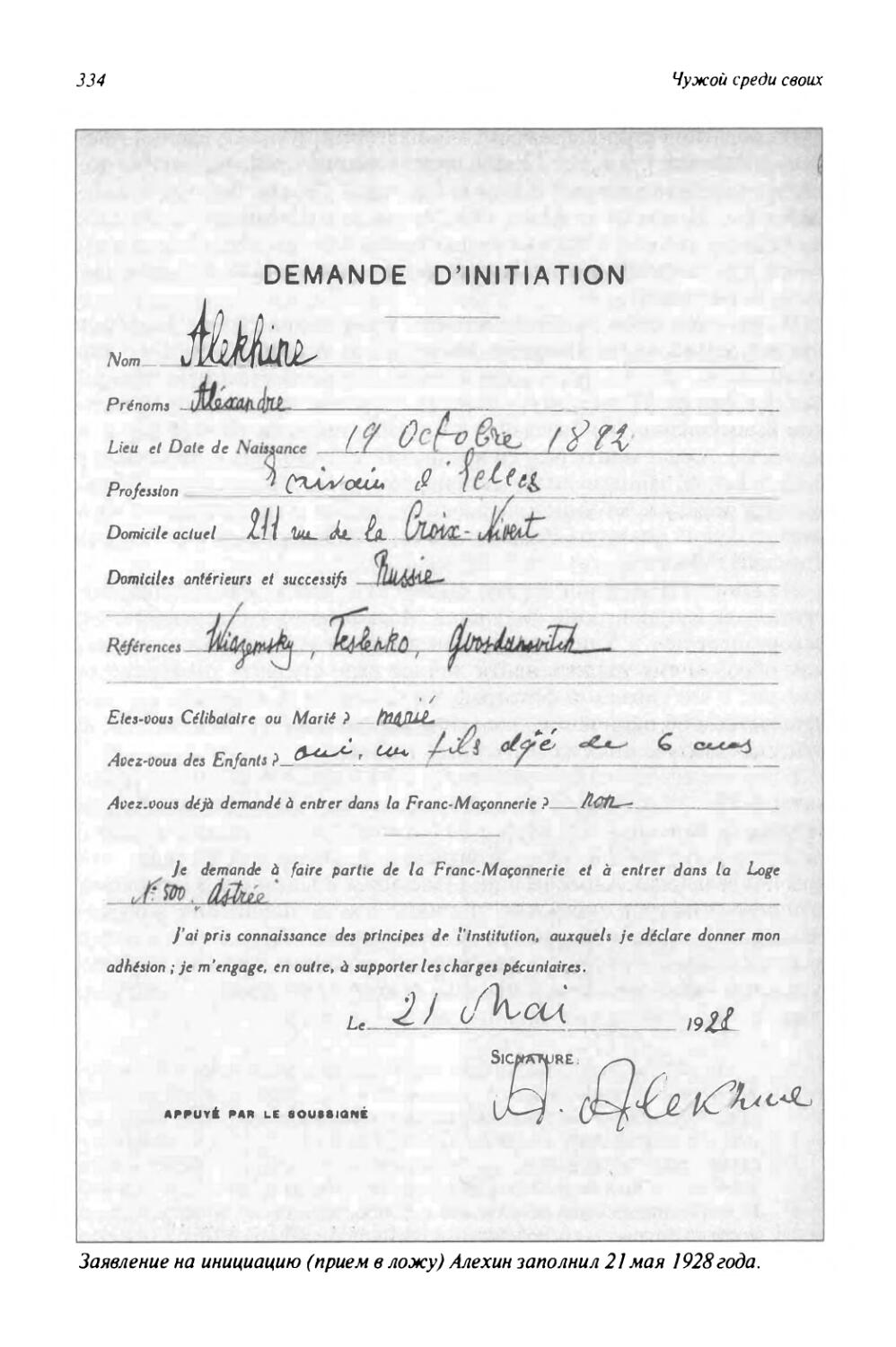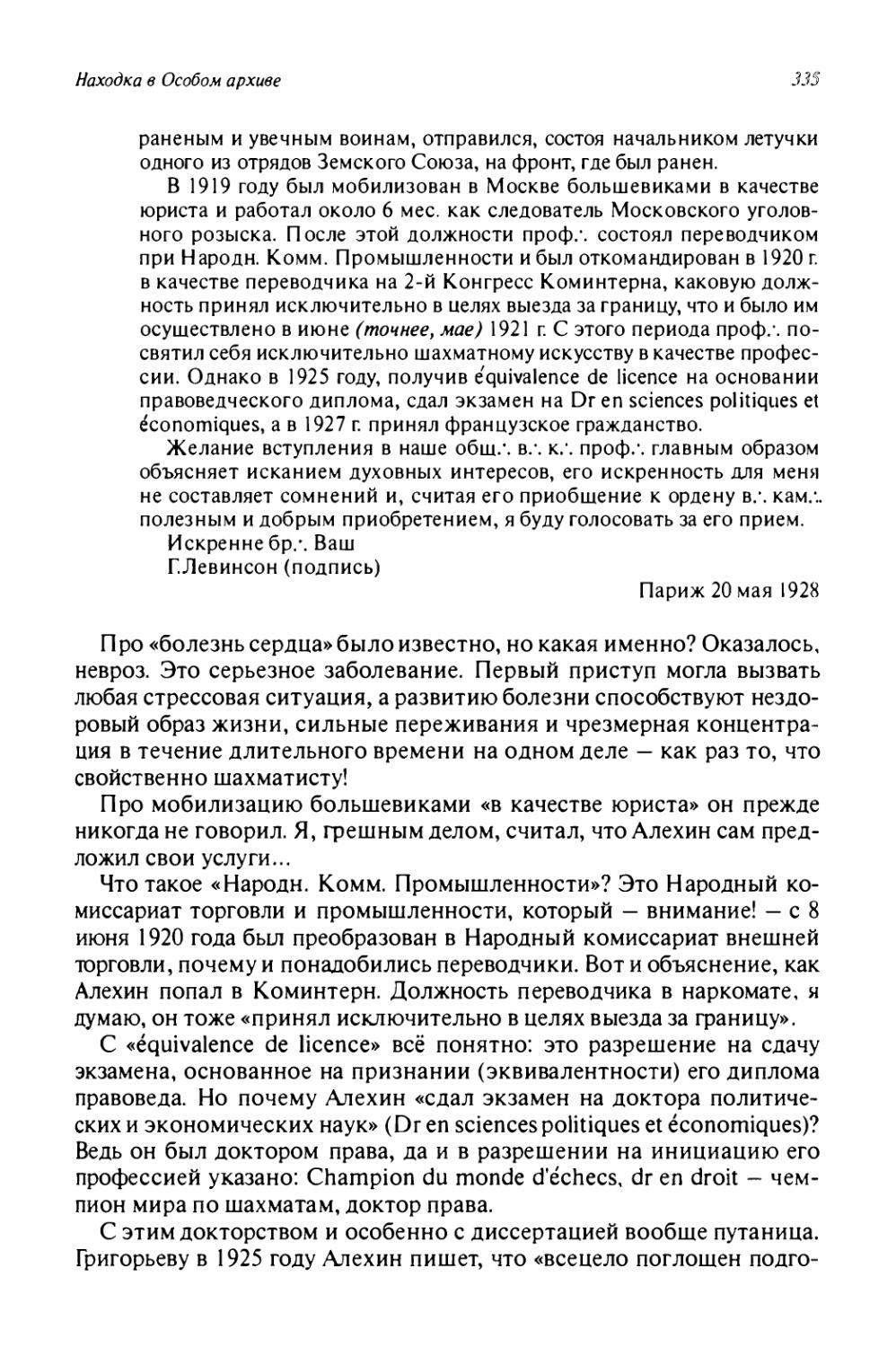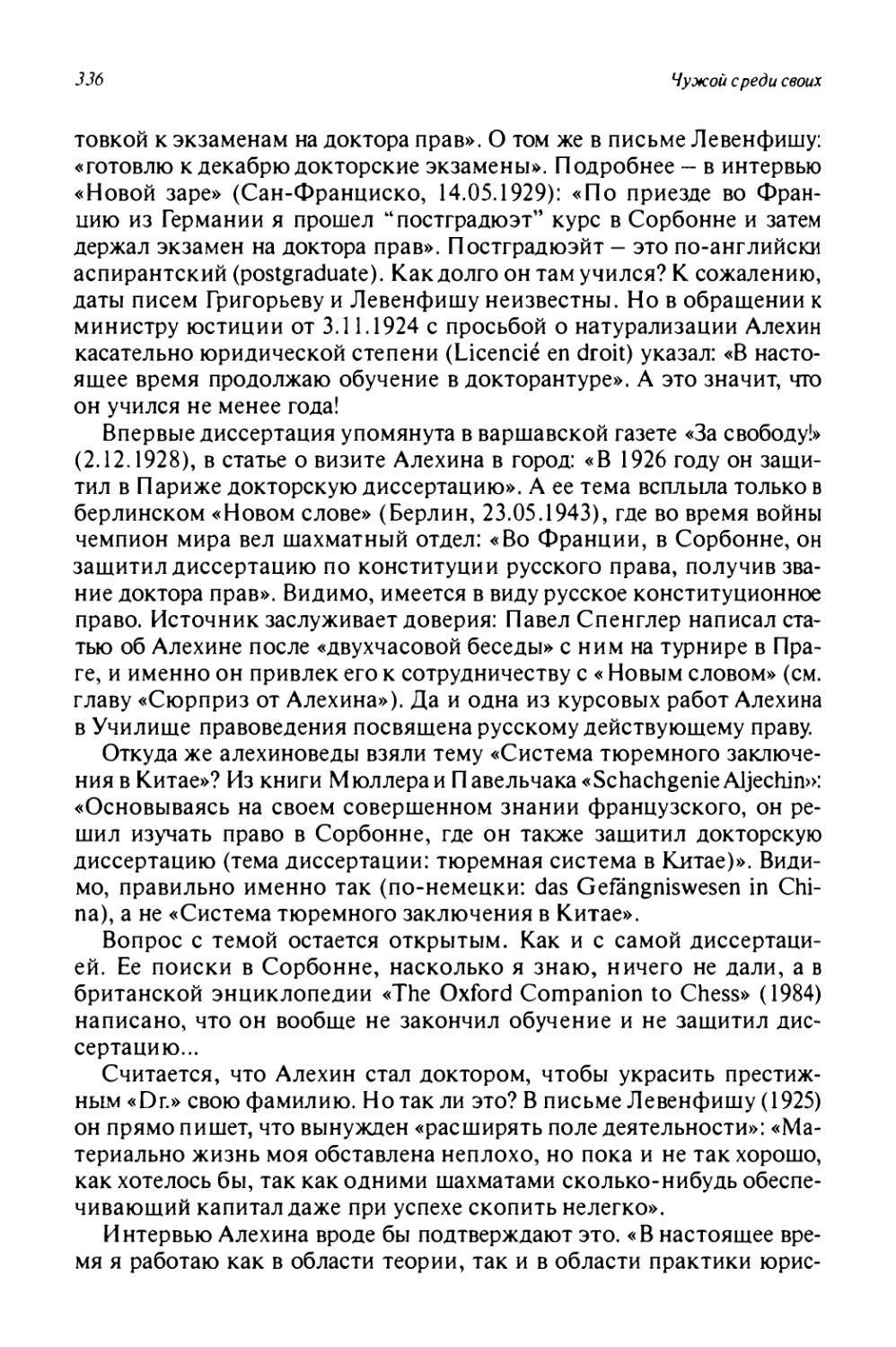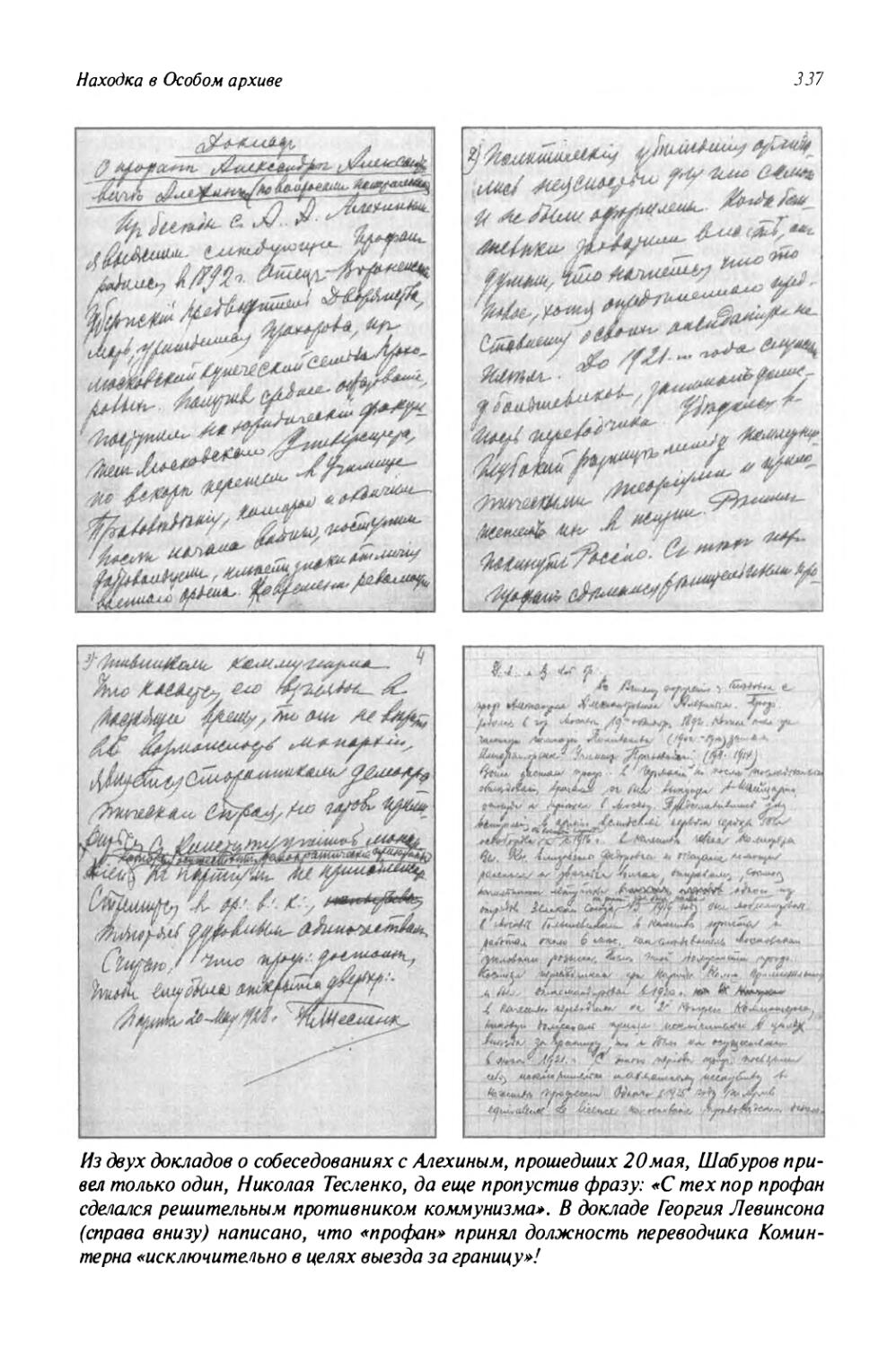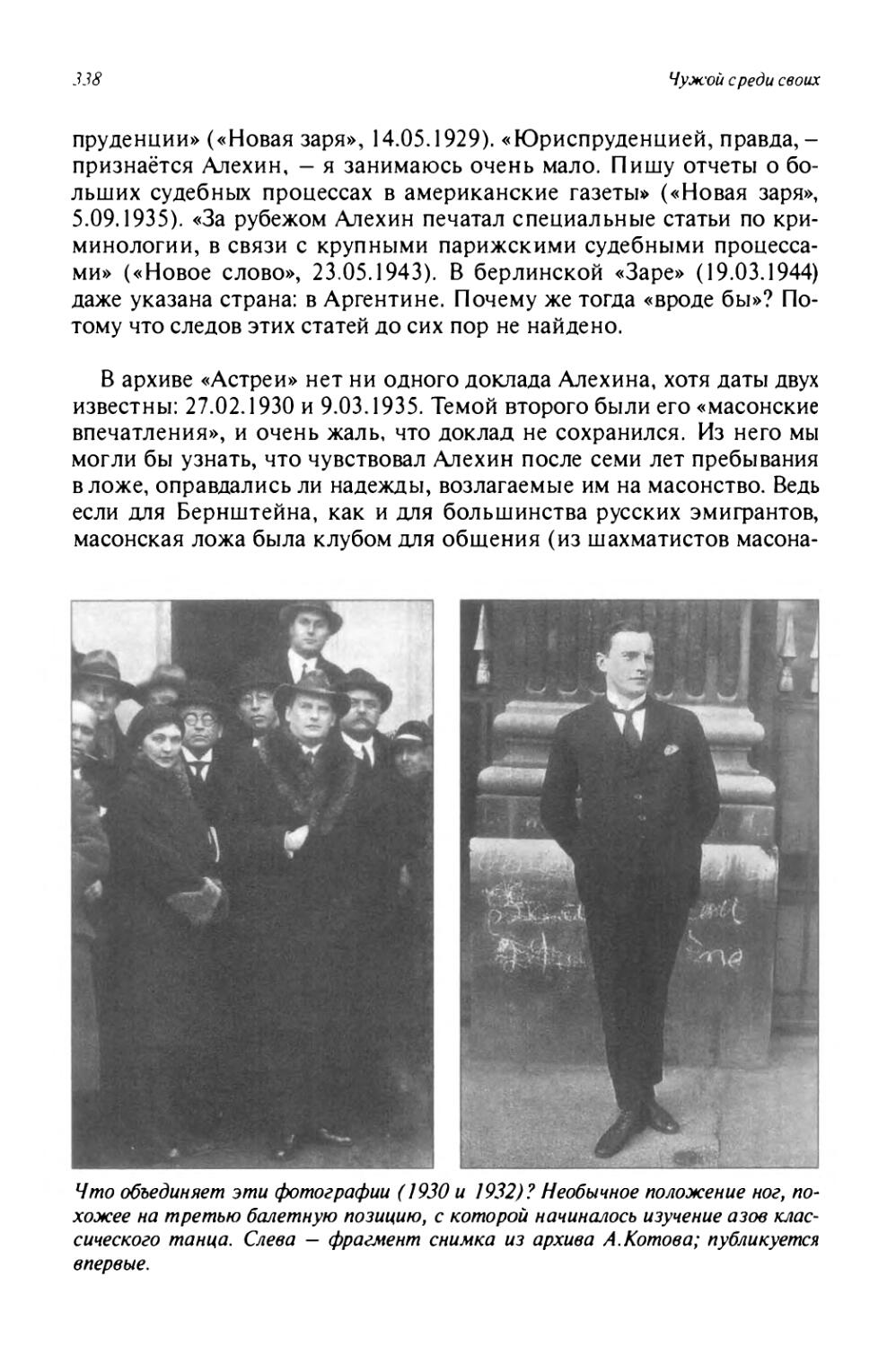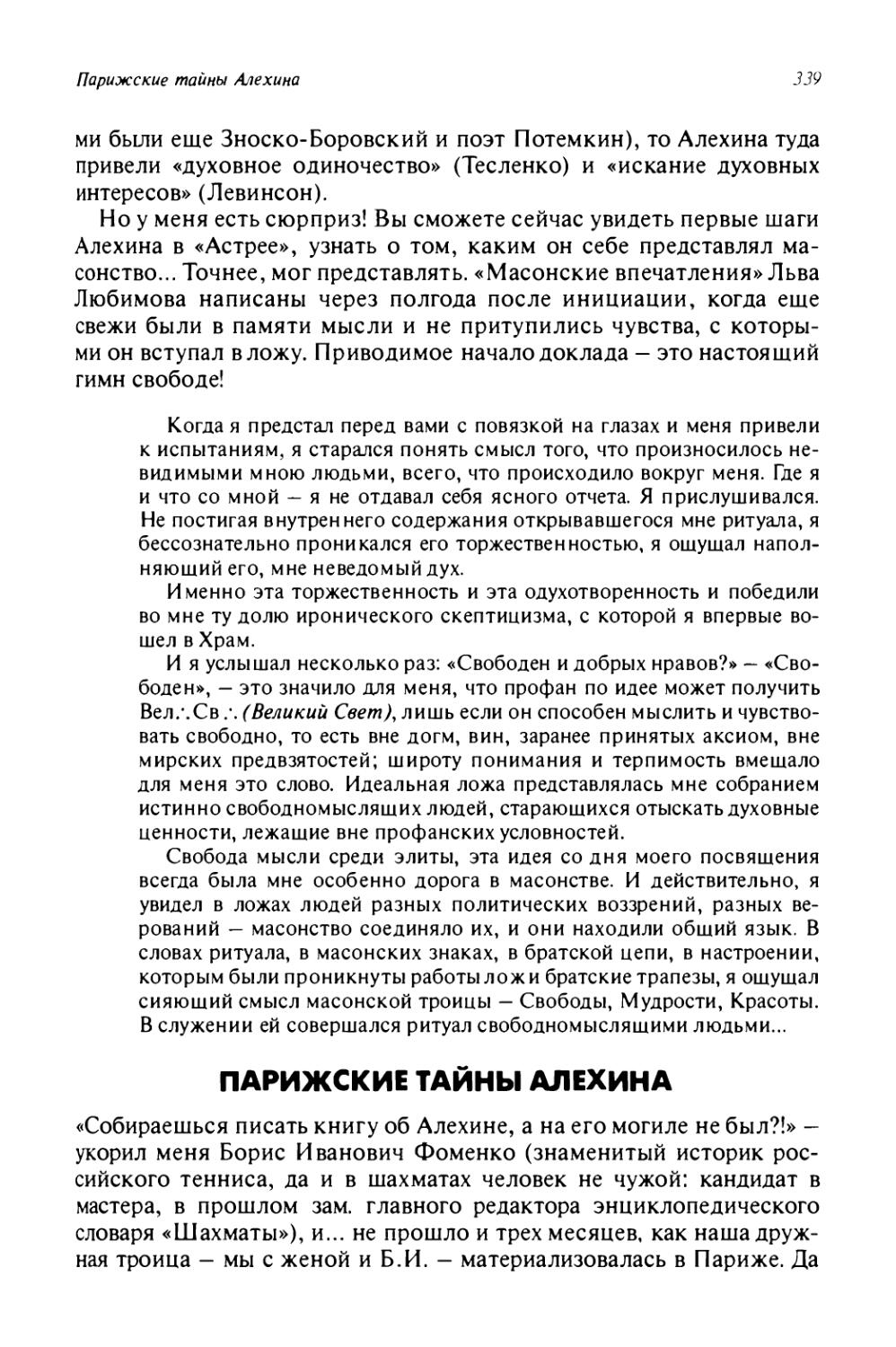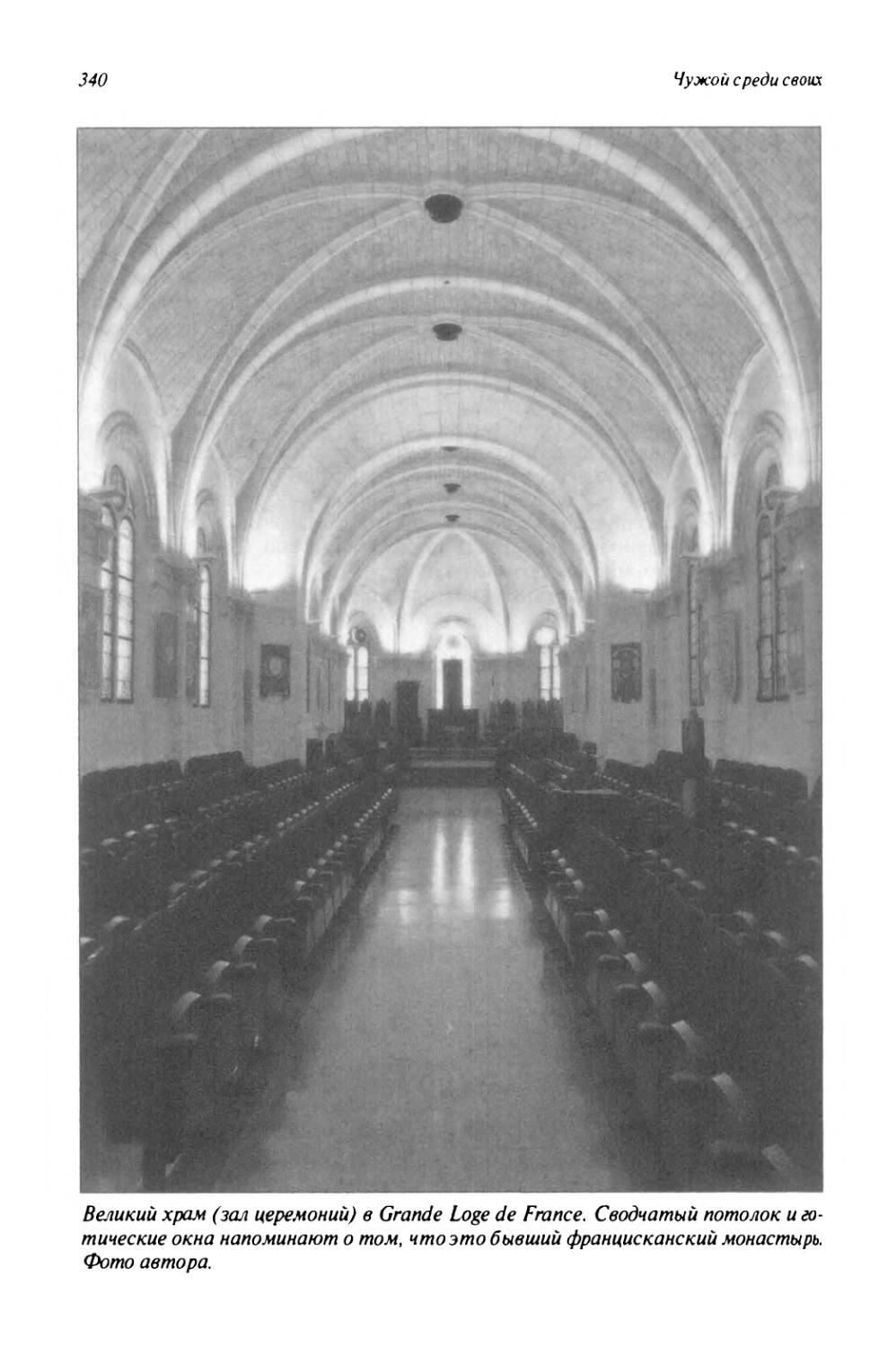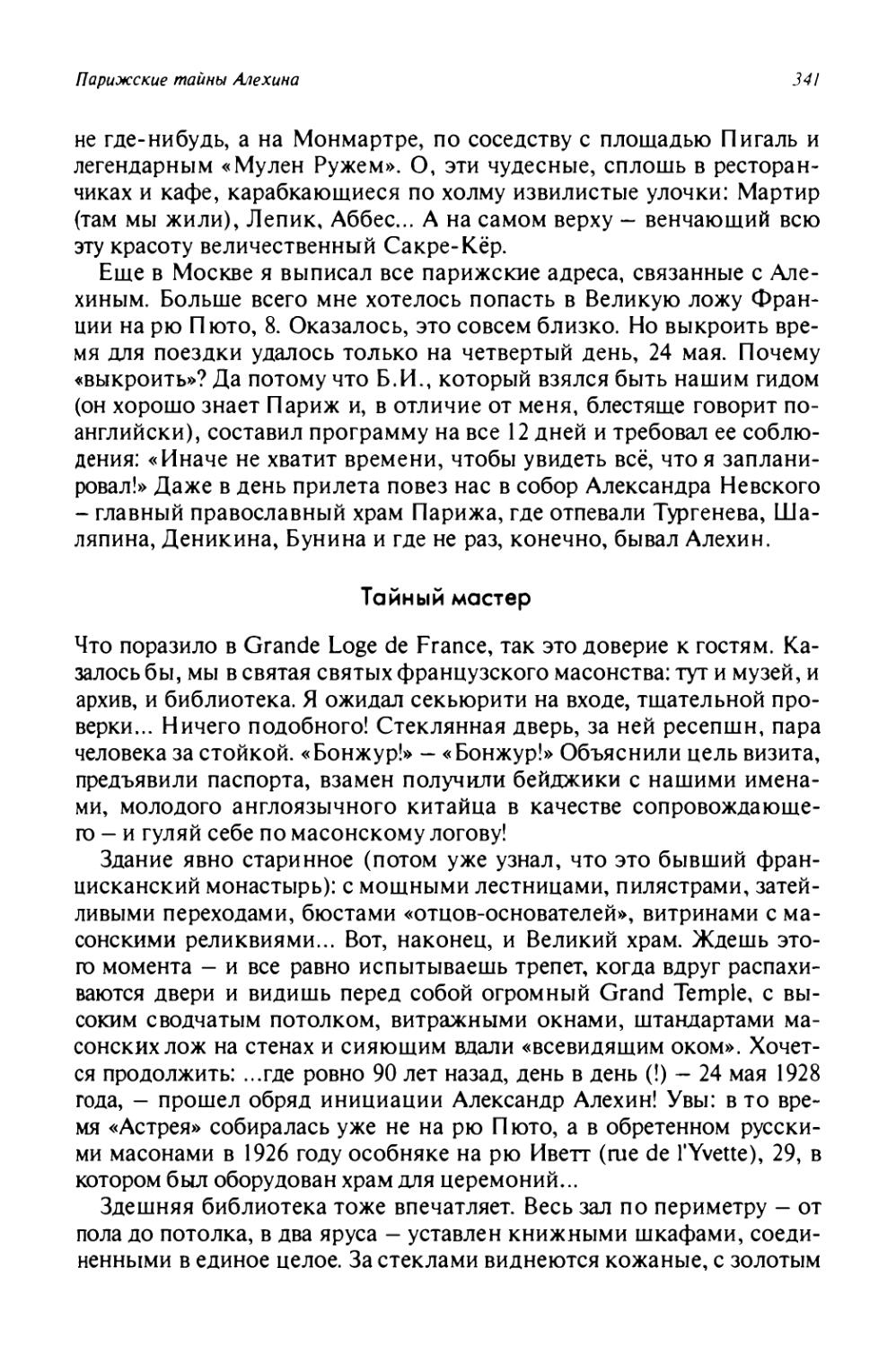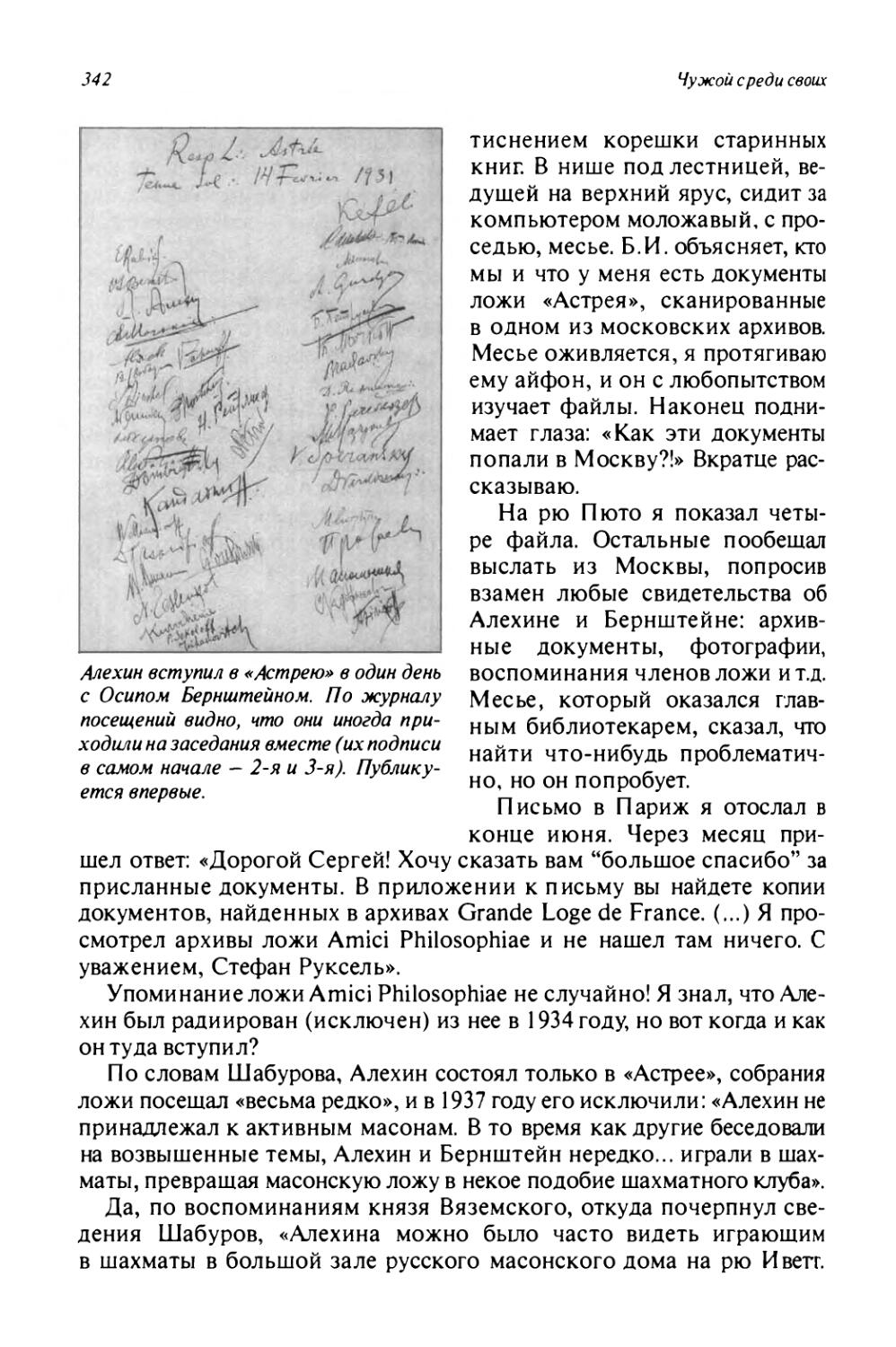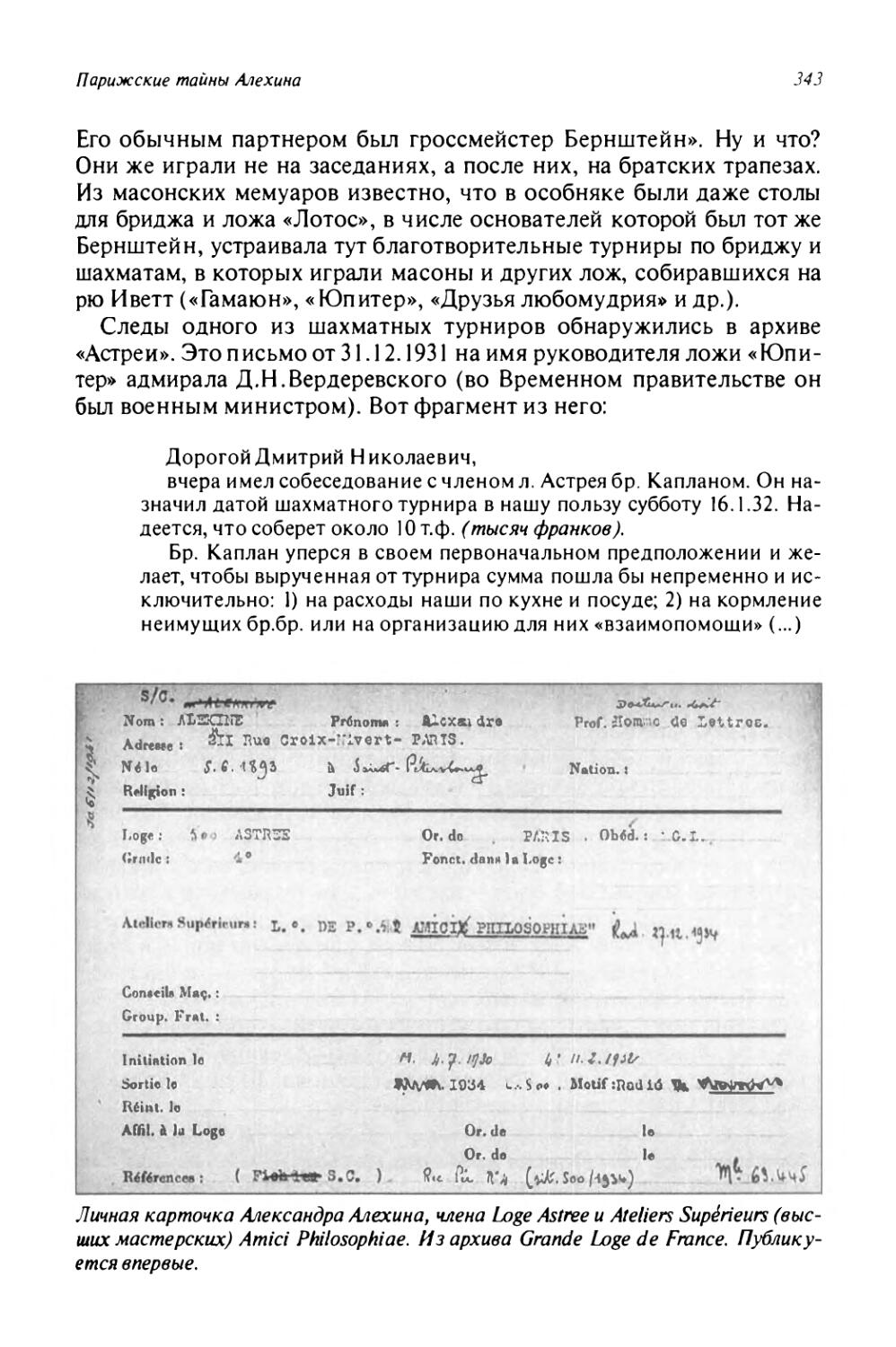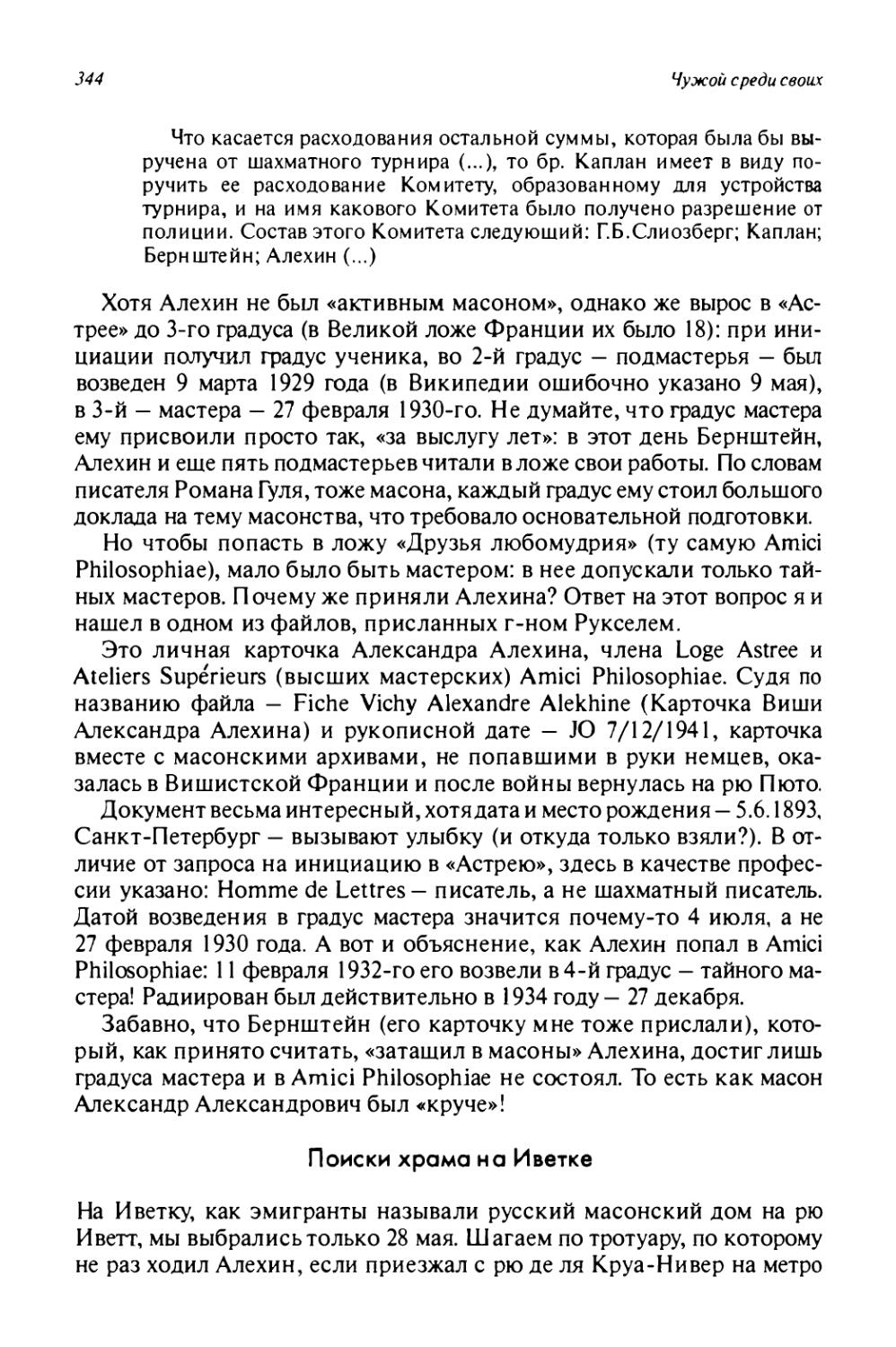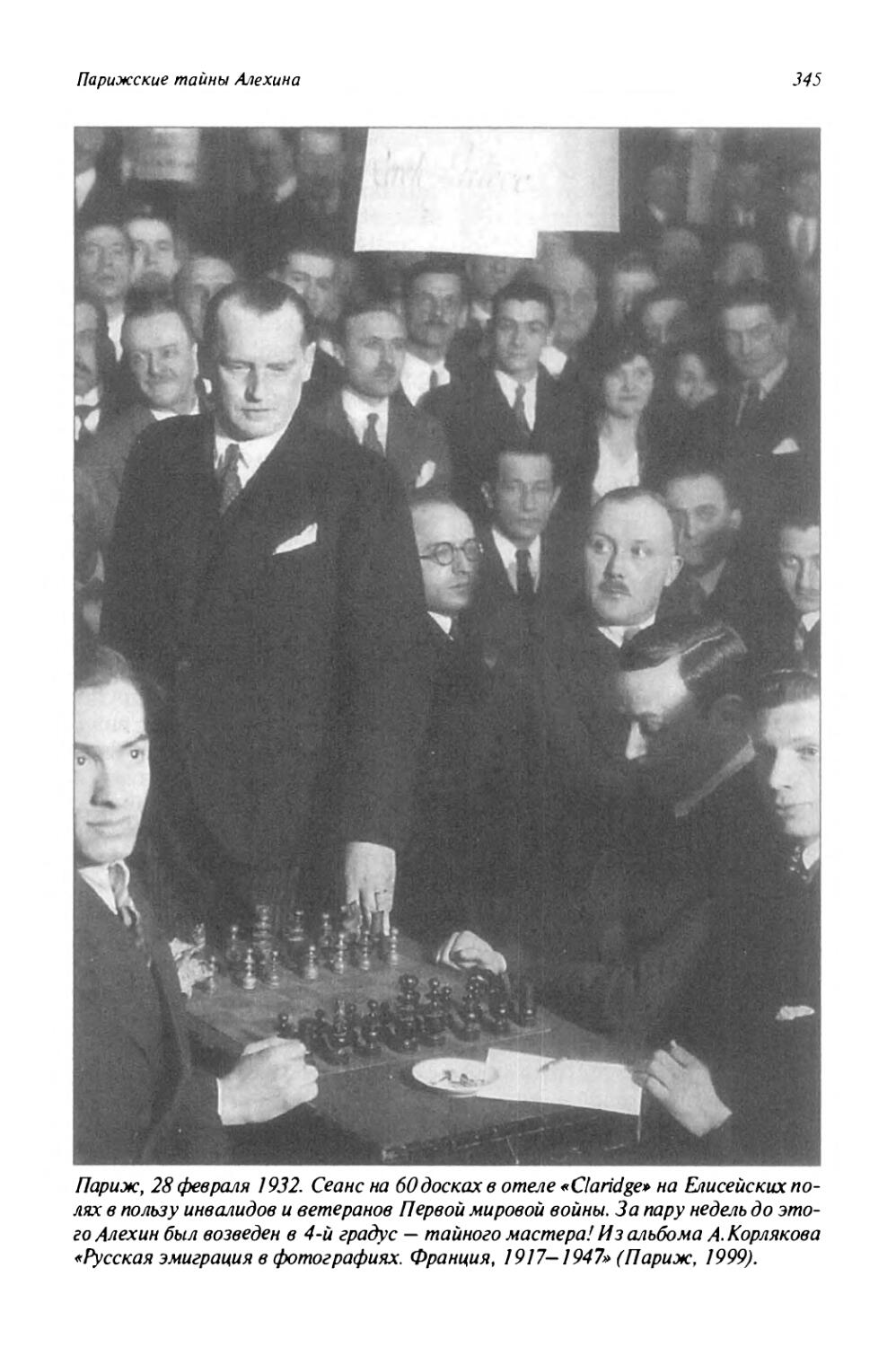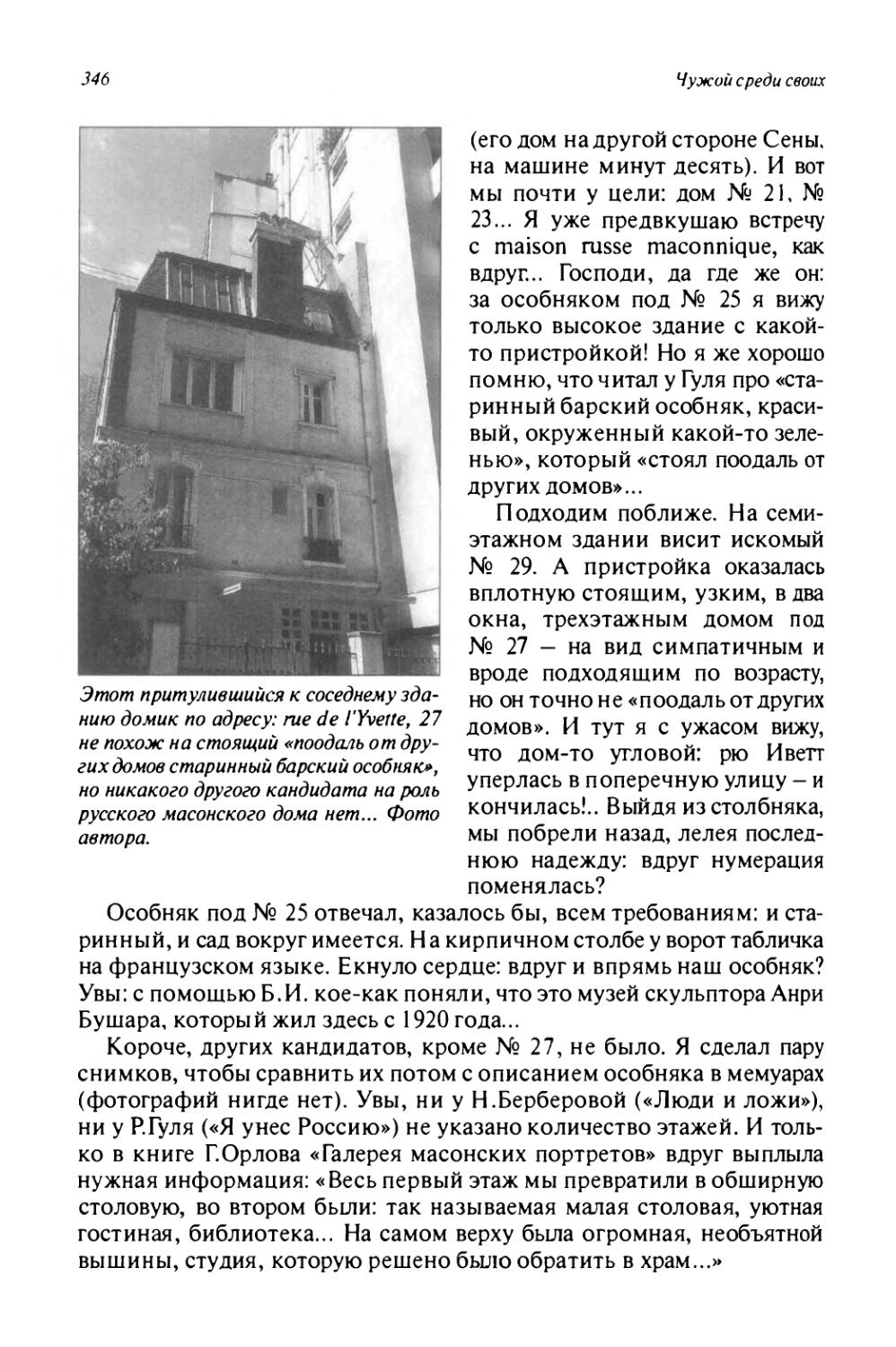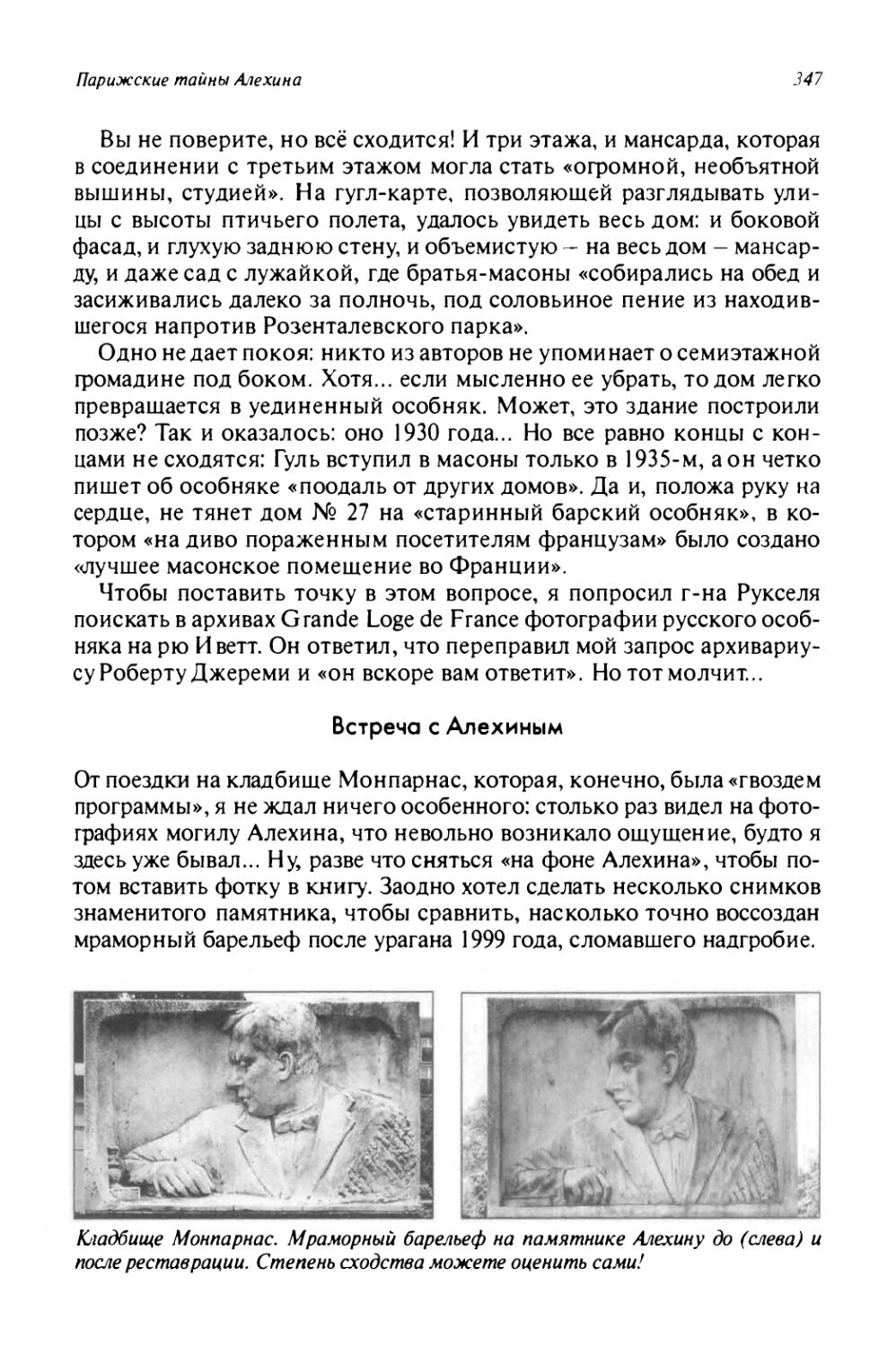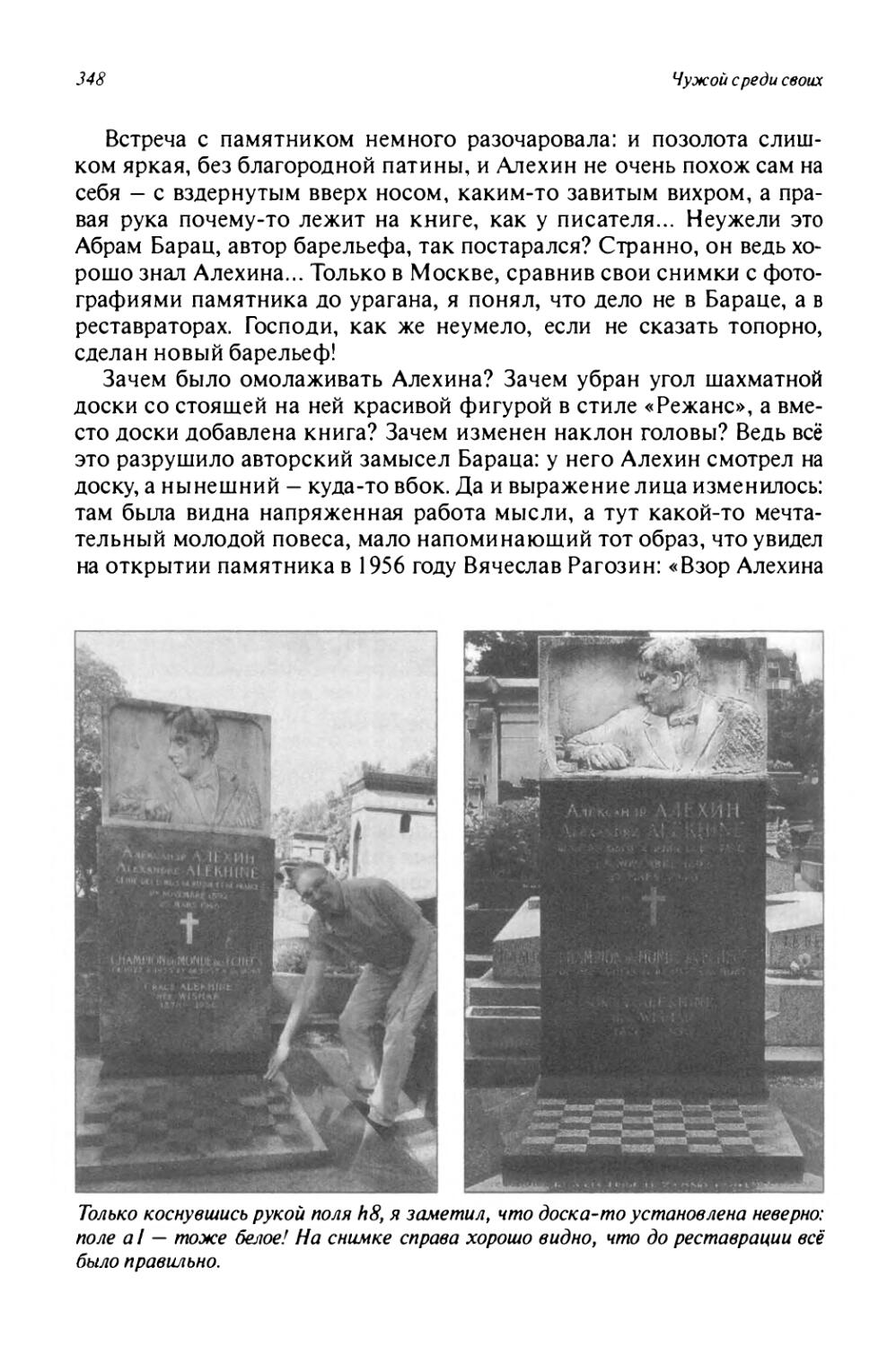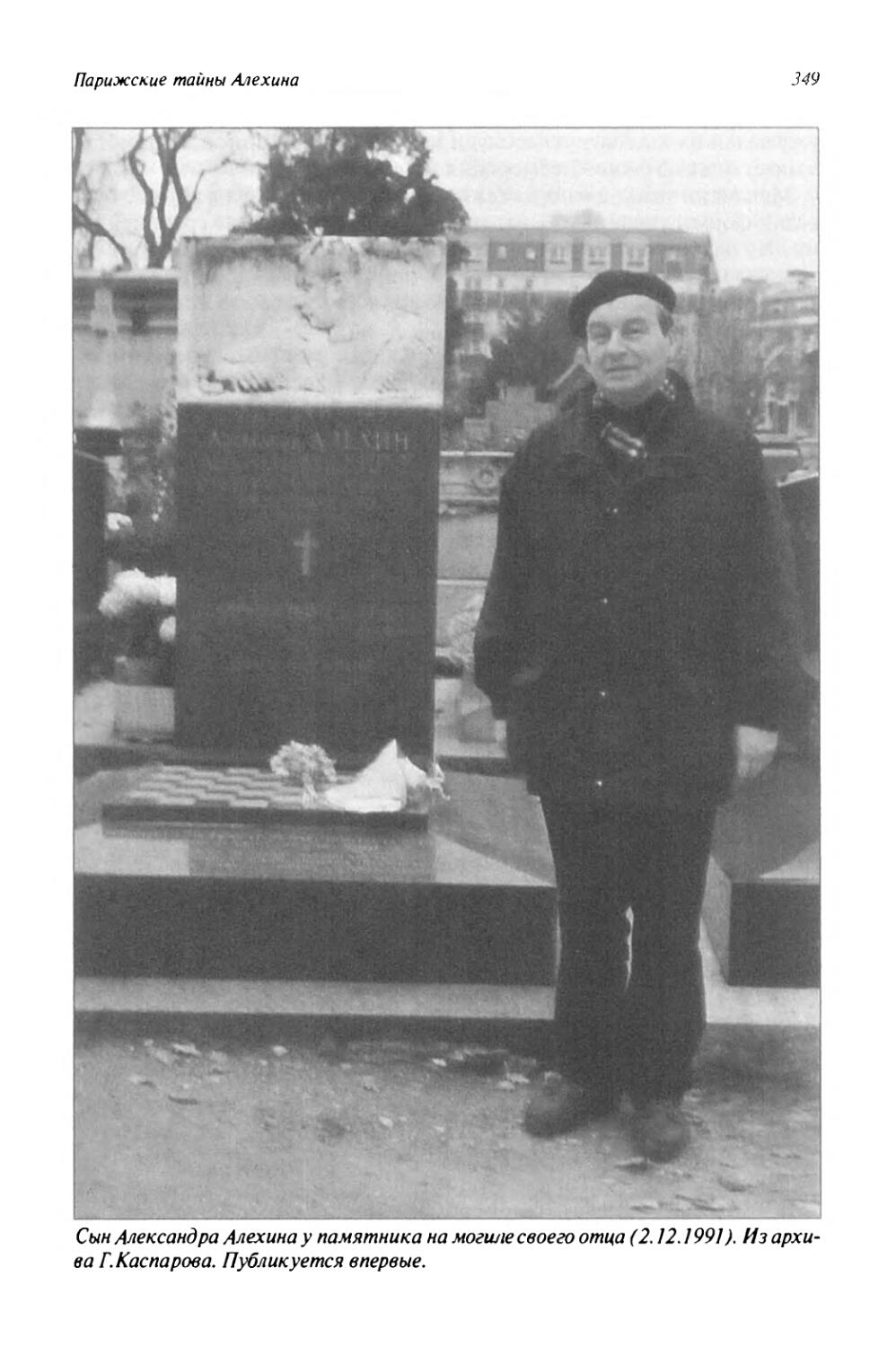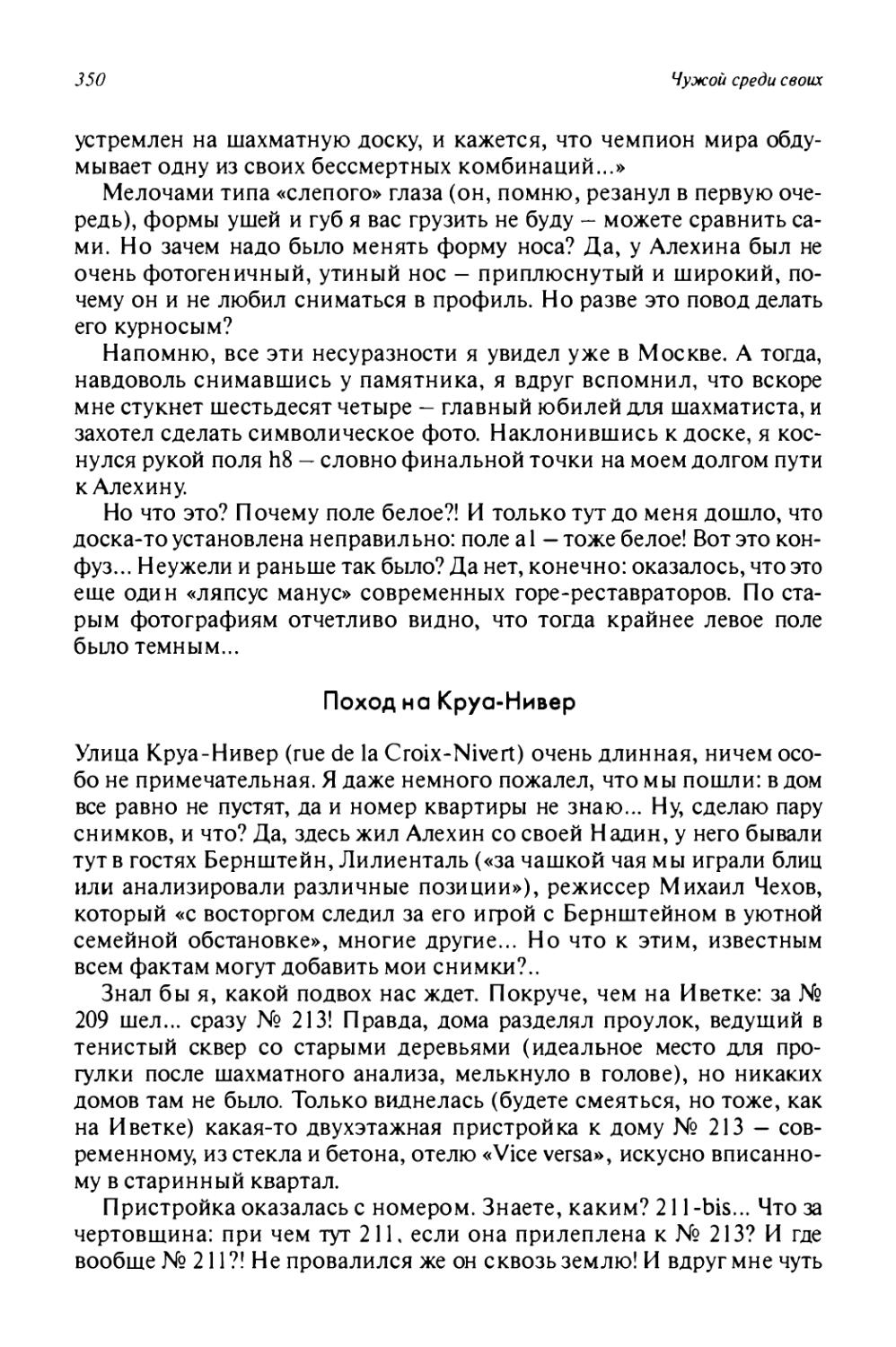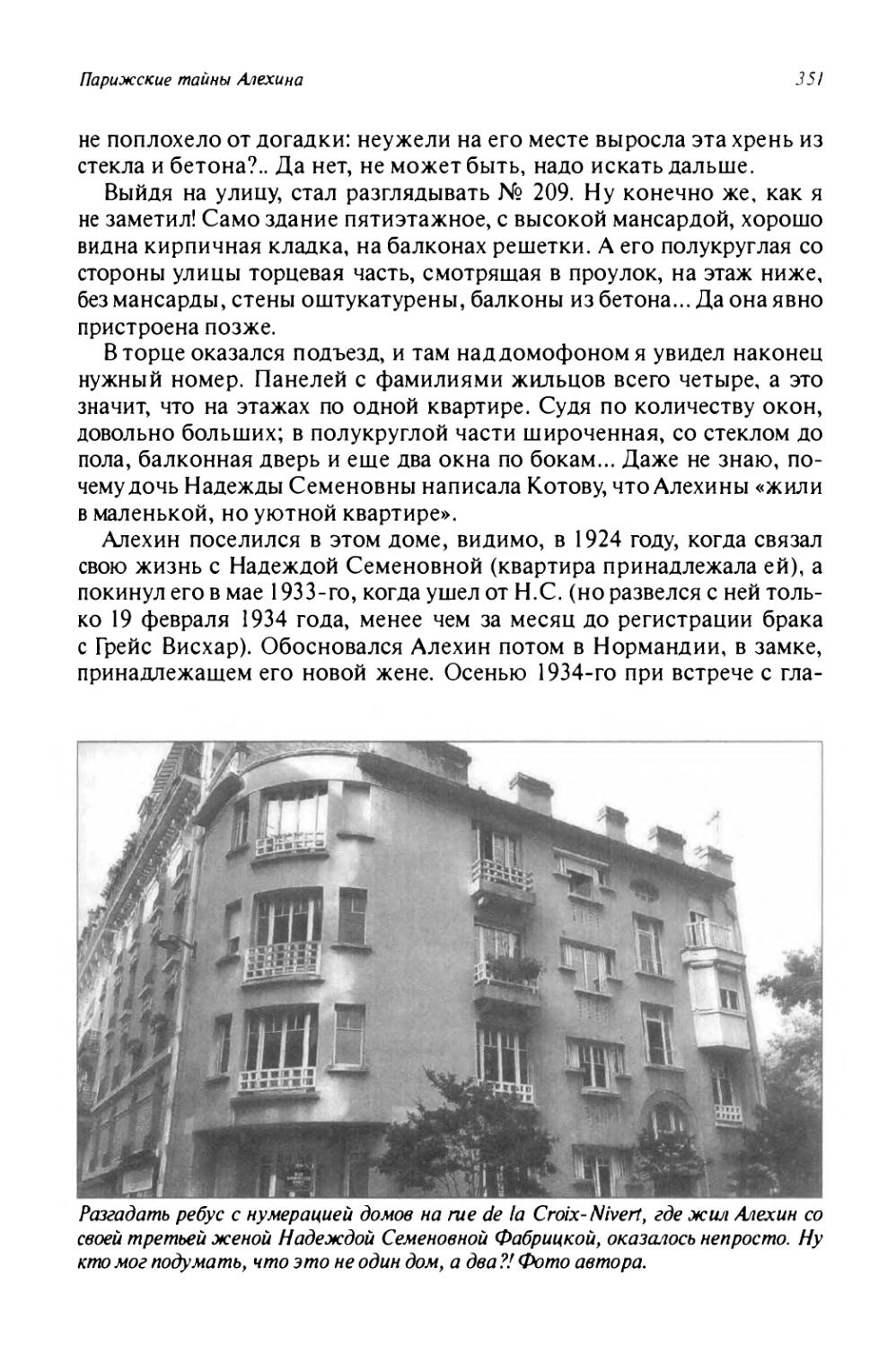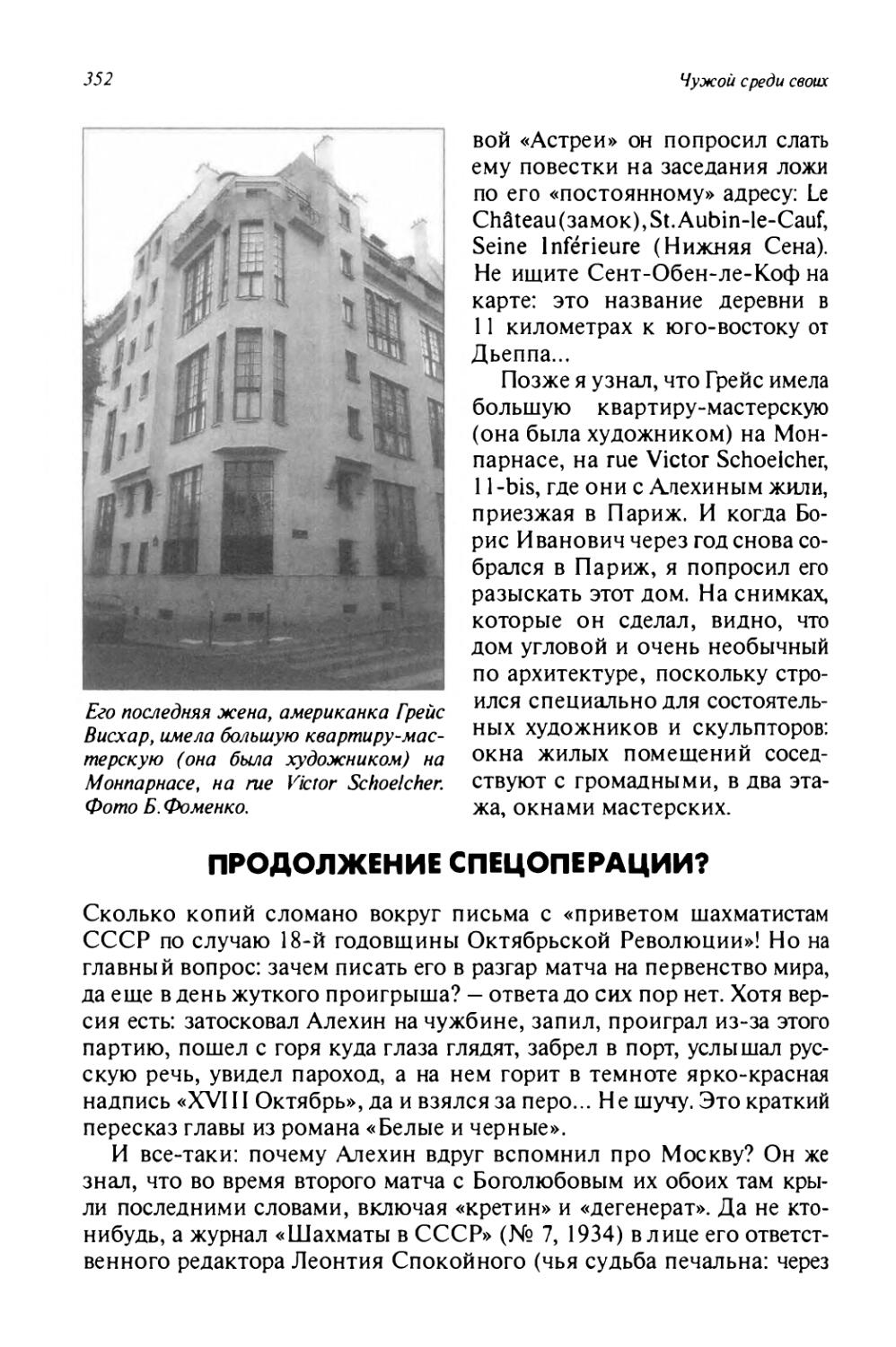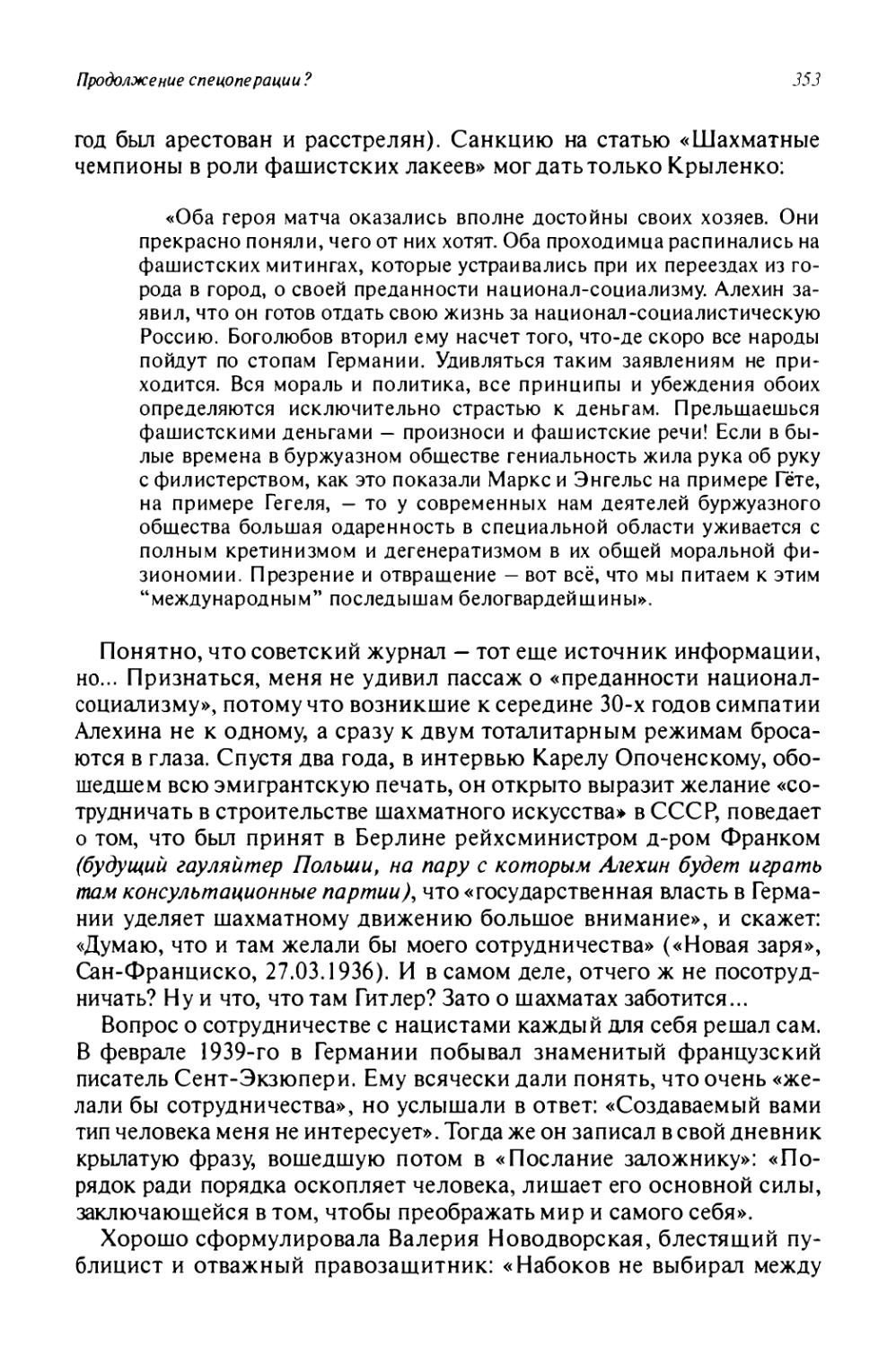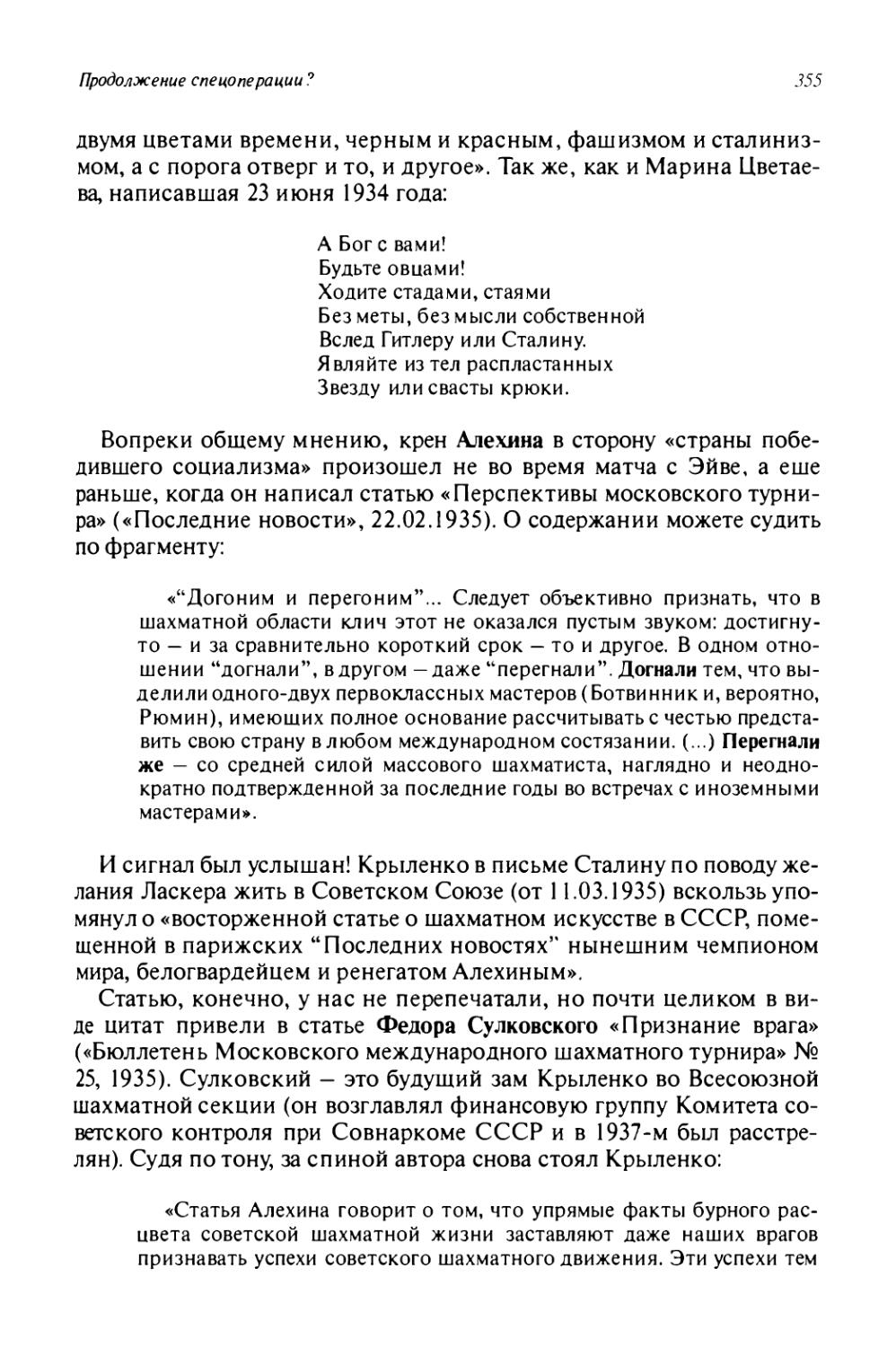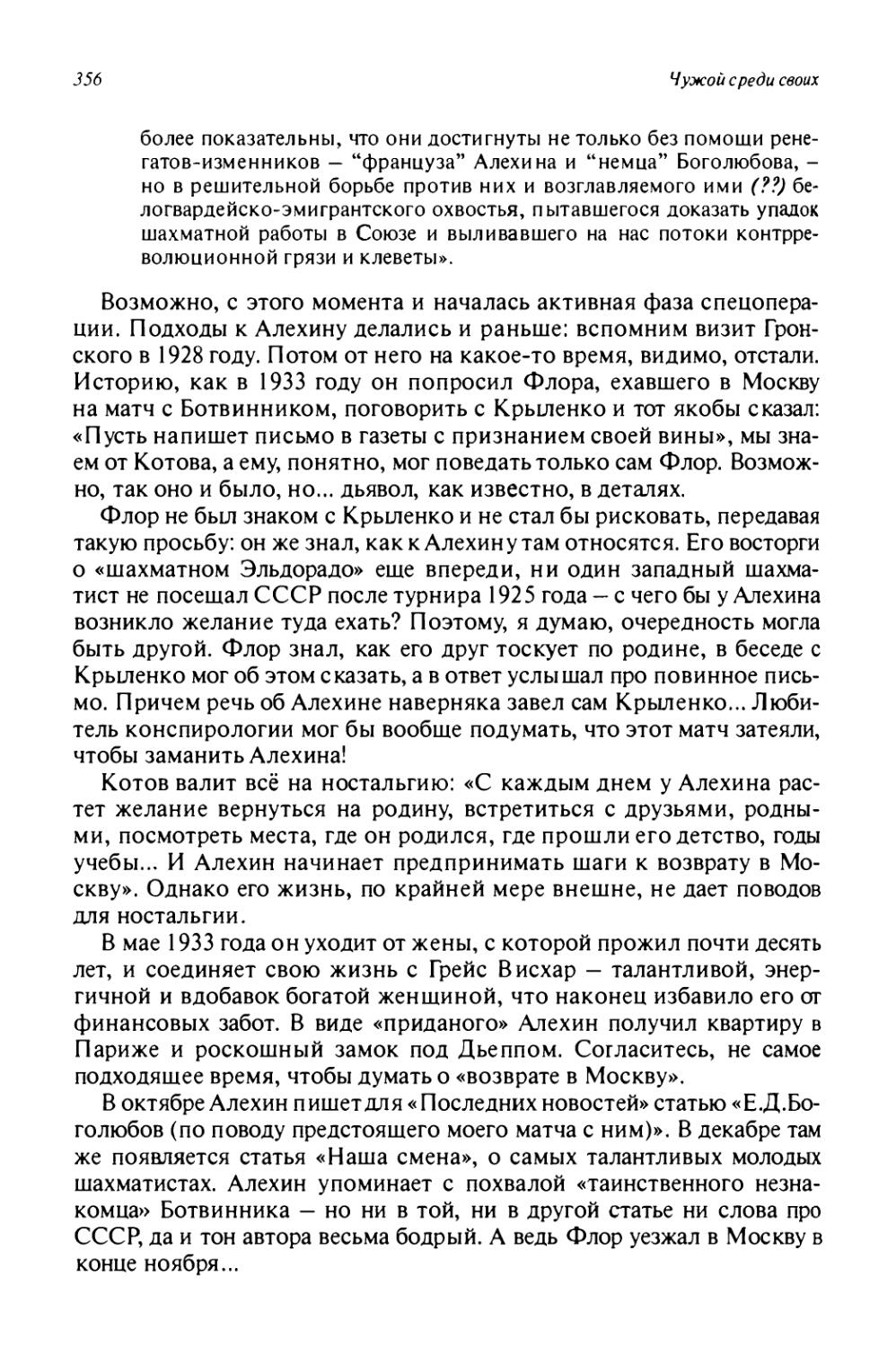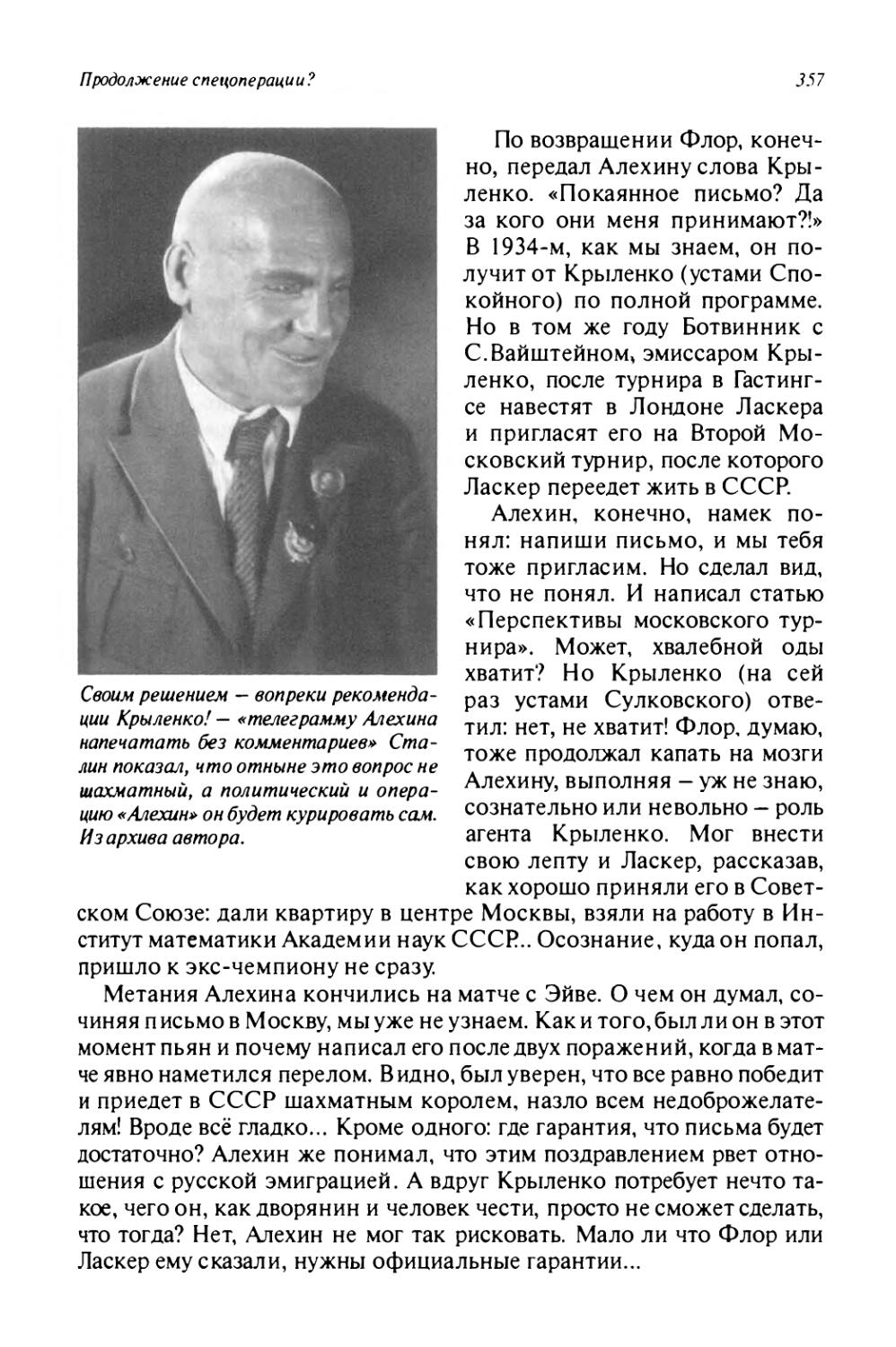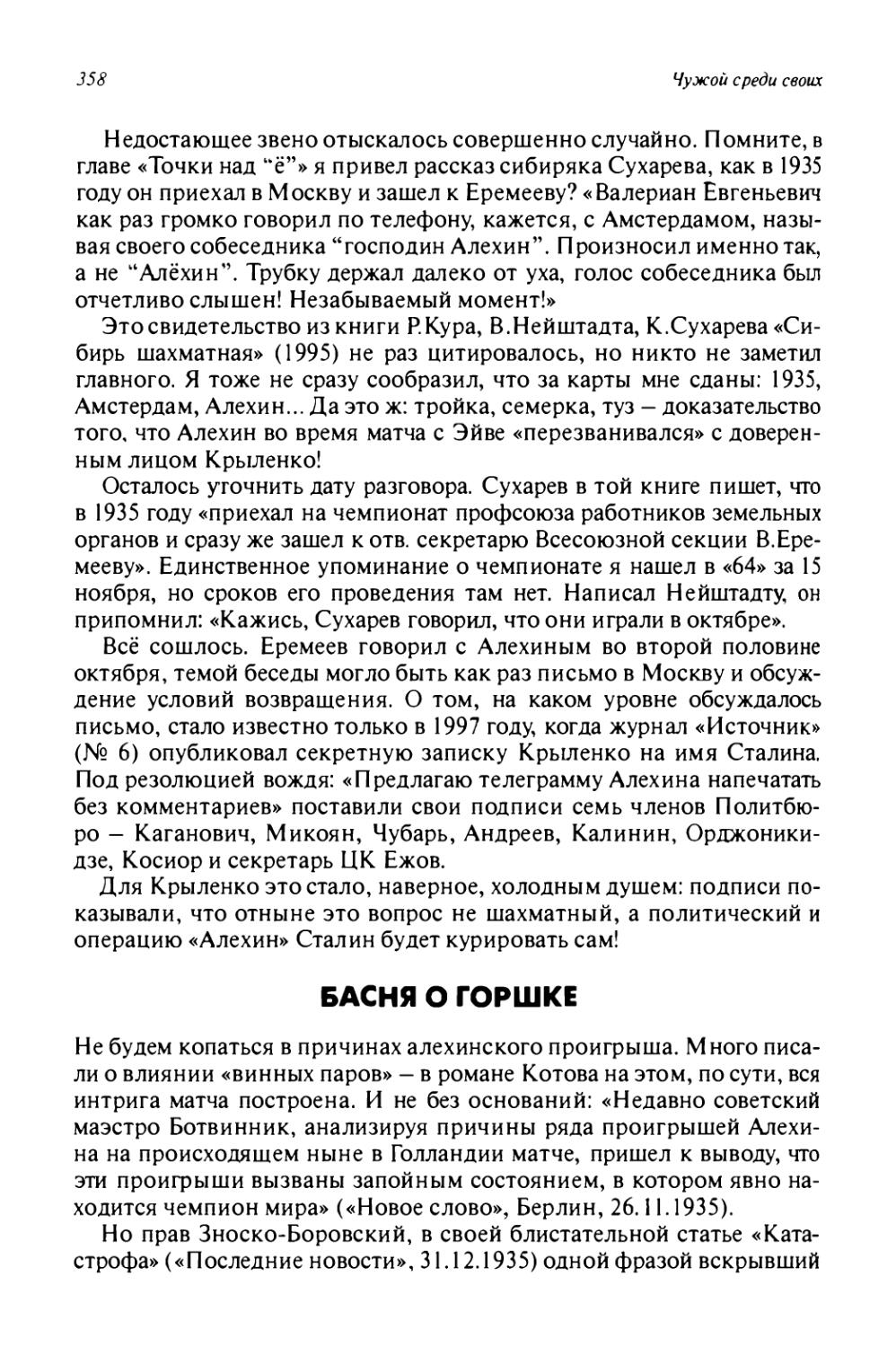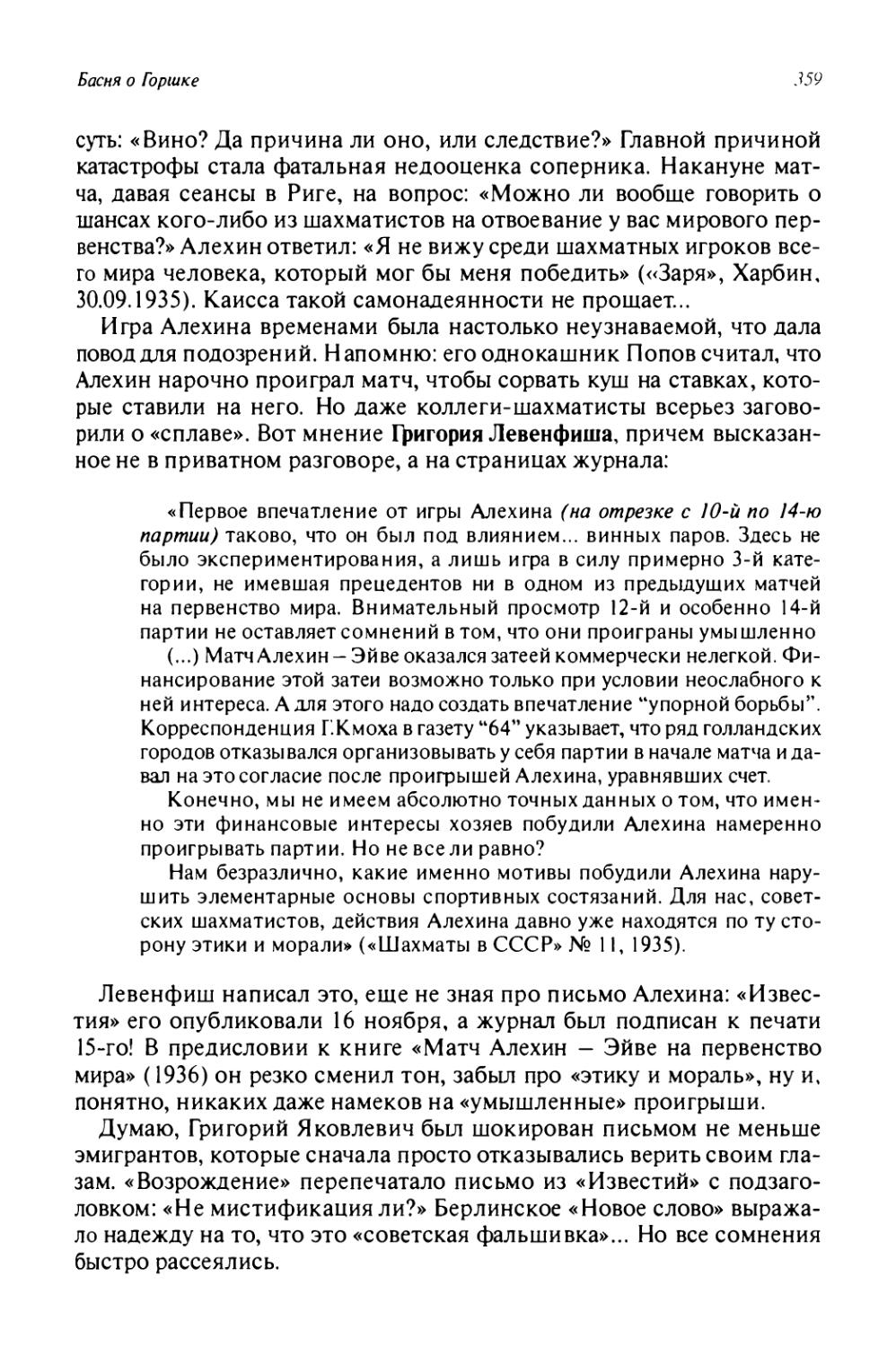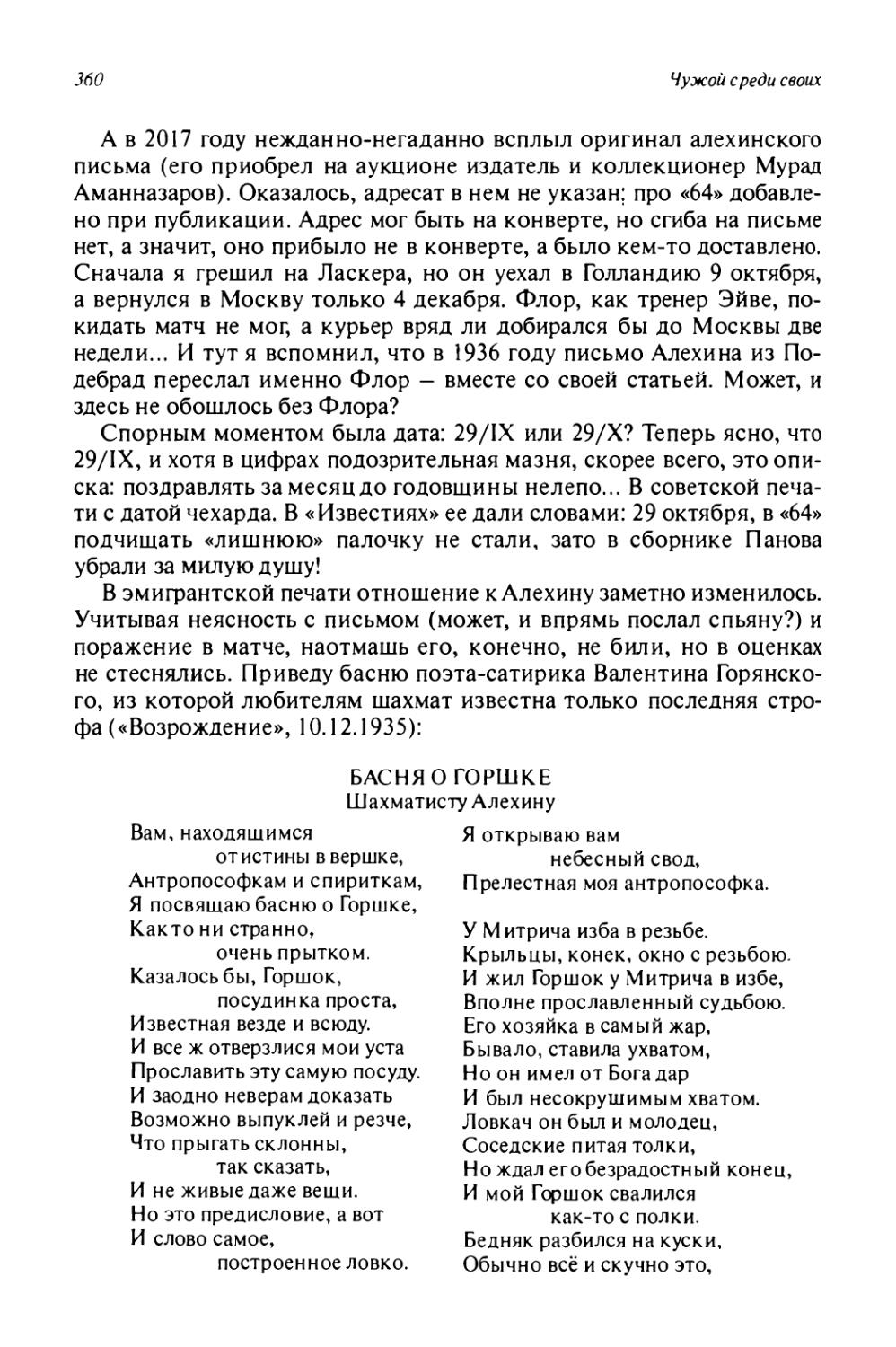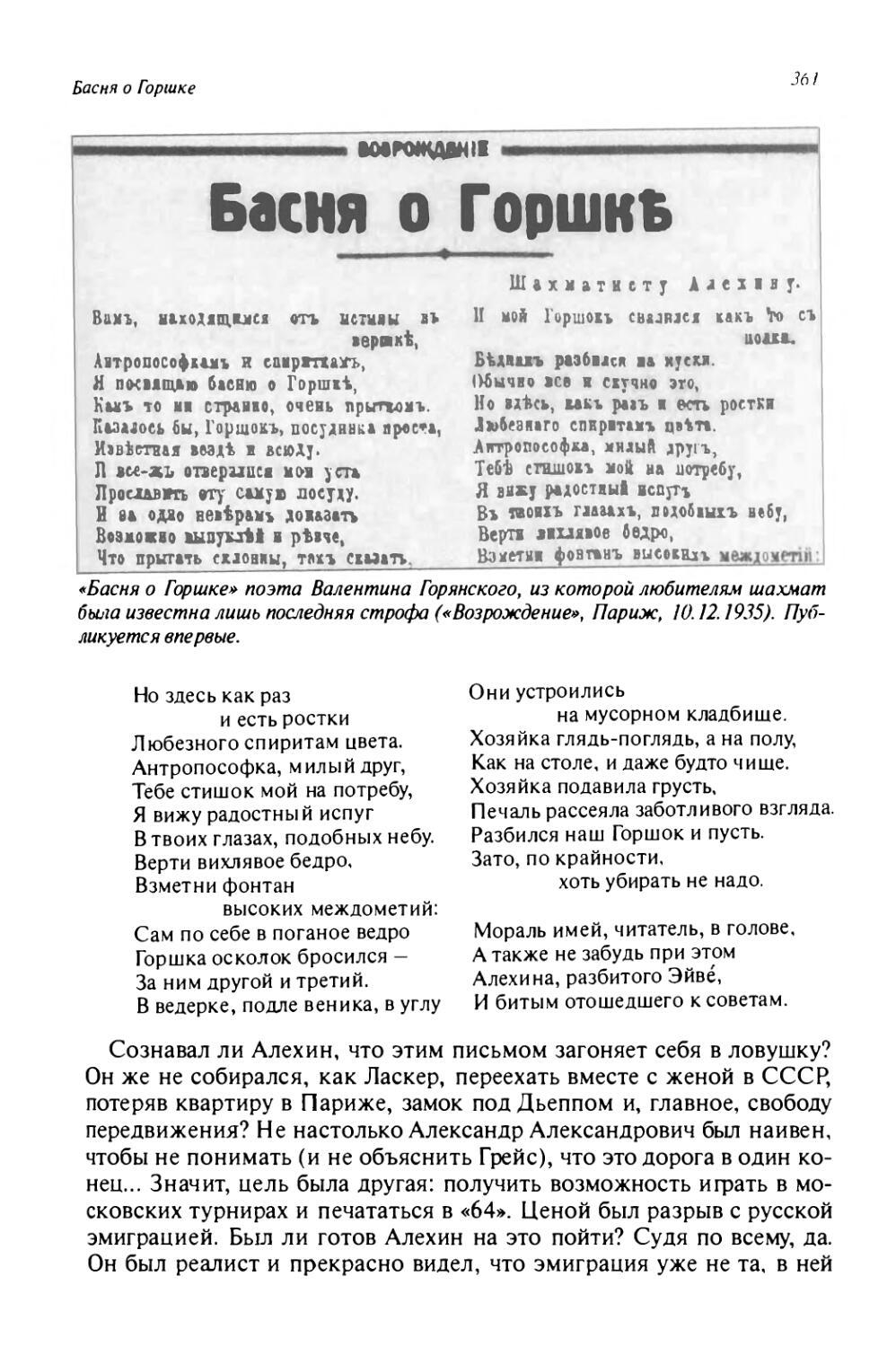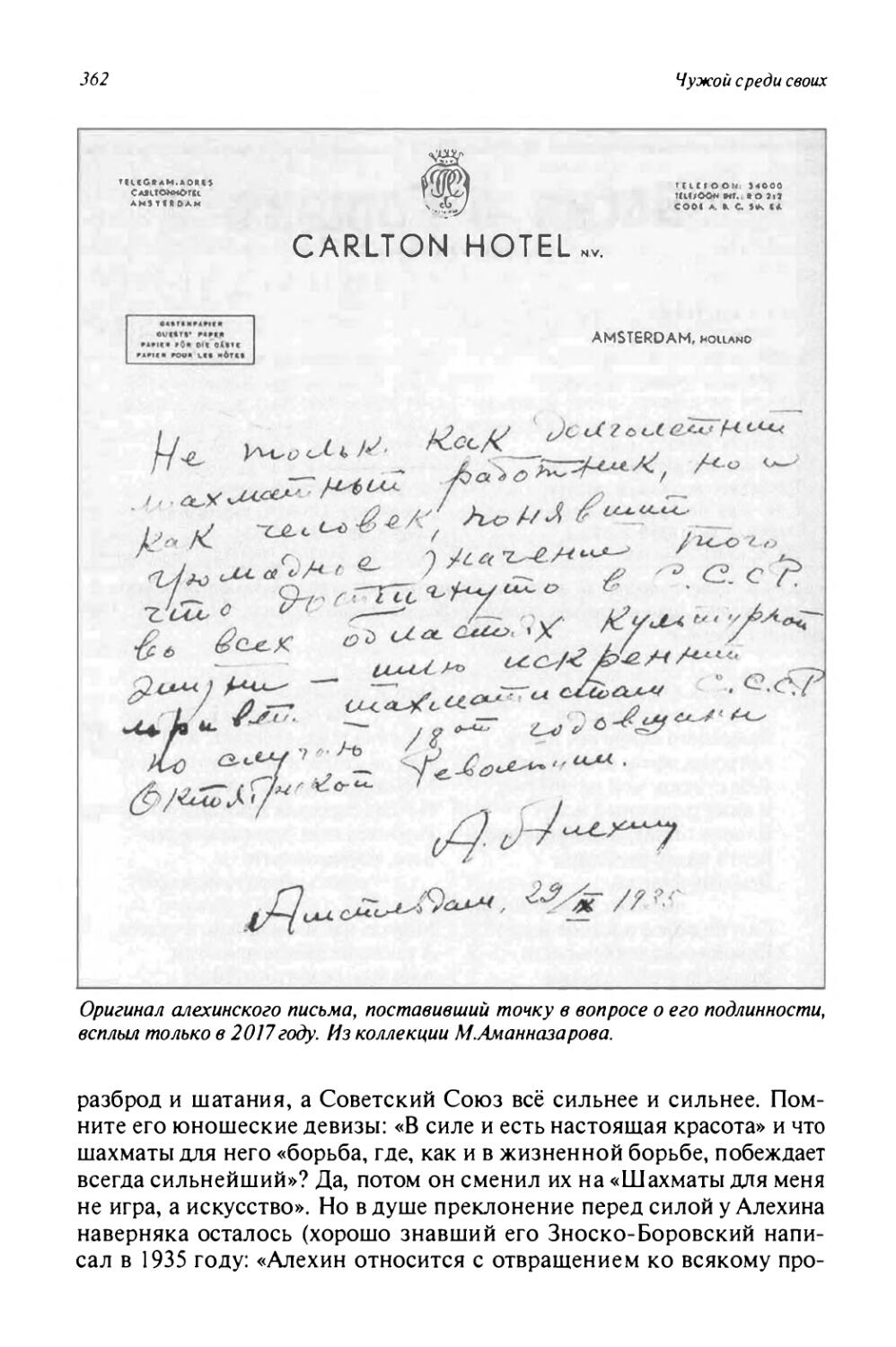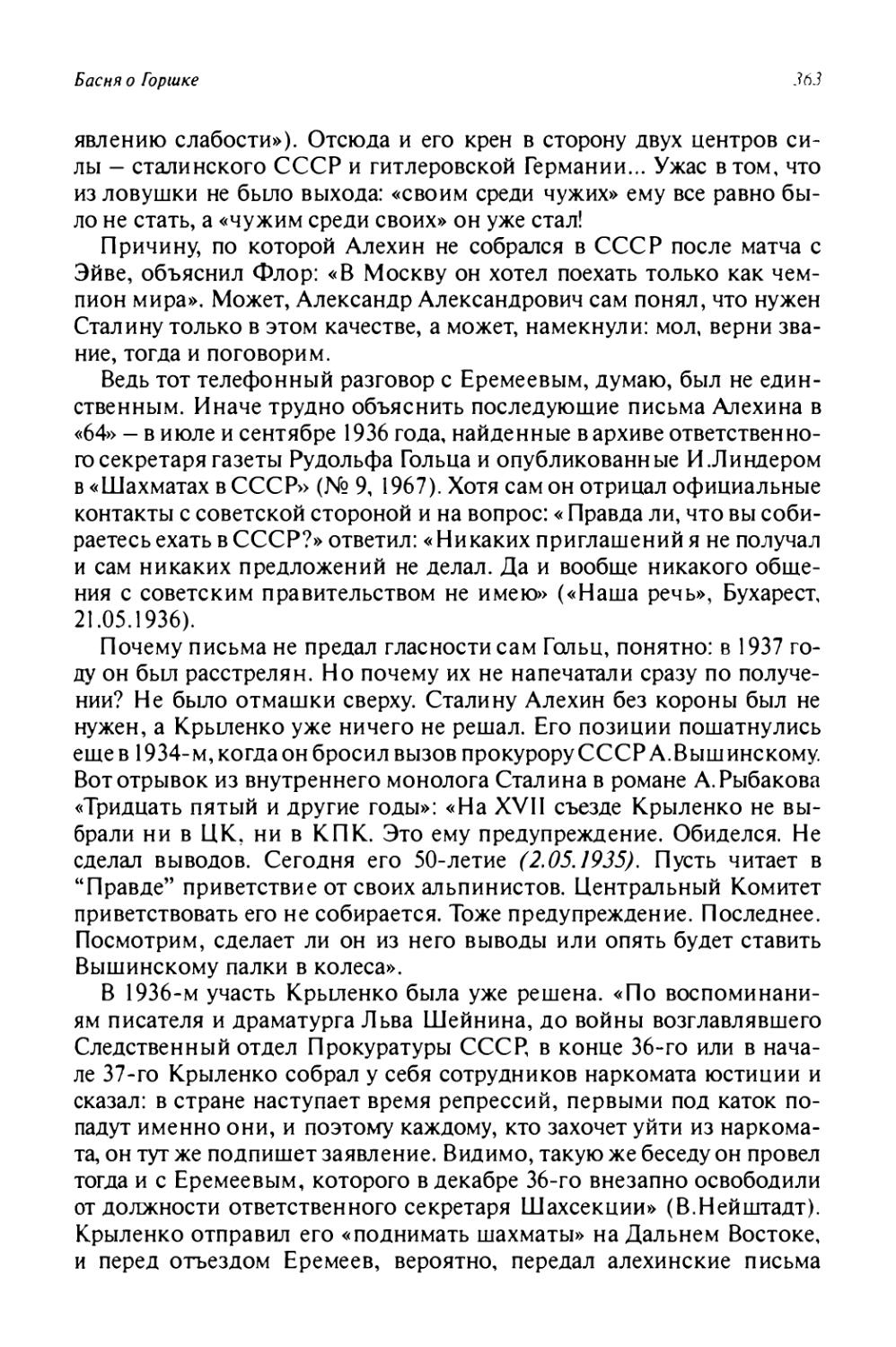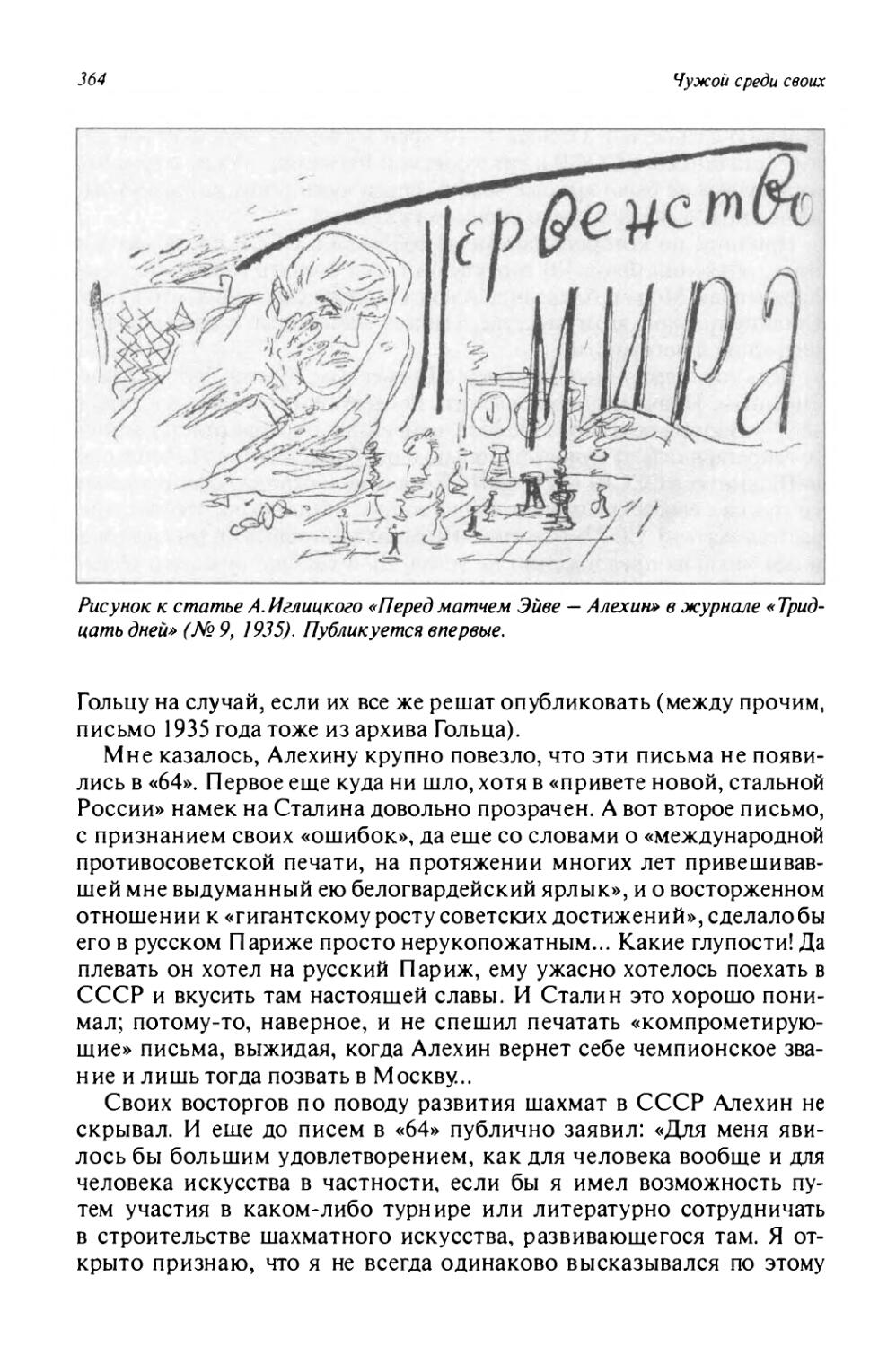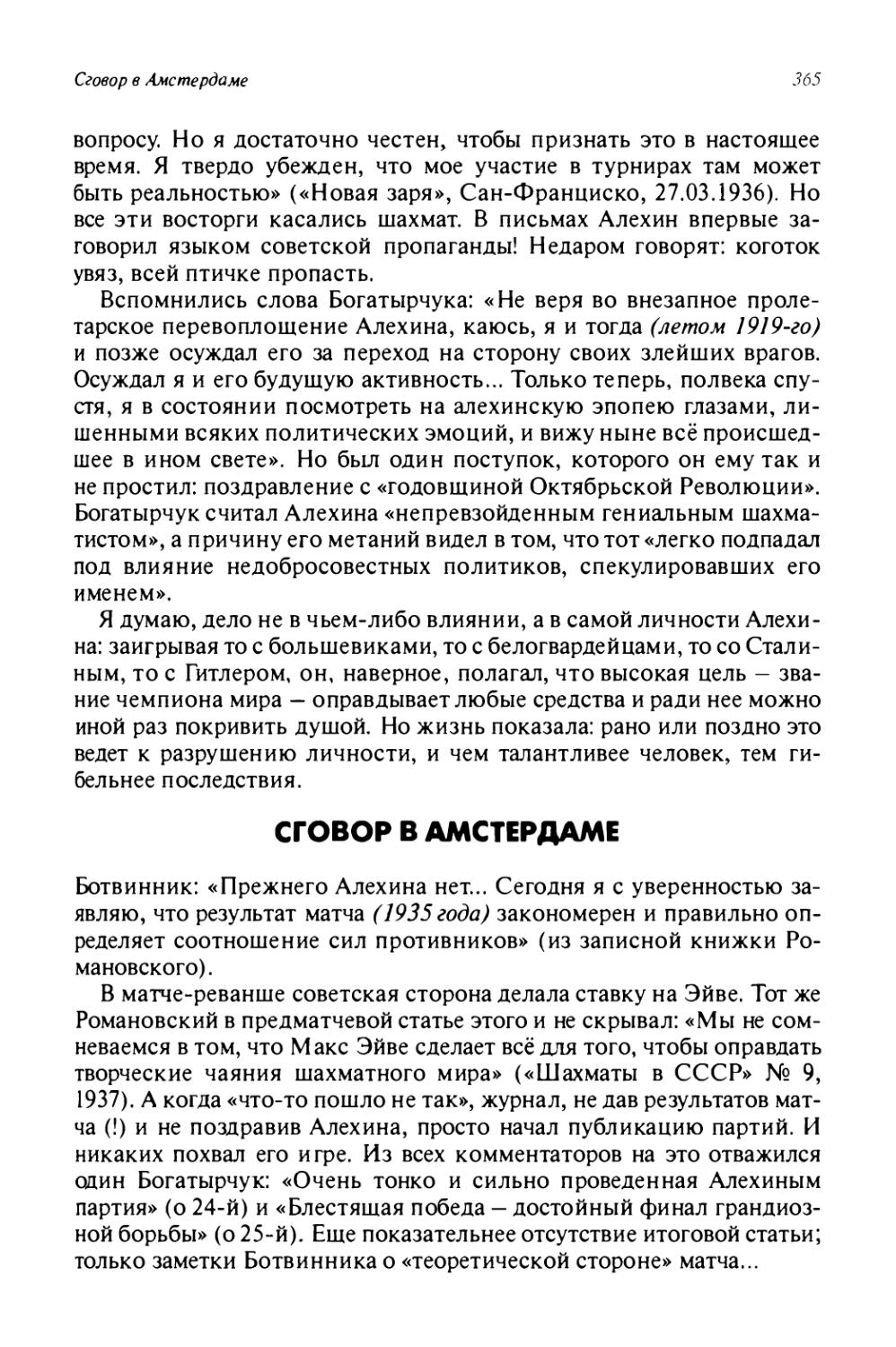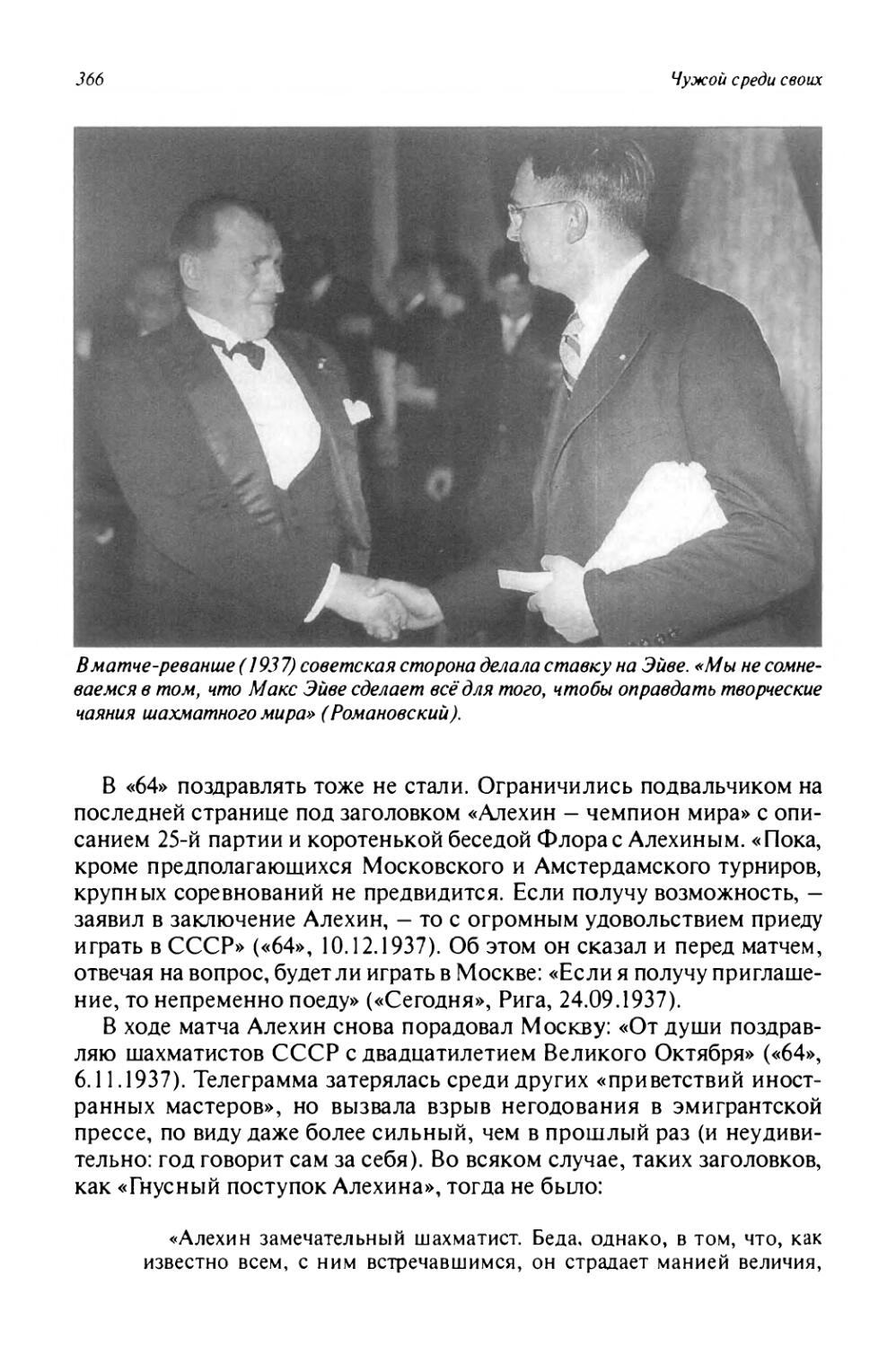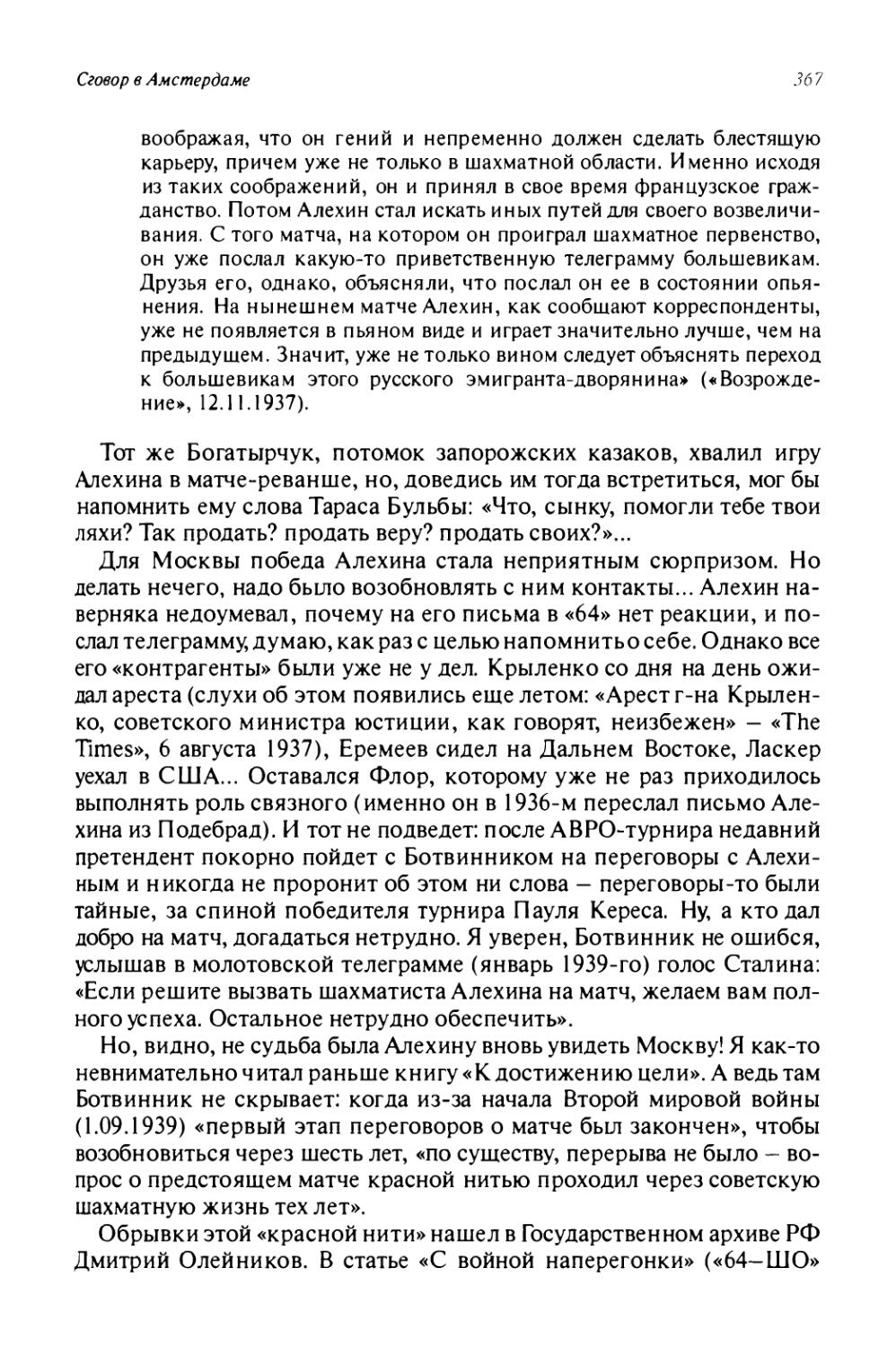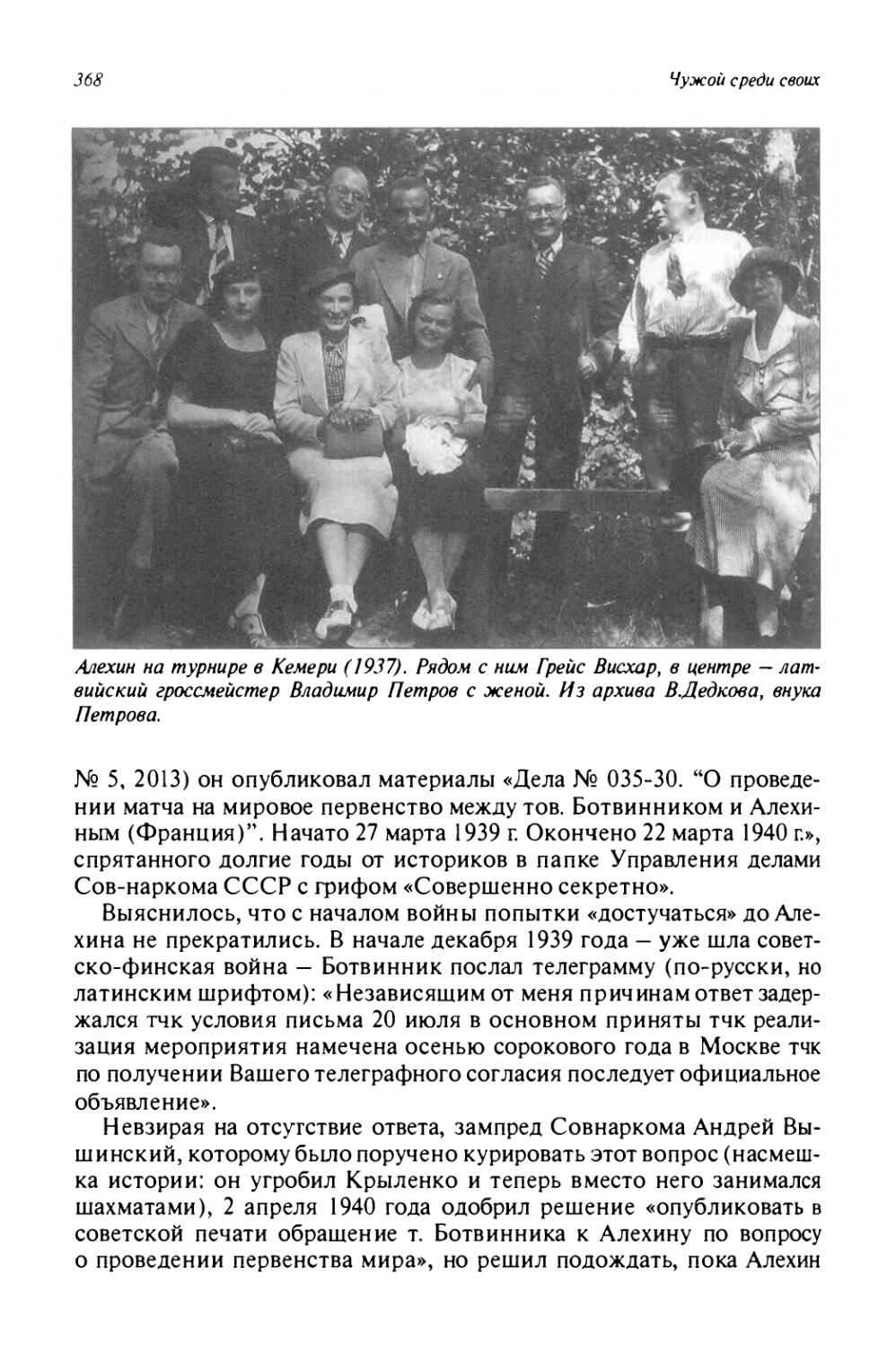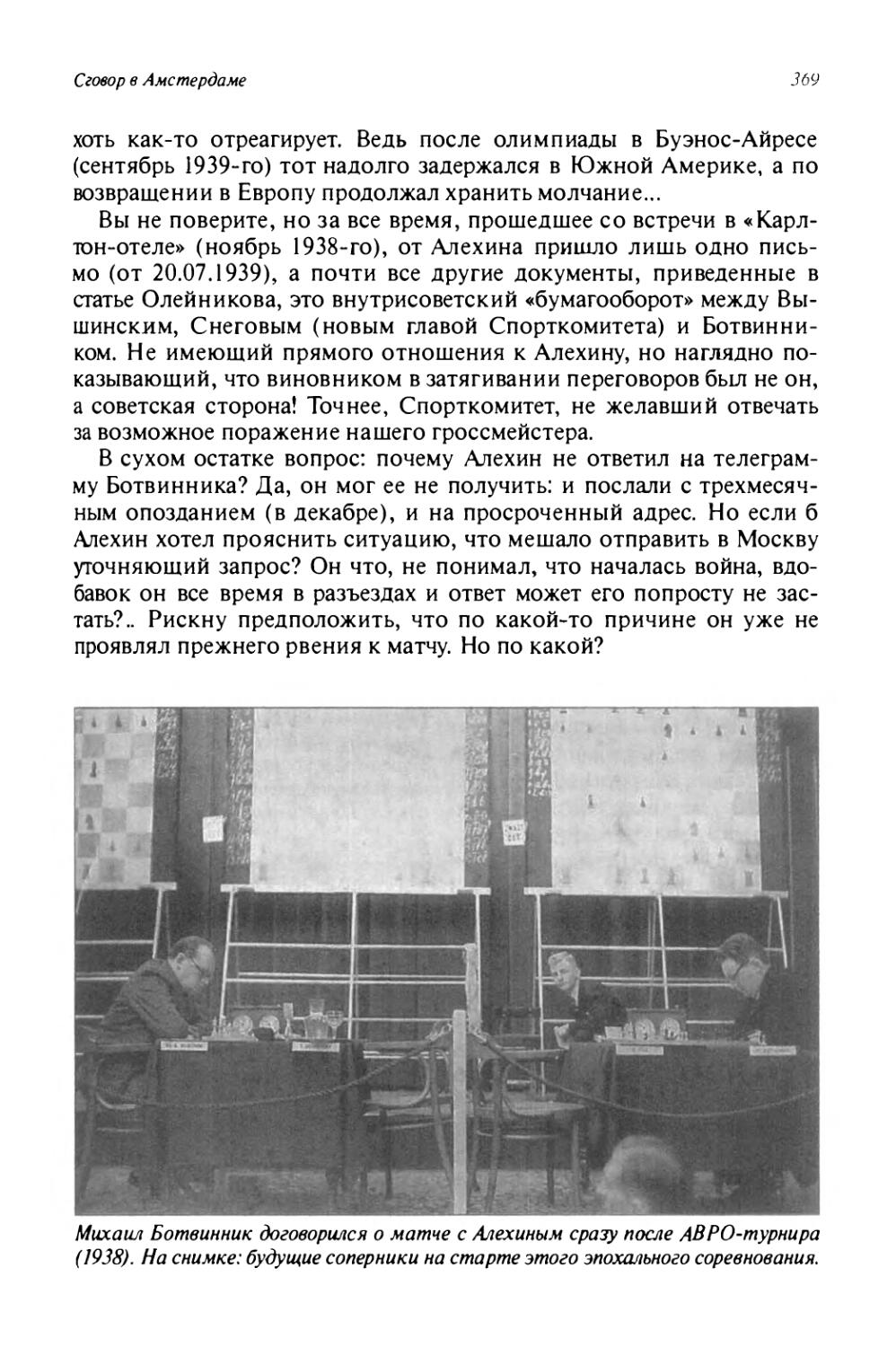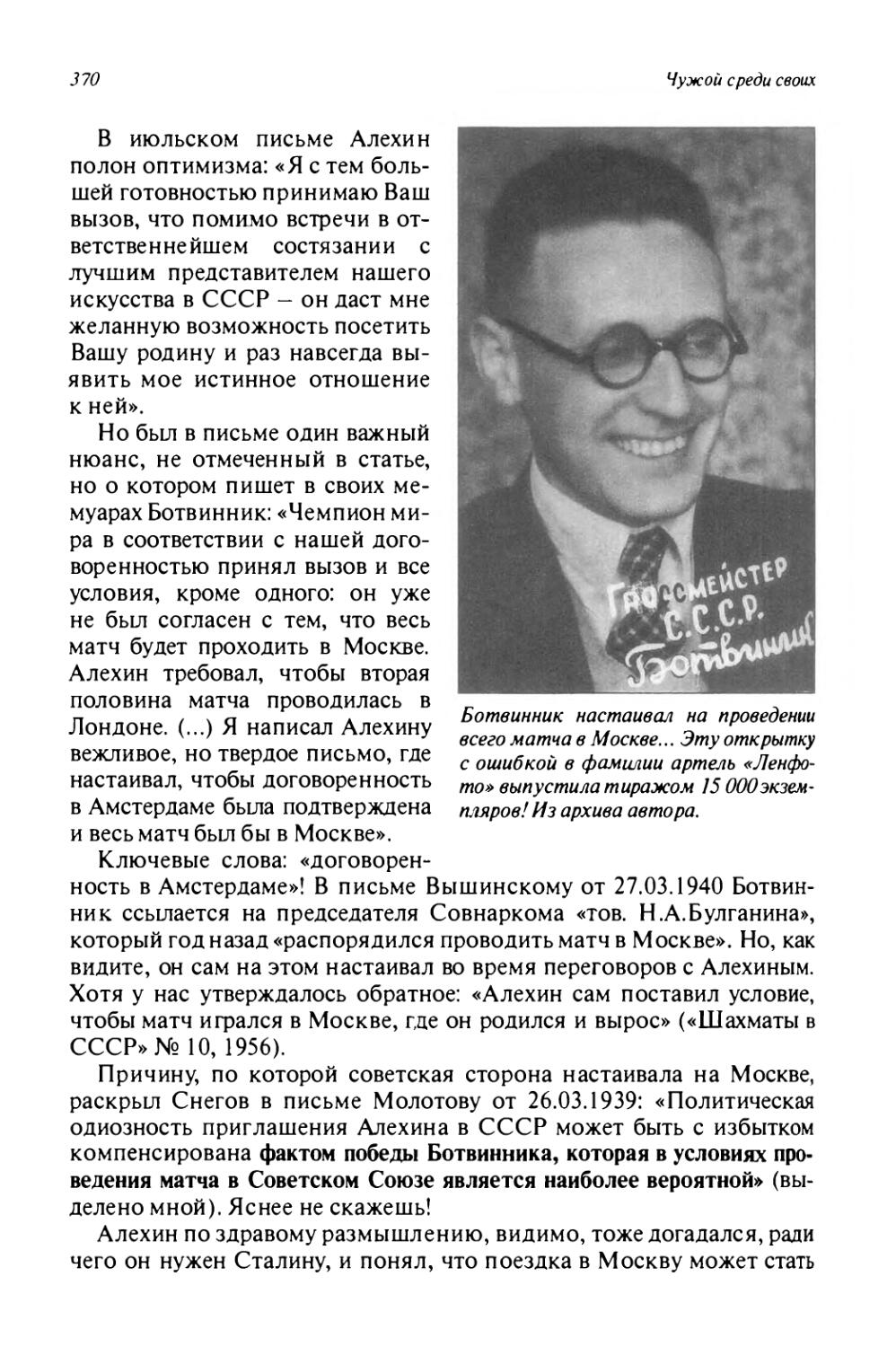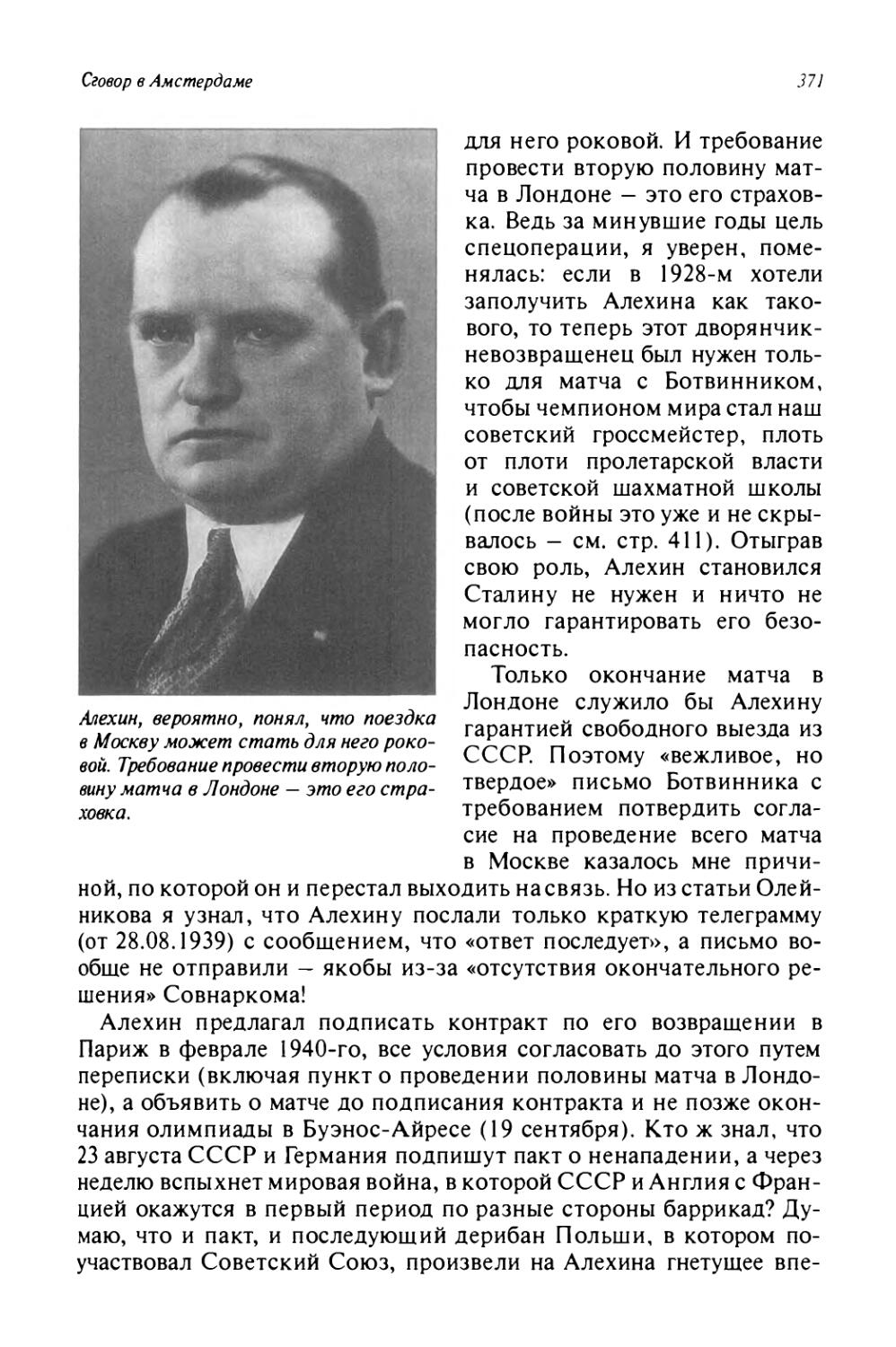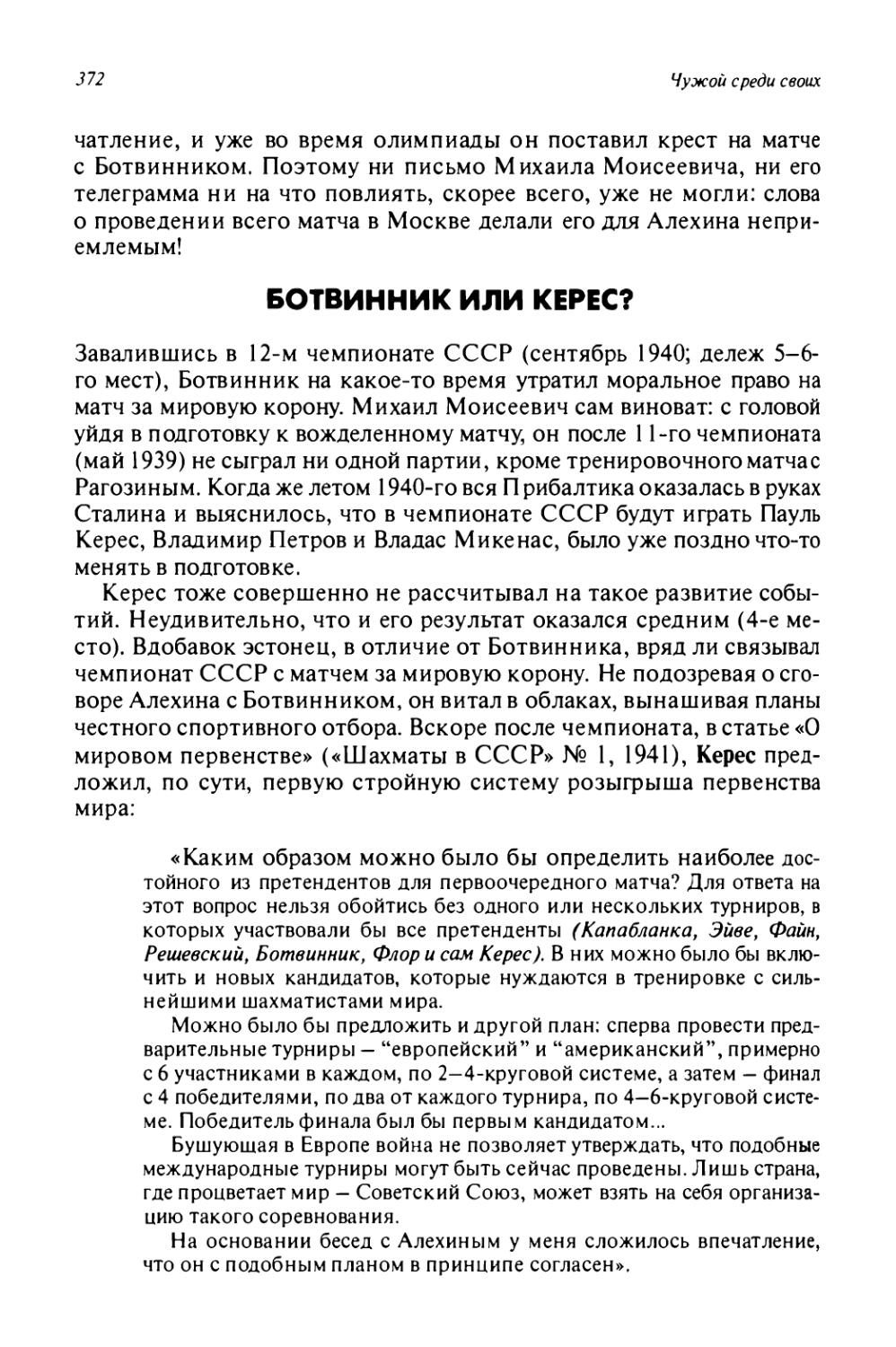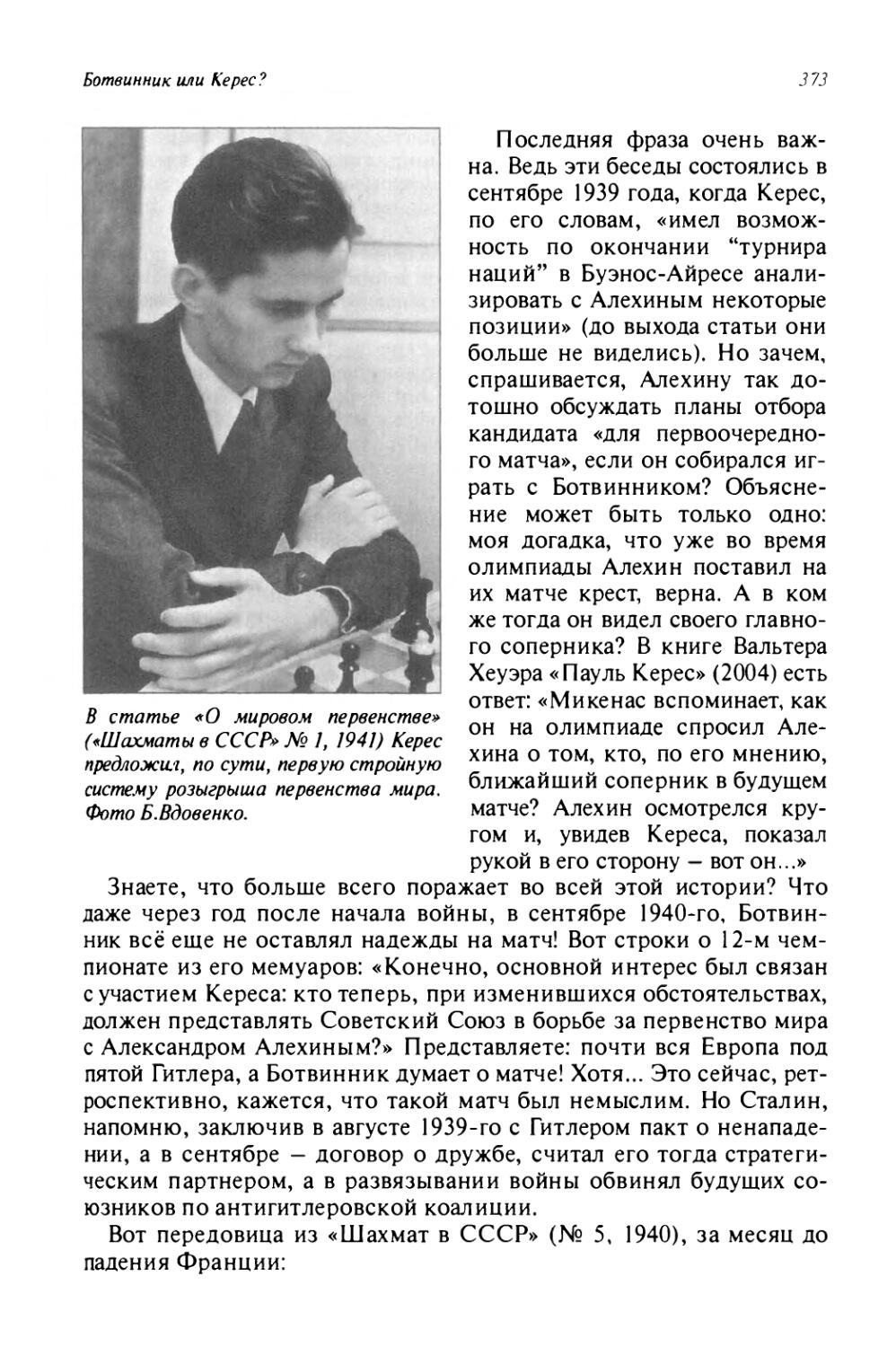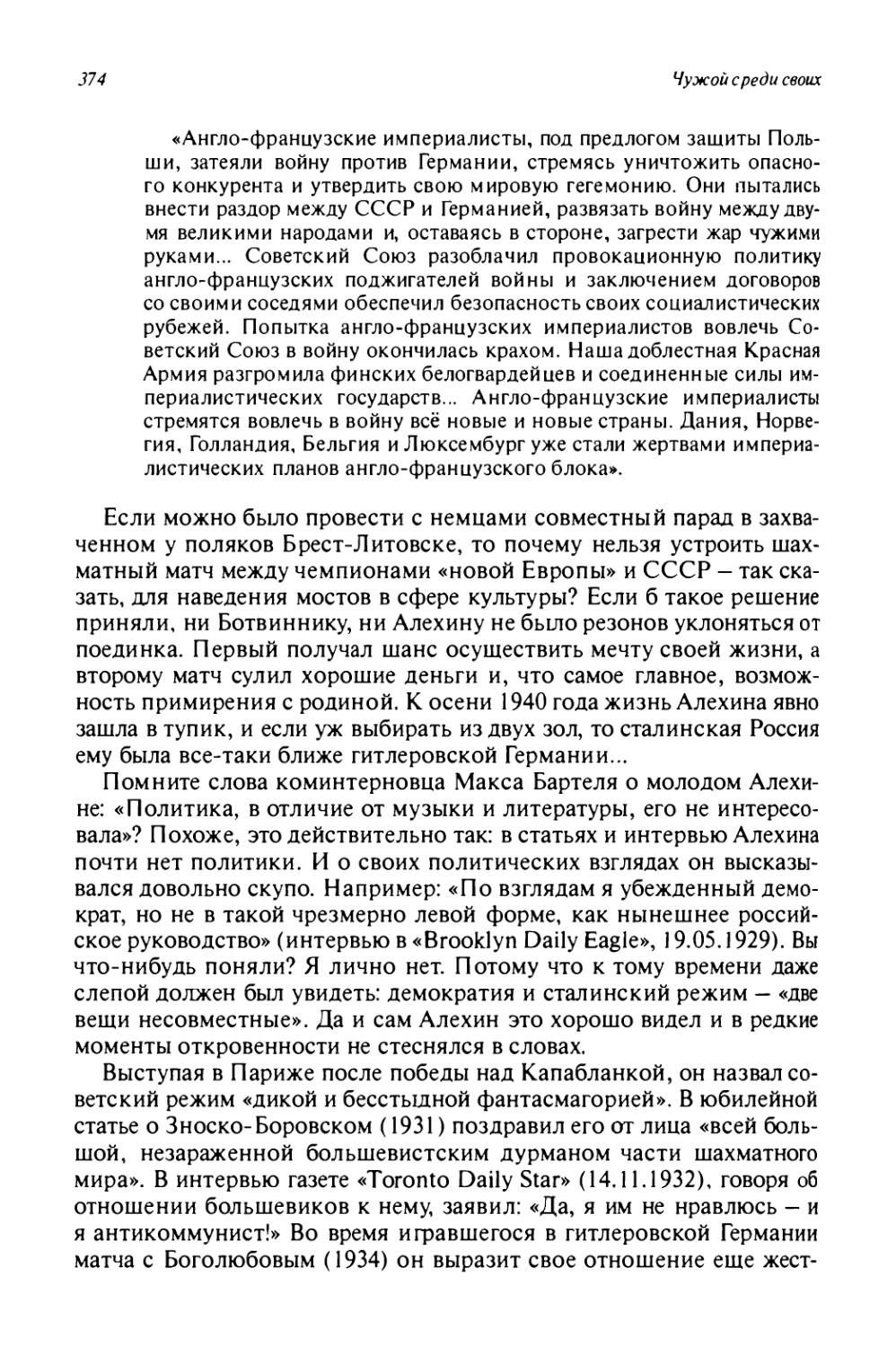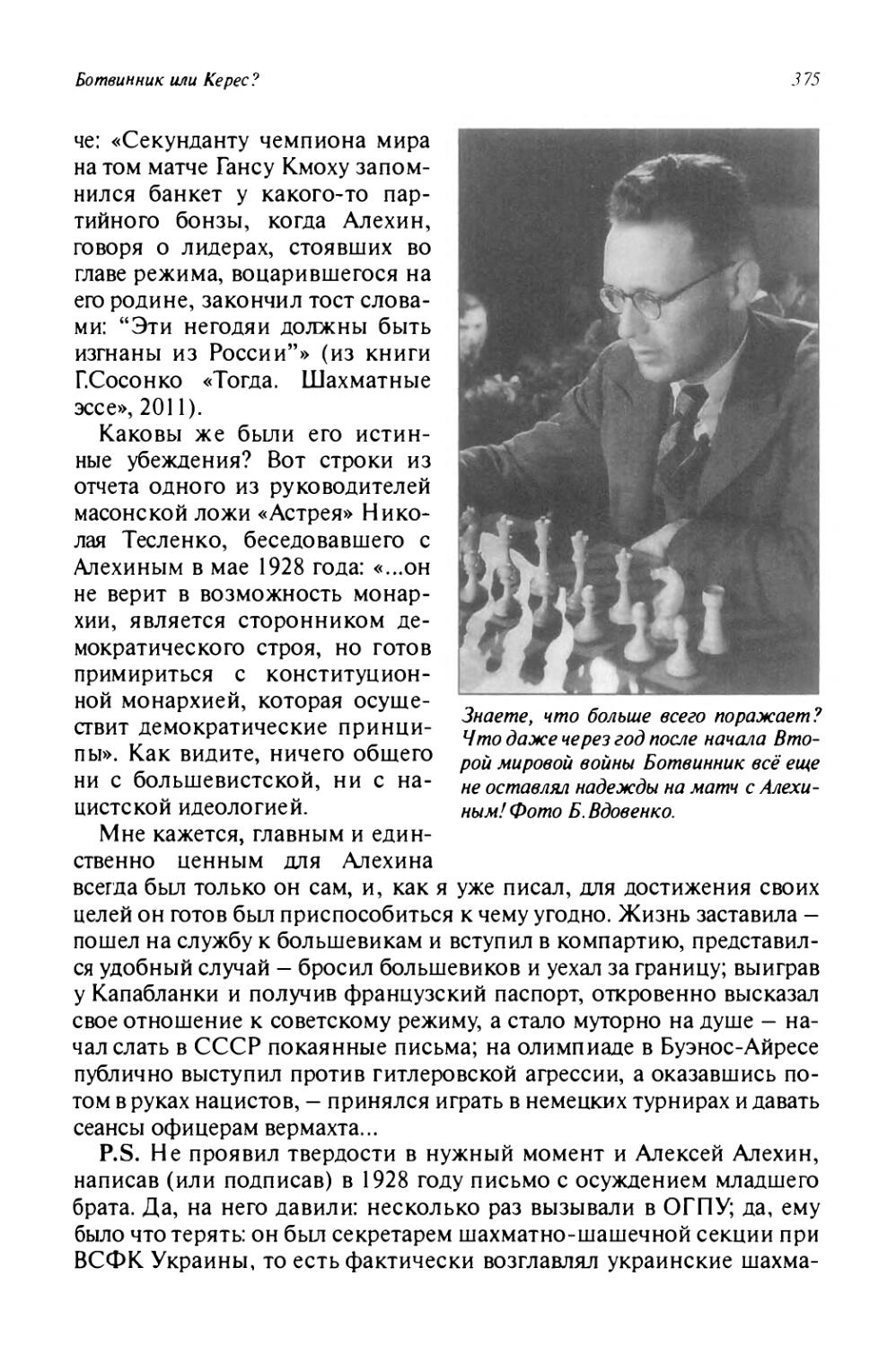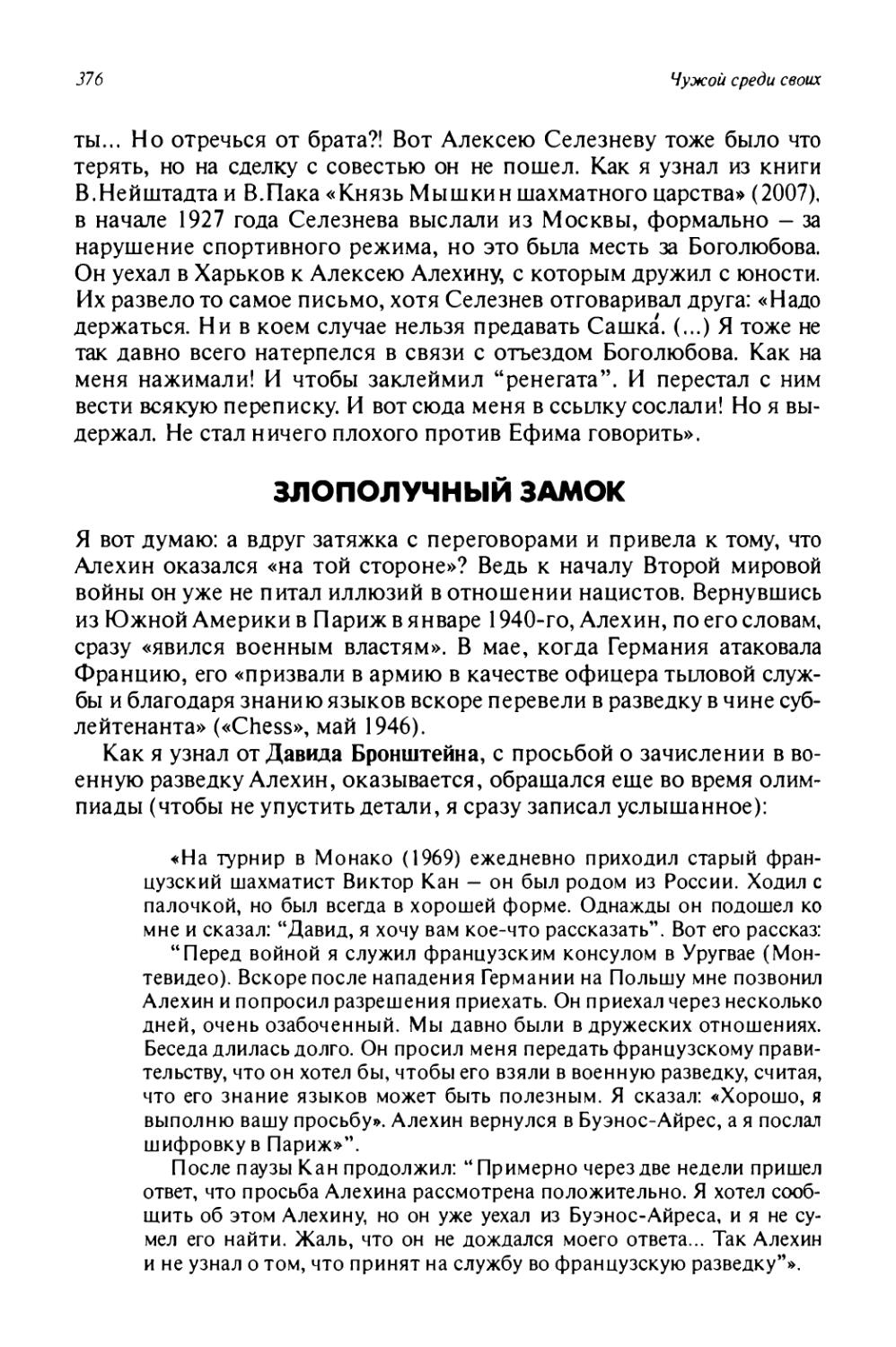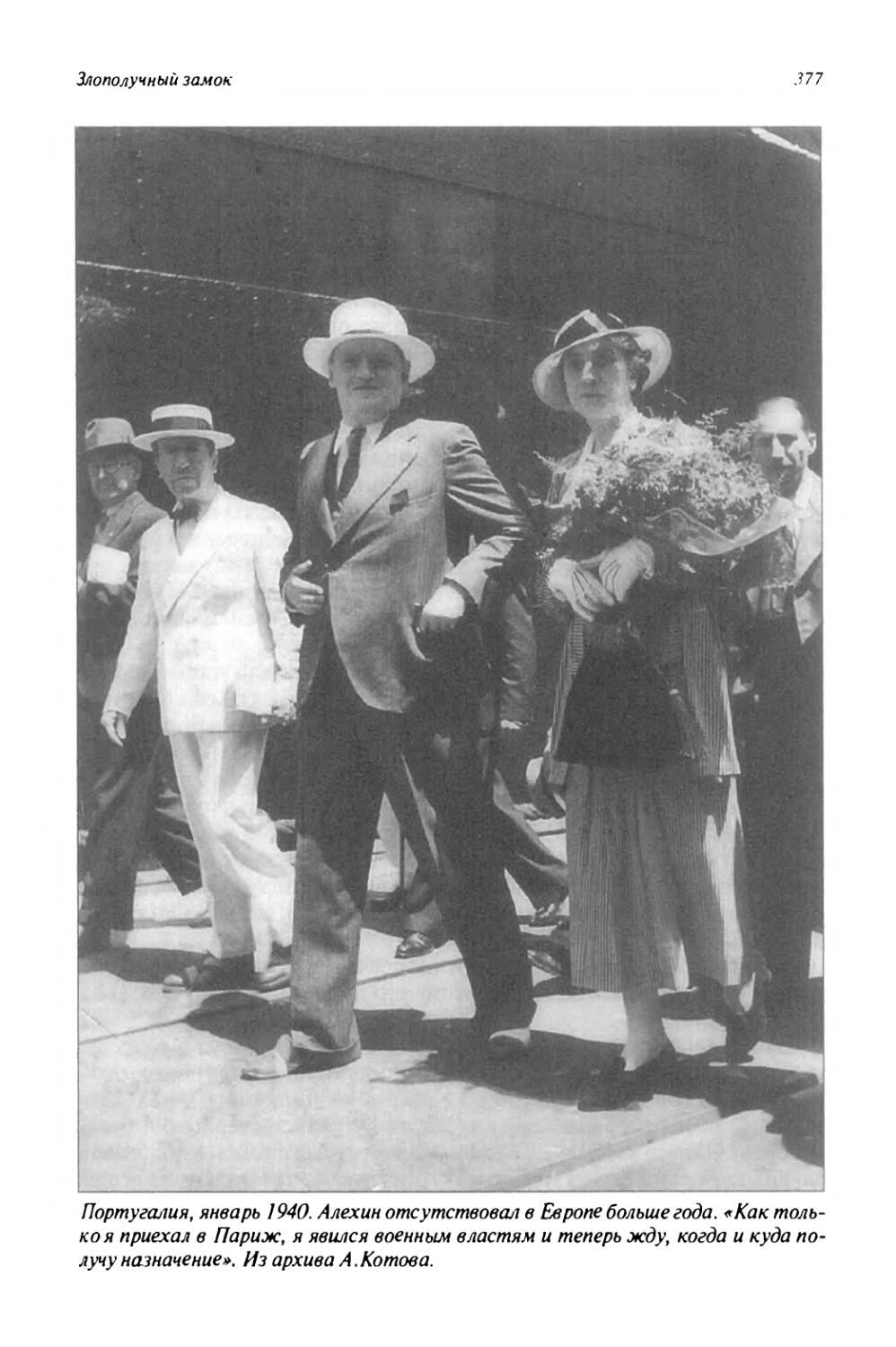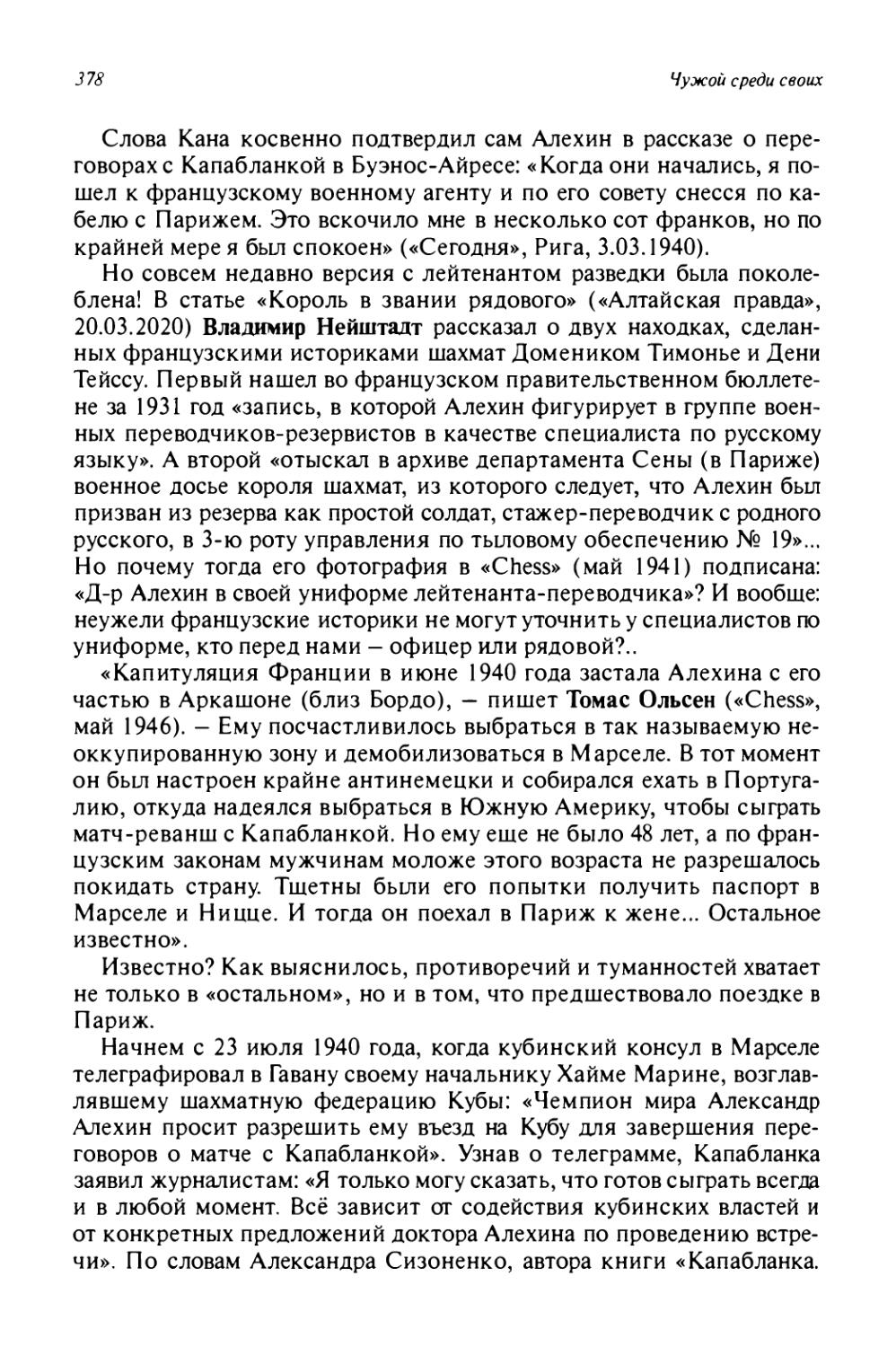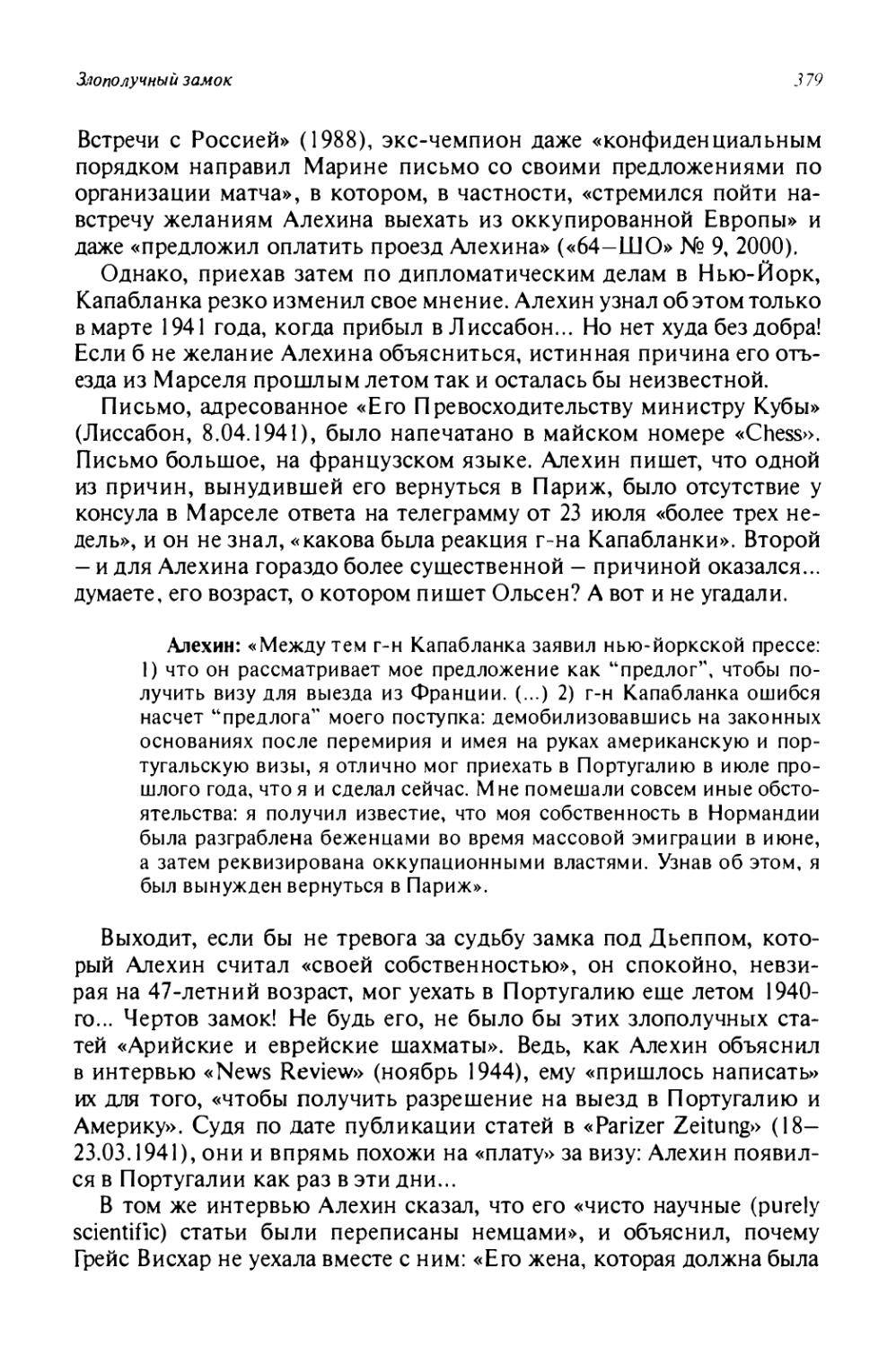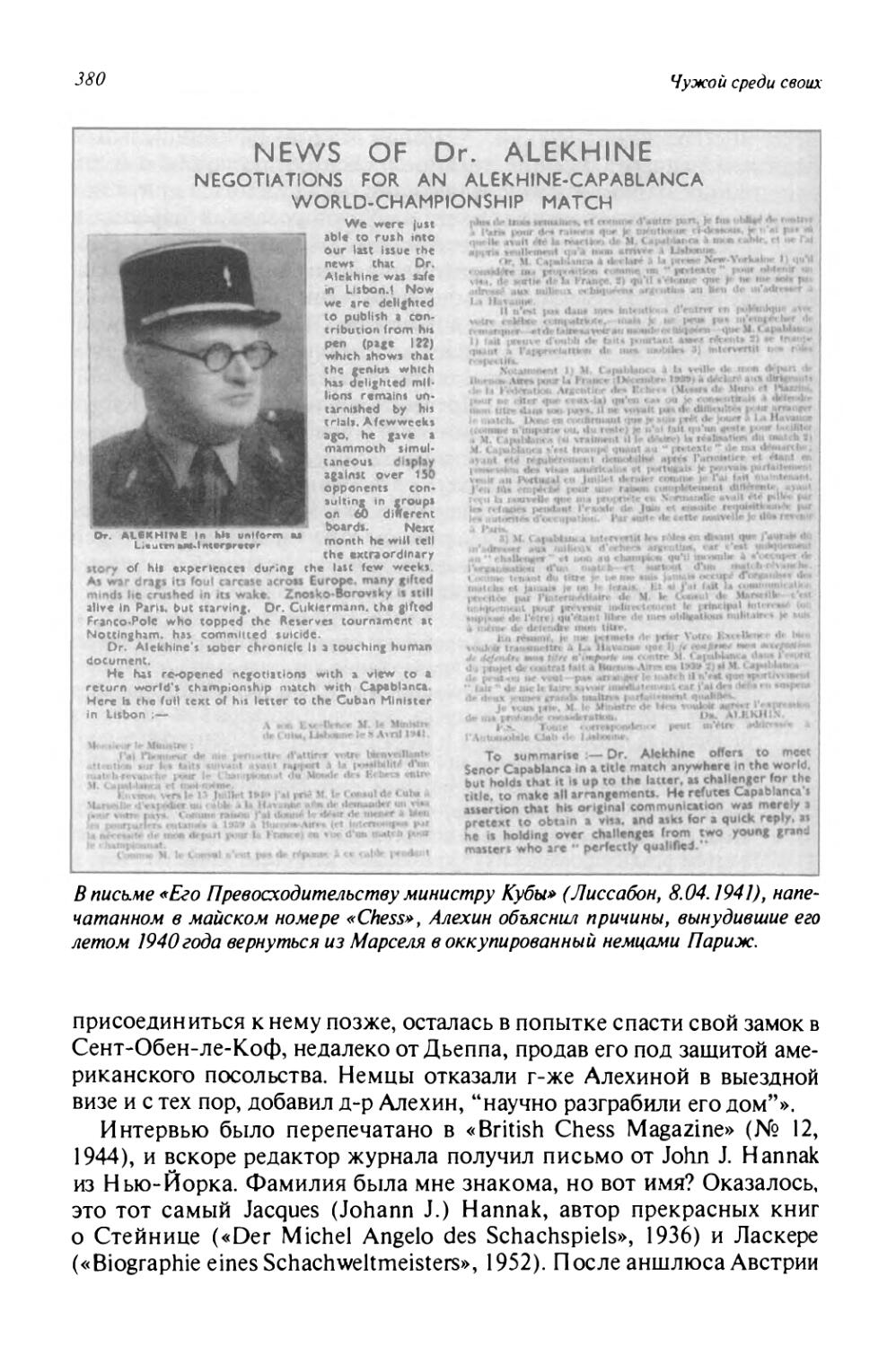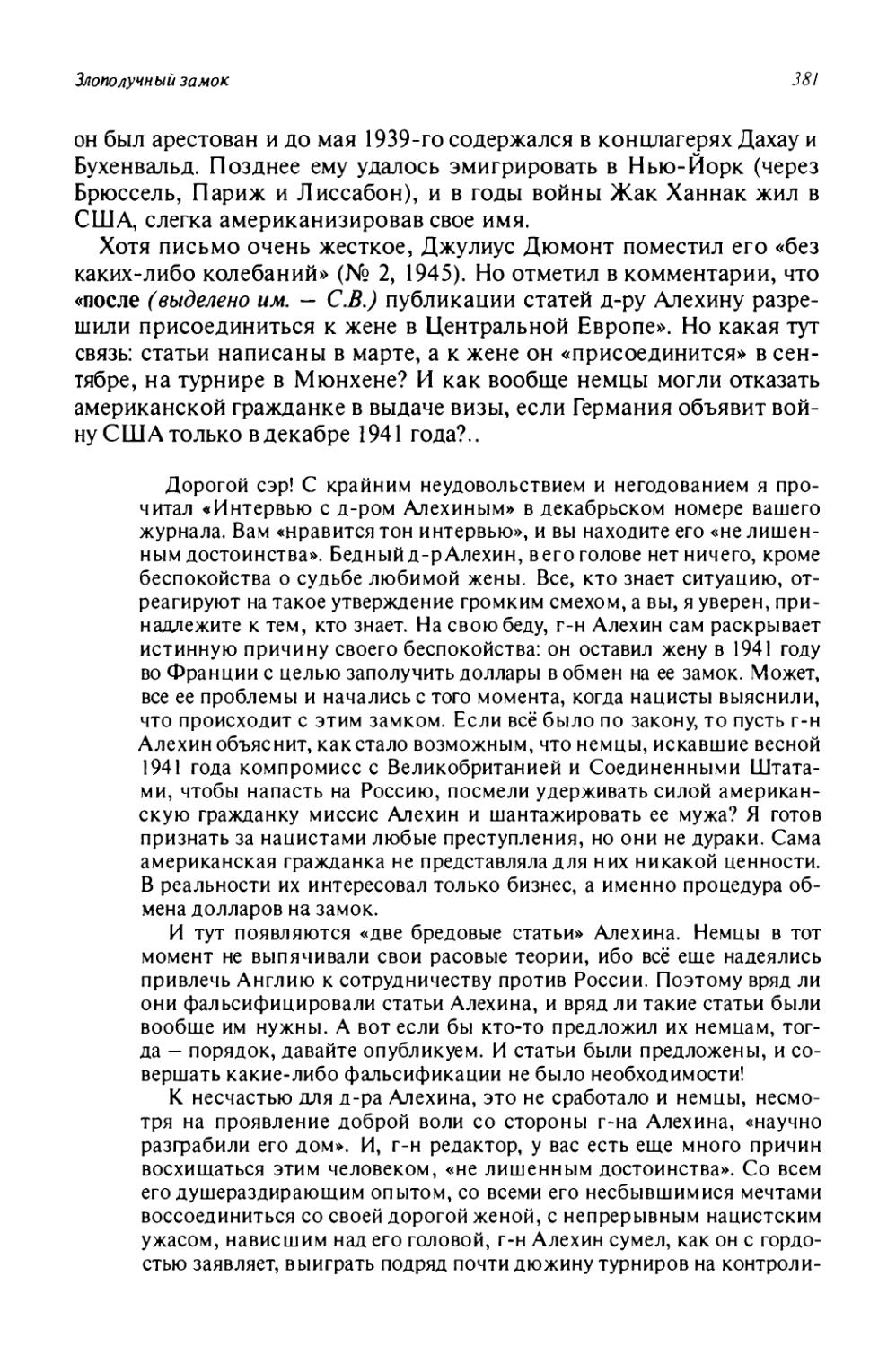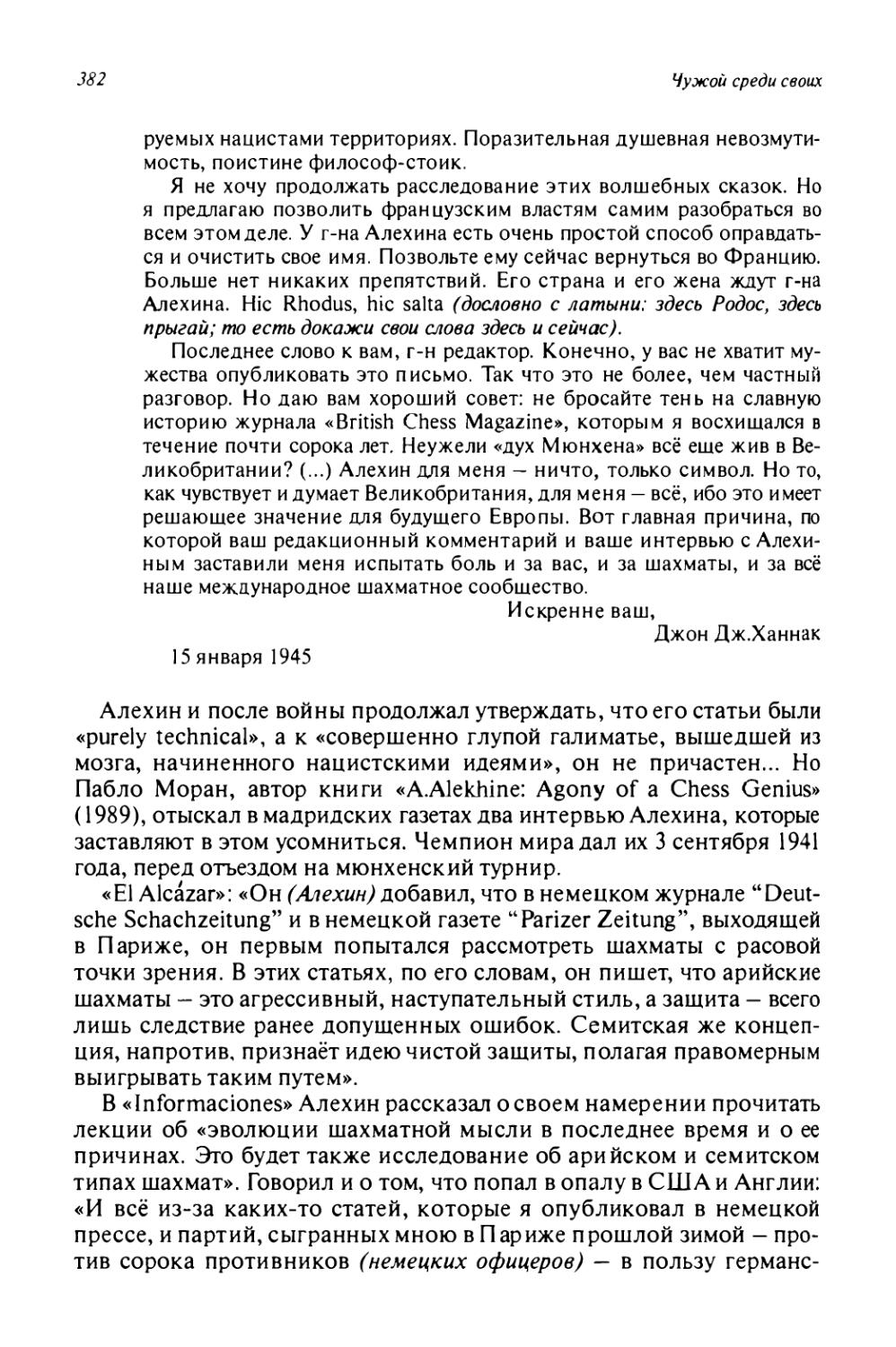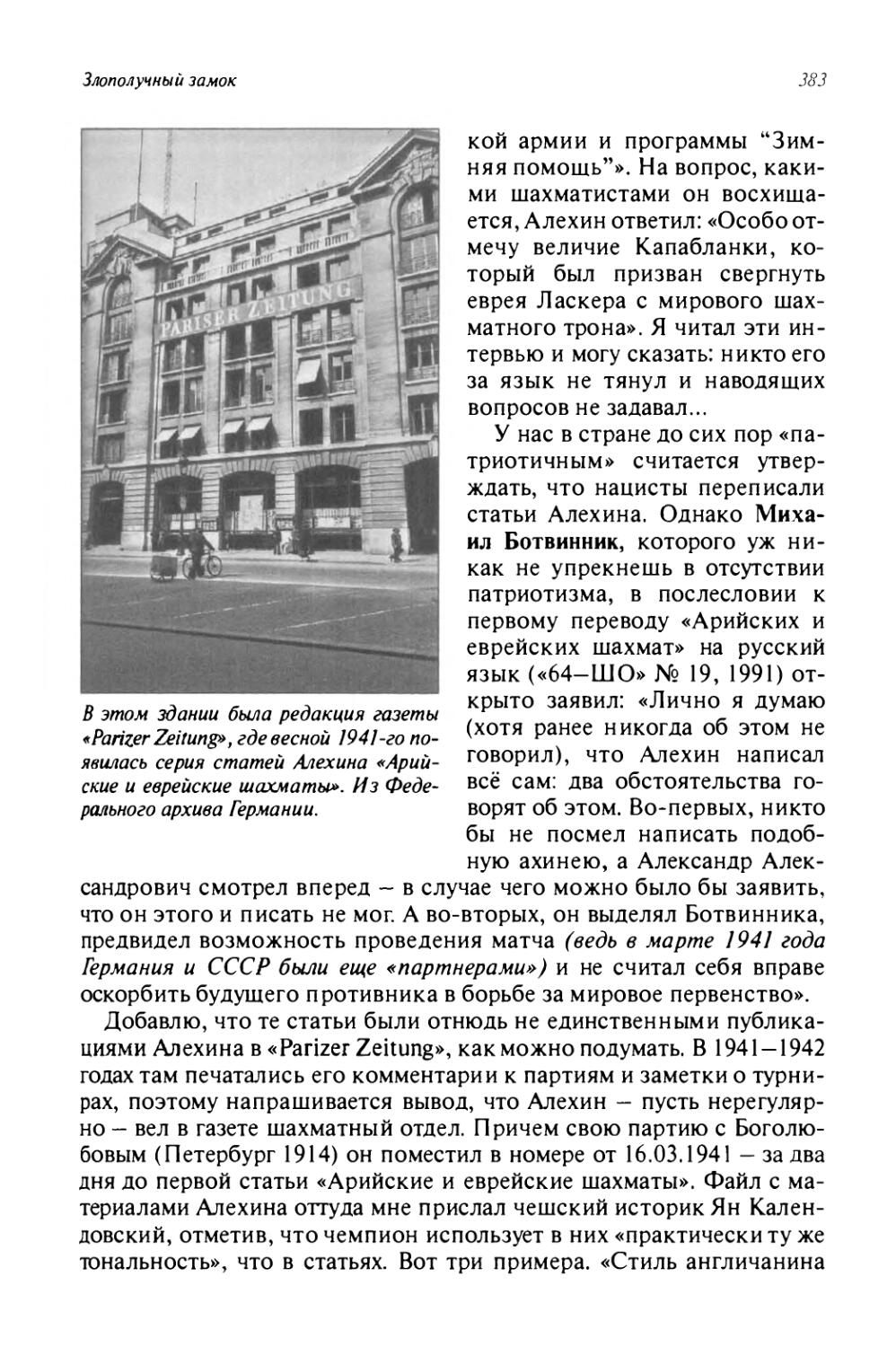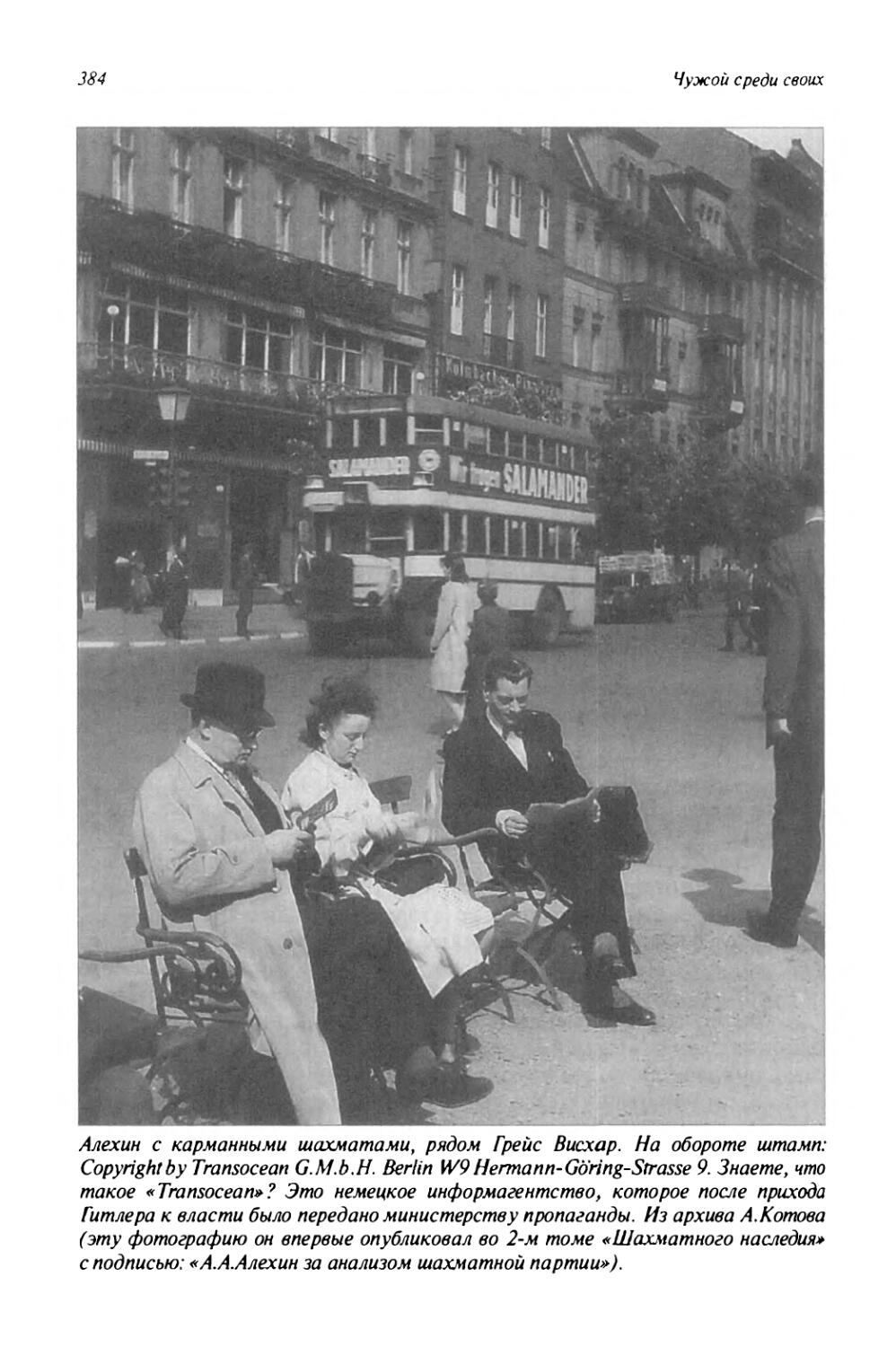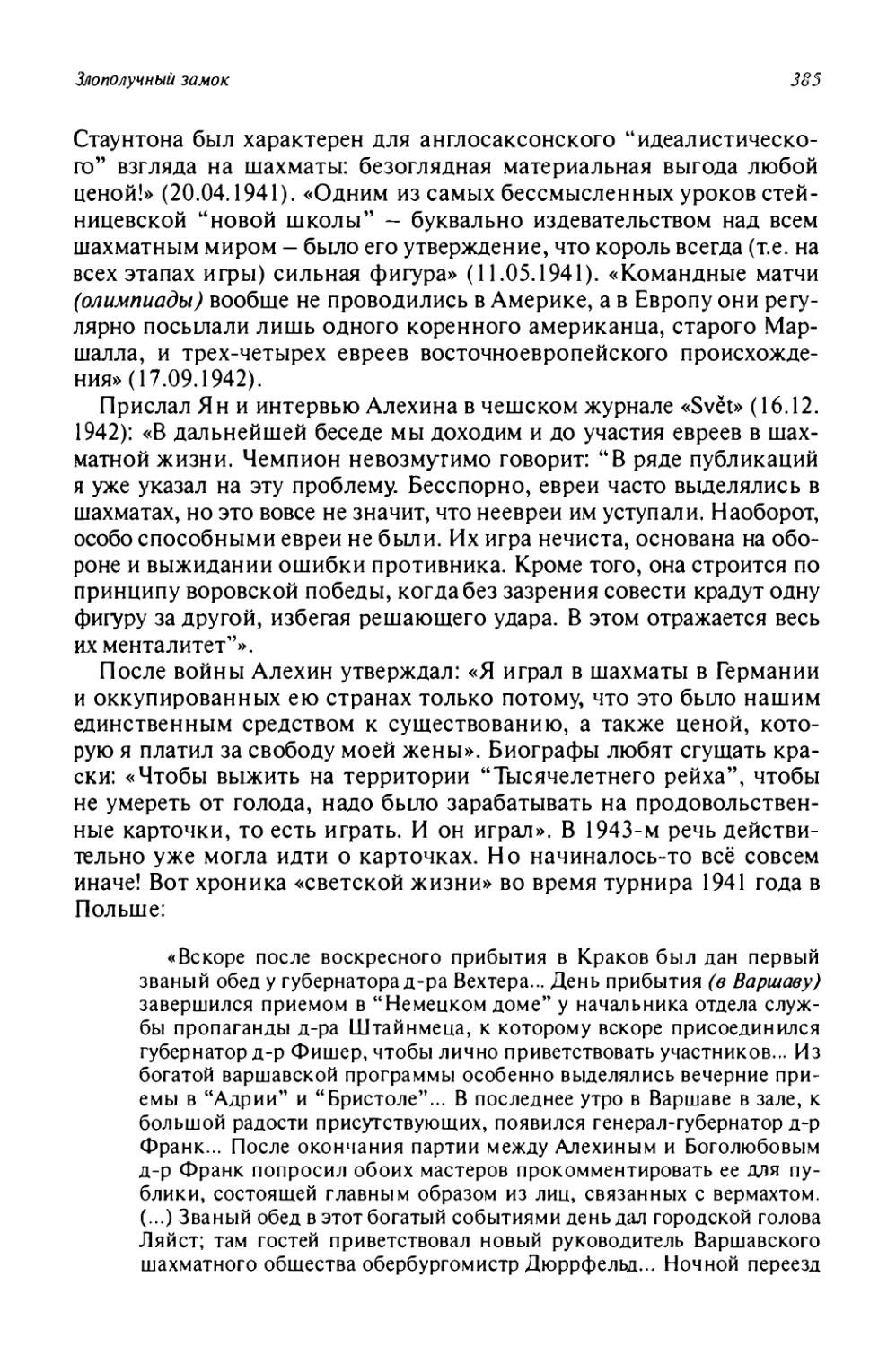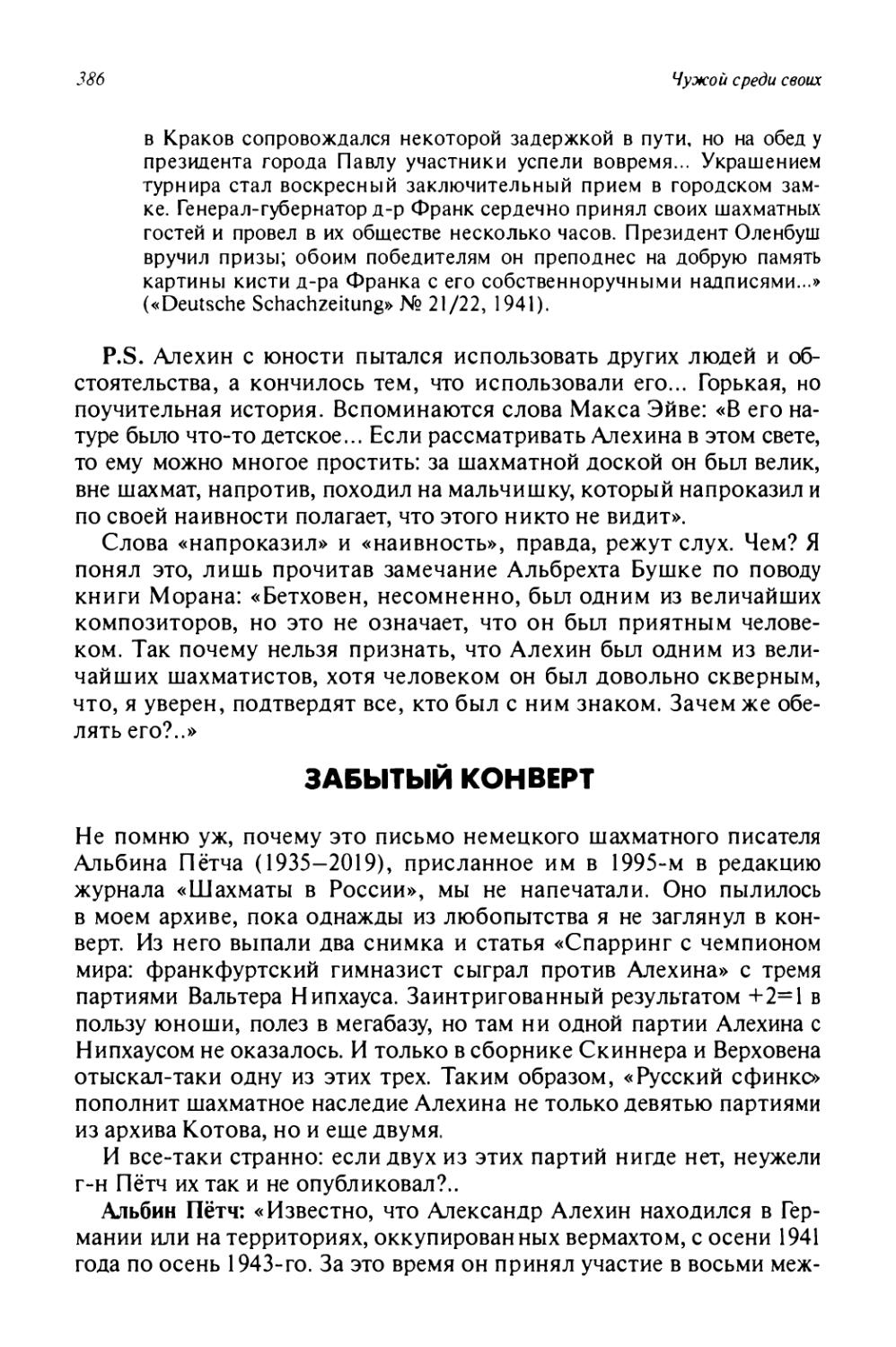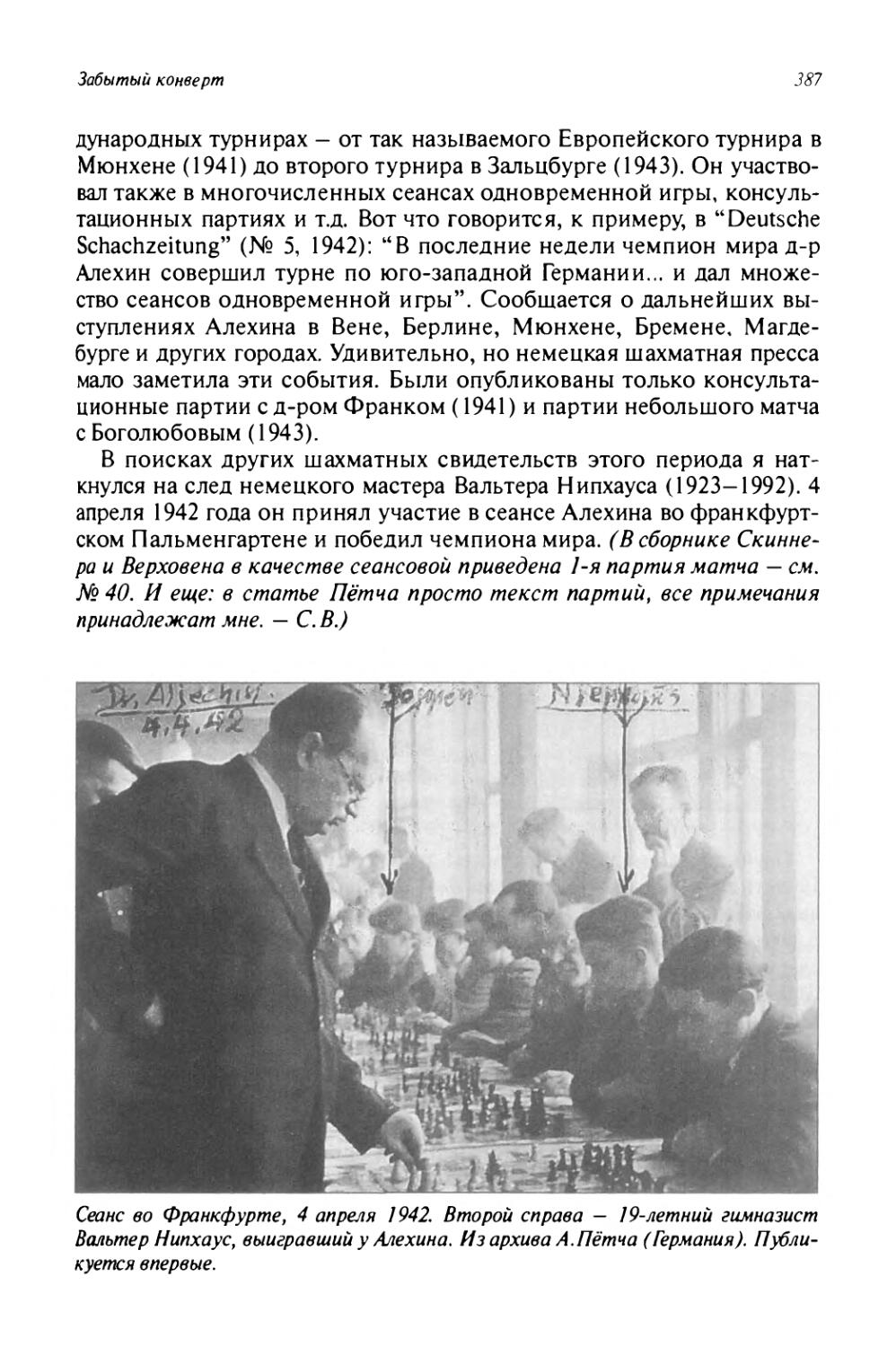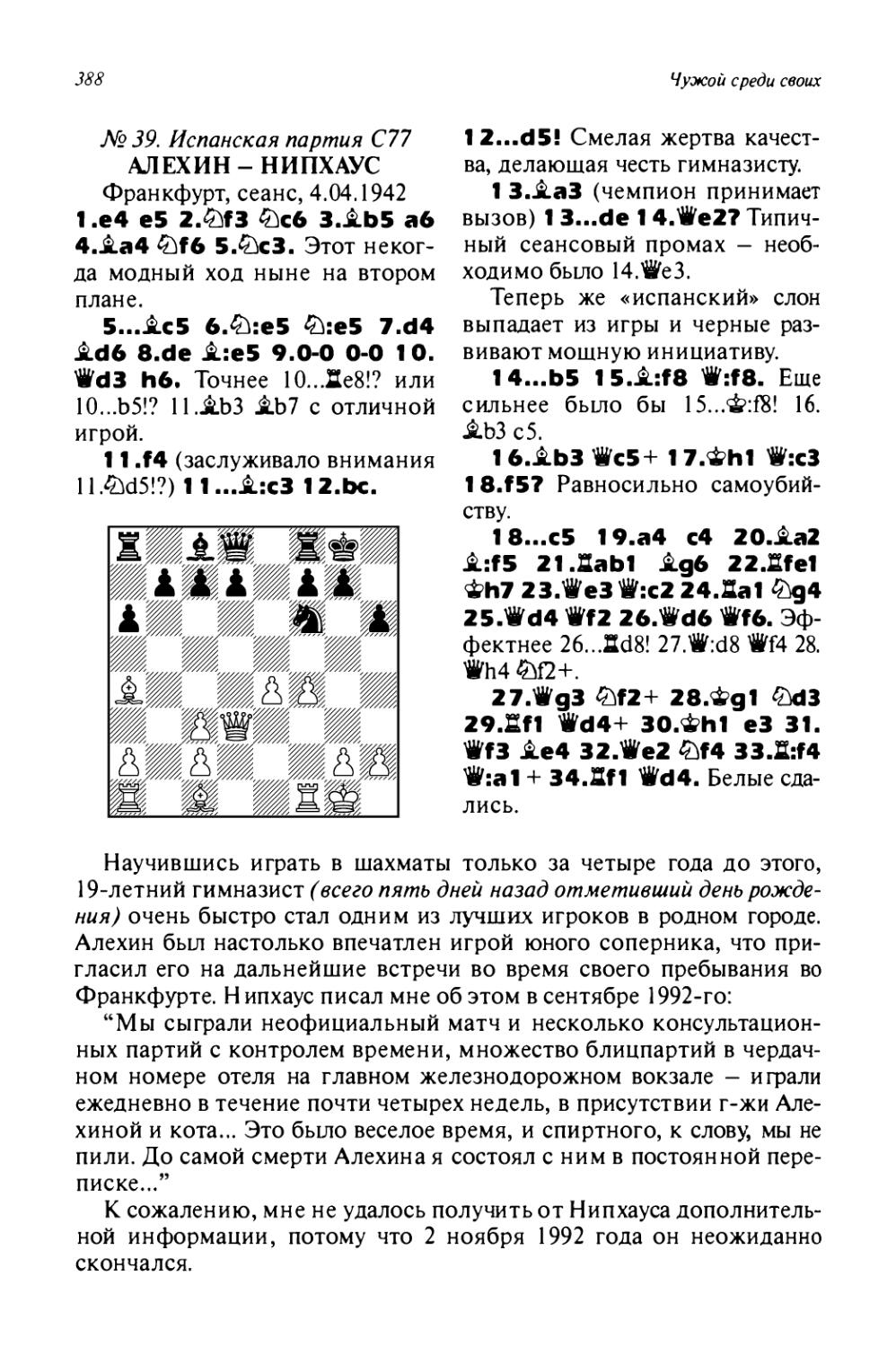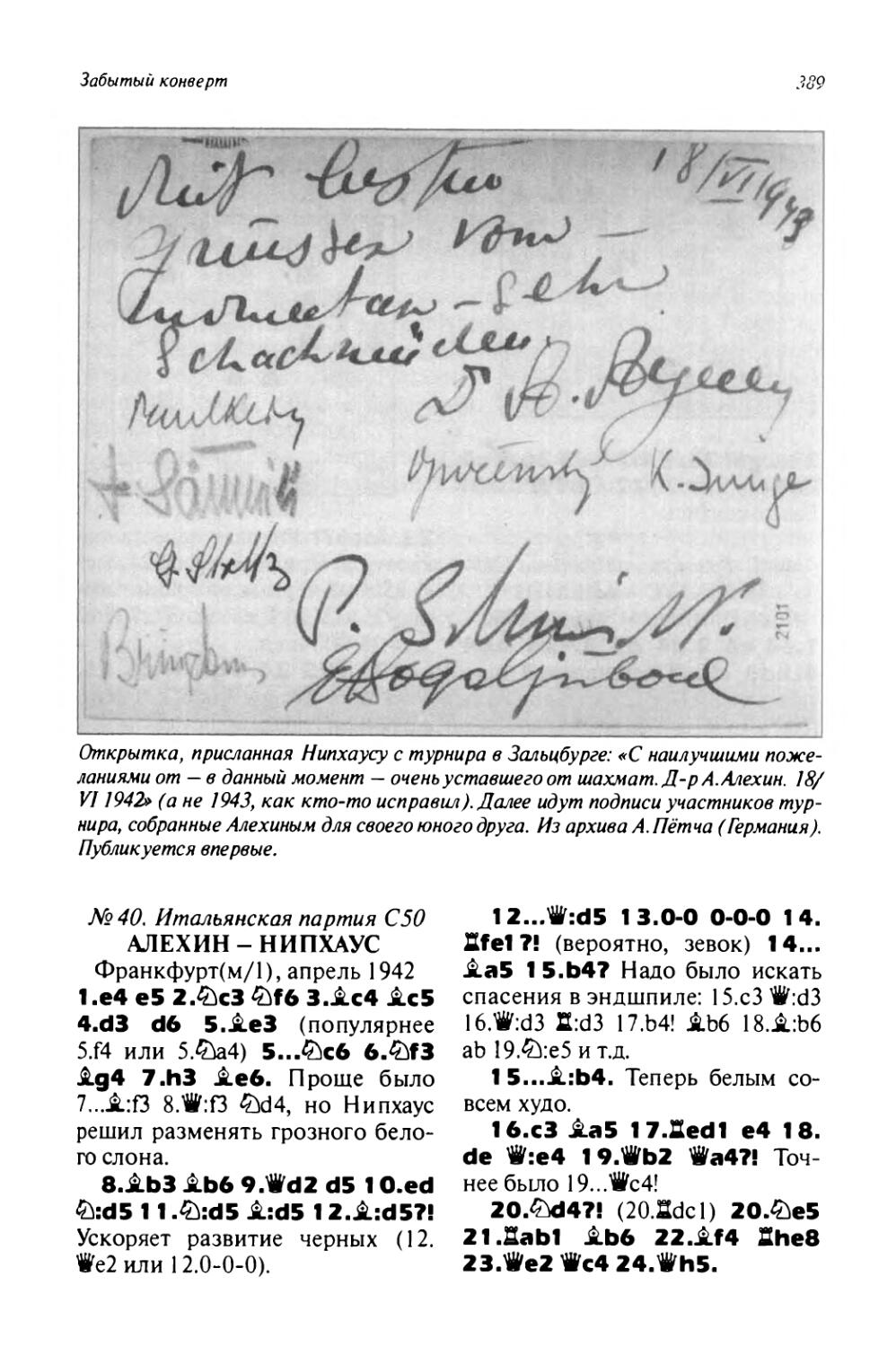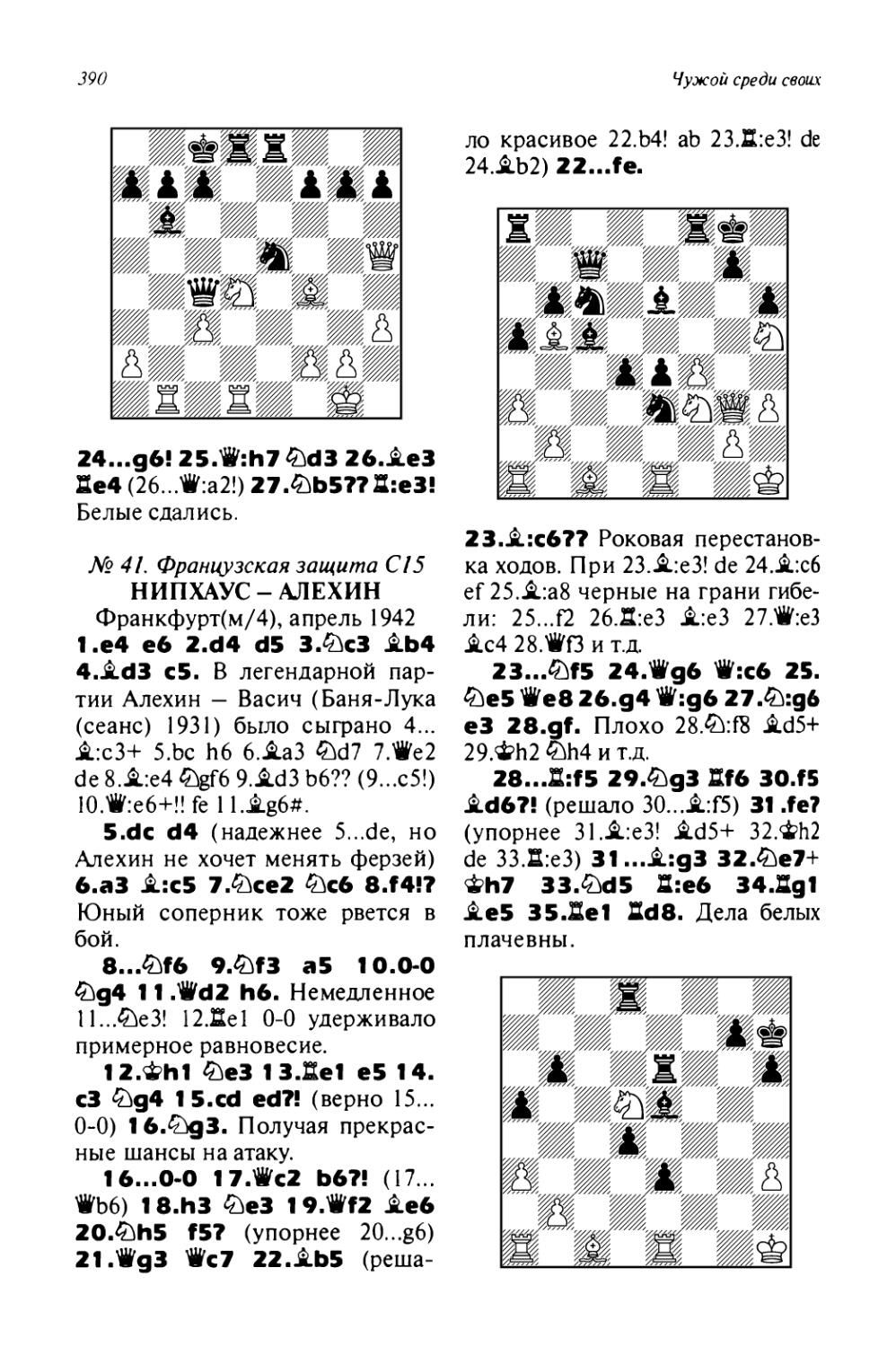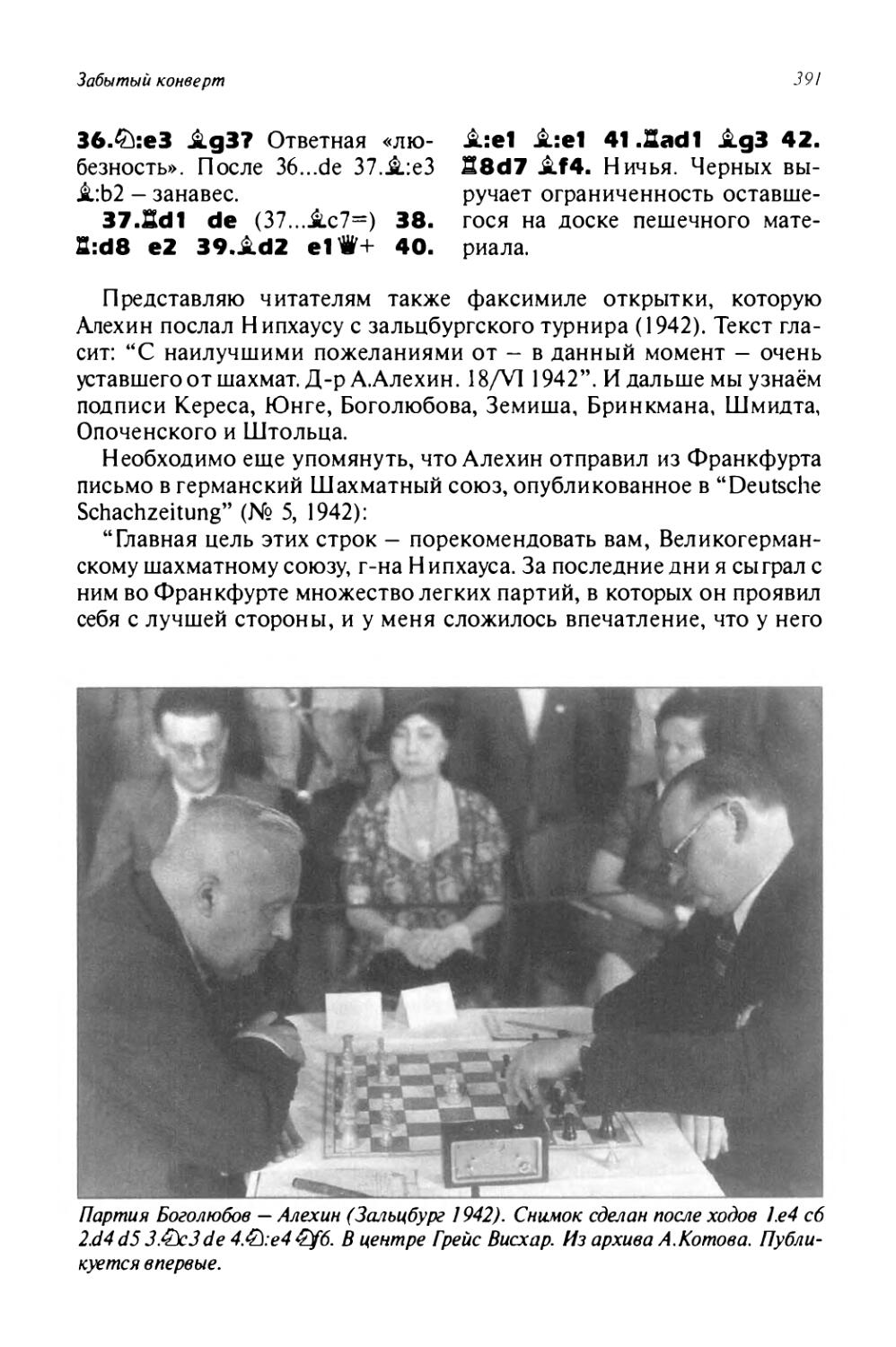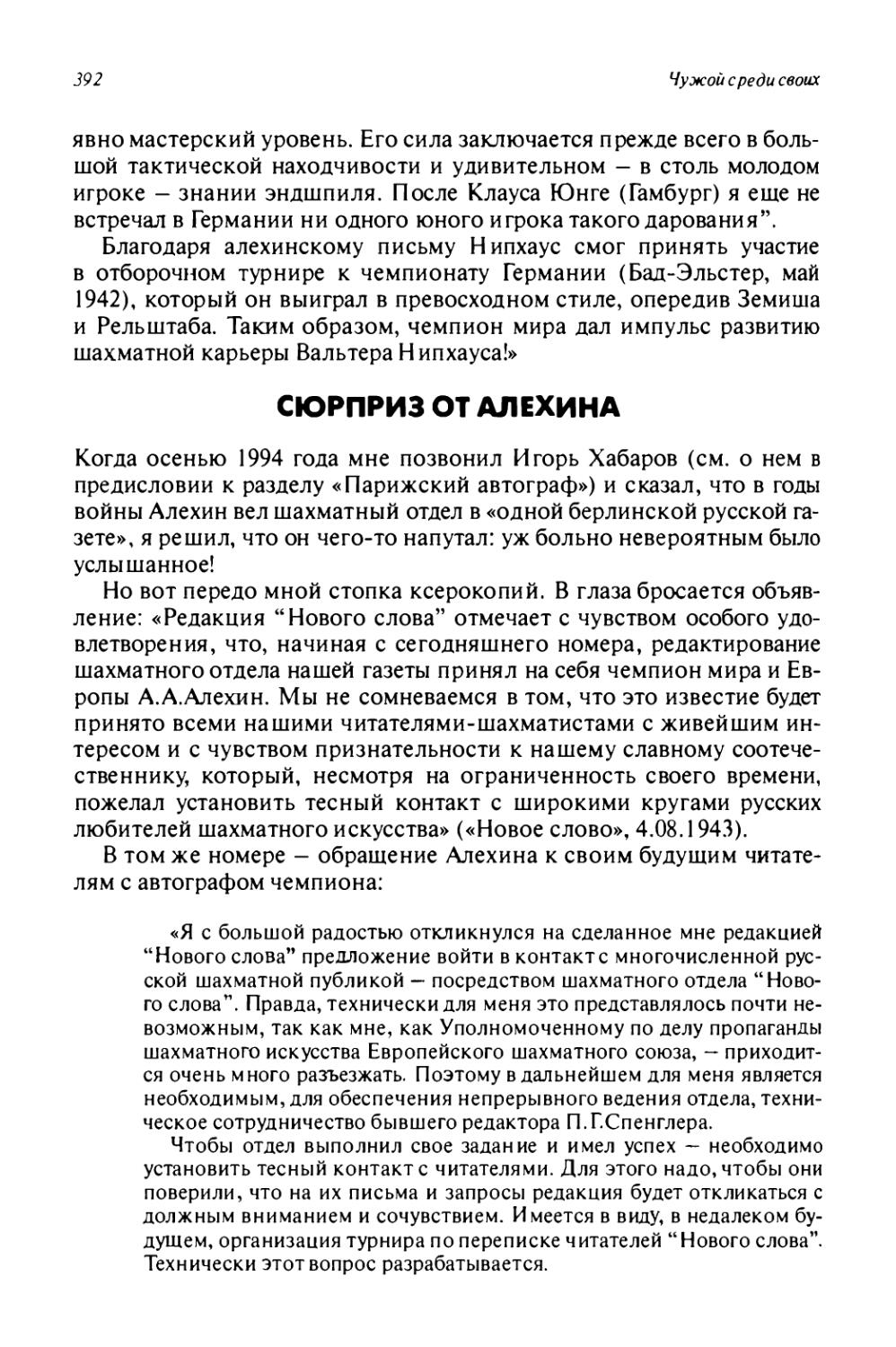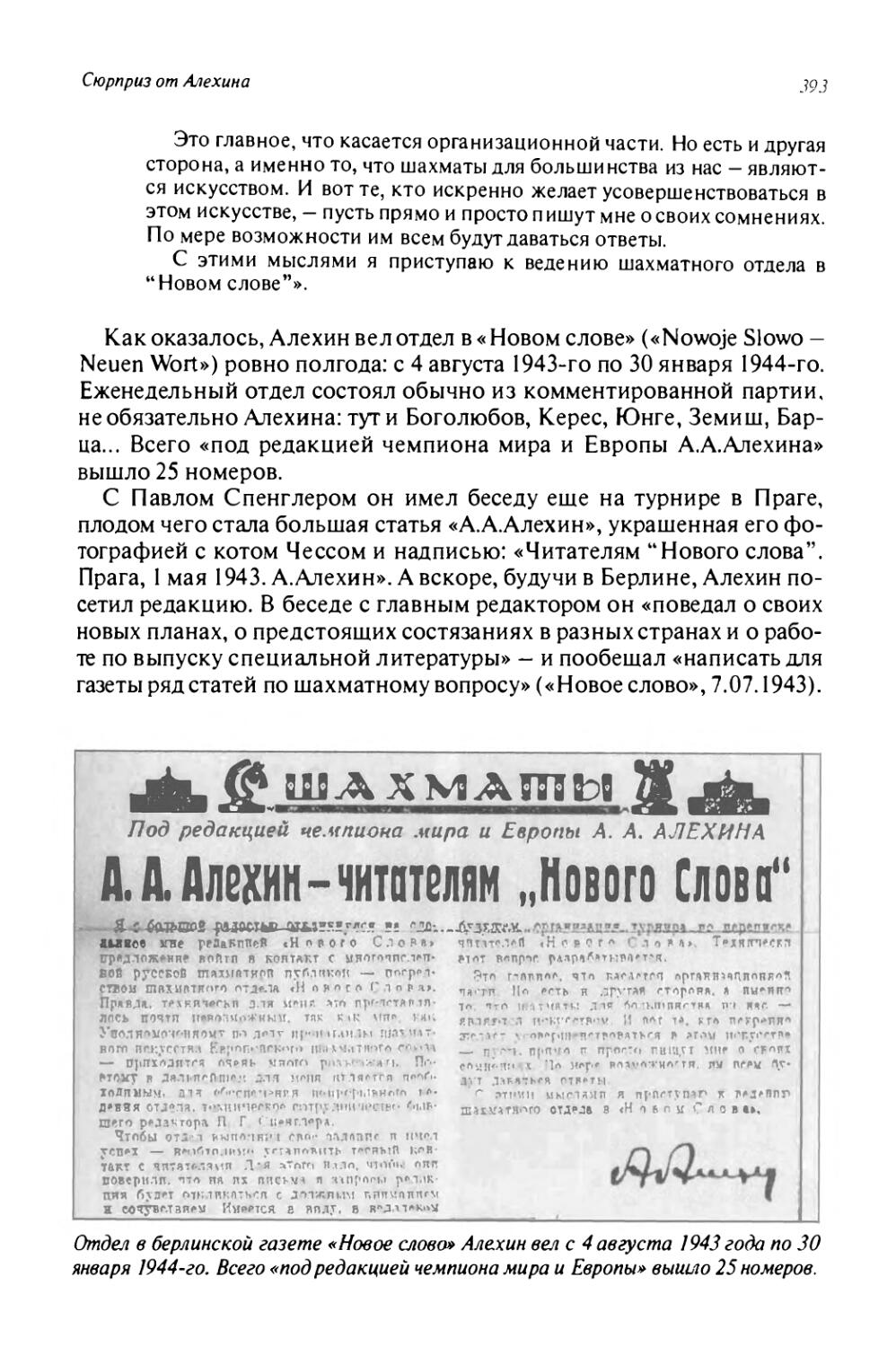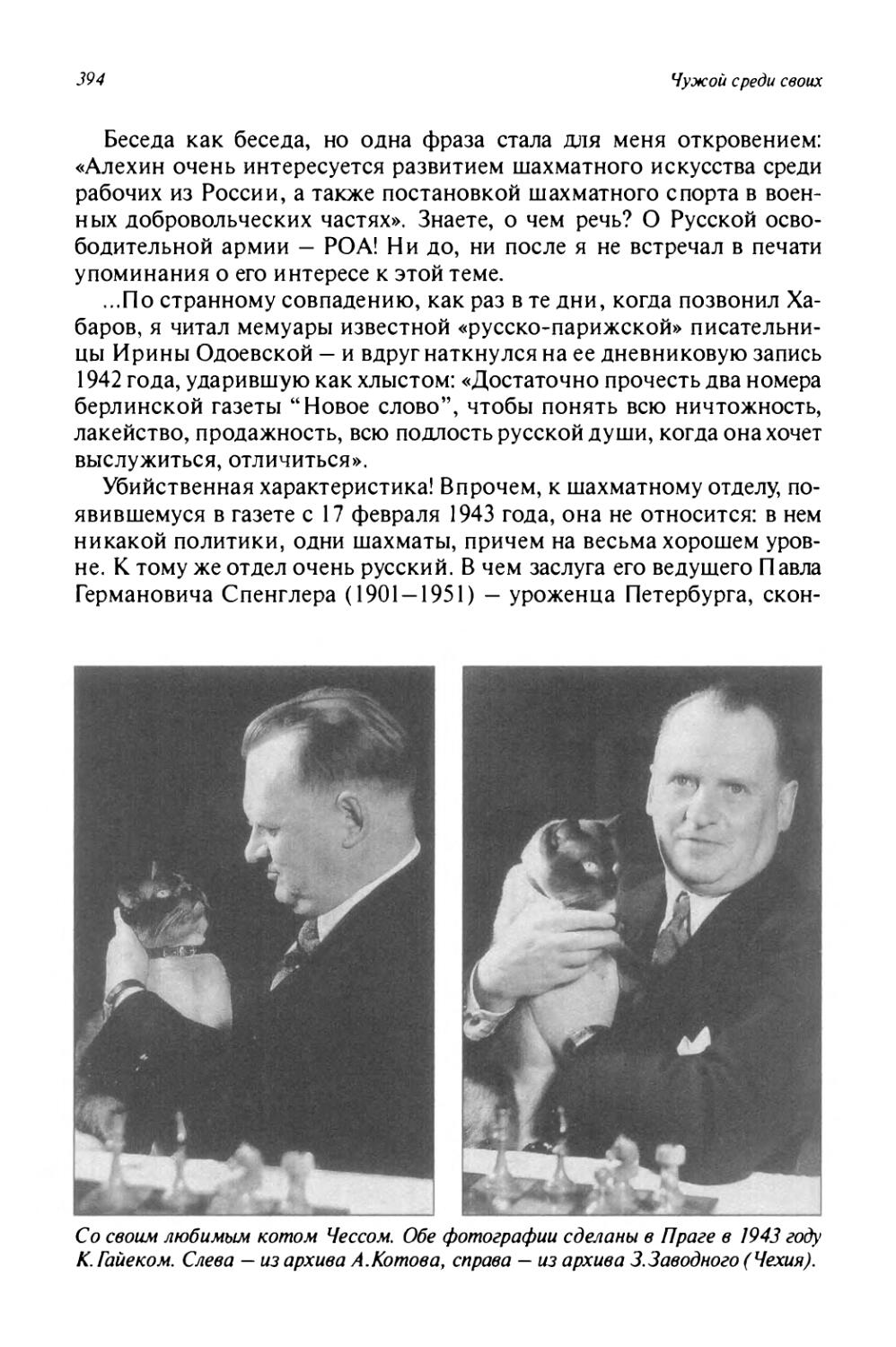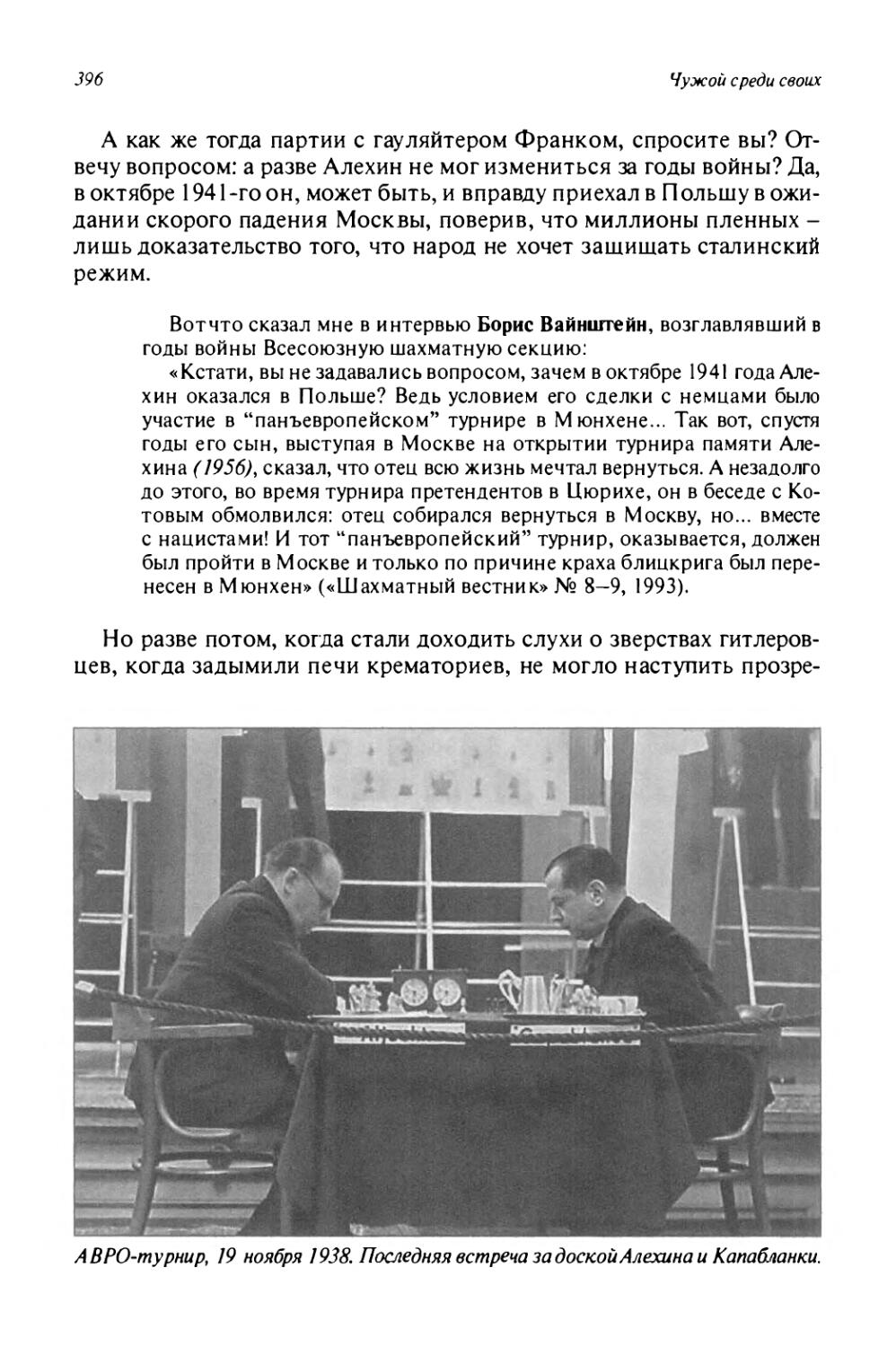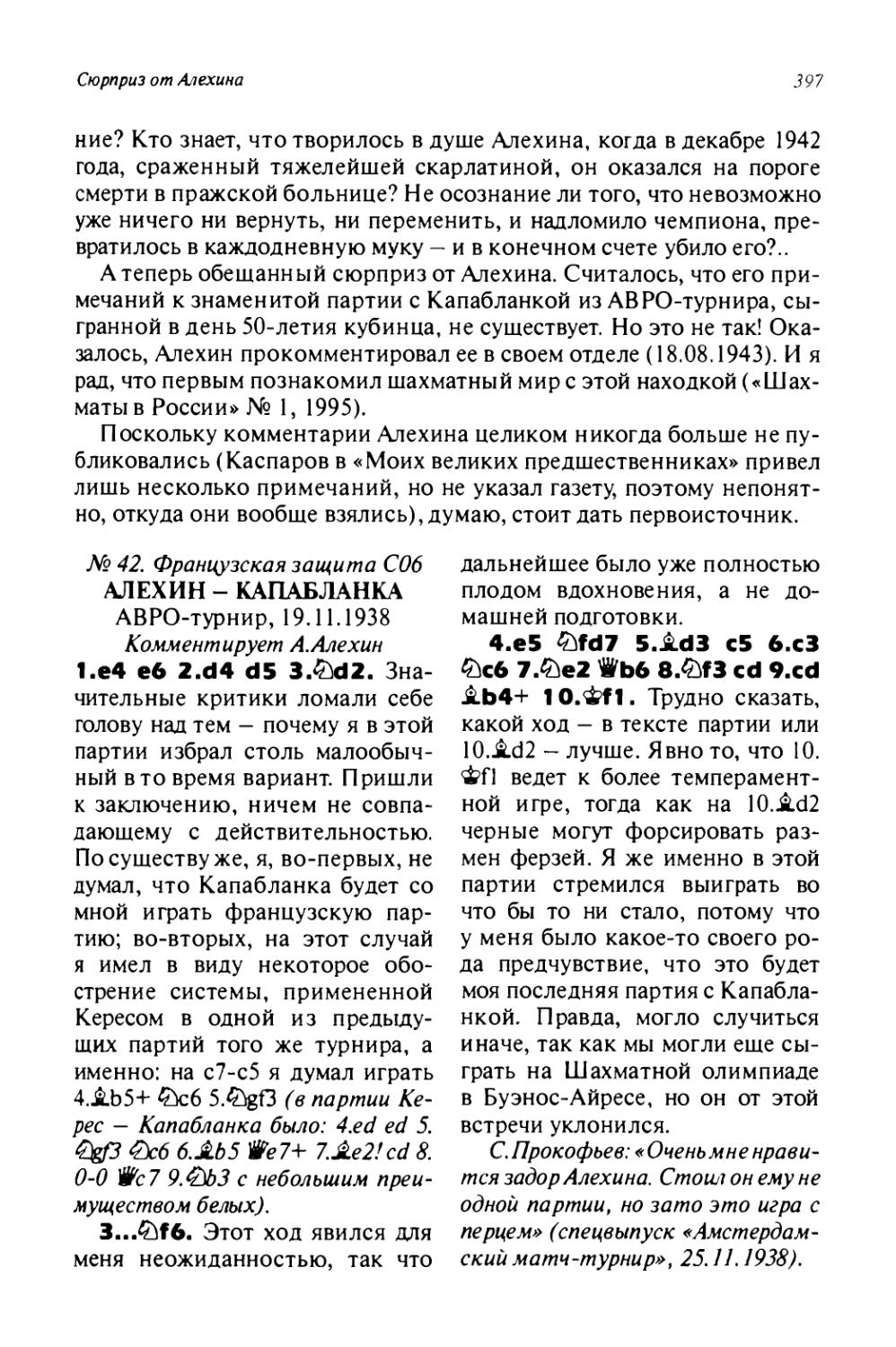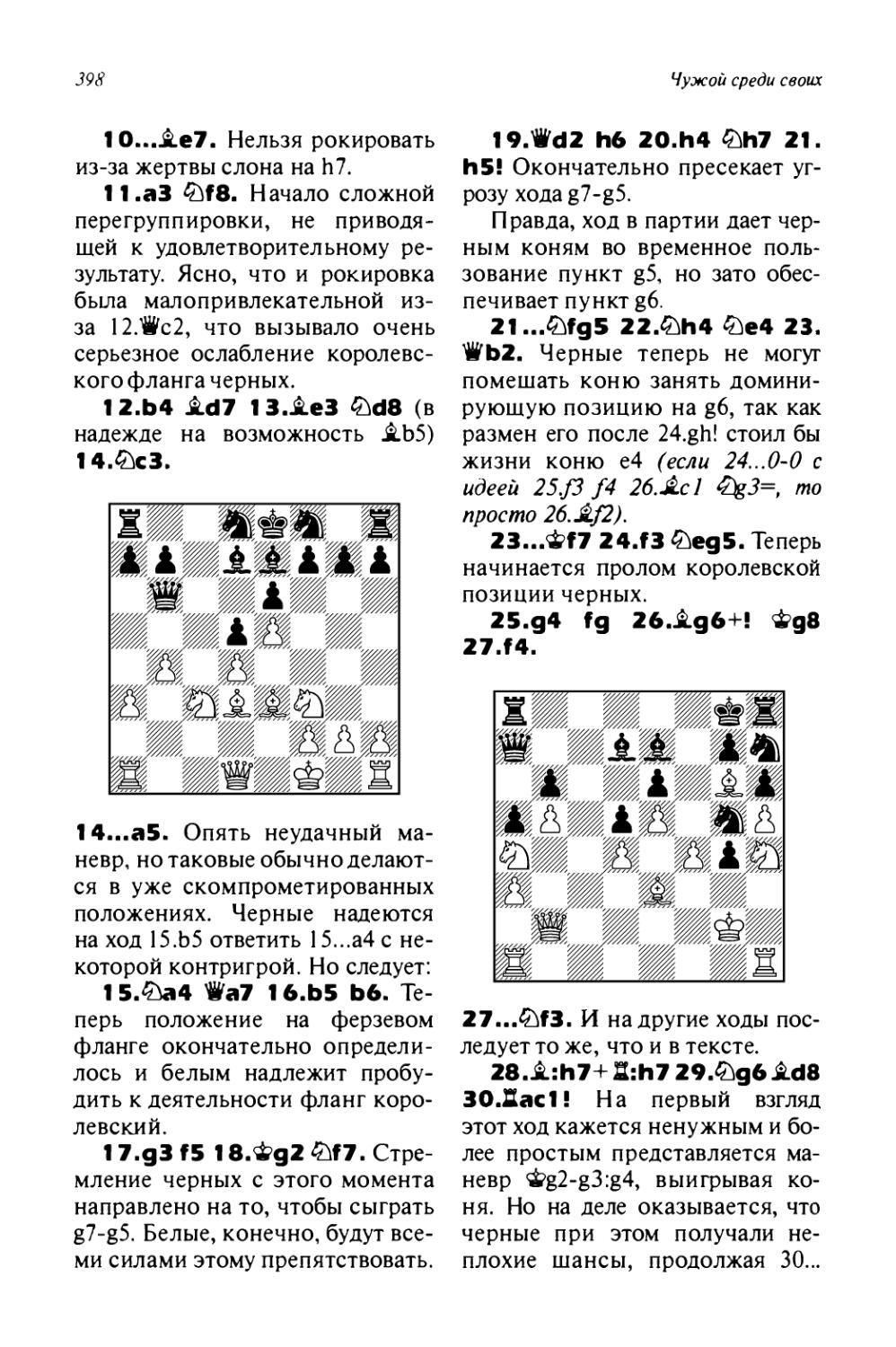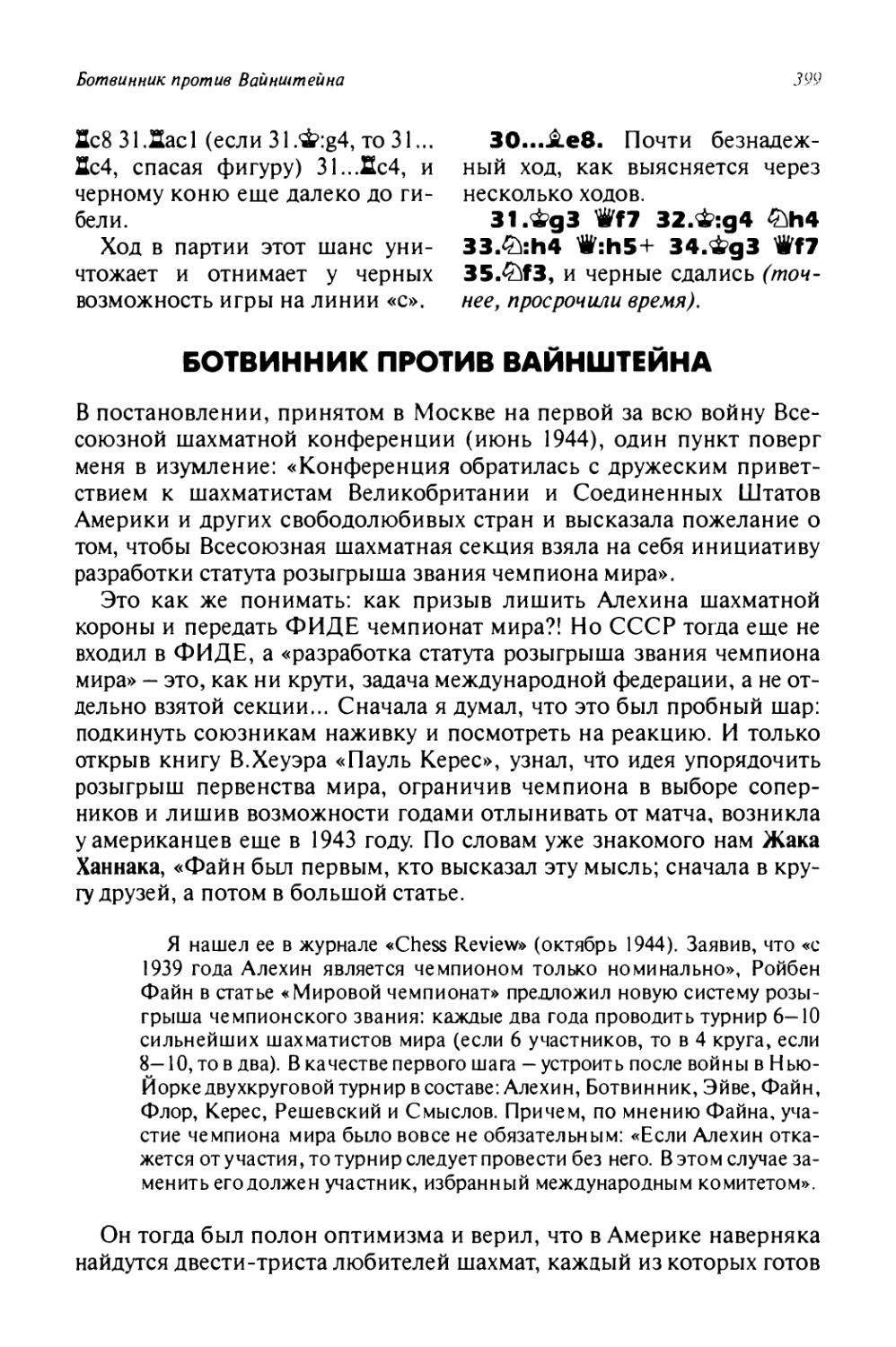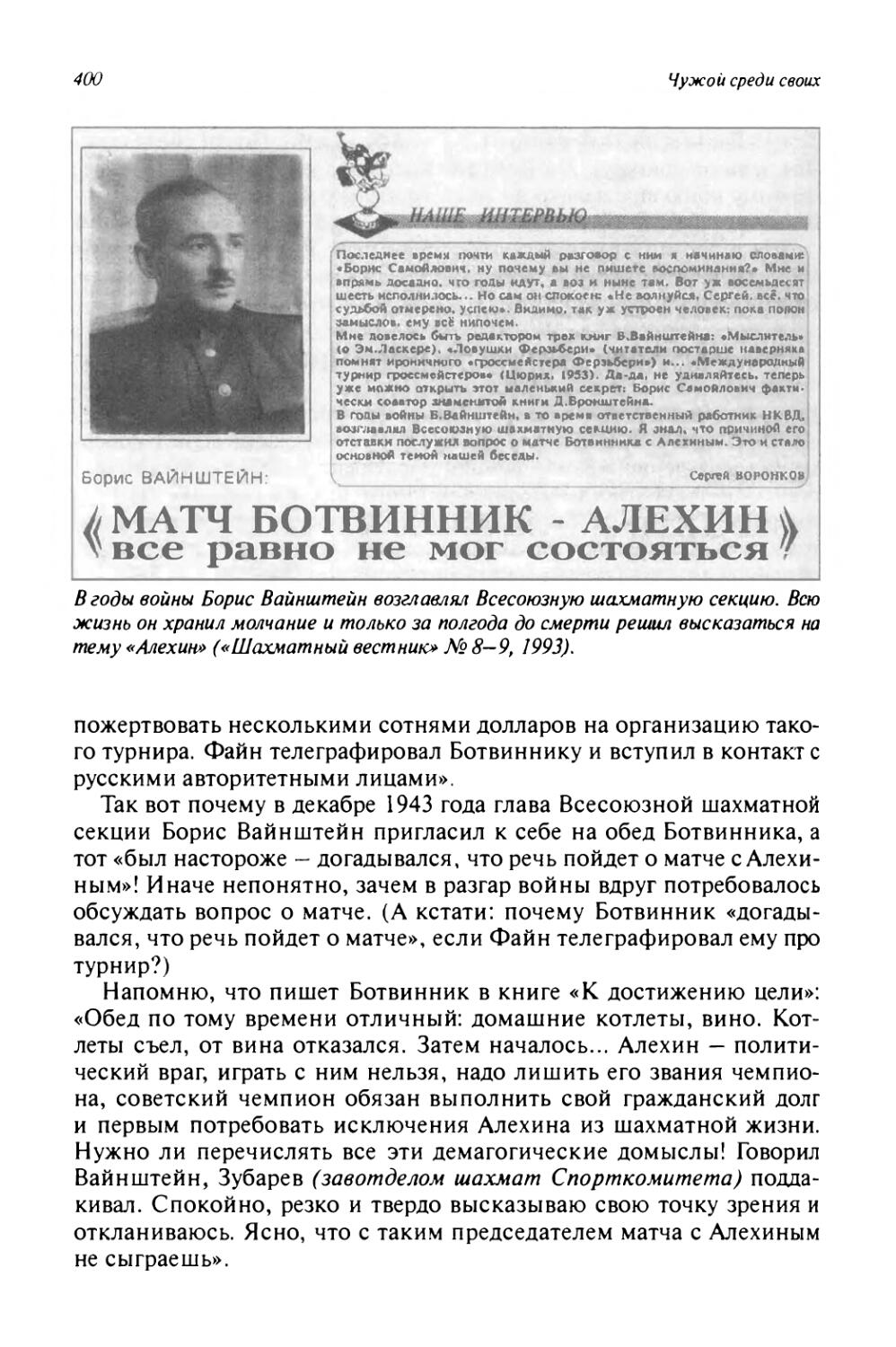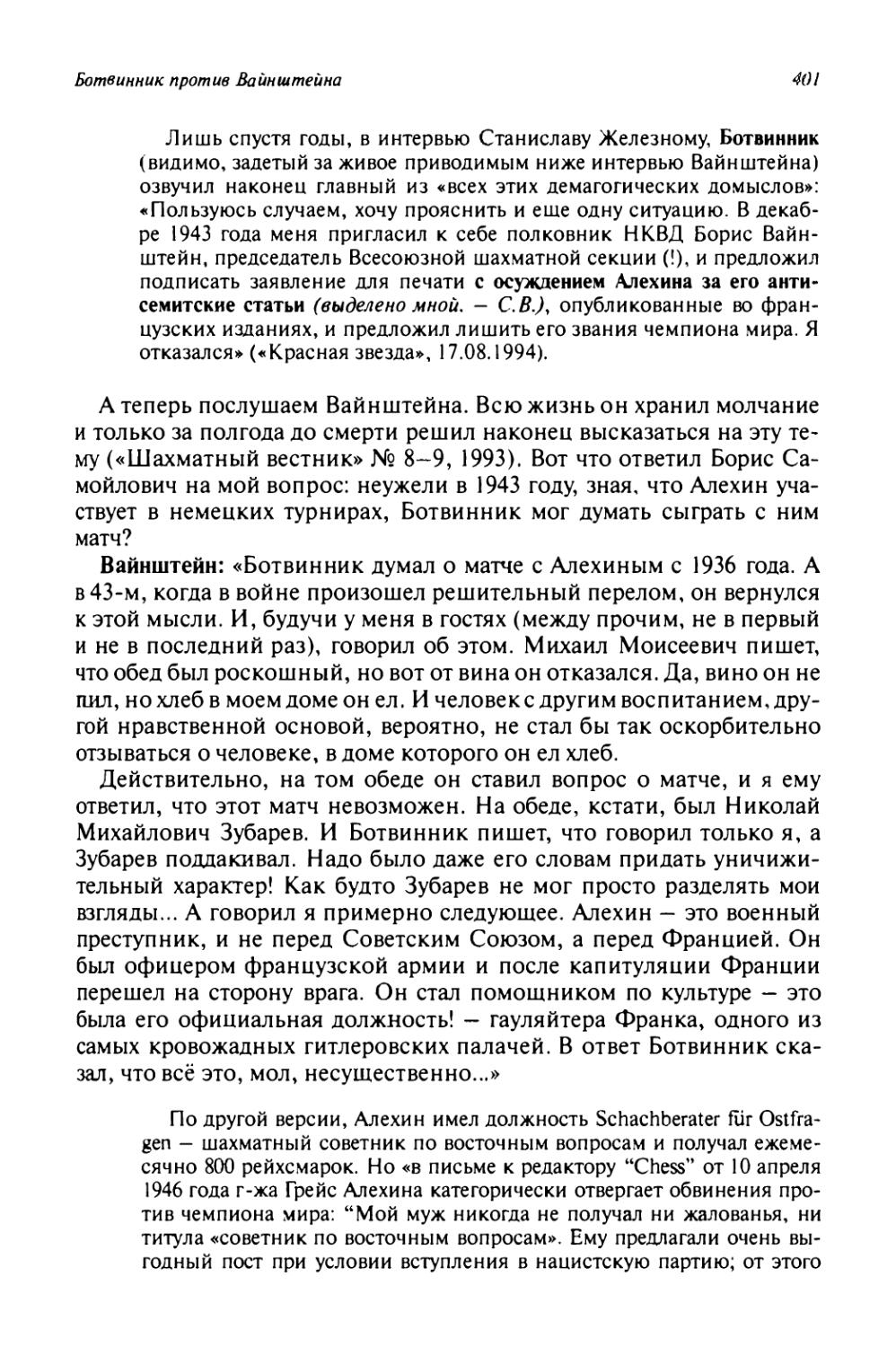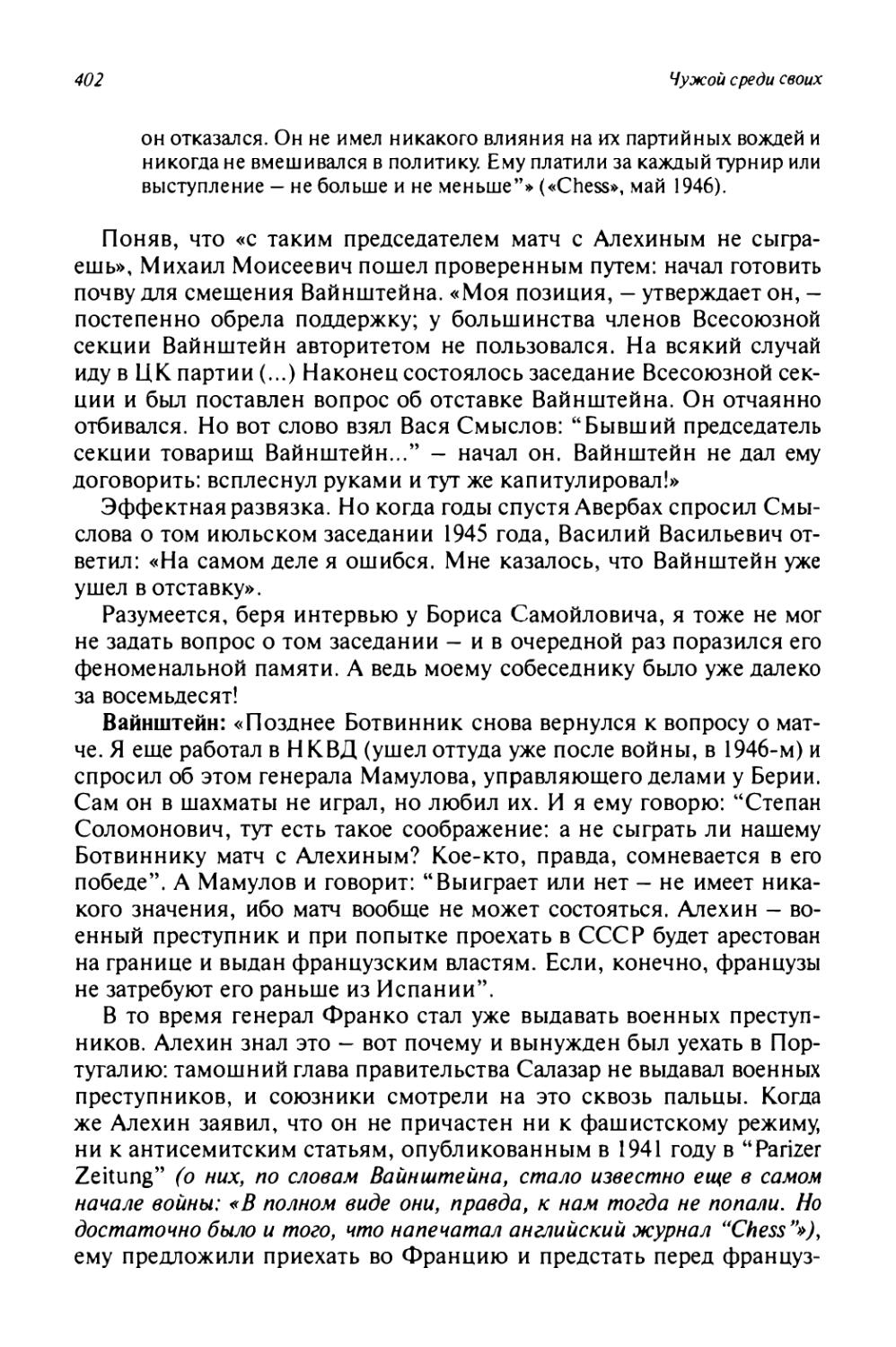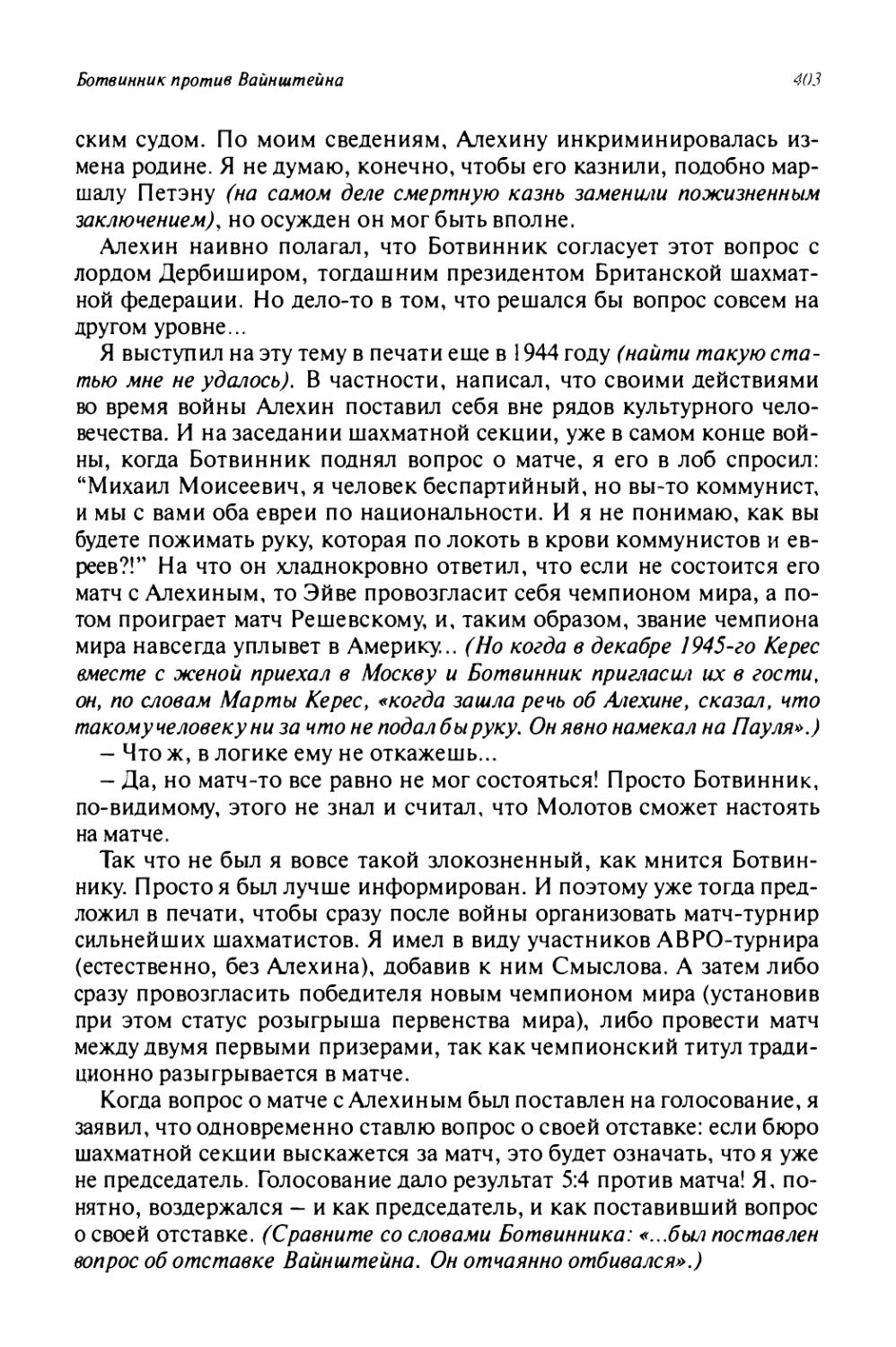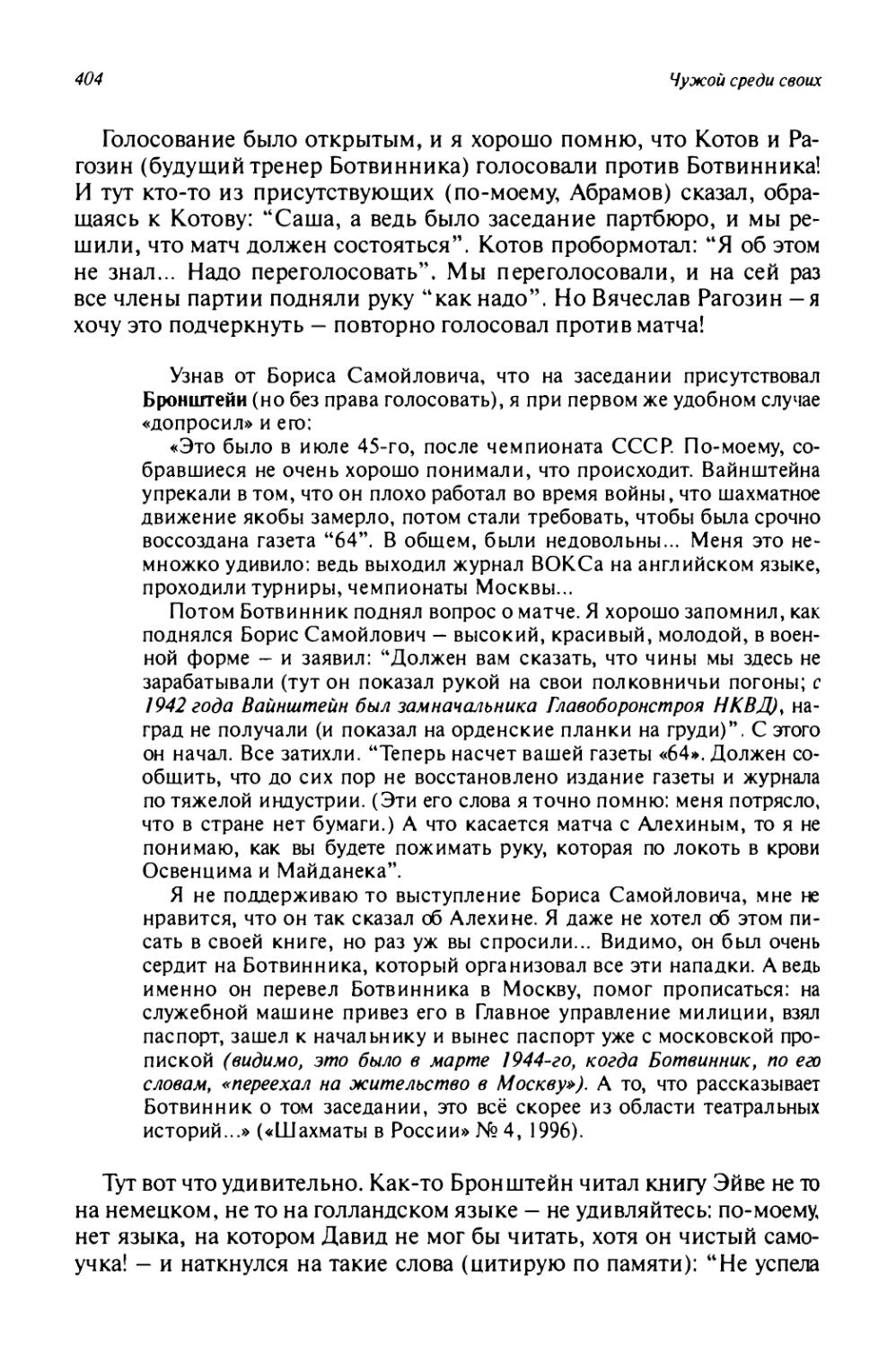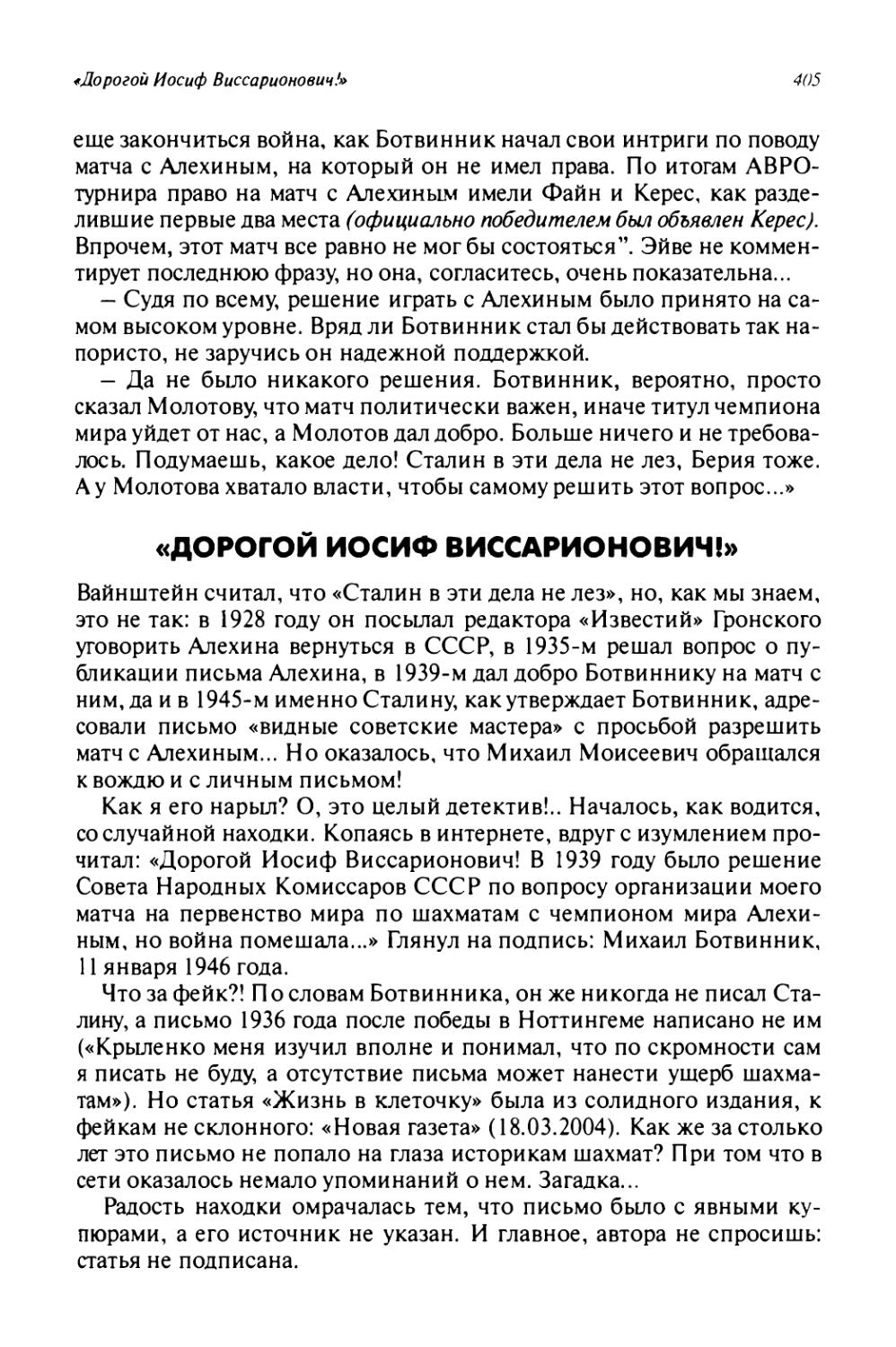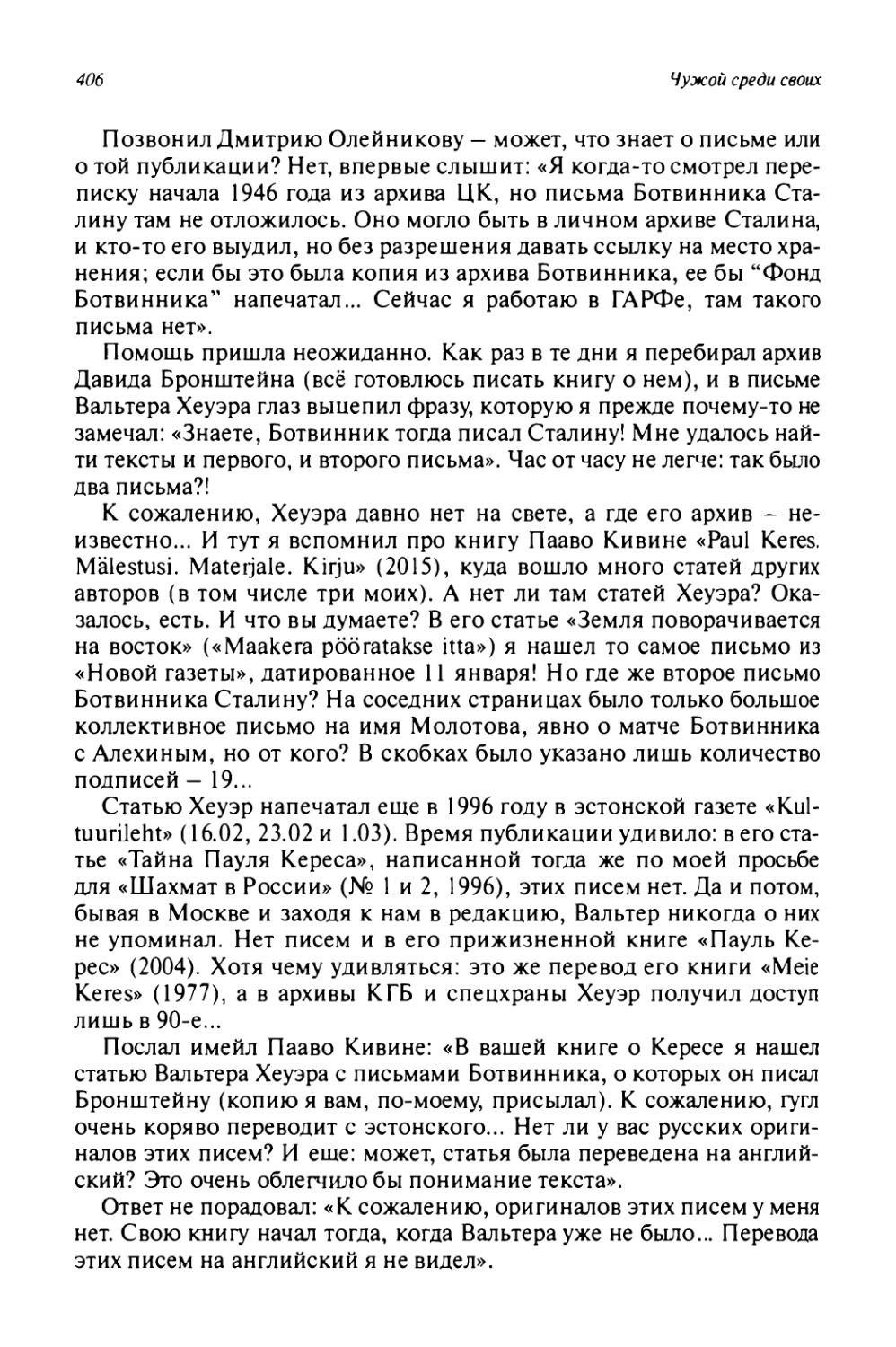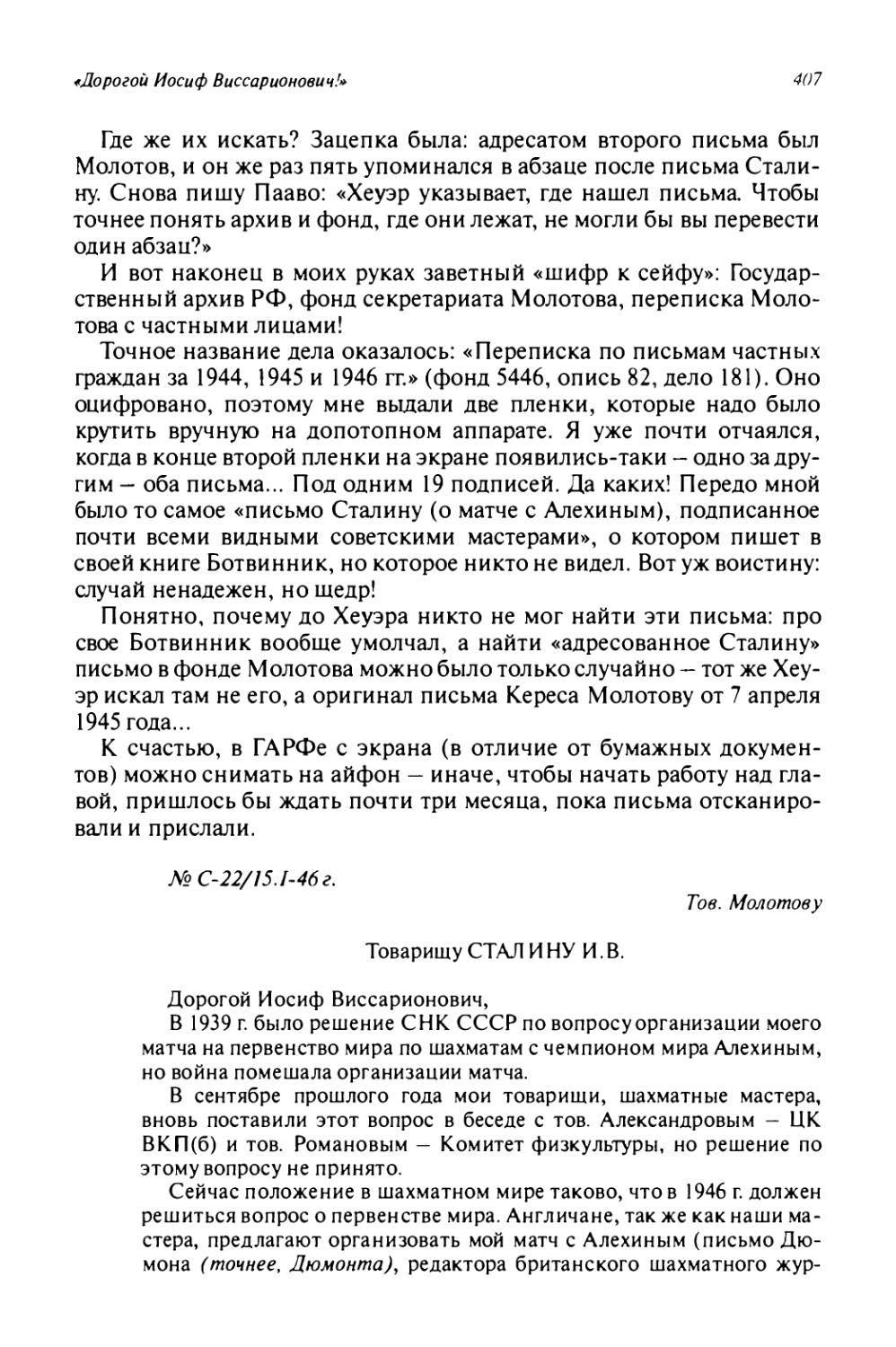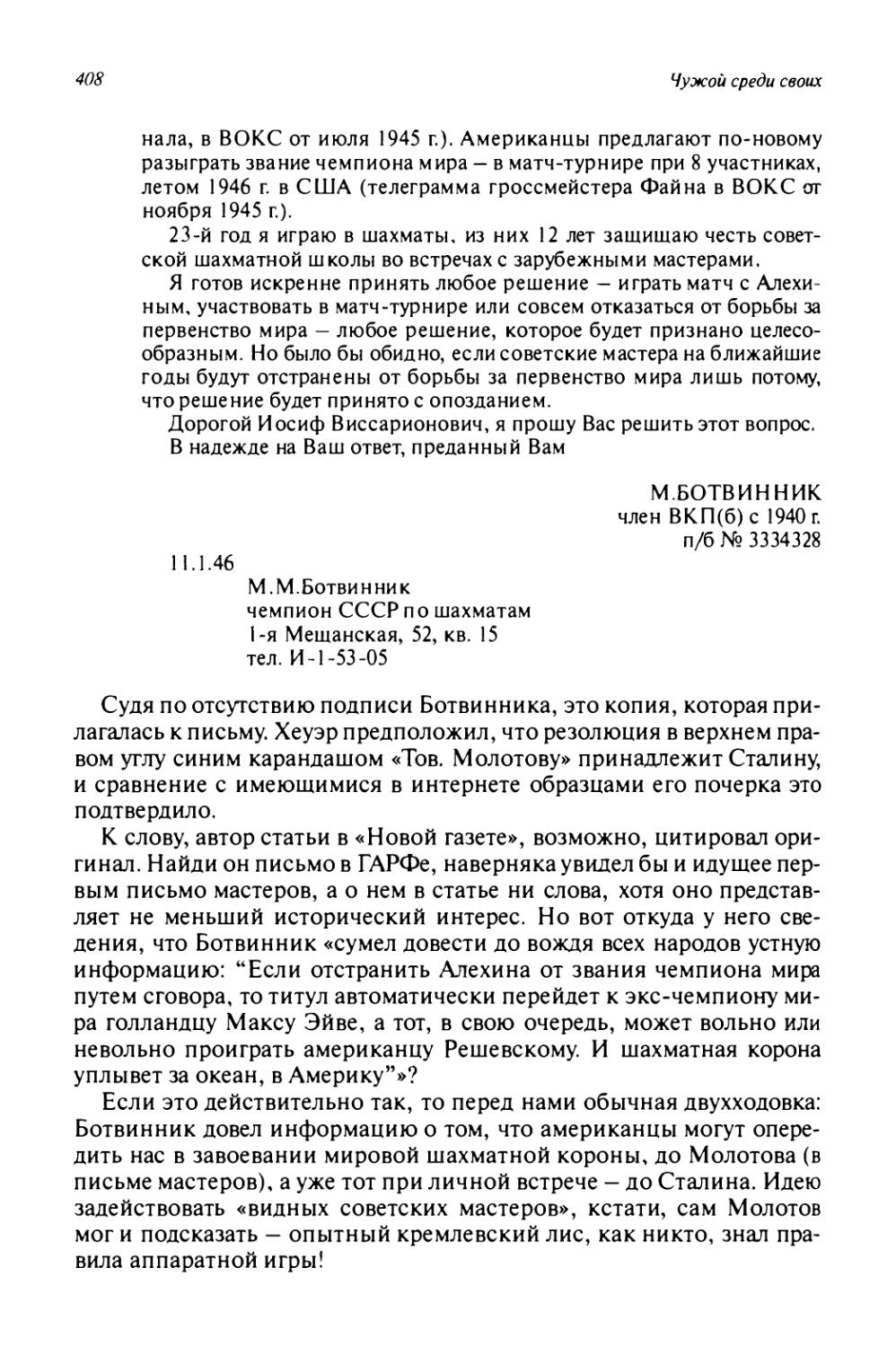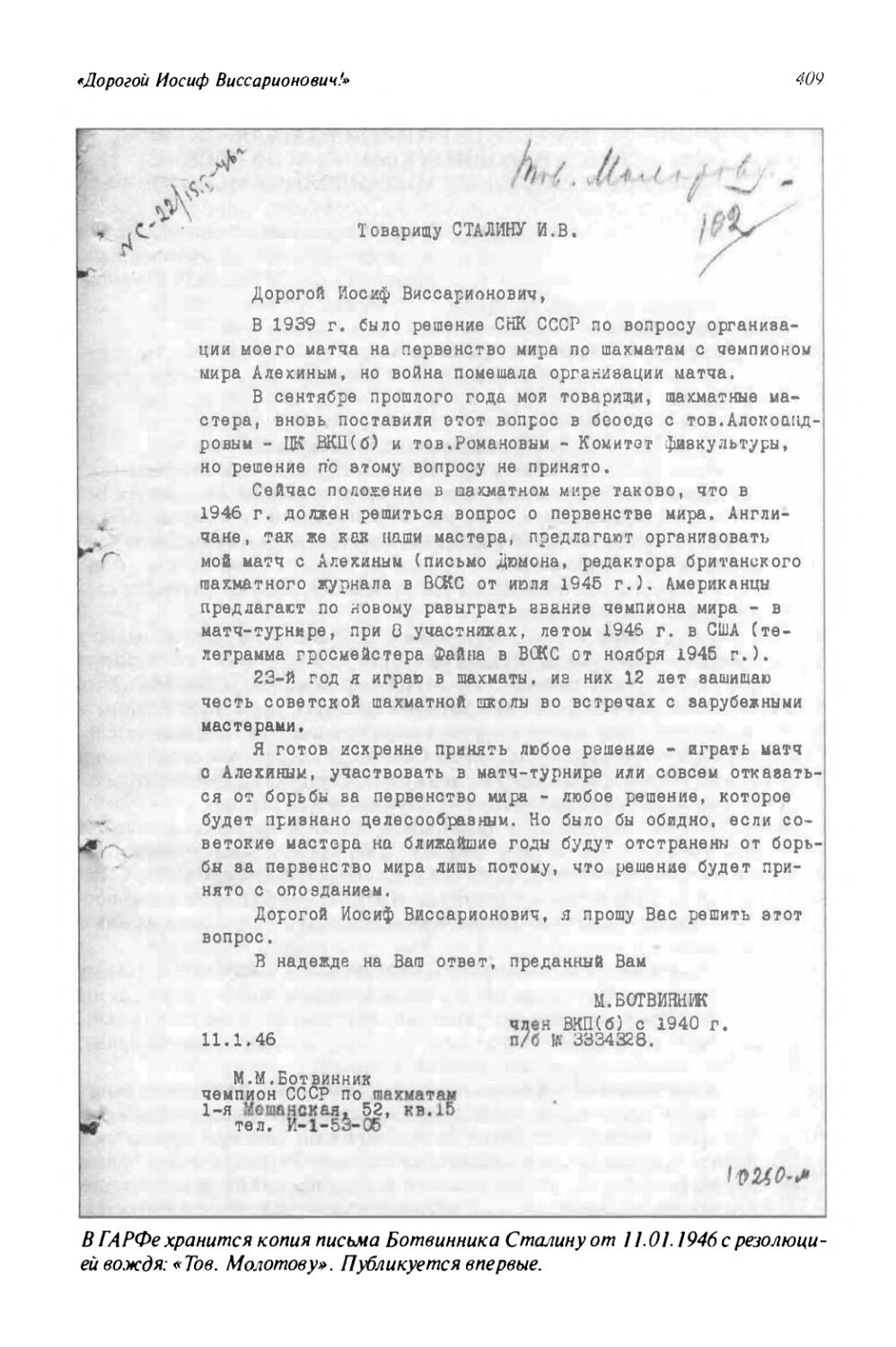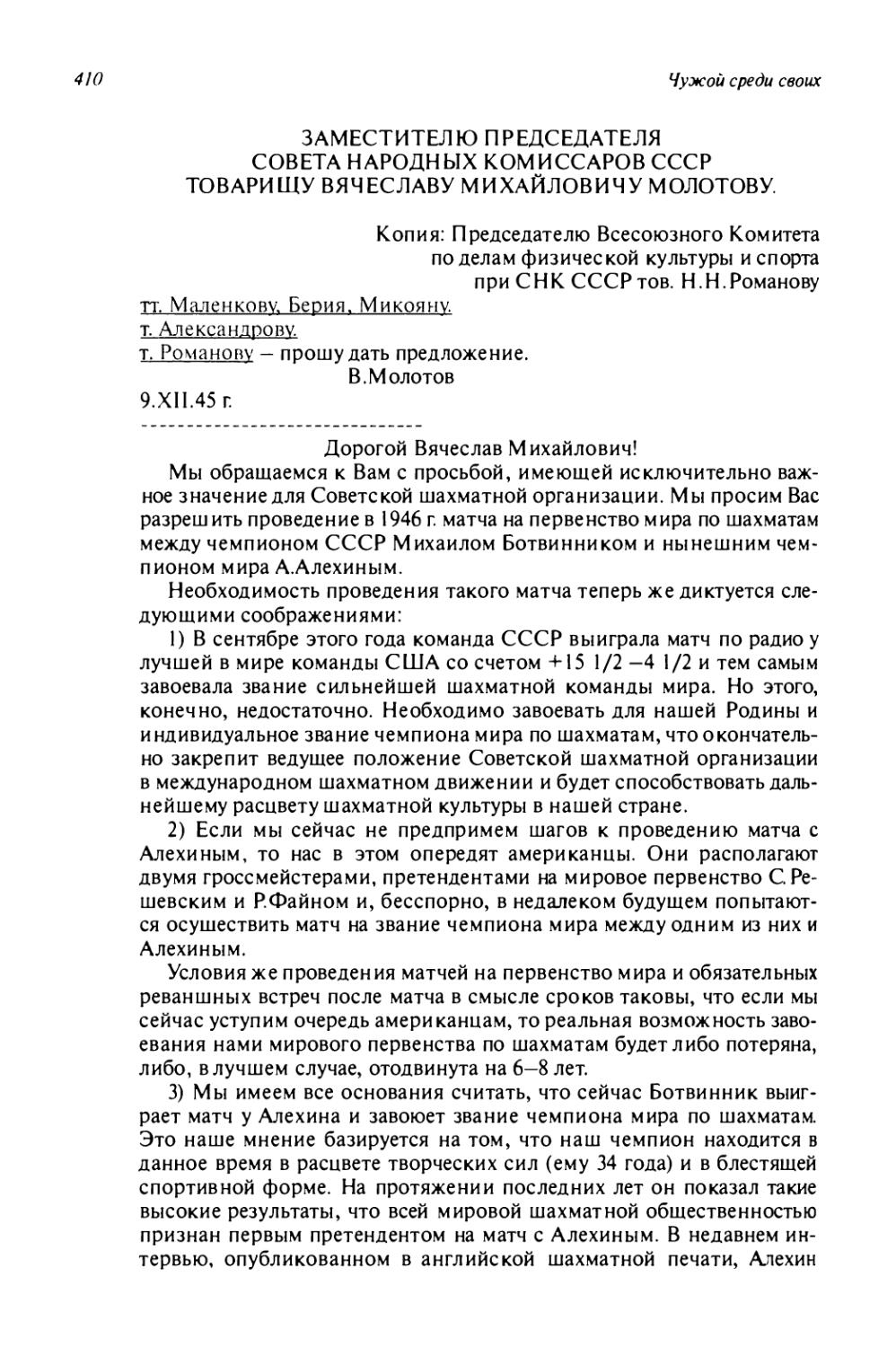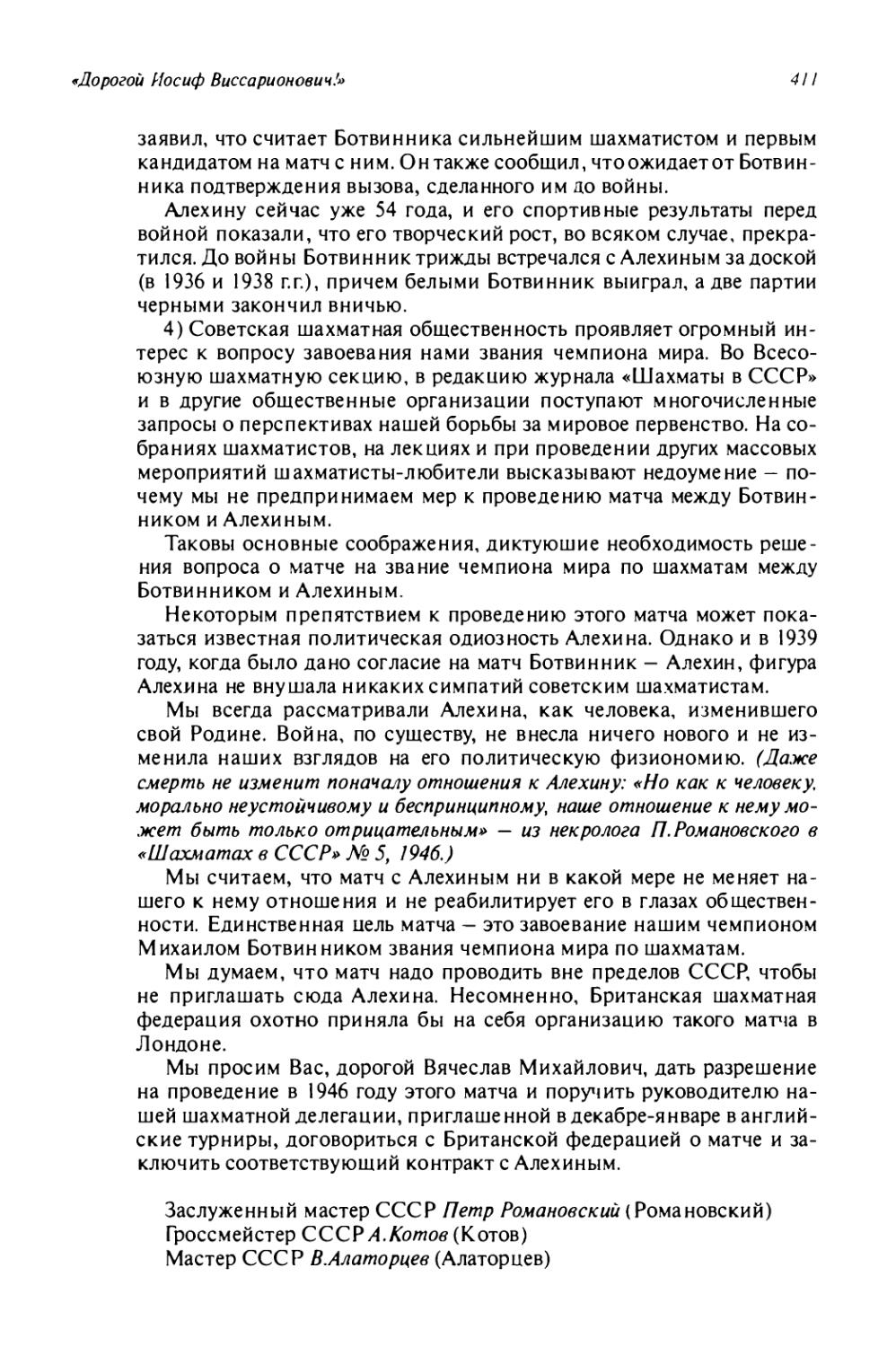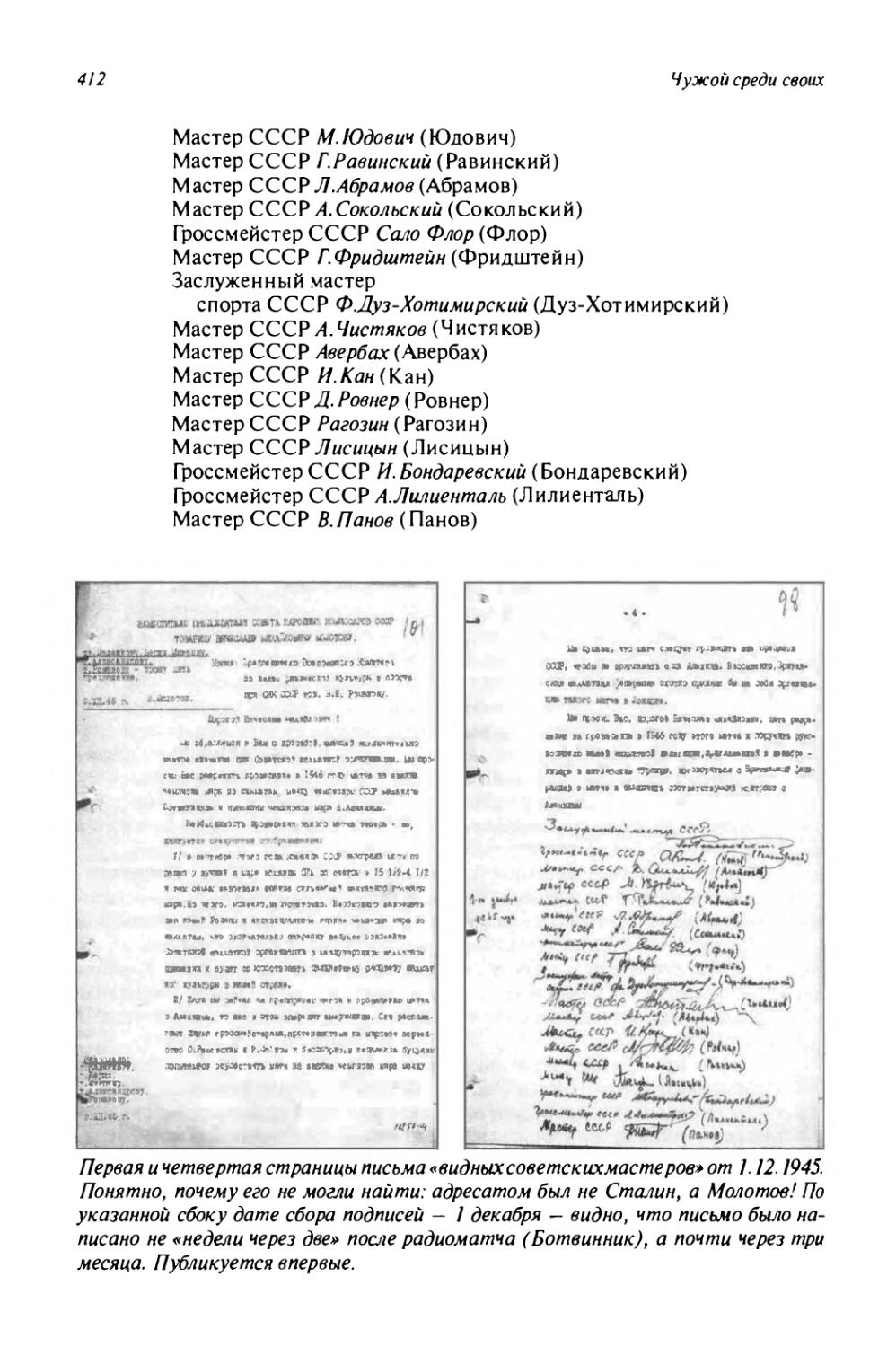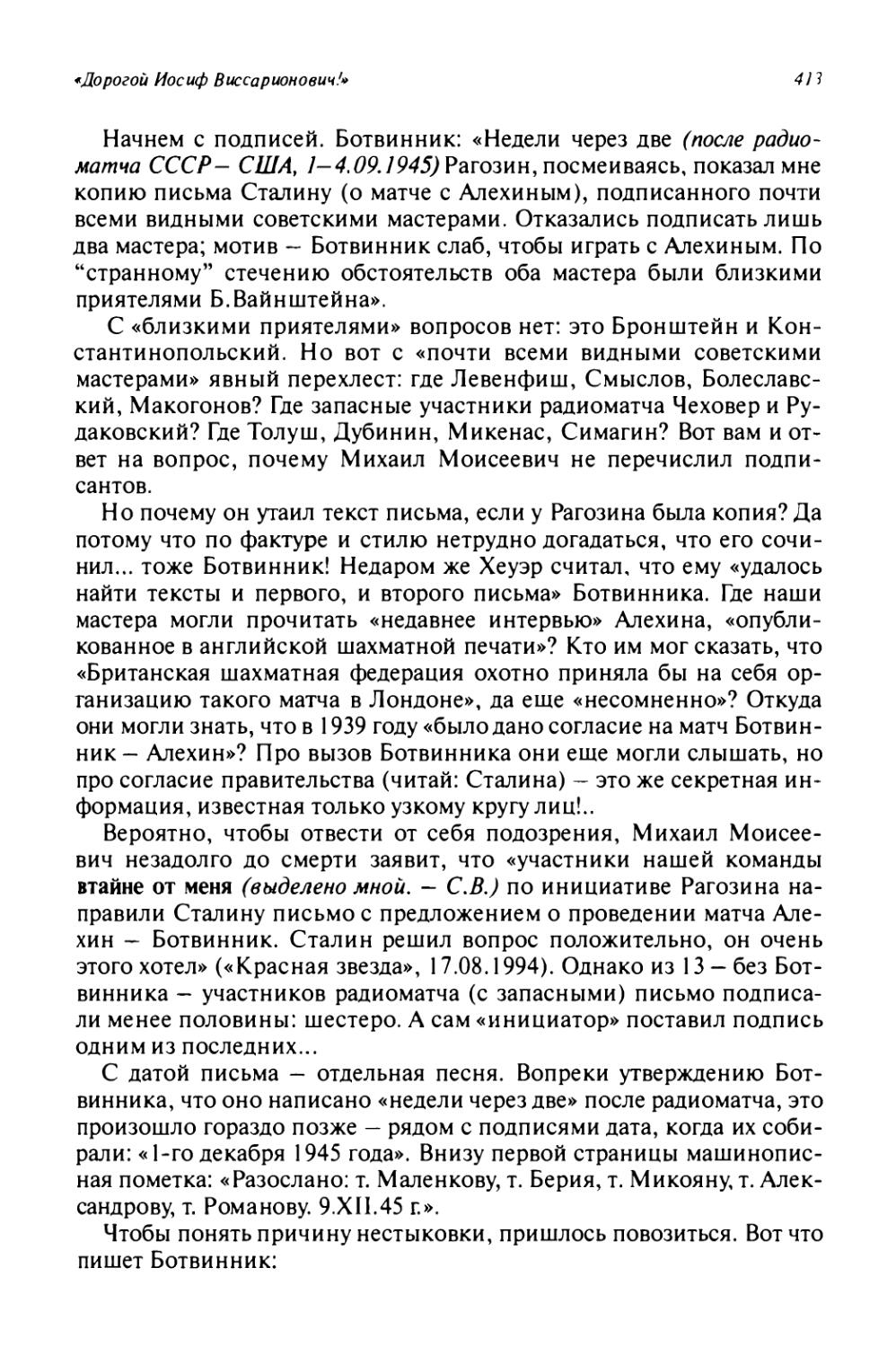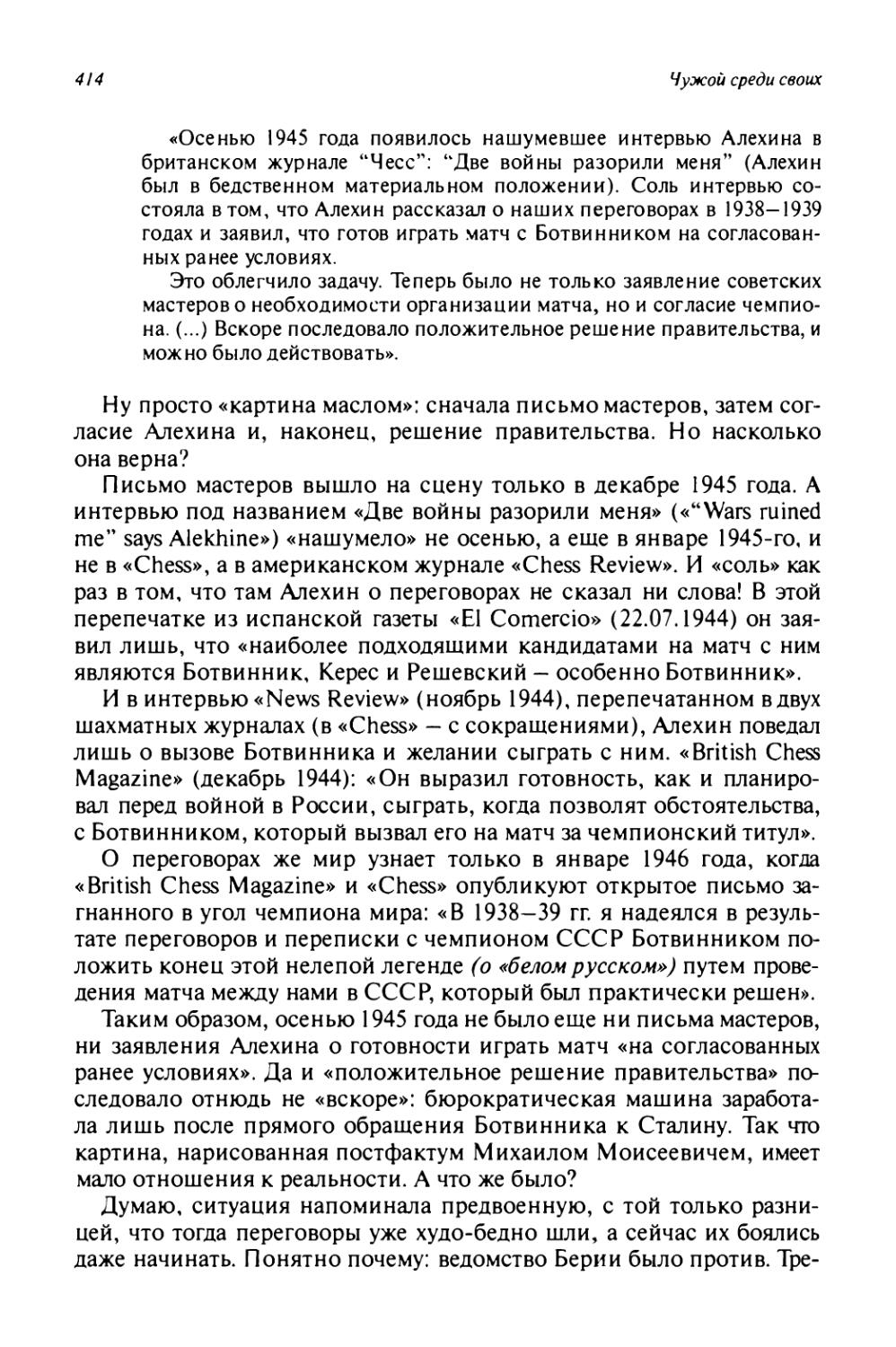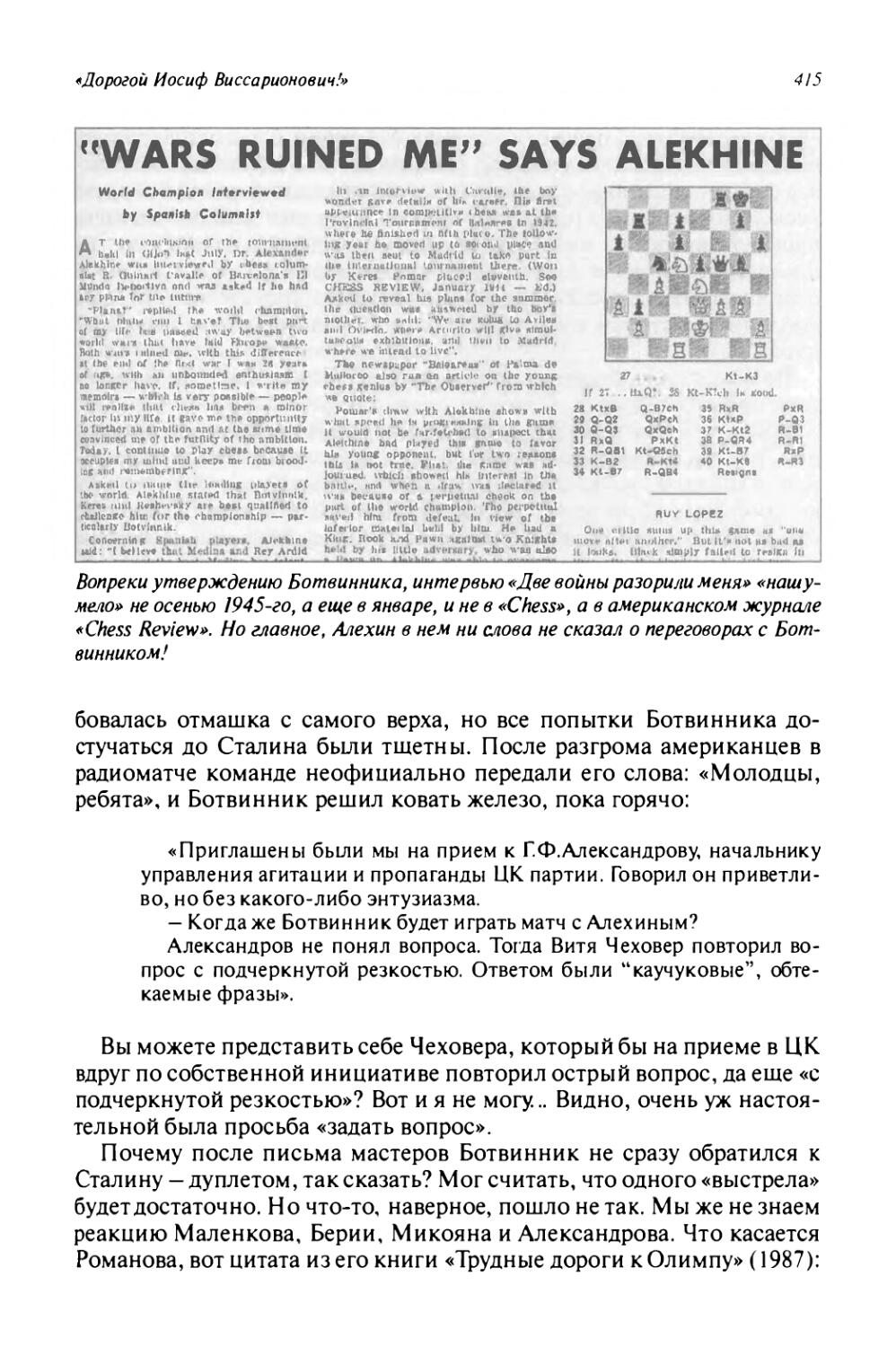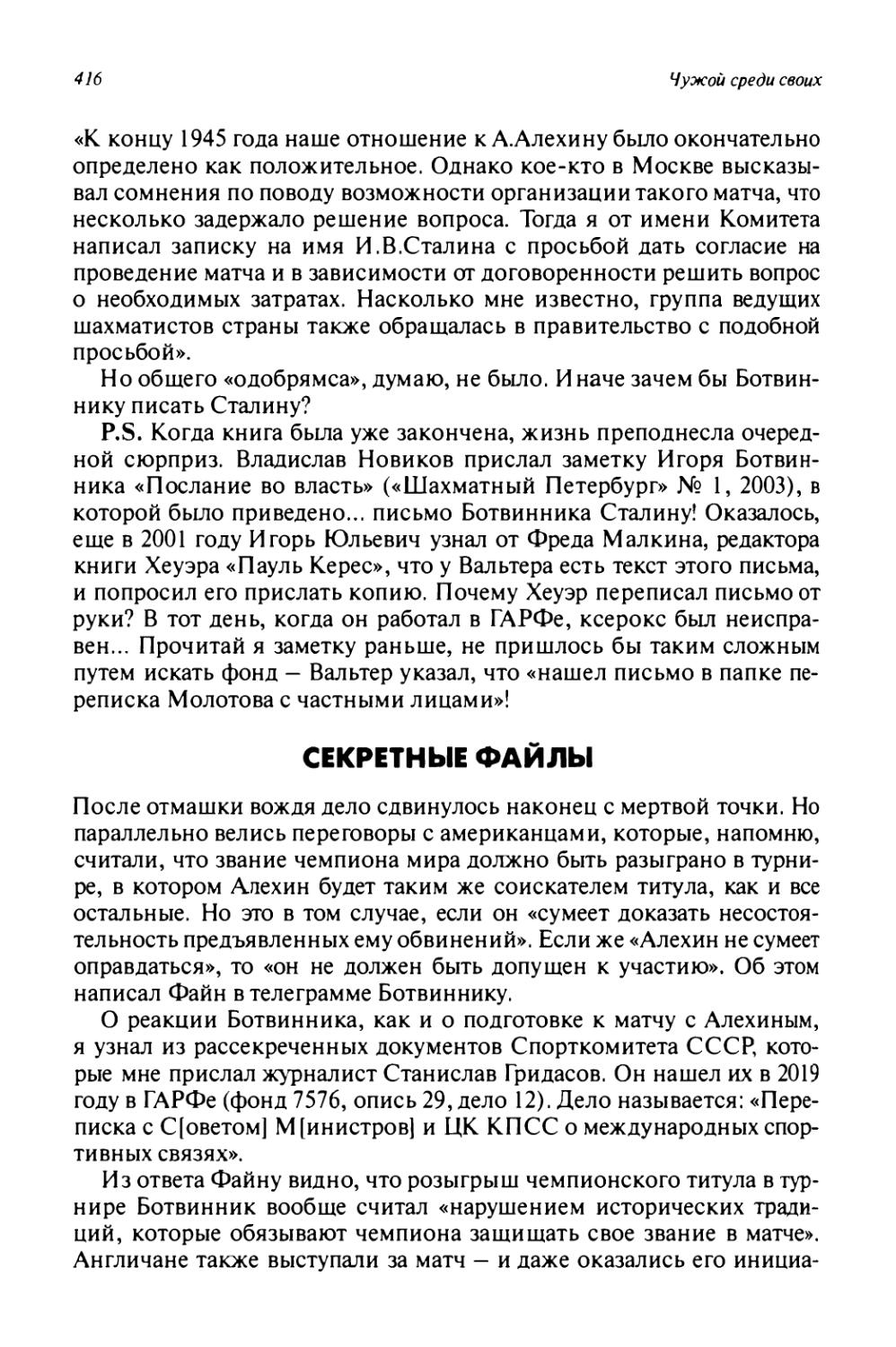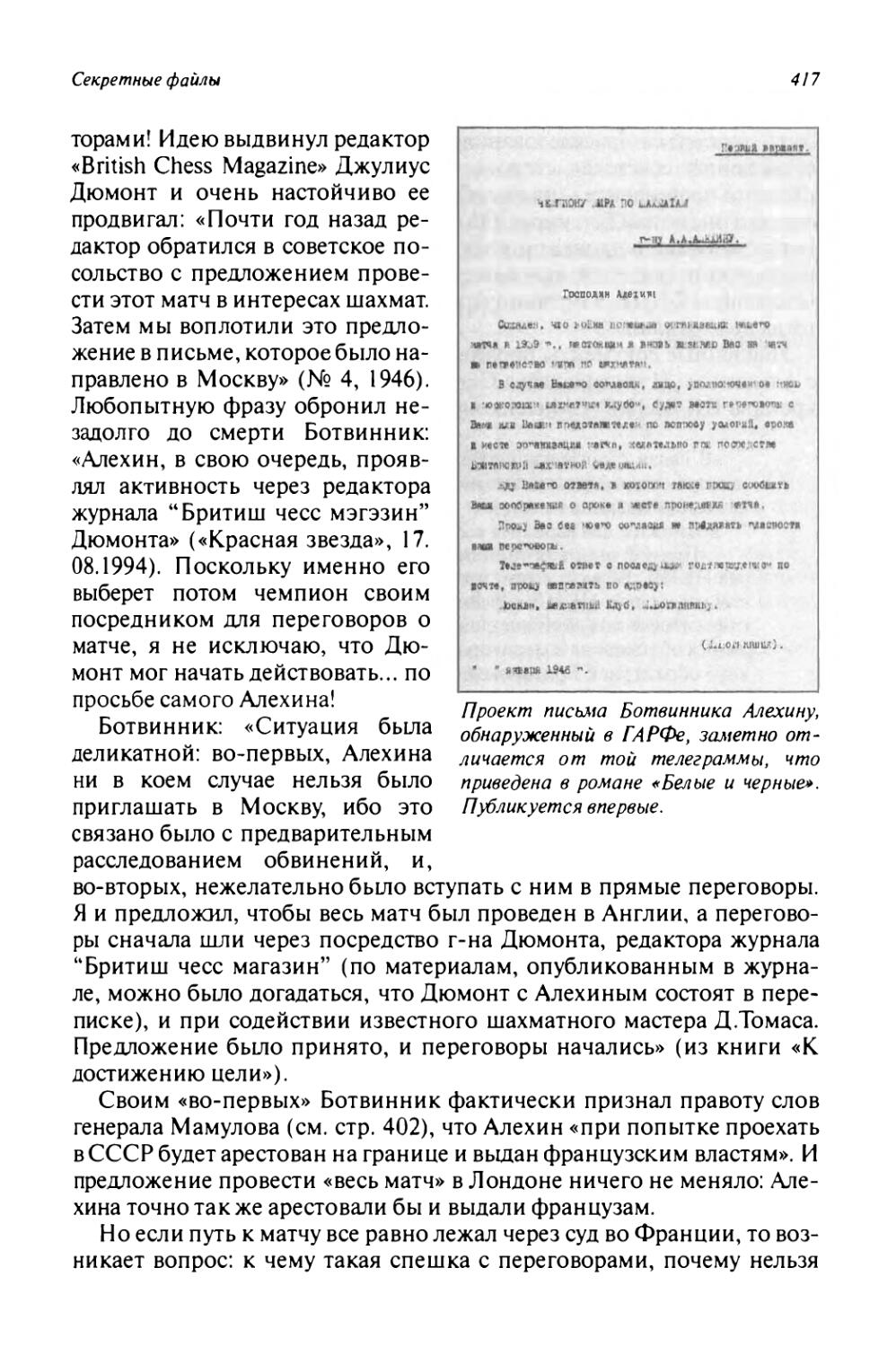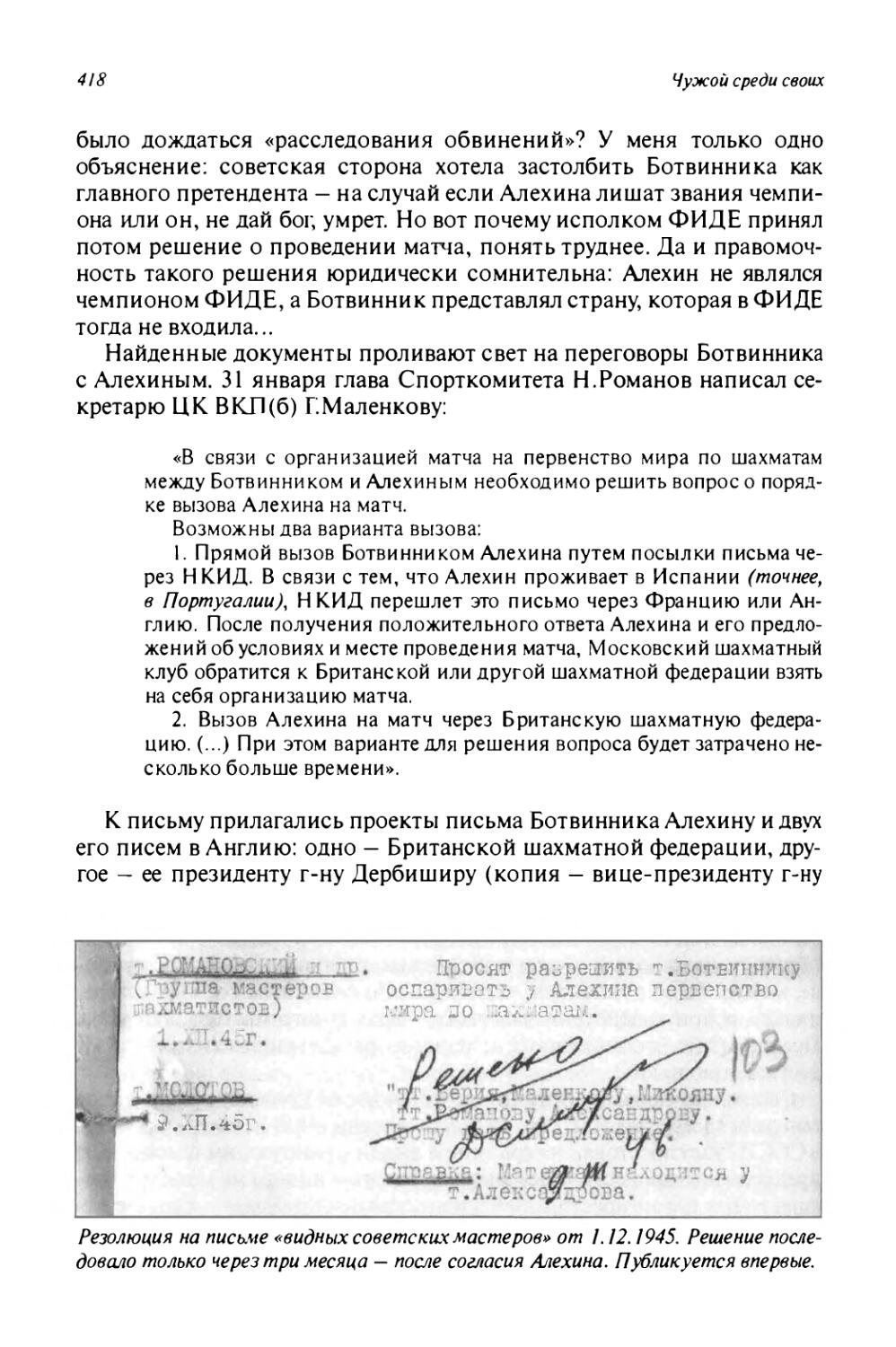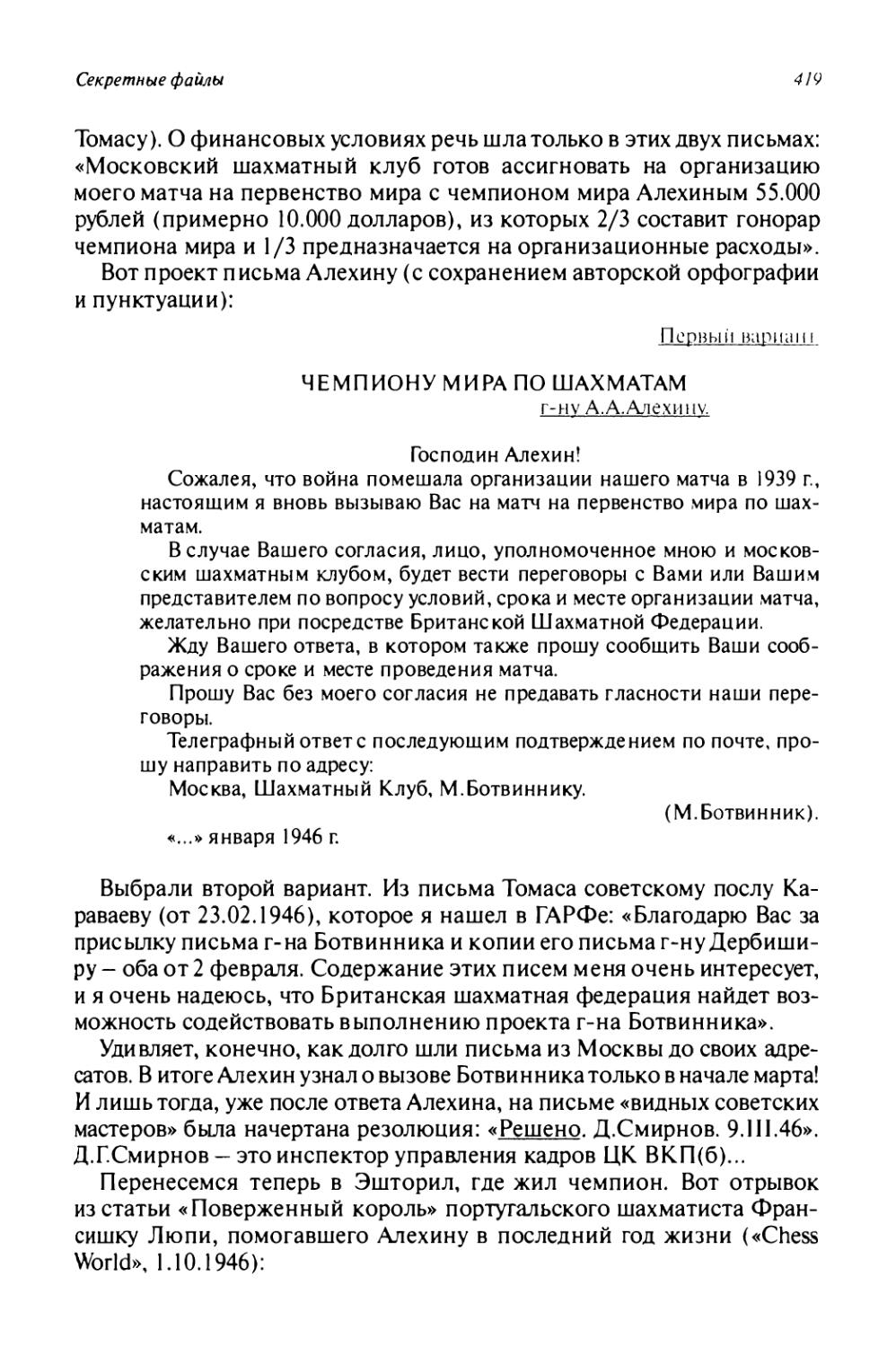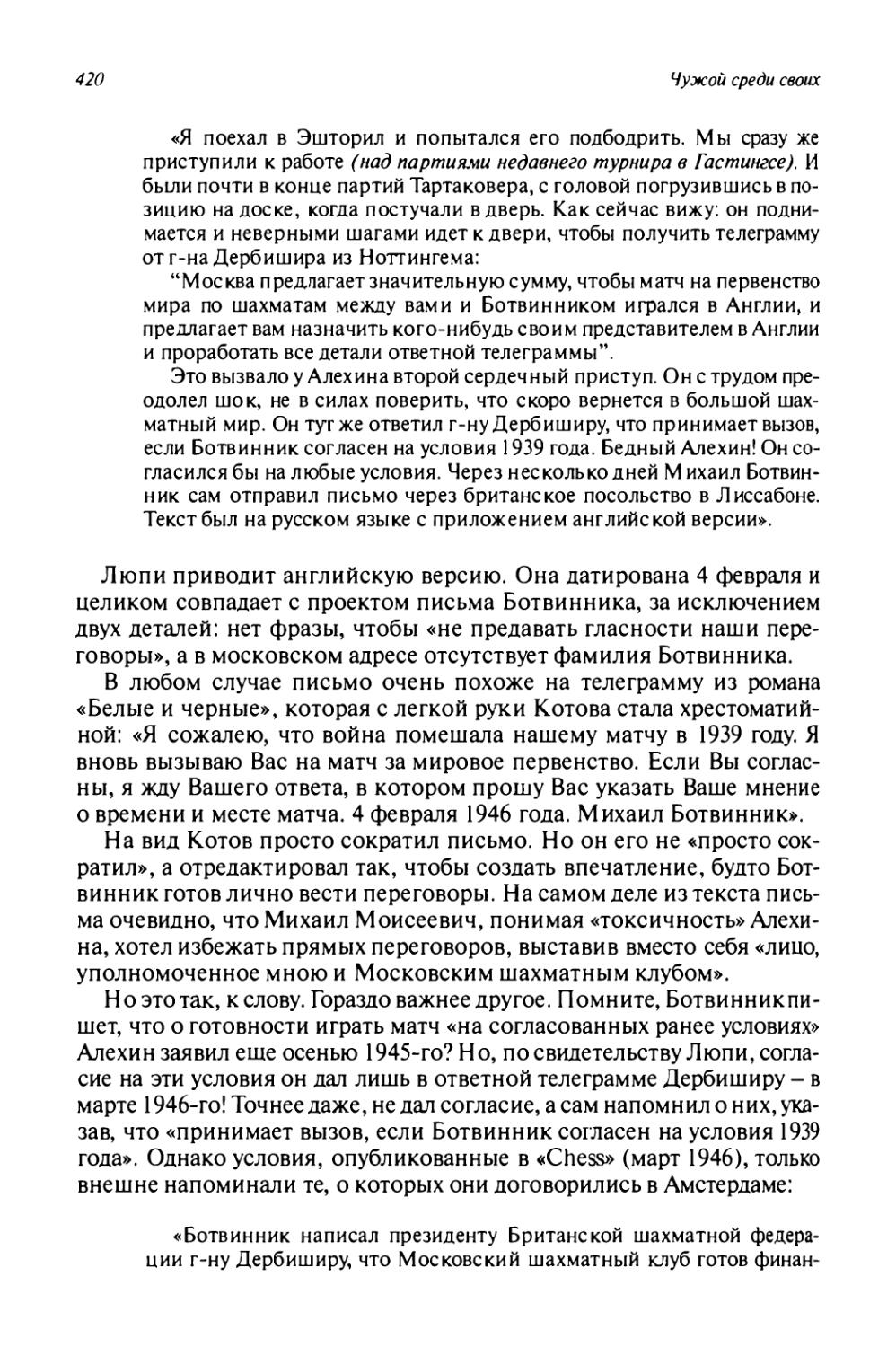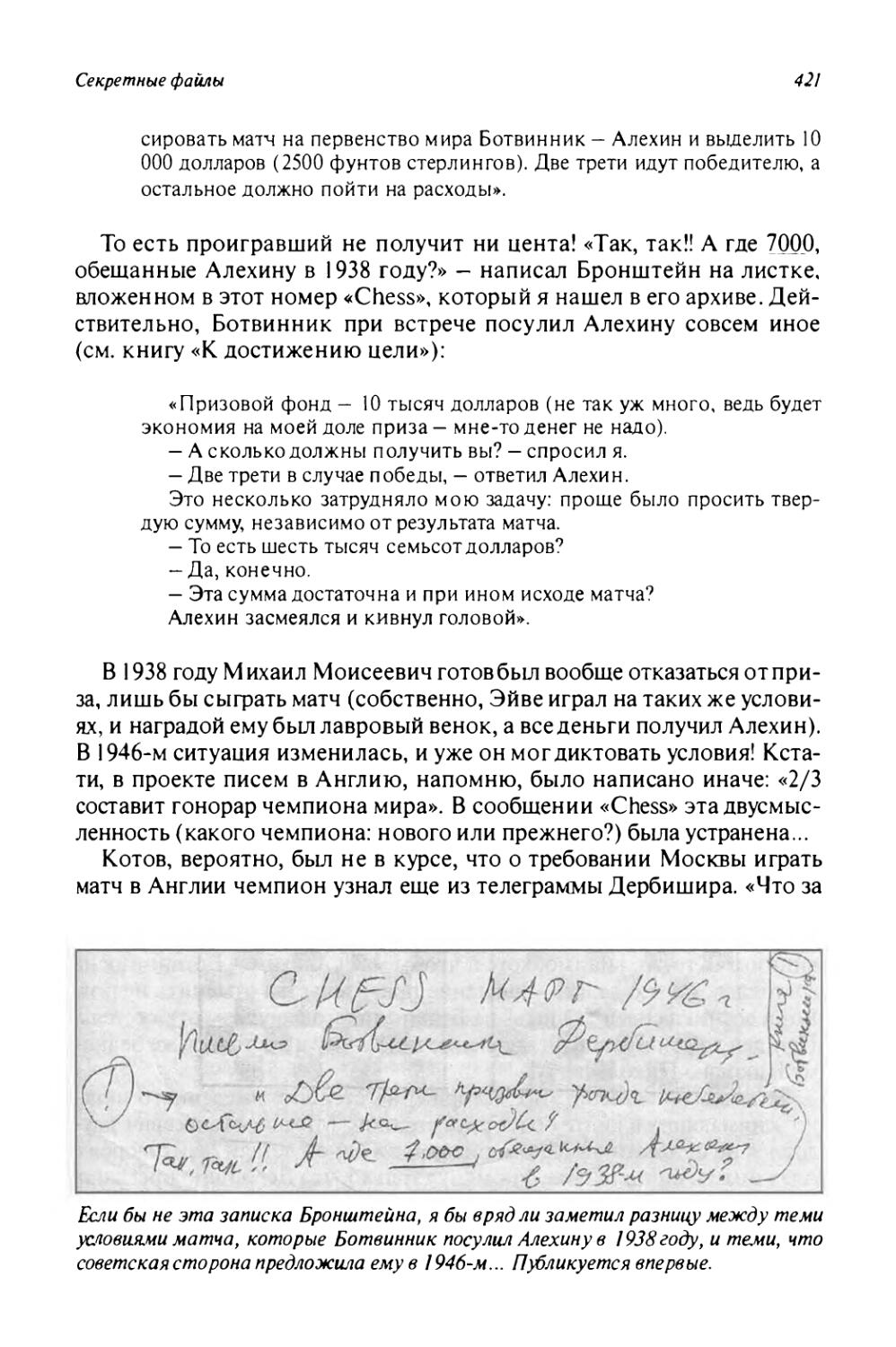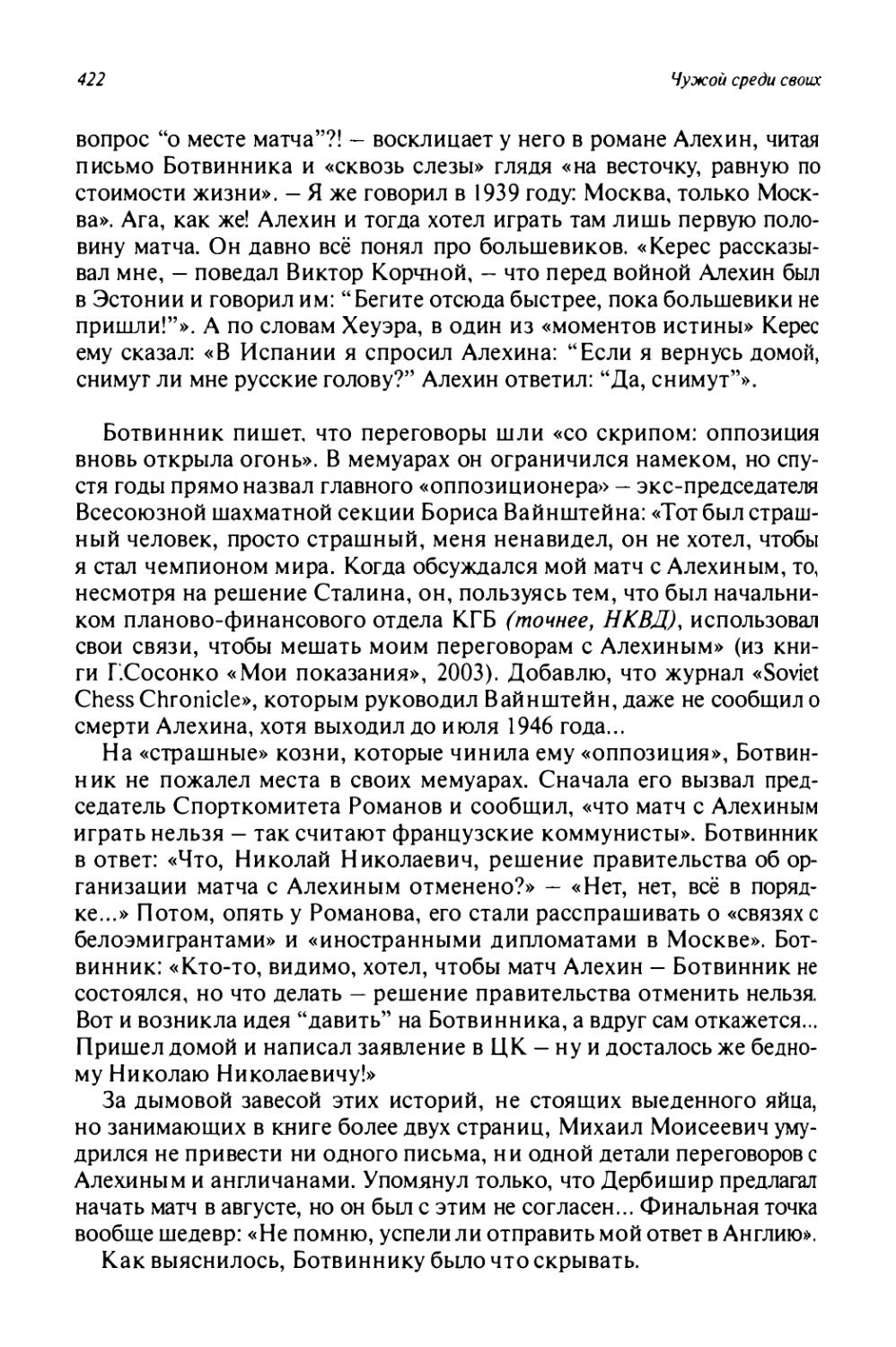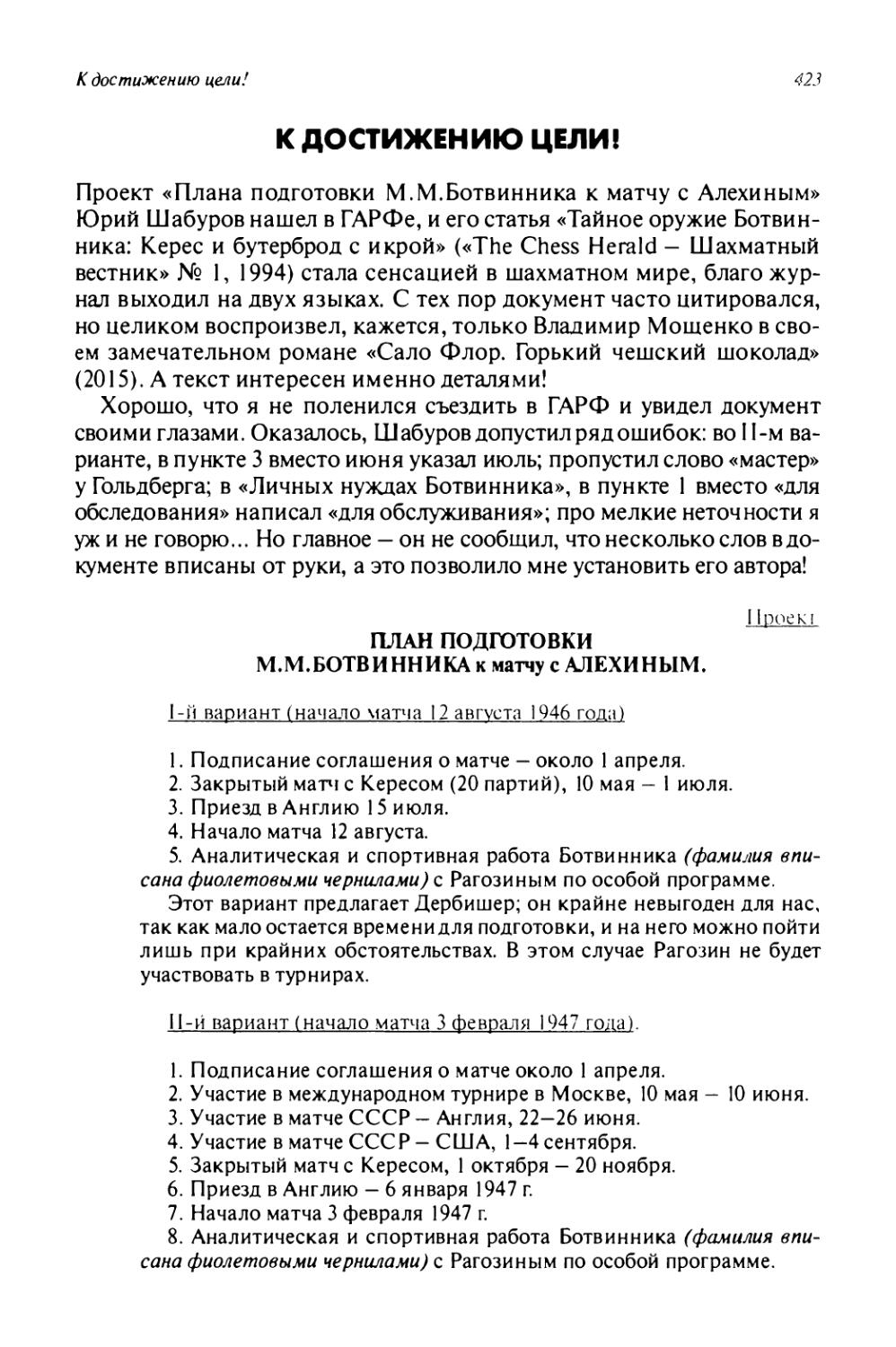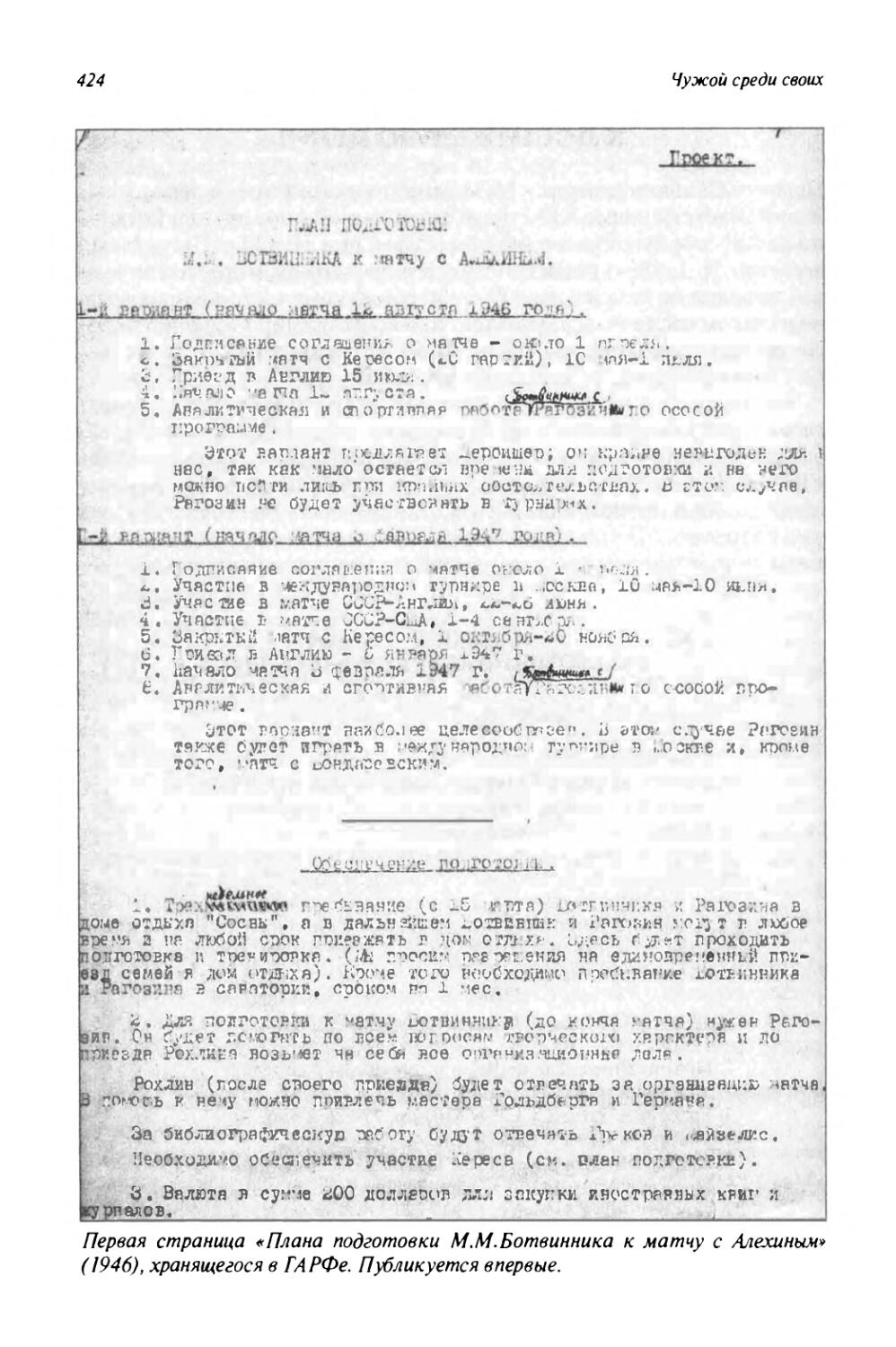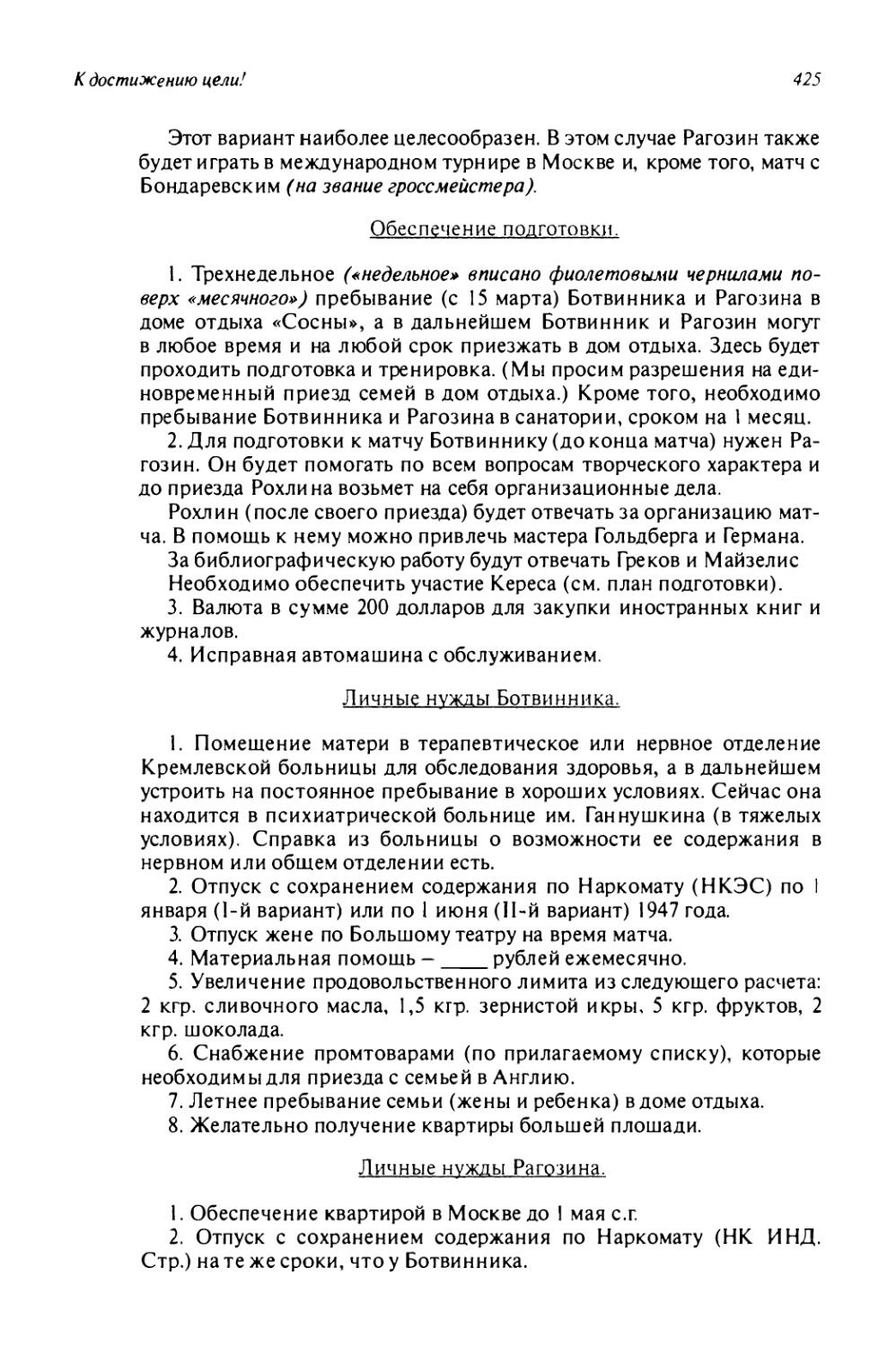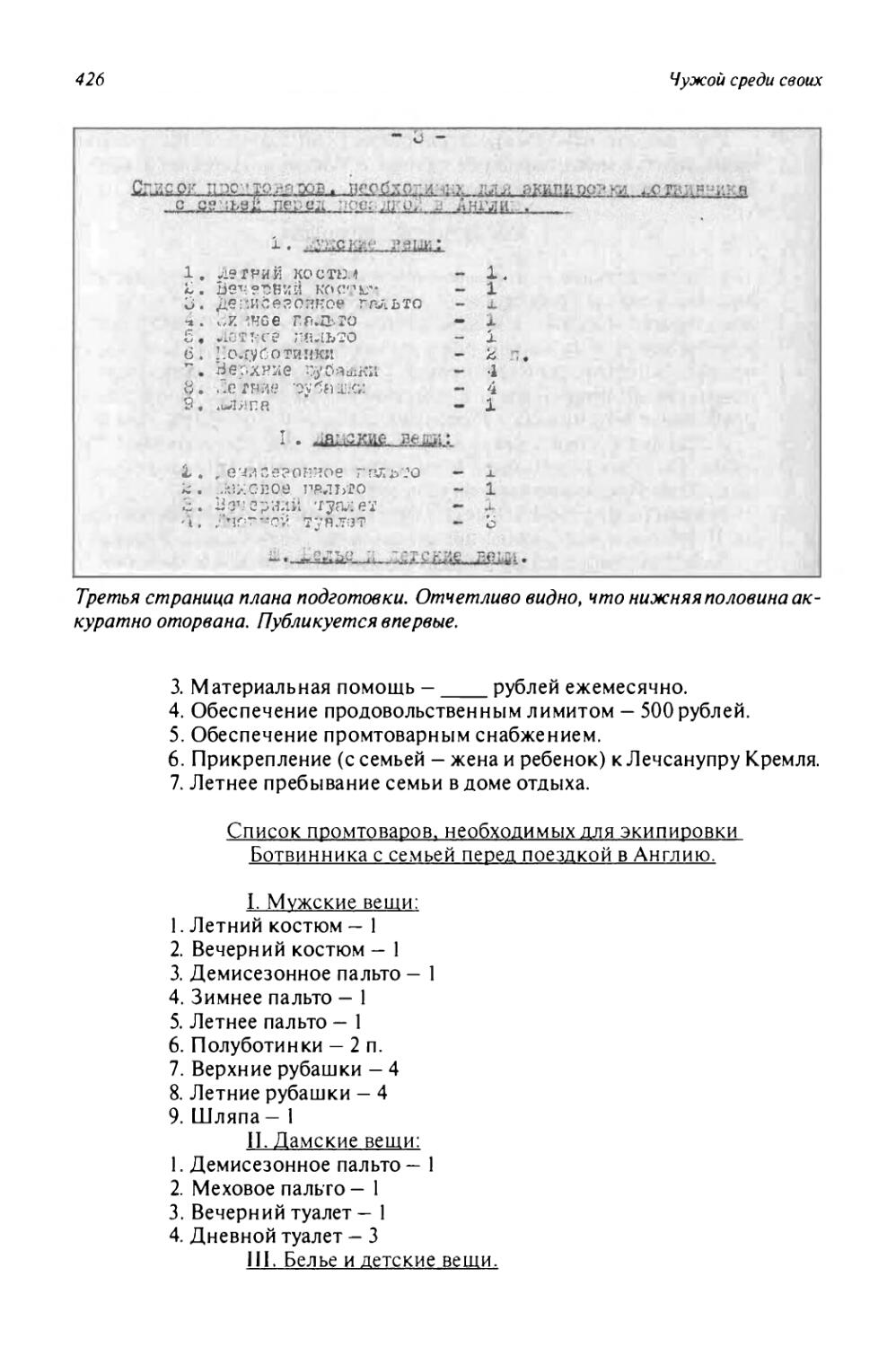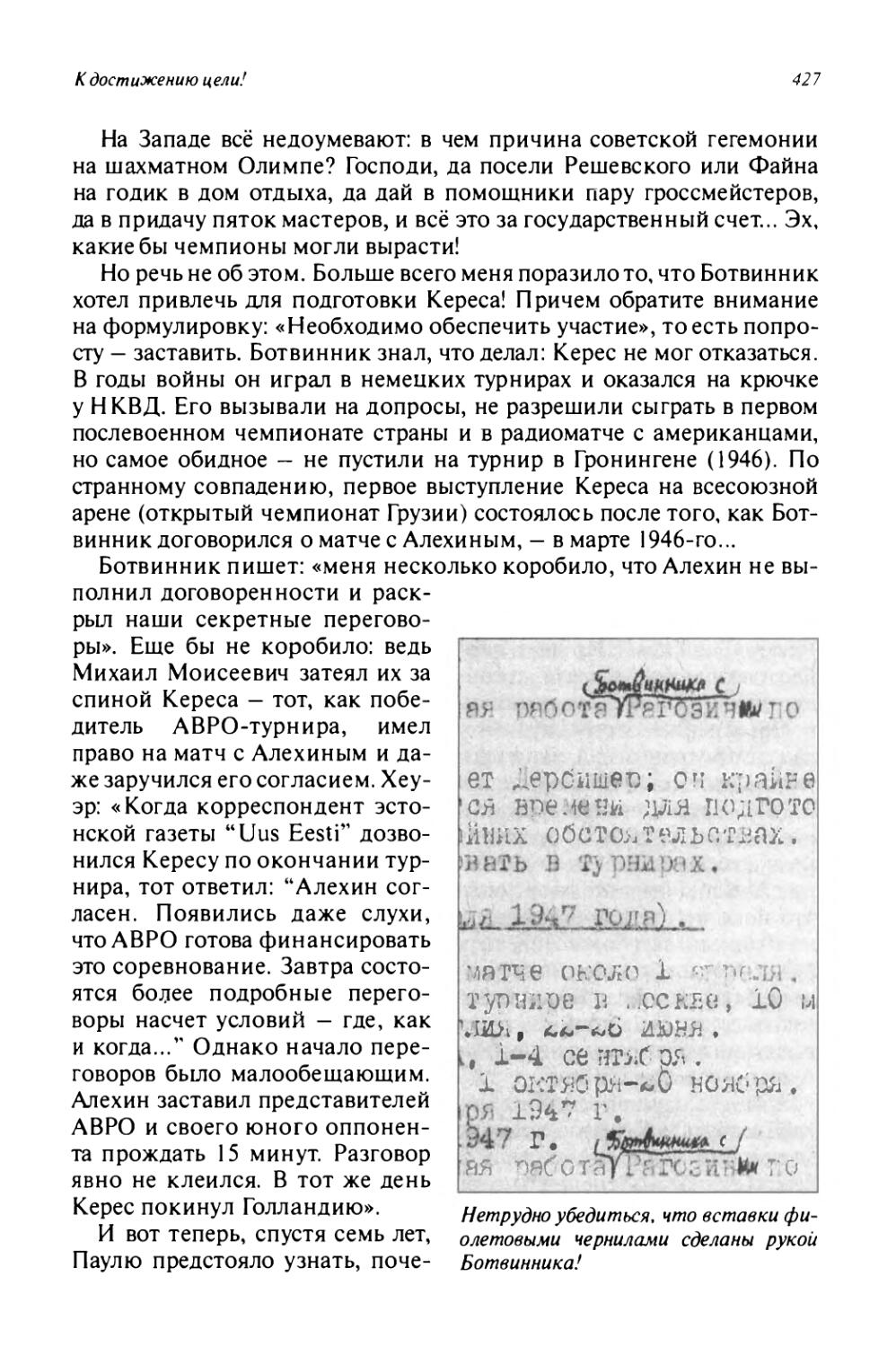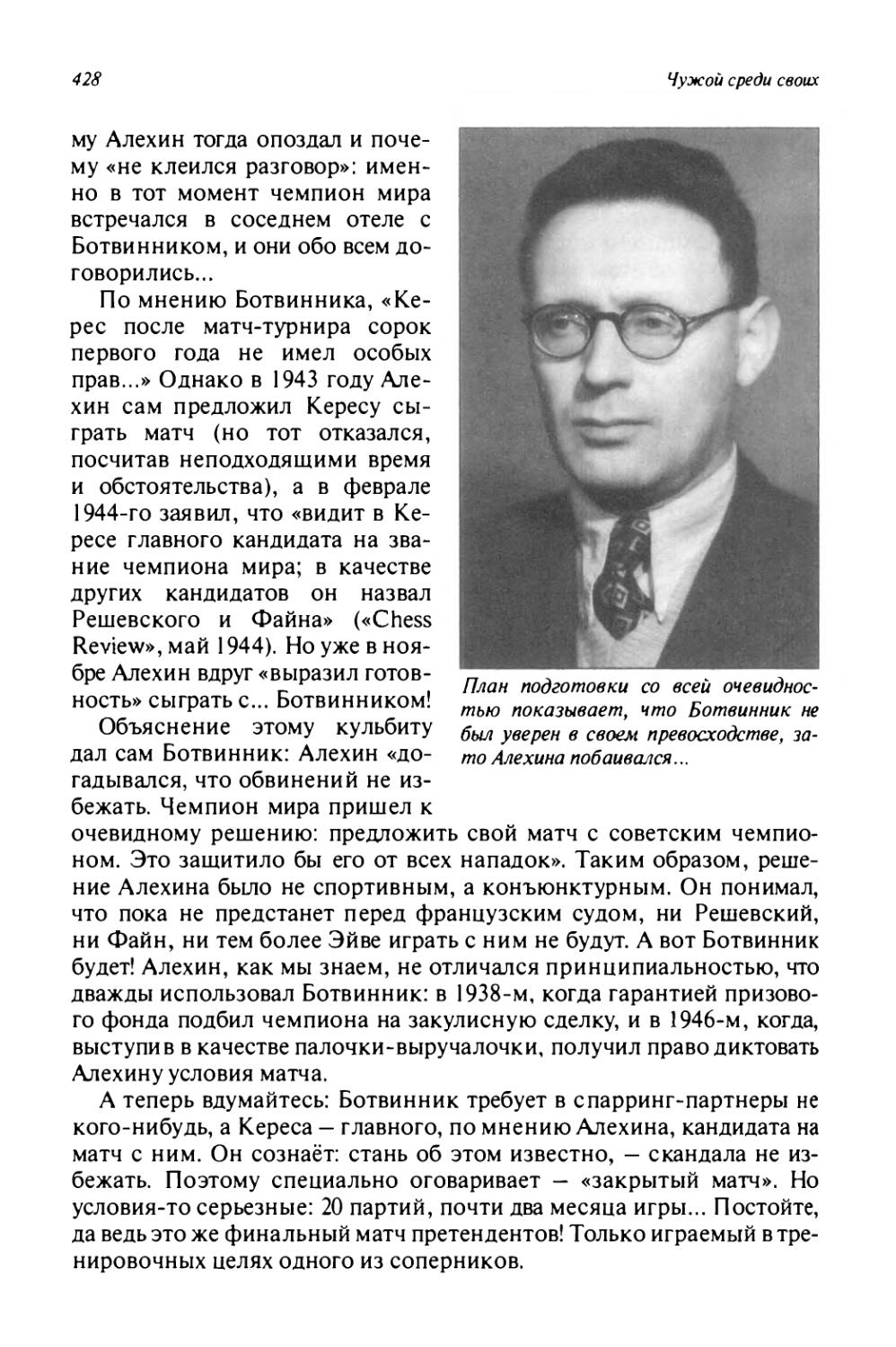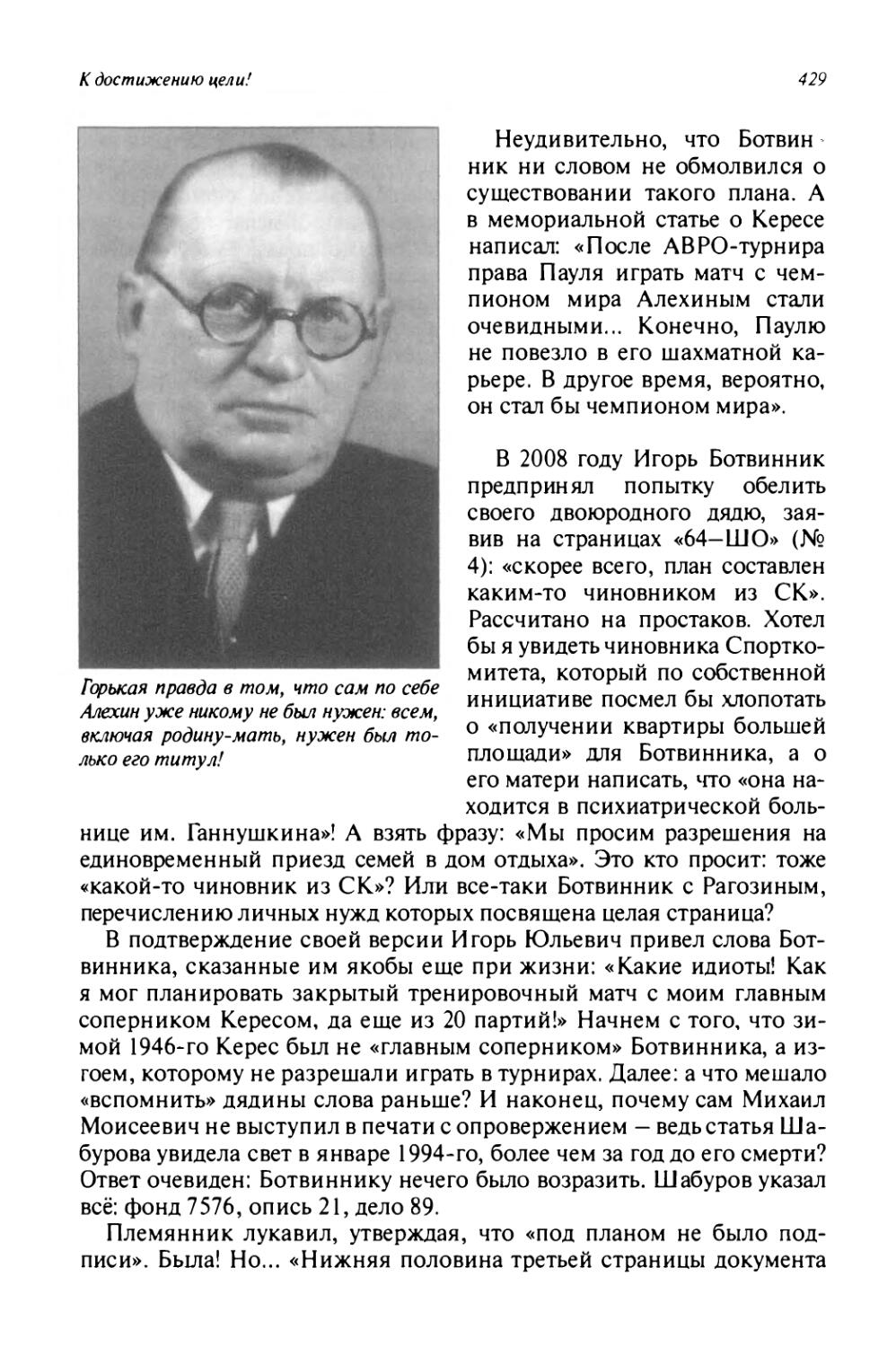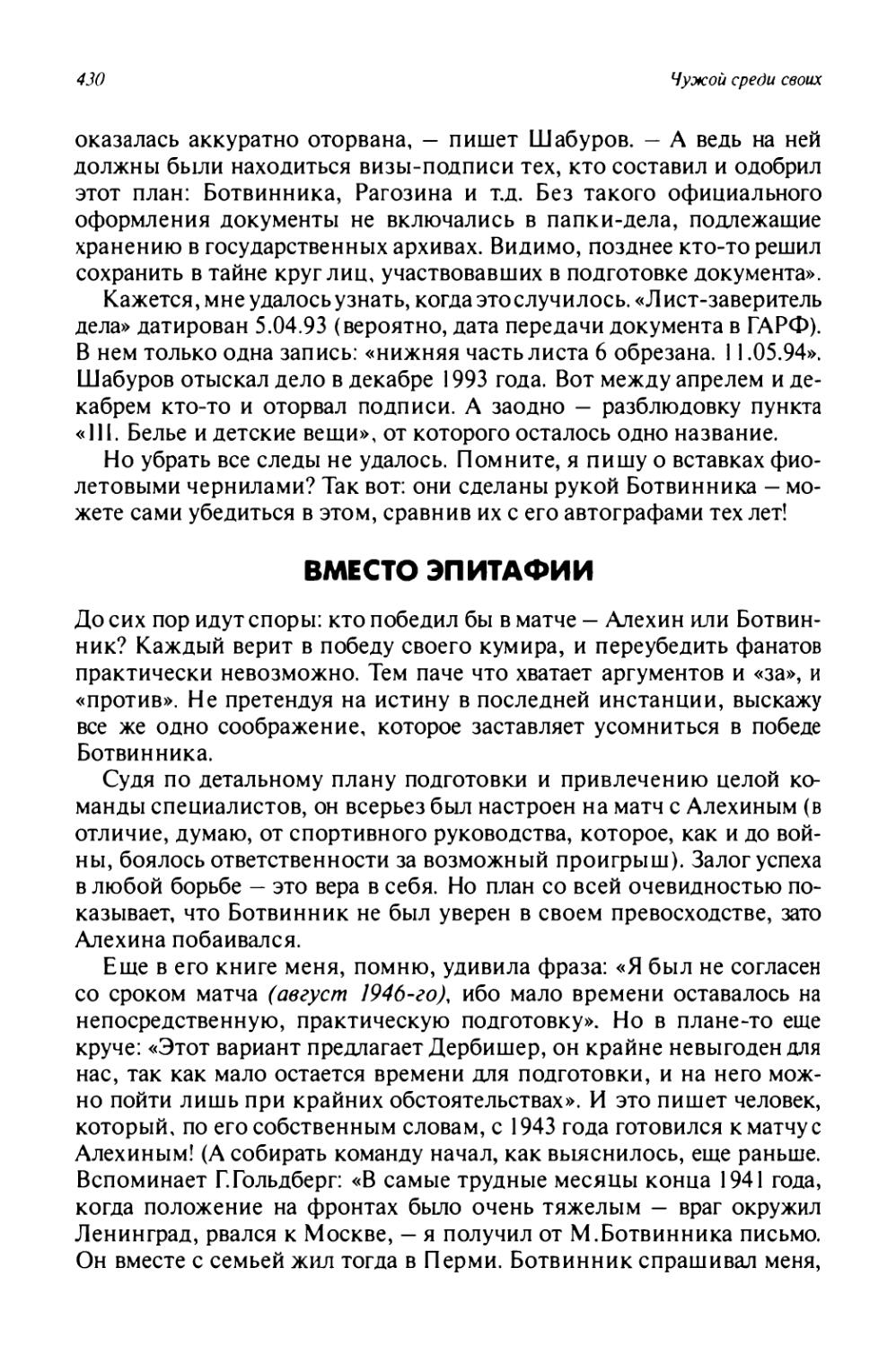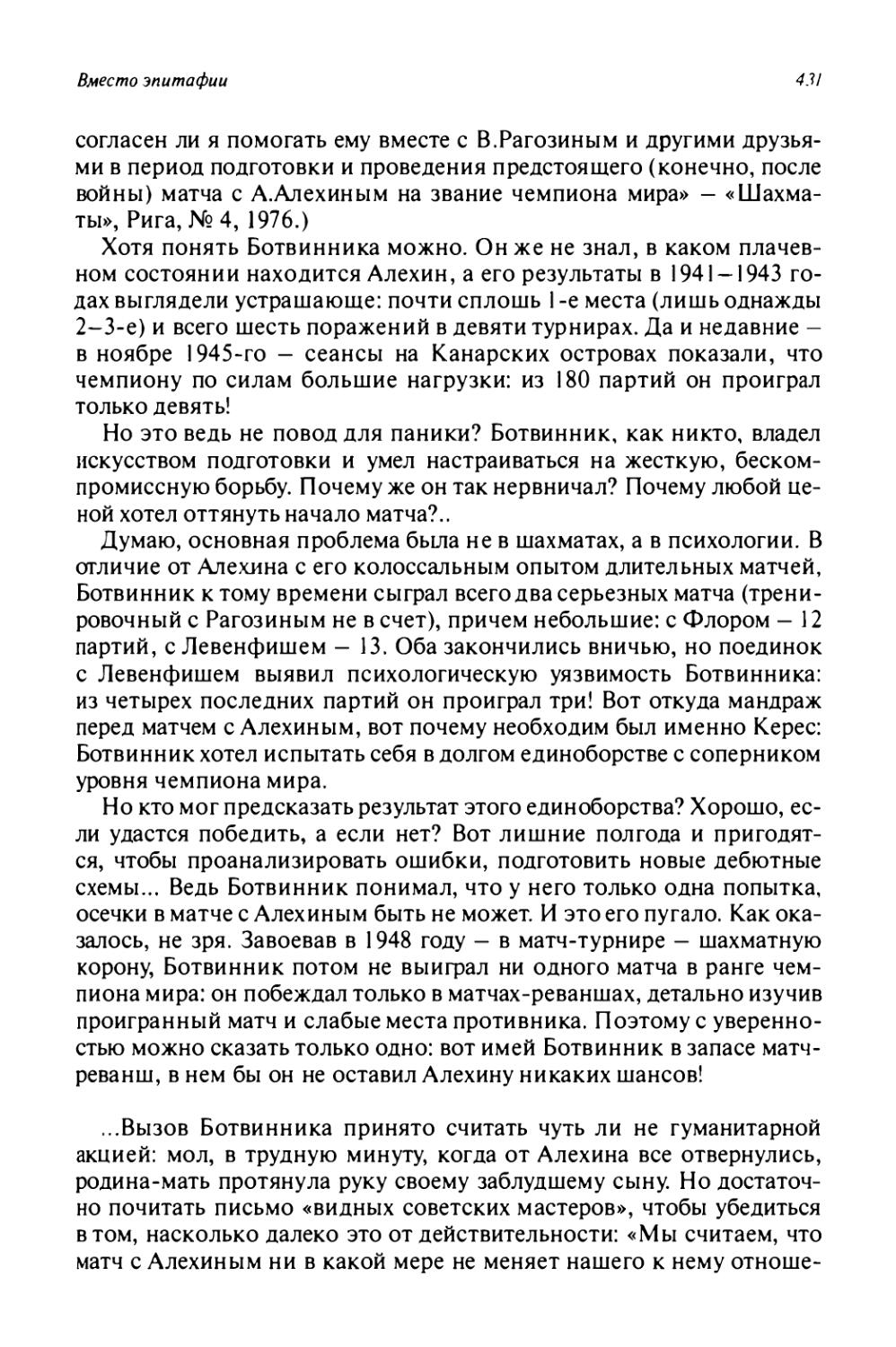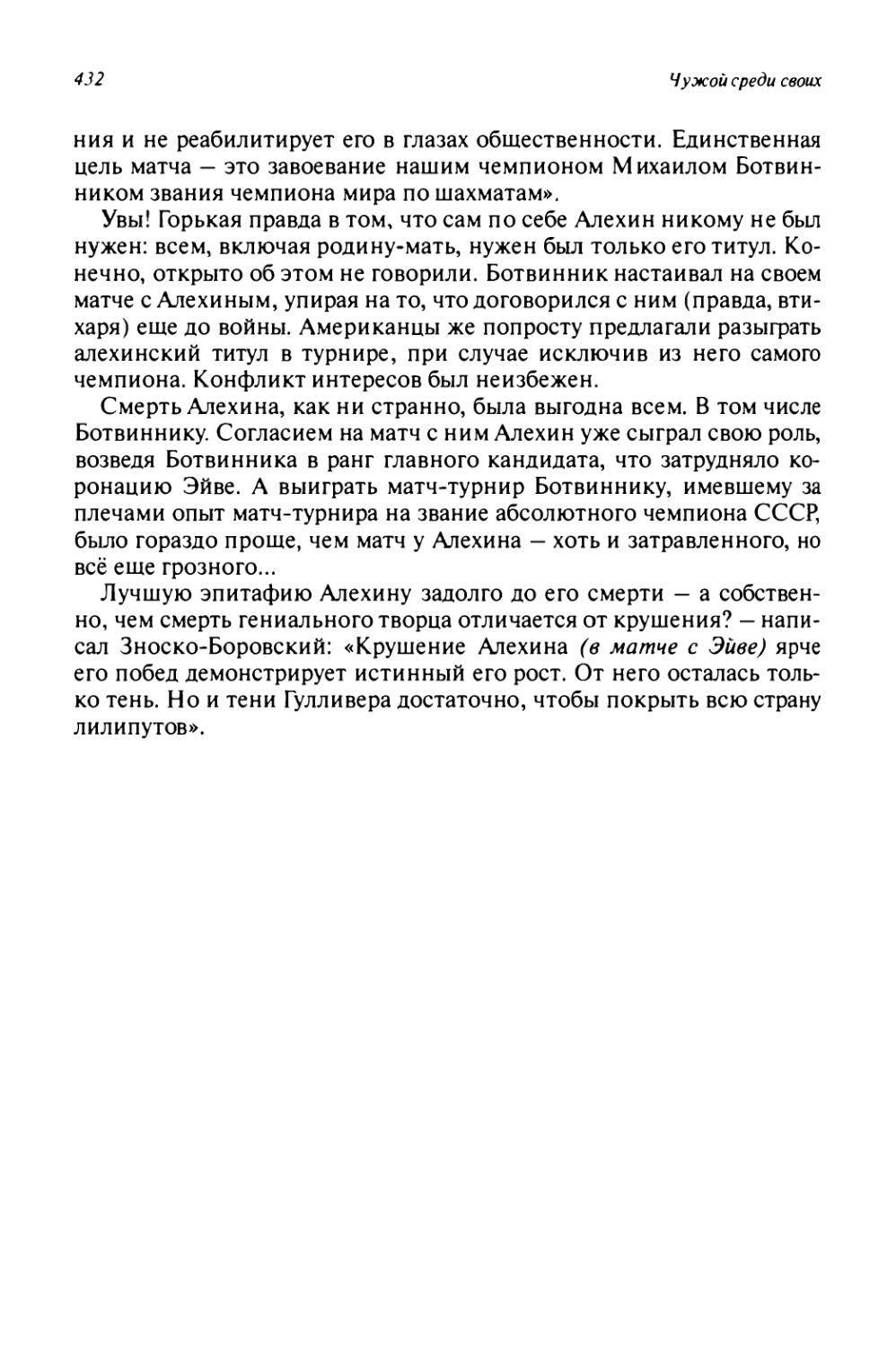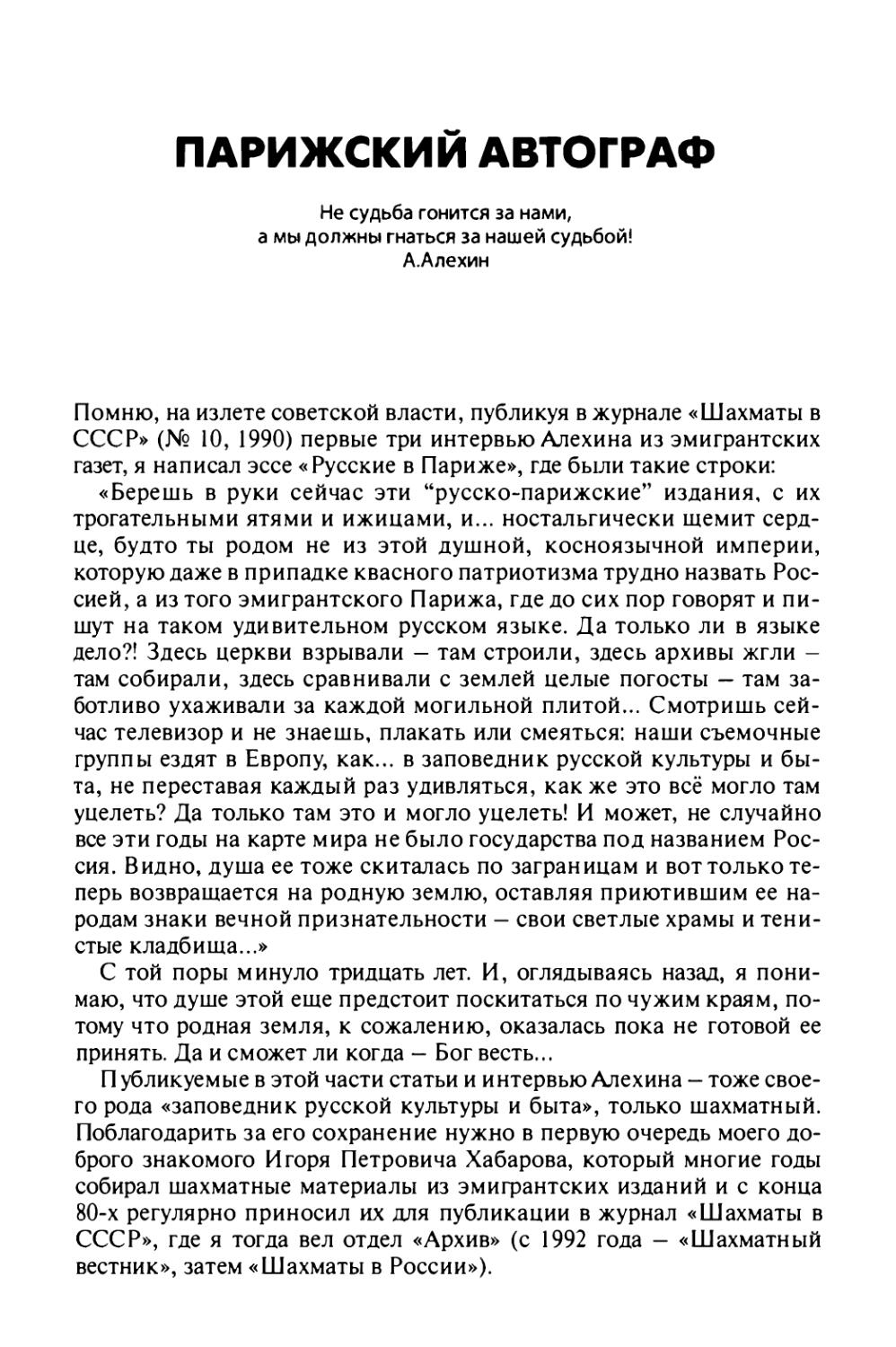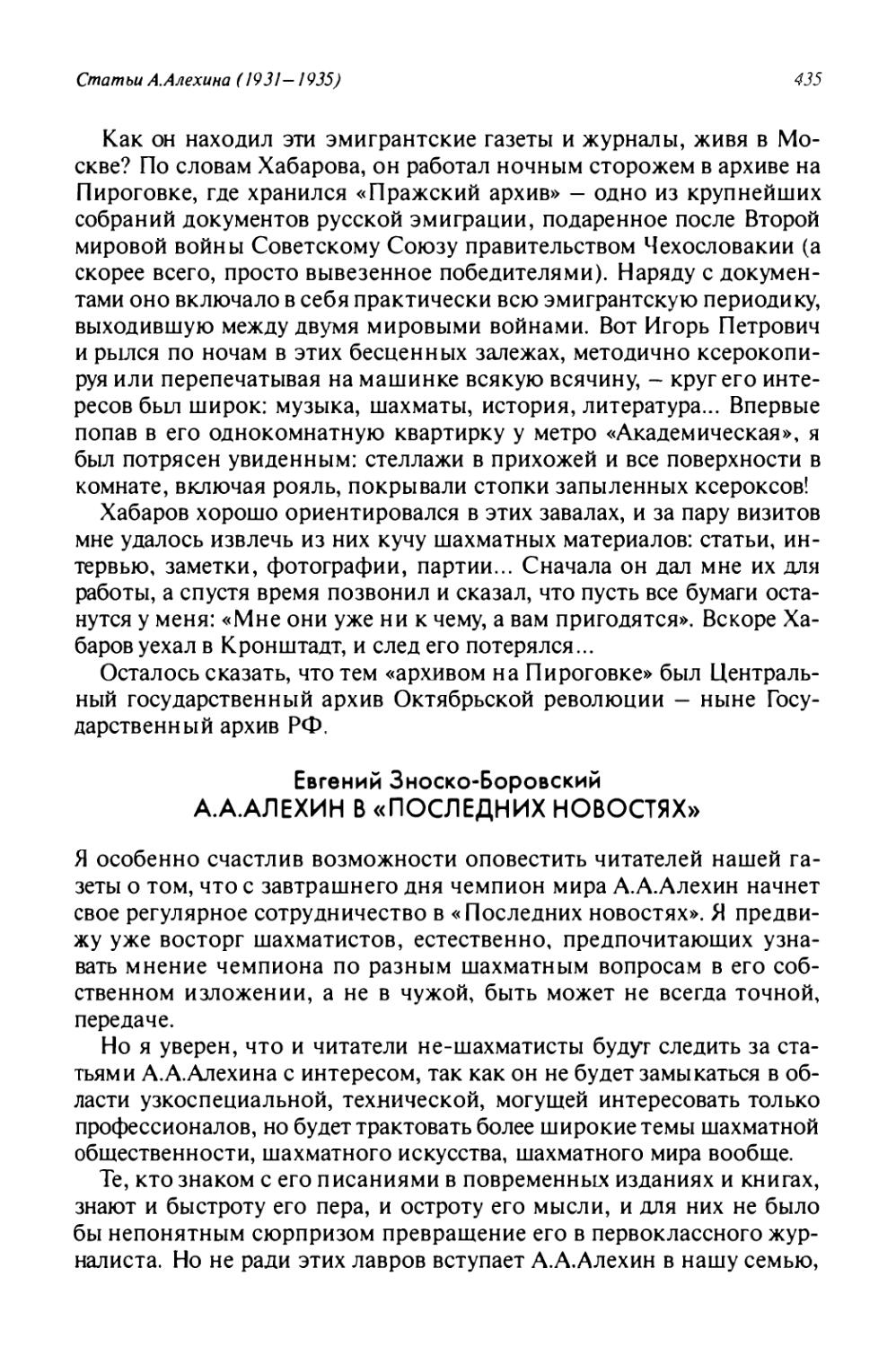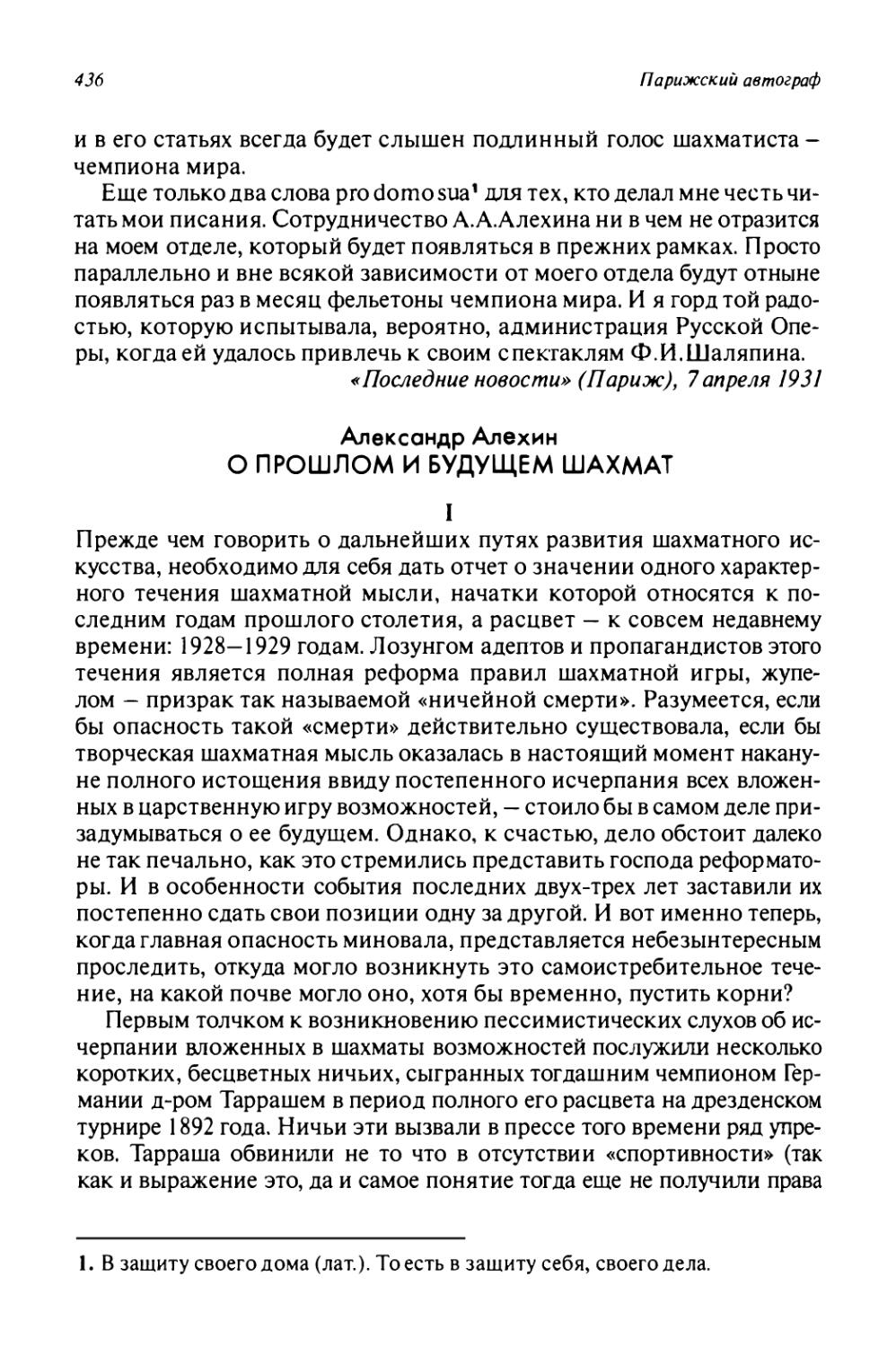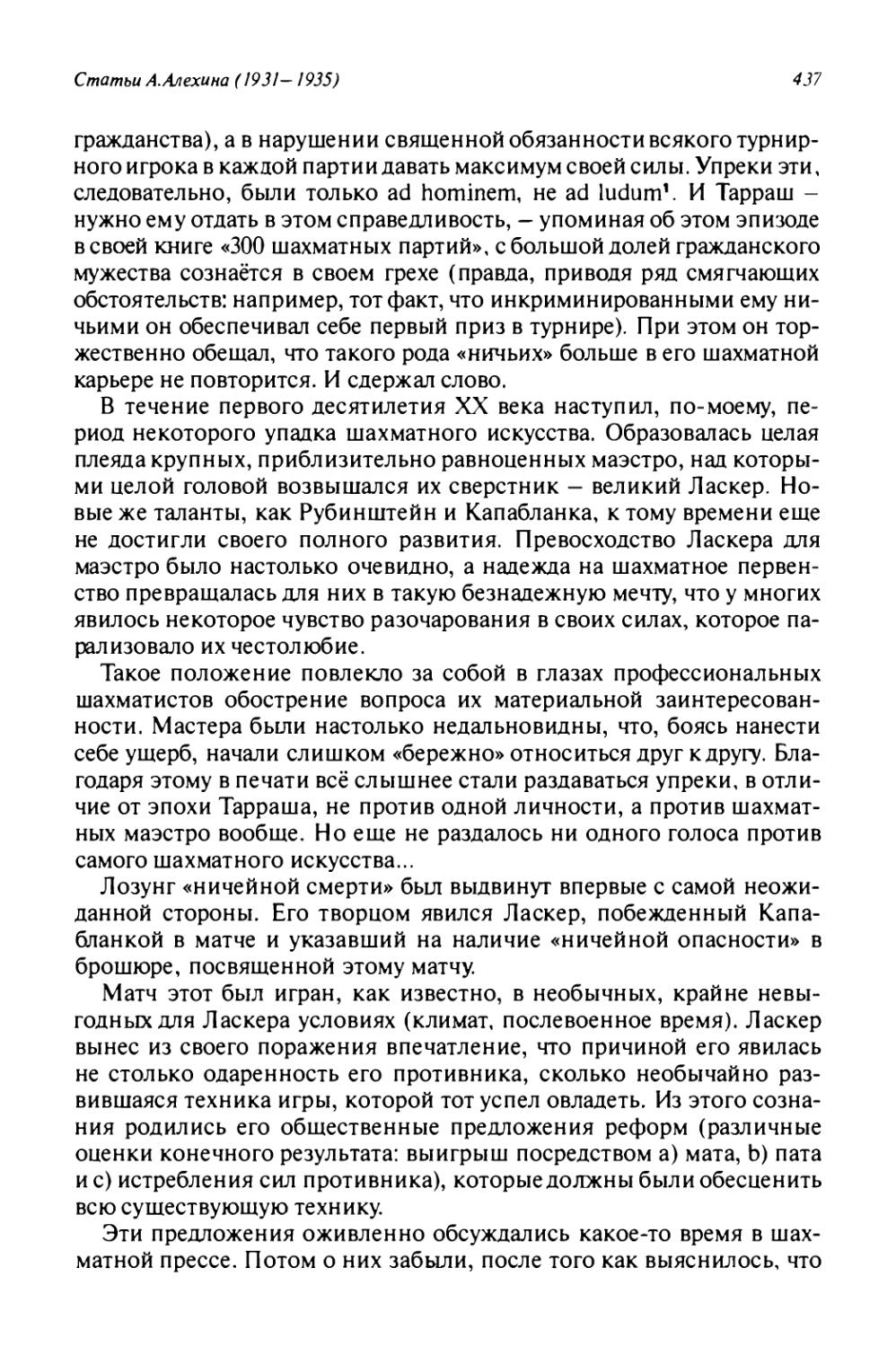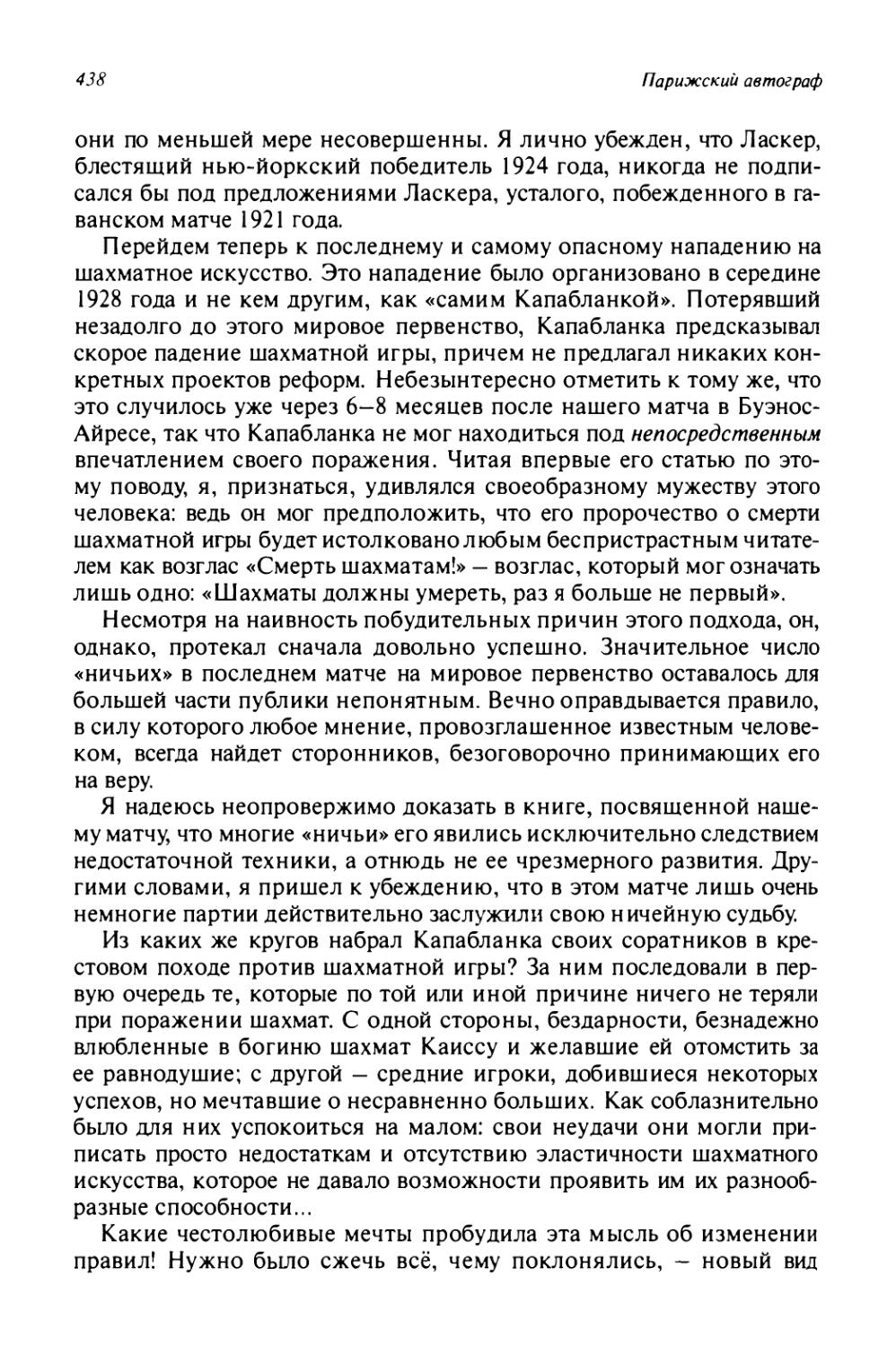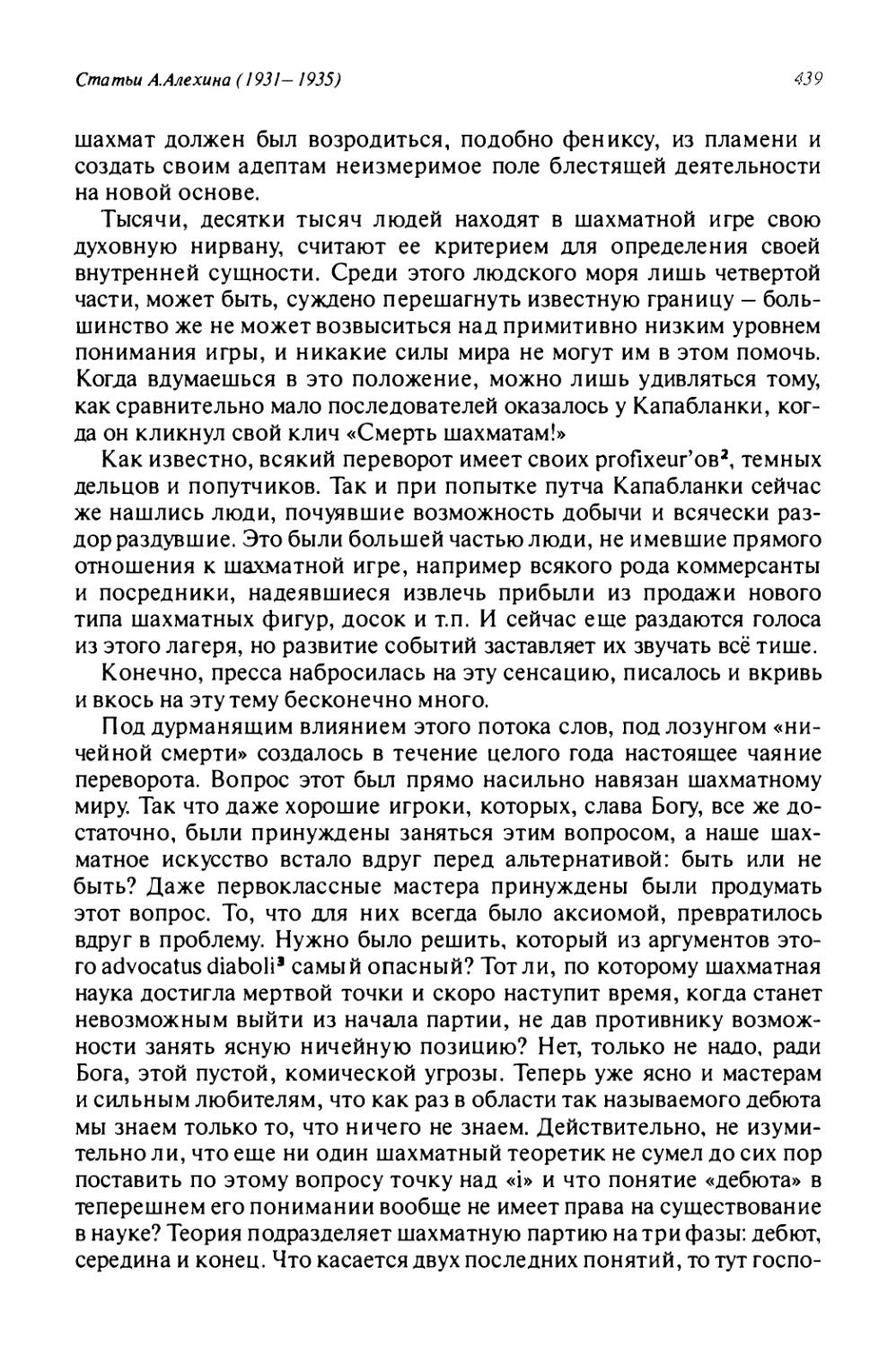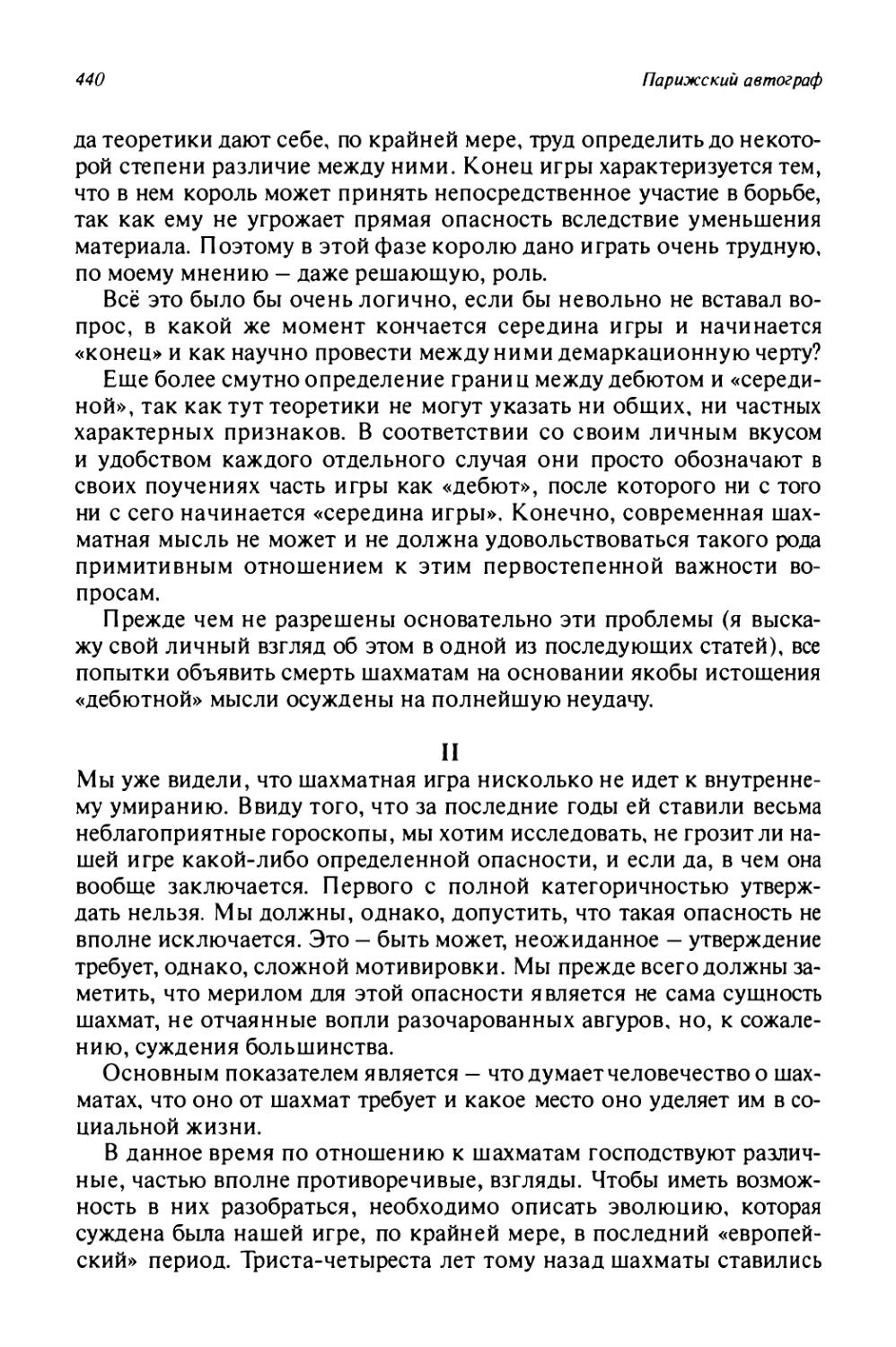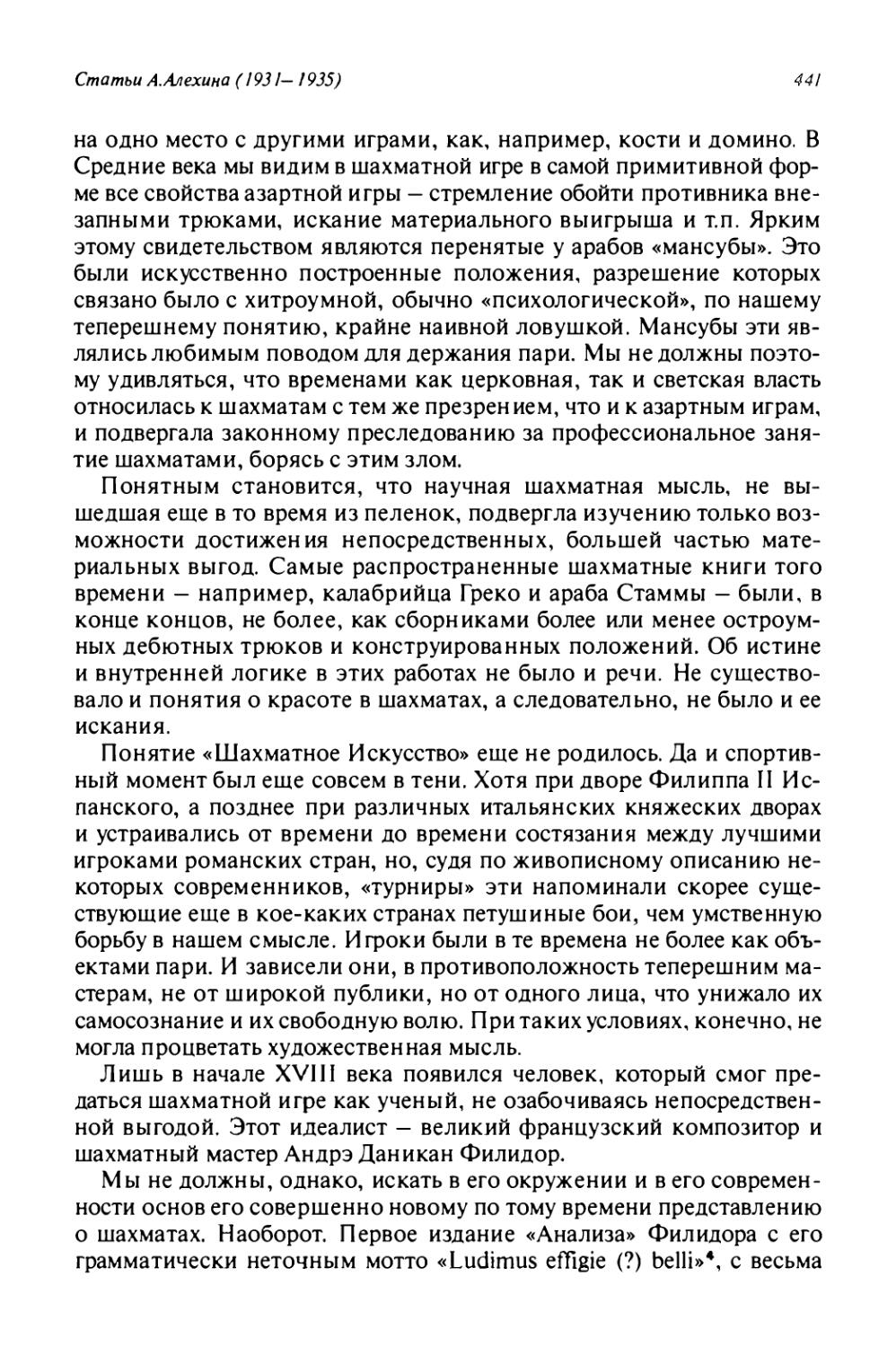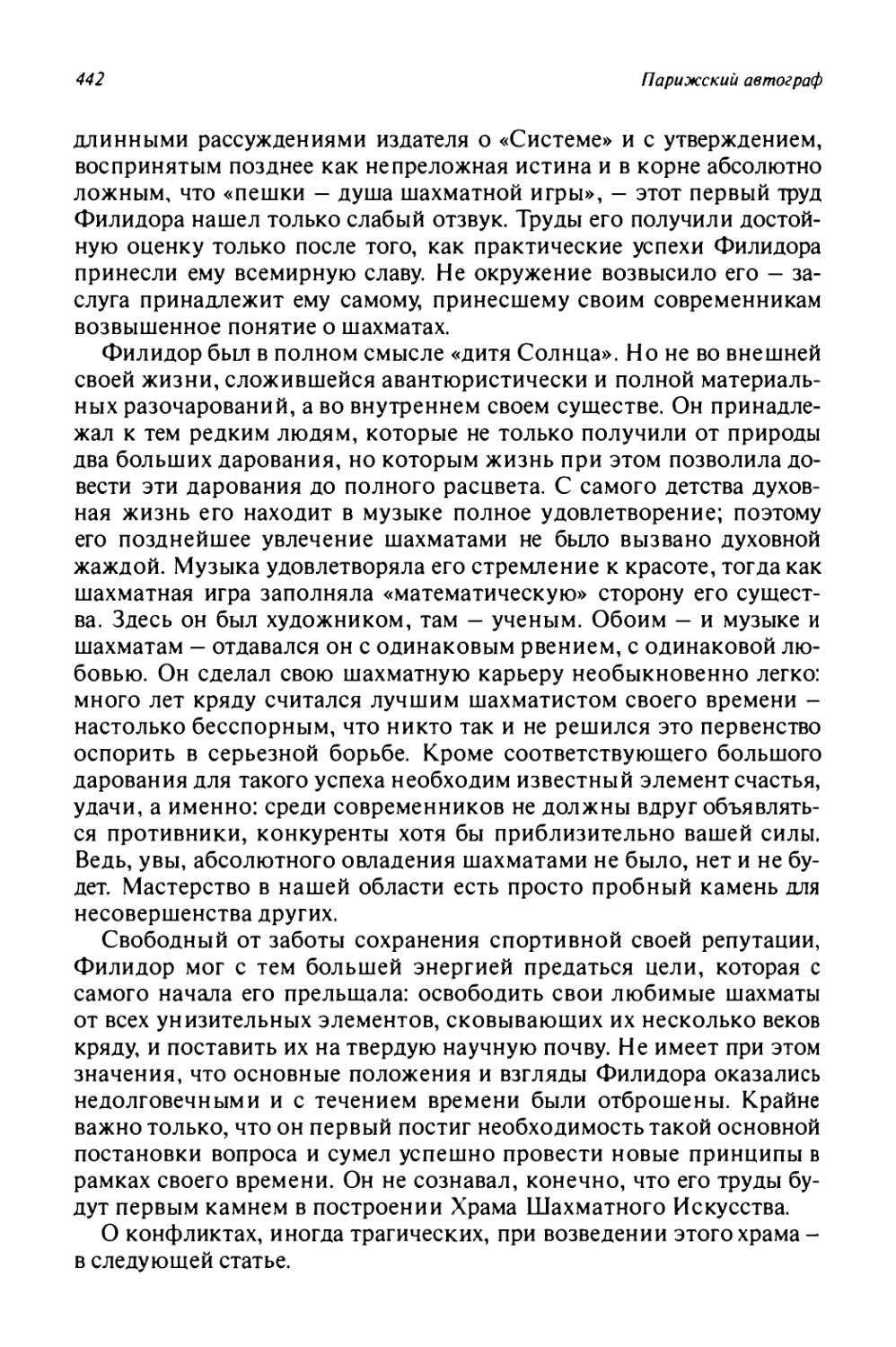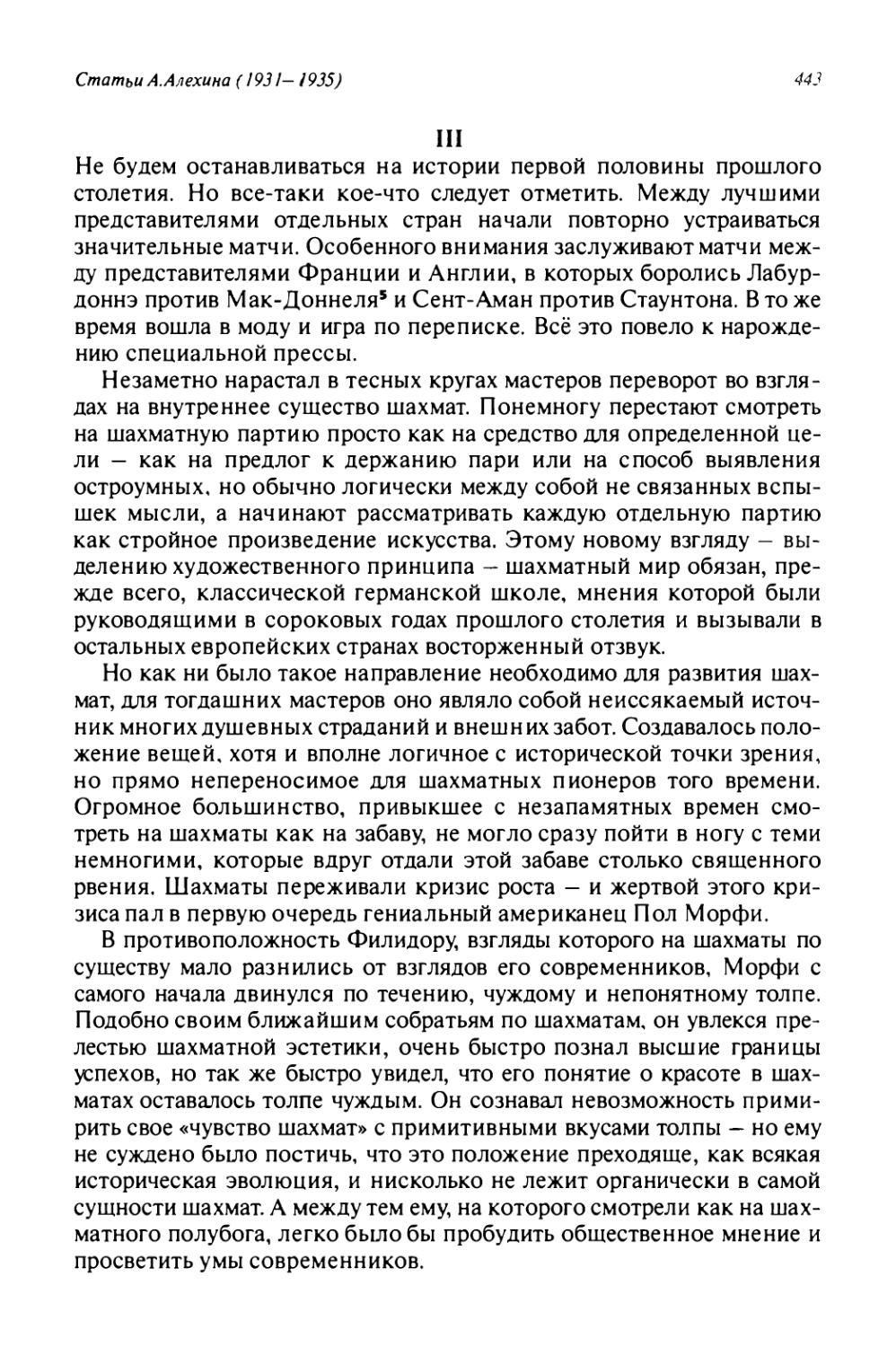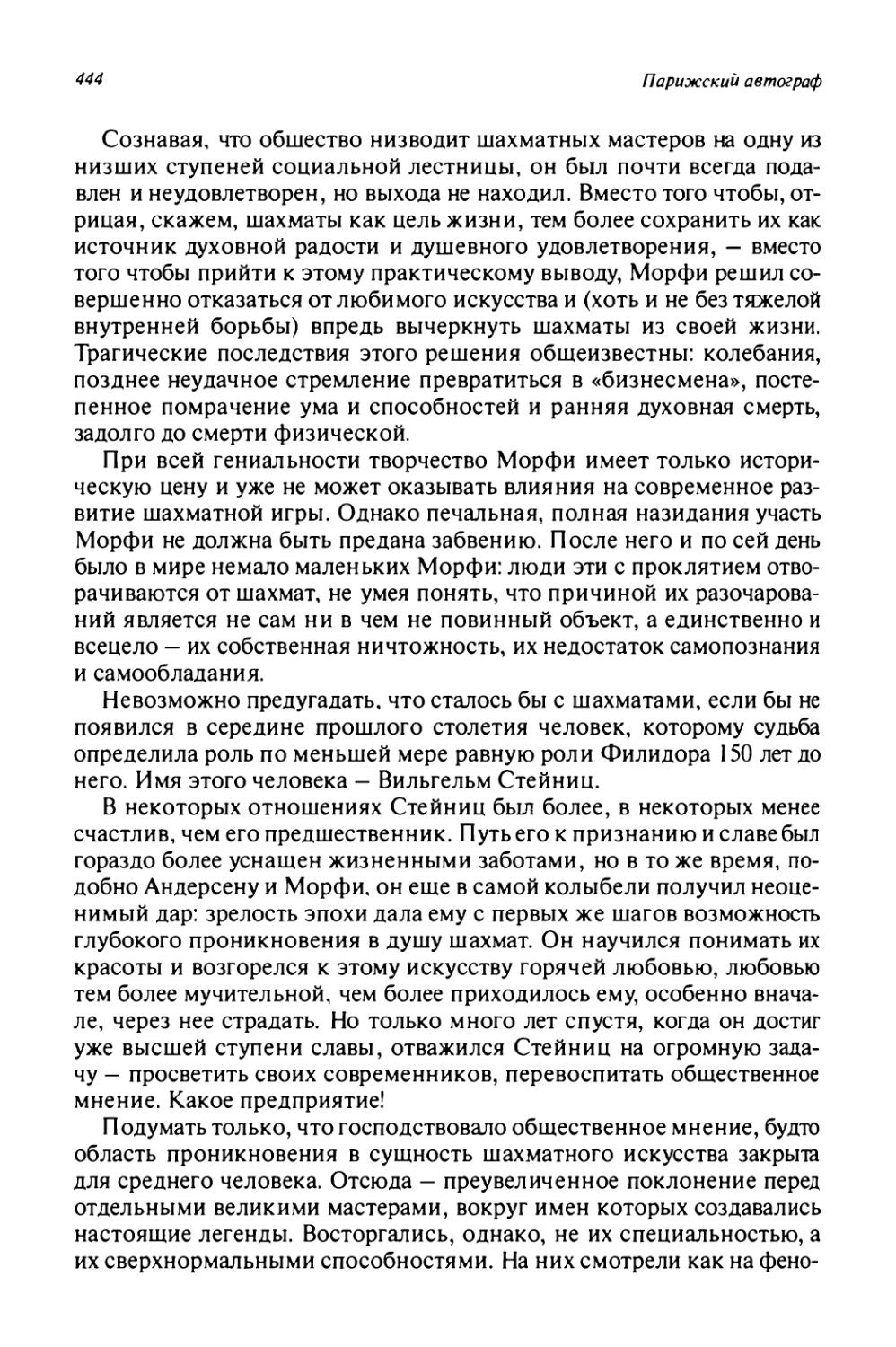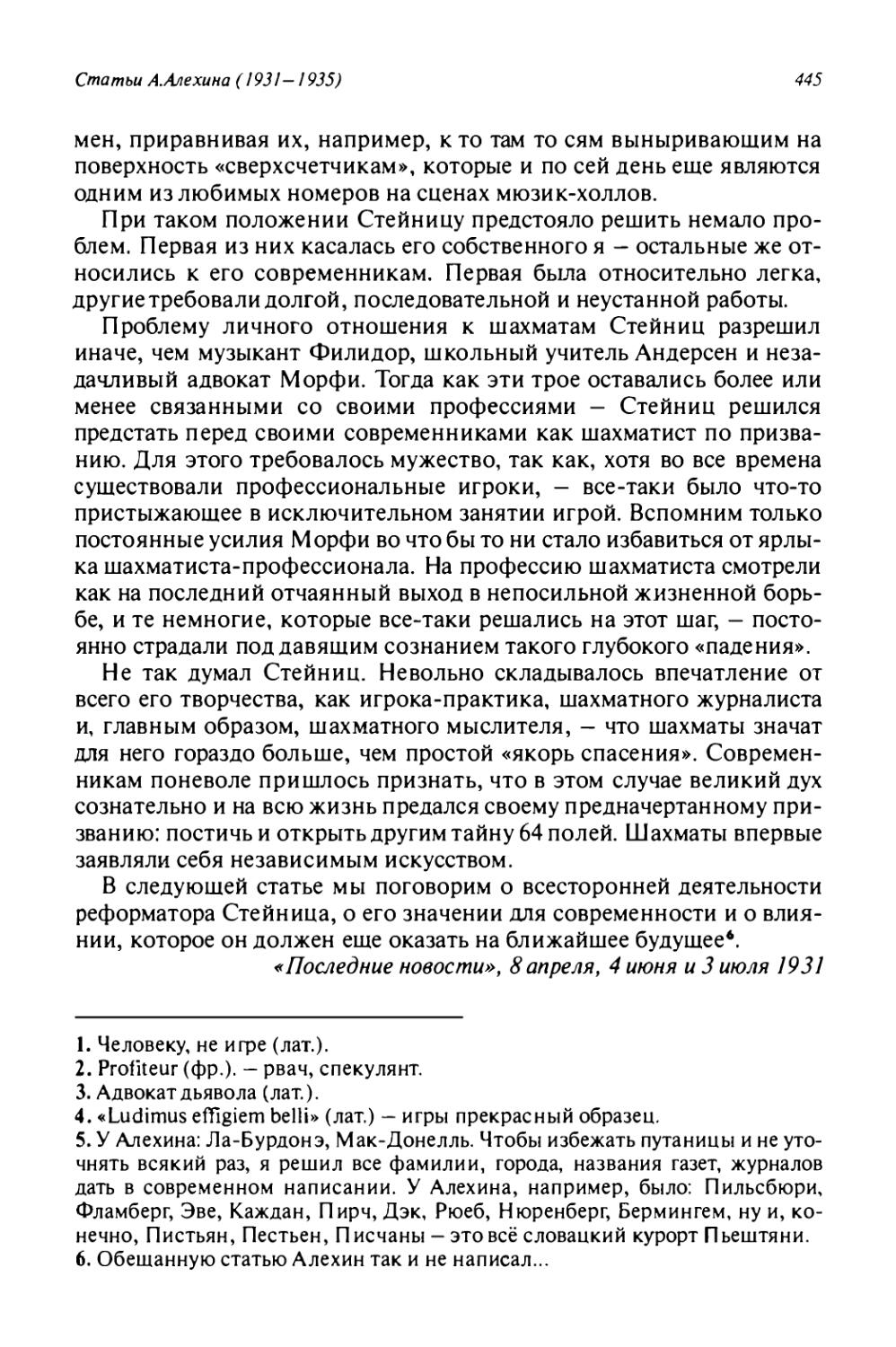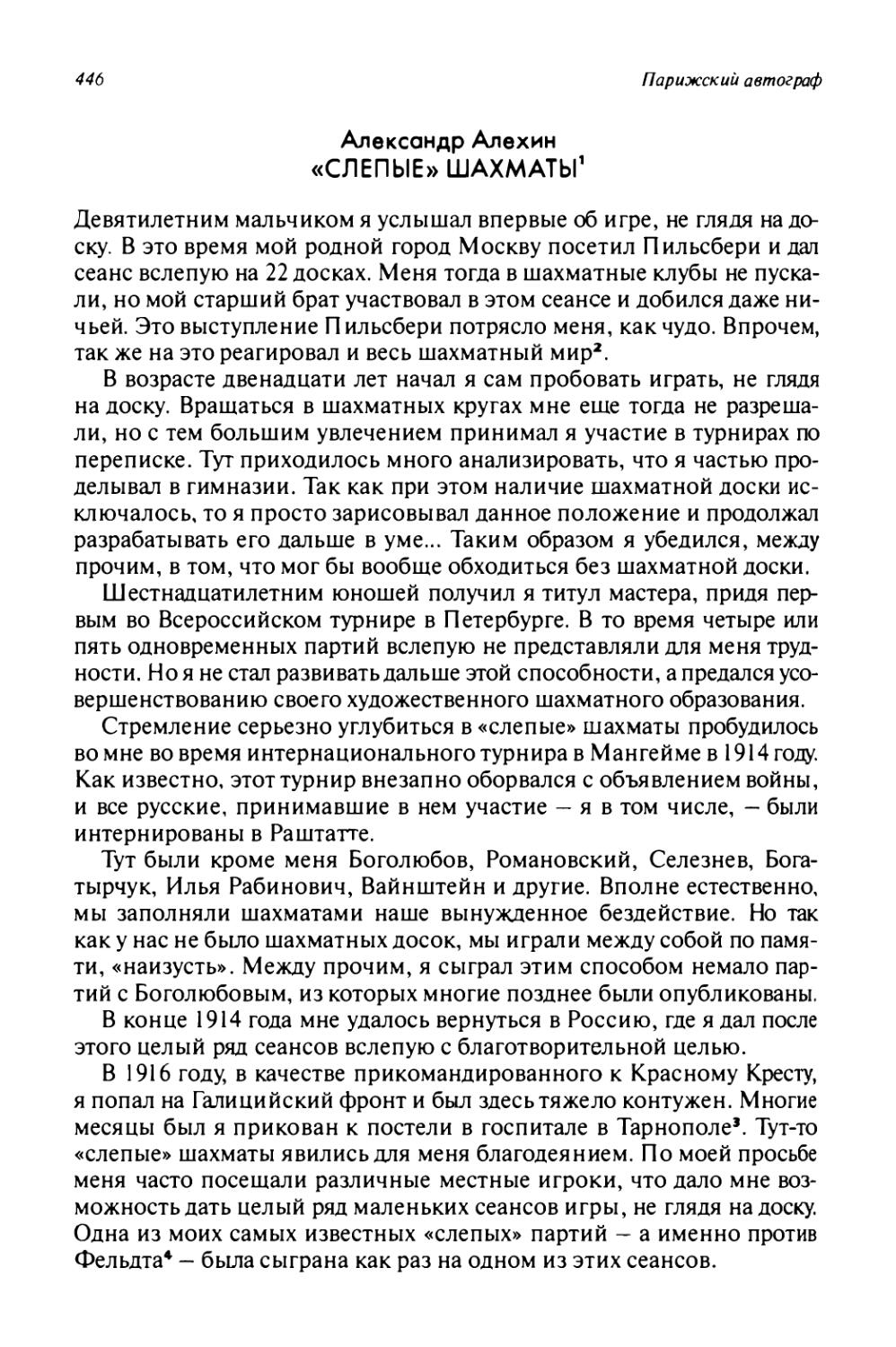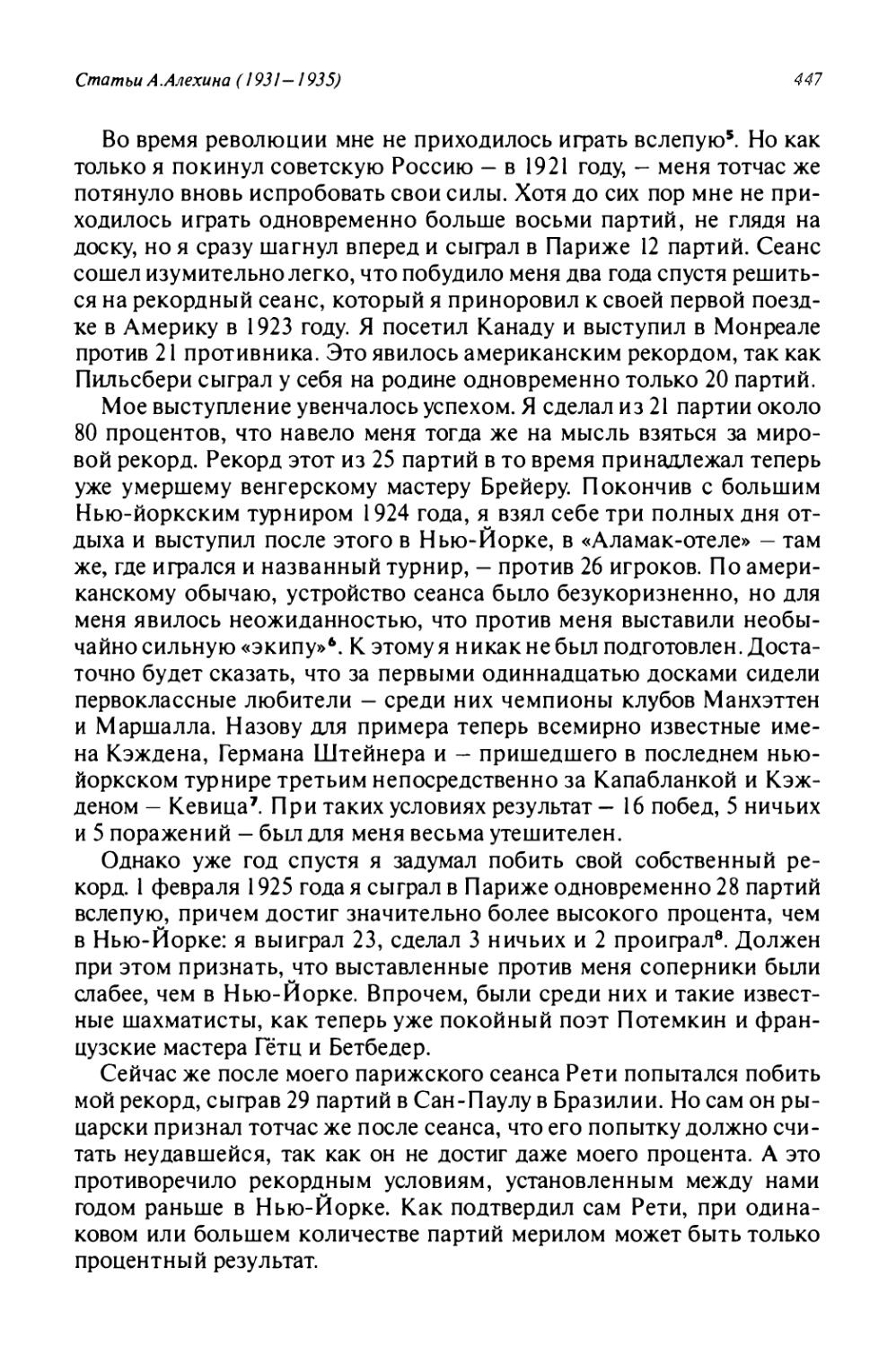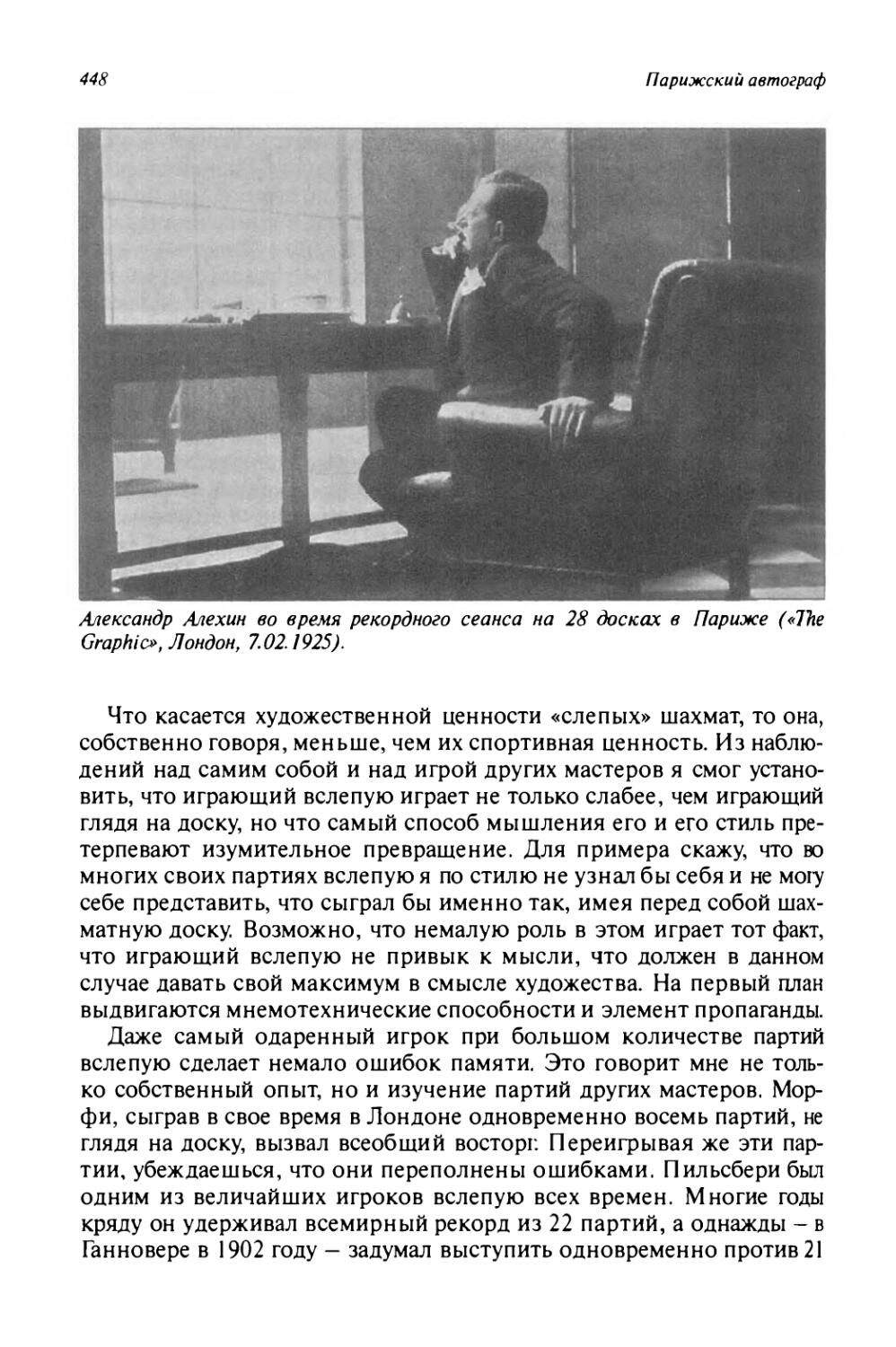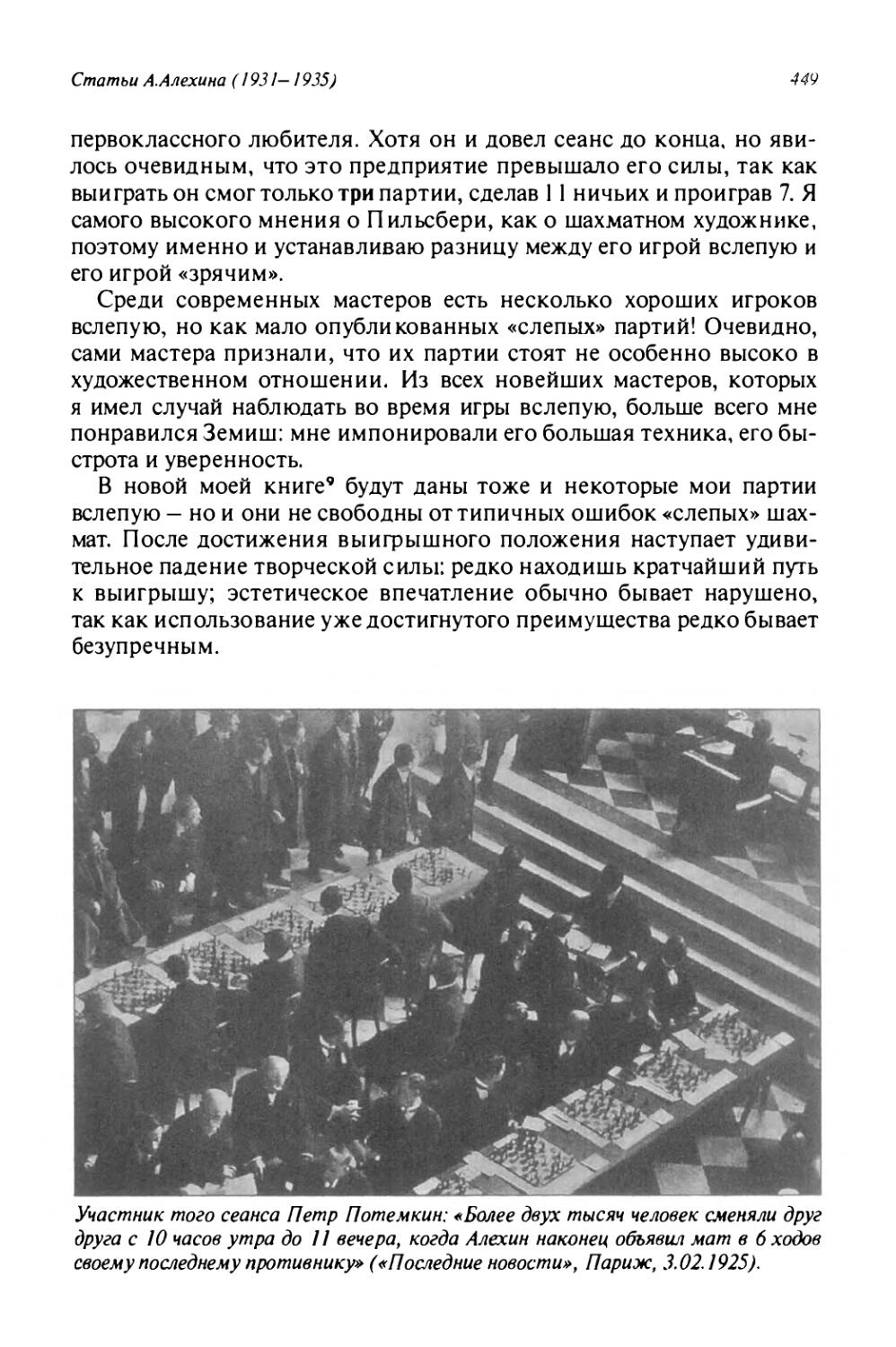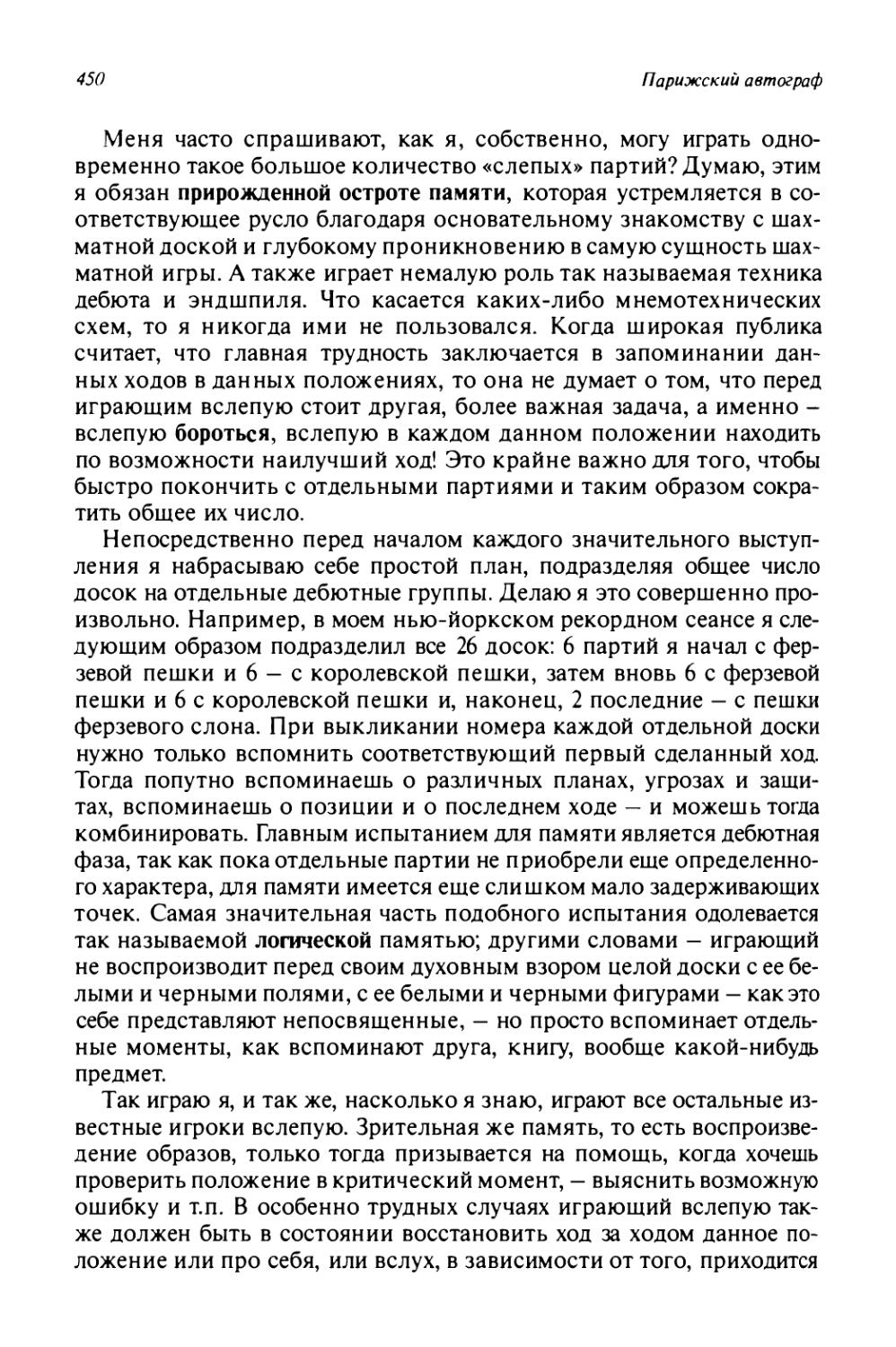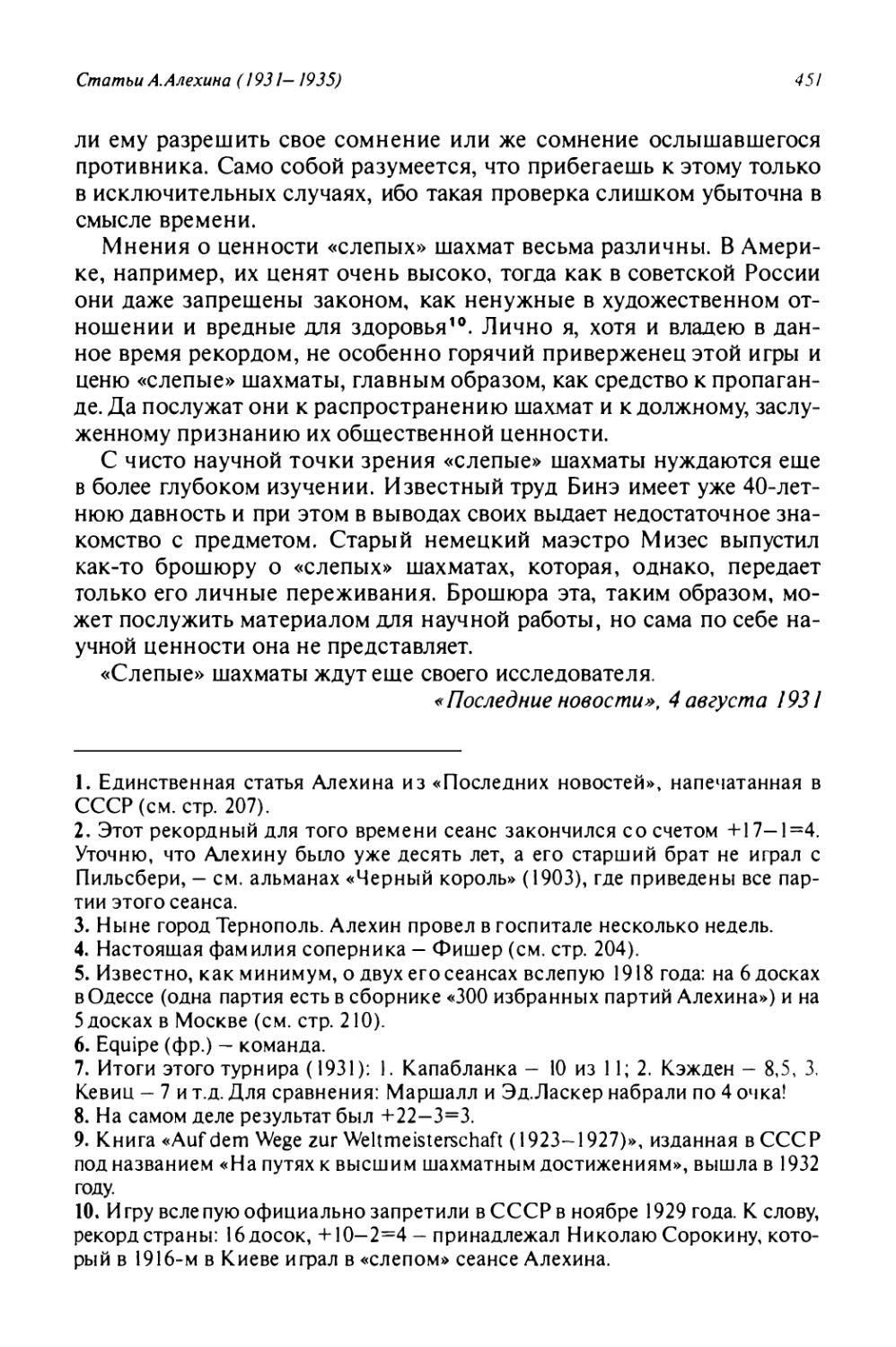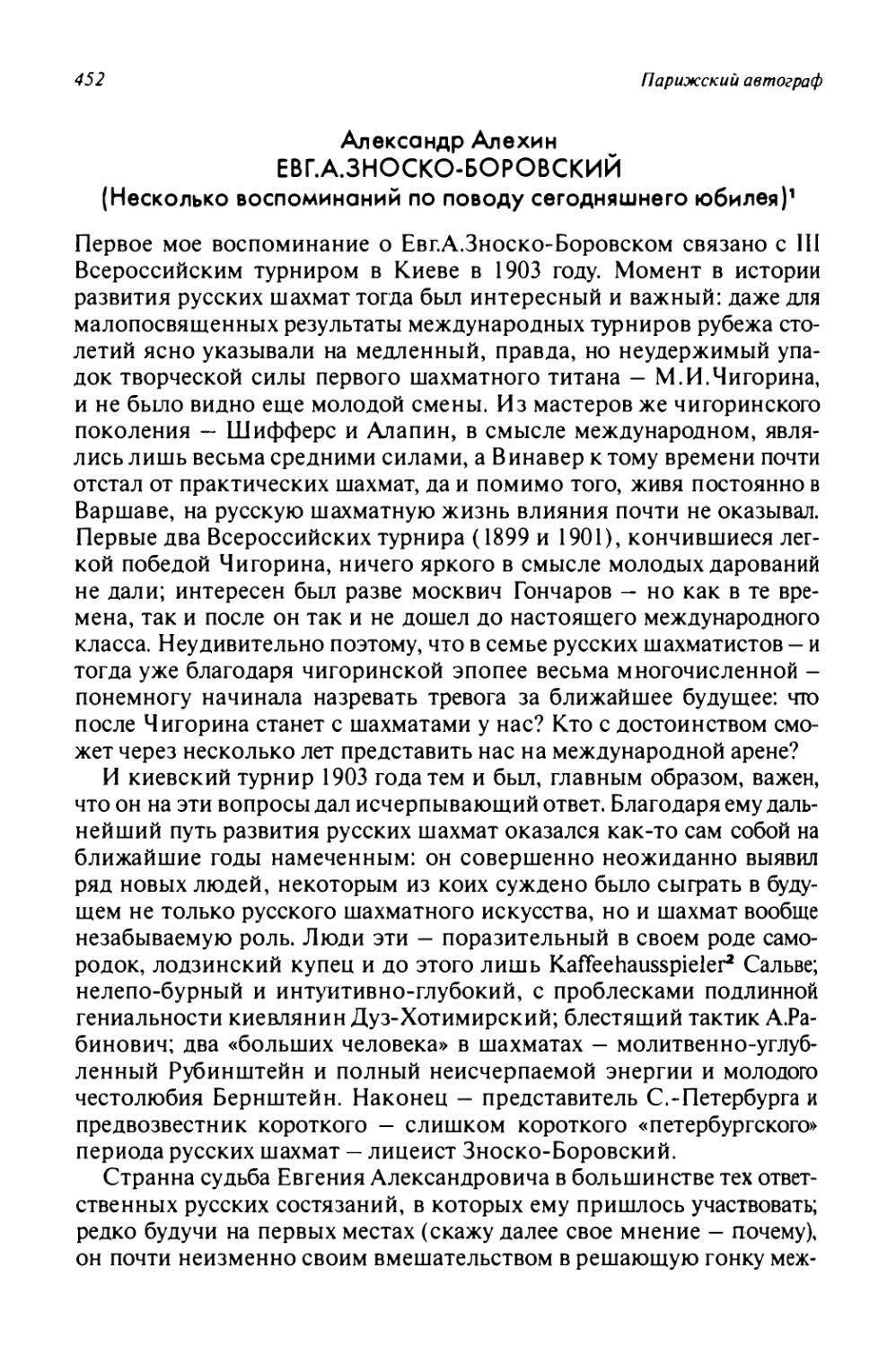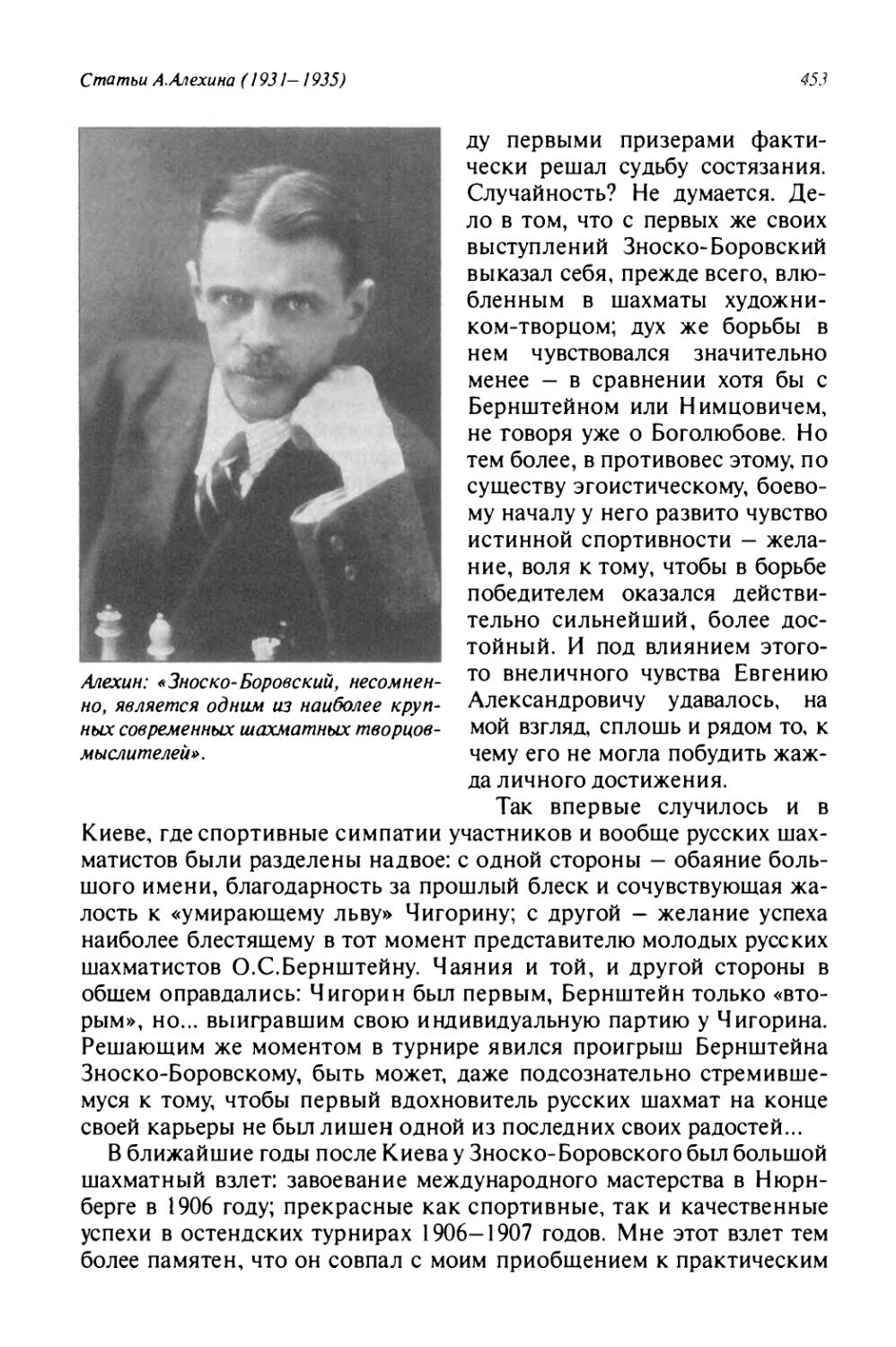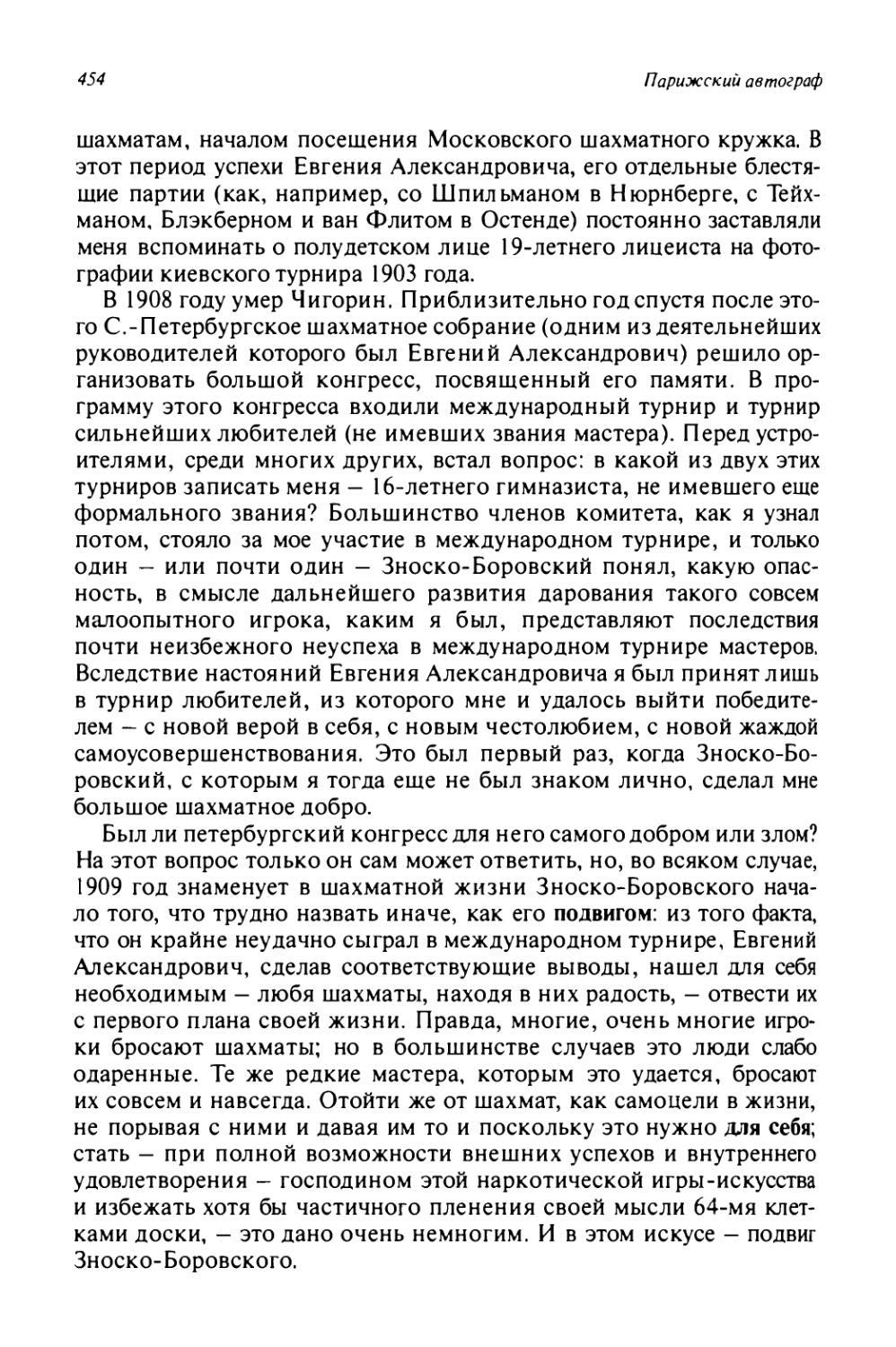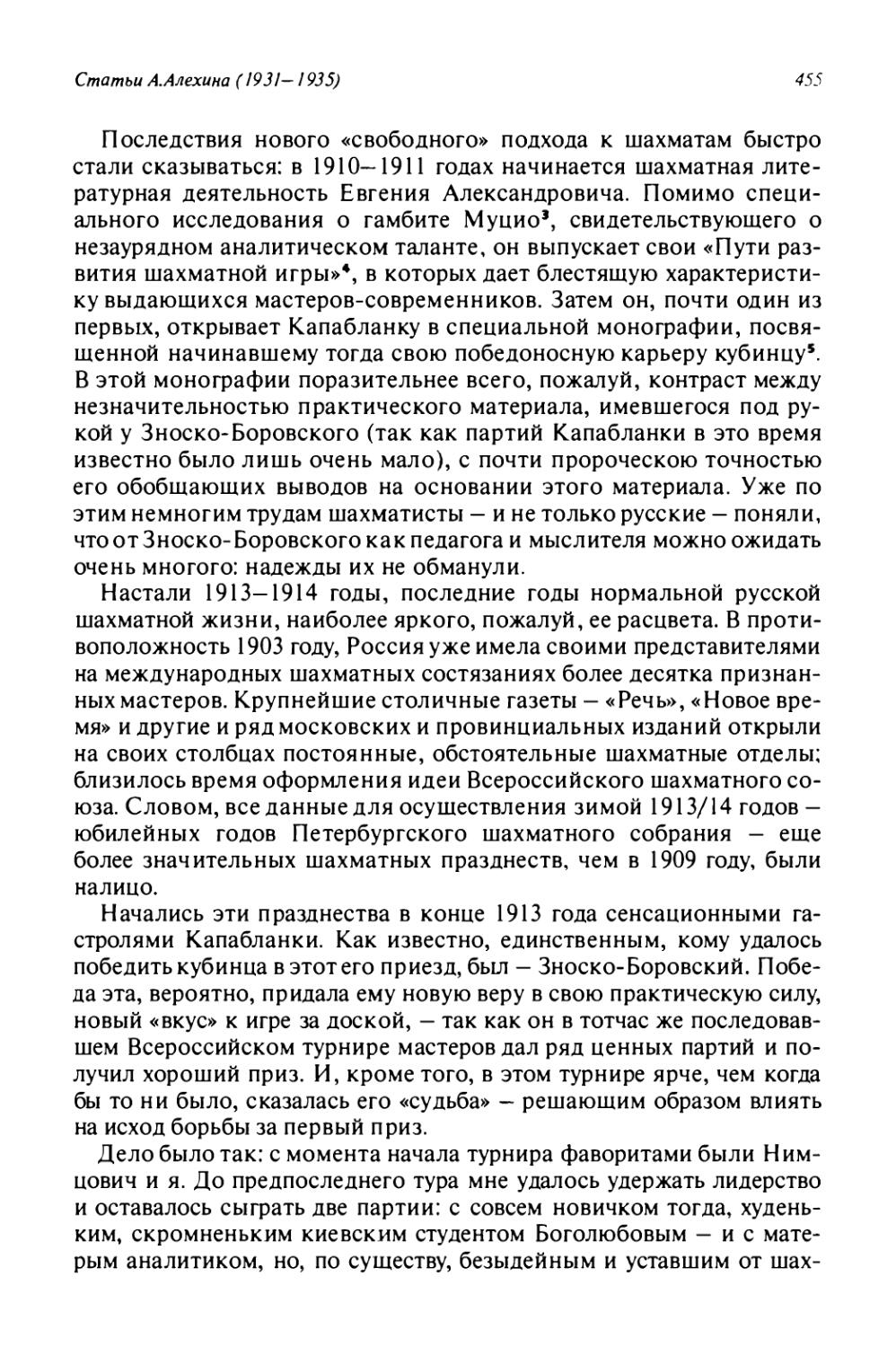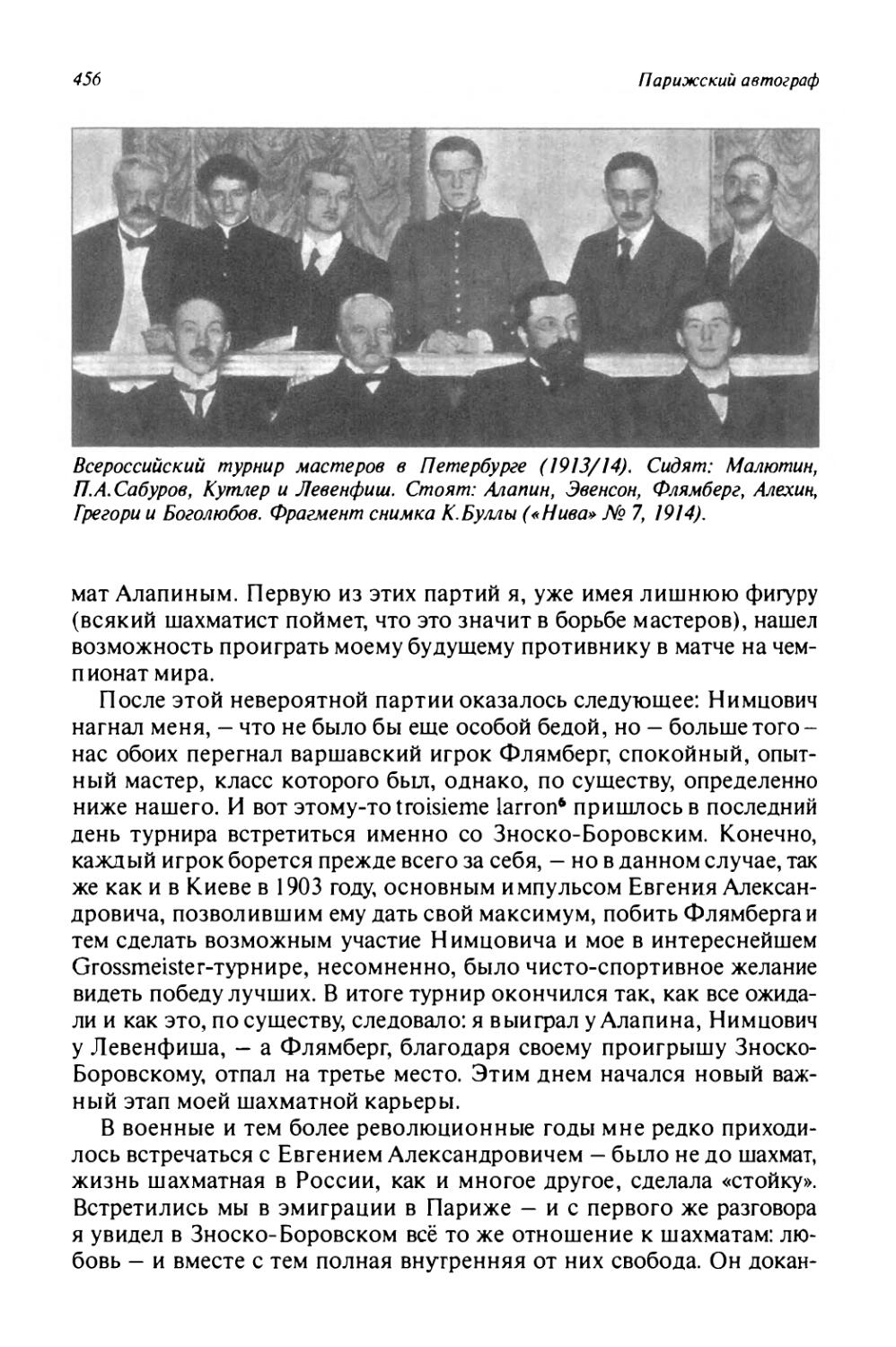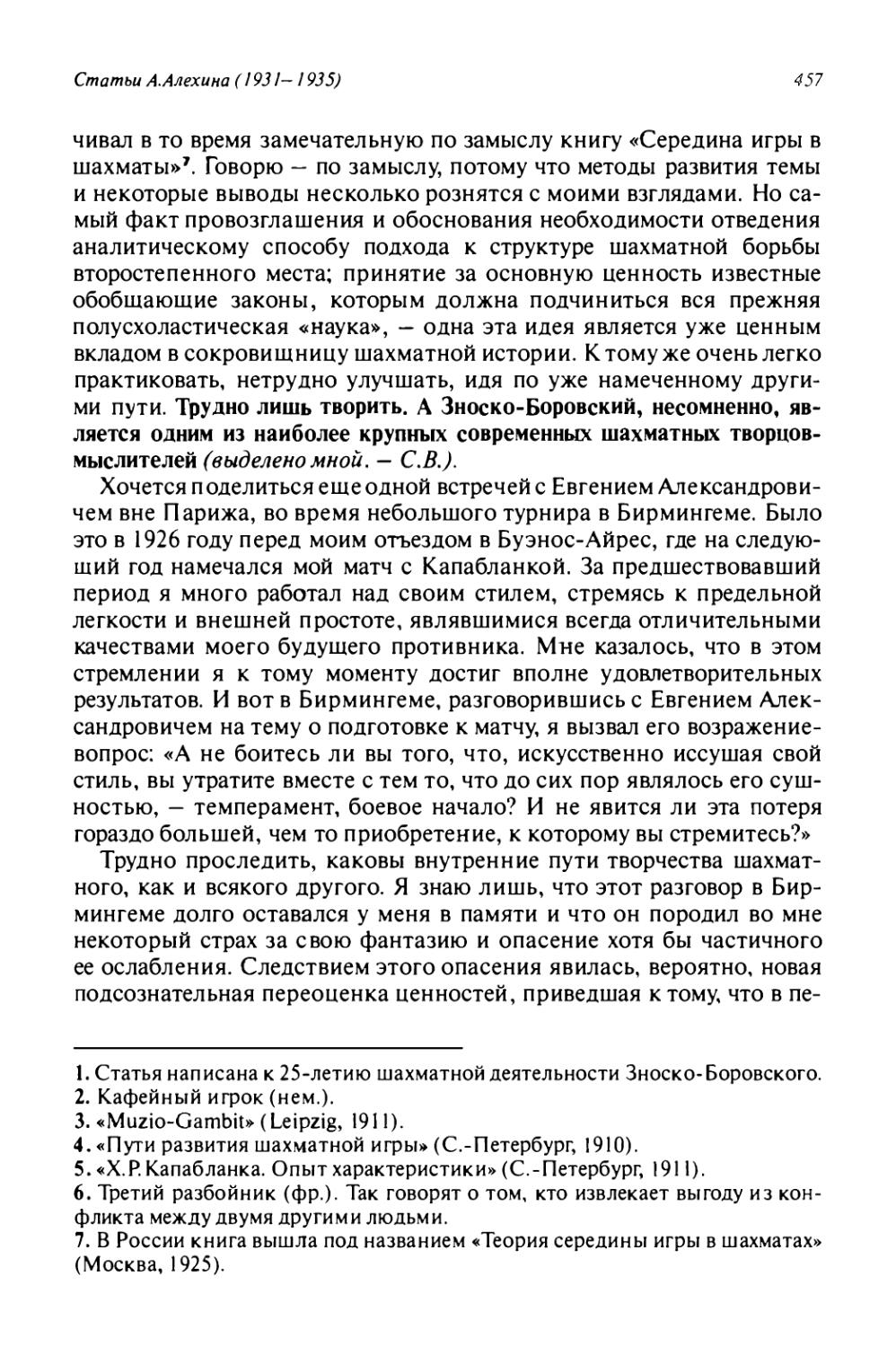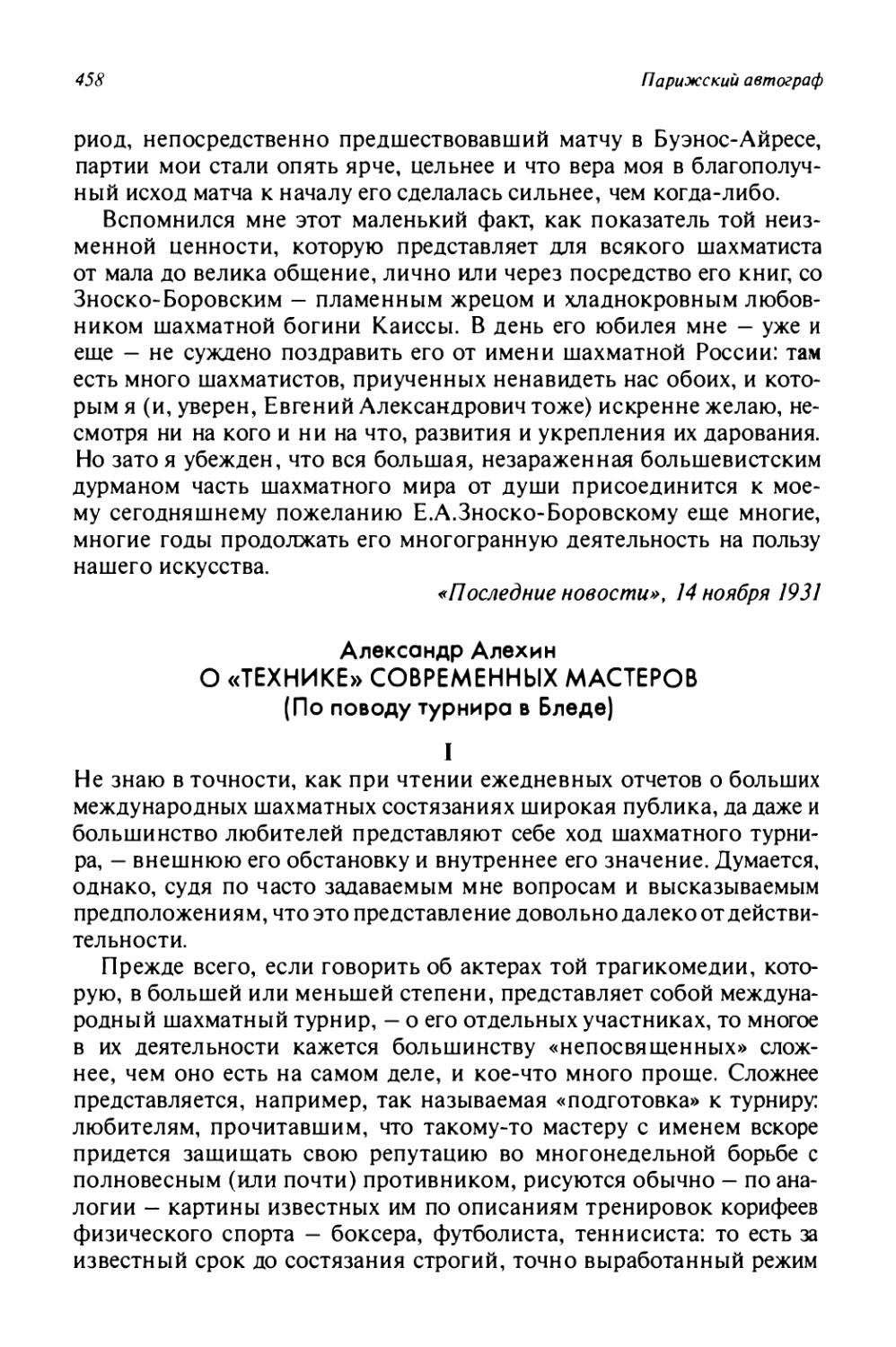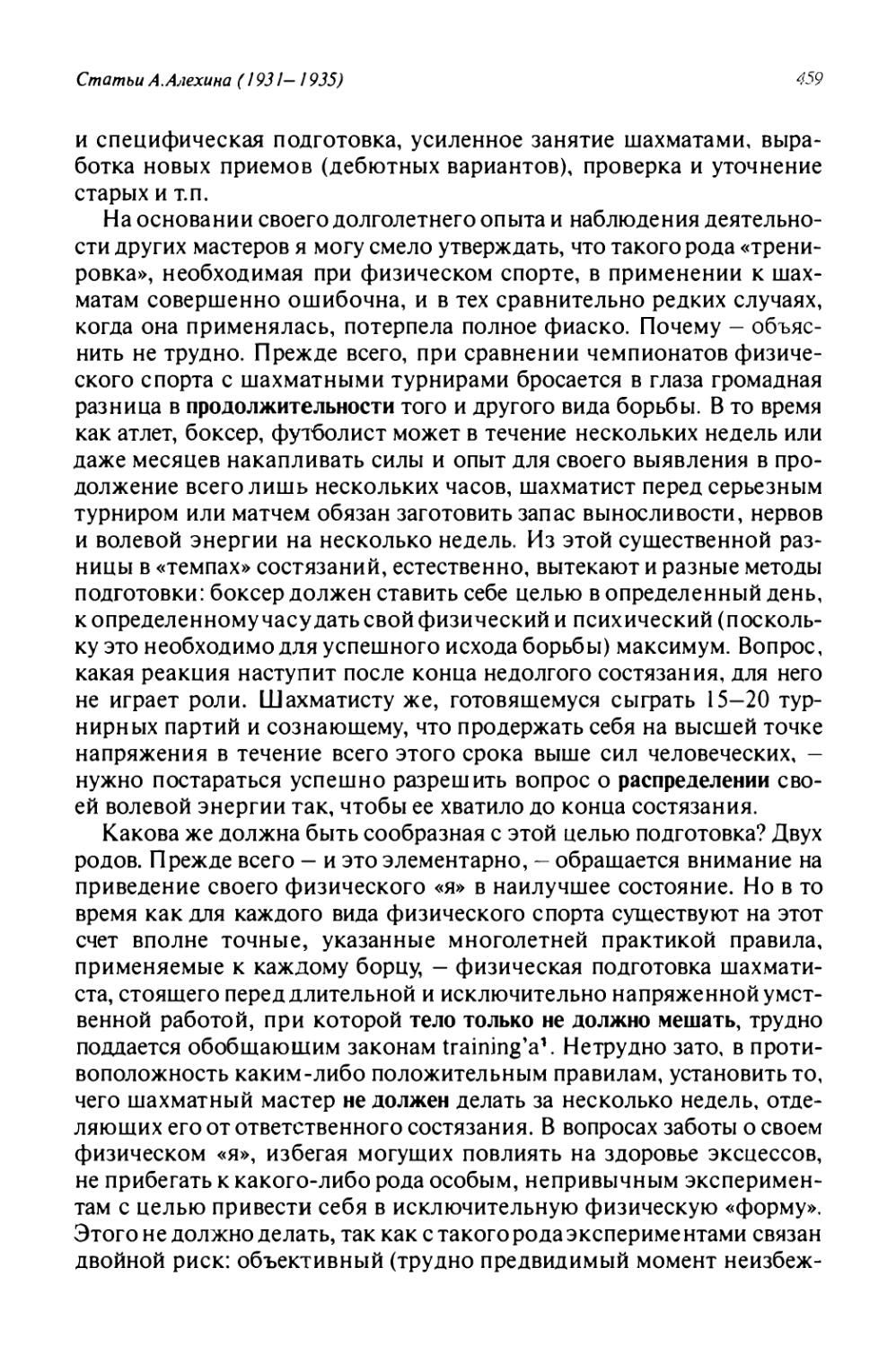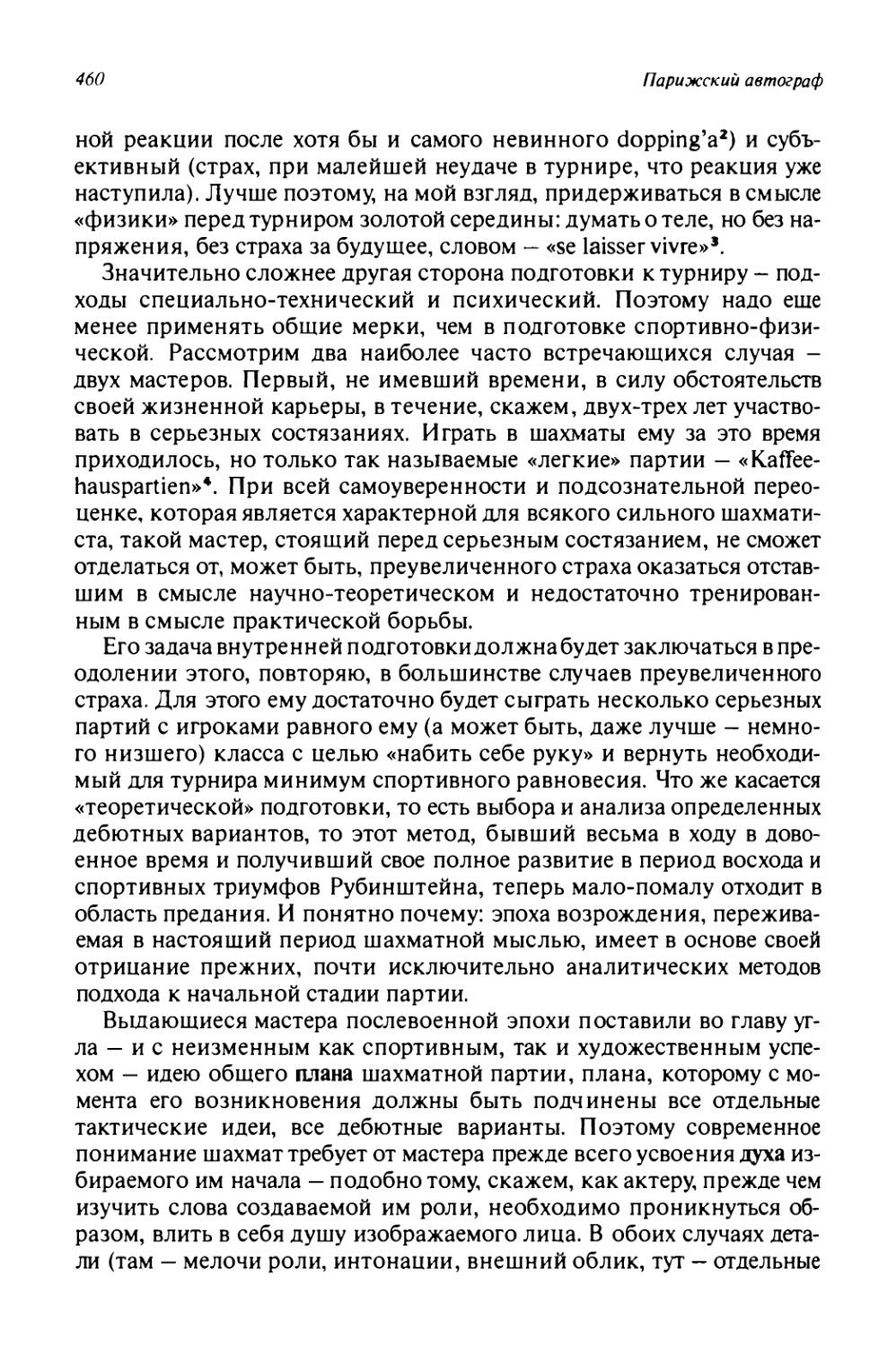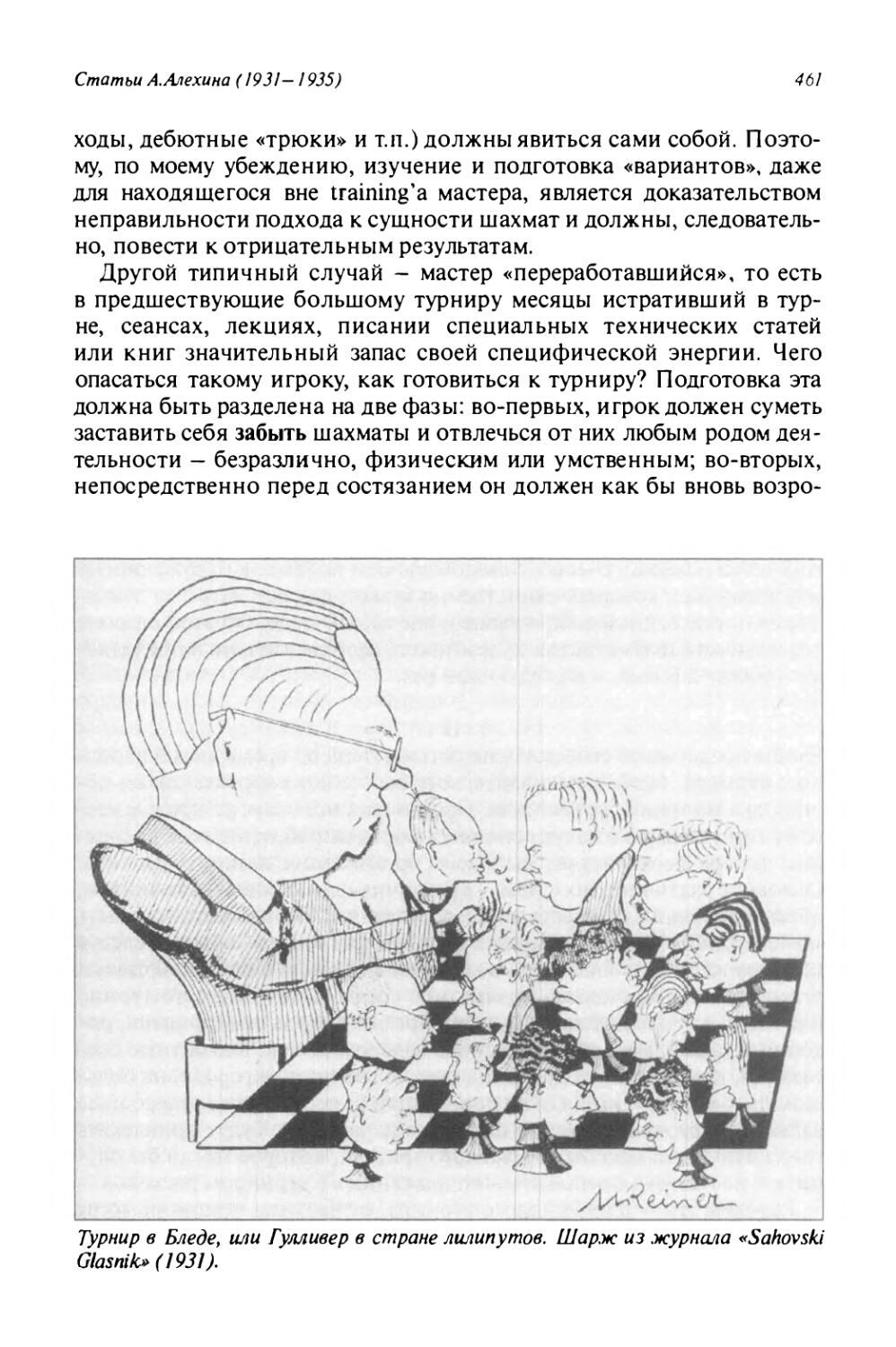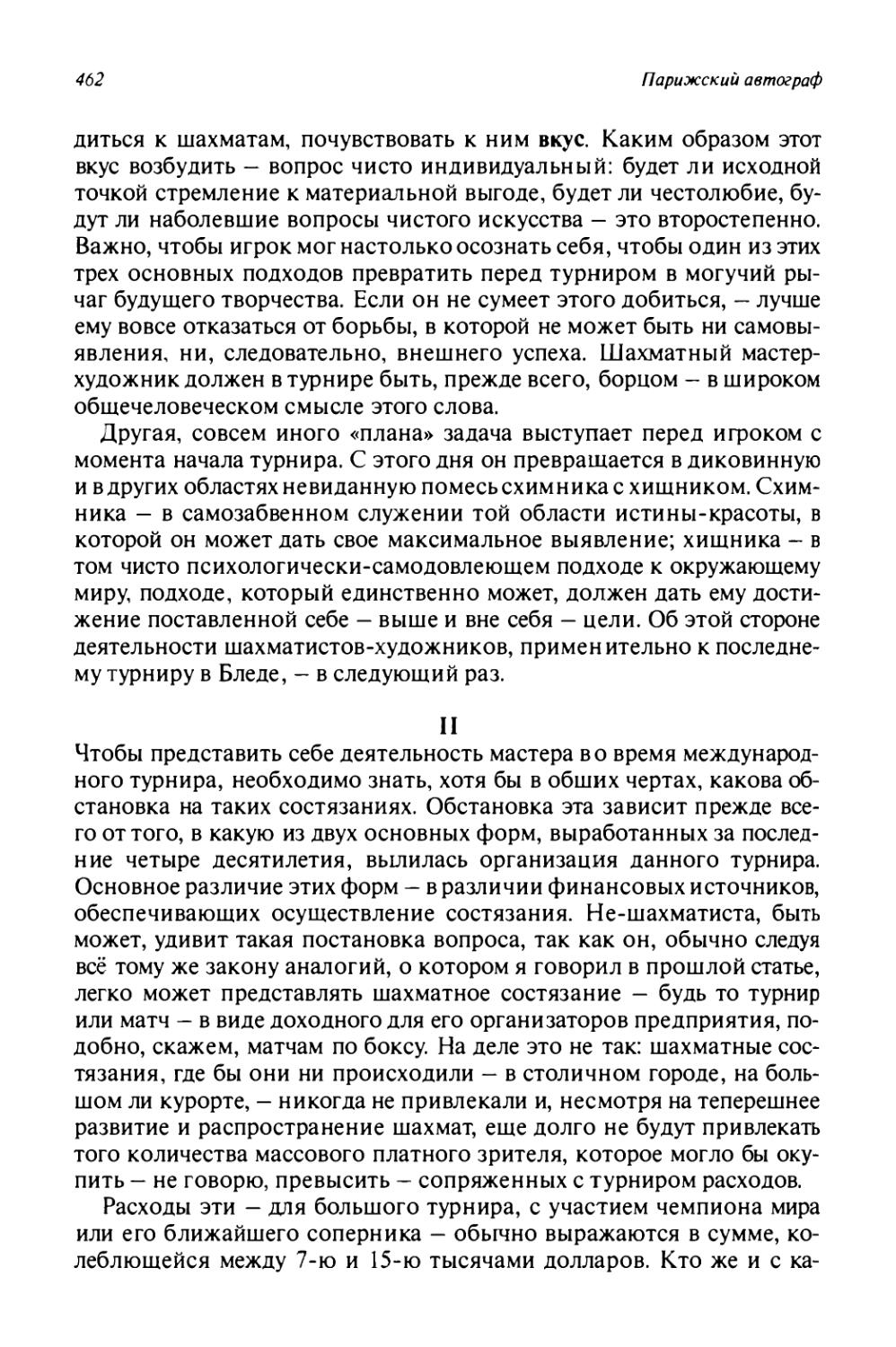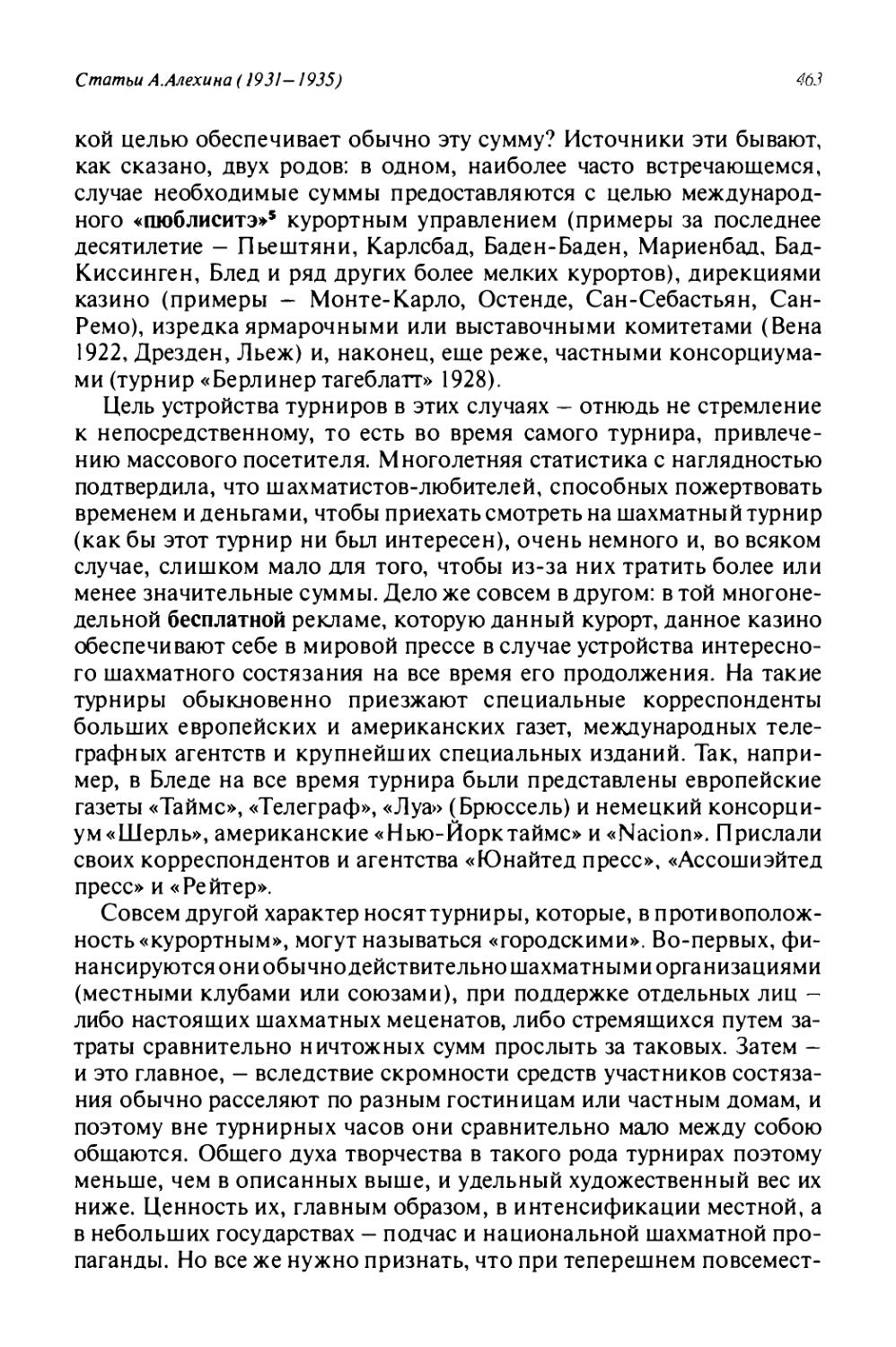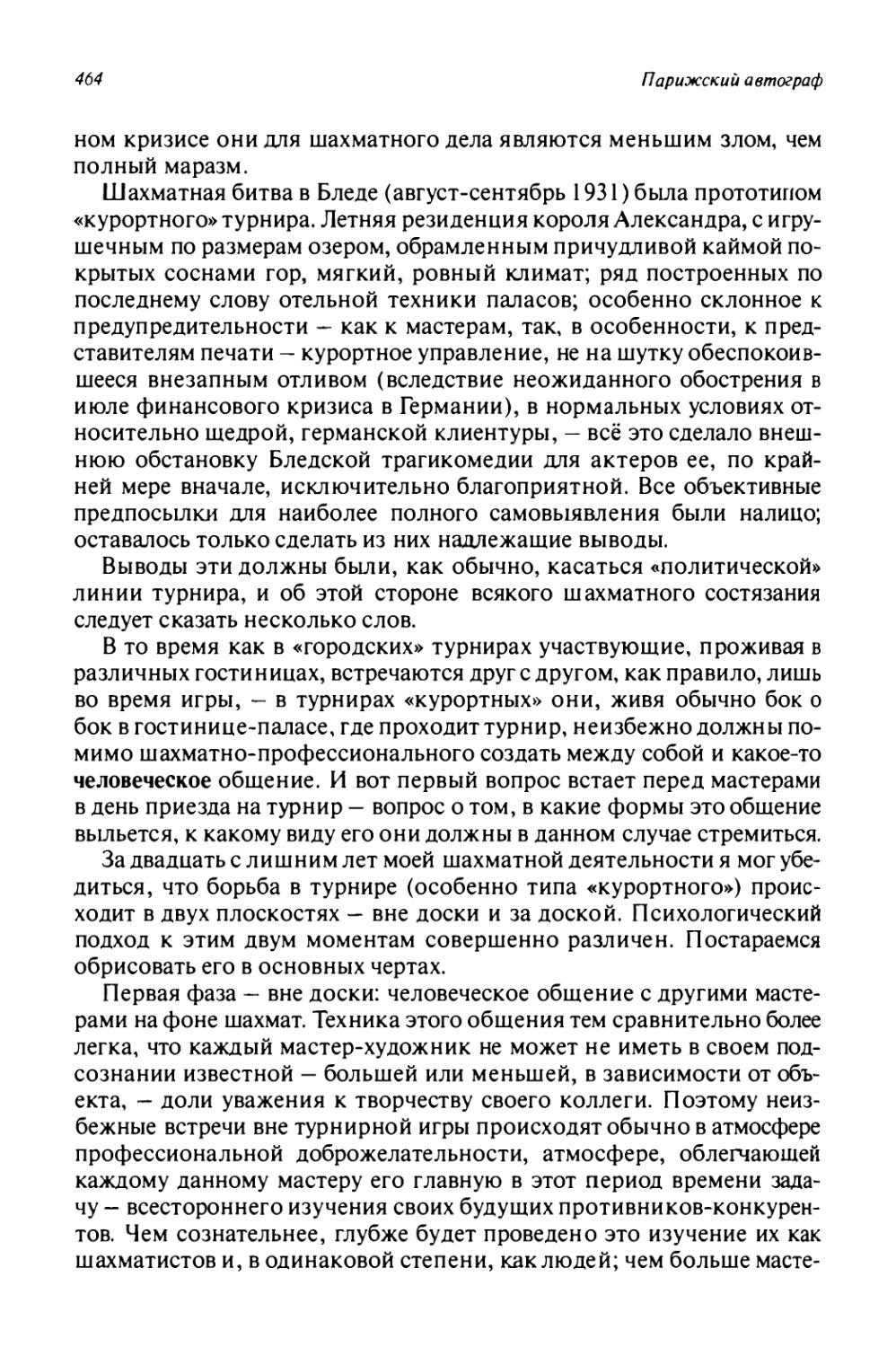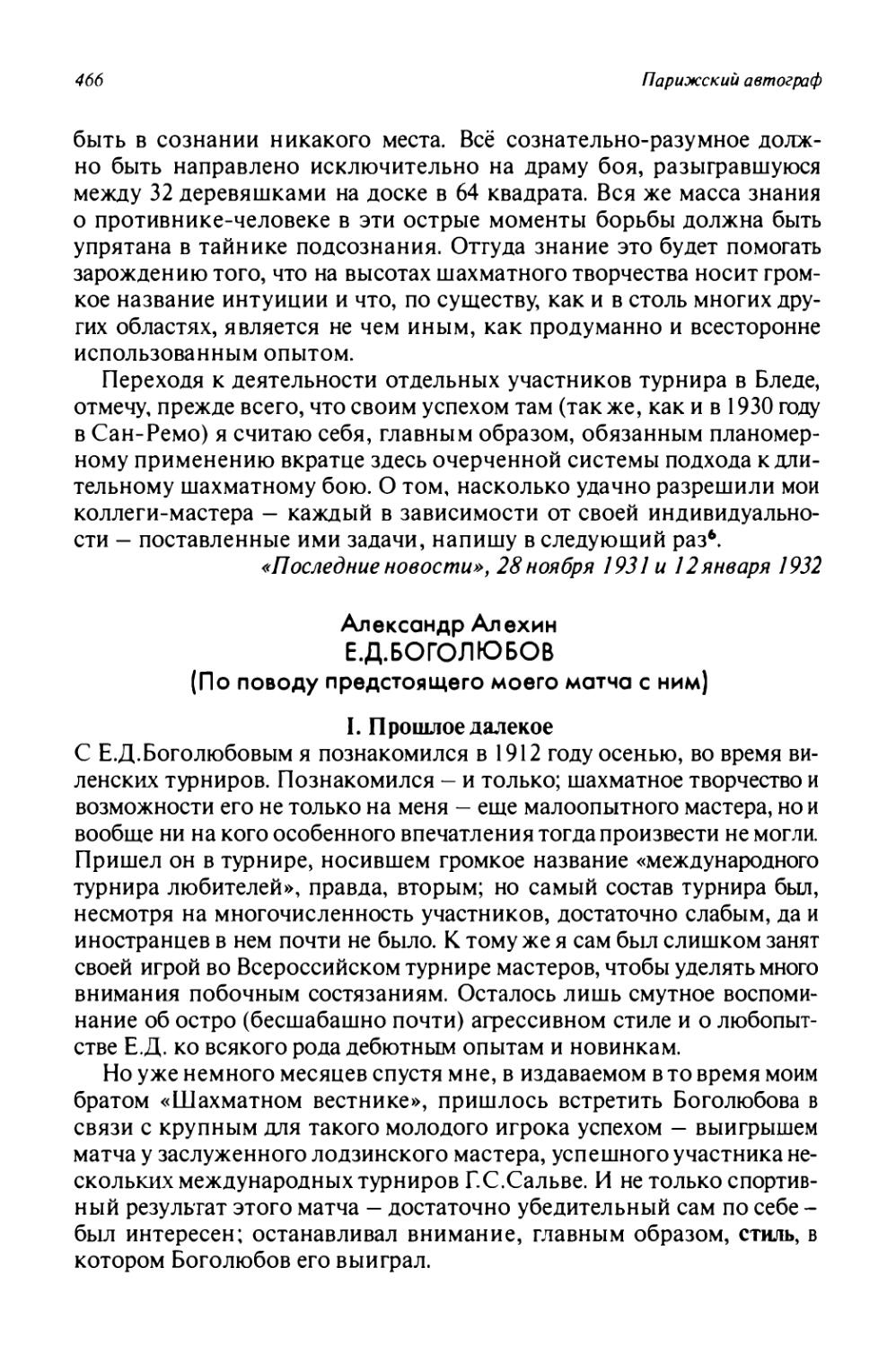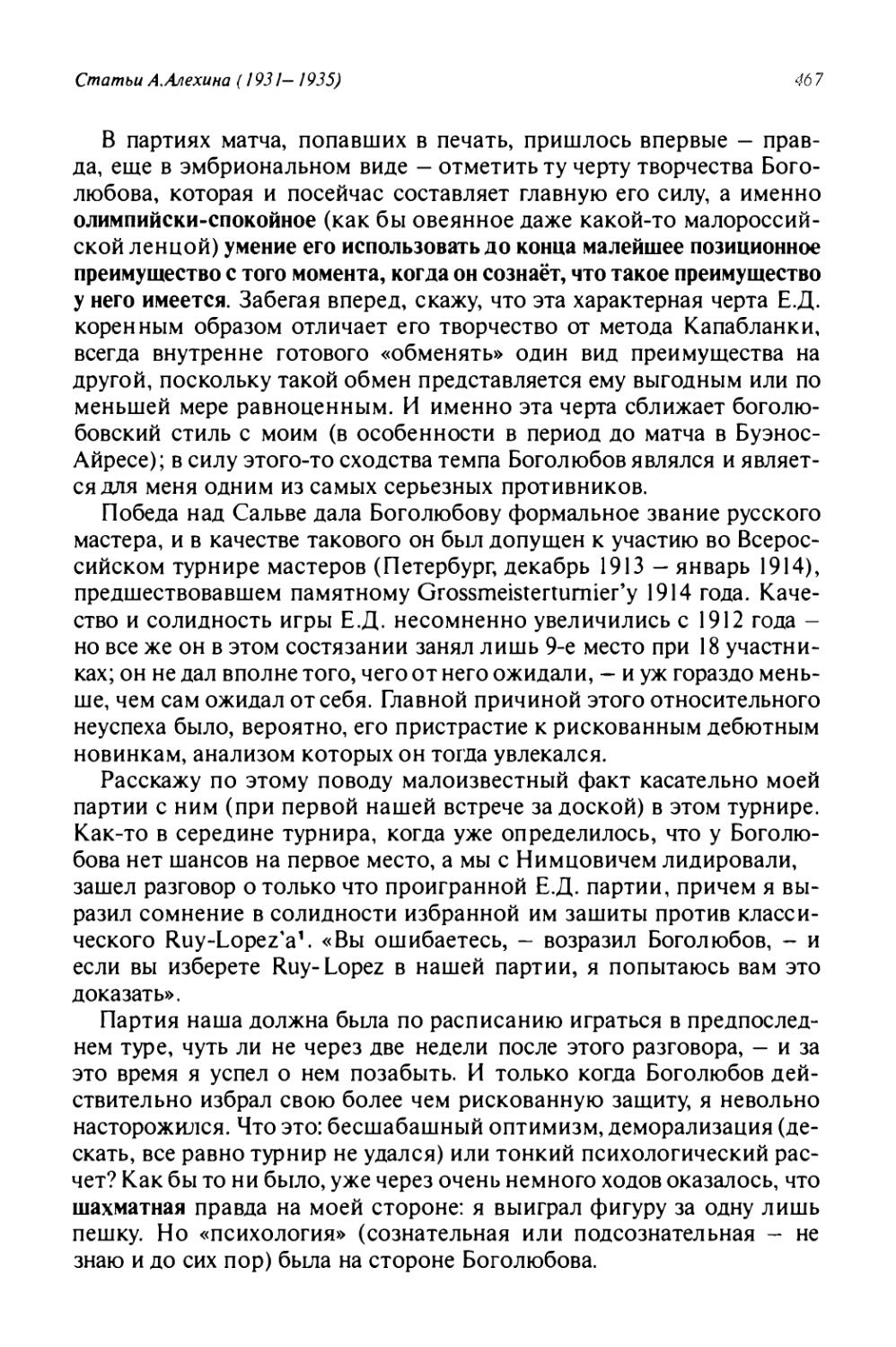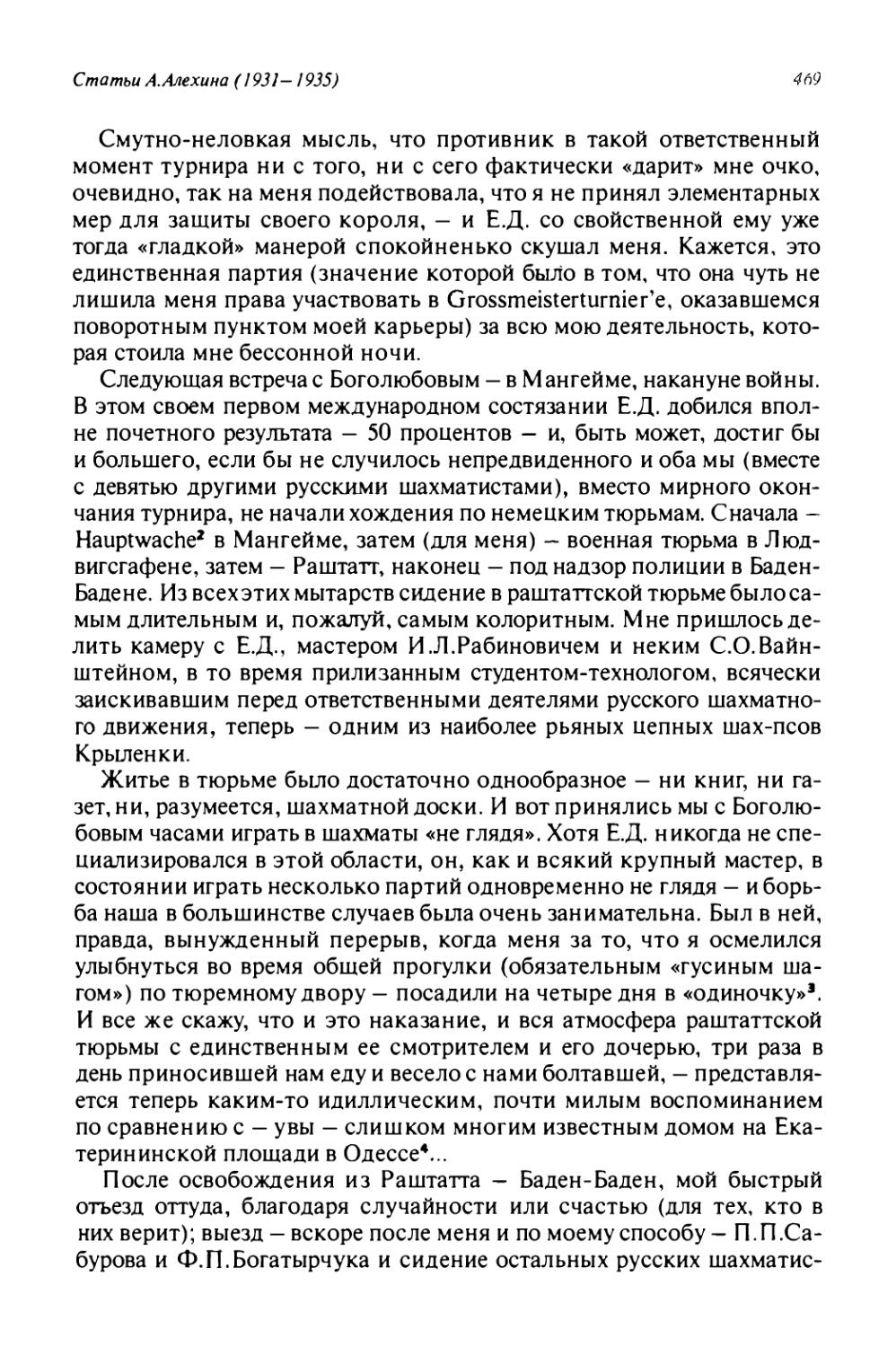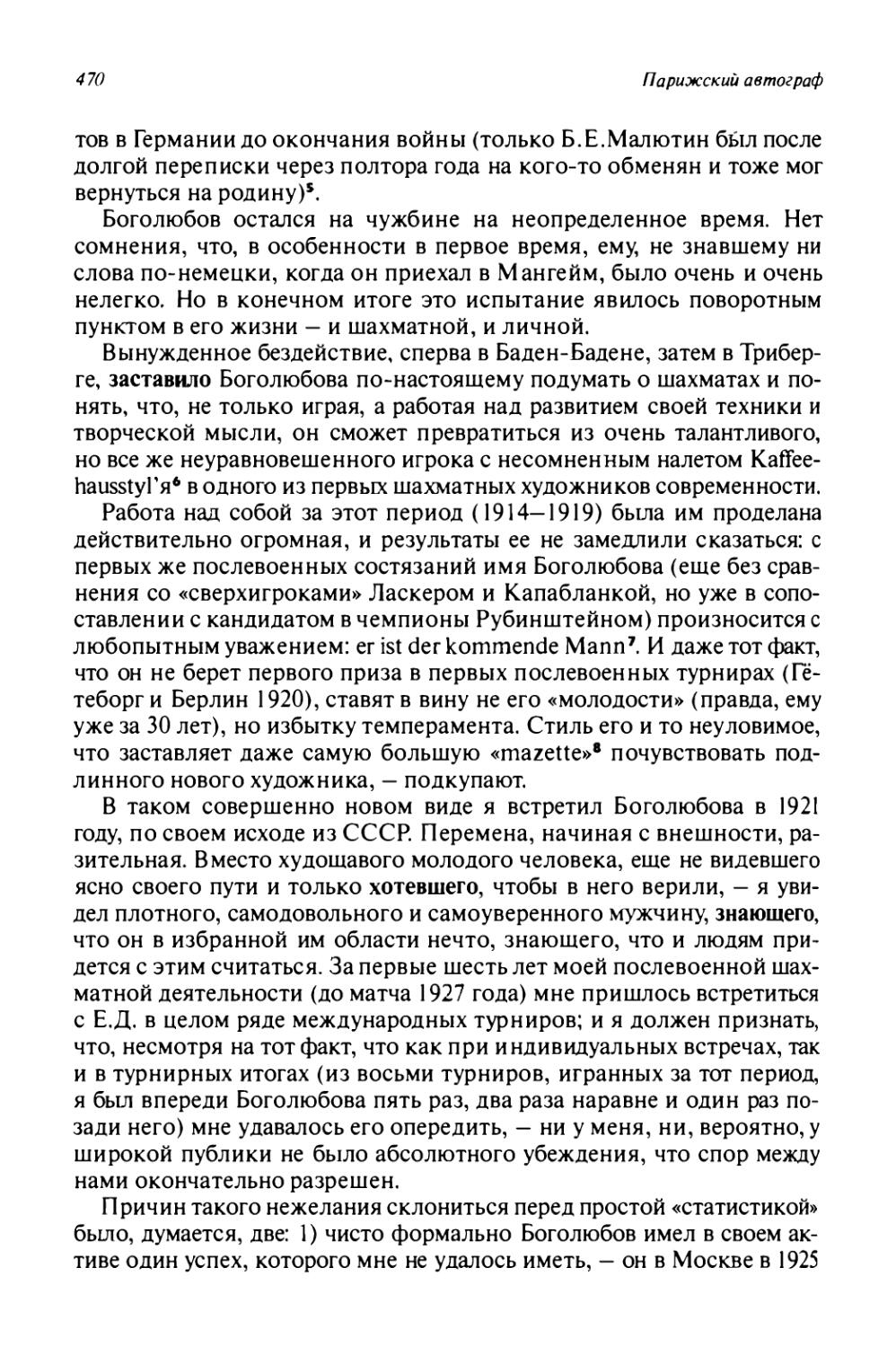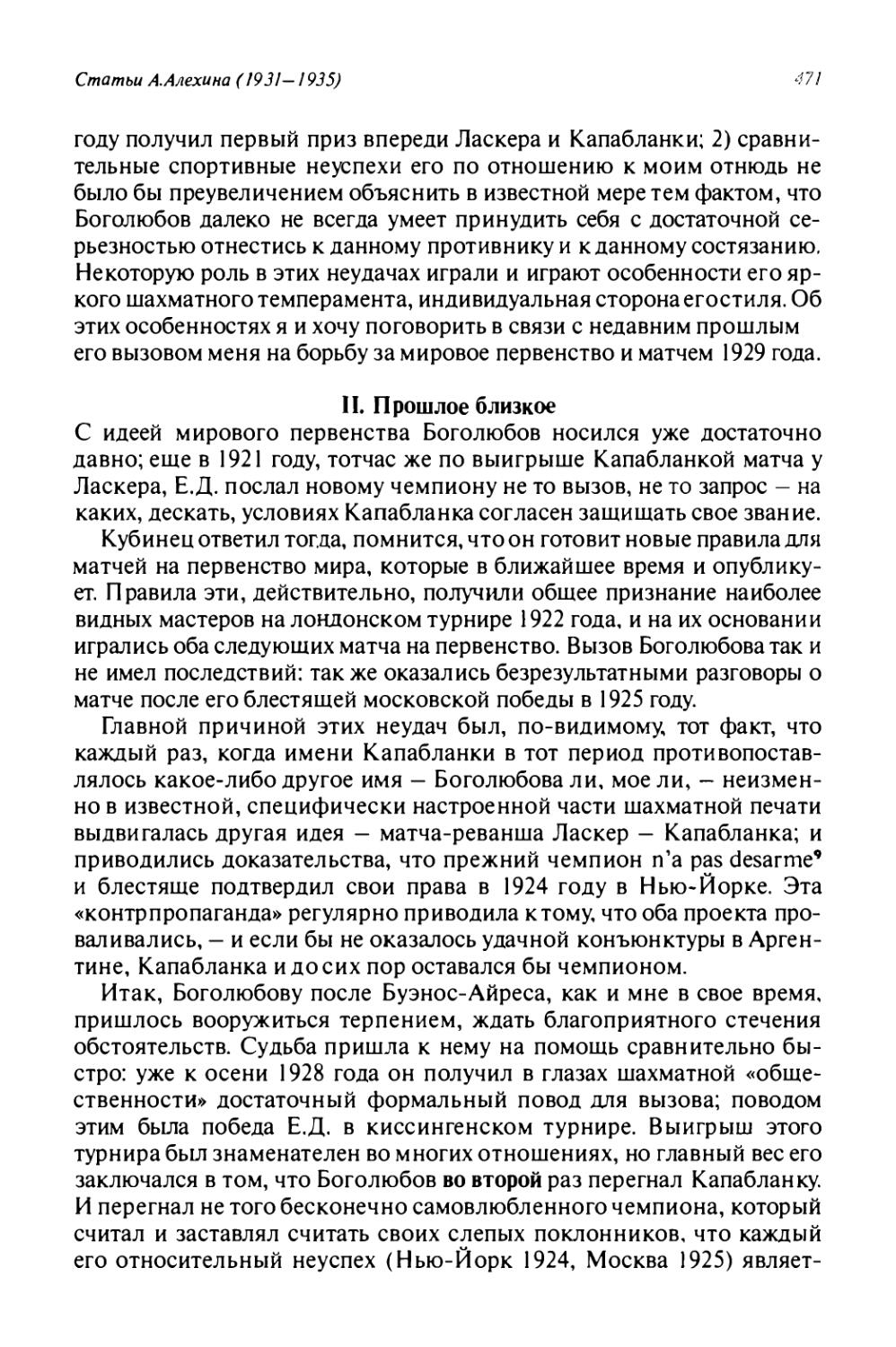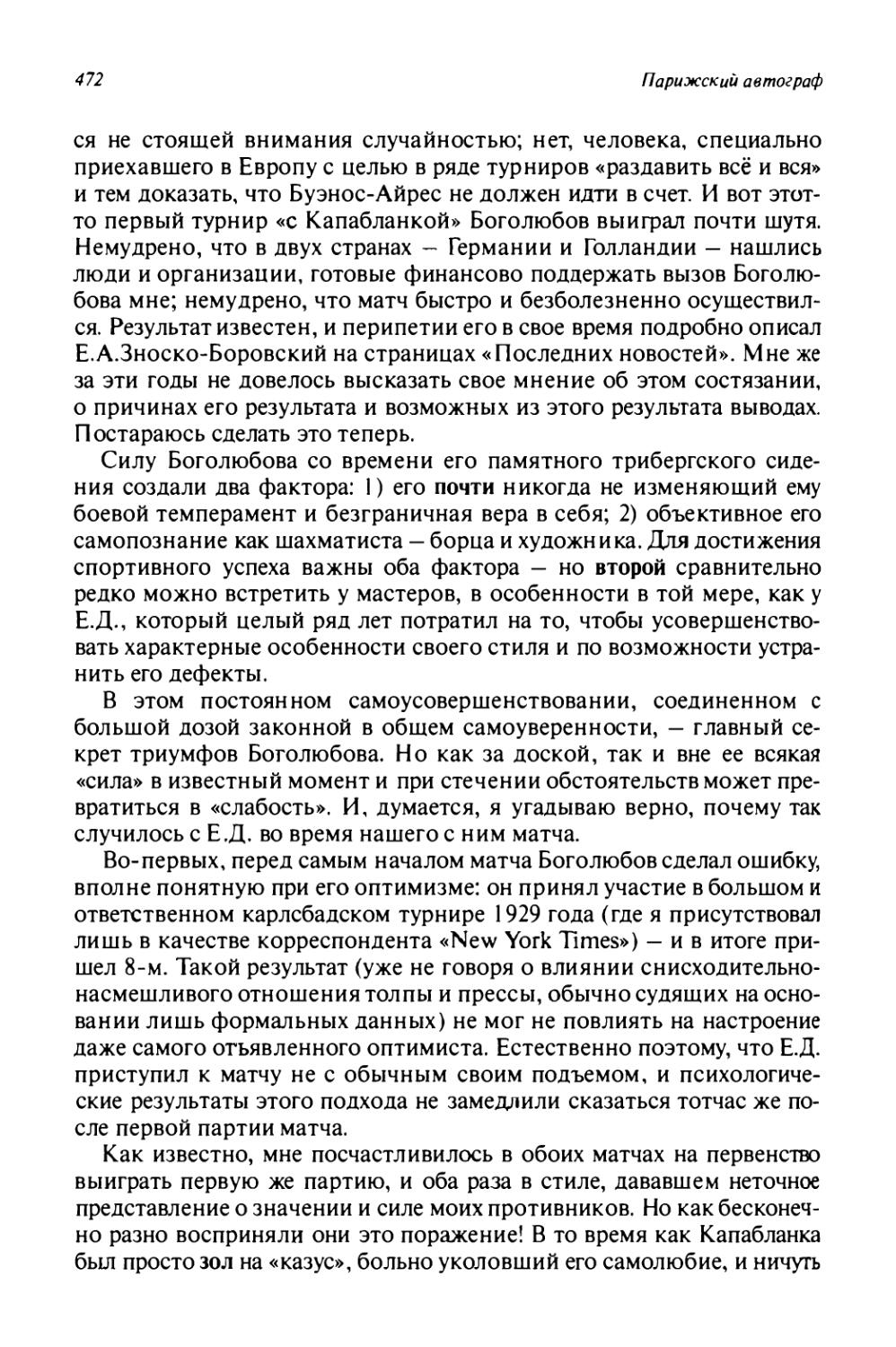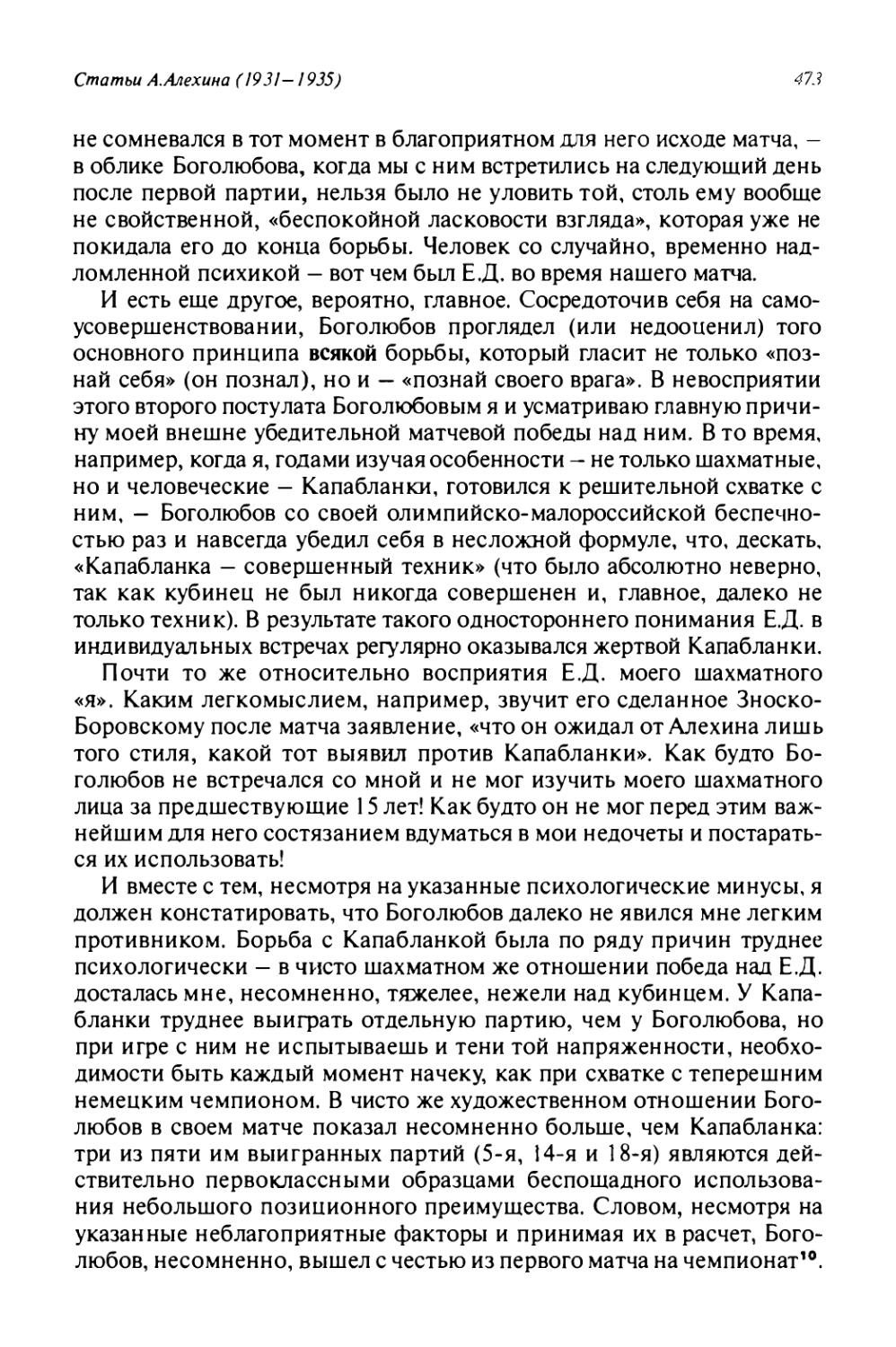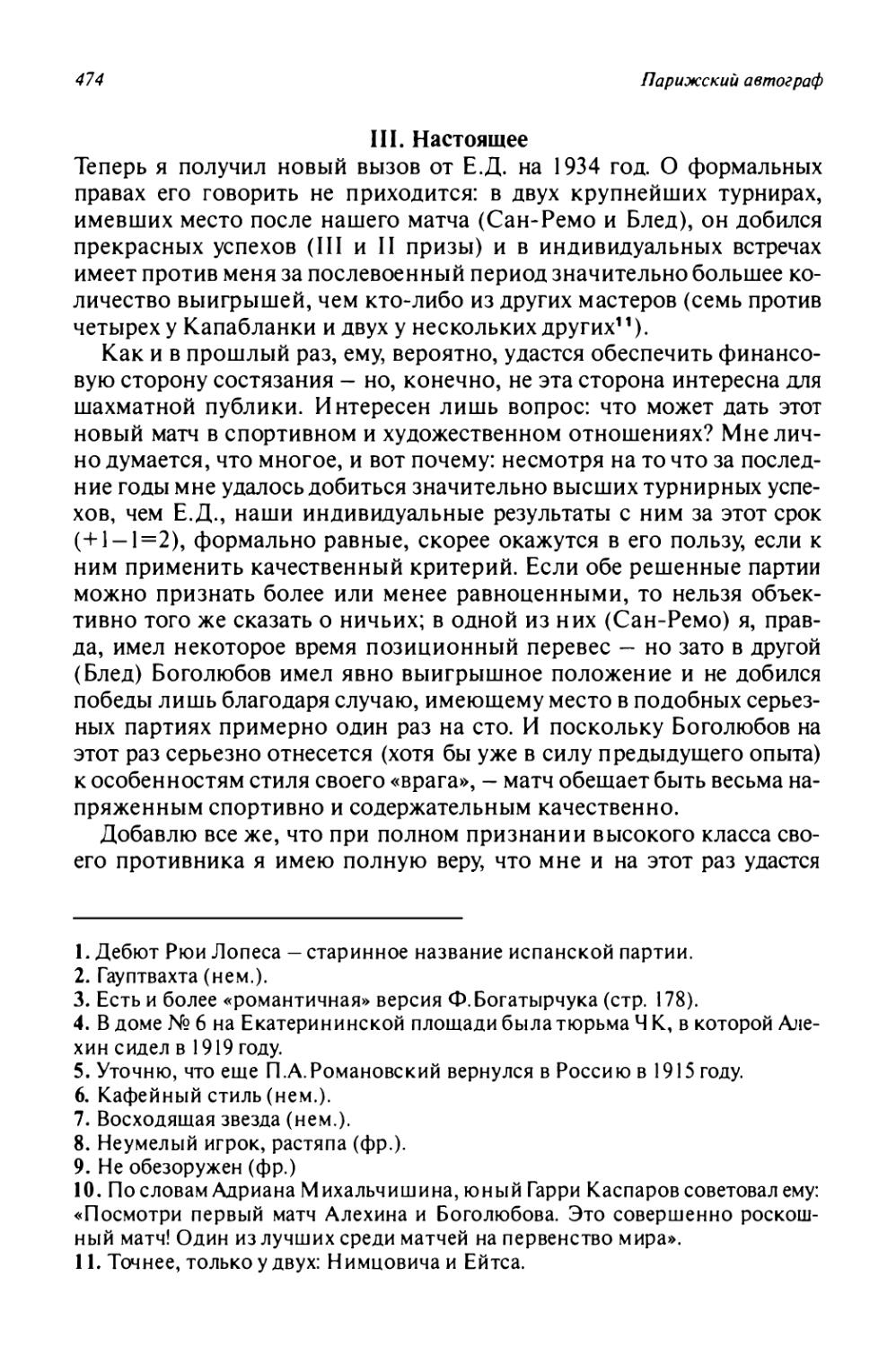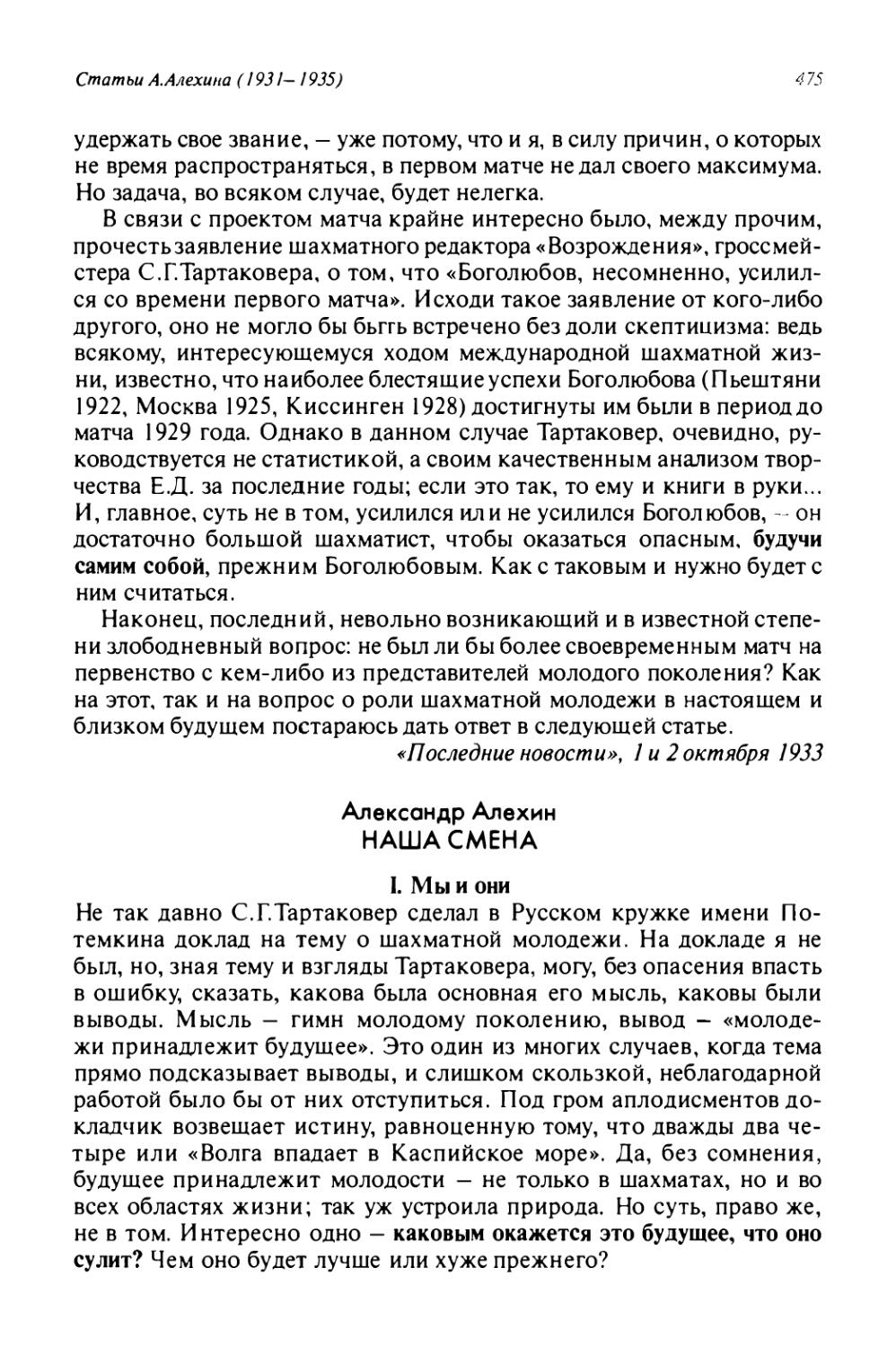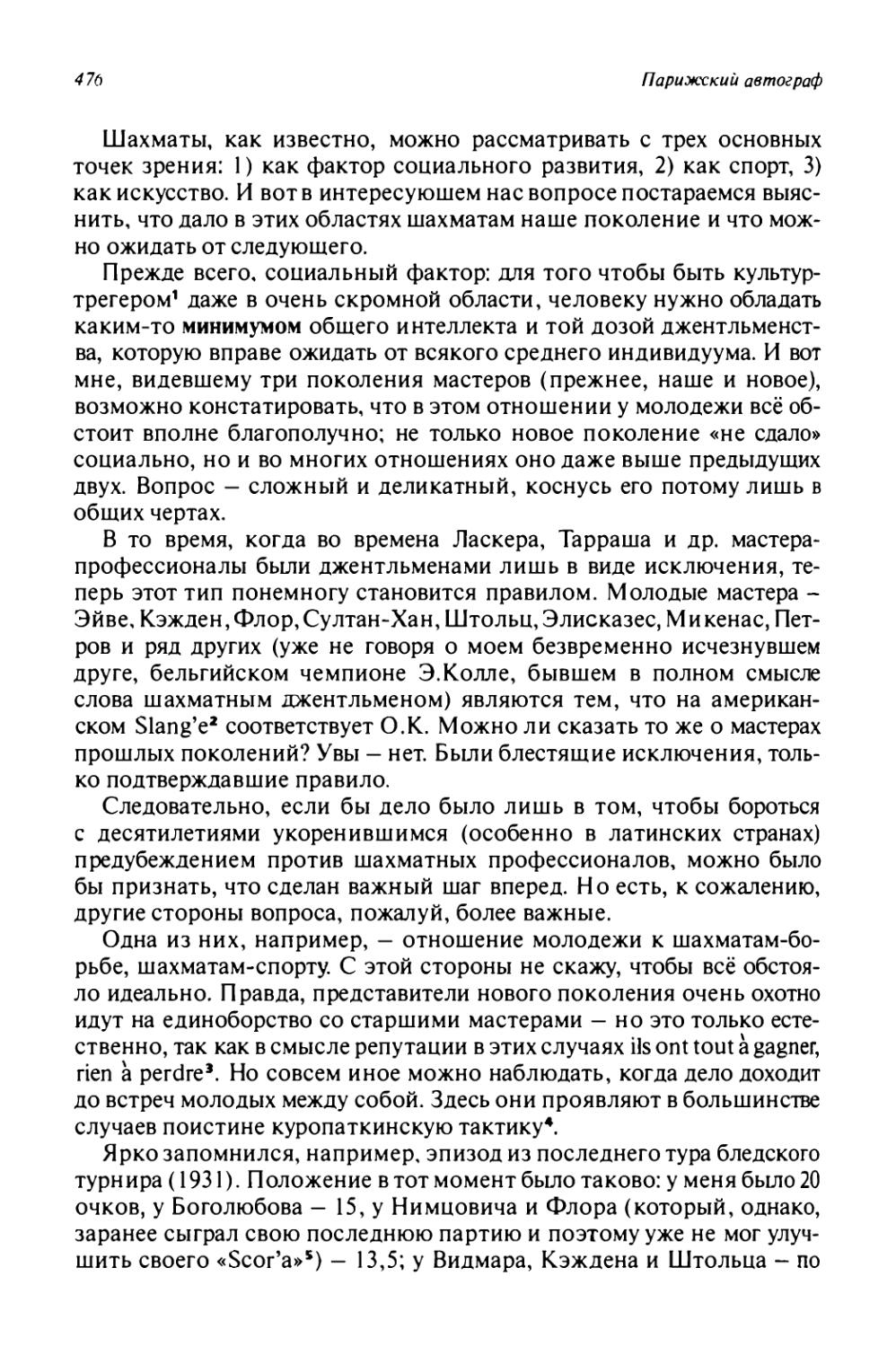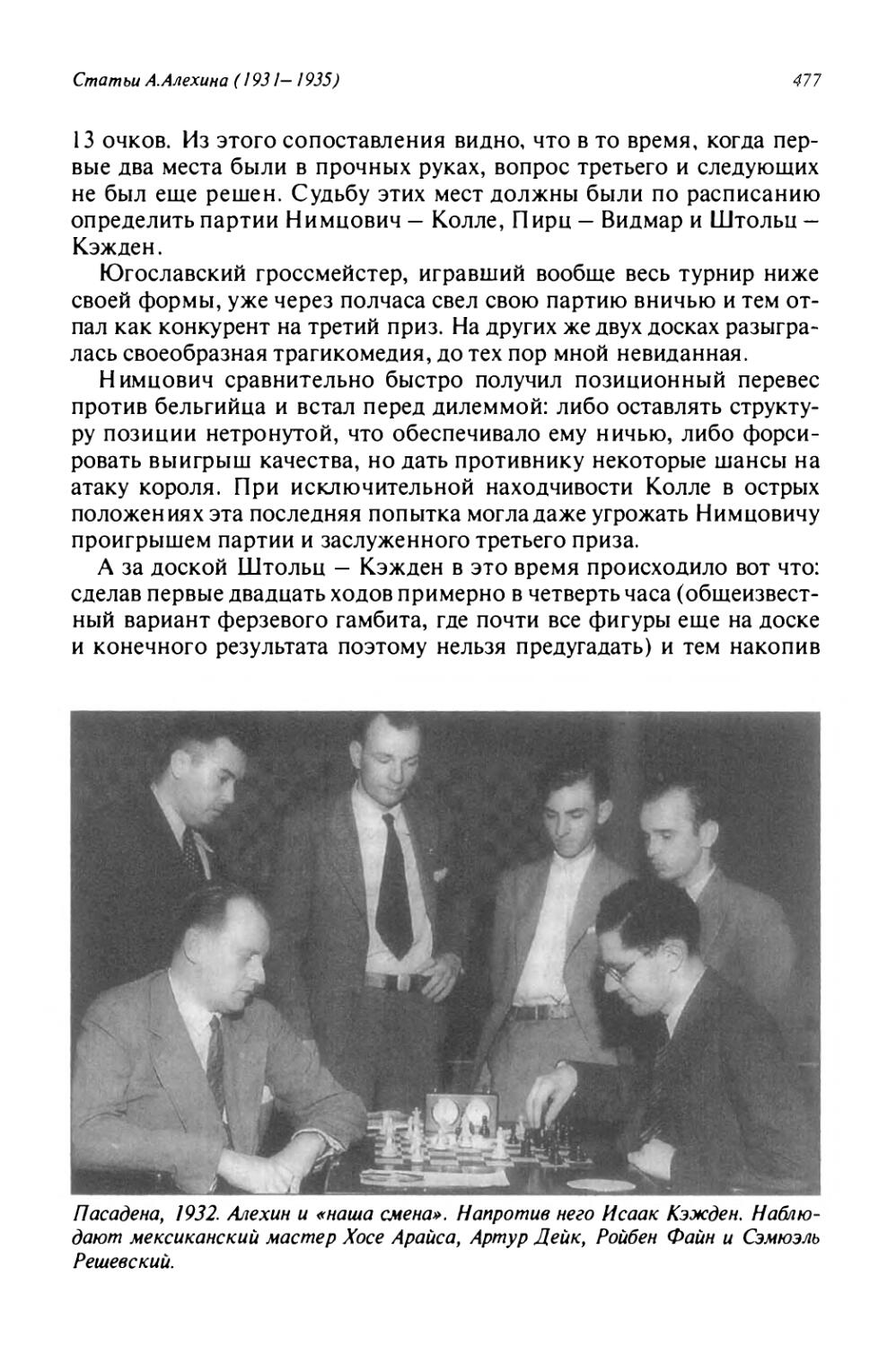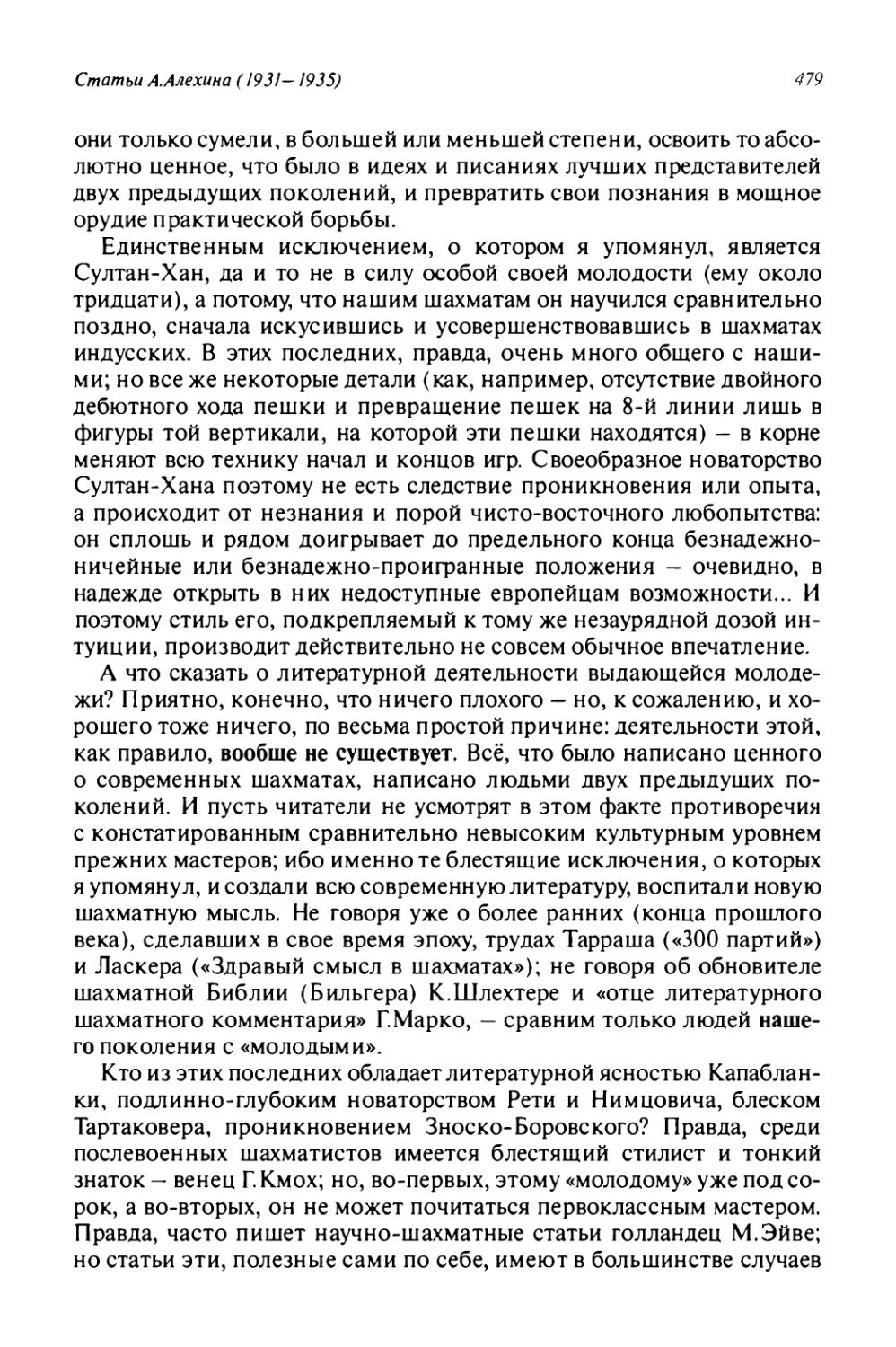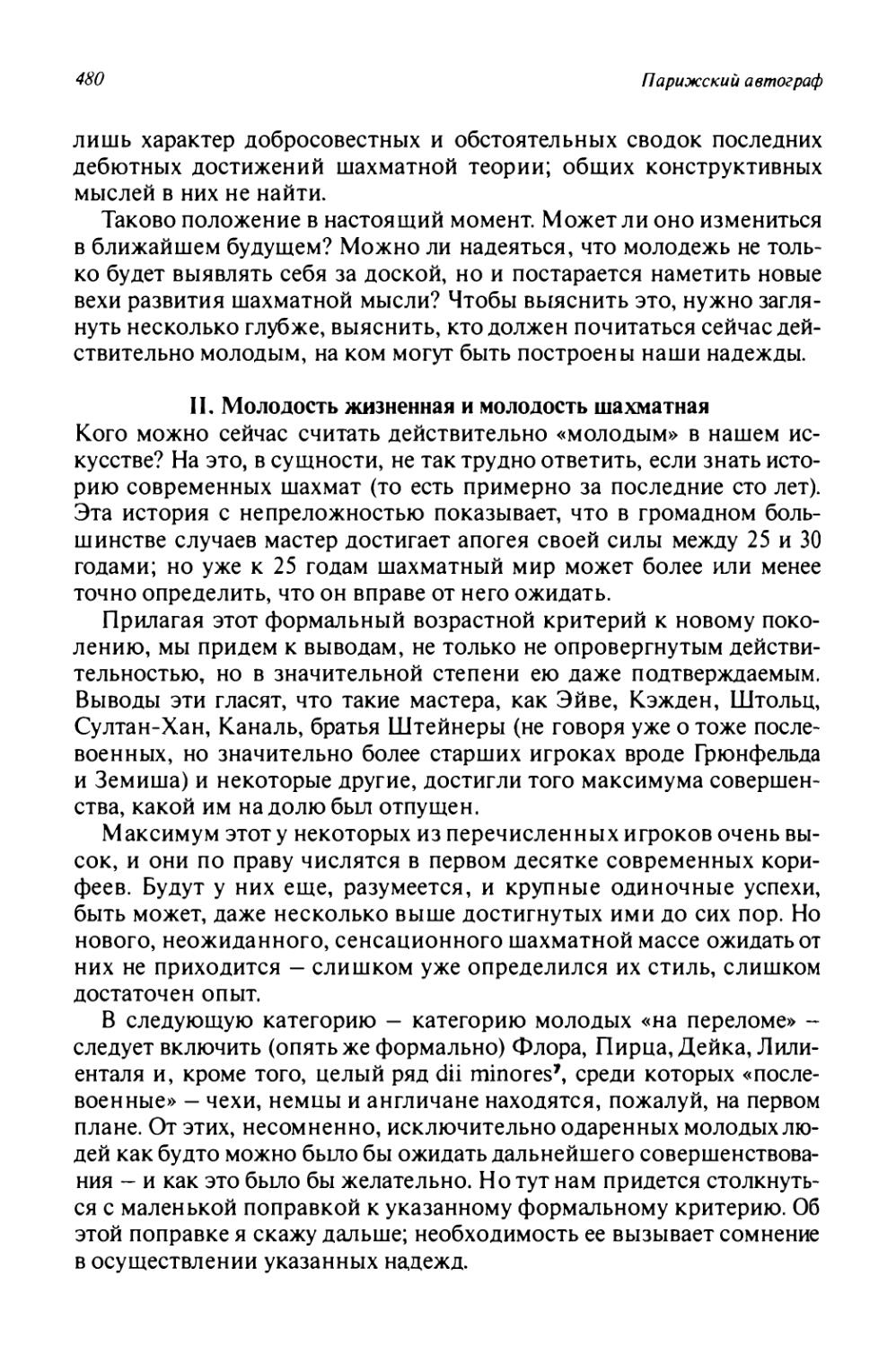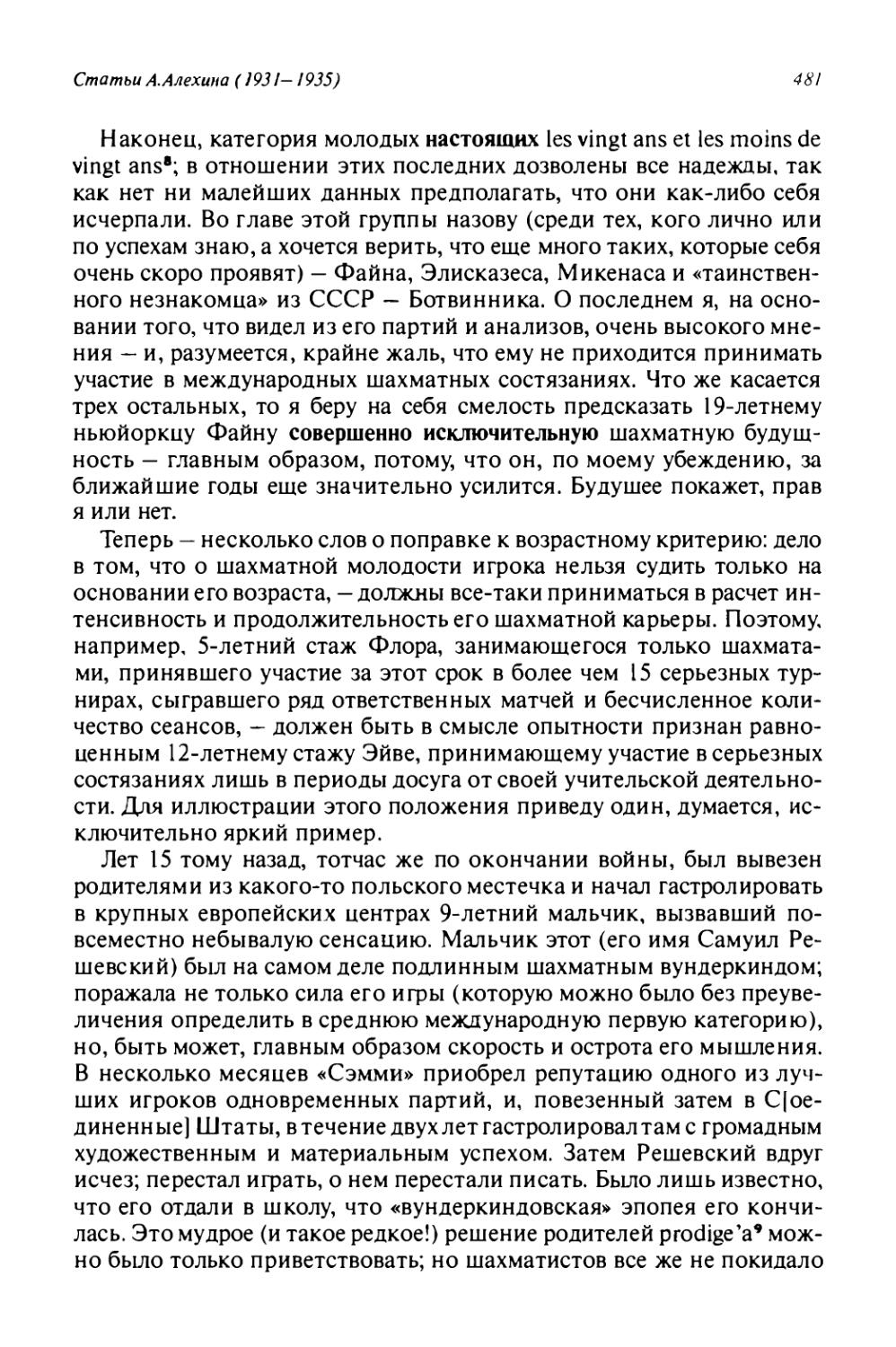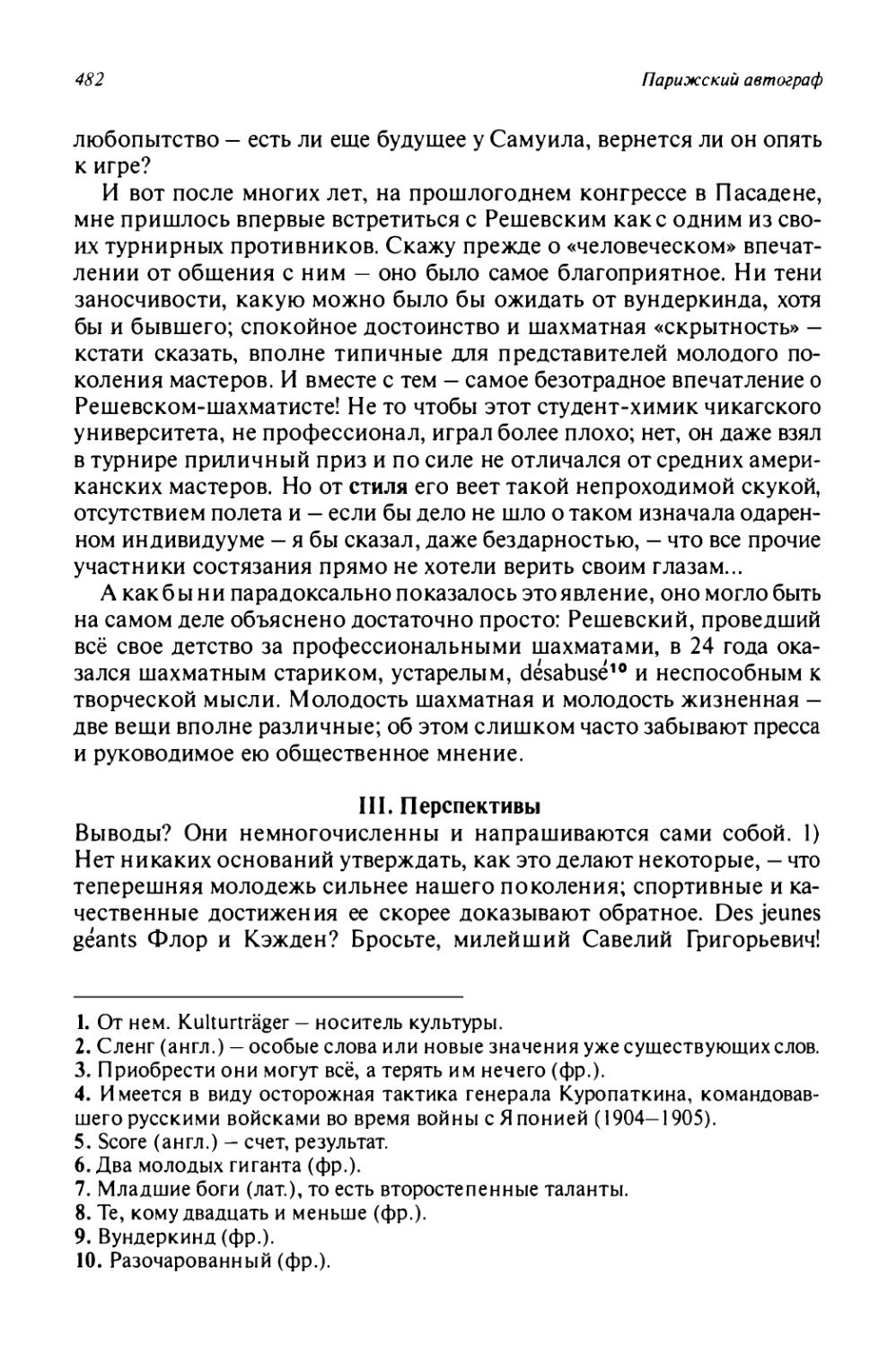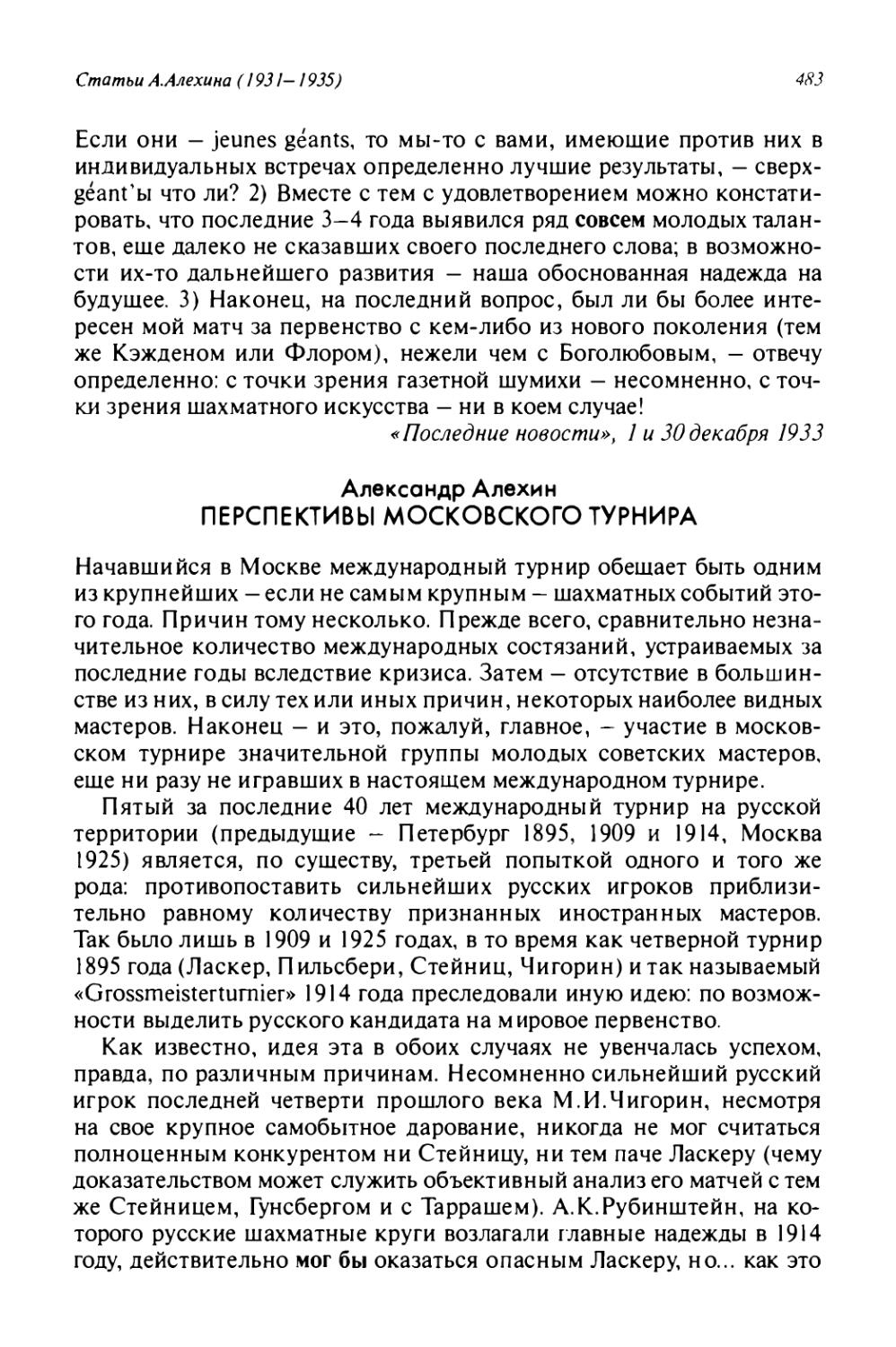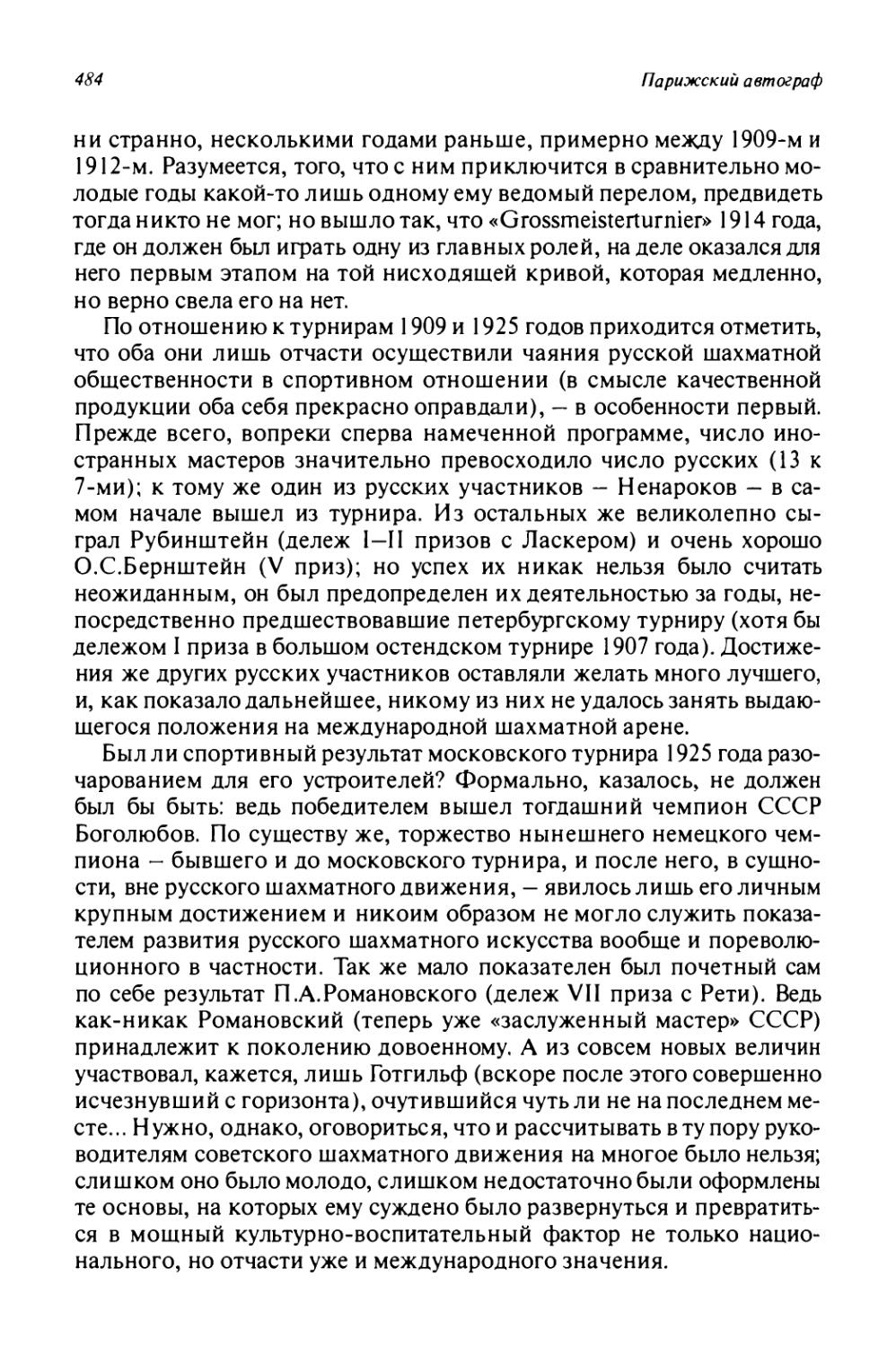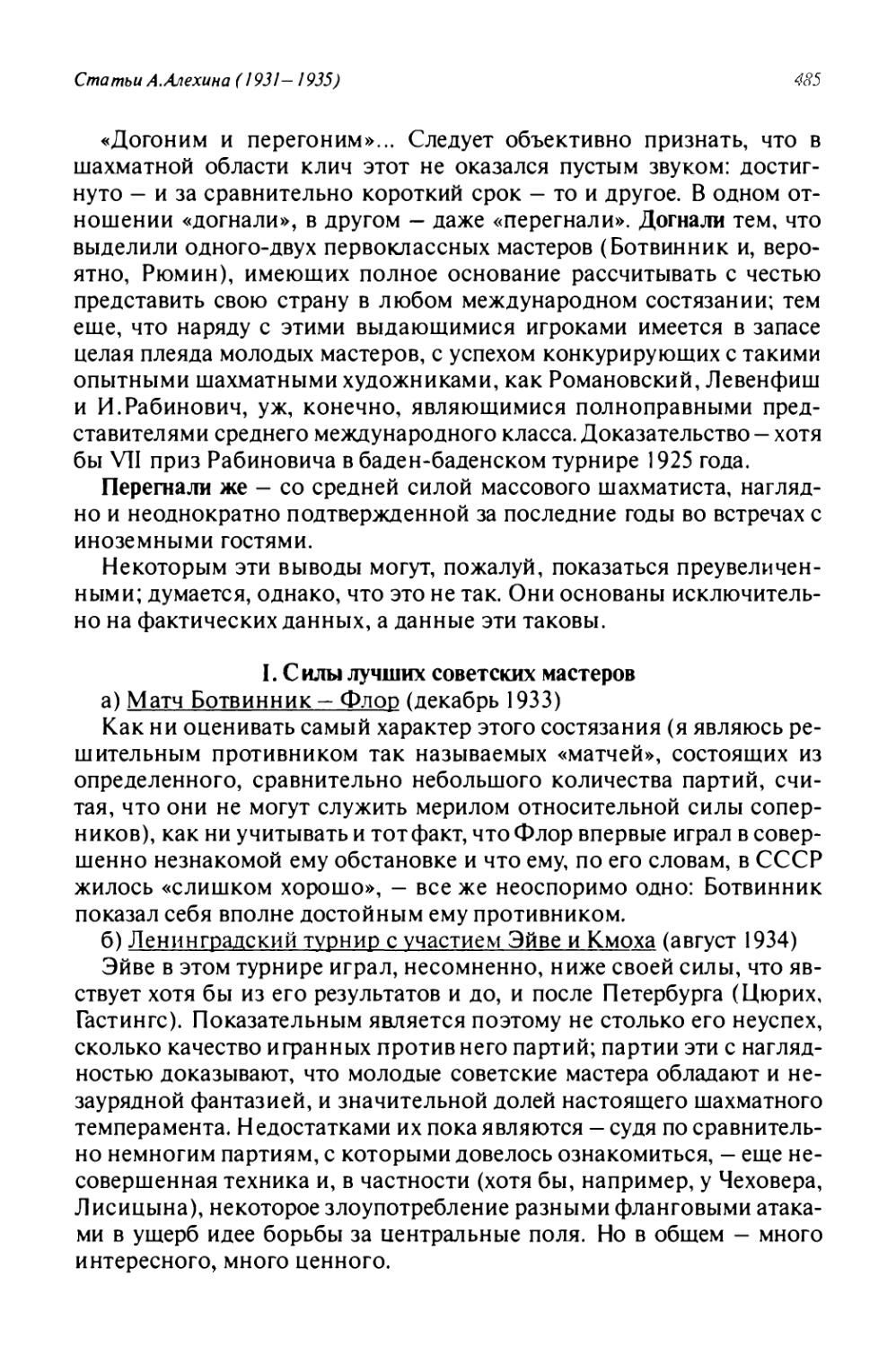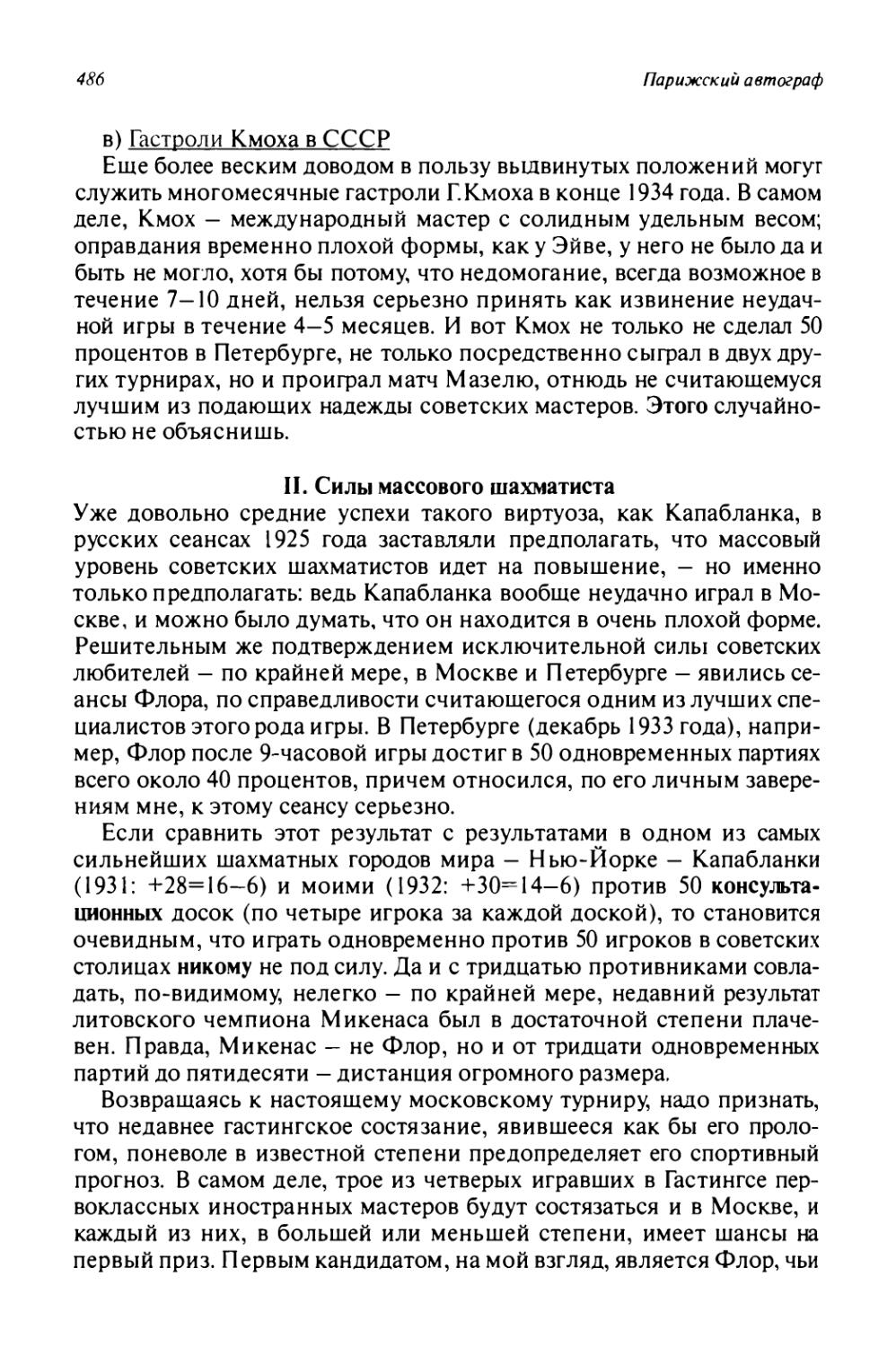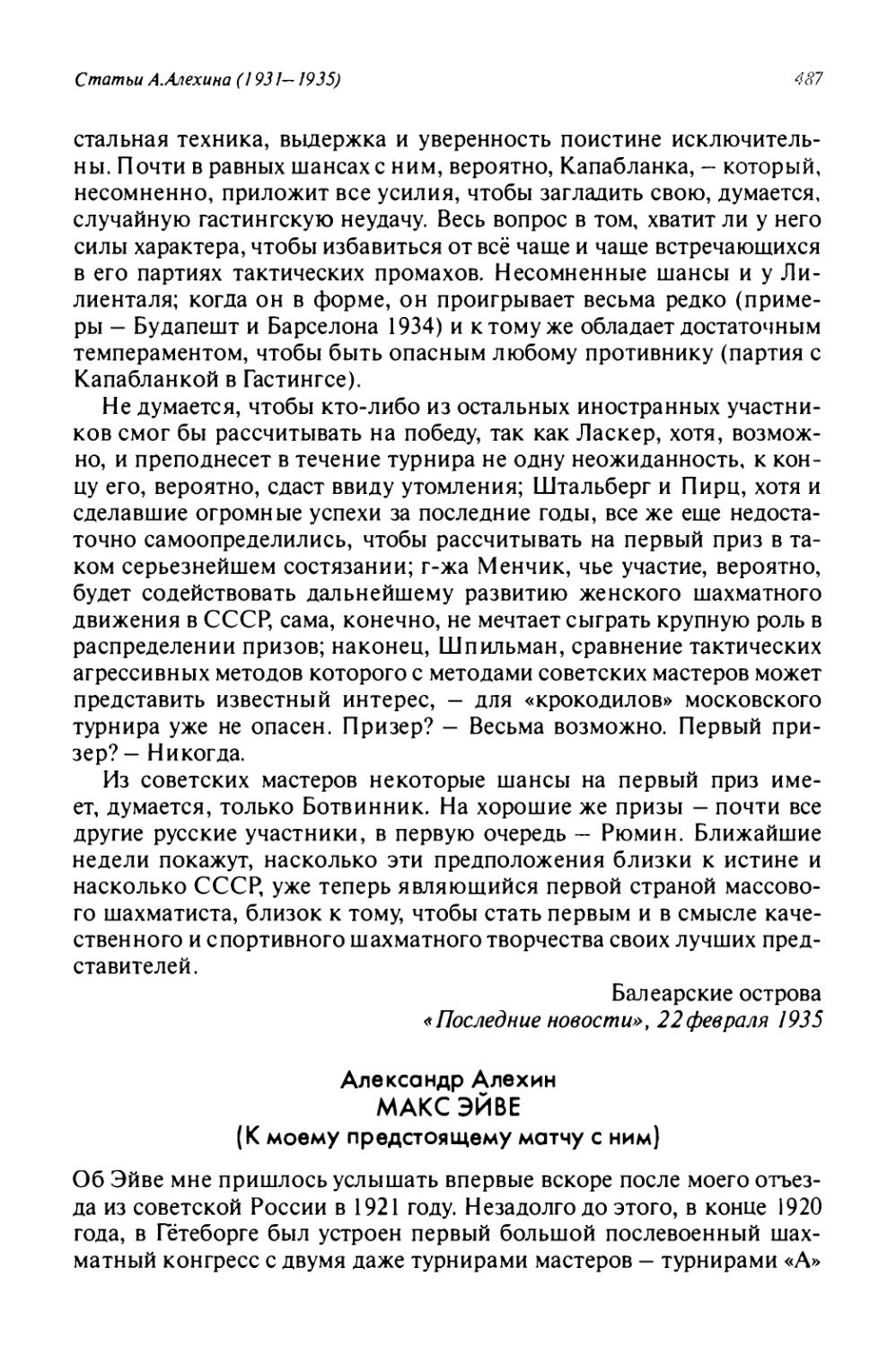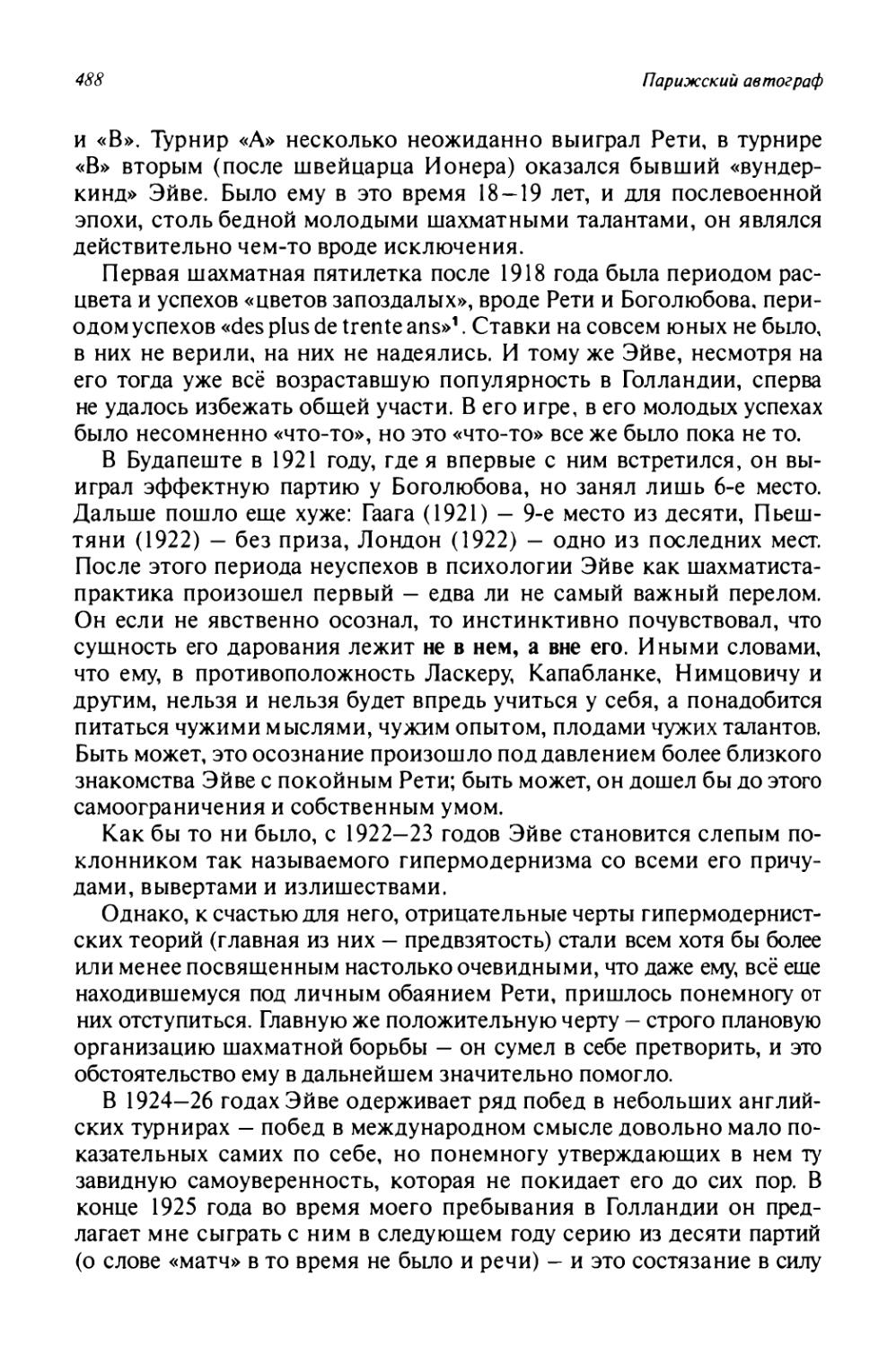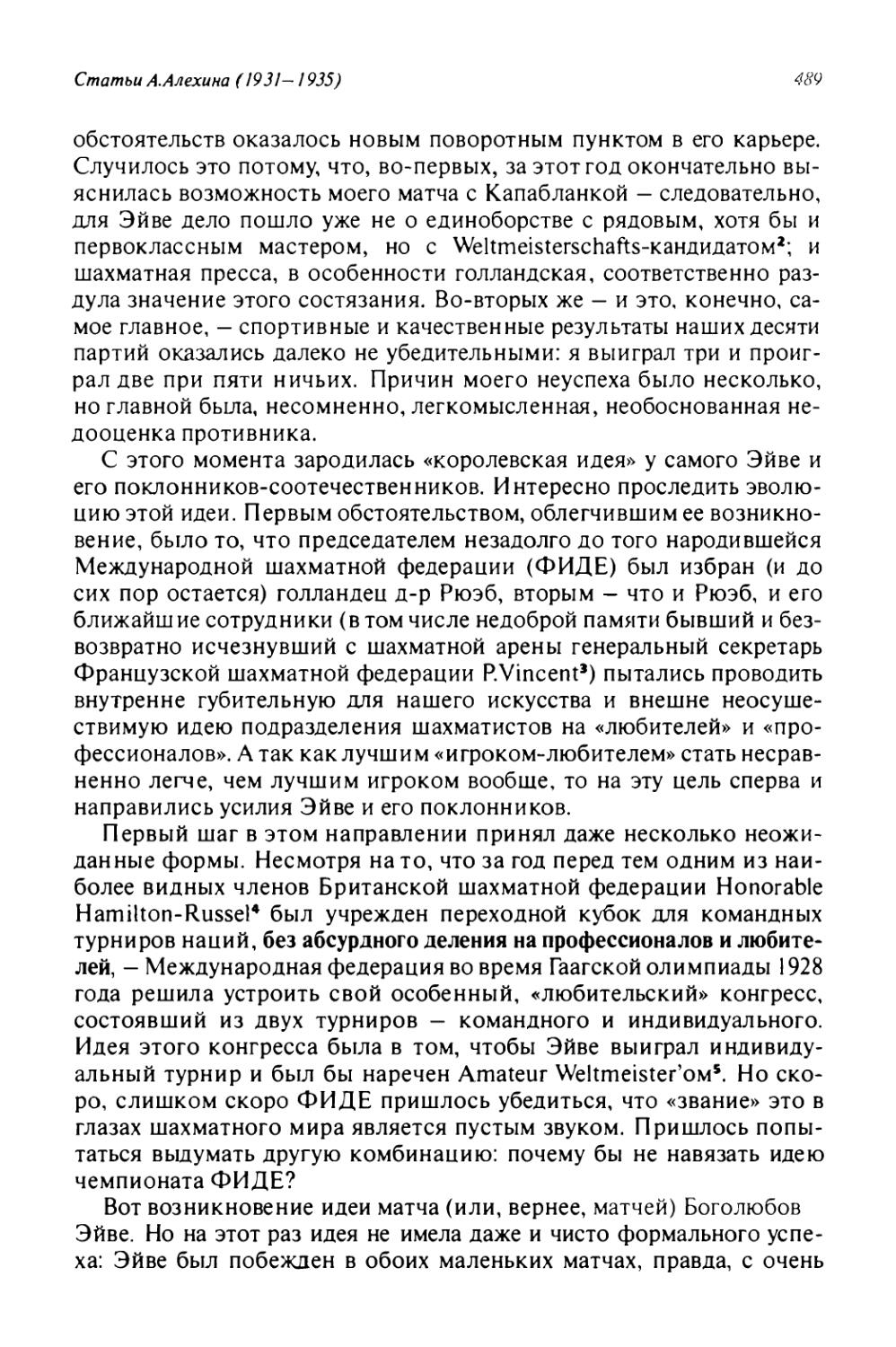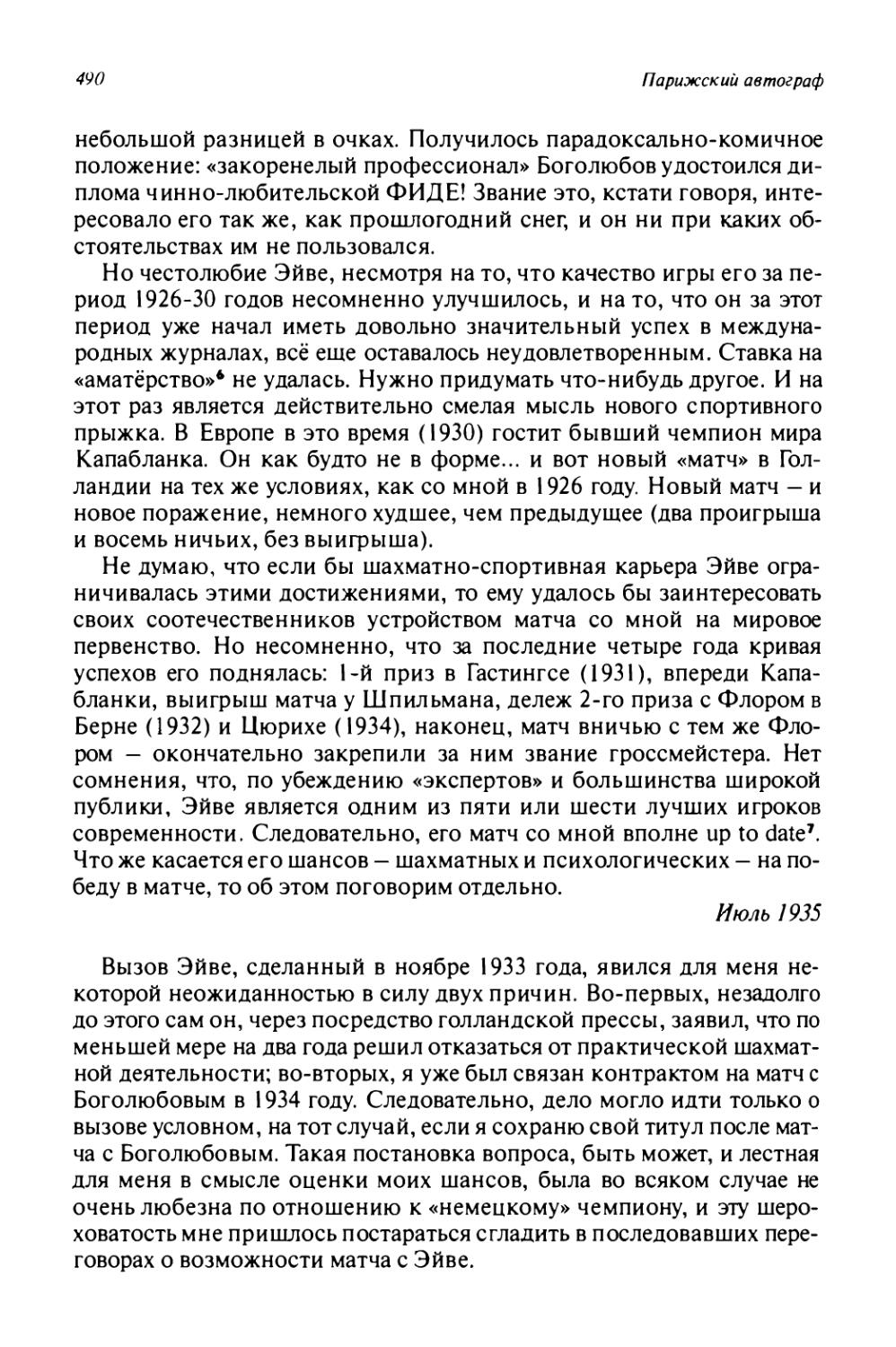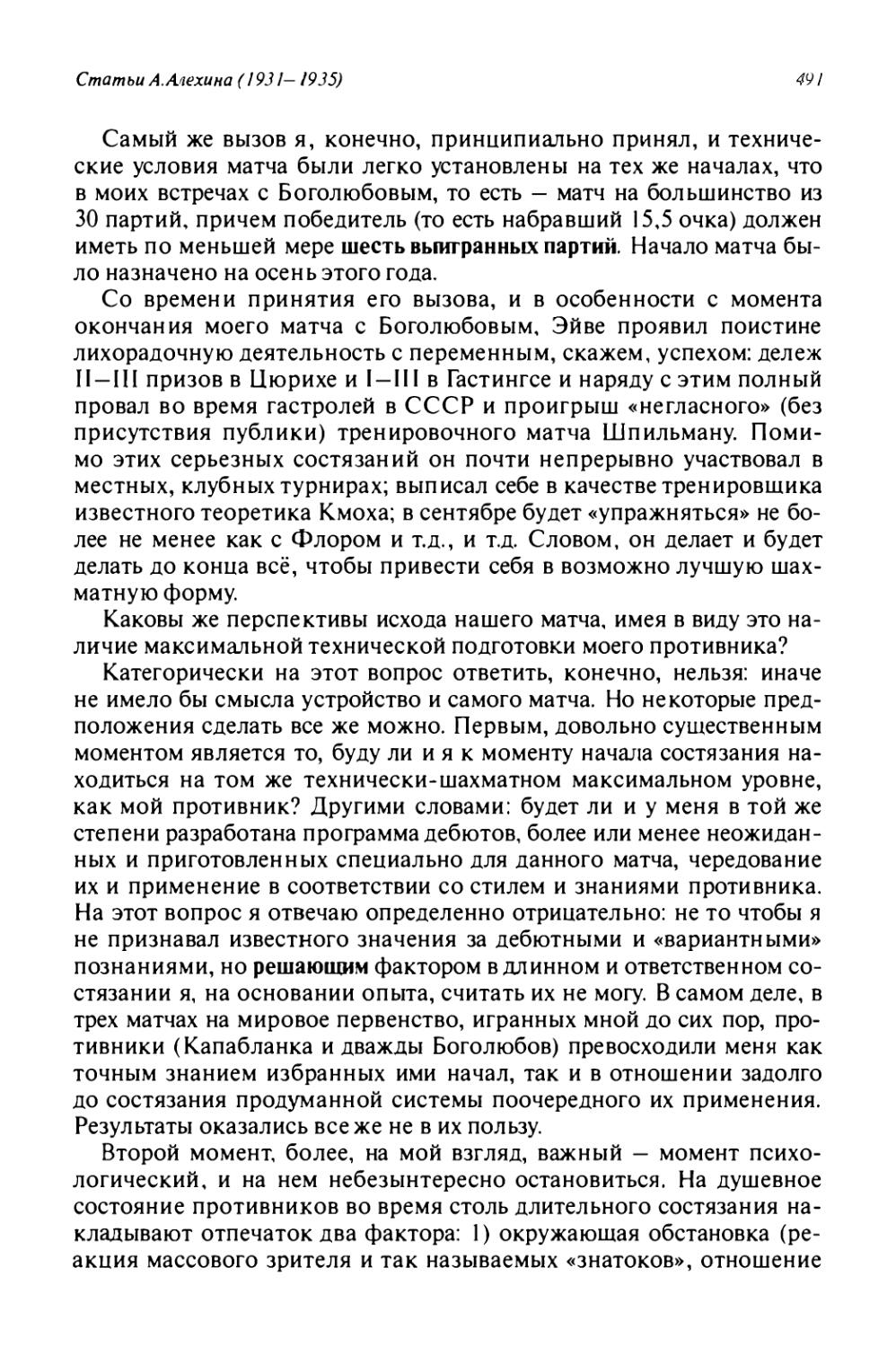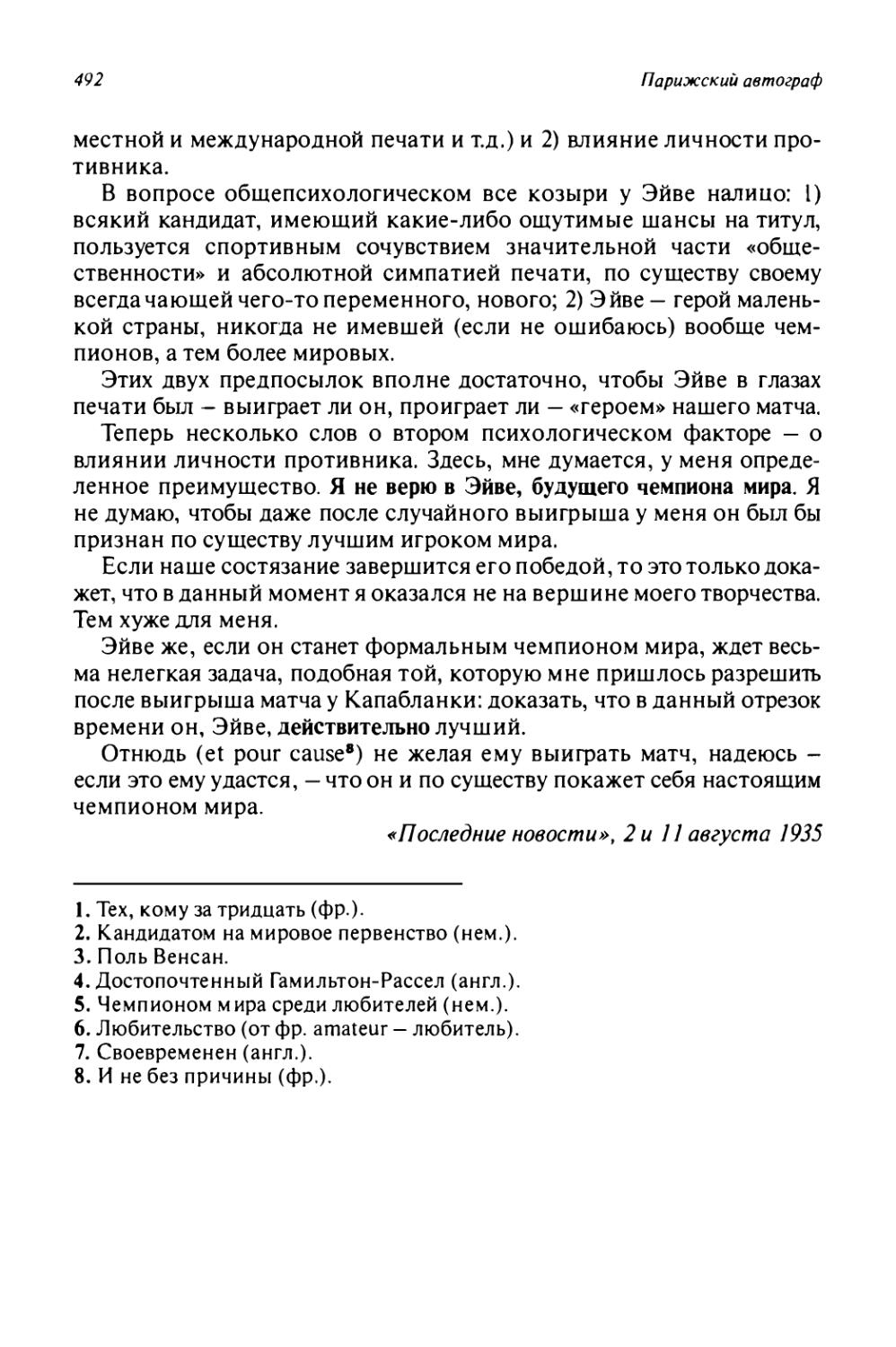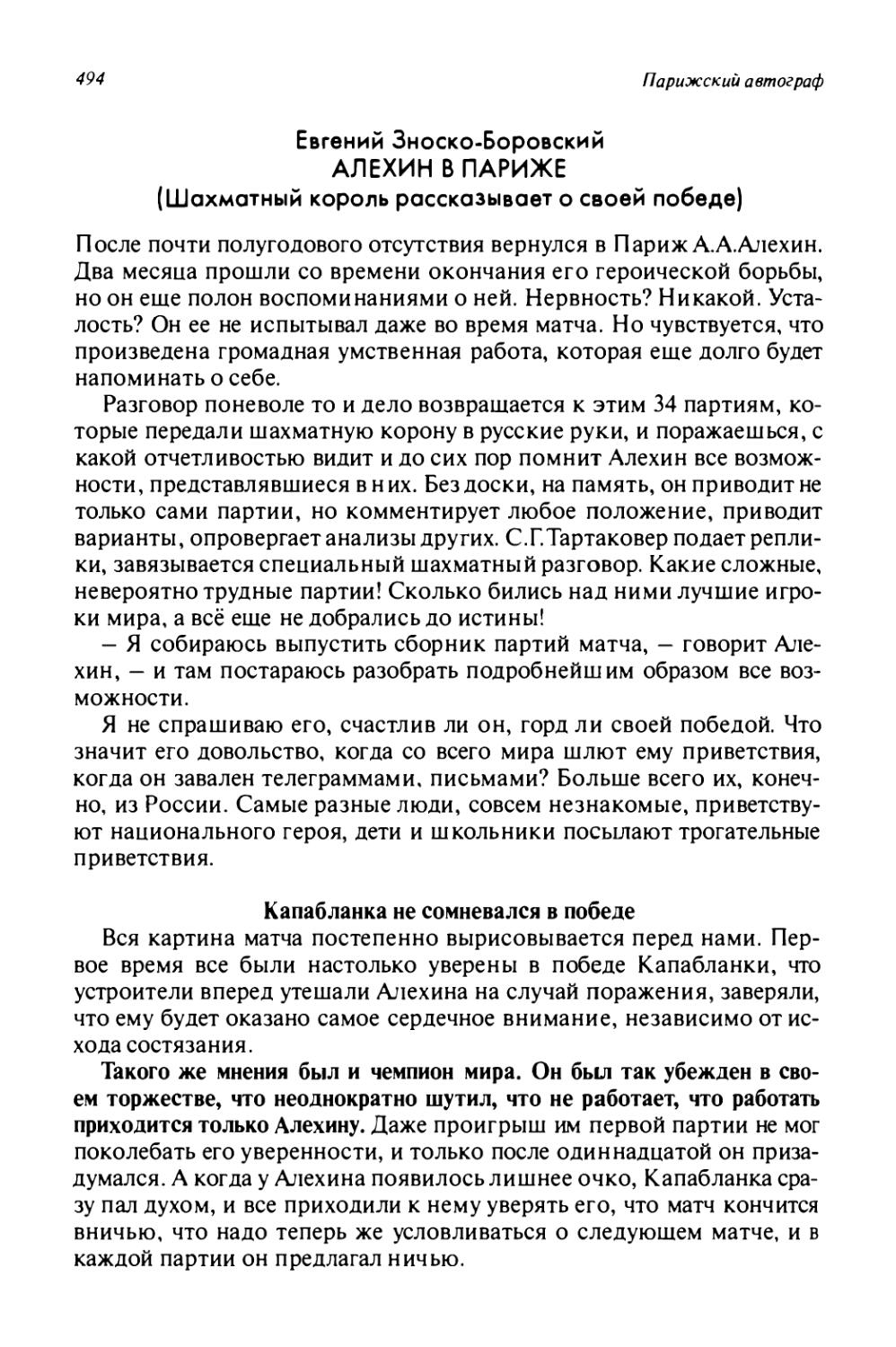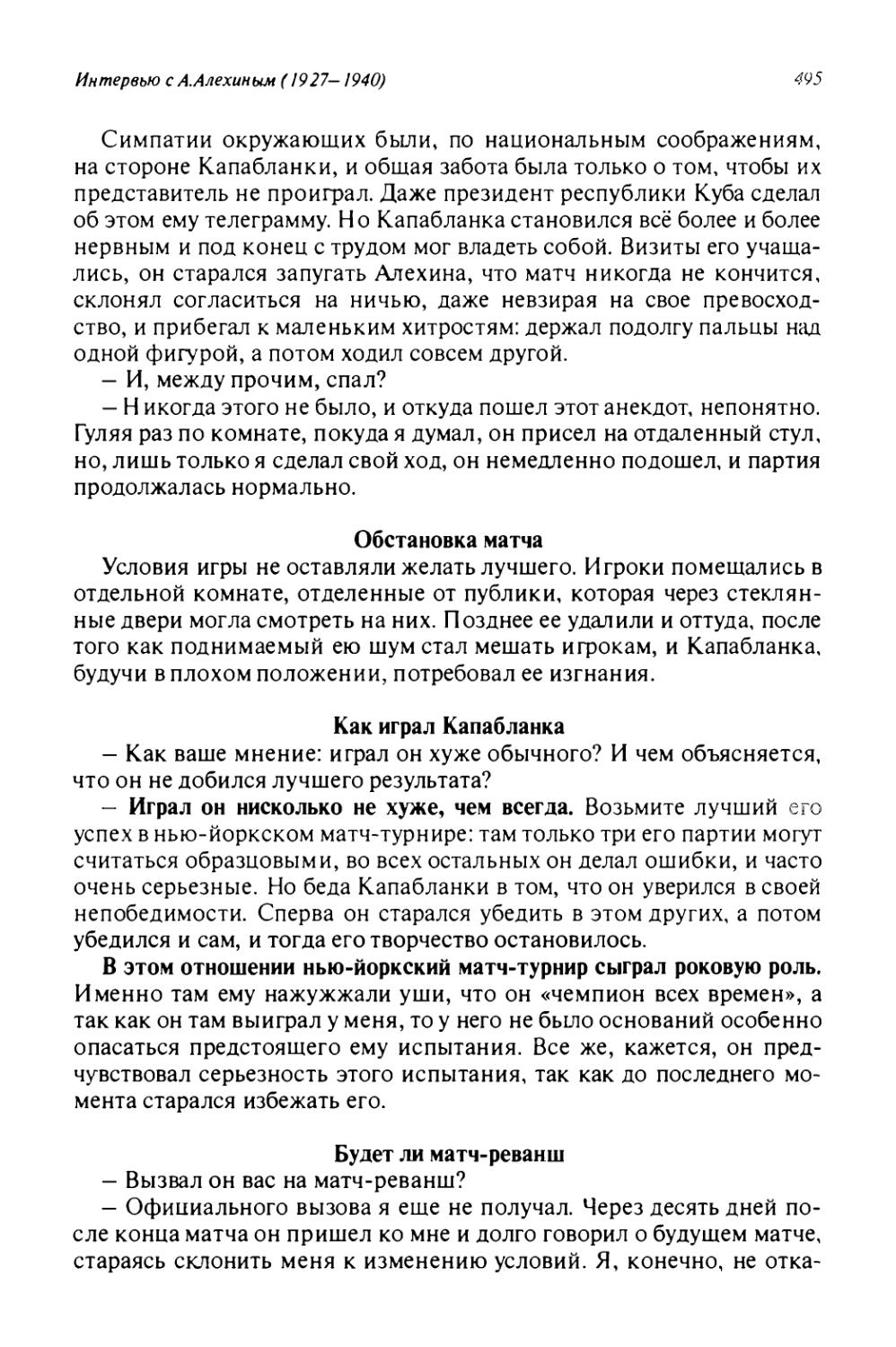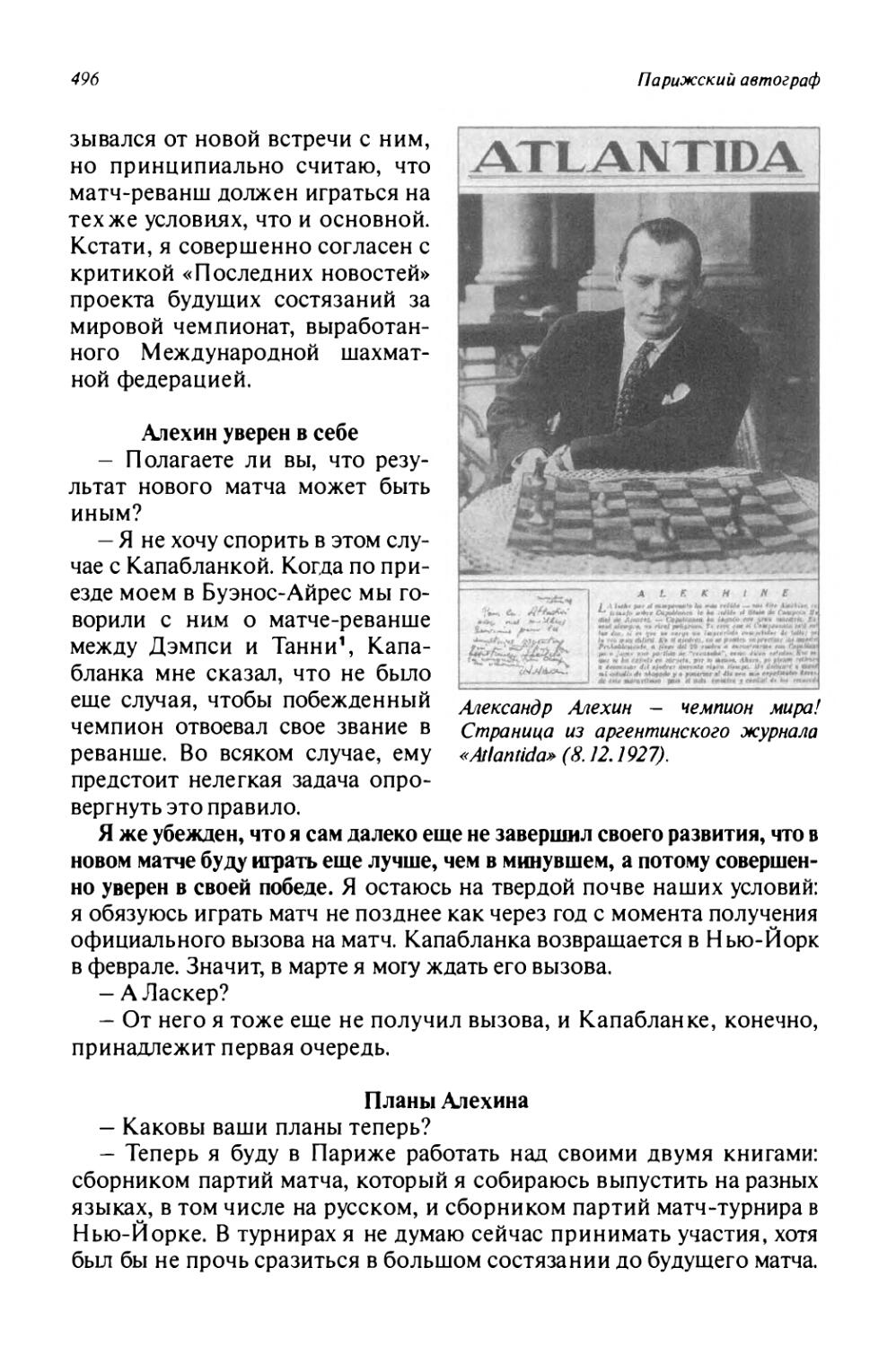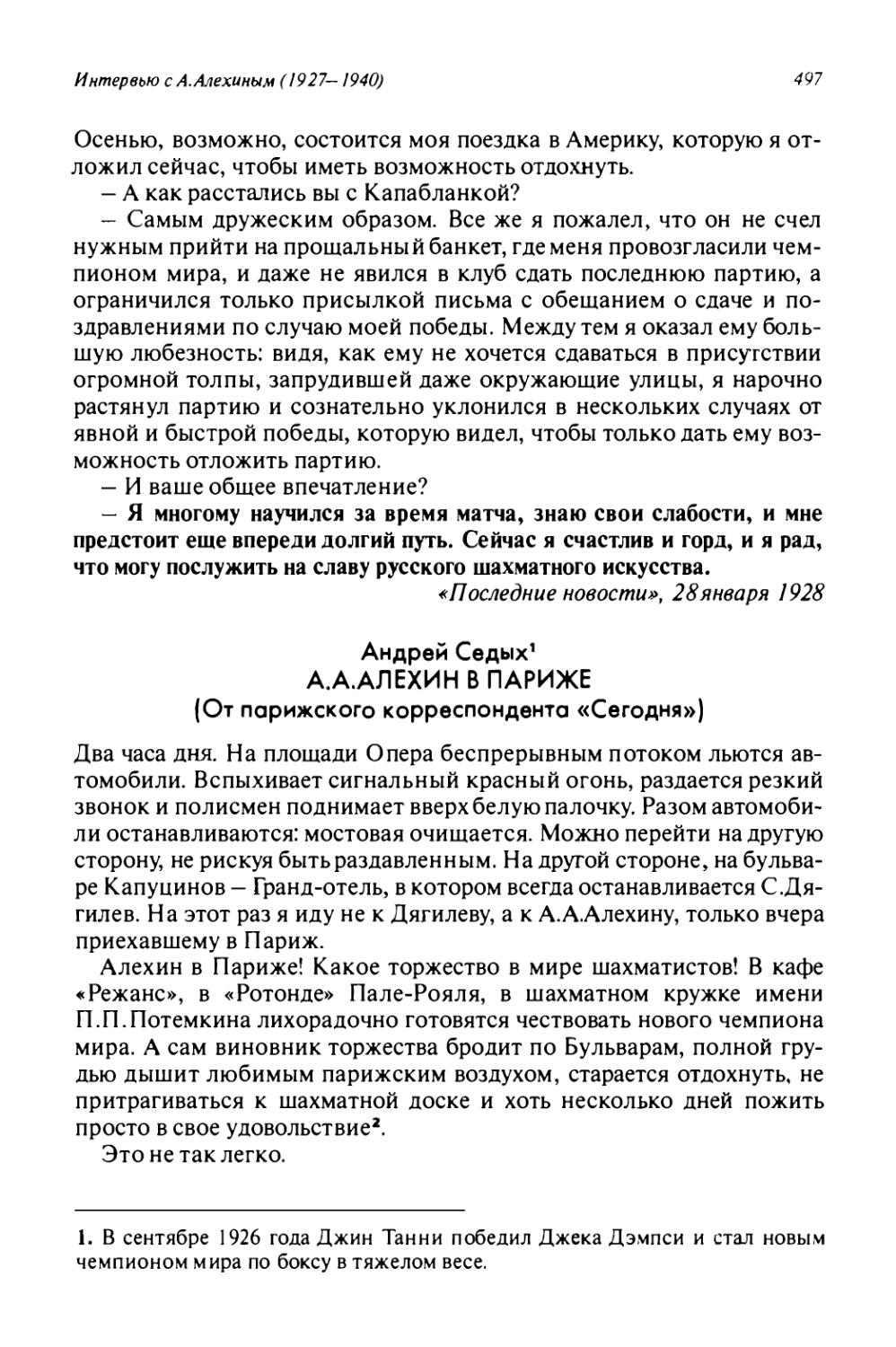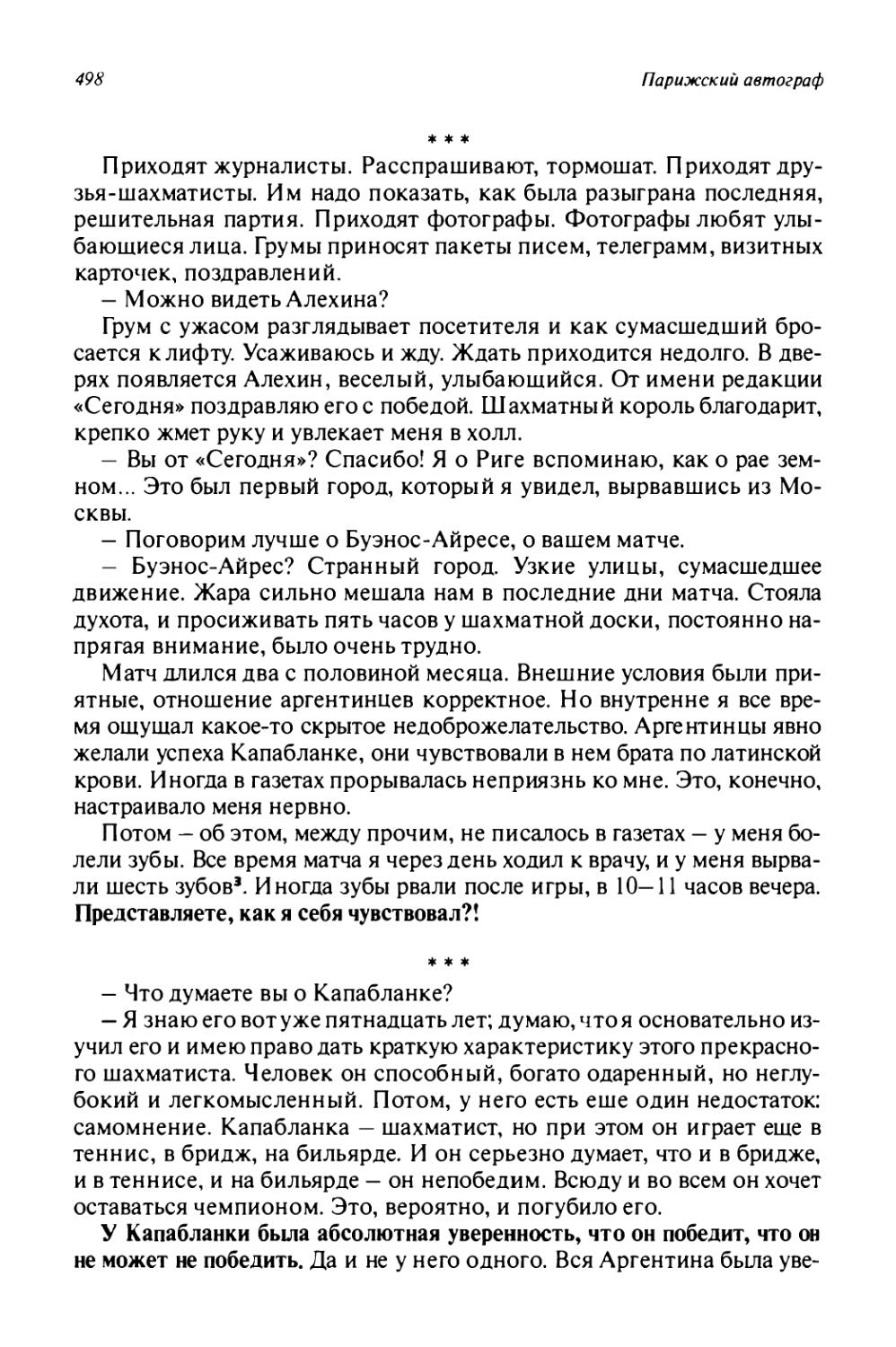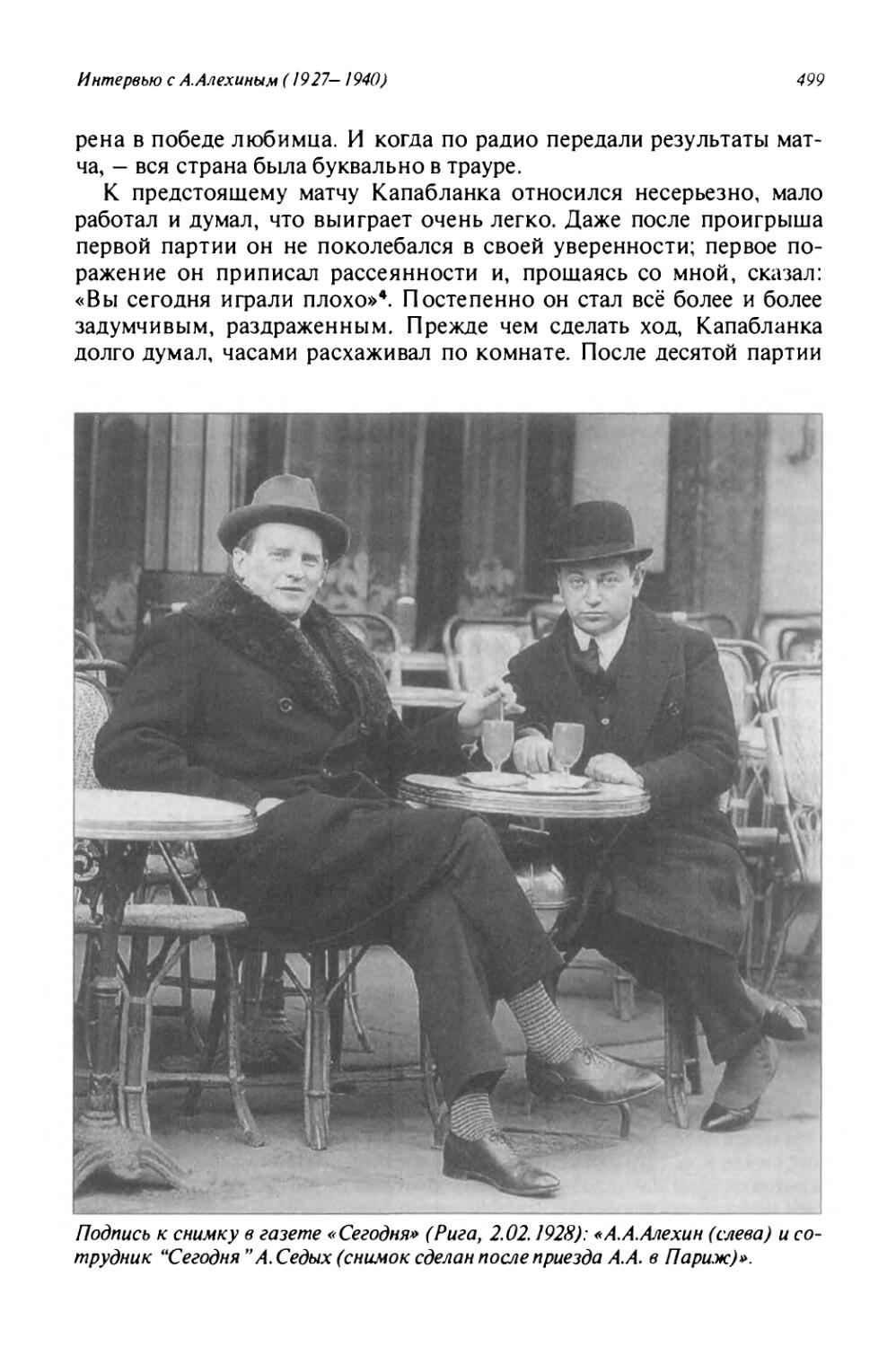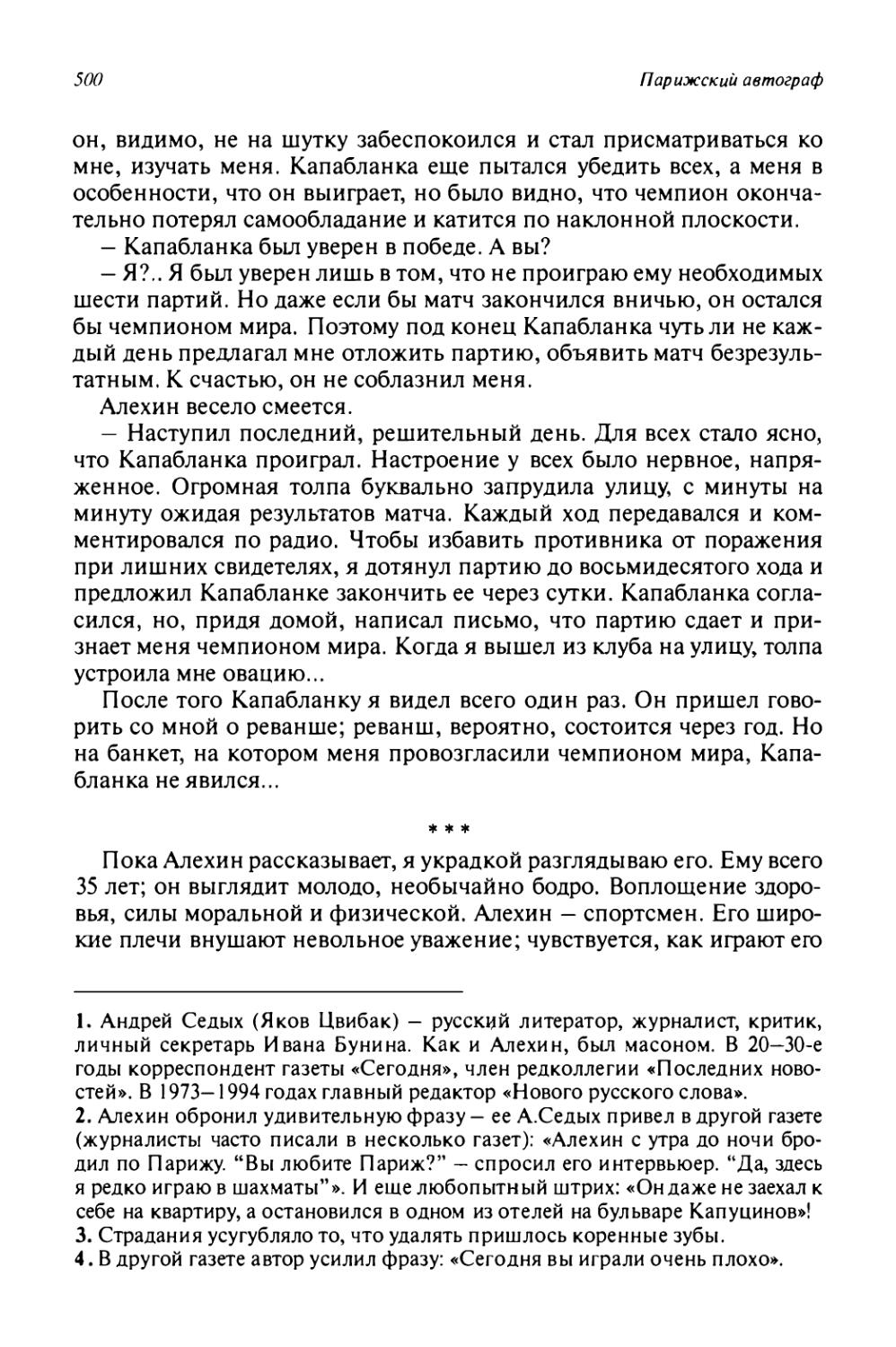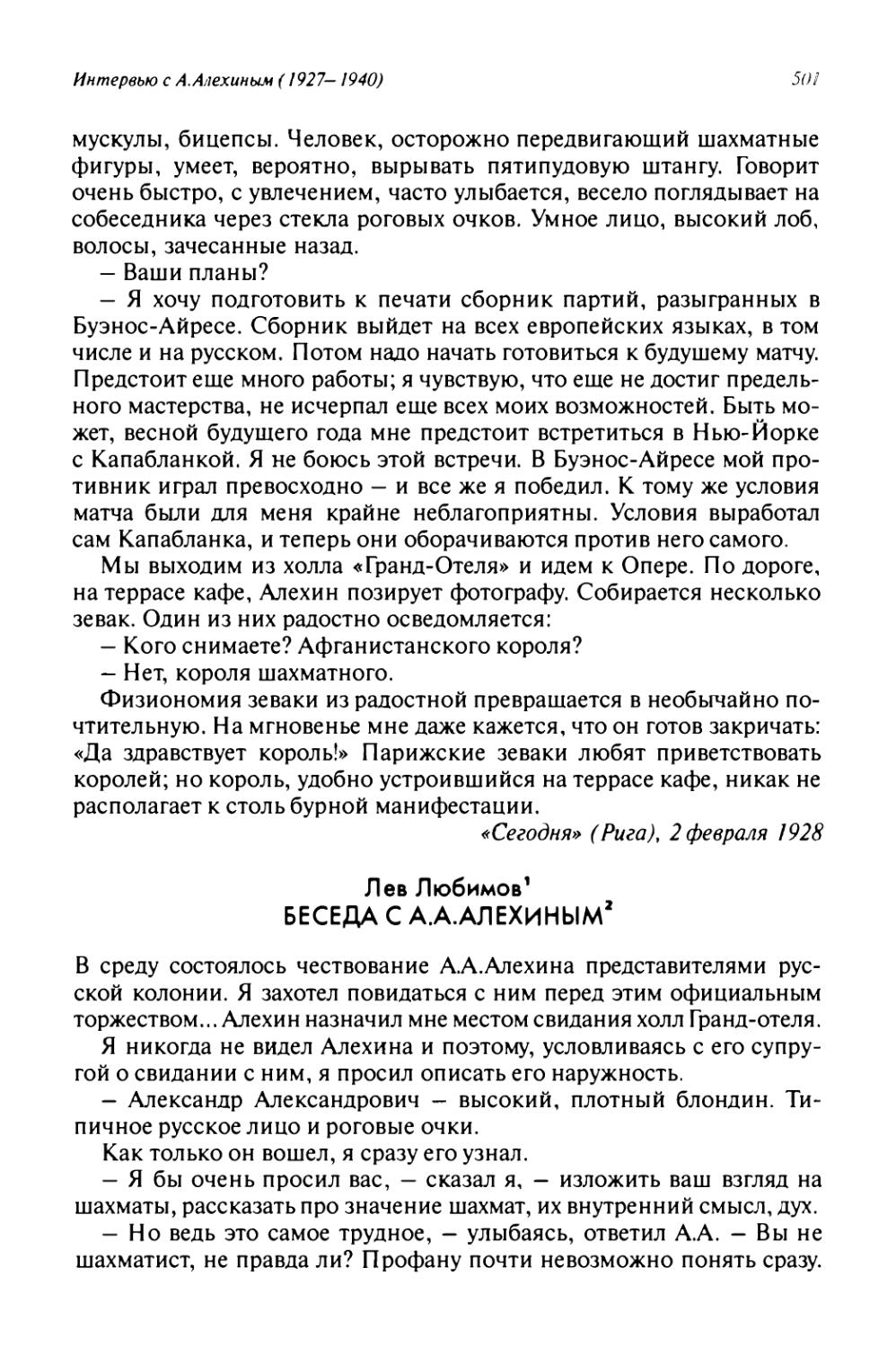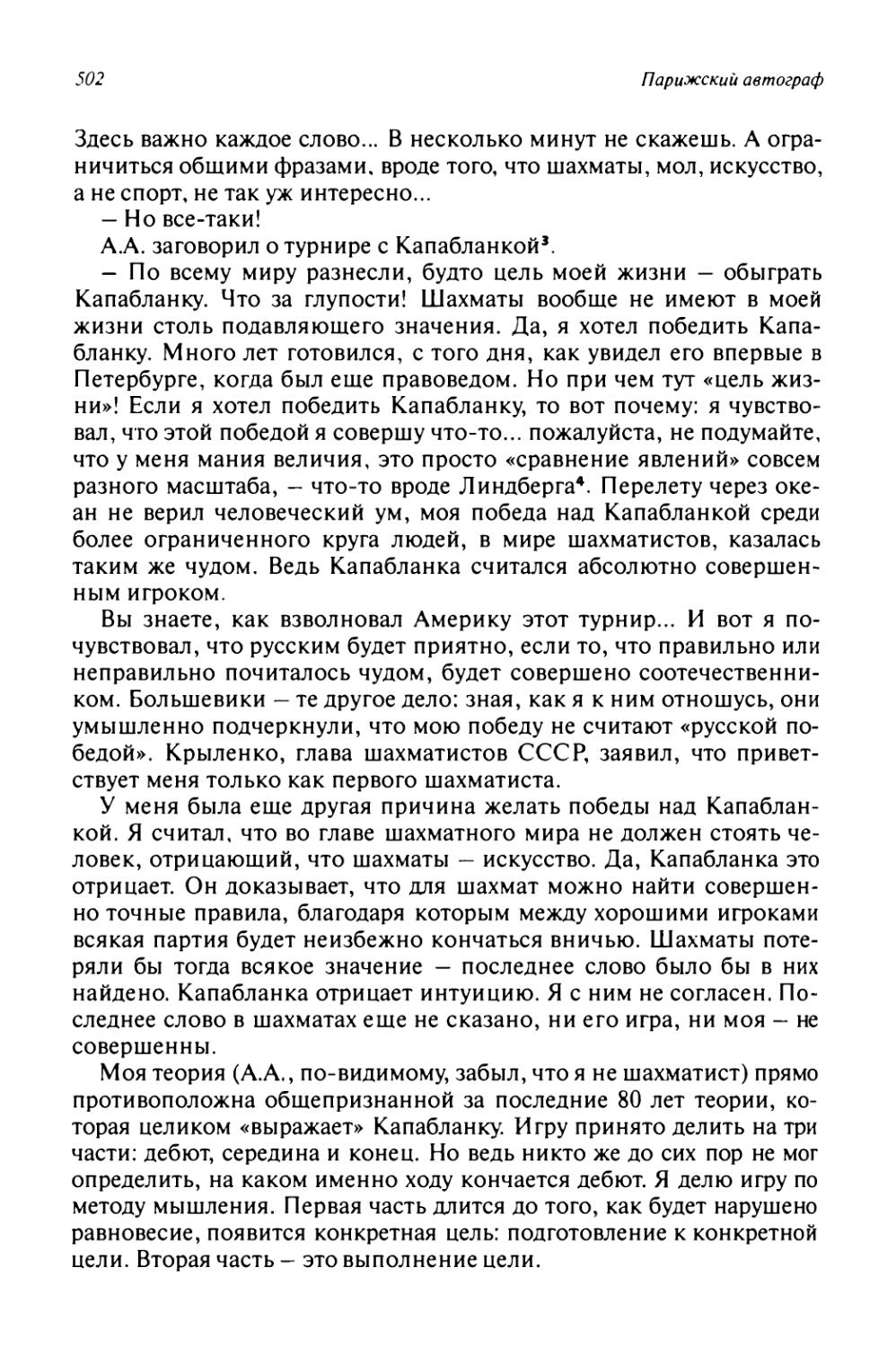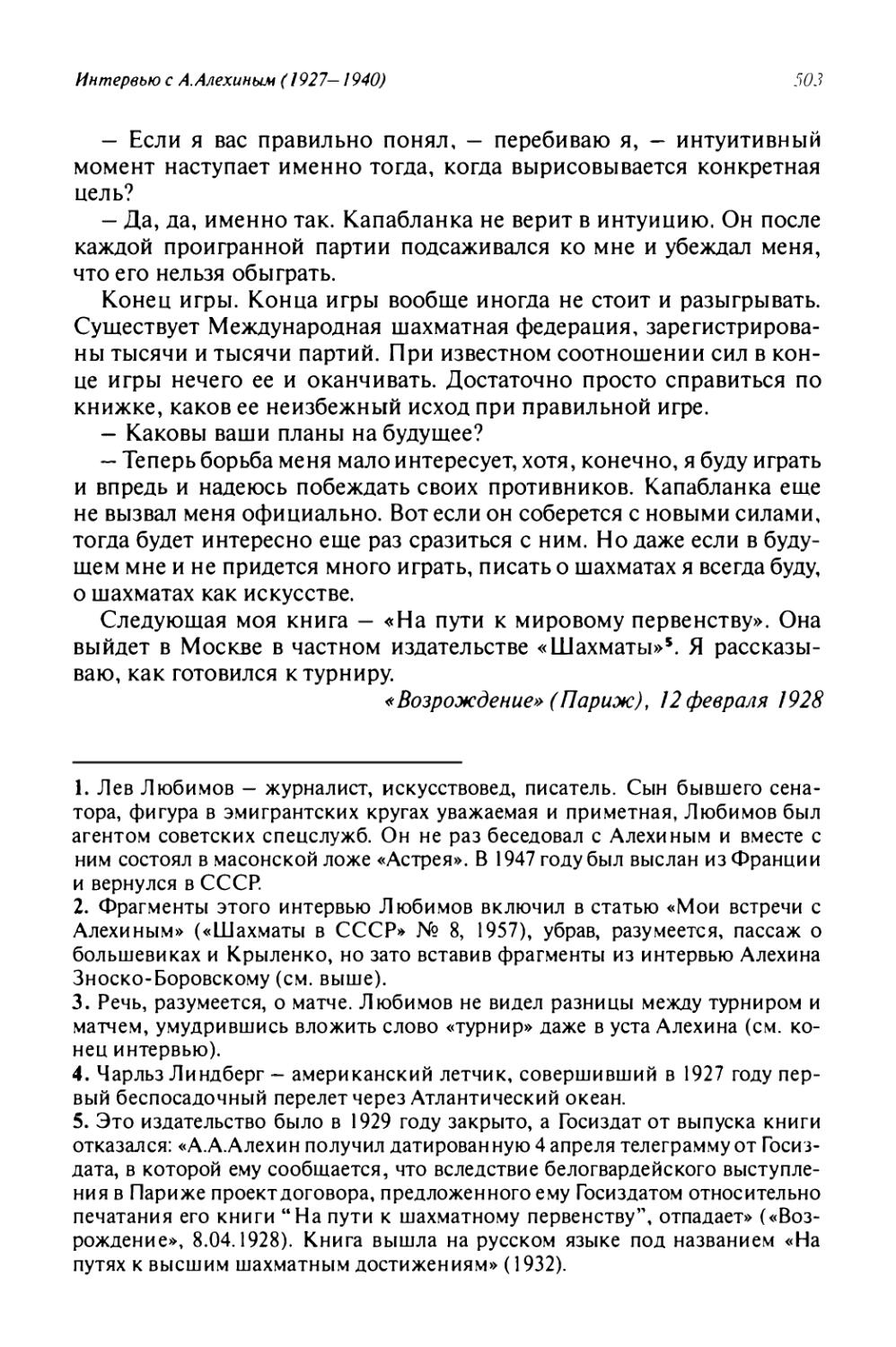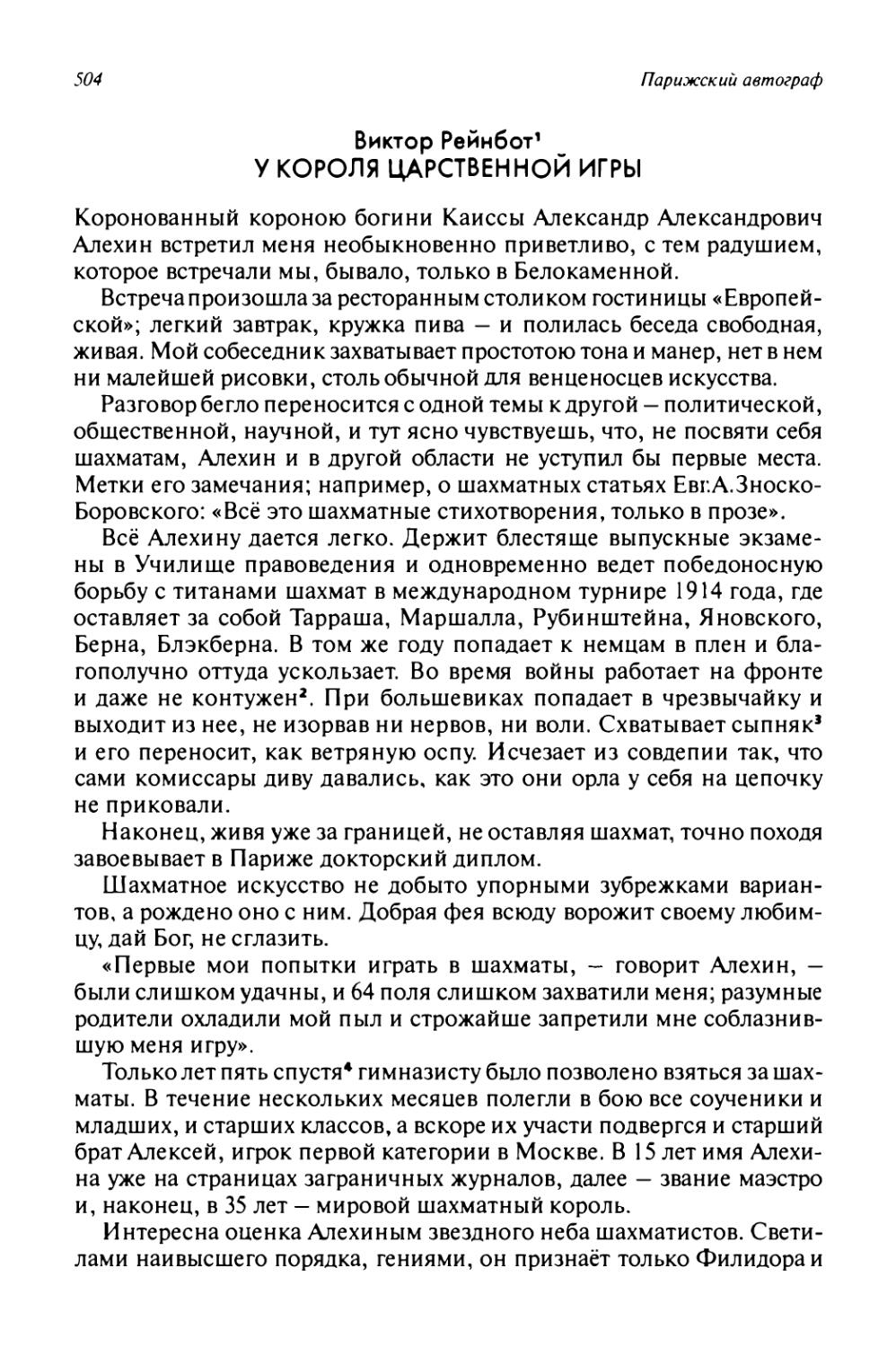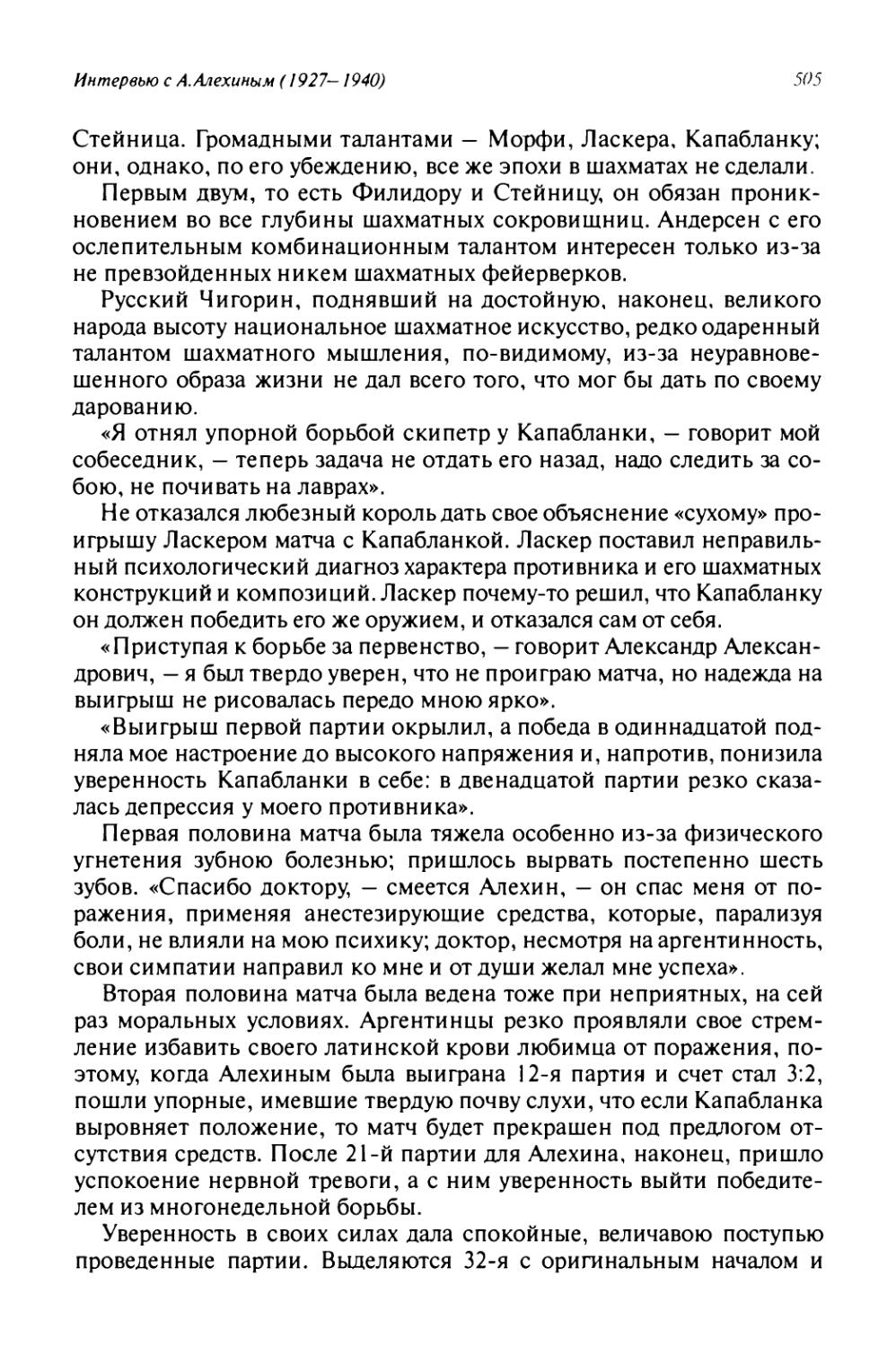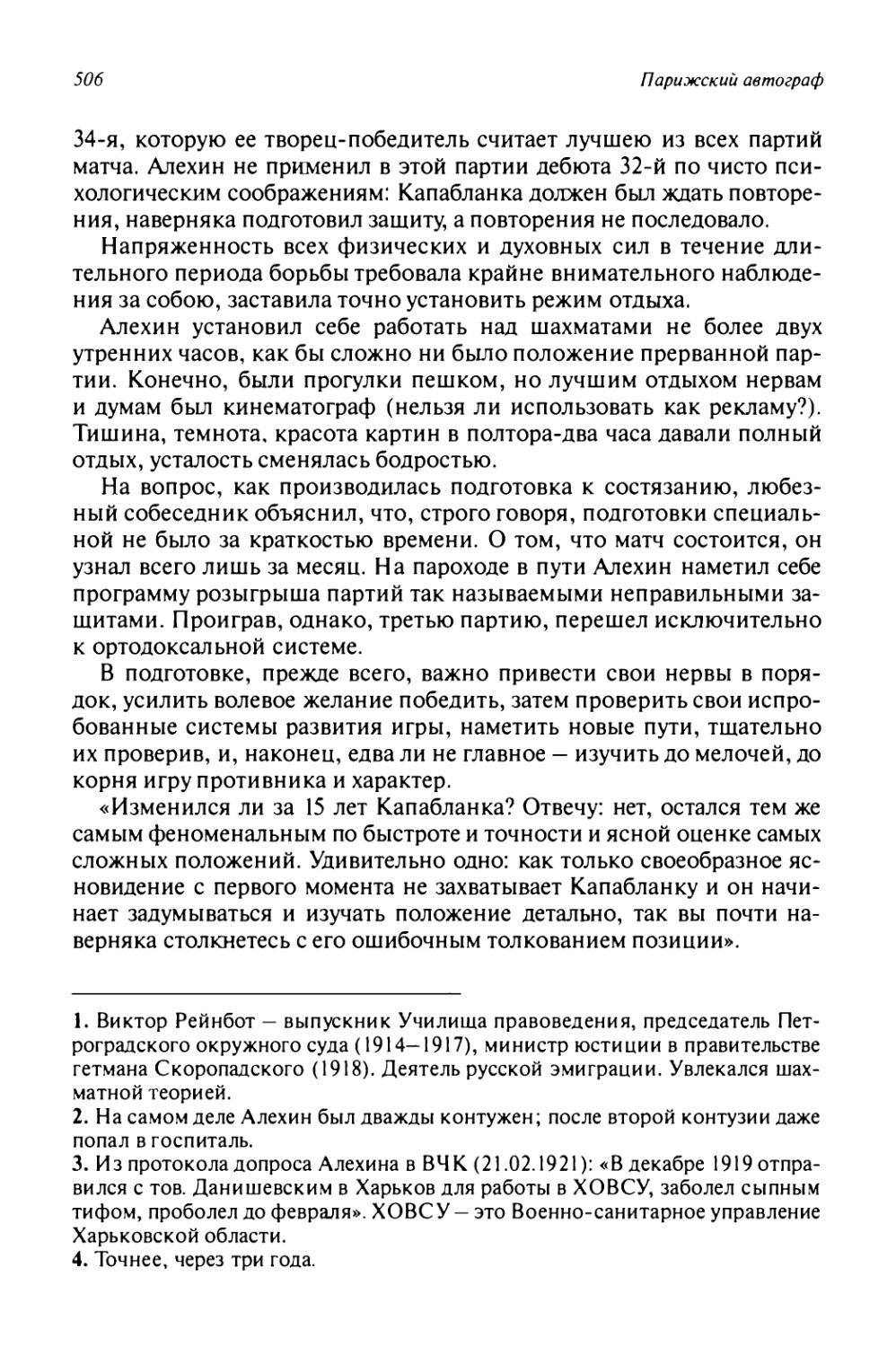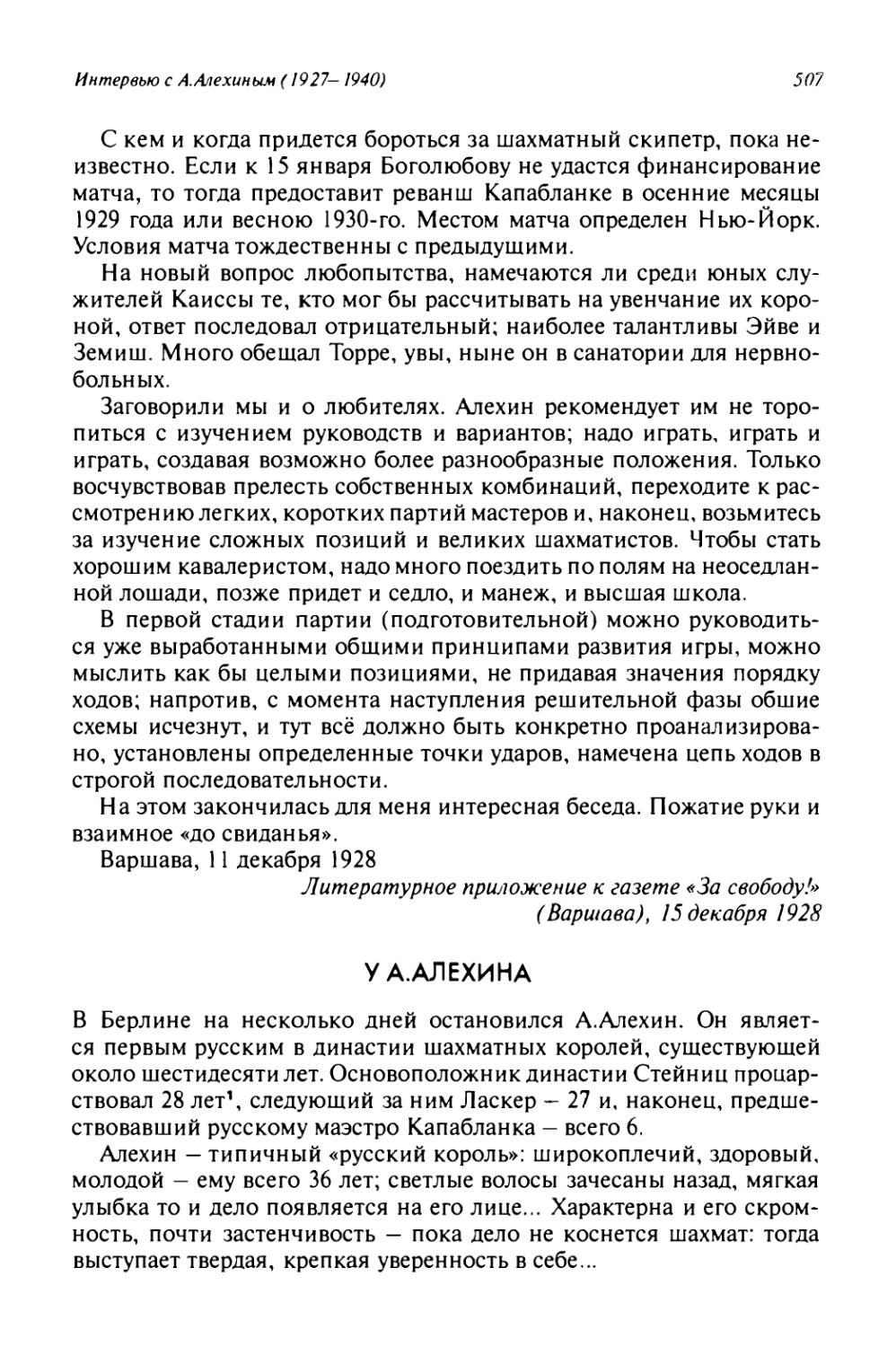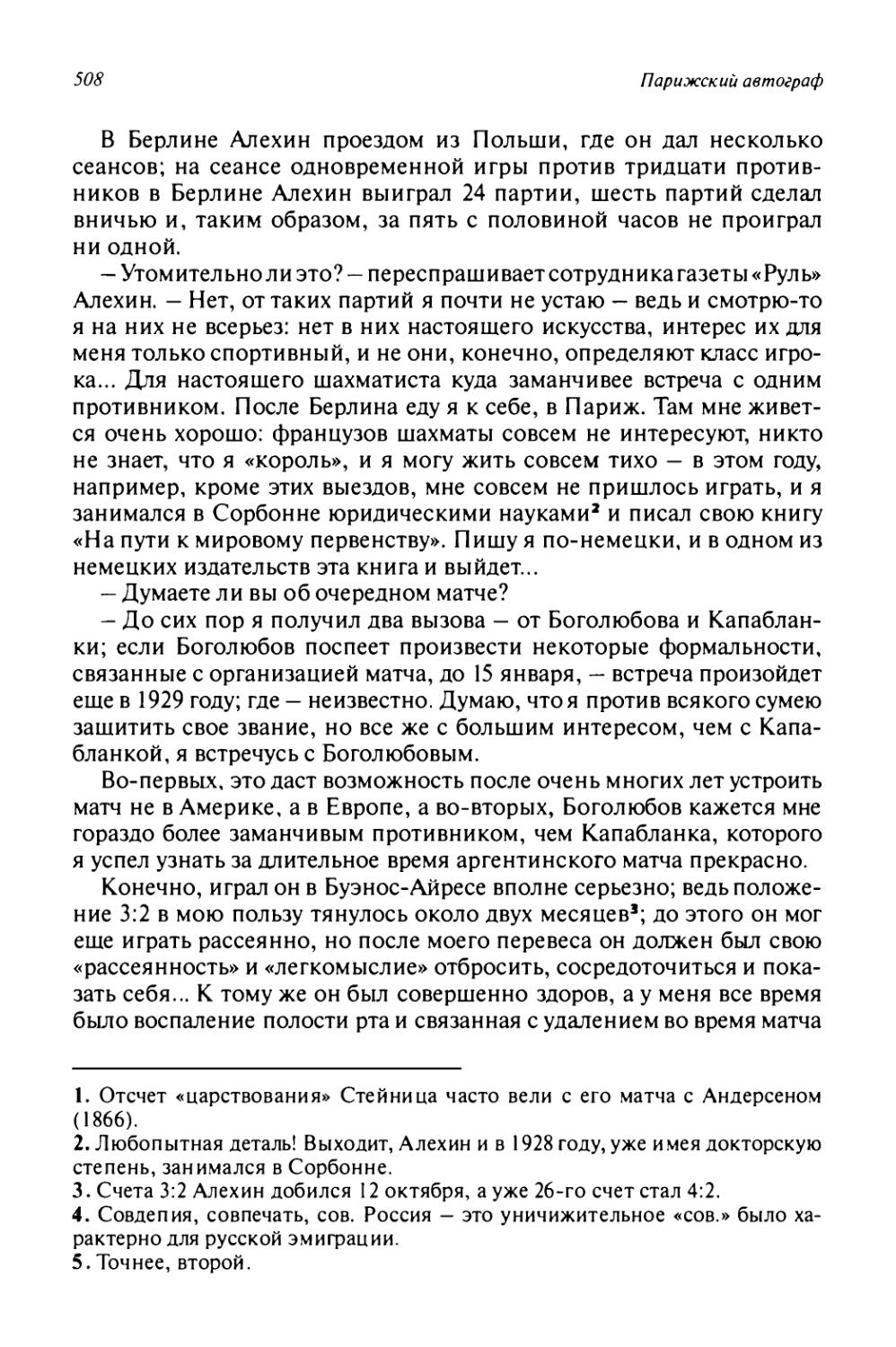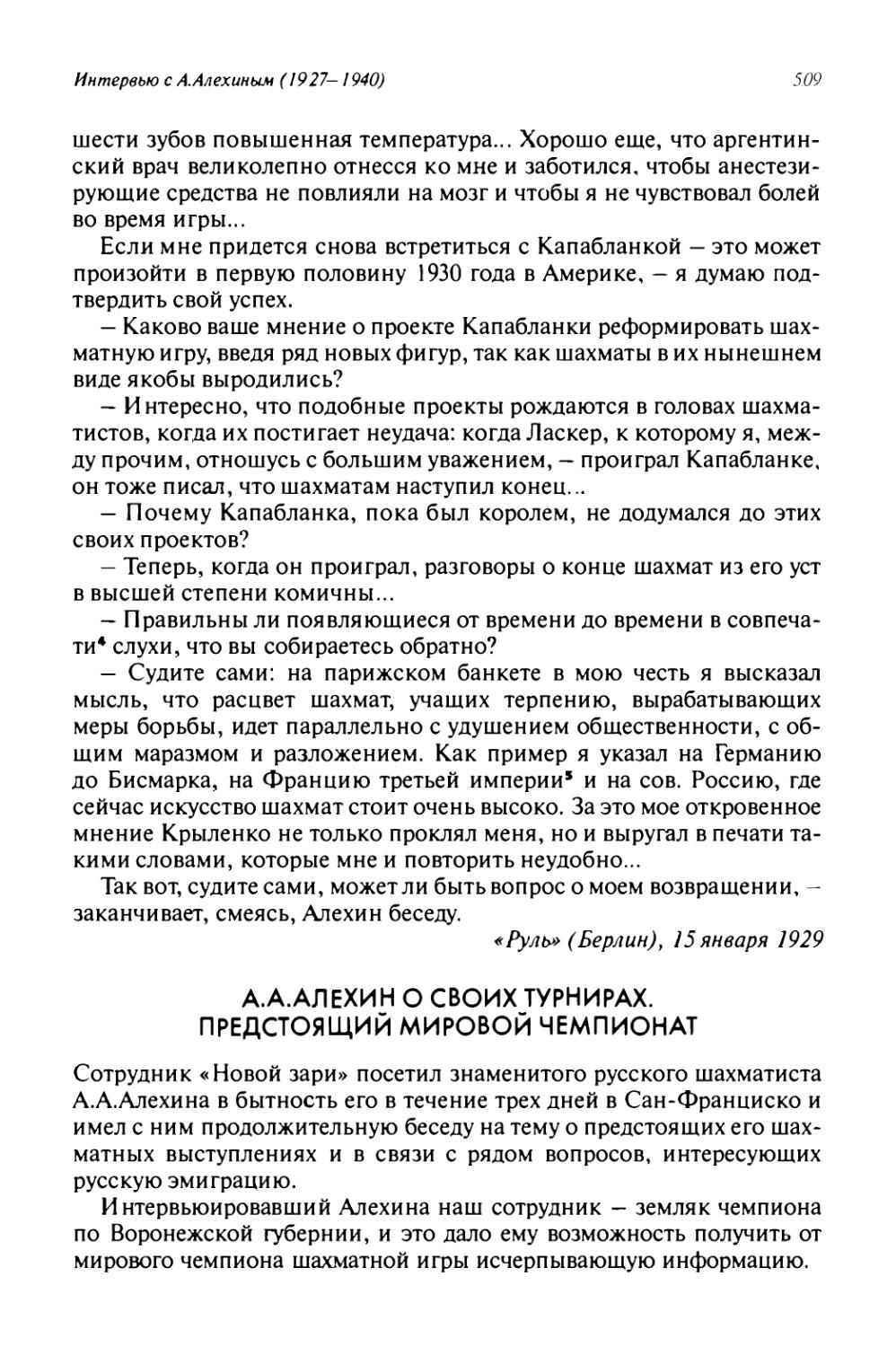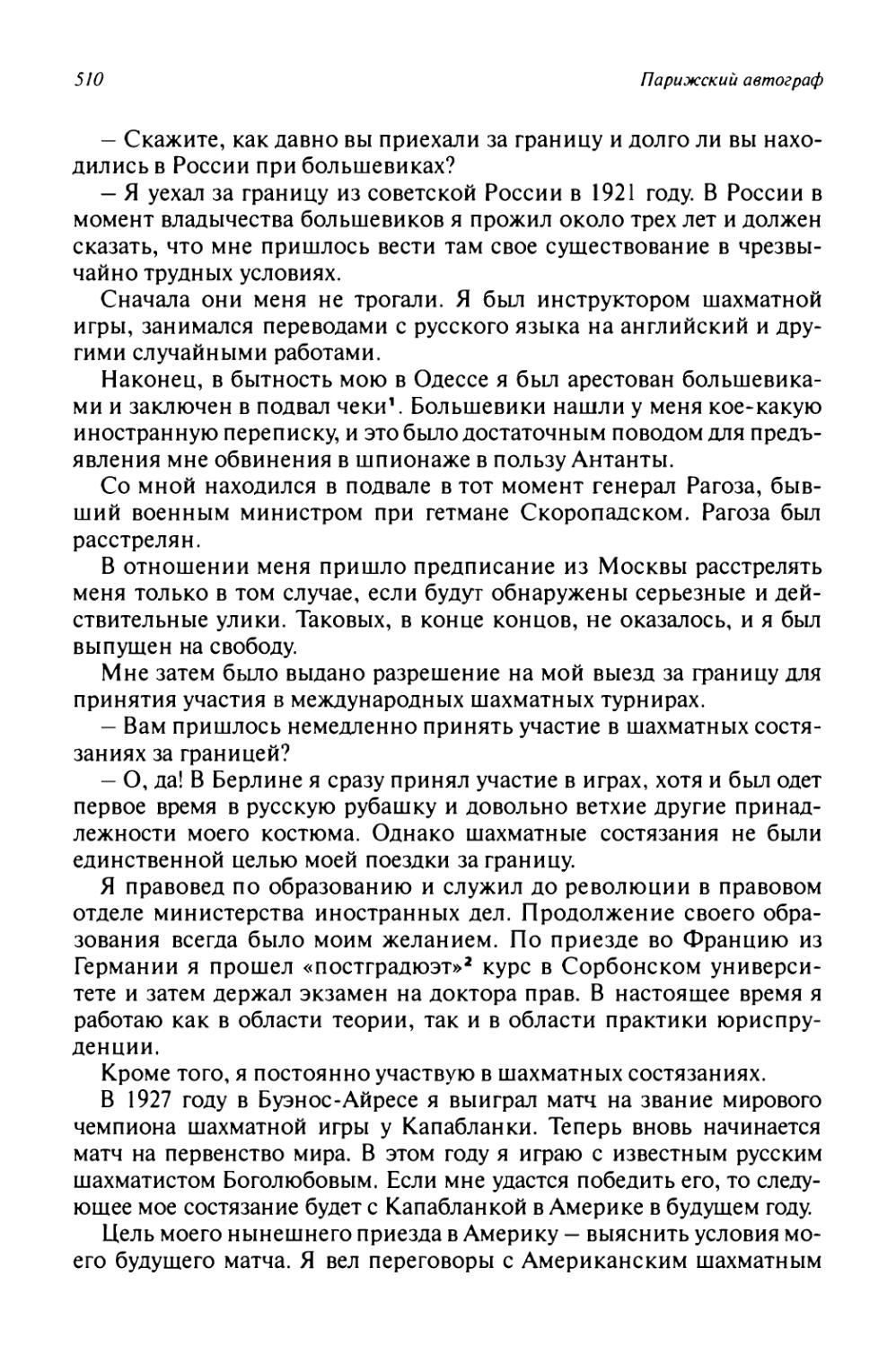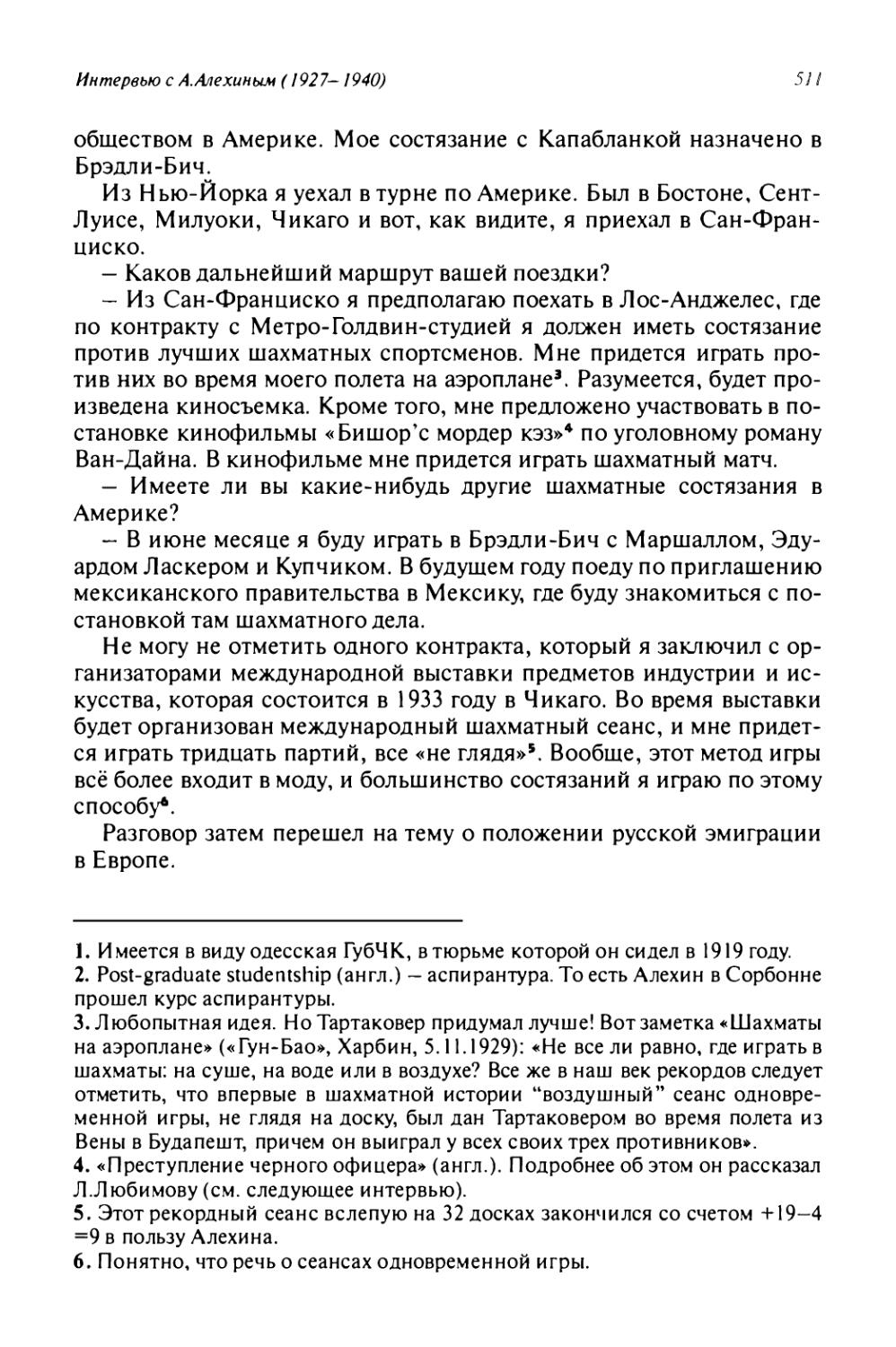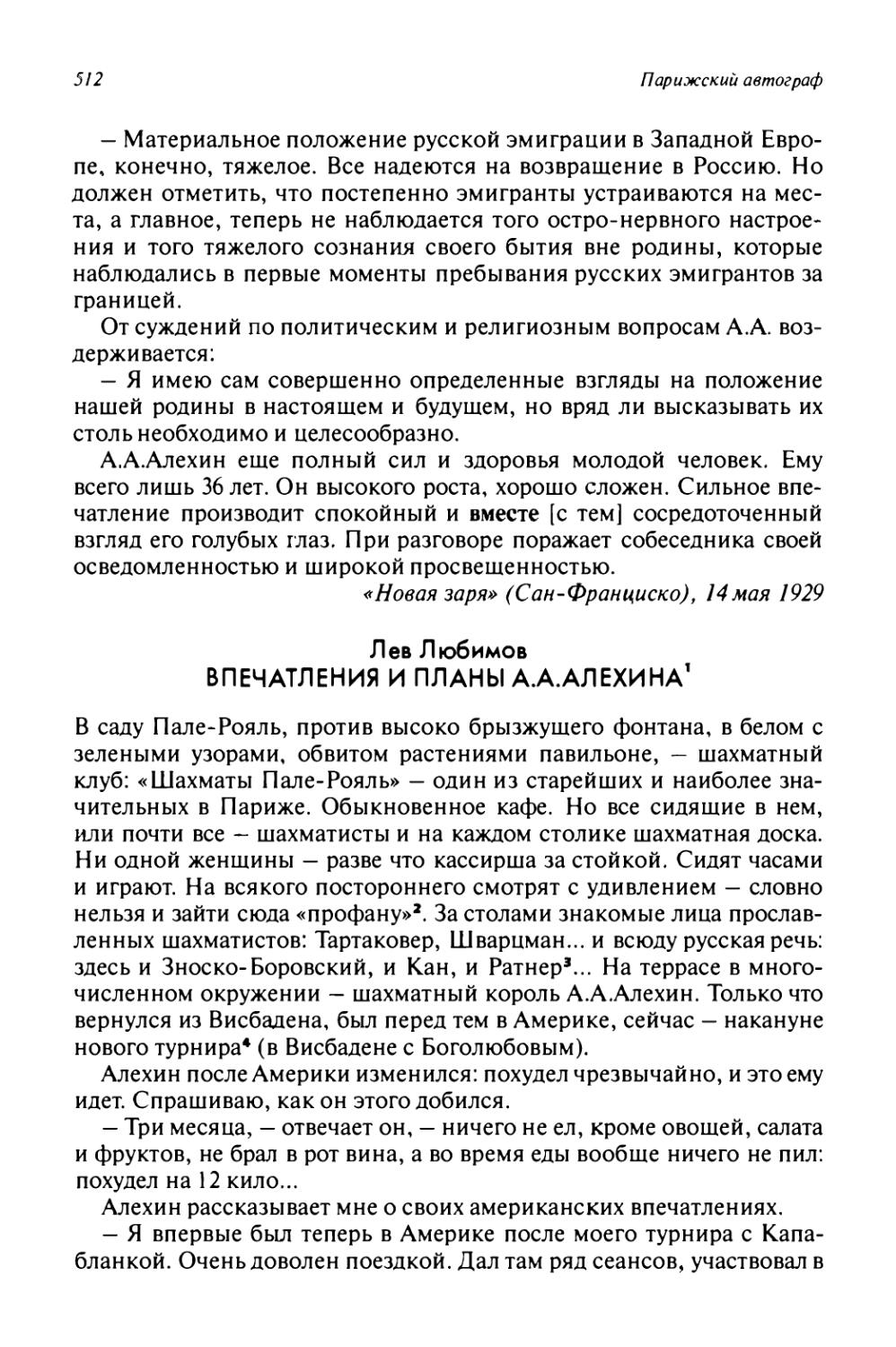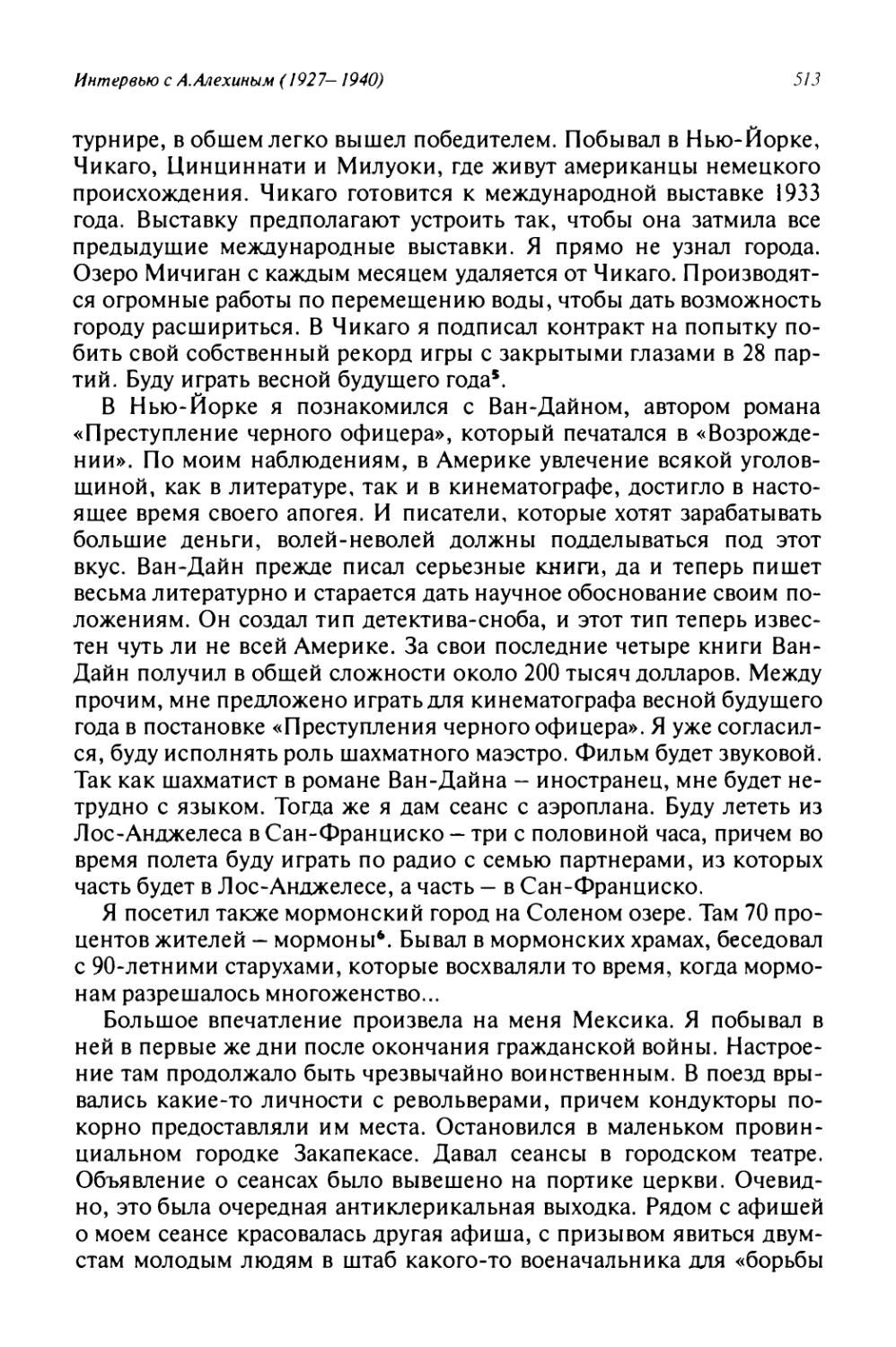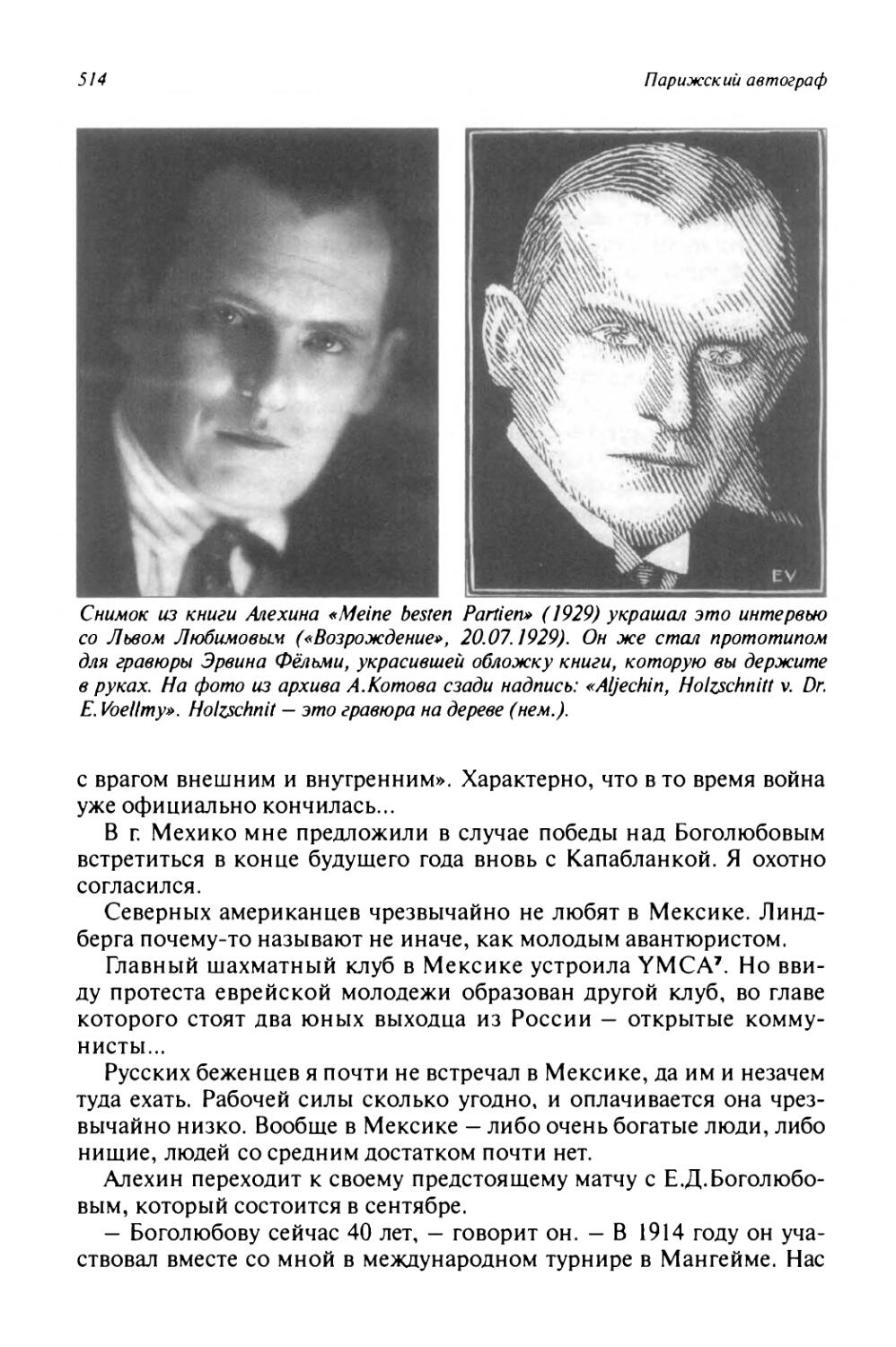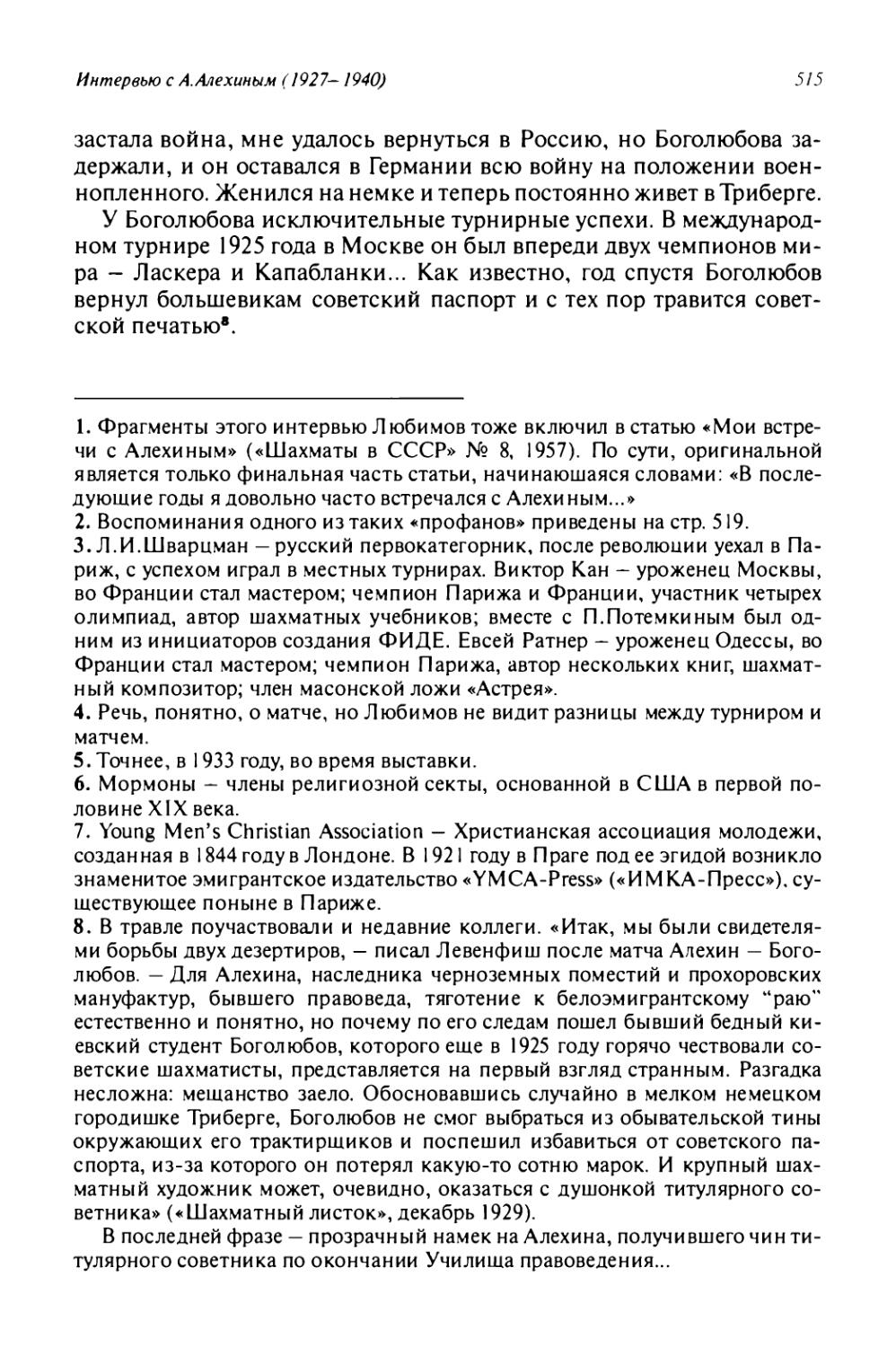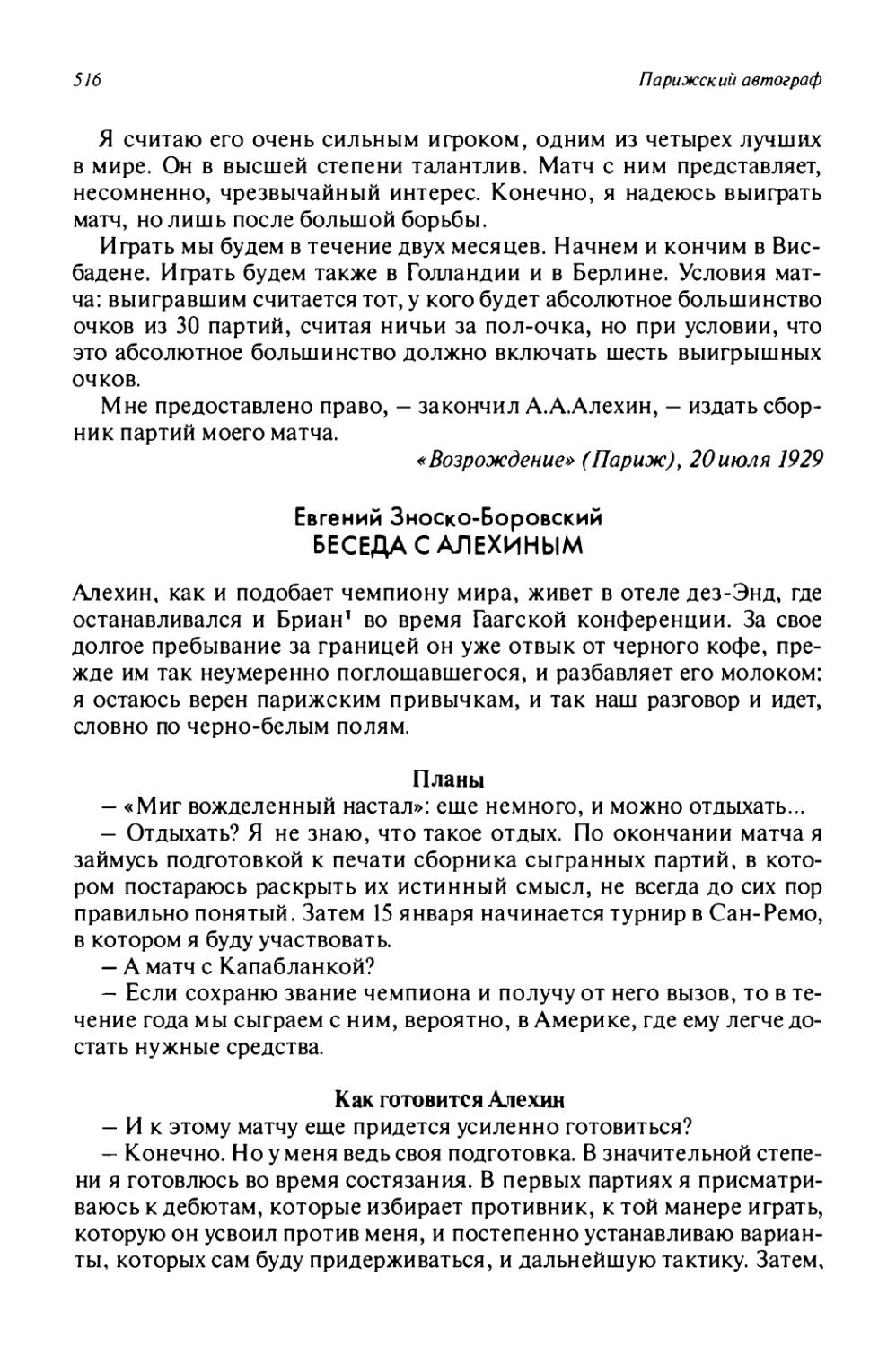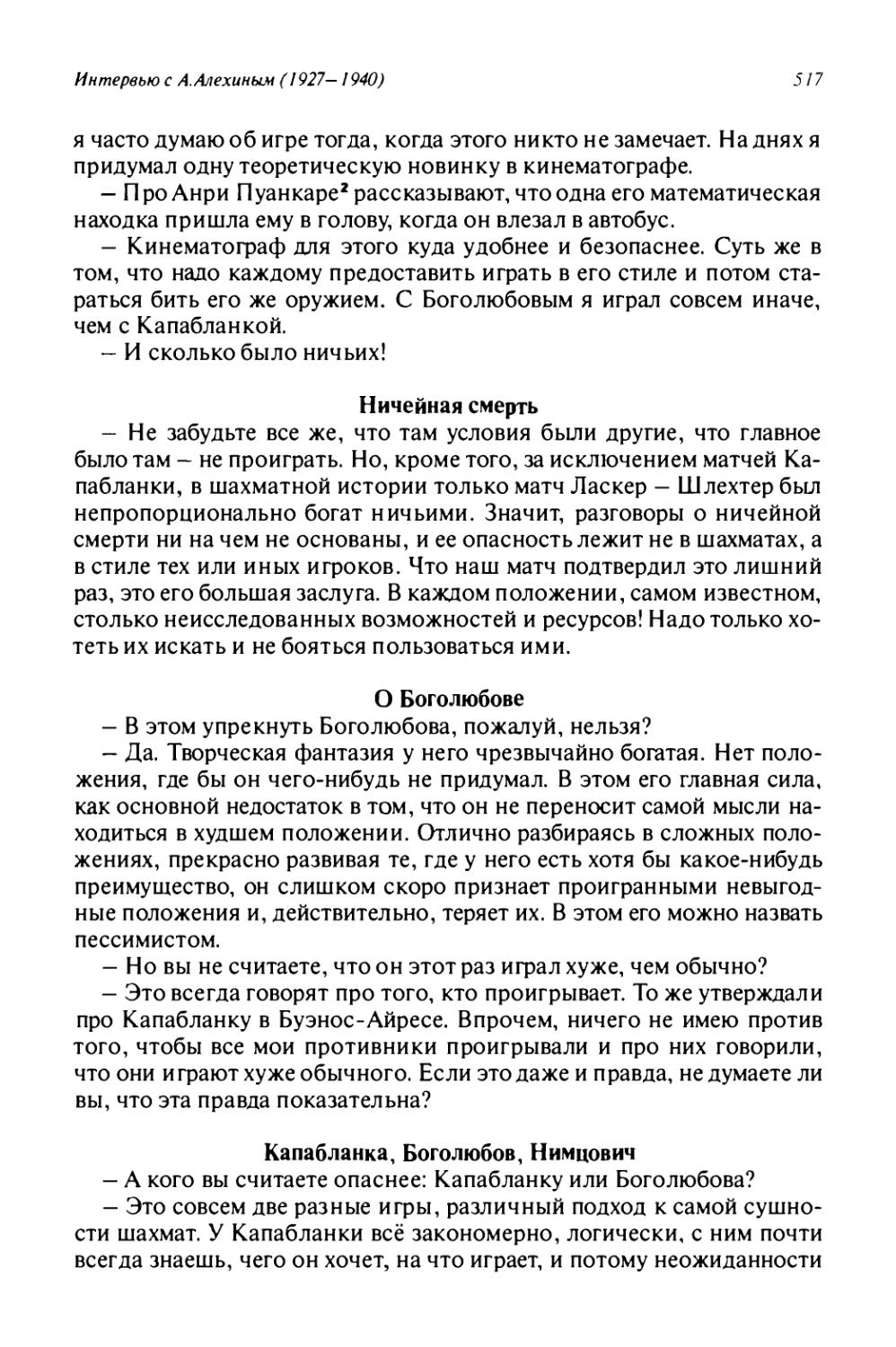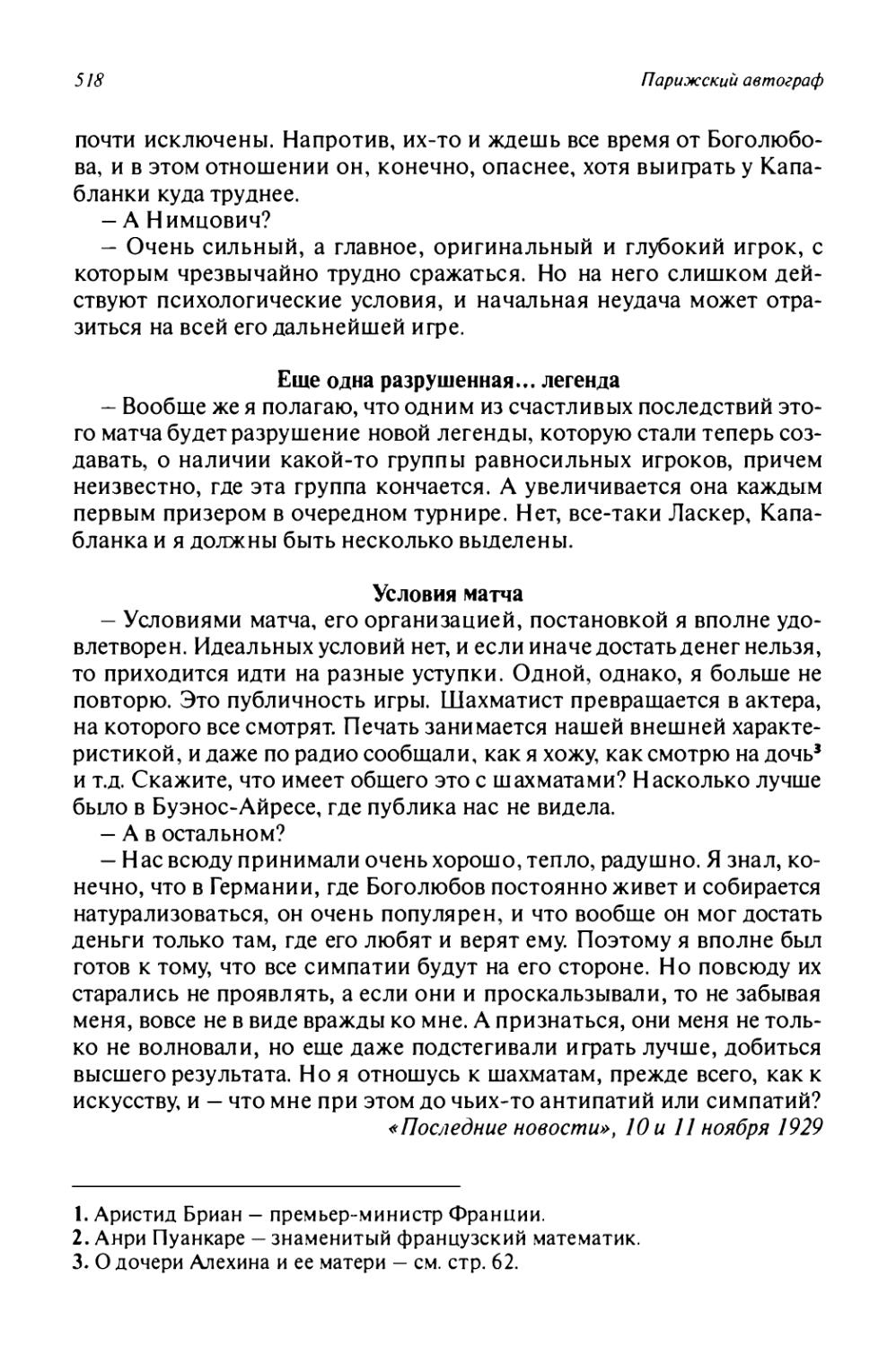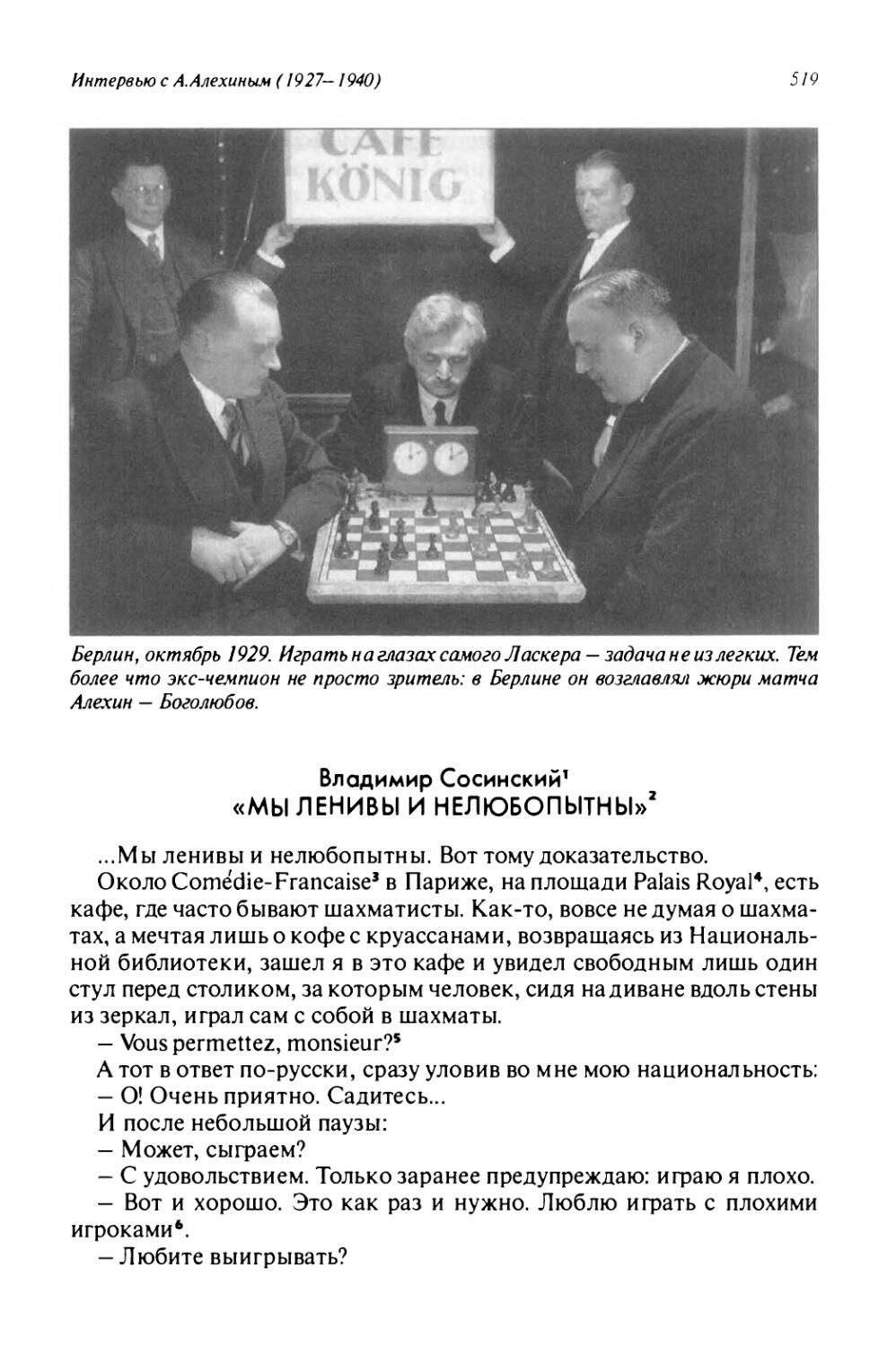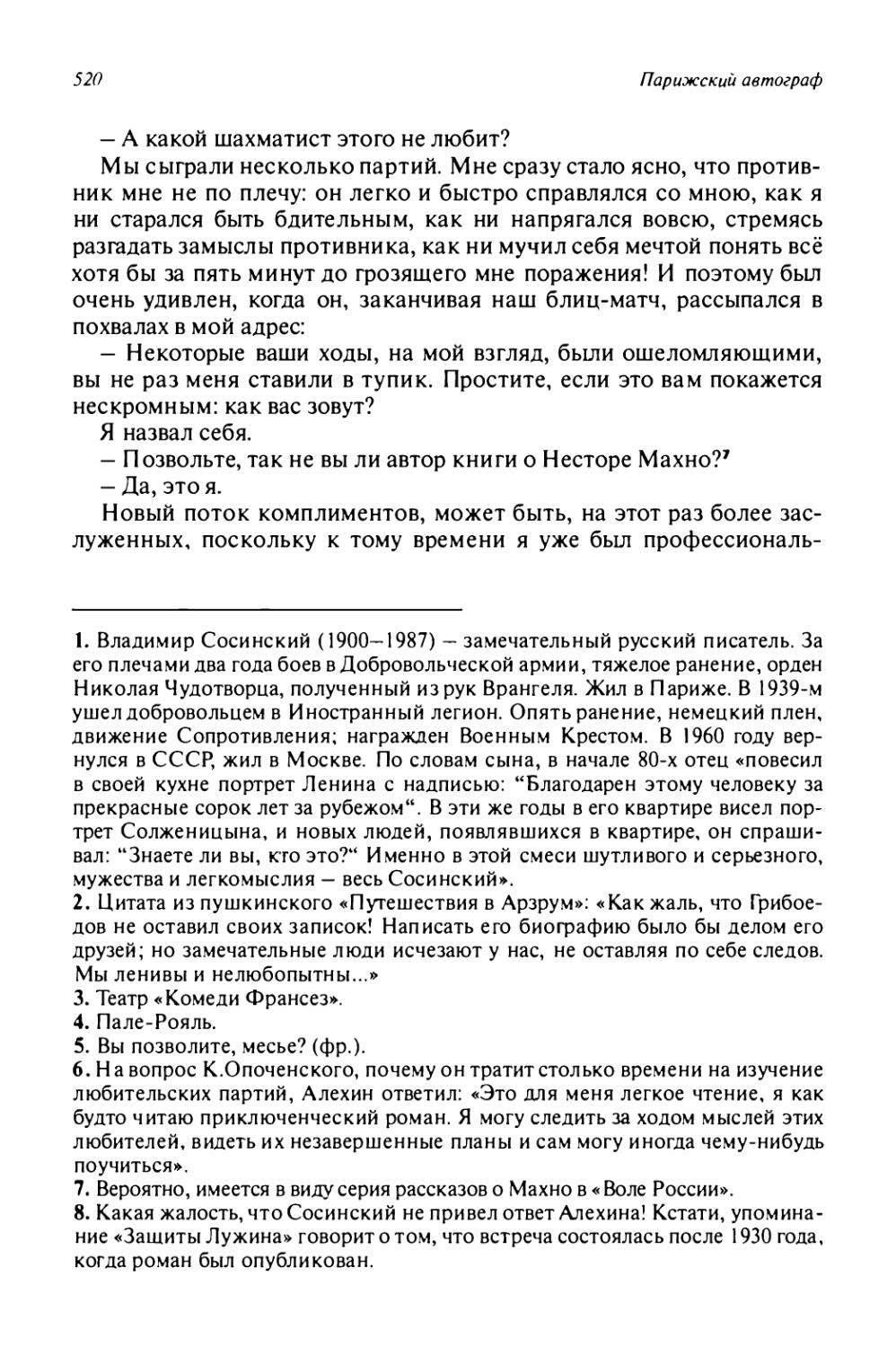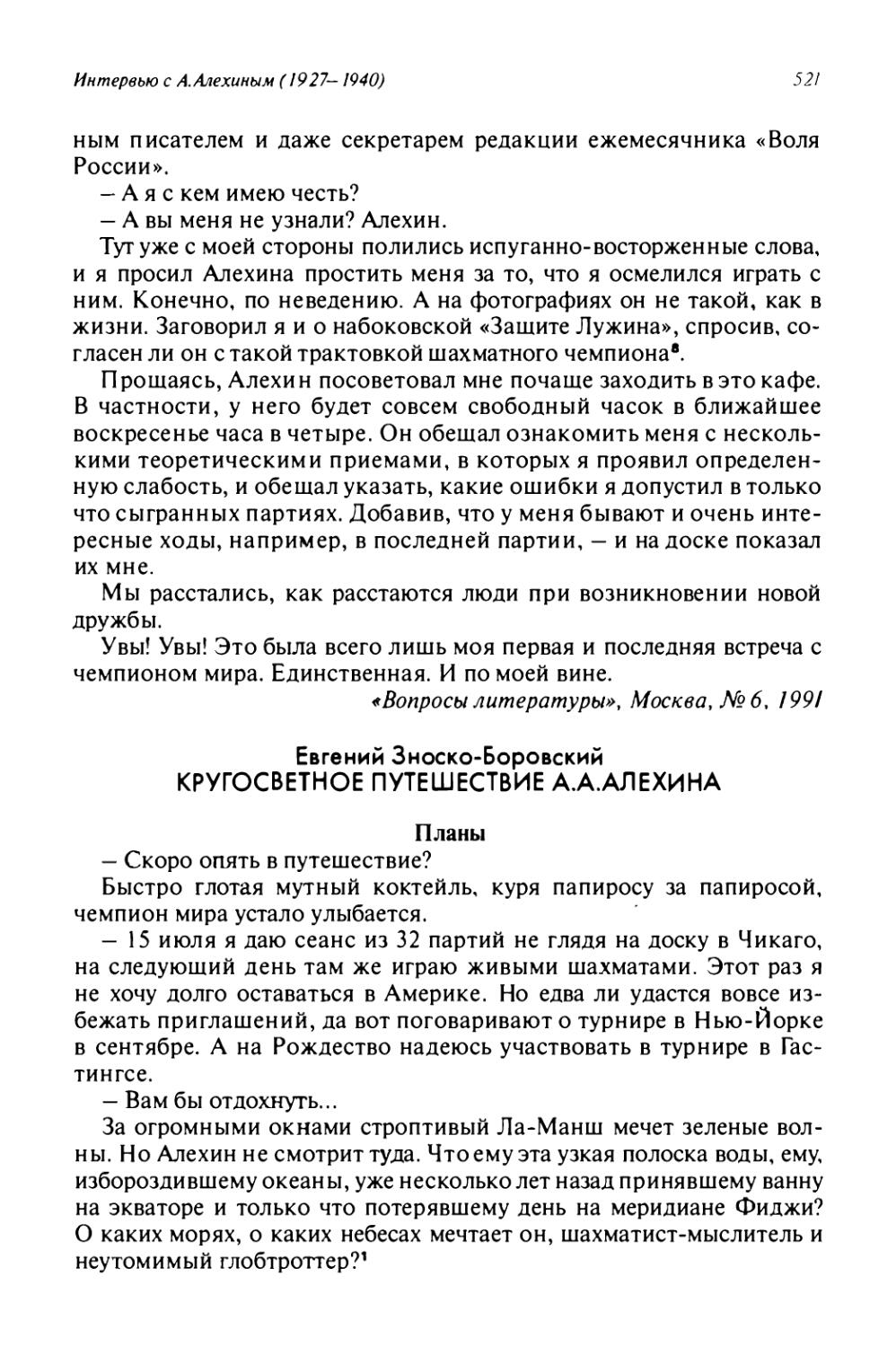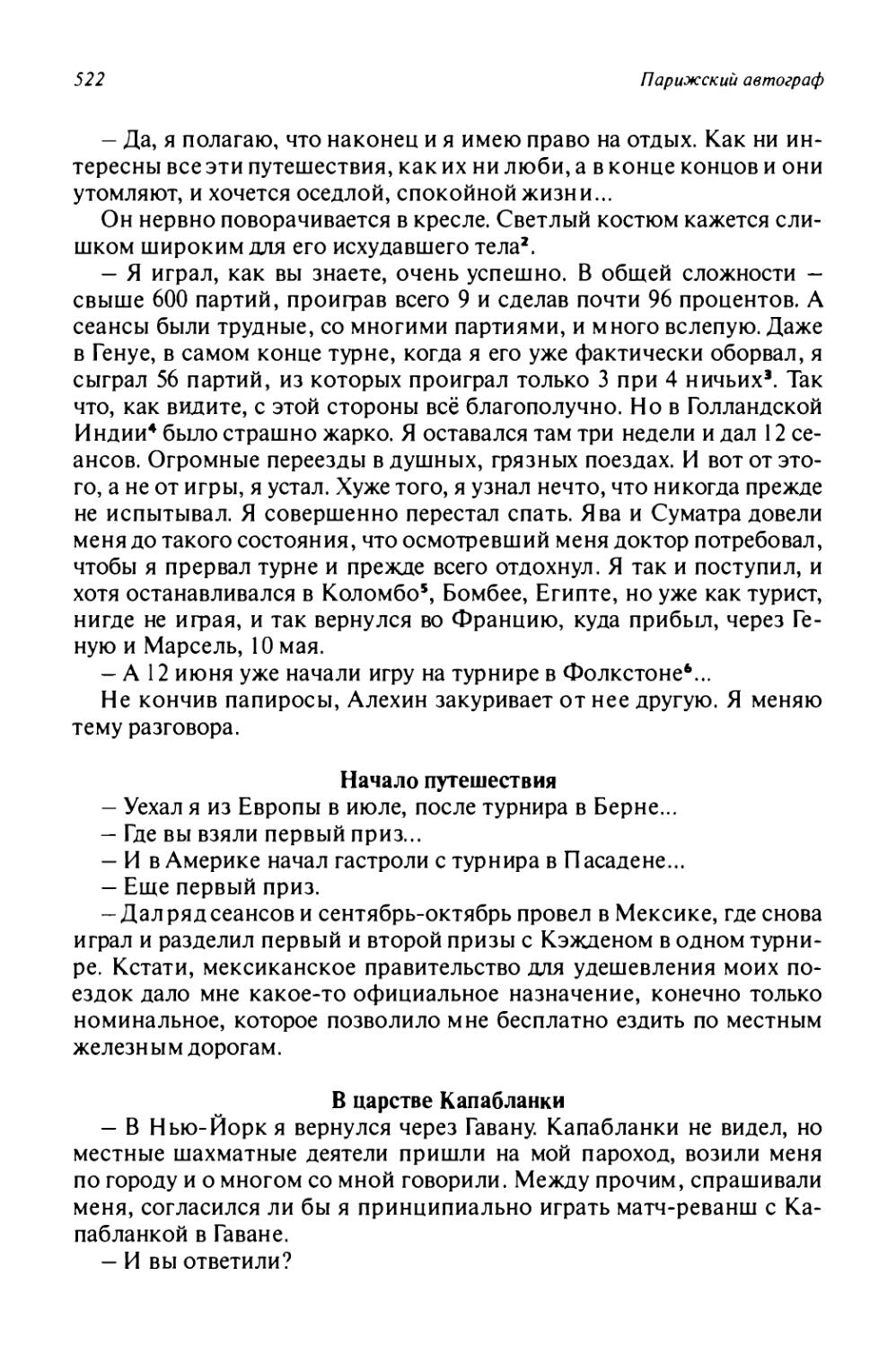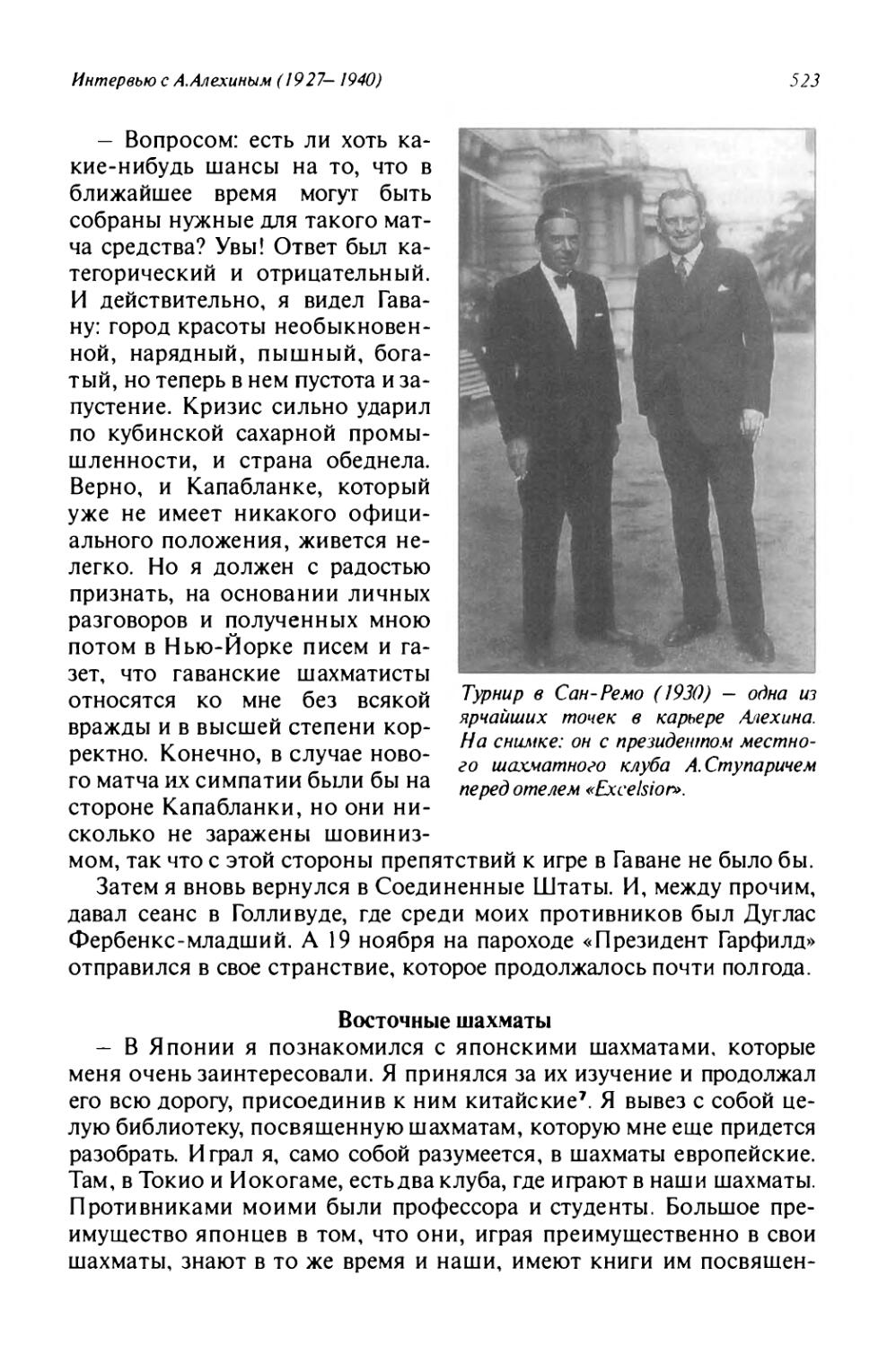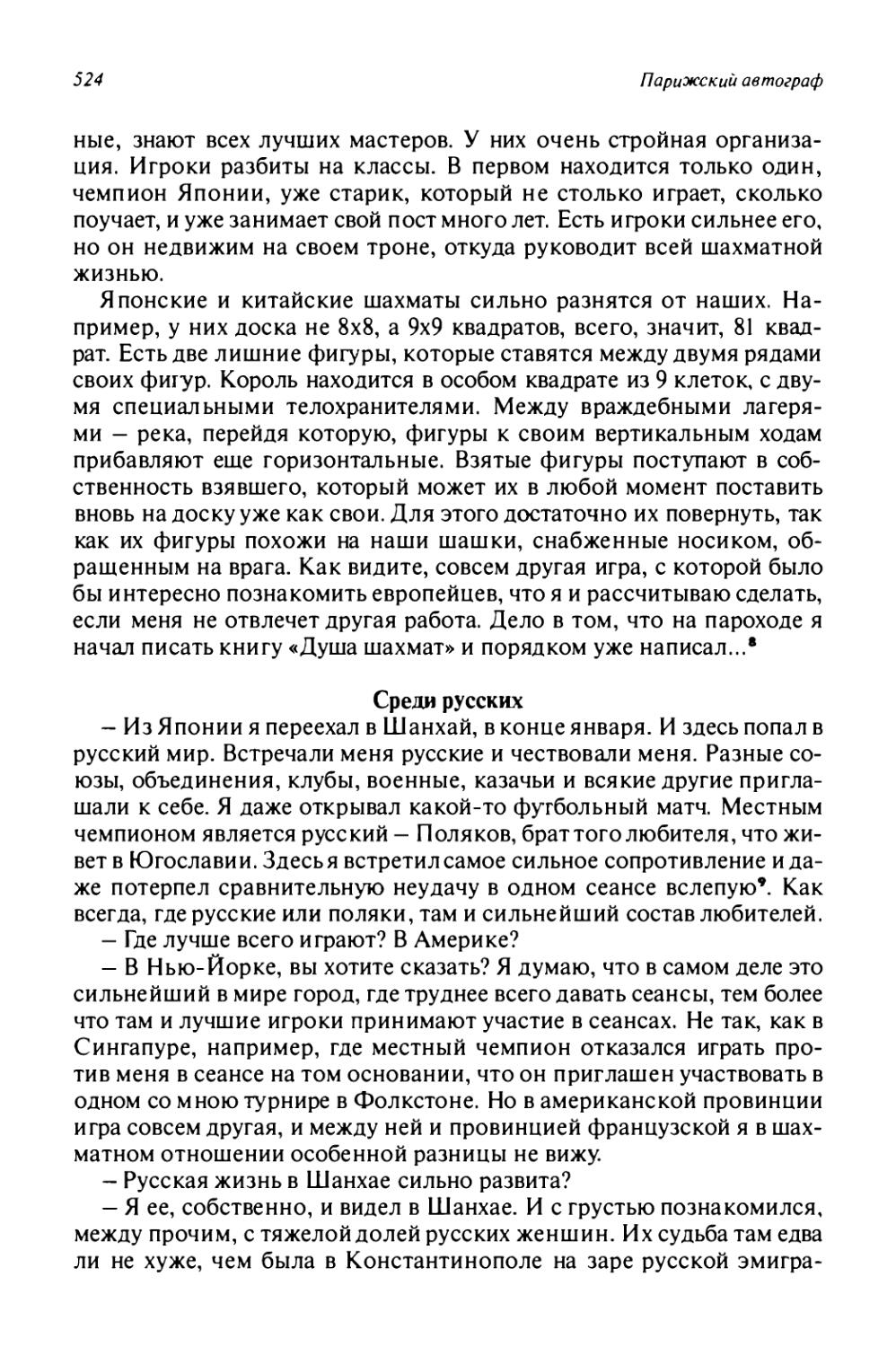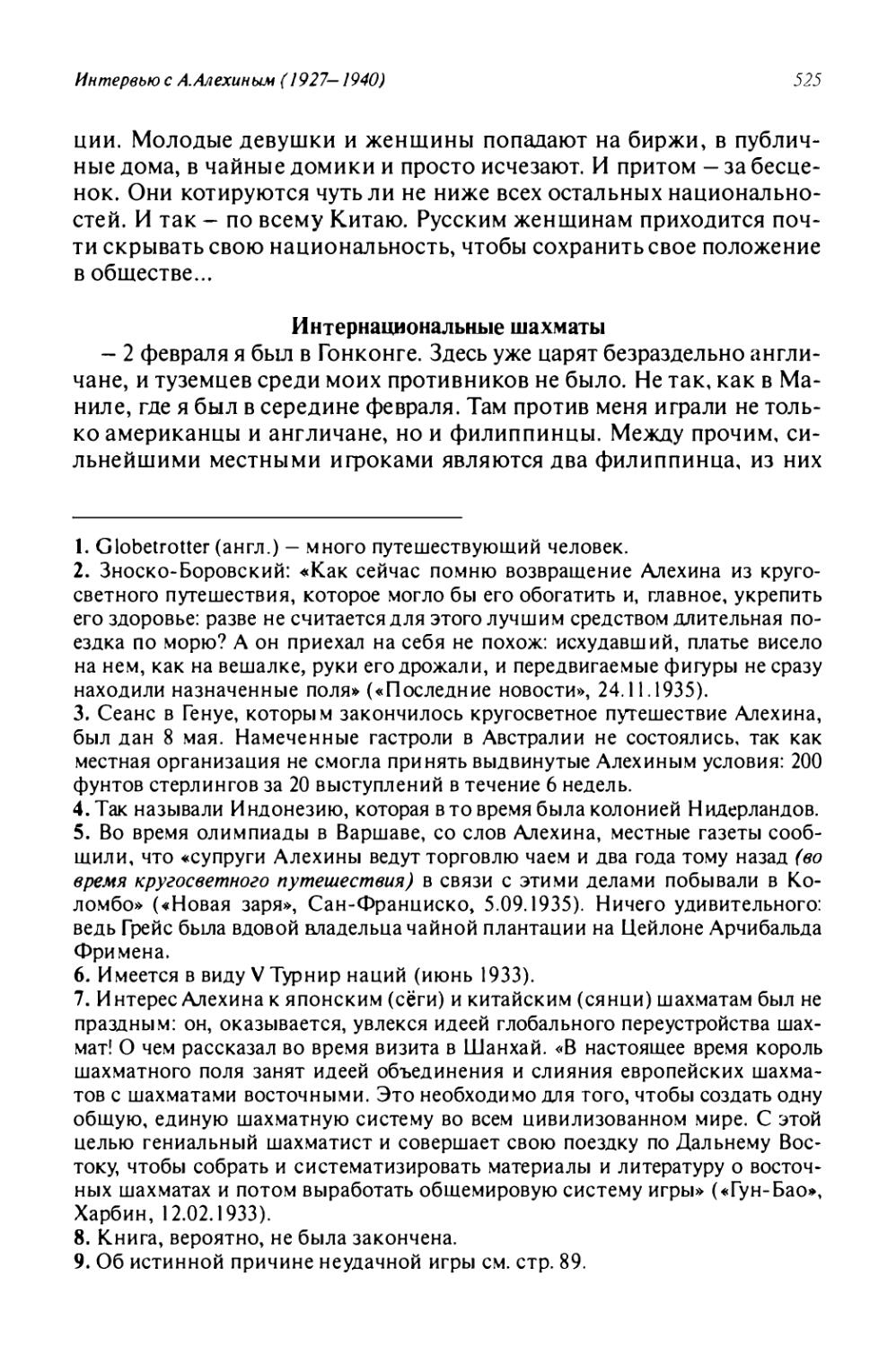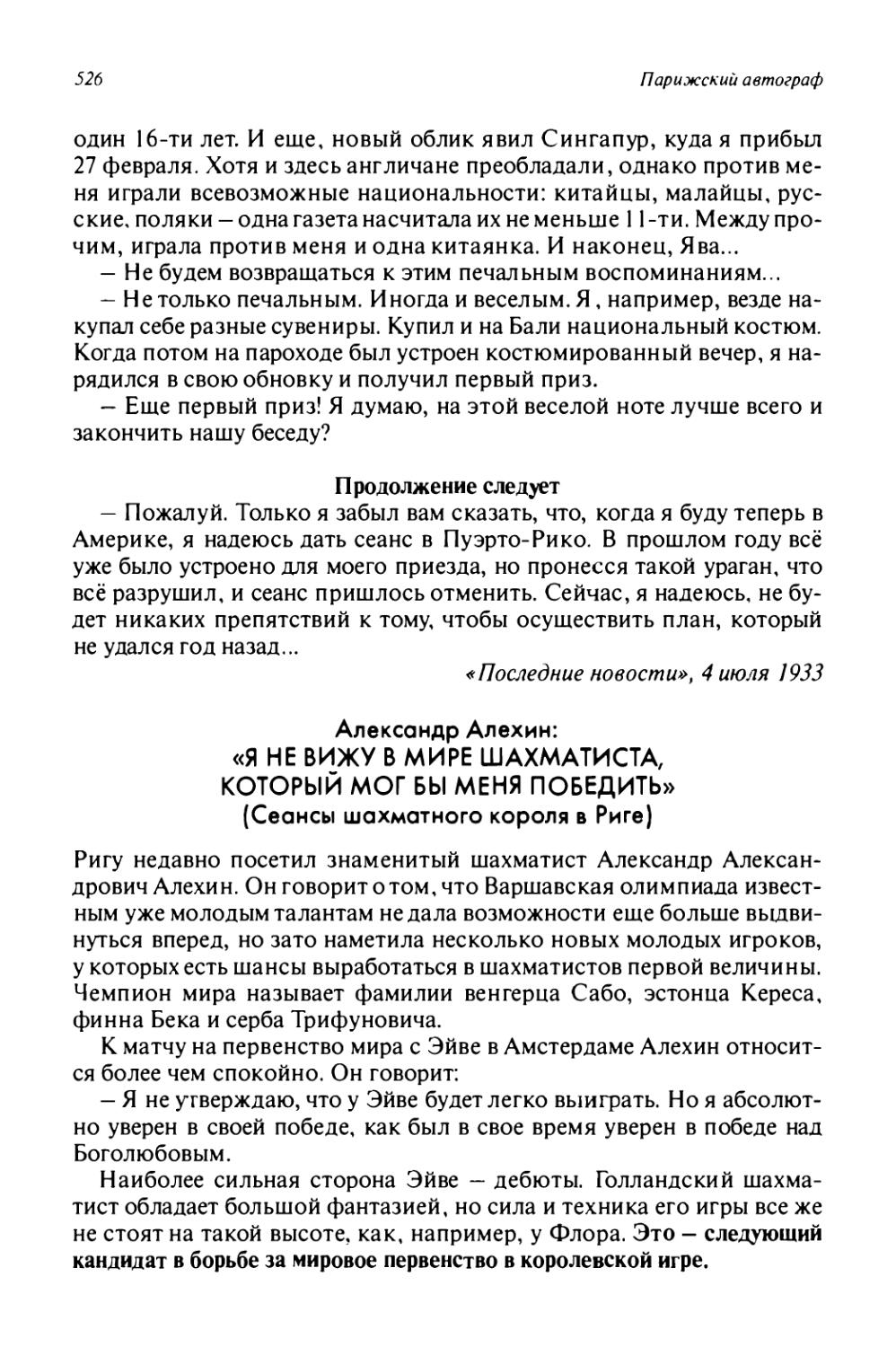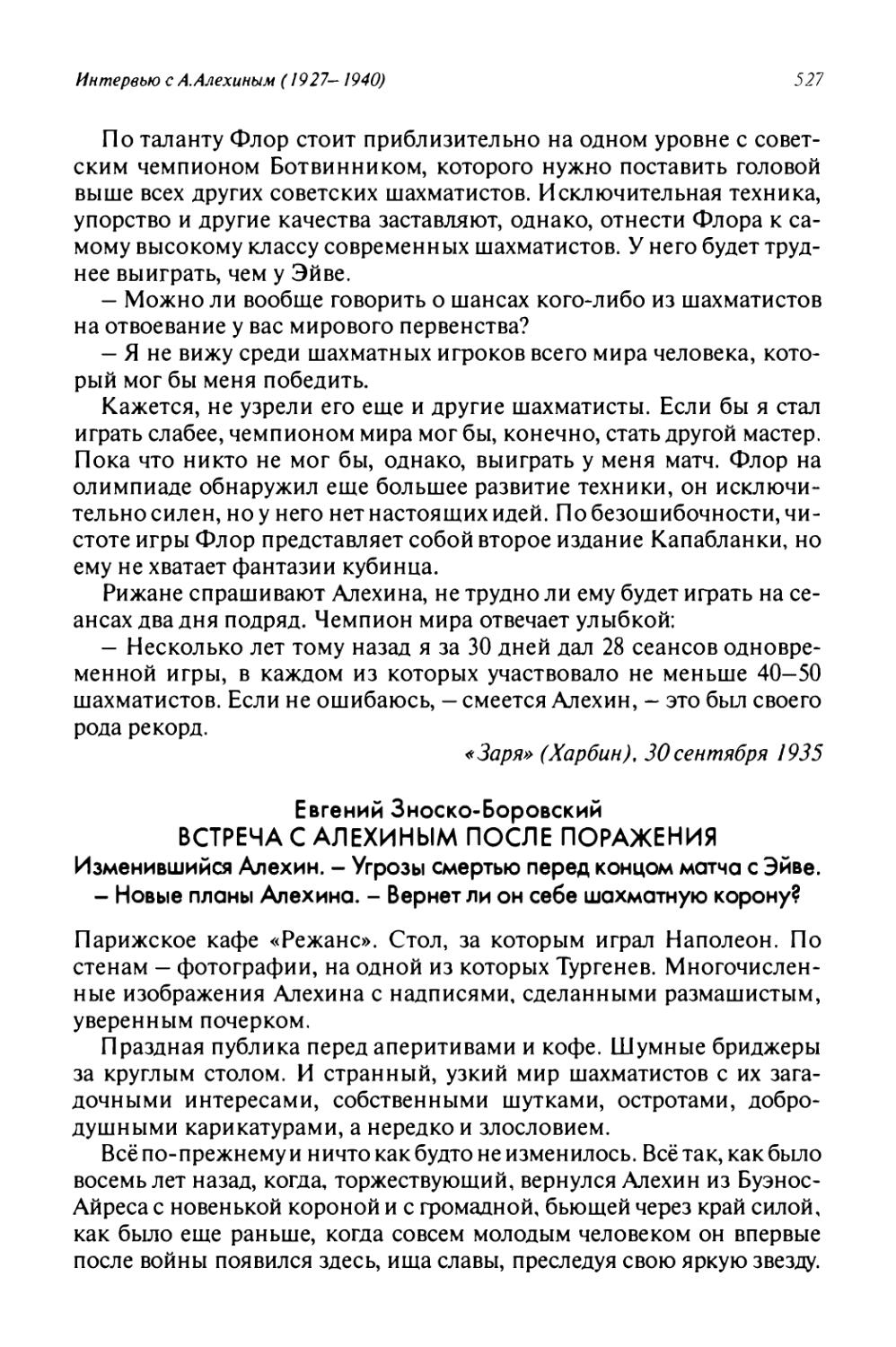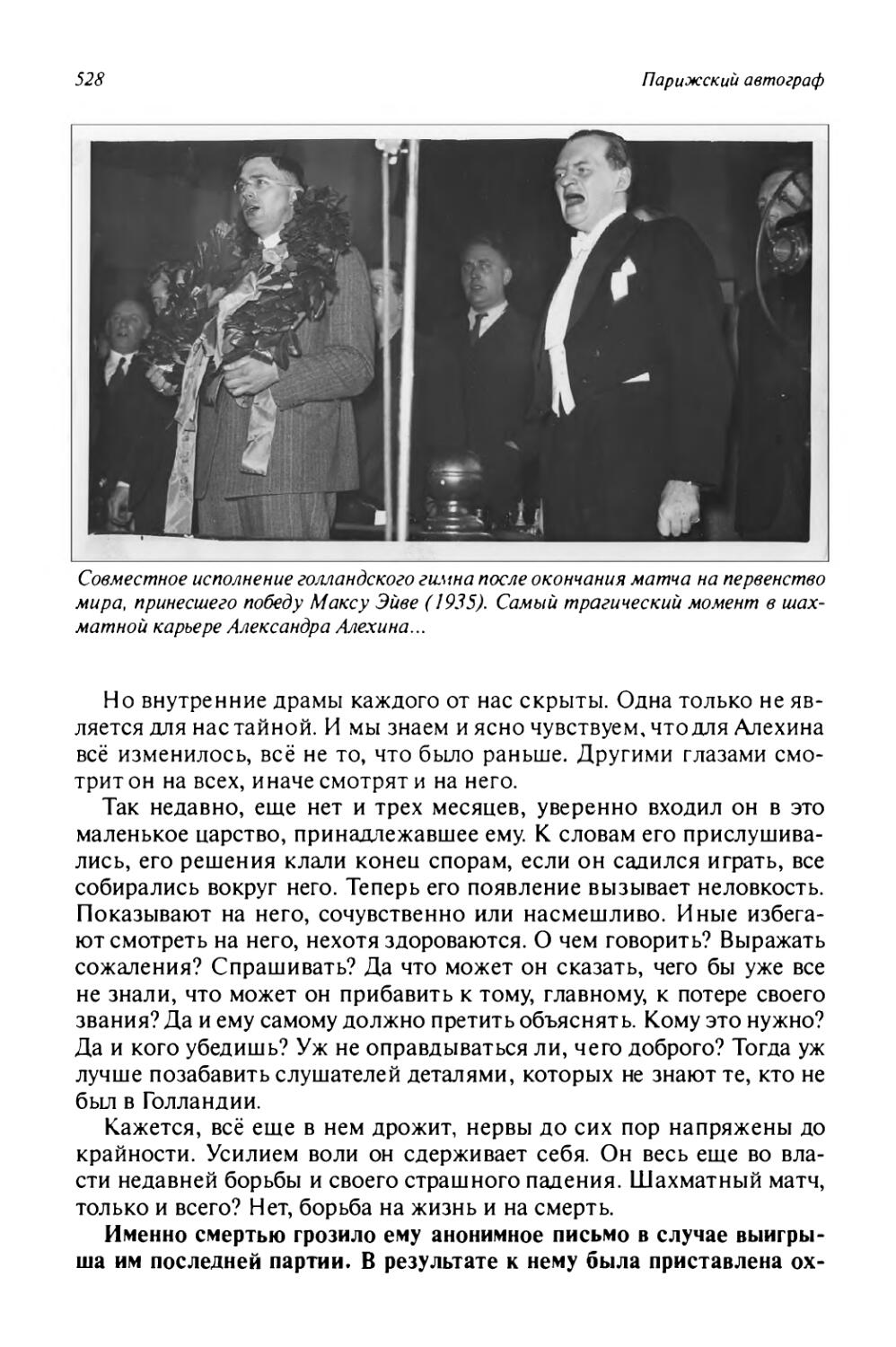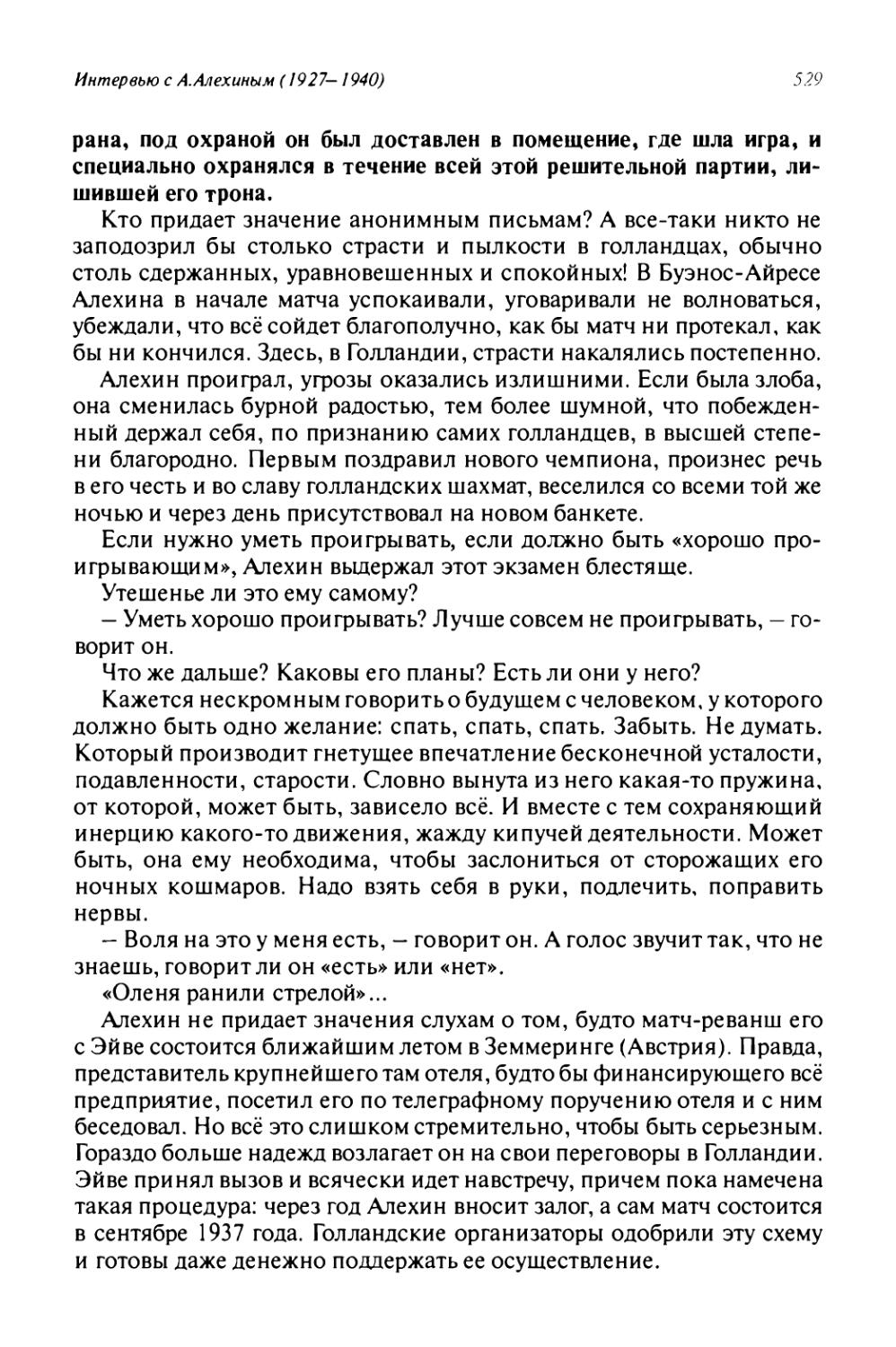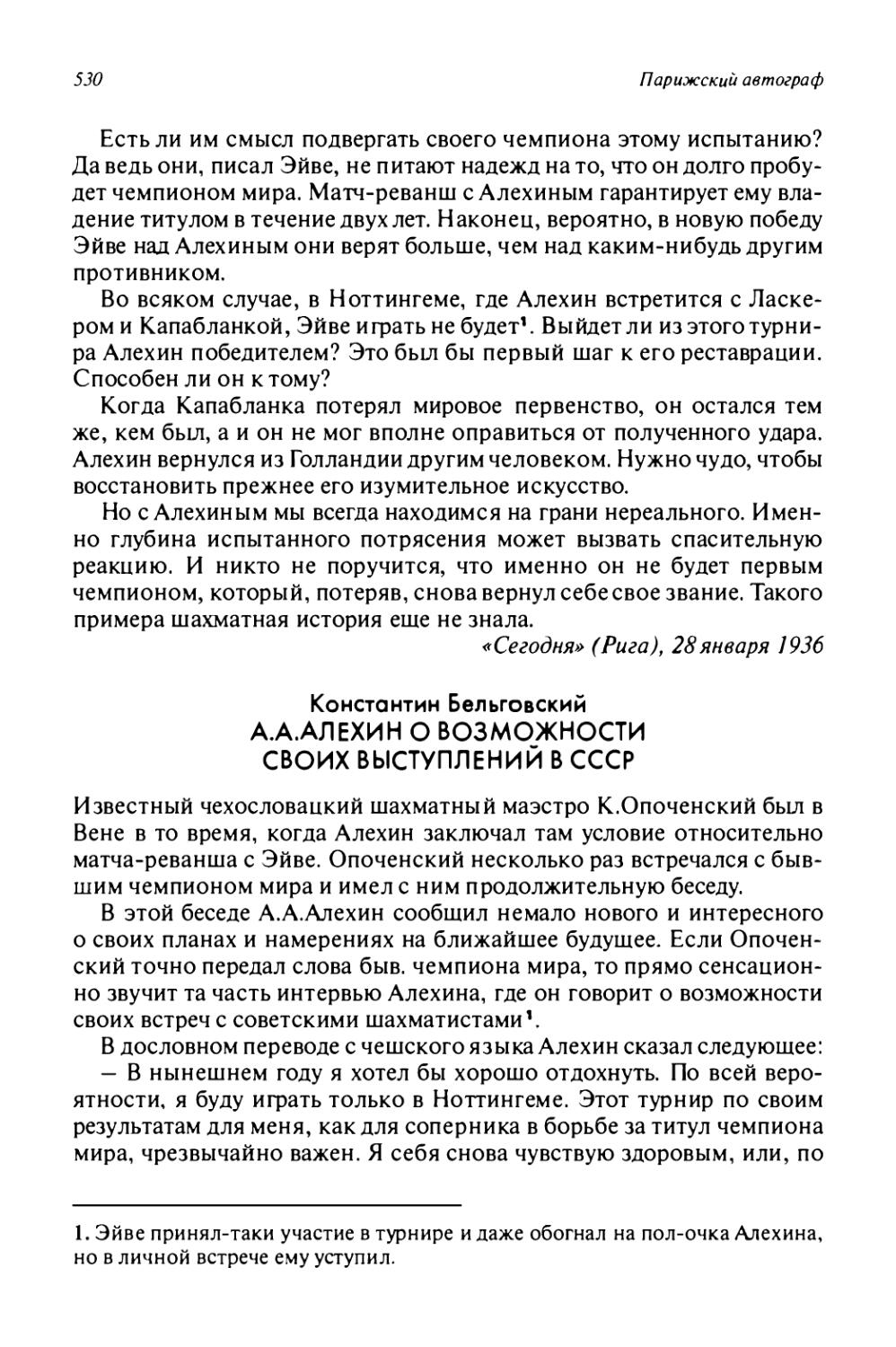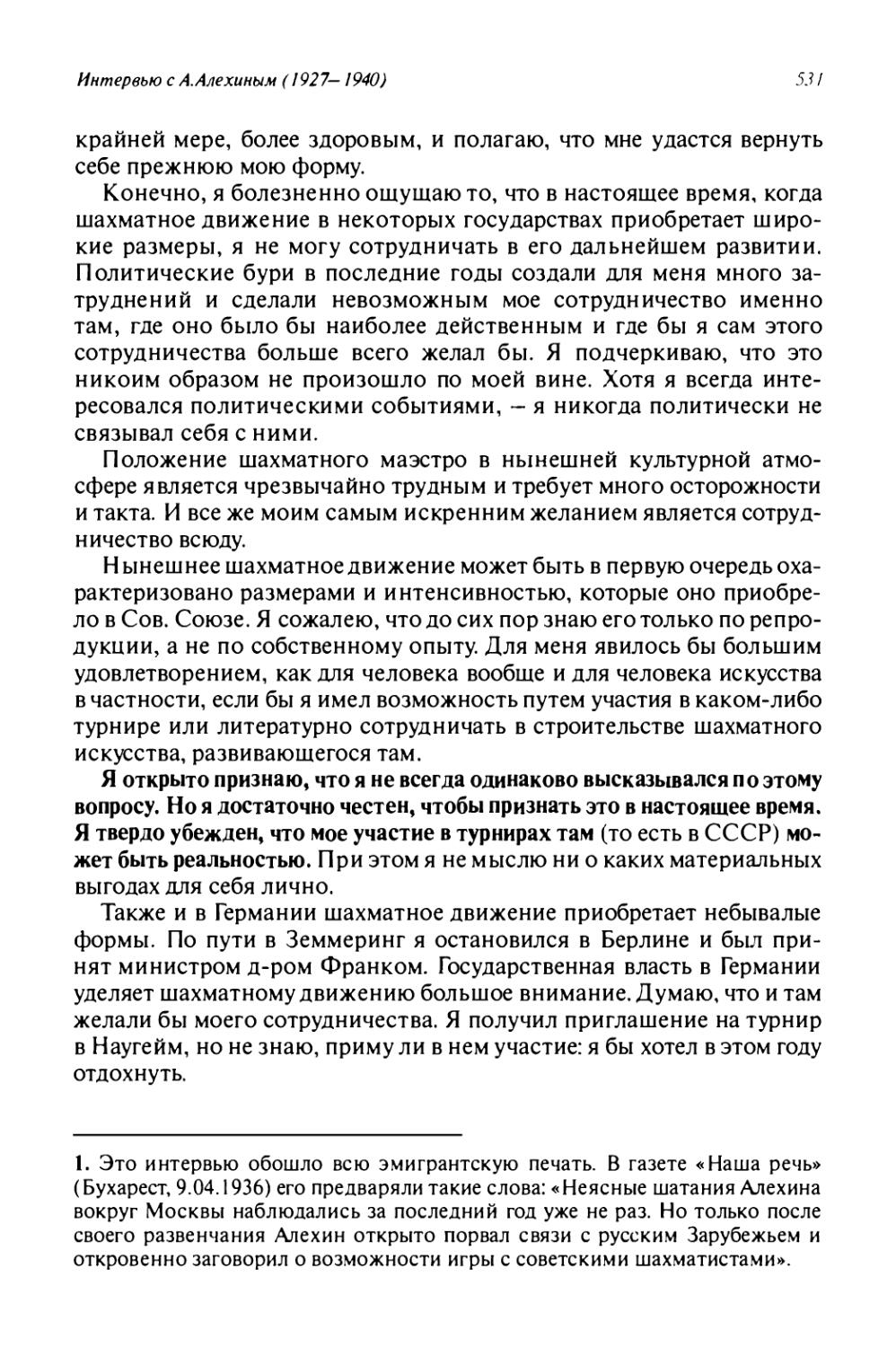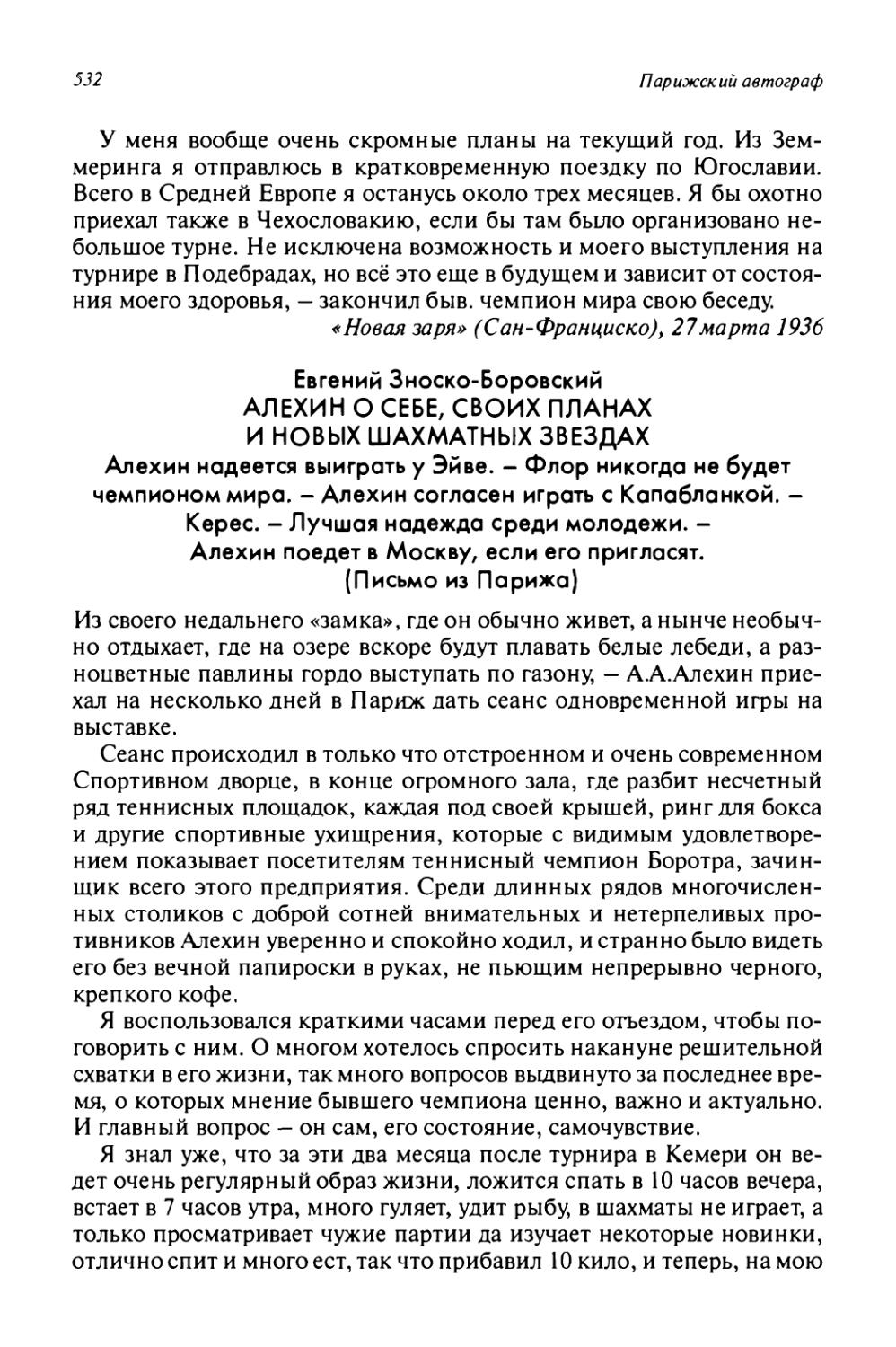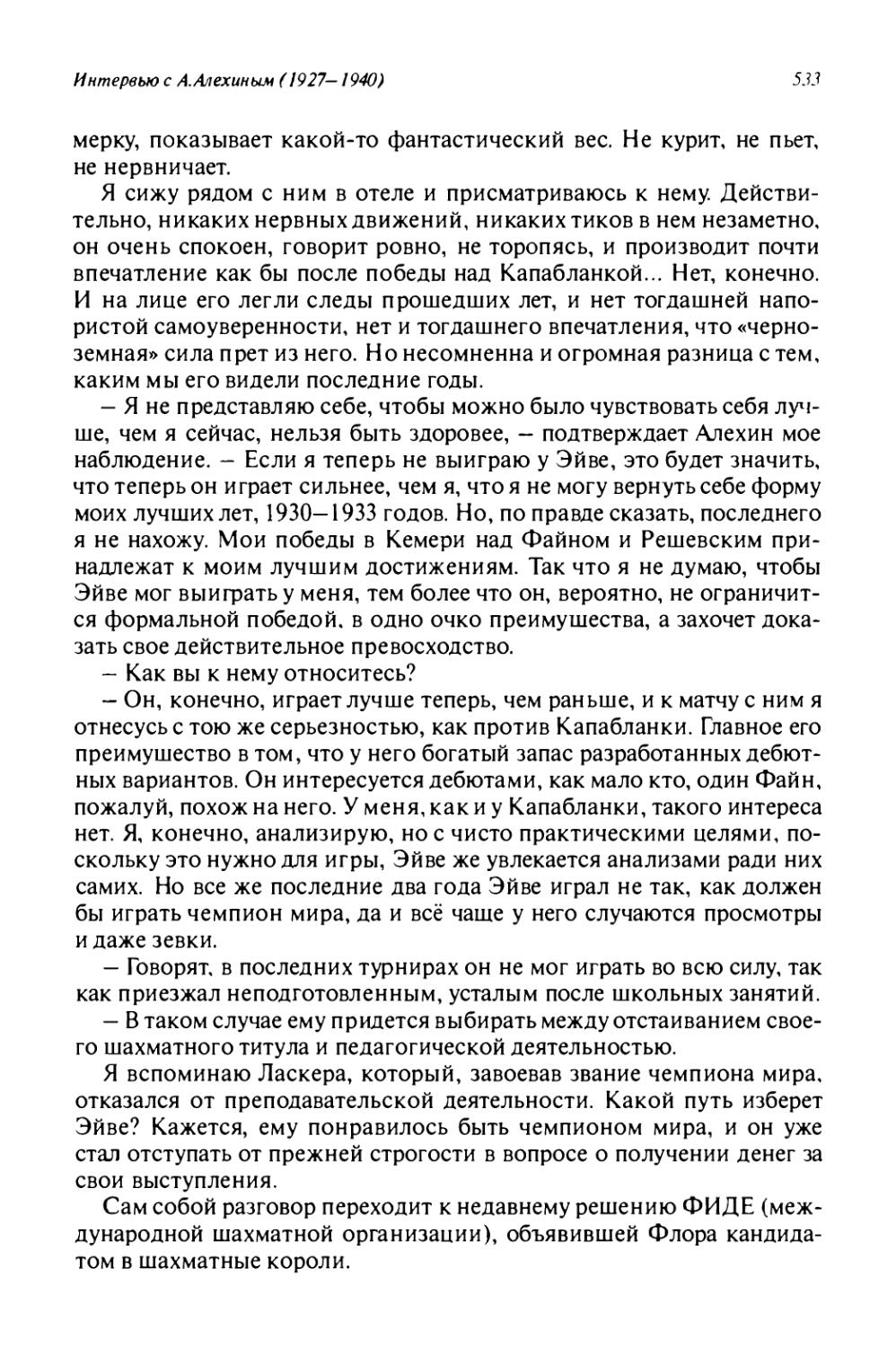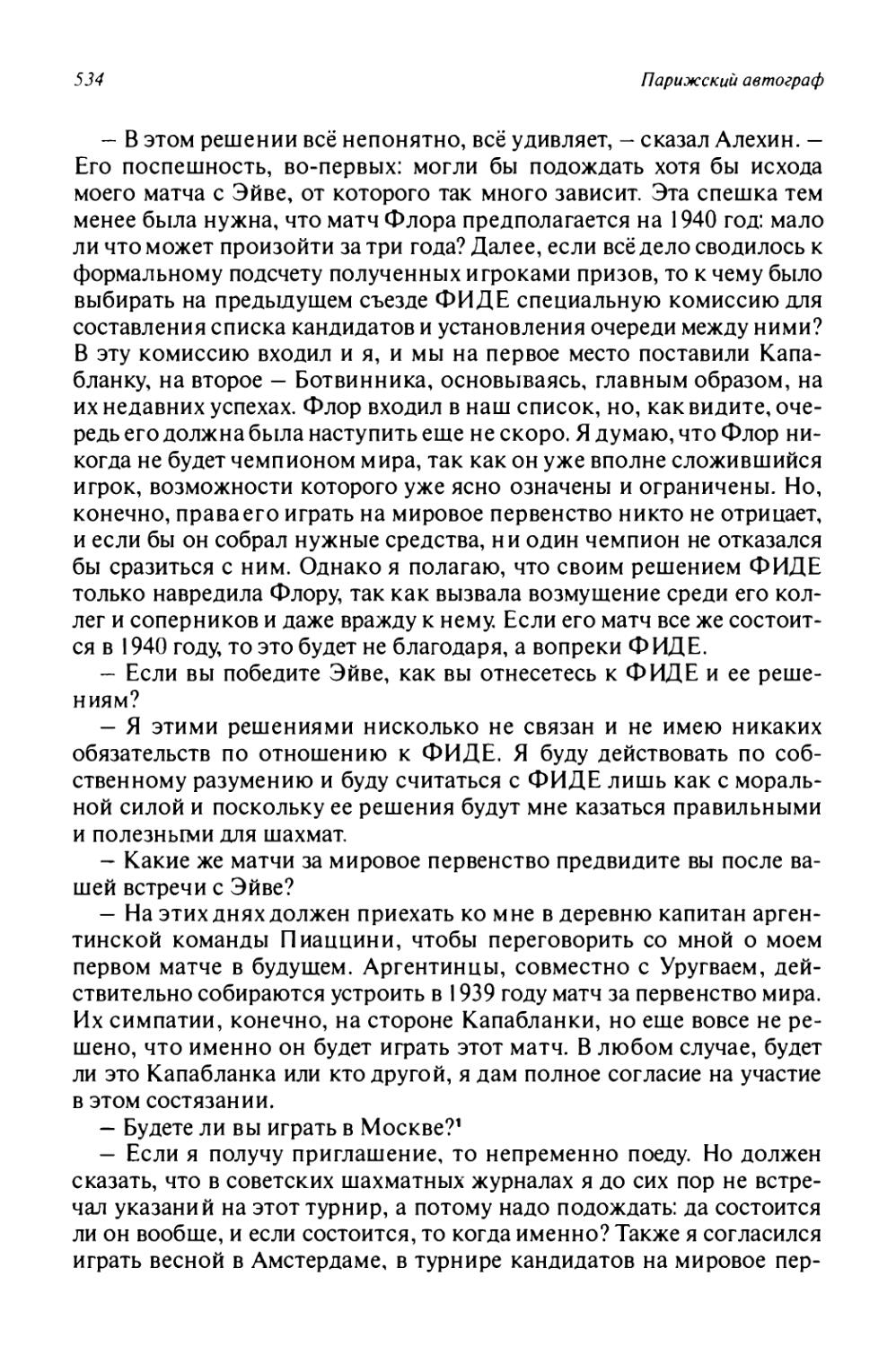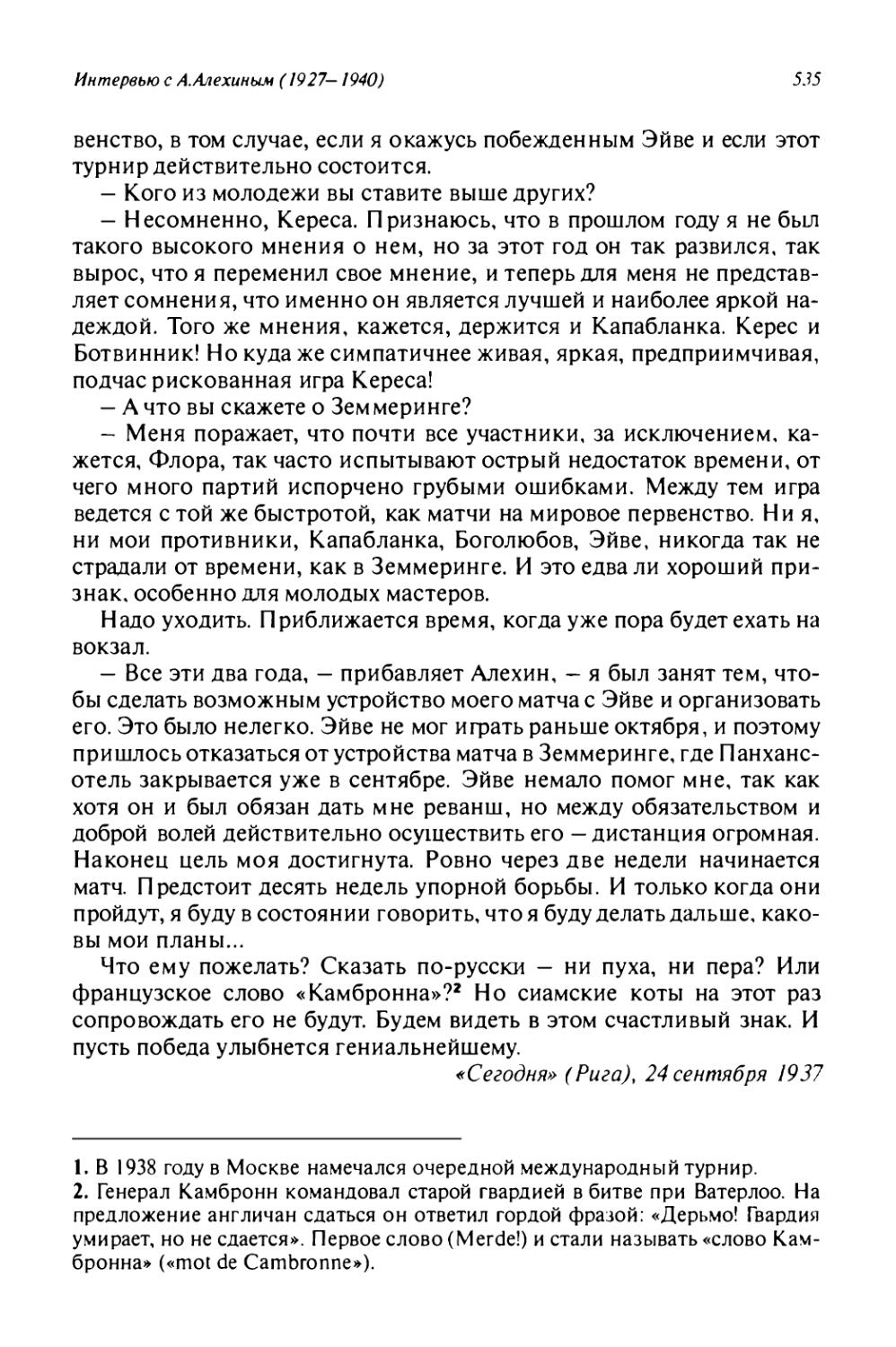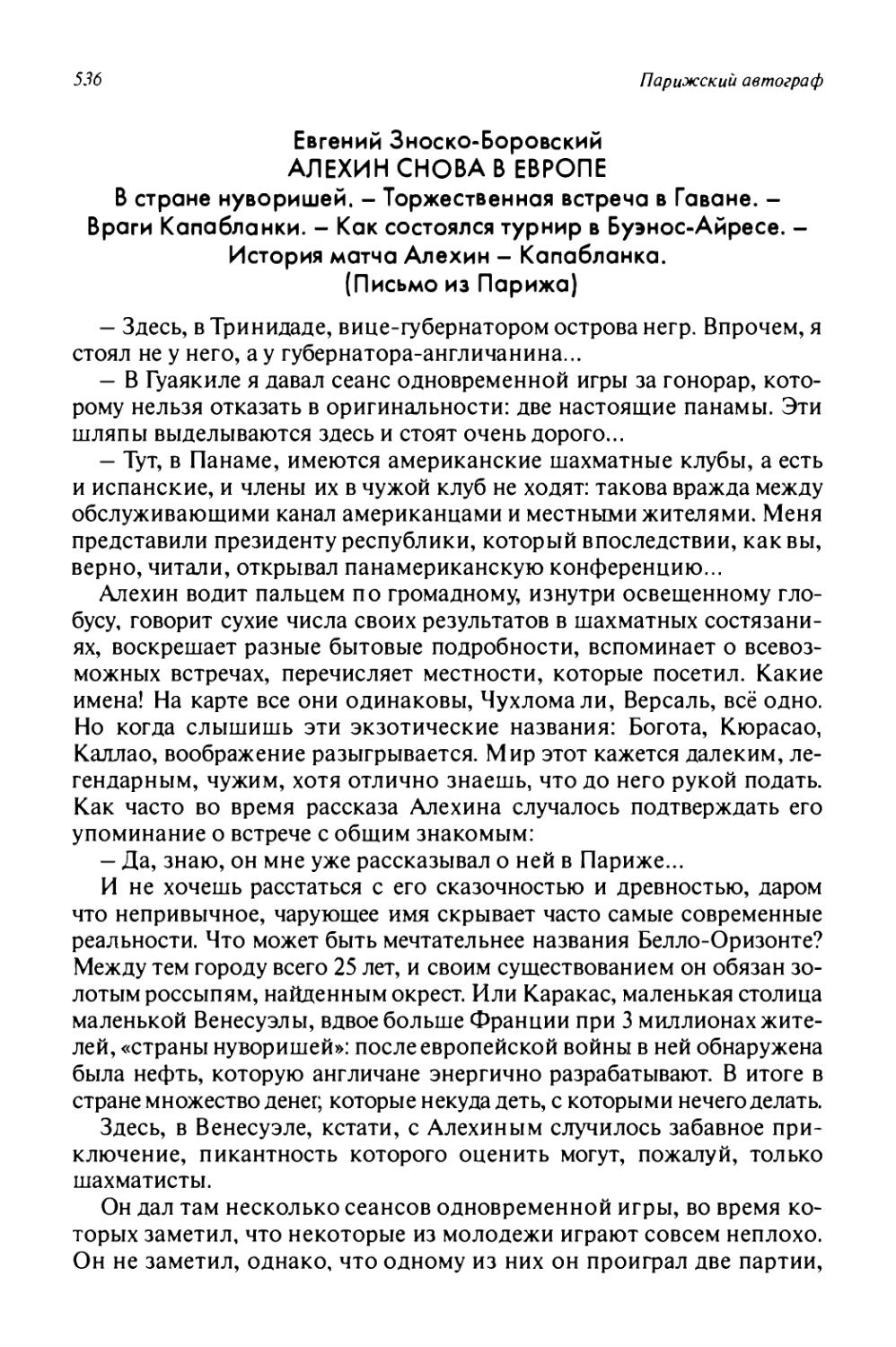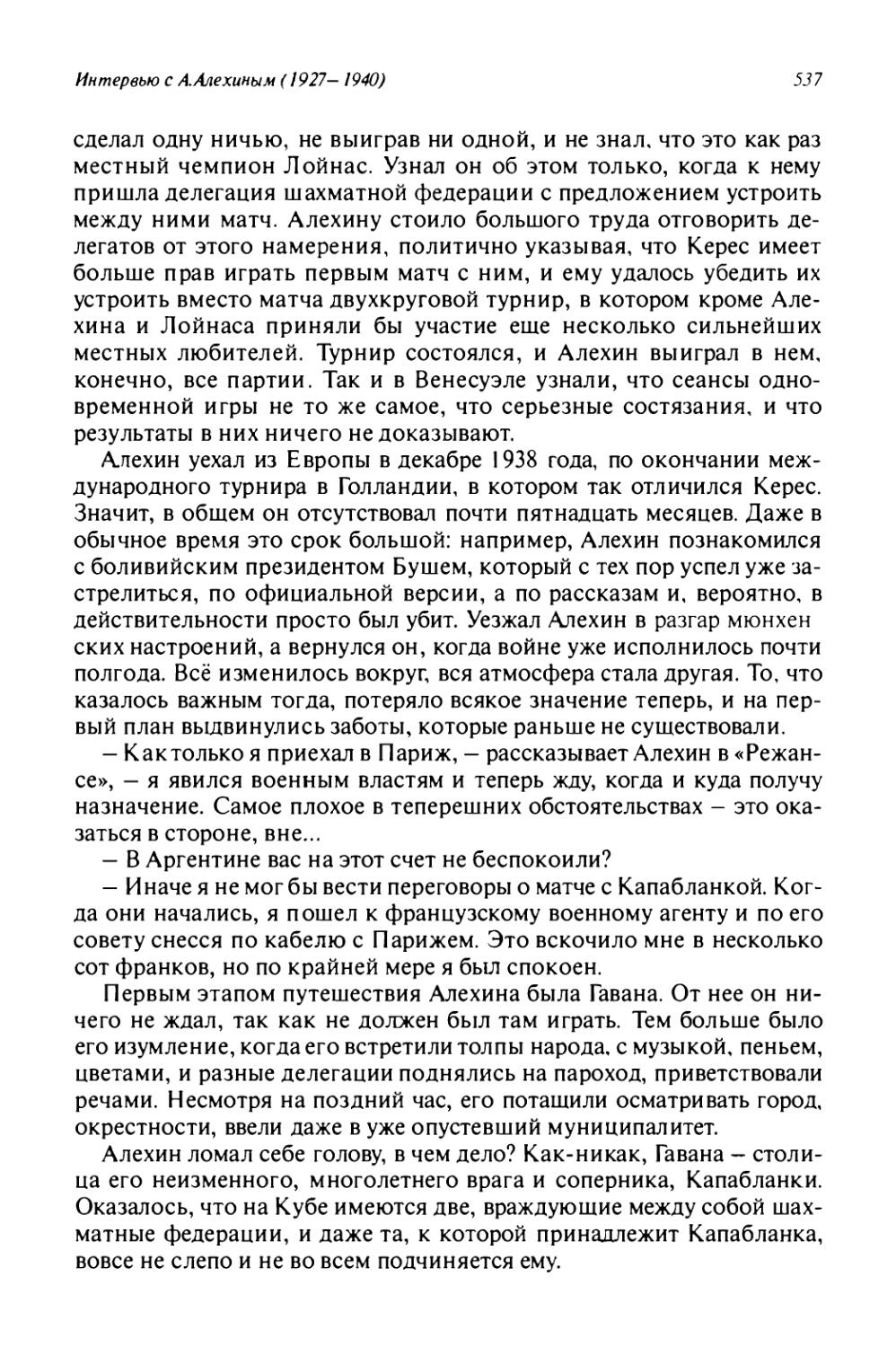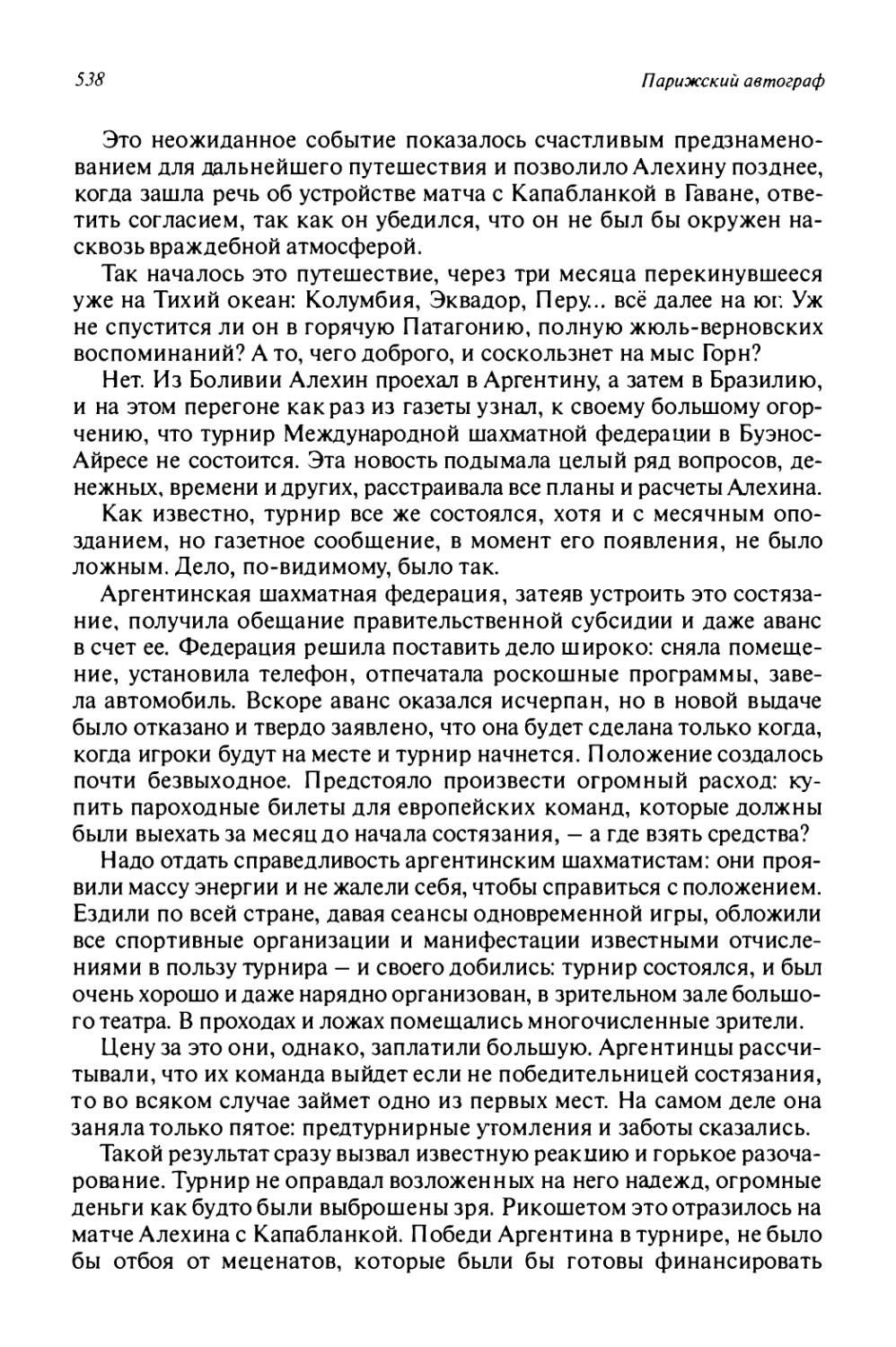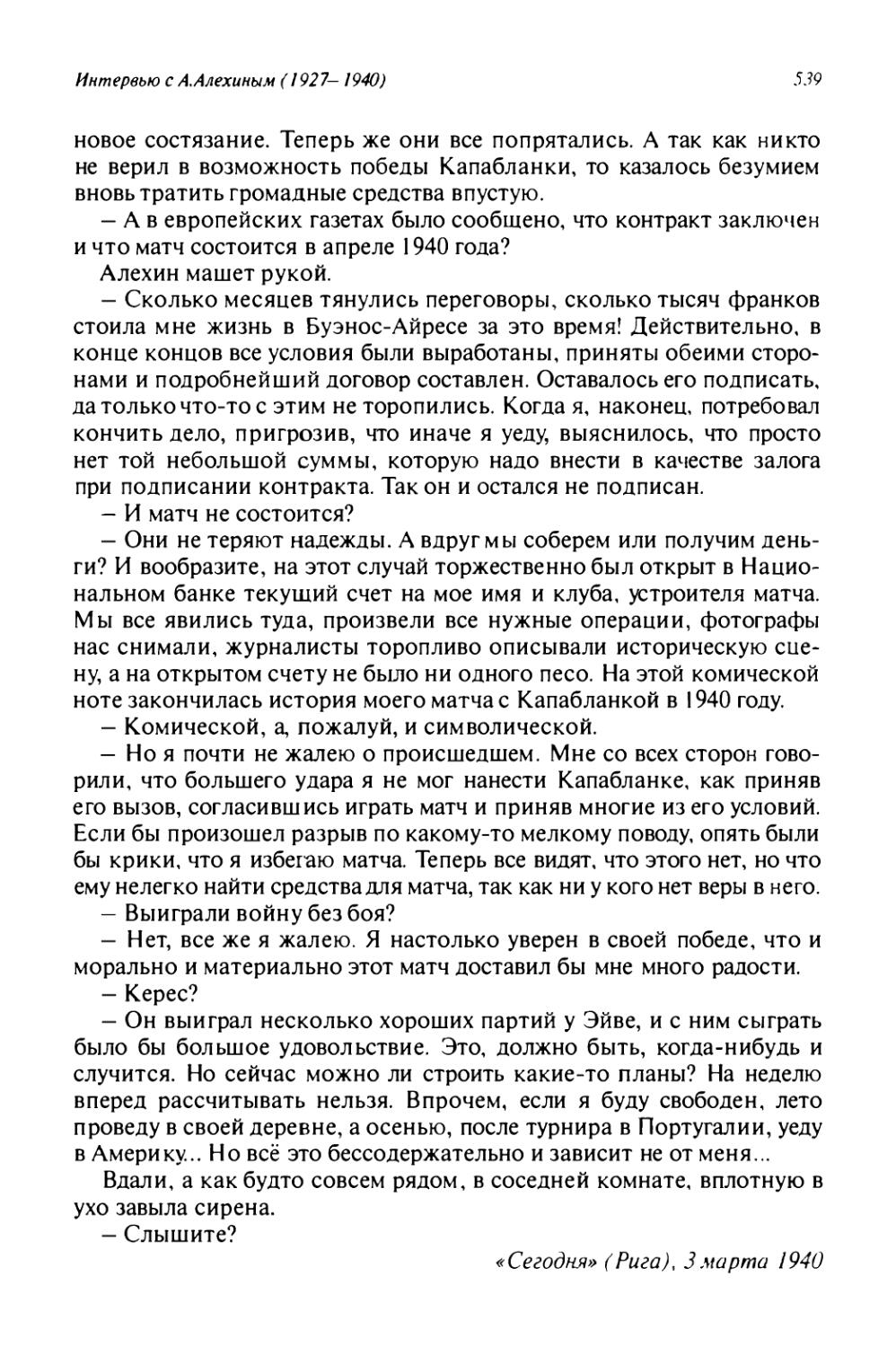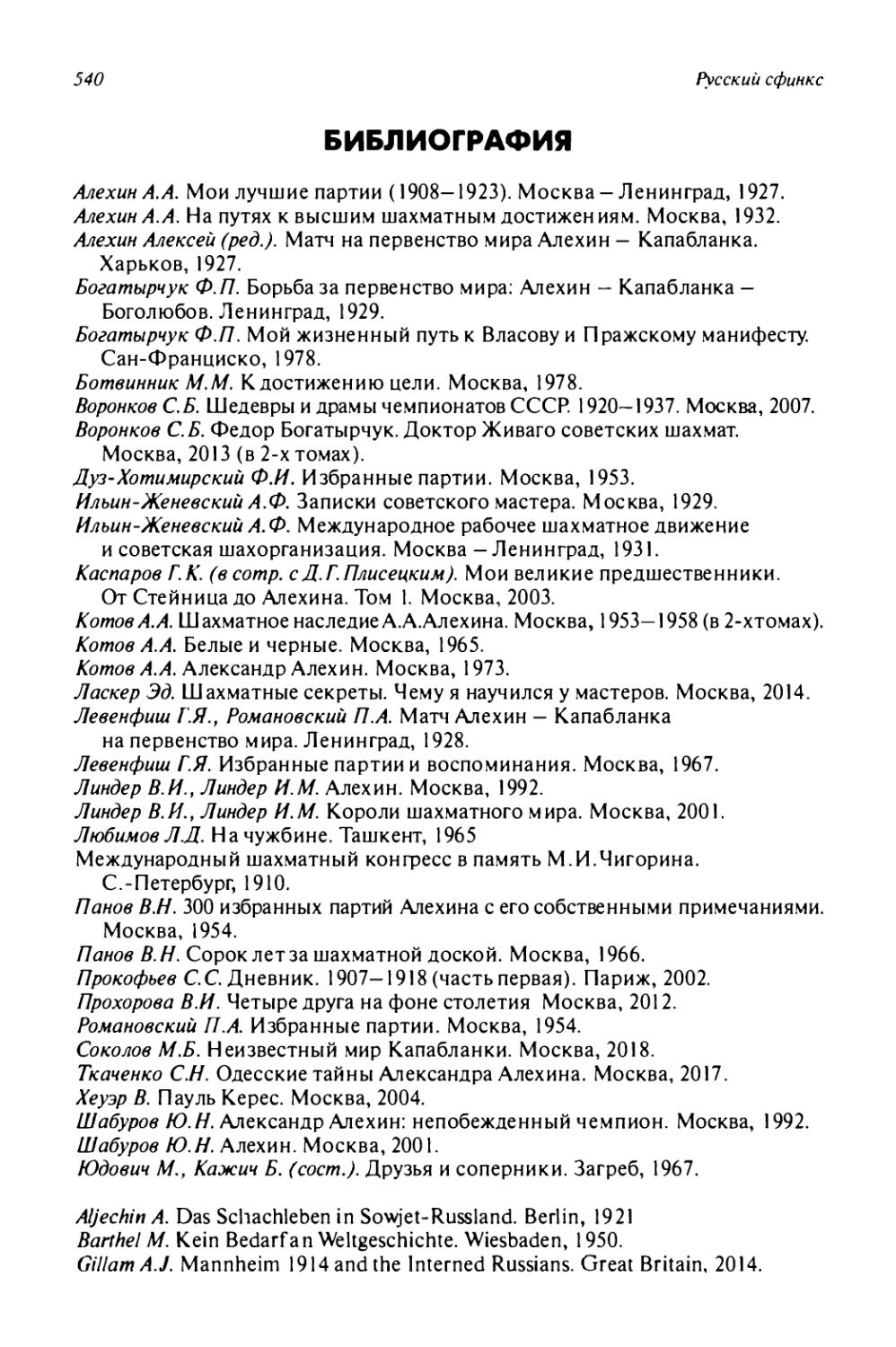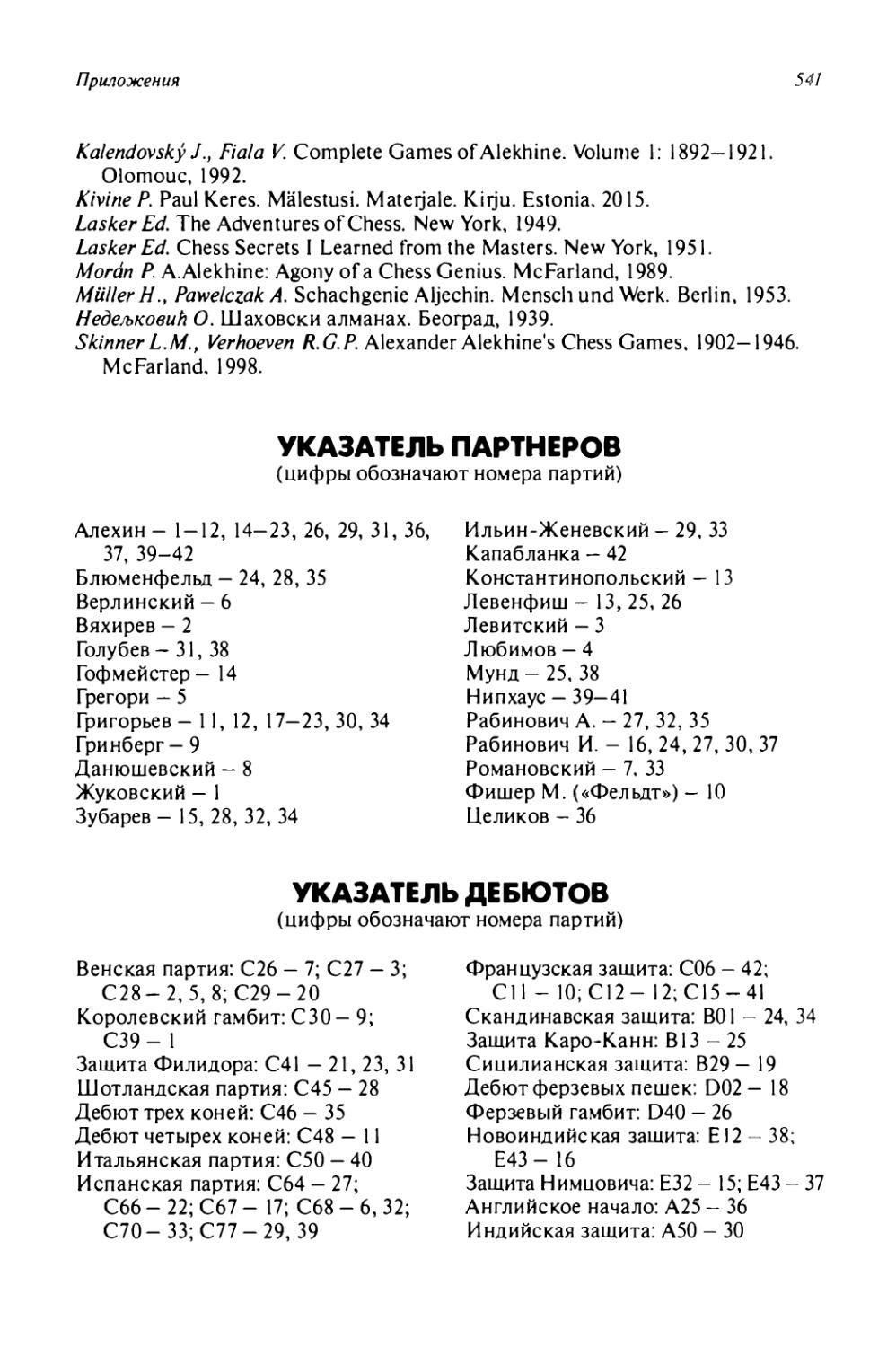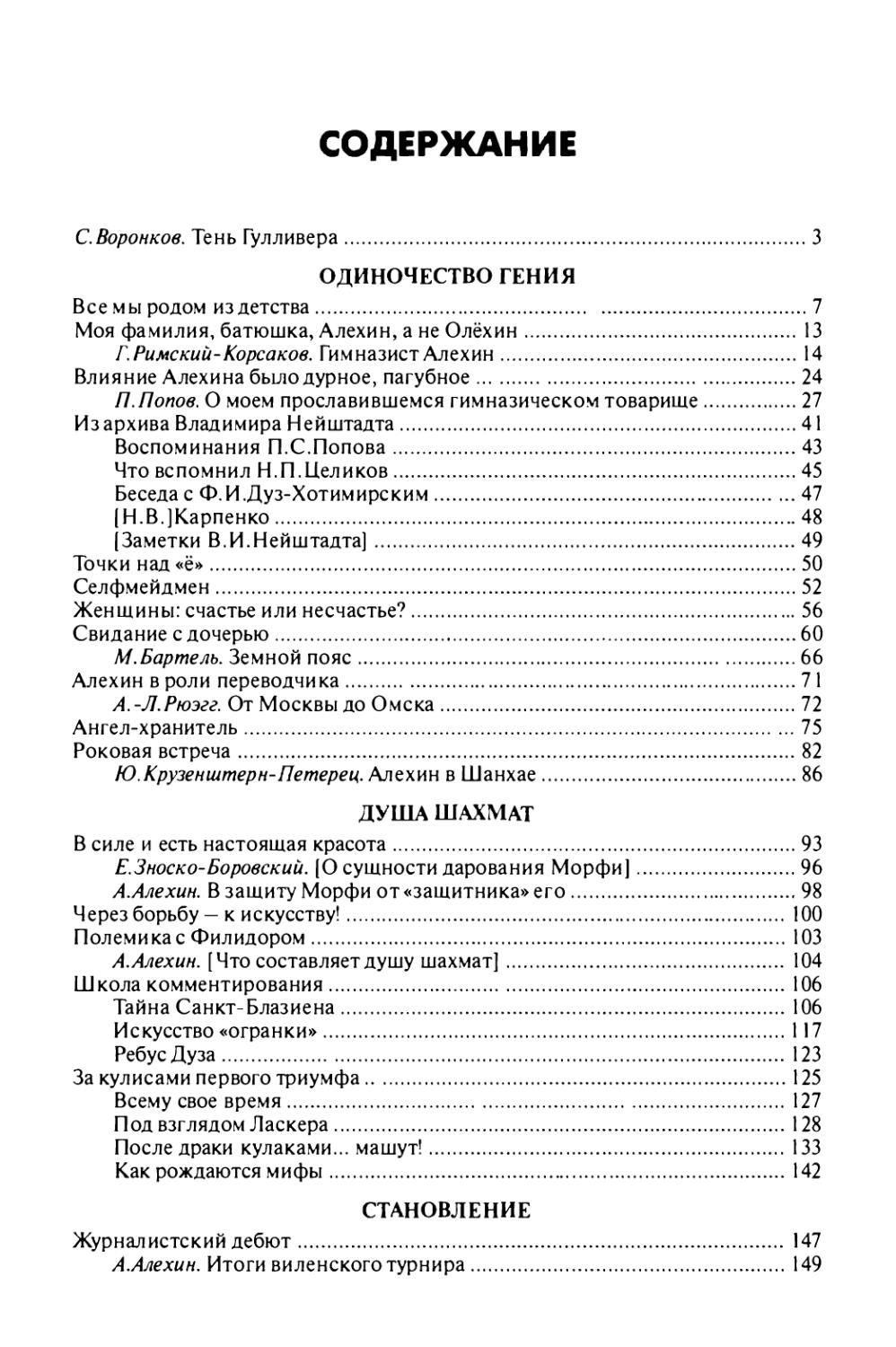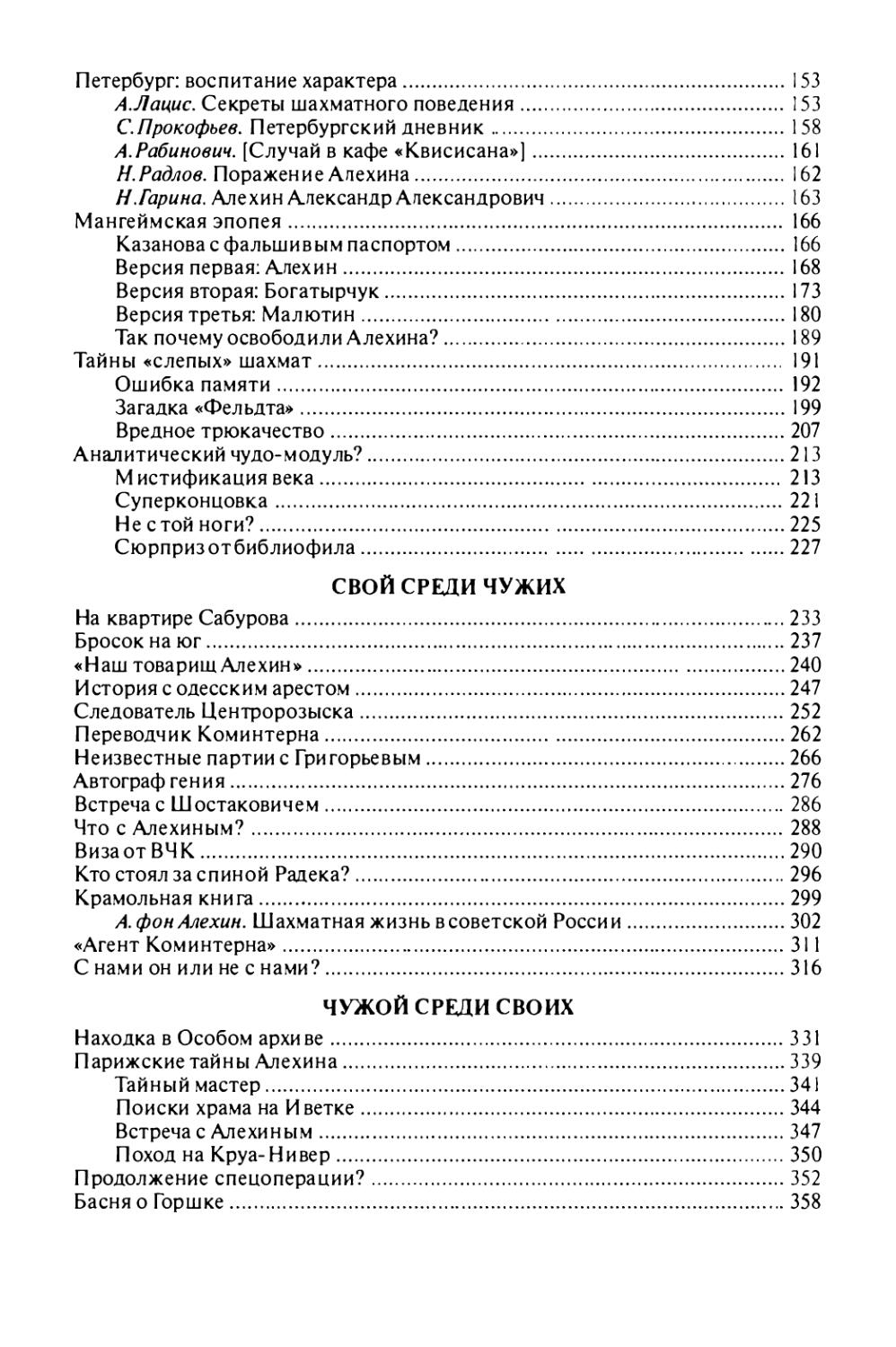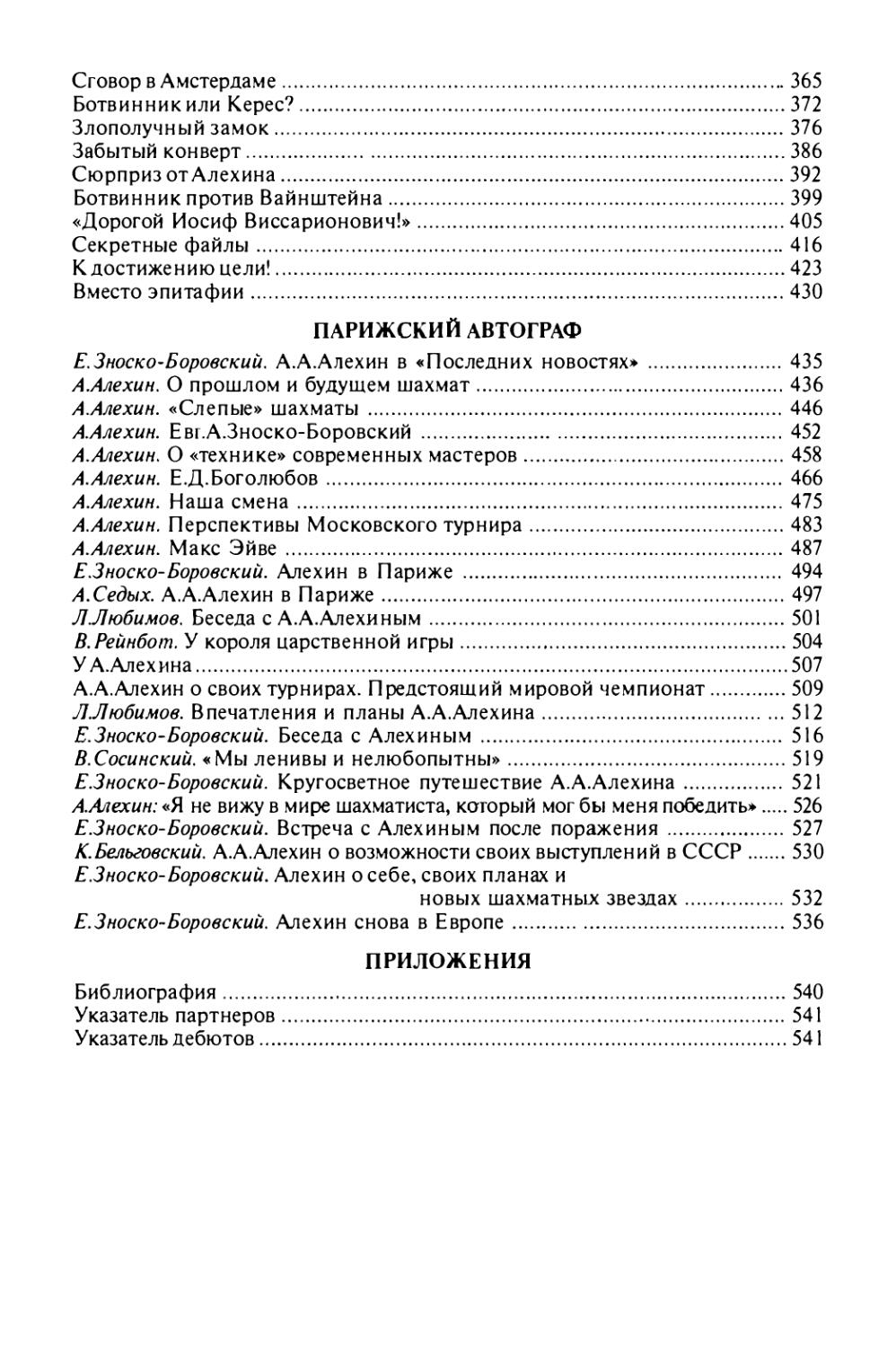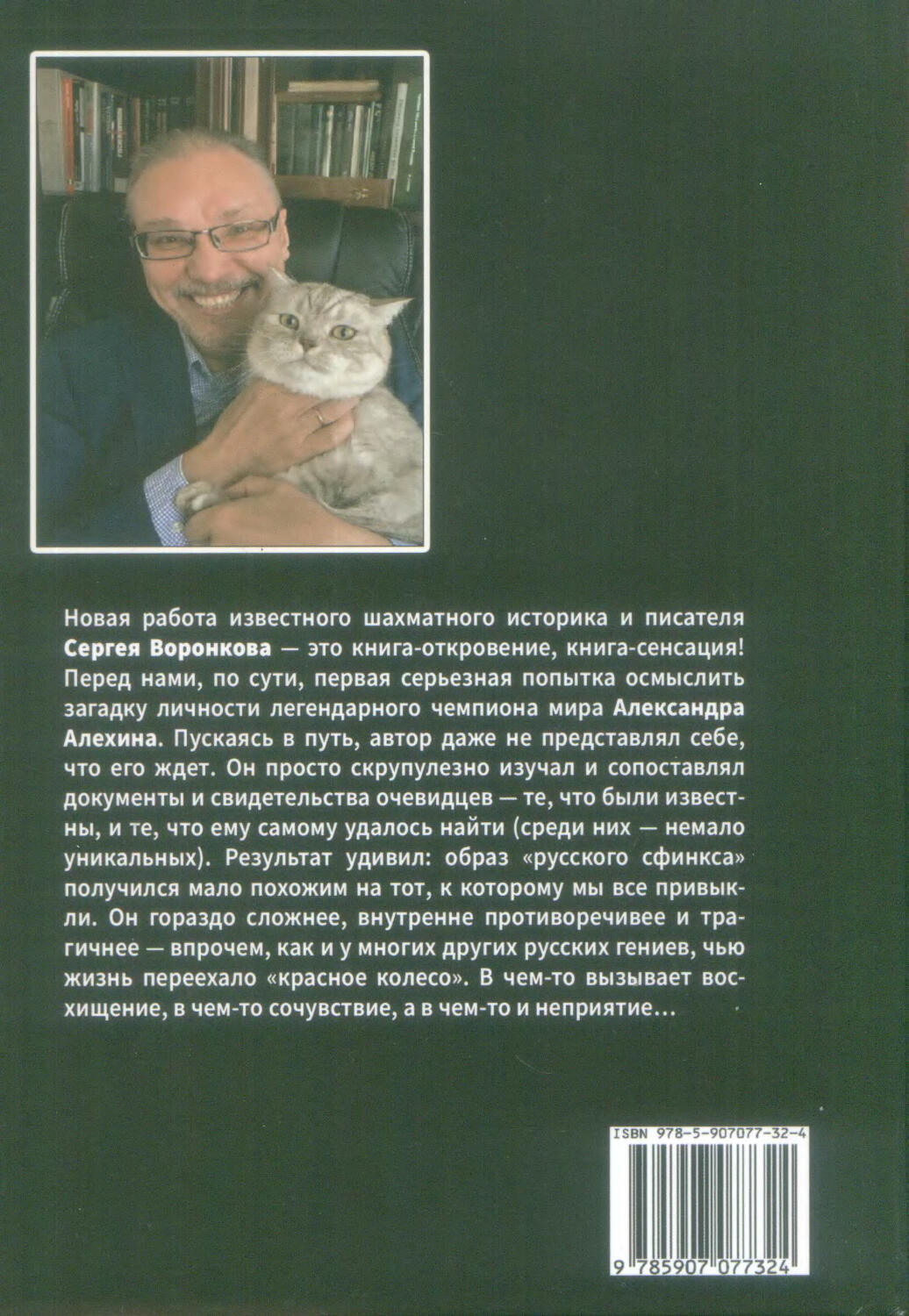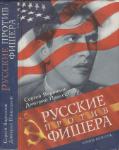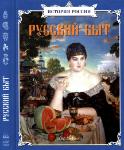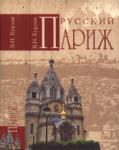Text
СЕРГЕЙ BDPDHKDB
ν!»
^
τ &
СЕРГЕИ BDPDHKDB
РУССКИЙ
СФИНКС
ЯПЕКСННДР ЯПЕХНН
БИБЛИОТЕКИ ФШР
mOCKBfl-ZOZl
УДК 794.1
ББК 75.581
В75
Фото, рисунки и документы из архивов ГАРФ, РГАЛИ, РГВА,
Национального архива Чехии, Кливлендской публичной библиотеки,
Grande Logede France и Музея шахмат России, из личных архивов автора,
а также Ю.Авербаха, МАманназарова, А.Бокучавы, Д.Бронштейна,
Э.Гилюма (Великобритания), Д. Городи на, С.Гридасова, ВДедкова (Латвия),
З.Заводного,Я.Календовского(оба — Чехия), Г.Каспарова, А.Котова, М.Негеле
(Германия), В.Новикова, Д.Олейникова, А.Пётча (Германия), А. Римского-
Корсакова, В.Соколова(Германия), М.Соколова, С.Ткаченко(Украина),
В. Файбисовича, Б. Фоменко, В.Хеуэра (Эстония) и М.Эна (Австрия)
Воронков, С. Б.
Русский сфинкс. Александр Алехин / С. Б. Воронков. - Москва,
2021.-544 с: ил.
ISBN 978-5-907077-32-4
Новая работа известного шахматного историка и писателя Сергея Ворон-
кова - это книга-откровение, книга-сенсация! Перед нами, по сути, первая
серьезная попытка осмыслить загадку личности легендарного чемпиона
мира Александра Алехина. Пускаясь в путь, автор даже не представлял себе, что
его ждет. Он просто скрупулезно изучал и сопоставлял документы и
свидетельства очевидцев - те, что были известны, и те, что ему самому удалось найти
(среди них - немало уникальных). Результат удивил: образ «русского
сфинкса» получился мало похожим на тот, к которому мы все привыкли. Он
гораздо сложнее, внутренне противоречивее и трагичнее — впрочем, как и у
многих других русских гениев, чью жизнь переехало «красное колесо». В чем-то
вызывает восхищение, в чем-то сочувствие, а в чем-то и неприятие...
Воронков Сергей Борисович
Русский сфинкс. Александр Алехин
Книга печатается в авторской редакции
Оформление и верстка Евгений Атаров
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная, бумага офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ №6148 от 01.10.2020
Отпечатано в АО «Первая образцовая типография».
Филиал «Чеховский печатный двор». Сайт: chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1.
Π о вопросам распространения обращаться
к Сергею Воронкову: servoron@maiI.ru
ISBN 978-5-907077-32-4
© Воронков С. Б., 2021
ТЕНЬ ГУЛЛИВЕРА
О живых следует говорить уважительно;
о мертвых - только правду!
Ф.Вольтер
Знаете, что побудило меня взяться наконец за эту книгу? Чувство
долга. Еще в 2001 году, публикуя в «64» одну из неизвестных статей
Алехина, я написал, что «чувствую свою вину перед любителями шахмат
за то, что сижу как собака на сене», и пообещал издать сборник
«Парижский автограф Алехина», в который войдет «богатейшее наследие
русского гения, рассыпанное по парижским, берлинским,
шанхайским, варшавским, рижским, сан-францисским и т.д. газетам».
Однако куча других проектов, сначала совместных («Давид против
Голиафа», «Русские против Фишера»), а потом и собственных («Шедевры
и драмы чемпионатов СССР», «Федор Богатырчук. Доктор Живаго
советских шахмат»), надолго отодвинула реализацию замысла...
Как оказалось, не зря. За эти годы ко мне «притянулось» столько
уникальных документов, связанных с личностью и творчеством
Алехина, что можно только благодарить судьбу, что я не поспешил тогда
со сборником.
Первое такое «притяжение» случилось в 2005 году, когда мне
посчастливилось выйти на сына Георгия Римского-Корсакова,
однокашника Алехина по Поливановской гимназии, и он прислал мне
оригинал воспоминаний отца, опубликованных когда-то в
«Шахматах в СССР». Сравнив тексты, я ужаснулся! В журнале были
вычеркнуты целые страницы, абзацы, фразы, даже отдельные слова - всё,
что могло бросить тень на хрестоматийный образ Алехина. (Так же
поступил журнал и с воспоминаниями актера Григория Ге о Чигорине,
и, помню, сличая текст с оригиналом в «Ниве», я чувствовал себя
настоящим криминалистом. Да, читатель, вот так и лепились в советское
время фигуры «основоположника отечественных шахмат» и «первого
русского чемпиона мира».)
Именно этот случай заставил меня задуматься: а что мы, в
сущности, знаем об Александре Алехине? Не о шахматисте - человеке?
Особенно в «русский» период его жизни (до отъезда за границу в 1921
году), когда он, собственно, и сформировался как личность?.. Если
честно, почти ничего. Казалось бы, столько всего понаписано, даже
художественный фильм снят - а всё как-то мимо, не о том: ощущение
4
Русский сфинкс
фанерной декорации, подделки... «Коротка кольчужка» получилась,
да и, прямо скажем, не совпадает хрестоматийный образ Алехина с
космической глубиной его шахмат. Талантливый, чертовски
работоспособный и очень целеустремленный малый, не более того. Вряд ли
биографы сознательно лепили такой образ. Просто они мерили по
себе, а для Алехина эта мерка оказалась слишком куцей: ведь даже в
чужой биографии мы можем клонировать только самих себя!
Мы даже толком не представляем себе его литературный стиль,
хотя, как известно, стиль - это человек. Ведь все алехинские книги
знакомы нам только по переводам. Но никакой, даже самый лучший,
перевод не в состоянии передать своеобразие и обаяние его текстов.
Разница, поверьте, большая; переводной Алехин изъясняется порой
таким языком, какого выпускник Императорского Училища
правоведения просто не мог себе позволить. Мой старший друг и строгий
учитель, Юрий Львович Авербах вспоминал, как, прочитав роман
«Белые и черные», сказал автору: «Саша, вот Алехин у тебя во сне
говорит: "Спасибо, дяденька Л аскер". Да не мог Алехин так сказать!
Ведь он из богатой дворянской семьи, к нему даже в детстве все на
ивьГ обращались». Котов поблагодарил, обещал исправить в новом
издании. Но так и не исправил...
Потому-то я и хотел издать сборник статей Алехина, написанных
на русском языке. Стиль характерен и узнаваем. Он пишет
длинными, довольно сложными по конструкции фразами, но при этом
изумительно ясно — и подчас образно — формулирует свою мысль,
так что текст читается без усилий, на одном дыхании. Поражает
непривычная, иной раз даже шокирующая прямота в оценках коллег, а
шарм придает скрытая, но всегда ощутимая эмоциональность,
которая почему-то исчезает при переводе...
Надеюсь, теперь понятно, почему свой цикл статей об Алехине на
сайте ChessPro я назвал «Русский сфинкс». Меня настолько увлекла
эта тема, что за три года (2006-2009), урывками от других проектов,
я написал семь объемных статей, причем каждая открывала что-то
новое в биографии и творчестве чемпиона мира. Жизнь
подкидывала такие свидетельства, что дух захватывало: сколько ж всего скрыто
еще в государственных архивах, личных коллекциях, в
дореволюционной, эмигрантской и советской периодике, в мемуарных книгах!
Там на много лет раскопок, а мы всё норовим по лености своей
передрать что-нибудь у предшественников и запустить в оборот по
новому кругу. Вот и похожи биографические книжки «про великих» одна
на другую, как сиамские близнецы: с одними и теми же, набившими
оскомину фактами, партиями и фотографиями...
Кстати, одни воспоминания «притянули» другие, еще более
сенсационные. «Невероятно, но факт: сохранились подробные записки
Предисловие
5
еще одного алехинского соседа по парте, причем в полном виде их
тоже еще никто не публиковал! Но об этом в следующий раз...» Думал
ли я тогда, в 2006-м, что на расшифровку чудом обретенной рукописи
Павла Попова у меня уйдет не один год. Раз за разом подступал я к
неясным местам, продираясь сквозь ужасный почерк, но последний
ребус разгадал совсем недавно, да и то с помощью жены... А ведь эти
записки - самое ценное свидетельство о молодом Алехине,
позволяющее нам в буквальном смысле заглянуть в его душу!
Отдельная песня — раритеты из архива крупнейшего советского
алехиноведа Александра Котова, подаренные мне его вдовой.
Некоторые фотографии Алехина я увидел впервые - сам Котов их почему-
то не обнародовал. Как и очень информативные письма падчерицы
Алехина и ее мужа, с которыми он переписывался... Но больше всего
поразило то, что Котов «утаил» рукопись Алехина с партиями
олимпиады 1920 года! Когда Елена Максовна открыла конверт с этими
рассыпающимися в руках листками («Тут что-то шахматное, я
подумала, вам будет интересно»), я сразу понял, что это за партии. А вот
алехинскую заглавную букву «А», каюсь, узнал только дома, хотя она
уникальна, как отпечаток пальца... В том же конверте оказались и
записи партий Алехина с Николаем Григорьевым, среди которых тоже
много неизвестных.
Пора привести и документы масонской ложи, в которой состоял
Алехин. Их еще в 1994-м отыскал Юрий Шабуров в бывшем Особом
архиве СССР и, переписав от руки, опубликовал - как оказалось,
очень скупо, упустив ряд важных деталей, — в статье «Тайна ложи
"Астрея"». Шли годы, но желающих съездить в архив не находилось.
Пришлось ехать самому. Я сделал копии документов в 2012 году, когда
собирался возобновить на сайте цикл «Русский сфинкс», но...
впервые привожу только сейчас. Вместе с личной карточкой Алехина,
присланной мне из Grande Loge de France - Великой ложи Франции!
Впрочем, не буду пересказывать всех находок, которые ждут
читателя. Ожидаемый сюрприз - уже не сюрприз; пусть каждая глава
будет для вас маленьким (или большим - когда как) откровением.
Скажу только, что, к моему удивлению - я не ставил перед собой
такой масштабной задачи, — книга в итоге охватывает всю жизнь
Алехина: от ранних лет до послевоенных переговоров с Ботвинником...
Ну а в конце книги вас ждет часть того «богатейшего наследия
русского гения», с желания опубликовать которое всё когда-то началось.
Она так и называется — «Парижский автограф», ибо состоит из статей
самого Алехина и интервью с ним. К большому сожалению, не вошли
статьи о его сеансах и о матчах с Капабланкой, Боголюбовым и Эйве,
принадлежащие другим авторам, — в противном случае пришлось бы
издавать второй том. Среди них выделю Евгения Зноско-Боровско-
6
Русский сфинкс
го - на мой вкус, лучшего шахматного литератора той поры (в Тар-
таковере, конечно, больше остроумия и внешнего блеска, но вес и
сила слов — все же другие). Хорошо сказал о его статьях Алехин: «Всё
это шахматные стихотворения, только в прозе». До сих пор помню
чувство восторга от статей Зноско о матче 1935 года - лучше об этой
эпической драме никто не написал и, думаю, уже не напишет. Одна
концовка чего стоит: «Крушение Алехина ярче его побед
демонстрирует истинный его рост. От него осталась только тень. Но и тени
Гулливера достаточно, чтобы покрыть всю страну лилипутов».
Пора представить тех, без кого эта книга не состоялась бы.
Артур Аветисян опубликовал на своем сайте ChessPro первые статьи из
цикла «Русский сфинкс», из которых родился весь проект. Андрей
Римский-Корсаков и Александр Бокучава познакомили меня с
уникальными воспоминаниями об Алехине. Елена Котова подарила
бесценные артефакты из архива своего мужа. Дмитрий Олейников
прислал архивные документы о службе Алехина в Центророзыске и
Коминтерне, Станислав Гридасов — архивные документы о подготовке
послевоенного матча Ботвинника с Алехиным, а Дмитрий Городин
(Германия) - материалы о дочери Алехина и о его работе
переводчиком Коминтерна. Татьяна Колесникович любезно позволила
изучить раритеты из библиотеки ЦДШ, включая юношескую тетрадь
Алехина. Михаил Соколов и Юрий Киреев поделились находками
в старой периодике, а Владислав Новиков сканировал редкие
издания из своей коллекции. Дмитрий Плисецкий стал первым
читателем книги и окинул мастерским оком ее шахматную часть. С
переводами помогли Татьяна, Мария и Анна Плисецкие, а также Яков
Зусманович (США). Словом и делом поддержали Евгений Атаров,
Ян Календовский (Чехия), Александр Кентлер (С.-Петербург), Паа-
во Кивине (Эстония), Захар Коган (Израиль), Владимир Нейштадт
(Барнаул), Станислав Суханицкий, Сергей Ткаченко (оба -
Украина), Вадим Файбисович (С.-Петербург) и Борис Фоменко (Москва).
Москва, сентябрь 2020
ОДИНОЧЕСТВО ГЕНИЯ
Все люди циники, и все слова, прочие правила
общежития существуют только для того,
чтобы приукрашивать простое
эгоистическое чувство...
А.Алехин
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Принято считать, что именно в детстве закладывается матрица всей
дальнейшей жизни. И если хочешь понять судьбу человека, -
покопайся в его прошлом, там вполне могут оказаться ответы если не на
все, то на многие вопросы. Еще Блаженный Августин говорил:
«Дайте мне ребенка в семь лет, и я скажу, каким он будет человеком». Но
как раз о детских и юношеских годах Александра Алехина мы знаем
меньше всего.
Сам он - во всяком случае, в печати - ничего не рассказывал ни о
своей семье, ни об учебе в гимназии (раз только, в статье об игре
вслепую, обронил, что на уроках много анализировал без доски), ни об
Училище правоведения. Не любил говорить и о первых шагах в
шахматах, ограничиваясь фразой, которую можно найти в любой книге о
нем: «Я играю с семилетнего возраста, но серьезно начал играть с 12
лет». И о своих шахматных учителях не вспоминал, и мы знаем о них
лишь со слов других...
Однако с репортерами газет, особенно эмигрантских, он порой
бывал откровенен. «Первые мои попытки играть в шахматы были
слишком удачны, и 64 поля слишком захватили меня, — читаем в
варшавской газете «За свободу!» (15.12.1928). - Разумные родители
охладили мой пыл и строжайше запретили мне соблазнившую меня игру».
Ответил Алехин однажды и на вопрос о первом наставнике:
«Учителем моим был репетитор моего старшего брата» («Новая Заря», Сан-
Франциско, 5.09.1935).
А позже, в интервью испанскому еженедельнику «Semana» (26.10.
1943), возможно, даже поведал о своей первой партии с ним: «Мой
покойный старший брат всегда играл в шахматы. Я много раз
наблюдал за его игрой, когда однажды - мне было около семи лет - начал
играть сам. Мой противник был как минимум на двадцать лет старше
меня. Естественно, я проиграл. Я был так этим поражен, что
разрыдался. С того дня я решил стать таким хорошим шахматистом, что
никто не сможет меня победить».
Одиночество гения
Но причину, по которой
родители «строжайше запретили» ему
шахматы, Алехин так и не назвал.
Завесу тайны приоткрыла его
сестра Варвара - актриса
кинокомпании «Межрабпом-Русь»,
снявшей знаменитую «Шахматную
горячку». Когда после матча в
Буэнос-Айресе ей позвонили в
Москву из ленинградской «Красной
газеты», она не стала хитрить, а
рассказала всё как есть: «Уже с 7-
летнего возраста брат Александр
увлекался шахматами. Увлекался
до болезненности. Дело
доходило до того, что родители
отнимали у него шахматную доску, но
он вставал среди ночи и
занимался шахматами. Возможно, что на
этой почве Алехин и пережил в
детском возрасте воспаление
мозга» (вечерний выпуск, 1.12.1927).
Вот она, ключевая фраза! И
Котов явно слукавил в
«Шахматном наследии А.А.Алехина»:
«Дальнейшему
совершенствованию Алехина помешала
тяжелая болезнь (какая и сколько она
продолжалась - выяснить, к сожалению, не удалось)». Вы скажете,
что Котов не обязан был знать про слова Варвары. Да, не обязан. Но
уж пройти мимо книги «Матч на первенство мира Алехин — Капа-
бланка» (Харьков, 1927), вышедшей под редакцией Алексея
Алехина, он никак не мог. А в предисловии к ней брат подтвердил слова
сестры: «Уже с 6 лет он играл в шахматы. Около семи лет Алехин
заболел воспалением мозга, и ему по выздоровлении было запрещено
играть в шахматы».
Пришлось на год отложить поступление в гимназию. Туда
принимали мальчиков 8-10 лет, и если к осени 1900-го Алехину было семь,
то через год он уже мог поступить, но сделал это только в 1902 году
(на мемориальной доске, висящей сейчас на здании бывшей Полива-
новской гимназии, ошибочно указан 1901-й). Все одноклассники,
о которых мы знаем, были его ровесниками: филолог Павел Попов,
поэт Лев Остроумов, детский писатель и поэт Сергей Шервинский
Варвара Алехина была актрисой
кинокомпании «Межрабпом-Русь»,
снявшей знаменитую «Шахматную
горячку». Кадр из фильма «Рваные
башмаки» (1933), в котором она сыграла роль
учительницы.
Все мы родом из детства
9
родились в 1892 году, поэт Вадим Шершеневич, писатель и поэт
Николай Позняков - в феврале 1893-го. Годом младше только
литератор Сергей Эфрон, будущий муж Марины Цветаевой, - он с
октября 1893-го, зато музыковед Георгий Римский-Корсаков родился еще
в 1891-м...
Насколько болезнь помешала «дальнейшему
совершенствованию» в шахматах? Алексей пишет, что «только после 9 лет Алехин
снова начал игру в шахматы». Это значит, что запрет мог длиться три
года: с осени 1899-го, когда Саша заболел, по осень 1902-го, когда
он поступил в гимназию. Хотя, по словам Романовского, Алехин ему
рассказывал, что «восьмилетним и девятилетним мальчиком он
часто играл со своим старшим братом».
Но почему родители вообще запретили ему шахматы? Ведь
причиной менингита является не перенапряжение мозга, а вирусная или
бактериальная инфекция. Уж не потому ли, что во время болезни у
ребенка был шахматный бред? На эту мысль меня натолкнул рассказ
Зное ко-Боровского о том, как он в 16 лет заболел тифом, но первую
неделю провел на ногах, да еше играя матч с сильным соперником:
«Когда я наконец свалился, болезнь "бросилась на мозг", и я
беспрерывно бредил и, в частности, разыграл про себя, будто по переписке,
целый турнир при восьми участниках. Это нисколько не было
мучительно, скорее даже приятно - и, вероятно, никогда я так хорошо не
играл, как в этих вымышленных партиях».
Ничего удивительного: в таком измененном состоянии сознания
мозг работает на пределе своих возможностей, а «пробуждение»
возвращает к реальности. «Таль рассказывал, что был в Риге один
сумасшедший, все время выигрывал у него в шахматы. Потом лег в
больницу и вылечился. После этого стал проигрывать» (из книги драматурга
В.Славкина «Разноцветные тетради», Москва, 2017).
Подробности о болезни Саши мог бы поведать знаменитый
детский врач Нил Федорович Филатов, который, оказывается, лечил «у
Прохоровых», то есть в доме у Алехиных. И даже играл там в
шахматы! Об этом пишет его племянник, тоже знаменитый врач -
офтальмолог Владимир Петрович Филатов:
«Дядя Нил прекрасно играл в шахматы, не занимаясь, однако,
теорией игры за неимением времени. Игре, если случалось сесть за
столик, отдавался с увлечением, с азартом. Однажды он опоздал к обеду,
сославшись на то, что задержался у Прохоровых. На следующий день
он опять опоздал, и опять были виновны Прохоровы; получил
замечание от жены, поддерживавшей дисциплину в доме. На третий день
опоздание на целый час - и опять задержался у Прохоровых. Когда и
на четвертый день произошло опоздание (всё из-за Прохоровых), то
произошел допрос и пришлось покаяться.
10
Одиночество гения
"Я, - рассказывал дядя Нил, - уходил от Прохоровых, посмотрев
больного, и вижу, сидит гимназист лет тринадцати и сам с собою
партию в шахматы играет. А ну-ка, говорю, поставь фигуры - я с тобой
сыграю. Думаю, обыграю его в несколько минут, да и пойду А он мне
мат закатил. На другой день опять мат.
Я на третий день уже не мимоходом играю, а нарочно раньше
приехал, играю изо всей силы, а он мне опять шах и мат. И так же на
четвертый и пятый день - всё шах да мат
- Да что же это за мальчишка такой?
-Да это племянник С.Н.Прохорова (вероятно, Сергея Ивановича*),
Алехин его фамилия".
Потом стало уже понятно, на какого гения шахматной игры
наскочил дядя Нил. И тогда домашнее правительство запретило дяде Нилу
заезжать без нужды (ребенок выздоровел) к Прохоровым»
(изсборника «Филатов В.П. Рассказ длиною в жизнь...», Одесса, 2011)**.
Поскольку Нил Федорович умер в феврале 1902-го, понятно, что
играл он с Алексеем. Тот оказался в тени своего гениального брата,
но тоже обладал выдающимся талантом. Приведу семейное
предание, которое я вычитал в книге их двоюродной племянницы Веры
Ивановны Прохоровой «Четыре друга на фоне столетия» (Москва,
2012): «Говорили, что брат Алехина был еще более одарен, чем
знаменитый шахматист. Но тоже сильно пил. Как и папин брат-чемпион».
О таланте Алексея говорит потрясающая по своей точности
характеристика игры младшего брата, которая почему-то выпала из поля
зрения алехиноведов. Когда вы будете читать полемику между
Алехиным и Зноско-Боровским по поводу Морфи (см. главу «В силе и есть
настоящая красота»), не поленитесь — перечтите приводимую цитату:
мне кажется, она ставит точку в их многословном споре о
позиционной и комбинационной игре!
Алексей Алехин: «Теперь мы знаем, что никто не достиг такого
совершенного знания позиции, как Алехин. Но для Алехина это
знание - лишь почва, на которой должны произрасти чарующие цветы
комбинационной игры. Композитор должен знать законы физики,
законы акустики, но не это или не только это знание рождает гения,
композитора.
И, как героическую симфонию Бетховена нельзя свести к отделу
физики Хвольсона, так и гениальную комбинацию шахматиста нельзя
свести к законам позиционной игры. Между Таррашем и Алехиным —
непроходимая пропасть. Законы позиционной игры должны позна-
* Здесь и далее все курсивные вставки в цитаты и в комментарии к партиям
принадлежат мне (С. В.).
** Все вставки мелким шрифтом в книге, в том числе и в цитатах,
принадлежат мне (СВ.).
Все мы родом из детства
/I
ваться, но, так же как у Бетховена
законы физики, эти законы позиции
должны переходить в
подсознательное, самый же творческий процесс -
в комбинационной игре» (из книги
«Матч на первенство мира Алехин
Капабланка», 1927).
О том, что Филатов лечил
именно Сашу, говорит не только
фраза «ребенок выздоровел», но
и то, что его «малолетняя сестра
Ася» (полное имя - Анна)
умерла не в 1 900 году, как утверждает
Шабуров, а на десять лет раньше
(1886-1890) и покоится в той же
часовне-усыпальнице
Прохоровых на Новодевичьем кладбище,
что и отец Алехина...
Помните слова Варвары о том,
что брат увлекался шахматами
«до болезненности»? И что
родители не прятали от него доску,
как везде пишут, а «отнимали»?
Этих важных деталей вы не
найдете в книгах об Алехине: из
рассказа Варвары в них дословно
цитируют только фразу о самой
болезни, а всё остальное дают в пересказе. Или даже опускают вовсе,
как, например, такой пассаж: «Шахматное увлечение отразилось на
характере Алехина - он очень нервный, нелюдимый, вечно
задумчивый, поразительно рассеянный». Вам это никого не напоминает? Мне
так сразу вспомнился герой набоковского романа, и стало понятнее,
почему именно в Алехине многие увидели прототип Лужина...
Рассказ Варвары вообще очень содержателен. И меня удивляет,
что его (в отличие от эмигрантских газет) не перепечатал ни один из
трех выходивших тогда в стране шахматных журналов, даже частные
«Шахматы». Еще больше удивляет, что никому не пришло в
голову встретиться с Варварой, чтобы подробно расспросить ее о брате,
посмотреть на фотографии, письма и другие семейные реликвии.
Неужели они пропустили мимо ушей ее фразу: «У меня сохранилась
первая запись нашей игры с братом, сделанная им. Вообще он любил
в детстве записывать игру, изучал партии, даже пытался их
комбинировать».
Алексей Алехин. По семейному
преданию, «брат Алехина был еще более
одарен, чем знаменитый шахматист».
Рисунок из «Новой вечерней газеты»
(Ленинград, 1925).
12
Одиночество гения
Упомянула сестра и о том, что
«5-летний сын Алехина уже
знаком с шахматами. Имеется
фотография, где маэстро-шахматист
снят со своим сыном за
шахматной доской». Вы видели такую? Я
не встречал... Как и ту, о которой
сын Алехина рассказал Авербаху
при встрече в Москве в 1992 году:
«У меня дома есть еще более
ранняя фотография, где я тоже снят
вместе с отиом. Там мне меньше
года». А ведь у Варвары могли
быть и другие снимки,
присланные или переданные с оказией
братом! А письма, они же тоже
были? Жаль, безмерно жаль, что
тогдашние журналисты
оказались так нелюбопытны.
«Очень нервный, нелюдимый,
вечно задумчивый...» Во всех
этих чертах характера брата
Варвара винила «шахматное
увлечение». Но только ли в шахматах
дело? Не исключено, что
повышенная нервозность Алехина,
которая запомнилась
одноклассникам по гимназии, была след-
он еще легко отделался. Будущий
первый советский гроссмейстер Борис Берлинский, перенеся в
детстве менингит, стал в сущности инвалидом, страдая потом всю жизнь
расстройством речи и почти полной потерей слуха.
Однако не исключено и другое: что своим чудесным
комбинационным даром Алехин тоже был обязан воспалению мозга! Из
книги С.Ландау «Элегия Михаила Таля» можно узнать, что «в возрасте
шести месяцев Миша перенес тяжелую инфекцию с очень высокой
температурой, судорогами и ярко выраженными менингиальными
явлениями. Врач сказал, что вряд ли мальчик останется жить, но при
благоприятном исходе после таких заболеваний вырастают великие
люди...»
Из Алехина, как мы знаем, вырос великий шахматист. Но был ли
он велик во всем? Загадкам личности и творчества первого русского
чемпиона мира и посвящена эта книга.
Вопреки бытующему мнению, алехин-
ская сестра Лея умерла не в 1900 году,
а на десять лет раньше. Она
покоится в той же часовне-усыпальнице
Прохоровых на Новодевичьем кладбище,
что и отец Алехина...
ствием менингита. Между прочим,
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
13
МОЯ ФАМИЛИЯ, БАТЮШКА,
АЛЕХИН, А НЕ ОЛЁХИН
Это только в пословице: что написано пером, не вырубишь топором.
Еще как вырубишь! Не знаю, как там на Западе, но в СССР
воспоминания современников кромсали как хотели. Историки без затей
переписывали их своими словами, создавая как бы свой текст; цитаты
надергивали по вкусу, безжалостно обрубая всё, что не ложится в
«авторскую концепцию». Редакторы тоже не церемонились:
вычеркивали абзацами, не говоря уже о фразах и словах... Думаете, я сгущаю
краски? Вовсе нет. За мной, читатель, вас ждет настоящий детектив!
Воспоминания Г.Корсакова «Мой сосед по парте» были
напечатаны в «Шахматах в СССР» к 75-летию Алехина (№ 9, 1967). Но в
книге «Александр Алехин» (Москва, 1973) я вдруг наткнулся на
фразу Корсакова, которой нет в тексте. Откуда ж Котов ее взял? Может,
из алма-атинского журнала «Простор» — места первой публикации?
Увы, поиски журнала в интернете оказались тщетны, но принесли
неожиданный улов: статью Андрея Римского-Корсакова «Странный
гимназист» («Российские вести», 23.11.2005), в которой он обильно
цитировал воспоминания отца, скрыв его, правда, под литерой «Р.»
(Римский-Корсаков). Только здесь мне стал очевиден масштаб
геростратовой работы, проделанной в «Шахматах в СССР»! Оставалось
идти в Российскую государственную библиотеку и с замиранием
сердца ждать того момента, когда тебе выдадут подшивку «Простора»
и можно будет наконец прильнуть к первоисточнику...
Самое время представить автора. Георгий Алексеевич Римский-
Корсаков (1891 — 1971) был родственником великого композитора,
внуком знаменитой меценатки Надежды Филаретовны фон Мекк.
Получил блестящее образование: две элитные гимназии и Училище
правоведения. В Первую мировую командовал эскадроном в армии
Брусилова. Уцелев в годы гражданской войны (он сражался на
стороне красных), стал искусствоведом, сотрудником Бахрушинского
театрального музея. В конце 20-х, когда начались репрессии против
«бывших», расстреляли его дядю (но ГА. сумел уберечь от
уничтожения хранившуюся у дяди переписку Н.Ф. фон Мекк с Чайковским!),
потом родного брата отправили в лагерь на Колыму Чтобы избежать
их участи, ГА. при всеобщей паспортизации 1933 года сократил
фамилию... В 1941-м, после вызова в НКВД, уехал в Казахстан, в
город Петропавловск, и назад не вернулся. Преподавал в музыкальном
училище, поражая студентов и коллег высокой культурой, отличной
памятью и широтой знаний. Ушел на пенсию только в 78 лет...
Фраза из книги Котова и впрямь нашлась в «Просторе» (№ 9,
1966), но меня ждал новый ребус: в журнале не было некоторых фраз.
14
Одиночество гения
приведенных А.Римским-Корсаковым! Это могло означать только
одно: у сына сохранился оригинал статьи. Но как на него выйти?!
Оказалось, в наш электронный век разыскать в Москве телефон
человека не составляет труда... Трубку снял сам Андрей Георгиевич.
Узнав о цели звонка, он любезно согласился прислать мне по имей-
лу авторский оригинал отца и даже две его фотографии в Училище
правоведения!
Чтобы дать читателю возможность оценить «масштаб бедствия», я
при первой публикации (сайт Chesspro, 2007) всё изъятое в
«Шахматах в СССР» — а это несколько страниц! — выделил курсивом, а
фразы и слова, которые есть только в оригинале, еше и подчеркнул. Но
в книге решил отказаться от этого — мешает читать, да и смотрится
неряшливо. При желании можете зайти на сайт и всё сами увидеть
(https://chesspro.ru/_events/2007/voronkov_alekhine_l.html).
Георгий Римский-Корсаков
ГИМНАЗИСТ АЛЕХИН
Это было в 1905 году. Я учился тогда в Москве, в частной
гимназии Л.И.Поливанова, известного в свое время педагога. Гимназия
имела хорошую репутацию. Говорили о скромности, серьезности
и воспитанности учащихся, а также о хорошем подборе
преподавателей. Действительно, при мне русскую литературу преподавал
Л.П.Вельский, известный переводчик «Калевалы», математику
сначала - Н.И.Шишкин (брат известного художника), потом Бачинс-
кий, молодой художественный критик, экономическую географию -
известный статистик-экономист Игнатов, русскую историю — Ю.В.
Готье, впоследствии академик.
К началу занятий в шестом классе (точнее, в четвертом; первые
три класса Георгий учился в гимназии Карла Мая в Петербурге) я
запоздал и должен был занять единственное свободное место во втором
ряду, на крайней к окну парте. Моим соседом оказался паренек,
ничем не примечательный на первый взгляд, с удивительно будничной,
простецкой внешностью. Курносый, рот большой, с плотно сжатыми
тонкими губами. Во рту довольно желтые зубы. Рыжеватые, светлые
волосы, сбившиеся спереди на лоб, в виде плохо промытой
мочалки. На бледном лице веснушки. (Рыжина и веснушки!По словам
Сергея Шишко, который в 1919 году учился с Алехиным в киношколе, «это
был довольно высокий, худощавый, слегка рыжеватый блондин с
легкими веснушками».) Длинные, не очень чистые, красные пальцы, с
обгрызенными до мяса ногтями. Руки всегда холодные. Голос довольно
высокий и немного скрипучий. Пожалуй, все же глаза были
наиболее примечательным органом в этом, вообще говоря, малопривлека-
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
15
тельном юноше. Глаза были водянисто-прозрачные, желтого отлива
(а вот Шишко запомнил «небольшие светлоголубые глаза»), ничего не
выражающие - «пустые». Когда он глядел, то нельзя было быть
уверенным, что он видит что-нибудь, и смотрел он не на собеседника, а
через него, в пространство. Походка у парня была легкая и быстрая,
но какая-то вихлястая, неврастеничная, и, кроме того, он имел
привычку дергаться, как-то вдруг выпрямляясь, спереди назад закидывая
голову и обводя вокруг невидящими глазами, презрительно сжимая
при этом свои бескровные губы. Зрение у него все же, очевидно, было
плохое, так как читал он, очень близко наклоняясь над книгой.
Одежду его составляли черная гимназическая куртка с ремнем и брюки,
довольно потертые, не первой свежести. Таким образом, внешний
вид моего соседа был далеко не элегантный и мало располагающий к
себе. Фамилия его была -Алехин.
С первых же дней ученья я почувствовал себя крайне одиноким.
Привыкнув в гимназии к дружескому общению со своими соседями
и чувству локтя, я был поражен отчужденностью Алехина. Сначала я
принимал его молчание за выражение личной неприязни ко мне, но
вскоре понял, что Алехин совершенно одинаково безразлично
относится ко всему классу. Понял я и причину того, что единственное
свободное место в классе оказалось рядом с Алехиным. Надо заметить,
что ничего враждебного в отношении класса к будущему чемпиону
О МОЛОДОСТИ Апсхниз. в частности, о годах ого учения,
олуОеикигамо ничюжио мдяое количество материалов.
Поэтому мы считаем, что чит*т«»чм вудет интересно «я-
макомнться С эоспомииэмирми Г. Kopcawoe» — гнимМиче·
ского тоыомшв Алехина, опубликованными а журчало
«Простор» (А/!#Л-Дги1
Алв-хнн-гнаназист обрисован в воспоминания» Г. Корея*
ким человеком, уже в itf годы саЯамСиенпо увлекшимся
шахматами.
Однако у помни нет ля исеии анбви-ими Алехина его К>е-
погяощамиаап люоовь к шахматам не помечала еелнноогу
швхие-гисту стать широнообраэое.ишь.м челоаеном,
обладавшим большим крутогором.
Воспоминания Г. Корсакове солс-ртот любопытные дета-
гя. Отметим юяъяо ди неточности. «Первая зиачнтелвивя
певвда на шахматном поле» — ι пр*ч на всероссийском
турнире любителей е Петербурге (1W9) была одержана
Алехиным не поспе гоступления в училище правоведения, в
еще когда он учился в седьмом классе гимназии Полпмяо-
вэ. Едаа пи Алежи и играл по пеоеЛиСив с партнерами, ж-»·
шнми α «Чикаго, Претощим или Мельбурне». Участники тур·
иирое по переписке, а хотоомч учествовел Алехин, жили а
гораздо более близко расположенных от Москвы мвелл*.
МОИ СОСЕД
ПО ПАРТЕ
Это были а \Ю~ 1ч.«ду. ι С первых же д>юП уче-
Я учился тогда π Москвы, шы меня порааила «мчуж-
в частной гнмпсэин Л. И. деппость Алехина. Сначл-
К 75-петню со Дня рождения
А. Алехина
шахматной верешиаш ем)
явно не хватало, хотя он
грудился вовсю. Ни хаи-
гало ему корок м бум<и*
для писаиип шахматмэ»
аплан. Исчерпав свои м-
тела бумаги, свои гетра
ли и книги, он. нисколько
не етесняяа,, принимался
за мои, чертя на них
изображение шахматной лос
ни и движечие фигур. Об
думав ответ на прислан
ИЫЙ ему ХОД НАНОГОШ1
будь партнера, Алехин в
свою очередь брал
почтовую карточку к. няпкеяв
на т1СЙ свой ход,
адресовал ее нуда-нибудь о
ЧшСаго. Преторию пли
Мьльбури.
Весь у»лублем:ый 8
СВОИ Ша.ОвмГНЫе Д'.'ЛВ.
Алед:ш наст:,.1ы;о
исключался на окружающей ею
РСТМ. что не всегда hi:ik>
сную работу по алге5ре.
Все юнцы цритнхли,
Одни ученики, раскрасив к·
шнеся. иитиые, вааолао-
ванные, поскрипывая
иерьяхи, торинячхи
скорее c^atb письменную ьа·
биту. Другие — бледные.
растерянные,
оглядываются по сторонам, зевм
своим жалким видом взывая
ι; товарищеской домощи.
Вдруг Алехин стреми
тейыго встает, с сияющим
ляцом молча обводит
класс главами и в то же
время, по всегдкшией яри
амчке, Kfiytvrr левой
рукой шиж волос,
сбившихся на лсб,
— Ну. что, Алечнп,
решили? спрашивает
кто пр1'пг>даип1иль 1эачни
cjoiii.
— Решил H жертвую
Ш.ЧЯ... И ."ГЛЬИ: ЗЫИГРЫ-
Воспоминания одноклассника Алехина - искусствоведа Георгия
Римского-Корсакова из «Шахмат в СССР» (№ 9, 1967). Сравнив текст с оригиналом, я был
потрясен масштабом геростратовой работы, проделанной в журнале!
16
Одиночество гения
не было. Но вто время, когда между гимназистами разных
характеров и разного социального и бытового положения устанавливались,
на время пребывания в стенах школы, определенная солидарность и
взаимопонимание, между Алехиным и классом стояла какая-то
преграда, не допускающая обычных товарищеских отношений.
Алехин «присутствовал» на уроках, но не жил интересами класса.
Не только никогда у меня с ним не затевалось каких-либо
задушевных разговоров, но я не помню, чтобы мы вообще когда-либо
разговаривали.
Несмотря на свое отличное знание всех предметов, Алехин
никогда никому не подсказывал. Первое время при устных ответах я еще
рассчитывал на помощь своего соседа, но он упорно молчал, не
обращая внимания на красноречивые толчки моего колена и пинки
кулаком в бок. Сначала это возмущало меня, так как даже лучший
ученик в классе, Лёва Поливанов, сын нашего директора, и тот
иногда не удерживался, чтобы не подсказать товарищу Такое поведение
Алехина могло происходить от очень большого эгоизма или от
нежелания отвлечься, хотя бы на минуту, от своих шахматных мыслей.
На всех уроках, кроме латинского языка, который преподавал
директор гимназии, Алехин был занят решением шахматных задач
(скорее, ансишзом партий) и обширной корреспонденцией. Уже тогда он
играл шахматные партии «на расстоянии» с партнерами всего мира.
Частная гимназия Льва Поливанова на Пречистенке считалась одной из лучших
в Москве.
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
17
Но времени для шахматной переписки ему явно не хватало, хотя он и
трудился вовсю. Не хватало ему порой и бумаги для писания
шахматных задач. Исчерпав свои запасы бумаги, свои тетради и книги, он,
нисколько не стесняясь, принимался за мои, чертя на них
изображение шахматной доски и движение фигур. Обдумав ответ на
присланный ему ход какого-нибудь далекого партнера, Алехин в свою
очередь брал почтовую карточку и, написав на ней свой ход, адресовал
ее куда-нибудь в Чикаго, Лондон или Рио-де-Жанейро. Само собой
понятно, что он получал много таких же почтовых карточек со всего
света с разными марками. Но «профанам» в шахматной игре, вроде
меня, до них нельзя было дотрагиваться. Нечего было и думать
получить от Алехина какую-нибудь редкую почтовую марку республики
Коста-Рики, Нигерии или Зеленого Мыса (явное преувеличение).
Весь углубленный в свои шахматные дела, Алехин даже на уроках
Закона Божия и французского языка, когда все ученики, кроме
сидящих в виде заслона на первых партах, предавались каким-нибудь
приятным занятиям, вроде игры в шашки, домино и даже карты, или
читали о приключениях Шерлока Холмса, или, наконец, мирно
дремали, - Алехин один не отвлекался от своего шахматного труда. Он
настолько исключался из окружающей его среды, что не всегда ясно
сознавал, где он находится и какой идет урок.
Знаете, кого это напоминает? Фишера! «Одноклассник будущего
чемпиона мира вспоминает, как на одном из уроков, когда Бобби
привычно изучал на карманных шахматах какую-то позицию, учитель
прервал занятие и сказал: "Фишер! Я не могу заставитьтебя слушать и
не играть в шахматы, но будь добр — делай это хотя бы без доски!" Не
сказав ни слова, Бобби тут же убрал шахматы и застыл как изваяние,
но все, включая учителя, знали, что он продолжает анализировать
вслепую» (из книги Г.Сосонко «Конь Калигулы», 2019).
Бывало, вдруг начнет вставать из-за парты. Класс затихал и
напряженно ждал, что будет дальше. Постояв немного с растерянным
видом и покрутив свой рыжий чуб, Алехин вдруг издавал радостное
«Ага!», быстро хватал ручку и записывал придуманный ход. Если
преподаватель задавал ему вопрос, то он, услышав свою фамилию,
быстро вскакивал и некоторое время стоял молча, обводя класс своими
прищуренными, подслеповатыми глазами, искривив рот в
болезненную гримасу, как бы стараясь понять, где он находится и что от него
требуют. Всё это происходило не больше пары секунд, после чего
лицо Алехина прояснялось и на повторный вопрос учителя он
отвечал быстро и без ошибки.
Учился Алехин отлично. Когда и как он готовил уроки, не знаю.
Но он обладал исключительной памятью, и ему достаточно было на
18
Одиночество гения
перемене заглянуть в учебник, чтобы запомнить заданный урок.
Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи
углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что
преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические
замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы
притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные,
поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу
Другие — бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем
своим жалким видом взывая к товарищеской помоши. Вдруг Алехин
стремительно встает, с сияющим лицом молча обводит класс глазами
и в то же время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок
своих мочальных волос, сбившихся на лоб.
- Ну что, Алехин, решили? - спрашивает его преподаватель Ба-
чинский.
- Решил... Я жертвую коня, а слон ходит... и белые выигрывают!
Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда
сдержанный и корректный Бачинский.
У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к
самым различным общественным группам московского населения.
Были купцы - Морозов и Прохоров; аристократы - Долгорукие и
Бобринские. Дети профессоров и адвокатов - Шершеневич, Гартунг;
представители революционной интеллигенции - Лобачев и Клопо-
тович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких
служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень
состоятельных родителей. Отец - крупный землевладелец Воронежской
губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных
московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого Алехина не было
во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика,
ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее
всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может
быть, сына бухгалтера или мелкого торговца. (То же впечатление он
произвел спустя годы на Ольгу Чагодаеву, жену Капабланки: «...к нам
подошел какой-то белобрысый господин, похожий на продавца в
магазине. Это был Алехин».)
Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую
фамилию. Так, когда наш «батюшка» о.Розанов, вызывая Алехина
отвечать урок по Закону Божию, постоянно называл его «Олёхиным»,
с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также
неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя
фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».
К концу учебного года у меня с Алехиным отношения
обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у
меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы де-
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
19
литься повседневными мелочами нашего школьного быта и
обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же,
безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных
занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько
ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за
«жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к
Алехину, и получить их от него было крайне трудно, и мне
приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по
рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на
протяжении целого года, то давала мне основание считать ее
проявлением злой воли.
Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий
товарищ. (Позднее об этом же напишет Макс Эиве: «Подлинных друзей
он (...) не мог иметь, лишь одних почитателей и сторонников».) Я не
помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на
волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он
ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел,
чтобы он читал какую-нибудь книгу (сравните с приведенными ниже
воспоминаниями П.Попова). А между тем многие из нас зачитывались
сборниками «Знания», где печатались Горький, Л.Андреев, Вересаев,
Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцыбашева,
Амфитеатрова. Увлекались« Паном» Гам суна, Ибсеном, Шницлером. Коне-
Гимназисты царской России. Начало 20-го века.
20
Одиночество гения
Слева - Георгий Римский- Корсаков в парадном белом мундире студента Училища
правоведения (1912). Из архива А. Римского-Корсакова. Справа - Александр
Алехин на турнире в Стокгольме (1912).
чно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо
усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко
презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.
Были у нас и восторженные почитатели Большого театра,
Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о
новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке
Шаляпина на гастроли в Италию и многом другом. Завидовали тем, кто
носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую
шапку - лодочкой, - как Качалов. Были такие ученики, у которых в
ранце было больше фотографий балерин, чем учебников...
Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт
композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому,
должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот
концерт организовала семья С.Г.Аксакова, внука писателя, сыновья
которого учились в нашем классе.
Не писал Алехин и писем Л.Н.Толстому с просьбой разрешить
вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоявших на пороге
мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназиче-
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
21
ского зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии,
словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал
Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену погибшие в
общественном мнении ученики наспех жадно глотали дым папирос,
при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих
больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув
на них, а может быть, и не заметив их.
Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не
могла оставаться равнодушной к переживаемым страной
революционным событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы,
занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам,
гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе
событий. Так, мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила
Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете,
мать его - известная общественная деятельница В.Н.Бобринская -
заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали,
что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в
Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из
«черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же
предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в
общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен
буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и
построиться.
Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого
оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под
полы наш знакомый художник Б.Н.Липкин. И, наконец, все же я
достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик,
который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное
действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но
покалечить, особенно себя, было нетрудно. И стоил он... один рубль
50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участия в первой
русской революции. На углу нашего Никольского переулка и
Сивцева Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка
Д.Н.Ушаков, а позднее и профессор консерватории К.Н.Игумнов,
появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее
продавец из угловой москательной лавки.
Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем,
несколько досок, унесенных мною с нашего двора, не сделали нашу
баррикаду более грозной и неприступной. Защитников не было, и
дворники разобрали ее в несколько минут, чтобы она не мешала
движению по переулку.
Пускай это была детская игра в революцию, но эта игра
свидетельствовала о наших симпатиях и наших настроениях.
22
Одиночество гения
В книге воспоминаний Вадима Шершеневича «Великолепный
очевидец», написанной в 1936 году, но увидевшейсветтолько в 1990-м, об
Алехине всего одна фраза: «В одном классе со мной рядом на парте
(точнее, на соседней) просидел все гимназические годы и
гроссмейстер, чемпион шахматного мира Александр Александрович Алехин».
Впрочем, и о других одноклассниках он лишь упоминает.
Когда возобновились школьные занятия, у многих из нас было
что рассказать друг другу. Но Алехин и тут, кажется, не проявил
никакого интереса к нашим рассказам, и он глубоко обидел меня тем,
что, взглянув на мой пистолет, несколько раз дернул головой вбок и
презрительно улыбнулся.
Потом, когда я перешел учиться в Петербург, я узнал, что Алехин
поступил на университетский курс Училища правоведения. У меня
были друзья среди правоведов, товарищей Алехина по курсу, и, бывая
у них, я встречался и с моим гимназическим товарищем (как видите,
автор скрывал свою учебу в Учиаище правоведения; он проучился,
правда, только один курс, предпочтя службу в лейб-гвардии Конной
артиллерии). Встречи эти не доставляли мне никакого удовольствия, да и ему,
Правоведы в дортуаре - так называлась общая спальня для учащихся в закрытом
учебном заведении. Во втором ряду крайний слева - Г. Римски й-Корсаков. Из
архива А. Римского- Корсакова.
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин
23
по-видимому, также. Тогда же я услышал, как потешались правоведы
над необыкновенной «профессорской» рассеянностью Алехина, над
его «штатской» душой, над отсутствием у него мундирной выправки
и особенно над его неуменьем пить вино, что по неписанному
кодексу чести некоторых правоведов считалось крайне предосудительным.
(Впрочем, позднее он, кажется, этому научился.)
Рассказывали, что Алехин мог при случае по рассеянности вместо
треуголки — установленного для правоведов головного убора -
надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр
и выйти так на улицу, за что он и подвергался суровым выговорам
со стороны начальства училища. Впрочем, в этот период его жизни в
рассеянности и чудачествах Алехина, я думаю, много было от
юношеского озорства, желания порисоваться, отличиться, почудить. Когда
товарищи бурно и весело реагировали на какие-нибудь
удивительно «чудные» выходки Алехина, то у него самого появлялись в глазах
какие-то веселые искорки, и лицо выражало отнюдь не смущение, а
чувство самодовольства и удовлетворения: «Вот, мол, я какой - мне
всё нипочем, а вот вы попробуйте-ка...» (Вапрые 1917-го композитор
Сергей Прокофьев записал в дневнике, что Алехина «всегда рад видеть
за его некоторую "экзотику "», по выражению поэта Бориса Верина,
который спрашивал: «Александр Александрович, вы экзот ?») Отношения
мои с Алехиным испортились оттого, что я принимал его выходки
«всерьез», вместо того чтобы обращать их в шутку.
Вскоре по поступлении в училище Алехин одержал свою первую
знаменательную победу на шахматном поле (Всероссийский турнир
любителей он выиграл, будучи еще гимназистом). Во всех газетах и
журналах появились его фотографии. Появились и карикатуры. Так,
в «Петербургской газете» (точнее, в журнале «Огонек») Алехин был
изображен в виде мальчика-гимназиста, несущего громадный кубок-
приз и согнувшегося под его тяжестью. Это дешевое остроумие было
рассчитано на невзыскательные вкусы петербургских обывателей,
читателей этой бульварной газеты.
Потом началась война. За ней пришла революция, и я больше
Алехина не встречал. То, что мне позднее удалось узнать о чемпионе
мира по шахматам, указывало на то, что мой беспокойный сосед по
школьной парте во многом изменил свой характер и свое отношение
к окружающему его миру.
Дорога, по которой он шел к славе, не всегда была прямой и
ровной. Кроме радости побед и успехов, он знал и горькие минуты
поражений. Совершал он и крупные ошибки при выборе пути.
Происходящие, как я думаю, во многом от недостаточного знания жизни,
которую он проглядел за недосугом, и неуменья поэтому разбираться
в реальной обстановке.
24
Одиночество гения
Теперь, по прошествии многих лет, для меня ясно: странности
характера и чудачества Алехина, которые выделяли его из массы
школьников, причиняли беспокойство окружающим его юнцам или
вызывали у них насмешки, были признаками его исключительной
одаренности. Не будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь
русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения
полувековой давности, памятуя только, что Алехин, как шахматный
мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу
русскому имени.
Казахстан, г. Петропавловск, 1960 г.
ВЛИЯНИЕ АЛЕХИНА БЫЛО ДУРНОЕ, ПАГУБНОЕ
Невероятно, но факт: сохранились воспоминания еше одного
соседа по парте! Причем, в отличие от предыдущих, эти были написаны
явно не для печати: по уровню откровенности - и беспощадности -
они больше напоминают дневниковые записи. Их автор - личность
тоже весьма неординарная. Семья Павла Сергеевича Попова (1892—
1964) принадлежала к кругу просвещенного московского
купечества. Всем четверым детям родители дали блестящее образование:
сыновья закончили университет, дочери - высшие женские курсы.
Завершали обучение заграничные поездки: Италия, Греция...
Философ, литературовед, да еще «социально чуждый» - при
советской власти таким была прямая дорога в тюрьму. Не миновала чаша
сия и Попова. Дружба с опальными философами Павлом
Флоренским и Алексеем Лосевым привела в 1930 году к аресту, потом еще
одному, и полгода пребывания в одиночной камере на Лубянке
«совершенно расшатало его нервную систему». Благодаря хлопотам жены
(Павел Сергеевич был женат на внучке Льва Толстого - Анне
Ильиничне) ему удалось выйти оттуда живым и даже стать потом
профессором Μ ГУ, а вот старший брат, музыковед, был расстрелян в 1937 году
«за антисоветскую агитацию и контрреволюционную деятельность».
Добавлю, что Попов - один из ближайших друзей Михаила
Булгакова и автор первого биографического очерка о нем (написан
сразу после смерти писателя, но опубликован лишь полвека спустя).
Именно ему вдова Булгакова тайно передала драгоценную
реликвию - машинописный экземпляр «Мастера и Маргариты», который
хранится сейчас в фонде П.С.Попова в отделе рукописей РГБ...
Но как ко мне попали эти записки? Если коротко: просто чудом.
Мне и сейчас не верится, что крохотная зацепка в интернете привела
к такой грандиозной находке!
Начну с того, что имя Павла Попова историкам шахмат хорошо
известно. Цитаты из его «Воспоминаний об А.А.Алехине» (бюллетень
Влияние Алехина было дурное, пагубное
25
«Турнира памяти Алехина» № 16,
1956) кочуют из книги в книгу.
Приведу текст в том виде, как он
был опубликован.
Попов: «Мне довелось
четыре года просидеть с Тишей
Алехиным на одной парте
вплоть до окончания
частной классической гимназии
Л.И.Поливанова.
Впечатления об
Александре Алехине школьного
периода могут послужить
иллюстрацией к словам самого
Алехина. Как известно, он
писал: "Посредством шахмат
я воспитал свой характер.
Шахматы прежде всего учат
быть объективным. В
шахматах можно сделаться большим
мастером, лишь осознав свои
ошибки и недостатки".
В гимназические годы
Тиша был несобранным,
развинченным мальчиком.
Помнится, каким я его
впервые увидел. Он опоздал
на первый урок по истории.
Преподавателем был Ю.Готье, впоследствии академик, очень
доброжелательно относившийся к Алехину. Со своей парты я увидел в дверях
как бы в испуге остановившегося мальчика, взлохмаченного, с
угловатыми, неровными движениями. Нервность Алехина бросалась в глаза и
накладывала печать на всё его поведение и характер.
Гимназические годы Алехина протекали в неблагоприятных
домашних условиях. Отца он почти не видел: Александр Иванович
Алехин был воронежским предводителем дворянства и членом
Государственной думы, поэтому местопребыванием его были Петербург или
Воронеж. Мать, урожденная Прохорова, была болезненной женщиной.
Жизнь богатого дома отличалась беспорядочностью, безалаберностью,
что накладывало свою печать на впечатлительного мальчика. Тише не
сиделось дома; бабушка устроила ему комнату в одной из
многочисленных своих квартир. Он был предоставлен самому себе, никто не
контролировал его чтения, его занятий и поведения. В гимназии Тиша
учился неровно. Его время и мысли были заняты шахматами.
Большинство преподавателей относилось к Алехину
благожелательно. На педагогов и на товарищей произвело исключительное
впечатление его участие в Петербургском шахматном турнире, когда он,
Будущий историк философии Павел
Попов — еще один однокашник Aiiexuna,
оставивший воспоминания о своем
соседе по парте.
26
Одиночество гения
гимназист седьмого класса, завоевал первое место. Играл он в
шахматы и в гимназии. Его постоянными партнерами были ученики Лев
Поливанов, Лев Остроумов, Вадим Шершеневич. Нередко во время урока
вдруг слышался довольно громкий голос Тиши, передававшего
очередной ход своим партнерам. Мы сидели близко от учителя, но
преподаватели сравнительно мягко реагировали на эти "шахматные шалости".
Странным образом, Тиша был способным учеником по многим
предметам, впрочем, за исключением математики. Он писал очень
хорошие сочинения. До сих пор я помню два сочинения Алехина на
темы: "Влияние природы на чeлoвeκa,' и "Драматургия Пушкина и
Шекспира по «Борису Годунову» и «Макбету»". Тиша хорошо владел
французским языком, безошибочно писал по-французски; по
истории Ю.Готье неизменно ставил ему пятерки. Но по математике дело
все же не ладилось. Не всегда помогали даже репетиторы.
Алехин к урокам почти не готовился, его тетради и книги были в
беспорядке, почерк неразборчив. Но характерно, что наряду с этим
шахматные записи Алехина были четки и велись систематически.
Шахматные занятия были залогом воспитательной работы Алехина
над самим собой. Часто перед уроком Тиша на скорую руку
"интервьюировал" меня, неизменно готовившего все уроки. Получив
краткие сведения по тому или иному предмету, он умело создавал ответ в
целом. Память у него была отличная.
В юношеские годы у Алехина была мысль сделаться дипломатом,
в связи с чем он и поступил в Петербургское училище правоведения.
Перед ним встала дилемма: карьера дипломата или шахматы? Свой
выбор он произвел безошибочно. Любимое искусство принесло ему
неувядаемую славу. Шахматы воспитали в нем волю и выработали
характер».
Очень интересный текст, но для четырех лет соседства по
парте явно маловато. Вспомните подробные воспоминания Римского-
Корсакова, а ведь он проучился с Алехиным всего год... И вот как-то,
листая книгу Юрия Шабурова «Александр Алехин: непобежденный
чемпион» (1992), я вдруг обнаружил фразы Попова, которых не было
в той публикации. Откуда ж они? Может, были другие его
воспоминания, о которых я не знаю? (Так и оказалось: см. стр. 43)
Посмотрел книги об Алехине, библиографию статей о нем -
ничего нет. Полез в интернет — тоже ничего... Стал тогда изучать все
файлы с упоминанием Попова. И что вы думаете? В «Ежегоднике
МГУ за 2004 год, философский факультет» нахожу отчет о заседании
в МГУ, посвященном его памяти. Скользнул взглядом по фамилиям
выступавших — и вдруг в самом низу вижу: «Внучатый племянник
П.С.Попова, доцент кафедры истории русской литературы
филологического факультета A.M.Бокучава рассказал о наследии и архиве
своего деда». Так, значит, архив сохранился?! Теперь оставалось
только разыскать племянника.
Влияние Алехина было дурное, пагубное
27
Позвонил на кафедру, представился, спросил, как я могу увидеть
доцента Бокучаву. Мне вежливо ответили, что Александр
Михайлович болеет. Перезвонил через пару недель - всё еше болеет... Не
помню уж на какой раз, попросил его телефон. Неохотно, но дали.
Звоню, весь в предвкушении! Никто не подходит. И так несколько
месяцев... Когда я уже совсем отчаялся, однажды трубку все-таки сняли.
Александр Михайлович оказался милым, потрясающе
эрудированным человеком, но, к сожалению, очень болезненным, что
надолго затянуло поиски рукописи об Алехине. О том, что такая рукопись
в архиве есть, A.M. сообщил еще в первом телефонном разговоре, и
это грело мне душу. Да и наши редкие (раз в год) встречи были
интересными и насыщенными...
Когда я наконец заполучил текст, моей радости не было предела!
Хотя сразу же понял, на что я себя обрек. Какие-то слова и фразы я
понимал с ходу, но в целом почерк был такой, что не пожелаешь и
врагу... Намучившись с ксероксом, выцаганил у A.M. саму рукопись,
чтобы сканировать и потом изучать текст уже по экрану, где можно
увеличить каждую буковку. И все равно на расшифровку ушли годы.
Но я об этом ничуть не жалею, потому что результат превзошел все
ожидания. Такого откровенного портрета молодого Алехина еще не
было, а в нем, если приглядеться, ключ ко всей его жизни!
Датировать воспоминания удалось случайно: по зачеркнутой
фразе «Мне на днях стукнет 50 лет». Попов родился в августе 1892
года - выходит, об Алехине писал летом 1942-го, когда немцы рвались
к Волге и судьба страны висела на волоске... В дальнейшем он не раз
возвращался к тексту, о чем говорит множество поправок. Сам текст
написан фиолетовыми чернилами, а поправки сделаны голубыми и...
целым веером карандашей: большей частью — простым и черным,
изредка - синим и красным.
Павел Попов
О МОЕМ ПРОСЛАВИВШЕМСЯ
ГИМНАЗИЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕ
Я поступил в пятый класс Поливановской гимназии осенью 1906 года.
Занял я случайно место за партой вместе с новичком, Манухиным,
перешедшим к нам из лицея, - очень тупым и неинтересным.
Занятия уже давно начались, и прошло около двух-трех недель, как вдруг
среди урока появился довольно растрепанный белокурый мальчик,
как-то растерянно остановился у дверей, точно не зная, куда девать
руки и ноги. «А, Алехин, — сказал учитель (это был Готье,
впоследствии академик), — где же вы пропадали?» Во всем классе произошло
движение, словно при появлении чего-то смешного.
28
Одиночество гения
Держался Алехин нервно. Он не мог спокойно ни стоять, ни
сидеть за партой, постоянно дергался, крутил одной рукой волосы, из-
под рукавов куртки у него все время вылезали плохо прицепленные
манжеты. Ногти были изгрызены, руки красные. Касаться их было
неприятно, точно это — лягушачьи лапы, холодные и мокрые от пота.
Кроме того, на одной руке у него была экзема. Как потом
выяснилось, ему трудно было от нее избавиться, так как он все время
непроизвольно тер руки.
Так же беспорядочно Алехин учился. Рассказывал он и владел
языком плохо, не от неразвитости, а от волнения и нервности, не
находил нужных выражений, мычал, растягивал слова. Уроки учил на
переменах, подготавливался неважно (сначала Попов написал «плохо»,
но потом исправил). Но он был сообразителен и очень неглуп, что
сразу обращало на себя внимание, и я решил занять с ним парту вместе,
мне он казался интересным. Так я просидел с ним рядом три с
половиной года подряд - в пятом, шестом, седьмом и восьмом классах.
Лучше всего шли у Алехина русский и французский языки. Он писал
интересные и хорошие сочинения. Наш преподаватель русского
языка Л.П.Вельский обычно одобрял его писания (поверх зачеркнутого
«ставил ему пятерки»), только бранил за почерк и неаккуратность.
Листки и тетради у Алехина постоянно были покрыты чернильными
пятнами, он не промокал написанного, поэтому страницы слипались
и т.п. В сочинениях он был оригинален. Так, нам была задана сравни-
1 Ufa . b*P*^h ^^^^ ** i^^f ^ u
j£j L^u u^Mu. ********* ^ U^^
Hum
Страница рукописи Павла Попова «Об одном моем прославившемся
гимназическом товарище» (1942). Из архива Л. Бокучавы. Публикуется впервые.
Влияние Алехина было дурное, пагубное
29
тельная характеристика «Бориса Годунова» и «Макбета». «Бориса
Годунова» мы частично знали наизусть; западноевропейская литература
у нас не преподавалась вовсе, и Шекспир невольно казался далеким
незнакомцем. Потому меня очень удивило, когда Алехин мне сказал:
«При сравнении у меня все преимущества оказываются на стороне
"Макбета"; насколько Шекспир выше Пушкина».
Он легко и свободно читал французские романы. «Воскресение»
Толстого он прочел, когда роман только что появился, то есть когда
Алехину не было и десяти лет. Так его занимало и интриговало, чем
интересуются взрослые. Нас объединяла любовь к Чехову. Среди
забав мы занимались следующим испытанием на соревнование.
Называлось заглавие рассказа Чехова, самого мелкого. Противник должен
был в точности рассказать содержание. И наоборот - рассказывается
сюжет, надо вспомнить заглавие. Я позднее убедился, что это не так-
то просто. Последние два года я почти сплошь занимался Чеховым и
заметил, что часто заглавие выскальзывало из памяти. Но тогда
память была бойкая, юношеская.
Алехин был хорошо грамотен. В шестом классе произошел такой
казус. Бельский рассердился на орфографические ошибки в
сочинениях и сделал нам каверзный проверочный диктант. Он диктовал
нарочитые фразы вроде следующего текста на букву ять: «По верным
сведениям ведение и ведение этого дела вверены сведущему
человеку» (эти слова писались по-разному: ведете и вдHie, потому что первое
от глагола вести, а второе от вд ти — знать). И мы наделали массу
ошибок. На смежных партах сидели: я с Алехиным, далее Поливанов
(сын директора, ныне профессор математики в Горьком) и Остроумов
(поэт и писатель). Поливанов, Алехин и я получили по четверке;
пятерка была только у одного Остроумова, оказавшегося наиболее
грамотным; затем были две тройки, далее следовали двойки и единицы.
Интеллектуальная развитость была сравнительно высока.
Бельский задал тему «Корни учения горьки, плоды его сладки».
Остроумов перевернул пословицу и доказывал, что всё зависит от
дарования. Если его нет, то ничего не высидишь. Лучший пример -
Максим Горький: босяк, и стал писателем, и вовсе не от систематичности
своего образования, образования никакого и не было в формальном
смысле слова. Бельский балл не поставил, но раскритиковал
содержание, доказывая, что Горький - исключение. Спор с Остроумовым
длился чуть не полчаса. В результате Остроумов в корне переделал
свое сочинение и должен был перевернуть свою идеологию под
натиском преподавателя. Остроумов, будучи гимназистом шестого
класса, написал письмо Толстому с вопросами морального
характера. Толстой ему ответил. Конечно, это составило сенсацию среди
гимназистов.
30
Одиночество гения
Алехин любил оригинальничать, я же стремился быть
ортодоксально-консервативным в рассуждениях и тему «Щедрость и
расточительность» построил на тексте из Библии: «Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив».
Ни одного сочинения Алехина не сохранилось. В фонде Павла
Попова в отделе рукописей РГБ я нашел несколько сочинений его
одноклассников на тему «Какими благами обязана новая Европа древнему
миру», но алехинского среди них не было. Сочинения написаны на
роскошных «фирменных» бланках, с выдавленным влевом верхнем углу
названием - в пять строк прописными буквами: Учебное заведеже /
съ курсомъ/гимназж, /учрежденное/Л.И. Π оливановымъ.
Учителей Алехин задирал. Учителю математики, когда тот
заставил Алехина стереть всё написанное на доске и нарисовать наново
геометрическую фигуру, он сказал как бы в скобках, обратившись
к классу: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».
Законоведение у нас преподавал будущий крупный ученый Степан
Борисович Веселовский. Но он был абсолютно не педагогом, над ним
смеялись и игнорировали его, тем более что он был очень
тщедушен - мал ростом и говорил тонким тенорком, который терялся в
гудящем классе. Алехин позволял себе невероятные дерзости, так что
раз мне сделалось прямо холодно от дерзких слов и
пренебрежительного тона Алехина. Веселовский только осторожно заметил:
«Ужасно у вас развязные манеры, Алехин».
Алехин любил разные штучки. У нас был преподаватель-латинист,
незабвенный С.П.Гвоздев. Он стал преподавать только с седьмого
класса. До этого мы его знали лишь как молчаливого
преподавателя, который мчится через зал с охапкой книг. Гвоздев носил очень
темные очки, был очень толст и ходил очень быстро. Алехин говорил
мне: «Осторожно, вот мчится ветер смерти, он тебя забодает». Если
впопыхах спросить Алехина: «Алехин, есть у тебя ручка?», он
неизменно отвечал: «Конечно» и протягивал свою руку, добавляя: «Так и
быть — возьми».
Всего хуже шла у Алехина математика. Это парадокс в связи с тем,
что шахматный талант считается обычно координированным с
математическими способностями. Математика шла настолько дурно у
Алехина, что он прибегал к репетитору. На выпускном экзамене он
не решил задачи по тригонометрии, ему была поставлена двойка,
настолько он напутал. До устных экзаменов он был допущен условно.
На устном ответе ему натянули по тригонометрии четверку и вывели
в среднем тройку.
Он почему-то робел перед учителем математики Алексеем
Андреевичем Игнатовым. Тот на него действовал магически, и Алехин
Влияние Алехина было дурное, пагубное
31
Суввсль, 28 февраля (13 марта) 1909 г.
JV· 9
шмата игыгкзднл шш^
ЛлЕЪДМПкВШ'СШИШЮ
ТУРМИГЯ Г.ЙШИНЬ
/W^ )(Шк (3^\г " P^rST^4*^
I
0|.11ГИЦа.и>цыД рнсумань Пыр-0 ллл г. . ι.
Обложка журнала «Огонек» (№ 9, J909) с первым шаржем на Алехина. Хотя
круглолицый карапуз с рогаткой в кармане на него совершенно не похож...
Публикуется впервые.
32
Одиночество гения
терялся. Вижу, как Алехин беспомощно стоит перед доской,
переспрашивает коснеющим языком: «Что, что?» Что-то пишет на доске,
но тотчас же стирает написанное тряпкой или старается заслонить
своей фигурой, стремясь скрыть возможную ошибку. Слышу голос
Игнатова: «Алёхин (только один Игнатов звал его на «ё», остальные
произносили «Алехин»), отойдите от доски, бросьте тряпку. Я вам
говорю, бросьте тряпку». Алехин возвращался на место, весь
измазанный мелом. Каксейчаспомню,какмыс ним сидели перед роспуском
гимназии на масленицу, на последнем уроке математики. До звонка
оставалось минут пять-десять; мы предвкушали вместе отправиться
на Кузнецкий и зайти в кафе. Вдруг вызывается Алехин, он сразу
начинает путать. Игнатов ставит двойку, и перед самым звонком у
Алехина уже настроение пало, и все планы рухнули.
Шахматами Алехин занимался сызмальства. В комнате у него
всегда стояли шахматная доска с разбросанными шахматами и
контрольные часы. Шла игра и в классах по время уроков. Партнером был
обычно Поливанов, реже будущий поэт Шершеневич. У Поливанова
в парте лежала тетрадка, там была нарисована шахматная доска, и он
помечал карандашом фигуры, при новом ходе стирая ранее
помеченные. Алехин всегда и фал к l'aveugle (вслепую - φρ.). Вдруг в классе
на мирном уроке Закона Божия раздавалась неожиданно реплика:
«Ферзь е7-е6»; или «Конь d3». Учитель возмущался, но в общем
отношение было снисходительное. Алехину делались поблажки.
Будучи гимназистом 7 класса (а не 8-го, как обычно пишут), Алехин
участвовал в турнире в Петербурге, взял приз и получил премию —
великолепную вазу Императорского фарфорового завода. С ней он
снят, у меня хранится фотография. В «Огоньке» была карикатура:
пузатый маленький гимназистик волочит вазу. Карикатура абсолютно
не похожа, да и форменную гимназическую одежду Алехин никогда
не носил; наша гимназия была частная. (В младших классах носим — см.
воспоминания Римского-Корсакова.) Алехин мечтал прославиться. Эта
идея у него бродила с малых лет. Он намечал оди н из двух путей - или
сделаться дипломатом, или шахматистом. Я советовал остановиться
на первом, считая, что шахматы — мелкая забава и ничего серьезного
не представляют. Алехин неизменно предлагал с ним сыграть в
шахматы, давая вперед туру или коня. Я, отшучиваясь, отвечал: «Сыграем
лучше в бирюльки или шашки». Так я с ним ни разу в жизни не
сыграл ни одной партии и не был активным участником сеансов
одновременной игры (карандашом поверх зачеркнутого «не присутствовал
ни на турнирах, ни на сеансах одновременной игры»).
Наши встречи намечались так. Алехин говорил: «Сегодня играю в
шахматном клубе на Бронной, приезжай в 12 часов ночи; нет, вернее
в полпервого, вместе поужинаем». Я приезжал, когда сеанс уже бывал
Влияние Алехина было дурное, пагубное
.?.?
на исходе; помню, как Алехин
ходил, кончая игру, вдоль ряда
столиков, весь красный, крутя
волосы и пошатываясь. Он продолжал
играть в воображении, когда уже
участниками игра была
закончена, рассеянно здоровался, думая
о другом; в ресторане никак не
мог заказать себе сразу кушанья,
всё переспрашивал: «Что, что?»
И только через полчаса приходил
в себя. В последний раз я его
видел за игрой в Красноармейском
клубе рядом с Художественным
театром в 1921 году, он ходил
среди шахматистов-красноармейцев
в нетопленом помещении, но
также был нервно взвинчен.
Своих планов сделаться
дипломатом Алехин не оставил.
По окончании гимназии он стал
готовиться к поступлению в
Училище правоведения в Петербурге.
Пришлось держать
дополнительные экзамены по языкам,
главным образом по французскому.
Но это давалось ему легко. Затем
он переехал в Петербург,
постоянно наезжая в Москву. Обычно
он по приезде появлялся утром, часов в 11, в полной форме правоведа
в треуголке и, если заставал меня дома, тащил в гимназию, к
большой перемене. Он ходил по классам, младшие товарищи обступали
его, рассматривали мундир. В Алехине наряду с неприятной иронией
было много элементарного тщеславия.
Вряд ли я когда увижу Алехина, да и время такое, что можно
подвести итог прошлому, скрывать нечего ни о себе, ни о других (поверх
зачеркнутого «Мне на днях стукнет 50лет, пора поговорить»). И я
должен чистосердечно сказать: влияние на меня Алехина было сильное,
и влияние дурное, пагубное. Если есть в натуре элементы
подражательности, то всегда имеется опасность перенимать черты
бессознательно, бесконтрольно и подчиниться влиянию нежелательному. Моя
натура была такова, и многое пустило во мне отрицательные ростки в
связи с постоянным соседством с Алехиным. У Алехина был настоя-
Приезжая из Петербурга в Москву,
Алехин, по словам Павла Попова, «в
полной форме правоведа в треуголке»
шея «в гимназию, к большой
перемене. Он ходил по классам, младшие
товарищи обступали его,
рассматривали мундир».
34
Одиночество гения
щий культ своего «я»; чужие интересы, чувства для него не
существовали; он все время хотел что-то выиграть для себя, он комбинировал,
делал всячески, чтобы чего-то достичь, используя других. (Сравните
с оценкой Эйве: «До такой степени он был сконцентрирован на своих
шахматах и на самом себе, что в наших странах его в шутку именовали
"Алейн-их" — по-немецки "я один"».) Поэтому Алехина искренне
радовало, когда он кого обманывал, используя это. Меня он втягивал
в такую атмосферу. Он просит: «Напиши мне скорее письмо, а то я
хотел узнать, что сообщают в письме брату, и присвоил его, разорвал
конверт, а прислуга знает, что было письмо, мне нужно теперь иметь
другое письмо для доказательства того, что я ничего не перехватывал,
а адрес был на мое имя».
В фонде Павла Попова есть его, вероятно, выпускное сочинение,
так как оно датировано 1 мая 1910 года (экзамены были в мае).
Тема - «Купеческая среда в изображении Островского». Когда я его
читал, меня не покидало ощущение, что Попов... подсознательно сводит
счеты с Алехиным, в котором благодаря бабушкиному воспитанию
преобладало, наверное, купеческое начало:
«Особенно ярко изобразил Островский одну черту характера
купцов: это - самодурство. (...) Сознания нравственного долга у самодура
нет; "не обманешь, не продашь" - вот его правило в деле торговли.
(...) Самодур своим упрямством и отсутствием нравственной чуткости
оказывает очень дурное влияние на семью и подчиненных...»
Мы устраивали любительский спектакль и ставили «La petite choco-
latiere» - пьесу, нашумевшую у Сабурова (антрепренер Симон
Сабуров служил в театре «Эрмитаж», где шла «Маленькая шоколадница»,
в 1904—1908 годах). Главную роль играла барышня-любительница,
за которой мы все более или менее ухаживали. Она предпочитала
Алехина. Он сделал вид, что увлечен, поссорил ее с другими
кавалерами, а затем показал, что она ему глубоко безразлична. Та
недоумевала. Он заявил: «Ничего не следует пропускать, что дается в руки, -
надо это или не надо. Вы мне плыли навстречу, я на всякий случай
взял. Потом рассмотрел, что вы мне неинтересны (поверх
зачеркнутого «лишняя»), и отбросил». - «Но это гадость, цинизм», -
возмутилась барышня. «Я действую сейчас в открытую, цените это. Все люди
циники, и все слова, прочие правила общежития существуют только
для того, чтобы приукрашивать простое эгоистическое чувство; а я
обнажаю дело, вот и всё». - «А со мной можно так поступать, потому
что я ничтожество, а вы — выдающийся человек?» - «Да в сущности,
именно так, вы правы». Алехин снялся на Невском в моментальной
фотографии в своем правоведческом мундире, подарил мне снимок
и подписал: «Женщины — это наше счастье, женщины - это наше
Влияние Алехина было дурное, пагубное
35
несчастье» (увы: в фонде Попова в отделе рукописей РГБни одного
снимка Алехина не оказалось!).
Но сущность его заключалась не в погоне за женщинами, где он
сам попадал на удочку, а в погоне за славой; он отличался
грандиозным честолюбием, бешеным, сопровождаемым ненавистью ко всему,
что нужно преодолеть и победить (это «вечно пылающее честолюбие»
отметил и Шпильман в своей книге «О шахматах и шахматистах»). Тут
можно говорить о настоящей злобе, которую так художественно
изобразил Шопенгауэр. Пример Шопенгауэра: в таком состоянии
человек может убить другого только для того, чтобы смазать жиром свои
сапоги, раз нужно добиться блеска своей обуви.
Зноско-Боровский: «Помню, когда Алехин впервые появлялся в
Петербурге, в Шахматном собрании или в турнирах, многие
оправдывали свои поражения ему словами:
- Как ему сопротивляться? У него такая жажда выиграть, такая
великая воля в нем к победе, так целиком входит он в игру, что ему
нельзя противостоять!
И действительно. Маленький гимназист садился за шахматную
доску, лицо его пылало, глаза горели и жгли противника. Он вносил в
шахматы всю страсть, всю пылкость своего темперамента и еще
недавно напомнил нам эту черту своего характера, когда в одной
бесконечной партии (Тартаковер — Алехин, Земмеринг 1926)} где несчастную
пешку он хотел превратить - и превратил - в победу, он, часами мучая
нашего обшего доброго друга Тартаковера, говорил:
- В шахматах надо быть злым» («Последние новости», Париж,
9.03.1928).
Можно говорить об аморализме натуры моего приятеля. У меня
была погоня за тем, чтобы быть первым учеником. Это было
ложное внушение, исходившее от семьи. Μ не было раз навсегда сказано:
«Твой старший брат - первый ученик в классе, неужели ты будешь
хуже?» И я тянулся, был, как говорится, пятерошником, что было
жизненной ошибкой моих гимназических лет. Я за все время
пребывания в гимназии получил всего раз тройку с плюсом. Для меня это
было неприятным эпизодом.
Алехин подстроил мне следующий казус. Я не был по болезни на
уроках. Вечером он мне позвонил по телефону и сказал, что Вельский
(учитель словесности) раздавал сочинения, мою работу он, Алехин,
взял, там стоит четверка. Я спросил, есть ли какие пометки,
замечания. «Никаких». Я привык получать за сочинения пятерки;
сочинение в данном случае было ответственное — мы кончали восьмой
класс, но я решил не спрашивать Вельского, почему он мне снизил
балл. Наутро Алехин мне передал тетрадь, там стояла карандашная
четверка и больше ничего. Вельский прочитывал ученические работы
36
Одиночество гения
с карандашом в руках. Передавая работы на руки, он заносил в общий
балльник (табель) отметки. И вот оказалось, что в общем балльнике
против моей фамилии стояла пятерка. Алехин, чтобы уязвить меня,
стер пятерку Вельского и заменил ее четверкой. В журнале он
подделывать не решился - заметил бы учитель. Но он мне с гордостью
признался, что достиг своего, расстроив меня, и сделал это искусно.
«Я хотел переделать пятерку на тройку, но ты бы не поверил; я стер,
заменив четверкой, - это правдоподобнее, и достиг своего: ты два
дня был в убеждении, что написал сочинение хуже обычного». Не для
того он учинил подлог, чтобы отучить меня от погони за хорошими
отметками, - ему доставило удовольствие расстроить меня.
Конечно, мы ссорились, но мы были молоды, и обиды скоро
забывались. Он умел оскорбить. Раз мы поссорились, и он был не прав.
Но он сказал: «А все-таки ты довезешь меня до дому». Я обычно
нанимал извозчика до Новинского бульвара, где я жил, и завозил
Алехина в Никольский переулок, где была его квартира. Я ответил: «Нет,
я поеду один». - «Нет, ты завезешь». - «Не завезу». И я действительно
удивился, что он сел в пролетку рядом со мной. Но я принял
решение не говорить, чтобы извозчик повернул из Денежного в
Никольский, - по Денежному шел мой прямой путь домой. И решил, что,
если Алехин скажет: «Извозчик, направо», - я остановлю и сойду с
экипажа. Но Алехин сумел выйти из затруднительного положения и
пихнуть меня морально. Он велел извозчику остановиться на углу
Денежного и вышел, со мной не простившись и повернув ко мне спину.
Ссоры зарубцовывались, и Алехин не обострял конфликты, до
конца мы сидели за одной партой. Может быть, тут играло роль то
обстоятельство, что я считался всезнайкой в классе и ко мне все
обращались на переменах с вопросами. Перед уроком латинского языка
я обычно делал товарищам перевод заданного латинского текста, а
перед уроком математики - анализ задач. Сидя рядом со мной,
Алехин мог пользоваться моей подготовкой в первую очередь.
Наследственность у Алехина была дурная, а семейство, к которому
он принадлежал, - беспорядочное. Его отец, помещик Воронежской
губернии, был предводителем дворянства. Получил юридическое
образование. Был членом Думы, в Москву наезжал редко (в Думу его
изберут в 1912 году, когда сын уже закончит гимназию). В Москве
семейство Алехиных снимало особняк в Никольском переулке. Мать
Алехина-Анисья Ивановна, рода Прохоровых, приходилась сестрой
владельцев Трехгорной мануфактуры, Сергея и Николая Ивановича.
В доме Алехина я бывал очень часто, но мать никогда не видел. Она
почти не выходила за пределы своей спальной. Обычно говорилось,
что она больна. Впоследствии я узнал, что она - безнадежная
морфинистка.
Влияние Алехина было дурное, пагубное
37
У нее было трое детей: Алексей, Александр и Варвара. Алексей,
юрист по образованию, также был шахматистом, но гораздо
меньшего калибра, чем брат, всемирно прославившийся. Позднее он жил
в Харькове. Это был приветливый, очень мягкий человек,
внешне производивший скромное впечатление по сравнению с Тишей-
шахматистом. Алексей был спокойным и внешне уравновешенным.
Варвара имела склонность к театру, впоследствии выступала в
Камерном театре (1914-1917), выйдя замуж за одного артиста.
Хозяйство вела немка, гувернантка-экономка. Внешне дом
производил очень благообразное впечатление. Гостиная, кабинет,
столовая - всё было в большом порядке. За всем неустанно следила
экономка. Если бы не она, от квартиры в неделю ничего бы не осталось.
Более беспорядочных и безалаберных людей, чем Алехины, трудно
себе было представить. Амалия Федоровна, как, кажется, звали
экономку (согласно Шабурову - Мария Федоровна Кесяер), с утра
выясняла, где кто был. Определялось, что пропало: две пары калош, зонтик,
палка, сумка. Начинались поиски утраченного: Варя забыла зонтик,
Тиша - калоши. Амалия Федоровна созванивалась по телефону, и
посылали к знакомым за забытыми вешами.
Один и тот же учебник приобретался Тишей четыре-пять раз. Книг
он обычно домой не носил, они оставались у него в парте в
необычайном хаосе, потом постепенно утрачивались. Когда бывали гости
у молодежи, то они входили в хорошо прибранную комнату. Затем
появлялись окурки на столе и на полу, вино проливалось на скатерть
и ковер, и комната превращалась в хлев перед уходом гостей. Затем
посторонние руки должны были всё прибрать.
В доме Алехиных происходили репетиции любительских
спектаклей, вечера. В них Тиша растворялся, и я его фигуры не помню. Не
помню, какую роль он играл в «Маленькой шоколаднице». На
репетиции иногда приходила сестра Варвара Александровна. Она
считалась компетентным судьей, так как уже дебютировала в
Художественном театре, где в закрытом спектакле играла Раневскую в «Вишневом
саде». Помню, что она похвалила игру стариков - [нрзб] и меня. Я в
любительских спектаклях всегда играл плохо, но тут роль
комического старика мне удалась. Алехин играл совсем неудачно. Показательно
и то, что в конце концов спектакль так и не состоялся. Главную роль
играла одна артистка Художественного театра. Она отказалась. Ее
заменила другая. В результате интриг, которыми заправлял Тиша, и она
отказалась.
Самые приятные воспоминания от совместных вечеров с Тишей
остались у меня от мая 1910 года. Мы тогда держали выпускные
экзамены. Я взялся репетировать Тишу накануне самих экзаменов. Мы
проходили с ним самые трудные вопросы. Происходило это, как ни
38
Одиночество гения
странно сказать, - на извозчике. Часам к восьми вечера ко мне
подъезжал Тиша на лихаче. Это был извозчик на дутых шинах. Его Тиша
нанимал на два часа, и он вез нас в Петровский парк или в
Сокольники. Я задавал вопросы. Помню, так мы повторяли физику,
хронологию по истории. Накануне последнего экзамена 4 июня, по русскому
языку, мы не поехали в парк, а пошли втроем в сад «Эрмитаж» - я,
Алехин и Коля Львов, сын члена Государственной думы Н.И.Львова.
Мы решили, что Вельский проваливать напоследок не будет, и пошли
в оперетту Помню, как мы на заре возвращались втроем на одном
извозчике, жизнь тогда казалась благим будущим.
На самом экзамене был комичный эпизод. Львов пришел на
экзамен в грязных башмаках. Директор Поливанов, прогуливаясь по
залу с экзаменационной комиссией, сказал: «В этих башмаках вы
моей гимназии не кончите». Ясно, что надо было переменить обувь.
Но экзамен шел быстрым темпом. Помню: стали вызывать одного с
начала, другого - с конца. Первым пошел Алехин, я оказался в
конце, так как моя фамилия совпадала с серединой алфавита. Львов не
мог сообразить, скоро ли ему предстоит отвечать, и не решился ехать
домой переобуваться. Выручал всегда швейцар Василий. Он достал
ботинки, но они были странные, на одну ногу - от двух пар. Львов
их кое-как надел, но едва сумел в них пройти к экзаменационному
столу. Я заметил, что строгий Иван Львович Поливанов ухмылялся
себе в бороду.
Императорское Училище правоведения располагалось в Петербурге на
набережной реки Фонтанки.
Влияние Алехина было дурное, пагубное
39
Алехин ликовал, что он уже не гимназист. Я же отвечал последним;
как сейчас помню, мне досталось «Дворянское гнездо» Тургенева.
Было странное ощущение, что для нас всех через пять минут
гимназия перестанет существовать.
В грязной швейцарской каморке расторопный Василий уже
приготовил несколько бутылок шампанского, так что, когда мы через
полчаса входили в новеньких пиджачках в ресторан «Прагу», чтобы
кутнуть, мы уже были навеселе,
Алехин любил кутнуть, но пьяным я его не помню. Вообще не
помню его особого пристрастия к алкоголю, так что не очень верил
версии, будто вследствие припадка алкоголизма он проиграл Эйве свое
первенство в мире по шахматам. Он слишком славолюб и умел себя
курировать. Вообще сквозь всякую беспорядочность у него всегда
проглядывал расчет. И вот мне кажется очень правдоподобным
объяснение, которое дал один шахматист. Он сказал, что это был трюк,
допущенный Алехиным. Мировые шахматисты - богачи, на них
играют, как на скачках, когдаставят на лошадей. Известный процент,
при таких пари за границей, идет в пользу игрока, на котором
держащие пари выиграли. Когда безвестный учитель в Голландии Эйве
добился права играть матч с Алехиным на звание чемпиона мира,
никому не могло прийти в голову ставить на Эйве. Вполне
правдоподобно, что какие-нибудь ловкие предприниматели вошли в сговор
с Алехиным, что они поделятся с ним богатым кушем, но чтобы он
поддался и проиграл матч.
Дело даже не в деньгах, которые должен был получить Алехин.
Алехины были очень богаты, и специальной погони за деньгами у
Тиши не наблюдалось. Не было этой погони и во время революции,
когда он стихийно разорился. Помню, я у него был в 1920 году, когда
он жил в Москве в бывшей гостинице «Люкс» (там было общежитие
Коминтерна); он хвастал не тем, что ему удалось что-нибудь спасти
из прежних средств, хвастал не заработками или доходами, а тем, что
он получает молоко в количестве достаточном, чтобы пить его
стаканами, тогда как для всех граждан в Москве молока нет. Помню его
выражение: «У нас в Москве ничего не осталось, застряло кое-что в
Воронеже. Там бывшая наша прислуга тихо и плавно продает
сохранившиеся шубы».
Погоня у Алехина всегда была за тем, чтобы выделиться; это
погоня за сенсацией - не за деньгами. Он злился, когда я говорил, что на
шахматах имени он не составит, что шахматы - несущественное дело.
Я исходил из практики дореволюционного времени, когда
шахматная игра никогда не возводилась до степени общественного события.
А он утверждал, что Чигорин — это имя и что всякий образованный
человек должен знать, кто такой Чигорин.
40
Одиночество гения
Чтобы поднять уровень интереса к шахматам, Алехин был готов
пойти на всё. Трюк мог приковать внимание всех, даже не
шахматистов. Сначала - позорный проигрыш, затем в матче-реванше
блестящая реабилитация. Это - реклама, он ее достиг. Будучи дилетантом,
ничего не могу сказать об игре Алехина, но специалисты мне
говорили, что партии первого матча Алехина с Эйве отличаются полной
загадочностью: наряду с настоящим алехинским мастерством они
демонстрируют промахи элементарного порядка, оплошности ниже
уровня среднего игрока. Вряд ли тут настоящий ключ к
объяснению может свестись к припадкам якобы алкоголизма - тогда было
бы просто снижение и упадок игры, а не чередование удачных ходов
с позорными промашками. Между тем явно поддаваться Алехин не
мог. Нужна была маскировка. Быть может, он действительно
чрезмерно выпивал во время игры, но с определенной целью — прикрыть
настоящий уговор. Это в духе авантюризма Алехина и соответствует
его наклонностям юношеских лет. Он трюкач в жизни. Такой же,
говорят, стала его шахматная игра — поймать противника при помощи
неожиданной каверзы.
Доказательством того, что проигрыш Алехина не был случайной
неудачей, для меня является следующее обстоятельство. В газетах
было сообщение, что на последней встрече, когда Эйве, имея 6
против 5 и играя белыми, обыграл Алехина и приобрел первенство мира,
Алехин хладнокровно принял результат партии и спокойно продол-
Правоведы в свободное от учебы время. К сожалению, ни одной фотографии
Алехина вместе с сокурсниками найти не удалось.
Из архива Владимира Неиштадта
41
жал сидеть на месте, предложив Эйве проанализировать только что
сыгранную партию. Когда Капабланка проигрывал Алехину, он на
последнюю встречу не явился, прислал письмо с извещением, что
он сдается, и просил принять поздравления. Уравновешенный
Капабланка не нашел в себе сил прийти сам в день ликвидации
своего первенства и быстро уехал из города, где происходила решающая
встреча. Нервный Алехин, конечно, иначе пережил бы свою неудачу,
если бы она не была искусственно предусмотрена. По натуре он не
может скрывать своих чувств, если его постигает катастрофа. Зато,
осуществив искусственный кунштюк, Алехин в состоянии хорошо
разыграть роль. Несомненно, всё было задумано и предрешено
заранее, в связи с этим и не почувствовалось естественного волнения.
В жизни Алехин достиг поставленной цели, он снискал себе
мировое имя и может в этом отношении торжествовать победу. Я служил
в РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция), когда он добыл себе
чемпионство мира игрой с Капабланкой. В кабинете, где я сидел на службе,
все трое служащих держали пари - кто за Капабланку, кто за Алехина.
Однажды мы возвращались со службы и шли по Красной площади;
вдруг у подъезда ГУМа выбежал мальчик-газетчик с «Вечерней
Москвой» и закричал: «Новая победа Алехина». Ринулась толпа, и все
нарасхват стали покупать газету. Я подумал о своем бывшем
товарище: он добился, чего хотел, - славы и известности. Игра происходила
в далекой Америке, Алехин был эмигрантом, шедшим на всяческие
антисоветские выступления. Если бы ему за 25 лет до этого сказать,
что на Красной площади выкликание его имени при данных
обстоятельствах будет вызывать подобное внимание и сенсацию, он бы
самозабвенно улыбнулся, почувствовав себя победителем в жизни.
Таков был один мой товарищ, жрец славы и честолюбия - Алехин.
ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА НЕИШТАДТА
Помните, я написал, что в книге Шабурова 1992 года встретил фразы
Попова, которых нет в бюллетене «Турнира памяти Алехина»?
Приведенную рукопись Юрий Николаевич видеть не мог. Откуда же он
их взял?
Первоисточник отыскался в РГАЛИ - Российском
государственном архиве литературы и искусства, в фонде известного шахматного
журналиста, историка и переводчика Владимира Ильича
Неиштадта. Подтверждением служит «Лист ознакомления документов», в
котором до меня были только две записи: «18.XI. 1965 ознакомлен
И.Романов», «17.01.90 г. ознакомлен Шабуров». Публиковал ли эти
документы Исаак Зиновьевич Романов, мне узнать не удалось, а
Шабуров в «Алехине» (2001) даже указал в библиографии номер фонда
42 Одиночество гения
Нейштадта (1525), но опять о
В.И. ни словом не обмолвился,
хотя использовал его беседы не
только с Поповым, Например, о
том, что ваза - приз за победу в
турнире 1909 года — стояла в
комнате Алехина на подзеркальнике
и что во время партий «лакей в
белых перчатках приносил на
серебряном подносе чай с
пирожными, почту», Николай Целиков
рассказал только Нейштадту!
«Забывать» сослаться на
источник свойственно многим
историкам шахмат, но Шабурова
упрекнуть в этом вроде бы
нельзя. Он столько нового сам
накопал, что в присвоении чужого не
нуждался, а вот на него сослаться
тоже нередко «забывают». Но,
как видим, и на старуху быва-
Журналист, историк, переводчик Вла- ет проруха (и, как оказалось, не
димир Нейштадт собирал материалы одна— см. стр. 255).
для книги об Алехине, но написать ее Нейштадт очень обстоятельно
неуспел... готовился к книге об Алехине, и
жаль, что он ее не написал. В
отличие от других наших биографов, В.И. лично общался с Алехиным,
не раз с ним играл, у них было много общих знакомых. Он был
великолепным переводчиком (знал французский, английский,
греческий, румынский, чешский), знатоком мировой литературы, тонким
поэтом - и отлично владел пером. Судя по записям, В.И. приступил
к сбору материалов в 1952 году. Но уже в 1953-м вышел первый том
«Шахматного наследия А.А.Алехина», а в 1954-м - «300 избранных
партий Алехина». Видимо, книгами Котова и Панова лимит на але-
хинскую тему был исчерпан. А в 1959-м, в возрасте всего 60 лет, В.И.
ушел изжизни...
Перед вами материалы из архива В.И.Нейштадта. Конечно,
записанные им воспоминания Попова проигрывают на фоне только что
прочитанной рукописи (хотя и тут есть интересные детали), но для
своего времени они были бы настоящим откровением. В его архиве
столько уникальной информации, что диву даешься, почему
Шабуров так выборочно ее использовал. Ну где еще вы прочитаете
рассказ Алехина о том, как он прямо на уроке и фал вслепую с учителем
Из архива Владимира Нейштадта
43
Закона Божия? Где найдете «словечки» Алехина - шахматный звон,
которым он сопровождал легкие партии? А беседы с Целиковым и
Дуз-Хотимирским? Сравните с их воспоминаниями в бюллетене 1956
года - совсем другой уровень откровенности!..
В общем, читайте и наслаждайтесь.
28.10.1953
Воспоминания П.С.Попова
Поступил в гимназию Поливанова в 5 класс в 1906 году. Пришел в
класс и, когда увидел Алехина, решил сесть с ним за парту, потому
что он показался ему неглупым и интересным. Вихрастый, нервный,
всегда потирал красные потные руки. Плохо владел речью, мычал,
тянул - от волнения и нервности. Любил поиздеваться над
преподавателями. Был неряшлив во всем - в одежде, в содержании тетрадей
и книг, в приготовлении уроков. Уроки готовил главным образом на
переменах, книг домой никогда не брал, и они в хаосе пребывали в
ящике его парты.
Хорошо и оригинально писал сочинения - вообще лучше всего
шел по русскому языку и иностранным языкам. Слаб был в
математических науках. На выпускном письменном экзамене по
тригонометрии провалился, был, однако, допущен к устному экзамену - здесь
ему натянули четверку, общий вывод - 3 и тем спасли его.
Исключительно грамотен - когда однажды Вельский,
преподаватель русского языка, рассердившись на то, что многие пишут
безграмотно, сделал диктант, нарочито трудный орфографически, то почти
весь класс провалился - единицы и двойки, было две-три тройки, две
четверки (Алехин и Попов) и одна пятерка (Л.Остроумов).
Очень много читал. «Воскресение» Толстого прочел, когда ему
было лет 10-11. Особенно любил Чехова. Чеховым увлекались
многие. У них было состязание по Чехову: один называет рассказ,
противник должен точно и подробно рассказать его. Или: один
рассказывает содержание, противник должен назвать точное заглавие
рассказа (и самые мелкие рассказы!).
В шахматы с ним играли главным образом Л.Остроумов и
Л.И.Поливанов, которые были, конечно, гораздо слабее его. Игра
шла и на уроках. Остроумов для этой цели держал грифельную доску,
на которой была нарисована шахматная доска, и на ней рисовал
фигуры, при передвижении стирал с одной клетки и рисовал на другую.
Алехин всегда играл Taveugle. На уроках Закона Божия часто
раздавался вдруг его голос: ферзь с такого-то поля на такое-то и т.п.
Уже с 5-6 класса мечтал о славе. Колебался только, по какой пойти
дороге -дипломатической или шахматной. Попов был против шахмат,
44
Одиночество гения
считая их пустой забавой, не придавая им никакого общественного
значения. Он советовал ему путь дипломата — Училище правоведения.
Попов не мог понять всей глубины увлечения Алехина шахматами,
потому что сам не играл и, в сущности, игры не знал. Ответ Попову,
что шахматы - это большое общественное дело, а не игрушки. И что
каждый образованный человек должен знать имя Чигорина.
Алехин любил делать другим гадости. Однажды, когда Попов
болел, Тиша (так его звали в гимназии, но Попов утверждает, что его
настоящее имя всегда было Александр) взял у преподавателя русского
языка тетрадь Попова, стер пятерку и подписал четверку (Попов был
«пятерочник»). Он сделал это, желая хоть на некоторое время
раздосадовать товарища (потом дело раскрылось, конечно, - а Алехин
только смеялся от удовольствия).
Попов же всегда помогал Алехину, натаскивая его по математике и
физике, — вместе готовились к экзаменам.
Часто бывал у Алехиных в Никольском переулке. Домом
заведовала немка-экономка (Амалия Ивановна?), без которой дом просто
рассыпался бы. Все Алехины были растеряхи, и Амалии Ивановне
приходилось разыскивать, где Варвара забыла сумку, Александр -
галоши, Алексей - портфель и т.п.
Мать почти никогда не выходила из своих покоев (шел слух, что
она морфинистка). Иногда бывали торжественные чаи, на которых
представительствовала сестра матери (видимо, Варвара, так как
Екатерина жила в Петербурге).
В больших залах, разделенных аркой, молодежь часто устраивала
театр - увлечение Варвары. Александр тоже играл, но очень плохо. В
кабинете отца играли в шахматы и в карты. Попов любил винт.
Алехин тоже играл в винт, но плохо.
Был задира и очень упрям (случай, как нанимал извозчика за 18
копеек). Был циник, любил организовывать себе почести, не
считаясь с интересами других. Скуп, по мнению Попова, не был (сравните
с мнением Н.Целикова — см. ниже). Не любил, чтобы за него платили в
ресторане или за извозчика etc.
В комнате, где он жил - наверху, - на столе всегда стояли шахматы
и шахматные часы. Когда получил вазу - она стояла ν него в комнате.
Фотография: Алехин рядом с вазой есть у Попова; есть и еще
фотографии (в фонде Попова ни одного снимка Алехина, напомню, нет).
Два раза Алехин уходил из дому («надоела семья»). Один раз
поселился на Поварской - у родственников матери. Другой раз - у
старухи Прохоровой (бабки) на Спиридоновке.
Любил покутить, особенно после окончания гимназии. Часто
приглашал Попова в Шахматный кружок (на Бронной) к концу сеанса,
чтобы потом пойти в ресторан. Но после сеанса обычно бывал рассе-
Из архива Владимира Нейштадта
45
ян, забывал заказывать еду, был полон шахмат, переживал некоторые
партии.
* * *
Форма: черная блуза, черные брюки, черный кожаный пояс.
Математика: Алексей Андреевич Игнатов (единственный,
звавший его Алёхин).
Русский: Леонид Петрович Вельский.
Латинский: Поливанов, Сергей Порфирьевич Гвоздев.
История: Ю.В.Готье (учебник Виноградова).
Логика: Поливанов VII (класс).
Психология: Поливанов VIII (класс).
Швейцар: Василий.
Французский: Туроте Анжелина Лукиановна.
Немецкий: Алексей Федорович Несслер (с 7 класса Виллерс Макс
Робертович).
Закон Божий: священник Т.И.Синьковский и дьякон П.П.Шумов.
(Добавлю преподавателей из книги В.Шершеневина «Великолепный
очевидец»: логика и психология — «видныйученый» и «изумительный
рассказчик» Лев Михайлович Лопатин, латынь — Пржезинский, «один из
немногих знатоков санскрита».)
27.10.1952
Что вспомнил Н.П.Целиков
В 1908 г. зимой Н.П. навестил Алехина в больнице - Алехину делали
операцию аппендицита. Он был еще гимназистом — а Н.П.
собирался поступить в гимназию Поливанова преподавать историю. Алехин
очень интересовался этим и всё спрашивал: «Будете вы у нас
преподавать?» Весной 1909 г. Н.П. был на квартире у Алехина в
Никольском переулке. Алехин с кем-то и фал или что-то анализировал, а Н.П.
смотрел. Играли в небольшой комнате, где на подзеркальнике
стояла ваза, полученная А.А. в качестве приза на Всероссийском турнире
любителей.
В эти годы Алехин много играл легких партий с Розановым и Блю-
менфельдом (по полтиннику). Розанова он раздевал, а Блюменфельд
оказывал более упорное сопротивление.
Из воспоминаний Николая Павлова-Пьянова о Московском
шахматном кружке, который в 1910 году собирался «в Калошином
переулке на квартире присяжного поверенного Гудима»:
«Квартира Гудима помещалась в небольшом домике. Поднявшись
по ступеням лестницы и войдя в квартиру, я оказался в
поместительной комнате, где были расставлены столы с шахматами. Комната была
46
Одиночество гения
заполнена людьми. Некоторые играли турнирные партии, а другие в
стороне, так, чтобы не мешать, играли "легкие" партии. (...) В первые
дни своих посещений кружка я ограничивался по преимуществу
наблюдениями и с интересом следил за тем, как играли "легкие" партии
молодые талантливые шахматисты Б.Блюменфельд и А.Алехин. Они
играли весело, с шутками» (бюллетень «Два матча» № 2, 1954)
С 1909 π о 1915 год Η. Π. полностью отходит от ш ахмат.
С 1915 г. Н.П. начал вновь играть. И фал много консультационных
партий против Алехина. И фа происходила на квартире Алехиных в
Гусятниковом переулке. Эта квартира была роскошнее арбатской.
Играли в большом салоне. Партии начинались часов в 9—10 вечера и
продолжались до четырех утра. Угощали чаем с пирожными. Лакей в
белых перчатках приносил на серебряном подносе. Почту лакей
подавал тоже на серебряном подносе.
(Варвара Алехина тут тоже жила. Позднее он встретил ее у
К.И.Исакова, когда тот из дома Афремова переехал на угол Домини-
ковки в дом Финляндского.)
В Гусятниковом переулке бывал брат Алисы Коонен, с которой
Варвара Александровна дружила, кажется, на почве киносъемок.
О матче Алехина с Любимовым Н.П. не помнит. Вероятно, это был
один из частых маленьких матчей (3-4 партии), которым не придавали
особого значения. Б.В.Любимов был крупным инженером-путейцем,
работал в Управлении Курской железной дороги. К.И.Исаков был
его близким товарищем, он тоже был инженером-путейцем. Но
занимался преподаванием математики. В реальном училище Урвачева,
потом на образовательных курсах «Знание», потом на таких же курсах
Ф.С.Бутягина. Эти курсы помещались в доме Афремова.
В 1915г. здесь и помещалась фактическая редакция журнала
«Шахматный вестник», Симеон был лишь номинальным редактором. Всю
работу вел Исаков. Он собирал и организовывал материал.
Переписывал и оформлял его. Вел сношения с авторами и типографией.
Последние встречи с Алехиным в 1919 г. на квартире у Бермана и в
1920 г. в Олимпиаде.
В турнире-чемпионате 1919/20 г. Целиков проифал Ал.Ал.
(играли в шубах, перчатках, Алехин в валенках). Когда кончилась партия,
Алехин сказал: «Я и фал со страшной зубной болью. Η икто бы не мог
играть с такой болью. Только я мог с моей волей». (Сравните с
бюллетенем 1956 года: «Только один я могу играть партию с такой страшной
болью». Добавление про «мою волю» очень существенно!)
Со страшной зубной болью и фал он и матч с Капабланкой. Алехин
с юности закалял свою волю, отказываясь от любых поблажек. Вот
свидетельство Федора Дуз-Хотимирского:
Из архива Владимира Нейштадта
47
«Помню, в Гамбурге в 1910 году, где оба мы участвовали в
международном турнире, Алехин был нездоров. У него болела нога. Мне
приходилось по вечерам провожать его на извозчике домой и помогать
взбираться по узкой лестнице на пятый этаж, где он жил.
Предложение турнирного комитета - класть больную ногу во время партии на
мягкое кресло Алехин отклонил: он стонал от боли, но предпочел не
воспользоваться "привилегией" больного, поскольку он в рядах
турнирных бойцов» (бюллетень «Турнир претендентов» № 13, 1959).
Штрихи характера: скуп.
В 1914 г. Московский Шахматный Кружок помещался на Арбате
в квартире «Лиги равноправия женщин», а в 1915-м переехал в
помещение коммерческого училища Плестерера — Арбатская пл., д.
Савостьянова (д. 2).
Теперь я вспоминаю, что на сеанс Алехина в 1914 г. я ходил
именно на Арбат в квартиру «Лиги равноправия женщин». По-моему, 3-й
этаж - на двери была дощечка. Дом около Старо-Конюшенного
переулка.
Годовой членский взнос вМШКв 1916 г. был 12 р. Ученики
высших учебных заведений в качестве «постоянных гостей» платили 7 р.
в год. Разовая плата - 50 к. Учащиеся - 30 к.
Собирались по понедельникам и пятницам с 8 вечера до 2 часов
ночи.
13.11.1952
Беседа с Ф.И.Дуз-Хотимирским
(...)
3) В 1906 г. он приехал опять в Москву (первый раз он приезжал
еще в 1900 г.). Исаков встретил его словами: «Какой юноша у нас
объявился — будущий чемпион мира!» На что Дуз: «Вашими чемпионами
болото мостить!» Но Исаков познакомил его с этим юнцом: Алехин.
Он жил тогда один, снимал комнату И фал и. Дуз давал ему вперед
коня. Алексей предложил заниматься с ним. Платил 5 р. за урок.
Месяца через три-четыре нельзя уже было давать ему и пешки. «Может
быть, на стиле Алехина отразились мои уроки?..»
4) Ненароков рассказывал ему («хотя Ненароков большой
выдумщик!»), что Алехин, когда проиграл ему 3-ю матчевую партию,
разбросал фигуры и клялся, что никогда не будет больше играть в
эту проклятую игру («Он все-таки не так любил шахматы, как
Чигорин»).
5) В 1909 г. во время СПб турнира Ненароков, Алехин и Селезнев
жили вместе. Ненароков играл в международном турнире, а Алехин
и Селезнев в Haupt-turnier'e (во Всероссийском турнире любителей Се-
48
Одиночество гения
лезнев не играл). Ненароков неожиданно выступил из турнира.
Тогда Алехин будто бы отправился в турнирный комитет и некрасиво
донес на Ненарокова, чтобы его уронить в глазах мастеров и комитета.
На вопрос Дуза: «Зачем ты это сделал, тем более что оба москвичи
и т.д.?» - он ответил: «А зачем он у меня матч выиграл?»
6) Честолюбие у Алехина было большое, ноу Ботвинника во много
раз больше (и самомнение!!).
7) Родные прочили Евгения Зноско-Боровского в гении: будет
Пушкиным в литературе и Чигориным в шахматах. Как-то Зноско-
Боровский в шитом золотом мундире лицеиста пришел в шахматное
собрание (где председателем был Ф.Винклер) и просил дать ему
партнера посильнее. Винклер подсунул ему Шифферса. Тот
согласился: «По "колесу" (по серебряному рублю) партия». Выиграл у Зноско-
Боровского 20 партий. Пошел в ресторан, заявляя: «Хорошая золотая
рыбка попалась». А потом сказал Зноско-Боровскому: «Вы Евгений,
но не гений!»
Карпенко
Николаи Васильевич Карпенко родился в 1893 году. Участник
Всероссийского турнира любителей (1920, 7-е место) и двух чемпионатов
Москвы, в одном из них проиграл Алехину. По информации от А. С. Фолиева,
на сайте Государственного исторического музея — проект
«Неизвестный солдат» — есть его карандашный портрет 1943 года в
красноармейской пилотке с надписью: «Карпенко (играл с Алехиным) / Шахматист
1-й категор».
1. Ольга Дм. Коробовская, по мужу Буган. д[ом] Нирнзее
(первый московский небоскреб по адресу: Большой Гнездниковский пер., 10).
Здесь Н.В.Карпенко в 1918 г. часто встречался с А.А.
2. Ольга Лазаревна (Александра Лазаревна Батаева, первая жена
Алехина), с которой А.А. жил в «Люксе», все время поила его с
ложечки, подсюсюкивая.
3. Латышка или немка, или венгерка из Коминтерна, с которой
А. А. уехал за границу в 1921 г. (его вторая жена была швейцаркой).
4. А.А. очень любил черный кофе.
5. В 1918 г. в квартире Буган А.А. играл с хозяйкой в дурачки и
одновременно с Карпенко a Taveugle в шахматы. Молниеносно видел
существо позиции.
б.Тов. Алехина π о классу Л. И.Пол Иванов, сын директора гимназии
И.Л.Поливанова, - всегда называл Алехина «Тихон» или «Тишка».
Доктор В.Ф.Заседателев (известный врач-терапевт, друживший с
семьей Алехина) сам рассказывал в 1920 г. в присутствии Α.Α., что он
показал ему ходы на шахматной доске. («Чепуха!»)
Из архива Владимира Нейштадта
49
[Заметки В.И.Нейштадта]
Рассказы А.А. о своем шахм. детстве. Цитата: «Я всегда думаю, как
лососина».
Матч с Ненароковым (1908) угнетал его не потому, что он
проиграл, а потому, что он несвоевременно вызвал Ненарокова. «Надо
знать, когда ты можешь вызвать, когда у тебя есть моральное право
на вызов!»
С Капой он знал (вот почему он не хотел встречаться с Капой на
Мангеймском турнире). Капа - не дал бы ему I приз и зищ_шо_1_щ.ку-
меистера!!
Алехин в интервью со Зноско-Боровским после матча с Капой: «Я
рад послужить славе русской шахматной школы». (Тонная цитата:
«Сейчас я счастлив и горд, и я рад, что могу послужить на славу
русского шахматного искусства».)
Словечки Алехина
Матильда
И мат грозит ему в окно
Генерал Матушевский
Князь Шаховской
Полковник Шаховецкий
Говорила мне мама: «Рокируйся!»
(Англичанин) Вилкинс(он)
Коневич
Пешки не орешки
Не с пешками жить, а с добрыми людьми
Шаху цель mit dem (с — нем.) Пуцель (пук без звука, но с резким
запахом)
Фигура - дура
J'adoube (поправляю — φρ.; произносится: жадуб) = J'a-клён
«Поправляю... манжеты»
О подозрительных или неясных комбинациях при наличии
позиционного продолжения: «Зачем лезть через окно, когда можно войти
в дверь».
Рассказ
Шахматы в классе - застукали. Стали играть наизусть.
Неожиданно вопрос учителя, и с языка срывается приготовленный ход.
Учитель требует шахматы. «У нас нет!» - Обыск. Признание: «Мы
играли l'aveugle (вслепую)». ?? Неверие. Ей-Богу, Ив. Ив.!
Так! Посмотрим: е4 с5, КО Кеб и пошла... «Постой, постой:
вижу - хочешь разменять на d4 и - мне Мг. вилкинс. Тэкс! Правда, в
so
Одиночество гения
ответ шаховецкий» etc. etc. - Прозвенел звонок, когда я объявил мат
в 2 хода.
Ив. Ив., шмыгая носом, держал меня за пояс и говорил: «Дьякона
бей, а попа не смей!» (По этой фразе видно, что играли на уроке Закона
Божия, хотя у священника Синьковского инициалы Т.Н.)
Коневой пижон, ладейный пижон, ферзевый пижон
Шахматный рак - тот, кто берет ходы назад.
1918-1919. Студенческий клуб. Шахматы на квартире Бермана
(Пречистенский бульвар). Знакомство с Грековым и др. Встреча со
старыми знакомцами - Григорьевым, Алехиным и Цукерманом.
Беседы с Алехиным о Чигорине и о русских шахматах. «Капаблан-
ка тоже испытал на себе влияние Чигорина и многому у него
научился (позднее эволюционировал в сторону чистой техники)». (...)
В 1913 г. в квартиру, где жили Алехины, въехали Морозовы. Мария
Николаевна Морозова, женщина лет 58, вспоминает, что, когда она
осматривала квартиру, в задней комнате мезонина на кровати лежал
мундир правоведа.
Квартиру они заняли целиком, в кв. 2 и во флигеле В.ААлехина
тоже (уже?) не жила. Следовательно, во «Всей Москве» 1916 г. адрес
В. А.А. указан неверно (перенесен механически с предыдущих годов).
ТОЧКИ НАД «Ё»
По словам одноклассников, Алехин «не любил, когда искажали его
дворянскую фамилию». Римский-Корсаков: «Так, когда наш
"батюшка" О.Розанов, вызывая Алехина отвечать урок по Закону Божию,
постоянно называл его "Олёхиным", с крепким ударением на букву
"ё", то будущий чемпион мира также неизменно поправлял
почтенного служителя церкви, говоря: "Моя фамилия, батюшка, Алехин,
а не Олёхин"». Попов: «В пятом классе только учитель математики
«звал его на "ё", остальные произносили "Алехин"».
Понять Алехина можно: в дореволюционной России Алёшками
называли лакеев. В таком значении это слово попало и в «Словарь
жаргона преступников (блатная музыка)», изданный НКВД в 1927 году.
По свидетельству современников, Алехин крайне ревностно
относился к правильному произнесению своей фамилии (спускал только
«обаяшке» Флору, который и в глаза, и за глаза величал его
«Алёшкой»). На Западе «дворянский» вариант прижился: там фамилию и
произносят, и пишут через «е» (в английской транскрипции Alekhine,
в немецкой - Aljechin), А вот в России прочно утвердился
«лакейский» вариант: хоть и пишут через «е», произносят все равно через «ё»!
Точки над «ё»
51
О своем дворянстве Алехин не забывал, даже служа у
большевиков (недаром, вырвавшись из советской России, первую книгу
подписал: Alexander von Aljechin). «Алехин не позволял называть себя
Апёхиным», - вспоминал мастер Абрам Поляк о встрече с ним в 1921
году. И шахматисты воспринимали это как должное. Мастер
Чистяков: «Григорьев, как и все другие мастера старшего поколения, лично
знавшие Алехина, произносил его фамилию через "е" - Алехин, а
не Алёхин!» Как и Ботвинник, хотя он принадлежал к другому
поколению. Но, по словам Людмилы Белавенец, ее учитель Левенфиш
говорил «Алёхин»: «Но он был человек желчный, моги в пику так
говорить, зная, что Алехину это не нравится» (а мог в отместку: Алехин
называл его Лёвенфишем и даже писал так - см. стр. 277). Ценное
свидетельство раскопал барнаульский историк Владимир Нейштадт
(внучатый племянник - и полный тезка - В.И.Нейштадта). В 1935
году сибиряк Константин Сухарев приехал в Москву и зашел по
делам к ответственному секретарю Всесоюзной шахматной секции
Еремееву: «Валериан Евгеньевич как раз громко говорил по
телефону, кажется, с Амстердамом, называя своего собеседника "господин
Алехин". Произносил именно так, а не "Алёхин". Трубку держал
далеко от уха, голос собеседника был отчетливо слышен!
Незабываемый момент!» (К этому разговору мы еще вернемся: без него не
понять, почему Алехин во время матча с Эйве вдруг послал телеграмму
в Москву с «искренним приветом шахматистам СССР по случаю 18-й
годовщины Октябрьской Революции».)
Но у сторонников «ёканья» свои аргументы. Историк и
журналист Дмитрий Олейников цитирует специалиста по русской
генеалогии Леонида Савёлова, жившего с Алехиными в одной губернии:
«Я абсолютно точно утверждаю, что эта фамилия должна писаться
"Алёхин"». Но Шабуров ссылается на сообщения, полученные им из
ЗДЕСЬ В ГИМНАЗИИ
ПОЛИВАНОВА
в 1901 -1910 г
УЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЯССКИЙ
ЧЕМПИОН МИРА
АЛЕКСАНДР АЛЕХИН
Мемориальная доска на здании бывшей Поливановской гимназии в Москве
(Пречистенка, 32). После реставрации надпись стала «золотой» и в фамилии Алехина
появилась буква «ё»!
52
Одиночество гения
Касторенского района Курской области (при царе эти земли входили
в Землянский уезд Воронежской губернии): «Оказывается, жители
поселков, прилегающих к бывшей усадьбе Алехиных "Красная
долина", до сих пор выговаривают фамилию Алехин только через "е'\ без
точек над этой буквой. "Мы - алехинские", - говорят о себе
старожилы, и в их словах слышится уважительное отношение крестьян к
помещику».
Иногда аргументы курьезные. В день открытия Музея шахмат на
Гоголевском бульваре в Москве мастер Сергей Розенберг оказался в
обществе президента РШФ Андрея Филатова и тележурналиста
Владимира Познера, который в беседе произнес: «Алёхин». Сергей
заметил, что вообще-то правильно «Алехин», На что Познер категорично
возразил и в подтверждение своей правоты заявил, что... так
произносил его отец!
Мне кажется, прав шахматный историк Александр Кентлер,
предлагая отойти от споров, как должна писаться эта фамилия (тут
каждый вправе иметь свое мнение), и «рассмотреть вопрос с точки зрения
этики. Хорошо известно, что сам А.Алехин, начиная с детских лет
и до конца своих дней, требовал, чтобы его фамилию произносили
только через "е". (...) Так неужели гений шахмат не вправе приучить
окружающих произносить его фамилию так, как он считал нужным?»
СЕЛФМЕЙДМЕН
Почему «все женщины, с которыми был близок Алехин, были
значительно старше его, и он их всех называл "мамочками"»? Юрий
Львович Авербах видит причину в том, что «мать будущего чемпиона
мира лечилась от алкоголизма, часто уезжала за границу, и Александр
фактически воспитывался бабушкой - Анной Александровной
Прохоровой». Вероятно, он прав. По утверждению психологов, многие
мужчины инстинктивно ищут женщину старше себя именно потому,
что в детстве недополучили материнской заботы и внимания.
Вот только лечилась мать Алехина не от алкоголизма. Из записок
Павла Попова мы знаем, что Анисья Ивановна страдала куда более
тяжким недугом: «В доме Алехина я бывал очень часто, но мать
никогда не видел. Она почти не выходила за пределы своей спальной.
Обычно говорилось, что она больна. Впоследствии я узнал, что она-
безнадежная морфинистка». Во 2-м издании «Шахматного наследия»
(1982) это перестал скрывать и Котов: «По рассказам близких к семье
Алехиных», мать умерла «в состоянии умственного расстройства,
вызванного пристрастием к наркотикам».
Когда и как она пристрастилась, можно только гадать. Уже с
середины XIX века морфин (морфий) стали повсеместно применять как
Селфмейдмен 53
/Ui4<uue *f-tfu**~ ^rAuLut. Тли U^a^ &££*
****»>> - ***** -r* *4£~, i^^^at^ —
Фрагмент рукописи Павла Попова. Почерк ужасный, но справа, в четвертой
снизу строке, отчетливо видно: «безнадежная морфинистка». Из архива Л.Бокучавы.
Публикуется впервые.
болеутоляющее средство и люди подсаживались на него незаметно
для себя. Вот цитата из «Московских ведомостей» за 1879 год:
«Каждому из нас, наверное, приходилось видеть между своими
знакомыми люлей, ло такой степени привыкших к морфию, что они без него
совершенно не могут обойтись». Например, главная героиня
романа «Анна Каренина», если кто забыл, пристрастилась к нему после
того, как ей ввели морфин для облегчения болей при вторых родах...
А вдруг нечто подобное случилось и с Анисьей Ивановной? Ведь за
шесть лет она родила четверых детей. Добавьте сильнейший стресс,
пережитый ею в 1890 году, когда в возрасте четырех лет умер ее
первый ребенок. Чем глушила она свою душевную боль? Может, как
Каренина? «Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и
накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть
составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени
неподвижно, с успокоенным и веселым духом пошла в спальню»...
Вот случай из жизни. Знаменитый комик Макс Линдер в 1910 году
получил на съемках фильма травму. Чтобы облегчить боль, врачи
давали ему морфин, и он «подсел» на наркотики... В декабре 1913-го
Линдер вместе со своей съемочной группой приехал на гастроли в Москву.
«После раздачи портретов Макса состоялся кинематографический
сеанс, - писала «Столичная молва». - На экране шла только что
разыгранная Максом в Москве картина " Макс Линдер и г-жа Прохорова".
54
Одиночество гения
В Макса влюбилась московская
купчиха Прохорова, после целого ряда
qui pro quo (кто вместо кого — шт ,
путаница, недоразумение, зачастую
с комическим эффектом) Макс
избегает мести ревнующего г. Прохорова
и всё заканчивается обшей
потасовкой».
Понятно, что фабула придумана.
Но почему именно «купчиха
Прохорова»?!
А может, уже само замужество
стало для нее стрессом? Шабуров:
« По свидетельству ныне живущих
в Москве потомков Прохоровых,
с которыми автор встречался,
бракосочетанию
предшествовала нередкая для того времени
процедура - сватовство по
заранее наведенным справкам». Не
знаю, какой Анисья была в
молодости (есть только пара снимков
начала 1900-х, где она уже
располнела), но если такой же, как
младшая сестра, то Бог явно не
обделил ее красотой: «Екатерина
Ивановна была дивно хороша
собой: светлая блондинка с
вьющимися подстриженными
волосами, прекрасно всегда одетая,
такая стройная, во всех отношениях блестящая, живая и одаренная...»
Строки из воспоминаний художника Михаила Нестерова - дань
не только красоте, но и таланту Екатерины: она, жена знаменитого
скульптора, ректора Академии художеств Владимира Беклемишева,
сама тоже была скульптором, чьи работы хранятся сейчас в музеях и
частных коллекциях.
Я думаю, Анисья тоже была наделена талантом и чувствительной
душой, даром что дочь купчихи. А вот ее муж, дворянин Александр
Иванович Алехин, судя по послужному списку, был человеком
практического склада, умным и оборотистым. Выполнял ли он просто
волю родителей, или и впрямь был пленен красотой невесты, этого
уже не узнать. С Анисьей ответ более очевиден. По словам
двоюродной племянницы Алехина - Веры Ивановны Прохоровой, «целью
Сестра Анисьи Ивановны - скульптор
Екатерина Беклемишева - «была див-
но хороша собой: светлая блондинка с
вьющимися подстриженными
волосами, прекрасно всегда одетая, такая
стройная, во всех отношениях
блестящая, живая и одаренная.,.»
Скульптурный портрет работы ее мужа,
академика Владимира Беклемишева.
Селфмейдмен
55
жизни прабабки (та самая Анна Александровна) было выдать своих
детей за дворян». И далее в уже знакомой нам книге «Четыре друга
на фоне столетия» читаем: «Дочь Зинаиду (конечно, Анисью) она
отправила в Воронеж, где та вышла замуж за предводителя местного
дворянства Алехина» (предводителем он стал в 1904 году, но и тогда
был фигурой видной: председатель Воронежского отделения
Крестьянского поземельного банка и управляющий Виленского
отделения Дворянского земельного банка). Другая дочь, «мать Милицы,
вышла замуж за предводителя дворянства в Елисаветграде». Точнее,
за этого предводителя, Сергея Соколова-Бородкина, вышли замуж...
две дочери: сначала Любовь, а после ее безвременной кончины (в 23
года) - Варвара. Она-то и родила Милицу - будущую жену
пианиста Генриха Нейгауза!
Утверждают, что Алехины проводили за границей иногда более
полугода, часто бывали в Риме. Когда они при этом успевали
воспитывать детей, непонятно. Может, брали с собой? Но это если дети
маленькие, а у гимназистов для отдыха только лето (о том, что их
вывозили на курорты Швейцарии и Германии, говорят открытки с
ходами по переписке; со слов
Алехина известно, что Алексей
в 1908 году даже учился в
Лозаннском университете). В
любом случае, главным
воспитателем в доме Алехиных была Анна
Александровна. А она, как все
бабушки, баловала внуков. Вера
Прохорова: «У прабабки было
довольно оригинальное
развлечение - она собирала возле себя
внуков и говорила, что тот, кто
скажет ей плохое слово, получит
подарок. «Тому, кто
произнесет: "Бабушка - старый пес", -
достанется ослик», — искушала
она. По семейной легенде, папа
пытался было рвануться вперед
и произнести заветные слова,
но был удержан своей матерью.
А вот Алехин, которого дома
все звали Тошей (?), вышел и
сказал: "Бабушка - старый пес". И ^^ф Иванович Алехин, воронеж-
получил ослика, на котором по- скии предводитель дворянства и член
том катался». IV Государственной думы.
h
56
Одиночество гения
Уж не в этих ли «развлечениях»
истоки его отношения к своим
гимназическим учителям, о чем
пишет Попов? «Алехин
позволял себе невероятные дерзости,
так что раз мне сделалось прямо
холодно от дерзких слов и
пренебрежительного тона Алехина. Ве-
селовский (учитель
законоведения) только осторожно заметил:
"Ужасно у вас развязные манеры,
Алехин"».
Отец редко наведывался в
московскую квартиру, а уж
когда был избран предводителем
дворянства, и подавно: кроме
исполнения сословных
обязанностей, он входил во множество
комиссий, что требовало частых
поездок в Воронеж. Матери в эти
годы тоже, наверное, было уже не
до детей. Даже на
«торжественных чаях», которые, по словам
Попова, иногда бывали в доме,
«представительствовала сестра
матери». Похоже, о подростке
Алехине никто, кроме бабушки, не заботился, и если б не
шахматы, думаю, он чувствовал бы себя совсем одиноким и заброшенным:
«Жизнь богатого дома отличалась беспорядочностью,
безалаберностью, что накладывало свою печать на впечатлительного мальчика.
Тише не сиделось дома; бабушка устроила ему комнату в одной из
многочисленных своих квартир. Он был предоставлен самому себе,
никто не контролировал его чтения, его занятий и поведения».
ЖЕНЩИНЫ: СЧАСТЬЕ ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ?
Не знаю, как вас, читатель, но меня в воспоминаниях Павла Попова
поразил диалог между гимназистом Алехиным и молоденькой
актрисой, которой он, грубо говоря, попользовался, а потом отбросил, как
ненужную вещь:
«Та недоумевала. Он заявил: "Ничего не следует пропускать, что
дается в руки, - надо это или не надо. Вы мне плыли навстречу, я на
всякий случай взял. Потом рассмотрел, что вы мне неинтересны, и
Бабушка Алехина — Анна
Александровна Прохорова была настоящей
московской купчихой: властной, строгой,
богатой — и любящей повоспитывать
внуков.
Женщины: счастье или несчастье?
57
отбросил". - "Но это гадость, цинизм", - возмутилась барышня. "Я
действую сейчас в открытую, цените это. Все люди циники, и все
слова, прочие правила общежития существуют только для того, чтобы
приукрашивать простое эгоистическое чувство; а я обнажаю дело,
вот и всё". - "А со мной можно так поступать, потому что я
ничтожество, а вы - выдающийся человек?" - "Да в сущности, именно так,
вы правы"».
Попов считал своего соседа по парте «циником», у которого «был
настоящий культ своего "я"; чужие интересы, чувства для него не
существовали». Помню, прочитав эту фразу, я сразу вспомнил
известные слова Льва Л юбимова, близко знавшего Алехина по Парижу:
«Алехин считал себя не только первым в мире шахматистом, на что
он имел все права, но и вообще человеком громадного,
всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над
прочими смертными. "Такой человек, как я", "при моих данных" и т.д.
часто вырывалось у него» (из книги «На чужбине», 1963).
В принципе, ничего удивительного здесь нет. Человек так
устроен, что свою гениальность, свое превосходство над другими в чем
бы то ни было склонен принимать за богоизбранность. Ну а шахматы
издавна считались мерилом ума. Поэтому кому, как не шахматным
чемпионам, ощущать себя людьми «громадного, всеобъемлющего
ума». Запущенная стадия этой болезни запечатлена в чудесном афо-
Семья Алехиных (1901). За столом Саша (справа) и его старший брат Алексей.
Сзади стоит Александр Иванович, перед ним сидят дочь Варвара, жена Анисья
Ивановна и гувернантка-немка Мария (или Амалия) Федоровна Кесяер.
58
Одиночество гения
ризме: «Ведет себя так, будто он не чемпион мира по шахматам, а
чемпион мира вообще».
В диалоге с актрисой меня поразило не это, а именно цинизм
юного Алехина, которым он явно гордился. По словам того же Попова,
Алехин «умел оскорбить». Причем, как мы видим, сознательно и
расчетливо. Одной шахматной гениальностью это не объяснить.
Может, чье-то влияние? Но в гимназии Алехин был одинок, ни с кем
близко не сходился... А чем он вообще занимался в свободное от
учебы время, кроме шахмат? Ну конечно: как все одинокие дети, он
много читал. Мы даже знаем что: французские романы, Толстого,
Чехова... Но цинизм-то где он подхватил, откуда культ своего «я»? Не
от Чехова же с Толстым?
И тут я вспомнил фразу что «никто не контролировал его чтения».
А Ницше он случайно не читал? Ведь влияние Ницше на культуру
русского Серебряного века было огромно. И его роман «Так
говорил Заратустра», в котором впервые была высказана идея о
«сверхчеловеке» (Ubermensch), вышел в России до революции четырьмя
изданиями. Одно из них было, кстати, в нашей семейной
библиотеке, но когда я подрос, отец - видно, от греха подальше — подарил
книгу своему приятелю, преподавателю философии...
На знакомство Алехина с книгой Ницше меня натолкнула тема
курсовой работы Алехина в Училище правоведения: «Взгляд Вл.
Соловьева на отношение между нравственностью и правом». Ведь счи-
d-клЛ^ - c(UU^^ tj& /*fb.^^^'- ***<Ь
Страница рукописи Павла Попова с диалогом между гимназистом Алехиным и
брошенной им молоденькой актрисой. Из архива А.Бокучавы. Публикуется впервые.
Женщины: счастье или несчастье?
59
тается, что Ницше повлиял на
русскую культуру именно через
философа Владимира
Соловьева, который еще в 1899 году
написал статью «Идея
сверхчеловека».
Попов указывает на
«аморализм натуры» Алехина, а
Ницше, как известно, вообще считал
мораль «роковым
заблуждением». Что ж, для того чтобы
хладнокровно, да еще и прилюдно,
оскорбить девушку, влюбленную
в тебя и не сделавшую тебе
ничего плохого, необходимо,
наверное, ощущать себя
«сверхчеловеком», которому уже не только
«всё дозволено», но и «всё
можно»!
Помните надпись, которую
Алехин сделал на снимке, ПО- Александр Алехин на турнире в Схе-
даренном Попову: «Женщины - венингене (1913). Возможно, первая
это наше счастье, женщины — фотография, на которой он снят суси-
это наше несчастье»? Это един- коми.
ственное документальное
свидетельство того, что в отношениях с женщинами он был отнюдь не
прагматиком, как можно подумать. И в том диалоге с актрисой, не
исключено, больше юношеской бравады и желания шокировать
одноклассников, чем цинизма («Вот, мол, я какой - мне всё
нипочем, а вот вы попробуйте-ка...», как пишет Римский-Корсаков). Нет,
судя по надписи, он умел влюбляться и страдать, и, может, как раз
стремление оградить себя от сердечных переживаний, так
мешающих сосредоточиться на главном деле жизни - шахматах, и толкало
Алехина в объятия более старших, уверенных в себе женщин,
ищущих уже не бурных страстей, а уютной семейной жизни.
О вкусах молодого Алехина можно сулить по воспоминаниям
мастера Эдуарда Ласкера о турнире в Схевенингене 1913 года.
Обеспечив себе за тур до финиша первый приз, Алехин пригласил
шахматистов в ночной клуб, чтобы отметить его успех:
«Алехин заказал шампанское на всех, включая нескольких
французских официанток, зорко следивших за тем, чтобы бутылки быстро
60
Одиночество гения
опустошались и туг же сменялись полными. Время шло. Алехин был в
приятном подпитии и никак не хотел отпускать нас домой. Я заметил
одну странность: Алехин настойчиво приглашал танцевать лишь даму
вдвое старше и вдвое толще его, хотя вокруг было много молоденьких
девушек».
После турнира Алехин уехал в Париж, а Ласкер в Англию. Но через
неделю он получил телеграмму от Алехина с просьбой выслать 50
фунтов, так как его обокрали, и сообщением о том, что он договорился
с двумя парижскими клубами о финансировании матча между ними.
«Приехав в Париж играть матч, я спросил у Яновского, что он знает
обо всем этом. Яновский рассказал, что Алехин появился в Париже с
той самой толстушкой из ночного клуба Схевенингена, но через
неделю она куда-то исчезла. Μ ы пришли к общему мнению, что была ли
тут кража или нет, но деньги оказались у дамочки, и то, что позднее
стало известно о любовных предпочтениях Алехина, лишь укрепило
нас в этом мнении.
Какими бы ни были его слабости или отклонения от нормы в
сфере интимных отношений, в шахматах он стал настоящей глыбой» (из
книги «Chess Secrets I Learned from the Masters», 1951).
Похоже, в те годы Алехин был влюбчив. В рассказе об их
пребывании в немецкой тюрьме (см. стр. 178) Богатырчук даже в шутку
назвал его Казановой: «Будучи поклонником женской красоты, он
обратил свое благосклонное внимание на прелести упомянутой
выше дочери тюремшика, и та, не оставшись равнодушной к мужской
красоте нашего чемпиона, позволила ему некие вольности, не
входившие в расписание тюремного режима. За сим приятным
времяпрепровождением их застукал тюремщик и засадил нашего Каза-
нову в карцер».
СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
Сколько жен было у Алехина? Считается, что четыре. И роман с
баронессой Анной фон Севергин можно было бы не упоминать, если
б... не фраза Эмануила Ласкера, оброненная им на лекции в
Гамбурге («Deutsche Schachblatter» № 2, 1926): «В Париже есть парижская
фрау Алехина, но в Москве тоже есть фрау Алехина (парижская,
должно быть, уже седьмая)».
Что значит - седьмая?! Ласкер, как известно, болтуном не был.
Другое дело, что «штамп в паспорте» он не проверял и не все семь
известных ему «фрау» были официальными. Входила ли в их число
Анна, не знаю. Сведений о баронах фон Севергин в России я не
отыскал (химик Василий Севергин был родом из крестьян). В Германии
эта фамилия крайне редка, а русские Севергины - псковские: там
бытует диалектное северга - торопыга, нетерпеливый...
Свидание с дочерью
61
Короче, этот роман не вызывал у меня никакого доверия. Пока
случайная находка - о ней речь впереди - не подтвердила правоту
пословицы: дыма без огня не бывает! Покопавшись в книжках и
интернете, я быстро понял: все приводимые сведения о романе с
баронессой - это перепевы на разные лады версии из книги Г.Мюллера и
А.Павельчака «Schachgenie Aljechin» (1953), хотя сам первоисточник
целиком ни разу не перевели. С этого и начнем:
«Алехин был трижды женат. Сначала на русской баронессе Анне
фон Севергин, петербургской художнице. Ее первый муж, помещик,
погиб в Первую мировую войну Чтобы узаконить свою дочь
Валентину, родившуюся 15 декабря 1913 года, Алехин в 1920 году в
Петербурге женился на вдове. Свидетелями [на свадьбе] были офицер барон
Врангель и художница Евгения Ругер, позднее фрау Клих, которая во
время Второй мировой войны погибла в концлагере Маугхаузен. Этот
брак был разрушен войной и политикой. В 1921 году г-жа Анна
Алехина бежала с дочерью в Австрию. После нескольких лет разлуки
супруги снова встретились на турнире в Вене (1922). Мать и дочь живут
сегодня в бедности».
На фейк не похоже: слишком
много подробностей. Хотя какой
из баронов Врангелей мог
обретаться в 1920 году в Петрограде,
непонятно; да и следов
художницы Rouger я не нашел. Судя
по всему, это рассказ Анны. Но
почему мы должны ей верить?
Да потому что наличие
дочери, оказывается, подтвердил...
сам Алехин! Беседуя со Зноско-
Боровским после матча с
Боголюбовым, он посетовал: «Печать
занимается нашей внешней
характеристикой, и даже по радио
сообщали, как я хожу, как смотрю
на дочь (выделено мной. — С. В) и
т.д. Скажите, что имеет общего
это с шахматами?» («Последние
новости», Париж, 10.11.1929).
Так что теперь можно с
полной уверенностью сказать: дочь у
Алехина была! И он, видимо,
поддерживал с ее матерью контак-
ютмр.1Го »г* суутрягь. Печать заилимте я
каотей astroseft хврлвтерягстигой, а дал:е
Со fwilo cirtnmiuH, как* & жажу* хаьп.
сУйгру аз х--,чъ ц г. д. С&алвгс, чг«* иа?.-
еть «отогт» an гь шаххитаав? Нбссолы.
Д£ЧШ» было в-t Б ути tec* - ATtjuici, глЪ nv-
ojkk<* яагь не ва£&да.
— А въ детали о мх?
— OpraeRaaiii* не четавд*л* желать «tr-
ч«то лучмаго. Насъ всэмт пртшижиш
ояень хорош», T^n.fj. радушно. Я зкяаь.
кшечш. что ъъ FVpiaanJii, гдЬ Багодягёовъ
гистеинво э<вагть а собирается н&?ура.ш-
лмятыл. ояь оч*вь шнуляреаа, н чтз а:-
обще онъ Mot-ь лес гать л*яы» талька fax*.
ϊΐί ?гв ллбягъ м пырять *му. ТГ^этоиу it
вполне Сь».гь rerea*;, къ тану, чтз aet» cau*
u.rrhs будугь н* *гм стартцЪ. 1То повышу
at* cxipajitcb не ароякаат?·, α если овХ а
ВЗьеааальзгв&азп, ν ве л зон в-3 я мена,
вовек ве тгь вид! вракш к* мг£. A
признаться, oirfc ueaa не то.тьва не млкояали,
Rj ещ*· лаже гтдет^пгволп агр.'ть аучпк\
добиться шитлтъ результата. Но * erjrS-
шуеь кг шяжшшмъ тгргяда асега, апк/гъ
acRvcGTay, и — что хпЪ а па jrrojn, да чьвхь
гф антнпвтж а.чи eimmnii?
Ear. Д. Зносно - Б. potentй ^
Z? интервью Зноско- Боровскому
(«Последние новости», Париж, 10.11.1929)
Ачехин проговорился, что у него
действительно была дочь! Публикуется
впервые.
62
Одиночество гения
ты, если спустя столько лет Анна приехала на матч вместе с дочерью
(вряд ли 15-летняя девушка поехала бы сама). Я хотел на этом
поставить точку, как вдруг получил неожиданный презент от шахматного
историка Дмитрия Городина (см. о нем в главе «Кто стоял за спиной
Радека?»): фотографию могилы дочери на Wiener Zentralfriedhof
Венском центральном кладбище, присланную ему в 2009 году
венским историком Михаэлем Эном (Michael Ehn). На черной плите под
православным крестом надпись:
VALENTINAJEFTIMOV
GEB. BARONIN SEWERGIN
*15.I2.1913-tl. 3.1980
TOCHTER DES SCHACHWELTMEISTERS
A.AUECHIN
Всё, как у Мюллера и Павельчака: урожд. баронесса Севергин,
родилась 15 декабря 1913 года, дочь чемпиона мира по шахматам
А.Алехина... Я не мог поверить своим
глазам!
На сайте кладбища указано,
что в той же могиле (участок 96,
ряд 4, номер 165) покоятся еще
Jeftimov Jovan (40 лет), Steinhei-
mer Eduard (65 лет, род. 10.01.
1876), Steinheimer Maria (76лет) -
и Anna Sewergina, умершая в
возрасте 84 лет, дата похорон - 10.
09.1964. Выходит, она тоже, как и
все спутницы Алехина, была
заметно его старше - на 12, а то и
13 лет. Ефтимов - фамилия
болгарская, и Йован - это либо муж
Валентины, либо ее сын. А
какое отношение имеют к ним ко
всем Эдуард и Мария Штайнхай-
меры, можно только гадать...
С Анной тоже не всё
понятно: была ли она фон Севергин
или просто Севергина, была ли
свадьба или нет - эти вопросы
остаются открытыми. Особенно
второй: не мог же Алехин в 1920
году жениться дважды, тем более
<
4
* Г?
-т
щ
С—1
if J
*ш ?щ
f
VAIENTINAJEHIMOV
0£» BARONIN SEWPRCIN
ι Λ Ι9«0
ГОСНТС» ϋ£5 SOWOfWEllMUSIIIlS
Λ ALJECHIN
г
г -? ^^РЧИ
лЗий^^Я
VT^^^ Vv
I '
i
V 6
Дочь Алехина, урожденная баронесса
Севергин, похоронена на Венском
центральном кладбище. Фото Михаэля
Эна (Австрия). Публикуется впервые.
Свидание с дочерью
63
*7<
?§-χγ~τ~~
/is2~s* &ы*4с»>v*- V·**-*»
t-^ /r^rsf/i i
^Ο' ί—-«-Λ<Λ*ΧΛ.
A?-^~^, (W(
<*d
/'/Φ
^*·^Λ*^
^ «
<-r-w_
^•^
«-v^'-'-V
p """7~? «H #x^
9*4*J+—* , <\~%~>
"•"•^w**- ^
££«4*«t** J'*.
- ^c
""-? €
^—_
_ ~ ^~
..* b<**
*L,w^ η—
/"·- Λ/β
С
*—' >»м С* щц
г*
W, <'—
J /1** *«д.
А*?А^'
В этом письме Вадим Изнар (муж Гвендолины, падчерицы Алехина) сообщил Ко-
тову, что «Алехин был женат четыре раза» и что у первой жены — Александры
Батаевой — были «взрослые дочери». Из архива А.Котова. Публикуется впервые.
что, в отличие от питерского, брак в Москве имеет документальное
подтверждение?!
Об Александре Лазаревне Батаевой - той самой «фрау Алехиной»
из Москвы - известно очень мало. Их брак был зарегистрирован 5
марта 1920 года, но, как узнал одесский историк Сергей Ткаченко,
судьба свела будущих супругов еще во время Первой мировой
войны - оба работали в Земгоре (Всероссийский союз земств и
городов), в комитете по оказанию помощи одеждою и всем
необходимым больным и раненым воинам, увольняемым на родину.
Согласно «Правительственному вестнику» от 15/28.06.1916*, Знаком
Красного Креста были награждены 10/23 апреля сотрудник комитета
«титулярный советник Александр Алехин» и «член того же
комитета, жена присяжного поверенного Александра Батаева». То есть она
была женой адвоката.
Шабуров, со ссылкой на книгу записи актов за 1920 год, пишет,
что Батаева была «вдовой, работавшей делопроизводителем».
Странно, что он не привел год ее рождения, хотя в записи это всегда указы-
* В русских дореволюционных источниках через косую линейку
указываются две даты: первая - по старому стилю, вторая — по новому. Внутри цитат
даты по новому стилю даются в скобках.
64
Одиночество гения
вают. Олейников называет Александру Лазаревну «32-летней
секретаршей», из чего следует, что, в отличие от всех будущих жен, она
была всего на четыре года старше Алехина. Обычно пишут про
разницу в десять лет, а Евгений Гик в книге «Жены шахматных
королей» (2006) даже точно указал: «была старше на тринадцать лет», хотя
источник своего знания утаил. Может, просто спутал со следующей
женой, которая была с 1879 года?
Доказательство того, что разница в возрасте все-таки была
значительной, удалось найти в никогда ранее не публиковавшемся письме
Вадима Изнара (это муж Гвендолины, падчерицы Алехина),
написанном Котову 23 января 1966 года по случаю выхода романа «Белые
и черные»: «Вы не указали, что Алехин был женат четыре раза.
Первый раз в Москве, на незнакомой нам женщине с взрослыми
дочерями». Вот так сюрприз! Выходит, Котов знал не только о первой жене
(о ней ему сообщила Гвендолинаеще в письме от 9.12.1958: «А.А. был
женат в России, но мы об этой жене ничего не знаем»), но и о том, что
у нее были взрослые дети...
К сожалению, ни о самой Александре Батаевой, ни о ее
муже-адвокате ничего неизвестно. Всероссийского реестра присяжных
поверенных не существовало, поэтому найти сведения о ком-либо очень
трудно. Вот один из гуляющих по сети... сначала написал «фейков»,
но тоже слишком уж много подробностей:
Свидание с дочерью
65
«У него появился собственный дом - комната в набитой жильцами
коммуналке. Там его ждала жена - делопроизводительница Чеквала-
па (Чрезвычайной комиссии по производству валенок для армии; не
смейтесь, и такая была!) Александра Батаева. С ней, женщиной из
хорошей семьи (оба ее брата погибли в Белой армии, муж убит на
фронте еще в Первую мировую, родители сгинули где-то на юге, под
Ростовом), они познакомились в очереди за ржавой селедкой,
разговорились, выпили водки у него дома. Встретились снова - и через
неделю расписались».
Попробуем опереться на факты. Когда Алехин осенью 1919 года
учился в киношколе, они с Александрой Лазаревной уже жили вместе
(об этом вспоминал актер Сергей Шишко). И не в коммуналке, а на
квартире его сестры Варвары в Леонтьевском переулке, 22, где у
Алехина была своя комната. Расписались они только 5 марта 1920 года.
Известно, что осенью Алехин въехал в общежитие Коминтерна,
которым стала гостиница «Люкс» на Тверской улице, 36 (сейчас 10).
И не один, а вместе с женой! Помните: «Ольга (Александра)
Лазаревна, с которой А.А. жил в "Люксе", все время поила его с ложечки,
подсюсюкивая»? Слова Николая Карпенко подтвердила «Анкета
для сотрудников Центророзыска», которую Алехин заполнил 2
сентября, уже работая в Коминтерне. Своим адресом он указал:
«Тверская, гост. бывш. "Lux"», а адресом семьи - «тот же».
Как они жили? Напомню свидетельство Павла Попова: «Помню,
я у него был в 1920 году, когда он жил в Москве в бывшей
гостинице "Люкс"; он хвастал не тем, что ему удалось что-нибудь спасти из
прежних средств, хвастал не заработками или доходами, а тем, что
он получает молоко в количестве достаточном, чтобы пить его
стаканами, тогда как для всех граждан в Москве молока нет. Помню его
выражение: "У нас в Москве ничего не осталось, застряло кое-что в
Воронеже. Там бывшая наша прислуга тихо и плавно продает
сохранившиеся шубы"».
Когда семья распалась, точно неизвестно. В декабре Алехина
отправили в агитационную поездку с делегатами Коминтерна по
городам Урала и Сибири. И не просто переводчиком! Как я узнал из
заметки В.Зайцева «Ход Алехина... в Екатеринбурге» («64-ШО» № 1,
1990), он был «в должности коминтерновского толмача, даже
называемого громко помощником политического комиссара (выделено мной.
- СВ.), сопровождавшего почетных гостей... Целыми днями вместе с
ними он посещал предприятия и учреждения, уезжал в Москву, вновь
возвращался на Урал с планом мероприятий и дальнейших
маршрутов опекаемых иностранцев, собравшихся еще посетить Челябинск,
Тюмень и Омск. (...) Алехин прибыл из Перми в одном вагоне с
представителями коммунистических и рабочих партий Германии, Кореи,
66
Одиночество гения
США, Турции, Уругвая,
Чехословакии и Швейцарии». Источник
информации вполне надежный —
газета «Уральский рабочий».
От поездки остались пара
любительских снимков и
уникальное свидетельство очевидца —
немецкого поэта и писателя,
коминтерновца Макса Бартеля.
Его мемуары «Нет нужды в
мировой истории. История одной
жизни» («Kein Bedarf an Weltge-
schichte. Geschichte eines Lebens.
Wiesbaden, 1950) - очень
редкую книгу! - отыскал в
цюрихской библиотеке Дмитрий Го-
родин. Любезно присланные им
фотокопии позволили узнать не
только имена спутников
Алехина, примерную дату выезда из
Москвы и маршрут до Урала, но
и то, как встречали посланцев Немецкий коминтерновец Макс Бар-
Коминтерна, как они проводили тель подробно описал в своих мемуарах
время, кто в кого влюбился, ка- путешествие делегации Коминтерна
кие опасности их подстерегали в на Урал.
пути (двое заболели тифом, один
умер) - и даже определить, когда и где был сделан известный снимок
из книги Мюллера и Павельчака и кто на нем изображен!
Вот фрагменты из большой главы, посвященной поездке.
Макс Бартель
ЗЕМНОЙ ПОЯС
После визита в Кремль к Карлу Радеку, который битый час
изощрялся в шутках и причудливых фантазиях, нас пригласили поехать
в начале декабря на Урал с группой иностранных товарищей. Может
быть, прошептали посвященные, может быть, поедем еще дальше, в
Сибирь. (...)
Мы уехали из Москвы прекрасным зимним вечером, когда сосны
стояли на фоне неба, как японские силуэты. Кто поехал на Урал,
который русские называют «Земным поясом»? Прежде всего,
американский делегат (II конгресса Коминтерна) Стилсон с женой и дочерью,
бледный и щуплый, в очках на мальчишеском лице; независимый
исследователь Финк, как всегда самоуверенный, с невидимой табличкой
на груди: «Внимание, я иду с моим секретарем!»; турок, который снос-
Свидание с дочерью
67
но говорил по-немецки и держался сдевушками, особенное Клавдией
Петровной, которая была там же; два товарища из Южной Америки,
Карлос и Хосе; кореец Ча-Со-Ван, молчаливый ученый; швейцарская
писательница, «усыновившая» нашего главного переводчика,
шахматного чемпиона Александра Алехина; делегат из Чехии с немецким
именем, ни слова не понимавший по-немецки; комиссар Лабанович
из Украины в качестве гида, а также несколько переводчиков, повар,
уборщица, милиционер и два помощника. Международный спальный
вагон был прицеплен к тяжело идущему поезду, и утром мы
пересекли Волгу в Ярославле. Потом мы добрались до Вологды. Переводчица
Кузнецова написала небольшую поэму: «Вологда, красная звездочка,
отрадно сияешь ты здесь людям в одиночестве и снегу..»
Сани ждали нас, мы ехали по лесу и по льду реки на бумажную
фабрику, где работали в основном заключенные. (...)
Мы ехали в Вятку (ныне Киров), праздновали и праздновали. (...)
На базаре нечего было купить, но спекуляция расцветала словно
румянец на щеках. Вечером все собрались на праздничную встречу. (...)
Мы пробыли в Вятке четыре дня, предоставленные самим себе;
независимый исследователь охотился за диаграммами и статистикой,
шахматный чемпион Алехин провел много времени со швейцарской
писательницей, турок познакомил Клавдию Петровну с восточным
любовным искусством... В последний вечер был устроен банкет. (...)
Благодаря Максу Бартелю удалось определить, когда и где сделан этот
известный снимок и кто на нем изображен. Это Вятка, декабрь 1920 года. За столом
сам Бар тель (с трубкой), семья американца Стилсона и, вероятно, Клавдия
Петровна. Сзади Алехин, переводчица Кузнецова, кореец Ча-Со-Ван, Рюэгг, уругваец
Карлос и Нина (она из Вятки/), немецкий ученый Финк.
68
Одиночество гения
Почти два дня мы ехали в Пермь через заснеженные леса, мимо
болот и одиноких деревень. Посреди леса над бревенчатой хижиной
развевался красный флаг. В Перми комиссар Лабанович
воспротивился жажде путешествий и любознательности независимого
исследователя, слишком встревоженный его страстью к статистическим
материалам и четким диаграммам. Финку и его секретарю, невзрачному
молодому человеку, пришлось прервать поездку и вернуться в Москву.
Позже мы узнали, что в Москве Финк со своим спутником несколько
недель провели в Ч К и были высланы. (...)
Русский шахматный чемпион был высоким нервным блондином
в бежево-коричневом кителе и в свободное время решал шахматные
задачи. Теперь его «усыновила» швейцарская писательница,
которая была лет на десять старше, чему он был только рад. Другие
переводчики завидовали ему, восхищаясь его шахматным мастерством, и
только маленькая Кузнецова, написавшая стихи о «Вологде, красной
звездочке», не доверяла ему Иногда Алехин заходил в наше купе
послушать рассказы о Берлине. Политика, в отличие от музыки и
литературы, его не интересовала. (...)
Мы совершенно забыли, что по календарю должно быть
Рождество. Итак, подытожим: в пути мы запамятовали об этом празднике.
(...)
Еще и другие оставили нас на Урале: швейцарская
писательница, автор сентиментальных девичьих книг с социальным уклоном, и
Александр Алехин, переводчик и шахматный чемпион (напомню слова
В.Зайцева: «уезжал в Москву, вновь возвращался на Урал с планом
мероприятий и дальнейших маршрутов»; как видим, Алехин ездил вместе
с «писательницей»). Целеустремленная женщина с помощью умелых
переговоров раздобыла Алехину заграничный паспорт. Он уехал с ней
на Запад, но полагался все-таки не на эту готовую помочь даму, а на
ту, которая была в королевской игре. Он поселился в Париже, стал
гражданином Франции и свергнул кубинца Капабланку с мирового
шахматного трона. (...)
Последний рывок, затем быстрое движение и резкое торможение:
поезд прибыл на главный вокзал Екатеринбурга, теперь называемого
Свердловском. В городе мы посетили дом Ипатьева, в котором были
расстреляны царь и его семья. (...)
По дороге в Нижний Тагил я заболел сыпным тифом и в
полуобморочном состоянии был помещен в больницу. (...) В течение
четырех дней я лежал в лихорадке, борясь с галлюцинациями; губы мои
потрескались, глаза болели, во рту пересохло, а лицо и тело были в
гнойниках...
«Швейцарская писательница» - это, как вы уже поняли,
социалистка Ал на-Лиза Рюэгт. Она приехала в Москву по линии Коминтерна
в октябре, и Алехина приставили к ней переводчиком. Та поездка для
обоих стала судьбоносной: согласно книге Мюллера и Павельчака,
«они были помолвлены на Рождество 1920 года». Помолвка при
живой жене? А что, по-своему даже романтично...
Свидание с дочерью
69
I /
7."''<*<«'«·, diMuLit «4.л«^ >iw.v*. w-tiie*: ,· ^t/itk*/**,
JC I Я
. , Hi* eK.Uvi+v\{ d*A4 wis 1АМЛ frtiiiMlt,<? ЛЧ гМЖлАъ, 10 ^^ "*+
^4iu*4L Жал
h Mill*.** 6*4р4.ич>алЖ.
Выписка на немецком языке о бракосочетании Александра Алехина и Анны-Лизы
Рюэгг, состоявшемся 15 марта 1921 года. Отдел актов гражданского состояния,
городской район «Китай» (имеется в виду Китай-город). Невеста: год
рождения — 1879, место проживания — Москва, Тверская 36, делегат, замуж выходит
впервые, фамилия после замужества — Алехина.
70
Одиночество гения
Развитие событий ускорило дело, заведенное в ВЧК в ноябре 1920
года после телеграммы из Одессы о найденной чекистами «подлинной
расписке шахматиста Алехина» в получении 100 000 рублей «от дени-
кинской контрразведки». Не буду вдаваться в детали - они хорошо
известны из статьи Ю.Шабурова «Под колпаком у ЧК» («Шахматный
вестник» № 10, 1992). Выскажу только свою догадку: судя по
уверенным ответам на допросе в ВЧК в феврале 1921-го, Алехин загодя узнал
о расписке. Возможно, уже в ноябре: заметив за собой слежку - при
его фотографической памяти это было нетрудно, он наверняка
насторожился и захотел узнать о ее причинах. Центророзыск с ВЧ К сидели в
одном здании на Большой Лубянке, 2, кто-то из чекистов «по секрету»
вполне мог проболтаться... Вот Алехин и приударил во время поездки
за миловидной швейцаркой, понимая, что брак с иностранкой - это
его единственный шанс вырваться из России, к чему он давно
стремился: вступая потом в масонскую ложу, Алехин скажет, что стал
переводчиком Коминтерна «исключительно в целях выезда за границу»!
Почему не женился на Анне-Лизе сразу по возвращении в Москву?
Видимо, хотел прежде убедиться в ее беременности - иначе брак
могли счесть фиктивным, - а это выяснилось лишь к началу марта (сын
родится 2 ноября). Во всяком случае, еше 21 февраля в ВЧ К он
написал на бланке допроса: «женат, жена Александра Лазаревна» (видимо,
она носила его фамилию), а уже 15 марта, успев развестись, вступил
в новый брак!
На допросе Алехин указал своим адресом: «общежитие
Коминтерна "Люкс", комната № 152». Возможно, это была уже комната г-жи
Рюэгг, так как с Батаевой они жили в№ 164...
P.S. Ложку дегтя в «лав-стори» плеснул Осип Бернштейн,
который, как я узнал из журнала «Deutsches Wochenschach» (29.05.1921),
был в числе тех, кого Алехин встретил по приезде в Берлин: «Русские
мастера д-р Бернштейн и Алехин в настоящее время находятся в
Берлине». Видимо, тогда-то под настроение он и рассказал ему о
«романе» с Анной-Лизой - во всяком случае, Эдуард Ласкер в книге «The
Adventures of Chess» (1949) ссылается на Бернштейна:
«При компрометирующих обстоятельствах он (Алехин)
практически вынудил молодую иностранку выйти за него замуж. Таким
способом он обеспечил себе разрешение выехать за рубеж. Как только поезд
пересек российскую границу, он оставил свою жену с их маленьким
сыном, без обиняков сообщив ей, что он всего лишь использовал ее с
целью выбраться из России».
Толи Бернштейн напутал, то ли Ласкер так услышал, но...
«молодая иностранка» была на 13 лет старше Алехина, а сын родится лишь
через полгода. Что Алехин «оставил свою жену» сразу по пересечении
Алехин в роли переводчика
7!
границы, - сказано, думаю, пяя красного словца, а вот в то, что он
«без обиняков» объявил всё Анне-Лизе, — готов поверить. Слишком
уж памятны слова, сказанные им, еше гимназистом, брошенной
девушке: «Я действую сейчас в открытую, цените это. Все люди
циники, и все слова, прочие правила общежития существуют только для
того, чтобы приукрашивать простое эгоистическое чувство; а я
обнажаю дело, вот и всё»...
АЛЕХИН В РОЛИ ПЕРЕВОДЧИКА
От поездки в Сибирь осталось еще одно «уникальное свидетельство
очевидца» - очерк Анны-Лизы Рюэгг «От Москвы до Омска»,
который словно продолжает путевые заметки Бартеля: он закончил на
Нижнем Тагиле, а Анна-Лиза начинает с Тюмени. Таким образом, мы
можем восстановить весь маршрут: Москва - Ярославль - Вологда
Вятка - Пермь - Екатеринбург - Нижний Тагил - Тюмень - Омск
- Челябинск - Златоуст - Москва.
Очерк был опубликован в « Правде» только весной (8.04.1921). Я не
мог понять почему, а потом сообразил: Алехину надо было как-то
показать товарищам в Кремле, что они с женой - преданные делу
партии люди, которых можно без опаски выпустить за границу, вот он и
вспомнил про поездку. Было теперь и чем козырнуть перед Лениным,
на прием к которому Анна-Лиза, как я случайно узнал, просилась
именно в апреле (см. стр. 298).
Через месяц, на следующий день после прибытия в Ригу четы
Алехиных, здешняя газета «Сегодня» пересказала очерк в заметке
«Путешествие Анны-Лизы Рюэгг» (12.05.1921; как и очерк в «Правде»,
заметку нашел Михаил Соколов) - то ли не зная, то ли сделав вид,
что не знает, кто сопровождал ее в путешествии. Судя по словам про
«новые подвиги этой дамы», газета о ней уже писала. Но что это за
«подвиги»? Хотя намек есть: «Швейцарская немка, суетится уже
третий год при 111 Интернационале, на особых поручениях Зиновьева».
Поясню: Григорий Зиновьев возглавлял Исполком Коминтерна. Так
что г-жа Рюэгг была отнюдь не рядовой коминтерновкой.
Тон заметки язвительный, комментарии издевательские. Но
финал заслуживает того, чтоб его процитировать: «Таковы очерки
этого путешествия уже после того, как по ним прошелся редакционный
карандаш заплечных мастеров "Правды". Можно представить себе,
каковы же были истинные впечатления наивной швейцарской немки
"от Москвы до Омска"».
О том, что Анна-Лиза на самом деле увидела в России, вы узнаете в
главе «Кто стоял за спиной Радека». Но насчет «редакционного
карандаша» рижский журналист ошибся. Алехин был переводчиком Рюэгг, а
72
Одиночество гения
с середины марта - мужем, и я уверен, что в «Правду» она отдала
перевод, сделанный им. А значит, у нас есть редкая возможность
познакомиться с Алехиным в роли переводчика - и даже оценить его талант
беллетриста: вставить в агитационный текст фразу «ослепляюще
белый безбрежный поток, над которым смеется синее небо», - это круто!
Анна-Лиза Рюэгг
ОТ МОСКВЫ ДО ОМСКА
Мыв Тюмени, в пограничном сибирском городе. Обедаем вместе с
рабочими на заводе. Суп, мясо с овощами и хлеб: это обычное меню на
этой фабрике. Всё чисто и хорошо приготовлено. Девушки, которые
выдают обед, приветливы и проворны, как в моей Швейцарии,
которая славится на этот счет. Товарищ из Америки заявляет, что за все
время его поездки ему нигде так не понравилось, как здесь. А он приехал
из Сан-Франциско. В Тюмени никто не голодает, а разверстка на
масло, мясо и муку для Центральной России была полностью выполнена
местными крестьянами, несмотря на то что при отходе колчаковские
банды разрушили лучшие мельницыТюмени. На каждом собрании
наталкиваемся мы на иностранных коммунистов. Немцы и австрийцы,
прибывшие 6 лет тому назад в царскую Россию как военнопленные,
остались теперь как добровольцы работать в Сов. России. Среди них
находим мы энергичного интеллигентного американца, который
приехал в Сибирь из Америки для борьбы с проклятыми большевиками, а
теперь, о, чудо! Он один из самых преданных коммунистов.
Μ ы едем к Омску Два дня и две ночи мчимся мы по снежным
степям Азии. Воспроизвел ли какой-нибудь художник на полотне
красоты этой северной природы? Я думаю, что нет. Иначе они были бы
более известны миру, чем красоты Ниагарского водопада. Мне
кажется, что я в неведомой сияющей стране. Вот колеблется ослепляюще
белый безбрежный поток, над которым смеется синее небо, -то ветер
приводит в движение снежную пыль, и она, то белая, то золотистая,
мелькает перед нашими восхищенными глазами.
Омск. 30 градусов мороза. Но воздух так чист и сух, что переносишь
этот мороз легче, чем 12-градусный мороз в Западной Европе. Здесь
мы посетили партшколу, в которой подготовляются кадры советских
работников. Ленин как-то раз сказал: «В Советской России каждая
кухарка должна уметь управлять государством». И это отнюдь не было
одной только голой фразой. В партийных школах рабочие и
работницы, крестьяне и кухарки изучают внимательно сов. строительство
и учатся искусству управлять государством. В честь нашего приезда
1-я пехотная школа Омска постановила именовать себя «школой III
Коммунистического Интернационала». 4000 железнодорожников в
рабочих костюмах окружают нас, красные знамена реют над
нашими головами, как огненные цветы. Никто из нас никогда не забудет
пережитых там минут. Не раз охватывавшее меня унылое чувство, что
мои слушатели меня не понимают, - где оно сейчас? Я говорю громко,
Алехин в роли переводники
73
чтобы ни одно слово мое не пропало ни для одного слушателя:
«Товарищи, раньше дорога в Сибирь была дорогой страданий, а там, где она
кончалась, было место слез и мучений, теперь же эта дорога стала
путем радости и ведет она к великому воскресению» (а переводил всю эту
пафосную трескотню «товарищ Алехин» — бывало, по 22 доклада в день!).
Челябинск. По географическому размежеванию мы опять в
Европе. Здесь, как в Омске, лежат большие запасы продовольствия,
которые застряли здесь ввиду недостатка транспортных средств. Мы
осматриваем железные и деревообделочные мастерские, которые
были разрушены Колчаком и вновь восстановлены теперь железным
трудом рабочих. Машины, которые белые довезли до Владивостока,
возвратились вновь на свои старые места, только некоторые недо-
От Москвы до Омска.
Мм к Тюивтт. в гогрляичяом сябяр-1 влять государством*. Я втй стать «
tt*4 глюде. Ободавм вместе о р*бряи<
ш га заволв. Суй. мясо о ©эойгакк *
«ofг; яти оЛмччпв -ыАшп и* tron фабря*
ην. Вес чн£то н vtpunio пряготоелвяйу]
Дьдуапят. κητορυο выдает обид, оря-
wv.-miu и r?ii iwpiiu. как s ыооб Щ|ой
μϊμηι, которая сплтпгл па «тот* счет,
TWnnrttt №1 АНОрИКЯ. ЭИЯиЯЯЯт, ЧТО W
Iin? Η;μ·ΜΤΙ «Ό Wi&lItttTI <*МУ ПИГЛ9 T»t
не imti|iutittMJ% n«t вдес*. Λ σα яр·-
evvi in fttn.<MARiinctfi. ВТюмали" «π·
кг < it- голша*г·. η pasurpwwi ii* uaks».
inly:, π яу*у ддп lIc»JTjifcji',*oft Poeciffi
Itbitt пл/мгостьт иьнюляеяа мостныия
ф.:.7у.йЯНмЯ; посмотря ni\ то, его При
егзьпг «H-t'itic wtewiiA банды разрутв-
311 лучите WtiMinuw Тюмени, На
Bast;: 5i МЛрЛИ.Ш НЛТйЛКИйа^МСЯ MB ΒΑ
IHIlt.· ;ι;ΐι1ΠΜΚ КОЛМУНПСТОЛ НОМЦЫ *.
αί'.ι-rpifTiuui,. npiifiwoimre δ лет тому яе*
вид n-ДвРекую 1*лсию, сак влеялоплсл.
jnin, 1«та,тягьтопырь, как добровольны»
рп'.патъ в Сов. России, С.рад» пит ял-
дозд им яяерпнчппго «цтеллягеятяого
амррикпвии, крторып прямая в Снбярь
на Америки для борьбы ft проалжтыми
бсльлшнняпмп. a «nip*, о, чудо! Ο*
«ДНЯ ИЗ САМЫХ ЛДОМНМХ вОЫМУКН-
стоа
Mw «юм а Омсиу. Да* дяя ж Дре
ПОЧИ' МЧИМСЯ МЫ ПО СЛОЖНЫМ СТОГГЛМ
Ляии, Иосярэиаввл ли аакой-яяОУАь
sy-дчжяяк па полотне красота 9-тоВ «·*
t»>;!Wft ПРИРОДЫ? Я ДуМаИ, ЧТО Н9Г.
Кмпо они билн бы более вэвёетпы
миру, чоч красоты Ниагарского
водопада М»о гоквтея. что я а неведомой
Ci Tnrwft стране. Вот колеблется осэвп-
цргсае* Oitwu бсйбрвлЛ!ЫЙ поток, ' цац
пог.удим <
ДОпгидКт в дяшмпяе ояежную ведь» Я
они. то белая, то волотасгая, мелькает
fcpna пявжмя веглппювнымв гаааамн.
Ouct. НО 'vwy^n woposft. Но впаду!
тя* чист II «ух, что лорелоеншь axot
»ор^а л/огчо. чом 12.грйдуояь№ лора*
* Удиадпри Jiip.5no. Вдесь мы . лос«ги.ъ<
IlI,pTim:.viy, И КЛОрОЯ- П0ДГ0ТОВЛЯЮТ(У
tofi'gu оввотекг.х р&ботдвсоа^: Ленин
цфуц *!Ц*олааал: «в Соавтсхо! Рор(^1
кьлааА ^«рьа /;оажя* .ума»; утгра.
было одипй tUb«o голой фрааоЛ. К
OApTwflimi unta-nu рабстиф и рнбопя»·
иы, лре^т>лве η гутаряп пяучогт
внимательно сп·, στροίίτο.ΐΜΓΤ»η> и у«гат«г
жчеусстру уггремять !хжудкретиом, Η
чы*ь яаяего ерноала t я покэтмя
школа Oucca поогацоаила имопомп,
t»«6lT <ТвМЯй# Jtt . КЛММУ1ГЯСТПЧ*5«ГМ^
Икторпагдопала», 4.0*» «олютмюроя·
rrmi · рабопш «оотюмм окружамт
лад. крехяы о еьамдм рмот нал itnmim«
гмоммв, как огкеяггые пасти. Кихто
«а. вое пмогла «в адРу,*»вг п^режчти·*
там мпяут. ife ряя oiwrviaeiooe «»»н;|
УТЛ«ЛОв Ό-ΒΟΤίΟ. ТГО МПИ (WytPftTCtn ЧА·
пя но оогцмают,—где опо осПчас? Я
говор» громао, чтоби *ш or.no слоил
моо г»в пропало пи для одного «душато^
ля: «Тогоцздюи. рапьол дол-ч» о Си-
бпрь была дорлтй страл««ий, я том.
г до опа яоячолась, было млс-го ел*» и
мучвпяя, теперь же *га дороге стале
путам радости « ведет она в климшу
efcipMcinno».
Челябинск. По roorpafrinrncumiy рай·
мвжеваятио мы опять в Короле. *ад<к-к
гаа в Oute*. лдаат бо.тьпше aaitt«M
продоюльотааа, «оторгав застряли
5Д*0Ь, я виду недостатка тракг порт-
пир орадота. Мы осматряаеом жплм.
иыо s дереаоовдалочвыа маствр^ияо,
соторые были рартруакшы Колчаяом it
аяпаа восй7азйоак?вы теперь железным
трудом рабочих Машины, готорыа
белые доеаадп до Вдаднвостока. воавра
тллись вяовь .яа еаоя стары* моста
'только. некоторые недостающие мотал-
дичоскяе части аамоиови дрровяпяы-
мв» Я; посетила 1-« городесуо ддраая-
с*««тг.я спясе цобо,—тс ретер су для рабочнз. Rca, что..бмлС лучшего
β буржуазяых лоы'ах Чоляияя&ка,—
мебель, «τοβίρκ, художпстплияыо" лр.я1зве·
•ДЫПЩг'.Л· coipaini сюдь Удобные
клубные кроеле* па долу модвемьп
ковры, белые, как только что -ныпол·
шнй сова В удяксомин тпдлдьЛлюсь
я кругом. Ногр, которые о nepswfl pan
а ЖЯ81Л1 уеадвл θίροηβοηκ, яе был. яа-
аеРвое, бодое т$др*дав, чем я прв
осмотре атото Д^гма «ДД рааечяа. 8дра·
цща помещается я бывшем усяасгыре.
"Мы бдеодугм η ίΛητβταΉηη ,α^γο <\глп,
по 6orn.itn«n 4Β·4ΐι нпзнниамн pnoOirtuH·
Own рвслА-вяыяа^гг. *rrb яогла nx u itap-
R«ft paa прпв<1.:я гшлв. ofm 6<w.4««, тлг
одлать по ρτίΐΜ ΐΜπρπΜ, и т^ч» и tn-|
neps им кп:кмся itpftftieflamio 8Ассь i.-a-
кям^то спом.
Мы а упччыкд imnr.x клк часто π го-
(я>рн.та [ι npojifltjwwBH нитсД пио-'-пич- .
ость.дΗ спо r»v имб\'дь та».«чЛ xpjmmirft
кар»;д, клк pyriiijptrt. ниторцш тад ;ι·ντ«
го нахо.-уигя Оы и таг»» η преходи ι mi
8 njwtfc^ptiaiftiimiT Обрд.лгмтпЬ. »»ιν
дт». впду—ϋτ* нготуякл mi нткимппгия*
Мй. Oi(7l?r»T(irribnur «ЦП-ляп. ЩЧУЛПт
HimwiHA ио лап> tbiwuvunttn, h<W<>u.
ilo^HUtiil (ι к<Л*лци i r1-m ft ίιΗΜ. )[ щ)'
гял »! »и.су erWfil.* Nmudt? яичуги nmv.
г«г;»ш. ii|'»Oh п.1(»>т>4м««э »«·«· луиц, »
я ri^f!!.t.ia*n lyjAKwn.n к «AHviiiHt» Μ*.·'ή,ι·
«км па(ншл1ч» pMjn»m. Π Κι».·*ρ»ι nmsi'o-
pett, что и <nm nfrfun rt&Mm· -mr ;*.o
пути как тот У|У>д|н i.irr<]pMft они .ю-
fUJntLfcit ил Βυΐι.ιΗ; fjit ,ιαιί'ϋ imrrirr, 'i"p-
мый, ma w«.№4. шчжигиПгютсл η k(W*
ντο,ΐΛ и 4»»гдл, n.iiftiiK'tt пмбдет иа-ιΐατ
fiptWfliiUiiflii'ft Оси ТП;»,(Н;)Н HJl WI«T, TV*
lonirr i4iiu4iHnMbiu.iv! рйвте.м и греет η
<»rEicuia«rr нС«ь uiiji. Я РиНмцм нм и т«м,1
ЧГЯ CNt'pS OV.WT litma/f1«4i .ЫОКТЦΜ40-
Ч«Н* СвЙТ II И ИХ i>.tl.llillULt. Я jr^l Я0(-
.;яика Идут полип i-tniTft и «нвд>'ха, что
лоти их ушй т будут анать Tar en>n
лкянв. которых приниюсь и&шпъ не
'1ГГ1ДПМ.
Зпатоуст. По мяо пеп дрожит οι- вол-
|рввия. Я думою по тоска ли но родине1
меня так изяолт/оиаяи! Mcc*ntwri.|
здотпяя так же «ipuci'a н красива, каш
уса роднна. Тпааряшя я* У$и вы слали
ваи tiapOBOa, уь-ранишпыв рааннин
яадяясяия я краспынп фл«тмп, К со*
рьлеатъ мы вынуждены отказдться ιττ]
ртош радужного пркглашония. Крот
чвйшим путом йоетфашпомгл мн об-
ρβΤΉΟ. И SOT Я ЯЯЯЫ» Ь MijCbUD.
Когда в Mwcwiiuu uaci:pemti» iwo яи
депвоо миою, я Вуюио·. ».Опиатлвдл Г'ог-
сил, ты бодая, ты rato.'Lactub н стра>
Даешь от холода, и однако, но пексчер-
паомым сокролатам η но аоомшкоо·
«гам, юторые гм таить а собе, ты ciul
мая велика^ еаМая богач-ил страна а
игре).
АННА-ЛИЗА 1»К»ГГ,
Статья Анны-Лизы Рюэгг об агитационной поездке делегатов Коминтерна по
Сибири была напечатана в газете «Правда» (8.04.1921). Публикуется впервые.
Одиночество гения
стающие металлические
части заменены деревянными.
Я посетила 1-ю городскую
здравницу для рабочих. Всё,
что было лучшего в
буржуазных домах Челябинска -
мебель, ковры, художественные
произведения, - всё собрано
сюда. Удобные клубные
кресла, на полу медвежьи ковры,
белые, как только что
выпавший снег. В удивлении
оглядываюсь я кругом. Негр,
который первый раз в жизни
увидел европейца, не был,
наверное, более поражен, чем я
при осмотре этого дома для
рабочих. Здравница
помешается в бывшем монастыре.
Мы беседуем с обитателями
этого дома, по большей части
пожилыми рабочими. Они
рассказывают, что, когда их
в первый раз привели сюда,
они боялись шаг сделать по
этим коврам, и порою и
теперь им кажется пребывание
здесь каким-то сном.
Мыв угольных копях. Как
часто я говорила в
продолжение нашей поездки - есть ли
еше где-нибудь такой
хороший народ, как русский, который так долго находился оы в таком
порабощении и пренебрежении?Образование, воздух, воду— всё получил
он отравленными. Отвратительные жилища, скудное питание, но зато
священники, церкви, полиция и казаки с нагайками. И когда я вижу
старые жалкие лачуги шахтеров, ярость охватывает мою душу, и я
посылаю проклятье последним остаткам царского режима. Я говорю
шахтерам, что и они проделывают тот же путь, как тот уголь, который они
добывают из земли: он долго лежит, черный, под землей, превращается
в кристалл, и когда наконец выйдет из-под придавившей его тяжести
на свет, то горит ослепительным светом и греет и освещает весь мир. Я
говорю им о том, что скоро будет проведен электрический свет и в их
жилищах, и эти жилища будут полны света и воздуха, что дети их уже не
будут знать тех страданий, которые пришлось испить их отцам.
Златоуст. Во мне всё дрожит от волнения. Я думаю, не тоска ли по
родине меня так взволновала? Местность здешняя так же гориста и
красива, как моя родина. Товарищи из Уфы выслали нам паровоз, укра-
Путешествие Аяны-Лгоы
Рюэггь.
О ховнхъ подмгагь *то1 дои «ы ув·
шш жть поскоки»! .Придм* (Ж 172).
Ом шв«1 цдрскдв вдмва, суетятся уже тро
тИ году пря 1* HiTCpuaiovait, яяоеобмг
аоручеоихъ UnoAbOBA, На чстарто! отрА-
ящ* вохерд on отгсмметч ом яуговзе-
cTtie nn иосдал »ь Омск*. В> ОысжЪ яд
жгтнгв vtxoniol жоимумотвчесдо! шиш
им ободрешд сурсытояд, жиующяхоя и
ведоетдховд гопця я холоп, on прподт
«ом Joem; ЧВ* СовДтско! Ι'οκΐι хдждаа
яуиряд ДОлжп yuiTi уорялт гоеудф
ствохъ!...*
Слова втя вряводятъ ияхотвуж) тисоду
η тд&оВ вооторгь, что тттъ же, во схода
сгъ и^ста, виаоегт?м поетдяоие«1е яаояо*
ваткя .спадов 111 Аожхунвелиосддто Ия«
теряаиюния". 1яву-Лвду Рюмп. она·
тмметг сада посгоргд я „увыддго чуэ-
J ОТВД, ЯГО ¥01 CJTUUreJB Ββ nOKAXAirrV
Фрагмент заметки в рижской газете
«Сегодня» (12.05.1921) с язвительным
пересказом статьи о поездке в Сибирь
«швейцарской немки», которая
«суетится уже третий год при III
Интернационале, на особых поручениях
Зиновьева». Публикуется впервые.
Ангел-хранитель
75
шенный разными надписями и красными флагами. К сожалению, мы
вынуждены отказаться от этого радушного предложения. Кратчайшим
пугем возвращаемся мы обратно, и вот я вновь в Москве.
Когда я мысленно воскрешаю всё, увиденное мною, я думаю:
«Советская Россия, ты бедна, ты голодаешь и страдаешь от холода,, и,
однако, по неисчерпаемым сокровищам и по возможностям, которые
ты таишь в себе, ты самая великая, самая богатая страна в мире».
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Парижские жены Алехина - Надежда Семеновна Фабрицкая и Грейс
Висхар - тоже были заметно его старше. Шутку про «вдову Фили-
дора» знают все. Но вот цитата из письма Сергея Прокофьева одной
своей приятельнице (от 5.07.1923): «Алехин пожинает лавры в
различных международных соревнованиях на 64 полях, преследует
исключительно седовласых дам (only gray-haired ladies) и готовится к
матчу за мировое шахматное первенство с Капабланкой» (из
книги Х.Робинсона «Selected Letters of Sergei Prokofiev», Boston, 1998).
Малоизвестны и слова Андрэ Лилиенталя: «Была у него такая, как
сказать... болезнь. Не воспринимал молоденьких девушек, только
постарше его лет на 20» («Российская газета», 8.05.2008).
Тем не менее обе последние жены пытались скрыть свой возраст.
В указе о натурализации Н.С. годом ее рождения значится 1884-й
вместо 1873-го, а в регистрационной записи о браке Алехина с Грейс
годом рождения невесты значится 1886-й вместо 1876-го. Судя по
интервью в «News Review» (ноябрь 1944), точного возраста Грейс не
знал даже Алехин: по его словам, он в 1941-м согласился играть в
Мюнхене, «потому что жене 62 года и у нее плохое здоровье», - то
есть он считал, что она родилась в 1879-м, как Анна-Лиза Рюэгг...
Надежду Семеновну красавицей не назовешь. На немногих
сохранившихся фотографиях мы видим невысокую, полноватую
женщину с круглым, открытым лицом, глядящим прямо в объектив. Почти
всегда нарядно одетую: шляпка, сумочка, серьги, шикарные бусы...
А какой она была по характеру? Какую роль играла в жизни мужа?
Долгое время мы могли судить об этом лишь по роману Котова да
клочкам воспоминаний, изредка публикуемых в шахматной прессе.
В статье московского историка Сергея Карастелина «Куприн -
Алехин» («64-ШО» № 1 1, 2012) я с удивлением прочитал: «Веселая и
общительная Надин (так звали ее близкие и знакомые) очаровала
Куприных...» Так вот какой она, оказывается, была!
Котов в книге «Александр Алехин» пишет: «В процессе работы над
романом "Белые и черные", посвященном многострадальной жизни
Алехина, да и после его выхода автор имел длительную переписку с
дочерью Надежды Семеновны от первого брака - Гвендолиной. Она
76 Одиночество гения
Слева — Алехин с Надеждой Семеновной в Буэнос-Айресе во время матча с Капа-
бланкой (1927). Справа — они перед Колониальным институтом «Индокитай» в
Марселе вместе с участниками чемпионата Франции (1928), на котором Алехин
являлся арбитром. Прошел год, а И.С. в той же шляпе — видно, она была
консервативна и подолгу носила любимые вещи...
рассказывала о мире, царившем между супругами, о той
трогательной заботе, которой жена окружала вечно занятого делами и
анализом партий Алехина».
Конечно, многое из ее писем Котов использовал в романе, но
почему было не напечатать их потом в «Шахматах в СССР»? К счастью,
одно письмо Гвендолины Изнар (от9.12.1958) —сответами на
вопросы Котова - сохранилось и благодаря Елене Максовне увидело свет (в
книге Ткаченко; я публикую его в полном виде и устранив кое-какие
неточности). Из письма видно, насколько воспитанна и образованна
была Надежда Семеновна, какого верного друга и замечательного
помощника имел в ее лице Алехин... Настоящий ангел-хранитель!
1) Моя мать познакомилась с А.А. на балу прессы в 1921-м году
(Алехин приехал в Париж только в январе 1922-го) в залах гостиницы
«Лютеция» в Париж. Деталей не знаю, знаю лишь, понаслышке, что
это был с обеих сторон, как говорят французы, «un coup de foudre»
(любовь с первого взгляда).
Ангел-хранитель
77
2) Моей матери тогда было 48 лет (родилась она в 1873-м году в
Одессе). Несмотря на такой возраст, она была еще очень красива и
обаятельна. Женщиной она была очень культурной, начитанной, знала в
совершенстве четыре языка: русский, французский, английский и
немецкий. В ранней молодости, вотличиеотсвоих коллег и принадлежа,
так сказать, к «высшему свету» Одессы (состояла дамой-патронессой
многих обществ, устраивала благотворительные вечера, много
выезжала и принимала у себя, отличаясь большим тактом и «светскостью»),
склонна была к «левизне» и проводила это в жизнь, помогая, как и
когда могла, людям нуждающимся и обездоленным.
Была с детских лет хорошей пианисткой (работая по 6-ти часов
в день) и участвовала уже в возрасте 16-ти лет в благотворительных
концертах. Позже, в Петербурге, была издательницей газеты «Свет» и
сама написала сборник рассказов, напечатанный в 1910-м году, а
также сделала ряд переводов.
3) Я родилась 16-го декабря 1899 (в письме описка- 1988) года. Как
видите, в 1932-м году я была вполне взрослой женщиной, и, хотя не
знаю, о каком разговоре Вы говорите, мы с матерью могли тогда уже
обсуждать какие угодно темы!
4) Приехав в Париж, мне, как всем эмигрантам, пришлось искать
работы. Владея с детства в совершенстве английским и французским,
я поступила в английское бюро переписки и переводов. Вначале я
была «девочкой на побегушках», но потом, усвоив машинку, глосси-
ровку (глоссы - это заметки в тексте с толкованием непонятного слова
или места) и вообще организационную работу бюро, я, в конце кон-
ъ |
«еЬогепЧпд № " /W
haft In Prag _/ c^"
ragt ale AuslSLndcr cine — neue — Aufenthalteerlaubnls 1m Slime der Verordnung de»
«elchlmlntsters des Inn» m vora 5. IX. 1939 (R. O. Bl. S. 1667) liber die Behandlung von Auslandern.
***- id Antrag fat Jn der Elngangstclle der Freradenabtellung protokolllert.
gangstelle: der Akt 1st zu manlputleren und die Vorakten sind a ruu seniles sen.
i&l
На пражской визе 1943 года датой рождения Грейс Висхар указано 26
октября 1886 года. Из фонда Национального архива Чехии в Праге. Предоставлено
С.Бородиным (Чехия). Публикуется впервые.
78
Одиночество гения
цов, приобрела это дело для себя и успешно и самостоятельно вела
его до войны 1939-го года. Пришлось его ликвидировать, т.к. моя
клиентура состояла, главным образом, из иностранных туристов. Теперь
занимаюсь своим домашним хозяйством!
Мой муж, Вадим Николаевич Изнар, инженер Путей Сообщения
выпуска 1916-го года. В эмиграции работает по своей специальности.
В данное время состоит инженером-консультантом в одном
французском предприятии и находится в контакте с выдающимися здешними
архитекторами. У него также большой дар к живописи, и он в
свободные минуты пишет пастелью. Кроме того, принадлежал к числу
лучших русских теннисистов.
С АЛ. мы оба были в дружеских отношениях и называли друг друга
на «ты». Звали мы его «Шурой».
5) Да, мой муж и я были на чествовании А.А. всеми русскими
зарубежными организациями (за «политическую» речь на том вечере в
Русском клубе он и попал на родине в опалу). Вечер прошел торжественно и
весело. Были речи, танцы. Мой муж говорил от спортивных
организаций. Насколько мне помнится, даже А.А. танцевал!
Дамские моды тогда были: юбки до колен, шляпы «горшком»,
туфли «лодочкой» на очень высоком каблуке и громадные меховые
воротники на шубках! Кстати сказать, мода этого года приблизительно
та же, что тогда...
Париж, 4 февраля 1928. На чествовании в журнале «Иллюстрированная
Россия». Слева направо: Д.Л.Гликберг, В.И.Горянский (?), редактор журнала
М.П.Миронов, Е.А.Зноско-Боровский, Л.Л.Алехин, П.Н.Милюков, А.В.Руманов,
Н.С.Алехина, М.А.Алданов, В.Л.Бурцев, Гвендолина Изнар, «королева» русской колонии
в Париже Ника Северская, О. С.Бернштейн и А. С.Милюкова. Фото с обложки
журнала (11.02.1928).
Ангел-хранитель
79
Л
<y<
OU.Ojl
^Ub МО-Од ^f(MuM^iil·^^
1м., (XjL /Цц£а(ь^ ^ И'^^М^/^><2^Ц^^
Страница письма Н. С.Алехиной от 19.09.1932, связанного с кругосветным
путешествием Алехина, на имя основателя масонской ложи «Астрея» Л.Д.Кандаурова.
Публикуется впервые.
6) Зарабатывал Α.Α., как чемпион мира, очень хорошо. Все поездки
даром; комнаты и еда в первоклассных гостиницах и казино - даром.
И это, не считая постоянных чествований то там, то здесь. Моя мать
всюду ему сопутствовала. Но проживали они всё: А.А. неизвестно на
что, а моя мать, как всегда, помогала и баловала, как могла, своих
близких. Сама же на себя почти ничего не тратя.
Она очень пеклась о второй жене А.А., швейцарке, и о ее сыне от
этого второго брака (А.А. был женат в России, но мы об этой жене
ничего не знаем). Надо сказать, что сам А.А. относился к ним
совершенно безразлично и, если бы не моя мать, они были бы в очень тяжелом
положении.
Жили они в маленькой, но уютной квартире - 2 11 rue de 1а Croix-
Nivert в Париже. Моя мать, как и прежде, в Одессе и Петербурге,
продолжала любить у себя принимать, и немало шахматных
гроссмейстеров и более скромных шахматистов находили у нее ласку и уют.
7) Расставание их произошло, как вам описала г-жа Флор. Моя
мать очень тяжело это переживала, особенно от сознания, что, уйдя
из-под ее благотворного влияния, Алехин начнет «чудить». Он
всегда был склонен к алкоголизму, с проявлениями которого она всегда
успешно боролась. Лично моя мать никогда не пила ни вина, ни
алкоголя, а на разных приемах в честь А.А. лишь пригубливала свой
стакан... Ее влияние на него в этом смысле, да и не только в этом, было
громадно, и все, знавшие их, могут это подтвердить.
Умерла моя мать 30-го января 1937 года. Ей было всего 64 года, но
ее организм и дух были подорваны пережитым незаслуженным горем.
80
Одиночество гения
ΛΜ\Μ (ЯМАЛ ΛΛΛ^^νΐ^^Γ" 2>yjj0
/^/&^4\^ S/>U3MWA3C*, (Х^АЛич. ίλΑΜ^ΑΛ.
^uv^mW' 04Л- #xW- cTtn^L c^vwtkx^ к.
°\jcr (рил- >*я>^г(Ар- уьъуиьммл
фц/У«Ил> syJbvJ^^vJy. v> iu/ΚΜ, ft. A ., Лиил
Страница письма Гвендолины Изнар от 9.12.1958 с ответами на вопросы
Александра Котова. Изархива А.Котова.
Ангел-хранитель
8!
Вы скажете, что тут сыграла роль большая разница в возрасте, но ведь
его последняя жена была тоже значительно старше его!
Похоронена моя мать в колумбариуме кладбища Pere-Lachaise в
Париже, т.к. всегда выражала желание быть сожженной. Мы
отслужили две панихиды и отпевание на дому. А.А. на похоронах не был (его,
кажется, не было в Париже), но прислал телеграмму.
9/12/58
Многоуважаемый Александр Александрович,
Простите, пишу на обратной стороне, чтобы не было слишком
много бумаги. На Ваши вопросы ответила, как могла. Боюсь, сделала
много орфографических ошибок, т.к. не привыкла писать по-новому.
Но пора и научиться! (В письме действительно много следов старой
орфографии: «Лютещя», отпеваше, мужъ...)
Муж дошлет (надеюсь, в ближайшем будущем — он очень занят)
кое-какие факты-воспоминания лично об Алехине. (Какая жалость,
что это письмо не сохранилось/)
Почти все фотографии, относящиеся к моей матери и А.А., я
передала несколько лет тому назад через одного любителя-шахматиста
здесь, по просьбе Вашей Московской шахматной секции. Поищу еще,
не найдется ли что-нибудь, могущее Вас интересовать.
Не знаю, удастся ли найти сборник стихов поэтессы Маргариты
Сотберн. Наводила справки, но пока безуспешно.
Спасибо Вам за Ваше сердечное письмо. Будем очень
признательны, если пришлете нам Ваш, уже напечатанный, труд об Алехине.
Спасибо также за милое предложение прислать, что мне нужно, из
Москвы. Из России нужно — дс_£, т.к. очень по ней тоскуем. Радуемся
ее успехам на многих поприщах...
Дружеский привет Вам и Лёвушке Любимову.
С искренним уважением,
ГИзнар
Упомянутый Гвендолиной «сборник рассказов» Н.С. мне найти не
удалось, но, судя по ее письмам из Буэнос-Айреса в парижском
«Возрождении» (1927), писала она довольно живо. Издание - точнее,
видимо, участие в издании - газеты «Свет», которую словарь Брокгауза
и Ефрона (1900) называет «ультранационалистической», наглядно
говорит о политических взглядах Н.С. А косвенно - о взглядах
Алехина, иначе бы они не сошлись. Недаром адвокат Оскар Грузенберг,
знавший Алехина еще по Петербургу, утверждал потом, что он
«кичится своим черносотенством» (см. стр. 243).
О духовной близости супругов говорит и то, что Н.С. позволяла
себе публично трактовать политические взгляды мужа! Опровергнув
в письме о 28-й партии «нелепейший слух о том, что Капабланка на
одной из партий заснул», она заявила: «Эта очевидная утка есть
лучшее доказательство того, как нужно осторожно относиться к
телеграфным сообщениям; как, например, одно интервью с Алехиным,
82
Одиночество гения
в котором он якобы порицает старый режим в России. Для пишущей
эти строки и хорошо знаюшей А.А. вся несуразность этого
сообщения является очевидной» («Возрождение», 12.12.1927)...
Не менее ценным документом является письмо Вадима Изнара
(см. стр. 63). Поблагодарив Котова за роман «Белые и черные», он
отметил: «Конечно, в нем есть неточности, ошибки и пропуски, вполне
понятные в работе, сделанной на расстоянии». Указанные уточнения
уже нашли свое место в книге. Осталось сказать, что Вадим был
свидетелем на свадьбе Алехина с Н.С., сыгранной вскоре после
получения ими французского гражданства (5.11.1927).
Вадим Изнар: «"Белые и черные" — это, конечно, большой вклад в
историю шахмат, вклад особенно важный в нашей стране, где к
шахматам проявляют такой большой интерес. Нам поэтому особенно
приятно, что Вы представили Надежду Семеновну как тип положительный.
К таковому типу людей она безусловно принадлежала. Это была
исключительно порядочная женщина, культурная, образованная (она
свободно владела четырьмя языками), обладавшая большим
природным тактом и сумевшая сделать Алехина приемлемым в человеческом
обществе.
Эта последняя задача была не из легких, так как Алехин настолько
был поглощен собственной особой, что мало обращал внимания на
окружающий его мир и постоянно создавал вокруг себя всякие
недоразумения и мелкие обиды. Я совершенно убежден, что еще многие
представители теперь уже минувшей шахматной эпохи сохранили в
своей памяти образ Надежды Семеновны, с ее исключительно
красивой головой и с присущей ей способностью сглаживать житейские
шероховатости, создаваемые ее гениальным супругом».
РОКОВАЯ ВСТРЕЧА
Фотографии этого не передают, но в Грейс Висхар наверняка был
какой-то шарм, иначе не объяснить ее успеха у мужчин (Алехин был
не то пятым, не то шестым мужем). Но была ли она красивой?
Котов избегает прямой оценки, делая акцент на «пухлых чувственных
губах» и «больших зеленых глазах». Он восхищается ее
моложавостью - и невольно проговаривается: «так бывает с женщинами, у
которых стройность фигуры, красота тела привлекают больше, чем
красота лица». Свидетельство Вадима Изнара, мне кажется, ставит
точку в этом вопросе: «Грейс представлена в Вашем романе как
исключительно красивая женщина. Таковой она никогда не была. Ее
наружность была настолько незначительна, что сейчас совершенно
изгладилась из моей памяти» (из письма Котову).
Вадим добавляет: «Из увлечений Алехина, где можно было
говорить о женской красоте, следует назвать жену профессора Алексин-
Роковая встреча
83
ского (известный в России и Париже хирург). Роман этот был,
видимо, мимолетным». Речь, думаю, о художнице Татьяне Александровне
Алексинской-Лукиной, 1884 года рождения, потому что последняя
жена профессора - Нина Францевна не проходит «тест на возраст»:
она была семью годами младше Алехина...
Но вернемся к Грейс. Среди версий ее знакомства с Алехиным
наиболее правдоподобную, на мой взгляд, поведала Жанна Леон-Мартен
в «Воспоминаниях об ушедшей эпохе» («Europe echecs», январь 1962).
Она и ее муж-проблемист дружили с четой Алехиных, часто бывали у
них на рю деля Круа-Нивер, и однажды - было это в 1932
году-Жанна сама привела Грейс (тогда миссис Фримен) к ним в дом! Дело было
так. По пути из Нью-Йорка Грейс выиграла на корабле шахматный
турнир и в качестве приза получила сборник партий Алехина. Решив
потом выступить в чемпионате Парижа, она познакомилась с
Жанной - организатором турниров. Грейс «была высокой, веселой и
казалась очень увлеченной шахматами». Позвав Жанну в гости - «в краси-
Алехин и Грейс Висхар. Снимок слева - 1936 года. Снимок справа сделан,
вероятно, в Любеке - на обороте штамп: Foto-Kirchner, Liibeck, Heiweg 78. Из архива
А.Котова. Публикуются впервые.
84
Одиночество гения
вую, современную квартиру на Монпарнасе», она сказала ей, что
«будет очень рада, если Алехин подпишет книгу, которую она выиграла».
Жанна Леон-Мартен: «Организовав встречу в "следующую
субботу", я чувствовала, что моя совесть абсолютно чиста, и радовалась
тому, что доставлю всем удовольствие.
В тот момент, когда приехали мыс мужем, - миссис Фримен с
друзьями должна была прийти позже, - Алехин пел одну из своих
любимых песенок: "Целую вашу руку, мадам", а на фортепиано ему
аккомпанировала мадам Изнар. Когда мадам Фримен появилась и Алехин
подписал ей книгу, я позволила чемпиону, мадам Фримен и ее
друзьям сыграть в бридж за знаменитыми занавесками... партия, которая
продолжалась, даже когда мы уходили.
Некоторое время спустя мне позвонила мадам Алехина и
назначила встречу в "Cafe de la Regence". Это меня не удивило: мы
встречались иногда в Париже за чашечкой чая.
- Ну и как вам мадам Фримен? Она мила, не правда ли?
— Да, конечно... Может быть, даже слишком! Алехину она очень
понравилась. Уже с этой первой встречи, после игры в бридж, он хотел
сопровождать ее... Всё кончено для меня. Я знаю: она победила, а я
проиграла.
Ницца, март 1937. Сидят: Алехин, Б.Рометти, А.М.Рейли, редактор журнала
«British Chess Magazine» Брайан Рейли и мастер Виктор Кан. Из архива автора.
Роковая встреча
85
Я расстроилась. Почувствовала свою вину. Обладая тем опытом,
который ей долгое время прививала сама жизнь, она поняла мое
смятение. Будучи очень славной и при этом, возможно, немного
фаталисткой, она сказала мне без тени враждебности:
— Мадам Фримен сумеет уберечь Алехина.
Мне хотелось ее утешить, а получалось, что это она утешала меня.
Она была существенно старше Алехина и должна была умереть
намного раньше него».
P.S. Автограф фигурирует и в версии бывшего редактора «British
Chess Magazine» Брайана Рейли: «Я остался одним из немногих, кто
лично знал Алехина, не раз с ним беседовал. Я был свидетелем его
первой встречи с Грейс Висхар. Ведь это тоже произошло в Ницце.
Висхар была членом нашего шахматного клуба, изредка там играла
Когда однажды в клуб зашел Алехин, она подошла к нему со
сборником лучших партий чемпиона мира и попросила автограф. С этого
началось их знакомство» («Шахматы в СССР» № 8, 1985).
Роман развивался стремительно! От жены Алехин уйдет только
через год, по возвращении из кругосветного путешествия, но для себя
он, похоже, всё решил еще летом 1932-го, уезжая в американское
турне, которое в ноябре плавно перешло в «кругосветку». Алехин
вернется в Париж в мае 1933-го - к тому моменту он не видел жену
уже почти год... Какое отношение это имеет к Грейс? Самое прямое:
по словам Жанны, именно она «сопровождала Алехина в
кругосветном путешествии»! Да и сам он потом не скрывал, что ездил
«вокруг света вместе со своей женой» («Новая заря», Сан-Франциско,
5.09.1935)...
Все сомнения развеяла статья Ю.Крузенштерн-Петерец в
газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 18.02.1968), которую
отыскал Александр Кентлер (сайт e3e5.com, 2009).
Поэт и прозаик Юстина Владимировна Крузенштерн-Петерец
была правнучкой старшего брата знаменитого русского
мореплавателя Ивана Крузенштерна. После гражданской войны бежала в
Харбин, потом обосновалась в Шанхае. Работала журналисткой,
переводила книги - она свободно владела английским и
французским. Начиная с 60-х годов жила в США. Десять лет проработала
в русском отделе «Голоса Америки», печаталась в «Новом русском
слове», редактировала «Русскую жизнь» - одну из старейших
русских газет в Америке.
Да, такого Алехина мы еще не видели... Каким-то магическим
образом - крибле-крабле-бумс! - журналистке удалось его оживить:
чемпион смеется, злится, скачет на одной ножке, заботится о
любимой женщине, пускается в разгул, дает с похмелья сеанс вслепую...
Такое впечатление, будто не статью читаешь, а смотришь фильм,
снятый скрытой камерой.
Одиночество гения
Ю.Крузенштерн-Петерец
АЛЕХИН В ШАНХАЕ
В последнее десятилетие перед второй мировой войной Шанхай,
этот Париж востока, как его называли, был одним из любимых мест
туристов и гастролировавших знаменитостей. Анна Павлова, Бернард
Шоу, Дуглас Фэрбенкс, Кузнецова-Массне, Чарльз Линдберг, Морис
Декобра, Бенно Моисеевич, Рерих, Сигетти и молодой еще Магалов,
Шаляпин, европейские и арабские принцы, миллионеры - всех не
перечесть. В числе таких знатных гостей был и Алехин, посетивший
Шанхай в начале 1933 г.
Если память мне не изменяет, приехал он к нам из Америки.
Направлялся он тогда на матч в Австралию и по пути остановился в
Японии, где играл с японскими шахматистами.
В Шанхае существовал тогда Международный шахматный клуб,
члены которого собирались обычно в помещении Христианского
союза молодых людей (ХСМЛ). Узнав о поездке Алехина, клуб пос
лал ему на пароход телеграмму с просьбой заехать в Шанхай и дать
у нас один или два сеанса игры. Это должны были быть именно
сеансы, а не официальные матчи, которые организовывались заранее и
по особым правилам.
Алехин согласился на два таких сеанса, причем один должен был
быть игрой, не глядя на доску. Но цену он поставил слишком
высокую для клуба, кажется, три тысячи долларов. Для обсуждения этого
вопроса клуб созвал совещание, на которое была приглашена и
печать. Я была на нем как сотрудница газет «Шанхайская заря» и
«Вечерняя заря».
В числе членов клуба было несколько русских, были американцы
и англичане, но большинство составляли португальцы из Макао,
отвратительно говорившие по-английски. Один из этих португальцев,
которому были поручены телеграфные переговоры с Алехиным,
говоря о сеансе одновременной игры - «Simultaneous» — произнес это
слово как «Саймолтино». Мне послышалось «Сан Марино», и я, не
имевшая тогда о шахматах никакого понятия, так и брякнула в своей
заметке.
Шахматисты, прочтя эту заметку, целый день ругали меня по
телефону, другие читатели хохотали, а члены клуба на следующем
заседании растолковывали мне всё это по несколько раз, словно я
была совершенной идиоткой.
Новости в тот вечер были важные. Клуб мог гарантировать
Алехину только треть той суммы, что он просил, но Алехин согласился и
назначил дату приезда. Тут же была выработана программа сеансов и
церемония встречи, причем решено было встречать Алехина не на
пароходе, а на пристани. Объяснялось это очень просто - пароход был
большой, океанский, останавливался далеко от пристани, и ехать туда
надо было на таможенном катере, для чего требовался специальный
пропуск. Ни у кого из членов клуба такого пропуска не было, у нашей
газеты был.
Роковая ветрена
87
Не было пропуска и у конкурировавшей с нами газеты «Слово», и
сотрудник ее, приятель мой, покойный Коля Языков, которому было
досадно, что сам он на пароход не попадет, всячески отговаривал
меня ехать.
- Да вы не знаете характер Алехина. Алехин вас на глаза к себе не
пустит за это ваше «Сан Марино». Он вас за борт выбросит. Жизнью
рискуете.
Я все-таки поехала. На всякий случай наскоро взяла урок
шахматной игры, узнала, что такое пешка, тура, конь. Конь мне как раз и
пригодился.
Алехин ехал не один. С ним была пожилая американка, г-жа Фри-
мен, больная женщина, страдавшая подагрой. Ноги у нее были
забинтованы, ейтруднобылоходить, и Алехин трогательно о ней заботился.
Когда я поднялась на пароход, Алехин прежде всего попросил меня
проинтервьюировать г-жу Фримен, которую он называл своим
большим другом и вдобавок художницей.
Дама эта намеревалась устроить в Шанхае выставку своих
миниатюр на слоновой кости. К большому моему удивлению, то, что она
называла миниатюрами, были просто плохенькие скетчи на
пластинках слоновой кости, размера открытки. Художники, видевшие потом
эти работы на выставке, жестоко сокрушались:
- Кости-то, кости сколько попортила!
Г-жа Фримен интересовалась и шахматами, но преимущественно
японскими. Она собиралась написать о них книгу и показывала мне
дорогую японскую доску, выглядевшую иначе, чем обычная.
Тем временем на пароход явились таможенники, и Алехин пошел
«к чемоданам». Ждать его пришлось довольно долго. Один за другим
отошли уже два катера с π ассажирами, третий должен был отойти вот-
вот, а Алехина всё не было. Г-жа Фримен начала волноваться.
Пришлось мне идти в поиски.
Алехина я нашла в баре, где пол был выложен квадратными
плитками — белыми и голубыми. По этим квадратам, на одной ножке,
как мальчик, прыгал Алехин. «С ума сошел» - было моей первой
мыслью, но через минуту я разглядела — помог наскоро взятый урок.
Алехин прыгал ходом коня, разрабатывая, очевидно, какую-то
новую партию.
Я несмело напомнила ему, что пора ехать, что катер сейчас уйдет.
Алехин вздрогнул, уставился на меня ничего не видящими, пустыми
глазами.
- Куда ехать? Какой катер?
Спросил, как спросонья. Потом пришел в себя, вспомнил,
извинился. Через несколько минут, спокойный и чинный, со своей дамой
под руку, с пледом на другой, Алехин спустился на катер.
На катере я ему рассказала о «Сан Марино». За борт меня Алехин
не выбросил, а от души смеялся, просил номер газеты с этим моим
ляпсусом. Но интервью с ним вышло не особенно удачное. О себе
Алехин рассказывал как-то отрывочно и неясно: сказал, что у него
есть во Франции жена и сын, что он доктор философии и что он тер-
88
Одиночество гения
Турнир в Пасадене прошел в августе 1932-го, за три месяца до кругосветного
путешествия Алехина. Но, если я не ошибаюсь, за его партией с Дейком
наблюдает Грейс Висхар!
петь не может, когда его называют Алехин через «ё» (как ёлка),
потому что «Алехин, Алехин». Это было примерно всё.
Тем временем на берегу собралась толпа, вернее, две толпы. С
одной стороны на пристани стоял «ин корпоре» (от лат. in corpore — β
полном составе) шахматный клуб, считавший, что Алехин
принадлежит ему, а с другой стороны - старые лицейские товарищи. И, не
обращая внимания на почтенных шахматистов, первым подошел к
Алехину и торжественно облобызался с ним старик барон Ленкшевич,
ныне уже покойный.
Само собой разумеется — «наша взяла». В Шанхае была большая
русская колония, которая так принялась за Алехина, что все члены
клуба только его и видели. Его водили завтракать, обедать, ужинать.
В офицерском собрании его усадили за бридж. На улице его
осаждали приятели по Петербургу, по Парижу. А Общество русских
спортсменов приурочило к его приезду специальное футбольное
состязание, на котором он должен был бросить первый мяч. После
состязания спортсмены так напоили его, что на свою первую
пресс-конференцию в Китай-отеле он вернулся с опозданием чуть ли не на час,
к великому ужасу г-жи Фримен, которая почему-то напала на меня:
— Вот что с ним делают ваши русские! Ну, как он будет играть?
В довершение всего Алехина затащили еще на шанхайскую
Татьяну (Татьянин день), которая праздновалась не под Новый год по
старому стилю, как в Нью-Йорке, а позднее (не 12января, а 25-го). Само
собой разумеется, там было разливанное море, и Алехин не только не
отставал от других, а наоборот, «опережал».
Роковая ветрена
89
- Чемпион ведь, - одобрительно говорил редактор «Вечерней
зари» Суворин.
Дама, сидевшая за ужином рядом с Алехиным, носительница
высоких добродетелей, чуть не плакала, глядя на него:
- Вы - гордость России! Зачем вы так пьете?!
- Сельская учительница? - буркнул ей через плечо Алехин и попал
в точку. Дама была действительно «урожденная сельская учительница».
Алехину понравился Шанхай. Дни, которые он там провел, были
даже не просто пьянством. Это был какой-то бесконечный русский
разгул, от которого он в дисциплинированной Европе, вероятно,
отвык. А тут нечего было стесняться, все были ласковы, внимательны,
смотрели на него влюбленными глазами, старались угадать
малейшее его желание. Аразтак — ну, и гуляй душа! Расплачиваться будем
потом.
Первой расплатой была одновременная игра, в которой против
Алехина играло около тридцати человек и среди них русские
чемпионы Трейер и Поляков. Сеанс был в нижнем зале ХСМЛ. Шахматисты
сидели большим кругом, некоторые играли с консультантами. У
Алехина, как всегда при одновременной игре, были белые. Первые ходы
он делал, почти не глядя на доску, быстро переходя от стола к столу,
двигая пешки почти автоматически. Задерживаться у досок он начал
чуть ли не после десятого хода, причем все обратили внимание, что
больше всего он задерживался у доски Полякова.
Игра, ко всеобщему удивлению, закончилась вничью. Газета
«Слово» объявила это победой, считая, что ничья против такого числа
игроков, да еше с консультантами, иначе рассматриваться не может.
Шанхайские шахматисты второй и третьей категории
торжествовали - показали, мол, свой класс, да еше кому. Самому Алехину. Но
один из «первокатегорников» был глубоко потрясен.
- Ведь он презирает нас, понимаете, презирает, - говорил он в
редакции «Шанхайской зари». - Он совершенно не играл с нами.
Просто торопился отделаться!
Быть может, какая-то доля правды тут и была. Большинство
шанхайских шахматистов Алехина не интересовало. Игра их была
трафаретной, в ней совершенно отсутствовала столь дорогая ему
творческая мысль. Потому он и играл спустя рукава. Терять ему было
нечего, шанхайский матч не был официальным матчем. Но то, что Алехин
перед игрой «перегрузился», было тоже верно.
К сеансу игры вслепую он сначала проявил как будто больше
внимания, но тут опять-таки подвел какой-то завтрак. После этого
завтрака Алехину нужно было просто выспаться, но времени не было. В
ХСМЛ он приехал, конечно, с опозданием и в весьма скверном
настроении.
На этот раз игра происходила в двух помещениях. Шахматисты
сидели, как прежде, в нижнем зале, а Алехину была отведена
небольшая комната наверху, что-то вроде хоров или балкона. Вдоль перил
была поставлена большая классная доска, на которой должны были
записываться ходы самого Алехина.
90
Одиночество гения
Войдя в комнату быстрыми шагами, Алехин прежде всего
попросил кофе, а потом устало бросился в объемистое кожаное кресло. Ему
принесли чашечку, он поморщился, проглотил ее и попросил еше.
Дали еще чашечку.
- А нельзя ли кофейник? - спросил Алехин еще резче. Когда же
ему принесли кофейник, он прямо заорал:
- Да что, у вас нет посуды побольше?
Тут ему принесли целый жбан и огромную чашку. Таких жбанов во
время игры Алехин выпивал два или три, нужно было иметь бычье
сердце, чтобы выдержать такую порцию. Но ничего не помогало. Во
время игры Алехин несколько раз начинал дремать Когда приходил
в себя — раздражался, спорил, кричал, что его ходы неверно
записываются. Все равно не помогало. На этот раз не было даже ничьей.
Алехин просто проиграл.
«Шанхайская заря» писала обо всех играх честно, хотя и по
возможности деликатно... Но эта деликатность Алехина, видимо, не
утешала. Последние день или два перед отъездом он провел у себя в
отеле, почти никого не принимая.
Но раз отдав свое сердце Алехину, Шанхай уже не мог забыть его.
Все мы горько переживали его поражение в матче с Эйве и были
счастливы, когда он вернул себе мировой чемпионат, победив Эйве.
О том, что у него выиграли какие-то наши «третьекатегорники», мы
даже как-то и не вспоминали, считая это неприличным.
Да он фактически и не проиграл этих игр, он их просто пропил.
Но я назвал главу «Роковой встречей» не только потому, что
Алехин, связав свою жизнь с Грейс, начал пить и вообще, такое
впечатление, пошел вразнос. Хотя именно питие — вкупе с лошадиными
дозами кофе и непомерными нагрузками - разрушило его крепкий
от природы организм и раньше времени свело в могилу. Будь рядом
с ним Надежда Семеновна, я уверен, он бы и матч Эйве не
проиграл. Вспомните слова Гвендолины из письма Котову: «Он всегда был
склонен к алкоголизму, с проявлениями которого она всегда
успешно боролась. Лично моя мать никогда не пила ни вина, ни
алкоголя, а на разных приемах в честь А.А. лишь пригубливала свой стакан...
Ее влияние на него в этом смысле, да и не только в этом, было
громадно, и все, знавшие их, могут это подтвердить».
Признаться, читая роман Котова, я автору не верил: слишком
нарочито педалировал он тему пьянства Алехина. К примеру:
«Дождавшись, когда горн ичная ушла, он вылил часть воды в какую-то вазу,
открыл пузырек и опрокинул всё его содержимое в стакан. Разом выпив
обжегшую горло смесь, он содрогнулся и в два приема отправил в рот
огурец». Да и вообще Алехин там хоть куда: этакий безвольный,
бесхарактерный люмпен-дворянин, всю эмигрантскую жизнь
глушивший вином грусть-тоску по родине («ни одного плохого слова о своей
Родине и советской власти, только неутолимое желание вернуться и
Роковая встреча
У/
По этой фотографии никак не скажешь, что предыдущие дни Алехин npoeeji в
«каком-то бесконечном русском разгуле». Надпись гласит: «Барону X. фон дер
Хофен на память о моем коротком пребывании в Шанхае и с благодарностью за
прекрасную художественную работу. 28/1 1933. Искренно А.Алехин». Из архива
Ю.Авербаха.
92
Душа шахмат
повидать дорогие сердцу родные места»)... Теперь-то понимаю, что
не верил Котову потому, что отчетливо видел его замысел: объяснить
алехинское пьянство этой неизбывной «грусть-тоской по родине». В
остальном же, думаю, он не сильно преувеличил.
Так вот. Если бы Грейс не могла справиться с пьянством мужа (а
она и сама, несмотря на подагру, говорят, была не прочь пропустить
рюмку-другую), это еще полбеды. Проблема в том, что она, в
отличие от Н.С., не понимала «духовного одиночества» Алехина, которое
привело его в 1928 году к вступлению в масонскую ложу, не
понимала, почему, как писал Лев Любимов, «в речи его всегда
проскальзывало невольное раздражение», - а значит, и не могла ему помочь.
К тому же у Н.С. были твердые принципы и понятие о дворянской
чести. И каких-то поступков Алехин при ней, думаю, никогда бы не
совершил! Конечно, это могло просто совпасть, но почему-то после
ухода от Н.С. наметился явный дрейф Алехина к двум тоталитарным
режимам: гитлеровскому и сталинскому. Что сначала привело к
разрыву с русской эмиграцией и потере почвы под ногами, а потом и к
потере самого себя.
ДУША ШАХМАТ
Шахматы для меня не искусство, не игра даже - а борьба,
где, как и в жизненной борьбе, побеждает всегда сильнейший.
А.Алехин
В СИЛЕ И ЕСТЬ НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА
Для начала вопрос: читали ли вы комментарии, написанные
Алехиным на русском языке? Да?! И где же? Ах, в сборнике Панова «300
избранных партий Алехина с его собственными примечаниями». Могу
разочаровать: этот сборник целиком основан на книгах Алехина, а
они все переводные! Источник же «русских» примечаний другой. Это
главным образом журналы «Шахматное обозрение», «Шахматный
вестник» и газета «Новое время», в которой Алехин в 1912 году вел
шахматный отдел. А в 1922-1929 годах он регулярно писал для
московского частного журнала «Шахматы».
Все эти издания уже давно библиографическая редкость; да и
пятитысячные тиражи книг Алехина, изданных в СССР в 20—30-е годы,
оказались каплей в море. Поэтому настольной книгой для
нескольких поколений шахматистов стал пановский сборник. А он,
извините, на первоисточник не тянет. Текст уже был переводной, так Панов
его еще и отредактировал, не гнушаясь откровенной отсебятины.
Для чего? Чтобы придать комментариям «более учебный» характер.
Алехин: «Проще было играть на ничью» — Панов: «Самый простой
и наилучший план заключался в попытке уравнять игру, чтобы
добиться ничьей». Алехин: «Этот старый вариант довольно рискован» -
Панов: «Этот старый вариант не вполне правилен с теоретической
точки зрения». Алехин: «Прекрасный трамплин для прыжка
ферзя» — Панов: «Ферзь таким путем вводится в игру с большой силой»...
Последний случай характерен вдвойне. Оказывается, Панов
выступил еще и цензором, наделив себя правом решать, какие слова
достойны уст русского чемпиона мира, а какие нет. Алехин: «Этим
маленьким фейерверком...» - Панов: «Этой маленькой
комбинацией...» Алехин: «Убийственно!» - Панов: «Выигрывающий ход!»
Алехин: «Был введен в моду» - Панов: «Был введен в практику». Так как
в число «недостойных» попали главным образом иностранные слова
(добавлю еще: катастрофа, авантюра, роскошь, пикантный), может,
это отголосок борьбы с космополитизмом?
94
Душа шахмат
Заодно Панов «устранил излишнюю детализацию», к которой, по
его мнению, «вообще был склонен Алехин», Но больше всего
поразил такой пассаж: «Многие дебютные варианты, примененные в
алехинских партиях, сейчас, в результате теоретических изысканий
советских шахматистов, получили дальнейшее развитие и
значительно углублены. Поэтому некоторое количество дебютных вариантов,
противоречащих позднейшим высказываниям самого Алехина или
опровергнутые позднейшими анализами, устранены в интересах
цельности книги». Панов не заметил, как в погоне за «цельностью»
обесценил дебютные примечания, превратив их из важнейшего
свидетеля эволюции шахматиста - в учебный манекен.
Вообще в пановском сборнике Алехин выглядит суше и скучнее,
чем был на самом деле. И косноязычнее! Как вам такой пассаж:
«Черные стремятся сделать наилучшее употребление из этой находящейся
не удел фигуры»? Беллетристом Алехина не назовешь, да и чувства
юмора ему сызмальства не хватало (Шишко: «К юмору и шуткам он
пристрастия, видимо, не питал, так как не реагировал на них вовсе»),
но пером Александр Александрович владел отменно, в полемике не
чурался острого словца. Читали его письмо «В защиту Μорфи»? Нет?!
Петербург, 23 апреля 1911. Поединок лидеров команд Петербурга и Москвы —
Евгения 3носко-Боровского и Александра Алехина — закончился вничью. Алехин в
пенсне - как и на известной фотографии, где он в треуголке правоведа. Справа, в
студенческом мундире, Григорий Левенфиш. В центре Петр Сабуров (мл.),
справа от него Юлий Сосницкий... Из журнала «Искры» (№ 17, 1911). Публикуется
впервые.
В силе и есть настоящая красота
95
Жаль... Алехиноведы раздергали письмо на цитаты, а целиком
напечатать не удосужились, хотя оно одно может больше сказать о
личности, шахматных воззрениях и стиле письма Алехина, чем любые
слова. Именно это письмо имел в виду Михаил Ботвинник в своей
юбилейной статье об Алехине («Правда», 31.10.1992): «Пришлось мне
как-то ознакомиться с его полемической статьей (опубликованной
еще в 10-е годы нашего столетия), и можно было удивляться как
логике, так и литературному мастерству молодого человека».
Что ж, прежде чем бросить взгляд на его ранние партии, давайте
восполним этот пробел. Поводом к полемике со Зноско-Боровским
послужили слова Алехина из его комментариев к партии Брейер
Энглунд (Схевенинген 1913) в «Новом времени»:
«Один иностранный комментатор закончил свои примечания к
этой партии шаблонной фразой, что Брейер провел атаку "в стиле
Морфи". Подобного рода заявления являются, на мой взгляд,
доказательством непонимания сущности дарования одного из наиболее
гениальных шахматистов прошлого столетия. Да, Морфи играл
иногда "красиво" (если подразумевать под этим создание дешевых
эффектов вроде пожертвований ферзя с расчетом на 2—3 хода и т.п.), но
преимущественно ему удавалось это лишь тогда, когда он сражался
с противниками, имевшими весьма отдаленное представление о
необходимости нормального фигурного развития, да и вообще
довольно слабо соображавшими. Когда же он встречался с игроками своего
класса, то уже не этими погремушками добивался победы; его сила
(и в этой-то силе и есть настоящая красота) заключалась в глубоко
продуманной позиционной игре, преимущественно агрессивного
характера (см., например, его матчи с Андерсеном и Гаррвицем), а
уж, конечно, не в "эффектах", способных приводить в неописуемый
восторг лишь начинающих любителей или же тех, кто до самой
старости не сумел сдвинуться с соответствующей ступени шахматного
развития».
В ответ Зноско-Боровский прислал довольно резкое письмо
редактору шахматного отдела Ю.Сосницкому, а тот, видно, от греха
подальше решил перед публикацией ознакомить с ним Алехина. Явно
задетый за живое, молодой мастер ответил хлесткой отповедью,
выказав себя не только глубоким мыслителем, но и блестящим
полемистом. Объем переписки вышел за рамки газетного отдела, поэтому
оба письма были переданы в журнал «Шахматный вестник» и увидели
свет одновременно (№ 2, 1914). Поскольку текст Зное ко-Боровского
никогда потом не воспроизводился, а из текста Алехина историки
брали лишь «нужные» им цитаты, приведу письма целиком. Иначе и
суть полемики, и оценка Алехиным творчества Морфи иСтейница во
многом выхолащиваются.
Душа шахмат
Евгений Зноско-Боровский
[О СУЩНОСТИ ДАРОВАНИЯ МОРФИ]
М[илостивый1. Г[осударь|. Прошу Вас не отказать в
любезности уделить мне в Вашем отделе несколько строк для некоторых
замечаний по поводу напечатанного у Вас (№ 39, 7.XI.1913)
заключительного примечания г. А.А.Алехина к партии между ГБрейером и
Ф.Энглундом. Вполне понимая и разделяя побуждения, заставившие
г. Алехина написать это примечание, протестующее против
присваивания каждой случайной жертве клички «в стиле Морфи», и
соглашаясь с особенной неуместностью такой клички к названной партии,
я не могу, однако, признать справедливою ту оценку, которую дает г.
Алехин игре самого Морфи, чью красоту и силу он видит в «глубоко
продуманной позиционной игре, преимущественно агрессивного
характера». Рискуя прослыть в глазах автора примечания «начинающим
любителем» или «не сумевшим до самой старости сдвинуться с
соответствующей ступени шахматного развития» (что ко мне лучше
подходит- судить не мне), я тем не менее думаю, что подобная оценка по
существу ошибочна, весьма вредно прельстительна для «малых сих»
- «начинающих любителей» и, больше того, очень несовременна, так
что сам г.Алехин в дан ном случае оказывается не сдвинувшимся стой
ступени развития, на которую поставлены шахматисты с давно
пережитых дней Стейница (ибо ведь это именно взгляд последнего, что
Морфи играл «красиво» лишь против слабых игроков). И когда я так
недавно (7.Х.1913) в Вашем же отделе характеризовал «современное
шахматное сознание», как не ценящее «трескучие вспышки обманных
фейерверков» разных жертв и т.п., я никак не думал, что через какой-
нибудь месяц подобные же слова и одинаковые выражения («дешевые
эффекты», «погремушки») могут быть применены к «одному из
наиболее гениальных шахматистов прошлого столетия» и притом г.
Алехиным, к мнению которого прислушиваются, конечно, все русские
ифоки, а в их числе и я.
Когда говорится, что «не может быть иной игры, как
позиционная», что лишь она - «правильная игра», то с этим никто не спорит
и всякий всегда согласен; когда от каждого игрока мы требуем такой
игры и у сильных ее всегда находим (ведь даже о Чигорине, таком
упорном враге «новой» школы, Стейниц еще в 1899 г. писал, что он
атакует в «истинном современном стиле»), - то мы и тут не
погрешаем, ибо толкуем о самых элементарных вещах, о начатках шахматной
игры. И если мы говорим о всех чертах игроков, тогда и об этом можно
упомянуть, равно как из педагогических соображений отмечать
позиционность в самой комбинационной, блестящей партии. Но всё это
неприменимо тогда, когда надо определить главное в игроке,
«красоту» и «силу» его дарования, то, чем он отличается от других (т.е. самое
в нем ценное), а не то, что в нем с ними общее: тогда надо
определять конкретную его индивидуальность. И когда этот игрок Морфи,
то слова о «позиционной» игре обличают только полное
«непонимание сущности дарования» его, а применение к его игре таких слов,
В силе и есть настоящая красота
97
как «погремушки», кажется
кощунственным и
свидетельствующим о неспособности
разбираться в этих вопросах.
Когда поэт каждым
росчерком пера рождает новое
звучание, неожиданную рифму,
пленительный образ, когда
мысль драматурга, какого-
нибудь Мольера, безудержно
творит одно комическое
положение за другим, остроты
сменяет каламбурами,
насмешками, — будем ли мы их
называть «дешевыми
эффектами» и требовать правил
стихосложения от одного, а
от другого соблюдения трех
единств? Можно составить
целую программу тех
требований, которым должно
удовлетворять произведение: быть
развитием одной мысли,
частности чтобы были подчинены
главному, действие
развивалось бы без скачков и с
психологической
обоснованностью, но не полетят ли к черту
все они, будет ли кто-нибудь о них вспоминать, справляться,
исполнены ли они или нет, когда какой-нибудь Оскар Уайльд развернет
золотую парчу своего «Дориана Грея», драгоценные его рассыпет камни?
Все писатели — грамотны, но, кроме того, один — остроумен,
другой — глубок, третий — живописен, у четвертого, наконец, звучный
язык является главным достоинством; нельзя же всех равнять под
один ранжир, всех расценивать по их грамотности, их языку...
Так же и Морфи. Как снопы искр, в его мозгу во время игры
должны были сверкать комбинации, жертвы, угрозы; там, где другой бы
ничего не увидел, где всё казалось скучным и бессодержательным,
он находил переливчатые краски неожиданных нападений, из
ничего он создавал волшебные миры неотразим ых атак, и что же говорить
здесь о позиционной игре? Мольер не придумывал острот - он был
остроумен, и для него они не только выдуманные эффекты; так же и
от Морфи отнять указанные черты — это не то, что отнять его силу, а
уничтожить всё его дарование, его самого, ибо в них именно он. Если
для кого мерило всего Достоевский и если он все-таки берется судить
об Уайльде, то пусть он лучше попросту ругает того за то, что он не как
Достоевский, чем навязывает чуждые свойства, а особенно выдает их
за его «настоящую красоту»...
Евгений 3носко-Боровский -
единственный из русских шахматистов,
выигравший у Капабланки личную партию
во время его гастролей в Петербурге в
1913 году. Из журнала «Столица и
усадьба» (№2, 1914).
Душа шахмат
Я извиняюсь за столь длинное письмо, но написать его я считал
себя обязанным, ибо неприятно видеть всё еще живыми
предрассудки новой школы, вдвойне неприятно неправильное пользование ими
и совсем нестерпимо применение их к таким явлениям, как Морфи.
Г. А.А.Алехин же, надеюсь, не посетует на меня за мои замечания.
Александр Алехин
В ЗАЩИТУ МОРФИ ОТ «ЗАЩИТНИКА» ЕГО
Получив возможность, благодаря любезности г. Редактора
настоящего отдела, ознакомиться с «письмом» г. Зноско-Боровского до
появления его в печати, считаю необходимым сказать по поводу него
несколько слов. Должен признаться, во-первых, что как цель этого
письма, так и тон его для меня не вполне понятны: автор ведь
начинает с того, что «вполне понимает и соглашается» с мнением,
высказанным в моих примечаниях, о неуместности привешивания в виде
ярлыка имени Морфи к заурядным партиям.
Но ведь только это я и хотел выяснить своим заключительным
примечанием! Теми же несколькими строками, которыми я обмолвился
об игре самого Морфи, я отнюдь не был намерен дать
исчерпывающей характеристики его игры (да это в двух словах и невозможно) и
лишь хотел обратить внимание на одну из гениальнейших черт ее.
Сознаюсь, впрочем, что, применив термин «позиционная игра» и не
определив в данном случае (вообще же я об этом неоднократно говорил
в комментариях к отдельным партиям), что под ним подразумеваю, я
действительно дал некоторую π ищу для превратного тол кования моих
слов, но все же меньше всего можно было ожидать услышать
подобное толкование от такого знатока игры, как г. Зноско-Боровский...
В чем же меня упрекает уважаемый автор письма? Разберу по
порядку. Прежде всего - обвинение в том, что слова вводят в заблуждение
начинающих любителей и, таким образом, вредны с «педагогической»
точки зрения. На это я могу ответить следующее: я всегда полагал, что
одного голословного, ничем недоказанного утверждения, хотя бы
исходящего от признанного по данным вопросам авторитета (а себя
таковым я отнюдь не считаю), недостаточно для того, чтобы убедить кого-
либо, а тем более переубедить убежденного в обратном. Сам г. Зноско-
Боровский, очевидно, придерживается противоположного взгляда
(неоднократно высказанного, кстати говоря, одним из редких игроков в
своем отечестве «великим» доктором Таррашем), если судить по тому
негодованию, с которым он напоминает о своей статье, помещенной
месяц тому назад в настоящем отделе, и искренне изумляется, как я
мог после этого написать что-либо несогласное с нею. Боже мой, какое
преступление!.. Что же касается схожих выражений, встретившихся у г.
Зноско-Боровского и у меня, то смею уверить, что сие - лишь простое
совпадение, так как я, говоря по правде, статьи г. Зноско-Боровского не
читал и по сию пору не знаю, о чем в ней трактуется...
Второе обвинение - и обвинение более серьезное - в
несовременности. Г. Зноско-Боровский говорит, что я «оказался не сдвинувшим-
В силе и есть настоящая красота
99
ся с той ступени развития,
на которой были поставлены
шахматисты с давно
пережитых дней Стейница», и
придерживаюсь его взглядов на
сушность игры Морфи. Это
заключение в основе своей
неверно.
Стейниц был,
несомненно, очень крупная фигура, и
до того, что он дал нашей
царственной игре, теоретической
стороне ее, в лучшую свою
пору, — очень и очень далеко
всем нашим доморошенным
философам от шахмат, но со
взглядом его на Морфи,
которого он пытается
окончательно развенчать, конечно,
нельзя согласиться.
Любопытнее всего, однако, что г-н Александр Алехин β мундире правове-
Зноско-Боровский, упрекаю- ^ Из журнала «Столица и усадьба»
щий меня в солидарности со (№4, 1914).
Стейницем, в своем
понимании сущности Морфи стоит
гораздо ближе к этому последнему, чем он это подозревает: оба они
(те. Стейниц и Зноско-Боровский) видят центр тяжести игры Морфи
в «красоте» ее и на основании одного только этого признака строят
свои диаметрально противоположные заключения: первый повергает
Морфи в прах, второй превозносит его до небес. Какое из этих двух
заключений наиболее близко к истине в данном случае, и
неинтересно и неважно, так как в обоих случаях взята совершенно неверная
точка отправления.
Неправильность такой оценки, на мой взгляд, состоит в том, что
она рассматривает Морфи вне времени и пространства, стремясь
приурочить его к современным понятиям и воззрениям, - в то время
когда он уже всецело принадлежит к шахматной истории, является
частью ее. И только таким образом можно судить о Морфи, только так
я и сам подхожу к нему. Насколько ярче, сочнее встанет перед нами
его фигура, насколько яснее покажется тайна его успеха и обаяния,
если мы мыслями перенесемся вту эпоху, когда он жил и творил, если
мы дадим себе труд хотя немного изучить его современников! Тогда,
в шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия, в Лондоне
и, главным образом, в Париже, где были живы традиции Филидора,
где в памяти еще были бессмертные творения Ла-Бурдоннэ и Мак-
Доннеля, в то время, наконец, когда жил Андерсен, — одной только
красотой едва ли можно было кого удивить. Сила, непобедимая сила
Морфи — вот причина успеха его и залог бессмертия!
100
Душа шахмат
А сущность этой силы именно и заключается в том, что Морфи
играл всегда позиционно — разумеется, в широком смысле этого
слова (а не в толковании Стейница последних годов). Предположение г.
Зноско-Боровского, что я понял слово «позиционная» именно в том
смысле, по-моему, даже несколько наивно: Морфи вполне ясно
представлял себе в каждом отдельном случае, чего требуетданная позиция,
и приноравливался к этой потребности.
Только благодаря этому исключительному для того времени
свойству своей игры ему и удалось победить в матчах таких противников,
как Гаррвица, Левенталя и, главным образом, Андерсена, фантазия и
комбинационный талант которого был не меньше, чем у самого
Морфи. Пусть г. Зноско-Боровский еще раз посмотрит хотя бы эти лишь
партии; хотя он и не усмотрит в них особых «красот» (за очень
редкими исключениями), но зато увидит настоящего Морфи, мастера всех
фазисов игры, более сильного, чем каждый из противников его в
отдельности, и сильнейшего всех...
Вот те возражения, которые я счел себя вынужденным сделать г.
Зноско-Боровскому; в них я касался только тех мест его письма, в
которых он говорит непосредственно о затронутом мною вопросе. Все
же остальное, как, например, характеристика Морфи с сверкающими
в его мозгу в виде снопов искр жертвами и виденными им перелив-
чатыми красками нападений, рассуждения об Уайльде и проч., тоже
весьма любопытно, но прямо данного вопроса не касается, почему и
предпочитаю в этой части не разбираться. Одно только можно
заметить: сам г. Зноско-Боровский так возмущается всякими
«погремушками» и «дешевыми эффектами». А что же такое все эти рассуждения,
если не те же словесные погремушки?
В заключение считаю долгом своим извиниться перед читателями за
то, что пришлось отвести столько места малоинтересной как для них,
так и для меня полемике. Что же делать? «Письма» вроде присланного
г. Зноско-Боровским, к сожалению, нельзя оставить без ответа.
ЧЕРЕЗ БОРЬБУ - К ИСКУССТВУ!
Хотел уже бросить взгляд на ранние партии, но тут новое
препятствие. Оказалось, что слова Алехина «в силе и есть настоящая
красота» через год получили развитие. На финише турнира в Петербурге
газета «День» (25.04/8.05.1914) напечатала фотографии финалистов,
три из них (Ласкер, Алехин, Тарраш) - с автографами. Угадаете, кому
принадлежит этот: «Шахматы для меня не искусство, не игра даже -
а борьба, где, как и в жизненной борьбе, побеждает всегда
сильнейший»? Ну, конечно, Ласкеру, скажут многие: он же автор книги
«Борьба». А вот и нет: автор этих слов - Алехин!
Согласитесь, весьма радикально отличается от его
хрестоматийного высказывания: «Для меня шахматы не игра, а искусство. Да, я
считаю шахматы искусством и беру на себя все те обязанности,
которые оно налагает на своих приверженцев. И каждый выдающий-
Через борьбу — к искусству!
101
4ш
V*
ся, одаренный шахматист имеет
не только право, но даже обязан
считать себя артистом».
Опираясь на эту цитату,
советские биографы создали миф,
что Алехин «всегда и повсюду
говорил о шахматном искусстве,
называя шахматных мастеров
артистами», что «всегда и всюду на
протяжении своей
содержательной шахматной жизни Алехин
пропагандировал именно такой
взгляд на шахматы» (Котов). Но
так ли это?
Как я недавно узнал,
автограф со словами «шахматы для
меня не искусство» тоже получил
свое развитие: Алехин повторил
его в альбоме одной дамы - о ее
«ядовитых» воспоминаниях мы
еще поговорим отдельно. Запись
сделана во время Всероссийской
шахматной олимпиады:
«Шахматы для меня не игра, не искусство
даже - а борьба, где, как и в
жизненной борьбе, всегда побеждает
сильнейший. Александр Алехин.
Москва 8/Х 1920».
На первый взгляд - та же
самая фраза, но есть два отличия.
И если перестановка слов в
конце - пустяк, то перемена местами «игры» и «искусства» весьма
симптоматична. Потому что была не намеренной: Алехин явно хотел
воспроизвести тот давний автограф, но память подвела, вытолкнув на
авансцену «игру» в ущерб «искусству». Ничего удивительного: плен,
война, революция, белые, красные, тюрьма ЧК, Коминтерн -
судьба играла Алехиным как хотела, и никаким искусством вокруг, кроме
искусства выживания, давно уже не пахло...
Трехлетняя «борьба за жизнь» (1918-1921) наложила отпечаток
на всё его творчество. «Я не играю в шахматы, в шахматах я борюсь»
(1923). «Сделаться шахматным маэстро меня заставило, во-первых,
искание истины, во-вторых, стремление к борьбе» (1926)... И только
постепенно, исподволь борьба из цели превратилась в средство, была
Автограф Алехина для петербургской
газеты «День» (25.04/8.05.1914).
Публикуется впервые.
102
Душа шахмат
ύ^ύ^\χιϋ^1
I
Тот самый снимок из газеты «День». Возможно, первая подписанная Алехиным
фотография...
Полемика с Филидором
103
осмыслена Алехиным как борьба за нечто большее, чем просто
достижение победы. Осознание этой сверхзадачи, наверное, и помогло
ему в титаническом единоборстве в Буэнос-Айресе.
Недаром Алехина так злили разговоры о том, что цель его жизни
обыграть Капабланку: «Что за глупости! Шахматы вообще не имеют в
моей жизни столь подавляющего значения. Да, я хотел победить
Капабланку. Много лет готовился, с того дня, как увидел его впервые в
Петербурге, когда был еще правоведом. Но при чем тут "цель
жизни"!» («Возрождение», Париж, 12.02.1928).
Действительно, для цели жизни это как-то мелковато. Свою
миссию Алехин видел в другом: «Я считал, что во главе шахматного
мира не должен стоять человек, отрицающий, что шахматы -
искусство». А один из выведенных им законов борьбы он сформулировал
так: «Подчинить свое маленькое "я" чему-то большему, что я
преследую, как цель, помимо своих эгоистических интересов. В моей
шахматной борьбе это значило - бороться не за свой личный успех,
но за успех шахмат против отрицания их Капабланкой. Это
значило - разрушить легенду о
"машине-человеке", которую создал
Капабланка в своем подходе к
шахматам, отрицающем
шахматы как искусство» («Россия»,
Париж, 18.02.1928).
Матч с Капабланкой стал для
Алехина своего рода Рубиконом.
В 1929 году он публично
дезавуировал свой прежний лозунг
«Шахматы для меня не
искусство», написав: «Для меня
шахматы не игра, а искусство».
Понял ли кто-нибудь, что это было
продолжением - точнее,
завершением — давнего спора с самим
собой?..
ПОЛЕМИКА С ФИЛИДОРОМ
Еще одну хрестоматийную фразу Алехина «Комбинация - душа
шахмат» знают все. А о том, что он хотел написать книгу «Душа
шахмат», кто-нибудь слышал? Алехин поведал об этом в интервью
после кругосветного путешествия, но вскользь, в разговоре о
японских и китайских шахматах, с которыми «было бы интересно
познакомить европейцев, что я и рассчитываю сделать, если меня не
·'■
.w£ *
Такую же надпись, как в газете «День»,
Алехин спустя шесть лет повторил в
альбоме одной дамы (см. стр. 164).
104
Душа шахмат
отвлечет другая работа. Дело в том, что на пароходе я начал писать
книгу "Душа шахмат" и порядком уже написал» («Последние
новости», 4.07.1933).
Это интервью я напечатал в «Шахматах в СССР» в 1990 году (№
10), но на слова о книге никто тогда не обратил внимания. Мало ли
нереализованных литературных замыслов было у чемпиона мира?
Так и туг: рукопись Алехин, понятное дело, не закончил (по
возвращении в Париж он расстался со своей Надин, и жизнь его сделала
крутой вираж), никогда больше о ней не вспоминал, отрывков не
публиковал... Но название «Душа шахмат» засело мне в голову. Как
выяснилось, не зря.
Перечитывая статью Алехина 1931 года «О прошлом и будущем
шахмат» (см. в конце книги), я вдруг заметил то, чего раньше не
замечал: постулат Филидора «Пешки -душа шахмат» он считал «в
корне абсолютно ложным»! Алехин не пояснил свою мысль, но
интуиция мне подсказывала, что эта шокирующая оценка и название
книги как-то связаны между собой...
Всё встало на свои места, когда мне на глаза попала публикация
А.Константинопольского и И.Романова «Драгоценные строчки»
(«64-Шахматное обозрение» № 21, 1989). В ней был «никогда
прежде не появлявшийся на русском языке» текст Алехина —
предисловие к книге Виктора Кана «Новоиндийская защита» (Париж,
1935), где я нашел ответы на оба мучивших меня вопроса: что же
такого «абсолютно ложного» увидел Алехин в постулате
Филидора и что составляло для него «душу шахмат»? Попутно узнал, чему
была посвящена начатая на пароходе книга; возможно, львиная
доля предисловия — о Филидоре и молодых шахматистах во главе с
Нимцовичем - вообще из той рукописи! Ведь сама по себе дебютная
книжка вряд ли могла сподвигнуть чемпиона на столь глобальные
раздумья о сущности шахматной игры. Скорее, Алехин просто
воспользовался поводом, чтобы, говоря словами авторов публикации,
«высказать свои сокровенные мысли, в которых он предстает как
оригинальный, вдумчивый, исполненный чувства историзма
философ шахмат».
Приведу предисловие целиком, поскольку ни в книгах об Алехине,
ни в интернете его нет, и очень не хочется, чтобы этот
концептуальный текст ушел в песок.
Александр Алехин
[ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ДУШУ ШАХМАТ]
В чем значение этой работы, и имеет ли она действительно
таковое? На этот вопрос я должен ответить не колеблясь утвердительно.
И вот почему.
Полемика с Фияидором
105
Есть несколько способов поиска истины в шахматах. Можно
домогаться ее в практической борьбе, можно изучать основы нашего
искусства, можно, наконец, предпринять глубокий анализ всех фаз
партии.
Виктор Кан избрал четвертый путь, вероятно, самый трудный, но
и самый плодотворный. В качестве объекта своего исследования он
берет не только ту фазу партии, которую называют дебютом, но из
всей обширной области дебютов сосредоточивает свое внимание на
разделе, в котором в ответ на I.d2-d4 черные защищаются
посредством Ь7-Ь6 (ферзевое фианкетго). Однако это лишь поверхностный
аспект его исследования. По сути же труд Виктора Кана имеет
сущностное значение, ибо, являя собой плодличной мысли, он
побуждает любителя задуматься над одним из главных вопросов игры: «душа
шахмат».
Некогда Филидор повторял как лейтмотив, что душу шахмат
составляют пешки. Французский мастер был одновременно прав и
неправ; при этом следует заметить, что сущность его принципа не была
понята ни его современниками, ни последующими поколениями.
Фраза Филидора - и это явствует из рассмотрения его собственных
партий - должна пониматься следующим образом: душу шахмат
составляют пешки, как фактор господства в центре; только в такой
интерпретации можно оценить значение открытого им принципа,
одновременно находя в нем заблуждение.
Заслуга Филидора заключалась втом, что он инстинктивно осознал
значение центра; а его заблуждение в утверждении, что господство в
центре должно обязательно обеспечиваться пешками. Заблуждение
вполне простительное для той эпохи, если учесть, что на
протяжении полутора столетий теоретики (включая догматика Тарраша)
находились во власти этого предубеждения и веровали в необходимость
утверждения пешек в центре.
Только незадолго до 1914 года несколько молодых шахматистов,
первым среди них был Нимцович, начали утверждать, что занятие
центра исключительно пешками совсем не обязательно для
успешного ведения партии. Они продемонстрировали, что достаточно
контролировать центр фигурами, даже издалека, как, например,
фианкеттированными слонами. То, что еще двадцать лет назад
казалось парадоксальным, ныне стало для всех сведущих шахматистов
истиной.
Знать истину - одно дело. Но внедрить ее в широкое сознание -
другая трудная задача. Похвальная цель исследования Виктора Кана в
том и заключается, чтобы просветить читателя по этому важному
вопросу.
Исследуемая им тема, в основе которой лежит борьба за центр без
занятия его пешками, позволяет читателю проникнуть в понимание
современного стратегического духа, являющегося, в определенном
смысле, единственной шахматной правдой. Его исследование не
опровергает принципа Филидора, оно дополняет этот принцип
самым удачным образом. Именно центр составляет душу шахмат.
106
Душа шахмат
ШКОЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ
Свое шахматное оружие Алехин выковывал в турнирах по переписке.
А что, очень удобно: соперник тебя не видит, играет в полную силу, не
подозревая, что имеет дело с ребенком. Да, поначалу приходится
туговато, но зато быстро обретаешь опыт, появляется навык методично
и глубоко анализировать... Отличная школа! Саша пристрастился к
игре по переписке под влиянием старшего брата, помогая ему в
анализе партий; но очень скоро - с 12 лет - начал выступать в турнирах
самостоятельно.
Журнал «Шахматное обозрение», представляя в 1909 году
читателям гимназиста Алехина, только что завоевавшего во
Всероссийском турнире любителей звание маэстро, писал, что он «дебютировал
впервые в нашем XVI (гамбитном) турнире по переписке, который
игрался в 1905—06 годах, и взял в нем 1-й приз». Партию с Жуковским
из него Алехин включил потом в сборник «Мои лучшие партии». И
лишь четверть века спустя выяснилось, что впервые он ее
прокомментировал еще в своей юношеской тетради с партиями по
переписке! Сейчас она в Музее шахмат России, а известно об этой
сенсационной находке стало из статьи МЛапирова и П.Лина «Неизвестная
тетрадь Алехина» («Шахматы в СССР» № 9, 1953).
Тайна Санкт-Блазиена
За прошедшие годы о тетради кто только не писал, но только
Валерий Чащихин подметил странную деталь: во всех партиях турнира
князя Шаховского, начатого сразу за гамбитным в августе 1906-го,
своим адресом Алехин указал St.Blassen. Интересно, где это?
Однако найти название в интернете не удалось... Заглянул в тетрадь: вдруг
Чащихин неверно списал? Так и есть - там St.Blasien! Это немецкий
курорт в горах Шварцвальда, на границе со Швейцарией:
«Назначается страдающим болезнями сердца, легочными (астма, эмфизема),
малокровным, ревматикам». Здесь в 1905 году пытались спасти мать
Марины Цветаевой, сюда же зимой 1921-го привезли «едва живого»
Горького...
Что делал в Санкт-Блазиене 13-летний гимназист? Возможно, там
лечилась его мать (она была болезненной), но более вероятно, что
Саша сам нуждался в лечении: ряд партий начат, когда ему
полагалось быть в гимназии, - одна так вовсе 30 сентября, причем не по
новому, а по старому стилю (в сборнике Л.Скиннера и Р.Верховена
«Alexander Alekhine's Chess Games, 1902-1946» партия Жуковский -
Алехин ошибочно датирована 30 августа). Помните, Попов пишет о
1906 годе: «Занятия уже давно начались, и прошло около двух-трех
Школа комментирования
107
Об этой тетради слышали все, но
.мало кто ее видел! Под коленкоровым
переплетом — самый ранний из
автографов Алехина и этикетка лучшего
магазина Москвы.
А что такое № 20? Оказалось, это
номер в списке его шахматных книг,
приведенном в конце тетради. Из
коллекции Музея шахмат России. Все изо-
бражения из тетради публикуются
впервые.
недель, как вдруг среди урока появился довольно растрепанный
белокурый мальчик...»? На самом деле Алехин опоздал на полтора
месяца, так как занятия в гимназии начинались 17 августа.
В начале тетради я обнаружил еще один адрес, на который тоже не
обращали внимания: «Швейцария. Энгелберг. Hotel "titlis". Luzern».
Оказалось, Титлис - это гора, считавшаяся тогда самой высокой
точкой Альп, а Энгельберг - городок близ Люцерна, откуда стартуют
восходители на Титлис. Важный штрих: адрес написан фиолетовым
карандашом, который встречается еще лишь в двух партиях XV]
турнира «Шахматного обозрения», в том числе с Жуковским!
Поскольку этим карандашом записаны только «полтора» последних хода и
дата окончания партии - 18 июля (ст. ст.), могу предположить, что
в 1906 году семья Алехиных начала вояж с Энгельберга, а закончила
вСанкт-Блазиене...
Эта партия с русским вице-консулом в Турции В.Жуковским -
единственная в тетради, которая прокомментирована; в других лишь
восклицательные и вопросительные знаки да отдельные замечания. В
своем сборнике Алехин относит ее к 1908-1909 годам, но это
очевидная и, думаю, сознательная ошибка. Почему? Сейчас узнаете.
Примечания составлены явно позднее. Они в самом конце тетради,
отдельно от партии, и напоминают черновик: написаны «взрослым»
неразборчивым почерком с характерным для Алехина наклоном
влево. Но почему он их не опубликовал? И главное, когда написал?.. А
знаете, есть зацепка: в 1916 году «Шахматный вестник» напечатал его
партию с Вяхиревым (см. ниже), которая тоже есть в тетради.
Возможно, Алехин собирался дать следом партию с Жуковским, но не
успел: на номере с Вяхиревым журнал закрылся!
108
Душа шахмат
Если моя догадка верна, тогда понятно, почему в этих
комментариях чувствуется рука не мальчика, но мужа. Я не настаиваю на 1916
годе, но уж датировать их 1906-м, как повелось с подачи Лапирова
и Лина, может только профан. Сравнение «черновых» примечаний
(1916) с теми, что Алехин сделал для сборника «Мои лучшие
партии» (1924), дает нам редкую возможность заглянуть в его
«творческую кухню» - см. примечания к 20, 26 и 30-му ходам.
№ 1. Королевский гамбит С39
АЛЕХИН - ЖУКОВСКИЙ
XVI (гамбитный) турнир
по переписке
журнала «Шахматное обозрение»
9/22.09.1905- 18/31.07.1906
Комментирует А.Алехин
1 -е4 е5 2.f4 ef 3.£>f3 g5 4.h4
g4 5.£te5 £>f6 6.£c4 d5 7.ed
i_d6 8.0-0. Этот ход,
предложенный проф. Райсом, в
сущности, не имеет теоретического
значения, так как черные могут
либо путем 8...0-0 перейти в
небезвыгодный для них вариант
гамбита Кизерицкого, либо без
особой опасности для себя
забрать коня, как это уже доказано
многочисленными
исследованиями.
Несмотря на это,
продолжение проф. Раиса все же
представляет известный интерес, так
как оно ведет к исключительно
сложным положениям и тем дает
повод к поучительным
аналитическим изысканиям, для
которых особенно пригодны партии
ι Α/ι,Αχ
В тетради несколько партий Алехина с Жуковским, эта из турнира князя Шахов-
ского. Но почему Алехин начал ее 30 сентября на курорте Санкт-Блазиен — при
том, что занятия в гимназии начинались 17августа?
Школа комментирования
109
по переписке (этот абзац
Панов, разумеется, снял).
8...£:е5 9.2е1 *е7 10.сЗ.
Но не 10.d4 из-за 10....&:d4+ и т.д.
Ю...дЗ. Попытка опровергнуть
жертву коня немедленной
атакой. У черных был, кроме того,
выбор между ходами 10...О
(аналитический матч Ласкер -
Чигорин, Брайтон 1904) и 10...£>h5!
(ход Ясногродского) —
последний, по-моему, является лучшим.
11.d4 <£g4 12.-d2. На 12.
Л:/4 черные могли пожертвовать
ферзя: 12..Л:/4!? 13.2:e7+ Ф:е7
14. Wf3 £еЗ+ 15. ФИ 1 Q2+ 16. <£gl
£g4+ с вечным шахом.
1 2...W:h4 I 3.v f3 Wh6. Гро
зит 14...£rf2 с выигрышем ферзя.
В случае 14.Н:е5+ £>:е5 15.de £g4
у белых нет достаточной
компенсации за качество, а на 14.Ше2
(14.Wd2 £te3!) выигрывает 14...
0-0 15.de £>f2 16.*П Whl + 17.
ifcl £Μι3!
Поэтому у белых нет ничего
лучшего, чем следующий выпад.
14.Wa4+£d7 15.ЙаЗ.
1916. Ход этот проф. Райе
считает наиболее сильным в
данном положении. Однако,
по-видимому, ход 15.ШЪ4 заслуживает
большего доверия, так как ферзь
долгое время не имеет
возможности сойти с поля аЗ.
1224^ Продолжение 15. WM
было испробовано в интересной
партии Липшютц - Нэпир,
продолжавшейся: 15...£к6! I6.dc Д:с6
17.£b5 0-0-0 18.£:с6 be 19.de
$Ж 20.ФП !ГЫ+ 21.£>gl <£h3! 22.
Wc5 (или 22.gh О) 22...ГЗ! 23.gf
£>:gl, и выиграли. На поле аЗ
ферзь остается вне игры, что дает
черным возможность различных
комбинаций с жертвами.
По этому абзацу Панов
прошелся «рукой мастера», но того,
что ход 21...ФИЗ заслуживает не
похвалы, а вопросительного знака,
не заметил: 22.gh /3 гибельно из-
за 23.Wg4+ (правильно 21...£)g4! и
£)h2+).
1 5..." сб!
1916. Ход этот указан Нэпи-
ром после 15.ШЬ4. В данном
положении он, конечно, имеет еще
большую силу, так как после 16.
dc Д:с6 белые не могут сыграть
17.ДЬ5.
no
Душа шахмат
16.dc. Выбора нет: 16.de
£}с:е5 с последующим 0-0-0
кончилось бы для белых
катастрофой.
16...jL:c6 17.d5 (тоже
вынужденно) 1 7....&:d5.
1316. Интересная жертва
слона, непредвиденная
противником. Белые думали на ]7...Ad7
сыграть 18.Шс5, после чего они,
по меньшей мере, получали
равное положение. После же
этого хода они должны неминуемо
проиграть.
1924. Очень остроумно, но,
вероятно, простой вариант 17..JLd7
18.Шс5! Л6! 19.d6 сб, оставлявший
черных с двумя лишними
пешками при достаточно прочном
положении, был лучше. Варианты,
получившиеся после хода в
партии, могли быть высчитаны - и
то не до конца - только в игре по
переписке.
18.£:d5 »Ь6+ 19.-d4
О-О-О. Король теперь в
безопасности, и у черных,
действительно, блестящая атака.
Чтобы избежать немедленного
поражения, белым приходится
расстаться с частью своих
завоеваний.
20.2:е5!
1316. Единственный ход:
белые не могут ни уйти слоном,
ни защитить его по причине 20...
.&:d4+. Проигрывая же его, они
должны потерять и партию.
1924. Чтобы на 20...^:е5
вызвать путем 21.#ЬЗ Ш:ЬЗ 22.&:ЬЗ
выгодное упрощение игры.
Однако черные подготовили новую
неожиданность.
1916. Головокружительная, но
неправильная комбинация:
после 20...^:е5 21.ШЬЗ Ш:ЬЗ 22.&:ЬЗ
(этот вариант Алехин даже
вписал в тетрадь в качестве
продолжения партии/) 22...£>g6 черные
получали преимущество и в
силах, и в положении.
1924. Очень далеко
рассчитанная комбинация, в итоге которой
черные, несмотря на то что у них
не хватает ладьи и слона, почти
добиваются победы.
Характерный момент/ Мы еще
не раз увидим, как Алехин
кардинально менял свои оценки и
варианты, благодаря чему
«неправильные» комбинации превращались
потом в «очень далеко
рассчитанные». Впрочем, моя работа над
чемпионатами СССР показала,
что Алехин не был исключением:
приведенные в сборниках партий
красивые комбинации или
этюдные защиты нередко находились
только при домашнем анализе.
21.2:d5Wh6.
1916. Здесь начинается
упорная борьба, которой суждено
было окончиться ничьей. Поло-
Школа комментирования
111
жение крайне трудное для
анализа. Черные грозят посредством
22...ШИ2+ 23.ФП ШЫ + 24.Фе2
*:g2+ 25.*- W:d5 выифать
партию, так что следующий ход
белых является форсированным.
22.ЗДЗ. После 22.Ш:а7 Ш\\2+
23.ФП ШЫ + 24.Фе2 W:g2+ 25.
Φϋ3 W:d5 26.Ша8+ *d7 27.W:h8
черные, играя 27...£}е5+ 28.Фс2
*е4+ 29.ФЬЗ Wd5+, добились бы
по крайней мере ничьей. Но они
могли бы и попытаться
реализовать свои пешки, играя 27...О!
Ход 27...β? плох из-за 28.4/4!
(28...g2 29.Ле1 или 28../2 29.£:g3
Wg2 ЗО.Л:/2). А основной вариант
ничеен, так как улизнуть от
шахов не удается: ЗО.Фа4 g2!
(проще сразу 29...g2!) 31. Wg7! (только
так) 31.../3 32.Wg3 Ь5+ 33.&:Ь5
Ша8+ 34. ШЬЗ Wd5+ и т.д.
22...£tf2 23.£f I 2e8! (грозя
24...ШЫ+ 25.£gl #:gl + и Пе1#)
24.£:f4!
1916. Спасающий партию ход.
На 24.JLd2 последовало бы 24...
*hl+ 25.£>gl £>g4, на что уже
нельзя было ответить 26.flh5 по
причине 26...W:h5 27.£ih3 ШЬ5+
28.*gl Wb6+ 29.ФЫ £>f2+ 30.
4&:f2gf, и выигрывают.
Тут мгновенно выигрывало 27...
£\И2+ с элегантной идеей 28.&gl
£$3+ 29.ФИ1 Sg8/, найденной
Алехиным лишь годы спустя (см.
примечание к 27-му ходу).
Любопытно, что сначала он
рассматривал вариант 26...£)h2+
27.Л:И2 gh 28.Ш:а7 Ле2 29.Ф:е2
W:g2+ (к ничьей вело 29.Ша8+!
<£>d7 30. Wa4+), но потом его
зачеркнул, упустив из виду тот же
ι И
I Л 1
Загадочный адрес в начале тетради,
написанный фиолетовым карандашом.
выигрывающий ход 28...Bg8!f на-
пример: 29. Ш/2/3 30.g3 Ле8!
(маятник ладьи впечатляет) 31.Ле1
Ле2 32.Л:е2/е+ и т.д.
1924. Единственная
возможность освободиться из ужасных
тисков.
24...#h1+! 25.яд1 £>д4.
26.2И5!
1916. Слабый ход: белым
следовало играть 26.Пе5. Они
побоялись продолжения 26...£tfi2+
27.Фе2 *:g2+ 28.<£>d3, и у белых
при лишних ладье и слоне
выигранная партия.
1924. Самый верный путь!
Ходом 26.2е5 белые подвергли бы
себя новым и совершенно лиш-
112
Душа шахмат
ним (так как надежды на
выигрыш у них не было бы)
опасностям, как показывают
следующие очень интересные варианты:
26...£>h2+ 27.Фе2 Hd8!
(предупреждает бегство короля на
ферзевый фланг) 28.&:g3! W:g2+
29.ДЕ Wg4+ ЗО.ФеЗ (или ЗО.Фе1
Ш%2\ З1.*е2 Wg4+, и у черных
ничья в руках) 30...f5!, и от
угрозы 31...Wg5+ 32.Фе2 Wd2# у
белых только следующие
возможности защиты:
l)31/*e7f4+32.*e4fTg2+33.
<i>:f4 W:f2+, и у черных опять
вечный шах, так как белые не могут
играть королем на g5 из-за 34...
#g3+, 35...%4+и%6#;
2) 31.«ГЬ4 Wg5+ 32.Wf4 £g4+!
(сильнее, чем 32...fld3+) ЗЗ.ФО
£>:е5+ 34.Ш:е5 Wg4+ 35.ФеЗ f4+
36.Фе4 «Tg2+ 37.£f3 W:f2 с
хорошими шансами на выигрыш, так
как белые не могут
одновременно защитить и короля, и пешки
ферзевого фланга.
Эти варианты доказывают
исключительную опасность атаки
черных.
Интуиция не подвела юного
гимназиста/ После 26.Ле5/ черным
еще предстояло найти спасающий
ход 29... £%4! (вместо 29... Wg4+ ?),
вынуждая ЗО.Л/1 &:е5 31. Ша4!=,
так как в алехинском варианте у
белых после ЗО.Фе! Wg2 3LAd4!
(Д.Бронштейн) хорошие шансы
на победу. А вот «самый верный
путь» прямиком вел в пропасть!
Парадокс в том, что во время
партии Алехин считал ход 26.ЛИ 5
сильнейшим: об этом говорит
восклицательный знак в тетради.
2Ь...Ш:ЬБ27.ЪЬЗ.
27...#Ь5+. И соблазнительный
маневр 27...£>h2+ 28.<£>gl £M3+
29.ФИ1 Hg8! с угрозой 30,..W:h3+
и 31...g2# при правильной игре
белых давал только ничью,
например: 30.£:g3 H:g3 31.Ш+
*d7 32.fldl + Феб З3.*е8+ ФЬ6
34.ШеЗ+ Фаб 35.*d3+! (но не 35.
*е2+ Ь5! 36.ШП £>h4, и черные
выигрывают) 35...ФЬ6! (но не
35...Ь5 из-за 36.Wd7! с угрозой
мата в 3 хода) 36.ШеЗ+ Фаб! (если
36...С5, то 37.Hd6+ Фа5 38.Hh6
Wf5 39.5igl, и черные
проигрывают) 37.Wd3+, и ничья.
В двух последних скобочных
вариантах черные на самом деле не
проигрывают, но это всё «семечки»
по сравнению с потрясающей
находкой 27... £f2!!(B. Басков, 1933) -
этот ход Алехин не увидел даже
в анализе. Легко убедиться, что
защиты от мата нет: 28.<?):f2
Ше2+ 29.4% 1 Ше1+! или 28.±g3
Ά-Η3 29.gh Wf3+ 30Αβ Ше2+ и
Sg8+.
28.&д1!
1916. Промах, который должен
был стоить партии. Следовало
Школа комментирования
113
играть 28.с4 Ш:с4+ 29.<&gl Wd4+
ЗО.ФЫ Ш7 31.£>:f2gf32.Wh3+, и
белые могли еще хорошо
защищаться.
1924. Ходом 28.с4 белые
могли сохранить свое материальное
преимущество, но дали бы
противнику некоторые шансы на
выигрыш. Например: 28...Ш:с4+
29.*gl «Td4+ ЗО.ФЫ £β+ 31.
&:f2 gf 32.£g3 (или 32.%3 W:b2
ЗЗ.НП Ш:а2, но не 32...Пе1+? 33.
B:el fe«+ 34.Ш:е1 lf:f4 35.Ше8#)
32...ШЯ6 ЗЗ.ЕЛ Wh6+ 34.£h2 fiel
35.Wd3 Wcl, и черные
выигрывают.
28...Wb6+29.ih1 £>f2+30.
Q:« W:f2!
1916. Крупный промах: после
30...gf у белых не было защиты.
Например, на 31.ЖП черные
отвечают 31...Wf6! и на 32.g3 - 32...
Sel (на 31.Ad2 черные также
играют 31...Ш).
Алехин, судя по всему, испугал-
ся варианта З3.<£%2 Шеб 34.Ш:а7
Ше4+, зевнув ход 34. Шс5/, и
благодаря угрозе мата белые успевают
расправиться с пешкой/2.
1924. Но не 30...gf 31.НП «fffi
32.g3, и белые выигрывают.
31.£:g3W:g3 32.W:a7.
^рХ^аил<и4? Шм(
(Ot
& Mil/* p&r
Дата окончания партии написана тем же карандашом, что и швейиарский адрес.
Обратите внимание на инициал перед фамилией Алехина — в 1905 году он еще был
Тишей. Эта партия — единственная в тетради, которая прокомментирована...
114
Душа шахмат
^\^\\Ш\А^ <Я ν*ψ
v W
ци
.wo примечания составлены явно позднее,уже «взрослым» почерком/
Жаркий бой истощил силы
противников и привел к мирному
ферзевому концу.
Черные совершенно разумно
довольствуются вечным шахом,
так как единственная их попытка
выиграть - 32...Пе4 легко
отражается ходом 33.^1!
З2...2е1+ 33.2:е1 W:e1 +
34.&И2 Ше4. В сборнике Алехин
привел в качестве финала 34...
ШИ4+ 35.Ugl Wel+, но... тетрадь
«старше».
35.Wa8 id736.Wg8Wh4+
37.&g1 Ше1+. Ничья.
Партия с Вяхиревым была
начата, как вы уже знаете, в
Санкт-Блазиене. В «Моих
лучших партиях» Алехин отнес ее
к 1908 году, хотя при
публикации в «Шахматном вестнике» (№
19-20, 1916) сам же указал
верную дату. Я решил привести
первоисточник не только потому,
что он практически неизвестен,
но и чтобы вы могли сравнить
комментарии в журнале и
сборнике. Вариантно они совпадают,
но стилистически, а кое-где и по
смыслу разнятся: все-таки
восемь лет прошло, да и перевод
есть перевод.
Еще любопытнее будет
сравнить вариант в «МЛП» с
примечаниями Котова в «Шахматном
наследии». Оказалось, тот
нередко «забывал» указать авторство
Алехина. Причем действовал
хитро: излагал своими словами его
примечания (порой очень близко
к тексту), а в одном-двух случаях
давал прямые цитаты или
указывал, что вариант принадлежит
Алехину, из чего как бы
вытекало, что всё остальное - плод его
пытливого ума. Потом этот
способ взяли на вооружение и
другие авторы...
Школа комментирования
115
№ 2. Венская партия С28
ВЯХИРЕВ-АЛЕХИН
1-й турнир по переписке
кн. Шаховского,
24.09/7.10.1906-3/16.09.1907
Комментирует Л.Алехин
1 .е4 е5 2. <Ъ f6 З.£с4 £Ь4
4.d3 ^сб (в «МЛП» 3-й и 4-и
ходы черных поменяны местами)
5.^де2. Эта партия была
играна до того времени, когда
(Остенде 1907) был введен в моду
лучший здесь ход 5.£g5.
В «МЛП» вместо турнира
указан Мизес, который
действительно ввел этот ход в Остенде-1907.
Зачем же Алехин снял ссылку на
турнир? Неужели, чтобы не
проколоться с указанной им датой —
1908 год? Но тогда, выходит, он
нарочно изменил ее, как и с
Жуковским! В обоих случаях Алехин убрал
еще названия турниров, заменив их
на «играна в России»... Но для чего
всё это?! Единственное разумное
объяснение — Алехин добавил себе
годков, чтобы избежать
подозрений, будто ему помогали в игре.
5...d5 6.ed £>:d5 7.£:d5
W:d5 8.0-0 Wd8. Досих пор
повторение партии Мизес -
Чигорин одного из монте-карловских
турниров (1902).
«МЛП». Это отступление
ферзя лучше, чем 8...Д:сЗ, как играл
О.С.Бернштейн против меня в
Париже в 1922 году. На это
последовало: 9.£>:сЗ Wd8 10.f4 ef
11.Д:Р4 0-0 12.£>b5! со
значительным преимуществом у белых.
(Котов: «Слабее 8...А:сЗ ввиду 9.
£l:c3 Wd8 W/4 ef 11.£:/4 0-0 12.
£)Ь5 с перевесом белых».)
9.£}дЗ. В упомянутой партии
белые сыграли энергичнее" 9.Г4
0-0 10.f5.
9...0-0 10.f4. Теперь уже этот
ход запоздал (в тетради он
отмечен знаком вопроса) ввиду от
вета черных, обеспечивающего
им инициативу на королевском
фланге.
«МЛП». Теперь же этот ход
уже не так силен... (Котов: «Здесь
этот ход уже не так силен».)
10...f5 11.<5ke2 *h4 12.
ФМ ^d6. Препятствуя маневру
£gl-f3.
13.d4. Несмотря на то что
черные после этого хода могут
получить проходную пешку в
центре, он является, безусловно,
лучшим шансом белых,
долженствовавшим повести при
правильном продолжении с их
стороны (см. 18-й ход) к
обоюдоострой, сложной игре.
13...е4. Теперь я, вероятно,
удовольствовался бы простым
продолжением 13...ed 14.£):d4
^:d4 15.*:d4 Деб или £d7-c6 с
несомненным превосходством в
позиции. Но в то время мираж
сложных матовых комбинаций
(в реальности
осуществившихся лишь благодаря оплошности
противника) был уж слишком
соблазнителен...
«МЛП». Теперь я,
несомненно, избрал бы простое
продолжение 13...ed 14.£:d4£>:d4 15.*:d4
Деб или 15...£d7 и Дсб. Но в ту
пору я еще не был в состоянии
преодолеть соблазн атаки с
«блестящими» жертвами... Если мои
надежды «оправдались» в этой
116
Душа шахмат
партии, то только благодаря
отсутствию инициативы у
противника.
1 4.с4 2f6 I 5.c5 2h6 I 6.h3
jLf8 17.ШЬЗ+ ih8.
18.Wc3? Решающая
позиционная ошибка. Бросалась в глаза
необходимость хода 18.d5,
который после 18...fte7(d8) 19.ДеЗ
надолго стеснил бы свободу
действий черных фигур, в
особенности их ферзевого фланга. Теперь
же черные овладевают пунктом
d5 и осуждают этим противника
на полное бездействие.
«МЛП». Явная
позиционная ошибка, отдающая черным
пункт d5. Совершенно
необходимо было 18.d5 £>e7(d8) 19.ДеЗ с
хорошей позицией в центре.
(Котов: «Крупная позиционная
ошибка: белые отдают черным важный
пункт d5. После 18.d5 и 19.АеЗ у
белых хорошая позиция».)
18...fte7! Конечно, не 18...
Деб из-за 19,d5 и т.д.
19.£еЗ £е6 20.£f2 #f6
21.аЗ(?) Этот ход, так же как
23-й и 26-й ходы белых, является
чистейшей потерей времени, так
как пешечное продвижение на
ферзевом фланге не представляет
и тени угрозы.
Но партия белых после их
непонятного 18-го хода вообще
настолько плоха, что и самый
детальный анализ позиции не смог
бы обнаружить успешного для
них плана защиты.
21...jLd5. Угрожая 22...еЗ и
S:h3+. Пункт d5 надлежало
занять именно слону, так как конь,
как это будет видно из
дальнейшего, предназначен для
значительно более агрессивной роли.
22.^еЗ &д6 23.Ь4 яИ4 24.
Фд1. И на другой ход черные
сыграли бы 24...£rf3!, после чего
белый король, запертый в углу,
оказался бы подверженным
неотразимой атаке (начавшейся
бы, например, ходом 25...#h4 с
угрозой Ш:ИЗ+!).
«Ход конем» Алехин нашел не
сразу: он успел вписать в тетрадь
24...Sg6, но потом зачеркнул ход и
жирно начертал рядом 24... £f3+!
24...ftf3+! 25.&f2. Ясно,
что 25.gfef26.ftcl ведет к
немедленному разгрому: 26...fi:h3 27.
*(A)f2 Wh4! и т.д.
Школа комментирования
117
25...ШИ4! Положение
достаточно любопытное: черные соби-
ра-ются сыграть 26...Sg6 и после
27...Де7! посредством 28...2:g3
29.£>:g3 W:g3+! 30.*:g3 £h4#
поставить противнику совершенно
чистый мат.
Фигуры же белых настолько
связаны, что они абсолютно не
в состоянии оказать этому плану
успешного противодействия.
«МЛП». Π оложен ие очень
своеобразное. Черные угрожают 26...
Hg6 и 27...Де7! в связи с 28...St:g3
29.£>:g3 «T:g3+! 30.*:g3 Ah4#, и
у белых нет удовлетворительной
защиты от этой угрозы!
26.Ь5. См. примечание к 21-
му ходу белых.
В тетради читаем: «Полное
непонимание положения!»
Но как играть белым? В
«Полном собрании партий с
авторскими комментариями. Том 1. 1905—
1920» (2009) указано: «Путем 26.
Oil Bg6 27.Sadl! Ле7 28.&fl и
если 28,..JS:g3f то 29.JL/2, они еще
могли сопротивляться», но
после 27,..Ле8! спасения нет (28.&fl
SLg329Af2e3l).
26...Sg6 27.Hfc1 i_e7! 28.
4f 1. Так как предотвратить
указанную жертву качества и ферзя
не представляется возможным,
белые решаются в виде
компенсации взять наконец коня, дабы
остаться с лишним качеством.
Но непосредственно за этим они
попадают в матовое положение.
28...2:g3 29.v :дЗ. Если 29.
Дй, то 29...&h2+ 30.£>gl (30.*el
S:c3 и т.д.) 30...S:g2+! 31.*:g2
еЗ+, и мат в следующий ход.
29...Ш:дЗ 30.i.f2 Wh2 31.
gfef 32.Sc2.
32...Se8! Начало изящной
матовой комбинации. Черные не
выпускают короля на ферзевый
фланг.
З3.£е3 (или 33.£gl Wg3! и
затем ДИ4) ЗЗ...ШЫ+ З4.£д1
i.h4! 35.ВИ2. Теперь черному
ферзю нет спасения. Но,
жертвуя собой, он поручает пешке
нанести противнику
смертельный удар.
35...Wg2+!36.2:g2fg#.
Искусство «огранки»
Кто сейчас помнит об уральском мастере Степане Левитском? А
ведь это колоритнейшая фигура русских шахмат. Жаль, нет хорошего
снимка, но портрет «кисти» Левенфиша очень выразителен:
«Высокого роста, с окладистой бородой, по внешности настоящий Микула
Селянинович, Левитский заражал окружающих своей жизнерадост-
118
Душа шахмат
ностью». В 1911 году он с сокрушительным результатом - 16,5 из
21! - выиграл Всероссийский турнир сильнейших любителей, а в
1912-м стал третьим призером турнира мастеров в Вильне, дважды
одолев Алехина.
Так что исход матча между ними был не столь очевиден, как может
показаться. И то, что Алехин взялся комментировать партии - прямо
по ходу матча - в «Новом времени», говорит о значении, которое он
придавал единоборству Алехин вообще высоко ставил Левитского;
известна его фраза 1919 года: «Многого мог бы достичь в свое время
Левитский, но он слишком рано отошел от шахмат».
Матч игрался до семи побед одной из сторон, ничьи не считались
и... не оплачивались. Результат превзошел все ожидания: Алехин
победил со счетом 7:3 - без единой ничьей!
Из газеты его примечания перекочевывали в «Шахматный
вестник», а две партии Алехин прокомментировал потом в сборнике...
Какжебытьсознаменитой 8-й партией? Заоснову я взял текст в
журнале, добавив для сравнения несколько примечаний из«МЛП». Спо-
Всероссийский турнир сильнейших любителей β Петербурге (1911) стал
звездным часом Степана Левитского. Сидят: Дренкель, С.Левитский,
Ю.Сосницкий, П.Сабуров (мл.), А.Флямберг, С.Шапиро и П.Романовский. 2-й ряд: П.Евти-
феев, Е.З носко- Боровский, С.Ланглебен, И. Косолапое, П.Л ист, И. Зноеко-
Боровский, Б.Малютин, С.фон-Фрейман, С.Лурье и Б.Констанский. 3-й ряд:
Е.Боголюбов, В.Сурнин, К.Розенкранц, С.Розенталь, В.Вертоградов, В.Острогский и
Б. Берлинский.
Школа комментирования
119
соб на вид нехитрый, но
неожиданно у «слоеного пирога»
оказалась криминальная начинка!
№3. Венская партия С27
АЛЕХИН - ЛЕВИТСКИЙ
Петербург (м/8), 27.02/12.03.1913
Комментирует Л.Алехин
1.е4 е5 2.<£сЗ £>f6 З.Дс4
£>:е4. Не вполне корректный
ход, до сих удержавшийся в
серьезной практике
исключительно благодаря крайне
односторонней разработке его
последствий современными игроками,
обращавшими внимание на один
лишь выгодный для черных, но
далеко не форсированный
вариант (см. примечание к 5-му ходу
черных).
«МЛП». Только из-за этого
хода, обеспечивающего черным
легкую защиту, я не играю теперь
венской партии (З...Ос6 — см.
ниже партию с Грегори).
4.ШИ5 <£d6 Б.ДЬЗ.
5...jLe7. Здесь чаще играют 5...
<5к6 (впервые сделал этот ход А.
Берн в партии с Ж.Мизесом на
парижском турнире 1900 г.), вы-
Уральский самородок Степан Левит-
ский на 1-м Всероссийском шахматном
турнире (1899). Фрагмент фото из
архива П. Боброва.
зывая белых на «комбинацию»
6.&b5 g6 7.WO β 8.Wd5 #fl6 9.
£>:c7+ <£>d8 10.&:a8 Ь5!, в
результате которой у черных за
качество получается
многообещающая, быть может, неотразимая
атака.
Но дело в том, что белые на 5...
£ю6 могут просто играть 6.5МЗ,
сводя к выгодному для них
продолжению, случившемуся и в
данной партии.
В «МЛП» переставлены
местами 5-й и 6-й ходы черных, хотя в
партии было именно 5...Ле7 (так
AiiexuH уже играл с Яффе, Карлс-
бад1911)и6...®с6.
6.d3 £k6 7.£>f3 дб. Этого
ослабления, после которого у
120
Душа шахмат
белые только и получается
атака, уже нельзя избежать.
На 7...0-0, например,
последовало бы 8.£}g5 .k:g5 (или 8...И6
9.h4!, и у черных нет
удовлетворительной защиты от угрозы 10.
*g6) 9.£:g5 We8 10.4W5, и
белые выигрывают.
«МЛП». Этот старинный ход,
известный еше из партии Ми-
зес - Марко (Париж 1900), после
развития слона на е7 кажется
нелогичным и, конечно, не самый
лучший. Хорошобыло 7...0-0, так
как вариант 8.£}g5 h6 9.h4
неопасен из-за 9...<&d4!
Как видите, Алехин не сразу
заметил, что угрозу W.Wg6
парирует 9....&d4! (10.Wg6?A-g5 11.
£:g5 £ь:ЬЗ, и белым впору
сдаваться), а при 10.^f3 черные
разменивают опасного слона.
8.ШИЗ £>f5 9.g4 "fd4 10.
£h6.
10...^:ЬЗ. Кроме этого маневра,
являющегося, по-видимому,
нововведением, заслуживают еще
внимания защиты 10...Bg8 (Ми-
зес - Марко) и 10...Д№ (Яффе -
Алехин). Обе эти партии
окончились в пользу черных, что,
однако, надо приписать не
избранному варианту, а лишь
недостаточно энергичному ведению
атаки со стороны белых.
1 1 .abf5 12.£g7fg I 3.«h6!
Временная жертва второй
пешки очень усиливает атаку. Плохо
было бы 13.W:g4? Sg8 14.i.:e5
(самоубийство; 14. Ah 6!?) 14.. .d6
15.Wc4 Sf8, и выигрывают.
13...£.f8 14.£:f8 2:f8 15.
£>g5 £>d4 (на 15...Wf6
последовало бы 16.0-0!) 1 6.£i:h7 Hg8.
17.^d5! He так сильно было
17.0-0-0 £tf5 18.#d2 Sg7 19.£>g5
d5 и т.д.
«МЛП». Единственное
правильное продолжение атаки, идея
которого в 23-м ходе белых. На
естественный ход 17.0-0-0
черные легко отражали атаку
посредством 17...4М5 18.Wd2 Wh4 и
оставались с лишней пешкой при
спокойной игре.
После 19.НЗ/ «спокойной игры»
не будет: 19... Ш:И7? 20.hg Шр 21.
gfgf 22.&Ь5 и d3-d4y a 19...g3 20
Qd5 Φά8 21.Shell также в
пользу белых. Опасен и газетный вари-
Школа комментирования
121
ант 18...Sg7 19.fy5 d5, но вполне
надежно 18...ЛИ8/ 19.fy5 d6.
17...<й:с2+. Если бы черные
сыграли 17...£tf5, то белые
ответили бы 18.#g5! (так как 18...W:g5
19.£>:g5 ведет к потере черными
по меньшей мере двух пешек).
18.&d2. Сильнее было 18.Φά1!
(чтобы конь на g5 не брался с
шахом) 1&..&:а! 19.fy5d6 20.Wh7 с
неотразимой атакой.
18...£i:a1 19.2:а1 сб 20.
£>hf6+ if7 21.? :д8 й:д8 22.
£>Ь6 Sb8.
23.<£>с4! Pointe комбинации,
начатой с ходом 17.5М5. На 23.П:а7
черные спасали партию ходом
23...d5, теперь же их позиция
рушится в несколько ходов.
23...d6 24.£>:d6+ Фе7 25.
Фс4 £f5 26.йд5 + . Вот и
«криминал»: в сборнике — видимо, для
пущего эффекта — Алехин
сократил партию почти вдвое/ Там
концовка выглядит так: «26.2el Wh8
27.ШеЗ! Sd8 (на 27...*d7
выигрывало 28.Ш:а7 и т.д.; после хода
в тексте коней наступает еще
быстрее) 28.£>:е5 ФА5 29.£i:g4+!
.fi.:g4 30.We5+. Черные сдались».
26...&е6 27.*еЗ!
(энергичнее, чем 27.Пе1 Wd8!) 27...ШИ8
28J3e1 Sd8. Проигрывает
сразу, но и всё другое лишь
затягивало сопротивление.
29.я:е5 <&f6. Или 29...*d6
30.Wf4, и выигрывают.
30.£>f7. Взятие 30.£>:g4+!
заставило бы черных немедленно
сдаться. Сделанный ход,
выигрывающий только качество, ведет к
небезынтересному окончанию.
30...*f8 31.£t:d8 *:d8 32.
We5+ if7 ЗЗ.ГеЗ Ь5 34.Wc3
Шов З5.»е5 Wd8 36.b4 a5
37.ba Ш:а5+ 38.ie2 Wd8
39.Ь4 »d7 40.d4 Де6 41 .2a3
Wb7 42.Wh8 Йе7.
122
Луша шахмат
Ν*
7
УСЛОШЯ ПОДПИСКИ
1 ' ■
1. ·
1 аг
рЪля.
, S
1913 г.
•
Пять Л-дрп А. Лл1'«ип.1 · ι. С. М. 1'пн>
Λ* »* Η 1.0, мая.
it Krt-(|м η
IP JIM .1
Μ !< 1.7 -ΙΛ-,
-.· К'
N>-44.!«)
Ч (!(?
Krl4- <Ч
пГ|,μιιιV7 <|·'·|>ллit
с. и. л»»«т»«т.
ΚΙβ Η')
Kr4—J*i
( IF- ·7 ·)
Ι.Ίλ-г ч
ΚΊΟ— Н>
κ.ι4 ьа ·]
ГА jr«
Г>7-_fH
;nv г*
\'СЬ- vl Ι ·ι
r7 rfl
л.-.ί' ья
α? -<}«
K>il7 r 7
Γ.·- Ι-,
ψ** -&
Ъ» а*
Κρ«—«4
.If 3-я Я
Лля—л 71'»)
ιΤ-ίΛ τ ft*.
l»Q—Μ
Д|> Г*»·, nrtr». yTVT4M»«Dll«CJi Г»
► mvfc и· кл*>^1>п>л»нв
Ι{ΜΙ*1|Γ I'jUIVlTOtX'lll···
psapvfaxr·.» МЧ> пли»*л<~гк>/1 .л.
ppt4imi>iuM·· ИГРАН·»!.
я;—аь
•MS .*6 +
•Niij~^r>
<M7—b7
<t>h7—07
»λΙ7-*Κ
Г#*—· 6
С.млгя
ntiiitrlxiKiiiti 2.ej
Концовка 8-й партии матча с Левит-
ским в журнале разительно
отличается от версии, приведенной Алехиным в
сборнике «Мои лучшие партии».
43.Sa7! Смысл этого маневра
выясняется при 47-м ходе белых,
сразу прекращающем всякое
сопротивление; 43.Wh7 и Ш:е7+
повело бы еще к долгой борьбе.
43...£07+ 44.#е5 Йеб 45.
Ш:еЬ+ Ф.еб 46.ФеЗ *d6 47.
d5! cd 48.id4 Де8 49.2a6+
Дсб 50.Sb6. Черные сдались.
Эта партия - лучшая из всего
матча.
Приходилось читать, что
Алехин сокращал свои партии не «по
злому умыслу», а из-за особого
устройства памяти. Мол,
красивый вариант, живший в его
воображении, с годами становился
цля него большей реальностью,
чем сама реальность... Версия
недурная, если б не одно «но»:
почему-то это случалось только
с партиями, текст которых
западный читатель не мог проверить
по журналам или сборникам.
№4
ЛЮБИМОВ-АЛЕХИН
1-й турнир по переписке
кн. Шаховского
9/22.08.1906- 11/24.08.1907
В «МЛП» Алехин закончил игру
ходом 25...Hf7!, пояснив:
«Препятствуя раз и навсегда белым
занять ладьей 7-ю горизонталь
(например, после 25...Bad8? 26.
S:d8 с последующим ^g5)». Но
из тетради видно, что это - плод
анализа, а в партии он сделал
порицаемый им ход, после чего
борьба затянулась.
25...2ad8 26.2:d8 2:d8 27.
Дд5 2с8 (если 27...Sffi, то 28.
£f4!) 28.Se7 Фд8 29.£f4 &f8
30.2:с7 П:с7 31 .Д:с7 i.f3 32.
д5 *f7 33.&И2 Фдб 34.£d8
*f5 35.&дЗ ie4 Зб.сЗ i.h5
37.f4 i.f7 38.аЗ дб 39.£f6. И
лишь здесь был подписан мир.
Школа комментирования
123
Ребус Дуза
Историки любят цитировать воспоминания Дуз-Хотимирского о том,
как он учил юного Сашу шахматному уму-разуму (бюллетень «Турнира
памяти Алехина» № 4, 1956). Понять их можно: уж больно красочный
рассказ у Федора Ивановича получился. Однако при сравнении этого
«мемуара» с другими воспоминаниями Дуза у меня возник ехидный
вопрос, для ответа на который пришлось поломать голову.
Начну, однако, не с него, а с откровений Дуза 1952 года (см.
главу «Из архива Владимира Нейштадта»): «В 1906 г. он приехал опять в
Москву. (...) Исаков встретил его словами: "Какой юноша у нас
объявился - будущий чемпион мира!" На что Дуз: "Вашими чемпионами
болото мостить!" Но Исаков познакомил его с этим юнцом: Алехин.
Он жил тогда один, снимал комнату. Играли. Дуз давал ему вперед
коня. Алексей предложил заниматься с ним. Платил 5 р. за урок.
Месяца через три-четыре нельзя уже было давать ему и пешки. "Может
быть, на стиле Алехина отразились мои уроки?"».
В бюллетене Дуз пишет, что
«попросил меня заниматься с
ним шахматами» сам Тиша, и
когда он поначалу отказался, то
уже «Исаков попросил меня
исполнить просьбу мальчика». Ни
об Алексее Алехине, ни о том,
что именно он платил за
уроки, - ни слова.
Далее: «Мы встречались на
квартире Алехиных, в одном из
тихих переулков Москвы (в
Никольском)». А что Дуз сообшил
Нейштадту? «Он жил тогда один,
снимал комнату». И это ближе
к истине. С одной поправкой:
Алехин не снимал эту комнату.
«Тише не сиделось дома;
бабушка устроила ему комнату в одной
из многочисленных своих
квартир» (Попов).
Но это так, в скобках. Важнее
другое: когда Дуз занимался с
Дуз-Хотимирский часто рассказывал, Алехиным0 Нейштадту он ска-
как он давая уроки Алехину, -и каждый зал, что в 1906 году. Тот же год
раз по-новому. Шарж Юрия Юзепчука. указан в бюллетене: однажды
124
Душа шахмат
Дуз увидел «тетрадь, где на титульном листе значилось: "Я и Дуз-
Хотимирский. Москва - 1906 г.м (...) Через год юный Алехин
выдвинулся в ряды сильнейших шахматистов Москвы и легко мог
конкурировать с Блюменфельдом, Ненароковым, Гончаровым и со мною,
которые считались тогда лучшими шахматистами города. Вскоре мы
расстались. Я уехал в Карлсбад, а затем в Прагу для участия в
международных турнирах...»
Запомнили последнюю фразу? А теперь откроем его «Избранные
партии» (1953): «После моего возвращения из Карлсбада (турнир за-
кончшкя в сентябре 1907 года) в Москву ко мне зашел один
московский шахматист, чтобы сообщить о том, что в одном подростке он
узрел будущего чемпиона мира. (...) Я согласился провести с ним
систематический курс шахматного обучения. (...) В течение каких-
нибудь трех-четырех месяцев 1908 года этот 15-летний подросток
сделал блестящие успехи и стал опаснейшим противником для
сильнейших шахматистов Москвы. Это был будущий чемпион мира -
гениальный Алехин».
Хорошенький ребус! Нейштадту (1952) Дуз называет 1906 год, в
книге (1953) - 1907-й, в бюллетене (1956) - снова 1906-й... Странно,
что историки, приводя текст Дуза из бюллетеня, забывали заглянуть
в его книгу. Тогда бы у них возник тот же вопрос, что у меня: так в
каком году он занимался с Алехиным? Могу подкинуть «информацию
к размышлению». После IV Всероссийского турнира (январь 1906-го)
Дуз, прежде чем обосноваться в Москве, «надолго задержался в
Петербурге». Но что кроется под словом «надолго». Полгода? Год?..
Кроме того, нужно делать скидку на известную склонность Дуза...
присочинить. Он был прекрасный рассказчик и, как многие такие
люди, дважды одинаково рассказать об одном и том же просто не мог.
Даже Котов запутался. В книге «Александр Алехин» (1973) он пишет,
со слов самого Дуза, что тот «дал юному Александру несколько
уроков на дому, за что ему уплатили пятнадцать рублей». В «Шахматном
наследии» (1982) версия уже иная: «Дуз-Хотимирский утверждал, что
он дал немало уроков Александру...»
И все же, думается, занятия имели место в 1907 году. На это
указывает консультационная партия, сыгранная в Москве в декабре 1907-
го, в которой сошлись все герои нашей истории. Соединенными
силами братьев Алехиных и Исакова «учитель» был наголову разбит.
Спустя четыре года, на турнире в Карлсбаде (1911), Алехин уже
самолично разнес «учителя», включив эту красивую победу в сборник
лучших партий. Впрочем, через год Дузу удалось взять реванш:
«17 (30) декабря известный мастер Федор Иванович
Дуз-Хотимирский должен был давать сеанс одновременной игры для всех желаю-
За кулисами первого триумфа
125
ших в помещении Петербургского шахматного собрания. Левенфиш,
который являлся вто время казначеем Собрания, подошел к
присутствовавшему там Алехину и в шутку предложил ему принять участие
в сеансе...
Александр Алехин принял шутку, достал два рубля (участники
сеанса платили по серебряному рублю за одну партию, в случае победы
им его возвращали; на самом деле победитель получал два рубля, а вот
при ничьей — возвращали) и попросил записать его на две партии. Дуз-
Хотимирский закончил выступление с результатом +10-3=1. Одну
партию он у Алехина выиграл, другую - проиграл».
Этот забавный эпизод раскопал в газете «День» (24.12.1912/6.01.
1913) историк Владислав Поваров. Но, оказывается, не всё было так
благостно. Вспоминает очевидец, петербургский шахматист Лев
Травин («64» № 10, 1973):
«Левенфиш, всегда любивший пошутить, обратился к Алехину с
предложением, не желает ли он принять участие в сеансе против Дуз-
Хотимирского. Алехину шутка не понравилась. Он, будучи человеком
весьма самолюбивым, обиделся и заявил: "Пожалуйста, я согласен!
Буду играть на двух досках". (...)
В зале появился Дуз-Хотимирский. Левенфиш быстро рассказал
ему о случившемся. Удивленный Федор Иванович подошел к
Алехину, поздоровался, но увидя, что Алехин приготовил два бланка для
записи партий, понял, что волей-неволей придется играть с ним. (...)
Дуз-Хотимирский играл довольно быстро, но в партиях против
Алехина задерживался несколько дольше. Алехин от своих столиков
не отходил, отнесся к игре серьезно и аккуратно заполнял бланки. Обе
партии, как это принято в сеансах, он играл черными...»
По словам Травина, «получив обратно свои два рубля, Алехин не
стал задерживаться и быстро покинул Шахматное собрание». Еще бы:
он-то рассчитывал выиграть обе партии и утереть нос «шутнику», а
вместо этого пришлось сдаваться на глазах удивленных зрителей...
Выходит, недаром Дуз любил хвастать, что в его сеансе играл сам Алехин!
ЗА КУЛИСАМИ ПЕРВОГО ТРИУМФА
Могут спросить: зачем я так упорно докапываюсь до ранних
примечаний Алехина, если существуют другие, казалось бы, более глубокие
и точные? Разве Алехин, переработав свои комментарии, не показал
этим, что прежняя версия отныне не более чем черновик? Странная
логика. На мой взгляд, это то же самое, как если бы художник
«подправил» уже вывешенную в музее свою картину или писатель решил
«творчески доработать» роман для нового издания. Спорят о том, чего
126 Душа шахмат
Участники и организаторы Всероссийского турнира любителей в Петербурге
(1909). Сидят:В.Николаев, Н.Терещенко, П.Романовский, Б.Грегори, А Чепурнов,
А.Алехин, П.Евтифеев и М.Эльяшов. Стоят: В.Розанов, А.Левин, Б.Малютин,
Ю.Сосницкий, П.Сабуров (мл.), Е.Демидов Сан-Донато, В.Чудовский, Г.Гельбак,
К.Розенкранц и С.Избинский. Сзади: ДДанюшевский, С.3носко-Боровский и
Б. Берлинский. Фото К. Бумы («Шахматное обозрение» № 19-82, 1909).
в шахматах больше - искусства, науки или спорта, однако
литературные примечания, думается, ближе всего именно к произведению
искусства. А посему негоже их всякий раз исправлять, стремясь к некой
абсолютной точности оценок и вариантов, а на деле лишь подменяя
реальное содержание борьбы бесконечным «поиском истины»...
Я вовсе не против того, чтобы шахматисты что-то меняли в
комментариях, просто надо быть честными перед собой и читателем.
Не замазывать стыдливо огрехи и аналитические ошибки, а открыто
признать: во время партии я считал так, а сейчас вижу, что
заблуждался. Человек, видимо, боится, что таким признанием уронит свое
реноме, забывая, что всё тайное однажды станет явным. Могли
думать тот же Алехин, готовя сборник своих лучших партий, что
пройдут годы и кто-то захочет сравнить его примечания разных лет? И
сравнение, как вы уже видели, покажет, что Алехину «ничто
человеческое не было чуждо», в том числе и такой распространенный грех,
как тщеславие.
Впереди нас ждет немало роскошных примеров на эту тему. А пока
вспомним о звездном для юного Алехина Всероссийском турнире
любителей (1909), в котором тоже хватает «белых пятен».
За кулисами первого триумфа
127
Всему свое время
Ни в одной книге об Алехине вы не найдете упоминания о том, что
его хотели включить не в турнир любителей, а в международный
турнир с участием Ласкера и Рубинштейна. Это можно было бы
посчитать байкой, если б... не имя автора! Вот что поведал Алехин в статье
оЗноско-Боровском («Последние новости», Париж, 14.11.1931):
«В 1908 году умер Чигорин. Приблизительно год спустя после
этого С.-Петербургское шахматное собрание (одним из деятельнейших
руководителей которого был Евгений Александрович) решило
организовать большой конгресс, посвященный его памяти. В программу
этого конгресса входили международный турнир и турнир
сильнейших любителей (не имевших звания мастера). Перед устроителями,
среди многих других, встал вопрос: в какой из двух этих турниров
записать меня - 16-летнего гимназиста, не имевшего еще формального
звания? Большинство членов комитета, как я узнал потом, стояло за
мое участие в международном турнире, и только один - или почти
один - Зноско-Боровский понял, какую опасность, в смысле
дальнейшего развития дарования такого совсем малоопытного игрока,
каким я был, представляютпоследствия почти неизбежного неуспеха
в международном турнире мастеров. Вследствие настояний Евгения
Александровича я был принят л ишь в турнир любителей, из которого
мне и удалось выйти победителем - с новой верой в себя, с новым
честолюбием, с новой жаждой самоусовершенствования. Это был
первый раз, когда Зноско-Боровский, с которым я тогда еще не был
знаком лично, сделал мне большое шахматное добро».
Алехин оказался в турнире не единственным гимназистом. Слово
Петру Романовскому:
«Моему самолюбие льстило, что среди всех участников
Всероссийского турнира я являюсь самым юным (в июле 1908 года мне
исполнилось 16 лет) и мне предстоит "сражаться" с солидными и
почтенными людьми. Как-то в разговоре с членом правления
Петербургского шахматного собрания Чудовским я позволил себе высказать эти
чувства и был несколько разочарован, когда дня через два он,
встретив меня, сказал: "А вы вовсе не самый молодой участник турнира".
Тут я узнал, что на турнир приезжает московский гимназист Алехин,
который на три месяца моложе меня. Чудовский прибавил: "Он,
кажется, играет очень сильно"...
Накануне турнира состоялось, наконец, и мое знакомство с
Алехиным. Тот же Чудовский подвел меня к юному блондину, сидевшему за
шахматным столиком, и промолвил: "Вот Романовский, про
которого я вам рассказывал". Затем он нас покинул, и мы остались вдвоем.
Алехин сразу стал говорить мне "ты".
128
Душа шахмат
- Что ты думаешь сделать в турнире? - спросил он меня с
улыбкой. Чувствуя себя несколько смущенным, я уклончиво ответил, что
в таком сильном турнире я буду играть впервые и трудно предугадать
свой результат.
- А, - прервал он меня с оттенком некоторого пренебрежения в
голосе, - во-первых, турнир уж не столь силен, как тебе кажется, и,
во-вторых, по-моему, нет смысла играть в турнире, где не
рассчитываешь взять первое место. Я, например, почти уверен, что буду
первым, тем более что, как я узнал, первому призеру будет присвоен
титул маэстро. Со всеми этими господами, - добавил он, имея в виду
наших будущих противников, - надо лишь играть посмелее.
Затем Алехин предложил мне поиграть в шахматы. Я был
настолько напуган его заявлением, что быстро проиграл три партии, и мы
расстались.
Начался турнир. Сильное впечатление оставляли стремительные
атаки Алехина, его смелая экспериментальная игра в дебюте,
изобретательность в защите. Его противники один за другим довольно
быстро терпели поражения...» («Шахматы в СССР» № 3, 1956).
Под взглядом Ласкера
Почти все свои партии из этого турнира Алехин прокомментировал
тогда же, и они вошли в сборник «Международный шахматный
конгресс в память М.И.Чигорина» (1910). Но партии с Грегори и
Берлинским там почему-то комментирует Эмануил Ласкер, хотя в журнале
были примечания Алехина. Еще более странно, что именно эти два
поединка он включил потом в сборник лучших партий... В чем тут
дело? И вдруг кольнула догадка: дай посчитаю, сколько партий из
турнира любителей удостоил своим вниманием Ласкер? Оказалось,
всего восемь. Три победы Алехина, три победы второго призера Рот-
леви и по одной победе Данюшевского и Романовского -
соответственно, над Алехиным и Ротлеви. Выходит, примечания чемпиона
мира являлись своего рода знаком отличия!..
А впервые жизненные траектории Ласкера и Алехлна
пересеклись за полгода до этого, в августе 1908-го, в Дюссельдорфе.
Русский гимназист выступил там отнюдь не блестяще (4-е место), но
зато имел возможность увидеть воочию матч на первенство мира
между Ласкером и Таррашем, стартовавший как раз в день
окончания турнира.
Никаких указаний на сей счет, правда, не сохранилось; но есть
свидетельство того, что Ласкер наблюдал за игрой Алехина!
Рассказывает Эдуард Ласкер, для которого, как и для Алехина, этот
международный турнир был первым в жизни:
За кулисами первого триумфа
129
«Партия, проигранная мною Алехину, стала для меня большим
уроком в связи с замечанием Ласкера, которое я помнил в течение всей
своей шахматной карьеры. Когда я сдался и поднялся со стула, то
заметил Эмануила Ласкера, стоявшего за моей спиной и наблюдавшего
за партией. Он сказал: "Знаете, почему вы проиграли? Вы копировали
ходы противника в симметричной позиции, в которой у него имелся
лишний ход". Я ответил, что вовсе не копировал ходы Алехина, но
получил ответ: "Просто переиграйте партию, и вы увидите, что я прав".
И так оно и было на самом деле» (цитируется по книге «Шахматные
секреты. Чему я научился у мастеров», Москва, 2014).
Но вернемся к партиям с Грегори и Берлинским. Конечно,
комментарии 1924 года более обстоятельны, но... это взгляд уже
повзрослевшего Алехина, а не того порывистого юноши, который играл эти
партии. Вот почему я предпочел примечания из «Шахматного
обозрения», которые мало кто видел. Пусть они не такие подробные, но
зато дают представление о манере комментировать молодого
Алехина (больше всего поразила его скупость на восклицательные
знаки). Иногда для сравнения привожу примечания из его сборника
(«МЛП»).
Μ 5. Венская партия С 28
АЛЕХИН - ГРЕГОРИ
Всероссийский турнир любителей
Петербург, 7-й тур, 10/23.02.1909
Комментирует А.Алехин
1.е4 е5 2.£>сЗ £>f6 З.£с4 £>с6
4.d3 ib4 5.jLg5 XJ4.
Новинка сомнительного достоинства.
Обыкновенно здесь играют 5. ..h6
6.Д:А5 &:сЗ+ 7.be *:ft и затем g7-
g5, чтобы воспрепятствовать ходу
f2-f4; хотя у белых и в этом случае
получается небольшое
преимущество в положении, однако
использовать его нелегко (см.
партию с Данюшевским — № 8).
«МЛП». «Ошеломляющий ход,
полный фантазии», - пишет Лас-
кер в турнирном сборнике. Я
должен признаться, что ничего
ошеломляющего не вижу в этом
прыганий коня, приводящем его
в конце концов на поле, с
которого он загораживает дорогу
своему же слону. (Примечательно,
что в немецком издании 1929 года
этих фраз нет! Видно, немцы
сочли их обидными для Ласкера.)
б.аЗ i_:c3+ 7.be £ie6 8.
h4(!) Белые намерены создать
пешечную атаку на королевском
фланге. Для этой цели им
необходимо сперва вызвать ход h7-h6,
ослабляющий положение черных
пешек.
«МЛП». Хороший ход. Если
играть сразу 8.£d2, то 8...d5 9.ed
£i:d5 1(Ше2 AS и т.д. После же
8.h4 h6 9.£d2 опасно было бы 9...
d5 из-за lO.ed £>:d5 ll.We2 *d6
(11...f6 12.ШИ5+) 12.SM3 f6 13.We4
£>e7 14.d4 и т.д.
8...И6. Продолжение 8...<&:g5
9.hg <&g8 10.g6! fg ll.£:g8 fl:g8
12.2:h7 было бы еще невыгоднее
для черных.
130
Душа шахмат
9.£d2 d6. Ход 9...d5 вел бы к
проигрышу черными пешки: 10,
ed£>:d5 ll.Wh5lTd6 12.itf3.
1O.Wf 3. «От таких усилий
белые мог.пи бы и воздержаться,
ибо движением пешки "g " они не
открывают себе линий. Выгоднее
было более спокойное развитие с
£)е2 и при случае d2-d4» (Ласкер).
10...Jcd7 I I ag4 We7 1 2.g5.
12...^g8. Здесь черным
следовало играть 12...hg 13.hg П:Ы 14.
W:hl и затем только 14...£ig8.
Белые в этом варианте не могут
играть 14.gf, так как на это
последует 14...H:gl+ 15.Фе2 ^f4+!
16.ФеЗ Д:а1 17.fe Hgl, и черные
отыгрывают ферзя.
В сборнике концовка другая:
15...Л:а1/ \6.fe Sgl! Анализ
показывает, что журнальный вариант
сильнее (а если 16.Ji:f4, то 16...
Ag4f).
Немедленное отступление
коня значительно облегчает белым
атаку.
13.ПЫ £с6 14.£ih3 id7.
Черные хотят, пользуясь
положением ладьи на hi, подготовить
ход f7-f5 и с помощью его
получить контратаку. План этот,
однако, опровергается
пожертвованием белыми качества на 17-м
ходе.
«МЛП». Здесь нужно было
играть 14...hg 15.hg 0-0-0 с
продолжением 16.#еЗ ФЬ8 17.flgl и т.д.,
после чего игра очень
осложнилась бы, но отнюдь не была бы
безнадежна для черных. Король
стоит в центре явно хуже, чем на
ферзевом фланге.
1 5.Шд4 (!- «МЛП») if8 16.
f4f5.
1 7.ef! Эта жертва была для
Алехина настолько очевидной, что в
журнале он даже не стал ее
комментировать.
«МЛП». Жертва качества
напрашивается сама собой, но
рассчитать все последствия было
не так просто. Ее идея — завлечь
слона черных на hi и отрезать от
пункта Ь7 (см. 21-й и 22-й ходы
черных).
17...Ju:h1 18.fe+ Фс8 19.
Wgl. Pointe жертвы качества.
Вторжение белого ферзя в
неприятельский лагерь теперь
непредотвратимо.
За куя и сам и первого триумфа
131
19...С6 (! - «МЛП»).
Единственный ответ. Если бы черный
слон ушел с hi, то взятие
белыми пешки а7 немедленно решило
бы партию в их пользу (напри-
мер: 19...JLP 20.Ш:а7 с5 21Аа6!
Шс7 22./е, и нельзя 22...Ьа? из-за
23ЛЬ8+ W:b824.Wd7n).
20.Ш:а7 (! - «МЛП»). Белые
могли, взяв ферзем слона hi,
остаться с двумя фигурами за
ладью, но после 20...d5 21.Дс2 Шхв
и т.д. черные вполне отразили бы
их атаку и получили бы
возможность воспользоваться
открытым положением белого короля.
В сборнике Алехин повторил
этот вариант, изменив только
21.Ас2 на 21.&ЬЗ, не заметив,
что сохраняла перевес ответная
жертва 21.A:d5!
20...с5 21.d4! Этот ход
выигрывает партию. Если черные
берут пешку, то после 21...ed
открытие диагонали для слона d2
приобретает решающее
значение; если же они ее не берут, то
белые ходом d4-d5 отрезают
черного слона hi от защиты
пункта Ь7.
21...ЙС7 22.d5 яе7.
23.2:Ь7 (!- «МЛП») Ш:Ь7 24.
Даб £:d5 25.с4 (! - «МЛП»)
Ш:а6. Вынужденно. На
отступление слона по диагонали hl-a8
последовало бы 26.Да5 и мат в
следующий ход.
26.W:a6+ £b7 27.*:d6 ясб
28.gh gh 29.f5! S:f5. Черные
вынуждены отдать коня за
проходные пешки белых, так как
против их надвигания у них нет
никакой защиты.
30.*d7+ ФЬ8 31.е7 <й:е7
З2.*:е7 Shf8 33.Wd6+ Фа8
34.i:h6 S8f6 35.Wd8+ Фа7
36.jLe3 Sf3 37.Jl:c5+ &a6
38.Wb8. Черные сдались.
Левенфиш: «Зимой 1909 года
в Петербурге встретились за
шахматной доской сильнейшие
мастера того времени: Ласкер,
Рубинштейн, Шлехтер, Берн-
штейн, Видмар, Берн, Дурас и др.
В качестве рядового болельщика
я с большим вниманием следил
за игрой чемпионов. В соседнем
зале разыгрывался турнир
любителей, и хотя в нем не было
"имен", он с каждым днем
привлекал всё больше публики.
Даже непосвященному было ясно,
что здесь скрестила оружие
талантливая молодежь - будущее
русских шахмат. И всё чаще стало
упоминаться имя Алехина.
Действительно, этот высокий
светловолосый юноша уже в 16
лет завоевал симпатии публики
своей смелой, изобретательной
игрой. Вспоминаю, какое
сильное впечатление произвела его
победа над молодым одесским
шахматистом Берлинским. Пос-
132
Душа шахмат
ледний избрал самый солидный
дебют - разменный вариант
испанской партии и, тем не менее,
уже на 20-м ходу попал под
сильнейшую атаку» (из книги
«Избранные партии и
воспоминания», 1967).
№ 6. Испанская партия С68
БЕРЛИНСКИЙ-АЛЕХИН
Всероссийский турнир любителей
Петербург, 8-й тур, 12/25.02.1909
Комментирует Л.Алехин
1.е4 е5 2.£>f3 £>с6 3.£b5 аб
4.£:с6 dc 5.d4 ed 6.W:d4
W:d4 7.£>:d4 c5 8.£>e2 i.d7
9.b3. В 1-й матчевой партии
с Э. Л аскером (Алехин, напомню,
мог быть ее очевидцем) dr. Тарраш
играл в этом положении 9...Дс6
и затем ^e7-f6. Ходом в партии
черные временно жертвуют
пешку, чтобы расстроить положение
белых пешек на ферзевом
фланге и в некоторых вариантах
получить непосредственную атаку
на белого короля.
«МЛП». «Я считаю следующий
ход черных опровержением хода
Ь2-Ь3» (действительно, вариант
исчез из турнирной практики).
9...с4(!) Интересно, Алехин сам
нашел этот ход или был знаком
с рекомендацией Карла Шлехте-
ра, опубликованной в 1908 году в
«Deutsche Schachzeitung» ?
10.be. Если бы белые не
взяли этой пешки, то черные сами
разменялись бы и получили
возможность впоследствии
образовать себе проходную пешку на
ферзевом фланге.
«Интересная, но едва ли
правильная попытка» (Ласкер).
10...i.a4 11.сЗ. К счастью
для Алехина, соперник не сыграл
11.£&сЗ! (11...±:с2?? 12.Φά2).
После 11...АЬ4 12. Jid2! взятие
пешки снова наказуемо: 12...А:с2? 13.
Лс1 £d3 14®d5 Jid6 15.e5! ±e5
16.АсЗ, выигрывая качество.
11...0-0-0 12.^d2 £c2 13.
f3. Белые стремятся во что бы
то ни стало сохранить лишнюю
пешку и тем всё более и более
ухудшают свое положение. Им
следовало играть 13.0-0 и на 13...
Дс5 идти 14.£}d4(!); хотя черные
при этом и отыгрывали пешку -
14...H:d4 (нельзя 14...£:d4 15.cd
H:d4? из-за 16,£b2 S:d2 17.£:g7
и т.д.) 15.cd A:d4 16.£аЗ Д:а1
17.2:al £rf*6 и т.д., и сохраняли
небольшое преимущество в
положении, однако это
продолжение все же было лучше того, что
случилось в партии.
1 3...jLc5 1 4.а4. Угрожая
теперь идти конем на d4.
Удивительный ляп в турнирном
сборнике: Ласкер считал
обязательным 14.^ЪЗ («и если 14...Аа7,
то 15.£)ed4 £d3 16.с5 с хорошим
положением»), зевнув 14...Sdl#.
За кулисами первого триумфа
133
20...^:с5! 21.4x14. На 21.£>:с2
последует мат не позднее 5-го
хода путем 21... £>:е4++ и т.д. (22.
<&fl Sdl+ 23.2L:dl S:d 1+ 24.£el
£W2# или 22.<&el Sdl+ 23.2:dl
Jtf2+ 24.ФП 2:dl + 25.Qel S:eln).
21...£b3 22.&e2? Белые,
очевидно, просмотрели 23-й ход
противника. У них, впрочем, уже
нет удовлетворительной защиты;
черные, кроме S:c3, грозят еще
£>е6 и неизбежно должны
поэтому выиграть по меньшей мере
еще пешку.
22...П:сЗ 23.£b2 Н:еЗ+!
24.&:еЗ £>е6 25.2аЗ £>:d4 26.
if4 Jlc5 27.Sha1 £ie2 + 28.
Фд4 .&.e6+. Белые сдались.
После драки кулаками... машут!
Молодые шахматисты не любят комментировать свои проигрыши.
Но Алехин не видел в этом ничего зазорного, видимо, считая «работу
над ошибками» необходимым условием для совершенствования. К
сожалению, с этими примечаниями мы практически незнакомы, так
как в свои книги Алехин проигрыши не включал, и они так и
остались на страницах старых журналов да в турнирных сборниках.
Такие партии интересны вдвойне, когда имеются встречные
комментарии победителя, когда происходит сшибка мнений и
соперники уже «после драки» пытаются доказать свою правоту. В этом
турнире Алехин проиграл только Романовскому и Данюшевскому и тогда
же прокомментировал обе партии. Данюшевский тоже
«отстрелялся» по горячим следам, а вот Романовский увековечил свою
единственную победу над Алехиным лишь в сборнике избранных партий
(1954). Зато в воспоминаниях о нем дал такие «свидетельские
показания» о партии Алехина с Данюшевским, что примечания теперь
читаются, как лихо закрученный триллер!
Романовский: «Турнир явился для меня слишком трудным
испытанием. Тяжело переживал я каждое поражение, и даже победа над
Алехиным не смогла поднять моего боевого духа. Петербургская
газета "Речь" осветила эту партию следующим образом: "Вчера
на Всероссийском турнире большой интерес вызвала встреча двух
«вундеркиндов» — Алехина и Романовского. Победу одержал Ро-
14...£>f6 1 5.£аЗ £еЗ (! -
«М#Я»,)16.£>М£а717.а5.Что-
бы играть затем с4-с5, что
сейчас невозможно ввиду 17...Д:а4.
17...Sd3 18.C5 Shd8 19.
&f2 <£d7 20.- еЗ.
134
Душа шахмат
мановский, энергично проведя заключительную атаку на короля
Алехина, который, кстати, и после этого занимает ведущее место в
турнире".
"Какой же я вундеркинд, если сумел проиграть шесть партий и с
трудом держусь на пятидесяти процентах? - думал я. - Вот Алехин -
другое дело!"
В нашей партии было бы неправильно искать печать зрелости.
Однако оба молодых противника, шахматные взгляды которых
находились в начальном периоде их формирования, проявили при
встрече друг с другом творческие черты, отличавшие их игру на
протяжении всего шахматного пути» («Шахматы в СССР» № 5, 1959).
№ 7. Венская партия С26
АЛЕХИН - РОМАНОВСКИЙ
Всероссийский турнир любителей
Петербург; 10-й тур, 5/18.02.1909
Комментируют Л. Алехин и
П. Романовский
1 .е4 е5 2. сЗ - f6 З.£с4 £с5
4.d3 h6. Лучше обычное здесь
4...<йс6. Ход 5..&g5 в данном
положении не так опасен для
черных, чтобы стоило для его
предупреждения терять темп и
ослаблять пешки на королевском
фланге (Α.).
Подобные ходы вообще не
были характерными для моей
игры. Но в данном случае я,
признаться, побаивался уже
грозного тогда моего противника (Р.).
5.f4 d6 6.f5 £>с6 7.a3. И
белые в свою очередь теряют
важный темп. Естественным и
последовательным продолжением
было здесь 7.g4, затем h2-h4, g4-
g5иτ.д. (Α.).
7...^d4. Этот ход,
испытанный мною уже в некоторых
партиях ранее, преследует цель
помешать маневру 8.<йа4.
Одновременно он подготовляет
контратаку в центре в связи с с7-с6.
Белым следовало ответить просто
8.£M3(R).
8.<£^а4. Просмотр: и здесь
можно было 8.g4 (Α.).
8...b5! 9.£>:c5 be. Ничего не
получается из 9...dc Ю.Да2 <й:е4
ll.de Wh4+ 12.ФП *:е4 13x3
W:f5+ 14.£tf3 £>:0 15.#:f3, и трех
пешек за фигуру сейчас для
черных, видимо, недостаточно (Р.).
10.-^4 Шо7. Но сейчас
вариант 10.. ,£>:е4 11 .de Wh4+ 12.*f 1
#:е4 принес бы черным верную
победу. Белые теряют пешки Г5 и
с2, их фигуры дезорганизованы,
и, кроме того, черные
сохраняют атаку (Р.). Компьютер того же
мнения...
За кулисами первого триумфа
135
11.£>сЗ £b7 12.&ГЗ &Ь5.
Конь занимал на d4
доминирующее положение. Лучше было
укрепить его путем 12...с5(А.).
Сыфано несколько вычурно.
Белым следовало теперь просто
ответить 13.£>е2. Но
темпераментный Алехин стремится вновь
захватить инициативу и
пренебрегает слабостями, которые
образуются в его позиции (Р.).
1 3.0-0 &:сЗ 1 4.Ьс *с6 1 5.
Ше1. Задуманная при этом ходе
атака с жертвой нескольких
пешек могла бы увенчаться
успехом, если бы белые
впоследствии сыграли сильнее. У них,
впрочем, нет выбора: пассивная
защита пунктов сЗ и d3 дала бы
черным возможность увести их
короля в безопасное место и
затем использовать слабость белых
пешек (Α.).
15...ia6 16.Wg3&g8.
17.d4? Эта комбинация
опровергается 19-м ходом черных.
Правильное продолжение атаки
было 17.ДеЗ!, и черным очень
опасно выигрывать пешки: после
17..xd 18.cd W:c3 (хуже I8...£:d3
19.^:е5 de 20.Ш:е5+ *d8 21.Sfdl
Wd7 22.%3 &:e4 - или 22...Фс8
23.£d4 - 23.WO Фс8 24.£d4 Дс2
В партии Алехин — Романовский белые только что двинули пешку на d4..
136
Душа шахмат
25.fid2 Ша4 26.ДЫ, и белые
отыгрывают фигуру с лучшим
положением; уравнивает 26...ЛЬ8/
с идеей 27.Sd:c2 Ш:с2! 28.Л:с2
2Ы+ и т.д.) 19.2acl W:d3 20.
Ше1! (но не 20.£}:е5 из-за 20...
Ш:е4! 21.£i:f7 Д:П 22.2:с7 W:g2+
23.W:g2 A:g2 24.*:g2 <£d5, и вы-
игр.) партия черных сильно
скомпрометирована.
1) 20...0-0-0 21.Д:а7 &:е4 22.Wg4
£tf6 (22...ДЬ7 23.А5+ 2d7 24.Hedl!
Ше2 25.&:е5, и выигр.) 23.ШЬ4
ДЬ7 24.S:c7+! Ф:с7 25.ШЬ6+ Фс8
(25...*d7 26.Ш:Ь7+ Фе8 27.&:е5,
и черным нет спасения) 26.йс1 +
*d7 27.<£:е5+! de 28.Wc7+ Фе8
29.Ш:е5+, и мат не позднее 6-го
хода.
Черные не обязаны допускать
жертву ладьи: после 23...ШЬ5 или
23...£kl5 две лишние пешки по-
зволяют им смотреть в будущее с
оптимизмом.
Да и в варианте с
22...3ib7выигрывают не белые\ а черные: 25...
W:g4 26.£:g4И5и Ά/6. Поскольку
в турнирном сборнике
напечатано 24. Red И Шс2 (??), возможно,
AiexuH имел в виду 24.2cdl Wc2,
но и в этом случае 25. $):е5
ошибочно из-за 25...£kf6 (еще проще 24...
Шаб и G):f6). Вместо хода ладьей
компьютер советует 24/g, но
после 24... £f6 сам же не видит
приемлемой защиты;
2) 20...&:е4 21 ММ £>сЗ 22.3:сЗ
Ш:сЗ 23.Ша4+ ФГВ (или 23...сб)
24М:гв, и белые, отыграв затем
одну пешку (а7), уравнивают
таким образом материальные силы
и будут иметь несомненно
лучшую партию.
Разумеется, приведенные
варианты не исчерпывают
сложного положения,
получающегося после 20-го хода белых: они
только как бы иллюстрируют
интересную разнообразную атаку,
которая получалась бы у них при
ходе 17.ДеЗ!(А.).
17...£i:e4 18.ЙИ4 ДЬ7 19.
Ые1 дБ. Этот не предвиденный
белыми ход останавливает всё их
нападение и дает черным
сильную контратаку (Α.).
20.fg. Вынужденно: на 20.
W:h6 черные легко выиграют,
продолжая 20...g4 21.5Mi4 0-0-0 и
т.д. (А.)
20...Е:д6 21.de. На 21.A:h6
могло бы последовать 21...£>d2!
(Α.).
За кулисами первого триумфа
137
Рисунок с натуры работы художника
Л. Киприановича.
21...de. И здесь решал тот же
ход 2L.Qd2! После 22.ed+ <£f8
23 We 7+ &g8 24.W:f7+ (иначе
Z:g2+) 24...&J7 25.£*5+ <tf6 26.
$):с6 £§3+ и £):el у черных
лишняя ладья.
22.Де2. Лучший ход,
после которого белые могли еще
держаться, был 22.Wh5! При
22.ФЫ черные выигрывали: 22...
£Ш! 23.2:е5+ *f8 24.iL:d2 Ш:13
25.£:h6+ *g8 26.Eg5 «T:g2+!
27.a:g2n:g2(A.).
Комбинация имеет
эффектное опровержение: 25. W:h6+!J Но
путь к победе все-таки был — 22...
Sg4!Xod 22. Wh5, как и ход в
партии, тоже «не лечит» (22...0-0-0
23.ФГ1 Sdg8 или 23.£>:е5 2:g2+).
Но хорошие шансы на защиту
давало 22. if7/
22...if8 23.£:h6+?
Грубейший зевок, который можно
объяснить только утомлением
(примечание в турнирном сборнике:
«А.А.Алехин уже сыграл в этот
день одну партию»). Партия
белых, впрочем, уже безнадежна;
на 23.Wh5 черные могли бы
спокойно сыграть 23...2е8 (гораздо
сильнее 23...Sd8l), и лишняя
пешка и атака обеспечили бы им
легкую победу (Α.).
23...S:h6 24.We1 2d8 25.
ВЫ Да8 26.ih1 #d5 27.a4
f6 28.a5 ФГ7 29.a6 Sg8 30.
2e3 ZsqS 31 .Iff 1 £>:f3 32.E:f3
Wd2. Сразу заканчивали борьбу
ходы 32...2hg6, 32...2gh8 или, что
было всего энергичнее и
красивее, 32...fi:g2 33.*:g2 Wd2+ (P.).
33.#:c4+ £d5 34.Ш.С7+
Феб 35.2b6+ ab 36.W:b6+
*f7 37.Шс7+ £f8 38.Wd8+
Фд7 39.2дЗ+ 2д6 40J»d7+
ФИ8 41 .Sh3+ Sh6. Белые
сдались.
А почему Алехин играл две
партии в день? Ответ в
«Шахматном обозрении»: «Игра
велась участниками не в одно и то
же время, так как петербургские
любители, все люди служащие
и занятые до 4-5 ч. дня, могли
начинать игру в 6 ч. вечера (они
играли с 6 до 10 ч. и с 11 до / ч.
ночи; обычное время тура — с 11
до 3ч. дня и с 5до 9ч. вечера). Πри-
езжие, как, например,
А.А.Алехин, немало партий играли не в
очередь». Оказалось, для игры
«не в очередь» у него была
причина и поважнее (см. стр. 145).
Романовский: «Главным
конкурентом Алехина на турнире
оказался Ротлеви. Их встреча (в
17-м туре) привлекла большое
внимание. Алехин играл черны-
138
Душа шахмат
ми, и для первого приза ему
вполне достаточно было сделать
ничью. Общее изумление
поэтому вызвала крайне рискованная
тактика, которую Алехин избрал
в этой ответственной партии: 1.
d4e6 2.c4c5!?3.e3f5!?
Я стоял около этой партии,
когда Алехин сделал свой 3-й
ход, и вдруг преисполнился
уверенности, что Алехин
обязательно выиграет и эту партию.
Меня охватило даже чувство
зависти. " Вот, - подумал я, -
играет, как хочет, и выигрывает. Мне
бы так!"
В следующем туре Алехин
играет с Данюшевским, а его
конкурент Ротлеви со мной. Первое
место кажется определившимся,
так как накануне Алехин выиграл
у Ротлеви и за два тура до конца
опередил его на полтора очка».
Действительно, в турнирном
сборнике партии с Ротлеви и
Данюшевским датированы 9 и 11
марта. Но, как я установил, обе
они игрались Алехиным не в
очередь. Как и приведенная выше
партия 10-го тура с
Романовским, которая состоялась в день
3-го тура (5/18 февраля).
№ 8. Венская партия С28
АЛЕХИН - ДАНЮШЕВСКИЙ
Всероссийскийтурнир любителей
Петербург, 18-й тур,
17.02/2.03.1909
Комментируют Л.Алехин и
Д.Данюшевский
1 .е4 е5 2.£>сЗ £>f6 З.£.с4 £>с6
4.d3 £.Ь4 5.£g5 h6 6.i:f6
£:сЗ+ 7.be *:f6 8. яе2 d6 9.
d4. Рекомендуемый Ласке ром в
турнирном сборнике ход 9.0-0,
«чтобы затем продолжать/2-/4»,
Данюшевский собирался
встретить 9...g5 (это и поныне
считается лучшей реакцией) W.0g3 И5!
(11.&:И5 Ш6 12.g4 ±g4), но
белые вовсе не обязаны брать на И5.
9...i_d7 1 О.ЙЫ ЪоВ 11.0-0
дБ 12.Wd3. В этой партии
белые получили в дебюте,
безусловно, лучшее положение, но затем
не сумели использовать всех его
выгод (Α.).
12...JLg4. Невыгодно 12...0-0
ввиду 13.de, и белые получают
возможность сделать ход f2-f4!
(Д.).
1 3.£>дЗ 0-0 1 4.f 3 i.c8. С
намерением тотчас играть 15...<йе6
(Д.).
15.d57 План, преследуемый этим
ходом — парализовать черного
коня, - в основе своей неверен,
так как черные имеют
возможность беспрепятственно
перевести коня на с5, где он займет
великолепную позицию. Белый же
слон с4 обречен теперь на
продолжительное бездействие (Α.).
За кулисами первого триумфа
139
«Следовалоиграть 15. ШеЗ,
чтобы затем продолжать Φβ и ЛИ 1»
(Ласкер).
1 5...#g6 I 6.£>f 5 £:f 5 1 7.ef
Шд7 18.#е4 f6 19.g3 a5! С
целью перевести коня через Ь7
на с5. Если сразу 19...Ь6, то 20.
Да6(Д.).
20.&М Ь6 21.f4. Весь
маневр (с 19-го хода) ошибочен и
только ухудшает и без того уже
незавидное положение белых.
Лучше было попытаться создать
атаку по линии «h», играя 19.g4,
20.<£>g2, 21.Shi и т.д. (Α.).
21 ...^Ь7 22.fe fe 23.£e2
<S 24.#e3 Sf6.
Романовский: «Прогуливаясь по за-
лу, я задержался около этой пар-
тии. Беглый взгляд на доску,
казалось, убеждал в том, что черные
имеют преимущество.
В это время Алехин сыграл 25.
&И5, встал из-за доски и взял меня
под руку. Вид у него был задорный
и боевой.
— У тебя не хуже ? — робко спро -
сил я. В турнире мне импонировал
его боевой стиль, и я искренне ему
симпатизировал.
— Хуже ? — с оттенком
удивления спросш! он. - Почему? Конь его
стоит неудачно, а пока Данюшев-
ский будет забирать мои пешки на
ферзевом фланге, я ему пять раз
дам мат.
Я с восхищением посмотрел на
Алехина.
В это время Данюшевскии
сделал ход 25...&d7. План белых мне
представлялся вполне ясным: 26.
Ag6 и далее Н2-Н4. 'Даст мат ", —
подумал я и пошел к своей партии».
25.iLh5. «Неудачный маневр/
Слон на g6 окажется
впоследствии вне игры; он должен был
оставаться на е2, чтобы потом,
через £b5, охранять опасный путь
прорыва d7-a4. Лучше было 25.g4»
(Ласкер).
25...Wd7! 26.£.д6 Ша4.
Угрожая решить партию в свою
пользу обменом ферзей на е4
(Д.).
27.Wd2 Шд4. Данюшевскии
указал 27...Ш:а2?? 28.И4!, зевнув,
что на 28...£)е4 нельзя играть
29. ШаЗ?из-за 29...Ш:Ь /, а при
других отходах ферзя теряется
пешка d5.
28.Sbe1 Saf8.
140
Душа шахмат
Романовский: «# пожертвова/1 две
пешки, но из атаки у меня ничего
не получилось. Уже потеряв
интерес к своей партии, я вскоре опять
пошел посмотреть на партию
Алехина. Навстречу мне шел Да-
нюшевский. Трудно было
противостоять искушению, и я спросил
его, как он оценивает свою
позицию. К этому моменту были
сделаны еще три хода.
— Алехин, кажется, грезит о
мате, - сказал Данюшевский, -
но у меня фактически лишняя
фигура, и я думаю, что он получит
его скорее.
Итак, диаметрально
противоположные оценки! Я, конечно,
сююнен был больше доверять
Алехину».
29.Фд2 Фд7 30.ИЗ *с4 31.
h4? Белые рассчитывали на
продолжение 31...Wg4 32.£e3 gh
33.2Ы <£е4 34.Ше1 <£:g3 35.2:h4
и поздно заметили, что вместо
34...£>:g3? (на самом деле это
тоже выигрывает) черные ходом
34...2:g6! решают партию в свою
пользу (Α.). Вот вариант Даню-
шевского: 35 Jg hg!! 36.Л:е4 Wf3+
37.*gl g2.
31...Wg4! Правильно было
31...gh! 32.gh (32.ЛИ1 &>4!) 32...
Wg4+ ЗЗ.ФИ2 W:h4+, ибо сейчас
белые могли разменом ферзей — 32.
Ше2!(32...Ша4?33.hg и Oil)
сильно затруднить задачу соперника.
Странно, что все комментаторы
прошли мимо этой возможности.
32.2еЗ (32.ЯН1? S:g6! 33Jg
ЩЗ) 32...gh З3.*е1 h3+! 34.
<±>h2. Ha 34.*gl следует 34...
W:g6! 35.fg H:fl + 36.Ш:П h2+ (Д.).
Но и теперь выигрывает тот же
эффектный ход.
34...W:g6! Романовский: «Я уже
сдался Ротлеви и с волнением
наблюдал за развитием событий в
партии Алехина. Сделав ход
ферзем, Данюшевский подошел ко мне
и с торжествующей улыбкой
сказал: "Ну, кто успеет скорее?" Мне
нечего было ответить».
35.2:е5 2:f5! 36.2е7+
28f7 37.2:f7 + W:f7 38.2:f5
Wit5 39.We7+ ig6 40.c4 £>e4
41 .Ше8+ Φί6. Белые сдались.
Романовский: «После партии Алехин, обращаясь ко мне, заметил:
"Удивляюсь, как это ты не выиграл у Ротлеви?" Я мог бы задать ему
аналогичный вопрос, но ограничился признанием, что очень плохо
вел атаку... Через некоторое время мне пришлось еще раз продумать
весь этот разговор. Просматривая комментарии Алехина к партиям
турнира, я убедился, сколь односторонними, субъективными были в
ту пору многие его оценки» («Шахматы в СССР» № 5, 1959).
За кулисами первого триумфа
141
Зато игра, по общему мнению, была бесподобна! Процитирую
лишь два отзыва, которые, насколько я знаю, ранее не приводились.
«Легкость, с которою этот мальчик побеждает своих почтенного
возраста, опытных в шахматной игре соперников, прямо поразительна.
(...) И фа этого талантливого юноши замечательна по своему
совершенному отсутствию в ней той вымученности, которою зачастую
страдает игра даже всемирно известных шахматистов. Он точно
забавляется, передвигая левою рукою фигуры на шахматной доске, а
правую держит в кармане. Остроумные комбинации, неотразимое
нападение и смелая защита - вот главные стимулы его игры»
(«Петербургская газета», 22.02/7.03.1909). «Алехину всего 17 лет (точнее,
16), но, несмотря на это, стиль его игры чрезвычайно зрелый и
серьезный; он хорошо знаком с современной теорией игры и
турнирной практикой и имеет поэтому все шансы на блестящую шахматную
карьеру» («Речь», 15/28.03.1909).
...Звание маэстро стало для Алехина прорывом в новую реальность,
в круг избранных. Таким же прорывом стал Всероссийский турнир
любителей и для русских шахмат!
Слово Зноско-Боровскому: «Знаменательная черта только что
законченного турнира для русских шахматистов: впервые удалось
нам дать своему соотечественнику звание международного маэстро
Это знаменитое фото — единственное в турнирном сборнике, сделанное не в
Петербурге/ Под ним подпись: «С фот. К.А.Фишера (Москва)». На доске позиция из
партии Алехин — Грегори после хода 23.Ж:Ь 7(см. стр. 131).
142
Душа шахмат
(Schachmeister) своими силами, не посылая его за границу на
испытание. До сих пор у нас были мейстеры германского союза; первым
русским по самому источнику своего признания является Александр
Александрович Алехин» («Новое время», 6/19.04.1909).
Как рождаются мифы
Помимо звания маэстро и диплома, выполненного «акварелью на
бристольской бумаге художником Ю.Арцыбушевым», Алехин
удостоился «Высочайше пожалованного приза Имени Их
Императорских Величеств» - великолепной фарфоровой вазы, оцененной в
637 рублей, описание которой догадалось дать «Шахматное
обозрение» (иначе мы могли бы судить о ней только по черно-белым
фотографиям): «Ваза последние дни турнира была выставлена в
главном турнирном зале; она высотою около аршина (примерно 70
см), голубая с белым, с золочеными ручками; на одной стороне ее
художественно выполнены золотом инициалы Их Императорских
Величеств; на другой стороне - золоченый Государственный герб.
Стиль рококо».
Сцену вручения вазы из рук князя Сан-Донато один биограф
живописал так, будто видел своими глазами: «Зал бурно аплодировал.
Диплом победителя Всероссийского турнира любителей.
За кулисами первого триумфа
143
В 16-летнем гимназисте,
смущенно зардевшемся, многие
видели достойного преемника
М.И.Чигорина. Александр
Алехин как бы принимал в тот
момент эстафету от своего
великого предшественника и учителя».
Увы! На банкете, собравшем
более 100 человек, включая
участников обоих турниров во главе
с Ласкером и Рубинштейном,
«победитель турнира любителей
А.А.Алехин, к сожалению,
отсутствовал. Церемониал вручения
ему царского подарка поэтому не
мог состояться;
присутствующими на банкете послана была ему
телеграмма с массой подписей
маэстро и гостей» («Шахматное
обозрение»).
Ничего себе:
проигнорировать банкет с участием мировой
шахматной элиты и церемонию
вручения царского подарка?!
Почему же журнал так спокойно об
этом пишет, а шахматисты,
вместо того чтобы обидеться на
дерзкий поступок гимназиста,
подписывают ему телеграмму? Ответ
я нашел в «Петербургской газете»: «Алехин должен был сыграть 16
партий (точнее, 18, но два участника выбыли), причем последняя
партия должна разыгрываться 27 февраля (12марта). Но по семейным
обстоятельствам ему надо было уехать в Москву, в одну из гимназий,
в которой он воспитывается. Тогда он попросил турнирный комитет
разрешить ему сыграть все партии не в очередь, т.е. не в
назначенные дни. Так как его партнеры ничего не имели против этого, то ему
разрешение это дано было. И вот тут-то московский гимназист
Алехин начал показывать, с какой легкостью он побеждает соперников.
Одного за другим, что называется, ускоренным темпом поразил он
почти всех своих шахматных врагов. (...) Выиграв 13 партий, Алехин
прямо от шахматной доски отправился на вокзал и уехал в Москву».
Из-за разницы в стилях я не сразу заметил, что газета датирована
22 февраля (7 марта), а последний тур будет сыгран... только через
Ваза «высотою около аршина, голубая
с белым, с золочеными ручками; на од-
ной стороне ее художественно выпол-
ненызолотом инициалы Их
Императорских Величеств; на другой стороне —
золоченый Государственный герб. Стиль
рококо» («Шахматное обозрение»).
144
Душа шахмат
пять дней! Что за чертовщина: почему ж статья тогда вышла под
заголовком «Гимназист - победитель Всероссийского шахматного
турнира» и с сообщением, что «юноша получит вазу, пожалованную
шахматному конгрессу»? Каким образом за четыре тура до финиша
газета могла это знать?! И почему Романовский пишет, что в
предпоследнем туре они с Алехиным играли рядом (Алехин с Данюшев-
ским, а он с Ротлеви), если этот тур состоялся, когда Алехин уже
был в Москве?..
Поскольку в турнирном сборнике партии датированы согласно
расписанию туров, а не так, как они были сыграны в реальности,
оставалось уповать на петербургскую прессу. И она не подвела!
Восстановить хронологию партий Алехина помогла газета «Слово», где
шахматный отдел вел А.К.Макаров, в прошлом редактор-издатель
«Шахматного журнала».
Первой сыгранной вне очереди стала партия 15-го тура с Розен-
кранцем: она состоялась 4/17 февраля, в день доигрывания после
2-го тура. В 3-м Алехин сыграл сразу две партии - с Розановым и
Романовским (из 10-го тура): «Алехин старается сыграть больше партий
вне очереди, так как ему необходимо уехать в Москву ранее
окончания турнира». Всего в первых восьми турах он сыграл вне очереди
четыре партии: еще с Малютиным (19-й тур) и Ротлеви (17-й).
Когда были сыграны другие «внеочередные» партии, установить
трудно, но после 10-го тура читаем: «Во всероссийском турнире в
голове идет Алехин, проигравший только одну партию и
сделавший одну ничью из 14, вслед за ним Ротлеви, имеющий 8,5 партий
из 11».
Финишировал Алехин в день 12-го тура (18.02/3.03) выигрышем
у Николаева. Накануне он уступил Данюшевскому, а значит,
Романовский играл с Ротлеви тоже вне очереди: «Алехин сыграл все свои
партии и имеет 13 выигранных партий из 16, конкурентом ему может
явиться Ротлеви, если из четырех оставшихся партий три выиграет
и сделает одну ничью». Но тот сразу споткнулся: «Фарфоровая ваза,
пожертвованная Государем Императором, достается, благодаря
проигрышу партии Ротлеви, молодому московскому игроку Алехину»
(«Слово», 21.02/6.03). Вот почему уже назавтра «Петербургская
газета» и вышла с заголовком «Гимназист - победитель Всероссийского
шахматного турнира»!
Таким образом, Алехин закончил турнир на девять (!) дней раньше
срока, хотя ему, как и Берлинскому, пришлось сыграть больше всех
партий - 18. Тем поразительнее его результат (с учетом побед над
двумя выбывшими участниками): +14-2=2! «Достигнутый Алехиным
результат особенно замечателен ввиду того, что, торопясь окончить
турнир в 18 дней, он вынужден был играть ежедневно, не пользуясь
За кулисами первого триумфа
145
теми свободными днями,
которыми располагали прочие
участники» («Речь», 15/28.03.1909).
Остается вопрос: почему
Алехину нужно было уложиться в
18 дней? Судя по информации в
газете, вероятно, на такой срок
его отпустили из гимназии: «по
семейным обстоятельствам ему
надо было уехать в Москву, в
одну из гимназий, в которой он
воспитывается». Странное
решение: зачем было вынуждать
16-летнего юношу играть без
выходных, да еще иной раз по две
партии в день? Это и не всякому
взрослому-то под силу. Хотя...
сам Алехин, думаю, был очень
благодарен руководству Полива-
новской гимназии, что ему
вообще разрешили поехать на турнир!
А могли и не пустить. Как,
например, киевлянина Федора Богатырчука, которому в 1911 году
пригрозили исключением из гимназии, если он поедет на Всероссийский
турнир сильнейших любителей в Петербурге...
P.S. О том, что Алехин отсутствовал на банкете, можно было
понять по детали, которая у всех на виду: знаменитое фото с вазой -
единственное в турнирном сборнике, сделанное не в Петербурге!
Под ним подпись: «С фот. К.А.Фишера (Москва)». Но снимок сделан
явно не в студии, а скорее всего, на квартире Алехина в Никольском
переулке. Любопытный штрих: «Эта ваза была единственной вещью,
которую мне разрешили вывезти в 1921 году, когда я покинул
советскую Россию» (из радиовыступления в Лондоне, 1937). Алехин
дважды с ней снимался: для шведского журнала «Tidskrift for Schack»
(№1,1934) и для аргентинского «El Ajedrez Americano» (№ 4, 1938). А
о злоключениях вазы в начале войны рассказал в интервью
мадридской газете «Informaciones» (3.09.1941).
Фото из шведского журнала «Tidskrift
for Schack» (№1, 1934).
Алехин: «На турнире в Санкт-Петербурге, когда мне было 16 лет, я
выиграл первый приз, пожертвованный царем. Это была
великолепная севрская ваза, украшенная императорским русским шитом. Я
хранил ее с большой осторожностью и, чтобы не потерять, всегда держал
при себе. Но во время разгрома Франции я оставил вазу на хранение у
/46
Душа шахмат
моей жены в Париже, в маленьком сундучке. С тех пор и до прошлой
зимы моим кошмаром стало то, что прекрасная ваза может
потеряться. Я искал ее в Париже, и не без труда мы нашли сундук в плачевном
состоянии. В каком же состоянии было содержимое, когда контейнер
выглядел так ужасно? Но, чудесным образом, ваза была лишь слегка
повреждена, и я отремонтировал ее в Лиссабоне. Какой груз упал с
моих плеч!»
Я думал, это последнее упоминание о вазе. Но нет! В газете «Заря»
(Берлин, 19.03.1944) в статье Павла Спенглера, который в 1943-м не
раз беседовал с Алехиным и даже уговорил его вести шахматный
отдел в газете «Новое слово», сказано, что «Вазу имени Их
Императорских Величеств» он «хранит до сих пор». Какова ее судьба,
неизвестно. Португальский журналист Артур Портела, автор статьи «Тайна
комнаты 43. Таинственная смерть Александра Алехина» («Diario de
Lisboa», апрель 1946), упомянул, что «в номере отеля была очень
ценная севрская ваза, разбитая на куски, часть которых упала на комод»,
но по словам тех, кто читал статью, в ней столько несуразностей, что
доверия к этой информация нет...
СТАНОВЛЕНИЕ
Очень легко практиковать, нетрудно улучшать,
идя по уже намеченному другими пути.
Трудно лишь творить.
А.Алехин
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕБЮТ
Пышный расцвет шахмат в Российской империи, совпавший с
Серебряным веком русской культуры, еще требует своего осмысления.
Мы привыкли гордиться достижениями советских шахмат, забывая о
том, что фундаментом им служили богатейшие традиции,
заложенные еще в прежнее время, а учителями наших молодых шахматистов
были мастера дореволюционной закалки. И государство впервые
обратило внимание на шахматы отнюдь не при комиссарах, а еще при
царе-батюшке: два международных супертурнира в Петербурге были
проведены под патронажем царской семьи... Показательно, что если
на рубеже XIX-XX веков в стране было всего три маэстро
(международно признанных мастера), то к началу Первой мировой войны
таковых уже насчитывалось 25 - больше, чем в любой другой стране!
В 1912 году стало возможным устроить Всероссийский турнир
мастеров в Вильне (август-сентябрь, 2 круга), в котором фактически
играли одни маэстро. Официальным чемпионатом России он не был
объявлен только из-за каприза Акибы Рубинштейна: тот вел
переговоры с Ласкером о матче и опасался, что его неуспех приведет к их
срыву. Но перестраховка была лишней: 1. Рубинштейн - 12 из 18; 2.
Бернштейн - 11,5; 3. Левитский - 11; 4. Нимцович - 10,5; 5. Флям-
берг - 9; 6-7. Алехин и Левенфиш - по 8,5; 8. фон-Фрейман - 8; 9.
Алапин - 6; 10. Сальве - 5 (А.Рабинович выбыл после 1-го круга).
Этот турнир нанес тяжелый удар по честолюбию Алехина, тем
более что он проиграл по две партии своим главным конкурентам -
Рубинштейну и Левитскому. Но, читая его статью «Итоги виленского
турнира» («Новое время», 9/22.09.1912), вы не почувствуете ни
горечи, ни досады: настоящий боец, он уже научился контролировать
себя.
О первых четырех призерах Алехин пишет подчеркнуто
бесстрастно. Лишь в отношении Нимцовича заметна неприязнь, но камешек в
его огород был неслучаен.
148
Становление
Из воспоминаний Льва Травина («64» № 14, 1974): «Вот что мне
рассказал о возникновении "конфликта" Александр Александрович
Алехин, с которым мы были в то время друзьями:
- Это было в 1911 году на турнире в Карлсбаде. В одном из туров
мне пришлось играть черными против Нимцовича. Пришли мы
вовремя, поздоровались, сели за свой столик. Над первым ходом Нимцович
основательно задумался. Я прошелся по залу, заметил в киоске
интересный журнал, купил его. Вернулся на свое место. Смотрю: Нимцович всё
еше думает. Я начал читать журнал. Так прошло около двадцати минут.
Наконец ход сделан: 1.е4. Я понял, что игра идет на психологию.
Видимо, мне, 19-летнему шахматисту, дается фора в 20 минут. "Нет, Арон
Исаевич, этот номер не пройдет, — подумал я. — На психологию, так на
психологию". Я сижу и не отвечаю на его ход. Продолжаю читать
журнал. Нимцович нервничает, отходит от столи ка, снова подходит, вижу -
покраснел. Наконец показания наших часов сравнялись. Я отвечаю 1...
е5. Фора возвращена, а затем сделаны ходы 2.<5^сЗ &Ъ 3.£МЗ ££б 4.ДЬ5
d6. Партия протекала без инцидентов и на 70-м ходу закончилась
вничью. Нимцович был возмущен чтением журнала и не стал со мной
разговаривать. Вот после этого мы и перестали раскланиваться».
От описания игры других участников Алехин изящно уклонился,
заявив, что «закрепление звания "победителей" турнира за лицами,
выигравшими всего 50 процентов партий или даже менее, является
Петербург, август 1914. В этом здании на Невском проспекте была редакция
газеты «Новое время», в которой Алехин в 1912 году вел шахматный отдел. Фото
К. Буллы.
Журналистский дебют
149
лишь неуместной иронией». Думаю, причины его лаконичности все
же не в этом, а в нежелание объяснять свою неудачу, чтобы не
раскрывать слабые места.
Мне кажется, катастрофа в Вильне подвела черту под периодом
становления Алехина как шахматиста и личности. Уже матч с Левит-
ским (1913) показал, что из склонного к рефлексии и внешним
эффектам молодого задиры он превратился в уверенного в себе бойца,
умеющего сохранять хладнокровие при проигрышах и упорного в
достижении поставленной цели.
Статья стала журналистским дебютом Алехина — до этого, за
исключением пары заметок, он выступал лишь в качестве
комментатора партий. Однако ни в книгах о нем, ни в интернете этого текста
нет, а номер «Бюллетеня ЦШК СССР» (№ 30, 1987), где она впервые
после 1912 года была воспроизведена, давно уже раритет.
Публикация Исаака Романова тоже по-своему уникальна: приводимая им
фотография «прежде никогда не публиковалась», а к нему «попала из
одного личного архива». Сохранился оригинал или нет, не знаю... К
счастью, Михаил Соколов отыскал этот снимок в отчете Виленско-
го шахматного собрания за 1912 год (Вильна, 1913). Почему «к
счастью»? Это единственный снимок, кроме пары детских фотографий,
на котором Александр и Алексей Алехины запечатлены вместе!
Александр Алехин
ИТОГИ ВИЛЕНСКОГО ТУРНИРА
Только что окончившийся турнир русских мастеров разрешил (если
не de jure, то de facto) весьма важный вопрос, вызывавший в
последние годы много разногласий среди русских шахматистов, - вопрос о
первенстве в России. Хотя очень многие и до турнира считали, что
блестящие успехи А. Рубинштейна дают ему право на звание чемпиона
России, но все же нельзя было не считаться с возражением, что едва
ли возможно на основании одних только международных состязаний
разрешить вопрос о национальном первенстве.
Виленским же турниром, результаты которого только подтвердили
общее мнение, устранена наконец и эта формальная отговорка.
Несмотря на неизбежное утомление после напряжения
предшествующих турниров этого года, несмотря на крайне неудачное начало
(после 3-го тура лишь 1 очко!), Рубинштейн все же вышел победителем.
Игра его не отличалась на этот раз - в особенности в первой
половине турнира - характеризующими ее обычно спокойствием и
уверенностью; так, например, он выпустил ясный выигрыш в первых
партиях с Η имцовичем и фон-Фрейманом. Тем более значительна его
победа - в особенности если принять во внимание его результаты с
призерами (10 очков из 12, в то время как у следующих - Алехина и
Левитского по 6, а у Бернштейна и Нимцовича по 5,5). Надо
надеяться, что шахматный мир скоро сделается свидетелем матча на чем-
150
Становление
Всероссийский турнир мастеров в Вияьне (1912). Сидят: Ф.Дуз-Хотимирский,
Л.Заякинд, Глобус, СЛевитский, С.Алапин и Μ .Прозоров. Стоят: Алексей
Алехин, ЛФлямберг, Подзей, Ромм, /'.Левенфиш, А.Рабинович, С.фон-Фрейман,
А.Рубинштейн и Александр Алехин. Фрагмент снимка из отчета Виленского
шахматного собрания за 1912 год. Из архива М. Соколова.
пионат мира Ласкер — Рубинштейн, переговоры о котором приняли,
по-видимому, вполне благоприятный оборот. Уже раз, во время
знаменитых матчей М.И.Чигорина со Стейницем, шахматное первенство
чугь было не перешло к России; быть может, удастся добиться этого
теперь?
Второй приз О.Бернштейна, отставшего от Рубинштейна всего на
пол-очка, еше раз доказал в этом турнире, что сравнительно редкое
за последнее время выступление на серьезных состязаниях почти не
отражается на его выдаюшейся силе и технике. Игра его как будто
приобрела даже больше спокойствия и ровности, чему отчасти
является доказательством необычный для него результат против
непризеров, у которых он выиграл все партии! Стремление его в каждой
партии играть на выигрыш, избегая ничейных вариантов, хотя
подчас и дает прекрасные результаты (как, например, в его блестящей
партии с Флямбергом), но, с другой стороны, именно этому
слишком оптимистическому взгляду на свою позицию он обязан
проигрышем двух партий - Левенфишу и Нимиовичу, отдалившим его от
желанной цели.
Третий приз получил СЛевитский. Разыграв не вполне удачно
первую половину турнира, он во второй не проиграл ни одной партии,
сделав 6,5 из 9, что само по себе уже является блестящим успехом.
Крайне интересны как его преимущественно комбинационный стиль
игры, так и, главным образом, вполне самобытное и трудноподдаю-
Журналистский дебют
151
шееся определению понимание позиции. В этой самобытности и
заключается, по нашему мнению, его главная сила и шанс на успех.
Во всяком случае, его результат в Вильне показал, что он является
одним из наиболее желательных участников самых серьезных по
составу турниров.
Нимиович оказался только на 4-м месте -довольно неожиданный
результат, если вспомнить, что после первой половины турнира он был
первым, на целое очко впереди, и не проиграл ни одной партии.
Причиной его дальнейших неудач была, вероятно, излишняя «нервность»,
от которой, как совершенно правильно заметил еше Мизес в
сборнике партий сан-себастьянского турнира (1911), страдает не только он
сам, но и другие участники, распорядители и даже публика...
Его игра в Вильне производила странное впечатление не видно
было характеризовавших ее прежде цельности плана и
последовательности в его проведении; поэтому ныне только отдельные моменты
его партий, игранных там, могут до известной степени
импонировать (например, конец 1-й партии с Бернштейном, миттельшпиль во
2-й с фон-Фрейманом). В обшем же ясно чувствовалось, что он не в
форме.
На нем мы и закончим перечень призеров, так как считаем, что
закрепление звания «победителей» турнира за лицами, выигравшими
всего 50 процентов партий или даже менее, является лишь
неуместной иронией.
В заключение нельзя умолчать об одном крайне прискорбном
факте, временно нарушившем мирное в обшем течение турнира, г
именно о выходе г. Рабиновича. Подобные выступления, являющиеся
большей частью следствием неудачного начала и, к счастью, всё реже
и реже встречающиеся в современных состязаниях, не только
нарушают ход турнира и интересы большинства участников, но и отчасти
подрывают интерес к нему как публики, так и самих игроков. Поэтому
надо надеяться, что такие прецеденты (всем памятен еще выход Нена-
рокова из С-Петербургского турнира 1909 года) побудят устроителей
будущих состязаний с большей осторожностью отнестись к лицам,
имеющим столь смутное представление о турнирной этике.
Как мы видим, главный итог Всероссийского турнира мастеров в
Вильне Алехин видел в разрешении «вопроса о первенстве в России».
Зноско-Боровский («Нива», ноябрь 1912) копнул глубже:
«Виленский турнир кажется нам явлением большой важности,
устройство его диктовалось прямой необходимостью. Это нужно было
и для России, и для других стран, чтобы сошлись воедино русские
мастера, разрозненно бившиеся на международных турнирах, и между
собой разыграли турнир. Еще недавно было в России всего 2-3
маэстро, из новейших мастеров никто не числит более 10 лет открытой
деятельности. И вот, чтобы ясно показать, что, несмотря на всё это,
русские маэстро в своей совокупности - настоящая, грозная сила,
нужно было устройство такого турнира.
152
Становление
Какая другая страна
могла бы так легко собрать 11
маэстро? А ведь в турнире,
к сожалению, не играли
некоторые весьма желательные
игроки. В каком состязании
были сыграны лучшие
партии? Смело можно
утверждать - виленские партии не
только не уступают, но часто
превосходят те, которые мы
привыкли видетьза последнее
время даже у Grossmeister'oB.
Не хвастовство будет сказать,
что теперь мы можем себя
спокойно и уверенно
чувствовать: Западная Европа
нам больше не указ, мы сами
живем своей жизнью, каждый
новый игрок знает, что здесь
же, среди его сородичей, есть
для него образцы, есть с кем
померяться. Поэтому, хотя
мы не думаем, чтобы
подобные состязания еше
устраивались в дальнейшем (10-12
маэстро слишком малое
число для этого), однако в самом
факте устройства виленского турнира мы видим нечто, открывающее
дорогу в будущее, а не только замыкающее прошлое.
Прошлое было отдано внешним, заграничным успехам, в
будущем они уже не могут явиться приманкой для русских, ее уже не раз
и в больших дозах испробовавших. Организация национальной (не от
слабости своей на мировой арене, но от радости овладения
последней) жизни - вот отныне задача России. И для ее выполнения имеется
достаточно сил. Виленский же турнир, становясь в ряд с
всероссийскими турнирами, кладет новый и весьма важный камень в основание
ее разрешения.
Благо будет тому, кто найдет в себе мужество соединить все эти
камни цементом - русским шахматным журналом. Тогда сразу таким
близким окажется и Всероссийский шахматный союз, бельэтаж
нового дома. Да буди!..»
Парадный портрет работы
знаменитого петербургского фотографа Карла
Буллы.
Призыв Зноско-Боровского был услышан. Не пройдет и двух
месяцев, как на свет явится «Шахматный вестник» (январь 1913),
издателем которого будет Алексей Алехин. Название подчеркивало
преемственность со знаменитым детищем Чигорина, номера выходили
дважды в месяц, да еще небывалым для тех лет тиражом - 1000 экзем-
Петербург: воспитание характера
153
пляров! Качество материалов было очень высоким, и журнал быстро
завоевал популярность. Даже Первая мировая война не прервала его
выпуск; журнал просуществовал до октября 1916-го, когда
финансовые трудности стали непреодолимыми...
Александр помогал брату в издании и комментировал партии
свои и чужие; кроме того, журнал регулярно перепечатывал его
примечания из газеты «Новое время». Неудивительно, что «Шахматный
вестник» стал настоящим кладезем партий Алехина, сохранив
образцы его раннего комментаторского искусства.
ПЕТЕРБУРГ: ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА
В 1967 году в Мадриде была издана уникальная - всего 200
нумерованных экземпляров - книга «Императорское Училище
Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты», составленная одним
из его выпускников. Об Алехине сообщается, что 16 мая 1914 года он
был выпущен IX классом - всего в табели о рангах было 14.
Гражданский чин: титулярный советник, военный чин: штабс-капитан,
обращение: Ваше благородие. 75-й выпуск состоял из 46 человек:
23 выпущены IX классом, 7 - X, 16 - XII (список не по алфавиту,
Алехин - 17-й). Среди них 16 будущих георгиевских кавалеров.
Понятно, что Алехина там нет: кавалерами считались обладатели
Георгиевских крестов, а он имел Георгиевские медали. Но вот почему его
нет в списке «наиболее выдающихся питомцев училища на поприще
государственной и общественной службы и по заслугам их в области
литературы, наук и искусств»? В книге же указано: «был чемпионом
мира в шахматной игре». А ее, как известно, хошь к науке, хошь к
искусству причисляй! Η о если серьезно, думаю, причина не в шахматах,
а в чем-то другом. Например, в службе правоведа у большевиков...
Нетрудно заметить, что супертурнир в Петербурге, собравший весь
цвет мировых шахмат, в котором Алехин занял 3-е место - сразу за
Ласкером и Капабланкой, закончился лишь за неделю до выпуска. И
когда только он успел подготовиться к экзаменам?!
Игра Алехина в турнире хорошо известна, поэтому я не буду на
ней останавливаться. Но вот ряд любопытных - прежде всего в
психологическом отношении - «зарисовок с натуры» хотелось бы
привести. Начну с потрясающих (иначе и не скажешь) воспоминаний,
которые привел известный литературовед, пушкинист Александр
Лацис в забытой статье «Секреты шахматного поведения.
Доверительные мемуары»:
«В первых числах апреля 1914 года, за несколько дней до начала
Санкт-Петербургского международного турнира, на квартире
организатора, Юлия Осиповича Сосницкого, был дан званый обед.
154
Становление
Вот кое-что из эпизодов, впоследствии рассказанных мне моей
мамой, Милицей Романовной. Она выступала в роли хозяйки, потому
что была секретарем Сосницкого, а Сосницкий заведовал
шахматным отделом газеты "Новое время".
В 1912 году этот отдел, напомню, вел Алехин. Единственное
свидетельство очевидца я нашел в белградской газете «Новое время»
(5.07.1928), в заметке журналиста Константина Шумлевича «Алехин
(клочки воспоминаний)»:
«А давно ли Алехин в мундире училища Правоведения приходил
в редакцию "Нового времени" в Эртелевом переулке, где в большом
зале хроники вечно происходила игра в шахматы. Алехин смотрел,
как играли, и делал свои замечания. С ним нередко не соглашались
и спорили. Вскоре, однако, Алехин сразу выдвинулся в ряды больших
шахматистов.
Помню, мы собирались в том же Эртелевом переулке у редактора
шахматного отдела Сосницкого. Был и Алехин. Его запрятали в
темную спальную, а несколько человек - художник Кравченко,
Сосницкий и другие после совещания делали ход. Сосницкий кричал ход
Алехину Немедленно, почти без паузы, следовал ответ, который мы и
изображали на доске. Очень скоро Алехин выиграл партию.
Сообщая о последней победе Алехина (Париж, 25.06.1928, сеанс
вслепую, 8:0), газета добавляет, что по окончании игры он чувствовал
себя совершенно свежим и неутомленным. Вот этого я не сказал бы
про тот раз, когда и фал с Алехиным. Наоборот, он был в сильном
возбуждении и очень нервничал. Вообще Алехин отличался
вспыльчивостью и экспансивностью».
Публика была приглашена смешанная. Братья Суворины -
начальство Сосницкого по газете. Фабрикант Терещенко. Действительный
тайный советник Танеев. Дамы. Из участников предстоящего
турнира - приехавший из Москвы гроссмейстер Бернштейн, Капабланка...
Замысел был в том, чтоб важным лицам представить возможность
поближе познакомиться с легендарным кубинским шахматистом.
Был приглашен и Александр Алехин, надежда русских шахмат.
(Они познакомились еще в декабре 1913-го, когда Алехин проиграл Капа-
бланке две показательные партии.)
Алехин чуть опоздал и, хуже того, в передней зацепился за штору
крючком ботинка (не только дамские, но и мужские ботинки
шнуровались на крючках). Он побледнел и так стушевался, что, не желая
привлекать внимание к своей маленькой оплошности, спрятал,
закутал свою "пойманную" ногу в злополучную штору. Он делал вид,
будто ему, мол, захотелось вот тут постоять, молча глазея на
собравшуюся публику. И лишь когда хозяин пригласил гостей проследовать
в столовую, Алехин, считая, что никто этого не видит, нагнулся и
отцепился от шторы.
Петербург: воспитание характера
155
Но если эти подробности - при всей своей близорукости -
заметила Милица Романовна, то весьма вероятно, что вся пантомима
не укрылась и от острого зрения Капабланки. Недаром он считался,
кроме всего прочего, одним из лучших в мире биллиардистов.
Позвольте предположить, что из этого маленького эпизода Капабланка
сумел вывести немаловажные психологические заключения.
Как-то в другой раз Сосницкий решил было немножко
расшевелить Алехина. Он вручил ему билет в Мариинский театр на гастроль
Собинова и Неждановой, вскользь упомянув, что в ложе будут
знакомые Сосницкого, три очаровательные девушки. И предоставил
остальное естественному ходу событий.
- На ком из вас, из трех граций, остановил Алехин свой выбор? -
спросил Сосницкий на другой день.
- Ваш Алехин очень дурно воспитан. Он нам не поклонился. И
вообще не произнес ни слова. Μ ы сначала болтали между собой, а во
втором антракте пересели от него подальше.
-Что же вы наделали? Надо было его разговорить. Для чего я взял
ложу? Чтобы молодой человек привыкал свободно держаться в
незнакомом обществе.
- Но вы сами виноваты: ни о чем нас не предупредили.
- Могли бы и сами догадаться.
Петербург, декабрь 1913. Первая встреча с Капабланкой. Видимо, снимок сдерган
во время разбора партии: на демонстрационной доске позиция после 35.£g2,
когда Алехин сдался, но на столике положение фигур далеко от финального. Фото
Я.Штейнберга.
156
Становление
Уже скоро Алехина будет не узнать! Думаю, решающую роль в этом
сыграл Капабланка - они подружились и много времени
проводили вместе. Обшение с элегантным, обаятельным кубинцем
раскрепостило Алехина, придало лоска его манерам, научило «свободно
держаться в незнакомом обществе», а главное, показало ему, что можно
быть шахматным гением - и при этом вести жизнь не отшельника,
а светского льва. В книге поэта Всеволода Рождественского
«Страницы жизни. Из литературных воспоминаний» (1974) есть характерный
эпизод:
«Перешли к чайному столу. Завязался обший разговор, касавшийся
главным образом театральных тем. В соседней гостиной играли в
шахматы на нескольких досках. Весьма томный, "светского", как тогда
говорили, облика человек с гладко приглаженным косым пробором
и изысканными манерами завладел обшим вниманием. Ведя
оживленный перекрестный разговор с дамами, он изредка бросал в
соседнюю комнату отрывистые слова: " Конь же три на эф пять", "пешка бэ
шесть берет а семь", "ферзь на цэ четыре - шах!" и т.д. В конце концов
он, ни на секунду не прекращая застольной беседы, выиграл на всех
досках, о чем торжественно объявили сами побежденные.
- Это удивительно! Просто какое-то чудо! - чуть не взвизгнула от
восторга одна издам. — Какая же у вас должна быть память! Вам
можно только позавидовать!
- Память? - раздумчиво протянул ее собеседник. — А не
кажется ли вам, что это сушее несчастье иметь такую память? Стараешься
вечером заснуть, а в голову лезут все вывески, машинально
прочитанные на улице, все лица, которые видел в трамвае. Нет, истинная
память нечто иное — она основана на отсеивании того, что является
лишним. По-моему, память - это искусство забывать.
- Кто это? — спросил я тихо соседа.
- А вы разве не знали? Это Алехин. Говорят, способный
шахматист!»
Вернемся к званому обеду. На правах давнего знакомого (с 1911
года, со времен турнира в Сан-Себастьяне, где их партия игралась в
первом туре) - Бернштейн расспрашивал заморского гостя:
- Ну, Капа, как вы думаете? Кто из вас, из большой тройки,
возьмет первое место?
- Я держу за Рубинштейна.
- Почему? Ласкер, правда, немного отошел от шахмат, он у нас
теперь философ... Ну, а что скажете о своих шансах? Вы-то не уступите
Рубинштейну?
- На Л аскера действительно трудно надеяться, слишком большой
перерыв, почти четыре года. Но я не только поэтому ставлю на
Рубинштейна. Он долго готовился к этому турниру и прекрасно себя
чувствует. А мое здоровье сейчас оставляет желать лучшего, и я буду
рад, если займу хотя бы второе место.
Петербург: воспитание характера
157
Общение с элегантным, обаятельным
кубинцем пошло на пользу Алехину:
раскрепостило его, придало лоска
манерам, а главное, показало ему, что
можно быть шахматным гением — и
при этом вести жизнь не отшельника,
а светского льва!
Капа сам пересказал весь
разговор в "Моей шахматной
карьере".
А что говорил Алехин? Этого
Капа не приводит. Потому что
Алехин ничего не говорил, он
сидел и слушал. И сейчас, за
обеденным столом, Капабланка
укрепился в своих выводах: Алехин
скромен, застенчив, попросту
робок.
Талант несомненный, а вотха-
рактер... Нет, характер не
чемпионский.
Впоследствии Александр
Алехин писал примерно так:
"благодаря шахматам я исправил
недостатки моего характера".
(Дословно так: «Посредством
шахмат я воспитал свой характер.
(...) В шахматах можно сделаться
большим мастером, лиим осознав
свои ошибки и недостатки».) Эти
слова приводились многократно.
Но никто не пытался объяснить:
о каких именно недостатках шла
речь?
Так вот, Алехин, когда ему уже
минуло двадцать, всё еще
страдал юношеской застенчивостью.
Особенно он терялся, если компания собиралась малознакомая и не
чисто шахматная.
Алехин страдал застенчивостью и в двадцать семь! Когда он учился
в киношколе и Сергей Шишко объявил на лекции, что «среди нас
находится человек, обладающий исключительной памятью», Алехин, по
его словам, «сконфуженно ерзал на стуле, втянув голову в плечи и
потирая кисти вытянутых рук»... Я вот думаю: может, он и выпивать-то
начал от застенчивости?
Прошло три надцать лет, всего лишь тринадцать. Чтоб
бесповоротно избавиться от мягкости и деликатности, Алехин пересмотрел свое
поведение и, если можно так выразиться, в другую сторону перегнул
свой характер. Он стал неуступчивым, напористым, крайне резким.
158
Становление
И теперь, на этом жестком и даже грубом фоне, опрометчивым и
недостаточно собранным выглядел уже Капабланка. Ах, почему он
не предусмотрел, почему заранее не установил все условия матча-
реванша? Да потому, что тому Александру Алехину, которого он узнал
и оценил еще в Петербурге, он всегда мог навязать свою волю. Но в
Буэнос-Айресе, в матче на первенство мира, перед Капабланкой
оказался другой человек» («64-ШО» № 13, 1990).
О том, каким сюрпризом стало это для Капабланки, можно судить
по словам, сказанным им накануне матча: «Однако я думаю, что у
Алехина нет темперамента, который нужен для матчевой борьбы. У
него нет прирожденного духа борьбы, как самоцели. Сверх того, он
чрезвычайно нервен. Всё это послужит ему во вред в долгой и упорной
борьбе против хладнокровного и достаточно хорошо вооруженного
противника» («Сегодня», Рига, 25.06.1927).
Зато у Алехи на оказалась железная воля! Зноско-Боровский: « И мен-
но разница в воле сделала то, что Капабланка, которому отказывали в
нервах, на самом деле нервничал, как ребенок, во время всего
матча; тогда как заведомо нервный Алехин до последнего дня сохранял
самообладание и хладнокровие. Ибо Капабланка, дотоле не знавший
неудач, не имел случая дать нужную закалку своим душевным силам
и управлять ими, и когда под влиянием ускользавшей победы нервы
стали у него пошаливать, он совладать с ними не мог. Напротив, раз
взяв себя в руки, Алехин самые нервы свои превратил из помехи себе
в подспорье. Он был подобен заряженной электрической батарее, и,
думается, все препятствия, встававшие на его пути, все затруднения,
представлявшиеся ему, только подбодряли его энергию» («Последние
новости», Париж, 9.03.1928).
Алехин знал Сергея Прокофьева еще по турниру 1909 года, где тот
состоял помощником турнирного директора, но сблизился с ним уже
во время учебы в Петербурге. «Часто Алехин и Прокофьев (студент
консерватории, большой поклонник шахмат) приходили ко мне на
квартиру, - вспоминал Константин Рауш. - Мы устраивали
четверные турниры. Четвертым был поэт из "Сатирикона" Петр Петрович
Потемкин. В пылу сражения мои талантливые товарищи в полной
мере показывали свой темперамент. Алехин серьезно убеждал нас,
что станет чемпионом мира, Прокофьев в тон ему обещал стать
великим композитором, ну а Потемкин предрекал себе известность в
поэтическом мире... После шахматных баталий Сергей Сергеевич
садился за рояль, играл Листа, Шопена- он их особенно любил».
Бывший барон Рауш фон-Траубенберг деликатно умолчал о том, что чаще
они сражались не в шахматы, а... в карты!
В 1914 году Сергей Прокофьев регулярно посещал турнир и по
вечерам записывал впечатления в дневник. Его кумиром был Капа-
Петербург: воспитание характера
159
бланка, но и Алехина он тоже не забывал. Спустя годы записи
увидели свет («Дневник. 1907-1918 (часть первая)», Париж, 2002).
7/20 апреля: «В восемь часов поехал на открытие Шахматного
конгресса и сразу попал в зачарованное царство. Невероятно
оживленное царство во всех трех комнатах Шахматного Собрания и еще в
трех, уступленных нам Комитетом Собрания. Устроен турнир
парадно, во фраках, тут же маэстро, окруженные толпой народа. (...) Наш
талантливый Алехин в своей правоведческой курточке, с немного
потасканным правоведческим лицом не особенно приятного склада,
обычно самоуверенного, но тем не менее немного смущенный столь
великолепным обществом».
8/21 апреля: «Престарелый Гунсберг закатывает против Алехина
какой-то рискованный вариант гамбита Эванса, очевидно
заученный, и отдает качество. В публике ропот, что Гунсберг выжил из ума.
Другой говорит, что, наоборот, это тонко, что он заранее придумал
такую штуку. Алехин сидит с красными ушами, но ловко отбивает.
(...) Алехин разгромил старика Гунсберга и публично сделал ему
овацию, гордясь тем, что первая победа великого турнира досталась
петербургскому игроку».
11/24 апреля: «Сегодня партия Рубинштейн - Капабланка,
безумно интересно. (...) Я пошел посмотреть на другой стол:
поругавшиеся Алехин и Нимцович играли холодно и злобно».
Всероссийский турнир мастеров (1913/14). Почему на карикатуре Капабланка?
Он был почетным гостем. А под номером 2 изображен Моисей Ловцкий. Автор
рисунка — Марк Шафран, известный тем, что случайно оказался в том же поезде,
в котором в Петроград из эмиграции возвращался Ленин, а 25 октября
находился в Смольном и сделал там с натуры уникальные портретные зарисовки лидера
большевиков - безусое и бородки!Из журнала «Столица и усадьба» (№ 2, 1914).
Публикуется впервые.
160
Становление
Распря уходит корнями еще в 1911 год (см. стр. 148) и...
объясняет, почему в турнир, вопреки регламенту, попали два победителя
Всероссийского турнира маэстро (1913/14). Чтобы выявить
сильнейшего, им предстояло сыграть матч из четырех партий, но...
Вспоминает Лев Травин («64» № 14, 1974):
«Итак, матч Алехин — Нимиович. Первая партия... Нимцович,
человек повышенной возбудимости, нервничает и попадает в трудное
положение. Алехин же ведет партию очень сильно. Вдруг Нимцович
срывается с места и взволнованный вбегает в помещение турнирного
комитета.
— Какая наглость! Он мне сказал "шах"! Мы с ним не
разговариваем, а он мне говорит "шах"! Я прекращаю игру!
Нимиовича с большим трудом успокоили и уговорили продолжать
игру. Через несколько ходов он сдался. При этом категорически
заявил, что в следующих партиях не будет сидеть с Алехиным за одной
доской.
Вторую партию они действительно играли, находясь в разных
залах. Ходы сообщались посредником. Он же переводил стрелки часов.
Эту партию выиграл Нимцович. Напряженные отношения партнеров
побудили организаторов матча (Сосницкий: «по предложению Нимцо-
вина, с нем согласился Алехин») прервать поединок, считать его
закончившимся вничью и допустить в гроссмейстерский турнир обоих».
О решающих партиях Всероссийского турнира маэстро, во многом
определившего его судьбу, Алехин рассказал потом в статьях о Зноско-
Боровском и Боголюбове (см. в конце книги).
15/28 апреля: «В это время по залу прокатилось, что Рубинштейн
сдался Алехину. Сенсация. Алехин, бледный и усталый, встал из-за
стола. Я как-то мало питаю к нему симпатии».
17/30 апреля: «Ласкер ужасно путает с Алехиным. (...) Время
приближается к перерыву. У Алехина остается две минуты на восемь
ходов. Он нервничает, смотрит на часы и демонстративно качает
головой. Я отхожу от его доски и в это время слышу, что он вечным шахом
сделал ничью. Его поздравляют и трясут ему руку. Он бледен,
помятый, выходит от стола».
Справедливости ради добавлю, что в 1927 году Прокофьев болел за
Алехина. Вот запись в дневнике от 13 октября: «Алехин выиграл
вторую партию у Капабланки. Я ошеломлен. Ну и развился Александр
Александрович! К началу матча я, право, не знал, на чьей стороне
будут мои симпатии. Я дружил с обоими. Но теперь они бурно на
стороне Алехина».
Не раз приходилось читать о жадности Алехина, хотя хватает
свидетельств и того, что при случае он бескорыстно помогал молодым
коллегам. Но уникальный случай произошел тогда в Петербурге:
желание Алехина «по-быстрому срубить деньжат» у Ильи Рабино-
Петербург: воспитание характера
161
Пятерка финапистов турнира в Петербурге (1914): Эм.Л аскер, А. Але хин, Х.Р. Ка-
пааяанка, Ф.Маршсиыи3.Тарраш. Стоят: С.Вайнштейн, Б.Малютин, Э.Тальвик,
Л.Велихов, П.Сабуров (ш.), Н.Зноско-Боровский, Ю.Сосницкий и И.Максимов.
вича помогло тому... стать мастером! Об этом спустя годы поведала
его жена, Анна Рабинович («64-ШО» № 13, 1991). Летом 1914 года
Илья Леонтьевич получил приглашение на турнир в Мангейме. Ехать
предстояло за свой счет, но отец, которому не нравилось увлечение
сына шахматами, не давал денег на поездку.
«В одном из разговоров И.Л. спросил отца, даст ли тот деньги на
дорогу, если И.Л. сделает ничью с Капабланкой, который в это время
находился в Петербурге. Отец согласился, будучи уверен в
невероятности такого результата.
Надо отметить, что И.Л. свободно владел немецким языком (он
закончил училище при РедЬорматской церкви, где преподавание велось
на немецком языке) и хорошо говорил также по-французски и по-
английски.
В один из дней он дождался в кафе "Квисисана", где играли в
шахматы на ставку, Капабланку, которого сопровождал Алехин. У И.Л.
были десять рублей, чтобы сыграть с Капабланкой. И.Л. подошел к
кубинскому гроссмейстеру и спросил, не сыграет ли тот с ним
партию со ставкой в десять рублей. "Вы хотите сказать - сто рублей?" -
переспросил Капабланка. "У меня есть только десять", -ответил И.Л.
Капабланка отказался от игры, сказав, что они с Алехиным
торопятся. Однако присутствовавший при разговоре Алехин неожиданно
162
Становление
заявил, что согласен выиграть десять рублей, и попросил Капабланку
подождать минут пятнадцать. Капабланка отошел, и игра началась.
Прошел час, когда Капабланка, вернувшись, увидел, что
Алехин пытается спасти партию. Она длилась целый вечер. Не помню
уж точно, выиграл ли И.Л. или Алехину удалось все-таки добиться
ничьей. Но после этого отец И.Л., поверивший в шахматный талант
сына, дал деньги на поездку в Мангейм. Здесь, выступая в побочном
турнире, И.Л. завоевал звание "маэстро"».
Недавно меня попросили написать статью о замечательном
карикатуристе 20-30-х годов Николае Радлове. Шахматы были далеко не
главной темой в его творчестве, хотя играть он очень любил,
особенно в юности. Но оказалось, что Радлов еще и писал о шахматах, о чем
я узнал почти случайно. Листая журнал «Тридцать дней» в поисках
его шаржей, я в одном из номеров (№ 2, 1936) вдруг увидел заголовок
«Поражение Алехина», а над ним имя автора - Н.Радлов.
Заинтригованный, начал читать - и был вознагражден за свое любопытство.
Сеанс в фойе московского Охотничьего клуба (1914). В левой руке у Алехина
папироса — неизменный атрибут его сеансов, особенно «слепых». Фото Я.Штейнберга.
Петербург: воспитание характера
163
Второго такого словесного портрета Алехи на нет! Меня всю жизнь
завораживала упругая, насыщенная живыми деталями, очень точная
всловах (и в силу этого порой нелицеприятная) проза поэтов, но
проза художников, оказывается, бывает ничуть не хуже.
«Учеником Академии (художеств) я нанес визит тогдашнему
ректору, моему дальнему родственнику, скульптору Беклемишеву.
''Познакомьтесь с моим племянником, - сказала мне жена
Беклемишева, - говорят, хорошо играет в шахматы". Я даже боюсь, что она
сказала "тоже хорошо играет", намекая на переживавшийся мной
очередной рецидив увлечения шахматами.
В углу сидел белобрысый и угреватый юнец в мундире правоведа.
Мне показался он не стоящим внимания. Маленький бесформенный
рот. - Я очень не люблю людей с маленькими ртами. Бесцветные
брови. Мундир сидел на нем неубедительно, явно стесняя его.
Через несколько лет, на международном петербургском турнире
1914 года, я встретил его еще раз. Он мало изменился внешне. Так же
мешковато сидел на нем мундир с тяжелым, как хомут, воротником.
Белесоватая небрежная шевелюра. Рот показался мне иным; в его
бесформенных линиях доминировала прямая - напряжение,
упрямство, воля к достижению поставленной себе цели. Или, может быть,
ослепленные, мы уже потеряли способность видеть? Новая звезда
первой величины всходила тогда на шахматном горизонте...»
Как мы уже знаем, жена Беклемишева была сестрой матери
Алехина, поэтому он и жил в их квартире (Васильевский остров, 3-я линия,
д. 2). Поскольку Екатерина Ивановна умерла в январе 1912 года, к
тому же за границей, визит Радлова был в 1911-м, когда Алехин
только поступил в Училище правоведения.
Помните, в главе «Через борьбу - к искусству!» я обещал вам
«ядовитые» воспоминания одной дамы, в чьем альбоме Алехин оставил
автограф во время Всероссийской шахматной олимпиады? Их
разыскал Александр Кентлер и опубликовал в своей замечательной статье
«Сюрпризы Пушкинского дома» (сайт e3e5.com, 2014).
Кратко об авторе воспоминаний. Нина Михайловна Гарина была
замужем за видным большевиком Сергеем Гариным, в другой его
ипостаси — писателем, драматургом, поэтом. Она тоже была не чужда
искусству (в юности даже выступала на сцене) и превратила свой дом
в «светский» салон. В ее альбоме - автографы Горького, Куприна,
Андреева, Шмелева, Короленко, Клюева... В 30-е годы Гарина
написала воспоминания, машинописный вариант которых хранится, как
и альбом, в отделе рукописей ИРЛИ (Пушкинского дома).
Вот фрагмент об Алехине (по словам Кентлера, он сохранил
авторскую орфографию и пунктуацию):
164
Становление
АЛЕХИН Александр Александрович
Посвящаю Ласкеру - старейшему шахматному гроссмейстеру.
Алехин - чемпион мира. Шахматный чемпион мира.
В альбом мне написал следующее:
Нине Михайловне Гариной
«Шахматы для меня не игра, не искусство даже, а борьба, в
которой, как в жизненной борьбе, всегда побеждает сильнейший».
А.Алехин. Москва 1920 г.
На эту вышепроизведенную мысль Алехина, мне хочется ответить
ему своею мыслью... мыслью, выросшей на моем собственном
жизненном опыте:
Александру Александровичу Алехину:
«Не только шахматы, но и вообще всякие игры, даже игра в
"дурачки", для меня не игра, не искусство даже, а борьба, в которой, как и в
жизненной борьбе - иногда побеждает подлейший»...
Н.Гарина. Ленинград 1935 г.
2.
Родился Алехин в Москве. Окончил лицей.
Небольшого роста, бесцветный. Неинтересный. С ничего не
выражающим холодным взглядом. Не разговорчивый и пасмурный -
Алехин произвел на меня впечатление человека весьма неприятного,
жесткого и скрытного и, как это ни странно, для чемпиона мира -
шахматного чемпиона мира — тупого, что я неоднократно говорила
его сотоварищам по игре... Выражаясь мыслью Алехина
сотоварищами по «борьбе».
Я встречалась с Алехиным в Москве, в квартире одного из
шахматных мастеров, во время «шахматной Олимпиады», на которой Алехин
и получил звание «чемпион СССР».
Независимо от полагавшейся ему премии, я, по просьбе
некоторых из участников «Олимпиады», помогла разыскать для Алехина,
как победителя шахматы, которые и были приобретены у одного из
моих старинных друзей и поднесены Алехину его коллегами в виде
особого товарищеского подарка. Изумительные, китайской работы,
шахматы. (На самом деле это был почетный приз — см. стр. 307.)
Это было в 1920 году.
3.
В 1921 году Алехин «временно» уехал за границу, И «нечаянно»
остался там, предав всё и всех безо всякой «жизненной борьбы», с 24-
го года выступая уже на шахматных состязаниях... от Франции.
4.
В 1927 году на международном шахматном турнире в Аргентине, в
Буэнос-Айресе - в матче на первенство мира - Алехин отвоевал
первенство у Капабланки, получил звание «чемпион мира».
Петербург: воспитание характера
165
И когда по нашей планете пронеслось известие, что Капабланка
побежден... побежден Алехиным, передо мной невольно встала
фигура обаятельного жителя Кубы - Капабланки.
И другая фигура - фигура его партнера, из вышепроизведенной
ответной моей мысли Алехину... «о борьбе и о партнере». Мысль,
которая несомненно найдет себе почетное место в жизненном альбоме
Алехина.
Кентлер: «Точно известно, что свои "мемуары" Гарина писала
между 15 февраля и 15 марта 1935 года, поскольку в черновике сделано
посвящение не Ласкеру, а "происходящему сейчас в Москве
международному шахматному турниру".
Там же Гарина указывает, что встреча с Алехиным состоялась 8
октября 1920 года в квартире А.Ф.Ильина-Женевского. Несомненно,
местом встречи был Камергерский переулок, дом 5/7. По этому адресу
с 4 по 24 октября проводилась Всероссийская шахматная олимпиада.
Скорее всего, Александр Федорович как главный организатор
Олимпиады жил во время турнира там же. (...)
Свидание с Гариной было обусловлено тем, что Нина Михайловна
по просьбе Ильина-Женевского договорилась о приобретении
шахмат для победителя соревнования. В черновике она сообщает, что
"изумительные по красоте, величине и работе шахматы из слоновой
кости - китайской работы" были куплены у "политкаторжанина
И.И.Попова'*. Он был одним из организаторов Общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В благодарность за помощь Нине
Михайловне, вероятно, и была обещана запись Алехина для ее альбома.
Встреча с Алехиным могла состояться либо до начала четвертого
тура, либо по завершении им поединка. Хорошо известно, что
шахматисты не любят, когда их беспокоят перед партией. Ну, а о
настроении Алехина после ничьей белыми с Николаем Зубаревым можно
легко догадаться. Вполне возможно, что беспокойство в такие
моменты и, как следствие, недостаточная учтивость послужили причиной
пронесенного через годы негативного отношения дамы к чемпиону
мира».
...Знаете, что больше всего меня удивило в воспоминаниях Радло-
ва и Гариной? Неприязнь к Алехину, возникшая после одной-единст-
венной встречи с ним. Конечно, можно попытаться найти
объяснение этому, но зачем? Проблема-то ведь не в Радлове и не в Гариной, а
в самом Алехине. Гении редко бывают приятными в общении. Вечная
зацикленность на себе и своих мыслях создают вокруг них вакуум,
в котором нечем дышать. Помните слова одноклассника: «Когда он
глядел, то нельзя было быть уверенным, что он видит что-нибудь, и
смотрел он не на собеседника, а через него, в пространство»? Мало
кто способен в такой момент (особенно женщина) не почувствовать
себя оскорбленным...
166
Становление
МАНГЕЙМСКАЯ ЭПОПЕЯ
Наверное, ни один турнир не окружен таким количеством легенд,
как мангеймский 1914 года. Точнее, не сам турнир, а судьба его
русских участников, интернированных немцами в связи с началом
войны. Это сейчас, после выхода фундаментального труда Энтони
Гиллама «Mannheim 1914 and the Interned Russians» (2014), картина
прояснилась. А в середине 1980-х, во время работы над книгой
«Давид Яновский», я потратил много усилий, пытаясь выяснить, что же
тогда происходило в Μангейме. Особый интерес вызывала, понятно,
судьба Алехина.
Улов не порадовал. Куцые сообщения в «Шахматном вестнике»,
клочки воспоминаний Алехина и Романовского, заметка Малютина
в швейцарском журнале... На этом фоне выделялся живописный
рассказ голландца Виллема Шельфхута в «De Telegraaf» (17.08.1914). Знаю-
знаю: отношение к этому тексту скептическое; но зачем огульно
объявлять его «лживым»? Ведь Шельфхут был не репортером, а участником
побочного турнира. Да, его статья грешит ошибками и даже
выдумками, но это простительно в обстановке хаоса, когда никто толком
ничего не знал и приходилось питаться слухами - вроде того, что у
Алехина был «свой автомобиль и шофер-француз». Задача служителей Клио
в том и состоит, чтобы уметь отделять зерна истины от плевел выдумки,
а не смахивать показания очевидцев в мусорную корзину истории.
«Но это всё присказка. Стал бы я затевать сыр-бор из-за подобной
чепухи?! — написал я в «Русском сфинксе-6» (2008). - Нет, читатель,
вас ждет кое-что повкусней, чем обглоданная западными историками
голландская "кость"». И задолго до книги Гиллама опубликовал
подробные «показания» самих русских пленников: Александра Алехина,
Федора Богатырчукаи Бориса-Малютина.
КАЗАНОВА С ФАЛЬШИВЫМ ПАСПОРТОМ
Хрестоматийный рассказ Алехина о его злоключениях в плену
почерпнут, как известно, из книги Мюллера и Павельчака «Schachgenie
Aljechin». Но существует, оказывается, русский первоисточник -
статья Алехина о Боголюбове, которую я нашел в «Последних новостях»
(1 и 2.10.1933). В полном виде она приведена в конце книги, а пока
насладитесь фрагментом.
Алехин: «Следующая встреча с Боголюбовым - в Мангейме,
накануне войны. В этом своем первом международном состязании Е.Д.
добился вполне почетного результата - 50 процентов - и, быть
может, достиг бы и большего, если бы не случилось непредвиденного и
Мангеймская эпопея
/67
оба мы (вместе с девятью другими русскими шахматистами), вместо
мирного окончания турнира, не начали хождения по немецким
тюрьмам. Сначала — Hauprwache (гауптвахта — нем.) в Мангейме, затем
(для меня) - военная тюрьма в Людвигсгафене, затем - Раштатт,
наконец - под надзор полиции в Баден-Бадене. Из всех этих мытарств
сидение в раштаттской тюрьме было самым длительным и, пожалуй,
самым колоритным. Мне пришлось делить камеру с Е.Д., мастером
И.Л.Рабиновичем и неким С.О.Вайнштейном, в то время
прилизанным студентом-технологом, всячески заискивавшим перед ответ
ственными деятелями русского шахматного движения, теперь -
одним из наиболее рьяных цепных шах-псов Крыленки.
Житье в тюрьме было достаточно однообразное - ни книг, ни
газет, ни, разумеется, шахматной доски. И вот принялись мы с
Боголюбовым часами играть в шахматы "не глядя". Хотя Е.Д. никогда не
специализировался в этой области, он, как и всякий крупный мастер,
в состоянии играть несколько партий одновременно вслепую, и
борьба наша в большинстве случаев была очень занимательна. Был в
ней, правда, вынужденный перерыв, когда меня за то, что я осмелился
улыбнуться во время обшей прогулки (обязательным "гусиным ша-
roMv) по тюремному двору, - посадили на четыре дня в "одиночку".
(Более романтическую и близкую к правде причину того, за что
тюремщик «засадил нашего Казанову в карцер», см. в рассказе Богатырчука.)
И все же скажу, что и это наказание, и вся атмосфера раштаттской
тюрьмы с единственным ее смотрителем и его дочерью, три раза в
день приносившей нам еду и весело с нами болтавшей, -
представляется теперь каким-то идиллическим, почти милым воспоминанием
по сравнению с - увы - слишком многим известным домом на
Екатерининской плошади в Одессе» (там была тюрьма Ч К, где в 1919 году
сидел Алехин).
tjlMEiruiff русскмь иахма-
В гисговъ въ ГермшИ.
Ί (Ьеш п. Α. λ Aaonwiu ι
. (WIT fipitXkJI. ΜιρΜΜιΜ» ** ««««Ь*
| IV «4lMU ПОП М4*1ГГЫ1 ■йАШПВ'-П.
llB:l ιχΓΠΜΜΜΟί··
m twdjmwu ι; пяты! «л.··-·
l«r» щчпч пс «и.лгп. ираии η «An
. ■ вши. ρβ ι
/вкэв-го njiiiinuil т«а—rwifntv V \
Ajcm ι, — τι крмслктл и (тшссш'
ЛрПДиИ. Kirti.pMl' ЛП1* II111! I
[«η-πι.'Τν куммт 1
iiwic *u I
Ш mOdtrii I
Шила-.ib! .ml ι № ЧячгпЛчг. на-
- wan са rrp ovt
' Gu л ню!. Bv
шя% пегрвфи^ц РаЛшматъ а и. τι-
ϊ кснгr.ir fipwrn, юггорый пасъ приупрмнхь
Ιο серьезности положила. Но яемнопе ечу
jnuirbpit.TK. Лишь одмнг СиснишЙ учел,
/опасность П1«ллжрн1я r jrfctun.. Но въ суб-
|Ггг> ласъ ждало сообщена, тго туркяръ
(прерывается. Вшаи юнокныхъ прговъ,
[вонь пряимось ожидать ао попехьльнн ;;,'■:
Въ люкросгньв я поьхал, въ Висбарит..
ШШ ι Kttfrm nm *атъ Въ прокр&сиоу J
wrTpwiiii. сбираясь вговраткться пъ!
М.ШЮП;.. ι,ι NtGHUtВЪВшЫщщХ
НПО., ни. ,;^1|1ЗД, H.iDrJII ШН1А lb ·[-
й&вдуи к.гюру, прмлшлн ЯМрогь. t'npe-
шивл.111.. сишхъ иолкшп, подробность.
|Н1и»ото|»ь.л вопрос» :л-ик!й j ι
Обыскан. Но. м кмпт гол
вержт Upifoan я ιη ftatrribrb u даъ
11041. Η,Ι УЛЦЩ у [.i.i.a ИМК)Ы«б1Юе
ttOftlMfe, 1-иышна GTpfcJLMd ^илзалдхь.!
ironub мул, π* к. п. Ггйиомъ!
покаялся Фраш|у.1ск1и Въ ош-
■" IRflTO ЩЩ
π |»ь.1ь.'«1 бьш .,„.., г.,«, ι
Г^КМ*. ΒΛ noew «яг. ню ттв^яия.
(Ирм тм ι to било ужетюо. Клрии.1И хуже,
чЫгь у mm. icojKKjm. глСмс*. Гуляй »ы-|
мжм* но крмимшй Λ«»μ^ ■ чи ximiijh
ipyrw зя jpvroti. «aKi. ι» H^rt; и. ивр-
U-t Мы fiwii otwhw w месть cuahv>|
тю^адхвилл язь отлтпашхг счид.т.. ito-
|τφΜ« !ЦЩ. ПШ1 ЯрвЛв-ТЯКИ ΙΟϊίΛλΚβ. j
Тжъ, 6w.n Л.тучн1, ί·π» му рокпяин«1.,|
УТЛ я it» nfwjuxt. уяыблудгл it и .iro «
быЯТ. ОТОЭМШ. II ПАЙСКвИь «П. П!11ПХ«иу»|
lul.tiVy. ΓΧΐ Я011Я А«^Ж*ЛВ Три А1Я 1Ц«-
ΙΛντ,,ΌΐΠ. «Hi VUfW.n.. 1T0 UTO.l'T^:»Г*
меня та'чъ it^uiwu», глллыо захотгп·.
Ку|Я.(МНЪч» )«H4U 'П>, ЧТО* HOTOI ,1U,/'' ,ш'
.rmro ужаслап» КЖ^дтл иыпуетнди. '^
ио^сотаалп уплату мта да щии^^н-
nnic я в fojio, πε x«tt*, ка,къ ЯОО ча-
р(«ъ. Валь J^th ;^u^vvi и отправили
пъ Вадел-Аигип». rtt οεοιλ допраилплт
до 4го.1маАшк.и. (мдробяоспЛ. «η ΚΤ.
нощей rramclt радости рзарЪшши жжть btJ
гостапш^ под* нал*роль тмишя. Зд1*-Ы
ЧЫ ΙφΜΙΜΑϋ 1<?) W)W tli ПЛКШвПОЯ ίΤΓΓΙί^Η.
Стштш иашшаАпюл были лрях<Н
Рассказ Алехина о пребывании в плену отыскался в петербургской газете
«Вечернее время» (13/26.10.1914).
168
Становление
Сравнение показало, что Мюллер и Павельчак перевели текст
абсолютно точно, оставив даже «шах-пса Крыленки» - Schach-Ketten-
hund Krylenkos (только почему-то не сослались на источник). А вот
обратно на русский каждый переводил в меру своего разумения
немецкого, поэтому тексты напоминают клонов-мутантов, в которых
прогулка «обязательным "гусиным шагом"» оборачивается
прогулкой «в обязательном гусином строю» и даже «гуськом»!
Алехин вернулся на родину в октябре, о чем сообщил «Шахматный
вестник» (№ 18): «А-др А.Алехин любезно обещал нам поделиться с
нашими читателями своими воспоминаниями и впечатлениями от
всего пережитого ими его товарищами в плену, что мы поместим в
следующем номере нашего журнала». Но обещанные откровения так
и не появились...
Как же Алехину удалось вырваться из плена? Вот версия,
которой он попотчевал на обратном пути лондонских'любителей шахмат:
«Две недели они провели в тюрьме, где с ними жестоко обращались
немецкие солдаты, в дикости своей бившие их прикладами. Они
должны будут остаться в Германии до конца войны, за
исключением Алехина, который бежал с риском для жизни. Один приятель дал
ему свой паспорт, с помощью которого молодой русский пересек
границу, зная, что, если обман вскроется, его расстреляют» («Morning
Post», 12.10.1914).
Вы будете смеяться, но первыми о побеге написали... русские
газеты! Например, киевские «Последние новости» сообщили (со ссылкой
на Петроград), что «шахматист Алехин бежал из немецкого плена», 17
сентября - всего через три дня после его освобождения! Источником
информации был, скорее всего, сам Алехин, который 15 сентября
уже добрался до Цюриха. Видно, в тот момент он просто не знал, как
объяснить свое освобождение, когда все другие русские шахматисты
остались в плену. Но зачем было повторять версию о побеге в
Лондоне, уже после встречи с Богатырчуком и Сабуровым?
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: АЛЕХИН
И все-таки странно: возвращается из плена сильнейший русский
шахматист - а в прессе молчок... Могло ли такое быть? Да, конечно,
нет. И можно только удивляться, что никто из алехиноведов, полвека
толокших воду в ступе предположений и догадок, не удосужился
просмотреть петроградские газеты.
Прорыв случился в 2000 году: журнал «Шахматный Петербург» (№
1) опубликовал беседу с Алехиным сразу по возвращении в Россию!
В качестве первоисточника значилось: «Новое время», октябрь 1914.
Увы, попытка уточнить дату публикации ничего не дала — в подшив-
Мангеимская эпопея
/69
ке газеты такого материала не оказалось. Написал экс-главному
редактору журнала Александру Кентлеру, но он сообщил, что нашел эту
вырезку, разбирая архив П.П.Сабурова, и на ней от руки было
указано «Новое время»...
Я уже собрался прорыть все питерские газеты, как получил имейл
от Кентлера: «Беседа с Алехиным - газета "Вечернее время", 13(26)
октября. Сведения по вашей просьбе раздобыл Вадим Файбисо-
вич».
Текст очень эмоциональный; чувствуется, у Алехина наболело, и
он явно сгущает краски - можете сами сравнить с его рассказом в
«Последних новостях». Все эти «кошмары ужаса», «разорванные
раны», «ужасные казематы», повтор про пищу, что «собака есть не
станет»! Хотя... Точно так же отличается описание плена сразу и по
прошествии лет у Богатырчука. А в записках Малютина, написанных еще
в плену, описание издевательств солдат и обстановки в тюрьме очень
напоминает алехинское... Видно, время действительно лечит и
сглаживает в памяти ужасные картины прошлого.
Злоключения русских шахматистов в Германии
(Беседа с А.А.Алехиным)
Вчера в Петроград проездом в Москву приехал вырвавшийся из
немецкого плена наш знаменитый шахматист А.А.Алехин.
Похудевший, настрадавшийся, совершенно разбитый маэстро еще до сего
времени не может прийти в себя.
- Прямо сплошной кошмар ужаса, какой-то страшный сон, -
говорит А.А.Алехин. - Те нравственные и физические страдания,
которые мне пришлось пережить и которые до сих пор переживают
многие мои коллеги - русские шахматисты, не поддаются ни рассказам,
ни описанию.
Шахматный турнир в Мангейме начался 18 июля (банкет по
случаю открытия турнира состоялся 19 июля, а игра началась 20-го), при
участии большого числа русских шахматистов, которые с честью
поддерживали свою славу. В турнире маэстро я шел на первом месте,
и, не прервись турнир, первый приз остался бы за мной. В турнире
«А» игроков-любителей на первом месте шел петроградец
Рабинович и в таком же турнире «Б» - харьковеи Руднев. Слухи о
политическом положении нас в Мангейме особенно не тревожили, все же в
субботу мы обратились к русскому консулу Броссе, который нас
предупредил о серьезности положения. Но немногие ему поверили. Лишь
один Сосницкий учел опасность положения и уехал. Но в субботу нас
ждало сообщение, что турнир прерывается. Выдачи денежных
призов нам пришлось ждать до понедельника.
170
Становление
В воскресенье (2августа) я
поехал в Висбаден, желая посетить
мою мать (это была их последняя
встреча; родителей Алехина тоже
интернировали, но затем
позволили выехать в Базель, где в конце
декабря 1915 года мать
скончалась). В прекрасном настроении,
собираясь возвратиться в Ман-
гейм, на вокзале в Висбадене я
был внезапно арестован. Повели
меня в отдельную камеру,
произвели допрос. Спрашивали о
самых мелких подробностях,
некоторые вопросы доходили до
глупости. Обыскали. Но, к моему
удивлению, не задержали.
Приехал я в Мангейм в час ночи. На
улицах у вокзала необычайное
оживление. Слышна стрельба.
Оказалось, кто-то пустил слух,
что над Рейном показался
французский аэроплан. В сущности,
никакого аэроплана не было, и
стрельба была открыта по тучам.
Кое-как добравшись до
гостиницы, я лег спать, но не прошло
и двух часов, как страшный стук
разбудил меня. Ко мне в комнату вошел сыщик, в грубой форме
потребовавший, чтобы я немедленно следовал за ним, не давая мне
даже как следует одеться. Я отправился в участок. Там я встретил уже
несколько арестованных русских шахматистов, между прочим,
знаменитого Яновского. Нас посадили в арестантскую комнату,
присоединив к нам какого-то подозрительного типа, внимательно
прислушивавшегося к тому, что мы между собой говорили. Лишь в 6 часов
следующего дня явился начальник полиции с какой-то телеграммой
и, вызвав меня, спросил, офицер ли я, прибавив к этому, что
относительно меня он получил специальную телеграмму (как я потом узнал,
причиной того, что во мне заподозрили офицера, явился мой
портрет, помещенный в немецком журнале, на котором я был изображен
в мундире Училища правоведения).
В сопровождении сыщика меня вывели на улицу, где бушевала
толпа, настроенная весьма бурно. Мой спутник обратился ко мне с во-
«Как я потом узнал, причиной того,
что во мне заподозрили офицера, явился
мой портрет, помещенный в немецком
журнале, на котором я был изображен
в мундире Училища правоведения»
(Алехин). Скорее всего, речь именно об этой
фотографии.
Мангеймская эпопея
171
просом, хочу ли я ехать или идти пешком, причем добавил, что идти
очень далеко. Сели на трамвай. Однако, что меня сильно удручало,
это то, что сопровождавший меня сыщик меня утешал и как будто
даже жалел. После получасового пути он доставил меня в казармы,
где сдал какому-то офицеру Там меня втолкнули в каземат, где я
просидел 24 часа, давая такую пищу, что собака есть не станет. Наконец
пришел полковник, спросил меня, кто я, и когда узнал, что я русский
шахматист, участник турнира в Мангейме, он мне объявил, что я
свободен. Я возвратился в город, где встретил освобожденных русских
шахматистов.
Но в той гостинице, где мы жили, нам уже жить больше не
пришлось. Нас, как русских, прямо оттуда выгнали. Не зная, что делать
дальше, я пошел к американскому консулу, который был со мной очень
любезен, поехал со мной в другую гостиницу, где поручился за нас,
русских. Здесь мы переночевали, решив на следующий день сделать всё
возможное, чтобы выбраться из Германии. Утром пошли за справками.
На наше несчастье, защиту интересов русских подданных
передали не американскому, а испанскому консулу, который утешил нас
сообщением, поразившим нас, как гром. Он нам сообщил, что получил
из Берлина сведения, что все имущие русские должн ы уехать в Баден-
Баден, а неимущие будут этапом отправлены на принудительные
работы в Донау-Эшенген.
В 6 часов мы уехали, разместившись кое-как в третьем классе.
Поезд был переполнен солдатами, но в Баден-Баден мы не попали.
Кондуктор, разнюхав, что мы русские, и желая сделать нам радость,
сказал, что в Раштатте - старой военной крепости - нам
пересаживаться. Мы вышли на перрон и тотчас же были окружены солдатами.
Нам заявили, что мы арестованы. Повели нас в отдельную комнату,
обыскали. Конечно, ничего противозаконного не нашли. От этого
ареста у нас осталось впечатление, что нас скоро отпустят. Увы, наши
предположения не оправдались.
Можете себе представить, как мы были поражены, когда солдатам
было приказано зарядить ружья, а нам попарно выходить на перрон.
Здесь около каждого из нас было поставлено по два солдата. Нам
приказали поднять руки вверх, несмотря на то, что у каждого из нас были
в руках саквояжи и вещи. И так мы тронулись в путь. Идти в таком
положении было прямо-таки невозможно, причем толпа
положительно ревела, когда нас вели по улице. Кричали на нас и офицеры, и
солдаты. Некоторые из нас не могли держать руки вверх и опускали
их. Тогда весь «кортеж» останавливался, и опустившего руки
начинали бить прикладами и ногами. Меня лично так ударили сзади в ногу,
что, несмотря на тупой удар, образовалась разорванная рана. Кровь
шла всю ночь, и еще теперь у меня на ноге большой шрам.
J 72
Становление
Отправили нас в военную тюрьму, где продержали больше суток.
Ругали нас здесь солдаты ужасно. Говорили, что мы опасные русские
шпионы и что с минуты на минуту ожидается приказ, что нас
расстреляют. После, однако, нам сказали, что мы свободны от подозрений в
шпионстве, и отправили нас в гражданскую тюрьму. Здесь сидели мы
около двух недель (точнее, восемь дней — см. воспоминания
Малютина). Все вещи от нас отобрали. Обращение было ужасное. Кормили
хуже, чем у нас кормят собак. Гулять выводили на крошечный двор, и
мы ходили друг за другом, как на арене в цирке. Мы были отданы во
власть наглого тюремщика, который над нами прямо-таки издевался.
Так, был случай, что ему показалось, что я на прогулке улыбнулся, и
за это я был отозван и посажен в одиночную камеру, где меня
держали три дня. Причем он мне заявил, что продержит меня там столько,
сколько захочет. Курьезнее всего то, что когда нас из этого ужасного
каземата выпустили, то потребовали уплату счета за продовольствие
ни более, ни менее, как 300 марок.
Нам дали жандарма и отправили в Баден-Баден, где снова
допрашивали до мельчайших подробностей, но, к общей нашей радости,
разрешили жить в гостинице под надзором полиции. Здесь мы
прожили четыре с половиной недели. Строгости по отношению к нам
были прямо-таки невыносимыми. Так, например, я был оштрафован
на пять марок за то, что, сидя в гостинице и играя в шахматы, громко
разговаривал и смеялся при открытом окне, чем «нарушил» тишину.
Две недели печать Баден-Бадена призывала к погрому русских,
указывая на то, что их очень много собралось в Баден-Бадене. Газеты
требовали, чтобы всех русских отправили в Восточную Пруссию
осушать болота. Наглость немцев дошла до того, что из окон наших
комнат вывешивали флаги - украшение города в дни побед, сообщаемых
услужливым агентством Вольда.
Наконец вышел приказ об отпуске женщин и детей и лиц, не
подлежащих воинской повинности. Для больных было назначено
медицинское освидетельствование, к которому я подготовился,
отказавшись от пищи в течение нескольких дней. Мне удалось уверить
врача, что я при смерти, и я получил столь долгожданное
разрешение выехать в Швейцарию (14 сентября). Насколько мне известно,
из десяти русских шахматистов только еще двое были освобождены:
П.П.Сабуров и Ф.П.Богатырчук из Киева (оба - 17сентября).
На путешествие из Баден-Бадена в Шафгаузен я затратил 20
часов, откуда я отправился в Геную, Ниццу, Марсель, Париж, Булонь,
Лондон, Ливерпуль, Христианию (Осло), Стокгольм, Раумо (финский
порт) и благополучно прибыл в Петроград, пробыв в пути три
недели. Настроение во Франции, особенно в Марселе, во всех
отношениях бодрое. Жизнь бьет ключом. Нас, русских, встречают там с распро-
Мангеймская эпопея
173
стертыми объятиями. Не могу также обойти молчанием на редкость
любезного отношения в русских посольствах Парижа и Лондона, где
меня даже ссудили деньгами. Сегодня еду в Москву, с тем чтобы уже
больше никогда в моей жизни не ехать в ту страну, где мне пришлось
претерпеть столько страданий и лишений.
Ирония судьбы: Германия будет первой страной, где Алехин найдет
пристанище после выезда в 1921 году из советской России...
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: БОГАТЫРЧУК
Воспоминания Федора Парфеньевича Богатырчука о турнире в Ман-
гейме я опубликовал еще в «Шахматах в СССР» (№ 11, 1991), что по-
своему символично. Ведь его имя каленым железом было выжжено
из истории советских шахмат! Вдобавок это была не просто первая
публикация Богатырчука на родине после полувека забвения, а
фрагмент из книги «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому
манифесту» (1978), от одного названия которой у многих наливались глаза
от ненависти.
Книгу передала нам в редакцию, через одного мастера, его дочь
Тамара Елецкая, жившая в Канаде. Она очень хотела, чтобы мемуары
отца были изданы на родине, но в хаосе начала 90-х найти деньги на
это мне не удалось... Позднее я не только переиздал эту книгу,
дополнив рукописями, статьями и письмами Богатырчука (Прага, 2017),
но и написал двухтомник о нем самом («Федор Богатырчук. Доктор
Живаго советских шахмат», Москва, 2013).
Начало злоключений, связанных с вспыхнувшей
Первой мировой войной
В 9 часов утра (20 июля) все участники заняли свои места. По
мановению волшебной палочки воцарилась тишина, и мы погрузились в
мечты, навеянные богиней Каиссой. Всё земное было забыто, нашей
единственной целью было завоевать улыбку нашей богини. Так
продолжалось до 31 июля, когда не на шутку встревоженные члены
турнирного комитета сообщили нам, что Германия предъявила
ультиматум России о немедленном прекращении объявленной мобилизации.
Осведомленные члены нашей делегации даже и после ультиматума
продолжали успокаивать себя и нас надеждой на то, что
происходивший в то время съезд Германской социал-демократической партии
вынесет резолюцию против войны и правительство без поддержки
рабочих на войну не решится.
На следующее утро мы все были разбужены необычным шумом.
Выглянув в окно, мы увидели, что улица запружена толпами немцев,
горланящих во весь голос две популярные немецкие песни: гимн «Гер-
174
Становление
мания превыше всего» и «Крепко
стоит верная вахта на Рейне».
Долго слушать мне эту музыку не
пришлось; раздался стук в дверь,
и появился мой хозяин мясник,
который за день до этого был сама
любезность, когда я ему платил
вперед за комнату, и прорычал,
чтобы проклятый иностранец
немедленно убирался из дома.
Протестовать не было смысла, ибо за
спиной мясника маячили фигуры
его дюжих сыновей. Наскоро
собрав свои вещи, я направился в
турнирный комитет.
По дороге туда я увидел толпу,
собиравшуюся на месте
расправиться с пойманным шпионом.
Подойдя ближе, я к своему ужасу
увидел, что этим «шпионом» был
Петя Романовский, также
участник одного из турниров. Когда
его задержали, Петя стал
объяснять на единственном языке,
который он знал, - русском, что
идет играть в шахматы. Для
потерявшей всякий здравый смысл толпы его непонятной речи было
достаточно, чтобы начать его избивать. К счастью для Пети, я увидел
невдалеке члена турнирного комитета, бросился к нему с просьбой
вмешаться, и мы вдвоем не без труда вырвали Петю из рук
рассвирепевших немцев.
Придя в комитет, мы узнали, что подобные инциденты были и с
другими участниками. Немедленно было назначено заседание
комитета совместно с участниками, на котором выяснилось, что многие
немцы - участники турниров получили приказ явиться на сборные
мобилизационные пункты. Было много предложений, как поступить
с турнирами, среди которых выделялось пожелание д-ра Тарраша,
по-видимому пацифиста, настаивавшего на продолжении игры, как
будто бы ничего не случилось. Он указал, что подобное решение было
вынесено во время турнира в Баден-Бадене, совпавшего по времени с
началом франко-прусской войны 1870 года.
Однако оптимистов, поддерживавших доктора, нашлось мало.
Решено было турниры прервать и выплатить участникам денежную
Федор Богатыри у к, студент
медицинского факультета Киевского
университета, со своей невестой (1916). Из
архива автора.
Мангеймская эпопея
175
компенсацию, соответствующую
их положению в турнирной
таблице (по словам Алехина,
приведенным в «Manchester Guardian»,
13.10.1914, поскольку в главном
турнире было сыграно 11 партий
вместо 17, каждому выдали толь-
ко 11/17 приза; видимо, так же
поступили в побочных турнирах, в
одном из которых играл Богатыр-
чук). Самый большой приз
получил А.А.Алехин, к моменту
перерыва первый в турнире мастеров
(играл он блестяще и, без
сомнения, завоевал бы первый приз,
если бы турнир закончился). Я
занимал шестое место, давшее
мне небольшую сумму, которой
хватило бы на покупку билета
домой. Увы, я был в числе тех,
которым не только нельзя было
никуда выезжать из Германии,
но не было, где приткнуть свою
голову. Впервые по-настоящему
я почувствовал себя весьма
неуютно. Но опять как-то всё
образовалось. Петербургский шахматист Илья Рабинович поговорил
со своим хозяином, ярым противником войны, и тот предложил мне
перебыть некоторое время у него, пока всё не выяснится. Перетащил
я туда свои скудные вещички и стал выжидать дальнейшего развития
событий, не забывая играть в шахматы с утра до вечера.
Переезд в Баден-Баден и
вынужденная «пересадка» в Раштатте
Ждать пришлось недолго. Через три дня объявили, что в виде особого
исключения нам разрешено переехать в Баден-Баден, поселиться там
на частных квартирах и ожидать дальнейших приказов.
Отправили мы вперед одного из членов нашей делегации и стали
собираться в путь-дорогу. Однако, как говорят украинцы: «Не всё так
склалось, як жадалось». Погрузившись в поезд, мы забыли, что
находимся во враждебной стране, и стали чересчур громко и открыто
выражать свои чувства на чистейшем русском языке. Язык врагов,
естественно, не прозвучал приятной музыкой в ушах немецких пас-
та. не оставшись равнодушной к мужмюн «рш-иге
нашего чемпиона, позволила ему некие вольности, не ихидио-
Utiie В расписание тюремного режимы Зи сим ирнатным
времяпрепровождением их застукал тюремщик и «асниы
нашего Кялаыову в карцер
Через две недели «расследование·, во время которого
an одни из час не был ни рилу допрошен, Цл<ног(Олучно
закончилось, и шш разрешили слать в Беден Баден с един-
ciTJe'fiiuft просьбой нтие (кгтлче не «авресаживагьс*·.
КАДЕНЬАДЕБ И ВОЕННАЯ КОМИССИЯ.
ОТПУСК ДЛЯ «ЛЕЧЕНИЯ. В ШВЕЙЦАРИЮ.
В Бадсн-Бедснс нас ждали две педели тому иалал
приготовленные комнаты, и мы слова погрузились м ииЙМДОб·
ныЙ мир oiaxMOTiiux очарований. Кпк миг промелькнули
еще" лве недели, по истечении кит iuui зшшкли, чп» ми
лилжпы пройти иоеппуео комиссии-», на предмет
оледенение пошей годности к военной службе и ,ем самым опре-
деления* какую о»шси»хггъ мы можем представлять для
Германии, ежели нас отекдцн ишиуслиь. Когда м предстал
ярел очи ci4ipei(i.Koro поенного доктора, он прежде всего
иснедимндси о ιυκ, кю я кроме как шалматист. Узнав о
юм. что я студент медик он, по-видимому, сразу списал
со счета опасные для Германии элементов и спросил, на
что я жалуюсь. И тут я начал врать с таким
бесстыдством, какого доселе никогда в себе не замечал. Три г-таа-
шах жалобы превращали мена в совершенного инвалида:
отмороженные пальиы на ногах, затруднявшие ходьбу,
частые приладки ужасающих болея в правой нижней час·
ill живогв, где согласно моим анатомическим познаниям
должен был находиться аппендикс. Там же в виде
припадков, невыносимые головные боли по утра;»!, при которых
я нс один раз терял сознание. Опытный доктор явно сразу
же раскусил лнловость моих жалоб, чо и виду не показал
— Скажите, коллега. —(я, конечно, волнесся на
седьмое небо от такого обращения, но Г>ыстро с него спустил
ся), — спросил oil — когда и почему у uue начилио.
припадки болей в животе?
— Писде одной ж"ры и футбил, ио иремы кигорий меня
кто-то ударил ногой в это место, ·— не сморгнув глазом
ответил а.
Страница из книги Ф.Богатырчука
«Мой жизненный путь к Власову и
Пражскому манифесту»
(Сан-Франциско, 1978).
176
Становление
сажиров, и один из них, сговорившись с кондуктором, решил
сыграть с нами злую шутку Через некоторое время к нам в купе зашел
кондуктор и объявил, что нам скоро предстоит пересадка в узловом
центре Раштатте. Зная, что пересадки в Германии вполне обычны,
никому из нас даже и в голову не пришло заподозрить какой-то
подвох. Подъехали мы к Раштатту под звуки романса, напеваемого
одним из шахматистов, обладавшим приятным баритоном. Между тем
кондуктор снесся по телефону с военным комендантом Раштатта и
сообщил ему, что в поезде едет подозрительная группа иностранцев,
по-видимому русских, которые почему-то хотят сделать ненужную
пересадку в Раштатте. Коварная хитрость шутников заключалась в
том, что Раштатт являлся в тот момент мобилизационным пунктом
для Южной Германии и центром для обучения новобранцев.
Как только мы вышли из вагона, чтобы «пересаживаться», нас
немедленно окружила чуть ли не рота солдат в полном боевом
вооружении, и командир объявил нам, что мы арестованы. Так началась наша
остановка в Раштатте, которая никогда не изгладится из моей памяти.
В помещении вокзала нас и наш багаж тщательно обыскали и к
своему торжеству обнаружили бланки с записями шахматных партий,
принятые ретивыми охотниками за шпионами за явный шпионский шифр
для передачи секретных донесений. Час был поздний, и нас решили,
пока суд да дело, отправить в военную тюрьму. Выстроили нас и за-
Александρ Алехин в Мангейме. На обороте открытки штамп: Photogr. H.Stadel-
тапп, Mannheim, Rupprechtstr. 5. Из архива АХотова.
Мангеймская эпопея
177
славили каждого нести свой багаж. Так, окруженные кордоном солдат,
мы двинулись в путь к тюрьме. Между тем население городка, узнав
о поимке шпионов, высыпало на улицу, по которой нас вели, и стало
всеми способами выражать свое возмущение. Наиболее воинственные
требовали немедленной расправы на месте, другие прорывались через
цепь и свидетельствовали о своих чувствах при помощи кулаков.
Вспоминаю беднягу Селезнева, которого сердобольная мамаша снабдила
большой корзиной с теплыми вещами. Он еле ее тянул, и это не только
замедляло наш пугь, ной увеличивало количество тумаков, которые он
получал. Попало также и будущему чемпиону мира Алехину, который
выделялся своей осанкой и высоким ростом.
В то время как свершалась наша Голгофа, П.П.Сабуров, ехавший
отдельно от нас в вагоне первого класса, приехал благополучно в
Баден-Баден и нас среди приехавших не обнаружил. Встревоженный
нашим исчезновением, он немедленно телеграфировал председателю
Всегерманского шахматного союза профессору Гебхардту с просьбой
выяснить причину нашего исчезновения. Тот обратился, куда
следует, и к утру сообщил Сабурову о происшедшем «прискорбном
недоразумении», добавив весьма утешительную для нас фразу, в которой
заверил Сабурова в том, что «пока мы в Германии, с нами ничего
плохого не случится». (...)
На этом, однако, наши злоключения не закончились. Военным
властям, как тут принято выражаться, «надо было спасать свое лицо».
Поэтому сферы решили расследование продолжать и заключить нас,
пока суд да дело, в гражданскую тюрьму мягкого режима. Режим в
последней был действительно курортный. Камеры были большие и
светлые, кровати со свежим и чистым постельным бельем. Несколько
нарушала идиллию неизбежная параша, но и для нее был
специальный чуланчик. Сидели мы по трое, я с Селезневым и Флямбергом.
Заключенных было мало, ибо воров и жуликов послали на фронт,
остались лишь одни пацифисты и мы. Вещи наши нам выдали, и мы
коротали время за игрой в шахматы. В виде исключения обед нам
разрешили заказывать в ближайшем ресторане, который нам
приносила миловидная дочка тюремщика.
По горячим следам пережитое в плену виделось Богатырчуку не
так благостно. «Отношение к ним как со стороны властей, так и со
стороны населения было самое ужасное, - записал с его слов
репортер киевских «Последних новостей» (3/16.10.1914). - Солдаты и
полицейские несколько раз избивали их; когда их держали в тюрьме, то
обвиняли в шпионстве и несколько раз угрожали расстрелом».
Так мирно и тихо целых две недели (в газете он указал: 10 суток,
что точнее) текла наша жизнь, в течение которой случилось только
178
Становление
маленькое происшествие. В один прекрасный день мы услышали из
вентиляционной отдушины придушенный голос нашей шахматной
красы и гордости Александра Александровича Алехина, поведавшего
нам, что он заключен «за ничто» в карцер. Это «ничто» оказалось тем,
что, будучи поклонником женской красоты, он обратил свое
благосклонное внимание на прелести упомянутой выше дочери
тюремщика, и та, не оставшись равнодушной к мужской красоте нашего
чемпиона, позволила ему некие вольности, не входившие в расписание
тюремного режима. За сим приятным времяпрепровождением их
застукал тюремщик и засадил нашего Казанову в карцер.
Через две недели «расследование», во время которого ни один из
нас не был ни разу допрошен, благополучно закончилось, и нам
разрешили ехать в Баден-Баден с единственной просьбой нигде больше
не «пересаживаться».
Военная комиссия.
Отпуск для «лечения» в Швейцарию
В Баден-Бадене нас ждали две недели тому назад приготовленные
комнаты, и мы снова погрузились в волшебный мир шахматных
очарований. Как миг промелькнули еще две недели, по истечении коих
нам заявили, что мы должны пройти военную комиссию на предмет
определения нашей годности к военной службе и тем самым
определения, какую опасность мы можем представлять для Германии,
ежели нас отсюда выпустить.
Когда я предстал пред очи старенького военного доктора, он
прежде всего осведомился о том, кто я, кроме как шахматист. Узнав, что я
студент-медик, он, по-видимому, сразу списал меня со счета опасных
для Германии элементов и спросил, на что я жалуюсь. И тут я начал
врать с таким бесстыдством, какого доселе никогда в себе не замечал.
Три главных жалобы превращали меня в совершенного инвалида:
отмороженные пальцы на ногах, затруднявшие ходьбу, частые
припадки ужасающих болей в правой нижней части живота, где согласно
моим анатомическим познаниям должен был находиться аппендикс,
и, также в виде припадков, невыносимые головные боли по утрам,
при которых я не один раз терял сознание. Опытный доктор сразу же
раскусил липовость моих жалоб, но и виду не показал.
- Скажите, коллега (я, конечно, вознесся на седьмое небо от
такого обращения, но быстро с него спустился), - спросил он, - когда и
почему у вас начались припадки болей в животе?
- После игры в футбол, во время которой меня кто-то ударил
ногой в это место, - не моргнув глазом, ответил я.
- А скажите, коллега, как вы могли играть в футбол, а значит и
бегать, если у вас так страшно отморожены пальцы на ногах?
Мангеймская эпопея
У7У
У меня слегка застучало сердце, но я быстро оправился и ответил,
что играл вратарем, которому много ходить или бегать не приходится.
- А скажите, как вы могли играть в шахматы по утрам при наличии
таких ужасных головных болей? — продолжал он, слегка улыбаясь.
- Всероссийский шахматный союз делегировал меня сюда ввиду
моих успехов в последних русских турнирах и, наверное, ожидал от
меня лучшего места, чем то, которое я занял, - ответил я.
-Да, - сказал доктор, весело рассмеявшись, - теперь я вижу, что
вы действительно больны!
Я глазам своим не мог поверить, когда увидел заключение
комиссии, по которому я направлялся «для лечения» в Швейцарию. Кроме
меня, отпущены были еще двое: Алехин и Сабуров. Сабуров был
пожилой и не вполне здоровый человек (Петру Петровичу было 34 года;
Богатырчук, писавший книгу на склоне лет, спутал его с отцом — тоже
видным шахматным деятелем, которого в Мангейме не было), но
почему освободили здоровяка Алехина, я ума не приложу. Не иначе как
осматривавший его врач был почитателем алехинского шахматного
гения. Должен указать, что среди невыпущенных были Боголюбов и
Селезнев, оба освобожденные от воинской повинности в России.
Окрыленный своим счастьем, стал я собираться в обратную дорогу.
Оставалось преодолеть еще два препятствия: во-первых, в кармане у
меня свистел ветер и имевшейся наличности едва могло хватить на
покупку билета в благословенную Швейцарию, а во-вторых, при
переезде границы требовалось предъявить 500 швейцарских франков,
коих, конечно, у меня и в помине не было. Снова как-то всё
образовалось. Помог всё тот же всезнающий, всемогущий и вседобрейший
Сабуров. Прежде всего, он предложил мне ехать в качестве его
«племянника» и для этой цели купить билет первого класса и, во-вторых,
успокоил меня тем, что после переезда швейцарской границы и на
всем дальнейшем обратном пути я буду на иждивении консулов
Российской Империи. (...)
Обратный путь.
Незабываемый поединок с Алехиным в Генуе
Преодолев первое препятствие, я по переезде границы стал думать
о преодолении второго и по совету П.П. отправился к российскому
консулу, находившемуся в пограничном городке Шафгаузене. Тот
принял меня очень любезно и выдал мне некую сумму, достаточную,
чтобы проехать и прокормиться до следующего консула, впервые
поставив печать в моем паспорте, в тексте которой было указано о
выданном мне займе. Консул также указал, что я должен ехать в Геную
(Италия), являющуюся сборным пунктом для российских
подданных, застрявших в Европе. (...)
180
Становление
После короткой остановки в Милане для украшения паспорта еще
одной печатью я наконец прибыл в Геную, где мне предстояло
погрузиться на пароход, отплывающий в Одессу. Увы, парохода нет и
неизвестно, когда появится. Пока что консул предложил мне поселиться
в пансионе для застрявших руссаков. К моей радости, я узнал, что
там же обитает приехавший раньше Алехин. Есть партнер, и еще
какой! Скучать, наверное, не придется. И действительно, не пришлось.
Ждать парохода довелось около месяца (ошибка, вызванная, думаю,
путаницей в стилях: по новому стилю Богатырчука отпустили 17
сентября, а уже 15 октября он был в Киеве), и за это время мы сыграли не
одну сотню партий. Политические убеждения нас тогда не разделяли,
и спорили мы лишь за шахматной доской.
Только тот, кто и фал с этим гениальным шахматистом, знает,
какой он был маг и волшебник на 64 полях шахматной доски. Фигуры
в его руках превращались в живые существа, дарившие противникам
совершенные неожиданности. И при этом сюрпризы сваливались на
голову врага как гром среди ясного неба в любой стадии игры, даже
когда на доске оставалось считанное число фигур. Генуэзское
сидение, несомненно, дало для моего шахматного развития больше, чем
последующие годы игры с рядовыми противниками.
Между тем парохода всё не было, и те, кто имел средства, уезжали
более дорогим северным маршрутом. Так уехали Сабуров и Алехин...
Наконец, во второй половине сентября долгожданный пароход все
же пришел, и я пустился в обратный путь.
ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ: МАЛЮТИН
Я уж и не припомню, как узнал о том, что после возвращения в
августе 1916-го на родину Борис Малютин напечатал в газете «Речь»
воспоминания о пережитом в плену. Но если б не рука судьбы, это
уникальное свидетельство так и осталось бы в старых газетных подшивках.
Имя автора, боюсь, ничего не скажет современному читателю. А
жаль! Всего 37 лет было отпущено Борису Евгеньевичу, но сколь
многим обязаны ему русские шахматы. Глава Петербургского шахматного
собрания, один из организаторов турниров 1909 и 1914 годов, первый
руководитель Всероссийского шахматного союза (1914). При этом он
входил в число сильнейших столичных шахматистов и наряду с
Алехиным считался лучшим в России игроком вслепую (сеансы по 12-15
партий были для него обычным делом). Сообщая о «невознаградимой
потере в лице Б.Е.Малютина», журнал «Шахматы» (№ 3, 1922) назвал
его «несомненно крупнейшим, выдающимся шахматным деятелем».
Через год после октябрьского переворота Малютин бежал на юг,
к Деникину. Стал одним из лидеров кадетской партии, в 1919 году
Мангеймская эпопея
181
редактировал в Ростове-на-Дону газету «Свободная речь» (бывшая
«Речь»). Именно тогда, по свидетельству князя Павла Долгорукого,
он «дал в Екатеринодаре сеанс одновременной игры вслепую с
двадцатью (выделено мной. - СВ.) партнерами, которых и обыграл почти
всех» (из книги «Великая разруха. Воспоминания основателя партии
кадетов. 1916—1926», Москва, 2007).
В этой же книге рассказано и о последних днях Бориса
Евгеньевича. Князь покинул Ростов 5 января 1920 года, за четыре дня до
занятия города красными...
Павел Долгорукий: «Перед отъездом я несколько раз посетил в
переполненном госпитале лежавшего в тифе в полусознательном
состоянии редактора "Свободной речи" Малютина, которого эвакуировать
уже было невозможно. Он меня иногда узнавал и с мольбой смотрел
на меня. Язык в пересохшем рту заплетался. Наверно, он скоро умер, а
попасть живым к большевикам для него — та же смерть. По-моему, его
ближайшие сотрудники по газете неважно с ним поступили и боялись
даже его навешать в больнице. Всё, что я мог сделать, - это передать
его на попечение двух близживуших барышень, переболевших тифом,
остающихся в Ростове».
Целиком напечатать очерк Малютина«Два года в Германии» - дело
будущего. Уж больно он велик: публикация растянулась на шесть но-
Борис Малютин был участником Всероссийского турнира любителей (1909). В
центре Валериан Чудовский.
182
Становление
меров, каждый выпуск занимал по полполосы. Я приведу - с
некоторыми сокращениями - первые две части (16/29.10 и 19.10/2.11.1916).
Именно в них описывается начало мытарств русских шахматистов.
Курьезная деталь: в очерке нет ни одной фамилии, и читателям
«Речи» оставалось лишь чесать в затылке, пытаясь понять, кто
такие эти Д.М.Я., А.А.А. и т.п. «Расколоть шифр» по плечу было
только знатокам шахмат: Д.М.Я. - это Яновский, А.А.А. - Алехин,
П.К.И. - Иорданский, Н.Н.Р - Руднев, М.З.Э. - Эльяшов, Н.С.К. -
Копельман, Ф.П.Б.- Богатырчук, П.П.С.-Сабуров. Причину
маскировки объяснил в предисловии сам Малютин. Чтобы не ставить вас в
положение читателей «Речи», я все фамилии расшифровал.
ДВА ГОДА В ГЕРМАНИИ
(Впечатления гражданско-пленного)
Когда-то, еще в первые месяцы войны, под свежим впечатлением
пережитого, я набросал очерк плена, один экземпляр которого попал в
руки моих здешних друзей; они, однако, не решились его напечатать
из опасения, пожалуй основательного, навлечь на автора
мстительное внимание германских властей. Из этого очерка я заимствую
рассказ о первоначальных злоключениях...
История плена
Конгресс шел обычным порядком. Ежедневно в больших залах Ball-
haus'a (танцзал - нем.) десятки людей с утра погружались в
напряженную мозговую работу, а вечером те же лица собирались, по
немецкому обычаю, в кафе, чтобы за кружкой пива обменяться
впечатлениями дня: всё шло мирно и гладко. Но уже к концу недели в беседу
стали вплетаться новые темы; известия об австрийских притязаниях
начинали вызывать тревогу. Наиболее осторожные рекомендовали
немедленно бросить турнир и уехать. (...)
В субботу, 19-го (1 августа), объявление мобилизации положило
конец колебаниям; главный распорядитель турнира г. Ромиг, призванный
в качестве резервиста, распрощался с нам и, и в 4 часа дня конгресс был
официально прерван. Становилось ясно, что надо поскорее уезжать.
Но это было не так просто. Большинство русских -
малосостоятельные студенты или профессиональные шахматисты - не располагали
достаточными средствами; между тем устроители, сами застигнутые
войной врасплох, не успели взять из банка призовые суммы и
назначили выдачу гонораров на понедельник утром; а те, у кого деньги были,
не хотели покидать товарищей в тяжелый момент.
Решено было ехать в понедельник днем. Начало воскресенья
прошло спокойно. Вечером мы, по обыкновению, собрались ужинать в
Мангеймская эпопея
183
ресторане «Розенгартен»; нас было человек 10. Беседа вращалась
вокруг происходящих событий и отъезда. В середине ужина два госпо-
динаподозрительной наружности пожелали подсестьк нашему столу;
мы отказали. Наши немцы, видимо недовольные, уселись невдалеке.
Прошло полчаса, и они подошли вновь, но уже в сопровождении
двух шуцманов (полицейских). Публика кругом с любопытством
насторожилась; нас отвели в отдельную комнату, явился полицейский
чин, и начался допрос. Ответы наши найдены были, по-видимому,
удовлетворительными, и, записав адреса, нас отпустили с
извинением за беспокойство, кроме двоих в пенсне.
Явился хозяин ресторана; он вошел с виноватым, потупленным
видом, явно выдававшим неравную борьбу между внушенным
утренними газетами патриотическим долгом и естественным чувством
порядочности, быстро указал пальцем на Яновского и так же быстро исчез.
Что же оказалось? Хозяин знал, что мы русские, - за неделю перед
тем у него даже был устроен обед русских шахматистов, - и донес,
добавив, что один из нас, в пенсне,
вел однажды политический
разговор. А так как близоруких было
двое (Яновский и Селезнев), то не
по разуму усердному патриоту
пришлось проявить настоящее
геройство: открыто изобличить
своих клиентов. И если бы он
знал еше, что этот подвиг
окажется бесплодным: чиновник,
сообразив всю очевидную вздорность
обвинений, отпустил Яновского с
душеспасительной нотацией...
Не задерживаясь более, мы
разошлись по домам. Я лег
часов в одиннадцать. Меня
разбудил шум отворяемой отмычкой
двери и яркий свет; очнувшись,
я увидел вчерашнего
незнакомца с фонарем в руках. Показав
полицейскую бляху он
предложил мне одеться и следовать за
ним. Через 10 минут мы пришли
в SchJosswache (в данном случае
— гауптвахта), мимо которой я
столько раз проходил на турнир,
не подозревая о ее назначении.
№ ш въ [ери»
*■■■■ - »
(Впвплтл'ЬяЫ гражданоло-пл'Ьннал)).
Когда, въ Засгшцв, уже готовый
покинуть свив заключен^ я сгинь раздетый
ю пна иъ маленько!! ваморгЬ
досмотрового барана, α рлдоиъ сищвьъ въ
солдатской фориЬ оо DTBirb лраспланъ
своего ремесла петоднчпо π тщательно обы-1
сшалъ ион вощи к платье, >швновольно|
пезсипиалксг. поза дол го передъ твлъ вы-
шавпыл слова Гейпо лвъ ого прелестной
«эшоН сшил» «Deutachland»;
,ιΐιτ Duramen, die ihr lm Coffer
sucht,
tiler woniet ihr nichts ontdeolceii;
IMe Kontwbande. dLe mlt mir relst,
Dlo hob'ich iin Kopfo Btocken".
fry вонтрабавду, илодъ двуялхтплхъ
переживавift и ваблюдсвШ пл'Ьвпаго, д в
хоч/ предстаонть ваваап1ю -штатши.
» ι f 11 a язя а л ι
к ι я « м ж т -ш i » ■ И
Фрагмент первой части записок
Малютина в газете «Речь» (16/29.10.1916).
В предисловии видны следы цензурных
изъятий... Публикуется впервые.
184
Становление
Я застал там нескольких товарищей, доставленных тем же порядком
и вверенных теперь попечению караульных солдат. Понемногу наше
общество разрасталось; привели русских студентов из Гейдельберга,
француза-шофера, серба и др. Спать нечего было и думать: в комнате
была всего одна деревянная скамейка. (...)
Между тем, увидав проходящего по двору товарища, я успел с ним
перемигнуться. Но скоро и он очутился среди нас, доставленный по
почину толпы, которая гналась за ним по улице. В приемную книгу
его занесли, как подозреваемого в шпионстве на основании
найденных при нем квитанций на телеграммы о ходе состязаний. Все же о
нашем аресте он успел дать знать, кому следует.
Явившийся в три часа член комитета (турнирного) выдал нам
призы и сказал, что о нашем освобождении хлопочет комитет
совместно с американским консулом и секретарем русского
консульства К.А.Г. Каково же было наше удивление, когда к вечеру Г.
явился, но уже в качестве арестованного: как и некоторых других,
его захватила на улице толпа. Впрочем, немного спустя явился и
избавитель, в лице Polizeidirektora (полицмейстера), который заявил,
что, вполне убедившись в нашей безвредности, он нас отпускает с
ручательством, что нас больше не заберут; только Алехина
задержали и куда-то увели.
Усевшись под охраной солдат от угрожающей толпы в
таксомоторы, мы отправились на вокзал. Нас ждало разочарование:
нормальное движение было прекращено, последний поезд ушел днем. (...) С
вокзала мы отправились по домам, но и это не всем удалось. Копель-
мана, жившего в лучшей гостинице города, немедленно выселили; к
Богатырчуку, снимавшему комнату в частной квартире, явился
шуцман и, размахивая шашкой, предложил выбраться в течение 5
минут; при этом квартирохозяин не пожелал вернуть забранных вперед
денег. В «Kaiserhof е», где жил я, хозяин оказался любезнее; входя в
наше положение, он приютил нескольких изгнанных. (...)
Тем временем был освобожден и Алехин, проведший вторую ночь
в казармах. Ему показали полученное из Берлина предписание
задержать его как офицера, между тем Алехин только весною окончил курс
И мператорского училища правоведения. Снимок в форме,
помещенный в только что вышедшем на немецком языке сборнике
петербургского весеннего турнира, очевидно, ввел в заблуждение какого-то
добровольного сотрудника властей...
23-го (5 августа) мы с Алехиным зашли к испанскому консулу, к
которому тем временем перешла забота о русских подданных; он
сказал нам, что, в силу полученного из Берлина предписания, имущие
русские должны ехать в Баден-Баден, и посоветовал сделать это
немедленно; а на наши сомнения относительно возможности нового
Шнгеймская эпопея
/85
ареста по дороге он успокоительно ответил, что военные власти
будут, напротив, охранять нашу безопасность.
Было 4 часа; поезд шел в 7. Мы мигом собрались и уже в 6 часов
были на вокзале. Только медлительный Сабуров всё не показывался.
На вокзале мы были встречены солдатами, которые под наблюдением
офицера обыскали наши вещи. Не найдя ничего предосудительного,
нам подтвердили сообщение консула и разрешили занять места. Из
повторных расспросов выяснилось, что предстоят пересадки в Раш-
татте и Баден-Оосе. В 7 часов бесконечный поезд, наполненный
почти исключительно военными, тронулся.
Мы двигались страшно медленно; наконец, около 11 часов, после
бесконечной стоянки в Карлсруэ, поезд стал подходить к Раштатту.
Новая остановка. Что такое? В ночной тишине раздается ружейная
трескотня; верно, опять по французским аэропланам? Они всюду
мерещатся; еще на днях в Μангейме стреляли в обложенное тучами
небо... Но вот стрельба затихает; поезд двигается вперед и через
несколько минут снова останавливается. (...)
Мы выходим и кое-как сами тащим свои вещи; но пока мы ищем,
у кого бы справиться о пересадке, резкий оклик «Halt» (Стой)
останавливает нас в туннеле, и солдаты ведут нас к коменданту станции.
Там опять обыск. Мы вкратце объясняем, кто мы и куда едем.
Кажется, всё благополучно: наши объяснения выслушиваются спокойно,
вещи чуть-чуть щупают. Но нет, на лице у коменданта сомнение, и,
посоветовавшись с другими офицерами, он отдает какое-то
приказание. Нас заставляют поднять руки, потом взять вещи, солдаты
заряжают ружья, окружают нас и куда-то ведут.
С вокзала мы выходим в темную улицу; нас заставляют то
замедлять, то ускорять шаги; не разбирая слов команды на баденском
наречии, мы то и дело исполняем ее невпопад; пинки солдат тогда
дополняют команду. Наконец, запыхавшиеся и растерянные, мы
входим в какое-то здание. Отбирают паспорта, и какой-то офицер - я,
кажется, никогда не забуду наглого, самодовольного выражения его
лица - начинает допрос. Я пробую объясниться:
- Мы шахматисты, принимавшие участие в мангеймском конгрессе.
- Ach was, Quatsch! (Что за вздор!) Кто же теперь играет в шахматы?
- Но мы прибыли до начала войны, по приглашению Г.Ш.С.
(Германский шахматный союз).
- А теперь вы приглашены сюда, в тюрьму, - отвечает офицер,
упоенный своим остроумием.
- Испанский консул направил нас в Баден-Баден.
- Ach, nach Baden-Baden, - и офицер иронически раскланивается,
снимая фуражку, — хороши, дескать: война, а они едут на
фешенебельный курорт!
186
Становление
Копельман хочет дополнить мои объяснения.
- Sie haben iiberhaupt gar nichts zu erklaren (Вы вообще даже ничего не
должны объяснять), — со смехом отвечает наш допросчик.
- Но Polizeidirektor в Мангейме ручался за нашу безопасность.
- Ach was, Quatsch, разве вы не видите, что задержаны?
Поощренные примером начальства, солдаты вступают в беседу.
Один у стены угрожающе машет ружьем; другой, справа от меня,
кричит: «Spionen sind Sie, freche Russen» (Вы шпионы, наглые
русские). При всем трагизме положения я не в силах подавить улыбки...
«Es scheint dir noch lacherlich vorzukommen! Morgen wird man Sie alle
erschiessen!» (Это кажется тебе еще смешным/ Утром вы все будете
расстреляны/)
Но, видимо, офицеру уже надоело наше присутствие. Раздается
новая команда: «Den mit dem BombenJcoffer vorwarts» (Кто с самым
большим чемоданом, вперед), и обладателя наиболее увесистого чемодана
выталкивают вперед. Солдаты 40-го полка вновь нас выстраивают, и
начинается какая-то дикая гонка.
Русские участники и организаторы турниров в Мангейме (1914). Сидят: ??,
С.Шапиро, Д.Яновский, меценат Л.Нардус (?), президент Мангеймского клуба
В.Гудеус, А.Алехин, Рёммиг, президент Лодзинского клуба Х.Яновский (?). Стоят
(1-й ряд): Олениус(?), Вальфиш(?), ??, А.Флямберг, ??, Ю.Сосницкий, ??,
Н.Руднев, Ф.Богатырчук, ИРомановский, И.Рабинович, П.Сабуров (мл.), ??, ??,
Б.Малютин, ??2-й ряд: ??, ??,Хвиливицкий, СВайнштейн, П.Иорданский, А.Селезнев,
??, Е.Боголюбов, Доминик(?). Из архива Э.Гиллама (Великобритания).
Мангеймская эпопея
187
Мне никогда незабытьэтой жуткой картины: темная, теплая
июльская ночь; пустынная улица, а по ней десять штатских идут - нет, уже
не идут, а бегут, подгоняемые прикладами, под гиканье двух-трех
загулявших прохожих.
Теперь солдаты уже не сдерживают своей злобы. «Schneller laufen,
schlappes Volk» (Быстрее бежать, вялый народ), - кричат они, и мы
все ускоряем шаг. Чемоданы немилосердно режут руки, тяжесть
становится невыносимой, а все же надо бежать.
Алехин, обессиленный, падает, и блестящий победитель мангейм-
ского турнира мастеров получает удар прикладом; падает Копель-
ман - то же самое. Через силу они поднимаются и плетутся дальше
Носителя BombenkofTer'a особенно облюбовал его провожатый, и
удар за ударом сыплется на несчастного, потерявшего к тому же в
суматохе пенсне (видимо, речь о Селезневе). Бьют и других, кого больше,
кого меньше; немногие увернулись от ударов.
Но вот мы у цели: виднеется военная тюрьма. Каждого грубо
вталкивают в одиночную камеру (...)
25-го утром (7августа) утром нас перевели в Amtsgefangnis
(гражданская тюрьма), где рассадили по камерам группами в три и четыре
человека. И то облегчение.
Так мы просидели еще 8 дней. Условия были самые
отвратительные. Вопреки вывешенным на стене правилам, от нас отобрали
все вещи, не оставив даже смены белья; немыслимо было в одной
лоханке вымыть лицо и руки; парашу мы выносили сами.
Единственная льгота состояла в получении своей пищи - тюремная была
невыносима. Но и за наши две марки мы изрядно голодали. И чем
былоубитьвремя? Как шахматисты, мы нашли выход из положения:
заиграли в шахматы a Taveugle, без доски. Страницы шахматных
изданий уже украшались плодами нашего тюремного творчества..
Раза три нас выводили на прогулку, и десять бледных,
растрепанных фигур маршировали гуськом (у Алехина: «обязательным
"гусиным шагом "») по маленькому тюремному двору, под грубые окрики
надзирателя. Он нас безжалостно преследовал: стоило взобраться
на подоконник, и любопытного ждало одиночное заключение.
Тем не менее, мы не переставали надеяться на освобождение. Я
написал консулу, председателю Г.Ш.С. проф. Гебхардту и
председателю Мангеймского клуба В.Гудеусу. В конце июля начальник тюрьмы
объявил нам, что наше дело рассматривается в Карлсруэ. Наконец, 1
(14) августа нам было сказано, что мы свободны, но поезда вечером
не было, и пришлось еше раз переночевать в тюрьме; в утешение нам
позволили переодеться и взять кое-какие вещи. 2-го мы поднялись
в 5 часов и пошли на вокзал в сопровождении сыщика; вещи на этот
раз везли в тележке.
188
Становление
Хлопоты об освобождении
В Баден-Баден мы прибыли 2 (15) августа часов в 11. После обыска
на вокзале шуцман повел нас в полицию; здесь уже спокойное
обращение; атмосфера живущего иностранцами курорта дает себя знать.
В полиции прописали, отобрали паспорта, объявили правила; здесь
же мы узнали, что Сабуров давно приехал и живет в «Petersburger
Hof e». Через пять минут мы уже радостно его приветствовали.
Случайное опоздание в Мангейме ему помогло; он сел в другой вагон и,
будучи один, проехал благополучно. Потом он пересел в Карлсруэ,
а не Раштатте: мы, очевидно, были введены в заблуждение
кондуктором.
Но если Сабуров счастливо избежал тюрьмы, то можно себе
представить его отчаяние, когда он увидел, что все другие куда-то
пропали. Узнав, что мы в тюрьме, он с обычным рвением о нуждах русских
шахматистов принялся писать и телеграфировать во все концы; и эти
меры привели наконец к освобождению. (...)
Первые дни по приезде в Баден-Баден уверенность в скорейшем
возвращении в Россию нас не покидала. Еще в тюрьме мы шутя
держали пари на эту тему, и самые завзятые скептики назначали крайним
сроком конец августа. И в баденском Bezirksamt'e
(окружномуправлении) нам сказали, что можно будет уехать, как только восстановится
правильное железнодорожное движение.
Но вот в один прекрасный день в газетах появилось сообщение о
том, что, в силу соглашения между Германией и Россией, все
мужчины в возрасте от 17 до 45 лет будут задержаны. (...) Теперь нам
пришлось познакомиться с бюрократическо-полицейскими порядками.
Если бы понадобилось определить их одним словом, я бы не мог
найти более подходящего выражения, чем «глумление», то грубое и
откровенное, то хитрое и утонченное, всегда полное сознания своего
превосходства и бесконечного презрения к другим.
Два мелких чиновника, д-ра Н. и К., игрою случая вознесенные в
вершители судеб сотен иностранцев, не могли, конечно,
удержаться от соблазна проявить свою силу. Наружное обращение их было
относительно вежливым: кричали только в виде исключения; зато
существо всякого распоряжения почти всегда скрывало какой-то
подвох...
Русским документам об отношении к воинской повинности не
верили, да почти ни у кого их и не было. И вот Bezirksamt распорядился,
чтобы желающие уехать подверглись медицинскому
освидетельствованию для определения Wehrfahigkeit, то есть пригодности к военной
службе. Все, конечно, поспешили за это ухватиться. И тем, кто
явился в первую очередь, посчастливилось: их отпускали сравнительно
скоро, если только находился какой-либо физический недостаток.
Мангеймская эпопея
189
Так и нашу шахматную компанию покинули Алехин, Богатырчук
и Сабуров. Но и здесь дело не обходилось без тонкого глумления.
Всякая просьба сначала встречала отказ; затем шла торговля,
которая кончалась заявлением: «Ну так и быть, ступайте, но только не в
Россию (через Швецию), а в Швейцарию». Не могла же власть не
понимать, что и оттуда можно проехать в Россию; и если многие сами
предпочитали этот путь, как скорее уводящий из Германии, то ведь
не эта же мысль озабочивала наших стражей. Очевидно, хотелось
донять если не мытьем, так катаньем: пусть едут, но пусть и потратятся.
Но мы и с этим мирились, будучи готовы ехать хоть кругом света,
лишь бы ехать.
Однако нас ждало новое разочарование. 4 (17) сентября уехал
Сабуров, а 5-го прием заявлений был прекращен. Как передавали,
между нашими попечителями произошло разногласие: д-р Н. рад был
случаю избавиться от лишних иностранцев, д-р же К. полагал, что их
всех надо задерживать, и спор был представлен на разрешение
министерства. 12-го (25-го) пришел ответ. Мы опять вереницей
протянулись в Bezirksamt. Теперь дело пошло быстро. Один за другим
выходили просители с мрачными лицами: всем отказ. Всем, в том числе и
страдающим грыжей, слабым сердцем, искривлением позвоночника,
крайней близорукостью, одышкой и т.д. Вскоре вышло новое
распоряжение: не отпускать более никого, даже женщин. Тем временем
и наше прошение в Карлсруэ было оставлено без последствий.
Казалось, всякая надежда потеряна...
ТАК ПОЧЕМУ ОСВОБОДИЛИ АЛЕХИНА?
Меня давно занимал этот вопрос, потому что ответ, даваемый в
книжках: «Был признан немецкой медицинской комиссией негодным к
военной службе», - выглядит неубедительно. Ведь Боголюбова и
Селезнева, освобожденных от воинской повинности в России, почему-
то не отпустили?
Напомню слова Алехина: «было назначено медицинское
освидетельствование, к которому я подготовился, отказавшись от пищи в
течение нескольких дней. Мне удалось уверить врача, что я при
смерти...» Косвенное подтверждение этого я отыскал в статье Зноско-Бо-
ровского «Алехин, шахматный король» («Последние новости»,
Париж, 9.03.1928) -думаю, что источником «анекдота» был сам Алехин,
больше некому:
«Быть может, это анекдот, но вот что рассказывали во время
войны. Будучи вместе с другими русскими участниками
международного турнира в Мангейме, прерванного войною, захвачен немцами
и интернирован, Алехин задался целью освободиться из нечаянного
190
Становление
плена. Как это сделать? Вот если бы быть больным, другое дело. И
вот Алехин, напряжением воли и соответствующим режимом,
доводит свое сердце до такого состояния, что немцы, уж на что
нетребовательные и небрезгливые в ту пору, в один голос решили: сей
человек ни на что не годен - и выпустили его в Россию».
Неизвестно, знал ли Алехин уже тогда про свое больное сердце,
но Ильин-Женевский в книге «Матч Алехин - Капабланка» пишет:
«Однако ему удалось, вследствие своей болезни сердца, очень
быстро освободиться и вернуться в Россию». И это не домысел.
Заполняя в 1920 году анкету сотрудника Центророзыска, Алехин написал,
что освобожден от призыва в Красную армию «по болезни по 58
ст. (сердце)». И добавил, что проходил медицинскую комиссию в
ноябре 1919 года и ему было «выдано удостоверение об
освобождении».
Сердце сердцем, но как Алехин убедил врача, что он «при
смерти»? Возможный ключ к разгадке - в уже знакомой нам статье о
Боголюбове: «мой быстрый отъезд оттуда, благодаря случайности
или счастью (для тех, кто в них верит); выезд - вскоре после меня
и по моему способу - П.П.Сабурова и Ф.П.Богатырчука».
Ключевые слова - «по моему способу»! Раз Богатырчук, в отличие от
Алехина, «не отказывался от пищи в течение нескольких дней», значит,
спо-соб состоял в чем-то ином? Помню, я не мог понять, что
заставило его «врать с таким бесстыдством, какого доселе никогда в
себе не замечал». А вдруг это и был алехинский способ «откосить
от плена»?
Почему же больше никто не был отпущен, включая не
подлежащих призыву Боголюбова и Селезнева? Первая мысль: немцы
поняли, что их попросту дурачат, и в отместку «перекрыли кислород»
всем остальным. Только внимательно прочитав Малютина, я
догадался, в чем дело: всех троих - Алехина, Богатырчука и Сабурова -
наверняка осматривал д-р Н., который «рад был случаю
избавиться от лишних иностранцев»! Попади они к д-ру К., никакие
«способы» и самое «бесстыдное вранье» им не помогли бы...
Но остается вопрос: откуда Ботвинник, который вообще-то слов
на ветер не бросал, взял версию о том, что «Алехин представился
психически больным» («К достижению цели», 1978) или, как он
уточнил потом в статье «Блудный сын России» («Правда», 31.10.1992),
«Алехина признали психически больным»? Могу высказать
предположение. По словам современников, Алехин был «воплощенная
нервность», а после трехдневной голодовки у него и руки могли
дрожать. Так, может, врач принял его за «психа» и написал об этом в
отчете? Зная немецкую педантичность, не удивлюсь, если этот отчет
сохранился в каком-то архиве...
Тайны «слепых» шахмат
191
ТАЙНЫ «СЛЕПЫХ» ШАХМАТ
В наши дни об игре вслепую знают разве что по почившему в бозе
турниру в Монако, где раз в год элитные гроссмейстеры выясняли,
кто из них искуснее в этом «ремесле», выражаясь словами Алехина.
Правда, состязались они практически без публики, и любителям
шахмат доставались только тексты сыгранных партий.
Гроссмейстеры давно уже не балуют публику и «слепыми»
сеансами, а ведь когда-то на такие шоу народ ломился, как на цирковые
представления. Играть разом десяток партий не глядя на доску
казалось чудом! Наутро газеты красочно расписывали перипетии борьбы,
не забывая упомянуть, сколько папирос выкурил и сколько чашек
кофе выпил маэстро...
Я вот думаю: уж не благодаря ли этим сеансам шахматисты в глазах
обывателя заслужили харизму «самых умных» людей, да такую
прочную, что пиетет к ним испытывают даже те, кто не в состоянии
отличить слона от пешки!
Эффект от игры вслепую был огромен. Известно, какое шоковое
впечатление произвел на юного Алехина сеанс на 22 досках в
Москве: «Это выступление Пильсбери потрясло меня, как чудо». Но
такое же потрясение испытал от визита Пильсбери в Гавану и Капа-
бланка: «Я был тогда очень слабым игроком, но легко представить
себе впечатление, произведенное на богатое воображение ребенка
человеком, который мог играть вслепую 16 и более партий в
шахматы и одновременно вести несколько "слепых" партий в шашки и
партию в вист».
Сколько новых поклонников приобрели шахматы благодаря
сеансам одновременной игры вслепую! Вот что писал поэт Петр
Потемкин, участник рекордного сеанса Алехина в Париже на 28 досках
в феврале 1925 года:
«Более двух тысяч человек сменяли друг друга с 10 часов утра до 11
вечера, когда Алехин наконец объявил мат в 6 ходов своему
последнему противнику. И, конечно, больше половины этих зрителей не
умели расставить шахматы на доске (выделено мной. — СВ.). Но все они,
как зачарованные, стояли и, ничего не видя из-за давки, внимательно
слушали, как спикеры диктуют Алехину ходы и как русский маэстро,
почти не думая, отвечает.
Эта невероятная способность человека удержать у себя в голове
"беспроволочные" фотографии досок и фигур, эта колоссальная
память, позволяющая ему запомнить тысячи комбинаций и миллионы
ходов, казались зрителям колдовством. Там, на эстраде, скрытый
высокой спинкой кресла, сидел кудесник» («Последние новости»,
Париж, 3.02.1925).
192
Становление
Но в СССР игру вслепую объявили «вредным трюкачеством» и с
нелегкой руки Крыленко в конце 20-х запретили под предлогом, что
она вредит здоровью. Научно сей факт не доказан, но миф о ее
пагубном воздействии столь прочно въелся в сознание, что охотников
дать сеанс вслепую по сей день не находится. Я не говорю о сеансах
на 20, 30 и т.д. досках, что требует запредельных нагрузок, но сеанс
на 8-10 досках под силу многим гроссмейстерам. И, на мой взгляд,
один такой сеанс, показанный по ТВ, особенно если в нем примут
участие «медийные лица», с лихвой перекроет любой супертурнир с
точки зрения пропаганды шахмат.
Ошибка памяти
Весной 1916-го, перед отъездом на фронт, Алехин совершил турне по
Украине. «Гвоздем» его выступлений были сеансы вслепую, или, как
писали на французский манер, - a Taveugle. Алехин обычно
проводил по восемь партий, и очень успешно. Сеанс в Одессе он выиграл
со счетом +7-1, в Киеве и подавно +8. Но это не значит, что для него
Фотографию с приветствием югославским шахматистам Алехин прислал Оэрену
Недеяьковичу специально для этого альманаха. Из архива В. Соколова (Германия).
Тайны «слепых» шахмот
193
такие выступления были обычным шоу, В Одессе сеанс закончился
только в четыре утра!
Приводимая ниже партия с Гринбергом как раз из того сеанса. По
возвращении в Москву Алехин прокомментировал ее - на скорую
руку - в «Новом времени» (27.05/9.06.1916). И вряд ли бы когда-нибудь
вернулся к ней, если б не гастрольная поездка в Югославию зимой
1930 года и... не ошибка памяти, связавшей эту партию с другим
сеансом. Клубок довольно запуганный, начнем разматывать издалека.
Вспоминает мастер Озрен Неделькович, с которым Алехин
беседовал в Белграде:
«Чемпион остановился, некоторое время молча смотрел на меня, а
потом вдруг резко бросил:
- Как вы удосужились поместить такую плохую мою фотографию
в своем учебнике?
Я ответил:
- У меня не было другой! Я писал вам, просил выслать, но вы даже
не ответили мне.
Алехин понизил голос и почти нежно сказал:
- Я не знал вас! Если вы будете снова издавать книгу о шахматах,
сообщите мне и получите хорошую фотографию. И еще я пошлю вам
анализ какой-нибудь партии. Гонорар мне не нужен. Я хочу сделать
свой вклад в развитие югославской шахматной литературы.
Единственное, о чем я попрошу, чтобы вы прислали мне книгу, когда она
выйдет из печати.
Действительно, для "Шахматного альманаха 1939 года" Алехин
прислал мне прекрасную фотографию с приветствием югославам, а
также анализ одной из своих партий, нигде ранее не
опубликованный» («Шахматы в СССР» № 9, 1967).
Час от часу не легче: попробуй-ка найди этот довоенный
альманах!.. Но судьба подкинула спасательный круг. В той же подшивке я
увидел партию Алехин - Гринберге неизвестными мне алехинскими
примечаниями, но главное — с указанием, что впервые они увидели
свет в «Шахматном альманахе» О.Недельковича. Это была та самая
партия! Журнал перепечатал ее - как оказалось, с купюрами - из
книги «Друзья и соперники» (1967), посвященной дружбе
шахматистов России и Сербии. Но как она туда попала? Объяснение нашлось
в самой книге: «Партия эта была сыграна в Одессе в апреле 1916 года
в сеансе одновременной игры из 10 партий не глядя на доску. Весь
сбор от сеанса Алехин передал Комитету содействия борющемуся
сербскому народу, образованному тогда в Одессе».
Всё верно, кроме одного: сеанс вслепую на 9 (а не 10) досках, сбор
от которого пошел в фонд помощи «Одесса - Сербии», был не в
апреле, а в октябре 1916 года, во время второго приезда Алехина!
194
Становление
...А и впрямь нет худа без добра: не спутай Алехин эти два сеанса
вслепую, он бы не прокомментировал заново партию с Гринбергом и
мы не имели бы возможности наглядно увидеть, что дважды войти в
одну и ту же «аналитическую реку» не под силу даже гению!
Публикация в «Новом времени» важна не только для сравнения оценок,
но и тем, что в ней указан правильный текст партии. Альманашные
примечания отмечены буквами «ША».
№ 9. Королевский гамбит С30
АЛЕХИН - ГРИНБЕРГ
Сеанс вслепую на 8 досках
Одесса, 14/27.04.1916
Комментирует А.Алехин
1 .е4 е5 2.f4 £c5 3.-f3 d6 4.
i.c4 £>c6 5.<5k3 £>f6 6.d3 <£a5.
«ША». Лучше и привычнее здесь
6...^g4 или 6...Де6. После хода в
партии и последующего размена
белые получают преимущество в
центре.
7.Йе2 £>:с4 8.dc #e7 9.f5
jLb4. «ША». Отсюда слон не
может больше помешать удобному
развитию белых, ибо в будущем
всегда возможен ход ДеЗ, в то
время как конь сЗ держит под
постоянной угрозой поле d5.
10.£d2 id7 11.0-0-0 аб.
«ША». Мой партнер - как
стало ясно из дальнейшего течения
партии, не столь уж слабый
любитель, - теряет здесь один-два
темпа, которые он мог бы
использовать лучше, чтобы
завершить развитие фигур. Но эта
медлительность вполне отвечала
духу времени: в те годы, когда
игралась эта партия, еще
недостаточно хорошо понимали
значение темпа в шахматах.
12.She1 h6 13.h3 £c6 14.
Wd3 jL:c3. Разменяв на с4,
черные не сумели использовать
сдвоенные пешки противника,
который теперь создает игру,
пользуясь открытой линией «d».
«ША». Из двух зол -
разменяться или допустить вторжение
коня на d5 - это меньшее.
15.£:сЗ 0-0-0 16.д4 &Ь8
1 7.Ь4. «ША». Прямая атака в
поисках мата, понятная и
вполне уместная в сеансах не глядя на
доску.
В турнирной практике белые,
вероятно, стремились бы к
инициативе там, где имеют
преимущество в развитии, то есть на
королевском фланге.
1 7...£>d7 I 8.Ше2 Ь5 19.а4!
Этим ходом белые начинают
красивую комбинационную игру.
«ША». Иначе бы черные
сыграли 19...£fo6 и захватили
пункты а4 и с4.
19...Ьа.
Тайны «слепых» шахмат
195
20.Sd5! Очень интересная
позиционная жертва качества,
последствия которой нелегко
рассмотреть за доской.
«ША». Я уже много раз
замечал, что при игре не глядя на
доску мышление следует по каким-
то особым, еще не изведанным
законам. Например, в этой
партии идея жертвы пешки с целью
перебросить ладью на линию «а»
или, в случае принятия жертвы
качества, бросить коня в атаку
на черного короля -
потребовала бы длительного и тщательного
расчета многочисленных
вариантов. Между тем я решился на
эту жертву почти молниеносно,
интуитивно почувствовав, что
получу за качество вполне
достаточную компенсацию.
Компьютер оценивает
возникающую позицию в пользу черных.
20...j^:d5 (угрожало 21.На5)
21 .ed. «ША». С угрозой 22.с5.
21 ...ФЬ7 ггЛъг. «ша». Не
22.&d4 из-за 22...Wg5+ (после 23.
Ad2 конь попадает на сб). Если
теперь последует 22...ША5, чтобы
предотвратить вторжение белого
коня, то £к!2-е4 и т.д.
22...ДЬ8. Нехорошо и
напрасно. Логичнее было 22...£Мэ8 (с
угрозой с7-с5) или 22...Па8.
23.-d4! Wh4. «ША». Этот
неожиданный выпад - неплохой
контршанс; при пассивной игре
белый конь занял бы
доминирующее положение на сб, что
быстро решило бы исход поединка.
24."ч:6 #:h3. Опасаясь ата-
Ю1 25.Да1, Н:а4, с4-с5 и т.д.,
черные решаются отдать качество.
«ША». Для спасения качества,
конечно, уже нет времени.
Кроме того, черные угрожают
неприятным шахом (25...аЗ+).
25.2а1 - f6 26.2:a4. К
ничьей вело 26x5!у например: 26...
W:g4 27.£)а5+ Фа7 28.£)с6+ или
26...dc 27.£):b8 £:d5 28.Ш:а6+
Ф:Ь8 29Л:е5 ШеЗ! и т.д. Теперь
же у черных выигранная позиция.
26...Ш:д4. «ША». Черные не
только выиграли две пешки, но и
ввели в игру своего ферзя.
27.ШМ (угрожая 28.П:а6 Ф:а6
29.Ша1+) 27...2а8. «ША».
Защищаясь от прорыва 28.с5.
28.Ь5! «ША». В тактическом
смысле это труднейший ход в
партии, но не из-за
продолжения, которое имело место далее
и которое не так трудно было
рассчитать, а из-за возможного
ответа 28...£>:d5. Основной
подготовленный вариант был таков:
29.Д:а6! П:а6 ЗО.Ьа+ Ф:с6 31.cd+
*:d5 32.ШЬ5+ Фе4 33.Wd3+ *f4
34.iLd2#. Однако черные могли
на 29.П:а6 играть сильнее - 29...
4^:сЗ, после чего белые должны
были бы выбирать между ничь-
196
Становление
ей посредством 30.<£>а5+ ФЬ8 31.
<5}с6+ и игрой на выигрыш путем
ЗО.Ша1 (30...£)dJ+ вынуждает
ничью). Правда, этот ход был не
таким уж рискованным.
После продолжения,
избранного черными, события
развиваются форсированно.
В основном варианте вместо
«кооперативного» 31...Φ:ά5?? вы-
игрывает 31...ФЬ6(с5)! Но и
белые вовсе не обязаны играть 29.
2:а6? — правильный путь указал...
сам Алехин в «Новом времени»!
28...ab. На 28...£):d5
последовало бы 29.ШЫ!
В случае 29...е4 (29...&:сЗ? 30.
£)а5+, но не ЗО.ФхЗ? е4/,
выигрывая) 30.cd ab у белых приятный
выбор: форсировать ничью - 31.
Wfl (31...Ьа 32.ШЬ5+ Фс8 33.
&е7+) или попытать счастья
ходом 31.ЛЬ4.
29.£Ь4! Фс8. Ошибка,
превращающая карету в тыкву/
После 29...Ш/4!лишнее качество
должно было сказаться.
30.с5. «ЩА» Наконец
открывая ферзю путь в лагерь
противника.
ШашткыА тдоннръ состоявшая въ Лнтературяомъ клуэ*.
Алехклъ пгр&огь однопрсм^шю съ 20 противниками.
Весь сбор от этого сеанса Алехин передал в пользу шахматистов, находившихся в
немецком плену. Рисунок из газеты «Одесские новости» (15/28.04.1916).
Тайны «слепых» шахмат
197
30...Wg3. Для альманаха Алехин
подсократил финал (в таком виде
партия и в мегабазе ChessBase):
30...*g5 31.Ш:Ь5 £:d5 (ничего
лучшего нет) 32.#Ь7+ (решало
32.cd! <5):b4 З3.£)е7+, теперь же
ничья) 32...&d7 33.£>:е5+ de 34.
W:d5+ Фе7 З5.*:е5+ (З5.£:е5!=)
35...Фгё 36.Ш:с7 (черные
погибают, они не могут соединить свои
ладьи) 36...#d8 (упуская победу:
36..Ф%8 37/6 Wgl! или 37.ШЬ7
Ле8 и ФИ7) 37.Wg3 fb (грубая
ошибка; 37...ВИ7!?) 38.Eb7 Hg8
З9.с6, и черные сдались.
31.Ш:Ь5. Теперь партия
черных проиграна. Следует
фейерверочный конец, особенно
примечательный тем, что он был
подготовлен и разыгран a Taveugle.
На самом деле положение
черных выиграно!
31...-:d5 32.«b7+id7 33.
£t:e5+! de 34.W:d5 + Фе7 35.
Hb7 Shb8. Ошибка! К победе
вело 35...<&f6! А сейчас белые
могли вынудить ничью: 36. Wd6+ Фе8
37. Ш:с7 Л:Ь7+ 38. Ш:Ь7, и хорошо
еще, что у черных находится
спасающее З8...йа2+!
Зб.сб Й:Ь7 + . По-прежнему
вею к победе 36...<&f6 (например:
37.Wd7 Wgl+ 38.Ab4 Wd4+ с
разменом ферзей) или 36...Wgl.
37.cbSb8.
38.f6+! Φ:ί6. На 38...gf?
решало 39.Ш+ Фе8 40.Шс6+ Φά8 41.
&е7+ и т.д. После взятия
королем позиция ничейна!
39.Wc6+if540.W:c72:b7+
41 .Ш:Ь7 f6 42.#d7+ ie4 43.
кй2 h5 44.c4 #d3. Только
ускоряет неминуемую развязку.
Белые грозили 45.Wd5+ и
маршем пешки «с» в ферзи. Лучше
было 44...h4.
В этом случае белые тоже
выигрывали: 45.Wd5+ <£f5 46x5 ИЗ
47.с6 Wg2! 48. Wd3+H (лишь ничью
дает 48.Wd7+ Φξ6 49x7 Wb7+ и
ИЗ-И2) 48...Ф%4 49.Wg6+ Φβ 50.
Шс2 и т.д.
Но путь к спасению был: 44...
Wf2!, и белые вынуждены давать
вечный шах!
45.*:d3 + i:d3 46.с5!
Черные сдались (46...h4 47.Де1 h3
48.&g3e4 49.c6nTX).
Из репортажа в «Одесском листке» (16/29.04.1916): «Вчера
любители шахматной игры имели случай наблюдать невиданное
доселе в Одессе зрелище: одновременную игру 8 партий без доски.
В зале Литературно-Артистического клуба были выставлены в ряд
восемь столиков с шахматными досками, а в соседней комнате за
отдельным столиком, на котором стоял только стакан чая, сидел
А.А.Алехин и диктовал свои ходы. Публика, переполнившая зал.
198
Становление
Консультационная партия против В.Владимирова и И·Лорана (19.04/2.05.1916).
В центре издатель «Одесских новостей» И.Хейфец. Стоят: старшина
Коммерческого собрания, где игралась партия, ??, Б. Берлинский, организатор гастролей
Ф.Шпанир и репортер А.Хударский. Из архива С. Ткаченко (Украина).
не без изумления наблюдала непонятное для рядовых шахматистов
явление и поэтому оживленно обменивалась мнениями. За всеми
почти досками велась самая усердная консультация, и в партиях не
было грубых ошибок».
Шок, испытанный публикой, был сродни тому, который пережил
сам Алехин от «слепого» сеанса Пильсбери. Недаром его
гастроли «вдохновили одесских сочинителей на рассказы и стихи,
которые появились в газетах. Одно из стихотворений, посвященное
маэстро, кончается так: "Как дивно он творит поэмы -
несуществующей вражды!" Хорошо пишут в Одессе...» («Новое время», 23.06/
6.07.1916).
Увы, в тех одесских газетах, что я просмотрел, ни рассказа, ни
виршей не оказалось. Не нашел я там и «фотографического снимка»,
сделанного, по словам «Одесских новостей», во время
консультационной партии Лоран и Владимиров - Алехин. Может, канул в
небытие, а может, дожидается своего часа в каком-нибудь старом
семейном альбоме... Но поиски были не напрасны! Наградой мне стал
рисунок, который я впервые опубликовал в статье «Русский сфинкс-4»
на сайте Chesspro. Неизвестный одесский художник запечатлел сеанс
на 20 досках в Л итературно-Артистическом клубе, с которого Алехин
начал свои гастроли...
Тайны «слепых» шахмат
199
P.S. Не успел я тогда (в 2008 году) написать, что снимок, «может,
дожидается своего часа в каком-нибудь старом семейном альбоме»,
как получил имейл от одессита Сергея Ткаченко с известием, что
ему удалось выйти на потомков Василия Владимирова и что у них «в
семье хранится оригинал фото, на котором остановлен во времени
фрагмент партии Владимирова и Лорана с Алехиным из 1916 года».
Вы уже, наверное, догадались, что было в приложенном файле...
Неужели наша мысль и впрямь материальна?!
Загадка «Фельдта»
Присланный снимок успел украсить мою статью, главку я так и
назвал: «Сюрприз из Одессы». Но долг красен платежом. Прошли годы,
и главку «Загадка "Фельдта"» из той же статьи Ткаченко почти
целиком привел — конечно, с моего ведома - в книге «Одесские тайны
Александра Алехина». Что ж, осталось внести в мой первоисточник
необходимые уточнения и дополнения (жизнь не стоит на месте) — и
у нас будет полная картина участия Алехина в Первой мировой войне.
В номере «Шахматного вестника» (№ 19-20, октябрь 1916), на
котором журнал прекратил свое существование, была перепечатана
следующая заметка из «Одесских новостей»:
«После гастролей в Одессе в апреле маэстро посетил Киев и Москву,
а затем отправился на фронт, где в течение нескольких месяцев
находился в качестве начальника "летучки" (летучего отряда) Красного
Креста. На позициях А.А.Алехин самоотверженно оказывал помощь
раненым, часто под неприятельским артиллерийским и пулеметным
обстрелом, и награжден за это двумя Георгиевскими медалями.
Однажды он вынес с поля битвы раненого офицера, за что представлен к
ордену св. Станислава с мечами.
Оказывая раненым помощь в наиболее опасных местах, А.А.Алехин
был дважды контужен, причем второй раз настолько серьезно (в
спину), что ему пришлось пролежать в госпитале г. Тарнополя несколько
недель.
В этом госпитале, уже поправляясь, он испытал сильнейшее
желание поиграть в шахматы. И администрация госпиталя устроила ему
сеанс a Taveugle, едва ли не единственный в истории шахматной игры.
(Вот версия самого Алехина: «По моей просьбе меня часто посещали
различные местные игроки, что дало мне возможность дать целый ряд
маленьких сеансов игры, не глядя на доску» — см. статью « "Слепые "
шахматы» в конце книги.) В госпиталь были приглашены тарнопольские
шахматисты, и против пятерых из них наш маэстро играл наизусть.
Все партии были им выиграны в этом необыкновенном сеансе.
Приводим одну из этих партий, столь же замечательную по
неожиданным красивым жертвам, вынудившим мат, сколь и необычайную
по обстановке, в которой она была играна».
200
Становление
Парадокс, но эта газетная
заметка — в сущности,
единственное документальное
свидетельство об участии Алехина в
боевых действиях, не считая
известной фотографии, где он снят в
военной форме, со знаком
Красного Креста на груди и, как
удалось разглядеть, с погонами
сотрудника РОКК - Российского
общества Красного Креста (а не
«земгусара», как называли
сотрудников Земгора). Никто из
историков не обратил внимания на
то, что, судя по дате в одесской
газете (4/17.10.1916), все
приводимые сведения, в том числе о
наградах, были получены от
самого Алехина, который в те дни
снова был в Одессе. А коли так,
сообщение вряд ли тянет на
официальный документ... Попробуем
опереться на факты.
В заметке не написано, на
каком фронте воевал Алехин. Π озд-
нее он сам укажет - на Галиций-
ском, но для знающих людей это
и тогда не составляло секрета:
город Тарнополь (ныне Тернополь)
находится в Восточной Галиции.
Название фронта позволяет
установить то, о чем умолчал Алехин
силовском прорыве! Возможно, само решение отправиться на фронт
было принято им на волне патриотического подъема, связанного с
тогдашними успехами русских войск.
Вы никогда не задавались вопросом: а как долго воевал Алехин?
Биографы об этом почему-то не пишут, но можно посчитать самим.
12/25 мая он возвращается в Москву из Киева и до отъезда на фронт
играет еще две консультационные партии, датируемые июнем (по
новому стилю). Публикуя их, июньский «Шахматный вестник»
сообщает: «Маэстро А-др А.Алехин не живет в настоящее время в
Москве, а находится на фронте в качестве уполномоченного одного из
санитарных отрядов» (уполномоченные - это сотрудники Земгора
Снимок, видимо, сделан в июне 1916-
го перед отъездом Алехина на фронт.
Слева у него значок выпускника
Училища правоведения, справа — нагрудный
знак Красного Креста, полученный им в
апреле. Л что за блики на погонах?Это
знак Красного Креста. Такие погоны
носили сотрудники Российского
общества Красного Креста (РОКК).
он участвовал в знаменитом Бру-
Тайны «слепых» шахмат
201
и РОКК, выезжавшие в действующую армию). А уже 13/26 сентября
Алехин дает сеанс на 37 досках — и это после тяжелой контузии! в
Москве. Итого три с половиной месяца. Но из них не менее полутора
ушло на лечение и дорогу. Остается два месяца. Прямо скажем,
немного, чтобы успеть заслужить столько наград: все-таки санитары в
атаку не ходят...
Напрасно я сомневался. О том, что «маэстро Алехин дважды
контужен и награжден двумя Георгиевскими медалями», я потом сам
прочитал в приложениях к «Ниве» за ноябрь 1916-го. А
представление к ордену св. Станислава 3-й степени с мечами Дмитрий
Олейников отыскал в РГВИА, в Наградной картотеке служащих РОКК:
карточка № 1222, приказ по XI армии № 902 от 4/17.12.1916. Но в
петербургском архиве в числе награжденных Алехина не оказалось. «Дело
втом, - полагает Дмитрий, - что
награждение шло списком, сразу
за полгода-год, и, судя по
предыдущим награждениям,
утверждалось императором в феврале. Но
наступавший год был 1917-м, и,
весьма вероятно, без ордена
Алехина оставила Февральская
революция».
В одесской газете он назван
«начальником "летучки"
Красного Креста», ту же должность
укажет потом сам Алехин:
«начальник летучки одного из
отрядов Земского Союза» (см. стр.
335). Разница в названии
вызвана тем, что Алехин, по его
словам, попал на фронт «в
качестве прикомандированного к
Красному Кресту» (см. стр. 446).
В приложениях к «Ниве» он
назван, однако, не начальником, а
«помощником уполномоченного
Красного Креста», что оказалось
ближе к истине... Ой, а что
писала о военном прошлом
Алехина эмигрантская пресса! Самую
анекдотичную версию встретил в
варшавской газете «За свободу!»
(2.12.1928): «Годы войны Алехин
Справа — значок выпускника Училища
правоведения с гравировкой: «Законъ.
Respice finem» (He упускай конечной
цели. — лат). Слева — нагрудный знак
Красного Креста в виде щитка,
покрытого белой эмалью и увенчанного
золотой императорской короной. В центре
красноэмалевый крест, вокруг надпись
на церковнославянском языке:
«Возлюби ши ближняго твоего ΐακο самъ себе».
202
Становление
провел на посту коменданта
воздухоплавательного отряда
Красного Креста». Какого-какого
отряда? И только потом до меня
дошло, что это они так перевели
«летучий отряд».
Настоящая должность Алехина
указана в представлении к
ордену: помощник начальника 32-го
передвижного санитарно-питате-
льного отряда ВНС. Что такое
ВНС? Это Всероссийский
национальный союз — политическая
партия, объединявшая русских
националистов разного толка. Ее
главным идеологом стал ведущий
публицист «Нового времени» (той
самой газеты, где Алехин вел
шахматный отдел) Михаил
Меньшиков, а в число руководителей
входил одно время Виталий
Шульгин, известный политический
деятель, который примет отречение
из рук Николая II, а в годы
гражданской войны станет одним из
организаторов Белого движения...
А сколько Алехин пробыл в
госпитале? Согласно газете,
несколько недель. Примерно тот же срок - месяц - привел он в книге
«Шахматная жизнь в советской России» (Берлин, 1921). Казалось бы,
всё ясно... Но позднее, в статье «"Слепые" шахматы», Алехин вдруг
напишет: «Многие месяцы был я прикован к постели в госпитале в Тар-
нополе» (в обратном переводе эта фраза обретет совсем уж
инфернальный характер: «Целые месяцы я лежал неподвижно, прикованный к
постели»). И никто из биографов не удивится: какие «многие месяцы»,
когда Алехина не было в Москве всего три с половиной месяца?! Но
все-таки хочется понять: он сознательно добавлял себе
«мужественности» или и впрямь плохо помнил детали своей жизни и его жалобы на
«ужасную память» — не позерство? Как-никак две контузии...
Теперь - о сопернике Алехина. В «Шахматном вестнике», как и
в одесской газете, указан Фельдт. В книге «Шахматная жизнь в
советской России» Алехин называет его «von Feld». В «Моих лучших
партиях» аристократическое «фон» исчезает, но появляется инициал
Слева - погон сотрудника РОК К в
чине титулярного советника. Справа —
погон титулярного советника Земго-
ра: вместо знака Красного Креста он
имел вензель ВЗС— Всероссийского
земского союза.
Тайны «слепых» шахмат
203
- М, а в немецком издании и буква «т» на конце. Наконец, в па-
новском сборнике фамилия обретает привычное (взятое, видимо, из
«Шахматного вестника») написание - Фельдт.
Выяснилось, что это вовсе не фамилия, а псевдоним. Сначала
думали, что под ним скрыт австрийский военнопленный Леон Штоль-
ценберг - 20-летний житель Тарнополя, который был в госпитале не
то медиком, не то фельдшером и нередко играл в шахматы с
Алехиным. Позднее он перебрался в США, стал фармацевтом и известным
шахматным мастером.
Опроверг эту версию сам «фельдшер»! Из статьи Альбрехта Бушке
«Ранняя шахматная карьера Алехина» («Chess Life», 5.10.1951): «Леон
Штольценберг из Детройта, очевидец сеанса вслепую в
монастырском госпитале Тарнополя в 1916 году, недавно сообщил нам, что
соперник, фигурирующий в книге Алехина как "Фельд", был в
действительности адвокат по имени д-р Фишер».
По-иному выглядит эта информация в книге Уолтера Корна
«Наследие американских шахмат» (Нью-Йорк, 1978): «Леон, работавший
медиком в госпитале Тарнополя во время Первой мировой войны,
исправил ошибку, восходящую к сборнику партий Адехина (Берлин,
1921): партия вслепую, приводимая в ней как Алехин -фонФельд, на
самом деле была играна против д-ра Мартина Фишера, интерна»
(интерн - это студент-медик или молодой врач, живущий при больнице)...
А разгадка лежала на поверхности! Чтобы узнать фамилию
соперника, не надо было ждать откровений Штольценберга, а следовало
Георгиевские медали «За храбрость» имели четыре степени. Алехин получш,
скорее всего, 4-ю и 3-ю.
204
Становление
Фамилия
Предотааленъ къ наград!. Вх 191
λ JLE-X..H Η Ъ
Икя и отчество Александра
Чинъ или зван ι е Тит. Со б.
Постоян. служба, должность
Должность
отр
Г. Μ 125/14. г.
ίο Красному Кресту Поиощн. Начал. 32 перед, санкт. -питат.
. В.К.С.
К'вмъ предстал енъ
Награда ОРА-Сь. Станксл
Прикааъ войск. XI арм. отъ
Примечай! е
3 отед.
4 декабря
т
съ мечами
1916 г. «? 902
Μ—4έ*ι1ϊ ι*
τ ι ^i"j P.* f;"
Представление к ордену св. Станислава 3-й степени с мечами на
титулярного советника Александра Алехина, помощника начальника 32-го передвижного
санитарно-питательного отряда Всероссийского национального союза.
Приказ по XI армии от 4/17.12.1916 № 902. Хранится в РГВИА. Предоставлено
Д. Олейниковым.
просто... заглянуть в шахматный отдел газеты «Голос Руси»
(Петроград, 10/23.10.1916), как это сделал московский историк Михаил
Соколов. Найденную там заметку он опубликовал в своей брошюре
«Неизвестный мир Капабланки» (2018):
«Нижеприведенная партия любезно прислана нам известным
русским шахматистом А.К.Макаровым с фронта. Она играна в одном из
лазаретов, во время сеанса одновременной игры a l'aveugle, данного
нашим юным маэстро А.А.Алехиным, и прочтется, несомненно, с
интересом. Партнер А.А.Алехина — военнопленный, один из четырех
(все-таки четыре/), с которыми устроен был этот сеанс. Памятуя, в
каких условиях играна была партия, мы, конечно, не можем
предъявлять к ней тех требований, которые обычно предъявляются к игре
первоклассных маэстро. Это — просто изящная миниатюра, которая
лишний раз свидетельствует о комбинационных способностях нашего
юного маэстро А.А.Алехина».
Далее напечатана сама партия, ну и, наверное, вы уже догадались,
кто соперник Алехина. В газете даже на двух языках: Фишер
(пленный). Fischer (prisoner)!
Но почему именно «Фельд»? Высказывалась гипотеза, что это
сокращение от «фельдшер». Вполне возможно. Из-за контузии Але-
Тайны «слепых» шахмат
205
хин мог попросту не запомнить фамилию противника - в отличие
от имени, которое слышал чаще. Вот и назвал Фельдом (по-немецки
это еще и поле битвы, и поле на шахматной доске), а для звучности
добавил «фон»...
Странная, запутанная история. Но налет таинственности только
добавляет шарма этой самой знаменитой из «слепых» партий
Алехина (примечания из книги «Шахматная жизнь в советской России»
помечены буквами «ШЖ»).
№ 10. Французская защита СП
АЛЕХИН-М.ФИШЕР
(«ФЕЛЬД»)
Сеанс вслепую на 4 досках
Тарнополь, сентябрь 1916
Комментирует А.Алехин
«ШЖ». Эта партия была сыграна
в сеансе вслепую, данном мною в
1917 году (явная описка)
нескольким любителям в Тарнопольском
монастырском госпитале, где я
из-за ранения был вынужден
находиться в течение месяца.
1.е4 еб 2.d4 d5 З.^сЗ £>f6
4.ed £):d5 5.£)е4. Чаще играют
5.£rf3, но и ход в тексте,
препятствующий 5...с5, не плох.
«ШЖ». Во Всероссийском
турнире 1914 года (в матче за 1—
2-й призы) я сыграл здесь против
Нимцовича 5.<5МЗ. Ход конем на
е4 является новой попыткой.
5...f 5. Ведет к гибельному
ослаблению центра. Лучше было
5...£)d7 в связи с с7-с5.
6.ftg5! Хороший ход,
имеющий целью возможно быстрее
утвердить одного из коней на е5.
6...i.e7 7.£)5f3 сб. Потеря
времени; лучше сразу 7...0-0.
Французская партая.
A. A. Ajcibb*.
A. Alieckin.
БЬлие.
1. е2-е4
2. d2-d4
3. КЫ-чЗ
4. e4:d6
6. КсЗ—е4
8, Ке4-«5
1. Kri-f3
8. КЯ-с5
Фвшеръ (плйнвыЯ)
Fischer (prisoner).
Черте,
е7-е6
*7-d5
K$—AS
тм
П-й
С&-е7
с7-с6
(Μ)
Яп 17 ходогь η парт1в—б ходегь ед-Ьлаво од-
вею ι тою жъ Фигурою (ювемъ). Уже одво это
обстоятельство говорить не ъъ полыя сартвора г-ва
AaexiEB. Съ енлышмъ протввнмкомг τββϊοэвсперм-
serai, вовечво, ве вогуп 1В*гь м$иа.
9. Kgl-f3
ю. en—аз
11. 0-0
12. е2-с4
13. Ccl-f4
14. Ф<11-с2
Ь7-ЬС
Сс8—Ь7
J8—е8
Kd5-ffi
Kb8-d7
Сб-Сб
До послвдвяго момепта чврвые пребывают* η
соегопмв блакенсаго Berttfaii».
15. Ke5-t7!
Коаепъ мин1евосвы4
диграмму.
16. Фе2:е6+
Врать Ферзя, очевндво,
#Х-
П. 0-ffl
Kpg8:<7
ж очовь вффехтвы!. См.
КрП-*6
HftJWi, взъ-β* 17. W3-
Сдиясь
Имя соавтора Алехина по знаменитой «слепой» партии в госпитале Тарнопо-
ля впервые было названо в шахматном отделе газеты «Голос Руси» (Петроград,
10/23.10.1916).
206
Становление
8.£>е5 0-0 9.£>gf3 Ь6 10.
£d3 ДЬ7 11.0-0 Де8. Если
ll...£>d7, то 12.с4 £6f6 13.^g5 и
т.д. (но вместо 12...£\5f6? лучше
12...£):е5 13.£:е5 £>Ь4и с6-с5).
12.с4 ФГ6 1 3.£f4 £>bd7 I 4.
Ше2 с5. Необходимо было 14...
5Ж Ход в тексте позволяет
белым блестяще закончить партию.
15.£>f7!! Угрожая, если ферзь
черных отступит на с8, 16.Ш:е6 в
связи со спертым матом.
15...&:f7 16.#:е6 ! Фдб.
Или 16...Ф:е6 17.<£ig5#. Если 16...
ΦίΉ,το 17.<£>g5,H выигр. Белые
дают мат в два хода: 17.g4! £е4 18.
£ih4#.
Еще одну тайну открыл сам
Алехин. В статье «О прямой
атаке в шахматной партии»,
опубликованной в конце 30-х годов (см.
«На пути к высшим шахматным
достижениям», Москва, 1991), он
признался, что у его комбинации
был идейный предшественник!
Более того, ему давно хотелось
ее осуществить, да всё случай не
подворачивался:
«За два года до Первой
мировой войны в шахматных отделах
Тот самый монастырь в Тарнополе, где
была сыграна партия с «Фелъдтом»
(«Нива» №30, 1916).
европейских газет была
опубликована следующая короткая
партия, героем которой был хорошо
известный проблемист В.Гольц-
гаузен, а жертвой - доктор Тар-
раш: 1 .е4 е5 2.£>f3 £*6 З.Дс4
ЗД6 4.d4 ed 5.0-0 d6 6.£>:d4
£e7 7.£>c3 0-0 8.h3 Де8 9.2е1
<£d7.
Тайны «слепых» шахмат
207
Эта попытка (в других случаях Когда мне стала известна пар-
вполне оправданная) использо- тия, внимание привлекли неко-
вать диагональ h8-al ведет к торые особенности финальной
немедленной катастрофе: 10. комбинации. Это побудило меня
£.:ί7+!Φ:ί7 11 .<йе6!!, и черные попытаться найти в ней законо-
сдались, потому что после 11... мерности, изучение которых по-
Ф:е6 они получают мат в 2 хода могло бы лучше понять механизм
(12.Wd5+ и ШГ5#), а если не забе- начальной фазы борьбы на шах-
рут коня, то потеряют ферзя. матной доске...»
P.S. Оказалось, эту миниатюру Алехин напечатал еше в своем
отделе в «Новом времени» (17/30.11.1912): «Следующая любопытная
партийка была сыграна 7 октября с.г. на сеансе одновременной игры
д-ра Тарраша во Франкфурте. (...) Кто бы мог подумать, что в таком
общеизвестном дебюте на 10-м ходе оказалось возможным
выполнение такой новой и редко-красивой идеи». Матовый вариант он
привел в качестве реального окончания партии.
Вредное трюкачество
Те, кто читал книгу «На пути к высшим шахматным достижениям»,
думаю, помнят текст, которым открывается глава «Партии
вслепую». Но однажды, перебирая вырезки из парижских «Последних
новостей», я увидел статью Алехина «"Слепые" шахматы». Что за
черт: она до боли напоминала тот текст, но при этом - ни одной
совпадающей фразы! Не верите? Можете сами сравнить газетный
(см. в конце книги) и книжный тексты. О том, как «многие месяцы
был я прикован к постели» мутировали в «целые месяцы я лежал
неподвижно, прикованный к постели», мы уже знаем по предыдущей
главке. Дело даже не в фактических несовпадениях, изъятии или
искажении смысла фраз (в том числе ключевых), а в совершенно
другой «руке». Например, Алехин пишет: «Меня тогда в шахматные
клубы не пускали». В книге читаем: «Я сам тогда не имел еще
доступа в шахматный клуб». Вроде тоже по-русски, а сказать так язык
не повернется.
Удивляться нечему: книга была переводной, вот Алехин и «пел с
чужого голоса». Причем оказалось, что книжный текст
практически совпадает с переводом его статьи, напечатанным в «Шахматах в
СССР» (№ 14, июль 1931). Но там из списка сидельцев раштаттской
тюрьмы выпал Селезнев (как и из русского издания книги), а «теперь
уже покойный поэт Потемкин» (П.П.) превратился в «уже умершего
теперь русского шахматиста Н.А.Потемкина», хотя тот жил в Баку и
никак не мог играть в Париже. Есть и прямой подлог, также пере-
208
Становление
кочевавший в книгу: «Что касается художественной ценности игры
вслепую, то последняя, безусловно, невелика». Сравните с
оригиналом: «Что касается художественной ценности "слепых" шахмат, то
она, собственно говоря, меньше, чем их спортивная ценность».
Подоплека появления статьи Алехина в советском журнале -
единственной из всех его парижских статей! - видна в редакционном
послесловии:
«Игра вслепую, как типичное проявление буржуазного
рекордсменства, решительно осуждена советским шахматным движением.
Статья нынешнего чемпиона мира как нельзя лучше подтверждает
правильность позиции, занятой нами в данном вопросе. Автору
статьи с трудом удалось найти единственный и то вымученный довод в
защиту сеансов игры не глядя на доску - в виде ссылки на
"пропагандистское" значение этого нездорового зрелища. Мы полагаем, что
эта ссылка приводится исключительно по соображениям приличия,
"для красного словца", ибо рассчитывать на привлечение кого-либо
к серьезному изучению шахмат (на самом деле Алехин говорит о
«распространении шахмат» и «признании их общественной ценности», но в
журнале эту фразу выкинули) при помощи подобного трюка то же
самое, что вербовать поклонников куроводства посредством
петушиных боев или "пропагандировать" математические науки показом
феноменов-счетчиков.
Давая место статье Алехина, представляющей известный интерес
с точки зрения дезавуации игры вслепую, как заведомо мнимого
искусства, редакция обращает внимание читателей на
замаскированно-рекламный характер этого литературного выступления. Нельзя
считать случайностью появление настоящей статьи в печати как раз
после того, как бельгийский шахматист Колтановский поставил
новый мировой рекорд игры вслепую, успешно сыграв не глядя на
доску одновременно 30 партий. "Рыцарские" качества покойного Рети
оказывают автору статьи последнюю загробную услугу, вразумляя
буржуазного шахматиста-обывателя насчет "незыблемости" рекорда,
поставленного в свое время Алехиным. Самое забавное, пожалуй, в
этой истории - то, что частному соглашению двух шахматистов
между собой (факт последнего "мог бы подтвердить" Рети) Алехин с
самым серьезным видом придает значение международно-обязательной
То, что целью публикации было развенчание игры вслепую, это
понятно. Но вот зачем перевод вставили в книгу, если ко времени ее
выхода (1932) уже имелся русский оригинал, и не где-нибудь в
Париже, а под рукой? Ведь вслед за «Шахматами в СССР» статью Алехина
напечатал журнал «64. Шахматы в рабочем клубе» (№ 15-16, август
1931) - и, в отличие от коллег, там взяли текст из газеты. Конечно, без
ссылки на первоисточник, с пропуском ряда фраз и легкой правкой
Тайны «слепых» шахмат
209
(вроде «Советской России» вместо «советской России»). Но в любом
случае текст принадлежал перу Алехина, а не переводчика!
Чем же так насолила Крыленко игра вслепую, что он вдарил по
ней дуплетом? Видимо, шумиха вокруг рекорда Колтановского
докатилась до СССР, и он решил руками чемпиона мира сбить волну
интереса к «запретному плоду». Недаром редакционное предисловие
в «64» кончалось словами: «В противовес Америке, благоволящей к
слепым шахматам, у нас они, по выражению Алехина, "запрещены
законом". Жалеть об этом не приходится. Советскому шахдвижению
не под стать сомнительные "средства пропаганды", отдающие
вредным трюкачеством».
В СССР игру вслепую запретили в ноябре 1929-го. Но не
жаловали всегда. Вот что писали о сеансе, которым восхищался весь
шахматный мир: «Недавно Алехин дал рекордный сеанс одновременной
игры "не глядя на доску": 28 (!) партий, из которых всего 3
проигрыша и 3 ничьи. Если, однако, принять во внимание, что сеанс
продолжался без перерыва полсуток (!), то легко представить себе всю
неприглядную картину этого изнурительного и ненужного зрелища.
И недаром чемпион мира Капабланка не позволяет себе таких
нездоровых, хоть и эффектных фокусов» («Известия», 21.02.1925).
Вот свидетельство участника этого сеанса Петра Потемкина:
«Целых тринадцать часов Алехин пролежал в своем кресле. Еда,
подававшаяся ему, осталась нетронутой. Только кофе и папироса за
папиросой, судорожно закуренная, тотчас потушенная и снова
следующая- целый кладдл я сборщиков окурков.
И когда кончился сеанс, Алехина почти сняли с кресла - он не мог
сам встать, тело онемело от долгого лежания и напряжения. Шатаясь,
кланяясь неистовствовавшей публике и протиснутый
распорядителями сквозь толпу, он был вознесен, но не на небо, а на лифте в
верхние этажи, в покои редактора и издателя "Пти Паризьен" (газета «Le
Petit Parisien», в здании которой проходил сеанс) для интервью и отдыха»
(«Последние новости», 3.02.1925).
Теперь об одной побочной находке. В статье Алехин пишет: «Во
время революции мне не приходилось играть вслепую». Да нет,
приходилось! Партию с Гонсиоровским из сеанса в Одессе 1918 года он
даже включил в книгу «Шахматная жизнь в советской России», а
затем в сборник лучших партий. Известно и о московском сеансе,
состоявшемся незадолго до бегства Алехина на Украину. Сохранилась
даже партия из него. Обычно она дается без примечаний, но мне
удалось найти очень интересные комментарии Николая Григорьева. Где?
Взаметке «Нелишнее дополнение», которая в «64» сопровождала
статью Алехина!
210
Становление
«Я никогда не думал, - пишет Григорьев, - чтобы следующая
партия могла увидеть свет. Сама по себе она того мало заслуживает. О
ней я даже забыл. Но когда в статье Алехина я прочел, что ему не
приходилось после революции играть вслепую, тогда я сразу вспомнил и
об этой партии, и о том небольшом "слепом" сеансе, в котором она
игралась. Да, в 1918 году Алехин давал такой сеанс, о чем, наверное,
помнит и Х.К.Баранов, как будто сделавший с гроссмейстером
ничью. В то время я играл уже на 1-ю категорию, в шахматных делах
был искушен, и сеанс из нескольких партий a l'aveugle мне не
казался "чудом". Я знал, что Алехин не собьется, был уверен и в том, что
больший процент он выиграет, но меня занимало другое. "Не может
быть, - говорил я, - чтобы Алехин «слепой» даже эти несколько
партий провел так же сильно, как зрячий". И я отказывался представить
себе, чтобы в процессе борьбы нигде нельзя было его запутать. Я
захотел сыграть, Алехин не возражал, и я присоединился к четырем
другим участникам сеанса. Жалеть мне не пришлось. Течение партии
наглядно подтверждало правильность моих предположений.
Теперь, много лет спустя, я раскопал в своем архиве партию,
пересмотрел ее и решил предать огласке в связи с алехинской статьей.
Надеюсь, что всякий, пробежавший партию, поймет эту связь и на меня
не посетует».
№11. Дебют четырех коней С48
АЛЕХИН - ГРИГОРЬЕВ
Играна 9 августа 1918 года в
Московском шахматном кружке
в сеансе из 5 партий,
одновременно игранных
Алехиным не глядя на доску
Комментирует Н.Григорьев
1 .е4 е5 2.<&f3 £*6 3.£>сЗ <&f6
4.£b5 -d4 5.r :d4 ed 6.e5
dc 7.ef W:f6 8.dc We5 .
Начало сомнительных
экспериментов, на которые против
«зрячего» Алехина, конечно, я бы не
пошел.
9.£е2 £d6(?) 10.£е3 Ь6.
Логическое следствие
предыдущего хода. Кроме того,
заманчиво было спровоцировать белых
на такие осложнения: ll.^d4
Ше7 12.0-0 &Ь7 13.A:g7 2g8 14.
ДО 0-0-0 с атакой у черных за
пешку. Этой провокации Алехин
благополучно избегает.
Какая атака?! После 15.Л:Ь7+
черные попросту без качества:
15...Ф:Ь7 16.ЩР+ и А/6 или 15...
ФЬ8 16.£d4 ШИ4 17.g3 Ф:Ь7 18.
W/3+ и А/6.
1 1 .£f3! 2Ь8 1 2.»d3
(предупреждая Даб) 1 2...iLc5. Следо-
Тайны «слепых» шахмат
211
вало скорее рокировать и на 13.
0-0-0 отвечать 13...ДЬ7.
13.0-0 Д:еЗ 14.2ае1 0-0
15.2:еЗ *f6 16.2fe1 d6.
Положение белых уже подавляюще,
и я, по правде говоря, начинал
опасаться, не слишком ли
далеко зашел и, главное, есть ли хоть
какие-нибудь контршансы...
17.Se7i.f5 18.Wc4. Проше
было 18.Ud2, и если 18...2fc8, то
19.£Ь7!, а если 18...с5, то 19.2:а7
Hfe8 20.2:е8+ 2:е8 2L.fi.c6!,
заставляя черных уступить линию
«е».
В первом варианте гораздо
сильнее 19Ла5!(19ЛЬ7&е6) и
только на 19...JLg6 - 20ЛЫ.
По-видимому, еше сильнее
энергичное 18.Ша6, например:
18...С5 19.#:а7 с угрозой Ш:Ь8. Во
всех этих случаях белые
выигрывали пешку при лучшей позиции.
18...С5 19.iLd5. Теперь уже
19.2:а7 не вело к спокойному вы-
игрышупешки,таккакходом 19...
НЬе8 черные захватывали
важную вертикаль «е».
19...jLe6 20.2:а7 Ь5 21.
Ше4 (более точным являлось 21.
Wd3)21...2be8.
22.©е37 Неудачно защищаясь
от угрозы 22....fi.d7, белые дают
противнику темп и инициативу.
Возможно, что Алехин
рассчитывал на 22.На8, но здесь «увидел»,
что это, как и 22.Wd3?, стоит
фигуры после 22..JL:d5.
Любопытно, однако, что простого
спасения, заключавшегося в 22.2П
или 22.2еЗ, он так и не заметил.
22...д6(!) 23.£:е6 2:е6 24.
Wd2 Wf4. Преимущество
переходит к черным. Лишняя пешка
белых не чувствуется.
25.Wd1 2fe8 26.2:е6 2:е6
27.g3Wc4 28.£g2 2e2.
29.W:d6? Грубейшая ошибка в
сравнительно терпимом
положении. Инстинкт самосохранения
должен был подсказать Алехину,
что никак нельзя допускать шаха
на е4 и что необходимо поэтому
29.*d3! Если тогда 29...#:d3 30.
сс12:Ь2,то31.ФО!ит.д.
29...Ше4+ 30.&ИЗ Wf5+7 В
несколько ходов решало партию
30...2:f2! Хотя доска и была
передо мной, но тут, очевидно, я
просмотрел то же, что и не
видевший доски мой противник: после
212
Становление
ЗО...Д:Г2 опасного шаха на а8 у
белых нет, а потому нет и защиты
от угрозы Wg2+ или ШГ5+.
31 .д4(!) Wf3+ 32.ШдЗ ШБ.
За две пешки у черных все же
есть атака ввиду плохого
положения белого короля.
33.с47 Опять характерный
момент. Глядя на доску, Алехин, без
сомнения, попытался бы
сочетать защиту с контригрой путем
ЗЗ.ШаЗ или ЗЗ.ШЬ8+ с
последующим ШЬ7. «Слепой», он думает
только о защите...
33. ..Ьс 34.2аЗ (34.Ш/4! Л:с2
35.Ш/6=) 34...S:c2 35.ШЬ8+
Фд7 Зб.НдЗ S:f2 З7.а4.
Пешка с одним ферзем уже не сулит
белым шансов на спасение.
37...Wd2. Григорьев не
заметил, что сразу решало 37... Wg5!
38.We5+ &И6(!) 39.2сЗ. Л а
дейный эндшпиль безнадежен:
З9.#е3+ Ш:еЗ 40.П:еЗ Д:Ь2, и
грозит не только Еа2, но и ПЬЗ.
39...f6 40.#Ь8 Wd5.
Угрожая пункту g2 и защищая пешку
с5 на случай Wf8+. У белых
начинается агония.
41.2д3 2е2.
42.а5. Шансы на спасение давало
42. W/4+! с разменом ферзей, после
чего проходная «а» обретала силу.
42...Wd4 43.Wf8+ Фд5 44.
Ша8. Разве только в последних
двух ходах и проявилась
находчивость Алехина: сначала
переместить черного короля на g5,
а потом занять ферзем главную
диагональ, откуда он
обстреливает поля d5 и hi.
44...Wd2(!)45.WhlW:a546.
Wd5+ ZeS 47.Ш:с4 Wd2 48.
b3 Wf2 49.Wc1 + Iff 4 50.Wd1
ih6 51.Hf3 Se3 52.2:e3
Ш:еЗ+ 53.ig2 <£>g5, и черные
вскоре выиграли, прорвавшись
королем вперед.
На этом Григорьев
заканчивает примечания. Но окончание не
лишено интереса: 54.b4 cb 55.
Шс18 Ше2+ 56.*gl ШП (избегая
взятия пешки g4, Григорьев,
видимо, хотел использовать ее для
защиты от шахов либо опасался
патовых ловушек с жертвой
ферзя) 57.Шс16 *h4 58.g5 Wg4+ 59.
*hl Ше4+ 60.*gl Ше1 + 6l.*g2
Ше2 + 62.*gl β 63.Шс17 f4 64.
W:h7+ *:g5 65.h4+ *g4 66.#:g6+
ФИЗ, и только тут белые сдались.
Аналитический чудо-модуль?
213
В том же 1918 году Алехин провел даже один слепо-зрячий сеанс
одновременно сыграл 20 партий плюс две вслепую (см. главу «На
квартире Сабурова»), Я думал, этот случай в его практике
уникальный, но потом узнал об аналогичном сеансе в Софии в 1936 году,
причем количество очных досок там было вдвое больше!
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЧУДО-МОДУЛЬ?
Шахматистам свойственно бесконечно шлифовать примечания к
своим партиям. Даже не знаю, чего в этом больше: то ли извечной
тяги человека к совершенству, то ли тщеславного желания выглядеть
непогрешимым? «Можно лишь гадать, - усмехался Давид
Бронштейн, — какая доля правды остается в комментариях, которые
делаются для сборников избранных партий (особенно сейчас, когда всё
выверяется на компьютерах)».
Алехина в использовании силикона не заподозришь, хотя многие
его анализы в «Моих лучших партиях» поражают прямо-таки
компьютерной точностью (удивляться тут нечему: по свидетельству
Романовского, «над каким-нибудь одним анализом он был способен проводить
несколько вечеров»). Тем интереснее случаи, когда этот аналитический
чудо-модуль давал сбои. Иной раз не верится, что Алехин в анализе
действительно допускал такие промахи... Уж не хочу ли я сказать, что
он нарочно проскакивал «узкие места» в надежде, что и другие их не
заметят? А почему бы и нет?! Это сейчас достаточно врубить компьютер,
чтобы ткнуть любого гроссмейстера носом в ошибку. Тогда
анализировали по старинке, «токмо и едино своим умом и своим расчетом», и
опровергнуть мнение корифея было мало кому под силу.
Сразу оговорюсь. Я не просматривал насквозь алехинский
сборник, чтобы с помощью аналитических программ отыскать ошибки в
примечаниях. Пристальнее вглядеться в какие-то шедевры меня
побудили новые - точнее, неизвестные доселе — комментарии самого
Алехина, которые удалось найти.
Начнем с детектива. Не потому, что мне не дают покоя лавры Агаты
Кристи, - просто эта история, на мой взгляд, неприлично затянулась.
Мистификация века
Партия с пятью ферзями до сих пор окутана таинственным
флером. Даже Гарри Каспаров в «Моих великих предшественниках»
называет ее «одной из загадок шахматной истории,
партией-легендой, то ли сыгранной на самом деле, то ли выдуманной будущим
чемпионом мира». Хотя если сопоставить факты (почти все они давно
известны), выяснится, что не такой уж это бином Ньютона!
214
Становление
Вспомним, откуда шахматный
мир узнал об этом шедевре. Из
сборника «Мои лучшие партии.
1908-1923* (на русском языке он
вышел в 1927 году). В
примечаниях к партии Тарраш - Алехин
(Петербург 1914) после ходов 1.е4
еб 2.d4 d5 З.^сЗ 4Mb 4.£g5 ДЬ4
5.ed читаем:
«Этот вариант понемногу
вышел из моды. Сейчас
предпочитают играть на прямую атаку
посредством 5.е5 h6 6.Дс12 Д:сЗ
7.bc <йе4 8.Wg4 <£>β! 9.h4 и т.д., но
турнирная практика последних
лет (а в особенности некоторые
партии, игранные Таррашем за
черных) показала, что в этом слу-
А-Д|уь А. Алехинъ (черные).
Н, Д. Григорьева (бЪлые).
Положен ie въ одномъ изъ
вар^антовъ партии.
чае у черных достаточно ресурсов
для защиты.
Интересно и продолжение
Чигорина: 5.е5 h6 6.ef hg 7.fg Sg8 8.
h4 gh с более сильным ходом 9.
Ifg4! (вместо 9/th5).
I февраля 1916 Г.
4-ый год-ь
Шахматный Штн
№3.
Положите av овнокъ κτν
taptjtoowv п»рпн.
Москва.
Партию с Григорьевым, в одном из вариантов которой вознигепа эта знаменитая
позиция с пятью ферзями, Алехин прокомментировал еще в «Шахматном
вестнике» (№ 3, 1916). Как видите, диаграмму даже вынесли на обложку журнала!
Аналитический чудо-модуль?
2/5
Одна из игранных мною партий
(Москва 1915) продолжалась
следующим образом: 9...Де7 10.g3!
с5 (лучше Ю...ДА5) 11.gh cd 12.
h5! dc 13.H6 cb 14.НЫ Ша5+ 15.
Фе2Ш:а2 16.h7#:bl 17.hgW+£>d7
18.#:f7 Ш:с2+ 19.ФО &c6! 20.
tgxe6+ Фс7 21.144+ ФЬ6 22.
tee3+iLc5 23.g8Wbl«.
В этом умопомрачительном
положении белые выигрывают
тихим ходом 24.2h6!! (грозя Wd8#),
ибо если 24...Ш:П, то 25.Wb4+
ШЬ5 26.Wd8+ Фаб 27.ШаЗ+, и мат
в два хода. Положение,
получившееся в партии после 23-го хода
черных, вероятно, единственное
в истории шахмат!»
Одно непонятно: зачем было
прятать этот шедевр в
примечания? Может, Алехина смущало
отсутствие имени соперника,
которое он по каким-то причинам
не мог раскрыть? Вряд ли.
Назвал бы «фон Пфельдом», и дело
с концом. Может, защита черных
была не на высоте? И это вряд
ли. Аналитикам удалось найти
только два упущения, и оба
далеко не очевидные.
Находка № 1: атаку отражал
ход 15...ДГС!
Например: 16.h7S:g7 17.Wd4S:h7
18JX:h7 Ш:а2 19.S:b2 Ша6+ или
16.gfW+S:fS 17.П:Ь2ШсЗ.
Каспаров пишет, что «мимо этого
важного момента до сих пор
проскакивали все аналитики; но не
компьютер!» Однако весь этот анализ
есть в сборнике А.Халифмана
«Alexander Alekhine. Games 1902—
1922» (Sofia, 2002), вышедшем на
год раньше 1-го тома «Моих
великих предшественников».
Находка № 2: голландец Тим
Краббе (а не Тимман, как часто
пишут) обнаружил, что после 24.
Sh6!! черных спасает 24....£.g4+!!
216
Становление
Например: 25.«fg:g4 £:еЗ 26.ШМ+
Ш:Ь4 27.#:Ь4+ Фс7, и у белых
только вечный шах. Правда,
Каспаров считает, что после 26.
Ш:еЗ+! #с5 27.#gf4 они
«сохраняют заметный перевес»...
Причина алехинской
«скрытности» отыскалась в
«Шахматном вестнике» (№ 3, 1916). Там
была напечатана партия
Григорьев - Алехин и в примечаниях
к ней указан... тот самый
вариант с пятью ферзями! Приведу
ее полностью, поскольку ни в
«Моих лучших партиях», ни в
книгах Котова и Панова ее нет.
Конечно, это не самая яркая
партия в карьере Алехина, но не будь
ее, история появления на свет
фантастической позиции так и
осталась бы «одной из загадок
шахматной истории».
№ 12. Французская защита С12
ГРИГОРЬЕВ - АЛЕХИН
Турнир Московского
шахматного кружка,
13/26.11.1915
Комментирует А.Алехин
1.е4 еб 2.d4 d5 З.^сЗ £tf6
4.jLg5 ib4 5.e5 h6 6.ef hg
7.fg Sg8 8.h4 gh 9.Wg4!7
Новый ход. Обыкновенно здесь
играют 9.Wh5 «fffi 10.S:h4 W:g7 11.
<ЙГЗ (на 11.0-0-0 лучший ответ —
11...Де7! с последующим
разменом ферзей на g5). Ход в партии
имеет целью возможно дольше
удерживать пешку g7,
оказывающую несомненное давление на
игру черных. Однако по данной
партии видно, что
последовательное проведение этого плана
влечет за собою отсталость в
развитии, являющуюся для черных
вполне достаточной
компенсацией за временное стеснение на
королевском фланге.
Вот он, ключ к разгадке! Из
текста следует, что автором хода
9. Wg4 является не Алехин, как
могли подумать читатели «МЛП»,
а Григорьев. Указанный же в
скобках ход 11...&е7! отсылает нас к
партии Малютин — Алехин
(Всероссийский турнир любителей,
1909) — единственной в
практике Алехина, где встретилось это
продолжение. Вы спросите, что
это доказывает ? Скоро узнаете.
9...i_e7. Единственный
правильный ответ. Как при 9...е5(?)
10.«h5 ed \\.Ш1 £>d7 12.аЗ &а5
13.0-0-0, так и при9...1Ш0.Д:Ь4
W:g7 ll.lf:g7 S:g7 12.2h8+ *d7
13.£Ю у белых получалась
лучшая партия.
Во втором варианте «черные
уравнивают игру путем 12...£β»
(Каспаров). Между прочим, этот
ход «со сложной игрой»
рекомендовал еще ВЯюблинский в статье
«Пять ферзей на шахматной
доске» («Смена», октябрь 1954).
Аналитический чудо-модуль?
217
10.g3(!) Грозя образовать
вторую проходную пешку, так как
10...hg очевидно плохо из-за 11.
Ih8.
10...С5 11.0-0-0. На 11.gh я
собирался сыграть 11...ДЛ5,
поскольку 1 l...cd повело бы к
весьма трудно учитываемым и вряд
ли выгодным для черных
осложнениям. Вот, например, один из
фантастических вариантов,
возможных при этом продолжении:
12.Н5! dc 13.H6 cb 14.НЫ Ша5+
15.Фе2Ш:а2 16.Н7 Ш:Ы 17.hg#+
<4>d7 18.#:f7 Ш:с2+ 19.Ф0 Феб
20.«fgxe6+ Фс7 21.Ш+ ФЬ6 22.
ffee3+Ac5 23.g8lfbI«r.
В этом положении, несмотря на
то что у белых лишний ферзь за
слона, выигрыш для них
благодаря исключительной
запуганности позиции найти нелегко. Но
все же он, по -видимому,
достигается ходом 24.2h6!!, так как
черные на это не могут брать
ферзем Ы слона (если 24...Д:еЗ?, то
25.#d8+ Фс5 26.1ffd6+ *d4 27.
W8f6+, и мат на следующем ходу)
из-за 25.ШЬ4+ Фс7 (если 25...
tb5, то 26.Wd8+ Фаб 27.ШеаЗ+,
и мат в два хода) 26.Wg3+, и мат
в несколько ходов.
Итак, круг замкнулся. До
партии с Григорьевым (ноябрь 1915)
Алехин не мог даже начать
анализировать вариант с пятью
ферзями, возможный только при 9.
Wg4; а в комментариях к партии
(февраль 1916) он приводит
«фантастический вариант» всего лишь
как один из возможных, а не
случившийся за доской. Между тем в
сборнике Алехин прямо указал
место и год рождения шедевра:
Москва, 1915. Отсюда вывод: такой
партии в реальности не было, это
плод гениального анализа!
Увы, перед нами банальная
мистификация. И странно, что об
этом промолчал Николай
Григорьев. Уж он-то никак не мог
забыть, что диаграмма с пятью
ферзями красовалась на обложке
«Шахматного вестника» (№ J,
1916) с подписью: «Григорьев -
Алехин. Положение в одном из
вариантов партии».
Да, но ведь Алехин здесь играет
черными. Откуда же Котов взял
партию Алехин — NN, которая с
его подачи пошла гулять по
свету? Оказывается, дали маху еще
в «Шахматном листке» (№ 17,
1927): анонсируя английское
издание алехинского сборника, там
попросту вынули партию из
примечаний и тиснули отдельно.
Забыв задать себе вопрос: а что,
собственно, мешало сделать это
самому автору?
А причина-то была! Если
внимательно изучить примечания, то
мы увидим, что Алехин очень
аккуратен в словах: «Одна из игранных
мною партий... В этом умопомра-
218
Становление
нительном положении белые
выигрывают...» Про то, кто играет
белыми, молчок! Может, этим и
объяснялось молчание Григорьева?
Ведь его «авторские права»
формально нарушены не были
(недаром Алехин был правоведом), ну а
то, что это всего лишь вариант из
партии, так об этом можно
только пожалеть...
Прежде чем продолжить
расследование, досмотрим до конца
партию.
11 ...<£с6 1 2.dc Wa5(!)
Между прочим, и во избежание
возможности £te4.
13.ФЫ. Мало сулило
заманчивое 13.Л.И4 (в расчете на 13...
±h4? 14.gh Ш:с5 15.Wg3 Ше7 16.
£)Ь5) из-за 13...&d7!, и если 14.
ЛН8, то 14...0-0-0.
13...е5? До сих пор черные
вполне основательно
воздерживались от этого ослабляющего
их центральную позицию хода;
но здесь они, отбросив всякие
позиционные соображения,
соблазняются комбинацией, или,
вернее, ловушкой, которая при
правильном ответе противника
могла бы иметь для них крайне
неприятные последствия.
Правильно было 13...^f6 14.
£}Ь5 Фе7! с последующим E:g7,
после чего сильное пешечное
положение в центре, два слона и
шансы на атаку на королевском
фланге должны были бы, на мой
взгляд, безусловно повести к их
победе. Это продолжение
достаточно иллюстрирует
несолидность любопытной новинки 9.
*g4.
Забавная эволюция в оценке
хода 9. Wg4: тут он «несолиден», а в
«Моих лучших партиях» уже
«более сильный», чем 9. ШН5, и
награжден восклицательным знаком.
Конечно, всякое бывает. Но в
данном случае это было вызвано,
думаю, необходимостью:
требовалось встроить «шедевр» в
примечания к партии с Таррашем, а в
качестве иллюстрации к
«несолидному» ходу он, согласитесь,
смотрелся бы странно...
Что касается рекомендуемого
варианта, то у белых есть
реплика 15.Ш/4!? Теперь 15...S:g7?
попросту плохо из-за 16.Wd6+ Фе8
17.Л:И4/(не сразу 17.£)с7+ Ш:с718.
Ш:с7из-за 18...£е5, и белый ферзь
в капкане!) 17...A:h4 18.£)c7+ или
17..Sg8 18.Ла4, а 15...е5 16.Wd2
ведет к размену ферзей, что
затрудняет задачу черных.
14.ШИ5 i.e6 15.£:d5? На
это черные и рассчитывали:
теперь у них получается
решающая атака.
Следовало играть 15.ДИЗ! (ход,
не учтенный мною при 13...е5) с
возможным продолжением 15...
Аналитический чудо-модуль?
219
Д:ЬЗ (или 15...0-0-0 16.W:f7) 16.
<£i:h3 d4 17.<£>d5 с подавляющим
позиционным преимуществом
белых.
1 5...£:d5 I 6.S:d5 &Ь4!
Решающий ход.
17.й:е5. Не хуже и не лучше,
чем всё остальное. Белые не
могут играть 17.Дс4, на что они,
по-видимому, рассчитывали при
15.ft:d5, из-за грозящего после
17...<£>:d5 мата на el, а на
любопытный ресурс 17.а4 черные
ответили бы не 17...&:d5? 18.£b5+
<4>d8 19.Wdl! Фс7 20.W:d5 Ше1 +
21.*а2 fiad8 22.#:f7, и белые
выигрывают, а просто 17...Ш:а4
и на 18.Wh7- 18...S:g7! 19.#h8+
if8 20.2:e5+ *d7 21.ДНЗ + Фс7 с
выигрывающей атакой (д если 21.
Ad3, то 2L.Wa2+ 22.it 1 Ша1+
23.Φά2 &d3! 24.Φ:ά3 Wdl+ 25.
<&c32g4).
17...Ш:а2+ 18.ic1 O-O-O!
Конечно, не 18...fTal+ 19.*d2
ff:f 1 из-за 20.E:e7+ Ф:е7 21 .Ше5+
<4>d8(d7) 22.*d6+ Фс8 23.Ш+,
и вечный шах.
19.£d3 Wal + 20.id2 W:b2
21.ie3.
21...^f6(!) Еще один
небольшой «трюк».
22#f5 ib8 23.2e4 (или
23.W:f6<ad5+) 23../:d3 24.cd
£d4 + 25.if4 «T:f2+. Белые
сдались.
Наверное, Алехин корил себя
потом за то, что спалил ни за
грош драгоценный вариант. Уж
он-то понимал, что публикация в
журнале ставит крест на попытке
выдать вариант за реально
сыгранную партию. Почему же на
это пошел? Видно, понадеялся на
русское «авось», решив, что
номер с разоблачительной
диаграммой если и попал в охваченную
войной Европу, то в мизерном
количестве и давно уже забыт, а
для всех остальных партия
станет настоящим откровением... И
действительно, западная публика
приняла всё за чистую монету.
Но вот как Котов мог
уверовать в подлинность партии?!
Особенно после статьи А.Бушке
«Еще одна разрушенная легенда
Алехина» («Chess Life», январь-
февраль 1951), о которой он не
мог не знать. Видно, желание
любой ценой избежать конфуза
220
Становление
пересилило доводы разума.
Версия Котова напоминает
отчаянную попытку найти спасение в
безнадежной позиции:
«Что это - забывчивость или
желание выдать красивый
вариант, найденный в анализе, за
действительно сыгранную партию?
Мы склонны объяснить это
загадочное явление скорее всего
следующим образом. По-видимому,
все же Алехин когда-то сыграл
такую легкую партию и в
позиции после 23-го хода черных не
сделал выигрывающего хода 24.
2h6!, найденного им
впоследствии при домашнем анализе. В
примечаниях же, написанных в
1916 году, у Алехина нет
указаний, что это встретилось в легкой
партии.
Трудно вообразить, чтобы
шахматист (даже обладающий
фантазией Алехина), анализируя
партию, в состоянии дойти до
такой невероятной позиции с
пятью ферзями да еще отыскать
ошеломляющий ход 24.2h6! Это
соображение в значительной
мере убеждает нас в том, что эта
партия была действительно
сыграна Алехиным».
Странно, что «это
соображение» (на самом деле очень
верное) не подтолкнуло Котова к
более логичному объяснению.
Алехина и Григорьева связывали
дружеские отношения, так
почему бы им после партии не по-
анализировать новый ход 9.Wg4?
Увидели красивый путь,
увлеклись, ведь они оба отличались
страстью к анализу... Может, и
весь «фантастический» вариант
был найден ими совместно?
P.S. Думал ли я, публикуя в
2008 году на сайте ChessPro эту
историю, что вскоре мне
самому посчастливится «наанализи-
ровать» подобный шедевр?!
№13
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
ЛЕВЕНФИШ
16-й чемпионат СССР, 1948
30.2с4. Ловушка, в которую
черные благополучно и
попались.
30...2:ЬЗ?
Константинопольский пишет, что «необходимо
было З0...а5 31.£>е5 Ь5 32.2сс1
ДсЗ 33.2cdl £:d4 34.£>f3 2:f3 35.
E:d4 2:f2 36.2:d5 2с2 37.2:f4 2d8
38.d7 4f7 39.2fd4 Фе7 40.2d3 a4
41.ba ba». Однако после 37.2el!
(со сдвоением по линии «е», а не
«d»!) дни черных тоже сочтены,
например: 37...2d8 38.2de5 2d2
З9.с6 28:d6 40x7 2с6 41.2е8+ с
лишней ладьей.
Так что же, спасения не было?
Вовсе нет: вместо 31...Ь5? верно
31...2:ЬЗ! Варианты один друго-
Аналитический чудо-модуль °
221
го краше: 32.W:f4 a4 33.%5 ПЬ2!
(33...аЗ? 34.£)g4) 34.d7 аЗ 35x6
Де7! (см. 33-й ход) 36.Wg3 a2 37.
c7alW38.c8W+*g7!39.d8W.
Фантастика: на доске пять
ферзей!! Причем, в отличие от але-
хинского шедевра, здесь все ходы
были сильнейшими, а то и
единственными. Последний ход -
тоже не эстетская причуда, а
пролог к эффектной... ничейной
развязке: 39...A:d8 (39...W:d8? 40.
W:f5) 40.2с7+! Д:с7 41 .Ш:с7+ *g8
42/»:h7+ *:h7 43.W:g6+ и т.д.
Осталось сказать, что это
фрагмент из моей книги «Шедевры
и драмы чемпионатов СССР.
1948-1953» (2019).
Суперконцовка
А вот в подлинности другой комбинационной жемчужины из
шкатулки под названием «Мои лучшие партии» можно не сомневаться.
Если для партии с пятью ферзями «очная ставка» с журнальным
прототипом закончилась конфузом, то публикация в одесской газете со
всей очевидностью подтвердила: окончание с Гофмейстером не плод
неуемной фантазии Алехина, а действительно было сыграно, причем
в самый разгар революционной смуты!
Эту концовку Алехин впервые обнародовал в «Одесских
новостях» (13.11.1918). Из газеты мы узнаём ряд важных нюансов.
Во-первых, партия игралась не в Петрограде, как указано в его сборнике, а
в Москве. Во-вторых, указанная там дата - декабрь 1917-го - тоже,
возможно, неточна: в публикации говорится о партии, «игранной
недавно». Но главное - это окончание «маэстро А.А.Алехин признал
лучшей из своих концовок»!
На сегодня шедевр изучен вдоль и поперек. Самый детальный
анализ проделал Каспаров в «Моих великих предшественниках».
Признаться, я об этом подзабыл (хотя и был редактором книги), иначе
никогда бы не взялся за проверку алехинских комментариев. К
счастью, труд оказался не совсем напрасен: оценку одного из вариантов
Гарри Кимовича удалось изменить! Можно было бы ограничиться
этой находкой, но, думаю, вам будет интересно увидеть и тот первый
вариант примечаний из одесской газеты.
Но прежде познакомимся поближе с соавтором концовки.
Вспоминает Левенфиш:
«В 1913 году на углу Невского проспекта и Садовой улицы
появилось "модное" кафе Рейтера. Рядом с бильярдными помещалась шах-
222 Становление
матная комната. Там нередко днем можно было встретить Алехина.
иНа равных'' ему не было подходящего партнера, но зато был
заманчивый противник на дачу вперед - Владимир Гофмейстер, который
и фал в силу хорошего второго разряда. Я давал ему вперед пешку и
два хода. Результат был примерно равный. Алехин давал вперед
Гофмейстеру коня (теперь понятно, почему на диаграмме у белых
отсутствует именно конь!), но зато Гофмейстер отвечал тройным. Размер
ставки зависел только от Алехина. Гофмейстер соглашался на любую.
Ставка была солидная - 50 рублей против 150. Гофмейстер играл на
размены и упрощения, и если ему это удавалось, то Алехин
проигрывал. Но зато если Алехину удавалось запутать позицию, он проводил
замечательные, блестящие комбинации. К сожалению, все эти
партии были утеряны, а между тем многие из них не уступали партиям на
дачу вперед Пола Морфи. Одно только головокружительное
окончание поместил Алехин в первом томе своих избранных партий»
(бюллетень «Турнир памяти Алехина» № 5, 1956).
S:c8+ ШЬ8 6.Ь7+, и выигрывают,
оставаясь с лишней пешкой.
В сборнике Алехин закончил
первый вариант так: 2...£):d6 З.Ь7+
Л:Ь74.аЬ+ё):Ь75.Л:с8п. Но в
книге «Александр Алехин» (1973) Котов
привел любопытную защиту,
указанную шахматистами из ГДР:
2.. W:g2+» 3.1:g2 &:d6 4Jb 7+ &:Ь 7
5.ab+ Л:Ь7 6Л:Ь7 Ф:Ь7, и после 7.
2g7+ Лс7 8.Sg4!/5 9ЛЬ4+ Фа8
10.Л/4 «у белых всего лишь лучший
эндшпиль».
Но железного коня на мякине не
проведешь! Вместо 4.Ь7+ он, чу-
№14
АЛЕХИН - ГОФМЕЙСТЕР
Москва, декабрь 1917(?)
Комментирует А.Алехин
Черные в этом положении
угрожают и 1...5М5(е4), и 1...&П + .
Последовало такое окончание:
1 ,с5! Любопытно, что после
этого хода белому ферзю некуда
будет уйти, если на него нападут.
1...Ь5. Если I...£rf5(e4), то 2.
cb! Если же 1...5ΜΊ+, то 2.ФЫ
&g3+ 3.2:g3 #:g3 4.cb! Ш:с16 5.
Аналитический чудо-модуль?
223
ток попыхтев, выдал на-гора 4.
а5Л с идеей 5.Sgb2 (сдвоение ладей
по линии «Ь» следует
практически на любой ответ черных),
блестяще подтвердив слова Котова:
«Если учесть, что шахматисты
всего мира вот уже более
полувека анализируют эту комбинацию
Алехина, поневоле удивляешься
неограниченности возможностей
в шахматах!»
Каспаров тоже обнаружил ход 4.
а5!?, но считал, что он дает
только ничью: 4...Bd7 5.2gb2 ЛЬ 8 6.
АеЗ ab 7ab A:b6 8Л:Ь6 Л:Ь6 9.
±Ь6ёк4=
Однако ход б.АеЗ явно не
сильнейший: именно из-за него белые
не могли на 9-м ходу взять ладьей.
Выигрывает б.ФНШ — увидеть
такое издали едва ли возможно!
Если 6...f5, то есть 7.Ь7+! (как ни
странно, слабее и 7. Ah2, и 7. Ad4)
7..&:b78.M2, например: 8..А:а5
9А:Ь8 <£с5 Ю.ЛеЗ! ё):а6 П.Ле8
Ab6 12.Ас7+ ФЬ7 13.А:Ь6 ab 14.
Веб! (во 2-м издании «Моих
великих предшественников» в конце
этого вариата в скобках
добавлено: С. Воронков, 2008). Не лучше
6...ab 7.аЬА:Ь6 8Л:ЬбЛ:Ь69Л:Ь6,
и черные теряют пешку /6 (9...
Первая публикация этой феерической
концовки («Одесские новости», 13.11.
1918). Из архива С. Ткаченко (Украина).
Sd8 ЮЛсб! или 9...&с8 Ю.Л:/6, и
нельзя Ю...Л:а5?из-за 11.Л/8).
И все же защита у черных была.
Как всё гениальное, она оказалась
простой: 1...Ле2! (Котов), и
угроза 2...<£#']+ и W:g2n вынуждала
размен ладей - 2Л:е2 £):е2, после
чего выигрывали уже не белые, а
черные!
2.ab! Как будто закрывает для
белых линию. Но это рассчитано
очень далеко.
224
Становление
2...£je4. Если теперь 2...£ΜΊ + ,
то З.ФЫ £ig3+ 4.2: g3 W:g3 5.b6!
W:d6 6.cd 2x2 7.de Д:е7 8.b7+
<£>b8 9.i.h2+2c7 10.Af4!
(прелестный ход и, между прочим,
единственный) Ю...Дс5 ll.g3 £d4 (в
сборнике включены ходы 11...hg 12.
И4) 12.£:с7+ Ф:с7 13.d6+ ФЬ8 14.
d7 ДЬ6 15.gh, и выигрывают.
З.Ьб! Ботвинник: «Алехин
обладал исключительным
комбинационным даром, или, если так
можно сказать, комбинационным
"зрением ". Там, где многие
мастера не видели ничего, кроме
простого маневрирования фигурами,
Алехин шел на жертвы, приводившие к
победе. Разумеется, это "зрение"
давало ему громадное
преимущество (примерно такое же
преимущество имеет в ночном бою
летчик, самолет которого снабжен
радиолокационной установкой), и
он мастерски им пользовался.
Мне кажется, что этим в
основном отличался чемпион мира
Алехин от своих предшественников»
(«Огонек» № 19, 1946).
3...£\:d6 4.cd Sec7. На 4...
Wg3+ последует, конечно, 5.ФЫ,
а не 5.2:g3. И на 5...В:с2 белые
ответят 6.Ь7+ и 7.Д:а7+. Нельзя
и4...аЬ из-за 5.de.
Тут после 5..Ас7+ 6.ФН1 JSg8
белым придется еще повозиться.
Позднее Алехин нашел верный
путь: 5.Л:с8+/ Фа 7 6.de.
Любопытнейшее положение
получалось после 4...Дс7.
Тогда 5.Ь7+ ФЬ8 6.dc+ 2e:c7 7.2:с7
«Т4+ 8.ФЫ!! Обе белые ладьи
под ударом, и брать их черные не
могут.
5.b7+wb8.
6.d7M (для конца еще одна
неожиданность!) 6...ШдЗ+ 7.ih1!
Черные сдались. Замечательный
по трудности и красоте конец.
Жаль, что никто не записал
другое окончание с
Гофмейстером, о котором вспоминал Дуз-
Хотимирский: «Однажды в кафе
"Рейтер" в Петербурге - это
было в 1915 году - Алехин и фал с
первокатегорником
Гофмейстером партию, давая, как всегда,
фигуру вперед. Алехин попал в
тяжелое положение и надолго
призадумался. Противник
предложил ему сложить оружие ввиду
бесполезности сопротивления:
"У меня материальный перевес
в виде двух коней!" Алехин
промолчал. Вскоре он предложил
Гофмейстеру превратить пешку
в третьего коня. Гофмейстер
соблазнился щедростью Алехина и
принял дар - на доске
появился третий конь. Тогда Алехин
объявил мат в шесть ходов (без
третьего коня мат не выходил)*
(бюллетень «Турнир
претендентов» № 13, 1959).
Аналитический чудо-модуль?
225
Не стой ноги?
Считается, что партию с Николаем Зубаревым, которую «Шахматный
вестник» удостоил приза за красоту, Алехин прокомментировал
только в своем сборнике. На самом деле первый вариант его примечаний
увидел свет намного раньше: еще в 1-м номере иллюстрированного
приложения к «Ηовому времени» (7/20.01.1917). Πочему историки их
проглядели? В газете не было указания на переход шахматного отдела
в приложение, и возникло ощущение, будто отдел просто закрылся
из-за трудностей военного времени.
№ 15. Защита Нимцовича Е32
АЛЕХИН - ЗУБАРЕВ
Турнир Московского
шахматного кружка,
21.11/4.12.1915, 9-й тур
Комментирует А.Алехин
1.d4 £>f6 2.c4 еб 3.1x3 £Ь4.
В подобных началах мы
предпочитаем большую замкнутость
игры, так как агрессивность
ведет часто лишь к размену,
выгодному для противника.
Почему же с Рубинштейном
(Петербург 1914) Алехин сыграл
3...&Ь4? Ответ находим у Тарра-
ша: «Алехин выбрал такое начало
не потому, что считает его
хорошим, а лишь с целью выбить
Рубинштейна из колеи».
4.Шс2 Ь6. «МЛП». В этой
позиции фианкетто нельзя
рекомендовать, так как белые
получают сильный центр. Правильно
4...с5, препятствуя 5.е4.
Нимцович оценивал ход 4...Ь6
как «возможный», но лучшим
ответом считал 4...d5!
5.е4! £b7 6.£d3 Д:сЗ+.
Черные берут, очевидно,
потому, что считают невыгодным для
белых взятие пешкой. Но
неужели они думали, что белые когда-
либо предполагали брать на сЗ
ферзем?
Теперь же королевский фланг
черных лишается нужного для
защиты слона.
«МЛП». Чтобы иметь хоть
какой-нибудь контршанс в виде
сдвоения белых пешек. После 6...
d5 7.cd ed 8.e5 <£>е4 9.<£>е2 партия
белых была бы значительно
лучше.
7.be d6 8.^e2 £>bd7 9.0-0
О-О. На 9...е5 последовало бы
тоже 10.f4.
10.f4. «МЛП». Грозя уже
выиграть пешку ходом П.е5.
10...И6 11.^дЗ Ше7.
Нехорошо. Черные должны
подготовить ход е6-е5, так как только
таким путем они могут
парировать нарастающую силу слона d3.
Между тем ход ферзя,
подвергающий его угрозе £¥5, делает
выполнение указанного плана
невозможным. Продолжение Se8,
с7-с5, #с7, е6~е5 было лучше.
Типичный совет на глазок: 11...
Ле8? 12.е5, и черные остаются без
коня. Если начать с П...с5, то
попытка действовать «по плану» —
12.а4 Шс7 снова наталкивается
на ход 13.е5.
226
Становление
12.We2! «МЛП». Подготовляя
13АгЗ, что без этого хода только
бесцельно усложняло игру после
12...£>g4 с угрозой ft:h2.
12...2ае8. Черные заперли
свои фигуры: ладья β и оба коня
не имеют ходов.
«МЛП». Черные закончили
развитие своих фигур, но стоят
недостаточно активно для того,
чтобы успешно
противодействовать последующей атаке белых в
центре.
13.ДаЗ. «МЛП». С сильной
угрозой 14.е5, что вынуждает
черных еще больше ослабить
свою позицию.
13...С5 14.2ае1 &И8
(освобождая место для коня) 1 5.d5!
Не с той ноги, считает
компьютер, предлагая взамен 15.е5.
После 15...2&8 16.^е4 А.е4 /7.
Ш:е4 /5 18. Шсб de 19.fe прямого
выигрыша не видно, но позиция в
пользу белых.
15...<^д8. Теперь видно, как
плохо стоит ферзь на е7: 15...е5
нельзя из-за 16.£tf5 и £>:d6.
«МЛП». Черные не могуг
играть 15...ed из-за 16.£tf5.
16.е5! В сборнике
восклицательный знак к этому ходу снят.
16... g 6. «МЛП». Π од готов л яя
17...ed.
Хорошую встречную игру
давало 16...de 17.fe ed 18.cd Ad5/(не
18..W:e5 19.Wc2! W:d5 20A:e4, и
надо отдавать качество), и если
19 АЫ &:е5 20. Шс2, то 20.../5 21.
£)./5 Wg5 с обоюдными шансами.
Вряд ли Алехин зевнул этот
вариант при подготовке книги.
Почему же не отметил ?
17.»d2! Угрожая 18.de Ш:е6
19.Г5.
17...ed. «МЛП». Если 17...de
18.fe ed, то 19.е6! fe 20.£i:g6 В:П +
21.£}:fl 2β 22.cd, и перевес
белых достаточен для выигрыша.
После 22...Wg7 23.de &z5! 24.
S:e5 Ш:е5 25А/7 <έ%7! 26АЫ с4
Аналитический чудо-модуль?
227
27.£аЗ Лс8 позиция близка к
ничейной.
18.cd de. Если 18...£:d5, то
19.£Ь5 Деб (19...£b720£dJ) 20.ed
ШсВ21.Еит.д.
19.с4! «МЛП». Открытие
большой диагонали для ферзевого
слона белых решает партию в
несколько ходов.
19...&И7 20.£b2! gf6. В
отчаянном своем положении
(любопытно, как белые открыли
диагонали обоим своим слонам)
черные затевают безнадежную
авантюру с матовыми угрозами.
«МЛП». Если 20...А5, то 21.
£:g6+! *:g6 22.Wd3+ f5 23.£>:f5
S:f5 24.fe, и выифывают.
21. fe "g4 22.e6 Wh4.
«МЛП». Последняя попытка!
Если 22...fe, то 23.£:g6+.
Сюрприз от библиофила
Партия с Ильей Рабиновичем - единственная из Всероссийской
шахматной олимпиады 1920 года, которую Алехин включил в свой
сборник. Никто и не знал, что это отнюдь не первая его попытка
осмыслить партию. Речь не о кратких заметках в «Rigasche Nach-
richten», сделанных Алехиным в Риге в мае 1921-го и напечатанных
в грековских «Шахматах» (№ 7, 1924), - о них историки знали, но
не считали имеющими ценность. Нет, жизнь преподнесла сюрприз
покруче: библиофил Владислав Новиков нашел у себя вырезку из
«Известий» (25.02.1923) с неизвестными и очень подробными
комментариями Алехина к партии с Рабиновичем. Причем из трех
вариантов эти - единственные не переводные!
Но каким образом они попали в газету, если Алехин покинул
Россию за два года до этого? Партию опубликовал Николай Григорьев,
который вел в «Известиях» шахматный отдел - лучший в 20-е годы:
«Помещаемая ниже партия, несмотря на ее достоинства, не
появлялась еще, сколько нам известно, ни в русской, ни в иностранной
печати. Сам Алехин ставил ее очень высоко, как видно и из его
примечаний. Последние написаны им вскоре после партии и содержат
много чрезвычайно интересных мыслей».
23.2:f7+! Это разрушает все
затеи противника, ответы которого
отныне вынужденны.
23...S:f7 24.£:g6+! Ф:д6
25.Wd3+ Фд5 26.£с1+.
Черные сдались.
Если 26...Sf4, то 27.Wf5#, а
если 26...*f6, то 27.Wf5+ также с
быстрым матом.
228
Становление
Сравнение этих примечаний
с каноническими из «МЛП», не
говоря уже об
«отредактированных» Пановым, показывает, что
русский оригинал гораздо живее
и интереснее; кроме того, ряд
оценок не совпадает. Думаю, будь
у Алехина под рукой тот номер
«Известий», он бы взял за основу
для сборника именно их (далее
«И»). Кое-какие нюансы есть и в
рижской газете (далее «RN»).
№ 16. Новоиндийская защита Е43
И.РАБИНОВИЧ - АЛЕХИН
Всероссийская
шахматная олимпиада
Москва, 21.10.1920, 13-й тур
Комментирует А Алехин
1-d4 <£>f6! «И». Название этого
дебюта «неправильным»
является лучшим доказательством того,
на какой еще низкой ступени
развития стоит шахматная
теория. Я не удивлюсь, если через
некоторое время ход £tfb будет
признан единственно
правильным ответом на l.d4...
2.£>f 3. «И». Η а 2.с4 я
собирался испробовать «будапештскую»
новинку 2...е5!?
2...Ь6 З.с4 еб 4.£>сЗ £b7
5-еЗ. «И». Предварительное
развитие ферзевого слона здесь не
имеет значения: в лучшем
случае он может быть разменян на
неприятельского коня, а в
худшем — оказаться объектом
нападения черных пешек. В данной
партии белые преследуют другую
цель, как будто подсказываемую
самой позицией, - овладеть во
что бы то н и стало пунктом е4.
5...£b4 6.Шс2 £>е4 7.£d3
f5. «И». Таким образом, черные
свели игру к небезвыгодному
для н их варианту голландской
защиты.
8.0-0. «И». Быть может,
относительно лучше было 8.^d2, но
белые настолько увлечены своим
планом прорыва, что им
некогда думать о таких «мелочах», как
сдвоенные пешки по линии «с».
8...£:сЗ 9.be 0-0 1 0.^d2.
10...ШИ4! «И». Важный ход,
сделанный, однако, отнюдь не
пля непосредственной атаки на
королевском фланге - для
которой пока нет достаточных
оснований, — а главным образом для
защиты пункта h7 на случай еЗ-
е4. На ll.g3 черные могли
ответить как ll...<£ig5!? (12.0), так и
11 ...<2ΐ·ϋ2! с последующим Wh3.
«МЛ Π». Важный ход для
развития. Белые не могут ответить
1 l.g3 из-за ll...£}g5!, и если 12.е4,
то 1 2...fe!, и черные выигрывают.
Агехин не мог забыть о ходе 12.
β. Но его опровергать долго и
скучно, а 12.е4? проигрывает сразу
и очень эффектно!
Аналитический чудо-модуль?
229
Пяртия № 8.— «НслргшиАккоо кМГЯ
Могш**, 21 ottrff* 19S0 τ,
Я. А, Рк$*н*штк k. A. Atft*·,
К 64 — <J4 К g8 — I h\
Bunni я*** дебоп «я^пряжтагчэ
яйиятг я ir*·»*» jtottWTf jkcwu тяго, я* iv
Ml «we Kiafcoi cryureo рвмв^ка ctosr еден.
Ж«рвя. Л Л juej» л есяя через яеяоторы
«t*a* х*д К Г0 6ji»r оя»»яяя «дпстп«*<в
фДмляыя ътятм в* L44_.
г. к el -fa ...
В* !.с4 с гебярахм яедрпбоядп «буд**
—ττηίΓηι ямяяху 2^. ·51?
2. . . . Ъ7—Ь6
ft. ei — с4 #7 — И
4.КЫ-еЗ Сс8-Ь7
а **-е5 ...
Hpenipw. рмвятя· $ίρ*. мояя м*сг ее
»я*?т »я*»тляя*: ι Jf4(0fM еэгчяе, ο ямге?
бмтк рягмеяев η мепр. мгя*. a ■ худиея—
тяяпех ou'errotc itLfifrret чер. пеяид. В
jtnol оартяя Geiuft npeoeiyiDt ιρτη»
Attv, явШ^Судто водеяаиияяец;*! спой аози-
■Brl, |дея>—оиядеп % о «it» бы to вя ct&io
δ. . . . с fa-μ
β. Φ<Μ — е2 Kf« — с*
7. Г f f — <1Я f7— ffi
Τιτπ сСряяоя, пвретл сведе «тру я неВеэ
риодвому ддя mi яарвкт? ivUbiACL пярги ι:
κ υ—ο ...
Неизвестные комментарии Алехина к
партии с И. Рабиновичем из
Всероссийской олимпиады 1920года («Известия»,
25.02.1923). Из архива В.Новикова.
11 .f3 £t:d2 12.i:d2 £>с6.
«И». Позиция черных
настолько прочна, что у них было здесь
и другое сильное продолжение:
12...с5. Сделанный ход рассчитан
отчасти на случившийся в
партии вариант.
«МЛП». Не так хорошо было
бы 12...с5 из-за 13.d5!
13.е4. «И». Наконец-то
белые добились своей вожделенной
цели и тут же должны убедиться,
что на достижение ее совсем не
стоило тратить стольких усилий.
Реально в данной позиции лишь
одно - это слабость белых пешек
ферзевого фланга, остальное же
всё иллюзорно.
13...fe! 14.jl:e4. «RN».
Печальная необходимость: после
14.fe e5 черные получали
значительно лучшую игру.
«МЛП». Белые переоценивают
свою позицию. Правильно было
14.fe e5! 15.d5 £>e7 16.c5! &g6 (но
не 16...be из-за 17.d6 в связи с
18.ШЬЗ+) 17.cbabc почти равной
игрой.
Как мы видим, Алехин изменил
оценку варианта )4.fe e5
(возможно, он не сразу Haiueji ход 16.с5!).
В скобочном варианте важен
порядок ходов. Верно П.ШЬЗ!и
только на 17...ЛаЬ8 - 18.d6. А вот 17.
d6 cd 18. Wb3+ позволяет черным
спасти фигуру: 18...с4! 19.&:с4+
d5!(u если 20.ed, то 20...Щс8).
14...£>а5. «И». После этого
белые уже не могут сберечь своей
красы и гордости - двух слонов,
так как на 15.^d3 последовало
бы 15...Да6 и т.д.
«МЛП». Обеспечивая себе
небольшое преимущество (даже
если бы белые избрали
правильное продолжение 15.Д:Ь7 £>:Ь7
16.ffiel) ввиду сдвоенной пешки
белых на линии «с».
15.2ае1. «МЛП». Этот
непродуманный (у Панова почему-
то «естественный») ход ведет в
потере пешки.
1 5...£:e4! I 6.2:e4 Wh5 1 7.
Ша4. «И». Как показывает ответ,
это - не защита. Но
посредством 17.2е5 Bf5! 18.S:f5 W:f5 19.
W:f5 ef белые лишь могли
свести игру к проигранному для них
эндшпилю.
230
Становление
В сборнике оценка еще круче:
«легко выигранный». В рижской
газете Алехин не столь
категоричен: «17.Ле5 Щ5 (18.g4 Wg6)
повело бы к невыгодному для белых
эндшпилю».
17...<£\:с4! «МЛП». Черные
добились преимущества, но
реализовать его, несмотря на лишнюю
пешку, не так-то просто, ибо у
белых почти нет слабых пунктов.
18.2е2. «И», На 18.Ш:с4 d5
19.Шэ5 выигрывало, разумеется,
19...а6.
18...Ь5 19.»ЬЗ ЙТ5 20.
Sfel Sab8 21.id а5 22.Же4
а4 23.Wd1 Hbe8. «МЛП».
Закрепив доминирующую позицию
своего коня, черные переносят
игру в центр, что является
единственным их шансом, несмотря
на то что и круг действия белых
фигур вследствие этого временно
расширяется.
24.Ше2 с5! «И», На первый
взгляд антипозиционно, на
деле же точно и далеко
рассчитано: черные выпускают на волю
неприятельского слона, дабы он
мог сделаться объектом
нападения их пешек и тем
косвенно способствовать намеченному
прорыву
«RN». Смело, но правильно.
В сборнике больше пафоса, чем
конкретики: «Этот план,
основанный на тщательном изучении
тактических возможностей
позиции, был принят мною
только в ясном предвидении, что
они должны разрешиться в мою
пользу».
25.jLe3cd26.jUd4.
26...е5! «И». Новый сюрприз:
пешку е5 брать нельзя ввиду 27...
d5! Также и вариант 27.Дс5 d5 (но
не 27...d6 28.H:c4! и т.д.) 28.Н:с4
be 29.ii:fS W:f8 в пользу черных.
На хитроумное 28.Sd4!?
находится эффектная жертва ладьи:
Аналитический чудо-модуль?
231
28..ed! 29.Ш:е8 Л:е8 30Л:е8+ Ф/7
31.Л/8+ £$6 32.Л:/5 dd! ЗЗ.Щ4
с2 34.S:c4 dc, и слон бессилен
против армады черных пешек.
27.f4! «И». Интересный
ресурс: на 27...d5 белые сыграли
бы теперь 28.2:е5 &:е5 29.£:е5
или (как я предполагал) 29.fe,
получая чуть ли не шансы на
выигрыш.
«МЛП». Еще сравнительно
лучшее. Белые рассчитывают на
вариант 27...d5 28.й:е5 &:е5 29.
Д:е5 с вполне защитимым
положением.
Славное докомпьютерное
время, когда оценку позиции (то ли
«вполне защитимая», то ли «с
шансами на выигрыш»?) не
требовалось подкреплять вариантами...
27...d6! «МЛП». Защищает
пешку е5 угрозой мата после 28.
fede29.£:e5?£i:e5 30.2:e52:e5 31.
t:e5 *f2+ и т.д.
28.ИЗ. «И». Оживляет
прежнюю угрозу. Черные теперь
защищают пешку косвенным
образом.
28...&е6! 29.fe de. «И». И
все же пешка неуязвима: ЗО.Д :е5?
Hfe8 31.ДП #g6 32.2x4 2:е5!, и
черные выифывают!
З0.£с5! «МЛП». Ход в
партии кажется грозным вследствие
того, что ладья черных не может
уйти с линии «f». Например: 30...
Hd8 31.НА Щ6 32.Sg4 #h6 33.
ШЗ, и белые выигрывают.
Парадокс: даже после ЗО...Ла8?
позиция черных сохраняла
живучесть. Внезапная жертва ферзя —
32...Ше8/ЗЗ.Л[8+ Ш:/8 34A:f8 Л:/8
создает подобие крепости/
Например: 35.Ше4 $)d6! (грозило
ШЬ7) 36.Wd5 Л//6 37.£[g5 e4 38.
Ле5 &f739.g4 Фе7 40.g5 Я&6 и т.д.
Если же разрушить крепость —
35.Л:с4 be 36.Ш:с4, то nocie 36...
Л/fo 37. Ш:а4е4проходная в центре
дает черным хорошую контригру.
30...2f7! «И». При этом ходе
необходимо было высчитать
последующую, довольно
неожиданную контратаку. В видах защиты
достаточно было и 30...fiff6 (31.
гы£к12!ит.д.).
«МЛП». Начало комбинации,
цель которой - добиться
решительной атаки на короля.
31.2Ы. «И». Теперь может
показаться, что белые
окончательно выпутались из беды и
отыгрывают пешку с лучшим поло-
232
Становление
жением. На самом деле: пешку Ь5
защитить нельзя, а по взятии ее
остается без защиты конь,
который сейчас не может идти на d2,
так как будет взят в связи с
угрожающим на 8-й линии матом;
позиция же белого короля
кажется вполне безопасной... И все же
достаточно одного лишь тихого
хода, чтобы разом изменить всю
радужную картину.
31...И6! «И». Вся «атака»
белых после этого кончается. Если
они не возьмут пешку, то
проиграют хотя бы в силу
материального перевеса противника.
Поэтому, конечно:
32.2:b5 -d2!
33.2:а4. «МЛП». У белых уже
нет защиты. На ход 33.2g4
черные выигрывают подобно тому,
как и в партии. А если ЗЗ.ЕеЗ, то
33...Sg6 (имея в виду именно этот
маневр, черные сыграли на 30-м
ходу Bf7, а не ШЬ) 34.ЕЬ8+ (если
З4.йа3, подключая слона к
защите, то 34...£$3+/35.Φη1 Qh4 36.
g4 Шс8 и т.д.) 34...£>h7 35.ЕЬ2
(или 35.W:d2 ШЛ+ 36.*h2 Sf2, и
черные выигрывают) 35. ..£МЗ+ 36.
ФЫШ:ЬЗ+ит.д.
ЗЗ...Шс2! «И». Смертельный
удар. Белые гибнут оттого, что не
могут защитить ладьями 1-й
линии.
34.2b8+&h7 35.&И1 2M +
З6.£д1.
36...H:g1+! «И». В заключение
изящная, хотя и нетрудная
комбинация.
37.i:g1 Шс1 + 38.if2 Ef6+
39.ФеЗ. «МЛП». Или 39.*g3
£ΜΊ+. Теперь черные дают мат
или выигрывают ферзя.
39...£}М +! Белые сдались.
«И». Эта партия, выигрыш
которой практически обеспечивал
мне первый приз, - лучшая из
игранных мной в этом турнире.
Журнал «Шахматы» (№ 7, 1924)
поднял планку еще выше: «Эта
глубокая, превосходно
проведенная Алехиным партия,
закончившаяся блестящей финальной
атакой, должна быть признана
лучшей в турнире».
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Пью за гибель царящей в России бесстыдной и дикой фантасмагории!..
Пусть легенда о непобедимости врага России рассеется так же,
как рассеялся миф о непобедимости Капабланки!
А.Алехин
НА КВАРТИРЕ САБУРОВА
Воспоминания французского этюдиста Виталия Гальберштадта я
приберегал для статьи «Русский сфинкс-8» о злоключениях
Алехина в Одессе в 1919 году, но... работа над другими проектами надолго
отвлекла от алехинского цикла. И когда Сергей Ткаченко попросил
меня быть редактором его книги «Одесские тайны Александра
Алехина», я, поколебавшись, отдал ему все свои находки, связанные с
Одессой (включая Гальберштадта, который там родился), решив:
пусть уж одессит «закроет» эту тему, а я в «Сфинксе» - когда до него
дойдут руки — вообще не буду ее касаться...
Кто ж знал, что в давней статье В.Файбисовича «Прошло сто лет»
(сайт e3e5.com, 2004) я потом встречу «неизвестный доселе факт
приезда Алехина в Петроград летом 1918 года»: «5 июля в петроградском
шахматном собрании (Литейный пр. 46, кв. 18, во дворе) состоится
сеанс одновременной игры А.А.Алехина не смотря на доску против
12 желающих. Начало в 6 часов вечера» («Вечерние огни», 3.07.1918).
Меня как током ударило: ведь Гальберштадт описывает сеанс
Алехина в Петрограде как раз в том году! Значит, это не ошибка памяти...
В одном из номеров (20.06.1918) нашлось объяснение и адресу:
«Петроградское шахматное собрание, ввиду реквизиции занимаемого им
помещения, вынуждено временно переехать на частную квартиру:
Литейный пр. 46, кв. 18». А знаете, чья это квартира? Главы
Всероссийского шахматного союза Петра Петровича Сабурова, сына
сенатора П.А.Сабурова, тоже известного шахматного деятеля, умершего
в апреле..В книге «Шахматная жизнь в советской России» Алехин
пишет, что «петроградские шахматисты на протяжении 1918 года
частенько собирались» на этой квартире.
Прежде чем тянуть цепочку дальше, давайте почитаем
Гальберштадта - его воспоминания я нашел давным-давно в «British Chess
Magazine» (№ 3, 1956):
234
Свой среди чужих
«Петроград, 1918. Я узнаю о том, что Алехин собирается дать
сеанс одновременной игры в шахматном клубе, который располагался
в Финансовом и коммерческом собрании. Несмотря на мою
тогдашнюю крайнюю робость (я еше был учеником), я отправился по
указанному адресу и, после уплаты 50 копеек, был допущен в игровую
комнату. Сквозь невозможно плотные клубы табачного дыма я наблюдал
за импозантным молодым человеком весьма привлекательной
наружности, который в быстром темпе играл одновременно 20 партий плюс
две вслепую. Я расположился за игроком, который вел себя довольно
непринужденно. Алехин подошел к его столику Поскольку игрок
заколебался с выбором хода, Алехин на несколько секунд вперил в него
свирепый взгляд, а потом заявил: "Вы проиграли". Изумление
отразилось на лице игрока - и тогда Алехин без церемоний
продемонстрировал на один возможный ход выигрывающий варианте жертвой
фигуры, сбросив по ходу дела на пол три-четыре фигуры (движения
Алехина уже тогда были несколько нервны). После чего Алехин
продолжил обход столиков, останавливаясь время от времени на
несколько секунд, чтобы продиктовать ходы из своих "слепых" партий».
Одно «но»: из Финансового и коммерческого собрания (Невский
пр., 55) шахматисты еще в 1913 году переехали в здание на Литейном
пр., 10, где Петроградское шахматное собрание просуществовало до
Празднование 1 мая 1918 года на Невском проспекте в Петрограде. Весной
шахматисты собирались в доме № 72, но после реквизиции помещения переехали в
июне на квартиру главы Всероссийского шахматного союза Петра Сабурова,
сына сенатора П.А.Сабурова, тоже известного шахматного деятеля, умершего в
апреле 1918 года...
На квартире Сабурова
235
ноября 1917-го, когда вместе с националистами (в здании
располагался Всероссийский национальный союз) было изгнано
большевиками. Весной - или еше зимой - 1918 года шахматисты вернулись на
Невский, но теперь в дом 72 (судя по указанию в газете: «во дворе
направо, 4 этаж», - это тоже была квартира), а в середине июня обрели
наконец пристанище у Сабурова.
Какой же клуб описывает Гальберштадт? Квартиру он вряд ли мог
спутать с Финансовым и коммерческим собранием. Остается клуб
на Литейном, 10, который Алехин в своей книге, к слову, тоже
называет Финансовым и коммерческим собранием. Но тогда бы сеанс
состоялся еще в 1917-м... Чтобы разгадать ребус, написал Файбисо-
вичу Его ответ расставил точки над «i»: «Гальберштадт в 1918 году был
совсем юным и, возможно, шикарную квартиру сенатора Сабурова
принял за коммерческое собрание».
Выходит, этот сеанс состоялся тоже в июле. Дальше - больше:
в сборнике Л.Скиннера и Р.Верховена «Alexander Alekhine's Chess
Games, 1902-1946» (1998) оказалась партия Алехин - X из «слепого»
сеанса в Петрограде, датированная... 16 июля 1918 года! Заглянув в
«British Chess Magazine» (№ 4, 1956), откудаона взята, я убедился, что
источник вполне надежный: «записная книжка с большим
количеством неизвестных партий, сыгранных в России в 1916-1919 годах»,
была найдена в «шахматных бумагах, оставленных Алехиным в
Париже перед отъездом в Испанию во время последней войны».
Но почему тогда о сеансе 16 июля промолчали «Вечерние огни»,
выходившие до августа? Что-то тут не так... Может, Алехин
пользовался старым стилем, ведь новый-то ввели совсем недавно? Но тогда
получается 3 июля, а сеанс на квартире Сабурова, напомню, должен
был пройти только 5-го...
Уже отчаявшись разгадать этот новый ребус, случайно заметил,
что в сборнике написано «blindfold simul», а в журнале-то - «blindfold
game»: не сеанс вслепую, а партия! Сыграть ее Алехин мог и 3 июля
этим днем датирована газета с анонсом сеанса, а значит, он уже был в
Петрограде... И тут меня кольнул вопрос-догадка: кого -
единственного из всех соперников - Алехин мог скрыть под литерой «X»?
Пора уже открыть карты. Я бы не стал так подробно в этом
копаться (в конце концов, так ли уж важно, сколько сеансов дал Алехин),
если бы... не Борис Малютин, с которым Алехин пересечется через
полгода в Одессе. В книге «Шахматная жизнь в советской России»
читаем: «Хотя оба наиболее влиятельных и энергичных члена
Петроградского шахматного собрания, Б.Е.Малютин и П.П.Сабуров, до
середины 1918 года оставались в Петрограде, но держались (особенно
первый) по разным личным причинам в стороне от шахмат. Конечно,
тогда у всех были совершенно иные заботы...»
236
Свой среди чужих
Когда Алехин в 1921 году писал в Берлине эту книгу, он еще не
знал, вернется назад шги нет, поэтому не хотел афишировать своих
контактов с врагами советской власти, тем более с Малютиным. Ведь
узнать о «личных причинах», по которым его друзьям к лету стало не
до шахмат (еще в апреле Малютин давал сеансы вслепую), Алехин
мог только от них самих.
Я почти уверен, что тот «X» из записной книжки, чью фамилию
Алехин на всякий случай скрыл (вдруг книжка попадет в руки
чекистов?), это Малютин. А поскольку они с Алехиным были лучшими в
России игроками вслепую, то партия 3/16 июля вполне могла
играться ими без доски... Что касается Сабурова, то в статье Э.Уинтера
«Сабуровы» (сайт chesshistory.com, 2002) есть свидетельство английского
мастера Берна: «Господин П.П.Сабуров, председатель
Всероссийского шахматного союза, уведомил нас о том, что весной 1918 года, когда
Сабуров еще находился в России, небольшой турнир среди местных
мастеров состоялся в московской квартире Алехина...» («The Field»,
23.10.1920). Понятно, что речь о турнире трех с участием Алехина,
Ненарокова и А.Рабиновича (апрель-май), но от кого, кроме самого
Алехина, мог узнать Сабуров о месте его проведения?
Прозрачен и смысл слов Алехина о «совершенно иных заботах».
Октябрьский переворот, который многие интеллигенты поначалу
восприняли как перемену к чему-то лучшему (Блок даже написал
восторженную поэму «Двенадцать», а по признанию Алехина, «когда
большевики захватили власть, он думал, что начнется что-то новое»),
привел к чудовищной катастрофе, обрушив вековой уклад жизни и
надолго погрузив страну в кровавую распрю.
Летом 1918 года мятеж чехословацкого корпуса сдетонировал
начало войны против большевиков по всей России. До взятия
заложников и массовых расстрелов в Москве и Петрограде еще не дошло,
но от ареста никто не был застрахован. Что делать? Где искать
спасения от чекистского молоха? Именно это могли обсуждать Малютин,
Сабуров и Алехин в той самой «шикарной квартире» на Литейном,
которая... давно была на заметке у чекистов: «Сенатор П.А.Сабуров,
один из виднейших столпов Петроградского шахматного собрания,
оставшись в Петрограде, принял участие в подпольной
контрреволюционной работе. Одно время его квартира как будто даже служила
убежищем для скрывавшегося А.Ф.Керенского (об этом в свое время
много писалось в советских газетах). Так как П.А.Сабуров, находясь
в преклонном возрасте, успел умереть, то дело о нем было
прекращено» (из книги А.Ильина-Женевского «Международное рабочее
шахматное движение и советская шахорганизация», 1931).
Не знаю, было л и принято решение о «броске на юп> уже тогда, но
последующие события говорят сами за себя. Малютин покинет Пет-
Бросок и а юг
237
роград 8 октября, в ноябре доберется до Одессы, а потом в
Ростове-на-Дону станет «редактором центрального органа кадетской
партии газеты "Речь", которая своими статьями пыталась вдохновлять
белые армии на борьбу с Советской Россией» (Ильин-Женевский).
Сабуров в ноябре тоже будет уже на Украине - в Киеве. Еще в
сентябре уедет Зноско-Боровский, который позднее, как и Малютин, будет
работать в Отделе пропаганды Добровольческой армии -
знаменитом ОСВАГе, а в 1920 году покинет Россию вместе с врангелевцами...
БРОСОК НА ЮГ
Вы н икогда не задумывались, с какой целью поехал Алехин на
Украину в сентябре 1918 года? Раньше этот вопрос обходили стороной: то
ли не знали, то ли просто лукавили. Панов: «В 1918 г. он оказался в
Одессе, где лечился от последствий контузии». Но если были какие-
то «последствия», что мешало Алехину лечиться в Москве? Котов:
«По рассказам очевидцев (мне об этом рассказывал московский
шахматист A.M.Иглицкий), Алехин был в 1917 году в Одессе, откуда, как
говорили, собирался уехать за границу». Насчет «уехать за границу»
не знаю, но в Одессе он действительно был. Я узнал об этом из
статьи Сергея Карастелина «Что вы думаете о Солнце?» («64-ШО» №
3, 2007): «27 апреля 1917 года Прокофьев засиделся у Верина (поэт и
меценат, с которым дружил Алехин) за картами до ночи. В половине
Причиной отъезда Алехина из Москвы на Украину был никакой не шахматный
турнир, а объявленный в сентябре 1918 года красный террор.
238
Свой среди чужих
второго прямо с вокзала к нему приехал и Алехин, вернувшийся из
Одессы». Откуда подробности, не знаю. Π о словам Сергея
Андреевича, он в свое время выписал из дневников Прокофьева всё, связанное
с шахматами. Но в апрельской записи из его «Дневника. 1907-1933
(часть вторая)» (Париж, 2002) об Одессе ни слова: «Конец месяца
делом я не занимался (...) Поэтому были развлечения вроде большой
"железки" у меня при участии Захарова, Верина, Алехина (приехал
полвторого ночи) и прочих, всего девять человек...»
Потом стали писать о турнире. Шабуров: «Свой приезд в Одессу
Алехин связывал с намечавшимся здесь турниром». Ткаченко:
«Шахматный турнир - вот что манило в наш город Алехина»... Но о
турнире он узнал уже по приезде в Киев. А в Киев-то его что манило?
Неужели «тренировочная партия с местным мастером Александром
Эвенсоном, работавшим следователем революционного трибунала»?
Шабуров забыл, что Киев был тогда под властью гетмана Скоропад-
ского и под охраной немецких штыков, а ревтрибунал появится
только в феврале 1919-го, когда Киев займут большевики...
Это не единственный исторический ляп в его «Алехине» (не говоря
уже про кучу ошибок в датах, названиях и фамилиях). Вот цитата с
той же страницы: «А осенью Александр Алехин предпринял опасную
по тем временам поездку в Киев и Одессу. Тогда почти вся Украина
была охвачена военными действиями, и обстановка там очень часто
менялась. Власть в городах и селах то и дело переходила из одних рук
в другие, что влекло за собой нередко репрессии». И из Киева в
Одессу Алехин уехал якобы потому, что «беспорядки и погромы
вынуждали его искать спасения на юге»...
Какие военные действия? Какие беспорядки и погромы? Еще в
январе 1918 года Украина стала независимым государством и подписала
свой Брестский мир (раньше, чем советская Россия), после чего
германские войска заняли всю ее территорию, чтобы помочь вытеснить
большевиков. В конце апреля к власти пришел гетман Скоропадский,
и на полгода, пока не ушли немцы, Украина превратилась в оазис
мирной жизни. Но уехать туда из полыхающей в огне гражданской войны
России было крайне трудно: требовались три пропуска - советский,
украинский и немецкий! Доставали их кто как мог; Малютину вообще
«пришлось проделать весь пугь до границы с Украиной», находясь «на
нелегальном положении»: «Не добившись советского пропуска, он
рискнул поехать, имея лишь украинский и немецкий. Но и эти два
пропуска были им угеряны при ночном 45-верстном переходе вместе с
чемоданом, в котором они находились» («Одесские новости», 1.12.1918).
Малютин тоже был шахматистом, но кому придет в голову
написать, что он «предпринял опасную по тем временам поездку в Киев и
Одессу», чтобы поиграть там в шахматы?.. Ладно, к чему притворять-
Бросок на юг
239
ся. Вспомним, что случилось 30 августа: в Петрограде застрелен глава
ЧК Урицкий, в Москве стреляли в Ленина. Уже 5 сентября
Совнарком принял декрет «О красном терроре»: об изоляции классовых
врагов «в концентрационных лагерях» и «расстреле всех лиц,
прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». В
тот же день глава Η КВД издал «приказ о заложниках»: «Из буржуазии
и офицерства должны быть взяты значительные количества
заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем
движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно
массовый расстрел»!
Именно этим и был вызван спешный отъезд Алехина из Москвы.
Как и отьезд по тому же маршруту Осипа Бернштейна: известно, что
они сыграли несколько партий в Киеве, а затем, возможно, вместе
проделали путь до Одессы...
Сергей Ткаченко высказал, на мой взгляд, убедительную версию,
что 100 000 рублей «от деникинской контрразведки» (найденная
потом расписка «шахматиста Алехина» приведет к заведению на него в
1920 году дела в ВЧК) выдал Алехину Василий Шульгин, глава тай-
Акварель «Конвоирование арестованных» художника Ивана Владимирова.
Работой в 1918 году в петроградской милиции, он делал зарисовки в альбомчик,
который всегда носил с собой...
240
Свой среди чужих
ной разведывательной организации «Азбука», которая в Одессе
тесно сотрудничала с белой контрразведкой. Но кто их свел? Не мог же
Шульгин просто так выдать огромную сумму «шахматисту Алехину»?
Я думаю, что связующим звеном был именно Малютин. Они с
Шульгиным участвовали в Ясском совещании, где решался вопрос о
предоставлении союзниками военной помощи всем
антибольшевистским силам, а по приезде в Одессу вместе с другими делегатами
поселились в гостинице «Лондонская». Там же жил Алехин, и Малютин до
отъезда на Дон вполне мог их познакомить и даже замолвить словечко
за своего коллегу по шахматам, попавшего в трудное материальное
положение... О том, что Алехин нуждался, можно судить по факту, о
котором мне рассказал Авербах, а ему кто-то из одесситов: в легких
партиях с Алехиным ставку клали под доску, так как иначе он не отдавал
проигранные деньги, а требовал играть дальше, пока не выигрывал.
«НАШ ТОВАРИЩ АЛЕХИН»
Казалось бы, с его «одесскими гастролями» всё ясно: был
арестован чекистами в апреле 1919 года, приговорен к расстрелу, но мастер
Вильнер, служивший в ревтрибунале, послал телеграмму главе
украинского Совнаркома Раковскому, в результате Алехина освободили,
и вплоть до отъезда в Москву он работал в иностранном отделе
Одесского губисполкома... Но так ли всё это?
Отмечу, что первым, кто поведал о роли Якова Вильнера в
спасении Алехина из одесской чрезвычайки, был Федор Богатырчук в
книге «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту». В
приводимом тексте сразу уточню ряд деталей - все-таки автор писал
книгу в преклонном возрасте. Первое: Алехин был в Киеве не зимой и
не весной, а летом 1919 года. Второе: его арестовали не в конце 1918-
го, а после захвата Одессы большевиками. Третье: наличие у
Алехина «билета члена коммунистической партии» не подтверждается ни
одним источником. Сам он на допросе в ВЧК в 1921 году ответил:
«Кандидат РКП с августа 1920 г.». А может, это был билет компартии
Украины? Сергей Ткаченко изучил в Одесском партархиве списки
принятых в партию в 1919 году, но Алехина там не нашел... Что же
тогда Алехин показывал Богатырчуку? Скорее всего, свой
комиссарский мандат, который тот принял за партбилет.
Итак, вот что пишет Богатырчук:
«Поздней зимой восемнадцатого-девятнадцатого годов (или
ранней весной девятнадцатого, точно даты не помню) у меня
неожиданно побывал Александр Александрович Алехин, ехавший из Одессы в
Москву.
«Наш товарищ Алехин» 241
Одесса, апрель 1919. Большевистская демонстрация после захвата города.
Он был в прекрасном настроении, никак не соответствующем тому,
что ему только что довелось пережить и о чем он мне тогда ни слова
не сказал. Не знаю, из каких соображений, но он показал мне только
одну реликвию своей одесской жизни — билет члена
коммунистической партии. Зная социальное и имущественное положение Алехина
(сам он окончил Училище правоведения, в которое допускались
только дети из знатных фамилий: его отец был предводителем
воронежского дворянства, а мать — совладелицей знаменитой Прохоровской
мануфактуры), я по тогдашней своей молодости был потрясен этим
зрелищем пролетарского перевоплощения Алехина. Я ведь не знал
обо всем том, что довелось Алехину пережить после революции, и о
том, как дошел он до жизни такой. Об этом мне позже поведал
одесский мастер Вильнер.
Заброшенный стихией разбушевавшихся революционных страстей
в Одессу, Алехин не мог обеспечить себе билета на одном из
пароходов, отправлявшихся в капиталистический мир, и был поставлен
перед задачами: как выжить в первом в мире отечестве рабочих и
крестьян и как не потерять надежды сделаться чемпионом мира? Какой-
то из поклонников его шахматного гения устроил Алехина в наиболее
надежное место - в комиссию по изъятию ценностей у буржуазии.
Были и такие учреждения в те времена! Служба в комиссии требовала
обязательного вступления в партию, что Алехин и сделал.
Как он работал в упомянутом малопочтенном учреждении и
каково было по пролетарским стандартам качество его работы, покрыто
мраком неизвестности. Но вот в конце 1918 года грянул гром и
Алехин был арестован местным ЧК. Тайны дела Алехина навсегда похо-
242
Свой среди чужих
решены в архивах "карающего меча пролетарского правосудия".
Известно было лишь одно, что Алехин за свои преступления был судим
(негласно, конечно) и приговорен к расстрелу Вильнер сказал мне,
что, будучи на работе в Одесском военном трибунале, он узнал о
приговоре буквально за несколько часов до того, как он должен был быть
приведен в исполнение, и немедленно послал телеграмму тогдашнему
председателю Украинского Совнаркома Раковскому с просьбой
спасти Алехина.
К счастью, Раковский слыхал о шахматном гении Алехина и
немедленно связался по прямому проводу с Одесским ЧК. Из дальнейшего
достоверно известно только одно: Алехин в ту же ночь был
освобожден и направлен в распоряжение товарища Раковского. Возможно,
что Алехин ни о приговоре, ни о последующих перипетиях даже и не
знал, ибо пролетарская Немезида просто стреляла в затылок
осужденных, не заботясь о предварительном оглашении приговора. Как я уже
сказал, его приподнятое настроение этого знания не обнаружило».
Этот текст не раз воспроизводился, но никто, включая меня, не
придал значения тому, что Алехин был арестован, уже когда работал в
«комиссии по изъятию ценностей у буржуазии»! Эту комиссию тоже
не принимали всерьез, считая, что автор (или Вильнер) чего-то
напутал, поскольку Алехин на допросе в В Ч К сообщил: «С апреля по июль
1919 работал в Инотделе Одесского Губисполкома». Его работу там
подтверждает в своих воспоминаниях известный адвокат Оскар Гру-
Акварель «В подвалах ЧК» (1919) художника Ивана Владимирова. Она относится
к Петрограду, но в Одессе, по свидетельству очевидцев, было еще ужасней...
«Наш товарищ Апехин»
243
зенберг («Вестник Еврейского университета в Москве» № 3, 1994),
а также журналист Константин Шумлевич, чьи «клочки
воспоминаний» я приведу ниже (см. стр. 248): «Алехин служил тогда у
большевиков, втом учреждении, которое исполняло часть функций нашего
министерства иностранных дел». Хотя спутать иностранный отдел с
комиссией по изъятию ценностей вряд ли возможно...
А была ли вообще такая комиссия? Была. Только называлась
немного иначе: комиссия по изъятию излишков. О ней я узнал из книги
В.Савченко и В.Файтельберг-Бланка «Одесса в эпоху войн и
революций. 1914-1920» (2008): «13 мая был обнародован "декрет о мирном
восстании" в Одессе, который в законном порядке разрешал особым
отрядам изъятие у горожан "всего лишнего", оставляя каждому
одесситу только одну пару ботинок, один костюм или платье, три
рубашки, три пары кальсон, две простыни, две наволочки и тысячу рублей
на одного человека». Эти рейды назывались акциями, а знаете, кто
их проводил? Та самая «комиссия исполкома по изъятию излишков»!
Неизвестно, состоял ли в ней Алехин (наряду с основной работой в
инотделе) и участвовал ли сам в таких «акциях». Архив Губисполкома
был уничтожен большевиками в августе 1919-го при бегстве из
Одессы: чтобы успеть всё сжечь, работники исполкома даже задержались в
городе, рискуя быть схваченными деникинцами. Тогда же на вокзале
сгорел и погруженный в вагоны архив одесской ЧК. Короче, все
концы в воду...
Но нет! Если уметь читать «между строк», как это попыталась
сделать писатель Светлана Замлелова в статье «Александр Алехин:
партия с судьбой» («Москва», октябрь 2019), можно кое-что нарыть.
Опираясь на мемуары Грузенберга, она предположила, что Алехин
работал... «в комиссии по выдаче разрешений на выезд за границу
при ГубЧК»! И основания для такой неожиданной версии есть. Когда
на допросе в ЧК Грузенберг попросил следователя помочь с
«разрешением на выезд за границу» (судя по контексту, дело было примерно
в середине мая), между ними произошел такой диалог:
«— Это зависит не от меня, а от нашего товарища Алехина. Хотя
председателем комиссии по даче таких разрешений состоит другой,
но фактически всё зависит от усмотрения Алехина.
- Алехин? Шахматист? Он бывал в Петербурге у моей дочери. Он
кичится своим черносотенством. Его переход к вам, да еще на
начальственный пост, противоестествен. Тяжело идти на поклон к
маскарадному интригану.
- Тем более чести Алехину, что он сумел разобраться в
историческом явлении, к чему оказались неспособными вы, левые. Но каково
бы ни было ваше мнение об Алехине, без него, если хотите уехать, не
обойтись.
244
Свой среди чужих
Я явился в комиссию. Председателем ее оказался знакомый
петербургский студент, протянувший мне приветливо руку и благодушно
заявивший, что я несколько раз давал ему деньги для взноса платы
за право учения. Я шутливо ответил, что мы, буржуи, таких пустяков
не помним, и пожал протянутую руку. Но протянуть руку Алехину и
другому члену комиссии, хорошо упитанному молодому человеку
купеческой складки, в шикарных рейтузах, вдруг стало противно.
В результате мне одному за тот, по крайней мере, день было
отказано в разрешении на выезд...»
Не знаю, была ли при ГубЧК такая комиссия: полных сведений о
структуре одесской ЧК у меня нет. Но даже если речь об инотделе
Губисполкома, слова чекиста о «нашем товарище» показывают, что
этот отдел и Ч К работали в связке. Да и потом в Москве Алехин тоже
не мог избежать контактов с чекистами, поскольку Коминтерн и
Центророзыск были «под колпаком Ч К». В его личном деле (см. стр.
257) есть справка о том, «что за тов. Алехиным никаких недоимок
[в] Финотделе НКВД и ВЧК не числится». Не удивляйтесь: НКВД и
ВЧК имели не только общий финансовый отдел, они и сидели бок о
бок на Большой Лубянке, д. 2 - в том самом здании, которое потом, в
перестроенном виде, станет символом Большого террора.
Дом страхового общества «Россия» на Лубянке. В 1920году здесь бок о бок с ВЧК
сидел Центророзыск, где ааужия следователь Александр Алехин. Позже, в
перестроенном виде, это здание станет символом Большого террора! Снимок начала
20-го века.
«Наш товарищ Алехин»
245
Если архив одесской ЧК сгорел, то у меня вопрос: а когда впервые
появилась информация об аресте Алехина? Самое раннее упоминание
я нашел в предисловии С.Вайнштейна к книге «На путях к высшим
шахматным достижениям» (1932): «Во время гражданской войны он
выплывает на горизонте в Одессе, где над ним тяготеет угроза
расстрела по обвинению в связи с деникинской контрразведкой». Несмотря
на многотысячный тираж книги, потом об этой истории в СССР
начисто «забыли»: Котов с Пановым даже не упоминают об аресте!
«Вспомнили» только во время перестройки. Хотя еще в 1980 году
литературовед и шахматный мастер Эдуард Штейн в «Открытом
письме чемпиону мира А.Е.Карпову» (с просьбой помочь сыну
Кормного) напомнил «факт, упорно замалчиваемый в Советском Союзе:
Военный трибунал Одесской ЧК приговорил Александра Алехина
к расстрелу», и привел версию его спасения Вильнером и Раковс-
ким - правда, без ссылки на Богатырчука («Новое русское слово»,
Нью-Йорк, 16.01.1980).
Поворотной стала статья Сергея Гродзенского «Ставка не больше,
чем жизнь» («64-ШО»№ 14, 1989). Вспомнив о предисловии
С.Вайнштейна, он рассказал историю, услышанную им от старого
ленинградского мастера Михаила Ноаха:
«Было это в начале 60-х годов. П.А.Романовский, предаваясь
воспоминаниям об Алехине, вдруг спросил: "Знаете, что Александр
Александрович в 1919 году сидел в Одесской тюрьме под угрозой
расстрела и выручил его Лев Давидович?"
- Какой Лев Давидович? - спросил я, не подозревая, о ком идет
речь.
— Троцкий, — ответил Петр Арсеньевич. И, заметив мою
растерянность, сослался на свидетельство А.Ф.Ильина-Женевского. Старый
большевик и брат Ф.Ф.Раскольникова, конечно, мог знать
обстоятельства дела».
Изюминкой статьи Гродзенского был фрагмент заметки об
Алехине в журнале «Chess» (декабрь 1937): «Разразилась Русская революция.
Как осколок старого режима он оказался в тюрьме, приговоренный к
смерти. Здесь его посетил Троцкий, играл с ним в шахматы и при этом
был жестоко побит. Конечно же, он дал санкцию на приведение
приговора в исполнение?! Нет! Напротив, последовала отмена приговора».
Вы спросите, зачем я об этом пишу, если доказано, что Троцкий
не имел отношения к его освобождению? Для меня важны реакция
Алехина и свидетельство Ильина-Женевского.
Удивлялись, почему Алехин никак не отреагировал на заметку в
«Chess». He опроверг, не подтвердил - просто промолчал. Мне
кажется, я догадался. Опровергнуть он не мог, потому что эту роман-
246
Свой среди чужих
тическую версию, возможно... сам же и придумал. И рассказывал по
секрету в приватных разговорах, улыбаясь про себя наивным
восторгам: «Неужели вас освободил сам Троцкий?!» Что касается Ильина-
Женевского, то от кого, кроме как не от самого Алехина, с которым
Александр Федорович, по собственным словам, «часто просиживал
целые вечера», мог он узнать версию про Троцкого? Раскольников
воевал на Волге, чекистом не был и вряд ли вообще знал об аресте.
Да, он, как и Раковский, был близок к Троцкому, но... не Троцкий же
рассказал ему эту байку?!
Почему же тогда Алехин не подтвердил версию с Троцким? Π ричи-
на проста. У него в те годы был «эпистолярный роман» с советскими
властями, а он знал, что Троцкий - злейший враг Сталина. Вот
Алехин и поступил, как настоящий дипломат (недаром же он выпускник
Училища правоведения), - сделал вид, что не заметил публикацию в
«Chess»!
О своем заточении в одесской тюрьме он публично рассказал лишь
однажды: в интервью «Новой заре» (Сан-Франциско, 14.05.1929),
которое мне посчастливилось отыскать. Причину необычной
откровенности я узнал из предисловия редакции: «Интервьюировавший
Алехина наш сотрудник - земляк знаменитого шахматиста по
Воронежской губернии, и это дало ему возможность получить от мирового
чемпиона исчерпывающую информацию».
Вот этот фрагмент (полностью читайте интервью в конце книги):
«Наконец, в бытность мою в Одессе я был арестован большевиками
и заключен в подвал чеки. Большевики нашли у меня кое-какую
иностранную переписку, и это было достаточным поводом для
предъявления мне обвинения в шпионаже в пользу Антанты.
Со мной находился в подвале в тот момент ген. Рагоза, бывший
военным министром при гетм. Скоропадском. Рагоза был расстрелян.
(Начальник оперчасти Одесской ЧК, славившийся своим садизмом
Михаил Вихман так писал о своих заслугах: «Лично мною были расстреляны
военный министр Украинской Рады — Рагоза и министр Коморный, и еще
много сотен врагов Советской власти расстреляны моей собственной
рукой, точная цифра их записана на моем боевом маузере и боевом
карабине». К счастью, Алехин в эту цифру не попал...)
В отношении меня пришло предписание из Москвы расстрелять
меня только в том случае, если будут обнаружены серьезные и
действительные улики. Таковых, в конце концов, не оказалось, и я был
выпущен на свободу».
Как видите, Алехин прямо сказал: «нашли у меня кое-какую
иностранную переписку». В интервью аргентинскому журналу «Caras
у Caretas» (4.09.1926) он тоже не скрывал, что «из-за написанного
мной Чека приговорила меня к смерти!» И никакого вам сундука (ва-
История с одесским арестом
247
риант - тайника), якобы найденного чекистами в гостиничном
номере, в котором до Алехина «жил британский офицер из Интеллид-
женс сервис» (версия, впервые напечатанная в «Chess», май 1946), и
никакого «анонимного клеветнического письма» от кого-то «из ярых
завистников таланта Александра Алехина, не брезговавших никакой
чудовищной ложью для мести ему за понесенные поражения за
шахматной доской» (Шабуров).
Но заметьте: Алехин не говорит, когда был арестован и что делал
после освобождения. На то, возможно, имелись причины.
ИСТОРИЯ С ОДЕССКИМ АРЕСТОМ
По воспоминаниям очевидца ареста - мастера Николая
Сорокина, на которого обычно все ссылаются, Алехина арестовали в
апреле 1919-го. Но, странное дело, найти эти воспоминания я не смог,
хо-тя опросил всех знакомых историков. А в той единственной
статье, где Сорокин пишет о встречах с Алехиным (бюллетень «Полуфи-
наа XXIV чемпионата СССР», Тбилиси, № 1, 1956), про Одессу ни
слова: «Последний разя встречался с Алехиным в апреле 1917 года в
Петрограде».
Вот сцена ареста в изложении Шабурова: «Случилось это, по
свидетельству шахматиста Николая Сорокина, игравшего за соседним
столиком в помещении бывшего офицерского собрания, в то время,
когда Алехин был занят игрой в шахматы. Вошел человек в кожаной
куртке и потребовал, чтобы Алехин покинул помещение вместе с
ним. Алехин попросил дать ему возможность доиграть партию, тот
согласился. После окончания партии Алехин вышел вместе с
чекистом». Но когда это было: в первой половине апреля (красные
вошли в город 6-го), в середине, в конце? Ничего не добавила запись
В.И.Нейштадта об Алехине, найденная мной в его фонде в РГАЛИ:
«Апрель 1919 г. Арестован (Корчмарь)». Ефим Корчмар - это
одесский мастер, но ему в ту пору было всего пять лет...
Сколько Алехин пробыл в «подвале чеки» - никто толком не знает:
разброс от «недели» (Шабуров) до «нескольких недель» (Савченко и
Файтельберг-Бланк). Когда был освобожден — тоже покрыто мраком.
Но зацепка есть! Раковский был в Одессе с 20 по 23 апреля (привез
документы для начала работы ревтрибунала). Значит, до 20-го
Алехина освободить не могли: чтобы слать телеграмму на имя Раковского,
Вильнер должен был его знать, а познакомиться они могли только в
Одессе. Если бы это случилось во время визита Раковского, то зачем
бы Вильнеру слать телеграмму, а Раковскому «связываться по
прямому проводу (по телеграфу!) с Одесским ЧК»? Учитывая цейтнот (до
казни считанные часы), надежнее было позвонить... Осталась опция
248
Свой среди чужих
THE BOLSHEVIST HOUSE OF TORTURE AT ODESSA
ТЪ» Krv. R. Омт.сг For**, wboa» nortrtrt α цЫ* w l)« rfcltf, w.,.„ .
Kf wat ar r>f w.ine* wHil# Bnieh CWIein ti Odes* He *»«> im(H*oi>cd in the Ime« in C-i»wi.w Sau.rr wbAlt bcunw the Bol»
T-rtur», wharr hundrfds of хкйпъ wife oW Ю cfc«fb in the must fifnjcih ГЯМЯг*. Wt tiv* two vit^-s «v rli.» Ьоиж. On rhc left: 5U*J
"·* n\»ny ami», wormn, а>к1 even chiUrtn w«t« VilW. Ccnlrt: B»il»b ΐϊϋίη ou(i»Je \Ut Том»« ^«ж iCt«r n» i*f*utf fit>m ih< I
•id Iciirr ut 'Tin· Tmifi" JtviKnn »hc (««dull Bubbev^ .цлхш of whkh
Bnldirv,»! Илим of
.holes π ihr wiJL
Bohfatvirt·.
«Большевистский Дом Пыток в Одессе». Сообщение в английской газете «The
Times» (1919): «Преп[одобный] Р.Куртье-Форстер, чей портрет справа, прислал
в "The Times" яркое письмо с рассказом о кровавых большевистских зверствах,
свидетелем которых он стал в бытность капелланом британского флота в
Одессе. Он сидел в тюрьме — в здании на Екатерининской площади,
превращенном в Большевистский Дом Пыток, где сотни жертв были замучены до
смерти самым изуверским образом. Мы даем два вида этого здания. Спева: следы
от выстрелов в стене — здесь было убито много мужчин, женщин и даже детей.
В центре: британские моряки у Дома Пыток после его освобождения от
большевиков*.
«после 23-го». Но как тогда понимать фразу Богатырчука (со слов
Вильнера): «Алехин в ту же ночь был освобожден и направлен в
распоряжение товарища Раковского»? Раковский же был в Киеве либо
в Харькове, где сидел украинский Совнарком. Может, туда Алехина
и направили? Постойте, а когда же он работал в инотделе - до
тюрьмы, что ли?!
Как мы уже знаем, такое вполне возможно. Богатырчук пишет, что
Алехин был арестован, уже работая в комиссии по изъятию
ценностей. А помните его слова о встрече с Алехиным в Киеве: «Он был
в прекрасном настроении, никак не соответствующем тому, что ему
только что довелось пережить и о чем он мне тогда ни слова не
сказал»? Важная деталь - «только что»: выходит, его выпустили
незадолго до отъезда. Летом датирован арест Алехина и в книге Савченко и
Файтельберг-Бланка, и в «Королях шахматного мира» (2001). Жаль,
не спросишь уже Исаака Максовича Линдера, почему он пренебрег
словами Сорокина...
А теперь - уникальное свидетельство Константина Шумлевича из
уже знакомой нам (см. стр. 243) заметки «Алехин (клочки
воспоминаний)»:
История с одесским арестом
249
«Последний раз я встретился с ним в Одессе, в кофейной "Пале-
Рояль", во время занятия Одессы большевиками. Я укрывался тогда
вместе с Юрловым, покойным Калинниковым и другими в скромных
меблированных комнатах и приходил к Юрию Морфесси (эстрадный
певец, умерший в эмиграции), который имел свой штаб в "Пале-Рояле".
Однажды я увидал там Алехина, который пил кофе и закусывал
шоколадом. Тоже не всякому понятное соединение. Я подошел к нему,
и мы разговорились, пока меня не отозвали. Уже позже я узнал, что
Алехин служил тогда у большевиков, в том учреждении, которое
исполняло часть функций нашего министерства иностранных дел. Я
был смущен. Но вскоре после этого я услышал, что Алехин арестован:
он похитил какие-то важные большевицкие бумаги и хотел скрыться.
Однако ему это не удалось. Затем Алехин бежал и следы его исчезли,
а затем открылись уже значительно позже, когда мы оказались в
эмиграции» («Новое время», Белград, 5.07.1928).
Оставим в стороне версию про
похищение «важных большевиц-
ких бумаг». Но снова, как
видите, арест происходит не вскоре
после занятия Одессы, а когда
Алехин уже работает в инотделе.
Вряд ли Шумлевич ошибся:
фраза про смущение - это для
газеты; на самом деле он, конечно,
был шокирован службой
Алехина у большевиков!
Ну и, наконец, свидетельство
самого Алехина, которое тоже не
принимали всерьез. Речь об
одесской партии с «д-ром
А.Кауфманом», опубликованной в
шахматном отделе
Ильина-Женевского в журнале «К новой армии»
(№ 2, 20.04.1920) с
примечаниями Алехина, где на 31-м ходу он
упустил легкий выигрыш.
Спустя годы Альбрехт Бушке
сообщил («Chess Life», 5.08.1951), что
в имеющейся у него рукописи
.Алехина на немецком языке
комментарии к этой партии почти
идентичны напечатанным в 1920
году, кроме примечания к 31-му
ходу белых:
Фрагмент рукописи Алехина на
немецком языке, опубликованный в газете
«Chess Life» (5.08.1951). В примечании
к 31-му ходу белых в партии с д-ром
А. Кауфманом, сыгранной в Одессе в
июне 1919 года, он пишет, что упустил
«простую победу», потому что
«партия игралась на следующий день после
того, как я покинул одесскую че-ка».
250
Свой среди чужих
«В качестве объяснения, почему я упустил такую простую победу,
мог бы добавить, что партия игралась на следующий день после того,
как я покинул одесскую че-ка (чрезвычайная комиссия по борьбе с
"контрреволюцией"), где моя персона некоторое время находилась
под сильной угрозой мата, и поэтому всё еще был немного уставшим».
Так вот, в журнале «К новой армии» Алехин датирует партию
июнем 1919 года, на что у историков ответ один: «Это какая-то
ошибка, ведь известно, что он был арестован в апреле!» Ткаченко пишет:
«Если верить этому рассказу, Алехин вышел из тюрьмы 4Kb июне,
о чем говоритдата поединка, приведенная им самим в журнале. Но
на допросе в московской чрезвычайке 21 февраля 1921 года Алехин
утверждал, что "с апреля по июль 1919 работал в Инотделе
Одесского Губисполкома". Где же истина? Думаю, по понятным причинам,
более искренен Алехин был на допросе в Ч К, и партия игралась не в
июне, а в конце апреля...»
Я-то уверен, что искреннее он был в журнале: какая дата стояла
в его записях, ту и указал. А от ВЧК Алехин утаил даже факт своего
ареста в Одессе! Зато упомянул о каком-то другом аресте, на что
никто не обращал внимания, хотя с выхода статьи Шабурова «Под
колпаком у ЧК» (см. главу «Следователь Центророзыска») прошло уже
почти тридцать лет. Перечисляя, «где служил», Алехин на бланке
допроса написал: «с Октябрьской революции до ареста (выделеномной. -
СВ.)— Наркоминдел, Наркомвнутдел (следователь Центророзыска),
Коминтерн». Это как же понимать: если вся служба была «до
ареста», значит, в ВЧК его доставили под конвоем?! Что ж, этот факт, да
еще вкупе с известием о найденной в Одессе расписке, объясняет,
почему после допроса Алехин озаботился срочным выездом из России.
Но вернемся в Одессу. Как я узнал из книги одесского историка
Игоря Шкляева «Смутное время в Одессе» (2004), настоящий
«красный террор» начался в городе именно в июне, когда Дзержинский
направил сюда своего секретаря Реденса вместе с 79 сотрудниками
московской ВЧК, а к массовым расстрелам «буржуазного
элемента» приступили в начале июля. Шабуров пишет, что Алехин покинул
Одессу «в конце июля». Источник этой даты для меня очевиден -
показания Алехина на допросе в ВЧК: с апреля по июль работал в
Одессе, а в августе прибыл в Москву. На самом деле никто не знает, когда
он уехал из Одессы и как долго добирался до столицы. Единственная
известная точка в его маршруте - Киев, но неизвестно, когда Алехин
там был и сколько времени провел. Приходилось читать, что «по
дороге в Москву Александр остановился в Харькове, куда вскоре
после Октябрьской революции 1917 года переселился его старший брат
Алексей» (Шабуров). Но это крайне маловероятно, поскольку
Харьков еще 24 июня был взятденикинцами...
История с одесским арестом
25!
Кстати, а почему Алехин вообще уехал? Шабуров объясняет, что
он это сделал «вместе с другими служащими советских учреждений в
связи с приближением к городу деники неких войск». Но, во-первых,
десантная операция деникинцев началась только в середине августа,
а во-вторых, другие работники Губисполкома, как мы уже знаем,
оставались в Одессе до конца (она была взята 23 августа), успев сжечь
все документы. Так что Алехин покинул город явно по другой
причине и задолго до прихода белых.
Когда именно? Скорее всего, в начале июля. На это указывает ряд
косвенных «улик». Как известно, сохранилась еше одна одесская
партия с А.Кауфманом. Она - из уже знакомой нам записной
книжки Алехина и тоже была опубликована в «British Chess Magazine» (№
4, 1956). В отличие от первой партии, помеченной просто июнем,
в этой указана точная дата: 26
июня 1919 года. Так вот, по моей
версии, обе партии были
сыграны в один день! То, что Алехин
в них играет одним цветом, как
раз в пользу версии о серии
легких партий: среди его одесских
поединков с Берлинским тоже
есть две пары, сыгранные в один
день (2 2 октября и 23 ноября 1918
года), и в обеих он играет одним
цветом. О серии говорит и
одинаковое начало партий с
Кауфманом - 1 .d4 d5 2.£tf3 c5.
Если мое предположение
верно, то Алехин вышел из тюрьмы
25 июня (ведь с Кауфманом он
играл «на следующий день после
того, как покинул одесскую
чека»). Есть еще одна очень важная
зацепка - генерал Рагоза, с
которым он сидел в подвале.
Помните, что Алехин сказал в
интервью? «Рагоза был расстрелян». А
знаете, когда его расстреляли? 29
июня! Если б они сидели вместе в
апреле, Алехин и не вспомнил бы
о Рагозе: мало ли кого
расстреляли за два месяца. А он запомнил
его навсегда. Потому что слиш-
Генерал Александр Рагоза,
командующий 4-й армией в Первую мировую
войну и военный министр в правительстве
гетмана Скоро падского, сидел в одной
камере с Алехиным и был расстрелян
29 июня за отказ служить красным
(«Нива», 1916).
252
Свой среди чужих
ком свежи были еще воспоминания о пережитом в тюрьме, и, узнав
о расстреле генерала, Алехин невольно примерил на себя его участь...
Кстати, вот вам и объяснение, почему в Киев он приехал в
«приподнятом настроении». Но я не согласен с Богатырчуком, сделавшим
из этого вывод, что Алехин, «возможно, даже и не знал ни о
приговоре, ни о последующих перипетиях». Думаю, о приговоре он знал
(с чего бы Вильнеру это скрывать, а в том, что они виделись после
освобождения, у меня нет сомнений), и чудесное спасение как раз и
являлось причиной его душевного подъема.
Возникает вопрос: как же Алехин попал в инотдел Губисполкома,
если Раковский к этому непричастен? Ответ лежит на поверхности:
его могли взять на работу без всякого ареста, как того же Вильнера.
И как в 1918 году взяли переводчиком в инотдел петроградской ЧК
Исаака Бабеля. Не поверите, но «до июня 1919 г. в состав 0[десской]
ЧК набирали практически всех желающих (соблюдая, естественно,
классовую принадлежность)» (из книги «Смутное время в Одессе»).
А для Губисполкома, думаю, и «классовая принадлежность» не была
помехой. Тем более если речь шла о переводчике, который один мог
заменить весь иностранный отдел (это не преувеличение: позднее, во
время поездки с делегацией Коминтерна на Урал, он в один из дней
перевел 22 доклада!). Кто устроил туда Алехина? По словам Богатыр-
чука, «какой-то из поклонников его шахматного гения...»
СЛЕДОВАТЕЛЬ ЦЕНТРОРОЗЫСКА
Дата возвращения Алехина в Москву неизвестна, но благодаря
сохранившемуся листку из блокнота Николая Григорьева (см. стр. 268)
мы теперь знаем, что свой матч они начали играть 3 августа, а
значит, он мог приехать еще в июле. В сентябре Алехин попытался найти
себя на актерском поприще, к чему у него издавна была склонность,
хотя, как пишет Павел Попов, в домашних спектаклях «Тиша
растворялся» и «играл совсем неудачно». Своему приятелю по киношколе и
любителю шахмат Сергею Шишко он сказал: «Шахматы я оставил и,
вероятно, больше к ним не вернусь». Но смена профессии не удалась:
«природная скованность Алехина связывала все его жесты, делала их
фальшивыми» (Шишко)... Проучившись три месяца, он в декабре
1919-го ушел из школы, поняв, по его словам, что «искусство
киноактера» не сможет заменить ему «искусство шахмат». Видимо, Алехин
понял это почти сразу, потому что уже в октябре включился в чемп ио-
нат Москвы, в котором играл до января параллельно с учебой...
Но его уход из киношколы и последующий отъезд в Харьков для
работы в окружном Военно-санитарном управлении мог быть
вызван более прозаическими причинами. Та зима в Москве была страш-
Следователь Центророзыска
253
ной: люди мерзли в нетопленных квартирах, часто без света,
«буржуям» пайки не полагались, выживали кто как мог. Украину голод
затронул меньше, к тому же в Харькове жил брат. Служба гарантировала
паек и была, можно сказать, по профилю - в 1916 году Алехин служил
в санитарном отряде, да и после госпиталя не уволился из Земгора: по
словам Сорокина, «в конце 1916 и начале 1917 годов Алехин часто
бывал в Киеве по роду своей военной службы» (и в конце мая 1918-го
он, оказывается, приезжал в Архангельск на санитарном поезде). Но
вторичный «побег» на Украину снова едва не стоил Алехину жизни:
сыпной тиф, который он подхватил в Харькове, а может, еще в поезде
(по словам очевидцев, «вагоны были наполнены больными сыпным
тифом и вшами»), косил людей сотнями тысяч. К счастью, молодой
организм справился с болезнью.
В мае 1920-го в жизни Алехина происходит неожиданный пируэт:
его переводят в Москву для работы по своей специальности -
юристом (до революции он служил в правовом отделе Министерства
иностранных дел). Чтобы узнать, кто устроил его следователем
Центрального следственно-розыскного управления - Центророзыска,
придется поднимать в Центральном архиве ФСБ дело № 228,
заведенное на Алехина в ноябре 1920 года: в статье «Под колпаком у ЧК»
(«Шахматный вестник» № 10, 1992) Шабуров указал, что у человека,
Г^^Г'^Т'
ion ^-
i г
g£\£
-
**
?;п;тггг"*!
I f
*4
■ 4*U
"*- 1 ЛИ "
'Ρ
■ '.
ми
rv
kumtd
Парад на Красной площади в честь 2-й годовщины Октябрьской революции. Той
осенью Алехин учился в киношколе Гардина и играл в чемпионате Москвы...
254
Свои среди чужих
по предложению которого Алехина перевели в Москву, «фамилия
неразборчива».
Чем был вызван такой шаг? Вот версия из книги «Московский
уголовный розыск. 1918-2018. История в лицах» (2018), где Алехину
посвящен очерк «Сыщик на шахматном троне»:
«Вряд ли выбор профессии советского следователя был
добровольным. По всей видимости, его мобилизовали, как и других буржуазных
специалистов, в соответствии с постановлением Совнаркома о
регистрации "бывших" и всеобщей трудовой повинности. Разговор мог
быть коротким: "Как гражданин РСФСР, вы обязаны трудиться, за
что будете получать продовольственные карточки. Посылать вас,
дипломированного юриста, на разгрузку вагонов нецелесообразно,
поэтому вот вам направление в МУР, будете работать там следователем".
Напомним, что исполнение такого направления было обязательным
для всех. Других причин появления Алехина в рядах московской
милиции трудно себе представить».
■Ж±
сии.Алръ; fi^tk
ι ■*■'-—|Ц.. Cf'Vjy >
Обложка «Дела №36 сотрудника Цен-
тророзыска Алехина Α.Α.»,
хранящегося в ГАРФе. Этот и следующие пять
документов предоставлены Д.
Олейниковым.
Эту версию подтвердил и
Алехин (при собеседовании в
масонской ложе «Астрея»), хотя с
датой ошибся: «В 1919 году был
мобилизован в Москве
большевиками в качестве юриста и
работал около 6 мес. как следователь
Московского уголовного
розыска». Но сам очерк меня сильно
разочаровал: «Каким он был
следователем и как долго ему
пришлось работать в этом качестве,
неизвестно — ни мемуаров, ни
архивных материалов». Между тем
Шабуров еше в 1994 году
разыскал в Государственном архиве
РФ «Дело № 36 сотрудника Цен-
тророзыска Алехина А.А.» (фонд
393, опись 85, дело 155). Правда,
документов из него он в
«Алехине» (2001) почти не привел.
Благодаря сканам, сделанным
Дмитрием Олейниковым, мы можем
теперь полистать дело.
Сразу скажу: заявления о
приеме на работу - единственный
Следователь Центророзыска
255
документ, который целиком привел Шабуров, - среди сканов не
оказалось. Не нашел его и я, когда знакомился с делом. Хотя текст
заявления есть в заметке полковника милиции Леонида Рассказова
«А.Алехин - работник уголовного розыска» («Огонек» № 7, 1958):
«Перелистывая пожелтевшие страницы дела, мы нашли заявление
А.Алехина о приеме на работу, в котором на листе ученической
тетради размашистым, неровным почерком он писал: uПрошу зачислить
меня на имеющуюся в настоящее время в вверенном Вам Управлении
вакантную должность. Александр Алехин. Москва"».
У Шабурова тот же текст, лишь добавлен адресат - начальник
Центророзыска и дата: 13/4 1919 г., хотя рядом он сам же указал верную:
13.05.1920. Странная небрежность! Не хочется думать, что он взял
текст из заметки Рассказова, но чем еще объяснить, что слова «на
листе ученической тетради размашистым, неровным почерком» именно
оттуда? И про работу «в должности следователя Центророзыска с 13
мая 1920-го по 13 февраля 1921 г.» написано в справке Центрального
государственного архива СССР, приведенной Рассказовым (к слову,
он сам пришел в Центророзыск в 1921 году). И главное: когда
Шабуров впервые указал эти даты в книге 1992 года, он еще не нашел дело
Алехина - это видно по его автографу в листе-заверителе: 25.VIL94 г.
Добавлю, что у Рассказова почерпнул он и воспоминания
известного судебного медика Петра Сергеевича Семеновского о работе с
Алехиным. Но вместо того чтобы сослаться на первоисточник,
Шабуров попросту раскавычил текст заметки, слегка изменив некоторые
фразы (можете сами потом сравнить с его книгой).
Рассказов: «Более подробные сведения о работе Алехина в
уголовном розыске мы получили из бесед с бывшим организатором и
руководителем Центрального регистрационного бюро уголовного розыска
доктором П.С.Семеновским. Он знал А.Алехина довольно близко,
играл с ним в шахматы.
Очень часто около играющих собирались болельщики. Их
поражала способность Алехина играть "вслепую" - не глядя на шахматную
доску.
В молодом следователе П.С.Семеновский находил широко
эрудированного собеседника. Вспоминая Алехина, доктор Семеновский
рассказывает, что он хорошо знал юриспруденцию, историю,
литературу, свободно и занимательно говорил на эти темы, но Александр
Александрович преображался, когда речь заходила о шахматах, о
которых он мог с увлечением беседовать часами».
Но вернемся к делу № 36. На голубой бумажной обложке
карандашом - даты поступления и выбытия: 18/V-20 г. и 20/1Х-20 г. Для
большей аутентичности я в приводимых документах всё, написанное
от руки, выделил курсивом.
256
Свой cpedu чужих
Удостоверение № 1136 от 18.05.1920 начертано
«революционными» красными чернилами:
Действительно по 17-ое июня 1920
Временное удостоверение
Настоящим удостоверяется, что тов. Алехин А.А. действительно
состоит на службе в Центральном Следственно-розыс. управлении в
должности следователя.
Нач. Центр[орозыска] И.А. Визнер
Делопроизв. (подпись)
Копия справки № 2673/Ц из Центральной приемной комиссии при
Военкоме г. Москвы от 15.05.1920 об освобождении от военной службы:
Главному Управлению Отд. Центророзыска.
В ответ на Ваше отношение от 15/Vc/r. за № 1087 сообщается, что
АЛЕХИН Александр Александрович проходил Центральную
Приемную Комиссию П/Х-1919 г. и признан освобожденным вовсе от
военной службы по 58 ст., в чем ему выдано удостоверение № 16816, а
ввиду его потери выдан дубликат за тем же номером.
За Начальника: подпись.
С подл, верно
Делопроизводитель Центророзыска (подпись)
Почему перед Центророзыском добавлено «Отд.»? Потому что он
был создан при Главном управлении милиции на правах отделения.
Временное удостоверение следователя Центророзыска было выдано Алехину 18
мая 1920 года.
Следователь Центророзыска
257
Следующий документ - это запрос из Центророзыска № 4219 от
1.09.1920:
В Исполнительный Комитет Коммунистическ. Интернационала.
Настоящим Центророзыск просит явиться тов. АЛ ЕХИ Η А А.А. для
переговоров по делам службы 2-го сентября с.г. к 11 часам утра.
Начальник Центророзыска АФ.Ивенин
Делопроизводитель (подпись)
О предмете «переговоров» говорит справка, выданная Алехину,
видимо, при увольнении из Центророзыска (см. «Анкету для
сотрудников Центророзыска», пункт 19):
Сообщается для сведения, что за тов. АЛЕХИНЫМ никаких
недоимок [в] Финотделе Η КВД и ВЧК не числится.
«...» сентября 1920 г.
Заведывающий Расчет, частью
Финанс. отд. Н.К.В.Д. (подпись)
Общность финотдела подтверждает текст на печати: «Народный
Комиссариат Внутрен. Дел и В.Ч.К. Финансовый Отдел».
Из двух следующих документов один без даты. Оба заполнены
рукой Алехина: первый - черными чернилами, второй - зелеными.
Любопытно, что первый документ он «клонировал» в пяти
экземплярах (единственное отличие: в пункте 7 дважды пропустил слово
«вовсе»). И зачем было все пять подшивать к делу?
СВЕДЕНИЯ НА СОТРУДНИКА Центророзыск ОТДЕЛА Н.К.В.Д.
1 И мя, отчество, фамилия Александр Александрович Алехин
2. Год рожден ия 1892
3. С какого времени на службе вообще с октября 1917г. в Центроро-
зыскес 13 мая 1920 г.
4. Занимаемая должность Следователь
5. Служил ли в старой армии, последний чин, должность и военная
специальность не служил
6. Служил ли в Красной Армии, должность, военная специальность
не служил
7. Согласно какому декрету, приказу или постановлению
освобожден от призыва в Красную Армию Освобожден вовсе по болезни по 58
ст. (сердце)
8. Какое имеет удостоверение об освобождении или отсрочке, кем
выдано, с какого числа и за каким номером; если выдано не военным
учреждением, то каким военным учреждением и когда
освидетельствован Отношение Центр. Приемной Комиссии при Военкоме г. Москвы от 15
мая за № 2673/у о том, что я проходил Ц. Пр. Ком. 11/Х1919г, и что мне
выдано удостоверение об освобождении за № 16816, ныне мною утерянное
258
Свои среди чужих
9. Являлся ли на проверочный сбор, № учетной карточки или друг,
документ с отметкой о явке к таковому II/X 1919 г., пометка на
удостоверении об освобождении
10. Когда оставил службу, место новой службы не оставляя, т.к. не
служил
СВЕДЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
АН КЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРО РОЗЫСКА
1. Фамилия Алехин Имя Александр Отчество Александрович
2. Губернии Москва Уезда Волости
3. Возраст 27л.
4. Адрес Тверская, гост. бывш. «Lux»
5. Адрес семьи тот же
6. В какой партии состоите Р. К. П. (канд.)
7. С какого времени в партии с августа 1920г.
8. Состояли ли в других партиях с какого и по какое время нет
9. Отношение к отбыванию воинской повинности освобожден по 58
ст.
10. Служили ли в Красной Армии нет
11. Судились ли при царском правительстве за политические
убеждения нет
12. Судились ли за уголовные преступления нет
13. Судились ли при Советской власти нет
14. В каких советских учреждениях служили Наркоминдел и какие
занимали должности зав. Адм. Отд.
15. С какого времени работаете в Центророзыске с мая 1920 г.
16. Почему поступили работать в Центророзыск как специалист
17. На какую должность поступили следователь
18. Не желаете ли занять другую должность и почему нет, ввиду
откомандирования
19. Время увольнения из Центророзыска в сентябре 20г.
«2» дня сентября месяца 1920 г.
Подпись А.Алехин
Что касается пункта 14, то непонятно, когда он успел послужить
в Наркомате иностранных дел, причем в качестве «зав.
Административным] Отд[елом]». Да, в Центророзыске Алехин вел
переписку с Наркоматом иностранных дел по вопросам розыска
пропавших в России иностранцев, но службой в Наркоминделе это не
назовешь...
Чем же все-таки занимался в Центророзыске Алехин, если о его
феноменальной памяти в МУРе потом ходили легенды, а Ильин-
Женевский написал, что «Алехин проявил большие успехи» и «ему
удалось раскрыть несколько очень запутанных преступлений»?
Есть два свидетельства. Первое - в рассказе мастера В.Панова
«Вслепую» («Шахматы», Рига, № 12, 1964). Суть проста: при осмо-
Следователь Центророзыска
259
тре места убийства Алехин заметил на стене среди фотографий
пустое место, своими вопросами помог подозреваемому вспомнить, что
было изображено на пропавшей фотографии, - и нашел
настоящего убийцу. По словам Панова, он услышал эту историю от «бывшего
оперативника уголовного розыска, хорошо помнившего молодого
следователя по совместной работе».
Второе свидетельство - более достоверное. П.С.Семеновский с
марта 1919 года по июнь 1920-го возглавлял в Центророзыске
кабинет судебно-уголовной экспертизы. Его рассказ приведен в книге
И.Крылова и А.Бастрыкина «Розыск, дознание, следствие»
(Ленинград, 1984). Фабула тоже проста: зайдя в дежурную комнату и
услышав, что задержанный назвался Иваном Тихоновичем Бодровым,
Алехин отчеканил: «Два года тому назад в военкомате, где я вас
встретил, вы назвались Иваном Тимофеевичем Орловым. Вы готовились к
медицинскому осмотру, были раздеты, на груди у вас висел
золоченый крестик на тонкой цепочке из белого металла, под ним была
небольшая родинка». Надо ли добавлять, что всё совпало. Неточность
одна: встреча в военкомате была не «два года тому назад», а в октябре
1919-го, когда Алехин проходил проверку на предмет освобождения
от военной службы.
7
>альн. Приемная
комиссия при Военномо
г.Москвы. Главном^ , нию
lb мая VJ2Q г. От . :у,
с673./Ц *
г
В ответ на Ba:;ie отношение от 15/У с/г. ea X? 108
зо ;б\аетс 1,что AJLiMl Александо Александрович .проходил '
ьную Приемную Комиссию II/X-I9I9 г. и пг-пвкан осв(1
м во—ьсе от военной службы тто 58 о е. я чем ему
выдано удостоверение К 16816** зиЬду его потери вндак дуб
л-икат ае. тем ;.;е* локером. *
За Начальника:подпись.
Справка о том, что Алехин проходил военную комиссию в октябре 1919-го и был
«признан освобожденным вовсе от военной службы».
260 Свой среди чужих
л TS9
S
1 Я . JlW^· \ · Г· <Ош% . · ■·— · ·
2 $с*я#эл *πβ:·/-· ."% »β^ t. ;
i.O^Vi
аде*.,;■ .. · *« £Я^1 ^ ^a^cw ^ rS^i ^W
О^ОбО ... ν' '
догу:-· ; 3 о с о »t я г' , <"^ fl
- »--,·/ . . ·
ио#"»$я\г;Фа .,»··*.
С I *'
^^5дМй.П0^.^Н^
/? «Сведениях на сотрудника Центророзыска» Алехин указал, что освобожден «от
призыва в Красную Армию» по болезни сердца.
Следователь Центророзыска
261
Рассказ Семеновского отыскал барнаульский историк Владимир
Нейштадт. Еще одно свидетельство я нашел сам: «В 1960-е бывший
сослуживец Алехина, ветеран МУРа с 40-летним стажем полковник
Илья Ляндрес (кстати, родной дядя писателя Юлиана Семенова,
послуживший прототипом для героя его милицейских романов
полковника Садчикова) вспоминал, как однажды вместе с коллегой
велдопрос подозреваемого в преступлении гражданина, не
имевшего при себе никаких документов. В разгар беседы в комнату вошел
Алехин, которому хватило беглого взгляда на задержанного, чтобы
назвать не только его подлинное имя, но и воровские клички - и
даже перечислить несколько уголовных дел, по которым тот
проходил еще до 1917 года. Все эти сведения Алехин помнил по
учетным альбомам, доставшимся МУСу (Московскийуголовный сыск, как
поначалу назывался МУР) от царской сыскной полиции, хотя ранее
сам преступника вживую не видел» («СМ Номер один», Иркутск,
18.02.1999).
Поскольку Илья Ляндрес пришел в милицию только в 1923 году,
когда Алехин был уже за границей, а схожая история есть и в книге
«Московский уголовный розыск», перед нами еще один муровский
апокриф (вроде того, что в рассказе Панова). Но статья «Александр
Алехин - следователь МУРа» в иркутской газете, хоть и не
подписана, содержит едва ли не самую полную информацию о его
деятельности в Центророзыске:
«13 мая 1920 года Алехин пришел в Московский уголовный сыск
следователем в отделение, занимавшееся розыском пропавших без
вести граждан, опознанием скрывавших свою личность задержанных
преступников и безымянных трупов. Оно же отвечало на запросы
российских и иностранных граждан, искавших родственников,
потерянных во время первой мировой и гражданской войн.
В отличие от агентов МУСа, ведущих оперативную работу по всей
Москве, Алехин проводил большую часть службы в бумажных
хлопотах в конторе МУСа в Гнездниковском переулке - в помещении
стола приводов и центрального регистрационно-дактилоскопического
бюро (его также возглавлял Семеновский). (...)
Бесценным для милиции оказался и дар Алехина-полиглота,
знавшего пять европейских языков (заполняя анкету в Коминтерне, он
указал три: «франц., нем., немного англииск.»). Именно на него была
возложена переписка, которую милиция вела через Наркомат
иностранных дел с иностранцами, ищущими в России следы родных и близких.
13 февраля руководство МУСа с сожалением подписало поданное
Алехиным прошение об отставке...»
Попробуем разобраться в названиях и датах. 13 мая 1920 года он
пришел не в Московский уголовный сыск, а в Центророзыск, но эта
262
Свой среди чужих
путаница объяснима: Алехин служил не по адресу Центророзыска
(Б. Лубянка, 2), а в особняке в Б. Гнездниковском переулке, 3, где
тогда сидел МУР. Остается вопрос: если временем своего
увольнения из Центророзыска Алехин в анкете указал сентябрь, то почему
в деле, заведенном на него в ВЧК 20 ноября, местом его службы
назван Центророзыск? И как он мог служить в МУРе до февраля, если
весь декабрь провел в поездке с делегатами Коминтерна? Или... во
время поездки он выполнял функции не только переводчика и
помощника политкомиссара, но и следователя Центророзыска?..
Кстати, заметили фразу про «бумажные хлопоты», в которых
Алехин «проводил большую часть службы»? В ней-то и кроется
разгадка знания «учетных альбомов, доставшихся МУСу от царской
сыскной полиции», о чем вспоминал Ляндрес. Оказывается, в то
время острейшей была проблема регистрации преступников для их
розыска и опознания, и именно «благодаря усилиям Центророзыска
и аппаратов уголовного розыска на местах, привлечению к работе
отдельных старых специалистов, ряд учетов, картотек и
формуляров царской сыскной полиции удалось привести в порядок и
существенно дополнить» («Вестник Московского университета МВД
России» № 10, 2013).
Вот откуда Алехин знал подлинные имена и воровские клички -
это результат его работы с учетными альбомами и картотеками!
Причем результат, можно сказать, побочный, потому что специально
Алехин ничего не запоминал. За год до этого он жаловался Сергею
Шишко, что в юности «сильно страдал от излишней остроты
своей памяти», запоминая всё «вопреки своему желанию и воле». Судя
по рассказу Шишко, от «излишней остроты» Алехин так и не
избавился: «Будучи секретарем кинематографической школы, он,
однажды ознакомившись с анкетами учащихся и с текущей
перепиской, мог пользоваться ими, не заглядывая в бумаги» («Огонек» №
14, 1958).
ПЕРЕВОДЧИК КОМИНТЕРНА
Перед нами «Личное дело сотрудника ИККИ тов. Алехин Александр
Александрович» (фонд 495, опись 65а, дело 2023) в оранжевой
бумажной обложке с орнаментом. ИККИ - это Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала. В приводимых документах
(сканы предоставил Олейников) я всё, вписанное от руки, также
выделил курсивом. В отличие от Центророзыска, бланки ИККИ грешат
орфографическими ошибками и опечатками, которые я, при всей
моей любви к аутентичности, счел нужным исправить.
Анкета заполнена рукой Алехина красными чернилами:
Переводчик Коминтерна
263
АНКЕТА №617
1. Имя, отчество и фамилия Алехин Александр Александрович
2. Должность, занимаемая в настоящее время, оклад переводчик
3. Адрес «Lux» № 152 Тел. №3-41-10
4. Сколько лет 28
5. К какому сословию принадлежал до революции дворянин
6. Национальность русский
7. Семейное положение (холост, женат, сколько человек семьи
находится на вашем иждивении, степень родства с ними) женат
8. Где, на какой должности работали(ют) ваш отец и мать (средний
месячный заработок)
а) до революции в) в настоящее время родителей нет
9. С каких лет (с какого года) живете собственным трудом с 16-ти
10. Отношение к воинской повинности
а) пользуетесь ли отсрочкой, и на какой срок
в) подлежите ли зачислению в Красную Армию
г) состоите ли на учете Освобожден по болезни (58ст.) №удост.
16816
11. В каком году были
призваны на военную службу в
старой армии, в какой
части служили, последний чин
(фраза о болезни написана
поперек пунктов 10и 11. - СВ.)
12. Специальность
(профессия) юрист
13. В каком профсоюзе
состояли до поступления в
Коминтерн (прочерк)
14. Не занимали ли
выборных должностей в профсоюзе
(прочерк)
15. С каким Вы
образованием
а) низшим (прочерк)
б) средним (если
специальным, то указать с
каким) (прочерк)
в) высшим
(специальность) юрист
16. На каких языках
говорите, читаете, пишете франц.,
нем., неумного английск
17. Когда поступили в
Коминтерн в июне 1920
18. По чьей рекомендации
тов. Руссо (Нач. Моск. Упр.
Всевобуча)
j7u чхое 7>е л о
Сотрудника Π К. К. И.
Тов. <*&*£&***. *^&*4~рш4, .^Си
Начато
Окончено
Наг
Обложка «Личного дела сотрудника
ИККИ тов. Алехин Александр
Александрович». Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала
- это орган управления Коминтерна,
действовавший в период между его
конгрессами.
264
Свои среди чужих
19. Не работаете ли еще где-либо нет
20. Работали ли в Коминтерне на другой должности, если да, то
а) на какой (прочерк)
б) с какого и по какое число (прочерк)
в) почему переменили должность (прочерк)
21. Где, на какой должности работали (средний месячный
заработок)
а) до февральской революции (прочерк)
б) с февральской до октябрьской (прочерк)
в) с октябрьской до поступления в Коминтерн 8000-12000
22. К какой партии принадлежали (с какого по какое число) и
какую вели в ней работу:
а) до февральской революции (прочерк)
б) с февральской до октябрьской (прочерк)
в) с октябрьской до настоящего времени Р.К.П. (канд.)
23. Не подвергались ли судебному преследованию, если да, то где,
каким судом и за что: нет
24. Краткая биография (прочерк)
Подпись: Александр Алехин
14/ill-} 921
В «Личной карточке сотрудника Коминтерна», заполненной не
рукой Алехина, но теми же красными чернилами, примечательны два
пункта: 6. Отдел Орг. бюро; 9. Время поступления в Коминтерн 15/
111-21. Та же дата значится и на обороте - в таблице «Движение по
службе в Коминтерне», где всего одна запись: 15/111-21. Увол. 2/1V-21.
Но ведь в анкете он написал, что поступил «в июне 1920»? Шабуров
в своем «Алехине» ничтоже сумняшеся взял да исправил цифирку:
«Он был зачислен с 15 марта 1920 (!) года по 2 апреля 1921 года в
организационно-информационный отдел». Хотя ясно, что
заполнявший карточку попросту ошибся: он принял дату заполнения анкеты
(кстати, в Центророзыске Алехин тоже почему-то заполнил ее при
увольнении) за дату вступления в Коминтерн!
Своим адресом Алехин указал: «Lux» № 152. Это гостиница «Люкс»
на Тверской улице, 36 (сейчас 10) со знаменитой булочной
Филиппова внизу. С осени 1921-го там было общежитие Коминтерна, а до
этого - общежитие НКВД. Если помните, в его «Анкете для
сотрудников Центророзыска» указан тот же «Люкс», но без номера
комнаты: видимо, 2 сентября Алехин его еще не знал. Решение о выселении
сотрудников НКВД из гостиницы Совнарком принял 3 августа, во
время Второго конгресса Коминтерна, когда встал вопрос о том, где
потом будут жить его делегаты. Не знаю, когда в «Люкс» въехали
новые постояльцы, но уже 19 сентября там открылся читальный зал для
членов ИККИ...
О работе Алехина в ИККИ мало что известно. Ильин-Женевский
в книге «Матч Алехин - Капабланка» пишет: «исполнял в Комин-
Переводник Коминтерна
265
и
АНКЕТА Лк ^/ί
1. Имя отчество и фамилия Х/^^^-^Ч. 1лу
2. Должискчь, уавгимаемая, в на/поящее иремя, оклад оС
4 Сколько лет С·- с> О-***
0. К какому сословию прммадлежлл до редддюции . . г' ^*«·^ν*ν-»
6. Национальность \/</£*£τΛ^Ο^
7 Семейное положение (холост жсиат. сколько человек семьи находится на Вашем
иждклрпии, степень родства w ними ^^-г^с-Д-ч-С^г.^-с.
8 л- на какой должности работали <ют) ваш отен и мать (средний месячный ззработок)
."I до революции
,о^
/
Sb
у
&
9'
AS*
настоящее время ^ ·
ή.
V). С каких лег (с какого года) живете собственным трудом ^га //, '
Ю. Отношение к воинской повинности ^ /Λ ' "
а) пользуетесь ли отсрочкой, и на какой срок .^ ■ \ ^
в) подлежа!с ли зачислению в Красную Армю
г) Состоите ли на учете
11. В каком году были призваны мцШэонную "службу в старой армии, в какой масти
служили, последний чин ' ^ *гч -У
12. Специальность (профессия) i^l^^f2OL^£&*C+
13. Л каком профсоюзе состояли до поступления в Коминтерн
I i He занимали ли выборных должностей в ирофсоюзе
15. С каким Вы образованием
а) нисшим ^_^*^
f*0 средним (ес1и^дд*нге^Гьныи. то указать с каким)
• · ,/<\%" h и & ъ
в) высшим ^специальность) —< f \
16 На какик языках, говорите, читаете, пищите
Ып*4Г;
В своей анкете Алехин на вопрос: «На каких языках говорите, читаете, пишете»
ответил: «Франц., нем., немного англииск».
266
Свой среди чужих
Белогвардейский плакат времен гражданской войны. Прямо над надписью «В
жертву Интернационалу» изображен Раковский — тот самый, что в 1919-м спас
Алехина от расстрела.
терне обязанности переводчика и в то же время, как коммунист,
был назначен секретарем культурно-просветительного отдела». Но в
структуре Коминтерна такого отдела нет (как и указанного в личной
карточке Алехина «Орг. бюро»). Верное название привел Шабуров:
организационно-информационный. Согласно сборнику
«Организационная структура Коминтерна. 1919-1943» (1997), отдел
«обеспечивал делегатов конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ справочно-
информационными материалами по коммунистическому,
социалистическому и рабочему движению, организовывал для делегатов
экскурсии по городам Советской России (вот почему Алехин ездил на
Урал и в Сибирь), устраивал выставки, встречи с рабочими,
крестьянами, интеллигентами».
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПАРТИИ С ГРИГОРЬЕВЫМ
Даже ничем не примечательная сеансовая партийка Алехина,
вынырнувшая из-под толщи лет, радует поклонников его творчества.
А тут вдруг сразу целая россыпь неизвестных ранее партий Алехина
1919-1921 годов!
Помните упомянутый в предисловии конверт, который принесла
мне Елена Максовна Котова? Его содержимое выглядело настоя-
Неизвестные партии с Григорьевым
26 7
щим чудом: «рассыпающиеся в руках листки» оказались рукописями
Алехина и Григорьева. Даже не знаю, что ценнее: 25 партий
Всероссийской шахматной олимпиады, записанных рукой Алехина,
или девять его партий с Григорьевым, записанных соперником?..
Второй шок я испытал, выяснив, что из девяти партий с
Григорьевым Котов опубликовал только две, а про остальные даже не
заикнулся: «Среди архива Алехина, который автор этой книги получил
от различных шахматистов, знавших и встречавшихся с Алехиным,
имелось несколько маленьких листочков, на которых был записан
текст шахматных партий. Это были встречи Алехина в августе 1919
года с молодым перворазрядником, впоследствии известным
мастером Η Д.Григорьевым. Небольшой матч был выигран Алехиным со
счетом 4:0».
От кого Котов получил записи Григорьева, взятые явно из архива
самого мастера? Скорее всего, от Ильи Кана, автора книги
«Шахматное творчество Н.Д.Григорьева» (1952). Ведь все четыре известные
до сих пор партии матча Алехин - Григорьев 1921 года напечатал
именно Кан: три в своей книге
и еще одну в газете «Шахматная
Москва» (30.07.1960). У Котова
же, как по заказу, оказались три
недостающие партии матча - в
том числе две победы Алехина,
что делает находку еще ценнее,
поскольку все другие партии
завершились вничью. Почему эти
победы не опубликовал Кан, я
могу понять, но почему их
проигнорировал Котов?..
Итак, новых партий Алехина —
семь: три из этого матча, другие
были сыграны раньше - в 1919 и
1920 годах. С них и начнем,
чтобы не нарушать хронологию.
Из четырех партий матча 1919
года в 1-м издании
«Шахматного наследия» (1958) Котов
привел две, но без номеров и дат.
Оказалось, что это № 1 (3
августа, последний ход 18.£>:е4) и Шстер Ныколай Григорьев сохранил
№ 4 (13 и 15 августа, 21...Ж:е4). для потомков партии, сыгранные ilm с
К слову, в книге Я.Календовско- Алехиным в 1919-1921 годах. Из архи-
го и В.Фиалы «Complete Games ва автора.
268
Свой среди чужих
of Alekhine. Volume 1: 1892-1921» (1992) обе они ошибочно
отнесены к матчу 1921 года, а в сборнике Скиннера и Верховена
источником № 1 вместо книги Котова указан некий «unpublished manuscript»
Л.Абрамова и С.Флора 1960 года. Я не мог понять почему, но
потом догадался: авторы пользовались 2-м изданием (1982), где Котов
эту партию снял...
Теперь мы имеем все партии матча, с нумерацией, датами и
показаниями часов. Записаны они карандашом, в столбик краткой нотацией,
на сложенном вдвое листе в линейку размером 18x22 см, явно из
блокнота - на сгибе следы от скрепок. Вопреки введенной год назад
новой орфографии, Григорьев пишет фамилии и слово «дебют» по
старинке - с твердым знаком на конце. У него характерная заглавная
буква «А» - как увеличенная строчная (такая же была в юности и у
Алехина: см. автограф под снимком 1910 года, где он в пенсне со шнурком).
Над партией № 1 Котов шариковой ручкой написал: «Реализация]
материального] преимущества]. Изобретательность] при реализ
[ации]». Над № 2: «Атака на фер[зевом] фланге», потом зачеркнул и
написал «нет». Над № 3: «Наказание за нарушение равновесия». Над
№ 4: «Контратака».
Приведу партии № 2 и № 3, которые публикуются впервые. У
других укажу только дату и показания часов. № 1 Алехин - Григорьев: 3
августа, 52м. - 1ч. 38м. № 4 Григорьев - Алехин: 13 и 15 августа, 1ч.
50м. - 1ч. 25м. После 15-го хода белых, где партия была отложена,
стоят две косые линейки и показания часов: 1ч. 21м.-57м.
Краткие примечания ко всем партиям принадлежат мне. Кстати,
количество ошибок в этих и ряде других побед Алехина отчасти
объясняет, почему Котов не включил их в свою книгу, хотя и не извиняет
того факта, что он эти партии вообще положил под сукно.
№17. Испанская партия С67
(№2) Дата: 8,VIII, 1919
Противники: Григорьев - Алехин
Дебют - Испанская
I .е4 е5 2.£tf3 <Ь 3.£b5 £f6
4.0-0 £:е4 5.d4 £e7 6.We2
f5 7.de 0-0 8.^bd2 d5 9.£b3
ШеВ 10.c4 a6 11 .cd (11 .Да4=)
II ...ab 12.dc be. К
преимуществу черных вело 12...Ш:с6! и
затем Шс4.
1 З.ДеЗ с5 1 4.»с2 2а4 1 5.
Ϊ\ίό2 £Ь7 16.f3 c4 17.fe cb
18.»:b3+ ih8 1 9.2ас1 £d8.
Неизвестные партии с Григорьевым
269
ощутимым давлением. Поэтому
черным следовало начать с 19...
&:е4 и лишь на 20.П:с7 сыграть
20...Дс18=(21.Дс81Г:е5).
20...2g8 21.2:f5 Дс8 22.
Sf2 £a6 23.Wg3 Д:а2 24.ДсП
£е7 (24...Д:Ь2!?) 25.£:е7 Ш:е7
26.£>f3.
26...h6. Коварный ход!
Выглядит как серьезное ослабление,
но таит в себе хитрую ловушку, в
которую Григорьев и попадается.
27.£>h4 Шс5 28.£>д6+
(перевес сохраняло 28.ФЫ) 28...
ФИ7 29.£>f8+ (грубый зевок: ла-
дья-то связана!) 29...S:f8.
Сдался. 2ч. Ом. - 2ч. Ом.
№ 18. Дебют ферзевых пешек D02
(№3)Дата: 10,VIII,1919
Противники: Алехин - Григорьев
Дебют - Ферзевый
1.d4 d5 2.£>f3 c5 3.£f4 £>с6
4.еЗ еб 5.с4 £>f6 6.£)сЗ cd 7.
ed *Ь6 (7...dc=) 8.с5 Ш:Ь2.
Шаг в пропасть: спасение ферзя
обойдется черным слишком
дорого! Видно, драматический
финал предыдущей партии выбил
Григорьева из колеи...
Запись 3-й партии матча с
Григорьевым 1919 года. Из архива Л.Котова.
Этот и следующие три документа
публикуются впервые.
9.£>а4 ШаЗ Ю.£с1 ШЬ4+ 11.
£d2 ШаЗ 12.£b5 £>е4 13.0-0
£:d2 I 4.W:d2 аб 1 5.£:с6+ be
1 6.£>Ь6 2Ь8 17.&аЫ Д:с5 18.
dc Ш:с5 1 9.ad7. Сдался. 37м.
1ч. 14м.
270
Свой среди чужих
№
li*»Vtj*»*jk /Ц~»С
Следующие две партии были сыграны летом 1920 года в неком,
как указывает Григорьев, «ряде серьезных партий I кат. А против
маэстро». (Что такое «I категория] А»? Видимо, так именовались
первокатегорники, по уровню игры близкие к мастерам; прообраз
кандидатов в мастера.) Оказалось, результаты именно этого соревнования
приведены в шахматном отделе Ильина-Женевского в журнале
Центрального управления Всевобуча «К новой армии» (№ 16, 7.1 1.1920):
«Москва. Закончилось состязание "первоклассного маэстро" А-ндра
А.Алехина против сильнейших московских шахматистов.
Конечный результат его +6 (у Грекова -1, у Зубарева -1, у Григорьева -1, у
Н.Павлова -1 и у Ильина-Женевского -2), -2 (Н.Павлову и
Зубареву), =2 (с Грековым и Григорьевым)».
Уникальность этой находки еще и в том, что обе партии
записаны на бланке Московского шахматного кружка - в правом верхнем
углу наискосок жирно напечатано: «М.Ш.К. 1920». В моем архиве
уже имелся один такой бланк
(других я никогда не встречал) с
партией Павлов-Пьянов -
Алехин из олимпиады 1920 года:
впервые я его опубликовал в
статье «Шахматный пир во время
чумы» (2005), вошедшей затем
в мою книгу «Шедевры и драмы
чемпионатов СССР. 1920-1937».
Кружок открылся в мае, а его
председателем был как раз
Николай Григорьев.
(Кстати, как мы увидим
ниже, Григорьев именует кружок
«Шахм. Секцией Всевобуча», и
действительно, это был филиал
Центрального
Военно-спортивного клуба Всевобуча. Причем
уже в июле 1921 года - «им.
Ленина»! Источник надежный:
письмо Троцкому от начальника
Всевобуча Московского
военного округа Василия Руссо с
приглашением посетить клуб.)
Размер бланка 16,5x27,5 см.
Как и предыдущие партии, эти
тоже записаны карандашом, в
столбик краткой нотацией. Сле-
II *
ш
к' Л
1и
•А
1у
!
г
«
•
и.
и.
. η
Уникальность этой находки еще и в
том, что обе партии записаны на
бланке Московского шахматного кружка, о
чем говорит штамп сверху: М.Ш.К.
1920. Из архива Л.Котова.
Неизвестные партии с Григорьевым
271
ва вверху Григорьев красным карандашом добавил: «2-е (две) А-ром
Алехиным (I кат. А против него), лето 1920 — 1, =1». А справа
шариковой ручкой, уже почерком Котова: «Интересная простая поз[иция|
эндшпиля». Надпись относится к партии № 2, потому что № 1
дописана на обороте бланка уже потом. Знак «//» означает, что здесь игра
была прервана, но показания часов в этот момент Григорьев привел
только в партии № 2.
№ 19. Сицилианская защита В29
№ 1 -30,VII,1920h5,VIII
ΗГ[Григорьев] - Ал-р Алехин
Сицил[ианская]
1.е4 с5 2.ЗДЗ €}f6 3.e5 £д8
4.<£сЗ £к6 5.Дс4 еб 6.0-0 аб
7.а4 d6 8.ed i-:d6 9.d3 £ge7
10.^g5! (знак Григорьева) 10...
ЪеБ 1 1.i.b3 h6 12.ШИ5 Дс7
13.^ce4^d5.
14.^:c5. Упуская возможность
наказать соперника за
предыдущий опрометчивый ход: 14.f4!
g6 (плохо 14...^g6? из-за 15.^:f7
*:f7 16.f5) 15.£>:f7 £>:f7 16.W:g6
£te7 (иначе последует 17.f5) 17.
*h5£tf5 18.£d2! со страшной
угрозой ДсЗ.
14...ЗД6 15.ШИЗ £>ед4 16.
£с:е67 Знак Григорьева. Стоило
предпочесть 16.£rf3!?
16...fe17.^:e6.
17...£:е6. Тут уже Алехин мог
огорошить соперника ходом 17...
£.:h2+! Например: 18.ФЫ Ше7
19.Hel iLe5 20.£i:g7+ *d8 21.ШН4
(фозила вилка на f2) 21...W:g7
22.0 JLd7! 23.fg W:g4 24.W:g4 ^:g4
с конем за две пешки и
выигранной позицией.
18.£:е6 Wd4 19.£еЗ We5
20.Sfel. Лучше 20.£d2! Ш:е6 21.
Efel Де5 22.d4 0-0 23.de <£d5 24.
Se2 (24.0?? Wb6+) 24...£>f4 25.
£.:f4 2:f4 с тремя пешками за
фигуру. Теперь же белым плохо.
20...Ш:И2+ 21.W:h2 £:И2 +
22.&И1 £:еЗ 23.Д:еЗ £f4 24.
2е2 id8 25.C4 £d6 26.d4
ДЬ4 27.a5 Se8 28.c5 -<J5
29.2e5 £f4 30.Sa4 i.:c5 31.
dc S:e6 32.2f5 £>g6 33.2д4
ie7 34.Sf3 Sc8 35.2b4 Sc7
36.2fb3 0:c5 37.S:b7+ <±f8
38.2f3+ ig8 39.дЗ £e5 40.
272
Свой среди чужих
ДеЗ 2с2 41.Фд1 2сс6 42.Ь4
£>с4 43.Sd3 £>d6 44.2а7 £>Ь5
45.2b7 ФИ7 46.2dd7 Sg6 47.
Фд2 2c4 48.f4 H:f4. Сдался.
Зч. 12м. - 2ч. 25м.
№ 20. Венская партия С 29
Вид состязания: Ряд серьезных
партий I кат. А против маэстро
№ партии: 2 (между теми же
противниками)
Где играна: М.Ш.К. - Шахм.
Секция Всевобуча,
Камергерский, 5, кв. 99
Дата: 15,V1II,1920 и 17,V111,1920
Противники: А-др Алехин -
Григорьев]
Дебют: Венская
1 .е4 е5 2.£>сЗ£>f6 3.f4 d5 4.f e
- :e4 5." f3 £g4 6.We2 - :c3
7.be c6 8.d4 £e7 9.Wf2 f6
10.ef jL'f6 11 Ле2 0-0 1 2.0-0
Wd6 1 3.a4 Де7 1 4.£a3 Wg6
1 5.£:e7 - :e7 1 б.ШеЗ - f5 1 7.
Wd3 "d6 18.-e5 i_:e2 19.
£>:g6 £:d3 20.£>e7+ ФИ8 21.
cdc6 22.Пае1.
fi ' жт
\kk 11
i
ώ 'Δ
Α -Δ
22...2f7. Ходом 22...g6! с
угрозой поймать коня черные
могли выиграть пешку, например:
23.2:f8+ 2:f8 24.с4 dc 25.de <Й:с4
26.d5! cd 27.£>:d5.
23.2e6. Ответный промах: 23.
S:f7! ^:f7 24.£>f5 и Де7, вторгаясь
на 7-й ряд.
Упустив эту возможность,
белые передают инициативу
сопернику.
23...2d8 24.ОЫ дб 25.а5
а6 26.2ЬбФд7 27.ИЗ.
Ж
А ^Жфк
\к&к%й' к
\Ά к *'
27...2d7. Ход 27...ШИ
вынуждал отдать коня в гораздо менее
выгодной редакции: 28.2е5 2d7
29.£>:d5 cd 30.2:d5 2d8! с
угрозой Φί7.
28.i):c6 be 29.2:a6 <ЙЬ5 30.
Se:c6 2c7 // (2ч. 11м - 2ч. Ом.)
31 .2:с7 2:с7 32.2b6 £>:c3 33.
if2 £>a4 34.2b5 Φί6 35.2:d5
Феб 36.2b5 - c3 37.2b6+
id7 38.if3 - d5 39.2b5 Феб.
Инициативу сохранял ход 39...
Феб!?, избегая размена ладей.
40.2с5 + id6 41.2:с7 Ъ:с7
42.if4 h6 43.Фе4 Феб 44.д4
^d5 45-аб <£сЗ+ 46.ФеЗ £>Ь5
47.Фе4 £>d6+ 48.ФеЗ £>с8 49.
Фе4 £>d6+ 50.ФеЗ £>с8 51.
Фе4 £>d6+ [Ничья] 2ч. 52м. -
Зч. 37м.
Неизвестные партии с Григорьевым
273
И наконец, три финальные партии матча 1921 года. Видимо, все
они сыграны в апреле, но точная дата есть только у партии № 7,
записанной карандашом на листе в линейку размером 11x18 см. Две
другие, также записанные карандашом, были на ломком от ветхости
листке в клетку 14x18 см, сложенном вчетверо и распавшемся на
сгибах. Да еше верхние углы кто-то срезал вместе с номерами партий,
частью дат и фразами Котова. На№ 5 осталось: «Простая поз[иция]»,
на № 6 и вовсе только кусок слова: «Двух[...]». Зато на № 7 уцелели
обе надписи: на лицевой стороне - «Эндшпиль К+Л > К+Л», на
задней - «Эндшпиль по К+[пешки]».
В отличие от партий других лет, эти записаны полной нотацией, но
она смотрится только в столбик. И еше: гросмейстер - не опечатка,
Григорьев так писал и в 1923 году в своем отделе в «Известиях».
№ 2L Защита Фишдора С41
(№5) [Дата:], 1921
Противники: НГ[ригорьев] -
гросмейстер Алехин
Дебют: Защита Филидора
1.е4 е5 2.£f3 d6 3.£c4 £>f6
(в 3-й партии Алехин сыграл 3...
Ag4) 4.ftg5 d5 5.ed h6 6.£f3
e4 7.£>e5 £d6 8.d4 £>bd7 9.
£f 4 0-0 1О.^сЗ Ше7 11 .Ше2
£>:e5 12.de £:e5 13.£:e5
W:e5 14.0-0-0 ig 4 1 5.f3 Wf4+
16.Wd2 W:d2+ 1 7.S:d2 ef 18.
Sgl Sad8 19.ИЗ £h5 20.g4
Листок с двумя партиями матча 1921 года был сложен вчетверо и распался по
сгибам... Из архива Λ.Котова.
274
Свой среди чужих
£д6 21.if2 аб 22.а4 Ь5 23.
ab ab 24.£:b5 £>:d5 25.2:f3
£>Ь4 26.£а4 2d4 27.Hd1 c5
28.2:d4 cd 29.£tb5 d3 ЗО.сЗ
2a8 31 .b3 £>a6 32.^d6 £>c5
33.^f5 if8 34.id2 h5 35.2f4
hg 36.hg £:f5 37.2:f5 Дс8 38.
2f4 2b8 39.2c4 £>:ЬЗ+ 40.
i:d3ie741.2c6£d8+42.ic2
£>d2 43.2c7+ *f6 44.id7 £>f3
45.jLf5 £>e5 46.2c5 2e8 47.
c4 ig5 48.ic3 if4 49.2d5
£>:g4 50.jLd7 ДеЗ+ 51.id2
£>e5 52.C5.
52...2e4. К выигрышу вело 52...
£rf3+! 53.Фс2 2е5, и после
размена ладей пешка «с» гибнет. А
если 54.£lc6, to 54...g5 55АЫ f 5 56.
*d3 2е7! 57.c6 g4 58.Sc5 2c7 и т.д.
53.jLb5 g5 54.c6 £>c4+ 55.
*d3 £>e5+ 56.id2 £>f3+ (56...
£Ы+!=) 57.ic3 2e3+ 58.ib2.
Теперьуже белые могли выиг-рать
ходом 58.^d3!, например: 58...
Se8 59.c7 2c8 60.2f5+ &g3 61 .2с5!
ё4 62..ЙЛ5 2:с7 63.2:с7ит.д.
58...2e8 59.c7 (или 59.£а6
g4 60x7 g3 61.2d8 2:d8 62.cd«
g2=) 59...2c8. Ничья. Зч. 57м. -
2ч. 58м.
№ 22. Испанская партия С66
(№6) [Дата:], IV, 1921
Противники: гросмейстер
Алехин - НГ[ригорьев]
Дебют: Испанская
1 .е4 е5 2.- f3 - сб 3.£b5 - f6
4.0-0 d6 5.d4 £d7 6.- сЗ £е7
7.de £>:e5 8.£:d7+ £>f:d7 9.
<5^d4 0-0 Ю.ЬЗ (во 2-й партии
Алехин предпочел 10.jfc.g5) 10...
*6 11." f5 if6 12.£b2 2e8
13.2е1 £>с5 14.Wg4 £>е5 15.
ШдЗ <£д6 16.2ad1 £>:е4 17.
2:е4 2:е4 18.^:е4 £:Ь2 19.сЗ
Ше8 20.Wf3 2d8 21.h4 d5
22. c5 Шсб 23.Ь4 h5 (23..
Ш\=) 24.- d4.
24...Wf6. Слон уже погиб, но
путем 24...£>:h4! его можно было
«продать» за три пешки: 25.1^4
ШЛ5 26.W:f6 gf 27.£>а4 ДаЗ 28.£Ь5
а5! 29.£>:аЗ ab ЗО.^Ы (ЗО.сЬ? 2а8)
ЗО...Ьс31.£*Ь:сЗс6ит.д.
25.W:f6 gf 26. ча4 ДаЗ 27.
£>Ь5 2е8 28.ΪΠ 2e6 29.£>с5
Неб З0.^:а3 а5 31.2:d5 Ь6
32." d3 2:сЗ 33.- Ы 2с2 34.
Ьа 2:а2 35.ab cb 36.2:h5
2а1 37.2b5 £>:h4 38.2:b6
ig7 39.g3 - f3 40.ig2 r g5
Неизвестные партии с Григорьевым
275
41.ДЬ2 f5 42.£>f4 (ходы 41...
f5 и 42.<5М4 в оригинале
пропущены) 42...£te4 43.£id2 £>f6
44.£>f3 £>g4 45.£>d4 *f6 46.
Hb6+ Фе5 47.£>f3+. Сдался.
1ч. 42м. - 2ч. 53м.
№ 23. Защита Фшшдора С41
(№7) Дата: 17, IV, 1921
Противники: НГ[ригорьев] —
гросмейстер Алехин
Дебют: Защита Филидора
1 .е4 е5 2.£>f3 d6 3-d4 (тут уже
Григорьев первым уходит в
сторону) 3...£>f6 4.de £>:e4 5.£d3
£>с5 6.£g5 Де7 7.£:е7 Ш:е7
8.0-0 0-0 9.ed W:d6 10.£>сЗ.
Первопричина проигрыша.
Изолированная пешка d3 принесла
белым одни проблемы (10. Дс4=).
10...-:d3 11 .W:d3 W:d3 1 2.
cd£>a6 13.lad Sd8 14.2fe1
i.g4 1 5.ДеЗ c6 1 б.аЗ £>c5 1 7.
£>e5 £f5 18.£>e4 £>ЬЗ 1 9.Sc3
^d4 20.if1 Id5 21.ЗДЗ £>Ь5
22.Sc4 2ad8 23ie2 &f8 24.
h3^c7 25.g4 jLg6.
26.ΏΗ4. Ошибка! После 26.<£>d2
или 26.<йс5 Ь6 27.Фе4 и Ь2-Ь4 еще
можно было бороться.
k4..i
N. £*-
Ь. ii·
Γ'Ίι·
к си
1 С -
II. ΦϊίΙ
if. <Л
k-/Ui-
U}1
ί>
,44
^■{V"'^ *
и
ь
гч
·· г
0*
•?3
йЛ
э^
ί
Ul·
<>
c-
i<: г:
φϊ·
К'if
-»\1\ι-
c!
-<Λ
Ctf-
f r
if K.
tt i].
U u.
^ '.*■
% Ч
- ь
ц Ц.
f Ц.
с-4 /*.
аД-
/j:
\еа
1 ^
J[ (i -
ic4
Λ<Λ
ertt
4tf
ГлТуТТ/Тт]
(^J-*u<v
A/< , *'M]
-«r&si ,d
e/i К<*~-И
-Ь JfrtoH
rV"7iTf' J
ν (>.J
<ч jlV-J
ИУ ΛίρΜ
4h KVpd
"41^
Дата уцелела только на этом листке.
Она показывает, что последняя
партия была сыграна /7 апреля — за два
дня до того, как Алехин получил
разрешение на выезд за границу. Из архива
А.Котова.
26...£:е4 27.2с:е4 ДЬ5 28.
ЕЬ4. Приходится: 28.Ь4? <£>d5, и
белые без качества.
28...2:b4 29.ab ^d5 30.
Se4 g5 31 .^f5 ^f4+ 32.id2
H:d3+ 33. ic2 Sd5 34.И4 ^h3
35.f3 gh 36." :h4 h5 37.&e2
£tf4 38.Se4 ftg6 39.gh S:h5
40.^:g6+ fg 41.id3 *f7 42.
2e2 Sh4 43.ic3 a6 44.Se1
g5 45.Se3 *f6 46.Sd3 *e6
47.2e3+ *d6 48.ib3 Sh3 49.
Фс4 Ь5+ 50.id4 Sh4+ 51.
Se4 S:e4+ 52.i:e4 Феб 53.
276
Свой среди чужих
ЬЗ Φί6 54.f4 g4 55.&d3 <±>f5 знатока пешечного эндшпиля
56.ФеЗ дЗ 57.^f 3 д2 58. как Григорьев не составило тру-
Ф:д2 <±>:f4 59.&f2 Фе4 60. да увидеть, что после 61.Ф<32 с5!
Фе2 Фс14 [Сдался] Для такого белым не спастись.
Пользуясь случаем, сделаю одно уточнение. Скиннер и Верховен
источником game 442 - это 3-я партия матча - указали
«Шахматную Москву» за 1960 год, но помимо неточной даты (30 сентября
вместо 30 июля) неверно привели и финальные ходы: согласно
заметке И.Кана «Три партии А.Алехина с Н.Григорьевым», было сыграно
63...ФЬ2 64.5Ш с2, а не 63...Фс2 64.£>d4+.
АВТОГРАФ ГЕНИЯ
Записи Григорьева, конечно, уникальны (не знаю, имеются ли другие
его автографы?). Но все-таки истинная жемчужина, «завалявшаяся»
в архиве Котова, — это алехинская рукопись с партиями
Всероссийской шахматной олимпиады 1920 года. Потемневший от времени
лист размером 35x45 см, густо исписанный с обеих сторон
чернилами. Он был сложен вчетверо и затем еще вдвое, поэтому, когда я стал
разворачивать его, распался на четыре вертикальные полоски.
Хорошо, хоть горизонтальный сгиб устоял, а то пришлось бы собирать
вообще из осьмушек.
Этот раритет, я уверен, тоже из архива Григорьева, которому
Алехин вполне мог отдать свои шахматные бумаги перед отъездом за
границу. Η а эту мысль меня навела его партия с И.Рабиновичем,
напечатанная Григорьевым в 1923 году в «Известиях» (см. стр. 228).
Ценность находки в том, что среди зап исанных Алехиным партий -
12 оказались новыми! Для сравнения: из 120 партий олимпиады
были известны всего 38 (вместе с той, что я нашел в архиве В.Нейштадта,
в чьей-то тетради с партиями 1 -го тура: Д.Павлов - А.Рабинович).
Всего в рукописи 25 партий (даны в порядке туров; курсивом
выделены новые): Григорьев - Алехин, А.Рабинович - Павлов-Пьянов,
Ильин-Женевский - А.Рабинович, И.Рабинович - Блюменфельд,
А.Куббель - И.Рабинович, Левенфиш — Мунд, Романовский -
А.Рабинович, Алехин - Левенфиш, А.Рабинович — И.Рабинович, Блю-
менфельд - Зубарев, Ильин-Женевский — Алехин, И.Рабинович -
Григорьев, Павлов-Пьянов - Романовский, Голубев — Алехин, Зубарев -
А.Рабинович, Романовский — Ильин-Женевский, Григорьев — Зубарев,
А.Рабинович - Левенфиш, Данюшевский - Ильин-Женевский,
Блюменфельд — А.Рабинович, Алехин — Целиков, И.Рабинович -
Алехин, Целиков - А.Рабинович, Мунд — Голубев, Павлов-Пьянов -
Блюменфельд.
Автограф гения
277
Котов пишет: «Во время сбора архива Алехина и материалов,
касающихся его жизни и шахматной деятельности, автор нашел старый
пожелтевший лист бумаги с партиями, написанными характерным
порывистым почерком. Это были партии чемпионата РСФСР 1920
года, в котором Алехин занял первое место, прокомментированные
победителем турнира. Партий много - здесь и алехинские, и партии
других участии ков первенства. Комментарии короткие; видимо,
Алехин писал их не в специальную шахматную печать, а в какой-нибудь
шахматный отдел газеты». Уточню: в 1920-м таких отделов в газетах
еще не было, поэтому, думаю, он делал эти примечания для себя.
Из шести ранее неизвестных «олимпиадных» партий Алехина в
рукописи две - с Иваном Голубевым и Николаем Целиковым.
Котов предпочел гораздо более содержательные партии с Левенфишем
и Ильиным-Женевским, но примечания ко второй зачем-то
подредактировал. Впрочем, кто этим не грешен? Хуже другое. Еще в
григорьевских листках меня удивило, что Котов писал ручкой прямо на
оригинале, но и с рукописью Алехина он тоже не церемонился:
поперек партии с Ильиным-Женевским красным карандашом крупно
начертано «Эндшпиль», а на партии с Левенфишем (к слову, в
рукописи везде: Лёвенфиш) - «Ф+Л χ Ф+Л»...
Все партии привожу в первозданном виде: 12 новых и три уже
известных партии Алехина (с Ильиным-Женевским, Левенфишем и
И.Рабиновичем), в которых интересно сравнить его
экспресс-примечания с более поздними.
№24. Скандинавская защита В01 <£ft 5.£d3 £с6 6.ДГ4 g6 ΊΆύ2
III тур. И.Рабинович - Блюмен- Ag7 8.^gG £h5 9.ДеЗ 0-0 Ю.ШЬЗ
фельд. Ферз. против королевск. Шс16 11.0-0-0 Sb8 12.Ehel Ь5 13.h3
1.е4 d5 2.ed ФГ6 3x4 сб 4.dc £>:с6 £а5 14.«ГЬ4 Шаб 15.g4 £tf6 16.ДГ4
5.d3 е5 6.Де2 ШЬ6 7.Qf3 Ag4 8. Eb7 17.ШаЗ! ШЪ6 18.Е:е7 Деб 19.
0-0 0-0-0 9.Ша4 Д:f3 10. Д :f3 B:d3 Дd6 £d7 20.£g5 Ec8 21 .£:e6 fe 22.
П.Д:сбШ:с6 12.Ш:a7Дd6 13.£>a3 *bl £c4 23.Д:с4 be 24.E:e6 Д:с14!
ДЬ8 14.Ша5 е4 15.Wf5+ *d8(?) 25.Sdel Дй 26.ДёЗ ШЬ5 27.g5
(£d7!) 16.Дё5Ве8 17.g3(?) (If:h7) A:g5 28.?M3 ДИ6 29.5Ш Wc5 30.
17...Be5! 18.£:f6+gfl9.ff:h7*e7 Ee8+ E:e8 31.E:e8+ *f7 32.Wa6
20.aadia:dl21.a:dle3!22.feAa7! Wb6 ЗЗ.Шэб E:b6 34.Ba8 a6 35.
23.Ed5! E:e3 24.*g2 Ee2 + 25.ФИЗ Ea7 Фе7 36.Де5 Фе8 37.Еа8+ *f7
Шс8+ 26.ШГ5 #h8+ 27.ШИ5 Шс8+ 38.Г4 Дгё 39.Еа7 Фе8 40.Дс7 Ef6
28.fff5ffh8+. Ничья. 41.a4 £c5 42.Ea8+ *d7 43.Де5
Ef7 44.a5 Де7 45.Ba7+ Фе8 46.£>c6
№25. Защита Каро-Канн В13 ДА5 47.E:f7 *:f7 48.-S.d6 £>b3 49.
Г/тур. Лёвенфиш- Мунд. Каро- Дс7 d4 50.cd £:d4 51.ДЬ6! ДАб
Канн. 1 ,e4 сб 2.d4 d5 3.ed cd 4.c3 52.£>b8 Феб (если сЗ, то 53.be Д:сЗ
278
Свои среди чужих
Автограф гения
279
_ A« . . 141. - .'- .Л ■ . Ai^ * I Я Α./. ι «Λ- Λ. . *«^ I.UA β, ,.*- . _ / W
flaw* κ^ψ
Й a^ .* ^ ****»*? &&№№$<Г
ή vwu> или^·^
U!
*^
^..^aur.c **»*г^ —;^m *<
Рукопись с партиями Всероссийской шахматной
олимпиады 1920 года тоже приииось собирать по
кусочкам. Сюрпрт в том, что среди 25 записанных Awxu-
ным партий 12 окажтсъ новыми, и среди них - две его
самого! Hi архива А. Котова. Публикуется впервые
280
Свой среди чужих
54.Фс2 .&:а5 55.ДеЗ! и выигр.)
53.&:а6 сЗ 54.£с5+ £>х5 55.ii.x5
<4>d7 56.a6 Феб 57.Ь4! Сдался.
№ 26. Ферзевый гамбит D40
VI тур. Алехин - Лёвенфиш.
Дебют ферзевых пешек. I.d4 d5 2.
&β с5 З.с4 еб 4.еЗ £х6 5.£хЗ <5tf6
6.£.d3 Де7 7.0-0 0-0 8.b3 cd 9.ed
Ь6 Ю.ДЬ2 Даб 1 l.Sel dc 12.ЬсПс8
13.£ib5 Д:Ь5 14.cb £ib4 !5.Фе5
&d7 16.Se3 &:d3 17.S:d3 &:e5 18.
de Ше8 19.«ЪЗ Sd8 20.Eadl E:d3
2I.S:d3 Дс5 22.g3? (играя 22.h3,
белые легко делали ничью) 22...
h6 23.a4 Wa8! 24.£d4 Sc8 25.D!
#Ь8 26.f4 «χ 7 27.Д:с5 W:c5+ 28.
*g2 #с1 29.#dl Дс2+ 30.ФО
Wb2 31 .Ed8+ *h7 32.*g4!!
(Единственный путь к ничьей. Если
сперва 32.#d3+ g6 и затем 33.
*g4, то 33...f5+! 34.ef h5+ и
выигр.) 32...S:h2 (Если 32...h5+, то
просто 33.Φ:Ιι5!; если же 32...g6,
то 33.Eh8+!! *:h8 34.Wd8+ *h7
З5.#е7!, и черные не могут
избежать ничьей) 33.Wd3+ g6 34.Sd7
■£>g7 (последний шанс: если 34...
2h4+, то 35.ФО! и выигр.) 35.
S:f7+ и ничья посредством
вечного шаха.
№27. Испанская партия С 64
VI тур. А.Рабинович —
И.Рабинович. Испанская. 1.е4 е5 2.5МЗ £>с6
З.ДЬ5 Дс5 4x3 f5 5.£χ5 £χ5 6.d4
ШЫ 7.dc #:е4+ 8.#е2 сб 9.#:е4 fe
Ю.Де2 Ь6 1 \±Ά £ιι7 12.£d2 £f6
13.ДеЗ be 14.Дх5 d6 15.ДаЗ Деб
16.^4 0-0-0 17.0-0-0 с5 18.Ed2
£id5 19.g3 £>Ь6 20.^5 Фс7 21.Ь4
с4 22.0 ef 23.Д:0 £е5 24.Де4 d5
25.Дс2 £.d7 26.ФЫ She8 27.Дс1
<£а4 28.Ed4! &хЗ+ 29.*b2 &а4+
ЗО.ФаЗ £ib6 (Лучше опять ^сЗ)
31.Д:п7 Фс8 32.h4 £)f3 ЗЗ.ДГ4 Hf8
34.Hdl S:f4 35.£:f4 i.g4 36.b5 He8
37.ДЫ! £:h4 38.Ehl £)f5 39.Bh7
Sg8 40.2x6 ^7 41.iL:f5 £.:f5 42.
£>e7 + <4>b7 43.£i:f5 ФЬ6 44.<£Ъ4.
Сдался.
№ 28. Шотландская партия С45
VI тур. Блюменфельд — Зубарев.
Шотландская. 1.е4 е5 2.£rf3 £к6
3.d4 ed 4.£i:d4 Дс5 5.ДеЗ Ш6
6.£>Ь5 Д:еЗ 7.fe !Ίι4+ 8.g3 #:e4
9.£>x7+<£d8 10.^:a8W:hl ll.WuS
"5if6! (Раньше играли ll...£>ge7.
Ход в партии в связи с
последующим является, по-видимому,
опровержением пресловутой
атаки Блюменфельда) 12.£>d2 £>e8
13.fa3 W:h2 14.0-0-0 W:g3 15.
ДЬ5^6 16.1'а4а6 17.£x4ab! 18.
£i:d6 ba 19.£i:f7+ Фе7 20.£>:h8 d6
21.£ib6 Деб 22.<£:a4 g5 23.&c3
<£f6 24.*d2 £>e5! 25.b4 h5 26.a4 h4
27.a5 h3 28.ПЫ g4 29.£>e2 £>e4+
30.ФЫ g3 31.b5 g2 32.fih2 *d7 33.
&gl £)g5 34.a6 ba 35.ba *c7 36x4
£>ef3 37.£>:h3 Д:ЬЗ 38.E:g2 £:g2
39.^g6 £>e5. Сдался.
Μ 29. Испанская партия С 77
VII тур. Ильин
(Женевский)—Алехин. Испанская. 1 .е4 е5 2.£>В £х6
З.ДЬ5 аб 4.Да4 <5¥6 5.d3 d6 6x3
g6 7.0-0 £g7 8.2el 0-0 9.i.g5 h6
10.i.h4 &d7 ll.<£bd2 WeS 12.&Л
£>d4 13.£:d7 &:0+ 14.#:0 £>:d7
15.£>еЗ сб 16.Sadl We6 17.g4! i.f6!
18.iL:f6 W:f6 19.%3 ^с5 20.£>g2
•5^6 21.ΠΠ ^>f4 22.^i:f4 ef 23.#β
*g7 24.*g2 h5! 25.h3 %5(?) (Весь
этот маневр ни к чему не ведет.
Автограф гения
281
Сильнее 25...Sh8 и затем 2ае8-
е5) 26.Shl β 27.efgf28.Sdgl! fg
29.hg h4 ЗО.ФЬЗ Sae8 31.Sel *g6
(В надежде на вариант 32.d4 Wd5!
33.#d3+ *g5 34.c4 НеЗ+ϋ 35.Ш:еЗ
W:hl + и т.д. и должны выиграть.
Но белые играют проще и
сильнее; у Котова: «Но белые могут
играть проще и сильнее») 32.2е2
2:е2 ЗЗ.Ш:е2 Ше5 34.2el Se8 35.
Ше4+! Ш:е4 (35...*g5? 36.ШЬ7! и
выиф.) 36.2:е4 S:e4!! (Я ставлю
себе в большую заслугу, что
совершенно точно высчитал за
доской следующий пешечный
конец) 37.de <£>g5 38.0 а5!!
(Единственный спасающий ход. Все
остальные проигрывают; у Котова:
«Единственный ход. Всё остальное
проигрывает») 39.с4 Ь5! 40.cb cb.
Ничья.
№ 30. Индийская защита Л50
VII тур. И.Рабинович — Григорьев.
«Неправильное» начало. I.d4£rf*6
2.£rf3 Ь6 З.с4 кЫ 4.^сЗ d6 5.Uc2
^bd7 6.£g5 h6 7.£h4 еб 8.е4 Ae7
9.Sdl (лучше 0-0-0) 9...0-0 10.&e2
^h5 ll.Ag3 f5 12.^h4 Ue8 13.ef
A:h4 14.£:h4 £if4! 15.£g3 <£:g2+
16.*d2 ef 17.h3 f4 18.£h2 ^e3!
19.ШЗ £>:dl 20.H:dl Ue7 21.£g4
Hae8 22.£h5 Hd8 23.Hel Uh4 24.
Ag4 <5tf6 25.£e6+ &h8 26.d5 Ac8
27.^b5 A:e6 28.de Sc8 29.UO a6
30.£id4 Hce8 31.Sgl £>h7! 32.Hg6
^g5 33.Ue2©:h3. Сдался.
№ 3L Защита Филидора С41
IX тур. Голубев — Алехин.
Защита Хэнема. 1.е4 е5 2.£МЗ d6 3.d4
<5tf6 4.<йсЗ ^bd7 5.iic4 £е7 6.0-0
0-0 7.£еЗ сб 8.h3 b5 9.de de 10.
Партия Романовский — Алехин: на доске позиция после 6.е5. Эту уникальную
фотографию — единственную уцелевшую от олимпиады — презентовав мне Давид
Бронштейн. К нему она попала в бытность его работы в «Известиях»: известный
фотограф Виктор Ахяомов, увидев в фотоархиве газеты старый «шахматный»
снимок, преподнес его знаменитому гроссмейстеру/ Из архива автора.
282
Свои среди чужих
£d3 Шс7 M.Wei &с5 12.2adl a5
13.£>h2 £ie6 14.а4 Ь4 1 S.^kbl £>d7!
16.£>d2 £>dc5 17.b3 2d8 18.Фс4
Даб 19.0 2d7 20.2d2 2ad8 21.
Sfdl ^d4 22.142 (Немного
дольше продержаться - но и
только - белые могли, играя 22.JL:d4
S:d4 23.&П) 22...<£d:b3! 23.cb
£>:d3 24.#e2 Д:с4 25.bc £)c5 26.
2:d7 S:d7 27.S:d7 Ш:й7 28.Шс2
Wd3 29.f:d3 ^:d3 ЗО.ФП €M>2 31.
£>d2 &:a4 32.<£b3 Ad8. Сдался.
№ 32. Испанская партия С68
1Хтур. Зубарев-А.Рабинович.
Испанская. 1.е4 е5 2.£МЗ £)сб З.ДЬ5
аб 4.Д:с6 dc 5.£юЗ ДЬ4 6.£>:е5
#g5 7.d4 W:g2 8.1Ό W:D 9.^:0
£g4 10.£>e5 £h5 1 l.Sgl £¥6 12.0
0-0-0 13.2:g7 2:d4 14.£e3 2d6 15.
Sg3 Se8 16.^»d3 Д:сЗ+ 17.bc £>d5
18.£c5 2f6 19.*d2 £>Ь6 20.£:b6
cb 21.*e3 Sf5! 22.h4 f6 23.£>f4
2c5 24.£>:h5 2:h5 25.2Ы 2e7 26.
if4 Пс5? (Сыфав
предварительно <£^7-е6 и т.д., черные
получали большие шансы на выигрыш)
27.h5! *d7 28.h6 2:сЗ 29.Sg7 S:c2
30.*f5 2d2 31.2hgl c5 32.2:e7+
*:e733.Hg7+*d634.B:h7(?)caaeT
черным шансы на спасение.
Правильно было сразу 34.Ф:Г6) 34...
с4 35,*:f6 сЗ З6.е5+ Феб 37.SH8
Фс7 38.h7 Sh2 39.2g8 2:h7 40.f4
Sh6+ 41.*e7 2h7+ 42.*e6 2h6+
43.Фе7 Ь5? (Играть в таком
положении на выигрыш — безумие;
следовало повторять ходы) 44,f5
Sh7+ 45.Фе6 2h6+ 46.f6 c2 47.Hgl
<4>d8 48.*f7 2h7+ 49.*g8. Сдался.
№ 33. Испанская партия С 70
IX тур. Романовский - Ильин
(Женевский). Испанская. 1 .е4 е5 l.^hB
£>с6 З.ДЬ5 аб 4.Да4 ДЬ4 5.0-0
£)ge7 б.сЗ Да5 7.d4 ed 8.cd d5 9.
ed *:d5 Ю.ДЬЗ Wh5 ll.d5 £>e5
12.^:e5 W:e5 13.^d2 «U4 14.£>c4
W:dl 15.2:dl ДЬ4 16.iLf4 b5 17.d6!
£sg6 18.ii.d2 £:d2 19.£>:d2 cd 20.
£ie4 0-0 21.2:d6 Qf4 22.£k5 2e8
23.2adl *f8 24.ФЛ 2a7 25.a4 Ai5
26.ab ab 27.2b6 2a5 28.2b7 £>e6
29.&:е6 Д:е6 30.fc:e6+ Д:е6 31.
2d8+ Se8 32.2:е8+ Ф:е8 ЗЗ.Фе2
g5 34.ФО h5 35.g3 g4+ 36.*g2 AS
37,b4 Sa2 38.2:b5 2b2 39.2:h5
2:b4 40.2f5 *f7 41.Ш4 2:f4 42.gf
*g6 43.f3 *h5 44.*g3! gf 45.*:0
*h4 46.Фе4 *g4 47.f5 <4>g5 48.h3!
Сдался.
№ 34. Скандинавская защита В01
X тур. Григорьев - Зубарев. Ферз.
против королевск. 1.е4 d5 2.ed
W:d5 З.£ю3 Wa5 4.d4 e5 5.de ДЬ4
6.£d2 £>c6 7.£b5 Ad7 8.*e2 0-0-0
9.SM3 £>:e5! 10.£>:e5 ±b5 1 l.Wg4+
<&b8 12.0-0-0 £)f6 13.W:g7 £)e4! 14.
£>:e4*:a2 15.£>d7+ £:d7 16.£:b4
Wa\ + 17.*d2 £g4+ 18.Qd6 £:dl
19.2:dl Wa4 20.^a3cd21.Wf6«rd7
22.ФЫ d5 23.Дс5 2hg8 24.g3 2g6
25.Ш+ Фа8 26.ДеЗ Даб 27.2d4
2c8 28.We5 2a5 29.2h4 #c6 ЗО.сЗ
Wb5 31.#d4 2a 1+ 32.Фс2 Wfl 33.
ФЬЗ ШЫ 34.2f4 2a2 35.Wd2 Sal
36.2d4 f5 37.Wd3 Wa2+ 38.Фс2 а5
39.Wb5 *Ы+ 40.*ЬЗ 2a2 41.1'e2
a4+. Сдался.
№ 35. Дебют трех коней С46
XI тур. Блюменфельд - А.
Рабинович. Дебют 3-х коней. 1.е4 е5 2.
£>0 £)с6 З.*йс3 ДЬ4 4.^d5 ?Y6 5.
£)±>4 &:М б.сЗ ^сб 7.Шс2 0-0 8.
Автограф гения
283
Дс4(?) d5! 9.ed e4 10.dc ef U.d4
1е8+ 12.ДеЗ #:c6 13.£d3 fg 14.
figl ШО 15.Де2 Wh3 16.0-0-0£>g4
17.«x4 £:еЗ 18.Ш:еЗ W:h2 19.ДО
Ah3 20.Д:Ь7 2ab8 21.£:g2! A:g2
22.Wg5 f6 23.#:g2 #:g2 24.S:g2
Hfe8 25.0 Se3 26.SO *f7 27.Shl
Ih8 28.*d2 2e6 29.2h5?
(Следовало сперва 29.2fh2 и на h7-h6 -
Sh2-h5 с хорошими шансами на
ничью) 29...g5 30.f4 Hb6! 31.ЬЗ
*g6 32.Sfh2 h6 33x4 φβ 34.fg fg
35.2g2 Hd8 36.d5 сб? (Конечно,
следовало сохранить две
связанных проходных пешки. Теперь
белые без труда добиваются
ничьей) 37.E:h6 cd 38.2h5 dc+ 39.
ФсЗ Sg6 40.bc ФГ4 41.ПН7 g4 42.
Ш7+ *g5 43.2:a7 2h8 44.2d7
Bh3+ 45.ФЬ4 g3 46x5 *g4 47.2d3
<4f4 48.2c3 Sh2 49.2:h2 gh 50.2h3
Bg2 51.a4 *g4 52.2h7 *g3 53.c6
Sgl 54.ФЬ52Ы + 55.Фа6. Ничья.
№ 36. Английское начало А25
XII тур. Алехин - Целиков.
Английское начало. 1 х4 е5 2.£)сЗ <5if6
3.g3 Дс5 4.£g2 £>с6 5.e3 d6 6.£ige2
Ag4 7,h3 £h5 8.аЗ Ше7 9.0-0 e4
Ю.#а4! Д:е2 11.£>:е2 0-0 12.Ь4
ДЬ6 13.1x2 2ае8 14.£>сЗ а5 15.Ь5
£>Ь8 16.0! ef 17.2:0 #е6 18.ДЬ2!
abd7 (не #:с4? из-за 19.2:f6 и
20.Дс15) 19.£е2 £ie5 20.2f4 £fd7
21.*h2 g5 22.2f5 Шф 23.2afl 2e7
(и без этой ошибки позиция
очевидно безнадежна) 24.d4 £>x4
25.#х4 2:еЗ 26.Дс1. Сдался.
№37. Защита Нимцовича Е43
XIII тур. И.Рабинович — Алехин.
«Неправильное» начало. I.d4£>f6
2.£>0 Ь6 3x4 еб 4.£юЗ ДЬ7 5.еЗ
±Ь4 6.Wc2 <£e4 7.±d3 f5 8.0-0
Д:сЗ 9.bc 0-0 10.Φ>(12 Wh4! 11.0
(g3£>:d2! и т.д.) Il...£>:d2 12.±:d2
£>c6 13.e4 fe 14.&:e4 <£ia5 15.Hael
(после этого теряется пешка; но
и при 15.А:Ь7 £):Ь7 и т.д. партия
черных была уже
предпочтительнее) 15...i.:e4 16.2:e4 Wh5 17.
Wa4 Ф:с4! 18.Не2 Ь5 19.Wb3 Wf5
20.Sfel Sab8 2I.Ac 1 a5 22.Se4 a4
23.Ш1 Hbe8 24.We2 c5! 25.&e3
cd 26.A:d4 e5! 27.f4! d6! (на 27...
d5 белые с выгодой для себя
жертвовали качество) 28.h3 Se6 29.fe
de 30.±c5 Bf7! 31.2Ы h6! 32.H:b5
£)d2 ЗЗ.Н;а4 (если ЗЗ.ЙеЗ, то 33...
2g6! и выигр., например, 34.
НЬ8+ ФЬ7 35.^:d2 βΠ+ 36.ФИ2
Hf2 или II 34.НЬ2 <ЙО+! 35.ФЫ
W:h3+ и мат в след. ход) 33...Έο2\
34.2Ь8+ Фг.7 35.&Ы ПП+ 36.
&gl H:gl+! 37.*:gl Έζ\+ 38.*f2
Hf6+ 39.ФеЗ £>Ы +! Сдался. - Это
лучшая моя партия из этого
турнира.
№ 38. Новоиндийская защита Ε12
XIII тур. Мунд- Голубев.
«Неправильное» начало. I.d4 £)f6 2.<£rf3
Ь6 3x4 еб 4.£g5 ДЬ7 5.^сЗ Де7
б.еЗ 0-0 7.£d3 £ia6 8.fe2 c5 9.
d5 £ib4 10.£:f6 £:f6 ll.Bdl! ed
12.<£:d5 £:d5 13xd £:a2 14.d6!
2e8 15.h4 £b4 16.£:h7+! Φ:η7
17.£g5+ *g6 18.h5+!*:g5 19.1i6!
£d4! 20.2h5+? (Досадно, что
белые не нашли достойного
окончания прекрасно проведенной
атаки. После тихого хода 20.ФП!
у черных не было зашиты) 20...
ФА6 2ШО+ Феб 22.1Т5+ *:d6
23.hg*c7 24.#:f7 #f6 25.2f5 #:g7
26.ФП 2e7. Сдался.
284
Свой среди чужих
Очень жаль, что Алехин не записал свою партию с Блюменфель-
дом, судя по рассказу Романовского («64-ШО» № 16, 1982),
концовка получилась феерической:
«В первой Всероссийской шахматной олимпиаде была очень
интересной, захватывающей партия Алехина с Блюменфельдом. Она была
отложена в головоломной позиции, где никто ничего не понимал, где
невозможно было составить себе даже самое отдаленное
представление о замыслах партнеров. Заключались многочисленные пари.
Ажиотаж был необыкновенный. О позиции спорили и участники, и
зрители.
Любопытно, что оба партнера были уверены в собственном
выигрыше. "Ставь на меня, - посоветовал мне Алехин, - у меня во всех
вариантах выигрыш; я всю ночь анализировал; ошибка исключена".
(По словам Левенфиша, «на доигрывание каждый явился с объемистой
тетрадью, содержащей сотни вариантов».) Разумеется, я на него
"поставил", заключил пари. С Алехиным мы были давние друзья.
Началось доигрывание. Уже второй ход Блюменфельда был не по
анализу Алехина. Вскоре и Алехин чем-то удивил партнера. Оба
попали в страшный цейтнот. На часах Блюменфельда уже начал
подниматься флажок. Вдруг Алехин делает неожиданный ход. Блюменфельд
удивлен и, как ни мало у него времени, делает ход не сразу. Алехин
предлагает ничью, которая немедленно и с радостью принимается. Я
остался "при своих".
Блюменфельд сказал Алехину: "Я, вероятно, физически не успел
бы сделать все ходы". Алехин ответил вопросом: "Но три хода вы
успели бы сделать?" — " Несомненно". — "Так в заключительном
положении стоял мат в три хода. Я предложил ничью в надежде, что в
цейтноте вы не успели его разглядеть"».
Это не единственная партия, где Алехин был близок к
поражению. Вот что писал «Листок шахматного кружка Петрогубкоммуны»
(1.05.1921): «Несомненно, слабее своей силы играл, например,
Алехин, который с большим напряжением и не без участия фортуны
достиг первого места». Так же оценивал и Николай Зубарев: «Турнир
закончился победой Алехина; однако победа эта не была
убедительной. Алехин играл очень напряженно и, несмотря на это, в
нескольких партиях попал в проигранное положение» («Шахматы в СССР*
№ 11-12,1937).
Как видите, мнение о том, что он «без особого труда» и «блестяще»
выиграл первый приз, укоренилось не сразу, а лишь годы спустя. Я
грешил на Панова и Котова, пока случайно не нашел первоисточник.
Левенфиш: «В олимпиаде 1920 года победа Алехина досталась ему без
особых усилий» («Шахматы» № 8, 1925). Да, если идти от результата,
такая оценка выглядит убедительно. Но анализ партий показывает,
что победа далась ему очень нелегко.
Автограф гения
285
...Закончу главу отрывком из поэмы Бориса Григорьева, который
я привел в 2005 году в статье об олимпиаде на сайте Chesspro
(«Шахматный пир во время чумы») — и теперь долго ломал голову: где я его
взял? Следов поэмы у меня не сохранилось, а все, кого я спрашивал,
утверждали, что целиком поэму никогда не видели, а читали только
отрывок в моей статье...
Ну и где, вы думаете, он был? В книге, которую, мне казалось, я
знаю вдоль и поперек: «Записки советского мастера»
Ильина-Женевского. В ней есть даже отдельная главка под названием «Поэма
об олимпиаде».
«Председателем коллегии распорядителей олимпиады был старый
и в свое время известный московский шахматист Борис Прокофье-
вич Григорьев. Будучи в курсе всех событий, он тогда же во время
олимпиады написал огромную поэму, в которой в шутливой
форме описал и организационную сторону олимпиады, и отдельных ее
участников. Хотя поэма написана технически слабо, но ее следовало
бы когда-нибудь напечатать, так как отдельные моменты и эпизоды в
ней описаны очень живо».
Поэму так и не напечатали, но среди трех фрагментов,
опубликованных Ильиным-Женевским, оказался и тот, что я искал (два
других - о Н.Григорьеве и Ильине-Женевском). Хотя поэма
«технически слаба», образ нашего гения столь разительно отличается от
канонического (вдумайтесь: «хоть собственного плана он сам не
создает...»), что одно это с лихвой искупает все огрехи автора.
С годами всё большую ценность приобретают свидетельства,
написанные до того, как гении «забронзовели» и о них стали писать с
придыханием.
АЛЕХИН
Алехин — наш гроссмейстер.
Знакомить? - Для чего ж!
Известность, как и клейстер,
Пристанет - не сдерешь!
Ничьих рекомендаций
Не надобно ему,
А приз - пук ассигнаций.
Он сам сказал: «Возьму!»
- Какого же вы мненья
О творчестве его? -
Всеобщее сужденье
Покамест таково:
Хоть собственного плана
Он сам не создает,
А ищетлишь изъяна, -
Беда! - коли найдет...
Сверлит больное место,
Долбит, как долото!
И гру всю в кашу, в тесто.
Не выдержит никто!
К тому же и уменье
Поймать живую нить,
И мысли напряженье
Огромное развить...
Он демон разрушенья,
Опаснейший микроб
Гниенья, разложенья,
И это — не поклеп!
Дебют ведет он зыбко
(Теория строга!),
Малейшая ж ошибка
И - горе для врага.
286
Свой среди чужих
ВСТРЕЧА С ШОСТАКОВИЧЕМ
«Шостакович поведал мне как-то одну шахматную историю из
своей биографии, - пишет Марк Тайманов в книге «Вспоминая самых-
самых.,.» (2003). - Где-то году в 1920-м, когда юный Шостакович
подрабатывал в питерском кинотеатре "Баррикада" тапером,
сопровождая немые фильмы, в антракте он заметил в фойе высокого
статного блондина, увлеченно разбиравшего какую-то позицию на
шахматной доске. Дмитрий Дмитриевич (вероятно, тогда еще Митя)
заинтересовался и подошел к столику. И услышал: "Молодой
человек! Вы играете в шахматы? До начала сеанса еще есть время". "Я,
конечно, растерялся - игроком был слабым, - с улыбкой
рассказывал Шостакович, - но любопытство взяло свое, и я принял вызов.
Видимо, мои ответы несколько смущали партнера, он порой с
удивлением посматривал на меня - уж очень плохие, наверное, делал я
ходы, но партия дошла до закономерного конца, и я получил мат!"
"Не огорчайтесь, - обратился галантный господин, - вы проиграли
Александру Алехину..." ».
Уникальная встреча! Единственное, что меня смущало, это возраст
«Мити»: он родился в сентябре 1906 года, и в 1920-м ему было всего
14 лет. Неужели Алехин мог сам предложить незнакомому подростку
поиграть в шахматы, да еще в фойе кинотеатра?..
Порывшись в интернете, я довольно быстро нашел
первоисточник. Оказывается, за год до смерти Дмитрий Дмитриевич рассказал
эту историю спецкору «Известий» М.Долгополову, опубликовавшему
ее в газете под названием «Почетный проигрыш» (16.08.1974).
Шостакович: «Живя в Ленинграде вдвадцатые годы, я не пропускал
ни одной премьеры советского и иностранного фильма. Очень любил
кино А впоследствии, в те времена немого кино, года два даже
работал аккомпаниатором, "озвучивая", иллюстрируя немые фильмы...
И вот как-то днем я пришел в кинотеатр. Сеанс начался, в фойе
томились несколько зрителей. Лениво, не спеша, чтобы убить время,
они перелистывали страницы журналов, лежавших на столике.
Но вот в фойе появился еще один, скучный на вид, скромно одетый
мужчина. Подошел к витрине с фотографиями, скользнул взглядом
по шахматным фигурам, в беспорядке расставленным на доске.
Видно, кто-то не успел закончить партию, спешил в зал на киносеанс. На
минутку незнакомец остановился у доски и стал рассматривать
незаконченную партию. Стоит, изучает позицию.
Я подошел к нему и предложил:
— Давайте сыграем.
Мужчина оглядел меня с головы до пят, мягко улыбнулся и кивнул
головой. Взяв с доски белую и черную пешки, разыграли начало.
Жребий пал на него. Он сделал первый ход.
Встреча с Шостаковичем
287
После моего четвертого-пятого хода партнер как-то странно
посмотрел на меня и задумался. Видимо, мой ход поразил его своей
замысловатостью. Наверное, он никогда не встречал такого странного
начала...
Теперь-то я понимаю, что этот необычный ход послужил ему
отправной точкой для каких-то оригинальных идей, натолкнул его на
какие-то мысли.
Поразмыслив, мой соперник ответил. Ход не показался мне
сильным, и я без колебаний бросился в атаку. Но, увы, мое наступление
было весьма кратковременным. Скоропалительная атака черного
ферзя с легкостью была отбита партнером, и не успел я опомниться,
как вокруг моего короля сгустились грозовые тучи...
Пришлось мне крепко призадуматься, и, пока я пыхтел и краснел,
стараясь найти выход из трудного положения, все время чувствовал
на себе внимательный взгляд серых, несколько иронических глаз
незнакомца.
Сами понимаете,
выпутаться из сложного положения
мне не удалось. Мой партнер
разгромил меня с
необычайной легкостью. Так я еще
никогда не проигрывал.
До начала очередного
сеанса оставалось несколько
минут. Видимо, в моей игре
незнакомца что-то
привлекло, и он почувствовал в ней
проблески какого-то
дарования. Вероятно, его поразила
необычная композиция
фигур. Он заметил мое
искреннее огорчение.
- Ты давно играешь в
шахматы?
-Три года...
- А меня знаешь?
- Нет, - растерянно
ответил я.
- Алехин...
Тут раздался звонок,
приглашающий на киносеанс.
- Будем знакомы, Алехин
Александр Александрович...
И он пошел в зал. В
удрученном состоянии я
проскользнул в другие двери.
Уже не помню, что
показывали... Но смотрел не на
Учась в консерватории, Дмитрий
Шостакович подрабатывал тапером в
петроградских кинотеатрах и однажды
перед сеансом сыграл партию с
Алехиным.
288
Свой среди чужих
экран, а во все глаза сбоку, на Алехина. С тех пор я стал страстным
болельщиком своего случайного партнера. И когда через
несколько лет - в 1927 году в далекой Аргентине - он выиграл матч у
чемпиона мира Капабланки, я был просто счастлив и, вероятно»
радовался не меньше, чем он сам. Ведь я был одним из его спарринг-
партнеров».
Интуиция не подвела: сыграть, разумеется, предложил
Шостакович. Кстати, заметили: названия кинотеатра он не упоминает.
Откуда ж его взял Тайманов? Полагаю, из... своего детства. «Баррикадой»
кинотеатр стал в 1931 году, а до этого назывался «Светлый путь». Но
Шостакович работал в нем на «озвучке» уже после отъезда Алехина
из России.
И все-таки, кажется, мне удалось узнать название кинотеатра.
Подсказка нашлась в книге воспоминаний писателя Виктора
Шкловского «Жили-были» (1964). Когда директор консерватории
Александр Глазунов пришел к Горькому хлопотать о выделении пайка для
своего студента, он сказал, что Шостаковичу «пятнадцатый год»
(значит, это было в 1920 или 1921 году), и, чтобы показать бедственность
его положения, добавил: «Аккомпанирует кинокартинам в театре
„Селект" на Караванной улице». Возможно, там и состоялась
встреча двух гениев.
P.S. Журналисту «Известий» Шостакович сказал, что озвучивал
фильмы «впоследствии». И биографы пишут, что он начал работать
тапером в кино лишь с конца 1923 года. Вопрос: почему композитор
скрывал, что зарабатывал этим с 14 лет, благодаря чему, видно, и имел
возможность «не пропускать ни одной премьеры советского и
иностранного фильма»?
ЧТО С АЛЕХИНЫМ?
Шахматных отделов в газетах, не говоря уже о специальных
изданиях, в советской России тогда еще не было, поэтому шахматные
новости о происходящем там доходили до заграницы в виде слухов и с
большим опозданием. Про Алехина долгое время не знали, жив ли
он вообще.
Прокомментировав в «De Telegraaf» партию вслепую Алехин - Иг-
лицкий, сыгранную в 1919 году в Одессе (кстати, указания, что она
из сеанса, в публикации нет), Эмануил Ласкер написал: «Партия
имеет историческое значение. Она приносит нам вроде бы хорошие
вести о давно пропавшем русском мастере Алехине. Несколько
месяцев назад он был в Одессе. Затем ему снова пришлось бежать; никто
не знает куда» (16.04.1920). Берлинская газета «Время» утверждала
через год, что Алехин «живет теперь в Финляндии»...
Что с Алехиным?
289
Обосновавшись в Париже в январе 1921-го, Зноско-Боровский
открыл шахматный отдел в газете «Общее дело». Новостей с родины
в отделе мало, но встречаются любопытные детали. «Получены
непроверенные сведения, что А.А.Алехин жив и находится в Москве и
что там же минувшим летом было устроено два всероссийских
турнира с призовым фондом в 500 000 рублей» (9.02.1921). С датой
олимпиады 1920 года, понятно, ошибка (она прошла в октябре), зато о
сумме ее призового фонда я прежде нигде не читал.
Кто-то спросит: 500 тысяч - это много или мало? При той
инфляции, что свирепствовала в начале 20-х годов в России, точно
сказать трудно. Но какое-то представлениедаетчастушка из того же
берлинского «Времени» (16.05.1921), - эти частушки «распеваются под
шарманку в советских городах, невзирая на большевистский
шпионаж и чрезвычайки»:
Под окошком плачет нищий:
Подала советской тыщей.
Кинул тыщу на песок -
Просит хлебушка кусок.
К лету общая картина заметно прояснилась, но вопрос: «Что с
Алехиным?» по-прежнему оставался без ответа. Как показывает статья
Зноско-Боровского «Шахматы в сов. России» («Общее дело», 30.05.
1921), в Париже всё еще не знали о его блестящей победе в одном
из «двух всероссийских турниров» и о том, что шахматный чемпион
«сов. России» уже успел ее покинуть и прибыл в Берлин:
«Что происходит в шахматном русском мире в настоящее время?
Каково положение шахмат и шахматистов при коммунистической
власти?
Сведения об этом очень разноречивы, и составить себе точное
представление навряд ли возможно.
У нас имеются основания утверждать, что одно время шахматная
игра процветала. С одной стороны, издерганные люди находили в
ней отдых от ужасов жизни; повсеместно нарождались клубы с
множеством членов. С другой стороны, среди комиссаров попадались
любители шахматной игры, бравшие ее под покровительство и
сберегавшие ее жрецов от "случайностей советского быта". Нам известны
случаи, когда такого рода услуги, оказанные шахматистам
представителями власти, были огромны.
Наряду с этим, однако, замечалось и иное отношение к шахматам
со стороны властей предержащих. Всё зависит от вкусов местного
совдепа. Если он признавал шахматную игру "пролетарской", то всё
обходилось благополучно. Шахматные клубы легализовались в
Петрограде; напр., Левенфиш, Романовский и Рабинович поныне полу-
290
Свой среди чужих
чают средства к существованию в качестве "профессоров шахматной
игры". Но стоило совдепу признать шахматы "буржуазным
предрассудком", как клубы закрывались, а игроки подвергались
преследованиям.
Еще меньше сведений имеем мы о судьбе отдельных русских
шахматистов. О многих мы не можем даже сказать — живы ли они? Где
Фрейман, Смородский, Эвенсон, Вяхирев, Павлов, Левитский,
Лебедев, Евтифеев, Зейбот, Розенкранц, Шабский, Иорданский, что с
ними?
Огромное дело сделали бы шахматные кружки молодых,
пограничных с Совдепией государств, если бы собрали сведения о своих
товарищах, прозябающих в Совдепии...
Что с Алехиным? Можно достоверно сказать, что он жив.
Заграничные журналы напечатали партию, игранную им будто бы в Петрограде
в 1919 году. Алехин был в это время, по нашим сведениям, в Одессе.
Подлинно ли это его партия? Впрочем, она настолько интересна, что
я помещаю ее ниже».
Радость моя была недолгой: партия с Левенфишем оказалась
старой, еше довоенной. А на вопрос: «Что с Алехиным?» и какова
судьба других русских шахматистов вскоре ответил он сам в книжке «Das
Schachleben in Sowjet-Russland», изданной в Берлине летом 1921 года
(см. главу «Крамольная книга»)...
ВИЗА ОТ ВЧК
Помните, в книге «Александр Алехин» Котов пишет: «В моем архиве
хранится фотокопия паспорта, выданного Алехину для выезда за
рубеж»? К счастью, она не пропала, и мы можем наконец увидеть этот
раритет. Жаль, Котов не указал, откуда у него копия: ведь оригинал-
то явно из архива Алехина. Вероятно, в первые годы он его носил в
бумажнике - от пребывания в сложенном виде документ распался по
сгибам на восемь частей, которые кто-то склеил при помоши
папиросной бумаги...
Документ интересный, даже сенсационный. Но чтобы это понять,
пришлось повозиться. Я же не сказал главного: фотокопия
негативная! Неудивительно, что Котов привел только текст за подписью Ка-
рахана, хотя там много другой информации, да еше и неизвестная
фотография Алехина: он просто не смог прочитать текст на печатях
и штампах, а фотография являла собой белое пятно, на котором
смутно проступал лик с пустыми глазницами. Я и сам разобрал слова
(увы, не все) и «проявил» снимок, только сканировав его и увеличив
изображение на экране.
На снимке Алехин выглядит очень респектабельно, не
по-пролетарски: в шляпе, с коротко подстриженными, «офицерскими», уси-
Виза от ВЧК
291
н>
Неродные Комиссариат
по Инострлммьм Делвы
:л gHi
Народный Комиссии#*v ^>ос данный Делам we встреча препятствии '
к прсеэду
ерез
&U
frtttbCtt-K
&&&
Зимшт
( ..~ч
4Ш* iM-
J
/"
I
Удостоверениеy выданное Алехину перед выездом за границу, после «проявки* на
компьютере. Из архива А.Котова. Публикуется впервые.
292
Свой среди чужих
Фотография с удостоверения.
Публикуется впервые.
ками - к слову, с ними он на
большинстве фотографий,
начиная с турнира в Схевенингене и
примерно до 1922 года.
Прежде чем перейти к
документу, заглянем в роман «Белые и
черные». По словам Котова,
первым, кого Алехин встретил в
Париже, был Тартаковер. И что он
ему показал? Правильно: свой
советский паспорт. А кем
подписанный? Караханом! Эта фамилия -
свидетельство того, что Котов уже
тогда имел фотокопию. Но если
так, зачем было выдумывать про
указанное в паспорте
«разрешение выехать на международные
турниры в Гаагу, Будапешт» и что
он «действителен на несколько
лет», а в уста Тартаковера
вкладывать фразу: «Ты ведь здесь в командировке»? Ответ напрашивается:
Котов хотел убедить читателя в том, что цель выезда Алехина за рубеж
была чисто шахматной!
Вот этот фрагмент:
«- Ты молодец! Не каждому удается убежать от большевиков, -
похвалил друга Тартаковер.
- Как - убежать?! - изумился Алехин.
- Ножками, — усмехнулся Савелий и перебрал пальцами по столу,
имитируя быстрый бег.
Алехин пожал плечами, вынул из бокового кармана большой
потрепанный бумажник, очевидно, приспособленный для советских
миллионных и миллиардных банкнот, и протянул Тартаковеру
сложенную вдвое бумагу. Тот прочитал:
- Советский паспорт... Разрешение выехать на международные
турниры в Гаагу, Будапешт... Действителен на несколько лет.
Тартаковер долго и внимательно изучал документ, выданный
неизвестной ему и, судя по сообщениям газет, жуткой властью.
"Нар-ком-ин-дел, - по складам прочитал Тартаковер. - Карахан"»,
- с трудом разобрал он подпись. - Это кто такой?
- Народный комиссар по иностранным делам, - разъяснил
Алехин. - Сокращенно: наркоминдел».
Что ж, начнем изучать эту «сложенную вдвое бумагу». Как
оказалось, в книге «Александр Алехин» Котов процитировал ее неточно:
Виза от ВЧК
293
убрал официальную шапку и название документа («удостоверение»,
а не паспорт), списал с ошибкой название наркомата
(«Иностранных дел» вместо «по Иностранным делам») и просклонял фамилию
и имя-отчество Алехина. Все слова и цифры, вписанные от руки, я
выделил курсивом.
Российская Социалистическая
ФЕДЕРАТИВНАЯ
Советская Республика
Народный Комиссариат
по И ностранным Делам
ОТДЕЛ ВИЗ
Апреля 191921г.
№ 705
Москва
Удостоверение.
Народный Комиссариат по Иностранным Делам не встречает
препятствий к проезду в Латвию через Себеж гражданка Алехин Александр
Александрович, что подписью и приложением руки удостоверяется.
Заместитель Народного Комиссара Л.Карахан
Заведывающий Отделом [нрзб]
*£//& *Ж j/
JiUtousiuiiiuumt
Без этой визы ВЧК бумага, вероятно, не имела силы! Буква «Ч» почти стерлась,
поэтому Котов и не узнал зловещую аббревиатуру. Публикуется впервые.
294
Свой среди чужих
Здание вокзала на станции Себеж — последнее, что видел Александр Алехин,
покидая в 1921 году родину... Фрагмент дореволюционной открытки.
Подписи скреплены круглой печатью отдела виз. Как мы видим,
документ имеет № 705 и датирован 19 апреля. Откуда ж Котов взял
№ 01139 и дату 23 апреля, указанные в его книгах? (Курьезный факт:
опечатка из 2-го издания «Шахматного наследия» - 29 апреля
перекочевала в шабуровского «Алехина».) А это номер визы и дата ее
выдачи... думаете, отделом виз наркомата? Как бы не так: он только выдавал
удостоверение на своем бланке, а визу давала Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией - ВЧК, и без ее штампа бумага, вероятно, не имела силы!
Виза№ 01139- 23/IV21 г.
На право проследовать до пограничного пункта Себеж
в Латвию
Алехин А.А.
Согласовано Н.К.И.Д. № [прочерк]
Начальник Особого Отдела В.Ч.К. В.Менжинский
Начальник Иностранного Отдела Я.Давыдов
Поверх этого штампа еще один, поменьше, с надписью:
«Пограничное особое - Отдел виз». Но внутри можно разобрать только
дату: 5/V 1921 г.
Справа вверху три штампа на литовском языке. Первый - с визой
№ 554, на ней печать Литовского представительства в Латвии. Дей-
Виза от ВЧК
295
ствительна с 21 по 28 мая. Маршрут: из Риги через [нрзб| в Берлин.
Надпись на втором штампе: «Въезд 25 V 1921 Йонишкис», на
третьем: «Вирбалис 25 -5 1921 Выезд». Йонишкис - это город на границе
Латвии с Литвой, Вирбалис - город на границе Литвы с Германией
(знаменитое Вержболово - пограничная станция между Российской
империей и Пруссией до Первой мировой войны).
Удивило, конечно, что на бумаге нет ни латвийских, ни немецких
штампов. И как Алехин с таким «паспортом» добрался до Франции?..
Всё прояснилось, когда я неожиданно нашел в своем архиве...
другой ксерокс этого же «паспорта» (откуда он, ума не приложу).
Оказалось, у него имелась обратная сторона! И стояшие на ней штампы
Латвийской миссии в России и Представительства Литвы в России
показывают, что латвийскую и литовскую визы Алехин получил еше в
Москве, в один и тот же день - 29 апреля. Качество ксерокса плохое,
но кое-что разобрать можно. Хорошо видна подпись Юргиса
Балтрушайтиса под литовской визой, что легко объяснимо: этот
выдающийся поэт-символист был дипломатом, а с 27 апреля 1921 года -
поверенным в делах Литовской Республики в Москве.
Самая ценная виза - в нижнем правом углу: немецкая. «Господину
Александру Алехину. Для поездок в Германию и обратно через любой
На обратной стороне удостоверения — визы: латвийская (справа вверху),
литовская (слева вверху) и немецкая (справа внизу). Под литовской видна подпись
Юргиса Балтрушайтиса. Справа — польская виза для проезда через Польский
коридор, отделивший после Первой мировой войны Восточную Пруссию от основной
территории Германии. Публикуются впервые.
296
Свой среди чужих
официально утвержденный пограничный пункт Германии». Пункт
назначения - Берлин. Выдана в Риге 21 мая. Действительна до 21
июня. Цель путешествия: шахматный турнир. Вверху штамп с датой
пересечения немецкой (точнее, прусской) границы: 25 мая 1921.
Алехин задержался на две недели в Риге, куда он прибыл 11 мая,
не только для получения немецкой визы. Польская миссия в Латвии
выдала ему 23 мая транзитную визу для проезда через Польский
коридор, отделивший после Первой мировой войны Восточную
Пруссию от основной территории Германии. В Берлине Алехин появился
28 мая, а не в июне (Шабуров). «Deutsche Schachzeitung» лишь в июле
сообщил, что Алехину, «к счастью, удалось выбраться из советской
России». Точнее был Ласкер, написав («De Telegraaf», 20.06.1921), что
Алехину «после нескольких месяцев подготовки удалось сбежать из
советского рая» - Sovjet paradijs!
Подведем итоги. Котов упустил важную деталь: разрешением на
выезд Алехин обязан не только Карахану, но и Менжинскому.
Упустил вряд ли намеренно: буквы В.Ч.К. на штампе едва видны, а без
них понять, чья это подпись, невозможно.
Не будем гадать, какие обязательства взял на себя Алехин, получая
визу. Какое это имеет значение? Он готов был дать любые обещания,
только бы вырваться из России, где над ним довлела одесская
расписка: хотя дело, заведенное на него в ВЧК, формально закрыли, его
в любой момент могли возобновить «по вновь открывшимся
обстоятельствам». Иллюзий на этот счет у Алехина, думаю, не было: опыт
совместной, бок о бок, работы с большевиками в Одессе и Наркомате
внутренних дел показал ему, что от расправы не застрахован никто.
КТО СТОЯЛ ЗА СПИНОЙ РАДЕКА?
То, что на документе, разрешающем выезд Алехина за границу, стоят
подписи Карахана и Менжинского, не дает ответа на главный вопрос:
кто санкционировал это решение? Не могли же замнаркома Η КИД и
начальник Особого отдела ВЧК выпустить его за рубеж самолично? У
каждого был свой начальник, который мог строго спросить за
своеволие, а над ними еще и ЦК РКП(б) с Совнаркомом, где тоже ведь
могли «не понять», почему в таком важном деле не посоветовались
с верхами? Это ж не рядовой гражданин, а гениальный шахматист,
чемпион страны... Напомню, что в том же 1921 году вопрос о выезде
Александра Блока на лечение в Финляндию обсуждался на заседании
политбюро ЦК!
Мюллер и Павельчак в своей книге называют Карла Радека, что
выглядит правдоподобно (он был членом ЦК РКП(б) и Исполкома
Коминтерна): «Г-жа Алехина имела хорошие связи с русскими вла-
Кто стоял за спиной Радека?
297
стями и была на приеме у Ленина (16 ноября 1920 года, о чем есть
запись в журнале посещений: «Ленин беседует с швейцарской
журналисткой А. Рюэгг»). Когда ее поездка подошла к концу, она обратилась
к властям России с просьбой дать разрешение на выезд ее мужу, от
которого она ждала ребенка. Разрешение дал Радек: "Пусть Алехин
контрреволюционер, в шахматах он - гений. Этот дар он может
проявить только за пределами России"».
Были сказаны эти слова или нет, доподлинно неизвестно (ссылки
на источник в книге нет), но сам факт обращения не Алехина, а его
жены говорит о той роли, которую сыграла Анна-Лиза Рюэгг в деле
спасения Алехина. Без нее он вряд ли смог бы вырваться из России и,
несмотря на всё свое искусство мимикрии, рано или поздно попал бы
под «красное колесо»...
Но почему разрешение дал Карл Радек, если Анна-Лиза
обратилась «к властям России»? Обратись она прямо к нему, авторы так и
написали бы... Я еще долго ломал бы голову, если б не увидел в
интернете статью Дмитрия Городина «...А рядом в шахматы играют»
(журнал «Семь искусств» № 6-7, 2019) и не прочел ее «от корки до
корки»: давненько не попадалась мне работа на шахматно-литературно-
Фрагмент картины И.Бродского «Торжественное открытие Π конгресса
Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде» (картина была закончена в 1924 году,
когда Петроград уже переименовали). На трибуне рядом с Лениным сидит Карл
Радек
298
Свой среди чужих
историческую тему, где было бы так мало ошибок (да их практически
нет) и так много интересных фактов и находок.
Одна из находок, похоже, ставит точку в вопросе, кто же
санкционировал выезд Алехина. Городин откопал ее не в каком-то закрытом
архиве, а в книге «В.И.Ленин. Биографическая хроника» (т. 10, 1979).
Сейчас она выложена в интернете, что, кстати, позволило уточнить
цитату (в статье не было вопросительных знаков): «Ленин получает
записку (на немецком яз.) швейцарской журналистки А.Рюэгг от 13
апреля 1921 г. с просьбой принять ее перед отъездом в Швейцарию;
на записке делает подчеркивание, пишет: "Рюгг ?? просит свидания,
напомнить"». А уже 19 апреля, как мы знаем, Алехин получил
разрешение на выезд!
Теперь пазл сложился. Поскольку в дневнике посещений Ленина
второй встречи с Рюэгг не значится, выходит, он попросил встретиться
с ней Радека, своего доверенного человека по делам Коминтерна. Судя
по вопросительным знакам, Ленин не помнил, кто такая «Рюгг», и тем
более не знал, для чего она «просит свидания». Радек, видимо, сказал
ему о замужестве Рюэгг с Алехиным и о том, что она ждет ребенка,
которого хочет рожать на родине, поэтому цель визита была ясна. В
какие фразы вождь облек свое согласие, можно лишь гадать. Хотя... А
вдруг в те самые, что приведены в книге Мюллера и Павельчака?!
Иначе трудно понять, почему Радек заявил Анне-Лизе, что ее муж,
сотрудник Коминтерна и кандидат в члены РКП(б), -
«контрреволюционер», то есть фактически объявил его врагом. А вот если
предположить, что Радек сообщил Ленину и о заведенном на Алехина деле,
тогда всё становится на свои места. Да, после допроса дело было
прекращено, но значит ли это, что одесскую расписку не приняли
всерьез? Может, кто-то просто дал команду спустить дело на тормозах:
доставить его на Лубянку, допросить и отпустить?.. Слово
«контрреволюционер», которое Анна-Лиза наверняка передала мужу,
показало Алехину, что в В Ч К его объяснениям не поверили. Π отому-то он и
боялся потом ехать в Россию, несмотря на все уговоры...
Забавная, однако, загогулина вышла. Байку, что Алехина спас
Троцкий, знают все, а о том, кто его действительно спас, выяснилось
только спустя сто лет!
P.S. А вы знаете, Анна-Лиза могла помочь Алехину вполне
осознанно. Городин цитирует статью в «New York Times» (10.08.1921) под
броским заголовком «Коммунистка покидает красных. Фройляйн
Рюэгг, ученица Ленина, возвращается из России и ужасает
Швейцарию рассказом о детском голоде» (социалистка Рюэгг приезжала
изучать вопросы материнства и младенчества, а «фройляйн» она
потому, что брак, заключенный в советской России, на Западе не
признавался):
Крамольная книга
299
«Фройляйн Анна-Лиза Рюэгг, известная швейцарская
коммунистка, ранее проповедовавшая доктрины Ленина и Троцкого в
переполненных залах Швейцарии, возвратилась из России, полностью
излечившись от ком мунизма. На ее встрече с публикой она рассказала, как
многие русские на вопрос: "Вы коммунист?'1 отвечали ей: "Что вы,
мы - порядочные люди".
Инспектируя русские детские дома, она не встретила в них ни
одного здорового ребенка. Воровство, по ее словам, стало
неизбежностью русской жизни, воруют даже еду в детских домах, поэтому
благотворительные организации (из США и Европы), стремящиеся спасти
детей и облегчить их бедственное положение, должны быть готовы к
неприятным сюрпризам, позволяя коммунистам распределять свою
помощь».
КРАМОЛЬНАЯ КНИГА
По приезде в Берлин Алехин, по его словам, «был одет первое время
в русскую рубашку (косоворотка) и довольно ветхие другие
принадлежности моего костюма» («Новая заря», Сан-Франциско, 14.05.
1929), а в кармане имел двести марок - это всего три доллара.
Видимо, чтобы подзаработать, он по заказу шахматного издателя Берн-
харда Кагана написал книжку «Das Schachleben in Sowjet-Russland».
В отличие от отношения к самому Алехину, которое у нас в стране не
раз менялось, эта книга всегда находилась под негласным запретом и
была напечатана лишь после краха советской власти. Приятно
сознавать, что в этом есть и доля моего участия: перевод книги появился в
«Шахматном вестнике» (№ 1, 1992) - преемнике журнала «Шахматы
в СССР», где начиная с 1988 года я вел отдел «Архив».
В преддверии 100-летия Алехина мы с главным редактором
Юрием Львовичем Авербахом обсудили план юбилейных публикаций и
начать решили с первой книги Алехина, экземпляр которой имелся
у Ю.Л. Перевод поручили Исааку Романову, но, понимая
ответственность задачи, Ю.Л. решил подстраховаться и сверить полученный
текст с оригиналом. Как сейчас помню: зимний вечер, мы сидим в
пустой редакции, я читаю вслух перевод, Ю.Л. следит по книге,
изредка что-то уточняя, - и вдруг возмущенно вскрикивает: «Какой
сахар?! Здесь же "сахарин" написано! О сахаре тогда можно было
только мечтать...»
В довоенной советской прессе я нашел всего три упоминания
о книге. Первое - в журнале Николая Грекова «Шахматы» (№ 1,
1922): Алехин «издал в Берлине книгу "Schach im Sowiet-RusslancT,
в которой дал очерк шахматной жизни в России за последние годы
и привел ряд партий, игранных в России за то же время». Судя по
неточному названию, саму книгу Греков еше не видел. Второе - в
книге А.Ильина-Женевского «Международное рабочее шахматное
300
Свой среди чужих
Алехин: «В Берлине я сразу принял участие в играх, хотя и был одет первое
время в русскую рубашку и довольно ветхие другие принадлежности моего костюма»
(«Новая заря», Сан-Франциско, 14.05.1929).
Крамольная книга
301
движение и советская шахорганизация» (1931): «А.А.Алехин в своей
книге "Шахматы в Советской России" (та же ошибка), вышедшей
за границей на немецком языке, с усердием ренегата рассказывает о
том, как после Октябрьской революции Петроградское шахматное
собрание было занято отрядом красногвардейцев, которые
забавлялись шахматными фигурами и в результате оставили всех коней без
голов (точнее, попросту украли коней). Можно только пожалеть, что
красногвардейцы не оставили без голов также и целый ряд
руководителей шахматного собрания...» Кого именно? Автор не скрывает:
Малютина, Сабуровых (отца и сына), Зноско-Боровского...
Но вот за что книгу подвергли остракизму, любители шахмат
узнали только спустя много лет из статьи Ф.Сулковского «Признание
врага», где была процитирована самая крамольная фраза: «В своей
клеветнической книжке "Шахматная жизнь в Советской России",
изданной в 1921 г. в Берлине сейчас же после бегства из советской
страны, Алехин утверждал, что настоящий расцвет шахматной жизни
в стране может наступить лишь тогда, когда "наконец произойдет то
событие, которого русская шахматная общественность ожидает столь
же нетерпеливо (на самом деле: «с той же горячей надеждой»), как и
вся честно мыслящая Россия" (стр. XVI), то есть, говоря проще,
когда будет свергнуга советская власть» («Бюллетень Московского
международного шахматного турнира» № 25, 1935).
Невзрачная на вид, книга уникальна своим содержанием: 12
прокомментированных партий Алехина 1918-1920 годов и
великолепный очерк, который приведен ниже. Но прежде чем его читать,
полистайте на досуге начало романа «Белые и черные» - будет потом
с чем сравнить. Ну а если лень листать, вот вам пассаж из котовско-
го «Александра Алехина» (1973; ни в 1-м издании «Шахматного
наследия», ни у Панова о книге ни слова!) - лучшего предисловия для
очерка не найти: «Хочется отметить, что после выезда из пределов
родной страны Алехин не стал выступать против советской власти,
что делали многие эмигранты. Правда, некоторые его высказывания
в книжке "Шахматы в Советской России", вышедшей в Германии в
1922 году, остро критиковались, однако острота этой критики
объяснялась необъективностью критиков. Алехин писал в книге, что в
России царят голод и холод, что "буржуйки топят шахматными
фигурами, шахматные короли трещат в огне"».
Тут всё не так. И название, и год издания (оригинал Котов, похоже,
вообще не видел). И не ищите в «книжке» фразу о буржуйках - ее там
нет. Откуда ж она взялась? Вы не поверите: из «Белых и черных», где
Котов вложил эту фразу в уста Алехина, а потом забыл, что сам же ее и
придумал! Самое смешное, он поленился глянуть в «первоисточник»,
и в романе она звучит иначе: « Шахматными досками "буржуйки" то-
302
Свой среди чужих
пят. Полированные короли трещат в огне»... Насчет отношения к
советской власти автор тоже лукавит. Дворянское «фон» в фамилии на
обложке: Alexander von Aljechin - недвусмысленный привет бывшим
«товарищам»!
И последнее. Пусть вас не смущает написание «советская
Россия» - Алехин сам так писал (см. статьи «"Слепые" шахматы» и «Макс
Эйве» в конце книги). В эмигрантских изданиях это было нормой,
как и «октябрьская революция», которую вообще обычно называли
большевистским переворотом («октябрьским переворотом»
именовали ее даже сами большевики - см. газету «Правда», 6.11.1918). А
«советскую Россию» там часто сокращали до «сов. Россия».
Марина Цветаева: «...четыре года в сов. России - чем не Сибирь?» Да что
говорить: в советских журналах 20-х - начала 30-х годов я встречал
написание «советская Россия» и «советский Союз», что в те
времена не являлось крамолой.
Александр фон Алехин
ШАХМАТНАЯ ЖИЗНЬ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Шахматная жизнь в Петрограде и Москве, которая уже с начала
войны заметно пошла на убыль, сразу после октябрьской революции
окончательно угасла.
В Петрограде в элегантных апартаментах тамошнего Финансового
и коммерческого собрания, где, как известно, в течение многих лет
размешалось Петроградское шахматное собрание, на какое-то
время расположился отряд красногвардейцев, которые свои свободные
часы заполняли тем, что страстно предавались игре, — но не в
шахматы, а шахматными фигурами. В результате эти χ «игрищ» после исхода
солдатни все шахматные комплекты оказались перемешаны, фигуры
были разбросаны по полу, а кони и вовсе исчезли без следа. Видно,
их унесли на добрую память или даже для забавы красногвардейских
отпрысков.
Хотя оба наиболее влиятельных и энергичных члена
Петроградского шахматного собрания, Б.Е.Малютин и П.П.Сабуров, до середины
1918 года оставались в Петрограде, но держались (особенно первый)
по разным личным причинам в стороне от шахмат. Конечно, тогда у
всех были совершенно иные заботы...
Кое-какую шахматную активность смог проявить неутомимый
Юлий Осипович Сосницкий, которому также удалось после
октябрьской революции спасти ценнейшую библиотеку Собрания, перевезя
ее к себе на квартиру. Однако его надеждам дождаться лучших дней
не суждено было исполниться: уже в феврале 1919 года он стал
жертвой свирепствовавшей по всей советской России эпидемии тифа. В
его лице русская шахматная семья понесла невосполнимую утрату;
хорошо был известен Сосницкий также в зарубежных шахматных
кругах. Это был человек редкостной энергии и почти неистощимой
Крамольная книга
303
работоспособности, который с трогательной отзывчивостью и
восторженной сердечностью откликался на все значительные события
отечественной шахматной жизни (к этому надо еще добавить: один
из лучших знатоков мировой шахматной литературы). Покойный в
течение своей долголетней деятельности в качестве библиотекаря, а
потом вице-председателя Петроградского шахматного собрания был
одним из «трех столпов» (наряду с Малютиным и Сабуровым-мл.), на
коих в последние годы держалась русская шахматная жизнь.
Свидетельством того, что личность Сосницкого и его заслуги получили не
только всеобщую известность, но и должное признание за границей,
служит, между прочим, посвященная ему заметка в журнале «Wiener
Schachzeitung» (№ 13/14, 1913). Сразу после смерти Сосницкого
большевистские власти объявили «национализированной» не только его
собственную библиотеку, но и принятую им на хранение
библиотеку Петроградского шахматного собрания; однако ни его родным, ни
шахматным друзьям, несмотря на все старания, так и не удалось
установить, на каком частном рынке, а главное, кому было продано это
«национализированное» имущество.
Das Scbacbleben
Ιι
Sowjtt-Riusland
btr»is|t|tt<· ?«·
Η. д. fllcbecblo.
lirUff III Iff·)»?! Ιλ|ι·, Itrll· ·. I. Iflrmtralr U.
\ \Ш'^ШШШШШШШШВ\
тш*шашшьт*щ
I
Das Schachleben
in
Sowjet-Russland
Heransyegeben
A. von Aljechin
Bchrrn-fttraf)>- 14
ь
Щ ScbediverUtf Bcrnhard Ka«*n, Berlin WS |
I
Обложки двух издании книги, вышедшей в июне 1921 года в Берлине. На левой —
забавная ошибка в фамилии: Alchechin. Добавление дворянского «фон» —
недвусмысленный привет бывшим «товарищам»!
304
Свой среди чужих
Вынужденные после октября 1917 года покинуть гостеприимные
апартаменты Финансового и коммерческого собрания, служившие
им многолетним домом, петроградские шахматисты на протяжении
1918 года частенько собирались на квартире шахматного энтузиаста
П.П.Сабурова. Однако после его отьезда за границу была утрачена и
эта последняя возможность, а это означало, что Петроградское
шахматное объединение, живущее оглядкой на свое гордое прошлое,
фактически перестало существовать.
И все-таки русские шахматисты сохраняют веру и надежду, что это
несуществование означает не смерть, а лишь летаргический сон, по
миновании которого наступит пробуждение, когда нынешняя темная
страница нашей истории будет перевернута. Вне всякого сомнения,
тогда петроградская шахматная жизнь снова мощно расцветет и
вернет себе то достойное место на международной шахматной сцене,
какое она с полным правом занимала перед мировой войной.
В Москве, где продовольственный и топливный кризис,
стремительно разразившийся по всей России сразу после октябрьской
революции, проявился в полной остроте позднее, чем где бы то ни было,
любителям шахмат в первое время удавалось-таки общаться между
собой, и, несмотря на все препятствия, которые ставили на их пути
красные властители, они сумели организовать несколько турниров
сильнейших игроков Москвы.
Так, в апреле (точнее, апреле-мае) 1918 года состоялось состязание
между тремя жившими тогда в Москве мастерами, которое
закончилось следующим образом: 1. Алехин — 4,5 из 6, без поражений; 2. Не-
нароков - 3,5; 3. А.Рабинович - 1.
Вскоре после этого троеборья был устроен матч до пяти
выигрышей между Ненароковым и А.Рабиновичем, завершившийся
ничейным результатом (каждый выиграл по 4 партии при 3 ничьих).
В 1919 году дошла до Москвы весть о смерти молодого и
многообещающего мастера Александра Моисеевича Эвенсона,
расстрелянного деникинцами при их отступлении из Киева; дело в том, что,
с одной стороны, он был ответственным советским служащим (как
юрист, он был призван большевиками на службу в качестве
следователя военно-революционного трибунала), с другой — имел несчастье
быть евреем.
Шахматные успехи Эвенсона восходят, как известно, к киевским
соревнованиям, относящимся к 1912—1913 годам, а вершиной его
достижений стал триумф в Петроградском турнире любителей 1913/14
года, где он завоевал первый приз без единого поражения.
Допущенный вслед за тем во Всероссийский турнир мастеров 1914 года,
Эвенсон снова блестяще подтвердил свой мастерский класс, завоевав
VIII приз и опередив таких матадоров, как Боголюбов (который
тогда, правда, еще не был нынешней величиной, но уже был достаточно
силен!), Сальве, Алапин, фон-Фрейман, Левитский, Таубенгауз и др.
Образцом оригинального и элегантного стиля Эвенсона может
служить его партия с Левитским из этого турнира, которая триумфально
обошла всю русскую и иностранную шахматную прессу. Поскольку
Крамольная книга
305
талант Эвенсона находился еще в стадии развития, не вызывает
никакого сомнения, что в случае более счастливой судьбы ему было бы
суждено занять одно из первых мест на русском шахматном Парнасе.
Мир его праху!
Однако вернемся к судьбам московских шахматистов, которые,
перебираясь с места на место, с одной квартиры на другую, вместе
с библиотекой и всем инвентарем, невзирая на топливный кризис и
многие другие непреодолимые препятствия, наконец дожили до 1919
года, когда на их горизонте появился один из виднейших членов
советского правительства. И хотя он был братом еще более знаменитого
вождя моряков Раскольникова, сам носил псевдоним А.Ф.Ильин-
Женевский (производный от названия города Женева). Отнюдь не
слабый шахматист и страстный шахматный энтузиаст, он благодаря
авторитету, которым был обязан брату, но не в меньшей степени также
благодаря занимаемому посту главного правительственного
комиссара Всеобщего военного обучения, за короткий срок добился того,
что красные властители коренным образом изменили свое отношение
к королевскому искусству Из «буржуазного времяпрепровождения»
шахматы превратились в их глазах в «высокое и полезное
искусство, развивающее интеллектуальные силы подрастающего поколения»
(цитата из резолюции съезда деятелей Всевобуча Московского
военного округа, состоявшегося в Москве в апреле 1920 года).
Вследствие такой перемены во взглядах на московских шахматистов как из
рога изобилия посыпались всяческие блага. Прежде всего, блестящая
квартира из шести комнат при Центральном военно-спортивном
клубе Управления Всевобуча, в «секцию» которого был официально
превращен Московский шахматный клуб. Далее, учреждение фонда в
размере 100 000 рублей (тогдашняя покупательная способность
которого равнялась нынешнему миллиону!) с целью устройства различных
серьезных соревнований. И наконец - что было самым важным -
организация «Всероссийской шахматной олимпиады», которая была
проведена в октябре 1920 года.
Предыстория этого соревнования такова. В середине августа во
исполнение разработанного оргкомитетом (членами которого являлись
Ильин-Женевский, Григорьев, Греков и автор этих строк) плана была
разослана следующая циркулярная телеграмма Главного управления
Всевобуча, адресованная всем территориальным округам: «Первого
октября в Москве состоится Всероссийский шахматный турнир.
Приказываю широко оповестить округ настоящем турнире. Помещение и
продовольствие в Москве обеспечено. Не позднее пятнадцатого
сентября представить в Москву Главное управление Всеобщего военного
обучения ("Главупрвсевобуч") сведения желающих участвовать в
турнире: имя, фамилия, место службы, занимаемая должность, степень
незаменяемости, год рождения, начало занятий шахматами, название
шахматного общества, в каких состязаниях участвовал, занятое место,
нуждается ли Москве помещении. О допущенных участию турнире
будет сообщено телеграфно. 17 августа 1920 года. N° 648/1517. Зам.
Начглавупрвсевобуча Закс».
306
Свои среди чужих
Некоторое время спустя, учитывая, что в ответ поступило слишком
большое количество заявлений, было принято решение организовать
два турнира:
I. Всероссийский турнир-чемпионат. Предполагаемое число
участников: 14—16. Право участия предоставляется только сильнейшим
русским шахматистам, отобранным оргкомитетом и поэтому
получившим персональные приглашения. Первый призер будет
провозглашен чемпионом России. Участник, показавший лучший результат,
если он не имеет звания мастера, получит таковое. В эту группу
включены следующие шахматисты: 1. Алехин*, 2. Блюменфельд*, 3. Бога-
тырчук, 4. Берлинский, 5. Вильнер, 6. Голубев*, 7. Греков, 8.
Григорьев*, 9. Данюшевский*, 10. Зубарев*, И. Иорданский, 12. Ильин-
Женевский*, 13. А.Куббель*, 14. Левенфиш*, 15. Лист, 16. Мунд*, 17.
Ненароков, 18. Д.Павлов*, 19. Н.Павлов*, 20. Левитский, 21. Дуз-
Хотимирский, 22. А.Рабинович*, 23. И.Рабинович*, 24. Розанов, 25.
Розенкранц, 26. Розенталь, 27. Руднев, 28. Романовский*, 29. Смород-
ский, 30. фон-Фрейман, 31. Целиков* (шахматисты, чьи фамилии
выделены звездочкой, в действительности приняли участие в турнире).
II. Всероссийский турнир любителей. Максимальное количество
участников: 36. Разыгрывается по группам. Право участия получают
сильнейшие местные шахматисты, которые сообщили оргкомитету о
своем желании играть и потому получили приглашение участвовать в
турнире. Победитель получит право участвовать в следующем
Всероссийском турнире-чемпионате.
Призы для обоих турниров выделены Главным управлением
Всевобуча, которое обеспечило также расходы по проезду, проживанию и
питанию участников во время их пребывания в Москве.
К 1 октября в Москву съехались для участия в обоих турнирах
примерно 35 шахматистов, которые на время «Олимпиады» были
командированы начальниками своих округов в распоряжение уже не раз
упомянутого Главного управления Всевобуча. Собрание участников,
проведенное перед началом турнира, приняло довольно бурный
характер, и были моменты, когда казалось, что иногородние игроки
откажутся от участия и несолоно хлебавши отправятся обратно. Главная
причина недоразумений и расхождений во мнениях состояла в двух
недостаточно четко сформулированн ых пунктах программы: 1) о
призах и 2) о продовольственных нормах, установленных на время
турниров.
После долгих споров, в ходе которых иногородние участники
дошли до ультимативных заявлений, а затем направили делегацию с
целью изложить свои требования начальнику Всевобуча Подвойскому,
все спорные пункты разрешились следующим образом,
удовлетворившим всех:
а) Денежные призы отменяются; вместо них выплачиваются
только гонорары за выигранные партии - по 2000 рублей в чемпионате, а
также по 1000 рублей в группе победителей турнира любителей и по
500 рублей в предварительных группах. В качестве призов
устанавливаются художественные серебряные предметы, а кроме того, по-
Крамольная книга
Ю7
бедитель чемпионата получает от устроителей почетный приз в виде
китайских шахмат из слоновой кости.
б) Удалось увеличить продовольственную норму участников: сверх
одного фунта хлеба (по свидетельству Левенфиша — полфунта) и со
ветского обеда (суп из сушеных овощей и — на выбор-селедочная
голова или селедочный хвост) участник получает во время игры немного
чая (естественно, также «советского»), сыра и сахарина.
После удовлетворения этих скромных требований была проведена
жеребьевка и принят окончательный регламент.
Партии начались 4 октября и продолжались без инцидентов (не
считая еще одного, ограниченного 24 часами и вызванного
«ультиматумом» иногородних участников, которые потребовали и добились
предоставления курева) вплоть до 25 октября, когда турниры
закончились.
Итоги турнира-чемпионата таковы: 1. Алехин— 12 из 15, без
поражений; 2. Романовский - 11; 3. Левенфиш- 10; 4. И.Рабинович -9,5;
5-7. Григорьев, А.Куббель и А.Рабинович - по 8,5; 8. Блюменфельд
8; 9-10. Данюшевский и Ильин-Женевский - по 7; 11-12. Зубарев и
Н.Павлов - по 6,5; 13. Целиков - 5,5; 14. Мунд - 4,5; 15. Д.Павлов
4; 16. Голубев - 3.
Успех молодого П.Романовского, опередившего трех признанных
мастеров и прибавившего к своему имени мастерский титул (по
словам Романовского, «это звание присуждалось либо за первое место, либо
за второе при условии, что на первом месте будет Алехин; участие
последнего считалось как бы вне конкурса»), был вполне заслуженным и
никоим образом не явился неожиданностью. Уже в Мангейме (1914)
он подавал большие надежды, а сейчас, с улучшением здоровья, игра
Романовского стала более стабильной, и ныне он, несомненно,
является одним из сильнейших русских игроков.
Левенфиш, который из-за недостатка свободного времени в
последние годы держался в стороне от шахмат (он — руководитель
центральной химической лаборатории Петрогубкоммуны), начал турнир
весьма неудачно, потерпев два поражения, но потом подтянулся, не
проиграл больше ни одной партии и закончил турнир третьим.
Напротив, И.Рабинович, на которого в Петрограде возлагали
особые надежды, не вполне их оправдал. Выросшему в традициях
позиционной школы, ему порой недоставало необходимой уверенности в
ситуациях, богатых тактическими возможностями, из-за чего он иногда
попадал в проигрышные положения даже против более слабых
противников: общая черта (увы, почти единственная) с Рубинштейном!
Что касается трио, которое разделило последние призы (5-й, 6-й и
7-й), то прежде всего назовем виленского маэстро А.Рабиновича (за
границей его, по-видимому, знают по карлсбадскому турниру 1911
года). Поначалу он пробудил основательные надежды стать гораздо
выше, поскольку в блестящем стиле выиграл первые пять (четыре)
партий, что даже на какое-то мгновение сделало его лидером турнира.
Тот факт, что А.Рабинович потом отстал, следует приписать не только
усталости и недостатку тренировки, но и... разменному варианту ис-
308
Свой среди чужих
\
■kmw
,Ψ
У£ТМГГГЛУ
На рукописном дипломе третьего призера Всероссийской шахматной олимпиады
(1920) Григория Левенфиша две подписи Алехина: как члена оргкомитета и как
участника турнира. Из коллекции Музея шахмат России.
Крамольная книга
309
панской партии, к коему он питает своего рода органическое
отвращение, вследствие чего он черными проиграл в этом дебюте четыре (!)
партии почти без всякого сопротивления.
Н.Григорьев (которого не надо путать с более старшим по возрасту
московским любителем Б.П.Григорьевым, участником II
Всероссийского турнира) является, несомненно, одним из самых ярких светил,
взошедших на нынешнем шахматном небосклоне. Шахматист
многосторонних знаний (что особенно проявилось в ведении пешечного
эндшпиля, по вопросам которого он не только разработал
собственную теорию, но и написал целую монографию), а также недюжинной
практической силы, почти достигший мастерского уровня, Григорьев
прежде всего является неутомимым и фанатичным пропагандистом
шахматного искусства. Несмотря на свою молодость (26 лет), он в
трудные 1917—1919 годы являлся фактически единственным
человеком, чьей энергии московские шахматисты были обязаны тому, что
огоньки в их сердцах вопреки всем трагическим событиям в
окружающем мире не угасли. Ныне Григорьев за ни мает π ост председателя
Московского шахматного клуба, возглавляя также шахматную секцию
Всевобуча. Совмещение им обеих этих должностей (с одной стороны,
благодаря выбору своих коллег, с другой — благодаря назначению со
стороны советских властей) позволило московским шахматистам
сохранить внутреннюю независимость и не потерять при этом
«деловые» связи с руководством, ибо иначе они находились бы под
постоянной угрозой в любой момент быть выброшенными на улицу.
Олимпиаду Григорьев начал неудачно, но выиграл три партии на финише,
что позволило ему попасть в число призеров. Особо надо упомянуть
его блестящий результат против последних трех призеров (в том числе
победы над обоими мастерами Рабиновичами).
Арвид Куббель, без сомнения, сильный шахматист почти
мастерского уровня, обязан успехом главным образом своему ровному,
спокойному характеру, что позволило ему победить большинство «dii minores»
(младшихбогов. — лат.), в то время как во встречах с остальными
призерами он, напротив, набрал всего одно очко (из шести партий).
Среди непризеров надо прежде всего упомянуть Блюменфельда,
который с годами достиг значительной ровности игры, о чем
свидетельствует и то, что на его долю приходится наименьшее число
поражений. Если бы в последнем туре он не проиграл уже стоявшую на
выигрыш партию против Ильина-Женевского, то ему достался бы (и
притом вполне заслуженно) пятый приз.
В турнире любителей, в котором участвовали 28 шахматистов,
состязавшихся в трех предварительных группах, в результате
ожесточенной борьбы таблицу возглавили два соперника, набравшие в группе
победителей по 6 очков из 8 партий: Выгодчиков (смоленчанин) и
Кляцкин. Первый хорошо известен русским шахматистам благодаря
своему успеху в московском чемпионате 1911 года (третий позади д-ра
Бернштейна и Селезнева), в то время как молодой Кляцкин
принадлежит к многообещающим талантам шахматной Москвы (ему Алехин
обязан идеей своего знаменитого дебюта 1.е4 £f6). В дополнительном
310
Свой среди чужих
матче за I приз победил опытный Выгодчиков (2:0). Третье место в
турнире любителей занял Алексей Алехин.
Игра проходила в выделенных оргкомитету помещениях, где
располагались и общежития участников турниров. Торжественная
раздача призов состоялась в концертном зале, в котором некогда блистали
выдающиеся московские артисты. После успешного окончания
церемонии раздачи призов, а также выполненных по спецзаказу
советскими художниками и подписанных главным комиссаром Всевобуча и
другими знаменитостями дипломов, взору неожиданно предстали -о
чудо! - чай и яблочные пирожные из настоящей крупчатки, что
подействовало на всех нас как вдохновляющий заключительный аккорд
Шахматной олимпиады.
К сожалению, план издания турнирного сборника ввиду
свирепствовавшего в России бумажного голода потерпел неудачу, ибо только
те произведения, которые прямо или косвенно служат целям
коммунистической пропаганды, могут рассчитывать на предоставление
монополизированной государством бумаги.
В декабре 1920 года Ильин-Женевский, назначенный советским
консулом в Либаве (Лиепая), должен был покинуть Москву, в связи
с чем положение московских шахматистов очень ухудшилось:
исчезли надежды на предоставление дров для клуба и уж тем более на
финансовую поддержку со стороны красных властителей. Поэтому всю
зиму шахматисты собирались только на квартирах тех членов клуба,
которые имели счастливую возможность обеспечивать себя дровами.
В самой секции жизнь почти угасла, несмотря на то что каждый
посетитель мог рассчитывать на получение ежедневной нормы хлеба,
чашки «советского чая» и кусочка медового мармелада.
С начала весны шахматная жизнь снова оживилась, и незадолго
до моего отъезда из Москвы в секции начались два турнира, которые
собрали около 30 участников. Тогда же после полугодового
перерыва в игровой практике я тоже сыграл ряд серьезных тренировочных
партий - с Григорьевым. Результат оказался для меня относительно
скромным (+2=4; точнее, +2=5). Как видите, председатель
Московского клуба в этих шести партиях держался очень хорошо.
Что касается других городов, то условия для развития там
шахматной жизни никоим образом не могли быть лучше, чем в Москве. По
последним сведениям, которые дошли до нас, шахматисты
Петрограда, Казани и Харькова начали организовываться, но и там - как и
повсюду - всё зависит отличного влияния какого-нибудь представителя
власти, точно так же, как в Москве шахматы пережили короткий
период расцвета только благодаря Ильину-Женевскому
Кажется невероятным, что на таком несолидном фундаменте
можно построить что-нибудь значительное. (Выступая после олимпиады
на конференции, обсуждавшей судьбы шахматного движения, Алехин, по
словам Романовского, якобы «прямо заявил, что дальнейшее
существование шахмат возможно лишь в случае, если государственные организации
будут о них заботиться и руководить ими» — см. «Шахматы в СССР»
№6, 1957.)
«Агент Коминтерна»
311
Ныне русским шахматистам приходится уповать лишь на
случайные шансы и использовать их, разумеется, как можно продуктивнее,
пока не случится наконец то событие, которого русская шахматная
общественность ожидает с той же горячей надеждой, что и вся честно
мыслящая Россия.
Берлин, июнь 1921
Жаль, конечно, что Алехин ничего не написал о себе. Особенно о
том периоде, о котором практически ничего неизвестно: до бегства
на Украину в сентябре 1918 года. Единственное упоминание об этом
я встретил в одном из его интервью: «В России в момент владычества
большевиков я прожил около трех лет и должен сказать, что мне
пришлось вести там свое существование в чрезвычайно трудных
условиях. Сначала они меня не трогали. Я был инструктором шахматной
игры, занимался переводами с русского языка на английский и
другими случайными работами. Наконец, в бытность мою в Одессе я был
арестован большевиками и заключен в подвал чеки...» («Новая заря»,
Сан-Франциско, 14.05.1929).
«АГЕНТ КОМИНТЕРНА»
Алехина потом упрекали в обмане. Я еще понимаю, когда это делал
С.Вайнштейн в 30-е годы: «Заключив авантюрный брак с некой
иностранкой и выхлопотав себе обманным путем командировку за
границу, он покидает навсегда советские рубежи, заранее твердо решив
не возвращаться...» (из предисловия к книге «На путях к высшим
шахматным достижениям», 1932). Но что побудило повторить этот
же упрек Ботвинника, да еще в статье, посвященной 100-летию
Алехина («Правда», 31.10.1992)? «При первой же возможности Алехин
покидает Родину. И как в 1914 году, чтобы вернуться в Россию, он
пошел на подлог, так теперь он снова решился на обман, чтобы
уехать из России, и навсегда». Слов «подлог» и «обман» Ботвиннику
видно, показалось мало, и он вбил еще один гвоздь: «Да, Александр
Алехин в шахматах стремился познать истину, а в жизни добивался
успеха, нередко забывая о своем достоинстве».
Чтобы, как говорится, «два раза не вставать», скажу здесь: уже в
названии статьи - «Блудный сын России» - видно отношение
Ботвинника к Алехину. Впервые оно проявилось еще в его статье «Александр
Алёхин» (через «ё»!) — почти сразу после кончины чемпиона мира:
«Алёхин был велик и принципиален в шахматном искусстве, но был
мелок и беспринципен как человек» («Огонек» № 19, 1946). Но в
дальнейшем Михаил Моисеевич сдерживал себя — все-таки Алехин был
одной из икон отечественных шахмат, первым русским чемпионом
мира. Но воздух свободы (а так легко, как в начале 90-х, когда рухнул
312
Свой среди чужих
тоталитарный режим, в России никогда не дышалось) сыграл с ним
злую шутку, и он дал волю накопившимся чувствам. Такое
впечатление, что Ботвинник просто воспользовался поводом, чтобы под
шелухой ритуальных слов про «комбинационный гений» и «гения шахмат»
побольнее ударить Алехина: ««ясна стала заурядность его общего
позиционного понимания», «далеко не отличался принципиальностью»,
«зауряден по своим человеческим качествам», «присущая ему
беспринципность»... Второй такой юбилейной статьи о чемпионе мира,
думаю, не найти!
До сих пор приходится читать, что «разрешение на выезд,
выданное ему, ограничивалось только Латвией и не далее». А из чего это
следует? Из того, что Алехину дали визу на выезд в Латвию? Так без
этой визы было не обойтись: путь в Берлин лежал через Латвию и
Литву. Да и зачем, спрашивается, Алехину с женой-швейцаркой
нужна была Латвия? Они что, там жить собирались?
Полноте, господа. То, что цель поездки не Латвия, ни для кого не
было секретом. По словам Романовского, еще на олимпиаде «Алехин
сказал, что собирается ехать за границу для участия в международных
турнирах и подготовки к борьбе с Капабланкой», И мастер А.Поляк,
игравший с Алехиным весной 1921-го, пишет, что тот «говорил о
Берлин, июнь 1921. За партией матча Алехин — Тейхман наблюдает издатель
книги «Шахматная жизнь в советской России» Бернхард Каган (в белой жилетке
и пенсне). На обложке выпущенного им же матчевого сборника новая вариация
фамилии: Alechin.
«Агент Коминтерна»
3/3
предстоящей поездке на турнир в Гаагу». Открываем «Листок
шахматного кружка Петрогубкоммуны», начавший выходить той же весной.
«Недавно уехал за границу в Шевенинген, а затем в Гаванну маэстро
Алехин для участия в предполагающихся там международных
турнирах» (15 мая). В Будапеште Алехин «доказал, что в Советской России
есть представители, которые в больших международных турнирах
являются конкурентами на первое место. От всей души поздравляем
нашего соотечественника с блестящей победой» (16 октября). В
заметке о турнире в Гааге (27 ноября) он вновь назван «представителем
России» и, возможно, впервые - «великим русским маэстро»!
Наконец, в письме наркому просвещения А.Луначарскому с просьбой
открыть институт шахматного искусства Дуз-Хотимирский, Григорьев
и Ненароков заявляют: «Если в настоящее время русский маэстро
Александр Алехин одерживает блестящие победы на турнирах за
границей, если он, окрыленный успехом, уже протягивает руку к
пальме мирового первенства, которую крепко держит в руках гордый и
сильный кубинский маэстро Капабланка, то мы постараемся в свою
очередь быть достойны этого русского чемпиона на пользу и славу
родной нашей стране».
Как видите, Алехин никакой не беглец, не эмигрант и уж тем
более не предатель - он «наш соотечественник»! И в 1922 году журнал
«Шахматы» (№ I) продолжает называть его так же, а «общее собрание
московских шахматистов» поздравляет с «победами» и желает
«успехов». И даже во время турнира в Нью-Йорке (1924) Богатырчук в
киевской газете всё еще именует Алехина «шах\1атистом СССР», хотя
уже ходят слухи, что «над своим креслом он выставил трехцветный
царский флаг». Но потом отношение к нему изменилось, и
причина понятна: «Гроссмейстер А.А.Алехин окончательно обосновался во
Франции, от имени которой теперь, по-видимому, и будет всюду
выступать» («Известия», 21.02.1925). И когда в 1926 году один журнал
дал фотографию совместного сеанса Алехина и Нимцовича под
заголовком «Наши за границей», крыленковский рупор «64. Шахматы и
шашки в рабочем клубе» перепечатал ее с осуждающим
комментарием: «Журнал "Красная Нива", по простоте душевной, окрестил
"советскими шахматистами" небезызвестных "шахэмигрантов",
Алехина и Нимцовича».
Окончательно маски были сброшены в декабре 1926 года, когда
чемпион СССР Боголюбов заявил о выходе из советского
гражданства. Реакция Крыленко была жесткой: «Считая, что гражданин
Боголюбов, пойдя по стопам Алехина и явившись не первым, а может
быть, и не последним ренегатом в этой области, сам поставил себя
вне рядов шахматных организаций СССР, - шахсекция
постановляет: 1) лишить гражданина Ε Д. Боголюбова звания шахматного
314
Свой среди чужих
чемпиона СССР; 2) гражданина
Е.Д.Боголюбова из числа членов
шахматной организации СССР
исключить...»
Представляю, что испытал
Алехин. Из постановления о
Боголюбове он узнал не только
о том, что является для шахсек-
ции «ренегатом», но и что «она
не сочла возможным вступать в
какие бы то ни было
переговоры с Алехиным об участии его в
международном турнире в
Москве, считая этого мастера
чуждым и враждебным Советской
власти элементом». Какие
переговоры?! Увидев в «Шахматном
листке» свое имя в списке
предполагаемых участников, он
сразу написал письмо Григорьеву,
в котором, по словам Котова
(имевшего это письмо), просил
«устроить так, чтобы ему не
присылали приглашение» на турнир,
«так как ему не хочется отвечать
отказом»: «До начала будущего
года я вообще не собираюсь
участвовать в шахматных состязаниях, так как всецело поглощен
подготовкой к экзаменам на доктора права, каковые буду сдавать в конце
ноября сего года». Подоплека письма понятна: Алехин опасался, что
его отказ воспримут как демонстративный шаг. То есть в тот момент
сжигать мосты он явно не хотел...
Позднее выяснилось, что экзамены были лишь предлогом. Вот
запись в дневнике Сергея Прокофьева от 22 декабря 1925 года: «Выехал
(из Амстердама) рано утром... Случайно в мой вагон сел Алехин, с
которым проразговаривали всю дорогу, главным образом о только что
закончившемся московском турнире, на который Алехин не
решился поехать: побоялся большевиков» (из книги «Дневник. 1907-1933
(часть вторая)», Париж, 2002).
А недавно я прочитал признание Эмануила Ласкера, сделанное им
на лекции в Гамбурге («Deutsche Schachblatter» № 2, 1926). Речь как
раз о турнире в Москве: «Ласкер попробовал стать посредником
между ним (Алехиным) и влиятельным Крыленко. "Это можно сделать",
На турнире в Лондоне (1922), где был
сделан этот шарж, Алехин впервые
после выезда из советской России
встретился с Капабланкой.
«Агент Коминтерна»
Л 5
- сказал тот. Алехин даже получил охранную грамоту за подписью
двух министров (кстати, Боголюбов тоже запросил и получил ее
перед возвращением в Россию; в J924 году), но он все-таки не приехал».
Почему Алехин побоялся приехать, я узнал совершенно случайно.
Немецкий историк Михаэль Негеле прислал мне копию уникального
документа из Кливлендской публичной библиотеки: письмо
Крыленко, адресованное Ласкеру и датированное 10 февраля 1924 года,
когда экс-чемпион находился с визитом в России. Первая страница
не сохранилась, и конец фразы выглядит так: «...талантливый
шахматист Алехин занял по отношению к своей родине
контрреволюционную позицию (выделено мной. - СВ.), исходя из ошибочного
понимания [роли] трудящихся масс и своего собственного долга перед
ними». Вряд ли Крыленко мог по собственной инициативе написать
именитому гостю о своем отношении к Алехину. Думаю, Ласкер сам
(скорее всего, по просьбе Алехина) поднял этот вопрос, и
Крыленко, который в тот момент формально еще не был главой советских
шахмат, расставил точки над «i». Ласкер наверняка передал его слова
Алехину, и тот понял, что одесская расписка по-прежнему висит над
ним, как дамоклов меч. Но если так, зачем было в 1925-м снова через
Ласкера обращаться к Крыленко?..
1
, -
,<&<?<Us4ta4 ^
4
^..
*<?<£,/*£'' S
Фрагменты письма Ласкеру: «...талантливый шахматист Алехин занял по
отношению к своей родине контрреволюционную позицию, исходя из
ошибочного понимания [роли] трудящихся масс и своего собственного долга перед ними.
(...) С глубоким уважением Ник. Крыленко 10/11 1924 Москва». Предоставлено
М. Негеле (Германия). Из фондов Кливлендской публичной библиотеки.
Публикуется впервые.
316
Свой среди чужих
Всё ясно: в советские гарантии Алехин не верил и опасался ехать
в Москву без «охранной грамоты» в виде французского паспорта. Он
получит его только в конце 1927 года (документ о натурализации
датирован 5 ноября), хотя хлопотать о подданстве начал в 1924-м. Об
этом я узнал из статьи Дени Тейссу (Denis Teyssou, Paris) на сайте
chesshistory.com. Во Французском национальном архиве в Пьерфит-
сюр-Сен он изучил дело о натурализации и выяснил, что «с 1924 по
1927 год Алехин несколько раз пытался стать французским
гражданином и, в конце концов, получил гражданство благодаря помоши
Фернана Гаварри, президента Французской шахматной федерации».
Причиной прежних отказов, помимо подозрительно частых поездок
за границу, было то, что его подозревали в большевизме.
Основания для этого были. Французы, зная о службе Алехина в
Коминтерне, отказали ему сначала во въездной визе и дали ее только
через полгода, в январе 1921-го, «но ему пришлось взять на себя
обязательство не вести коммунистическую пропаганду» (из книги
Мюллера и Павельчака). Тем не менее он был под наблюдением. Из
отчета префекта парижской полиции от 19.12.1924: «В апреле 1922 года
об Алехине сообщалось, как о "большевике, наделенном Советами
специальной миссией во Франции"». Я знаю, что в Российском
государственном военном архиве, в фонде Главного управления
национальной безопасности Франции было личное дело Алехина. В начале
2000-х, перед отправкой фонда во Францию (он попал к нам после
войны из Германии в качестве трофея), с него была сделана
фотокопия. Однако в 2012 году на просьбу ознакомиться с ней мне в РГВА
ответили, что такой фотокопии у них нет, хотя я точно указал: фонд
1, опись 1, дело 9259. Возможно, документы, найденные Дени Тейссу
как раз из этого фонда...
С НАМИ ОН ИЛИ НЕ С НАМИ?
Фразу Крыленко: «С гражданином Алехиным у нас теперь
покончено - он наш враг, и только как врага мы отныне можем его
трактовать» - знают все. Но почему реакция главы советских шахмат была
столь яростной, если не сказать истеричной? Даже если Алехин и
наговорил чего-то лишнего на банкете в Русском клубе в феврале 1928
года, зачем же сразу «стулья ломать»? Я думаю, ответ в предыдущей
фразе Крыленко, которую цитируют гораздо реже: «Если были
слухи после его победы над Капабланкой о том, что он якобы не прочь
вернуться в СССР, то теперь ясна вся вздорность и необоснованность
этих предположений». Вот вам и причина: Алехин обманул
ожидания! Не исключено, что Крыленко уже заверил Сталина, что новый
чемпион мира «наш» и близок к возвращению на родину...
С нами он или не с нами ?
317
На то, что в СССР от Алехина ждали решительного шага,
указывает многое. Уже через неделю после победы в Буэнос-Айресе одесские
«Вечерние известия» (6.12.1927) выдали сенсационную заметку
«Алехин возвращается в СССР». Можно было бы не принимать ее всерьез,
если б там не цитировался Крыленко:
«По полученным сведениям, чемпион мира по шахматам А.А.Але-
хин высказал желание возвратиться в СССР, подав соответствующие
ходатайства о восстановлении советского гражданства. По этому
поводу председатель шахсекции ВСФК тов. Н.В.Крыленко сообщил
следующее:
— Никаких официальных заявлений от гр. Алехина мы до сих пор
не получали. Для этого есть установленные законом пути.
У Алехина не было оснований жаловаться на Советский Союз и
недостаток внимания. Если верно то, что в нью-йоркском турнире
1924 года он эмблемой своей выставил трехцветный царский флаг, он
должен будет в своем заявлении указать такие мотивы, которые
создали бы уверенность в том, что нынешняя просьба не является только
одной "шахматной комбинацией" нового чемпиона.
Мы приветствуем всякие таланты и ценим их — в том числе и
талант Алехина — лишь постольку, поскольку они могут быть
использованы нами в общей работе над культурным развитием и подъемом
трудящихся масс. Это Алехин должен знать. Согласен он искать с нами
общий язык — милости просим, — мы не злопамятны. Не согласен
шахматное движение СССР пройдет мимо него».
Париж, 27 января 1928. Беседа с корреспондентом рижской газеты «Сегодня»
Андреем Седых на следующий день по возвращении из Буэнос-Айреса.
318
Свой среди чужих
Словами «мы не злопамятны» Крыленко явно показывает
Алехину, что его ждут. «Ну давай уж, решайся!» - слышится и в словах
Ильина-Женевского из книги «Матч Алехин - Капабланка»,
успевшей выйти до возвращения чемпиона в Париж:
«Известие о победе Алехина советские шахматисты встретили с
двояким чувством. С одной стороны, большинство советских
шахматистов во все время матча с сочувствием следило за успехами
Алехина. (...) Но, с другой стороны, известие о победе Алехина вызвало
некоторую горечь. То, что Алехин, бывший когда-то целиком и
полностью нашим, ушел от нас, не может быть так легко забыто. С нами
он или не с нами? От этого зависит то или иное отношение к нему
советских шахматистов.
Алехин выдержал первый экзамен - он победил доселе
непобедимого Капабланку Другого экзамена ждут от него советские
шахматисты. Выдержит ли он его?»
Если б Ильин-Женевский читал за обедом не только советские
газеты, он бы не задавал этот вопрос. Белградское «Новое время» (9.12.
1927) в заметке «Алехин и Советы» уже ответило на него, приведя
ПривЪтсти'е „Роса'и" Д. Д. Алехину
Па чествованы А. А. Алехина 15*го февраля въ Иприжл\
било оглашено сагьдующее npuemncmeic :
Глу,бокоуважаемый |н>и русскихъ и do Внутренней Poccin, и
Александра Александровичъ! 'въ Зарубежьъ, самое несомненное, под-
Я лкшенъ возможности — прШти се- ликное и сильное это — подъемъ л обо-
I од«я на Ваше чествоваже и, потому строже нашональнаго чувстаа, чувства
позвольте мяЪ — cm» имени газет:»! нашей русское™, ревности о «родинЪ.
«Россдо и отъ себя лично — привът jгордости ея успехами и побъдами.
ствовать Васъ письменно. | Вотъ почему Ваша побвда такъ ото-
Въ Праг% въ той части города, въ ко- \ звалась въ иашихъ сердцахъ, одинаково
торой я жиль посл"ьдн*е годы, я часто и у людей, приверженных ь къ Вашей
проходнлъ мимо скромной, но изящной благородной игр-в, и у людей, когорымъ
Bbjstooi на чешскомъ языкъ: Шахмат· она недоступна,
ный Клубъ сАлехкнъ>. Вотъ что мнЪ хотълось сказать Вамъ
Могу ce6t представить, какъ въ лично и что я переношу на бумагу, да-
этомъ славянскомъ клубъ, ук;>асившемъ бы эти слова все/акк дошли до Васъ въ
себя Вашимъ именемъ, отозвалась вьсть часы одушевленнаго сходбиша русскихъ
о Ваше» блестящей уировой поб-вхь. (людей, которые сегодня собрались Васъ
Она была ощущена тамъ, какъ славян- · чествовать
осое и русское торжество. Искренно Вамъ преданный
Въ современномъ душевиомъ состоя-' ПЕТРЪ СТРУВЕ.
Это приветствие известного общественного и политического деятеля Петра
Струве было зачитано на встрече с Ачех иным в Русском клубе («Россия», Париж,
18.02.1928). Публикуется впервые.
С нами он или не с нами ?
319
«сообщение радио из Буэнос-Айреса от 4 декабря»: «В интервью,
которое дал представителю "United Press" новый чемпион мира
шахматной игры Алехин, — последний просил самым категорическим
образом опровергнуть слухи, будто бы он имеет намерение
возвратиться в Россию. "Я повторяю, - сказал он, - что ни при каких
условиях я не вернусь в советскую Россию"». (Потом в Париже Алехин
выскажется еще конкретнее: «Во Франции, которую я люблю за
оказанное русским гостеприимство и за то, что она дала мне
возможность оправиться после пережитого лихолетия, я останусь до
тех пор, пока в России будет господствовать коммунистический
режим» - «Наш путь», Тяньцзин, 25.02.1928.)
Поэтому речь в Русском клубе вряд ли стала откровением для
Крыленко. Но, видимо, он до последнего уповал на то, что Алехин
не будет сжигать мосты. Хотя уже за три дня до той речи Алехин в
интервью Льву Любимову расставил точки над «i»: «Большевики - те
другое дело: зная, как я к ним отношусь (выделено мной. — СВ.), они
умышленно подчеркнули, что мою победу не считают "русской
победой". Крыленко, глава шахматистов СССР, заявил, что
приветствует меня только как первого шахматиста» («Возрождение», Париж,
12.02.1928). Подтверждение - в московском «Труде»: «Нельзя не
отметить, что кое-кому успех Алехина будет приятно щекотать и
"национальное чувство": все-таки свой, русский. Такие разговоры будут,
и против них нужно решительно протестовать».
А для русских эмигрантов как раз «национальное чувство» было
чрезвычайно важно — как напоминание о той великой России,
которую они потеряли. Вот строки из приветствия известного
общественного и политического деятеля Петра Струве, зачитанного на встрече
с Алехиным в Русском клубе:
«В современном душевном состоянии русских и во Внутренней
России, и в Зарубежье самое несомненное, подлинное и сильное - это
подъем и обострение национального чувства, чувства нашей русско-
сти, ревности о родине, гордости ее успехами и победами. Вот почему
Ваша победа так отозвалась в наших сердцах, одинаково и у людей,
приверженных к Вашей благородной игре, и у людей, которым она
недоступна» («Россия», Париж, 18.02.1928).
Теперь о самой речи, которая полностью никогда не приводилась
в нашей печати, да и в зарубежной тоже. Крыленко в заявлении «О
новом белогвардейском выступлении Алехина» («Шахматный
листок» № 6, 25.03.1928) ограничился цитатой: «Он указал на
совпадение эпохи развития шахматной игры "с периодом политического
угнетения, когда одни ищут в шахматах забвения от повседневного
произвола и насилия, а другие черпают в них силы для новой борь-
320
Свой среди чужих
бы и закаляют волю". И закончил Алехин свою речь обычным для
белогвардейцев пожеланием скорейшего освобождения "родины" от
"гнета" - тех самых, от которых Алехин с такой легкостью отказался
дважды - один раз, обманув СССР при выдаче ему паспорта, другой
раз, приняв французское гражданство».
Ильин-Женевский в спешно написанном «дополнительном»
предисловии к сборнику Левенфиша и Романовского «Матч Алехин -
Капабланка на первенство мира» (1928) был еще лаконичнее: «На
этом банкете он держал "политическую" речь, в которой сделал ряд
выпадов против Советской России и выразил надежду на скорое ее
"освобождение" от большевистского "гнета"».
Вот и всё, что узнали советские любители шахмат о «новом
белогвардейском выступлении Алехина» (кстати, почему «новом», разве
было какое-то еще?). Не добавили им информации и первые книги
посмертного «реабилитанса»: «Шахматное наследие А.А.Алехина»
(1953) и «300 избранных партий Алехина» (1954) - там вообще ни
слова о речи в Париже и заявлении Крыленко! Только в «Александре
Алехине» (1973) Котов наконец приоткрыл завесу:
«Наутро эмигрантские газеты поместили отчет об этом банкете,
причем выделили будто бы высказанное Алехиным пожелание, чтобы
"миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о
непобедимости Капабланки". (В «Шахматном наследии» издания 1982
года иначе: «Тут же некоторые газеты добавляли, будто Алехин сказал:
"...пусть же исчезнет фантасмагория, царящая на нашей родине "».)
Говорил ли Алехин эти слова? В этом ли был смысл его речи? Готовя
материал для романа "Белые и черные", я перечитал все эмигрантские
газеты тех дней: в каждой из них речь Алехина передана по-своему, а
некоторые вообще не упоминают ни слова о "мифе"».
Странное дело: советская власть с ее тотальной цензурой вроде
бы давно закончилась, а желание «отмазать» Алехина от крамольных
слов никуда не делось. «Во время чествования в Париже Алехин
неосторожно обмолвился о происходящем в Советской России»
(Линдеры «Короли шахматного мира», 2001). «После какой-то фразы,
оброненной на банкете», он был «объявлен врагом» (Шабуров
«Алехин», 2001). Хорошо, хоть уже не повторяют котовскую версию о
ловушке, подстроенной «редакторами газет». Якобы они приписали
Алехину слова, сказанные сотрудником «Возрождения»: «Выпьем за
гибель царящей сейчас в России дикой фантасмагории! Пусть
развеется легенда о непобедимости большевиков, также как рассеялся
миф о непобедимости Капабланки!»
В «Белых и черных» рассказ о визите возмущенного Алехина в
редакцию газеты занимает более четырех страниц. А ведь чтобы узнать,
Снами он или не снами?
321
Μ 16 1163]
еажп.сгЮЯ1 UUPW91I2H
Ut8» «ТГД. К
N1 16 (153)
PrU ttu uomero 3 li,
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
5-a roai cnui"
1D. HIPWDh
РОСС1Я
S-4ra· tan*·
llfAif И. «11ШГГ
Μ III! Μ «ΟΙββϋ »«IU it,
.. Culrtlli-ll
Сенсацюнная парля
П. Н. Милюковъ и П. Б. Струве игреютъ въ шахматы.
Рядояъ съ ники (стоить) — шахматный король А. А. Алехияъ
(Φαΐυ»]ΐηφΙ;ι iu«TU -"-ι ο 4г»ыым Ι3.»ίΙ Μ — пп.цшЛшн-ти iu. «*г|>. Я).
На обложке журнала — кадр из фильма, снятого в киноателье на общем собрании
Союза писателей и журналистов в Париже (25 февраля). «Артистами и
статистами выступили все парижские "знаменитости " эмиграции. На съемке
можно было наблюдать любопытные вещи: П.Н.Милюков мирно играет в шахматы
с П.Б. Струве, и около них арбитр, которому вряд ли можно отказать в
опыте—А.А.Алехин...» («Иллюстрированная Россия*, 14.04.1928).
322
Свои среди чужих
Замечательный турниръ.
Иннд1атква е го срглннгаиЫ ^инсдлежале
Η А. Тэффи
— По моему, — сказала наша талантлива*
писательница,—играть въ шахматы пустяки.
Надо только научиться дълатъ правильные
хоеы... А ужъ противник* самъ тога·
систся...
— Не совсъмъ такт,, Надежна
Александровна. — попраэилъ ее Μ А. Алванов-ч —
Надо научиться не дьлать ошибочных* хо-
довъ и тогда ничья обсзпсчсиа. А, еъдь
ничья — полъ посЧды..
— и пвт. ничьихъ — иЬлая побъда, —
реаонно вгтавнлъ В. Л. Бинштокъ.
— Господа, — не сдавалась Н. А. Тэффи.
— :ie организовать хи намъ небольшой тур-
нирчикъ Хоть бугетъ »*ъкь покяаг.тэты.я· —
игралъ, мол ν с*3 самимъч€нпЮноиъ и!ра...
Лреаложеше было принято.
Открыть состязание пришлось его иннц1а-
тсршь Η. А. Твффи<ом. *от. Ν· 1).
ПослЪ первого же хода Алехина бълыни
Н. А. пошла корслсэой...
Алвхллг оп-Ьшн-пъ.
— Но такъ... простите, ходить нельзя, —
смущенно попробовалъ возразить онъ. — Эго
ие но празияамъ...
Именно въ зтотъ моментъ обнаружилось,
что будучи совершенно права въ своей прел-
посылкъ теоретически — напо научиться
делать правильные ходы, — И. А. Тэффи
упустила ивъ виду, что зтихъ хедовъ двлать
она еше на выучилась, и совсЬмт» не ум1егь
играть въ шахматы.
Второй паргьеръ чемп!она и!ра М. А. Ал-
дановъ по'-тупиль мудро. Онъ уг.тубиг.ся въ
шахматную Доску и сумалъ... Двадцать трн
минуто! надъ первымъ же хоДонъ.
Измученны* арбитръ этой парт!и М. П.
Мяроновъ не выдержал* и задремал к (см.
♦от Ν·8). Алехин* ребкэ кашлянул*.
— Простите, Марк* Александрович*....
сказал* он*,—нотак*в*дъ мы не кончим*...
— Ну л что же, — лукаво досмотр* л*
на неге Μ. Α.. — вЬль если вы у меня не
выиграете — то будеть нн'и.я...
А двта ничьи, —вот* и побъда — опять
вставит» В Л Бннштокъ.
Парт1ю отложили на 2 хоДЪ.
Самымь сильнымь прстнввккемъ оказался
П. Н. Милюков* (ом. ♦ от. №3). Как* ин
старался чемпион-» nipa оттянуть
трагическую развязку, дальне 34 хояа дЬло непошло,
к П. Н. Мклюкон* призвал* себя побьлшен-
ным*.
Ксгва пришел* черед* маэстро О. С. берн-
штейна и кресло арбитра занял* Евг. А.
Знеско-Бороэскгё (см. *от. N· 4) три шах-
натных* настерадолго молча снотръли другь
на лруга, повивимому, глубоко потрясенные
всьмъ происшедшим*.
Спвсла положение та же Н. А. Тзффи.
— Выдумают* тоже,сказала она, как!е
то тамь турниры. — Пусть лучше Алек-
санпр* Александровичг разскажеп нам*
про Аргентину..
Турниръ былъ окончекъ.
В. Хохлов».
ввв^^Г ГГаЯ ^L щШ^Ш
* У* 7 Т> ι
. · * ' Гщ\
L'/
ШГ 1 Jijl, Щ Щ]
ηψ'Τ/ 9^т
j£i·
., *ψ£
Щ .':■£
з --^хфу.
4
л1
1 ".<*
А. А. Ааежшгь и его лротвалплл Фот. 1. Η. Λ. Тэффи. Арбитр* — II. II.
Мяаютеяъ. Фот. 2. М. Л. Ллдавоох. Арбитр* — М. П. Мярспоот,,
Фат. J. П. Н. Мвлюпоп.. Арбитр*-— А. И. К)овонъ. Φ*τ.·4. О. С.
Г*|»мштеВ]гь. Арватр-ь— Ε. Λ. Зяаат.Бо|ти'к1и.
Этот шуточный турнир состоялся 4 февраля в редакции «Иллюстрированной
России» (11.02.1928). С чемпионом мира позировали политик П.Милюков,
писатели А.Куприн, МЛлданов и Н. Тэффи, редактор журнала М.Миронов и
шахматисты О.Бернштейн и Е.Зноско-Боровский.
Снами он или не с нами °
323
говорил он эти слова или нет, автору романа достаточно было
спросить Вадима Изнара, выступавшего на банкете. О чем Котов
прекрасно знал: по его словам, в одном из писем Гвендолина (жена Вадима)
«подробно ответила на пятьдесят моих вопросов о том, как был одет
Алехин на знаменитом банкете в Париже в 1928 году, кто был, какие
детали отличали каждого из участников банкета» («64-ШО» № 12,
1980).
Пора заглянуть в парижские газеты. Не знаю, какие «все» читал
Котов, но если Крыленко на стол положили те, что читал я (а «Дни»
он даже процитировал), его бешенство объяснимо. Котов напирает
на то, что в каждой газете речь Алехина «передана по-своему». Круче
только аргумент из интернета: если бы Алехин «говорил эти слова, их
бы в точности напечатали все русские газеты Парижа»! Неведомый
оппонент, видно, забыл, что диктофонов тогда не было и точность
передачи прямой речи зависела от мастерства репортера: кто-то
запоминал лучше, кто-то хуже, кто-то делал записи, кто-то всецело
полагался на память... К тому же, в отличие от советских газет, «русские
газеты Парижа» ценили свою непохожесть друг на друга.
«Дни» (17.02.1928): «Всем ораторам ответил в продуманной речи
А.А.Алехин. Он указал на совпадение эпохи развития шахматной
игры с периодом политического угнетения, когда одни ищут в шахматах
забвения от повседневного произвола и насилия, а другие черпают в
них силу для новой борьбы и закаляют волю и терпение, которые
дадут им возможность в решительный момент быть на посту. Закончил
Алехин свою речь пожеланием, чтобы все русские дождались
освобождения родины, которое поразит их так же неожиданно радостью,
как его победа над считавшимся непобедимым Капабланкой».
«Последние новости» (17.02.1928): «- Когда общественная мысль
спит, расцветают шахматы...
Но Алехина не удручает этот признак общественной спячки в
России. Если шахматы временно уводят от жизни, то они же учат
законам борьбы — законам жизненной борьбы. Этих законов три: 1) чтобы
победить врага, нужно изучить его слабости и достоинства; 2) чтобы
победить врага, нужно изучить себя, свои собственные качества и
недостатки; 3) подчинить свои личные интересы высшей идее, высшей
цели.
— Моей идеей, вдохновлявшей меня целью было вывести
шахматное искусство из тупика, разрушить легенду о непобедимости Капа-
бланки.
Свой тост он кончает пожеланием, чтобы "так же рухнула легенда о
непобедимости кошмара, окутавшего нашу родину"».
«Возрождение» (17.02.1928): «А.А.Алехин в прочувствованных
словах ответил на обращенные к нему приветствия. Он получает
значительное число из России писем с выражением радости по поводу
одержанной им победы. Шахматное искусство продвинулось вперед в
324
Свои среди чужих
России за последние годы. Но если большевики захотят записать это
достижение в области Шахматов себе в актив, то они припишут себе
им не принадлежащее. Как во многом, в России жизнь продвигается
вперед, но не по милости большевиков, а помимо их и вопреки им.
"Жизнь ташит их за собой". Но и здесь необходимо сделать оговорку.
Причины оживления шахматной жизни совсем не показатель еще
подъема духовной культуры в советской России. Скорее, наоборот.
Процветание шахматной игры, как показывает история, сопутствует
временам тяжкой реакции и угнетения личности. Образованные
классы пытаются уйти в углубление шахматного искусства, направляют
внимание на него, потому что оно удалено от забот и тревог текущего
дня. Так это было всюду, и в Германии, и во Франции. Шахматы учат
терпению... Но они учат и другому: законам борьбы. Законы же эти
можно свести к трем положениям: во-первых - надо изучить
противника, узнать его силы и слабости. Второе - надо изучить самого себя,
узнать свои собственные силы и слабости. И в-третьих, необходимо
научиться подчинять свое личное и второстепенное главной цели -
заданию победы.
В заключение А.А.Алехин сказал:
- Пью за гибель царящей в России бесстыдной и дикой
фантасмагории!.. Пусть легенда о непобедимости врага России рассеется так
же, как рассеялся миф о непобедимости Капабланки!»
♦Россия» (18.02.1928): «За время и после матча за мировое
первенство я получил много, очень много писем из России. В них были
пожелания, обращенные ко мне, и выражения радости по поводу моей
победы. Я задумывался над этим фактом, и для меня несомненно, что
в советской России шахматы идут вперед. Ряд писем, которые я
получил из разных, часто медвежьих, углов России, из самой глубины ее,
свидетельствуют об этом.
Почему же это так? Чем можно объяснить этот факт такого
интереса к шахматам? Конечно, теперешние советские руководители
шахматной игры в центре и большевики - будут говорить, что это их
заслуга, результат их шахматной пропаганды. Но это не совсем так, или,
вернее сказать, совсем не так.
Дело в том, что и в этом случае успех совершается помимо
большевиков, жизнь идет помимо них и заставляет их признать ее права.
В самом деле, шахматы - довольно точная мера того состояния, в
котором находится общественность в каждой данной стране,
показатель напряженности внешней деятельности общественности. Чем
меньше она задавлена и чем больше предоставлено ей свободы, тем
легче шахматы отходят на второй план. Это подтверждается историей
шахмат. Во Франции блестящие шахматные игроки явились в эпоху
реставрации и июльской монархии. Морфи одерживал свои победы
в эпоху злейшей реакции Второй Империи. То же было и в Германии:
расцвет шахмат относится здесь ко второй четверти XIX века, к эпохе
наибольшей общественной приниженности.
Теперь то же самое перед нами в России. Интерес к шахматам здесь
есть результат того, что общественные силы не находят себе никако-
С нами он или не с нами ?
325
ШШ-
РЪчь А. А. Алехина
НА МеСТВОВАНЖ У РУЬСКИХЪ ПАРИЖСКИЛЪ ШАХМАТИСТОВ*!*;
шахяаты таит» яв
На ι мся на этизгь яИях-ъ мс-|
стооЯа; г>мъ | пдгвтъ uxatAtft. omodhtirt здЬсь Ml "'
русскомь Шахматном* К ыл-Ипеть» л и XIX
■·--- *d-x>uw*,v и горя1 ituernveiWttl fi
III *хмй1Ясты, пи<а · Ι €ΤΛβΟΙ. fo
^^^K~ оби · гм9НР1>есЪ *"' η,ΛΧΜββ·** вдвгь ест*
. uijafcUi-vf 1*то бмяо | **6 a)f«oro ι
щшшщпНтш ι 999 *"μ>β# -благодаряастъ I Ti^Hli J^Lh себя, чго ουιηο6Τ·6ΐι:
•\ V Алехину за ту ффбскую *ЬЦ9И» Ш Лр
. ►·> ГЖ> Ям, 'ПО МЫ Ь
В* Η Р*д*1 бамтпа Mfj|(Mtf^t^ Bt> A*«U Ί«ι*/. а*** (ЧЛй »Ufcf
•редачеЯ
яз. ckJsa»a-ar*o caMi
: аъ за ключ см «с эр
гВ>1Йа4?Ы. ϋτ-i рЧЧь iro била о РоссЫ. ]
.-трснл'й ея смысла в«ал> нас* ягь
борьба за PoccIk». Йот-ь изложена 5т*: fi !
Р*чи; япзгтйншлияаеибЯ no «itvitHI «a» j
шии и памяти
«По Я'и>чя H UOtMi μ:ιτ4λ >
;»i.*4*'"trm м ttoJIt'itUfb ■»■
**π'τίπ Bl "К*
л:)тпя, оОраплонтля ко нпт·, н т·
рапости по источу «oefl поб*лты. Я
ивллел яадт. вт»ть фаятоя-ь, tt д\М
яссйкя-Ья&о, что жъ совЬ-тскоГ:
Ы Шаяяяты it ^л«. Ι'ηχ;
,>иа я получил**. ям-j-
«РДИчЖЬЙ1
«>iB rJjttflfTbf ГЛ. *«ΊΡΗ,\!
aTOttV
tIIov«7 *» Иб твкъ? 4i*r* яоавва
оГУкяюскть втоП фаять таят\> Rtrrep*ca
tn. шажялталггУ Коввчно, tajtapetsnio €o
Rtacttift рушаодп-в!* шаяитю! вгры я ι»
ΐίΐ-πτρΚ Η бояыкевмяЯ -— будут» ПХво-
рйть, что вто Вгь аЖяуГА, «<еуаьт«гь яхс
твХмВтпо· П1ЮНАЛИЧШ. Нб вто яс вон
гьят. тая-ц мам, ftUpMie «*яя*тц 4бвсвяь
не tain».
аД-вДо яъ тов-ц что а* ИВ Bt*ato (U-fBo.*
ycttKrb гоябрш»«чся повесят болиивял-
с»яг. ЖЖШЬ ЯДЯП. ПОЯЯЯо ЯЯТЬ И B^Cta*·-
4ЯРП. ЯГЬ ПрЯЯЙЙТк Μ ItptULft. ί>:·
(яяшг> *in, юмдмшггй «— демкыьп
ная niipa it>m cam голпШ* я> айгтр^яъ яа-
anAttfjt ббндогдетт иг яаямс* дяр-
п * ♦*Р4·^ ИФяАваФМЪ ШГрШК11И».1М1
41»*ь «тяыи« «яа D^MiMftui
fo.ii.afo лредоггакюоо ся
МП* WIMMfttlJ ОТХОД;
Жт) 1Ю*«ИвяДА1^^я ·
Фратив блоотя1Шв nfArscarm^e игреки
яяяляъ яг йг»ху ростаярядбк я 1У'ЛЬгкой
Meoasviau Uopbm ацир—яятг^ оаящ въЛ*
ды я> виохт ajiftraett рвакц!к Этро§ Ця-
■
нм>
гтняп." Bin. fn. о'. "пЛ№
fBjantKo'u я:нта ян : лают· tsd-
доот4Клц1Л иνι. тля .п. я^-менвут ш:
яу. i/o 6ο.ιλ# сыЛъкыхъ шахматы учатъ
ныопомъ борьбы.
«Κ:ι ПЦ? Я ХПОГО ЛУ^«-»>
объ отх»я*ц похг<лоя.тяясь къ м
я прншелъ къ вывод}*, что такнхъ
повъ тря.
<IV> псрлмгц яу«ят> явунятл. ι
fMB) внап
вяа wiutwui «jH>Mv%
ио61ду -раыси ял учггг сЯябИжъ стороя4
шо BtiuTb я его сни.ния
14. ПуЯСви СТрОИТЬ О.фЬбу Π 1! I
лояситрл7»но*ГЪ J Н-ужло сил** Г.;
«Bo-iBTopbtt-K йуяхяг Tiua-miblt" и
и еялого себя во як 1гь сзокгь возмож
плчестяагь я яосг>яггваЯадм·
статкахъ.
<И тр**тШ прмнпшл. йто —
ч-^лгпьяон «я» чм1у-то> болью
I Ир«Ч!ЛВДТ»1, ВЛКЪ irli.tb, ШКЧИ·'
>гоиг:Т1Г1есжйХъ пптвресшг
тахчатлоЯ борьба вто ввачяяо а— оорсг
••гь, но эа у
итоп. гп;о:чап. ;ri>oTifwb отряцаагЬ'
иаблаякой. Вто аяачнло — paspv
14-вду о «Mtrtnma-fc-челок**τΝ», ©г»
далль Калкдблапяа ш» сакямгь и·
гиахигугвагъ, отрадагчдом'ь uiaxv
'ГЯВВ1
«И вот-». теяея4. мой гость аа то, чтоу
бы ТВ дикая безсты^вя фа!ПВ)смагор(н\
готеюв Окугтвла я?»
Ли taaetce вгл*л*а>п явагь яь ameft r
б-а мсчезь Яризрам-ъ MentJ6-haB*iocTM Ka
Л. Λ
C-xwy/o полную запись речи Алехина в Русском клубе сделал Лоллий Львов,
известный журналист и поэт («Россия», 18.02.1928). Публикуется впервые.
326
Свои среди чужих
го иного применения для себя, что общественность здесь задавлена и
принижена. Но это лишь одна сторона того, что мы наблюдаем сейчас
в России. Так как если внешне (здесь и далее выделения в тексте
принадлежат редакции. — СВ.) шахматы там являются отрицательным
показателем, то внутренне шахматы сейчас являются и положительным
элементом. Шахматы имеют свою положительную миссию в России.
Шахматы учат тех, кто в этом нуждается, настоящему терпению. В
обстановке большевицкой жизни многим они дают недостающий им покой,
временную н ирвану. Но более сильных шахматы учат законам борьбы.
Какие же это законы? Я много думал об этом, подготовляясь к
чемпионату, и пришел к выводу, что таких законов три.
Во-первых, нужно изучить своего врага в его слабостях. Нужно
знать слабости противника, но нельзя строить свою победу только на
учете слабых сторон противника. Η ужно знать и его сильные стороны.
Нужно строить борьбу и на положительном; нужно силе
противопоставлять силу
Во-вторых, нужно тщательно изучить и самого себя во всех своих
возможных качествах и несомненных недостатках.
И третий принцип — это подчинить свое маленькое "я" чему-то
большему, что я преследую, как цель, помимо своих эгоистических
интересов. В моей шахматной борьбе это значило — бороться не за
свой личный успех, но за успех шахмат против отрицания их Капа-
бланкой. Это значило - разрушить легенду о "машине-человеке",
которую создал Капабланка в своем подходе к шахматам, отрицающем
шахматы как искусство.
И вот теперь мой тост за то, чтобы та дикая бесстыдная
фантасмагория, которая окутала нашу родину, исчезла бы так же бесследно, как в
моей борьбе исчез призрак непобедимости Капабланки».
Вот вам и «неосторожно обмолвился», вот вам и «обронил фразу»!
Кстати: а откуда Котов взял слово «миф», которого нет ни у
Крыленко, ни в самих газетах? Вместо него - «легенда», «фантасмагория»,
«кошмар», «призрак», что, правда, не влияет на смысл сказанного. И
даже понятно, почему Алехин, обычно избегавший разговоров о
политике, вдруг «разговорился». Узнав в конце матча с Капабланкой о
получении французского гражданства, он наконец-то разорвал
пуповину, связывавшую его с большевиками. Недаром сразу же объявил:
«Ни при каких условиях я не вернусь в советскую Россию»! Ну а в
Париже, в окружении счастливых соотечественников, да еще и
хорошенько выпив, Алехин высказал то, что давно было у него на душе.
Пожалел ли он о сказанном, когда прочитал заявление Крыленко, а
потом и письмо брата с отречением от него? Может, и пожалел. Но
это не отменяет главного: в той речи он выразил свое истинное, а не
конъюнктурное, как впоследствии, отношение к большевикам!
И напрасно Ильин-Женевский в своей книге о матче рисует образ
Алехина, который хоть и «не был коммунистом целиком, до мозга
Снами он или не с нами?
327
костей», но «всё более и более советизировался», а в предисловии к
сборнику Левенфиша и Романовского называет его «коммунистом».
Перед вступлением в масонскую ложу «Астрея» (1928) Алехин
беседовал с одним из ее офицеров Николаем Тесленко. В отчете тот
написал: «Ко времени революции политические убеждения
отличались неясностью для него самого и не были оформлены. Когда
большевики захватили власть, он думал, что начнется что-то новое,
хотя определенного представления не имел. До 1921 года служил у
большевиков, занимая должность переводчика. Убедился в
глубокой разнице между коммунистическими теориями и приложением
их в жизни. Решил покинуть Россию. С тех пор профан (так масоны
называли непосвященных) сделался решительным противником
коммунизма».
Александр Федорович сетует, что в Алехине «шахматист задавил
человека и гражданина», хотя сам же вынес точный диагноз: «Для
осуществления заветной мечты
он готов был пойти на всё». Эта
фраза показывает, что Ильин-
Женевский хорошо понял
(скорее всего, уже после отъезда
Алехина) пластичную, актерскую
натуру нашего гения, умевшего
приспособиться к чему угодно:
к большевизму, к
национал-социализму, да хоть к черту лысому,
только б стать чемпионом мира!
Недаром в упоминаемом ниже
«восторженном письме» из
Екатеринбурга Алехин не упускает
случая спросить, «нельзя ли как-
нибудь организовать его
гастроли в Прибалтике»... Но
оцените, как талантливо сыграна роль
«коммуниста».
Ильин-Женевский: «Весь военный
период Алехин служил в Союзе
городов. На этой же работе застала его
революция 1917 года. С
расформированием Союза городов он, как юрист,
поступил следователем в
Московский уголовный розыск. (Об Одессе
ни слова! Автор явно хотел показать,
что Алехин всегда был «наш», а ему са-
В своей книге о матче Александр
Ильин-Женевский рисует образ Алехина,
который «не был коммунистом
целиком, до мозга костей», но «всё более и
более советизировался».
328
Свой среди чужих
мому подать знак: о расписке забыто, можешь возвращаться.) Здесь
Алехин проявил большие успехи. Ему удалось раскрыть несколько
очень запутанных преступлений. Умение распутывать сложные
положения в шахматах помогло ему в его ответственной служебной
работе.
С течением времени Алехин, несмотря на свое дворянское
происхождение, всё более и более советизировался. В конце 1919 года или
в начале 1920 года (точнее, в августе 1920-го) он подал заявление о
своем желании вступить в ряды коммунистической партии.
Насколько искренен был в этом отношении Алехин? Позднейшее поведение
Алехина, о котором речь еще будет впереди, дало основание
некоторым предполагать, что вступление Алехина в коммунистическую
партию было лицемерным. Я не придерживаюсь этой точки зрения. В то
время я довольно близко знал Алехина, он часто просиживал у меня
целые вечера, вместе с ним мы подготовляли созыв I Всероссийской
шахматной олимпиады, и могу сказать, что на меня он производил в
то время впечатление человека безусловно искреннего.
Другое дело, что коммунизм Алехина был несколько наносного
характера и недостаточно глубоко захватил его. Это правильно! И по
своему социальному происхождению (сын помещика), и по своему
воспитанию и образованию (бывший правовед) Алехин был
слишком далек от рабочего класса и его титанической борьбы. Логика
Алехина и практика жизни убеждали его, что путь, избранный
русским рабочим классом, правилен, но в то же время он не был
коммунистом целиком, до мозга костей. И это сказалось в самом
ближайшем времени.
В 1920 году Алехин оставил свою службу в Московском уголовном
розыске и перешел на работу в Коммунистический Интернационал.
Великолепно владея иностранными языками, он исполнял в
Коминтерне обязанности переводчика и в то же время, как коммунист, был
назначен секретарем культурно-просветительного отдела. Работа в
Коминтерне захватила и увлекла его. У меня и сейчас имеется
восторженное письмо Алехина из Екатеринбурга (ныне Свердловска),
куда он выезжал вместе с делегацией Коминтерна. В этом письме он
рассказывает, какое большое агитационное значение имеет эта
поездка и что, например, лично ему пришлось в один день перевести 22 (!)
доклада.
Но в этом же письме проглядывает и другая сторона личности
Алехина. Как бы ни увлекался Алехин политической и общественной
работой, все же он ни на минуту не забывал, что он прежде всего
шахматист. И в этом письме он запрашивает меня, нельзя ли как-нибудь
организовать его гастроли в Прибалтике и, в частности, не
представлял ли бы интереса его матч с Нимцовичем. Мечта о том, чтобы как-
нибудь уехать за границу и там показать свою подлинную
выдающуюся шахматную силу, постоянно преследовала его. Для осуществления
этой заветной мечты он готов был пойти на всё. И вот здесь-то
сказалась непрочность его политических взглядов. Шахматист в нем
задавил человека и гражданина. В начале 1921 года Алехин женился на
С нами он или не с нами ?
329
одной иностранной коммунистке (точнее, социал-демократке),
делегатке Коминтерна, и вместе с ней, в качестве ее мужа, выехал за
границу. Здесь шахматы окончательно захлестнули его» (из книги «Матч
Алехин - Капабланка», 1927).
Помните, я предположил, что «Крыленко уже заверил Сталина,
что новый чемпион мира "наш" и близок к возвращению на
родину»? Таки да! В статье Владимира Нейштадта (сайт Chesspro, 2017)
есть свидетельство ответственного редактора «Известий» Ивана
Тройского, подтверждающее интерес Сталина к этому вопросу. По
словам ветеранов газеты, с которыми общался Володя, «однажды за
чаепитием в стенах редакции Иван Михайлович поделился: в 1928-м
он по заданию Сталина был командирован в Париж, чтоб встретиться
с Алехиным и уговорить его вернуться на Родину!»
В своей книге «Из прошлого» (Москва, 1991) Тройский об этом
умолчал, поведав только о «случайной» встрече с Горьким, хотя жена
утверждает, что Тройский ездил к
нему с таким же заданием: «В 1928
году Иван поехал в Германию по
рабочим делам. Поездка
включала посещение Выставки
достижений печати, а также встречу и
переговоры в Кёльне с Алексеем
Максимовичем Горьким,
которого очень хотели вернуть на
родину» (Л.А.Гронская «Наброски
по памяти: воспоминания»,
Москва, 2004). В отличие от миссии
с Алехиным, эта удалась: сразу
после их встречи Горький -
впервые после эмиграции в 1921
году - прибыл в Москву! Сам
Тройский ни словом не
обмолвился о задании, хотя его намек
более чем прозрачен: «Горький
на другой день был в Берлине и
оттуда выехал на Родину».
В случае с Горьким
«литературный комиссар Сталина», как
называли Тройского, получил
указание наверняка от вождя.
Что касается «непрофильной»
встречи, то дать задание Сталин,
Руководитель советских шахмат
Николай Крыленко, видимо, до последнего
верил, что Алехин «наш» и близок к
возвращению на родину...
330
Свой среди чужих
■\%Я\.1\ I. I U1IV11H 1Ч\Л»111 IllWim
— Правильны ли появляю-
пиеся отъ времени до
времени в совпечати слухи, что я со
раюсь обратно? — судите
сами: на парижскомъ банкетв в
мою честь я вы сказал мысль,
что расцвЪтъ шахматъ, уча-
щихъ терпЪшю, вырабатываю-
щихъ мЪры борьбы, идетъ
параллельно съ удушешемъ
общественности, съ общимъ ма-
размюмъ и раэложеи1емъ. Как
пример, я указалъ на Герма-
шю до Бисмарка, на Францию
третьей кмперш и, на сов. Рос-
сно, гд-в сейчас искусство шах
мать стоитъ очень высоко·. За
это мюе откровенное мнвже
Крыленко не только гсроклялъ
меня, но и выругалъ въ
печати тагкими словами, которыя
μή*β и повторить неудобно...
—Такъ вотъ, судите сами, мо-
жетъ ли быть вопроса» -о мо-
емъ
возвращенж—заканчивает^, смеясь, Алехинъ бееЪду.
конечно, мог, но лично
приглашать Алехина не стал бы (уровень
не тот). Так что курировать
спецоперацию по его возвращению
поручили, скорее всего,
Крыленко. А он ее провалил! Да вдобавок
еще своим топорным заявлением
надолго оттолкнул Алехина.
«Правильны ли
появляющиеся от времени до времени в сов-
печати слухи, что вы собираетесь
обратно?» - спросят Алехина
через год. Он ответит: «На
парижском банкете в мою честь
я высказал мысль, что расцвет
шахмат, учащих терпению,
вырабатывающих меры борьбы, идет
параллельно с удушением
общественности, с общим маразмом и
разложением. Как пример я
указал на Германию до Бисмарка,
на Францию третьей (точнее,
второй) империи и на сов.
Россию, где сейчас искусство
шахмат стоит очень высоко. За это
мое откровенное мнение
Крыленко не только проклял меня,
но и выругал в печати такими словами, которые мне и повторить
неудобно... Так вот, судите сами, может ли быть вопрос о моем
возвращении, — заканчивает, смеясь, Алехин беседу» («Руль», Берлин,
15.01.1929).
Окончание интервью с Алехиным в
берлинской газете «Руль» (15.01.1929).
Вряд ли эти сюва сильно обрадовали
Крыленко... Публикуется впервые.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Яне вижу среди шахматных игроков всего мира человека,
который мог бы меня победить.
А.Алехин
НАХОДКА В ОСОБОМ АРХИВЕ
Четверть века назад, когда я вел отдел «Архив» в выходившем на двух
языках журнале «The Chess Herald- Шахматный вестник», Юрий
Шабуров принес в редакцию статью под названием «Тайна ложи "Аст-
рея"» (№ 1, 1995). О масонстве Алехина, я, конечно, знал, но до Ша-
бурова никто никаких документов предъявить не мог. Да, это были не
сами документы, а копия, точнее - машинопись, но все равно было
чувство, словно прикасаешься к реликвии!
Шабуров отыскал эти бумаги в Центре хранения историко-доку-
ментальных коллекций (ЦХИДК), который прежде назывался
Особым архивом СССР и считался сверхсекретным. Еще бы! Ведь пугь,
по которому документы «Астреи» попали к нам, известен: немцы
после захвата Парижа вывезли архивы русских масонских лож в
Германию, а уже оттуда их потом доставили в Москву. О размахе
«гуманитарной» акции говорит фраза из записки директора
Литературного музея В.Бонч-Бруевича Сталину: «Главным образом, из Германии
должно быть изъято всё русское, всё славянское, всё без остатка».
К тому моменту, когда я работал с документами (2012), фонды
ЦХИДКа были включены уже в Российский государственный
военный архив (РГВА), но находились в том же здании на Выборгской
улице, где хранятся иностранные архивы, привезенные в СССР
после Второй мировой войны.
Я был редактором многих «алехинских» статей Шабурова и могу
сказать, что среди них ни одной проходной и почти в каждой какая-
нибудь сенсационная находка. Поражали архивы, в которых он
добывал свою уникальную руду. И как только его, обычного историка-
любителя, туда пускают? Однажды Юрий Николаевич признался,
что у него знакомства в «органах», благодаря чему он и попадает туда,
куда другим путь заказан. Единственным минусом его статей было
отсутствие иллюстраций - в 90-е с копированием было сложно, а в
тех архивах, откуда Шабуров черпал свои сенсации, вообще
разрешалось только переписывать от руки.
332
Чужой среди своих
Перед походом в РГВА я запасся направлением с работы,
благодаря чему получил годовой пропуск. Иду в филиал на Выборгскую,
заказываю дело. И вот папка с надписью «Масонская
белоэмигрантская ложа "Астрея". Париж» у меня в руках. Сколько же тут всего!
На просмотр содержимого ушел целый день. Я искал всё, связанное
с Алехиным и Осипом Бернштейном, вместе с которым он вступил в
ложу. Еще день ушел на сверку текстов документов из статьи с
оригиналами. Как я и предполагал, ошибок оказалось мало (Шабуров был
скрупулезен), но были пропуски, да и документы цитировались
выборочно. Переснимать всё не имело смысла, тем более что
удовольствие это не из дешевых. Ограничился «самым необходимым», новее
равно набралось немало...
Запрос на инициацию - обряд посвящения в масоны — Алехин
заполнил 21 мая 1928 года (Бернштейн — erne 6-го, но дальнейшие даты
у них совпадают). Точнее, не весь запрос, а три пустовавших пункта:
профессия - шахматный писатель; холост или женат - женат; есть
ли дети — да, сын 6 лет. Рекомендации: Вяземского, Тесленко и Гвоз-
дановича, хотя Константин Гвозданович, двоюродный брат Алехина
(сын Екатерины Беклемишевой от первого брака), «вышел в
отставку» изложи еще в декабре 1927-го.
Папка с личным делом Алехина из архива масонской ложи «Астрея», хранящегося
в РГВА. «Астрея» была самой большой русской ложей во Франции: в ней состояли
344 масона. Эти и следующие документы ложи публикуются впервые.
Находка в Особом архиве
333
На обратной стороне запроса - пошаговый путь вступления
Алехина в масоны: 1-й тур - 12 мая; заслушивание профана, чтение
докладов о собеседованиях с ним и 2-й тур - 22 мая; 3-й тур и
инициация - 24 мая (а не 22-го, как утверждает Шабуров). Та же дата
инициации указана в запросе Бернштейна, а также в его личной
карточке, присланной мне из Парижа вместе с карточкой Алехина (см.
следующую главу).
Из двух докладов о собеседованиях, прошедших 20 мая, Шабуров
привел только один, Николая Тесленко, да еще пропустив - явно
умышленно, ибо по своим взглядам был очень советский человек, -
важную фразу: «С тех пор профан сделался решительным
противником коммунизма» (не наведайся я в архив, никто бы об этой фразе и
не узнал). А напомнить, что ей предшествует? «До 1921 года служил у
большевиков, занимая должность переводчика. Убедился в глубокой
разнице между коммунистическими теориями и приложением их в
жизни. Решил покинуть Россию». То есть Алехин стал
антикоммунистом еще в России!
Не привел Шабуров и фразу: «Получив среднее образование,
поступил на юридический факультет Московского университета, но
вскоре перешел в Училище правоведения...» А она объясняет,
каким образом ему удалось найти личное дело студента университета
Алехина с его парадной фотографией (в пенсне со шнурком) и
свидетельством об окончании гимназии, из которого стало известно об
отметках, полученных на выпускных экзаменах.
Если доклад Тесленко озаглавлен: «О профане Александре
Александровиче Алехине (по вопросам политическим)», то в докладе
Георгия Левинсона упор сделан на биографические сведения (жаль,
не провели третий опрос - о религиозно-философских взглядах, как
обычно делалось). Адресован он главе ложи Владимиру Вяземскому,
которому Шабуров ошибочно приписал доклад Левинсона, а в
книге «Алехин» вовсе не упомянул об этом докладе. Хотя в нем столько
важных деталей, что грех не привести его целиком (точки в виде
треугольника - это принятое у масонов сокращение: проф.·. - профан,
общ.·, в.·. к.·. — общество вольных каменщиков, бр.\ — брат):
По вашему поручению я беседовал с проф.·. Александром
Александровичем Алехиным. Проф.*. родился в гор. Москве 19-го октября
1892. Кончил там же частную гимназию Поливанова (1902-1910),
затем Императорское Училище Правоведения (1911-1914). Война
застала проф.*. в Германии, но после последовательного обследования
врачами он был выпущен в Швейцарию, откуда и приехал в Москву.
Представившись для вступления в армию, вследствие нервоза (точнее,
невроза) сердца был освобожден от военной службы и с 1916 г. в качестве
члена Комитета Вел. Кн. Елизаветы Федоровны по оказанию помощи
334
Чужой среди своих
DEMANDE D'INITIATION
Prenoms
Lieu et Date de Naissance
Domicile aciuel
Domiciles antfrieurs et successifs
(1№-кшЫ_
Eles-uous Celibatatre ou Maria Ρ 1ЩШ~
Aoez-ooui des Enfants ?_C***^JL ^1__Z- -U~
Avez.oous dija demande a entrer dans la Franc-Magonncrie ? UCtL·^.
Je demande ά faire par tie de la Ρταπ€-Μαςοητ\€ΐΐ€ et a entrer dans la Loge
j'ai pris connaissance des principes de ι'institution, auxquels je declare donner топ
adhesion ; je m'engage, en outre, ά supporter les char get pecuni aires.
APPUY* PA* LE 80U88IQNC
21 (Льем l9li
Заявление на инициацию (прием в ложу) Алехин заполнил 21 мая 1928года.
Находка в Особом архиве
335
раненым и увечным воинам, отправился, состоя начальником летучки
одного из отрядов Земского Союза, на фронт, где был ранен.
В 1919 году был мобилизован в Москве большевиками в качестве
юриста и работал около 6 мес. как следователь Московского
уголовного розыска. После этой должности проф.·. состоял переводчиком
при Народн. Комм. Промышленности и был откомандирован в 1920 г.
в качестве переводчика на 2-й Конгресс Коминтерна, каковую
должность принял исключительно в целях выезда за границу, что и было им
осуществлено в июне (точнее, мае) 1921 г. С этого периода проф/.
посвятил себя исключительно шахматному искусству в качестве
профессии. Однако в 1925 году, получив equivalence de licence на основании
правоведческого диплома, сдал экзамен на Dr en sciences politiques et
economiques, а в 1927 г. принял французское гражданство.
Желание вступления в наше общ/, в.·. к.', проф.*. главным образом
объясняет исканием духовных интересов, его искренность для меня
не составляет сомнений и, считая его приобщение к ордену в.·. кам.·..
полезным и добрым приобретением, я буду голосовать за его прием.
Искренне бр.-. Ваш
Г.Левинсон (подпись)
Париж 20 мая 1928
Про «болезнь сердца» было известно, но какая именно? Оказалось,
невроз. Это серьезное заболевание. Первый приступ могла вызвать
любая стрессовая ситуация, а развитию болезни способствуют
нездоровый образ жизни, сильные переживания и чрезмерная
концентрация в течение длительного времени на одном деле - как раз то, что
свойственно шахматисту!
Про мобилизацию большевиками «в качестве юриста» он прежде
никогда не говорил. Я, грешным делом, считал, что Алехин сам
предложил свои услуги...
Что такое «Народн. Комм. Промышленности»? Это Народный
комиссариат торговли и промышленности, который - внимание! - с 8
июня 1920 года был преобразован в Народный комиссариат внешней
торговли, почему и понадобились переводчики. Вот и объяснение, как
Алехин попал в Коминтерн. Должность переводчика в наркомате, я
думаю, он тоже «принял исключительно в целях выезда за границу».
С «equivalence de licence» всё понятно: это разрешение на сдачу
экзамена, основанное на признании (эквивалентности) его диплома
правоведа. Но почему Алехин «сдал экзамен на доктора
политических и экономических наук» (Dr en sciences politiques et economiques)?
Ведь он был доктором права, да и в разрешении на инициацию его
профессией указано: Champion du monde d'echecs, dr en droit -
чемпион мира по шахматам, доктор права.
С этим докторством и особенно с диссертацией вообще путаница.
Григорьеву в 1925 году Алехин пишет, что «всецело поглощен подго-
336
Чужой среди своих
товкой к экзаменам на доктора прав». О том же в письме Левенфишу:
«готовлю к декабрю докторские экзамены». Подробнее — в интервью
«Новой заре» (Сан-Франциско, 14.05.1929): «По приезде во
Францию из Германии я прошел "постградюэт" курс в Сорбонне и затем
держал экзамен на доктора прав». Постградюэйт - это по-английски
аспирантский (postgraduate). Как долго он там учился? К сожалению,
даты писем Григорьеву и Левенфишу неизвестны. Но в обращении к
министру юстиции от 3.11.1924 с просьбой о натурализации Алехин
касательно юридической степени (Licencie en droit) указал: «В
настоящее время продолжаю обучение в докторантуре». А это значит, что
он учился не менее года!
Впервые диссертация упомянута в варшавской газете «За свободу!»
(2.12.1928), в статье о визите Алехина в город: «В 1926 году он
защитил в Париже докторскую диссертацию». А ее тема всплыла только в
берлинском «Новом слове» (Берлин, 23.05.1943), где во время войны
чемпион мира вел шахматный отдел: «Во Франции, в Сорбонне, он
защитил диссертацию по конституции русского права, получив
звание доктора прав». Видимо, имеется в виду русское конституционное
право. Источник заслуживает доверия: Павел Спенглер написал
статью об Алехине после «двухчасовой беседы» с ним на турнире в
Праге, и именно он привлек его к сотрудничеству с « Новым словом» (см.
главу «Сюрприз от Алехина»). Да и одна из курсовых работ Алехина
в Училище правоведения посвящена русскому действующему праву.
Откуда же алехиноведы взяли тему «Система тюремного
заключения в Китае»? Из книги Мюллера и Π авельчака «Schachgenie Aljechin»:
«Основываясь на своем совершенном знании французского, он
решил изучать право в Сорбонне, где он также защитил докторскую
диссертацию (тема диссертации: тюремная система в Китае)».
Видимо, правильно именно так (по-немецки: das Gefangniswesen in
China), а не «Система тюремного заключения в Китае».
Вопрос с темой остается открытым. Как и с самой
диссертацией. Ее поиски в Сорбонне, насколько я знаю, ничего не дали, а в
британской энциклопедии «The Oxford Companion to Chess» (1984)
написано, что он вообще не закончил обучение и не защитил
диссертацию...
Считается, что Алехин стал доктором, чтобы украсить
престижным «Dr.» свою фамилию. Но так ли это? В письме Левенфишу (1925)
он прямо пишет, что вынужден «расширять поле деятельности»:
«Материально жизнь моя обставлена неплохо, но пока и не так хорошо,
как хотелось бы, так как одними шахматами сколько-нибудь
обеспечивающий капитал даже при успехе скопить нелегко».
Интервью Алехина вроде бы подтверждают это. «В настоящее
время я работаю как в области теории, так и в области практики юрис-
Находка в Особом архиве
337
1^шр/^
i ** f
u^, A~.„ Л
/-'«w.;
&~γ*^± n-USU**** τ/*'4^*-
ишЛ UfiAA/ Α>Α»γ{+.
i\b*it+*u* /*ti* ■■■ V'J*
«чуй.
42,
--J,***
■
^*<W* ftofb***
■
Из двух докладов о собеседованиях с Алехиным, прошедших 20мая, Шабуров
привел только один, Николая Тесленко, да еще пропустив фразу: «С тех пор профан
сделался решительным противником коммунизма». В докладе Георгия Левинсона
(справа внизу) написано, что «профан» принял должность переводника
Коминтерна «исключительно в целях выезда за границу»!
338
Чужой среди своих
пруденции» («Новая заря», 14.05.1929). «Юриспруденцией, правда,-
признаётся Алехин, - я занимаюсь очень мало. Пишу отчеты о
больших судебных процессах в американские газеты» («Новая заря»,
5.09.1935). «За рубежом Алехин печатал специальные статьи по
криминологии, в связи с крупными парижскими судебными
процессами» («Новое слово», 23.05.1943). В берлинской «Заре» (19.03.1944)
даже указана страна: в Аргентине. Почему же тогда «вроде бы»?
Потому что следов этих статей до сих пор не найдено.
В архиве «Астреи» нет ни одного доклада Алехина, хотя даты двух
известны: 27.02.1930 и 9.03.1935. Темой второго были его «масонские
впечатления», и очень жаль, что доклад не сохранился. Из него мы
могли бы узнать, что чувствовал Алехин после семи лет пребывания
в ложе, оправдались ли надежды, возлагаемые им на масонство. Ведь
если для Бернштейна, как и для большинства русских эмигрантов,
масонская ложа была клубом для общения (из шахматистов масона-
Что объединяет эти фотографии (1930 и 1932)? Необычное положение ног,
похожее на третью балетную позицию, с которой начиналось изучение азов
классического танца. Слева — фрагмент снимка из архива А.Котова; публикуется
впервые.
Парижские тайны Алехина
339
ми были еще Зноско-Боровский и поэт Потемкин), то Алехина туда
привели «духовное одиночество» (Тесленко) и «искание духовных
интересов» (Левинсон).
Но у меня есть сюрприз! Вы сможете сейчас увидеть первые шаги
Алехина в «Астрее», узнать о том, каким он себе представлял
масонство... Точнее, мог представлять. «Масонские впечатления» Льва
Любимова написаны через полгода после инициации, когда еще
свежи были в памяти мысли и не притупились чувства, с
которыми он вступал вложу. Приводимое начало доклада - это настоящий
гимн свободе!
Когда я предстал перед вами с повязкой на глазах и меня привели
к испытаниям, я старался понять смысл того, что произносилось
невидимыми мною людьми, всего, что происходило вокруг меня. Где я
и что со мной - я не отдавал себя ясного отчета. Я прислушивался.
Не постигая внутреннего содержания открывавшегося мне ритуала, я
бессознательно проникался его торжественностью, я ощущал
наполняющий его, мне неведомый дух.
Именно эта торжественность и эта одухотворенность и победили
во мне ту долю иронического скептицизма, с которой я впервые
вошел в Храм.
И я услышал несколько раз: «Свободен и добрых нравов?» —
«Свободен», — это значило для меня, что профан по идее может получить
Вел/.Св .·. (Великий Свет), лишь если он способен мыслить и
чувствовать свободно, то есть вне догм, вин, заранее принятых аксиом, вне
мирских предвзятостей; широту понимания и терпимость вмещало
для меня это слово. Идеальная ложа представлялась мне собранием
истинно свободномыслящих людей, старающихся отыскать духовные
ценности, лежащие вне профанских условностей.
Свобода мысли среди элиты, эта идея со дня моего посвящения
всегда была мне особенно дорога в масонстве. И действительно, я
увидел в ложах людей разных политических воззрений, разных
верований — масонство соединяло их, и они находили общий язык. В
словах ритуала, в масонских знаках, в братской цепи, в настроении,
которым были проникнуты работы ложи братские трапезы, я ощущал
сияющий смысл масонской троицы — Свободы, Мудрости, Красоты.
В служении ей совершался ритуал свободномыслящими людьми...
ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ АЛЕХИНА
«Собираешься писать книгу об Алехине, а на его могиле не был?!» -
укорил меня Борис Иванович Фоменко (знаменитый историк
российского тенниса, да и в шахматах человек не чужой: кандидат в
мастера, в прошлом зам. главного редактора энциклопедического
словаря «Шахматы»), и... не прошло и трех месяцев, как наша
дружная троица - мы с женой и Б.И. - материализовалась в Париже. Да
340
Чужой среди своих
¥
ш
ι 1 А
•
■■''
йШ
им
щ
Великий храм (зал церемоний) в Grande Loge de France. Сводчатый потолок и
готические окна напоминают о том, что это бывший францисканский монастырь.
Фото автора.
Парижские тайны Алехина
341
не где-нибудь, а на Монмартре, по соседству с площадью Пигаль и
легендарным «Мулен Ружем». О, эти чудесные, сплошь в
ресторанчиках и кафе, карабкающиеся по холму извилистые улочки: Мартир
(там мы жили), Лепик, Аббес... А на самом верху - венчающий всю
эту красоту величественный Сакре-Кёр.
Еще в Москве я выписал все парижские адреса, связанные с
Алехиным. Больше всего мне хотелось попасть в Великую ложу
Франции на рю Пюто, 8. Оказалось, это совсем близко. Но выкроить
время для поездки удалось только на четвертый день, 24 мая. Почему
«выкроить»? Да потому что Б.И., который взялся быть нашим гидом
(он хорошо знает Париж и, в отличие от меня, блестяще говорит по-
английски), составил программу на все 12 дней и требовал ее
соблюдения: «Иначе не хватит времени, чтобы увидеть всё, что я
запланировал!» Даже в день прилета повез нас в собор Александра Невского
- главный православный храм Парижа, где отпевали Тургенева,
Шаляпина, Деникина, Бунина и где не раз, конечно, бывал Алехин.
Тайный мастер
Что поразило в Grande Loge de France, так это доверие к гостям.
Казалось бы, мы в святая святых французского масонства: тут и музей, и
архив, и библиотека. Я ожидал секьюрити на входе, тщательной
проверки... Ничего подобного! Стеклянная дверь, за ней ресепшн, пара
человека за стойкой. «Бонжур!» - «Бонжур!» Объяснили цель визита,
предъявили паспорта, взамен получили бейджики с нашими
именами, молодого англоязычного китайца в качестве
сопровождающего - и гуляй себе по масонскому логову!
Здание явно старинное (потом уже узнал, что это бывший
францисканский монастырь): с мощными лестницами, пилястрами,
затейливыми переходами, бюстами «отцов-основателей», витринами с
масонскими реликвиями... Вот, наконец, и Великий храм. Ждешь
этого момента - и все равно испытываешь трепет, когда вдруг
распахиваются двери и видишь перед собой огромный Grand Temple, с
высоким сводчатым потолком, витражными окнами, штандартами
масонских лож на стенах и сияющим вдали «всевидящим оком».
Хочется продолжить: ...где ровно 90 лет назад, день в день (!) - 24 мая 1928
года, - прошел обряд инициации Александр Алехин! Увы: в то
время «Астрея» собиралась уже не на рю Π юто, а в обретенном
русскими масонами в 1926 году особняке на рю Иветт (rue de l'Yvette), 29, в
котором был оборудован храм для церемоний...
Здешняя библиотека тоже впечатляет. Весь зал по периметру - от
пола до потолка, в два яруса - уставлен книжными шкафами,
соединенными в единое целое. За стеклами виднеются кожаные, с золотым
342
Чужой среди своих
тиснением корешки старинных
книг. В нише под лестницей,
ведущей на верхний ярус, сидит за
компьютером моложавый, с
проседью, месье. Б.И. объясняет, кто
мы и что у меня есть документы
ложи «Астрея», сканированные
в одном из московских архивов.
Месье оживляется, я протягиваю
ему айфон, и он с любопытством
изучает файлы. Наконец
поднимает глаза: «Как эти документы
попали в Москву?!» Вкратце
рассказываю.
На рю Пюто я показал
четыре файла. Остальные пообещал
выслать из Москвы, попросив
взамен любые свидетельства об
Алехине и Бернштейне:
архивные документы, фотографии,
воспоминания членов ложи и т.д.
Месье, который оказался
главным библиотекарем, сказал, что
найти что-нибудь
проблематично, но он попробует.
Письмо в Париж я отослал в
конце июня. Через месяц
пришел ответ: «Дорогой Сергей! Хочу сказать вам "большое спасибо" за
присланные документы. В приложении к письму вы найдете копии
документов, найденных в архивах Grande Loge de France. (...) Я
просмотрел архивы ложи Amici Philosophiae и не нашел там ничего. С
уважением, Стефан Руксель».
Упоминание ложи Amici Philosophiae не случайно! Я знал, что
Алехин был радиирован (исключен) из нее в 1934 году, но вот когда и как
он туда вступил?
По словам Шабурова, Алехин состоял только в «Астрее», собрания
ложи посещал «весьма редко», и в 1937 году его исключили: «Алехин не
принадлежал к активным масонам. В то время как другие беседовали
на возвышенные темы, Алехин и Бернштейн нередко... играли в
шахматы, превращая масонскую ложу в некое подобие шахматного клуба».
Да, по воспоминаниям князя Вяземского, откуда почерпнул
сведения Шабуров, «Алехина можно было часто видеть играющим
в шахматы в большой зале русского масонского дома на рю Иветг.
Алехин вступил в «Астрею» в один день
с Осипом Бернштейном. По журналу
посещений видно, что они иногда
приходили на заседания вместе (их подписи
в самом начале - 2-я и 3-я).
Публикуется впервые.
Парижские тайны Алехина
343
Его обычным партнером был гроссмейстер Бернштейн». Ну и что?
Они же играли не на заседаниях, а после них, на братских трапезах.
Из масонских мемуаров известно, что в особняке были даже столы
для бриджа и ложа «Лотос», в числе основателей которой был тот же
Бернштейн, устраивала тут благотворительные турниры по бриджу и
шахматам, в которых играли масоны и других лож, собиравшихся на
рю Иветт («Гамаюн», «Юпитер», «Друзья любомудрия» и др.).
Следы одного из шахматных турниров обнаружились в архиве
«Астреи». Это письмо от 31.12.1931 на имя руководителя ложи
«Юпитер» адмирала Д.Н.Вердеревского (во Временном правительстве он
был военным министром). Вот фрагмент из него:
Дорогой Дмитрий Николаевич,
вчера имел собеседование с членом л. Астрея бр. Капланом. Он
назначил датой шахматного турнира в нашу пользу субботу 16.1.32.
Надеется, что соберет около 10 т.ф. (тысяч франков).
Бр. Каплан уперся в своем первоначальном предположении и
желает, чтобы вырученная от турнира сумма пошла бы непременно и
исключительно: 1) на расходы наши по кухне и посуде; 2) на кормление
неимущих бр.бр. или на организацию для них «взаимопомощи» (...)
Nom : ЛЬЗСШБ Prtfnon* : AUx&i dre Prof, ilomic <te LeUroB.
~* Adrewe: ^x Rue Croix-mvert- PARIS.
$ Nolo S. C.ISJS & 5*и<Г-ΡΛ^ν<~~* Notion.:
β Re ligion : Juif :
* :
Loge: i>e ASTR3S Or. do PAKIS . ObeU : C.L..
(»rn«lc: 4 ° Fonct. dan*) α Loge:
Λι,-liowSuperirur*: L. «. DE P.».*;t JUttOI^ РП1Ъ080Ш1АЬ'" jjji tt.it.^4
Conteib Μβς.:
Croup. Frat. :
Initiation lo H. t.f.ttjJc I*' li.Z.lpls
Sortie le 1&ΝΦ\. 1934 с. So* . Motif :Rod 1ύ Ik ^W/пЬЛ*
Reitit. lo
Affil. α )u Logo Or. de lo
Or. do le f
Refcrenceo: ( Fi*fr*t«» S.C. ) ff.t fc. Щ (>X'. Soo/ч$У·) ^-.iVWHi
Личная карточка Александра Алехина, члена Loge Astree и Ateliers Supineurs
(высших мастерских) Amici Philosophiae. Из архива Grande Loge de France.
Публикуется впервые.
344
Чужой среди своих
Что касается расходования остальной суммы, которая была бы
выручена от шахматного турнира (...), то бр. Каплан имеет в виду
поручить ее расходование Комитету, образованному для устройства
турнира, и на имя какового Комитета было получено разрешение от
полиции. Состав этого Комитета следующий: Г.Б.Слиозберг; Каплан;
Бернштейн; Алехин (...)
Хотя Алехин не был «активным масоном», однако же вырос в «Ас-
трее» до 3-го градуса (в Великой ложе Франции их было 18): при
инициации получил градус ученика, во 2-й градус - подмастерья - был
возведен 9 марта 1929 года (в Википедии ошибочно указано 9 мая),
в 3-й - мастера - 27 февраля 1930-го. Не думайте, что градус мастера
ему присвоили просто так, «за выслугу лет»: в этот день Бернштейн,
Алехин и еще пять подмастерьев читали в ложе свои работы. По словам
писателя Романа Гуля, тоже масона, каждый градус ему стоил большого
доклада на тему масонства, что требовало основательной подготовки.
Но чтобы попасть в ложу «Друзья любомудрия» (ту самую Amici
Philosophiae), мало было быть мастером: в нее допускали только
тайных мастеров. Почему же приняли Алехина? Ответ на этот вопрос я и
нашел в одном из файлов, присланных г-ном Рукселем.
Это личная карточка Александра Алехина, члена Loge Astree и
Ateliers Superieurs (высших мастерских) Amici Philosophiae. Судя по
названию файла - Fiche Vichy Alexandre Alekhine (Карточка Виши
Александра Алехина) и рукописной дате - Ю 7/12/1941, карточка
вместе с масонскими архивами, не попавшими в руки немцев,
оказалась в Вишистской Франции и после войны вернулась на рю Пюто.
Документ весьма интересный, хотя дата и место рождения - 5.6.1893,
Санкт-Петербург - вызывают улыбку (и откуда только взяли?). В
отличие от запроса на инициацию в «Астрею», здесь в качестве
профессии указано: Homme de Lettres- писатель, а не шахматный писатель.
Датой возведения в градус мастера значится почему-то 4 июля, а не
27 февраля 1930 года. А вот и объяснение, как Алехин попал в Amici
Philosophiae: 11 февраля 1932-го его возвели в 4-й градус - тайного
мастера! Радиирован был действительно в 1934 году — 27 декабря.
Забавно, что Бернштейн (его карточку мне тоже прислали),
который, как принято считать, «затащил в масоны» Алехина, достиг лишь
градуса мастера и в Amici Philosophiae не состоял. То есть как масон
Александр Александрович был «круче»!
Поиски храма на Иветке
На И ветку, как эмигранты называли русский масонский дом на рю
Иветт, мы выбрались только 28 мая. Шагаем по тротуару, по которому
не раз ходил Алехин, если приезжал с рю де ля Круа-Нивер на метро
Парижские тайны Алехина
345
Париж, 28 февраля 1932. Сеанс на 60 досках в отеле «Clandge» на Едисейских
полях в пользу инвалидов и ветеранов Первой мировой войны. За пару недель до
этого Алехин был возведен в 4-й градус — тайного мастера! Из альбома А. Корлякова
«Русская эмиграция в фотографиях. Франция, 1917—1947» (Париж, 1999).
346
Чужой среди своих
(его дом на другой стороне Сены,
на машине минут десять). И вот
мы почти у цели: дом № 21, №
23... Я уже предвкушаю встречу
с maison russe maconnique, как
вдруг... Господи, да где же он:
за особняком под № 25 я вижу
только высокое здание с какой-
то пристройкой! Но я же хорошо
помню, что читал у Гуля про
«старинный барский особняк,
красивый, окруженный какой-то
зеленью», который «стоял поодаль от
других домов»...
Подходим поближе. На
семиэтажном здании висит искомый
№ 29. А пристройка оказалась
вплотную стоящим, узким, в два
окна, трехэтажным домом под
№ 27 - на вид симпатичным и
вроде подходящим по возрасту,
но он точно не «поодаль от других
домов». И тут я с ужасом вижу,
что дом-то угловой: рю Иветт
уперлась в поперечную улицу - и
кончилась!.. Выйдя из столбняка,
мы побрели назад, лелея
последнюю надежду: вдруг нумерация
поменялась?
Особняк под № 25 отвечал, казалось бы, всем требованиям: и
старинный, и сад вокруг имеется. Η а кирпичном столбе у ворот табличка
на французском языке. Екнуло сердце: вдруг и впрямь наш особняк?
Увы: с помощью Б.И. кое-как поняли, что это музей скульптора Анри
Бушара, который жил здесь с 1920 года...
Короче, других кандидатов, кроме № 27, не было. Я сделал пару
снимков, чтобы сравнить их потом с описанием особняка в мемуарах
(фотографий нигде нет). Увы, ни у Н.Берберовой («Люди и ложи»),
ни у Р.Гуля («Я унес Россию») не указано количество этажей. И
только в книге Г.Орлова «Галерея масонских портретов» вдруг выплыла
нужная информация: «Весь первый этаж мы превратили в обширную
столовую, во втором были: так называемая малая столовая, уютная
гостиная, библиотека... На самом верху была огромная, необъятной
вышины, студия, которую решено было обратить в храм...»
Этот притулившийся к соседнему
зданию домик по адресу: rue de I'Yvette, 27
не похож на стоящий «поодаль от
других домов старинный барский особмк»,
но никакого другого кандидата на роль
русского масонского дома нет... Фото
автора.
Парижские тайны Алехина
347
Вы не поверите, но всё сходится! И три этажа, и мансарда, которая
в соединении с третьим этажом могла стать «огромной, необъятной
вышины, студией». На гугл-карте, позволяющей разглядывать
улицы с высоты птичьего полета, удалось увидеть весь дом: и боковой
фасад, и глухую заднюю стену, и объемистую - на весь дом -
мансарду, и даже сад с лужайкой, где братья-масоны «собирались на обед и
засиживались далеко за полночь, под соловьиное пение из
находившегося напротив Розенталевского парка».
Одно не дает покоя: никто из авторов не упоминает о семиэтажной
громадине под боком. Хотя... если мысленно ее убрать, то дом легко
превращается в уединенный особняк. Может, это здание построили
позже? Так и оказалось: оно 1930 года... Но все равно концы с
концами не сходятся: Гуль вступил в масоны только в 1935-м, а он четко
пишет об особняке «поодаль от других домов». Да и, положа руку на
сердце, не тянет дом № 27 на «старинный барский особняк», в
котором «на диво пораженным посетителям французам» было создано
«лучшее масонское помещение во Франции».
Чтобы поставить точку в этом вопросе, я попросил г-на Рукселя
поискать в архивах Grande Loge de France фотографии русского
особняка на рю Иветт. Он ответил, что переправил мой запрос
архивариусу Роберту Джереми и «он вскоре вам ответит». Но тот молчит...
Встреча с Алехиным
От поездки на кладбище Монпарнас, которая, конечно, была «гвоздем
программы», я не ждал ничего особенного: столько раз видел на
фотографиях могилу Алехина, что невольно возникало ощущение, будто я
здесь уже бывал... Ну, разве что сняться «на фоне Алехина», чтобы
потом вставить фотку в книгу. Заодно хотел сделать несколько снимков
знаменитого памятника, чтобы сравнить, насколько точно воссоздан
мраморный барельеф после урагана 1999 года, сломавшего надгробие.
Ююдбище Монпарнас. Мраморный барельеф на памятнике Алехину до (слева) и
после реставрации. Степень сходства можете оценить сами!
348
Чужой среди своих
Встреча с памятником немного разочаровала: и позолота
слишком яркая, без благородной патины, и Алехин не очень похож сам на
себя - с вздернутым вверх носом, каким-то завитым вихром, а
правая рука почему-то лежит на книге, как у писателя... Неужели это
Абрам Барац, автор барельефа, так постарался? Странно, он ведь
хорошо знал Алехина... Только в Москве, сравнив свои снимки с
фотографиями памятника до урагана, я понял, что дело не в Бараце, а в
реставраторах. Господи, как же неумело, если не сказать топорно,
сделан новый барельеф!
Зачем было омолаживать Алехина? Зачем убран угол шахматной
доски со стоящей на ней красивой фигурой в стиле «Режанс», а
вместо доски добавлена книга? Зачем изменен наклон головы? Ведь всё
это разрушило авторский замысел Бараца: у него Алехин смотрел на
доску, а нынешний - куда-то вбок. Да и выражение лица изменилось:
там была видна напряженная работа мысли, а тут какой-то
мечтательный молодой повеса, мало напоминающий тот образ, что увидел
на открытии памятника в 1956 году Вячеслав Рагозин: «Взор Алехина
Только коснувшись рукой поля Н8, я заметил, что доска-то установлена неверно:
поле а/ — тоже белое/ На снимке справа хорошо видно, что до реставрации всё
было правильно.
Парижские тайны Алехина
349
Τ
Сын Александра Алехина у памятника на могиле своего отца (2.12.1991). Из
архива Г.Каспарова. Публикуется впервые.
350
Чужой среди своих
устремлен на шахматную доску, и кажется, что чемпион мира
обдумывает одну из своих бессмертных комбинаций...»
Мелочами типа «слепого» глаза (он, помню, резанул в первую
очередь), формы ушей и губ я вас грузить не буду - можете сравнить
сами. Но зачем надо было менять форму носа? Да, у Алехина был не
очень фотогеничный, утиный нос - приплюснутый и широкий,
почему он и не любил сниматься в профиль. Но разве это повод делать
его курносым?
Напомню, все эти несуразности я увидел уже в Москве. А тогда,
навдоволь снимавшись у памятника, я вдруг вспомнил, что вскоре
мне стукнет шестьдесят четыре - главный юбилей для шахматиста, и
захотел сделать символическое фото. Наклонившись к доске, я
коснулся рукой поля h8 — словно финальной точки на моем долгом пути
к Алехину.
Но что это? Почему поле белое?! И только тут до меня дошло, что
доска-то установлена неправильно: поле а 1 —тоже белое! Вот это
конфуз... Неужели и раньше так было? Да нет, конечно: оказалось, что это
еще один «ляпсус манус» современных горе-реставраторов. По
старым фотографиям отчетливо видно, что тогда крайнее левое поле
было темным...
Поход на Круа-Нивер
Улица Круа-Нивер (rue de la Croix-Nivert) очень длинная, ничем
особо не примечательная. Я даже немного пожалел, что мы пошли: в дом
все равно не пустят, да и номер квартиры не знаю... Ну, сделаю пару
снимков, и что? Да, здесь жил Алехин со своей Надин, у него бывали
тут в гостях Бернштейн, Лилиенталь («за чашкой чая мы играли блиц
или анализировали различные позиции»), режиссер Михаил Чехов,
который «с восторгом следил за его игрой с Бернштейном в уютной
семейной обстановке», многие другие... Но что к этим, известным
всем фактам могут добавить мои снимки?..
Знал бы я, какой подвох нас ждет. Покруче, чем на Иветке: за №
209 шел... сразу № 213! Правда, дома разделял проулок, ведущий в
тенистый сквер со старыми деревьями (идеальное место для
прогулки после шахматного анализа, мелькнуло в голове), но никаких
домов там не было. Только виднелась (будете смеяться, но тоже, как
на Иветке) какая-то двухэтажная пристройка к дому № 213 —
современному, из стекла и бетона, отелю «Vice versa», искусно
вписанному в старинный квартал.
Пристройка оказалась с номером. Знаете, каким? 211 -bis... Что за
чертовщина: при чем тут 211, если она прилеплена к № 213? И где
вообще № 211 ?! Не провалился же он сквозь землю! И вдруг мне чуть
Парижские тайны Алехина
351
не поплохело от догадки: неужели на его месте выросла эта хрень из
стекла и бетона?.. Да нет, не может быть, надо искать дальше.
Выйдя на улицу, стал разглядывать № 209. Ну конечно же, как я
не заметил! Само здание пятиэтажное, с высокой мансардой, хорошо
видна кирпичная кладка, на балконах решетки. А его полукруглая со
стороны улицы торцевая часть, смотрящая в проулок, на этаж ниже,
без мансарды, стены оштукатурены, балконы из бетона... Да она явно
пристроена позже.
В торце оказался подъезд, и там над домофоном я увидел наконец
нужный номер. Панелей с фамилиями жильцов всего четыре, а это
значит, что на этажах по одной квартире. Судя по количеству окон,
довольно больших; в полукруглой части широченная, со стеклом до
пола, балконная дверь и еще два окна по бокам... Даже не знаю,
почему дочь Надежды Семеновны написала Котову, что Алехины «жили
в маленькой, но уютной квартире».
Алехин поселился в этом доме, видимо, в 1924 году, когда связал
свою жизнь с Надеждой Семеновной (квартира принадлежала ей), а
покинул его в мае 1933-го, когда ушел от Н.С. (но развелся с ней
только 19 февраля 1934 года, менее чем за месяц до регистрации брака
с Грейс Висхар). Обосновался Алехин потом в Нормандии, в замке,
принадлежащем его новой жене. Осенью 1934-го при встрече с гла-
Разгадать ребус с нумерацией домов на rue de la Croix-Nivert, где жил Алехин со
своей третьей женой Надеждой Семеновной Фабрицкой, оказалось непросто. Ну
кто мог подумать, что это не один дом, а два ?! Фото автора.
352
Чужой среди своих
Его последняя жена, американка Грейс
Висхар, имела большую
квартиру-мастерскую (она была художником) на
Монпарнасе, на rue Victor Schoelcher
Фото Б. Фоменко.
вой «Астреи» он попросил слать
ему повестки на заседания ложи
по его «постоянному» адресу: Le
Chateau(3aMOK),St.Aubin-le-Cauf,
Seine lnferieure (Нижняя Сена).
Не ищите Сент-Обен-ле-Коф на
карте: это название деревни в
11 километрах к юго-востоку от
Дьеппа..,
Позже я узнал, что Грейс имела
большую квартиру-мастерскую
(она была художником) на Мон-
парнасе, на rue Victor Schoelcher,
11 -bis, где они с Апехиным жили,
приезжая в Париж. И когда
Борис Иванович через год снова
собрался в Париж, я попросил его
разыскать этот дом. На снимках,
которые он сделал, видно, что
дом угловой и очень необычный
по архитектуре, поскольку
строился специально для
состоятельных художников и скульпторов:
окна жилых помещений
соседствуют с громадными, в два
этажа, окнами мастерских.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ?
Сколько копий сломано вокруг письма с «приветом шахматистам
СССР по случаю 18-й годовщины Октябрьской Революции»! Но на
главный вопрос: зачем писать его в разгар матча на первенство мира,
да еще в день жуткого проигрыша? - ответа до сих пор нет. Хотя
версия есть: затосковал Алехин на чужбине, запил, проиграл из-за этого
партию, пошел с горя куда глаза глядят, забрел в порт, услышал
русскую речь, увидел пароход, а на нем горит в темноте ярко-красная
надпись «XVIII Октябрь», да и взялся за перо... Ηе шучу. Это краткий
пересказ главы из романа «Белые и черные».
И все-таки: почему Алехин вдруг вспомнил про Москву? Он же
знал, что во время второго матча с Боголюбовым их обоих там
крыли последними словами, включая «кретин» и «дегенерат». Да не кто-
нибудь, а журнал «Шахматы в СССР» (№ 7, 1934) в лице его
ответственного редактора Леонтия Спокойного (чья судьба печальна: через
Продолжение спецоперации ?
353
год был арестован и расстрелян). Санкцию на статью «Шахматные
чемпионы в роли фашистских лакеев» мог дать только Крыленко:
«Оба героя матча оказались вполне достойны своих хозяев. Они
прекрасно поняли, чего от них хотят. Оба проходимца распинались на
фашистских митингах, которые устраивались при их переездах из
города в город, о своей преданности национал-социализму. Алехин
заявил, что он готов отдать свою жизнь за национал-социалистическую
Россию. Боголюбов вторил ему насчет того, что-де скоро все народы
пойдут по стопам Германии. Удивляться таким заявлениям не
приходится. Вся мораль и политика, все принципы и убеждения обоих
определяются исключительно страстью к деньгам. Прельщаешься
фашистскими деньгами - произноси и фашистские речи! Если в
былые времена в буржуазном обществе гениальность жила рука об руку
с филистерством, как это показали Маркс и Энгельс на примере Гёте,
на примере Гегеля, - то у современных нам деятелей буржуазного
общества большая одаренность в специальной области уживается с
полным кретинизмом и дегенератизмом в их общей моральной
физиономии. Презрение и отвращение - вот всё, что мы питаем к этим
"международным" последышам белогвардейщины».
Понятно, что советский журнал - тот еще источник информации,
но... Признаться, меня не удивил пассаж о «преданности национал-
социализму», потому что возникшие к середине 30-х годов симпатии
Алехина не к одному, а сразу к двум тоталитарным режимам
бросаются в глаза. Спустя два года, в интервью Карелу Опоченскому,
обошедшем всю эмигрантскую печать, он открыто выразит желание
«сотрудничать в строительстве шахматного искусства» в СССР, поведает
о том, что был принят в Берлине рейхсминистром д-ром Франком
(будущий гауляйтер Польши, на пару с которым A/iexuH будет играть
там консультационные партии), что «государственная власть в
Германии уделяет шахматному движению большое внимание», и скажет:
«Думаю, что и там желали бы моего сотрудничества» («Новая заря»,
Сан-Франциско, 27.03.1936). И в самом деле, отчего ж не посотруд-
ничать? Ну и что, что там Гитлер? Зато о шахматах заботится...
Вопрос о сотрудничестве с нацистами каждый для себя решал сам.
В феврале 1939-го в Германии побывал знаменитый французский
писатель Сент-Экзюпери. Ему всячески дали понять, что очень
«желали бы сотрудничества», но услышали в ответ: «Создаваемый вами
тип человека меня не интересует». Тогда же он записал в свой дневник
крылатую фразу, вошедшую потом в «Послание заложнику»:
«Порядок ради порядка оскопляет человека, лишает его основной силы,
заключающейся в том, чтобы преображать мир и самого себя».
Хорошо сформулировала Валерия Новодворская, блестящий
публицист и отважный правозащитник: «Набоков не выбирал между
354
Чужой среди своих
И все-таки: почему в разгар матча с Эйве (1935) Алехин вдруг написал письмо в
Москву? Фото со шведского исторического сайта, присланное мне Яном Кален-
довским (Чехия).
Продолжение спецоперации ?
355
двумя цветами времени, черным и красным, фашизмом и
сталинизмом, а с порога отверг и то, и другое». Так же, как и Марина
Цветаева, написавшая 23 июня 1934 года:
А Боге вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину
Являйте из тел распластанных
Звезду илисвасты крюки.
Вопреки общему мнению, крен Алехина в сторону «страны
победившего социализма» произошел не во время матча с Эйве, а еше
раньше, когда он написал статью «Перспективы московского
турнира» («Последние новости», 22.02.1935). О содержании можете судить
по фрагменту:
«"Догоним и перегоним"... Следует объективно признать, что в
шахматной области клич этот не оказался пустым звуком:
достигнуто - и за сравнительно короткий срок - то и другое. В одном
отношении "догнали", в другом -даже "перегнали". Догнали тем, что
выделили одного-двух первоклассных мастеров (Ботвинник и, вероятно,
Рюмин), имеющих полное основание рассчитывать с честью
представить свою страну в любом международном состязании. (...) Перегнали
же — со средней силой массового шахматиста, наглядно и
неоднократно подтвержденной за последние годы во встречах с иноземными
мастерами».
И сигнал был услышан! Крыленко в письме Сталину по поводу
желания Ласкера жить в Советском Союзе (от 11.03.1935) вскользь
упомянул о «восторженной статье о шахматном искусстве в СССР,
помещенной в парижских "Последних новостях" нынешним чемпионом
мира, белогвардейцем и ренегатом Алехиным».
Статью, конечно, у нас не перепечатали, но почти целиком в
виде цитат привели в статье Федора Сулковского «Признание врага»
(«Бюллетень Московского международного шахматного турнира» №
25, 1935). Сулковский - это будущий зам Крыленко во Всесоюзной
шахматной секции (он возглавлял финансовую группу Комитета
советского контроля при Совнаркоме СССР и в 1937-м был
расстрелян). Судя по тону, за спиной автора снова стоял Крыленко:
«Статья Алехина говорит о том, что упрямые факты бурного
расцвета советской шахматной жизни заставляют даже наших врагов
признавать успехи советского шахматного движения. Эти успехи тем
356
Чужой среди своих
более показательны, что они достигнуты не только без помощи
ренегатов-изменников — "француза" Алехина и "немца" Боголюбова, -
но в решительной борьбе против них и возглавляемого ими (??) бе-
логвардейско-эмигрантского охвостья, пытавшегося доказать упадок
шахматной работы в Союзе и выливавшего на нас потоки
контрреволюционной грязи и клеветы».
Возможно, с этого момента и началась активная фаза
спецоперации. Подходы к Алехину делались и раньше: вспомним визит
Тройского в 1928 году. Потом от него на какое-то время, видимо, отстали.
Историю, как в 1933 году он попросил Флора, ехавшего в Москву
на матч с Ботвинником, поговорить с Крыленко и тот якобы сказал:
«Пусть напишет письмо в газеты с признанием своей вины», мы
знаем от Котова, а ему, понятно, мог поведать только сам Флор.
Возможно, так оно и было, но... дьявол, как известно, в деталях.
Флор не был знаком с Крыленко и не стал бы рисковать, передавая
такую просьбу: он же знал, как к Алехину там относятся. Его восторги
о «шахматном Эльдорадо» еще впереди, ни один западный
шахматист не посещал СССР после турнира 1925 года - с чего бы у Алехина
возникло желание туда ехать? Поэтому, я думаю, очередность могла
быть другой. Флор знал, как его друг тоскует по родине, в беседе с
Крыленко мог об этом сказать, а в ответ услышал про повинное
письмо. Причем речь об Алехине наверняка завел сам Крыленко...
Любитель конспирологии мог бы вообще подумать, что этот матч затеяли,
чтобы заманить Алехина!
Котов валит всё на ностальгию: «С каждым днем у Алехина
растет желание вернуться на родину, встретиться с друзьями,
родными, посмотреть места, где он родился, где прошли его детство, годы
учебы... И Алехин начинает предпринимать шаги к возврату в
Москву». Однако его жизнь, по крайней мере внешне, не дает поводов
для ностальгии.
В мае 1933 года он уходит от жены, с которой прожил почти десять
лет, и соединяет свою жизнь с Грейс Висхар - талантливой,
энергичной и вдобавок богатой женщиной, что наконец избавило его от
финансовых забот. В виде «приданого» Алехин получил квартиру в
Париже и роскошный замок под Дьеппом. Согласитесь, не самое
подходящее время, чтобы думать о «возврате в Москву».
В октябре Алехин пишет для «Последних новостей» статью
«Е.Д.Боголюбов (по поводу предстоящего моего матча с ним)». В декабре там
же появляется статья «Наша смена», о самых талантливых молодых
шахматистах. Алехин упоминает с похвалой «таинственного
незнакомца» Ботвинника - но ни в той, ни в другой статье ни слова про
СССР, да и тон автора весьма бодрый. А ведь Флор уезжал в Москву в
конце ноября...
Продолжение спецоперации?
357
По возвращении Флор,
конечно, передал Алехину слова
Крыленко. «Покаянное письмо? Да
за кого они меня принимают?!»
В 1934-м, как мы знаем, он
получит от Крыленко (устами
Спокойного) по полной программе.
Но в том же году Ботвинник с
С.Вайштейном, эмиссаром
Крыленко, после турнира в
Гастингсе навестят в Лондоне Ласкера
и пригласят его на Второй
Московский турнир, после которого
Ласкер переедет жить в СССР.
Алехин, конечно, намек
понял: напиши письмо, и мы тебя
тоже пригласим. Но сделал вид,
что не понял. И написал статью
«Перспективы московского
турнира». Может, хвалебной оды
хватит? Но Крыленко (на сей
раз устами Сулковского)
ответил: нет, не хватит! Флор, думаю,
тоже продолжал капать на мозги
Алехину, выполняя - уж не знаю,
сознательно или невольно — роль
агента Крыленко. Мог внести
свою лепту и Ласкер, рассказав,
как хорошо приняли его в
Советском Союзе: дали квартиру в центре Москвы, взяли на работу в
Институт математики Академии наук СССР.. Осознание, куда он попал,
пришло к экс-чемпиону не сразу.
Метания Алехина кончились на матче с Эйве. О чем он думал,
сочиняя π исьмо в Москву, мы уже не узнаем. Как и того, был л и он в этот
момент пьян и почему написал его после двух поражений, когда в
матче явно наметился перелом. Видно, был уверен, что все равно победит
и приедет в СССР шахматным королем, назло всем
недоброжелателям! Вроде всё гладко... Кроме одного: где гарантия, что письма будет
достаточно? Алехин же понимал, что этим поздравлением рвет
отношения с русской эмиграцией. А вдруг Крыленко потребует нечто
такое, чего он, как дворянин и человек чести, просто не сможет сделать,
что тогда? Нет, Алехин не мог так рисковать. Мало ли что Флор или
Ласкер ему сказали, нужны официальные гарантии...
Своим решением — вопреки
рекомендации Крыленко! — «телеграмму Алехина
напечатать без комментариев»
Сталин показал, что отныне это вопрос не
шахматный, а политический и
операцию «Алехин» он будет курировать сам.
Из архива автора.
358
Чужой среди своих
Недостающее звено отыскалось совершенно случайно. Помните, в
главе «Точки над "ё"» я привел рассказ сибиряка Сухарева, как в 1935
году он приехал в Москву и зашел к Еремееву? «Валериан Евгеньевич
как раз громко говорил по телефону, кажется, с Амстердамом,
называя своего собеседника "господин Алехин". Произносил именно так,
а не "Алёхин". Трубку держал далеко от уха, голос собеседника был
отчетливо слышен! Незабываемый момент!»
Это свидетельство из книги Р.Кура, В.Нейштадта, К.Сухарева
«Сибирь шахматная» (1995) не раз цитировалось, но никто не заметил
главного. Я тоже не сразу сообразил, что за карты мне сданы: 1935,
Амстердам, Алехин... Да это ж: тройка, семерка, туз - доказательство
того, что Алехин во время матча с Эйве «перезванивался» с
доверенным лицом Крыленко!
Осталось уточнить дату разговора. Сухарев в той книге пишет, что
в 1935 году «приехал на чемпионат профсоюза работников земельных
органов и сразу же зашел к отв. секретарю Всесоюзной секции
В.Еремееву». Единственное упоминание о чемпионате я нашел в «64» за 15
ноября, но сроков его проведения там нет. Написал Нейштадту, он
припомнил: «Кажись, Сухарев говорил, что они играли в октябре».
Всё сошлось. Еремеев говорил с Алехиным во второй половине
октября, темой беседы могло быть как раз письмо в Москву и
обсуждение условий возвращения. О том, на каком уровне обсуждалось
письмо, стало известно только в 1997 году, когда журнал «Источник»
(№ 6) опубликовал секретную записку Крыленко на имя Сталина.
Под резолюцией вождя: «Предлагаю телеграмму Алехина напечатать
без комментариев» поставили свои подписи семь членов
Политбюро - Каганович, Микоян, Чубарь, Андреев, Калинин,
Орджоникидзе, Косиор и секретарь ЦК Ежов.
Для Крыленко это стало, наверное, холодным душем: подписи
показывали, что отныне это вопрос не шахматный, а политический и
операцию «Алехин» Сталин будет курировать сам!
БАСНЯ О ГОРШКЕ
Не будем копаться в причинах алехинского проигрыша. Много
писали о влиянии «винных паров» - в романе Котова на этом, по сути, вся
интрига матча построена. И не без оснований: «Недавно советский
маэстро Ботвинник, анализируя причины ряда проигрышей
Алехина на происходящем ныне в Голландии матче, пришел к выводу, что
эти проигрыши вызваны запойным состоянием, в котором явно
находится чемпион мира» («Новое слово», Берлин, 26.11.1935).
Но прав Зноско-Боровский, в своей блистательной статье
«Катастрофа» («Последние новости», 31.12.1935) одной фразой вскрывший
Басня о Горшке
359
суть: «Вино? Да причина ли оно, или следствие?» Главной причиной
катастрофы стала фатальная недооценка соперника. Накануне
матча, давая сеансы в Риге, на вопрос: «Можно ли вообще говорить о
шансах кого-либо из шахматистов на отвоевание у вас мирового
первенства?» Алехин ответил: «Я не вижу среди шахматных игроков
всего мира человека, который мог бы меня победить» («Заря», Харбин,
30.09.1935). Каисса такой самонадеянности не прощает...
Игра Алехина временами была настолько неузнаваемой, что дала
повод для подозрений. Напомню: его однокашник Попов считал, что
Алехин нарочно проиграл матч, чтобы сорвать куш на ставках,
которые ставили на него. Но даже коллеги-шахматисты всерьез
заговорили о «сплаве». Вот мнение Григория Левенфиша, причем
высказанное не в приватном разговоре, а на страницах журнала:
«Первое впечатление от игры Алехина (на отрезке с 10-й по 14-ю
партии) таково, что он был под влиянием... винных паров. Здесь не
было экспериментирования, а лишь игра в силу примерно 3-й
категории, не имевшая прецедентов ни в одном из предыдущих матчей
на первенство мира. Внимательный просмотр 12-й и особенно 14-й
партии не оставляет сомнений в том, что они проиграны умышленно
(...) Матч Алехин —Эйве оказался затеей коммерчески нелегкой.
Финансирование этой затеи возможно только при условии неослабного к
ней интереса. А для этого надо создать впечатление "упорной борьбы".
Корреспонденция Г.Кмоха в газету "64" указывает, что ряд голландских
городов отказывался организовывать у себя партии в начале матча и
давал на это согласие после проигрышей Алехина, уравнявших счет.
Конечно, мы не имеем абсолютно точных данных о том, что
именно эти финансовые интересы хозяев побудили Алехина намеренно
проигрывать партии. Но не всели равно?
Нам безразлично, какие именно мотивы побудили Алехина
нарушить элементарные основы спортивных состязаний. Для нас,
советских шахматистов, действия Алехина давно уже находятся по ту
сторону этики и морали» («Шахматы в СССР» №11, 1935).
Левенфиш написал это, еще не зная про письмо Алехина:
«Известия» его опубликовали 16 ноября, а журнал был подписан к печати
15-го! В предисловии к книге «Матч Алехин - Эйве на первенство
мира» (1936) он резко сменил тон, забыл про «этику и мораль», ну и,
понятно, никаких даже намеков на «умышленные» проигрыши.
Думаю, Григорий Яковлевич был шокирован письмом не меньше
эмигрантов, которые сначала просто отказывались верить своим
глазам. «Возрождение» перепечатало письмо из «Известий» с
подзаголовком: «Не мистификация ли?» Берлинское «Новое слово»
выражало надежду на то, что это «советская фальшивка»... Но все сомнения
быстро рассеялись.
360
Чужой среди своих
А в 2017 году нежданно-негаданно всплыл оригинал алехинского
письма (его приобрел на аукционе издатель и коллекционер Мурад
Аманназаров). Оказалось, адресат в нем не указан; про «64»
добавлено при публикации. Адрес мог быть на конверте, но сгиба на письме
нет, а значит, оно прибыло не в конверте, а было кем-то доставлено.
Сначала я грешил на Ласкера, но он уехал в Голландию 9 октября,
а вернулся в Москву только 4 декабря. Флор, как тренер Эйве,
покидать матч не мог, а курьер вряд ли добирался бы до Москвы две
недели... И тут я вспомнил, что в 1936 году письмо Алехина из По-
дебрад переслал именно Флор - вместе со своей статьей. Может, и
здесь не обошлось без Флора?
Спорным моментом была дата: 29/IX или 29/Х? Теперь ясно, что
29/IX, и хотя в цифрах подозрительная мазня, скорее всего, это
описка: поздравлять за месяц до годовщины нелепо... В советской
печати с датой чехарда. В «Известиях» ее дали словами: 29 октября, в «64»
подчищать «лишнюю» палочку не стали, зато в сборнике Панова
убрали за милую душу!
В эмигрантской печати отношение к Алехину заметно изменилось.
Учитывая неясность с письмом (может, и впрямь послал спьяну?) и
поражение в матче, наотмашь его, конечно, не били, но в оценках
не стеснялись. Приведу басню поэта-сатирика Валентина Горянско-
го, из которой любителям шахмат известна только последняя
строфа («Возрождение», 10.12.1935):
БАСНЯ О ГОРШКЕ
Шахматисту Алехину
Вам, находящимся Я открываю вам
от истины в вершке, небесный свод,
Антропософкам и спириткам, Прелестная моя антропософка.
Я посвящаю басню о Горшке,
Как то ни странно, У Митрича изба в резьбе.
очень прытком. Крыльцы, конек, окно с резьбою.
Казалось бы, Горшок, И жил Горшок у Митрича в избе,
посудинка проста, Вполне прославленный судьбою.
Известная везде и всюду. Его хозяйка в самый жар,
И все ж отверзлися мои уста Бывало, ставила ухватом,
Прославить эту самую посуду. Но он имел от Бога дар
И заодно неверам доказать И был несокрушимым хватом.
Возможно выпуклей и резче, Ловкач он был и молодец,
Что прыгать склонны, Соседские питая толки,
так сказать, Но ждал его безрадостный конец,
И не живые даже вещи. И мой Горшок свалился
Но это предисловие, а вот как-то с полки.
И слово самое, Бедняк разбился на куски,
построенное ловко. Обычно всё и скучно это,
Басня о Горшке
361
•OiPOMVABHII
Басня о Горшкв
Вамъ, находнцлмсн отъ истины в>
вершк*,
Антропософхамъ и спмртагь,
Я пнища* басню о ГоршаЛ,
Ка*ъ то mi страно, очень прытгомъ.
Казалось бы, Горшокъ, посудинка проста,
И>в*стная веэд* ι всюду.
Л *се-«ъ отвергшем мои уста
Просхдв»гь «ту самую лосуду.
И 8а одно HeatpaM* домазать
Возможно lUDjuii ι рЪаче,
А дрыгать сжмнаы, тт сшап.
Шахматисту А л с ι ι в у.
И мой Горшоаъ cbajrjci какъ Vo съ
U0AI&.
БЬднанъ разбился ма куски.
Обычно асе я сжгчно это,
Но адЪсь, ааьь рааъ ι есть ростки
J»o>3«aro спиритам* щЪта.
Аггропософка, мндыА другт»,
Теб$ стншовл мой на потребу,
Я bhsj радостный испуг*
Въ таояхъ пааахъ, лвдобиыгъ небу,
Верп нише бедро,
Взнстни фовтанъ висоаидг междометчи
«Басня о Горшке» поэта Валентина Горянского, из которой любителям шахмат
бша известна лишь последняя строфа («Возрождение», Париж, 10.12.1935).
Публикуется впервые.
Но здесь как раз
и есть ростки
Любезного спиритам цвета.
Антропософка, милый друг,
Тебе стишок мой на потребу,
Я вижу радостный испуг
В твоих глазах, подобных небу.
Верти вихлявое бедро,
Взметни фонтан
высоких междометий:
Сам по себе в поганое ведро
Горшка осколок бросился -
За ним другой и третий.
В ведерке, подле веника, в углу
Они устроились
на мусорном кладбище.
Хозяйка глядь-поглядь, а на полу,
Как на столе, и даже будто чище.
Хозяйка подавила грусть,
Печаль рассеяла заботливого взгляда.
Разбился наш Горшок и пусть.
Зато, по крайности,
хоть убирать не надо.
Мораль имей, читатель, в голове,
А также не забудь при этом
Алехина, разбитого Эйве,
И битым отошедшего к советам.
Сознавал ли Алехин, что этим письмом загоняет себя в ловушку?
Он же не собирался, как Ласкер, переехать вместе с женой в СССР,
потеряв квартиру в Париже, замок под Дьеппом и, главное, свободу
передвижения? Не настолько Александр Александрович был наивен,
чтобы не понимать (и не объяснить Грейс), что это дорога в один
конец... Значит, цель была другая: получить возможность играть в
московских турнирах и печататься в «64». Ценой был разрыв с русской
эмиграцией. Был ли готов Алехин на это пойти? Судя по всему, да.
Он был реалист и прекрасно видел, что эмиграция уже не та, в ней
362
Чужой среди своих
T4f0t^i°M* V 1(Г 4 IIICIOON. J4O00
ΑΗΐΙΙϋΟλΚ
COOI л. fc С StK СД
CARLTON HOTEL .ν
AMSTERDAM, houano
Оригинал аяехинского письма, поставивший точку в вопросе о его подлинности,
всплыл только в 2017году. Из коллекции М.Аманназарова.
разброд и шатания, а Советский Союз всё сильнее и сильнее.
Помните его юношеские девизы: «В силе и есть настоящая красота» и что
шахматы для него «борьба, где, как и в жизненной борьбе, побеждает
всегда сильнейший»? Да, потом он сменил их на «Шахматы для меня
не игра, а искусство». Но в душе преклонение перед силой у Алехина
наверняка осталось (хорошо знавший его Зноско-Боровский
написал в 1935 году: «Алехин относится с отвращением ко всякому про-
Басня о Горшке
363
явлению слабости»). Отсюда и его крен в сторону двух центров
силы - сталинского СССР и гитлеровской Германии... Ужас в том, что
из ловушки не было выхода: «своим среди чужих» ему все равно
было не стать, а «чужим среди своих» он уже стал!
Причину, по которой Алехин не собрался в СССР после матча с
Эйве, объяснил Флор: «В Москву он хотел поехать только как
чемпион мира». Может, Александр Александрович сам понял, что нужен
Сталину только в этом качестве, а может, намекнули: мол, верни
звание, тогда и поговорим.
Ведь тот телефонный разговор с Еремеевым, думаю, был не
единственным. Иначе трудно объяснить последующие письма Алехина в
«64» - в июле и сентябре 1936 года, найденные в архиве
ответственного секретаря газеты Рудольфа Гольца и опубликованные И.Линдером
в «Шахматах в СССР» (№ 9, 1967). Хотя сам он отрицал официальные
контакты с советской стороной и на вопрос: « Правда ли, что вы
собираетесь ехать в СССР?» ответил: «Никаких приглашений я не получал
и сам никаких предложений не делал. Да и вообще никакого
общения с советским правительством не имею» («Наша речь», Бухарест,
21.05.1936).
Почему письма не предал гласности сам Гольц, понятно: в 1937
году он был расстрелян. Но почему их не напечатали сразу по
получении? Не было отмашки сверху. Сталину Алехин без короны был не
нужен, а Крыленко уже ничего не решал. Его позиции пошатнулись
еще в 1934-м, когда он бросил вызов прокурору СССР А. Выш инскому.
Вот отрывок из внутреннего монолога Сталина в романе А.Рыбакова
«Тридцать пятый и другие годы»: «На XVII съезде Крыленко не
выбрали ни в ЦК, ни в КПК. Это ему предупреждение. Обиделся. Не
сделал выводов. Сегодня его 50-летие (2.05.1935). Пусть читает в
"Правде" приветствие от своих альпинистов. Центральный Комитет
приветствовать его не собирается. Тоже предупреждение. Последнее.
Посмотрим, сделает ли он из него выводы или опять будет ставить
Вышинскому палки в колеса».
В 1936-м участь Крыленко была уже решена. «По
воспоминаниям писателя и драматурга Льва Шейнина, до войны возглавлявшего
Следственный отдел Прокуратуры СССР, в конце 36-го или в
начале 37-го Крыленко собрал у себя сотрудников наркомата юстиции и
сказал: в стране наступает время репрессий, первыми под каток
попадут именно они, и поэтому каждому, кто захочет уйти из
наркомата, он тут же подпишет заявление. Видимо, такую же беседу он провел
тогда и с Еремеевым, которого в декабре 36-го внезапно освободили
от должности ответственного секретаря Шахсекции» (В.Нейштадт).
Крыленко отправил его «поднимать шахматы» на Дальнем Востоке,
и перед отъездом Еремеев, вероятно, передал алехинские письма
364
Чужой среди своих
Рисунок к статье А.Иглицкого «Передматчем Эйве — Алехин» в журнале
«Тридцать дней» (№ 9у 1935). Публикуется впервые.
Гольцу на случай, если их все же решат опубликовать (между прочим,
письмо 1935 года тоже из архива Гольца).
Мне казалось, Алехину крупно повезло, что эти письма не
появились в «64». Первое еще куда ни шло, хотя в «привете новой, стальной
России» намек на Сталина довольно прозрачен. А вот второе письмо,
с признанием своих «ошибок», да еще со словами о «международной
противосоветской печати, на протяжении многих лет
привешивавшей мне выдуманный ею белогвардейский ярлык», и о восторженном
отношении к «гигантскому росту советских достижений», сделало бы
его в русском Париже просто нерукопожатным... Какие глупости! Да
плевать он хотел на русский Париж, ему ужасно хотелось поехать в
СССР и вкусить там настоящей славы. И Сталин это хорошо
понимал; потому-то, наверное, и не спешил печатать
«компрометирующие» письма, выжидая, когда Алехин вернет себе чемпионское
звание и лишь тогда позвать в Москву...
Своих восторгов по поводу развития шахмат в СССР Алехин не
скрывал. И еше до писем в «64» публично заявил: «Для меня
явилось бы большим удовлетворением, как для человека вообще и для
человека искусства в частности, если бы я имел возможность
путем участия в каком-либо турнире или литературно сотрудничать
в строительстве шахматного искусства, развивающегося там. Я
открыто признаю, что я не всегда одинаково высказывался по этому
Сговор в Амстердаме
365
вопросу. Но я достаточно честен, чтобы признать это в настоящее
время. Я твердо убежден, что мое участие в турнирах там может
быть реальностью» («Новая заря», Сан-Франциско, 27.03.1936). Но
все эти восторги касались шахмат. В письмах Алехин впервые
заговорил языком советской пропаганды! Недаром говорят: коготок
увяз, всей птичке пропасть.
Вспомнились слова Богатырчука: «Не веря во внезапное
пролетарское перевоплощение Алехина, каюсь, я и тогда (летом 1919-го)
и позже осуждал его за переход на сторону своих злейших врагов.
Осуждал я и его будущую активность... Только теперь, полвека
спустя, я в состоянии посмотреть на алехинскую эпопею глазами,
лишенными всяких политических эмоций, и вижу ныне всё
происшедшее в ином свете». Но был один поступок, которого он ему так и
не простил: поздравление с «годовщиной Октябрьской Революции».
Богатырчук считал Алехина «непревзойденным гениальным
шахматистом», а причину его метаний видел в том, что тот «легко подпадал
под влияние недобросовестных политиков, спекулировавших его
именем»,
Я думаю, дело не в чьем-либо влиянии, а в самой личности
Алехина: заигрывая то с большевиками, то с белогвардейцами, то со
Сталиным, то с Гитлером, он, наверное, полагал, что высокая цель -
звание чемпиона мира - оправдывает любые средства и ради нее можно
иной раз покривить душой. Но жизнь показала: рано или поздно это
ведет к разрушению личности, и чем талантливее человек, тем
гибельнее последствия.
СГОВОР В АМСТЕРДАМЕ
Ботвинник: «Прежнего Алехина нет... Сегодня я с уверенностью
заявляю, что результат матча (1935 года) закономерен и правильно
определяет соотношение сил противников» (из записной книжки
Романовского).
В матче-реванше советская сторона делала ставку на Эйве. Тот же
Романовский в предматчевой статье этого и не скрывал: «Мы не
сомневаемся в том, что Макс Эйве сделает всё для того, чтобы оправдать
творческие чаяния шахматного мира» («Шахматы в СССР» № 9,
1937), А когда «что-то пошло не так», журнал, не дав результатов
матча (!) и не поздравив Алехина, просто начал публикацию партий. И
никаких похвал его игре. Из всех комментаторов на это отважился
один Богатырчук: «Очень тонко и сильно проведенная Алехиным
партия» (о 24-й) и «Блестящая победа - достойный финал
грандиозной борьбы» (о 25-й). Еще показательнее отсутствие итоговой статьи;
только заметки Ботвинника о «теоретической стороне» матча...
366 Чужой среди своих
В матче-реванше (1937) советская сторона делала ставку на Эйве. «Мы не
сомневаемся в том, что Макс Эйве сделает всё для того, чтобы оправдать творческие
чаяния шахматного мира» (Романовский).
В «64» поздравлять тоже не стали. Ограничились подвальчиком на
последней странице под заголовком «Алехин - чемпион мира» с
описанием 25-й партии и коротенькой беседой Флора с Алехиным. «Пока,
кроме предполагающихся Московского и Амстердамского турниров,
крупных соревнований не предвидится. Если получу возможность, -
заявил в заключение Алехин, - то с огромным удовольствием приеду
играть в СССР» («64», 10.12.1937). Об этом он сказал и перед матчем,
отвечая на вопрос, будет ли играть в Москве: «Если я получу
приглашение, то непременно поеду» («Сегодня», Рига, 24.09.1937).
В ходе матча Алехин снова порадовал Москву: «От души
поздравляю шахматистов СССР с двадцатилетием Великого Октября» («64»,
6.11.1937). Телеграмма затерялась среди других «приветствий
иностранных мастеров», но вызвала взрыв негодования в эмигрантской
прессе, по виду даже более сильный, чем в прошлый раз (и
неудивительно: год говорит сам за себя). Во всяком случае, таких заголовков,
как «Гнусный поступок Алехина», тогда не было:
«Алехин замечательный шахматист. Беда, однако, в том, что, как
известно всем, с ним встречавшимся, он страдает манией величия,
Сговор в Амстердаме
367
воображая, что он гений и непременно должен сделать блестящую
карьеру, причем уже не только в шахматной области. Именно исходя
из таких соображений, он и принял в свое время французское
гражданство. Потом Алехин стал искать иных путей для своего
возвеличивания. С того матча, на котором он проиграл шахматное первенство,
он уже послал какую-то приветственную телеграмму большевикам.
Друзья его, однако, объясняли, что послал он ее в состоянии
опьянения. На нынешнем матче Алехин, как сообщают корреспонденты,
уже не появляется в пьяном виде и играет значительно лучше, чем на
предыдущем. Значит, уже не только вином следует объяснять переход
к большевикам этого русского эмигранта-дворянина»
(«Возрождение*, 12.11.1937).
Тот же Богатырчук, потомок запорожских казаков, хвалил игру
Алехина в матче-реванше, но, доведись им тогда встретиться, мог бы
напомнить ему слова Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли тебе твои
ляхи? Так продать? продать веру? продать своих?»...
Для Москвы победа Алехина стала неприятным сюрпризом. Но
делать нечего, надо было возобновлять с ним контакты... Алехин
наверняка недоумевал, почему на его письма в «64» нет реакции, и
послал телеграмму, думаю, как раз с целью напомнитьо себе. Однако все
его «контрагенты» были уже не у дел. Крыленко со дня на день
ожидал ареста (слухи об этом появились еще летом: «Арест г-на
Крыленко, советского министра юстиции, как говорят, неизбежен» - «The
Times», 6 августа 1937), Еремеев сидел на Дальнем Востоке, Ласкер
уехал в США... Оставался Флор, которому уже не раз приходилось
выполнять роль связного (именно он в 1936-м переслал письмо
Алехина из Подебрад). И тот не подведет: после АВРО-турнира недавний
претендент покорно пойдет с Ботвинником на переговоры с
Алехиным и никогда не проронит об этом ни слова - переговоры-то были
тайные, за спиной победителя турнира Пауля Кереса. Ну, а кто дал
добро на матч, догадаться нетрудно. Я уверен, Ботвинник не ошибся,
услышав в молотовской телеграмме (январь 1939-го) голос Сталина:
«Если решите вызвать шахматиста Алехина на матч, желаем вам
полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить».
Но, видно, не судьба была Алехину вновь увидеть Москву! Я как-то
невнимательно читал раньше книгу «К достижению цели». А ведь там
Ботвинник не скрывает: когда из-за начала Второй мировой войны
(1.09.1939) «первый этап переговоров о матче был закончен», чтобы
возобновиться через шесть лет, «по существу, перерыва не было -
вопрос о предстоящем матче красной нитью проходил через советскую
шахматную жизнь тех лет».
Обрывки этой «красной нити» нашел в Государственном архиве РФ
Дмитрий Олейников. В статье «С войной наперегонки» («64-ШО»
368 Чужой среди своих
Алехин на турнире в Кемери (1937). Рядом с ним Грейс Висхар, β центре —
латвийский гроссмейстер Владимир Петров с женой. Из архива В.Дедкова, внука
Петрова.
№ 5, 2013) он опубликовал материалы «Дела № 035-30. Ό
проведении матча на мировое первенство между тов. Ботвинником и
Алехиным (Франция)". Начато 27 марта 1939 г. Окончено 22 марта 1940 г.»,
спрятанного долгие годы от историков в папке Управления делами
Сов-наркома СССР с грифом «Совершенно секретно».
Выяснилось, что с началом войны попытки «достучаться» до
Алехина не прекратились. В начале декабря 1939 года - уже шла
советско-финская война - Ботвинник послал телеграмму (по-русски, но
латинским шрифтом): «Независящим от меня причинам ответ
задержался тчк условия письма 20 июля в основном приняты тчк
реализация мероприятия намечена осенью сорокового года в Москве тчк
по получении Вашего телеграфного согласия последует официальное
объявление».
Невзирая на отсугствие ответа, зампред Совнаркома Андрей
Вышинский, которому было поручено курировать этот вопрос
(насмешка истории: он угробил Крыленко и теперь вместо него занимался
шахматами), 2 апреля 1940 года одобрил решение «опубликовать в
советской печати обращение т. Ботвинника к Алехину по вопросу
о проведении первенства мира», но решил подождать, пока Алехин
Сговор в Амстердаме
369
хоть как-то отреагирует. Ведь после олимпиады в Буэнос-Айресе
(сентябрь 1939-го) тот надолго задержался в Южной Америке, а по
юзвращении в Европу продолжал хранить молчание...
Вы не поверите, но за все время, прошедшее со встречи в «Карл-
тон-отеле» (ноябрь 1938-го), от Алехина пришло лишь одно
письмо (от 20.07.1939), а почти все другие документы, приведенные в
статье Олейникова, это внутрисоветский «бумагооборот» между
Вышинским, Снеговым (новым главой Спорткомитета) и
Ботвинником. Не имеющий прямого отношения к Алехину, но наглядно
показывающий, что виновником в затягивании переговоров был не он,
а советская сторона! Точнее, Спорткомитет, не желавший отвечать
за возможное поражение нашего гроссмейстера.
В сухом остатке вопрос: почему Алехин не ответил на
телеграмму Ботвинника? Да, он мог ее не получить: и послали с
трехмесячным опозданием (в декабре), и на просроченный адрес. Но если б
Алехин хотел прояснить ситуацию, что мешало отправить в Москву
уточняющий запрос? Он что, не понимал, что началась война,
вдобавок он все время в разъездах и ответ может его попросту не
застать?.. Рискну предположить, что по какой-то причине он уже не
проявлял прежнего рвения к матчу. Но по какой?
Михаил Ботвинник договорился о матче с Алехиным сразу после АВРО-турнира
(1938). На снимке: будущие соперники на старте этого эпохального соревнования.
370
Чужой среди своих
В июльском письме Алехин
полон оптимизма: «Я с тем
большей готовностью принимаю Ваш
вызов, что помимо встречи в
ответственнейшем состязании с
лучшим представителем нашего
искусства в СССР - он даст мне
желанную возможность посетить
Вашу родину и раз навсегда
выявить мое истинное отношение
к ней».
Но был в письме один важный
нюанс, не отмеченный в статье,
но о котором пишет в своих
мемуарах Ботвинник: «Чемпион
мира в соответствии с нашей
договоренностью принял вызов и все
условия, кроме одного: он уже
не был согласен с тем, что весь
матч будет проходить в Москве.
Алехин требовал, чтобы вторая
половина матча проводилась в
Лондоне. (...) Я написал Алехину
вежливое, но твердое письмо, где
настаивал, чтобы договоренность
в Амстердаме была подтверждена
и весь матч был бы в Москве».
Ключевые слова:
«договоренность в Амстердаме»! В письме Вышинскому от 27.03.1940
Ботвинник ссылается на председателя Совнаркома «тов. Н.А.Булганина»,
который год назад «распорядился проводить матч в Москве». Но, как
видите, он сам на этом настаивал во время переговоров с Алехиным.
Хотя у нас утверждалось обратное: «Алехин сам поставил условие,
чтобы матч игрался в Москве, где он родился и вырос» («Шахматы в
СССР»№ 10, 1956).
Причину, по которой советская сторона настаивала на Москве,
раскрыл Снегов в письме Молотову от 26.03.1939: «Политическая
одиозность приглашения Алехина в СССР может быть с избытком
компенсирована фактом победы Ботвинника, которая в условиях
проведения матча в Советском Союзе является наиболее вероятной»
(выделено мной). Яснее не скажешь!
Алехин по здравому размышлению, видимо, тоже догадался, ради
чего он нужен Сталину, и понял, что поездка в Москву может стать
Ботвинник настаивал на проведении
всего матча в Москве... Эту открытку
с ошибкой в фамилии артель «Ленфо-
то» выпустила тиражом 15
000экземпляров! Из архива автора.
Сговор в Амстердаме
371
для него роковой. И требование
провести вторую половину
матча в Лондоне - это его
страховка. Ведь за минувшие годы цель
спецоперации, я уверен,
поменялась: если в 1928-м хотели
заполучить Алехина как
такового, то теперь этот дворянчик-
невозвращенец был нужен
только для матча с Ботвинником,
чтобы чемпионом мира стал наш
советский гроссмейстер, плоть
от плоти пролетарской власти
и советской шахматной школы
(после войны это уже и не
скрывалось - см. стр. 411). Отыграв
свою роль, Алехин становился
Сталину не нужен и ничто не
могло гарантировать его
безопасность.
Только окончание матча в
Лондоне служило бы Алехину
гарантией свободного выезда из
СССР. Поэтому «вежливое, но
твердое» письмо Ботвинника с
требованием потвердить
согласие на проведение всего матча
в Москве казалось мне
причиной, по которой он и перестал выходить на связь. Но из статьи
Олейникова я узнал, что Алехину послали только краткую телеграмму
(от 28.08.1939) с сообщением, что «ответ последует», а письмо
вообще не отправили - якобы из-за «отсутствия окончательного
решения» Совнаркома!
Алехин предлагал подписать контракт по его возвращении в
Париж в феврале 1940-го, все условия согласовать до этого путем
переписки (включая пункт о проведении половины матча в
Лондоне), а объявить о матче до подписания контракта и не позже
окончания олимпиады в Буэнос-Айресе (19 сентября). Кто ж знал, что
23 августа СССР и Германия подпишут пакт о ненападении, а через
неделю вспыхнет мировая война, в которой СССР и Англия с
Францией окажутся в первый период по разные стороны баррикад?
Думаю, что и пакт, и последующий дерибан Польши, в котором
поучаствовал Советский Союз, произвели на Алехина гнетущее впе-
Алехин, вероятно, понял, что поездка
в Москву может стать для него
роковой. Требование провести вторую
половину матча в Лондоне — это его
страховка.
372
Чужой среди своих
чатление, и уже во время олимпиады он поставил крест на матче
с Ботвинником. Поэтому ни письмо Михаила Моисеевича, ни его
телеграмма ни на что повлиять, скорее всего, уже не могли: слова
о проведении всего матча в Москве делали его для Алехина
неприемлемым!
БОТВИННИК ИЛИ КЕРЕС?
Завалившись в 12-м чемпионате СССР (сентябрь 1940; дележ 5-6-
го мест), Ботвинник на какое-то время утратил моральное право на
матч за мировую корону. Михаил Моисеевич сам виноват: с головой
уйдя в подготовку к вожделенному матчу, он после 11-го чемпионата
(май 1939) не сыграл ни одной партии, кроме тренировочного матчас
Рагозиным. Когда же летом 1940-го вся Π рибалтика оказалась в руках
Сталина и выяснилось, что в чемпионате СССР будут играть Пауль
Керес, Владимир Петров и Владас Микенас, было уже поздно что-то
менять в подготовке.
Керес тоже совершенно не рассчитывал на такое развитие
событий. Неудивительно, что и его результат оказался средним (4-е
место). Вдобавок эстонец, в отличие от Ботвинника, вряд ли связывал
чемпионат СССР с матчем за мировую корону. Не подозревая о
сговоре Алехина с Ботвинником, он витал в облаках, вынашивая планы
честного спортивного отбора. Вскоре после чемпионата, в статье «0
мировом первенстве» («Шахматы в СССР» № 1, 1941), Керес
предложил, по сути, первую стройную систему розыгрыша первенства
мира:
«Каким образом можно было бы определить наиболее
достойного из претендентов для первоочередного матча? Для ответа на
этот вопрос нельзя обойтись без одного или нескольких турниров, в
которых участвовали бы все претенденты (Капабланка, Эйве, Фаин,
Решевский, Ботвинник, Флор и сам Керес). В них можно было бы
включить и новых кандидатов, которые нуждаются в тренировке с
сильнейшими шахматистами мира.
Можно было бы предложить и другой план: сперва провести
предварительные турниры — "европейский" и "американский", примерно
с 6 участниками в каждом, по 2-4-круговой системе, а затем - финал
с 4 победителями, по два от каждого турнира, по 4-6-круговой
системе. Победитель финала был бы первым кандидатом...
Бушующая в Европе война не позволяет утверждать, что подобные
международные турниры могут быть сейчас проведены. Лишь страна,
где процветает мир — Советский Союз, может взять на себя
организацию такого соревнования.
На основании бесед с Алехиным у меня сложилось впечатление,
что он с подобным планом в принципе согласен».
Ботвинник или Керес?
373
Последняя фраза очень
важна. Ведь эти беседы состоялись в
сентябре 1939 года, когда Керес,
по его словам, «имел
возможность по окончании "турнира
наций" в Буэнос-Айресе
анализировать с Алехиным некоторые
позиции» (до выхода статьи они
больше не виделись). Но зачем,
спрашивается, Алехину так
дотошно обсуждать планы отбора
кандидата «для
первоочередного матча», если он собирался
играть с Ботвинником?
Объяснение может быть только одно:
моя догадка, что уже во время
олимпиады Алехин поставил на
их матче крест, верна. А в ком
же тогда он видел своего
главного соперника? В книге Вальтера
Хеуэра «Пауль Керес» (2004) есть
ответ: «Микенас вспоминает, как
он на олимпиаде спросил
Алехина о том, кто, по его мнению,
ближайший соперник в будущем
матче? Алехин осмотрелся
кругом и, увидев Кереса, показал
рукой в его сторону - вот он...»
Знаете, что больше всего поражает во всей этой истории? Что
даже через год после начала войны, в сентябре 1940-го,
Ботвинник всё еще не оставлял надежды на матч! Вот строки о 12-м
чемпионате из его мемуаров: «Конечно, основной интерес был связан
с участием Кереса: кто теперь, при изменившихся обстоятельствах,
должен представлять Советский Союз в борьбе за первенство мира
с Александром Алехиным?» Представляете: почти вся Европа под
пятой Гитлера, а Ботвинник думает о матче! Хотя... Это сейчас,
ретроспективно, кажется, что такой матч был немыслим. Но Сталин,
напомню, заключив в августе 1939-го с Гитлером пакт о
ненападении, а в сентябре - договор о дружбе, считал его тогда
стратегическим партнером, а в развязывании войны обвинял будущих
союзников по антигитлеровской коалиции.
Вот передовица из «Шахмат в СССР» (№ 5, 1940), за месяц до
падения Франции:
В статье «О мировом первенстве»
(«Шахматы в СССР» № 1, 1941) Керес
предложи.!, по сути, первую стройную
систему розыгрыша первенства мира.
Фото Б.Вдовенко.
374
Чужой среди своих
«Англо-французские империалисты, под предлогом зашиты
Польши, затеяли войну против Германии, стремясь уничтожить
опасного конкурента и утвердить свою мировую гегемонию. Они пытались
внести раздор между СССР и Германией, развязать войну между
двумя великими народами и, оставаясь в стороне, загрести жар чужими
руками... Советский Союз разоблачил провокационную политику
англо-французских поджигателей войны и заключением договоров
со своими соседями обеспечил безопасность своих социалистических
рубежей. Попытка англо-французских империалистов вовлечь
Советский Союз в войну окончилась крахом. Наша доблестная Красная
Армия разгромила финских белогвардейцев и соединенные силы
империалистических государств... Англо-французские империалисты
стремятся вовлечь в войну всё новые и новые страны. Дания,
Норвегия, Голландия, Бельгия и Люксембург уже стали жертвами
империалистических планов англо-французского блока».
Если можно было провести с немцами совместный парад в
захваченном у поляков Брест-Литовске, то почему нельзя устроить
шахматный матч между чемпионами «новой Европы» и СССР - так
сказать, для наведения мостов в сфере культуры? Если б такое решение
приняли, ни Ботвиннику, ни Алехину не было резонов уклоняться от
поединка. Первый получал шанс осуществить мечту своей жизни, а
второму матч сулил хорошие деньги и, что самое главное,
возможность примирения с родиной. К осени 1940 года жизнь Алехина явно
зашла в тупик, и если уж выбирать из двух зол, то сталинская Россия
ему была все-таки ближе гитлеровской Германии...
Помните слова коминтерновца Макса Бартеля о молодом
Алехине: «Политика, в отличие от музыки и литературы, его не
интересовала»? Похоже, это действительно так: в статьях и интервью Алехина
почти нет политики. И о своих политических взглядах он
высказывался довольно скупо. Например: «По взглядам я убежденный
демократ, но не в такой чрезмерно левой форме, как нынешнее
российское руководство» (интервью в «Brooklyn Daily Eagle», 19.05.1929). Вы
что-нибудь поняли? Я лично нет. Потому что к тому времени даже
слепой должен был увидеть: демократия и сталинский режим — «две
вещи несовместные». Да и сам Алехин это хорошо видел и в редкие
моменты откровенности не стеснялся в словах.
Выступая в Париже после победы над Капабланкой, он назвал
советский режим «дикой и бесстыдной фантасмагорией». В юбилейной
статье о Зноско-Боровском (1931) поздравил его от лица «всей
большой, незараженной большевистским дурманом части шахматного
мира». В интервью газете «Toronto Daily Star» (14,11.1932), говоря об
отношении большевиков к нему, заявил: «Да, я им не нравлюсь - и
я антикоммунист!» Во время игравшегося в гитлеровской Германии
матча с Боголюбовым (1934) он выразит свое отношение еще жест-
Ботвинник или Керес ?
375
че: «Секунданту чемпиона мира
на том матче Гансу Кмоху
запомнился банкет у какого-то
партийного бонзы, когда Алехин,
говоря о лидерах, стоявших во
главе режима, воцарившегося на
его родине, закончил тост
словами: "Эти негодяи должны быть
изгнаны из России"» (из книги
Г.Сосонко «Тогда. Шахматные
эссе», 2011).
Каковы же были его
истинные убеждения? Вот строки из
отчета одного из руководителей
масонской ложи «Астрея»
Николая Тесленко, беседовавшего с
Алехиным в мае 1928 года: «...он
не верит в возможность
монархии, является сторонником
демократического строя, но готов
примириться с
конституционной монархией, которая
осуществит демократические
принципы». Как видите, ничего общего
ни с большевистской, ни с
нацистской идеологией.
Мне кажется, главным и
единственно ценным для Алехина
всегда был только он сам, и, как я уже писал, для достижения своих
целей он готов был приспособиться к чему угодно. Жизнь заставила -
пошел на службу к большевикам и вступил в компартию,
представился удобный случай - бросил большевиков и уехал за границу; выиграв
у Капабланки и получив французский паспорт, откровенно высказал
свое отношение к советскому режиму, а стало муторно на душе -
начал слать в СССР покаянные письма; на олимпиаде в Буэнос-Айресе
публично выступил против гитлеровской агрессии, а оказавшись
потом в руках нацистов, - принялся играть в немецких турнирах и давать
сеансы офицерам вермахта...
P.S. Не проявил твердости в нужный момент и Алексей Алехин,
написав (или подписав) в 1928 году письмо с осуждением младшего
брата. Да, на него давили: несколько раз вызывали в ОГПУ; да, ему
было что терять: он был секретарем шахматно-шашечной секции при
ВСФК Украины, то есть фактически возглавлял украинские шахма-
Знаете, что больше всего поражает?
Что даже через год после начала
Второй мировой войны Ботвинник всё еще
не оставлял надежды на матч с
Алехиным! Фото Б. Вдовенко.
376
Чужой среди своих
ты... Но отречься от брата?! Вот Алексею Селезневу тоже было что
терять, но на сделку с совестью он не пошел. Как я узнал из книги
В.Нейштадта и В.Пака «Князь Мышкин шахматного царства» (2007),
в начале 1927 года Селезнева выслали из Москвы, формально - за
нарушение спортивного режима, но это была месть за Боголюбова.
Он уехал в Харьков к Алексею Алехину, с которым дружил с юности.
Их развело то самое письмо, хотя Селезнев отговаривал друга: «Надо
держаться. Нив коем случае нельзя предавать Сашка. (...) Я тоже не
так давно всего натерпелся в связи с отъездом Боголюбова. Как на
меня нажимали! И чтобы заклеймил "ренегата". И перестал с ним
вести всякую переписку. И вот сюда меня в ссылку сослали! Но я
выдержал. Не стал ничего плохого против Ефима говорить».
ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ЗАМОК
Я вот думаю: а вдруг затяжка с переговорами и привела к тому, что
Алехин оказался «на той стороне»? Ведь к началу Второй мировой
войны он уже не питал иллюзий в отношении нацистов. Вернувшись
из Южной Америки в Париж в январе 1940-го, Алехин, по его словам,
сразу «явился военным властям». В мае, когда Германия атаковала
Францию, его «призвали в армию в качестве офицера тыловой
службы и благодаря знанию языков вскоре перевели в разведку в чине
сублейтенанта» («Chess», май 1946).
Как я узнал от Давида Бронштейна, с просьбой о зачислении в
военную разведку Алехин, оказывается, обращался еще во время
олимпиады (чтобы не упустить детали, я сразу записал услышанное):
«На турнир в Монако (1969) ежедневно приходил старый
французский шахматист Виктор Кан - он был родом из России. Ходил с
палочкой, но был всегда в хорошей форме. Однажды он подошел ко
мне и сказал: "Давид, я хочу вам кое-что рассказать". Вот его рассказ:
"Перед войной я служил французским консулом в Уругвае
(Монтевидео). Вскоре после нападения Германии на Польшу мне позвонил
Алехин и попросил разрешения приехать. Он приехал через несколько
дней, очень озабоченный. Мы давно были в дружеских отношениях.
Беседа длилась долго. Он просил меня передать французскому
правительству, что он хотел бы, чтобы его взяли в военную разведку, считая,
что его знание языков может быть полезным. Я сказал: «Хорошо, я
выполню вашу просьбу». Алехин вернулся в Буэнос-Айрес, а я послал
шифровку в Париж»".
После паузы Кан продолжил: u Примерно через две недели пришел
ответ, что просьба Алехина рассмотрена положительно. Я хотел
сообщить об этом Алехину, но он уже уехал из Буэнос-Айреса, и я не
сумел его найти. Жаль, что он не дождался моего ответа... Так Алехин
и не узнал о том, что принят на службу во французскую разведку"».
Злополучный замок
377
Португалия, январь 1940. Алехин отсутствовал в Европе больше года. «Как
только я приехал в Париж, я явился военным властям и теперь жду, когда и куда
получу назначение». Из архива А. Котова.
378
Чужой среди своих
Слова Кана косвенно подтвердил сам Алехин в рассказе о
переговорах с Капабланкой в Буэнос-Айресе: «Когда они начались, я
пошел к французскому военному агенту и по его совету снесся по
кабелю с Парижем. Это вскочило мне в несколько сот франков, но по
крайней мерея был спокоен» («Сегодня», Рига, 3.03.1940).
Но совсем недавно версия с лейтенантом разведки была
поколеблена! В статье «Король в звании рядового» («Алтайская правда»,
20.03.2020) Владимир Нейштадт рассказал о двух находках,
сделанных французскими историками шахмат Домеником Тимонье и Дени
Тейссу. Первый нашел во французском правительственном
бюллетене за 1931 год «запись, в которой Алехин фигурирует в группе
военных переводчиков-резервистов в качестве специалиста по русскому
языку». А второй «отыскал в архиве департамента Сены (в Париже)
военное досье короля шахмат, из которого следует, что Алехин был
призван из резерва как простой солдат, стажер-переводчик с родного
русского, в 3-ю роту управления по тыловому обеспечению № 19»...
Но почему тогда его фотография в «Chess» (май 1941) подписана:
«Д-р Алехин в своей униформе лейтенанта-переводчика»? И вообще:
неужели французские историки не могут уточнить у специалистов по
униформе, кто перед нами - офицер или рядовой?..
«Капитуляция Франции в июне 1940 года застала Алехина с его
частью в Аркашоне (близ Бордо), - пишет Томас Ольсен («Chess»,
май 1946). - Ему посчастливилось выбраться в так называемую не-
оккупированную зону и демобилизоваться в Марселе. В тот момент
он был настроен крайне антинемецки и собирался ехать в
Португалию, откуда надеялся выбраться в Южную Америку, чтобы сыграть
матч-реванш с Капабланкой. Но ему еще не было 48 лет, а по
французским законам мужчинам моложе этого возраста не разрешалось
покидать страну. Тщетны были его попытки получить паспорт в
Марселе и Ницце. И тогда он поехал в Париж к жене... Остальное
известно».
Известно? Как выяснилось, противоречий и туманностей хватает
не только в «остальном», но и в том, что предшествовало поездке в
Париж.
Начнем с 23 июля 1940 года, когда кубинский консул в Марселе
телеграфировал в Гавану своему начальнику Хайме Марине,
возглавлявшему шахматную федерацию Кубы: «Чемпион мира Александр
Алехин просит разрешить ему въезд на Кубу для завершения
переговоров о матче с Капабланкой». Узнав о телеграмме, Капабланка
заявил журналистам: «Я только могу сказать, что готов сыграть всегда
и в любой момент. Всё зависит от содействия кубинских властей и
от конкретных предложений доктора Алехина по проведению
встречи». По словам Александра Сизоненко, автора книги «Капабланка.
Злополучный замок
379
Встречи с Россией» (1988), экс-чемпион даже «конфиденциальным
порядком направил Марине письмо со своими предложениями по
организации матча», в котором, в частности, «стремился пойти
навстречу желаниям Алехина выехать из оккупированной Европы» и
даже «предложил оплатить проезд Алехина» («64-ШО» № 9, 2000).
Однако, приехав затем по дипломатическим делам в Нью-Йорк,
Капабланка резко изменил свое мнение. Алехин узнал об этом только
в марте 1941 года, когда прибыл в Лиссабон... Но нет худа без добра!
Если б не желание Алехина объясниться, истинная причина его
отъезда из Марселя прошлым летом так и осталась бы неизвестной.
Письмо, адресованное «Его Превосходительству министру Кубы»
(Лиссабон, 8.04.1941), было напечатано в майском номере «Chess».
Письмо большое, на французском языке. Алехин пишет, что одной
из причин, вынудившей его вернуться в Париж, было отсутствие у
консула в Марселе ответа на телеграмму от 23 июля «более трех
недель», и он не знал, «какова была реакция г-на Капабланки». Второй
- и для Алехина гораздо более существенной - причиной оказался...
думаете, его возраст, о котором пишет Ольсен? А вот и не угадали.
Алехин: «Между тем г-н Капабланка заявил нью-йоркской прессе:
1) что он рассматривает мое предложение как "предлог", чтобы
получить визу для выезда из Франции. (...) 2) г-н Капабланка ошибся
насчет "предлога" моего поступка: демобилизовавшись на законных
основаниях после перемирия и имея на руках американскую и
португальскую визы, я отлично мог приехать в Португалию в июле
прошлого года, что я и сделал сейчас. Мне помешали совсем иные
обстоятельства: я получил известие, что моя собственность в Нормандии
была разграблена беженцами во время массовой эмиграции в июне,
а затем реквизирована оккупационными властями. Узнав об этом, я
был вынужден вернуться в Париж».
Выходит, если бы не тревога за судьбу замка под Дьеппом,
который Алехин считал «своей собственностью», он спокойно,
невзирая на 47-летний возраст, мог уехать в Португалию еще летом 1940-
го... Чертов замок! Не будь его, не было бы этих злополучных
статей «Арийские и еврейские шахматы». Ведь, как Алехин объяснил
в интервью «News Review» (ноябрь 1944), ему «пришлось написать»
их для того, «чтобы получить разрешение на выезд в Португалию и
Америку». Судя по дате публикации статей в «Parizer Zeitung» (18-
23.03.1941), они и впрямь похожи на «плату» за визу: Алехин
появился в Португалии как раз в эти дни...
В том же интервью Алехин сказал, что его «чисто научные (purely
scientific) статьи были переписаны немцами», и объяснил, почему
Грейс Висхар не уехала вместе с ним: «Его жена, которая должна была
380
Чужой среди своих
NEWS OF Dr. ALEKHINE
NEGOTIATIONS FOR AN ALEKHINE-CAPABLANCA
WORLD-CHAMPIONSHIP MATCH
We were just
able to rush into
Our last issue the
news that Or.
Alekhine was safe
m Lisbon.1 Now
we are delighted
to publish a
contribution from his
pen (pat< 1Ю)
whtch shows that
the genius which
has delighted
millions remains
untarnished by his
trials. Afewweeks
ago, he five a
mammoth
simultaneous display
against over 150
opponents con·
suiting in groups
on 60 different
boards. Next
month he will tell
the extraordinary
story of his experiences during the last few weeks.
As war drags its foul carcase across Europe, many gifted
minds he crushed in its wake. Znosko-Boroviky s mil
alive In Parks, but starving. Dr. Cwklermann. the gifted
franco^Pole who topped the Reserves tournament at
Nottingham, has commuted suicide.
Dr. Alekhlne's sober chronicle li a touching human
document.
He has re-opened negotiations with a view to a
return world's championship match with Capablanca.
Here is the full text of his letter to the Cuban Minister
in Lisbon :—
To summarise — Dr. Alekhlne offers to meet
Senor Capablanca in a title match anywhere in the world,
but holds that it is up to the latter, as challenger for the
title, to make all arrangements. He refutes Capablanca ι
assertion that his original communication was merely a
pretext to obta.n a visa, and asks for a quick reply, as
he is holding over challenges from two young grand
masters who are " perfectly quail
В письме «Его Превосходительству министру Кубы» (Лиссабон, 8.04.1941),
напечатанном в майском номере «Chess», Алехин объяснил причины, вынудившие его
летом 1940 года вернуться из Марселя в оккупированный немцами Париж.
присоединиться к нему позже, осталась в попытке спасти свой замок в
Сент-Обен-ле-Коф, недалеко от Дьеппа, продав его под защитой
американского посольства. Немцы отказали г-же Алехиной в выездной
визе и с тех пор, добавил д-р Алехин, "научно разграбили его дом"».
Интервью было перепечатано в «British Chess Magazine» (№ 12,
1944), и вскоре редактор журнала получил письмо от John J. Hannak
из Нью-Йорка. Фамилия была мне знакома, но вот имя? Оказалось,
это тот самый Jacques (Johann J.) Hannak, автор прекрасных книг
о Стейнице («Der Michel Angelo des Schachspiels», 1936) и Ласкере
(«BiographieeinesSchachweltmeisters», 1952). Π осле аншлюса Австрии
Злополучный замок
381
он был арестован и до мая 1939-го содержался в концлагерях Дахау и
Бухенвальд. Позднее ему удалось эмигрировать в Нью-Йорк (через
Брюссель, Париж и Лиссабон), и в годы войны Жак Ханнак жил в
США, слегка американизировав свое имя.
Хотя письмо очень жесткое, Джулиус Дюмонт поместил его «без
каких-либо колебаний» (№ 2, 1945). Но отметил в комментарии, что
«после (выделено им. — СВ.) публикации статей д-ру Алехину
разрешили присоединиться к жене в Центральной Европе». Но какая тут
связь: статьи написаны в марте, а к жене он «присоединится» в
сентябре, на турнире в Мюнхене? И как вообще немцы могли отказать
американской гражданке в выдаче визы, если Германия объявит
войну США только в декабре 1941 года?,.
Дорогой сэр! С крайним неудовольствием и негодованием я
прочитал «Интервью с д-ром Алехиным» в декабрьском номере вашего
журнала. Вам «нравится тон интервью», и вы находите его «не
лишенным достоинства». Бедный д-р Алехин, вего голове нет ничего, кроме
беспокойства о судьбе любимой жены. Все, кто знает ситуацию,
отреагируют на такое утверждение громким смехом, а вы, я уверен,
принадлежите к тем, кто знает. На свою беду, г-н Алехин сам раскрывает
истинную причину своего беспокойства: он оставил жену в 1941 году
во Франции с целью заполучить доллары в обмен на ее замок. Может,
все ее проблемы и начались с того момента, когда нацисты выяснили,
что происходит с этим замком. Если всё было по закону, то пусть г-н
Алехин объяснит, как стало возможным, что немцы, искавшие весной
1941 года компромисс с Великобританией и Соединенными
Штатами, чтобы напасть на Россию, посмели удерживать силой
американскую гражданку миссис Алехин и шантажировать ее мужа? Я готов
признать за нацистами любые преступления, но они не дураки. Сама
американская гражданка не представляла для них никакой ценности.
В реальности их интересовал только бизнес, а именно процедура
обмена долларов на замок.
И тут появляются «две бредовые статьи» Алехина. Немцы в тот
момент не выпячивали свои расовые теории, ибо всё еще надеялись
привлечь Англию к сотрудничеству против России. Поэтому вряд ли
они фальсифицировали статьи Алехина, и вряд ли такие статьи были
вообще им нужны. А вот если бы кто-то предложил их немцам,
тогда - порядок, давайте опубликуем. И статьи были предложены, и
совершать какие-либо фальсификации не было необходимости!
К несчастью для д-ра Алехина, это не сработало и немцы,
несмотря на проявление доброй воли со стороны г-на Алехина, «научно
разграбили его дом». И, г-н редактор, у вас есть еще много причин
восхищаться этим человеком, «не лишенным достоинства». Со всем
его душераздирающим опытом, со всеми его несбывшимися мечтами
воссоединиться со своей дорогой женой, с непрерывным нацистским
ужасом, нависшим над его головой, г-н Алехин сумел, как он с
гордостью заявляет, выиграть подряд почти дюжину турниров на контроли-
382
Чужой среди своих
руемых нацистами территориях. Поразительная душевная
невозмутимость, поистине философ-стоик.
Я не хочу продолжать расследование этих волшебных сказок. Но
я предлагаю позволить французским властям самим разобраться во
всем этом деле. У г-на Алехина есть очень простой способ
оправдаться и очистить свое имя. Позвольте ему сейчас вернуться во Францию.
Больше нет никаких препятствий. Его страна и его жена ждут г-на
Алехина. Hie Rhodus, hie salta (дословно с латыни; здесь Родос, здесь
прыгай; то есть докажи свои слова здесь и сейчас).
Последнее слово к вам, г-н редактор. Конечно, у вас не хватит
мужества опубликовать это письмо. Так что это не более, чем частный
разговор. Но даю вам хороший совет: не бросайте тень на славную
историю журнала «British Chess Magazine», которым я восхищался в
течение почти сорока лет. Неужели «дух Мюнхена» всё еще жив в
Великобритании? (...) Алехин япя меня - ничто, только символ. Но то,
как чувствует и думает Великобритания, для меня - всё, ибо это имеет
решающее значение для будущего Европы. Вот главная причина, по
которой ваш редакционный комментарий и ваше интервью с
Алехиным заставили меня испытать боль и за вас, и за шахматы, и за всё
наше международное шахматное сообщество.
Искренне ваш,
Джон Дж.Ханнак
15 января 1945
Алехин и после войны продолжал утверждать, что его статьи были
«purely technical», а к «совершенно глупой галиматье, вышедшей из
мозга, начиненного нацистскими идеями», он не причастен... Но
Пабло Моран, автор книги «A.Alekhine: Agony of a Chess Genius»
(1989), отыскал в мадридских газетах два интервью Алехина, которые
заставляют в этом усомниться. Чемпион мира дал их 3 сентября 1941
года, перед отъездом на мюнхенский турнир.
«El Alcazar»: «Он (Алехин) добавил, что в немецком журнале
"Deutsche Schachzeitung" и в немецкой газете "Parizer Zeitung", выходящей
в Париже, он первым попытался рассмотреть шахматы с расовой
точки зрения. В этих статьях, по его словам, он пишет, что арийские
шахматы - это агрессивный, наступательный стиль, а защита - всего
лишь следствие ранее допущенных ошибок. Семитская же
концепция, напротив, признаёт идею чистой защиты, полагая правомерным
выигрывать таким путем».
В «Informaciones» Алехин рассказал о своем намерении прочитать
лекции об «эволюции шахматной мысли в последнее время и о ее
причинах. Это будет также исследование об арийском и семитском
типах шахмат». Говорил и о том, что попал в опалу в США и Англии:
«И всё из-за каких-то статей, которые я опубликовал в немецкой
прессе, и партий, сыгранных мною в Π ар иже прошлой зимой -
против сорока противников (немецких офицеров) — в пользу германс-
Злополучный замок
383
кой армии и программы
"Зимняя помощь"». На вопрос,
какими шахматистами он
восхищается, Алехин ответил: «Особо
отмечу величие Капабланки,
который был призван свергнуть
еврея Ласкера с мирового
шахматного трона». Я читал эти
интервью и могу сказать: никто его
за язык не тянул и наводящих
вопросов не задавал...
У нас в стране до сих пор
«патриотичным» считается
утверждать, что нацисты переписали
статьи Алехина. Однако
Михаил Ботвинник, которого уж
никак не упрекнешь в отсутствии
патриотизма, в послесловии к
первому переводу «Арийских и
еврейских шахмат» на русский
язык («64-ШО» № 19, 1991)
открыто заявил: «Лично я думаю
(хотя ранее никогда об этом не
говорил), что Алехин написал
всё сам: два обстоятельства
говорят об этом. Во-первых, никто
бы не посмел написать
подобную ахинею, а Александр
Александрович смотрел вперед - в случае чего можно было бы заявить,
что он этого и писать не мог. А во-вторых, он выделял Ботвинника,
предвидел возможность проведения матча (ведь в марте 1941 года
Германия и СССР были еще «партнерами») и не считал себя вправе
оскорбить будущего противника в борьбе за мировое первенство».
Добавлю, что те статьи были отнюдь не единственными
публикациями Алехина в «ParizerZeitung», как можно подумать. В 1941-1942
годах там печатались его комментарии к партиям и заметки о
турнирах, поэтому напрашивается вывод, что Алехин - пусть
нерегулярно - вел в газете шахматный отдел. Причем свою партию с
Боголюбовым (Петербург 1914) он поместил в номере от 16.03.1941 - за два
дня до первой статьи «Арийские и еврейские шахматы». Файл с
материалами Алехина оттуда мне прислал чешский историк Ян Кален-
довский, отметив, что чемпион использует в них «практически ту же
тональность», что в статьях. Вот три примера. «Стиль англичанина
В этом здании была редакция газеты
«ParizerZeitung», где весной 1941-го
появилась серия статей Алехина
«Арийские и еврейские шахматы». Из Феде-
рольного архива Германии.
384
Чужой среди своих
Алехин с карманными шахматами, рядом Грейс Висхар. На обороте штамп:
Copyright by Transocean G.M.b.H. Berlin W9 Hermann- Goring-Strasse 9. Знаете, что
такое «Transocean»? Это немецкое информагентство, которое после прихода
Гитлера к власти было передано министерству пропаганды. Из архива А.Котова
(эту фотографию он впервые опубликовал во 2-м томе «Шахматного наследия»
с подписью: «А.А.Алехин за анализом шахматной партии»).
Злополучный замок
385
Стаунтона был характерен для англосаксонского
"идеалистического" взгляда на шахматы: безоглядная материальная выгода любой
ценой!» (20.04.1941). «Одним из самых бессмысленных уроков стей-
ницевской "новой школы" - буквально издевательством над всем
шахматным миром - было его утверждение, что король всегда (т.е. на
всех этапах игры) сильная фигура» (11.05.1941). «Командные матчи
(олимпиады) вообще не проводились в Америке, а в Европу они
регулярно посылали лишь одного коренного американца, старого
Маршалла, и трех-четырех евреев восточноевропейского
происхождения» (17.09.1942).
Прислал Ян и интервью Алехина в чешском журнале «Svet» (16.12.
1942): «В дальнейшей беседе мы доходим и до участия евреев в
шахматной жизни. Чемпион невозмутимо говорит: "В ряде публикаций
я уже указал на эту проблему. Бесспорно, евреи часто выделялись в
шахматах, но это вовсе не значит, что неевреи им уступали. Наоборот,
особо способными евреи не были. Их игра нечиста, основана на
обороне и выжидании ошибки противника. Кроме того, она строится по
принципу воровской победы, когда без зазрения совести крадут одну
фигуру за другой, избегая решающего удара. В этом отражается весь
их менталитет"».
После войны Алехин утверждал: «Я играл в шахматы в Германии
и оккупированных ею странах только потому, что это было нашим
единственным средством к существованию, а также ценой,
которую я платил за свободу моей жены». Биографы любят сгущать
краски: «Чтобы выжить на территории "Тысячелетнего рейха", чтобы
не умереть от голода, надо было зарабатывать на
продовольственные карточки, то есть играть. И он играл». В 1943-м речь
действительно уже могла идти о карточках. Но начиналось-то всё совсем
иначе! Вот хроника «светской жизни» во время турнира 1941 года в
Польше:
«Вскоре после воскресного прибытия в Краков был дан первый
званый обед у губернатора д-ра Вехтера... День прибытия (в Варшаву)
завершился приемом в "Немецком доме" у начальника отдела
службы пропаганды д-ра Штайнмеца, к которому вскоре присоединился
губернатор д-р Фишер, чтобы лично приветствовать участников... Из
богатой варшавской программы особенно выделялись вечерние
приемы в "Адрии" и "Бристоле"... В последнее утро в Варшаве в зале, к
большой радости присутствующих, появился генерал-губернатор д-р
Франк... После окончания партии между Алехиным и Боголюбовым
д-р Франк попросил обоих мастеров прокомментировать ее для
публики, состоящей главным образом из лиц, связанных с вермахтом.
(...) Званый обед в этот богатый событиями день дал городской голова
Ляйст; там гостей приветствовал новый руководитель Варшавского
шахматного общества обербургомистр Дюррфельд... Ночной переезд
386
Чужой среди своих
в Краков сопровождался некоторой задержкой в пути, но на обед у
президента города Павлу участники успели вовремя... Украшением
турнира стал воскресный заключительный прием в городском
замке. Генерал-губернатор д-р Франк сердечно принял своих шахматных
гостей и провел в их обществе несколько часов. Президент Оленбуш
вручил призы; обоим победителям он преподнес на добрую память
картины кисти д-ра Франка с его собственноручными надписями...»
(«Deutsche Schachzeitung» № 21/22, 1941).
P.S. Алехин с юности пытался использовать других людей и
обстоятельства, а кончилось тем, что использовали его... Горькая, но
поучительная история. Вспоминаются слова Макса Эйве: «В его
натуре было что-то детское... Если рассматривать Алехина в этом свете,
то ему можно многое простить: за шахматной доской он был велик,
вне шахмат, напротив, походил на мальчишку, который напроказил и
по своей наивности полагает, что этого никто не видит».
Слова «напроказил» и «наивность», правда, режут слух. Чем? Я
понял это, лишь прочитав замечание Альбрехта Бушке по поводу
книги Морана: «Бетховен, несомненно, был одним из величайших
композиторов, но это не означает, что он был приятным
человеком. Так почему нельзя признать, что Алехин был одним из
величайших шахматистов, хотя человеком он был довольно скверным,
что, я уверен, подтвердят все, кто был с ним знаком. Зачем же
обелять его?..»
ЗАБЫТЫЙ КОНВЕРТ
Не помню уж, почему это письмо немецкого шахматного писателя
Альбина Пётча (1935-2019), присланное им в 1995-м в редакцию
журнала «Шахматы в России», мы не напечатали. Оно пылилось
в моем архиве, пока однажды из любопытства я не заглянул в
конверт. Из него выпали два снимка и статья «Спарринг с чемпионом
мира: франкфуртский гимназист сыграл против Алехина» с тремя
партиями Вальтера Нипхауса. Заинтригованный результатом +2=1 в
пользу юноши, полез в мегабазу, но там ни одной партии Алехина с
Нипхаусом не оказалось. И только в сборнике Скиннера и Верховена
отыскал-таки одну из этих трех. Таким образом, «Русский сфинкс»
пополнит шахматное наследие Алехина не только девятью партиями
из архива Котова, но и еще двумя.
И все-таки странно: если двух из этих партий нигде нет, неужели
г-н Пётч их так и не опубликовал?..
Альбин Пётч: «Известно, что Александр Алехин находился в
Германии или на территориях, оккупированных вермахтом, с осени 1941
года по осень 1943-го. За это время он принял участие в восьми меж-
Забытый конверт
387
дународных турнирах - от так называемого Европейского турнира в
Мюнхене (1941) до второго турнира в Зальцбурге (1943). Он
участвовал также в многочисленных сеансах одновременной игры,
консультационных партиях и т.д. Вот что говорится, к примеру, в "Deutsche
Schachzeitung" (№ 5, 1942): UB последние недели чемпион мира д-р
Алехин совершил турне по юго-западной Германии... и дал
множество сеансов одновременной игры". Сообщается о дальнейших
выступлениях Алехина в Вене, Берлине, Мюнхене, Бремене,
Магдебурге и других городах. Удивительно, но немецкая шахматная пресса
мало заметила эти события. Были опубликованы только
консультационные партии с д-ром Франком (1941) и партии небольшого матча
с Боголюбовым (1943).
В поисках других шахматных свидетельств этого периода я
наткнулся на след немецкого мастера Вальтера Нипхауса (1923-1992). 4
апреля 1942 года он принял участие в сеансе Алехина во
франкфуртском Пальменгартене и победил чемпиона мира. (В сборнике Скинне-
ра и Верховена в качестве сеансовой приведена 1-я партия матча — см.
№ 40. И еще: в статье Пётча просто текст партий, все примечания
принадлежат мне. — С. В.)
Сеанс во Франкфурте, 4 апреля 1942. Второй справа — 19-летний гимназист
Вальтер Ηипхаус, выигравший у Алехина. Из архива А.Пётча (Германия).
Публикуется впервые.
388
Чужой среди своих
№ 39. Испанская партия С77
АЛЕХИН-НИПХАУС
Франкфурт, сеанс, 4.04.1942
1 .е4 е5 2. f3 сб З.ДЬ5 аб
4.i.a4 £}ff6 5.£k3. Этот
некогда модный ход ныне на втором
плане.
5...i_c5 6.Ώ:β5 Ώ:β5 7.d4
i.d6 8.de Д:е5 9.0-0 0-0 10.
Wd3 h6. Точнее 10...2e8!? или
10...Ь5!? П.ДЬЗ ДЬ7 с отличной
игрой.
11 .ff4 (заслуживало внимания
ll.£>d5!?) 11...i_:c3 12. be.
12...d5! Смелая жертва
качества, делающая честь гимназисту.
1 3.iLa3 (чемпион принимает
вызов) 1 3...de I 4.*е2?
Типичный сеансовый промах -
необходимо было 14.We3.
Теперь же «испанский» слон
выпадает из игры и черные
развивают мощную инициативу.
14...b5 15.i.:f8 »:f8. Еще
сильнее было бы 15...<£>:ί$! 16.
&ЬЗ с5.
1 б.ДЬЗ «с5+ 1 7.ФИ1 Й:сЗ
1 8.f5? Равносильно
самоубийству.
18...С5 19.а4 с4 20.i.a2
i.:f5 21.2ab1 Ддб 22.£fe1
ih7 23.ЙеЗ Ш:с2 24.2а 1 - g4
25.Wd4 *f2 26.»d6 #f6.
Эффектнее 26...Sd8! 27.W:d8 Wf4 28.
Wh4 £M2+.
27.*g3 £>ff2+ 28.ig1 i^3
29.Eff1 *d4+ 30.ih1 e3 31.
*f3 Де4 32.Ше2 £>ff4 33.2:f4
W:a1 + 34. Oil Wd4. Белые
сдались.
Научившись играть в шахматы только за четыре года до этого,
19-летний гимназист (всего пять дней назад отметивший день
рождения) очень быстро стал одним из лучших игроков в родном городе.
Алехин был настолько впечатлен игрой юного соперника, что
пригласил его на дальнейшие встречи во время своего пребывания во
Франкфурте. Η ипхаус писал мне об этом в сентябре 1992-го:
"Мы сыграли неофициальный матч и несколько
консультационных партий с контролем времени, множество блицпартий в
чердачном номере отеля на главном железнодорожном вокзале - играли
ежедневно в течение почти четырех недель, в присутствии г-жи
Алехиной и кота... Это было веселое время, и спиртного, к слову, мы не
пили. До самой смерти Алехина я состоял с ним в постоянной
переписке..."
К сожалению, мне не удалось получить от Нипхауса
дополнительной информации, потому что 2 ноября 1992 года он неожиданно
скончался.
Забытый конверт
389
•"••ι
^%
Открытка, присланная Нипхаусу с турнира в Зальцбурге: «С наилучшими
пожеланиями от—в данный момент — очень уставшего от шахмат. Д-р А.Алехин. 18/
VI1942» (а не 1943, как кто-то исправил). Далее идут подписи участников
турнира, собранные Алехиным для своего юного друга. Из архива А.Пётча (Германия).
Публикуется впервые.
№ 40. Итальянская партия С50
АЛЕХИН-НИПХАУС
Франкфурт(м/1), апрель 1942
1.е4 е5 2.ФсЗ £>ff6 З.Дс4 Дс5
4.d3 d6 5.iLe3 (популярнее
5.f4 или 5.4Ы) 5...^с6 6.£tf3
i.g4 7.ИЗ Деб. Проще было
7...Д:0 8.Ш:П £>d4, но Нипхаус
решил разменять грозного
белого слона.
8-ДЬЗ £.Ь6 9.Wd2 d5 10.ed
£>:d5 11 .£>:d5 i.:d5 1 2.i_:d5?!
Ускоряет развитие черных (12.
We2 или 12.0-0-0).
12...W:d5 13.0-0 0-0-0 14.
Sf el ?! (вероятно, зевок) 14...
i_a5 1 5.b4? Надо было искать
спасения в эндшпиле: 15.c3W:d3
16,W:d3 S:d3 17.b4! ДЬ6 18.Д:Ь6
ab 19.£>:e5 и т.д.
1 5...iL:b4. Теперь белым
совсем худо.
16-сЗ £а5 17.&ed1 e4 18.
de W:e4 19.Wb2 Ша4?!
Точнее было 19... Wc4!
20.^d4?! (20.Sdcl) 20.^е5
21.Sab1 £.Ь6 22.£.f4 2he8
23.We2Wc4 24.Wh5.
390
Чужой среди своих
24...g6! 25.W:h7 £>d3 26.i.e3
Se4 (26...Ш:а2!) 27.£tb5??2:e3!
Белые сдались.
№41. Французская защита С15
НИПХАУС - АЛЕХИН
Франкфурт(м/4), апрель 1942
1.е4 еб 2.d4 d5 3.' сЗ ДЬ4
4.i.d3 c5. В легендарной
партии Алехин — Васич (Баня-Лука
(сеанс) 1931) было сыграно 4...
Д:сЗ+ 5.bc h6 б.ДаЗ £>d7 7.Ше2
de 8.Д:е4 &gf6 9.£d3 Ь6?? (9...с5!)
10.«f:e6+!!fell.£g6#.
5.dc d4 (надежнее 5...de, но
Алехин не хочет менять ферзей)
6-аЗ Д:с5 7. се2 сб 8.f4!7
Юный соперник тоже рвется в
бой.
8...£tf6 9.£>ff3 a5 10.0-0
£>д4 11 -Wd2 h6. Немедленное
U...£te3! 12.Sel 0-0 удерживало
примерное равновесие.
12.ih1 £>еЗ 13.йе1 е5 14.
сЗ Ъд4 15.cd ed?! (верно 15...
0-0) 1 6-^дЗ. Получая
прекрасные шансы на атаку.
16...0-0 17.ЙС2 Ь67! (17...
ШЪЬ) 1 8.ИЗ еЗ 1 9.*f2 Деб
20.£th5 f57 (упорнее 20...g6)
21.*дЗ *с7 22.£.b5
(решало красивое 22.Ь4! ab 23.2:еЗ! de
24.£b2) 22...fe.
23.iL:c677 Роковая
перестановка ходов. При 23.Д:еЗ! de 24.Д:с6
ef 25.Д:а8 черные на грани
гибели: 25...f2 26.2:еЗ Д:еЗ 27.Ш:еЗ
Дс4 28.ШП и т.д.
23...^f5 24.*д6 *:с6 25.
- е5Ше826.д4Ш:д6 27.£t:g6
еЗ 28.gf. Плохо 28.£>:fB £d5+
29.ФИ2 £>h4 и т.д.
28...2:f5 29.£>дЗ 2ff6 30.f5
i.d67! (решало 30...i.:f5) 31 .fe?
(упорнее 31.Д:еЗ! £.d5+ 32.<&h2
de 33.E:e3) 31...£.:g3 32.£>e7+
ih7 33.£>d5 S:e6 34.Sg1
i_e5 35.2e1 2d8. Дела белых
плачевны.
Забытый конверт
391
З6.£*:е3 Дд37 Ответная «лю- Д:е1 Д:е1 41.Sad 1 ДдЗ 42.
безность». После 36...de 37.Д:еЗ S8d7 £ff4. Ничья. Черных вы-
к\Ы - занавес. ручает ограниченность оставше-
37.Sd1 de (37...iLc7=) 38. гося на доске пешечного мате-
2:d8 e2 39.£d2 elW+ 40. риала.
Представляю читателям также факсимиле открытки, которую
Алехин послал Нипхаусу с зальцбургского турнира (1942). Текст
гласит: "С наилучшими пожеланиями от - в данный момент - очень
уставшего от шахмат. Д-р А.Алехин. 18/VI 1942". И дальше мы узнаём
подписи Кереса, Юнге, Боголюбова, Земиша, Бринкмана, Шмидта,
Опоченского и Штольца.
Необходимо еще упомянуть, что Алехин отправил из Франкфурта
письмо в германский Шахматный союз, опубликованное в "Deutsche
Schachzeitung" (№ 5, 1942):
"Главная цель этих строк - порекомендовать вам, Великогерман-
скому шахматному союзу, г-на Η ипхауса. За последние дни я сыграл с
ним во Франкфурте множество легких партий, в которых он проявил
себя с лучшей стороны, и у меня сложилось впечатление, что у него
Партия Боголюбов — Алехин (Зальцбург 1942). Снимок сделан после ходов 1.е4 сб
2.d4d5 3.£te3de 4.£):e4£f6. В центре Грейс Висхар. Из архива А.Котова.
Публикуется впервые.
392
Чужой среди своих
явно мастерский уровень. Его сила заключается прежде всего в
большой тактической находчивости и удивительном - в столь молодом
игроке - знании эндшпиля. После Клауса Юнге (Гамбург) я еще не
встречал в Германии ни одного юного игрока такого дарования".
Благодаря алехинскому письму Нипхаус смог принять участие
в отборочном турнире к чемпионату Германии (Бад-Эльстер, май
1942), который он выиграл в превосходном стиле, опередив Земиша
и Рельштаба. Таким образом, чемпион мира дал импульс развитию
шахматной карьеры Вальтера Η ипхауса!»
СЮРПРИЗ ОТ АЛЕХИНА
Когда осенью 1994 года мне позвонил Игорь Хабаров (см. о нем в
предисловии к разделу «Парижский автограф») и сказал, что в годы
войны Алехин вел шахматный отдел в «одной берлинской русской
газете», я решил, что он чего-то напутал: уж больно невероятным было
услышанное!
Но вот передо мной стопка ксерокопий. В глаза бросается
объявление: «Редакция "Нового слова" отмечает с чувством особого
удовлетворения, что, начиная с сегодняшнего номера, редактирование
шахматного отдела нашей газеты принял на себя чемпион мира и
Европы А.А.Алехин. Мы не сомневаемся в том, что это известие будет
принято всеми нашими читателями-шахматистами с живейшим
интересом и с чувством признательности к нашему славному
соотечественнику, который, несмотря на ограниченность своего времени,
пожелал установить тесный контакт с широкими кругами русских
любителей шахматного искусства» («Новое слово», 4.08.1943).
В том же номере - обращение Алехина к своим будущим
читателям с автографом чемпиона:
«Я с большой радостью откликнулся на сделанное мне редакцией
"Нового слова" предложение войти в контакте многочисленной
русской шахматной публикой — посредством шахматного отдела
"Нового слова". Правда, технически для меня это представлялось почти
невозможным, так как мне, как Уполномоченному по делу пропаганды
шахматного искусства Европейского шахматного союза, —
приходится очень много разъезжать. Поэтому в дальнейшем для меня является
необходимым, для обеспечения непрерывного ведения отдела,
техническое сотрудничество бывшего редактора П.ГСпенглера.
Чтобы отдел выполнил свое задание и имел успех — необходимо
установить тесный контакте читателями. Для этого надо,чтобы они
поверили, что на их письма и запросы редакция будет откликаться с
должным вниманием и сочувствием. Имеется в виду, в недалеком
будущем, организация турнира по переписке читателей "Нового слова".
Технически этот вопрос разрабатывается.
Сюрприз от Алехина
393
Это главное, что касается организационной части. Но есть и другая
сторона, а именно то, что шахматы для большинства из нас -
являются искусством. И вот те, кто искренно желает усовершенствоваться в
этом искусстве, - пусть прямо и просто π ишут мне о своих сомнениях.
По мере возможности им всем будут даваться ответы.
С этими мыслями я приступаю к ведению шахматного отдела в
"Новом слове"».
Как оказалось, Алехин вел отдел в « Новом слове» («Nowoje Slowo -
Neuen Wort») ровно полгода: с 4 августа 1943-го по 30 января 1944-го.
Еженедельный отдел состоял обычно из комментированной партии,
необязательно Алехина: тут и Боголюбов, Керес, Юнге, Земиш, Бар-
ца... Всего «под редакцией чемпиона мира и Европы А.А.Алехина»
вышло 25 номеров.
С Павлом Спенглером он имел беседу еще на турнире в Праге,
плодом чего стала большая статья «А.А.Алехин», украшенная его
фотографией с котом Чессом и надписью: «Читателям "Нового слова".
Прага, 1 мая 1943. А.Алехин». А вскоре, будучи в Берлине, Алехин
посетил редакцию. В беседе с главным редактором он «поведал о своих
новых планах, о предстоящих состязаниях в разных странах и о
работе по выпуску специальной литературы» - и пообещал «написать для
газеты ряд статей по шахматному вопросу» («Новое слово», 7.07.1943).
(ftШДХМАШ^
Под редакцией чемпиона мира и Европы А. А, АЛЕХИНА
Д. А. Алехин - читателям „Нового Слова"
^Я с 1об>др£ -радости* оил» s».r*™ »■ Дох.-^дегож, ι :лд1и~г^ мрсшсм
дигЕое 1гне реяавпПеЯ сН η в о г о С .ι оря» чптатм*И <Hrp?r« Сдо*я>, Т»хялл*<:кл
предложен* воптп в контакт с мяоголпг.и'П· ρτλτ вппрпг. рдяр«£|»тн«Афгде.
вое русской тпахмятноп nvrt.ittKtH — nnrpoi- £ТР| главп*о, ятл K/tt&nM лртаяитппдял*
CTT0U ШЯХИВТЯмгО ОТДЕЛА «Н О В л Г О Π η η в а». Пй,гп Цо есть и ЛГУГМЧ гтороял. * ПМ*ЯВГ»
ПряВЛА. ТРХРПЧОГЬП ЛЛЯ ЦВ||Я >*0 np<"'1«*TAJ4B· 1л 7гГ> iftuTMATK! ДНЯ Лл'ЫППЯГТЯА Ч'1 ВЧГ. —
ЛОСЬ ПОЧТП ЩЙ0Л«*»#КЫМ. ТПК К |К МП« Vrtt. ЯВТР.У'Т Л M-n;r<*/-TB"V И Л^Г 1». ΚΓΛ ЛГУр^ПЯ*
У€ОЛЯ»М0Ч«>ПЯ0«Т Μ Д<*Лу Нр'ПНГЛНЛЫ МЗХИЯТ· ДО/ДО" ·. пцлрш-Л/,ТТ^РДТЬ<-Я Β ЯГАМ it'TJVT!»·
вот пр.ктсствл Κρ;·^π·-ηΓκ«4-> пт*«ат1юГ0 со*"*я _ err*t. прпчя г ггрогто ηιιο,νΐ миг о cFnnt
— П]»ПХЛЛПТГЯ ПЯеЯЬ ντίΛΓΟ pniV"-.:--nn, Π·*- спиЯ'Л:· * По Игр-' ВОЭДОЯ'ЯЛ'ГЯ, ЯМ ЛГРи Л.Г-
BT0VT в ДлЛмтоПгШЯ.'! для меня птлягтгя п*^'· JVT дакЛ1.ьгя ptp*t»i
ХОЛПМЫМ. 31* ^"ТП'-'ННГЯ Я^ИрГ'рЫВНлТО »*· Г »ТММИ Uhirlilir Я npncTVniP Я В*Л*ППГ>
Д#ЯЯЯ 0ТЛ«ЛЯ. Τ^ΜϊΗΜΡΓΚΟΛ pOTpf flitU'WRW· С·!·»· maiXHTAVMO ОТДРЛЯ 8 <Н 1 6 Л U Г Л О В Я»,
шего роз^тора Π Γ Сие*гл#ря.
Чтобы от2сл выпвмкй'4 Свое алдявлс π имел
тсп«ч — в^лЛтп.п·»!'· угцплкпть ттяыП 1;лВ
ТАКТ С ЧЛ7ЯТ*ЛЯ\<Я Л'Я лТпГП Ид ДО, MlOt'.i, ПЯЛ
повернлп. 1ΤΛ па пх ллсьм* л a'tnponw pw.iR·
Пия f)\nn WW ткптьол с дллжлмм ллпмпплгм
ж солувг.тап^м Им»ч»тся ε япд.т, в щЩА.хчммл
гДЛ-
+Ί
Отдел в берлинской газете «Новое слово» Алехин вел с 4 августа 1943 года по 30
января 1944-го. Всего «под редакцией чемпиона мира и Европы» выиыо 25 номеров.
394
Чужой среди своих
Беседа как беседа, но одна фраза стала для меня откровением:
«Алехин очень интересуется развитием шахматного искусства среди
рабочих из России, а также постановкой шахматного спорта в
военных добровольческих частях». Знаете, о чем речь? О Русской
освободительной армии - РОА! Ни до, ни после я не встречал в печати
упоминания о его интересе к этой теме.
...По странному совпадению, как раз в те дни, когда позвонил
Хабаров, я читал мемуары известной «русско-парижской»
писательницы Ирины Одоевской - и вдруг наткнулся на ее дневниковую запись
1942 года, ударившую как хлыстом: «Достаточно прочесть два номера
берлинской газеты "Новое слово", чтобы понять всю ничтожность,
лакейство, продажность, всю подлость русской души, когда она хочет
выслужиться, отличиться».
Убийственная характеристика! Впрочем, к шахматному отделу,
появившемуся в газете с 17 февраля 1943 года, она не относится: в нем
никакой политики, одни шахматы, причем на весьма хорошем
уровне. К тому же отдел очень русский. В чем заслуга его ведущего Павла
Германовича Спенглера (1901-1951) - уроженца Петербурга, скон-
Со своим любимым котом Чессом. Обе фотографии сделаны в Праге в 1943 году
К. Гайеком. Слева — из архива А.Котова, справа — из архива 3.Заводного (Чехия).
Сюрприз от Алехина 395
Прага, 20 апреля 1943. Одна из последних партий с Паулем Кересом... Именно на
этом турнире была надписана фотография с Чессом (среди приведенных мной ее
нет):«Читателям "Новогослова". Прага, 1 мая 1943. А.Алехин».
чавшегося в далеком Сан-Франциско. Он писал не только для
«Нового слова» и еще одну статью об Алехине закончил такими словами:
«Алехин беспредельно любит Россию и русский народ. Недаром он
русский, в его шахматном искусстве — подлинный русский размах»
(«Заря», Берлин, 19.03.1944). Для газеты, выходящей в арийской
столице, такой пассаж, согласитесь, выглядит вызывающе!
«Новое слово» читали не только эмигранты, но и десятки, а
может, и сотни тысяч наших людей, угнанных на работу в Германию,
военнопленных и даже бойцов РОА. Каждую среду выходила
рубрика «Розыски»: «Разыскиваю среди военнопленных брата Ивана Ла-
рионовича Пуренок из с. Брагин, Полесская обл. В плену с 1941 года.
Писать: Marija Purenok, Koln...» или «Разыскиваю племянницу Раису
Логвиновскую, выехавшую на работу в Германию. Писать: Marfuscha
Butkova, Berlin-Weissensee...» Сотни, тысячи криков о помощи.
Вот ради них-то, несчастных соотечественников, волею судеб
оказавшихся на чужбине, и вел, хочется верить, свой отдел Алехин. Как
ни хрупка была эта связь с истекающей кровью родиной, но она была.
И наверняка Алехин получал весточки от читателей-шахматистов, и
можно только догадываться, что испытывал он, читая послания на
родном языке...
396
Чужой среди своих
А как же тогда партии с гауляйтером Франком, спросите вы?
Отвечу вопросом: а разве Алехин не мог измениться за годы войны? Да,
в октябре 1941-го он, может быть, и вправду приехал в Польшу в
ожидании скорого падения Москвы, поверив, что миллионы пленных -
лишь доказательство того, что народ не хочет защищать сталинский
режим.
Вотчто сказал мне в интервью Борис Вайнштейн, возглавлявший в
годы войны Всесоюзную шахматную секцию:
«Кстати, вы не задавались вопросом, зачем в октябре 1941 года
Алехин оказался в Польше? Ведь условием его сделки с немцами было
участие в "панъевропейском" турнире в Мюнхене... Так вот, спустя
годы его сын, выступая в Москве на открытии турнира памяти
Алехина (1956), сказал, что отец всю жизнь мечтал вернуться. А незадолго
до этого, во время турнира претендентов в Цюрихе, он в беседе с Ко-
товым обмолвился: отец собирался вернуться в Москву, но... вместе
с нацистами! И тот "панъевропейский" турнир, оказывается, должен
был пройти в Москве и только по причине краха блицкрига был
перенесен в Мюнхен» («Шахматный вестник» № 8-9, 1993).
Но разве потом, когда стали доходить слухи о зверствах
гитлеровцев, когда задымили печи крематориев, не могло наступить прозре-
АВРО-турнир, 19 ноября 1938. Последняя встреча за доской Алехина и Капаб.аанки.
Сюрприз от Алехина
397
ние? Кто знает, что творилось в душе Алехина, когда в декабре 1942
года, сраженный тяжелейшей скарлатиной, он оказался на пороге
смерти в пражской больнице? Не осознание ли того, что невозможно
уже ничего ни вернуть, ни переменить, и надломило чемпиона,
превратилось в каждодневную муку - и в конечном счете убило его?..
А теперь обещанный сюрприз от Алехина. Считалось, что его
примечаний к знаменитой партии с Капабланкой из АВРО-турнира,
сыгранной в день 50-летия кубинца, не существует. Но это не так!
Оказалось, Алехин прокомментировал ее в своем отделе (18.08.1943). И я
рад, что первым познакомил шахматный мир с этой находкой
(«Шахматы в России» № 1, 1995).
Поскольку комментарии Алехина целиком никогда больше не
публиковались (Каспаров в «Моих великих предшественниках» привел
лишь несколько примечаний, но не указал газету, поэтому
непонятно, откуда они вообще взялись), думаю, стоит дать первоисточник.
№ 42. Французская защита С06
АЛЕХИН - КАПАБЛАНКА
АВРО-турнир, 19.11.1938
Комментирует А.Алехин
1.е4 еб 2.d4 d5 3.^d2.
Значительные критики ломали себе
голову над тем - почему я в этой
партии избрал столь
малообычный вто время вариант. Пришли
к заключению, ничем не
совпадающему с действительностью.
По существу же, я, во-первых, не
думал, что Капабланка будет со
мной играть французскую
партию; во-вторых, на этот случай
я имел в виду некоторое
обострение системы, примененной
Кересом в одной из
предыдущих партий того же турнира, а
именно: на с7-с5 я думал играть
4.iLb5+ £ю6 5.<agO (в партии
Херес — Капабланка было: 4.ed ed 5.
QgP £)с6 6.Ab5 We7+ 7.±e2!cd 8
0-0 Шс7 9.£Sb3 с небольшим
преимуществом белых).
3...£}f6. Этот ход явился для
меня неожиданностью, так что
дальнейшее было уже полностью
плодом вдохновения, а не
домашней подготовки.
4.е5 £>ffd7 5.i_d3 c5 б.сЗ
£к6 7.£>е2 ШЪЬ 8.ЗДЗ cd 9.cd
ДЬ4+ 10.if 1. Трудно сказать,
какой ход - в тексте партии или
10..£Ld2 - лучше. Явно то, что 10.
ФП ведет к более
темпераментной игре, тогда как на Ю.Дс12
черные могут форсировать
размен ферзей. Я же именно в этой
партии стремился выиграть во
что бы то ни стало, потому что
у меня было какое-то своего
рода предчувствие, что это будет
моя последняя партия с
Капабланкой. Правда, могло случиться
иначе, так как мы могли еще
сыграть на Шахматной олимпиаде
в Буэнос-Айресе, но он от этой
встречи уклонился.
С.Прокофьев: «Оченьмне
нравится задор Алехина. Cmowi он ему не
одной партии, но зато это игра с
перцем» (спецвыпуск
«Амстердамский матч-турнир», 25. //. 1938).
398
Чужой среди своих
10...iLe7. Нельзя рокировать
из-за жертвы слона на h7.
11.аЗ £>ff8. Начало сложной
перегруппировки, не
приводящей к удовлетворительному
результату. Ясно, что и рокировка
была малопривлекательной из-
за 12.Шс2, что вызывало очень
серьезное ослабление
королевского фланга черных.
12.Ь4 i_d7 13.i_e3 £>d8 (в
надежде на возможность ДЬ5)
14.£>сЗ.
14...а5. Опять неудачный
маневр, но таковые обычно
делаются в уже скомпрометированных
положениях. Черные надеются
на ход 15.Ь5 ответить 15...а4 с
некоторой контригрой. Но следует:
1 5.сл4 Йа7 1 6.Ь5 Ь6.
Теперь положение на ферзевом
фланге окончательно
определилось и белым надлежит
пробудить к деятельности фланг
королевский.
17-g3 ff5 18.Фд2 &f7.
Стремление черных с этого момента
направлено на то, чтобы сыграть
g7-g5. Белые, конечно, будут
всеми силами этому препятствовать.
19.*d2 h6 20.И4 £>h7 21.
h5! Окончательно пресекает
угрозу хода g7-g5.
Правда, ход в партии дает
черным коням во временное
пользование пункт g5, но зато
обеспечивает пункт g6.
21...£tfg5 22.£th4 £>е4 23.
Wb2. Черные теперь не могут
помешать коню занять
доминирующую позицию на g6, так как
размен его после 24.gh! стоил бы
жизни коню е4 (если 24...0-0 с
идеей 25.β /4 26М1 Qg3=, то
просто 26.JL/2).
23...if7 24.ff3 £>ед5. Теперь
начинается пролом королевской
позиции черных.
25.д4 fg 26.i_g6+! ig8
27.f4.
27...£tf3. И на другие ходы
последует то же, что и в тексте.
28.£.:h7+S:h7 29.£tg6£d8
30.2ас1! На первый взгляд
этот ход кажется ненужным и
более простым представляется
маневр <&g2-g3:g4, выигрывая
коня. Но на деле оказывается, что
черные при этом получали
неплохие шансы, продолжая 30...
Ботвинник против Вайнштейна
399
2с8 31.Нас1 (если 31.Ф^4, то 31... 30...^.е8. Почти
безнадежна, спасая фигуру) 31...Пс4, и ный ход, как выясняется через
черному коню еще далеко до ги- несколько ходов,
бели. 31.ig3 *f7 32.i:g4 - h4
Ход в партии этот шанс уни- 33.^:h4 W:h5+ 34.ig3 ШП
чтожает и отнимает у черных 35.<5^f3, и черные сдались (точ-
возможность игры на линии «с». нее, просрочили время).
БОТВИННИК ПРОТИВ ВАЙНШТЕЙНА
В постановлении, принятом в Москве на первой за всю войну
Всесоюзной шахматной конференции (июнь 1944), один пункт поверг
меня в изумление: «Конференция обратилась с дружеским
приветствием к шахматистам Великобритании и Соединенных Штатов
Америки и других свободолюбивых стран и высказала пожелание о
том, чтобы Всесоюзная шахматная секция взяла на себя инициативу
разработки статута розыгрыша звания чемпиона мира».
Это как же понимать: как призыв лишить Алехина шахматной
короны и передать ФИДЕ чемпионат мира?! Но СССР тогда еще не
входил в ФИДЕ, а «разработка статута розыгрыша звания чемпиона
мира» - это, как ни крути, задача международной федерации, а не
отдельно взятой секции... Сначала я думал, что это был пробный шар:
подкинуть союзникам наживку и посмотреть на реакцию. И только
открыв книгу В.Хеуэра «Пауль Керес», узнал, что идея упорядочить
розыгрыш первенства мира, ограничив чемпиона в выборе
соперников и лишив возможности годами отлынивать от матча, возникла
у американцев еще в 1943 году. По словам уже знакомого нам Жака
Ханнака, «Файн был первым, кто высказал эту мысль; сначала в
кругу друзей, а потом в большой статье.
Я нашел ее в журнале «Chess Review» (октябрь 1944). Заявив, что «с
1939 года Алехин является чемпионом только номинально», Ройбен
Файн в статье «Мировой чемпионат» предложил новую систему
розыгрыша чемпионского звания: каждые два года проводить турнир 6—10
сильнейших шахматистов мира (если 6 участников, то в 4 круга, если
8-10, то в два). В качестве первого шага-устроить после войны в Нью-
Йорке двухкруговой турнир в составе: Алехин, Ботвинник, Эйве, Файн,
Флор, Керес, Решевский и Смыслов. Причем, по мнению Файна,
участие чемпиона мира было вовсе не обязательным: «Если Алехин
откажется от участия, то турнир следует провести без него. В этом случае
заменить его должен участник, избранный международным комитетом».
Он тогда был полон оптимизма и верил, что в Америке наверняка
найдутся двести-триста любителей шахмат, каждый из которых готов
400
Чужой среди своих
ил iffr мглфрпп
ш
Последнее время почти каждый разговор с ним я начинаю словами:
I «Борис Самой лович. ну почему вы не пишете воспоминания?» Мне и
впрямь досадно, что годы идут, а аоз и ныне там. Вот уж восемьдесят
шесть исполнилось... Но сам он спокоен: «Не волнуйся, Сергей, всё. что
судьбой отмерено, успею». Видимо, так уж устроен человек: пока попон
замыслов, ему всё нипочем.
Мне довелось быть редактором трех книг Б.ВаЙнштейна: «Мыслитель*
1 (о Эм.Ласкере), «Ловушки Ферзьбсри· (читатели постарше наверняка
(помнят ироничного «гроссмейстера Ферзьбсри») и... «Международный
турнир гроссмейстеров* (Цюрих. 1993). Да-да, не удивляйтесь, теперь
уже можно открыть этот маленький секрет: Борис Самойлович
фактически соавтор знаменитой книги Д.Бронштейна.
В годы войны Б.ВайнштеЙн, в то время ответственный работник НКВД,
возглавлял Всесоюзную шахматную секцию. Я знал, что причиной его
отставки послужил вопрос о матче Ботвинника с Алехиным. Это и стало
основной темой нашей беседы.
Борис ВАЙНШТЕЙН:
Сергея воронко»
ков
У/ МАТЧ БОТВИННИК - АЛЕХИН %
ν все равно не мог состояться ψ
В годы войны Борис Вайнштейн возглавлял Всесоюзную шахматную секцию. Всю
жизнь он хранил молчание и только за полгода до смерти решил высказаться но
тему «Алехин» («Шахматный вестник» № 8—9, 1993).
пожертвовать несколькими сотнями долларов на организацию
такого турнира. Файн телеграфировал Ботвиннику и вступил в контакт с
русскими авторитетными лицами».
Так вот почему в декабре 1943 года глава Всесоюзной шахматной
секции Борис Вайнштейн пригласил к себе на обед Ботвинника, а
тот «был настороже - догадывался, что речь пойдет о матче с
Алехиным»! Иначе непонятно, зачем в разгар войны вдруг потребовалось
обсуждать вопрос о матче. (А кстати: почему Ботвинник
«догадывался, что речь пойдет о матче», если Файн телеграфировал ему про
турнир?)
Напомню, что пишет Ботвинник в книге «К достижению цели»:
«Обед по тому времени отличный: домашние котлеты, вино.
Котлеты съел, от вина отказался. Затем началось... Алехин —
политический враг, играть с ним нельзя, надо лишить его звания
чемпиона, советский чемпион обязан выполнить свой гражданский долг
и первым потребовать исключения Алехина из шахматной жизни.
Нужно ли перечислять все эти демагогические домыслы! Говорил
Вайнштейн, Зубарев (завотделом шахмат Спорткомитета)
поддакивал. Спокойно, резко и твердо высказываю свою точку зрения и
откланиваюсь. Ясно, что с таким председателем матча с Алехиным
не сыграешь».
Ботвинник против Вайнштейна
401
Лишь спустя годы, в интервью Станиславу Железному, Ботвинник
(видимо, задетый за живое приводимым ниже интервью Вайнштейна)
озвучил наконец главный из «всех этих демагогических домыслов»:
«Пользуюсь случаем, хочу прояснить и еше одну ситуацию. В
декабре 1943 года меня пригласил к себе полковник НКВД Борис Вайн-
штейн, председатель Всесоюзной шахматной секции (!), и предложил
подписать заявление для печати с осуждением Алехина за его
антисемитские статьи (выделено мной, - СВ.), опубликованные во
французских изданиях, и предложил лишить его звания чемпиона мира. Я
отказался» («Красная звезда», 17.08.1994).
А теперь послушаем Вайнштейна. Всю жизнь он хранил молчание
и только за полгода до смерти решил наконец высказаться на эту
тему («Шахматный вестник» № 8-9, 1993). Вот что ответил Борис Са-
мойлович на мой вопрос: неужели в 1943 году, зная, что Алехин
участвует в немецких турнирах, Ботвинник мог думать сыграть с ним
матч?
Вайнштейн: «Ботвинник думал о матче с Алехиным с 1936 года. А
в 43-м, когда в войне произошел решительный перелом, он вернулся
к этой мысли. И, будучи у меня в гостях (между прочим, не в первый
и не в последний раз), говорил об этом. Михаил Моисеевич пишет,
что обед был роскошный, но вот от вина он отказался. Да, вино он не
пил, но хлеб в моем доме он ел. И человек с другим воспитанием,
другой нравственной основой, вероятно, не стал бы так оскорбительно
отзываться о человеке, в доме которого он ел хлеб.
Действительно, на том обеде он ставил вопрос о матче, и я ему
ответил, что этот матч невозможен. На обеде, кстати, был Николай
Михайлович Зубарев. И Ботвинник пишет, что говорил только я, а
Зубарев поддакивал. Надо было даже его словам придать
уничижительный характер! Как будто Зубарев не мог просто разделять мои
взгляды... А говорил я примерно следующее. Алехин — это военный
преступник, и не перед Советским Союзом, а перед Францией. Он
был офицером французской армии и после капитуляции Франции
перешел на сторону врага. Он стал помощником по культуре - это
была его официальная должность! - гауляйтера Франка, одного из
самых кровожадных гитлеровских палачей. В ответ Ботвинник
сказал, что всё это, мол, несущественно...»
По другой версии, Алехин имел должность Schachberater fur Ostfra-
gen - шахматный советник по восточным вопросам и получал
ежемесячно 800 рейхсмарок. Но «в письме к редактору "Chess" от 10 апреля
1946 года г-жа Грейс Алехина категорически отвергает обвинения
против чемпиона мира: "Мой муж никогда не получал ни жалованья, ни
титула «советник по восточным вопросам». Ему предлагали очень
выгодный пост при условии вступления в нацистскую партию; от этого
402
Чужой среди своих
он отказался. Он не имел никакого влияния на их партийных вождей и
никогда не вмешивался в политику Ему платили за каждый турнир или
выступление — не больше и не меньше"» («Chess», май 1946).
Поняв, что «с таким председателем матч с Алехиным не
сыграешь», Михаил Моисеевич пошел проверенным путем: начал готовить
почву для смещения Вайнштейна. «Моя позиция, - утверждает он, -
постепенно обрела поддержку; у большинства членов Всесоюзной
секции Вайнштейн авторитетом не пользовался. На всякий случай
иду в ЦК партии (...) Наконец состоялось заседание Всесоюзной
секции и был поставлен вопрос об отставке Вайнштейна. Он отчаянно
отбивался. Но вот слово взял Вася Смыслов: "Бывший председатель
секции товарищ Вайнштейн..." - начал он. Вайнштейн не дал ему
договорить: всплеснул руками и тут же капитулировал!»
Эффектная развязка. Но когда годы спустя Авербах спросил
Смыслова о том июльском заседании 1945 года, Василий Васильевич
ответил: «На самом деле я ошибся. Мне казалось, что Вайнштейн уже
ушел в отставку».
Разумеется, беря интервью у Бориса Самойловича, я тоже не мог
не задать вопрос о том заседании - и в очередной раз поразился его
феноменальной памяти. А ведь моему собеседнику было уже далеко
за восемьдесят!
Вайнштейн: «Позднее Ботвинник снова вернулся к вопросу о
матче. Я еще работал в НКВД (ушел оттуда уже после войны, в 1946-м) и
спросил об этом генерала Мамулова, управляющего делами у Берии.
Сам он в шахматы не играл, но любил их. И я ему говорю: "Степан
Соломонович, тут есть такое соображение: а не сыграть ли нашему
Ботвиннику матч с Алехиным? Кое-кто, правда, сомневается в его
победе". А Мамулов и говорит: "Выиграет или нет - не имеет
никакого значения, ибо матч вообще не может состояться. Алехин -
военный преступник и при попытке проехать в СССР будет арестован
на границе и выдан французским властям. Если, конечно, французы
не затребуют его раньше из Испании".
В то время генерал Франко стал уже выдавать военных
преступников. Алехин знал это - вот почему и вынужден был уехать в
Португалию: тамошний глава правительства Салазар не выдавал военных
преступников, и союзники смотрели на это сквозь пальцы. Когда
же Алехин заявил, что он не причастен ни к фашистскому режиму,
ни к антисемитским статьям, опубликованным в 1941 году в "Parizer
Zeitung" (о них, по словам Вайнштейна, стало известно еще в самом
начале войны: «В полном виде они, правда, к нам тогда не попали. Но
достаточно было и того, что напечатал английский журнал "Chess "»)у
ему предложили приехать во Францию и предстать перед француз-
Ботвинник против Вайнштейна
403
ским судом. По моим сведениям, Алехину инкриминировалась
измена родине. Я не думаю, конечно, чтобы его казнили, подобно
маршалу Петэну (на самом деле смертную казнь заменили пожизненным
заключением), но осужден он мог быть вполне.
Алехин наивно полагал, что Ботвинник согласует этот вопрос с
лордом Дербиширом, тогдашним президентом Британской
шахматной федерации. Но дело-то в том, что решался бы вопрос совсем на
другом уровне...
Я выступил на эту тему в печати еще в 1944 году (найти такую
статью мне не удалось). В частности, написал, что своими действиями
во время войны Алехин поставил себя вне рядов культурного
человечества. И на заседании шахматной секции, уже в самом конце
войны, когда Ботвинник поднял вопрос о матче, я его в лоб спросил:
"Михаил Моисеевич, я человек беспартийный, но вы-то коммунист,
и мы с вами оба евреи по национальности. И я не понимаю, как вы
будете пожимать руку, которая по локоть в крови коммунистов и
евреев?!" На что он хладнокровно ответил, что если не состоится его
матч с Алехиным, то Эйве провозгласит себя чемпионом мира, а
потом проиграет матч Решевскому, и, таким образом, звание чемпиона
мира навсегда уплывет в Америку... (Но когда β декабре 1945-го Керес
вместе с женой приехал в Москву и Ботвинник пригласил их в гости,
он, по словам Марты Керес, «когда зашла речь об Алехине, сказал, что
такому человеку ни за что не подал бы руку. Он явно намекал на Пауля».)
- Что ж, в логике ему не откажешь...
- Да, но матч-то все равно не мог состояться! Просто Ботвинник,
по-видимому, этого не знал и считал, что Молотов сможет настоять
на матче.
Так что не был я вовсе такой злокозненный, как мнится
Ботвиннику. Просто я был лучше информирован. И поэтому уже тогда
предложил в печати, чтобы сразу после войны организовать матч-турнир
сильнейших шахматистов. Я имел в виду участников АВРО-турнира
(естественно, без Алехина), добавив к ним Смыслова. А затем либо
сразу провозгласить победителя новым чемпионом мира (установив
при этом статус розыгрыша первенства мира), либо провести матч
между двумя первыми призерами, так как чемпионский титул
традиционно разыгрывается в матче.
Когда вопрос о матче с Алехиным был поставлен на голосование, я
заявил, что одновременно ставлю вопрос о своей отставке: если бюро
шахматной секции выскажется за матч, это будет означать, что я уже
не председатель. Голосование дало результат 5:4 против матча! Я,
понятно, воздержался - и как председатель, и как поставивший вопрос
о своей отставке. (Сравните со словами Ботвинника: «...был поставлен
вопрос об отставке Вайнштейна. Он отчаянно отбивался».)
404
Чужой среди своих
Голосование было открытым, и я хорошо помню, что Котов и
Рагозин (будущий тренер Ботвинника) голосовали против Ботвинника!
И тут кто-то из присутствующих (по-моему, Абрамов) сказал,
обращаясь к Котову: "Саша, а ведь было заседание партбюро, и мы
решили, что матч должен состояться". Котов пробормотал: "Я об этом
не знал... Надо переголосовать". Мы переголосовали, и на сей раз
все члены партии подняли руку "как надо". Но Вячеслав Рагозин -я
хочу это подчеркнуть - повторно голосовал против матча!
Узнав от Бориса Самойловича, что на заседании присутствовал
Бронштейн (но без права голосовать), я при первом же удобном случае
«допросил» и его:
«Это было в июле 45-го, после чемпионата СССР. По-моему,
собравшиеся не очень хорошо понимали, что происходит. Вайнштейна
упрекали в том, что он плохо работал во время войны, что шахматное
движение якобы замерло, потом стали требовать, чтобы была срочно
воссоздана газета "64". В общем, были недовольны... Меня это
немножко удивило: ведь выходил журнал ВОКСа на английском языке,
проходили турниры, чемпионаты Москвы...
Потом Ботвинник поднял вопрос о матче. Я хорошо запомнил, как
поднялся Борис Самойлович - высокий, красивый, молодой, в
военной форме - и заявил: "Должен вам сказать, что чины мы здесь не
зарабатывали (тут он показал рукой на свои полковничьи погоны; с
1942 года Вайнштейн был замначальника Главоборонстроя НКВД)>
наград не получали (и показал на орденские планки на груди)". С этого
он начал. Все затихли. "Теперь насчет вашей газеты «64». Должен
сообщить, что до сих пор не восстановлено издание газеты и журнала
по тяжелой индустрии. (Эти его слова я точно помню: меня потрясло,
что в стране нет бумаги.) А что касается матча с Алехиным, то я не
понимаю, как вы будете пожимать руку, которая по локоть в крови
Освенцима и Майданека".
Я не поддерживаю то выступление Бориса Самойловича, мне не
нравится, что он так сказал об Алехине. Я даже не хотел об этом
писать в своей книге, но раз уж вы спросили... Видимо, он был очень
сердит на Ботвинника, который организовал все эти нападки. А ведь
именно он перевел Ботвинника в Москву, помог прописаться: на
служебной машине привез его в Главное управление милиции, взял
паспорт, зашел к начальнику и вынес паспорт уже с московской
пропиской (видимо, это было в марте 1944-го, когда Ботвинник, по его
словам, «переехал на жительство в Москву»). А то, что рассказывает
Ботвинник о том заседании, это всё скорее из области театральных
историй...» («Шахматы в России» № 4, 1996).
Тут вот что удивительно. Как-то Бронштейн читал книгу Эйве не то
на немецком, не то на голландском языке - не удивляйтесь: по-моему,
нет языка, на котором Давид не мог бы читать, хотя он чистый
самоучка! - и наткнулся на такие слова (цитирую по памяти): "Не успела
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
405
еще закончиться война, как Ботвинник начал свои интриги по поводу
матча с Алехиным, на который он не имел права. По итогам ΑΒΡΟ-
турнира право на матч с Алехиным имели Файн и Керес, как
разделившие первые два места (официально победителем был объявлен Керес).
Впрочем, этот матч все равно не мог бы состояться". Эйве не
комментирует последнюю фразу, но она, согласитесь, очень показательна...
— Судя по всему, решение играть с Алехиным было принято на
самом высоком уровне. Вряд ли Ботвинник стал бы действовать так
напористо, не заручись он надежной поддержкой.
- Да не было никакого решения. Ботвинник, вероятно, просто
сказал Молотову, что матч политически важен, иначе титул чемпиона
мира уйдет от нас, а Молотов дал добро. Больше ничего и не
требовалось. Подумаешь, какое дело! Сталин в эти дела не лез, Берия тоже.
А у Молотова хватало власти, чтобы самому решить этот вопрос...»
«ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!»
Вайнштейн считал, что «Сталин в эти дела не лез», но, как мы знаем,
это не так: в 1928 году он посылал редактора «Известий» Тройского
уговорить Алехина вернуться в СССР, в 1935-м решал вопрос о
публикации письма Алехина, в 1939-м дал добро Ботвиннику на матч с
ним, да и в 1945-м именно Сталину, как утверждает Ботвинник,
адресовали письмо «видные советские мастера» с просьбой разрешить
матч с Алехиным... Но оказалось, что Михаил Моисеевич обращался
к вождю и с личным письмом!
Как я его нарыл? О, это целый детектив!.. Началось, как водится,
со случайной находки. Копаясь в интернете, вдруг с изумлением
прочитал: «Дорогой Иосиф Виссарионович! В 1939 году было решение
Совета Народных Комиссаров СССР по вопросу организации моего
матча на первенство мира по шахматам с чемпионом мира
Алехиным, но война помешала...» Глянул на подпись: Михаил Ботвинник,
11 января 1946 года.
Чтозафейк?! Π о словам Ботвинника, он же никогда не писал
Сталину, а письмо 1936 года после победы в Ноттингеме написано не им
(«Крыленко меня изучил вполне и понимал, что по скромности сам
я писать не буду, а отсутствие письма может нанести ущерб
шахматам»). Но статья «Жизнь в клеточку» была из солидного издания, к
фейкам не склонного: «Новая газета» (18.03.2004). Как же за столько
лет это письмо не попало на глаза историкам шахмат? При том что в
сети оказалось немало упоминаний о нем. Загадка...
Радость находки омрачалась тем, что письмо было с явными
купюрами, а его источник не указан. И главное, автора не спросишь:
статья не подписана.
406
Чужой среди своих
Позвонил Дмитрию Олейникову - может, что знает о письме или
о той публикации? Нет, впервые слышит: «Я когда-то смотрел
переписку начала 1946 года из архива ЦК, но письма Ботвинника
Сталину там не отложилось. Оно могло быть в личном архиве Сталина,
и кто-то его выудил, но без разрешения давать ссылку на место
хранения; если бы это была копия из архива Ботвинника, ее бы "Фонд
Ботвинника" напечатал... Сейчас я работаю в ГАРФе, там такого
письма нет».
Помощь пришла неожиданно. Как раз в те дни я перебирал архив
Давида Бронштейна (всё готовлюсь писать книгу о нем), и в письме
Вальтера Хеуэра глаз вьшепил фразу, которую я прежде почему-то не
замечал: «Знаете, Ботвинник тогда писал Сталину! Мне удалось
найти тексты и первого, и второго письма». Час от часу не легче: так было
два письма?!
К сожалению, Хеуэра давно нет на свете, а где его архив -
неизвестно... И тут я вспомнил про книгу Пааво Кивине «Paul Keres.
Malestusi. Mateijale. Kirju» (2015), куда вошло много статей других
авторов (в том числе три моих). А нет ли там статей Хеуэра?
Оказалось, есть. И что вы думаете? В его статье «Земля поворачивается
на восток» («Maakera pooratakse itta») я нашел то самое письмо из
«Новой газеты», датированное И января! Но где же второе письмо
Ботвинника Сталину? На соседних страницах было только большое
коллективное письмо на имя Молотова, явно о матче Ботвинника
с Алехиным, но от кого? В скобках было указано лишь количество
подписей - 19...
Статью Хеуэр напечатал еще в 1996 году в эстонской газете «Kul-
tuurileht» (16.02, 23.02 и 1.03). Время публикации удивило: в его
статье «Тайна Пауля Кереса», написанной тогда же по моей просьбе
для «Шахмат в России» (№ 1 и 2, 1996), этих писем нет. Да и потом,
бывая в Москве и заходя к нам в редакцию, Вальтер никогда о них
не упоминал. Нет писем и в его прижизненной книге «Пауль Ке-
рес» (2004). Хотя чему удивляться: это же перевод его книги «Meie
Keres» (1977), а в архивы КГБ и спецхраны Хеуэр получил доступ
лишь в 90-е...
Послал имейл Пааво Кивине: «В вашей книге о Кересе я нашел
статью Вальтера Хеуэра с письмами Ботвинника, о которых он писал
Бронштейну (копию я вам, по-моему, присылал). К сожалению, гугл
очень коряво переводит с эстонского... Нет ли у вас русских
оригиналов этих писем? И еще: может, статья была переведена на
английский? Это очень облегчило бы понимание текста».
Ответ не порадовал: «К сожалению, оригиналов этих писем у меня
нет. Свою книгу начал тогда, когда Вальтера уже не было... Перевода
этих писем на английский я не видел».
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
407
Где же их искать? Зацепка была: адресатом второго письма был
Молотов, и он же раз пять упоминался в абзаце после письма
Сталину. Снова пишу Пааво: «Хеуэр указывает, где нашел письма. Чтобы
точнее понять архив и фонд, где они лежат, не могли бы вы перевести
один абзац?»
И вот наконец в моих руках заветный «шифр к сейфу»:
Государственный архив РФ, фонд секретариата Молотова, переписка Моло-
това с частными лицами!
Точное название дела оказалось: «Переписка по письмам частных
граждан за 1944, 1945 и 1946 гг.» (фонд 5446, опись 82, дело 181). Оно
оцифровано, поэтому мне выдали две пленки, которые надо было
крутить вручную на допотопном аппарате. Я уже почти отчаялся,
когда в конце второй пленки на экране появились-таки - одно за
другим - оба письма... Под одним 19 подписей. Да каких! Передо мной
было то самое «письмо Сталину (о матче с Алехиным), подписанное
почти всеми видными советскими мастерами», о котором пишет в
своей книге Ботвинник, но которое никто не видел. Вот уж воистину:
случай ненадежен, но щедр!
Понятно, почему до Хеуэра никто не мог найти эти письма: про
свое Ботвинник вообще умолчал, а найти «адресованное Сталину»
письмо в фонде Молотова можно было только случайно - тот же
Хеуэр искал там не его, а оригинал письма Кереса Молотову от 7 апреля
1945 года...
К счастью, в ГАРФе с экрана (в отличие от бумажных
документов) можно снимать на айфон — иначе, чтобы начать работу над
главой, пришлось бы ждать почти три месяца, пока письма
отсканировали и прислали.
№С-22/15.1-46г.
Тов. Молотову
Товарищу СТАЛ И НУ И.В.
Дорогой Иосиф Виссарионович,
В 1939 г. было решение СНК СССР по вопросу организации моего
матча на первенство мира по шахматам с чемпионом мира Алехиным,
но война помешала организации матча.
В сентябре прошлого года мои товарищи, шахматные мастера,
вновь поставили этот вопрос в беседе с тов. Александровым - ЦК
ВКП(б) и тов. Романовым - Комитет физкультуры, но решение по
этому вопросу не принято.
Сейчас положение в шахматном мире таково, что в 1946 г. должен
решиться вопрос о первенстве мира. Англичане, так же как наши
мастера, предлагают организовать мой матч с Алехиным (письмо Дю-
мона (точнее, Дюмонта), редактора британского шахматного жур-
408
Чужой среди своих
нала, в ВОКС от июля 1945 г.). Американцы предлагают по-новому
разыграть звание чемпиона мира - в матч-турнире при 8 участниках,
летом 1946 г. в США (телеграмма гроссмейстера Фай на в ВОКС от
ноября 1945 г.).
23-й год я играю в шахматы, из них 12 лет защищаю честь
советской шахматной школы во встречах с зарубежными мастерами,
Я готов искренне принять любое решение - играть матч с
Алехиным, участвовать в матч-турнире или совсем отказаться от борьбы за
первенство мира - любое решение, которое будет признано
целесообразным. Но было бы обидно, если советские мастера на ближайшие
годы будут отстранены от борьбы за первенство мира лишь потому,
что решение будет принято с опозданием.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я прошу Вас решить этот вопрос.
В надежде на Ваш ответ, преданный Вам
М.БОТВИННИК
член ВКП(б)с 1940 г.
п/б № 3334328
11.1.46
М.М.Ботвинник
чемпион СССР по шахматам
1-я Мещанская, 52, кв. 15
тел. И-1-53-05
Судя по отсутствию подписи Ботвинника, это копия, которая
прилагалась к письму. Хеуэр предположил, что резолюция в верхнем
правом углу синим карандашом «Тов. Молотову» принадлежит Сталину,
и сравнение с имеющимися в интернете образцами его почерка это
подтвердило.
К слову, автор статьи в «Новой газете», возможно, цитировал
оригинал. Найди он письмо в ГАРФе, наверняка увидел бы и идущее
первым письмо мастеров, а о нем в статье ни слова, хотя оно
представляет не меньший исторический интерес. Но вот откуда у него
сведения, что Ботвинник «сумел довести до вождя всех народов устную
информацию: "Если отстранить Алехина от звания чемпиона мира
путем сговора, то титул автоматически перейдет к экс-чемпиону
мира голландцу Максу Эйве, а тот, в свою очередь, может вольно или
невольно проиграть американцу Решевскому И шахматная корона
уплывет за океан, в Америку"»?
Если это действительно так, то перед нами обычная двухходовка:
Ботвинник довел информацию о том, что американцы могут
опередить нас в завоевании мировой шахматной короны, до Молотова (в
письме мастеров), а уже тот при личной встрече - до Сталина. Идею
задействовать «видных советских мастеров», кстати, сам Молотов
мог и подсказать — опытный кремлевский лис, как никто, знал
правила аппаратной игры!
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
409
, ,С ' Товарищу СТАЛИНУ И.В. /^
Дорогой Иосиф Виссарионович,
В 1939 г. было решение СНК СССР по вопросу
организации моего матча на первенство мира по шахматам с чемпионом
мира Алехиным, но война помешала организации матча.
В сентябре прошлого года мои товарищи, шахматные
мастера, вновь поставили этот вопрос в беосде с
тов.Александровым - ЦК ВКП(б) и тов.Романовым - Комитет физкультуры,
но решение по этому вопросу не принято.
Сейчас пояокение в пахматном мире таково, что в
1946 г. должен решиться вопрос о первенстве мира.
Англичане, так же как наши мастера, предлагают организовать
г мой матч с Алехиным (письмо .цюмона, редактора британского
шахматного журнала в ВСКС от июля 1946 г.). Американцы
предлагает по новому разыграть звание чемпиона мира - в
матч-турнире, при 0 участниках, летом 1946 г. в США
(телеграмма гросмейстера Файна в ВСКС от ноября 1946 г.).
23-й год я играю в шахматы, иг них 12 дет вашищаю
честь советской шахматной школы во встречах с зарубежными
мастерами·
Я готов искренне принять любое решение - играть матч
о Алехиным, участвовать в матч-турнире или совсем
отказаться от борьбы за первенство мира - любое решение, которое
будет признано целесообразным. Но было бы обидно, если со-
I ветокие мастера на ближайшие годы будут отстранены от
борьбы эа первенство мира лишь потому, что решение будет
принято с опозданием.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я прошу Вас решить зтот
вопрос.
В надежде на Ваш ответ, преданный Вам
М.БОТВИННИК
член ВКП(б) с 1940 г.
11.1.46 п/б № 3334328.
М.М.Ботвинник
чемпион СССР по шахматам
1-я Мещанская, 52, кв. 15
Г тел. К-1-55-0Б
В ГЛРФе хранится копия письма Ботвинника Сталину от 11.01.1946 с
резолюцией вождя: «Тов. Молотову». Публикуется впервые.
410
Чужой среди своих
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ТОВАРИЩУ ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛОТОВУ
Копия: Председателю Всесоюзного Комитета
по делам физической культуры и спорта
приСНКСССРтов. Η.Η.Романову
тт. Маленкову, Берия. Микояну
т. Александрову.
т. Романову - прошу дать предложение.
В. Молотов
9.Χ1Ι.45 г.
Дорогой Вячеслав Михайлович!
Мы обращаемся к Вам с просьбой, имеющей исключительно
важное значение для Советской шахматной организации. Мы просим Вас
разрешить проведение в 1946 г. матча на первенство мира по шахматам
между чемпионом СССР Михаилом Ботвинником и нынешним
чемпионом мира А.Алехиным.
Необходимость проведения такого матча теперь же диктуется
следующими соображениями:
1) В сентябре этого года команда СССР выиграла матч по радио у
лучшей в мире команды США со счетом 4-15 1/2-4 1/2 и тем самым
завоевала звание сильнейшей шахматной команды мира. Но этого,
конечно, недостаточно. Необходимо завоевать для нашей Родины и
индивидуальное звание чемпиона мира по шахматам, что
окончательно закрепит ведущее положение Советской шахматной организации
в международном шахматном движении и будет способствовать
дальнейшему расцвету шахматной культуры в нашей стране.
2) Если мы сейчас не предпримем шагов к проведению матча с
Алехиным, то нас в этом опередят американцы. Они располагают
двумя гроссмейстерами, претендентами на мировое первенство СРе-
шевским и РФайном и, бесспорно, в недалеком будущем
попытаются осуществить матч на звание чемпиона мира между одним из них и
Алехиным.
Условия же проведения матчей на первенство мира и обязательных
реваншных встреч после матча в смысле сроков таковы, что если мы
сейчас уступим очередь американцам, то реальная возможность
завоевания нами мирового первенства по шахматам будет либо потеряна,
либо, в лучшем случае, отодвинута на 6-8 лет.
3) Мы имеем все основания считать, что сейчас Ботвинник
выиграет матч у Алехина и завоюет звание чемпиона мира по шахматам.
Это наше мнение базируется на том, что наш чемпион находится в
данное время в расцвете творческих сил (ему 34 года) и в блестящей
спортивной форме. На протяжении последних лет он показал такие
высокие результаты, что всей мировой шахматной общественностью
признан первым претендентом на матч с Алехиным. В недавнем
интервью, опубликованном в английской шахматной печати, Алехин
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
411
заявил, что считает Ботвинника сильнейшим шахматистом и первым
кандидатом на матч с ним. Он также сообщил, чтоожидаетот
Ботвинника подтверждения вызова, сделанного им до войны.
Алехину сейчас уже 54 года, и его спортивные результаты перед
войной показали, что его творческий рост, во всяком случае,
прекратился. До войны Ботвинник трижды встречался с Алехиным за доской
(в 1936 и 1938 гг.), причем белыми Ботвинник выиграл, а две партии
черными закончил вничью.
4) Советская шахматная общественность проявляет огромный
интерес к вопросу завоевания нами звания чемпиона мира. Во
Всесоюзную шахматную секцию, в редакцию журнала «Шахматы в СССР»
и в другие общественные организации поступают многочисленные
запросы о перспективах нашей борьбы за мировое первенство. На
собраниях шахматистов, на лекциях и при проведении других массовых
мероприятий шахматисты-любители высказывают недоумение -
почему мы не предпринимаем мер к проведению матча между
Ботвинником и Алехиным.
Таковы основные соображения, диктуюшие необходимость
решения вопроса о матче на звание чемпиона мира по шахматам между
Ботвинником и Алехиным.
Некоторым препятствием к проведению этого матча может
показаться известная политическая одиозность Алехина. Однако и в 1939
году, когда было дано согласие на матч Ботвинник - Алехин, фигура
Алехина не внушала никаких симпатий советским шахматистам.
Мы всегда рассматривали Алехина, как человека, изменившего
свой Родине. Война, по существу, не внесла ничего нового и не
изменила наших взглядов на его политическую физиономию. (Даже
смерть не изменит поначалу отношения к Алехину: «Но как к человеку
морально неустойчивому и беспринципному, наше отношение к нему
может быть только отрицательным» — из некролога П.Романовского в
«Шахматах в СССР» № 5, 1946.)
Мы считаем, что матч с Алехиным ни в какой мере не меняет
нашего к нему отношения и не реабилитирует его в глазах
общественности. Единственная цель матча - это завоевание нашим чемпионом
Михаилом Ботвинником звания чемпиона мира по шахматам.
Мы думаем, что матч надо проводить вне пределов СССР, чтобы
не приглашать сюда Алехина. Несомненно, Британская шахматная
федерация охотно приняла бы на себя организацию такого матча в
Лондоне.
Мы просим Вас, дорогой Вячеслав Михайлович, дать разрешение
на проведение в 1946 году этого матча и поручить руководителю
нашей шахматной делегации, приглашенной в декабре-ян варе в
английские турниры, договориться с Британской федерацией о матче и
заключить соответствующий контракт с Алехиным.
Заслуженный мастер СССР Петр Романовский (Романовский)
Гроссмейстер СССР Л.Котов (Котов)
Мастер СССР ВАлаторцев (Алаторцев)
412
Чужой среди своих
Мастер СССР М.Юдович (Юдович)
Мастер СССР Г.Равинский (Равинский)
Мастер СССР Л.Абрамов (Абрамов)
Мастер СССР А.Сокольский (Сокольский)
Гроссмейстер СССР Сало Флор (Флор)
Мастер СССР Г.Фридштейн (Фридштейн)
Заслуженный мастер
спорта СССР Ф.Дуз-Хотимирский (Дуз-Хотимирский)
Мастер ССС? А.Чистяков (Чистяков)
Мастер СССР Авербах (Авербах)
Мастер СССР И.Кан (Кан)
Мастер СССР Д. Ровнер (Ровнер)
Мастер СССР Рагозин (Рагозин)
Мастер СССР Лисицын (Лисицын)
Гроссмейстер СССР И.Бондаревский (Бондаревекий)
Гроссмейстер СССР А.Лилиенталь (Лилиенталь)
Мастер СССР В.Панов (Панов)
К-
иаоиш |»;щлшя sen гломг. к>ло?сз сося»
тдош жъилв лаГ/эи*» кастою.
Τ» ι-*»* ч**.
ар СЯК 2331 к>. з.Е. рэлг>»у.
ЬЛЗ
*.вк. l*j ор>
с» tec pa*t«nn ерэаааава· > 15*6 ι-ί \βτ*β si turn
«»иля;«ш iMps яз №α»ιι а»«з »#мг«5«сч. СССР **αι/!>
ϊχιτπη» ι mneiinu чшяжв иарв i. Asm nut.
KtrticBDrtm врэа*о»аяя плх-э »~ч» τ««.* - и,
txxrme· сл«уп™» -.·τ r^i»ei»»B4i
Г/ в· μπτλρ» .TW5 г»яа л»«шг C&i «лграе « τ« ire
рано л л^ир я Цр· tcuma 34 за м*та » IS l/S-4 1/2
я Tfnt o*u* «nar>f»»/» «ЯРЯМ с»г»я*»«я» enrt'lCfl fv<«(ji
мара.El τ»*». Ю(»*«,в»г>г*тл1э. Botoieo mimb»
»n япяяГ Po*»nu t яяпяавя/мта"» рччи» «mw кя^в «о
■ittiru. ЧТО }Ц>!>чЛТв*»ео imf-WKT ft
ΛβταοΙ «щлвтгэ» ipfertrunti s м^прц»
шжш κ β>ντ ев кгяепзд» 94Bi»fa»to p«i»o;/ аяиаг Ι
Μ enrage в ям·! ст^я».
з Ааияаш. пш ι эгл х»р»дат ымэткоа». Сгя ряспаж
гаи заде гр*м*»*е^<и",пр<г*11вог:ч«я га ичр^ги «р·»»
ояо С.Амсяся* ι P.is'a-* г в#гжх,яэ,§ Ftii*t>..ik 5yu«»xj
лага»**» зс>лс-1<п »*гч ω ««em· «km* mpa u»<y
...
n
СЕР, «абн в» оряга*»» «на A»jre. Ваэааапо.Зрпп·
сиая β«ιιπυ >αιρβ» яи» цсляяе вн п лея ^'αβι·
аК η гром л га s Г546 гсау и?го Mtn ι ЛЗДЯП вук»
кивая) ам*| аяимз! »шаяш.мгяаа»оо« ( ВШ* -
(«щи» о ιμίι а «анэаа» логаагепуихв icirpata з
.'^../^м СсгУ
*»~Ч> cctp Jx. \\%rb*>s (*pU)
V*a-a.^ ,Ci. Λ4**~**<? /Ли<и;мЛ
Первая и четвертая страницы письма «видных советскихмастеров» от 1.12.1945.
Понятно, почему его не могли найти: адресатом был не Сталин, а Молотов! По
указанной сбоку дате сбора подписей — I декабря — видно, что письмо было
написано не «недели через две» после радиоматча (Ботвинник), а почти через три
месяца. Публикуется впервые.
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
4П
Начнем с подписей. Ботвинник: «Недели через две (после
радиоматча СССР- США, 1-4.09.1945) Рагозин, посмеиваясь, показал мне
копию письма Сталину (о матче с Алехиным), подписанного почти
всеми видными советскими мастерами. Отказались подписать лишь
два мастера; мотив — Ботвинник слаб, чтобы играть с Алехиным. По
"странному" стечению обстоятельств оба мастера были близкими
приятелями Б.Вайнштейна».
С «близкими приятелями» вопросов нет: это Бронштейн и
Константинопольский. Но вот с «почти всеми видными советскими
мастерами» явный перехлест: где Левенфиш, Смыслов, Болеславе-
кий, Макогонов? Где запасные участники радиоматча Чеховер и Ру-
даковский? Где Толуш, Дубинин, Микенас, Симагин? Вот вам и
ответ на вопрос, почему Михаил Моисеевич не перечислил
подписантов.
Но почему он утаил текст письма, если у Рагозина была копия? Да
потому что по фактуре и стилю нетрудно догадаться, что его
сочинил... тоже Ботвинник! Недаром же Хеуэр считал, что ему «удалось
найти тексты и первого, и второго письма» Ботвинника. Где наши
мастера могли прочитать «недавнее интервью» Алехина,
«опубликованное в английской шахматной печати»? Кто им мог сказать, что
«Британская шахматная федерация охотно приняла бы на себя
организацию такого матча в Лондоне», да еще «несомненно»? Откуда
они могли знать, что в 1939 году «было дано согласие на матч
Ботвинник- Алехин»? Про вызов Ботвинника они еще могли слышать, но
про согласие правительства (читай: Сталина) - это же секретная
информация, известная только узкому кругу лиц!..
Вероятно, чтобы отвести от себя подозрения, Михаил
Моисеевич незадолго до смерти заявит, что «участники нашей команды
втайне от меня (выделено мной. - СВ.) по инициативе Рагозина
направили Сталину письмо с предложением о проведении матча
Алехин - Ботвинник. Сталин решил вопрос положительно, он очень
этого хотел» («Красная звезда», 17.08.1994). Однако из 13 - без
Ботвинника - участников радиоматча (с запасными) письмо
подписали менее половины: шестеро. А сам «инициатор» поставил подпись
одним из последних...
С датой письма - отдельная песня. Вопреки утверждению
Ботвинника, что оно написано «недели через две» после радиоматча, это
произошло гораздо позже - рядом с подписями дата, когда их
собирали: «1-го декабря 1945 года». Внизу первой страницы
машинописная пометка: «Разослано: т. Маленкову, т. Берия, т. Микояну, т.
Александрову, т. Романову. 9.XII.45 г.».
Чтобы понять причину нестыковки, пришлось повозиться. Вот что
пишет Ботвинник:
4/4
Чужой среди своих
«Осенью 1945 года появилось нашумевшее интервью Алехина в
британском журнале "Чесе": "Две войны разорили меня" (Алехин
был в бедственном материальном положении). Соль интервью
состояла в том, что Алехин рассказал о наших переговорах в 1938—1939
годах и заявил, что готов играть матч с Ботвинником на
согласованных ранее условиях.
Это облегчило задачу. Теперь было не только заявление советских
мастеров о необходимости организации матча, но и согласие
чемпиона. (...) Вскоре последовало положительное решение правительства, и
можно было действовать».
Ну просто «картина маслом»: сначала письмо мастеров, затем
согласие Алехина и, наконец, решение правительства. Но насколько
она верна?
Письмо мастеров вышло на сцену только в декабре 1945 года. А
интервью под названием «Две войны разорили меня» («"Wars ruined
me" says Alekhine») «нашумело» не осенью, а еще в январе 1945-го, и
не в «Chess», а в американском журнале «Chess Review». И «соль» как
раз в том, что там Алехин о переговорах не сказал ни слова! В этой
перепечатке из испанской газеты «El Comercio» (22.07.1944) он
заявил лишь, что «наиболее подходящими кандидатами на матч с ним
являются Ботвинник, Керес и Решевский — особенно Ботвинник».
И в интервью «News Review» (ноябрь 1944), перепечатанном в двух
шахматных журналах (в «Chess» — с сокращениями), Алехин поведал
лишь о вызове Ботвинника и желании сыграть с ним. «British Chess
Magazine» (декабрь 1944): «Он выразил готовность, как и
планировал перед войной в России, сыграть, когда позволят обстоятельства,
с Ботвинником, который вызвал его на матч за чемпионский титул».
О переговорах же мир узнает только в январе 1946 года, когда
«British Chess Magazine» и «Chess» опубликуют открытое письмо
загнанного в угол чемпиона мира: «В 1938-39 гг. я надеялся в
результате переговоров и переписки с чемпионом СССР Ботвинником
положить конец этой нелепой легенде (о «белом русском») путем
проведения матча между нами в СССР, который был практически решен».
Таким образом, осенью 1945 года не было еще ни письма мастеров,
ни заявления Алехина о готовности играть матч «на согласованных
ранее условиях». Да и «положительное решение правительства»
последовало отнюдь не «вскоре»: бюрократическая машина
заработала лишь после прямого обращения Ботвинника к Сталину. Так что
картина, нарисованная постфактум Михаилом Моисеевичем, имеет
мало отношения к реальности. А что же было?
Думаю, ситуация напоминала предвоенную, с той только
разницей, что тогда переговоры уже худо-бедно шли, а сейчас их боялись
даже начинать. Понятно почему: ведомство Берии было против. Тре-
«Дорогой Иосиф Виссарионович!»
415
1\
WARS RUINED ME" SAYS ALEKHINE
World Champion inf»rv»ew«d
by Spanish Columnist
At the I'rtju'iuKJO» or t»i* tottvtuutittfri
bald 111 (iljo^ 1н»( July, Or. Alf\nnd«r
Alekhin? wit» |iu*t viewed b)' ι ben» tolunv
nlat R. (llili)Hil t'avalte of Unixelona'a HI
Mundn Ιν·Ι»ι1ΐνη nnd waa *,k#d If lie had
in? Рид* ТоГ f.Ho lutum
-Pienut'' replUM the woild rhnmnloit.
"Wbut nlitiw ι-itii I fcav'ef Т1ш beet purt
of my tiff tit.e i>u<wed :«wuy Hwwn tu'o
world warn ihut have laid F>hojh» waste.
Rulh wum 1 tttnmJ ше. \rltb thi.·.
different-fit (be piiiI β/ !he Пг-:! war I мин ϊβ year»
of iR*. wHh Mi unbounded enihuiinam I
no longer have. ΙΓ. «ometlrje, 1 «'rite my
lwmoiri — vblrh Is very poaelble — people
will renllze dial < heж» 1ια.« bom Μ minor
Uctor In my life it |я\'о то the opportunity
to further ли ambition nnd At (be «imt time
convinced me of tfcr- futftity of tho ambition.
Today. I continue to play cb«a» bcOiuae tt
occupies my mind uud keep» me Γιοαι biood-
ICE Mid namembFring",
Abkt-il W nam* the U.hillug utayera of
'.bo world Aleklilne sta(i>d that Tlrrivlnnlk.
Кггев uiul Keihevaxy are best qualified to
гЫ1епго hlu: for the obompionehlp — par-
ticaltrly Uotvlnnkk.
lit .m intoftiew with Ousdl», Ihe boy
wonder r«vp detail* of Id* career. Πι» flrst
upt.*iin»nc* In corapvlllW» 1 Ьеня we» at tb«
I'rovlnrlril Tourcnmeni of l|id«nre$ Id »94Z,
where he finished ш Of I n f'luto. The
following year he moved up to soi 011Ί i>l«,e and
wits then aeut to Madrid to teJo Purt In
die International tournament there. (Won
Uy Ktre» Fnmar plueo:l eluventh. Soo
CHESS REVIEW, January JlMl ~ Jbd.)
АлкЫ to reveal h» plan· for the зашшог,
the duestlon wue uniwr-ied by the boy'a
moiliei. who enhl; "We uie K0U1* Lo Avilen
sihI OvIkIo. wn«»»t» Armrlto wl|l (five *lraul·
tuiii-oiw exhibition*, and Mini to Madrid
where we intend to live".
Tho newtpupor "Baieareua" of Palma d«
Muihu'CO also run an artit'te on the younj;
«•hei» xenlua by "The Obeerver" from which
*e Quote:
Рошлг'к draw with Alokuiue ahow» vrltb
w'hut upend h* Is ргп*и ***1ιΐ8 In the gume
It would not be Гчг-feU'hed to kit a pec ι that
Aletttjlne bed played thia fame to favor
bJti young opponent, but lur two reaaona
this la not tree. Vim:, the R;iro« was
adjourned, which efaowett Ыь Intereal In the
ЬшОи, unit when a draw \vd% ilectnred it
и'ни bet-auae of a lei-petiiai check on the
purt of the world champion. Tho peipctual
waved hlru from defeat. In view of the
lufeiior OitieilnJ beKi by hlzu He had a
King. Поок nvxi Pawn .«к»1шй two Kntfht·
h/· IltUo advcraiiry. who wua ttleo
If 27 .
28 KtxB
2fl Q-Q2
30 Q-Q5
31 RxQ
7 Kt-K3
, (UQ*. 2S Kt-K\h Ik «!o<ul.
Q-B7ch
QxPch
QxQch
PxKt
32 R-Q81 Kt-«5cn
33 K-B2 R-K1C
3« Kt-B7 R.QB4
36 RxR
36 KUP
37 K-Kt2
Зв Р-ОЯ4
38 Kt-B7
40 Kt-K8
Reaign·
PXR
P-Q3
R-B1
R-Rl
RxP
R-R3
Out» iiltle attuiu up tliU game at "uue
move ttt t*»i unolhcr." Hut It* not a» bad u
It IrwiKfl. Illnth «imply fallrd lo ГгвЖ» til
Вопреки утверждению Ботвинника, интервью «Две войны разорили меня»
«нашумело» не осенью 1945-го, а еще в январе, инее «Chess», а в американском журнале
«Chess Review». Но главное, Алехин в нем ни саова не сказал о переговорах с
Ботвинником!
бовалась отмашка с самого верха, но все попытки Ботвинника
достучаться до Сталина были тщетны. После разгрома американцев в
радиоматче команде неофициально передали его слова: «Молодцы,
ребята», и Ботвинник решил ковать железо, пока горячо:
«Приглашены были мы на прием к ГФ.Александрову, начальнику
управления агитации и пропаганды ЦК партии. Говорил он
приветливо, но без какого-либо энтузиазма.
- Когда же Ботвинник будет играть матч с Алехиным?
Александров не понял вопроса. Тогда Витя Чеховер повторил
вопрос с подчеркнутой резкостью. Ответом были "каучуковые",
обтекаемые фразы».
Вы можете представить себе Чеховера, который бы на приеме в ЦК
вдруг по собственной инициативе повторил острый вопрос, да еще «с
подчеркнутой резкостью»? Вот и я не могу... Видно, очень уж
настоятельной была просьба «задать вопрос».
Почему после письма мастеров Ботвинник не сразу обратился к
Сталину - дуплетом, так сказать? Мог считать, что одного «выстрела»
будет достаточно. Но что-то, наверное, пошло не так. Мы же не знаем
реакцию Маленкова, Берии, Микояна и Александрова. Что касается
Романова, вот цитата изего книги «Трудные дороги кОлимпу» (1987):
416
Чужой среди своих
«К концу 1945 года наше отношение к А.Алехину было окончательно
определено как положительное. Однако кое-кто в Москве
высказывал сомнения по поводу возможности организации такого матча, что
несколько задержало решение вопроса. Тогда я от имени Комитета
написал записку на имя И.В.Сталина с просьбой дать согласие на
проведение матча и в зависимости от договоренности решить вопрос
о необходимых затратах. Насколько мне известно, группа ведущих
шахматистов страны также обращалась в правительство с подобной
просьбой».
Но общего «одобрямса», думаю, не было. Иначе зачем бы
Ботвиннику писать Сталину?
P.S. Когда книга была уже закончена, жизнь преподнесла
очередной сюрприз. Владислав Новиков прислал заметку Игоря
Ботвинника «Послание во власть» («Шахматный Петербург» № 1, 2003), в
которой было приведено... письмо Ботвинника Сталину! Оказалось,
еще в 2001 году Игорь Юльевич узнал от Фреда Малкина, редактора
книги Хеуэра «Пауль Керес», что у Вальтера есть текст этого письма,
и попросил его прислать копию. Почему Хеуэр переписал письмо от
руки? В тот день, когда он работал в ГАРФе, ксерокс был
неисправен... Прочитай я заметку раньше, не пришлось бы таким сложным
путем искать фонд - Вальтер указал, что «нашел письмо в папке
переписка Молотова с частными лицами»!
СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ
После отмашки вождя дело сдвинулось наконец с мертвой точки. Но
параллельно велись переговоры с американцами, которые, напомню,
считали, что звание чемпиона мира должно быть разыграно в
турнире, в котором Алехин будет таким же соискателем титула, как и все
остальные. Но это в том случае, если он «сумеет доказать
несостоятельность предъявленных ему обвинений». Если же «Алехин не сумеет
оправдаться», то «он не должен быть допущен к участию». Об этом
написал Файн в телеграмме Ботвиннику.
О реакции Ботвинника, как и о подготовке к матчу с Алехиным,
я узнал из рассекреченных документов Спорткомитета СССР,
которые мне прислал журналист Станислав Гридасов. Он нашел их в 2019
году в ГАРФе (фонд 7576, опись 29, дело 12). Дело называется:
«Переписка с С[оветом] Министров] и ЦК КПСС о международных
спортивных связях».
Из ответа Файну видно, что розыгрыш чемпионского титула в
турнире Ботвинник вообще считал «нарушением исторических
традиций, которые обязывают чемпиона защищать свое звание в матче».
Англичане также выступали за матч - и даже оказались его инициа-
Секретные файлы 417
торами! Идею выдвинул редактор
«British Chess Magazine» Джулиус
Дюмонт и очень настойчиво ее
продвигал: «Почти год назад
редактор обратился в советское
посольство с предложением
провести этот матч в интересах шахмат.
Затем мы воплотили это
предложение в письме, которое было
направлено в Москву» (№ 4, 1946).
Любопытную фразу обронил
незадолго до смерти Ботвинник:
«Алехин, в свою очередь,
проявлял активность через редактора
журнала "Бритиш чесе мэгэзин"
Дюмонта» («Красная звезда», 17.
08.1994). Поскольку именно его
выберет потом чемпион своим
посредником для переговоров о
матче, я не исключаю, что
Дюмонт мог начать действовать... по
просьбе самого Алехина!
Ботвинник: «Ситуация была
деликатной: во-первых, Алехина
ни в коем случае нельзя было
приглашать в Москву, ибо это
связано было с предварительным
расследованием обвинений, и,
во-вторых, нежелательно было вступать с ним в прямые переговоры.
Я и предложил, чтобы весь матч был проведен в Англии, а
переговоры сначала шли через посредство г-на Дюмонта, редактора журнала
"Бритиш чесе магазин" (по материалам, опубликованным в
журнале, можно было догадаться, что Дюмонт с Алехиным состоят в
переписке), и при содействии известного шахматного мастера Д.Томаса.
Предложение было принято, и переговоры начались» (из книги «К
достижению цели»).
Своим «во-первых» Ботвинник фактически признал правоту слов
генерала Мамулова (см. стр. 402), что Алехин «при попытке проехать
в СССР будет арестован на границе и выдан французским властям». И
предложение провести «весь матч» в Лондоне ничего не меняло:
Алехина точно так же арестовали бы и выдали французам.
Но если путь к матчу все равно лежал через суд во Франции, то
возникает вопрос: к чему такая спешка с переговорами, почему нельзя
'.'•МА ВВрВаЯТ.
чыаон/ яра no uu^xaj
| r-itf А.А.А-г^Л.З.
Господин Ахвхищ
Соаив.ч. чхо ι-υΐΜβ iic.«w>ja <мгв» даашо: нвьвт-о
чвтча и 1909 «·., «стакюм * вчлъ m.si..vo Воз вв «тч
» г»пс#"С',во '-ипй МО ШЯШНЛ.
В случив Bbwo еотивоал. лицо, >пплю:ючви· о· г>»сь
Ι ·λ«.·ολι5- HNQWRN *.:>0О", суди? мете г»·*"©**» с
Вамв jub Ueix-t п'хдзмжтелс· по астму уаки-кЦ, ооо«
ι *«с« зо"аниалцва vbi*cb, <моил.по гпк поспе;;с?пв
:tfj UnMt) 07ВВТЯ. В КОЮШ/М ЯНЫ niWKj ОНЯЫСГЬ
В«л оолсрявашя о арок· в «cte лроиедвтхй *тчв.
Г-с. Ввз См ·β·*ο co*\saajts я» п:4дадять «дветюсп
алев перс^оеопь.
Ttj9«Te<jibfc ответ о поолед* а»· годтлвтау.вига" ио
lost·, Βροιο авппввжть по в;;ове>:
Ьснвн, аЪмАяМ! LiiC·, ^^om.iiiBUbj.
(J.i.oii nniiu<0.
• " *чеви* 1946 ".
Проект письма Ботвинника Алехину,
обнаруженный в ГАРФе, заметно
отличается от той телеграммы, что
приведена в романе * Белые и черные».
Публикуется впервые.
418
Чужой среди своих
было дождаться «расследования обвинений»? У меня только одно
объяснение: советская сторона хотела застолбить Ботвинника как
главного претендента — на случай если Алехина лишат звания
чемпиона или он, не дай бог, умрет. Но вот почему исполком ФИДЕ принял
потом решение о проведении матча, понять труднее. Да и
правомочность такого решения юридически сомнительна: Алехин не являлся
чемпионом ФИДЕ, а Ботвинник представлял страну, которая в ФИДЕ
тогда не входила...
Найденные документы проливают свет на переговоры Ботвинника
с Алехиным. 31 января глава Спорткомитета Н.Романов написал
секретарю ЦК ВКЛ(б) Г.Маленкову:
«В связи с организацией матча на первенство мира по шахматам
между Ботвинником и Алехиным необходимо решить вопрос о
порядке вызова Алехина на матч.
Возможны два варианта вызова:
1. Прямой вызов Ботвинником Алехина путем посылки письма
через НКИД. В связи с тем, что Алехин проживает в Испании (точнее,
в Португалии), НКИД перешлет это письмо через Францию или
Англию. После получения положительного ответа Алехина и его
предложений об условиях и месте проведения матча, Московский шахматный
клуб обратится к Британской или другой шахматной федерации взять
на себя организацию матча.
2. Вызов Алехина на матч через Британскую шахматную
федерацию. (...) При этом варианте для решения вопроса будет затрачено
несколько больше времени».
К письму прилагались проекты письма Ботвинника Алехину и двух
его писем в Англию: одно - Британской шахматной федерации,
другое - ее президенту г-ну Дербиширу (копия - вице-президенту г-ну
:;.Щ.^.',— .. Просят разрешить т.Ботвиннику
стеров оспаривать у Алехина первенство
^истое)
. 1 ϋΓ .
9.,Л Лог.
мира з о ваздазш
т.Алс. . У ова.
Резолюция на письме «видных советских мастеров» от 1.12.1945. Решение
последовало только через три месяца — после согласия Алехина. Публикуется впервые.
Секретные файлы
419
Томасу). О финансовых условиях речь шла только в этих двух письмах:
«Московский шахматный клуб готов ассигновать на организацию
моего матча на первенство мира с чемпионом мира Алехиным 55.000
рублей (примерно 10.000 долларов), из которых 2/3 составит гонорар
чемпиона мира и 1/3 предназначается на организационные расходы».
Вот проект письма Алехину (с сохранением авторской орфографии
и пунктуации):
Первый варит π
ЧЕМПИОНУ МИРА ПО ШАХМАТАМ
г-ну А.А.Алехину.
Господин Алехин!
Сожалея, что война помешала организации нашего матча в 1939 г.,
настоящим я вновь вызываю Вас на матч на первенство мира по
шахматам.
В случае Вашего согласия, лицо, уполномоченное мною и
московским шахматным клубом, будет вести переговоры с Вами или Вашим
представителем по вопросу условий, срока и месте организации матча,
желательно при посредстве Британской Шахматной Федерации.
Жду Вашего ответа, в котором также прошу сообщить Ваши
соображения о сроке и месте проведения матча.
Прошу Вас без моего согласия не предавать гласности наши
переговоры.
Телеграфный ответе последующим подтверждением по почте,
прошу направить по адресу:
Москва, Шахматный Клуб, М.Ботвиннику.
(М.Ботвинник).
«...» января 1946 г.
Выбрали второй вариант. Из письма Томаса советскому послу
Караваеву (от 23.02.1946), которое я нашел в ГАРФе: «Благодарю Вас за
присылку письма г-на Ботвинника и копии его письма г-ну
Дербиширу - оба от 2 февраля. Содержание этих писем меня очень интересует,
и я очень надеюсь, что Британская шахматная федерация найдет
возможность содействовать выполнению проекта г-на Ботвинника».
Удивляет, конечно, как долго шли письма из Москвы до своих
адресатов. В итоге Алехин узнал о вызове Ботвинника только в начале марта!
И лишь тогда, уже после ответа Алехина, на письме «видных советских
мастеров» была начертана резолюция: «Решено. Д.Смирнов. 9.II 1.46».
Д.Г.Смирнов — это инспектор управления кадров ЦК ВКП(б)...
Перенесемся теперь в Эшторил, где жил чемпион. Вот отрывок
из статьи «Поверженный король» португальского шахматиста Фран-
сишку Люпи, помогавшего Алехину в последний год жизни («Chess
World», 1.10.1946):
420
Чужой среди своих
«Я поехал в Эшторил и попытался его подбодрить. Мы сразу же
приступили к работе (над партиями недавнего турнира в Гастингсе). И
были почти в конце партий Тартаковера, с головой погрузившись в
позицию на доске, когда постучали в дверь. Как сейчас вижу: он
поднимается и неверными шагами идет к двери, чтобы получить телеграмму
от г-на Дербишира из Ноттингема:
"Москва πредпагает значительную сумму, чтобы матч на первенство
мира по шахматам между вами и Ботвинником игрался в Англии, и
предлагает вам назначить кого-нибудь своим представителем в Англии
и проработать все детали ответной телеграммы".
Это вызвало у Алехина второй сердечный приступ. Он с трудом
преодолел шок, не в силах поверить, что скоро вернется в большой
шахматный мир. Он туг же ответил г-ну Дербиширу, что принимает вызов,
если Ботвинник согласен на условия 1939 года. Бедный Алехин! Он
согласился бы на любые условия. Через нес коль ко дней Михаил
Ботвинник сам отправил письмо через британское посольство в Лиссабоне.
Текст был на русском языке с приложением английской версии».
Люпи приводит английскую версию. Она датирована 4 февраля и
целиком совпадает с проектом письма Ботвинника, за исключением
двух деталей: нет фразы, чтобы «не предавать гласности наши
переговоры», а в московском адресе отсутствует фамилия Ботвинника.
В любом случае письмо очень похоже на телеграмму из романа
«Белые и черные», которая с легкой руки Котова стала
хрестоматийной: «Я сожалею, что война помешала нашему матчу в 1939 году Я
вновь вызываю Вас на матч за мировое первенство. Если Вы
согласны, я жду Вашего ответа, в котором прошу Вас указать Ваше мнение
о времени и месте матча. 4 февраля 1946 года. Михаил Ботвинник».
На вид Котов просто сократил письмо. Но он его не «просто
сократил», а отредактировал так, чтобы создать впечатление, будто
Ботвинник готов лично вести переговоры. На самом деле из текста
письма очевидно, что Михаил Моисеевич, понимая «токсичность»
Алехина, хотел избежать прямых переговоров, выставив вместо себя «лицо,
уполномоченное мною и Московским шахматным клубом».
Но это так, к слову. Гораздо важнее другое. Помните, Ботвинникпи-
шет, что о готовности играть матч «на согласованных ранее условиях»
Алехин заявил еще осенью 1945-го? Но, по свидетельству Люпи,
согласие на эти условия он дал лишь в ответной телеграмме Дербиширу - в
марте 1946-го! Точнее даже, не дал согласие, а сам напомнил о них,
указав, что «принимает вызов, если Ботвинник согласен на условия 1939
года». Однако условия, опубликованные в «Chess» (март 1946), только
внешне напоминали те, о которых они договорились в Амстердаме:
«Ботвинник написал президенту Британской шахматной
федерации г-ну Дербиширу, что Московский шахматный клуб готов финан-
Секретные файлы
421
сировать матч на первенство мира Ботвинник - Алехин и выделить 10
000 долларов (2500 фунтов стерлингов). Две трети идут победителю, а
остальное должно пойти на расходы».
То есть проигравший не получит ни цента! «Так, так!! А где 7000,
обещанные Алехину в 1938 году?» - написал Бронштейн на листке,
вложенном в этот номер «Chess», который я нашел в его архиве.
Действительно, Ботвинник при встрече посулил Алехину совсем иное
(см. книгу «К достижению цели»):
«Призовой фонд - 10 тысяч долларов (не так уж много, ведь будет
экономия на моей доле приза — мне-то денег не надо).
— А сколько должны получить вы? - спросил я.
— Две трети в случае победы, — ответил Алехин.
Это несколько затрудняло мою задачу: проще было просить
твердую сумму, независимо от результата матча.
— То есть шесть тысяч семьсот долларов?
-Да, конечно.
— Эта сумма достаточна и при ином исходе матча?
Алехин засмеялся и кивнул головой».
В 1938 году Михаил Моисеевич готов был вообще отказаться от
приза, лишь бы сыграть матч (собственно, Эйве играл на таких же
условиях, и наградой ему был лавровый венок, а все деньги получил Алехин).
В 1946-м ситуация изменилась, и уже он мог диктовать условия!
Кстати, в проекте писем в Англию, напомню, было написано иначе: «2/3
составит гонорар чемпиона мира». В сообщении «Chess» эта
двусмысленность (какого чемпиона: нового или прежнего?) была устранена...
Котов, вероятно, был не в курсе, что о требовании Москвы играть
матч в Англии чемпион узнал еще из телеграммы Дербишира. «Что за
Если бы не эта записка Бронштейна, я бы вряд ли заметил разницу между теми
условиями матча, которые Ботвинник посулил Алехину в 1938 году, и теми, что
советская сторона предложила ему в 1946-м... Публикуется впервые.
422
Чужой среди своих
вопрос "о месте матча"?! - восклицает у него в романе Алехин, читая
письмо Ботвинника и «сквозь слезы» глядя «на весточку, равную по
стоимости жизни». — Я же говорил в 1939 году: Москва, только
Москва». Ага, как же! Алехин и тогда хотел играть там лишь первую
половину матча. Он давно всё понял про большевиков. «Керес
рассказывал мне, — поведал Виктор Корчной, - что перед войной Алехин был
в Эстонии и говорил им: "Бегите отсюда быстрее, пока большевики не
пришли!"». А по словам Хеуэра, в один из «моментов истины» Керес
ему сказал: «В Испании я спросил Алехина: "Если я вернусь домой,
снимуг ли мне русские голову?" Алехин ответил: "Да, снимут"».
Ботвинник пишет, что переговоры шли «со скрипом: оппозиция
вновь открыла огонь». В мемуарах он ограничился намеком, но
спустя годы прямо назвал главного «оппозиционера» — экс-председателя
Всесоюзной шахматной секции Бориса Вайнштейна: «Тот был
страшный человек, просто страшный, меня ненавидел, он не хотел, чтобы
я стал чемпионом мира. Когда обсуждался мой матч с Алехиным, то,
несмотря на решение Сталина, он, пользуясь тем, что был
начальником планово-финансового отдела КГБ (точнее, НКВД), использовал
свои связи, чтобы мешать моим переговорам с Алехиным» (из
книги ПСосонко «Мои показания», 2003). Добавлю, что журнал «Soviet
Chess Chronicle», которым руководил Вайнштейн, даже не сообщил о
смерти Алехина, хотя выходил до июля 1946 года...
На «страшные» козни, которые чинила ему «оппозиция»,
Ботвинник не пожалел места в своих мемуарах. Сначала его вызвал
председатель Спорткомитета Романов и сообщил, «что матч с Алехиным
играть нельзя — так считают французские коммунисты». Ботвинник
в ответ: «Что, Николай Николаевич, решение правительства об
организации матча с Алехиным отменено?» — «Нет, нет, всё в
порядке...» Потом, опять у Романова, его стали расспрашивать о «связях с
белоэмигрантами» и «иностранными дипломатами в Москве».
Ботвинник: «Кто-то, видимо, хотел, чтобы матч Алехин — Ботвинник не
состоялся, но что делать — решение правительства отменить нельзя.
Вот и возникла идея "давить" на Ботвинника, а вдруг сам откажется...
Пришел домой и написал заявление в ЦК - ну и досталось же
бедному Николаю Николаевичу!»
За дымовой завесой этих историй, не стоящих выеденного яйца,
но занимающих в книге более двух страниц, Михаил Моисеевич
умудрился не привести ни одного письма, ни одной детали переговоров с
Алехиным и англичанами. Упомянул только, что Дербишир предлагал
начать матч в августе, но он был с этим не согласен... Финальная точка
вообще шедевр: «Не помню, успели ли отправить мой ответ в Англию».
Как выяснилось, Ботвиннику было что скрывать.
К достижению цели!
423
К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ!
Проект «Плана подготовки М.М.Ботвинника к матчу с Алехиным»
Юрий Шабуров нашел в ГАРФе, и его статья «Тайное оружие
Ботвинника: Керес и бутерброд с икрой» («The Chess Herald — Шахматный
вестник» № 1, 1994) стала сенсацией в шахматном мире, благо
журнал выходил на двух языках. С тех пор документ часто цитировался,
но целиком воспроизвел, кажется, только Владимир Мощенко в
своем замечательном романе «Сало Флор. Горький чешский шоколад»
(2015). А текст интересен именно деталями!
Хорошо, что я не поленился съездить в ГАРФ и увидел документ
своими глазами. Оказалось, Шабуров допустил ряд ошибок: во 11-м
варианте, в пункте 3 вместо июня указал июль; пропустил слово «мастер»
у Гольдберга; в «Личных нуждах Ботвинника», в пункте 1 вместо «для
обследования» написал «для обслуживания»; про мелкие неточности я
уж и не говорю... Но главное - он не сообщил, что несколько слов в
документе вписаны от руки, а это позволило мне установить его автора!
Π роек ι
ПЛАН ПОДГОТОВКИ
М.М.БОТВИННИКА к матчу с АЛЕХИНЫМ.
1-й вариант (начало матча 12 августа 1946 года)
1. Подписание соглашения о матче - около 1 апреля.
2. Закрытый матч с Кересом (20 партий), 10 мая - 1 июля.
3. Приезд в Англию 15 июля.
4. Начало матча 12 августа.
5. Аналитическая и спортивная работа Ботвинника (фамилия
вписана фиолетовыми чернилами) с Рагозиным по особой программе.
Этот вариант предлагает Дербишер; он крайне невыгоден для нас,
так как мало остается времени для подготовки, и на него можно пойти
лишь при крайних обстоятельствах. В этом случае Рагозин не будет
участвовать в турнирах.
11-й вариант (начало матча 3 февраля 1947 года).
1. Подписание соглашения о матче около 1 апреля.
2. Участие в международном турнире в Москве, 10 мая - 10 июня.
3. Участие в матче СССР — Англия, 22—26 июня.
4. Участие в матче СССР — США, 1—4 сентября.
5. Закрытый матч с Кересом, 1 октября — 20 ноября.
6. Приезд в Англию - 6 января 1947 г.
7. Начало матча 3 февраля 1947 г.
8. Аналитическая и спортивная работа Ботвинника (фамилия
вписана фиолетовыми чернилами) с Рагозиным по особой программе.
424
Чужой среди своих
г
Грюут.
Ю*Ч> С |
азгусгп лЭ46 rojj.fi...
1. Годптюяние соглашения о матче - о дало 1 ппе;;ь,
<.. &як»«>гьй :<втч с Кеоесом (*.С гяргкй), 1С мля-I л*.ля.
3. Гриёл'Д в Авглию 15 июля.
4. Начало "β Ия 1- ητ.Γ\ стя. t j^Hwv* ς .
5. Авялктуческая и en о рг л лл я р г.м^лтрй'ргИэичвиго ососой
программе .
Этот вятиант г;о*длягяет ~ероишет>; он крадов невыгоден ;яй ι|
нас, так как мало остается ипе юна ала подготовь ϋ не него
МОЖНО ПС!М»И ЛИШЬ ГПЯ ЛрПЙИПХ OOCTa.XtV.LCCiinX. ^ CTC'V. O./iflB,
Рагозин яс будет учаетвсвнгъ в «>рндрик.
ЛКПЗГ (Н*чОЛР :WT4q tf '„ew.'fiia-Д-Эу Гу/,ρ'; ._
i. Г одлисппие аогляЕбпю о чятче оиело χ · *в:;я.
*.. Участие в меггдувяр&дном гурн>:ре ϋ ..ссклп, Ю ая*-10 юл*.
d. Участие в д/.ятче СССР-Англан, *.а.-*,ь льжя .
4. Участие £ >.«я'Г5в CCCP-UaAi 1-4 свюДпя.
5, Закрытый латч с Пересом, 1 0К5Ября-*0 нож;оь.
ti» Гяиезд в Аигллю - ь января j-Э^т г.
7, качало матча Ъ $евпяля 1Э47 г. (fmSm*** с/
£. Авглятьческяя л сго^тивняя woTayr&ro&'ani* го с-собой
программ .
^тот rnc:ioTfT naacio.iee целесообтпое". ϋ это?* случае Рпговяй
тякхе оугот игрять в wfc-да яяродяя: rywsipe в ..о акте и, ктюне
того, '.'пгч с ионд^евскя·/.
1« ?'x»>.SSJw»vw»iw г^е Звание (с ^5 гртя) 1№£1идо:кя к Рагозина, з
Ьоме отдь'хп "Сосвь", а в дальней:ом ^отвввшк й Рагозин ?:οι^ τ г лысое
рре"Л 2 !№ ЛЮб Oil СТ)ОК ГТ}И?8ЖРТЬ Ρ Н.0» ОВДШ'. и£&СЪ Π>7.?.Τ Л ПОХОДИТЬ
подготовке η тое«иторкя. (;& γόοοημ лгетги.ендя на единовременной
привел семей в лом отдыха). Кооче того необходимо пообквягке иотвинкика
μ Рагозина в сяряторий. сроком пп ι мес.
л. Для подготовки к *'атчу иотвиннику (до кончя уятчя) нужен Раго-
виг. Он £удет г.смогнть по все*; вогоосяг.» гворческох'а хврсктоя и ло
при ездя Рохлиез яозъчет ян себй вое опгя^зяциоинкя доли.
Рохлин (после своего лркеядя) будет отвечать за органа8em;i> ;*ятча
ρ погонь к нему можно поввлечь мастера Гольдбергя и Германа.
За библиографическую работу будут отвечать ΙΊ.νκοΒ и ияйгедес.
Необходимо обеспечить участие Переса (си. сдан подготовки) .
&. Валюта в сумме <*00 долляоов для згжуггки ияостряяяьх книг ;ι
jKypnanoB, ^_ ^
Первая страница «Плана подготовки М.М.Ботвинника к матчу с Алехиным»
(1946), хранящегося в ГЛРФе. Публикуется впервые.
К достижению цели!
425
Этот вариант наиболее целесообразен. В этом случае Рагозин также
будет играть в международном турнире в Москве и, кроме того, матч с
Бондаревским (на звание гроссмейстера).
Обеспечение подготовки.
1. Трехнедельное («недельное» вписано фиолетовыми чернилами
поверх «месячного») пребывание (с 15 марта) Ботвинника и Рагозина в
доме отдыха «Сосны», а в дальнейшем Ботвинник и Рагозин могут
в любое время и на любой срок приезжать в дом отдыха. Здесь будет
проходить подготовка и тренировка. (Мы просим разрешения на
единовременный приезд семей в дом отдыха.) Кроме того, необходимо
пребывание Ботвинника и Рагозина в санатории, сроком на 1 месяц.
2. Для подготовки к матчу Ботвиннику (до конца матча) нужен
Рагозин. Он будет помогать по всем вопросам творческого характера и
до приезда Рохлина возьмет на себя организационные дела.
Рохлин (после своего приезда) будет отвечать за организацию
матча. В помощь к нему можно привлечь мастера Гольдберга и Германа.
За библиографическую работу будут отвечать Греков и Майзелис
Необходимо обеспечить участие Кереса (см. план подготовки).
3. Валюта в сумме 200 долларов для закупки иностранных книг и
журналов.
4. Исправная автомашина с обслуживанием.
Личные нужды Ботвинника.
1. Помещение матери в терапевтическое или нервное отделение
Кремлевской больницы для обследования здоровья, а в дальнейшем
устроить на постоянное пребывание в хороших условиях. Сейчас она
находится в психиатрической больнице им. Ганнушкина (в тяжелых
условиях). Справка из больницы о возможности ее содержания в
нервном или общем отделении есть.
2. Отпуск с сохранением содержания по Наркомату (НКЭС) по 1
января (1-й вариант) или по 1 июня (П-й вариант) 1947 года.
3. Отпуск жене по Большому театру на время матча.
4. Материальная помощь - рублей ежемесячно.
5. Увеличение продовольственного лимита из следующего расчета:
2 кгр. сливочного масла, 1,5 кгр. зернистой икры, 5 кгр. фруктов, 2
кгр. шоколада.
6. Снабжение промтоварами (по прилагаемому списку), которые
необходимы для приезда с семьей в Англию.
7. Летнее пребывание семьи (жены и ребенка) в доме отдыха.
8. Желательно получение квартиры большей плошади.
Личные нужды Рагозина.
1. Обеспечение квартирой в Москве до 1 мая с.г.
2. Отпуск с сохранением содержания по Наркомату (НК ИНД.
Стр.) на те же сроки, что у Ботвинника.
426
Чужой среди своих
Третья страница плана подготовки. Отчетливо видно, что нижняя половина
аккуратно оторвана. Публикуется впервые.
3. Материальная помощь - рублей ежемесячно.
4. Обеспечение продовольственным лимитом - 500 рублей.
5. Обеспечение промтоварным снабжением.
6. Прикрепление (с семьей - жена и ребенок) к Лечсанупру Кремля.
7. Летнее пребывание семьи в доме отдыха.
Список промтоваров, необходимых для экипировки
Ботвинника с семьей перед поездкой в Англию.
I. Мужские вещи:
1. Летний костюм — 1
2. Вечерний костюм - 1
3. Демисезонное пальто - 1
4. Зимнее пальто - 1
5. Летнее пальто — 1
6. Полуботинки — 2 п.
7. Верхние рубашки - 4
8. Летние рубашки - 4
9. Шляпа- 1
II. Дамские веши:
1. Демисезонное пальто— 1
2. Меховое пальто — 1
3. Вечерний туалет — 1
4. Дневной туалет — 3
III. Белье и детские вещи.
К достижению цели!
427
На Западе всё недоумевают: в чем причина советской гегемонии
на шахматном Олимпе? Господи, да посели Решевского или Файна
на годик в дом отдыха, да дай в помощники пару гроссмейстеров,
да в придачу пяток мастеров, и всё это за государственный счет... Эх,
какие бы чемпионы могли вырасти!
Но речь не об этом. Больше всего меня поразило то, что Ботвинник
хотел привлечь для подготовки Кереса! Причем обратите внимание
на формулировку: «Необходимо обеспечить участие», то есть
попросту - заставить. Ботвинник знал, что делал: Керес не мог отказаться.
В годы войны он играл в немецких турнирах и оказался на крючке
у НКВД. Его вызывали на допросы, не разрешили сыграть в первом
послевоенном чемпионате страны и в радиоматче с американцами,
но самое обидное — не пустили на турнир в Гронингене (1946). По
странному совпадению, первое выступление Кереса на всесоюзной
арене (открытый чемпионат Грузии) состоялось после того, как
Ботвинник договорился о матче с Алехиным, — в марте 1946-го...
Ботвинник пишет: «меня несколько коробило, что Алехин не
выполнил договоренности и
раскрыл наши секретные
переговоры». Еще бы не коробило: ведь
Михаил Моисеевич затеял их за
спиной Кереса - тот, как
победитель АВРО-турнира, имел
право на матч с Алехиным и
даже заручился его согласием. Хеу-
эр: «Когда корреспондент
эстонской газеты "Uus Eesti'1
дозвонился Кересу по окончании
турнира, тот ответил: "Алехин
согласен. Появились даже слухи,
что ΑΒΡΟ готова финансировать
это соревнование. Завтра
состоятся более подробные
переговоры насчет условий - где, как
и когда...ν Однако начало
переговоров было малообещающим.
Алехин заставил представителей
ΑΒΡΟ и своего юного
оппонента прождать 15 минут. Разговор
явно не клеился. В тот же день
Керес покинул Голландию».
И вот теперь, спустя семь лет,
Паулю предстояло узнать, поче-
ет ^ербишет); с π едайяв
\оя ъщтш )\ля подгото
ииих обстоятельствах.
вагь в χ,·. &.
пягче околп i яг ркдя ,
[туриаое и .afpe-iEee-i 10 м
L i-4 се щ«бпя.
X ОКТЯ0рй-*0 НОЯС>Ш,
яя рвботауГ '■ · ийШг.о
Нетрудно убедиться, что вставки
фиолетовыми чернилами сделаны рукой
Ботвинника/
428
Чужой среди своих
му Алехин тогда опоздал и
почему «не клеился разговор»:
именно в тот момент чемпион мира
встречался в соседнем отеле с
Ботвинником, и они обо всем
договорились...
По мнению Ботвинника, «Ке-
рес после матч-турнира сорок
первого года не имел особых
прав...» Однако в 1943 году
Алехин сам предложил Кересу
сыграть матч (но тот отказался,
посчитав неподходящими время
и обстоятельства), а в феврале
1944-го заявил, что «видит в Ке-
ресе главного кандидата на
звание чемпиона мира; в качестве
других кандидатов он назвал
Решевского и Файна» («Chess
Review», май 1944). Но уже в
ноябре Алехин вдруг «выразил
готовность» сыграть с... Ботвинником!
Объяснение этому кульбиту
дал сам Ботвинник: Алехин
«догадывался, что обвинений не
избежать. Чемпион мира пришел к
очевидному решению: предложить свой матч с советским
чемпионом. Это защитило бы его от всех нападок». Таким образом,
решение Алехина было не спортивным, а конъюнктурным. Он понимал,
что пока не предстанет перед французским судом, ни Решевский,
ни Файн, ни тем более Эйве играть с ним не будут. А вот Ботвинник
будет! Алехин, как мы знаем, не отличался принципиальностью, что
дважды использовал Ботвинник: в 1938-м, когда гарантией
призового фонда подбил чемпиона на закулисную сделку, и в 1946-м, когда,
выступив в качестве палочки-выручалочки, получил право диктовать
Алехину условия матча.
А теперь вдумайтесь: Ботвинник требует в спарринг-партнеры не
кого-нибудь, а Кереса - главного, по мнению Алехина, кандидата на
матч с ним. Он сознаёт: стань об этом известно, — скандала не
избежать. Поэтому специально оговаривает — «закрытый матч». Но
условия-то серьезные: 20 партий, почти два месяца игры... Постойте,
да ведь это же финальный матч претендентов! Только играемый в
тренировочных целях одного из соперников.
План подготовки со всей очевидное-
тью показывает, что Ботвинник не
был уверен в своем превосходстве,
зато Алехина побаивался...
К достижению цели!
429
Неудивительно, что Ботвин
ник ни словом не обмолвился о
существовании такого плана. А
в мемориальной статье о Кересе
написал: «После АВРО-турнира
права Пауля играть матч с
чемпионом мира Алехиным стали
очевидными... Конечно, Паулю
не повезло в его шахматной
карьере. В другое время, вероятно,
он стал бы чемпионом мира».
В 2008 году Игорь Ботвинник
предпринял попытку обелить
своего двоюродного дядю,
заявив на страницах «64—ШО» (№
4): «скорее всего, план составлен
каким-то чиновником из СК».
Рассчитано на простаков. Хотел
бы я увидеть чиновника
Спорткомитета, который по собственной
Горькая правда в том, что сам по себе <-
л И \- инициативе посмел бы хлопотать
Алехин уже никому не был нужен: всем, _
включая родину-мать, нужен был то- ° «получении квартиры большей
лько его титул! площади» для Ботвинника, а о
его матери написать, что «она
находится в психиатрической
больнице им. Ганнушкина»! А взять фразу: «Мы просим разрешения на
единовременный приезд семей в дом отдыха». Это кто просит: тоже
«какой-то чиновник из СК»? Или все-таки Ботвинник с Рагозиным,
перечислению личных нужд которых посвящена целая страница?
В подтверждение своей версии Игорь Юльевич привел слова
Ботвинника, сказанные им якобы еще при жизни: «Какие идиоты! Как
я мог планировать закрытый тренировочный матч с моим главным
соперником Кересом, да еще из 20 партий!» Начнем с того, что
зимой 1946-го Керес был не «главным соперником» Ботвинника, а
изгоем, которому не разрешали играть в турнирах. Далее: а что мешало
«вспомнить» дядины слова раньше? И наконец, почему сам Михаил
Моисеевич не выступил в печати с опровержением — ведь статья Ша-
бурова увидела свет в январе 1994-го, более чем за год до его смерти?
Ответ очевиден: Ботвиннику нечего было возразить. Шабуров указал
всё: фонд 7576, опись 21, дело 89.
Племянник лукавил, утверждая, что «под планом не было
подписи». Была! Но... «Нижняя половина третьей страницы документа
430
Чужой среди своих
оказалась аккуратно оторвана, - пишет Шабуров. - А ведь на ней
должны были находиться визы-подписи тех, кто составил и одобрил
этот план: Ботвинника, Рагозина и т.д. Без такого официального
оформления документы не включались в папки-дела, подлежащие
хранению в государственных архивах. Видимо, позднее кто-то решил
сохранить в тайне круг лиц, участвовавших в подготовке документа».
Кажется, мне удалось узнать, когда это случилось. «Лист-заверитель
дела» датирован 5.04.93 (вероятно, дата передачи документа в ГАРФ).
В нем только одна запись: «нижняя часть листа 6 обрезана. 11.05.94».
Шабуров отыскал дело в декабре 1993 года. Вот между апрелем и
декабрем кто-то и оторвал подписи. А заодно — разблюдовку пункта
«111. Белье и детские вещи», от которого осталось одно название.
Но убрать все следы не удалось. Помните, я пишу о вставках
фиолетовыми чернилами? Так вот: они сделаны рукой Ботвинника —
можете сами убедиться в этом, сравнив их с его автографами тех лет!
ВМЕСТО ЭПИТАФИИ
До сих пор идут споры: кто победил бы в матче — Алехин или
Ботвинник? Каждый верит в победу своего кумира, и переубедить фанатов
практически невозможно. Тем паче что хватает аргументов и «за», и
«против». Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу
все же одно соображение, которое заставляет усомниться в победе
Ботвинника.
Судя по детальному плану подготовки и привлечению целой
команды специалистов, он всерьез был настроен на матч с Алехиным (в
отличие, думаю, от спортивного руководства, которое, как и до
войны, боялось ответственности за возможный проигрыш). Залог успеха
в любой борьбе - это вера в себя. Но план со всей очевидностью
показывает, что Ботвинник не был уверен в своем превосходстве, зато
Алехина побаивался.
Еще в его книге меня, помню, удивила фраза: «Я был не согласен
со сроком матча (август 1946-го), ибо мало времени оставалось на
непосредственную, практическую подготовку». Но в плане-то еще
круче: «Этот вариант предлагает Дербишер, он крайне невыгоден для
нас, так как мало остается времени для подготовки, и на него
можно пойти лишь при крайних обстоятельствах». И это пишет человек,
который, по его собственным словам, с 1943 года готовился к матчу с
Алехиным! (А собирать команду начал, как выяснилось, еще раньше.
Вспоминает Г.Гольдберг: «В самые трудные месяцы конца 1941 года,
когда положение на фронтах было очень тяжелым - враг окружил
Ленинград, рвался к Москве, - я получил от М.Ботвинника письмо.
Он вместе с семьей жил тогда в Перми. Ботвинник спрашивал меня,
Вместо эпитафии
43/
согласен ли я помогать ему вместе с В.Рагозиным и другими
друзьями в период подготовки и проведения предстоящего (конечно, после
войны) матча с А.Алехиным на звание чемпиона мира» —
«Шахматы», Рига, №4, 1976.)
Хотя понять Ботвинника можно. Он же не знал, в каком
плачевном состоянии находится Алехин, а его результаты в 1941-1943
годах выглядели устрашающе: почти сплошь 1 -е места (лишь однажды
2-3-е) и всего шесть поражений в девяти турнирах. Да и недавние -
в ноябре 1945-го - сеансы на Канарских островах показали, что
чемпиону по силам большие нагрузки: из 180 партий он проиграл
только девять!
Но это ведь не повод для паники? Ботвинник, как никто, владел
искусством подготовки и умел настраиваться на жесткую,
бескомпромиссную борьбу. Почему же он так нервничал? Почему любой
ценой хотел оттянуть начало матча?..
Думаю, основная проблема была не в шахматах, а в психологии. В
отличие от Алехина с его колоссальным опытом длительных матчей,
Ботвинник к тому времени сыграл всего два серьезных матча
(тренировочный с Рагозиным не в счет), причем небольшие: с Флором - 12
партий, с Левенфишем - 13. Оба закончились вничью, но поединок
с Левенфишем выявил психологическую уязвимость Ботвинника:
из четырех последних партий он проиграл три! Вот откуда мандраж
перед матчем с Алехиным, вот почему необходим был именно Керес:
Ботвинник хотел испытать себя в долгом единоборстве с соперником
уровня чемпиона мира.
Но кто мог предсказать результат этого единоборства? Хорошо,
если удастся победить, а если нет? Вот лишние полгода и
пригодятся, чтобы проанализировать ошибки, подготовить новые дебютные
схемы... Ведь Ботвинник понимал, что у него только одна попытка,
осечки в матче с Алехиным быть не может. И это его пугало. Как
оказалось, не зря. Завоевав в 1948 году - в матч-турнире - шахматную
корону, Ботвинник потом не выиграл ни одного матча в ранге
чемпиона мира: он побеждал только в матчах-реваншах, детально изучив
проигранный матч и слабые места противника. Поэтому с
уверенностью можно сказать только одно: вот имей Ботвинник в запасе матч-
реванш, в нем бы он не оставил Алехину никаких шансов!
...Вызов Ботвинника принято считать чуть ли не гуманитарной
акцией: мол, в трудную минуту, когда от Алехина все отвернулись,
родина-мать протянула руку своему заблудшему сыну. Но
достаточно почитать письмо «видных советских мастеров», чтобы убедиться
втом, насколько далеко это от действительности: «Мы считаем, что
матч с Алехиным ни в какой мере не меняет нашего к нему отноше-
432
Чужой среди своих
ния и не реабилитирует его в глазах общественности. Единственная
цель матча - это завоевание нашим чемпионом Михаилом
Ботвинником звания чемпиона мира по шахматам».
Увы! Горькая правда в том, что сам по себе Алехин никому не был
нужен: всем, включая родину-мать, нужен был только его титул.
Конечно, открыто об этом не говорили. Ботвинник настаивал на своем
матче с Алехиным, упирая на то, что договорился с ним (правда,
втихаря) еще до войны. Американцы же попросту предлагали разыграть
алехинский титул в турнире, при случае исключив из него самого
чемпиона. Конфликт интересов был неизбежен.
Смерть Алехина, как ни странно, была выгодна всем. В том числе
Ботвиннику. Согласием на матч с ним Алехин уже сыграл свою роль,
возведя Ботвинника в ранг главного кандидата, что затрудняло
коронацию Эйве. А выиграть матч-турнир Ботвиннику, имевшему за
плечами опыт матч-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР,
было гораздо проще, чем матч у Алехина - хоть и затравленного, но
всё еще грозного...
Лучшую эпитафию Алехину задолго до его смерти - а
собственно, чем смерть гениального творца отличается от крушения? -
написал Зноско-Боровский: «Крушение Алехина (в матче с Эйве) ярче
его побед демонстрирует истинный его рост. От него осталась
только тень. Но и тени Гулливера достаточно, чтобы покрыть всю страну
лилипутов».
ПАРИЖСКИЙ АВТОГРАФ
Не судьба гонится за нами,
а мы должны гнаться за нашей судьбой!
А.Алехин
Помню, на излете советской власти, публикуя в журнале «Шахматы в
СССР» (№ 10, 1990) первые три интервью Алехина из эмигрантских
газет, я написал эссе «Русские в Париже», где были такие строки:
«Берешь в руки сейчас эти "русско-парижские" издания, с их
трогательными ятями и ижицами, и... ностальгически щемит
сердце, будто ты родом не из этой душной, косноязычной империи,
которую даже в припадке квасного патриотизма трудно назвать
Россией, а из того эмигрантского Парижа, где до сих пор говорят и
пишут на таком удивительном русском языке. Да только ли в языке
дело?! Здесь церкви взрывали — там строили, здесь архивы жгли -
там собирали, здесь сравнивали с землей целые погосты — там
заботливо ухаживали за каждой могильной плитой... Смотришь
сейчас телевизор и не знаешь, плакать или смеяться: наши съемочные
группы ездят в Европу, как... в заповедник русской культуры и
быта, не переставая каждый раз удивляться, как же это всё могло там
уцелеть? Да только там это и могло уцелеть! И может, не случайно
все эти годы на карте мира не было государства под названием
Россия. Видно, душа ее тоже скиталась по заграницам и вот только
теперь возвращается на родную землю, оставляя приютившим ее
народам знаки вечной признательности — свои светлые храмы и
тенистые кладбища...»
С той поры минуло тридцать лет. И, оглядываясь назад, я
понимаю, что душе этой еще предстоит поскитаться по чужим краям,
потому что родная земля, к сожалению, оказалась пока не готовой ее
принять. Да и сможет ли когда - Бог весть...
Публикуемые в этой части статьи и интервью Алехина — тоже
своего рода «заповедник русской культуры и быта», только шахматный.
Поблагодарить за его сохранение нужно в первую очередь моего
доброго знакомого Игоря Петровича Хабарова, который многие годы
собирал шахматные материалы из эмигрантских изданий и с конца
80-х регулярно приносил их для публикации в журнал «Шахматы в
СССР», где я тогда вел отдел «Архив» (с 1992 года - «Шахматный
вестник», затем «Шахматы в России»).
434
Парижский автограф
За Оде» кшмлпапсл η empin
ejopaot пимами етсояг» етэлхти. Но
хсе-твдх ала no слхдует» «nrkmv λ'βκ-
OtttSaarO HDMlll
:«cjrnuon kitu межи врАдсталупе-
дам ΦρβχΑΐι ■ λχττχΙβ, η toropun Co·
ролвга Л»-Бурдав» зротжп Мап-Дмел-
u ■ Ce*TvA*tn npcmt Crayiroaa. Bt
η же tpeiu всшдв η мод; ■ ar?t no ое-
реивы*. B:a ·ι.> повели гь ввроасдеа1»>
НееалАтао парусил, η ricatirt
Другая ΚΙ«·ρθ»1 0*рО0р«П >0 тЛЯХЯП
м матраце· еудаства munn Пове-
шогт оереспвпсмлтгкть ι» аиххивгю
πορτίκ> зросто tin ι» средство tax onpo-
дтоонвс» ukJit. — nc» о» вредлогс in
дерма!» варя, bjii u ;nc«»t Η·»
«it .хтроршыл, во гСычю догичесм.
яеацу to*oi м смзигал всгштеать
utcu, » lumuem ражашреиать ia*>
дув отдвльву» unrnjig aepTlr, can
crpolDO» ароцаведсли «csroem. Этот
вовову взгляду — ntxttttiJD xyioxcta-
М1Ш npitaxcx — юихапыВ aipb
оОжвех» прежде xcero xaarcaaettal re»·]
nuuol rxaaai, atiaia a/m»rct Сядя py-
яи«дхэ«хт1 η copoxexun годвгл ipon-
iaro rmitTift ι iuuui η muuvn|
eipoteflcurt crptcat хасгсрвеххы! и-
MTXV
Hr ratt ia Сше таксе oirpuiuie ве-
обхг-двх» x;j paaiarrU шшп, u> тог
дшапп вастероп озо тш coOol ве-
ялсяваегеЯ вспхивп яыгвп душеа-
axn страдая!! ι вдвсшлх» saOon, :cj-
давялои аоложоа!» вицеВ, iota s мол
Hi дэгиавсе :t xewpeaeikcl точи ipt-
В:Я, ЗР ПрЖЖО Ιβ IWJtfttlf ΙΟβ ДМ П!НХ»Т-
лиг» aJonepon тоге xpeaeat. Огрохюе
Оэльвипство. провышм сь импаигг-
aun uptxein ехггръть в» annum, ил
на MGaif. не могло cpeiy ωϊτβ at ion
с* т1я пеявогаш, которое вдруть
отдали »гс« ваСхл! спмьао швдевваго эм>
da. Шала» аергххяада ιρι ι
— ■ кс.ттзгав пега χριιιικ» эвп η яер
вув зчорел raatiuiuB axecusutm. lift
ра и-.рфх.
Наша смЪна
||. — МОПДеСТЪ «И-Н«И
а «идеста inxeiujt
Ь'ы» к<4»« oclu«% «чатап jtift»i-
. .iuwft· »v мвт i«cy<r:rt?
pU »r«, η ст&акп, ·· ?ага труда» etr»
ката, tat илп tn*}i» eeiptxiraun
loMuaata (ι. » . rtytutpuo at c«t2ftii.a m
. 'ft^p t r» «aepfJtJii.jfno r...
m «a rpta-u··*» '
ι craft xacraram. ai.r». f» »i
i ·. il-:o r».v*aa, a» y« aa
US ι·χιη .i.^tTviii xipa tat
!
pirt «n Ki·-·
n»m.ir»« моп f'priuaaui ι
lar^TTrfift ii toftAty taaqainic·. tu nptxtxa
PftUCtM ♦ipjft»p^r,u''4
ι iv UttUWatH
kf<a<ua to -...it tasatftJttmfeOrV duw
tu an тдеат. «to nrrip», tut to·.
[Кладлп, Шадаада, Cfnatvxtjrft, Kuuv
' Ш· lih» л .-pi; (m rotupt ja· α tax*
uiaanoort, i* aaairstoait 6«лав crip-
ι·\ urTt>tn\, tptxi rpaja4#.ii..ia a 3»«u-
laa) а мПатариа др)т» даожгл t»r» та-
aauyua »»r»f:si»c«4. aaxal ana *t \«'u
lanav, ««cevataao iftna^ftfu. anp*t'
' ud\% «каидыаъ tnjtl, aaaa fixn i*an<
Cuj» *m «tattn ja.ii.it5iu.-r
{Taaaaeli.—IBitltillUi
a». Ma туп aura acuatta cruxayivta о
uurritofl («tpjtnA η Ttattaravy fap-
«utf«wy «ρ.»τ·ρΙ»ο 0t\ at«l n«nf*att ι
uaxyitjaiw: »»li»in»(n и иным·
rra tiertai' »\ atywamati ■ ivmonim
sai^n.
HMinj-v, Batarayai v»a«:u:a aaciaa-
mata i»a vur. m* at tea notat da rxfl
Iv»; »\ orn»iif« » · I
'an'fii trt l ч!т\ at
«ajiaaua» iiatuia лрипмит, чг» «ai
tut лаве itt% а.*1«кдиа Ea rutt ar*l
rpyaau aiaaiy tcpria tin, ttfl ^asao ua
ljxb ι υ·Μ·ι atpuTv, tr«
iiaiv UTtBtN с- >
pa spoaaart) — Φ«Βαι. yoanuaci. Mi
MM ι mnentiuar» Kr:tAcaaai·
СССР — BataMaati 0 oetrtifvi t,
actattlla tar», tt» aajtit in tra tiprll
a aaajkiam, ааеаь aatteaara aaiaia, — %
painrVftca, tpaiiHj xuv. w» f»y » ярпа-
дит« aacirvra ynj<Ti{ η 1»4кт«ар«;
atm шапатдихл t>na»aiatt 4τι ««a
E. Д. Богопюбовъ
(Па помду гаадетаахага мага «атна с ν ММ]
I. - ПРОШЛОЕ ДАЛЕКОЕ
.а Е Д. £и*ла(«»тга a o»ixaa,e«aj<va: owata одиам1ачки - cncaaiNO* г
1912 raiy *«гаы>, ι· врсма аалякапа-oitjHait ««>« sif ϋ·το xajoao'
kaapoat. Папиамалса — а тали»: юа· .rtanali y«lii» era яслалаломта до naai
гам» taapitcTta а а«амжл'-гп· ,-ro xt|«Mttiu»t щн^мчм пракмуидетао ot
рак» Μ xtat — «па хдлаопитш» ta-jn MwiNta, аагда β«ν сад»а«гк, «та и
■pa. я» ι асн)««в ая at ttro «(«««natoinpcmytutnH у -.an RfWt
fc4a-j4ait t«a» пр>ва«сти не terjt. titptjv <чят, чтз л а lapamptti ч<
kuut on η туравт»,--«taimoit E J tep«i tiixx «Лразап tnnim .
М«н aaaaaaia «хешуирадвам typti?t'Tt«pi.4-tb* m MtMia Kanifijaata, tcfr
■■ пирит, to auid■i'i'\:;r(in* I0fi<rj Oa.TTl.· aim an
bran Tj-ptapft Su:v иссмлра яа Mi
btaaafTk учагшажив*, дестатааа» ела-
«а. да я яя»страацага га ягга ιοντβ ш*
Ubv Ει т«ау жа χ cixt tuxt uuiuoait
Vm cioel trpafl to aeeDotciletaiit lyp-
|1 aanapott, tto5u удихп хяога аи-
■U аобаиааа ccanujaxt. Uctu*<»
't arynn аосзахвяах» efrt остро (to-
llaaiM Ratra) — arpeccaaavn nut α
liBtv ante rat К. Д. ta aoaxata pvj* д«-
rauxt eotnart ■ яоаялят.
ш» yxt texxara rtctueat cnyna ««1,
' tt та и«м aaaxt ίρ«βη
Ьиитявп 3tcTMrt>, врвииоса κτρΙ-ι (Петербурга, xciafpt, · tatipa 191 J·
h loruKlttt η taxii ci tpyiixmn, pa гадт). врадиесгкмашап вал»
bie ««ладап trpatt yenixin — tu-!&<o«m«;rt»rriirnwr 1311 t. Itstcri·
tu~.«*a ian»_ j ааслужеаяаг· аадт- емвдяат вгри Е Д. trciautuio yaajJ
bo nan«pft, тапвюима yucrmi nt-incaa^b :a 1912 шд* — яо аса χ» »at 1
kivaart ««xyiapaxiuat т^увирвв*., Г. !»твч\ cecraiaaia uxan лаша 9-оа aitcf
jCftJftat Д t>- ттпио епаущагаг! pciyn,- що la >п«дц>п. о»г я> i».iu ■»«
I U* .p),vil. IWCHUkK)
вСхТша пре.1«аала«тел ехт аа1Г»даЫ1
оа мааш»! aitt paaaaaianiura R вя*|
яо ата черта сблвха^л. Birojmioati
стала ct x>xxt (η особаввоста η a«p"i
до «ятча, п. Byiaoct · Aipect), it cd
•tor» та V: >дгтм техха BarwnSoai xaiaJ
ca в галяаиа длх trtt одввп art cuou}*·
. » B79TBUBK>tt.
il«6tia I ада Сальае далаГЯ»и«х««ау .
*£. и to» >«\iia pycraaro хаатсм, а а» а]
iMtrt i.s'.foro «un tun д»зуц«аа га *t\
tra» Μ Bcfpaccllcttxt rypiBpt ядлероа]
ttpaapa «(txu*tt Цса -itmn. <λ χρ·κ·
■си a·· «txatxt н
—■"*"" гаааММ пег» м.. ;1»ччи
гаму ittcejito Прехх* весте, ((вваатела·
a· K'iiJHKVjaiut 1»лачгь,>« жкдгяарал·
„.««ntuxa m иоел«л·
а.е иди ^ - ritt — »ι-
(Петаи аа kxttlBirtH »ι· Η
If rixt li пчить iipaatav ttsottpuxt
ваадеввЦ 1»ваиа ajuiBMft. Hi»««*ui —
•." — '4*cti« ei a»·
laaacacaa t^paupt .iivtcjba·* группы
аалехып «JatTTUXt ateeepett, «at яа
p«ry i· «галааитг »* «снят михи.
вар«и«п Ttpeapt
liarau It couautu *U Jtn «»xj;·
1«редяыя тураара на pyrrcat террятарш
IfMuaynia — nerei-Oypn lSSS, ΙΪ09 a
19U 11 . алхваа 1925 ι ) салхетса м
суякстау трети! ваомгаай iixer* в тага
' еда jpeTaieawiTaaeTb f»Ja»t«ix«ri.
pyitaam art«ktat jpti^ia-BTt-wat рааяаагу
колячеетат пр.ияжаша ваегтравхьаа яа-
neptat. Text liuu сдал^яе лай» η 1909
в IS.i rtjait. it τ* ιροιι uara ictBep·
Ml Tijeepb 1*04 r iJetafp» IliuauU-
.. 'lif^pan I ■ tax
-·· !·»,«·.-·>»·. 1*h r»ta xpe-
.'.·■' ■' ■ -
-.ud
titeari txj 1ал«хаш еерелаха αν
tiru «aatt at
»1914 гада, rat >«vl
aajMtart η ι BTfan aiatj an ri,im.iv|
ралеД. at xlil ΙΜΒΒΜ Ш вега ваад
атеоаха «a ttl «jtivjiii»! aoaaei. aa»t-|
рад якдаеавч, в» etu· <><ла era в* rtn. I
Πα ara«ae«i» Bk праярцга ИМ в 192IJ
■
βΤΛΒττΐ ν-'uuu..iu >иаи ;^<α»Ι ■>!'
4ttkvN liaiaiiaillUtt »k iaa^taaa»rl «t
a.aiieie <ra anut аечгстееева! ιρια-Ι
ода «(a cete BpttMeca tapaataui — rwl
ocaeaaaaeta nepaul. Upexae aeara, aaflpJ
и свери Bftxtafemet nparpaxwt, aiuaj
iwtupuBftua ita'poaa .attitejtes apa-l
висело иш pyafBJtn fll aa I-aa). n|
т»жу au oian in pyctaaxa ptcrttlttt
Heatpeatkt it ВМП ii'AJt lutifj-J
an тураара Hit «cra.:uuzk χι аедяа>4
rteao (ftirput Pyii'xiu-r^laa (ri>xt 1 · il
арамаа ca Janeptxt) ι
0. С. Dtnauntrat || npait). ч )<iltJ
art axxin ecjaie 5uj« ситага
xaaatora ·η taut cpajiopetiaeRt inj
XMTtJttecnx N rt;ki. unoepetmteiel
πρ«ια·ι»πβΰΐιιΐιι!· i»i»p»;prfi*«y ijpeetx
(Mia tu. :Ui<-kwt, I-a upaia Ik "
BMcxarrtn
*ea» ш, :pui.tk Mtittit гяямававем]
uateceat Зрахда, xxtaxaet — м ·χβ*Λ,
а· я «та традтте «jaaapcuaxaut aaeril
Μ ахтаисатя — ibtibc' erpaxaara pta-
BeiapaBiaacft at ваегаваеху xatxaa-
rui) rypaap), «no араяь«гк. ем яехаа·
вее racraxicftM сагамхм, <аваас;са
tan aw aa врадегап. raataaat at аь
Ием»1 гнпаи rpeioiteitartn «га
иерлмаыа uatniui». Bt снаеха лла.
1рл хта «тирта ацашаап, at Гестаепех
ccpamuatctftvxt ешогграяаып «acttpart
tyxyn иетвавпаа а п ли «tat, а аахиих
an a art, n taxaanl ям хаяхдвса стаи»· <
ах, aartan maaaai ax aepaail вреха. Пер-
вьвп вдииалап, ва atai нпдт», дада-
етьа ♦tepv <м стадии техвяха, ги-
jtpxtt ι jitpeMom, мвегадй, вехдаа-
егрг' — BXkaj KU'iin г ·
atpt' — Uaktfi..'
' Яп eextnaxn tacrt(«eft ntearapu
вами и вемыа а.-xm arten. ryxi<"
ея. гадам Saraaaatrv Яа τ»»·>β·» ва п.'
ш — ei'n. . ><истап
η Β.-ρβνι ι влвмаа
вигдх laxucm. natiuxa»· ita ι?ίγ'.
xoxit tixata ra neraBt. и ииеедие C0t
I
I se.iTter» r»i
«xtaa i»»«n rexttxn r^irriaeruti
Баыарсы сст|-иа. ^ψ^ 1Щ,
Евг. А, Зношо-Боровши
^
(HtcKCUkKO в»сломинан|'н го помду евгодмяшняго юбадея)
им βο(ποκίικδηϊ6 о Евг А. Зно- I
|скохг сьхдхно с\ 111 Bt«p*ceifl-
ιηΟρΟΜΧ art KitaTfc П 1^)03 Г«Ху.
Ια ι:сто μα paotutifl русски» хавл-
6u.vo летсресиыЛ к tvusittiii:
шиваосдищашыив рехгдьтати
Ьдпытъ т>-рвир«в1 рубежа стотЬ-
К-ГАШвип ид ыедлеиким, правде,
>дча)1иле упадок» таерчеемв еи.ш
'ахатнаго титана — Н. U. Ч<;-
бшо видио еще холодей едгх-
Ъ.апррийт. жо чигорпнемго пока-
Юиффсре-ь и Алдпинг, η exue-
{вдродйф^ъ, диахаась дашь весах»
emiau, в Вниаовръ сг току
врасти отста.т», on. практпческодуъ
д,а л nowir.io того, агпвя посто-
iBupmnBi, на руеску» шахматгу»
nif почта ко оЛзиаал. Первые)
a^ycciikinixi турнир» (1899 a
, KOMuuemiooi лопсоб победой
впчого ярыге rw ciihieat и(ио-
>ваы13 не дали; пвггервеемъ 6ν.η
tuBLiwt Гончаров*, — я· кавъ гь
, тхж-а, н nocjti, »xt таы» и во
α хасюявяаг* кеждувароднаго
судввителио позтоагу, что вг сь-
и» шахштветовъ — ■ тогда
сд&ря чмгорваекоЛ вкопс* доста-
f$t|>r»4i!i.viiuo6 — вояедшогт качк-
ль тревога м Нижайшее «у.
[о пост» Чвгорлта стакет> сг лах-
джг? Кто η юстванствоиг сло-
,t iiickUbKo дгтг продспвить
|1еа?дународноП npeirt?
И KieBCKiil туряпрг 1903 гвда
lujt, главвихп обродовп, а^догы
н» пи зоаросы да.п исчсрпынв]
rtrt. Благодра ему хвДкнЪйиан
ibtU pyccKuxt. шахмата
салиг cooaft и» 6лвамЛва{е гады'
вихг: овъ соваршенви к.
опхь рада иавытЧ людеfl,'s*iото
ковп суждено било airpan tt
не только русскаго шалладцац d
во ι шахмат» во*»ш.е, кембимел]
Лходв »ти — воритльвкШ η с|
д* еадородокг, лодаписк^! купсщ
го лвшь Kaffeehauespieler Ц
Л*П0-бурВКЯ И ПЯТуЯТПВЯО ГЛ)«
ЦОахТАОШи ЦОДдииВОЙ ГмиЛММ
iiiuiiun. Дул-\в7ввирев1я, Сдаст·]
тиагъ Λ. Рабивовнчъ; два «Оодаш
в%иа> гъ шахиатихъ — bosuthij
леввиО РубпвштеЛвг в ηοαχυύ
паемой вварНи и ваводою <
Берпштайкг. Иахонедг — ирад]
С.-11етербург& и apatuxeicTBtnJ
го — елншкап варотеаг»
еваго» вер{одв руескхгг шагватг!
петь anecBo-bcpoBCsifl
Огринаа судьба Евгеадв liatj
ВТ. бОЛЬШВВСТаТ» Т*Х» OTBiTCTttBI
КПП соствзанШ, η вотарил,«)
лось участмввть; р*дво будут
агветАга (маку даЛе свое вт
•д&кгу), out почта нсилххява см|
кательстводп η ухшаюшую гаш
вераыхв врммрахп фаиачасы
судьбу состязании. Случвавоста?
Статьи А.Алехина (1931-1935)
435
Как он находил эти эмигрантские газеты и журналы, живя в
Москве? По словам Хабарова, он работал ночным сторожем в архиве на
Пироговке, где хранился «Пражский архив» - одно из крупнейших
собраний документов русской эмиграции, подаренное после Второй
мировой войны Советскому Союзу правительством Чехословакии (а
скорее всего, просто вывезенное победителями). Наряду с
документами оно включало в себя практически всю эмигрантскую периодику,
выходившую между двумя мировыми войнами. Вот Игорь Петрович
и рылся по ночам в этих бесценных залежах, методично
ксерокопируя или перепечатывая на машинке всякую всячину, - круг его
интересов был широк: музыка, шахматы, история, литература... Впервые
попав в его однокомнатную квартирку у метро «Академическая», я
был потрясен увиденным: стеллажи в прихожей и все поверхности в
комнате, включая рояль, покрывали стопки запыленных ксероксов!
Хабаров хорошо ориентировался в этих завалах, и за пару визитов
мне удалось извлечь из них кучу шахматных материалов: статьи,
интервью, заметки, фотографии, партии... Сначала он дал мне их для
работы, а спустя время позвонил и сказал, что пусть все бумаги
останутся у меня: «Мне они уже ни к чему, а вам пригодятся». Вскоре
Хабаров уехал в Кронштадт, и след его потерялся...
Осталось сказать, что тем «архивом на Пироговке» был
Центральный государственный архив Октябрьской революции — ныне
Государственный архив РФ.
Евгений Зноско-Боровский
А.А.АЛЕХИН В «ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЯХ»
Я особенно счастлив возможности оповестить читателей нашей
газеты о том, что с завтрашнего дня чемпион мира А.А.Алехин начнет
свое регулярное сотрудничество в «Последних новостях». Я
предвижу уже восторг шахматистов, естественно, предпочитающих
узнавать мнение чемпиона по разным шахматным вопросам в его
собственном изложении, а не в чужой, быть может не всегда точной,
передаче.
Но я уверен, что и читатели не-шахматисты будут следить за
статьями А.А.Алехина с интересом, так как он не будет замыкаться в
области узкоспециальной, технической, могущей интересовать только
профессионалов, но будет трактовать более широкие темы шахматной
общественности, шахматного искусства, шахматного мира вообще.
Те, кто знаком с его писаниями в повременных изданиях и книгах,
знают и быстроту его пера, и остроту его мысли, и для них не было
бы непонятным сюрпризом превращение его в первоклассного
журналиста. Но не ради этих лавров вступает А.А.Алехин в нашу семью,
436
Парижский автограф
и в его статьях всегда будет слышен подлинный голос шахматиста -
чемпиона мира.
Еще только два слова pro domo sua1 для тех, кто делал мне честь
читать мои писания. Сотрудничество А.А.Алехина ни в чем не отразится
на моем отделе, который будет появляться в прежних рамках. Просто
параллельно и вне всякой зависимости от моего отдела будут отныне
появляться раз в месяц фельетоны чемпиона мира. И я горд той
радостью, которую испытывала, вероятно, администрация Русской
Оперы, когда ей удалось привлечь к своим спектаклям Ф.И.Шаляпина.
«Последние новости» (Париж), 7 апреля 1931
Александр Алехин
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ШАХМАТ
I
Прежде чем говорить о дальнейших путях развития шахматного
искусства, необходимо для себя дать отчет о значении одного
характерного течения шахматной мысли, начатки которой относятся к
последним годам прошлого столетия, а расцвет — к совсем недавнему
времени: 1928-1929 годам. Лозунгом адептов и пропагандистов этого
течения является полная реформа правил шахматной игры,
жупелом - призрак так называемой «ничейной смерти». Разумеется, если
бы опасность такой «смерти» действительно существовала, если бы
творческая шахматная мысль оказалась в настоящий момент
накануне полного истощения ввиду постепенного исчерпания всех
вложенных в царственную игру возможностей, — стоило бы в самом деле
призадумываться о ее будущем. Однако, к счастью, дело обстоит далеко
не так печально, как это стремились представить господа
реформаторы. И в особенности события последних двух-трех лет заставили их
постепенно сдать свои позиции одну за другой. И вот именно теперь,
когда главная опасность миновала, представляется небезынтересным
проследить, откуда могло возникнуть это самоистребительное
течение, на какой почве могло оно, хотя бы временно, пустить корни?
Первым толчком к возникновению пессимистических слухов об
исчерпании вложенных в шахматы возможностей послужили несколько
коротких, бесцветных ничьих, сыгранных тогдашним чемпионом
Германии д-ром Таррашем в период полного его расцвета на дрезденском
турнире 1892 года. Ничьи эти вызвали в прессе того времени ряд
упреков. Тарраша обвинили не то что в отсутствии «спортивности» (так
как и выражение это, да и самое понятие тогда еще не получили права
1. В защиту своего дома (лат.). То есть в защиту себя, своего дела.
Статьи А. Алехина (1931- 1935)
437
гражданства), а в нарушении священной обязанности всякого
турнирного игрока в каждой партии давать максимум своей силы. Упреки эти,
следовательно, были только ad hominem, не ad ludum1. И Тарраш -
нужно ему отдать в этом справедливость, - упоминая об этом эпизоде
в своей книге «300 шахматных партий», с большой долей гражданского
мужества сознаётся в своем грехе (правда, приводя ряд смягчающих
обстоятельств: например, тот факт, что инкриминированными ему
ничьими он обеспечивал себе первый приз в турнире). При этом он
торжественно обещал, что такого рода «ничьих» больше в его шахматной
карьере не повторится. И сдержал слово.
В течение первого десятилетия XX века наступил, по-моему,
период некоторого упадка шахматного искусства. Образовалась целая
плеяда крупных, приблизительно равноценных маэстро, над
которыми целой головой возвышался их сверстник — великий Ласкер.
Новые же таланты, как Рубинштейн и Капабланка, к тому времени еще
не достигли своего полного развития. Превосходство Ласкера для
маэстро было настолько очевидно, а надежда на шахматное
первенство превращалась для них в такую безнадежную мечту, что у многих
явилось некоторое чувство разочарования в своих силах, которое
парализовало их честолюбие.
Такое положение повлекло за собой в глазах профессиональных
шахматистов обострение вопроса их материальной
заинтересованности. Мастера были настолько недальновидны, что, боясь нанести
себе ущерб, начали слишком «бережно» относиться друг к другу.
Благодаря этому в печати всё слышнее стали раздаваться упреки, в
отличие от эпохи Тарраша, не против одной личности, а против
шахматных маэстро вообще. Но еще не раздалось ни одного голоса против
самого шахматного искусства...
Лозунг «ничейной смерти» был выдвинут впервые с самой
неожиданной стороны. Его творцом явился Ласкер, побежденный Капа-
бланкой в матче и указавший на наличие «ничейной опасности» в
брошюре, посвященной этому матчу.
Матч этот был игран, как известно, в необычных, крайне
невыгодных для Ласкера условиях (климат, послевоенное время). Ласкер
вынес из своего поражения впечатление, что причиной его явилась
не столько одаренность его противника, сколько необычайно
развившаяся техника игры, которой тот успел овладеть. Из этого
сознания родились его общественные предложения реформ (различные
оценки конечного результата: выигрыш посредством а) мата, Ь) пата
и с) истребления сил противника), которые должны были обесценить
всю существующую технику.
Эти предложения оживленно обсуждались какое-то время в
шахматной прессе. Потом о них забыли, после того как выяснилось, что
438
Парижский автограф
они по меньшей мере несовершенны. Я лично убежден, что Ласкер,
блестящий нью-йоркский победитель 1924 года, никогда не
подписался бы под предложениями Ласкера, усталого, побежденного в
гаванском матче 1921 года.
Перейдем теперь к последнему и самому опасному нападению на
шахматное искусство. Это нападение было организовано в середине
1928 года и не кем другим, как «самим Капабланкой». Потерявший
незадолго до этого мировое первенство, Капабланка предсказывал
скорое падение шахматной игры, причем не предлагал никаких
конкретных проектов реформ. Небезынтересно отметить к тому же, что
это случилось уже через 6—8 месяцев после нашего матча в Буэнос-
Айресе, так что Капабланка не мог находиться под непосредственным
впечатлением своего поражения. Читая впервые его статью по
этому поводу, я, признаться, удивлялся своеобразному мужеству этого
человека: ведь он мог предположить, что его пророчество о смерти
шахматной игры будет истолковано любым беспристрастным
читателем как возглас «Смерть шахматам!» - возглас, который мог означать
лишь одно: «Шахматы должны умереть, раз я больше не первый».
Несмотря на наивность побудительных причин этого подхода, он,
однако, протекал сначала довольно успешно. Значительное число
«ничьих» в последнем матче на мировое первенство оставалось для
большей части публики непонятным. Вечно оправдывается правило,
в силу которого любое мнение, провозглашенное известным
человеком, всегда найдет сторонников, безоговорочно принимающих его
на веру
Я надеюсь неопровержимо доказать в книге, посвященной
нашему матчу, что многие «ничьи» его явились исключительно следствием
недостаточной техники, а отнюдь не ее чрезмерного развития.
Другими словами, я пришел к убеждению, что в этом матче лишь очень
немногие партии действительно заслужили свою ничейную судьбу
Из каких же кругов набрал Капабланка своих соратников в
крестовом походе против шахматной игры? За ним последовали в
первую очередь те, которые по той или иной причине ничего не теряли
при поражении шахмат. С одной стороны, бездарности, безнадежно
влюбленные в богиню шахмат Каиссу и желавшие ей отомстить за
ее равнодушие; с другой - средние игроки, добившиеся некоторых
успехов, но мечтавшие о несравненно больших. Как соблазнительно
было для них успокоиться на малом: свои неудачи они могли
приписать просто недостаткам и отсутствию эластичности шахматного
искусства, которое не давало возможности проявить им их
разнообразные способности...
Какие честолюбивые мечты пробудила эта мысль об изменении
правил! Нужно было сжечь всё, чему поклонялись, - новый вид
Статьи ААлехина (1931- 1935)
439
шахмат должен был возродиться, подобно фениксу, из пламени и
создать своим адептам неизмеримое поле блестящей деятельности
на новой основе.
Тысячи, десятки тысяч людей находят в шахматной игре свою
духовную нирвану, считают ее критерием для определения своей
внутренней сущности. Среди этого людского моря лишь четвертой
части, может быть, суждено перешагнуть известную границу -
большинство же не может возвыситься над примитивно низким уровнем
понимания игры, и никакие силы мира не могут им в этом помочь.
Когда вдумаешься в это положение, можно лишь удивляться тому,
как сравнительно мало последователей оказалось у Капабланки,
когда он кликнул свой клич «Смерть шахматам!»
Как известно, всякий переворот имеет своих ргоПхеиг'ов2, темных
дельцов и попутчиков. Так и при попытке путча Капабланки сейчас
же нашлись люди, почуявшие возможность добычи и всячески
раздор раздувшие. Это были большей частью люди, не имевшие прямого
отношения к шахматной игре, например всякого рода коммерсанты
и посредники, надеявшиеся извлечь прибыли из продажи нового
типа шахматных фигур, досок и т.п. И сейчас еще раздаются голоса
из этого лагеря, но развитие событий заставляет их звучать всё тише.
Конечно, пресса набросилась на эту сенсацию, писалось и вкривь
и вкось на эту тему бесконечно много.
Под дурманящим влиянием этого потока слов, под лозунгом
«ничейной смерти» создалось в течение целого года настоящее чаяние
переворота. Вопрос этот был прямо насильно навязан шахматному
миру. Так что даже хорошие игроки, которых, слава Богу, все же
достаточно, были принуждены заняться этим вопросом, а наше
шахматное искусство встало вдруг перед альтернативой: быть или не
быть? Даже первоклассные мастера принуждены были продумать
этот вопрос. То, что для них всегда было аксиомой, превратилось
вдруг в проблему. Нужно было решить, который из аргументов
этого advocatus diaboli1 самый опасный? Тот ли, по которому шахматная
наука достигла мертвой точки и скоро наступит время, когда станет
невозможным выйти из начала партии, не дав противнику
возможности занять ясную ничейную позицию? Нет, только не надо, ради
Бога, этой пустой, комической угрозы. Теперь уже ясно и мастерам
и сильным любителям, что как раз в области так называемого дебюта
мы знаем только то, что ничего не знаем. Действительно, не
изумительно л и, что еще ни один шахматный теоретик не сумел до сих пор
поставить по этому вопросу точку над «i» и что понятие «дебюта» в
теперешнем его понимании вообще не имеет права на существование
в науке? Теория подразделяет шахматную партию на три фазы: дебют,
середина и конец. Что касается двух последних понятий, то тут госпо-
440
Парижский автограф
да теоретики дают себе, по крайней мере, труд определить до
некоторой степени различие между ними. Конец игры характеризуется тем,
что в нем король может принять непосредственное участие в борьбе,
так как ему не угрожает прямая опасность вследствие уменьшения
материала. Поэтому в этой фазе королю дано играть очень трудную,
по моему мнению - даже решающую, роль.
Всё это было бы очень логично, если бы невольно не вставал
вопрос, в какой же момент кончается середина игры и начинается
«конец» и как научно провести между ними демаркационную черту?
Еще более смутно определение границ между дебютом и
«серединой», так как тут теоретики не могут указать ни общих, ни частных
характерных признаков. В соответствии со своим личным вкусом
и удобством каждого отдельного случая они просто обозначают в
своих поучениях часть игры как «дебют», после которого ни с того
ни с сего начинается «середина игры». Конечно, современная
шахматная мысль не может и не должна удовольствоваться такого рода
примитивным отношением к этим первостепенной важности
вопросам.
Прежде чем не разрешены основательно эти проблемы (я
выскажу свой личный взгляд об этом в одной из последующих статей), все
попытки объявить смерть шахматам на основании якобы истощения
«дебютной» мысли осуждены на полнейшую неудачу,
II
Мы уже видели, что шахматная игра нисколько не идет к
внутреннему умиранию. Ввиду того, что за последние годы ей ставили весьма
неблагоприятные гороскопы, мы хотим исследовать, не грозит ли
нашей игре какой-либо определенной опасности, и если да, в чем она
вообще заключается. Первого с полной категоричностью
утверждать нельзя. Мы должны, однако, допустить, что такая опасность не
вполне исключается. Это — быть может, неожиданное — утверждение
требует, однако, сложной мотивировки. Мы прежде всего должны
заметить, что мерилом для этой опасности является не сама сущность
шахмат, не отчаянные вопли разочарованных авгуров, но, к
сожалению, суждения большинства.
Основным показателем является - что думает человечество о
шахматах, что оно от шахмат требует и какое место оно уделяет им в
социальной жизни.
В данное время по отношению к шахматам господствуют
различные, частью вполне противоречивые, взгляды. Чтобы иметь
возможность в них разобраться, необходимо описать эволюцию, которая
суждена была нашей игре, по крайней мере, в последний
«европейский» период. Триста-четыреста лет тому назад шахматы ставились
Статьи А.Алехина (1931- 1935)
441
на одно место с другими играми, как, например, кости и домино. В
Средние века мы видим в шахматной игре в самой примитивной
форме все свойства азартной игры - стремление обойти противника
внезапными трюками, искание материального выигрыша и т.п. Ярким
этому свидетельством являются перенятые у арабов «мансубы». Это
были искусственно построенные положения, разрешение которых
связано было с хитроумной, обычно «психологической», по нашему
теперешнему понятию, крайне наивной ловушкой. Мансубы эти
являлись любимым поводом для держания пари. Мы не должны
поэтому удивляться, что временами как церковная, так и светская власть
относилась к шахматам с тем же презрением, что и к азартным играм,
и подвергала законному преследованию за профессиональное
занятие шахматами, борясь с этим злом.
Понятным становится, что научная шахматная мысль, не
вышедшая еще в то время из пеленок, подвергла изучению только
возможности достижения непосредственных, большей частью
материальных выгод. Самые распространенные шахматные книги того
времени — например, калабрийца Греко и араба Стаммы — были, в
конце концов, не более, как сборниками более или менее
остроумных дебютных трюков и конструированных положений. Об истине
и внутренней логике в этих работах не было и речи. Не
существовало и понятия о красоте в шахматах, а следовательно, не было и ее
искания.
Понятие «Шахматное Искусство» еще не родилось. Да и
спортивный момент был еще совсем в тени. Хотя при дворе Филиппа II
Испанского, а позднее при различных итальянских княжеских дворах
и устраивались от времени до времени состязания между лучшими
игроками романских стран, но, судя по живописному описанию
некоторых современников, «турниры» эти напоминали скорее
существующие еще в кое-каких странах петушиные бои, чем умственную
борьбу в нашем смысле. Игроки были в те времена не более как
объектами пари. И зависели они, в противоположность теперешним
мастерам, не от широкой публики, но от одного лица, что унижало их
самосознание и их свободную волю. При таких условиях, конечно, не
могла процветать художественная мысль.
Лишь в начале XVIII века появился человек, который смог
предаться шахматной игре как ученый, не озабочиваясь
непосредственной выгодой. Этот идеалист - великий французский композитор и
шахматный мастер Андрэ Даникан Филидор.
Мы не должны, однако, искать в его окружении и в его
современности основ его совершенно новому по тому времени представлению
о шахматах. Наоборот. Первое издание «Анализа» Филидора с его
грамматически неточным мотто «Ludimus effigie (?) belli»4, с весьма
442
Парижский автограф
длинными рассуждениями издателя о «Системе» и с утверждением,
воспринятым позднее как непреложная истина и в корне абсолютно
ложным, что «пешки - душа шахматной игры», - этот первый труд
Филидора нашел только слабый отзвук. Труды его получили
достойную оценку только после того, как практические успехи Филидора
принесли ему всемирную славу. Не окружение возвысило его -
заслуга принадлежит ему самому, принесшему своим современникам
возвышенное понятие о шахматах.
Филидор был в полном смысле «дитя Солнца». Но не во внешней
своей жизни, сложившейся авантюристически и полной
материальных разочарований, а во внутреннем своем существе. Он
принадлежал к тем редким людям, которые не только получили от природы
два больших дарования, но которым жизнь при этом позволила
довести эти дарования до полного расцвета. С самого детства
духовная жизнь его находит в музыке полное удовлетворение; поэтому
его позднейшее увлечение шахматами не было вызвано духовной
жаждой. Музыка удовлетворяла его стремление к красоте, тогда как
шахматная игра заполняла «математическую» сторону его
существа. Здесь он был художником, там — ученым. Обоим — и музыке и
шахматам - отдавался он с одинаковым рвением, с одинаковой
любовью. Он сделал свою шахматную карьеру необыкновенно легко:
много лет кряду считался лучшим шахматистом своего времени -
настолько бесспорным, что никто так и не решился это первенство
оспорить в серьезной борьбе. Кроме соответствующего большого
дарования для такого успеха необходим известный элемент счастья,
удачи, а именно: среди современников не должны вдруг
объявляться противники, конкуренты хотя бы приблизительно вашей силы.
Ведь, увы, абсолютного овладения шахматами не было, нет и не
будет. Мастерство в нашей области есть просто пробный камень для
несовершенства других.
Свободный от заботы сохранения спортивной своей репутации,
Филидор мог с тем большей энергией предаться цели, которая с
самого начала его прельщала: освободить свои любимые шахматы
от всех унизительных элементов, сковывающих их несколько веков
кряду, и поставить их на твердую научную почву. Не имеет при этом
значения, что основные положения и взгляды Филидора оказались
недолговечными и с течением времени были отброшены. Крайне
важно только, что он первый постиг необходимость такой основной
постановки вопроса и сумел успешно провести новые принципы в
рамках своего времени. Он не сознавал, конечно, что его труды
будут первым камнем в построении Храма Шахматного Искусства.
О конфликтах, иногда трагических, при возведении этого храма-
в следующей статье.
Статьи А. Алехина (1931- 1935)
443
III
Не будем останавливаться на истории первой половины прошлого
столетия. Но все-таки кое-что следует отметить. Между лучшими
представителями отдельных стран начали повторно устраиваться
значительные матчи. Особенного внимания заслуживают матчи
между представителями Франции и Англии, в которых боролись Лабур-
доннэ против Мак-Донне ля5 и Сент-Аман против Стаунтона. В то же
время вошла в моду и игра по переписке. Всё это повело к
нарождению специальной прессы.
Незаметно нарастал в тесных кругах мастеров переворот во
взглядах на внутреннее существо шахмат. Понемногу перестают смотреть
на шахматную партию просто как на средство для определенной
цели — как на предлог к держанию пари или на способ выявления
остроумных, но обычно логически между собой не связанных
вспышек мысли, а начинают рассматривать каждую отдельную партию
как стройное произведение искусства. Этому новому взгляду -
выделению художественного принципа - шахматный мир обязан,
прежде всего, классической германской школе, мнения которой были
руководящими в сороковых годах прошлого столетия и вызывали в
остальных европейских странах восторженный отзвук.
Но как ни было такое направление необходимо для развития
шахмат, для тогдашних мастеров оно являло собой неиссякаемый
источник многих душевных страданий и внешних забот. Создавалось
положение вещей, хотя и вполне логичное с исторической точки зрения,
но прямо непереносимое для шахматных пионеров того времени.
Огромное большинство, привыкшее с незапамятных времен
смотреть на шахматы как на забаву, не могло сразу пойти в ногу с теми
немногими, которые вдруг отдали этой забаве столько священного
рвения. Шахматы переживали кризис роста - и жертвой этого
кризиса пал в первую очередь гениальный американец Пол Морфи.
В противоположность Филидору, взгляды которого на шахматы по
существу мало разнились от взглядов его современников, Морфи с
самого начала двинулся по течению, чуждому и непонятному толпе.
Подобно своим ближайшим собратьям по шахматам, он увлекся
прелестью шахматной эстетики, очень быстро познал высшие границы
успехов, но так же быстро увидел, что его понятие о красоте в
шахматах оставалось толпе чуждым. Он сознавал невозможность
примирить свое «чувство шахмат» с примитивными вкусами толпы — но ему
не суждено было постичь, что это положение преходяще, как всякая
историческая эволюция, и нисколько не лежит органически в самой
сущности шахмат. А между тем ему, на которого смотрели как на
шахматного полубога, легко было бы пробудить общественное мнение и
просветить умы современников.
444
Парижский автограф
Сознавая, что общество низводит шахматных мастеров на одну из
низших ступеней социальной лестницы, он был почти всегда
подавлен и неудовлетворен, но выхода не находил. Вместо того чтобы,
отрицая, скажем, шахматы как цель жизни, тем более сохранить их как
источник духовной радости и душевного удовлетворения, - вместо
того чтобы прийти к этому практическому выводу, Морфи решил
совершенно отказаться от любимого искусства и (хоть и не без тяжелой
внутренней борьбы) впредь вычеркнуть шахматы из своей жизни.
Трагические последствия этого решения общеизвестны: колебания,
позднее неудачное стремление превратиться в «бизнесмена»,
постепенное помрачение ума и способностей и ранняя духовная смерть,
задолго до смерти физической.
При всей гениальности творчество Морфи имеет только
историческую цену и уже не может оказывать влияния на современное
развитие шахматной игры. Однако печальная, полная назидания участь
Морфи не должна быть предана забвению. После него и по сей день
было в мире немало маленьких Морфи: люди эти с проклятием
отворачиваются от шахмат, не умея понять, что причиной их
разочарований является не сам ни в чем не повинный объект, а единственно и
всецело - их собственная ничтожность, их недостаток самопознания
и самообладания.
Невозможно предугадать, что сталось бы с шахматами, если бы не
появился в середине прошлого столетия человек, которому судьба
определила роль по меньшей мере равную роли Филидора 150 лет до
него. Имя этого человека — Вильгельм Стейниц.
В некоторых отношениях Стейниц был более, в некоторых менее
счастлив, чем его предшественник. Путь его к признанию и славе был
гораздо более уснащен жизненными заботами, но в то же время,
подобно Андерсену и Морфи, он еще в самой колыбели получил
неоценимый дар: зрелость эпохи дала ему с первых же шагов возможность
глубокого проникновения в душу шахмат. Он научился понимать их
красоты и возгорелся к этому искусству горячей любовью, любовью
тем более мучительной, чем более приходилось ему, особенно
вначале, через нее страдать. Но только много лет спустя, когда он достиг
уже высшей ступени славы, отважился Стейниц на огромную
задачу - просветить своих современников, перевоспитать общественное
мнение. Какое предприятие!
Подумать только, что господствовало общественное мнение, будто
область проникновения в сущность шахматного искусства закрыта
для среднего человека. Отсюда - преувеличенное поклонение перед
отдельными великими мастерами, вокруг имен которых создавались
настоящие легенды. Восторгались, однако, не их специальностью, а
их сверхнормальными способностями. На них смотрели как на фено-
Статьи А.Апехина (1931-1935)
445
мен, приравнивая их, например, кто там то сям выныривающим на
поверхность «сверхсчетчикам», которые и по сей день еще являются
одним из любимых номеров на сценах мюзик-холлов.
При таком положении Стейницу предстояло решить немало
проблем. Первая из них касалась его собственного я — остальные же
относились к его современникам. Первая была относительно легка,
другие требовали долгой, последовательной и неустанной работы.
Проблему личного отношения к шахматам Стейниц разрешил
иначе, чем музыкант Филидор, школьный учитель Андерсен и
незадачливый адвокат Морфи. Тогда как эти трое оставались более или
менее связанными со своими профессиями — Стейниц решился
предстать перед своими современниками как шахматист по
призванию. Для этого требовалось мужество, так как, хотя во все времена
существовали профессиональные игроки, — все-таки было что-то
пристыжающее в исключительном занятии игрой. Вспомним только
постоянные усилия Морфи во что бы то ни стало избавиться от
ярлыка шахматиста-профессионала. На профессию шахматиста смотрели
как на последний отчаянный выход в непосильной жизненной
борьбе, и те немногие, которые все-таки решались на этот шаг, —
постоянно страдали под давящим сознанием такого глубокого «падения».
Не так думал Стейниц. Невольно складывалось впечатление от
всего его творчества, как игрока-практика, шахматного журналиста
и, главным образом, шахматного мыслителя, - что шахматы значат
для него гораздо больше, чем простой «якорь спасения».
Современникам поневоле пришлось признать, что в этом случае великий дух
сознательно и на всю жизнь предался своему предначертанному
призванию: постичь и открыть другим тайну 64 полей. Шахматы впервые
заявляли себя независимым искусством.
В следующей статье мы поговорим о всесторонней деятельности
реформатора Стейница, о его значении для современности и о
влиянии, которое он должен еще оказать на ближайшее будущее6.
«Последние новости», 8 апреля, 4 июня и 3 июля 1931
1. Человеку, не игре (лат.).
2. Profiteur (φρ.)· — рвач, спекулянт.
3. Адвокат дьявола (лат.).
4. «Ludimus eifigiem belli» (лат.) — игры прекрасный образец.
5. У Алехина: Ла-Бурдонэ, Мак-Донелль. Чтобы избежать путаницы и не
уточнять всякий раз, я решил все фамилии, города, названия газет, журналов
дать в современном написании. У Алехина, например, было: Пильсбюри,
Фламберг, Эве, Каждан, Пирч, Дэк, Рюеб, Нюренберг, Бермингем, ну и,
конечно, Пистьян, Пестьен, Πисчаны-этовсё словацкий курорт Πьештяни.
6. Обещанную статью Алехин так и не написал...
446
Парижский автограф
Александр Алехин
«СЛЕПЫЕ» ШАХМАТЫ1
Девятилетним мальчиком я услышал впервые об игре, не глядя на
доску. В это время мой родной город Москву посетил Пильсбери и дал
сеанс вслепую на 22 досках. Меня тогда в шахматные клубы не
пускали, но мой старший брат участвовал в этом сеансе и добился даже
ничьей. Это выступление Пильсбери потрясло меня, как чудо. Впрочем,
так же на это реагировал и весь шахматный мир2.
В возрасте двенадцати лет начал я сам пробовать играть, не глядя
на доску. Вращаться в шахматных кругах мне еще тогда не
разрешали, но с тем большим увлечением принимал я участие в турнирах по
переписке. Тут приходилось много анализировать, что я частью
проделывал в гимназии. Так как при этом наличие шахматной доски
исключалось, то я просто зарисовывал данное положение и продолжал
разрабатывать его дальше в уме... Таким образом я убедился, между
прочим, в том, что мог бы вообще обходиться без шахматной доски.
Шестнадцатилетним юношей получил я титул мастера, придя
первым во Всероссийском турнире в Петербурге. В то время четыре или
пять одновременных партий вслепую не представляли для меня
трудности. Но я не стал развивать дальше этой способности, а предался
усовершенствованию своего художественного шахматного образования.
Стремление серьезно углубиться в «слепые» шахматы пробудилось
во мне вовремя интернационального турнира в Мангейме в 1914 голу.
Как известно, этот турнир внезапно оборвался с объявлением войны,
и все русские, принимавшие в нем участие - я в том числе, - были
интернированы в Раштатте.
Тут были кроме меня Боголюбов, Романовский, Селезнев, Бога-
тырчук, Илья Рабинович, Вайнштейн и другие. Вполне естественно,
мы заполняли шахматами наше вынужденное бездействие. Но так
как у нас не было шахматных досок, мы играли между собой по
памяти, «наизусть». Между прочим, я сыграл этим способом немало
партий с Боголюбовым, из которых многие позднее были опубликованы.
В конце 1914 года мне удалось вернуться в Россию, где я дал после
этого целый ряд сеансов вслепую с благотворительной целью.
В 1916 году, в качестве прикомандированного к Красному Кресту,
я попал на Галицийский фронт и был здесь тяжело контужен. Многие
месяцы был я прикован к постели в госпитале в Тарнополе*. Тут-то
«слепые» шахматы явились для меня благодеянием. По моей просьбе
меня часто посещали различные местные игроки, что дало мне
возможность дать целый ряд маленьких сеансов игры, не глядя на доску.
Одна из моих самых известных «слепых» партий - а именно против
Фельдта4 — была сыграна как раз на одном из этих сеансов.
Статьи А.Алехина (1931-1935)
447
Во время революции мне не приходилось играть вслепую5. Но как
только я покинул советскую Россию — в 1921 году, - меня тотчас же
потянуло вновь испробовать свои силы. Хотя до сих пор мне не
приходилось играть одновременно больше восьми партий, не глядя на
доску, но я сразу шагнул вперед и сыграл в Париже 12 партий. Сеанс
сошел изумительно легко, что побудило меня два года спустя
решиться на рекордный сеанс, который я приноровил к своей первой поезд-
хе в Америку в 1923 году. Я посетил Канаду и выступил в Монреале
против 21 противника. Это явилось американским рекордом, так как
Пильсбери сыграл у себя на родине одновременно только 20 партий.
Мое выступление увенчалось успехом. Я сделал из 21 партии около
80 процентов, что навело меня тогда же на мысль взяться за
мировой рекорд. Рекорд этот из 25 партий в то время принадлежал теперь
уже умершему венгерскому мастеру Брейеру. Покончив с большим
Нью-йоркским турниром 1924 года, я взял себе три полных дня
отдыха и выступил после этого в Нью-Йорке, в «Аламак-отеле» - там
же, где игрался и названный турнир, - против 26 игроков. По
американскому обычаю, устройство сеанса было безукоризненно, но для
меня явилось неожиданностью, что против меня выставили
необычайно сильную «экипу»6. К этому я никак не был подготовлен.
Достаточно будет сказать, что за первыми одиннадцатью досками сидели
первоклассные любители - среди них чемпионы клубов Манхэттен
и Маршалла. Назову для примера теперь всемирно известные
имена Кэждена, Германа Штейнера и - пришедшего в последнем нью-
йоркском турнире третьим непосредственно за Капабланкой и Кэж-
деном - Кевица7. При таких условиях результат — 16 побед, 5 ничьих
и 5 поражений — был для меня весьма утешителен.
Однако уже год спустя я задумал побить свой собственный
рекорд. 1 февраля 1925 года я сыграл в Париже одновременно 28 партий
вслепую, причем достиг значительно более высокого процента, чем
в Нью-Йорке: я выиграл 23, сделал 3 ничьих и 2 проиграл8. Должен
при этом признать, что выставленные против меня соперники были
слабее, чем в Нью-Йорке. Впрочем, были среди них и такие
известные шахматисты, как теперь уже покойный поэт Потемкин и
французские мастера Гётц и Бетбедер.
Сейчас же после моего парижского сеанса Рети попытался побить
мой рекорд, сыграв 29 партий в Сан-Паулу в Бразилии. Но сам он
рыцарски признал тотчас же после сеанса, что его попытку должно
считать неудавшейся, так как он не достиг даже моего процента. А это
противоречило рекордным условиям, установленным между нами
годом раньше в Нью-Йорке. Как подтвердил сам Рети, при
одинаковом или большем количестве партий мерилом может быть только
процентный результат.
448 Парижский автограф
Александр Алехин во время рекордного сеанса на 28 досках в Париже («7Ъе
Graphic», Лондон, 7.02.1925).
Что касается художественной ценности «слепых» шахмат, то она,
собственно говоря, меньше, чем их спортивная ценность. Из
наблюдений над самим собой и над игрой других мастеров я смог
установить, что играющий вслепую играет не только слабее, чем играющий
глядя на доску, но что самый способ мышления его и его стиль
претерпевают изумительное превращение. Для примера скажу, что во
многих своих партиях вслепую я по стилю не узнал бы себя и не могу
себе представить, что сыграл бы именно так, имея перед собой
шахматную доску Возможно, что немалую роль в этом играет тот факт,
что играющий вслепую не привык к мысли, что должен в данном
случае давать свой максимум в смысле художества. На первый план
выдвигаются мнемотехнические способности и элемент пропаганды.
Даже самый одаренный игрок при большом количестве партий
вслепую сделает немало ошибок памяти. Это говорит мне не
только собственный опыт, но и изучение партий других мастеров. Мор-
фи, сыграв в свое время в Лондоне одновременно восемь партий, не
глядя на доску, вызвал всеобщий восторг. Переигрывая же эти
партии, убеждаешься, что они переполнены ошибками. Пильсбери был
одним из величайших игроков вслепую всех времен. Многие годы
кряду он удерживал всемирный рекорд из 22 партий, а однажды - в
Ганновере в 1902 году - задумал выступить одновременно против 21
Статьи А.Алехина (1931-1935)
449
первоклассного любителя. Хотя он и довел сеанс до конца, но
явилось очевидным, что это предприятие превышало его силы, так как
выиграть он смог только три партии, сделав 1 1 ничьих и проиграв 7. Я
самого высокого мнения о Пильсбери, как о шахматном художнике,
поэтому именно и устанавливаю разницу между его игрой вслепую и
его игрой «зрячим».
Среди современных мастеров есть несколько хороших игроков
вслепую, но как мало опубликованных «слепых» партий! Очевидно,
сами мастера признали, что их партии стоят не особенно высоко в
художественном отношении. Из всех новейших мастеров, которых
я имел случай наблюдать во время игры вслепую, больше всего мне
понравился Земиш: мне импонировали его большая техника, его
быстрота и уверенность.
В новой моей книге9 будут даны тоже и некоторые мои партии
вслепую — но и они не свободны от типичных ошибок «слепых»
шахмат. После достижения выигрышного положения наступает
удивительное падение творческой силы: редко находишь кратчайший путь
к выигрышу; эстетическое впечатление обычно бывает нарушено,
так как использование уже достигнутого преимущества редко бывает
безупречным.
Участник того сеанса Петр Потемкин: «Более двух тысяч человек сменяли друг
друга с 10 часов утра до 11 вечера, когда Алехин наконец объявил мат в 6 ходов
своему последнему противнику» («Последние новости», Париж, 3.02.1925).
450
Парижский автограф
Меня часто спрашивают, как я, собственно, могу играть
одновременно такое большое количество «слепых» партий? Думаю, этим
я обязан прирожденной остроте памяти, которая устремляется в
соответствующее русло благодаря основательному знакомству с
шахматной доской и глубокому проникновению в самую сущность
шахматной игры. А также играет немалую роль так называемая техника
дебюта и эндшпиля. Что касается каких-либо мнемотехнических
схем, то я никогда ими не пользовался. Когда широкая публика
считает, что главная трудность заключается в запоминании
данных ходов в данных положениях, то она не думает о том, что перед
играющим вслепую стоит другая, более важная задача, а именно -
вслепую бороться, вслепую в каждом данном положении находить
по возможности наилучший ход! Это крайне важно для того, чтобы
быстро покончить с отдельными партиями и таким образом
сократить общее их число.
Непосредственно перед началом каждого значительного
выступления я набрасываю себе простой план, подразделяя общее число
досок на отдельные дебютные группы. Делаю я это совершенно
произвольно. Например, в моем нью-йоркском рекордном сеансе я
следующим образом подразделил все 26 досок: 6 партий я начал с
ферзевой пешки и 6 - с королевской пешки, затем вновь 6 с ферзевой
пешки и 6 с королевской пешки и, наконец, 2 последние - с пешки
ферзевого слона. При выкликании номера каждой отдельной доски
нужно только вспомнить соответствующий первый сделанный ход.
Тогда попутно вспоминаешь о различных планах, угрозах и
защитах, вспоминаешь о позиции и о последнем ходе — и можешь тогда
комбинировать. Главным испытанием для памяти является дебютная
фаза, так как пока отдельные партии не приобрели еще
определенного характера, для памяти имеется еще слишком мало задерживающих
точек. Самая значительная часть подобного испытания одолевается
так называемой логической памятью; другими словами — играющий
не воспроизводит перед своим духовным взором целой доски с ее
белыми и черными полями, с ее белыми и черными фигурами - как это
себе представляют непосвященные, — но просто вспоминает
отдельные моменты, как вспоминают друга, книгу, вообще какой-нибудь
предмет.
Так играю я, и так же, насколько я знаю, играют все остальные
известные игроки вслепую. Зрительная же память, то есть
воспроизведение образов, только тогда призывается на помощь, когда хочешь
проверить положение в критический момент, — выяснить возможную
ошибку и т.п. В особенно трудных случаях играющий вслепую
также должен быть в состоянии восстановить ход за ходом данное
положение или про себя, или вслух, в зависимости от того, приходится
Статьи А.Алехина (/931- /935)
451
ли ему разрешить свое сомнение или же сомнение ослышавшегося
противника. Само собой разумеется, что прибегаешь к этому только
в исключительных случаях, ибо такая проверка слишком убыточна в
смысле времени.
Мнения о ценности «слепых» шахмат весьма различны. В
Америке, например, их ценят очень высоко, тогда как в советской России
они даже запрещены законом, как ненужные в художественном
отношении и вредные для здоровья10. Лично я, хотя и владею в
данное время рекордом, не особенно горячий приверженец этой игры и
ценю «слепые» шахматы, главным образом, как средство к
пропаганде. Да послужат они к распространению шахмат и к должному,
заслуженному признанию их общественной ценности.
С чисто научной точки зрения «слепые» шахматы нуждаются еще
в более глубоком изучении. Известный труд Бинэ имеет уже
40-летнюю давность и при этом в выводах своих выдает недостаточное
знакомство с предметом. Старый немецкий маэстро Мизес выпустил
как-то брошюру о «слепых» шахматах, которая, однако, передает
только его личные переживания. Брошюра эта, таким образом,
может послужить материалом для научной работы, но сама по себе
научной ценности она не представляет.
«Слепые» шахматы ждут еще своего исследователя.
«Последние новости», 4 августа 1931
1. Единственная статья Алехина из «Последних новостей», напечатанная в
СССР (см. стр. 207).
2. Этот рекордный для того времени сеанс закончился со счетом +17-1=4.
Уточню, что Алехину было уже десять лет, а его старший брат не играл с
Пильсбери, - см. альманах «Черный король» (1903), где приведены все
партии этого сеанса.
3. Ныне город Тернополь. Алехин провел в госпитале несколько недель.
4. Настоящая фамилия соперника - Фишер (см. стр. 204).
5. Известно, как минимум, о двух его сеансах вслепую 1918 года: на 6 досках
в Одессе (одна партия есть в сборнике «300 избранных партий Алехина») и на
5 досках в Москве (см. стр. 210).
6. Equipe (φρ.) — команда.
7. Итоги этого турнира (1931): 1. Капабланка - 10 из 11; 2. Кэжден - 8,5, 3.
Кевиц - 7 и т.д. Для сравнения: Маршалл и Эд.Ласкер набрали по 4 очка!
8. На самом деле результат был +22-3=3.
9. Книга «Aufdem Wege zur Weltmeisterschaft (1923-1927)», изданная в СССР
под названием «На путях к высшим шахматным достижениям», вышла в 1932
году.
10. И гру всле пую официально запретили в СССР в ноябре 1929 года. К слову,
рекорд страны: 16 досок, +10-2=4 - принадлежал Николаю Сорокину,
который в 1916-м в Киеве и фал в «слепом» сеансе Алехина.
452
Парижский автограф
Александр Алехин
ЕВГ.А.ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ
(Несколько воспоминаний по поводу сегодняшнего юбилея)1
Первое мое воспоминание о Евг.А.Зноско-Боровском связано с III
Всероссийским турниром в Киеве в 1903 году. Момент в истории
развития русских шахмат тогда был интересный и важный: даже для
малопосвященных результаты международных турниров рубежа
столетий ясно указывали на медленный, правда, но неудержимый
упадок творческой силы первого шахматного титана - М.И.Чигорина,
и не было видно еще молодой смены. Из мастеров же чигоринского
поколения — Шифферс и Алапин, в смысле международном,
являлись лишь весьма средними силами, а Винавер к тому времени почти
отстал от практических шахмат, да и помимо того, живя постоянно в
Варшаве, на русскую шахматную жизнь влияния почти не оказывал.
Первые два Всероссийских турнира (1899 и 1901), кончившиеся
легкой победой Чигорина, ничего яркого в смысле молодых дарований
не дали; интересен был разве москвич Гончаров - но как в те
времена, так и после он так и не дошел до настоящего международного
класса. Неудивительно поэтому, что в семье русских шахматистов — и
тогда уже благодаря чигоринской эпопее весьма многочисленной -
понемногу начинала назревать тревога за ближайшее будущее: что
после Чигорина станет с шахматами у нас? Кто с достоинством
сможет через несколько лет представить нас на международной арене?
И киевский турнир 1903 года тем и был, главным образом, важен,
что он на эти вопросы дал исчерпывающий ответ. Благодаря ему
дальнейший путь развития русских шахмат оказался как-то сам собой на
ближайшие годы намеченным: он совершенно неожиданно выявил
ряд новых людей, некоторым из коих суждено было сыграть в
будущем не только русского шахматного искусства, но и шахмат вообще
незабываемую роль. Люди эти - поразительный в своем роде
самородок, лодзинский купец и до этого лишь Kaffeehausspieler2 Сальве;
нелепо-бурный и интуитивно-глубокий, с проблесками подлинной
гениальности киевлянин Дуз-Хотимирский; блестящий тактик А.Ра-
бинович; два «больших человека» в шахматах -
молитвенно-углубленный Рубинштейн и полный неисчерпаемой энергии и молодого
честолюбия Бернштейн. Наконец - представитель С.-Петербурга и
предвозвестник короткого — слишком короткого «петербургского»
периода русских шахмат — лицеист Зноско-Боровский.
Странна судьба Евгения Александровича в большинстве тех
ответственных русских состязаний, в которых ему пришлось участвовать;
редко будучи на первых местах (скажу далее свое мнение - почему),
он почти неизменно своим вмешательством в решающую гонку меж-
Статьи А.Алехина (1931-1935) 453
ду первыми призерами
фактически решал судьбу состязания.
Случайность? Не думается.
Дело в том, что с первых же своих
выступлений Зноско-Боровский
выказал себя, прежде всего,
влюбленным в шахматы
художником-творцом; дух же борьбы в
нем чувствовался значительно
менее - в сравнении хотя бы с
Бернштейном или Нимцовичем,
не товоря уже о Боголюбове. Но
тем более, в противовес этому, по
существу эгоистическому,
боевому началу у него развито чувство
истинной спортивности -
желание, воля к тому, чтобы в борьбе
победителем оказался
действительно сильнейший, более
достойный. И под влиянием этого-
Алехин: «Зное ко-Борове кий, несомнен- то внеличного чувства Евгению
но, является одним из наиболее круп- Александровичу удавалось, на
ных современных шахматных творцов- мой взгляд, сплошь и рядом то, к
мыслителей». чему его не могла побудить
жажда личного достижения.
Так впервые случилось и в
Киеве, где спортивные симпатии участников и вообще русских
шахматистов были разделены надвое: с одной стороны - обаяние
большого имени, благодарность за прошлый блеск и сочувствующая
жалость к «умирающему льву» Чигорину; с другой - желание успеха
наиболее блестящему в тот момент представителю молодых русских
шахматистов О.С.Бернштейну. Чаяния и той, и другой стороны в
обшем оправдались: Чигорин был первым, Бернштейн только
«вторым», но... выигравшим свою индивидуальную партию у Чигорина.
Решающим же моментом в турнире явился проигрыш Бернштейна
Зноско-Боровскому, быть может, даже подсознательно
стремившемуся к тому, чтобы первый вдохновитель русских шахмат на конце
своей карьеры не был лишен одной из последних своих радостей...
В ближайшие годы после Киева у Зноско-Боровского был большой
шахматный взлет: завоевание международного мастерства в
Нюрнберге в 1906 году; прекрасные как спортивные, так и качественные
успехи в остендских турнирах 1906-1907 годов. Мне этот взлет тем
более памятен, что он совпал с моим приобщением к практическим
454
Парижский автограф
шахматам, началом посещения Московского шахматного кружка. В
этот период успехи Евгения Александровича, его отдельные
блестящие партии (как, например, со Шпильманом в Нюрнберге, с Тейх-
маном, Блэкберном и ван Флитом в Остенде) постоянно заставляли
меня вспоминать о полудетском лице 19-летнего лицеиста на
фотографии киевского турнира 1903 года.
В 1908 году умер Чигорин. Приблизительно год спустя после
этого С.-Петербургское шахматное собрание (одним из деятельнейших
руководителей которого был Евгений Александрович) решило
организовать большой конгресс, посвященный его памяти. В
программу этого конгресса входили международный турнир и турнир
сильнейших любителей (не имевших звания мастера). Перед
устроителями, среди многих других, встал вопрос: в какой из двух этих
турниров записать меня — 16-летнего гимназиста, не имевшего еще
формального звания? Большинство членов комитета, как я узнал
потом, стояло за мое участие в международном турнире, и только
один — или почти один — Зноско-Боровский понял, какую
опасность, в смысле дальнейшего развития дарования такого совсем
малоопытного игрока, каким я был, представляют последствия
почти неизбежного неуспеха в международном турнире мастеров.
Вследствие настояний Евгения Александровича я был принят лишь
в турнир любителей, из которого мне и удалось выйти
победителем - с новой верой в себя, с новым честолюбием, с новой жаждой
самоусовершенствования. Это был первый раз, когда
Зноско-Боровский, с которым я тогда еще не был знаком лично, сделал мне
большое шахматное добро.
Был ли петербургский конгресс для него самого добром или злом?
На этот вопрос только он сам может ответить, но, во всяком случае,
1909 год знаменует в шахматной жизни Зноско-Боровского
начало того, что трудно назвать иначе, как его подвигом: из того факта,
что он крайне неудачно сыграл в международном турнире, Евгений
Александрович, сделав соответствующие выводы, нашел для себя
необходимым - любя шахматы, находя в них радость, - отвести их
с первого плана своей жизни. Правда, многие, очень многие
игроки бросают шахматы; но в большинстве случаев это люди слабо
одаренные. Те же редкие мастера, которым это удается, бросают
их совсем и навсегда. Отойти же от шахмат, как самоцели в жизни,
не порывая с ними и давая им то и поскольку это нужно для себя;
стать - при полной возможности внешних успехов и внутреннего
удовлетворения - господином этой наркотической игры-искусства
и избежать хотя бы частичного пленения своей мысли 64-мя
клетками доски, - это дано очень немногим. И в этом искусе - подвиг
Зноско-Боровского.
Статьи А.Алехина (1931-1935)
455
Последствия нового «свободного» подхода к шахматам быстро
стали сказываться: в 1910—1911 годах начинается шахматная
литературная деятельность Евгения Александровича. Помимо
специального исследования о гамбите Муцио3, свидетельствующего о
незаурядном аналитическом таланте, он выпускает свои «Пути
развития шахматной игры»*, в которых дает блестящую
характеристику выдающихся мастеров-современников. Затем он, почти один из
первых, открывает Капабланку в специальной монографии,
посвященной начинавшему тогда свою победоносную карьеру кубинцу5.
В этой монографии поразительнее всего, пожалуй, контраст между
незначительностью практического материала, имевшегося под
рукой у Зноско-Боровского (так как партий Капабланки в это время
известно было лишь очень мало), с почти пророческою точностью
его обобщающих выводов на основании этого материала. Уже по
этим немногим трудам шахматисты — и не только русские — поняли,
что от Зноско-Боровского как педагога и мыслителя можно ожидать
очень многого: надежды их не обманули.
Настали 1913-1914 годы, последние годы нормальной русской
шахматной жизни, наиболее яркого, пожалуй, ее расцвета. В
противоположность 1903 году, Россия уже имела своими представителями
на международных шахматных состязаниях более десятка
признанных мастеров. Крупнейшие столичные газеты — «Речь», «Новое
время» и другие и ряд московских и провинциальных изданий открыли
на своих столбцах постоянные, обстоятельные шахматные отделы;
близилось время оформления идеи Всероссийского шахматного
союза. Словом, все данные для осуществления зимой 1913/14 годов —
юбилейных годов Петербургского шахматного собрания - еще
более значительных шахматных празднеств, чем в 1909 году, были
налицо.
Начались эти празднества в конце 1913 года сенсационными
гастролями Капабланки. Как известно, единственным, кому удалось
победить кубинца в этот его приезд, был — Зноско-Боровский.
Победа эта, вероятно, придала ему новую веру в свою практическую силу,
новый «вкус» к игре за доской, — так как он в тотчас же
последовавшем Всероссийском турнире мастеров дал ряд ценных партий и
получил хороший приз. И, кроме того, в этом турнире ярче, чем когда
бы то ни было, сказалась его «судьба» - решающим образом влиять
на исход борьбы за первый приз.
Дело было так: с момента начала турнира фаворитами были Ним-
цович и я. До предпоследнего тура мне удалось удержать лидерство
и оставалось сыграть две партии: с совсем новичком тогда,
худеньким, скромненьким киевским студентом Боголюбовым - и с
матерым аналитиком, но, по существу, безыдейным и уставшим от шах-
456 Парижский автограф
Всероссийский турнир мастеров в Петербурге (1913/14). Сидят: Малютин,
П.Л.Сабуров, Кутлер и Левенфиш. Стоят: Алапин, Эвенсон, Флямберг, Алехин,
Грегори и Боголюбов. Фрагмент снимка К.Буллы («Нива» № 7, 1914).
мат Алапиным. Первую из этих партий я, уже имея лишнюю фигуру
(всякий шахматист поймет, что это значит в борьбе мастеров), нашел
возможность проиграть моему будущему противнику в матче на чем-
пионатмира.
После этой невероятной партии оказалось следующее: Нимцович
нагнал меня, - что не было бы еще особой бедой, но - больше того-
нас обоих перегнал варшавский игрок Флямберг, спокойный,
опытный мастер, класс которого был, однако, по существу, определенно
ниже нашего. И вот этому-то troisieme larron* пришлось в последний
день турнира встретиться именно со Зноско-Боровским. Конечно,
каждый игрок борется прежде всего за себя, - но в данном случае, так
же как и в Киеве в 1903 году, основным импульсом Евгения
Александровича, позволившим ему дать свой максимум, побить Флямбергаи
тем сделать возможным участие Нимцовича и мое в интереснейшем
Grossmeister-турнире, несомненно, было чисто-спортивное желание
видеть победу лучших. В итоге турнир окончился так, как все
ожидали и как это, по существу, следовало: я выиграл у Алапина, Нимцович
у Левенфиша, - а Флямберг, благодаря своему проигрышу Зноско-
Боровскому, отпал на третье место. Этим днем начался новый
важный этап моей шахматной карьеры.
В военные и тем более революционные годы мне редко
приходилось встречаться с Евгением Александровичем — было не до шахмат,
жизнь шахматная в России, как и многое другое, сделала «стойку».
Встретились мы в эмиграции в Париже - и с первого же разговора
я увидел в Зноско-Боровском всё то же отношение к шахматам:
любовь - и вместе с тем полная внутренняя от них свобода. Он докан-
Статьи А.Алехина (1931-1935)
457
чивал в то время замечательную по замыслу книгу «Середина игры в
шахматы»7. Говорю — по замыслу, потому что методы развития темы
и некоторые выводы несколько рознятся с моими взглядами. Но
самый факт провозглашения и обоснования необходимости отведения
аналитическому способу подхода к структуре шахматной борьбы
второстепенного места; принятие за основную ценность известные
обобщающие законы, которым должна подчиниться вся прежняя
полу схоластическая «наука», — одна эта идея является уже ценным
вкладом в сокровищницу шахматной истории. К тому же очень легко
практиковать, нетрудно улучшать, идя по уже намеченному
другими пути. Трудно лишь творить. А Зноско-Боровский, несомненно,
является одним из наиболее крупных современных шахматных творцов-
мыслителей (выделено мной. — СВ.).
Хочется поделиться еще одной встречей с Евгением
Александровичем вне Парижа, во время небольшого турнира в Бирмингеме. Было
это в 1926 году перед моим отъездом в Буэнос-Айрес, где на
следующий год намечался мой матч с Капабланкой. За предшествовавший
период я много работал над своим стилем, стремясь к предельной
легкости и внешней простоте, являвшимися всегда отличительными
качествами моего будущего противника. Мне казалось, что в этом
стремлении я к тому моменту достиг вполне удовлетворительных
результатов. И вот в Бирмингеме, разговорившись с Евгением
Александровичем на тему о подготовке к матчу, я вызвал его возражение-
вопрос: «А не боитесь ли вы того, что, искусственно иссушая свой
стиль, вы утратите вместе с тем то, что до сих пор являлось его
сущностью, — темперамент, боевое начало? И не явится ли эта потеря
гораздо большей, чем то приобретение, к которому вы стремитесь?»
Трудно проследить, каковы внутренние пути творчества
шахматного, как и всякого другого. Я знаю лишь, что этот разговор в
Бирмингеме долго оставался у меня в памяти и что он породил во мне
некоторый страх за свою фантазию и опасение хотя бы частичного
ее ослабления. Следствием этого опасения явилась, вероятно, новая
подсознательная переоценка ценностей, приведшая к тому, что в пе-
1. Статья написана к 25-летию шахматной деятельности Зноско-Боровского.
2. Кафейный игрок (нем.).
3. «Muzio-Gambit» (Leipzig, 1911).
4. «Пути развития шахматной игры» (С.-Петербург, 1910).
5.«Х.Р. Капабланка. Опыт характеристики» (С.-Петербург, 1911).
6. Третий разбойник (φρ.). Так говорят о том, кто извлекает выгоду из
конфликта между двумя другими людьми.
7. В России книга вышла под названием «Теория середины игры в шахматах»
(Москва, 1925).
458
Парижский автограф
риод, непосредственно предшествовавший матчу в Буэнос-Айресе,
партии мои стали опять ярче, цельнее и что вера моя в
благополучный исход матча к началу его сделалась сильнее, чем когда-либо.
Вспомнился мне этот маленький факт, как показатель той
неизменной ценности, которую представляет для всякого шахматиста
от мала до велика общение, лично или через посредство его книг, со
Зноско-Боровским — пламенным жрецом и хладнокровным
любовником шахматной богини Каиссы. В день его юбилея мне - уже и
еще - не суждено поздравить его от имени шахматной России: там
есть много шахматистов, приученных ненавидеть нас обоих, и
которым я (и, уверен, Евгений Александрович тоже) искренне желаю,
несмотря ни на кого и ни на что, развития и укрепления их дарования.
Но зато я убежден, что вся большая, незараженная большевистским
дурманом часть шахматного мира от души присоединится к
моему сегодняшнему пожеланию Е.А.Зноско-Боровскому еще многие,
многие годы продолжать его многогранную деятельность на пользу
нашего искусства.
«Последние новости», 14 ноября 1931
Александр Алехин
О «ТЕХНИКЕ» СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ
(По поводу турнира в Бледе)
I
Не знаю в точности, как при чтении ежедневных отчетов о больших
международных шахматных состязаниях широкая публика, да даже и
большинство любителей представляют себе ход шахматного
турнира, — внешнюю его обстановку и внутреннее его значение. Думается,
однако, судя по часто задаваемым мне вопросам и высказываемым
предположениям, что это представление довольно далеко от
действительности.
Прежде всего, если говорить об актерах той трагикомедии,
которую, в большей или меньшей степени, представляет собой
международный шахматный турнир, — о его отдельных участниках, то многое
в их деятельности кажется большинству «непосвященных»
сложнее, чем оно есть на самом деле, и кое-что много проще. Сложнее
представляется, например, так называемая «подготовка» к турниру:
любителям, прочитавшим, что такому-то мастеру с именем вскоре
придется защищать свою репутацию во многонедельной борьбе с
полновесным (или почти) противником, рисуются обычно - по
аналогии — картины известных им по описаниям тренировок корифеев
физического спорта - боксера, футболиста, теннисиста: то есть за
известный срок до состязания строгий, точно выработанный режим
Статьи А.Алехина (1931-1935)
459
и специфическая подготовка, усиленное занятие шахматами,
выработка новых приемов (дебютных вариантов), проверка и уточнение
старых и т.п.
На основании своего долголетнего опыта и наблюдения
деятельности других мастеров я могу смело утверждать, что такого рода
«тренировка», необходимая при физическом спорте, в применении к
шахматам совершенно ошибочна, и в тех сравнительно редких случаях,
когда она применялась, потерпела полное фиаско. Почему -
объяснить не трудно. Прежде всего, при сравнении чемпионатов
физического спорта с шахматными турнирами бросается в глаза громадная
разница в продолжительности того и другого вида борьбы. В то время
как атлет, боксер, фулболист может в течение нескольких недель или
даже месяцев накапливать силы и опыт для своего выявления в
продолжение всего лишь нескольких часов, шахматист перед серьезным
турниром или матчем обязан заготовить запас выносливости, нервов
и волевой энергии на несколько недель. Из этой существенной
разницы в «темпах» состязаний, естественно, вытекают и разные методы
подготовки: боксер должен ставить себе целью в определенный день,
к определенному часудать свой физический и психический
(поскольку это необходимо для успешного исхода борьбы) максимум. Вопрос,
какая реакция наступит после конца недолгого состязания, для него
не играет роли. Шахматисту же, готовящемуся сыграть 15-20
турнирных партий и сознающему, что продержать себя на высшей точке
напряжения в течение всего этого срока выше сил человеческих, -
нужно постараться успешно разрешить вопрос о распределении
своей волевой энергии так, чтобы ее хватило до конца состязания.
Какова же должна быть сообразная с этой целью подготовка? Двух
родов. Прежде всего — и это элементарно, - обращается внимание на
приведение своего физического «я» в наилучшее состояние. Но в то
время как для каждого вида физического спорта существуют на этот
счет вполне точные, указанные многолетней практикой правила,
применяемые к каждому борцу, — физическая подготовка
шахматиста, стоящего перед длительной и исключительно напряженной
умственной работой, при которой тело только не должно мешать, трудно
поддается обобщающим законам training^1. Нетрудно зато, в
противоположность каким-либо положительным правилам, установить то,
чего шахматный мастер не должен делать за несколько недель,
отделяющих его от ответственного состязания. В вопросах заботы о своем
физическом «я», избегая могущих повлиять на здоровье эксцессов,
не прибегать к какого-либо рода особым, непривычным
экспериментам с целью привести себя в исключительную физическую «форму».
Этого не должно делать, так как с такого рода экспериме нтами связан
двойной риск: объективный (трудно предвидимый момент неизбеж-
460
Парижский автограф
ной реакции после хотя бы и самого невинного dopping'a2) и
субъективный (страх, при малейшей неудаче в турнире, что реакция уже
наступила). Лучше поэтому, на мой взгляд, придерживаться в смысле
«физики» перед турниром золотой середины: думать о теле, но без
напряжения, без страха за будущее, словом - «se laisser vivre»3.
Значительно сложнее другая сторона подготовки к турниру -
подходы специально-технический и психический. Поэтому надо еше
менее применять общие мерки, чем в подготовке
спортивно-физической. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся случая -
двух мастеров. Первый, не имевший времени, в силу обстоятельств
своей жизненной карьеры, в течение, скажем, двух-трех лет
участвовать в серьезных состязаниях. Играть в шахматы ему за это время
приходилось, но только так называемые «легкие» партии — «Kaffee-
hauspartien»*. При всей самоуверенности и подсознательной
переоценке, которая является характерной для всякого сильного
шахматиста, такой мастер, стоящий перед серьезным состязанием, не сможет
отделаться от, может быть, преувеличенного страха оказаться
отставшим в смысле научно-теоретическом и недостаточно
тренированным в смысле практической борьбы.
Его задача внутренней подготовки должна будет заключаться в
преодолении этого, повторяю, в большинстве случаев преувеличенного
страха. Для этого ему достаточно будет сыграть несколько серьезных
партий с игроками равного ему (а может быть, даже лучше -
немного низшего) класса с целью «набить себе руку» и вернуть
необходимый для турнира минимум спортивного равновесия. Что же касается
«теоретической» подготовки, то есть выбора и анализа определенных
дебютных вариантов, то этот метод, бывший весьма в ходу в
довоенное время и получивший свое полное развитие в период восхода и
спортивных триумфов Рубинштейна, теперь мало-помалу отходит в
область предания. И понятно почему: эпоха возрождения,
переживаемая в настоящий период шахматной мыслью, имеет в основе своей
отрицание прежних, почти исключительно аналитических методов
подхода к начальной стадии партии.
Выдающиеся мастера послевоенной эпохи поставили во главу
угла — и с неизменным как спортивным, так и художественным
успехом — идею общего плана шахматной партии, плана, которому с
момента его возникновения должны быть подчинены все отдельные
тактические идеи, все дебютные варианты. Поэтому современное
понимание шахмат требует от мастера прежде всего усвоения духа
избираемого им начала - подобно тому, скажем, как актеру, прежде чем
изучить слова создаваемой им роли, необходимо проникнуться
образом, влить в себя душу изображаемого лица. В обоих случаях
детали (там — мелочи роли, интонации, внешний облик, тут — отдельные
Статьи А.Алехина (1931-1935)
461
ходы, дебютные «трюки» и т.п.) должны явиться сами собой.
Поэтому, по моему убеждению, изучение и подготовка «вариантов», даже
для находящегося вне training'a мастера, является доказательством
неправильности подхода к сущности шахмат и должны,
следовательно, повести к отрицательным результатам.
Другой типичный случай - мастер «переработавшийся», то есть
в предшествующие большому турниру месяцы истративший в
турне, сеансах, лекциях, писании специальных технических статей
или книг значительный запас своей специфической энергии. Чего
опасаться такому игроку, как готовиться к турниру? Подготовка эта
должна быть разделена на две фазы: во-первых, игрок должен суметь
заставить себя забыть шахматы и отвлечься от них любым родом
деятельности - безразлично, физическим или умственным; во-вторых,
непосредственно перед состязанием он должен как бы вновь возро-
Турнир в Бледе, или Гулливер в стране лилипутов. Шарж из журнала «Sahovski
Glasni/c» (1931).
462
Парижский автограф
литься к шахматам, почувствовать к ним вкус. Каким образом этот
вкус возбудить - вопрос чисто индивидуальный: будет ли исходной
точкой стремление к материальной выгоде, будет ли честолюбие,
будут ли наболевшие вопросы чистого искусства - это второстепенно.
Важно, чтобы игрок мог настолько осознать себя, чтобы один из этих
трех основных подходов превратить перед турниром в могучий
рычаг будущего творчества. Если он не сумеет этого добиться, - лучше
ему вовсе отказаться от борьбы, в которой не может быть ни
самовыявления, ни, следовательно, внешнего успеха. Шахматный мастер-
художник должен в турнире быть, прежде всего, борцом - в широком
общечеловеческом смысле этого слова.
Другая, совсем иного «плана» задача выступает перед игроком с
момента начала турнира. С этого дня он превращается в диковинную
и вдругих областях невиданную помесь схимника с хищником.
Схимника - в самозабвенном служении той области истины-красоты, в
которой он может дать свое максимальное выявление; хищника - в
том чисто психологически-самодовлеющем подходе к окружающему
миру, подходе, который единственно может, должен дать ему
достижение поставленной себе — выше и вне себя — цели. Об этой стороне
деятельности шахматистов-художников, применительно к
последнему турниру в Бледе, - в следующий раз.
II
Чтобы представить себе деятельность мастера во время
международного турнира, необходимо знать, хотя бы в обших чертах, какова
обстановка на таких состязаниях. Обстановка эта зависит прежде
всего оттого, в какую из двух основных форм, выработанных за
последние четыре десятилетия, вылилась организация данного турнира.
Основное различие этих форм - в различии финансовых источников,
обеспечивающих осуществление состязания. He-шахматиста, быть
может, удивит такая постановка вопроса, так как он, обычно следуя
всё тому же закону аналогий, о котором я говорил в прошлой статье,
легко может представлять шахматное состязание - будь то турнир
или матч - в виде доходного для его организаторов предприятия,
подобно, скажем, матчам по боксу. На деле это не так: шахматные
состязания, где бы они ни происходили - в столичном городе, на
большом ли курорте, - никогда не привлекали и, несмотря на теперешнее
развитие и распространение шахмат, еще долго не будут привлекать
того количества массового платного зрителя, которое могло бы
окупить — не говорю, превысить - сопряженных с турниром расходов.
Расходы эти - для большого турнира, с участием чемпиона мира
или его ближайшего соперника — обычно выражаются в сумме,
колеблющейся между 7-ю и 15-ю тысячами долларов. Кто же и с ка-
Статьи А.Алехина (1931-1935)
463
кой целью обеспечивает обычно эту сумму? Источники эти бывают,
как сказано, двух родов: в одном, наиболее часто встречающемся,
случае необходимые суммы предоставляются с целью
международного «пюблиситэ»5 курортным управлением (примеры за последнее
десятилетие - Пьештяни, Карлсбад, Баден-Баден, Мариенбад, Бад-
Киссинген, Блед и ряд других более мелких курортов), дирекциями
казино (примеры - Монте-Карло, Остенде, Сан-Себастьян, Сан-
Ремо), изредка ярмарочными или выставочными комитетами (Вена
1922, Дрезден, Льеж) и, наконец, еще реже, частными
консорциумами (турнир «Берлинер тагеблатт» 1928).
Цель устройства турниров в этих случаях — отнюдь не стремление
к непосредственному, то есть во время самого турнира,
привлечению массового посетителя. Многолетняя статистика с наглядностью
подтвердила, что шахматистов-любителей, способных пожертвовать
временем и деньгами, чтобы приехать смотреть на шахматный турнир
(как бы этот турнир ни был интересен), очень немного и, во всяком
случае, слишком мало для того, чтобы из-за них тратить более или
менее значительные суммы. Дело же совсем в другом: в той
многонедельной бесплатной рекламе, которую данный курорт, данное казино
обеспечивают себе в мировой прессе в случае устройства
интересного шахматного состязания на все время его продолжения. На такие
турниры обыкновенно приезжают специальные корреспонденты
больших европейских и американских газет, международных
телеграфных агентств и крупнейших специальных изданий. Так,
например, в Бледе на все время турнира были представлены европейские
газеты «Тайме», «Телеграф», «Луа» (Брюссель) и немецкий
консорциум «Шерль», американские «Нью-Йорктайме» и «Nation». Прислали
своих корреспондентов и агентства «Юнайтед пресс», «Ассошиэйтед
пресс» и «Рейтер».
Совсем другой характер носяттурниры, которые, в
противоположность «курортным», могут называться «городскими». Во-первых,
финансируются они обычно действительно шахматными организациями
(местными клубами или союзами), при поддержке отдельных лиц -
либо настоящих шахматных меценатов, либо стремящихся путем
затраты сравнительно ничтожных сумм прослыть за таковых. Затем -
и это главное, — вследствие скромности средств участников
состязания обычно расселяют по разным гостиницам или частным домам, и
поэтому вне турнирных часов они сравнительно мало между собою
общаются. Общего духа творчества в такого рода турнирах поэтому
меньше, чем в описанных выше, и удельный художественный вес их
ниже. Ценность их, главным образом, в интенсификации местной, а
в небольших государствах — подчас и национальной шахматной
пропаганды. Но все же нужно признать, что при теперешнем повсемест-
464
Парижский автограф
ном кризисе они для шахматного дела являются меньшим злом, чем
полный маразм.
Шахматная битва в Бледе (август-сентябрь 1931) была прототипом
«курортного» турнира. Летняя резиденция короля Александра, с
игрушечным по размерам озером, обрамленным причудливой каймой
покрытых соснами гор, мягкий, ровный климат; ряд построенных по
последнему слову отельной техники паласов; особенно склонное к
предупредительности — как к мастерам, так, в особенности, к
представителям печати — курортное управление, не на шутку
обеспокоившееся внезапным отливом (вследствие неожиданного обострения в
июле финансового кризиса в Германии), в нормальных условиях
относительно щедрой, германской клиентуры, - всё это сделало
внешнюю обстановку Бледской трагикомедии для актеров ее, по
крайней мере вначале, исключительно благоприятной. Все объективные
предпосылки для наиболее полного самовыявления были налицо;
оставалось только сделать из них надлежащие выводы.
Выводы эти должны были, как обычно, касаться «политической»
линии турнира, и об этой стороне всякого шахматного состязания
следует сказать несколько слов.
В то время как в «городских» турнирах участвующие, проживая в
различных гостиницах, встречаются друг с другом, как правило, лишь
во время игры, - в турнирах «курортных» они, живя обычно бок о
бок в гостинице-паласе, где проходит турнир, неизбежно должны
помимо шахматно-профессионального создать между собой и какое-то
человеческое общение. И вот первый вопрос встает перед мастерами
в день приезда на турнир - вопрос о том, в какие формы это общение
выльется, к какому виду его они должны в данном случае стремиться.
За двадцать с лишним лет моей шахматной деятельности я мог
убедиться, что борьба в турнире (особенно типа «курортного»)
происходит в двух плоскостях — вне доски и за доской. Психологический
подход к этим двум моментам совершенно различен. Постараемся
обрисовать его в основных чертах.
Первая фаза — вне доски: человеческое общение с другими
мастерами на фоне шахмат. Техника этого общения тем сравнительно более
легка, что каждый мастер-художник не может не иметь в своем
подсознании известной — большей или меньшей, в зависимости от
объекта, - доли уважения к творчеству своего коллеги. Поэтому
неизбежные встречи вне турнирной игры происходят обычно в атмосфере
профессиональной доброжелательности, атмосфере, облегчающей
каждому данному мастеру его главную в этот период времени
задачу - всестороннего изучения своих будущих
противников-конкурентов. Чем сознательнее, глубже будет проведено это изучение их как
шахматистов и, в одинаковой степени, как людей; чем больше маете-
Статьи А.Алехина (1931-1935)
465
ру удастся приблизиться к окончательному разрешению задачи
превратить своего завтрашнего противника за доской из неведомого X. в
ведомый Н., - тем полнее будут шансы его на окончательный успех.
Способы изучения, по существу, разумеется, те же, что и при каком-
либо другом виде человеческих взаимоотношений, - но только с той
разницей, что ввиду ограниченности срока (2-5 недель) основная
цель должна преследоваться с особой интенсивностью, с особым ис
пользованием всех благоприятных моментов.
И не важно при этом, что такой-то мастер знаком вам с давних
пор, а другого вы встречаете в первый раз; духовный облик человека,
а тем более художника, перерождается подчас в течение нескольких
месяцев - подчас, ввиду особых обстоятельств, и в несколько дней.
Естественное любопытство к человеку, развиваемое шахматами в
большей или меньшей мере в каждом мастере-творце, должно быть,
следовательно, к началу турнира претворено и обострено в
любопытство к «новому», не познанному еще человеку...
Людям, далеким от шахмат, быть может, покажется странным,
почему следует придавать большую цену познанию духовной,
физической и, скажу даже, физиологической сущности своего будущего
противника, чем тому, что принято называть его «шахматной
формой», — склонности в данный момент к определенным началам,
усилению (или ослаблению) в технике окончаний и т.д.? Да просто
потому, что мастеру с надлежащим турнирным опытом знание человека-
противника без труда поможет осознать, что на протяжении
ближайших встреч можно от этого противника ожидать и как от художника,
и как от борца. А в этом осознании весь смысл «подготовительной»
части турнирной работы.
Теперь о борьбе за доской. С того момента как мастер подходит к
турнирному столику и садится за игру, он должен заставить себя
забыть всё то, что он подчас со странным интересом изучил в
свободное от борьбы время; он должен не думать о том, что перед ним сидит
знакомый человек с определенными нервами, быть может,
болезнями, наверное, слабостями и уж, конечно, большей или меньшей
дозой специфического самовлюбленного честолюбия. Нет, он
должен с этого момента иметь дело только с доской, на которой
управляет какой-то X., интереса к человеческому «я» которого не должно
1. Тренировка (англ.).
2. Допинг (англ.).
3. Не лишать себя радостей жизни (φρ.).
4. Кафейные партии (нем.).
5. Publisite (φρ.) - реклама.
6. К сожалению, Алехин своего обещания не сдержал.
466
Парижский автограф
быть в сознании никакого места. Всё сознательно-разумное
должно быть направлено исключительно на драму боя, разыгравшуюся
между 32 деревяшками на доске в 64 квадрата. Вся же масса знания
о противнике-человеке в эти острые моменты борьбы должна быть
упрятана в тайнике подсознания. Отгуда знание это будет помогать
зарождению того, что на высотах шахматного творчества носит
громкое название интуиции и что, по существу, как и в столь многих
других областях, является не чем иным, как продуманно и всесторонне
использованным опытом.
Переходя к деятельности отдельных участников турнира в Бледе,
отмечу, прежде всего, что своим успехом там (также, как и в 1930 году
в Сан-Ремо) я считаю себя, главным образом, обязанным
планомерному применению вкратце здесь очерченной системы подхода к
длительному шахматному бою. О том, насколько удачно разрешили мои
коллеги-мастера - каждый в зависимости от своей
индивидуальности - поставленные ими задачи, напишу в следующий раз6.
«Последние новости», 28 ноября 1931 и 12января 1932
Александр Алехин
Е.Д.БОГОЛЮБОВ
(По поводу предстоящего моего матча с ним)
I. Прошлое далекое
С Е.Д.Боголюбовым я познакомился в 1912 году осенью, во время ви-
ленских турниров. Познакомился - и только; шахматное творчество и
возможности его не только на меня - еще малоопытного мастера, но и
вообще ни на кого особенного впечатления тогда произвести не могли.
Пришел он в турнире, носившем громкое название «международного
турнира любителей», правда, вторым; но самый состав турнира был,
несмотря на многочисленность участников, достаточно слабым, да и
иностранцев в нем почти не было. К тому же я сам был слишком занят
своей игрой во Всероссийском турнире мастеров, чтобы уделять много
внимания побочным состязаниям. Осталось лишь смутное
воспоминание об остро (бесшабашно почти) агрессивном стиле и о
любопытстве Е.Д. ко всякого рода дебютным опытам и новинкам.
Но уже немного месяцев спустя мне, в издаваемом в то время моим
братом «Шахматном вестнике», пришлось встретить Боголюбова в
связи с крупным для такого молодого игрока успехом - выигрышем
матча у заслуженного лодзинского мастера, успешного участника
нескольких международных турниров Г.С.Сальве. И не только
спортивный результат этого матча - достаточно убедительный сам по себе -
был интересен; останавливал внимание, главным образом, стиль, в
котором Боголюбов его выиграл.
Статьи АМехина (/93/- /935)
467
В партиях матча, попавших в печать, пришлось впервые —
правда, еще в эмбриональном виде — отметить ту черту творчества
Боголюбова, которая и посейчас составляет главную его силу, а именно
олимпийски-спокойное (как бы овеянное даже какой-то
малороссийской ленцой) умение его использовать до конца малейшее позиционное
преимущество с того момента, когда он сознаёт, что такое преимущество
у него имеется. Забегая вперед, скажу, что эта характерная черта Е.Д.
коренным образом отличает его творчество от метода Капабланки,
всегда внутренне готового «обменять» один вид преимущества на
другой, поскольку такой обмен представляется ему выгодным или по
меньшей мере равноценным. И именно эта черта сближает боголю-
бовский стиль с моим (в особенности в период до матча в Буэнос-
Айресе); в силу этого-то сходства темпа Боголюбов являлся и
является для меня одним из самых серьезных противников.
Победа над Сальве дала Боголюбову формальное звание русского
мастера, и в качестве такового он был допущен к участию во
Всероссийском турнире мастеров (Петербург, декабрь 1913 - январь 1914),
предшествовавшем памятному Grossmeisterturnier'y 1914 года.
Качество и солидность игры Е.Д. несомненно увеличились с 1912 года -
но все же он в этом состязании занял лишь 9-е место при 18
участниках; он не дал вполне того, чего от него ожидали, - и уж гораздо
меньше, чем сам ожидал от себя. Главной причиной этого относительного
неуспеха было, вероятно, его пристрастие к рискованным дебютным
новинкам, анализом которых он тогда увлекался.
Расскажу по этому поводу малоизвестный факт касательно моей
партии с ним (при первой нашей встрече за доской) в этом турнире.
Как-то в середине турнира, когда уже определилось, что у
Боголюбова нет шансов на первое место, а мы с Нимцовичем лидировали,
зашел разговор о только что проигранной Е.Д. партии, причем я
выразил сомнение в солидности избранной им зашиты против
классического Ruy-LopezV. «Вы ошибаетесь, - возразил Боголюбов, - и
если вы изберете Ruy- Lopez в нашей партии, я попытаюсь вам это
доказать».
Партия наша должна была по расписанию играться в
предпоследнем туре, чуть ли не через две недели после этого разговора, - и за
это время я успел о нем позабыть. И только когда Боголюбов
действительно избрал свою более чем рискованную защиту, я невольно
насторожился. Что это: бесшабашный оптимизм, деморализация
(дескать, все равно турнир не удался) или тонкий психологический
расчет? Как бы то ни было, уже через очень немного ходов оказалось, что
шахматная правда на моей стороне: я выиграл фигуру за одну лишь
пешку. Но «психология» (сознательная или подсознательная - не
знаю и до сих пор) была на стороне Боголюбова.
468
Парижский автограф
Л! 44 (233)
чйглг11 .^««ϊΕ lJLLi/sri)fc%
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
Μ 44
f 4 Г01* Β·Β·ΙΙ!«
Hinal LWIIOIk
УщЩ| а Гл Χ«·τ»ρ»
м ·4ΐ м «омой »·*ι ·
РОСС1Я
l«: t**»·»*-·
Длехинъ - Боголюбовъ
БОРЬБА ЗА ШАХШ1АТНЫЙ ПРЕСТОЛЪ
ЧЕМЛЮНЪ MIFA А. А. АЛЕХИНЪ И ОСПЛРИВАЮЩШ У НЕГО ЭТО ЗНАКЕ Е. X ЬОГОЛЮБООЪ. ЗА ОДНОЙ
ИЗЪ ПАРТТО БЕРЛИНСКОЙ СЫЧИ ИХЪ МАТЧА.
Первый матч Алехин - Боголюбов вызвал ажиотаж, особенно среди русской
эмиграции. Обложка журнала «Иллюстрированная Россия» (26.10.1929).
Статьи А.Алехина (1931-1935)
469
Смутно-неловкая мысль, что противник в такой ответственный
момент турнира ни с того, ни с сего фактически «дарит» мне очко,
очевидно, так на меня подействовала, что я не принял элементарных
мер для защиты своего короля, — и Е.Д. со свойственной ему уже
тогда «гладкой» манерой спокойненько скушал меня. Кажется, это
единственная партия (значение которой было в том, что она чуть не
лишила меня права участвовать в Grossmeisterturnier'e, оказавшемся
поворотным пунктом моей карьеры) за всю мою деятельность,
которая стоила мне бессонной ночи.
Следующая встреча с Боголюбовым - в Мангейме, накануне войны.
В этом своем первом международном состязании Е.Д. добился
вполне почетного результата — 50 процентов - и, быть может, достиг бы
и большего, если бы не случилось непредвиденного и оба мы (вместе
с девятью другими русскими шахматистами), вместо мирного
окончания турнира, не начали хождения по немецким тюрьмам. Сначала -
Hauptwache2 в Мангейме, затем (для меня) - военная тюрьма в Люд-
вигсгафене, затем — Раштатт, наконец — под надзор полиции в Баден-
Бадене. Из всех этих мытарств сидение в раштаттской тюрьме было
самым длительным и, пожалуй, самым колоритным. Мне пришлось
делить камеру с Е.Д., мастером И.Л.Рабиновичем и неким С.О.Вайн-
штейном, в то время прилизанным студентом-технологом, всячески
заискивавшим перед ответственными деятелями русского
шахматного движения, теперь - одним из наиболее рьяных цепных шах-псов
Крыленки.
Житье в тюрьме было достаточно однообразное - ни книг, ни
газетой, разумеется, шахматной доски. И вот принялись мы с
Боголюбовым часами играть в шахматы «не глядя». Хотя Е.Д. никогда не
специализировался в этой области, он, как и всякий крупный мастер, в
состоянии играть несколько партий одновременно не глядя — и
борьба наша в большинстве случаев была очень занимательна. Был в ней,
правда, вынужденный перерыв, когда меня за то, что я осмелился
улыбнуться во время общей прогулки (обязательным «гусиным
шагом») по тюремному двору — посадили на четыре дня в «одиночку»1.
И все же скажу, что и это наказание, и вся атмосфера раштаттской
тюрьмы с единственным ее смотрителем и его дочерью, три раза в
день приносившей нам еду и весело с нами болтавшей, -
представляется теперь каким-то идиллическим, почти милым воспоминанием
по сравнению с — увы — слишком многим известным домом на
Екатерининской площади в Одессе4...
После освобождения из Раштатта - Баден-Баден, мой быстрый
отъезд оттуда, благодаря случайности или счастью (для тех, кто в
них верит); выезд — вскоре после меня и по моему способу - Π. Π
.Сабурова и Ф.П.Богатырчука и сидение остальных русских шахматис-
470
Парижский автограф
тов в Германии до окончания войны (только Б.Е.Малютин был после
долгой переписки через полтора года на кого-то обменян и тоже мог
вернуться на родину)5.
Боголюбов остался на чужбине на неопределенное время. Нет
сомнения, что, в особенности в первое время, ему, не знавшему ни
слова по-немецки, когда он приехал в Мангейм, было очень и очень
нелегко. Но в конечном итоге это испытание явилось поворотным
пунктом в его жизни - и шахматной, и личной.
Вынужденное бездействие, сперва в Баден-Бадене, затем в Трибер-
ге, заставило Боголюбова по-настоящему подумать о шахматах и
понять, что, не только играя, а работая над развитием своей техники и
творческой мысли, он сможет превратиться из очень талантливого,
но все же неуравновешенного игрока с несомненным налетом Kaffee-
hausstylV в одного из первых шахматных художников современности.
Работа над собой за этот период (1914-1919) была им проделана
действительно огромная, и результаты ее не замедлили сказаться: с
первых же послевоенных состязаний имя Боголюбова (еще без
сравнения со «сверхигроками» Ласкером и Капабланкой, но уже в
сопоставлении с кандидатом в чемпионы Рубинштейном) произносится с
любопытным уважением: ег ist der kommende Mann7. И даже тот факт,
что он не берет первого приза в первых послевоенных турнирах (Гё-
теборг и Берлин 1920), ставят в вину не его «молодости» (правда, ему
уже за 30 лет), но избытку темперамента. Стиль его и то неуловимое,
что заставляет даже самую большую «mazette»8 почувствовать
подлинного нового художника, - подкупают.
В таком совершенно новом виде я встретил Боголюбова в 1921
году, по своем исходе из СССР. Перемена, начиная с внешности,
разительная. Вместо худощавого молодого человека, еще не видевшего
ясно своего пути и только хотевшего, чтобы в него верили, - я
увидел плотного, самодовольного и самоуверенного мужчину, знающего,
что он в избранной им области нечто, знающего, что и людям
придется с этим считаться. За первые шесть лет моей послевоенной
шахматной деятельности (до матча 1927 года) мне пришлось встретиться
с Е.Д. в целом ряде международных турниров; и я должен признать,
что, несмотря на тот факт, что как при индивидуальных встречах, так
и в турнирных итогах (из восьми турниров, игранных за тот период,
я был впереди Боголюбова пять раз, два раза наравне и один раз
позади него) мне удавалось его опередить, - ни у меня, ни, вероятно, у
широкой публики не было абсолютного убеждения, что спор между
нами окончательно разрешен.
Причин такого нежелания склониться перед простой «статистикой»
было, думается, две: 1) чисто формально Боголюбов имел в своем
активе один успех, которого мне не удалось иметь, — он в Москве в 1925
Статьи А.Алехина (1931-1935)
471
году получил первый приз впереди Ласкера и Капабланки; 2)
сравнительные спортивные неуспехи его по отношению к моим отнюдь не
было бы преувеличением объяснить в известной мере тем фактом, что
Боголюбов далеко не всегда умеет принудить себя с достаточной
серьезностью отнестись к данному противнику и к данному состязанию,
Некоторую роль в этих неудачах играли и играют особенности его
яркого шахматного темперамента, индивидуальная сторона егостиля. Об
этих особенностях я и хочу поговорить в связи с недавним прошлым
его вызовом меня на борьбу за мировое первенство и матчем 1929 года.
II. Прошлое близкое
С идеей мирового первенства Боголюбов носился уже достаточно
давно; еще в 1921 году, тотчас же по выигрыше Капабланкой матча у
Ласкера, Е.Д. послал новому чемпиону не то вызов, не то запрос - на
каких, дескать, условиях Капабланка согласен защищать свое звание.
Кубинец ответил тогда, помнится, что он готовит новые правила для
матчей на первенство мира, которые в ближайшее время и
опубликует. Правила эти, действительно, получили общее признание наиболее
видных мастеров на лондонском турнире 1922 года, и на их основании
игрались оба следующих матча на первенство. Вызов Боголюбова так и
не имел последствий: также оказались безрезультатными разговоры о
матче после его блестящей московской победы в 1925 году.
Главной причиной этих неудач был, по-видимому, тот факт, что
каждый раз, когда имени Капабланки в тот период
противопоставлялось какое-либо другое имя — Боголюбова ли, мое ли, -
неизменно в известной, специфически настроенной части шахматной печати
выдвигалась другая идея — матча-реванша Л аскер — Капабланка; и
приводились доказательства, что прежний чемпион n'a pas desarme9
и блестяще подтвердил свои права в 1924 году в Нью-Йорке. Эта
«контрпропаганда» регулярно приводила к тому, что оба проекта
проваливались, — и если бы не оказалось удачной конъюнктуры в
Аргентине, Капабланка и до сих пор оставался бы чемпионом.
Итак, Боголюбову после Буэнос-Айреса, как и мне в свое время,
пришлось вооружиться терпением, ждать благоприятного стечения
обстоятельств. Судьба пришла к нему на помощь сравнительно
быстро: уже к осени 1928 года он получил в глазах шахматной
«общественности» достаточный формальный повод для вызова; поводом
этим была победа Е.Д. в киссингенском турнире. Выигрыш этого
турнира был знаменателен во многих отношениях, но главный вес его
заключался в том, что Боголюбов во второй раз перегнал Капабланку
И перегнал не того бесконечно самовлюбленного чемпиона, который
считал и заставлял считать своих слепых поклонников, что каждый
его относительный неуспех (Нью-Йорк 1924, Москва 1925) являет-
472
Парижский автограф
ся не стоящей внимания случайностью; нет, человека, специально
приехавшего в Европу с целью в ряде турниров «раздавить всё и вся»
и тем доказать, что Буэнос-Айрес не должен идти в счет. И вот этот-
то первый турнир «с Капабланкой» Боголюбов выиграл почти шутя.
Немудрено, что в двух странах - Германии и Голландии - нашлись
люди и организации, готовые финансово поддержать вызов
Боголюбова мне; немудрено, что матч быстро и безболезненно
осуществился. Результат известен, и перипетии его в свое время подробно описал
Е.А.Зноско-Боровский на страницах «Последних новостей». Мне же
за эти годы не довелось высказать свое мнение об этом состязании,
о причинах его результата и возможных из этого результата выводах.
Постараюсь сделать это теперь.
Силу Боголюбова со времени его памятного трибергского
сидения создали два фактора: 1) его почти никогда не изменяющий ему
боевой темперамент и безграничная вера в себя; 2) объективное его
самопознание как шахматиста - борца и художника. Для достижения
спортивного успеха важны оба фактора - но второй сравнительно
редко можно встретить у мастеров, в особенности в той мере, как у
Е.Д., который целый ряд лет потратил на то, чтобы
усовершенствовать характерные особенности своего стиля и по возможности
устранить его дефекты.
В этом постоянном самоусовершенствовании, соединенном с
большой дозой законной в общем самоуверенности, - главный
секрет триумфов Боголюбова. Но как за доской, так и вне ее всякая
«сила» в известный момент и при стечении обстоятельств может
превратиться в «слабость». И, думается, я угадываю верно, почему так
случилось с Ε Д. во время нашего с ним матча.
Во-первых, перед самым началом матча Боголюбов сделал ошибку,
вполне понятную при его оптимизме: он принял участие в большом и
ответственном карлсбадском турнире 1929 года (где я присутствовал
лишь в качестве корреспондента «New York Times») — и в итоге
пришел 8-м. Такой результат (уже не говоря о влиянии снисходительно-
насмешливого отношения толпы и прессы, обычно судящих на
основании лишь формальных данных) не мог не повлиять на настроение
даже самого отъявленного оптимиста. Естественно поэтому, что Е.Д.
приступил к матчу не с обычным своим подъемом, и
психологические результаты этого подхода не замедлили сказаться тотчас же
после первой партии матча.
Как известно, мне посчастливилось в обоих матчах на первенство
выиграть первую же партию, и оба раза в стиле, дававшем неточное
представление о значении и силе моих противников. Но как
бесконечно разно восприняли они это поражение! В то время как Капабланка
был просто зол на «казус», больно уколовший его самолюбие, и ничуть
Статьи А.Алехина (1931-1935)
473
не сомневался в тот момент в благоприятном для него исходе матча, -
в облике Боголюбова, когда мы с ним встретились на следующий день
после первой партии, нельзя было не уловить той, столь ему вообще
не свойственной, «беспокойной ласковости взгляда», которая уже не
покидала его до конца борьбы. Человек со случайно, временно
надломленной психикой — вот чем был Ε Д. во время нашего матча.
И есть еще другое, вероятно, главное. Сосредоточив себя на
самоусовершенствовании, Боголюбов проглядел (или недооиенил) того
основного принципа всякой борьбы, который гласит не только
«познай себя» (он познал), но и — «познай своего врага». В невосприятии
этого второго постулата Боголюбовым я и усматриваю главную
причину моей внешне убедительной матчевой победы над ним. В то время,
например, когда я, годами изучая особенности - не только шахматные,
но и человеческие - Капабланки, готовился к решительной схватке с
ним, - Боголюбов со своей олимпийско-малороссийской
беспечностью раз и навсегда убедил себя в несложной формуле, что, дескать,
«Капабланка — совершенный техник» (что было абсолютно неверно,
так как кубинец не был никогда совершенен и, главное, далеко не
только техник). В результате такого одностороннего понимания Ε Л· в
индивидуальных встречах регулярно оказывался жертвой Капабланки.
Почти то же относительно восприятия Е.Д. моего шахматного
«я». Каким легкомыслием, например, звучит его сделанное Зноско-
Боровскому после матча заявление, «что он ожидал от Алехина лишь
того стиля, какой тот выявил против Капабланки». Как будто
Боголюбов не встречался со мной и не мог изучить моего шахматного
лица за предшествующие 15 лет! Как будто он не мог перед этим
важнейшим для него состязанием вдуматься в мои недочеты и
постараться их использовать!
И вместе с тем, несмотря на указанные психологические минусы, я
должен констатировать, что Боголюбов далеко не явился мне легким
противником. Борьба с Капабланкой была по ряду причин труднее
психологически — в чисто шахматном же отношении победа над Е.Д.
досталась мне, несомненно, тяжелее, нежели над кубинцем. У
Капабланки труднее выиграть отдельную партию, чем у Боголюбова, но
при игре с ним не испытываешь и тени той напряженности,
необходимости быть каждый момент начеку, как при схватке с теперешним
немецким чемпионом. В чисто же художественном отношении
Боголюбов в своем матче показал несомненно больше, чем Капабланка:
три из пяти им выигранных партий (5-я, 14-я и 18-я) являются
действительно первоклассными образцами беспощадного
использования небольшого позиционного преимущества. Словом, несмотря на
указанные неблагоприятные факторы и принимая их в расчет,
Боголюбов, несомненно, вышел с честью из первого матча на чемпионат10.
474
Парижский автограф
III. Настоящее
Теперь я получил новый вызов от Е.Д. на 1934 год. О формальных
правах его говорить не приходится: в двух крупнейших турнирах,
имевших место после нашего матча (Сан-Ремо и Блед), он добился
прекрасных успехов (III и II призы) и в индивидуальных встречах
имеет против меня за послевоенный период значительно большее
количество выигрышей, чем кто-либо из других мастеров (семь против
четырех у Капабланки и двух у нескольких других11).
Как и в прошлый раз, ему, вероятно, удастся обеспечить
финансовую сторону состязания - но, конечно, не эта сторона интересна для
шахматной публики. Интересен лишь вопрос: что может дать этот
новый матч в спортивном и художественном отношениях? Мне
лично думается, что многое, и вот почему: несмотря на то что за
последние годы мне удалось добиться значительно высших турнирных
успехов, чем Е.Д., наши индивидуальные результаты с ним за этот срок
(+1-1=2), формально равные, скорее окажутся в его пользу, если к
ним применить качественный критерий. Если обе решенные партии
можно признать более или менее равноценными, то нельзя
объективно того же сказать о ничьих; в одной из них (Сан-Ремо) я,
правда, имел некоторое время позиционный перевес — но зато в другой
(Блед) Боголюбов имел явно выигрышное положение и не добился
победы лишь благодаря случаю, имеющему место в подобных
серьезных партиях примерно один раз на сто. И поскольку Боголюбов на
этот раз серьезно отнесется (хотя бы уже в силу предыдущего опыта)
к особенностям стиля своего «врага», - матч обещает быть весьма
напряженным спортивно и содержательным качественно.
Добавлю все же, что при полном признании высокого класса
своего противника я имею полную веру, что мне и на этот раз удастся
1. Дебют Рюи Лопеса - старинное название испанской партии.
2. Гауптвахта (нем.).
3. Есть и более «романтичная» версия Ф.Богатырчука (стр. 178).
4. В доме № 6 на Екатерининской площади была тюрьма Ч К, в которой
Алехин сидел в 1919 году.
5. Уточню, что еще П.А.Романовский вернулся в Россию в 1915 году.
6. Кафейный стиль (нем.).
7. Восходящая звезда (нем.).
8. Неумелый игрок, растяпа (φρ.).
9. Не обезоружен (фр.)
10. По словам Адриана Μ ихальчишина, юный Гарри Каспаров советовал ему:
«Посмотри первый матч Алехина и Боголюбова. Это совершенно
роскошный матч! Один из лучших среди матчей на первенство мира».
11. Точнее, только у двух: Нимцовичаи Ейтса.
Статьи А.Алехина (1931- 1935)
475
удержать свое звание, - уже потому, что и я, в силу причин, о которых
не время распространяться, в первом матче не дал своего максимума.
Но задача, во всяком случае, будет нелегка.
В связи с проектом матча крайне интересно было, между прочим,
прочестьзаявление шахматного редактора «Возрождения»,
гроссмейстера С.Г.Тартаковера, о том, что «Боголюбов, несомненно,
усилился со времени первого матча». Исходи такое заявление от кого-либо
другого, оно не могло бы бьггь встречено без доли скептицизма: ведь
всякому, интересующемуся ходом международной шахматной
жизни, известно, что наиболее блестящие успехи Боголюбова (Пьештяни
1922, Москва 1925, Киссинген 1928) достигнуты им были в период до
матча 1929 года. Однако в данном случае Тартаковер, очевидно,
руководствуется не статистикой, а своим качественным анализом
творчества Е.Д. за последние годы; если это так, то ему и книги в руки...
И, главное, суть не в том, усилился или не усилился Боголюбов, - он
достаточно большой шахматист, чтобы оказаться опасным, будучи
самим собой, прежним Боголюбовым. Как с таковым и нужно будет с
ним считаться.
Наконец, последний, невольно возникающий и в известной
степени злободневный вопрос: не был ли бы более своевременным матч на
первенство с кем-либо из представителей молодого поколения? Как
на этот, так и на вопрос о роли шахматной молодежи в настоящем и
близком будущем постараюсь дать ответ в следующей статье.
«Последние новости», 1 и 2 октября 1933
Александр Алехин
НАША СМЕНА
I. Мы и они
Не так давно С.Г.Тартаковер сделал в Русском кружке имени
Потемкина доклад на тему о шахматной молодежи. На докладе я не
был, но, зная тему и взгляды Тартаковера, могу, без опасения впасть
в ошибку, сказать, какова была основная его мысль, каковы были
выводы. Мысль — гимн молодому поколению, вывод -
«молодежи принадлежит будущее». Это один из многих случаев, когда тема
прямо подсказывает выводы, и слишком скользкой, неблагодарной
работой было бы от них отступиться. Под гром аплодисментов
докладчик возвещает истину, равноценную тому, что дважды два
четыре или «Волга впадает в Каспийское море». Да, без сомнения,
будущее принадлежит молодости — не только в шахматах, но и во
всех областях жизни; так уж устроила природа. Но суть, право же,
не в том. И нтересно одно - каковым окажется это будущее, что оно
сулит? Чем оно будет лучше или хуже прежнего?
476
Парижский автограф
Шахматы, как известно, можно рассматривать с трех основных
точек зрения: 1) как фактор социального развития, 2) как спорт, 3)
как искусство. И вот в интересующем нас вопросе постараемся
выяснить, что дало в этих областях шахматам наше поколение и что
можно ожидать от следующего.
Прежде всего, социальный фактор: для того чтобы быть
культуртрегером1 даже в очень скромной области, человеку нужно обладать
каким-то минимумом общего интеллекта и той дозой
джентльменства, которую вправе ожидать от всякого среднего индивидуума. И вот
мне, видевшему три поколения мастеров (прежнее, наше и новое),
возможно констатировать, что в этом отношении у молодежи всё
обстоит вполне благополучно; не только новое поколение «не сдало»
социально, но и во многих отношениях оно даже выше предыдущих
двух. Вопрос — сложный и деликатный, коснусь его потому лишь в
общих чертах.
В то время, когда во времена Ласкера, Тарраша и др. мастера-
профессионалы были джентльменами лишь в виде исключения,
теперь этот тип понемногу становится правилом. Молодые мастера -
Эйве, Кэжден, Флор, Султан-Хан, Штольц, Элисказес, Микенас,
Петров и ряд других (уже не говоря о моем безвременно исчезнувшем
друге, бельгийском чемпионе Э.Колле, бывшем в полном смысле
слова шахматным джентльменом) являются тем, что на
американском Slang'e2 соответствует O.K. Можно ли сказать то же о мастерах
прошлых поколений? Увы - нет. Были блестящие исключения,
только подтверждавшие правило.
Следовательно, если бы дело было лишь в том, чтобы бороться
с десятилетиями укоренившимся (особенно в латинских странах)
предубеждением против шахматных профессионалов, можно было
бы признать, что сделан важный шаг вперед. Но есть, к сожалению,
другие стороны вопроса, пожалуй, более важные.
Одна из них, например, — отношение молодежи к шахматам-бо-
рьбе, шахматам-спорту. С этой стороны не скажу, чтобы всё
обстояло идеально. Правда, представители нового поколения очень охотно
идут на единоборство со старшими мастерами — но это только
естественно, так как в смысле репутации в этих случаях ils ont tout a gagner,
Hen a perdre3. Но совсем иное можно наблюдать, когда дело доходит
до встреч молодых между собой. Здесь они проявляют в большинстве
случаев поистине куропаткинскую тактику4.
Ярко запомнился, например, эпизод из последнего тура бледского
турнира (1931). Положение в тот момент было таково: у меня было 20
очков, у Боголюбова - 15, у Нимцовича и Флора (который, однако,
заранее сыграл свою последнюю партию и поэтому уже не мог
улучшить своего «Scor'a»5) - 13,5; у Видмара, Кэждена и Штольца - по
Статьи А.Алехина (1931- 1935)
477
13 очков. Из этого сопоставления видно, что в то время, когда
первые два места были в прочных руках, вопрос третьего и следующих
не был еще решен. Судьбу этих мест должны были по расписанию
определить партии Нимцович - Колле, Пирц - Видмар и Штольц-
Кэжден.
Югославский гроссмейстер, игравший вообще весь турнир ниже
своей формы, уже через полчаса свел свою партию вничью и тем
отпал как конкурент на третий приз. На других же двух досках
разыгралась своеобразная трагикомедия, до тех пор мной невиданная.
Нимцович сравнительно быстро получил позиционный перевес
против бельгийца и встал перед дилеммой: либо оставлять
структуру позиции нетронутой, что обеспечивало ему ничью, либо
форсировать выигрыш качества, но дать противнику некоторые шансы на
атаку короля. При исключительной находчивости Колле в острых
положениях эта последняя попытка могла даже угрожать Нимцовичу
проигрышем партии и заслуженного третьего приза.
А за доской Штольц - Кэжден в это время происходило вот что:
сделав первые двадцать ходов примерно в четверть часа
(общеизвестный вариант ферзевого гамбита, где почти все фигуры еще на доске
и конечного результата поэтому нельзя предугадать) и тем накопив
Пасадена, 1932. Алехин и «наша смена». Напротив него Исаак Кэжден.
Наблюдают мексиканский мастер Хосе Арайса, Артур Дейк, Ройбен Файн и Сэмюэль
Решевский.
478
Парижский автограф
массу времени, «les deux jeunes geants»6 (выражение Тартаковера)
вообще перестали играть и вместо этого поочередно стали ходить
смотреть на партию Нимцовича, выиграет он, дескать, или нет? Ним-
цович, чуя, что за соседней доской творится нечто неладное, в тот
момент переживал муки своеобразной «пытки сомнением»: рискнуть
или не рискнуть играть на выигрыш? Наконец, так как у него уже не
оставалось много времени на обдумывание, - он решился, рискнул,
отразил затем контратаку и получил технически легко выигранный
конец; но могло случиться и наоборот...
В тот же момент «молодые гиганты», окончательно убедившись в
том, что ни тому, ни другому Нимцовича не нагнать, протянули друг
другу руки и без дальнейшей игры согласились на ничью. Были ли
подобного рода случаи в прежних турнирах - не знаю; слышать о них
не приходилось.
Не было как-то раньше и того преувеличенного и мало
совместимого с настоящей значительностью страха за свою репутацию,
который характеризует нынешних молодых. Так, Флор и Эйве, выиграв
каждый по одной партии во втором их матче (Карлсбад 1932),
остальные шесть сводят вничью без тени борьбы. Так, Кэжден, начавший
прошлой зимой крайне неудачно чемпионат Manhattan Chess Club'a,
попросту выходит из турнира под предлогом заваленности
литературной работой! И такого рода примеров - сколько угодно.
Правда, на это можно возразить, что такой страх за свою молодую
репутацию объясним отсутствием опыта и с годами исчезнет. Что же,
может быть; поживем - увидим. Но что вряд ли уже изменится (по
крайней мере, у той части молодежи, которая сейчас особенно на
виду), это характер качественной продукции «гигантов» и значение
их как шахматистов-идеологов, вожаков современной мысли. Эти
две стороны деятельности молодых слишком важны, чтобы на них не
остановиться.
Начнем с качественного характера творчества молодых
корифеев, то есть попросту их стилей. Стили эти за последние годы
достаточно определились, и - увы - характерной чертой их (за одним
лишь исключением) является отсутствие оригинальности. Не хочу
этим сказать, что у каждого из этих послевоенных светил — назову
Эйве, Кэждена, Султан-Хана, Пирца, Штольца - нет в манере чего-
либо такого, что не отличало бы его от других игроков этой группы.
Так, например, Эйве особенно силен в дебютах, Кэжден - в концах;
у Флора один-два раза в год бывают (как, например, в одной из
матчевых партий с Эйве и во встрече с Кэжденом в Фолкстоне) бурные
прорывы не свойственного ему вообще чисто-тактического
творчества; Штольц же по расположению преимущественно
комбинационный игрок, и т.д., и т.д. Но нового в их партиях найти ничего нельзя;
Статьи А.Алехина (1931- 1935)
479
они только сумели, в большей или меньшей степени, освоить то
абсолютно ценное, что было в идеях и писаниях лучших представителей
двух предыдущих поколений, и превратить свои познания в мощное
орудие практической борьбы.
Единственным исключением, о котором я упомянул, является
Султан-Хан, да и то не в силу особой своей молодости (ему около
тридцати), а потому, что нашим шахматам он научился сравнительно
поздно, сначала искусившись и усовершенствовавшись в шахматах
индусских. В этих последних, правда, очень много общего с
нашими; но все же некоторые детали (как, например, отсутствие двойного
дебютного хода пешки и превращение пешек на 8-й линии лишь в
фигуры той вертикали, на которой эти пешки находятся) - в корне
меняют всю технику начал и концов игр. Своеобразное новаторство
Султан-Хана поэтому не есть следствие проникновения или опыта,
а происходит от незнания и порой чисто-восточного любопытства:
он сплошь и рядом доигрывает до предельного конца безнадежно-
ничейные или безнадежно-проигранные положения - очевидно, в
надежде открыть в них недоступные европейцам возможности... И
поэтому стиль его, подкрепляемый к тому же незаурядной дозой
интуиции, производит действительно не совсем обычное впечатление.
А что сказать о литературной деятельности выдающейся
молодежи? Приятно, конечно, что ничего плохого - но, к сожалению, и
хорошего тоже ничего, по весьма простой причине: деятельности этой,
как правило, вообще не существует. Всё, что было написано ценного
о современных шахматах, написано людьми двух предыдущих
поколений. И пусть читатели не усмотрят в этом факте противоречия
с констатированным сравнительно невысоким культурным уровнем
прежних мастеров; ибо именно те блестящие исключения, о которых
я упомянул, и создали всю современную литературу, воспитали новую
шахматную мысль. Не говоря уже о более ранних (конца прошлого
века), сделавших в свое время эпоху, трудах Тарраша («300 партий»)
и Ласкера («Здравый смысл в шахматах»); не говоря об обновителе
шахматной Библии (Бильгера) К.Шлехтере и «отце литературного
шахматного комментария» Г.Марко, - сравним только людей
нашего поколения с «молодыми».
Кто из этих последних обладает литературной ясностью Капаблан-
ки, подлинно-глубоким новаторством Рети и Нимцовича, блеском
Тартаковера, проникновением Зноско-Боровского? Правда, среди
послевоенных шахматистов имеется блестящий стилист и тонкий
знаток - венец Г. Кмох; но, во-первых, этому «молодому» уже под
сорок, а во-вторых, он не может почитаться первоклассным мастером.
Правда, часто пишет научно-шахматные статьи голландец М.Эйве;
но статьи эти, полезные сами по себе, имеют в большинстве случаев
480
Парижский автограф
лишь характер добросовестных и обстоятельных сводок последних
дебютных достижений шахматной теории; общих конструктивных
мыслей в них не найти.
Таково положение в настоящий момент. Может ли оно измениться
в ближайшем будущем? Можно ли надеяться, что молодежь не
только будет выявлять себя за доской, но и постарается наметить новые
вехи развития шахматной мысли? Чтобы вьыснить это, нужно
заглянуть несколько глубже, выяснить, кто должен почитаться сейчас
действительно молодым, на ком могут быть построены наши надежды.
II. Молодость жизненная и молодость шахматная
Кого можно сейчас считать действительно «молодым» в нашем
искусстве? На это, в сущности, не так трудно ответить, если знать
историю современных шахмат (то есть примерно за последние сто лет).
Эта история с непреложностью показывает, что в громадном
большинстве случаев мастер достигает апогея своей силы между 25 и 30
годами; но уже к 25 годам шахматный мир может более или менее
точно определить, что он вправе от него ожидать.
Прилагая этот формальный возрастной критерий к новому
поколению, мы придем к выводам, не только не опровергнутым
действительностью, но в значительной степени ею даже подтверждаемым.
Выводы эти гласят, что такие мастера, как Эйве, Кэжден, Штольц,
Султан-Хан, Каналь, братья Штейнеры (не говоря уже о тоже
послевоенных, но значительно более старших игроках вроде Грюнфельда
и Земиша) и некоторые другие, достигли того максимума
совершенства, какой им на долю был отпущен.
Максимум этот у некоторых из перечисленных игроков очень
высок, и они по праву числятся в первом десятке современных
корифеев. Будут у них еще, разумеется, и крупные одиночные успехи,
быть может, даже несколько выше достигнутых ими до сих пор. Но
нового, неожиданного, сенсационного шахматной массе ожидать от
них не приходится — слишком уже определился их стиль, слишком
достаточен опыт.
В следующую категорию — категорию молодых «на переломе» -
следует включить (опять же формально) Флора, Пирца, Дейка, Лили-
енталя и, кроме того, целый ряд dii minores7, среди которых
«послевоенные» — чехи, немцы и англичане находятся, пожалуй, на первом
плане. От этих, несомненно, исключительно одаренных молодых
людей как будто можно было бы ожидать дальнейшего
совершенствования - и как это было бы желательно. Но тут нам придется
столкнуться с маленькой поправкой к указанному формальному критерию. Об
этой поправке я скажу дальше; необходимость ее вызывает сомнение
в осуществлении указанных надежд.
Статьи А.Алехина (1931-1935)
481
Наконец, категория молодых настоящих les vingt ans et les moins de
vingt anse; в отношении этих последних дозволены все надежды, так
как нет ни малейших данных предполагать, что они как-либо себя
исчерпали. Во главе этой группы назову (среди тех, кого лично или
по успехам знаю, а хочется верить, что еще много таких, которые себя
очень скоро проявят) — Файна, Элисказеса, Микенаса и
«таинственного незнакомца» из СССР — Ботвинника. О последнем я, на
основании того, что видел из его партий и анализов, очень высокого
мнения — и, разумеется, крайне жаль, что ему не приходится принимать
участие в международных шахматных состязаниях. Что же касается
трех остальных, то я беру на себя смелость предсказать 19-летнему
ньюйоркцу Файну совершенно исключительную шахматную
будущность — главным образом, потому, что он, по моему убеждению, за
ближайшие годы еще значительно усилится. Будущее покажет, прав
я или нет.
Теперь - несколько слов о поправке к возрастному критерию: дело
в том, что о шахматной молодости игрока нельзя судить только на
основании его возраста, — должны все-таки приниматься в расчет
интенсивность и продолжительность его шахматной карьеры. Поэтому,
например, 5-летний стаж Флора, занимающегося только
шахматами, принявшего участие за этот срок в более чем 15 серьезных
турнирах, сыгравшего ряд ответственных матчей и бесчисленное
количество сеансов, - должен быть в смысле опытности признан
равноценным 12-летнему стажу Эйве, принимающему участие в серьезных
состязаниях лишь в периоды досуга от своей учительской
деятельности. Для иллюстрации этого положения приведу один, думается,
исключительно яркий пример.
Лет 15 тому назад, тотчас же по окончании войны, был вывезен
родителями из какого-то польского местечка и начал гастролировать
в крупных европейских центрах 9-летний мальчик, вызвавший
повсеместно небывалую сенсацию. Мальчик этот (его имя Самуил Ре-
шевский) был на самом деле подлинным шахматным вундеркиндом;
поражала не только сила его игры (которую можно было без
преувеличения определить в среднюю международную первую категорию),
но, быть может, главным образом скорость и острота его мышления.
В несколько месяцев «Сэмми» приобрел репутацию одного из
лучших игроков одновременных партий, и, повезенный затем в
Соединенные] Штаты, в течение двух лет гастролировал там с громадным
художественным и материальным успехом. Затем Решевский вдруг
исчез; перестал играть, о нем перестали писать. Было лишь известно,
что его отдали в школу, что «вундеркиндовская» эпопея его
кончилась. Это мудрое (и такое редкое!) решение родителей prodige'a9
можно было только приветствовать; но шахматистов все же не покидало
482
Парижский автограф
любопытство - есть ли еще будущее у Самуила, вернется ли он опять
к игре?
И вот после многих лет, на прошлогоднем конгрессе в Пасадене,
мне пришлось впервые встретиться с Решевским как с одним из
своих турнирных противников. Скажу прежде о «человеческом»
впечатлении от общения с ним - оно было самое благоприятное. Ни тени
заносчивости, какую можно было бы ожидать от вундеркинда, хотя
бы и бывшего; спокойное достоинство и шахматная «скрытность» -
кстати сказать, вполне типичные для представителей молодого
поколения мастеров. И вместе с тем - самое безотрадное впечатление о
Решевском-шахматисте! Не то чтобы этот студент-химик чикагского
университета, не профессионал, играл более плохо; нет, он даже взял
в турнире приличный приз и по силе не отличался от средних
американских мастеров. Но от стиля его веет такой непроходимой скукой,
отсутствием полета и - если бы дело не шло о таком изначала
одаренном индивидууме — я бы сказал, даже бездарностью, — что все прочие
участники состязания прямо не хотели верить своим глазам...
А как б ы н и парадоксально показалось это явление, оно могло быть
на самом деле объяснено достаточно просто: Решевский, проведший
всё свое детство за профессиональными шахматами, в 24 года
оказался шахматным стариком, устарелым, desabuse10 и неспособным к
творческой мысли. Молодость шахматная и молодость жизненная -
две вещи вполне различные; об этом слишком часто забывают пресса
и руководимое ею общественное мнение.
III. Перспективы
Выводы? Они немногочисленны и напрашиваются сами собой. 1)
Нет никаких оснований утверждать, как это делают некоторые, - что
теперешняя молодежь сильнее нашего поколения; спортивные и
качественные достижения ее скорее доказывают обратное. Des jeunes
geants Флор и Кэжден? Бросьте, милейший Савелий Григорьевич!
1. От нем. Kulturtrager - носитель культуры.
2. Сленг (англ.) - особые слова или новые значения уже существующих слов.
3. Приобрести они могут всё, а терять им нечего (φρ.).
4. И меется в виду осторожная тактика генерала Куропаткина,
командовавшего русскими войсками во время войны с Японией (1904-1905).
5. Score (англ.) - счет, результат.
6. Два молодых гиганта (φρ.).
7. Младшие боги (лат.), то есть второстепенные таланты.
8. Те, кому двадцать и меньше (φρ.).
9. Вундеркинд (φρ.).
10. Разочарованный (φρ.).
Статьи А.Алехина (1931-1935)
483
Если они — jeunes geants, то мы-то с вами, имеющие против них в
индивидуальных встречах определенно лучшие результаты, — сверх-
geant'bi что ли? 2) Вместе с тем с удовлетворением можно
констатировать, что последние 3—4 года выявился ряд совсем молодых
талантов, еще далеко не сказавших своего последнего слова; в
возможности их-то дальнейшего развития — наша обоснованная надежда на
будущее. 3) Наконец, на последний вопрос, был ли бы более
интересен мой матч за первенство с кем-либо из нового поколения (тем
же Кэжденом или Флором), нежели чем с Боголюбовым, — отвечу
определенно: с точки зрения газетной шумихи — несомненно, с
точки зрения шахматного искусства — ни в коем случае!
«Последние новости», 1 и 30 декабря 1933
Александр Алехин
ПЕРСПЕКТИВЫ МОСКОВСКОГО ТУРНИРА
Начавшийся в Москве международный турнир обещает быть одним
из крупнейших — если не самым крупным - шахматных событий
этого года. Причин тому несколько. Прежде всего, сравнительно
незначительное количество международных состязаний, устраиваемых за
последние годы вследствие кризиса. Затем - отсутствие в
большинстве из них, в силу тех или иных причин, некоторых наиболее видных
мастеров. Наконец - и это, пожалуй, главное, - участие в
московском турнире значительной группы молодых советских мастеров,
еще ни разу не игравших в настоящем международном турнире.
Пятый за последние 40 лет международный турнир на русской
территории (предыдущие - Петербург 1895, 1909 и 1914, Москва
1925) является, по существу, третьей попыткой одного и того же
рода: противопоставить сильнейших русских игроков
приблизительно равному количеству признанных иностранных мастеров.
Так было лишь в 1909 и 1925 годах, в то время как четверной турнир
1895 года(Ласкер, Пильсбери, Стейниц, Чигорин) и так называемый
«Grossmeisterturnier» 1914 года преследовали иную идею: по
возможности выделить русского кандидата на мировое первенство.
Как известно, идея эта в обоих случаях не увенчалась успехом,
правда, по различным причинам. Несомненно сильнейший русский
игрок последней четверти прошлого века М.И.Чигорин, несмотря
на свое крупное самобытное дарование, никогда не мог считаться
полноценным конкурентом ни Стейницу, ни тем паче Ласкеру (чему
доказательством может служить объективный анализ его матчей с тем
же Стейницем, Гунсбергом и с Таррашем). А.К.Рубинштейн, на
которого русские шахматные круги возлагали главные надежды в 1914
году, действительно мог бы оказаться опасным Ласкеру, но... как это
484
Парижский автограф
ни странно, несколькими годами раньше, примерно между 1909-м и
1912-м. Разумеется, того, что с ним приключится в сравнительно
молодые годы какой-то лишь одному ему ведомый перелом, предвидеть
тогда никто не мог; но вышло так, что «Grossmeisterturnier» 1914 года,
где он должен был играть одну из главных ролей, на деле оказался для
него первым этапом на той нисходящей кривой, которая медленно,
но верно свела его на нет.
По отношению к турнирам 1909 и 1925 годов приходится отметить,
что оба они лишь отчасти осуществили чаяния русской шахматной
общественности в спортивном отношении (в смысле качественной
продукции оба себя прекрасно оправдали), - в особенности первый.
Прежде всего, вопреки сперва намеченной программе, число
иностранных мастеров значительно превосходило число русских (13 к
7-ми); к тому же один из русских участников - Ненароков - в
самом начале вышел из турнира. Из остальных же великолепно
сыграл Рубинштейн (дележ 1-11 призов с Ласкером) и очень хорошо
О.С.Бернштейн (V приз); но успех их никак нельзя было считать
неожиданным, он был предопределен их деятельностью за годы,
непосредственно предшествовавшие петербургскому турниру (хотя бы
дележом I приза в большом остендском турнире 1907 года).
Достижения же других русских участников оставляли желать много лучшего,
и, как показало дальнейшее, никому из них не удалось занять
выдающегося положения на международной шахматной арене.
Был л и спортивный результат московского турнира 1925 года
разочарованием для его устроителей? Формально, казалось, не должен
был бы быть: ведь победителем вышел тогдашний чемпион СССР
Боголюбов. По существу же, торжество нынешнего немецкого
чемпиона - бывшего и до московского турнира, и после него, в
сущности, вне русского шахматного движения, - явилось л ишь его личным
крупным достижением и никоим образом не могло служить
показателем развития русского шахматного искусства вообще и
пореволюционного в частности. Так же мало показателен был почетный сам
по себе результат П.А.Романовского (дележ VII приза с Рети). Ведь
как-никак Романовский (теперь уже «заслуженный мастер» СССР)
принадлежит к поколению довоенному. А из совсем новых величин
участвовал, кажется, лишь Готгильф (вскоре после этого совершенно
исчезнувший с горизонта), очутившийся чуть ли не на последнем
месте... Нужно, однако, оговориться, что и рассчитывать в ту пору
руководителям советского шахматного движения на многое было нельзя;
слишком оно было молодо, слишком недостаточно были оформлены
те основы, на которых ему суждено было развернуться и
превратиться в мощный культурно-воспитательный фактор не только
национального, но отчасти уже и международного значения.
Статьи А.Алехина (1931- 1935)
485
«Догоним и перегоним»... Следует объективно признать, что в
шахматной области клич этот не оказался пустым звуком:
достигнуто - и за сравнительно короткий срок - то и другое. В одном
отношении «догнали», в другом — даже «перегнали». Догнали тем, что
выделили одного-двух первоклассных мастеров (Ботвинник и,
вероятно, Рюмин), имеющих полное основание рассчитывать с честью
представить свою страну в любом международном состязании; тем
еще, что наряду с этими выдающимися игроками имеется в запасе
целая плеяда молодых мастеров, с успехом конкурирующих с такими
опытными шахматными художниками, как Романовский, Левенфиш
и И.Рабинович, уж, конечно, являющимися полноправными
представителями среднего международного класса. Доказательство — хотя
бы VTI приз Рабиновича в баден-баденском турнире 1925 года.
Перегнали же - со средней силой массового шахматиста,
наглядно и неоднократно подтвержденной за последние годы во встречах с
иноземными гостями.
Некоторым эти выводы могут, пожалуй, показаться
преувеличенными; думается, однако, что это не так. Они основаны
исключительно на фактических данных, а данные эти таковы.
I. Силы лучших советских мастеров
а) Матч Ботвинник — Флор (декабрь 1933)
Как ни оценивать самый характер этого состязания (я являюсь
решительным противником так называемых «матчей», состоящих из
определенного, сравнительно небольшого количества партий,
считая, что они не могут служить мерилом относительной силы
соперников), как ни учитывать и тот факт, что Флор впервые играл в
совершенно незнакомой ему обстановке и что ему, по его словам, в СССР
жилось «слишком хорошо», — все же неоспоримо одно: Ботвинник
показал себя вполне достойным ему противником.
б) Ленинградский турнир с участием Эйве и Кмоха (август 1934)
Эйве в этом турнире играл, несомненно, ниже своей силы, что
явствует хотя бы из его результатов и до, и после Петербурга (Цюрих,
Гастингс). Показательным является поэтому не столько его неуспех,
сколько качество игранных против него партий; партии эти с
наглядностью доказывают, что молодые советские мастера обладают и
незаурядной фантазией, и значительной долей настоящего шахматного
темперамента. Недостатками их пока являются - судя по
сравнительно немногим партиям, с которыми довелось ознакомиться, — еще
несовершенная техника и, в частности (хотя бы, например, у Чеховера,
Лисицына), некоторое злоупотребление разными фланговыми
атаками в ущерб идее борьбы за центральные поля. Но в общем — много
интересного, много ценного.
486
Парижский автограф
в) Гастроли Кмоха в СССР
Еще более веским доводом в пользу выдвинутых положений могуг
служить многомесячные гастроли Г. Кмоха в конце 1934 года. В самом
деле, Кмох — международный мастер с солидным удельным весом;
оправдания временно плохой формы, как у Эйве, у него не было да и
быть не могло, хотя бы потому, что недомогание, всегда возможное в
течение 7—10 дней, нельзя серьезно принять как извинение
неудачной игры в течение 4—5 месяцев. И вот Кмох не только не сделал 50
процентов в Петербурге, не только посредственно сыграл в двух
других турнирах, но и проиграл матч Мазелю, отнюдь не считающемуся
лучшим из подающих надежды советских мастеров. Этого
случайностью не объяснишь.
II. Силы массового шахматиста
Уже довольно средние успехи такого виртуоза, как Капабланка, в
русских сеансах 1925 года заставляли предполагать, что массовый
уровень советских шахматистов идет на повышение, - но именно
только предполагать: ведь Капабланка вообще неудачно играл в
Москве, и можно было думать, что он находится в очень плохой форме.
Решительным же подтверждением исключительной силы советских
любителей - по крайней мере, в Москве и Петербурге - явились
сеансы Флора, по справедливости считающегося одним из лучших
специалистов этого рода игры. В Петербурге (декабрь 1933 года),
например, Флор после 9-часовой игры достиг в 50 одновременных партиях
всего около 40 процентов, причем относился, по его личным
заверениям мне, к этому сеансу серьезно.
Если сравнить этот результат с результатами в одном из самых
сильнейших шахматных городов мира - Нью-Йорке - Капабланки
(1931: +28=16-6) и моими (1932: +30=14-6) против 50
консультационных досок (по четыре игрока за каждой доской), то становится
очевидным, что играть одновременно против 50 игроков в советских
столицах никому не под силу. Да и с тридцатью противниками
совладать, по-видимому, нелегко — по крайней мере, недавний результат
литовского чемпиона Микенаса был в достаточной степени
плачевен. Правда, Микенас - не Флор, но и от тридцати одновременных
партий до пятидесяти - дистанция огромного размера.
Возвращаясь к настоящему московскому турниру, надо признать,
что недавнее гастингское состязание, явившееся как бы его
прологом, поневоле в известной степени предопределяет его спортивный
прогноз. В самом деле, трое из четверых игравших в Гастингсе
первоклассных иностранных мастеров будут состязаться и в Москве, и
каждый из них, в большей или меньшей степени, имеет шансы на
первый приз. Первым кандидатом, на мой взгляд, является Флор, чьи
Статьи А.Алехина (1931-1935)
487
стальная техника, выдержка и уверенность поистине
исключительны. Почти в равных шансах с ним, вероятно, Капабланка, - который,
несомненно, приложит все усилия, чтобы загладить свою, думается,
случайную гастингскую неудачу. Весь вопрос в том, хватит ли у него
силы характера, чтобы избавиться от всё чаще и чаще встречающихся
в его партиях тактических промахов. Несомненные шансы и у Ли-
лиенталя; когда он в форме, он проигрывает весьма редко
(примеры — Будапешт и Барселона 1934) и к тому же обладает достаточным
темпераментом, чтобы быть опасным любому противнику (партия с
Капабланкой в Гастингсе).
Не думается, чтобы кто-либо из остальных иностранных
участников смог бы рассчитывать на победу, так как Ласкер, хотя,
возможно, и преподнесет в течение турнира не одну неожиданность, к
концу его, вероятно, сдаст ввиду утомления; Штальберг и Пирц, хотя и
сделавшие огромные успехи за последние годы, все же еще
недостаточно самоопределились, чтобы рассчитывать на первый приз в
таком серьезнейшем состязании; г-жа Менчик, чье участие, вероятно,
будет содействовать дальнейшему развитию женского шахматного
движения в СССР, сама, конечно, не мечтает сыграть крупную роль в
распределении призов; наконец, Шпильман, сравнение тактических
агрессивных методов которого с методами советских мастеров может
представить известный интерес, - для «крокодилов» московского
турнира уже не опасен. Призер? - Весьма возможно. Первый
призер?- Никогда.
Из советских мастеров некоторые шансы на первый приз
имеет, думается, только Ботвинник. На хорошие же призы - почти все
другие русские участники, в первую очередь — Рюмин. Ближайшие
недели покажут, насколько эти предположения близки к истине и
насколько СССР, уже теперь являющийся первой страной
массового шахматиста, близок к тому, чтобы стать первым и в смысле
качественного и спортивного шахматного творчества своих лучших
представителей.
Балеарские острова
«Последние новости», 22февраля 1935
Александр Алехин
МАКСЭЙВЕ
(К моему предстоящему матчу с ним)
Об Эйве мне пришлось услышать впервые вскоре после моего
отъезда из советской России в 1921 году. Незадолго до этого, в конце 1920
года, в Гётеборге был устроен первый большой послевоенный
шахматный конгресс с двумя даже турнирами мастеров - турнирами «А»
488
Парижский автограф
и «В». Турнир «А» несколько неожиданно выиграл Рети, в турнире
«В» вторым (после швейцарца Ионера) оказался бывший
«вундеркинд» Эйве. Было ему в это время 18-19 лет, и для послевоенной
эпохи, столь бедной молодыми шахматными талантами, он являлся
действительно чем-то вроде исключения.
Первая шахматная пятилетка после 1918 года была периодом
расцвета и успехов «цветов запоздалых», вроде Рети и Боголюбова,
периодом успехов «des plus de trente ans»1. Ставки на совсем юных не было,
в них не верили, на них не надеялись. И тому же Эйве, несмотря на
его тогда уже всё возраставшую популярность в Голландии, сперва
не удалось избежать общей участи. В его игре, в его молодых успехах
было несомненно «что-то», но это «что-то» все же было пока не то.
В Будапеште в 1921 году, где я впервые с ним встретился, он
выиграл эффектную партию у Боголюбова, но занял лишь 6-е место.
Дальше пошло еще хуже: Гаага (1921) - 9-е место из десяти, Пьеш-
тяни (1922) — без приза, Лондон (1922) — одно из последних мест.
После этого периода неуспехов в психологии Эйве как шахматиста-
практика произошел первый — едва ли не самый важный перелом.
Он если не явственно осознал, то инстинктивно почувствовал, что
сущность его дарования лежит не в нем, а вне его. Иными словами,
что ему, в противоположность Ласкеру, Капабланке, Нимцовичу и
другим, нельзя и нельзя будет впредь учиться у себя, а понадобится
питаться чужими мыслями, чужим опытом, плодами чужих талантов.
Быть может, это осознание произошло под давлением более близкого
знакомства Эйве с покойным Рети; быть может, он дошел бы до этого
самоограничения и собственным умом.
Как бы то ни было, с 1922—23 годов Эйве становится слепым
поклонником так называемого гипермодернизма со всеми его
причудами, вывертами и излишествами.
Однако, к счастью для него, отрицательные черты
гипермодернистских теорий (главная из них - предвзятость) стали всем хотя бы более
или менее посвященным настолько очевидными, что даже ему, всё еще
находившемуся под личным обаянием Рети, пришлось понемногу от
них отступиться. Главную же положительную черту - строго плановую
организацию шахматной борьбы - он сумел в себе претворить, и это
обстоятельство ему в дальнейшем значительно помогло.
В 1924-26 годах Эйве одерживает ряд побед в небольших
английских турнирах - побед в международном смысле довольно мало
показательных самих по себе, но понемногу утверждающих в нем ту
завидную самоуверенность, которая не покидает его до сих пор. В
конце 1925 года во время моего пребывания в Голландии он
предлагает мне сыграть с ним в следующем году серию из десяти партий
(о слове «матч» в то время не было и речи) - и это состязание в силу
Статьи А.Алехина (1931-1935)
489
обстоятельств оказалось новым поворотным пунктом в его карьере.
Случилось это потому, что, во-первых, за этот год окончательно
выяснилась возможность моего матча с Капабланкой - следовательно,
для Эйве дело пошло уже не о единоборстве с рядовым, хотя бы и
первоклассным мастером, но с Weltmeisterschafts-кандидатом2; и
шахматная пресса, в особенности голландская, соответственно
раздула значение этого состязания. Во-вторых же - и это, конечно,
самое главное, - спортивные и качественные результаты наших десяти
партий оказались далеко не убедительными: я выиграл три и
проиграл две при пяти ничьих. Причин моего неуспеха было несколько,
но главной была, несомненно, легкомысленная, необоснованная
недооценка противника.
С этого момента зародилась «королевская идея» у самого Эйве и
его поклонников-соотечественников. Интересно проследить
эволюцию этой идеи. Первым обстоятельством, облегчившим ее
возникновение, было то, что председателем незадолго до того народившейся
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) был избран (и до
сих пор остается) голландец д-р Рюэб, вторым - что и Рюэб, и его
ближайшие сотрудники (в том числе недоброй памяти бывший и
безвозвратно исчезнувший с шахматной арены генеральный секретарь
Французской шахматной федерации P.Vincent3) пытались проводить
внутренне губительную для нашего искусства и внешне
неосуществимую идею подразделения шахматистов на «любителей» и
«профессионалов». А так как лучшим «игроком-любителем» стать
несравненно легче, чем лучшим игроком вообще, то на эту цель сперва и
направились усилия Эйве и его поклонников.
Первый шаг в этом направлении принял даже несколько
неожиданные формы. Несмотря на то, что за год перед тем одним из
наиболее видных членов Британской шахматной федерации Honorable
Hamilton-Russel4 был учрежден переходной кубок для командных
турниров наций, без абсурдного деления на профессионалов и
любителей, - Международная федерация во время Гаагской олимпиады 1928
года решила устроить свой особенный, «любительский» конгресс,
состоявший из двух турниров - командного и индивидуального.
Идея этого конгресса была в том, чтобы Эйве выиграл
индивидуальный турнир и был бы наречен Amateur Weltmeister'oM5. Но
скоро, слишком скоро ФИДЕ пришлось убедиться, что «звание» это в
глазах шахматного мира является пустым звуком. Пришлось
попытаться выдумать другую комбинацию: почему бы не навязать идею
чемпионата ФИДЕ?
Вот возникновение идеи матча (или, вернее, матчей) Боголюбов
Эйве. Но на этот раз идея не имела даже и чисто формального
успеха: Эйве был побежден в обоих маленьких матчах, правда, с очень
490
Парижский автограф
небольшой разницей в очках. Получилось парадоксально-комичное
положение: «закоренелый профессионал» Боголюбов удостоился
диплома чинно-любительской ФИДЕ! Звание это, кстати говоря,
интересовало его так же, как прошлогодний снег, и он ни при каких
обстоятельствах им не пользовался.
Но честолюбие Эйве, несмотря на то, что качество игры его за
период 1926-30 годов несомненно улучшилось, и на то, что он за этот
период уже начал иметь довольно значительный успех в
международных журналах, всё еще оставалось неудовлетворенным. Ставка на
«аматёрство»6 не удалась. Нужно придумать что-нибудь другое. И на
этот раз является действительно смелая мысль нового спортивного
прыжка. В Европе в это время (1930) гостит бывший чемпион мира
Капабланка. Он как будто не в форме... и вот новый «матч» в
Голландии на тех же условиях, как со мной в 1926 году. Новый матч - и
новое поражение, немного худшее, чем предыдущее (два проигрыша
и восемь ничьих, без выигрыша).
Не думаю, что если бы шахматно-спортивная карьера Эйве
ограничивалась этими достижениями, то ему удалось бы заинтересовать
своих соотечественников устройством матча со мной на мировое
первенство. Но несомненно, что за последние четыре года кривая
успехов его поднялась: 1-й приз в Гастингсе (1931), впереди Капа-
бланки, выигрыш матча у Шпильмана, дележ 2-го приза с Флором в
Берне (1932) и Цюрихе (1934), наконец, матч вничью с тем же
Флором — окончательно закрепили за ним звание гроссмейстера. Нет
сомнения, что, по убеждению «экспертов» и большинства широкой
публики, Эйве является одним из пяти или шести лучших игроков
современности. Следовательно, его матч со мной вполне up to date7.
Что же касается его шансов - шахматных и психологических - на
победу в матче, то об этом поговорим отдельно.
Июль 1935
Вызов Эйве, сделанный в ноябре 1933 года, явился для меня
некоторой неожиданностью в силу двух причин. Во-первых, незадолго
до этого сам он, через посредство голландской прессы, заявил, что по
меньшей мере на два года решил отказаться от практической
шахматной деятельности; во-вторых, я уже был связан контрактом на матч с
Боголюбовым в 1934 году. Следовательно, дело могло идти только о
вызове условном, на тот случай, если я сохраню свой титул после
матча с Боголюбовым. Такая постановка вопроса, быть может, и лестная
для меня в смысле оценки моих шансов, была во всяком случае не
очень любезна по отношению к «немецкому» чемпиону, и эту
шероховатость мне пришлось постараться сгладить в последовавших
переговорах о возможности матча с Эйве.
Статьи Алехина (1931- 1935)
491
Самый же вызов я, конечно, принципиально принял, и
технические условия матча были легко установлены на тех же началах, что
в моих встречах с Боголюбовым, то есть - матч на большинство из
30 партий, причем победитель (то есть набравший 15,5 очка) должен
иметь по меньшей мере шесть выигранных партий. Начало матча
было назначено на осень этого года.
Со времени принятия его вызова, и в особенности с момента
окончания моего матча с Боголюбовым, Эйве проявил поистине
лихорадочную деятельность с переменным, скажем, успехом: дележ
И —III призов в Цюрихе и I-III в Гастингсе и наряду с этим полный
провал во время гастролей в СССР и проигрыш «негласного» (без
присутствия публики) тренировочного матча Шпильману.
Помимо этих серьезных состязаний он почти непрерывно участвовал в
местных, клубных турнирах; выписал себе в качестве тренировщика
известного теоретика Кмоха; в сентябре будет «упражняться» не
более не менее как с Флором и т.д., и т.д. Словом, он делает и будет
делать до конца всё, чтобы привести себя в возможно лучшую
шахматную форму.
Каковы же перспективы исхода нашего матча, имея в виду это
наличие максимальной технической подготовки моего противника?
Категорически на этот вопрос ответить, конечно, нельзя: иначе
не имело бы смысла устройство и самого матча. Но некоторые
предположения сделать все же можно. Первым, довольно существенным
моментом является то, буду ли и я к моменту начала состязания
находиться на том же технически-шахматном максимальном уровне,
как мой противник? Другими словами: будет ли и у меня в той же
степени разработана программа дебютов, более или менее
неожиданных и приготовленных специально для данного матча, чередование
их и применение в соответствии со стилем и знаниями противника.
На этот вопрос я отвечаю определенно отрицательно: не то чтобы я
не признавал известного значения за дебютными и «вариантными»
познаниями, но решающим фактором в длинном и ответственном
состязании я, на основании опыта, считать их не могу. В самом деле, в
трех матчах на мировое первенство, игранных мной до сих пор,
противники (Капабланка и дважды Боголюбов) превосходили меня как
точным знанием избранных ими начал, так и в отношении задолго
до состязания продуманной системы поочередного их применения.
Результаты оказались все же не в их пользу.
Второй момент, более, на мой взгляд, важный — момент
психологический, и на нем небезынтересно остановиться. На душевное
состояние противников во время столь длительного состязания
накладывают отпечаток два фактора: 1) окружающая обстановка
(реакция массового зрителя и так называемых «знатоков», отношение
492
Парижский автограф
местной и международной печати и т.д.) и 2) влияние личности
противника.
В вопросе общепсихологическом все козыри у Эйве налицо: I)
всякий кандидат, имеющий какие-либо ощутимые шансы на титул,
пользуется спортивным сочувствием значительной части
«общественности» и абсолютной симпатией печати, по существу своему
всегда чающей чего-то переменного, нового; 2) Эйве- герой
маленькой страны, никогда не имевшей (если не ошибаюсь) вообще
чемпионов, а тем более мировых.
Этих двух предпосылок вполне достаточно, чтобы Эйве в глазах
печати был - выиграет ли он, проиграет ли — «героем» нашего матча,
Теперь несколько слов о втором психологическом факторе - о
влиянии личности противника. Здесь, мне думается, у меня
определенное преимущество. Я не верю в Эйве, будущего чемпиона мира. Я
не думаю, чтобы даже после случайного выигрыша у меня он был бы
признан по существу лучшим игроком мира.
Если наше состязание завершится его победой, то это только
докажет, что в данный момент я оказался не на вершине моего творчества.
Тем хуже для меня.
Эйве же, если он станет формальным чемпионом мира, ждет
весьма нелегкая задача, подобная той, которую мне пришлось разрешить
после выигрыша матча у Капабланки: доказать, что в данный отрезок
времени он, Эйве, действительно лучший.
Отнюдь (et pour cause8) не желая ему выиграть матч, надеюсь -
если это ему удастся, — что он и по существу покажет себя настоящим
чемпионом мира.
«Последние новости», 2 и 11 августа 1935
1. Тех, кому за тридцать (фр.)·
2. Кандидатом на мировое первенство (нем.).
3. Поль Венсан.
4. Достопочтенный Гамильтон-Рассел (англ.).
5. Чемпионом мира среди любителей (нем.).
6. Любительство (от фр. amateur - любитель).
7. Своевременен (англ.).
8. И не без причины (фр.)-
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
493
ι ллш1 Д. й. №...
\лж% с%ашъ.
ΪΊΛΛ* Π,ΟΙ
JtHUH
гкидълызатьсв ι
Де1ж» щн*л< ι
и м. тетерь iwi
я tiip*ei«.« i*'
СаомаГ» 0Ο.Ίυ*«Ι
летмстаяа-смол.:.
саам noc.i t
i. i. limn въ irt.
t tie* 17», Hi umui Ooepa им л-, Адеми* r» Парад» .—
лааимч. аотоюгъ iivrti итиУн.и kin nananaeroevl &» eat* thuirvi,
>«nui*m С(пиыш1 tptcsMl 9*о4к.{|л <P«i«al> fitae-p»**» а» мшп»^
Mi „e uv.c» Α«Ρ«£Ϊ»«βλ» еяерд» еиуо аедкеду. Р».
ко мы ι лпн щхп/шисмпьчк U.1IM11K·
стог». Tapittnacp.., LUaapibu
ду руссмам pW laitk н 3«ι г
сшй. н Кань, и Нлпгр» Hi террас* «г
MNOK.4IC.r- - ОПХМДТ·
миР aopc.i» Л. Л. A.icxmbv Тилали что
верчу лее an. Висбаден, 5n.iv герм»
поднять роль шахмапшю
Фильм» будет» »«увовса». Ιικ»
иихмимсть it poMtii* Dai»·.
MHucipaacuk, ммЬ uyiei» ti
языком*, "οίϋ *t я ;ш
аэрон,ι« β» Куду -irrt.Tk мч
желос* r» Cuii-i'piHUiicKu .
ловило* ti с ι причем* βο ι
тя булц и; paii. no cuAio с*
мерами, m аптпрм»» «дет» fl/i
Лога-А иже.-or», ι чкта — >»
♦раавини
Я пвсатнд» такая малаюиЫч
на Содемом» Озера "Глм* IQ
тон» жителей — мэрмоаы.
мормоясмлх» храмах», веса* obi
90-л*тмак|м старуха·'
лили то ярема, хэш ксрмсидм»
аяеесч» авваЖМааММ
Бол win о.- wuiiTiiH
меяи Максти. >> гиб
первые И
дявсаиА аоЛпм. Нл.-ц*
мало Itm
Η» notxi.
с* редольверма. грач
покоряй DpcVttKiajUUtl
пошлея . , uiHifcjef,^ jj^jon
mom·» город** Закалите*. ЛааадЧ at pacaya 6u
амадьяы! враам· o*ot» fa* <Pn«*al» Πιι»»Ρ«4*»
питаемая* {tpyagca вмеяа Π, U. Потемаяяа intpaj>r
яо гогомгоя чествовать вахта нмиет
fwo* λ г*«гь вямваша-» тарасепя npcai тт.
ао Бульварам», водао! ср?л»е динтга лаа.
}«гмым» п»риже»»ил воигаоа». trtpterta
>rjo«*>Tv.»i i ратае-аватье a n етмвттоД
хоскг я хот» iik-(.)jhv) дма в
ет.>, ат, гаоа yicaciicreie.
„♦то я* тага депо.
ν arnwuie-rw, Радспраатяга,
>, тормолат», Праидят» цулья.ашяд
была
ti, а, Давний» (алЬеа) ■ сотру**·™» «Сага.
уСядие*» сдЪдад» поел» «pitta» λ. А. вт>|
.Я.11 П 1.1. ЛИШЬ
eoocemt 4tcnuBi»fe .A. A-
'jfTiaatajm · p»ci«wa кмо-
^tn noteuiT** it «■>«» ii«.
ct-eiltuikwu i<p*tcr
k A»xajn, KiwJk«ii> »i» ■ t
|ia.a nvik rpiKTvOiw».
■и latt-U A A. V.Ttoini. a
Tiiwtt^Ck t\ из c»npyroa
O) MIU»V, ι »fOC<J\ вГМ(Лк
Ια. а. ллехйнъ о своихъ турнирах^
ЛРЕДСТЩ1И М1Р0В0Й ЧЕМПЮНАТЪ.
aoaieaao -счям· араама,
тормм» маацу х»рвм>ямя ι
Itn нсмаИая!
η а«-ж LUiau-M Boitpal
л» <мп ваш яаАиао. Kal
Явит чагувл» Я е* ява|
;cav Гослаяаес из»
Яя *п ятр1
гиа|
шпапи,
Irnie, I at caoprv at
Вам
о typanai <\ krtft-
l«f Jb, a until ntHHorri
V. Manro atrv готаяаяса, е»
km уяиаяъ *-o arepaut a»
L г?/*» еиаг еая aptaoti-
[pa «t^k Ifn аатМь жвявя»'
i.n MitjVTk МвввТЬваШу, тс
Ly: a «yvcitoaiTv --- «to»
ceatsajy are то - atyauayieu
Irt, aro f мая* аави яияаят,
— aatoif turatik ;eecVia
fa, — «то то at pail
I Перелету -eper\ o-te» at I
шо zeiy ι
да.» кгру по «βτοΐΗ; ι
tatr» дляка ДО того, ι
рулено palMoeidt, n
ua iralk гадгото|левае ι
alia. Вторая чает» — ι
iimjbmo тот*»,Три л«м* с
няретмя tiJi»r''a-.i
, ямсио та&яЬима рО«
— Да. да,
ее eifarra η яаггувааЬГОя]
ie4 oeoarpauot пяртая
y'.%jtJU.Tt
.'«j^tacaii J
ЯЯрЛ^Ьа^ввтЯ^
Пря
aataae см> ь мвеоп
Дестатоаяо г·*4
ВТОШИКЪ Itwv
(ИНТЕРВЬЮ СОТРУ J НИКЛ .1ЮВ0Л ЗАРИ·),
Сапрудяяал «Ноюя iapa* nortnu*
euro шиаитагта А. А. Адияаа ι\ «мтаахть «го ал.
треп две* ел СяаТкФряяажая я яагыъ г%
оесялу яя тему о паигтоеяяягь. «го ш1««1тммТ
я at» смая е% рямап> аояросоаъ, яитгртпт
Га тетчтЛй I
CUTpyiNMkk — >
ОЛеам!»
oeiyainerk мвдяого аяам*
И rfMUQ
■
(огрудяяа А А А.шлм
- Я у»ыл мрраяацу »ιν
«тсао! Poccia ·» 1931 году
eVcia tn> иомеята алии
а яро-
> опою трсхг. *%т» а дол
п. скмата. «то κκι вряш-
\ веста тип. αχ еушктео
к цаио аи|* Теперь аяом
у a pa > «гацуеаридаы* «»'
"Juoiiark. .
Сыча» о*п меяа яс т^о
Я вил виструяторовгк
1ТЯ0· агрм, uaaauta ос
. JUlkUi IU
' я арутяаа сдуча1-|
Наяомсяа, а бктгяоета иоеэ|
Одесса я вип> tptfn*or»|
|боды
маг! обпасяя η яшюв*
•ъпоАау Адтаятм.
" виаодядся ιν под
состаиа'» Судет» л K«niflJl
га а> Аагряк! ВЪ буду ι
ММ аШП ВуД) UI
eaiarl av Awrr>«t
Я аелпере.'са.,'
^лдн ajajt)
яегтаоаъ вь Амг.чи
Мм ркмям ■ п
и.к Им· tof
Гуря» ао Аяераа
crort, CavWIyan·, MaJua
Чяжаго a aorv ukv ni#tt\
optlnia at. Саяа «>oeiui
- Kiavtv ддлягАшй на]
arpyra aaaiel aoi>u«M:
— Hit Саяъ ΟρβΒβί»ο|
aptinoiiruo ojvutv.
Atottioea, rii ao a«np*k-ri
Л Пр
ласты. IK-» otoc
paiwraaaa сосдадедя, р1ашталам1
rti. Ibiuosarv «отографы «MjfarHtti it>
9яп> удктеамаакяея lau. Груьм прияетатк
naami 1а:ема, телеграмма, аааятямаь uy
roearw, ос«драмеа11.
I — Мояжо **л*г\ Aieraant
' Рр>»ь ет. уанеема раяедадчгаавт» tone
гятеяг ι вага tyottoaeaaU tpecajrtt ал
«ам)ту Уоамамьск а «ду Кпп яуяю.
[дмтся воелл). Вг даерята neauatrta Аде-|
хиял, актам», удмбяаед'нея. On. RaMaatj
решим <С«тади> воираадяч его е% м-|
ЯдсЛ ШяаматяиЯ воры» благодаря-*. I
aptraa кяетг руту я увдяяает* вши я*]
to.uv
| — Вы о-в (СегозяяП СнаоаМ! Я е Ра.
iri вспоивнаю, ааа» о pal китч*.., ?τ·
|бидъ оераи* тарод». ватерч! я увядая».
1е*рммп<» яг» Мостам
I — Погоаврам* дуаеда о ГдУаяяагаДбр*.
:t. t ад'и tar» Marti,
— FiytnecvAPjeecit Страяам· гоаог»
Ktaia удмям. tyvaeaejvet дяаяяеме. Жлр*
омами м||яа.та яам* г» пкдАдята дяа
матча. Стаяла луаоте я ярее· ■
яасоя» у aniMtrrtJol Юеяя. ааетояаам ва
яряпа aiKMBMle Омло «чела ерудяо.
aariMi Ми
У А.АЛЕХИНА
тверда·*, КрН
ι въ себЧ.
ι
> гшей to арча]
mtBM ■ уи
'1*И
. ΟΤΛ ΤΙΚ·'
ι ве устаю,-iVi* ·· "ь шдиати
то а' в! ияхг гк
егагъ въ аагь ы
}Сч7ССТМ, .'
.npeiaUiam подобные проеггы рожд]
494
Парижский автограф
Евгений Зноско-Боровский
АЛЕХИН В ПАРИЖЕ
(Шахматный король рассказывает о своей победе)
После почти полугодового отсутствия вернулся в Париж А.А.Алехин.
Два месяца прошли со времени окончания его героической борьбы,
но он еще полон воспоминаниями о ней. Нервность? Никакой.
Усталость? Он ее не испытывал даже во время матча. Но чувствуется, что
произведена громадная умственная работа, которая еще долго будет
напоминать о себе.
Разговор поневоле то и дело возвращается к этим 34 партиям,
которые передали шахматную корону в русские руки, и поражаешься, с
какой отчетливостью видит и до сих пор помнит Алехин все
возможности, представлявшиеся в них. Без доски, на память, он приводит не
только сами партии, но комментирует любое положение, приводит
варианты, опровергает анализы других. С.Г.Тартаковер подает
реплики, завязывается специальный шахматный разговор. Какие сложные,
невероятно трудные партии! Сколько бились над ними лучшие
игроки мира, а всё еще не добрались до истины!
— Я собираюсь выпустить сборник партий матча, — говорит
Алехин, - и там постараюсь разобрать подробнейшим образом все
возможности.
Я не спрашиваю его, счастлив ли он, горд ли своей победой. Что
значит его довольство, когда со всего мира шлют ему приветствия,
когда он завален телеграммами, письмами? Больше всего их,
конечно, из России. Самые разные люди, совсем незнакомые,
приветствуют национального героя, дети и школьники посылают трогательные
приветствия.
Капабланка не сомневался в победе
Вся картина матча постепенно вырисовывается перед нами.
Первое время все были настолько уверены в победе Капабланки, что
устроители вперед утешали Алехина на случай поражения, заверяли,
что ему будет оказано самое сердечное внимание, независимо от
исхода состязания.
Такого же мнения был и чемпион мира. Он был так убежден в
своем торжестве, что неоднократно шутил, что не работает, что работать
приходится только Алехину. Даже проигрыш им первой партии не мог
поколебать его уверенности, и только после одиннадцатой он
призадумался. А когда у Алехина появилось лишнее очко, Капабланка
сразу пал духом, и все приходили к нему уверять его, что матч кончится
вничью, что надо теперь же условливаться о следующем матче, и в
каждой партии он предлагал ничью.
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
495
Симпатии окружающих были, по национальным соображениям,
на стороне Капабланки, и общая забота была только о том, чтобы их
представитель не проиграл. Даже президент республики Куба сделан
об этом ему телеграмму. Но Капабланка становился всё более и более
нервным и под конец с трудом мог владеть собой. Визиты его
учащались, он старался запугать Алехина, что матч никогда не кончится,
склонял согласиться на ничью, даже невзирая на свое
превосходство, и прибегал к маленьким хитростям: держал подолгу пальцы над
одной фигурой, а потом ходил совсем другой.
- И, между прочим, спал?
- Η икогда этого не было, и откуда пошел этот анекдот, непонятно.
Гуляя раз по комнате, покуда я думал, он присел на отдаленный стул,
но, лишь только я сделал свой ход, он немедленно подошел, и партия
продолжалась нормально.
Обстановка матча
Условия игры не оставляли желать лучшего. Игроки помещались в
отдельной комнате, отделенные от публики, которая через
стеклянные двери могла смотреть на них. Позднее ее удалили и оттуда, после
того как поднимаемый ею шум стал мешать игрокам, и Капабланка,
будучи в плохом положении, потребовал ее изгнания.
Как играл Капабланка
- Как ваше мнение: играл он хуже обычного? И чем объясняется,
что он не добился лучшего результата?
- Играл он нисколько не хуже, чем всегда. Возьмите лучший его
успех в нью-йоркском матч-турнире: там только три его партии могут
считаться образцовыми, во всех остальных он делал ошибки, и часто
очень серьезные. Но беда Капабланки в том, что он уверился в своей
непобедимости. Сперва он старался убедить в этом других, а потом
убедился и сам, и тогда его творчество остановилось.
В этом отношении нью-йоркский матч-турнир сыграл роковую роль.
Именно там ему нажужжали уши, что он «чемпион всех времен», а
так как он там выиграл у меня, то у него не было оснований особенно
опасаться предстоящего ему испытания. Все же, кажется, он
предчувствовал серьезность этого испытания, так как до последнего
момента старался избежать его.
Будет ли матч-реванш
- Вызвал он вас на матч-реванш?
- Официального вызова я еще не получал. Через десять дней
после конца матча он пришел ко мне и долго говорил о будущем матче,
стараясь склонить меня к изменению условий. Я, конечно, не отка-
496
Парижский автограф
ATLANTIDA
-
зывался от новой встречи с ним,
но принципиально считаю, что
матч-реванш должен играться на
тех же условиях, что и основной.
Кстати, я совершенно согласен с
критикой «Последних новостей»
проекта будущих состязаний за
мировой чемпионат,
выработанного Международной
шахматной федерацией.
Алехин уверен в себе
— Полагаете ли вы, что
результат нового матча может быть
иным?
— Я не хочу спорить в этом
случае с Капабланкой. Когда по
приезде моем в Буэнос-Айрес мы
говорили с ним о матче-реванше
между Дэмпси и Танни1, Капа-
бланка мне сказал, что не было
еще случая, чтобы побежденный
чемпион отвоевал свое звание в
реванше. Во всяком случае, ему
предстоит нелегкая задача
опровергнуть это правило.
Я же убежден, что я сам далеко еще не завершил своего развития, что в
новом матче буду играть еще лучше, чем в минувшем, а потому
совершенно уверен в своей победе. Я остаюсь на твердой почве наших условий:
я обязуюсь играть матч не позднее как через год с момента получения
официального вызова на матч. Капабланка возвращается в Нью-Йорк
в феврале. Значит, в марте я могу ждать его вызова.
— АЛаскер?
— От него я тоже еще не получил вызова, и Капабланке, конечно,
принадлежит первая очередь.
Планы Алехина
— Каковы ваши планы теперь?
— Теперь я буду в Париже работать над своими двумя книгами:
сборником партий матча, который я собираюсь выпустить на разных
языках, в том числе на русском, и сборником партий матч-турнира в
Нью-Йорке. В турнирах я не думаю сейчас принимать участия, хотя
был бы не прочь сразиться в большом состязании до будущего матча.
Александр Алехин - чемпион мира!
Страница из аргентинского журнала
«Mantida» (8.12.1927).
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
497
Осенью, возможно, состоится моя поездка в Америку, которую я
отложил сейчас, чтобы иметь возможность отдохнуть.
- А как расстались вы с Капабланкой?
- Самым дружеским образом. Все же я пожалел, что он не счел
нужным прийти на прощальный банкет, где меня провозгласили
чемпионом мира, и даже не явился в клуб сдать последнюю партию, а
ограничился только присылкой письма с обещанием о сдаче и
поздравлениями по случаю моей победы. Между тем я оказал ему
большую любезность: видя, как ему не хочется сдаваться в присутствии
огромной толпы, запрудившей даже окружающие улицы, я нарочно
растянул партию и сознательно уклонился в нескольких случаях от
явной и быстрой победы, которую видел, чтобы только дать ему
возможность отложить партию.
- И ваше общее впечатление?
- Я многому научился за время матча, знаю свои слабости, и мне
предстоит еще впереди долгий путь. Сейчас я счастлив и горд, и я рад,
что могу послужить на славу русского шахматного искусства.
«Последние новости», 28января 1928
Андрей Седых1
А.А.АЛЕХИН В ПАРИЖЕ
(От парижского корреспондента «Сегодня»)
Два часа дня. На площади Опера беспрерывным потоком льются
автомобили. Вспыхивает сигнальный красный огонь, раздается резкий
звонок и полисмен поднимает вверх белую палочку. Разом
автомобили останавливаются: мостовая очищается. Можно перейти на другую
сторону, не рискуя быть раздавленным. На другой стороне, на
бульваре Капуцинов - Гранд-отель, в котором всегда останавливается
С.Дягилев. На этот раз я иду не к Дягилеву, а к А.ААлехину, только вчера
приехавшему в Париж.
Алехин в Париже! Какое торжество в мире шахматистов! В кафе
«Режанс», в «Ротонде» Пале-Рояля, в шахматном кружке имени
П.П.Потемкина лихорадочно готовятся чествовать нового чемпиона
мира. А сам виновник торжества бродит по Бульварам, полной
грудью дышит любимым парижским воздухом, старается отдохнуть, не
притрагиваться к шахматной доске и хоть несколько дней пожить
просто в свое удовольствие2.
Это не так легко.
1. В сентябре 1926 года Джин Танни победил Джека Дэмпси и стал новым
чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
498
Парижский автограф
* * *
Приходят журналисты. Расспрашивают, тормошат. Приходят
друзья-шахматисты. Им надо показать, как была разыграна последняя,
решительная партия. Приходят фотографы. Фотографы любят
улыбающиеся лица. Грумы приносят пакеты писем, телеграмм, визитных
карточек, поздравлений.
- Можно видеть Алехина?
Грум с ужасом разглядывает посетителя и как сумасшедший
бросается к лифту. Усаживаюсь и жду. Ждать приходится недолго. В
дверях появляется Алехин, веселый, улыбающийся. От имени редакции
«Сегодня» поздравляю его с победой. Шахматный король благодарит,
крепко жмет руку и увлекает меня в холл.
- Вы от «Сегодня»? Спасибо! Я о Риге вспоминаю, как о рае
земном... Это был первый город, который я увидел, вырвавшись из
Москвы.
- Поговорим лучше о Буэнос-Айресе, о вашем матче.
- Буэнос-Айрес? Странный город. Узкие улицы, сумасшедшее
движение. Жара сильно мешала нам в последние дни матча. Стояла
духота, и просиживать пять часов у шахматной доски, постоянно
напрягая внимание, было очень трудно.
Матч длился два с половиной месяца. Внешние условия были
приятные, отношение аргентинцев корректное. Но внутренне я все
время ощущал какое-то скрытое недоброжелательство. Аргентинцы явно
желали успеха Капабланке, они чувствовали в нем брата по латинской
крови. Иногда в газетах прорывалась неприязнь ко мне. Это, конечно,
настраивало меня нервно.
Потом - об этом, между прочим, не писалось в газетах - у меня
болели зубы. Все время матча я через день ходил к врачу, и у меня
вырвали шесть зубов3. Иногда зубы рвали после игры, в 10—11 часов вечера.
Представляете, как я себя чувствовал?!
* * *
- Что думаете вы о Капабланке?
- Я знаю его вот уже пятнадцать лет; думаю, что я основательно
изучил его и имею право дать краткую характеристику этого
прекрасного шахматиста. Человек он способный, богато одаренный, но
неглубокий и легкомысленный. Потом, у него есть еше один недостаток:
самомнение. Капабланка - шахматист, но при этом он играет еще в
теннис, в бридж, на бильярде. И он серьезно думает, что и в бридже,
и в теннисе, и на бильярде — он непобедим. Всюду и во всем он хочет
оставаться чемпионом. Это, вероятно, и погубило его.
У Капабланки была абсолютная уверенность, что он победит, что он
не может не победить. Да и не у него одного. Вся Аргентина была уве-
Интервью с А.Алехиным (1927- 1940)
^99
рена в победе любимца. И когда по радио передали результаты
матча, — вся страна была буквально в трауре.
К предстоящему матчу Капабланка относился несерьезно, мало
работал и думал, что выиграет очень легко. Даже после проигрыша
первой партии он не поколебался в своей уверенности; первое
поражение он приписал рассеянности и, прощаясь со мной, сказал:
«Вы сегодня играли плохо»4. Постепенно он стал всё более и более
задумчивым, раздраженным. Прежде чем сделать ход, Капабланка
долго думал, часами расхаживал по комнате. После десятой партии
Подпись к снимку в газете «Сегодня» (Рига, 2.02.1928): «А.А.Алехин (слева) и
сотрудник "Сегодня "А. Седых (снимок сделан после приезда А.А. в Париж)».
500
Парижский автограф
он, видимо, не на шутку забеспокоился и стал присматриваться ко
мне, изучать меня. Капабланка еще пытался убедить всех, а меня в
особенности, что он выиграет, но было видно, что чемпион
окончательно потерял самообладание и катится по наклонной плоскости.
- Капабланка был уверен в победе. А вы?
- Я?.. Я был уверен лишь в том, что не проиграю ему необходимых
шести партий. Но даже если бы матч закончился вничью, он остался
бы чемпионом мира. Поэтому под конец Капабланка чуть ли не
каждый день предлагал мне отложить партию, объявить матч
безрезультатным. К счастью, он не соблазнил меня.
Алехин весело смеется.
- Наступил последний, решительный день. Для всех стало ясно,
что Капабланка проиграл. Настроение у всех было нервное,
напряженное. Огромная толпа буквально запрудила улицу, с минуты на
минуту ожидая результатов матча. Каждый ход передавался и
комментировался по радио. Чтобы избавить противника от поражения
при лишних свидетелях, я дотянул партию до восьмидесятого хода и
предложил Капабланке закончить ее через сутки. Капабланка
согласился, но, придя домой, написал письмо, что партию сдает и
признает меня чемпионом мира. Когда я вышел из клуба на улицу, толпа
устроила мне овацию...
После того Капабланку я видел всего один раз. Он пришел
говорить со мной о реванше; реванш, вероятно, состоится через год. Но
на банкет, на котором меня провозгласили чемпионом мира,
Капабланка не явился...
* * *
Пока Алехин рассказывает, я украдкой разглядываю его. Ему всего
35 лет; он выглядит молодо, необычайно бодро. Воплощение
здоровья, силы моральной и физической. Алехин — спортсмен. Его
широкие плечи внушают невольное уважение; чувствуется, как играют его
1. Андрей Седых (Яков Цвибак) - русский литератор, журналист, критик,
личный секретарь Ивана Бунина. Как и Алехин, был масоном. В 20—30-е
годы корреспондент газеты «Сегодня», член редколлегии «Последних
новостей». В 1973—1994 годах главный редактор «Нового русского слова».
2. Алехин обронил удивительную фразу- ее А.Седых привел в другой газете
(журналисты часто писали в несколько газет): «Алехин с утра до ночи
бродил по Парижу. "Вы любите Париж?" - спросил его интервьюер. "Да, здесь
я редко играю в шахматы"». И еще любопытный штрих: «Он даже не заехал к
себе на квартиру, а остановился в одном из отелей на бульваре Капуцинов»!
3. Страдания усугубляло то, что удалять пришлось коренные зубы.
4. В другой газете автор усилил фразу: «Сегодня вы играли очень плохо».
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
501
мускулы, бицепсы. Человек, осторожно передвигающий шахматные
фигуры, умеет, вероятно, вырывать пятипудовую штангу. Говорит
очень быстро, с увлечением, часто улыбается, весело поглядывает на
собеседника через стекла роговых очков. Умное лицо, высокий лоб,
волосы, зачесанные назад.
- Ваши планы?
- Я хочу подготовить к печати сборник партий, разыгранных в
Буэнос-Айресе. Сборник выйдет на всех европейских языках, в том
числе и на русском. Потом надо начать готовиться к будущему матчу.
Предстоит еще много работы; я чувствую, что еще не достиг
предельного мастерства, не исчерпал еще всех моих возможностей. Быть
может, весной будущего года мне предстоит встретиться в Нью-Йорке
с Капабланкой. Я не боюсь этой встречи. В Буэнос-Айресе мой
противник играл превосходно — и все же я победил. К тому же условия
матча были для меня крайне неблагоприятны. Условия выработал
сам Капабланка, и теперь они оборачиваются против него самого.
Мы выходим из холла «Гранд-Отеля» и идем к Опере. По дороге,
на террасе кафе, Алехин позирует фотографу. Собирается несколько
зевак. Один из них радостно осведомляется:
- Кого снимаете? Афганистанского короля?
- Нет, короля шахматного.
Физиономия зеваки из радостной превращается в необычайно
почтительную. На мгновенье мне даже кажется, что он готов закричать:
«Да здравствует король!» Парижские зеваки любят приветствовать
королей; но король, удобно устроившийся на террасе кафе, никак не
располагает к столь бурной манифестации.
«Сегодня» (Рига), 2 февраля 1928
Лев Любимов1
БЕСЕДА С АААЛЕХИНЫМ2
В среду состоялось чествование АА.Алехина представителями
русской колонии. Я захотел повидаться с ним перед этим официальным
торжеством... Алехин назначил мне местом свидания холл Гранд-отеля.
Я никогда не видел Алехина и поэтому, условливаясь с его
супругой о свидании с ним, я просил описать его наружность.
- Александр Александрович - высокий, плотный блондин.
Типичное русское лицо и роговые очки.
Как только он вошел, я сразу его узнал.
- Я бы очень просил вас, - сказал я, - изложить ваш взгляд на
шахматы, рассказать про значение шахмат, их внутренний смысл, дух.
- Но ведь это самое трудное, - улыбаясь, ответил А.А. - Вы не
шахматист, не правда ли? Профану почти невозможно понять сразу.
502
Парижский автограф
Здесь важно каждое слово... В несколько минут не скажешь. А
ограничиться общими фразами, вроде того, что шахматы, мол, искусство,
а не спорт, не так уж интересно...
- Но все-таки!
А.А. заговорил о турнире с Капабланкой3.
- По всему миру разнесли, будто цель моей жизни - обыграть
Капабланку. Что за глупости! Шахматы вообще не имеют в моей
жизни столь подавляющего значения. Да, я хотел победить
Капабланку. Много лет готовился, с того дня, как увидел его впервые в
Петербурге, когда был еще правоведом. Но при чем тут «цель
жизни»! Если я хотел победить Капабланку, то вот почему: я
чувствовал, что этой победой я совершу что-то... пожалуйста, не подумайте,
что у меня мания величия, это просто «сравнение явлений» совсем
разного масштаба, - что-то вроде Линдберга4. Перелету через
океан не верил человеческий ум, моя победа над Капабланкой среди
более ограниченного круга людей, в мире шахматистов, казалась
таким же чудом. Ведь Капабланка считался абсолютно
совершенным игроком.
Вы знаете, как взволновал Америку этот турнир... И вот я
почувствовал, что русским будет приятно, если то, что правильно или
неправильно почиталось чудом, будет совершено
соотечественником. Большевики — те другое дело: зная, как я к ним отношусь, они
умышленно подчеркнули, что мою победу не считают «русской
победой». Крыленко, глава шахматистов СССР, заявил, что
приветствует меня только как первого шахматиста.
У меня была еще другая причина желать победы над
Капабланкой. Я считал, что во главе шахматного мира не должен стоять
человек, отрицающий, что шахматы - искусство. Да, Капабланка это
отрицает. Он доказывает, что для шахмат можно найти
совершенно точные правила, благодаря которым между хорошими игроками
всякая партия будет неизбежно кончаться вничью. Шахматы
потеряли бы тогда всякое значение - последнее слово было бы в них
найдено. Капабланка отрицает интуицию. Я с ним не согласен.
Последнее слово в шахматах еще не сказано, ни его игра, ни моя - не
совершенны.
Моя теория (А.А., по-видимому, забыл, что я не шахматист) прямо
противоположна общепризнанной за последние 80 лет теории,
которая целиком «выражает» Капабланку. Игру принято делить на три
части: дебют, середина и конец. Но ведь никто же до сих пор не мог
определить, на каком именно ходу кончается дебют. Я делю игру по
методу мышления. Первая часть длится до того, как будет нарушено
равновесие, появится конкретная цель: подготовление к конкретной
цели. Вторая часть - это выполнение цели.
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
503
— Если я вас правильно понял, - перебиваю я, - интуитивный
момент наступает именно тогда, когда вырисовывается конкретная
цель?
- Да, да, именно так. Капабланка не верит в интуицию. Он после
каждой проигранной партии подсаживался ко мне и убеждал меня,
что его нельзя обыграть.
Конец игры. Конца игры вообще иногда не стоит и разыгрывать.
Существует Международная шахматная федерация,
зарегистрированы тысячи и тысячи партий. При известном соотношении сил в
конце игры нечего ее и оканчивать. Достаточно просто справиться по
книжке, каков ее неизбежный исход при правильной игре.
- Каковы ваши планы на будущее?
— Теперь борьба меня мало интересует, хотя, конечно, я буду играть
и впредь и надеюсь побеждать своих противников. Капабланка еще
не вызвал меня официально. Вот если он соберется с новыми силами,
тогда будет интересно еще раз сразиться с ним. Но даже если в
будущем мне и не придется много играть, писать о шахматах я всегда буду,
о шахматах как искусстве.
Следующая моя книга — «На пути к мировому первенству». Она
выйдет в Москве в частном издательстве «Шахматы»5. Я
рассказываю, как готовился к турниру.
«Возрождение» (Париж), 12 февраля 1928
1. Лев Любимов — журналист, искусствовед, писатель. Сын бывшего
сенатора, фигура в эмигрантских кругах уважаемая и приметная, Любимов был
агентом советских спецслужб. Он не раз беседовал с Алехиным и вместе с
ним состоял в масонской ложе «Астрея». В 1947 году был выслан из Франции
и вернулся в СССР.
2. Фрагменты этого интервью Любимов включил в статью «Мои встречи с
Алехиным» («Шахматы в СССР» № 8, 1957), убрав, разумеется, пассаж о
большевиках и Крыленко, но зато вставив фрагменты из интервью Алехина
Зноско-Боровскому (см. выше).
3. Речь, разумеется, о матче. Любимов не видел разницы между турниром и
матчем, умудрившись вложить слово «турнир» даже в уста Алехина (см.
конец интервью).
4. Чарльз Линдберг - американский летчик, совершивший в 1927 году
первый беспосадочный перелет через Атлантический океан.
5. Это издательство было в 1929 году закрыто, а Госиздат от выпуска книги
отказался: «А.А.Алехин получил датированную 4 апреля телеграмму от
Госиздата, в которой ему сообщается, что вследствие белогвардейского
выступления в Париже проект договора, предложенного ему Госиздатом относительно
печатания его книги "На пути к шахматному первенству", отпадает»
(«Возрождение», 8.04.1928). Книга вышла на русском языке под названием «На
путях к высшим шахматным достижениям» (1932).
504
Парижский автограф
Виктор Рейнбот1
У КОРОЛЯ ЦАРСТВЕННОЙ ИГРЫ
Коронованный короною богини Каиссы Александр Александрович
Алехин встретил меня необыкновенно приветливо, с тем радушием,
которое встречали мы, бывало, только в Белокаменной.
Встреча произошла за ресторанным столиком гостиницы
«Европейской»; легкий завтрак, кружка пива — и полилась беседа свободная,
живая. Мой собеседник захватывает простотою тона и манер, нет в нем
ни малейшей рисовки, столь обычной для венценосцев искусства.
Разговор бегло переносится с одной темы к другой - политической,
общественной, научной, и тут ясно чувствуешь, что, не посвяти себя
шахматам, Алехин и в другой области не уступил бы первые места.
Метки его замечания; например, о шахматных статьях Евг.А.Зноско-
Боровского: «Всё это шахматные стихотворения, только в прозе».
Всё Алехину дается легко. Держит блестяще выпускные
экзамены в Училище правоведения и одновременно ведет победоносную
борьбу с титанами шахмат в международном турнире 1914 года, где
оставляет за собой Тарраша, Маршалла, Рубинштейна, Яновского,
Берна, Блэкберна. В том же году попадает к немцам в плен и
благополучно оттуда ускользает. Во время войны работает на фронте
и даже не контужен2. При большевиках попадает в чрезвычайку и
выходит из нее, не изорвав ни нервов, ни воли. Схватывает сыпняк3
и его переносит, как ветряную оспу. Исчезает из совдепии так, что
сами комиссары диву давались, как это они орла у себя на цепочку
не приковали.
Наконец, живя уже за границей, не оставляя шахмат, точно походя
завоевывает в Париже докторский диплом.
Шахматное искусство не добыто упорными зубрежками
вариантов, а рождено оно с ним. Добрая фея всюду ворожит своему
любимцу, дай Бог, не сглазить.
«Первые мои попытки играть в шахматы, - говорит Алехин, -
были слишком удачны, и 64 поля слишком захватили меня; разумные
родители охладили мой пыл и строжайше запретили мне
соблазнившую меня игру».
Только лет пять спустя* гимназисту было позволено взяться за
шахматы. В течение нескольких месяцев полегли в бою все соученики и
младших, и старших классов, а вскоре их участи подвергся и старший
брат Алексей, игрок первой категории в Москве. В 15 лет имя
Алехина уже на страницах заграничных журналов, далее — звание маэстро
и, наконец, в 35 лет — мировой шахматный король.
Интересна оценка Алехиным звездного неба шахматистов.
Светилами наивысшего порядка, гениями, он признаёт только Филидораи
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
505
Стейница. Громадными талантами - Морфи, Ласкера, Капабланку;
они, однако, по его убеждению, все же эпохи в шахматах не сделали.
Первым двум, то есть Филидору и Стейницу, он обязан
проникновением во все глубины шахматных сокровищниц. Андерсен с его
ослепительным комбинационным талантом интересен только из-за
не превзойденных никем шахматных фейерверков.
Русский Чигорин, поднявший на достойную, наконец, великого
народа высоту национальное шахматное искусство, редко одаренный
талантом шахматного мышления, по-видимому, из-за
неуравновешенного образа жизни не дал всего того, что мог бы дать по своему
дарованию.
«Я отнял упорной борьбой скипетр у Капабланки, — говорит мой
собеседник, — теперь задача не отдать его назад, надо следить за
собою, не почивать на лаврах».
Не отказался любезный король дать свое объяснение «сухому»
проигрышу Ласкером матча с Капабланкой. Ласкер поставил
неправильный психологический диагноз характера противника и его шахматных
конструкций и композиций. Ласкер почему-то решил, что Капабланку
он должен победить его же оружием, и отказался сам от себя.
«Приступая к борьбе за первенство, — говорит Александр
Александрович, — я был твердо уверен, что не проиграю матча, но надежда на
выигрыш не рисовалась передо мною ярко».
«Выигрыш первой партии окрылил, а победа в одиннадцатой
подняла мое настроение до высокого напряжения и, напротив, понизила
уверенность Капабланки в себе: в двенадцатой партии резко
сказалась депрессия у моего противника».
Первая половина матча была тяжела особенно из-за физического
угнетения зубною болезнью; пришлось вырвать постепенно шесть
зубов. «Спасибо доктору, — смеется Алехин, — он спас меня от
поражения, применяя анестезирующие средства, которые, парализуя
боли, не влияли на мою психику; доктор, несмотря на аргентинность,
свои симпатии направил ко мне и от души желал мне успеха».
Вторая половина матча была ведена тоже при неприятных, на сей
раз моральных условиях. Аргентинцы резко проявляли свое
стремление избавить своего латинской крови любимца от поражения,
поэтому, когда Алехиным была выиграна 12-я партия и счет стал 3:2,
пошли упорные, имевшие твердую почву слухи, что если Капабланка
выровняет положение, то матч будет прекращен под предлогом
отсутствия средств. После 21-й партии для Алехина, наконец, пришло
успокоение нервной тревоги, а с ним уверенность выйти
победителем из многонедельной борьбы.
Уверенность в своих силах дала спокойные, величавою поступью
проведенные партии. Выделяются 32-я с оригинальным началом и
506
Парижский автограф
34-я, которую ее творец-победитель считает лучшею из всех партий
матча. Алехин не применил в этой партии дебюта 32-й по чисто
психологическим соображениям: Капабланка должен был ждать
повторения, наверняка подготовил защиту, а повторения не последовало.
Напряженность всех физических и духовных сил в течение
длительного периода борьбы требовала крайне внимательного
наблюдения за собою, заставила точно установить режим отдыха.
Алехин установил себе работать над шахматами не более двух
утренних часов, как бы сложно ни было положение прерванной
партии. Конечно, были прогулки пешком, но лучшим отдыхом нервам
и думам был кинематограф (нельзя ли использовать как рекламу?).
Тишина, темнота, красота картин в полтора-два часа давали полный
отдых, усталость сменялась бодростью.
На вопрос, как производилась подготовка к состязанию,
любезный собеседник объяснил, что, строго говоря, подготовки
специальной не было за краткостью времени. О том, что матч состоится, он
узнал всего лишь за месяц. На пароходе в пути Алехин наметил себе
программу розыгрыша партий так называемыми неправильными
защитами. Проиграв, однако, третью партию, перешел исключительно
к ортодоксальной системе.
В подготовке, прежде всего, важно привести свои нервы в
порядок, усилить волевое желание победить, затем проверить свои
испробованные системы развития игры, наметить новые пути, тщательно
их проверив, и, наконец, едва ли не главное - изучить до мелочей, до
корня игру противника и характер.
«Изменился ли за 15 лет Капабланка? Отвечу: нет, остался тем же
самым феноменальным по быстроте и точности и ясной оценке самых
сложных положений. Удивительно одно: как только своеобразное
ясновидение с первого момента не захватывает Капабланку и он
начинает задумываться и изучать положение детально, так вы почти
наверняка столкнетесь с его ошибочным толкованием позиции».
1. Виктор Рейнбот — выпускник Училища правоведения, председатель
Петроградского окружного суда (1914—1917), министр юстиции в правительстве
гетмана Скоропадского (1918). Деятель русской эмиграции. Увлекался
шахматной теорией.
2. На самом деле Алехин был дважды контужен; после второй контузии даже
попал в госпиталь.
3. Из протокола допроса Алехина в ВЧК (21.02.1921): «В декабре
^^отправился с тов. Данишевским в Харьков для работы в ХОВСУ, заболел сыпным
тифом, проболел до февраля». ХОВСУ — это Военно-санитарное управление
Харьковской области.
4. Точнее, через три года.
Интервью с А.Алехиным (1927— 1940)
507
С кем и когда придется бороться за шахматный скипетр, пока
неизвестно. Если к 15 января Боголюбову не удастся финансирование
матча, то тогда предоставит реванш Капабланке в осенние месяцы
1929 года или весною 1930-го. Местом матча определен Нью-Йорк.
Условия матча тождественны с предыдущими.
На новый вопрос любопытства, намечаются ли среди юных
служителей Каиссы те, кто мог бы рассчитывать на увенчание их
короной, ответ последовал отрицательный; наиболее талантливы Эйве и
Земиш. Много обещал Торре, увы, ныне он в санатории для
нервнобольных.
Заговорили мы и о любителях. Алехин рекомендует им не
торопиться с изучением руководств и вариантов; надо играть, играть и
играть, создавая возможно более разнообразные положения. Только
восчувствовав прелесть собственных комбинаций, переходите к
рассмотрению легких, коротких партий мастеров и, наконец, возьмитесь
за изучение сложных позиций и великих шахматистов. Чтобы стать
хорошим кавалеристом, надо много поездить по полям на
неоседланной лошади, позже придет и седло, и манеж, и высшая школа.
В первой стадии партии (подготовительной) можно
руководиться уже выработанными общими принципами развития игры, можно
мыслить как бы целыми позициями, не придавая значения порядку
ходов; напротив, с момента наступления решительной фазы обшие
схемы исчезнут, и тут всё должно быть конкретно
проанализировано, установлены определенные точки ударов, намечена цепь ходов в
строгой последовательности.
На этом закончилась для меня интересная беседа. Пожатие руки и
взаимное «до свиданья».
Варшава, 11 декабря 1928
Литературное приложение к газете «За свободу!»
(Варшава), 15 декабря 1928
У А.АЛЕХИНА
В Берлине на несколько дней остановился А.Алехин. Он
является первым русским в династии шахматных королей, существующей
около шестидесяти лет. Основоположник династии Стейниц
процарствовал 28 лет1, следующий за ним Ласкер - 27 и, наконец,
предшествовавший русскому маэстро Капабланка - всего 6.
Алехин - типичный «русский король»: широкоплечий, здоровый,
молодой - ему всего 36 лет; светлые волосы зачесаны назад, мягкая
улыбка то и дело появляется на его лице... Характерна и его
скромность, почти застенчивость - пока дело не коснется шахмат: тогда
выступает твердая, крепкая уверенность в себе...
508
Парижский автограф
В Берлине Алехин проездом из Польши, где он дал несколько
сеансов; на сеансе одновременной игры против тридцати
противников в Берлине Алехин выиграл 24 партии, шесть партий сделал
вничью и, таким образом, за пять с половиной часов не проиграл
ни одной.
- Утомительно ли это? —переспрашивает сотрудника газеты«Руль»
Алехин. - Нет, от таких партий я почти не устаю - ведь и смотрю-то
я на них не всерьез: нет в них настоящего искусства, интерес их для
меня только спортивный, и не они, конечно, определяют класс
игрока... Для настоящего шахматиста куда заманчивее встреча с одним
противником. После Берлина еду я к себе, в Париж. Там мне
живется очень хорошо: французов шахматы совсем не интересуют, никто
не знает, что я «король», и я могу жить совсем тихо - в этом году,
например, кроме этих выездов, мне совсем не пришлось играть, и я
занимался в Сорбонне юридическими науками2 и писал свою книгу
«На пути к мировому первенству». Пишу я по-немецки, и в одном из
немецких издательств эта книга и выйдет...
- Думаете ли вы об очередном матче?
- До сих пор я получил два вызова - от Боголюбова и Капаблан-
ки; если Боголюбов поспеет произвести некоторые формальности,
связанные с организацией матча, до 15 января, — встреча произойдет
еще в 1929 году; где — неизвестно. Думаю, что я против всякого сумею
защитить свое звание, но все же с большим интересом, чем с Капа-
бланкой, я встречусь с Боголюбовым.
Во-первых, это даст возможность после очень многих лет устроить
матч не в Америке, а в Европе, а во-вторых, Боголюбов кажется мне
гораздо более заманчивым противником, чем Капабланка, которого
я успел узнать за длительное время аргентинского матча прекрасно.
Конечно, играл он в Буэнос-Айресе вполне серьезно; ведь
положение 3:2 в мою пользу тянулось около двух месяцев3; до этого он мог
еще играть рассеянно, но после моего перевеса он должен был свою
«рассеянность» и «легкомыслие» отбросить, сосредоточиться и
показать себя... К тому же он был совершенно здоров, а у меня все время
было воспаление полости рта и связанная с удалением во время матча
1. Отсчет «царствования» Стейница часто вели с его матча с Андерсеном
(1866).
2. Любопытная деталь! Выходит, Алехин и в 1928 году, уже имея докторскую
степень, занимался в Сорбонне.
3. Счета 3:2 Алехин добился 12 октября, а уже 26-го счет стал 4:2.
4. Совдепия, совпечать, сов. Россия - это уничижительное «сов.» было
характерно для русской эмиграции.
5.Точнее, второй.
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
509
шести зубов повышенная температура... Хорошо еще, что
аргентинский врач великолепно отнесся ко мне и заботился, чтобы
анестезирующие средства не повлияли на мозг и чтобы я не чувствовал болей
во время игры...
Если мне придется снова встретиться с Капабланкой - это может
произойти в первую половину 1930 года в Америке, - я думаю
подтвердить свой успех.
- Каково ваше мнение о проекте Капабланки реформировать
шахматную игру, введя ряд новых фигур, так как шахматы в их нынешнем
виде якобы выродились?
— Интересно, что подобные проекты рождаются в головах
шахматистов, когда их постигает неудача: когда Ласкер, к которому я,
между прочим, отношусь с большим уважением, — проиграл Капабланке,
он тоже писал, что шахматам наступил конец...
- Почему Капабланка, пока был королем, не додумался до этих
своих проектов?
- Теперь, когда он проиграл, разговоры о конце шахмат из его уст
в высшей степени комичны...
— Правильны ли появляющиеся от времени до времени в совпеча-
ти* слухи, что вы собираетесь обратно?
— Судите сами: на парижском банкете в мою честь я высказал
мысль, что расцвет шахмат, учащих терпению, вырабатывающих
меры борьбы, идет параллельно с удушением общественности, с
общим маразмом и разложением. Как пример я указал на Германию
до Бисмарка, на Францию третьей империи5 и на сов. Россию, где
сейчас искусство шахмат стоит очень высоко. За это мое откровенное
мнение Крыленко не только проклял меня, но и выругал в печати
такими словами, которые мне и повторить неудобно...
Так вот, судите сами, может ли быть вопрос о моем возвращении, -
заканчивает, смеясь, Алехин беседу.
«Руль» (Берлин), 15 января 1929
А.А.АЛЕХИН О СВОИХ ТУРНИРАХ.
ПРЕДСТОЯЩИЙ МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ
Сотрудник «Новой зари» посетил знаменитого русского шахматиста
А.А.Алехина в бытность его в течение трех дней в Сан-Франциско и
имел с ним продолжительную беседу на тему о предстоящих его
шахматных выступлениях и в связи с рядом вопросов, интересующих
русскую эмиграцию.
Интервьюировавший Алехина наш сотрудник - земляк чемпиона
по Воронежской губернии, и это дало ему возможность получить от
мирового чемпиона шахматной игры исчерпывающую информацию.
510
Парижский автограф
- Скажите, как давно вы приехали за границу и долго ли вы
находились в России при большевиках?
- Я уехал за границу из советской России в 1921 году В России в
момент владычества большевиков я прожил около трех лет и должен
сказать, что мне пришлось вести там свое существование в
чрезвычайно трудных условиях.
Сначала они меня не трогали. Я был инструктором шахматной
игры, занимался переводами с русского языка на английский и
другими случайными работами.
Наконец, в бытность мою в Одессе я был арестован
большевиками и заключен в подвал чеки1. Большевики нашли у меня кое-какую
иностранную переписку, и это был о достаточным поводом для
предъявления мне обвинения в шпионаже в пользу Антанты.
Со мной находился в подвале в тот момент генерал Рагоза,
бывший военным министром при гетмане Скоропадском. Рагоза был
расстрелян.
В отношении меня пришло предписание из Москвы расстрелять
меня только в том случае, если будут обнаружены серьезные и
действительные улики. Таковых, в конце концов, не оказалось, и я был
выпущен на свободу.
Мне затем было выдано разрешение на мой выезд за границу для
принятия участия в международных шахматных турнирах.
- Вам пришлось немедленно принять участие в шахматных
состязаниях за границей?
- О, да! В Берлине я сразу принял участие в играх, хотя и был одет
первое время в русскую рубашку и довольно ветхие другие
принадлежности моего костюма. Однако шахматные состязания не были
единственной целью моей поездки за границу.
Я правовед по образованию и служил до революции в правовом
отделе министерства иностранных дел. Продолжение своего
образования всегда было моим желанием. По приезде во Францию из
Германии я прошел «постградюэт»2 курс в Сорбонском
университете и затем держал экзамен на доктора прав. В настоящее время я
работаю как в области теории, так и в области практики
юриспруденции.
Кроме того, я постоянно участвую в шахматных состязаниях.
В 1927 году в Буэнос-Айресе я выиграл матч на звание мирового
чемпиона шахматной игры у Капабланки. Теперь вновь начинается
матч на первенство мира. В этом году я играю с известным русским
шахматистом Боголюбовым. Если мне удастся победить его, то
следующее мое состязание будет с Капабланкой в Америке в будущем году.
Цель моего нынешнего приезда в Америку - выяснить условия
моего будущего матча. Я вел переговоры с Американским шахматным
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
511
обществом в Америке. Мое состязание с Капабланкой назначено в
Брэдли-Бич.
Из Нью-Йорка я уехал в турне по Америке. Был в Бостоне, Сент-
Луисе, Милуоки, Чикаго и вот, как видите, я приехал в
Сан-Франциско.
- Каков дальнейший маршрут вашей поездки?
- Из Сан-Франциско я предполагаю поехать в Лос-Анджелес, где
по контракту с Метро-Голдвин-студией я должен иметь состязание
против лучших шахматных спортсменов. Мне придется играть
против них во время моего полета на аэроплане3. Разумеется, будет
произведена киносъемка. Кроме того, мне предложено участвовать в
постановке кинофильмы «Бишор'с мордер кэз»4 по уголовному роману
Ван-Дайна. В кинофильме мне придется играть шахматный матч.
- Имеете ли вы какие-нибудь другие шахматные состязания в
Америке?
- В июне месяце я буду играть в Брэдли-Бич с Маршаллом,
Эдуардом Ласкером и Купчиком. В будущем году поеду по приглашению
мексиканского правительства в Мексику, где буду знакомиться с
постановкой там шахматного дела.
Не могу не отметить одного контракта, который я заключил с
организаторами международной выставки предметов индустрии и
искусства, которая состоится в 1933 году в Чикаго. Во время выставки
будет организован международный шахматный сеанс, и мне
придется играть тридцать партий, все «не глядя»5. Вообще, этот метод игры
всё более входит в моду, и большинство состязаний я играю по этому
способу*.
Разговор затем перешел на тему о положении русской эмиграции
в Европе.
1. Имеется в виду одесская ГубЧК, в тюрьме которой он сидел в 1919 году.
2. Post-graduate studentship (англ.) - аспирантура. То есть Алехин в Сорбонне
прошел курс аспирантуры.
3. Любопытная идея. НоТартаковер придумал лучше! Вот заметка «Шахматы
на аэроплане» («Гун-Бао», Харбин, 5.11.1929): «Не всели равно, где играть в
шахматы: на суше, на воде или в воздухе? Все же в наш век рекордов следует
отметить, что впервые в шахматной истории "воздушный" сеанс
одновременной игры, не глядя на доску, был дан Тартаковером во время полета из
Вены в Будапешт, причем он выиграл у всех своих трех противников».
4. «Преступление черного офицера» (англ.). Подробнее об этом он рассказал
Л.Любимову (см. следующее интервью).
5. Этот рекордный сеанс вслепую на 32 досках закончился со счетом +19-4
=9 в пользу Алехина.
6. Понятно, что речь о сеансах одновременной игры.
512
Парижский автограф
— Материальное положение русской эмиграции в Западной
Европе, конечно, тяжелое. Все надеются на возвращение в Россию. Но
должен отметить, что постепенно эмигранты устраиваются на
места, а главное, теперь не наблюдается того остро-нервного
настроения и того тяжелого сознания своего бытия вне родины, которые
наблюдались в первые моменты пребывания русских эмигрантов за
границей.
От суждений по политическим и религиозным вопросам А.А.
воздерживается:
— Я имею сам совершенно определенные взгляды на положение
нашей родины в настоящем и будущем, но вряд ли высказывать их
столь необходимо и целесообразно.
А.А.Алехин еще полный сил и здоровья молодой человек. Ему
всего лишь 36 лет. Он высокого роста, хорошо сложен. Сильное
впечатление производит спокойный и вместе [с тем] сосредоточенный
взгляд его голубых глаз. При разговоре поражает собеседника своей
осведомленностью и широкой просвещенностью.
«Новая заря» (Сан-Франциско), 14мая 1929
Лев Любимов
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПЛАНЫ А.А.АЛЕХИНА'
В саду Пале-Рояль, против высоко брызжущего фонтана, в белом с
зелеными узорами, обвитом растениями павильоне, - шахматный
клуб: «Шахматы Пале-Рояль» — один из старейших и наиболее
значительных в Париже. Обыкновенное кафе. Но все сидящие в нем,
или почти все — шахматисты и на каждом столике шахматная доска.
Ни одной женщины — разве что кассирша за стойкой. Сидят часами
и играют. На всякого постороннего смотрят с удивлением — словно
нельзя и зайти сюда «профану»2. За столами знакомые лица
прославленных шахматистов: Тартаковер, Шварцман... и всюду русская речь:
здесь и Зноско-Боровский, и Кан, и Ратнер3... На террасе в
многочисленном окружении — шахматный король А.А.Алехин. Только что
вернулся из Висбадена, был перед тем в Америке, сейчас - накануне
нового турнира* (в Висбадене с Боголюбовым).
Алехин после Америки изменился: похудел чрезвычайно, и это ему
идет. Спрашиваю, как он этого добился.
- Три месяца, - отвечает он, - ничего не ел, кроме овощей, салата
и фруктов, не брал в рот вина, а во время еды вообще ничего не пил:
похудел на 12 кило...
Алехин рассказывает мне о своих американских впечатлениях.
- Я впервые был теперь в Америке после моего турнира с Капа-
бланкой. Очень доволен поездкой. Дал там ряд сеансов, участвовал в
Интервью с А.Алехиным (1927- 1940)
513
турнире, в обшем легко вышел победителем. Побывал в Нью-Йорке,
Чикаго, Цинциннати и Милуоки, где живут американцы немецкого
происхождения. Чикаго готовится к международной выставке 1933
года. Выставку предполагают устроить так, чтобы она затмила все
предыдущие международные выставки. Я прямо не узнал города.
Озеро Мичиган с каждым месяцем удаляется от Чикаго.
Производятся огромные работы по перемещению воды, чтобы дать возможность
городу расшириться. В Чикаго я подписал контракт на попытку
побить свой собственный рекорд игры с закрытыми глазами в 28
партий. Буду играть весной будущего года5.
В Нью-Йорке я познакомился с Ван-Дайном, автором романа
«Преступление черного офицера», который печатался в
«Возрождении». По моим наблюдениям, в Америке увлечение всякой
уголовщиной, как в литературе, так и в кинематографе, достигло в
настоящее время своего апогея. И писатели, которые хотят зарабатывать
большие деньги, волей-неволей должны подделываться под этот
вкус. Ван-Дайн прежде писал серьезные книги, да и теперь пишет
весьма литературно и старается дать научное обоснование своим
положениям. Он создал тип детектива-сноба, и этот тип теперь
известен чуть ли не всей Америке. За свои последние четыре книги Ван-
Дайн получил в общей сложности около 200 тысяч долларов. Между
прочим, мне предложено играть для кинематографа весной будущего
года в постановке «Преступления черного офицера». Я уже
согласился, буду исполнять роль шахматного маэстро. Фильм будет звуковой.
Так как шахматист в романе Ван-Дайна - иностранец, мне будет
нетрудно с языком. Тогда же я дам сеанс с аэроплана. Буду лететь из
Лос-Анджелеса в Сан-Франциско - три с половиной часа, причем во
время полета буду играть по радио с семью партнерами, из которых
часть будет в Лос-Анджелесе, а часть - в Сан-Франциско.
Я посетил также мормонский город на Соленом озере. Там 70
процентов жителей — мормоны6. Бывал в мормонских храмах, беседовал
с 90-летними старухами, которые восхваляли то время, когда
мормонам разрешалось многоженство...
Большое впечатление произвела на меня Мексика. Я побывал в
ней в первые же дни после окончания гражданской войны.
Настроение там продолжало быть чрезвычайно воинственным. В поезд
врывались какие-то личности с револьверами, причем кондукторы
покорно предоставляли им места. Остановился в маленьком
провинциальном городке Закапекасе. Давал сеансы в городском театре.
Объявление о сеансах было вывешено на портике церкви.
Очевидно, это была очередная антиклерикальная выходка. Рядом с афишей
о моем сеансе красовалась другая афиша, с призывом явиться
двумстам молодым людям в штаб какого-то военачальника для «борьбы
514 Парижский автограф
Снимок из книги Алехина «Meine besten Partien» (J929) украшал это интервью
со Львом Любимовым («Возрождение», 20.07.1929). Он же стал прототипом
для гравюры Эрви на Фёлъми, украсившей обложку книги, которую вы держите
в руках. На фото из архива А.Котова сзади надпись: «Aljechin, Holzjschnitt v. Dr,
Ε. Voellmy». Holzjschnit — это гравюра на дереве (нем.).
с врагом внешним и внутренним». Характерно, что в то время война
уже официально кончилась...
В г. Мехико мне предложили в случае победы над Боголюбовым
встретиться в конце будущего года вновь с Капабланкой. Я охотно
согласился.
Северных американцев чрезвычайно не любят в Мексике. Линд-
берга почему-то называют не иначе, как молодым авантюристом.
Главный шахматный клуб в Мексике устроила YMCA7. Но
ввиду протеста еврейской молодежи образован другой клуб, во главе
которого стоят два юных выходца из России — открытые
коммунисты...
Русских беженцев я почти не встречал в Мексике, да им и незачем
туда ехать. Рабочей силы сколько угодно, и оплачивается она
чрезвычайно низко. Вообще в Мексике - либо очень богатые люди, либо
нищие, людей со средним достатком почти нет.
Алехин переходит к своему предстоящему матчу с
Е.Д.Боголюбовым, который состоится в сентябре.
- Боголюбову сейчас 40 лет, - говорит он. - В 1914 году он
участвовал вместе со мной в международном турнире в Мангейме. Нас
Интервью с А.Алехиным (1927- 1940)
515
застала война, мне удалось вернуться в Россию, но Боголюбова
задержали, и он оставался в Германии всю войну на положении
военнопленного. Женился на немке и теперь постоянно живет в Триберге.
У Боголюбова исключительные турнирные успехи. В
международном турнире 1925 года в Москве он был впереди двух чемпионов
мира - Ласкера и Капабланки... Как известно, год спустя Боголюбов
вернул большевикам советский паспорт и с тех пор травится
советской печатью8.
1. Фрагменты этого интервью Любимов тоже включил в статью «Мои
встречи с Алехиным» («Шахматы в СССР» № 8, 1957). По сути, оригинальной
является только финальная часть статьи, начинающаяся словами: «В
последующие годы я довольно часто встречался с Алехиным...»
2. Воспоминания одного из таких «профанов» приведены на стр. 519.
3. Л.И.Шварцман —русский первокатегорник, после революции уехал в
Париж, с успехом играл в местных турнирах. Виктор Кан — уроженец Москвы,
во Франции стал мастером; чемпион Парижа и Франции, участник четырех
олимпиад, автор шахматных учебников; вместе с П.Потемкиным был
одним из инициаторов создания ФИДЕ. Евсей Ратнер — уроженец Одессы, во
Франции стал мастером; чемпион Парижа, автор нескольких книг,
шахматный композитор; член масонской ложи «Астрея».
4. Речь, понятно, о матче, но Любимов не видит разницы между турниром и
матчем.
5. Точнее, в 1933 году, во время выставки.
6. Мормоны — члены религиозной секты, основанной в США в первой
половине XIX века.
7'. Young Men's Christian Association — Христианская ассоциация молодежи,
созданная в 1844 году в Лондоне. В 1921 году в Праге под ее эгидой возникло
знаменитое эмигрантское издательство «YMCA-Press» («ИМКА-Пресс»),
существующее поныне в Париже.
8. В травле поучаствовали и недавние коллеги. «Итак, мы были
свидетелями борьбы двух дезертиров, — писал Левенфиш после матча Алехин —
Боголюбов. — Для Алехина, наследника черноземных поместий и прохоровских
мануфактур, бывшего правоведа, тяготение к белоэмигрантскому ираю"
естественно и понятно, но почему по его следам пошел бывший бедный
киевский студент Боголюбов, которого еще в 1925 году горячо чествовали
советские шахматисты, представляется на первый взгляд странным. Разгадка
несложна: мещанство заело. Обосновавшись случайно в мелком немецком
городишке Триберге, Боголюбов не смог выбраться из обывательской тины
окружающих его трактирщиков и поспешил избавиться от советского
паспорта, из-за которого он потерял какую-то сотню марок. И крупный
шахматный художник может, очевидно, оказаться с душонкой титулярного
советника» («Шахматный листок», декабрь 1929).
В последней фразе — прозрачный намек на Алехина, получившего чин
титулярного советника по окончании Училища правоведения...
516
Парижский автограф
Я считаю его очень сильным игроком, одним из четырех лучших
в мире. Он в высшей степени талантлив. Матч с ним представляет,
несомненно, чрезвычайный интерес. Конечно, я надеюсь выиграть
матч, но лишь после большой борьбы.
Играть мы будем в течение двух месяцев. Начнем и кончим в
Висбадене. Играть будем также в Голландии и в Берлине. Условия
матча: выигравшим считается тот, у кого будет абсолютное большинство
очков из 30 партий, считая ничьи за пол-очка, но при условии, что
это абсолютное большинство должно включать шесть выигрышных
очков.
Мне предоставлено право, - закончил А.А.Алехин, - издать
сборник партий моего матча.
«Возрождение» (Париж), 20июля 1929
Евгений Зноско-Боровский
БЕСЕДА С АЛЕХИНЫМ
Алехин, как и подобает чемпиону мира, живет в отеле дез-Энд, где
останавливался и Бриан1 во время Гаагской конференции. За свое
долгое пребывание за границей он уже отвык от черного кофе,
прежде им так неумеренно поглощавшегося, и разбавляет его молоком:
я остаюсь верен парижским привычкам, и так наш разговор и идет,
словно по черно-белым полям.
Планы
- «Миг вожделенный настал»: еще немного, и можно отдыхать...
- Отдыхать? Я не знаю, что такое отдых. По окончании матча я
займусь подготовкой к печати сборника сыгранных партий, в
котором постараюсь раскрыть их истинный смысл, не всегда до сих пор
правильно понятый. Затем 15 января начинается турнир в Сан-Ремо,
в котором я буду участвовать.
- А матч с Капабланкой?
- Если сохраню звание чемпиона и получу от него вызов, то в
течение года мы сыграем с ним, вероятно, в Америке, где ему легче
достать нужные средства.
Как готовится Алехин
- И к этому матчу еще придется усиленно готовиться?
- Конечно. Но у меня ведь своя подготовка. В значительной
степени я готовлюсь во время состязания. В первых партиях я
присматриваюсь к дебютам, которые избирает противник, к той манере играть,
которую он усвоил против меня, и постепенно устанавливаю
варианты, которых сам буду придерживаться, и дальнейшую тактику. Затем,
Интервью с А. Алехиным (1927-1940)
517
я часто думаю об игре тогда, когда этого никто не замечает. На днях я
придумал одну теоретическую новинку в кинематографе.
- Про Анри Пуанкаре2 рассказывают, что одна его математическая
находка пришла ему в голову, когда он влезал в автобус.
- Кинематограф для этого куда удобнее и безопаснее. Суть же в
том, что надо каждому предоставить играть в его стиле и потом
стараться бить его же оружием. С Боголюбовым я играл совсем иначе,
чем с Капабланкой.
- И сколько было ничьих!
Ничейная смерть
- Не забудьте все же, что там условия были другие, что главное
было там - не проиграть. Но, кроме того, за исключением матчей Ка-
пабланки, в шахматной истории только матч Ласкер - Шлехтер был
непропорционально богат ничьими. Значит, разговоры о ничейной
смерти ни на чем не основаны, и ее опасность лежит не в шахматах, а
в стиле тех или иных игроков. Что наш матч подтвердил это лишний
раз, это его большая заслуга. В каждом положении, самом известном,
столько неисследованных возможностей и ресурсов! Надо только
хотеть их искать и не бояться пользоваться ими.
О Боголюбове
- В этом упрекнуть Боголюбова, пожалуй, нельзя?
- Да. Творческая фантазия у него чрезвычайно богатая. Нет
положения, где бы он чего-нибудь не придумал. В этом его главная сила,
как основной недостаток в том, что он не переносит самой мысли
находиться в худшем положении. Отлично разбираясь в сложных
положениях, прекрасно развивая те, где у него есть хотя бы какое-нибудь
преимущество, он слишком скоро признает проигранными
невыгодные положения и, действительно, теряет их. В этом его можно назвать
пессимистом.
- Но вы не считаете, что он этот раз играл хуже, чем обычно?
- Это всегда говорят про того, кто проигрывает. То же утверждали
про Капабланку в Буэнос-Айресе. Впрочем, ничего не имею против
того, чтобы все мои противники проигрывали и про них говорили,
что они играют хуже обычного. Если это даже и правда, не думаете ли
вы, что эта правда показательна?
Капабланка, Боголюбов, Нимцович
- А кого вы считаете опаснее: Капабланку или Боголюбова?
- Это совсем две разные игры, различный подход к самой
сущности шахмат. У Капабланки всё закономерно, логически, с ним почти
всегда знаешь, чего он хочет, на что играет, и потому неожиданности
518
Парижский автограф
почти исключены. Напротив, их-то и ждешь все время от
Боголюбова, и в этом отношении он, конечно, опаснее, хотя выиграть у Капа-
бланки куда труднее.
-А Нимцович?
- Очень сильный, а главное, оригинальный и глубокий игрок, с
которым чрезвычайно трудно сражаться. Но на него слишком
действуют психологические условия, и начальная неудача может
отразиться на всей его дальнейшей игре.
Еще одна разрушенная... легенда
- Вообще же я полагаю, что одним из счастливых последствий
этого матча будет разрушение новой легенды, которую стали теперь
создавать, о наличии какой-то группы равносильных игроков, причем
неизвестно, где эта группа кончается. А увеличивается она каждым
первым призером в очередном турнире. Нет, все-таки Ласкер, Капа-
бланка и я должны быть несколько выделены.
Условия матча
- Условиями матча, его организацией, постановкой я вполне
удовлетворен. Идеальных условий нет, и если иначе достать денег нельзя,
то приходится идти на разные уступки. Одной, однако, я больше не
повторю. Это публичность игры. Шахматист превращается в актера,
на которого все смотрят. Печать занимается нашей внешней
характеристикой, и даже по радио сообщали, как я хожу, как смотрю на дочь3
и т.д. Скажите, что имеет общего это с шахматами? Насколько лучше
было в Буэнос-Айресе, где публика нас не видела.
- А в остальном?
- Η ас всюду принимали очень хорошо, тепло, радушно. Я знал,
конечно, что в Германии, где Боголюбов постоянно живет и собирается
натурализоваться, он очень популярен, и что вообще он мог достать
деньги только там, где его любят и верят ему Поэтому я вполне был
готов к тому, что все симпатии будут на его стороне. Но повсюду их
старались не проявлять, а если они и проскальзывали, то не забывая
меня, вовсе не в виде вражды ко мне. А признаться, они меня не
только не волновали, но еще даже подстегивали играть лучше, добиться
высшего результата. Ноя отношусь к шахматам, прежде всего, как к
искусству, и — что мне при этом до чьих-то антипатий или симпатий?
«Последние новости», 10 и 11 ноября 1929
1. Аристид Бриан - премьер-министр Франции.
2. Анри Пуанкаре — знаменитый французский математик.
3. О дочери Алехина и ее матери — см. стр. 62.
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
519
Берлин, октябрь 1929. Играть на глазах самого Л аскера — задана не из легких. Тем
более что экс-чемпион не просто зритель: в Берлине он возглавлял жюри матча
Алехин — Боголюбов.
Владимир Сосинский1
«МЫ ЛЕНИВЫ И НЕЛЮБОПЫТНЫ»2
...Мы ленивы и нелюбопытны. Вот тому доказательство.
Около Comedie-Francaise3 в Париже, на площади Palais Royal4, есть
кафе, где часто бывают шахматисты. Как-то, вовсе не думая о
шахматах, а мечтая лишь о кофе с круассанами, возвращаясь из
Национальной библиотеки, зашел я в это кафе и увидел свободным лишь один
стул перед столиком, за которым человек, сидя на диване вдоль стены
из зеркал, играл сам с собой в шахматы.
- Vous permettez, monsieur?5
А тот в ответ по-русски, сразу уловив во мне мою национальность:
- О! Очень приятно. Садитесь...
И после небольшой паузы:
- Может, сыграем?
- С удовольствием. Только заранее предупреждаю: и фаю я плохо.
- Вот и хорошо. Это как раз и нужно. Люблю играть с плохими
игроками6.
-Любите выигрывать?
520
Парижский автограф
- А какой шахматист этого не любит?
Мы сыграли несколько партий. Мне сразу стало ясно, что
противник мне не по плечу: он легко и быстро справлялся со мною, как я
ни старался быть бдительным, как ни напрягался вовсю, стремясь
разгадать замыслы противника, как ни мучил себя мечтой понять всё
хотя бы за пять минут до грозящего мне поражения! И поэтому был
очень удивлен, когда он, заканчивая наш блиц-матч, рассыпался в
похвалах в мой адрес:
- Некоторые ваши ходы, на мой взгляд, были ошеломляющими,
вы не раз меня ставили в тупик. Простите, если это вам покажется
нескромным: как вас зовут?
Я назвал себя.
- Позвольте, так не вы ли автор книги о Несторе Махно?7
- Да, это я.
Новый поток комплиментов, может быть, на этот раз более
заслуженных, поскольку к тому времени я уже был профессиональ-
1. Владимир Сосинский (1900—1987) — замечательный русский писатель. За
его плечами два года боев в Добровольческой армии, тяжелое ранение, орден
Николая Чудотворца, полученный из рук Врангеля. Жил в Париже. В 1939-м
ушел добровольцем в Иностранный легион. Опять ранение, немецкий плен,
движение Сопротивления; награжден Военным Крестом. В 1960 году
вернулся в СССР, жил в Москве. По словам сына, в начале 80-х отец «повесил
в своей кухне портрет Ленина с надписью: "Благодарен этому человеку за
прекрасные сорок лет за рубежом". В эти же годы в его квартире висел
портрет Солженицына, и новых людей, появлявшихся в квартире, он
спрашивал: "Знаете ли вы, кто это?" Именно в этой смеси шутливого и серьезного,
мужества и легкомыслия — весь Сосинский».
2. Цитата из пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Как жаль, что
Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его
друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов.
Мы ленивы и нелюбопытны...»
3. Театр «Комеди Франсез».
4. Пале-Рояль.
5. Вы позволите, месье? (φρ.).
6. Η а вопрос К.Опоченского, почему он тратит столько времени на изучение
любительских партий, Алехин ответил: «Это для меня легкое чтение, я как
будто читаю приключенческий роман. Я могу следить за ходом мыслей этих
любителей, видеть их незавершенные планы и сам могу иногда чему-нибудь
поучиться».
7. Вероятно, имеется в виду серия рассказов о Махно в «Воле России».
8. Какая жалость, что Сосинский не привел ответ Алехина! Кстати,
упоминание «Защиты Лужина» говорит о том, что встреча состоялась после 1930 года,
когда роман был опубликован.
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
52!
ным писателем и даже секретарем редакции ежемесячника «Воля
России».
- А я с кем имею честь?
- А вы меня не узнали? Алехин.
Тут уже с моей стороны полились испуганно-восторженные слова,
и я просил Алехина простить меня за то, что я осмелился играть с
ним. Конечно, по неведению. А на фотографиях он не такой, как в
жизни. Заговорил я и о набоковской «Защите Лужина», спросив,
согласен ли он с такой трактовкой шахматного чемпиона8.
Прощаясь, Алехин посоветовал мне почаще заходить в это кафе.
В частности, у него будет совсем свободный часок в ближайшее
воскресенье часа в четыре. Он обещал ознакомить меня с
несколькими теоретическими приемами, в которых я проявил
определенную слабость, и обещал указать, какие ошибки я допустил в только
что сыгранных партиях. Добавив, что у меня бывают и очень
интересные ходы, например, в последней партии, - и на доске показал
их мне.
Мы расстались, как расстаются люди при возникновении новой
дружбы.
Увы! Увы! Это была всего лишь моя первая и последняя встреча с
чемпионом мира. Единственная. И по моей вине.
«Вопросы литературы», Москва, №6, 1991
Евгений Зноско-Боровский
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ А.А.АЛЕХИНА
Планы
- Скоро опять в путешествие?
Быстро глотая мутный коктейль, куря папиросу за папиросой,
чемпион мира устало улыбается.
- 15 июля я даю сеанс из 32 партий не глядя на доску в Чикаго,
на следующий день там же играю живыми шахматами. Этот раз я
не хочу долго оставаться в Америке. Но едва ли удастся вовсе
избежать приглашений, да вот поговаривают о турнире в Нью-Йорке
в сентябре. А на Рождество надеюсь участвовать в турнире в
Гастингсе.
- Вам бы отдохнуть...
За огромными окнами строптивый Ла-Манш мечет зеленые
волны. Но Алехин не смотрит туда. Что ему эта узкая полоска воды, ему,
избороздившему океаны, уже несколько лет назад принявшему ванну
на экваторе и только что потерявшему день на меридиане Фиджи?
О каких морях, о каких небесах мечтает он, шахматист-мыслитель и
неутомимый глобтроттер?1
522
Парижский автограф
- Да, я полагаю, что наконец и я имею право на отдых. Как ни
интересны все эти путешествия, как их ни люби, а в конце концов и они
утомляют, и хочется оседлой, спокойной жизни...
Он нервно поворачивается в кресле. Светлый костюм кажется
слишком широким для его исхудавшего тела2.
- Я играл, как вы знаете, очень успешно. В общей сложности -
свыше 600 партий, проиграв всего 9 и сделав почти 96 процентов. А
сеансы были трудные, со многими партиями, и много вслепую. Даже
в Генуе, в самом конце турне, когда я его уже фактически оборвал, я
сыграл 56 партий, из которых проиграл только 3 при 4 ничьих3. Так
что, как видите, с этой стороны всё благополучно. Нов Голландской
Индии4 было страшно жарко. Я оставался там три недели и дал 12
сеансов. Огромные переезды в душных, грязных поездах. И вот от
этого, а не от игры, я устал. Хуже того, я узнал нечто, что никогда прежде
не испытывал. Я совершенно перестал спать. Ява и Суматра довели
меня до такого состояния, что осмотревший меня доктор потребовал,
чтобы я прервал турне и прежде всего отдохнул. Я так и поступил, и
хотя останавливался в Коломбо5, Бомбее, Египте, но уже как турист,
нигде не и фая, и так вернулся во Францию, куда прибыл, через
Геную и Марсель, 10 мая.
- А 12 июня уже начали игру на турнире в Фолкстоне6...
Не кончив папиросы, Алехин закуривает от нее другую. Я меняю
тему разговора.
Начало путешествия
- Уехал я из Европы в июле, после турнира в Берне...
- Где вы взяли первый приз...
- И в Америке начал гастроли с турнира в Пасадене...
- Еще первый приз.
-Дал ряд сеансов и сентябрь-октябрь провел в Мексике, где снова
играл и разделил первый и второй призы с Кэжденом в одном
турнире. Кстати, мексиканское правительство для удешевления моих
поездок дало мне какое-то официальное назначение, конечно только
номинальное, которое позволило мне бесплатно ездить по местным
же л езн ы м дорогам.
В царстве Капабланки
- В Нью-Йорк я вернулся через Гавану. Капабланки не видел, но
местные шахматные деятели пришли на мой пароход, возили меня
по городу и о многом со мной говорили. Между прочим, спрашивали
меня, согласился ли бы я принципиально играть матч-реванш с Ка-
пабланкой в Гаване.
- И вы ответили?
Интервью с А.Алехиным (1927— 1940)
j г?
- Вопросом: есть ли хоть
какие-нибудь шансы на то, что в
ближайшее время могут быть
собраны нужные для такого
матча средства? Увы! Ответ был
категорический и отрицательный.
И действительно, я видел
Гавану: город красоты
необыкновенной, нарядный, пышный,
богатый, но теперь в нем пустота и
запустение. Кризис сильно ударил
по кубинской сахарной
промышленности, и страна обеднела.
Верно, и Капабланке, который
уже не имеет никакого
официального положения, живется
нелегко. Но я должен с радостью
признать, на основании личных
разговоров и полученных мною
потом в Нью-Йорке писем и
газет, что гаванские шахматисты
относятся ко мне без всякой
вражды и в высшей степени
корректно. Конечно, в случае
нового матча их симпатии были бы на
стороне Капабланки, но они
нисколько не заражены
шовинизмом, так что с этой стороны препятствий к игре в Гаване не было бы.
Затем я вновь вернулся в Соединенные Штаты. И, между прочим,
давал сеанс в Голливуде, где среди моих противников был Дуглас
Фербенкс-младший. А 19 ноября на пароходе «Президент Гарфилд»
отправился в свое странствие, которое продолжалось почти полгода.
Турнир в Сан-Ремо (1930) — одна из
ярчайших точек в карьере Алехина.
На снимке: он с президентом
местного шахматного клуба А.Ступаричем
перед отелем «Excelsior».
Восточные шахматы
- В Японии я познакомился с японскими шахматами, которые
меня очень заинтересовали. Я принялся за их изучение и продолжал
его всю дорогу, присоединив к ним китайские7. Я вывез с собой
целую библиотеку, посвященную шахматам, которую мне еще придется
разобрать. Играл я, само собой разумеется, в шахматы европейские.
Там, в Токио и Иокогаме, есть два клуба, где играют в наши шахматы.
Противниками моими были профессора и студенты. Большое
преимущество японцев в том, что они, играя преимущественно в свои
шахматы, знают в то же время и наши, имеют книги им посвящен-
524
Парижский автограф
ные, знают всех лучших мастеров. У них очень стройная
организация. Игроки разбиты на классы. В первом находится только один,
чемпион Японии, уже старик, который не столько играет, сколько
поучает, и уже занимает свой пост много лет. Есть игроки сильнее его,
но он недвижим на своем троне, откуда руководит всей шахматной
жизнью.
Японские и китайские шахматы сильно разнятся от наших.
Например, у них доска не 8x8, а 9x9 квадратов, всего, значит, 81
квадрат. Есть две лишние фигуры, которые ставятся между двумя рядами
своих фигур. Король находится в особом квадрате из 9 клеток, с
двумя специальными телохранителями. Между враждебными
лагерями - река, перейдя которую, фигуры к своим вертикальным ходам
прибавляют еще горизонтальные. Взятые фигуры поступают в
собственность взявшего, который может их в любой момент поставить
вновь на доску уже как свои. Для этого достаточно их повернуть, так
как их фигуры похожи на наши шашки, снабженные носиком,
обращенным на врага. Как видите, совсем другая игра, с которой было
бы интересно познакомить европейцев, что я и рассчитываю сделать,
если меня не отвлечет другая работа. Дело в том, что на пароходе я
начал писать книгу «Душа шахмат» и порядком уже написал...*
Среди русских
- Из Японии я переехал в Шанхай, в конце января. И здесь попал в
русский мир. Встречали меня русские и чествовали меня. Разные
союзы, объединения, клубы, военные, казачьи и всякие другие
приглашали к себе. Я даже открывал какой-то футбольный матч. Местным
чемпионом является русский - Поляков, брат того любителя, что
живет в Югославии. Здесья встретил самое сильное сопротивление и
даже потерпел сравнительную неудачу в одном сеансе вслепую9. Как
всегда, где русские или поляки, там и сильнейший состав любителей.
- Где лучше всего играют? В Америке?
- В Нью-Йорке, вы хотите сказать? Я думаю, что в самом деле это
сильнейший в мире город, где труднее всего давать сеансы, тем более
что там и лучшие игроки принимают участие в сеансах. Не так, как в
Сингапуре, например, где местный чемпион отказался играть
против меня в сеансе на том основании, что он приглашен участвовать в
одном со мною турнире в Фолкстоне. Но в американской провинции
игра совсем другая, и между ней и провинцией французской я в
шахматном отношении особенной разницы не вижу.
- Русская жизнь в Шанхае сильно развита?
- Я ее, собственно, и видел в Шанхае. И с грустью познакомился,
между прочим, с тяжелой долей русских женшин. Их судьба там едва
ли не хуже, чем была в Константинополе на заре русской эмигра-
Интервью с А.Алехиным (1927-1940)
525
ции. Молодые девушки и женщины попадают на биржи, в
публичные дома, в чайные домики и просто исчезают. И притом - за
бесценок. Они котируются чуть ли не ниже всех остальных
национальностей. И так - по всему Китаю. Русским женщинам приходится
почти скрывать свою национальность, чтобы сохранить свое положение
в обществе...
Интернациональные шахматы
- 2 февраля я был в Гонконге. Здесь уже царят безраздельно
англичане, и туземцев среди моих противников не было. Не так, как в
Маниле, где я был в середине февраля. Там против меня играли не
только американцы и англичане, но и филиппинцы. Между прочим,
сильнейшими местными игроками являются два филиппинца, из них
1. Globetrotter (англ.) - много путешествующий человек.
2. Зноско-Боровский: «Как сейчас помню возвращение Алехина из
кругосветного путешествия, которое могло бы его обогатить и, главное, укрепить
его здоровье: разве не считается для этого лучшим средством длительная
поездка по морю? А он приехал на себя не похож: исхудавший, платье висело
на нем, как на вешалке, руки его дрожали, и передвигаемые фигуры не сразу
находили назначенные поля» («Последние новости», 24.11.1935).
3. Сеанс в Генуе, которым закончилось кругосветное путешествие Алехина,
был дан 8 мая. Намеченные гастроли в Австралии не состоялись, так как
местная организация не смогла принять выдвинутые Алехиным условия: 200
фунтов стерлингов за 20 выступлений в течение 6 недель.
4. Так называли Индонезию, которая в то время была колонией Нидерландов.
5. Во время олимпиады в Варшаве, со слов Алехина, местные газеты
сообщили, что «супруги Алехины ведут торговлю чаем и два года тому назад (во
время кругосветного путешествия) в связи с этими делами побывали в
Коломбо» («Новая заря», Сан-Франциско, 5.09.1935). Ничего удивительного:
ведь Грейс была вдовой владельца чайной плантации на Цейлоне Арчибальда
Фримена.
6. Имеется в виду V Турнир наций (июнь 1933).
7. Интерес Алехина к японским (сёги) и китайским (сянци) шахматам был не
праздным: он, оказывается, увлекся идеей глобального переустройства
шахмат! О чем рассказал во время визита в Шанхай. «В настоящее время король
шахматного поля занят идеей объединения и слияния европейских
Шахматов с шахматами восточными. Это необходимо лля того, чтобы создать одну
общую, единую шахматную систему во всем цивилизованном мире. С этой
целью гениальный шахматист и совершает свою поездку по Дальнему
Востоку, чтобы собрать и систематизировать материалы и литературу о
восточных шахматах и потом выработать общемировую систему игры» («Гун-Бао»,
Харбин, 12.02.1933).
8. Книга, вероятно, не была закончена.
9. Об истинной причине неудачной игры см. стр. 89.
526
Парижский автограф
один 16-ти лет. И еще, новый облик явил Сингапур, куда я прибыл
27 февраля. Хотя и здесь англичане преобладали, однако против
меня играли всевозможные национальности: китайцы, малайцы,
русские, поляки - одна газета насчитала их не меньше 11 -ти. Между
прочим, играла против меня и одна китаянка. И наконец, Ява...
- Не будем возвращаться к этим печальным воспоминаниям...
- Не только печальным. Иногда и веселым. Я, например, везде
накупал себе разные сувениры. Купил и на Бали национальный костюм.
Когда потом на пароходе был устроен костюмированный вечер, я
нарядился в свою обновку и получил первый приз.
- Еще первый приз! Я думаю, на этой веселой ноте лучше всего и
закончить нашу беседу?
Продолжение следует
- Пожалуй. Только я забыл вам сказать, что, когда я буду теперь в
Америке, я надеюсь дать сеанс в Пуэрто-Рико. В прошлом году всё
уже было устроено для моего приезда, но пронесся такой ураган, что
всё разрушил, и сеанс пришлось отменить. Сейчас, я надеюсь, не
будет никаких препятствий к тому, чтобы осуществить план, который
не удался год назад...
«Последние новости», 4 июля 1933
Александр Алехин:
«Я НЕ ВИЖУ В МИРЕ ШАХМАТИСТА,
КОТОРЫЙ МОГ БЫ МЕНЯ ПОБЕДИТЬ»
(Сеансы шахматного короля в Риге)
Ригу недавно посетил знаменитый шахматист Александр
Александрович Алехин. Он говорит о том, что Варшавская олимпиада
известным уже молодым талантам не дала возможности еще больше
выдвинуться вперед, но зато наметила несколько новых молодых игроков,
у которых есть шансы выработаться в шахматистов первой величины.
Чемпион мира называет фамилии венгерца Сабо, эстонца Кереса,
финна Бека и серба Трифуновича.
К матчу на первенство мира с Эйве в Амстердаме Алехин
относится более чем спокойно. Он говорит:
- Я не утверждаю, что у Эйве будет легко выиграть. Но я
абсолютно уверен в своей победе, как был в свое время уверен в победе над
Боголюбовым.
Наиболее сильная сторона Эйве - дебюты. Голландский
шахматист обладает большой фантазией, но сила и техника его игры все же
не стоят на такой высоте, как, например, у Флора. Это - следующий
кандидат в борьбе за мировое первенство в королевской игре.
Интервью с А.Алехиным (1927- 1940)
527
По таланту Флор стоит приблизительно на одном уровне с
советским чемпионом Ботвинником, которого нужно поставить головой
выше всех других советских шахматистов. Исключительная техника,
упорство и другие качества заставляют, однако, отнести Флора к
самому высокому классу современных шахматистов. У него будет
труднее выиграть, чем у Эйве.
- Можно ли вообще говорить о шансах кого-либо из шахматистов
на отвоевание у вас мирового первенства?
- Я не вижу среди шахматных игроков всего мира человека,
который мог бы меня победить.
Кажется, не узрели его еще и другие шахматисты. Если бы я стал
играть слабее, чемпионом мира мог бы, конечно, стать другой мастер.
Пока что никто не мог бы, однако, выиграть у меня матч. Флор на
олимпиаде обнаружил еще большее развитие техники, он
исключительно силен, но у него нет настоящих идей. По безошибочности,
чистоте игры Флор представляет собой второе издание Капабланки, но
ему не хватает фантазии кубинца.
Рижане спрашивают Алехина, не трудно ли ему будет играть на
сеансах два дня подряд. Чемпион мира отвечает улыбкой;
- Несколько лет тому назад я за 30 дней дал 28 сеансов
одновременной игры, в каждом из которых участвовало не меньше 40-50
шахматистов. Если не ошибаюсь, - смеется Алехин, - это был своего
рода рекорд.
«Заря» (Харбин), 30сентября 1935
Евгений Зноско-Боровский
ВСТРЕЧА С АЛЕХИНЫМ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ
Изменившийся Алехин. - Угрозы смертью перед концом матча с Эйве.
- Новые планы Алехина. - Вернет ли он себе шахматную корону?
Парижское кафе «Режанс». Стол, за которым играл Наполеон. По
стенам - фотографии, на одной из которых Тургенев.
Многочисленные изображения Алехина с надписями, сделанными размашистым,
уверенным почерком.
Праздная публика перед аперитивами и кофе. Шумные бриджеры
за круглым столом. И странный, узкий мир шахматистов с их
загадочными интересами, собственными шутками, остротами,
добродушными карикатурами, а нередко и злословием.
Всё по-прежнему и ничто как будто не изменилось. Всё так, как было
восемь лет назад, когда, торжествующий, вернулся Алехин из Буэнос-
Айреса с новенькой короной и с громадной, бьющей через край силой,
как было еще раньше, когда совсем молодым человеком он впервые
после войны появился здесь, ища славы, преследуя свою яркую звезду.
528
Парижский автограф
Совместное исполнение голландского гимна после окончания матча на первенство
мира, принесшего победу Максу Эйве (1935). Самый трагический момент в
шахматной карьере Александра Алехина...
Но внутренние драмы каждого от нас скрыты. Одна только не
является для нас тайной. И мы знаем и ясно чувствуем, что для Алехина
всё изменилось, всё не то, что было раньше. Другими глазами
смотрит он на всех, иначе смотрят и на него.
Так недавно, еще нет и трех месяцев, уверенно входил он в это
маленькое царство, принадлежавшее ему. К словам его
прислушивались, его решения клали коней спорам, если он садился играть, все
собирались вокруг него. Теперь его появление вызывает неловкость.
Показывают на него, сочувственно или насмешливо. Иные
избегают смотреть на него, нехотя здороваются. О чем говорить? Выражать
сожаления? Спрашивать? Да что может он сказать, чего бы уже все
не знали, что может он прибавить к тому, главному, к потере своего
звания? Да и ему самому должно претить объяснять. Кому это нужно?
Да и кого убедишь? Уж не оправдываться ли, чего доброго? Тогда уж
лучше позабавить слушателей деталями, которых не знают те, кто не
был в Голландии.
Кажется, всё еще в нем дрожит, нервы до сих пор напряжены до
крайности. Усилием воли он сдерживает себя. Он весь еще во
власти недавней борьбы и своего страшного падения. Шахматный матч,
только и всего? Нет, борьба на жизнь и на смерть.
Именно смертью грозило ему анонимное письмо в случае
выигрыша им последней партии. В результате к нему была приставлена ох-
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
529
рана, под охраной он был доставлен в помещение, где шла игра, и
специально охранялся в течение всей этой решительной партии,
лишившей его трона.
Кто придает значение анонимным письмам? А все-таки никто не
заподозрил бы столько страсти и пылкости в голландцах, обычно
столь сдержанных, уравновешенных и спокойных! В Буэнос-Айресе
Алехина в начале матча успокаивали, уговаривали не волноваться,
убеждали, что всё сойдет благополучно, как бы матч ни протекал, как
бы ни кончился. Здесь, в Голландии, страсти накалялись постепенно.
Алехин проиграл, угрозы оказались излишними. Если была злоба,
она сменилась бурной радостью, тем более шумной, что
побежденный держал себя, по признанию самих голландцев, в высшей
степени благородно. Первым поздравил нового чемпиона, произнес речь
в его честь и во славу голландских шахмат, веселился со всеми той же
ночью и через день присутствовал на новом банкете.
Если нужно уметь проигрывать, если должно быть «хорошо
проигрывающим», Алехин выдержал этот экзамен блестяще.
Утешенье ли это ему самому?
- Уметь хорошо проигрывать? Лучше совсем не проигрывать, -
говорит он.
Что же дальше? Каковы его планы? Есть ли они у него?
Кажется нескромным говорить о будущем с человеком, у которого
должно быть одно желание: спать, спать, спать. Забыть. Не думать.
Который производит гнетущее впечатление бесконечной усталости,
подавленности, старости. Словно вынута из него какая-то пружина,
от которой, может быть, зависело всё. И вместе с тем сохраняющий
инерцию какого-то движения, жажду кипучей деятельности. Может
быть, она ему необходима, чтобы заслониться от сторожащих его
ночных кошмаров. Надо взять себя в руки, подлечить, поправить
нервы.
— Воля на это у меня есть, — говорит он. А голос звучит так, что не
знаешь, говорит ли он «есть» или «нет».
«Оленя ранили стрелой»...
Алехин не придает значения слухам о том, будто матч-реванш его
с Эйве состоится ближайшим летом в Земмеринге (Австрия). Правда,
представитель крупнейшего там отеля, будто бы финансирующего всё
предприятие, посетил его по телеграфному поручению отеля и с ним
беседовал. Но всё это слишком стремительно, чтобы быть серьезным.
Гораздо больше надежд возлагает он на свои переговоры в Голландии.
Эйве принял вызов и всячески идет навстречу, причем пока намечена
такая процедура: через год Алехин вносит залог, а сам матч состоится
в сентябре 1937 года. Голландские организаторы одобрили эту схему
и готовы даже денежно поддержать ее осуществление.
530
Парижский автограф
Есть ли им смысл подвергать своего чемпиона этому испытанию?
Да ведь они, писал Эйве, не питают надежд на то, что он долго
пробудет чемпионом мира. Матч-реванш с Алехиным гарантирует ему
владение титулом в течение двух лет. Наконец, вероятно, в новую победу
Эйве над Алехиным они верят больше, чем над каким-нибудь другим
противником.
Во всяком случае, в Ноттингеме, где Алехин встретится с Ласке-
ром и Капабланкой, Эйве играть не будет1. Выйдет ли из этого
турнира Алехин победителем? Это был бы первый шаг к его реставрации.
Способен ли он к тому?
Когда Капабланка потерял мировое первенство, он остался тем
же, кем был, а и он не мог вполне оправиться от полученного удара.
Алехин вернулся из Голландии другим человеком. Нужно чудо, чтобы
восстановить прежнее его изумительное искусство.
Но с Алехиным мы всегда находимся на грани нереального.
Именно глубина испытанного потрясения может вызвать спасительную
реакцию. И никто не поручится, что именно он не будет первым
чемпионом, который, потеряв, снова вернул себе свое звание. Такого
примера шахматная история еще не знала.
«Сегодня» (Рига), 28января 1936
Константин Бельговский
А.А.АЛЕХИН О ВОЗМОЖНОСТИ
СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В СССР
Известный чехословацкий шахматный маэстро К.Опоченский был в
Вене в то время, когда Алехин заключал там условие относительно
матча-реванша с Эйве. Опоченский несколько раз встречался с
бывшим чемпионом мира и имел с ним продолжительную беседу.
В этой беседе А.А.Алехин сообщил немало нового и интересного
о своих планах и намерениях на ближайшее будущее. Если
Опоченский точно передал слова быв. чемпиона мира, то прямо
сенсационно звучит та часть интервью Алехина, где он говорит о возможности
своих встреч с советскими шахматистами1.
В дословном переводе с чешского языка Алехин сказал следующее:
- В нынешнем году я хотел бы хорошо отдохнуть. По всей
вероятности, я буду играть только в Ноттингеме. Этот турнир по своим
результатам для меня, как для соперника в борьбе за титул чемпиона
мира, чрезвычайно важен. Я себя снова чувствую здоровым, или, по
1. Эйве принял-таки участие в турнире и даже обогнал на пол-очка Алехина,
но в личной встрече ему уступил.
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
531
крайней мере, более здоровым, и полагаю, что мне удастся вернуть
себе прежнюю мою форму.
Конечно, я болезненно ощущаю то, что в настоящее время, когда
шахматное движение в некоторых государствах приобретает
широкие размеры, я не могу сотрудничать в его дальнейшем развитии.
Политические бури в последние годы создали для меня много
затруднений и сделали невозможным мое сотрудничество именно
там, где оно было бы наиболее действенным и где бы я сам этого
сотрудничества больше всего желал бы. Я подчеркиваю, что это
никоим образом не произошло по моей вине. Хотя я всегда
интересовался политическими событиями, - я никогда политически не
связывал себя с ними.
Положение шахматного маэстро в нынешней культурной
атмосфере является чрезвычайно трудным и требует много осторожности
и такта. И все же моим самым искренним желанием является
сотрудничество всюду.
Нынешнее шахматное движение может быть в первую очередь
охарактеризовано размерами и интенсивностью, которые оно
приобрело в Сов. Союзе. Я сожалею, что до сих пор знаю его только по
репродукции, а не по собственному опыту. Для меня явилось бы большим
удовлетворением, как для человека вообще и для человека искусства
в частности, если бы я имел возможность путем участия в каком-либо
турнире или литературно сотрудничать в строительстве шахматного
искусства, развивающегося там.
Я открыто признаю, что я не всегда одинаково высказывался по этому
вопросу. Но я достаточно честен, чтобы признать это в настоящее время.
Я твердо убежден, что мое участие в турнирах там (то есть в СССР)
может быть реальностью. При этом я не мыслю ни о каких материальных
выгодах для себя лично.
Также и в Германии шахматное движение приобретает небывалые
формы. По пути в Земмеринг я остановился в Берлине и был
принят министром д-ром Франком. Государственная власть в Германии
уделяет шахматному движению большое внимание. Думаю, что и там
желали бы моего сотрудничества. Я получил приглашение на турнир
в Наугейм, но не знаю, приму ли в нем участие: я бы хотел в этом году
отдохнуть.
1. Это интервью обошло всю эмигрантскую печать. В газете «Наша речь»
(Бухарест, 9.04.1936) его предваряли такие слова: «Неясные шатания Алехина
вокруг Москвы наблюдались за последний год уже не раз. Но только после
своего развенчания Алехин открыто порвал связи с русским Зарубежьем и
откровенно заговорил о возможности игры с советскими шахматистами».
532
Парижский автограф
У меня вообще очень скромные планы на текущий год. Из Зем-
меринга я отправлюсь в кратковременную поездку по Югославии.
Всего в Средней Европе я останусь около трех месяцев. Я бы охотно
приехал также в Чехословакию, если бы там было организовано
небольшое турне. Не исключена возможность и моего выступления на
турнире в Подебрадах, но всё это еще в будущем и зависит от
состояния моего здоровья, - закончил быв. чемпион мира свою беседу.
«Новая заря» (Сан-Франциско), 27марта 1936
Евгений Зноско-Боровский
АЛЕХИН О СЕБЕ, СВОИХ ПЛАНАХ
И НОВЫХ ШАХМАТНЫХ ЗВЕЗДАХ
Алехин надеется выиграть у Эйве. - Флор никогда не будет
чемпионом мира. - Алехин согласен играть с Капабланкой. -
Керес. - Лучшая надежда среди молодежи. -
Алехин поедет в Москву, если его пригласят.
(Письмо из Парижа)
Из своего недальнего «замка», где он обычно живет, а нынче
необычно отдыхает, где на озере вскоре будут плавать белые лебеди, а
разноцветные павлины гордо выступать по газону, - АА.Алехин
приехал на несколько дней в Париж дать сеанс одновременной игры на
выставке.
Сеанс происходил в только что отстроенном и очень современном
Спортивном дворце, в конце огромного зала, где разбит несчетный
ряд теннисных площадок, каждая под своей крышей, ринг для бокса
и другие спортивные ухищрения, которые с видимым
удовлетворением показывает посетителям теннисный чемпион Боротра,
зачинщик всего этого предприятия. Среди длинных рядов
многочисленных столиков с доброй сотней внимательных и нетерпеливых
противников Алехин уверенно и спокойно ходил, и странно было видеть
его без вечной папироски в руках, не пьющим непрерывно черного,
крепкого кофе,
Я воспользовался краткими часами перед его отъездом, чтобы
поговорить с ним. О многом хотелось спросить накануне решительной
схватки в его жизни, так много вопросов выдвинуто за последнее
время, о которых мнение бывшего чемпиона ценно, важно и актуально.
И главный вопрос - он сам, его состояние, самочувствие.
Я знал уже, что за эти два месяца после турнира в Кемери он
ведет очень регулярный образ жизни, ложится спать в 10 часов вечера,
встает в 7 часов утра, много гуляет, удит рыбу, в шахматы не играет, а
только просматривает чужие партии да изучает некоторые новинки,
отлично спит и много ест, так что прибавил 10 кило, и теперь, на мою
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
533
мерку, показывает какой-то фантастический вес. Не курит, не пьет,
не нервничает.
Я сижу рядом с ним в отеле и присматриваюсь к нему
Действительно, никаких нервных движений, никаких тиков в нем незаметно,
он очень спокоен, говорит ровно, не торопясь, и производит почти
впечатление как бы после победы над Капабланкой... Нет, конечно.
И на лице его легли следы прошедших лет, и нет тогдашней
напористой самоуверенности, нет и тогдашнего впечатления, что
«черноземная» сила прет из него. Но несомненна и огромная разница с тем,
каким мы его видели последние годы.
- Я не представляю себе, чтобы можно было чувствовать себя
лучше, чем я сейчас, нельзя быть здоровее, - подтверждает Алехин мое
наблюдение. - Если я теперь не выиграю у Эйве, это будет значить,
что теперь он играет сильнее, чем я, что я не могу вернуть себе форму
моих лучших лет, 1930-1933 годов. Но, по правде сказать, последнего
я не нахожу. Мои победы в Кемери над Файном и Решевским
принадлежат к моим лучшим достижениям. Так что я не думаю, чтобы
Эйве мог выиграть у меня, тем более что он, вероятно, не
ограничится формальной победой, в одно очко преимущества, а захочет
доказать свое действительное превосходство.
- Как вы к нему относитесь?
- Он, конечно, играет лучше теперь, чем раньше, и к матчу с ним я
отнесусь с тою же серьезностью, как против Капабланки. Главное его
преимущество в том, что у него богатый запас разработанных
дебютных вариантов. Он интересуется дебютами, как мало кто, один Файн,
пожалуй, похож на него. У меня, как и у Капабланки, такого интереса
нет. Я, конечно, анализирую, нос чисто практическими целями,
поскольку это нужно для игры, Эйве же увлекается анализами ради них
самих. Но все же последние два года Эйве играл не так, как должен
бы играть чемпион мира, да и всё чаще у него случаются просмотры
и даже зевки.
- Говорят, в последних турнирах он не мог играть во всю силу, так
как приезжал неподготовленным, усталым после школьных занятий.
- В таком случае ему придется выбирать между отстаиванием
своего шахматного титула и педагогической деятельностью.
Я вспоминаю Ласкера, который, завоевав звание чемпиона мира,
отказался от преподавательской деятельности. Какой путь изберет
Эйве? Кажется, ему понравилось быть чемпионом мира, и он уже
стал отступать от прежней строгости в вопросе о получении денег за
свои выступления.
Сам собой разговор переходит к недавнему решению ФИДЕ
(международной шахматной организации), объявившей Флора
кандидатом в шахматные короли.
534
Парижский автограф
- В этом решении всё непонятно, всё удивляет, - сказал Алехин. —
Его поспешность, во-первых: могли бы подождать хотя бы исхода
моего матча с Эйве, от которого так много зависит. Эта спешка тем
менее была нужна, что матч Флора предполагается на 1940 год: мало
ли что может произойти за три года? Далее, если всё дело сводилось к
формальному подсчету полученных игроками призов, то к чему было
выбирать на предыдущем съезде ФИДЕ специальную комиссию для
составления списка кандидатов и установления очереди между ними?
В эту комиссию входил и я, и мы на первое место поставили Капа-
бланку, на второе — Ботвинника, основываясь, главным образом, на
их недавних успехах. Флор входил в наш список, но, как видите,
очередь его должна была наступить еще не скоро. Я думаю, что Флор
никогда не будет чемпионом мира, так как он уже вполне сложившийся
игрок, возможности которого уже ясно означены и ограничены. Но,
конечно, права его играть на мировое первенство никто не отрицает,
и если бы он собрал нужные средства, ни один чемпион не отказался
бы сразиться с ним. Однако я полагаю, что своим решением ФИДЕ
только навредила Флору, так как вызвала возмущение среди его
коллег и соперников и даже вражду к нему Если его матч все же
состоится в 1940 году, то это будет не благодаря, а вопреки ФИДЕ.
- Если вы победите Эйве, как вы отнесетесь к ФИДЕ и ее
решениям?
- Я этими решениями нисколько не связан и не имею никаких
обязательств по отношению к ФИДЕ. Я буду действовать по
собственному разумению и буду считаться с ФИДЕ лишь как с
моральной силой и поскольку ее решения будут мне казаться правильными
и полезными для шахмат.
- Какие же матчи за мировое первенство предвидите вы после
вашей встречи с Эйве?
- На этих днях должен приехать ко мне в деревню капитан
аргентинской команды Пиаццини, чтобы переговорить со мной о моем
первом матче в будущем. Аргентинцы, совместно с Уругваем,
действительно собираются устроить в 1939 году матч за первенство мира.
Их симпатии, конечно, на стороне Капабланки, но еще вовсе не
решено, что именно он будет играть этот матч. В любом случае, будет
ли это Капабланка или кто другой, я дам полное согласие на участие
в этом состязании.
- Будете ли вы играть в Москве?1
- Если я получу приглашение, то непременно поеду. Но должен
сказать, что в советских шахматных журналах я до сих пор не
встречал указаний на этот турнир, а потому надо подождать: да состоится
ли он вообще, и если состоится, то когда именно? Также я согласился
играть весной в Амстердаме, в турнире кандидатов на мировое пер-
Интервью с А.Алехиным (1927—1940)
535
венство, в том случае, если я окажусь побежденным Эйве и если этот
турнир действительно состоится.
- Кого из молодежи вы ставите выше других?
- Несомненно, Кереса. Признаюсь, что в прошлом году я не был
такого высокого мнения о нем, но за этот год он так развился, так
вырос, что я переменил свое мнение, и теперь для меня не
представляет сомнения, что именно он является лучшей и наиболее яркой
надеждой. Того же мнения, кажется, держится и Капабланка. Керес и
Ботвинник! Но куда же симпатичнее живая, яркая, предприимчивая,
подчас рискованная игра Кереса!
- А что вы скажете о Земмеринге?
- Меня поражает, что почти все участники, за исключением,
кажется, Флора, так часто испытывают острый недостаток времени, от
чего много партий испорчено грубыми ошибками. Между тем игра
ведется с той же быстротой, как матчи на мировое первенство. Ни я,
ни мои противники, Капабланка, Боголюбов, Эйве, никогда так не
страдали от времени, как в Земмеринге. И это едва ли хороший
признак, особенно для молодых мастеров.
Надо уходить. Приближается время, когда уже пора будет ехать на
вокзал.
- Все эти два года, — прибавляет Алехин, - я был занят тем,
чтобы сделать возможным устройство моего матча с Эйве и организовать
его. Это было нелегко. Эйве не мог играть раньше октября, и поэтому
пришлось отказаться от устройства матча в Земмеринге, где Панханс-
отель закрывается уже в сентябре. Эйве немало помог мне, так как
хотя он и был обязан дать мне реванш, но между обязательством и
доброй волей действительно осуществить его -дистанция огромная.
Наконец цель моя достигнута. Ровно через две недели начинается
матч. Предстоит десять недель упорной борьбы. И только когда они
пройдут, я буду в состоянии говорить, что я буду делать дальше,
каковы мои планы...
Что ему пожелать? Сказать по-русски - ни пуха, ни пера? Или
французское слово «Камбронна»?2 Но сиамские коты на этот раз
сопровождать его не будут. Будем видеть в этом счастливый знак. И
пусть победа улыбнется гениальнейшему.
«Сегодня» (Рига), 24сентября 1937
1. В 1938 году в Москве намечался очередной международный турнир.
2. Генерал Камбронн командовал старой гвардией в битве при Ватерлоо. На
предложение англичан сдаться он ответил гордой фразой: «Дерьмо! Гвардия
умирает, но не сдается». Первое слово (Merde!) и стали называть «слово
Камбронна» («mot de Cambronne»).
536
Парижский автограф
Евгений Зноско-Боровский
АЛЕХИН СНОВА В ЕВРОПЕ
В стране нуворишей. - Торжественная встреча в Гаване. -
Враги Капабланки. - Как состоялся турнир в Буэнос-Айресе. -
История матча Алехин - Капабланка.
(Письмо из Парижа)
- Здесь, в Тринидаде, вице-губернатором острова негр. Впрочем, я
стоял не у него, а у губернатора-англичанина...
- В Гуаякиле я давал сеанс одновременной игры за гонорар,
которому нельзя отказать в оригинальности: две настоящие панамы. Эти
шляпы выделываются здесь и стоят очень дорого...
- Тут, в Панаме, имеются американские шахматные клубы, а есть
и испанские, и члены их в чужой клуб не ходят: такова вражда между
обслуживающими канал американцами и местными жителями. Меня
представили президенту республики, который впоследствии, как вы,
верно, читали, открывал панамериканскую конференцию...
Алехин водит пальцем по громадному, изнутри освещенному
глобусу, говорит сухие числа своих результатов в шахматных
состязаниях, воскрешает разные бытовые подробности, вспоминает о
всевозможных встречах, перечисляет местности, которые посетил. Какие
имена! На карте все они одинаковы, Чухлома ли, Версаль, всё одно.
Но когда слышишь эти экзотические названия: Богота, Кюрасао,
Каллао, воображение разыгрывается. Мир этот кажется далеким,
легендарным, чужим, хотя отлично знаешь, что до него рукой подать.
Как часто во время рассказа Алехина случалось подтверждать его
упоминание о встрече с общим знакомым:
- Да, знаю, он мне уже рассказывал о ней в Париже...
И не хочешь расстаться с его сказочностью и древностью, даром
что непривычное, чарующее имя скрывает часто самые современные
реальности. Что может быть мечтательнее названия Белло-Оризонте?
Между тем городу всего 25 лет, и своим существованием он обязан
золотым россыпям, найденным окрест. Или Каракас, маленькая столица
маленькой Венесуэлы, вдвое больше Франции при 3 миллионах
жителей, «страны нуворишей»: после европейской войны в ней обнаружена
была нефть, которую англичане энергично разрабатывают. В итоге в
стране множество денег; которые некуда деть, с которыми нечего делать.
Здесь, в Венесуэле, кстати, с Алехиным случилось забавное
приключение, пикантность которого оценить могут, пожалуй, только
шахматисты.
Он дал там несколько сеансов одновременной игры, во время
которых заметил, что некоторые из молодежи играют совсем неплохо.
Он не заметил, однако, что одному из них он проиграл две партии,
Интервью с А.Алехиным (1927— 1940)
537
сделал одну ничью, не выиграв ни одной, и не знал, что это как раз
местный чемпион Лойнас. Узнал он об этом только, когда к нему
пришла делегация шахматной федерации с предложением устроить
между ними матч. Алехину стоило большого труда отговорить
делегатов от этого намерения, политично указывая, что Керес имеет
больше прав играть первым матч с ним, и ему удалось убедить их
устроить вместо матча двухкруговой турнир, в котором кроме
Алехина и Лойнаса приняли бы участие еще несколько сильнейших
местных любителей. Турнир состоялся, и Алехин выиграл в нем,
конечно, все партии. Так и в Венесуэле узнали, что сеансы
одновременной игры не то же самое, что серьезные состязания, и что
результаты в них ничего не доказывают.
Алехин уехал из Европы в декабре 1938 года, по окончании
международного турнира в Голландии, в котором так отличился Керес.
Значит, в общем он отсутствовал почти пятнадцать месяцев. Даже в
обычное время это срок большой: например, Алехин познакомился
с боливийским президентом Бушем, который с тех пор успел уже
застрелиться, по официальной версии, а по рассказам и, вероятно, в
действительности просто был убит. Уезжал Алехин в разгар Мюнхен
ских настроений, а вернулся он, когда войне уже исполнилось почти
полгода. Всё изменилось вокруг, вся атмосфера стала другая. То, что
казалось важным тогда, потеряло всякое значение теперь, и на
первый план выдвинулись заботы, которые раньше не существовали.
- Как только я приехал в Париж, - рассказывает Алехин в «Режан-
се», - я явился военным властям и теперь жду, когда и куда получу
назначение. Самое плохое в теперешних обстоятельствах - это
оказаться в стороне, вне...
- В Аргентине вас на этот счет не беспокоили?
- Иначе я не мог бы вести переговоры о матче с Капабланкой.
Когда они начались, я пошел к французскому военному агенту и по его
совету снесся по кабелю с Парижем. Это вскочило мне в несколько
сот франков, но по крайней мере я был спокоен.
Первым этапом путешествия Алехина была Гавана. От нее он
ничего не ждал, так как не должен был там играть. Тем больше было
его изумление, когда его встретили толпы народа, с музыкой, пеньем,
цветами, и разные делегации поднялись на пароход, приветствовали
речами. Несмотря на поздний час, его потащили осматривать город,
окрестности, ввели даже в уже опустевший муниципалитет.
Алехин ломал себе голову, в чем дело? Как-никак, Гавана -
столица его неизменного, многолетнего врага и соперника, Капабланки.
Оказалось, что на Кубе имеются две, враждующие между собой
шахматные федерации, и даже та, к которой принадлежит Капабланка,
вовсе не слепо и не во всем подчиняется ему.
538
Парижский автограф
Это неожиданное событие показалось счастливым
предзнаменованием для дальнейшего путешествия и позволило Алехину позднее,
когда зашла речь об устройстве матча с Капабланкой в Гаване,
ответить согласием, так как он убедился, что он не был бы окружен
насквозь враждебной атмосферой.
Так началось это путешествие, через три месяца перекинувшееся
уже на Тихий океан: Колумбия, Эквадор, Перу... всё далее на юг. Уж
не спустится ли он в горячую Патагонию, полную жюль-верновских
воспоминаний? А то, чего доброго, и соскользнет на мыс Горн?
Нет. Из Боливии Алехин проехал в Аргентину, а затем в Бразилию,
и на этом перегоне как раз из газеты узнал, к своему большому
огорчению, что турнир Международной шахматной федерации в Буэнос-
Айресе не состоится. Эта новость подымала целый ряд вопросов,
денежных, времени и других, расстраивала все планы и расчеты Алехина.
Как известно, турнир все же состоялся, хотя и с месячным
опозданием, но газетное сообщение, в момент его появления, не было
ложным. Дело, по-видимому, было так.
Аргентинская шахматная федерация, затеяв устроить это
состязание, получила обещание правительственной субсидии и даже аванс
в счет ее. Федерация решила поставить дело широко: сняла
помещение, установила телефон, отпечатала роскошные программы,
завела автомобиль. Вскоре аванс оказался исчерпан, но в новой выдаче
было отказано и твердо заявлено, что она будет сделана только когда,
когда игроки будут на месте и турнир начнется. Положение создалось
почти безвыходное. Предстояло произвести огромный расход:
купить пароходные билеты для европейских команд, которые должны
были выехать за месяц до начала состязания, - а где взять средства?
Надо отдать справедливость аргентинским шахматистам: они
проявили массу энергии и не жалели себя, чтобы справиться с положением.
Ездили по всей стране, давая сеансы одновременной игры, обложили
все спортивные организации и манифестации известными
отчислениями в пользу турнира - и своего добились: турнир состоялся, и был
очень хорошо и даже нарядно организован, в зрительном зале
большого театра. В проходах и ложах помещались многочисленные зрители.
Цену за это они, однако, заплатили большую. Аргентинцы
рассчитывали, что их команда выйдет если не победительницей состязания,
то во всяком случае займет одно из первых мест. На самом деле она
заняла только пятое: предтурнирные утомления и заботы сказались.
Такой результат сразу вызвал известную реакцию и горькое
разочарование. Турнир не оправдал возложенных на него надежд, огромные
деньги как будто были выброшены зря. Рикошетом это отразилось на
матче Алехина с Капабланкой. Победи Аргентина в турнире, не было
бы отбоя от меценатов, которые были бы готовы финансировать
Интервью с А,Алехиным (1927- 1940)
539
новое состязание. Теперь же они все попрятались. А так как никто
не верил в возможность победы Капабланки, то казалось безумием
вновь тратить громадные средства впустую.
- А в европейских газетах было сообщено, что контракт заключен
и что матч состоится в апреле 1940 года?
Алехин машет рукой.
- Сколько месяцев тянулись переговоры, сколько тысяч франков
стоила мне жизнь в Буэнос-Айресе за это время! Действительно, в
конце концов все условия были выработаны, приняты обеими
сторонами и подробнейший договор составлен. Оставалось его подписать,
да только что-то с этим не торопились. Когда я, наконец, потребовал
кончить дело, пригрозив, что иначе я уеду, выяснилось, что просто
нет той небольшой суммы, которую надо внести в качестве залога
при подписании контракта. Так он и остался не подписан.
- И матч не состоится?
- Они не теряют надежды. А вдруг мы соберем или получим
деньги? И вообразите, на этот случай торжественно был открыт в
Национальном банке текущий счет на мое имя и клуба, устроителя матча.
Мы все явились туда, произвели все нужные операции, фотографы
нас снимали, журналисты торопливо описывали историческую
сиену, а на открытом счету не было ни одного песо. На этой комической
ноте закончилась история моего матча с Капабланкой в 1940 году.
- Комической, а, пожалуй, и символической.
- Но я почти не жалею о происшедшем. Мне со всех сторон
говорили, что большего удара я не мог нанести Капабланке, как приняв
его вызов, согласившись играть матч и приняв многие из его условий.
Если бы произошел разрыв по какому-то мелкому поводу, опять были
бы крики, что я избегаю матча. Теперь все видят, что этого нет, но что
ему нелегко найти средства для матча, так как ни у кого нет веры в него.
- Выиграли войну без боя?
- Нет, все же я жалею. Я настолько уверен в своей победе, что и
морально и материально этот матч доставил бы мне много радости.
- Керес?
- Он выиграл несколько хороших партий у Эйве, и с ним сыграть
было бы большое удовольствие. Это, должно быть, когда-нибудь и
случится. Но сейчас можно ли строить какие-то планы? На неделю
вперед рассчитывать нельзя. Впрочем, если я буду свободен, лето
проведу в своей деревне, а осенью, после турнира в Португалии, уеду
в Америку... Но всё это бессодержательно и зависит не от меня...
Вдали, а как будто совсем рядом, в соседней комнате, вплотную в
ухо завыла сирена.
- Слышите?
«Сегодня» (Рига), 3марта 1940
540
Русский сфинкс
БИБЛИОГРАФИЯ
Алехин АЛ. Мои лучшие партии (1908-1923). Москва-Ленинград, 1927.
Алехин АЛ. На путях к высшим шахматным достижениям. Москва, 1932.
Алехин Алексей (ред.). Матч на первенство мира Алехин — Капабланка.
Харьков, 1927.
Богатырнук Ф.П. Борьба за первенство мира: Алехин — Капабланка —
Боголюбов. Ленинград, 1929.
Богатырнук Ф.П. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту.
Сан-Франциско, 1978.
Ботвинник Μ.Μ. К достижению цели. Москва, 1978.
Воронков СБ. Шедевры и драмы чемпионатов СССР. 1920-1937. Москва, 2007.
Воронков СБ. Федор Богатырчук. Доктор Живаго советских шахмат.
Москва, 2013 (в 2-х томах).
Дуз-Хоти мире кий Ф.И. Избранные партии. Москва, 1953.
Ильин-Женевский А.Ф. Записки советского мастера. Москва, 1929.
Ильин-Женевский А.Ф. Международное рабочее шахматное движение
и советская шахорганизация. Москва -Ленинград, 1931.
Каспаров Г.К. (в сотр. с Д.Г.Плисецким). Мои великие предшественники.
От Стейница до Алехина. Том 1. Москва, 2003.
Котов АЛ. Ш ахматное наследие А.А.Алехина. Москва, 1953— 1958 (в 2-хтомах).
Котов А.А. Белые и черные. Москва, 1965.
Котов АЛ. Александр Алехин. Москва, 1973.
Ласкер 3d. Шахматные секреты. Чему я научился у мастеров. Москва, 2014.
Левенфиш Г.Я., Романовский П.А. Матч Алехин — Капабланка
на первенство мира. Ленинград, 1928.
Левенфиш Г.Я. Избранные партии и воспоминания. Москва, 1967.
Линдер В.И., Линдер И.М. Алехин. Москва, 1992.
Линдер В.И., Линдер И.М. Короли шахматного мира. Москва, 2001.
Любимов Л.Д. На чужбине. Ташкент, 1965
Международный шахматный конгресс в память М.И.Чигорина.
С.-Петербург, 1910.
Панов В.Н. 300 избранных партий Алехина с его собственными примечаниями.
Москва, 1954.
Панов В.Н. Сорок лет за шахматной доской. Москва, 1966.
Прокофьев С.С. Дневник. 1907-1918 (часть первая). Париж, 2002.
Прохорова В.И. Четыре друга на фоне столетия Москва, 2012.
Романовский П.А. Избранные партии. Москва, 1954.
Соколов М.Б. Неизвестный мир Капабланки. Москва, 2018.
Тканенко СИ. Одесские тайны Александра Алехина. Москва, 2017.
Хеуэр В. Пауль Керес. Москва, 2004.
Шабуров Ю.Н. Александр Алехин: непобежденный чемпион. Москва, 1992.
Шабуров Ю.Н. Алехин. Москва, 2001.
Юдовин М., Кажин Б. (сост.). Друзья и соперники. Загреб, 1967.
Aljechin A. Das Schachleben in Sowjet-Russland. Berlin, 1921
Barthel Μ. Kein Bedarfan Weltgeschichte. Wiesbaden, 1950.
GillamAJ. Mannheim 1914 and the Interned Russians. Great Britain, 2014.
Приложения
541
Kalendovsky J'., Fiala V. Complete Games of Alekhine. Volume 1: 1892—1921.
Olomouc, 1992.
Kivine P. Paul Keres. Malestusi. Materjale. Kirju. Estonia, 2015.
LaskerEd. The Adventures of Chess. New York, 1949.
Lasker Ed. Chess Secrets I Learned from the Masters. New York, 1951.
Moran P. A.Alekhine: Agony of a Chess Genius. McFarland, 1989.
MiillerH., PawelczakA. Schachgenie Aljechin. Menschund Werk. Berlin, 1953.
HedejbKoeuh О. Шаховски алманах. Београд, 1939.
Skinner L.Μ., Verhoeven R.G.P. Alexander Alekhine's Chess Games, 1902-1946.
McFarland, 1998.
УКАЗАТЕЛЬ ПАРТНЕРОВ
(цифры обозначают номера партий)
Алехин - 1-12, 14-23, 26, 29, 31, 36,
37, 39-42
Блюменфельд — 24, 28, 35
Берлинский- 6
Вяхирев - 2
Голубев -31, 38
Гофмейстер- 14
Грегори - 5
Григорьев -11,12, 17-23, 30, 34
Гринберг- 9
Данюшевский - 8
Жуковский - 1
Зубарев- 15,28,32,34
Венская партия: С26 - 7; С27 - 3;
С28-2, 5, 8;С29-20
Королевский гамбит: С30- 9;
С39- 1
Защита Филидора: С41 - 21, 23, 31
Шотландская партия: С45 — 28
Дебют трех коней: С46 - 35
Дебют четырех коней: С48 - 11
Итальянская партия: С50 — 40
Испанская партия: С64 - 27;
С66-22;С67- 17; С68 - 6, 32;
С70-33;С77-29, 39
Ильин-Женевский - 29, 33
Капабланка - 42
Константинопольский - 13
Левенфиш - 13, 25, 26
Левитский - 3
Любимов-4
Мунд-25, 38
Нипхаус- 39-41
Рабинович А. - 27, 32, 35
Рабинович И. - 16, 24, 27, 30, 37
Романовский - 7, 33
Фишер М. («Фельдт») - 10
Целиков - 36
Французская защита: С06 - 42;
СП - 10; С12 — 12; С15 — 41
Скандинавская защита: В01 - 24, 34
Защита Каро-Канн: В13 - 25
Сицилианская защита: В29 - 19
Дебют ферзевых пешек: D02 - 18
Ферзевый гамбит: D40 - 26
Новоиндийская защита: Ε12 - 38;
Е43- 16
Защита Нимцовича: Е32 - 15; Е43 - 37
Английское начало: А25 - 36
Индийская защита: А50 - 30
УКАЗАТЕЛЬ ДЕБЮТОВ
(цифры обозначают номера партий)
СОДЕРЖАНИЕ
С.Воронков. Тень Гулливера 3
ОДИНОЧЕСТВО ГЕНИЯ
Веемы родом из детства 7
Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин 13
Г. Римский-Корсаков. Гимназист Алехин 14
Влияние Алехина было дурное, пагубное 24
П.Попов. О моем прославившемся гимназическом товарище 27
Из архива Владимира Нейштадта 41
Воспоминания П.С.Попова 43
Что вспомнил Н.П.Целиков 45
Беседас Ф.И.Дуз-Хотимирским 47
[Н.В.]Карпенко 48
[Заметки В.И.Нейштадта] 49
Точки над«ё» 50
Селфмейдмен 52
Женщины: счастье или несчастье? 56
Свидание с дочерью 60
М.Бартель. Земной пояс 66
Алехин вроли переводчика 71
А.-Л.Рюэгг. От Москвы до Омска 72
Ангел-хранитель 75
Роковая встреча 82
Ю .Крузенштерн-Петереи,. Алехин в Шанхае 86
ДУША ШАХМАТ
В силе и есть настоящая красота 93
Е.Зноско-Боровский. [О сущности дарования Морфи] 96
А.Алехин. В защиту Морфи от«защитника»его 98
Через борьбу — к искусству! 100
Полемика с Филидором 103
А.Алехин. [Что составляет душу шахмат] 104
Школа комментирования 106
Тайна Санкт-Блазиена 106
Искусство «огранки» 117
Ребус Дуза 123
За кулисами первого триумфа 125
Всему свое время 127
Под взглядом Ласкера 128
После драки кулаками... машут! 133
Как рождаются мифы 142
СТАНОВЛЕНИЕ
Журналистский дебют 147
А.Алехин. Итоги виленского турнира 149
Петербург: воспитание характера 153
А.Лацис. Секреты шахматного поведения 153
С.Прокофьев. Петербургский дневник 158
А.Рабинович. [Случай в кафе «Квисисана»] 161
Н.Радлов. Поражение Алехина 162
Н.Гарина. Алехин Александр Александрович 163
Мангеймская эпопея 166
Казанова с фальшивым паспортом 166
Версия первая: Алехин 168
Версия вторая: Богатырчук 173
Версия третья: Малютин 180
Так почему освободили Алехина? 189
Тайны «слепых» шахмат 191
Ошибка памяти 192
Загадка «Фельдта» 199
Вредное трюкачество 207
Аналитический чу до-модуль? 213
Мистификация века ,., 213
Суперконцовка 221
Не стой ноги? 225
Сюрпризотбиблиофила 227
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
На квартире Сабурова 233
Бросок на юг 237
«Наш товарищ Алехин» 240
История с одесским арестом 247
Следователь Центророзыска 252
Переводчик Коминтерна 262
Неизвестные партии с Григорьевым 266
Автограф гения 276
Встреча с Шостаковичем 286
Что с Алехиным? 288
Виза от ВЧК 290
Кто стоял за спиной Радека? 296
Крамольная книга 299
А.фон Алехин. Шахматная жизнь в советской России 302
«Агент Коминтерна» 311
С нами он или не с нами? 316
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Находка в Особом архиве 331
Парижские тайны Алехина 339
Тайный мастер 341
Поиски храма на Иветке 344
Встреча с Алехиным 347
Поход на Круа-Нивер 350
Продолжение спецоперации? 352
Басня о Горшке 358
Сговор в Амстердаме 365
Ботвинник или Керес? 372
Злополучный замок 376
Забытый конверт 386
Сюрприз от Алехина 392
Ботвинник против Вайнштейна 399
«Дорогой Иосиф Виссарионович!» 405
Секретные файлы 416
К достижению цели! 423
Вместо эпитафии 430
ПАРИЖСКИЙ АВТОГРАФ
Е.Зноско-Боровский. А.А.Алехин в «Последних новостях» 435
А.Алехин. О прошлом и будущем шахмат 436
А.Алехин. «Слепые» шахматы 446
А.Алехин. Евг.А.Зноско-Боровский 452
А.Алехин. О «технике» современных мастеров 458
А.Алехин. Е.Д.Боголюбов 466
А.Алехин. Наша смена 475
А.Алехин. Перспективы Московского турнира 483
А.Алехин. Макс Эйве 487
Е.Зноско-Боровский. Алехин в Париже 494
А.Седых. А.А.Алехин в Париже 497
Л.Любимов. Беседа с А.А.Алехиным 501
В.Рейнбот. У короля царственной игры 504
У А.Алехина 507
А.А.Алехин о своих турнирах. Предстоящий мировой чемпионат 509
Л.Любимов. Впечатления и планы А.А.Алехина 512
Е.Зноско-Боровский. Беседа с Алехиным 516
В.Сосинский. «Мы ленивы и нелюбопытны» 519
Е.З носко-Боровский. Кругосветное путешествие А.А.Алехина 521
ААлехин: «Я не вижу в мире шахматиста, который мог бы меня победить» 526
Е.Зноско-Боровский. Встреча с Алехиным после поражения 527
К.Бельговский. А.А.Алехин о возможности своих выступлений в СССР 530
Е.Зноско-Боровский. Алехин о себе, своих планах и
новых шахматных звездах 532
Е.З носко-Боровский. Алехин снова в Европе 536
ПРИЛОЖЕНИЯ
Библиография 540
Указатель партнеров 541
Указатель дебютов 541
Новая работа известного шахматного историка и писателя
Сергея Воронкова — это книга-откровение, книга-сенсация!
Перед нами, по сути, первая серьезная попытка осмыслить
загадку личности легендарного чемпиона мира Александра
Алехина. Пускаясь в путь, автор даже не представлял себе,
что его ждет. Он просто скрупулезно изучал и сопоставлял
документы и свидетельства очевидцев — те, что были
известны, и те, что ему самому удалось найти (среди них — немало
уникальных). Результат удивил: образ «русского сфинкса»
получился мало похожим на тот, к которому мы все
привыкли. Он гораздо сложнее, внутренне противоречивее и
трагичнее — впрочем, как и у многих других русских гениев, чью
жизнь переехало «красное колесо». В чем-то вызывает
восхищение, в чем-то сочувствие, а в чем-то и неприятие...
377-32-41
9 785907"077324