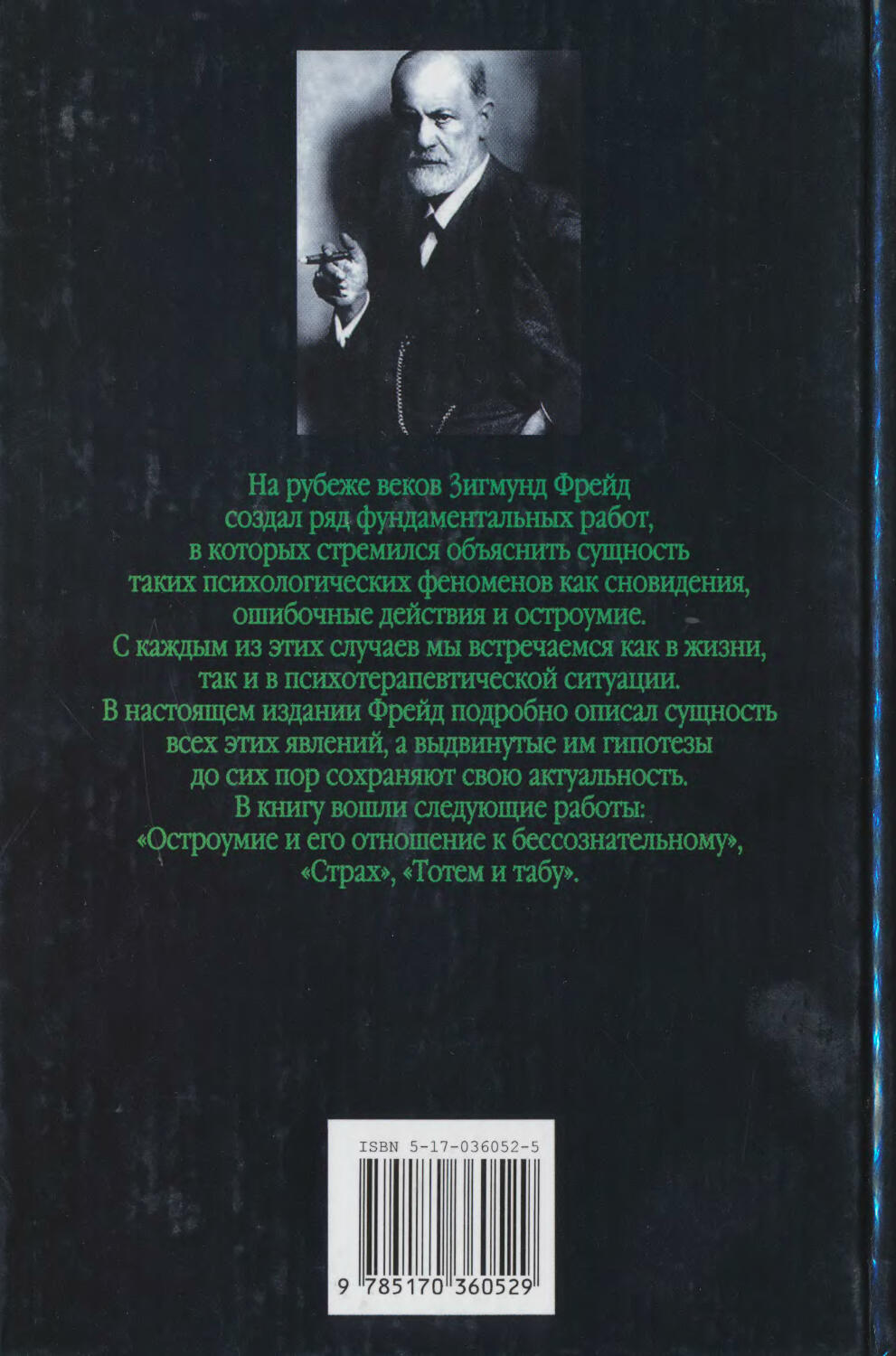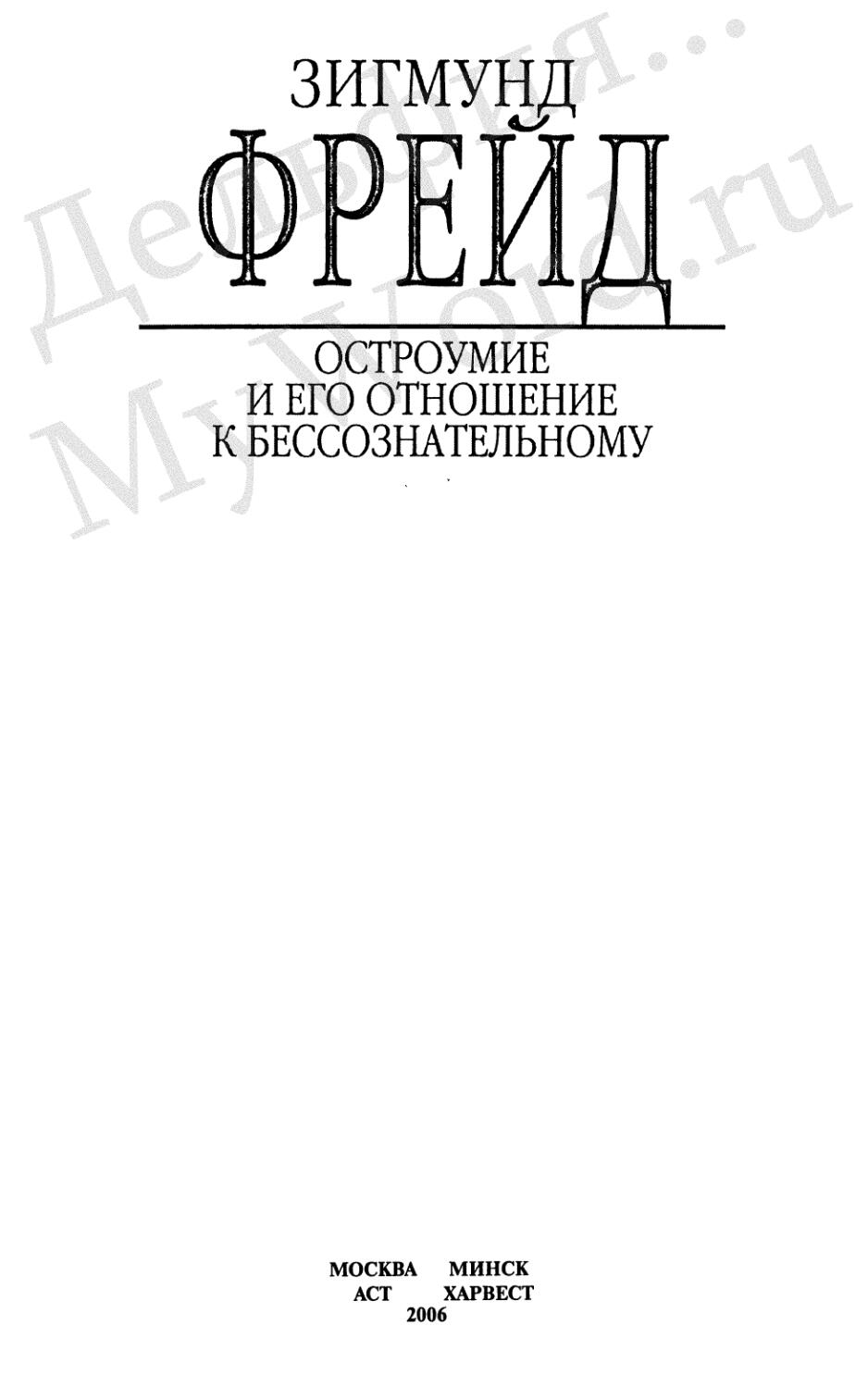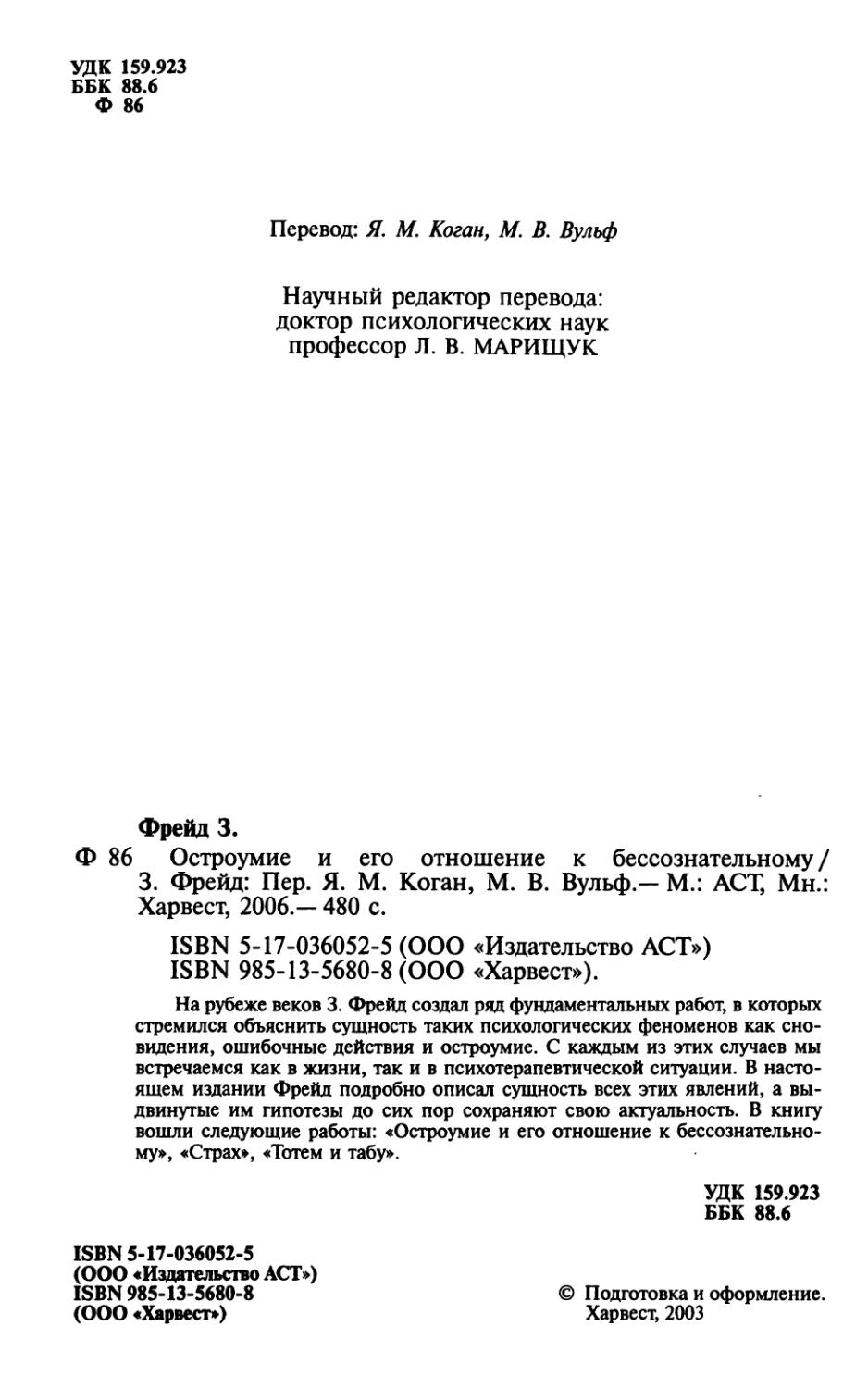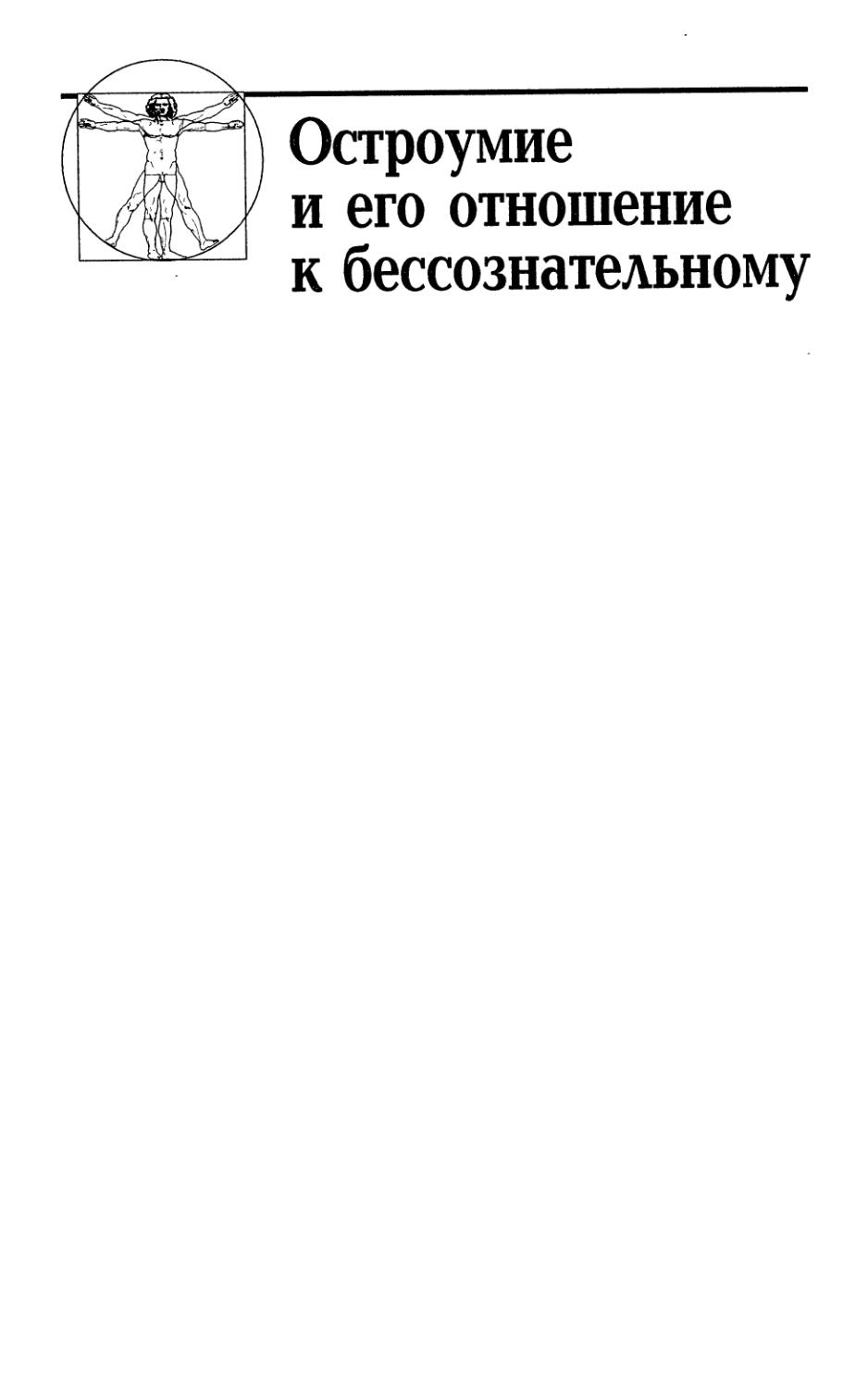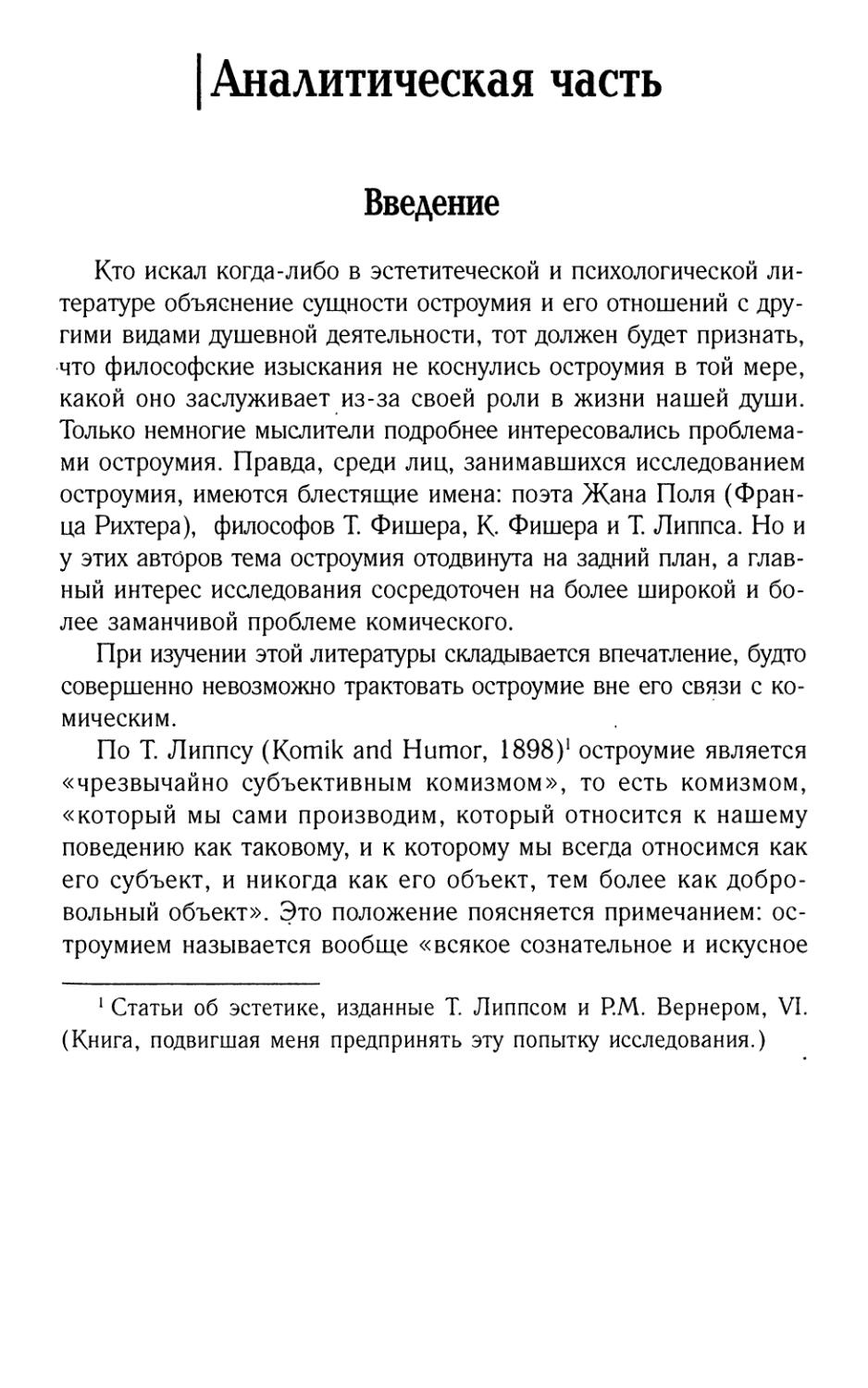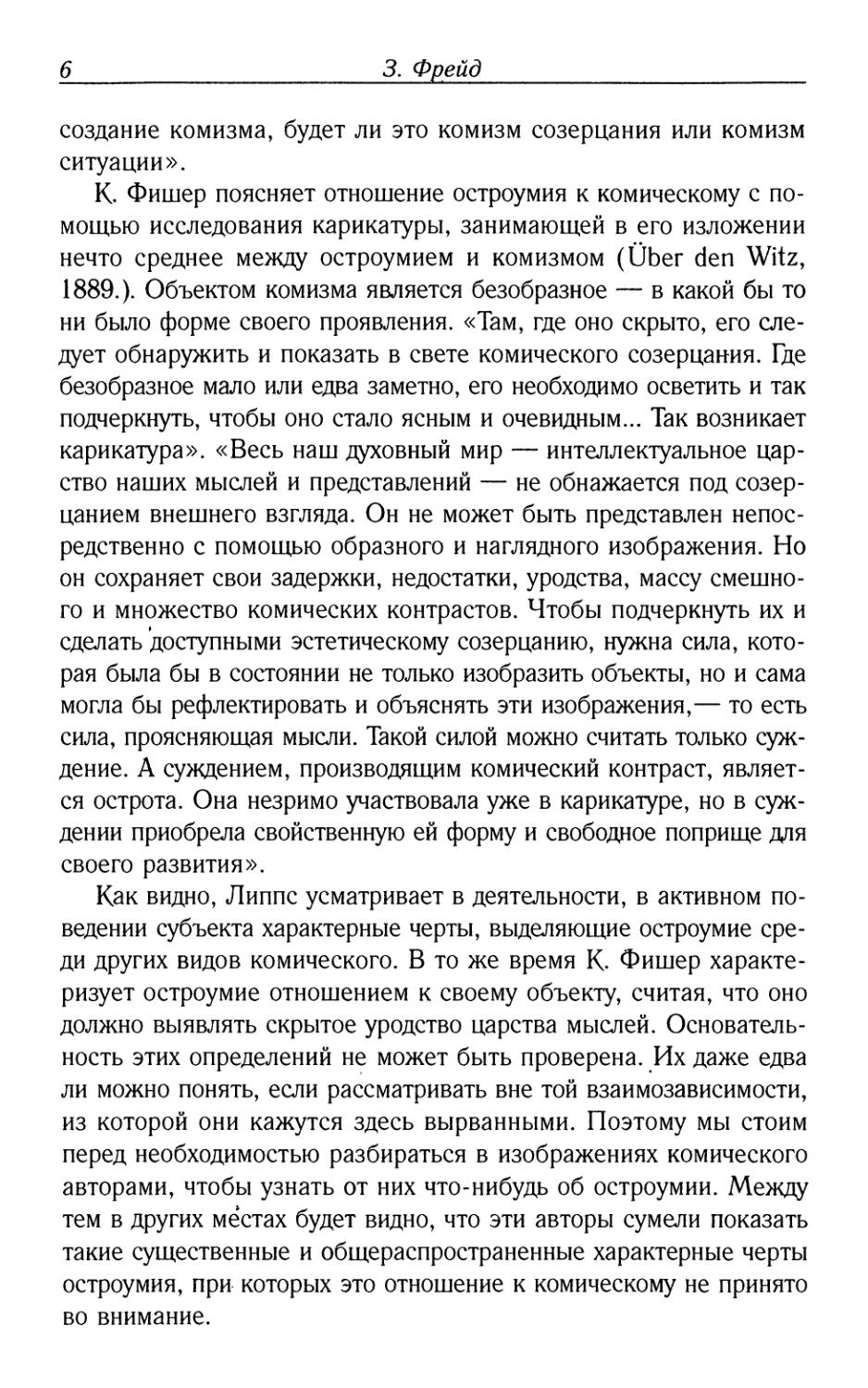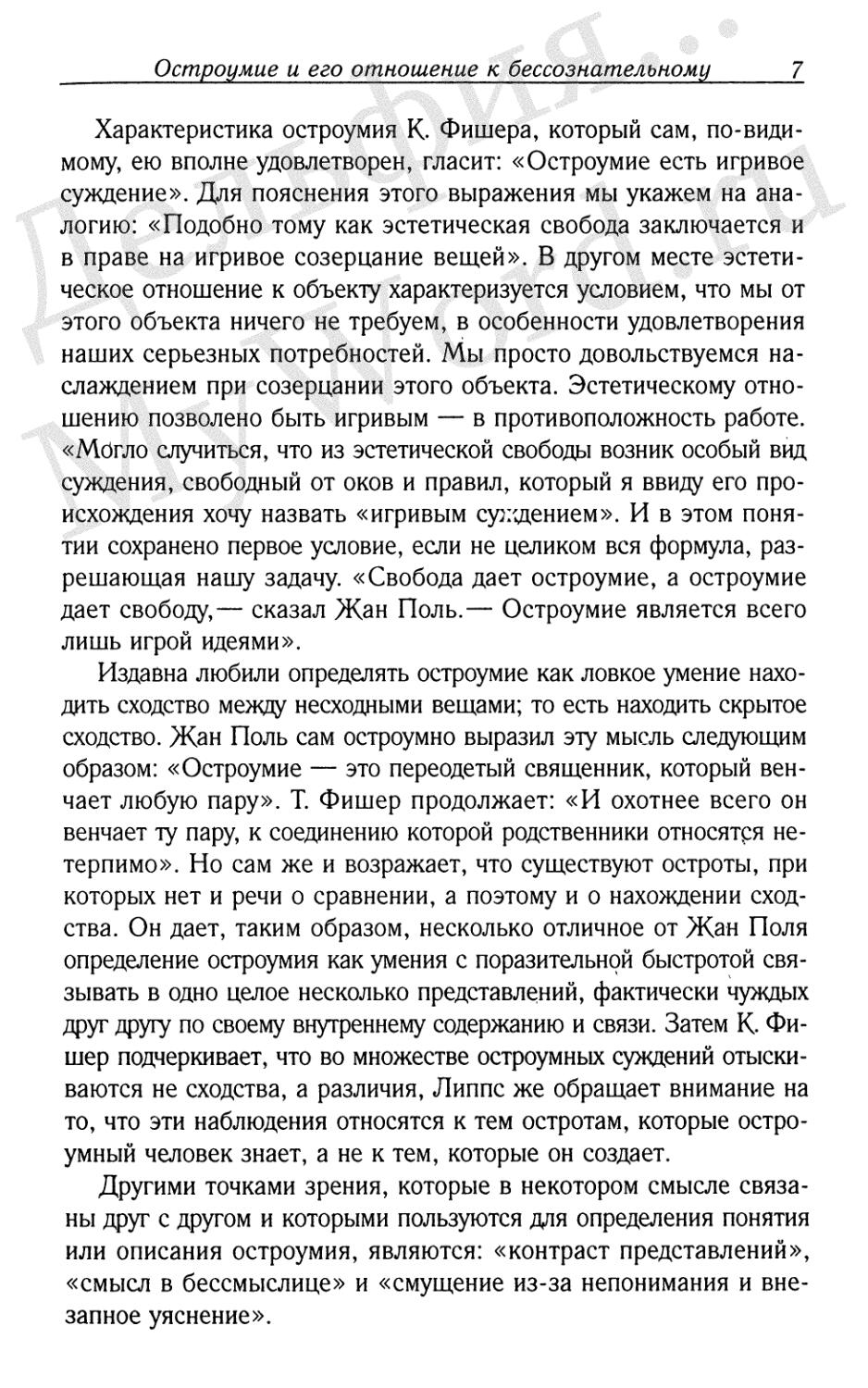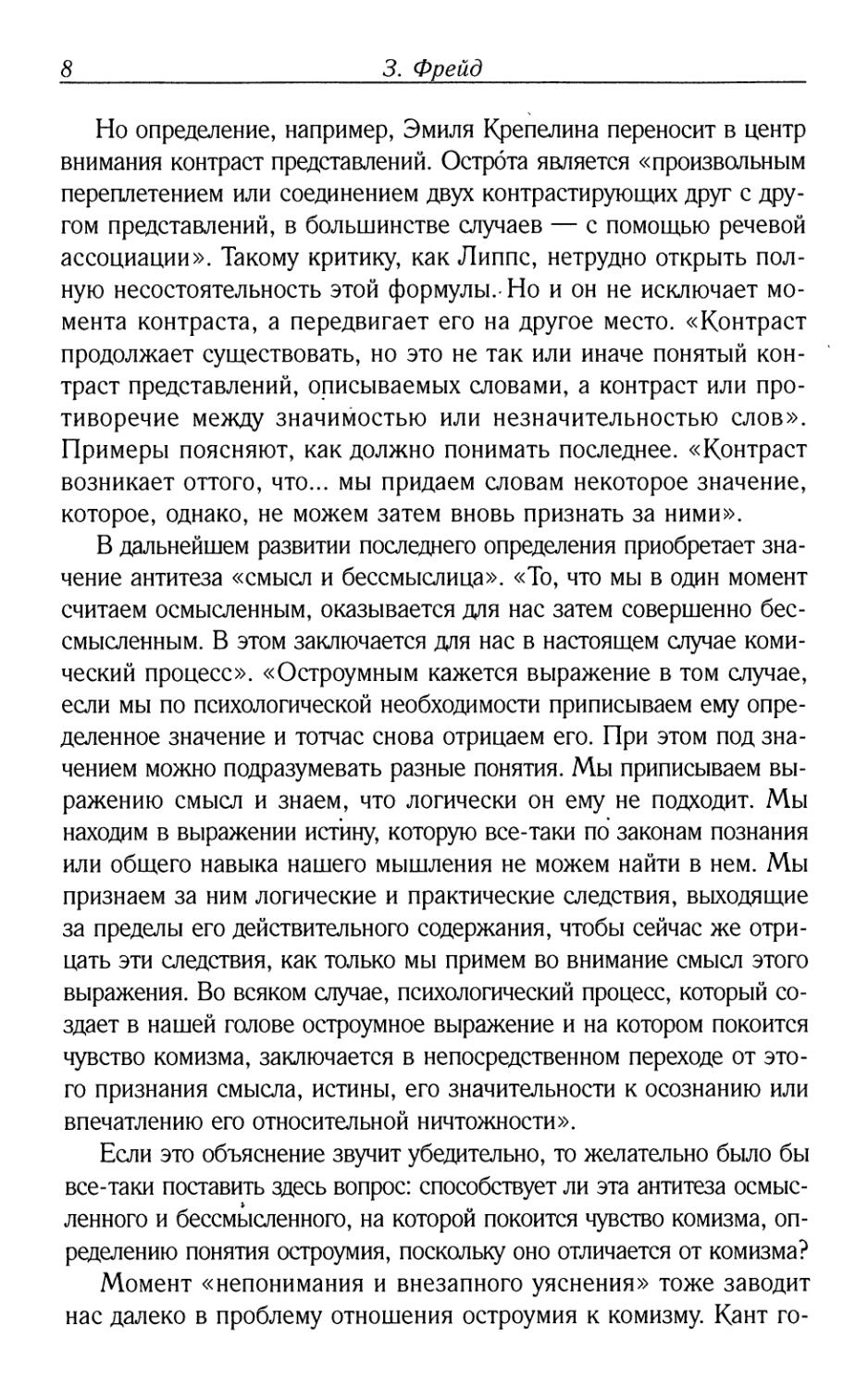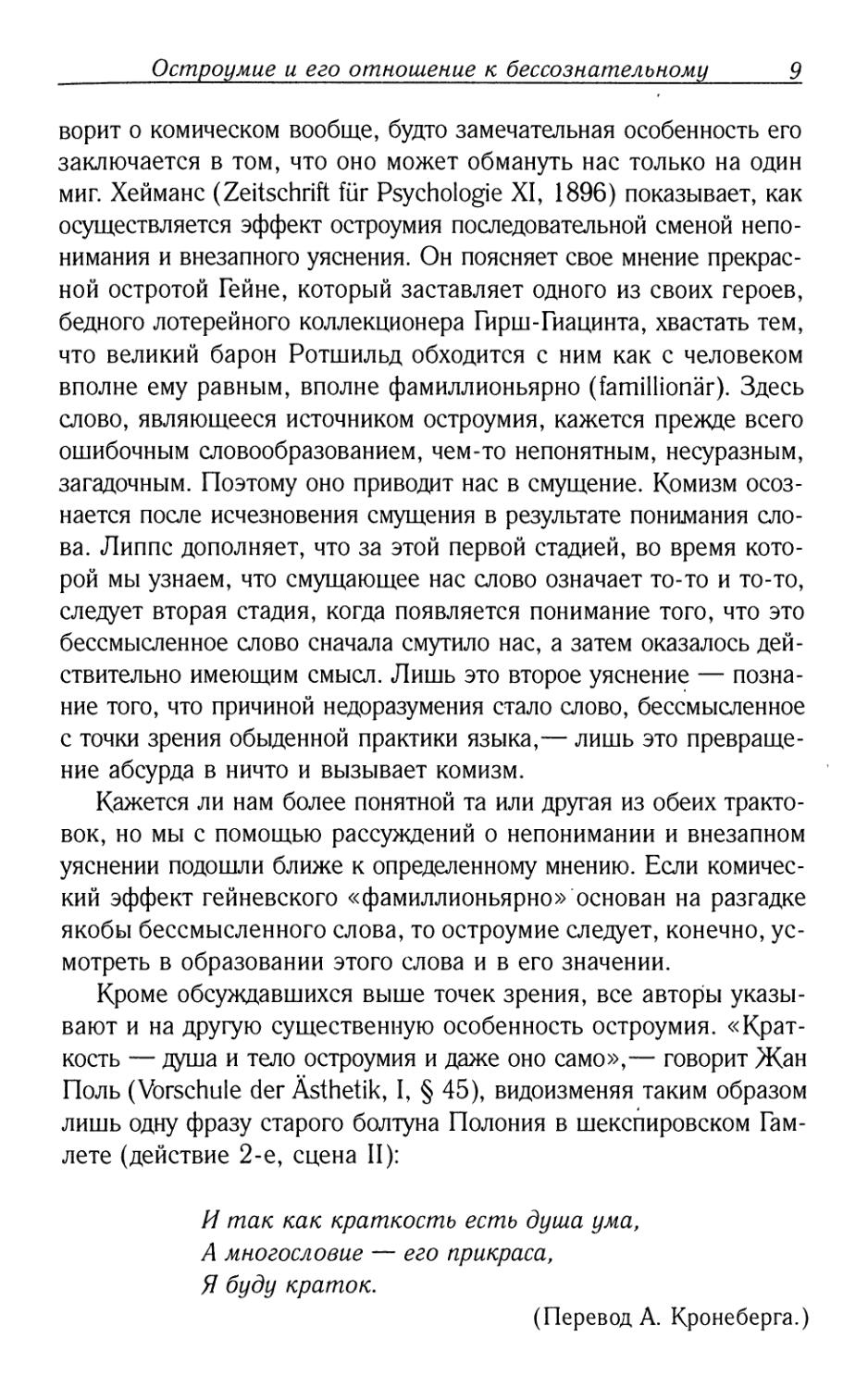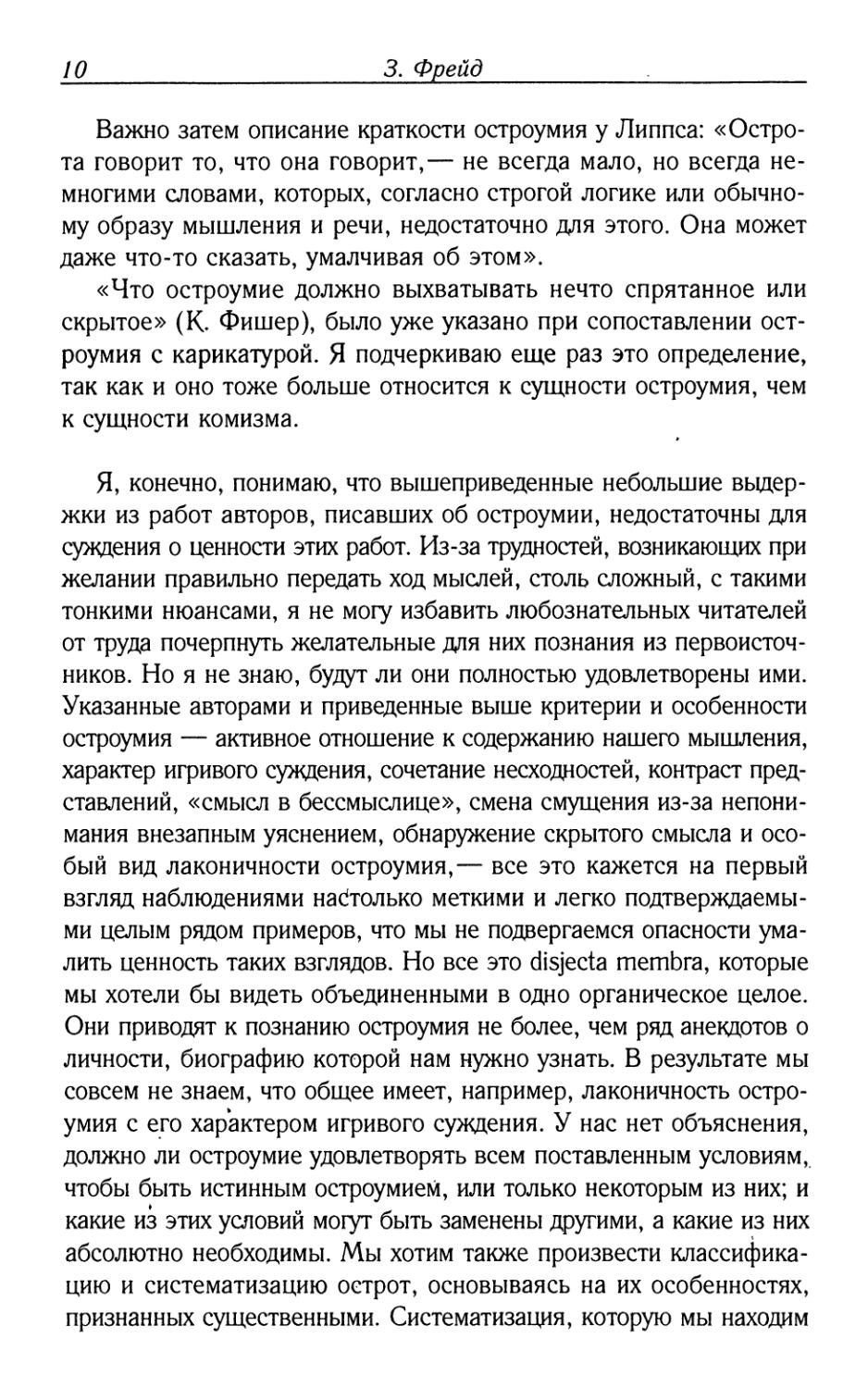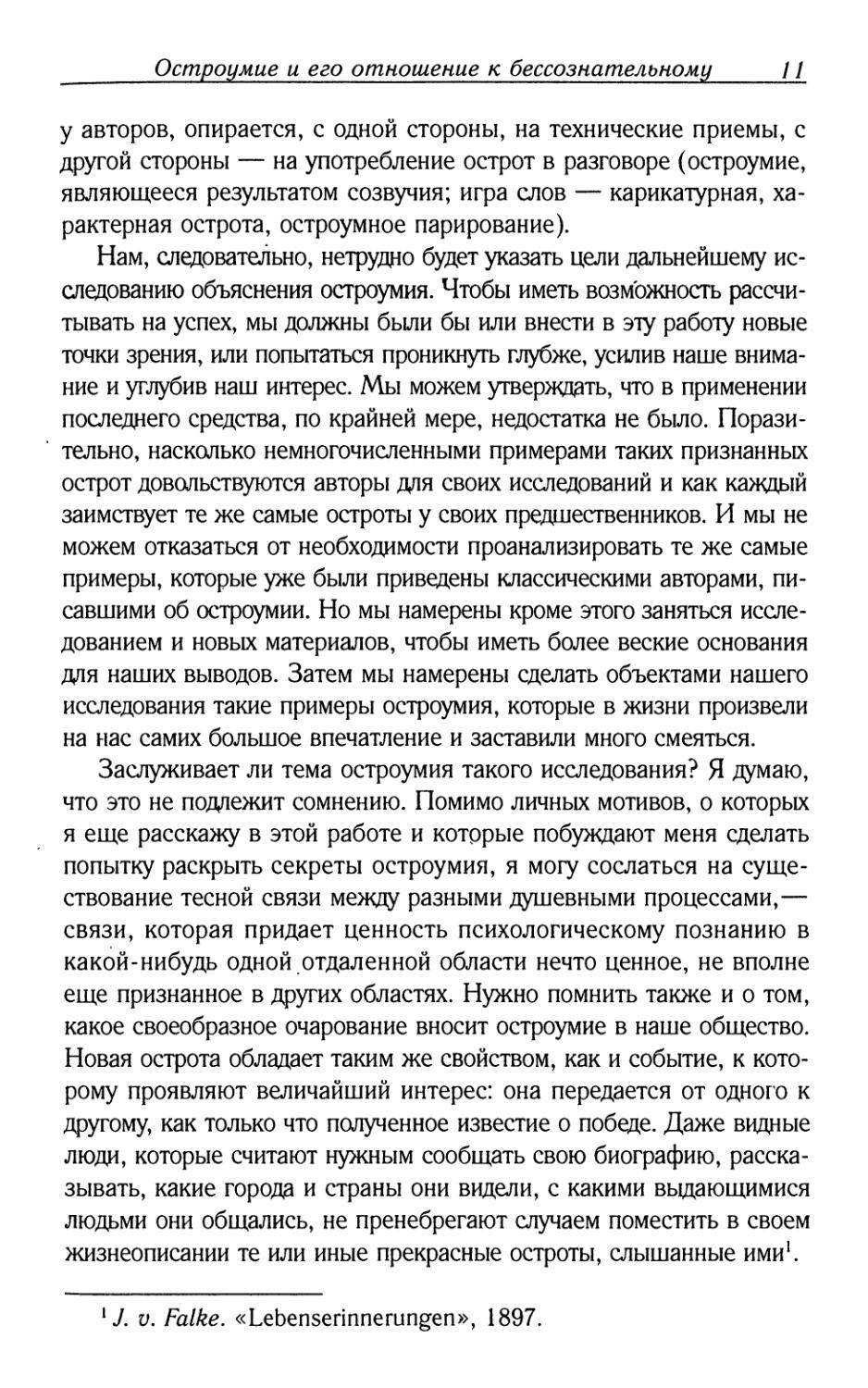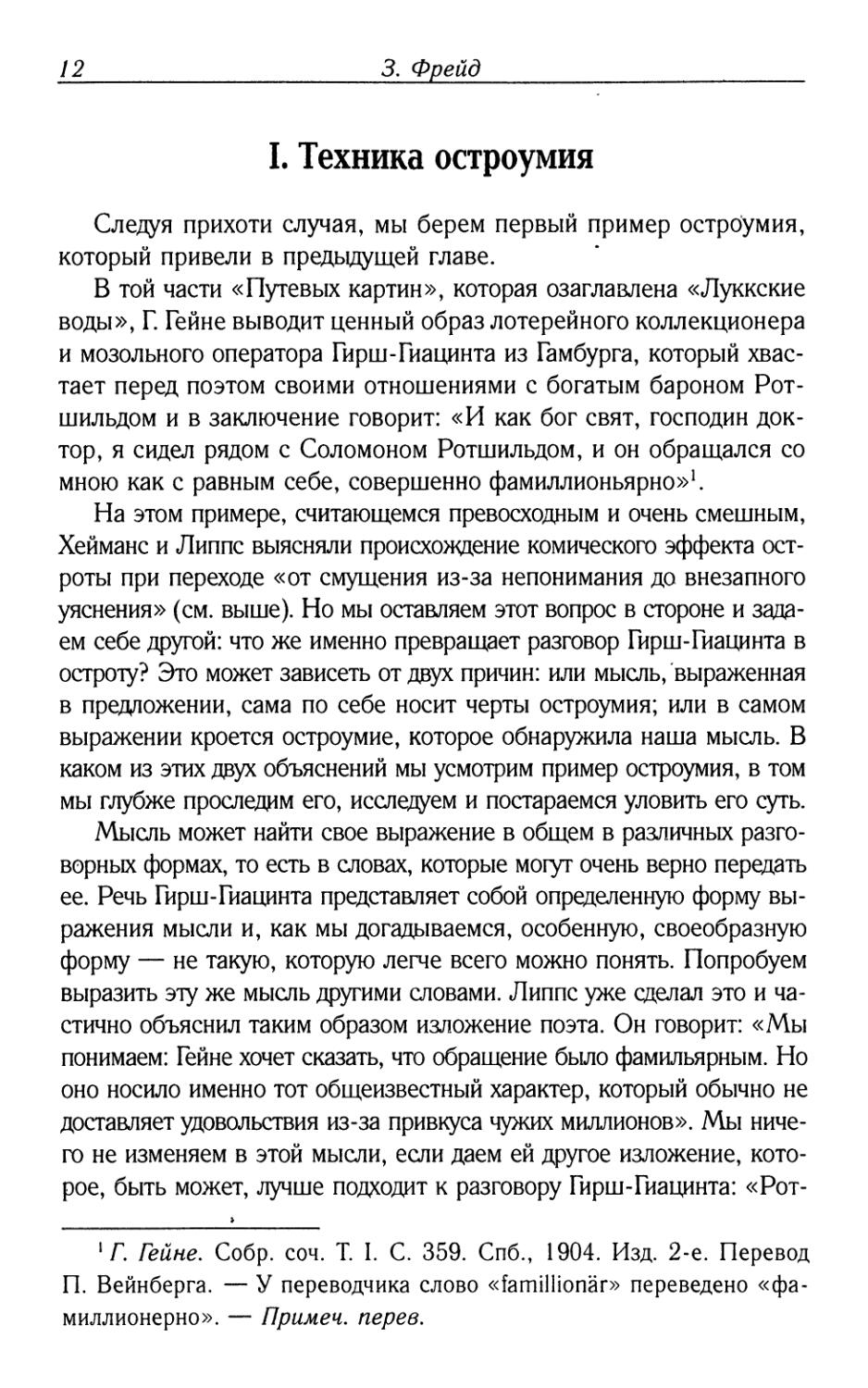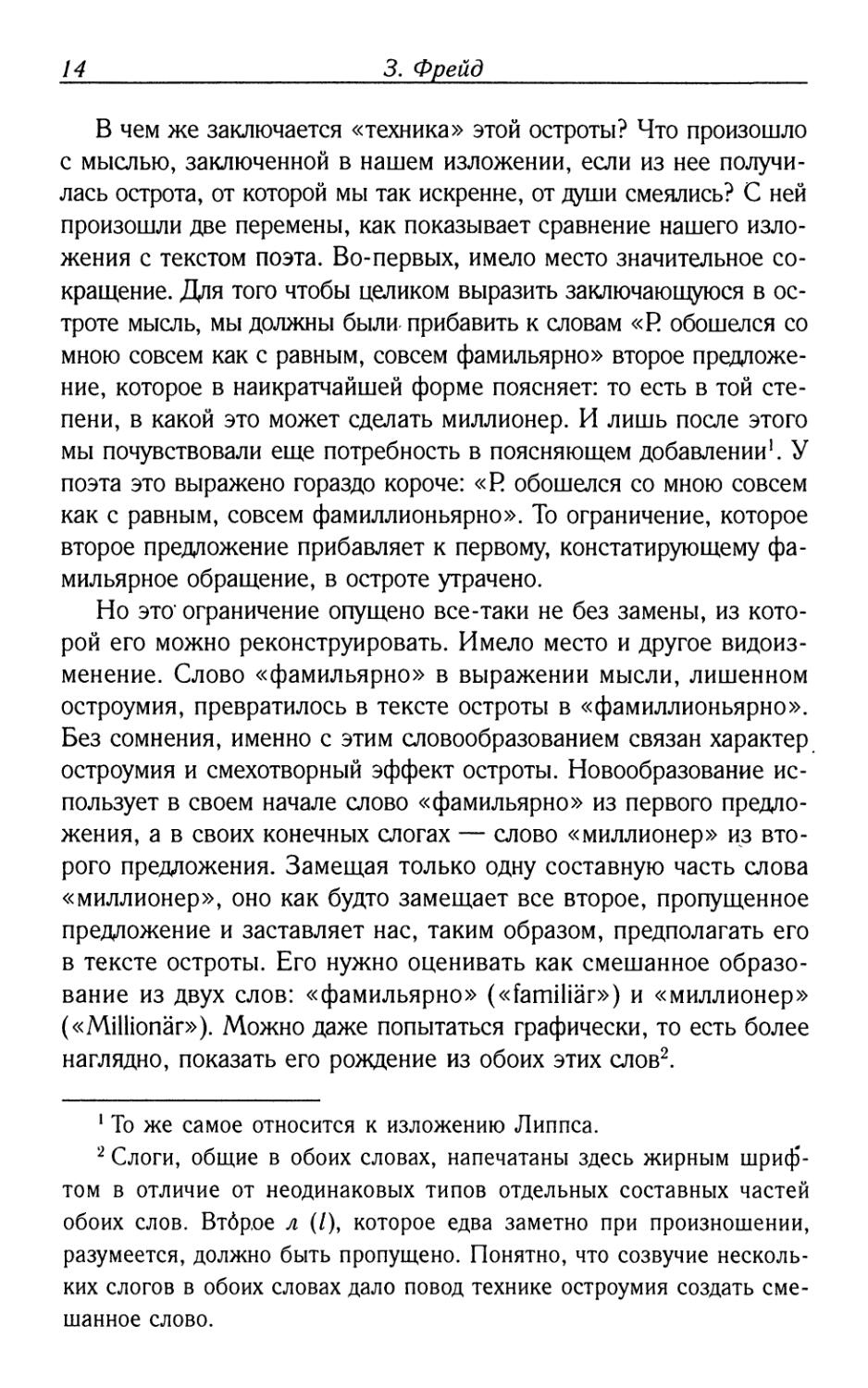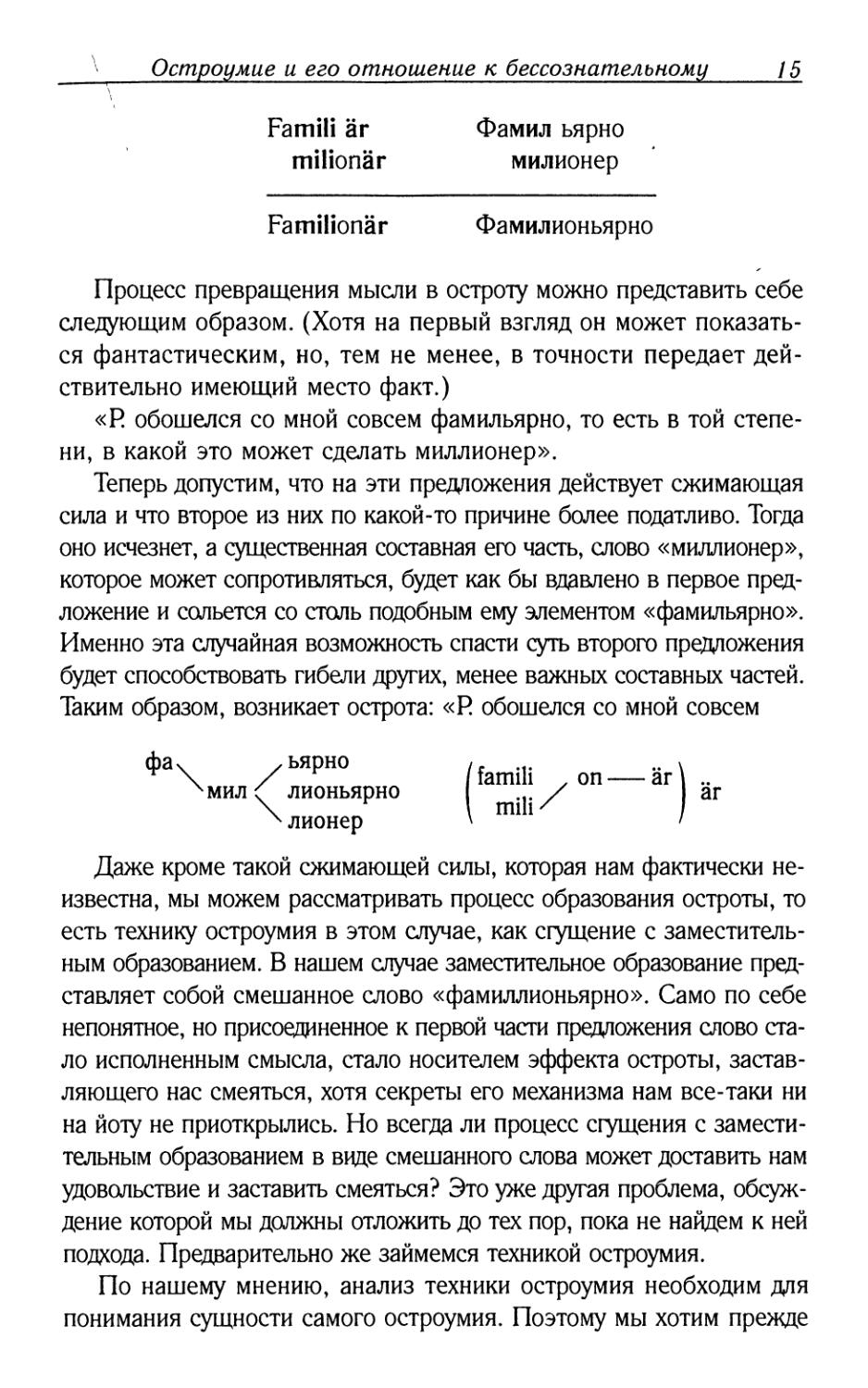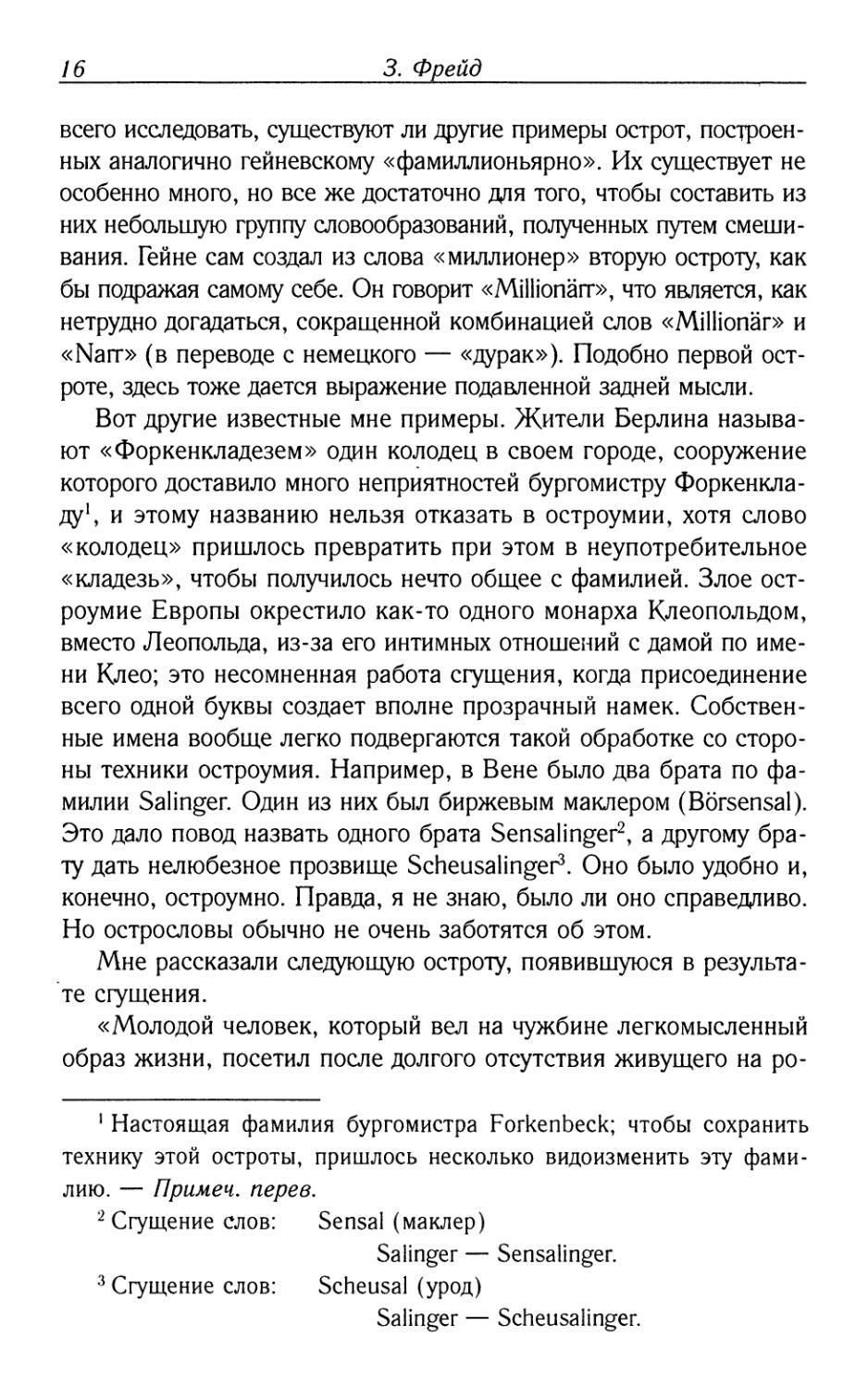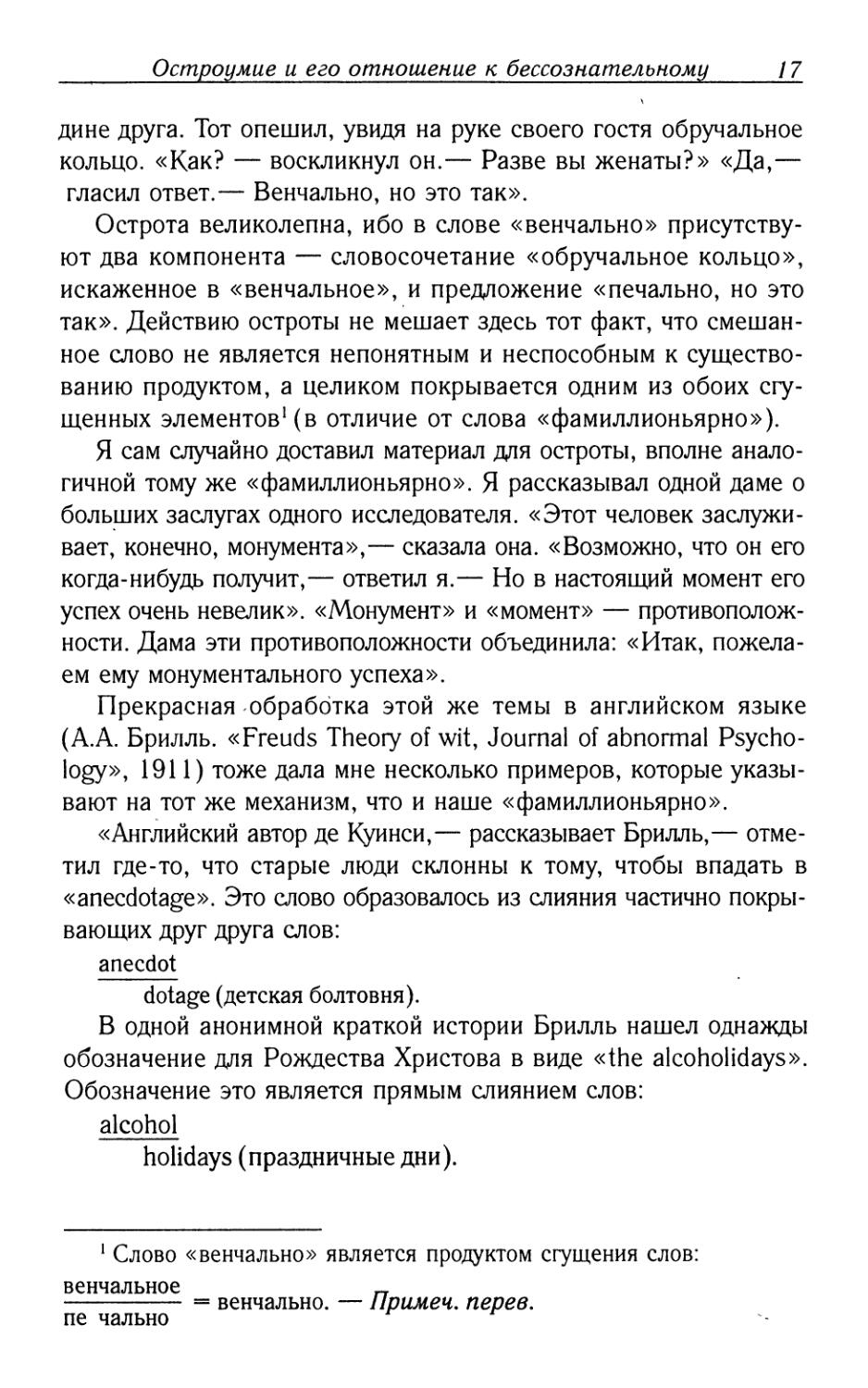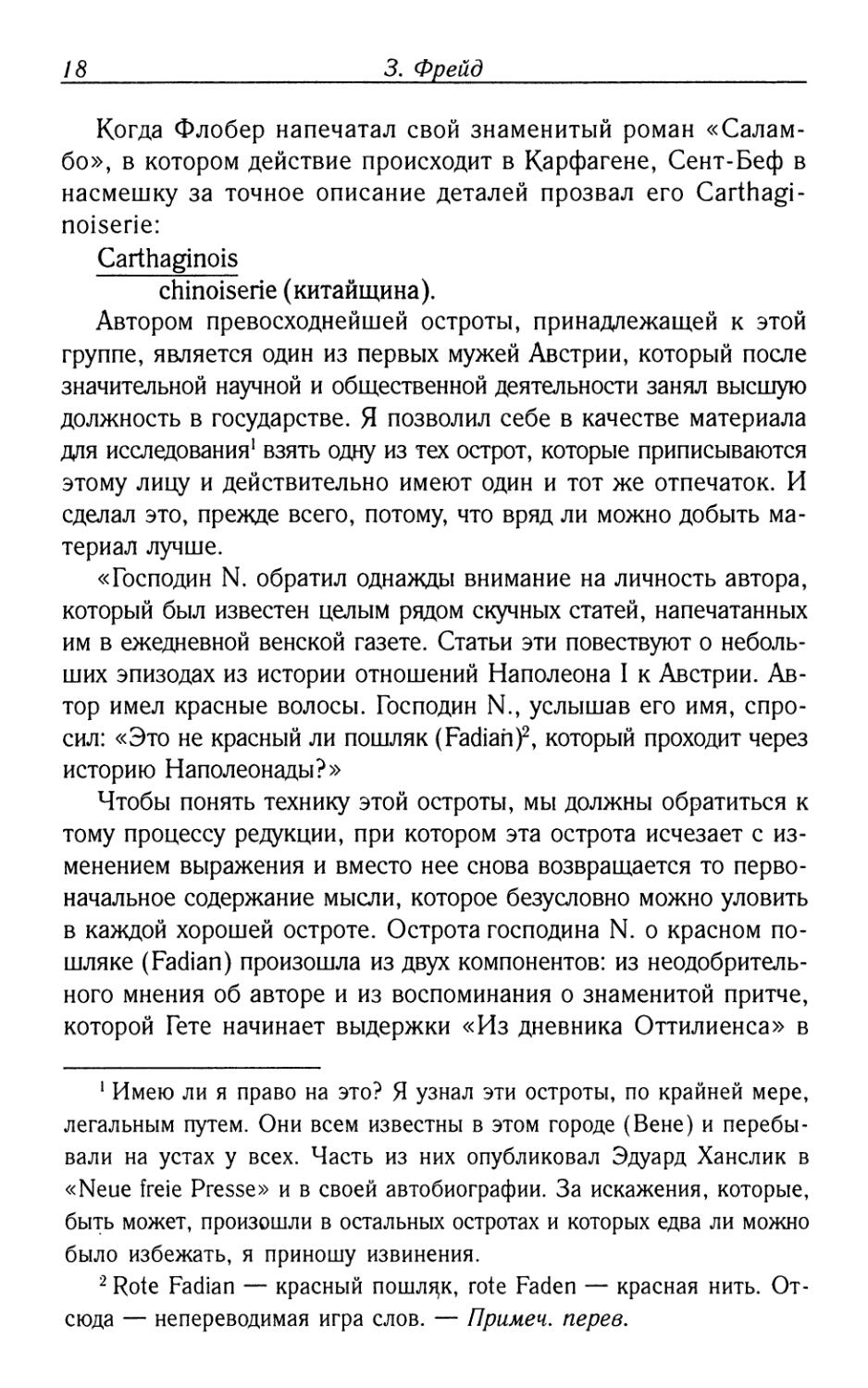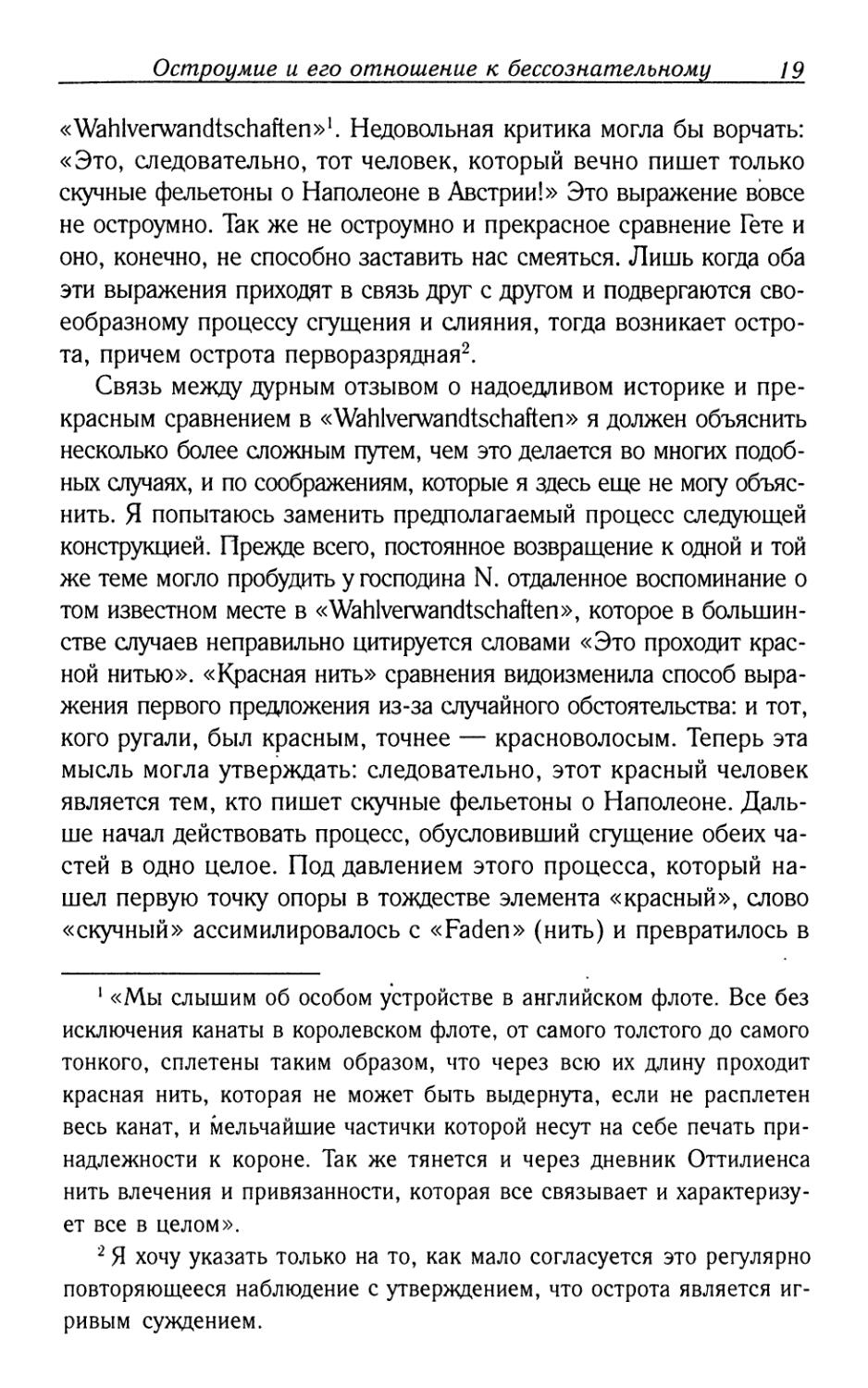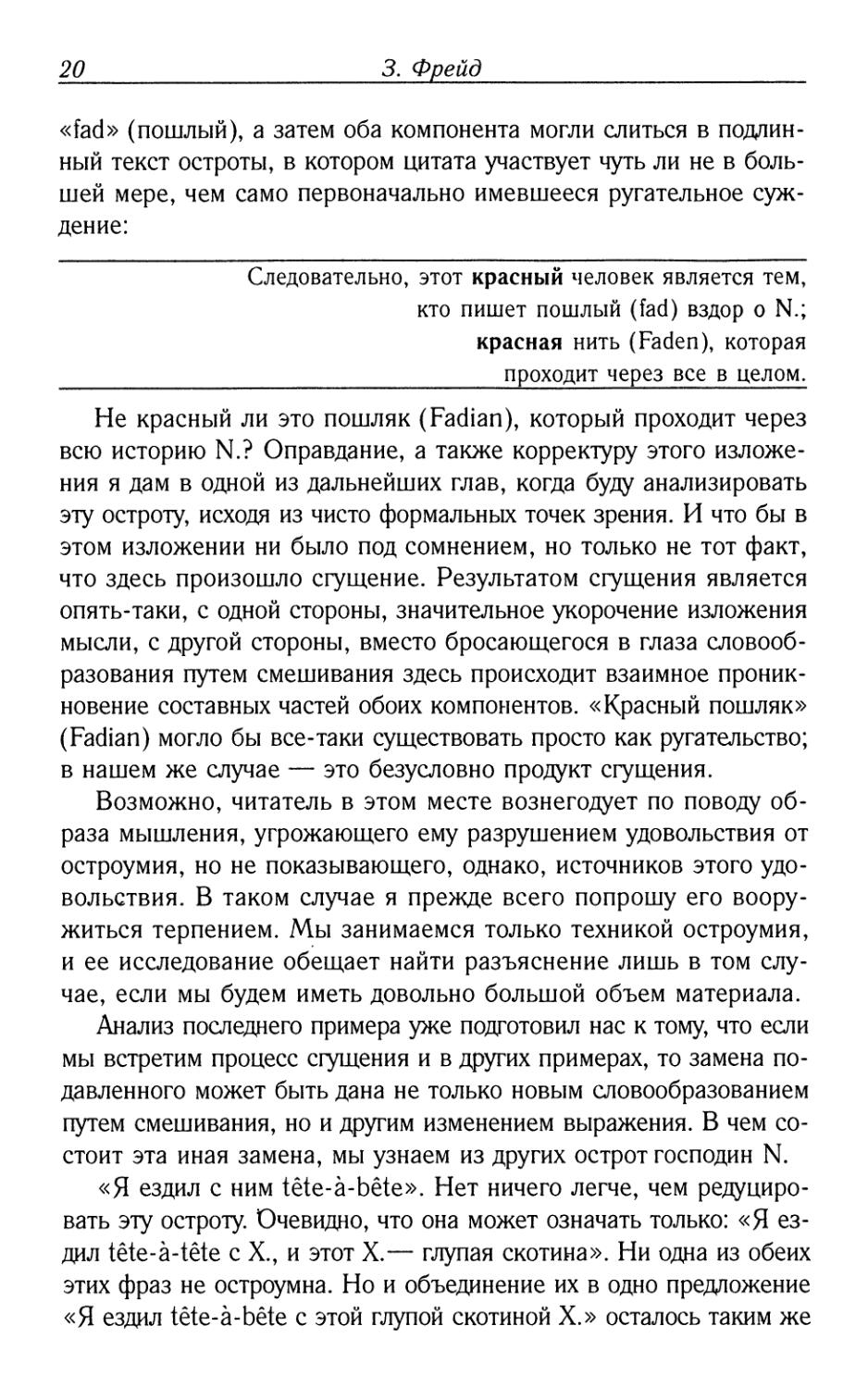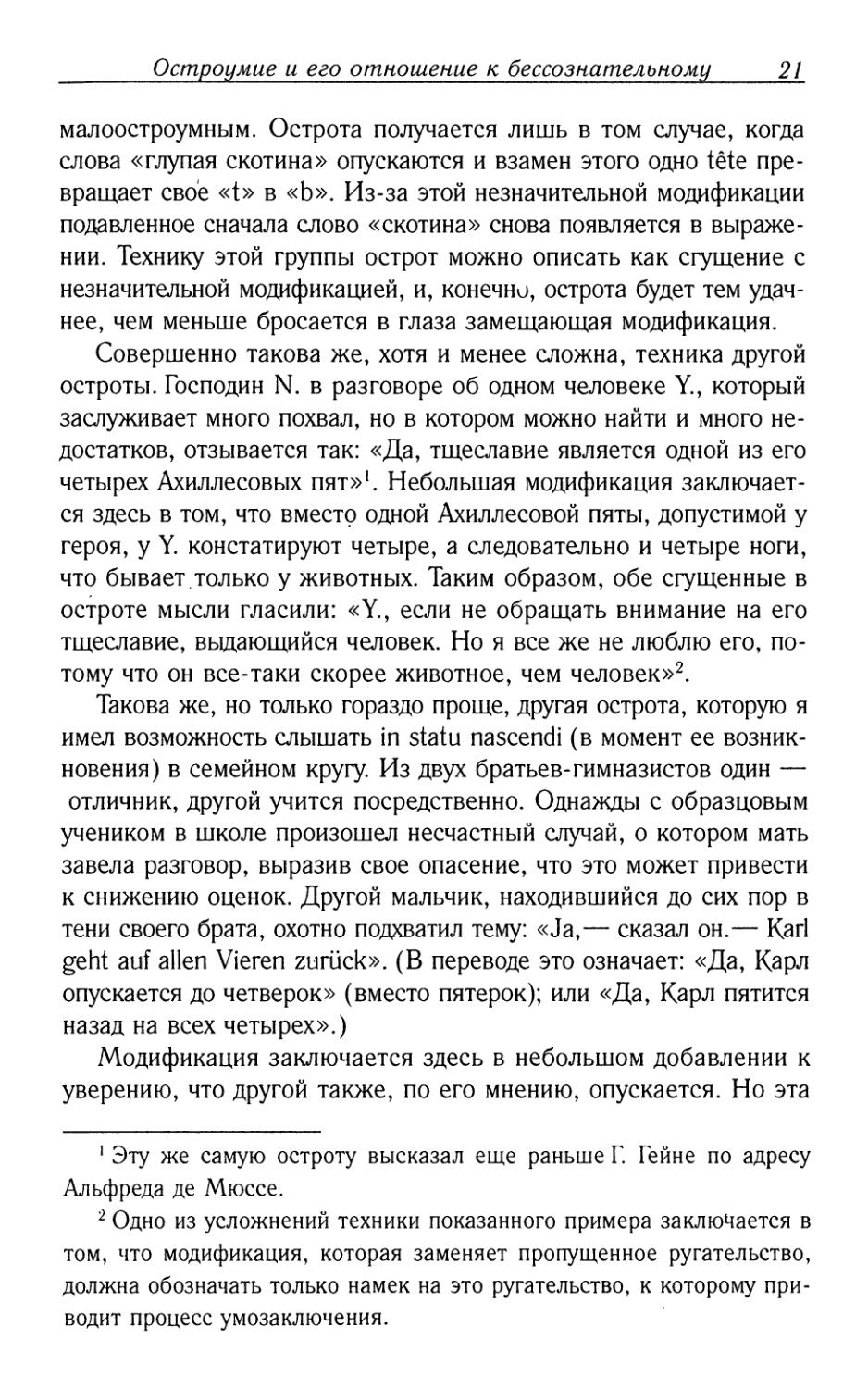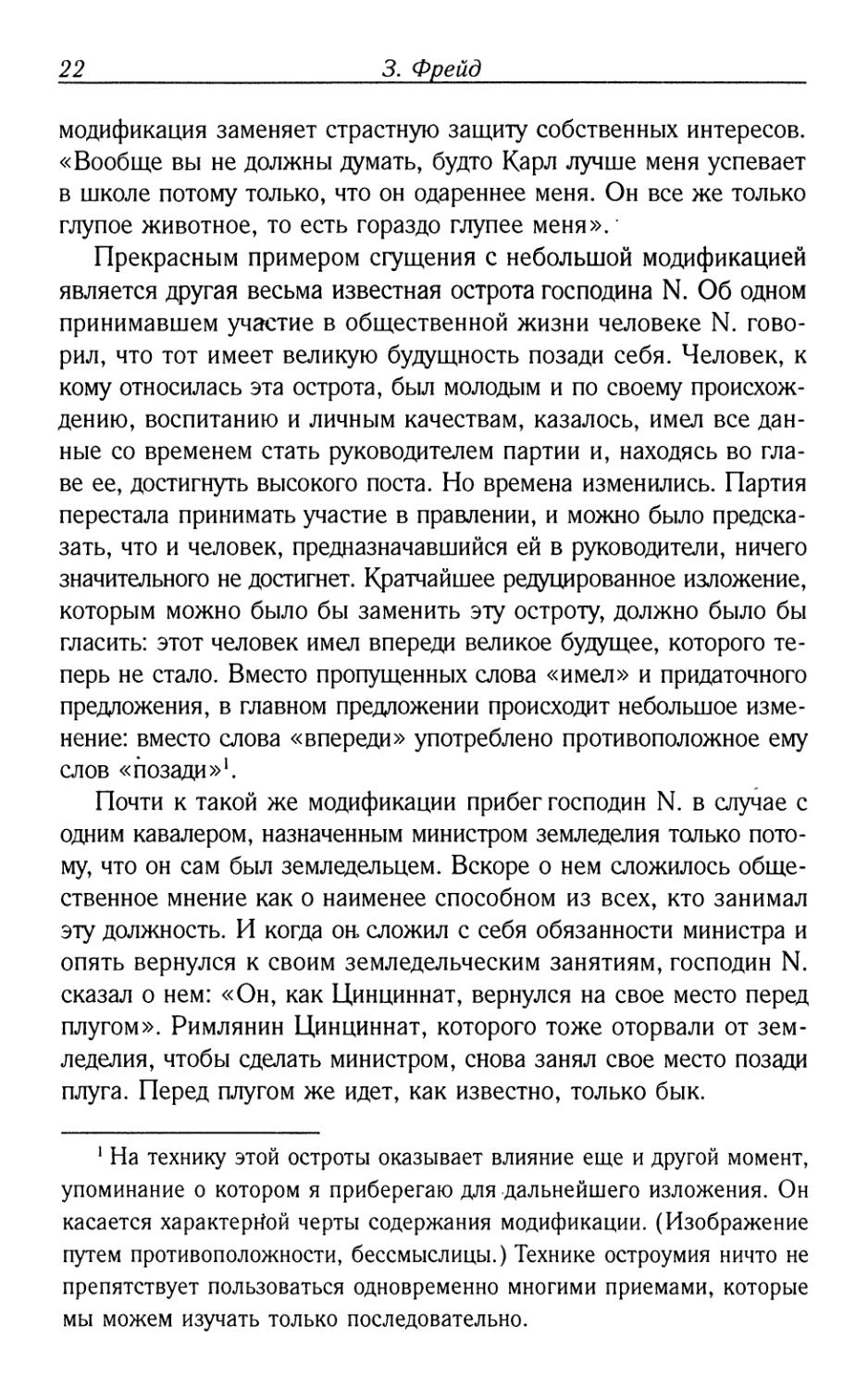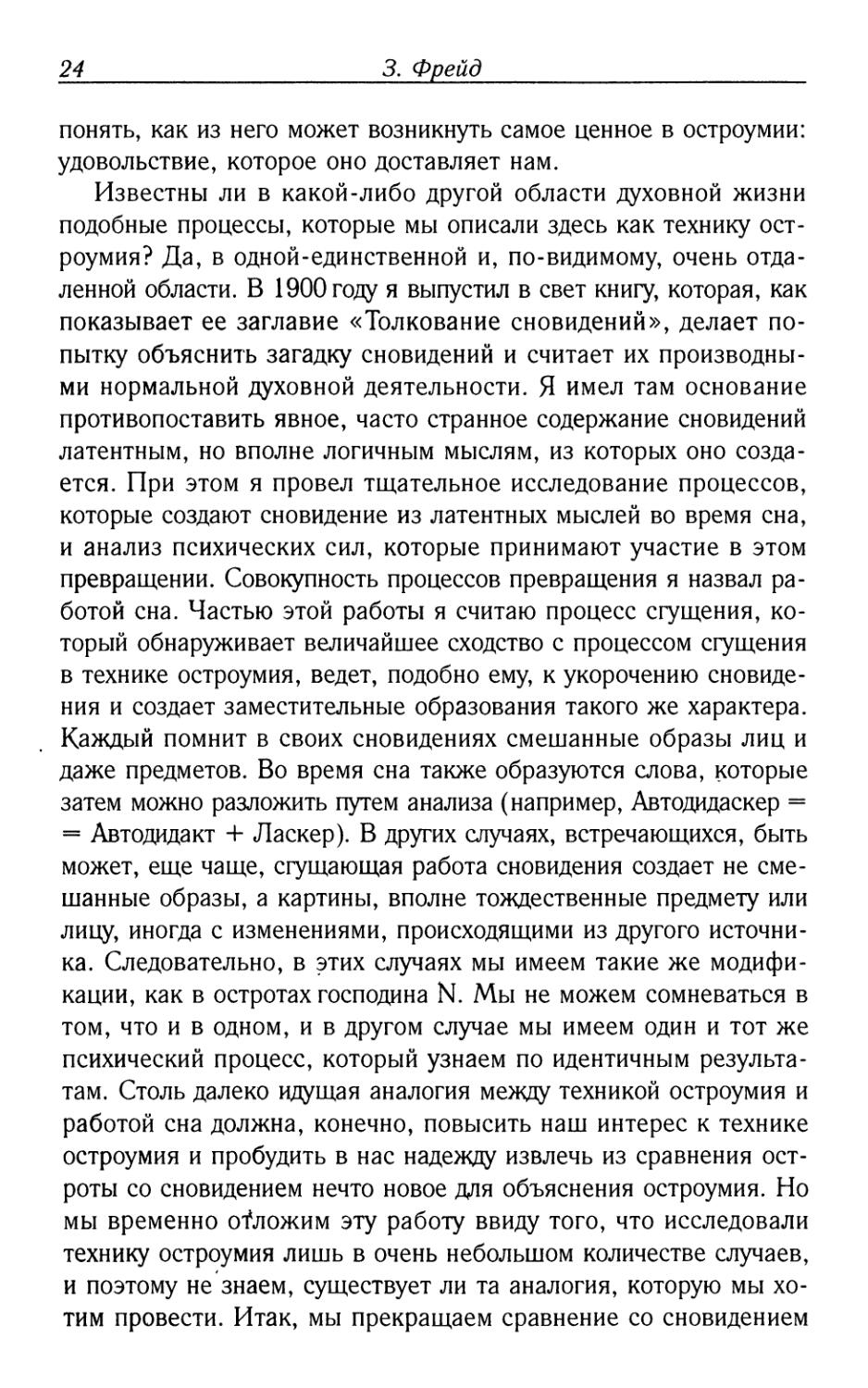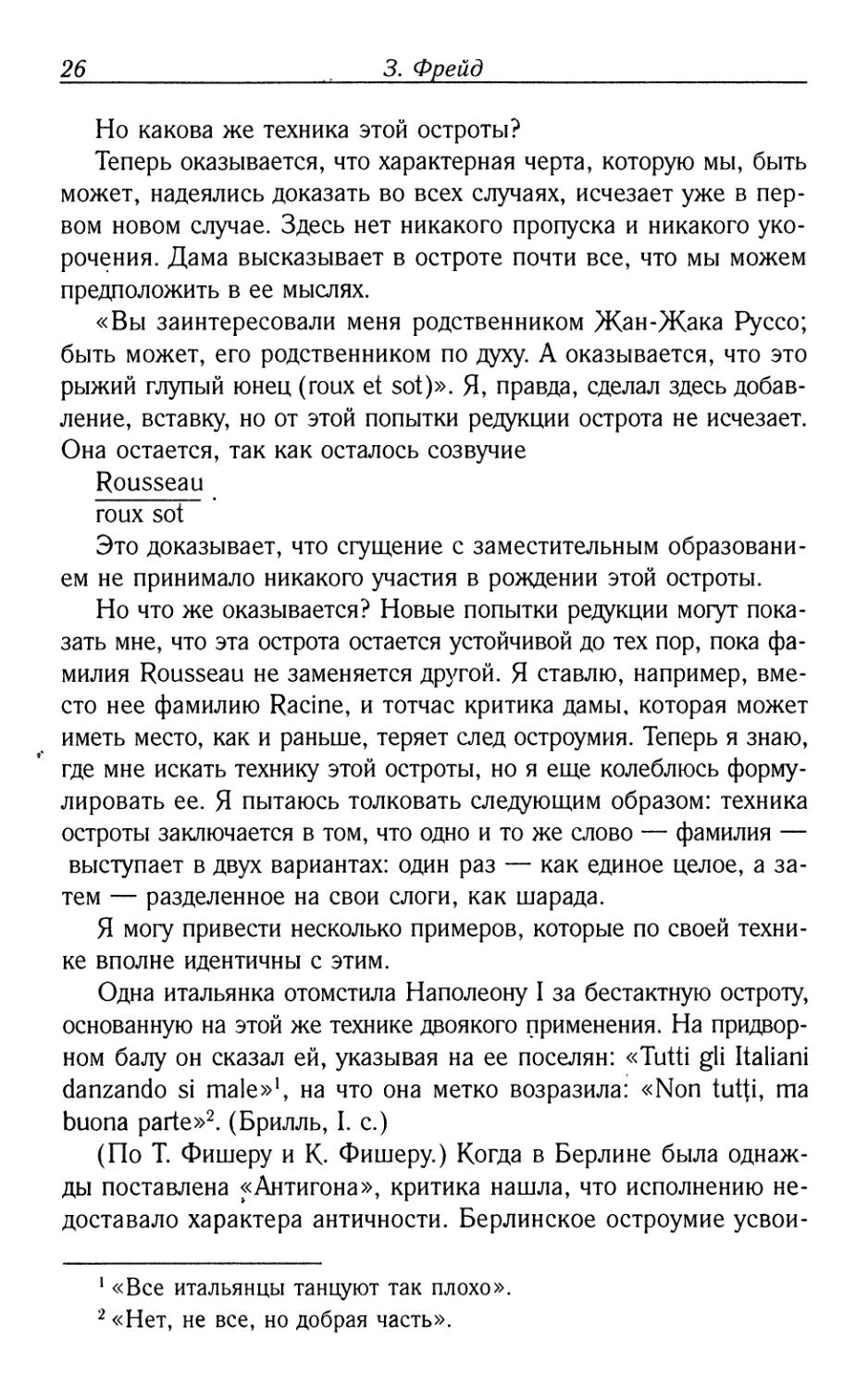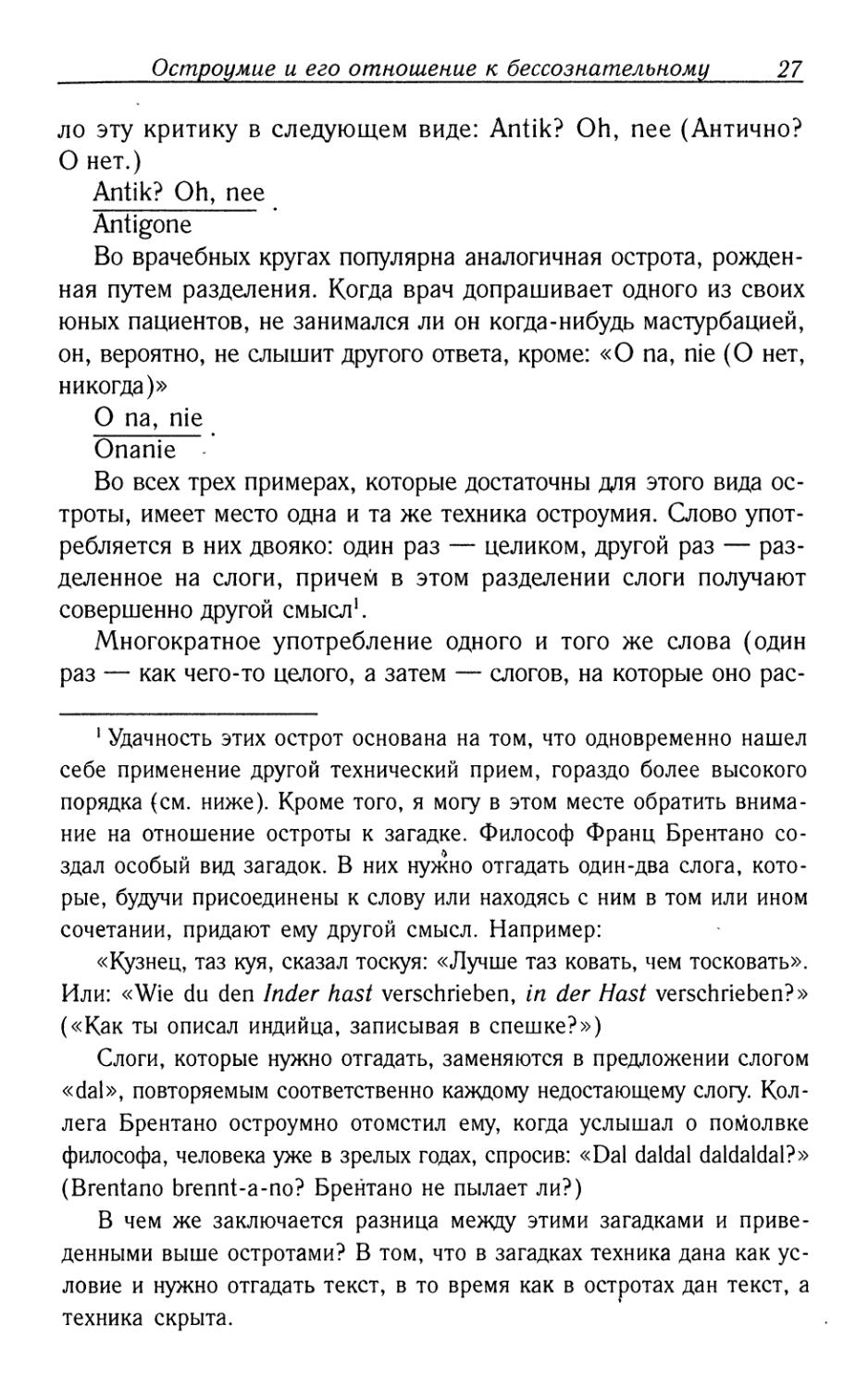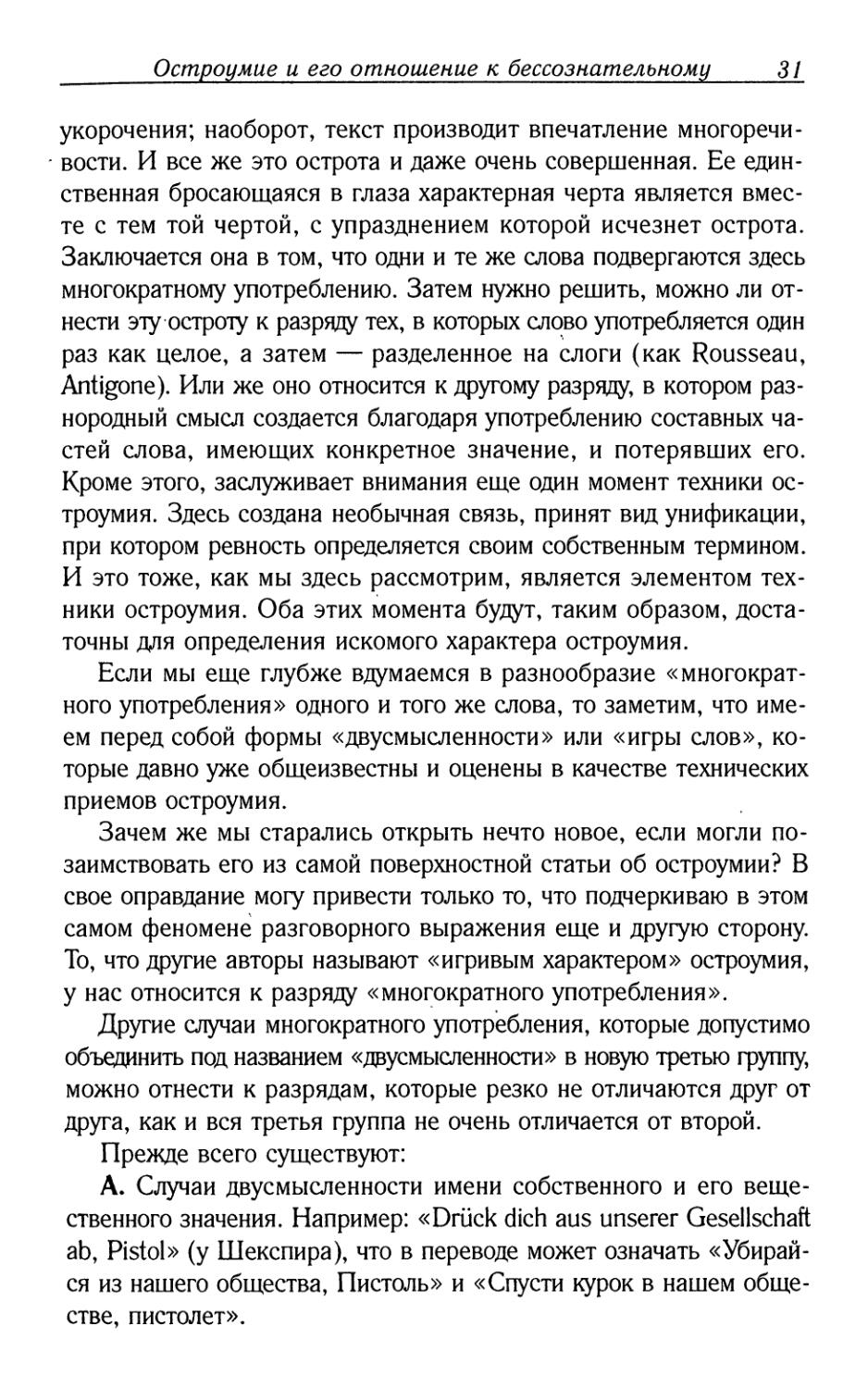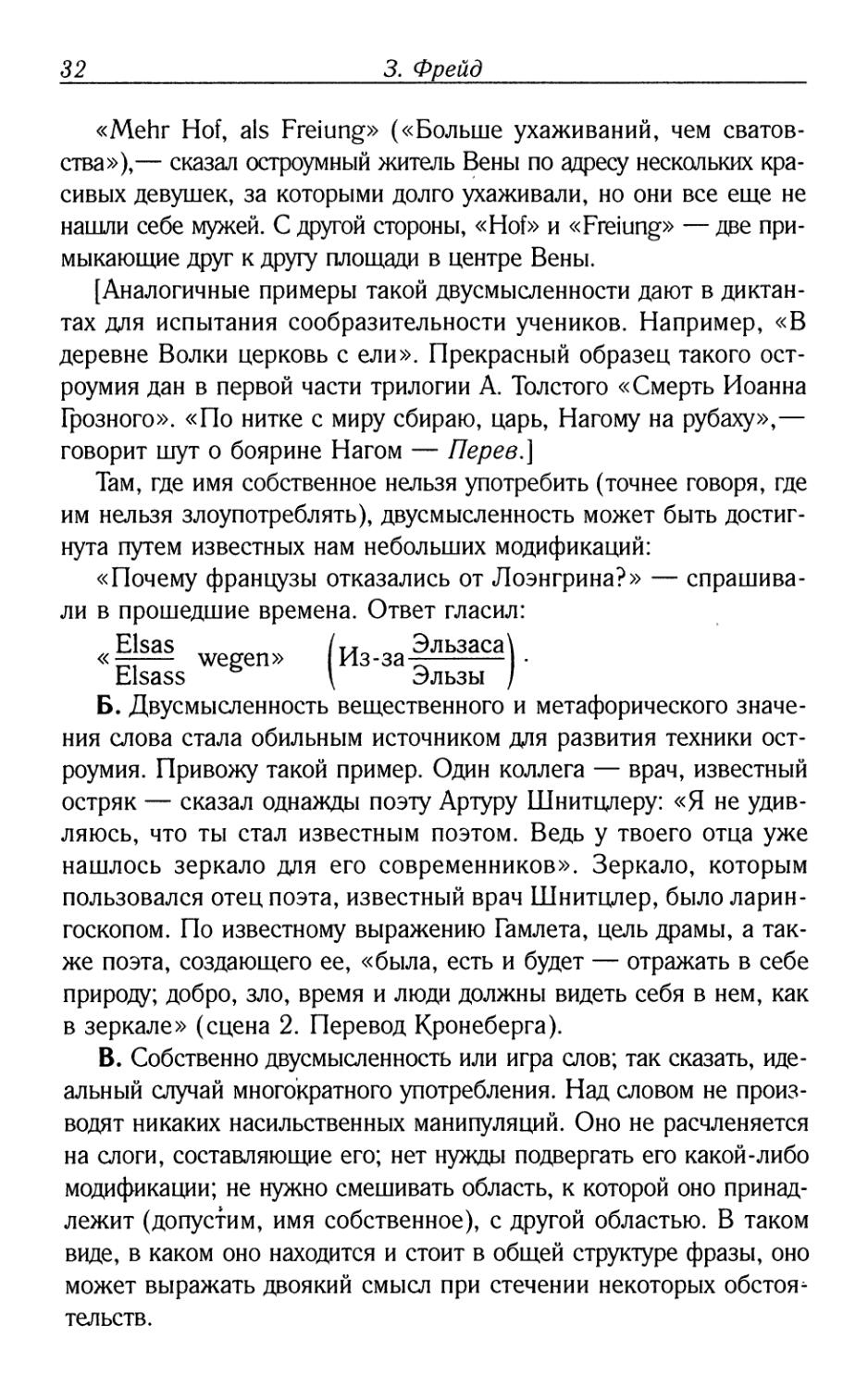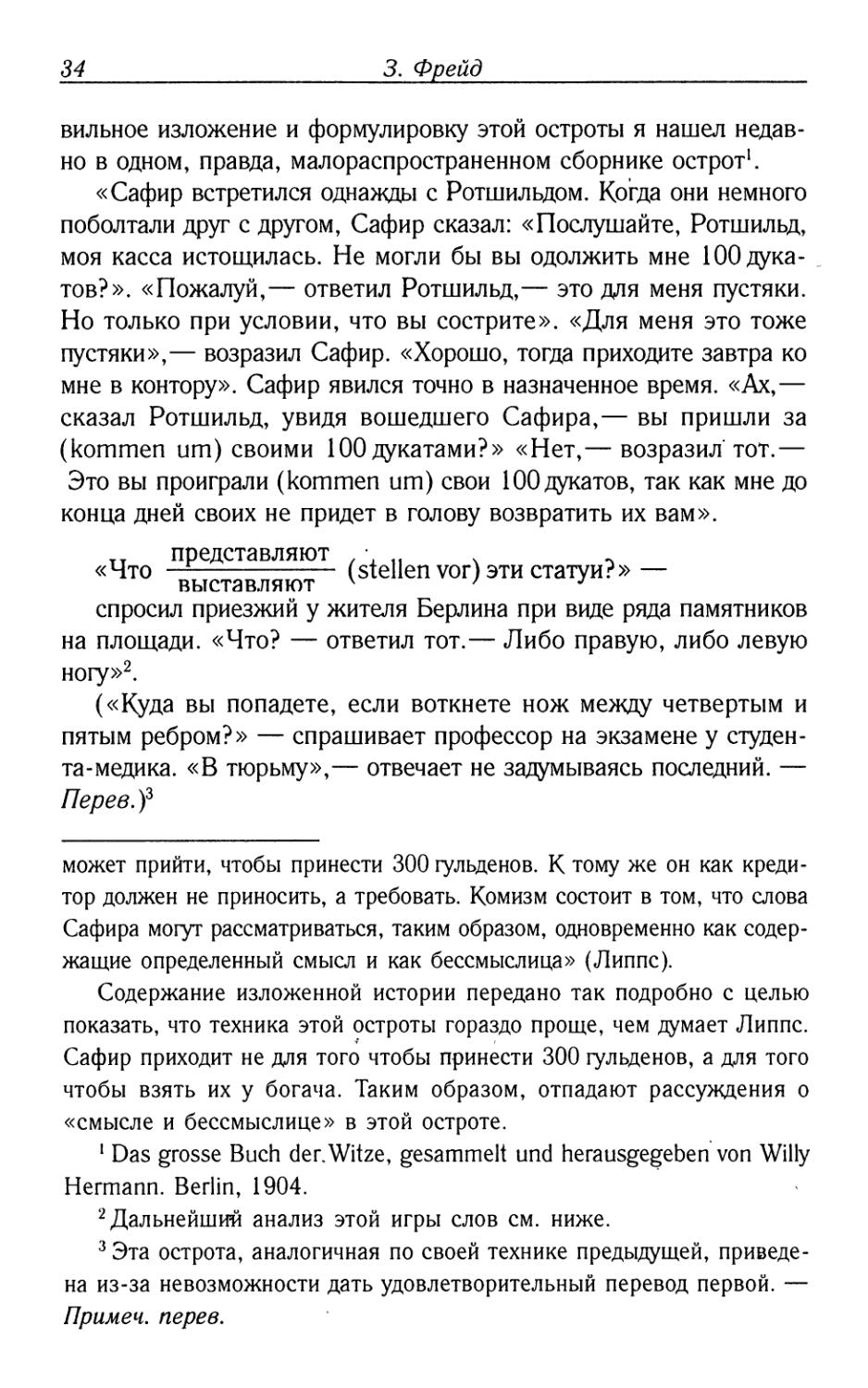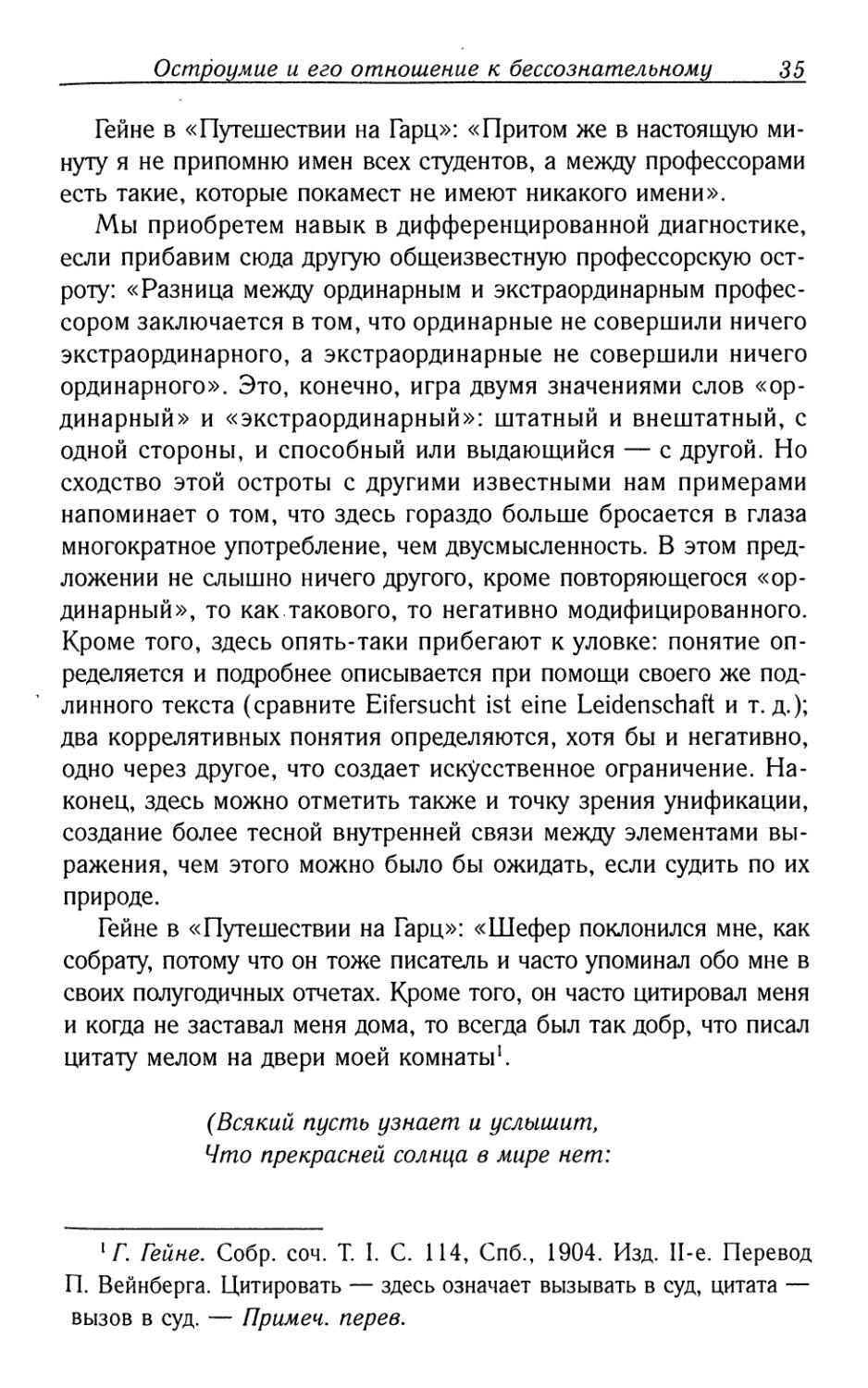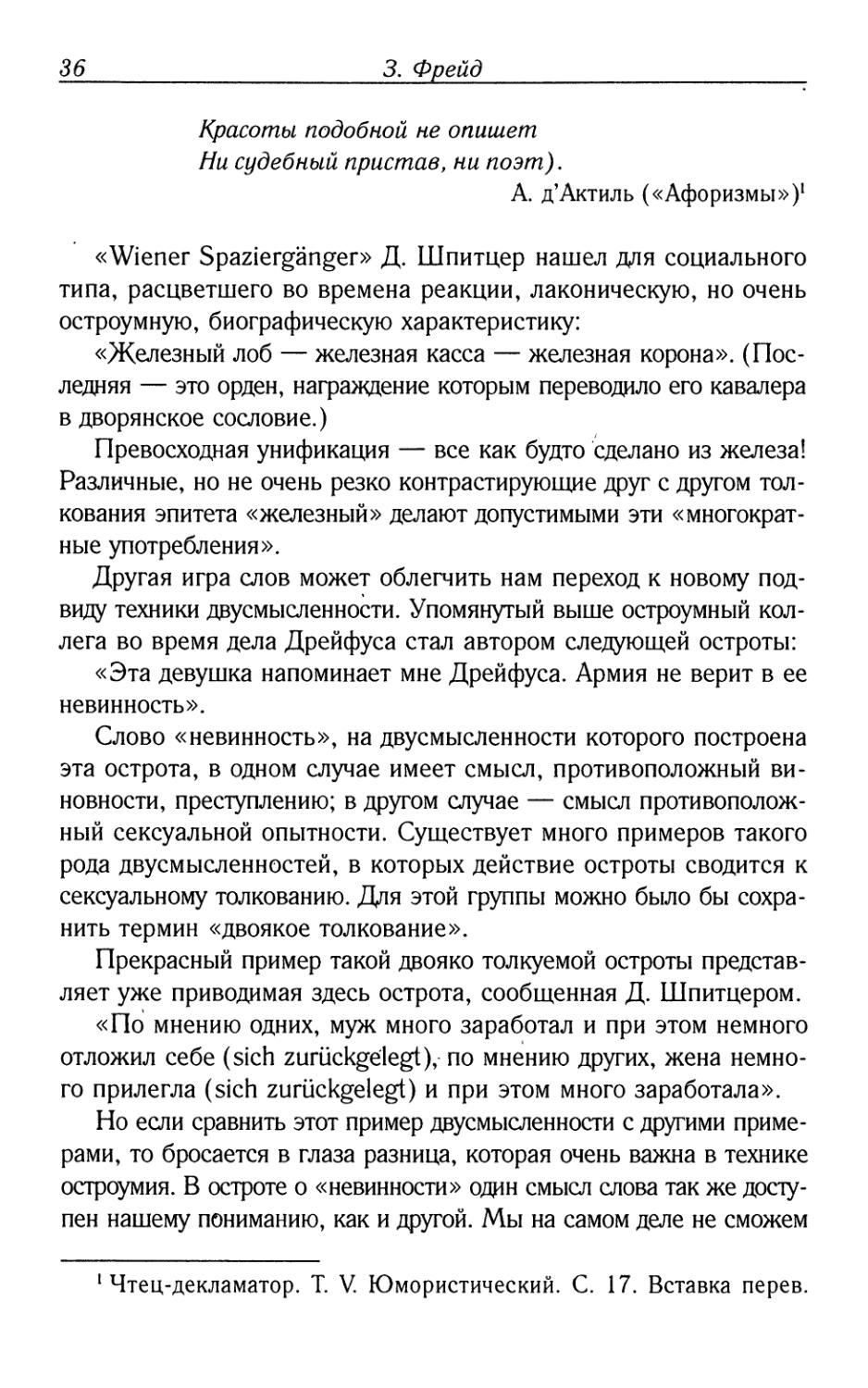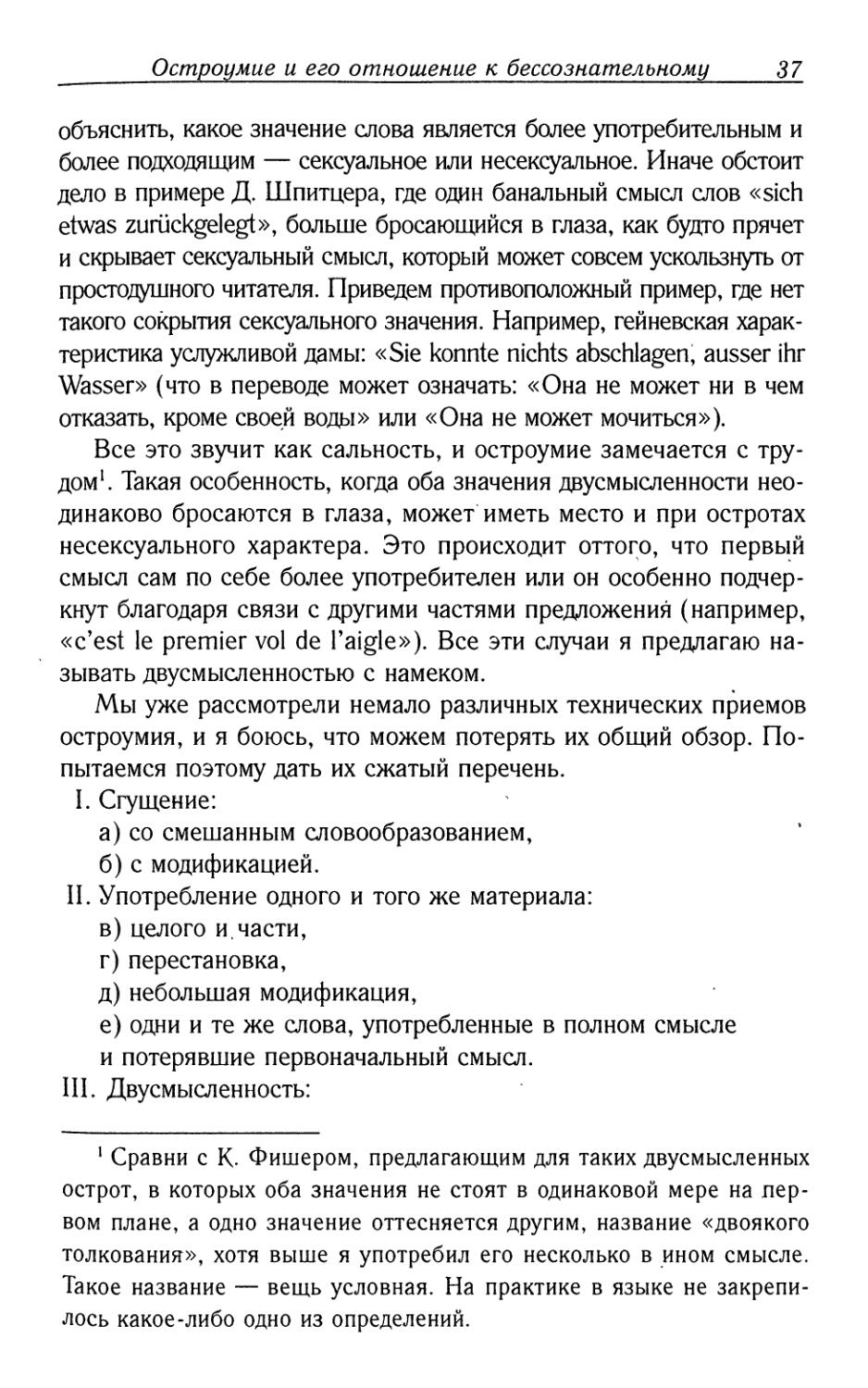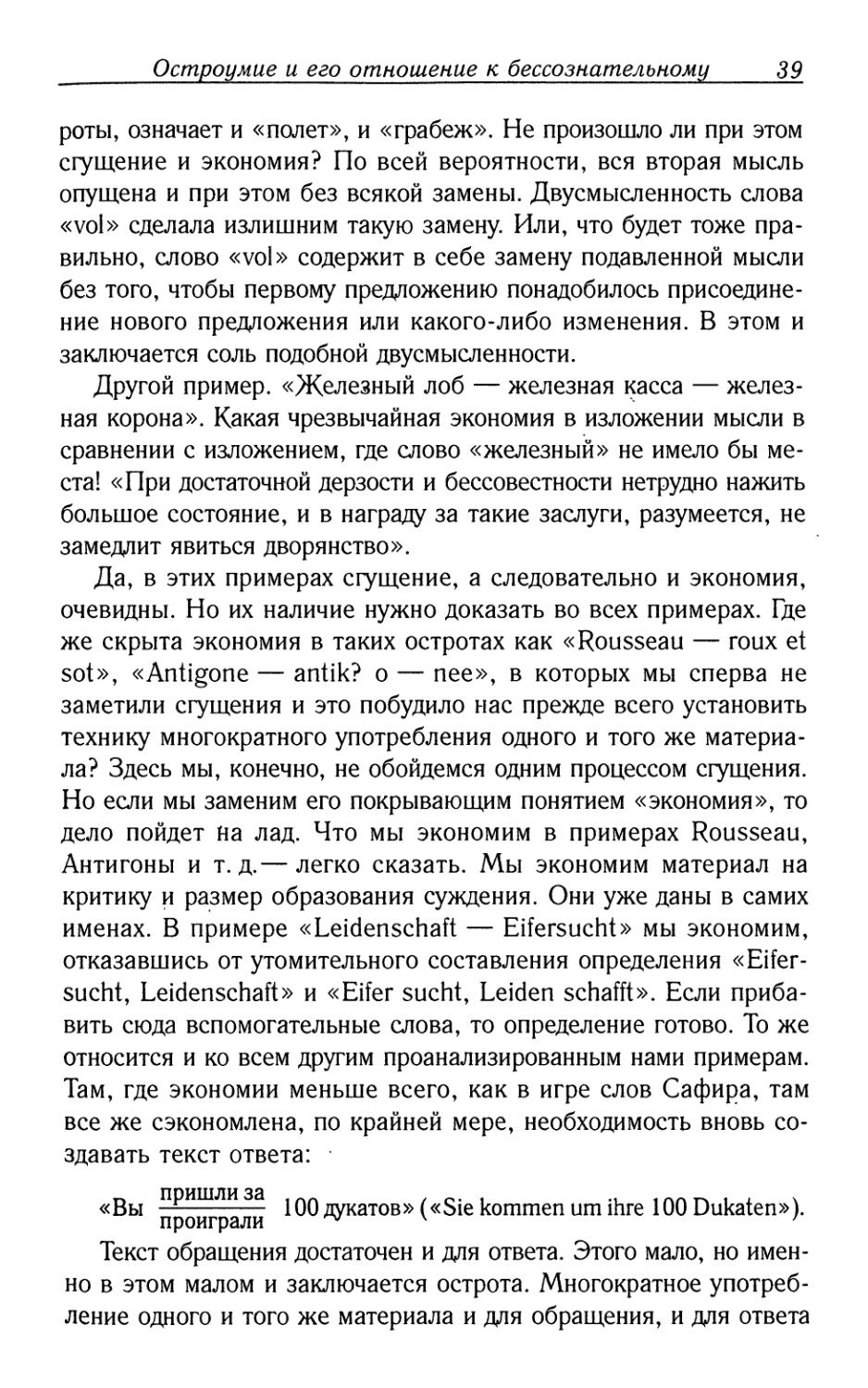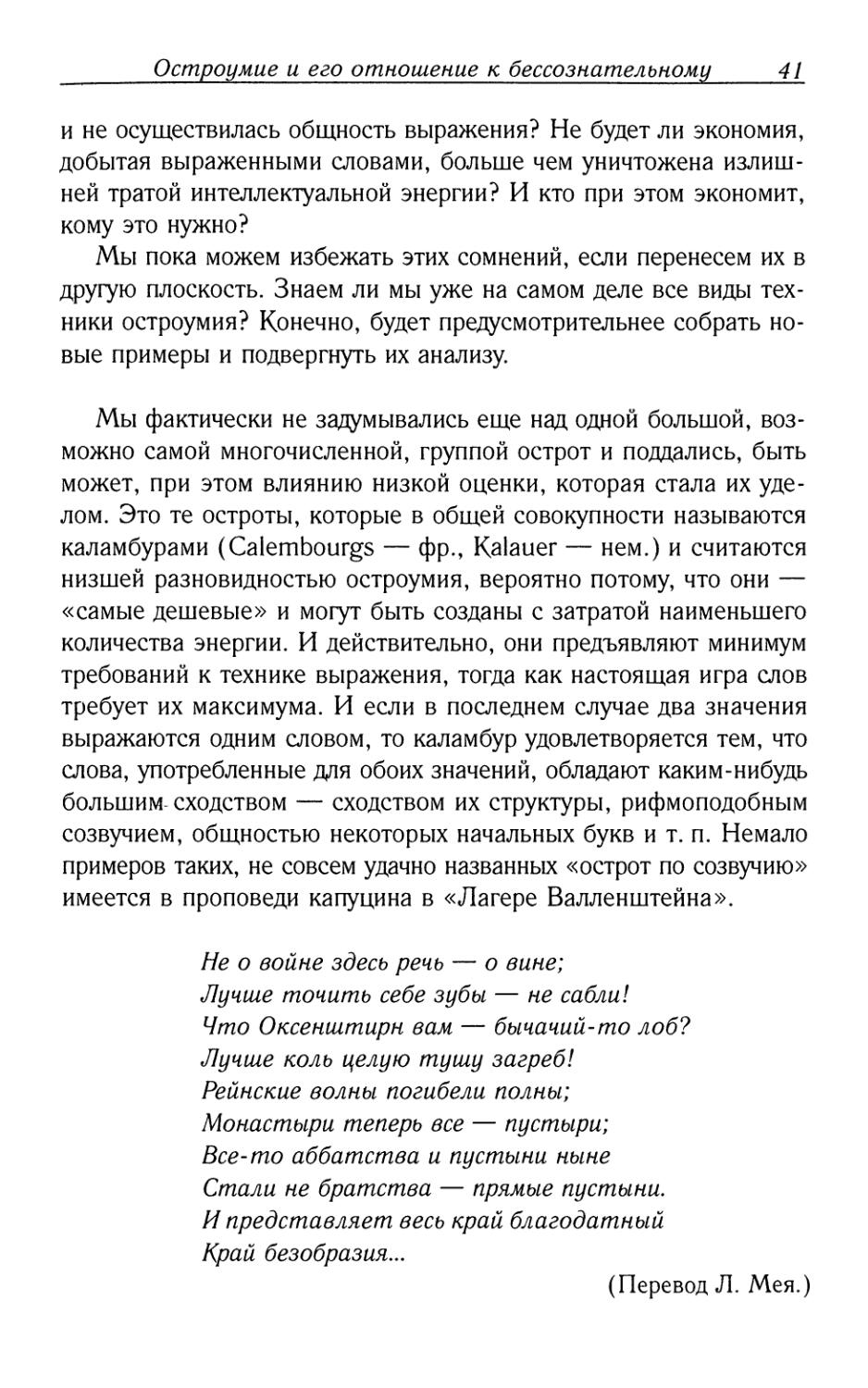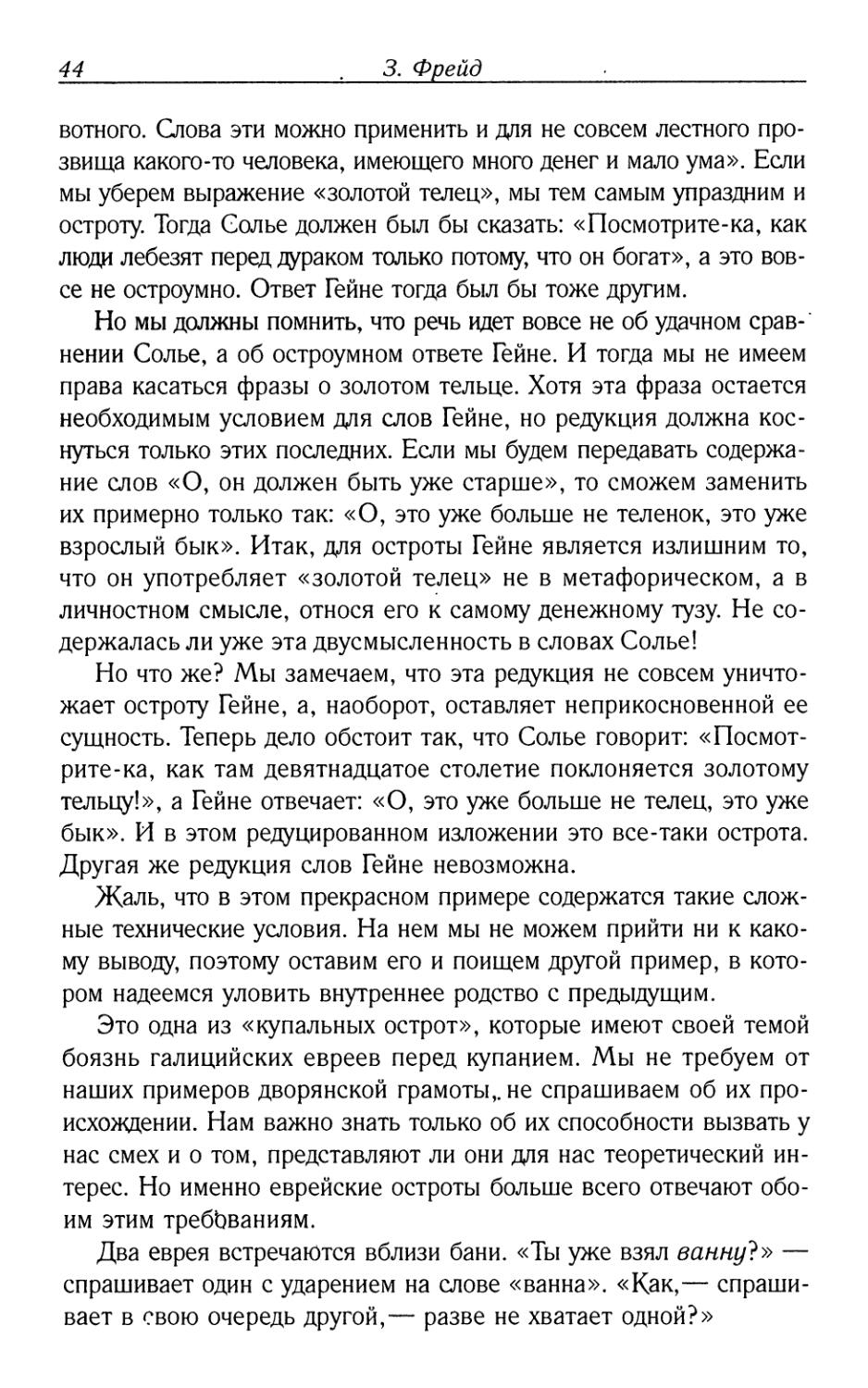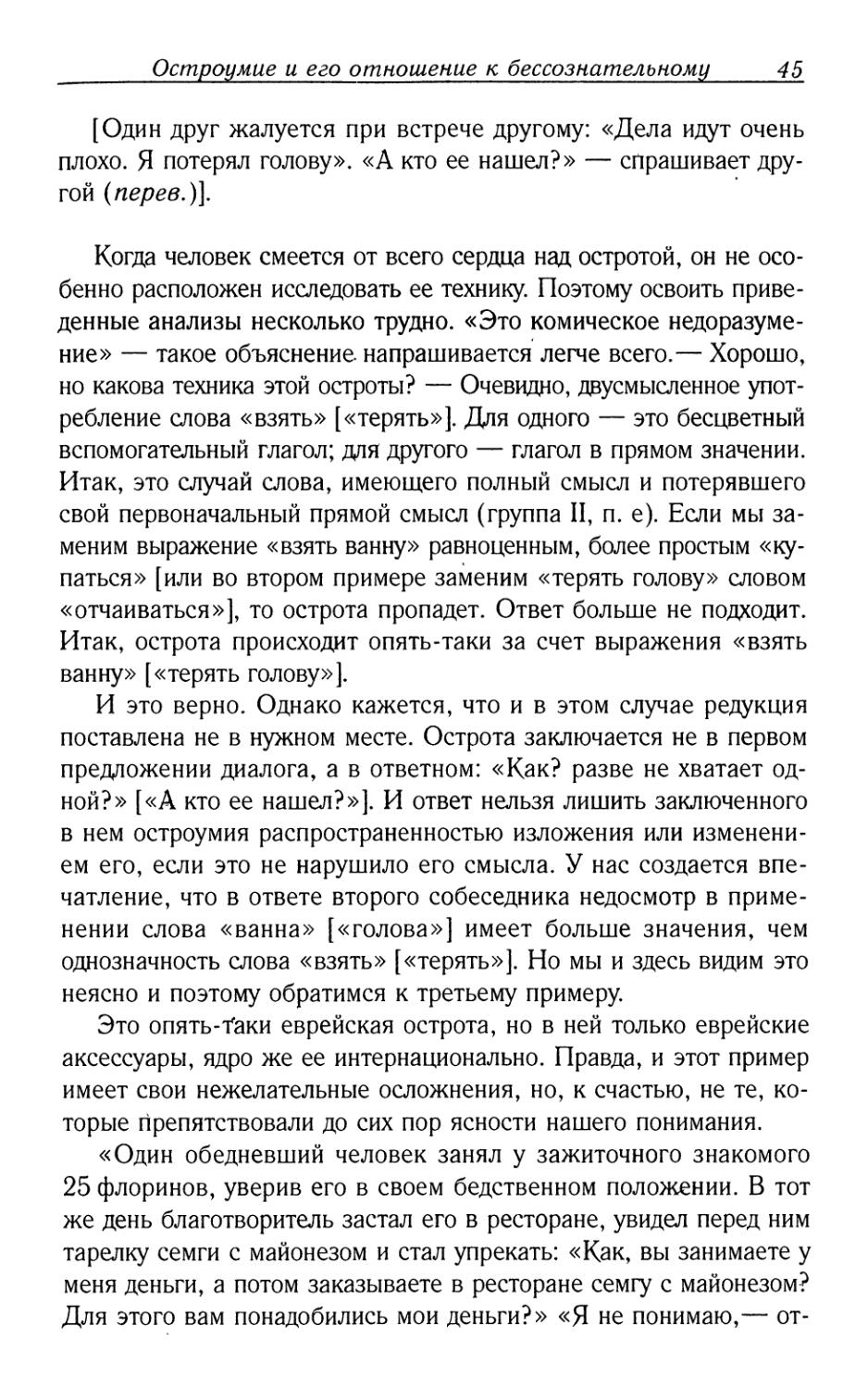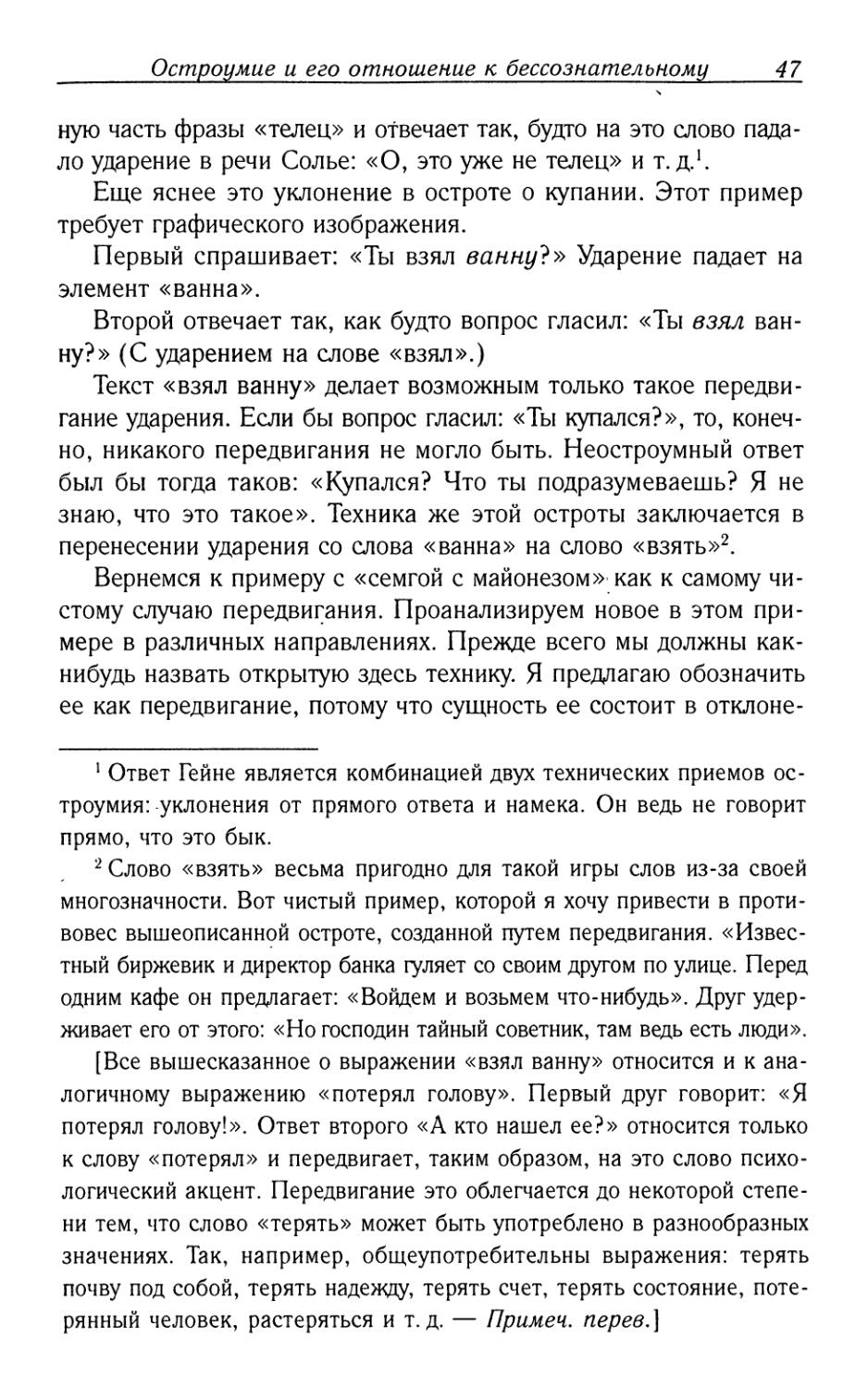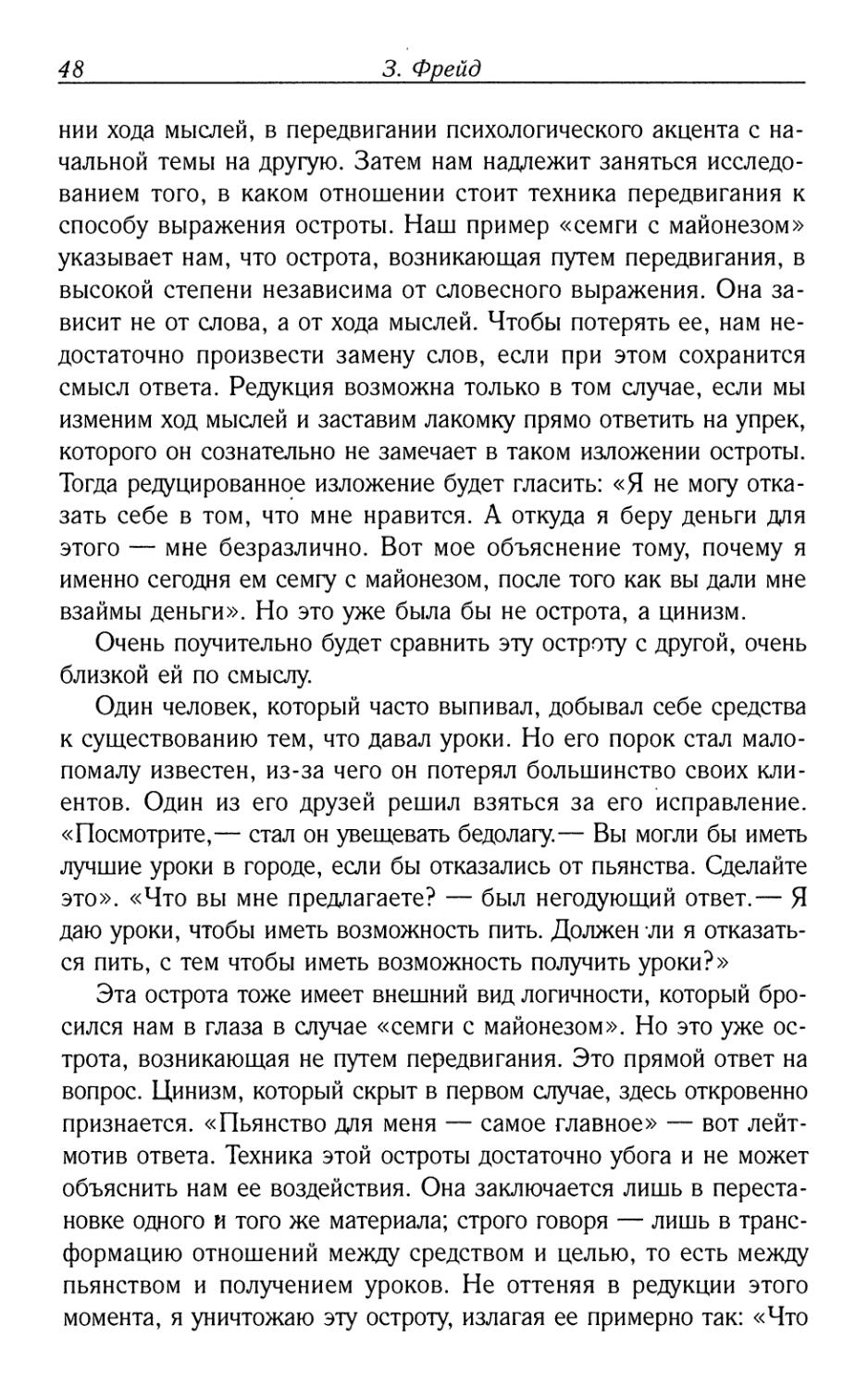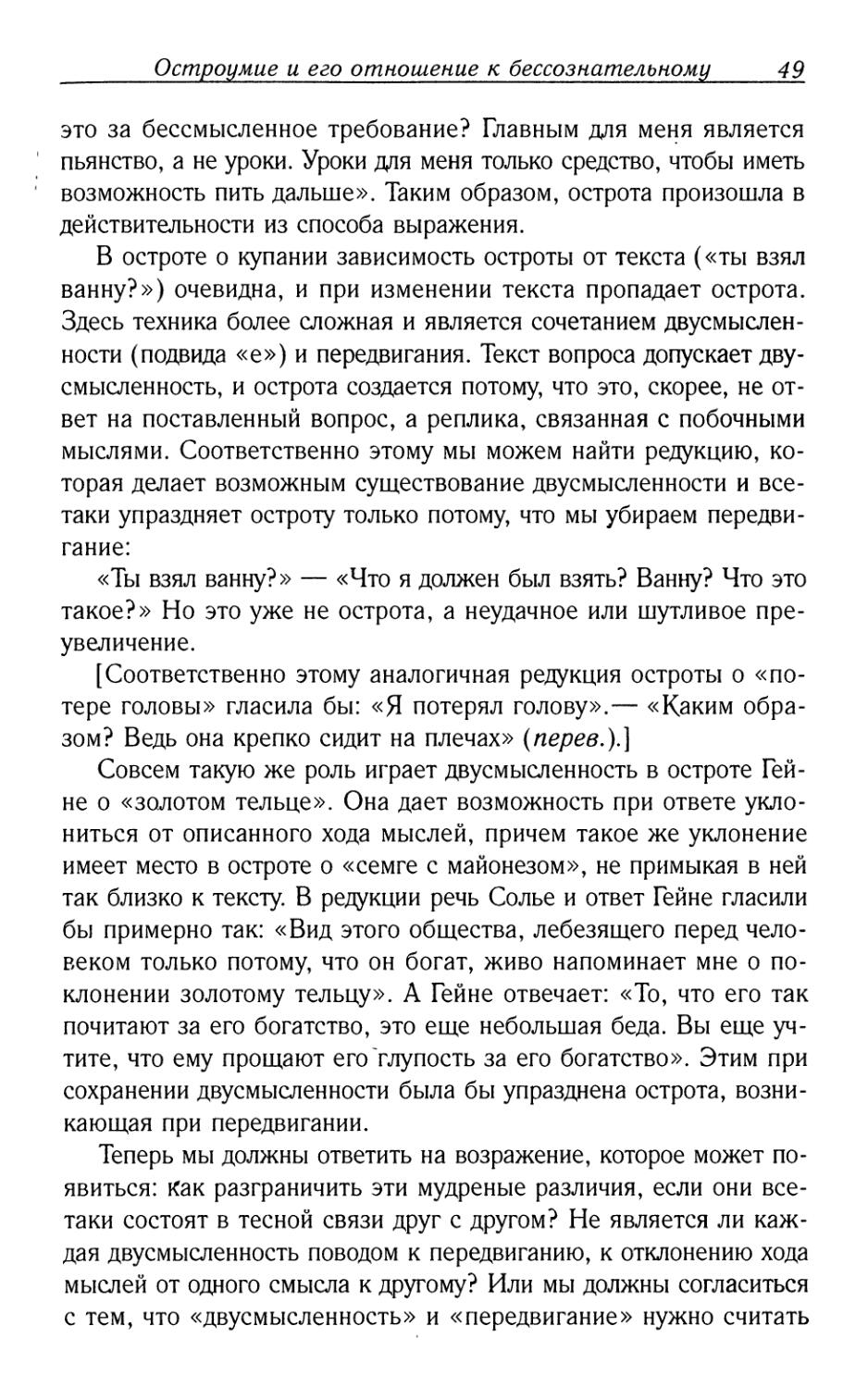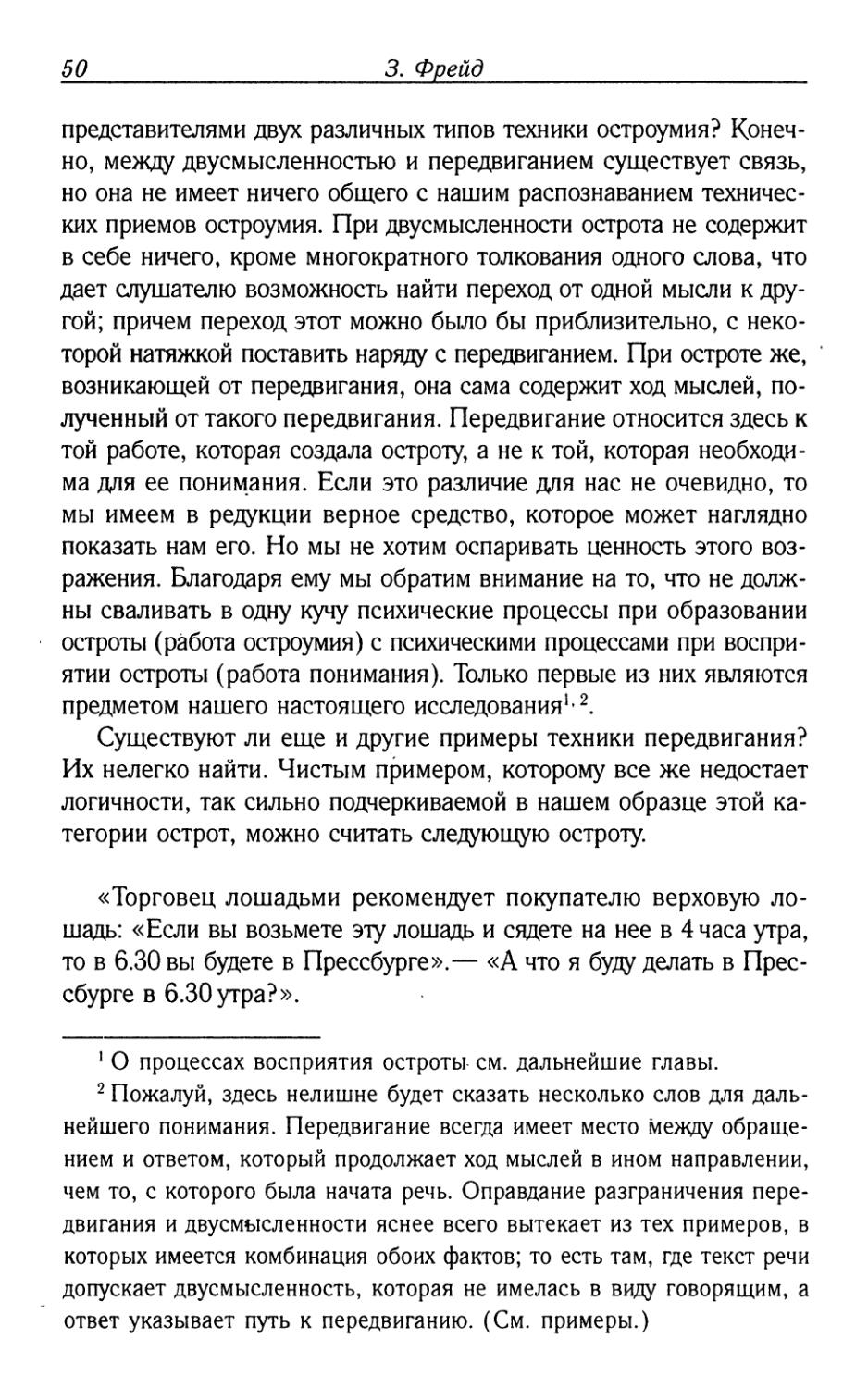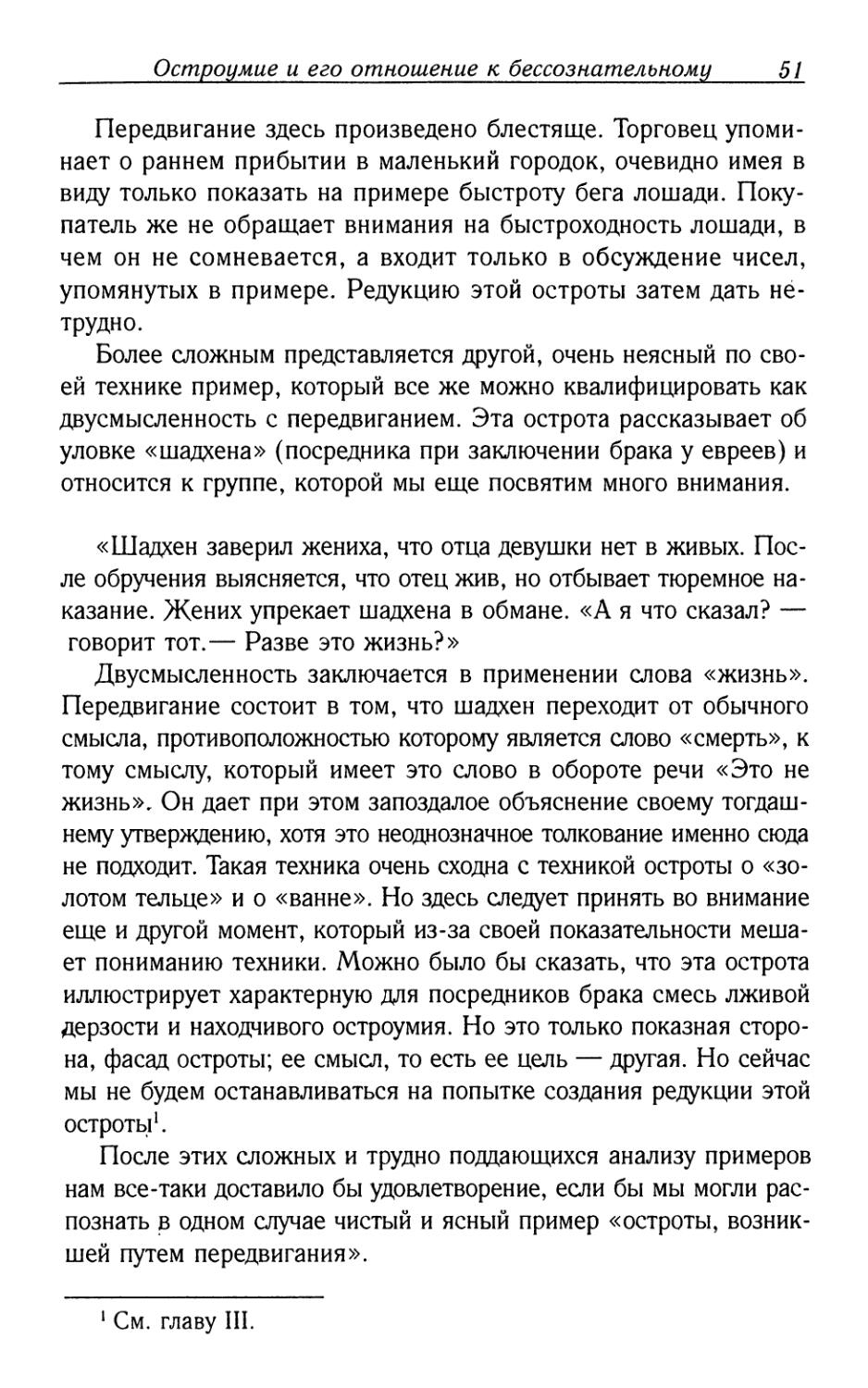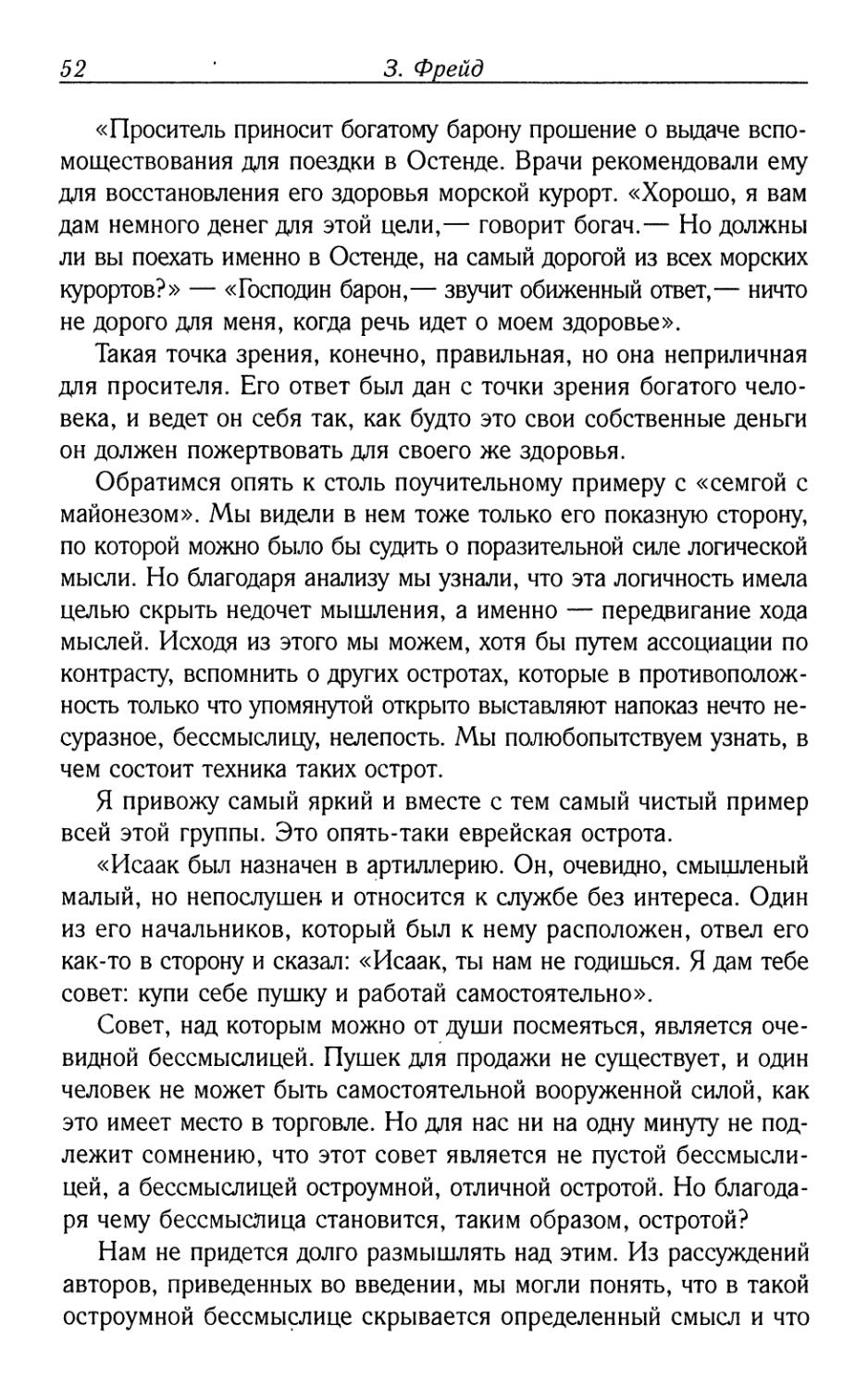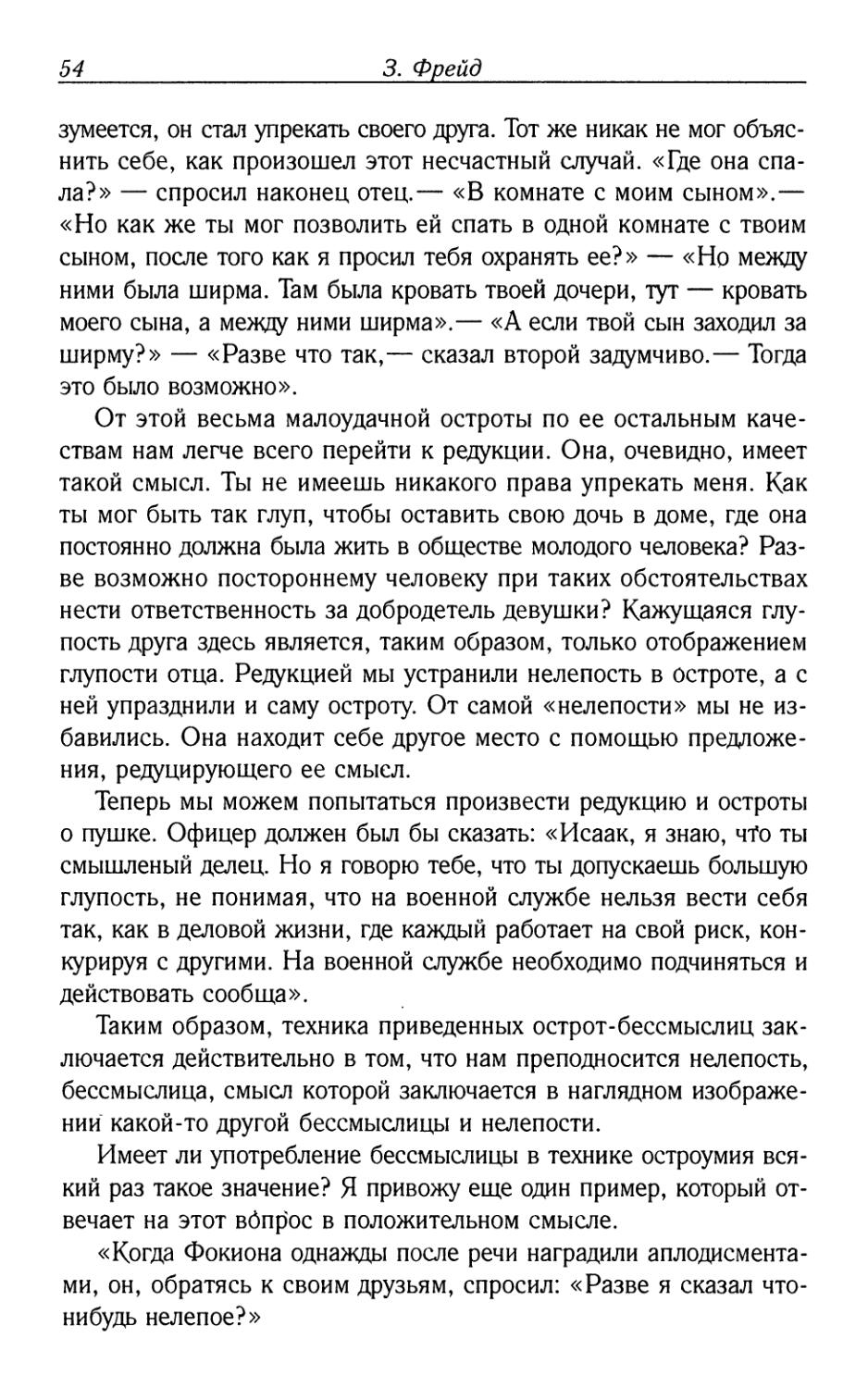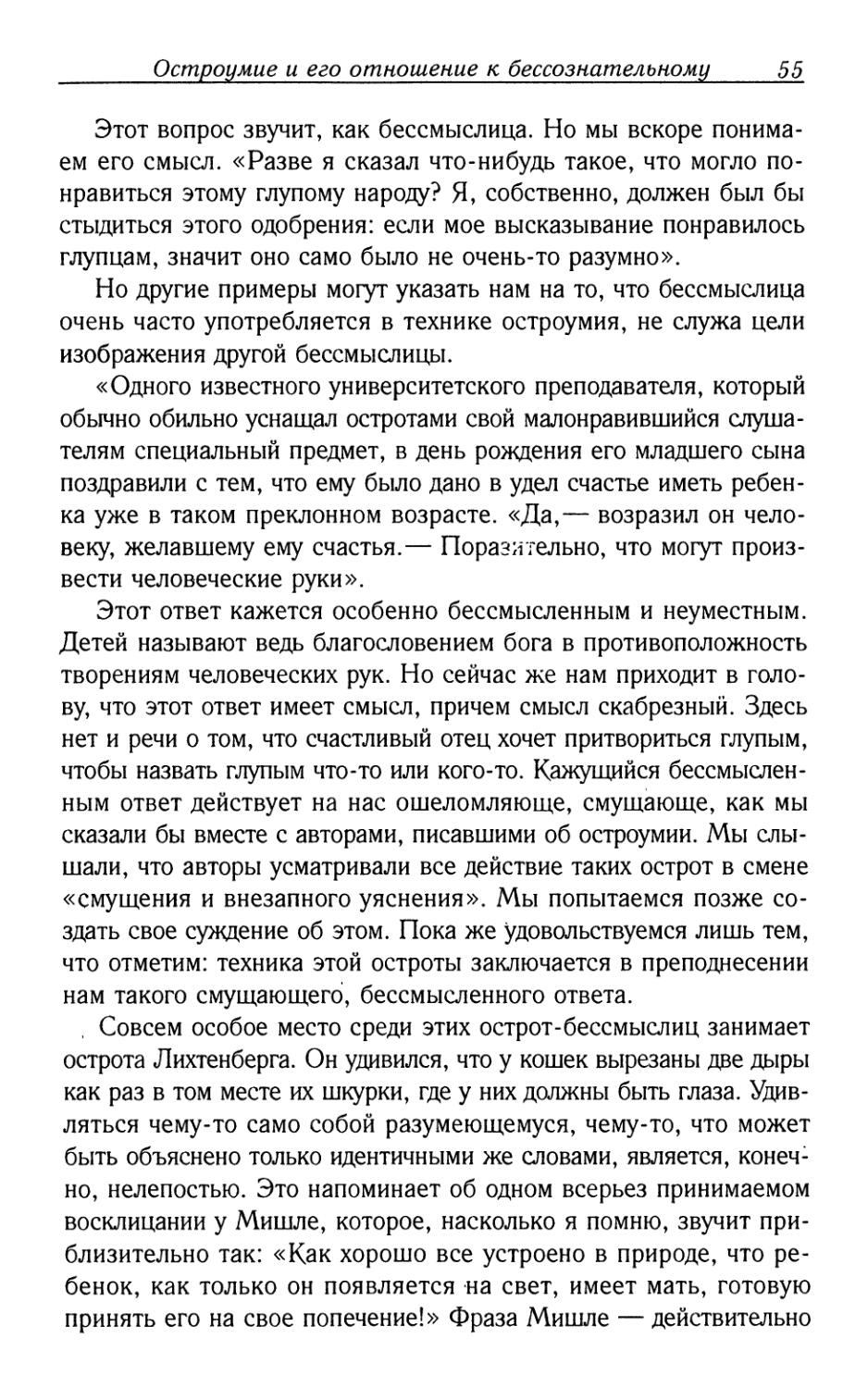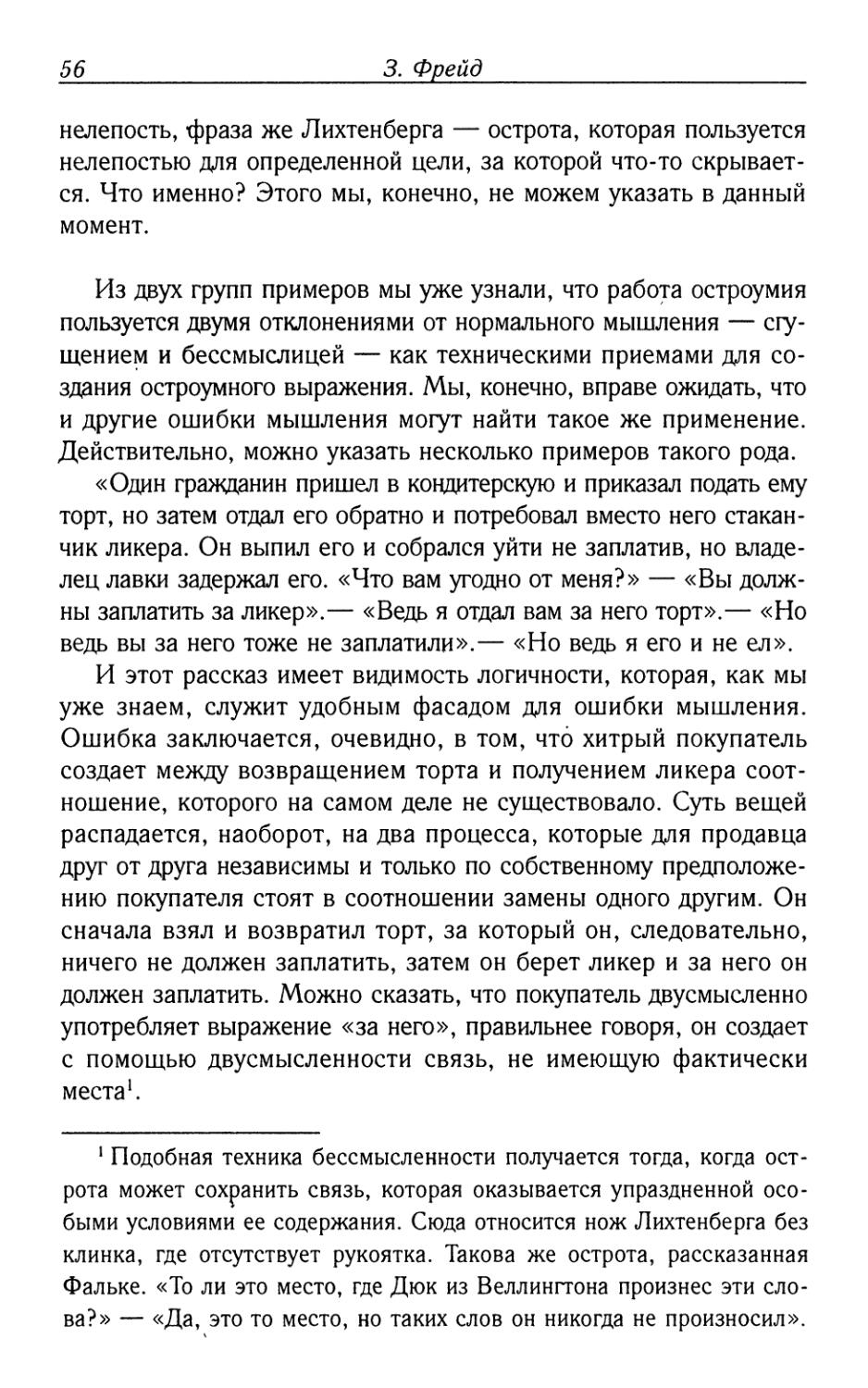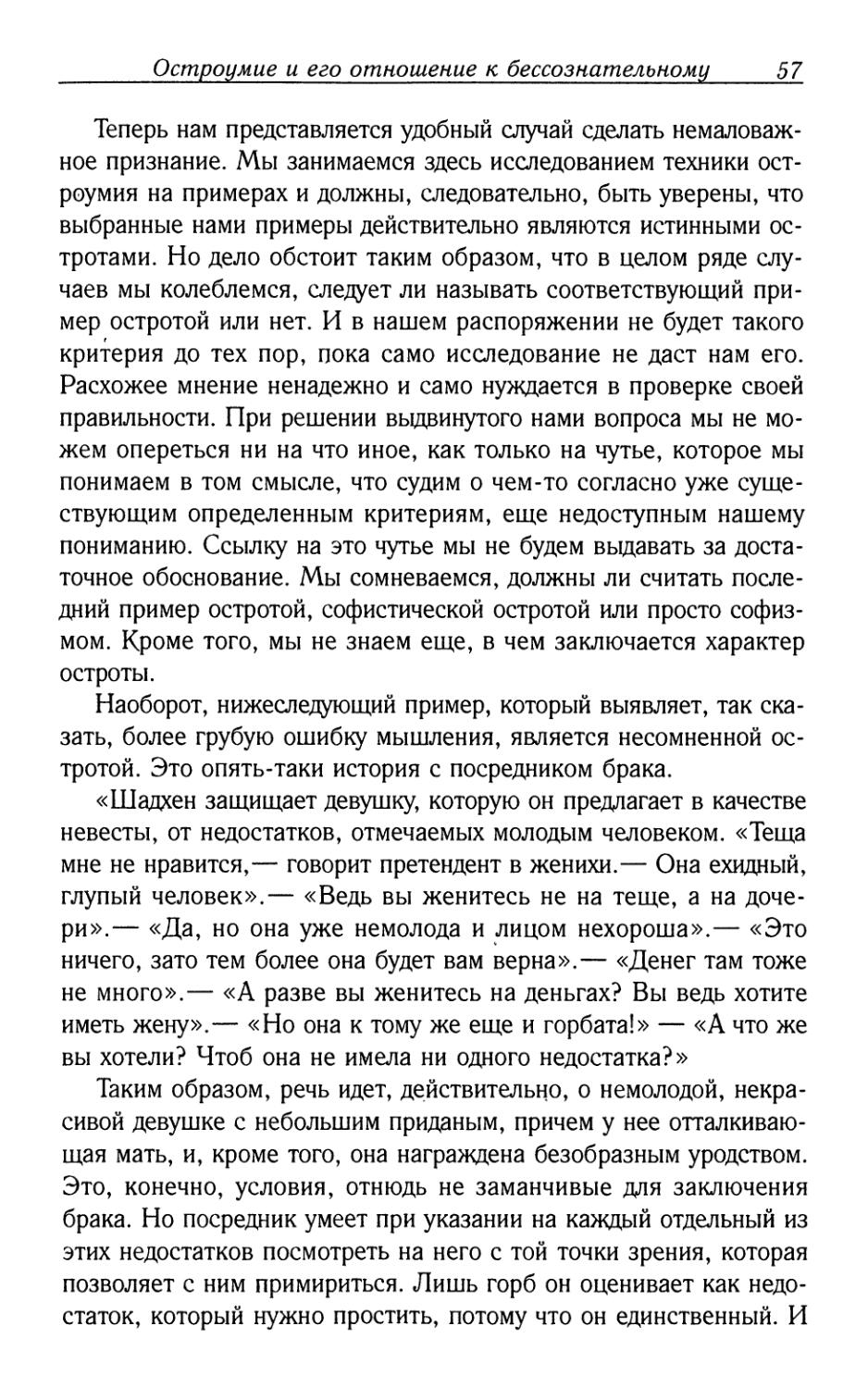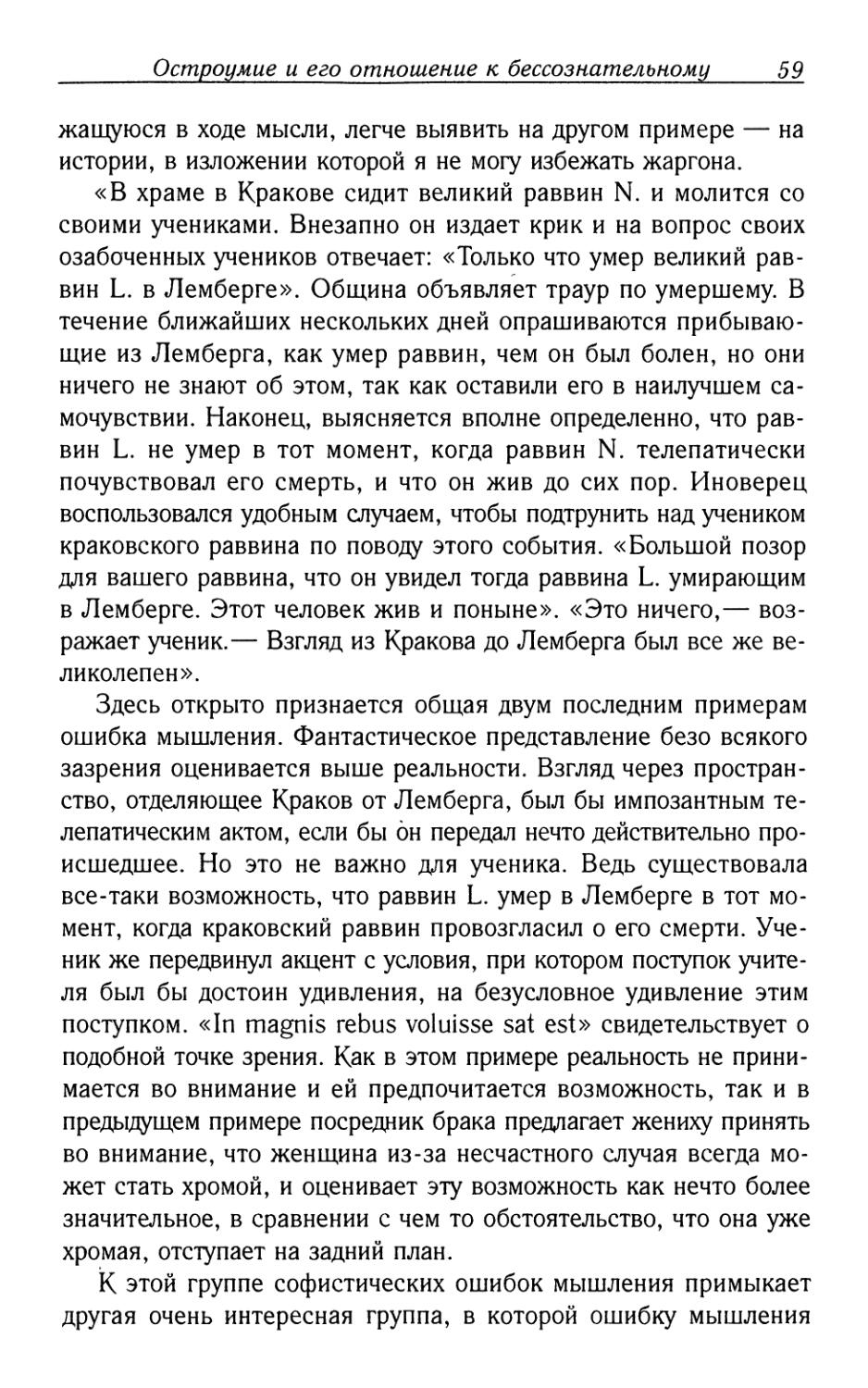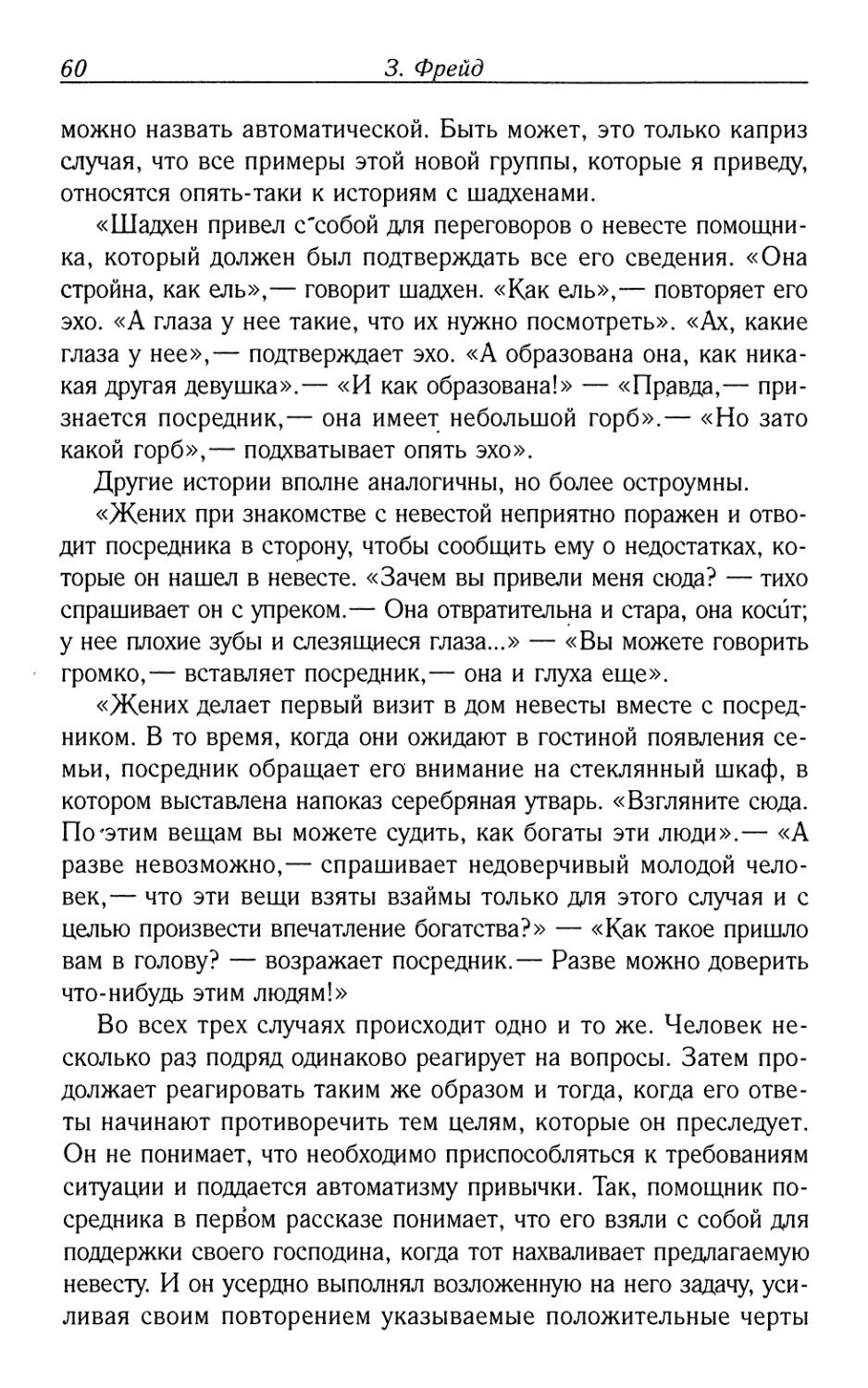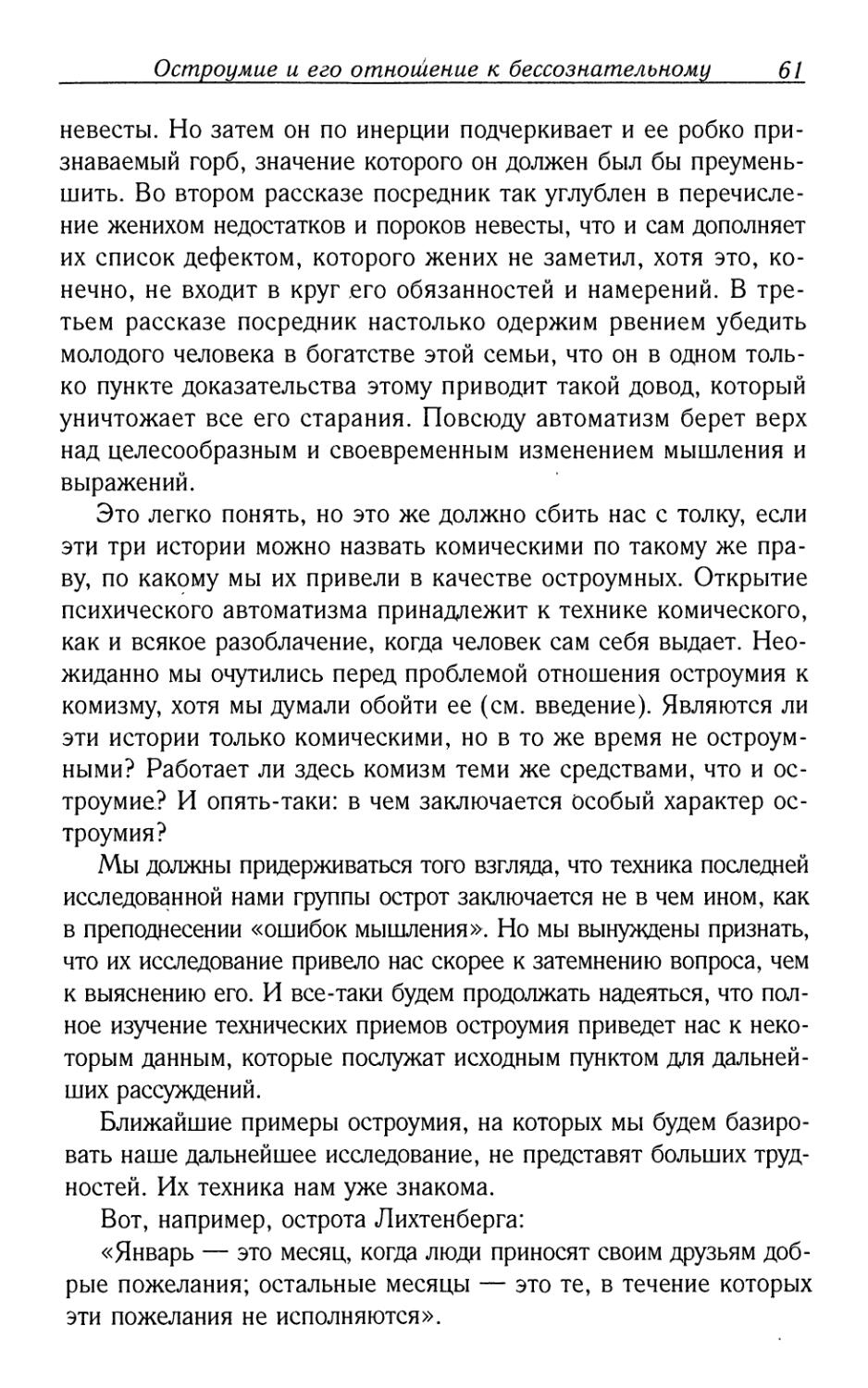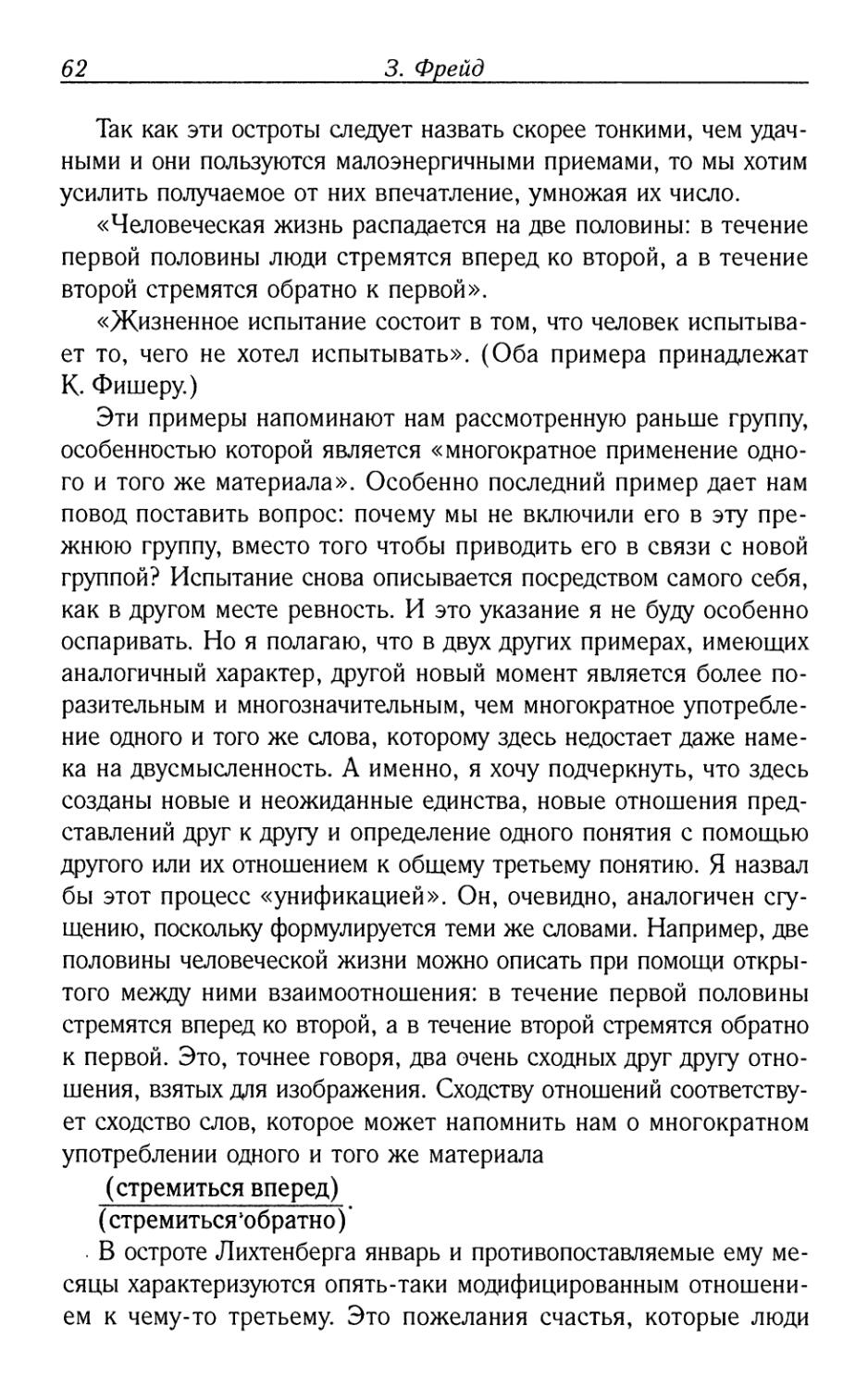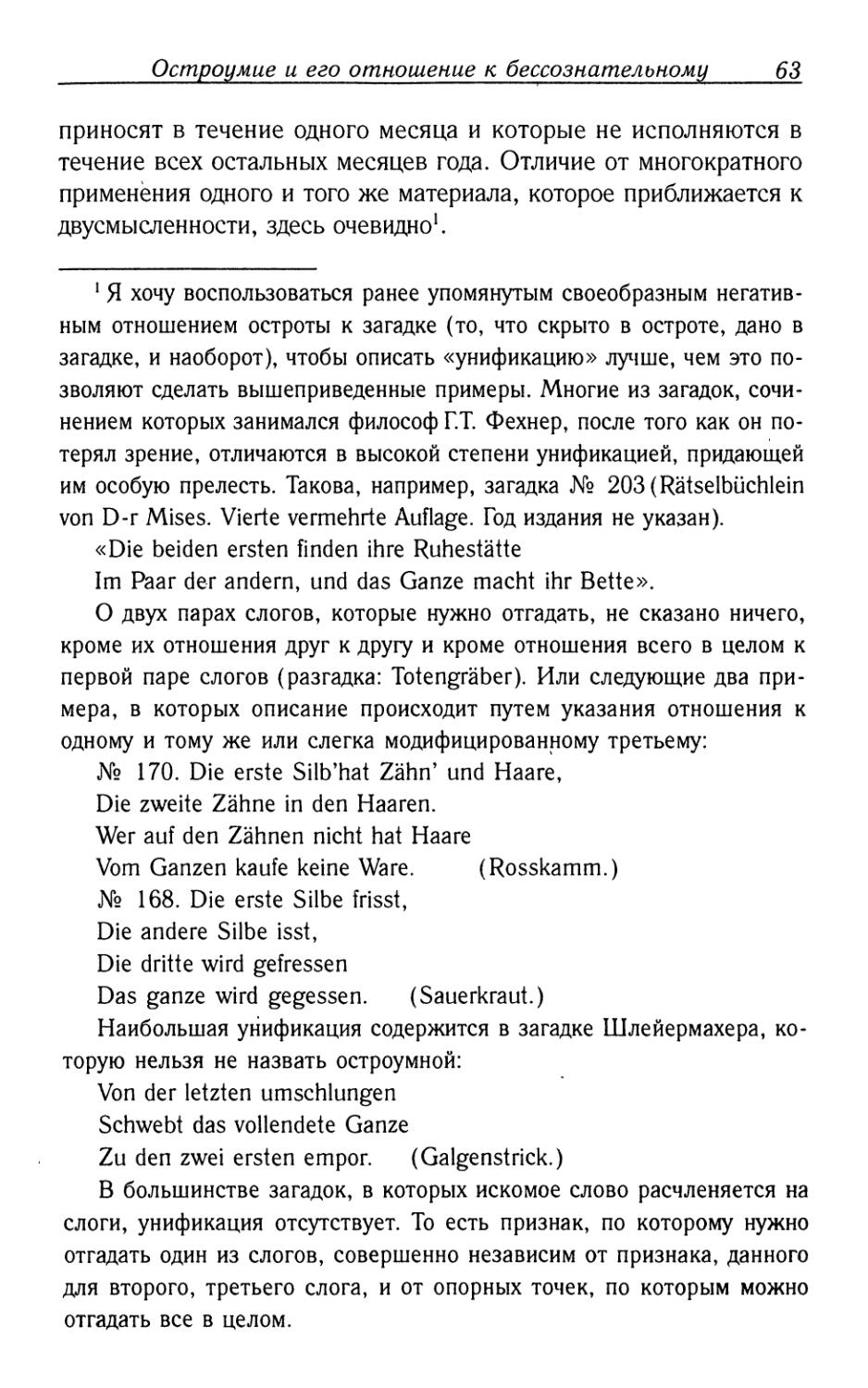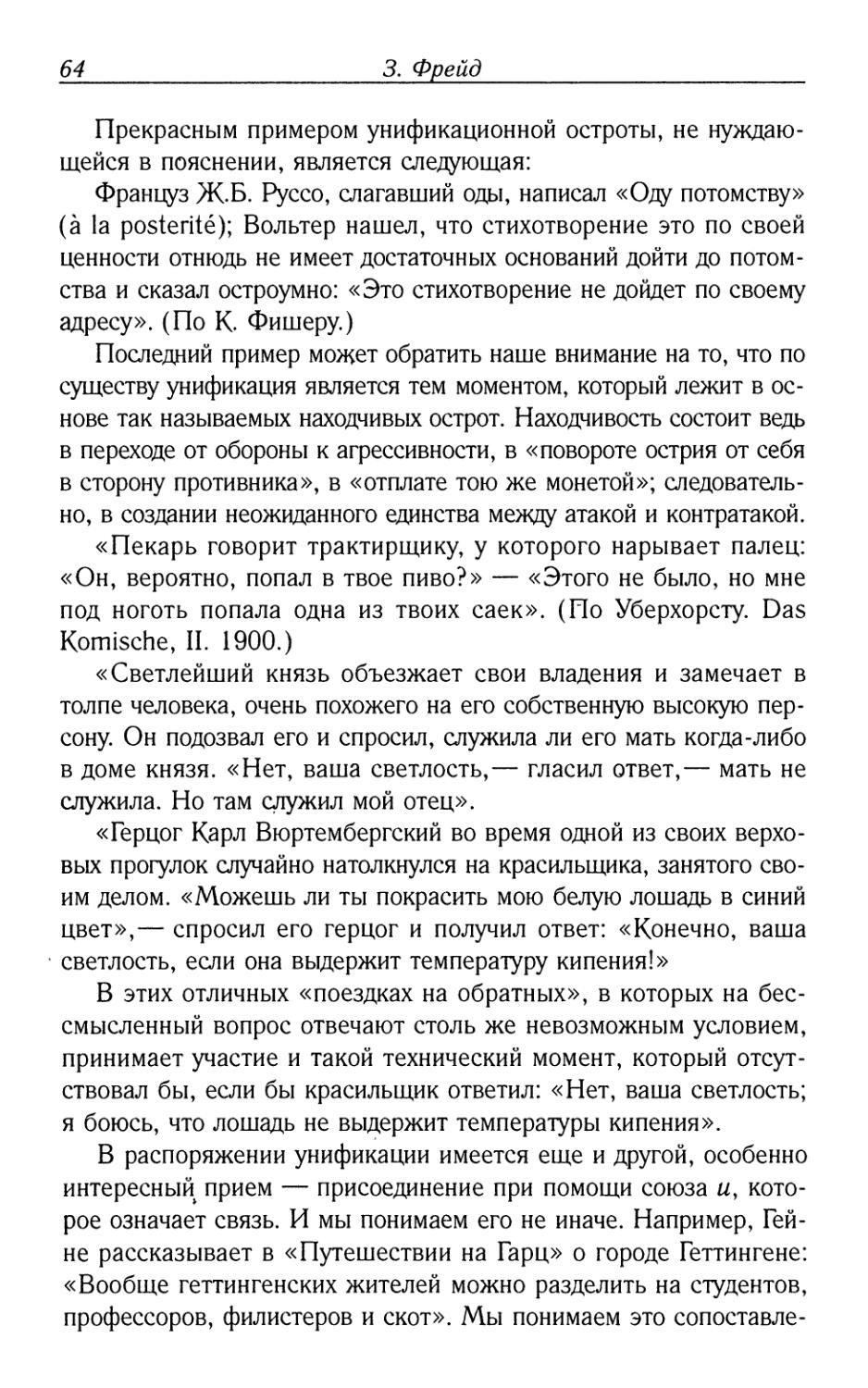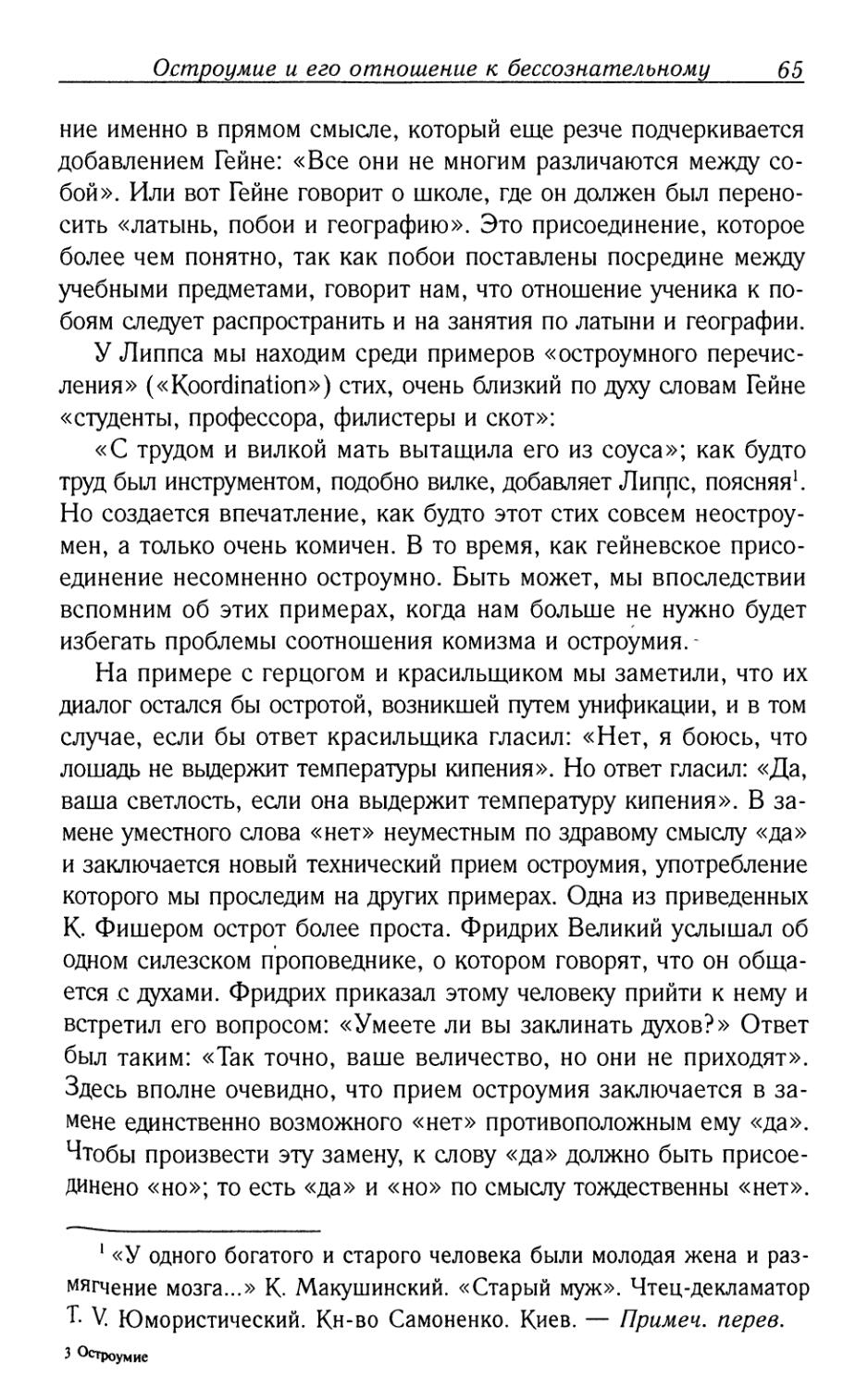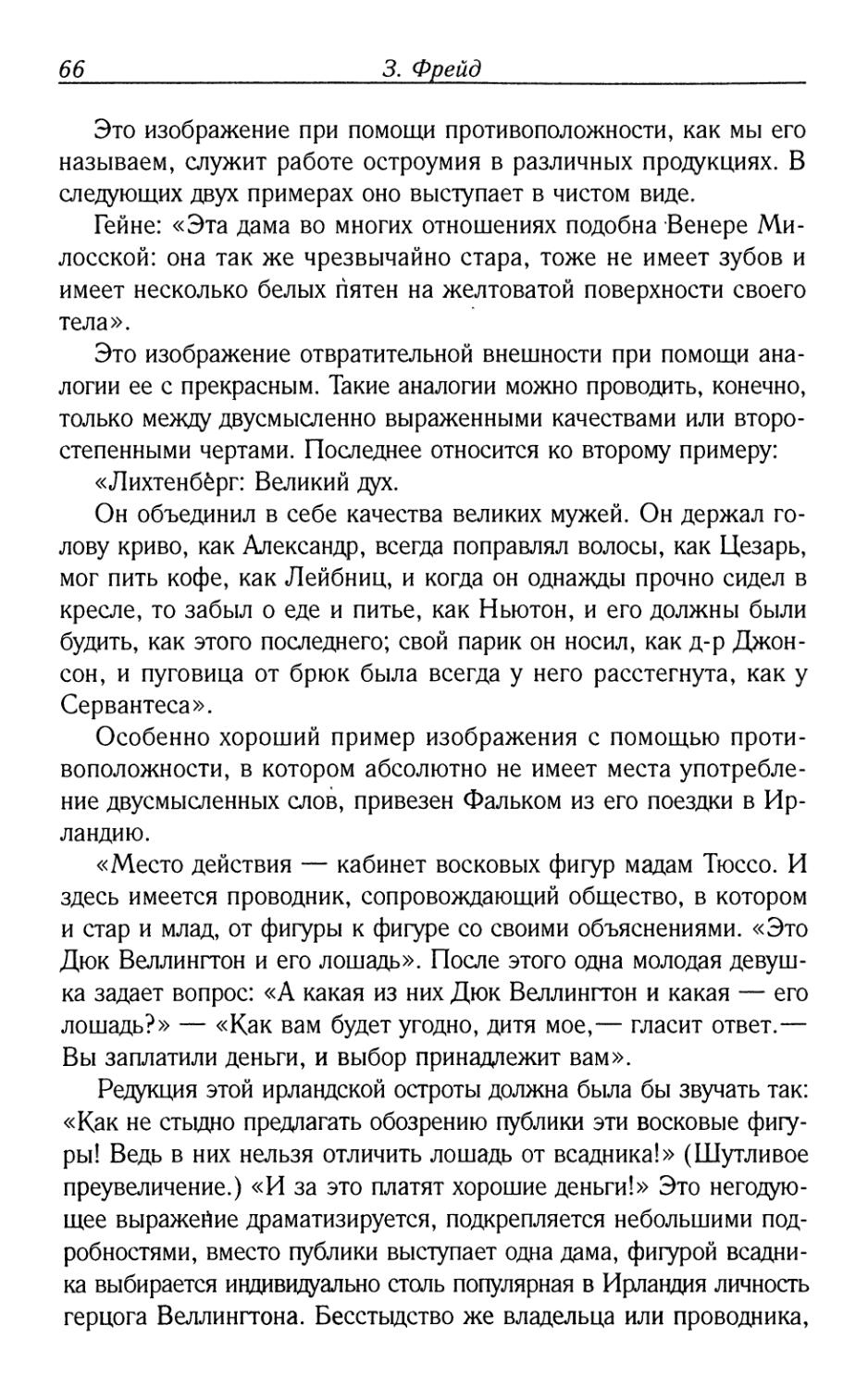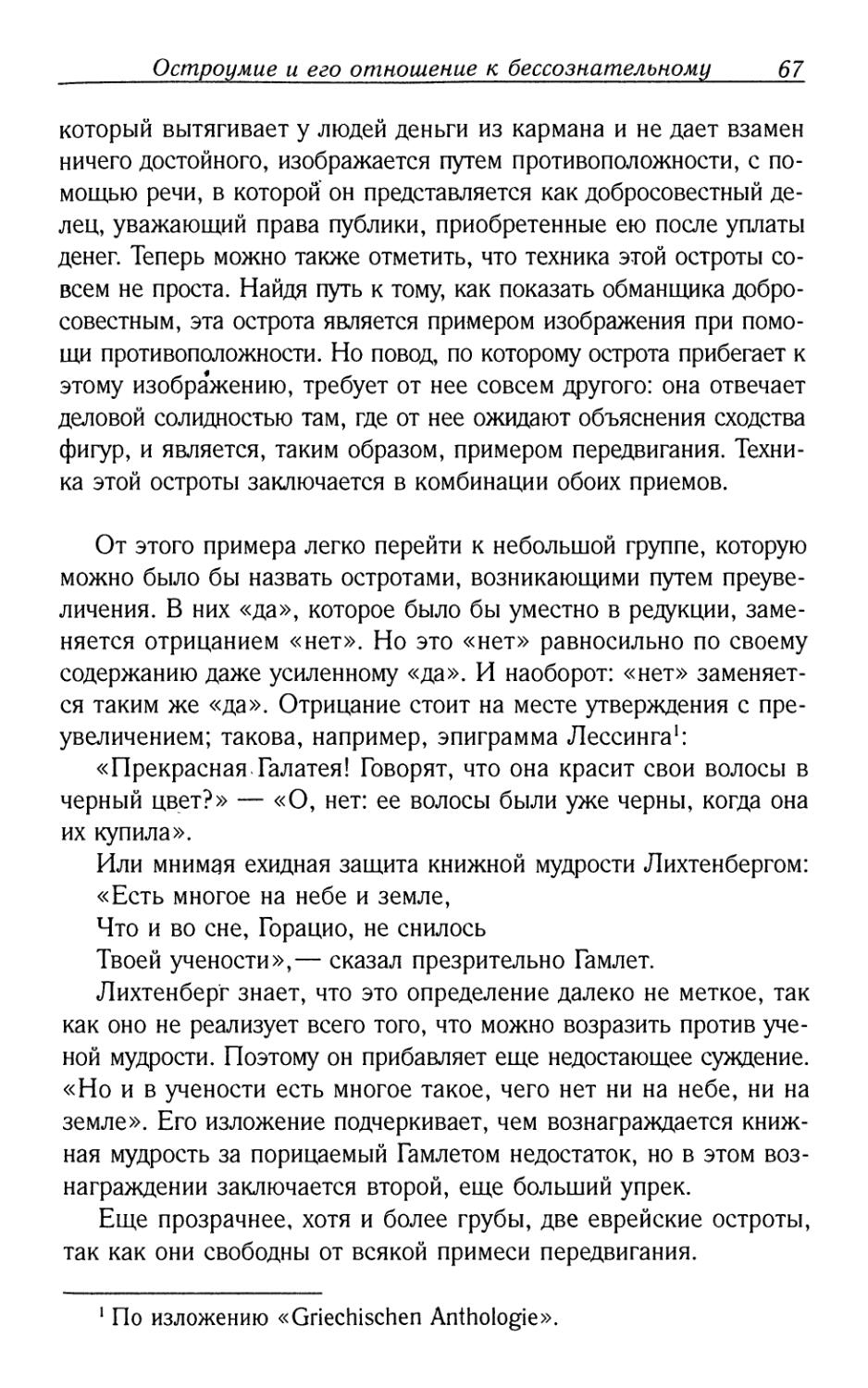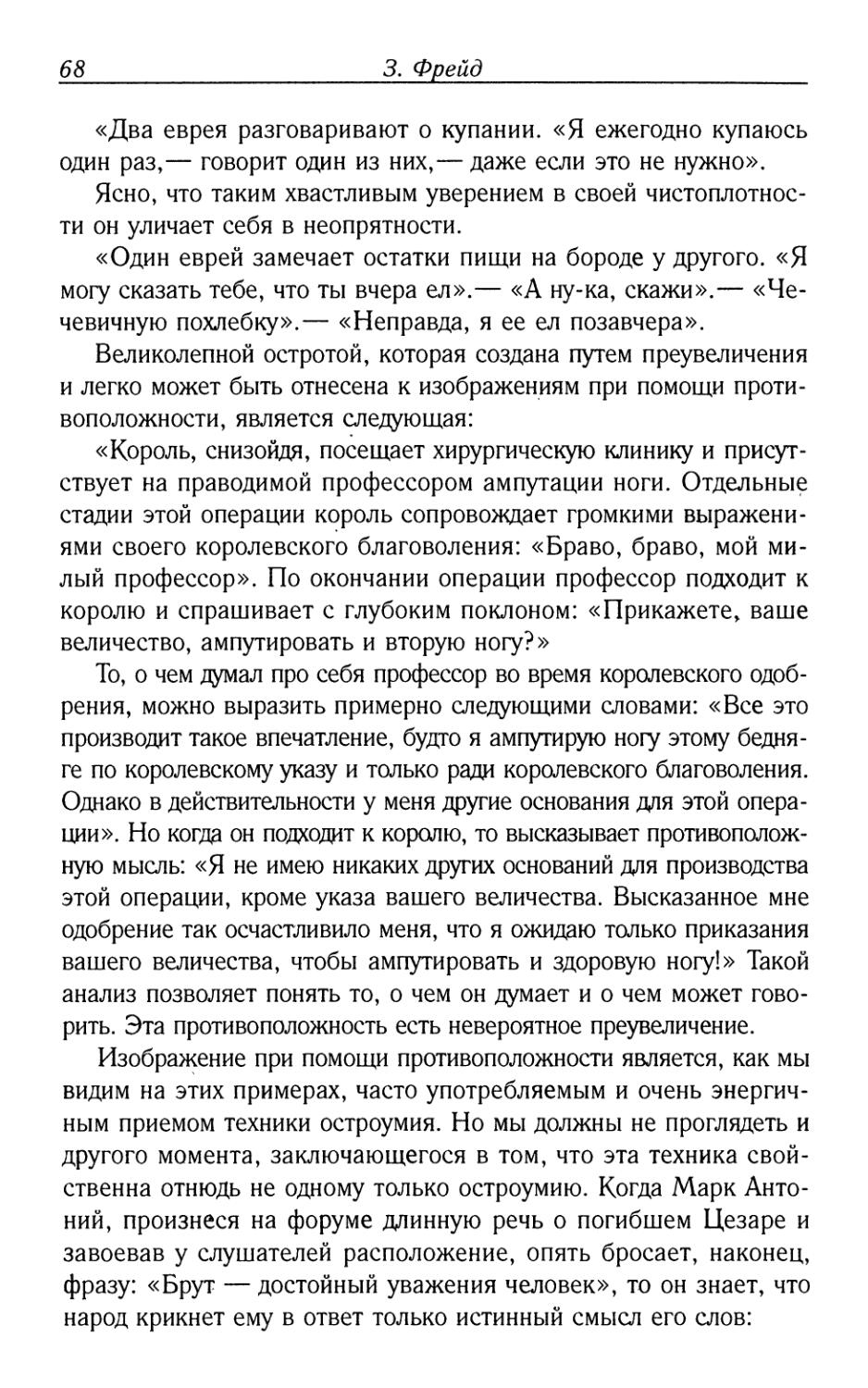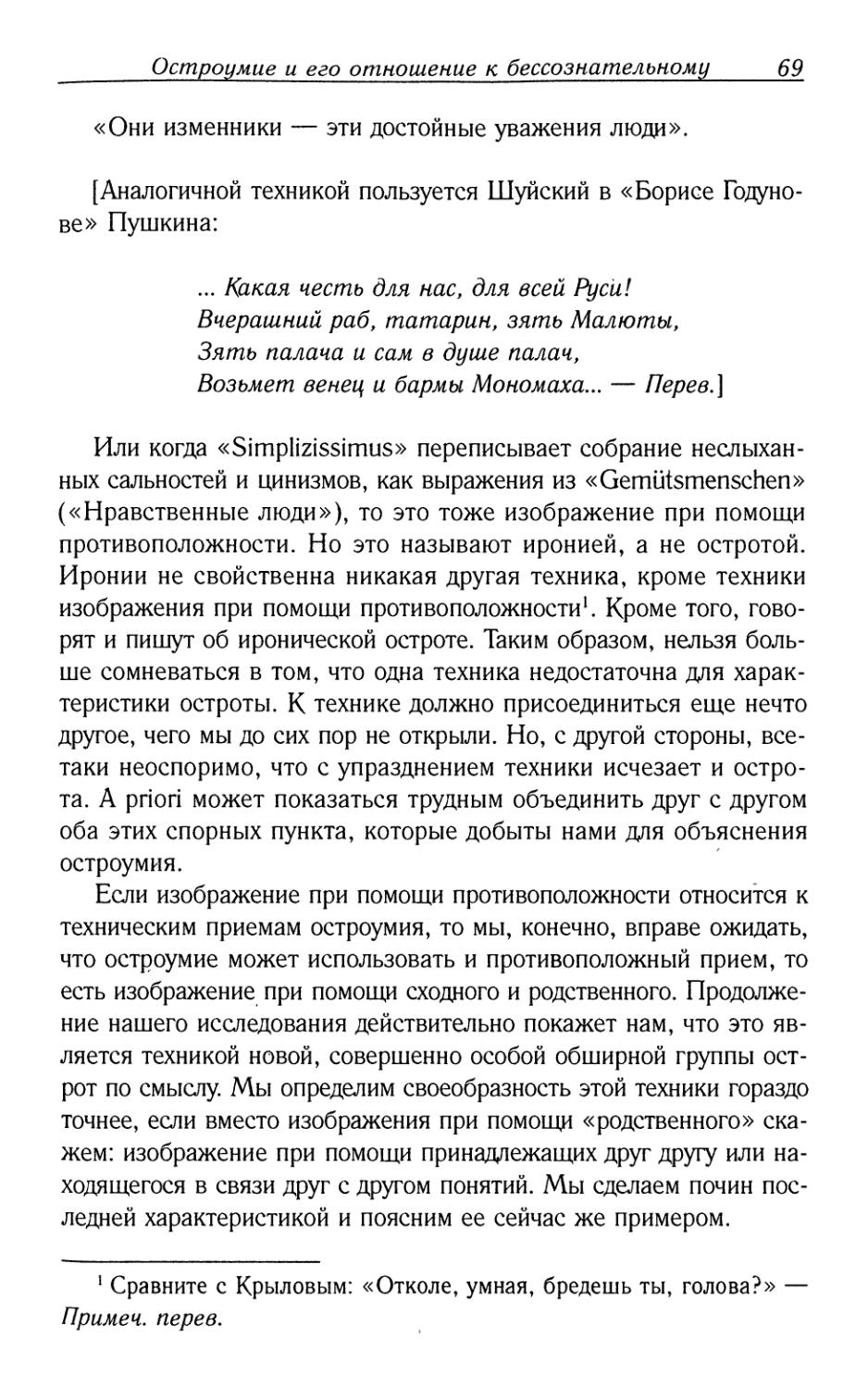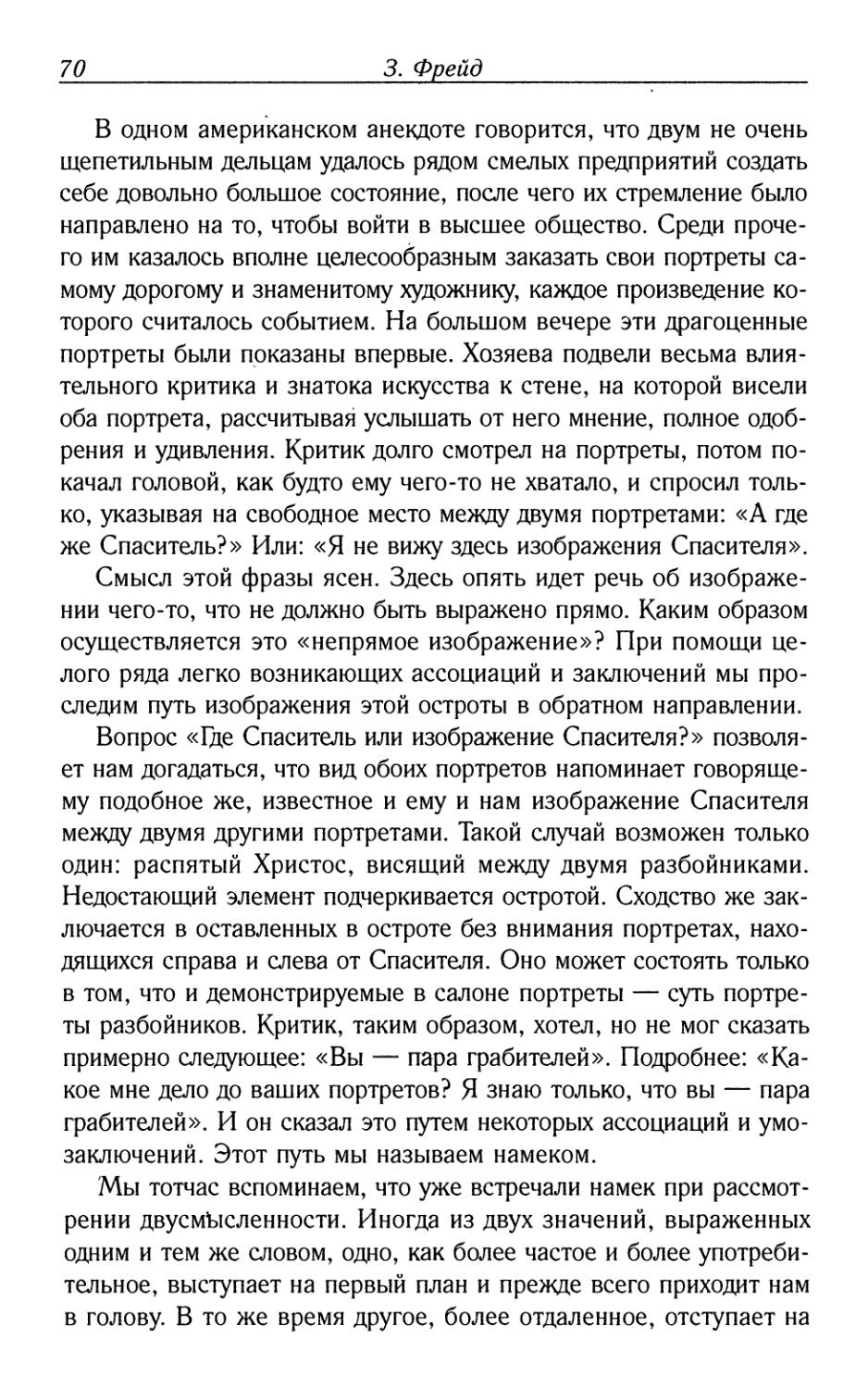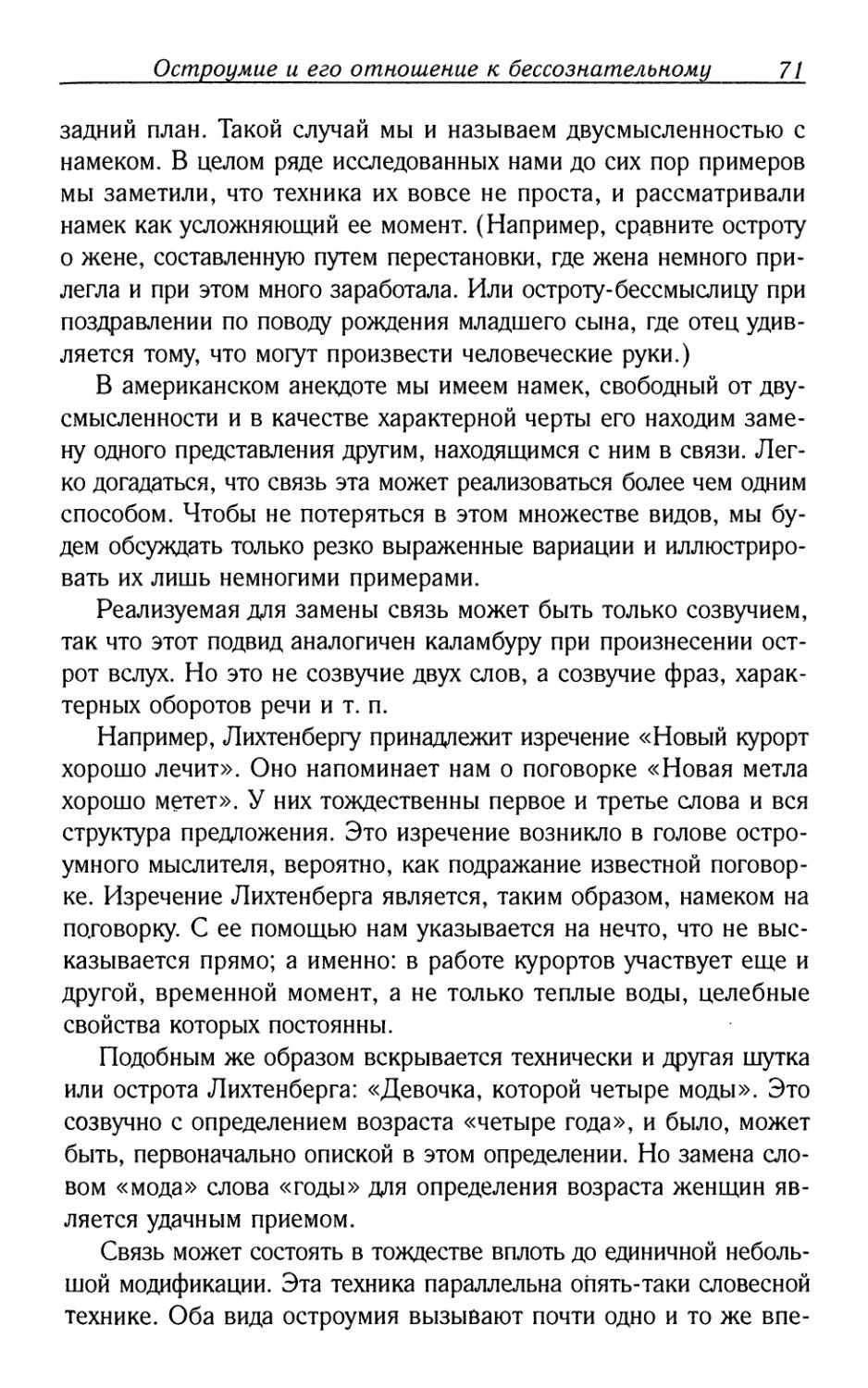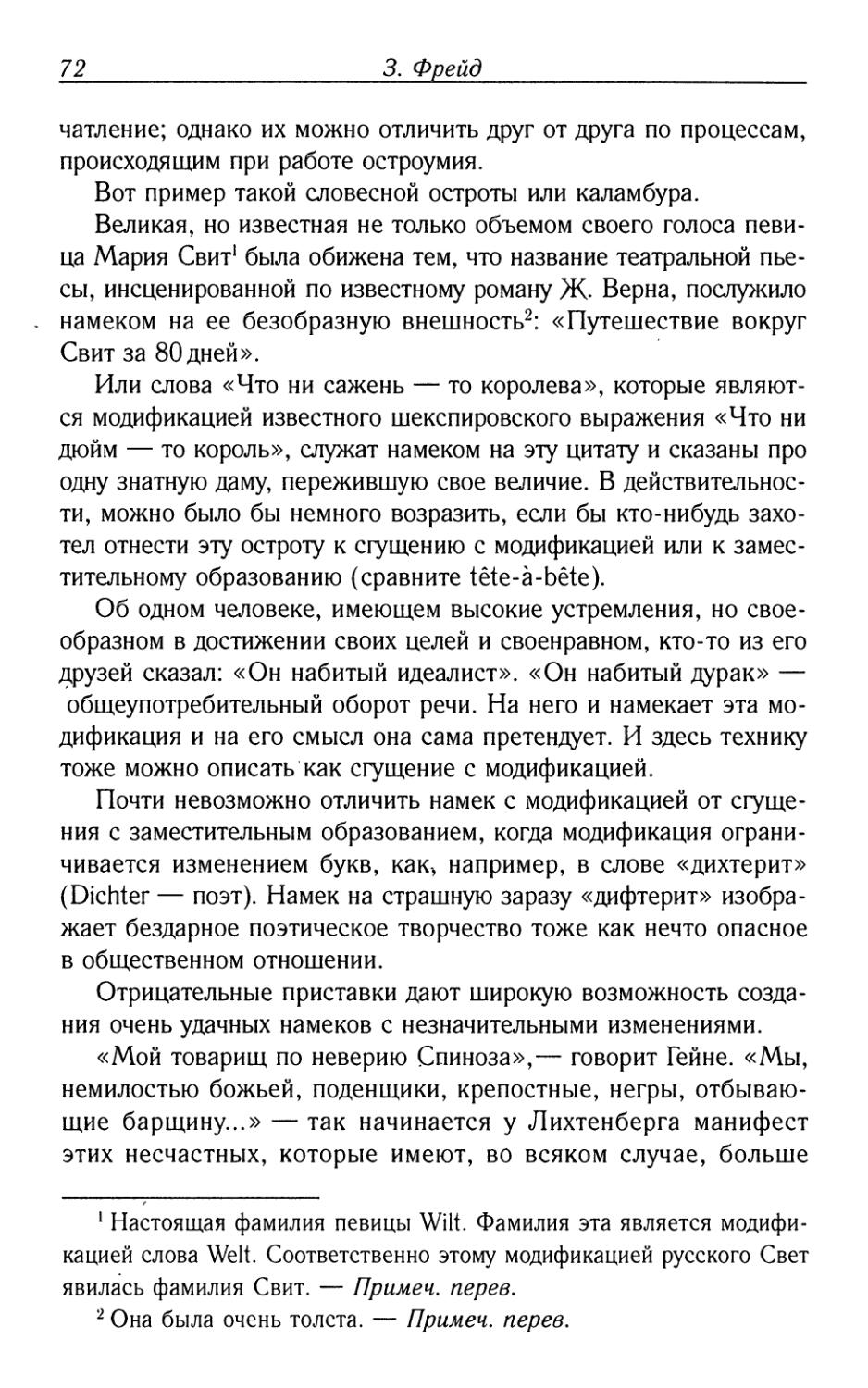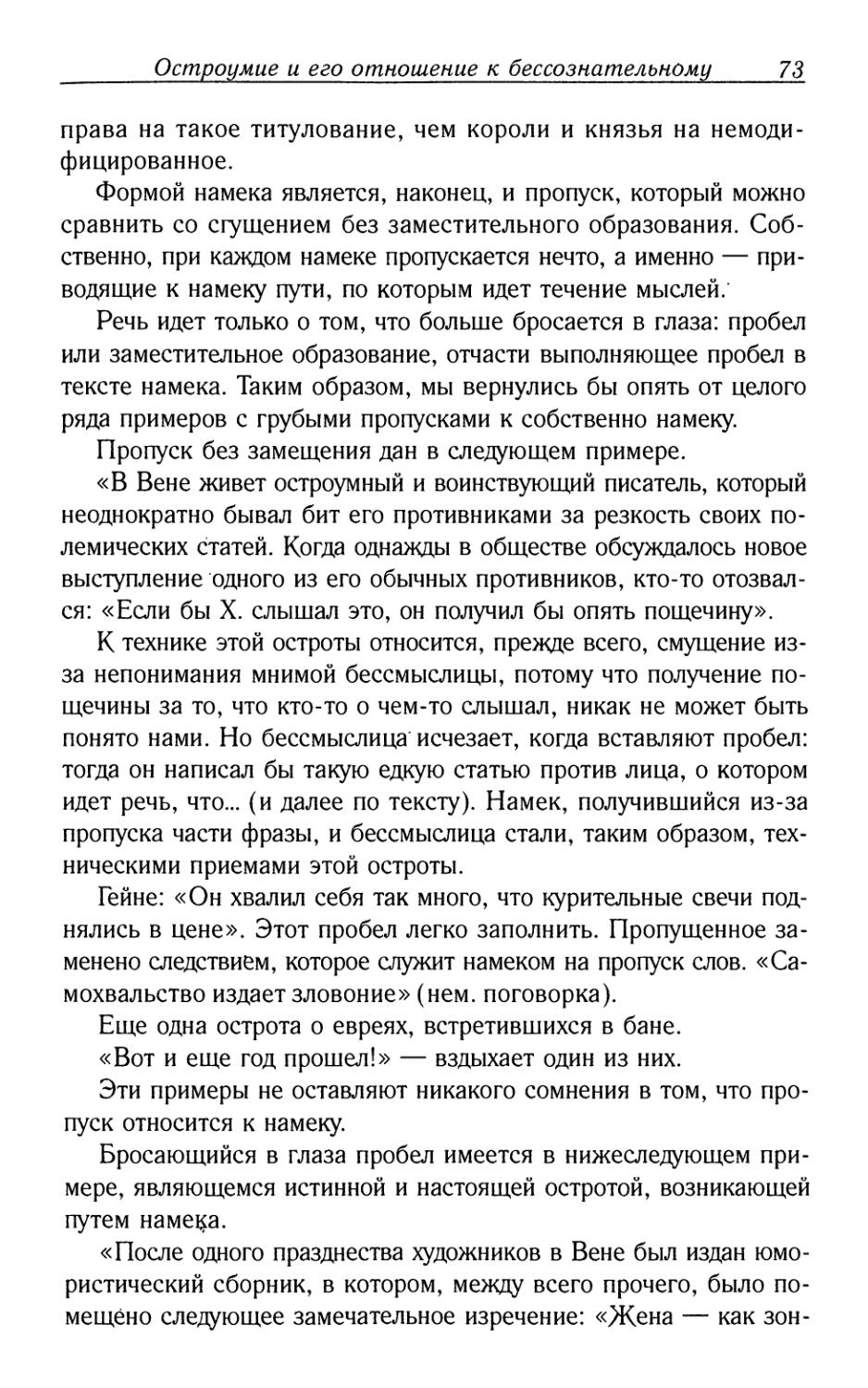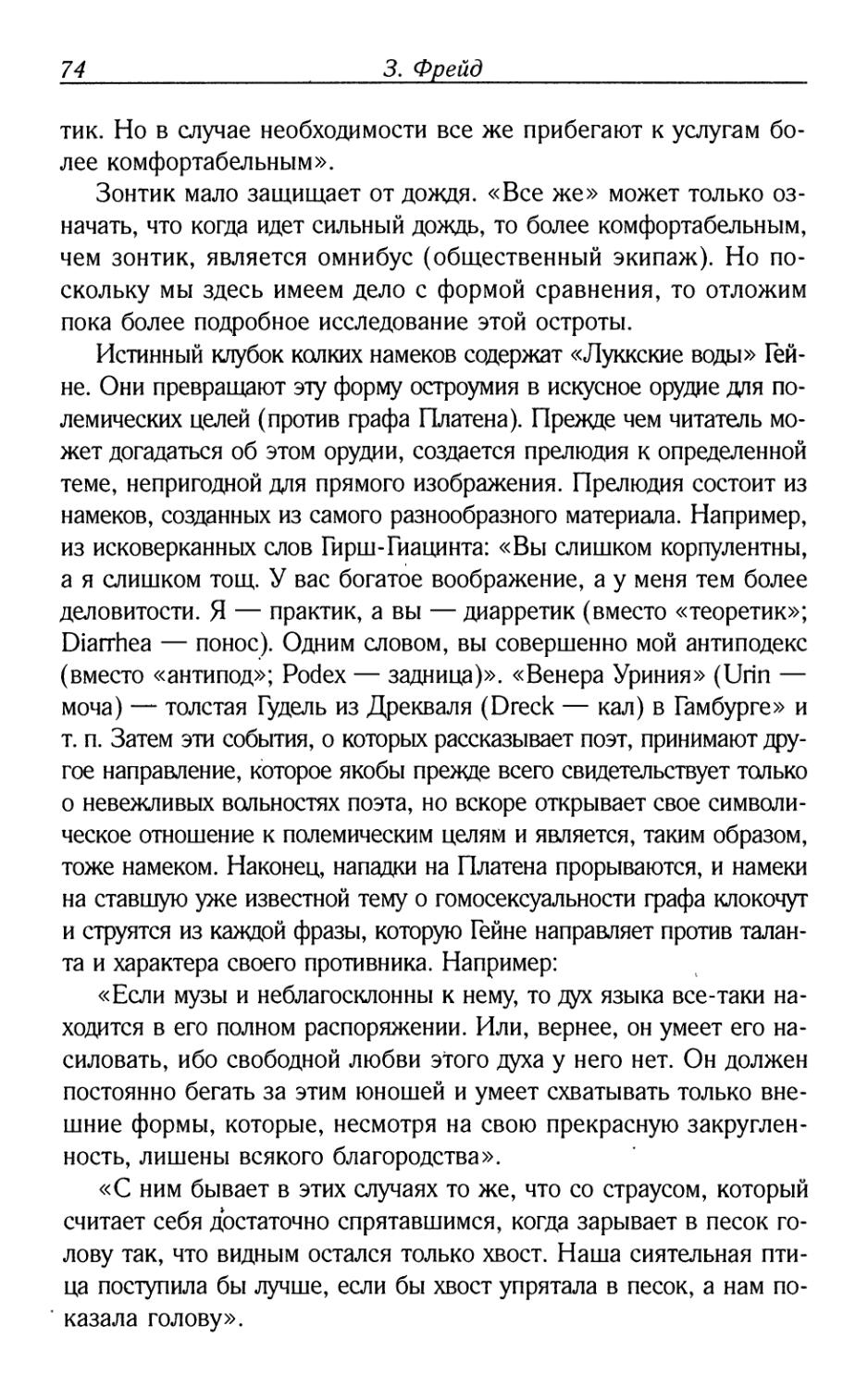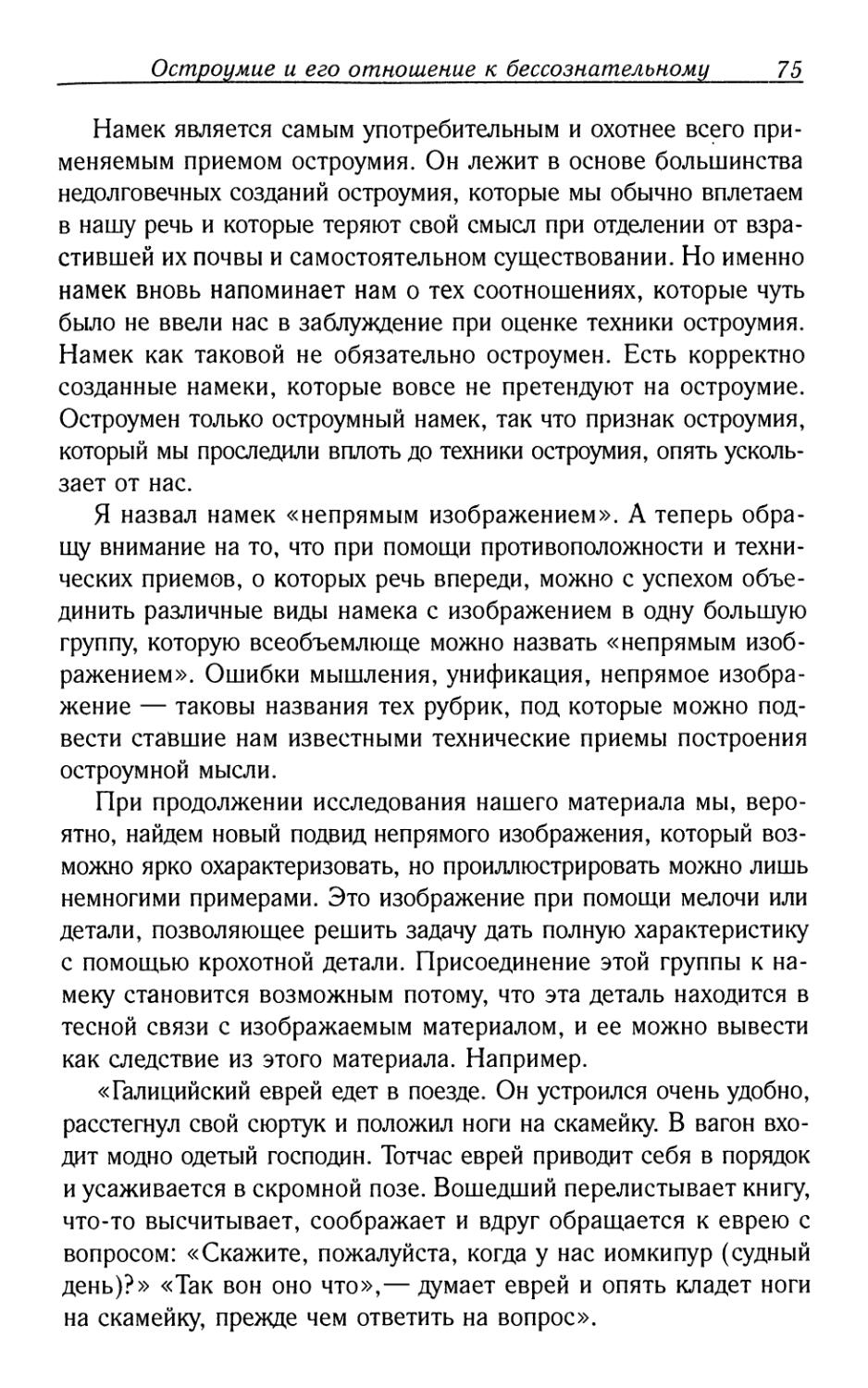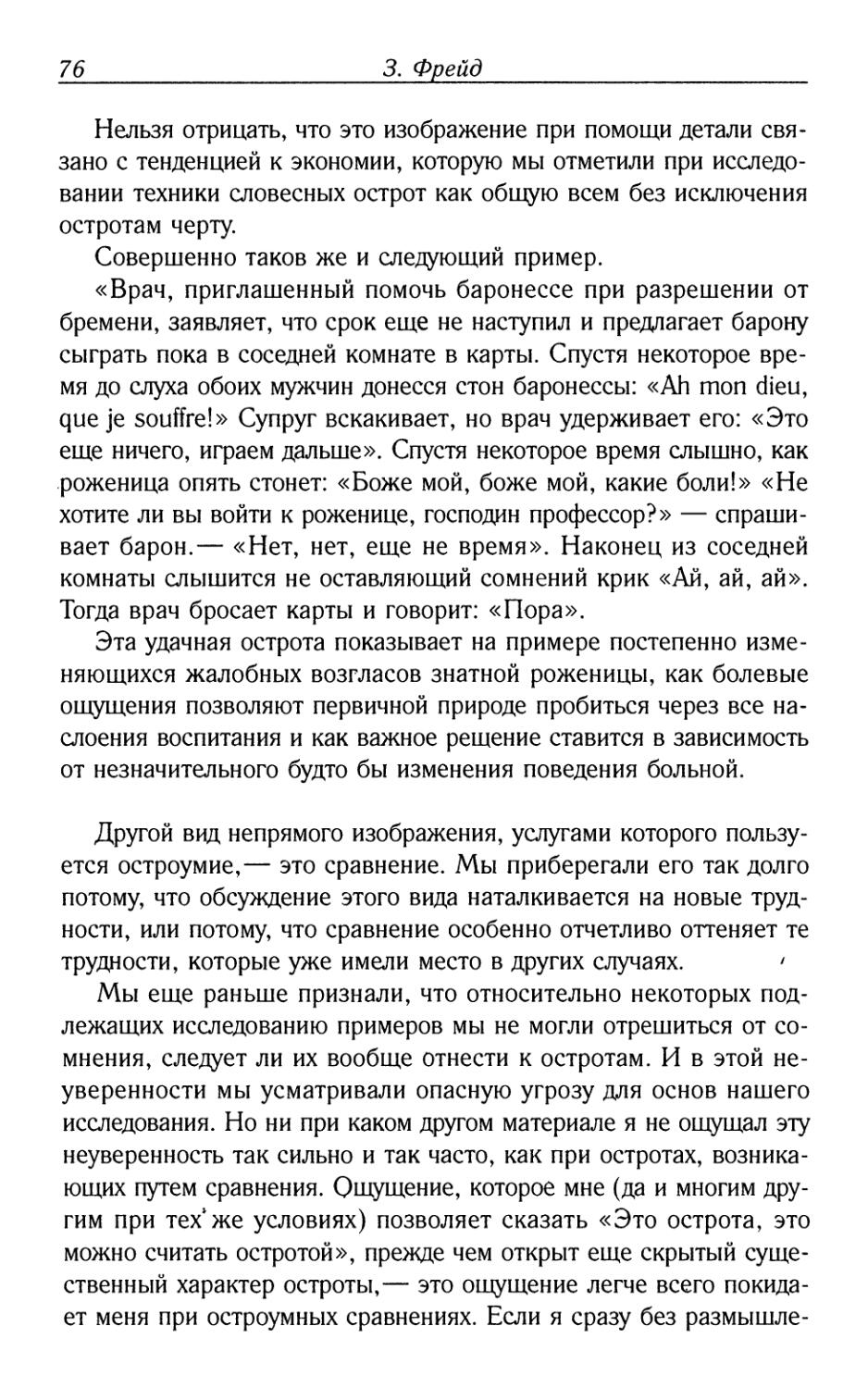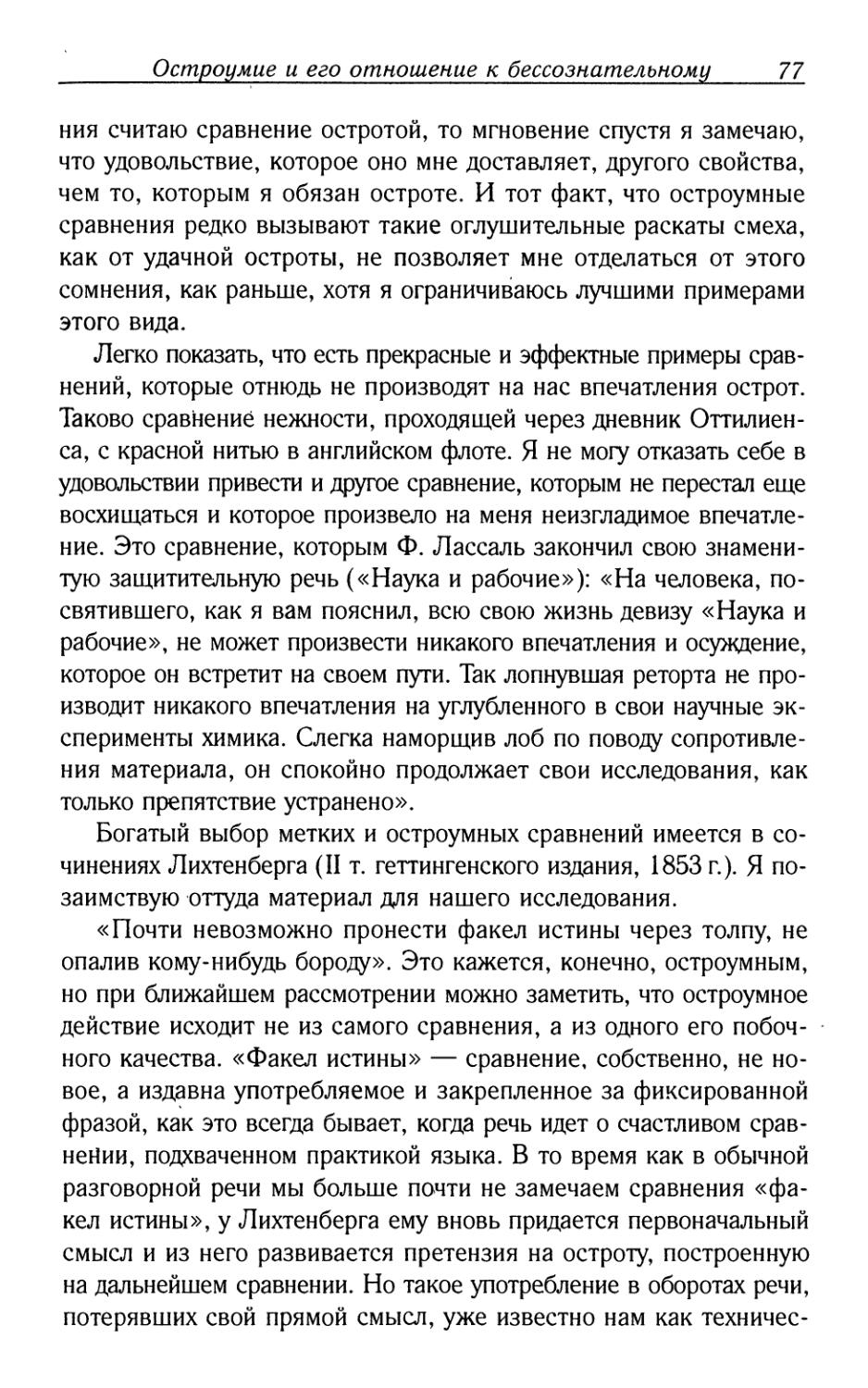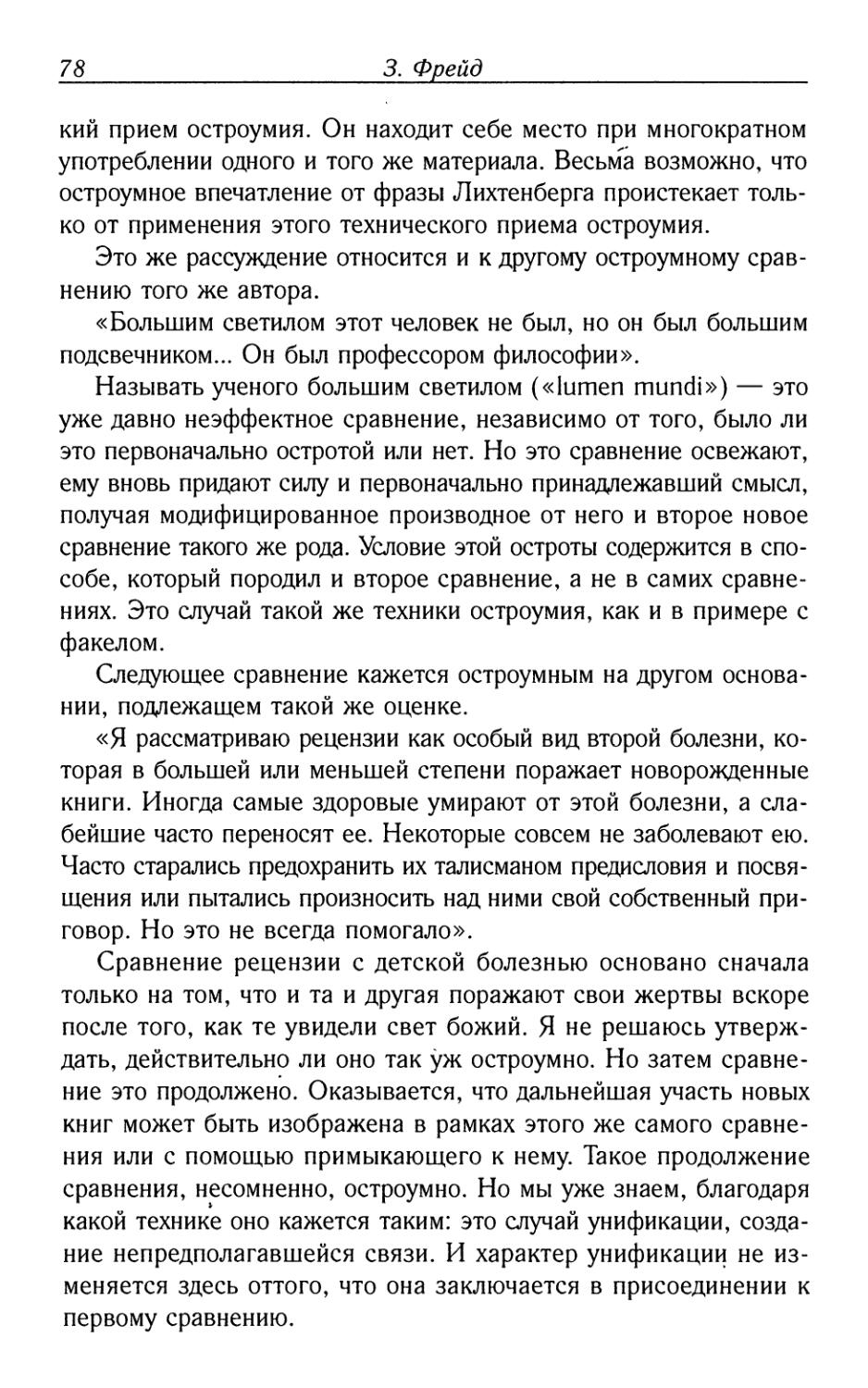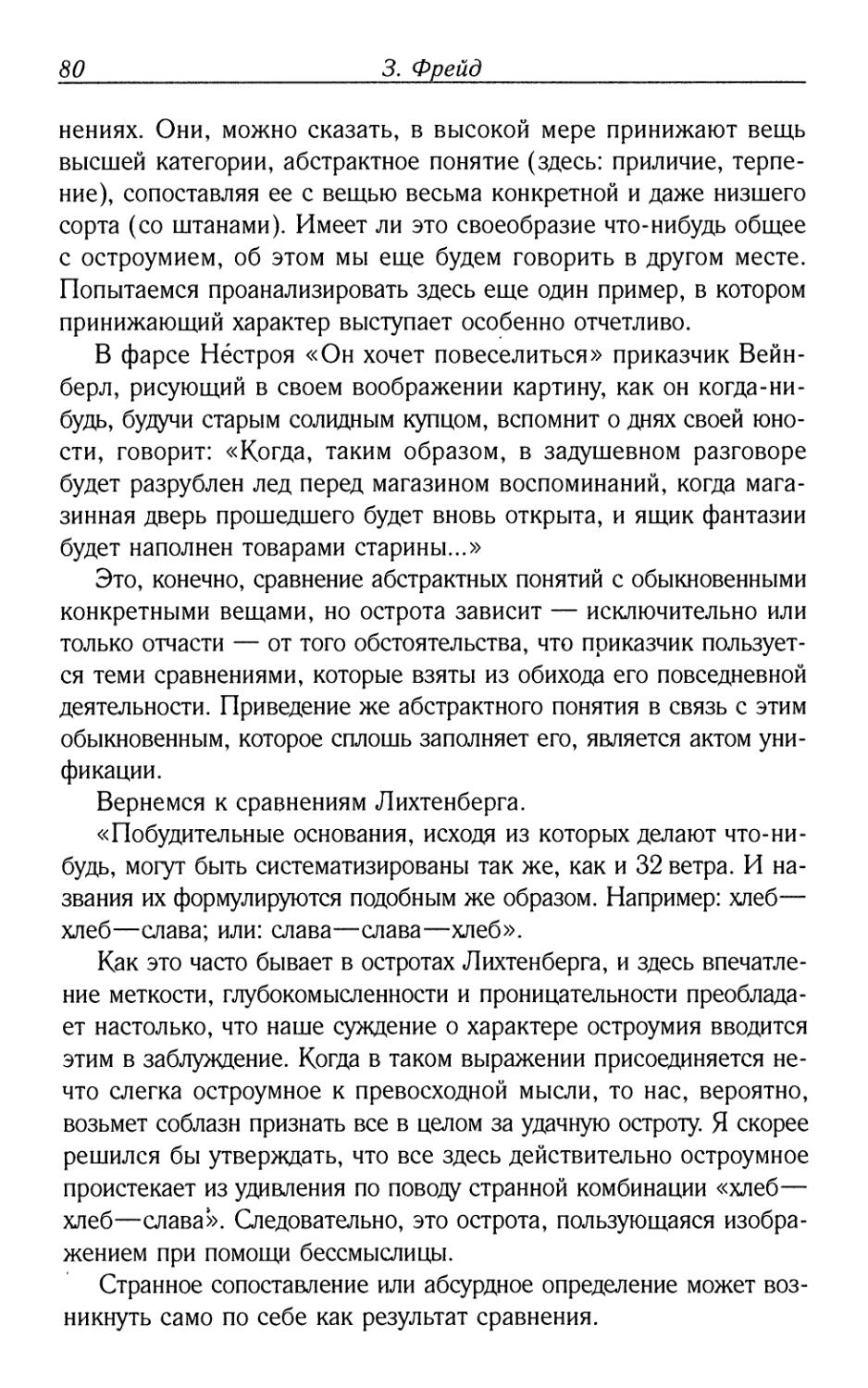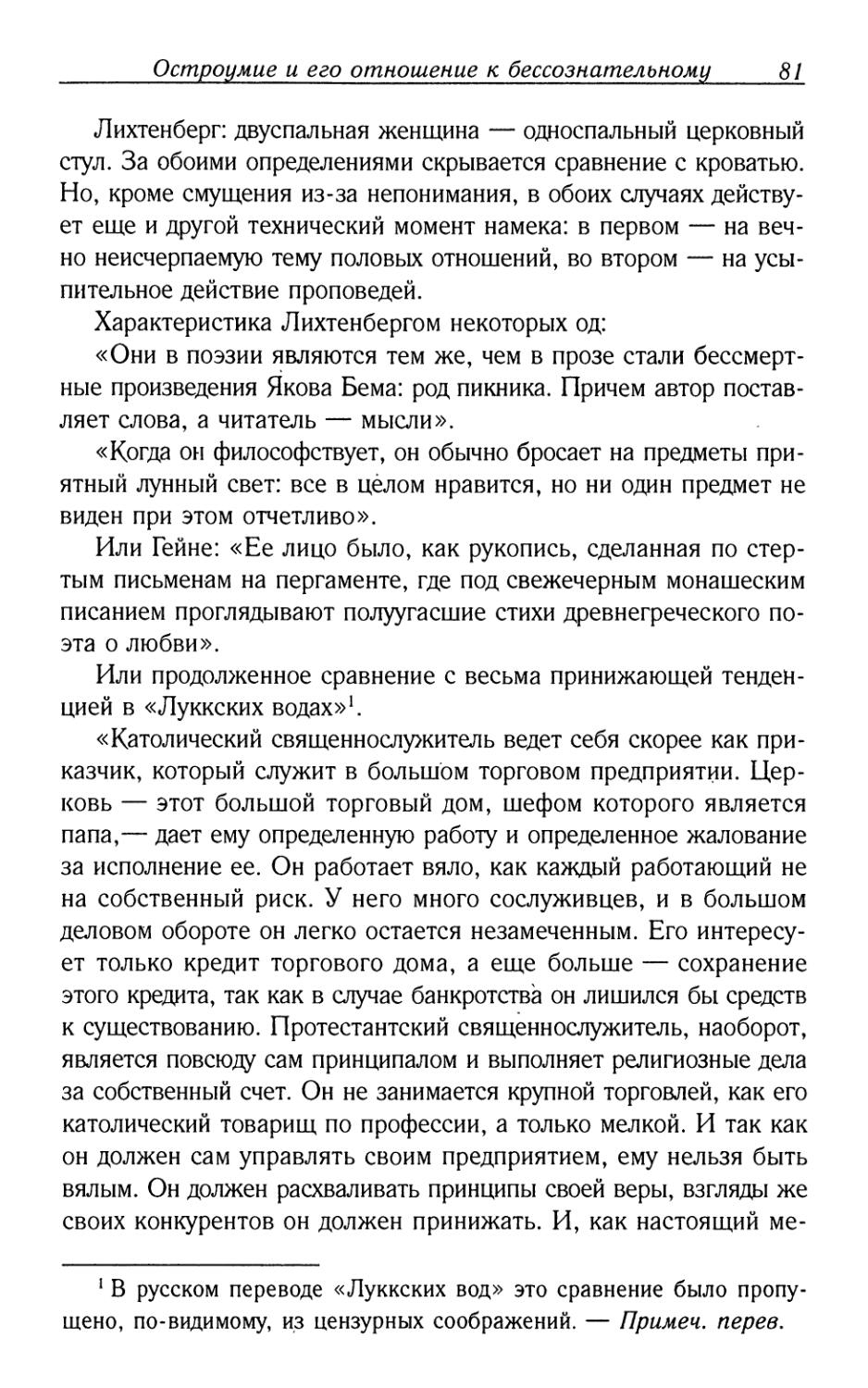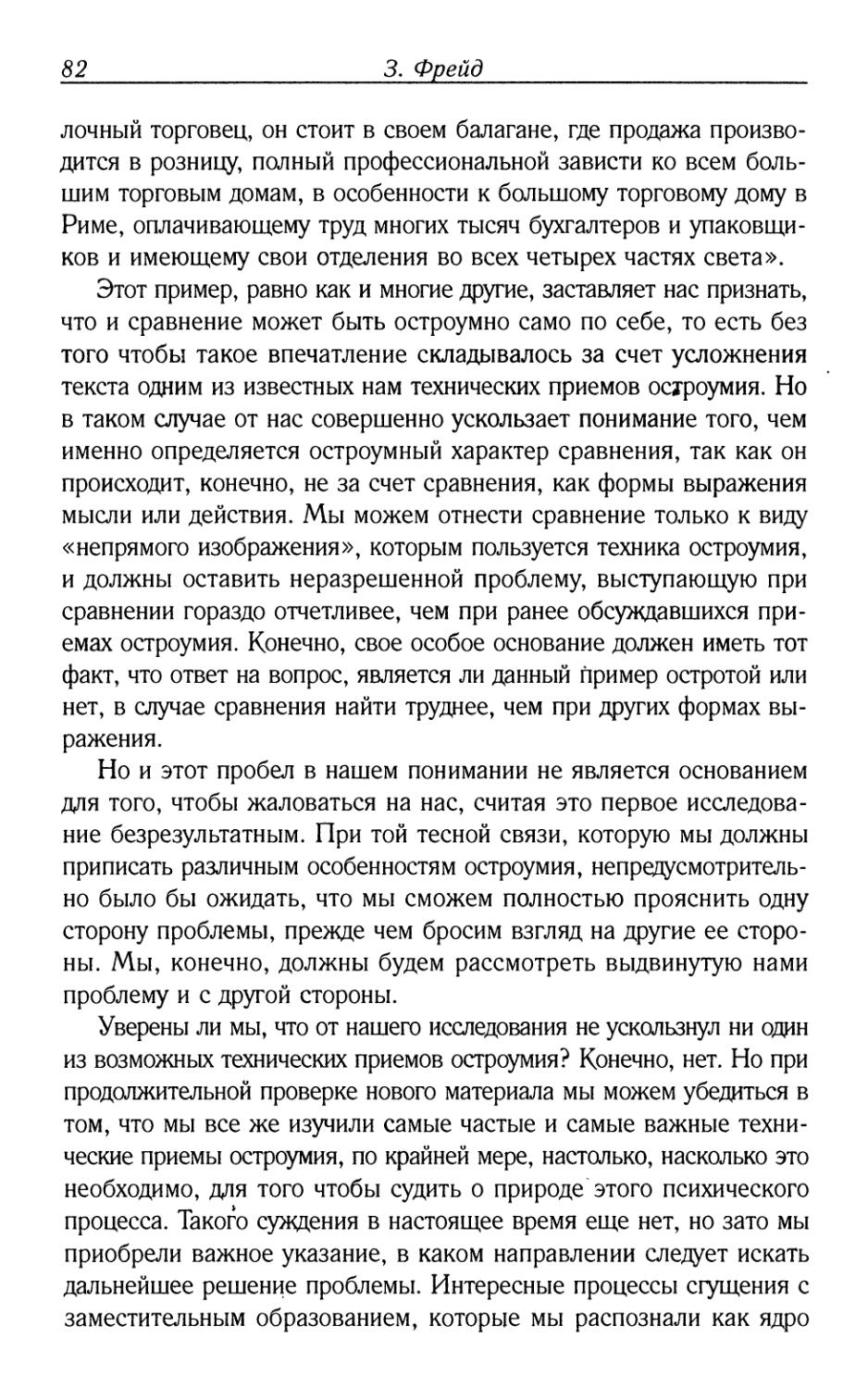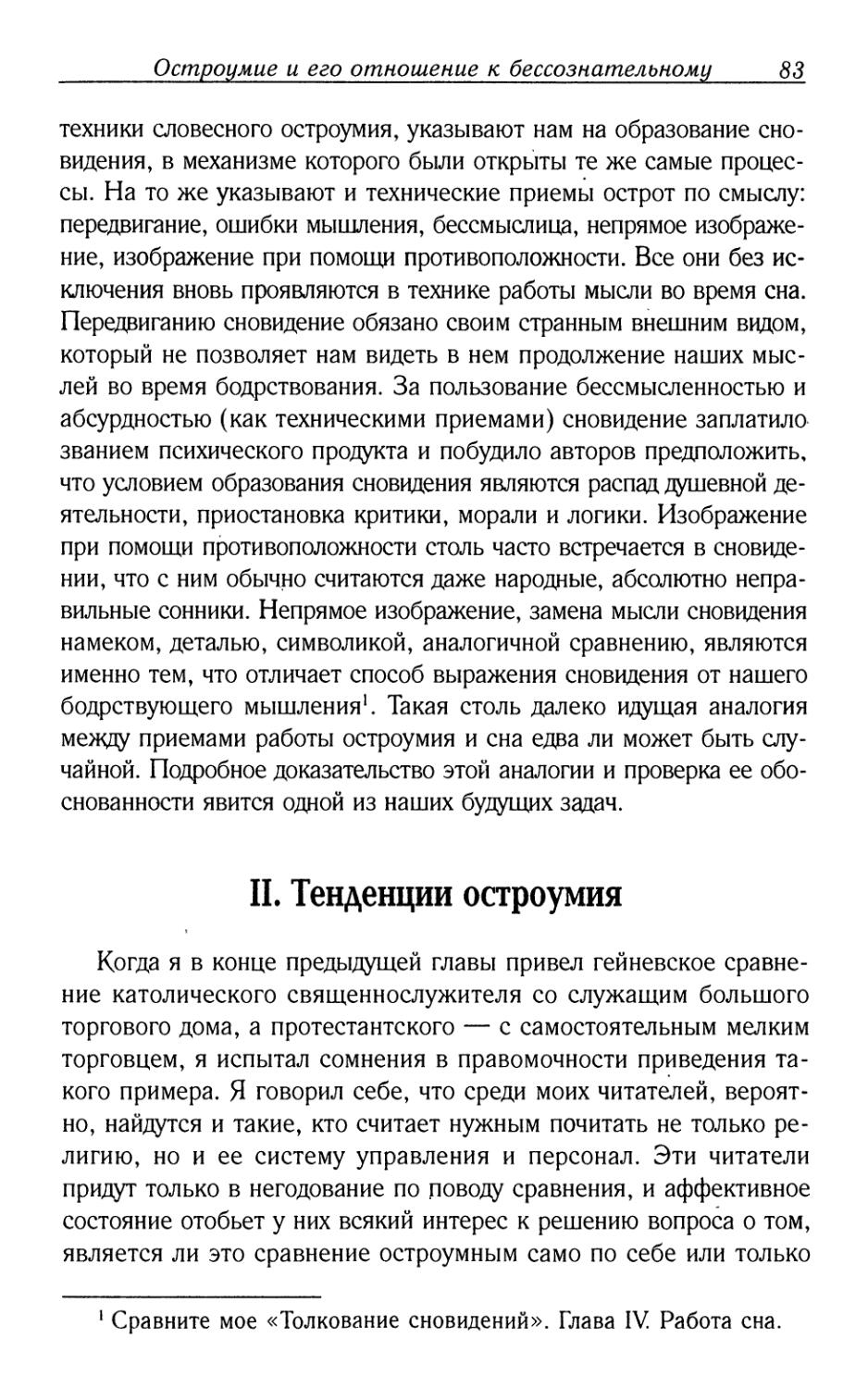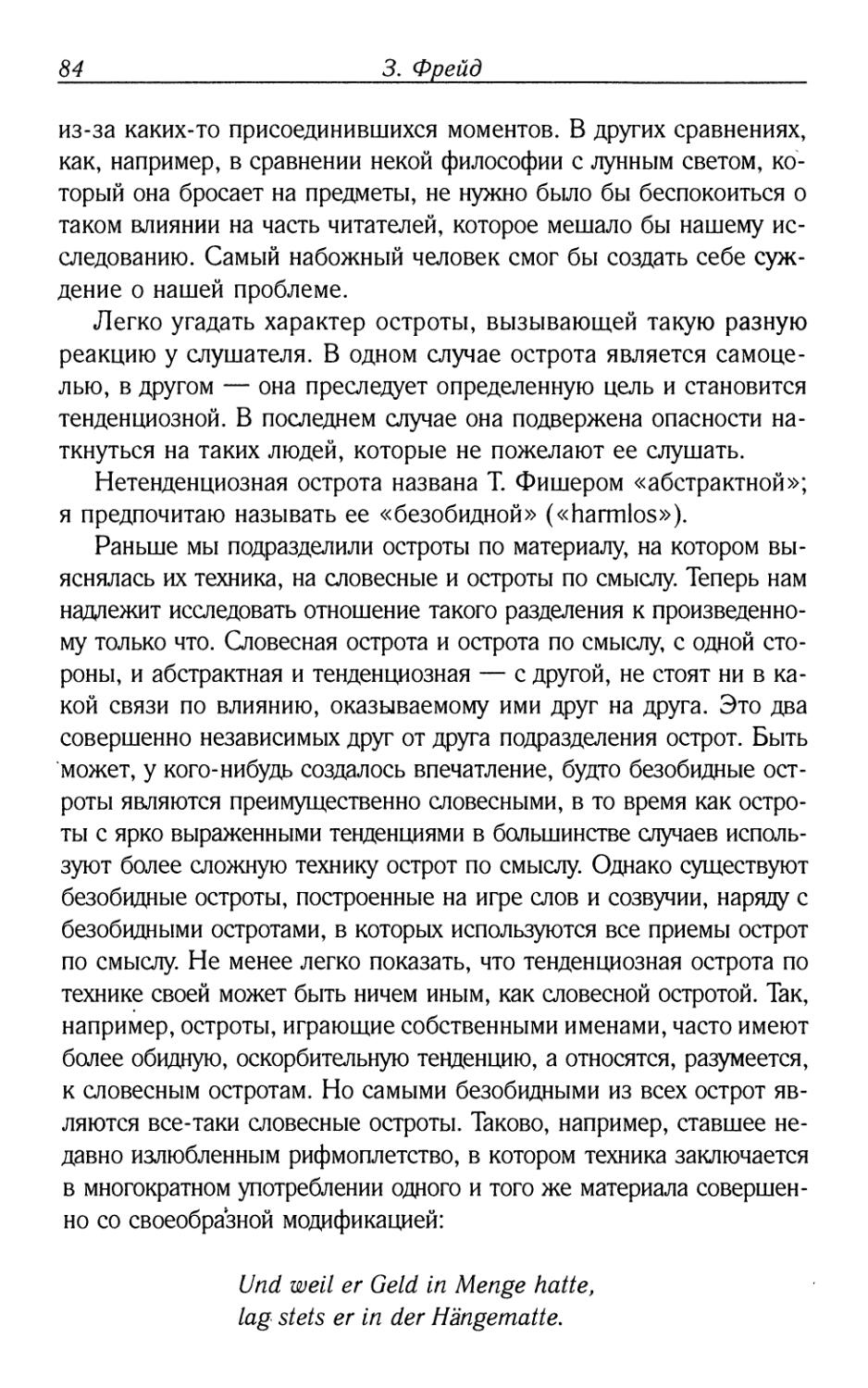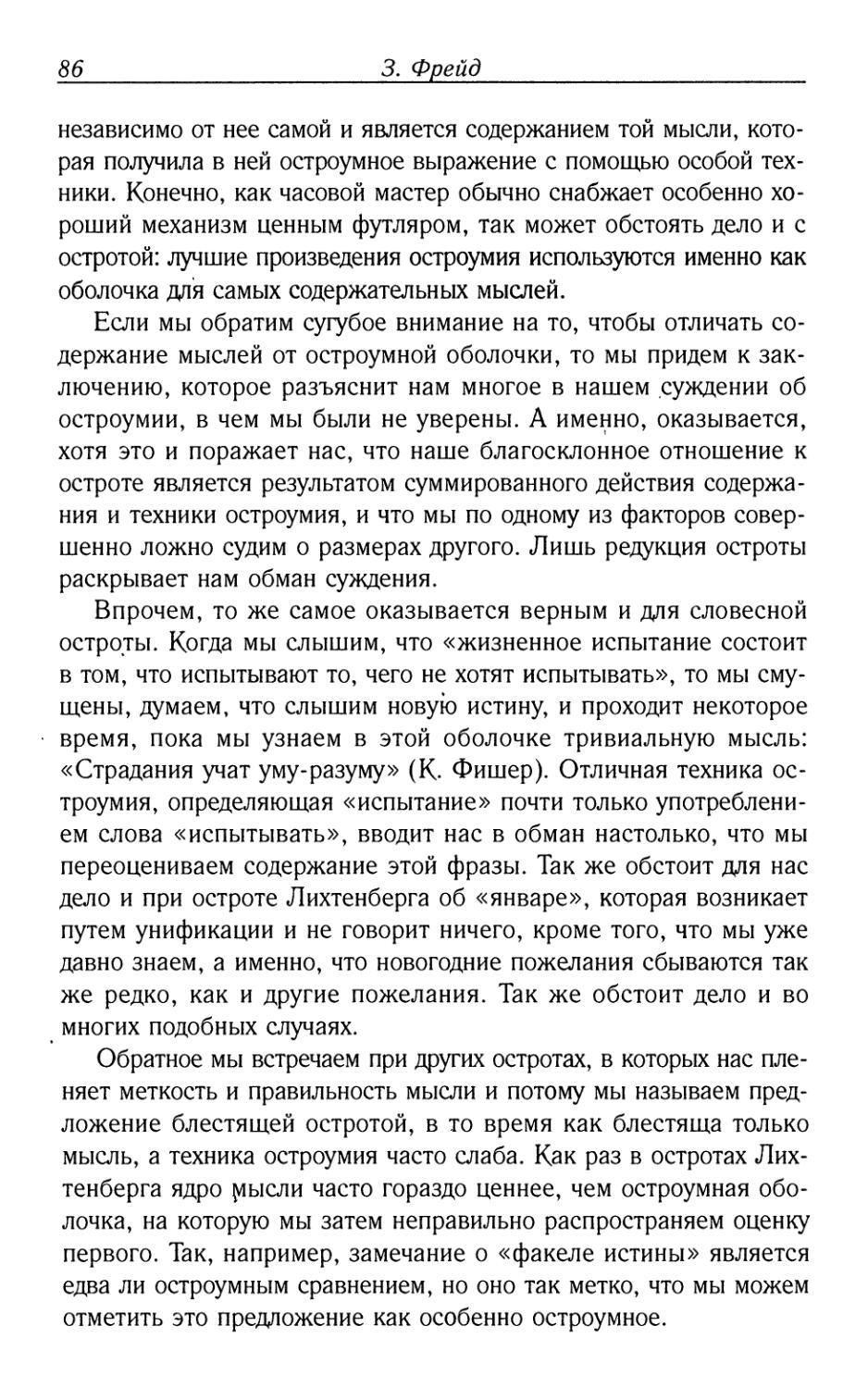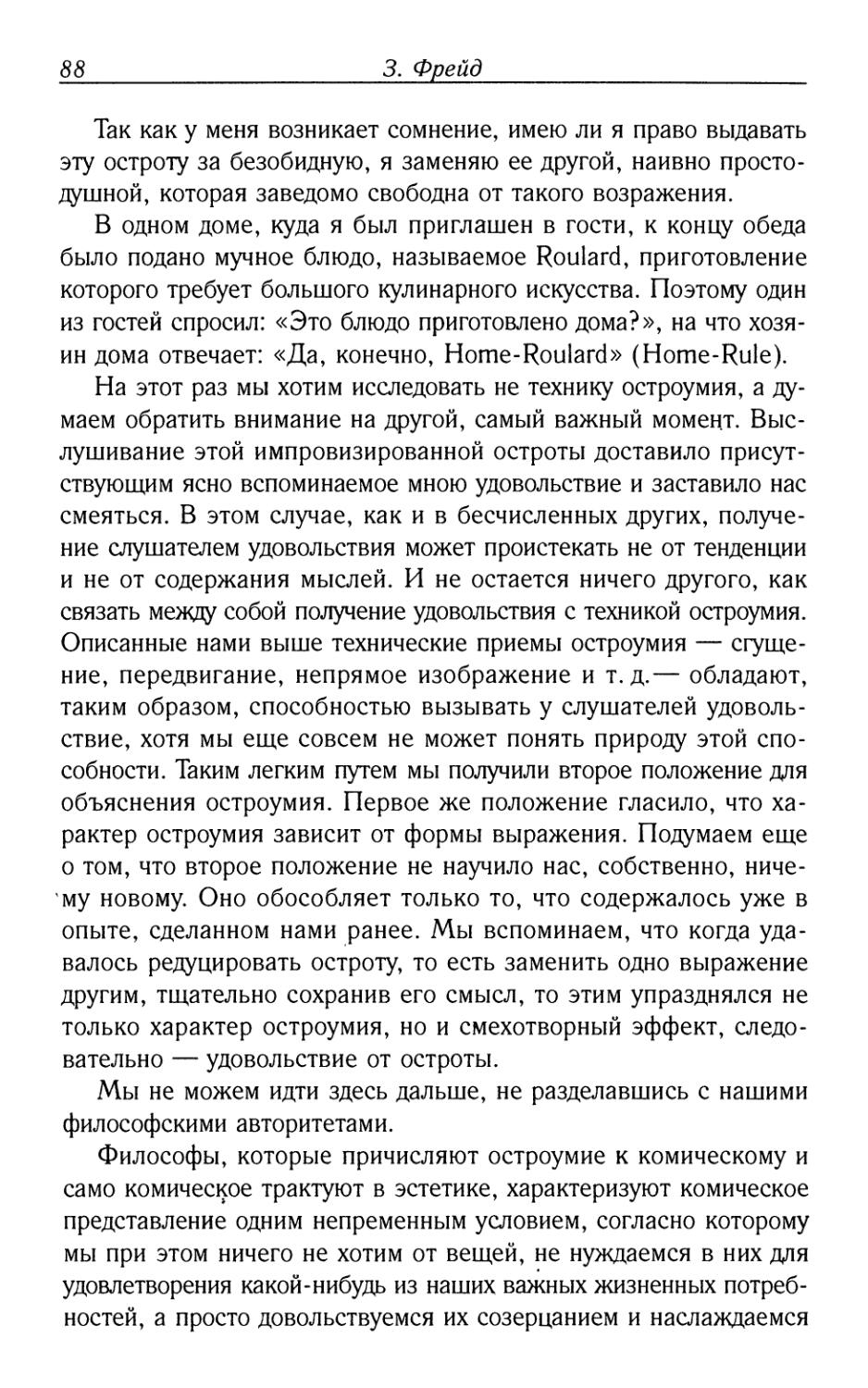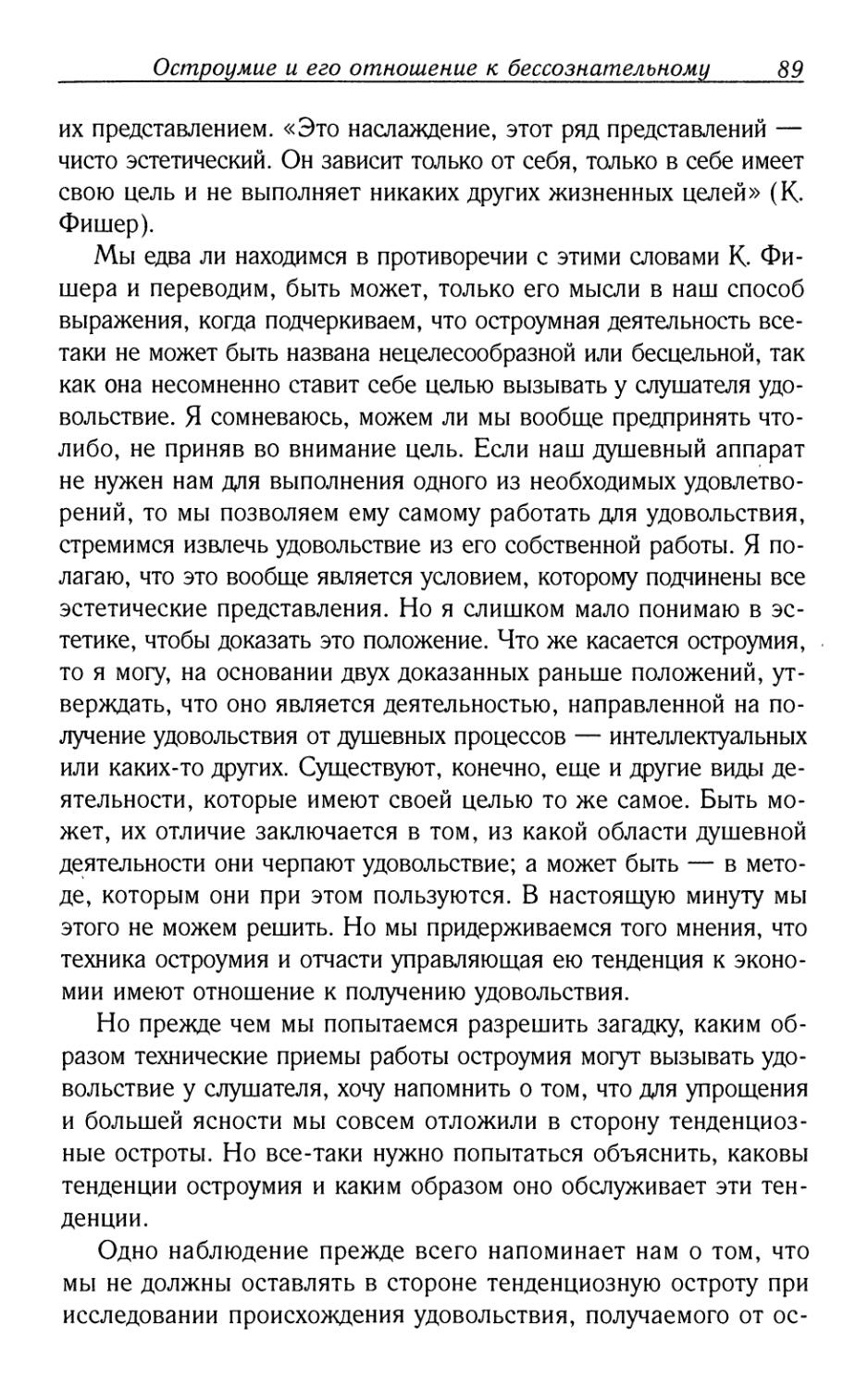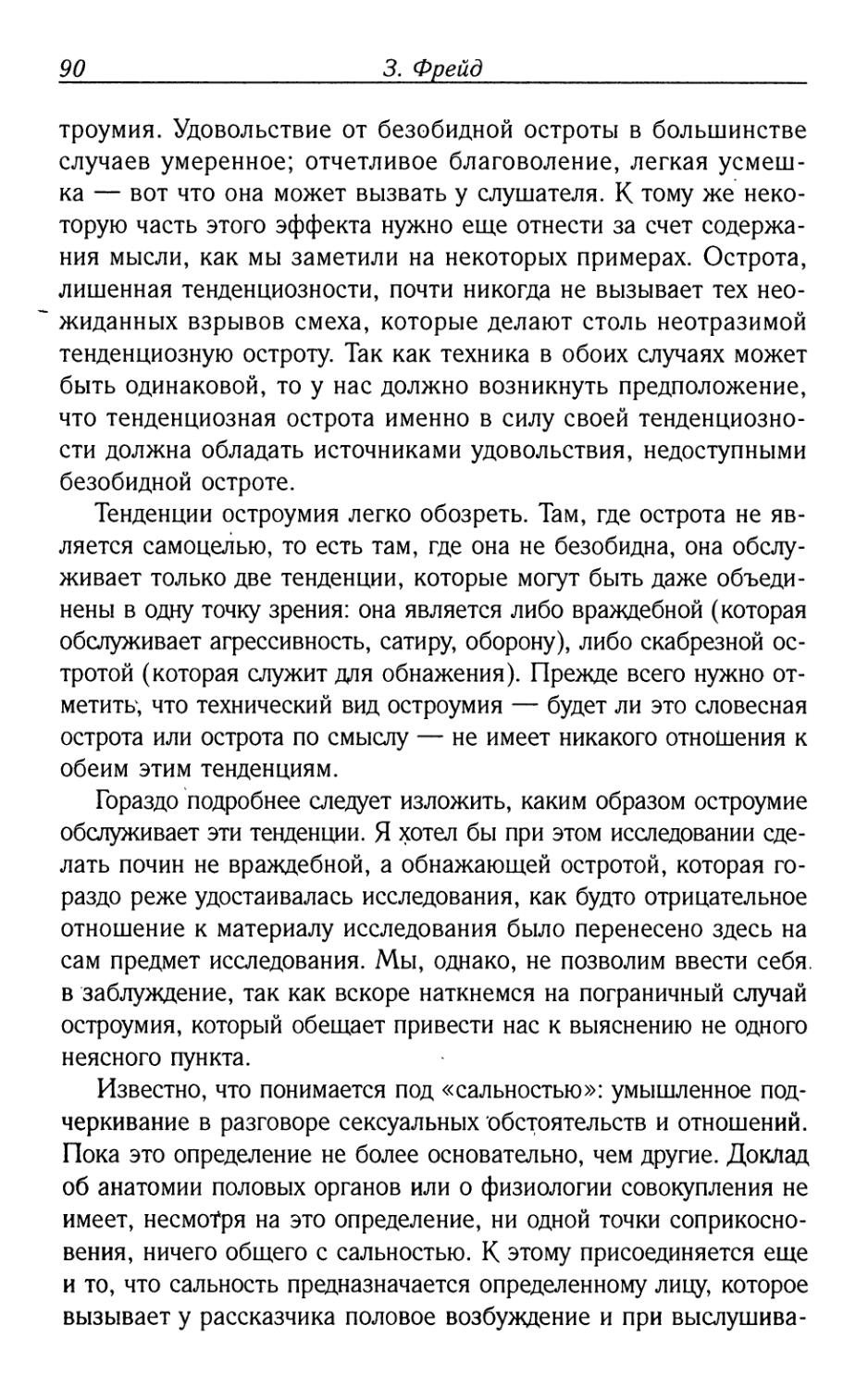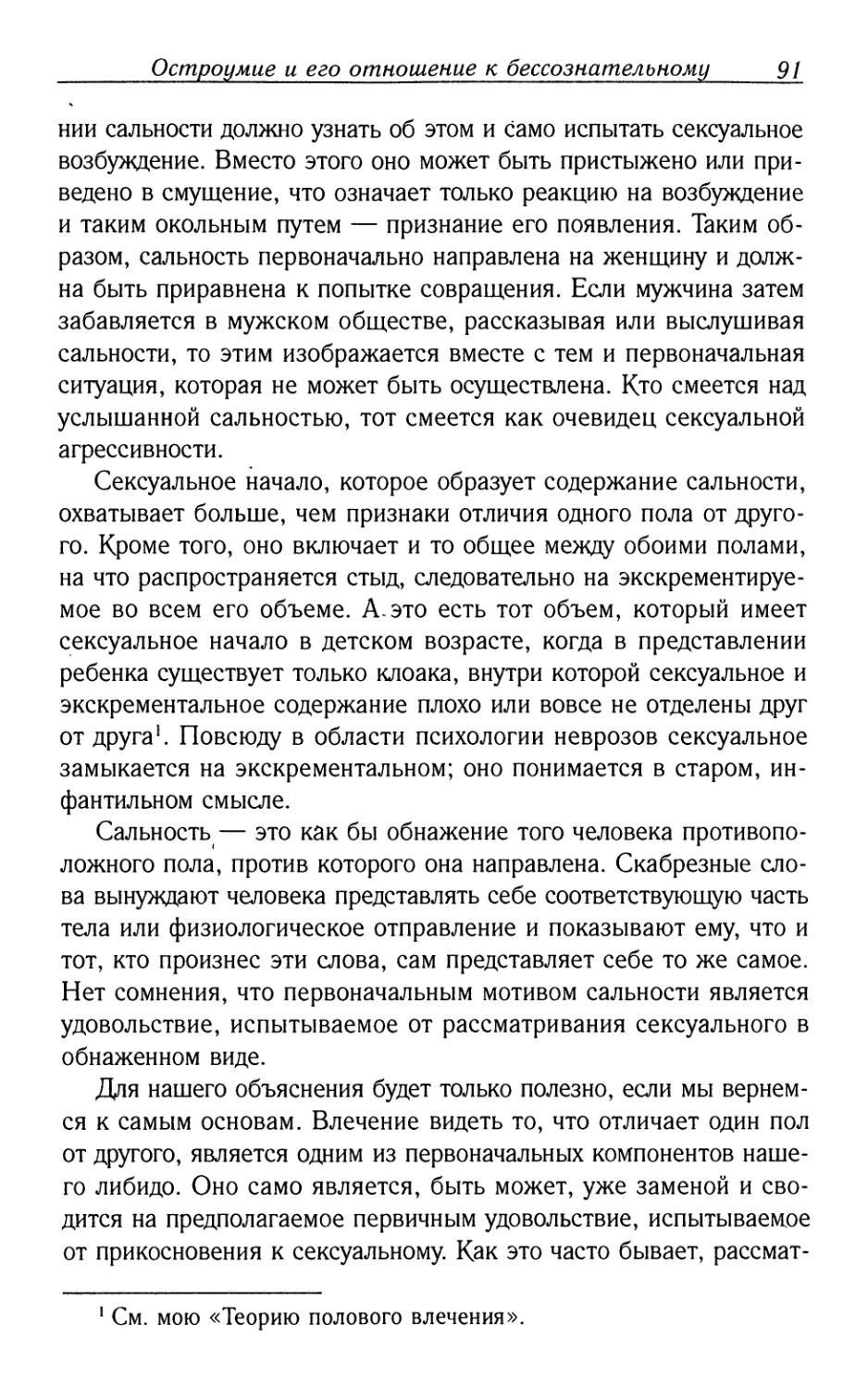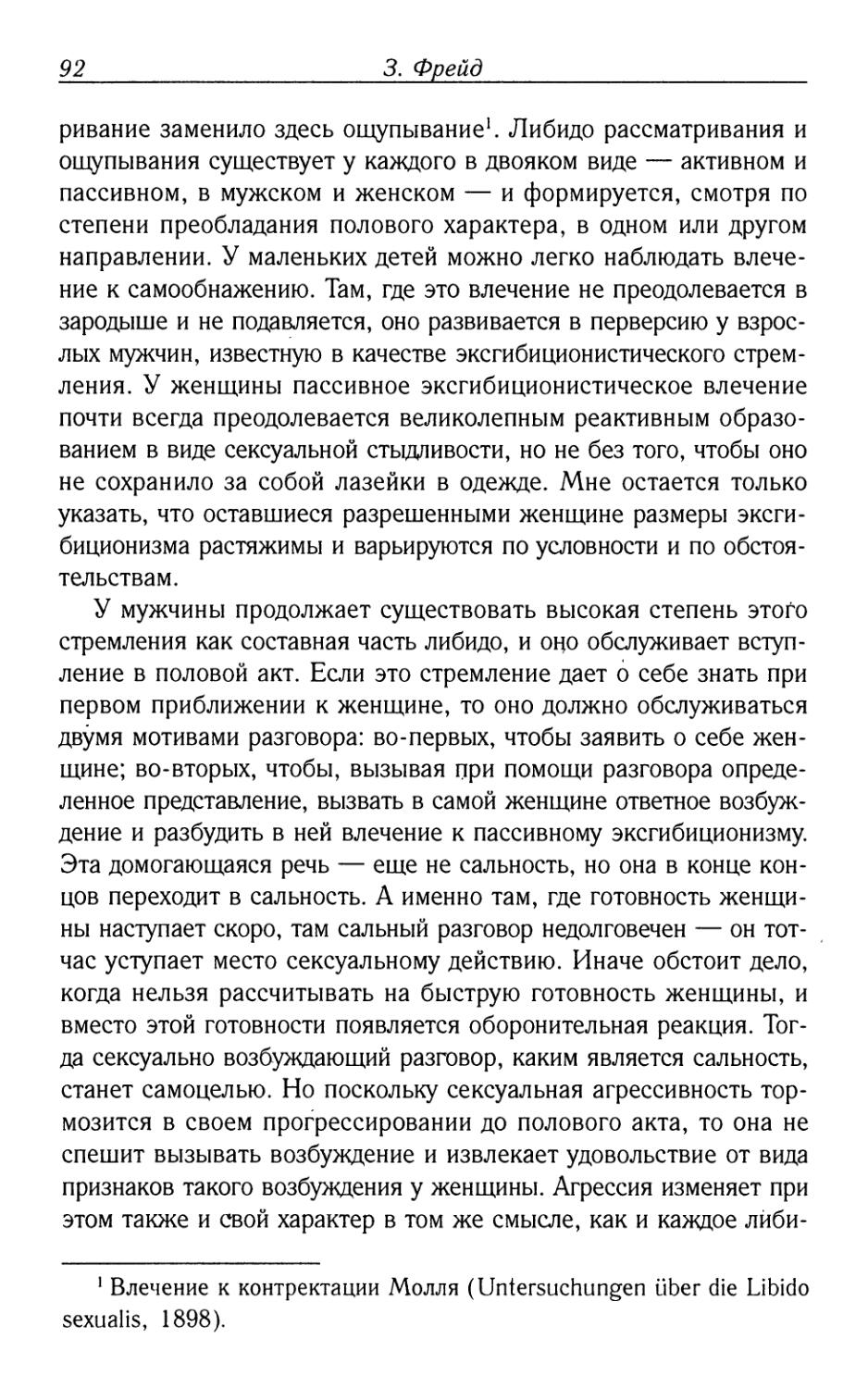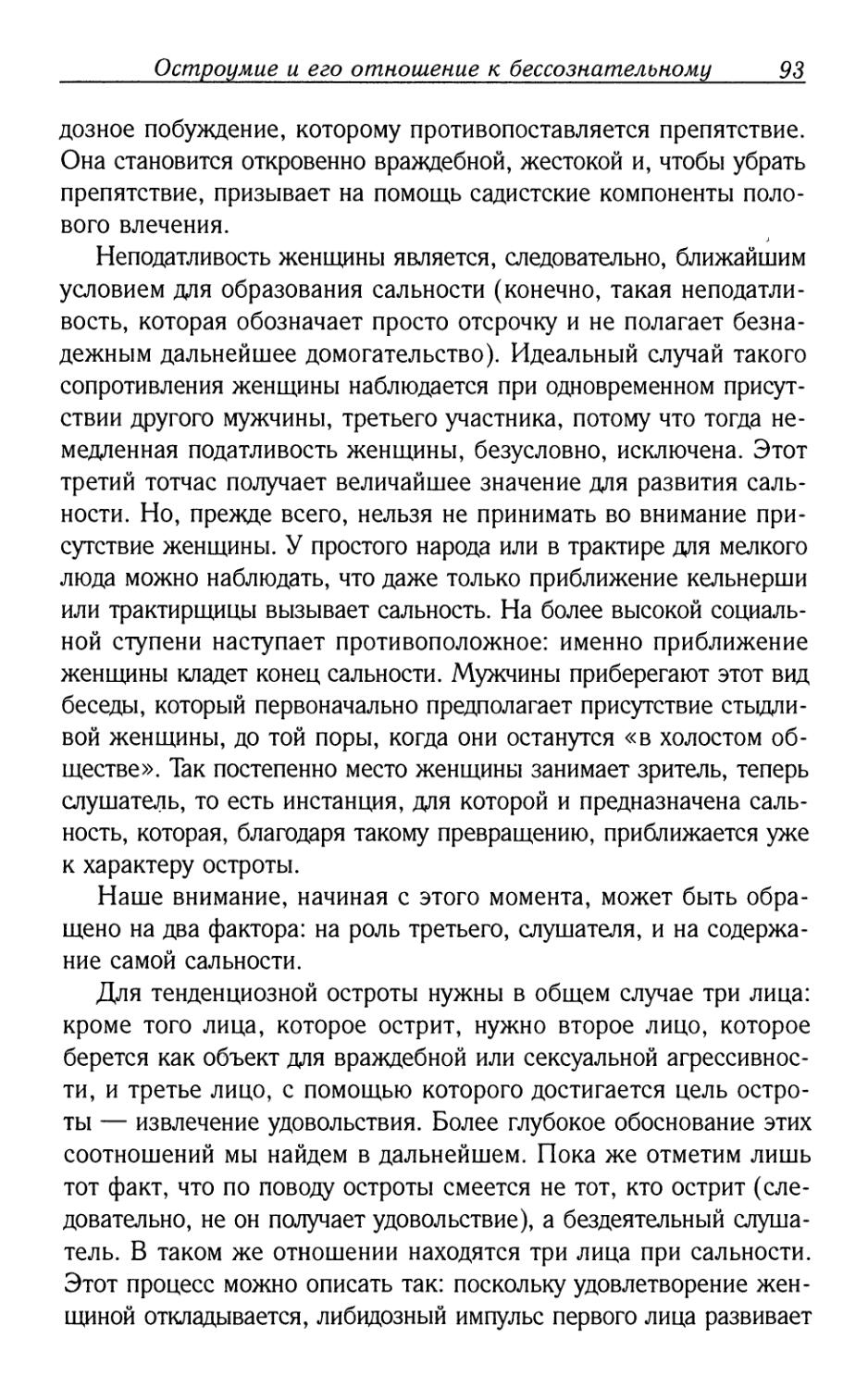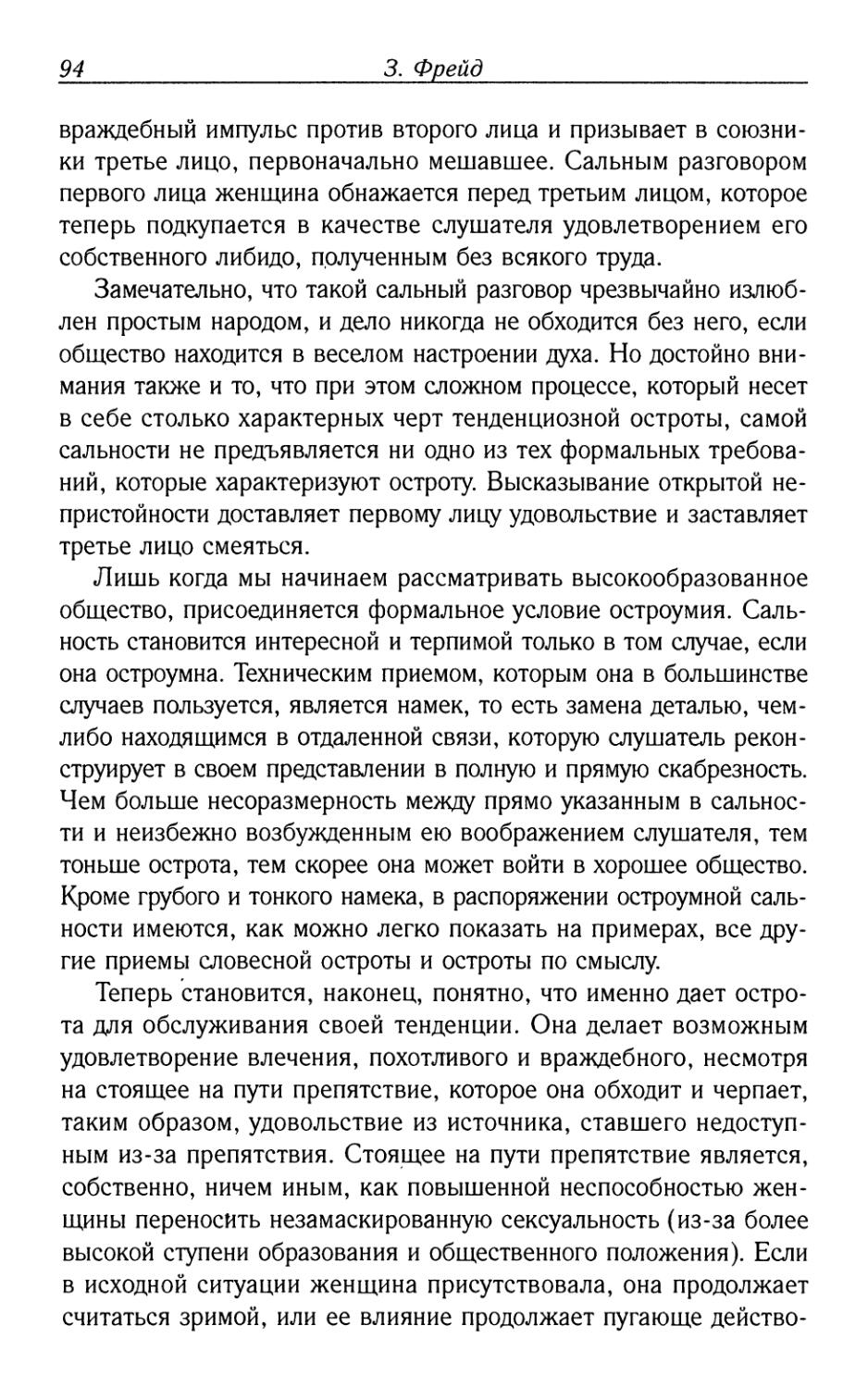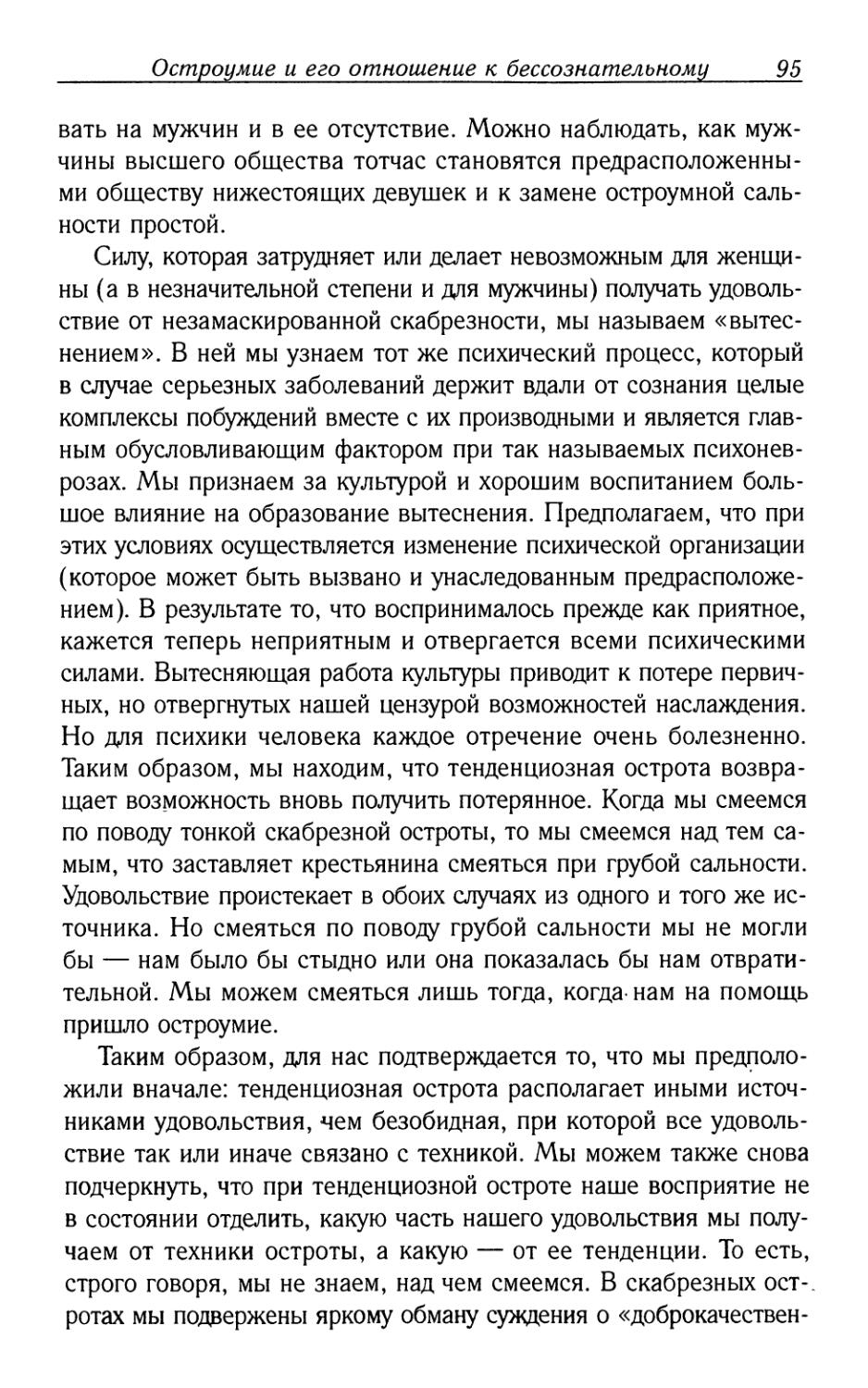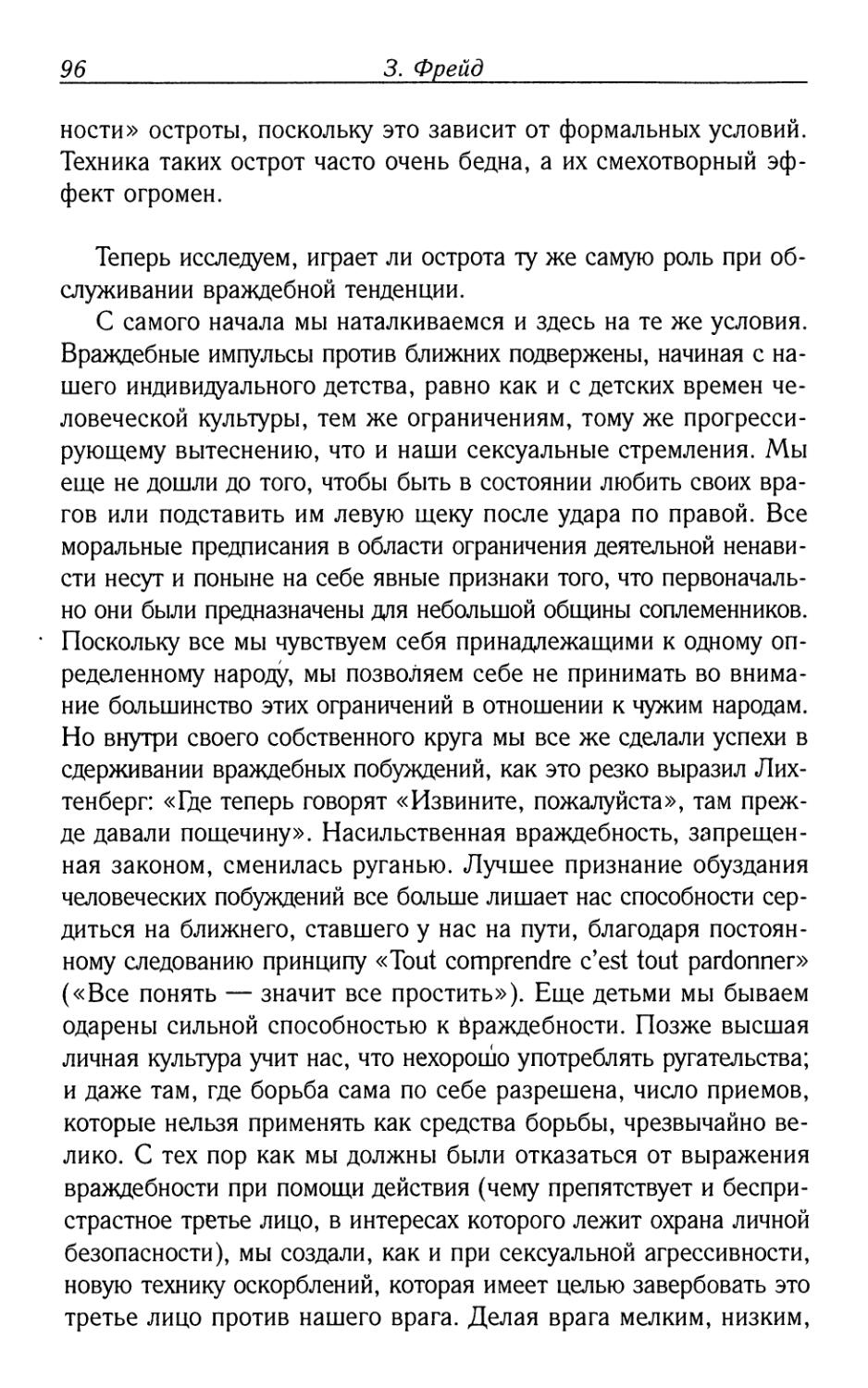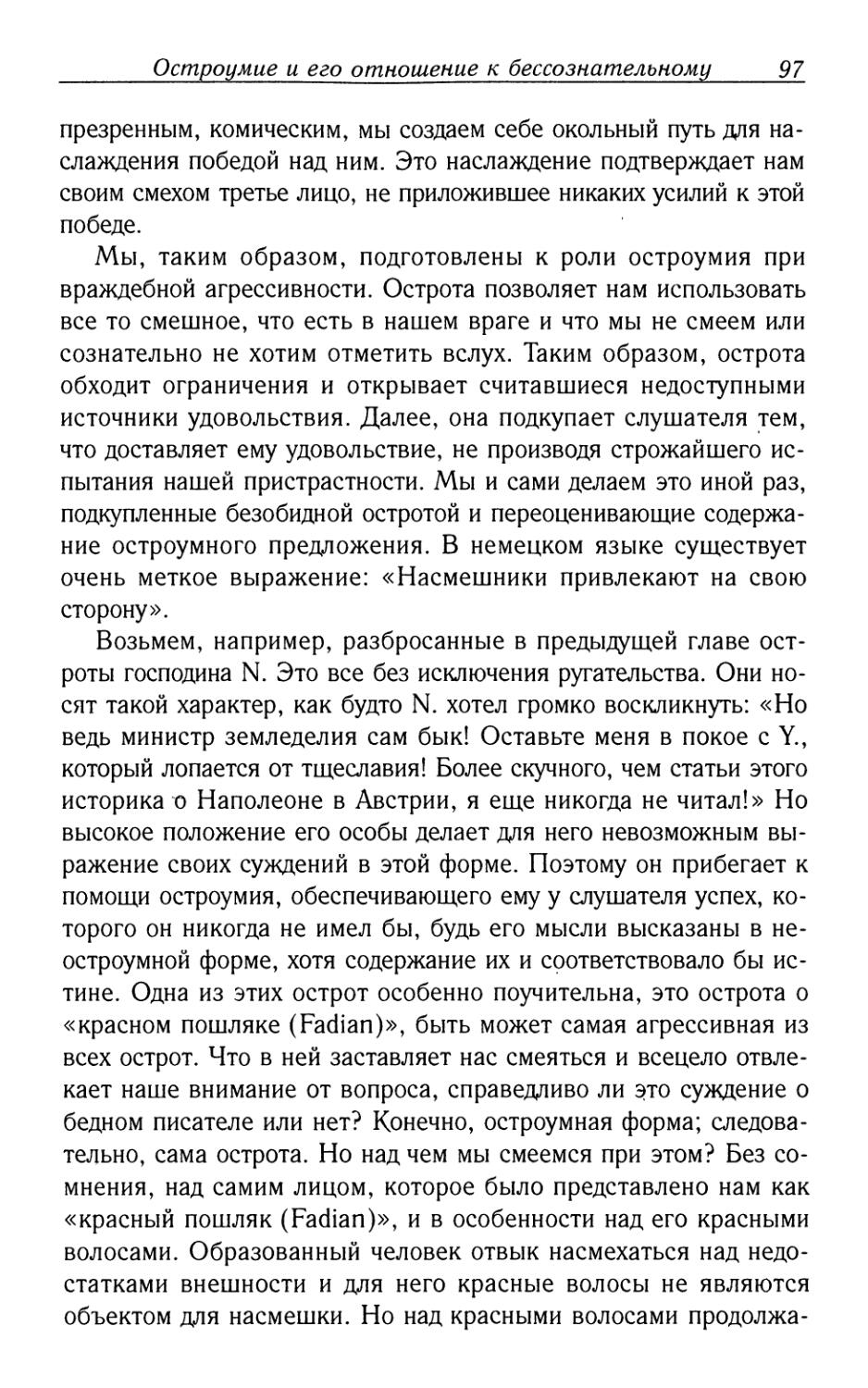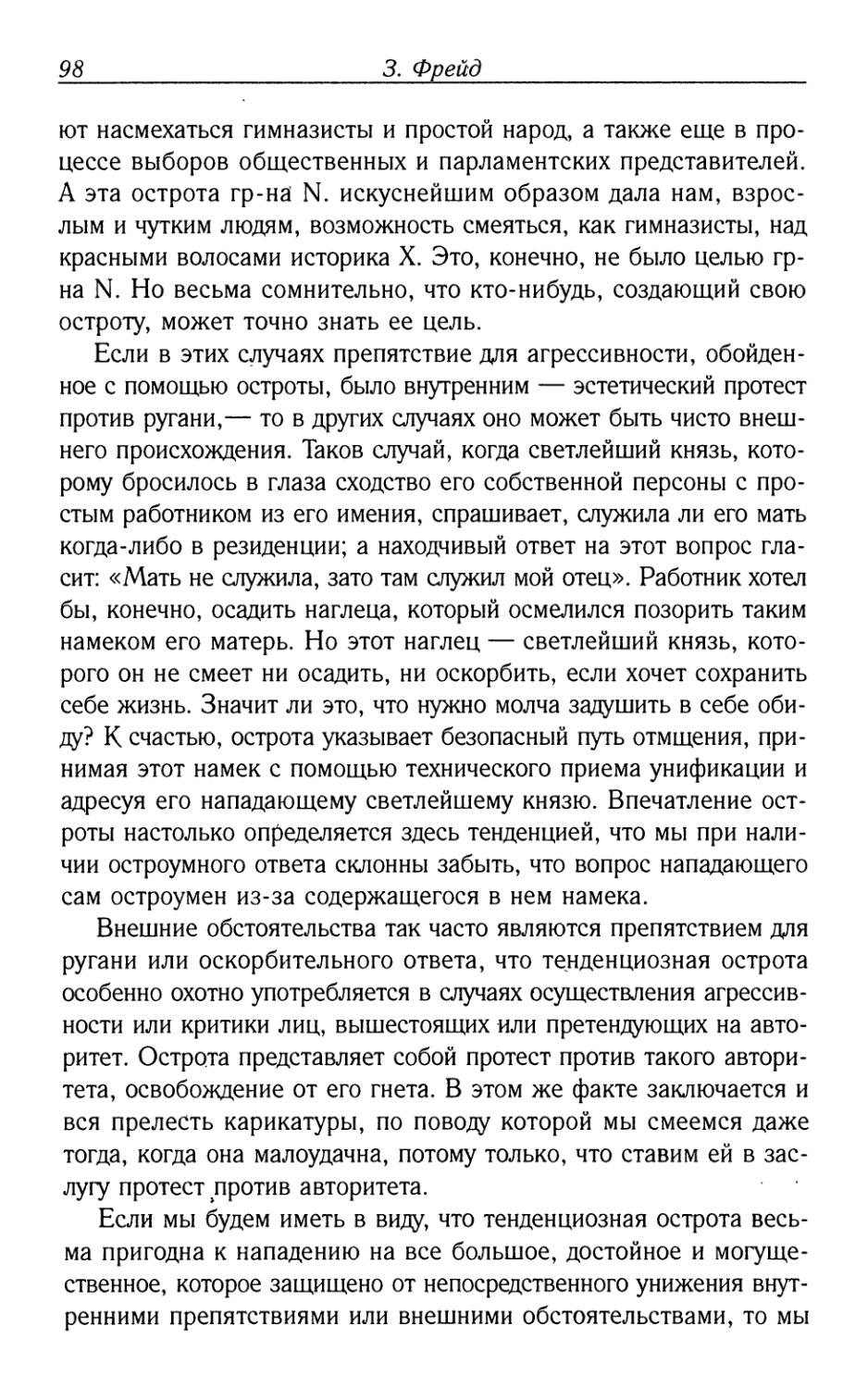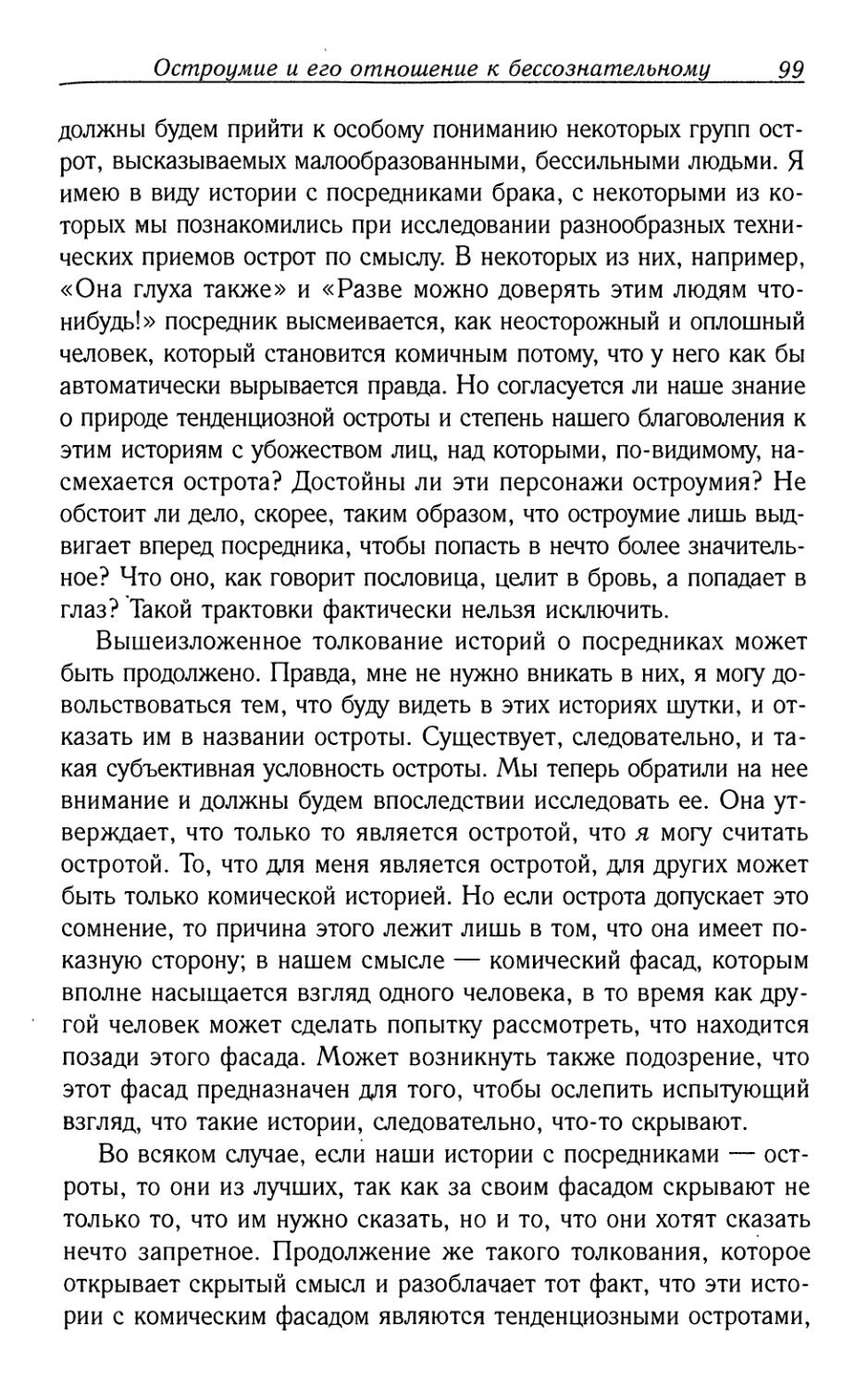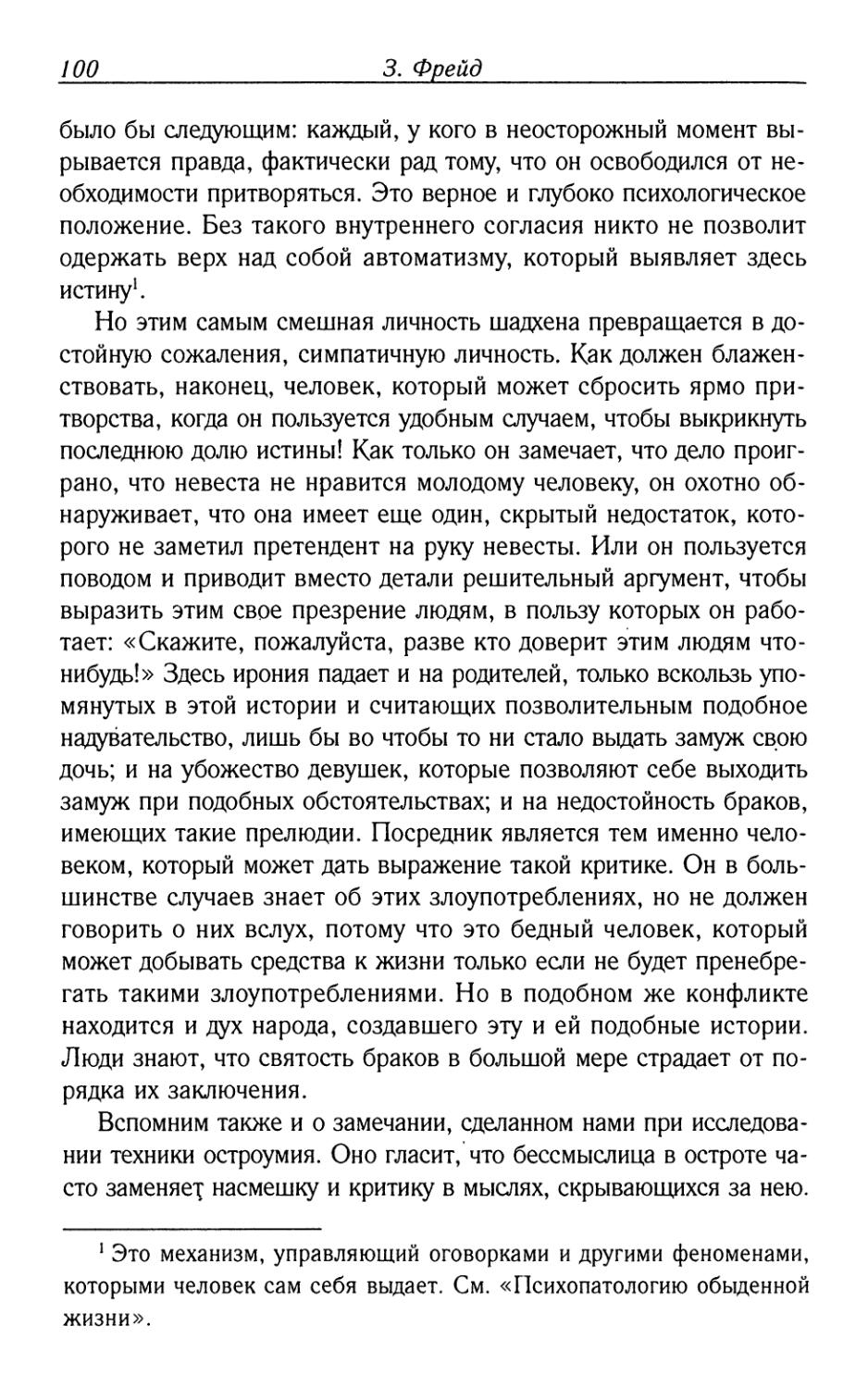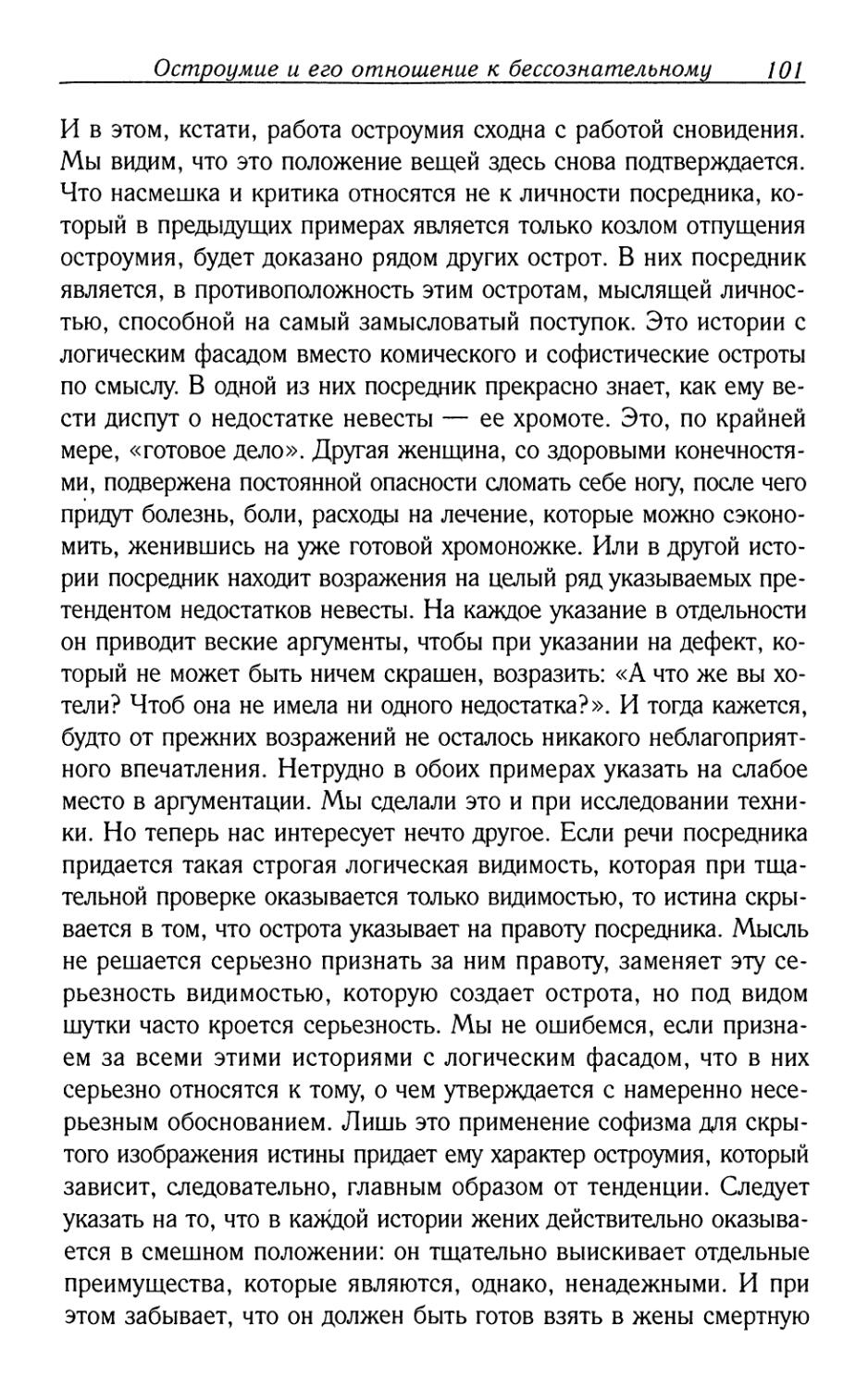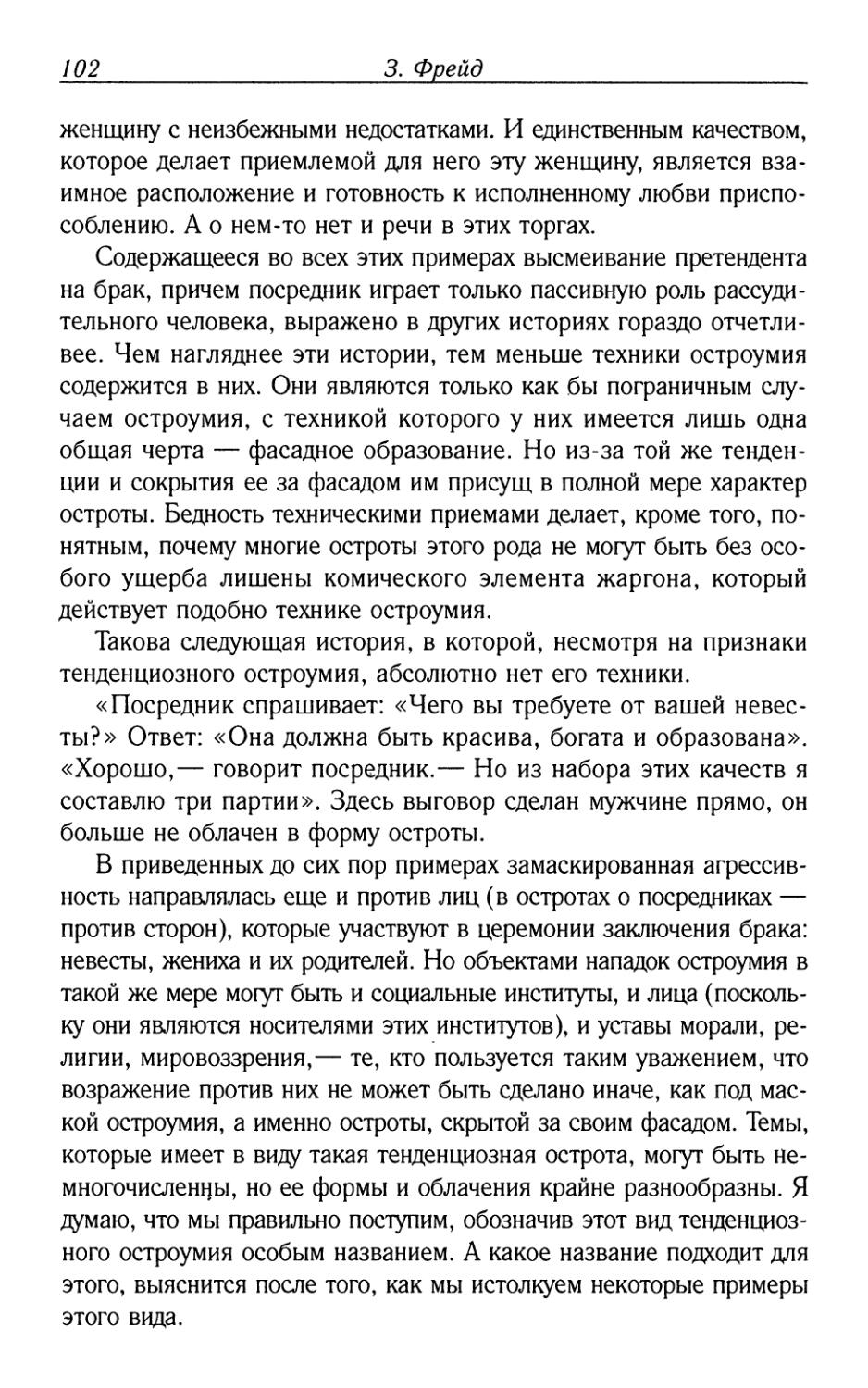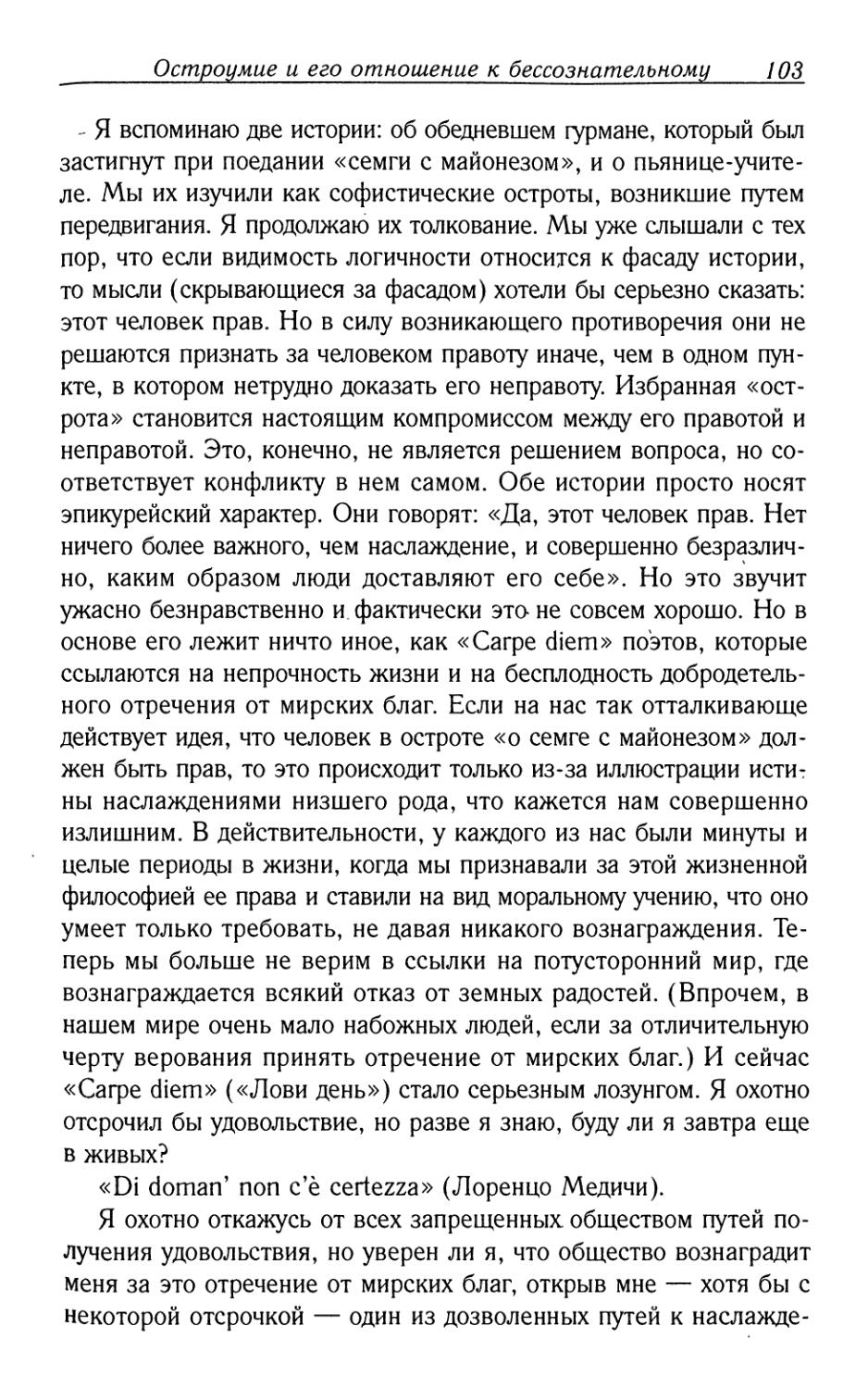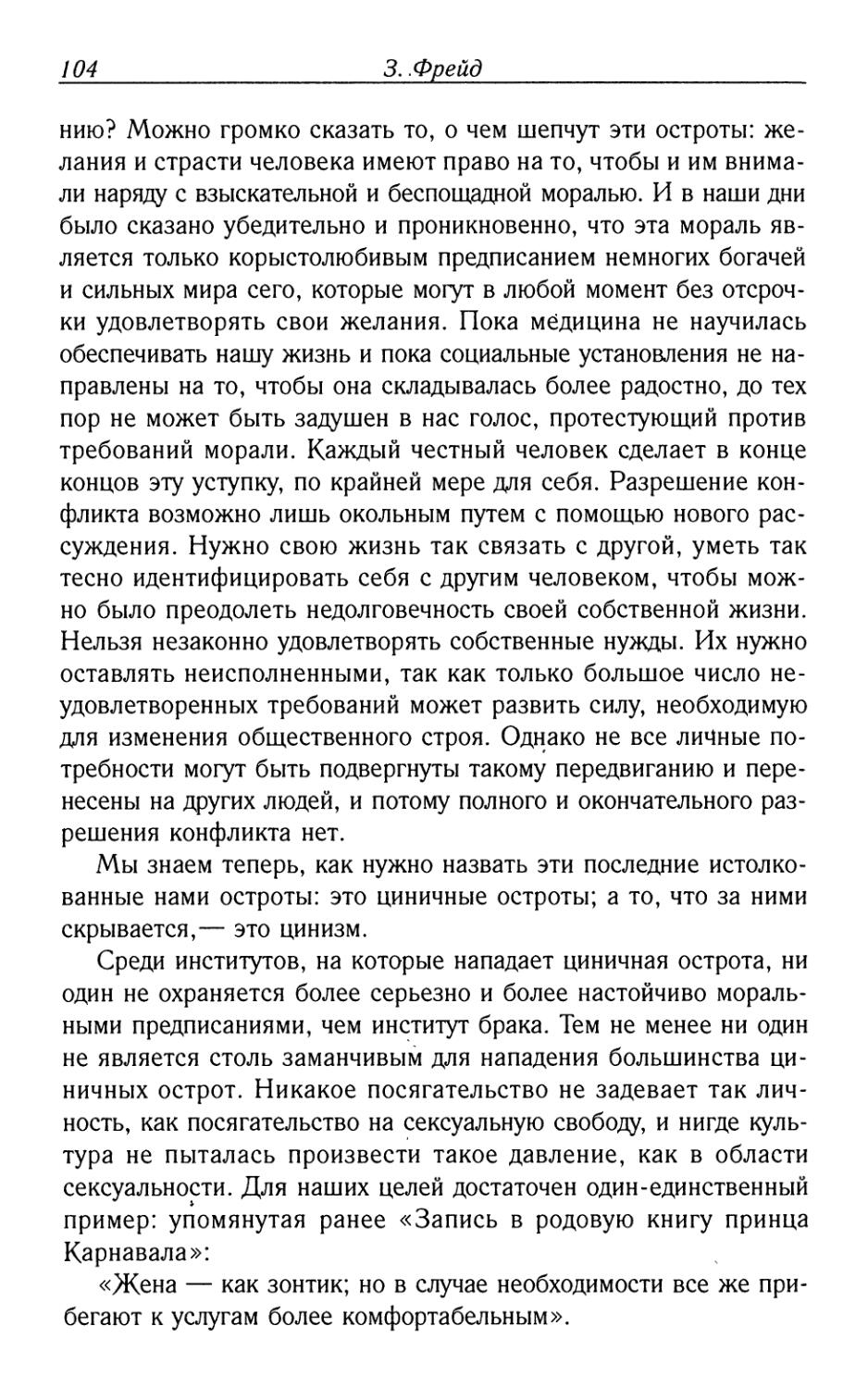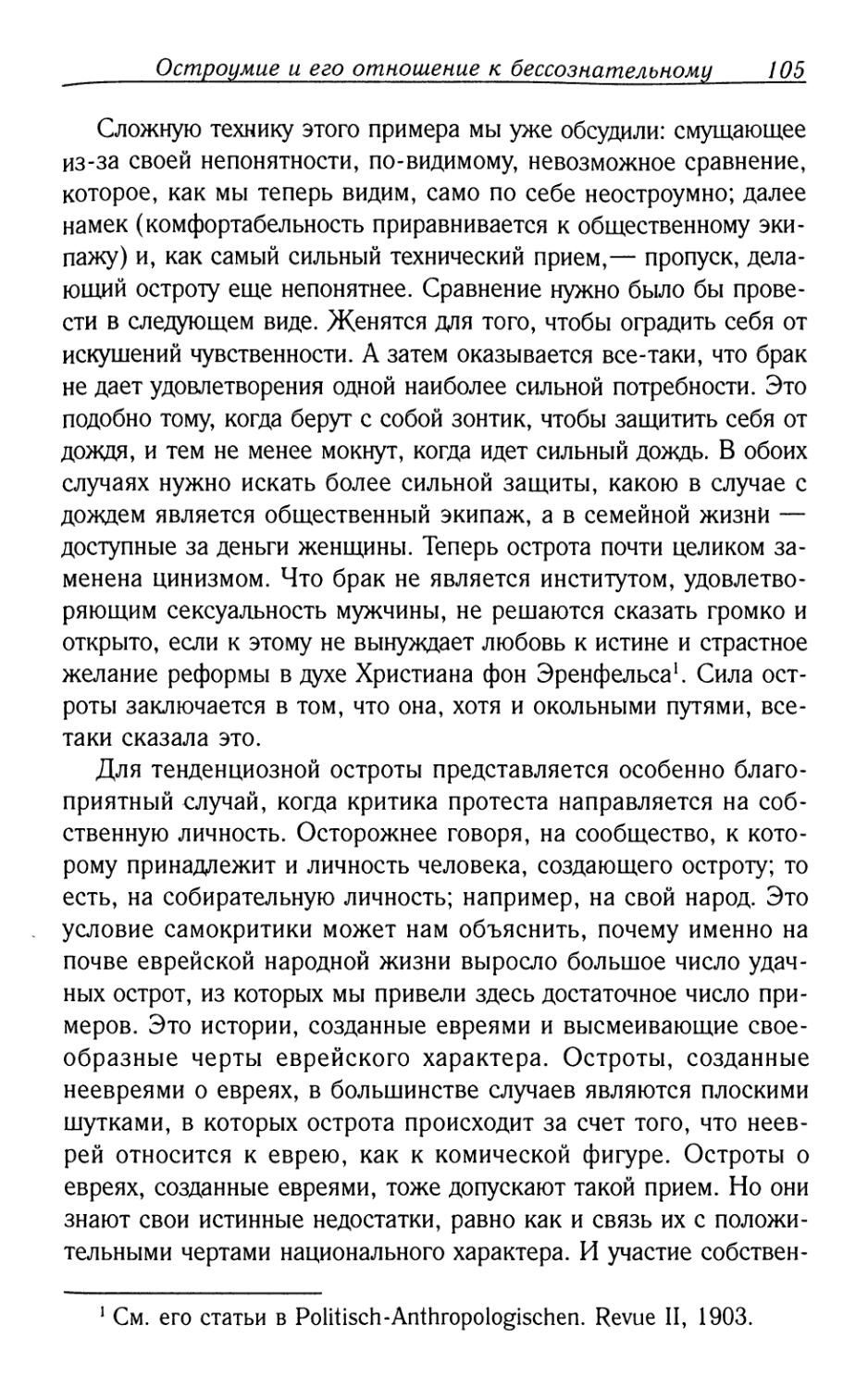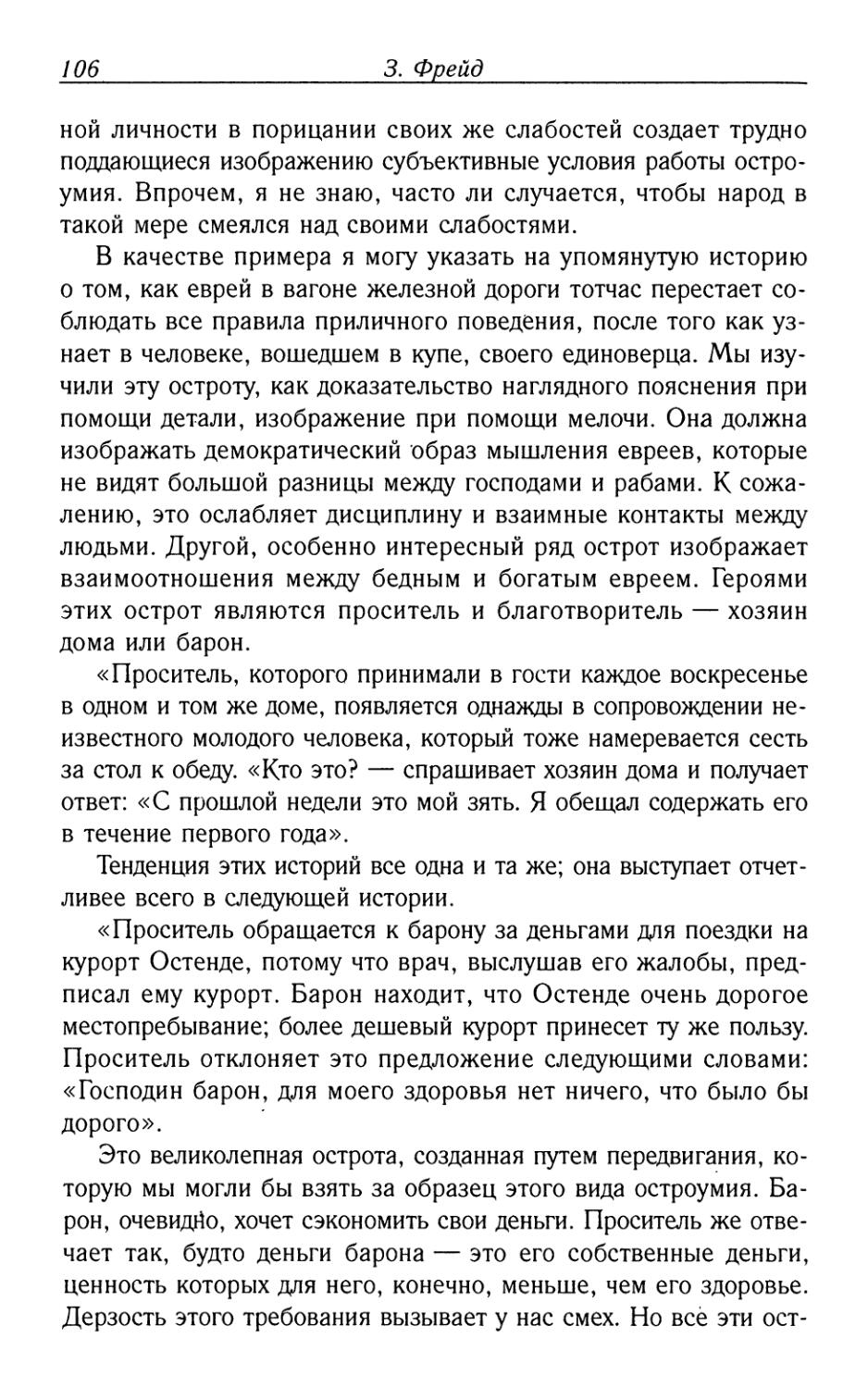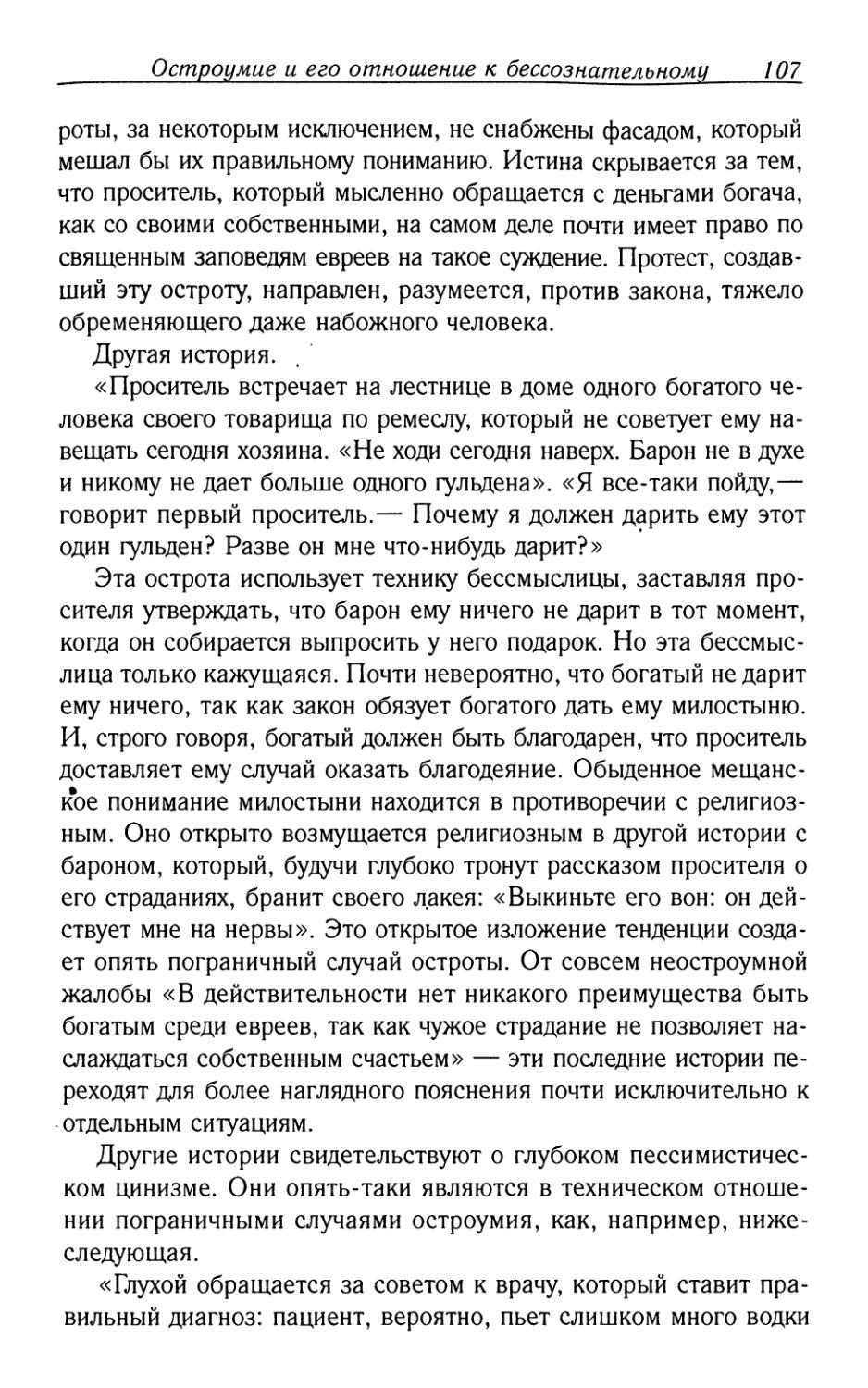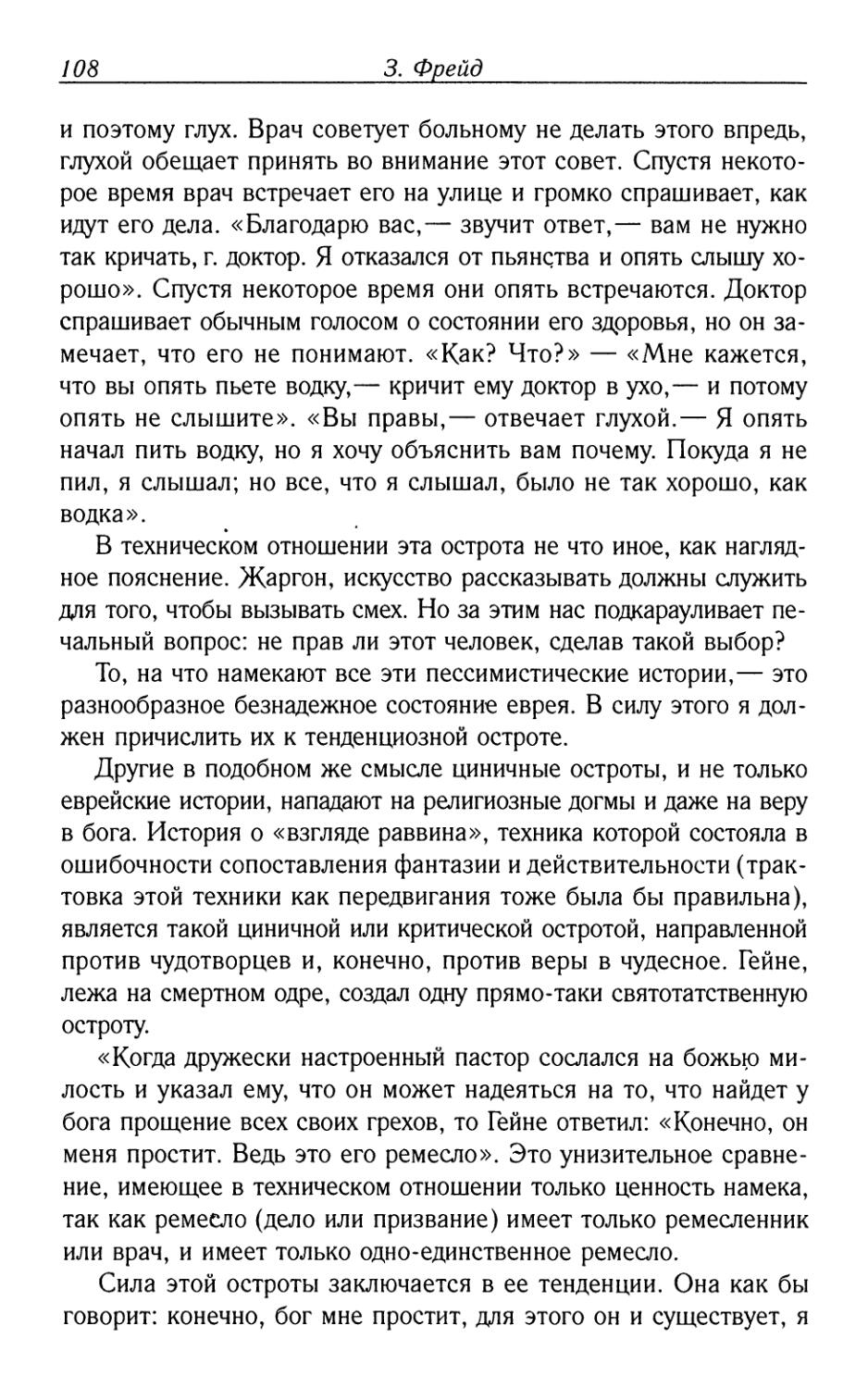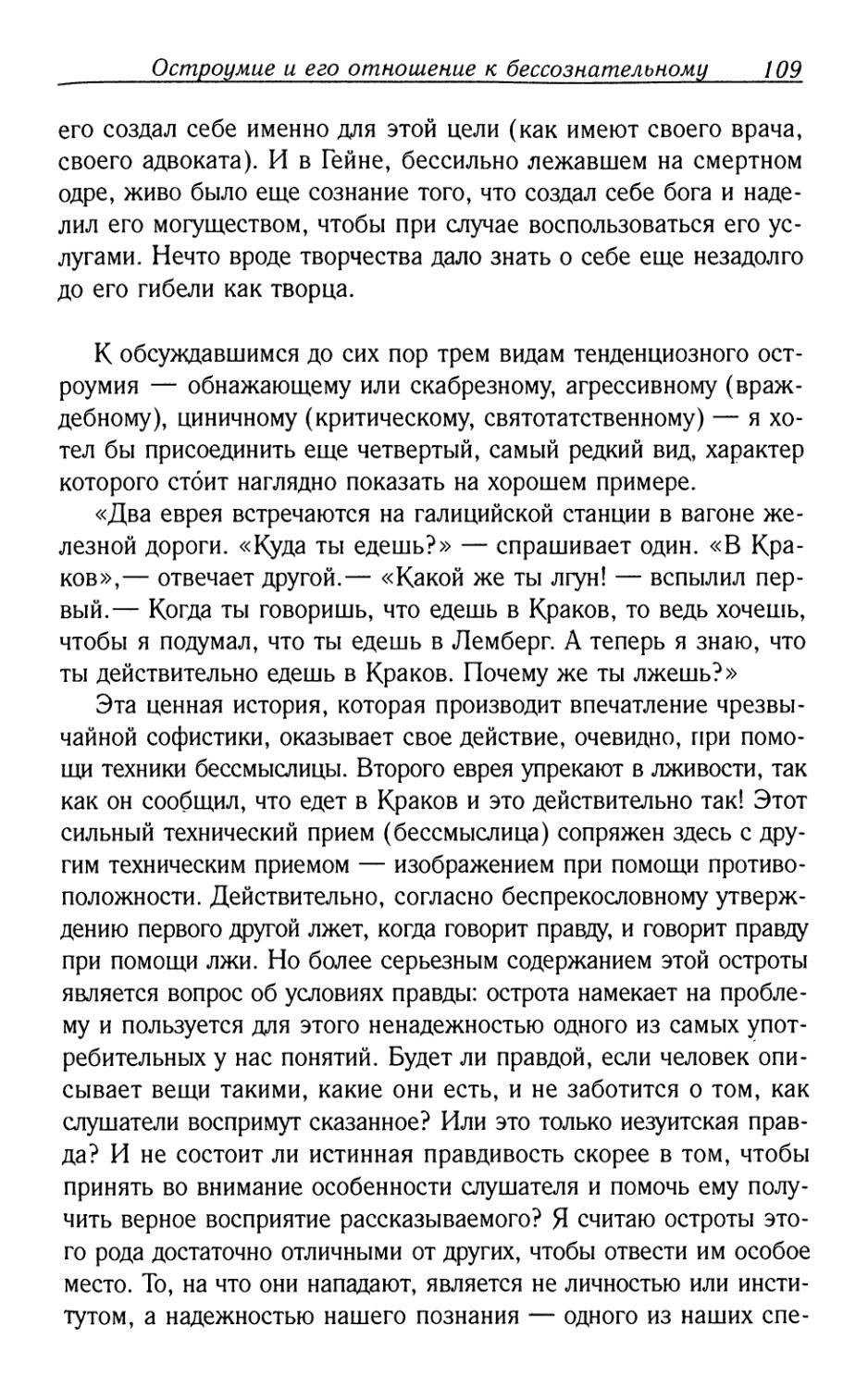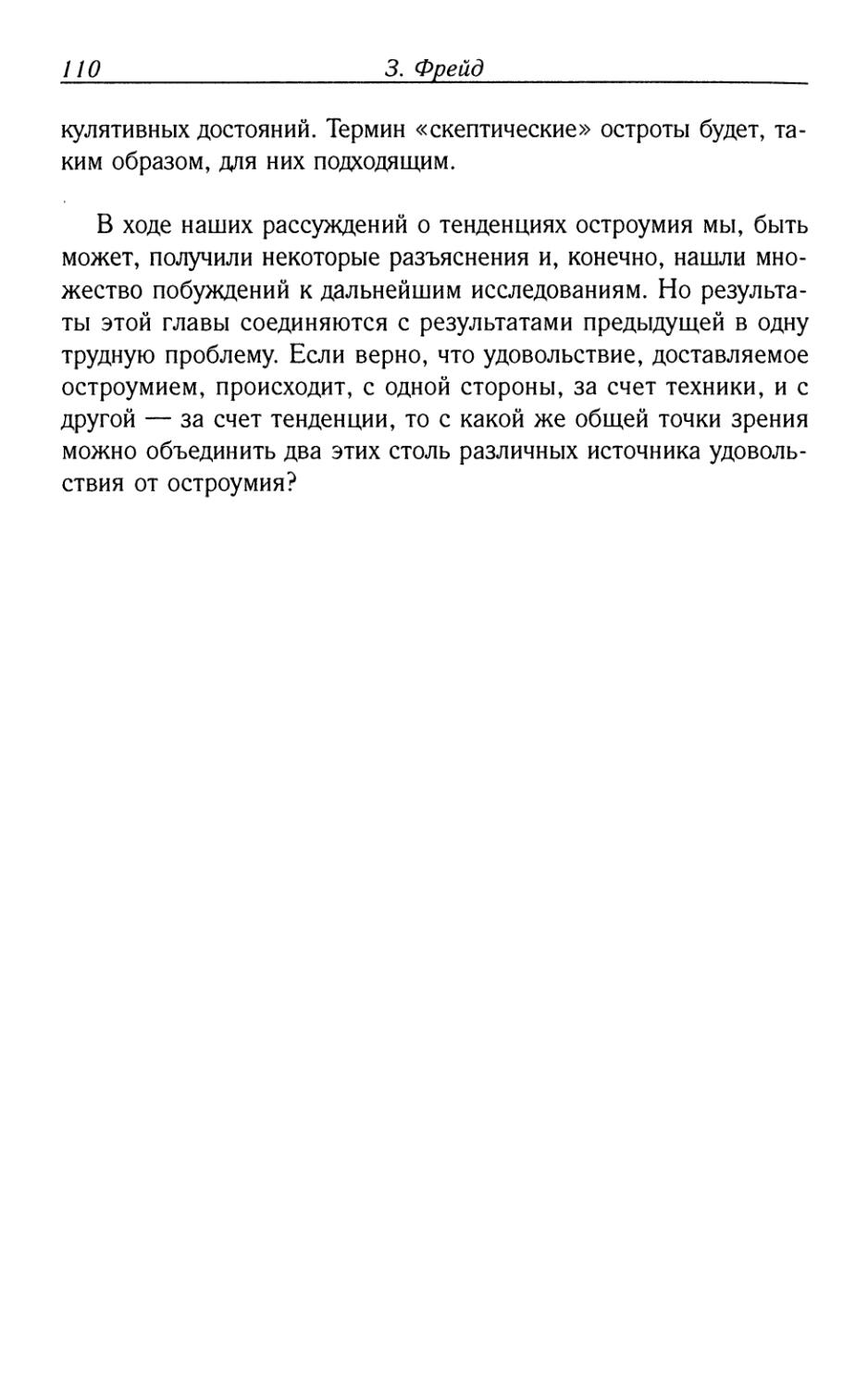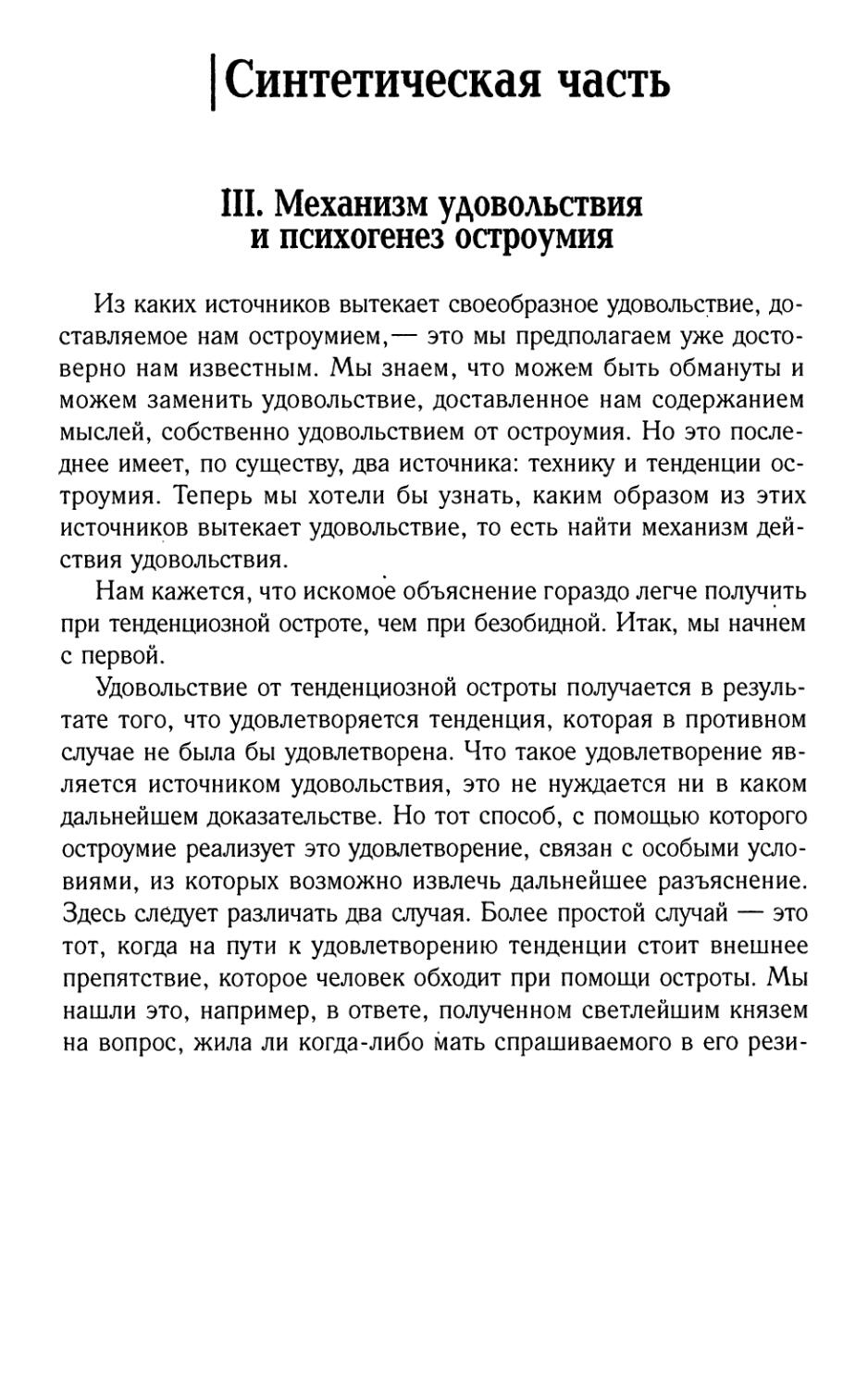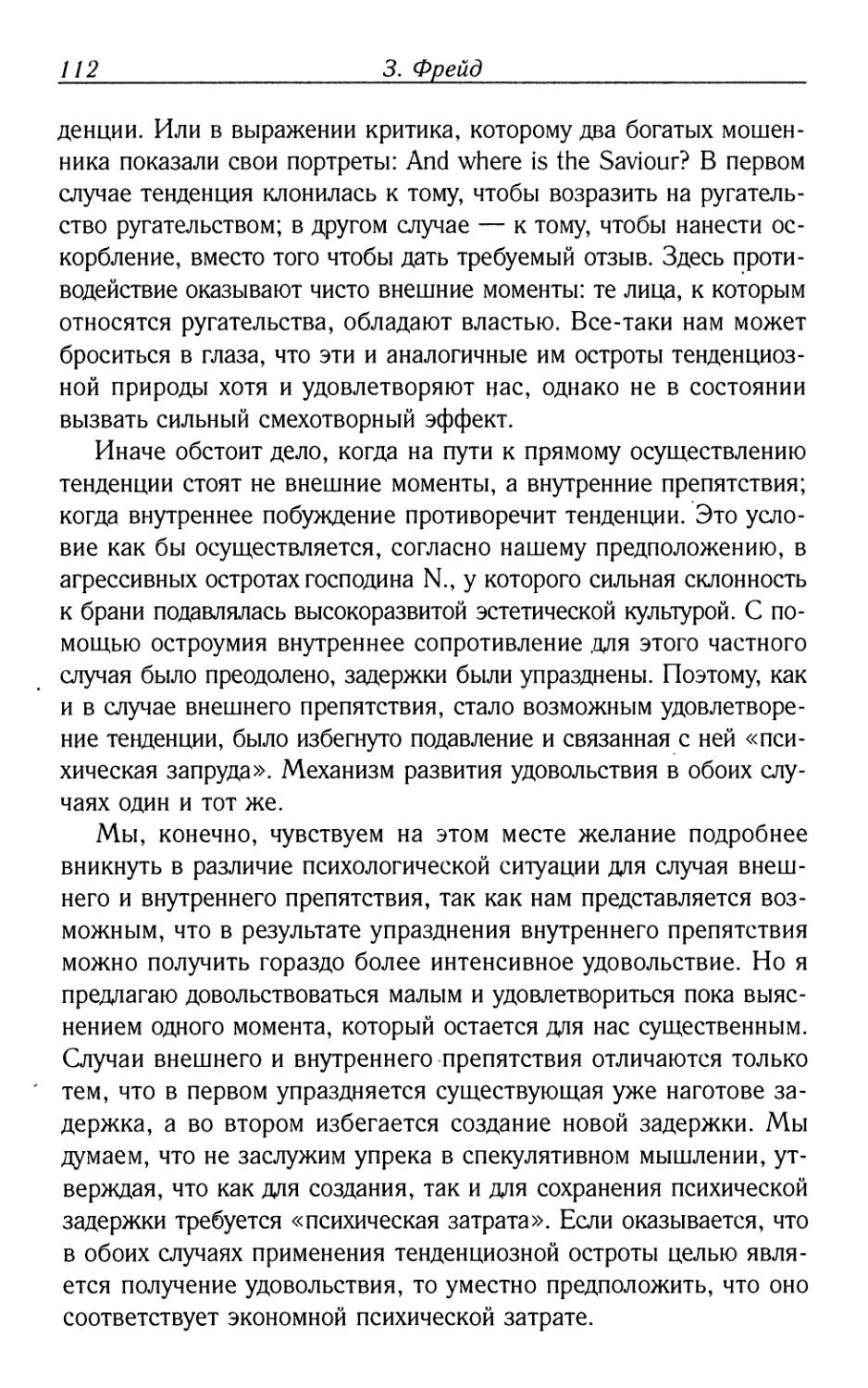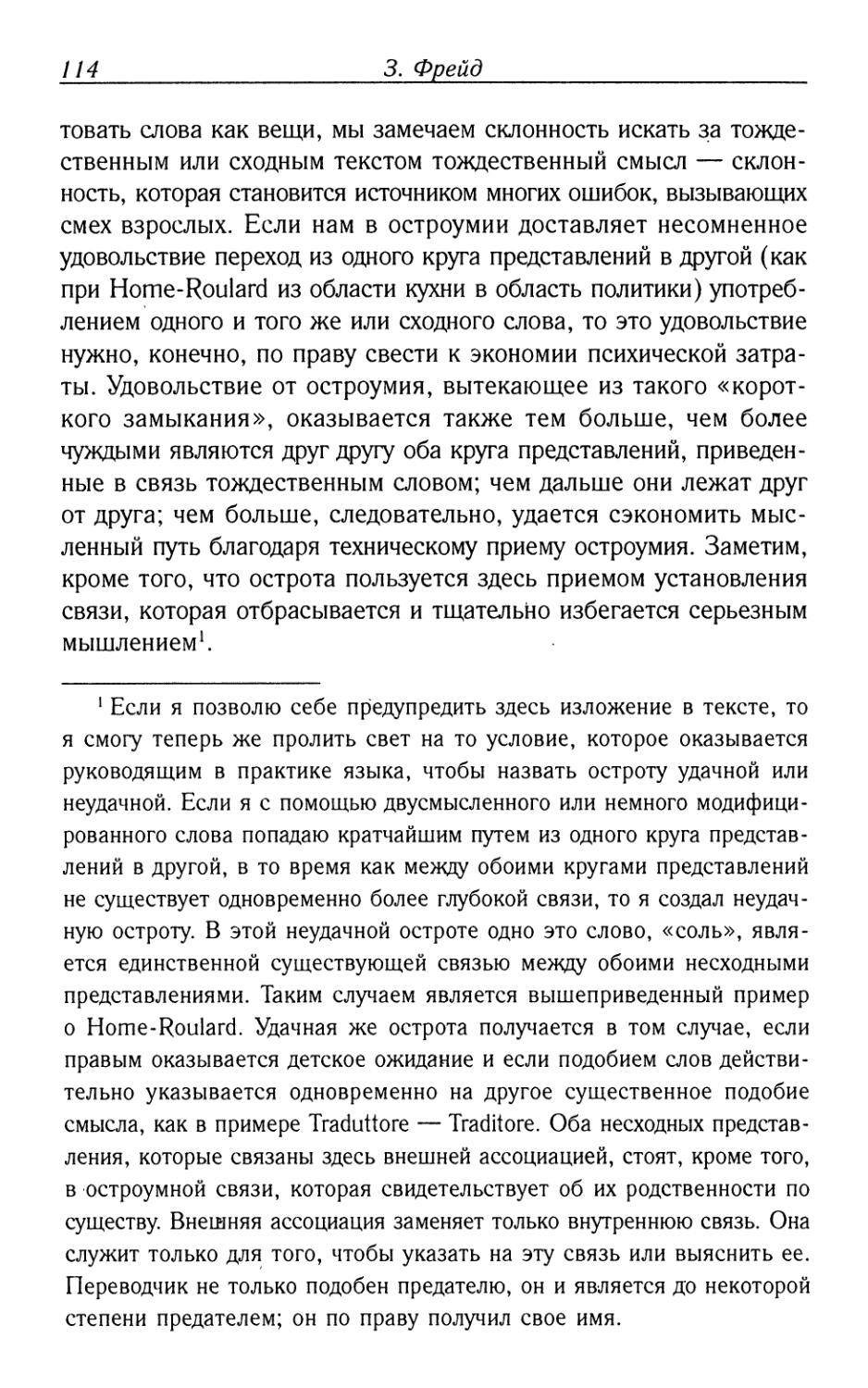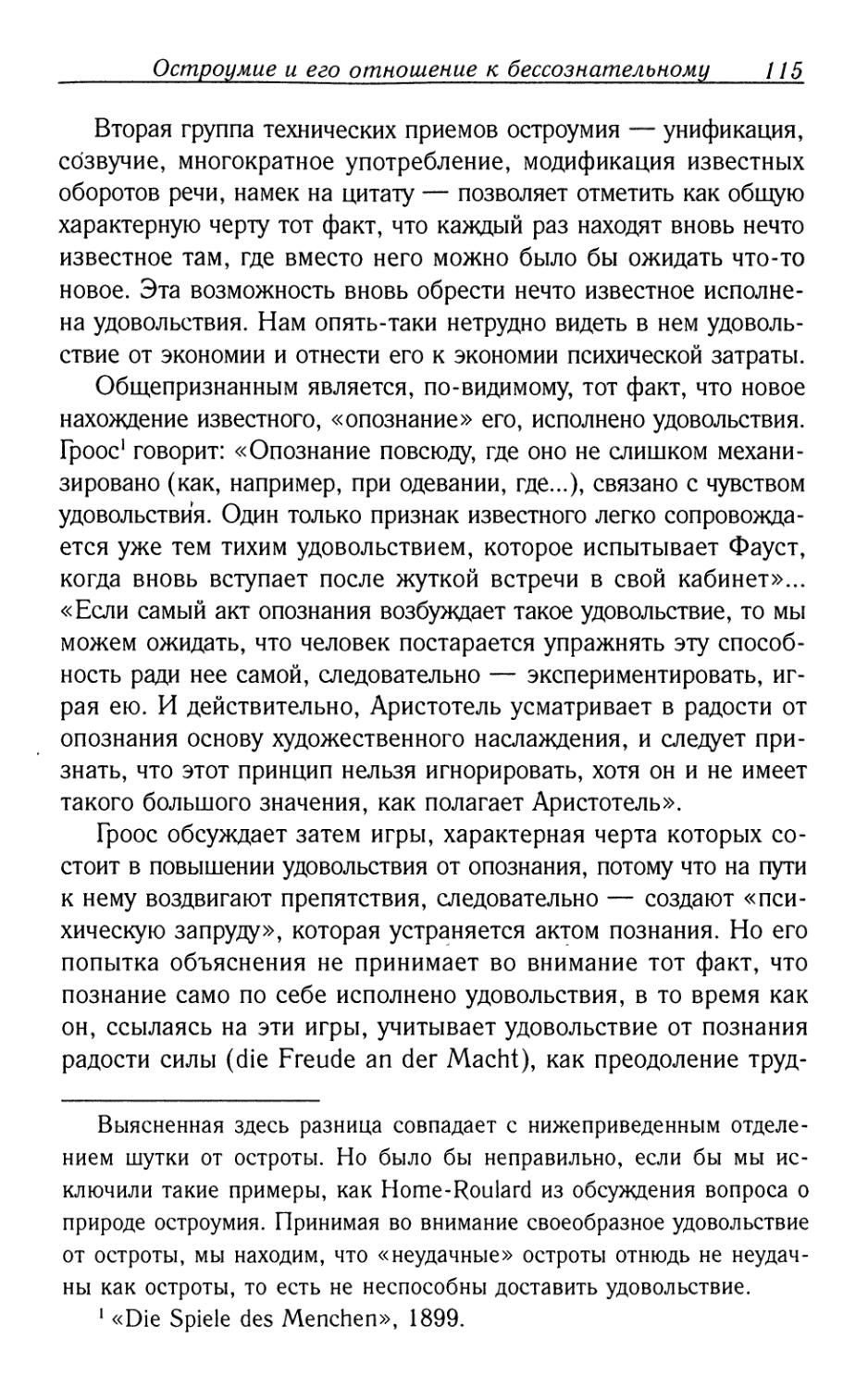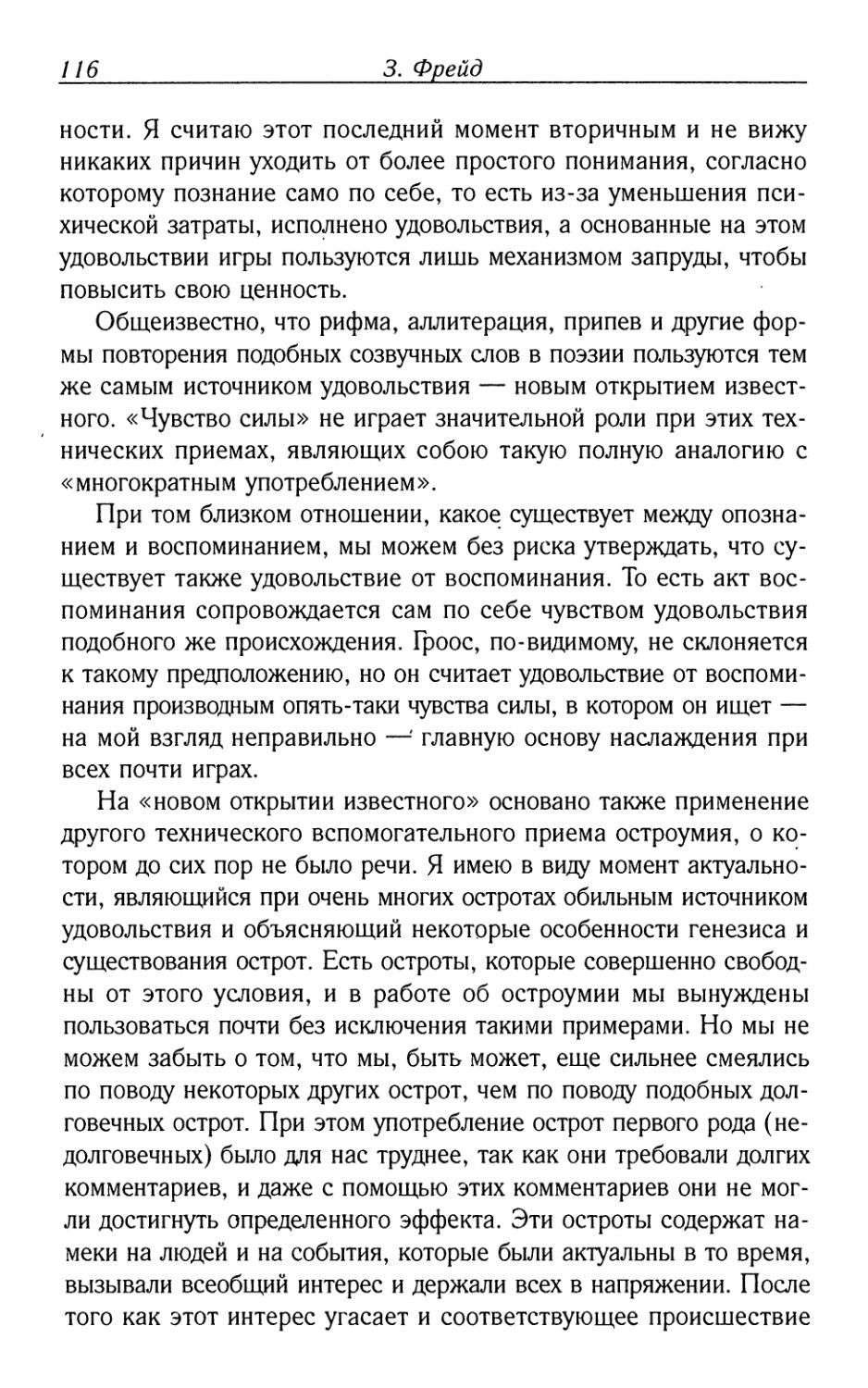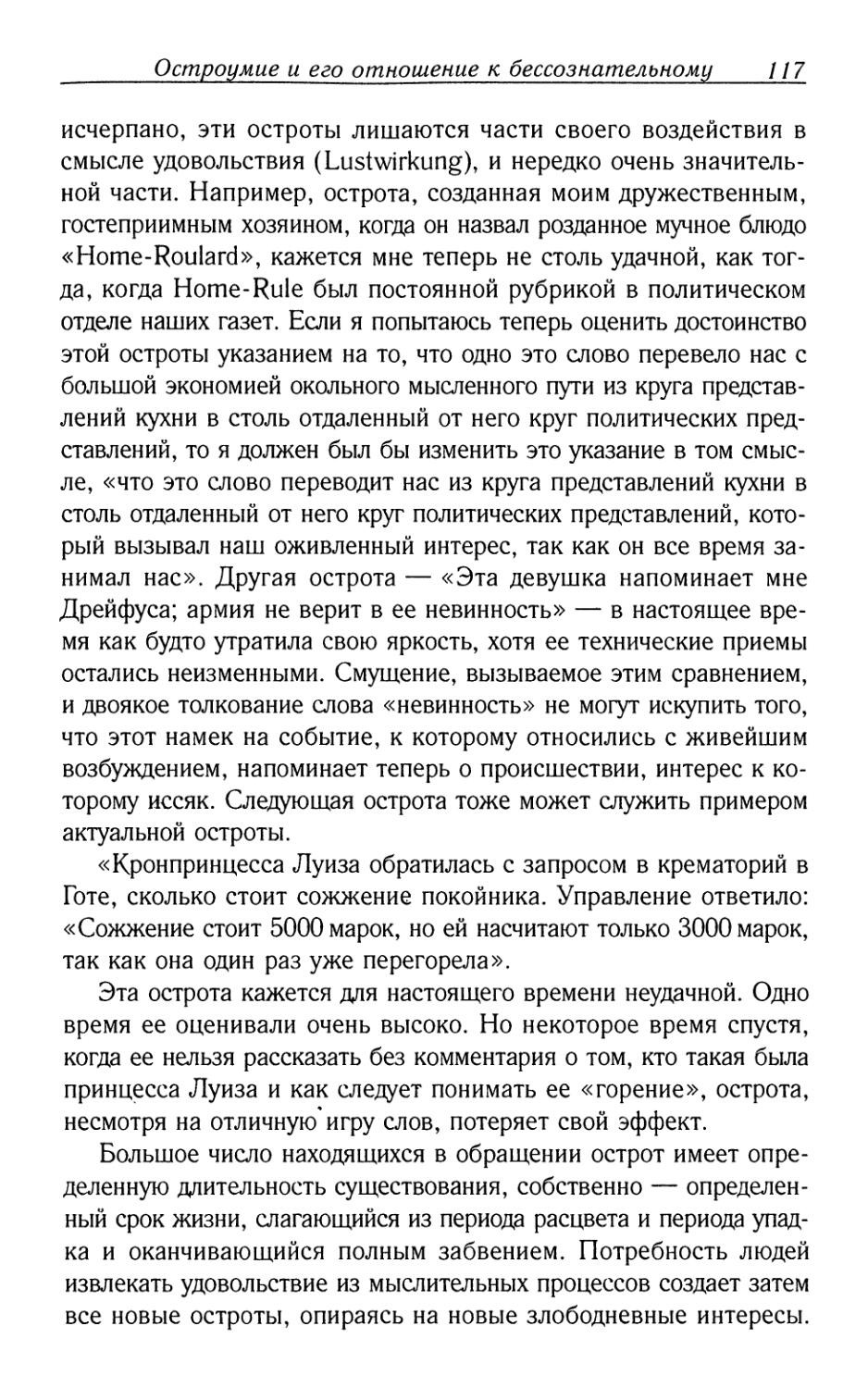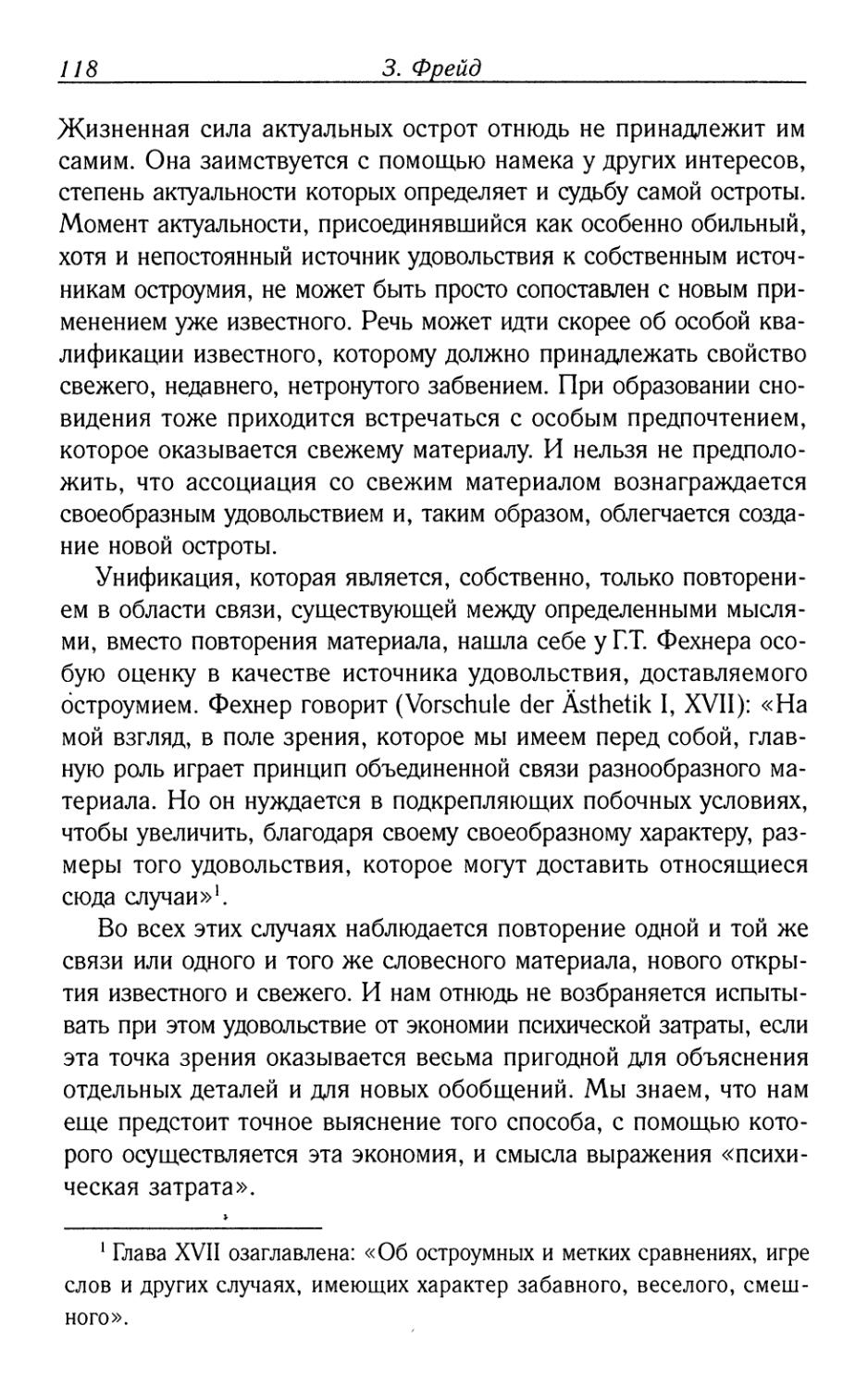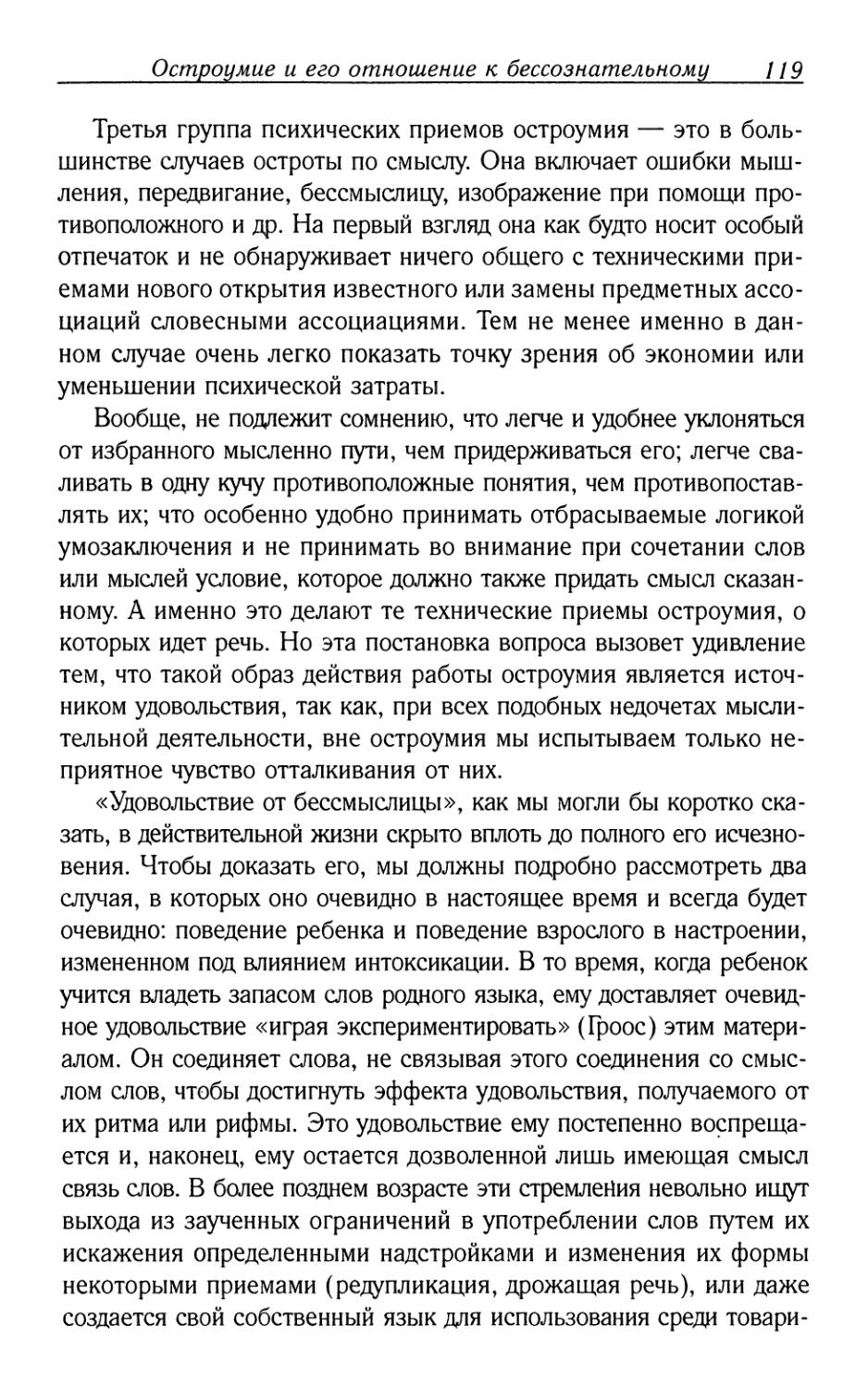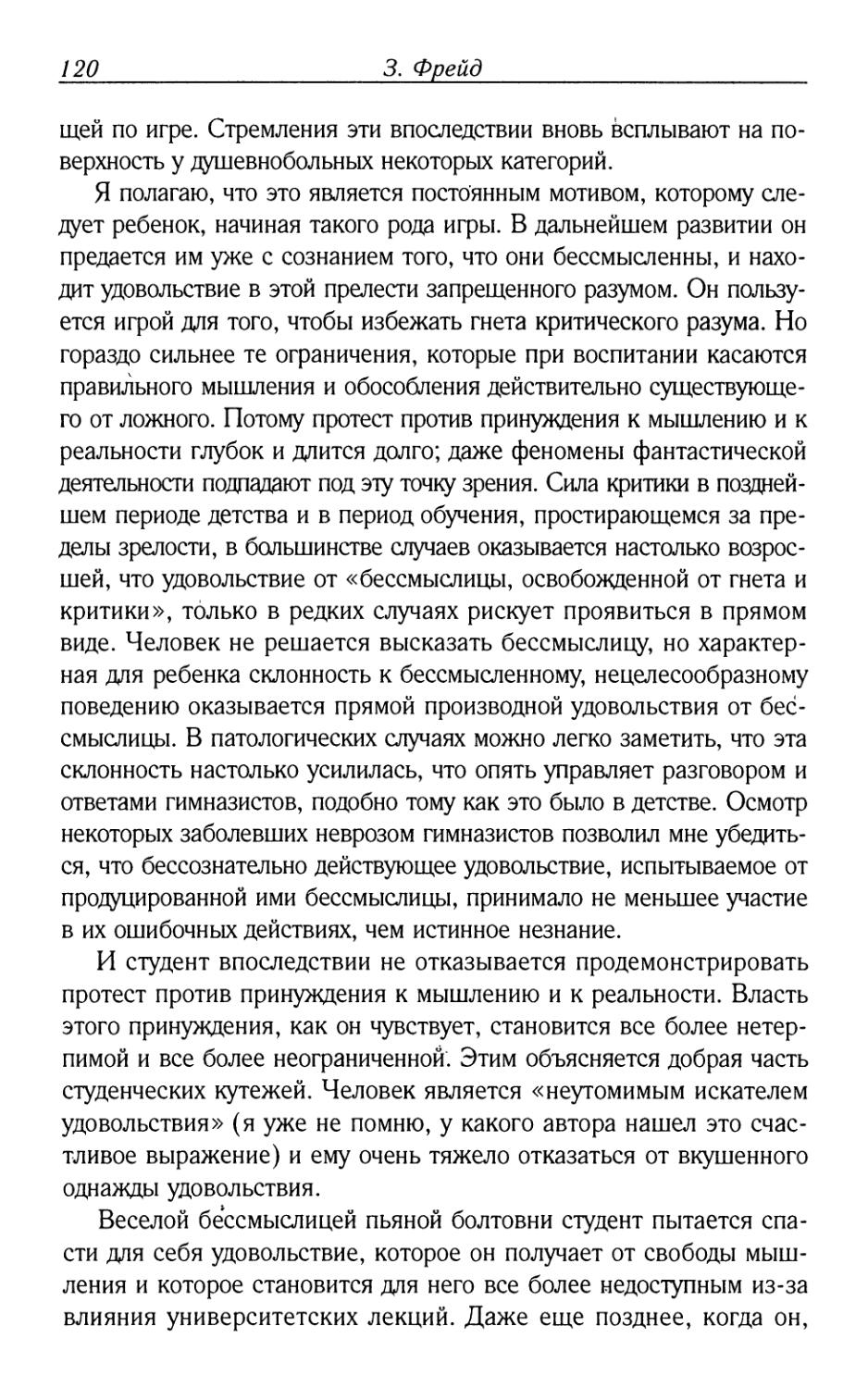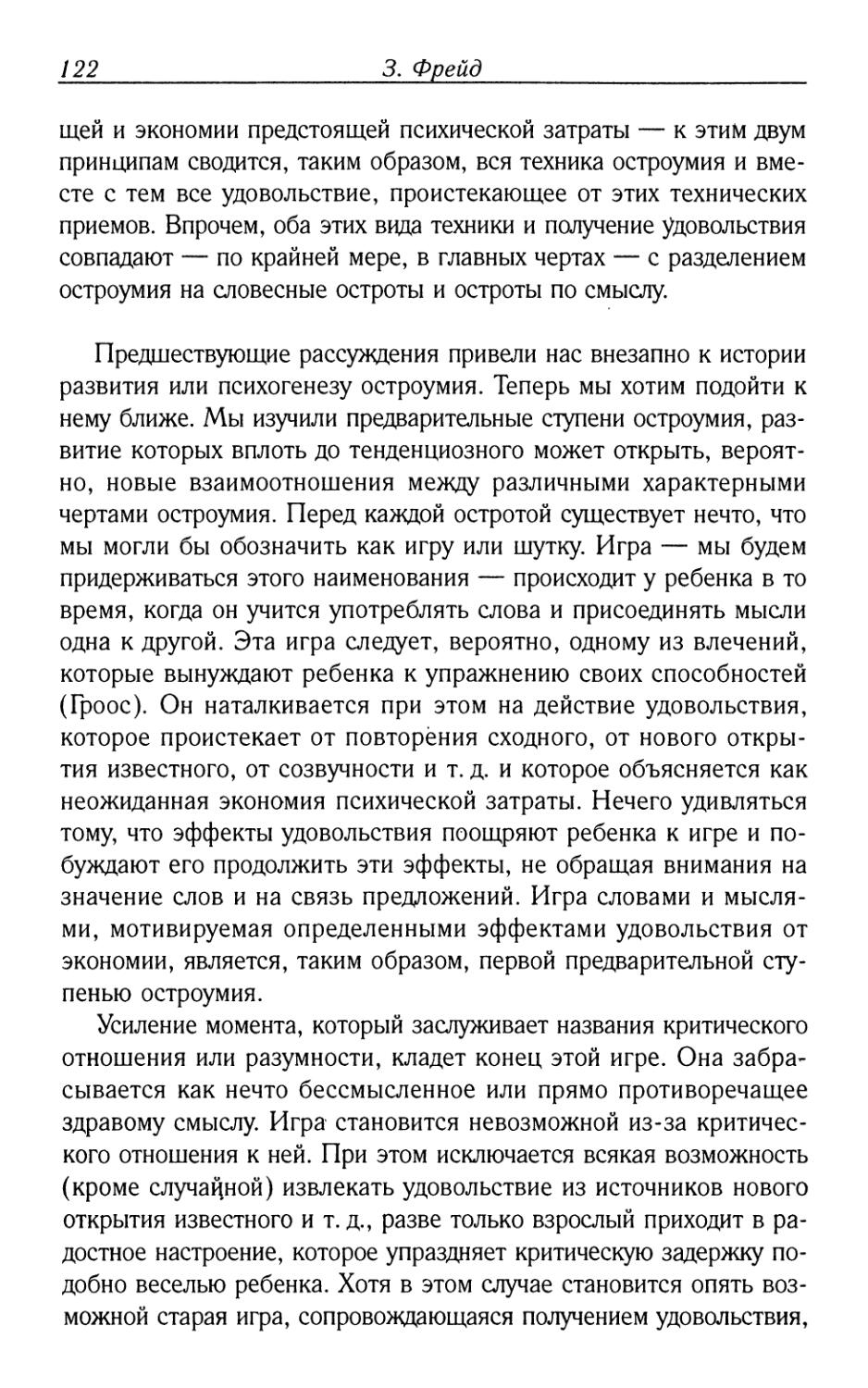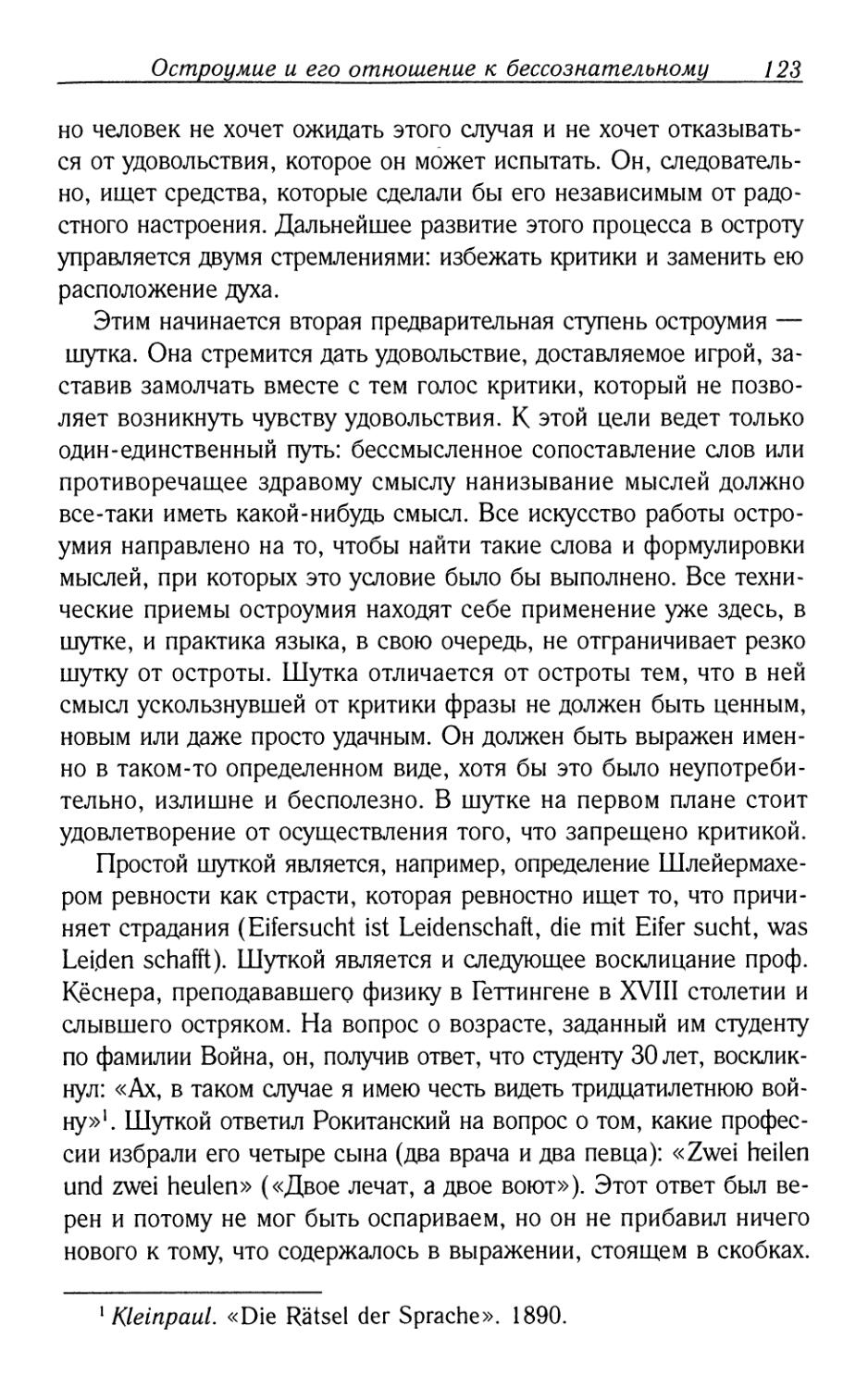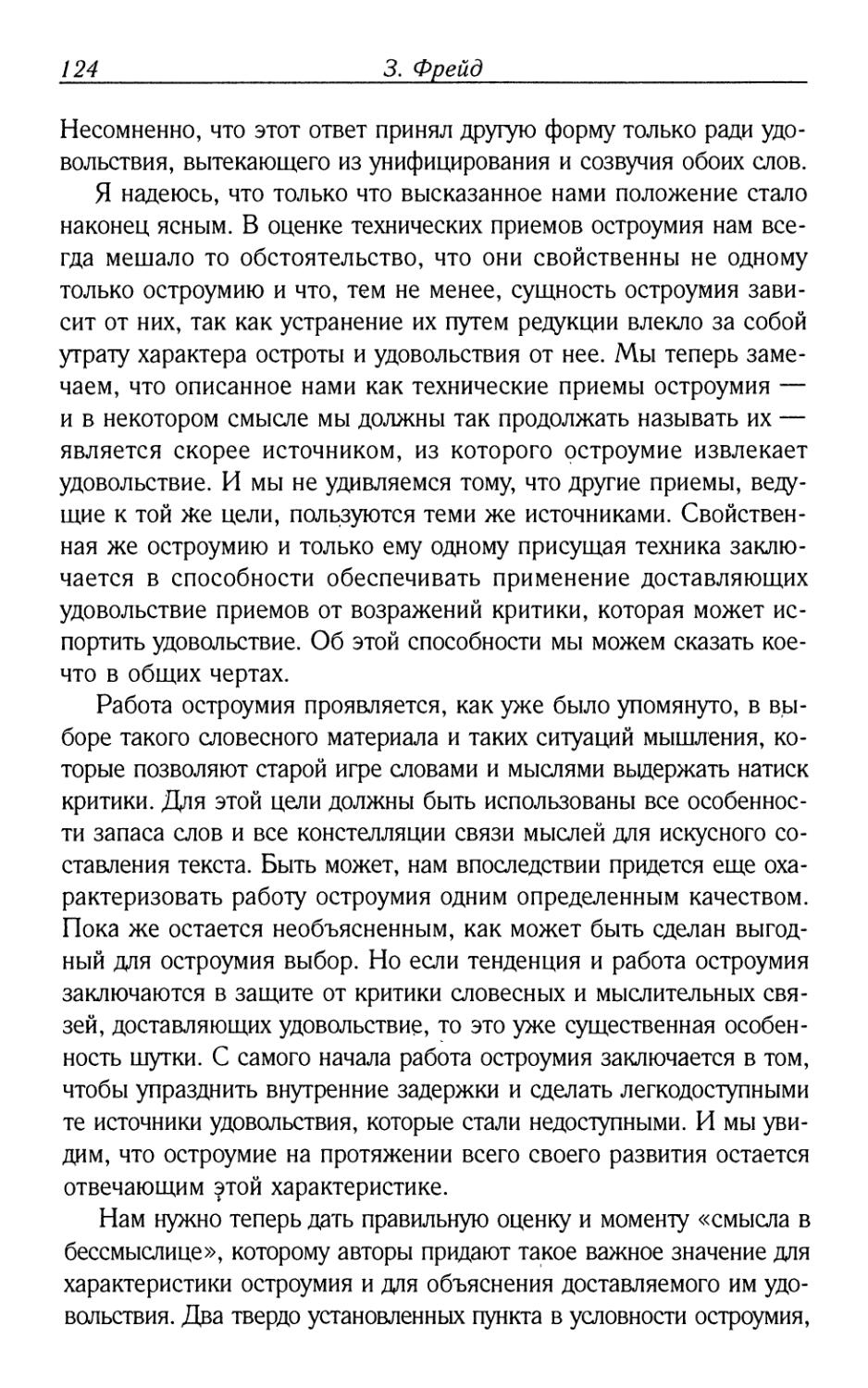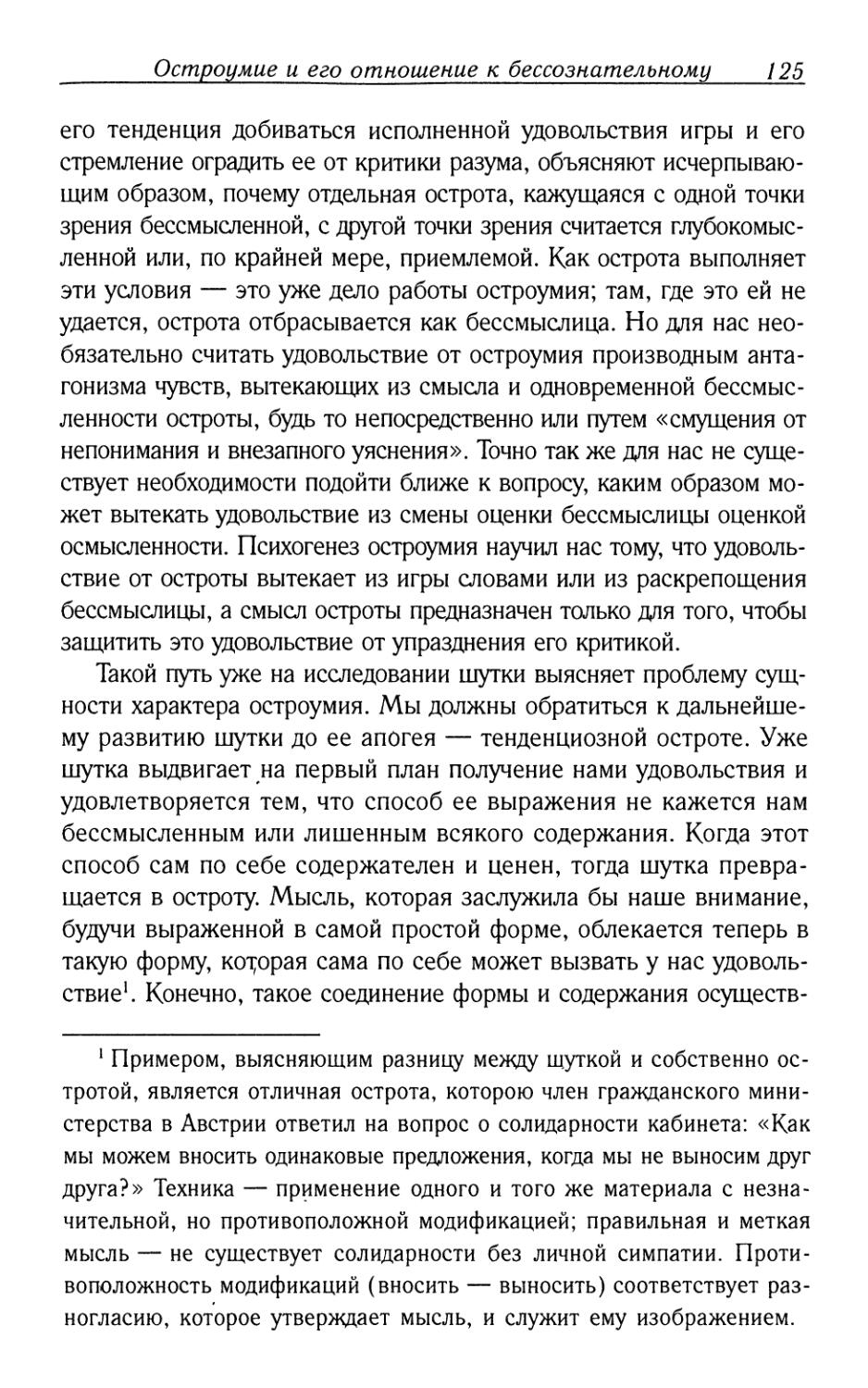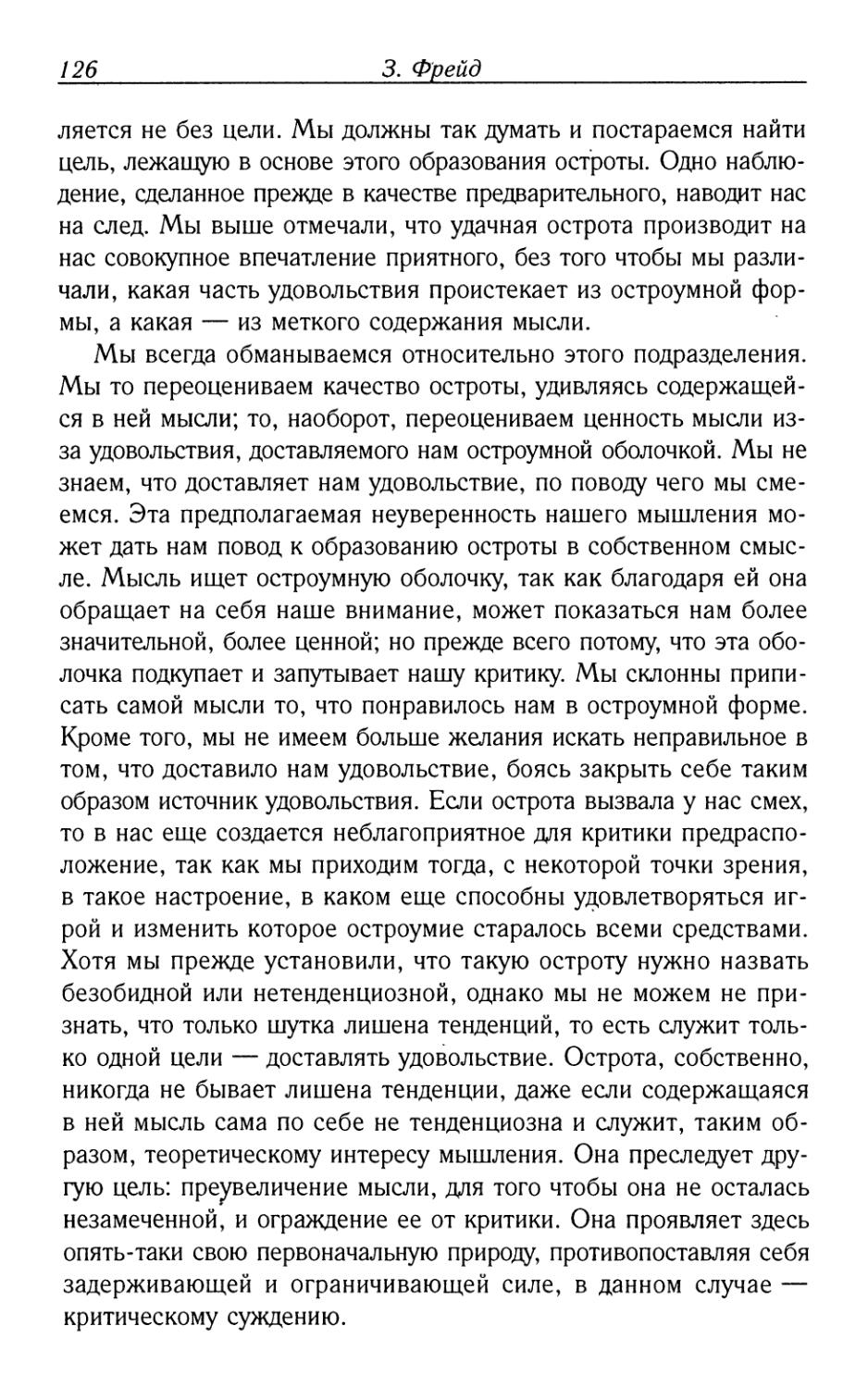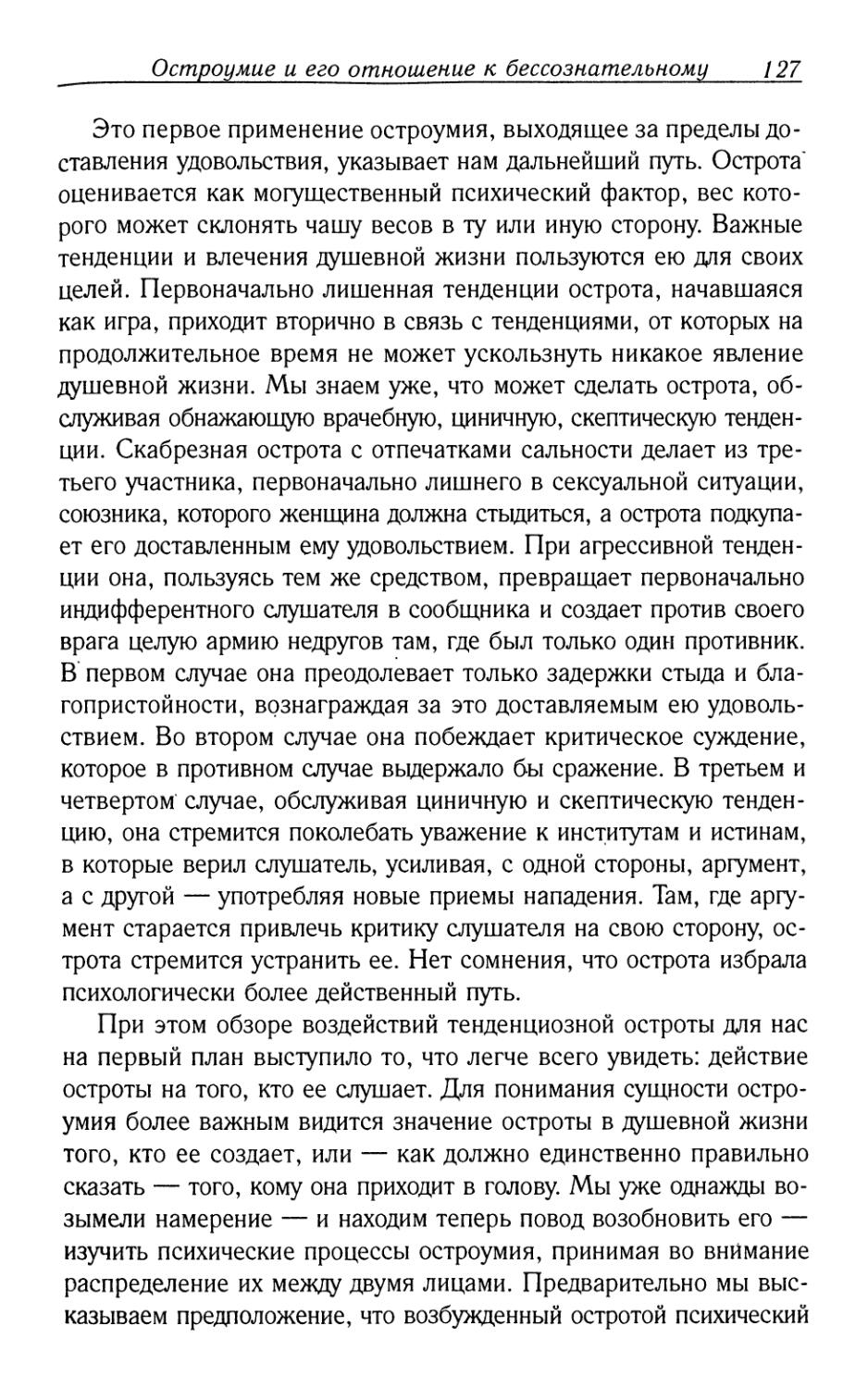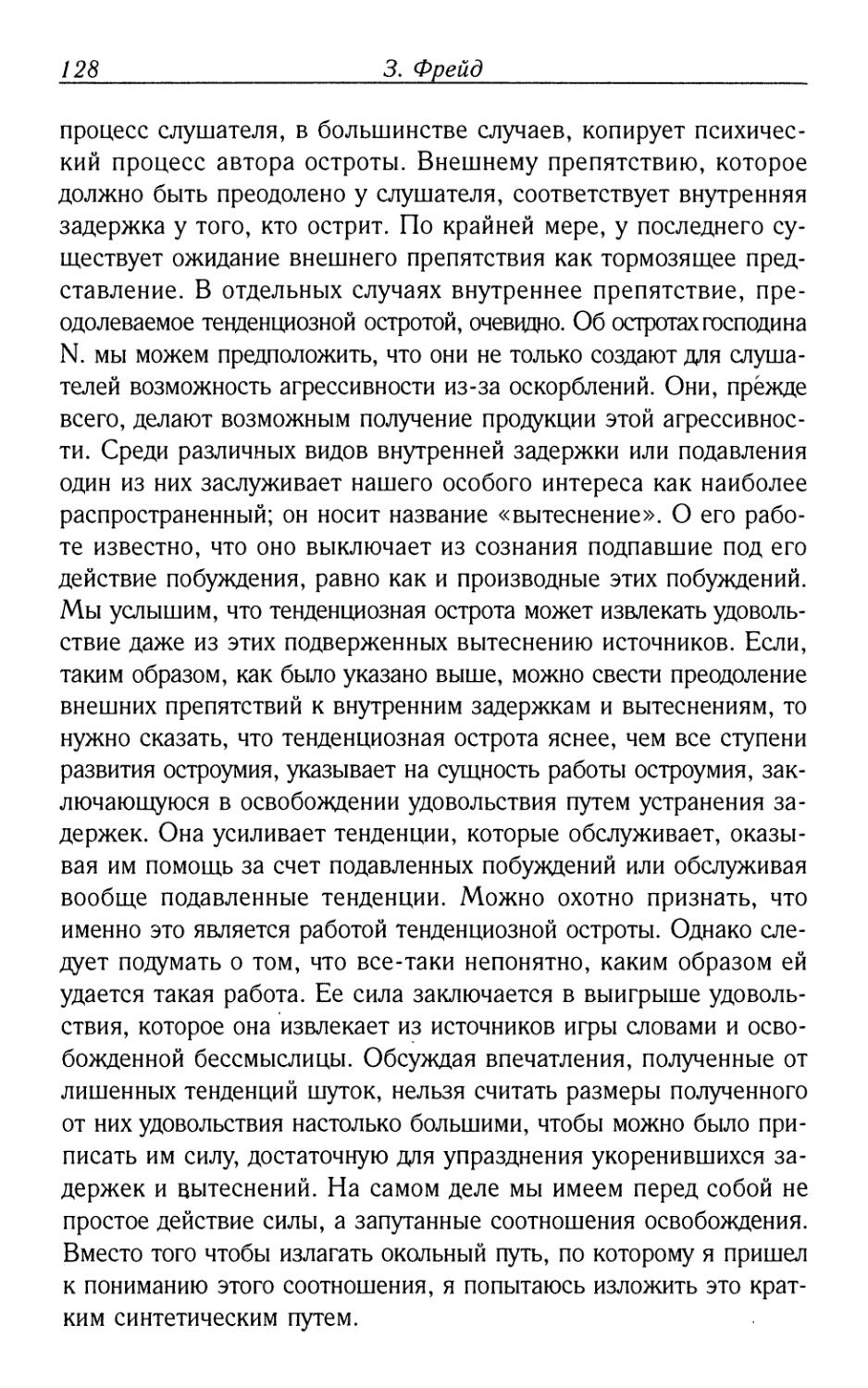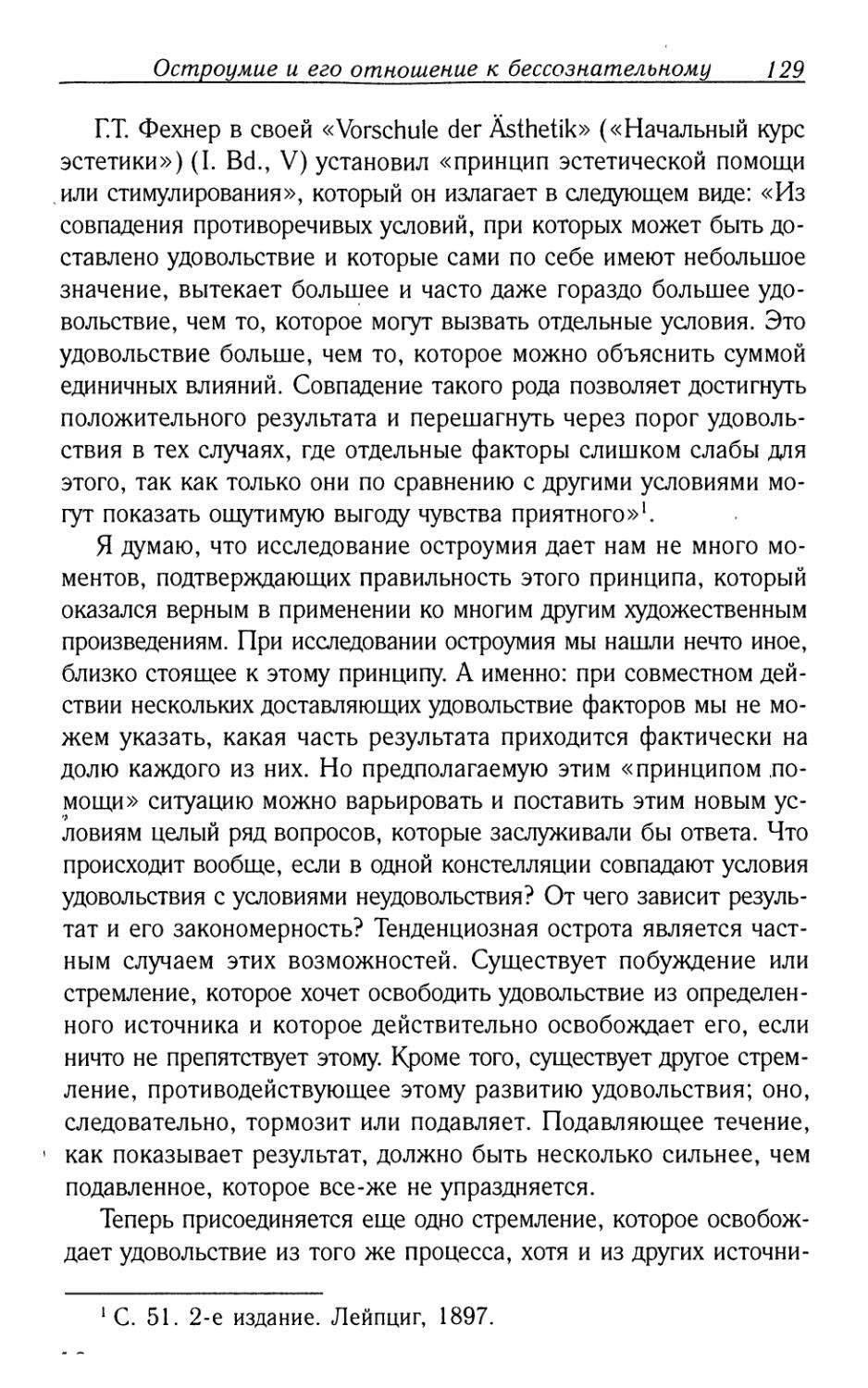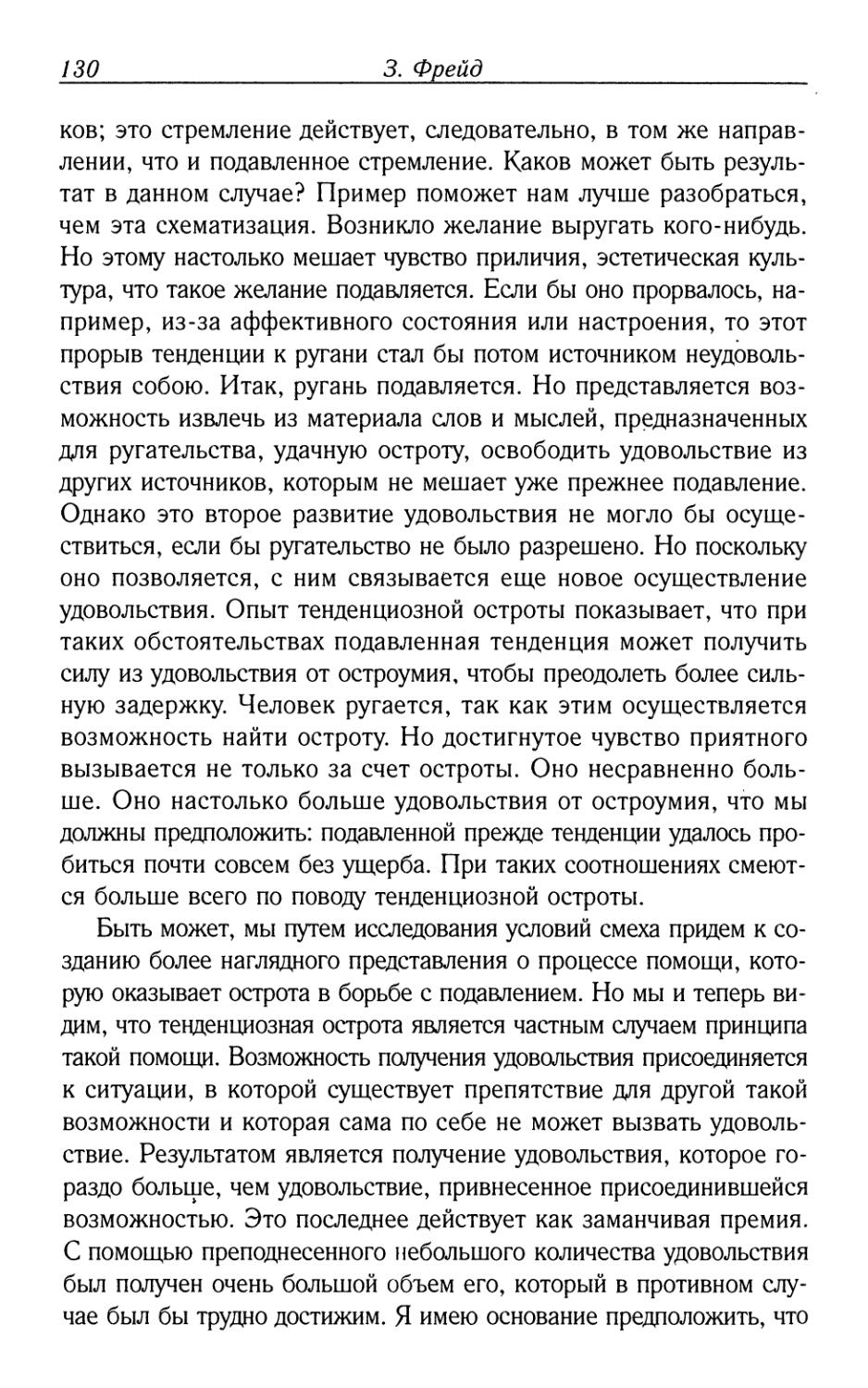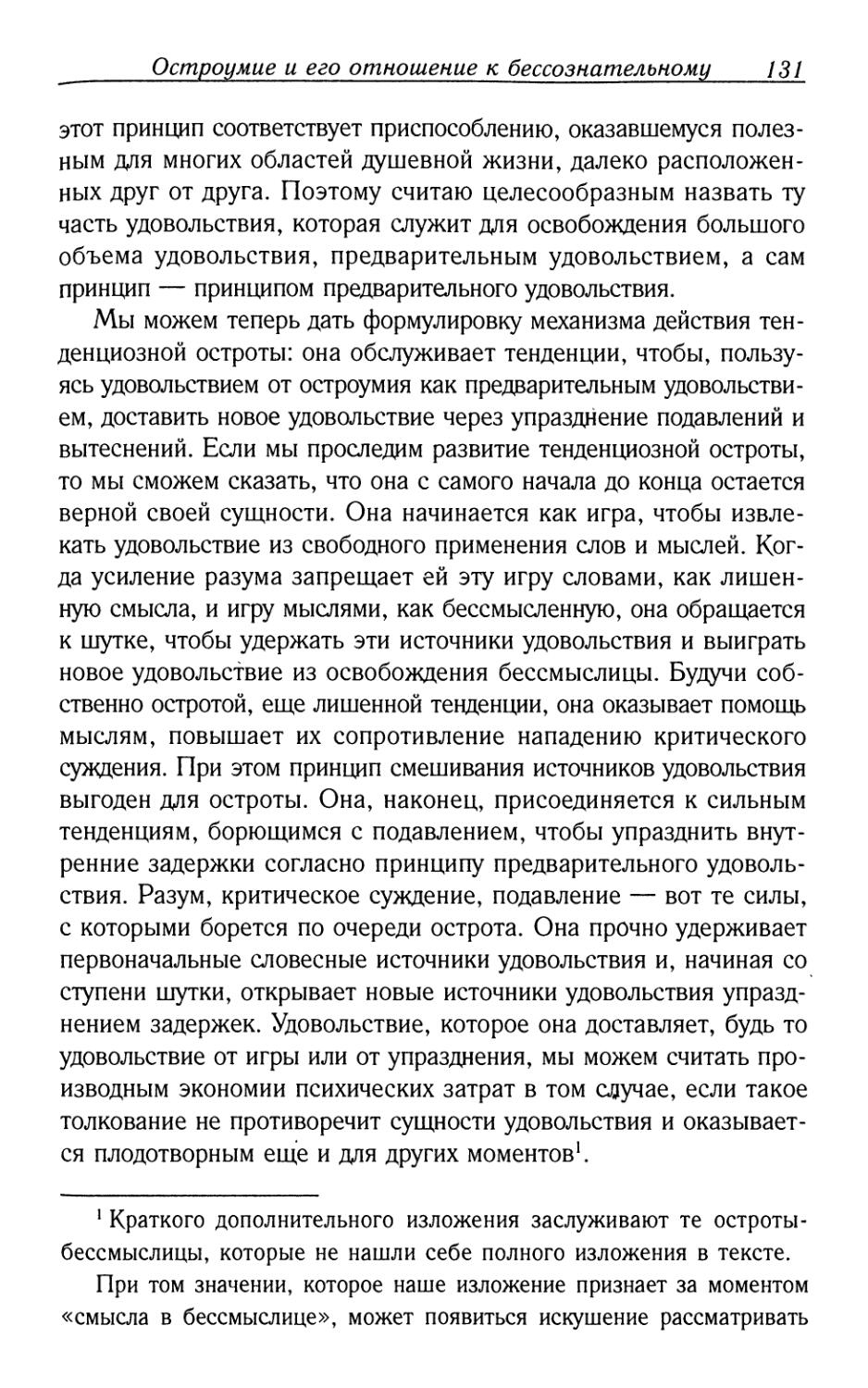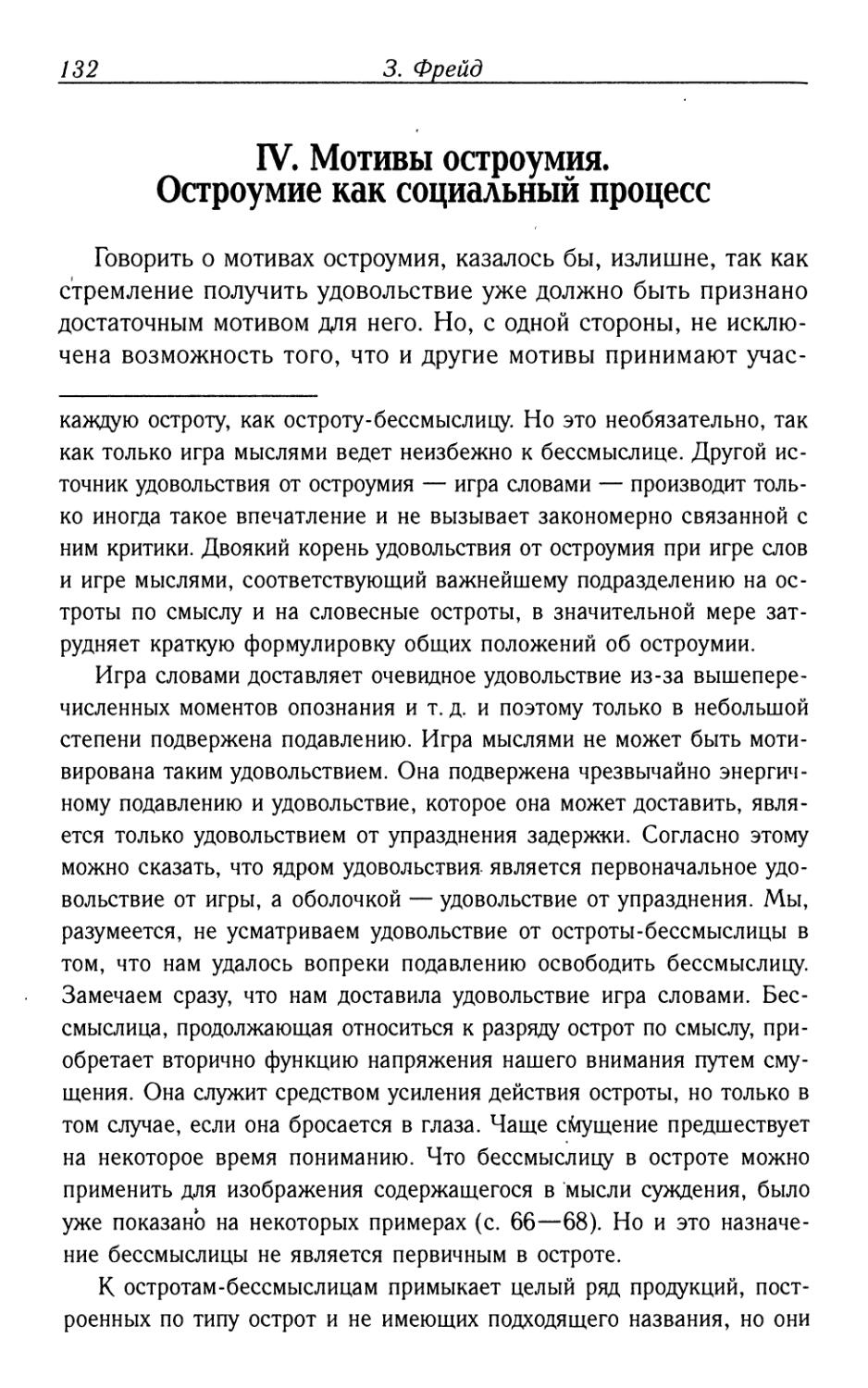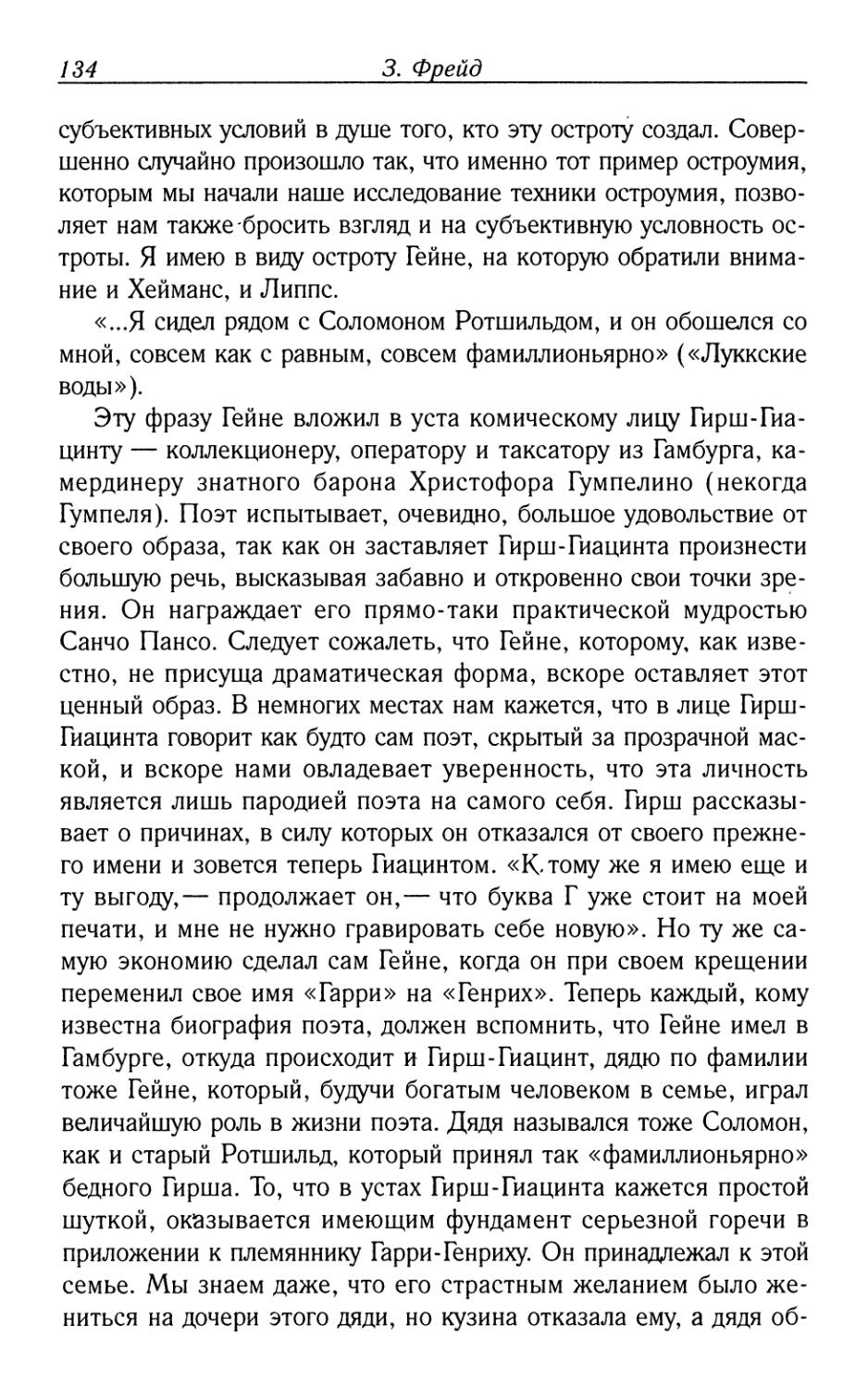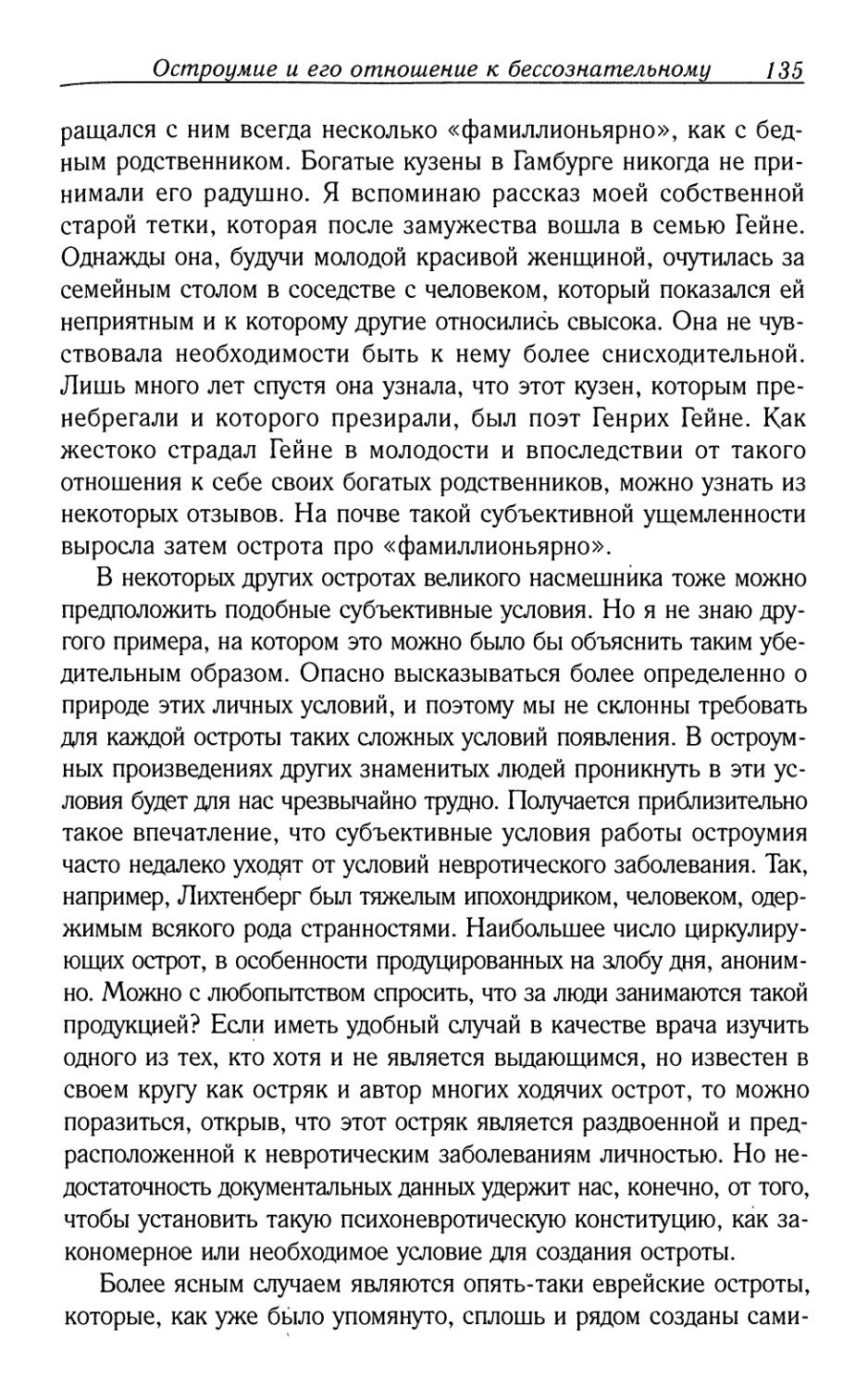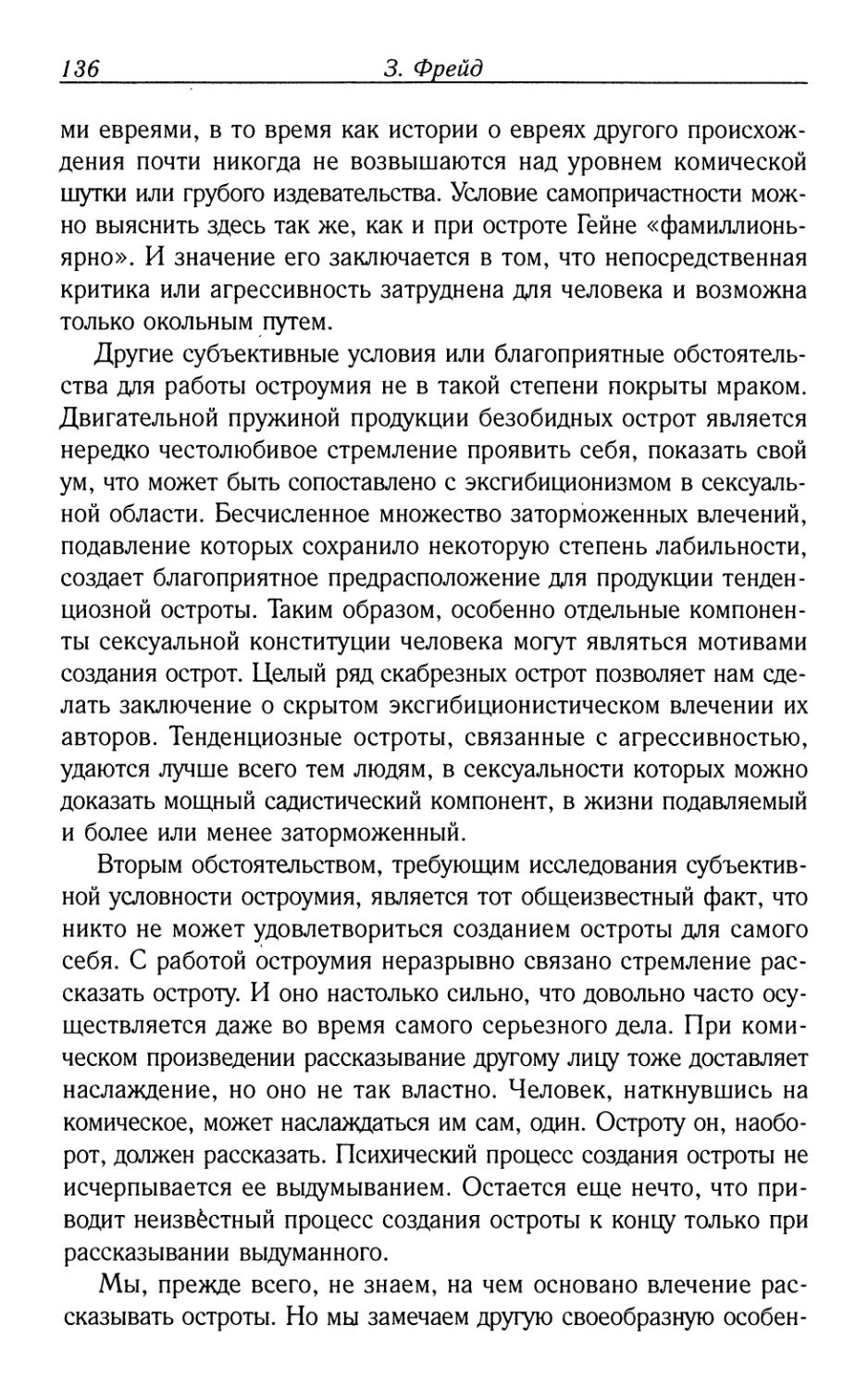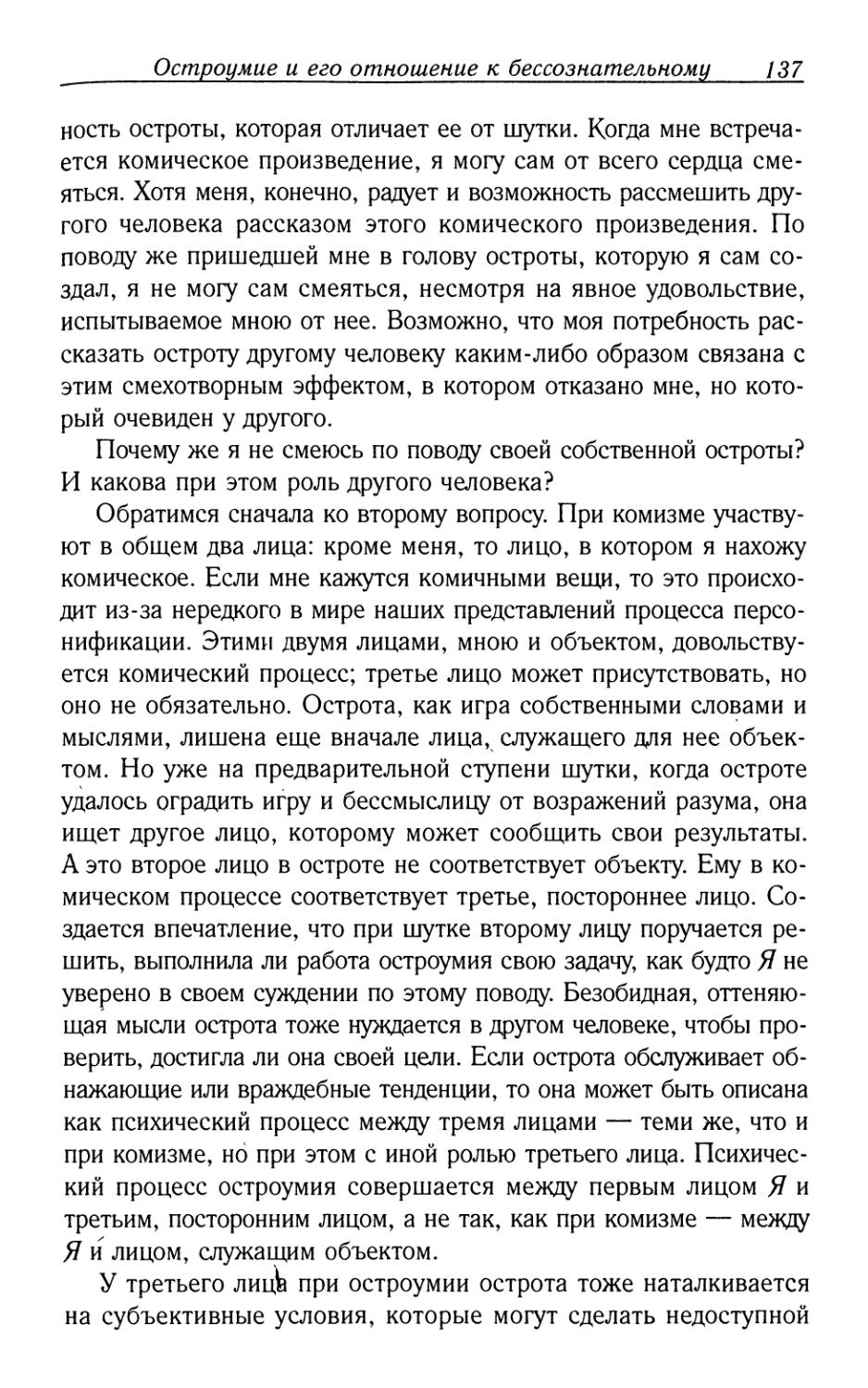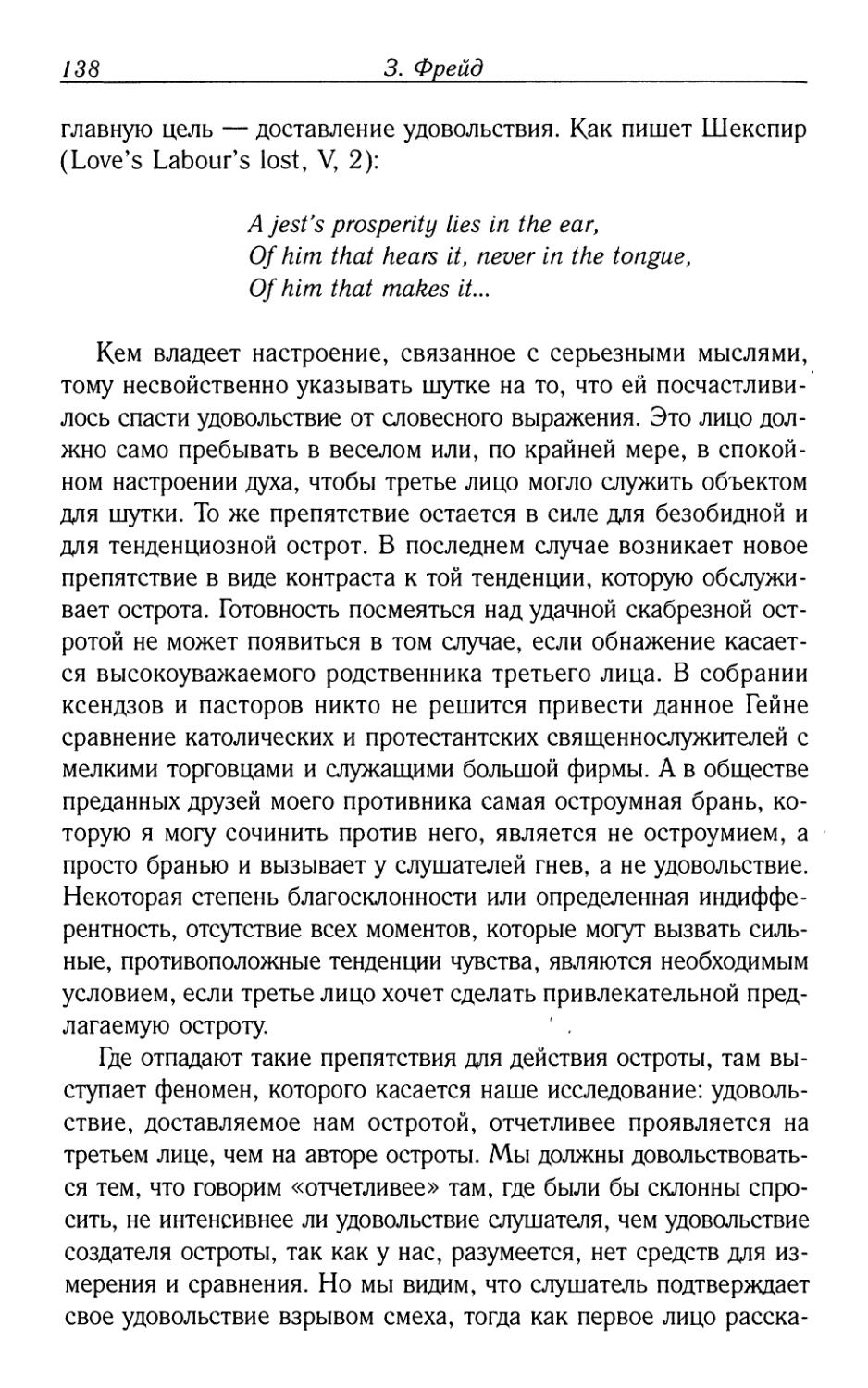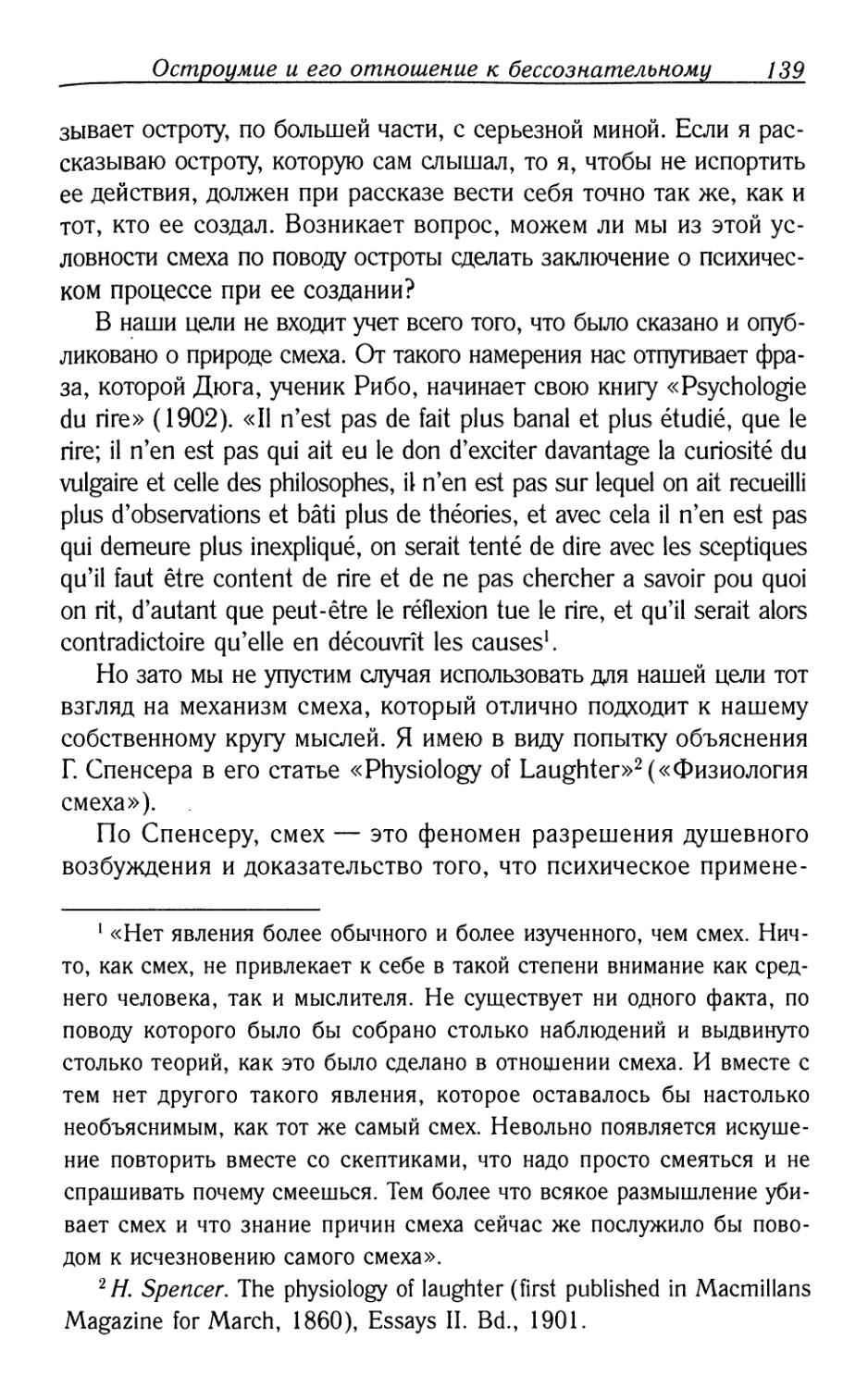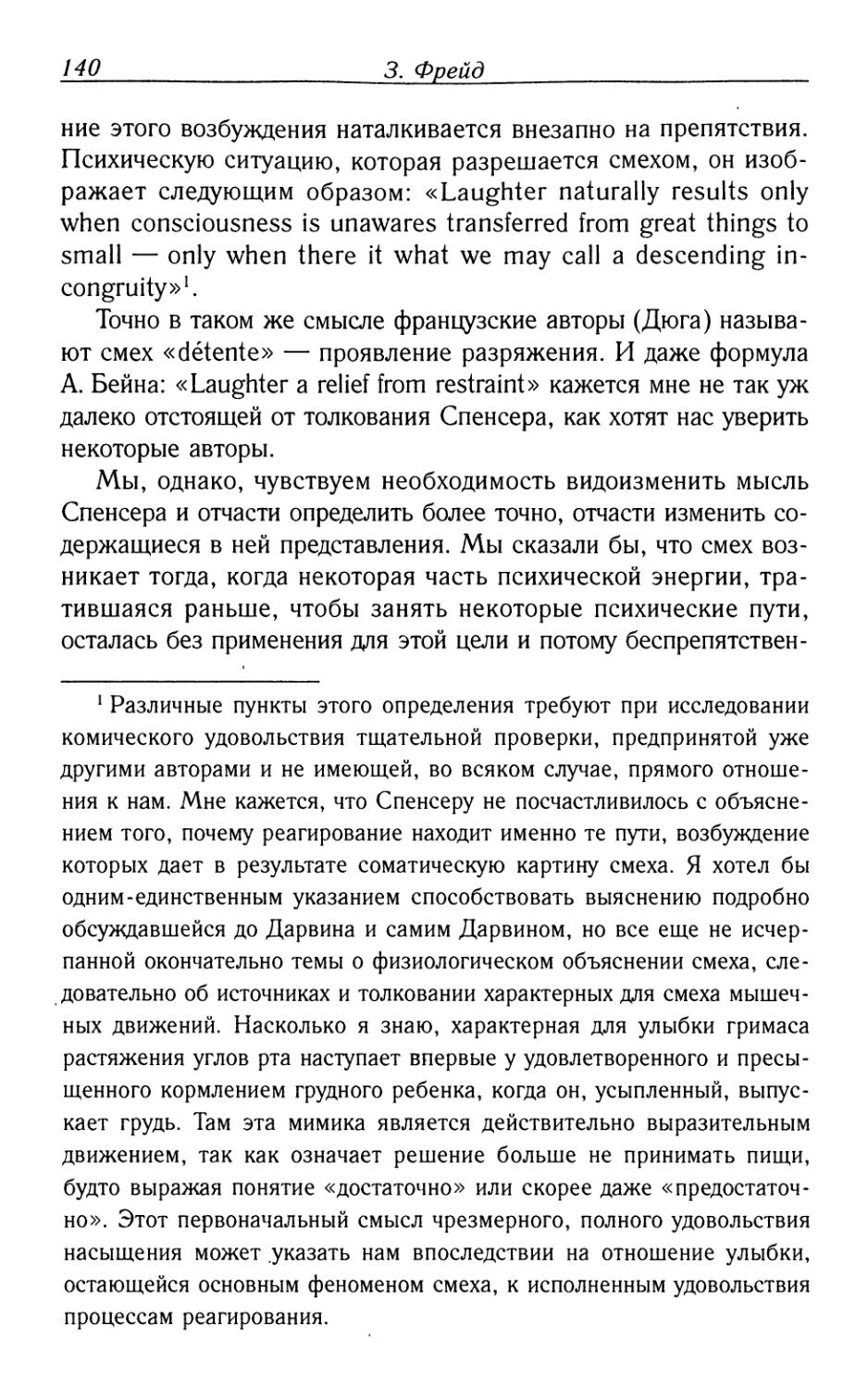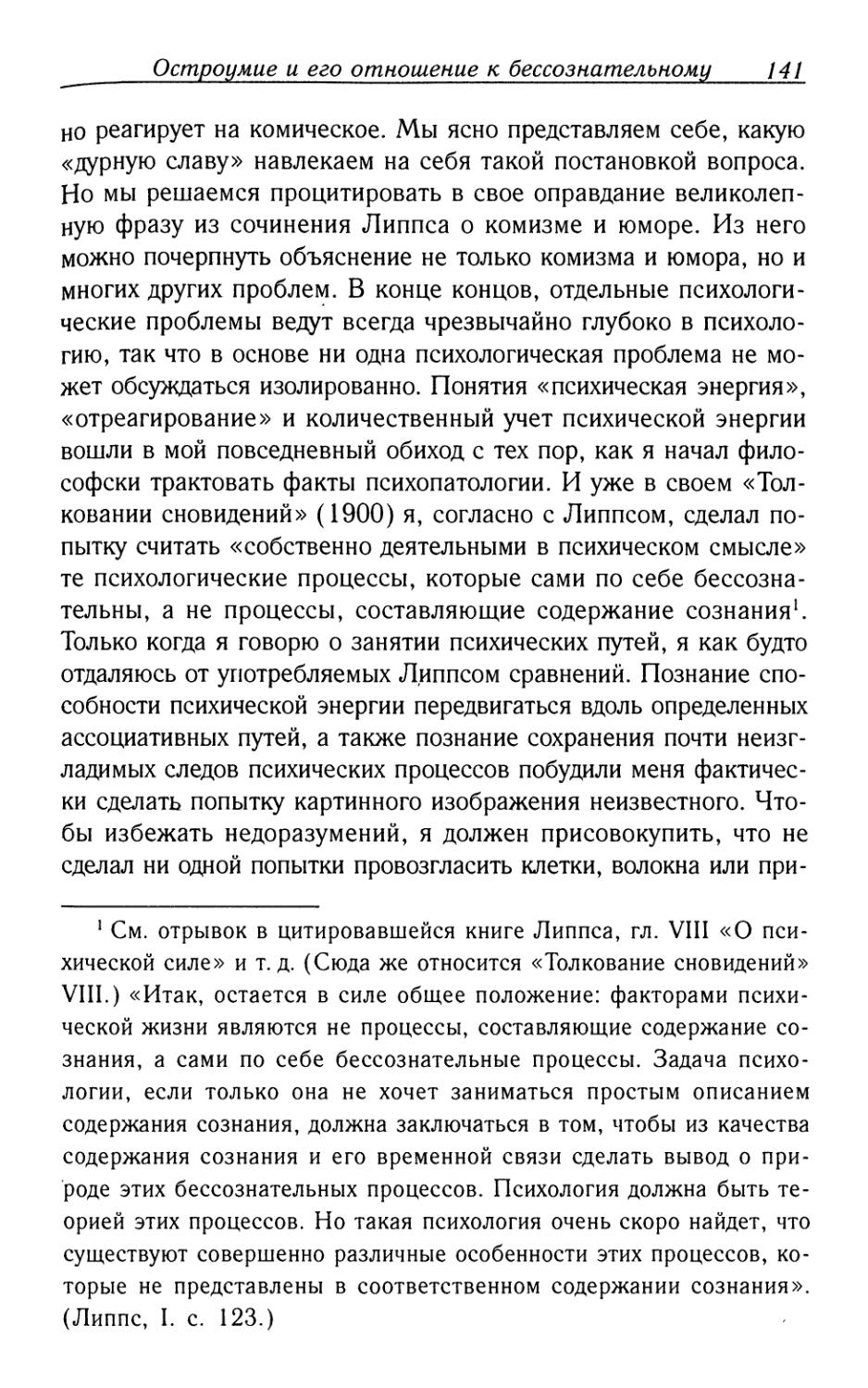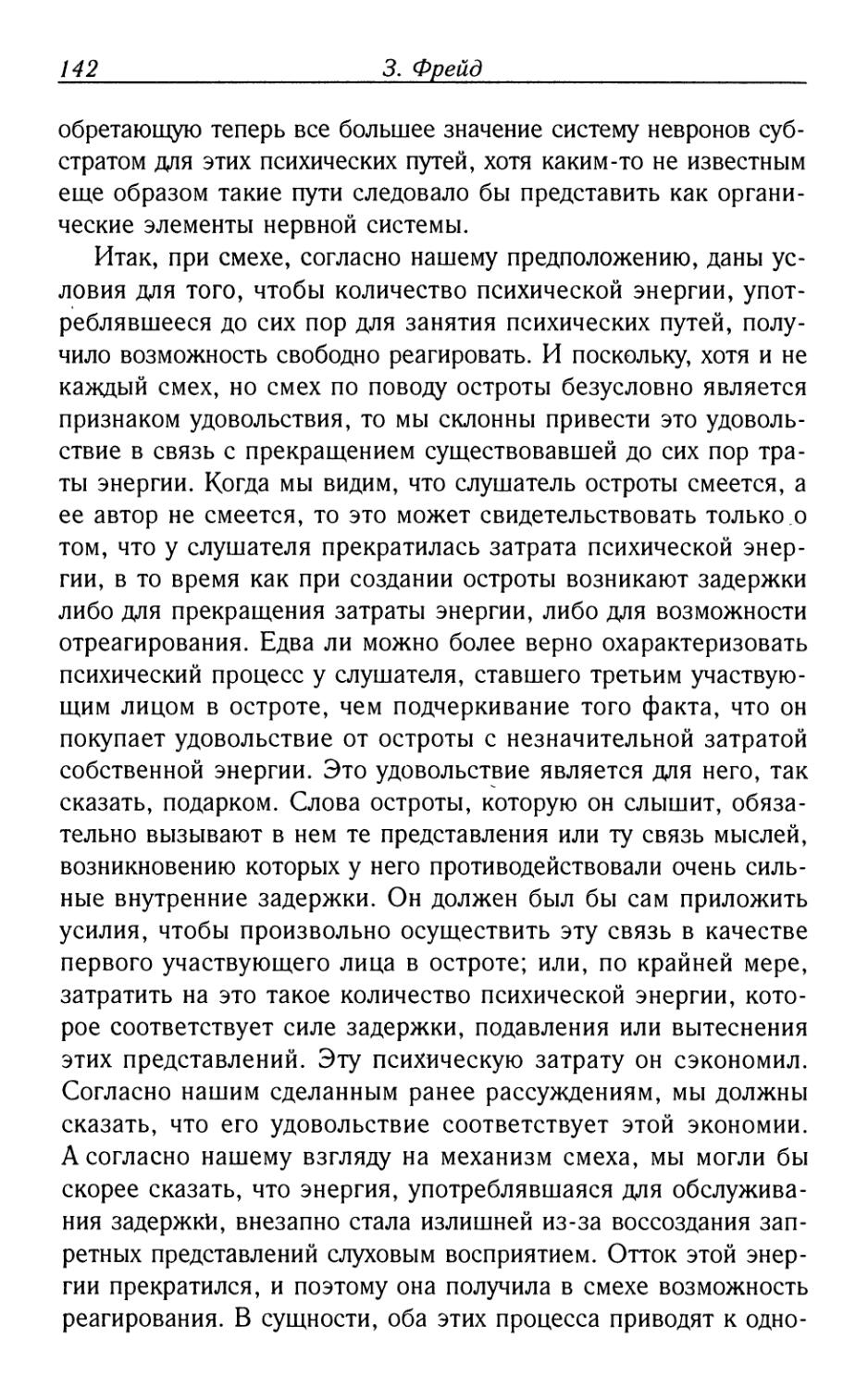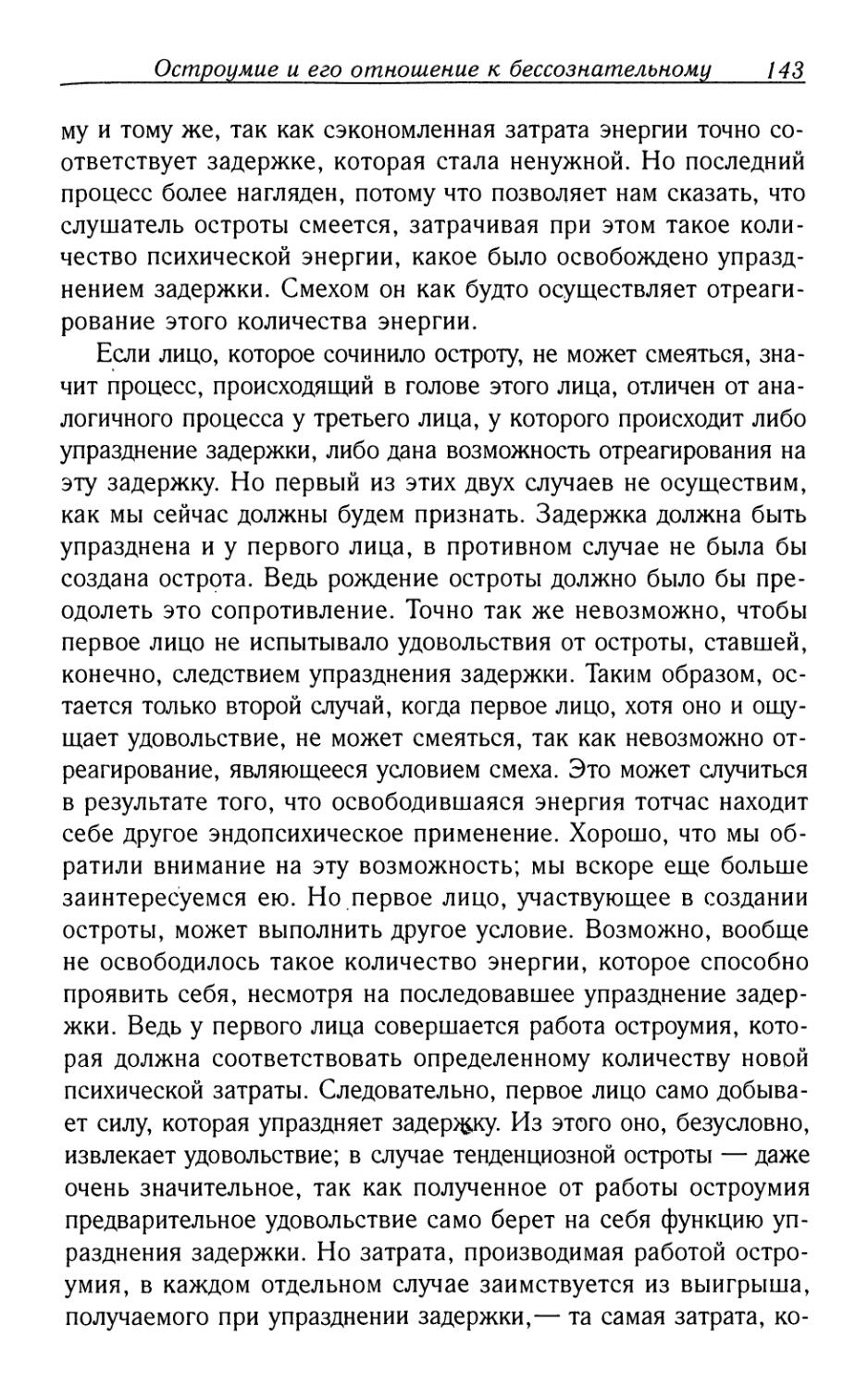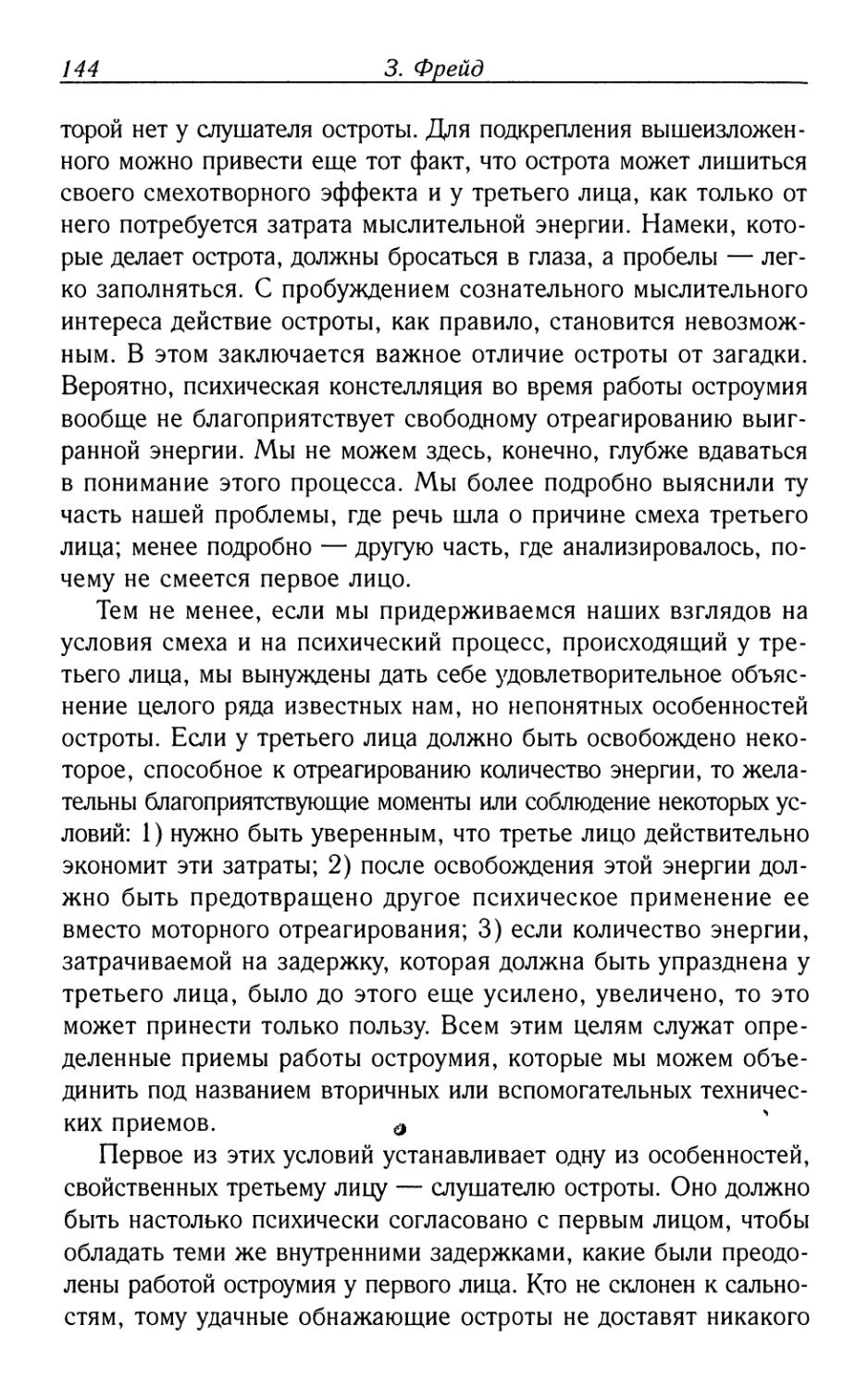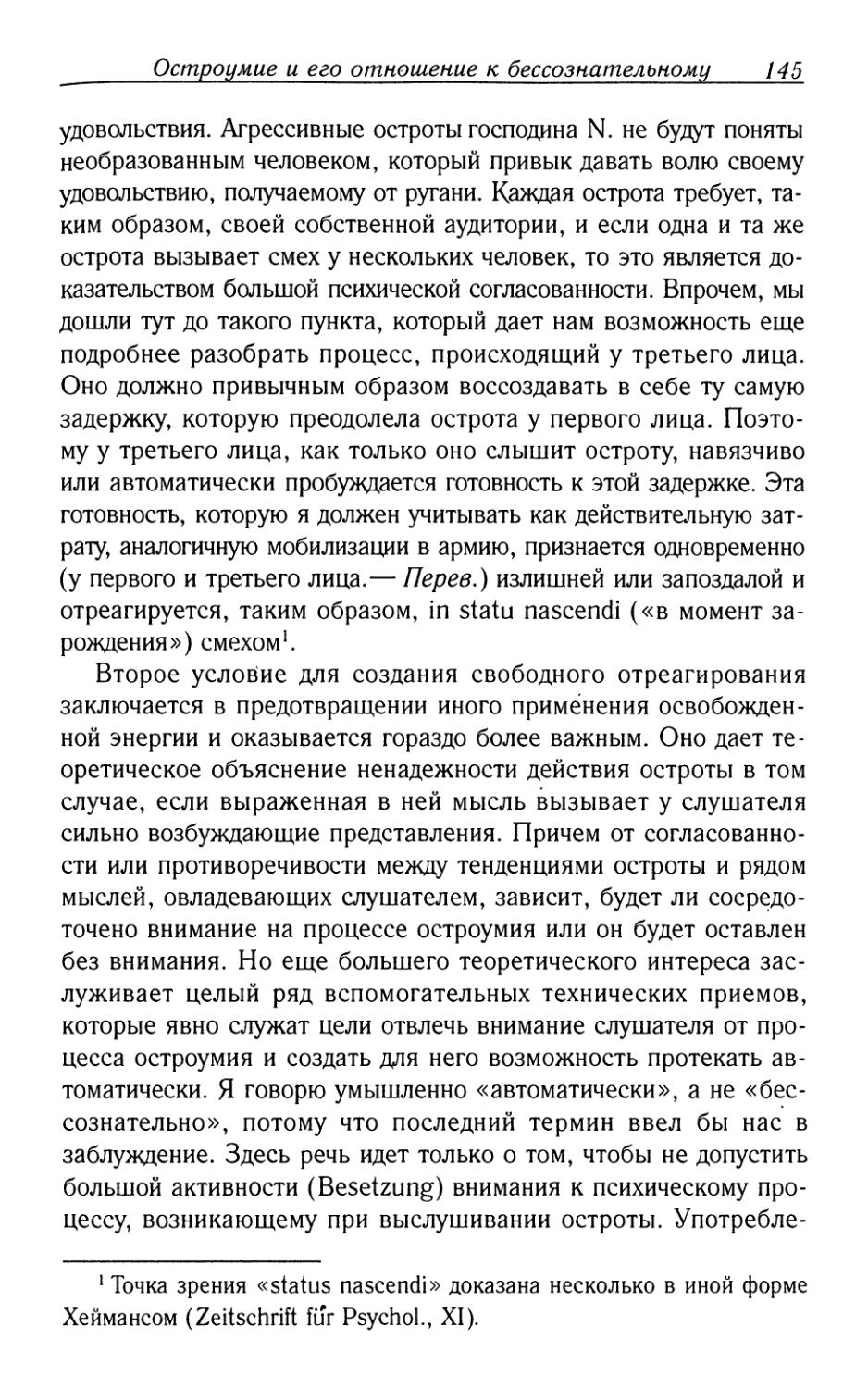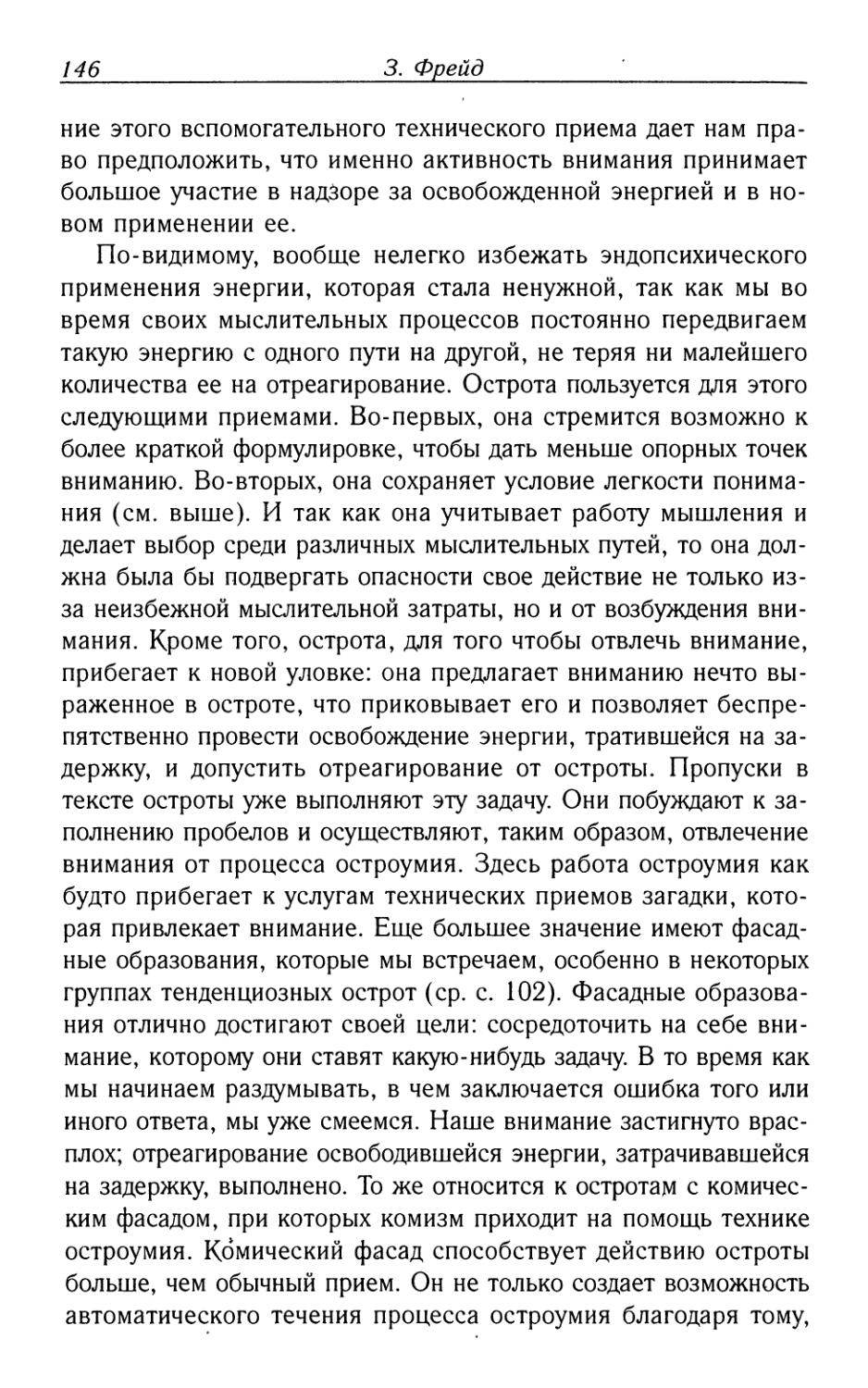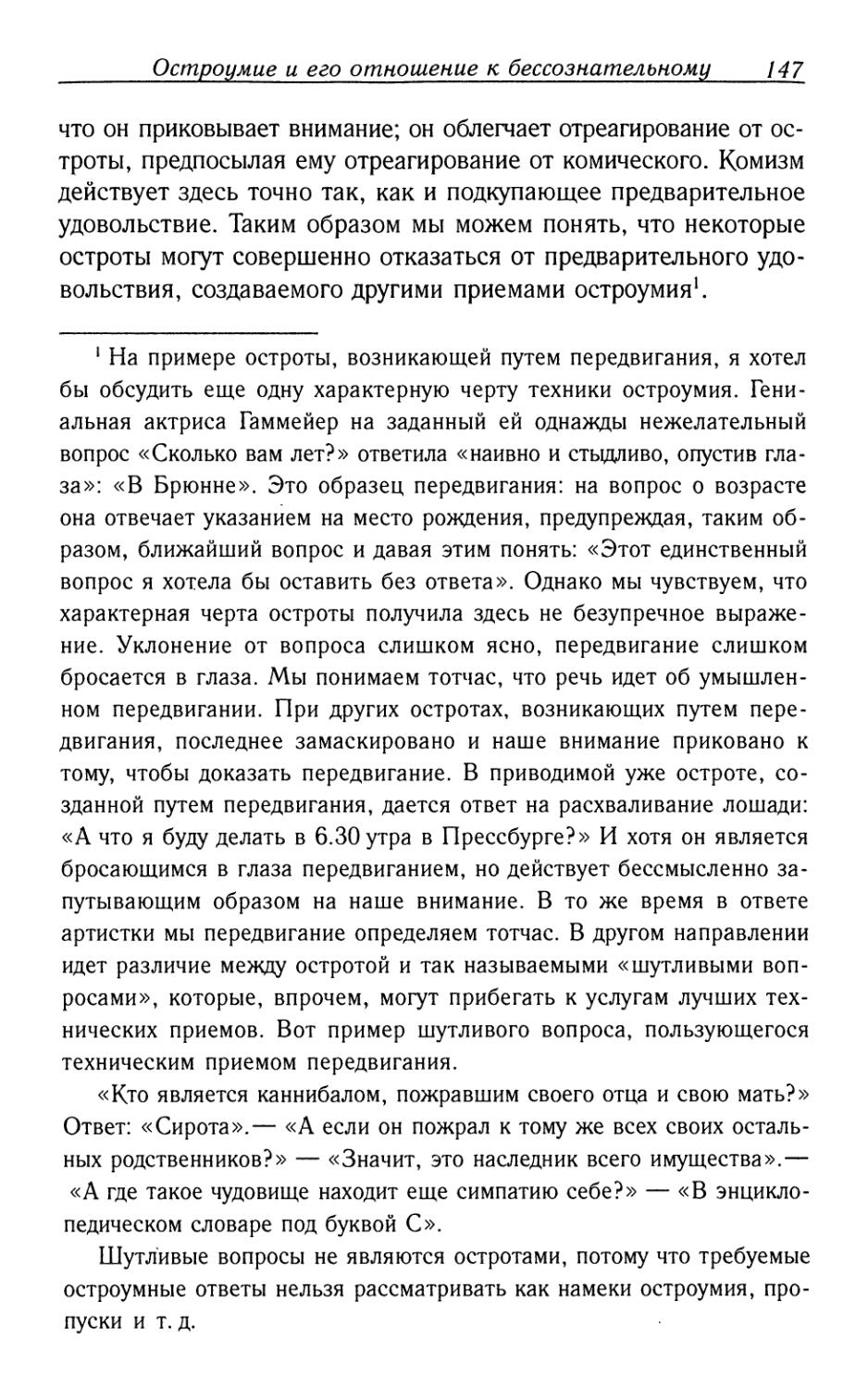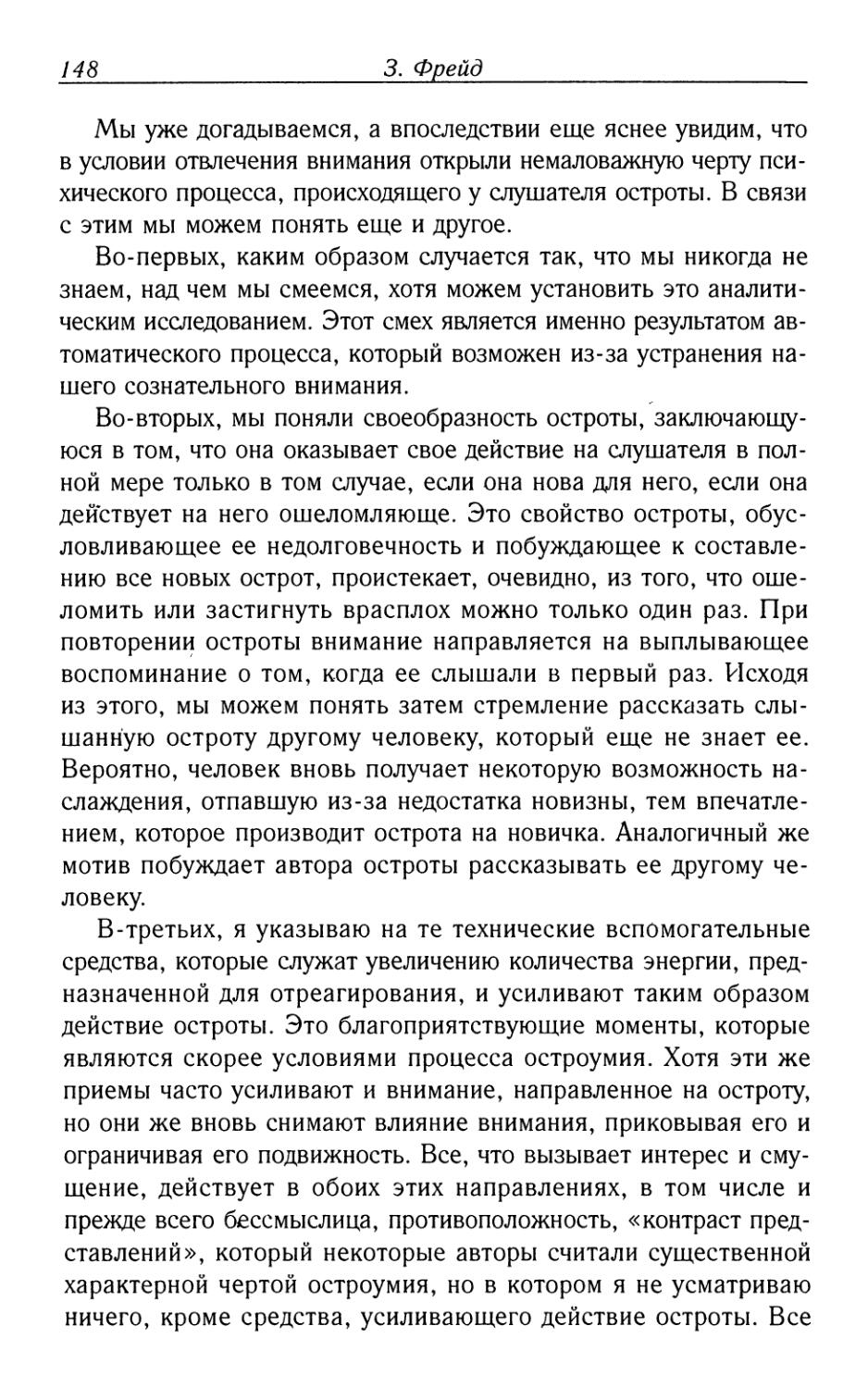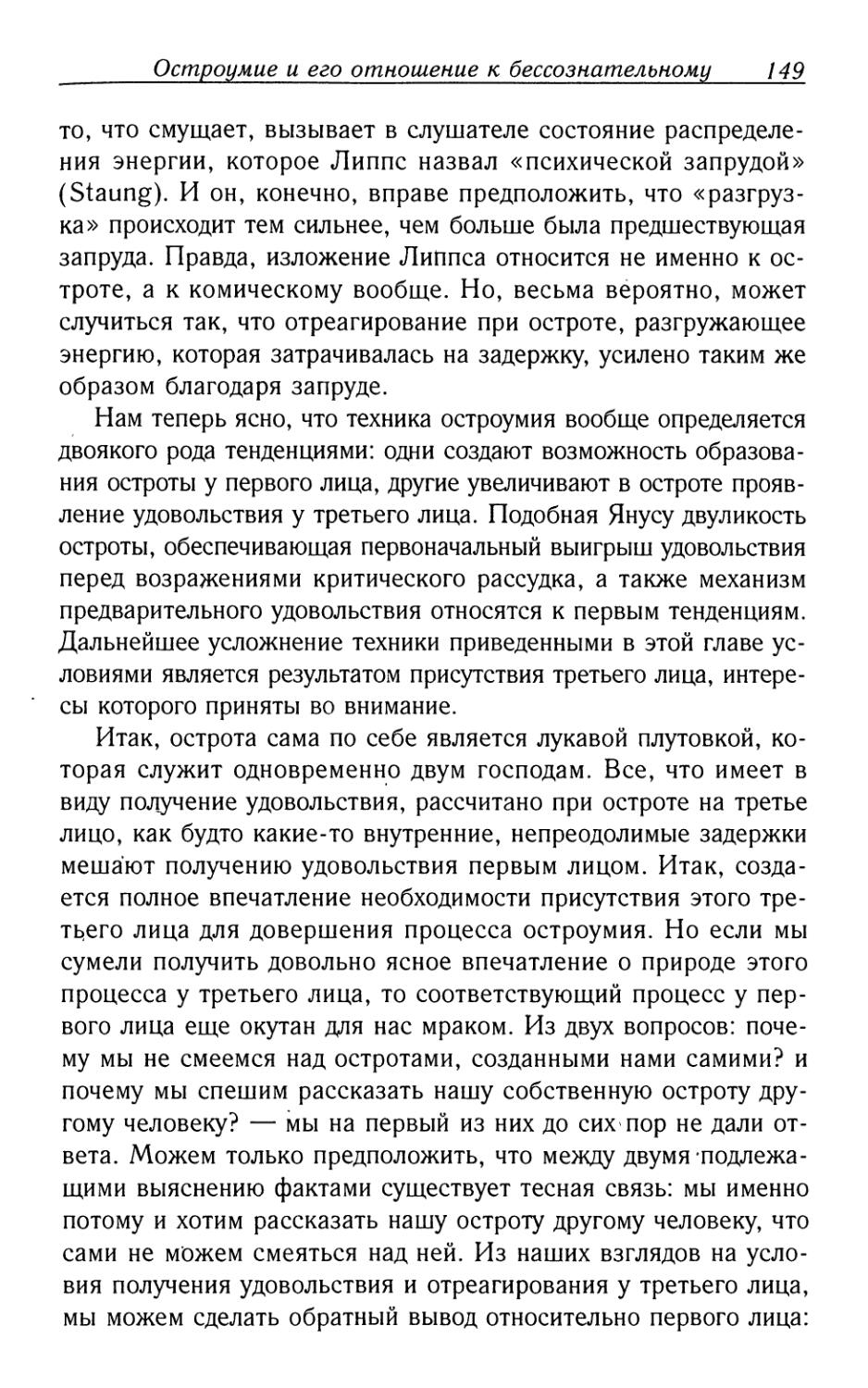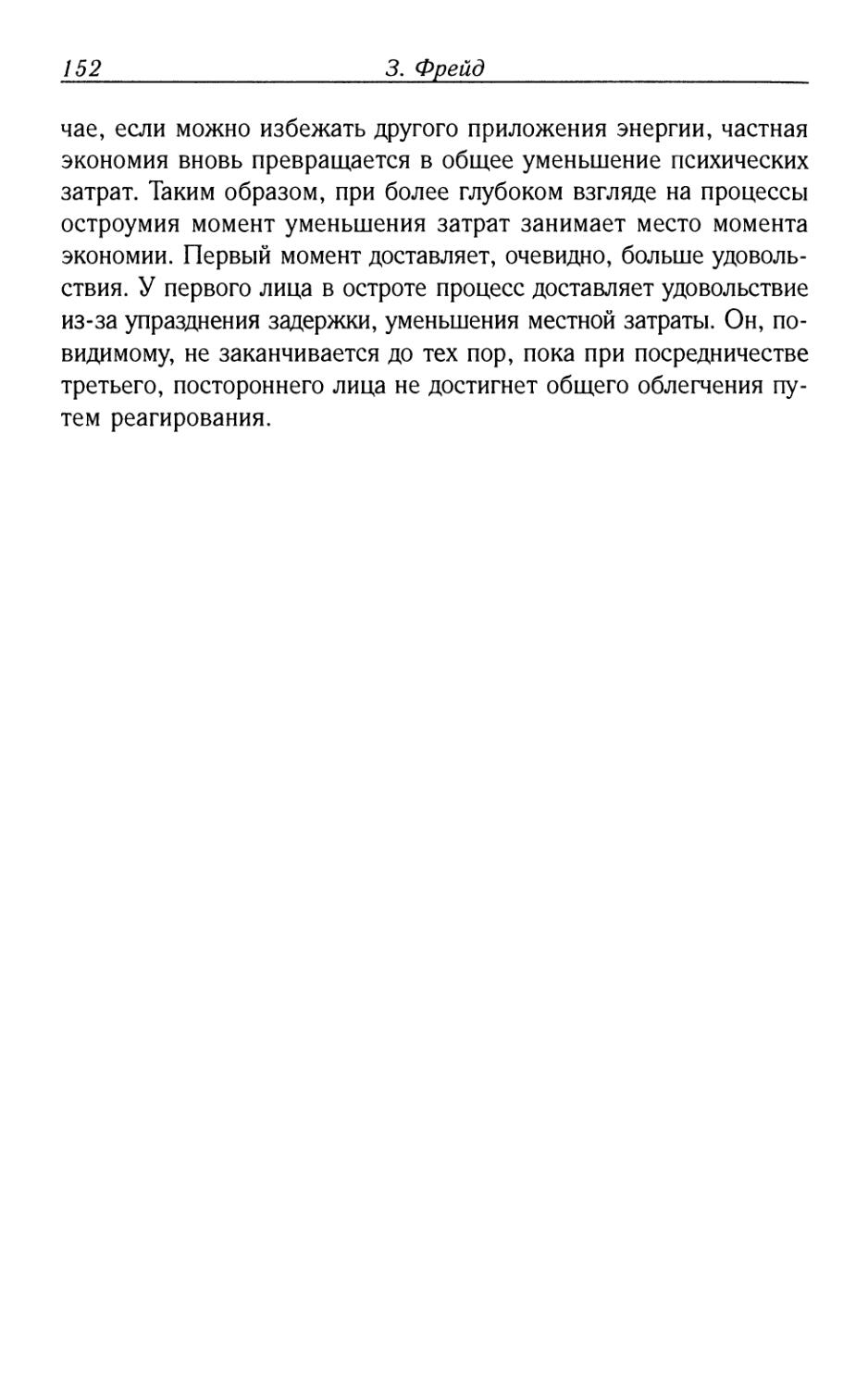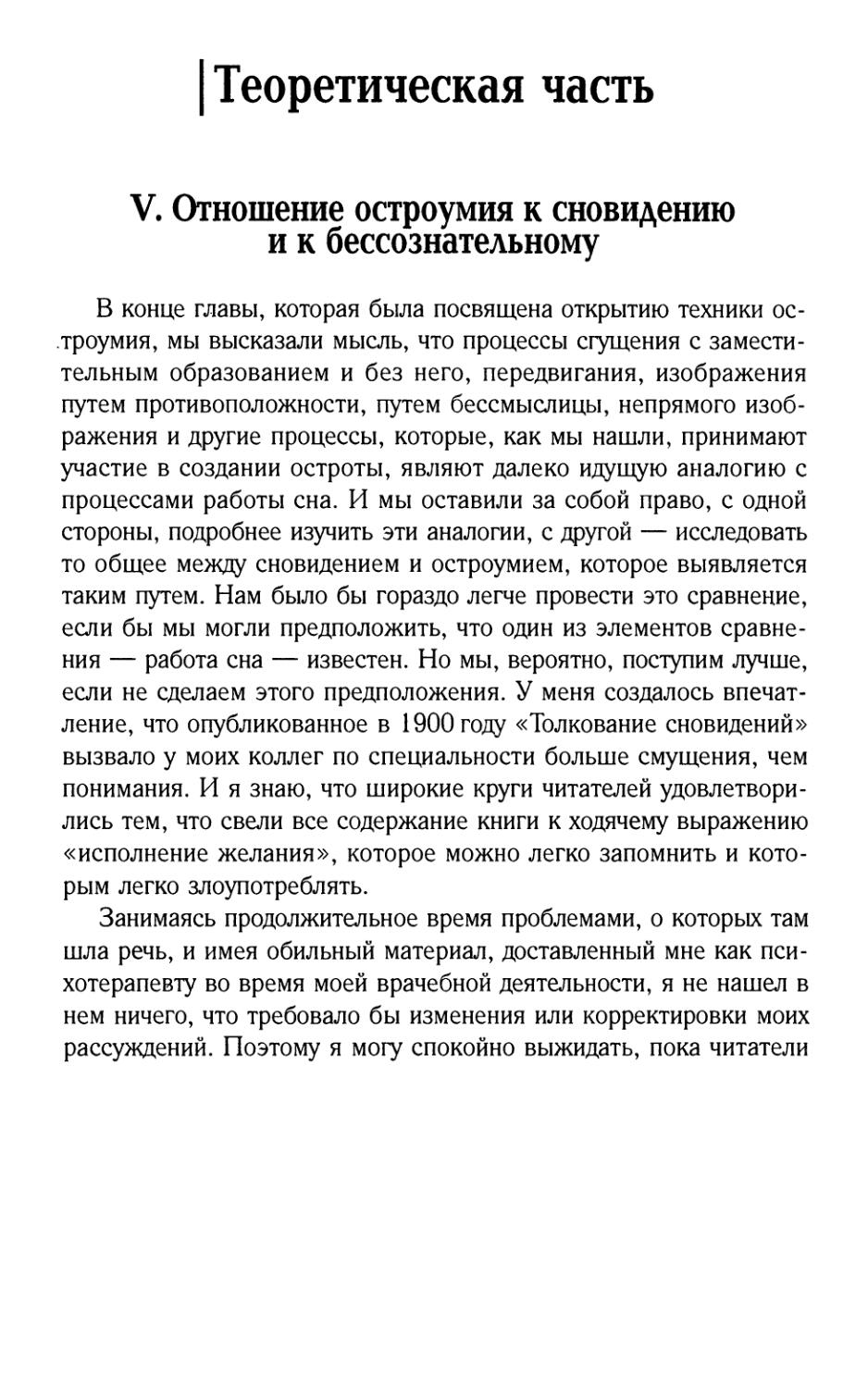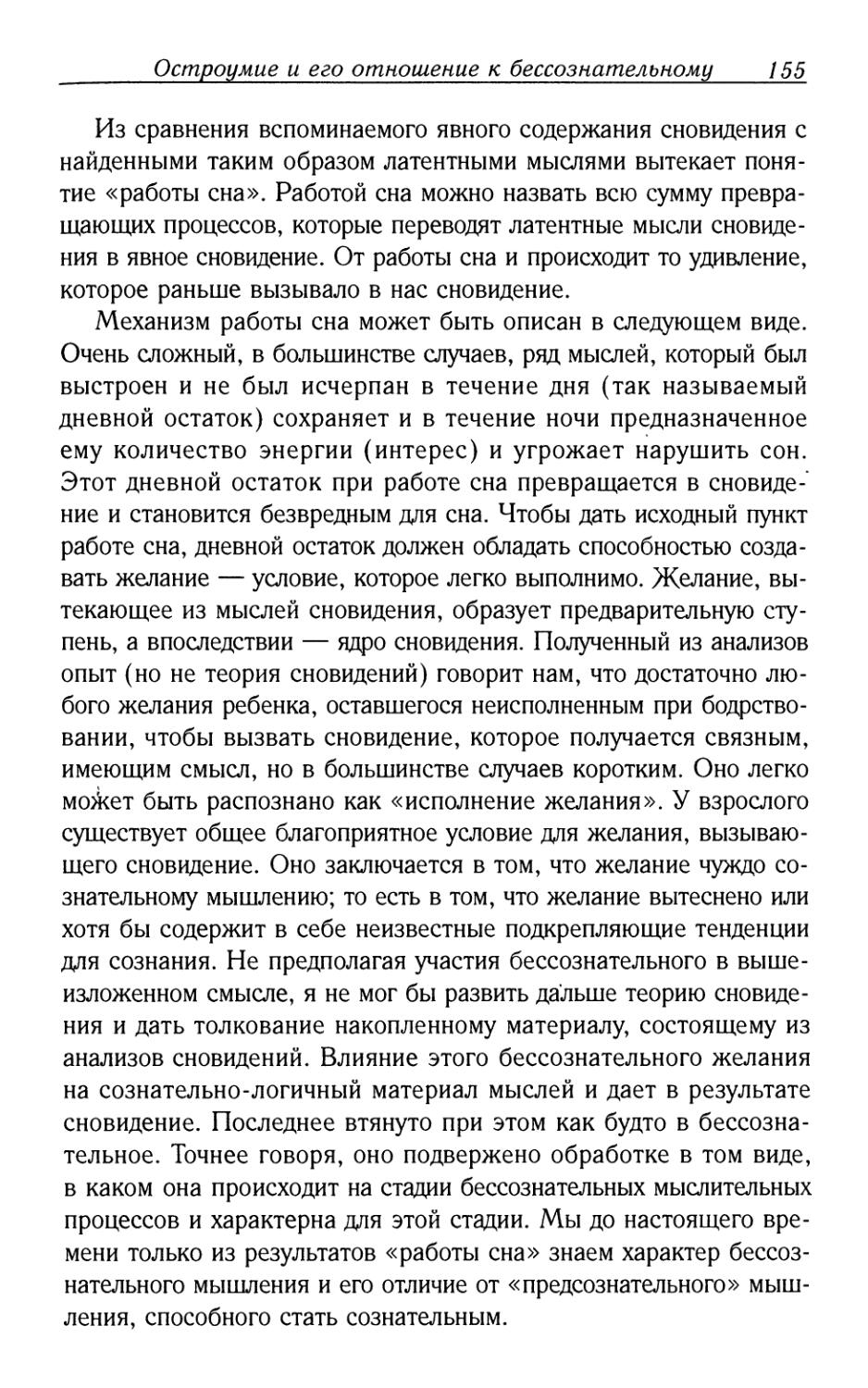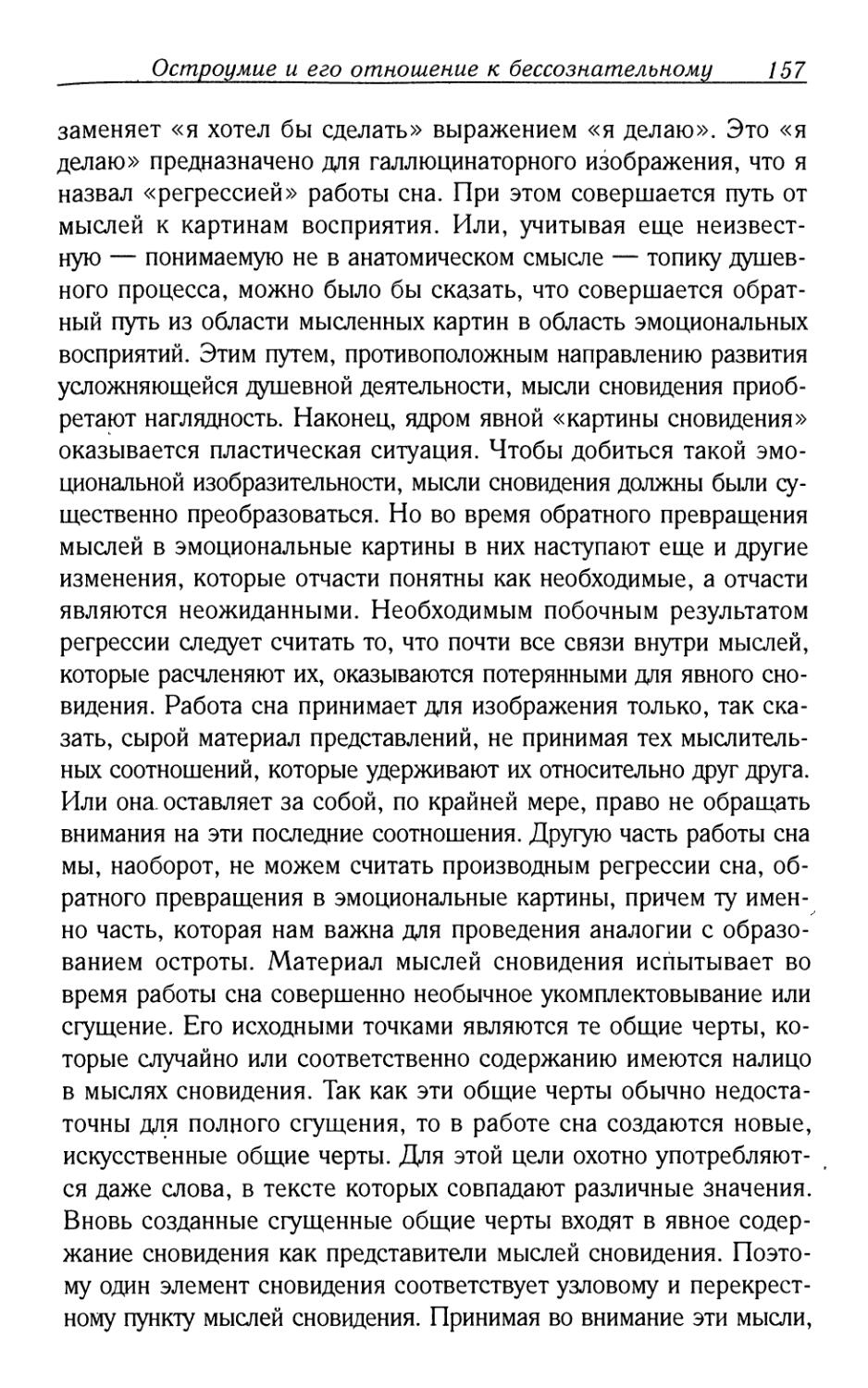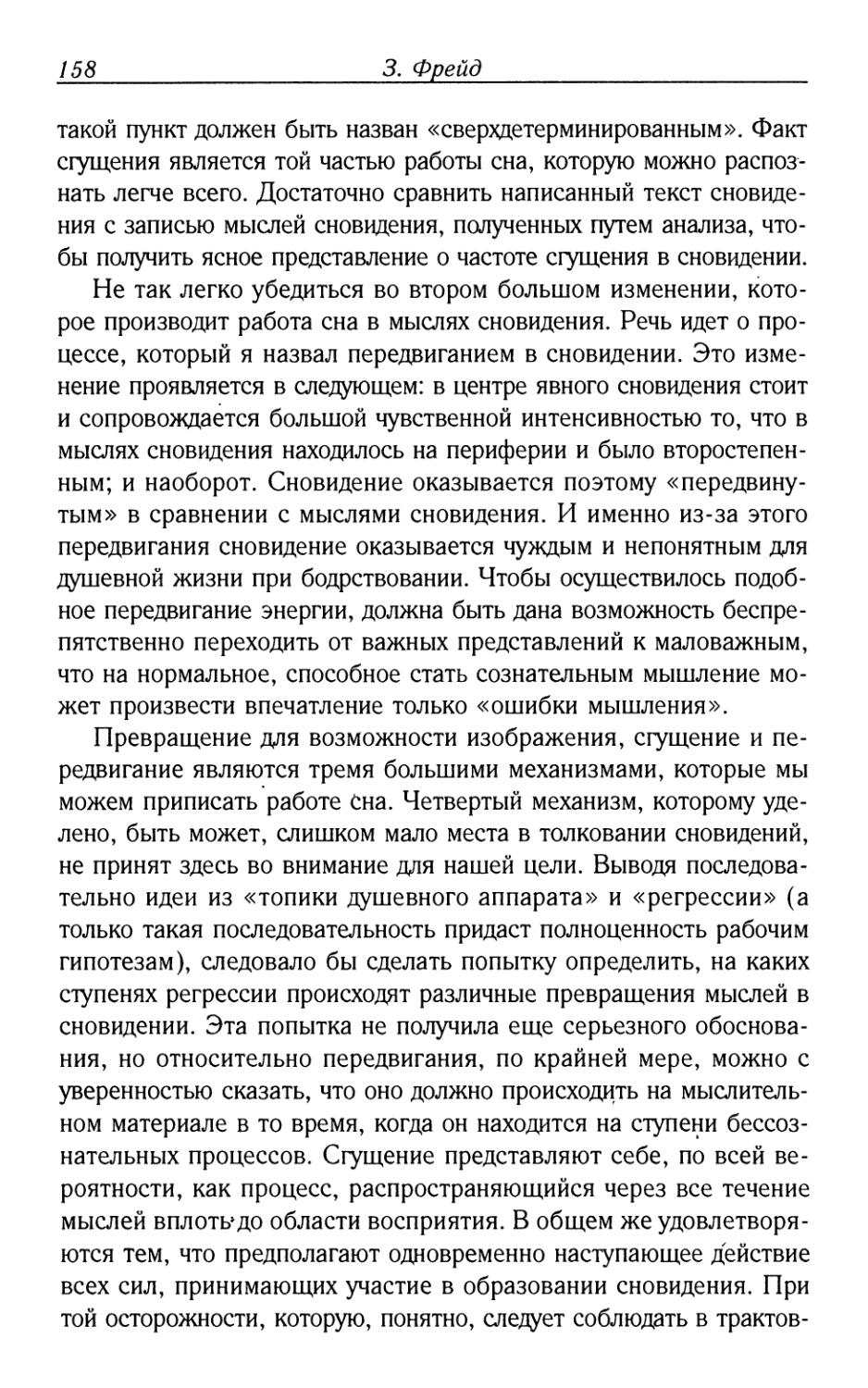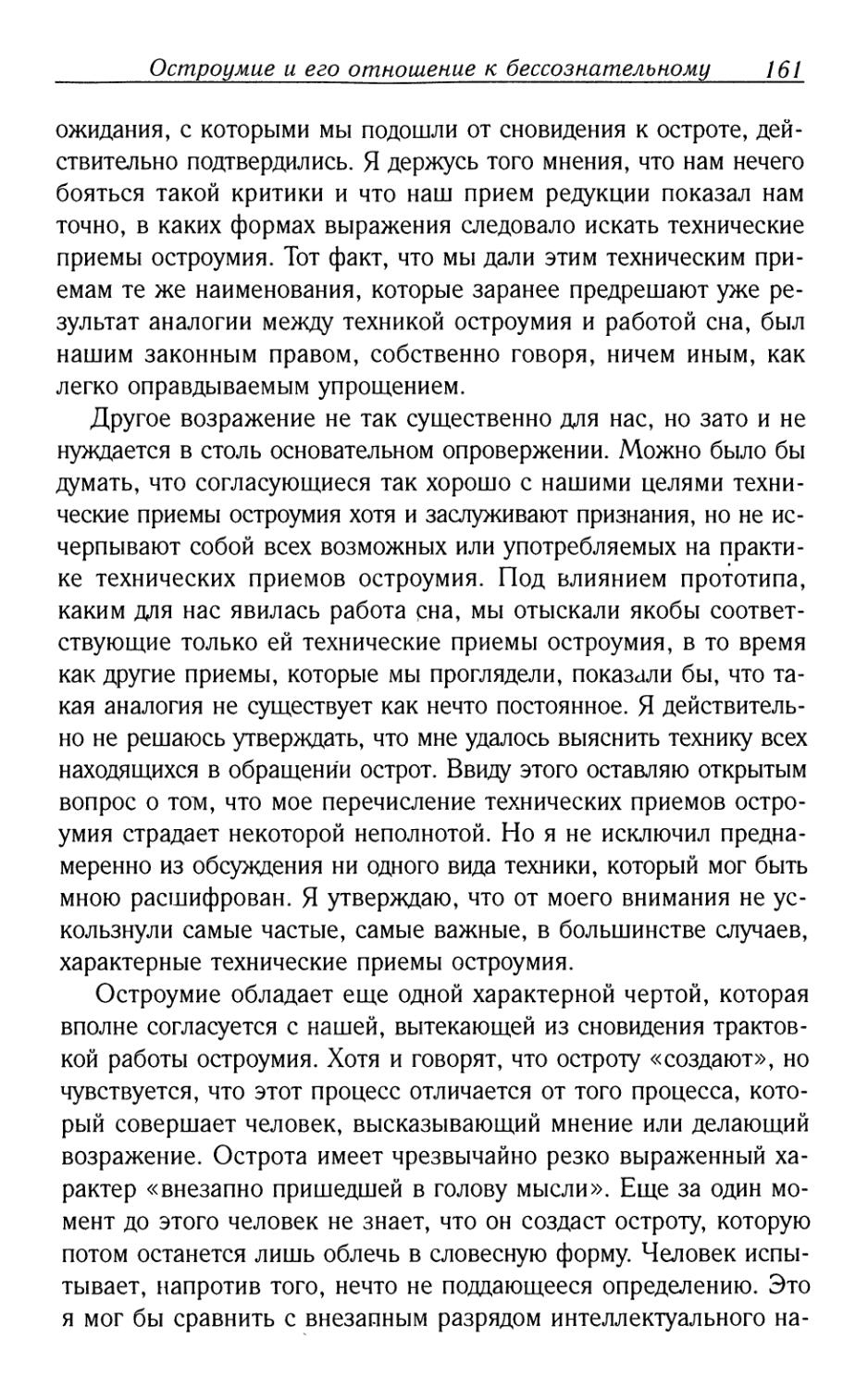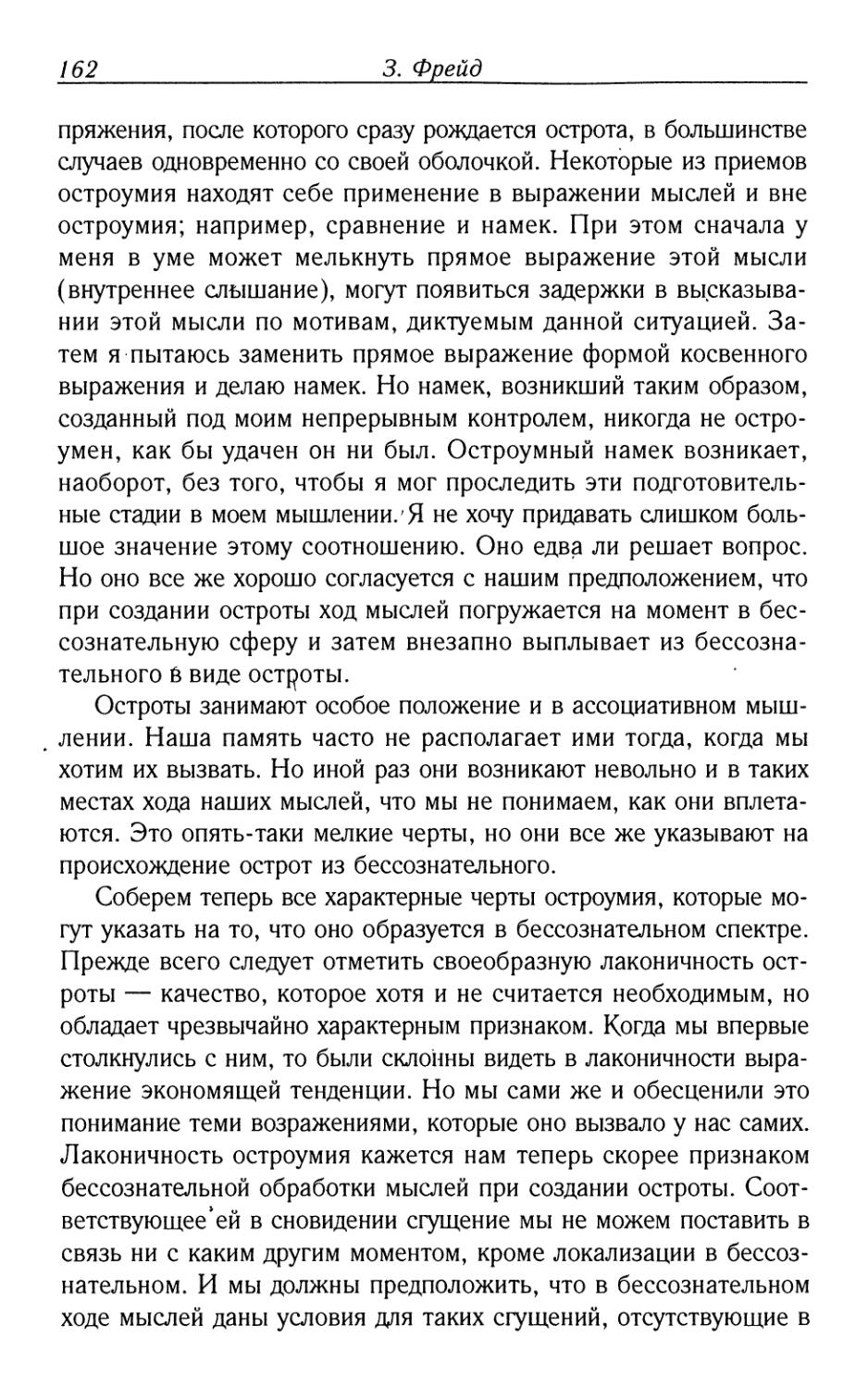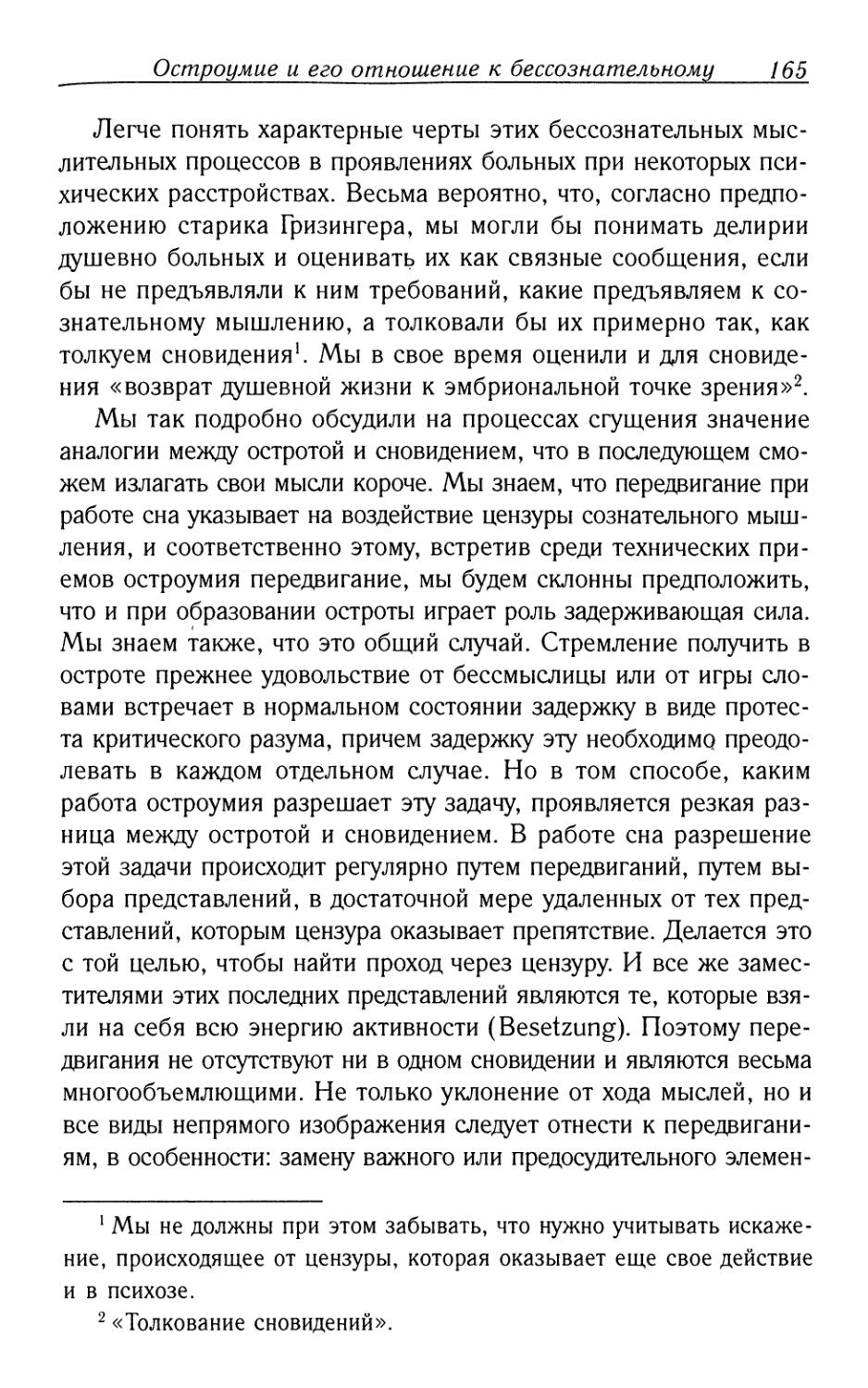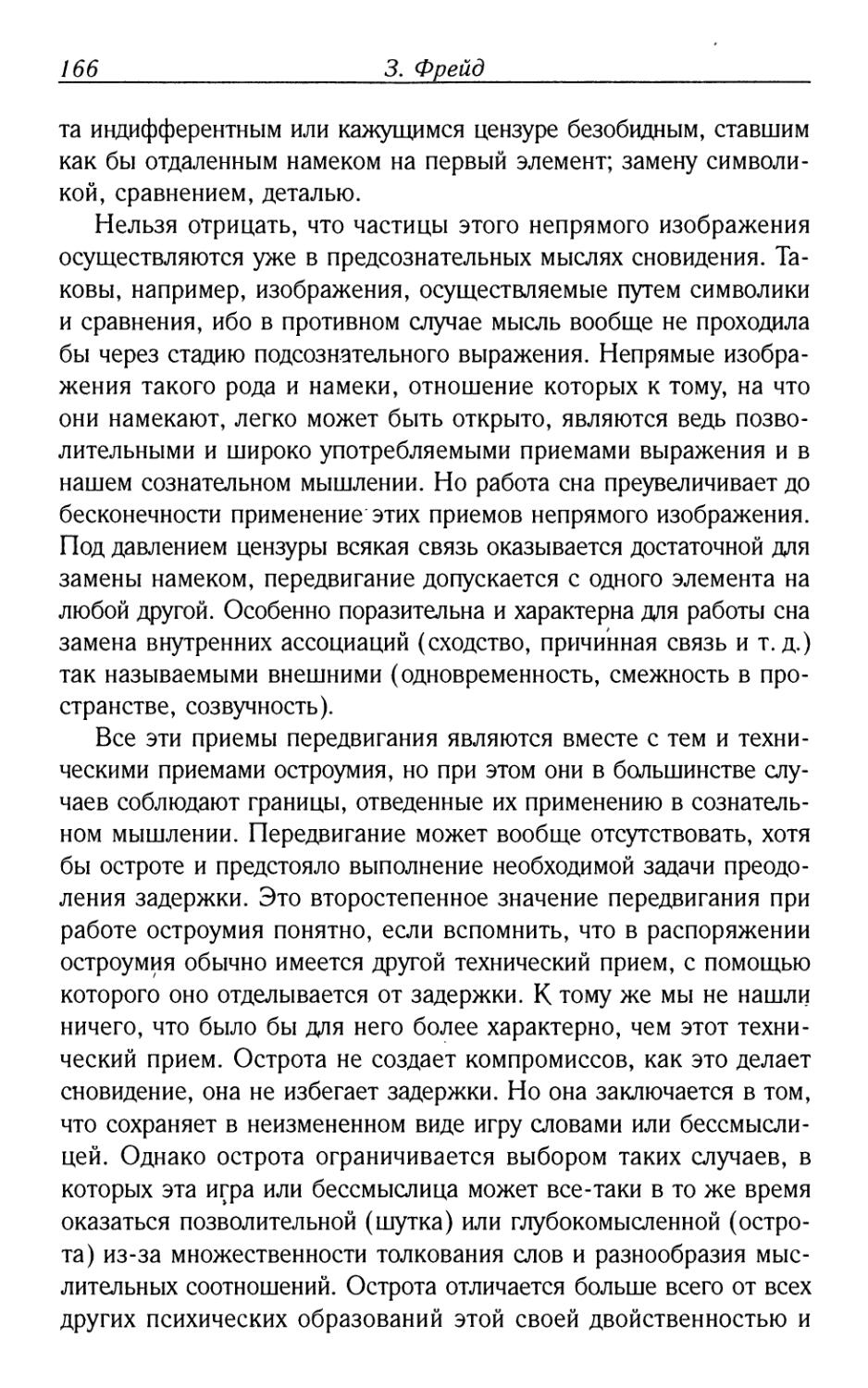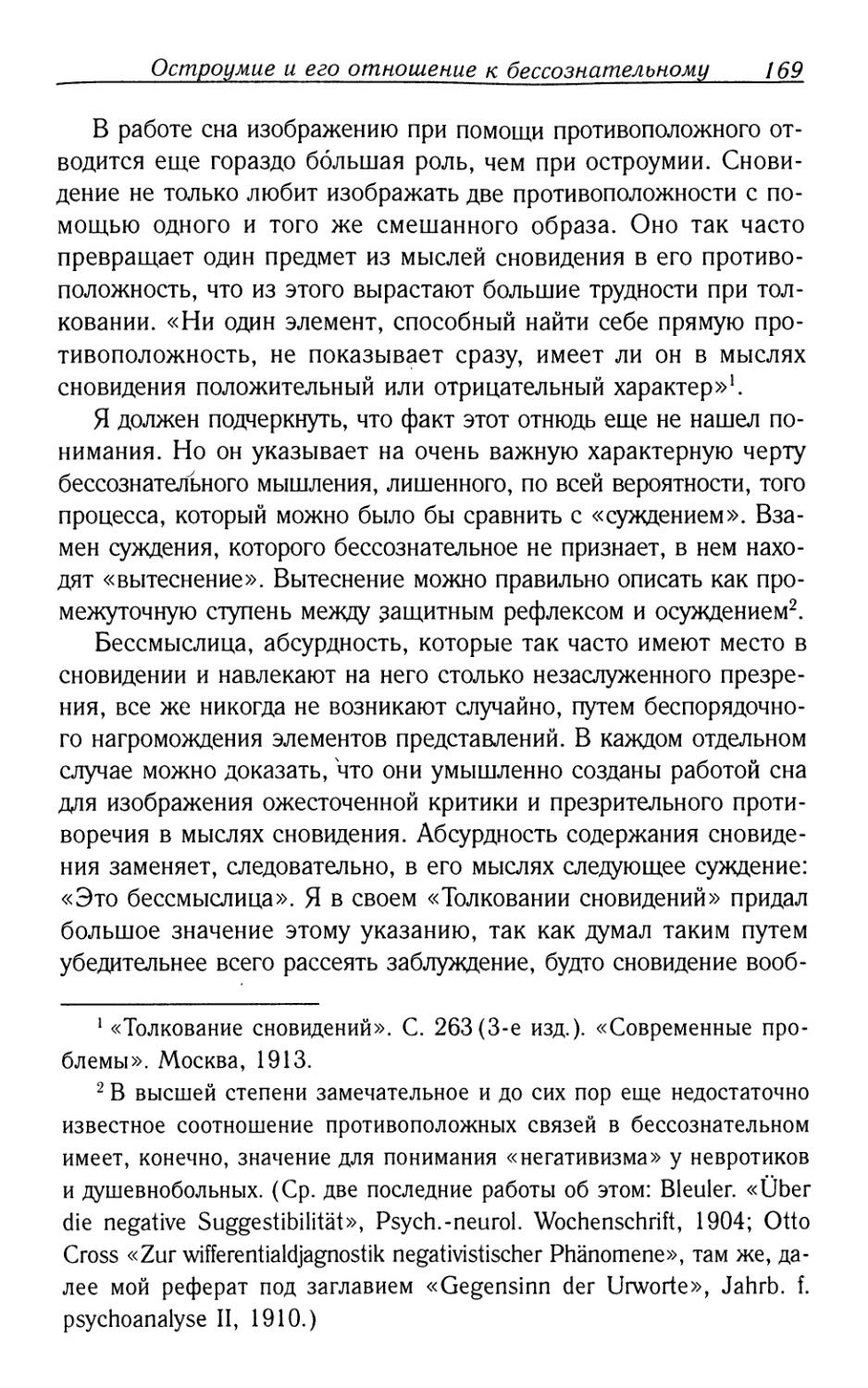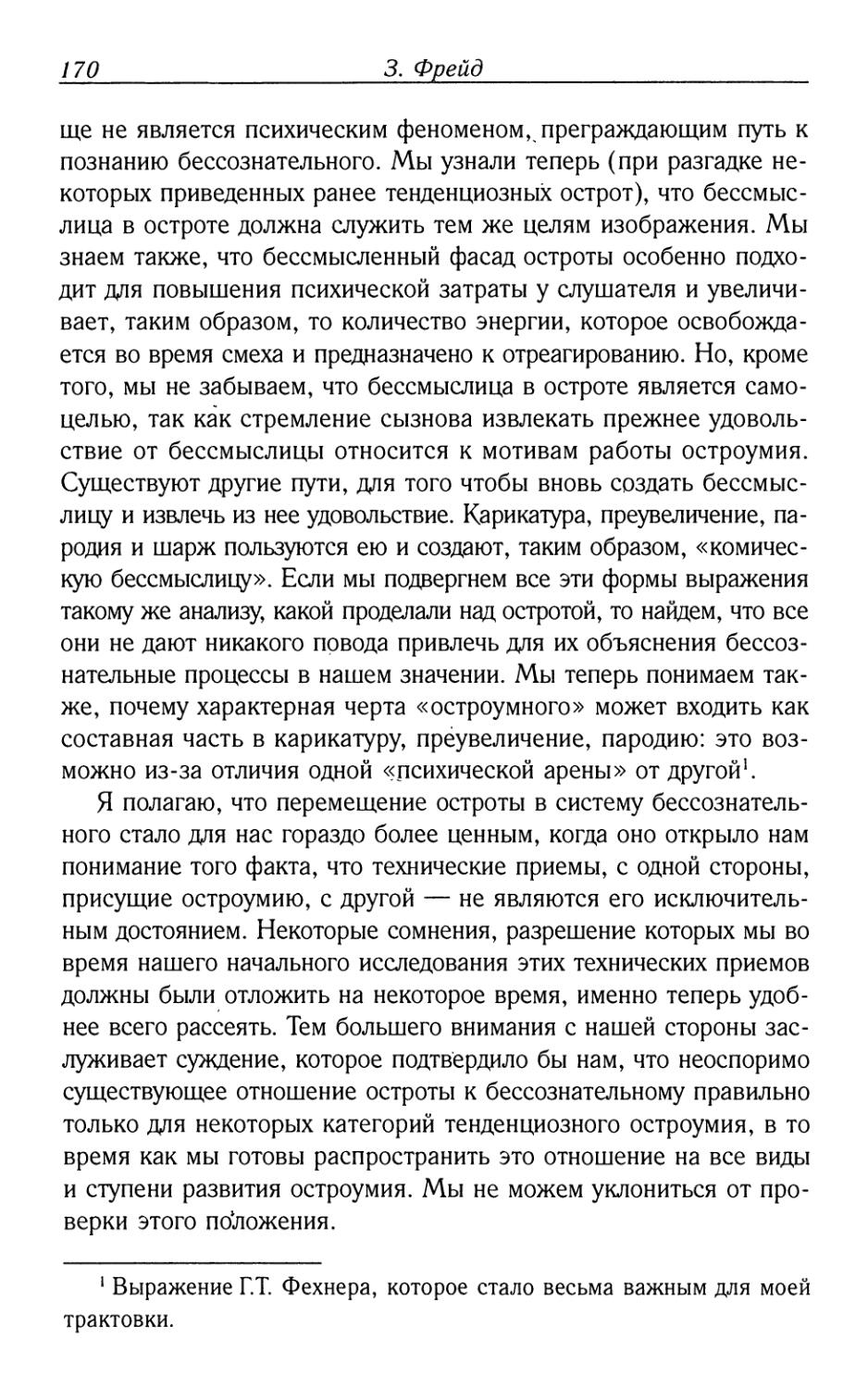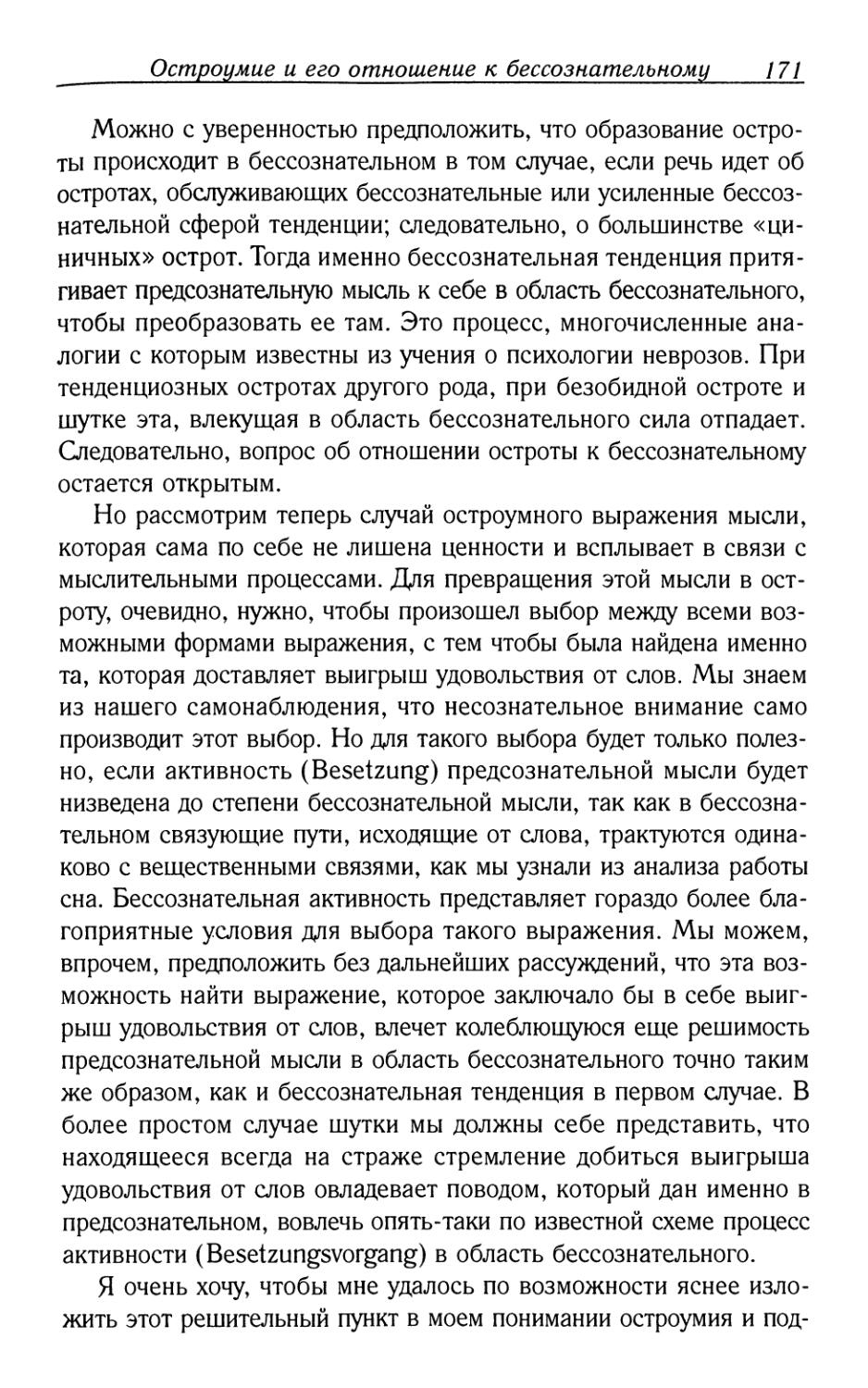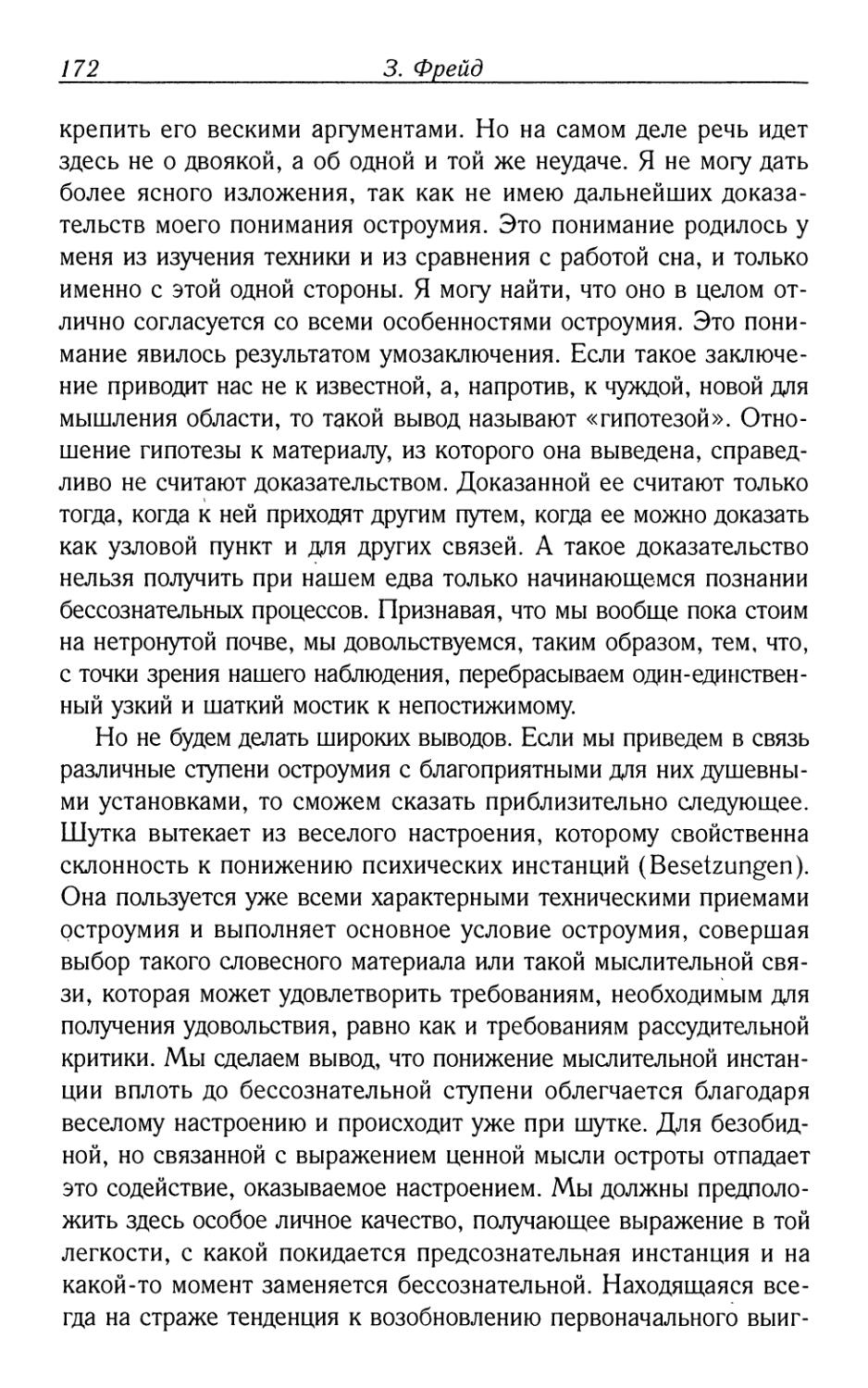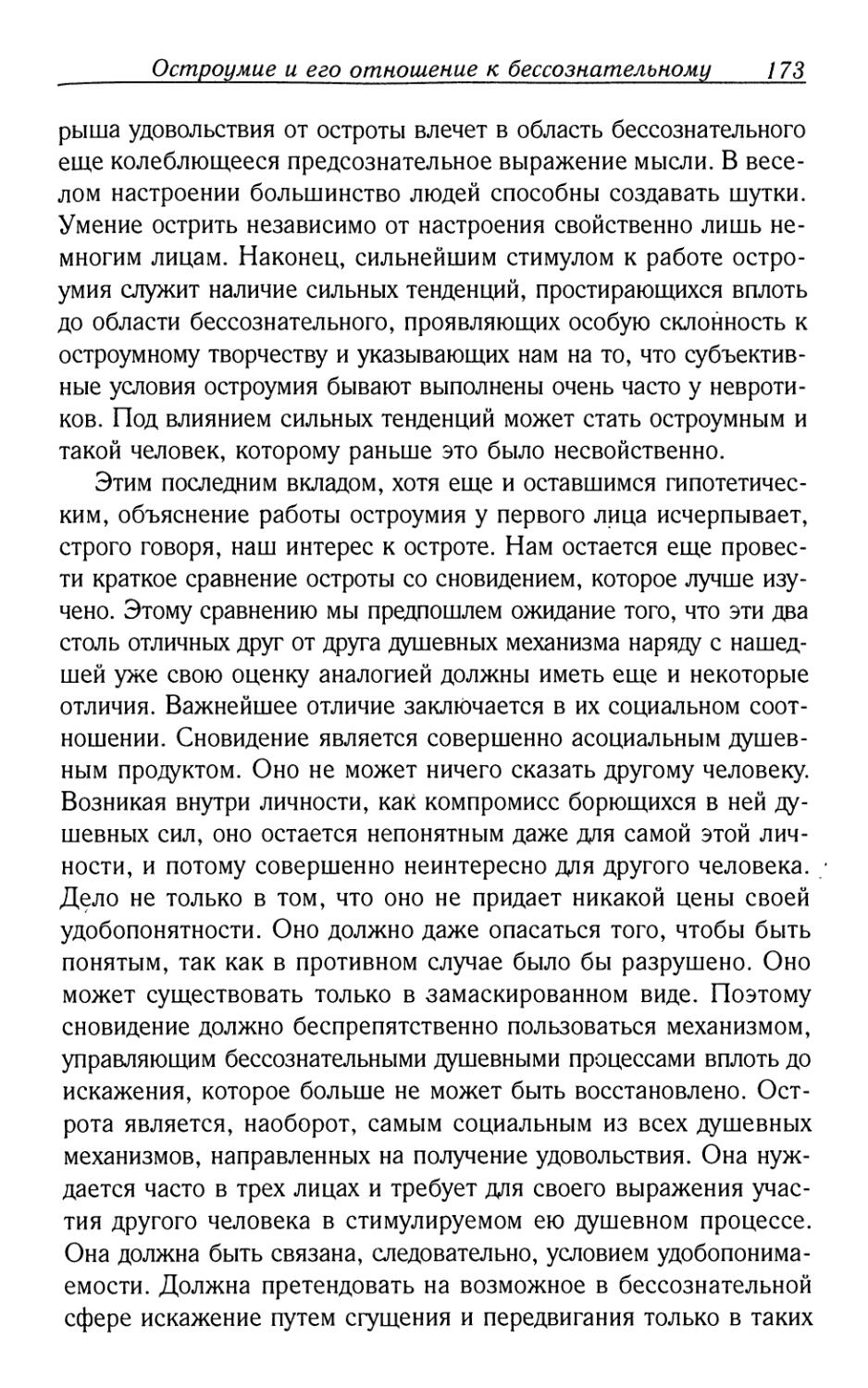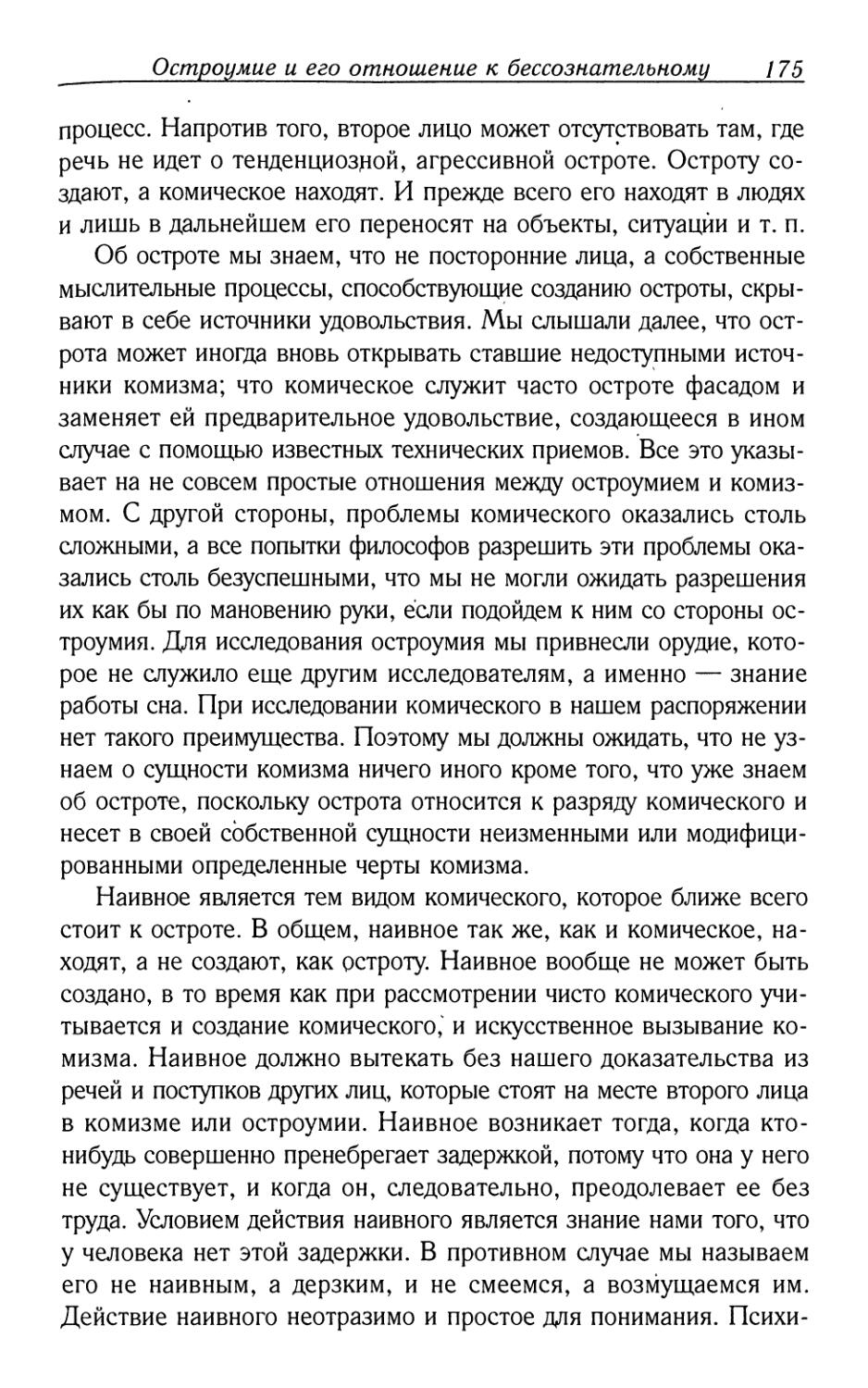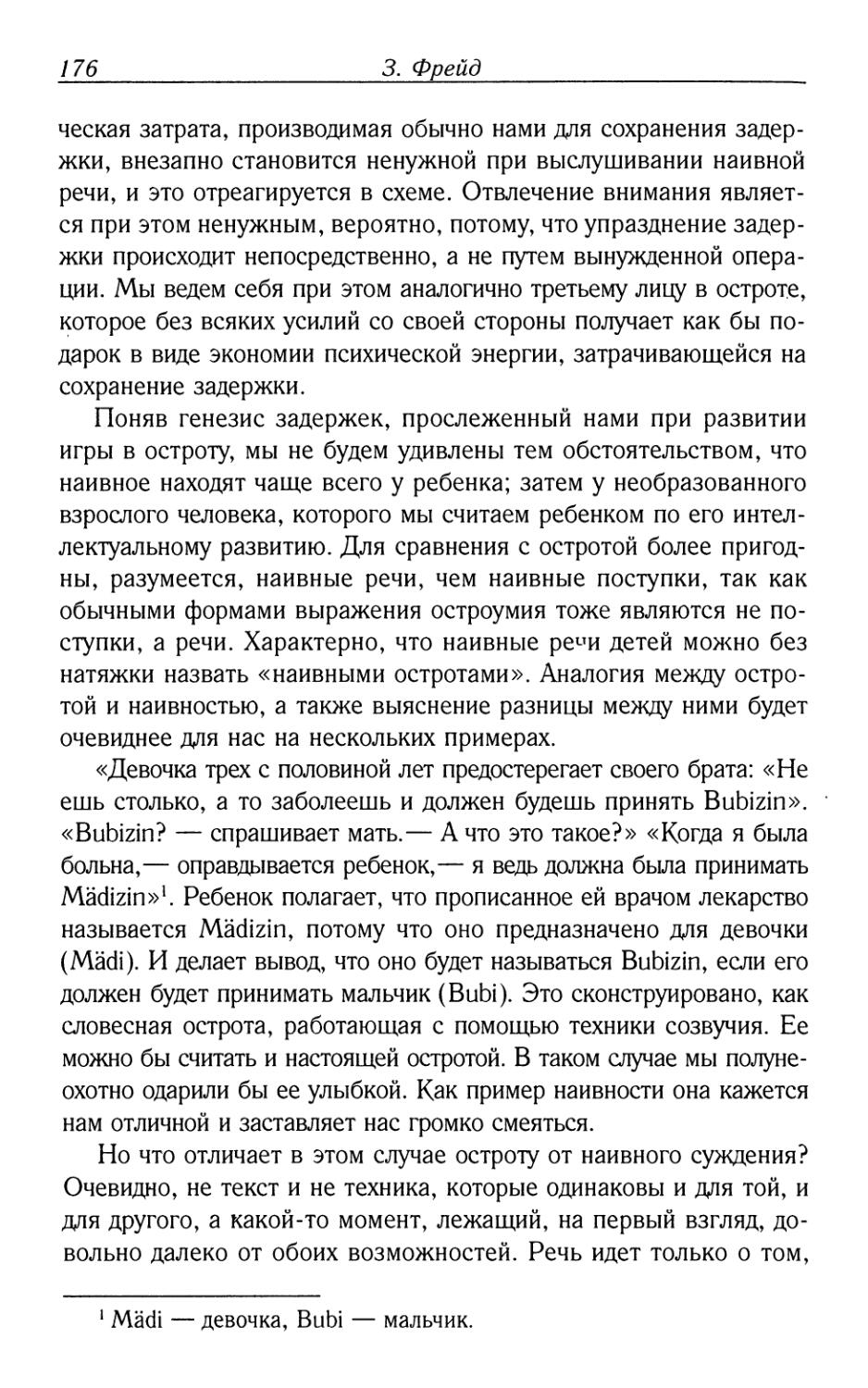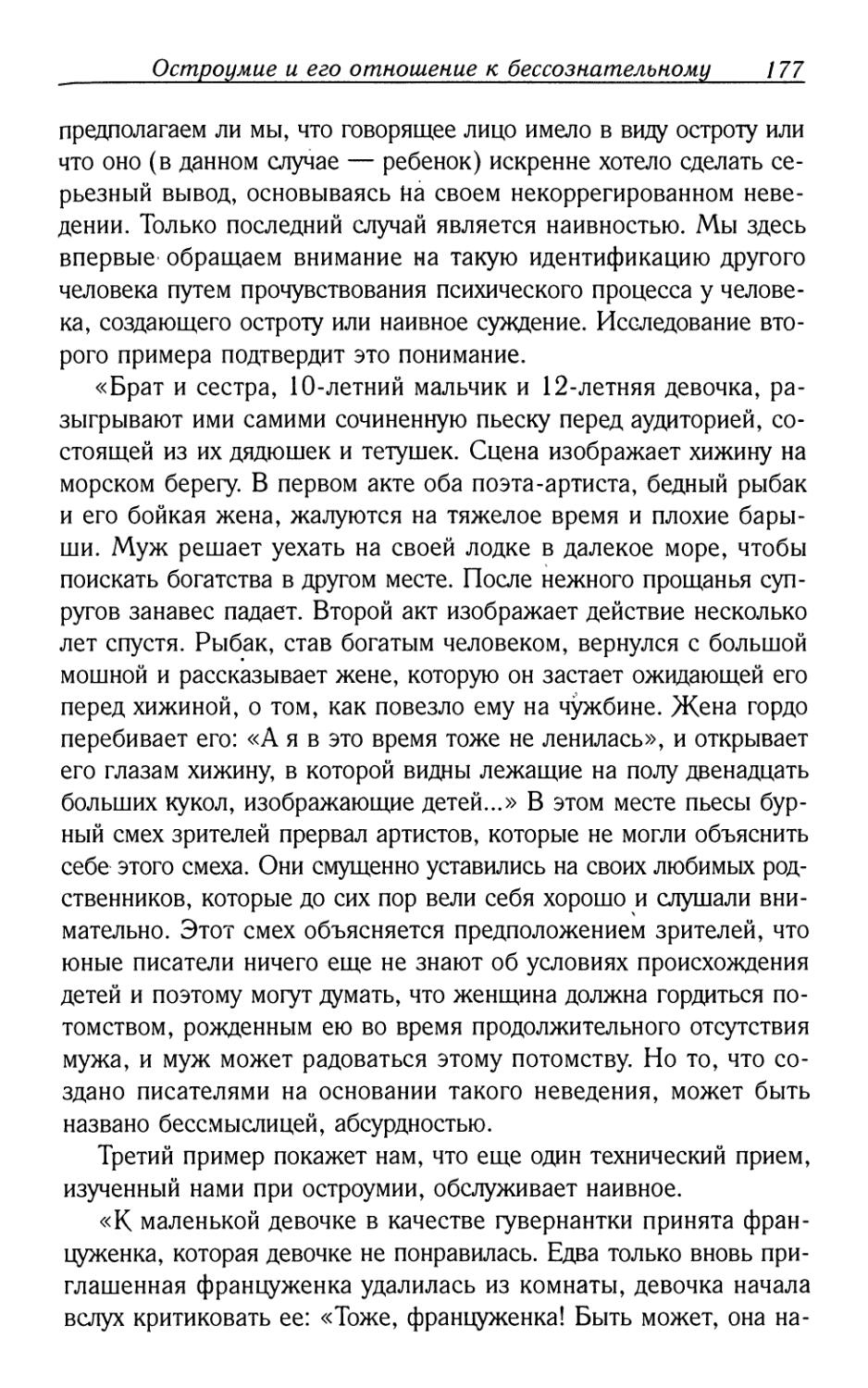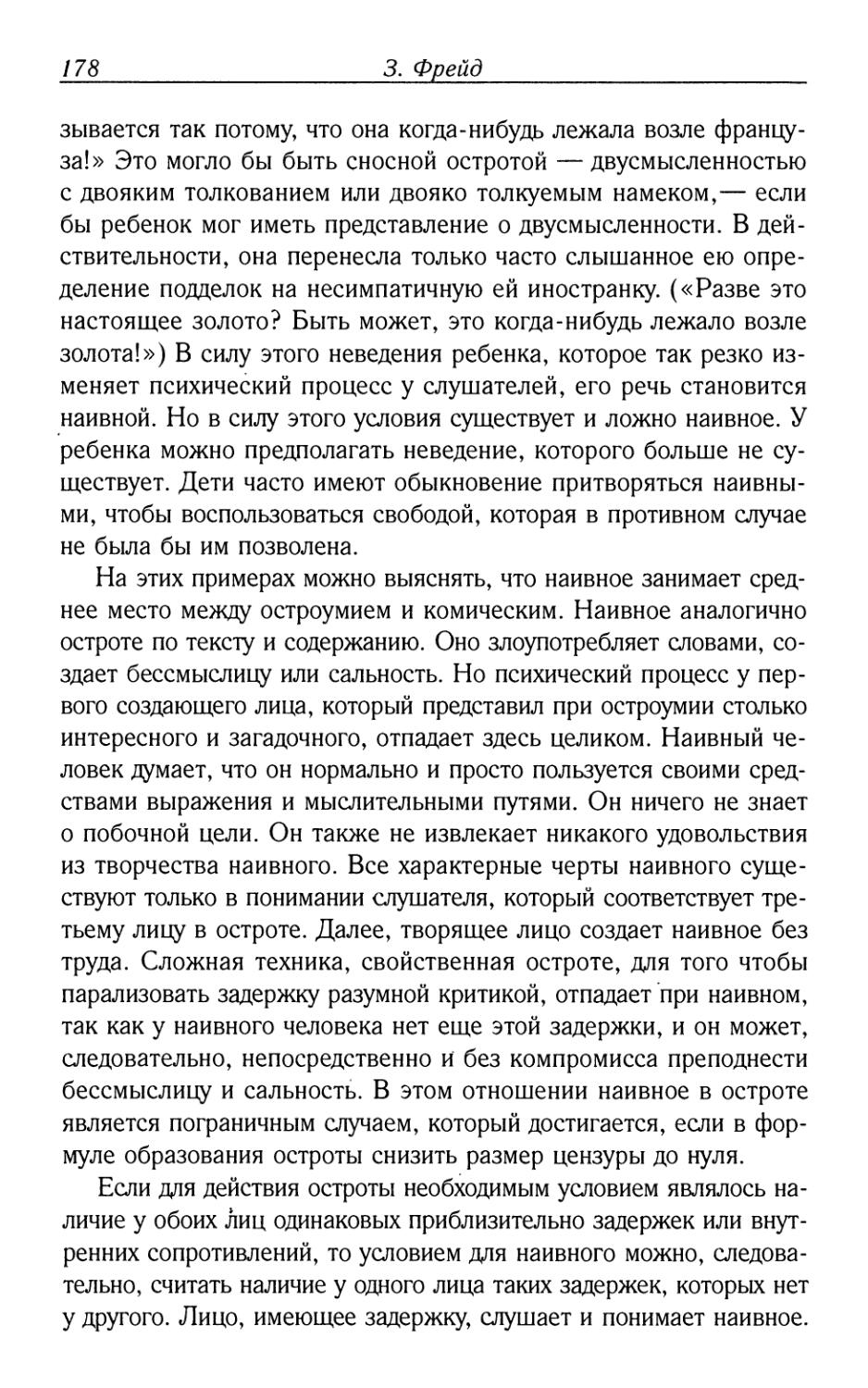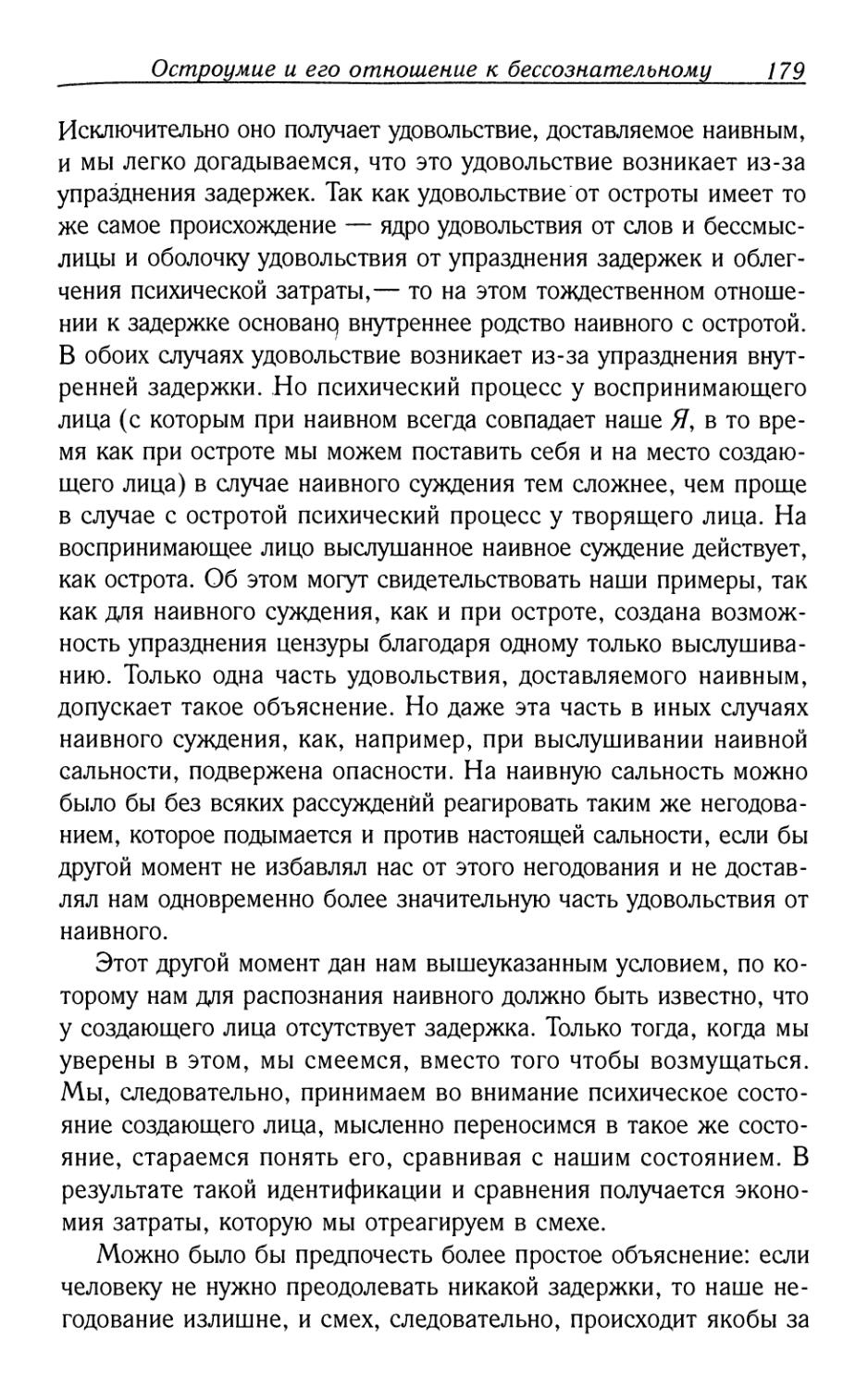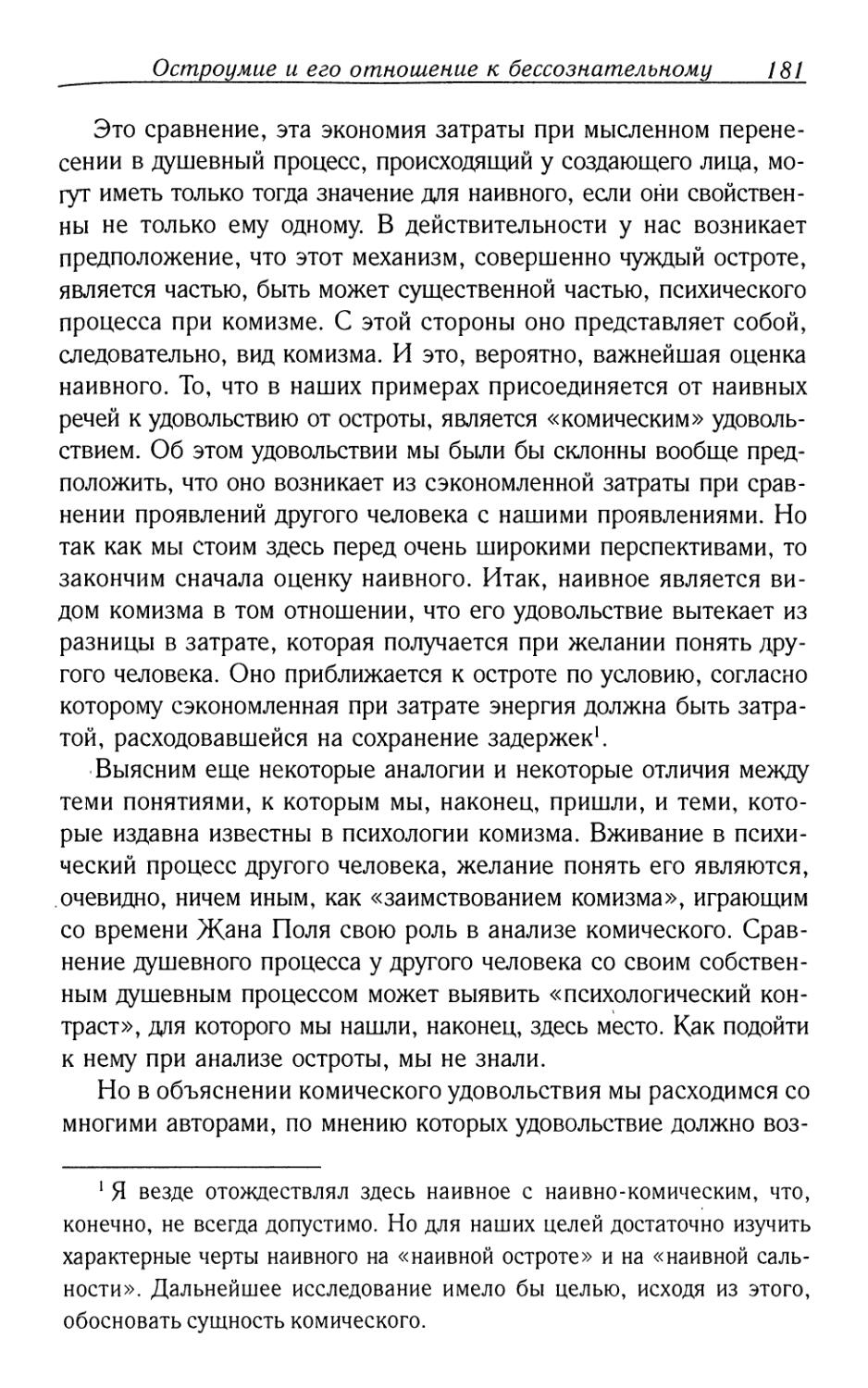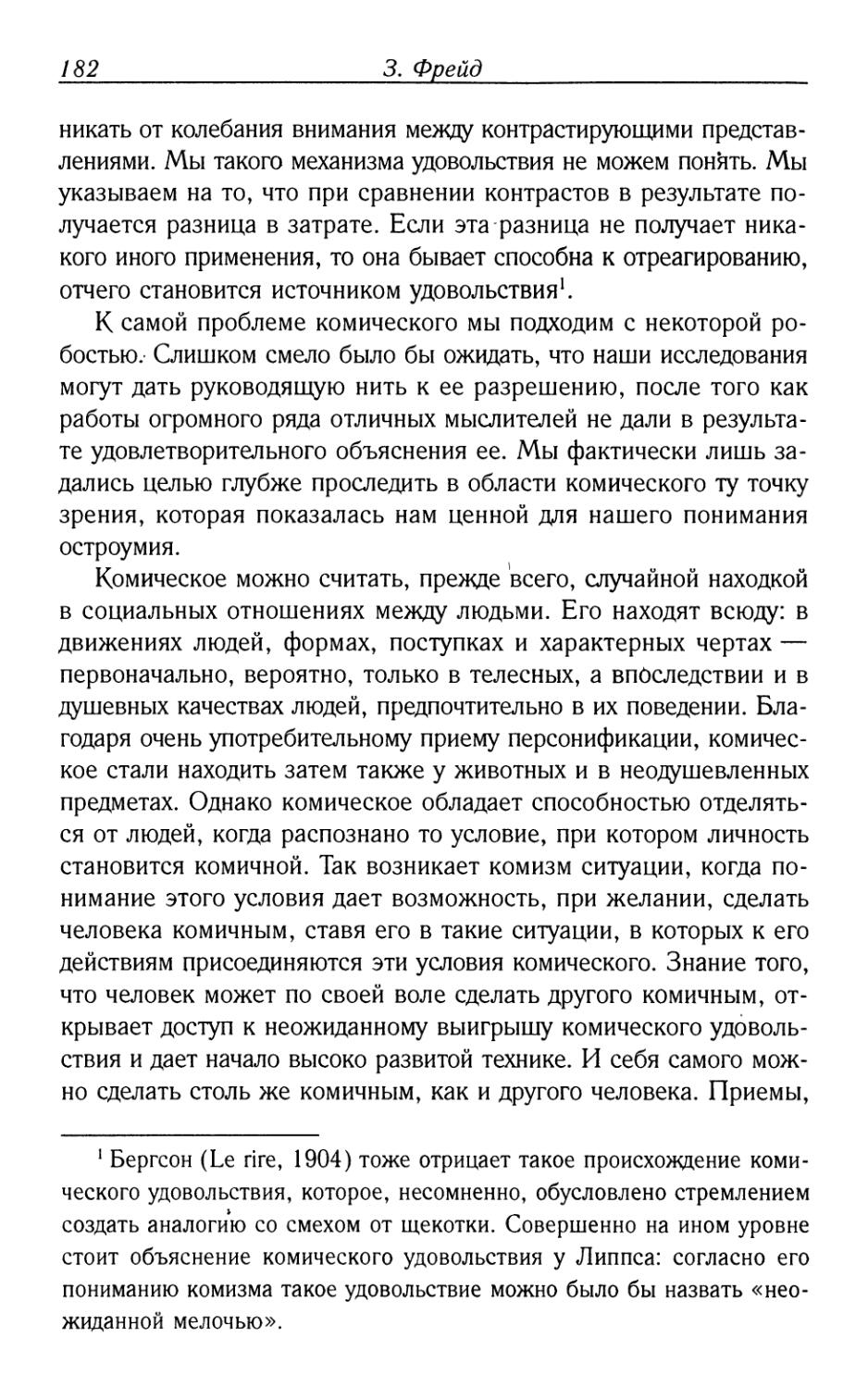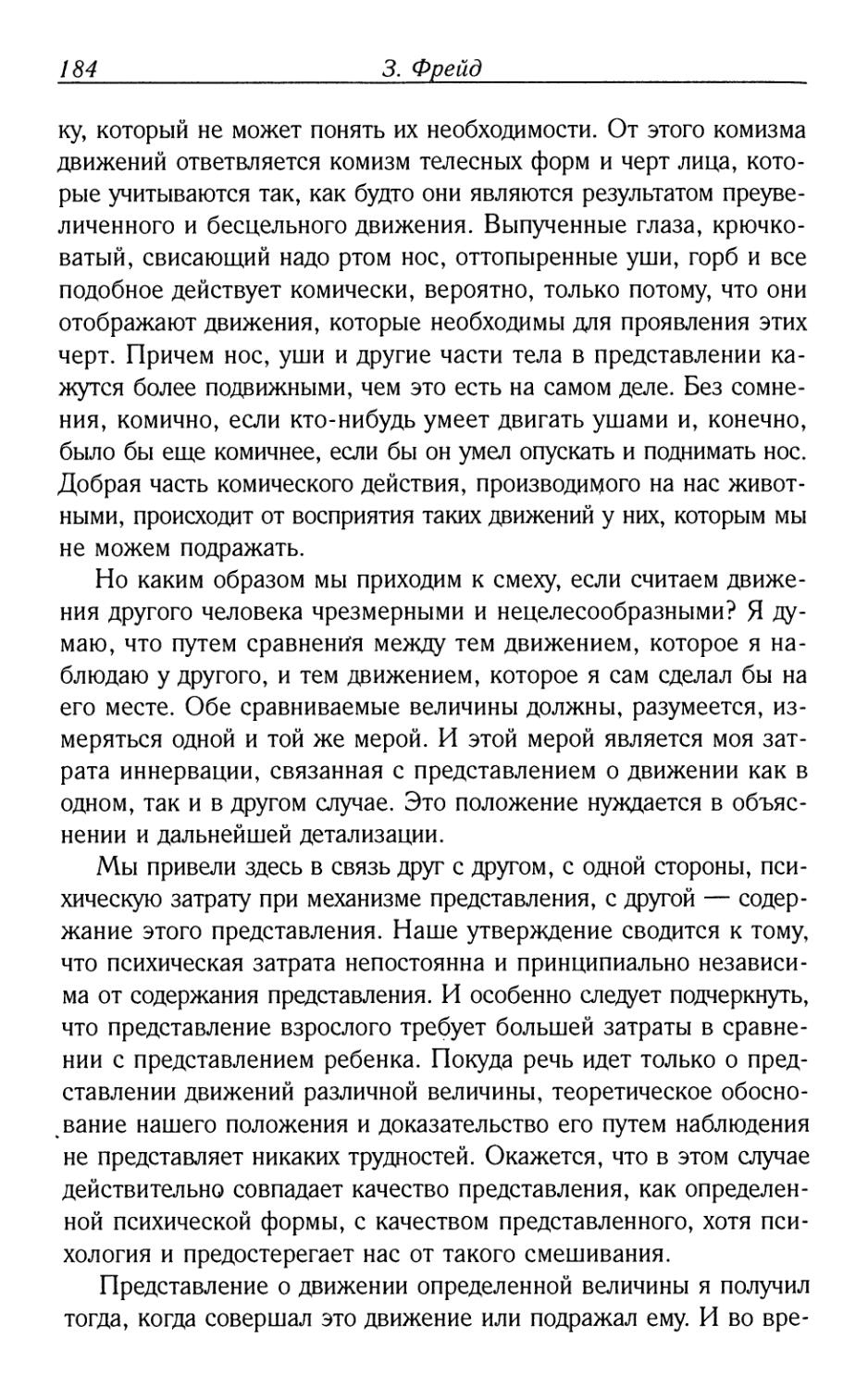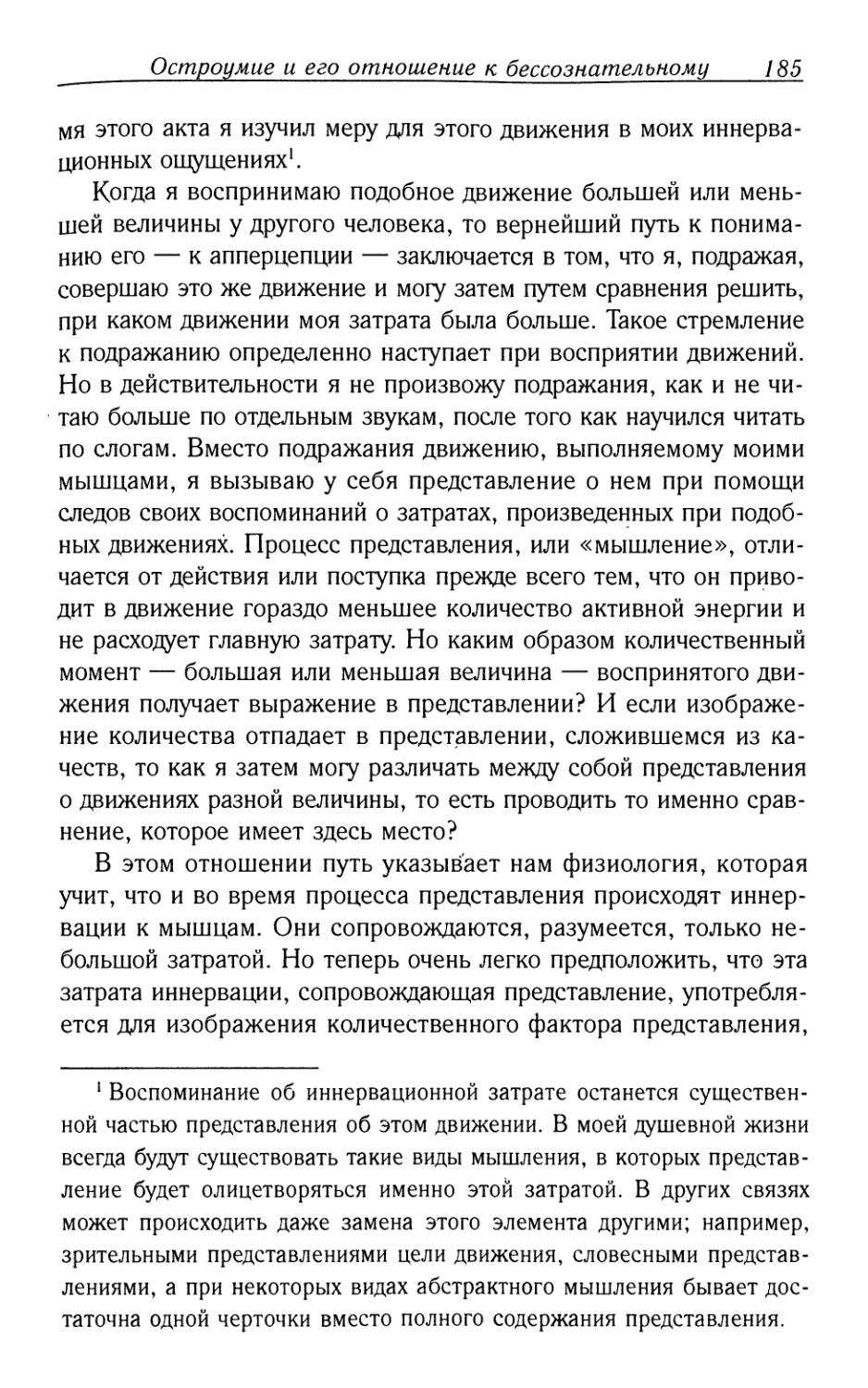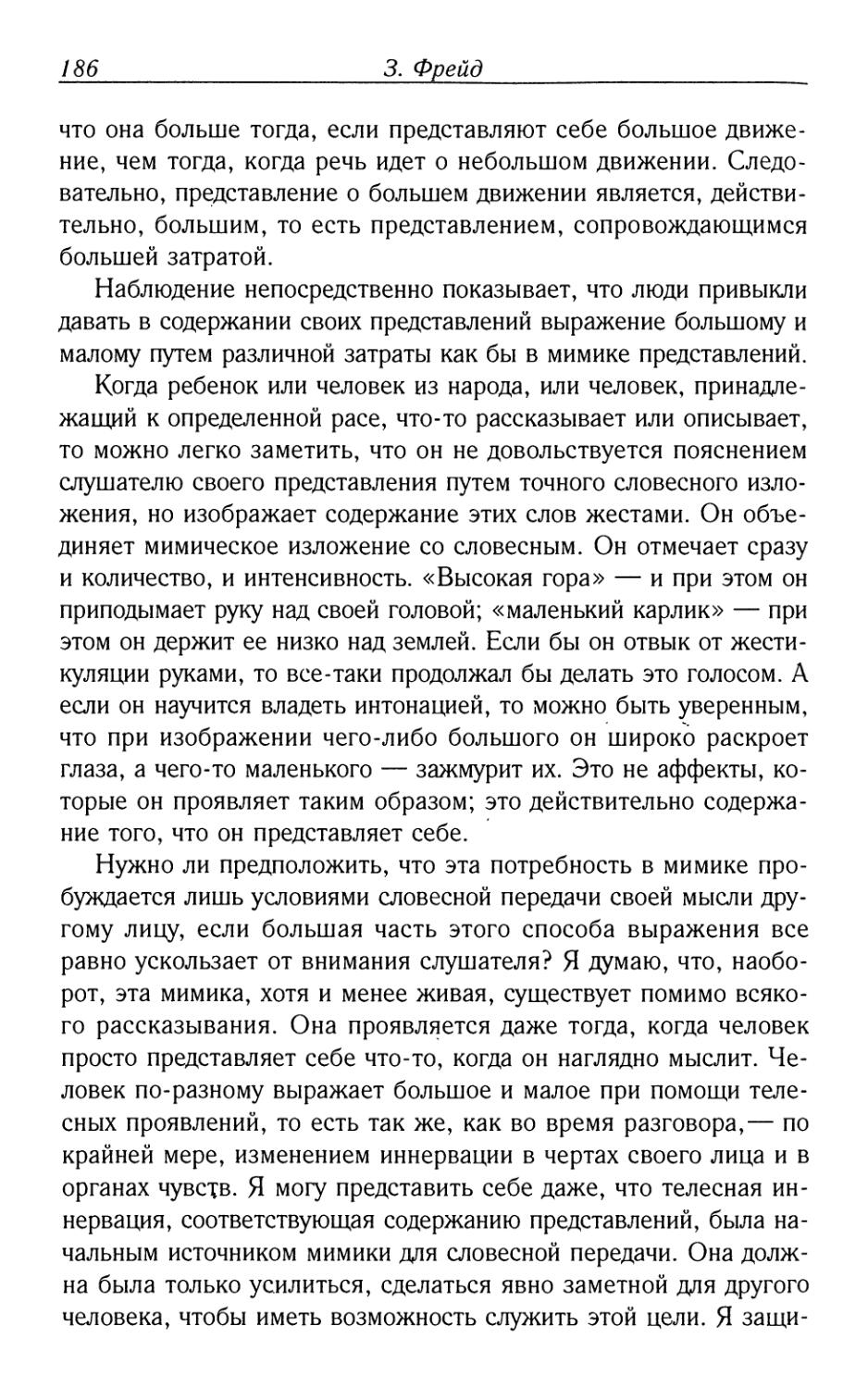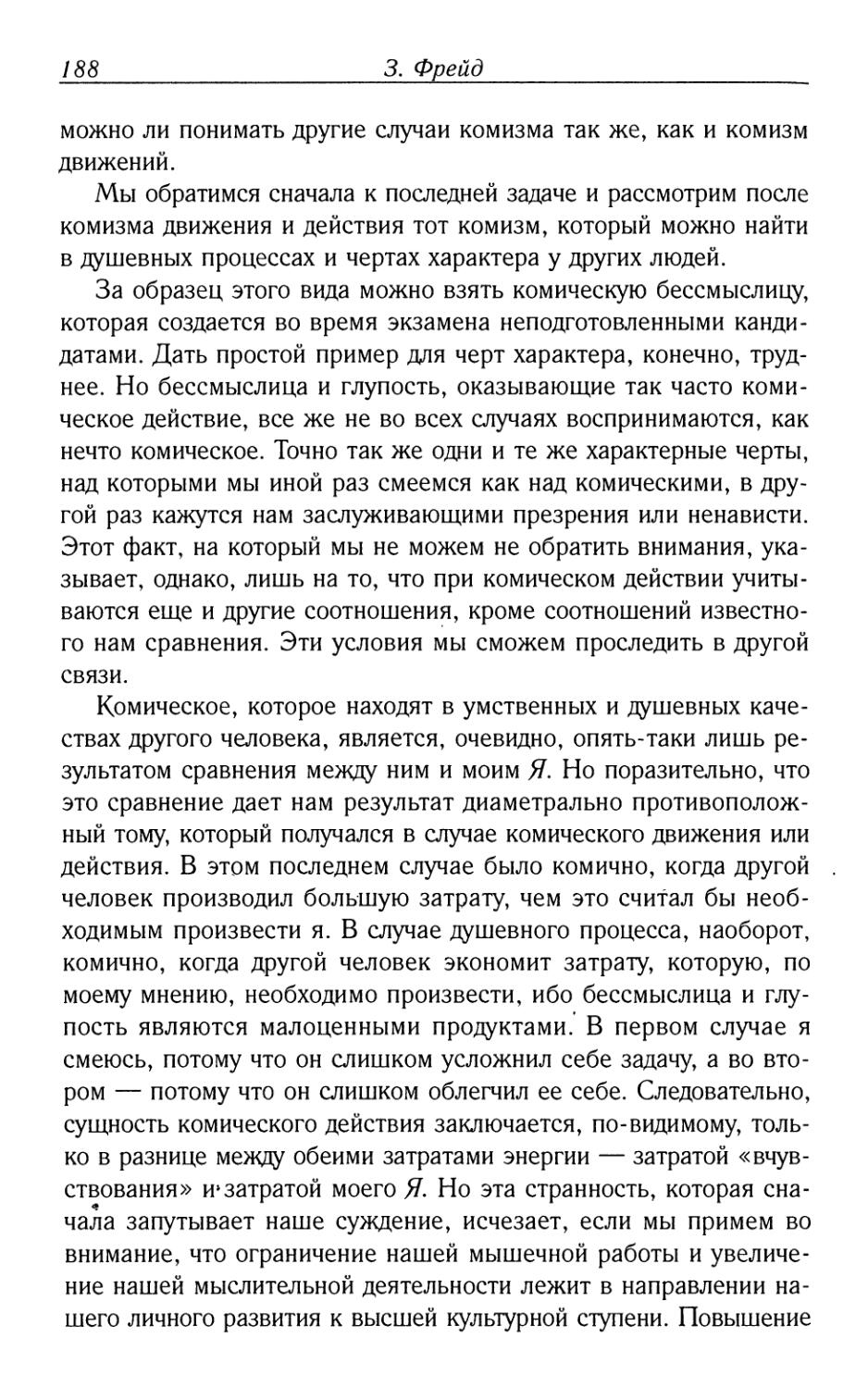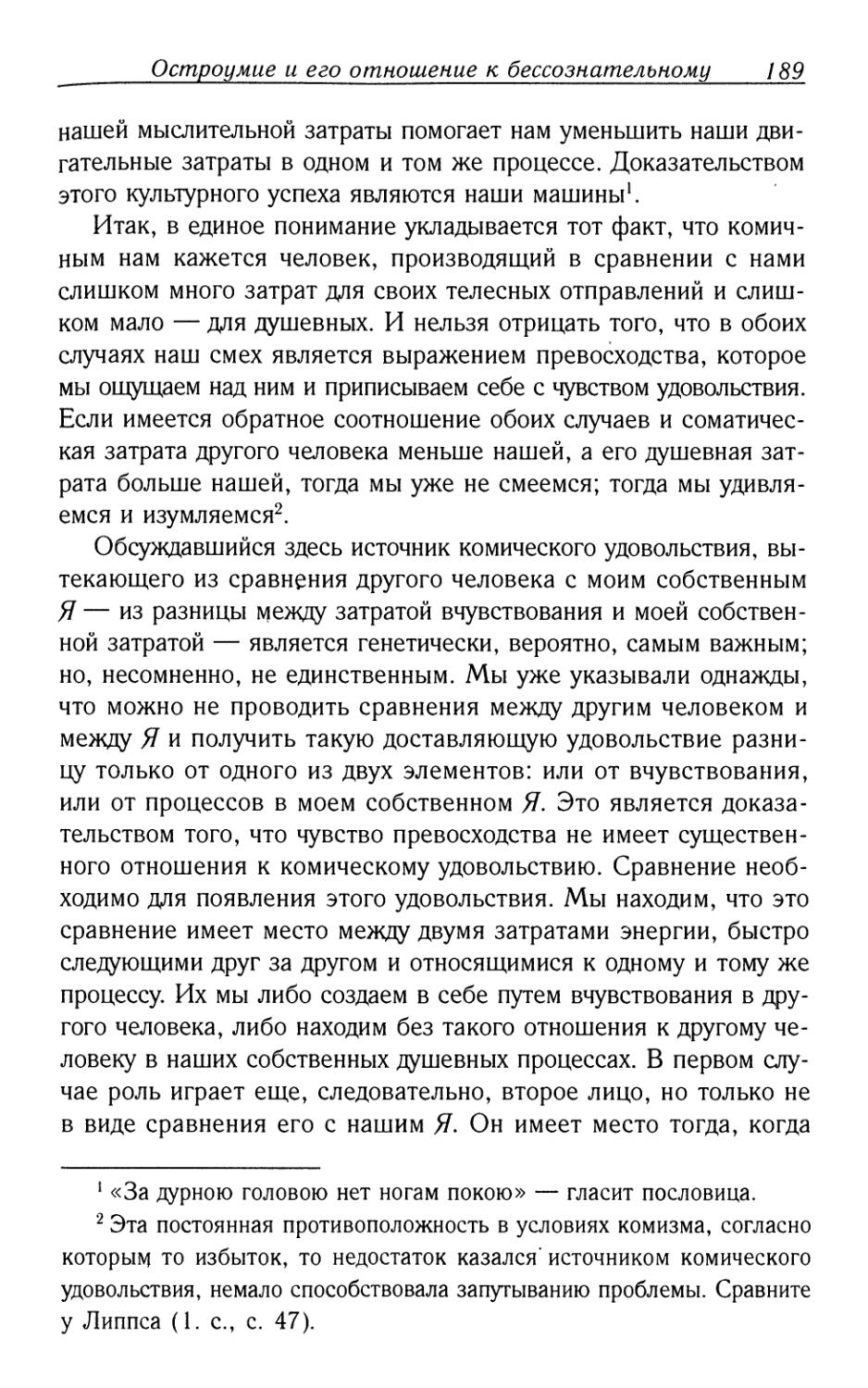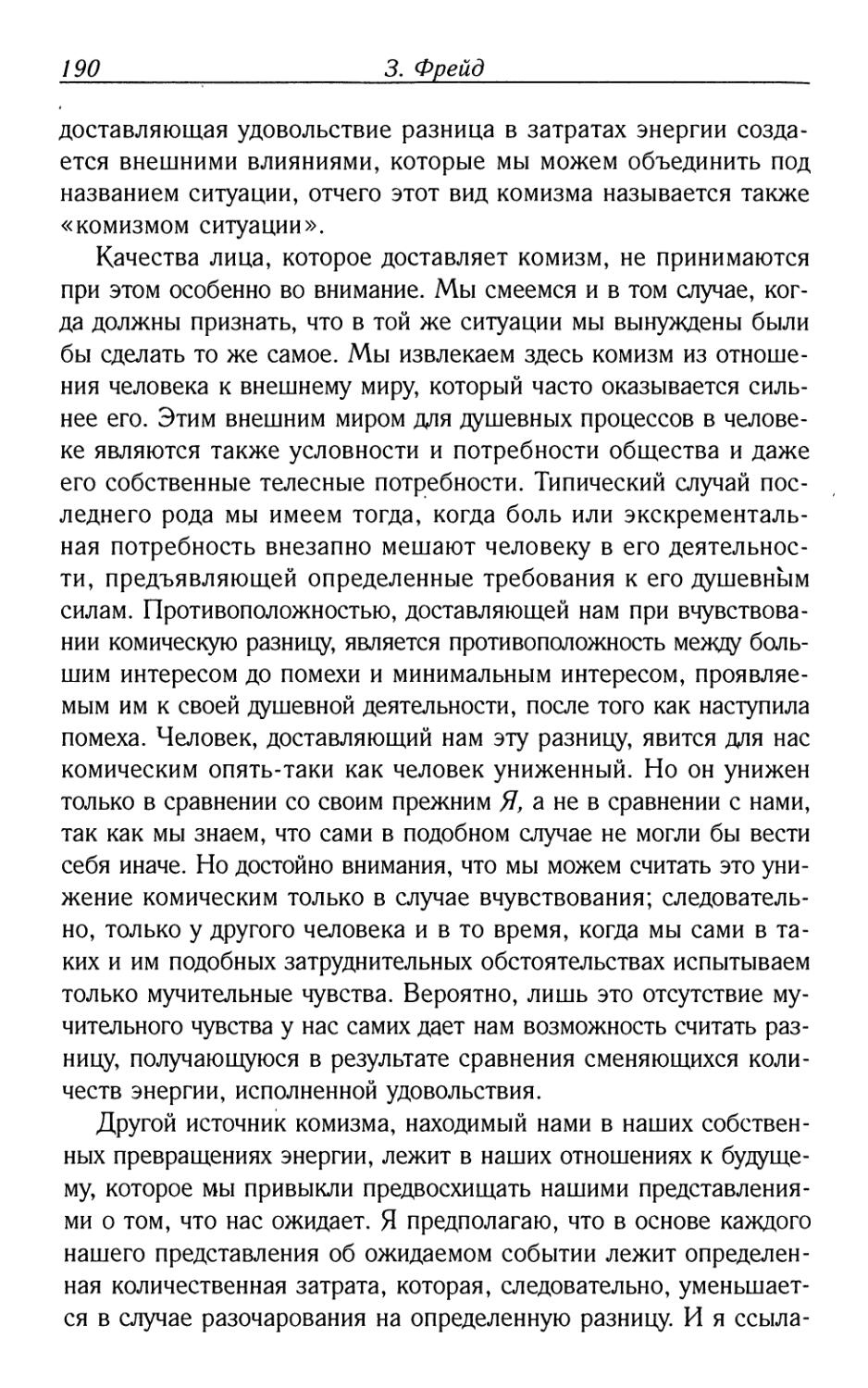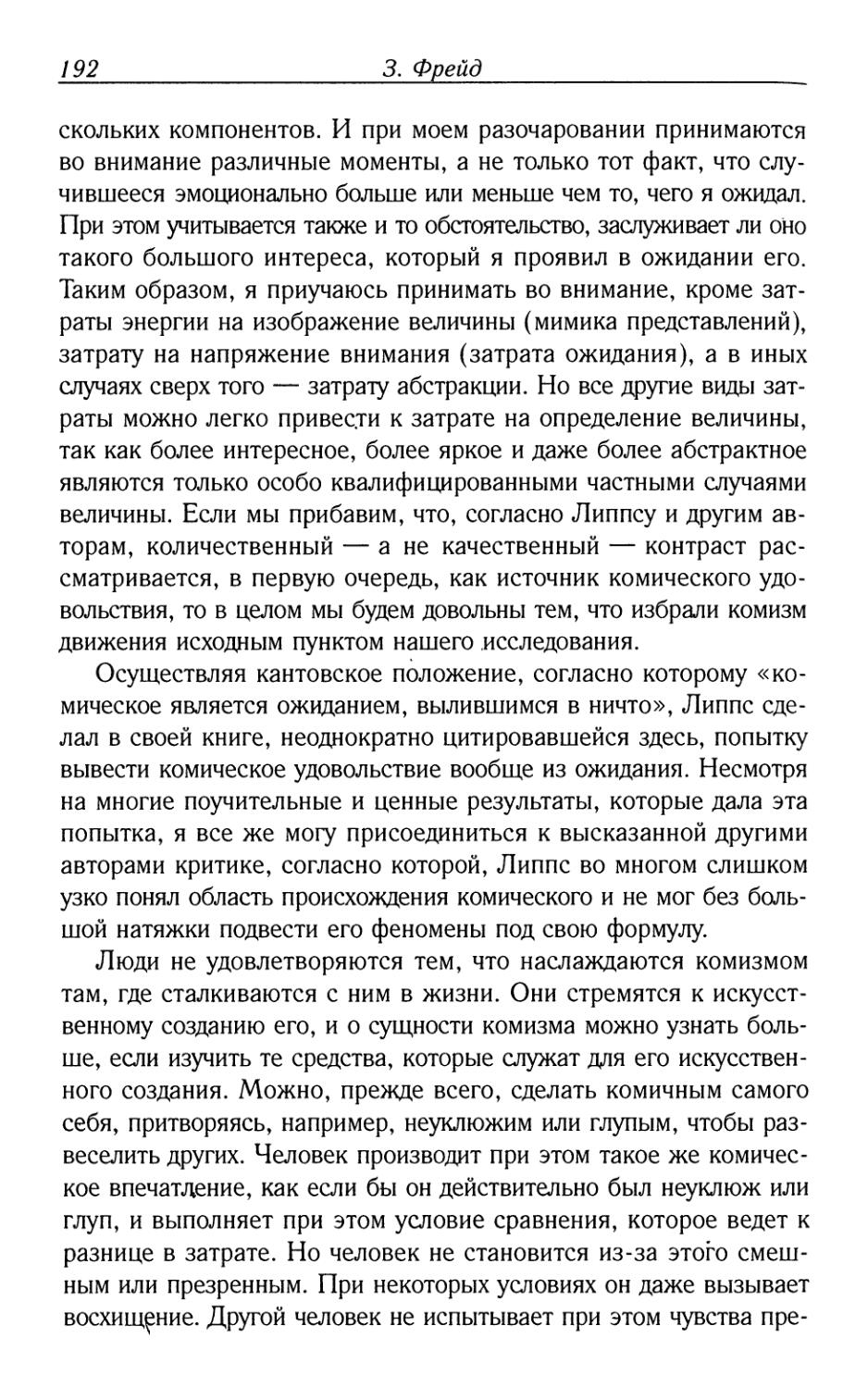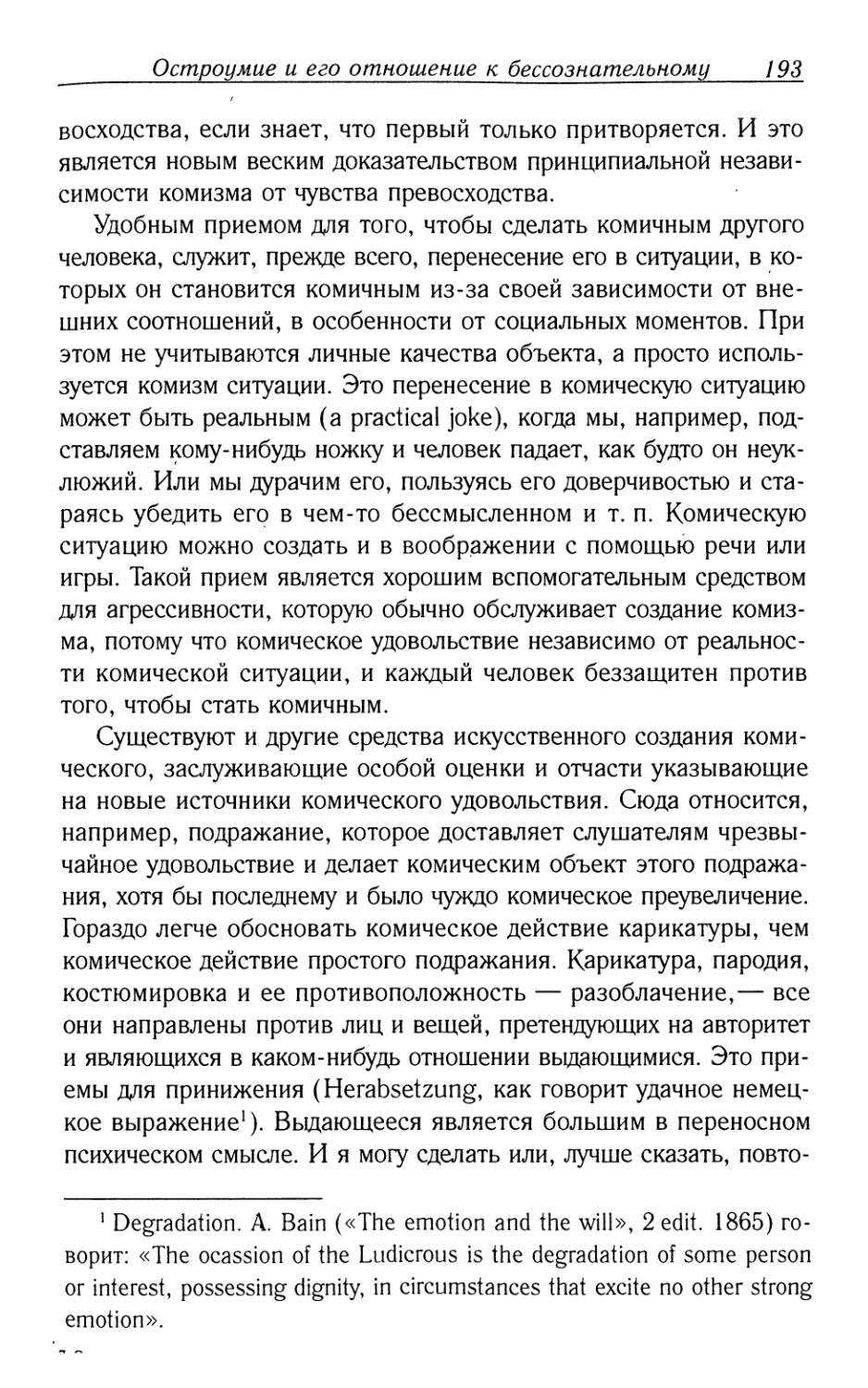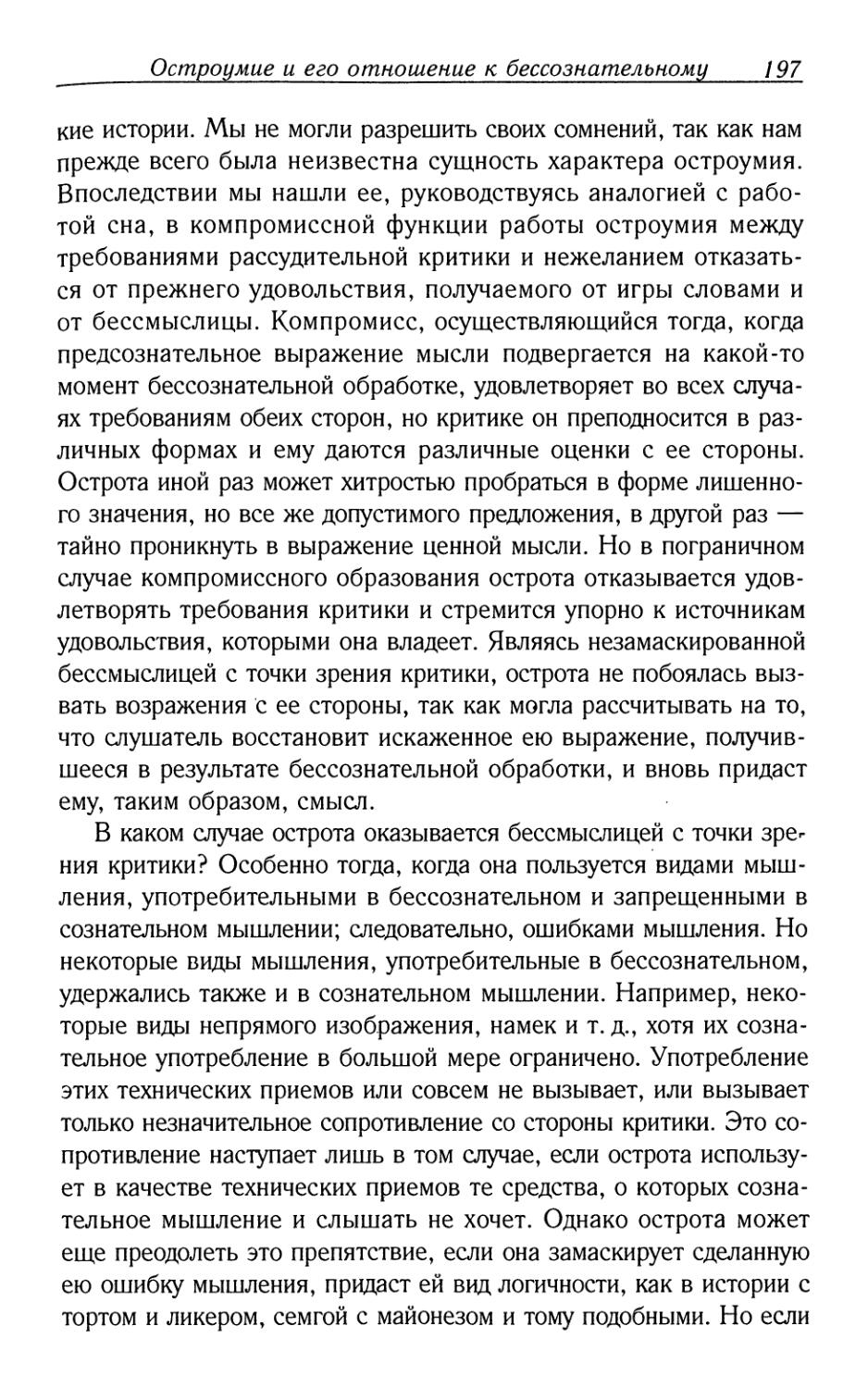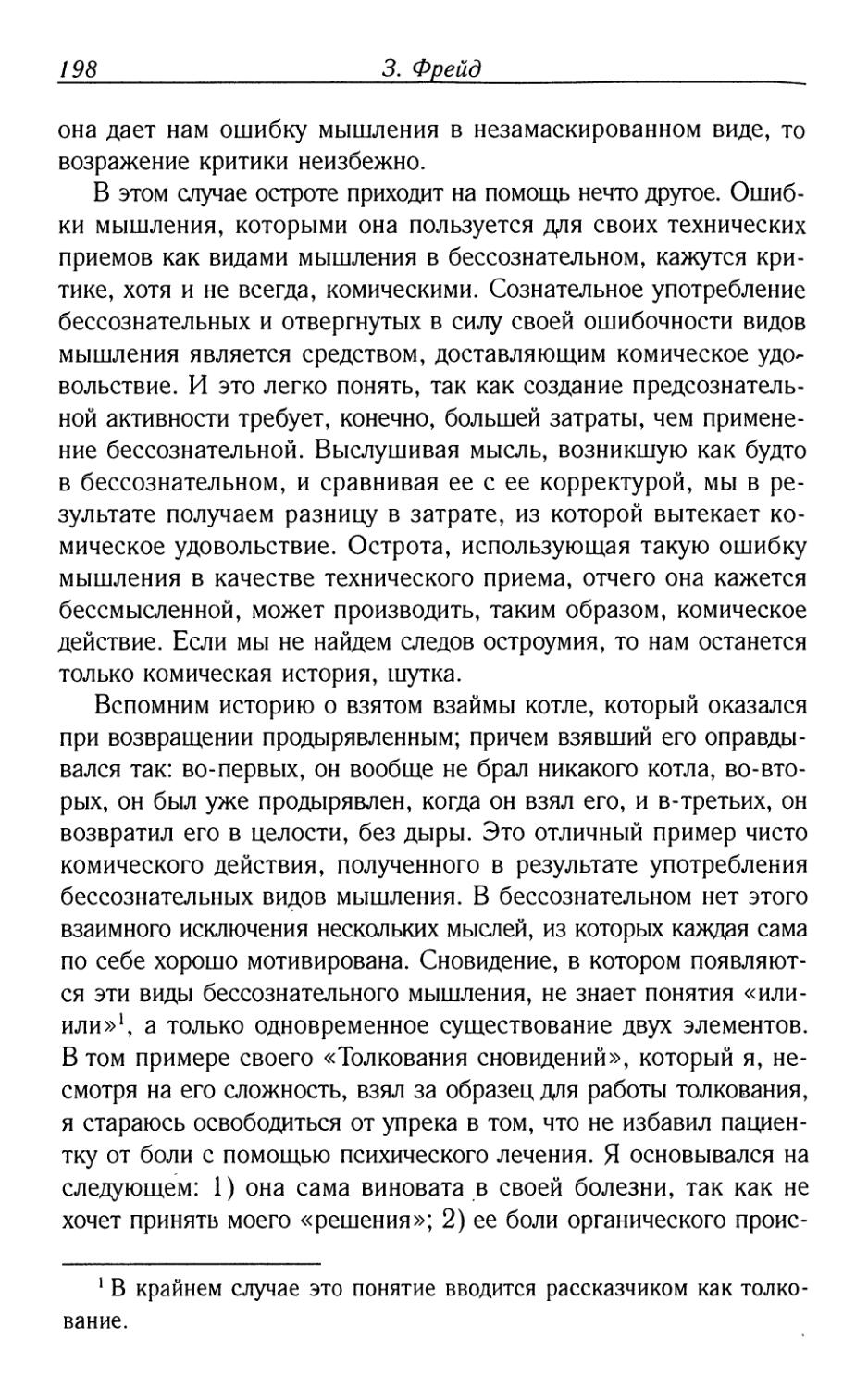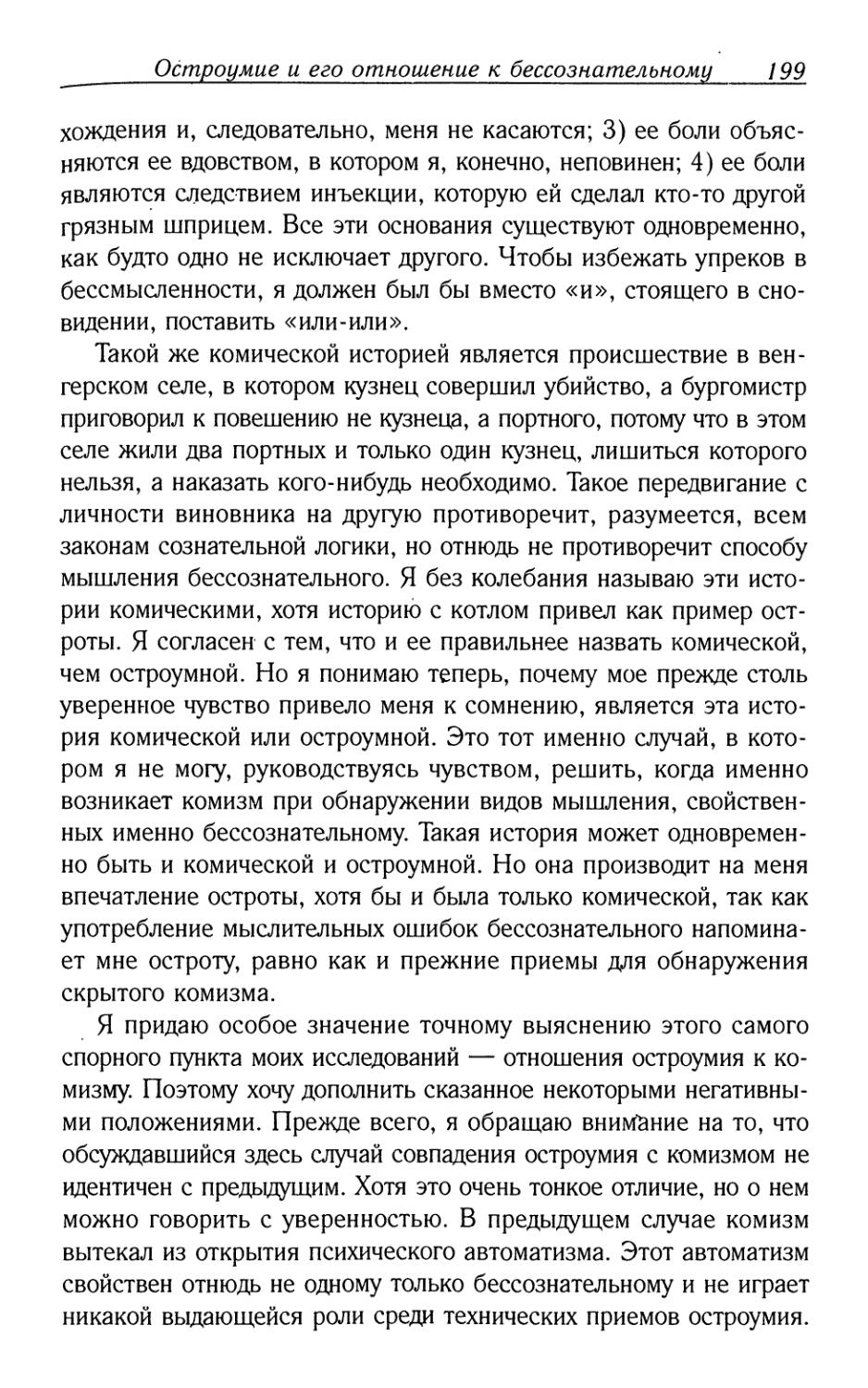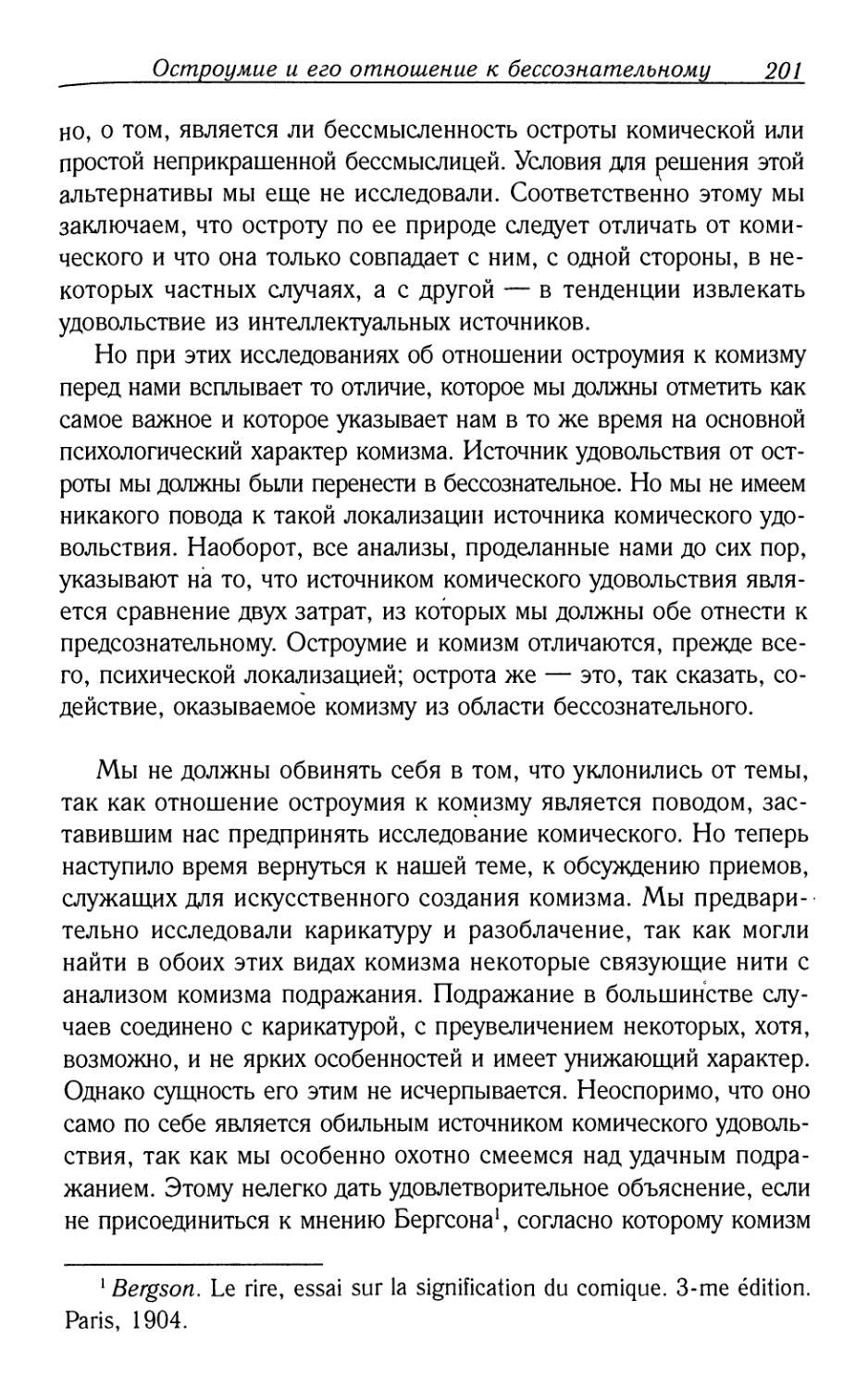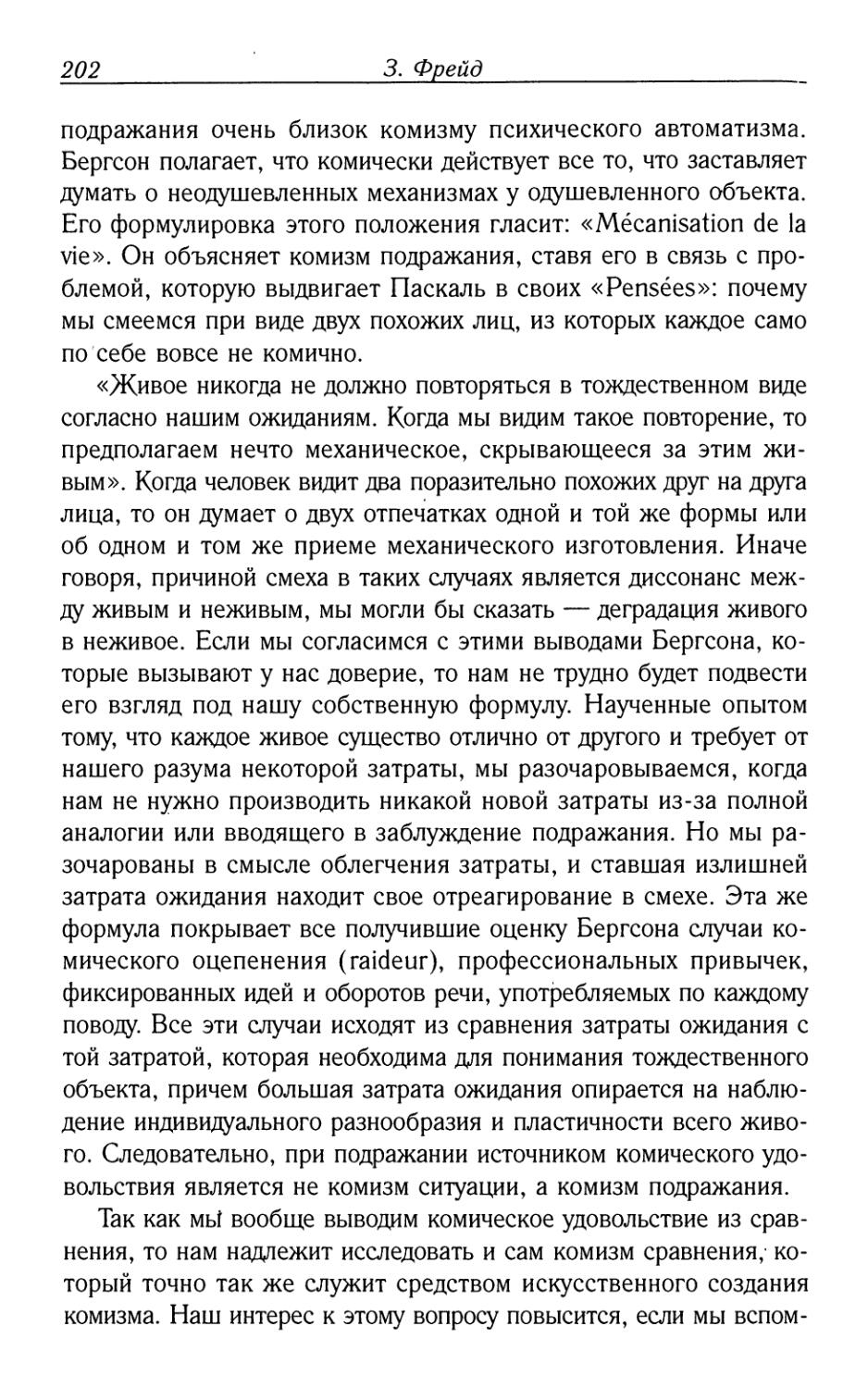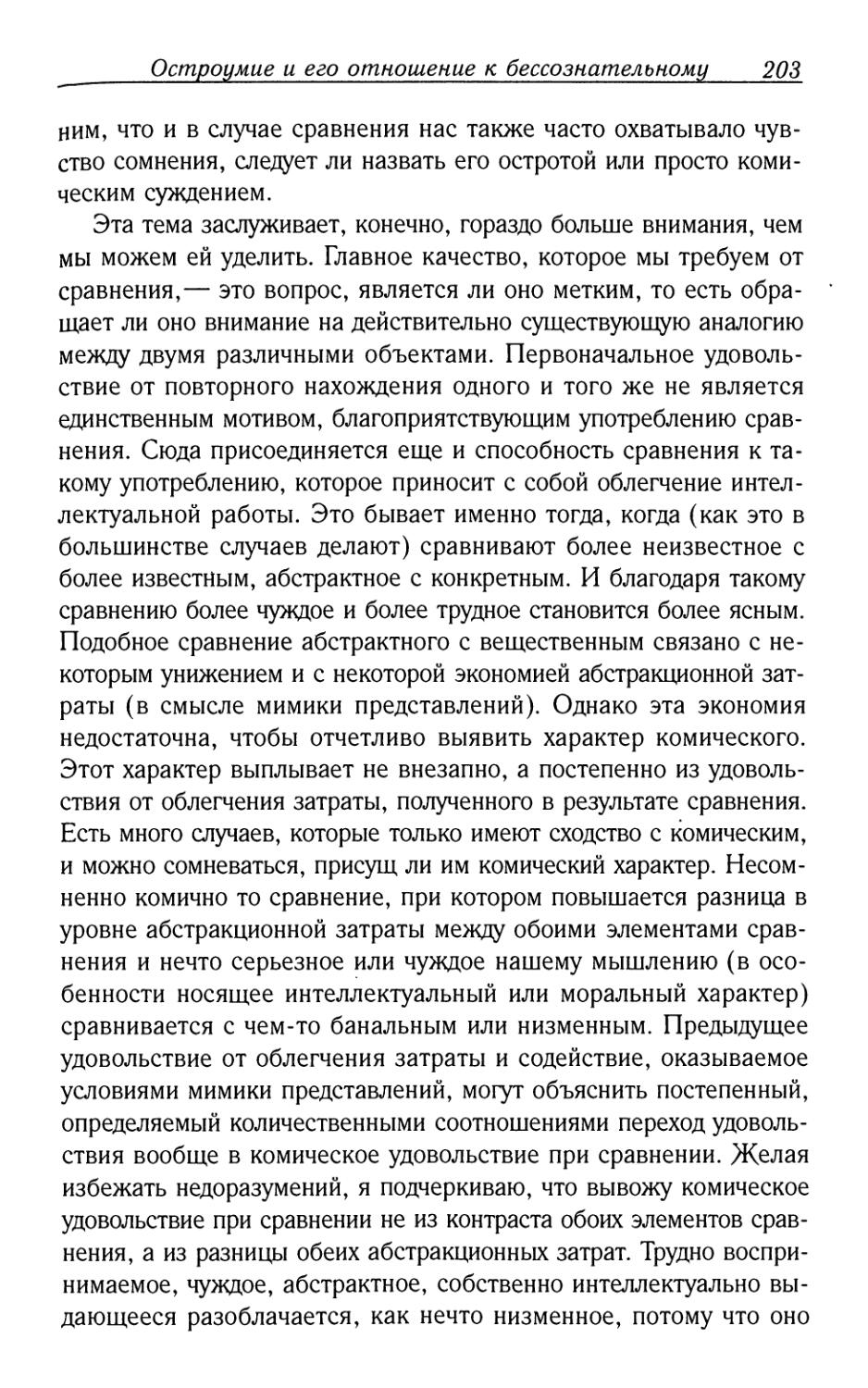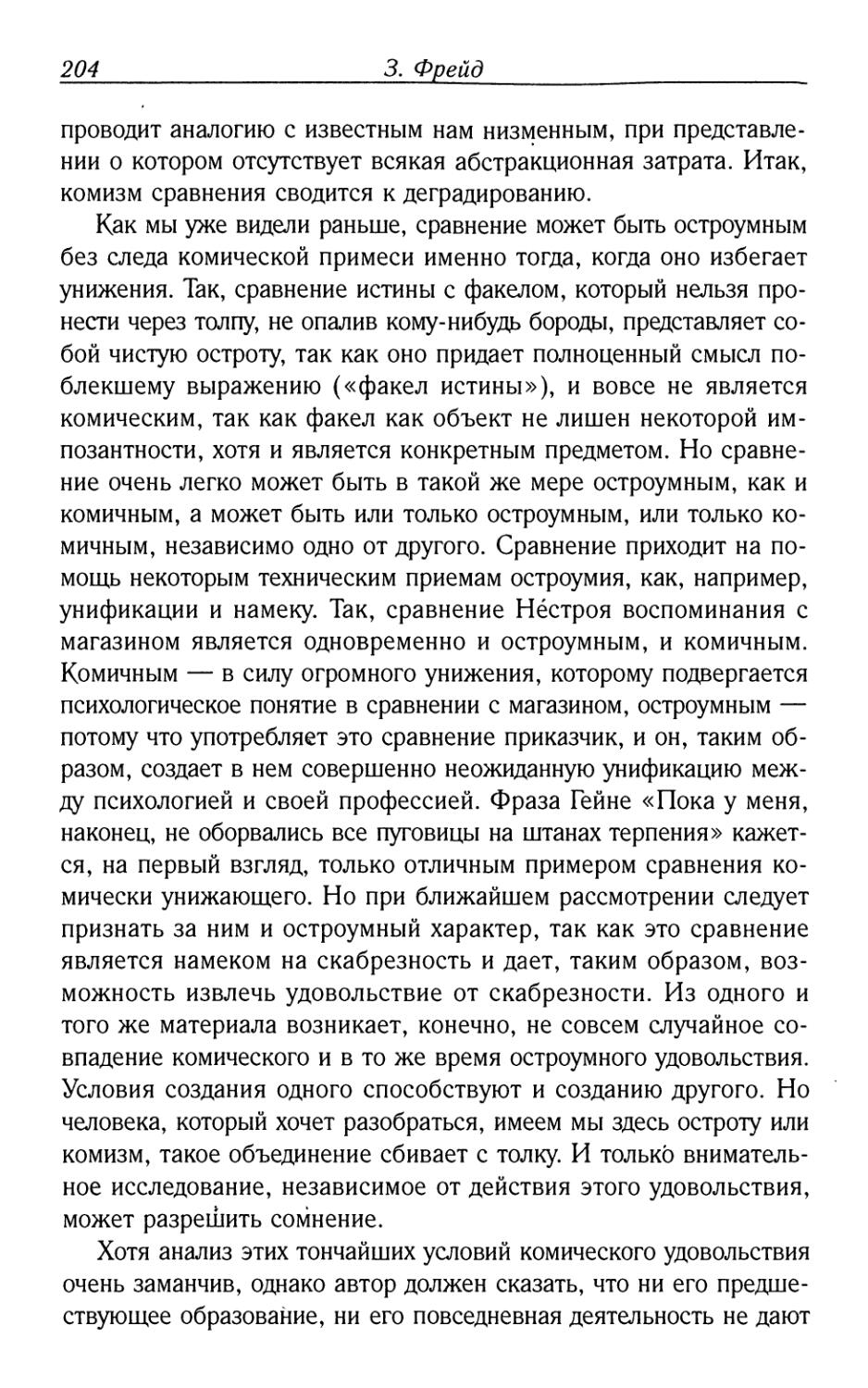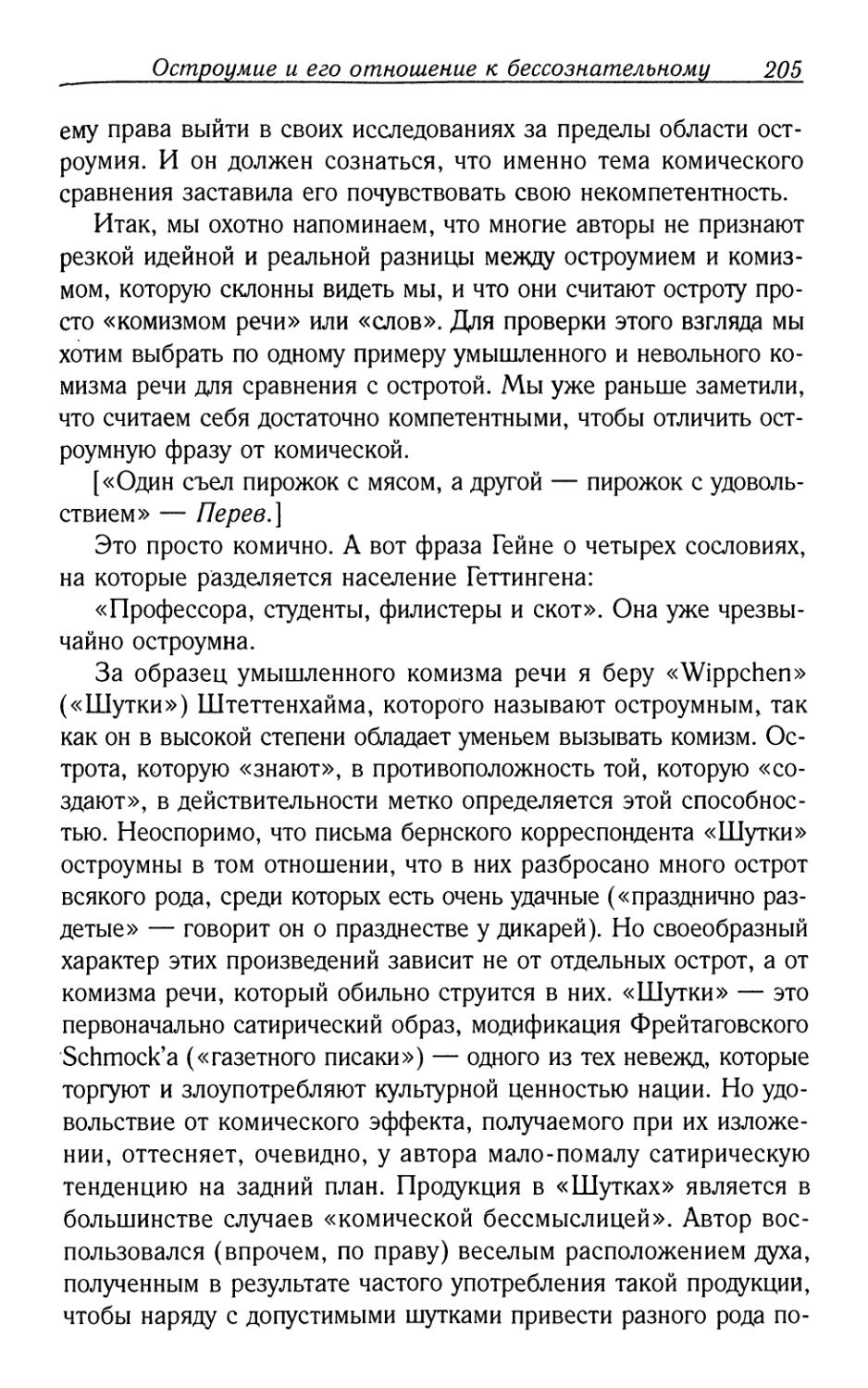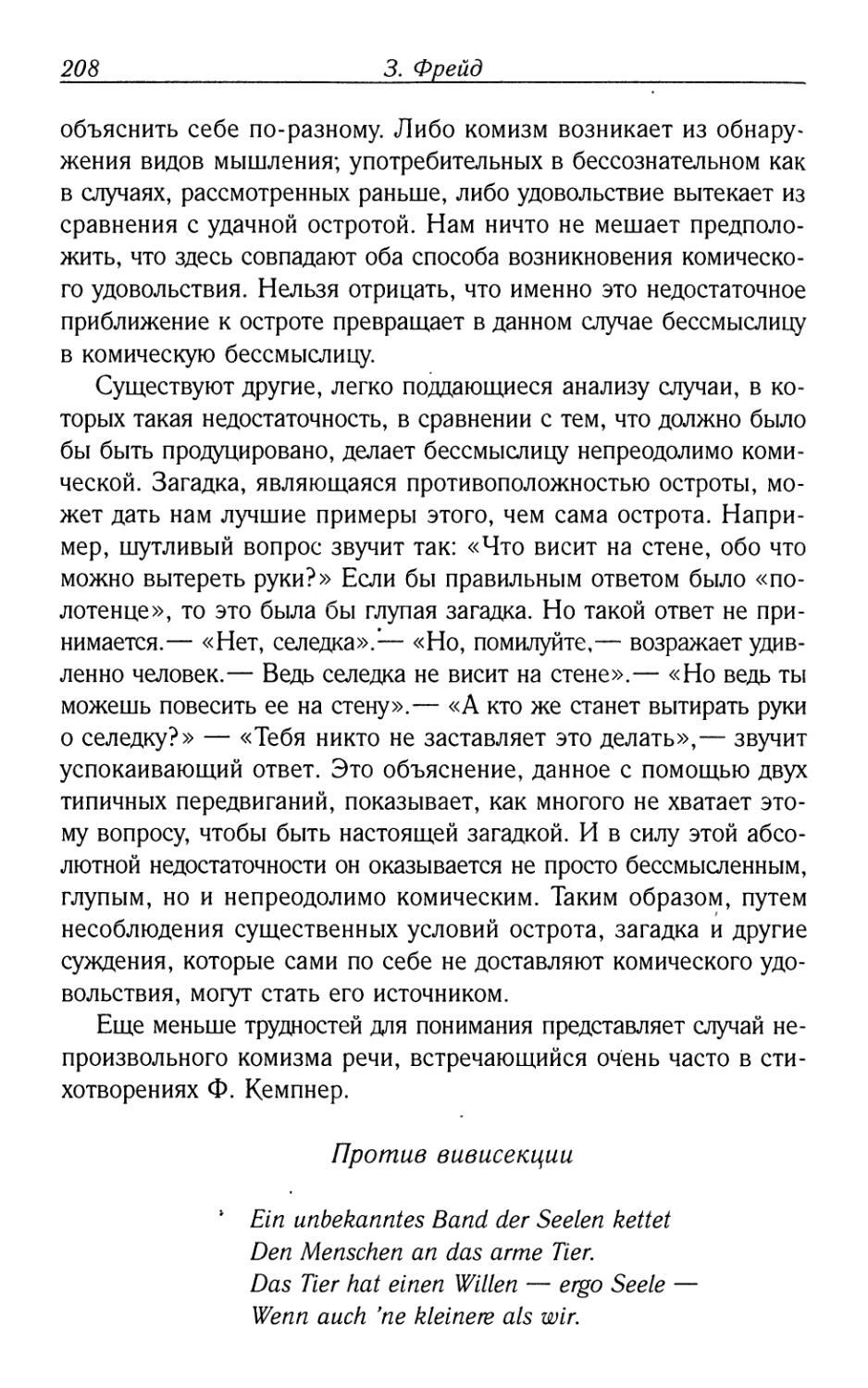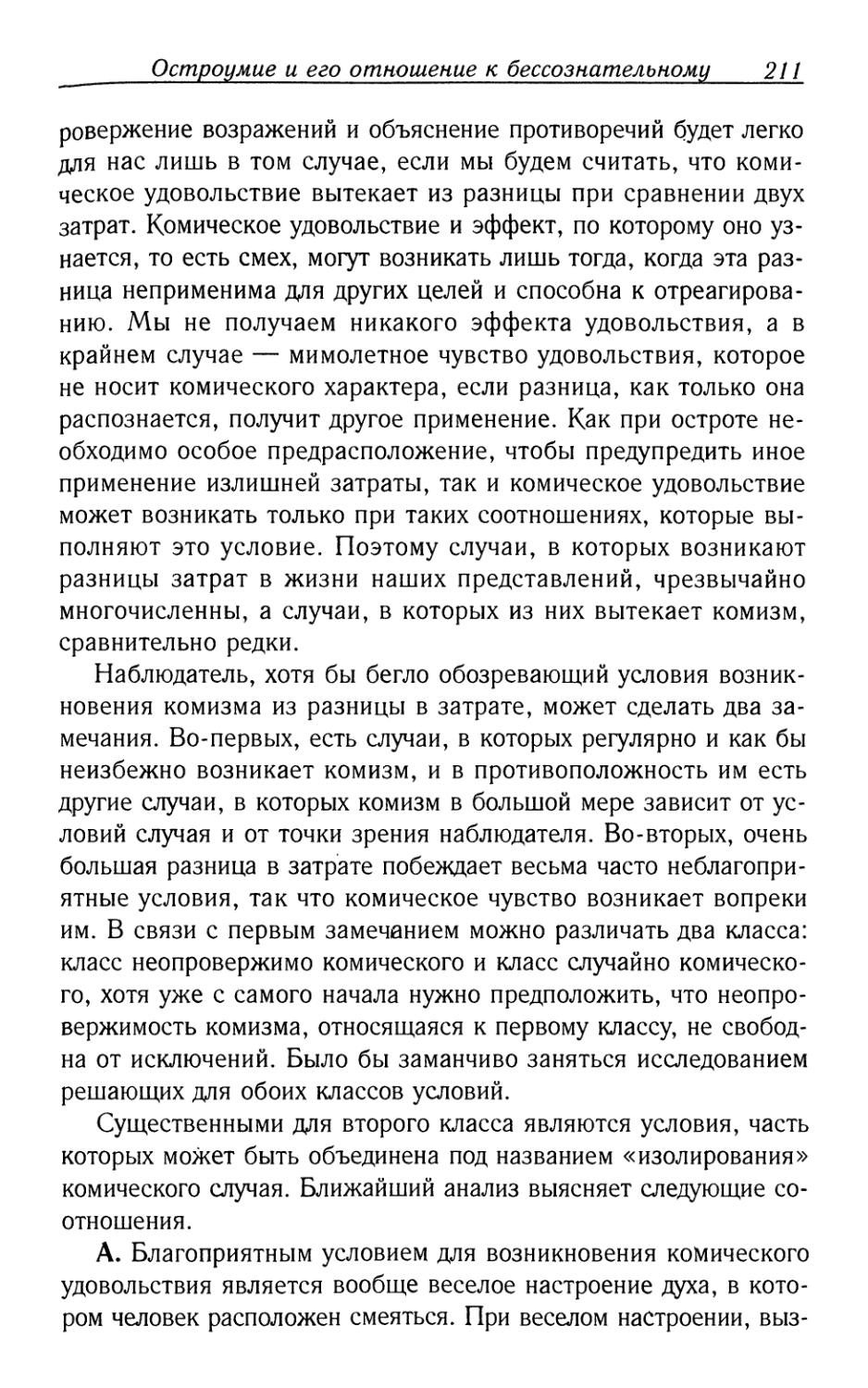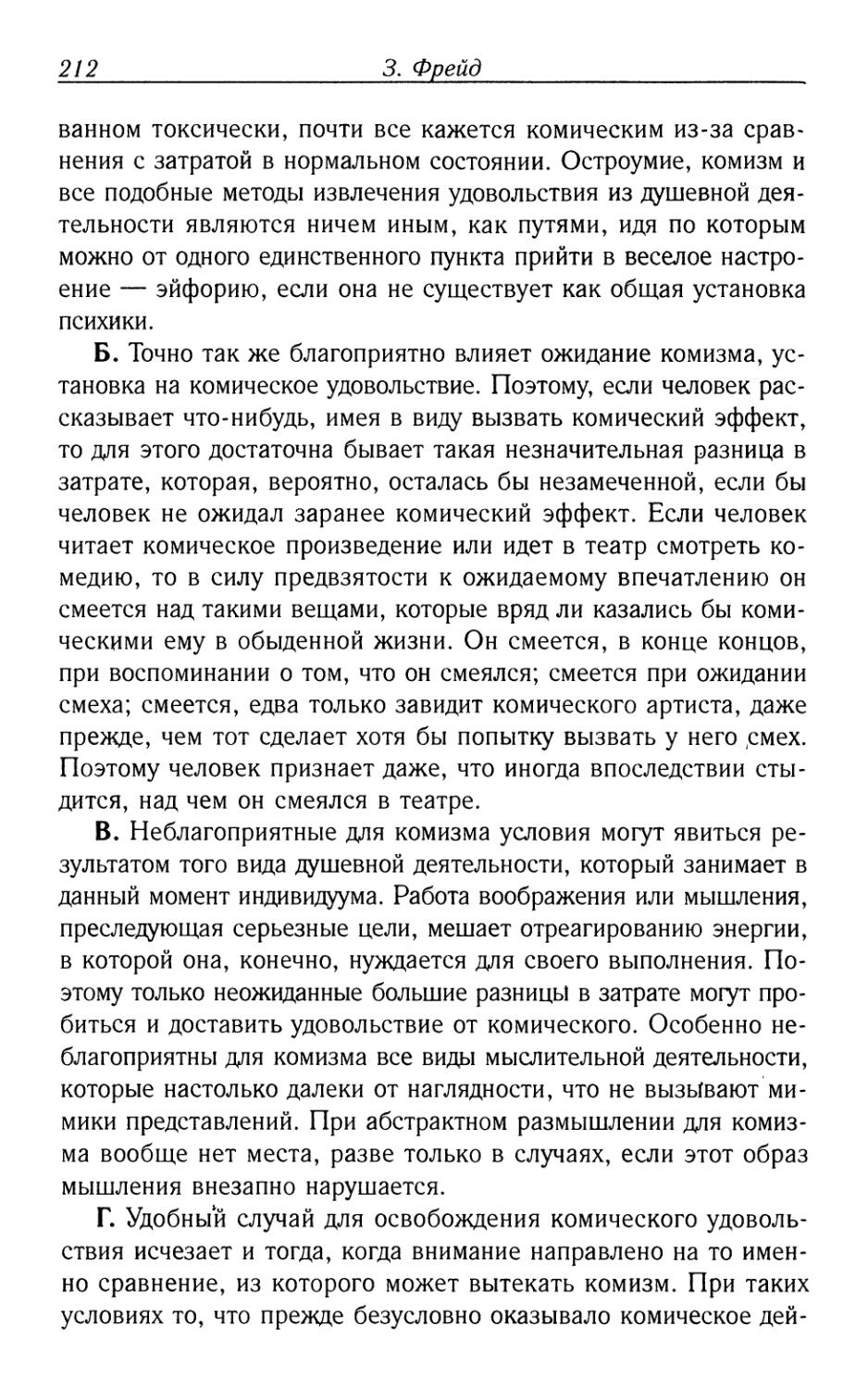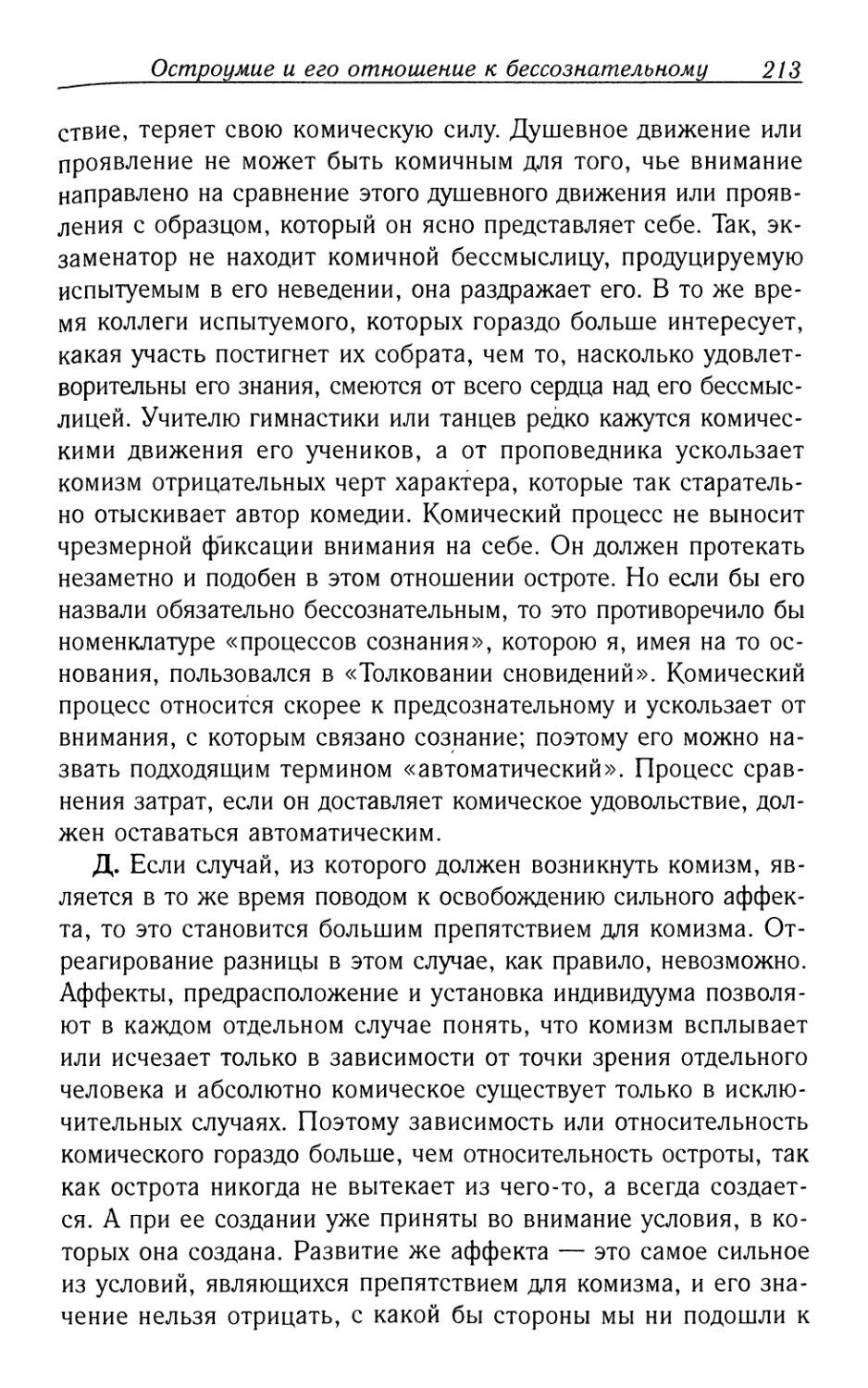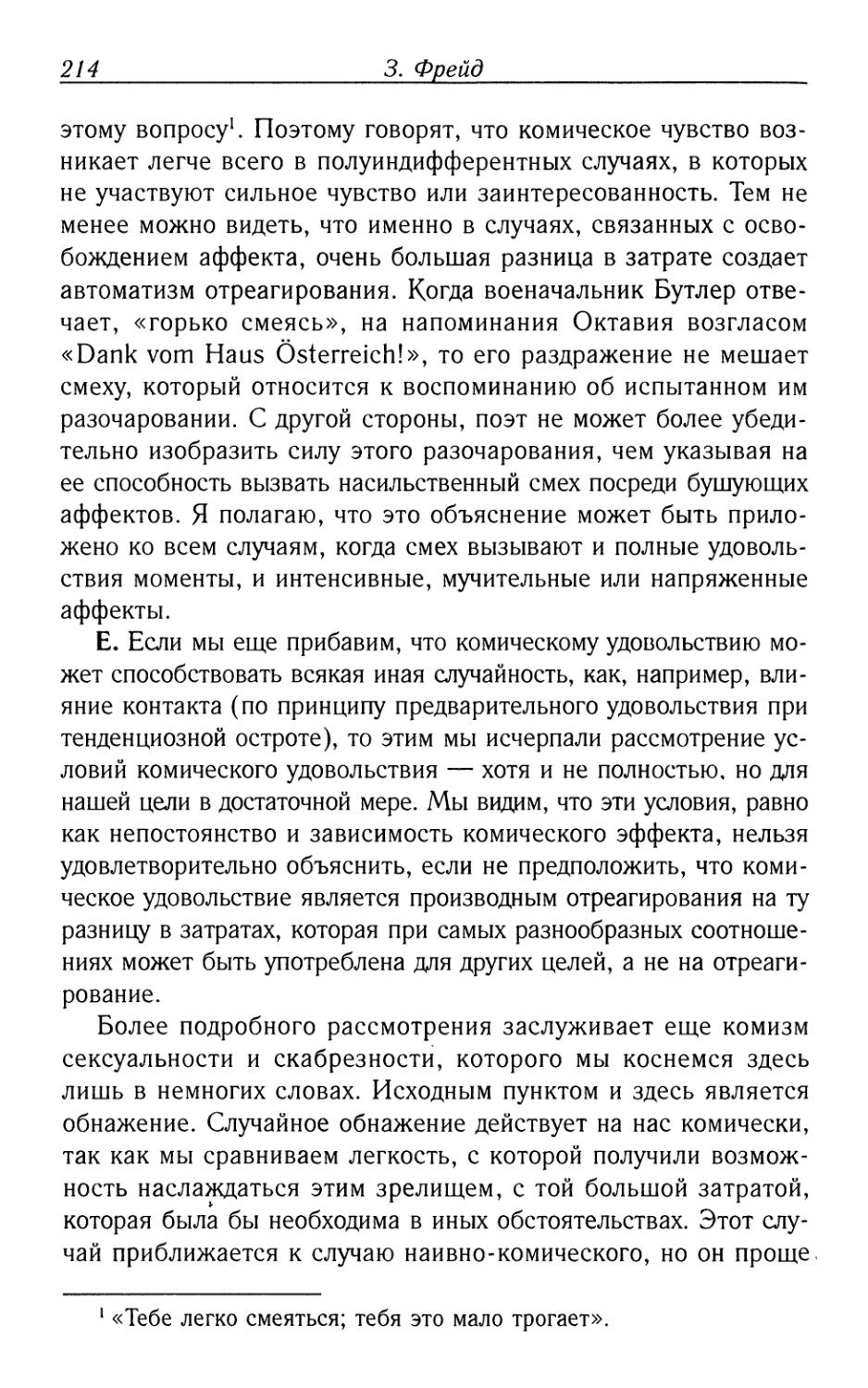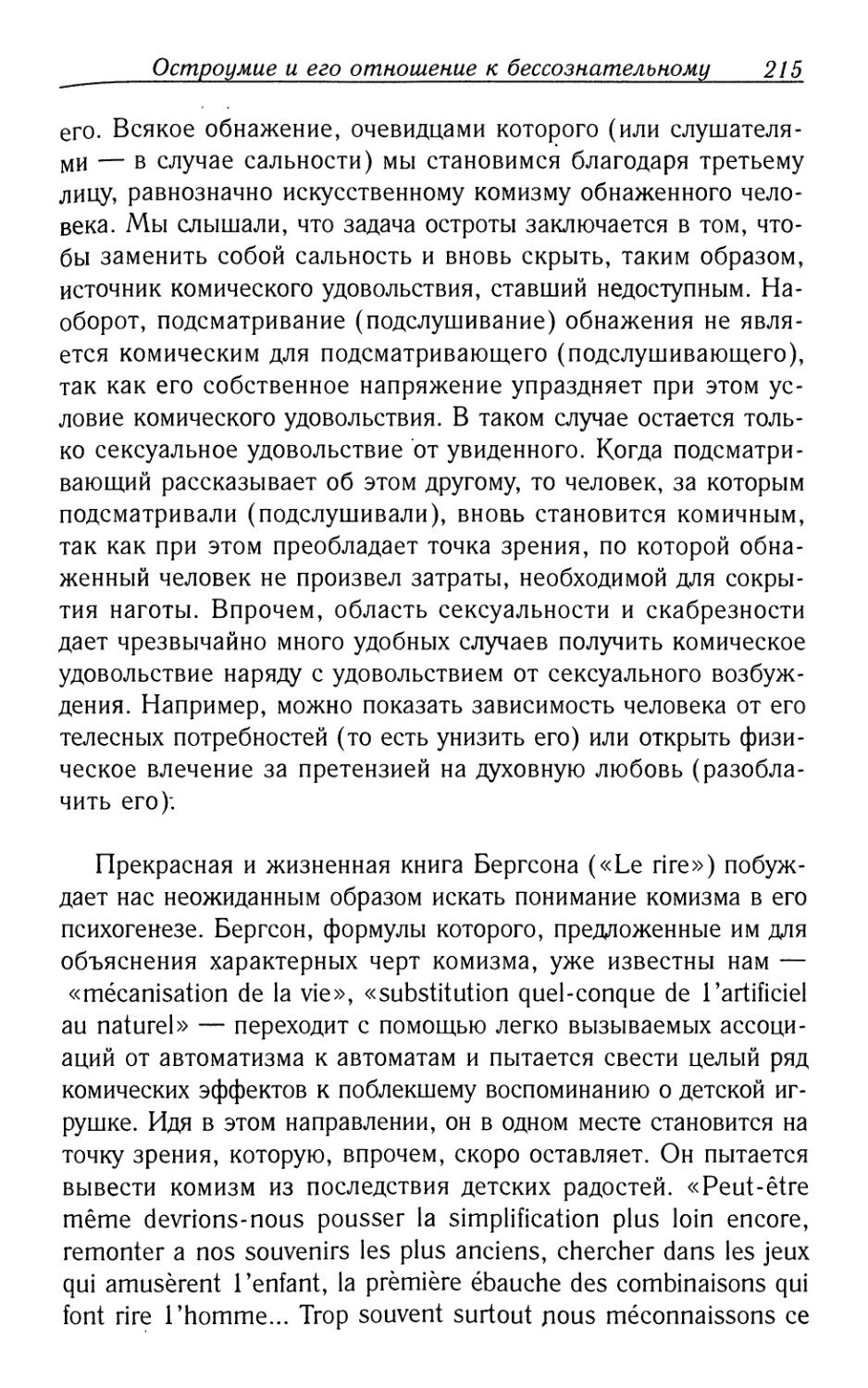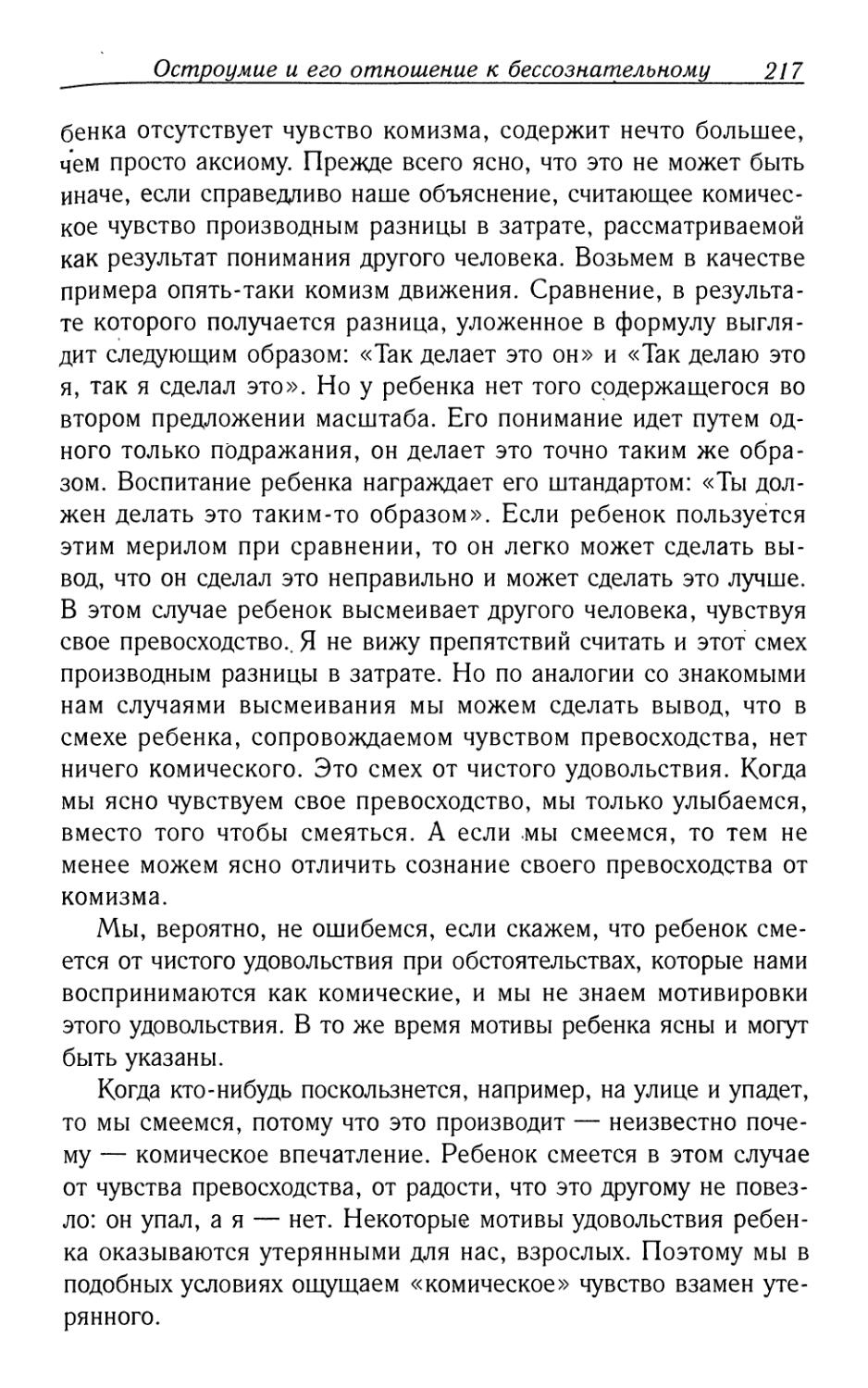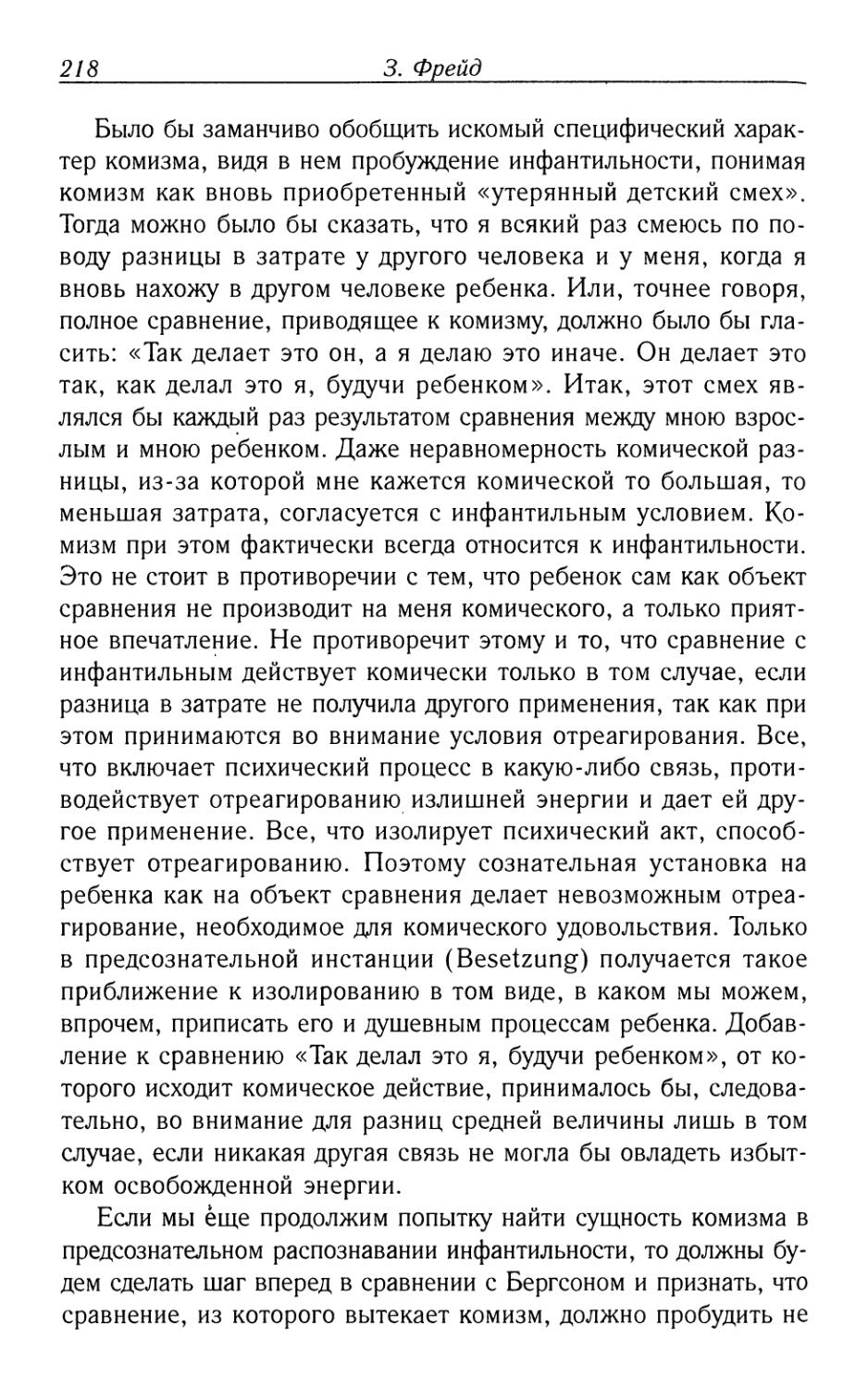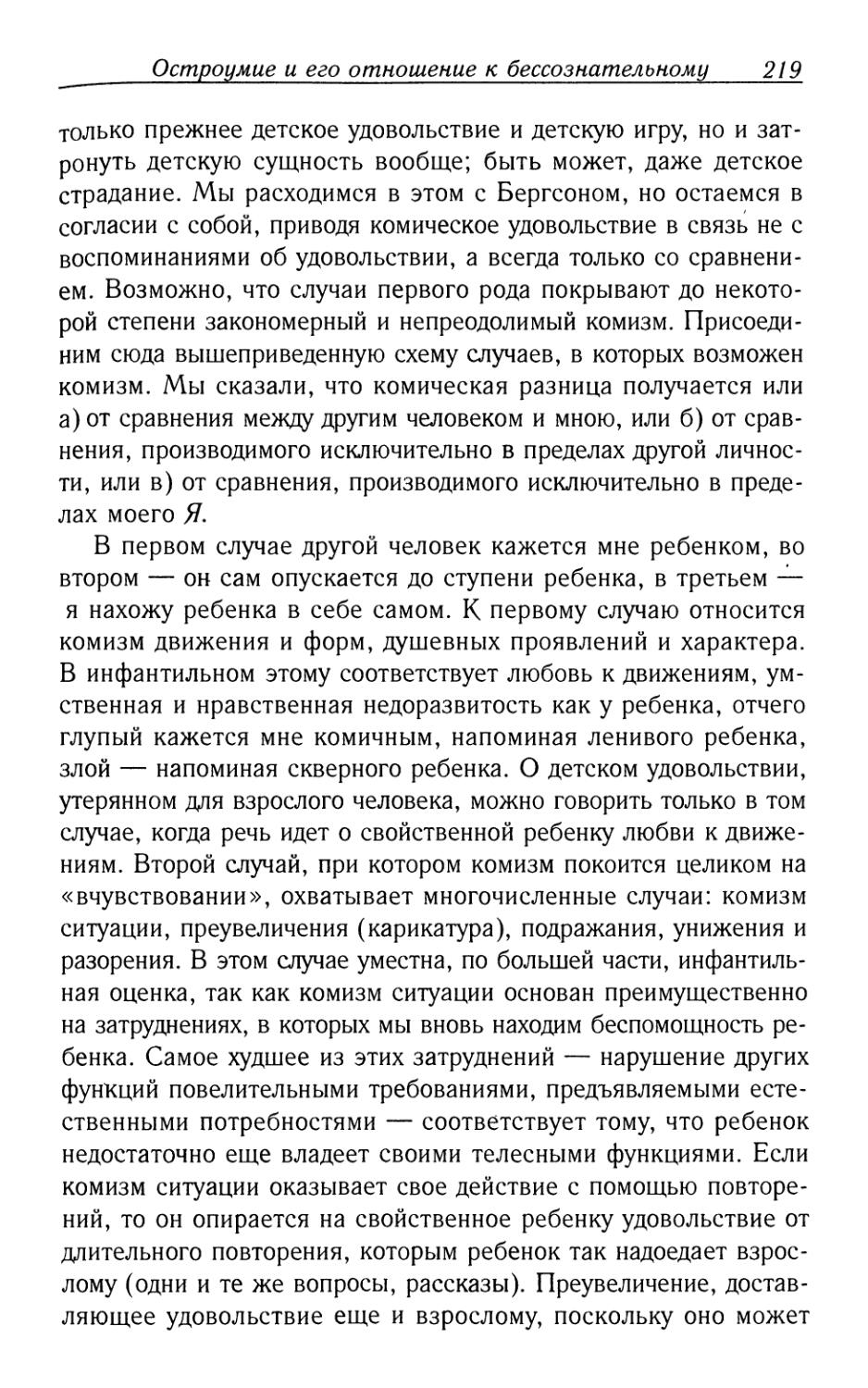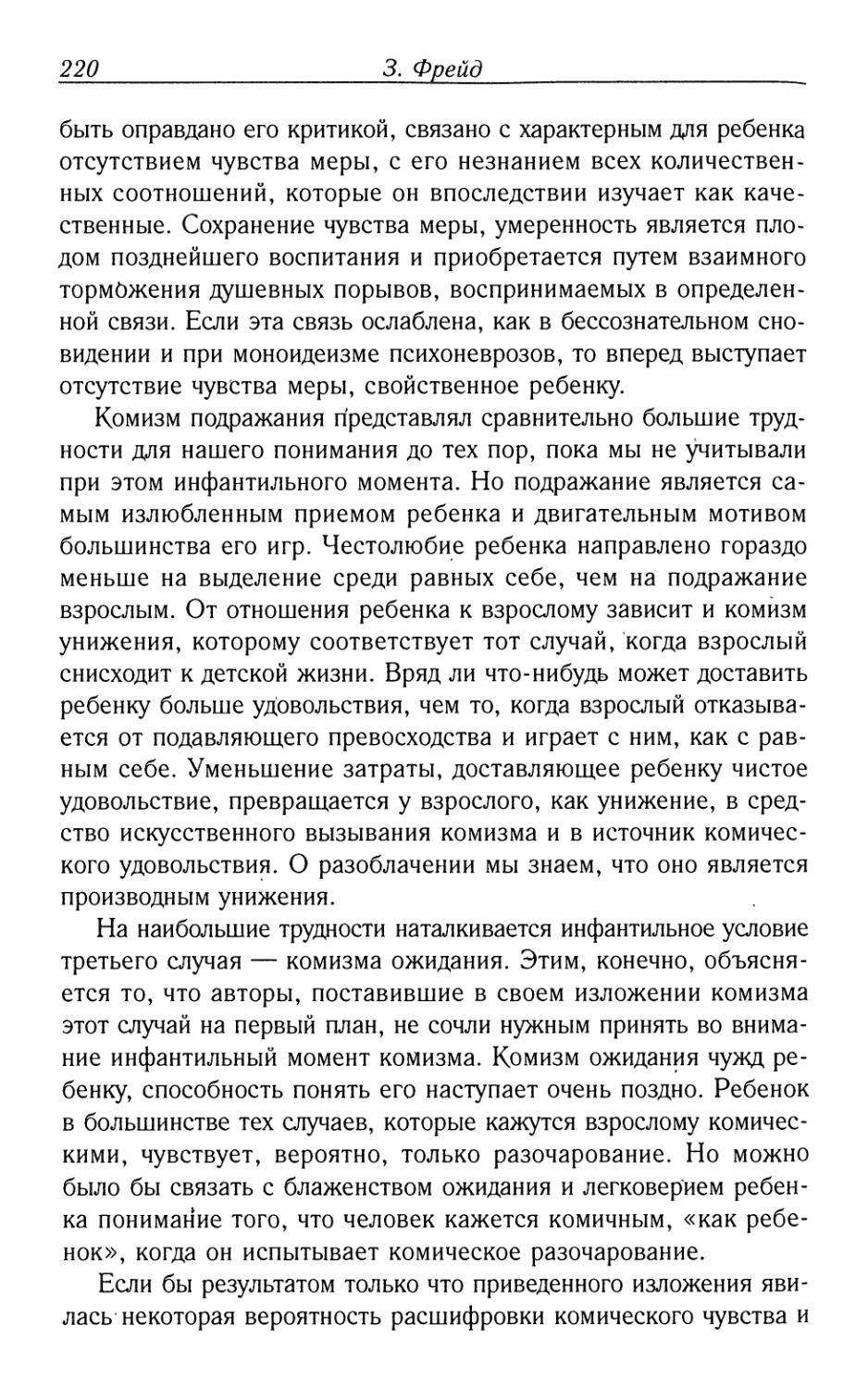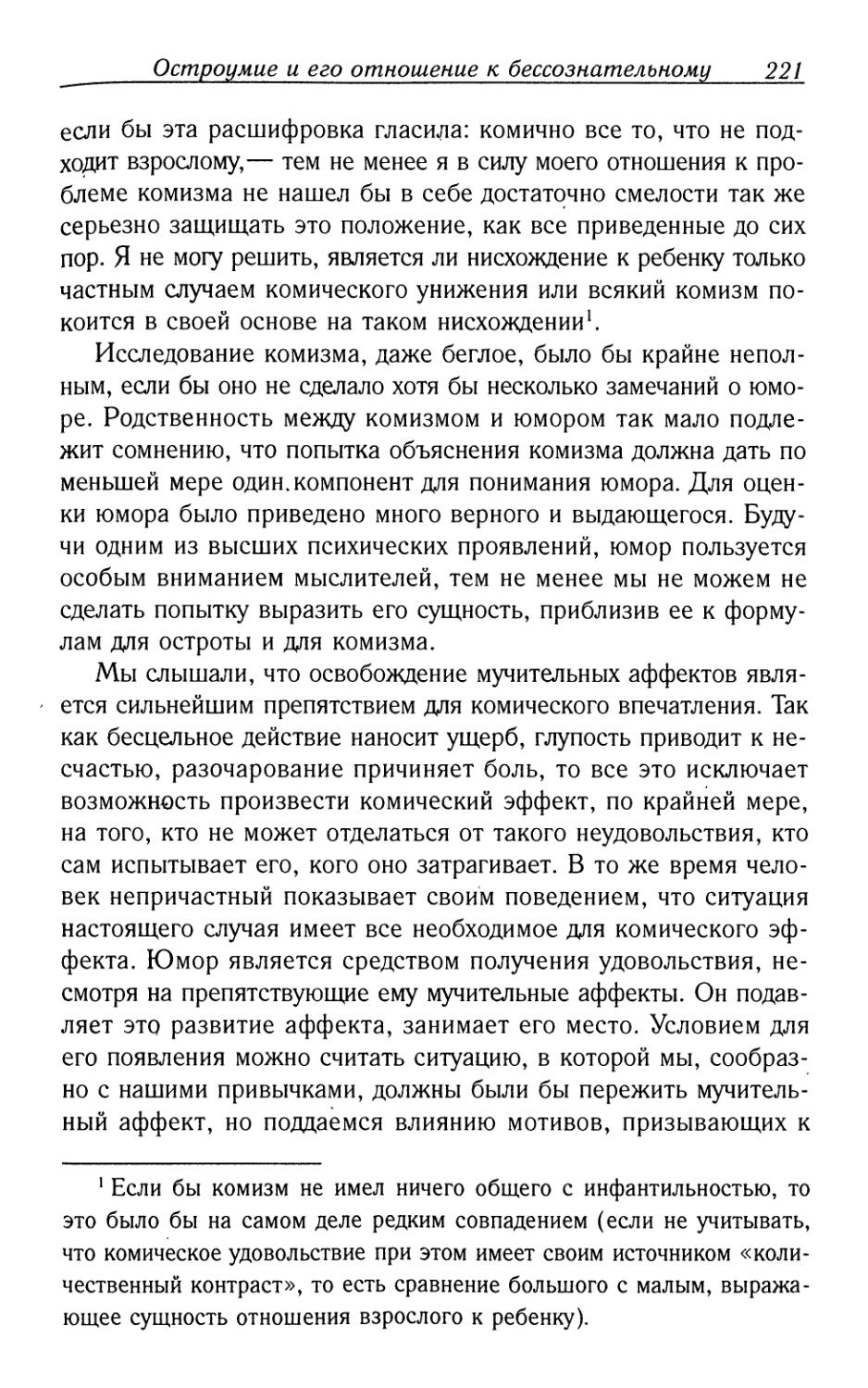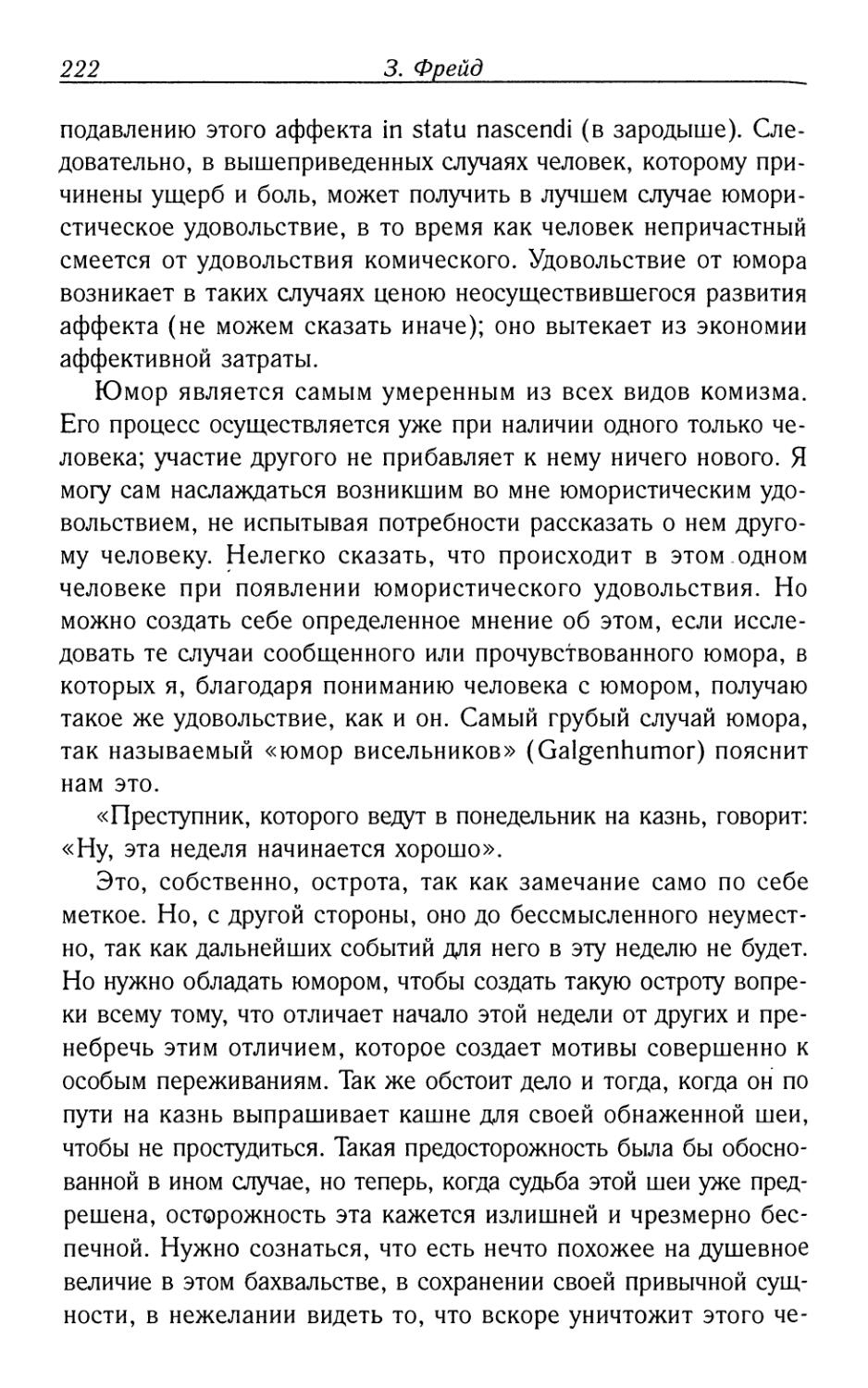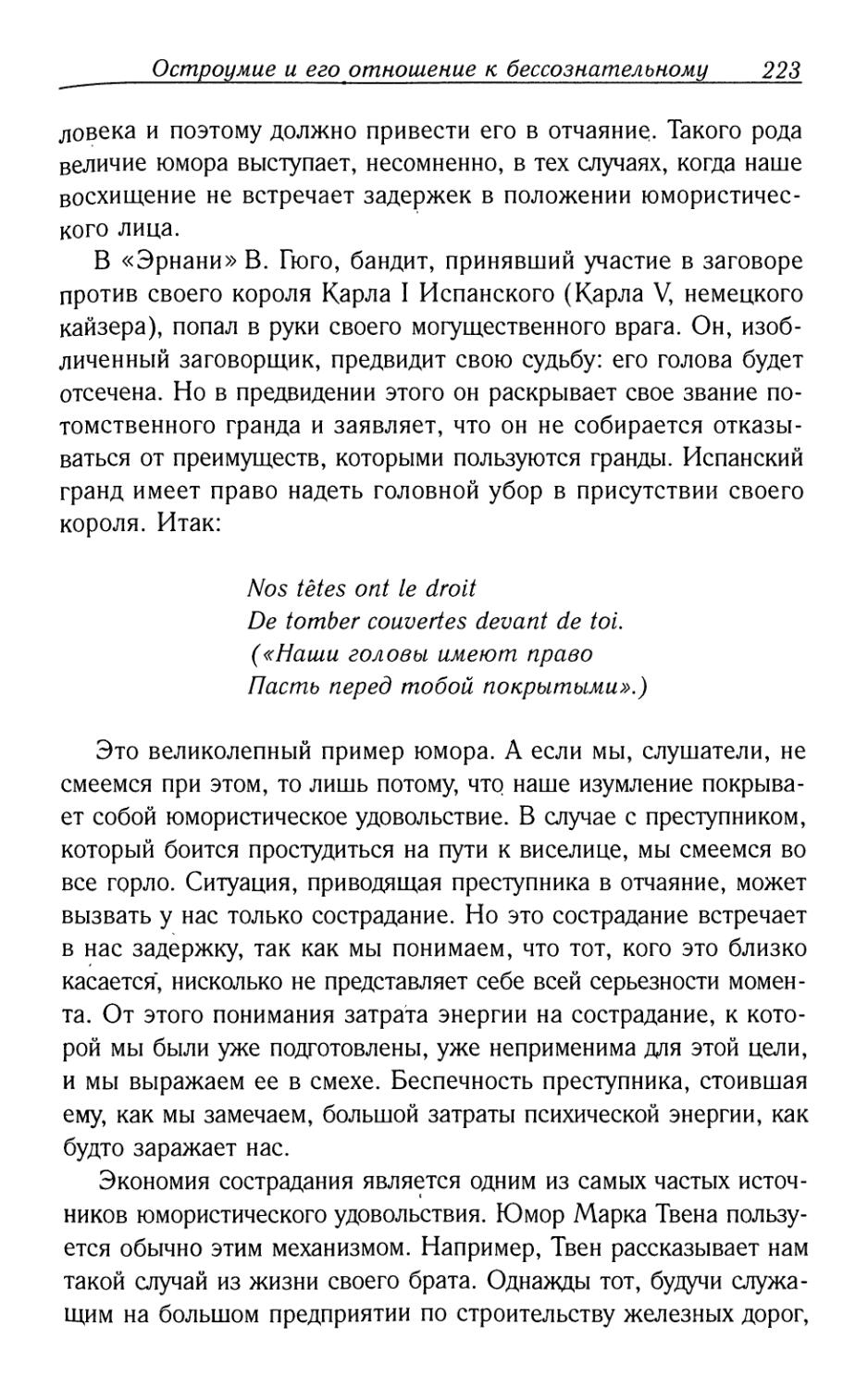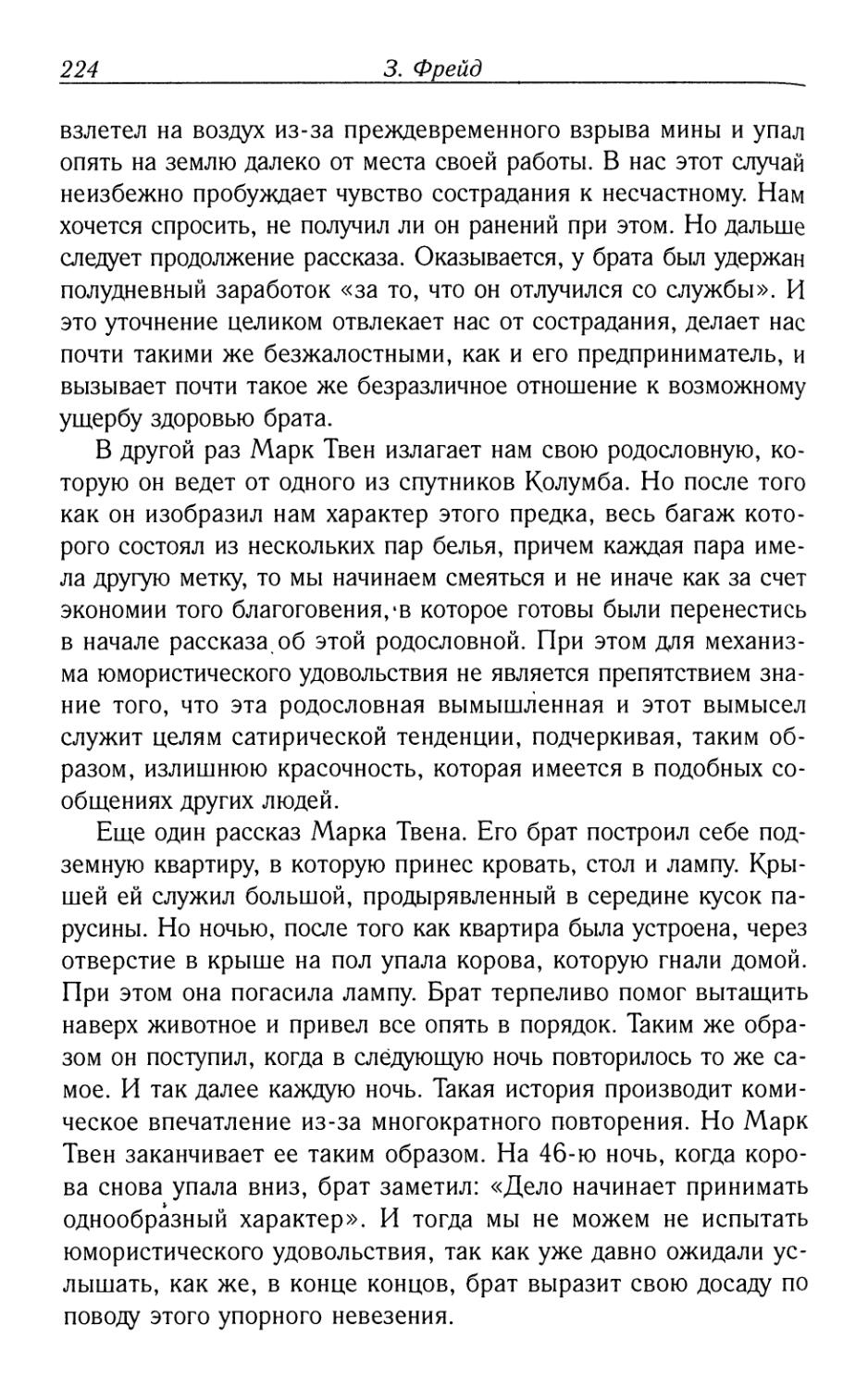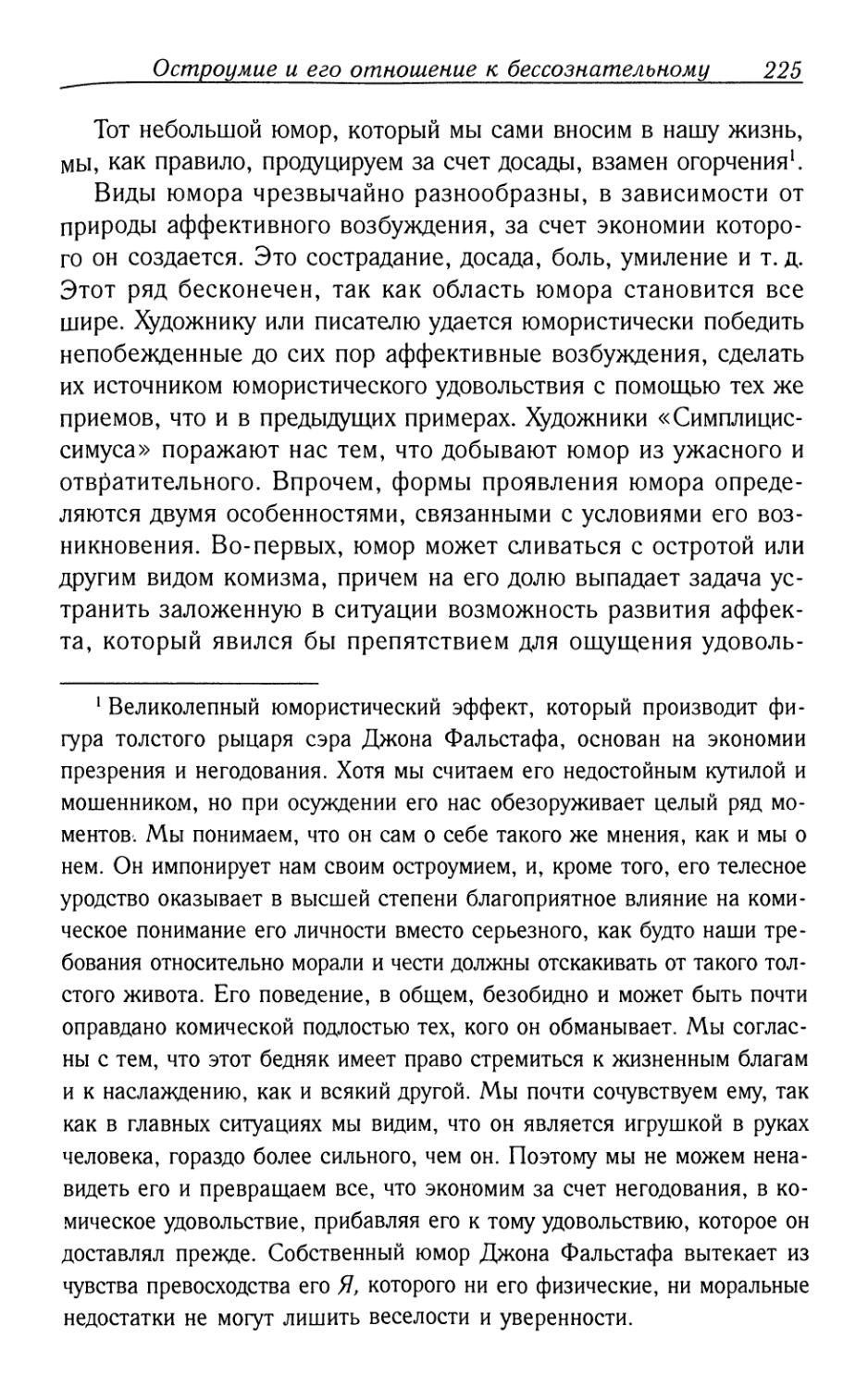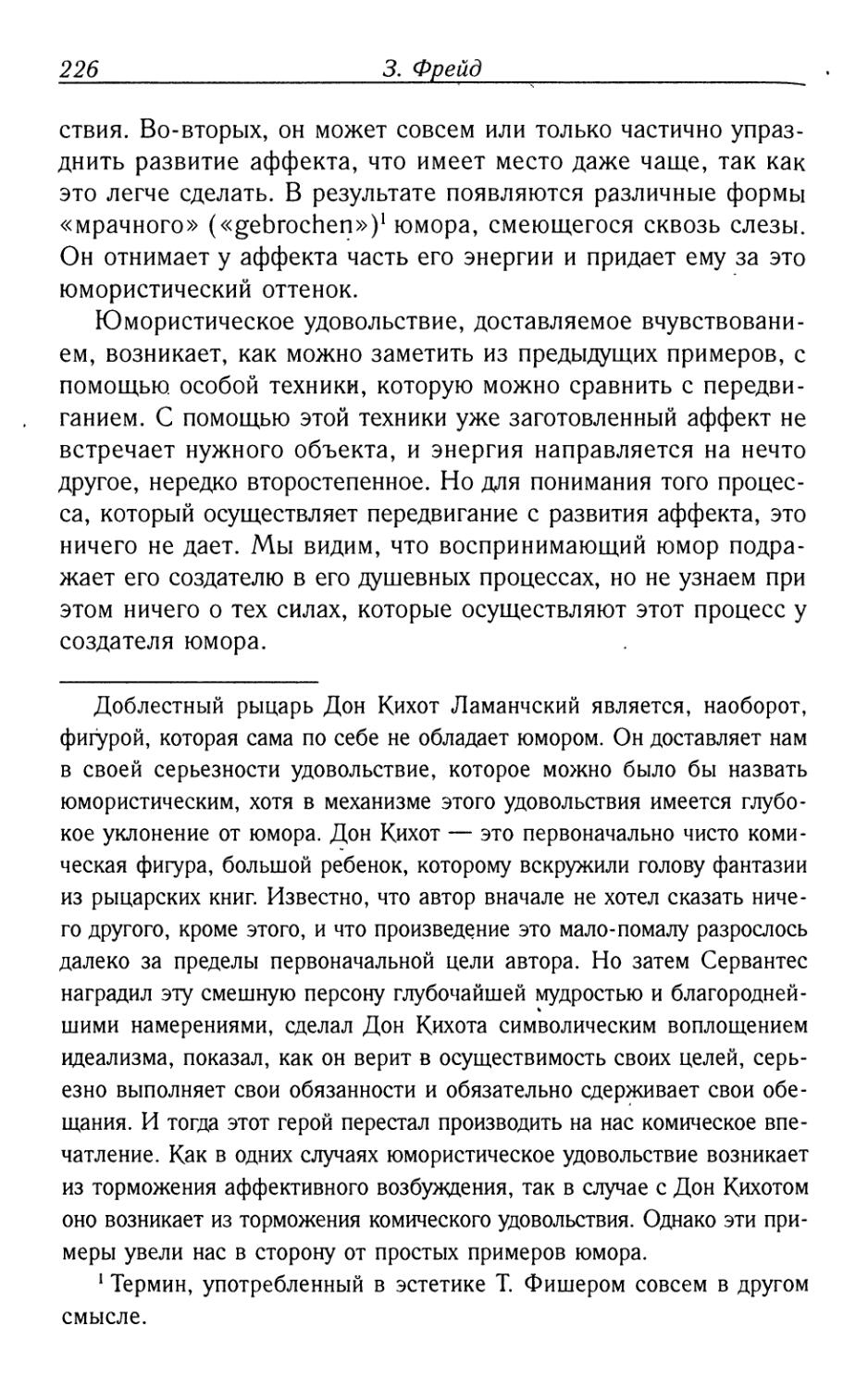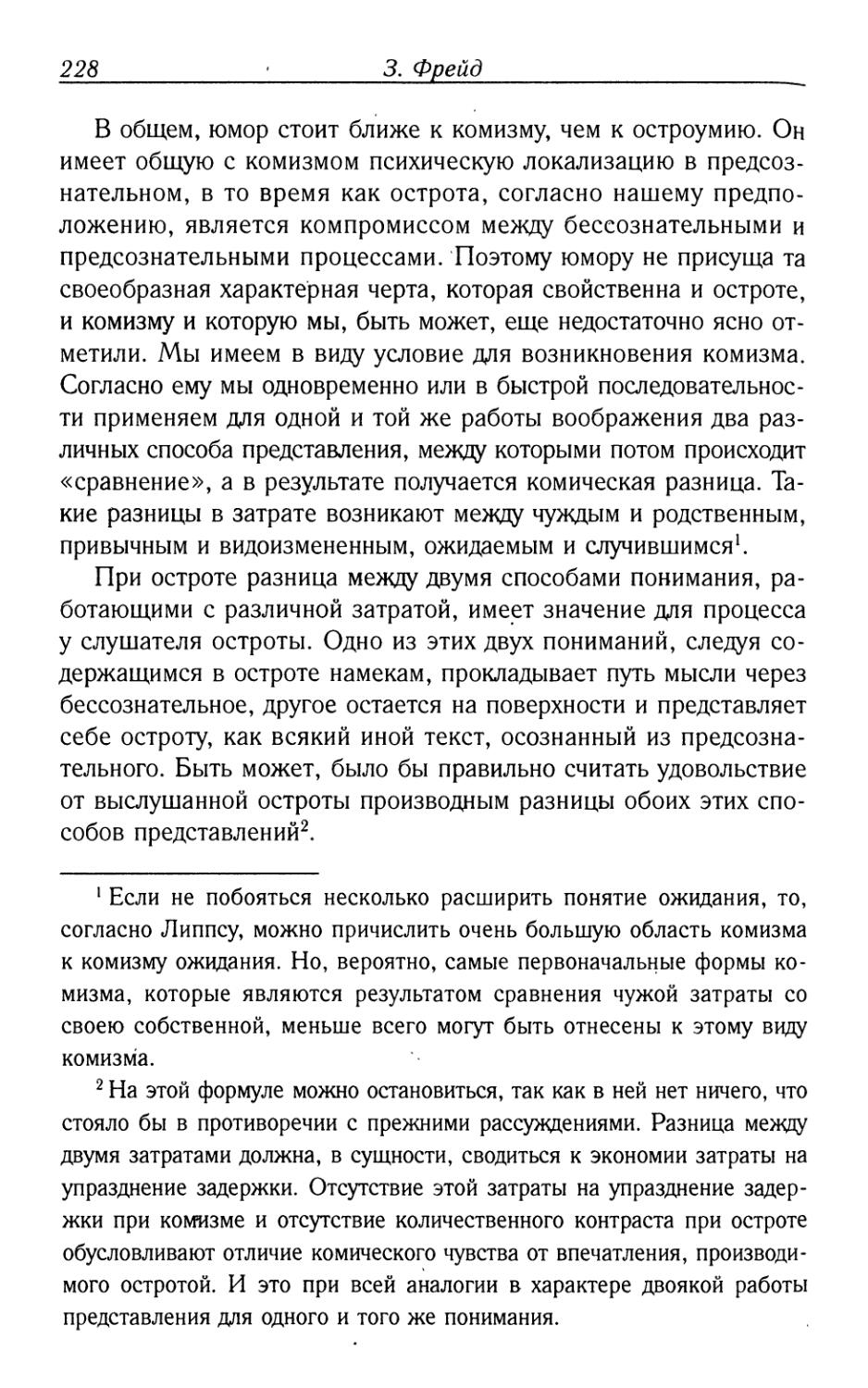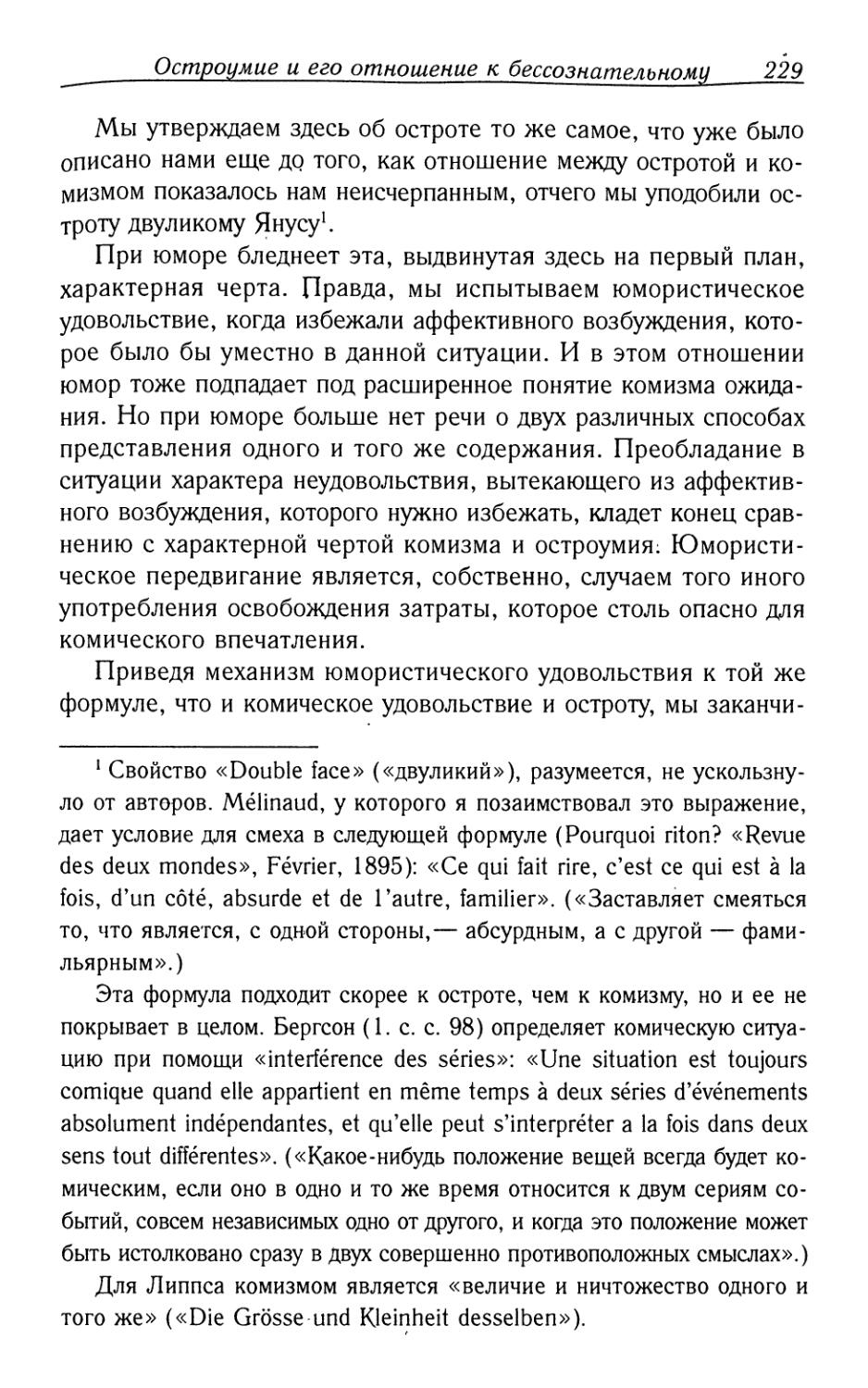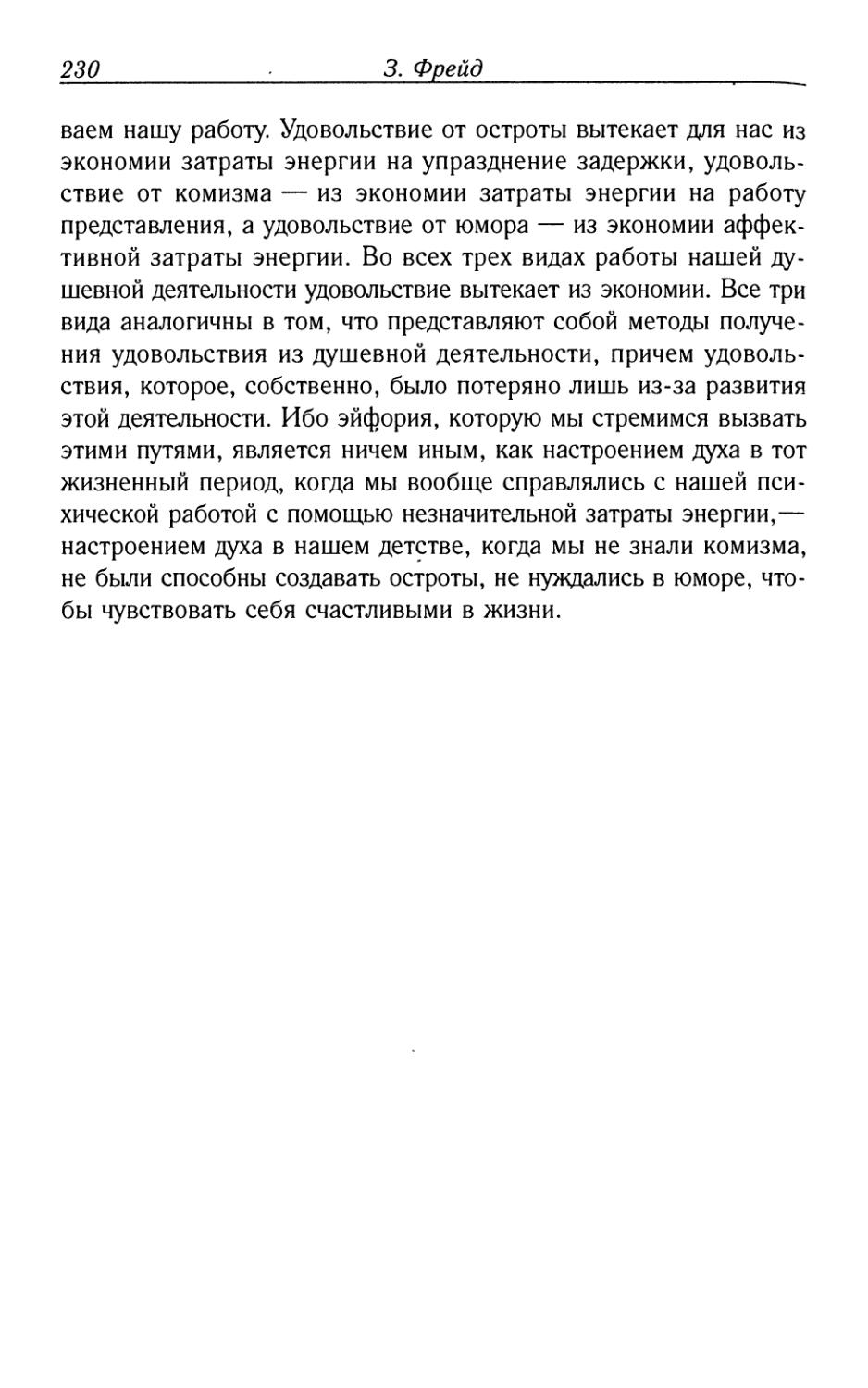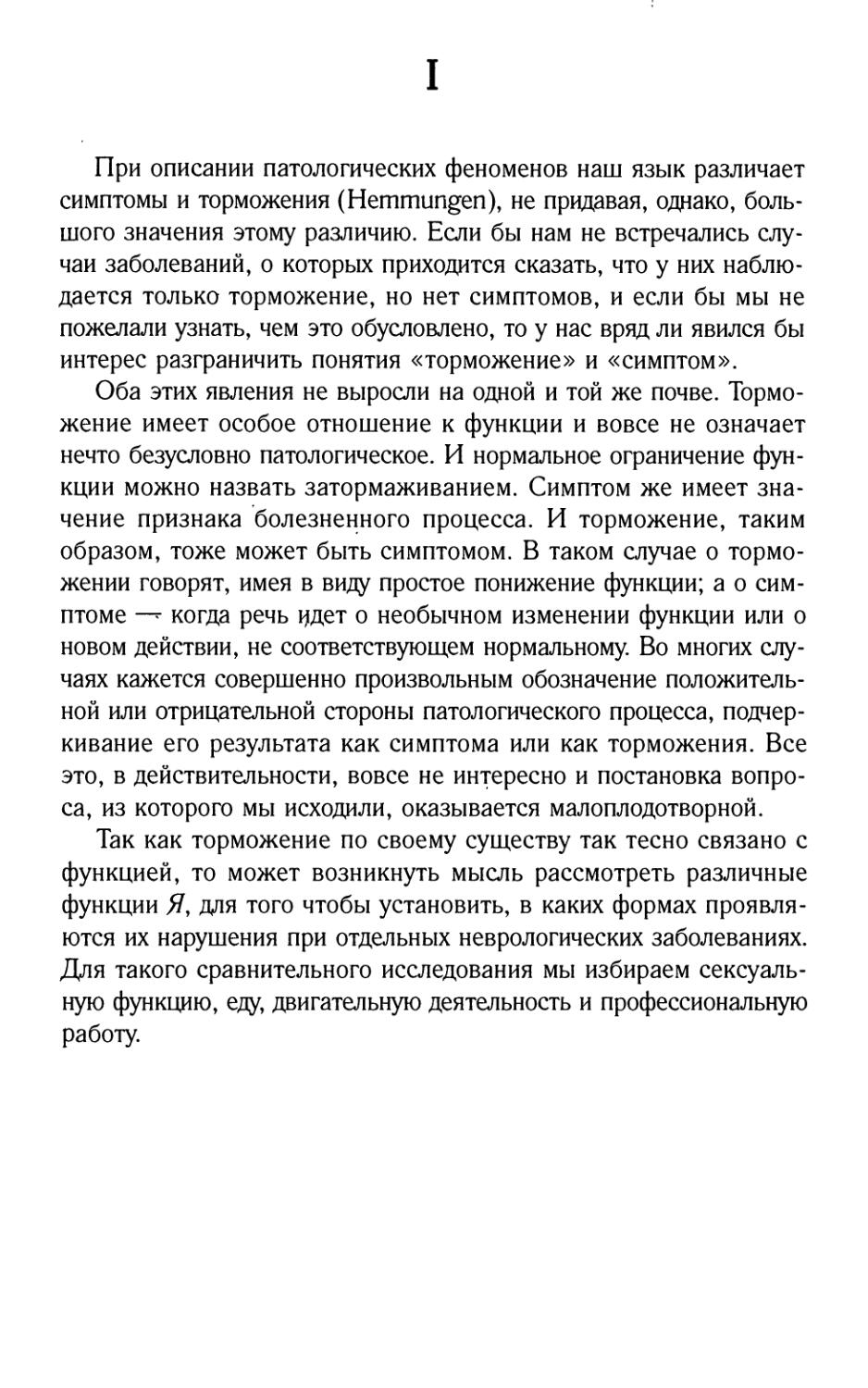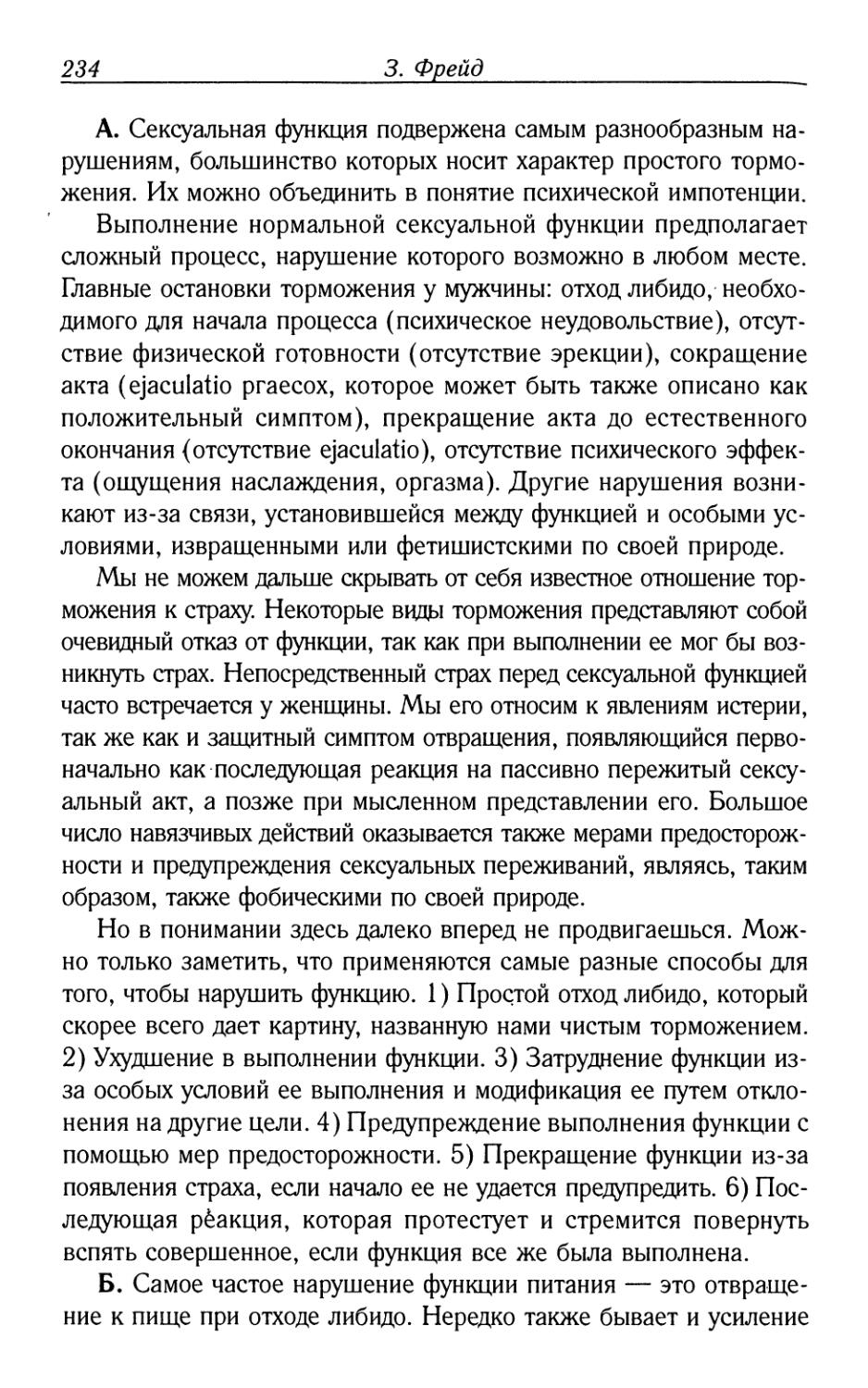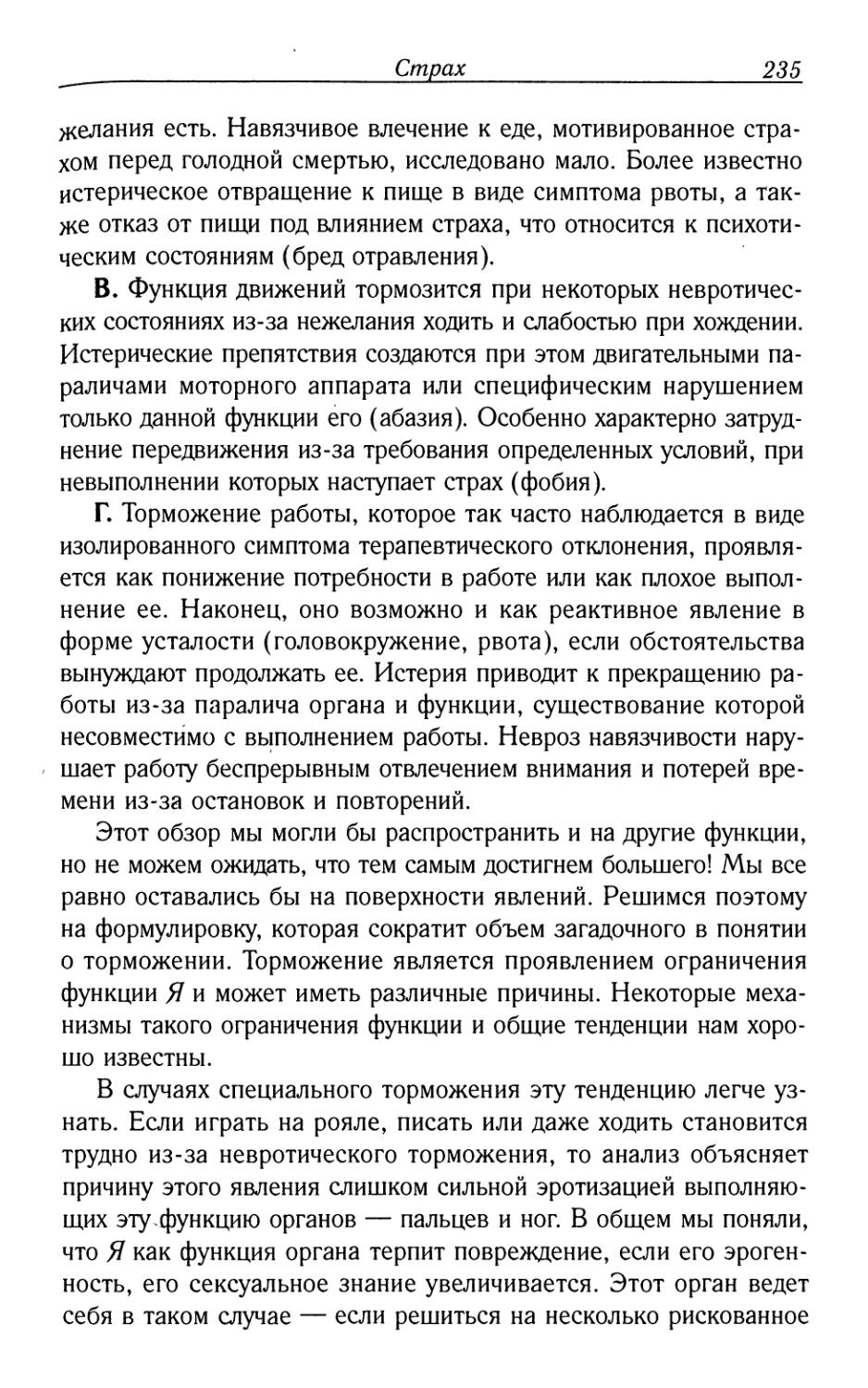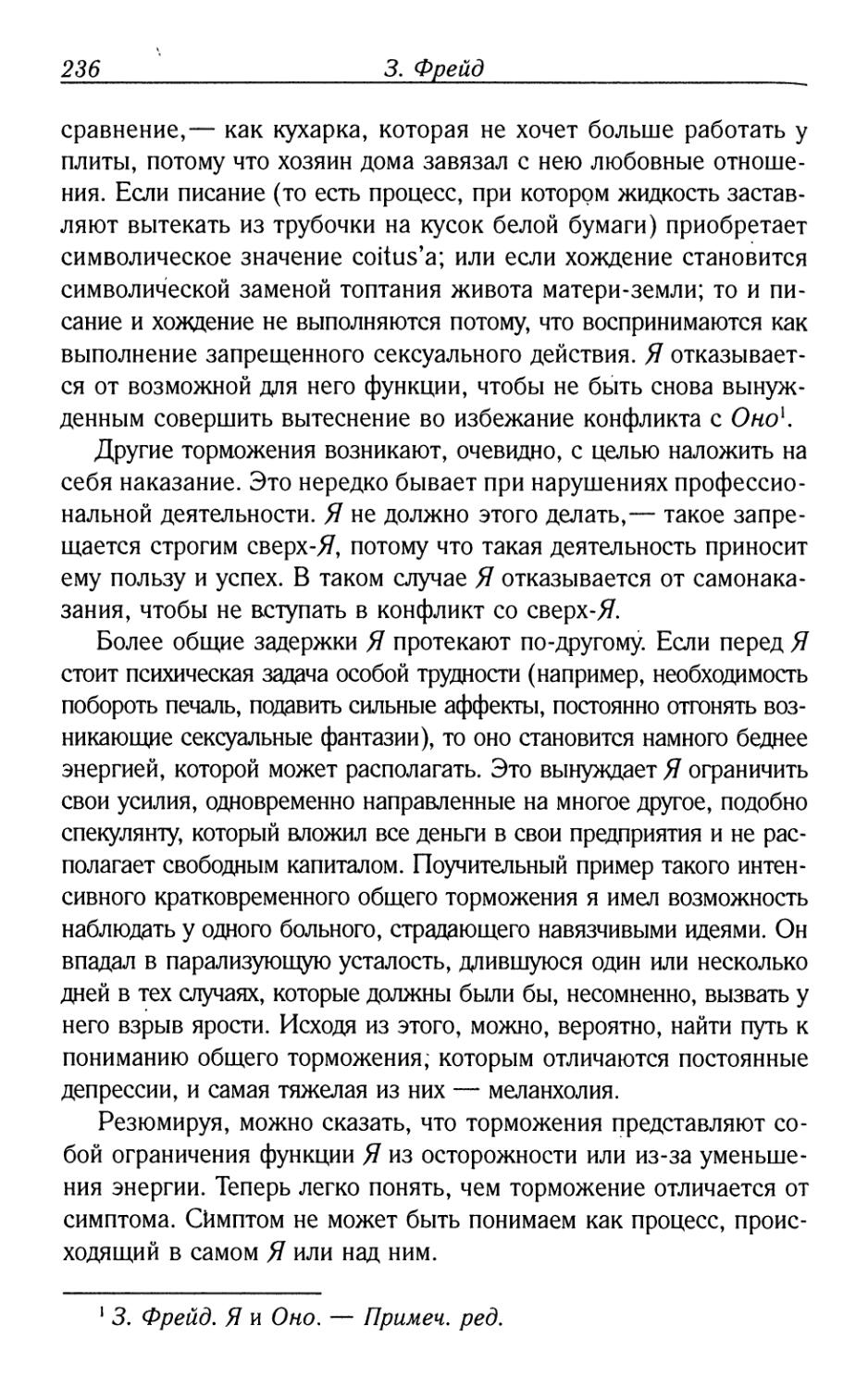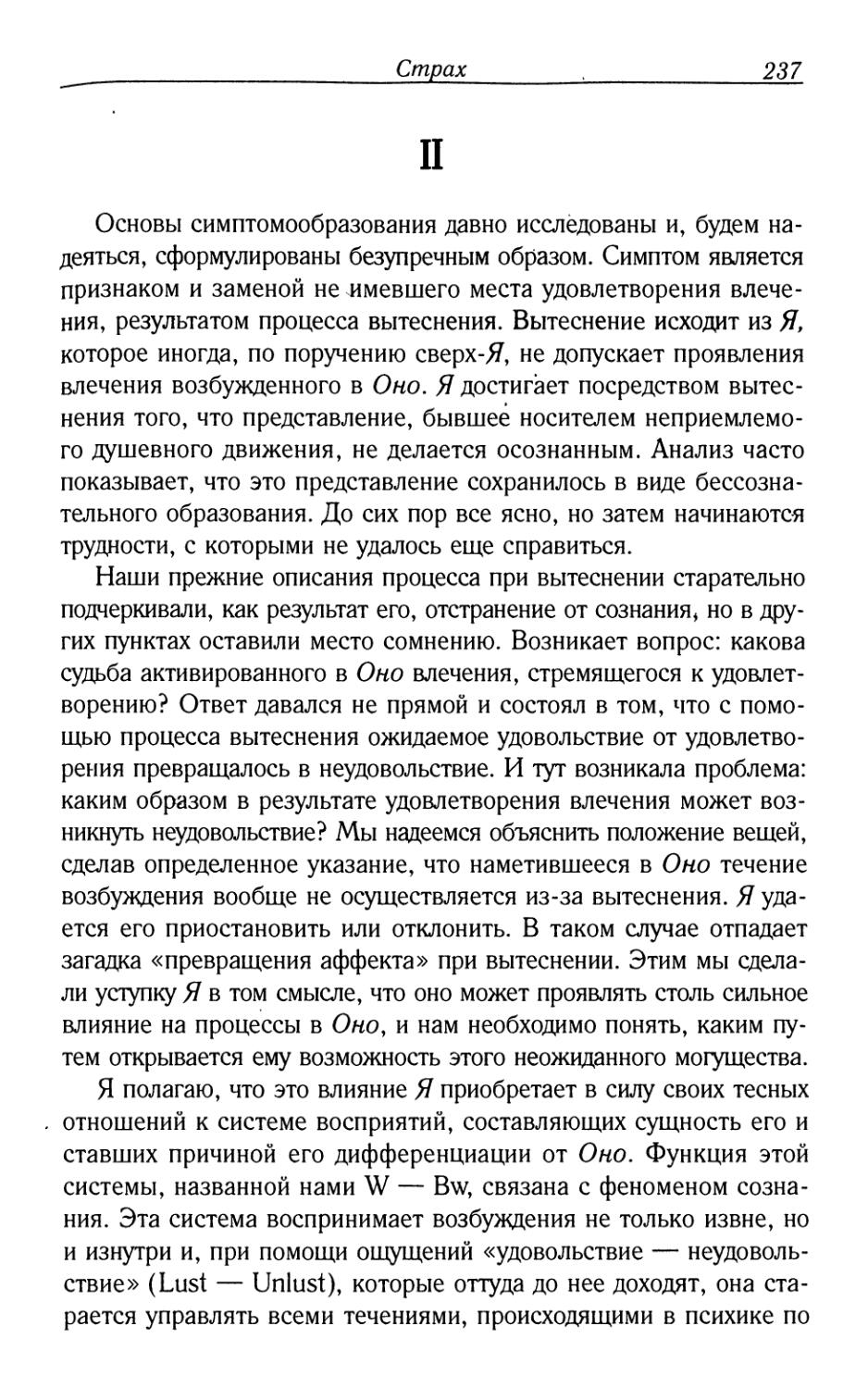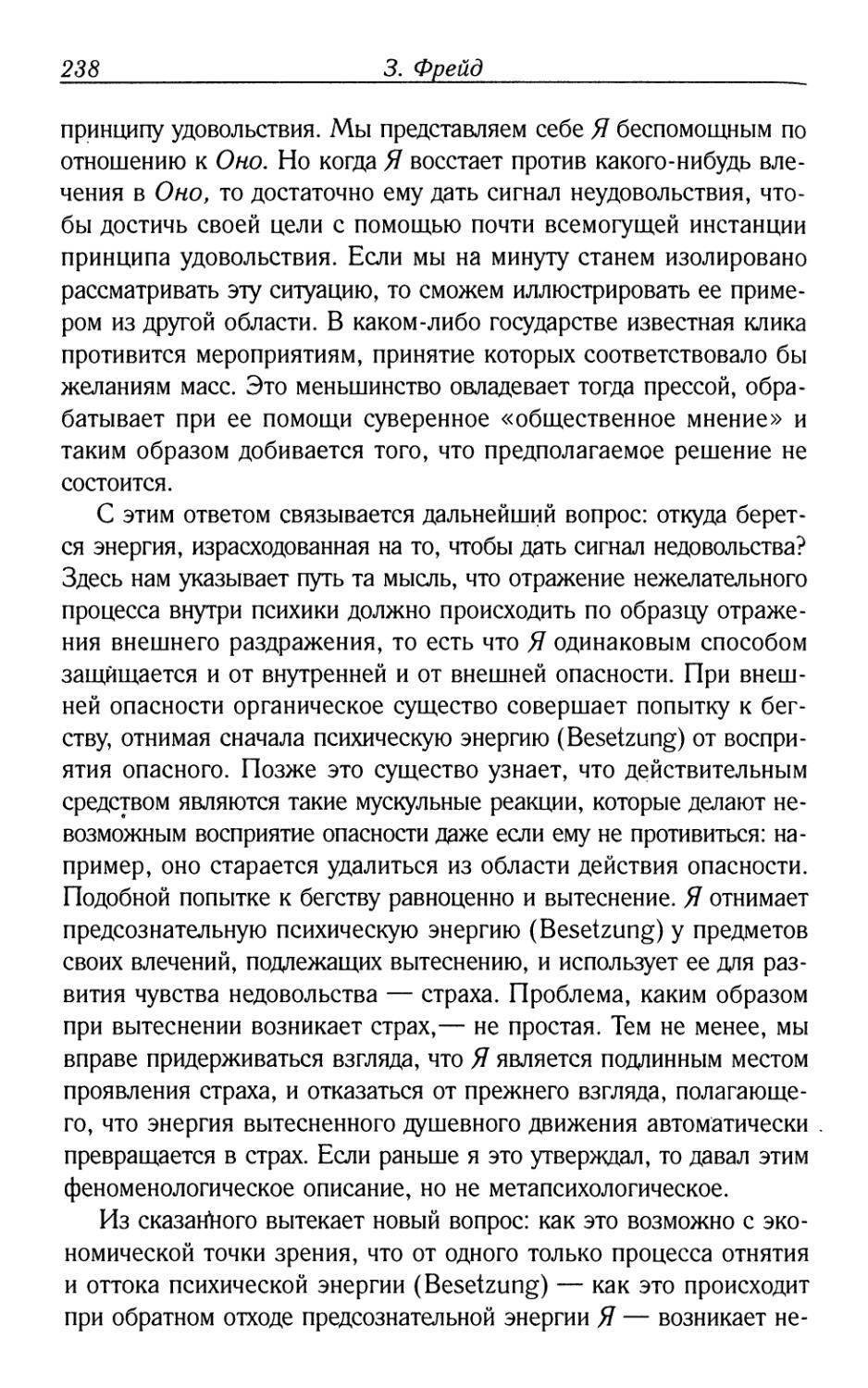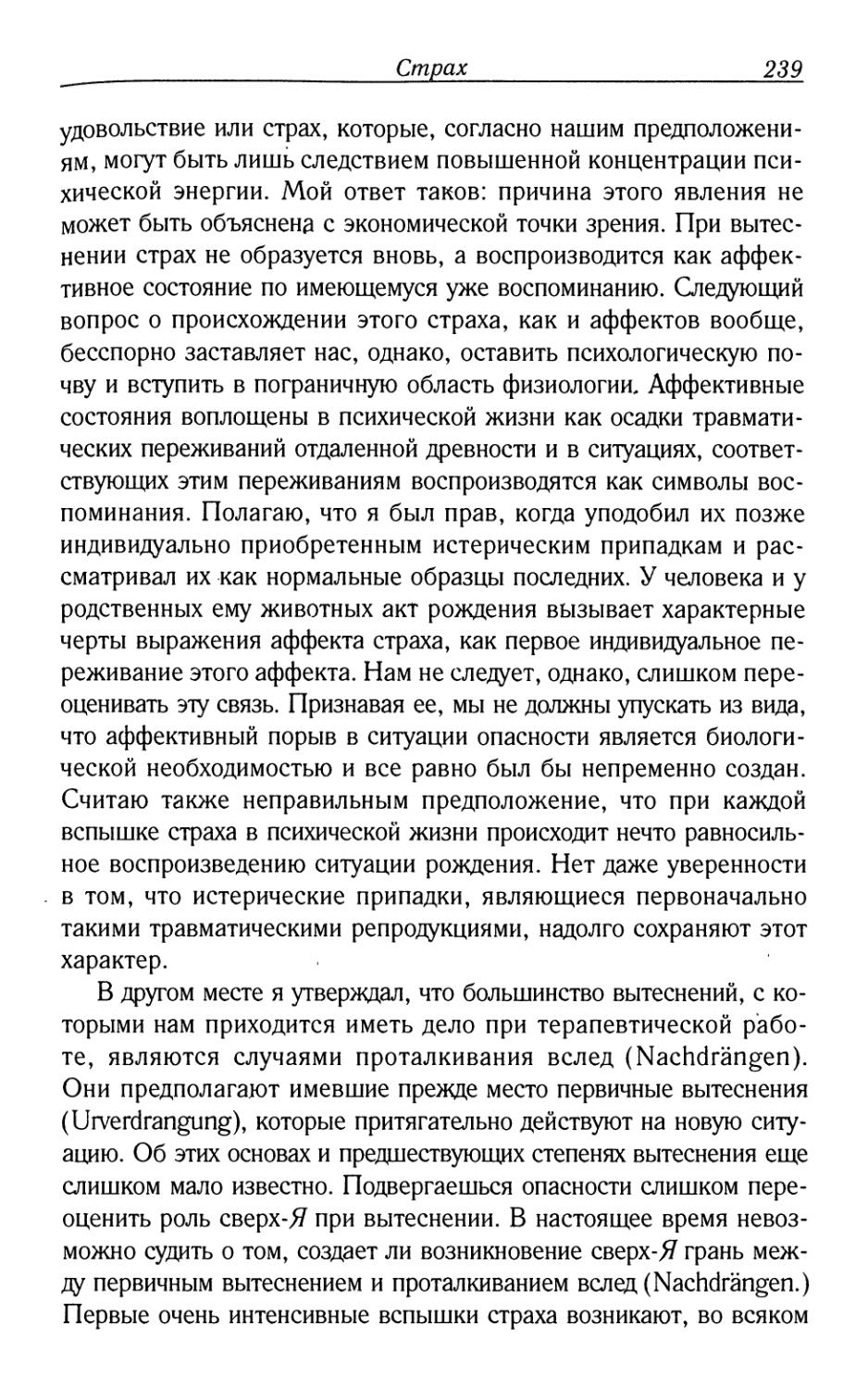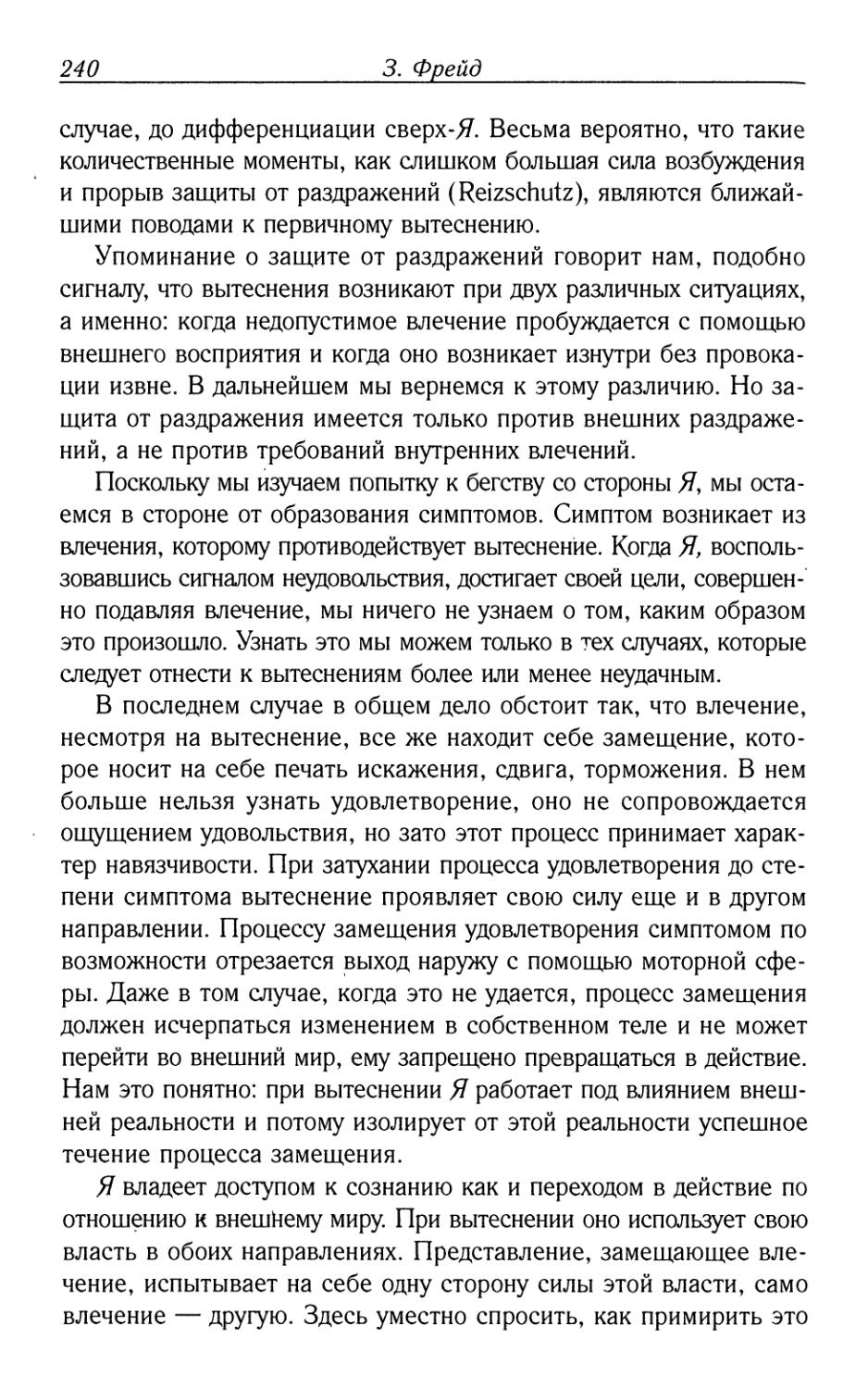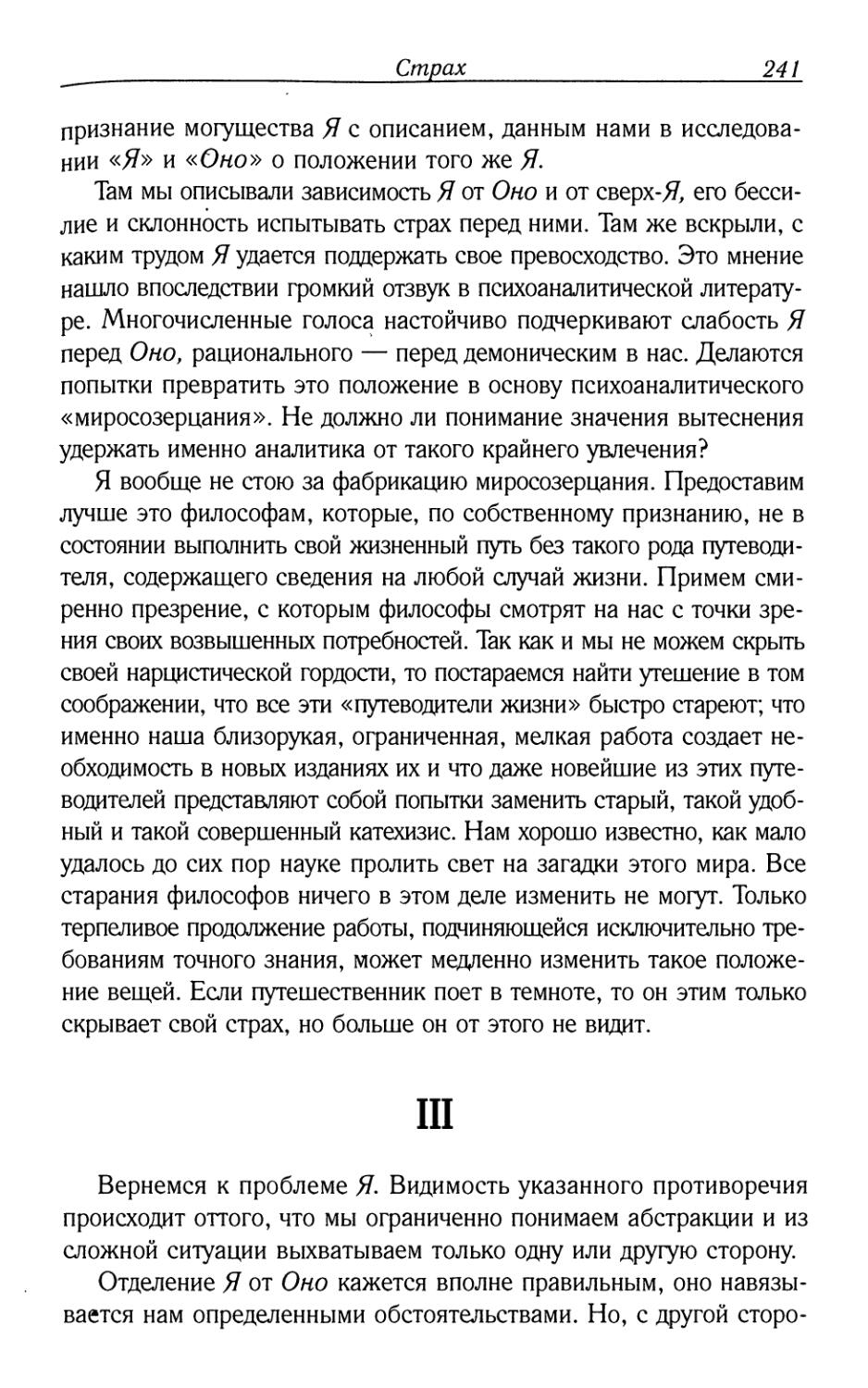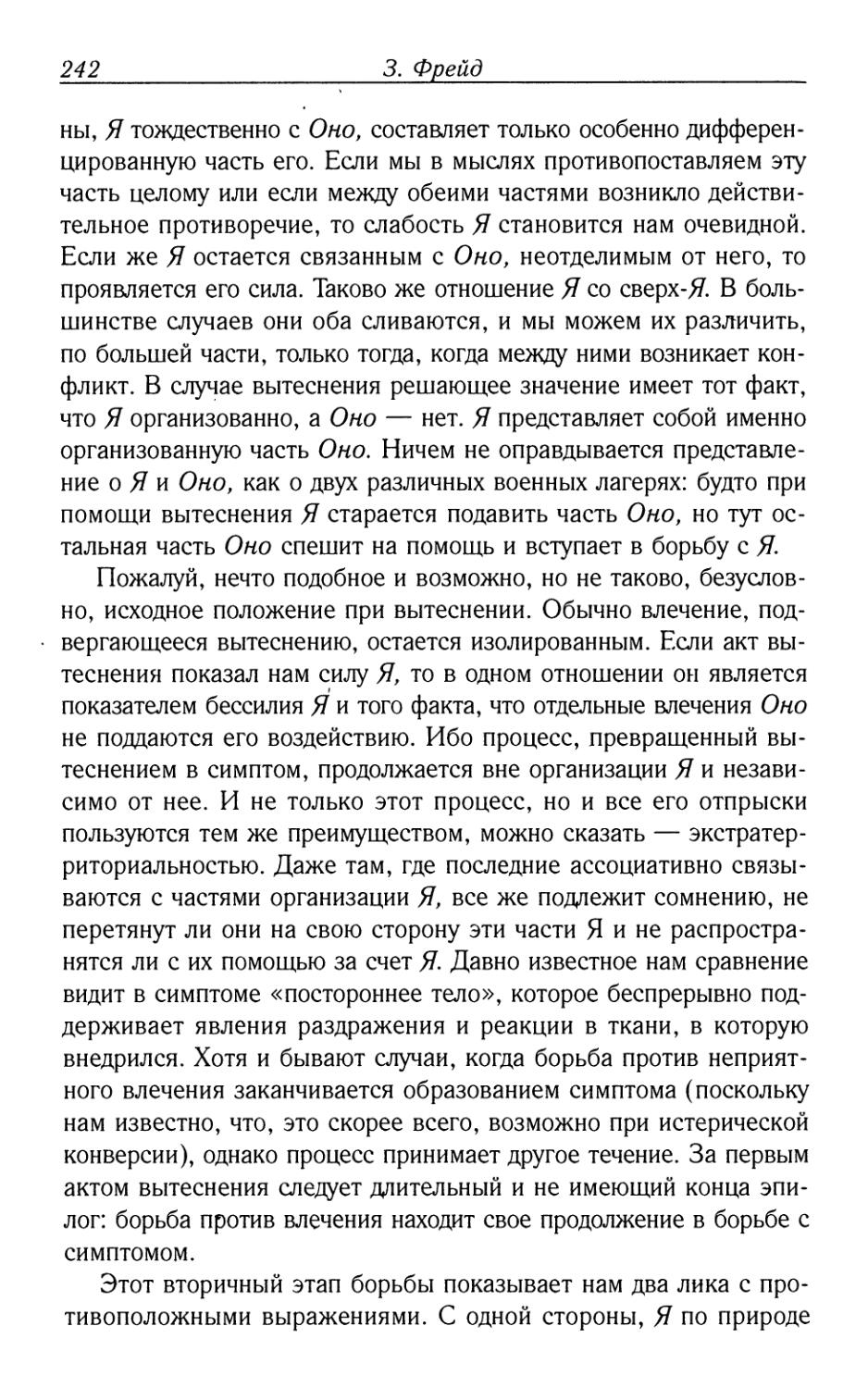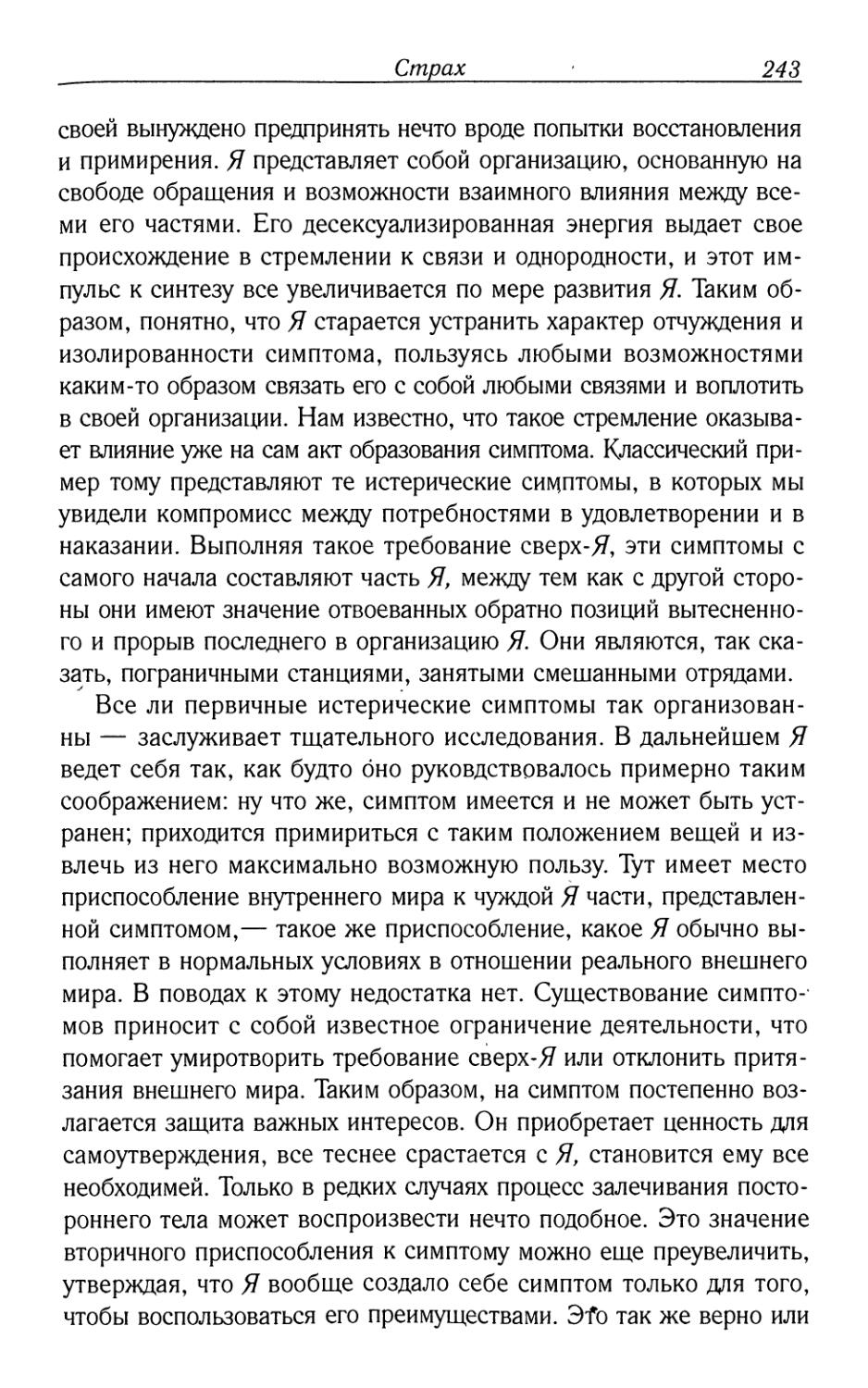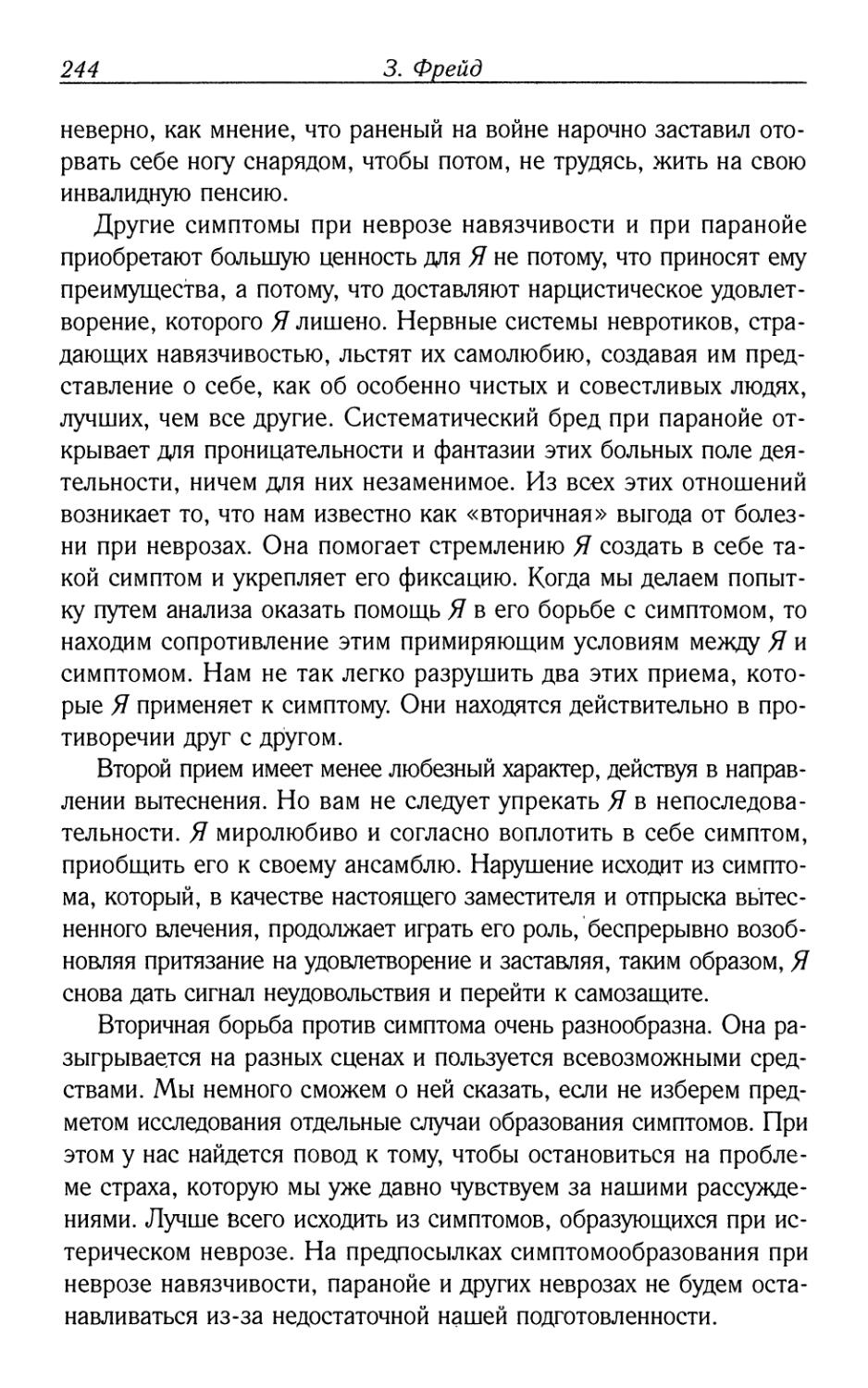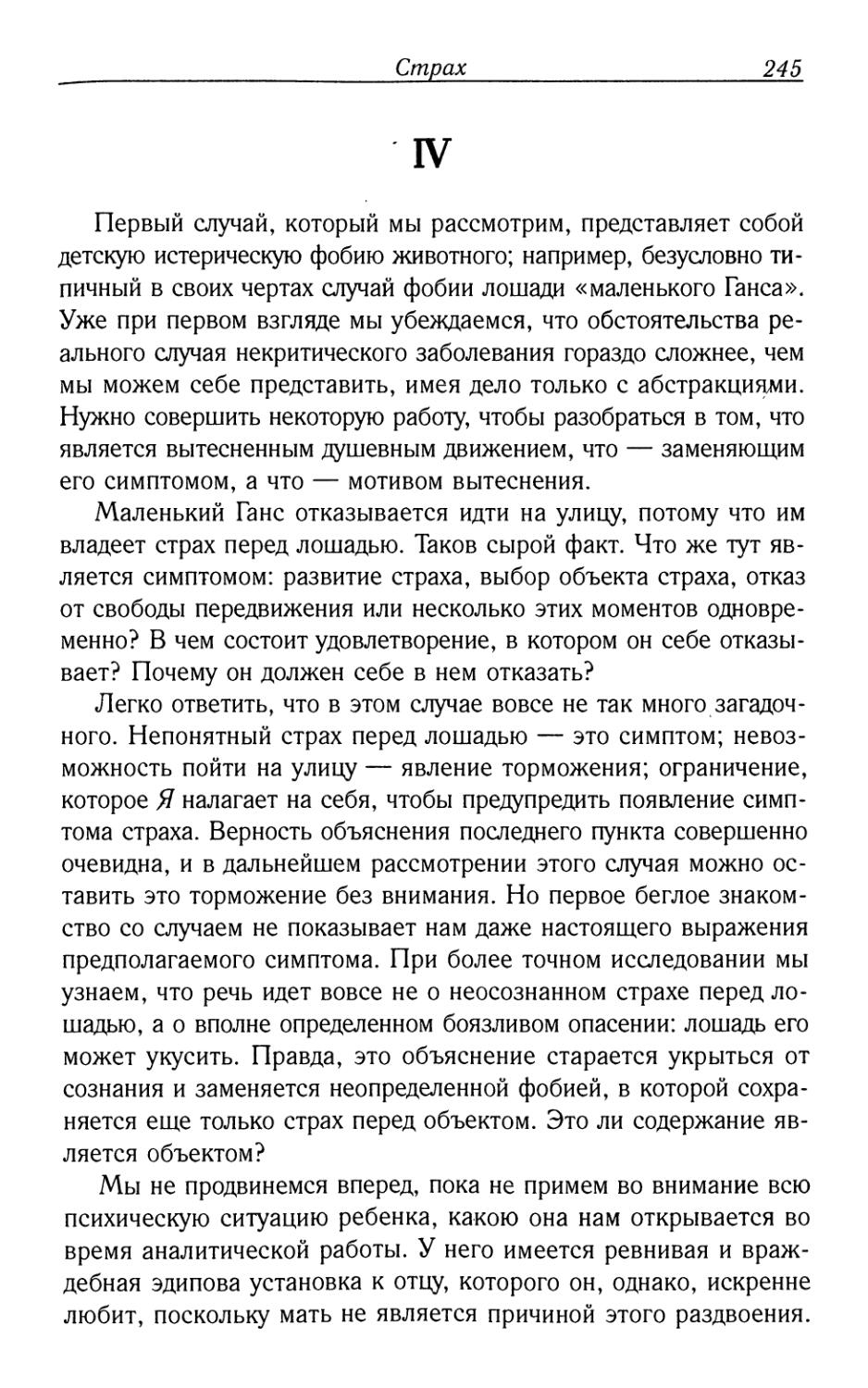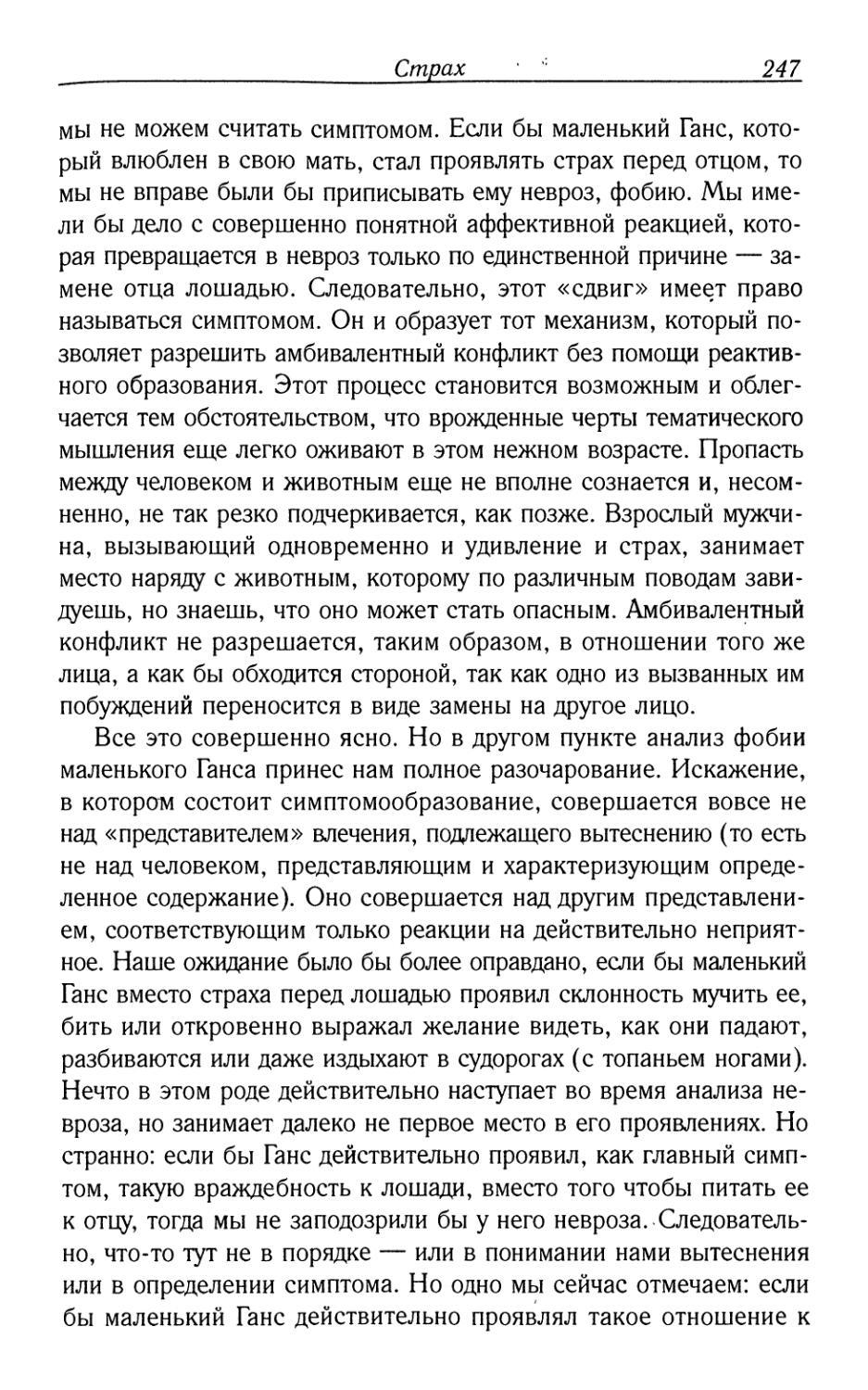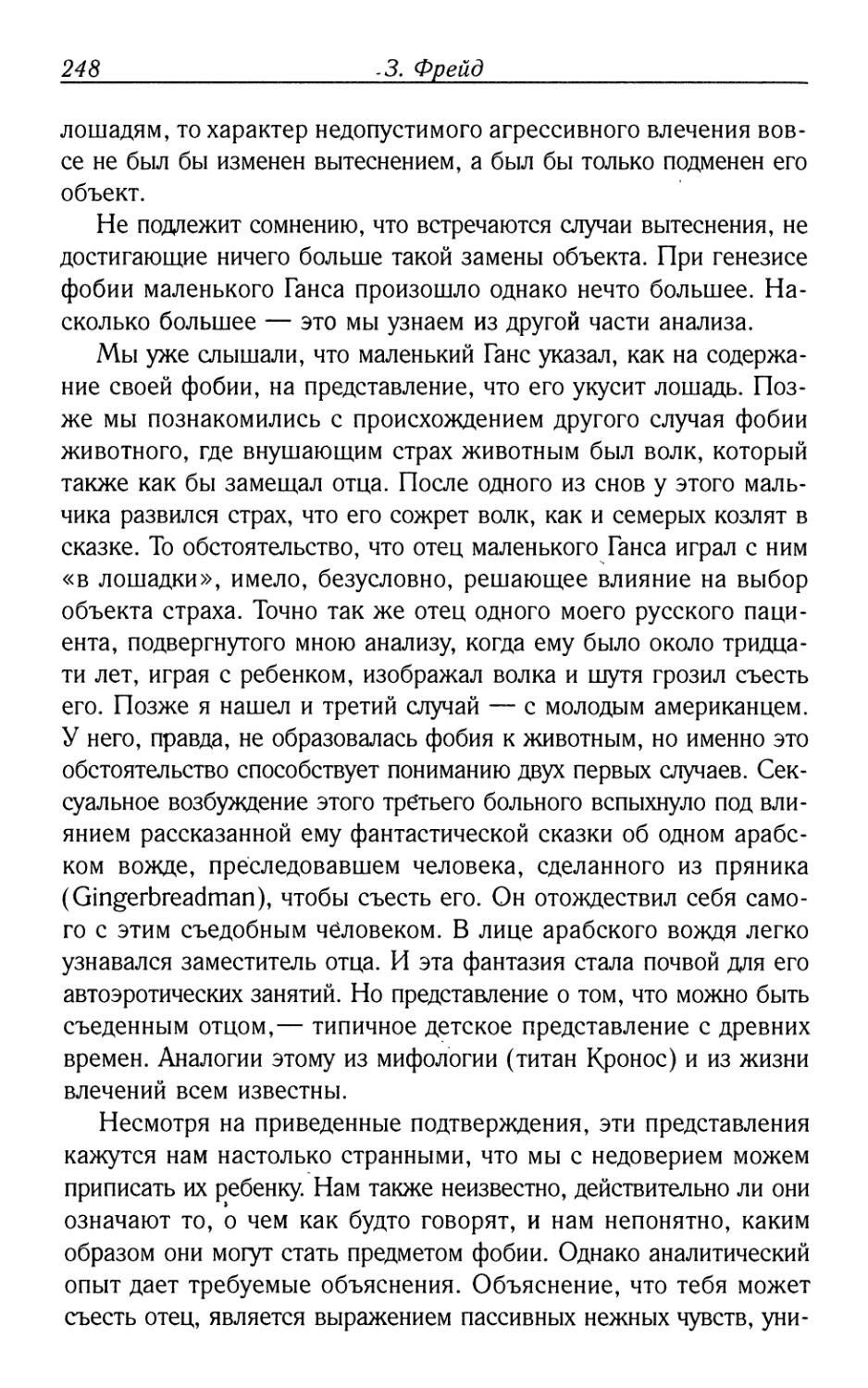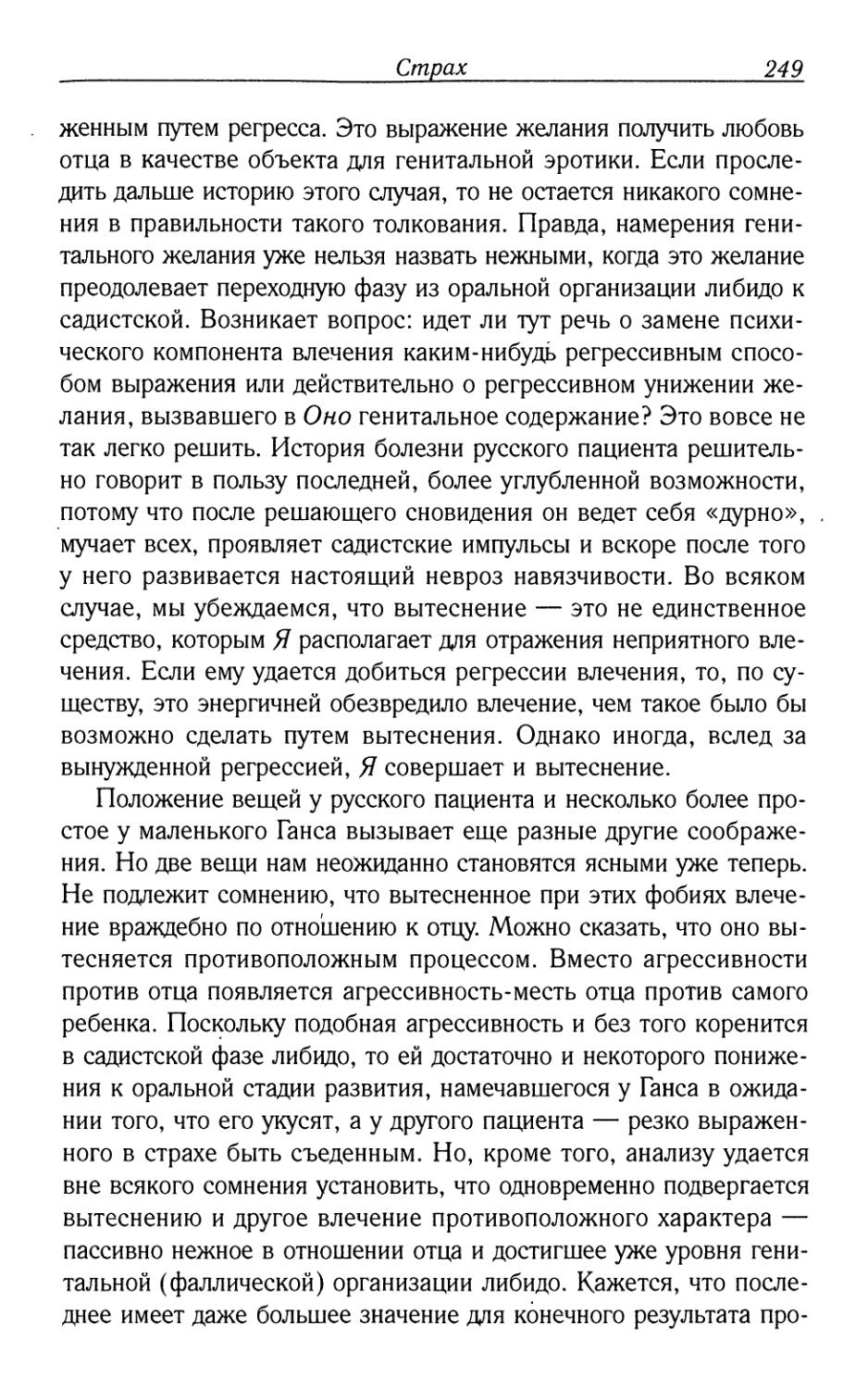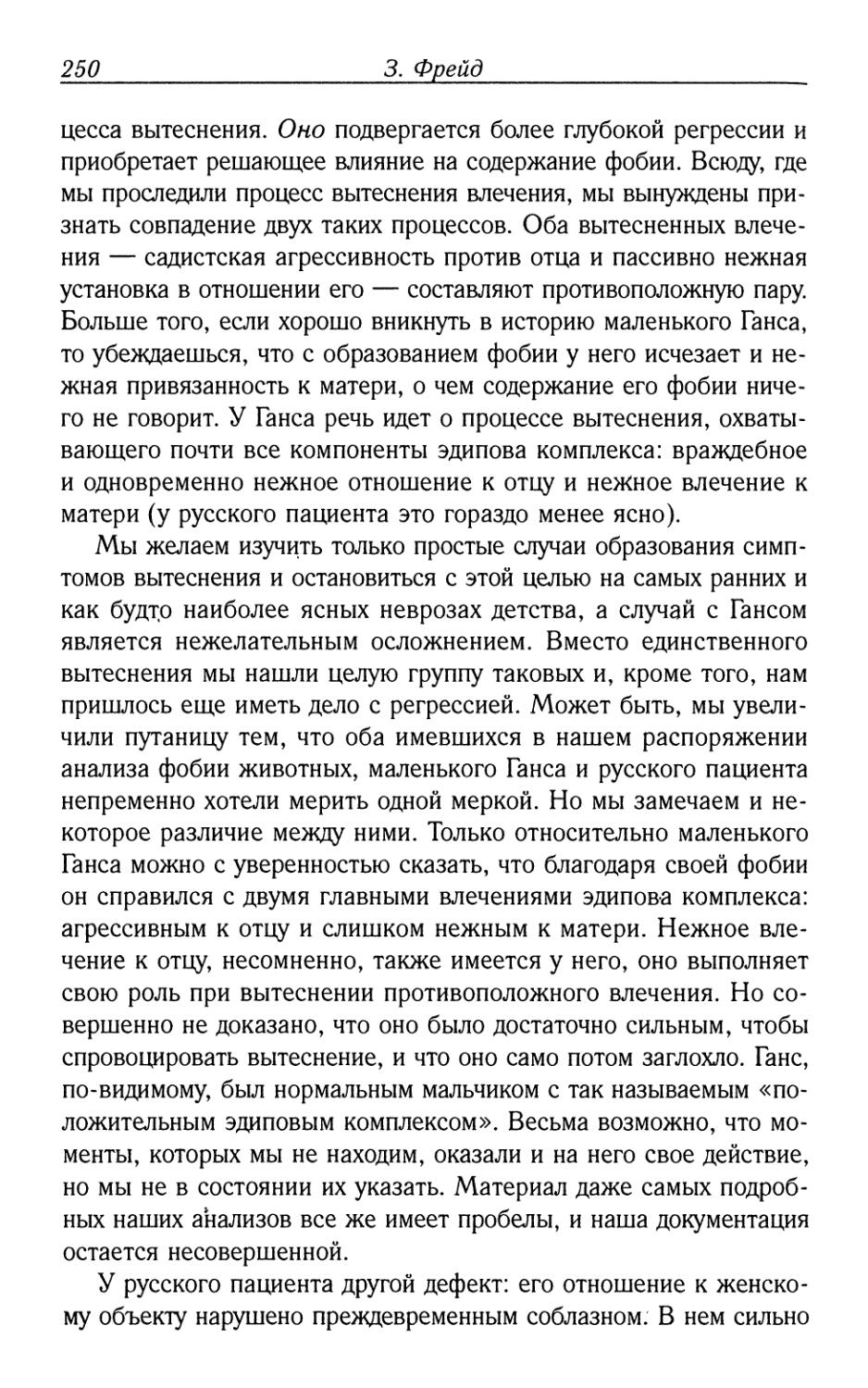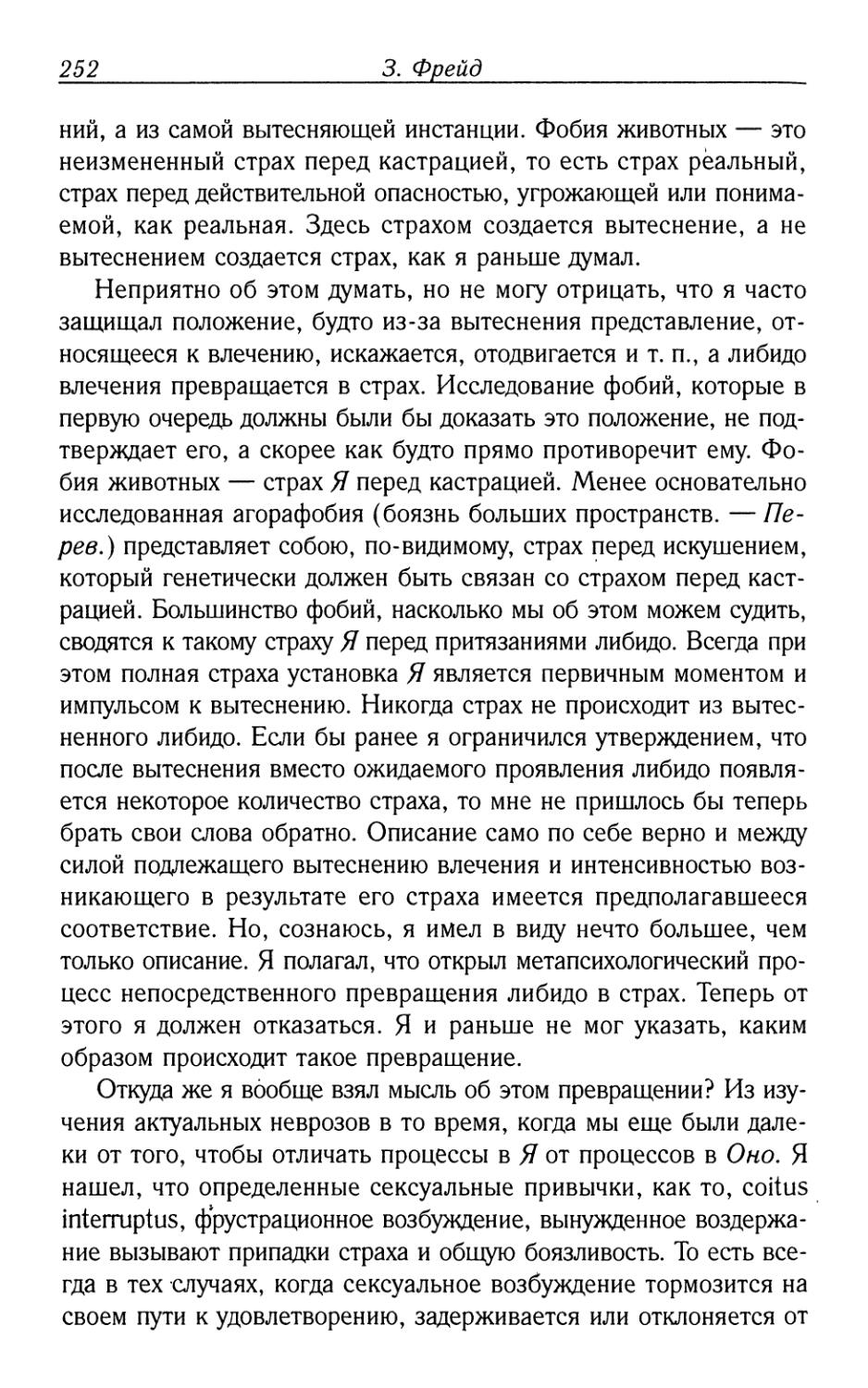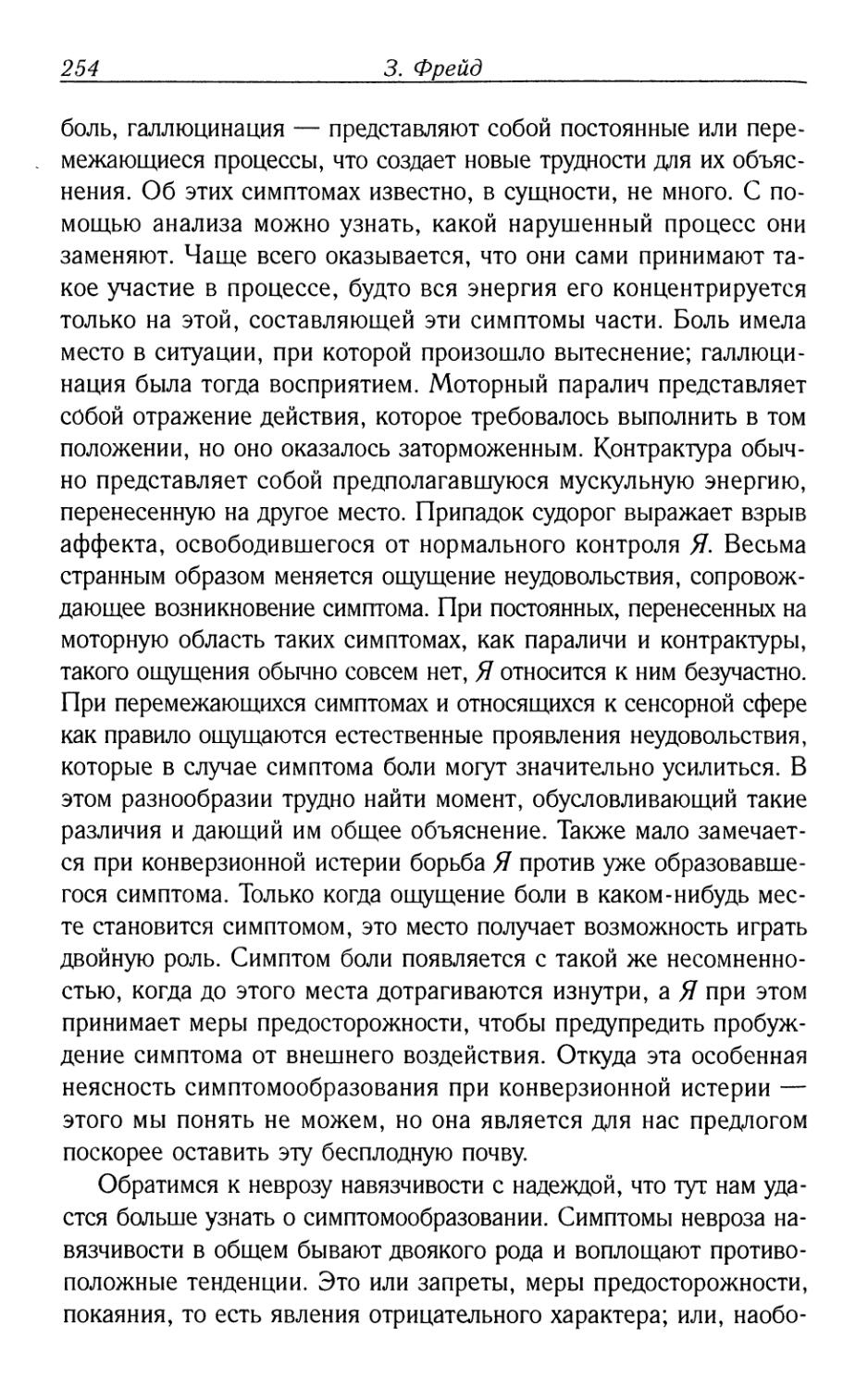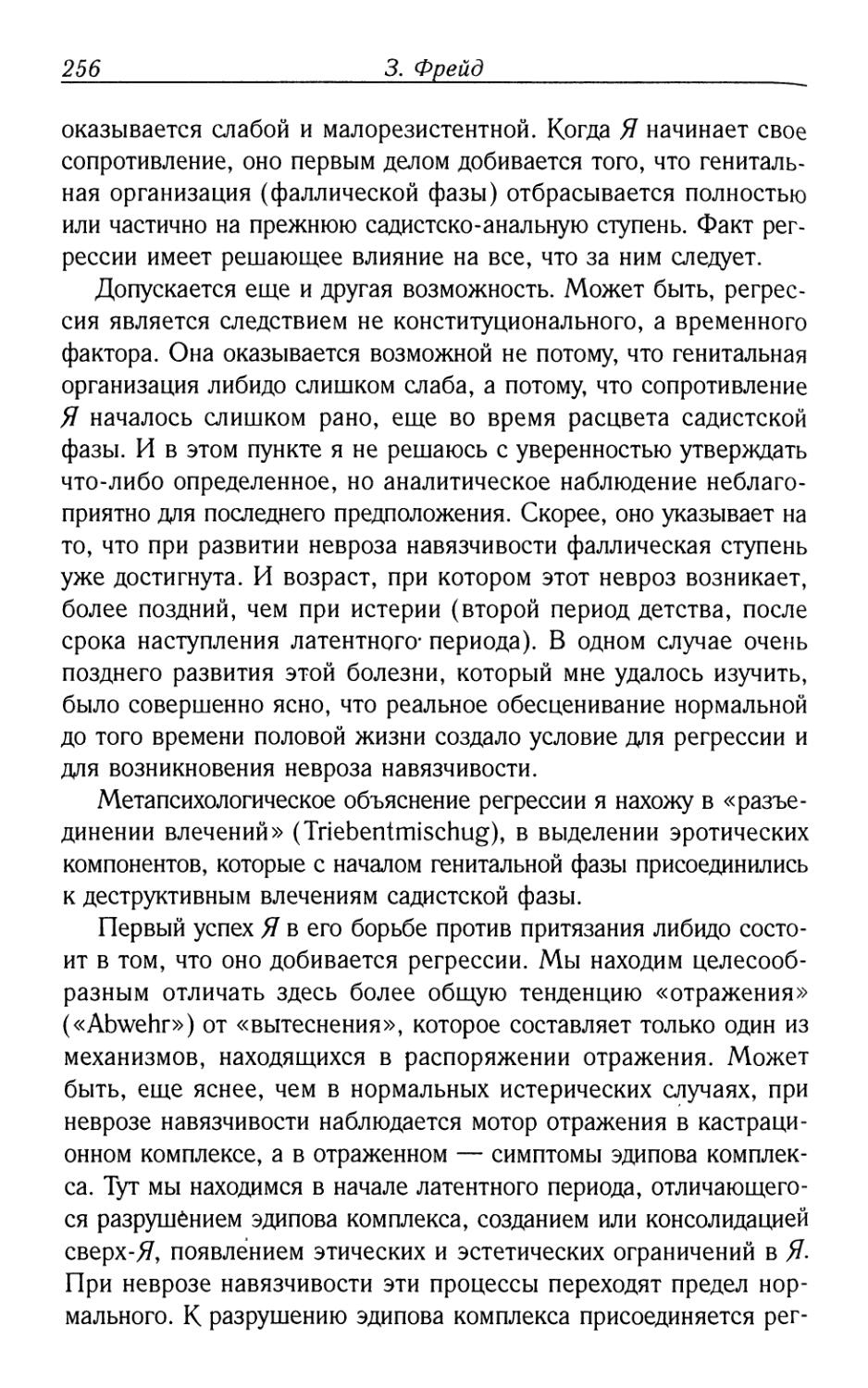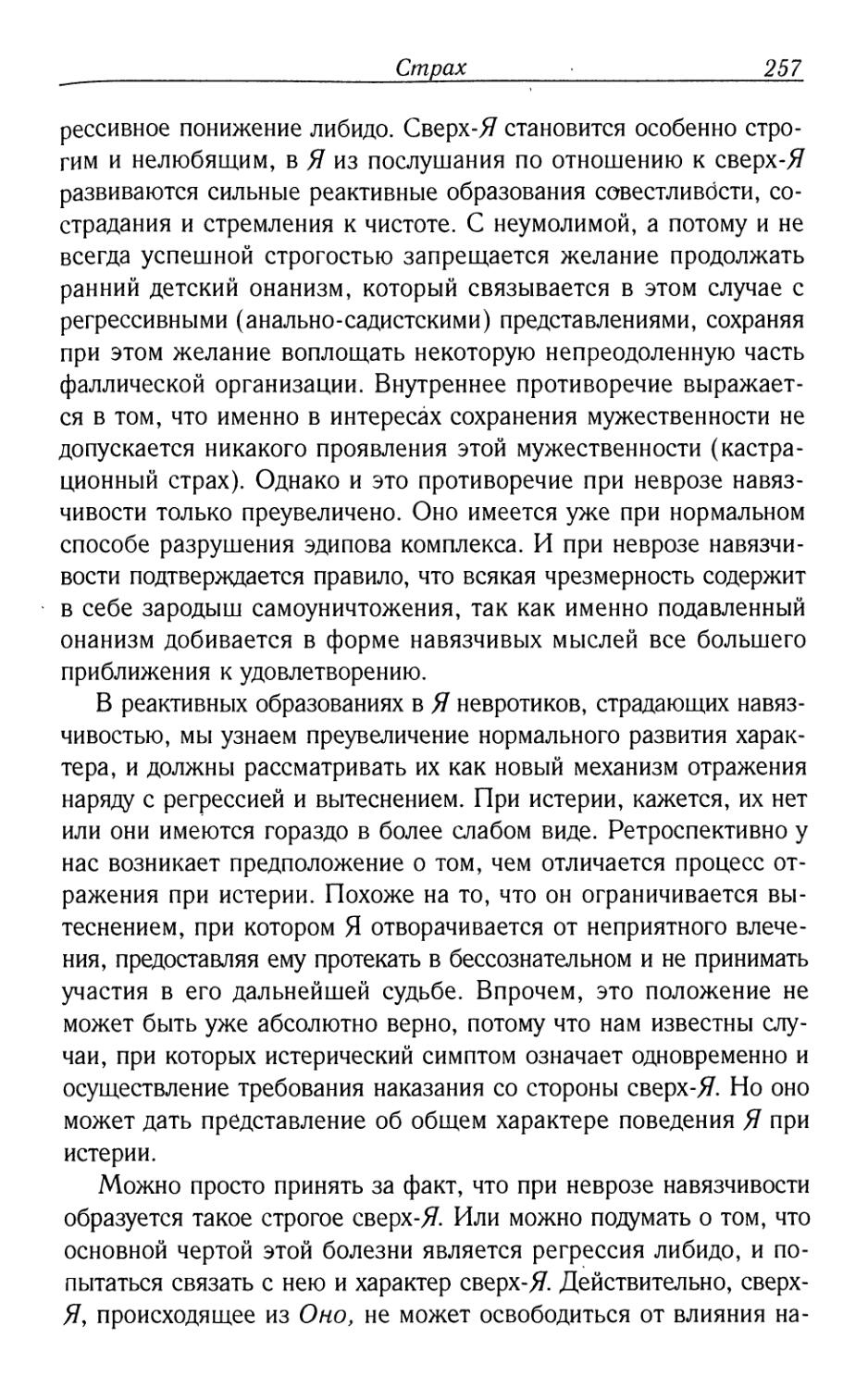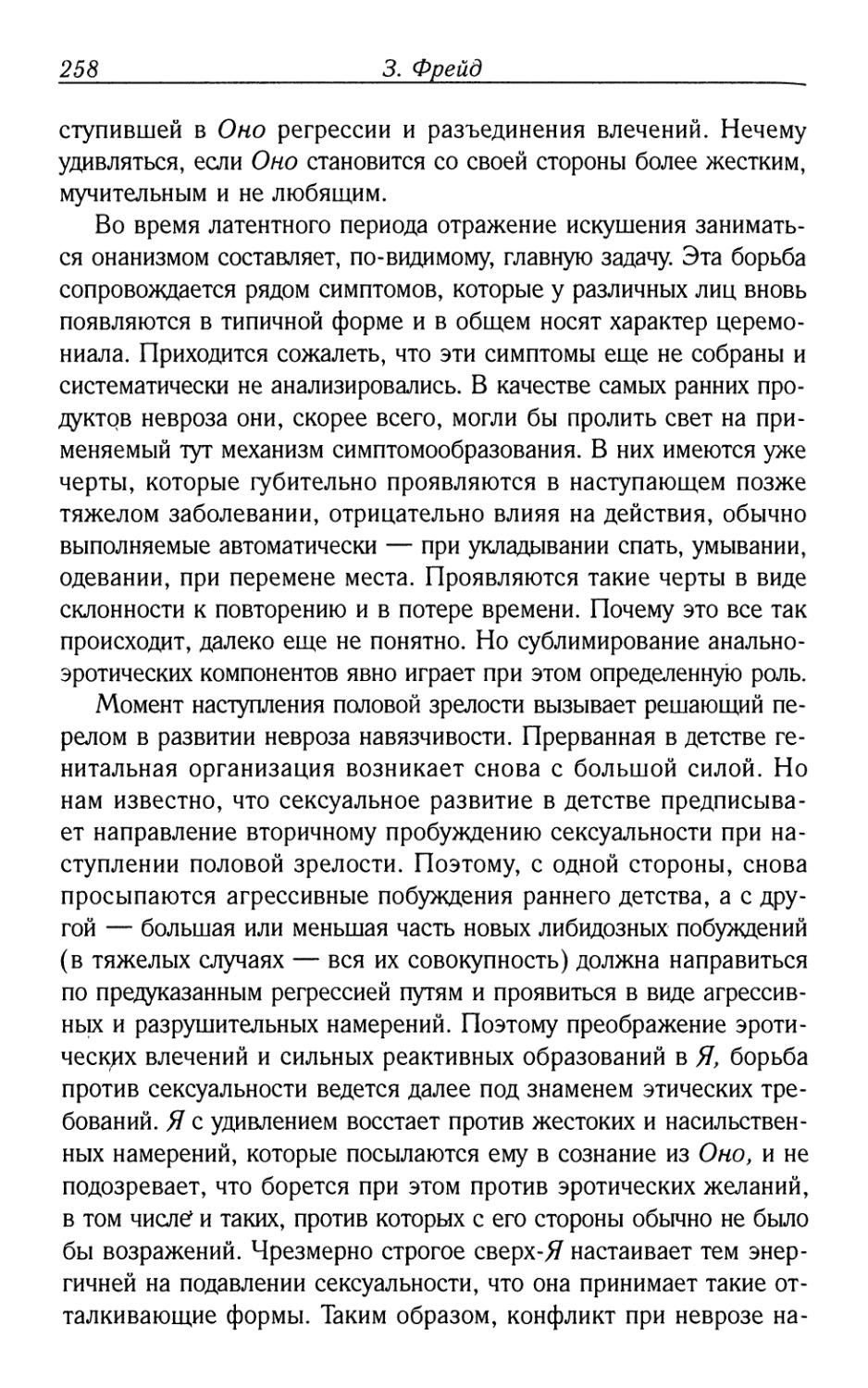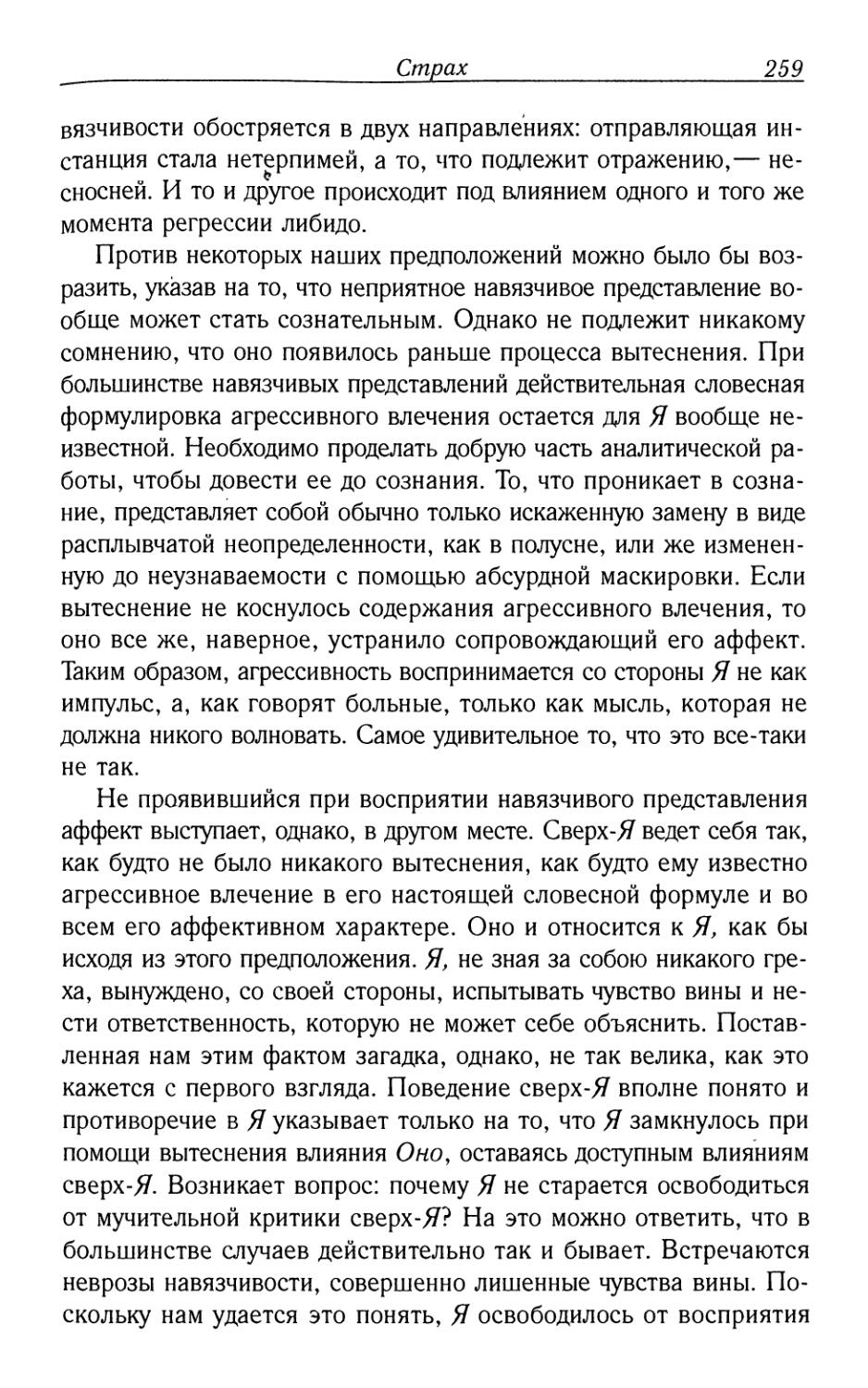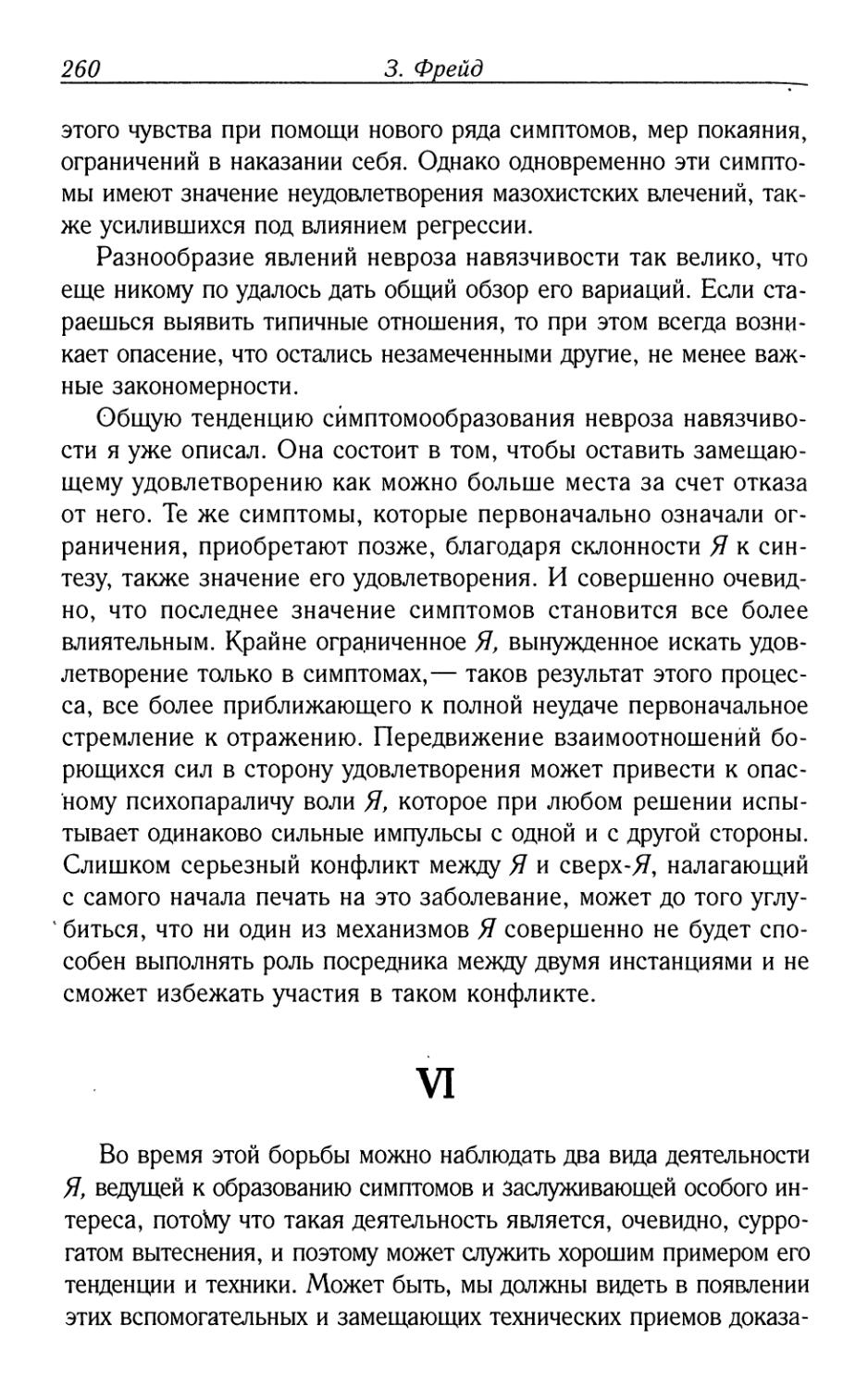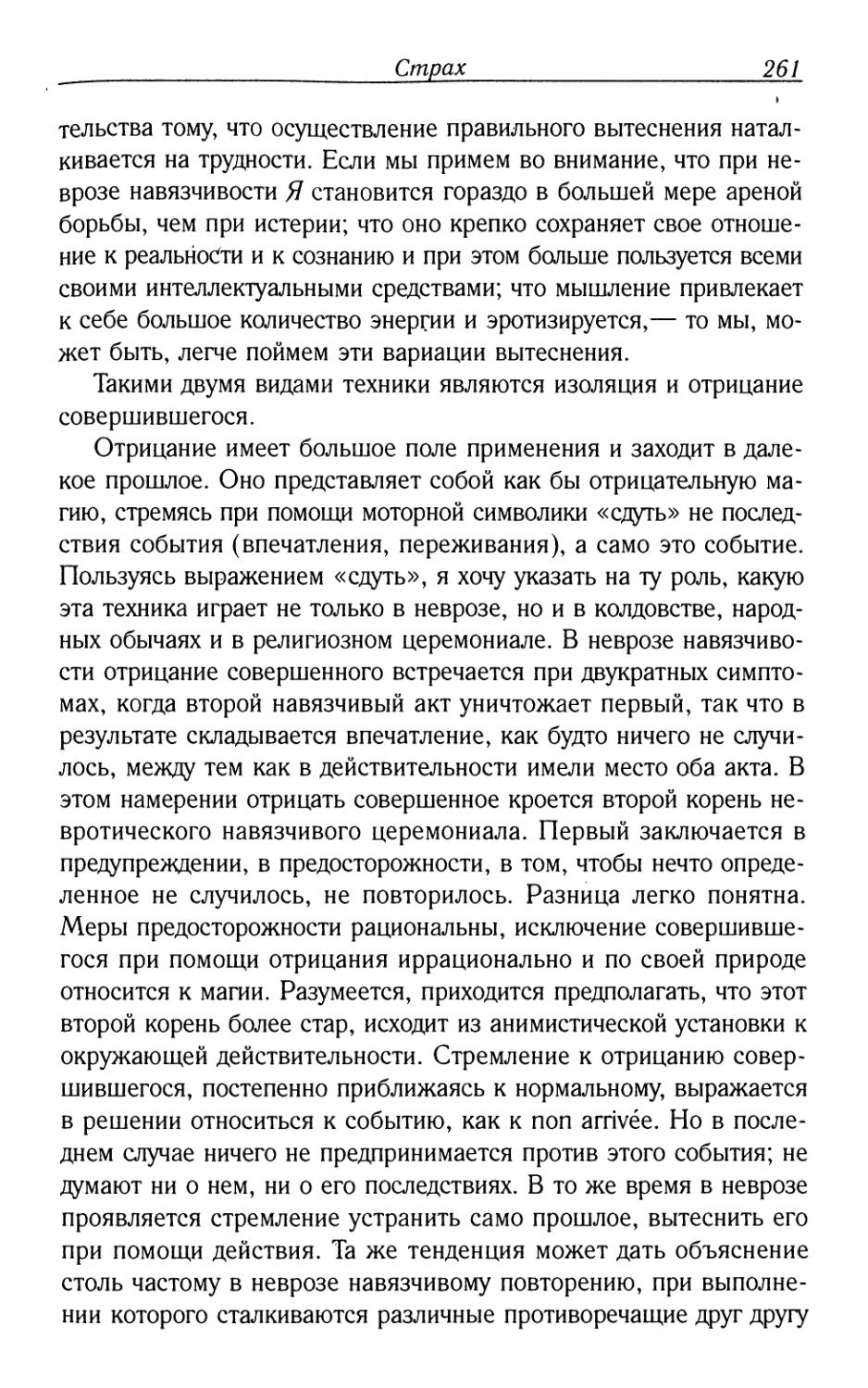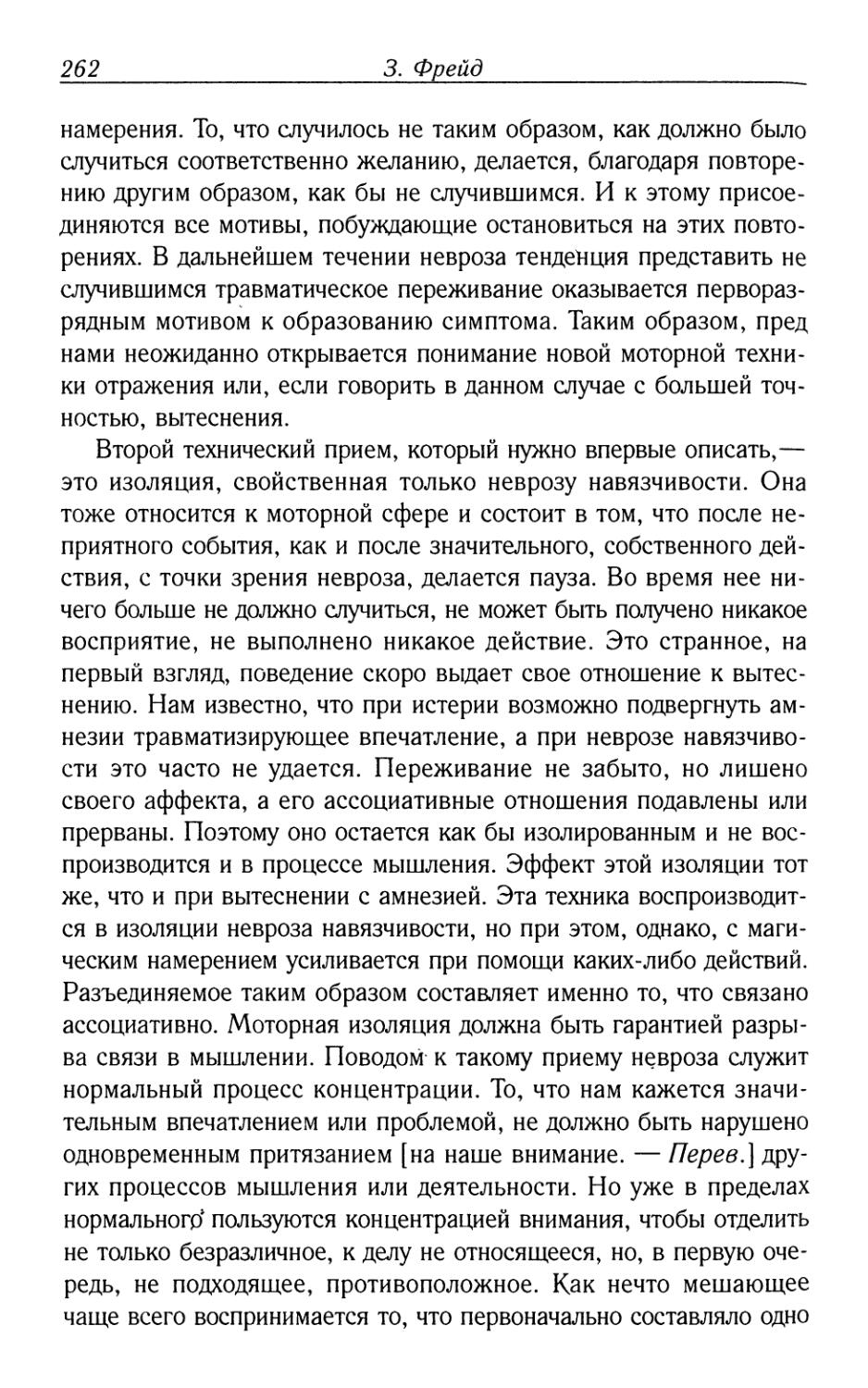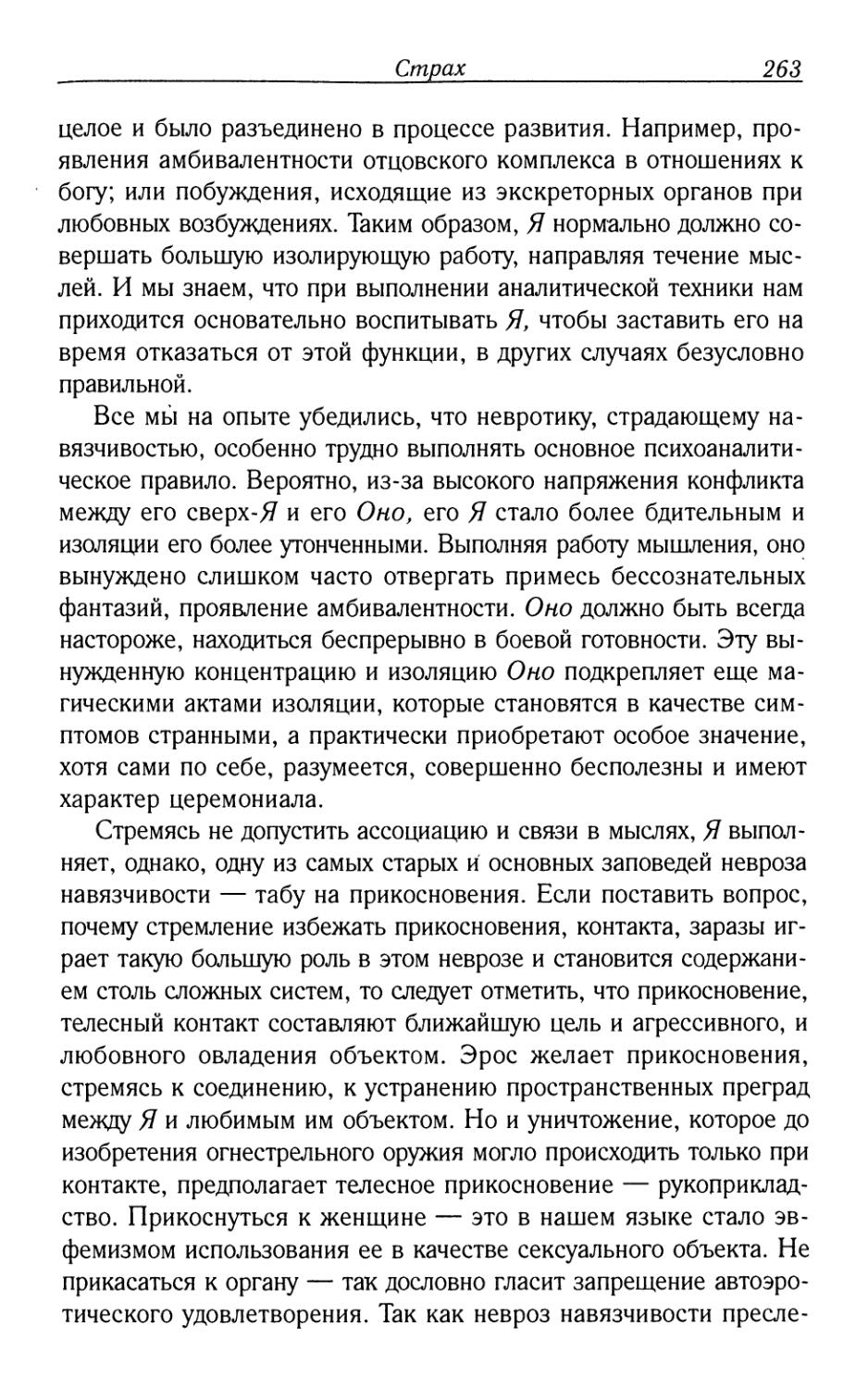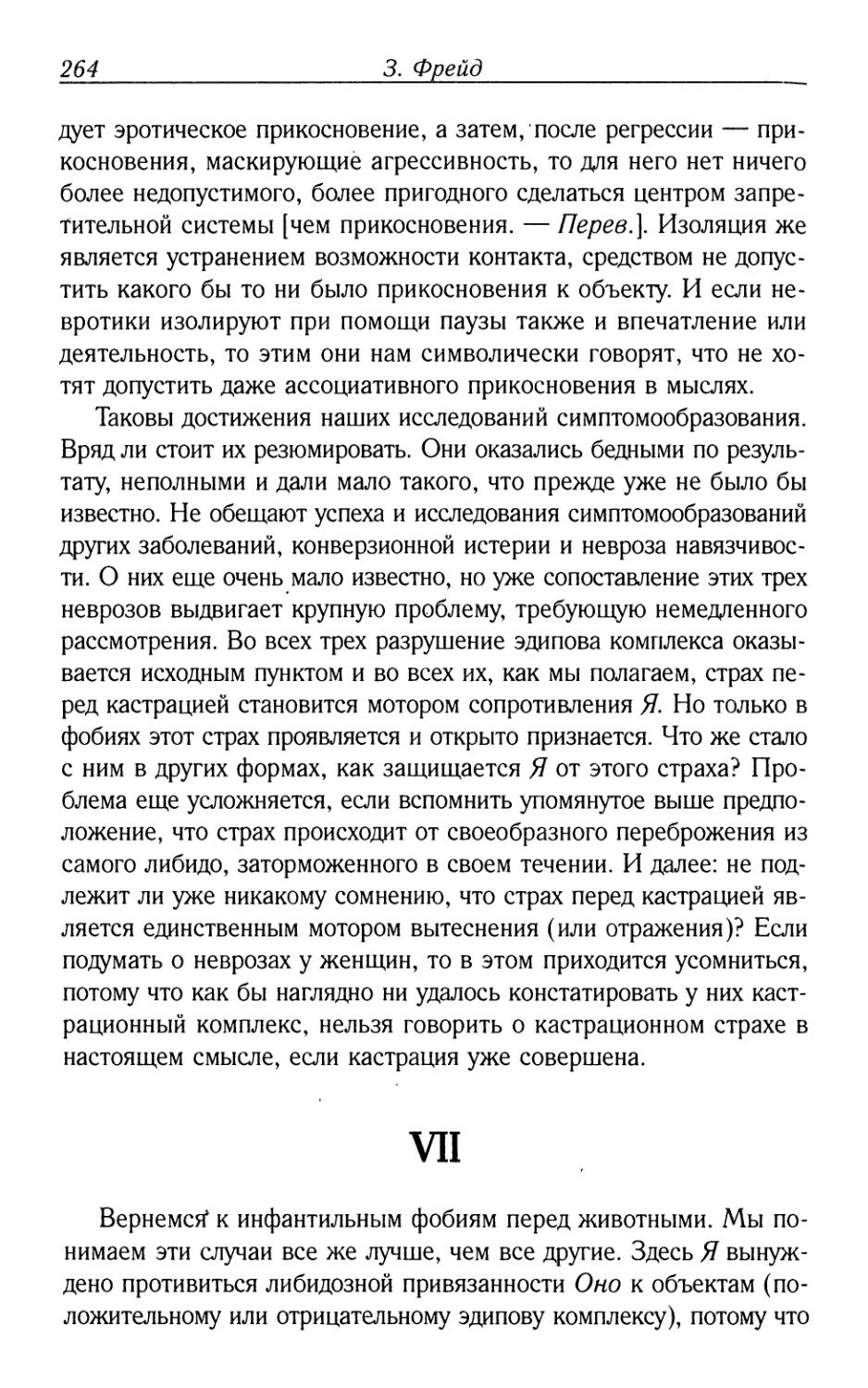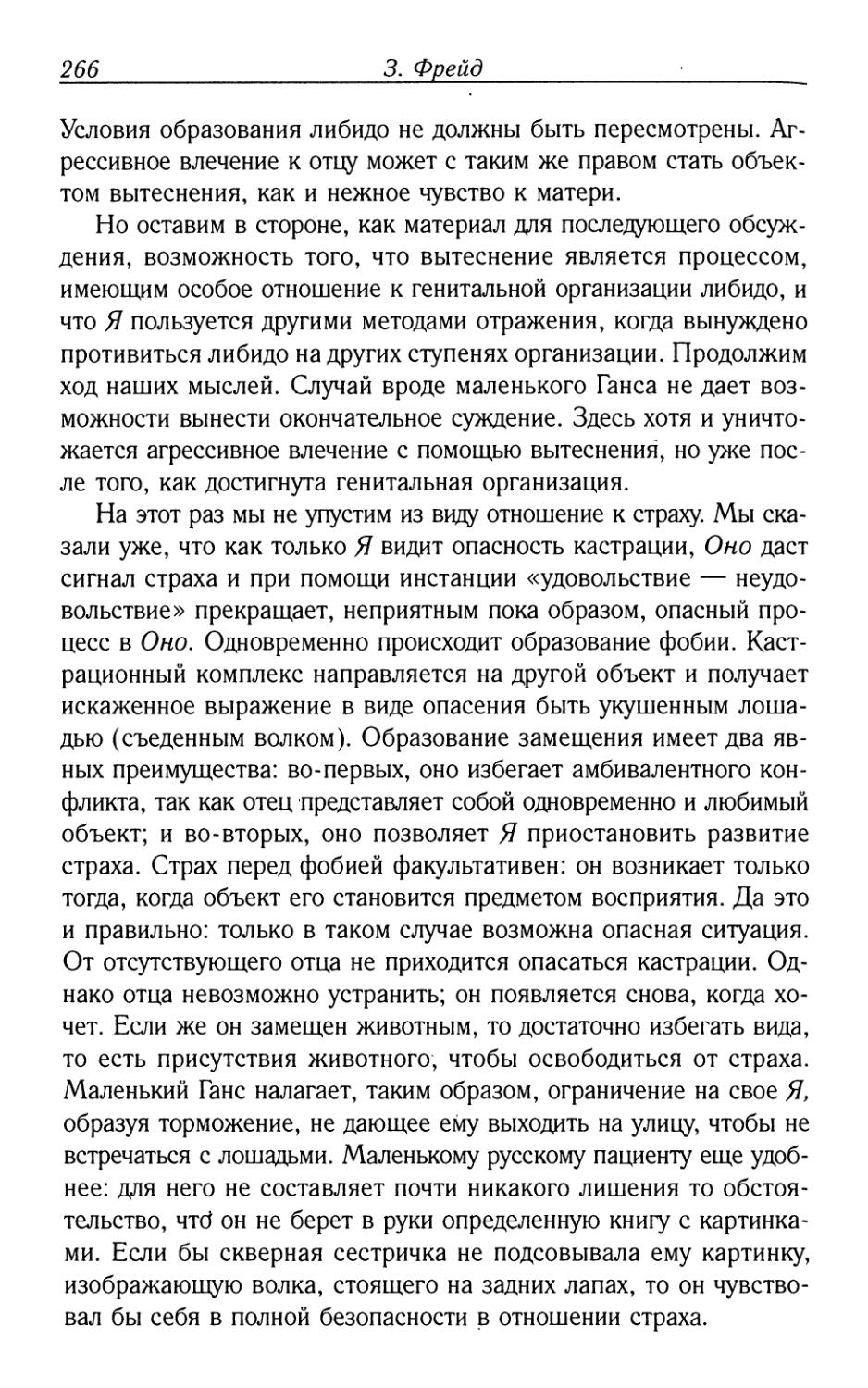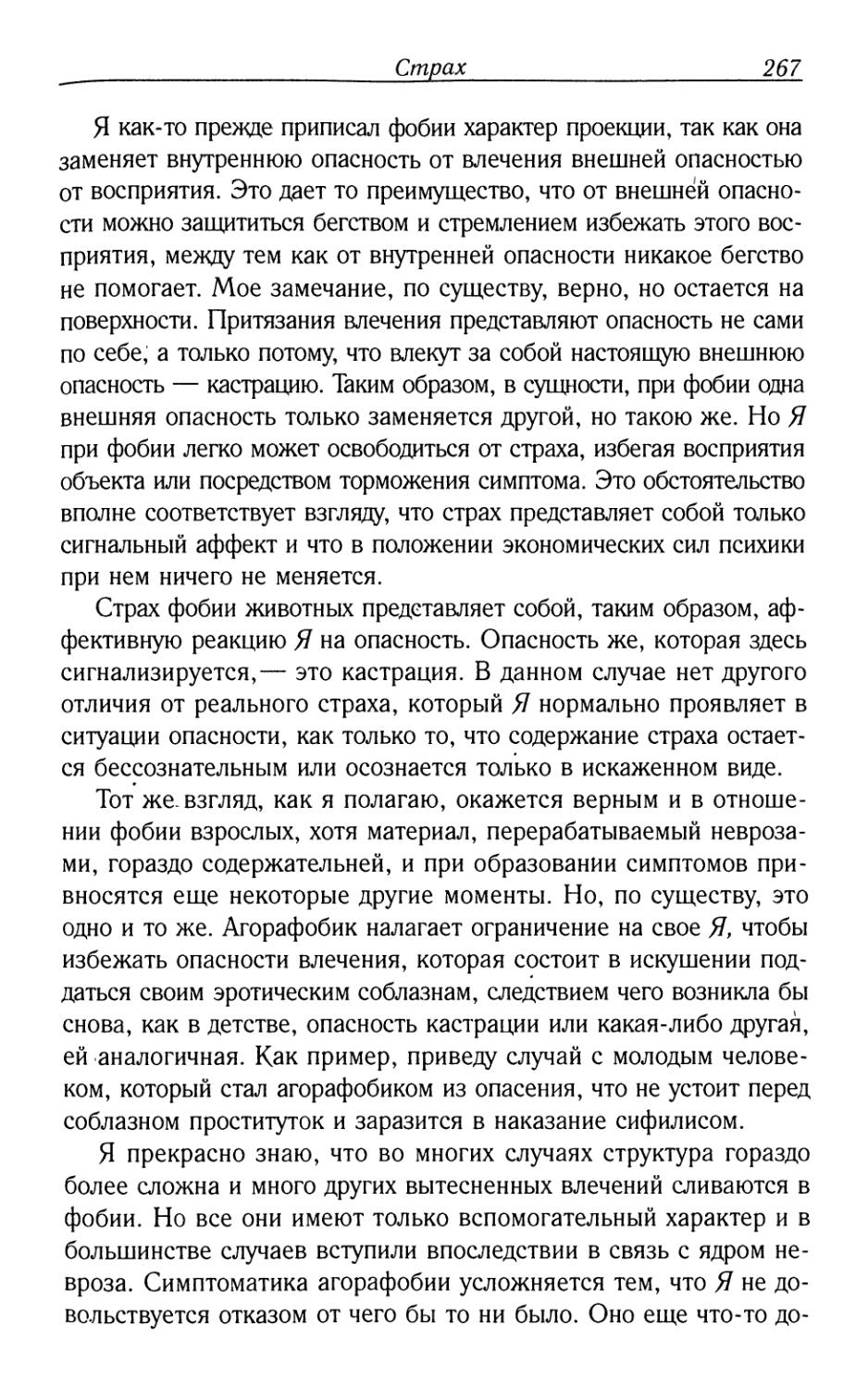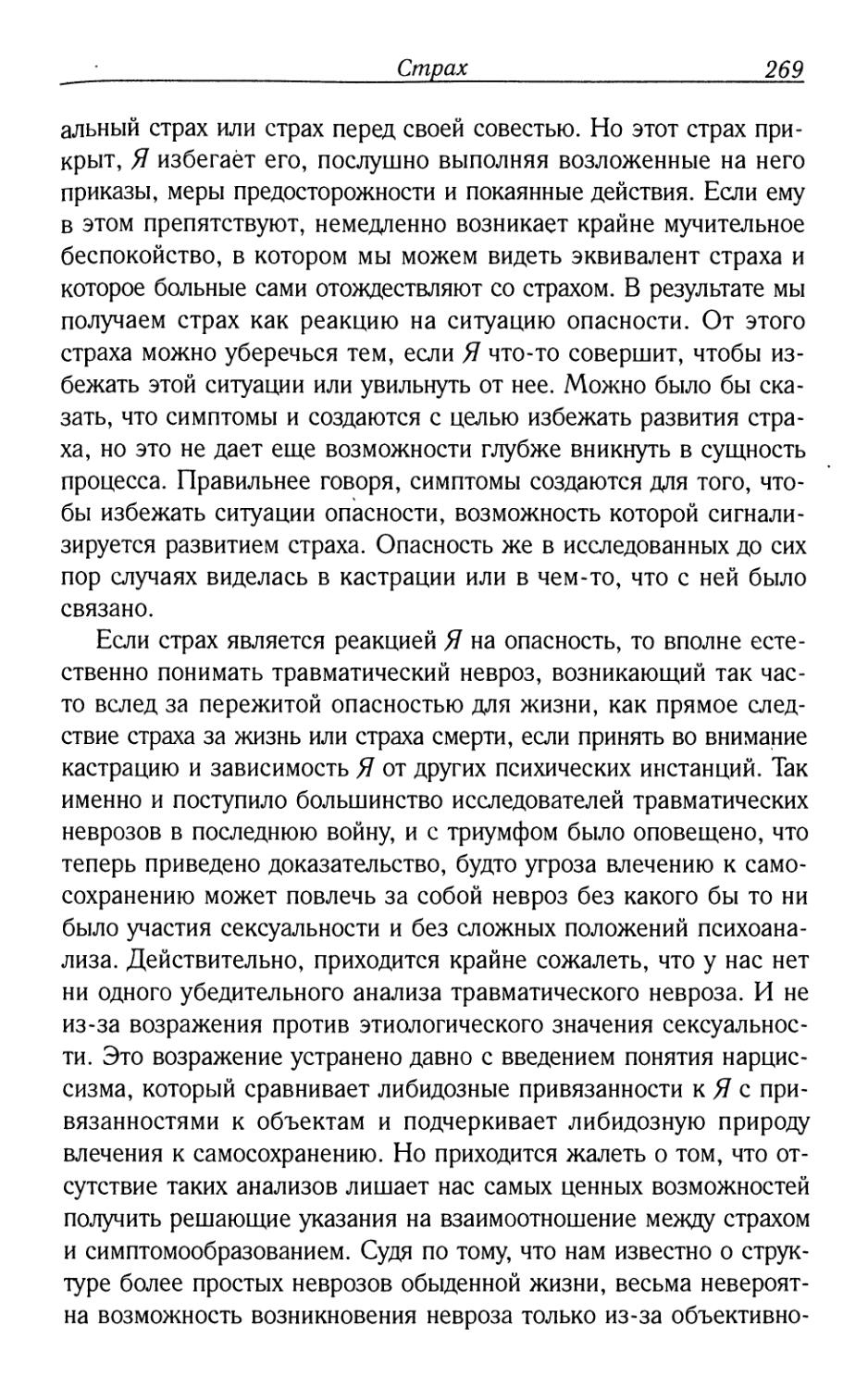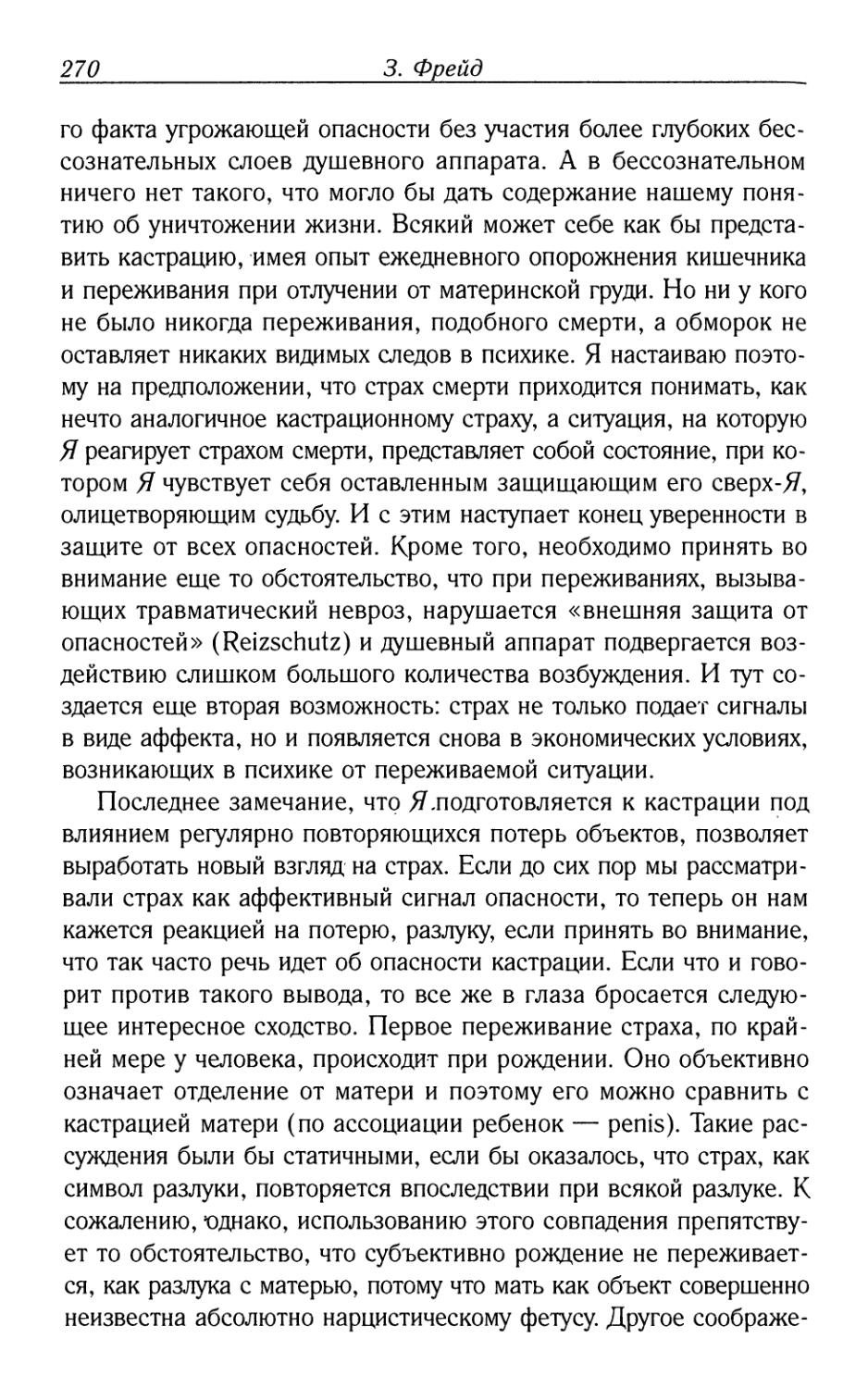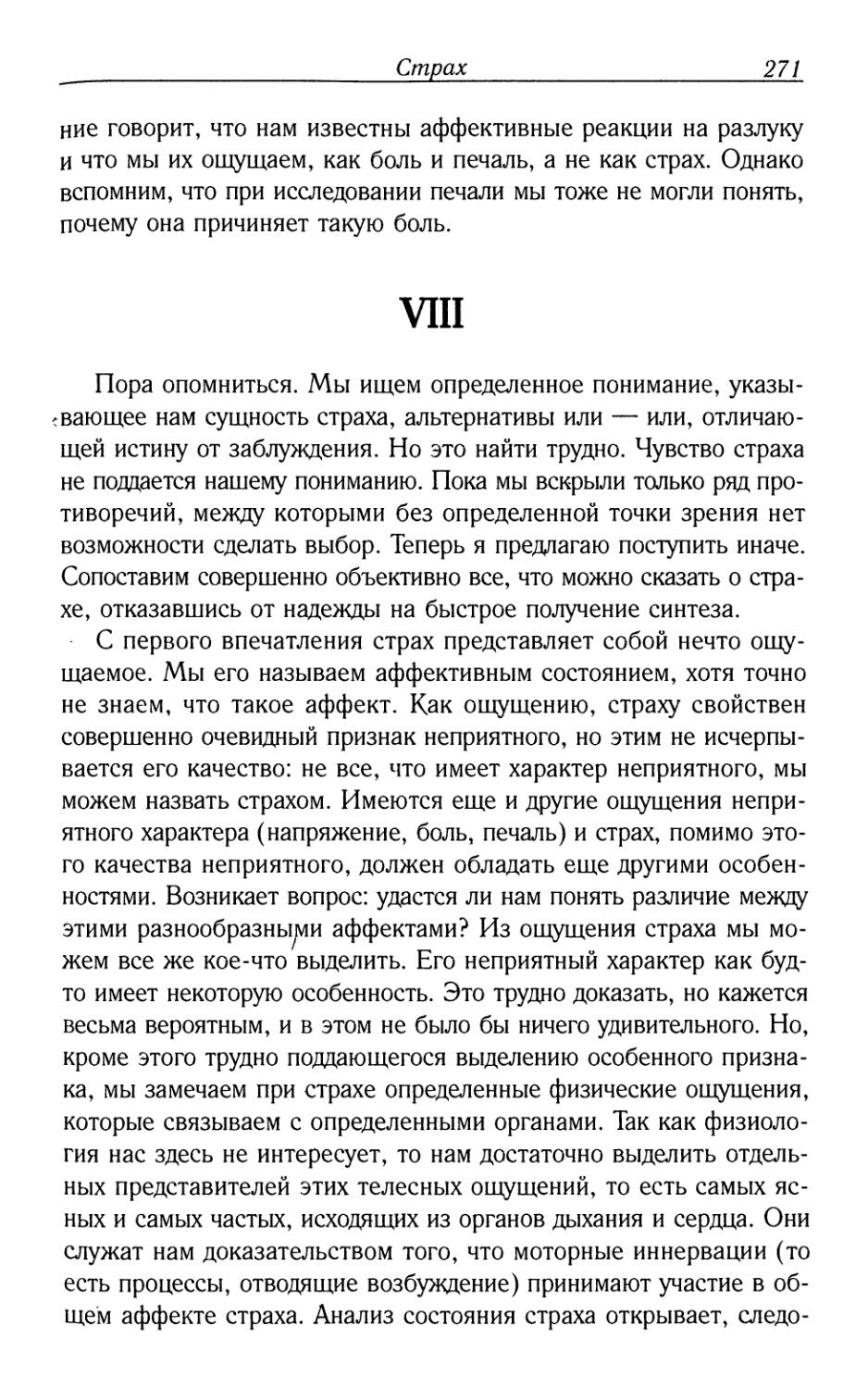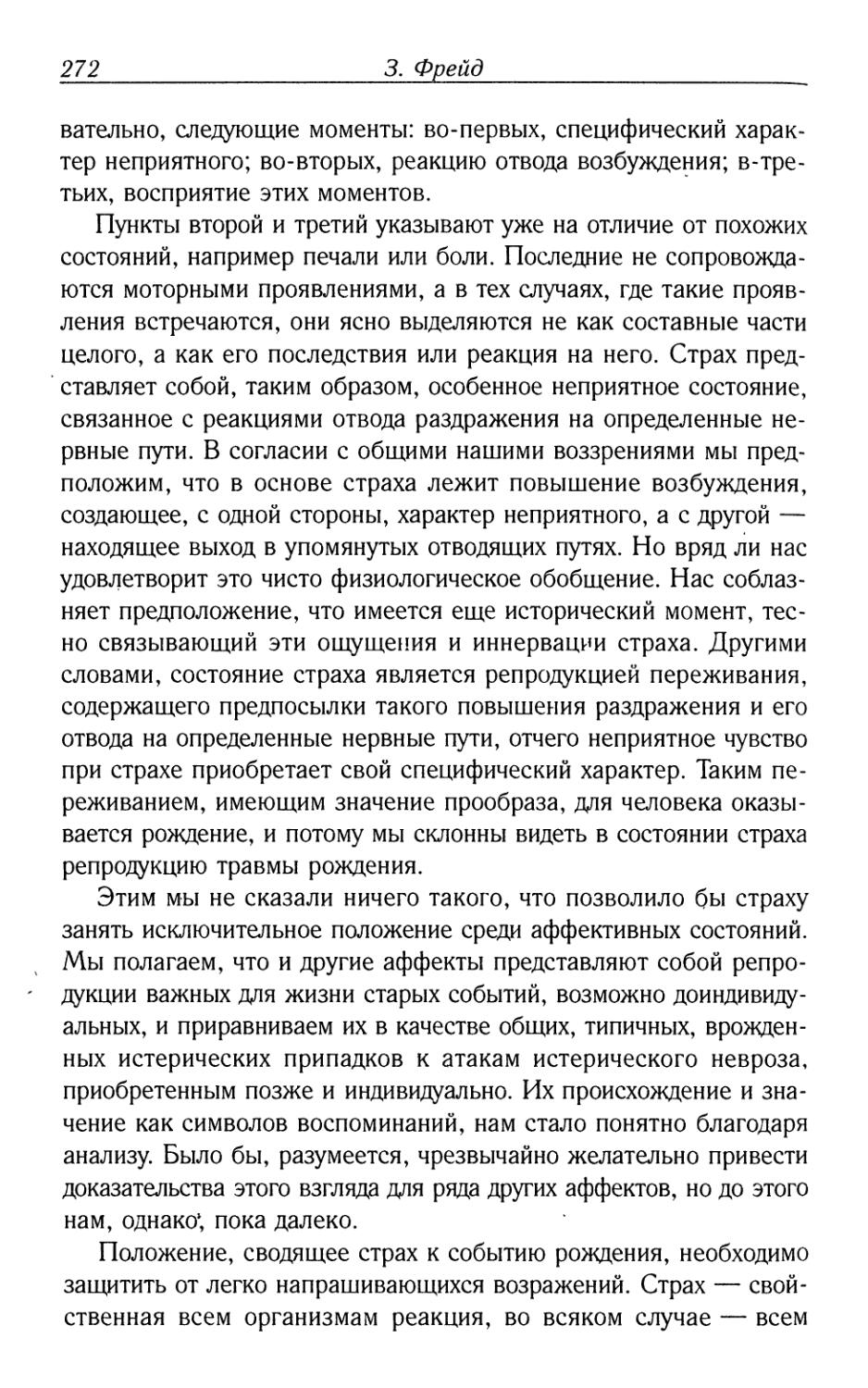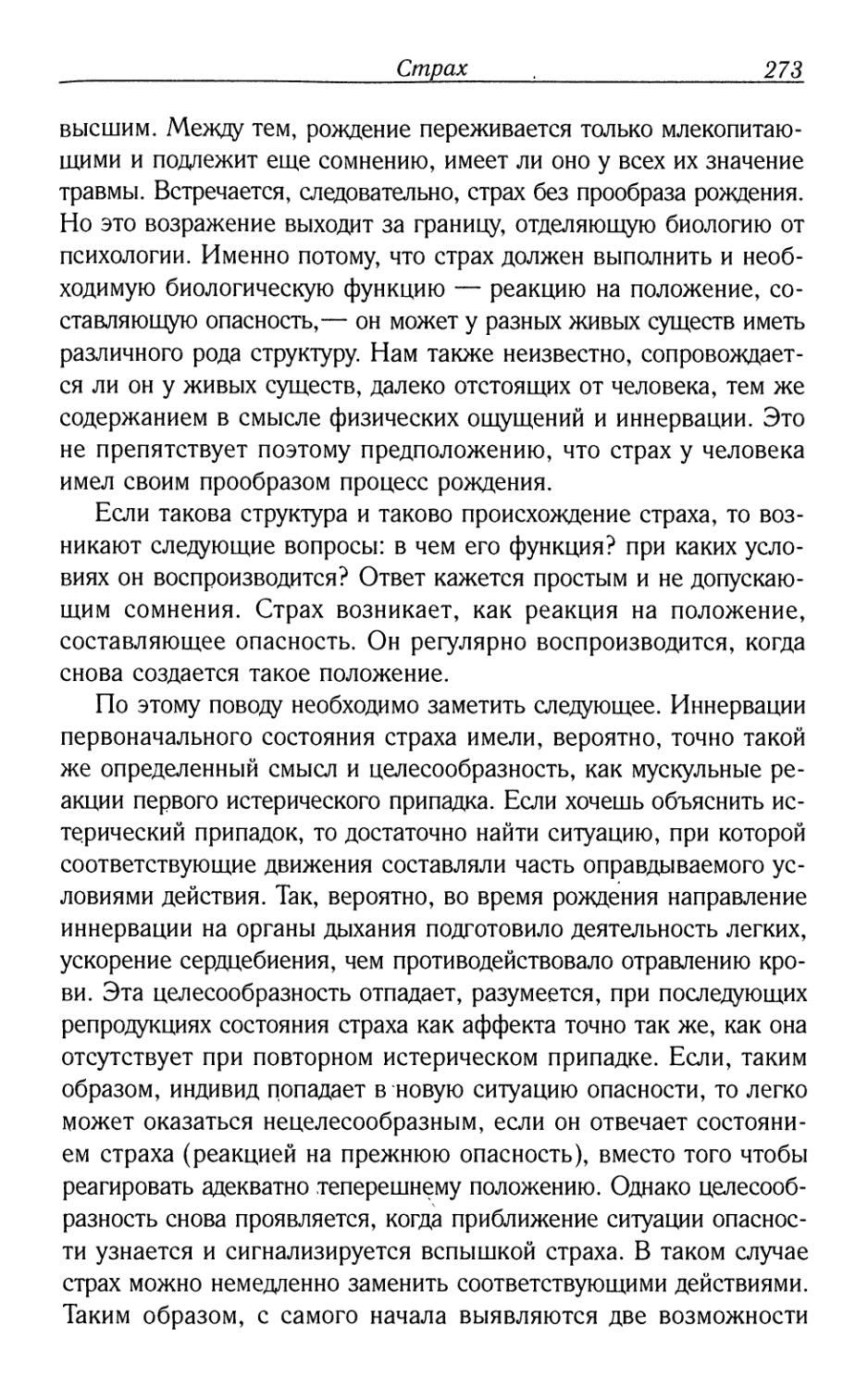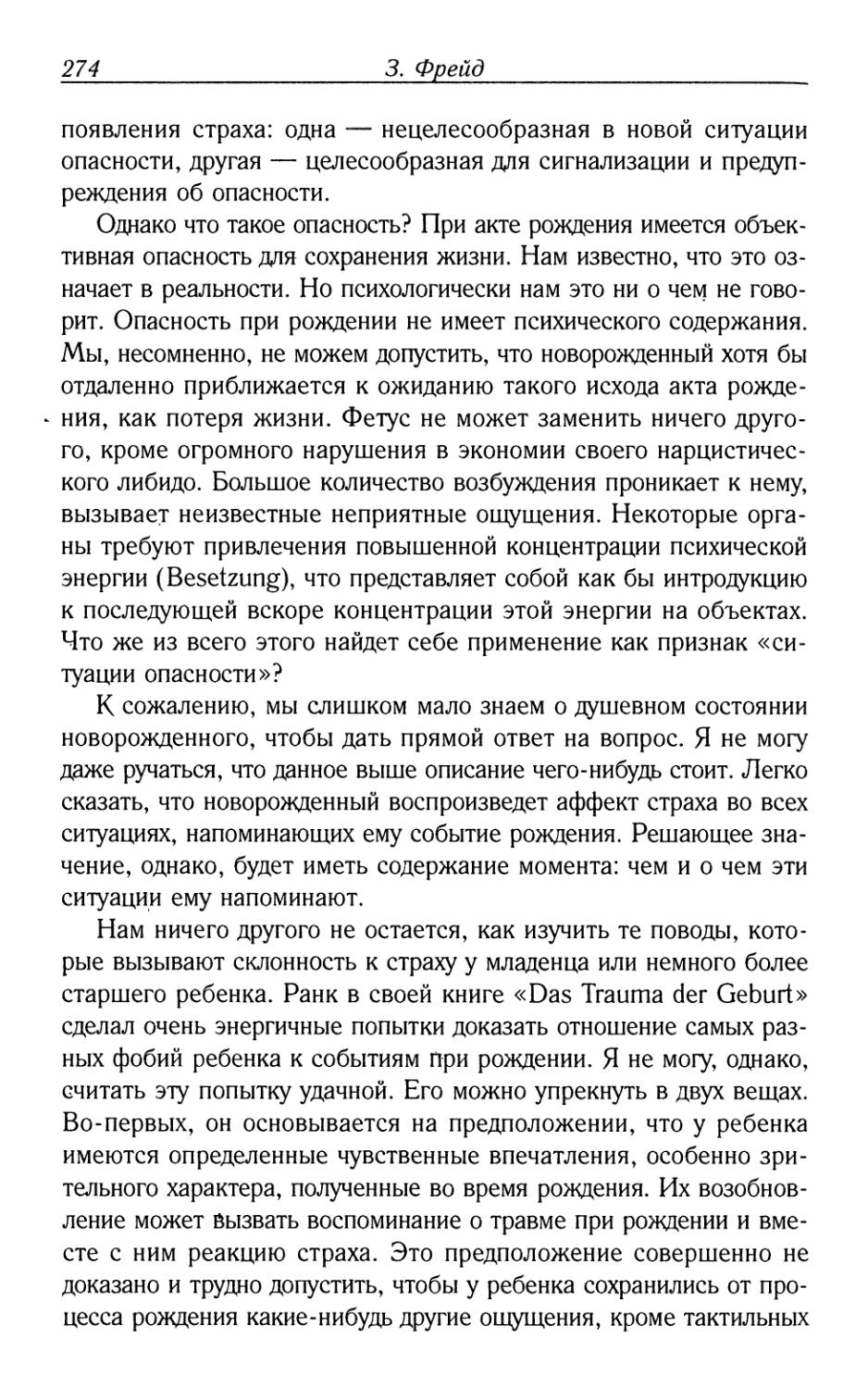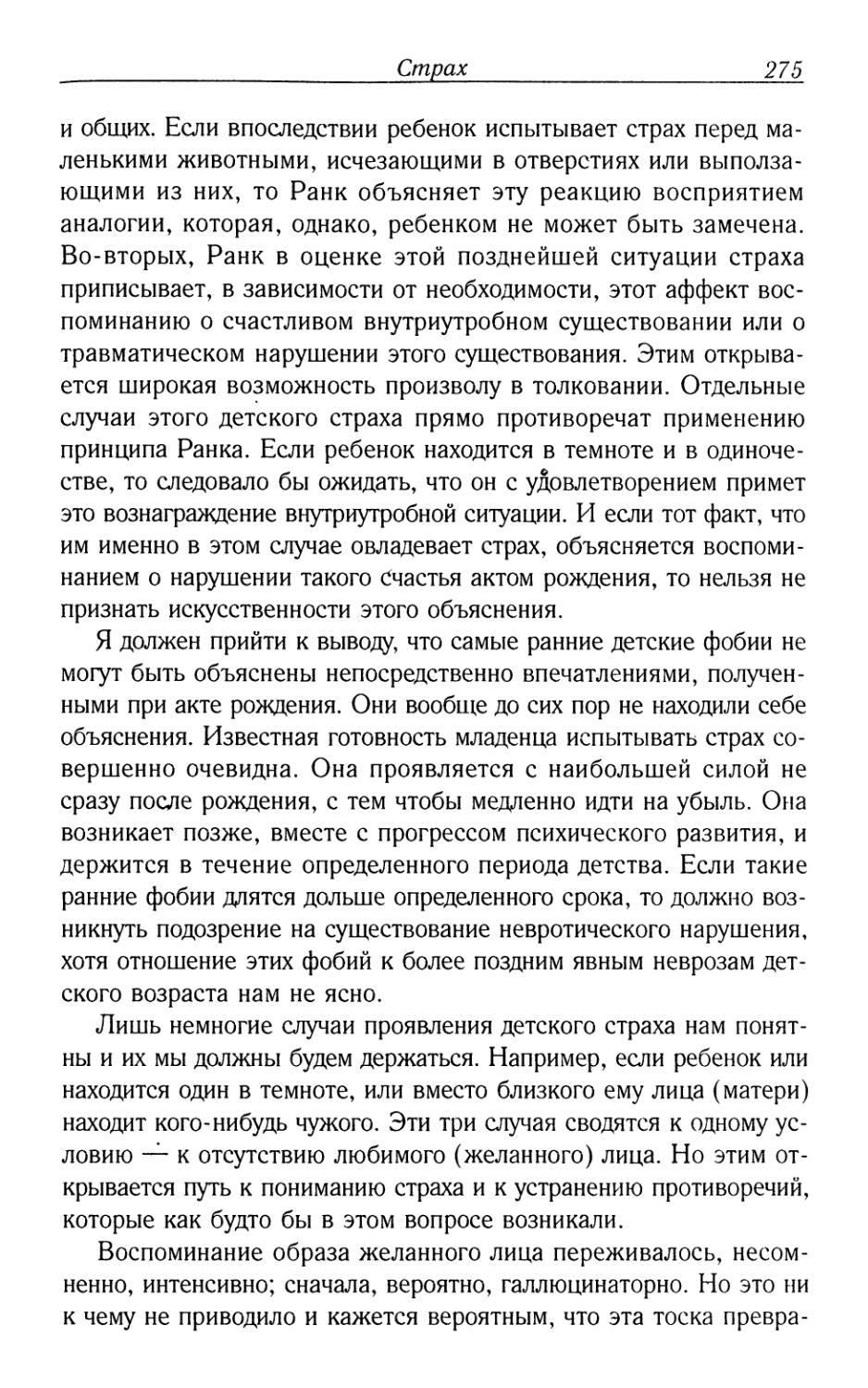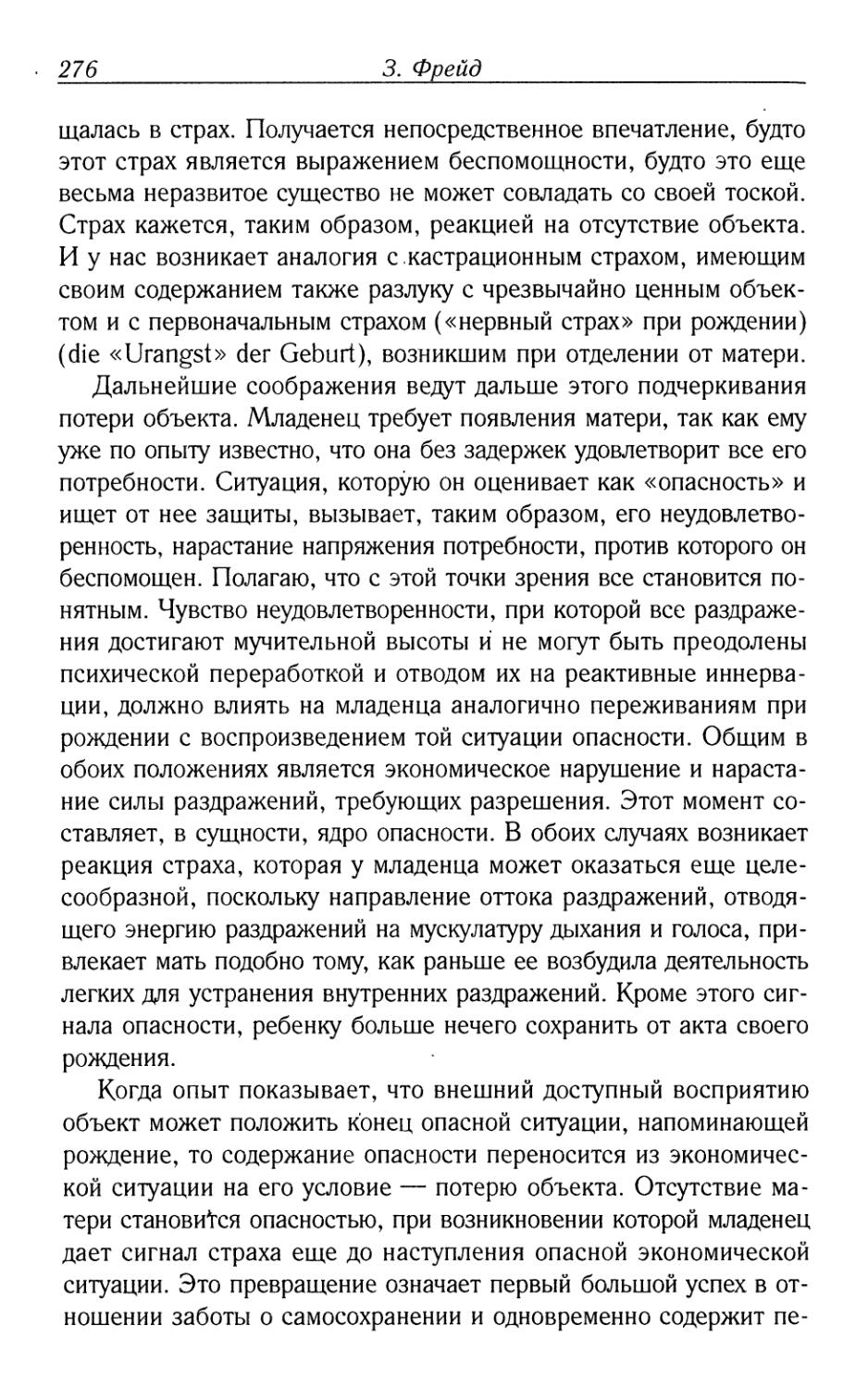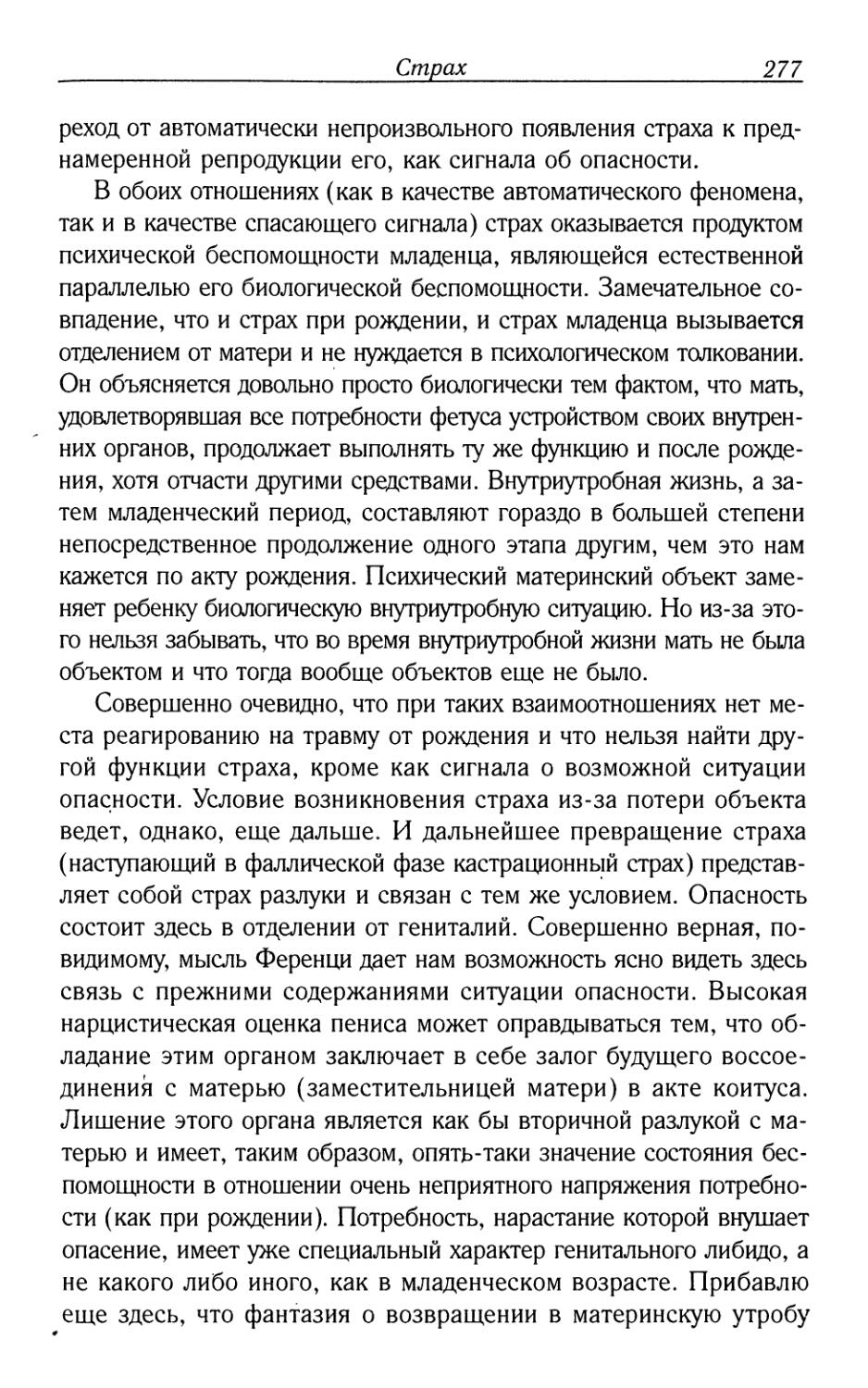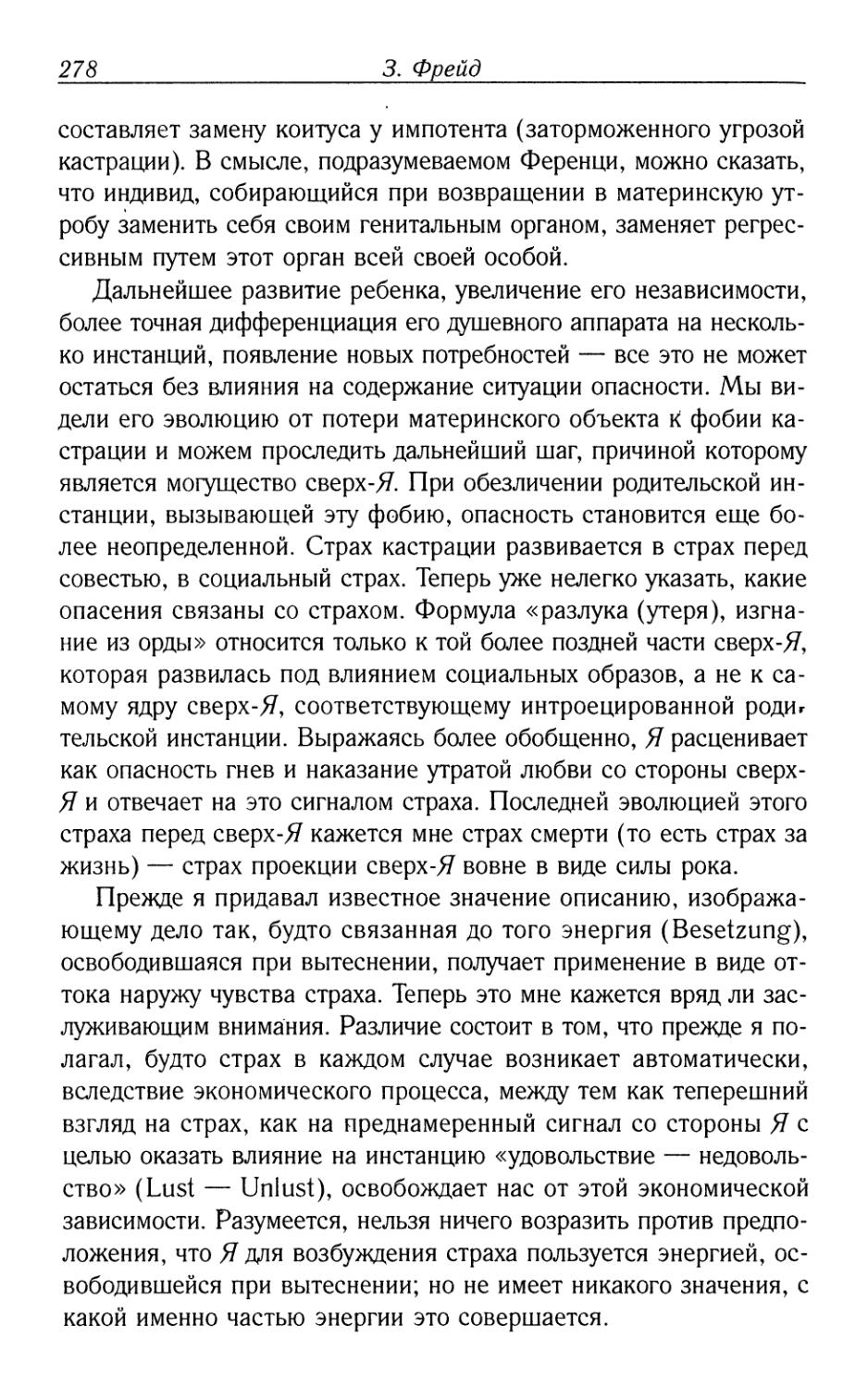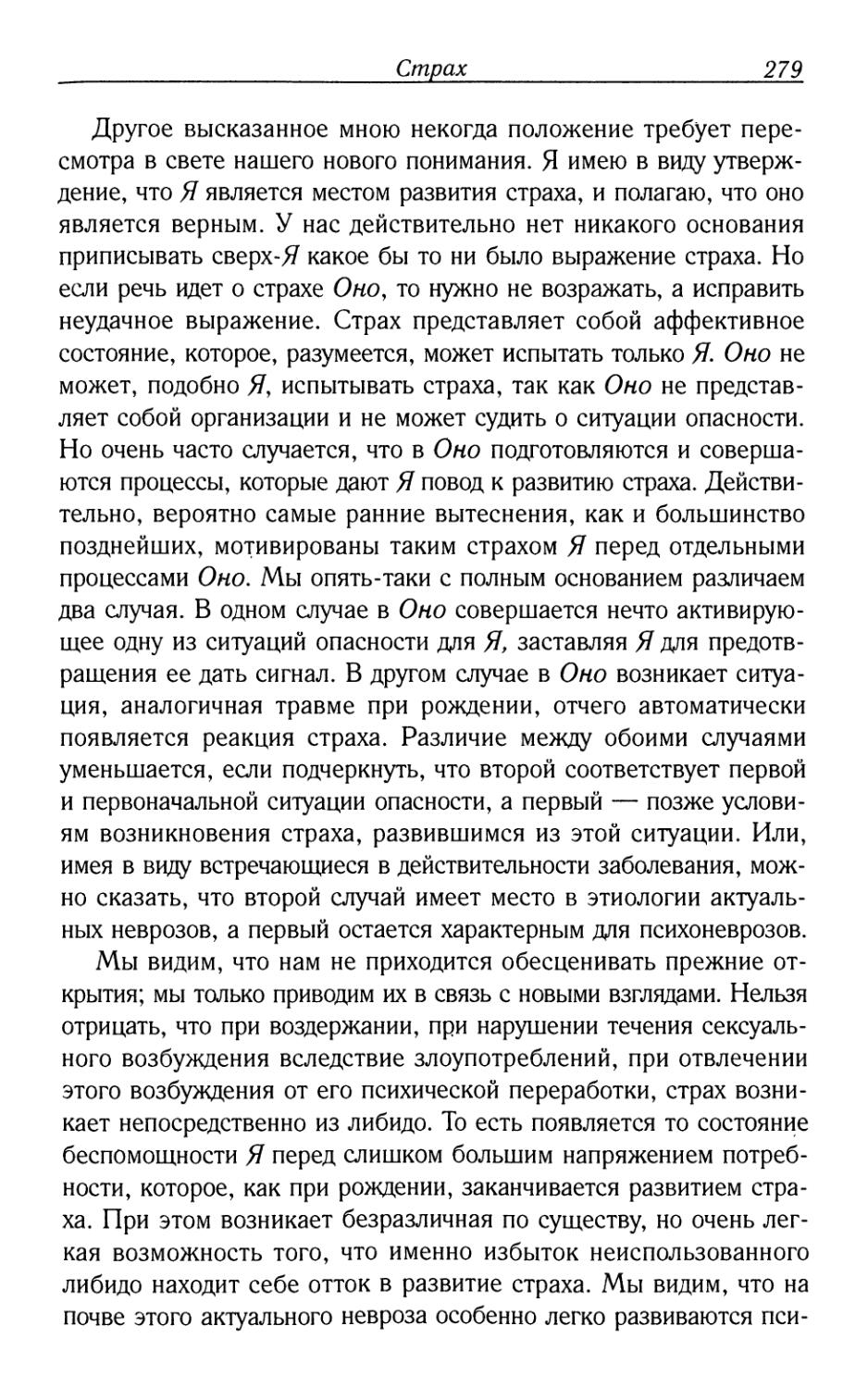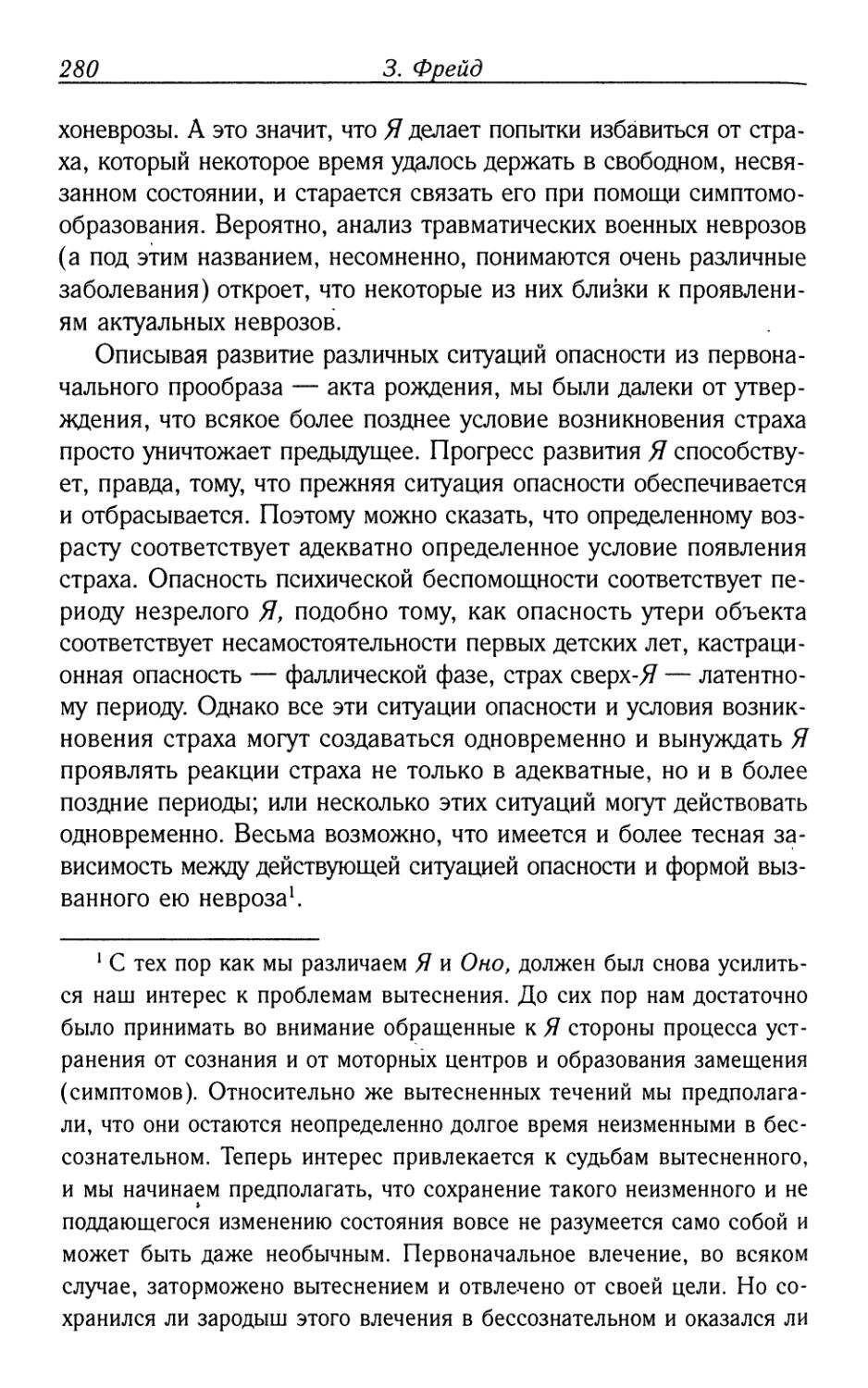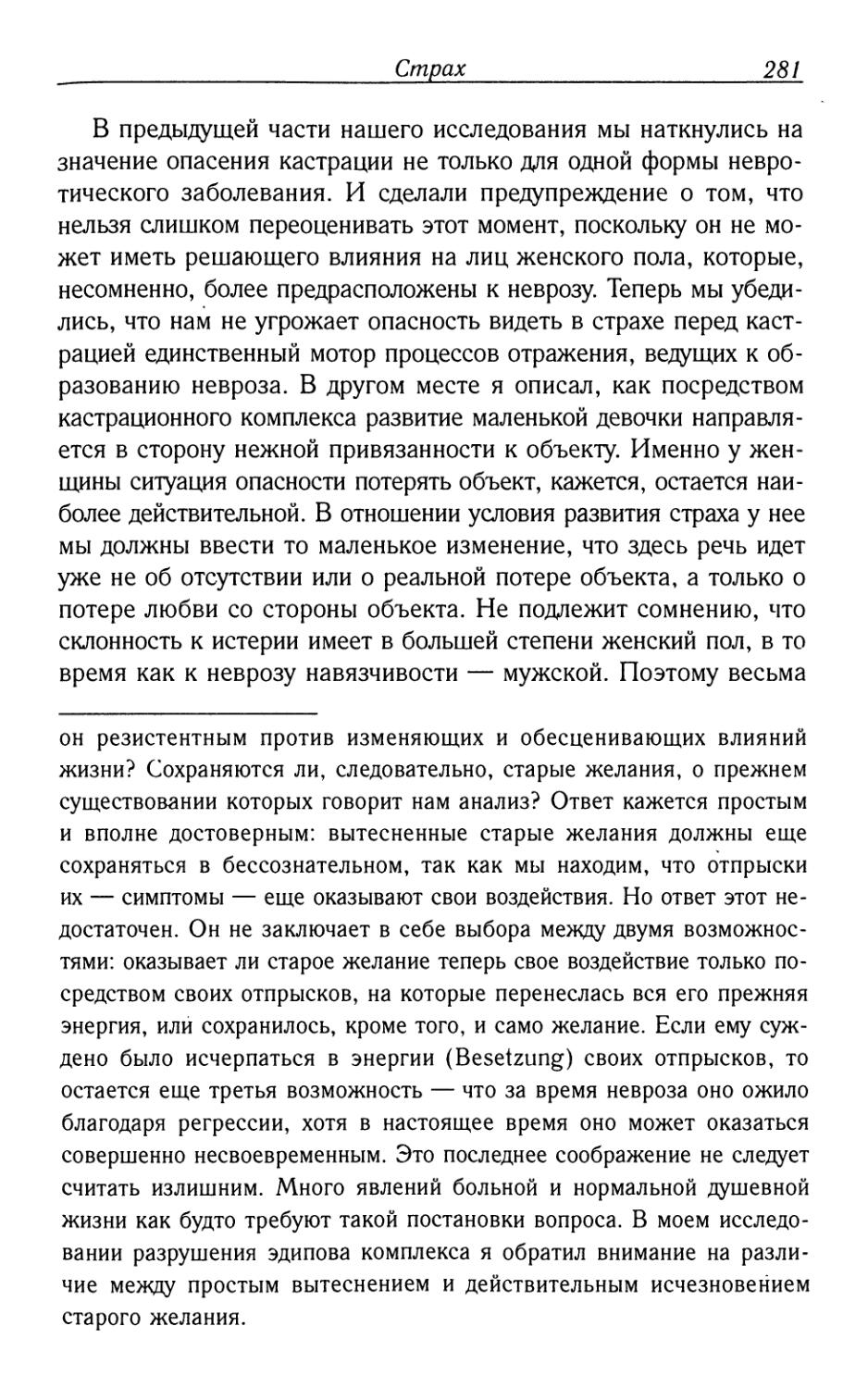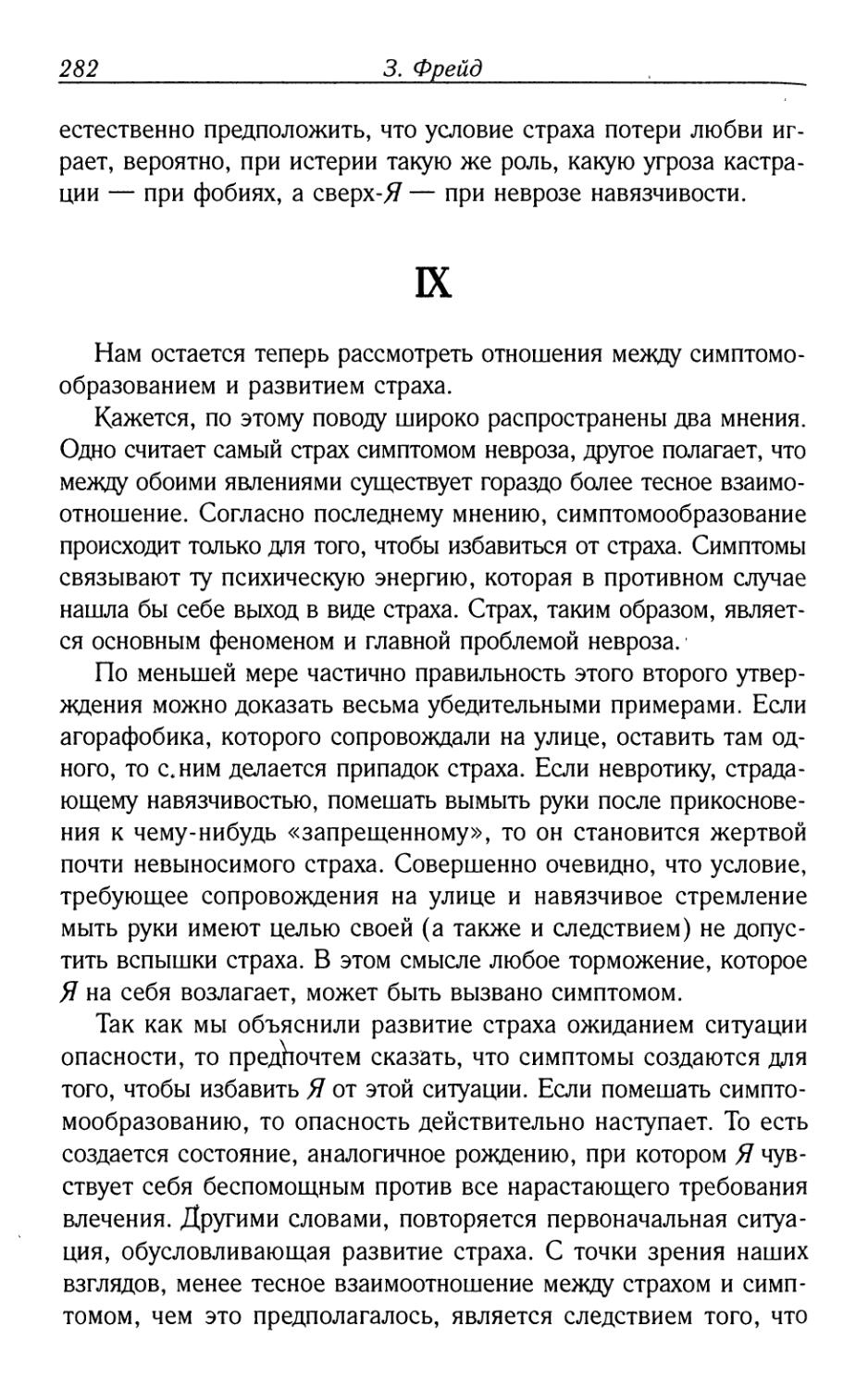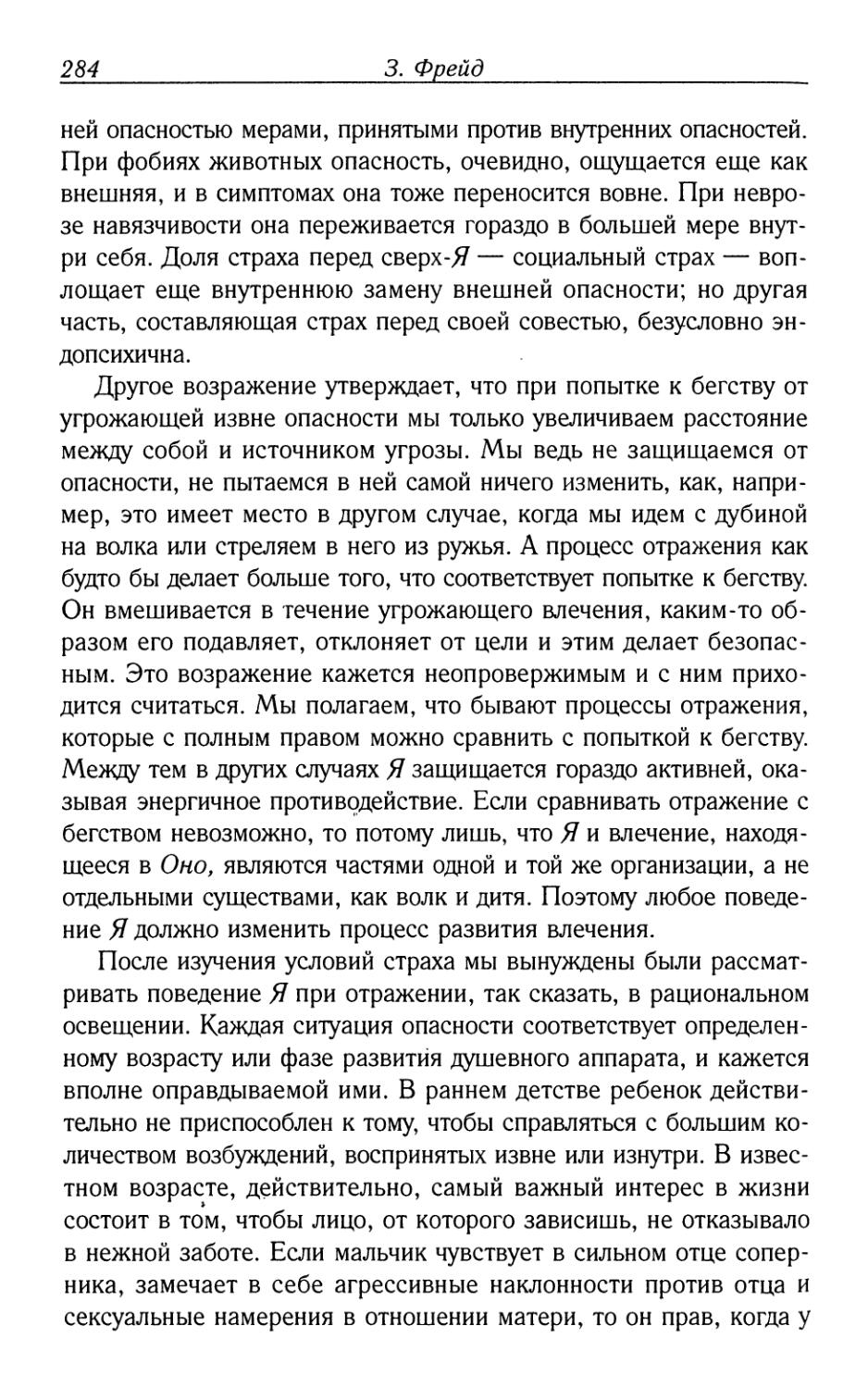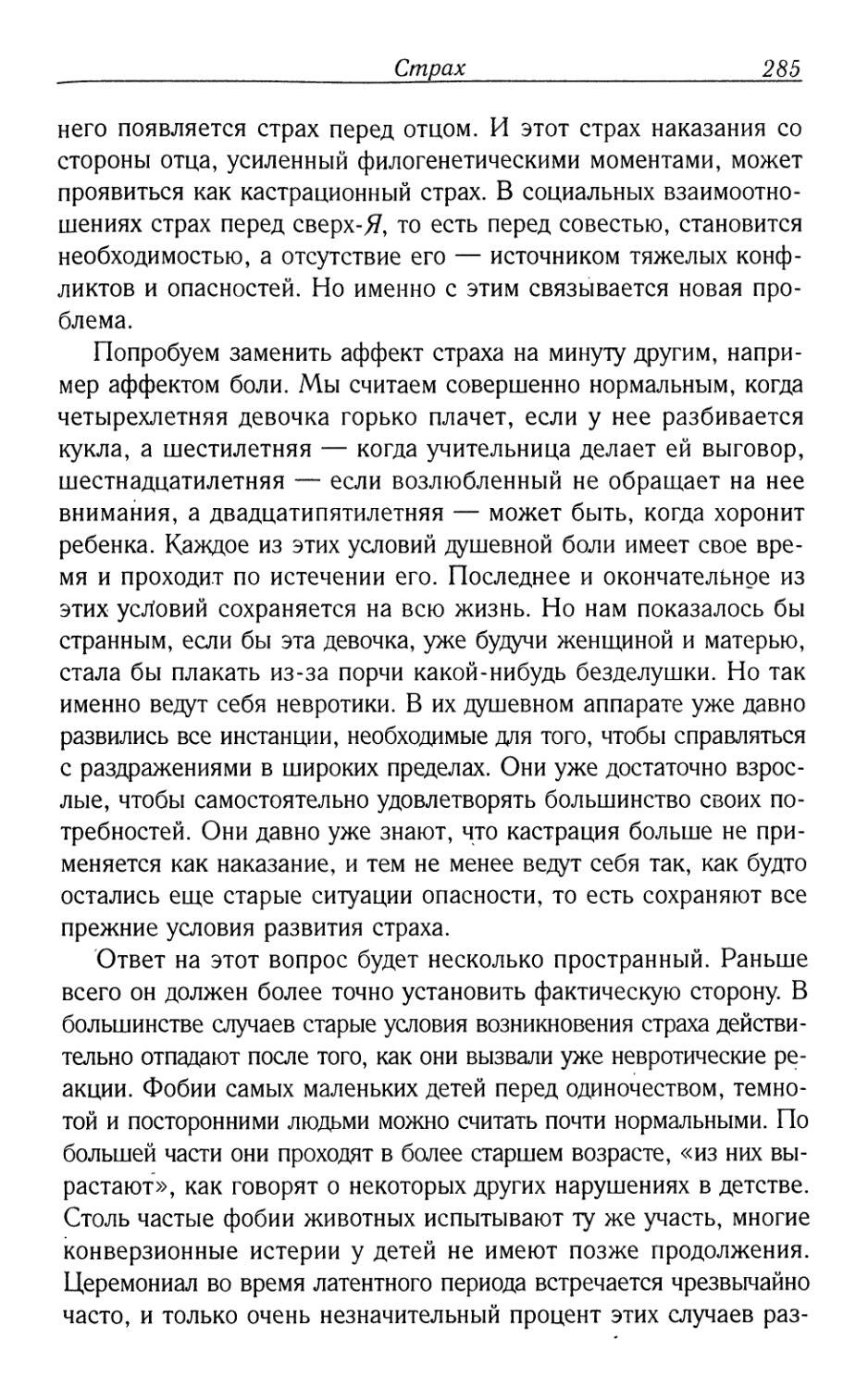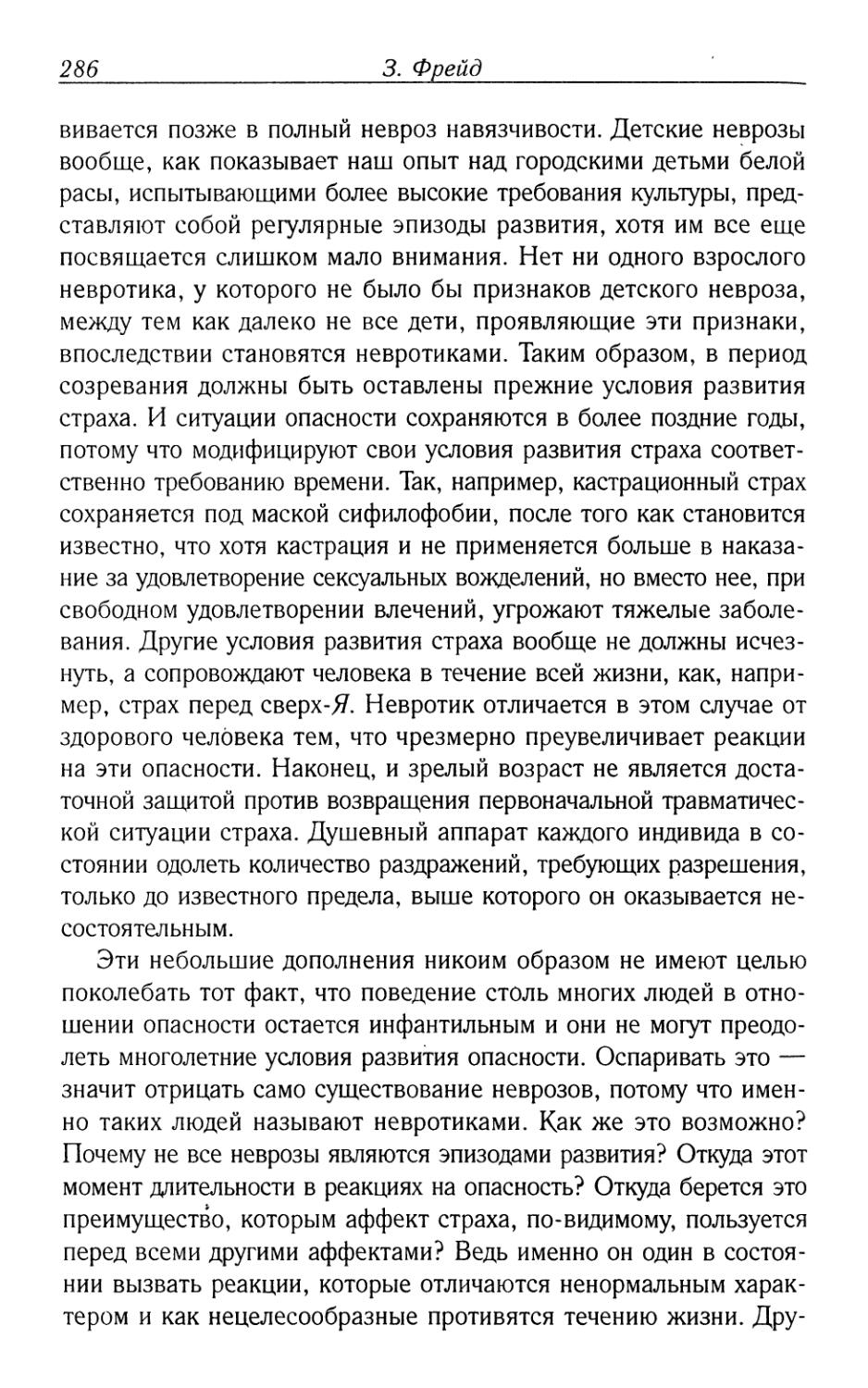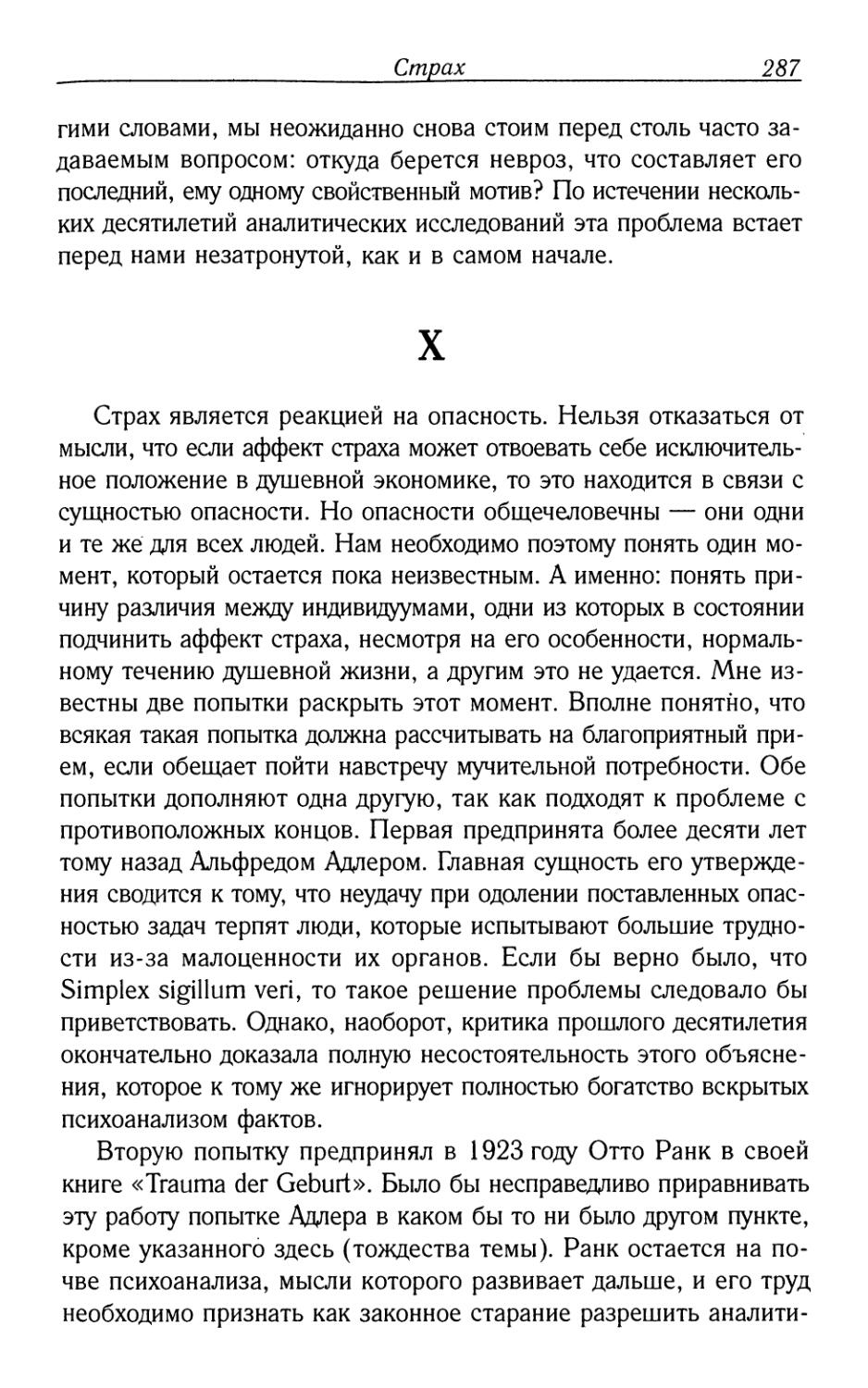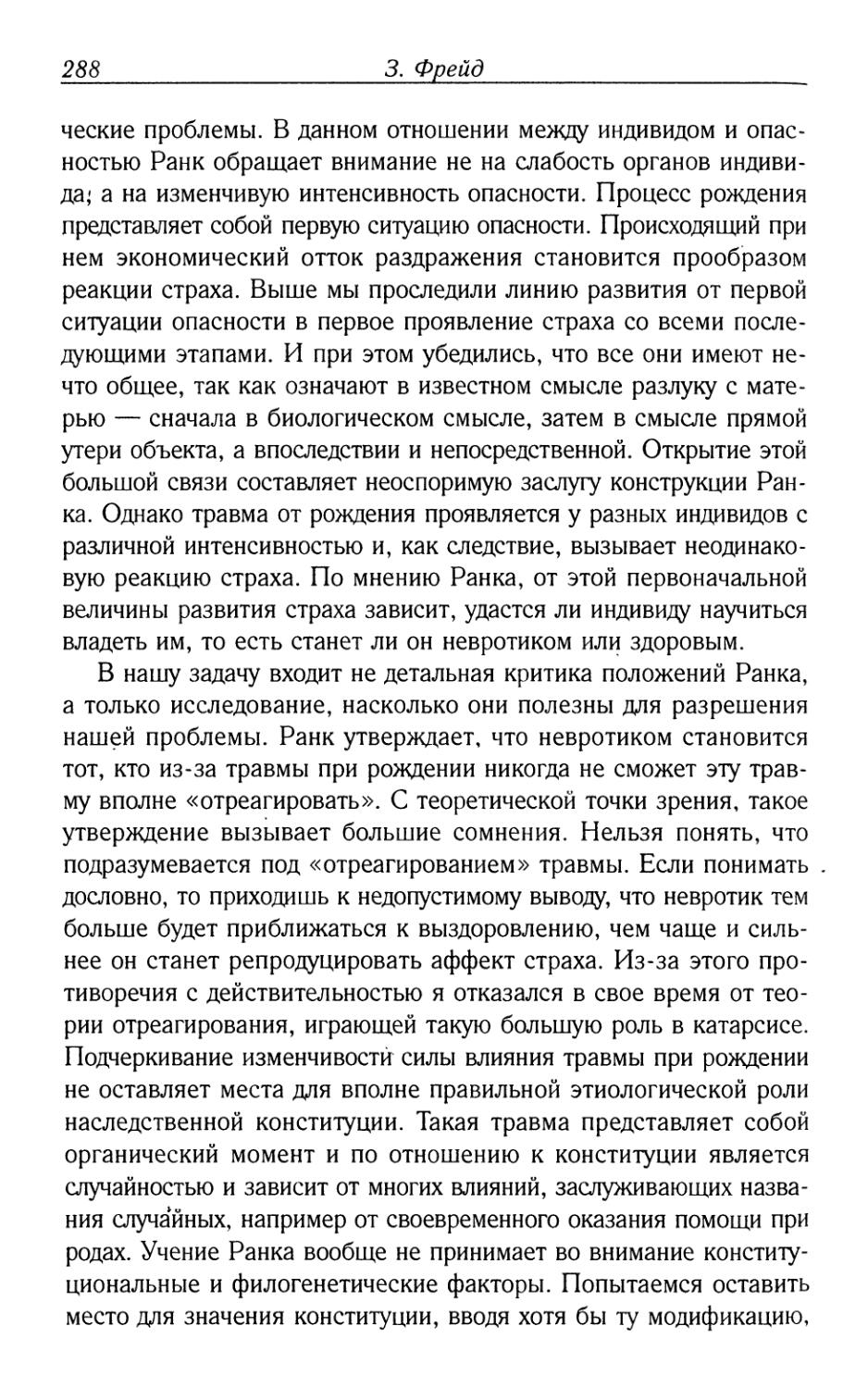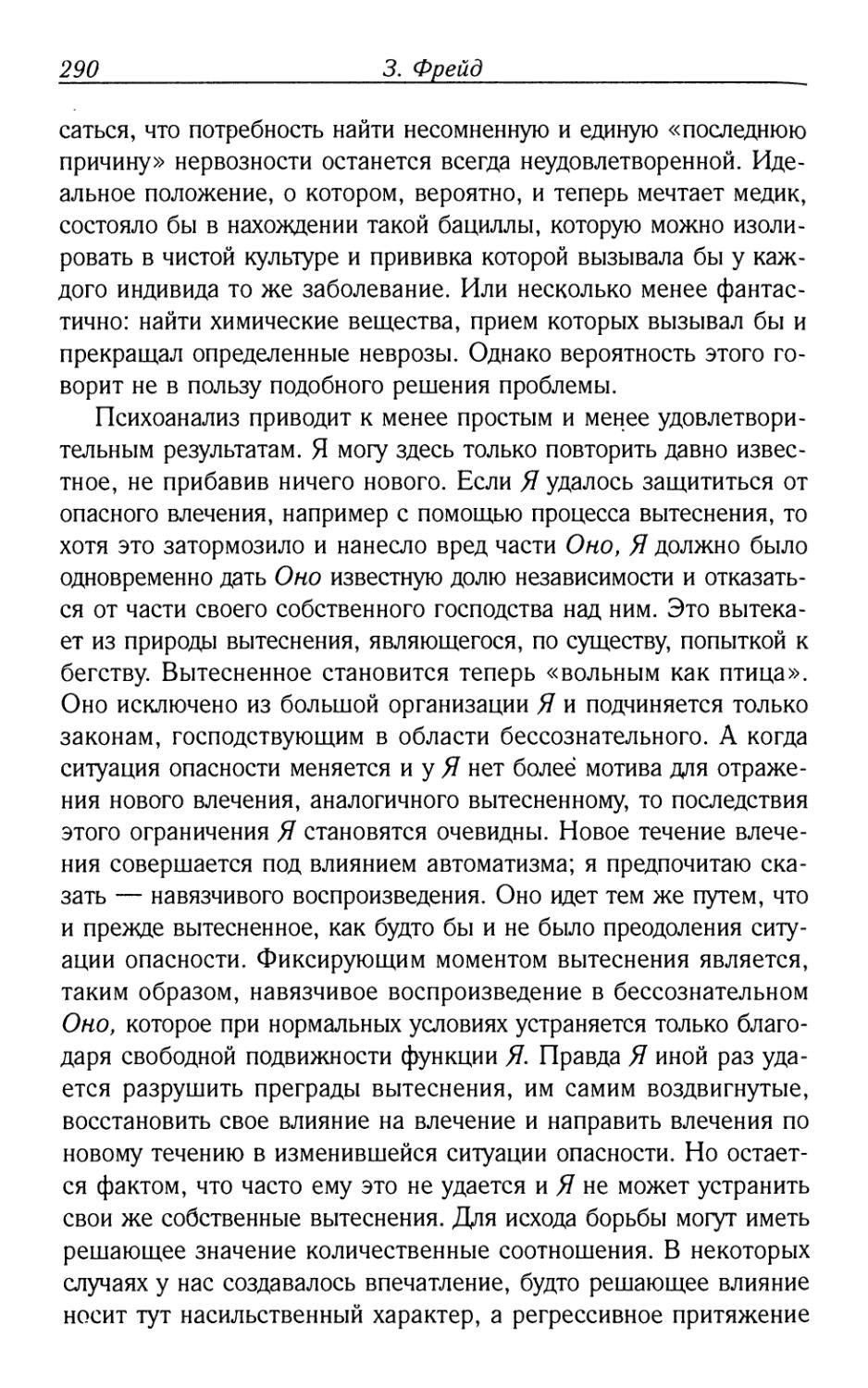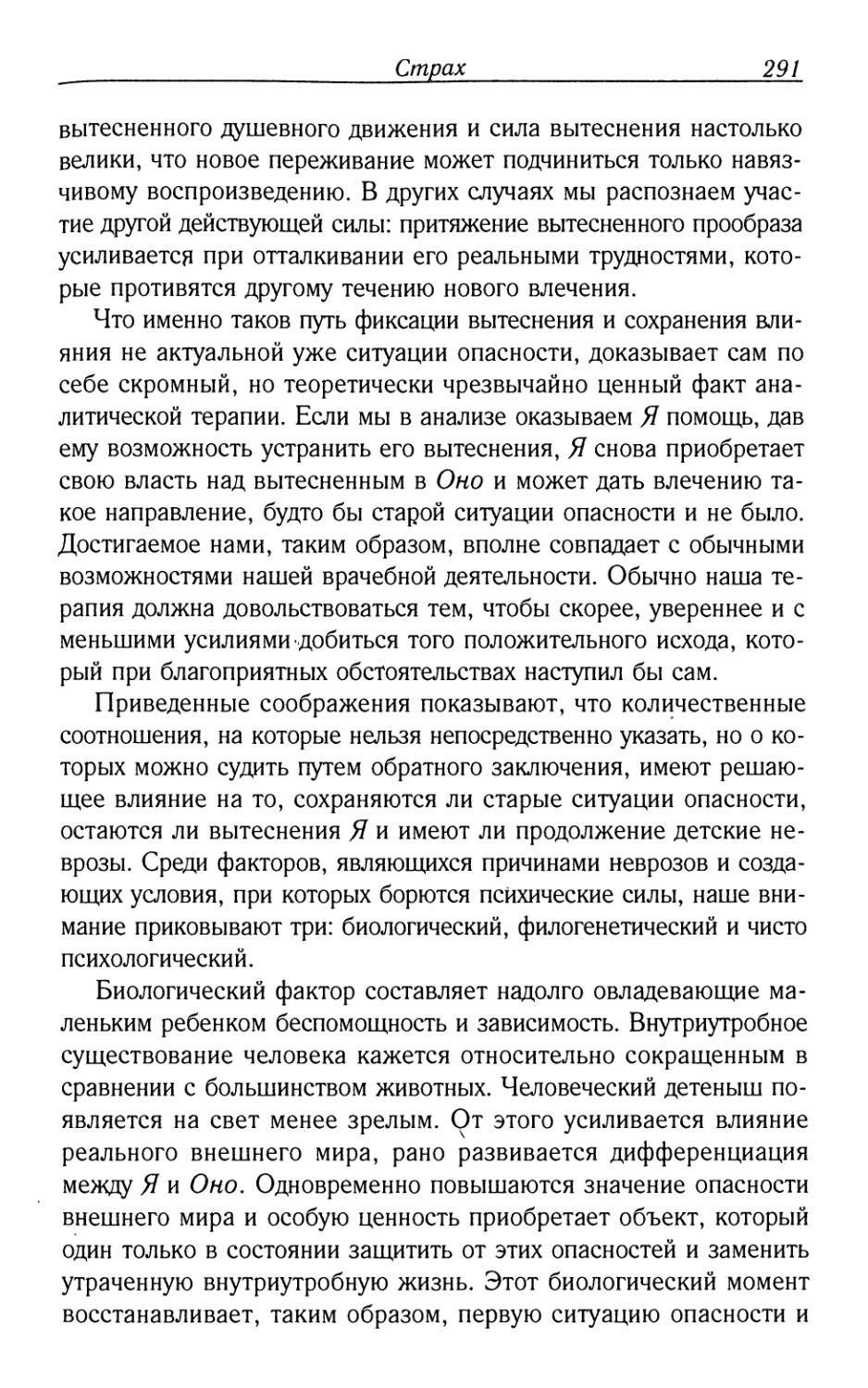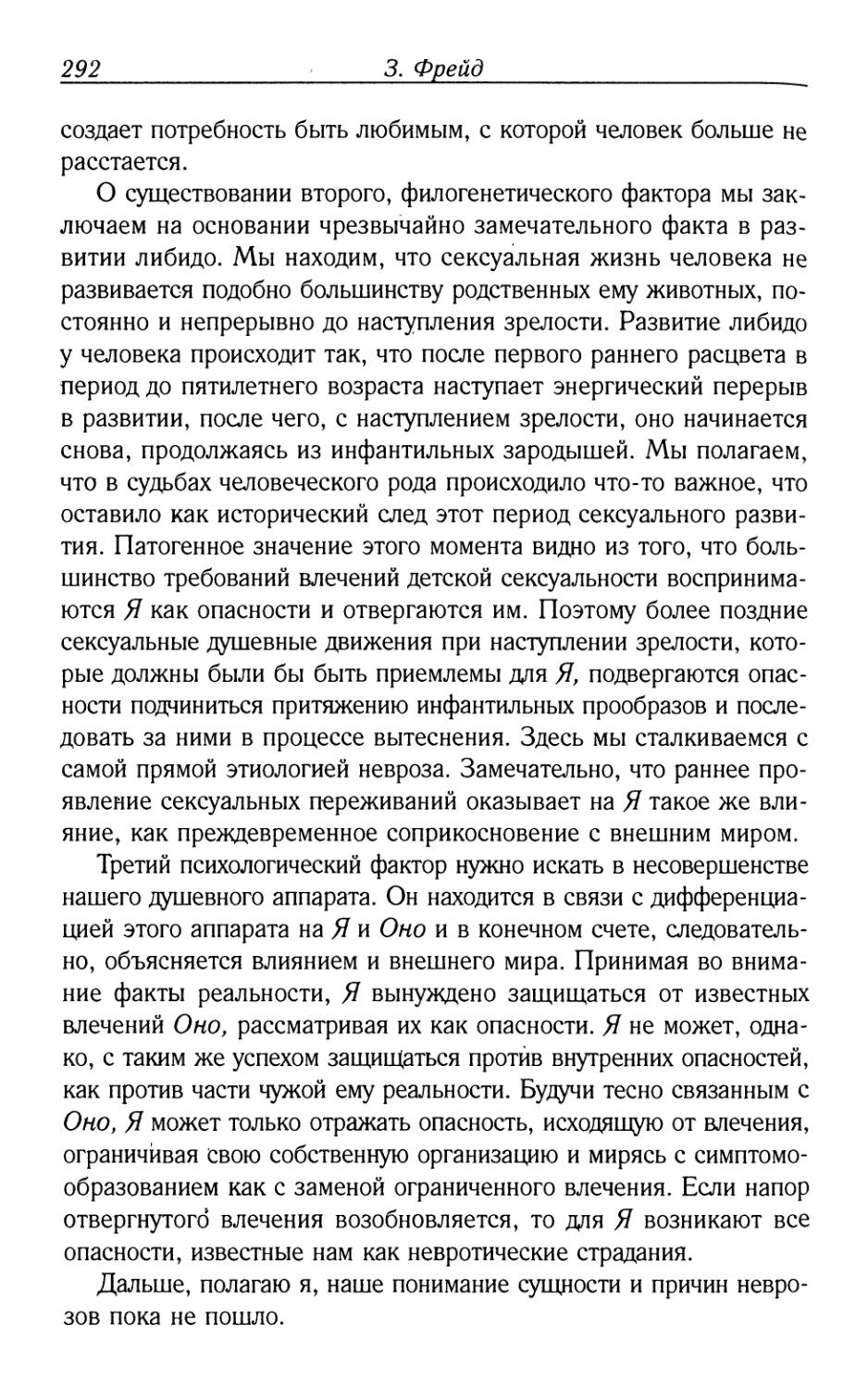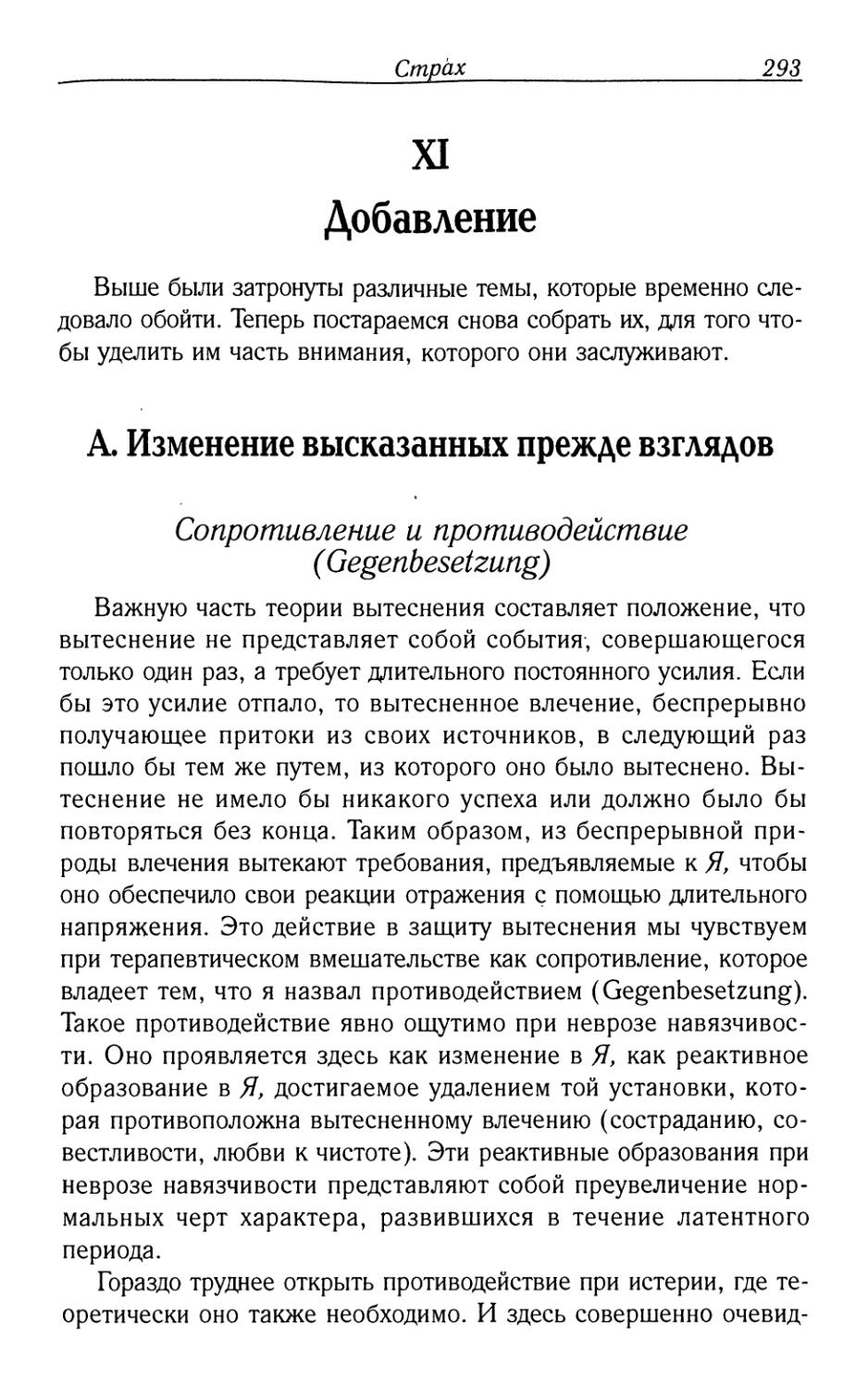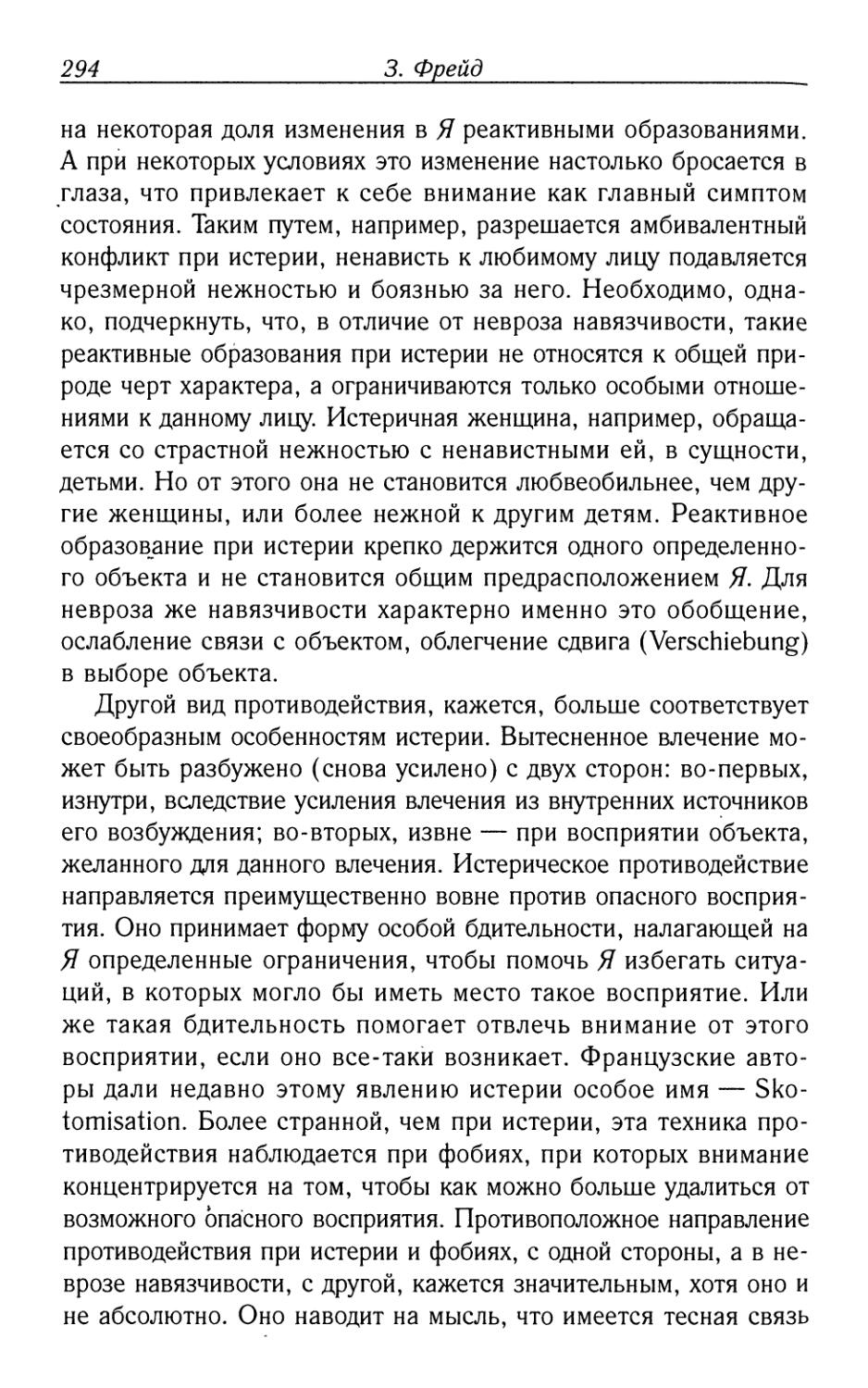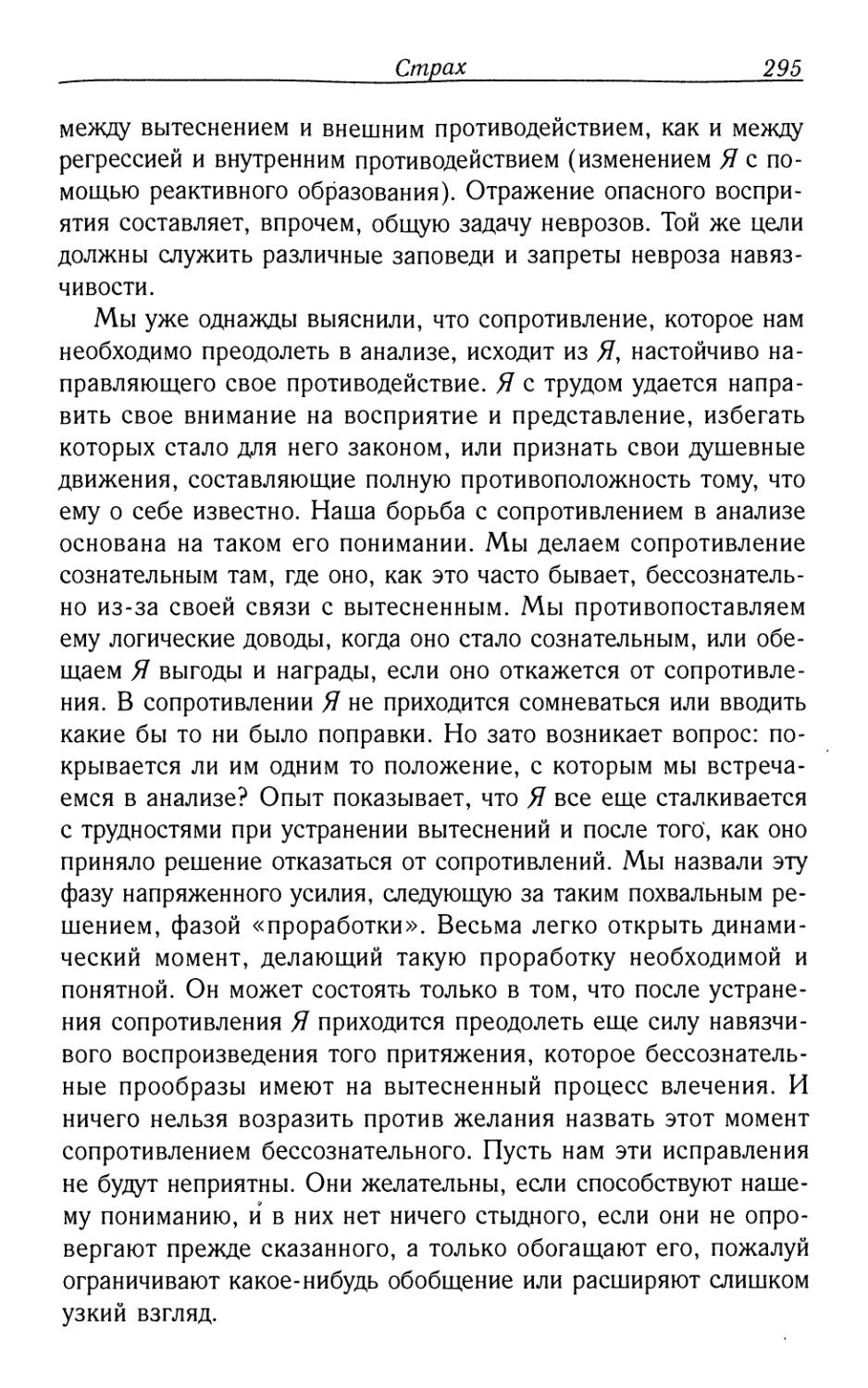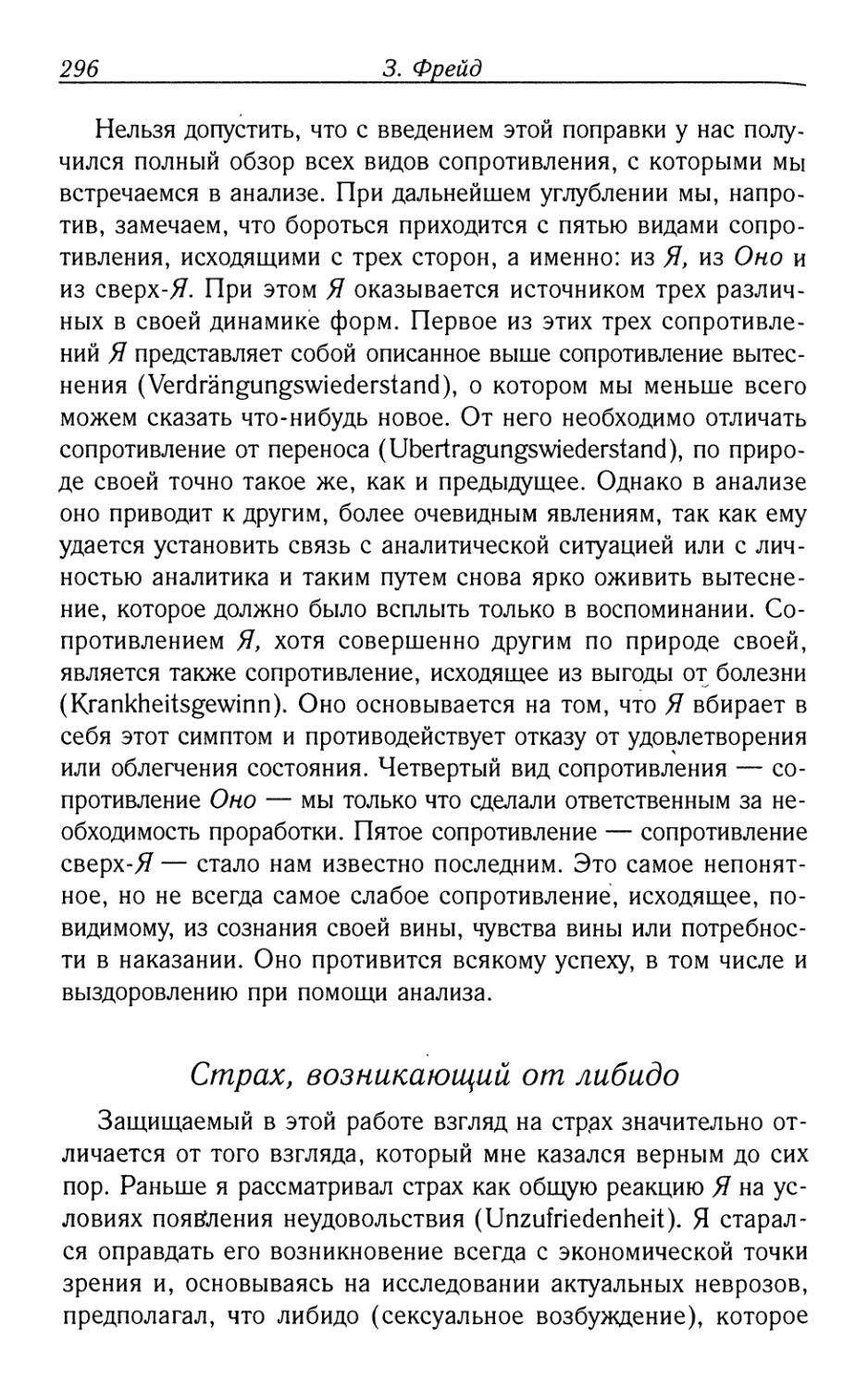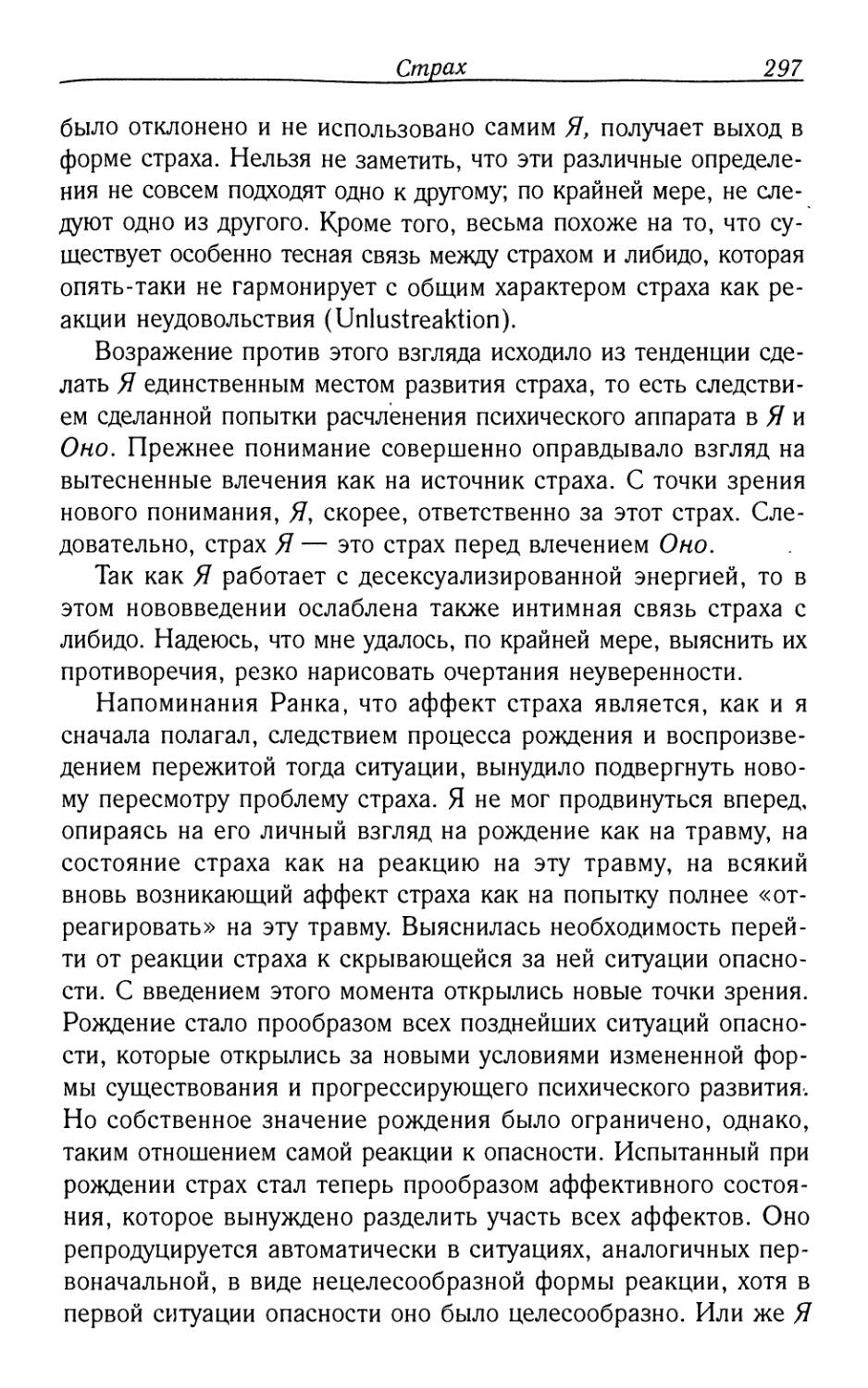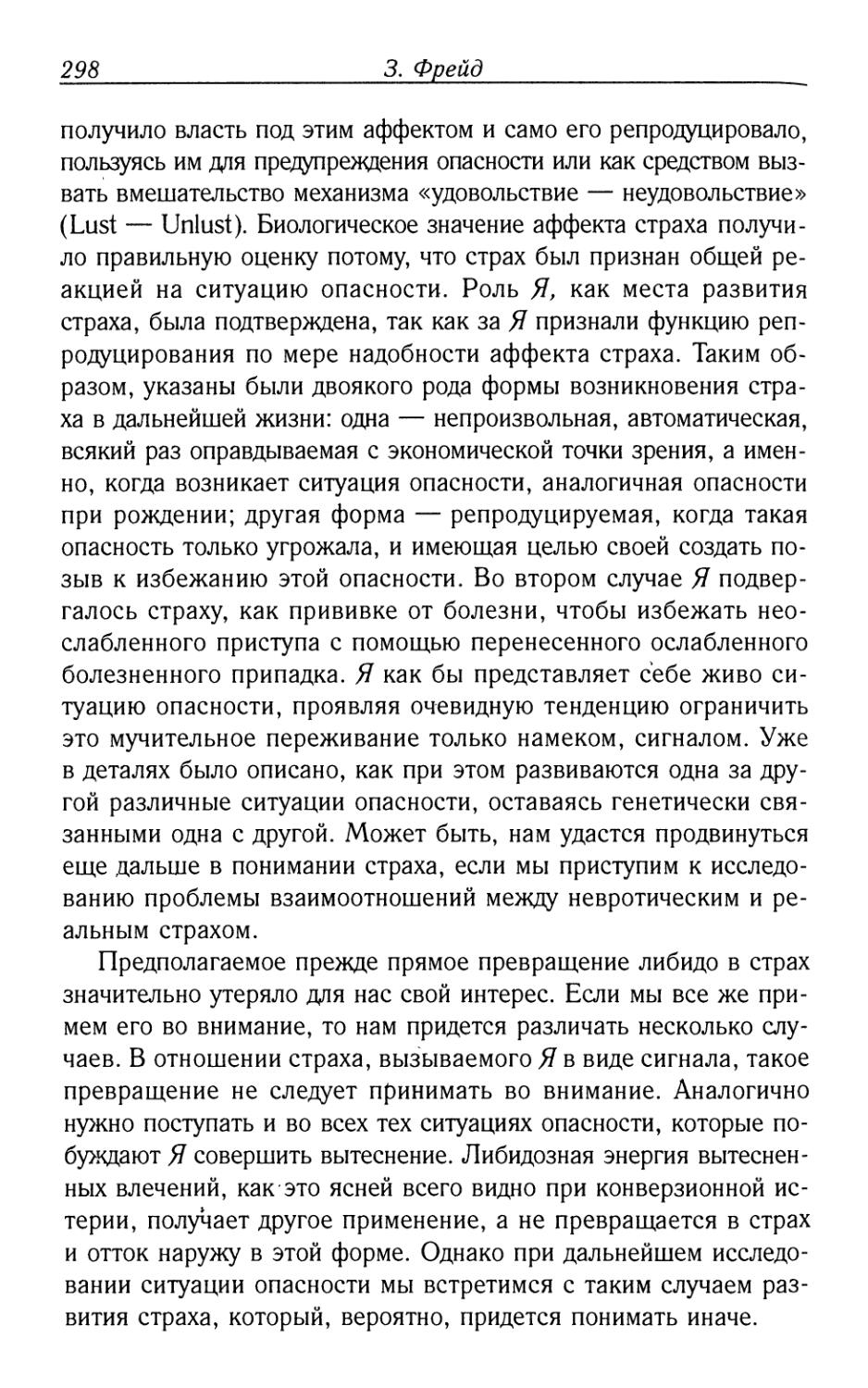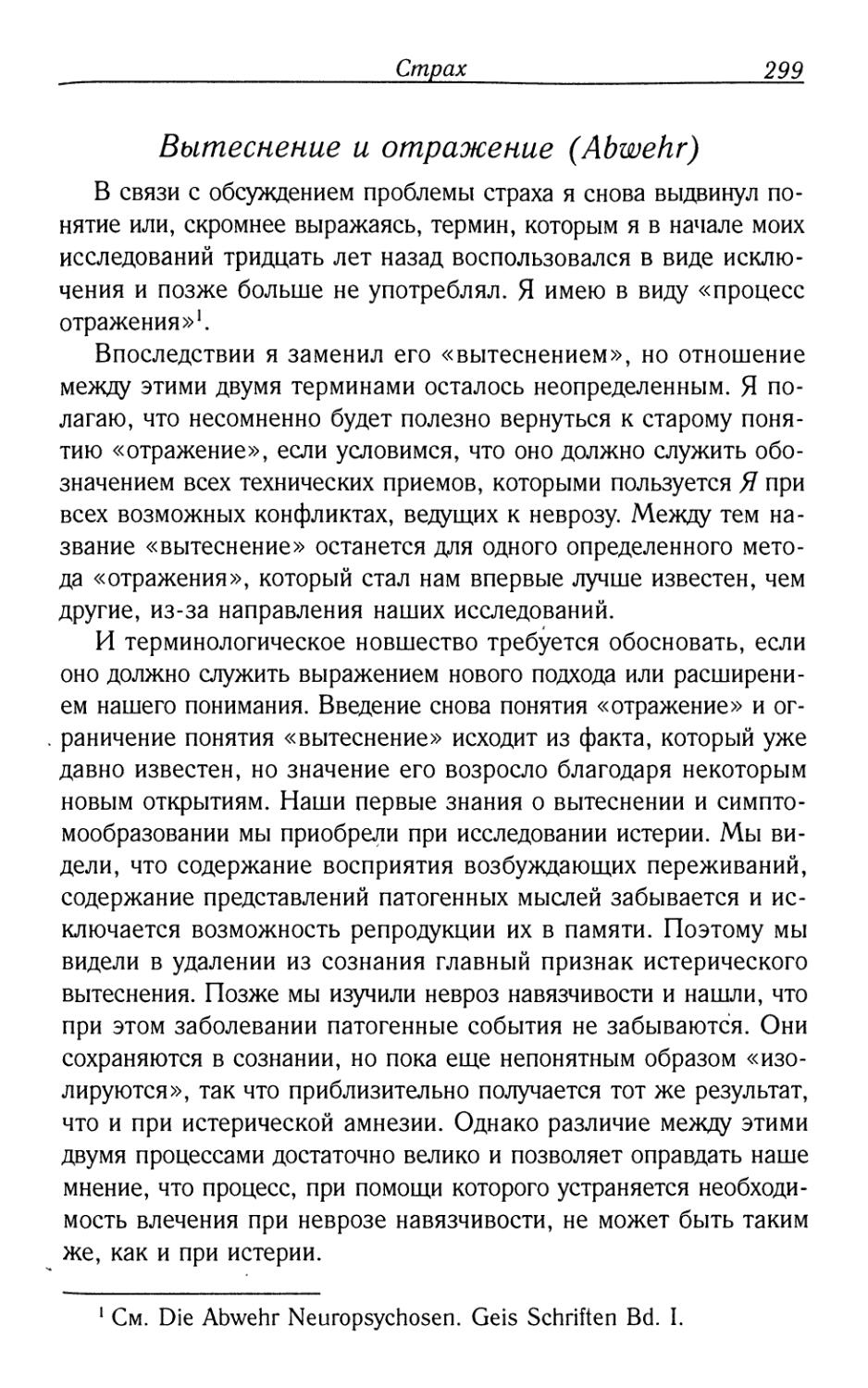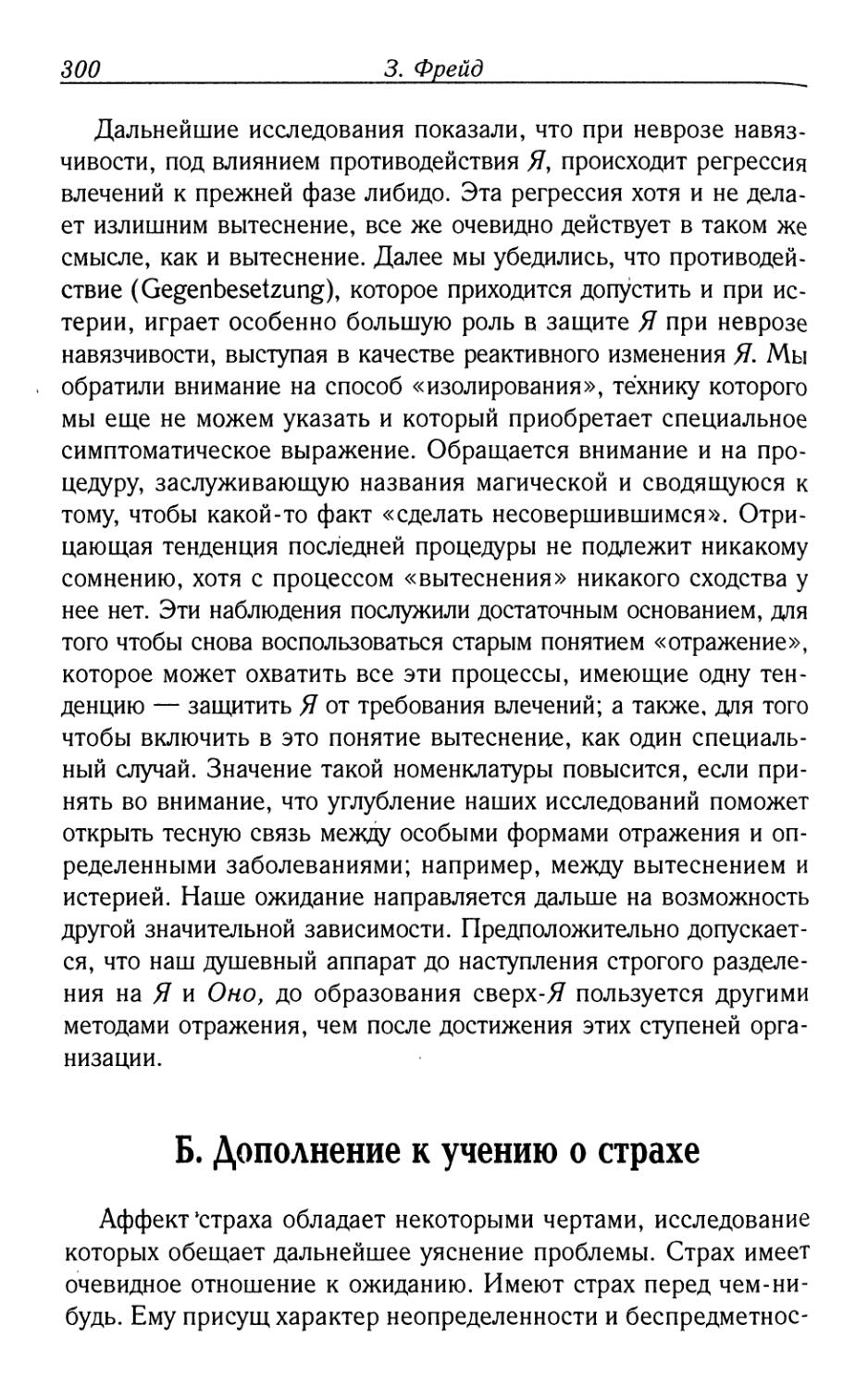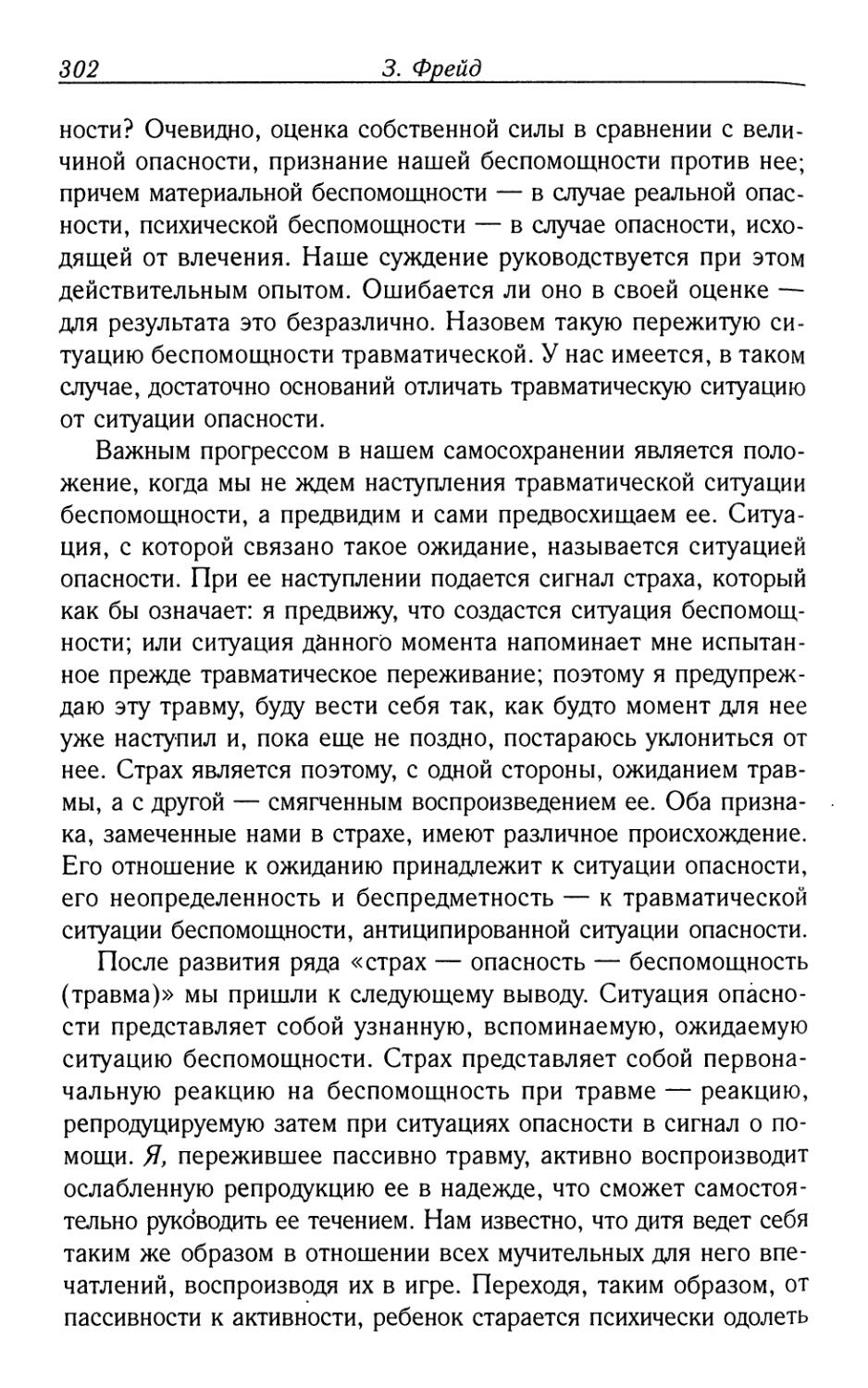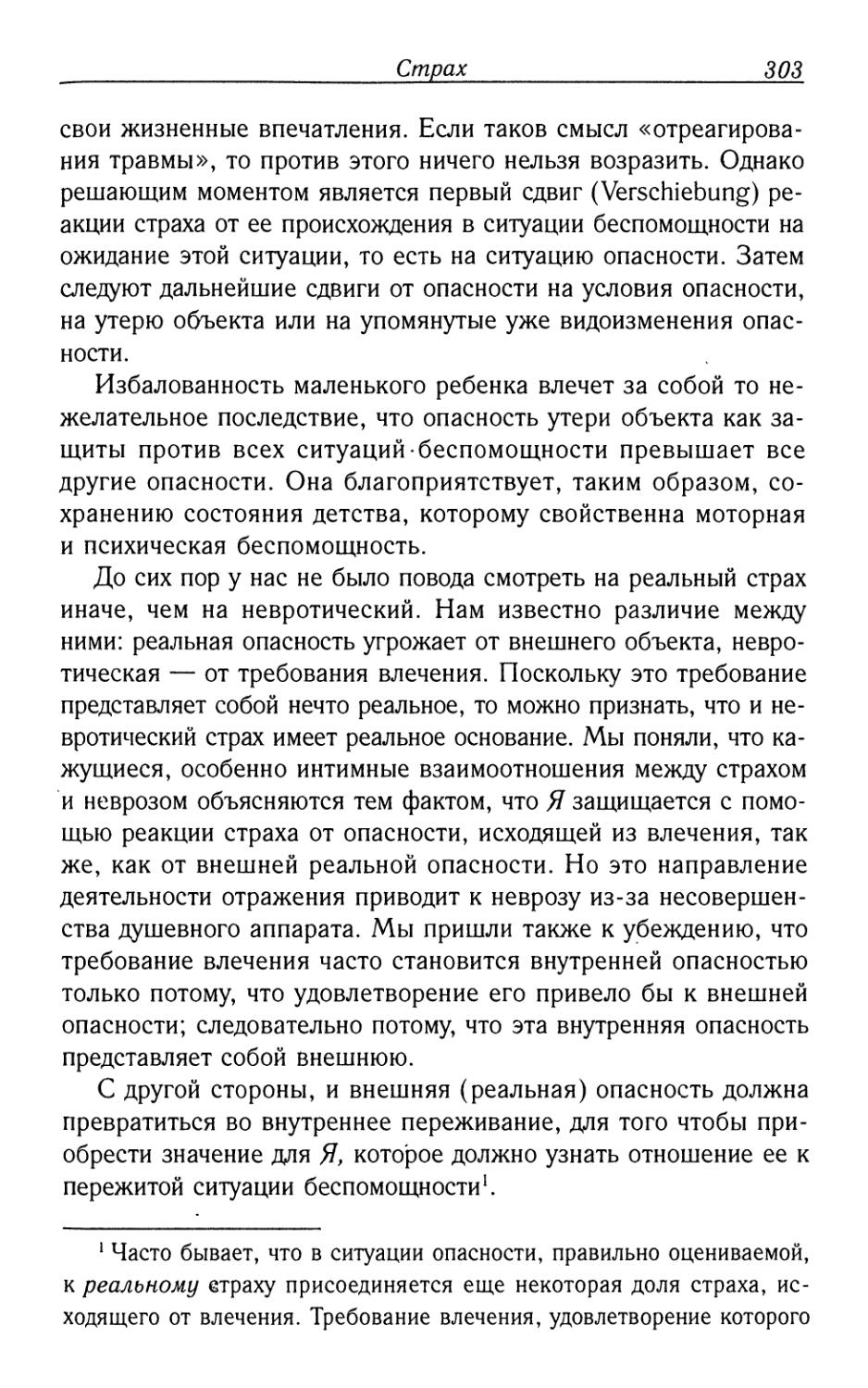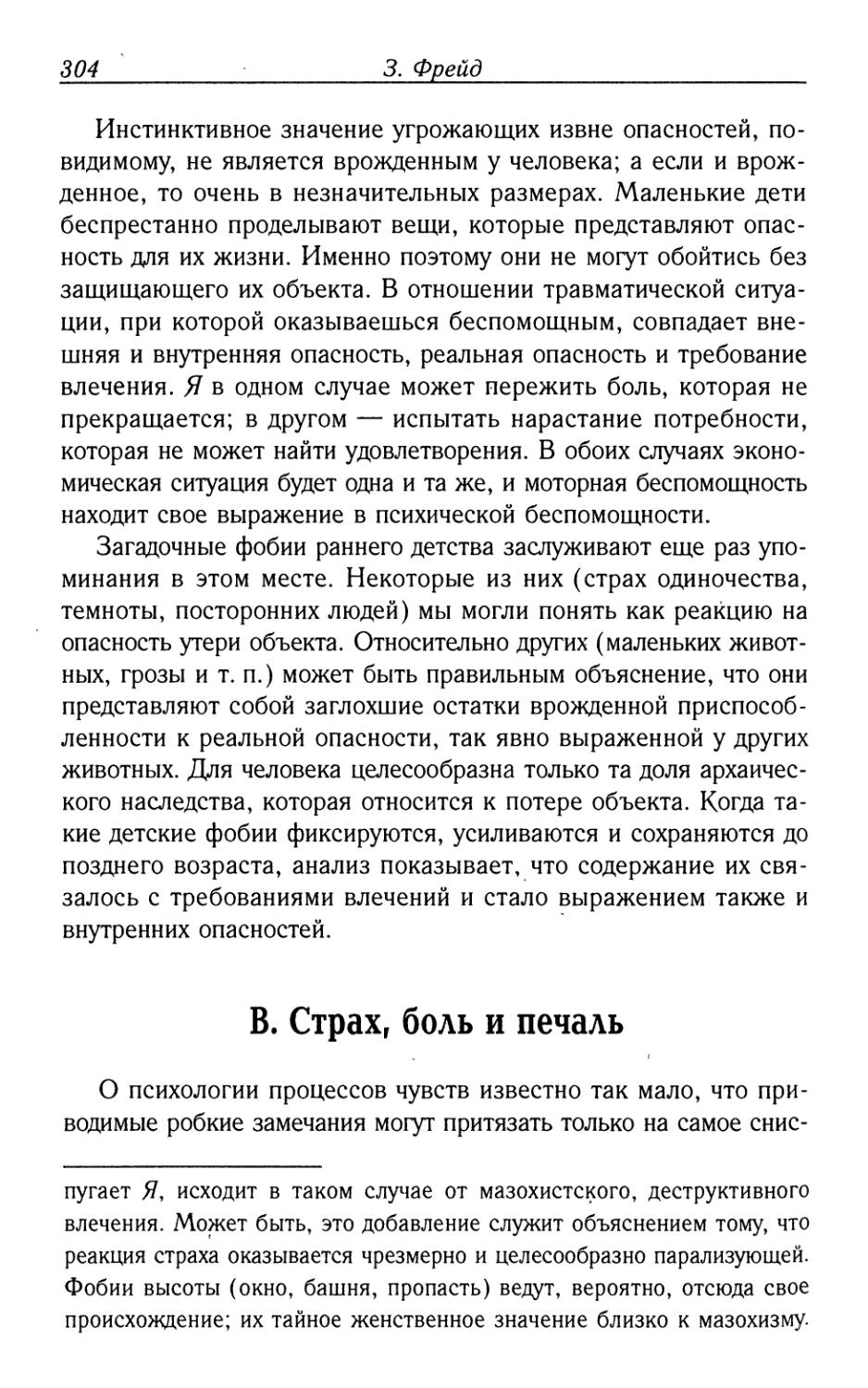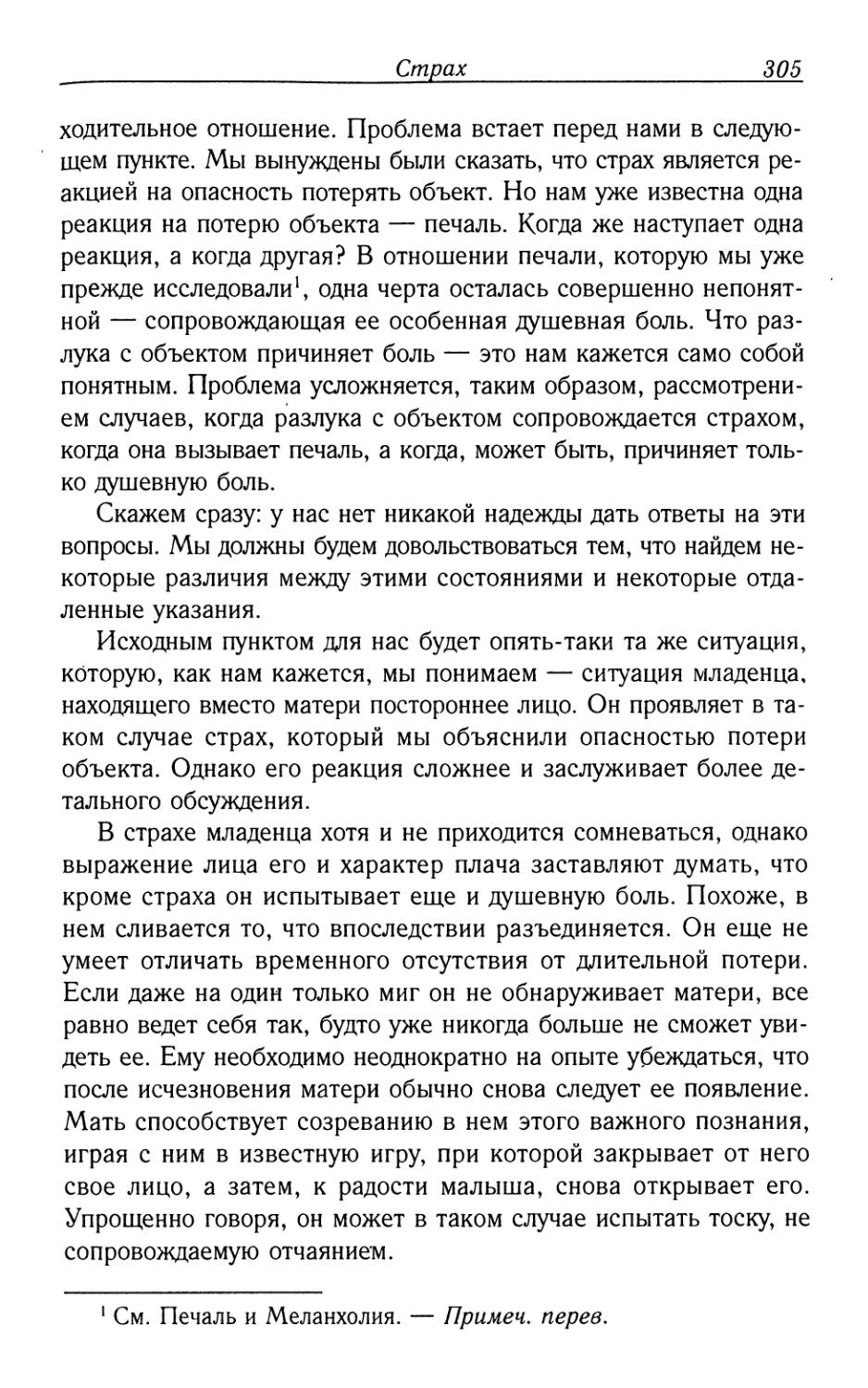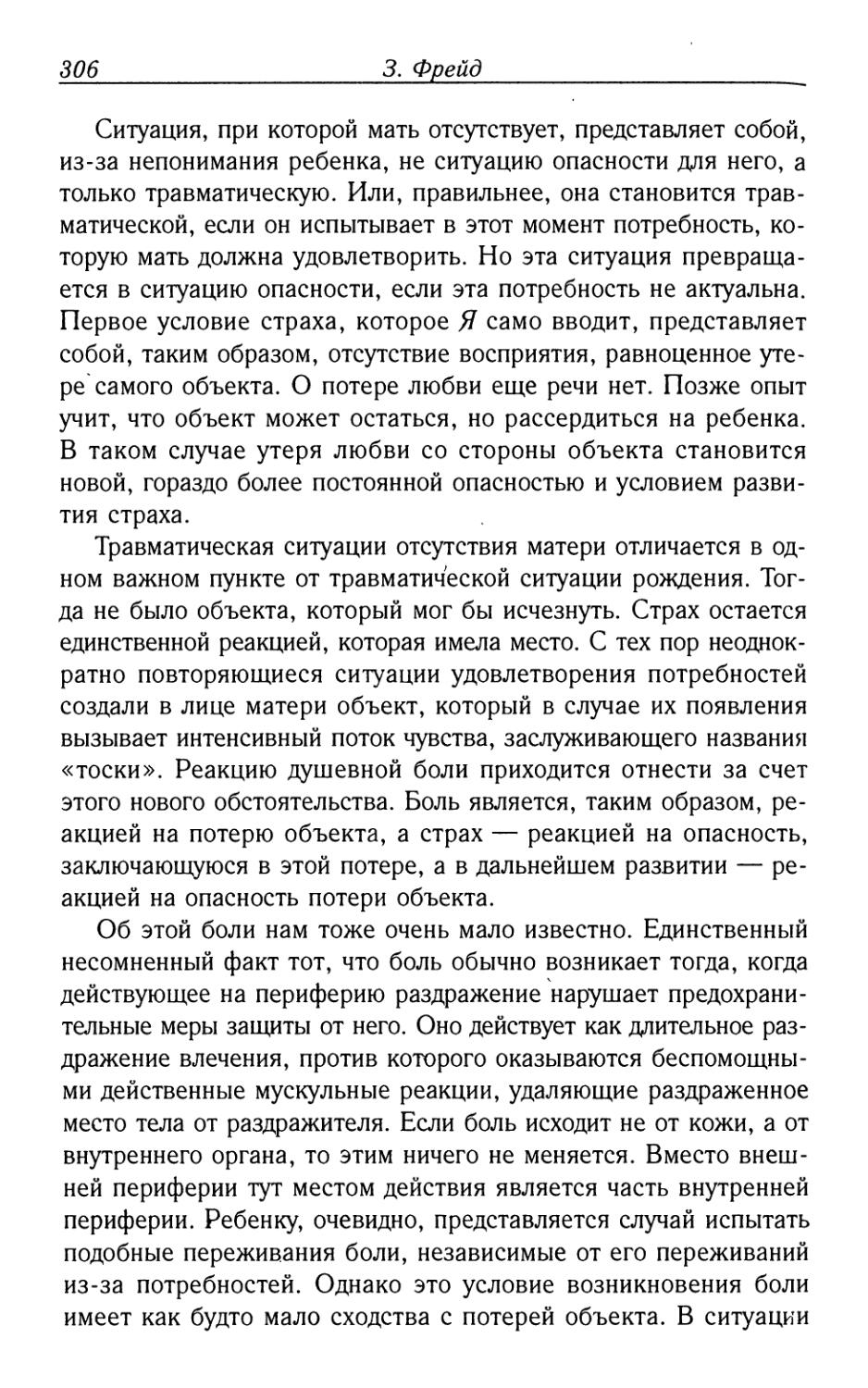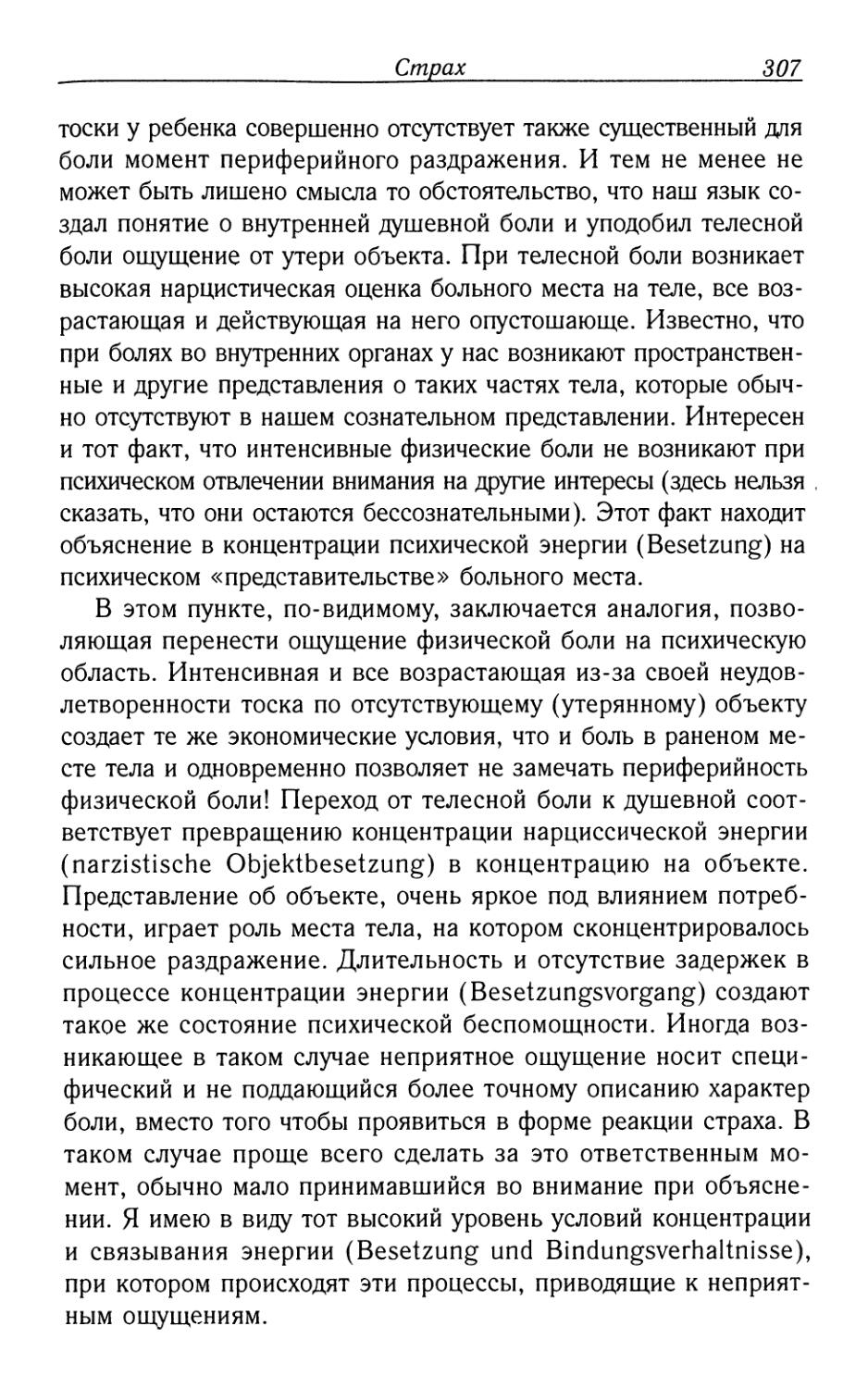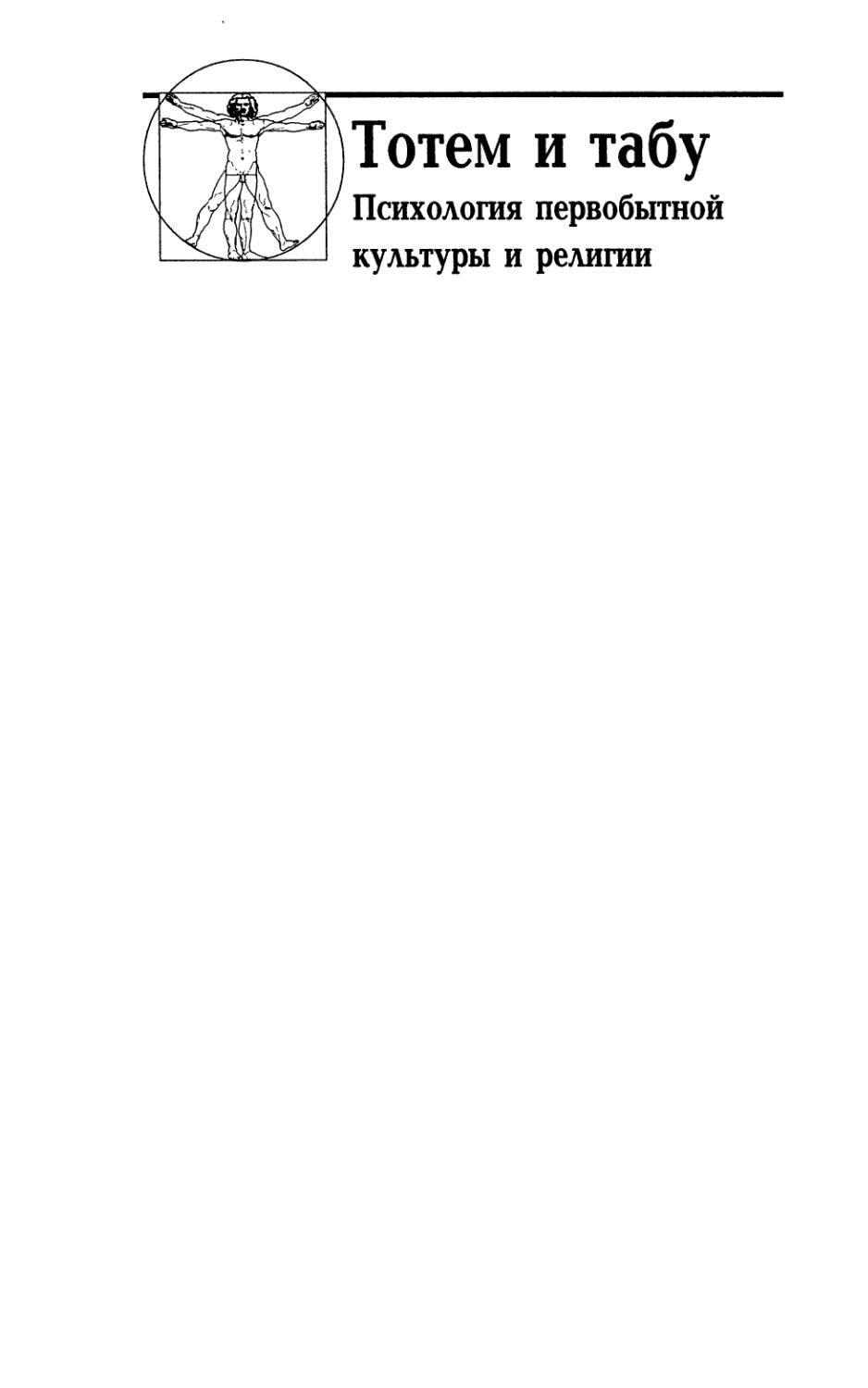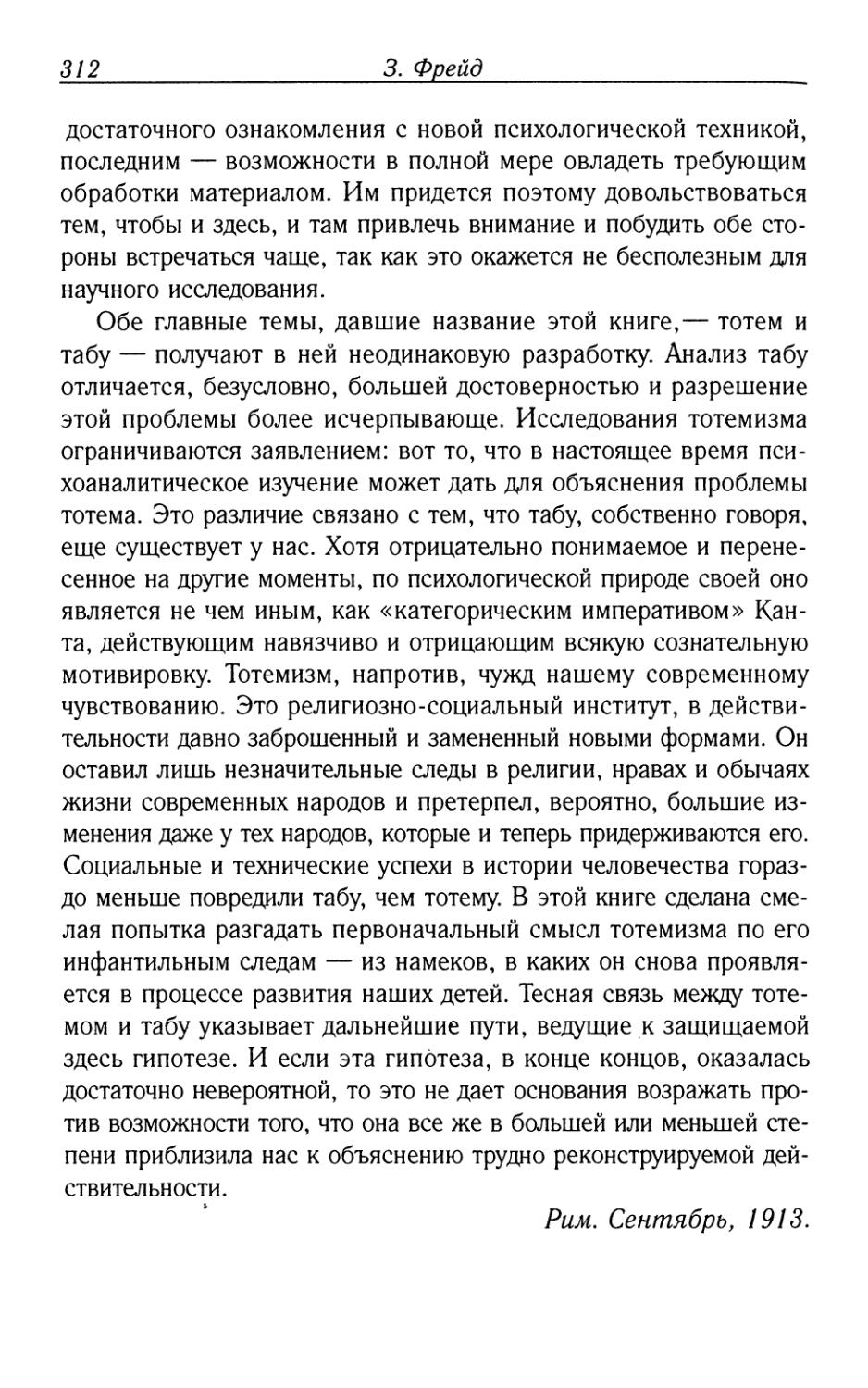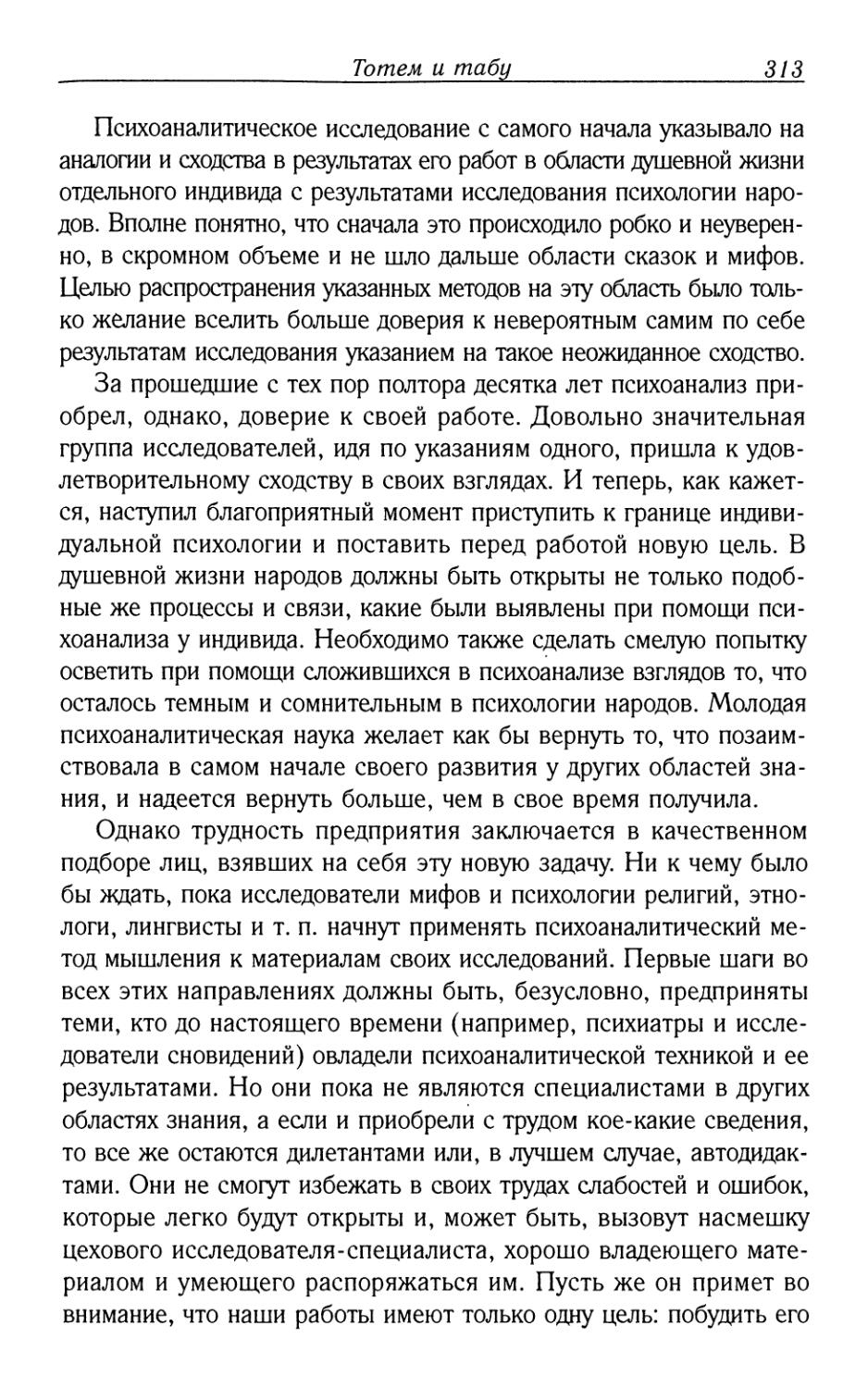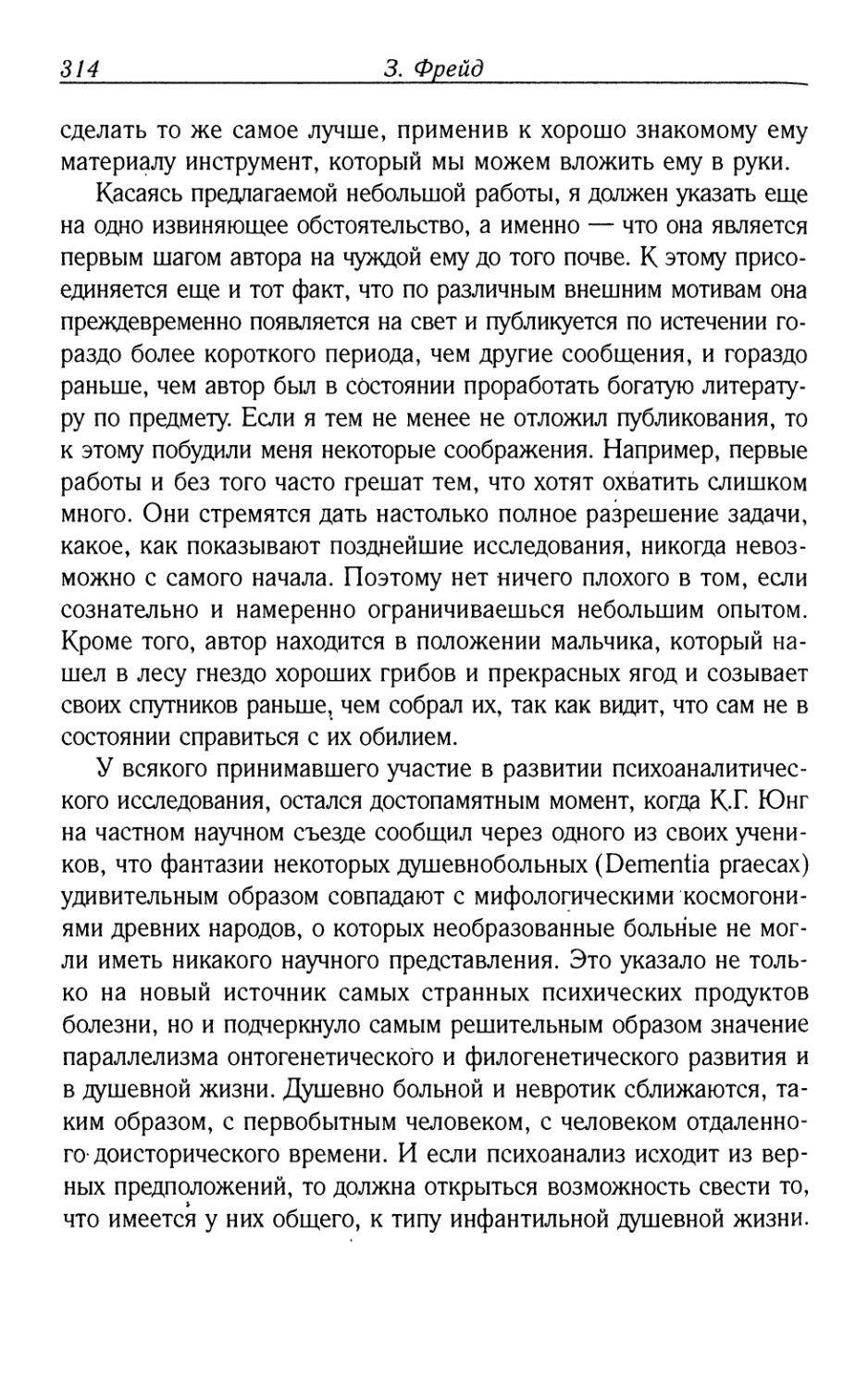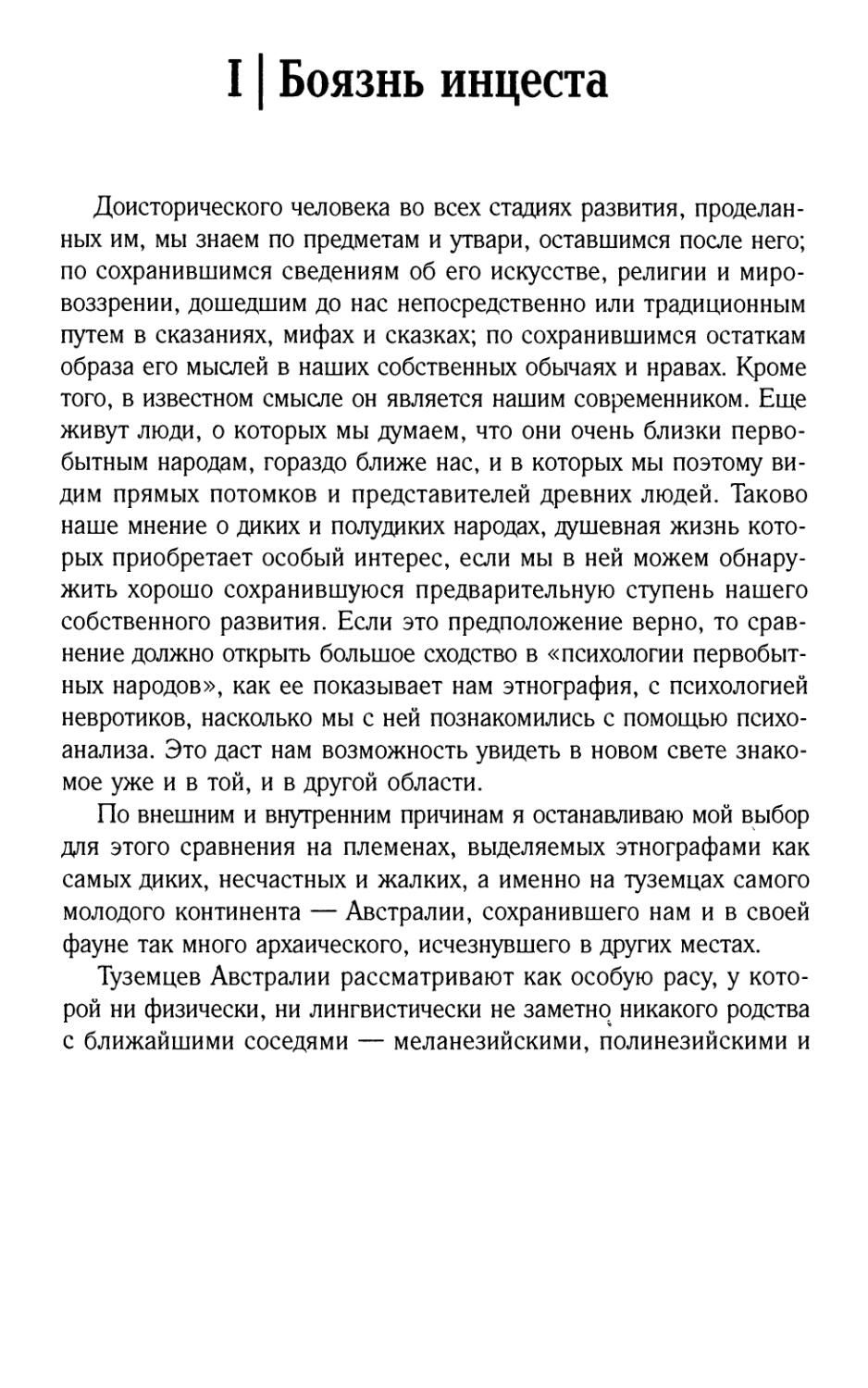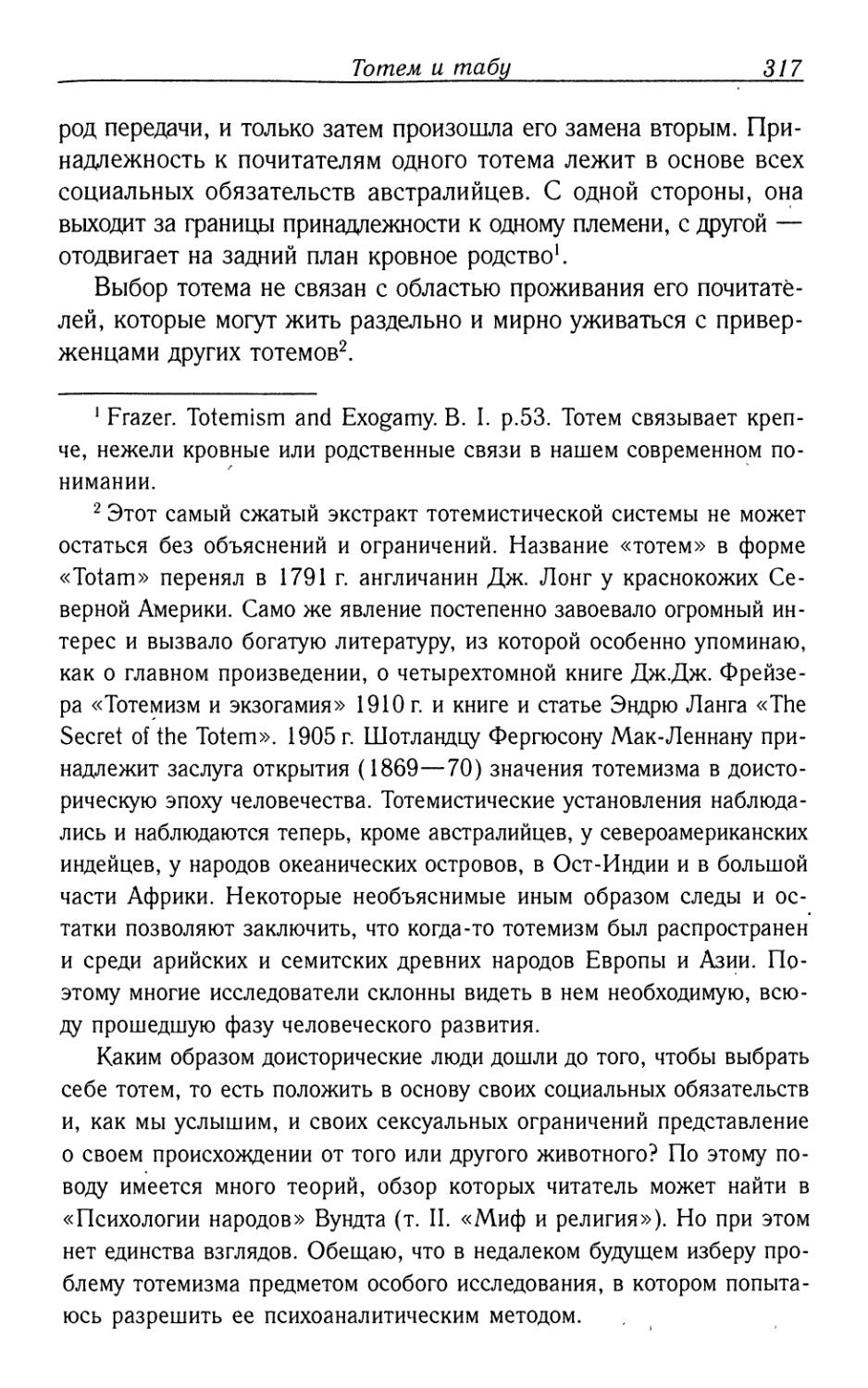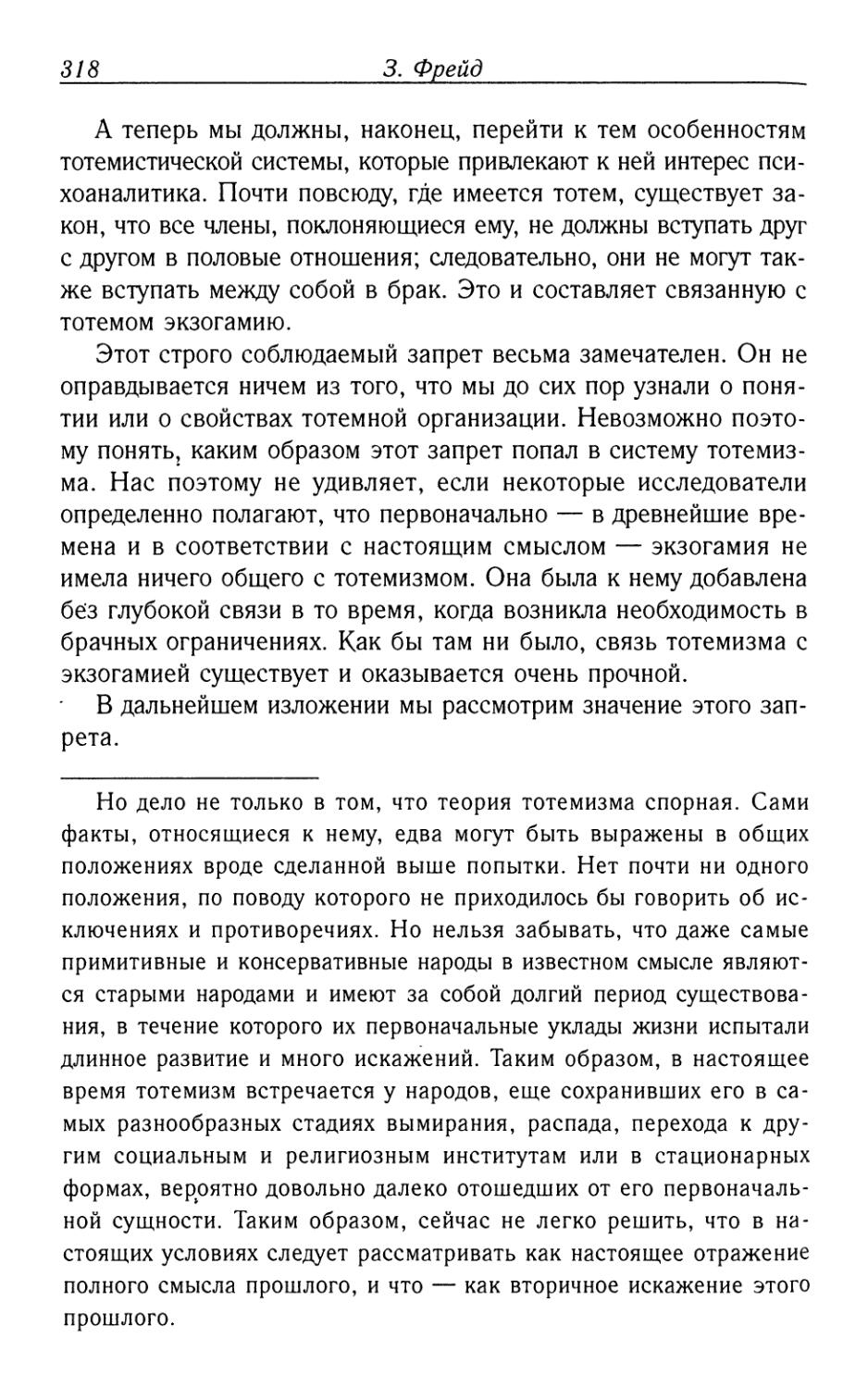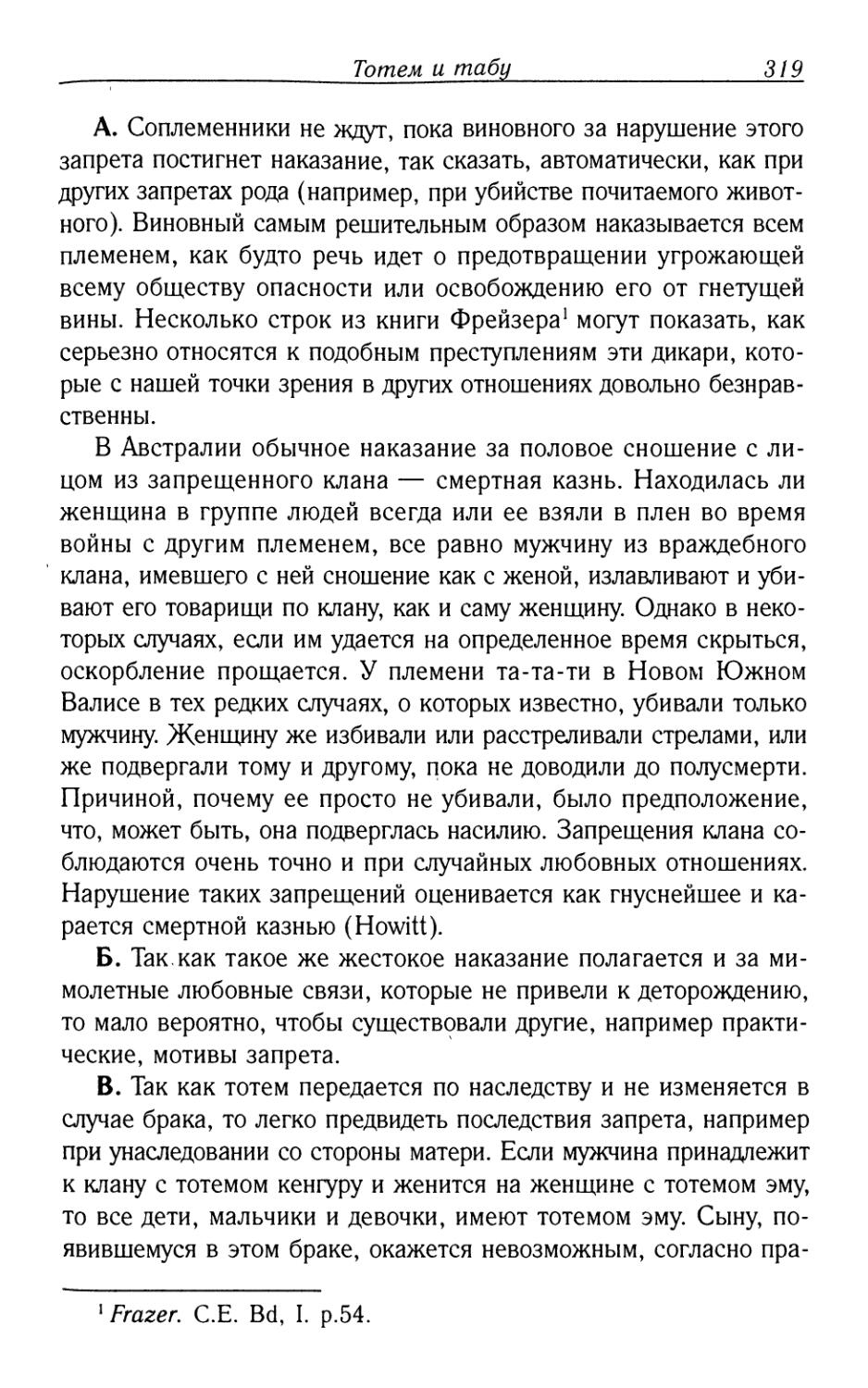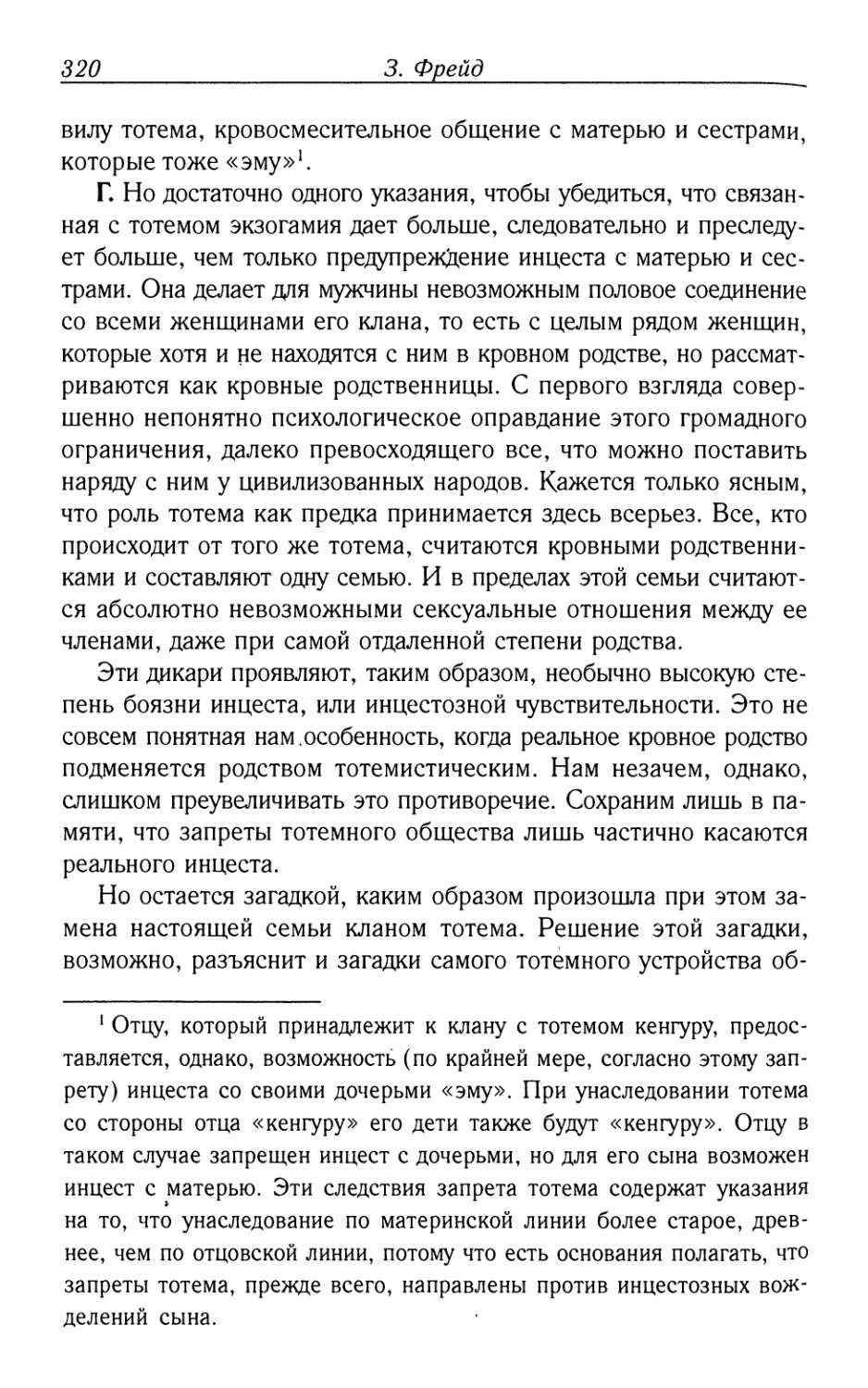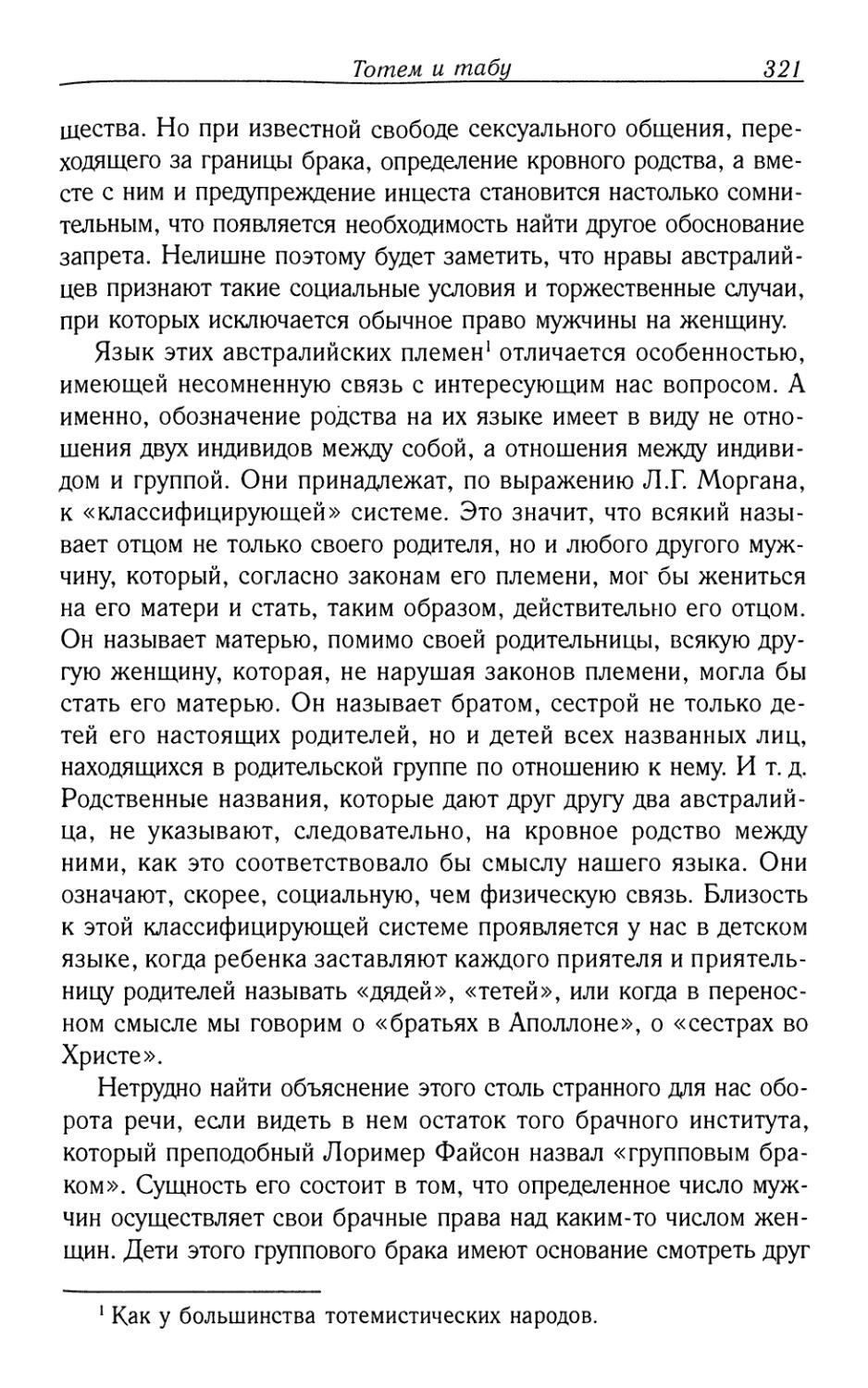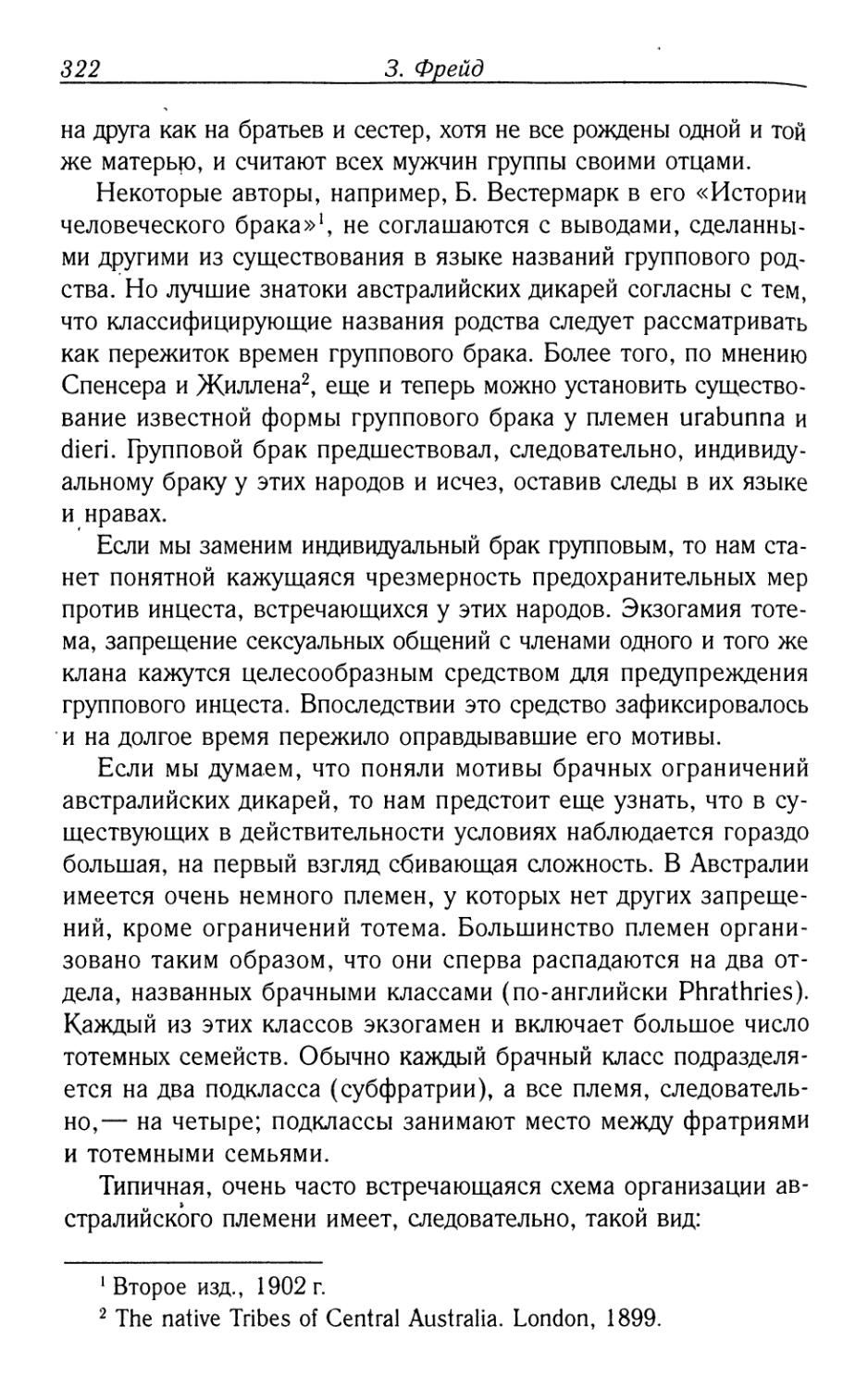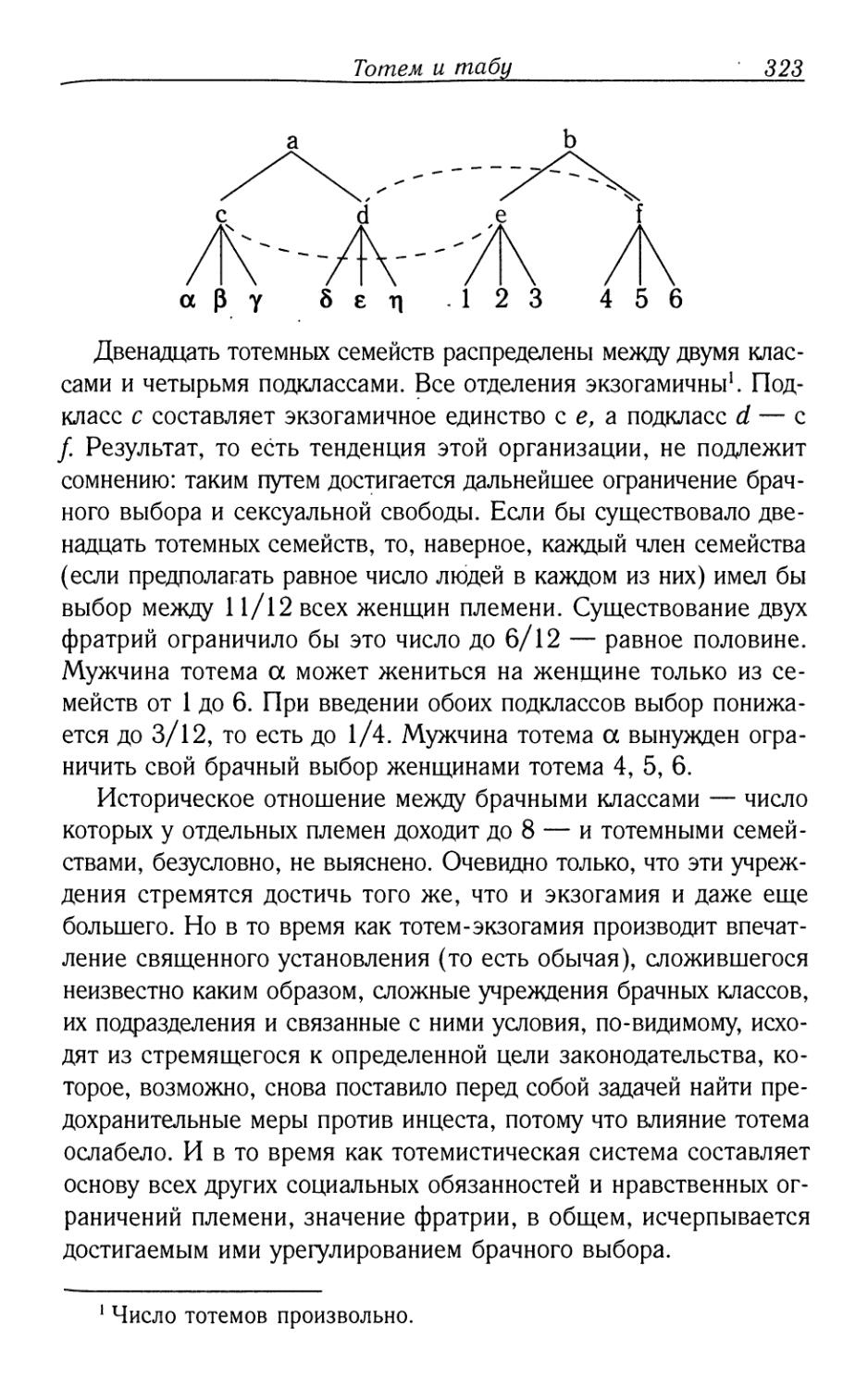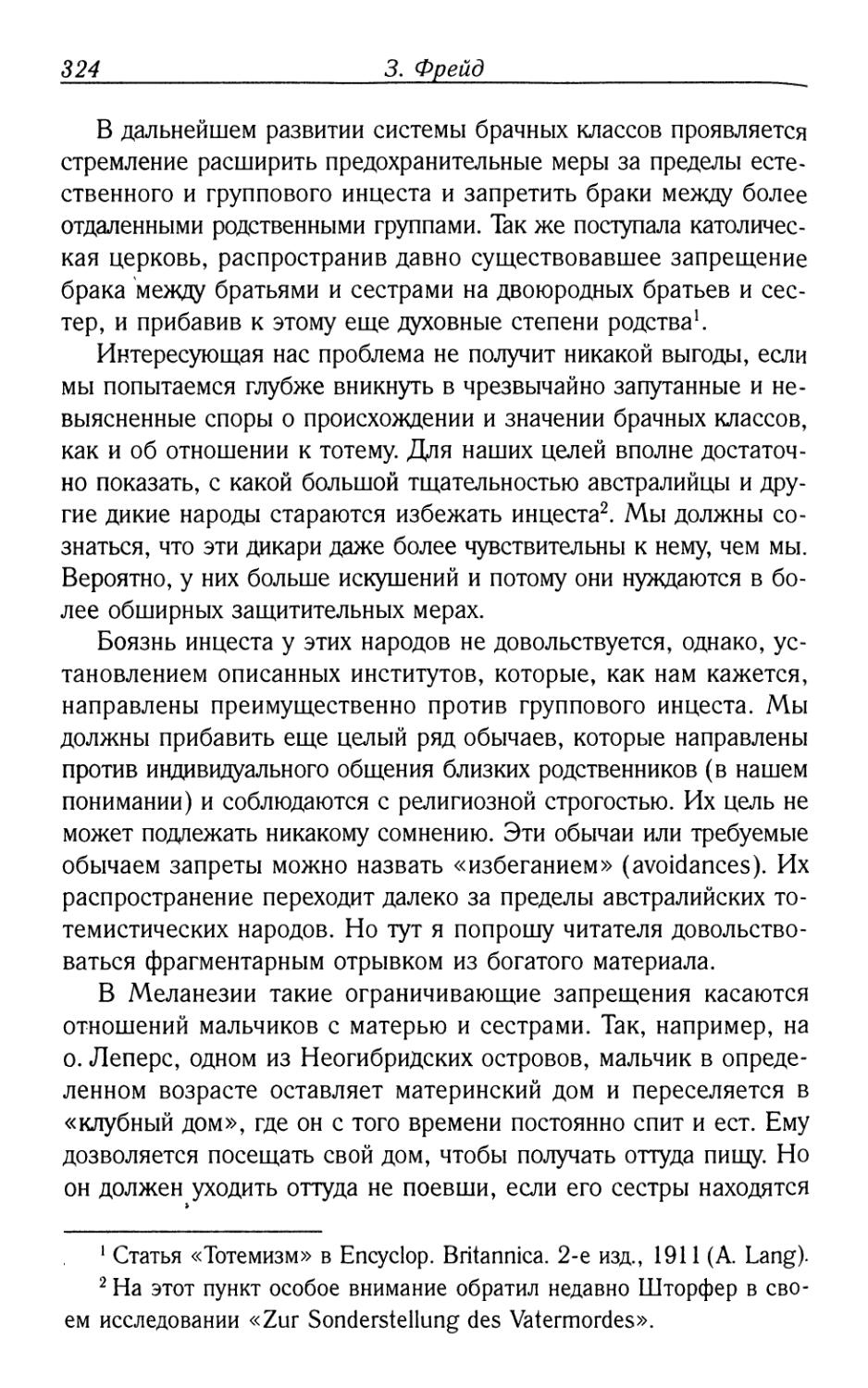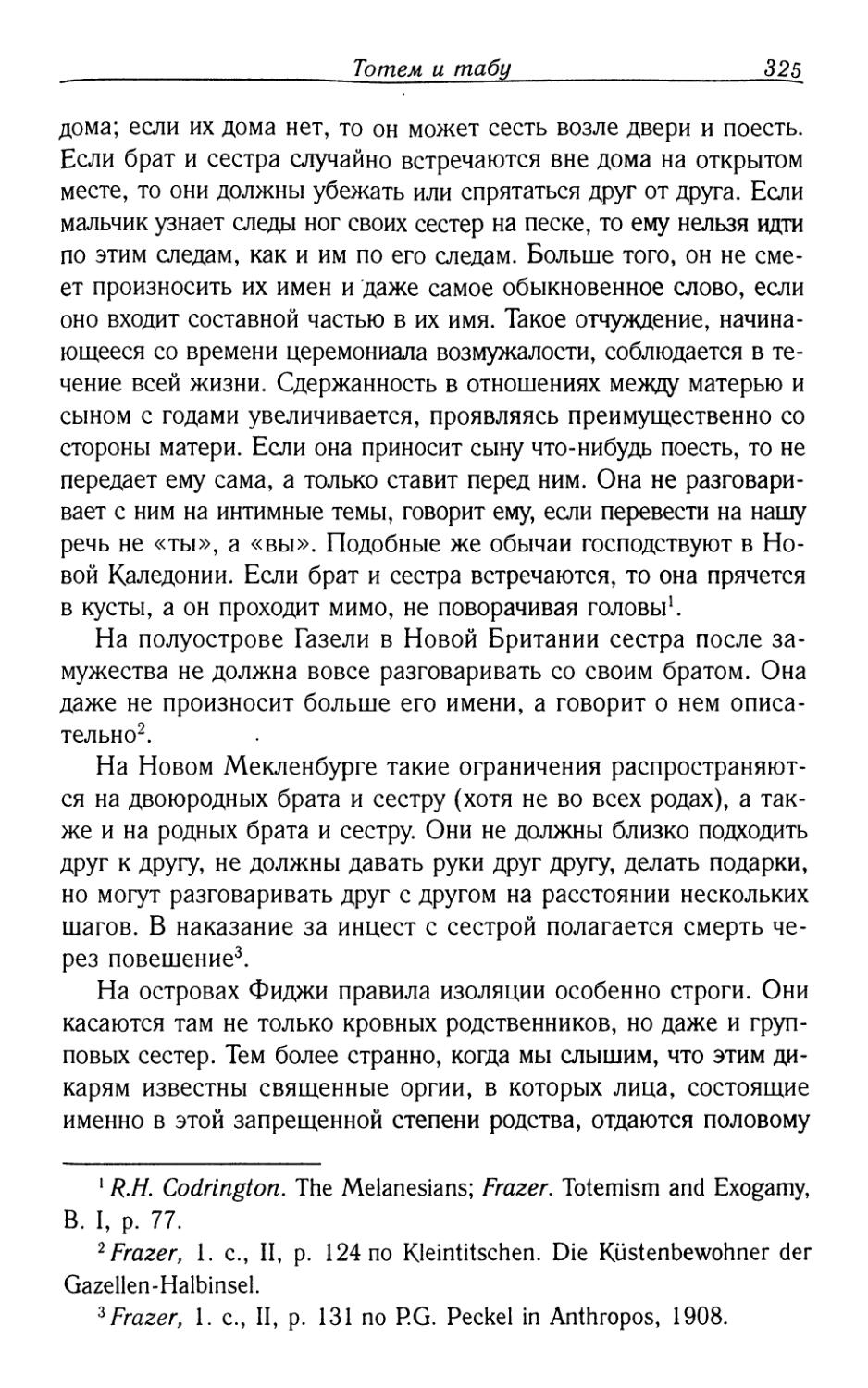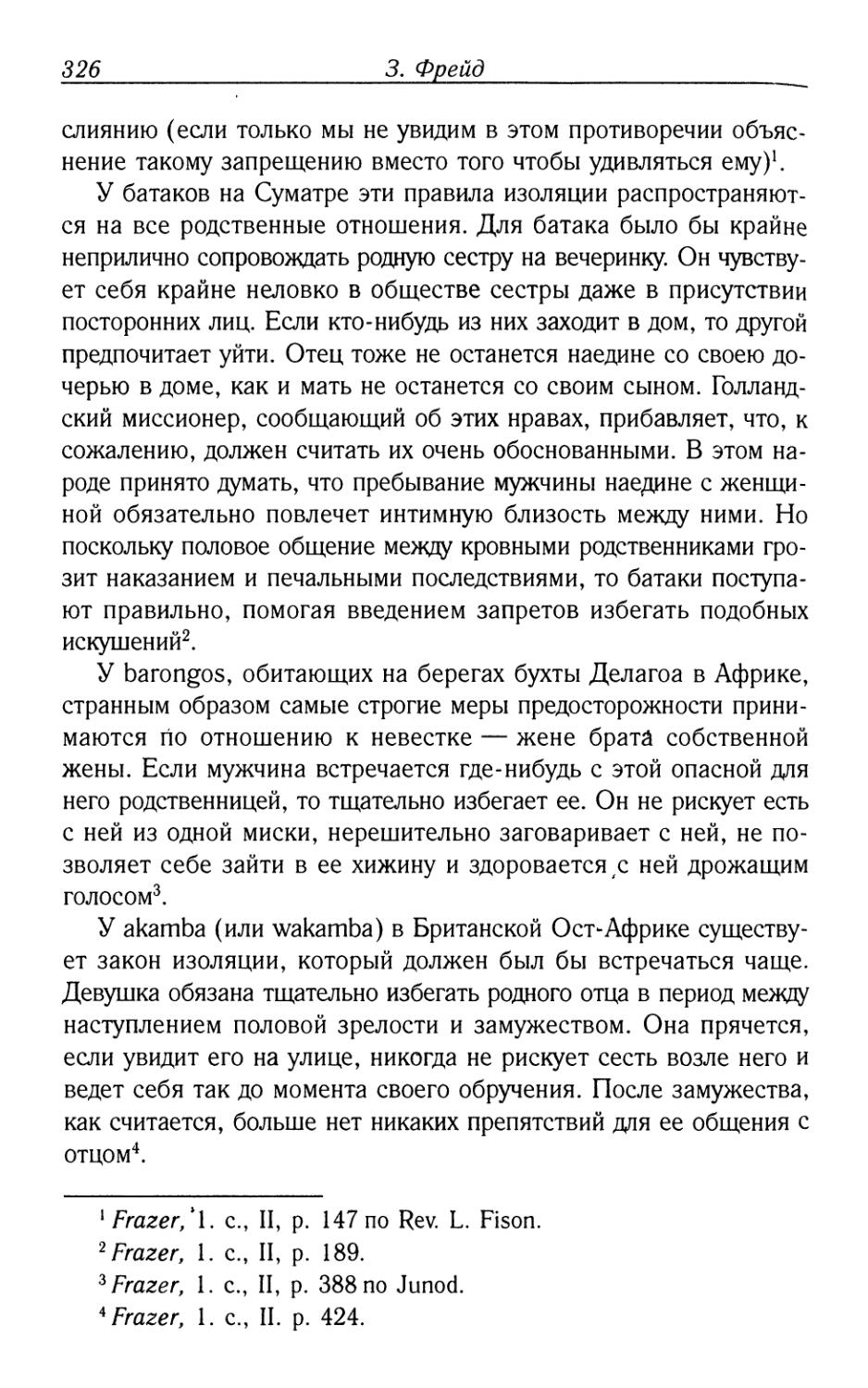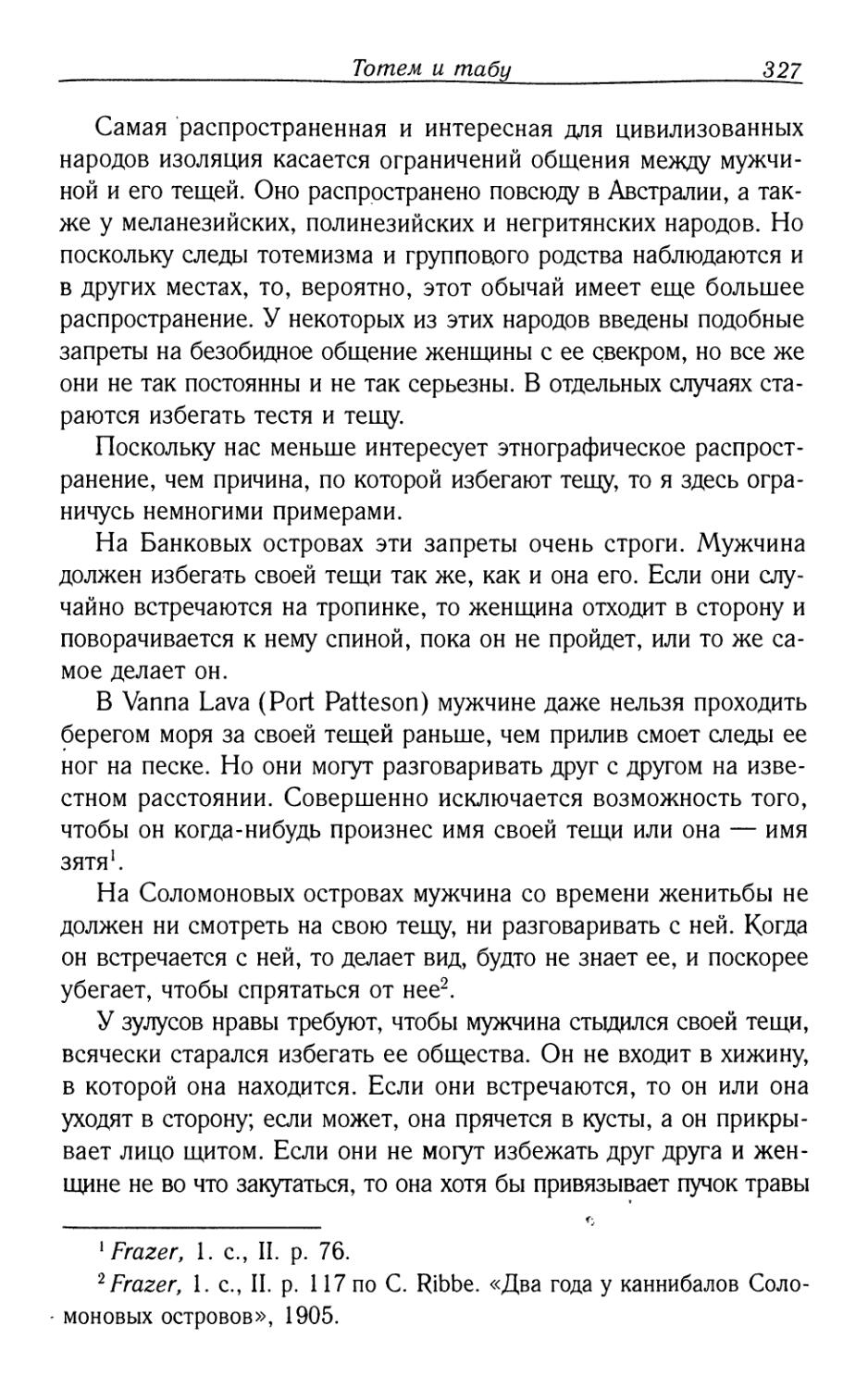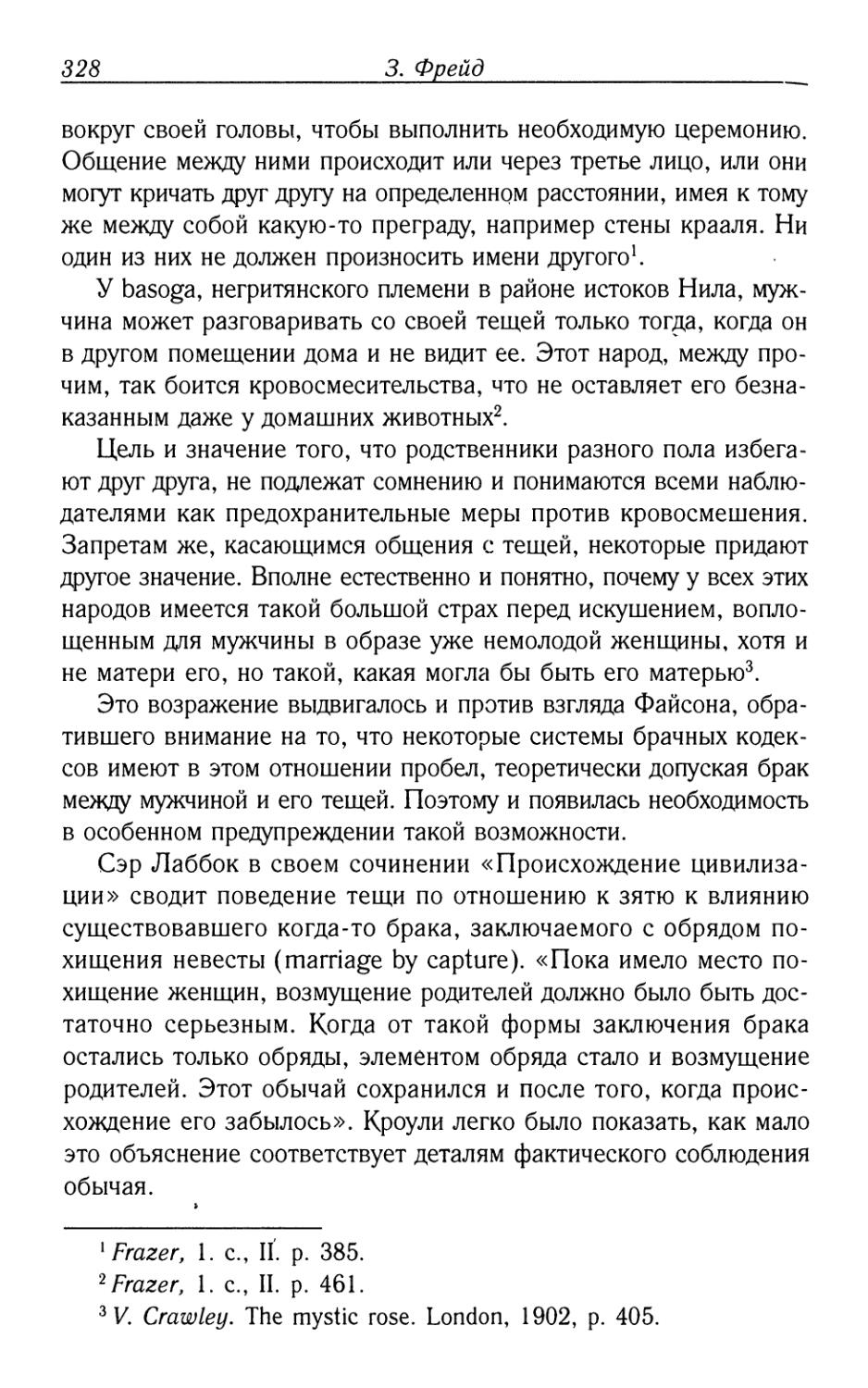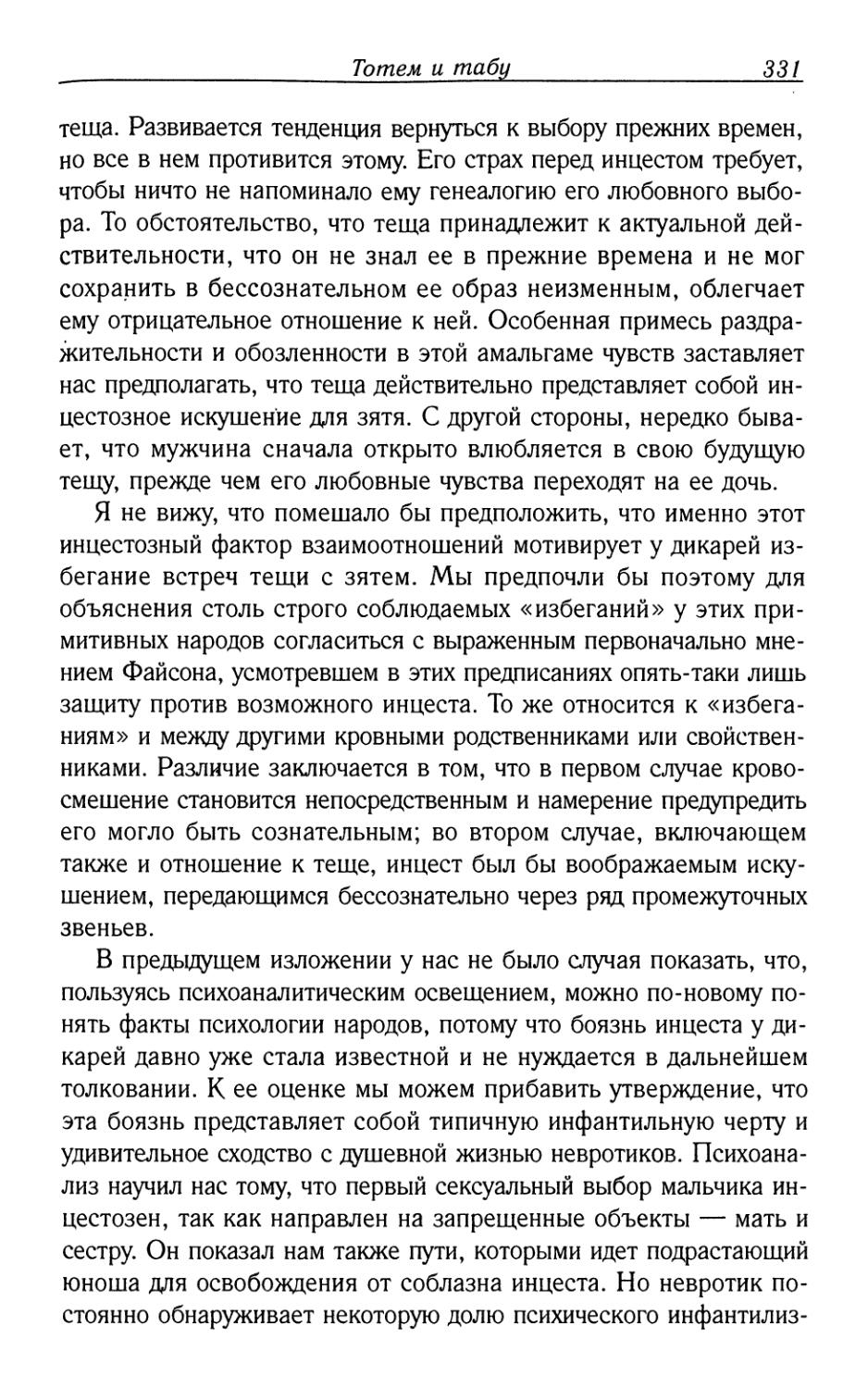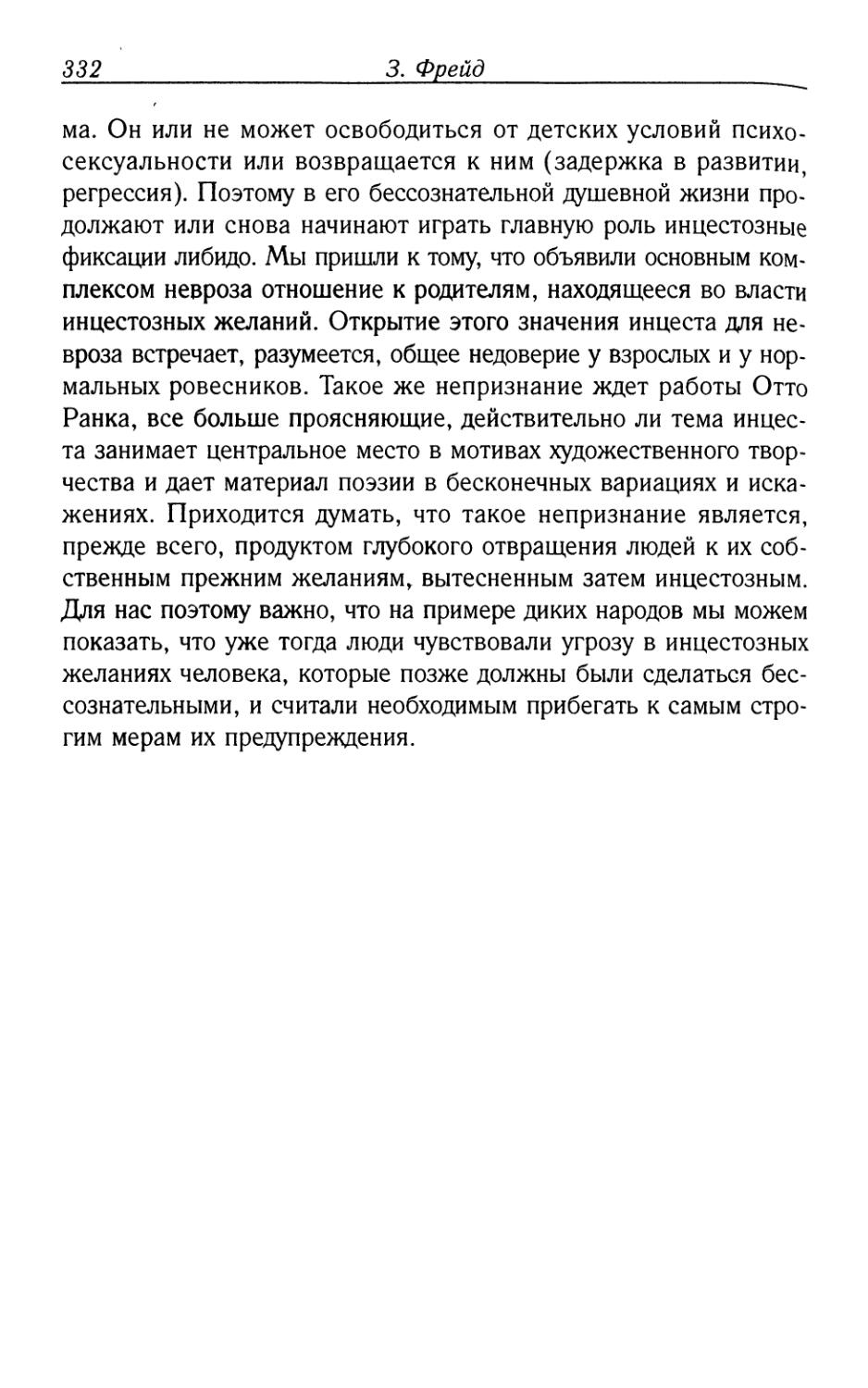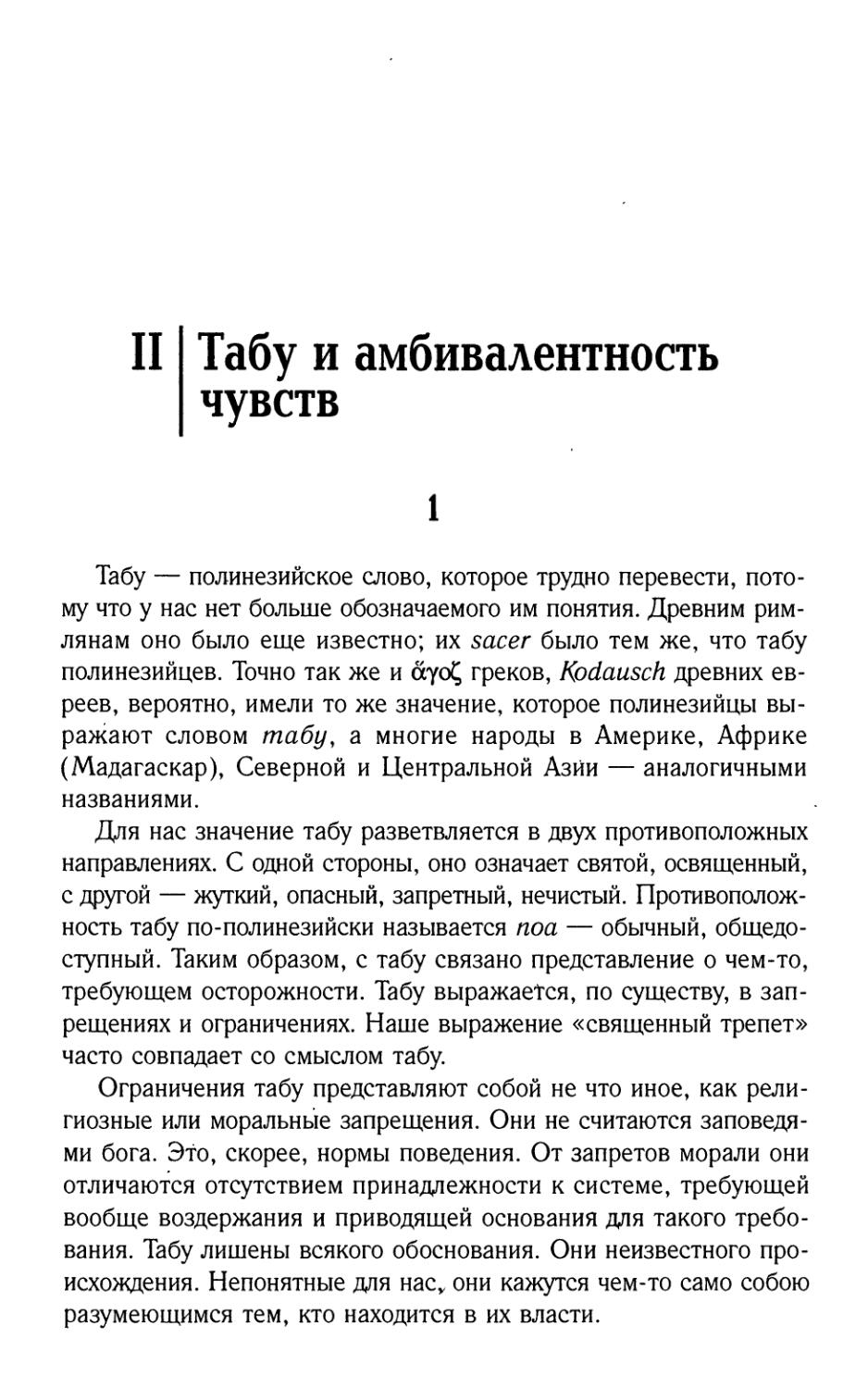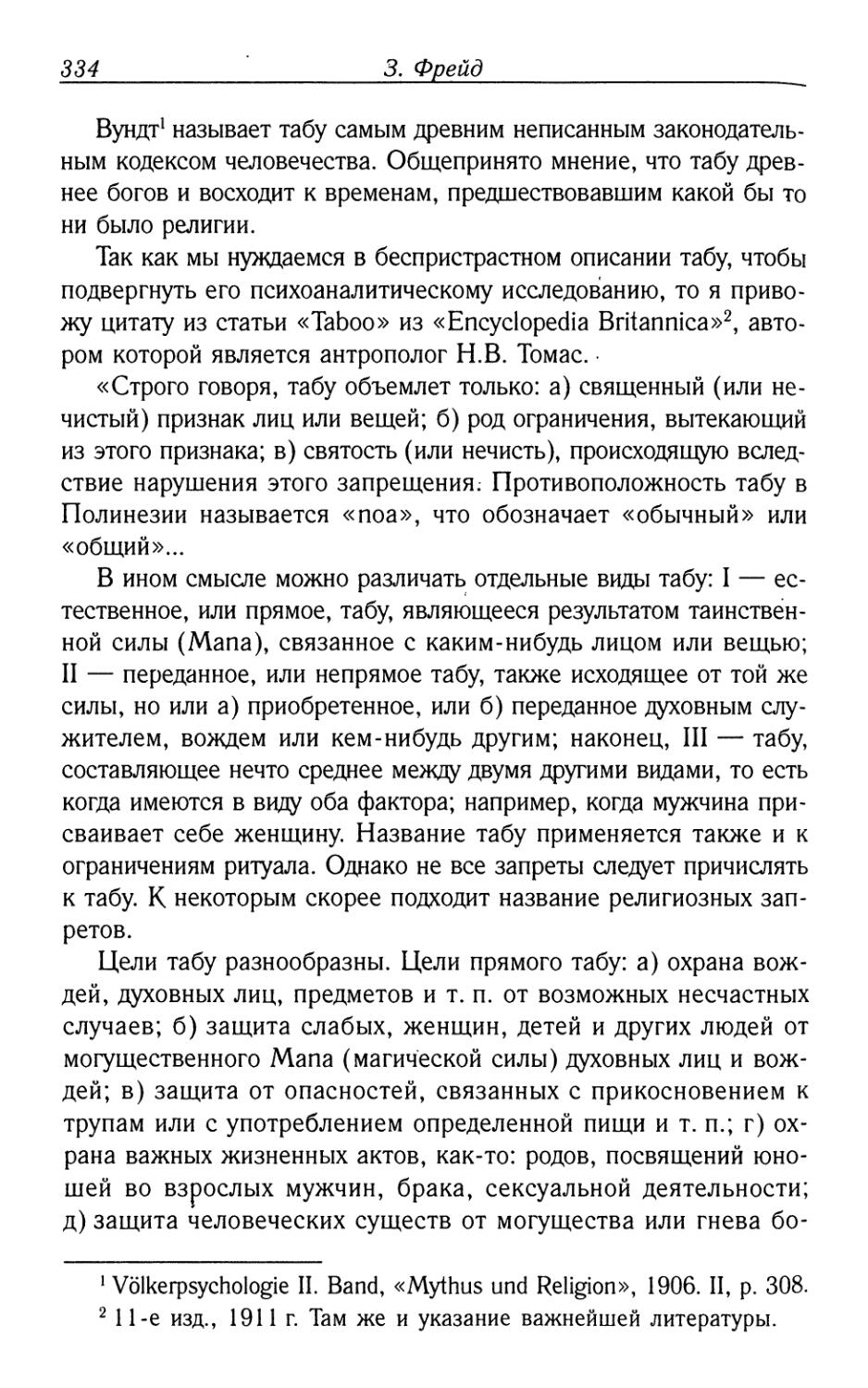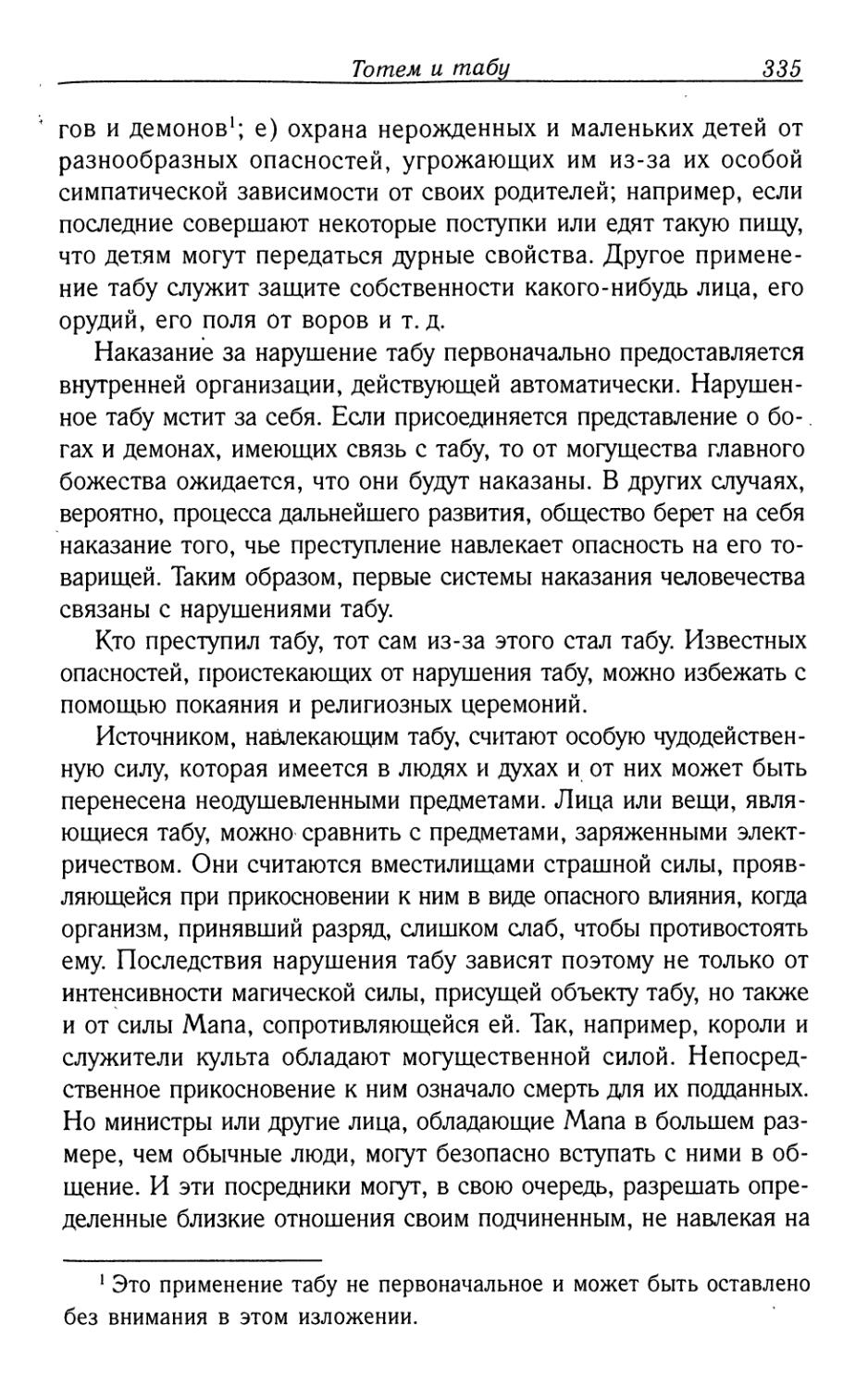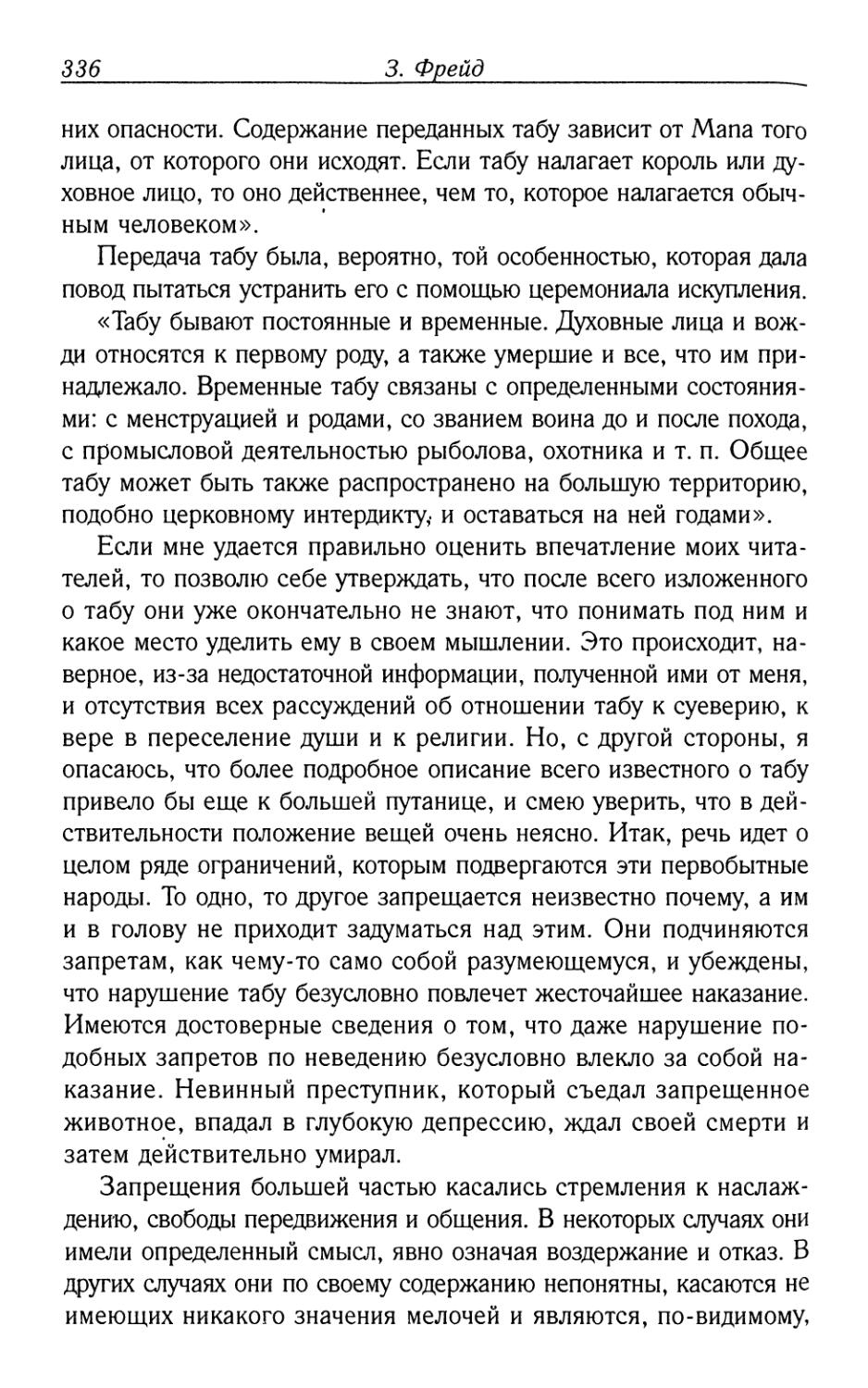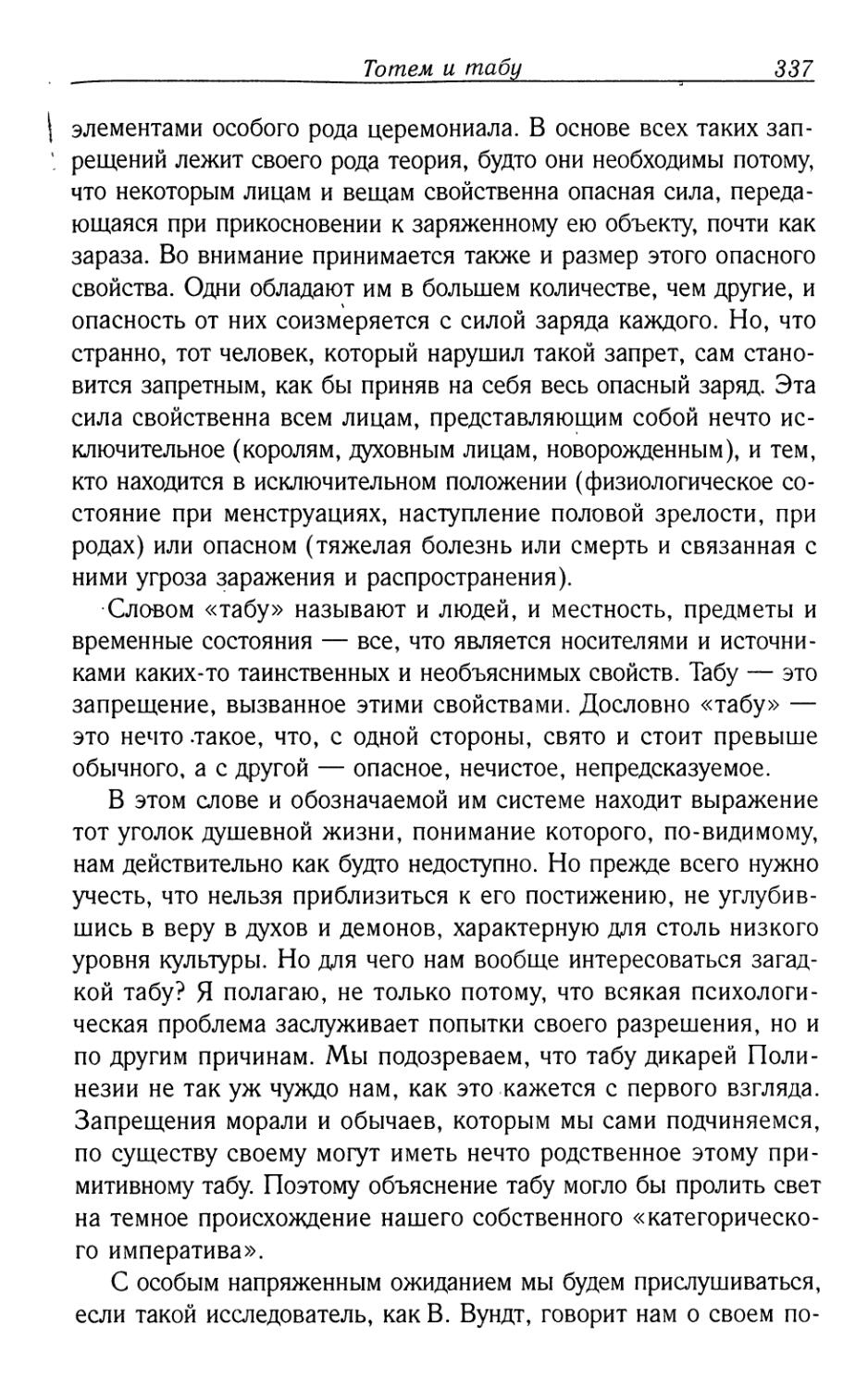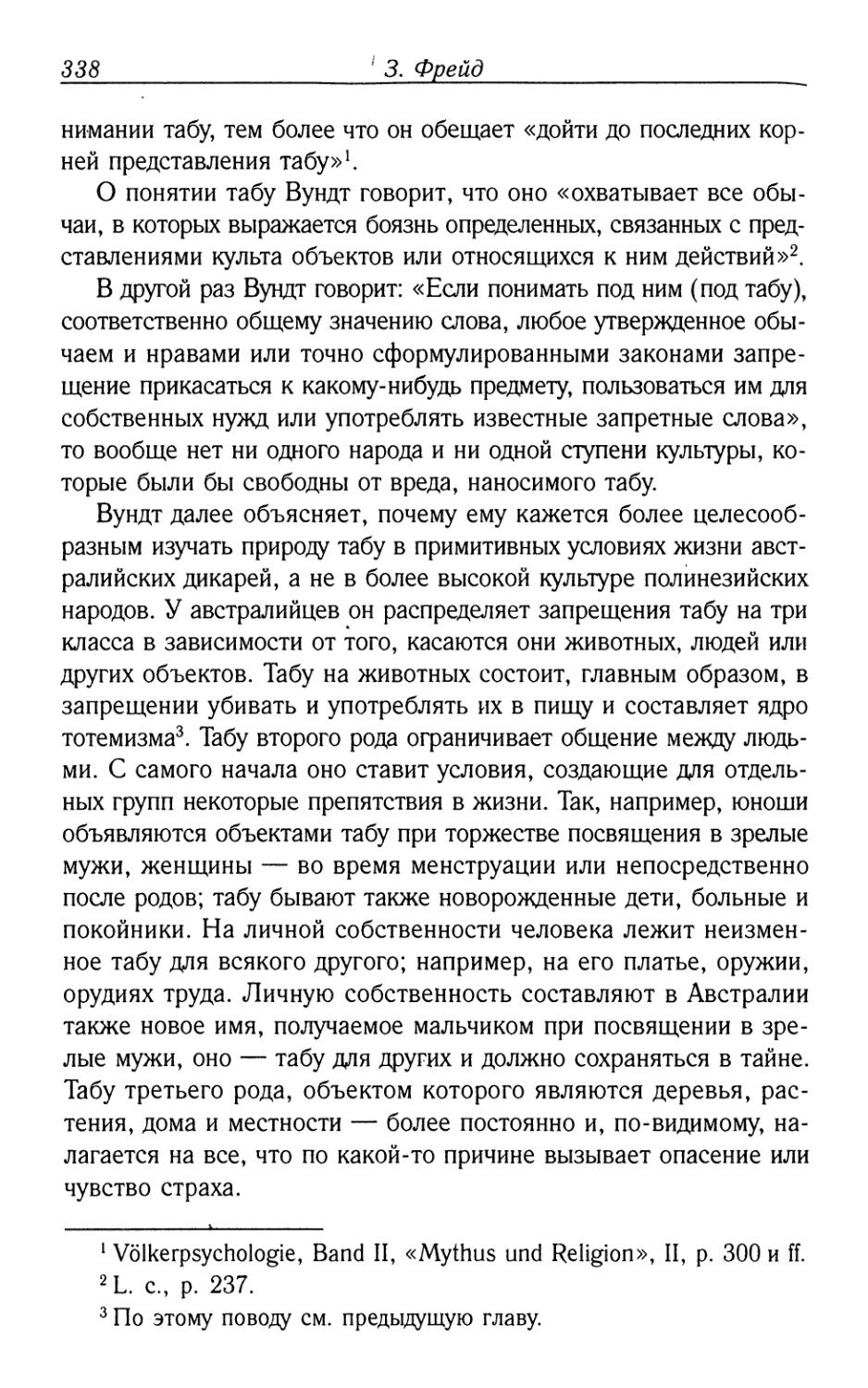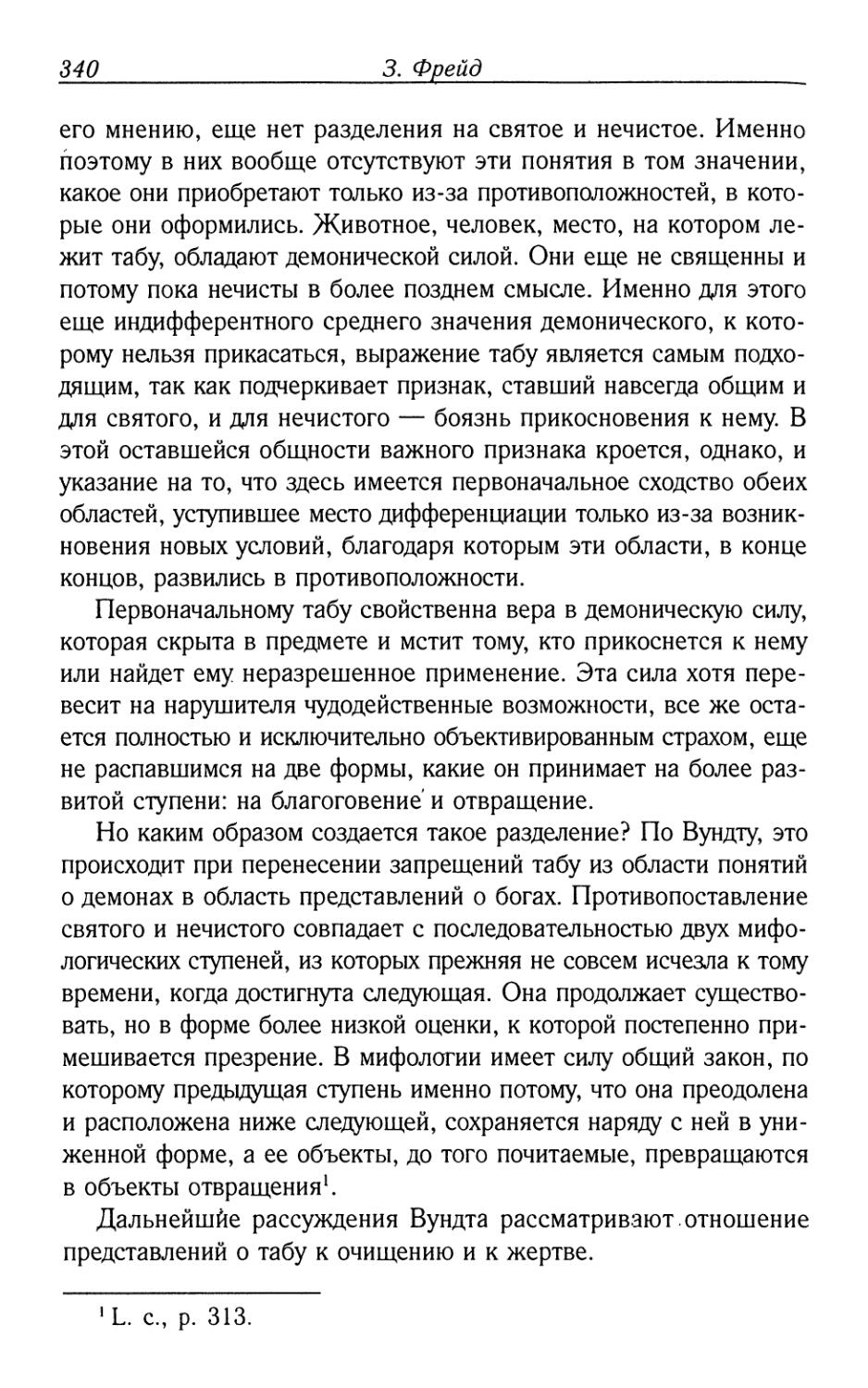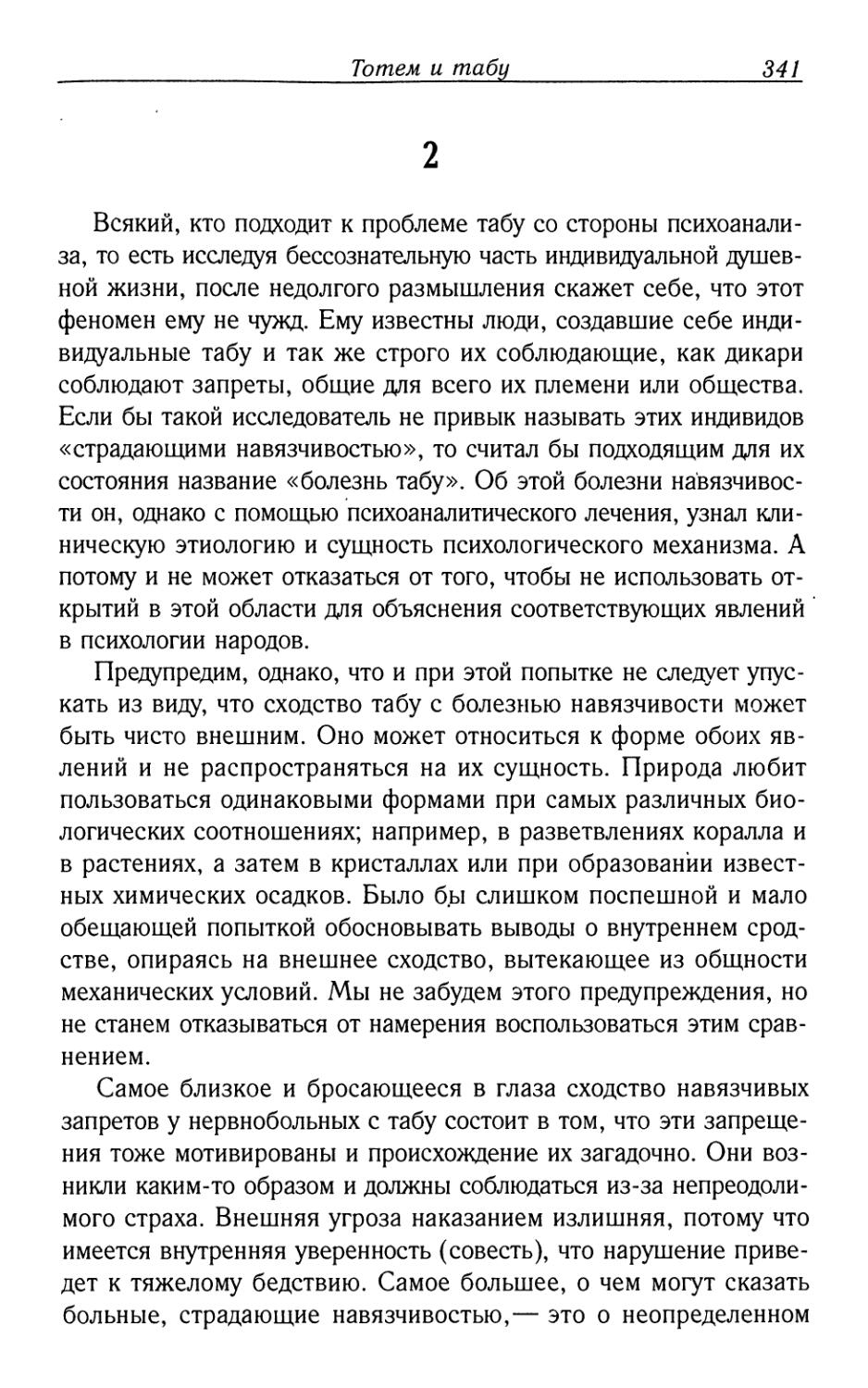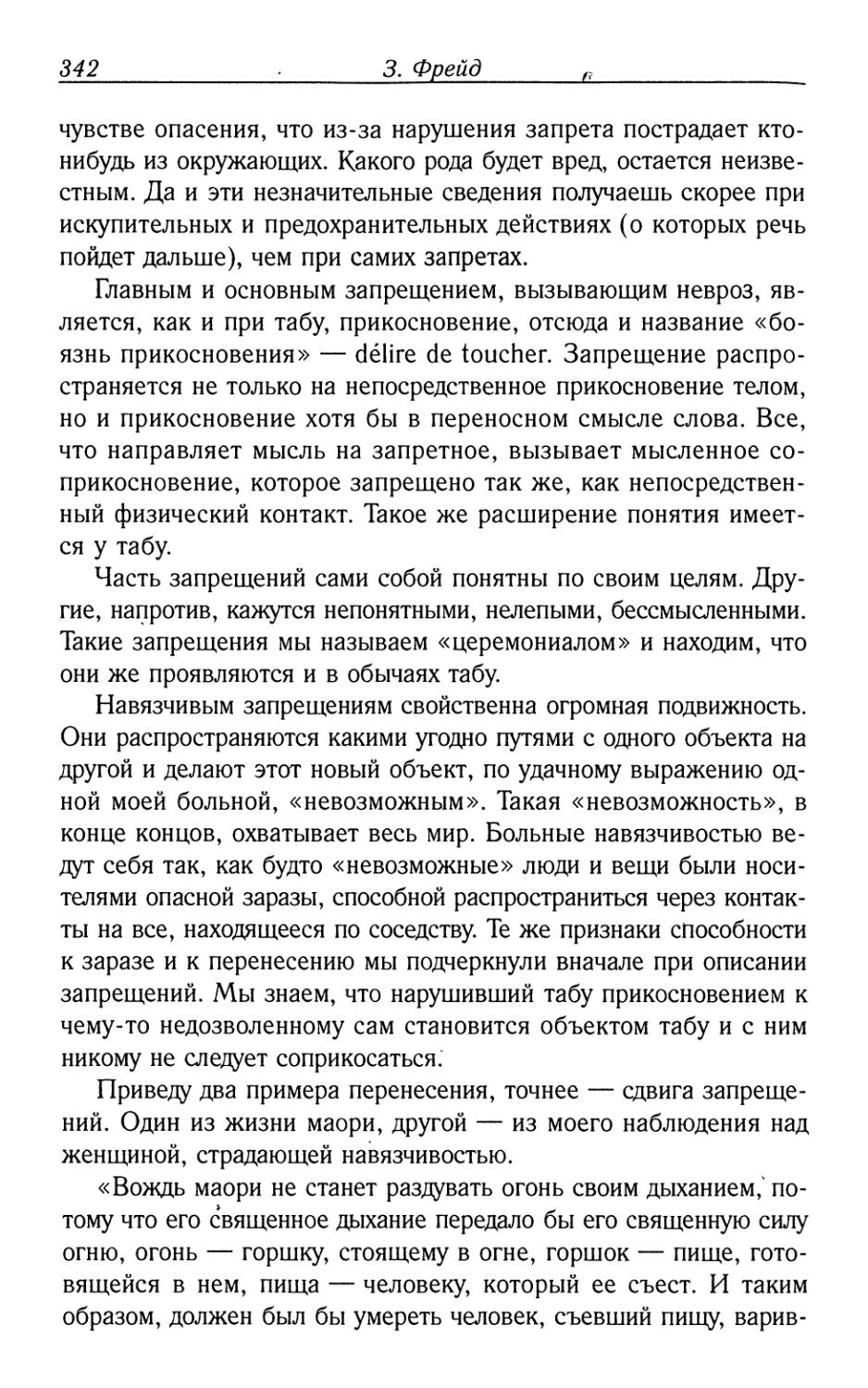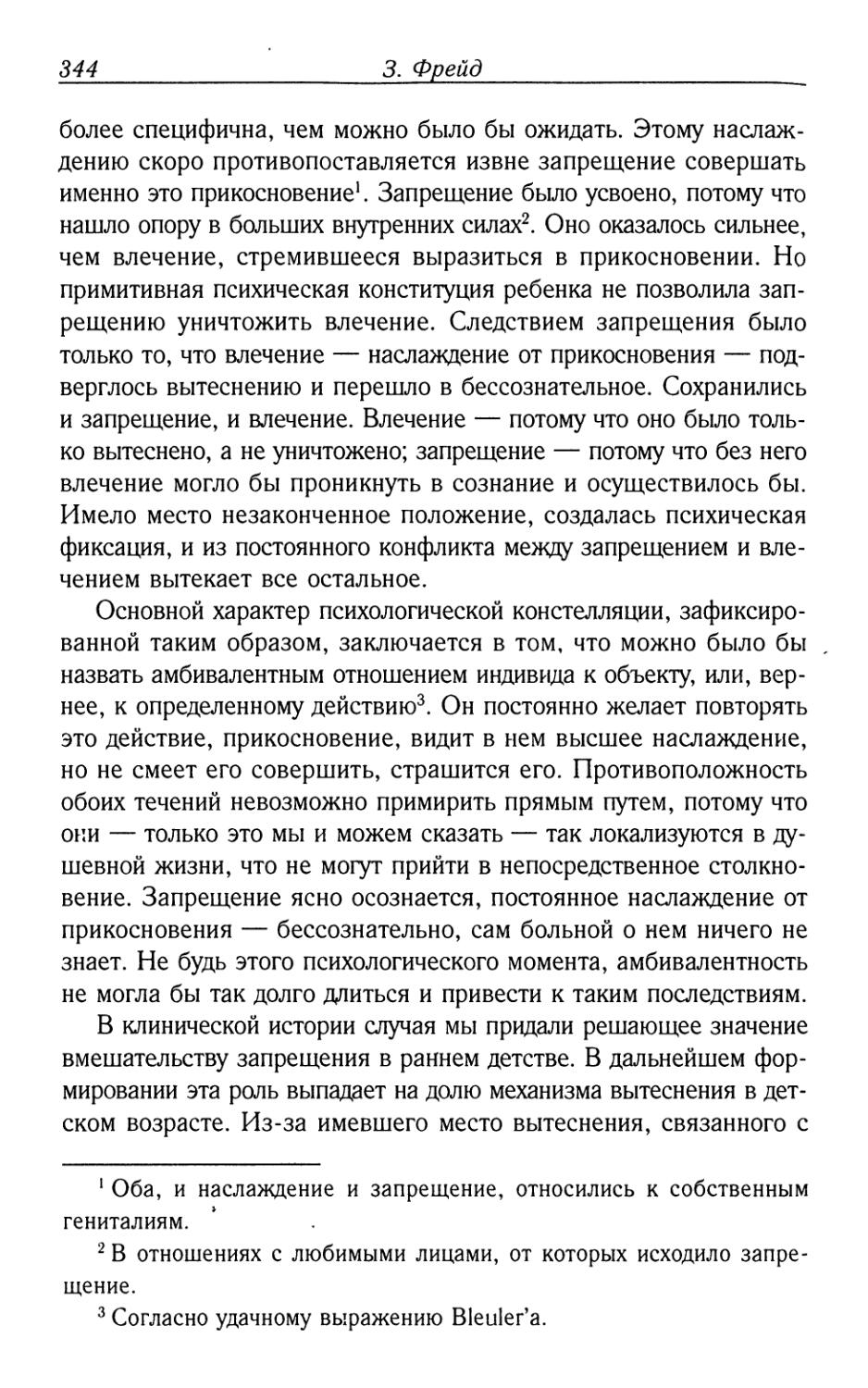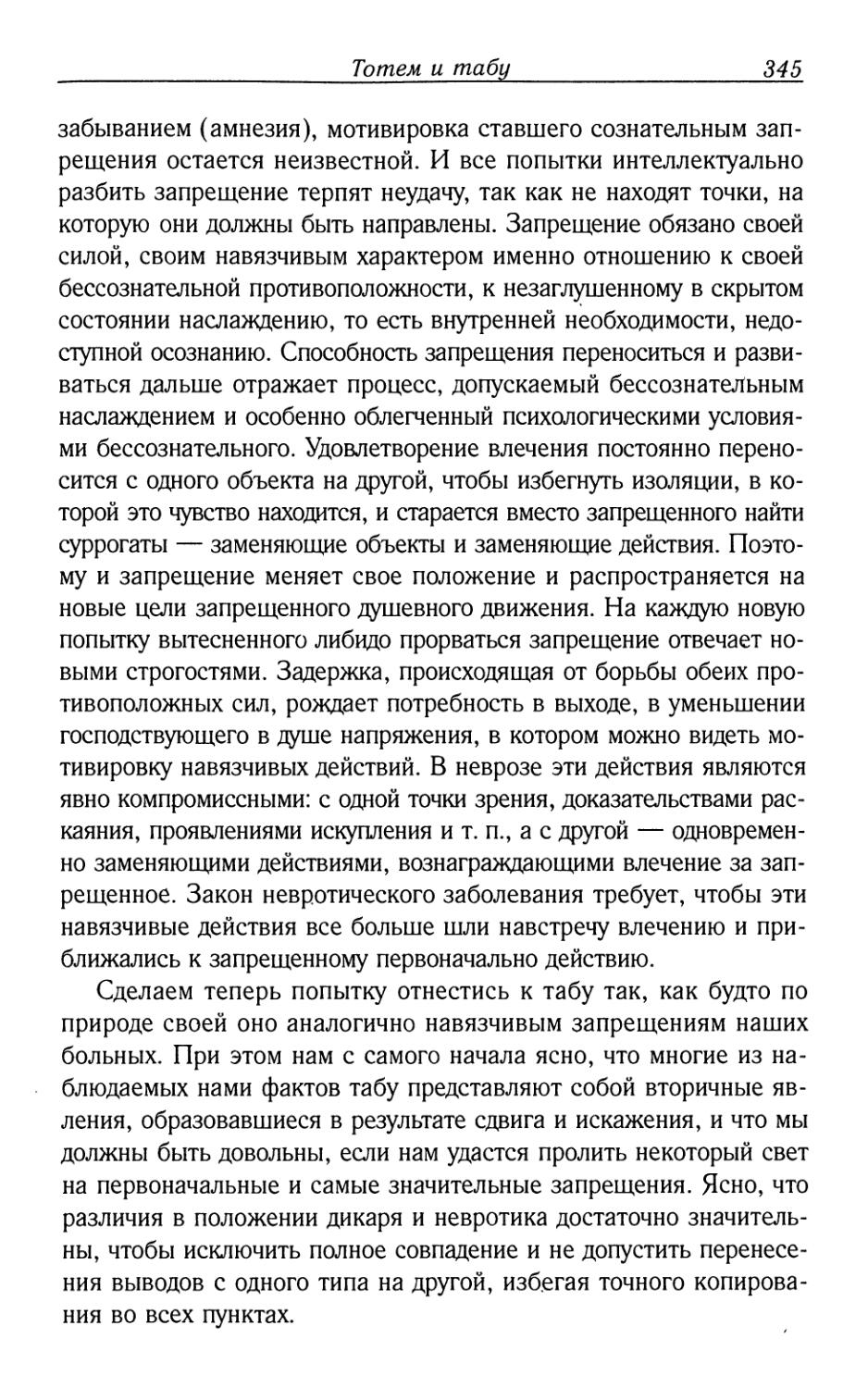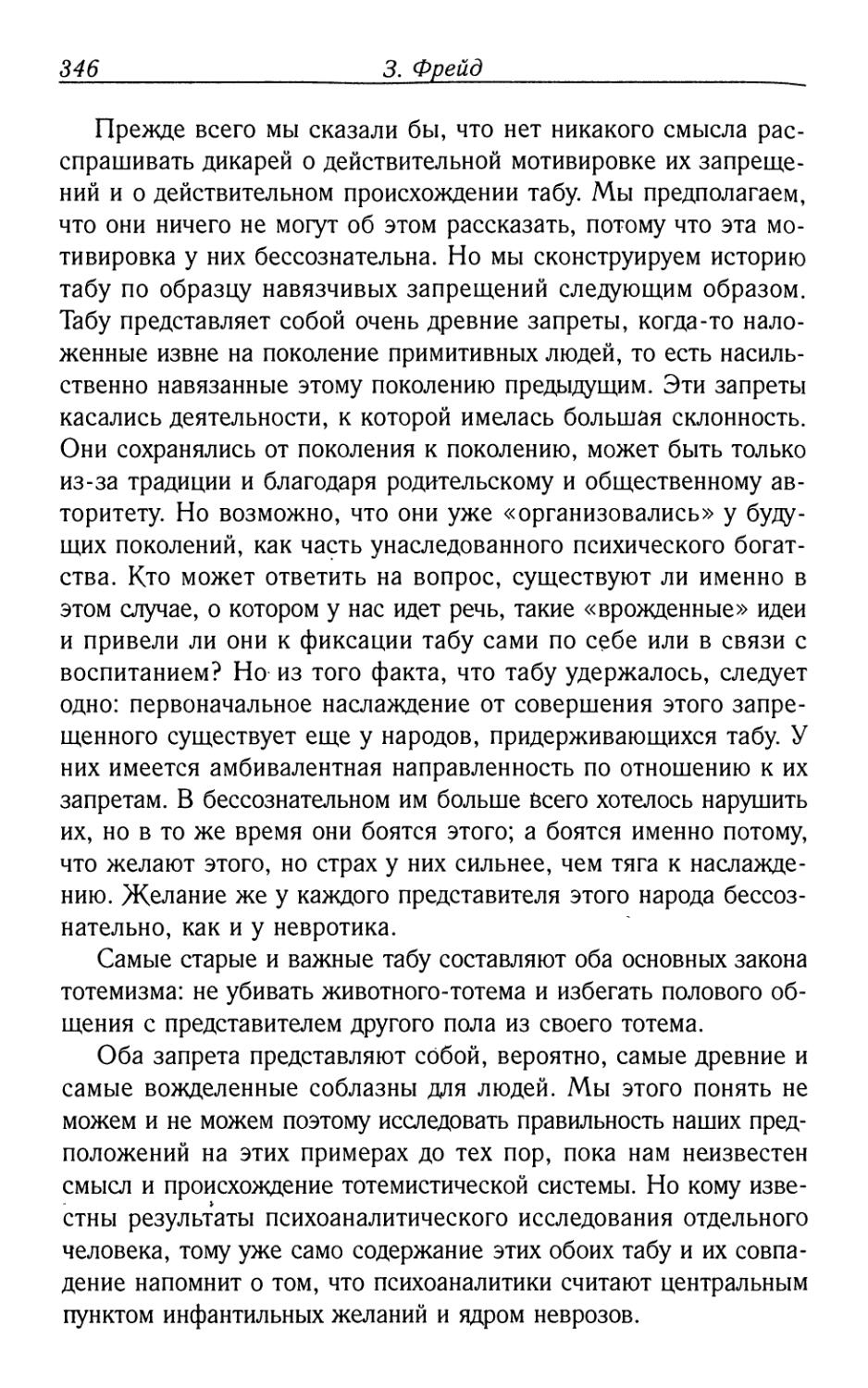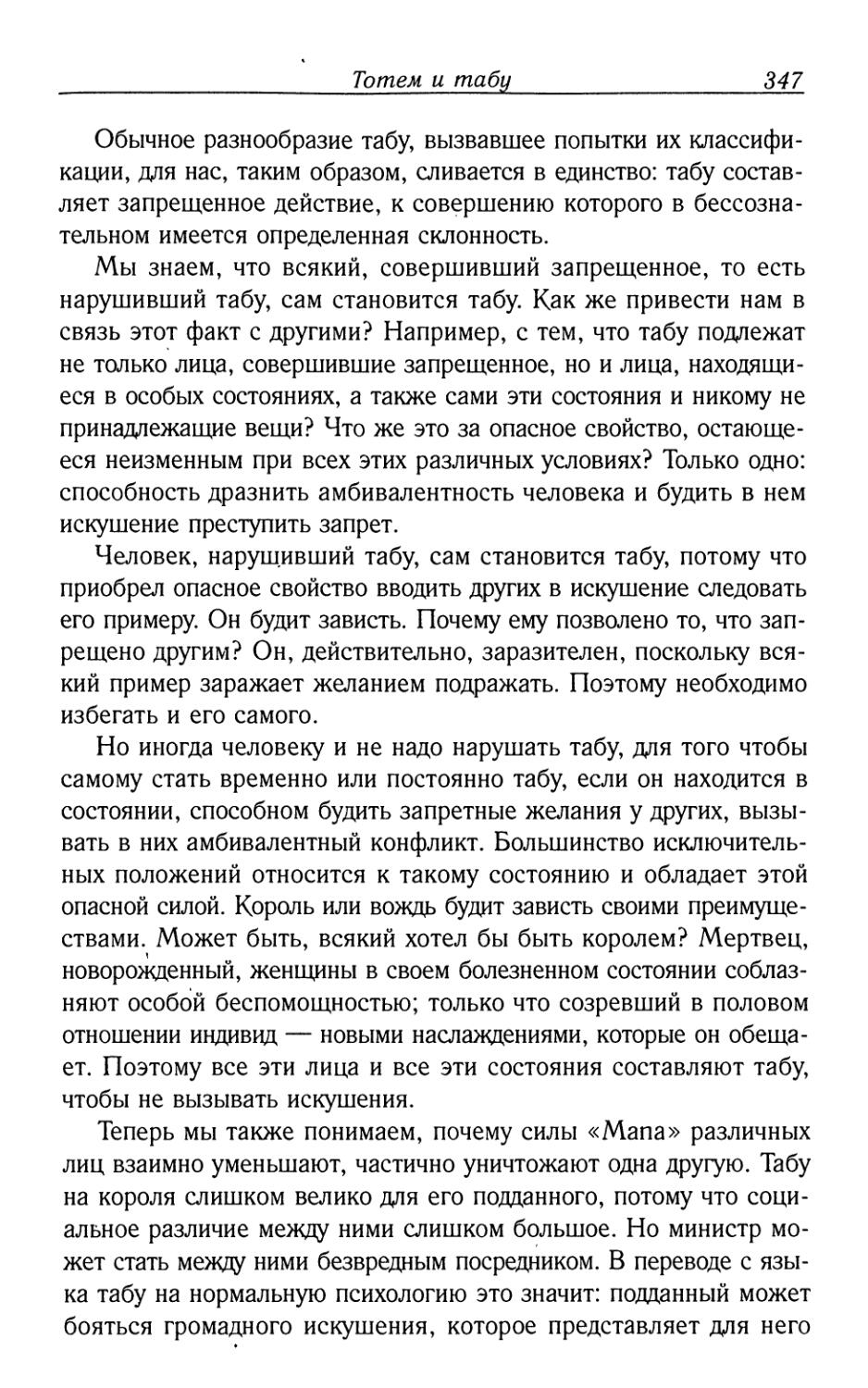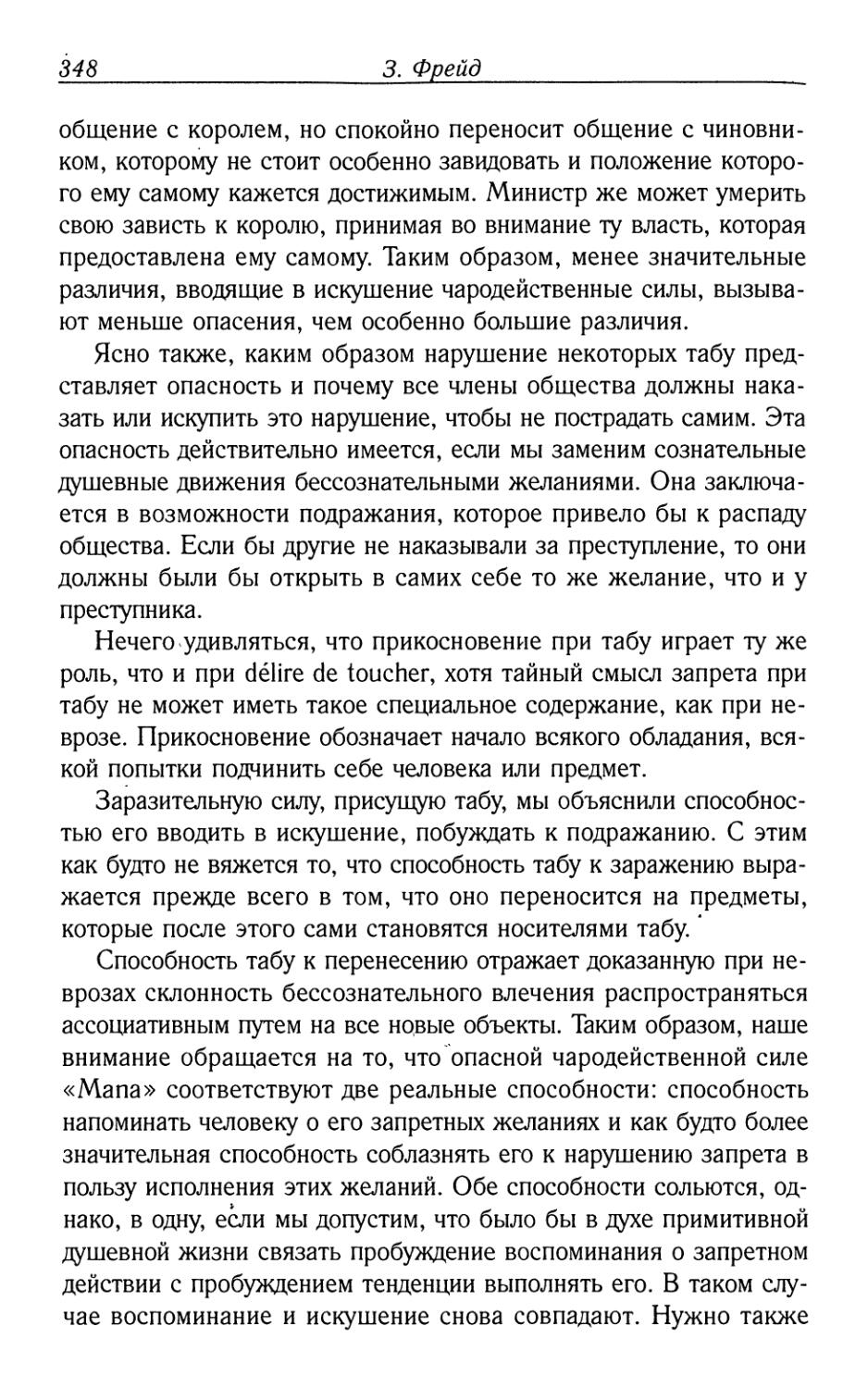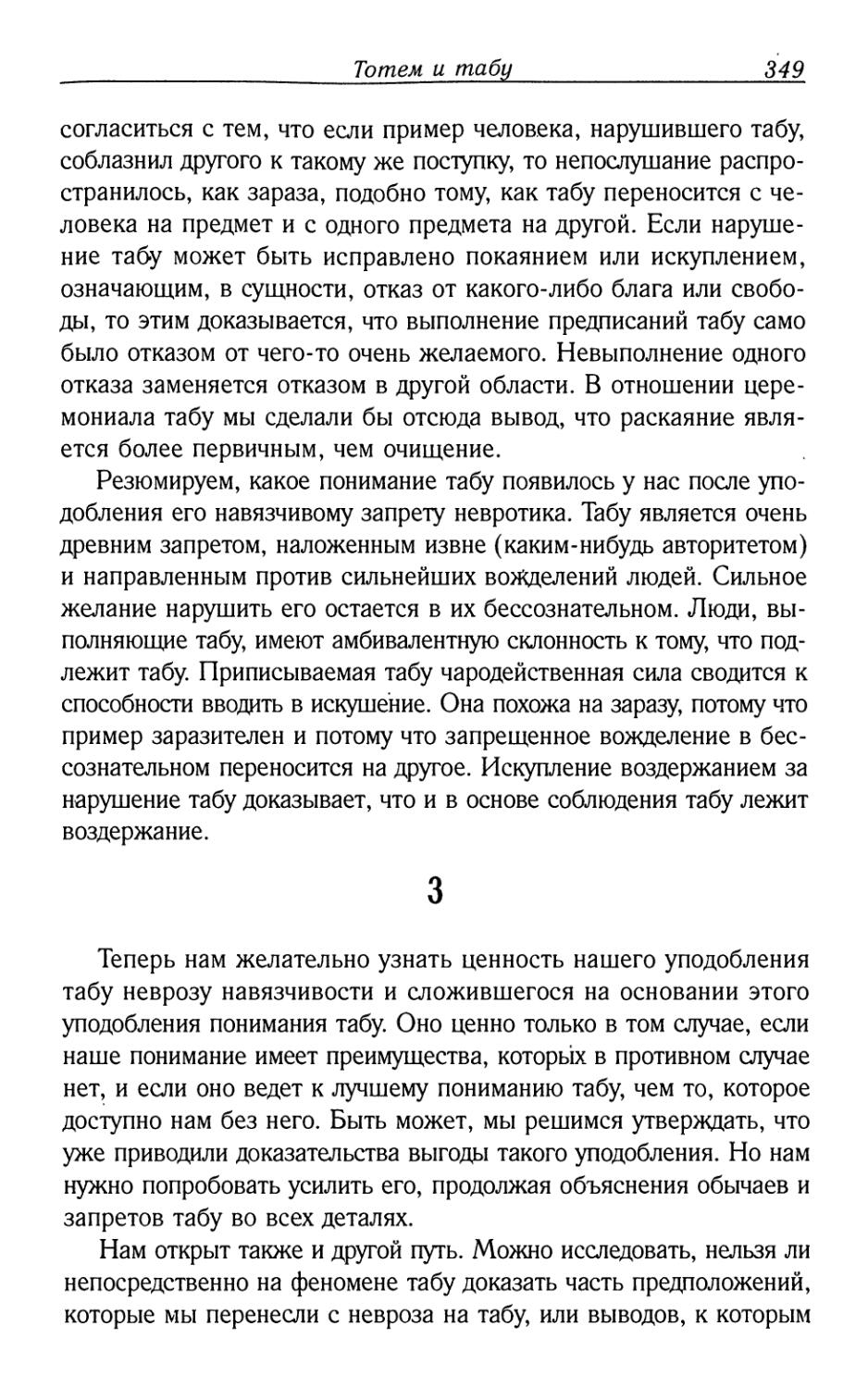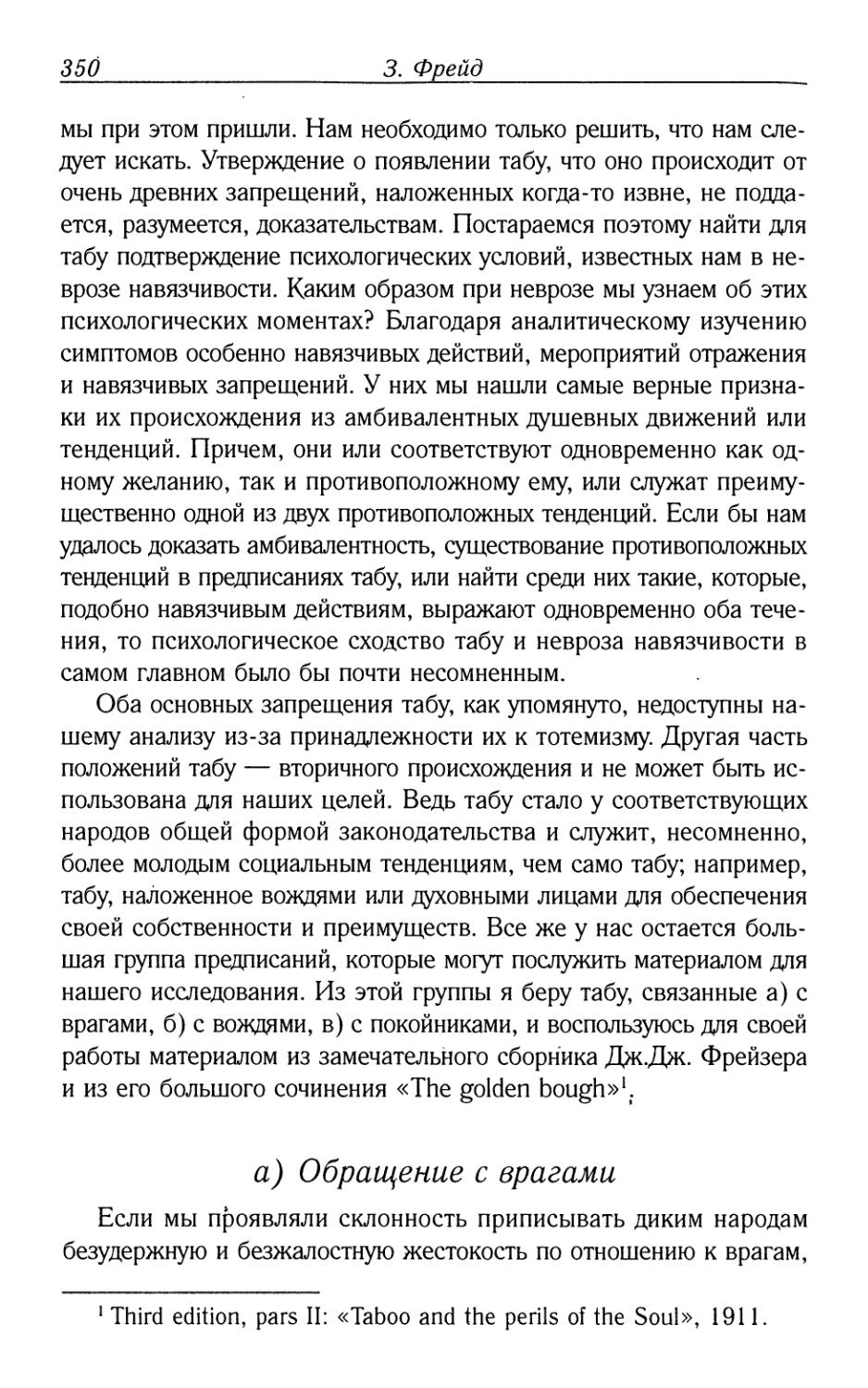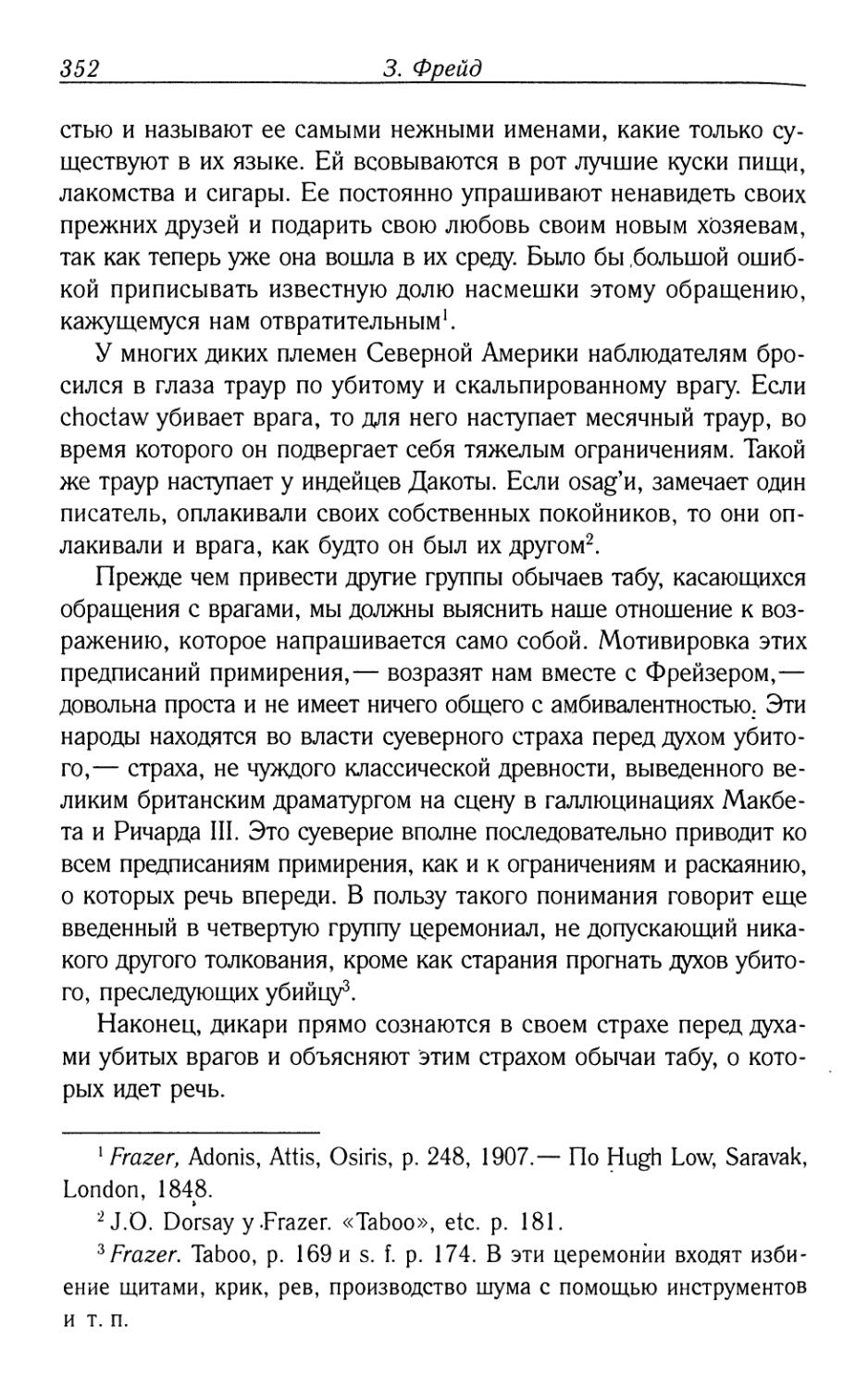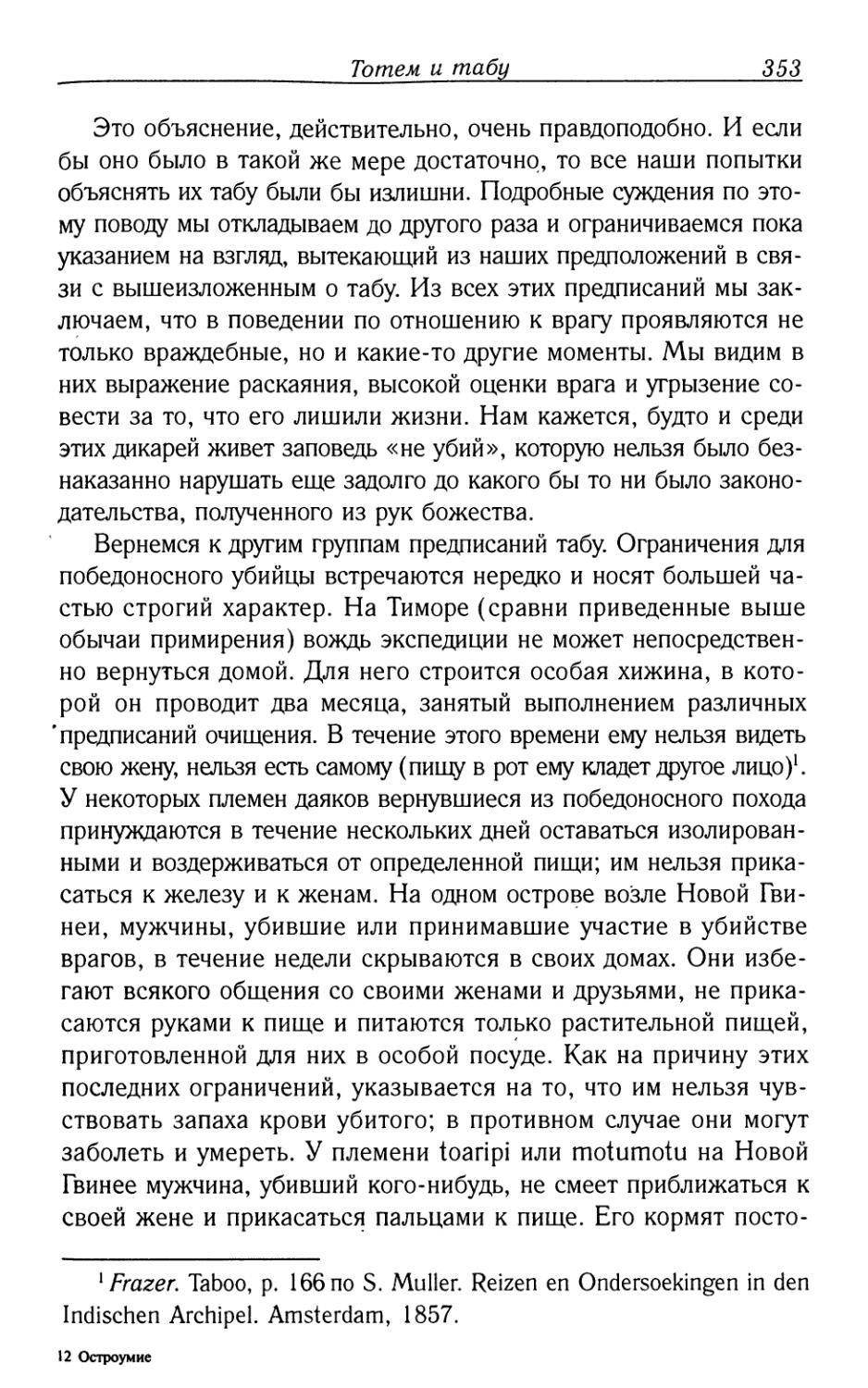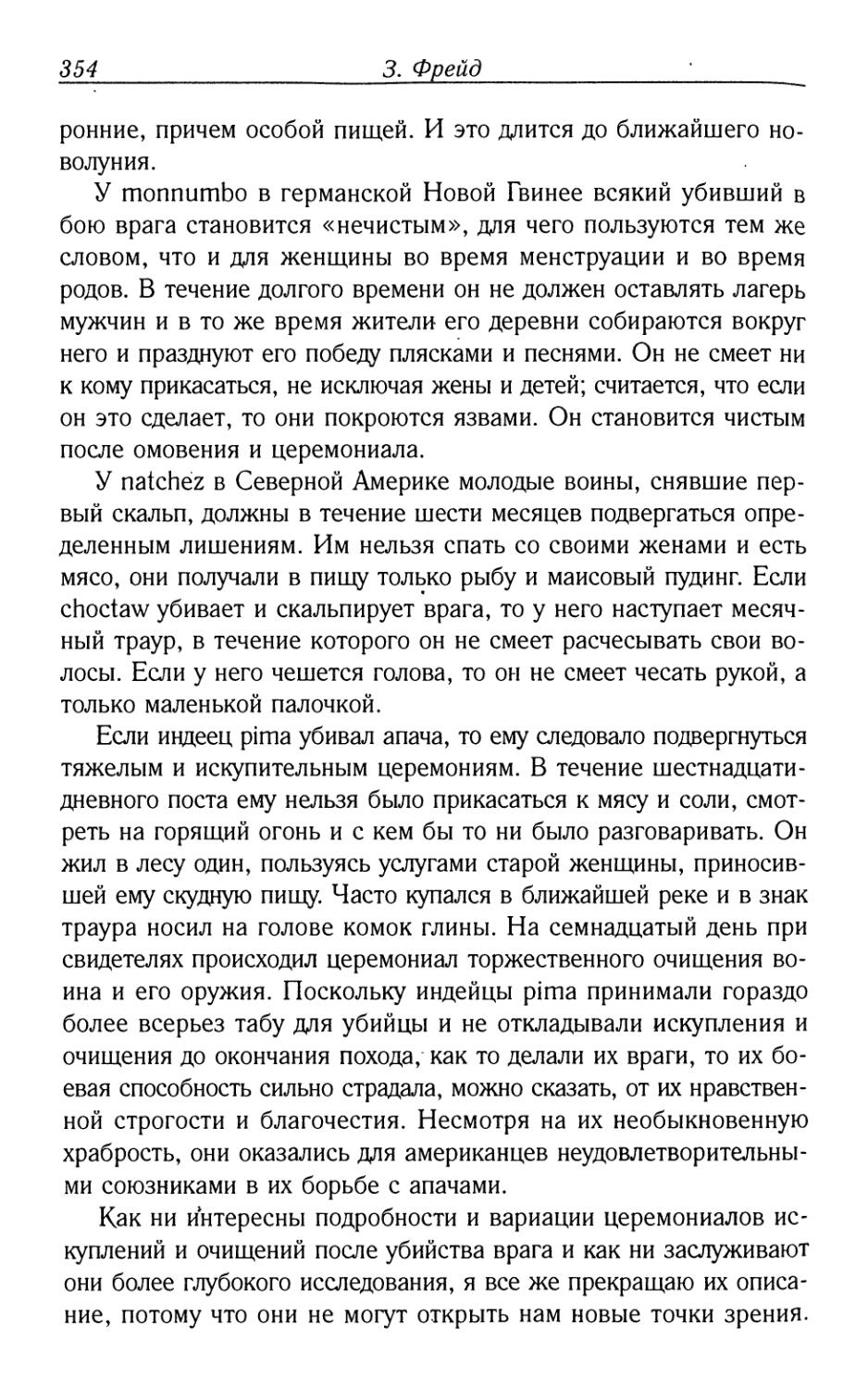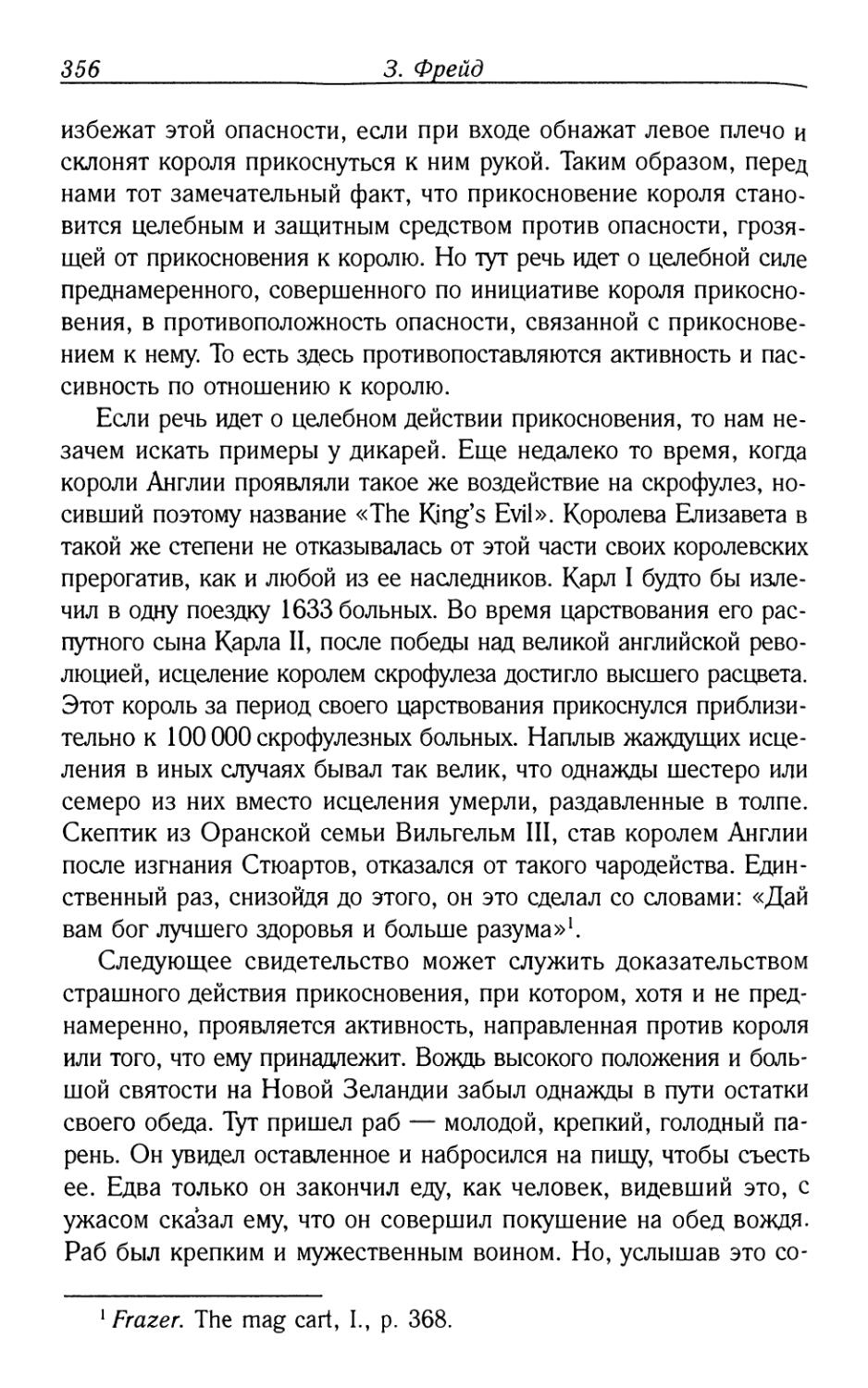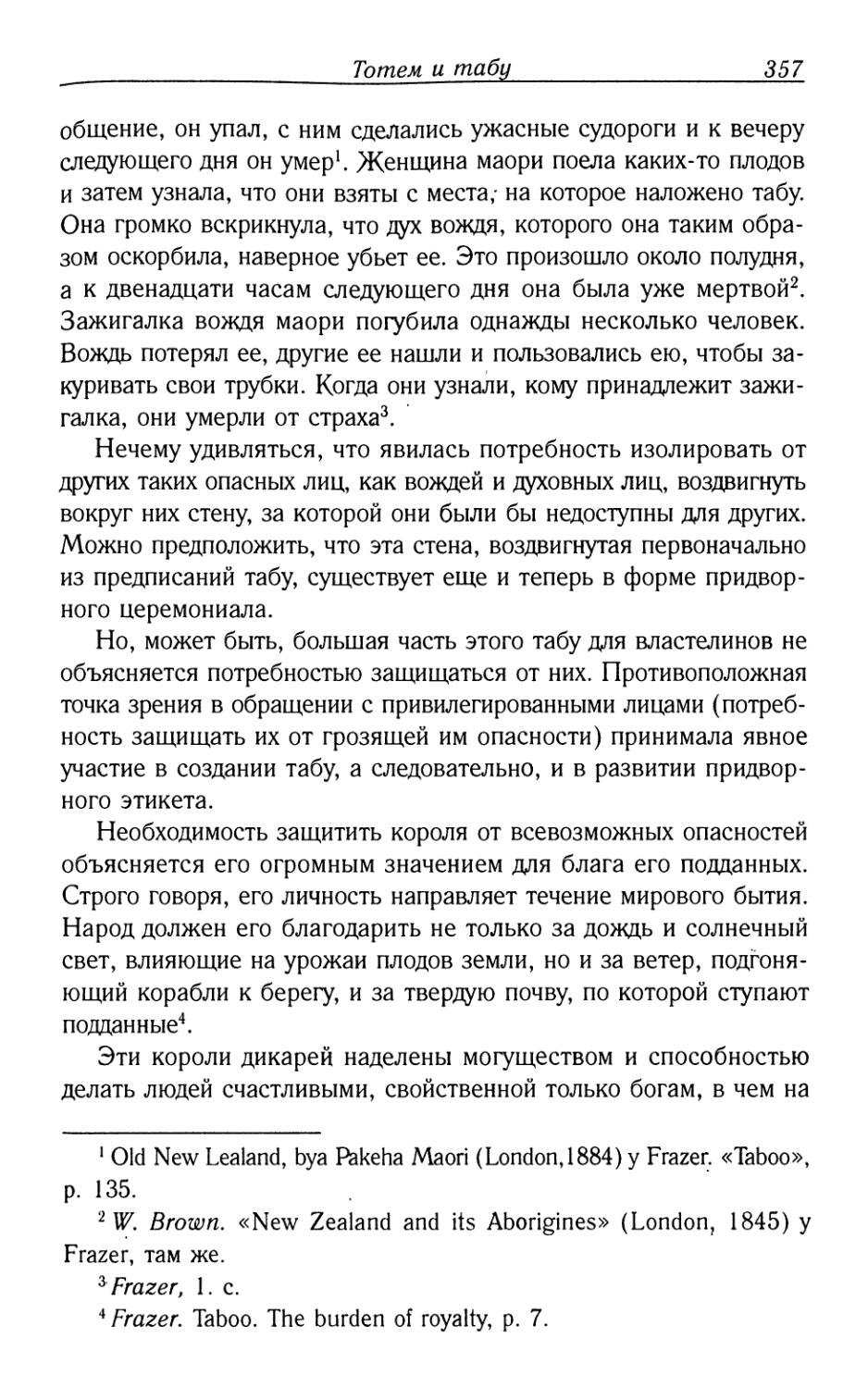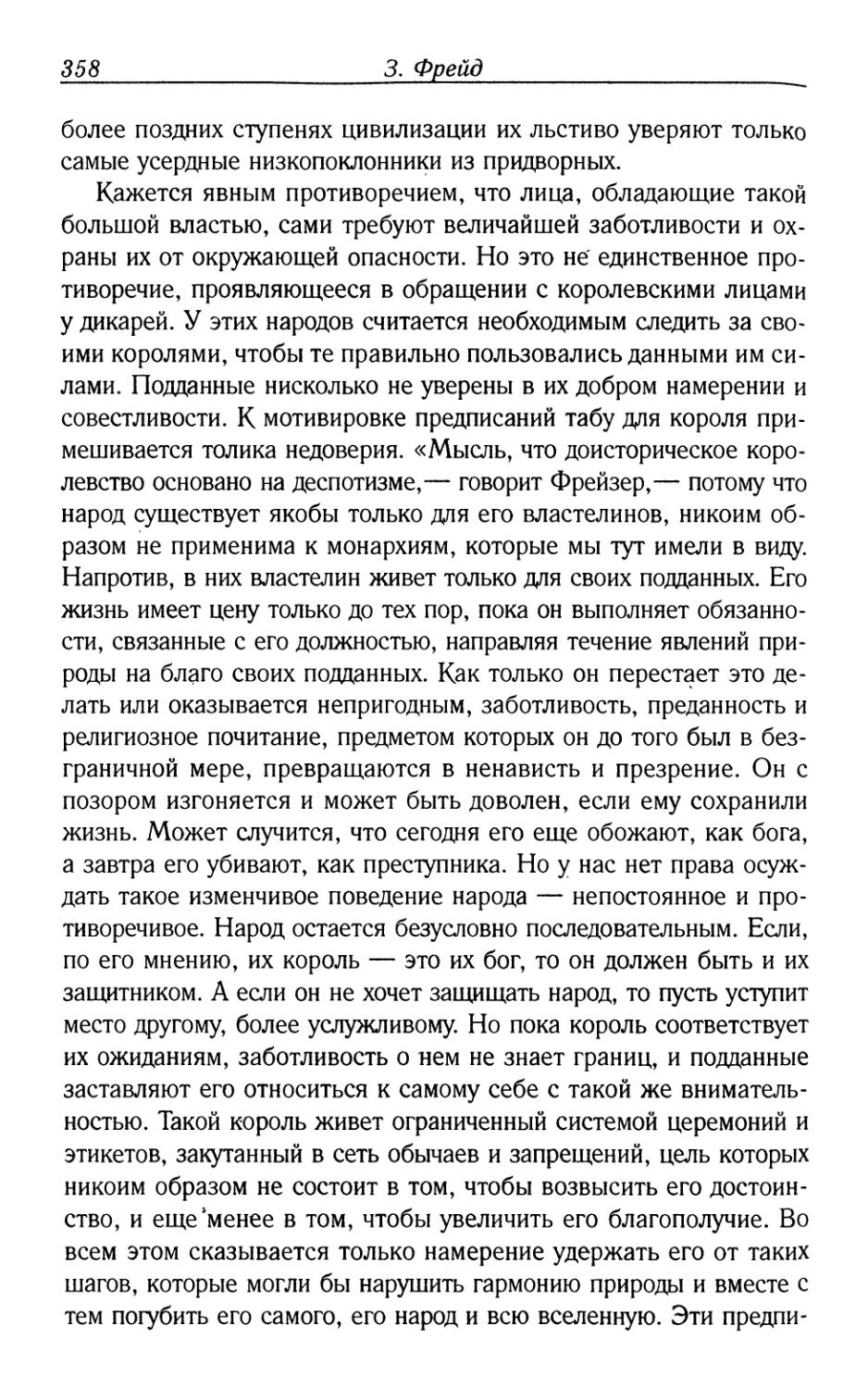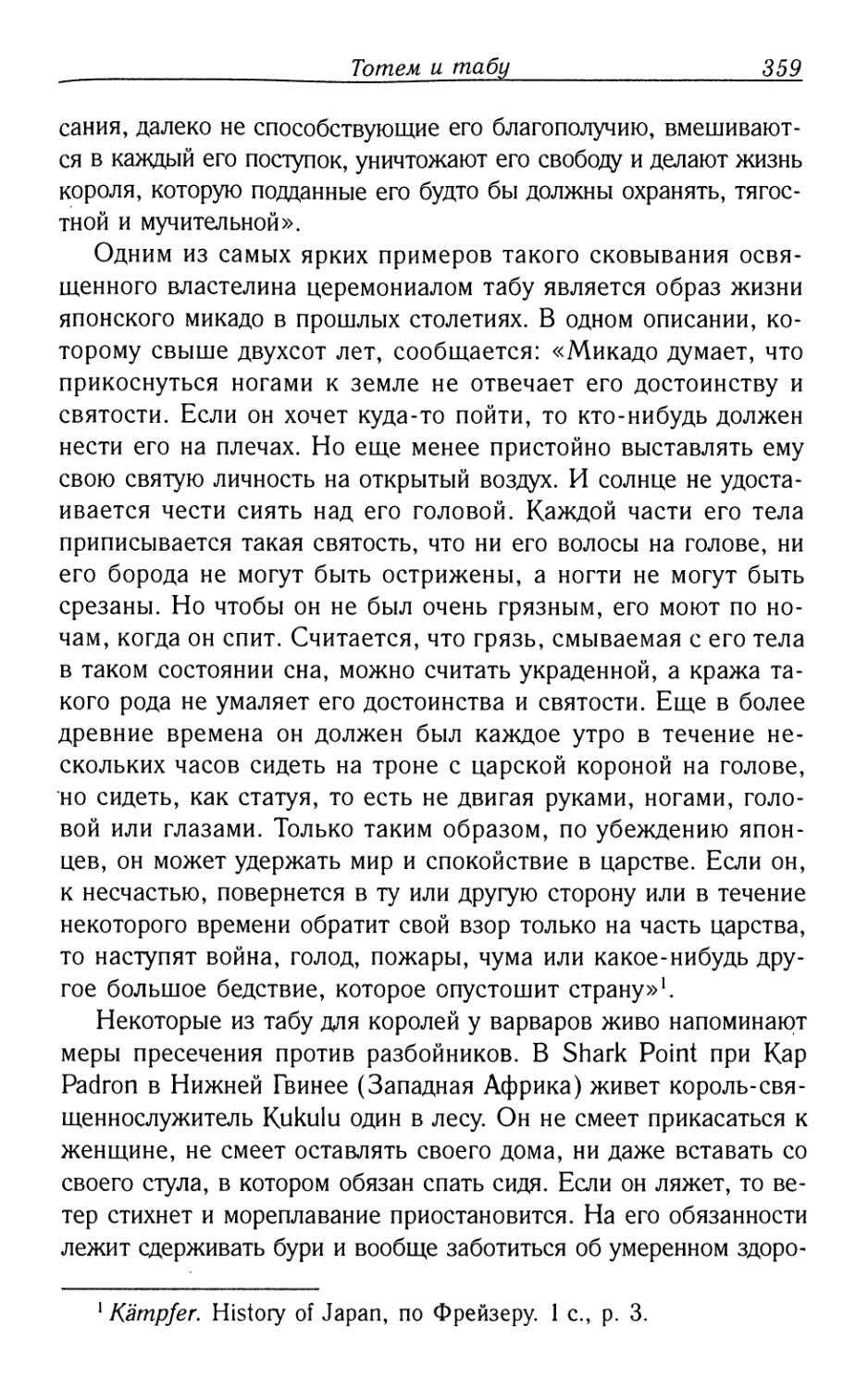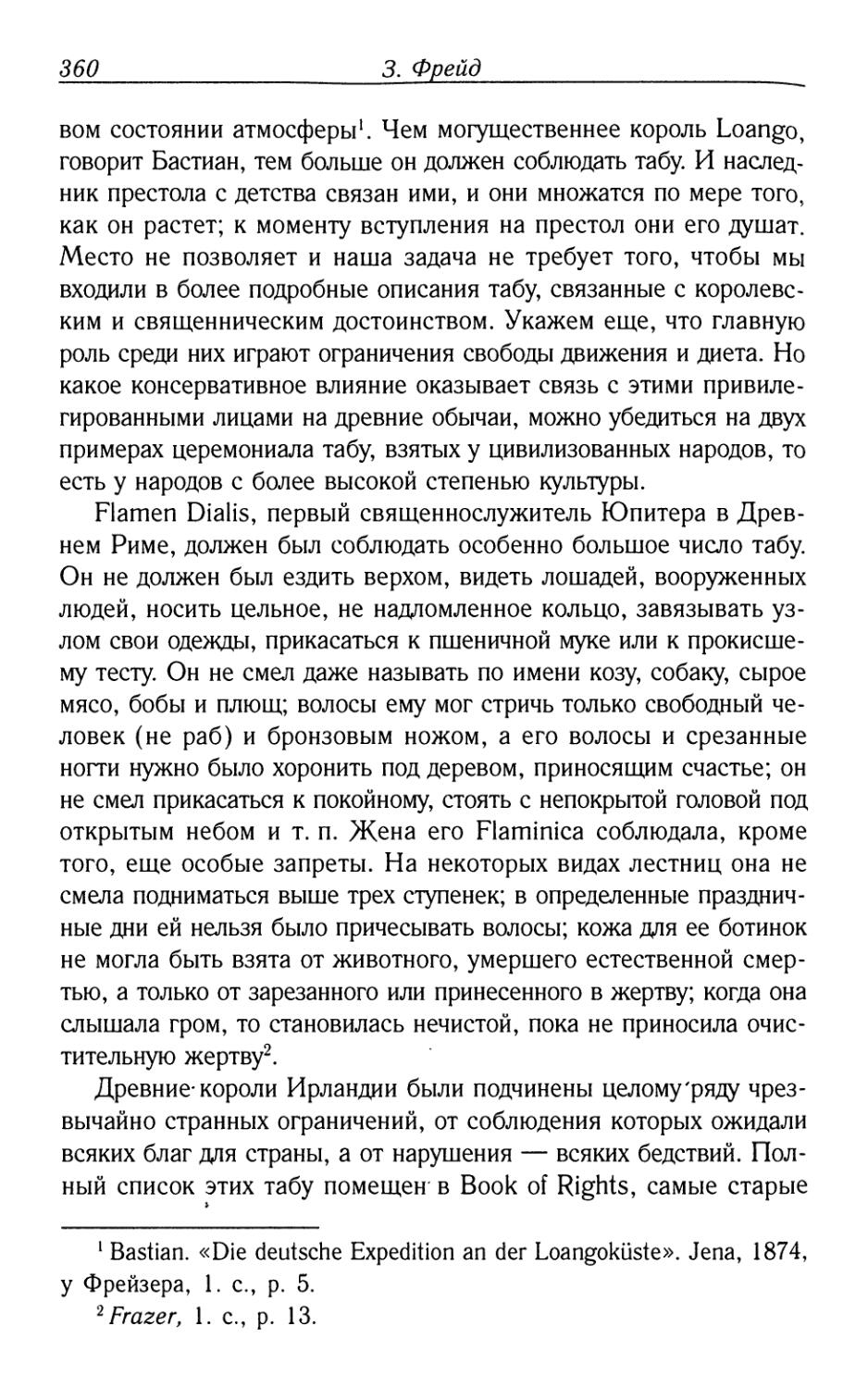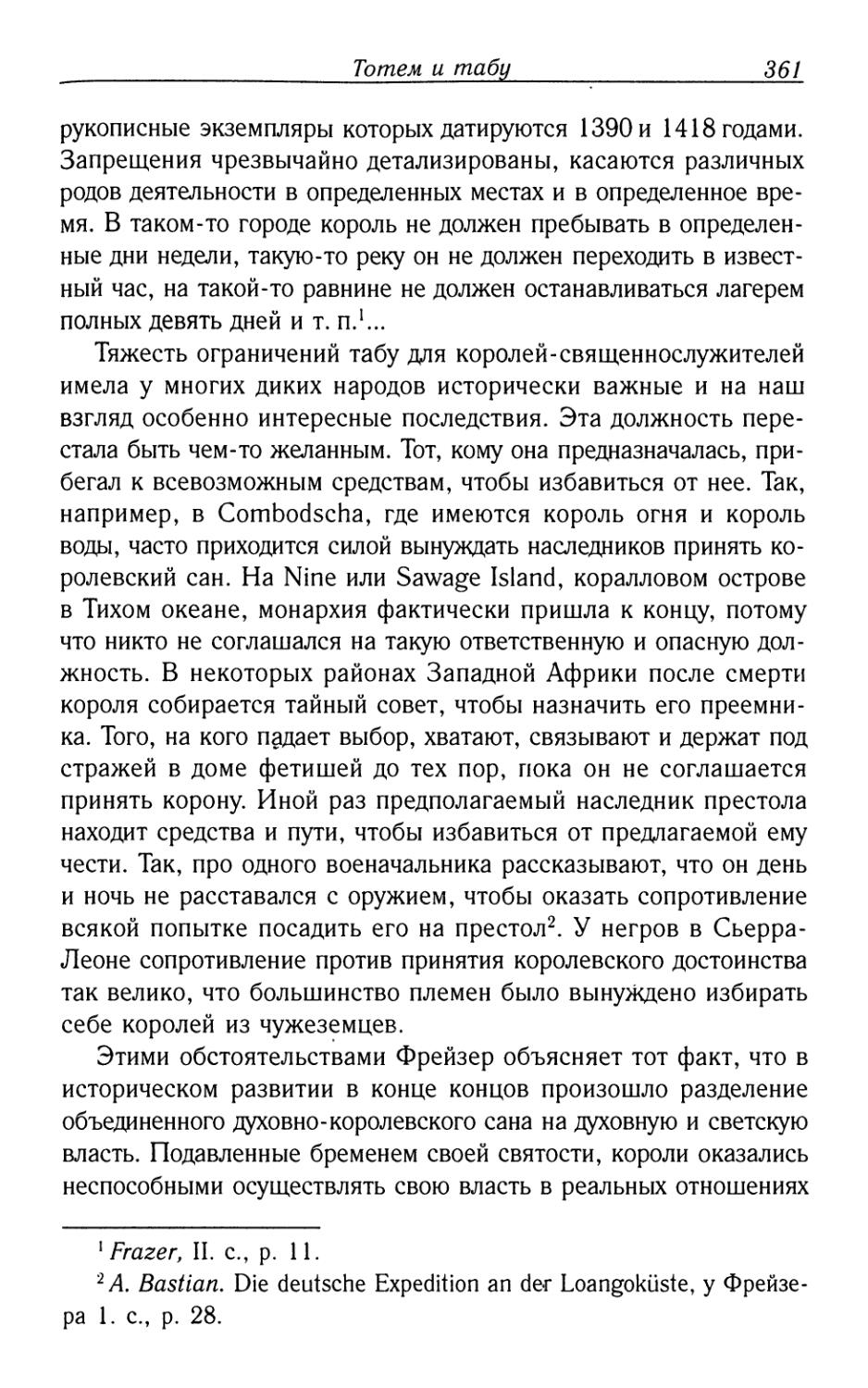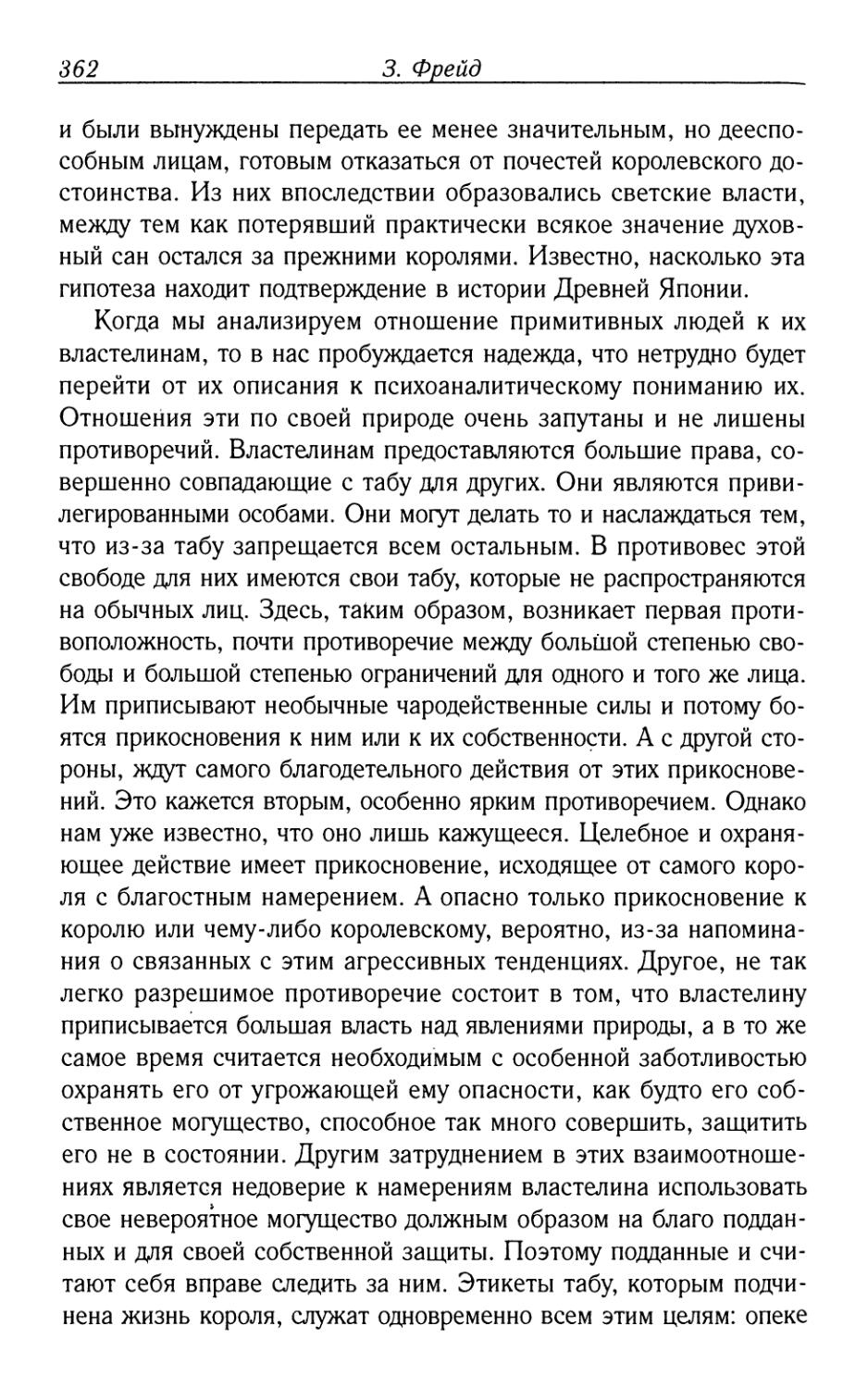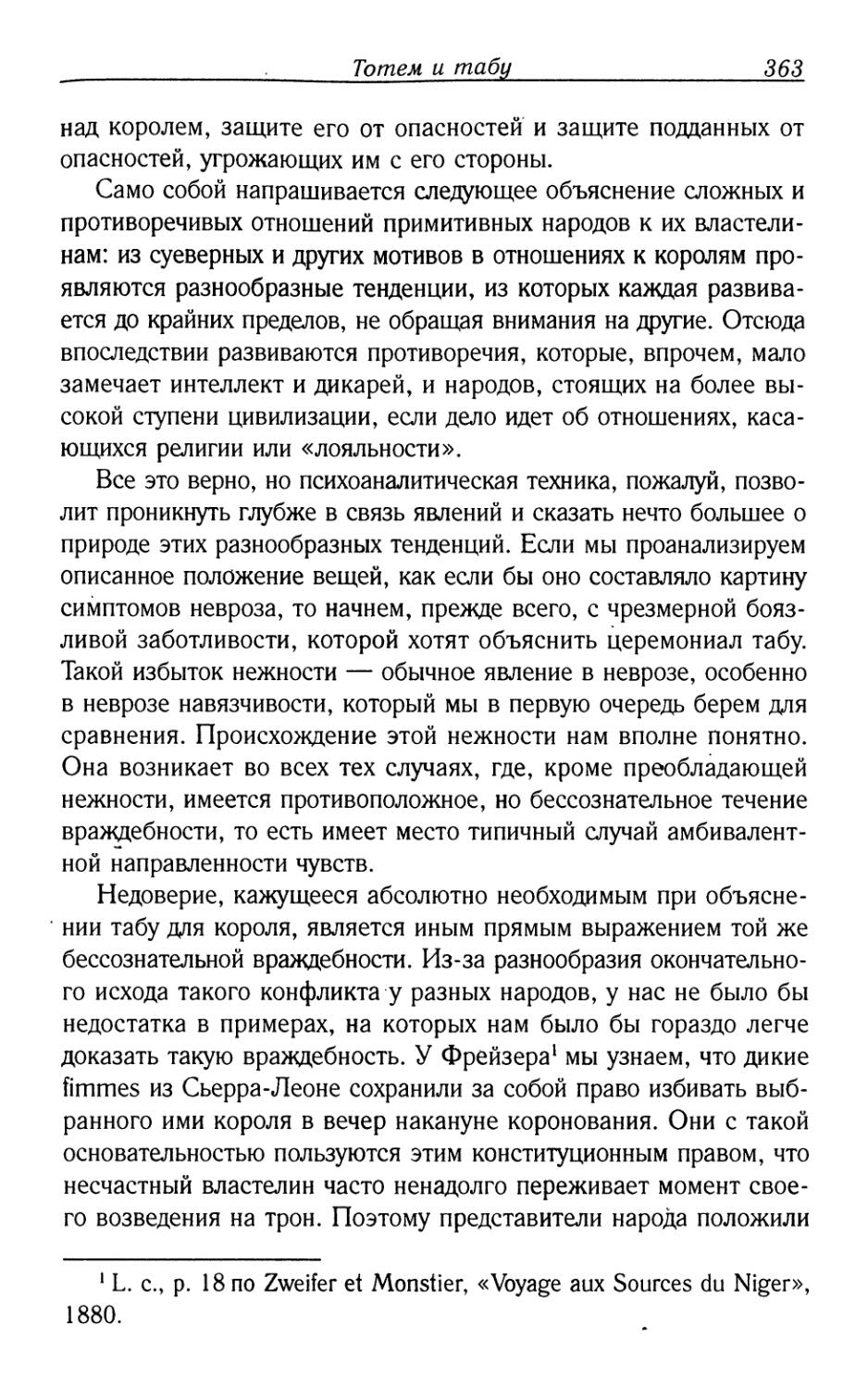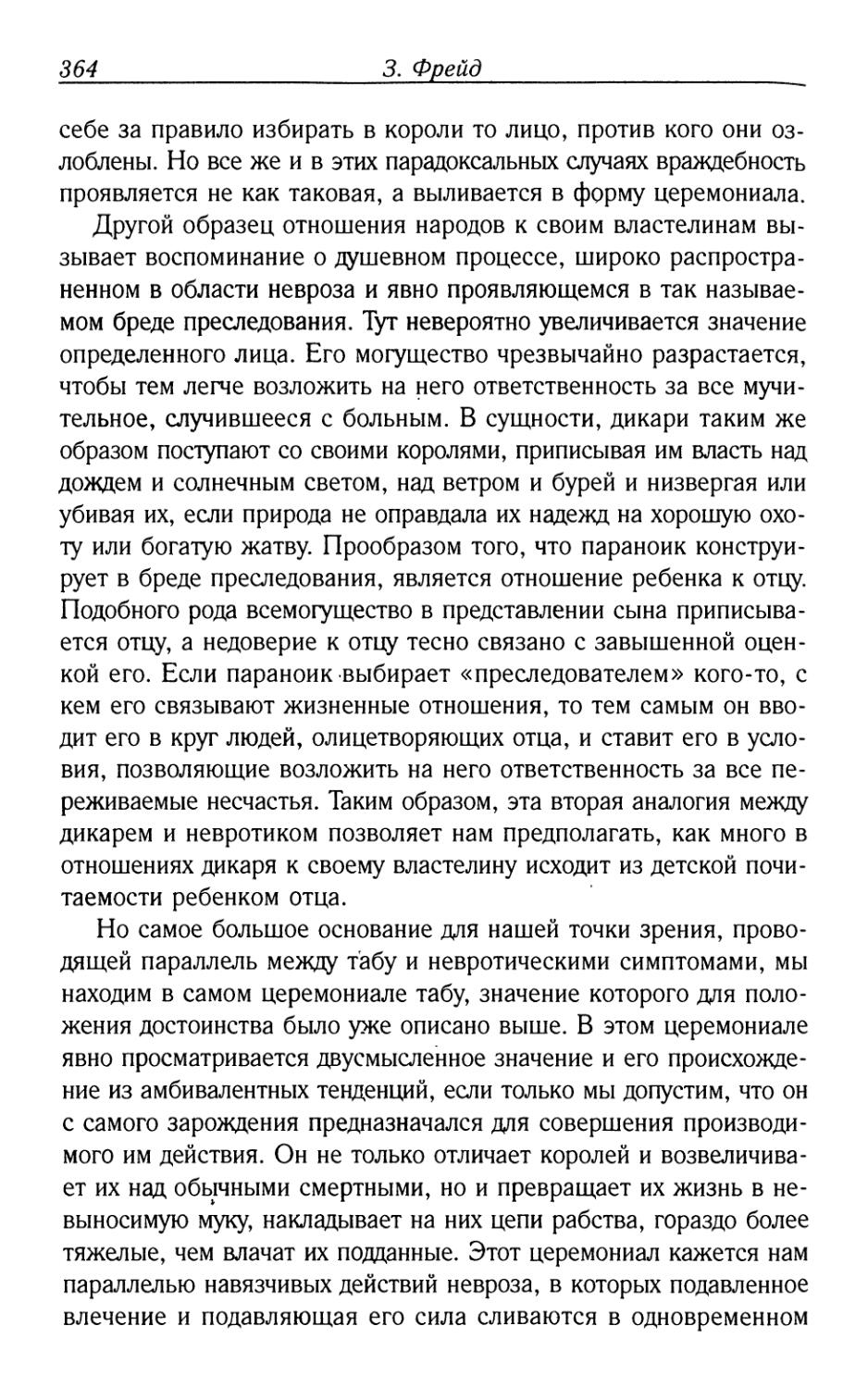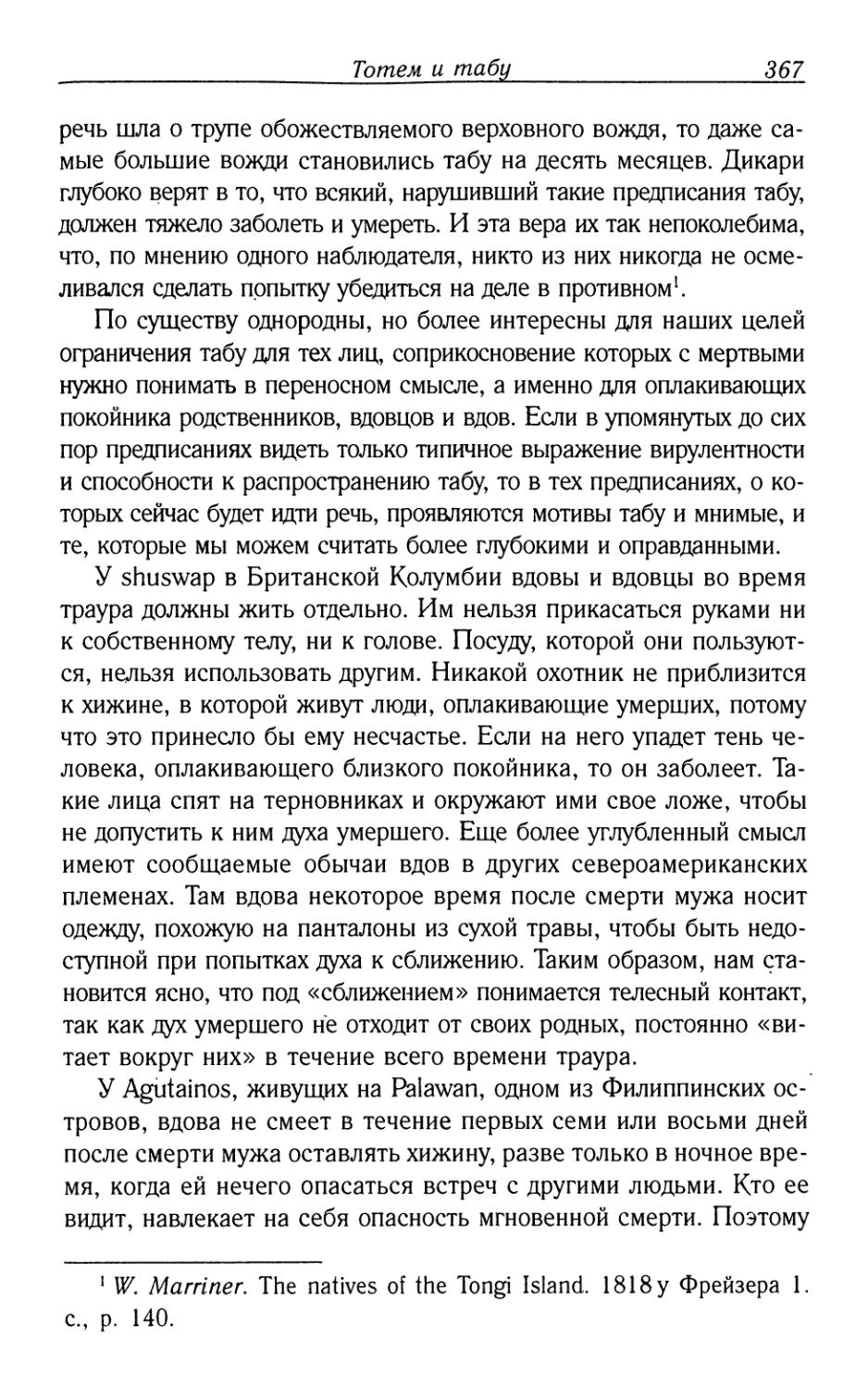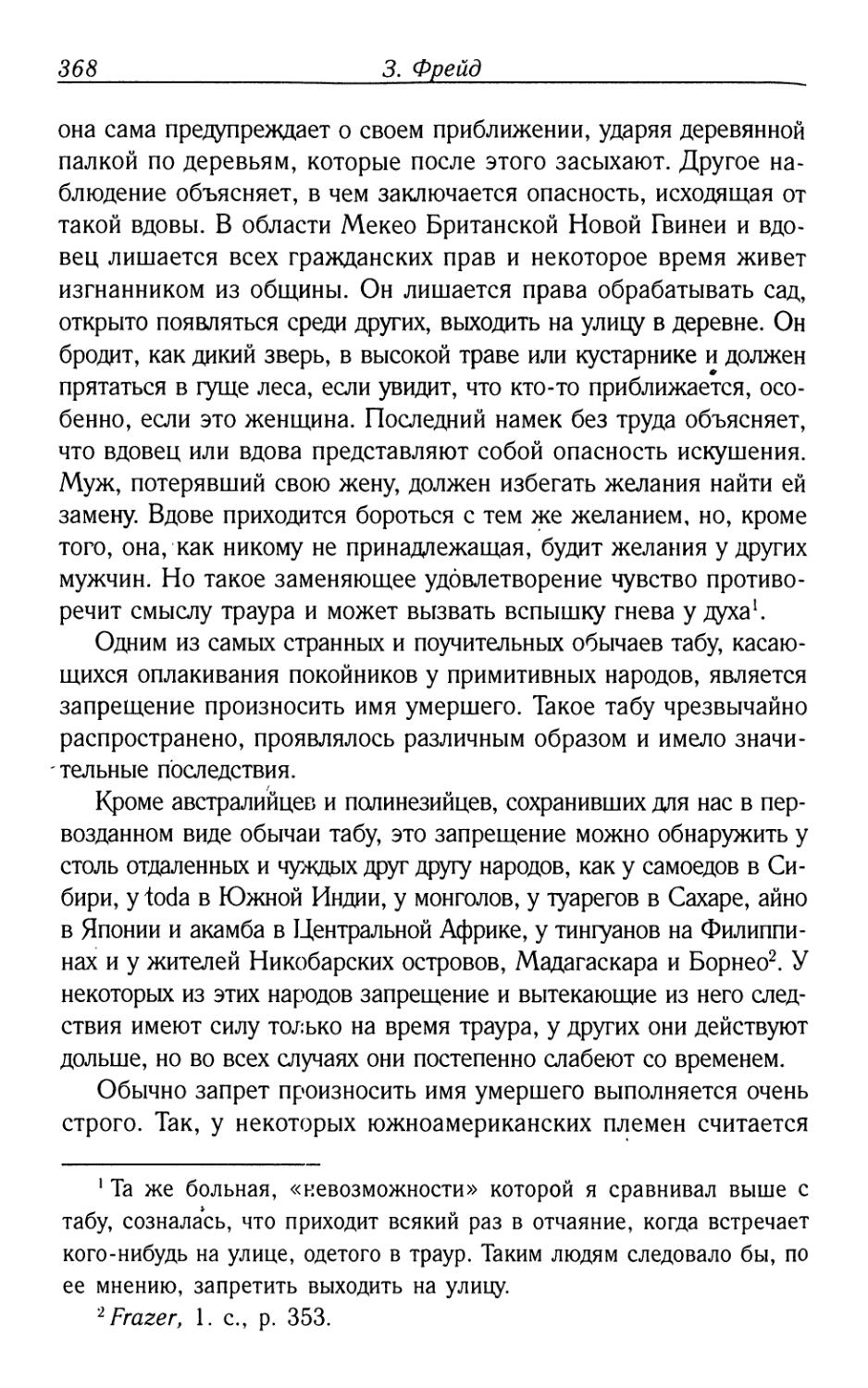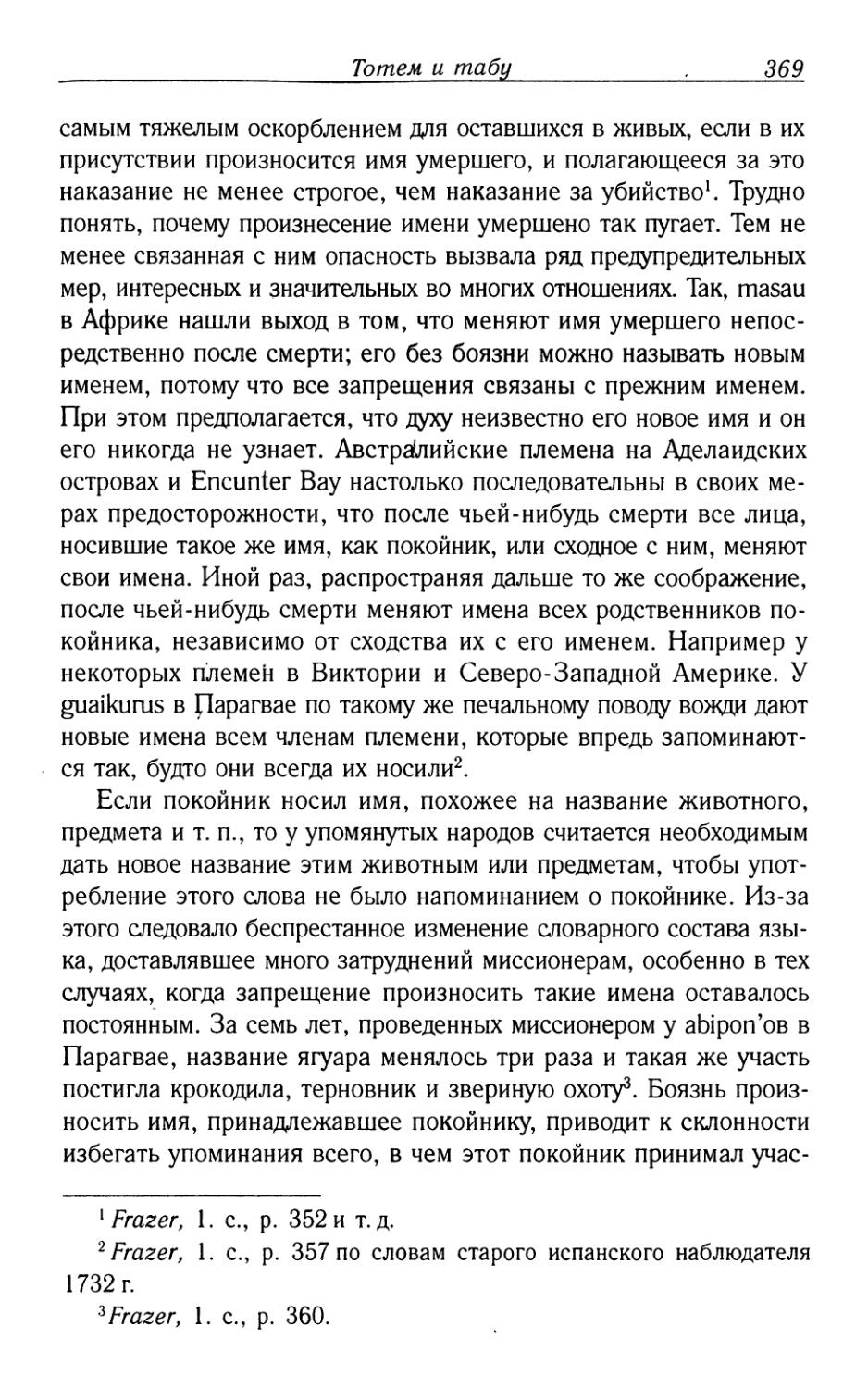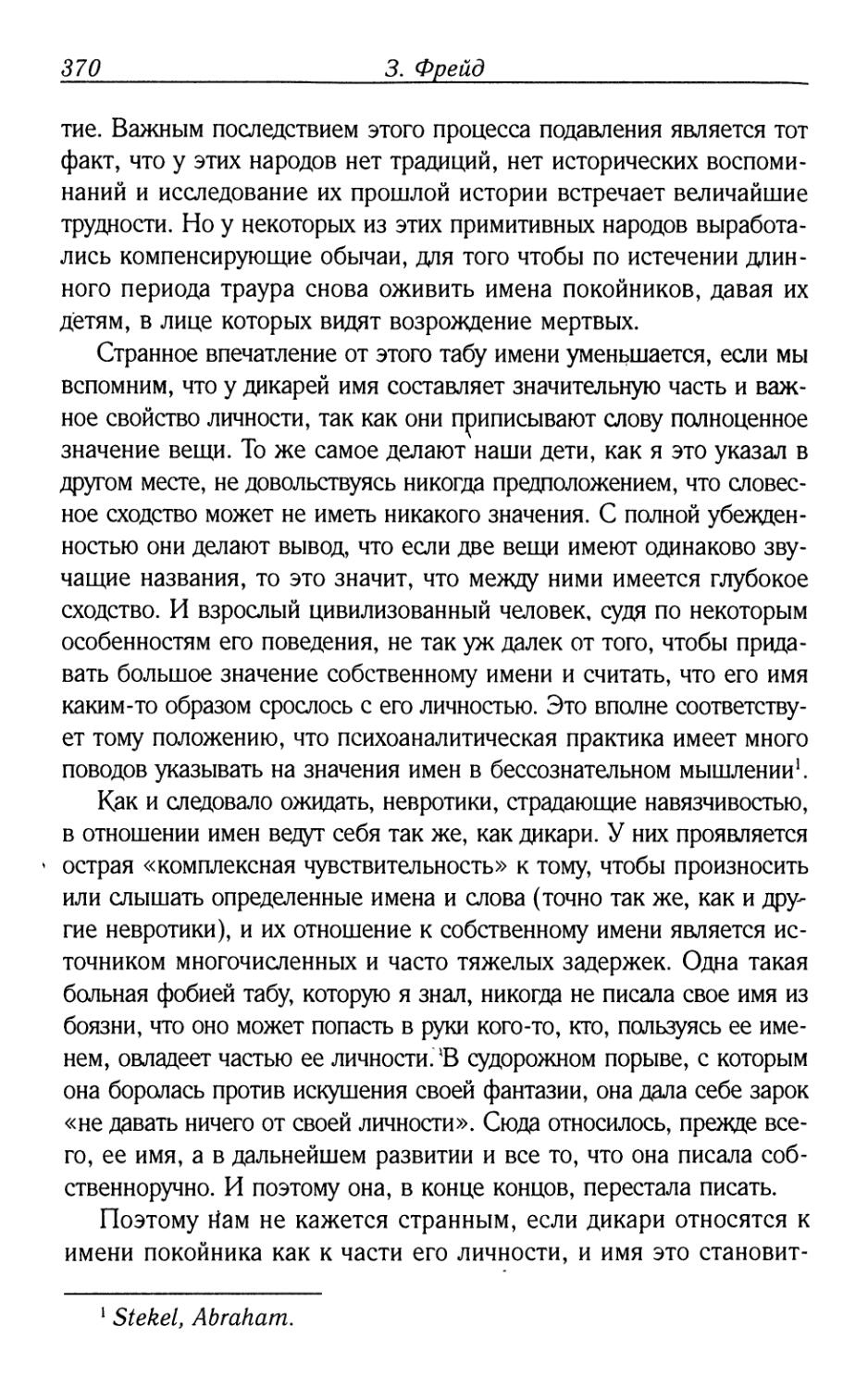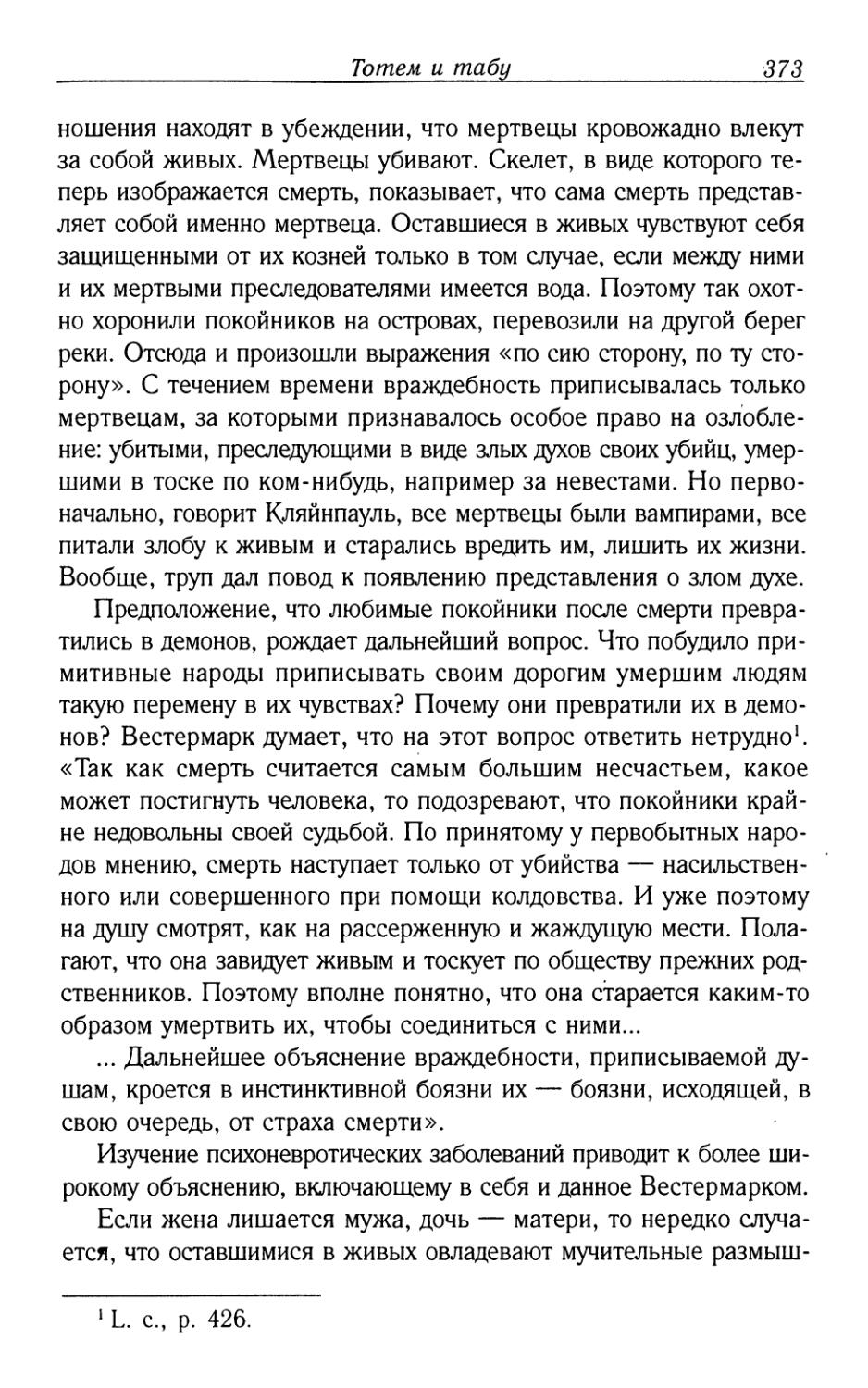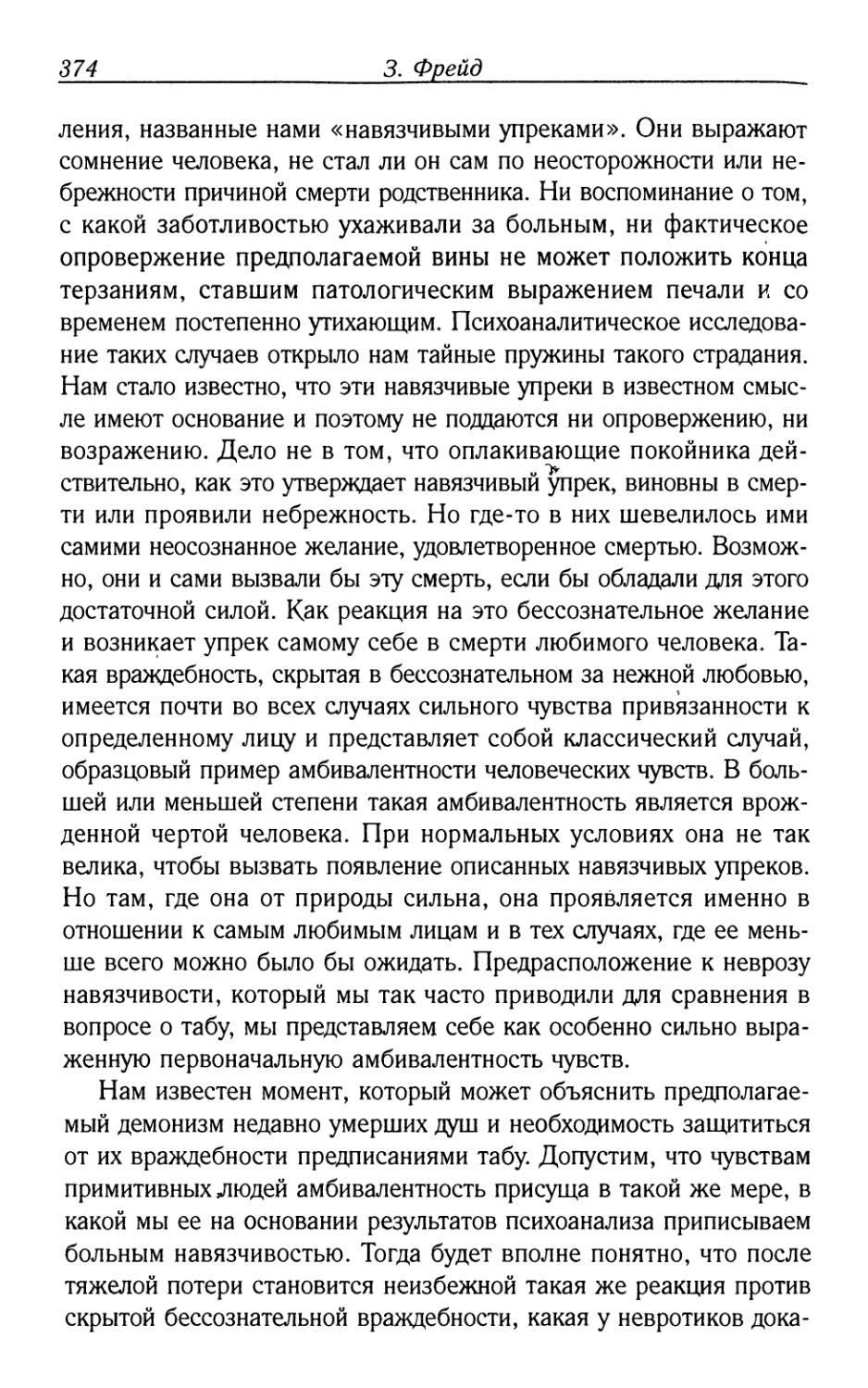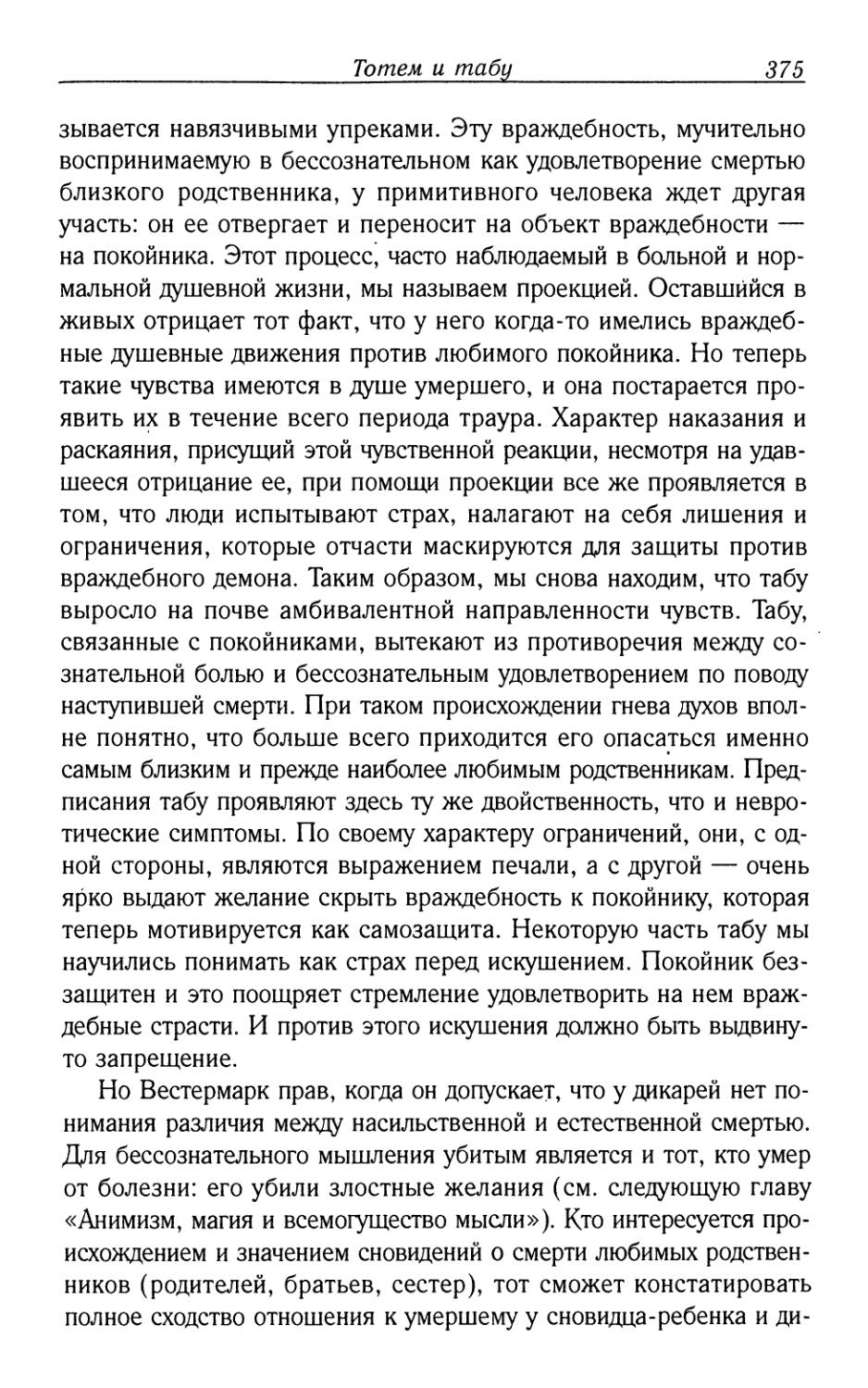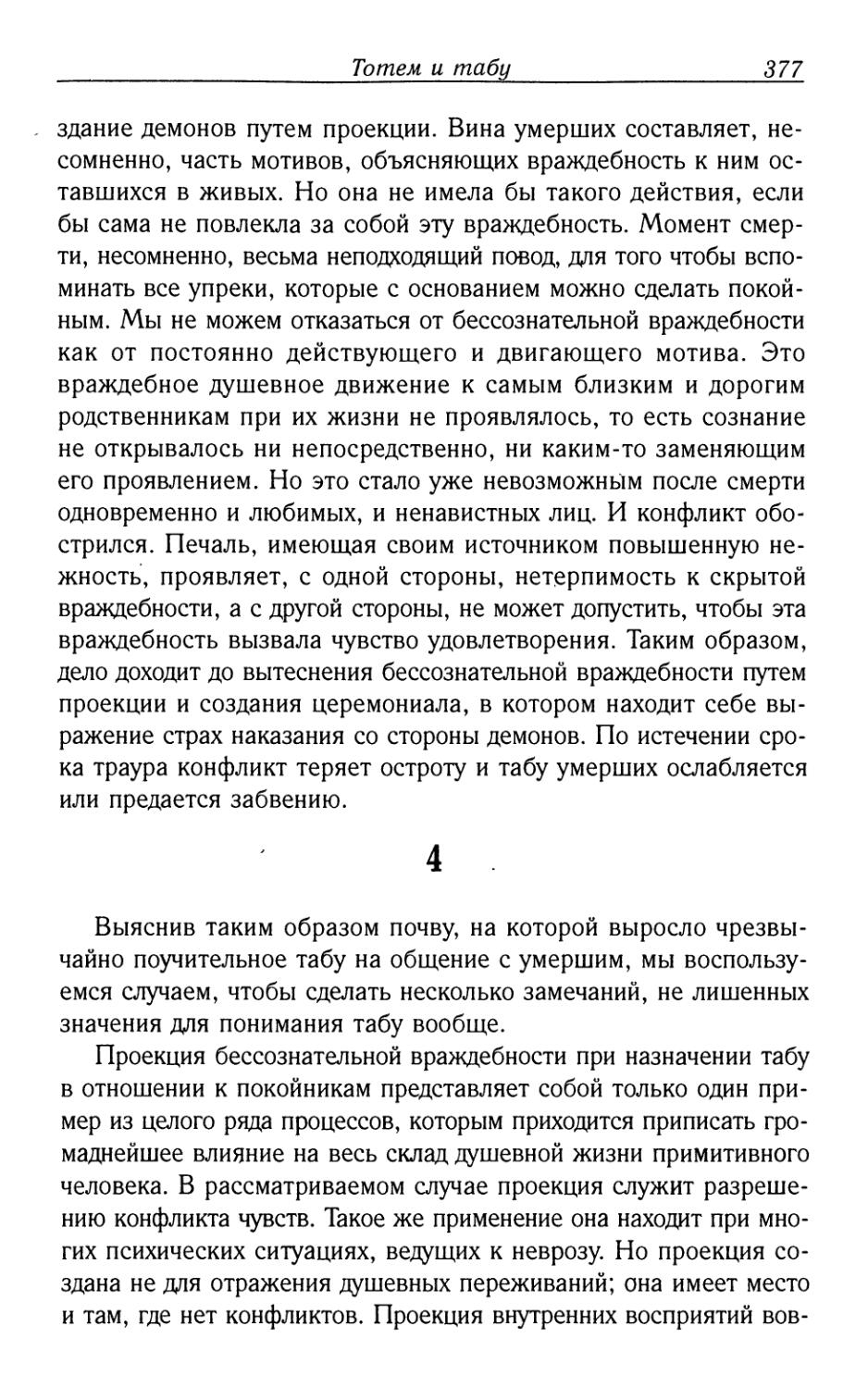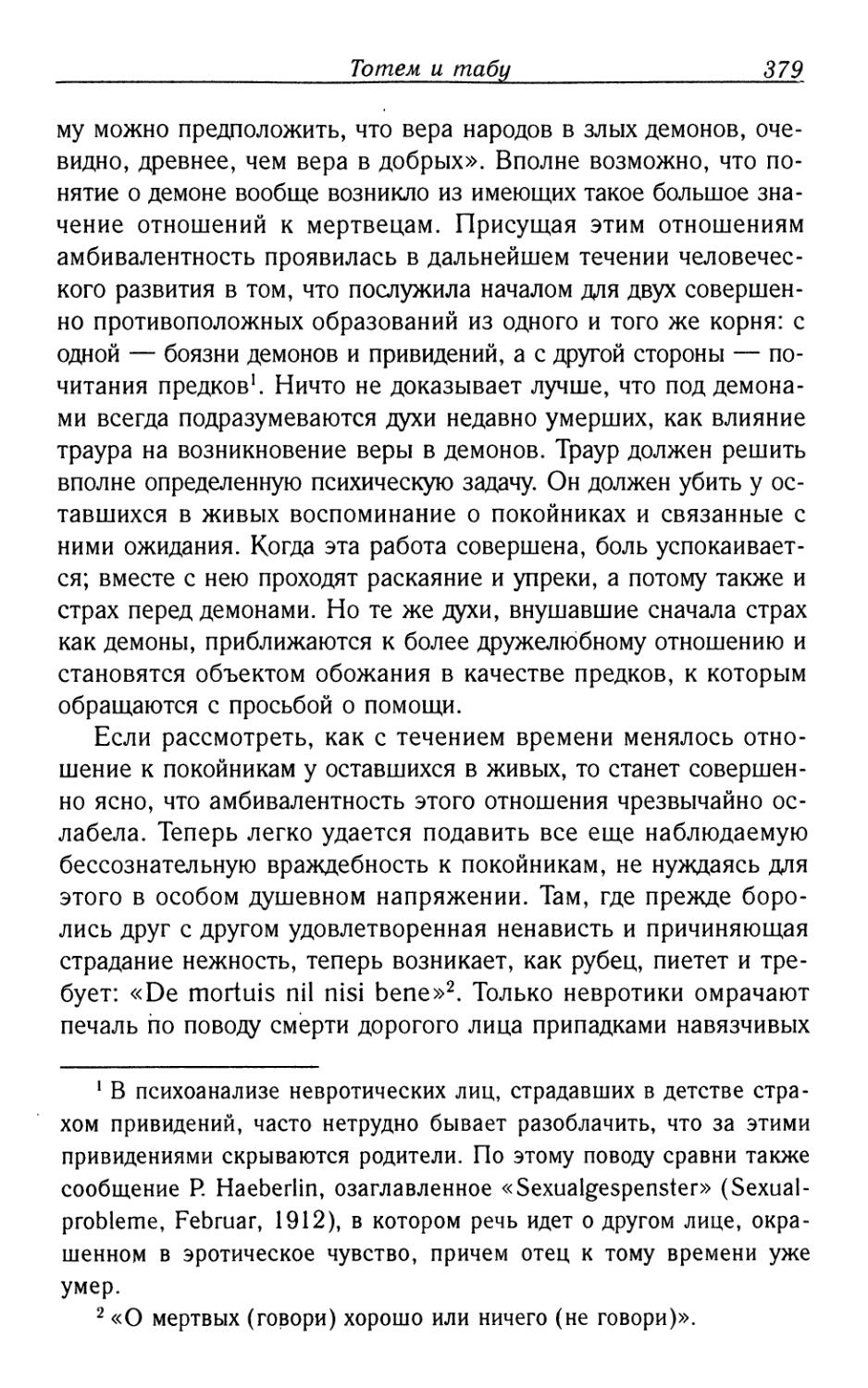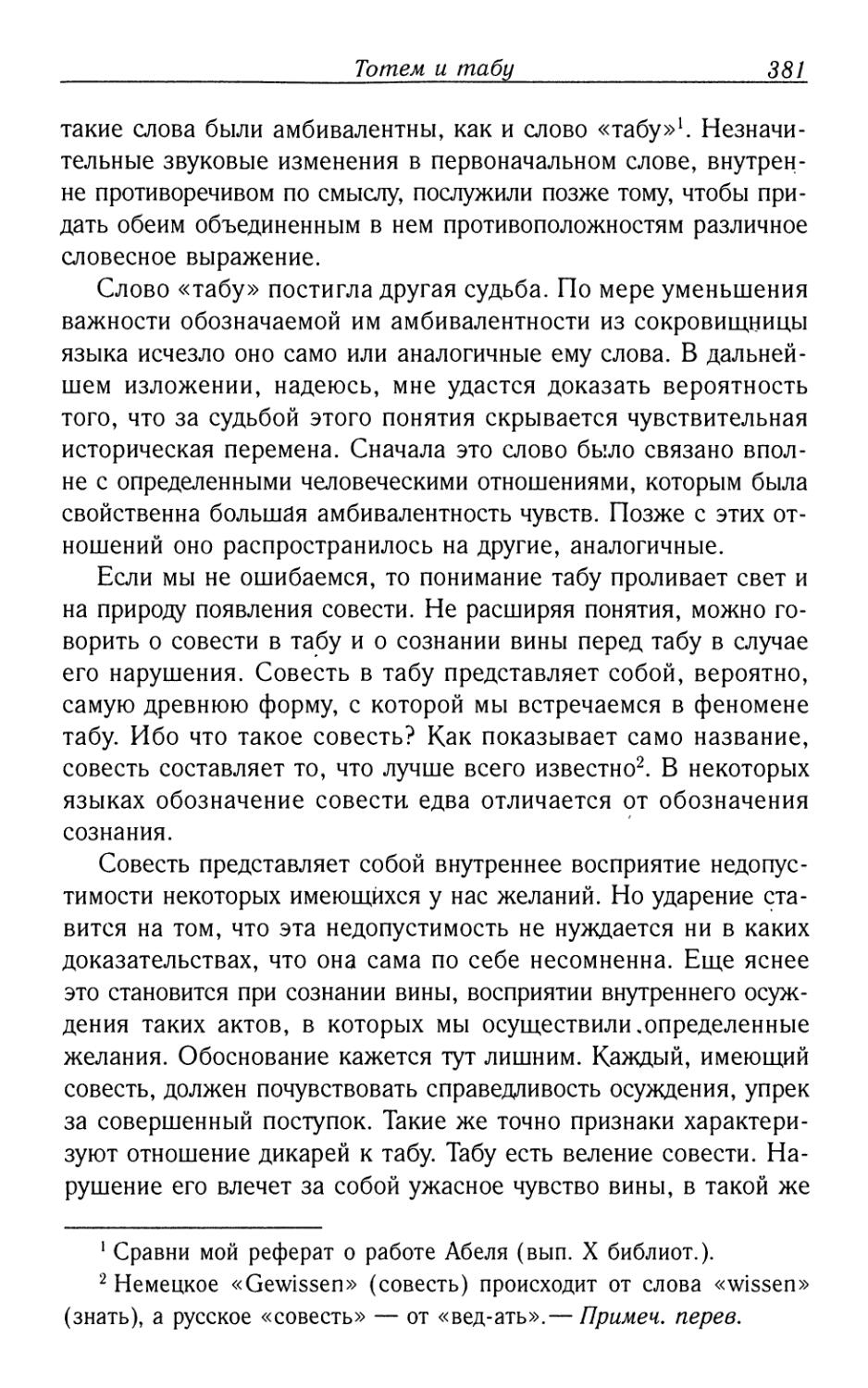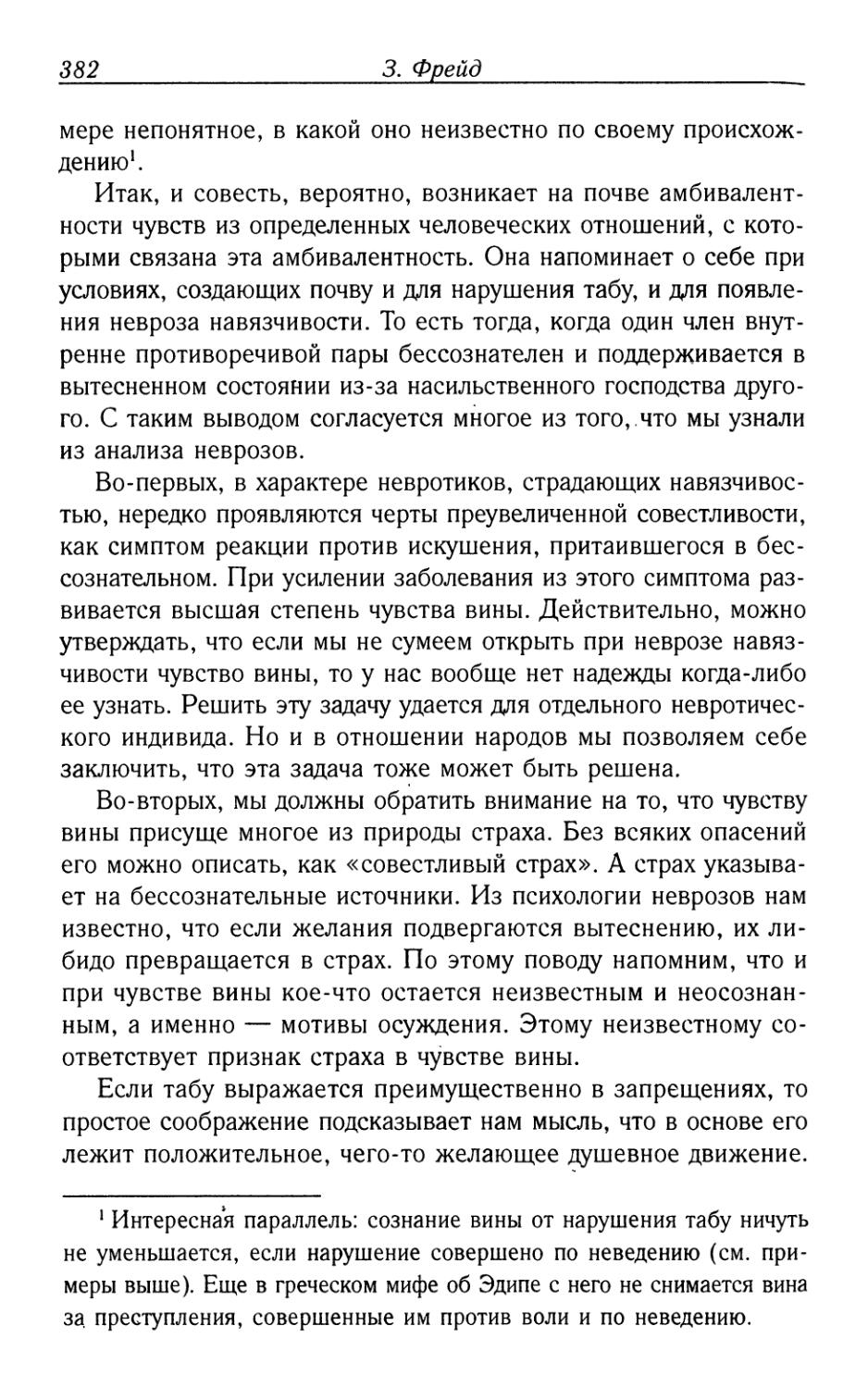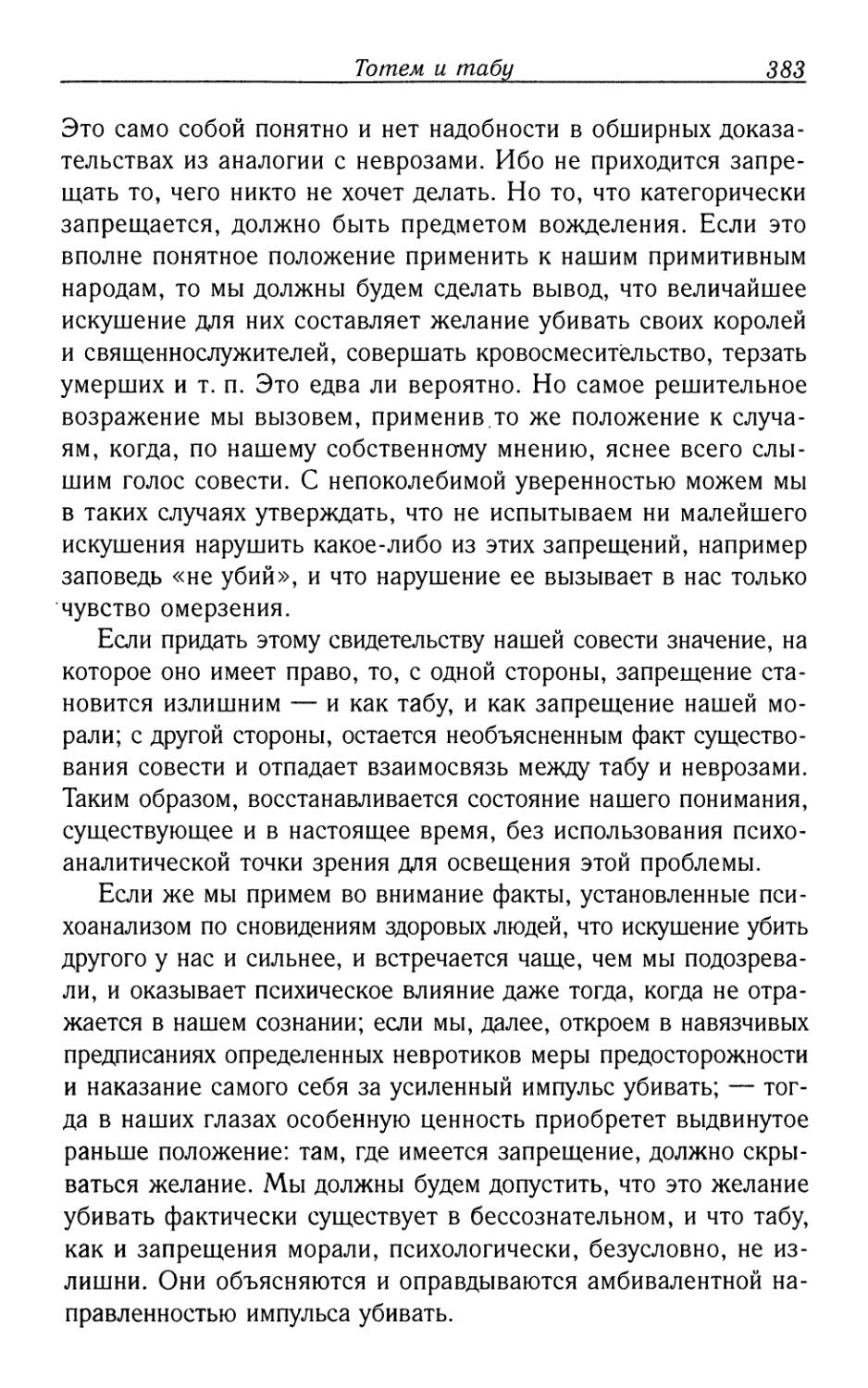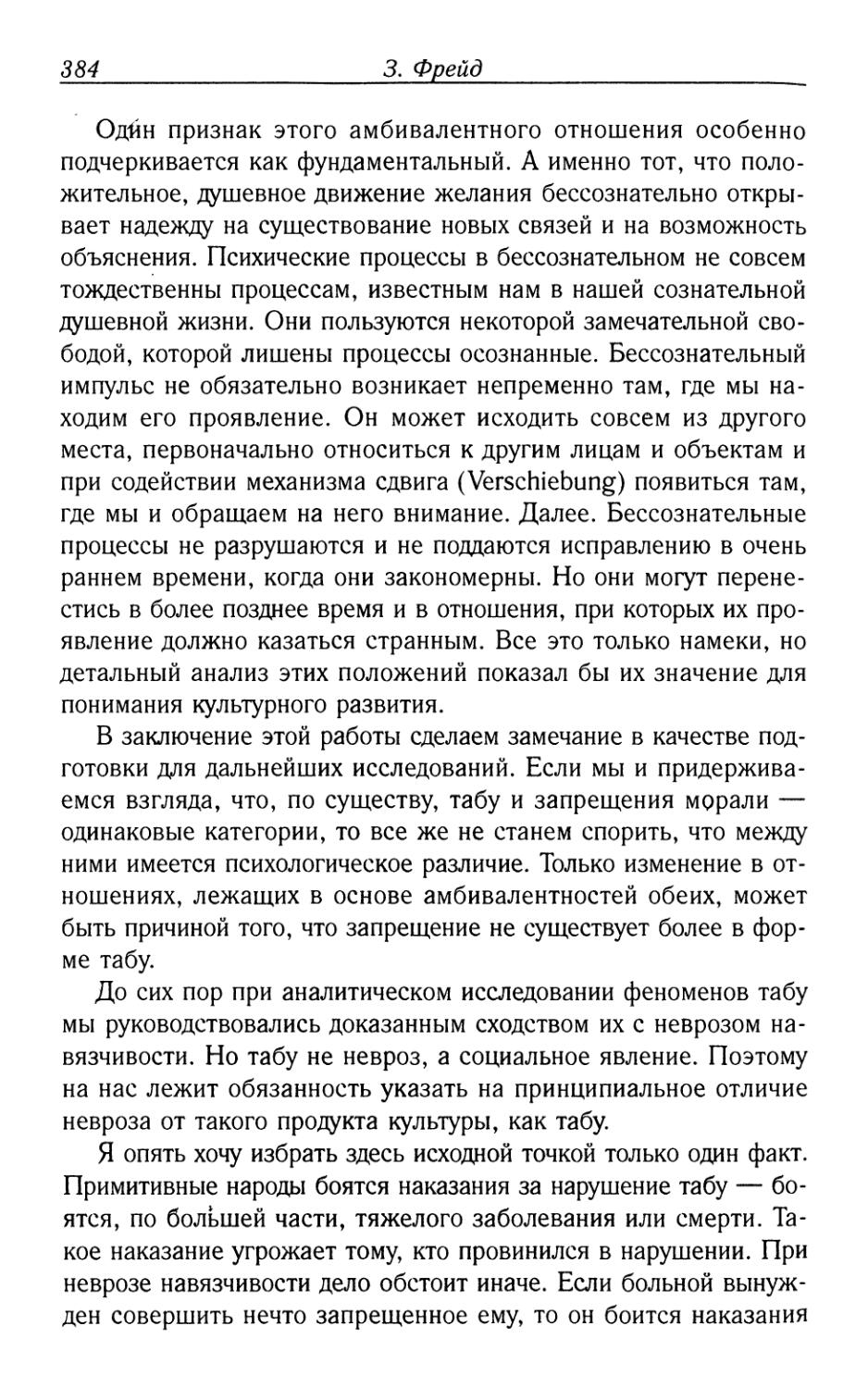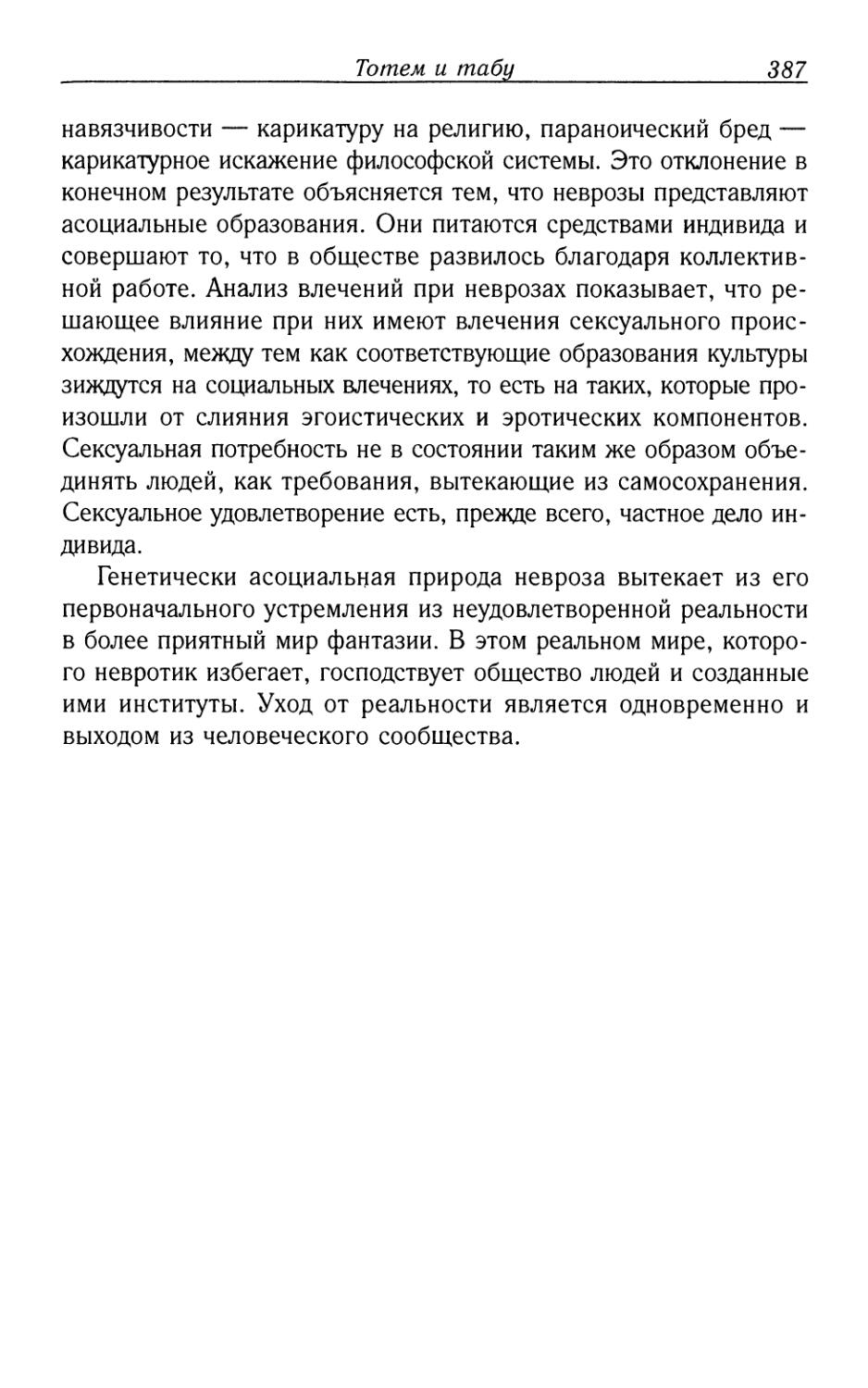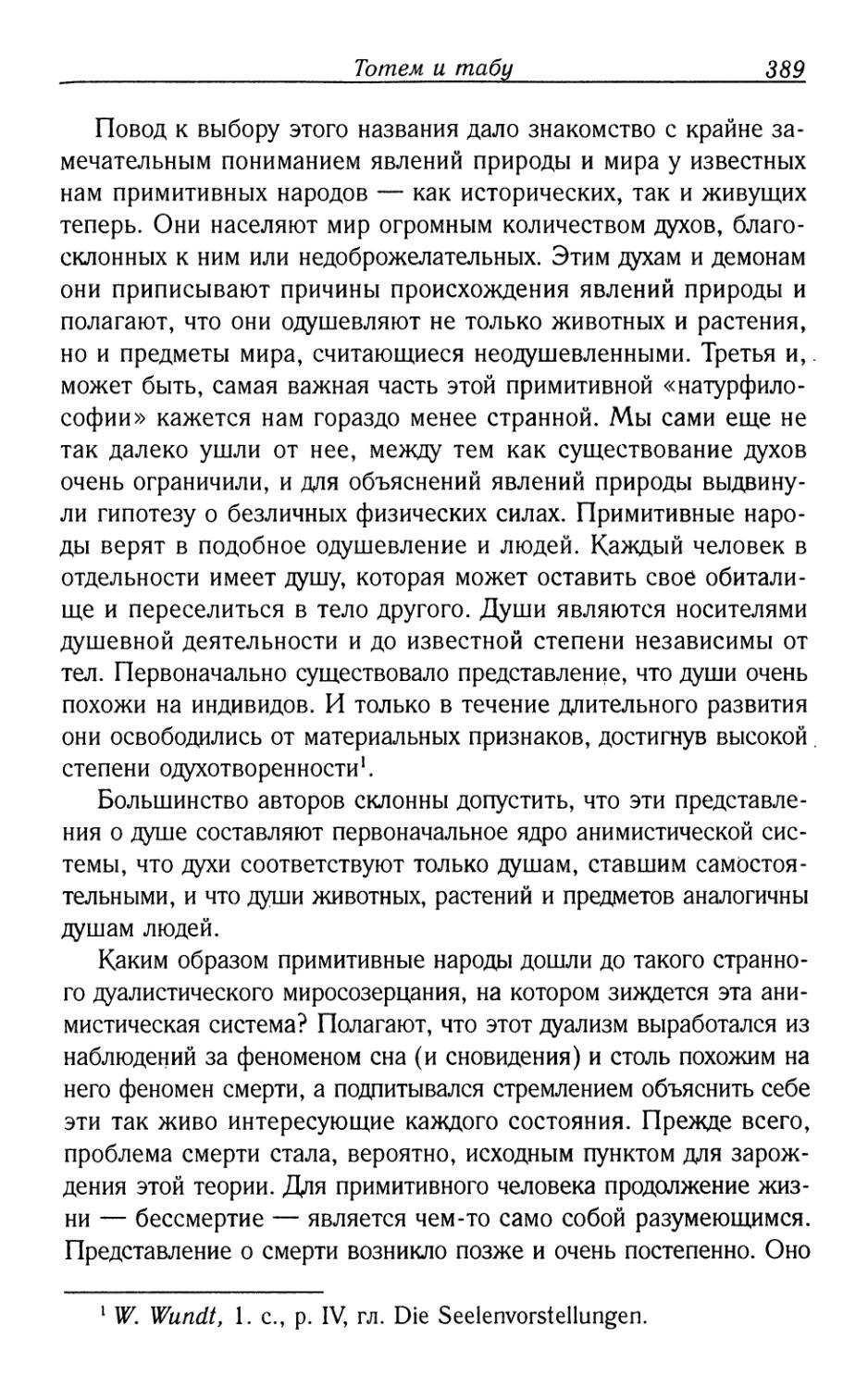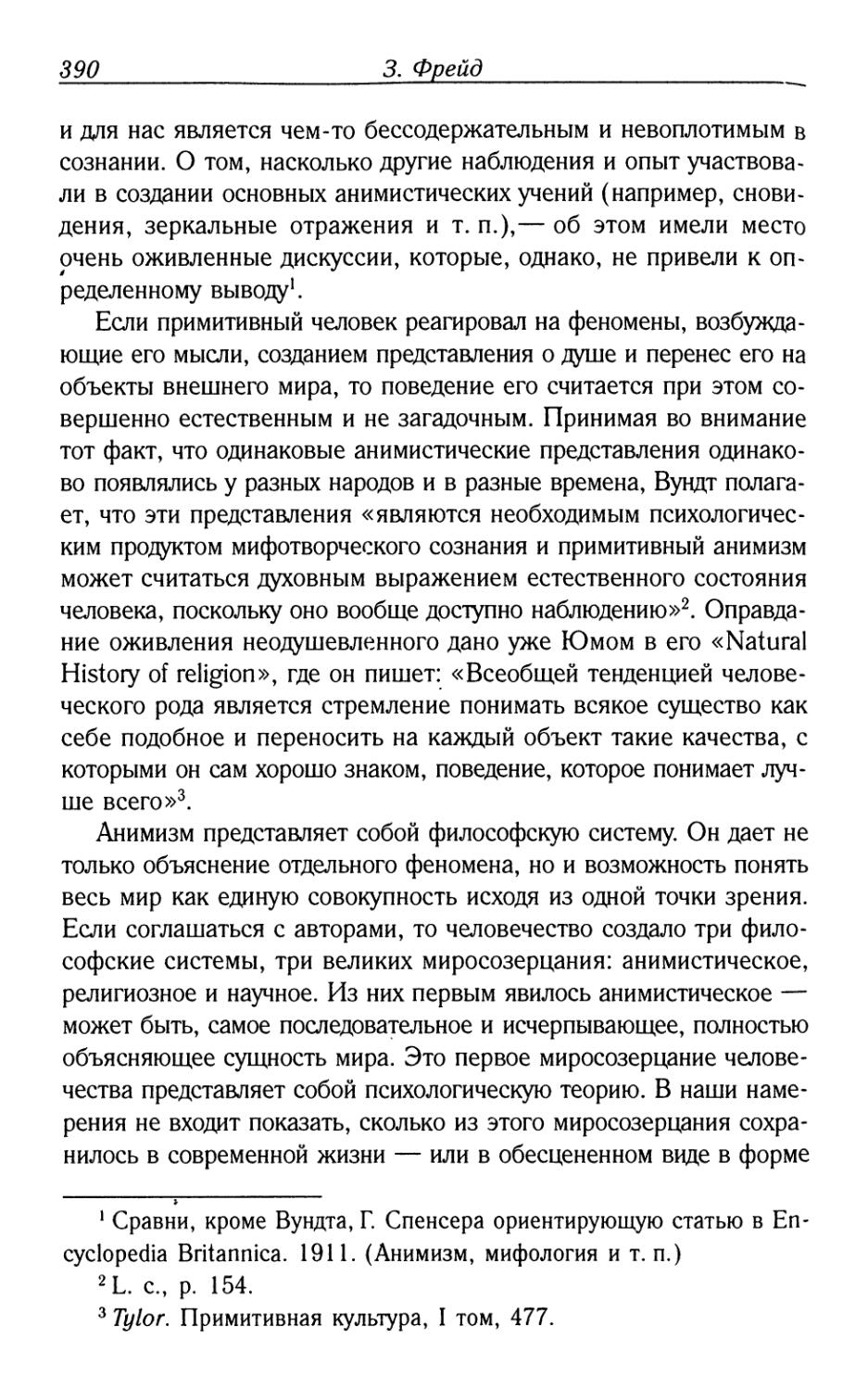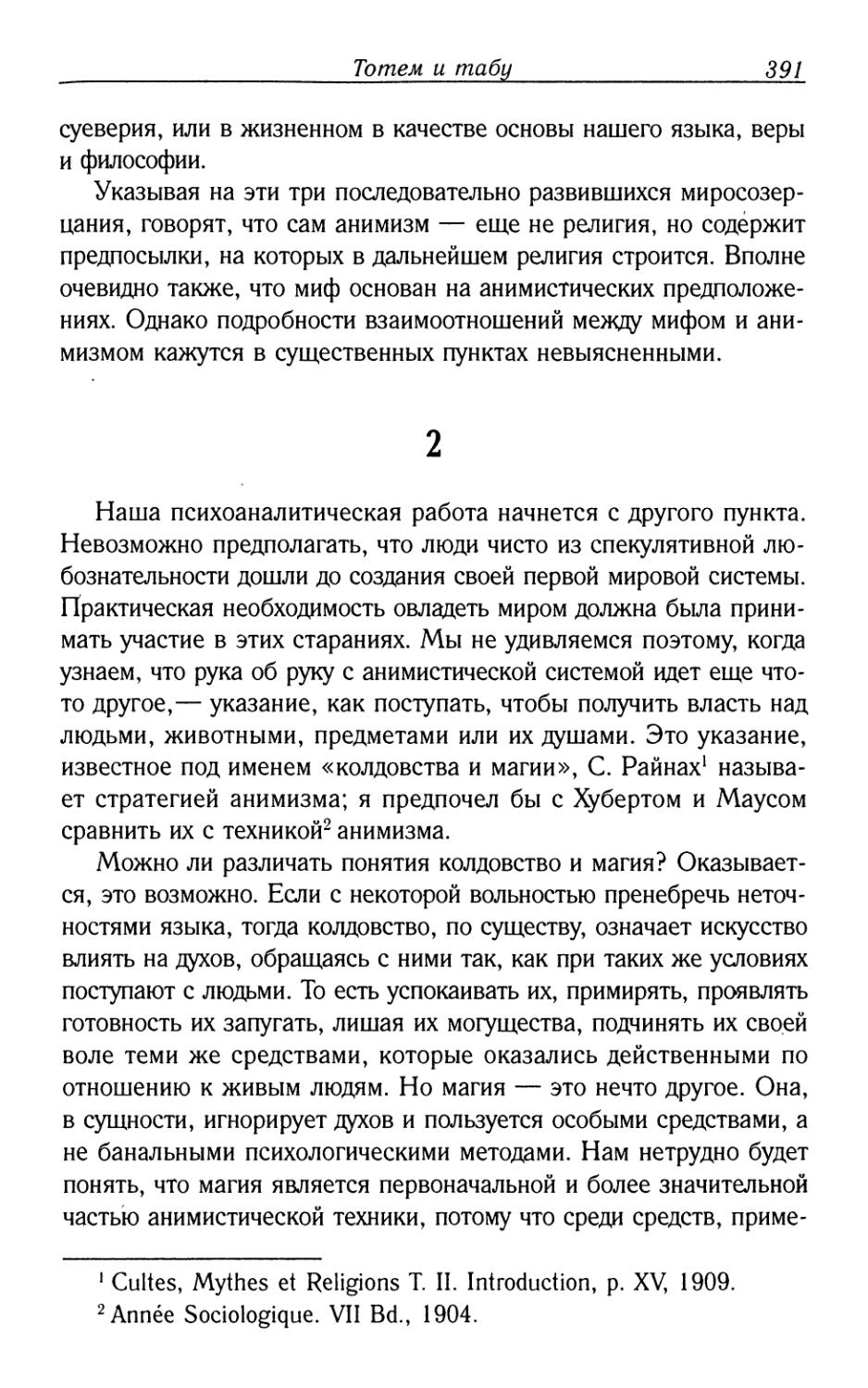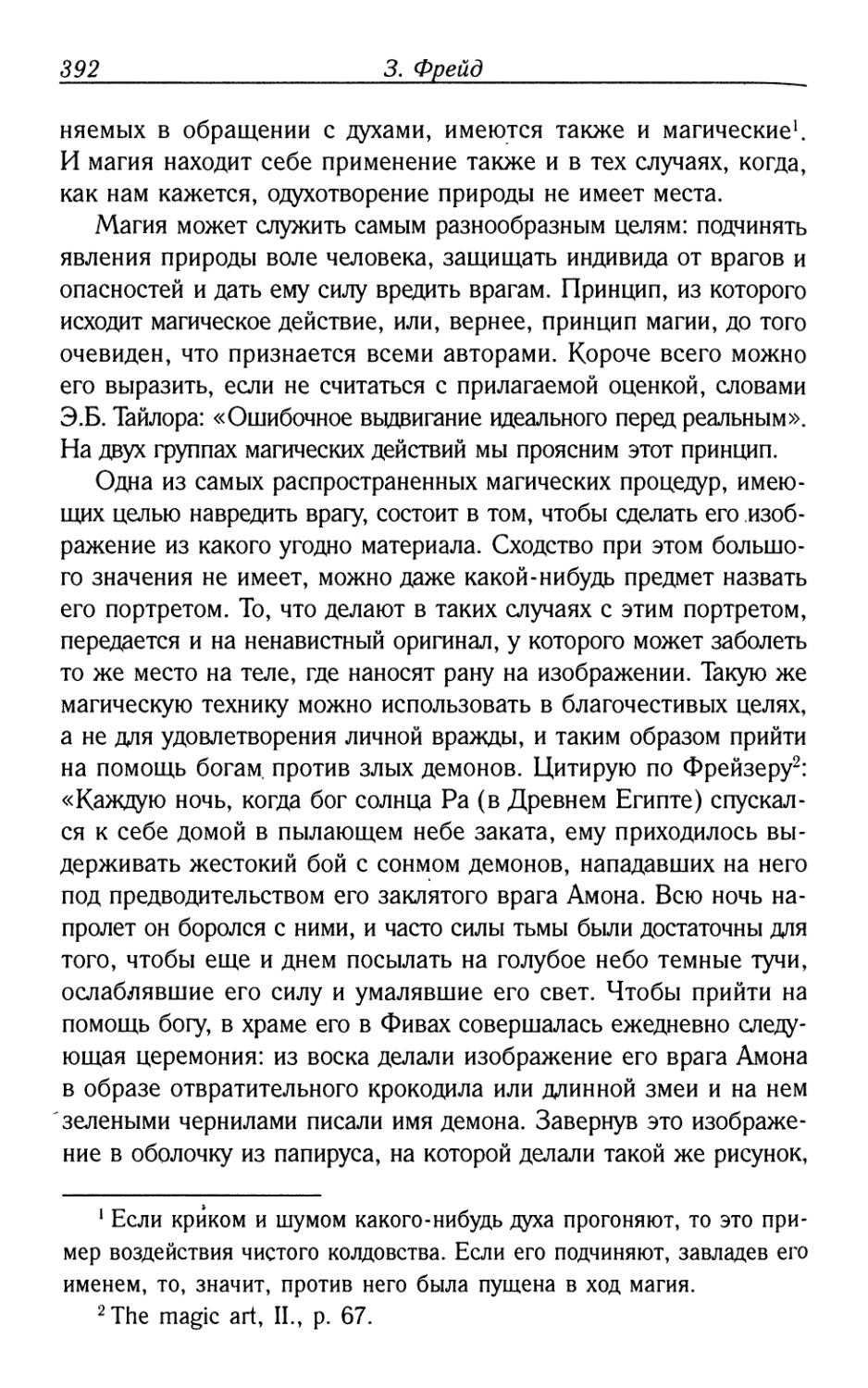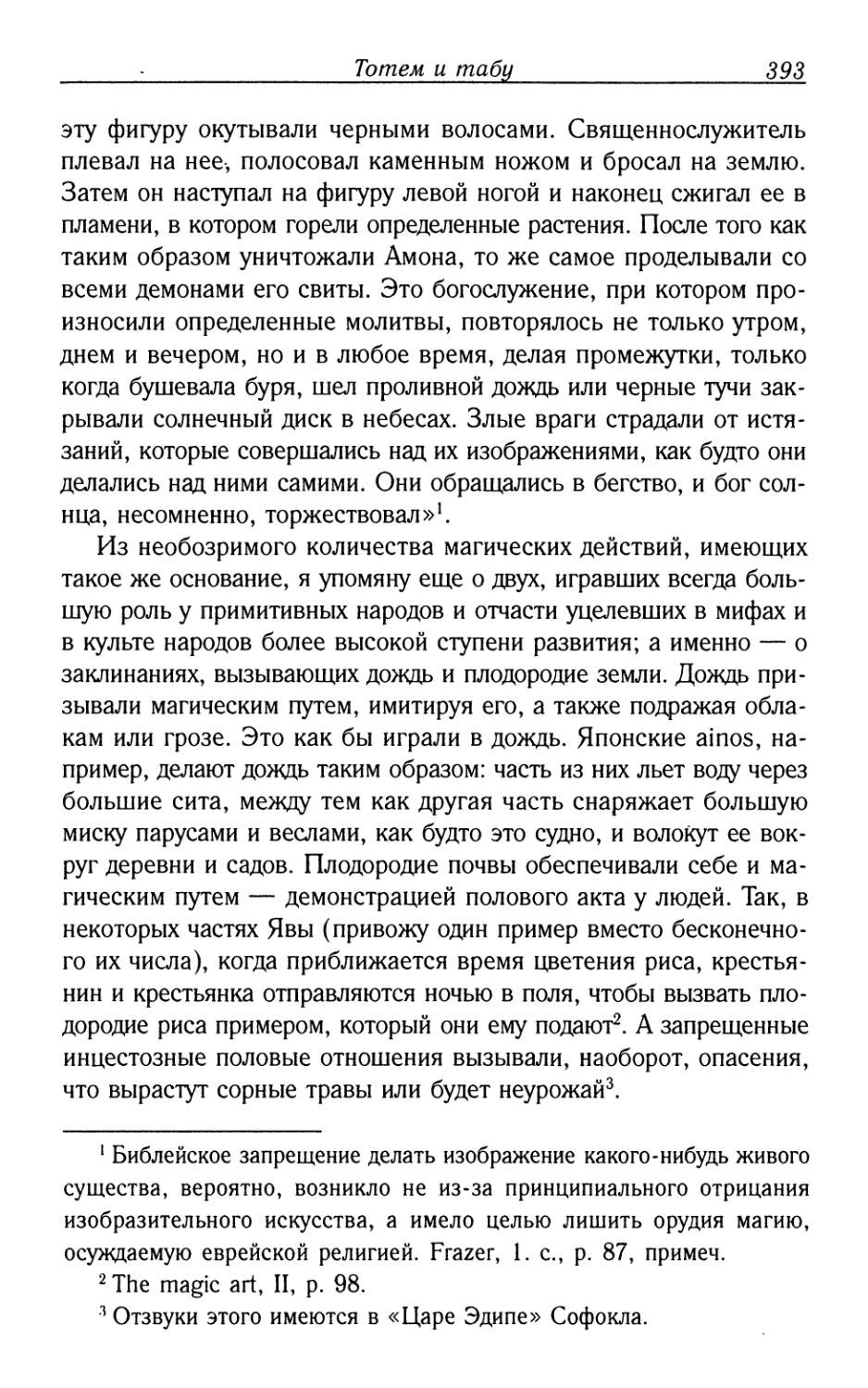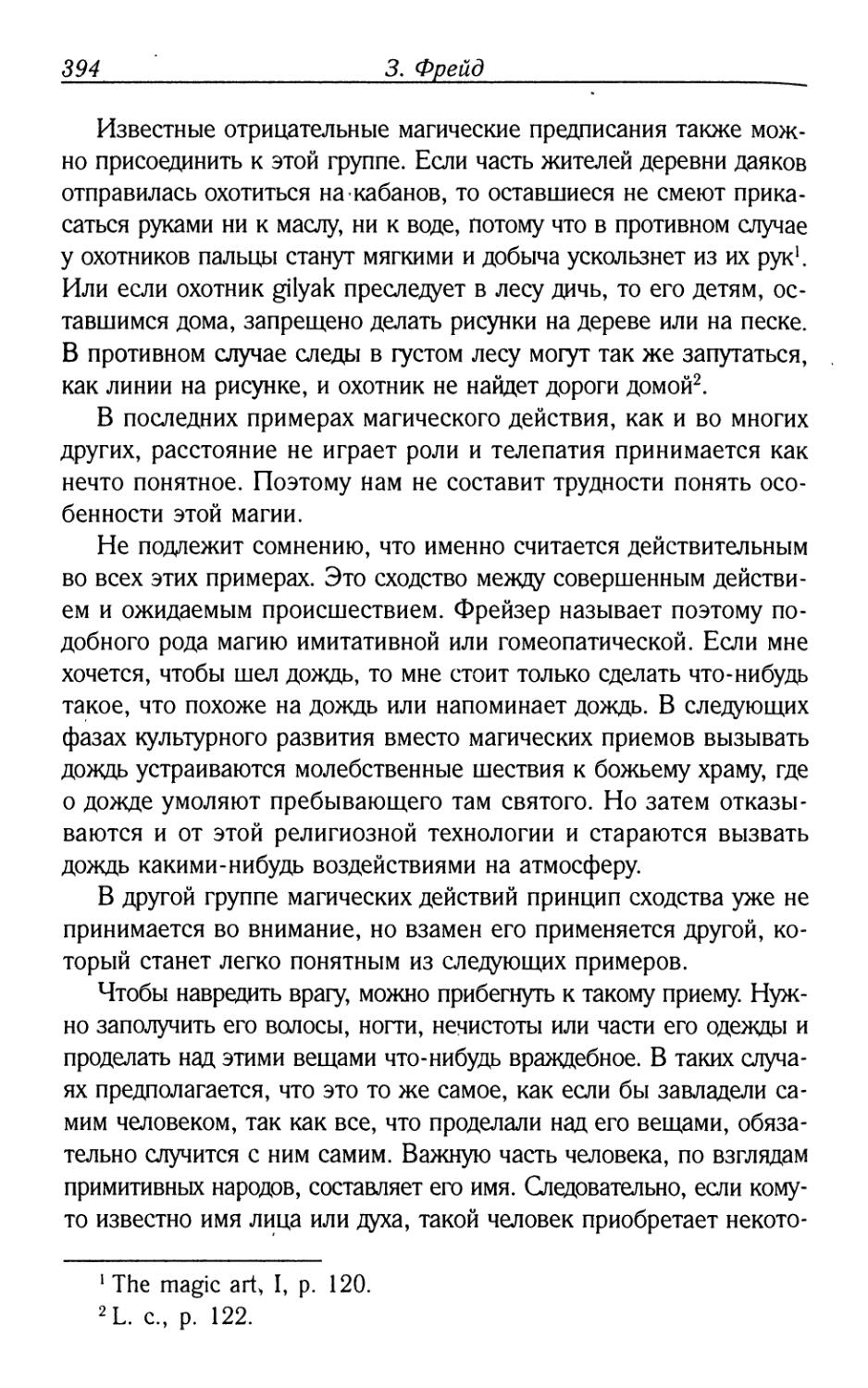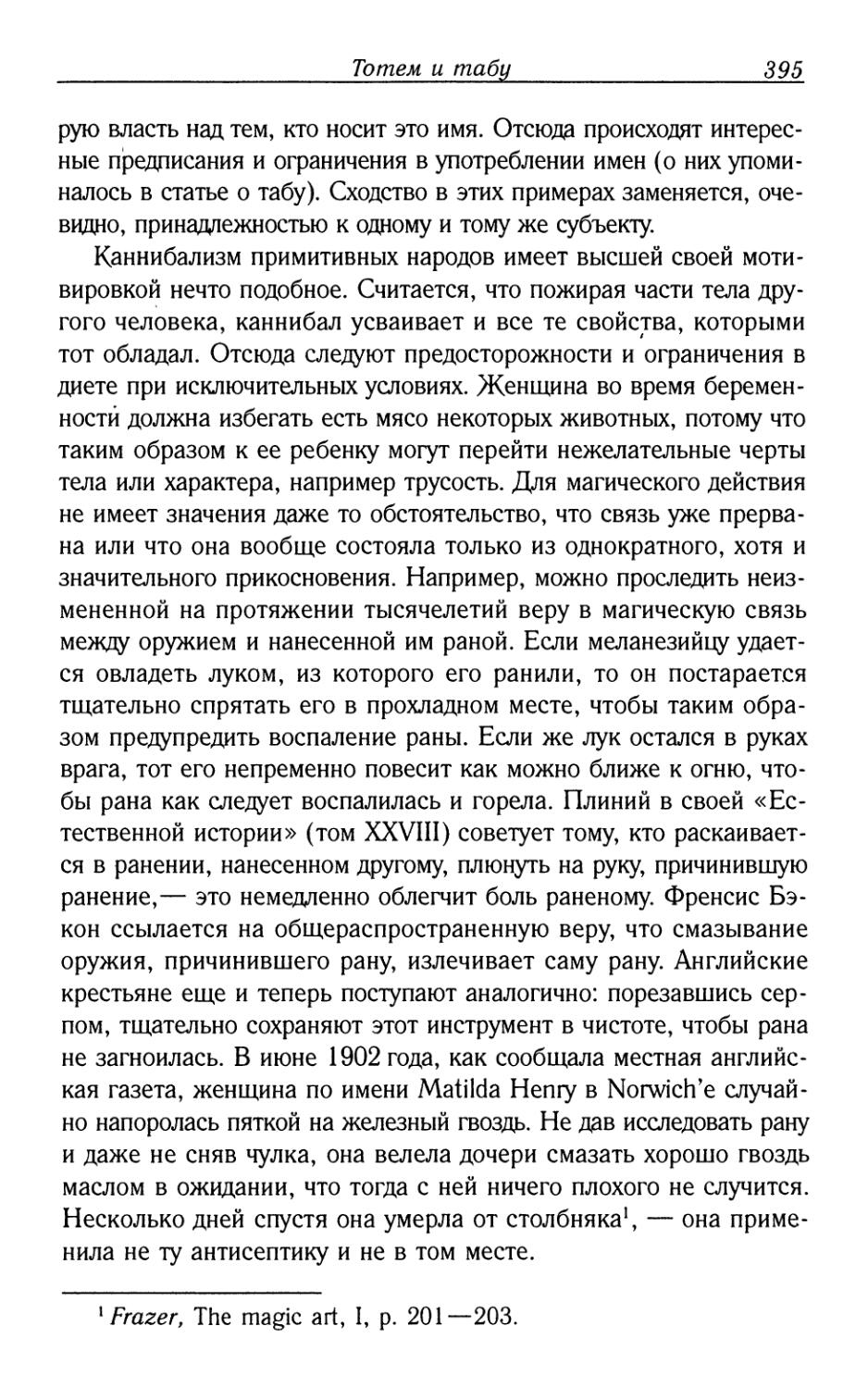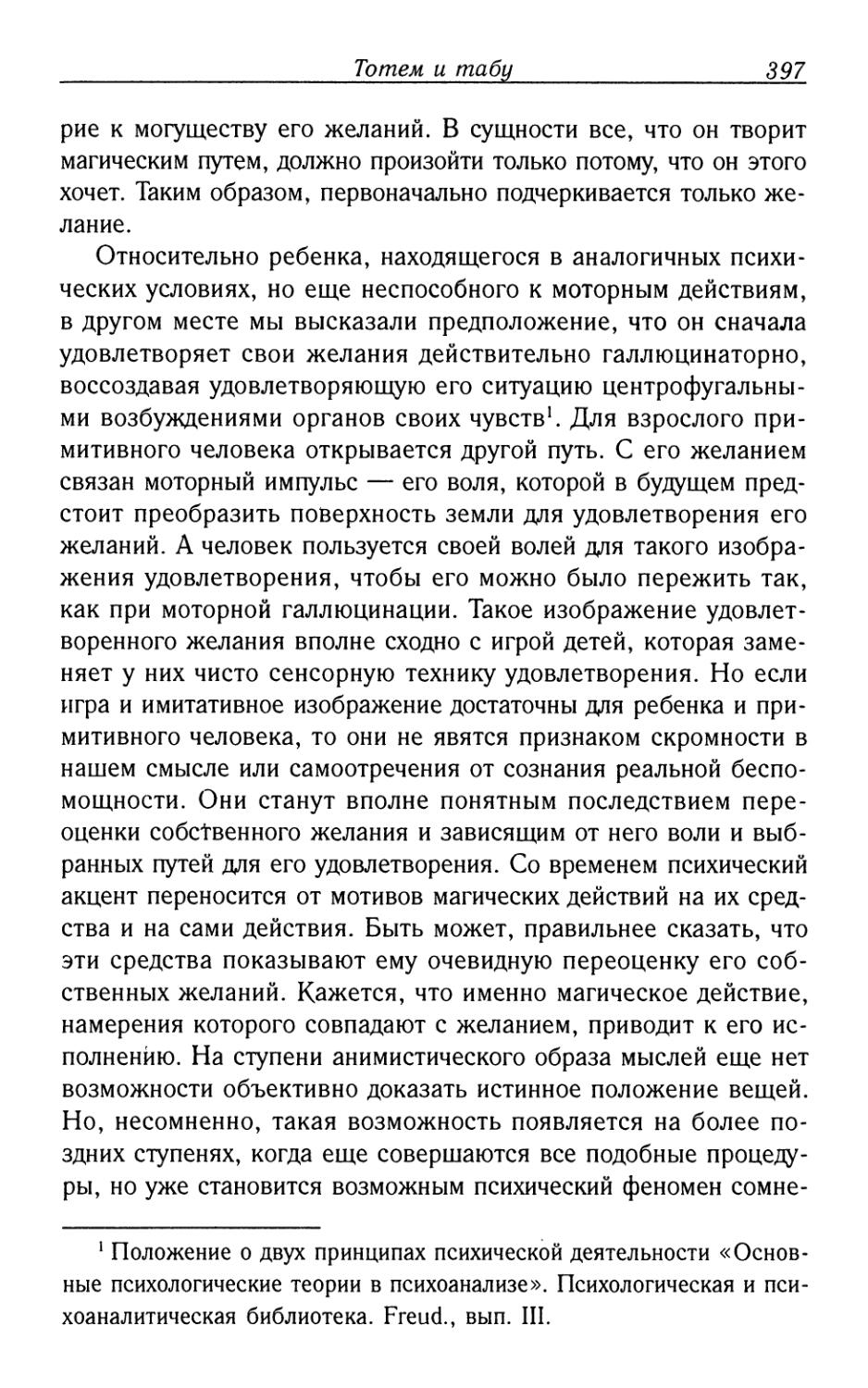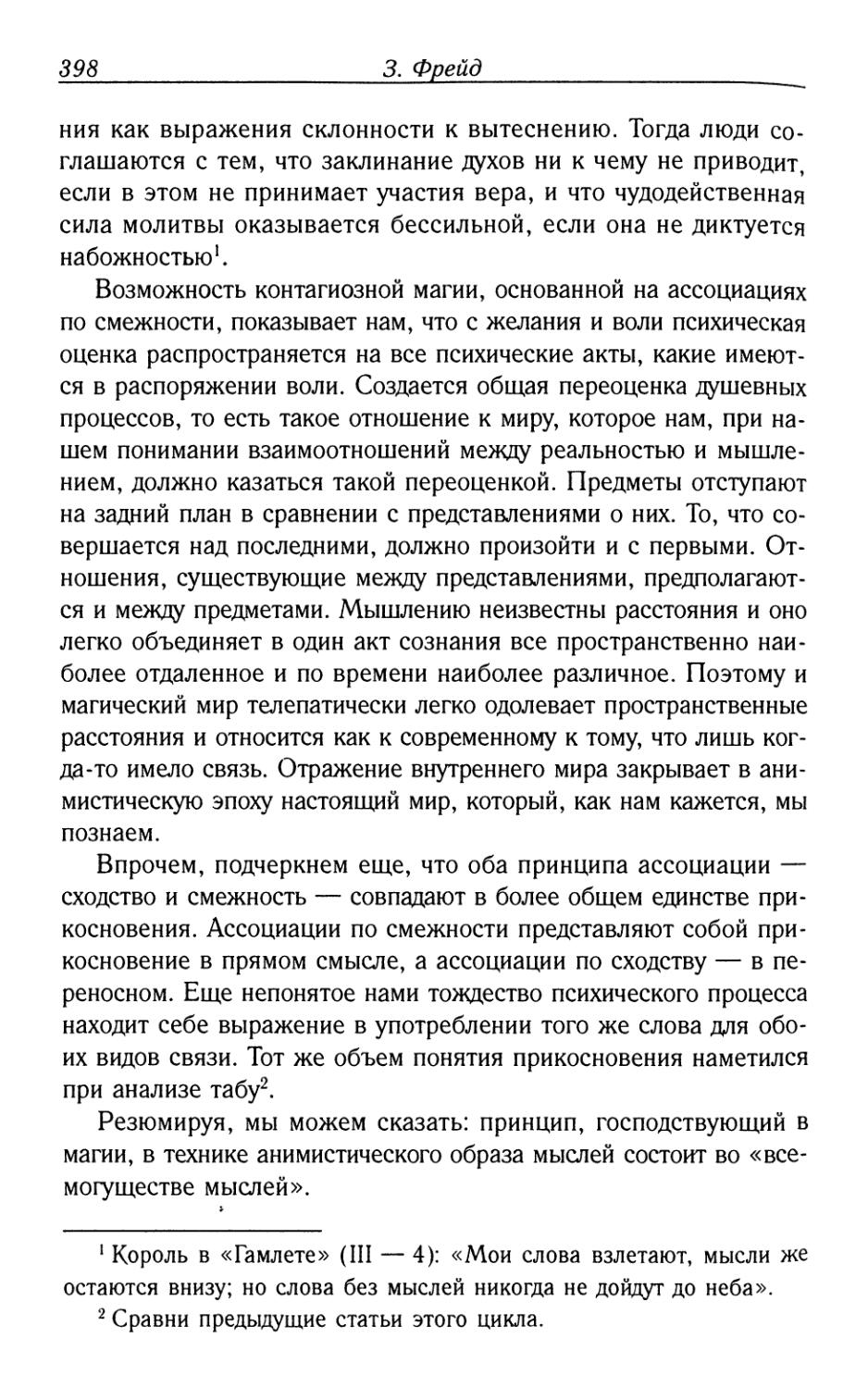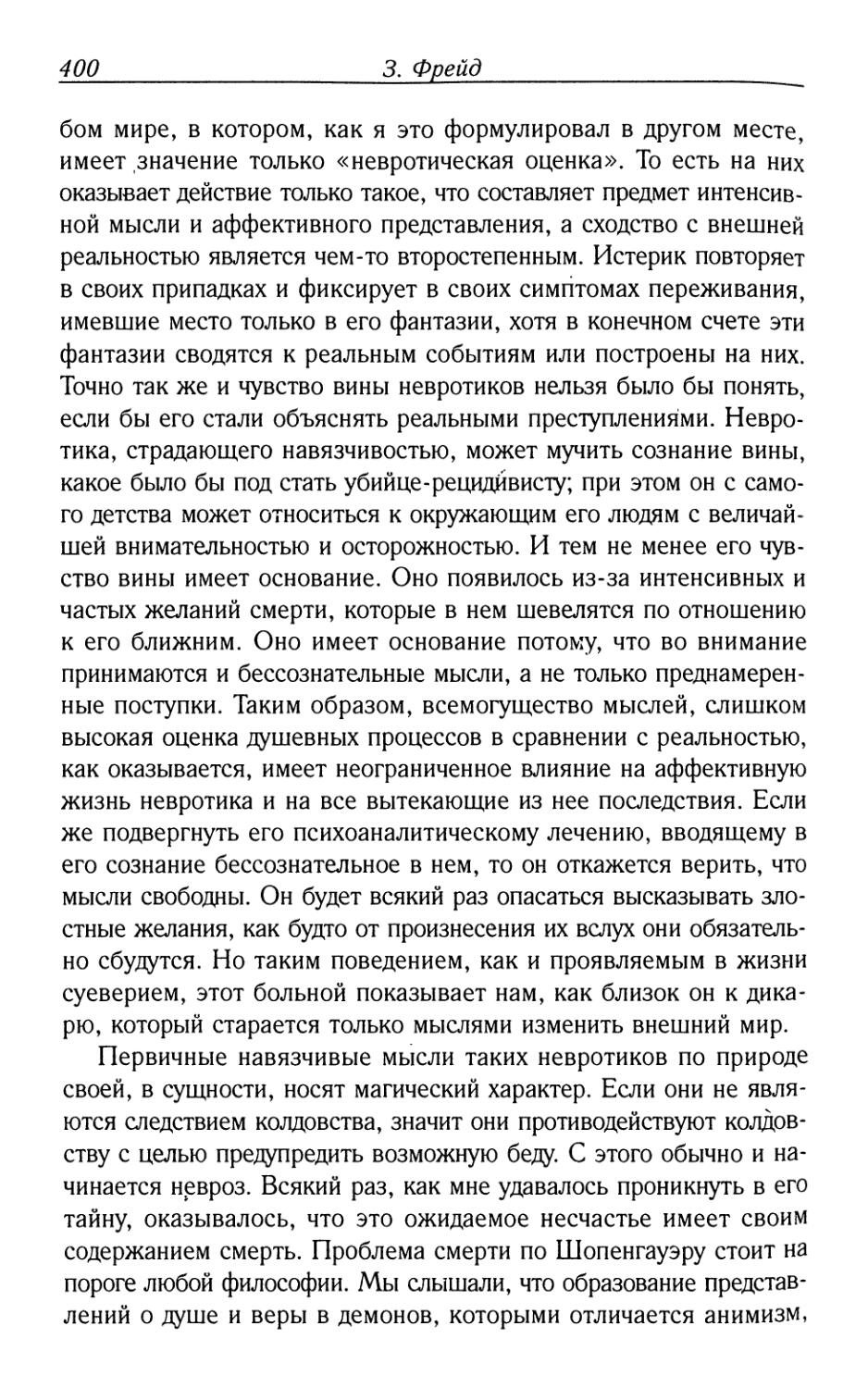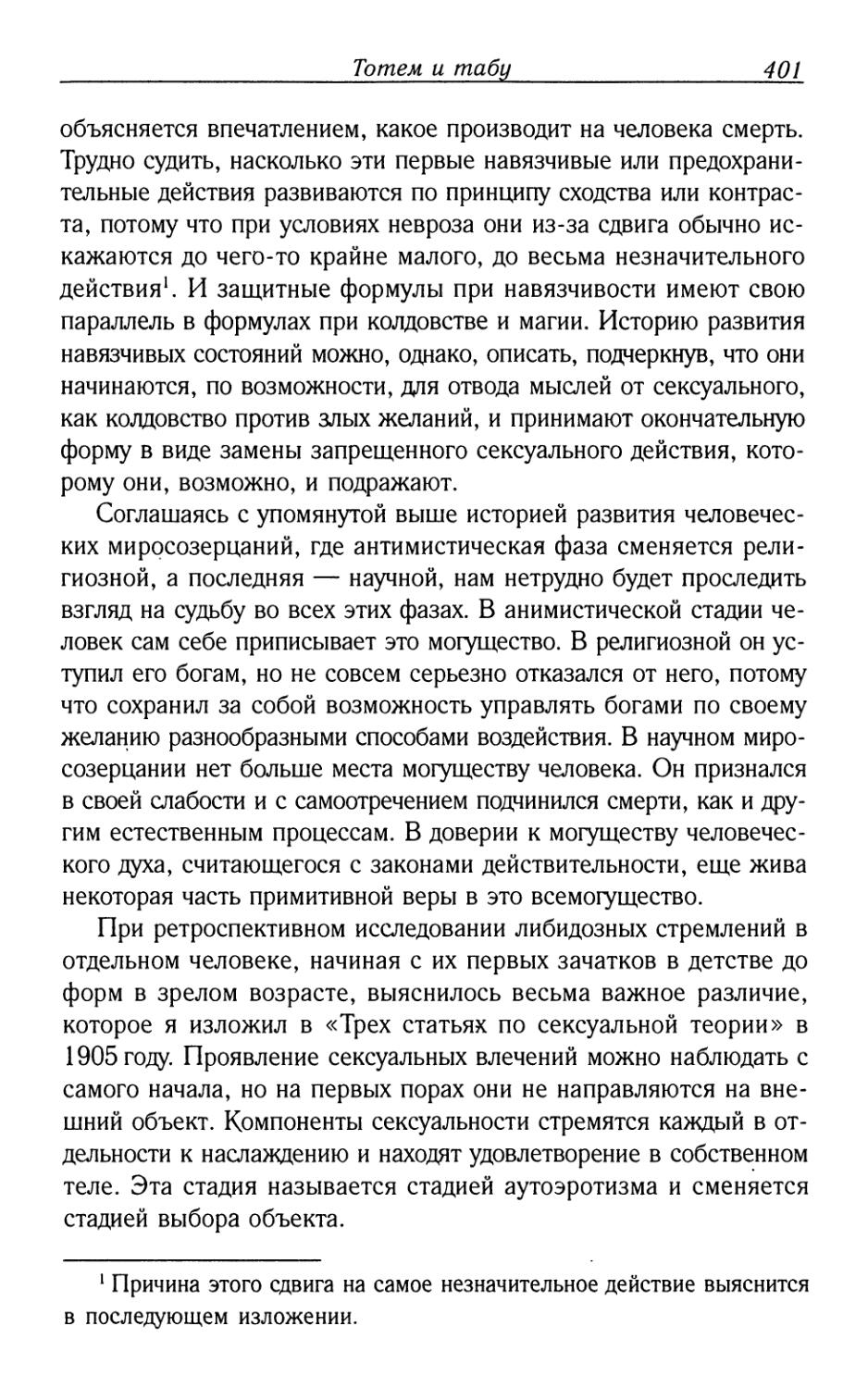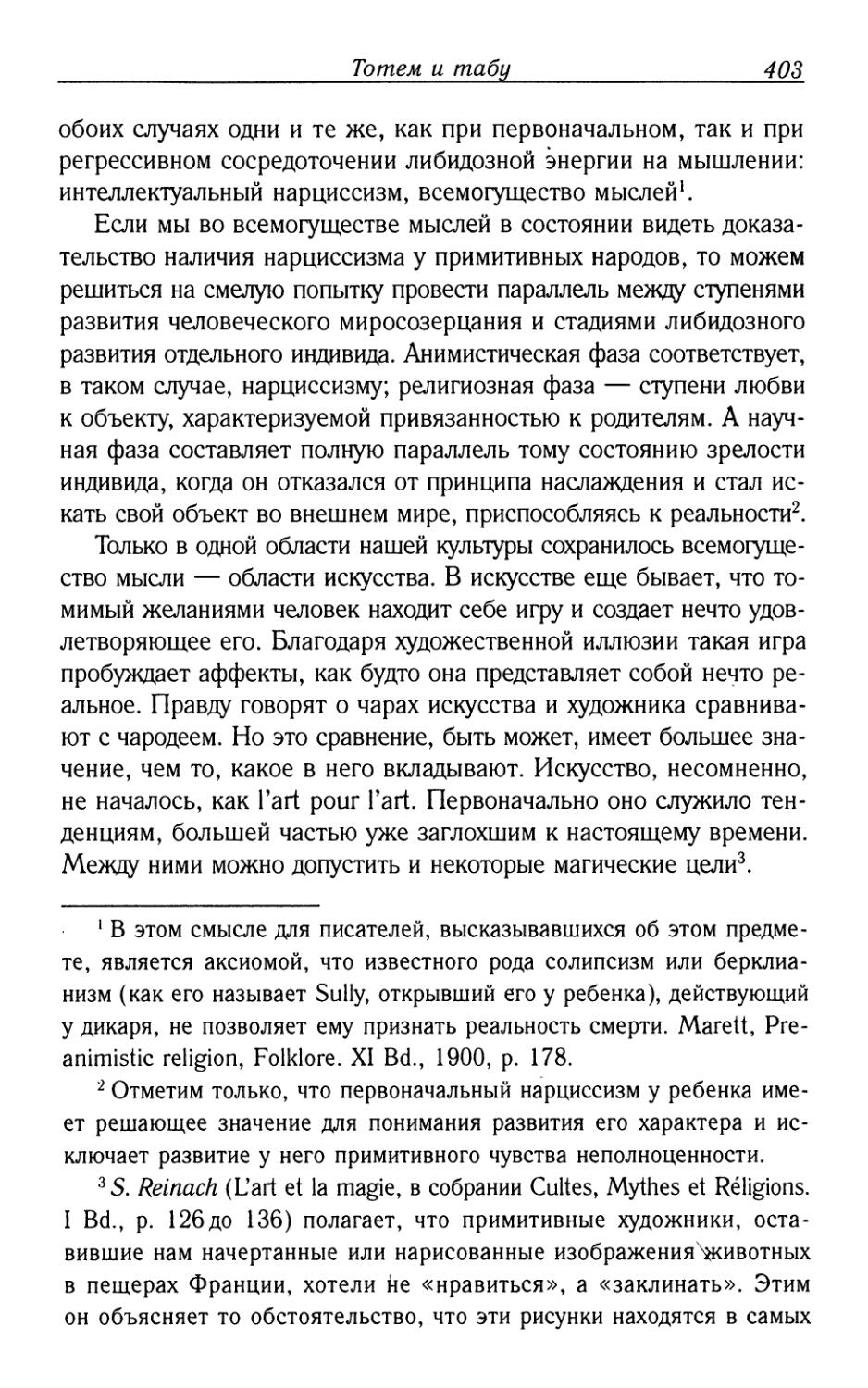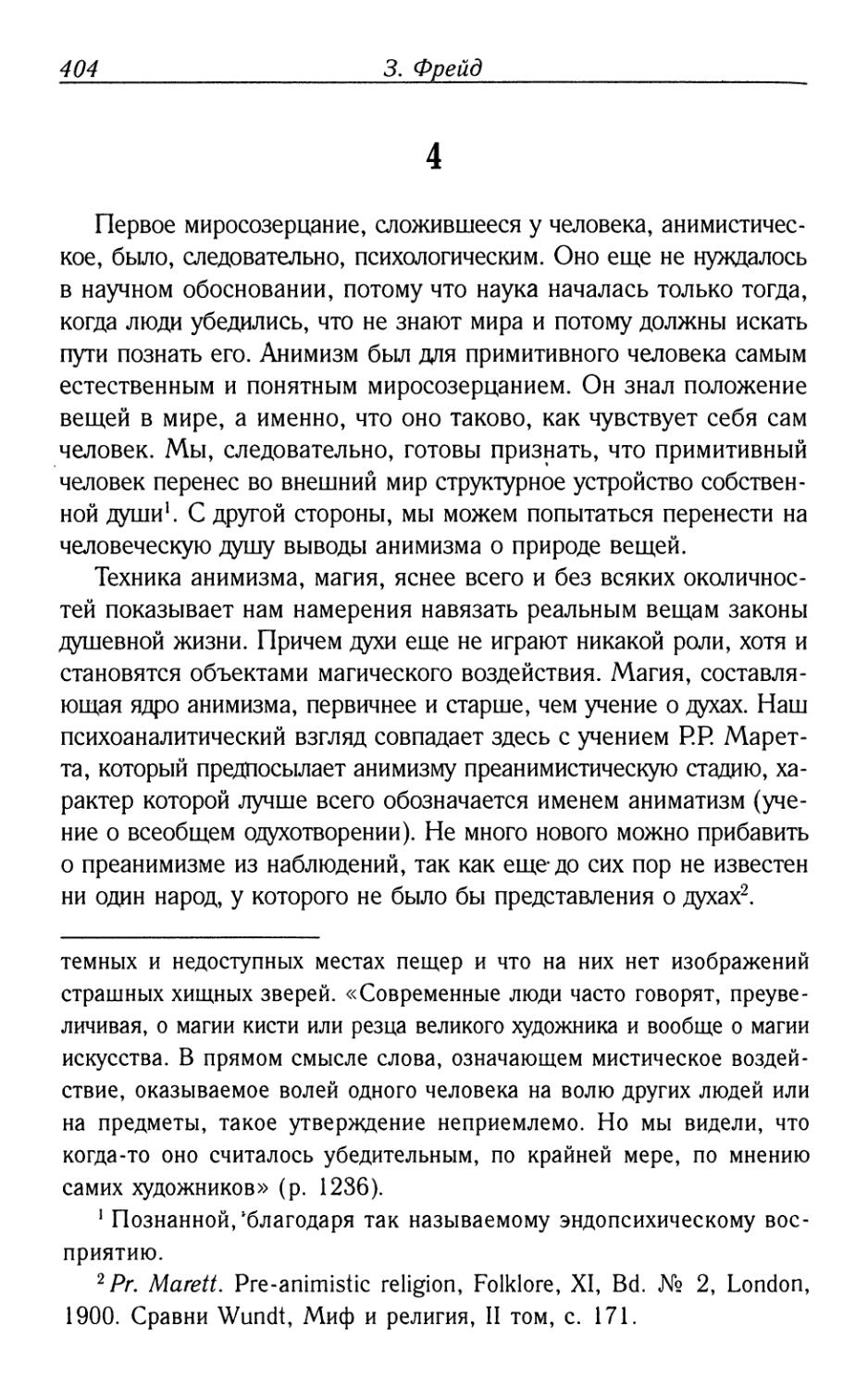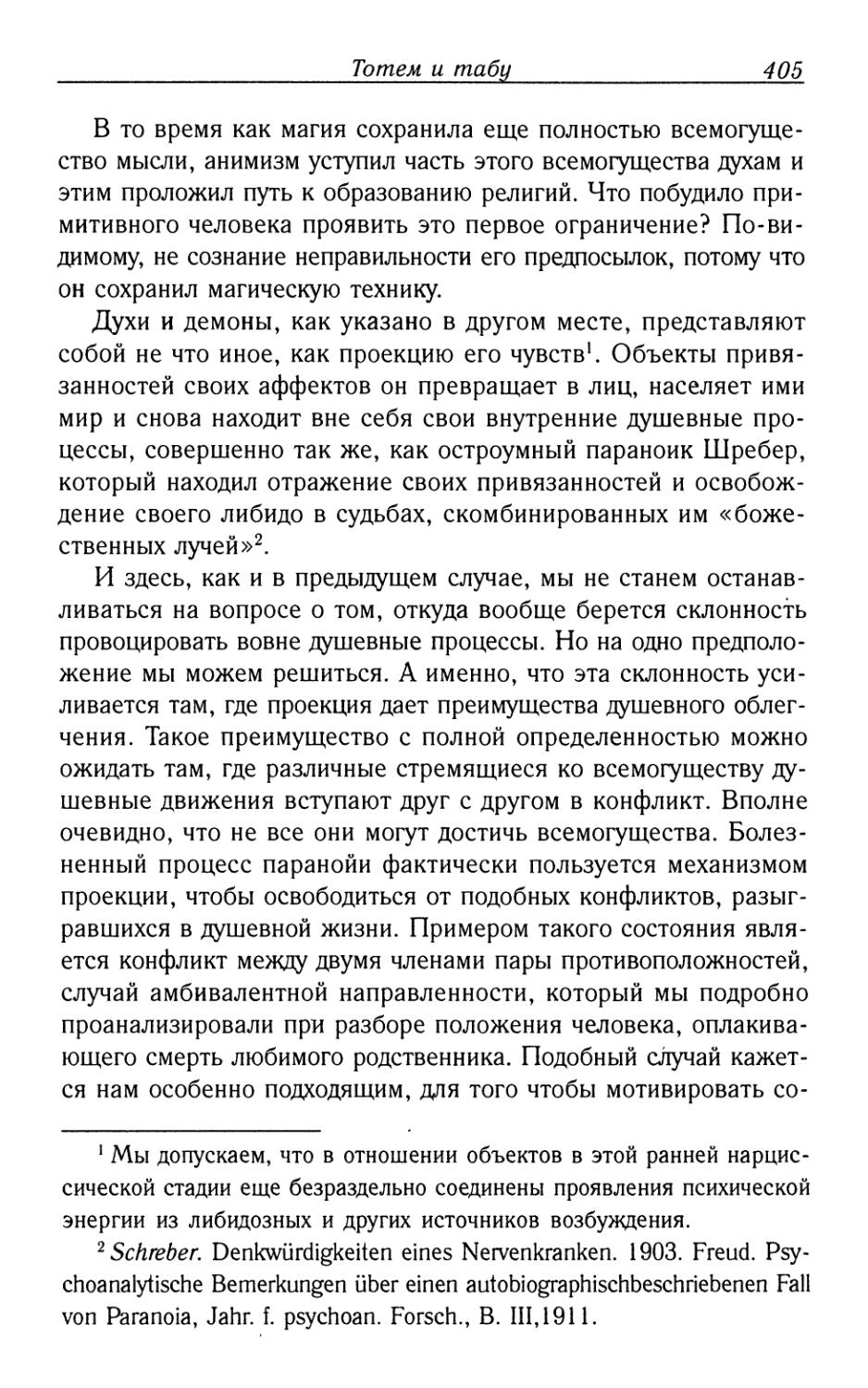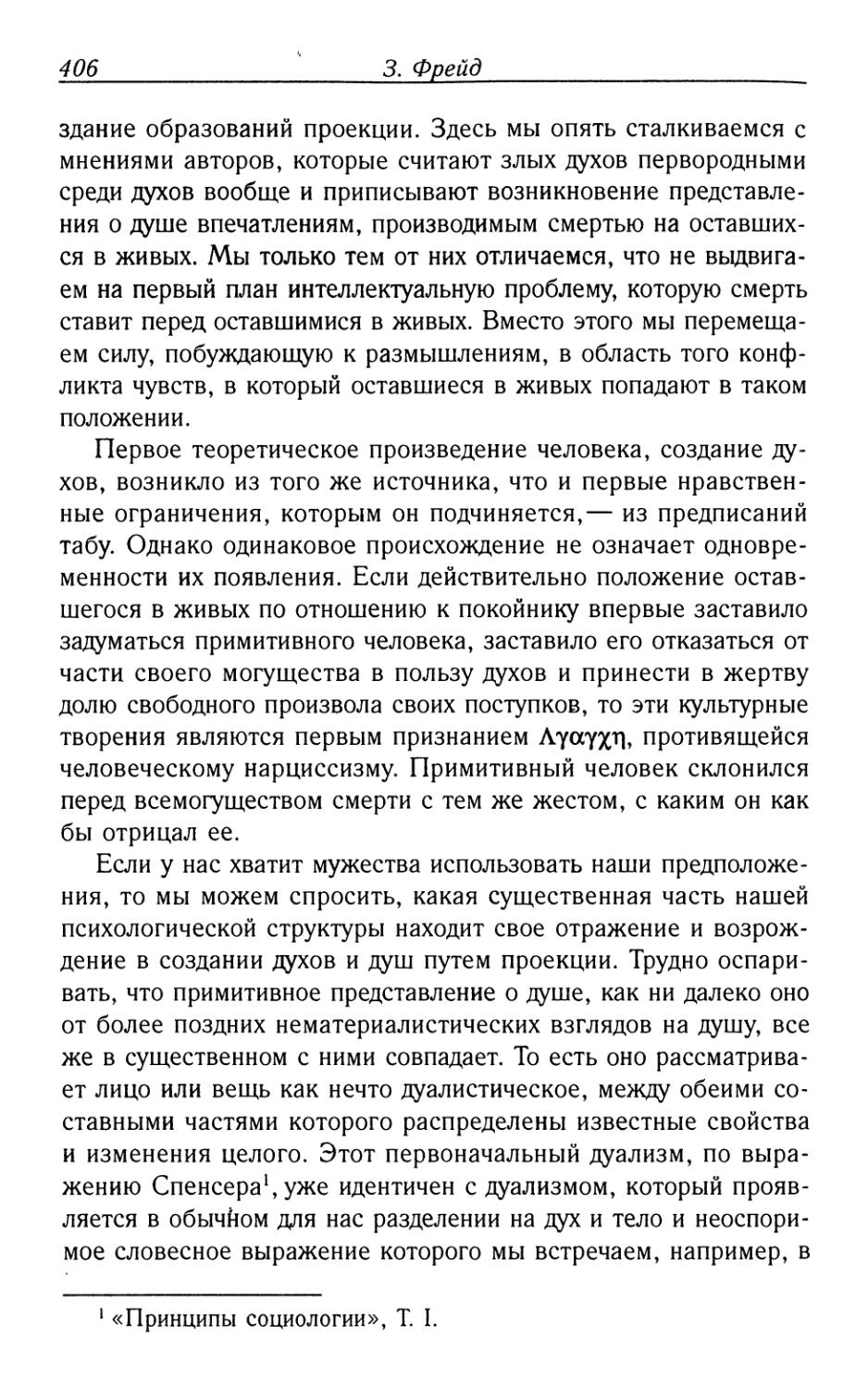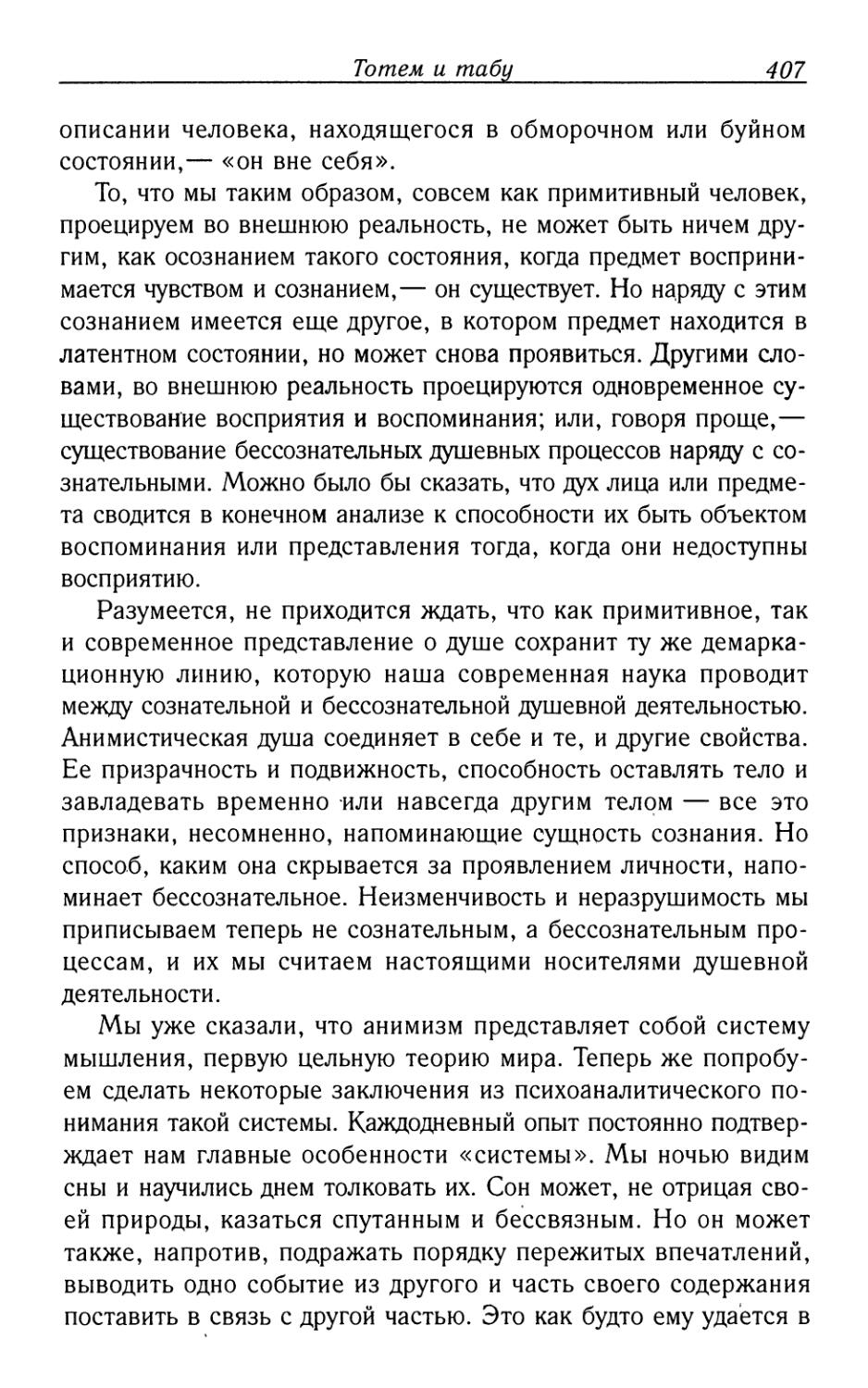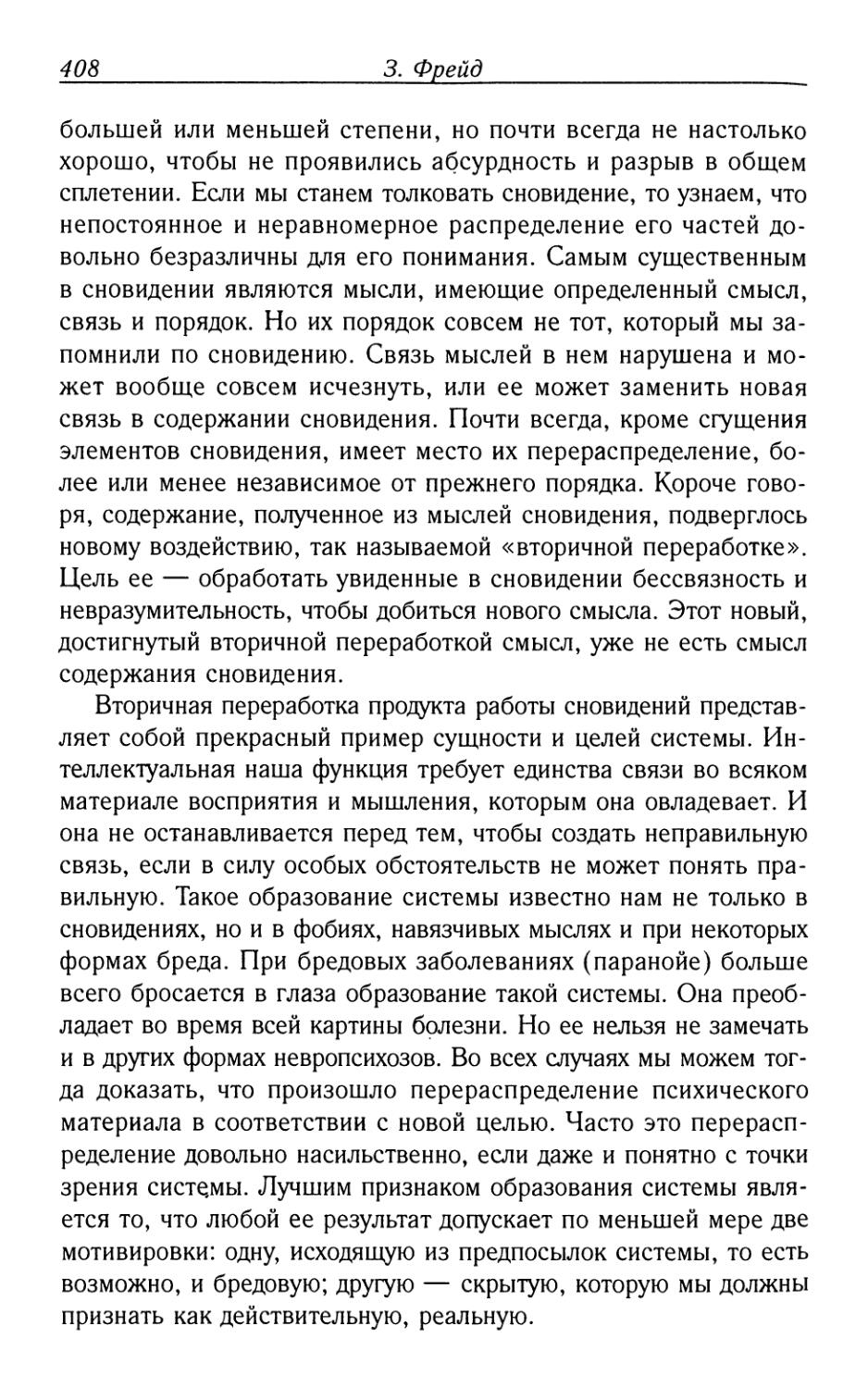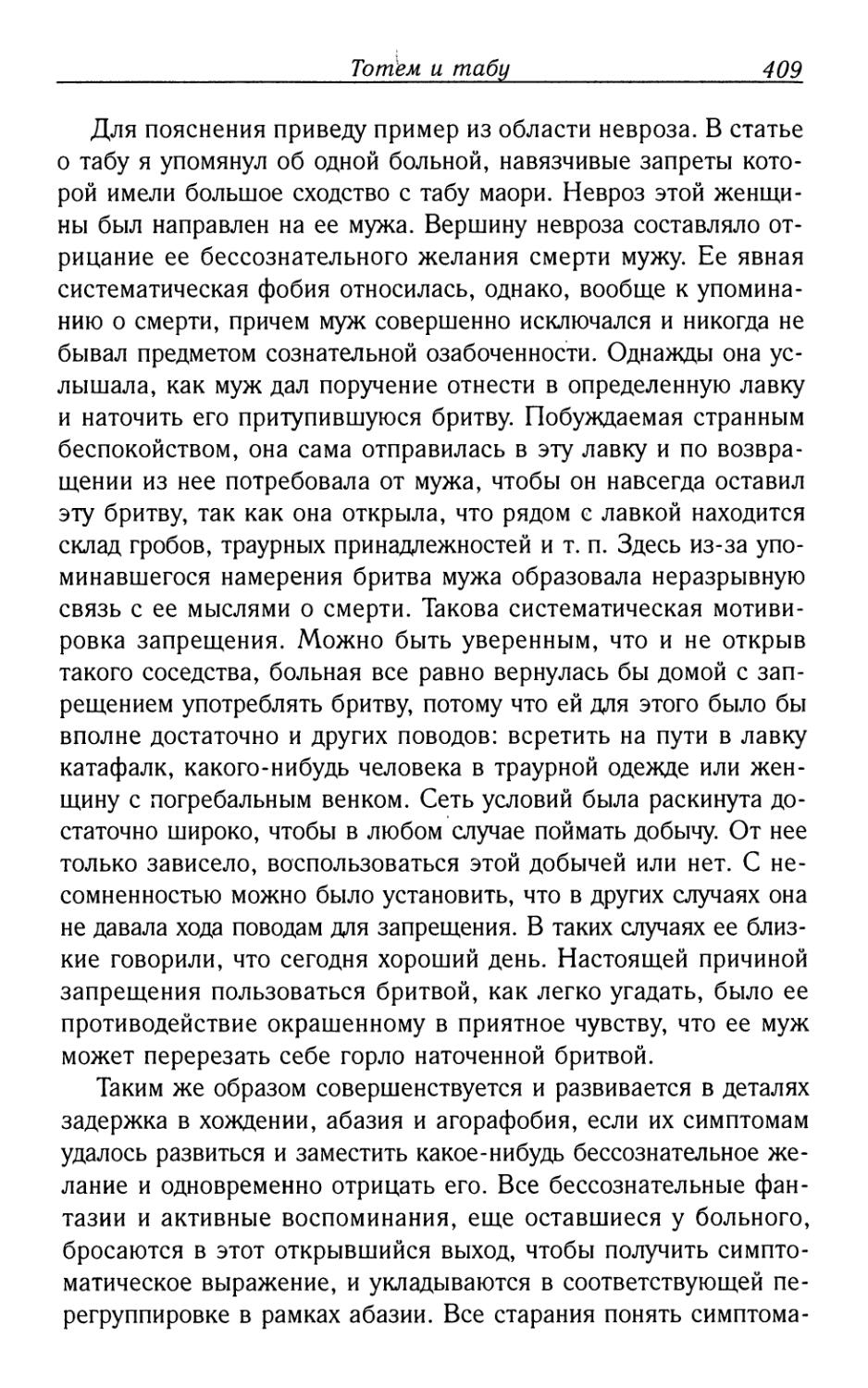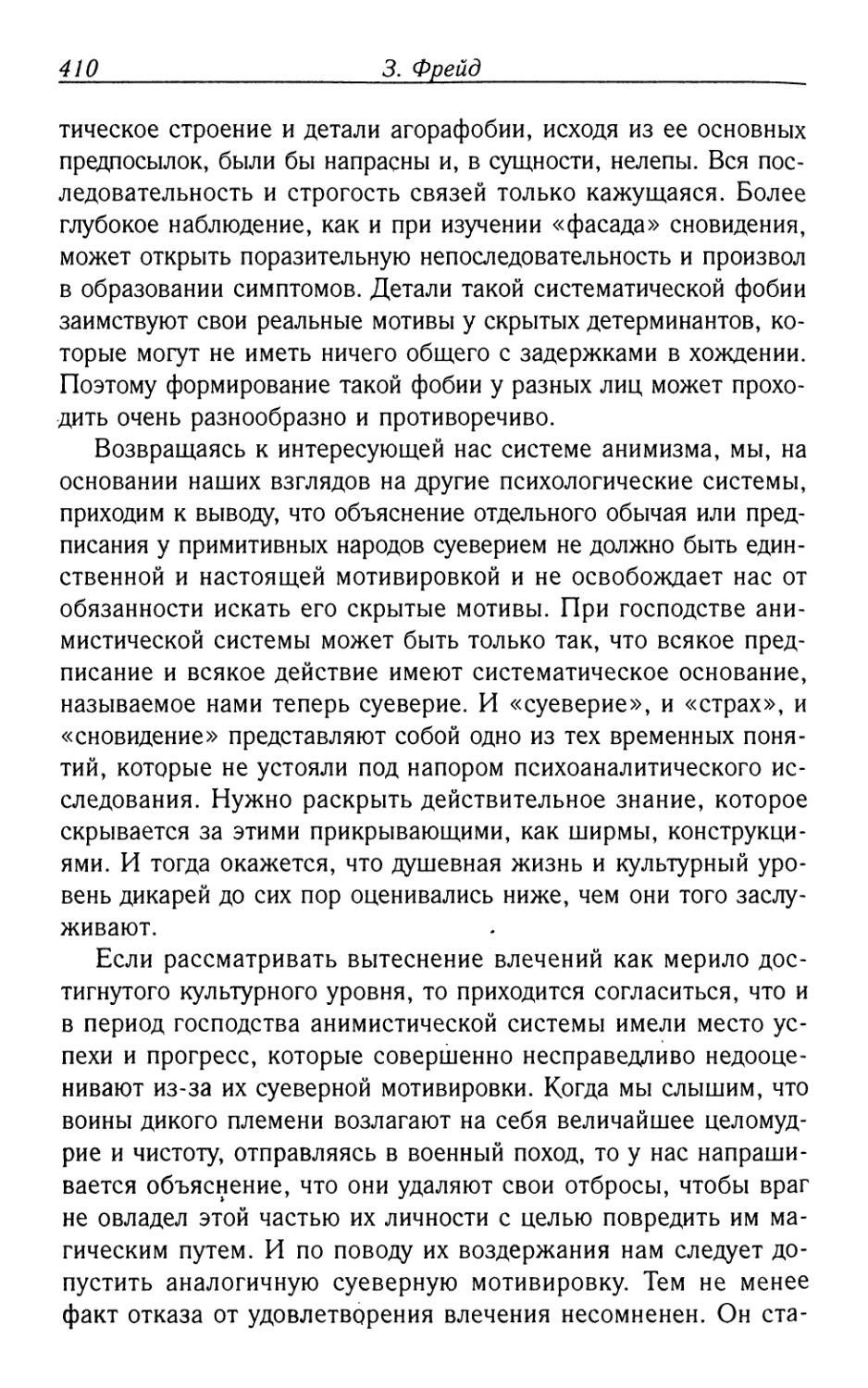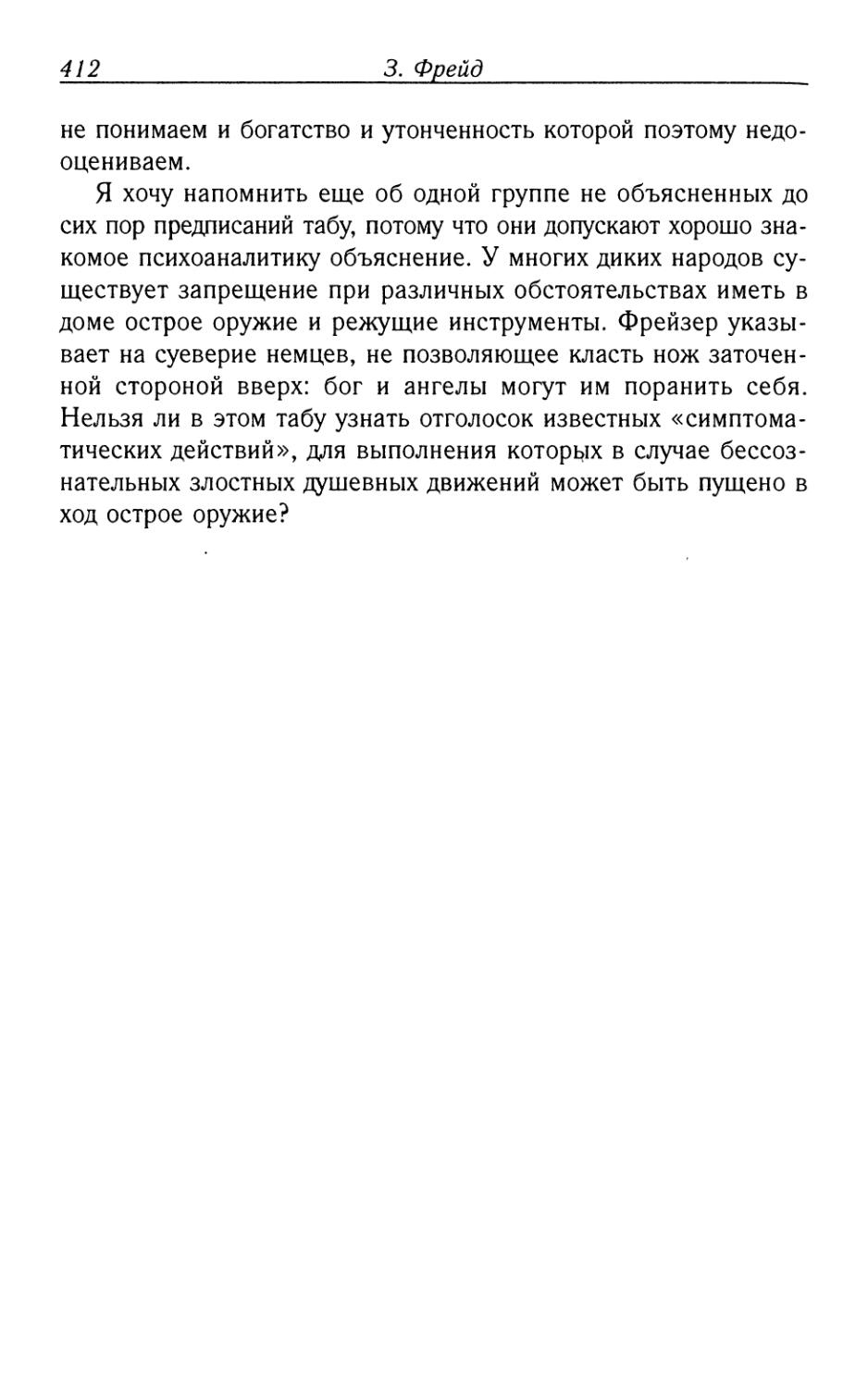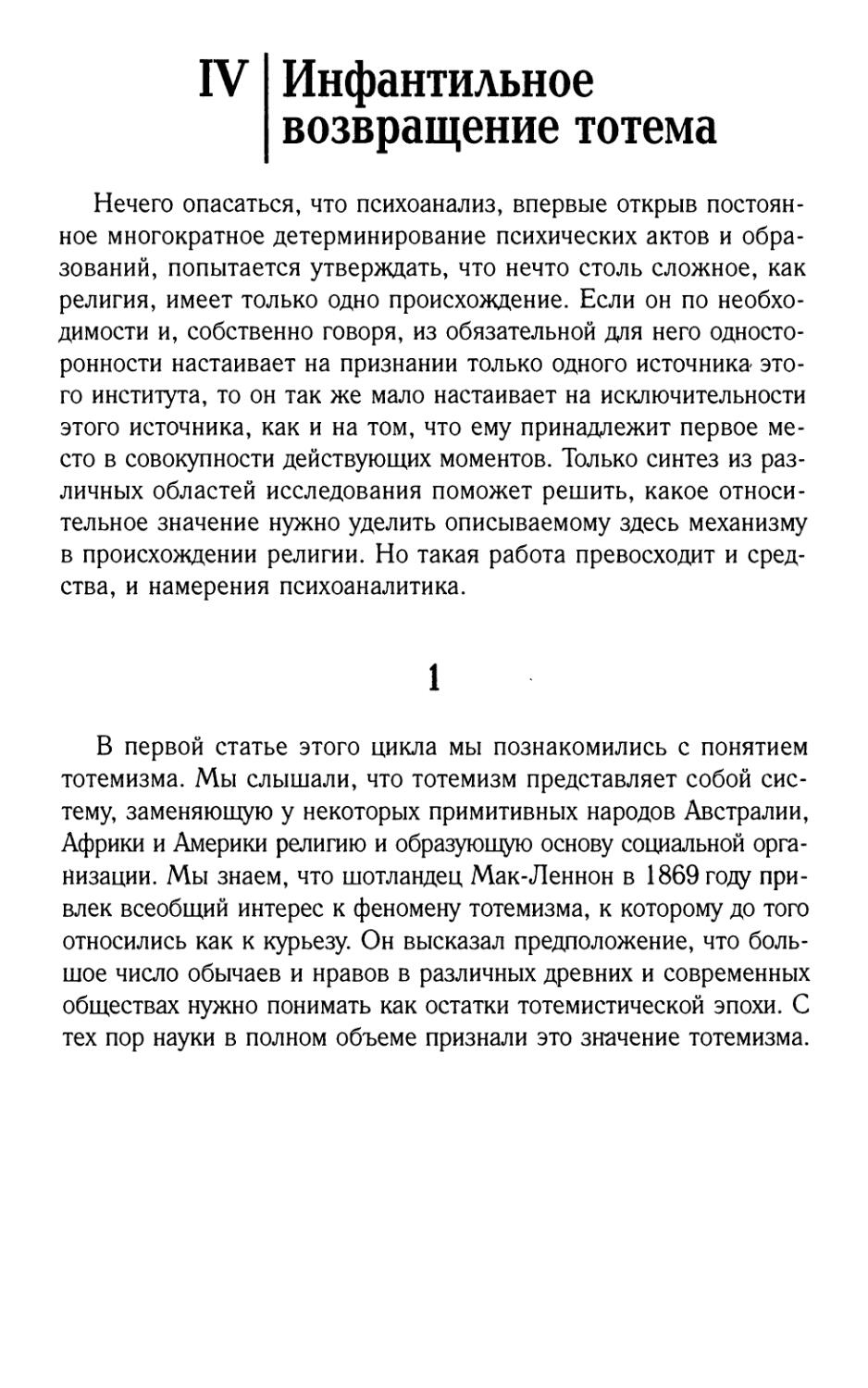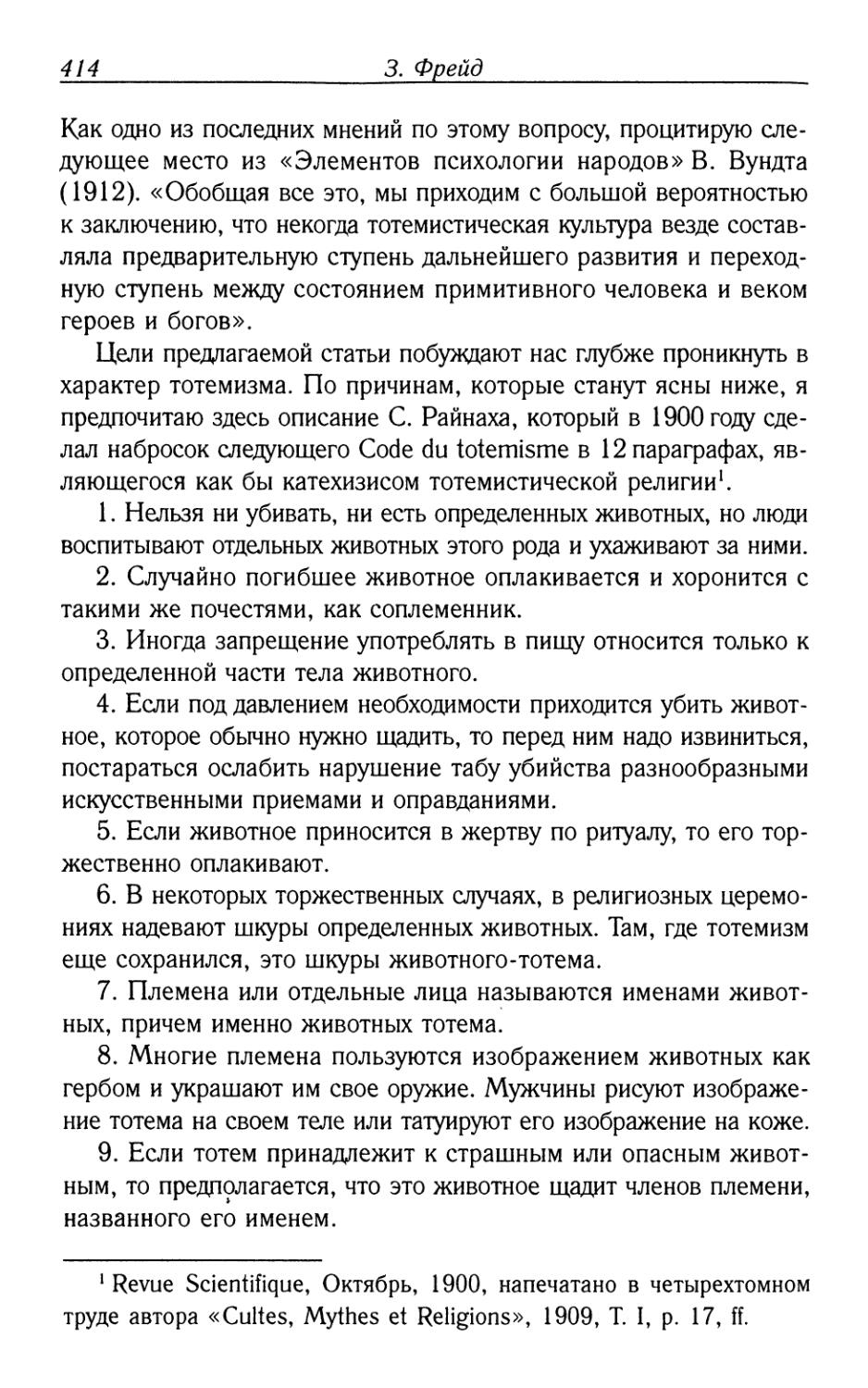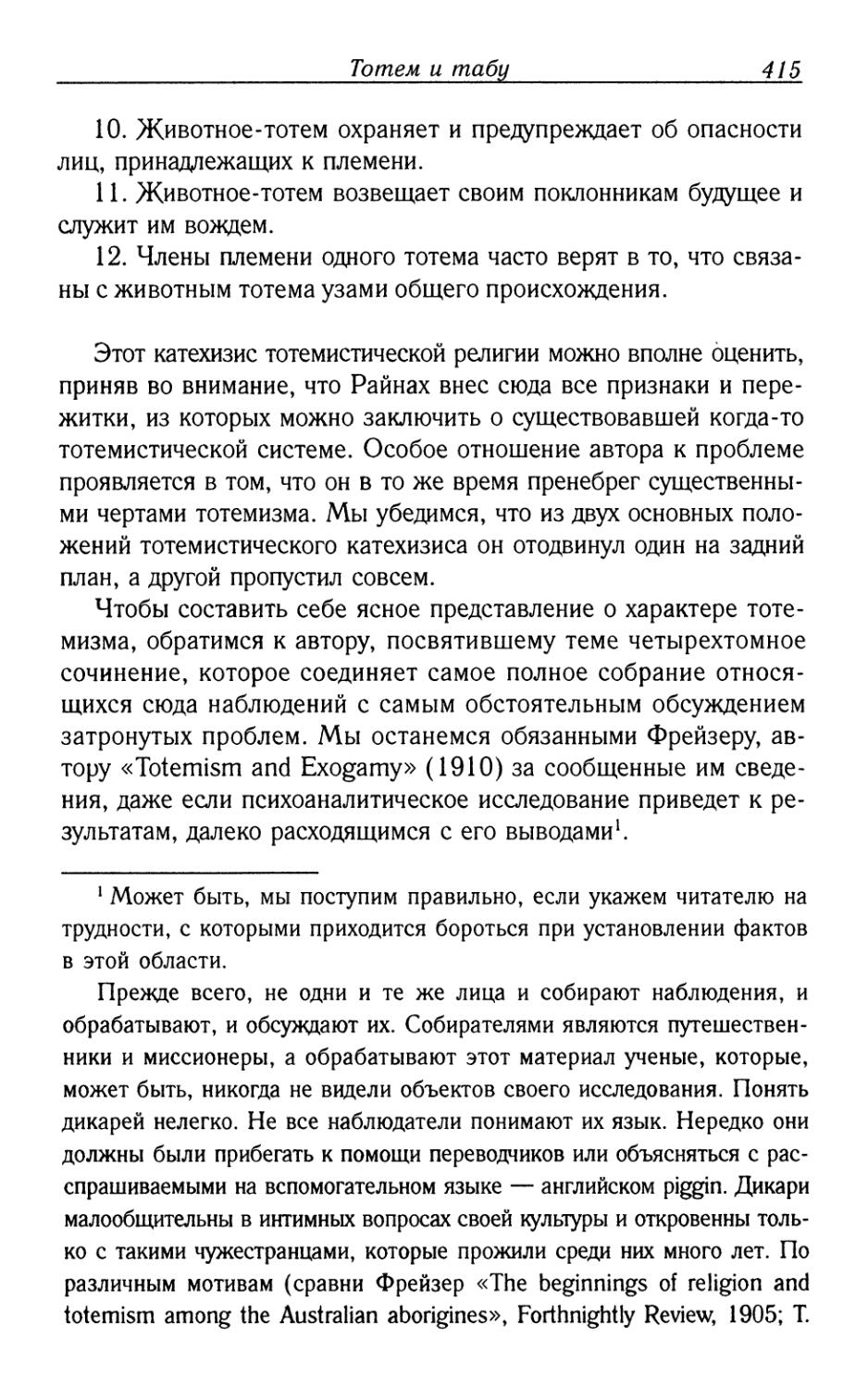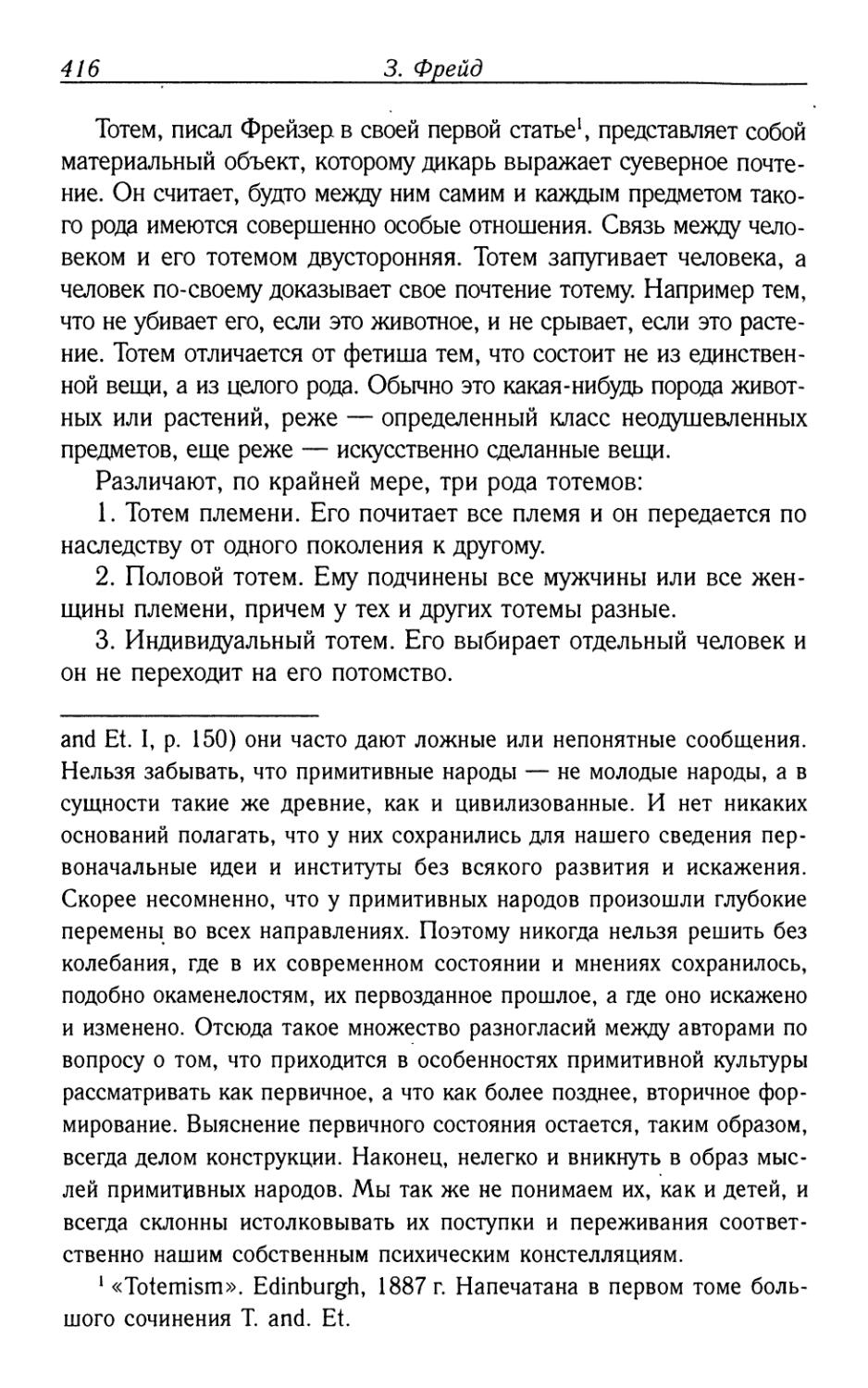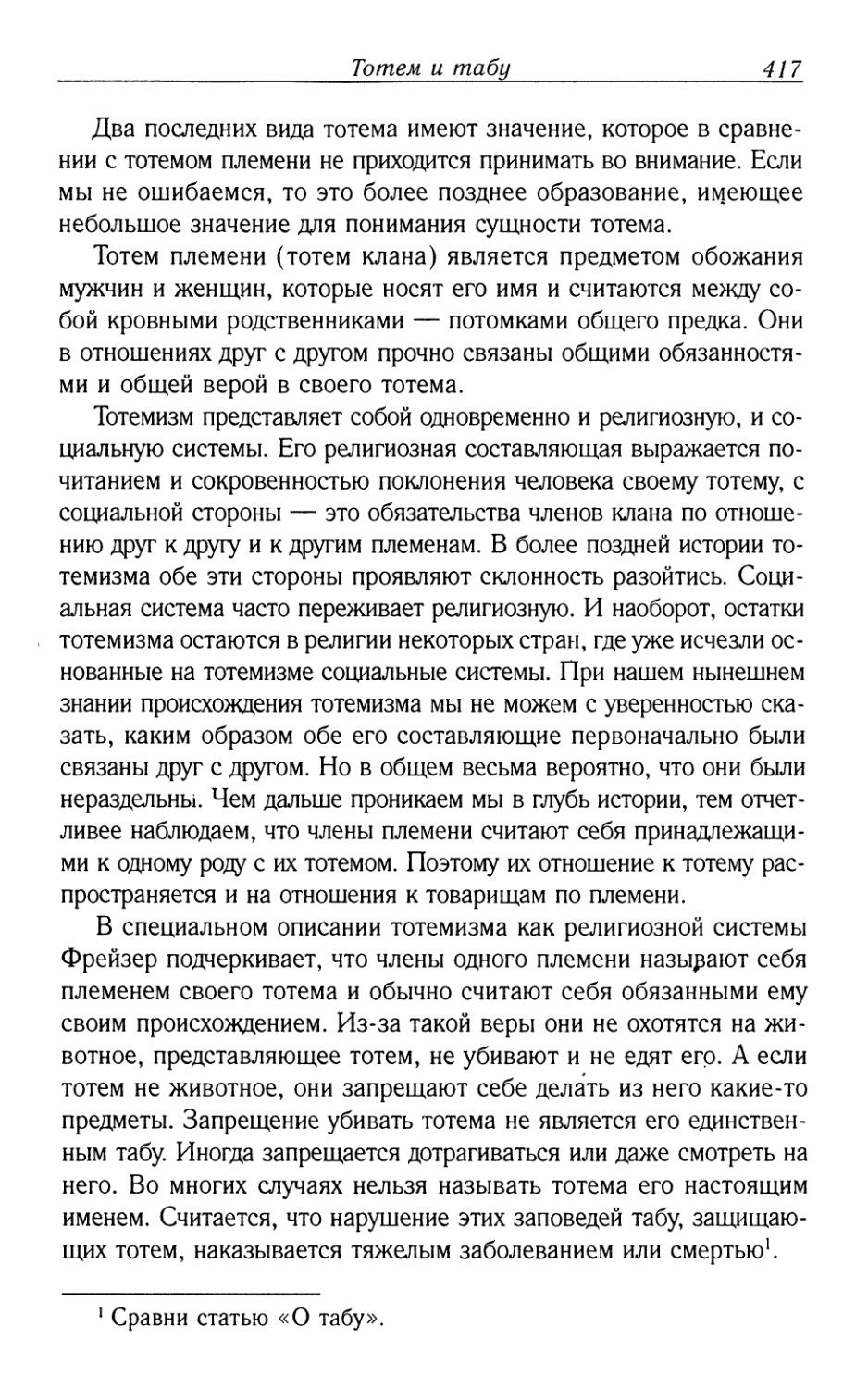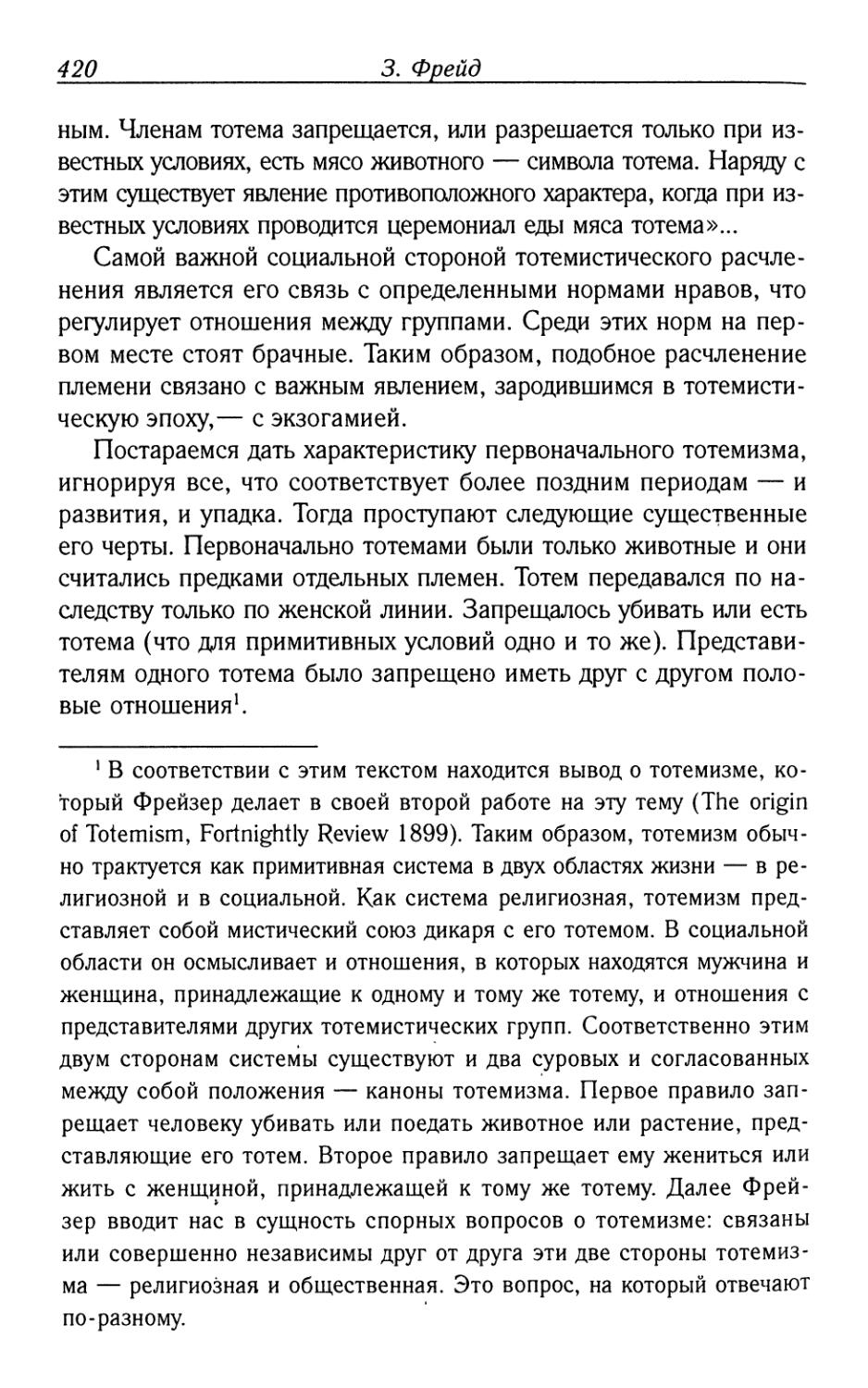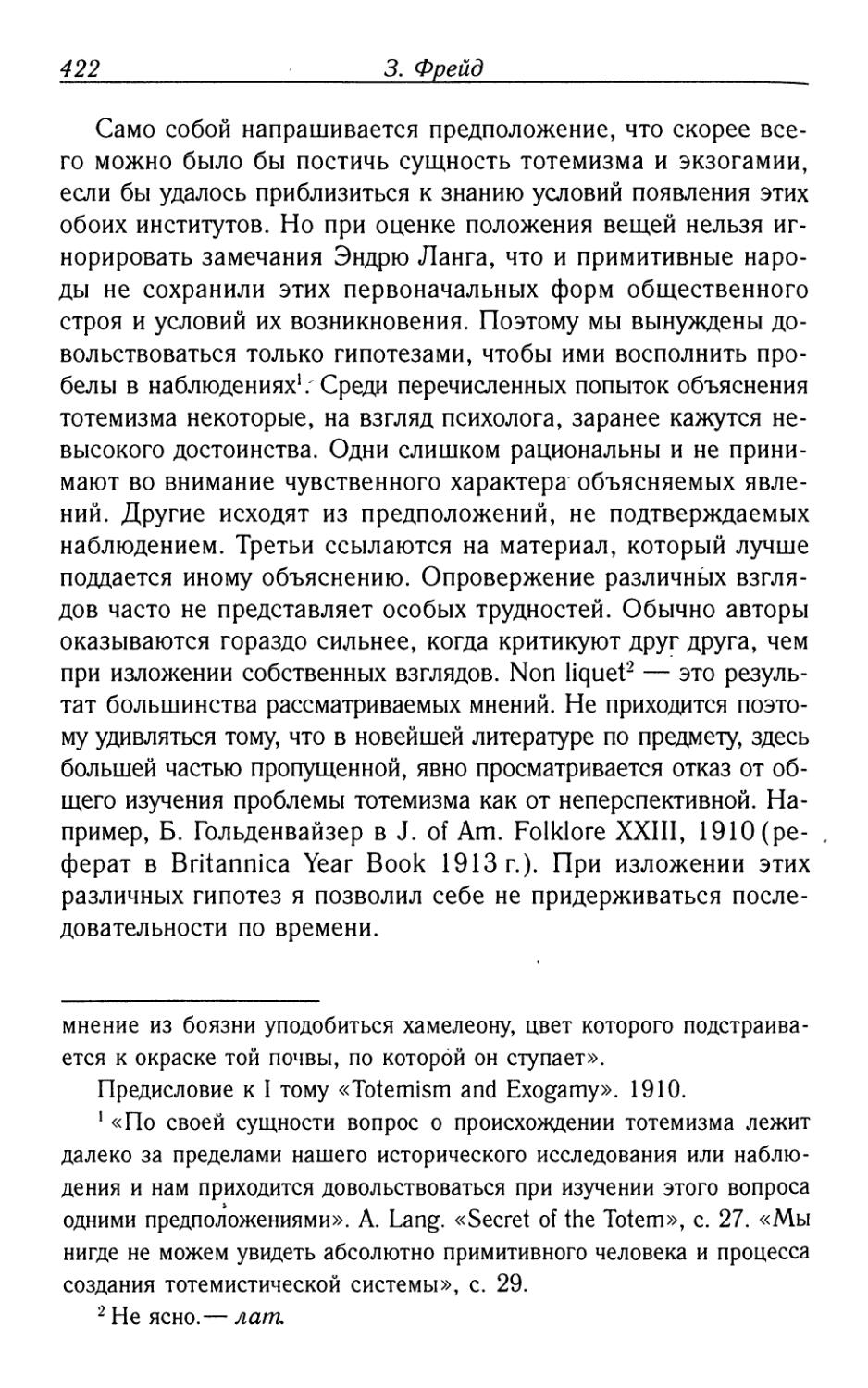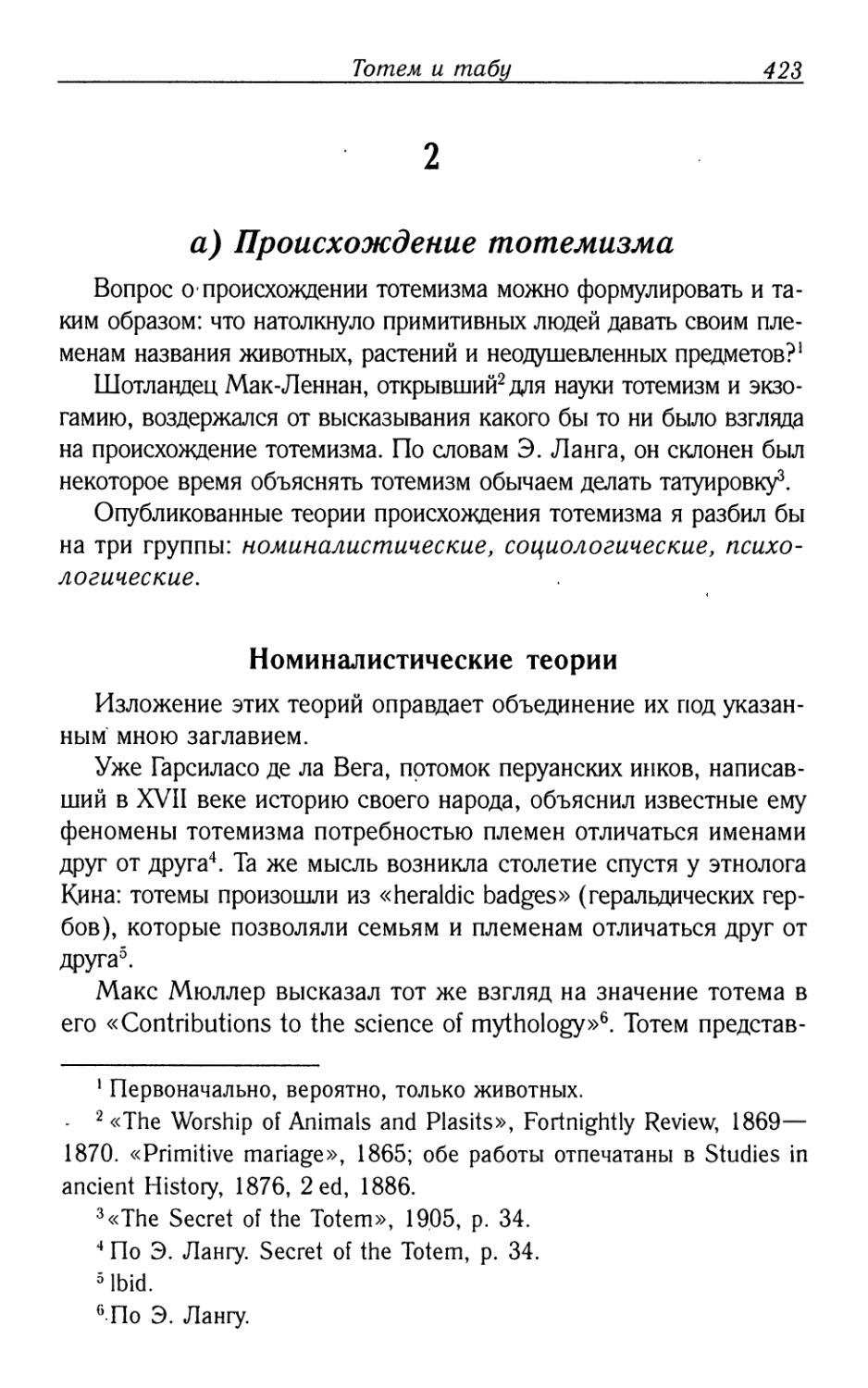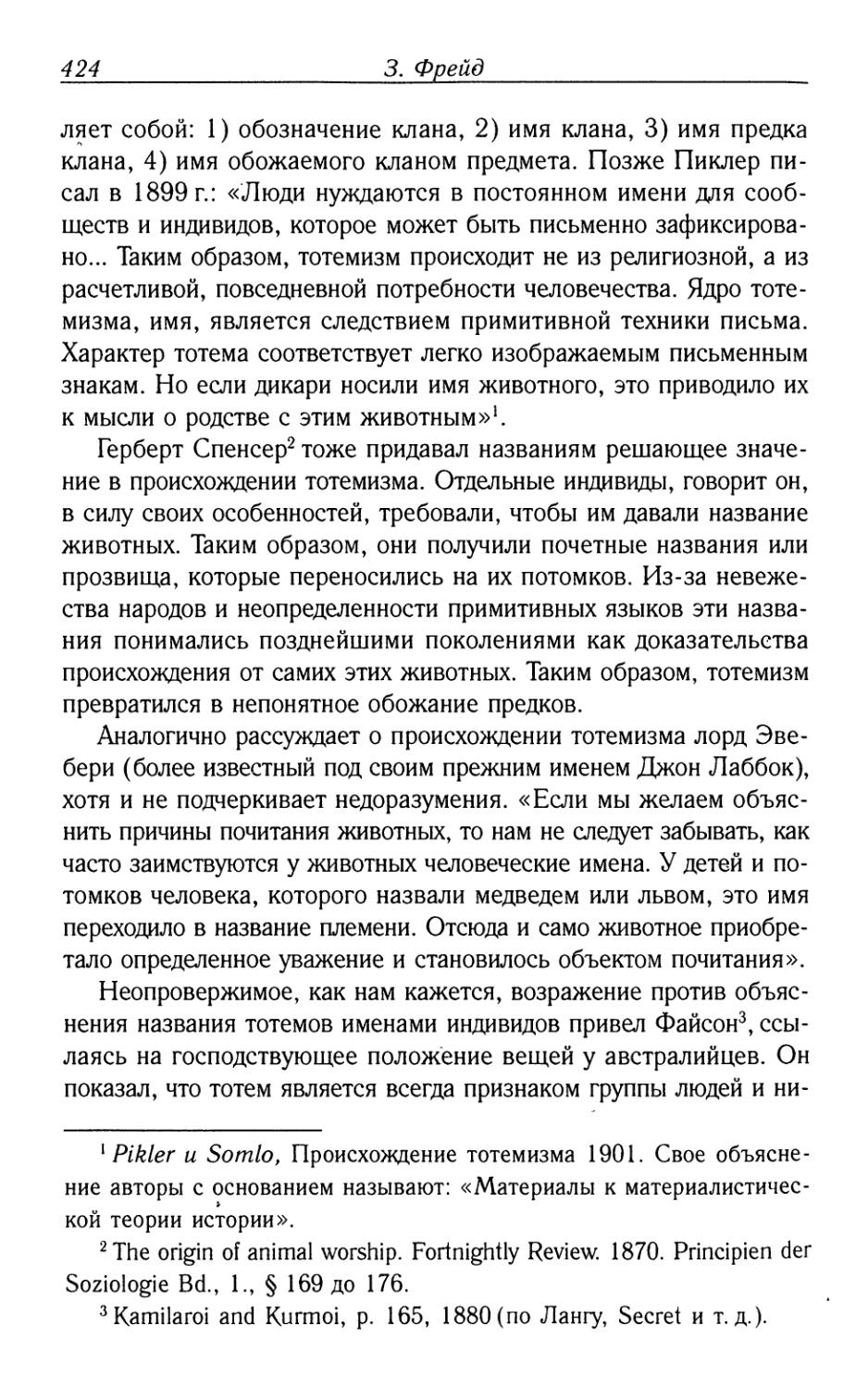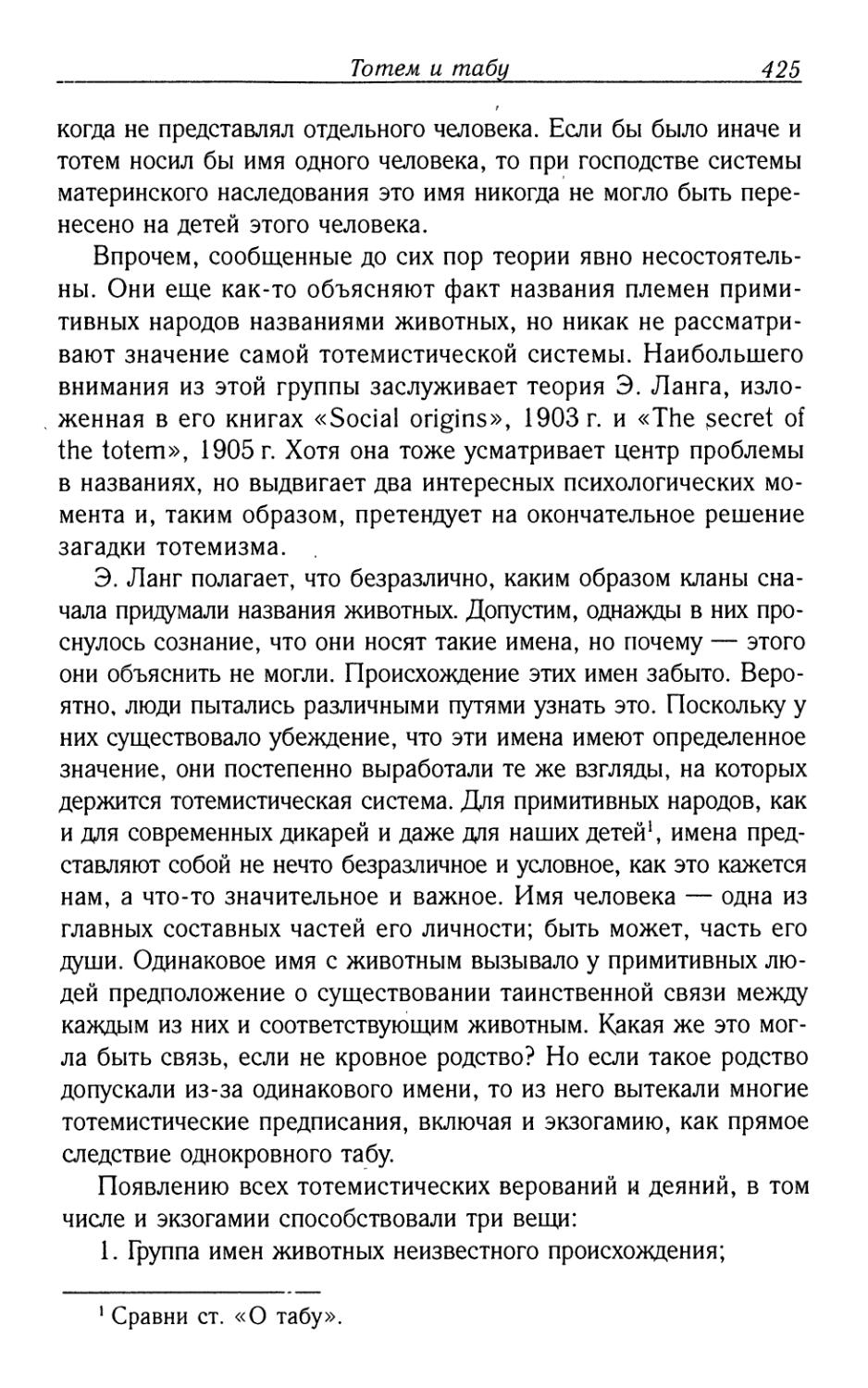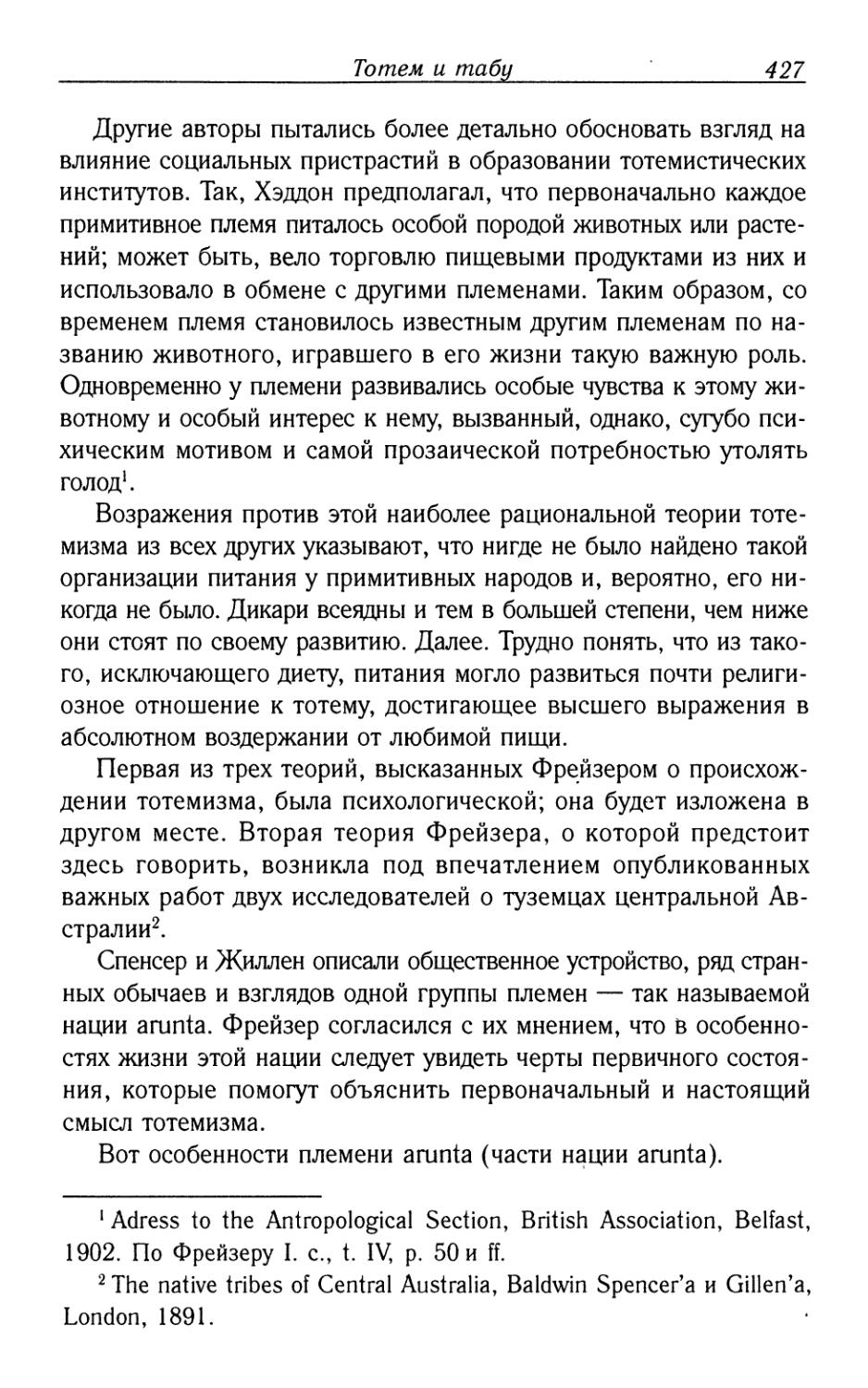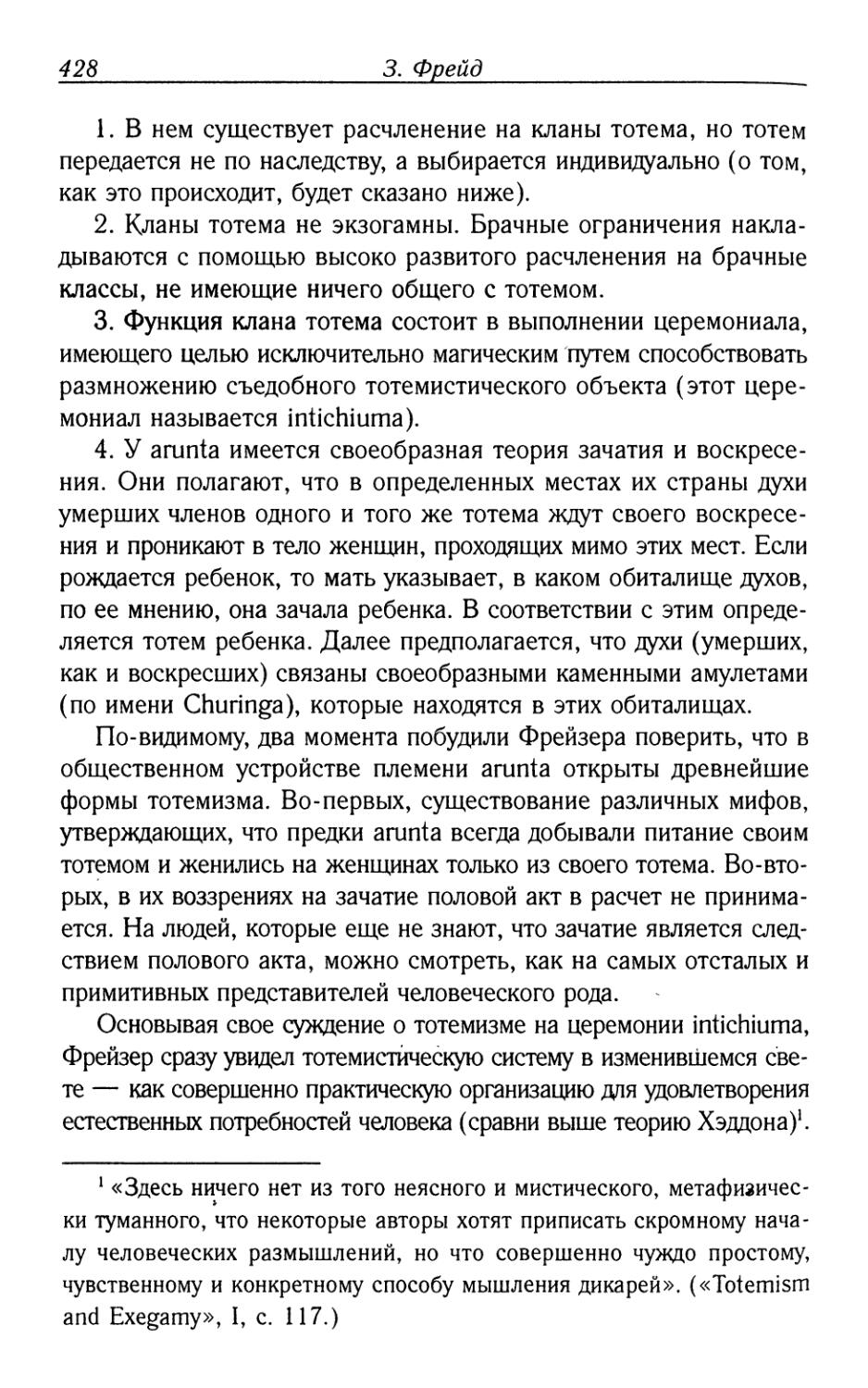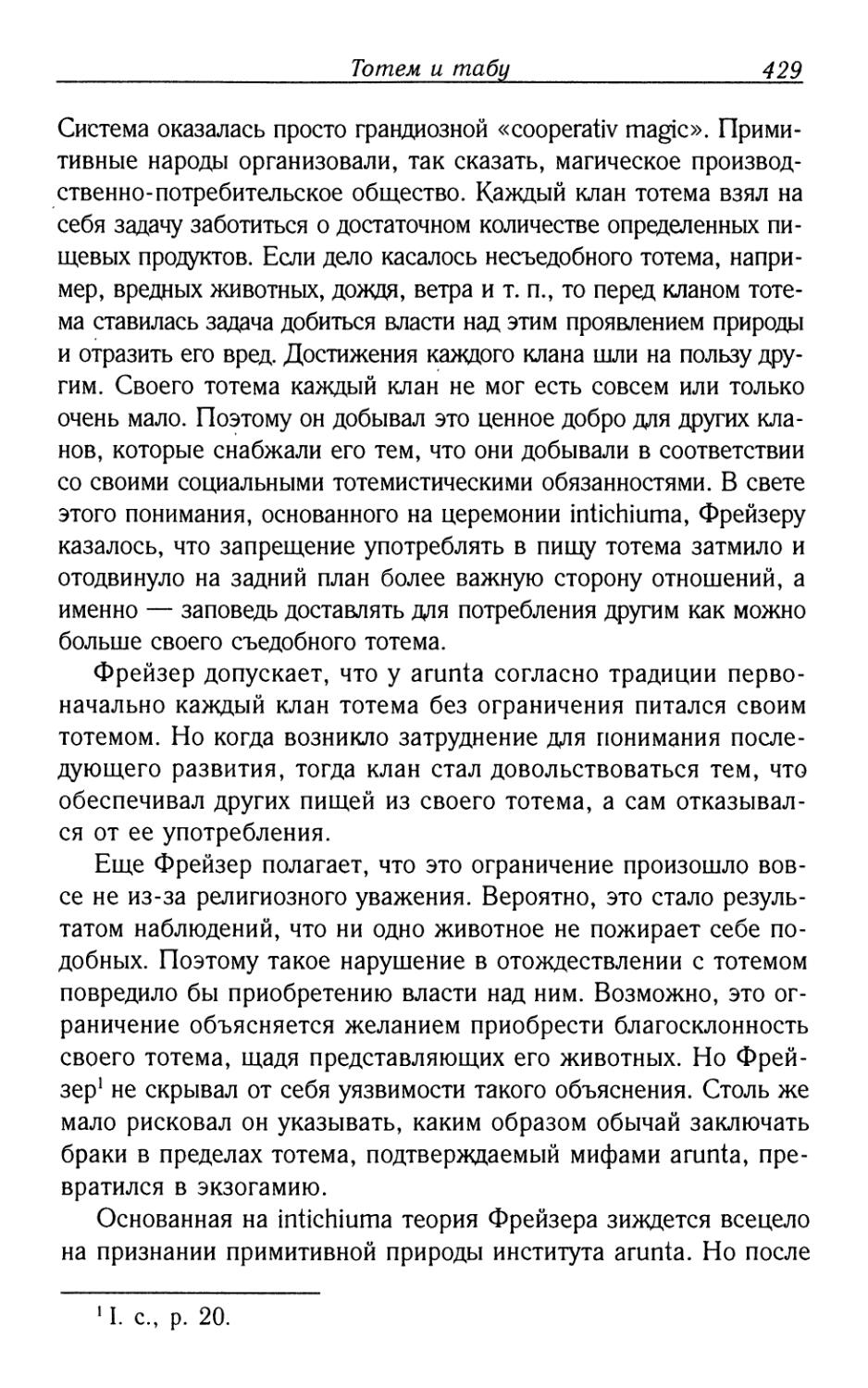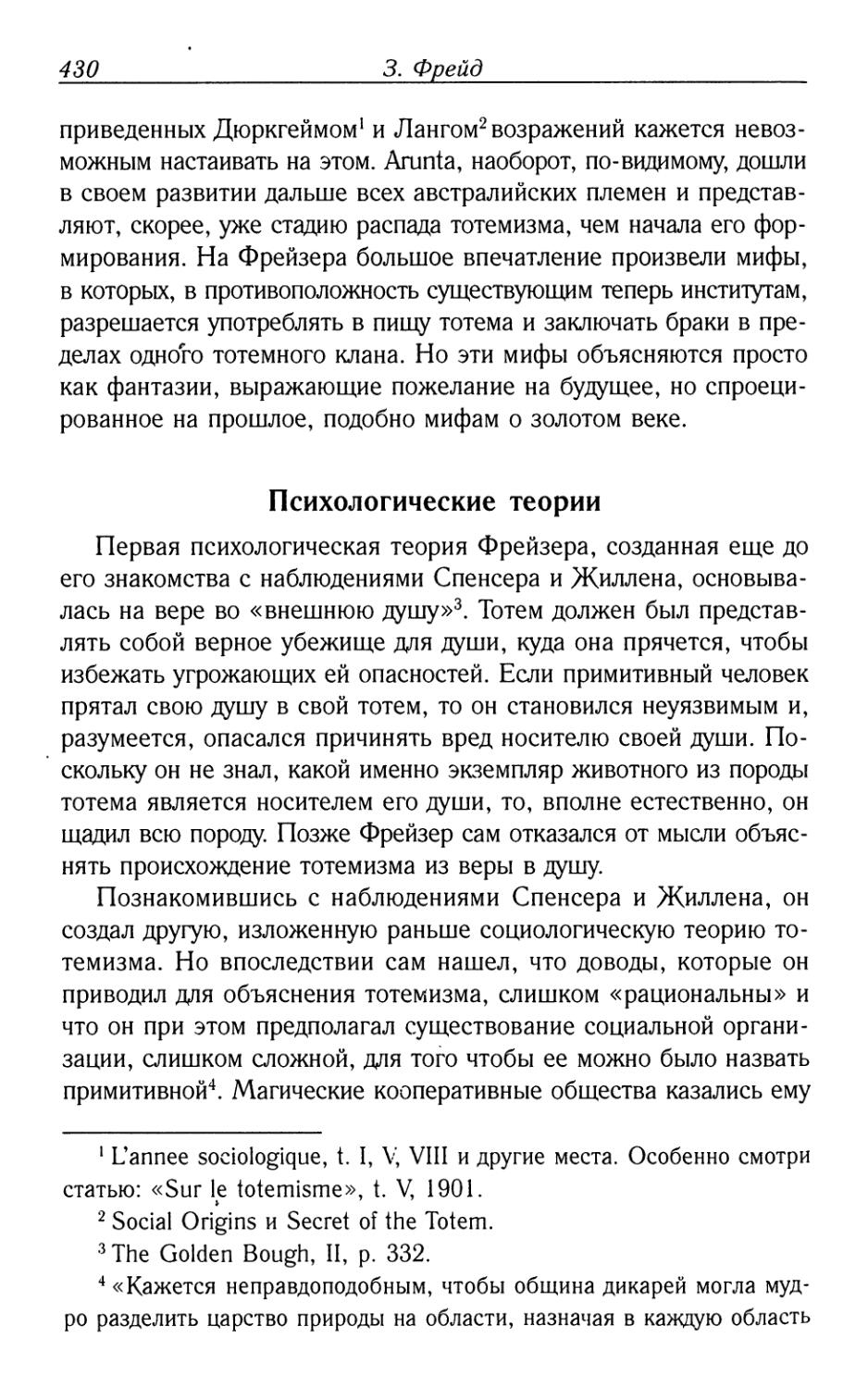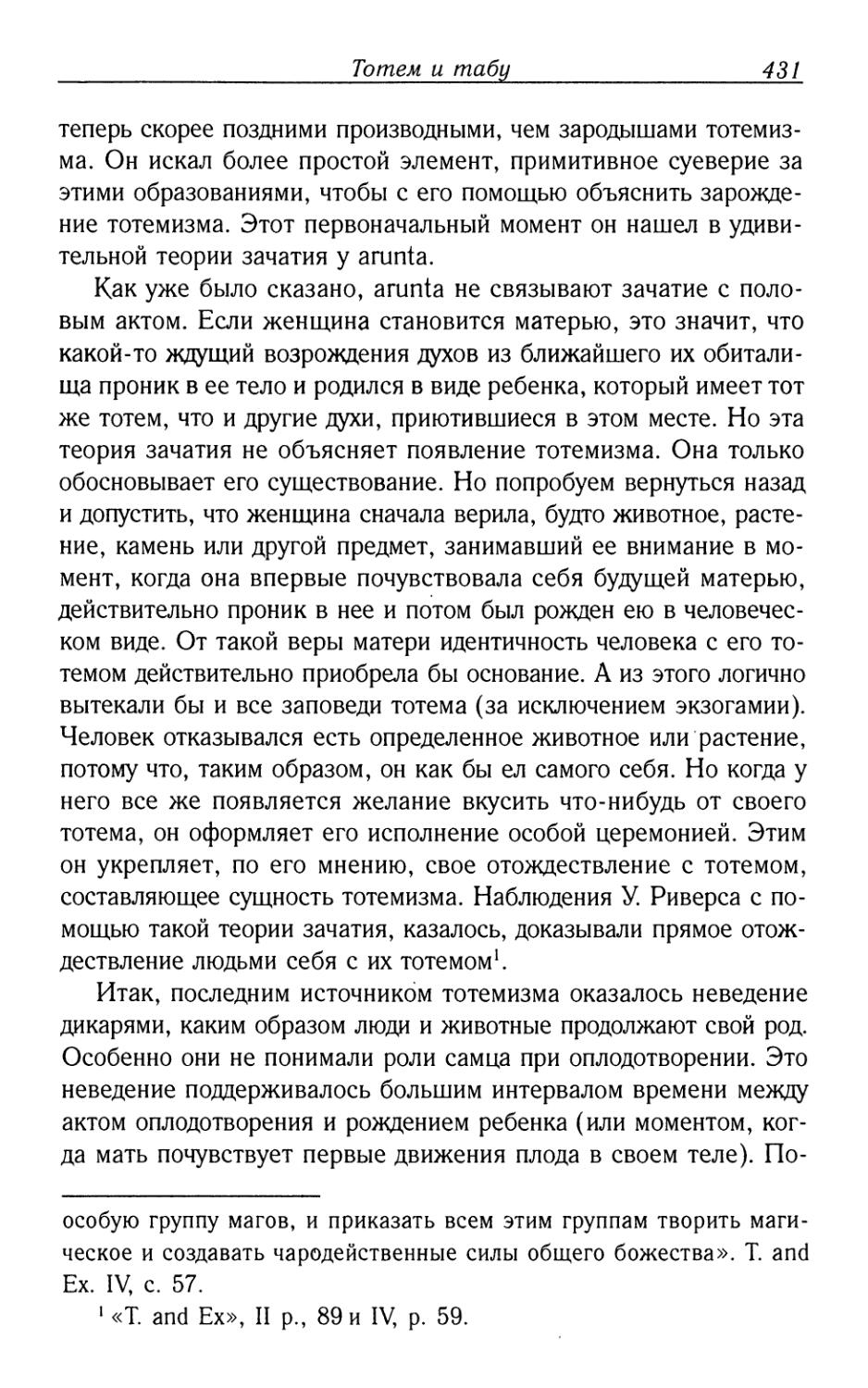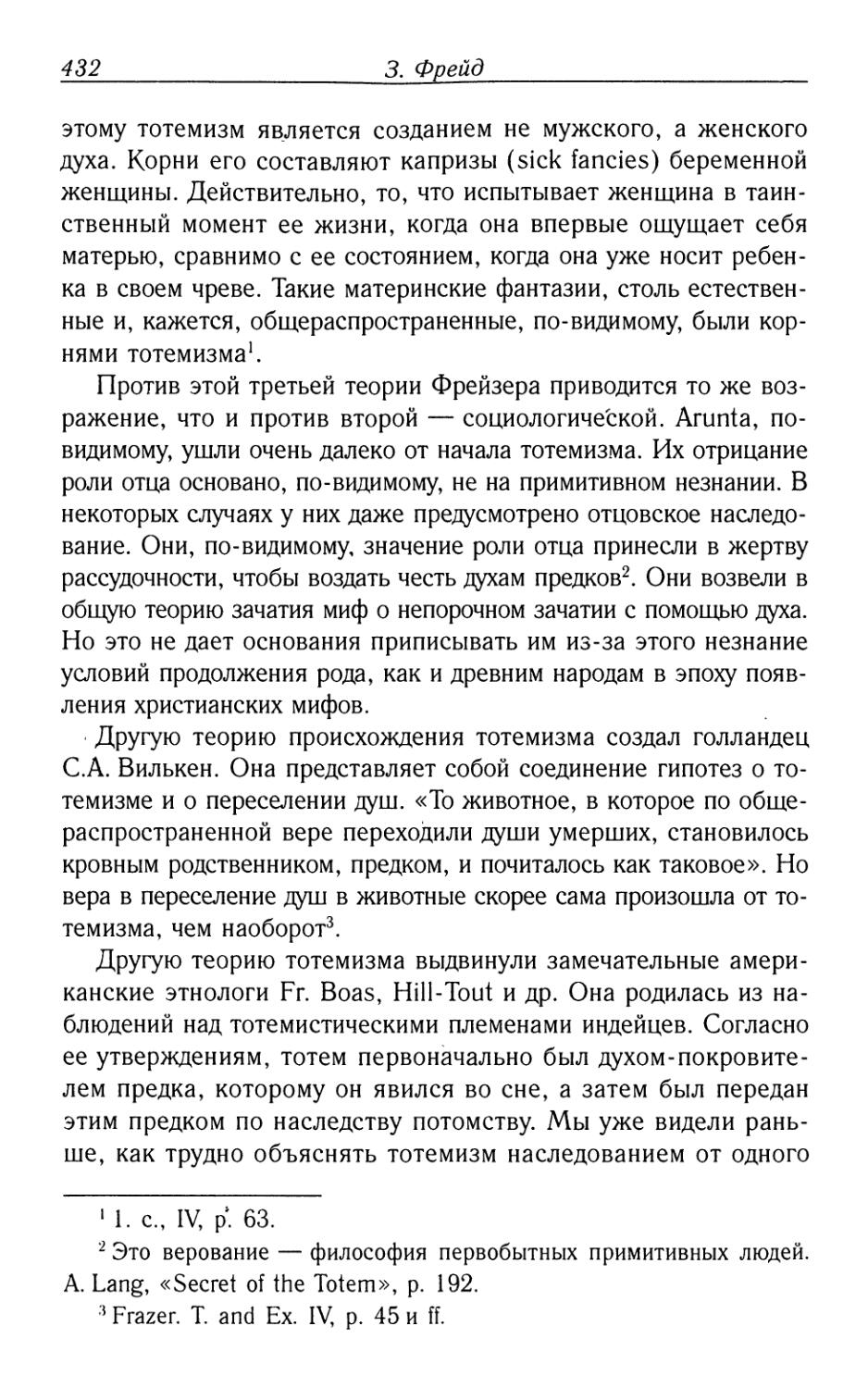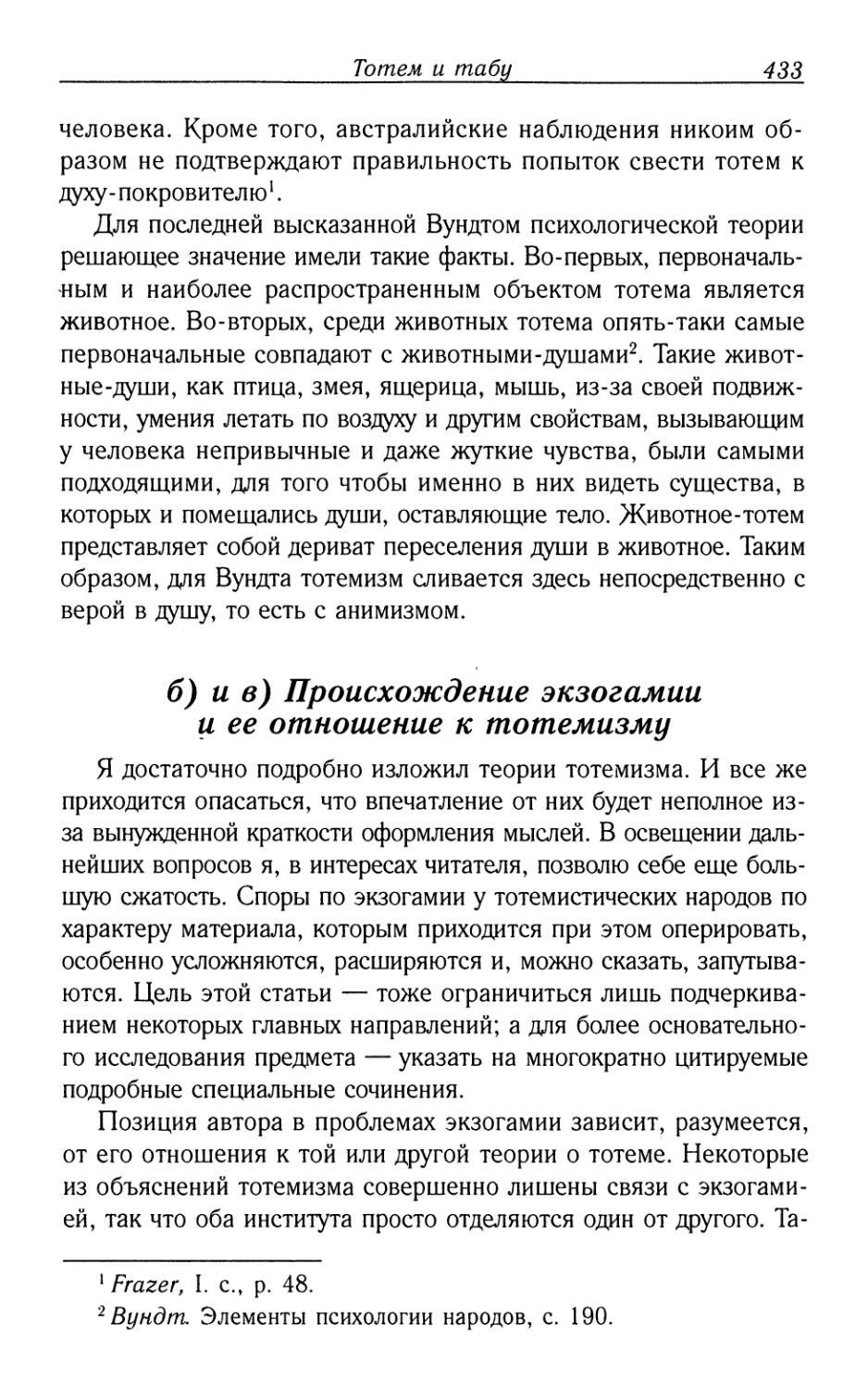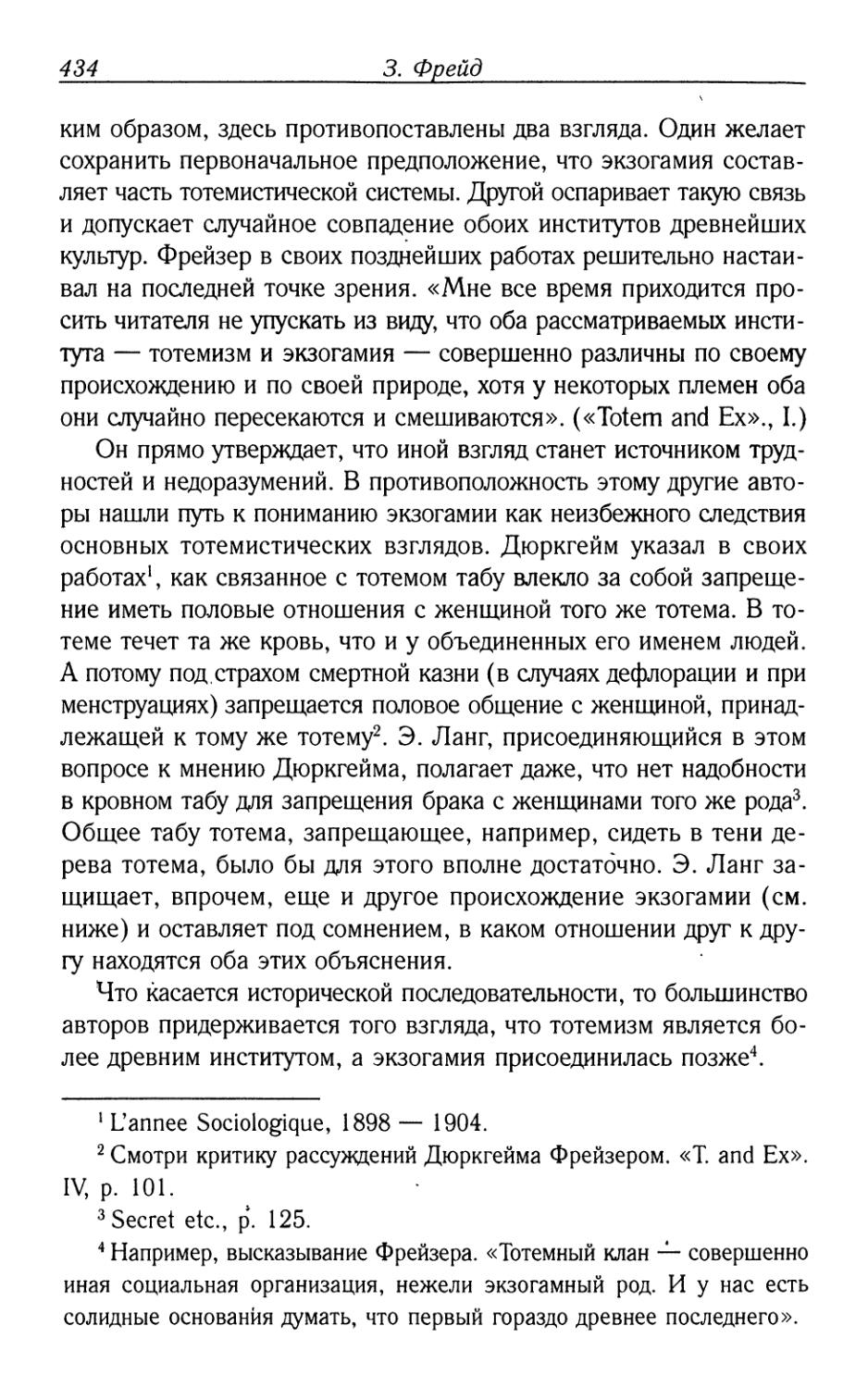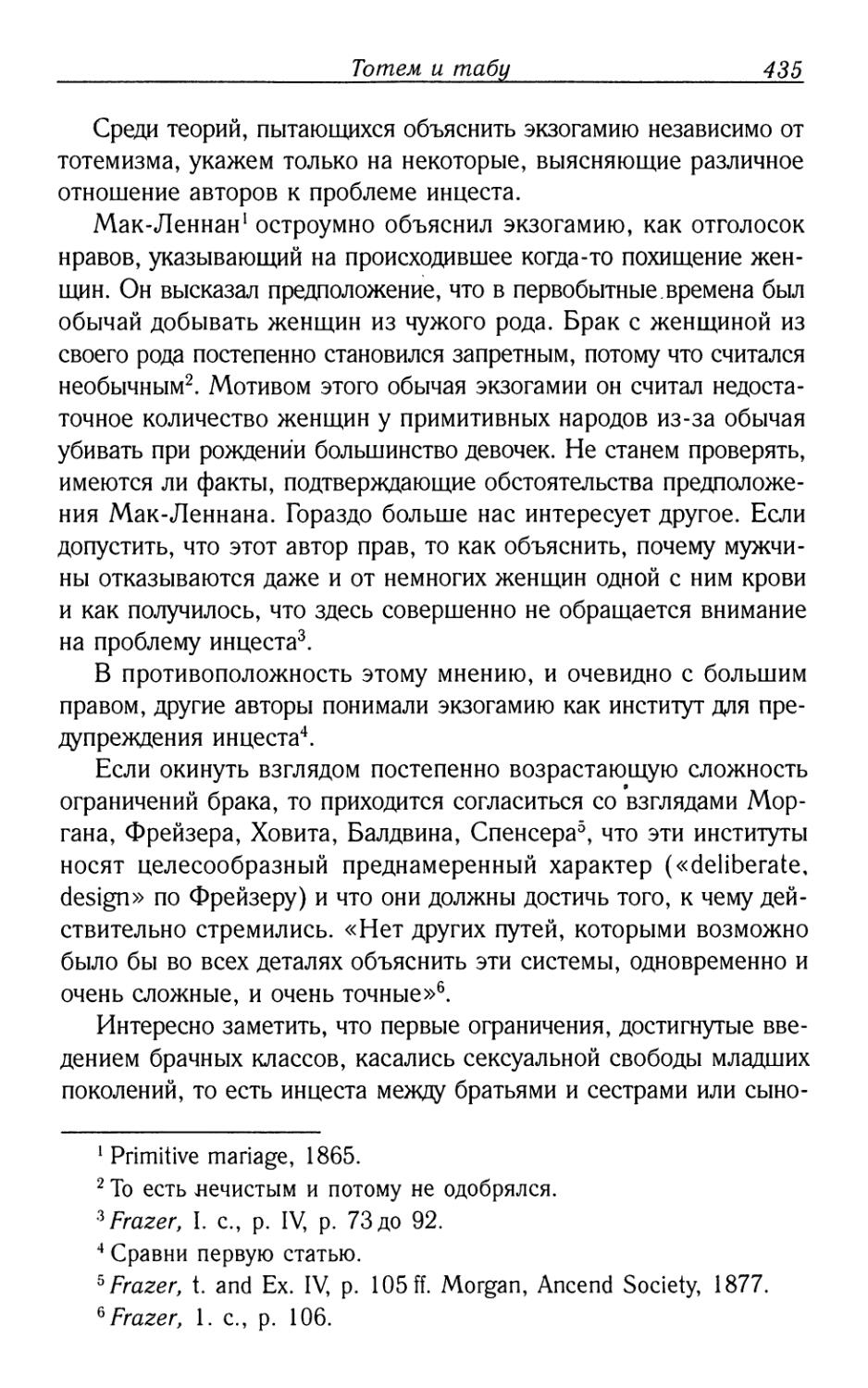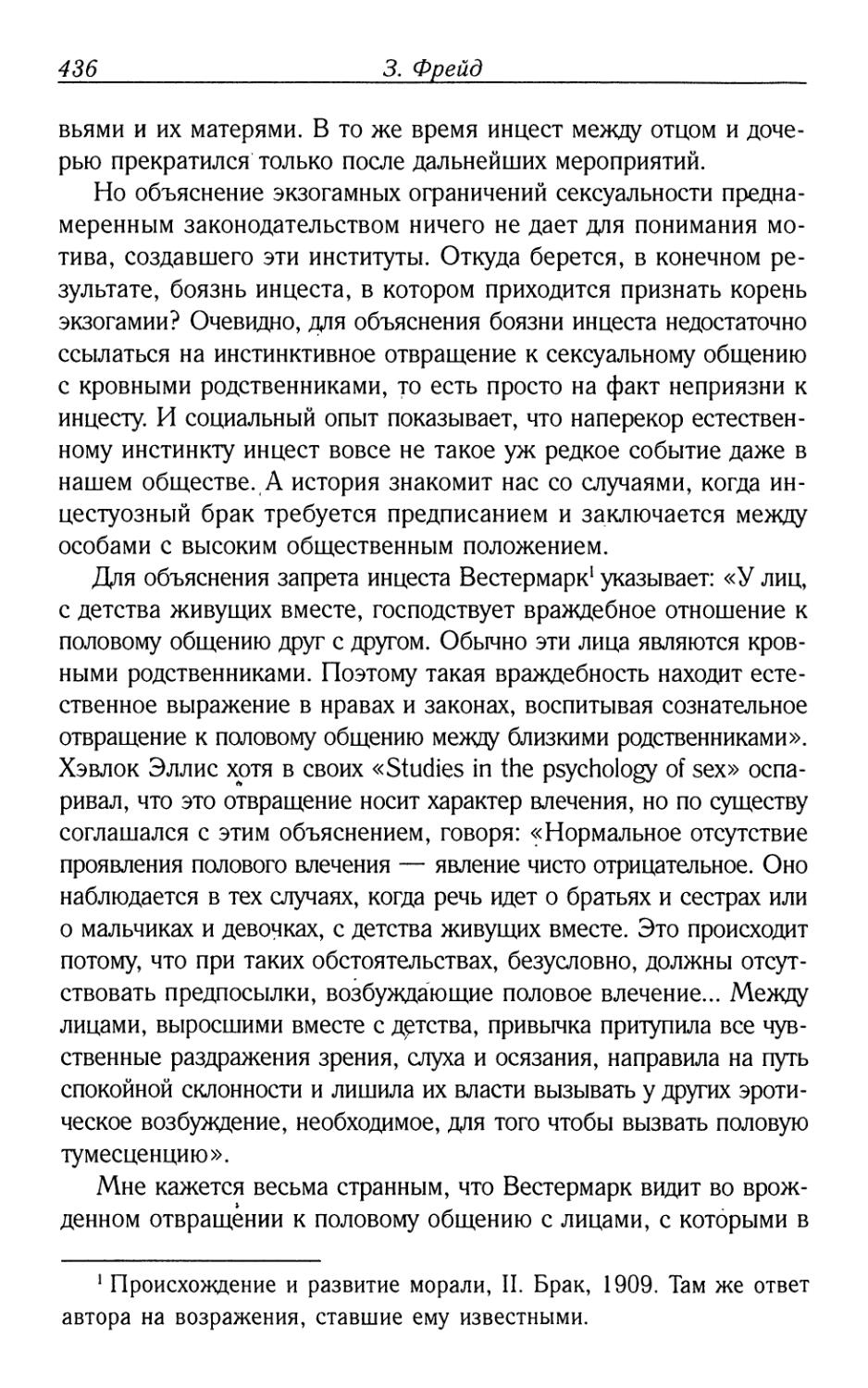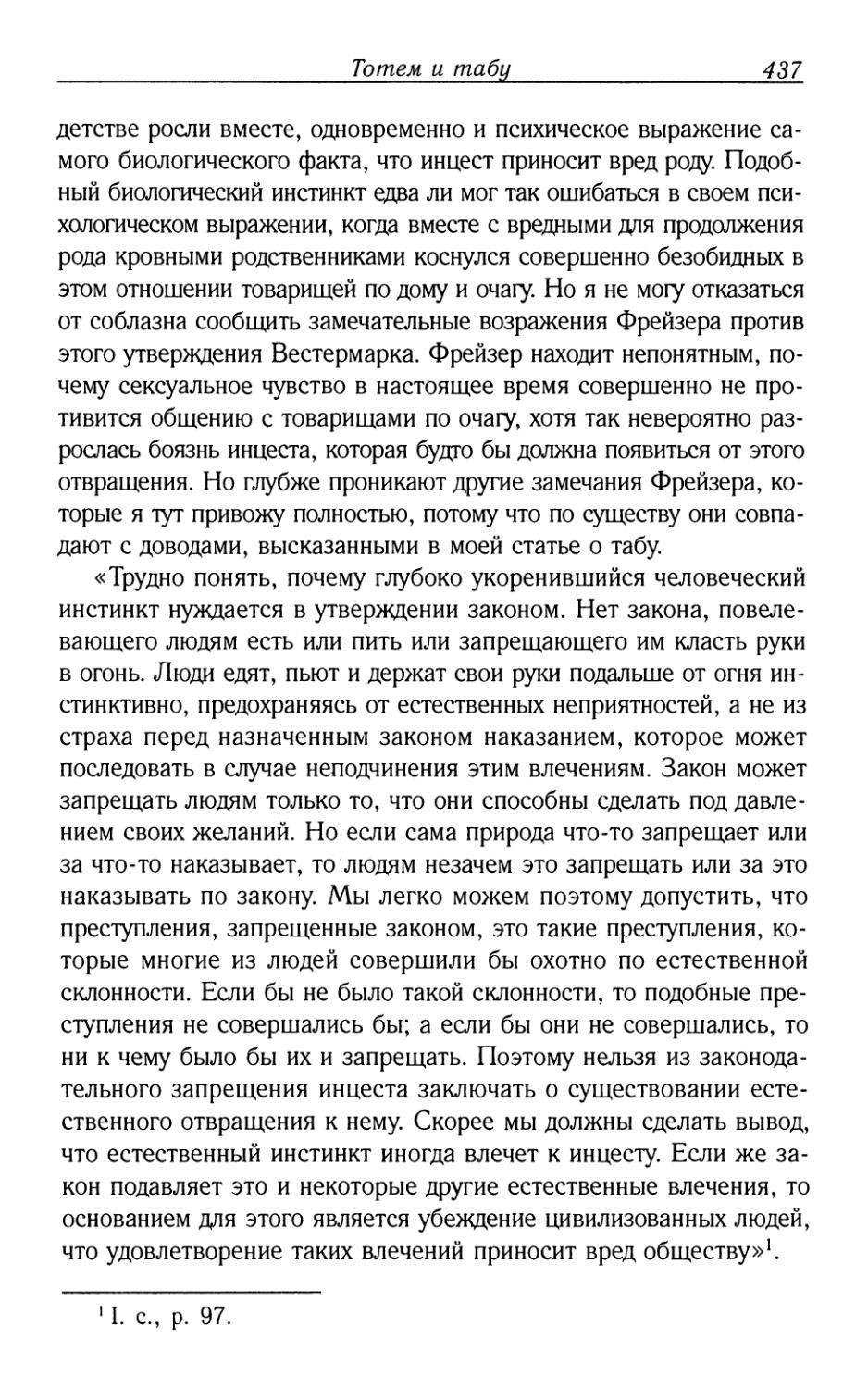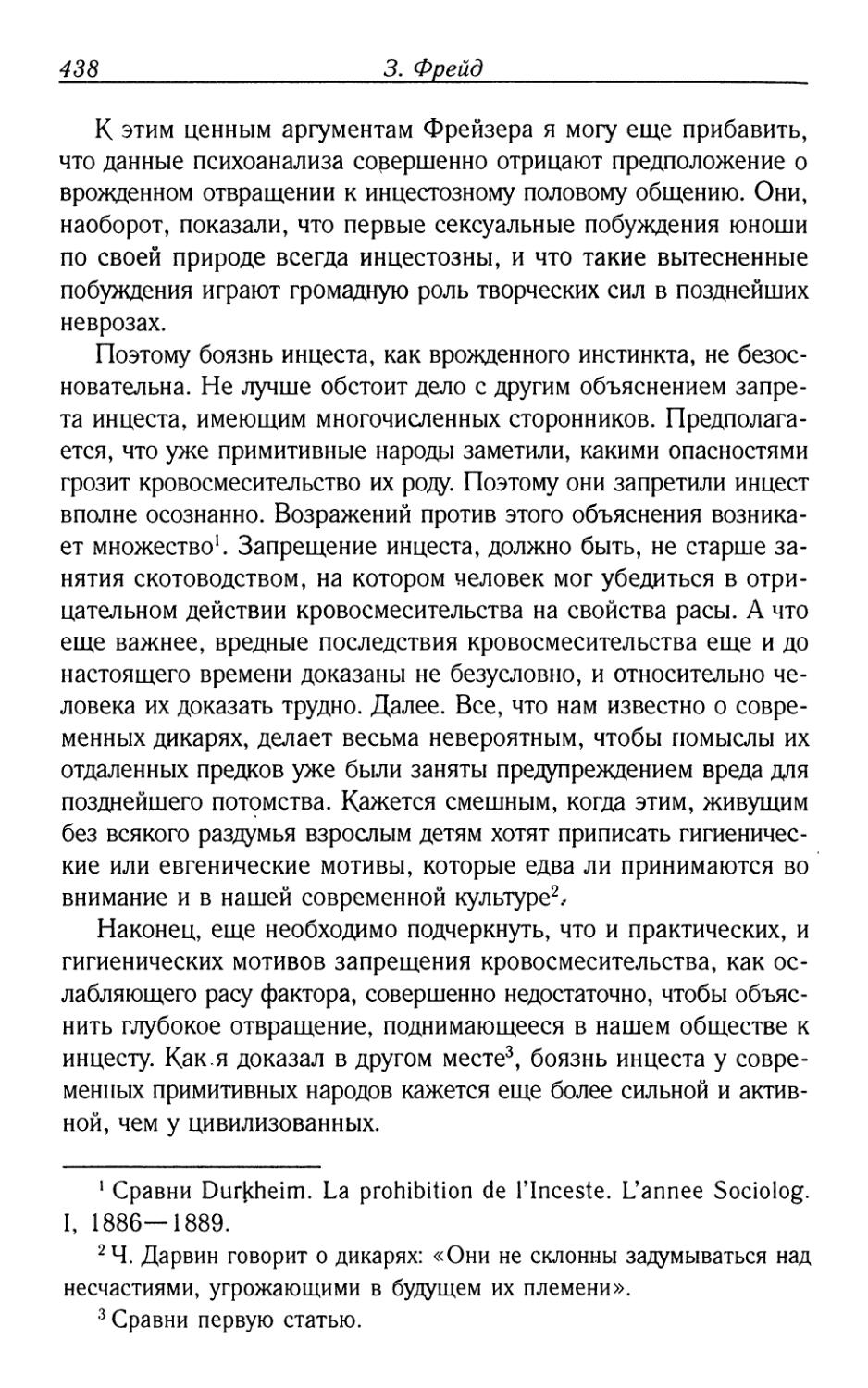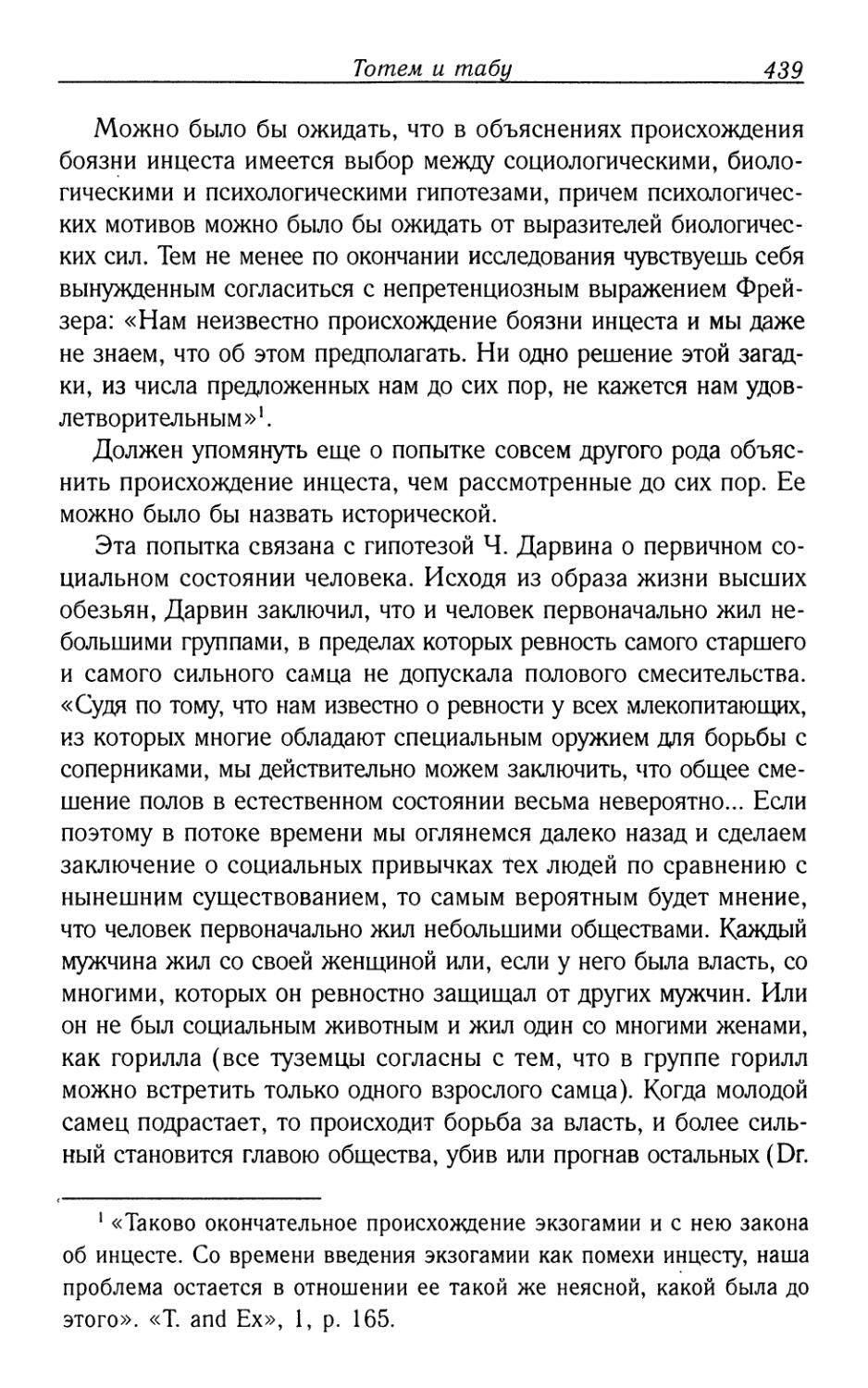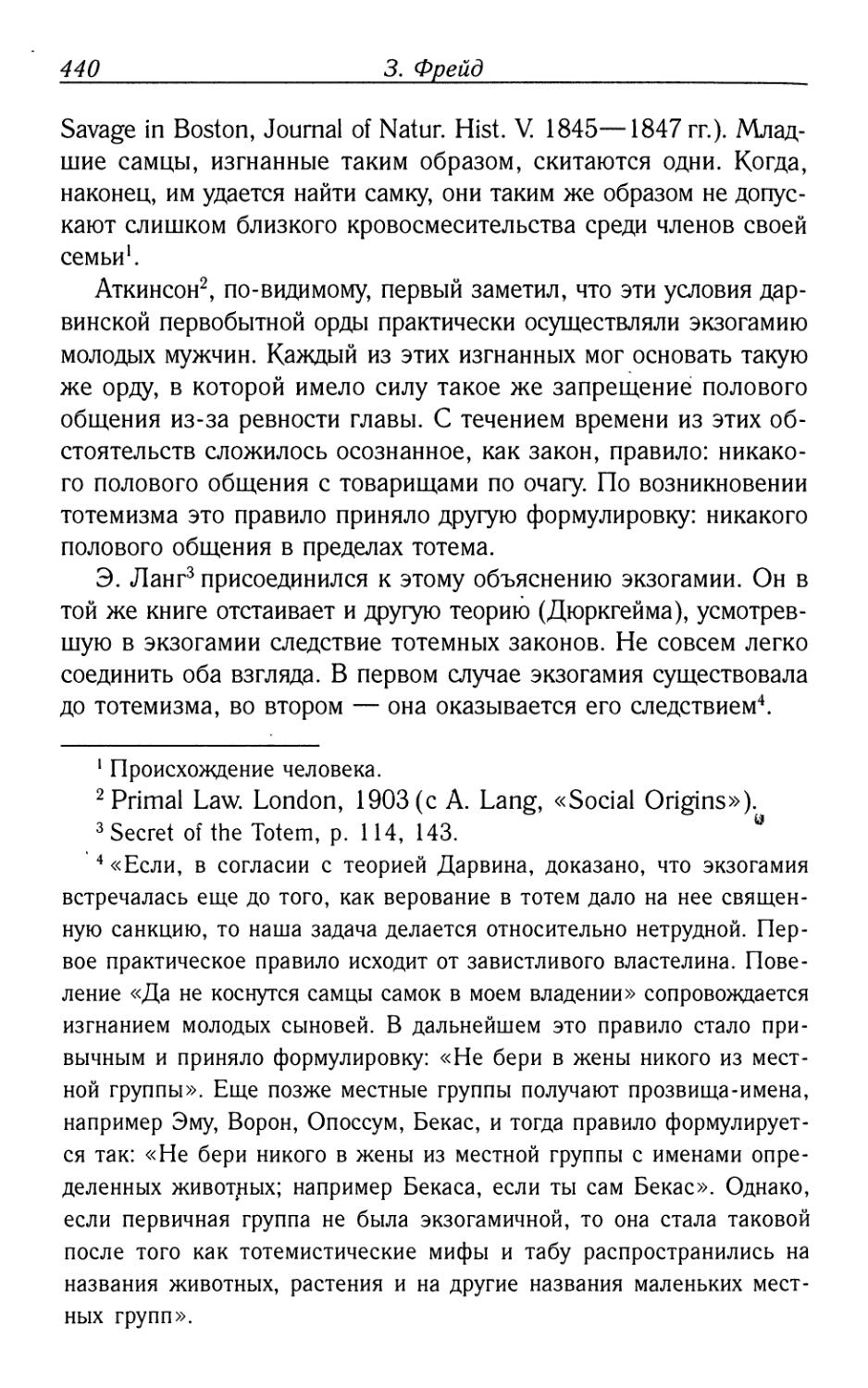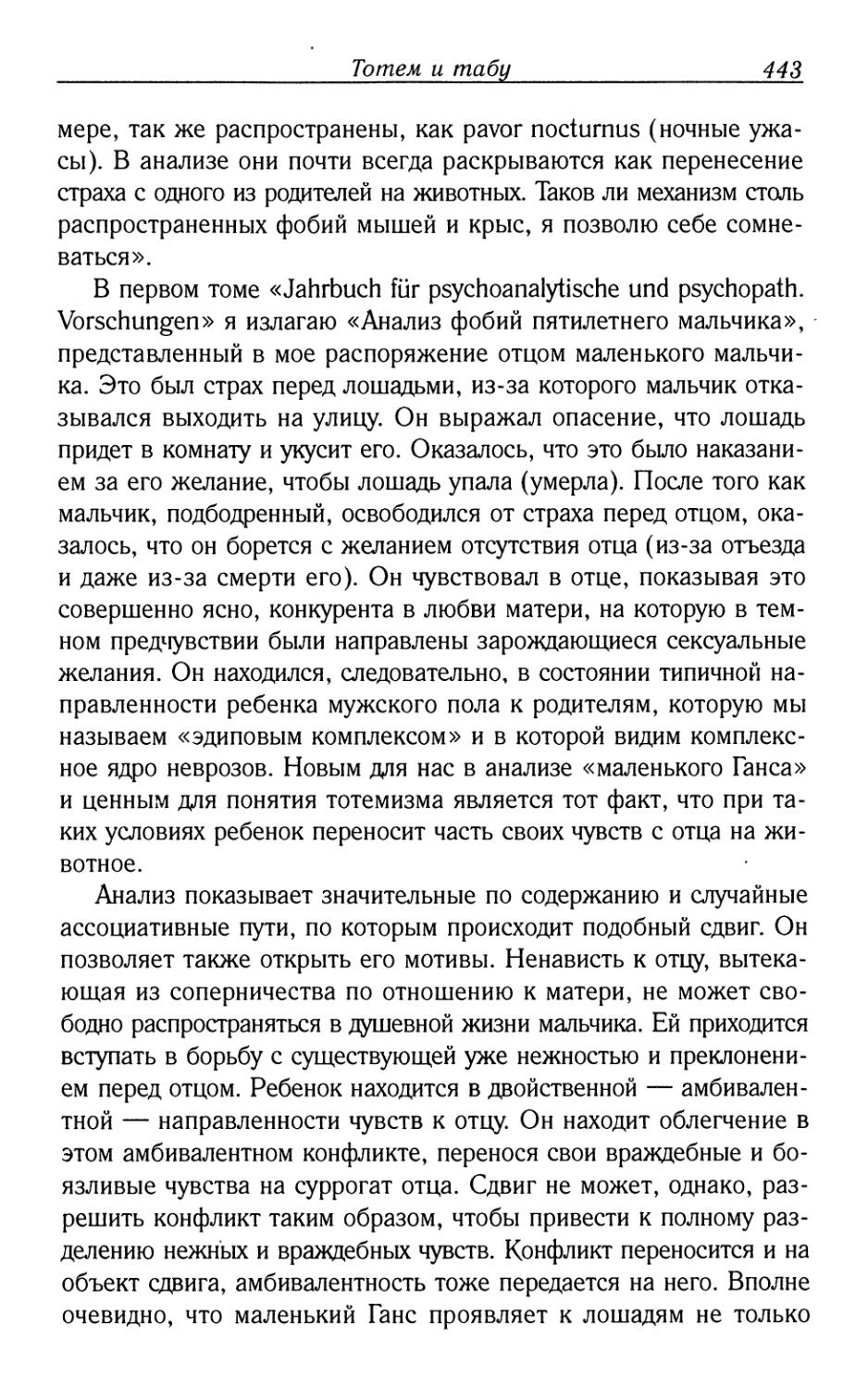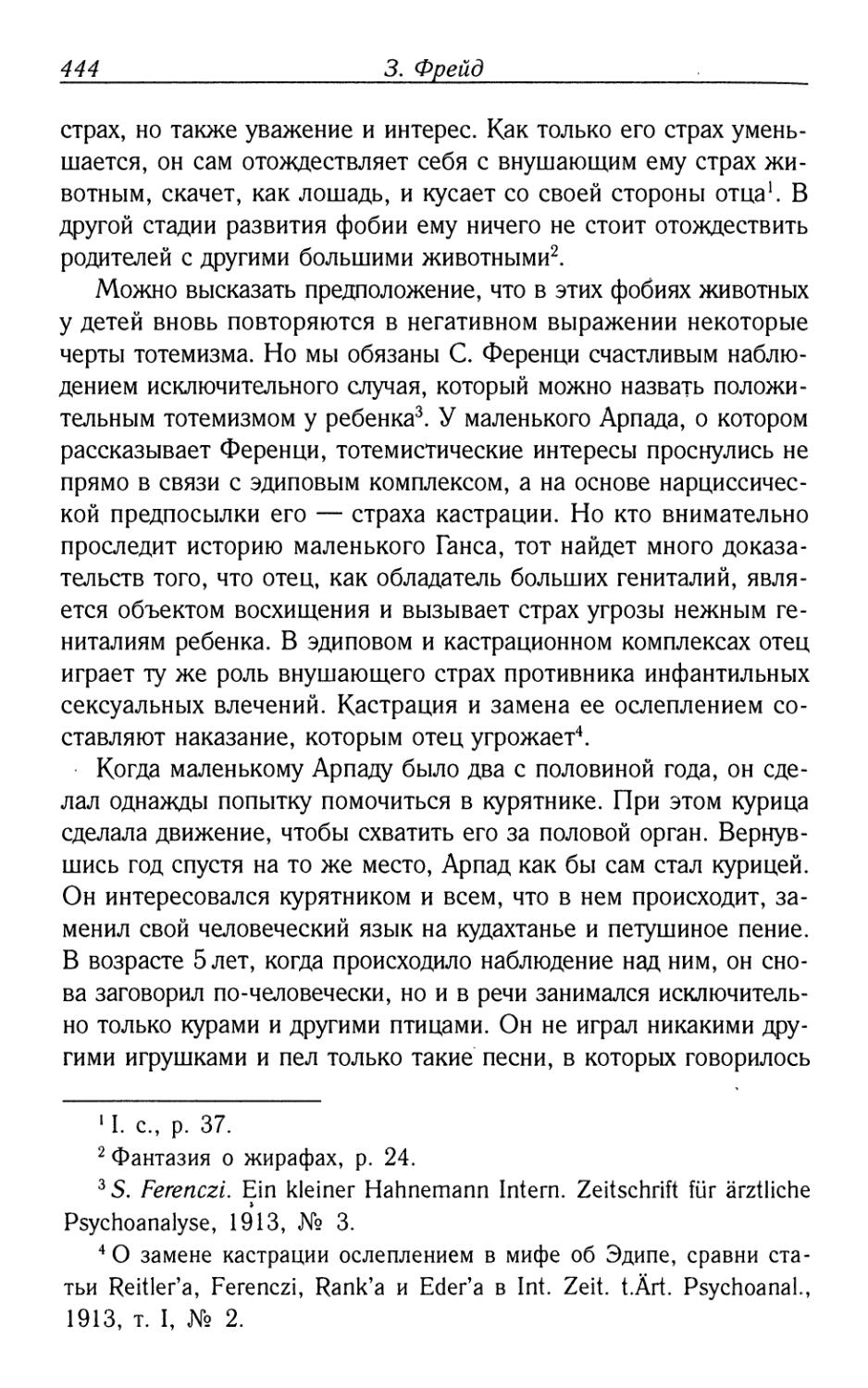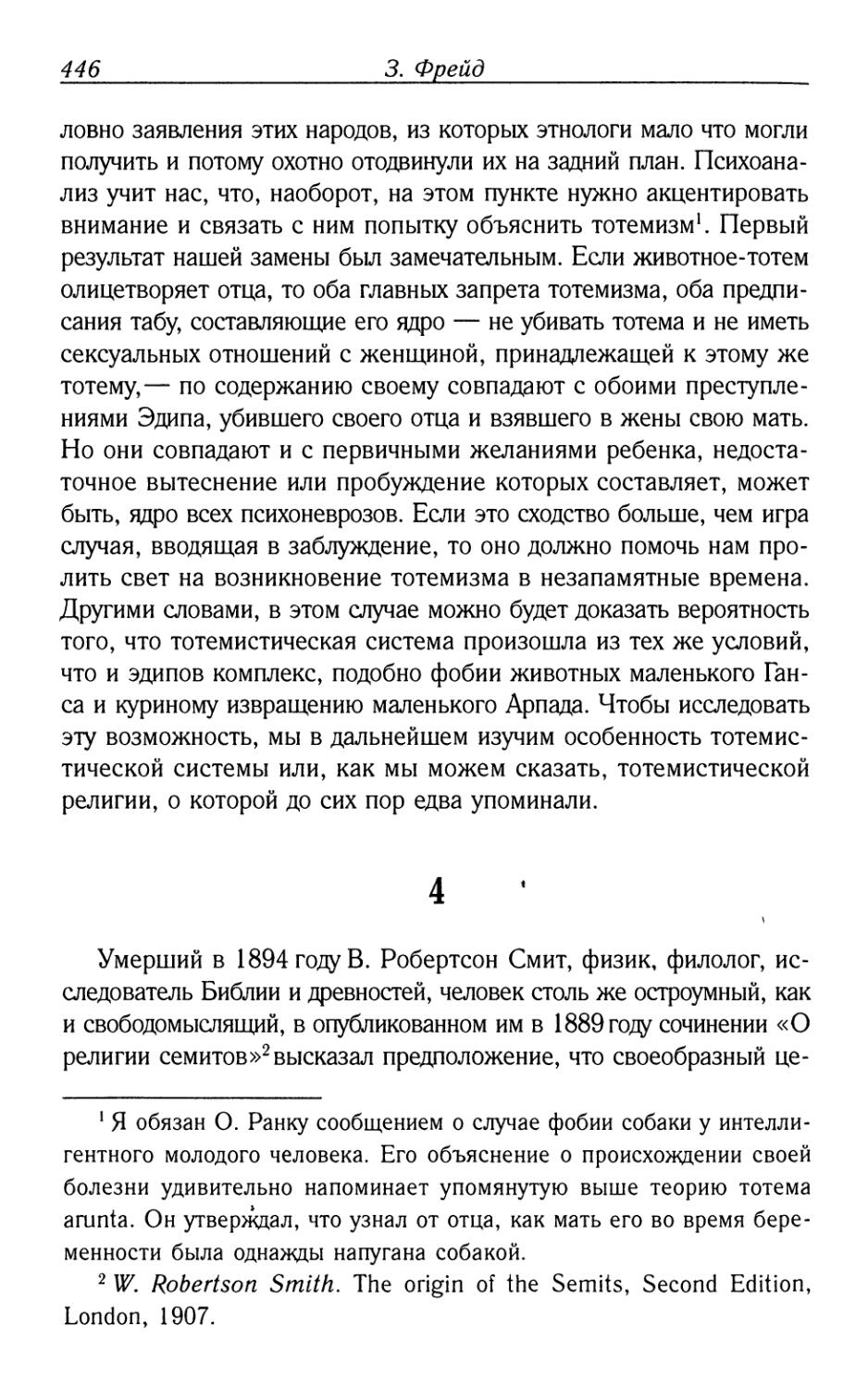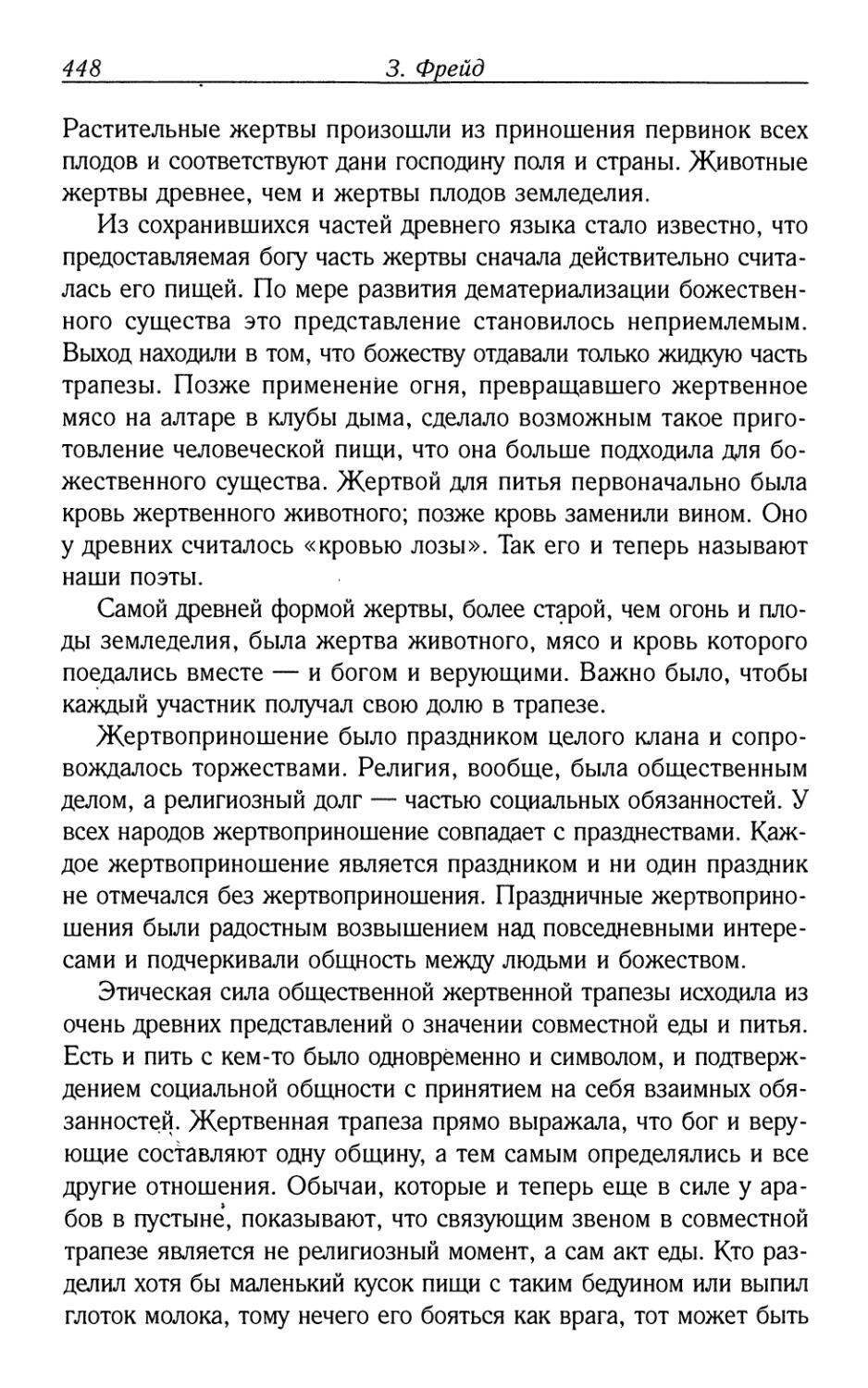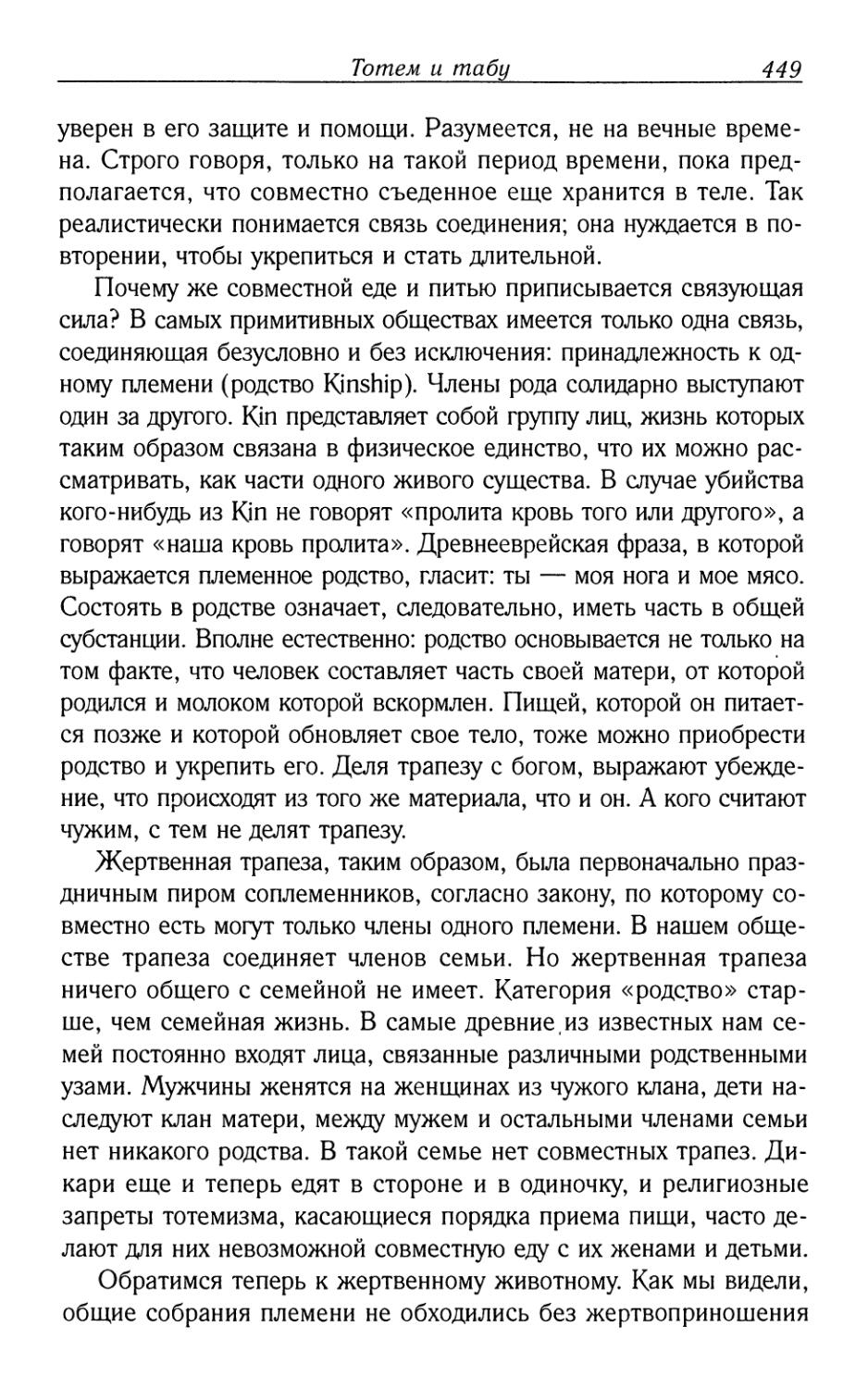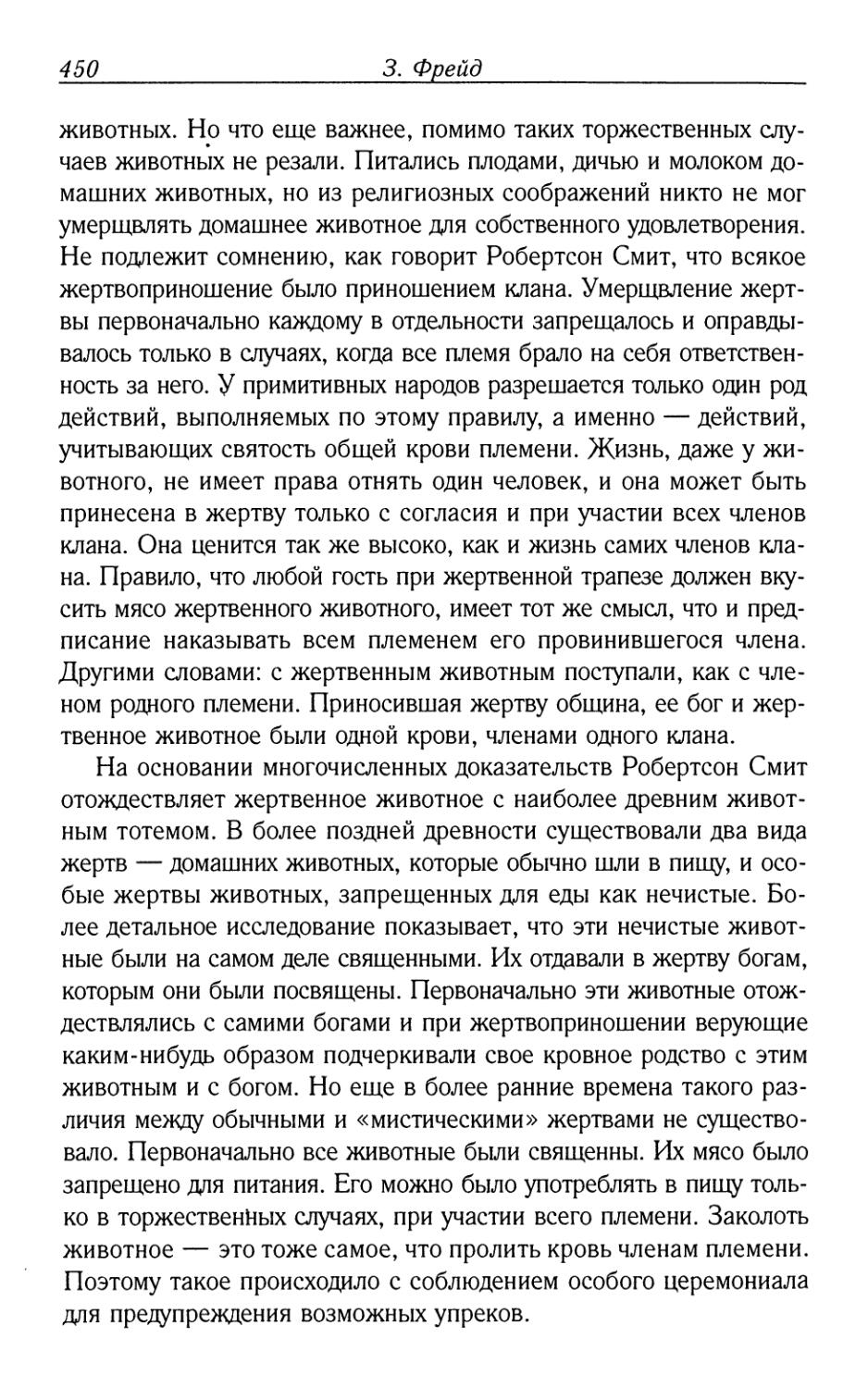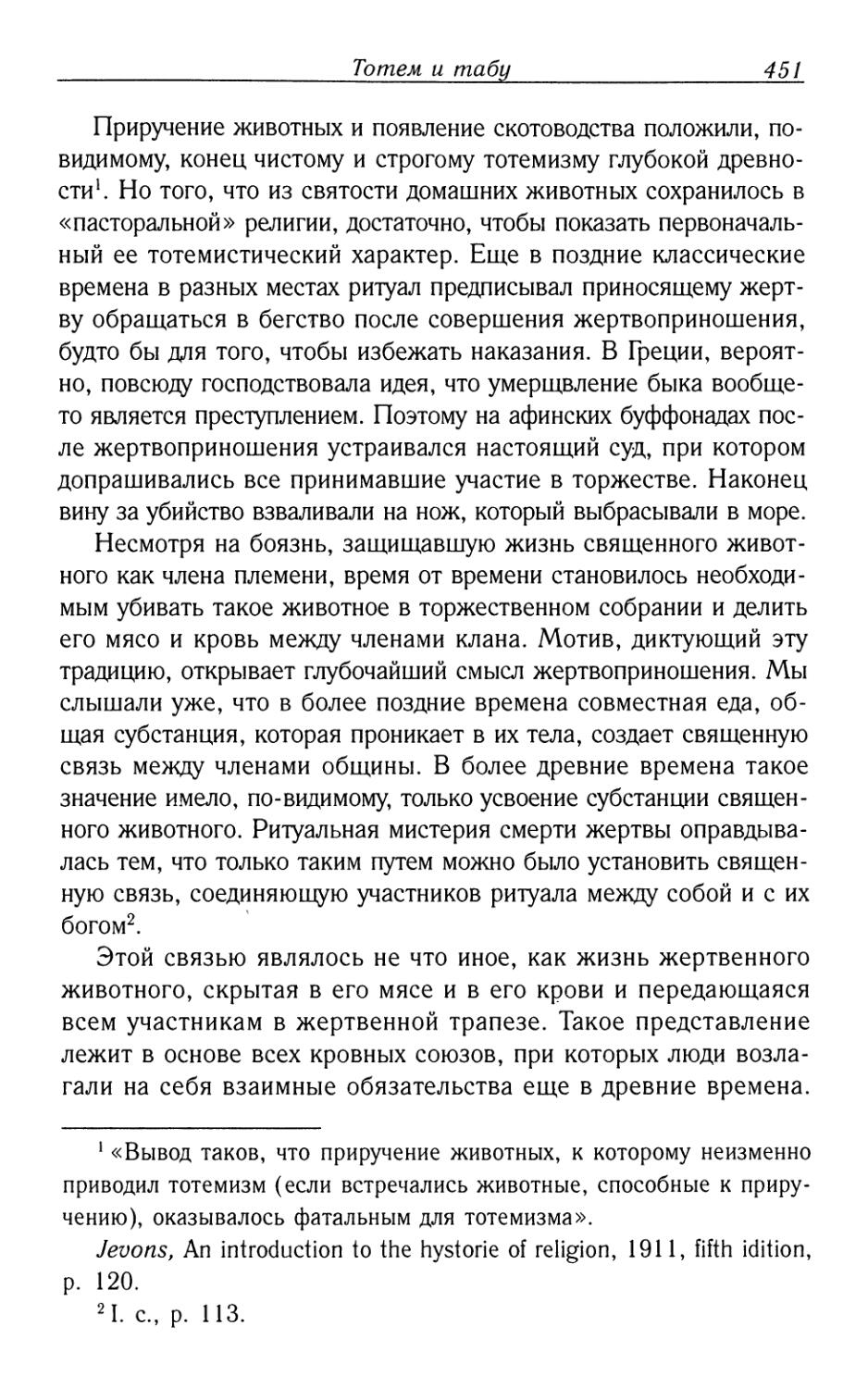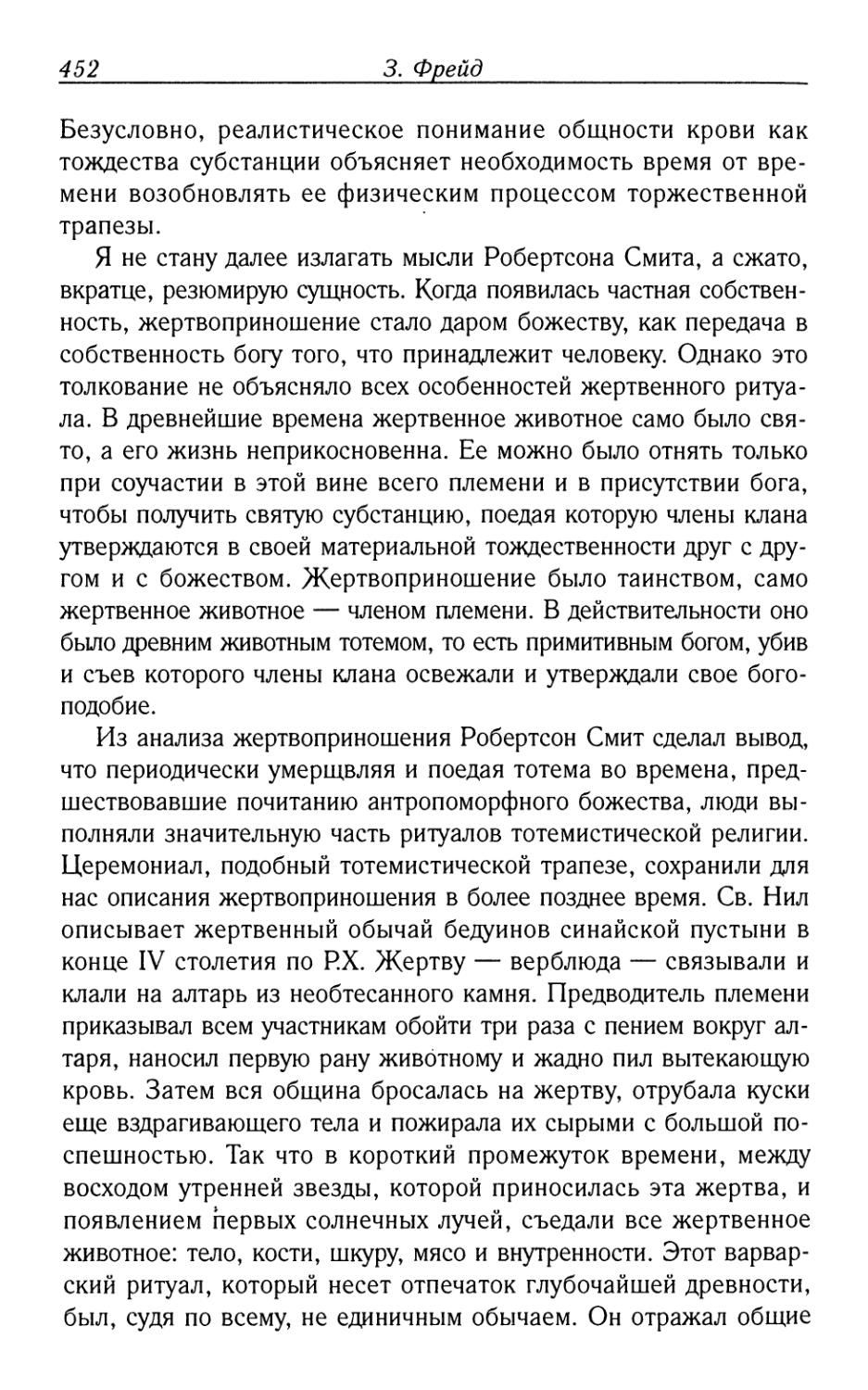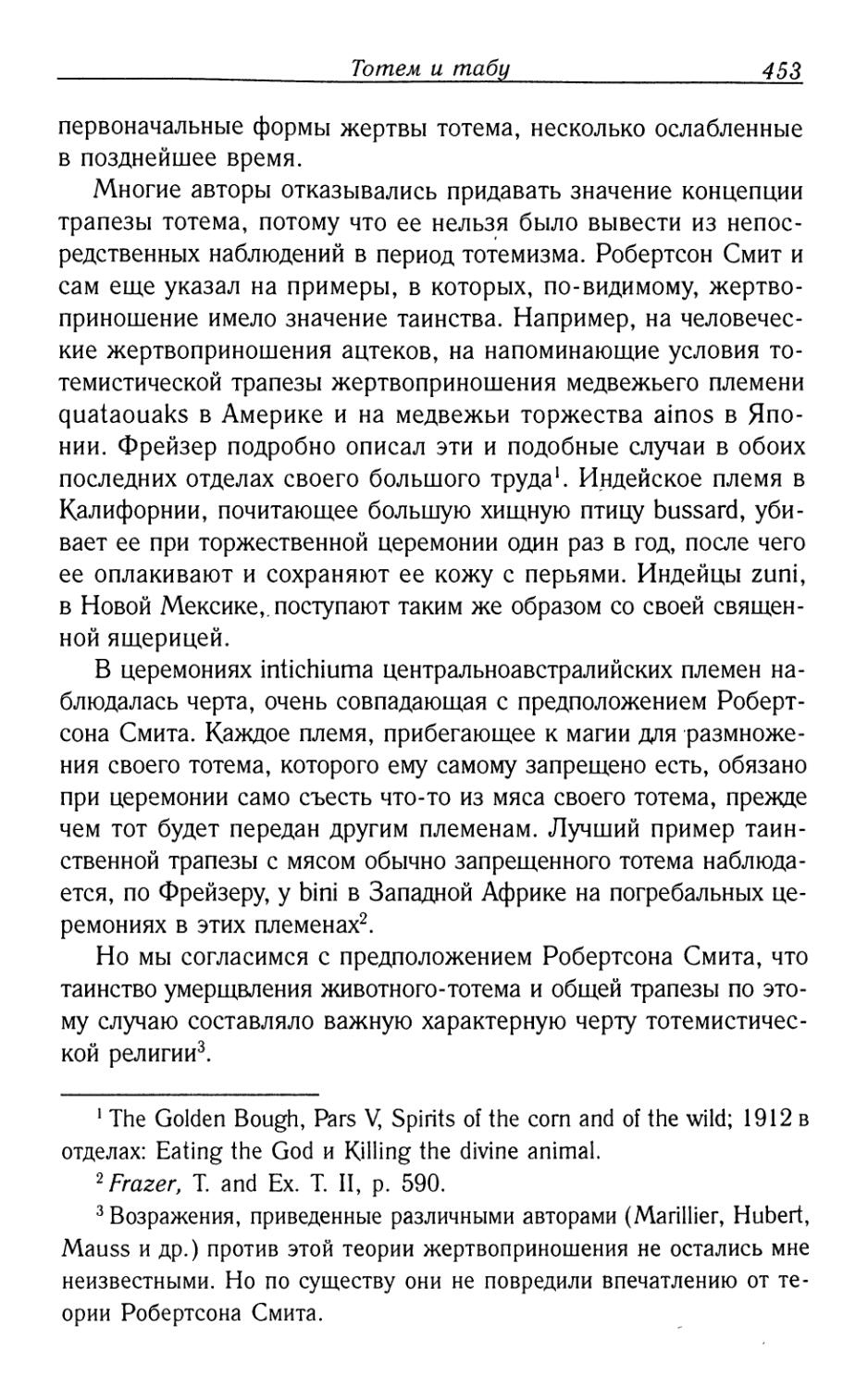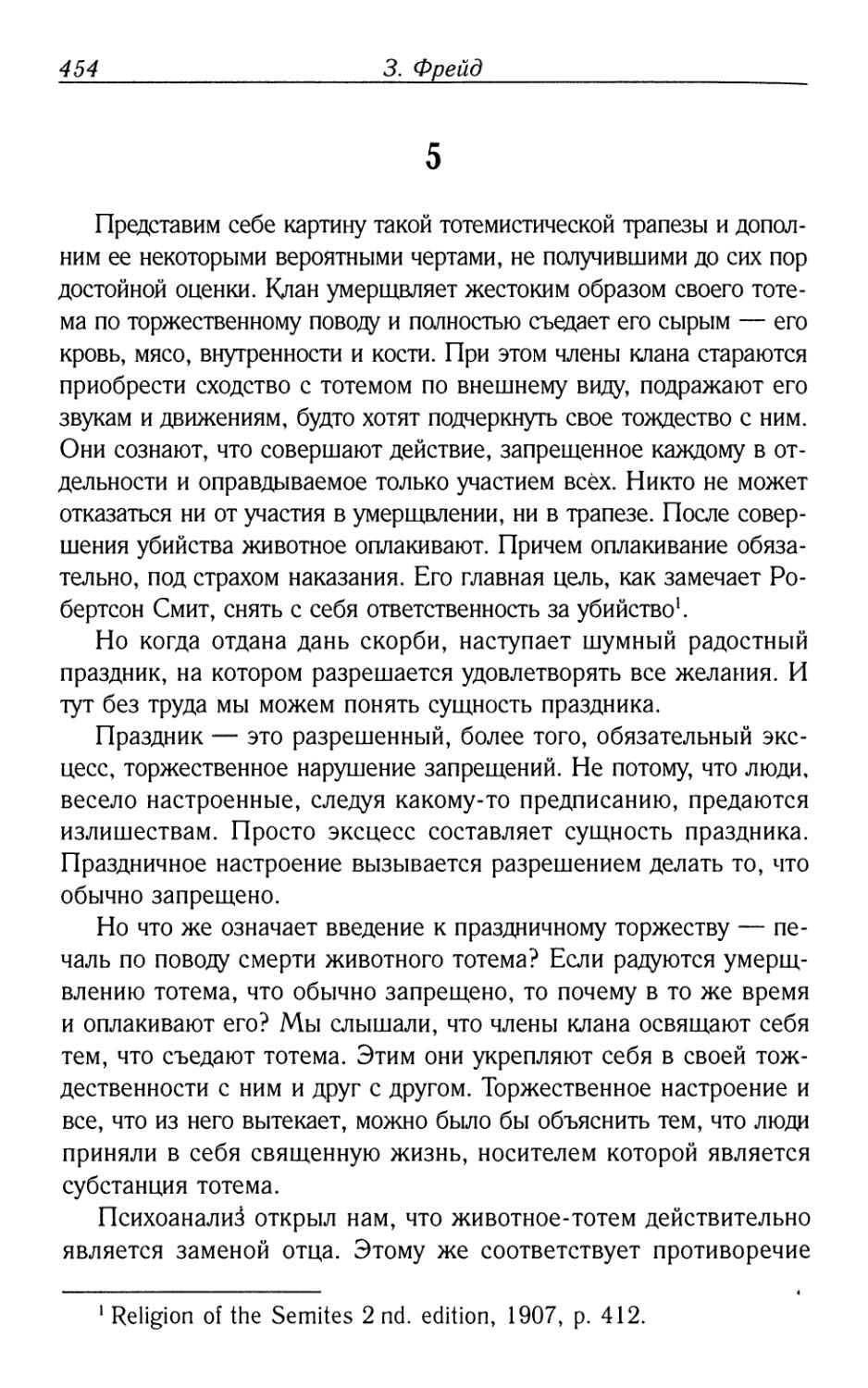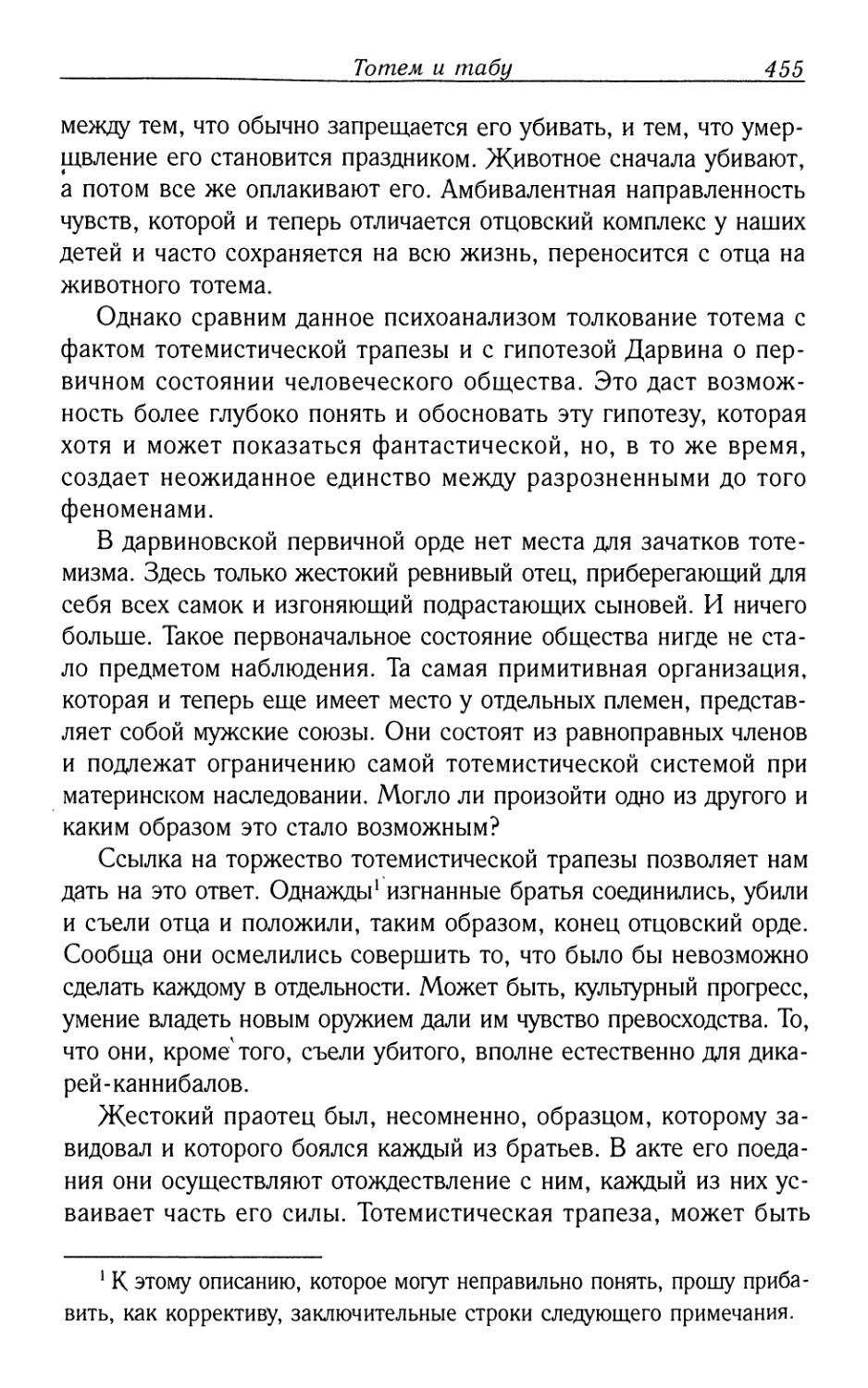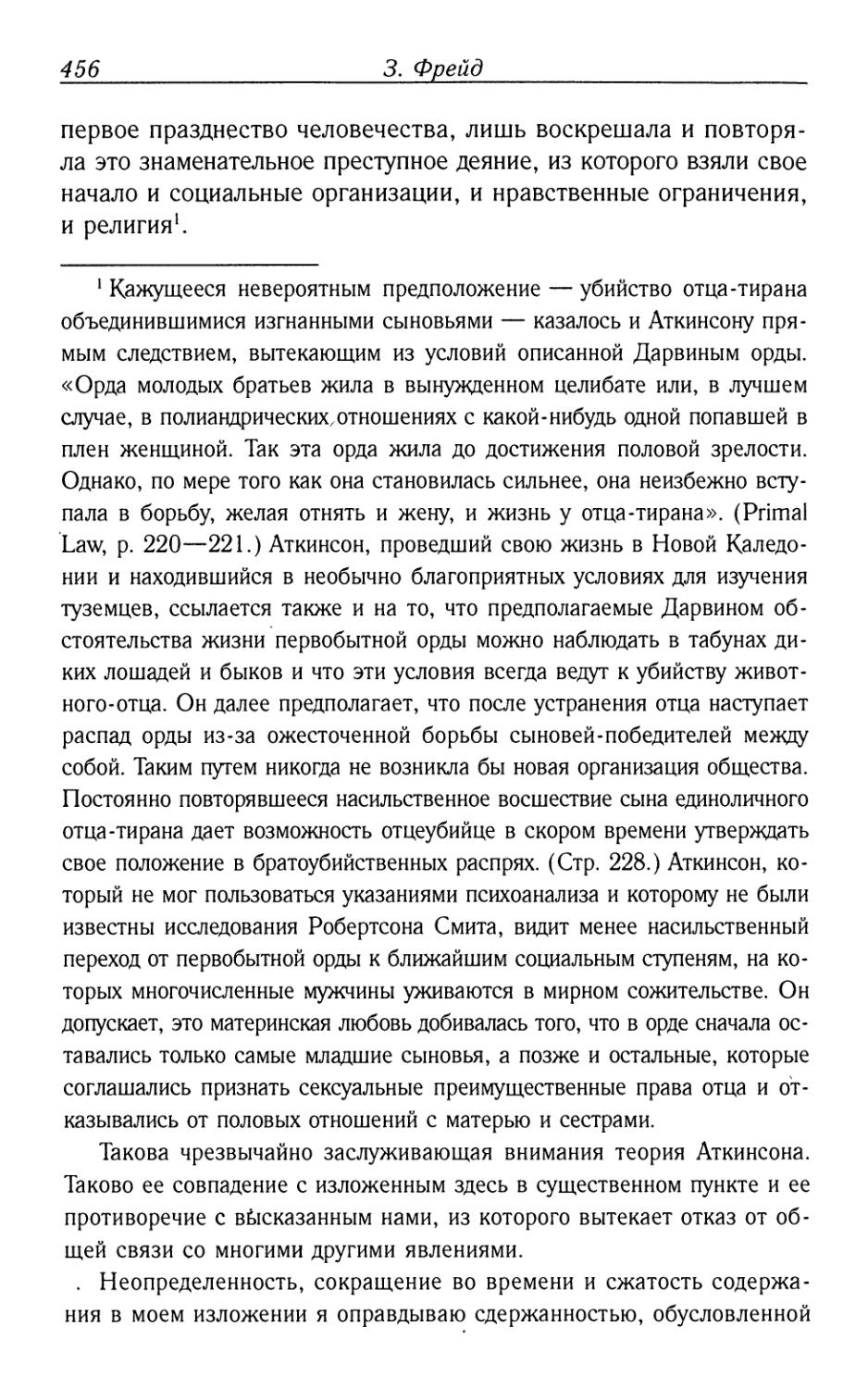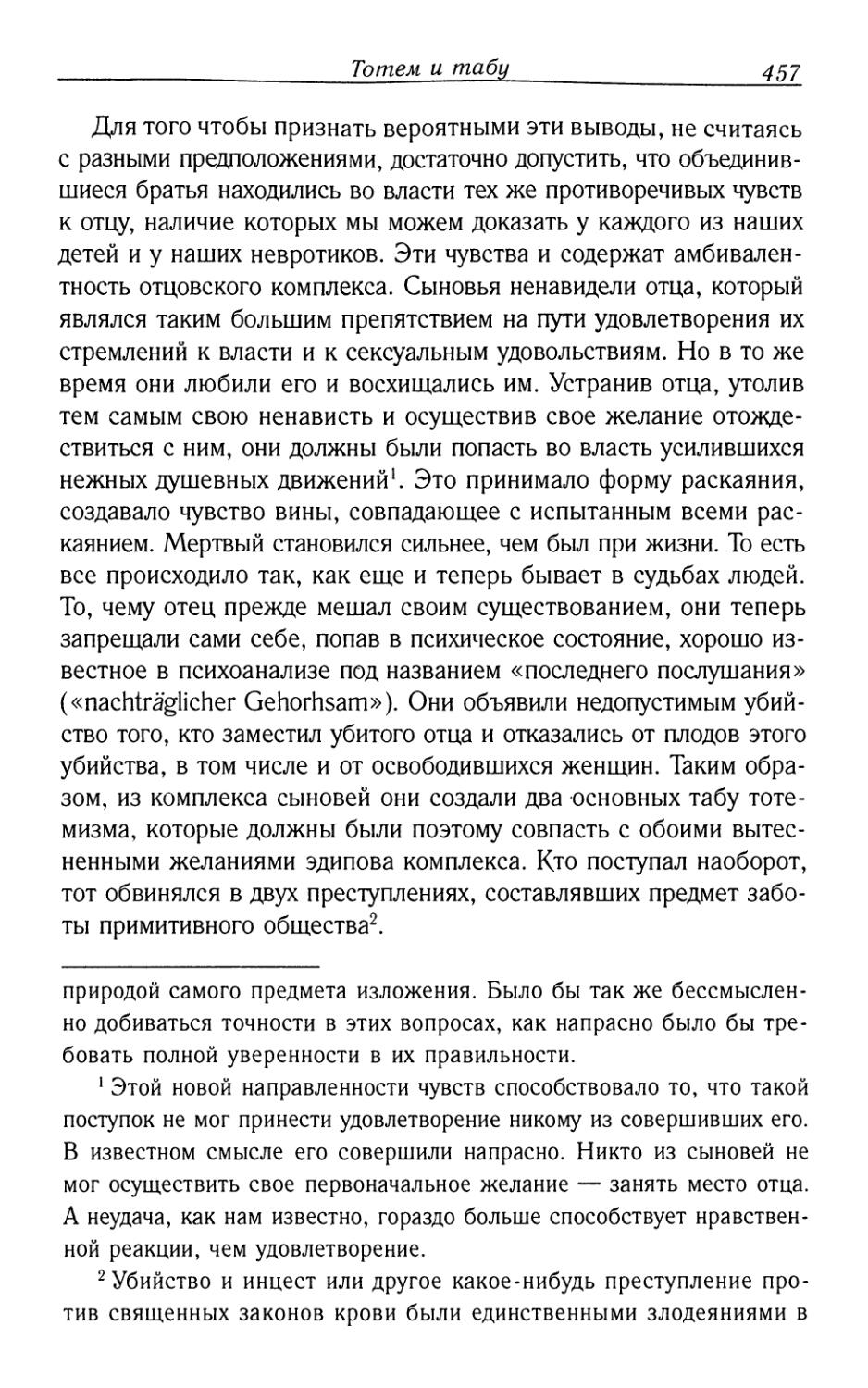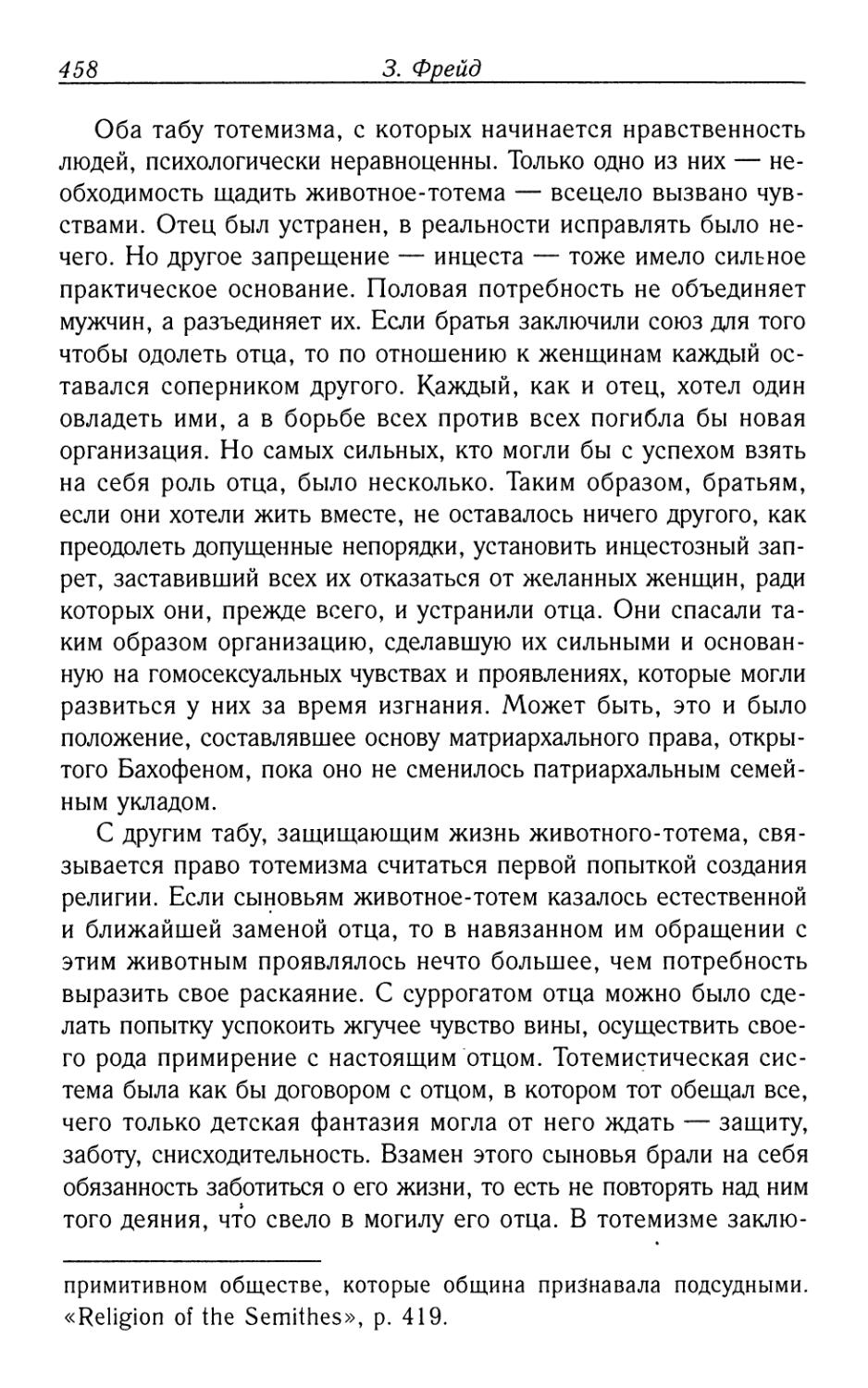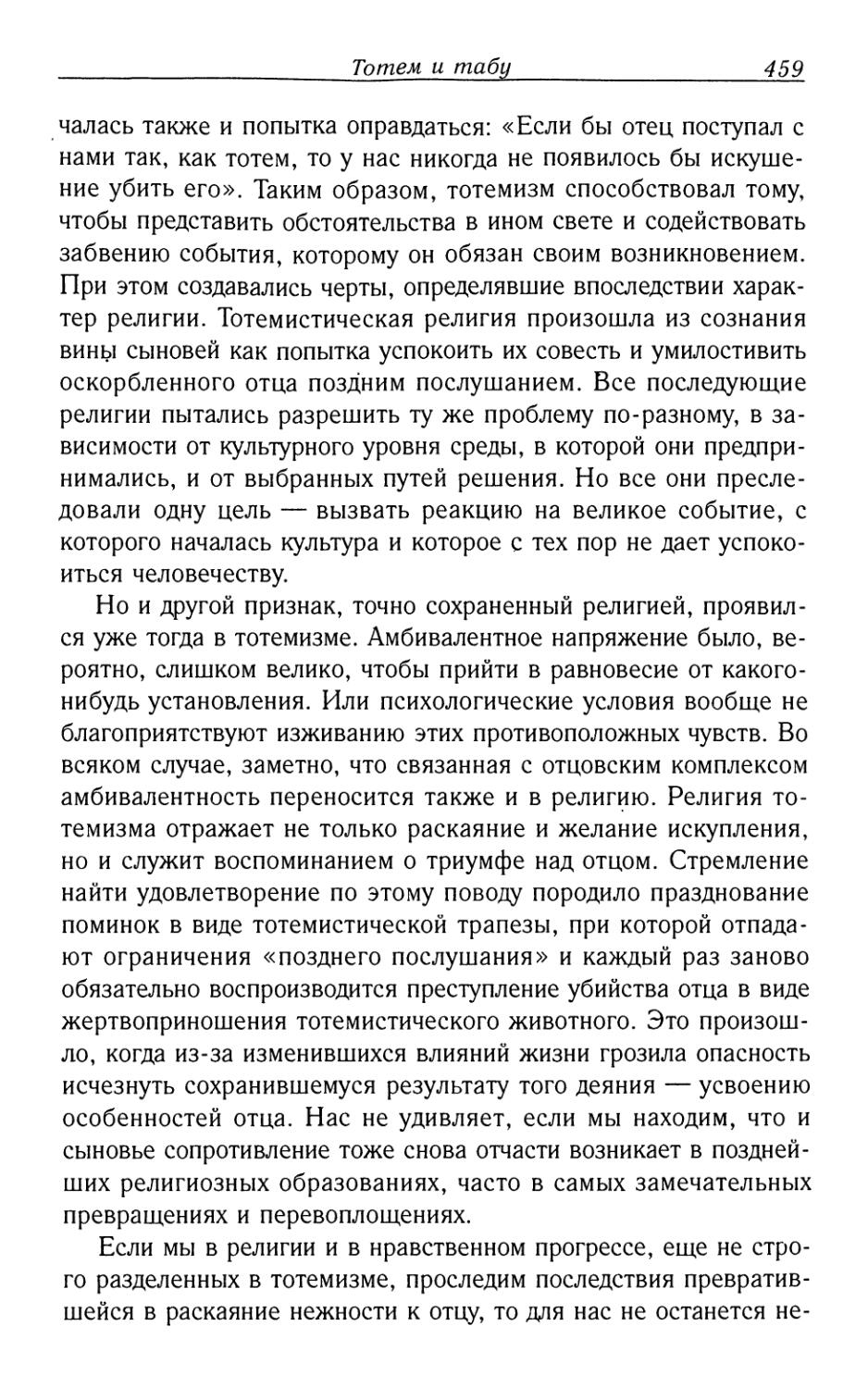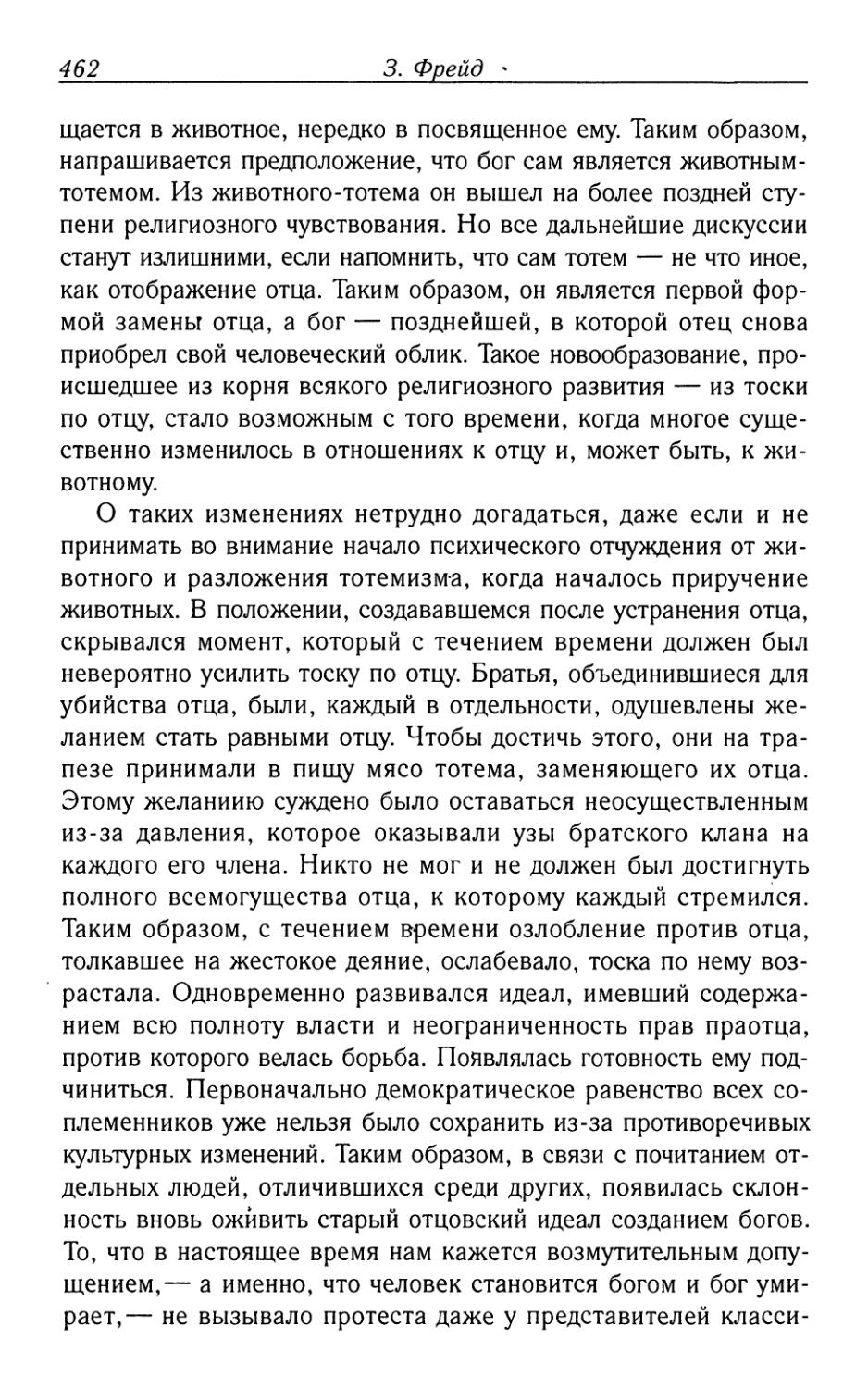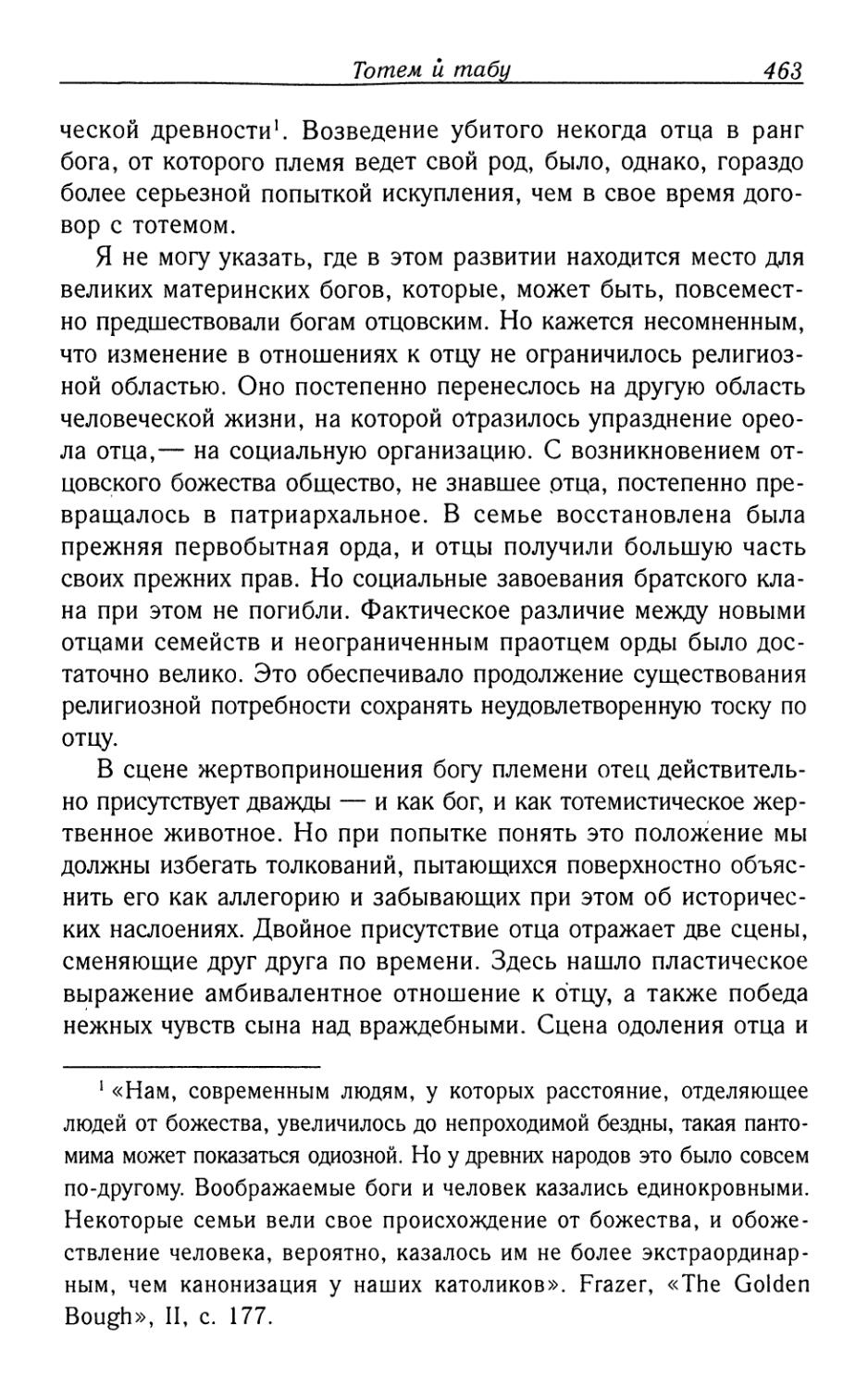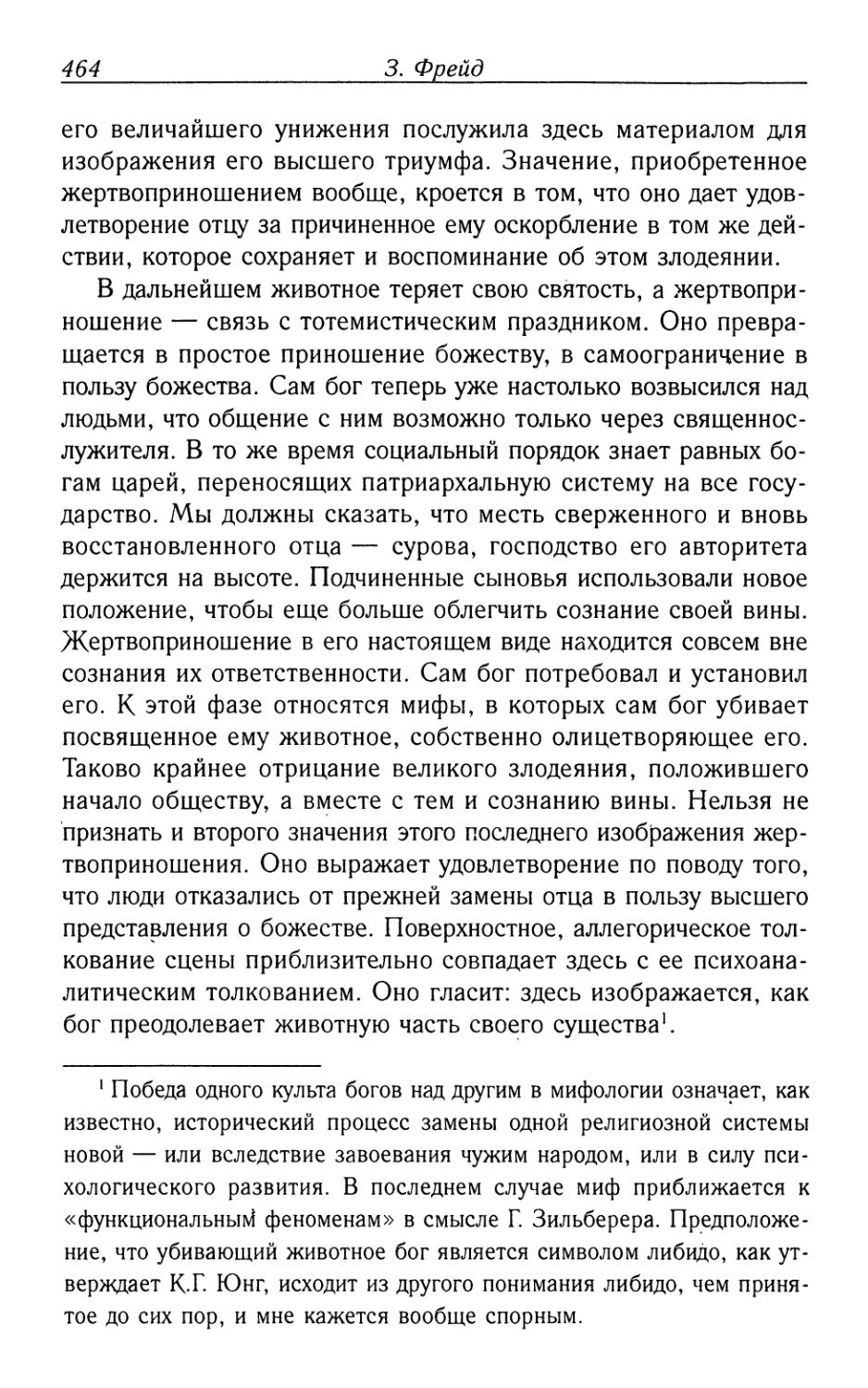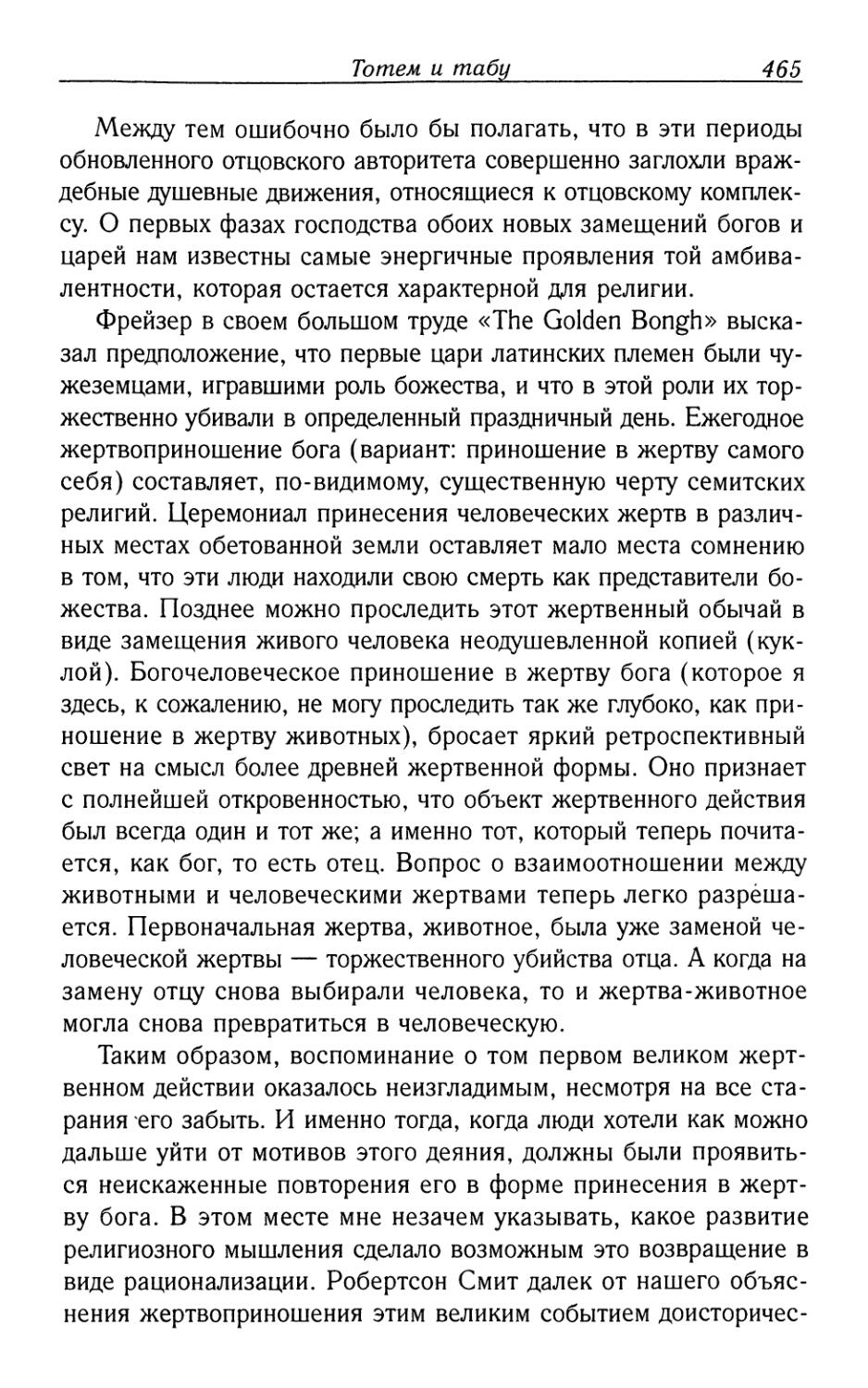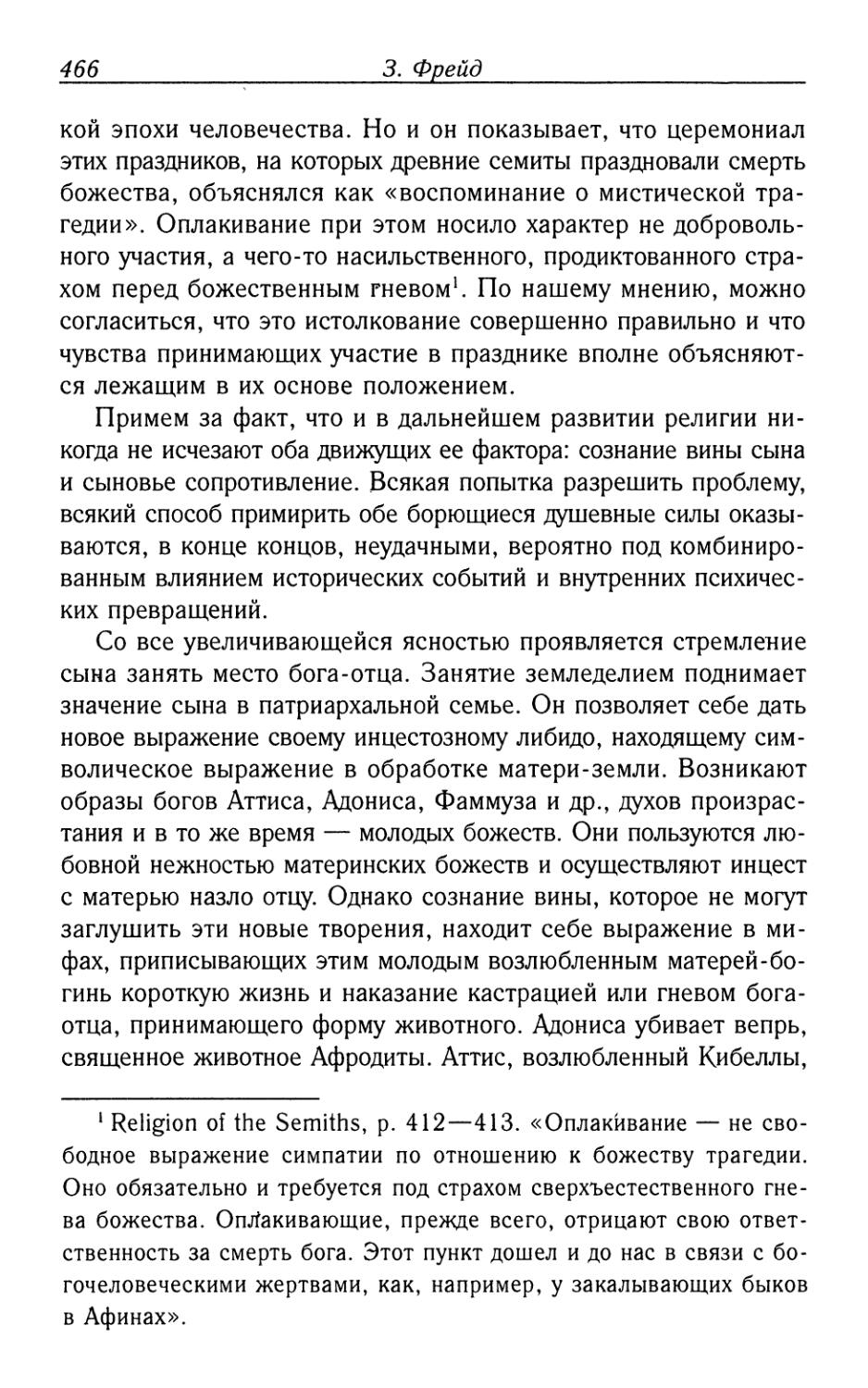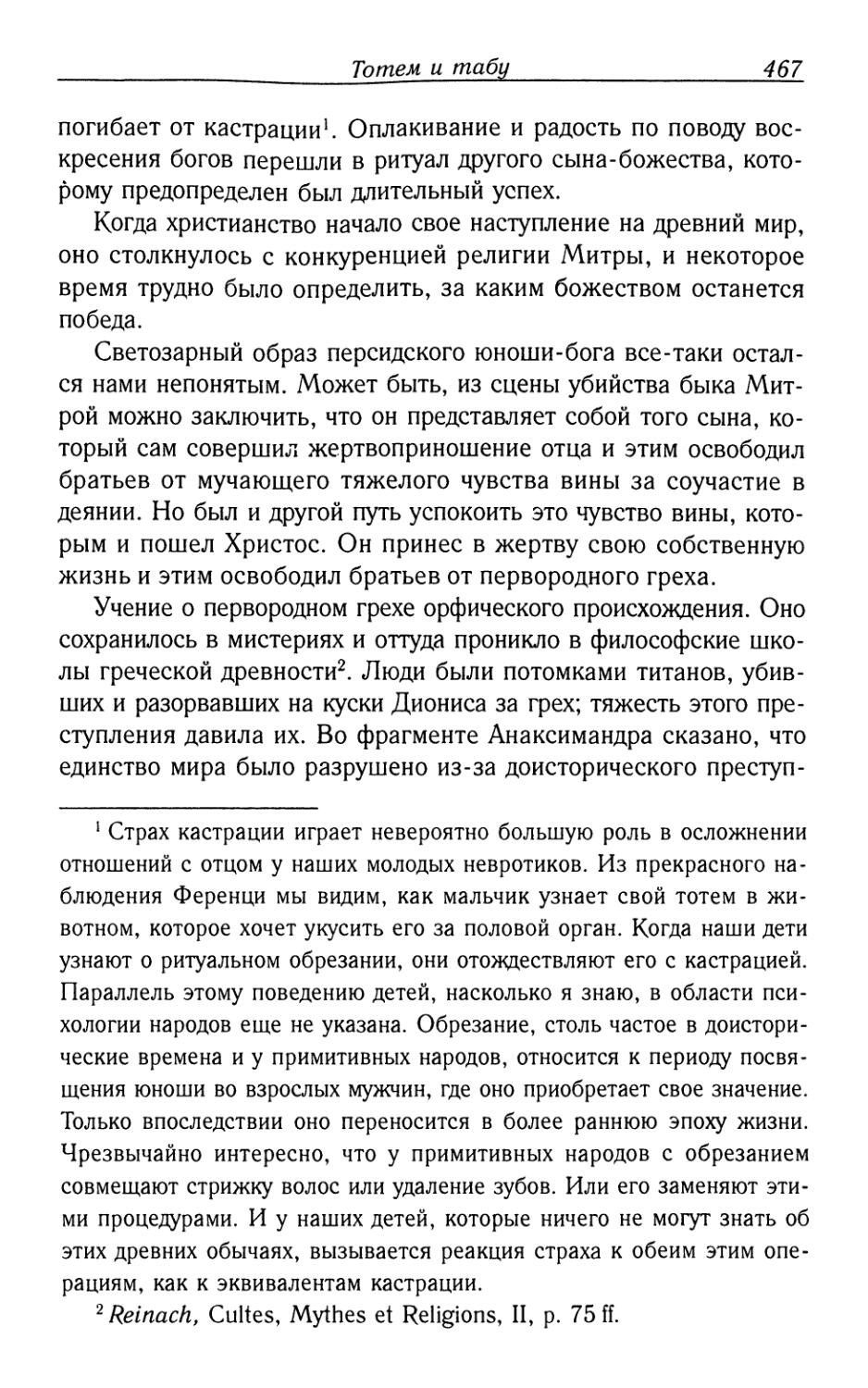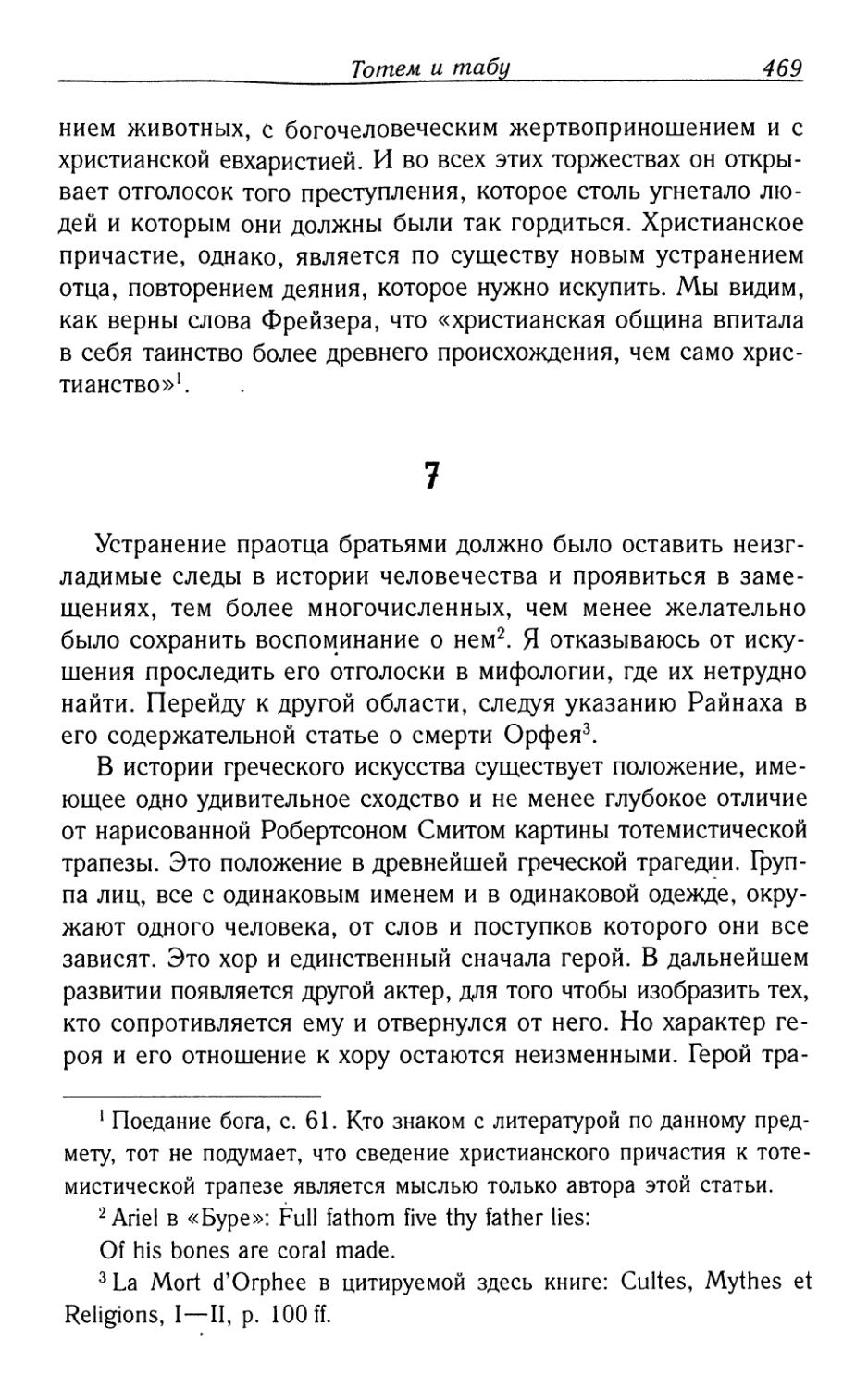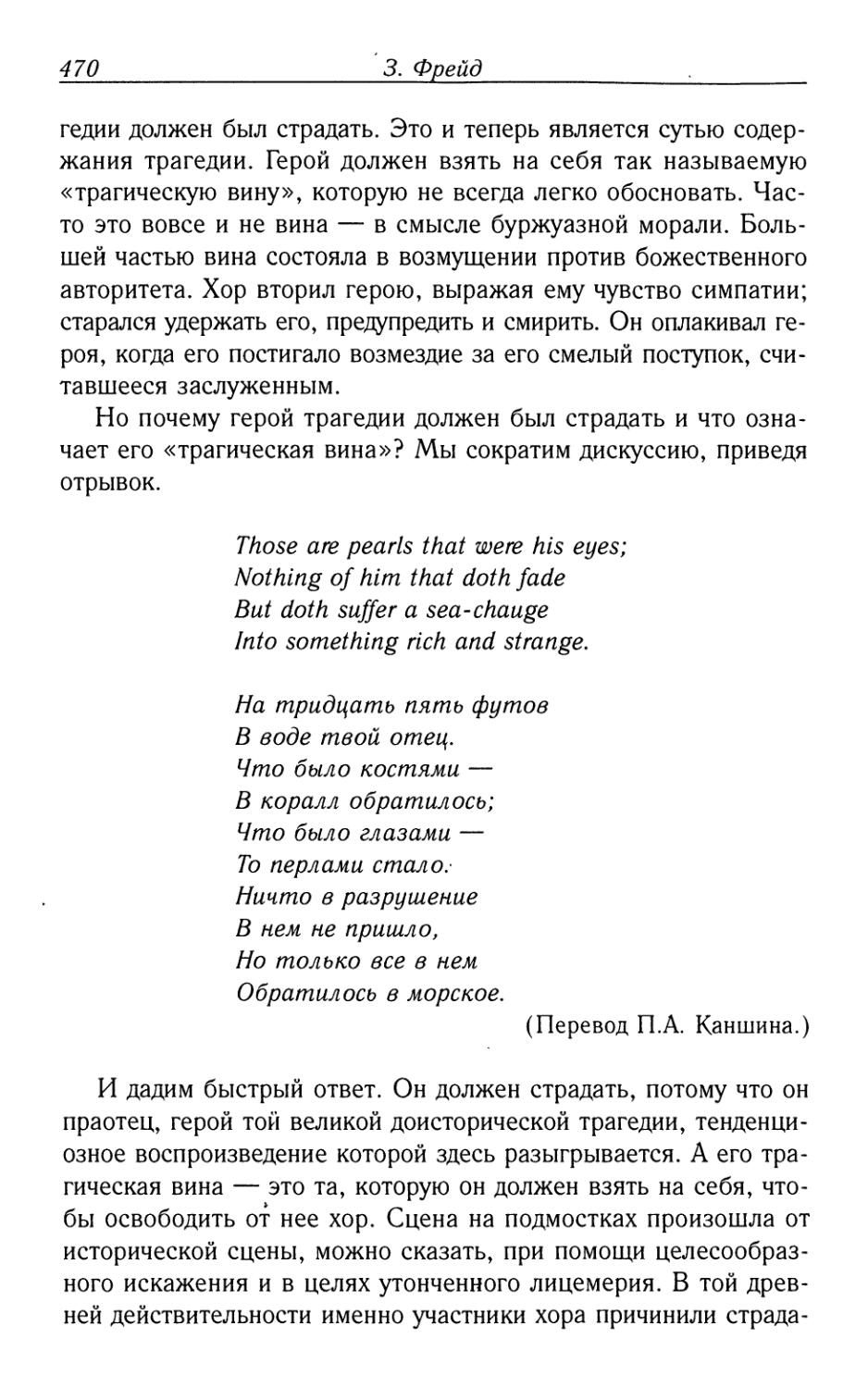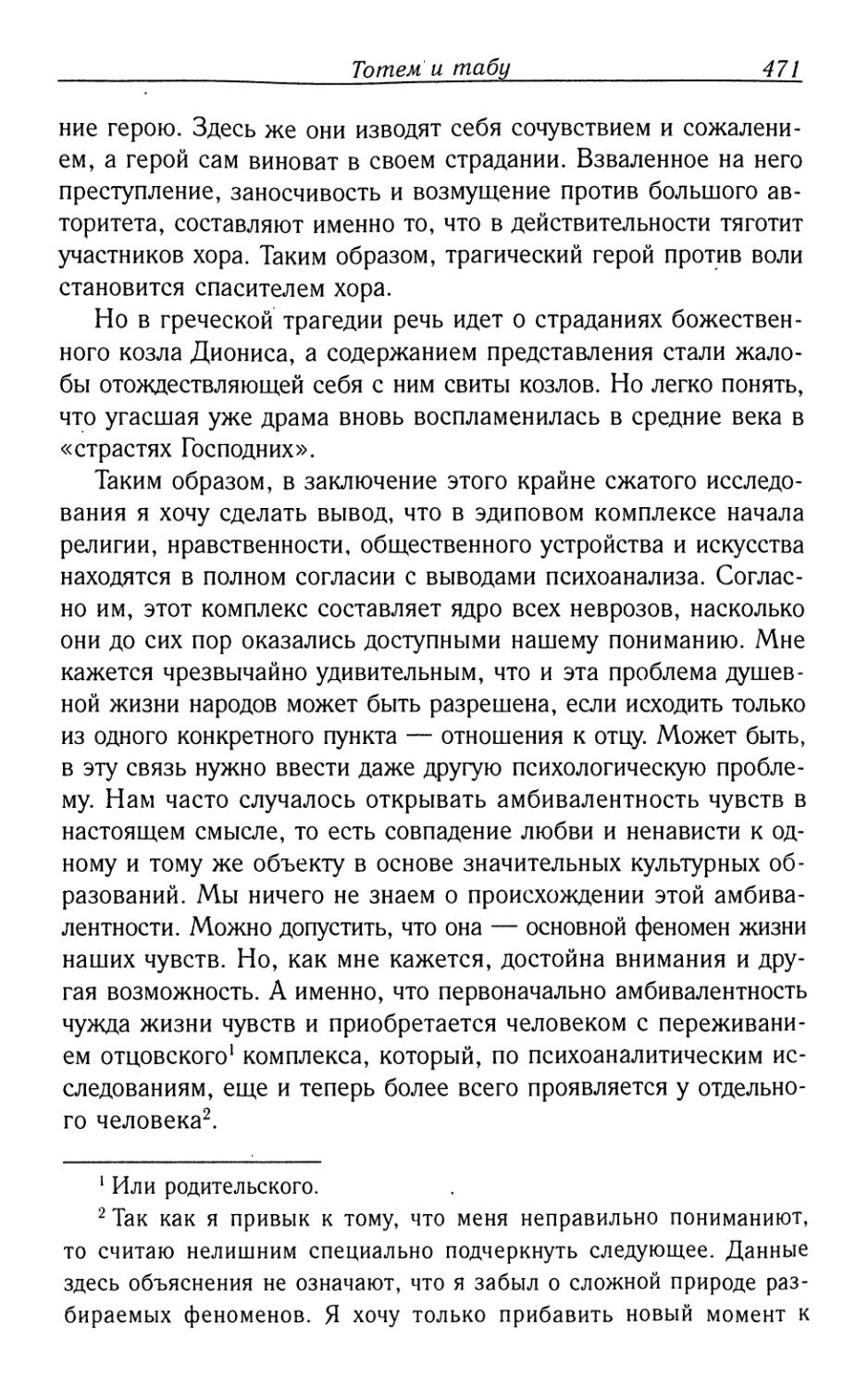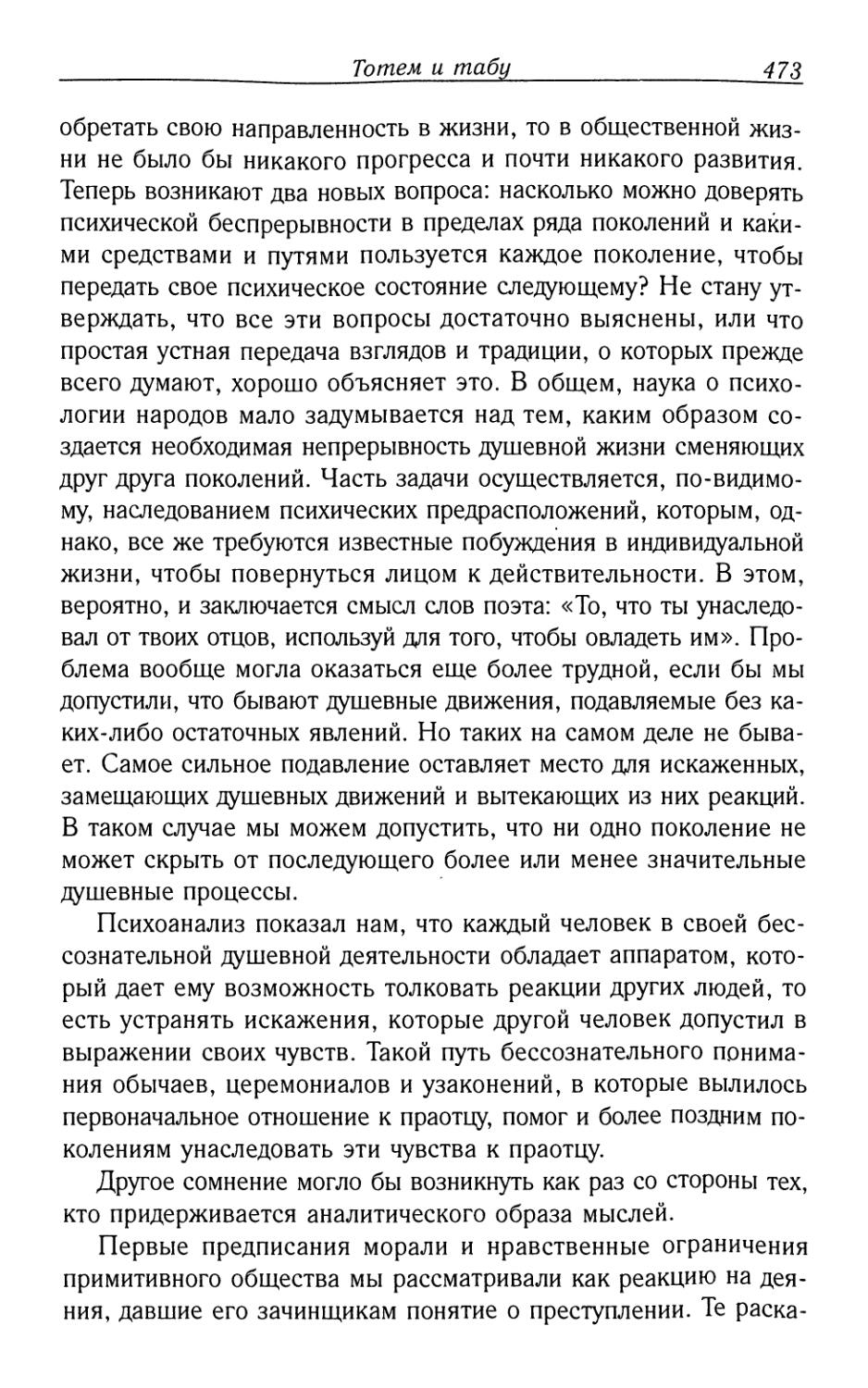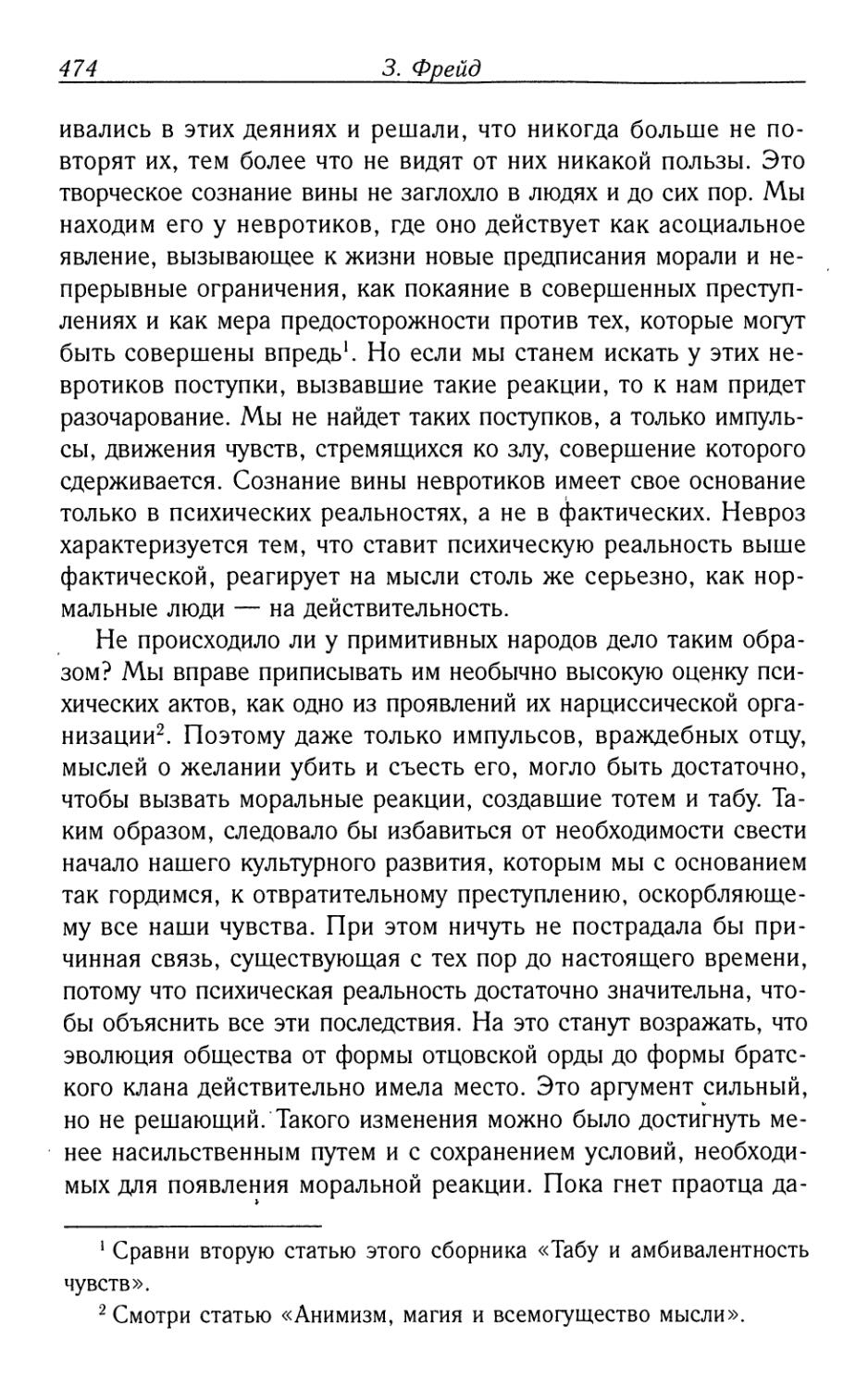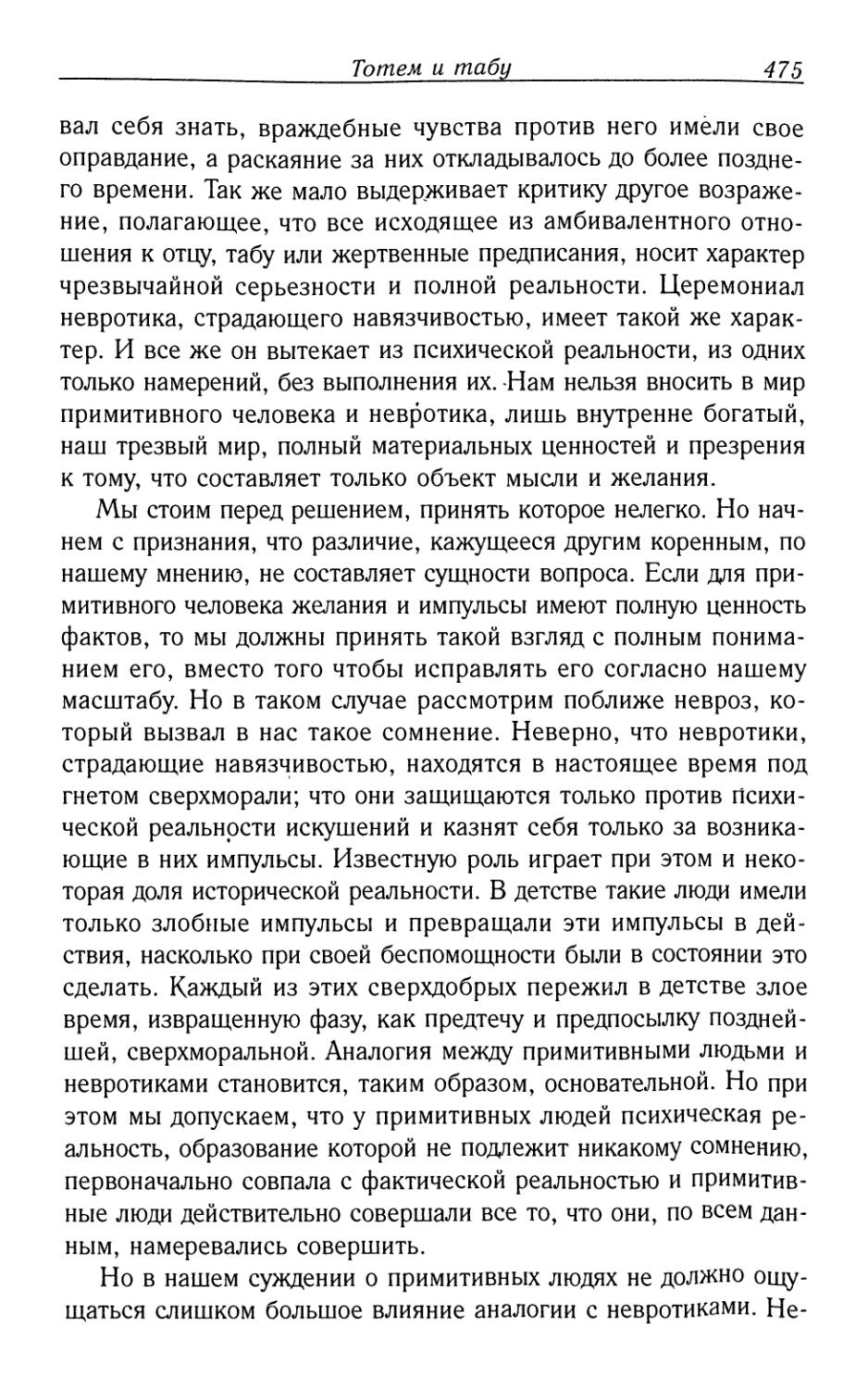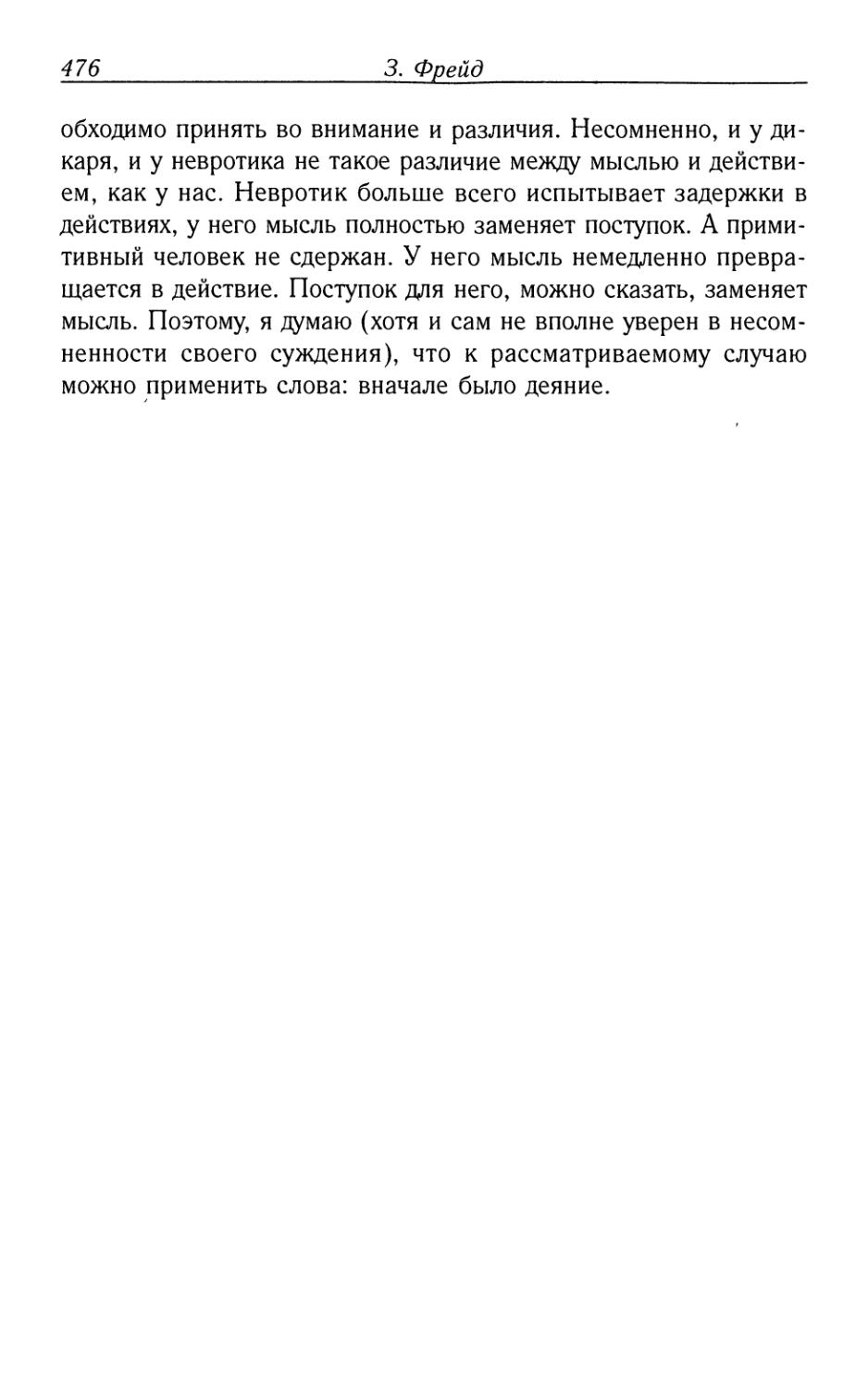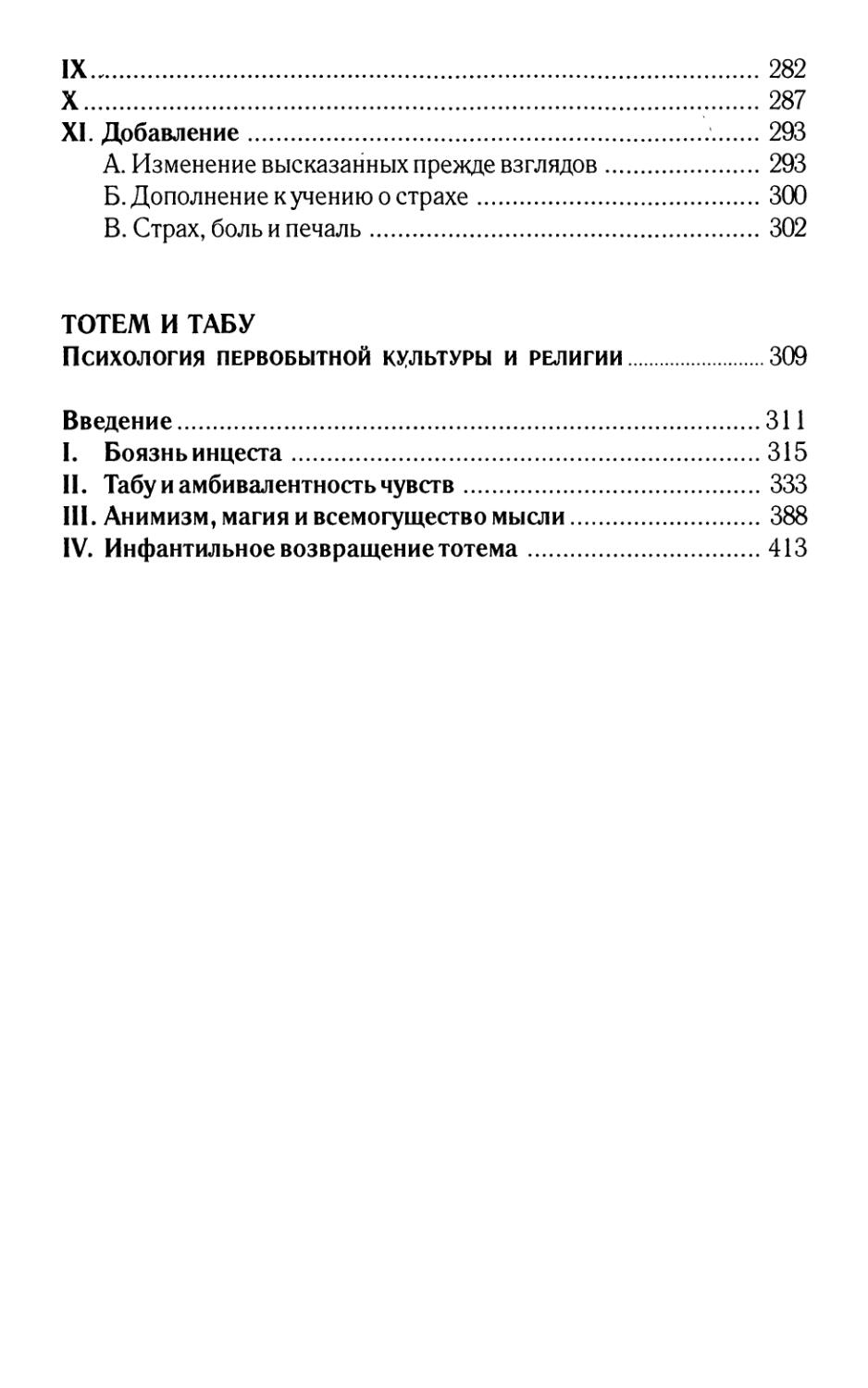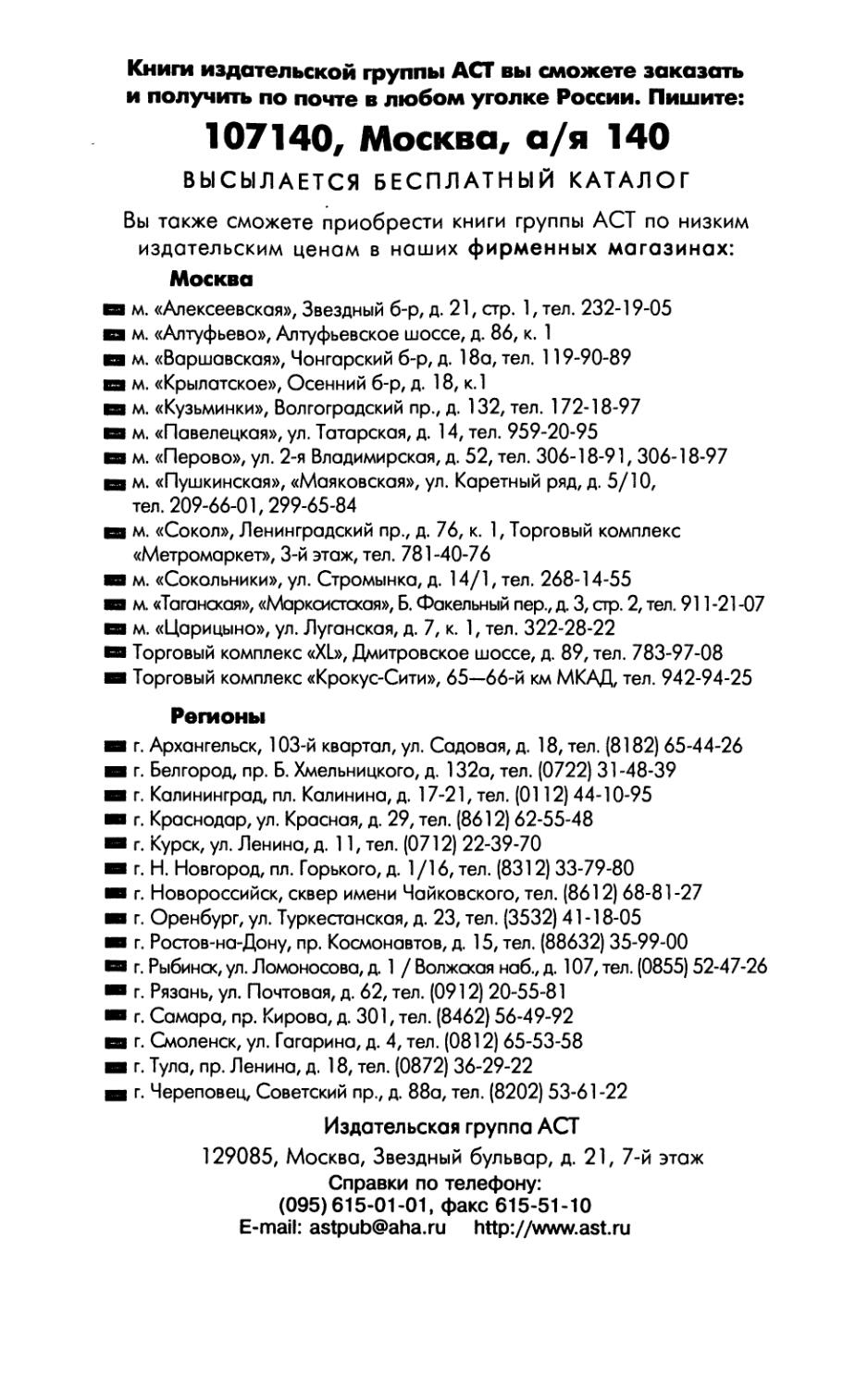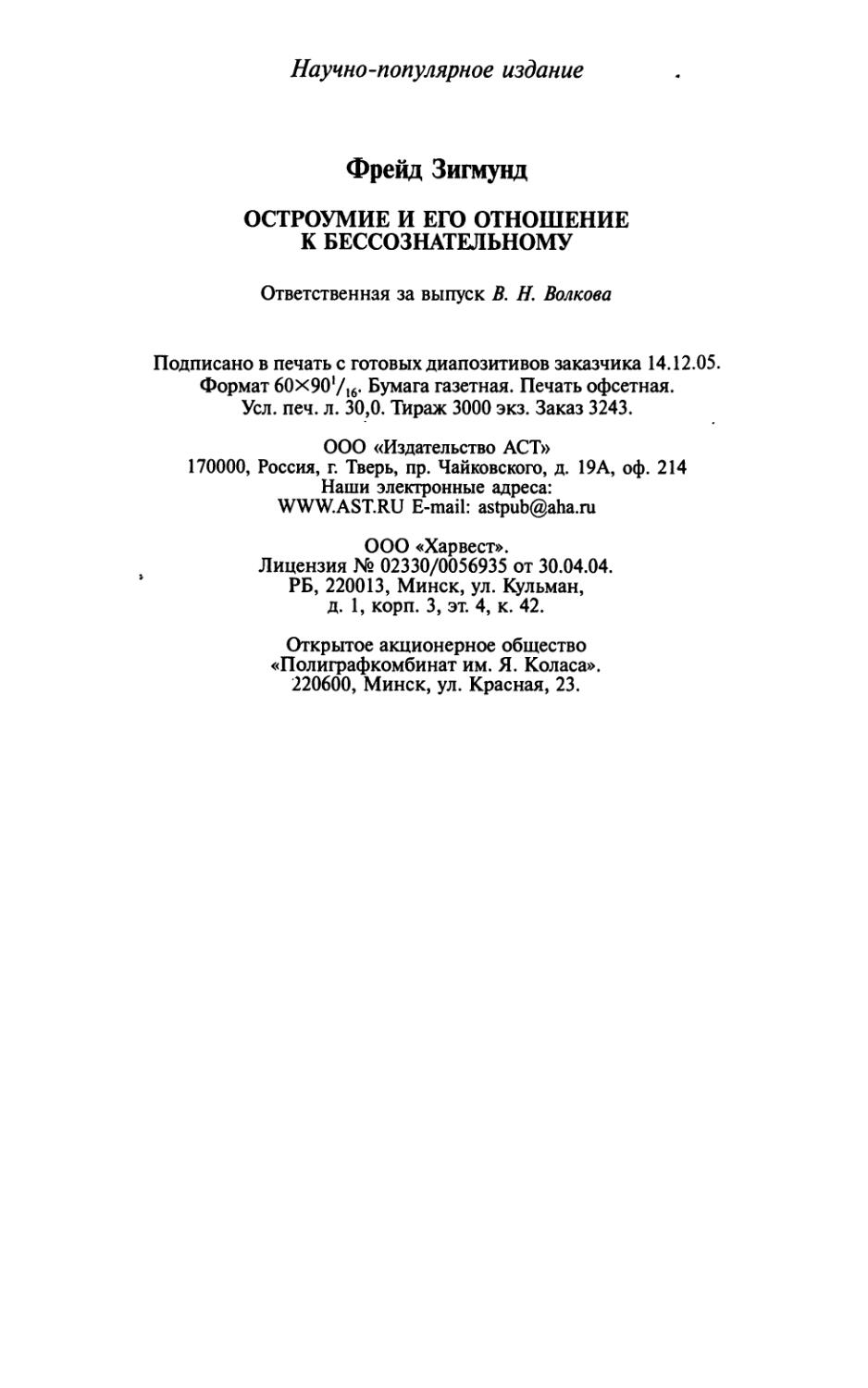Author: Фрейд З.
Tags: развитие и способности психики сравнительная психология особенное состояние и явления психики "тайное" явления психики и их научное объяснение психология
ISBN: 5-17-036052-5
Year: 2006
Text
ЗИГМУНД
ФРЕЙД
ОСТРОУМИЕ
И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ
На рубеже веков Зигмунд Фрейд создал ряд фундаментальных работ, в которых стремился объяснить сущность таких психологических феноменов как сновидения, ошибочные действия и остроумие. -
С каждым из этих случаев мы встречаемся как в жизни, так и в психотерапевтической ситуации.
В настоящем издании Фрейд подробно описал сущность всех этих явлений, а выдвинутые им гипотезы до сих пор сохраняют свою актуальность.
В книгу вошли следующие работы: «Остроумие и его отношение к бессознательному», «Страх», «Тотем и табу».
ISBN 5-17-036052-5
9 785170 360529
ЗИГМУНД
ОСТРОУМИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ
МОСКВА МИНСК
ACT ХАРВЕСТ
2006
УДК 159.923
ББК 88.6 Ф 86
Перевод: Я. М. Коган, М. В. Вульф
Научный редактор перевода: доктор психологических наук профессор Л. В. МАРИЩУК
Фрейд 3.
Ф 86 Остроумие и его отношение к бессознательному/ 3. Фрейд: Пер. Я. М. Коган, М. В. Вульф.— М.: ACT, Мн.: Харвест, 2006.— 480 с.
ISBN 5-17-036052-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 985-13-5680-8 (ООО «Харвест»),
На рубеже веков 3. Фрейд создал ряд фундаментальных работ, в которых стремился объяснить сущность таких психологических феноменов как сновидения, ошибочные действия и остроумие. С каждым из этих случаев мы встречаемся как в жизни, так и в психотерапевтической ситуации. В настоящем издании Фрейд подробно описал сущность всех этих явлений, а выдвинутые им гипотезы до сих пор сохраняют свою актуальность. В книгу вошли следующие работы: «Остроумие и его отношение к бессознательному», «Страх», «Тотем и табу».
УДК 159.923
ББК 88.6
ISBN 5-17-036052-5 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 985-13-5680-8 (ООО «Харвест»)
© Подготовка и оформление. Харвест, 2003
Остроумие и его отношение к бессознательному
| Аналитическая часть
Введение
Кто искал когда-либо в эстетитеческой и психологической литературе объяснение сущности остроумия и его отношений с другими видами душевной деятельности, тот должен будет признать, что философские изыскания не коснулись остроумия в той мере, какой оно заслуживает из-за своей роли в жизни нашей души. Только немногие мыслители подробнее интересовались проблемами остроумия. Правда, среди лиц, занимавшихся исследованием остроумия, имеются блестящие имена: поэта Жана Поля (Франца Рихтера), философов Т. Фишера, К. Фишера и Т. Липпса. Но и у этих авторов тема остроумия отодвинута на задний план, а главный интерес исследования сосредоточен на более широкой и более заманчивой проблеме комического.
При изучении этой литературы складывается впечатление, будто совершенно невозможно трактовать остроумие вне его связи с комическим.
По Т. Липпсу (Komik and Humor, 1898)1 остроумие является «чрезвычайно субъективным комизмом», то есть комизмом, «который мы сами производим, который относится к нашему поведению как таковому, и к которому мы всегда относимся как его субъект, и никогда как его объект, тем более как добровольный объект». Это положение поясняется примечанием: остроумием называется вообще «всякое сознательное и искусное
1 Статьи об эстетике, изданные Т. Липпсом и Р.М. Вернером, VI. (Книга, подвигшая меня предпринять эту попытку исследования.)
6
3. Фрейд
создание комизма, будет ли это комизм созерцания или комизм ситуации».
К. Фишер поясняет отношение остроумия к комическому с помощью исследования карикатуры, занимающей в его изложении нечто среднее между остроумием и комизмом (Uber den Witz, 1889.). Объектом комизма является безобразное — в какой бы то ни было форме своего проявления. «Там, где оно скрыто, его следует обнаружить и показать в свете комического созерцания. Где безобразное мало или едва заметно, его необходимо осветить и так подчеркнуть, чтобы оно стало ясным и очевидным... Так возникает карикатура». «Весь наш духовный мир — интеллектуальное царство наших мыслей и представлений — не обнажается под созерцанием внешнего взгляда. Он не может быть представлен непосредственно с помощью образного и наглядного изображения. Но он сохраняет свои задержки, недостатки, уродства, массу смешного и множество комических контрастов. Чтобы подчеркнуть их и сделать доступными эстетическому созерцанию, нужна сила, которая была бы в состоянии не только изобразить объекты, но и сама могла бы рефлектировать и объяснять эти изображения,— то есть сила, проясняющая мысли. Такой силой можно считать только суждение. А суждением, производящим комический контраст, является острота. Она незримо участвовала уже в карикатуре, но в суждении приобрела свойственную ей форму и свободное поприще для своего развития».
Как видно, Липпе усматривает в деятельности, в активном поведении субъекта характерные черты, выделяющие остроумие среди других видов комического. В то же время К. Фишер характеризует остроумие отношением к своему объекту, считая, что оно должно выявлять скрытое уродство царства мыслей. Основательность этих определений не может быть проверена. Их даже едва ли можно понять, если рассматривать вне той взаимозависимости, из которой они кажутся здесь вырванными. Поэтому мы стоим перед необходимостью разбираться в изображениях комического авторами, чтобы узнать от них что-нибудь об остроумии. Между тем в других местах будет видно, что эти авторы сумели показать такие существенные и общераспространенные характерные черты остроумия, при которых это отношение к комическому не принято во внимание.
Остроумие и его отношение к бессознательному 7
Характеристика остроумия К. Фишера, который сам, по-видимому, ею вполне удовлетворен, гласит: «Остроумие есть игривое суждение». Для пояснения этого выражения мы укажем на аналогию: «Подобно тому как эстетическая свобода заключается и в праве на игривое созерцание вещей». В другом месте эстетическое отношение к объекту характеризуется условием, что мы от этого объекта ничего не требуем, в особенности удовлетворения наших серьезных потребностей. Мы просто довольствуемся наслаждением при созерцании этого объекта. Эстетическому отношению позволено быть игривым — в противоположность работе. «Могло случиться, что из эстетической свободы возник особый вид суждения, свободный от оков и правил, который я ввиду его происхождения хочу назвать «игривым суждением». И в этом понятии сохранено первое условие, если не целиком вся формула, разрешающая нашу задачу. «Свобода дает остроумие, а остроумие дает свободу,— сказал Жан Поль.— Остроумие является всего лишь игрой идеями».
Издавна любили определять остроумие как ловкое умение находить сходство между несходными вещами; то есть находить скрытое сходство. Жан Поль сам остроумно выразил эту мысль следующим образом: «Остроумие — это переодетый священник, который венчает любую пару». Т. Фишер продолжает: «И охотнее всего он венчает ту пару, к соединению которой родственники относятся нетерпимо». Но сам же и возражает, что существуют остроты, при которых нет и речи о сравнении, а поэтому и о нахождении сходства. Он дает, таким образом, несколько отличное от Жан Поля определение остроумия как умения с поразительной быстротой связывать в одно целое несколько представлений, фактически чуждых друг другу по своему внутреннему содержанию и связи. Затем К. Фишер подчеркивает, что во множестве остроумных суждений отыскиваются не сходства, а различия, Липпе же обращает внимание на то, что эти наблюдения относятся к тем остротам, которые остроумный человек знает, а не к тем, которые он создает.
Другими точками зрения, которые в некотором смысле связаны друг с другом и которыми пользуются для определения понятия или описания остроумия, являются: «контраст представлений», «смысл в бессмыслице» и «смущение из-за непонимания и внезапное уяснение».
8
3. Фрейд
Но определение, например, Эмиля Крепелина переносит в центр внимания контраст представлений. Острота является «произвольным переплетением или соединением двух контрастирующих друг с другом представлений, в большинстве случаев — с помощью речевой ассоциации». Такому критику, как Липпе, нетрудно открыть полную несостоятельность этой формулы.• Но и он не исключает момента контраста, а передвигает его на другое место. «Контраст продолжает существовать, но это не так или иначе понятый контраст представлений, описываемых словами, а контраст или противоречие между значимостью или незначительностью слов». Примеры поясняют, как должно понимать последнее. «Контраст возникает оттого, что... мы придаем словам некоторое значение, которое, однако, не можем затем вновь признать за ними».
В дальнейшем развитии последнего определения приобретает значение антитеза «смысл и бессмыслица». «То, что мы в один момент считаем осмысленным, оказывается для нас затем совершенно бессмысленным. В этом заключается для нас в настоящем случае комический процесс». «Остроумным кажется выражение в том случае, если мы по психологической необходимости приписываем ему определенное значение и тотчас снова отрицаем его. При этом под значением можно подразумевать разные понятия. Мы приписываем выражению смысл и знаем, что логически он ему не подходит. Мы находим в выражении истину, которую все-таки по законам познания или общего навыка нашего мышления не можем найти в нем. Мы признаем за ним логические и практические следствия, выходящие за пределы его действительного содержания, чтобы сейчас же отрицать эти следствия, как только мы примем во внимание смысл этого выражения. Во всяком случае, психологический процесс, который создает в нашей голове остроумное выражение и на котором покоится чувство комизма, заключается в непосредственном переходе от этого признания смысла, истины, его значительности к осознанию или впечатлению его относительной ничтожности».
Если это объяснение звучит убедительно, то желательно было бы все-таки поставить здесь вопрос: способствует ли эта антитеза осмысленного и бессмысленного, на которой покоится чувство комизма, определению понятия остроумия, поскольку оно отличается от комизма?
Момент «непонимания и внезапного уяснения» тоже заводит нас далеко в проблему отношения остроумия к комизму. Кант го
Остроумие и его отношение к бессознательному 9
ворит о комическом вообще, будто замечательная особенность его заключается в том, что оно может обмануть нас только на один миг. Хеймане (Zeitschrift fiir Psychologie XI, 1896) показывает, как осуществляется эффект остроумия последовательной сменой непонимания и внезапного уяснения. Он поясняет свое мнение прекрасной остротой Гейне, который заставляет одного из своих героев, бедного лотерейного коллекционера Гирш-Гиацинта, хвастать тем, что великий барон Ротшильд обходится с ним как с человеком вполне ему равным, вполне фамиллионьярно (famillionar). Здесь слово, являющееся источником остроумия, кажется прежде всего ошибочным словообразованием, чем-то непонятным, несуразным, загадочным. Поэтому оно приводит нас в смущение. Комизм осознается после исчезновения смущения в результате понимания слова. Липпе дополняет, что за этой первой стадией, во время которой мы узнаем, что смущающее нас слово означает то-то и то-то, следует вторая стадия, когда появляется понимание того, что это бессмысленное слово сначала смутило нас, а затем оказалось действительно имеющим смысл. Лишь это второе уяснение — познание того, что причиной недоразумения стало слово, бессмысленное с точки зрения обыденной практики языка,— лишь это превращение абсурда в ничто и вызывает комизм.
Кажется ли нам более понятной та или другая из обеих трактовок, но мы с помощью рассуждений о непонимании и внезапном уяснении подошли ближе к определенному мнению. Если комический эффект гейневского «фамиллионьярно» основан на разгадке якобы бессмысленного слова, то остроумие следует, конечно, усмотреть в образовании этого слова и в его значении.
Кроме обсуждавшихся выше точек зрения, все авторы указывают и на другую существенную особенность остроумия. «Краткость — луша и тело остроумия и даже оно само»,— говорит Жан Поль (Vorschule der Asthetik, I, § 45), видоизменяя таким образом лишь одну фразу старого болтуна Полония в шекспировском Гамлете (действие 2-е, сцена II):
И так как краткость есть душа ума, А многословие — его прикраса, Я буду краток.
(Перевод А. Кронеберга.)
10
3. Фрейд
Важно затем описание краткости остроумия у Липпса: «Острота говорит то, что она говорит,— не всегда мало, но всегда немногими словами, которых, согласно строгой логике или обычному образу мышления и речи, недостаточно для этого. Она может даже что-то сказать, умалчивая об этом».
«Что остроумие должно выхватывать нечто спрятанное или скрытое» (К. Фишер), было уже указано при сопоставлении остроумия с карикатурой. Я подчеркиваю еще раз это определение, так как и оно тоже больше относится к сущности остроумия, чем к сущности комизма.
Я, конечно, понимаю, что вышеприведенные небольшие выдержки из работ авторов, писавших об остроумии, недостаточны для суждения о ценности этих работ. Из-за трудностей, возникающих при желании правильно передать ход мыслей, столь сложный, с такими тонкими нюансами, я не могу избавить любознательных читателей от труда почерпнуть желательные для них познания из первоисточников. Но я не знаю, будут ли они полностью удовлетворены ими. Указанные авторами и приведенные выше критерии и особенности остроумия — активное отношение к содержанию нашего мышления, характер игривого суждения, сочетание несходностей, контраст представлений, «смысл в бессмыслице», смена смущения из-за непонимания внезапным уяснением, обнаружение скрытого смысла и особый вид лаконичности остроумия,— все это кажется на первый взгляд наблюдениями настолько меткими и легко подтверждаемыми целым рядом примеров, что мы не подвергаемся опасности умалить ценность таких взглядов. Но все это disjecta membra, которые мы хотели бы видеть объединенными в одно органическое целое. Они приводят к познанию остроумия не более, чем ряд анекдотов о личности, биографию которой нам нужно узнать. В результате мы совсем не знаем, что общее имеет, например, лаконичность остроумия с его характером игривого суждения. У нас нет объяснения, должно ли остроумие удовлетворять всем поставленным условиям,, чтобы быть истинным остроумием, или только некоторым из них; и какие из этих условий могут быть заменены другими, а какие из них абсолютно необходимы. Мы хотим также произвести классификацию и систематизацию острот, основываясь на их особенностях, признанных существенными. Систематизация, которую мы находим
Остроумие и его отношение к бессознательному// у авторов, опирается, с одной стороны, на технические приемы, с другой стороны — на употребление острот в разговоре (остроумие, являющееся результатом созвучия; игра слов — карикатурная, характерная острота, остроумное парирование).
Нам, следовательно, нетрудно будет указать цели дальнейшему исследованию объяснения остроумия. Чтобы иметь возможность рассчитывать на успех, мы должны были бы или внести в эту работу новые точки зрения, или попытаться проникнуть глубже, усилив наше внимание и углубив наш интерес. Мы можем утверждать, что в применении последнего средства, по крайней мере, недостатка не было. Поразительно, насколько немногочисленными примерами таких признанных острот довольствуются авторы для своих исследований и как каждый заимствует те же самые остроты у своих предшественников. И мы не можем отказаться от необходимости проанализировать те же самые примеры, которые уже были приведены классическими авторами, писавшими об остроумии. Но мы намерены кроме этого заняться исследованием и новых материалов, чтобы иметь более веские основания для наших выводов. Затем мы намерены сделать объектами нашего исследования такие примеры остроумия, которые в жизни произвели на нас самих большое впечатление и заставили много смеяться.
Заслуживает ли тема остроумия такого исследования? Я думаю, что это не подлежит сомнению. Помимо личных мотивов, о которых я еще расскажу в этой работе и котррые побуждают меня сделать попытку раскрыть секреты остроумия, я могу сослаться на существование тесной связи между разными душевными процессами,— связи, которая придает ценность психологическому познанию в какой-нибудь одной отдаленной области нечто ценное, не вполне еще признанное в других областях. Нужно помнить также и о том, какое своеобразное очарование вносит остроумие в наше общество. Новая острота обладает таким же свойством, как и событие, к которому проявляют величайший интерес: она передается от одного к другому, как только что полученное известие о победе. Даже видные люди, которые считают нужным сообщать свою биографию, рассказывать, какие города и страны они видели, с какими выдающимися людьми они общались, не пренебрегают случаем поместить в своем жизнеописании те или иные прекрасные остроты, слышанные ими1.
1J. и. Falke. «Lebenserinnerungen», 1897.
/2
3. Фрейд
I. Техника остроумия
Следуя прихоти случая, мы берем первый пример остроумия, который привели в предыдущей главе.
В той части «Путевых картин», которая озаглавлена «Луккские воды», Г. Гейне выводит ценный образ лотерейного коллекционера и мозольного оператора Гирш-Гиацинта из Гамбурга, который хвастает перед поэтом своими отношениями с богатым бароном Ротшильдом и в заключение говорит: «И как бог свят, господин доктор, я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обращался со мною как с равным себе, совершенно фамиллионьярно»1.
На этом примере, считающемся превосходным и очень смешным, Хеймане и Липпе выясняли происхождение комического эффекта остроты при переходе «от смущения из-за непонимания до внезапного уяснения» (см. выше). Но мы оставляем этот вопрос в стороне и задаем себе другой: что же именно превращает разговор Гирш-Гиацинта в остроту? Это может зависеть от двух причин: или мысль, выраженная в предложении, сама по себе носит черты остроумия; или в самом выражении кроется остроумие, которое обнаружила наша мысль. В каком из этих двух объяснений мы усмотрим пример остроумия, в том мы глубже проследим его, исследуем и постараемся уловить его суть.
Мысль может найти свое выражение в общем в различных разговорных формах, то есть в словах, которые могут очень верно передать ее. Речь Гирш-Гиацинта представляет собой определенную форму выражения мысли и, как мы догадываемся, особенную, своеобразную форму — не такую, которую легче всего можно понять. Попробуем выразить эту же мысль другими словами. Липпе уже сделал это и частично объяснил таким образом изложение поэта. Он говорит: «Мы понимаем: Гейне хочет сказать, что обращение было фамильярным. Но оно носило именно тот общеизвестный характер, который обычно не доставляет удовольствия из-за привкуса чужих миллионов». Мы ничего не изменяем в этой мысли, если даем ей другое изложение, которое, быть может, лучше подходит к разговору Гирш-Гиацинта: «Рот-
1 Г. Гейне. Собр. соч. Т. I. С. 359. Спб., 1904. Изд. 2-е. Перевод П. Вейнберга. — У переводчика слово «famillionar» переведено «фа-миллионерно». — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному/3 шильд обошелся со мной совсем как с равным, совсем фамильярно, насколько это может позволить себе миллионер». «Снисходительность богатого человека заключает в себе всегда что-то неудобное для того, кто испытывает ее на себе» — прибавим еще и мы1.
Оставив эту или другую равнозначную формулировку этой мысли, мы видам, что ответ на вопрос, который мы задали себе, уже предрешен. Характер остроумия проистекает в этом примере не за счет ума. Замечание, которое Гейне вкладывает в уста своему Гирш-Гиацинту, верное и меткое. Оно таит очевидную горечь, которая, понятно, легко возникает у бедного человека при виде большого богатства. Но все же мы не решимся назвать это замечание остроумным. Возможно, что кто-то при чтении этого замечания, сделанного нами, вспоминает изложение этой мысли самим поэтом и продолжает думать, что мысль эта сама по себе остроумна. В таком случае мы можем указать на надежный критерий оценки характерной черты остроумия. Рассказ Гирш-Гиацинта заставляет нас громко смеяться. Но даже верная передача смысла этого рассказа по Липпсу или в нашем изложении хотя и может нравиться и побуждать к размышлению, но заставить нас смеяться она не может.
Характер остроумия в нашем примере объясняется не игрой мысли. Его следует искать в форме, в подлинном тексте выражения. Нам нужно изучить особенность этого способа выражения остроумия и понять, что его можно обозначить как технику слова при выражении этой остроты. Причем техника эта должна находиться в тесной связи с сущностью остроты, чьи характерные черты и эффект исчезают при замене этой техники выражения другою. Впрочем, мы находимся в полном согласии с другими авторами, придавая такое значение словесному выражению остроты. Так, например, К. Фишер говорит: «Уже одна только форма может превратить суждение в остроту. При этом невольно вспоминается фраза Жана Поля, выясняющая и доказывающая ту же природу остроты в остроумном же изречении: «Так побеждает одна только позиция, будь то позиция ратников или позиция фраз».
1 К этой остроте мы еще вернемся в другом месте, где будем иметь повод откорректировать данное Липпсом изложение ее сути, приближающееся к нашему анализу. Но и его изложение не мешает нижеследующим рассуждениям.
14
3. Фрейд
В чем же заключается «техника» этой остроты? Что произошло с мыслью, заключенной в нашем изложении, если из нее получилась острота, от которой мы так искренне, от души смеялись? С ней произошли две перемены, как показывает сравнение нашего изложения с текстом поэта. Во-первых, имело место значительное сокращение. Для того чтобы целиком выразить заключающуюся в остроте мысль, мы должны были прибавить к словам «Р обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамильярно» второе предложение, которое в наикратчайшей форме поясняет: то есть в той степени, в какой это может сделать миллионер. И лишь после этого мы почувствовали еще потребность в поясняющем добавлении1. У поэта это выражено гораздо короче: «Р обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамиллионьярно». То ограничение, которое второе предложение прибавляет к первому, констатирующему фамильярное обращение, в остроте утрачено.
Но это' ограничение опущено все-таки не без замены, из которой его можно реконструировать. Имело место и другое видоизменение. Слово «фамильярно» в выражении мысли, лишенном остроумия, превратилось в тексте остроты в «фамиллионьярно». Без сомнения, именно с этим словообразованием связан характер остроумия и смехотворный эффект остроты. Новообразование использует в своем начале слово «фамильярно» из первого предложения, а в своих конечных слогах — слово «миллионер» из второго предложения. Замещая только одну составную часть слова «миллионер», оно как будто замещает все второе, пропущенное предложение и заставляет нас, таким образом, предполагать его в тексте остроты. Его нужно оценивать как смешанное образование из двух слов: «фамильярно» («familiar») и «миллионер» («Millionar»). Можно даже попытаться графически, то есть более наглядно, показать его рождение из обоих этих слов2.
1 То же самое относится к изложению Липпса.
2 Слоги, общие в обоих словах, напечатаны здесь жирным шрифтом в отличие от неодинаковых типов отдельных составных частей обоих слов. Втдрое л (/), которое едва заметно при произношении, разумеется, должно быть пропущено. Понятно, что созвучие нескольких слогов в обоих словах дало повод технике остроумия создать смешанное слово.
Остроумие и его отношение к бессознательному
15
Famili аг Фамил ьярно milionar милионер
Familionar Фамилионьярно
Процесс превращения мысли в остроту можно представить себе следующим образом. (Хотя на первый взгляд он может показаться фантастическим, но, тем не менее, в точности передает действительно имеющий место факт.)
«R обошелся со мной совсем фамильярно, то есть в той степени, в какой это может сделать миллионер».
Теперь допустим, что на эти предложения действует сжимающая сила и что второе из них по какой-то причине более податливо. Тогда оно исчезнет, а существенная составная его часть, слово «миллионер», которое может сопротивляться, будет как бы вдавлено в первое предложение и сольется со столь подобным ему элементом «фамильярно». Именно эта случайная возможность спасти суть второго предложения будет способствовать гибели других, менее важных составных частей. Таким образом, возникает острота: «R обошелся со мной совсем
фа<. , ьярно ^мил/ лионьярно
'лионер
I famili . on — аг ( mili /
Даже кроме такой сжимающей силы, которая нам фактически неизвестна, мы можем рассматривать процесс образования остроты, то есть технику остроумия в этом случае, как сгущение с заместительным образованием. В нашем случае заместительное образование представляет собой смешанное слово «фамиллионьярно». Само по себе непонятное, но присоединенное к первой части предложения слово стало исполненным смысла, стало носителем эффекта остроты, заставляющего нас смеяться, хотя секреты его механизма нам все-таки ни на йоту не приоткрылись. Но всегда ли процесс сгущения с заместительным образованием в виде смешанного слова может доставить нам удовольствие и заставить смеяться? Это уже другая проблема, обсуждение которой мы должны отложить до тех пор, пока не найдем к ней подхода. Предварительно же займемся техникой остроумия.
По нашему мнению, анализ техники остроумия необходим для понимания сущности самого остроумия. Поэтому мы хотим прежде
16
3. Фрейд
всего исследовать, существуют ли другие примеры острот, построенных аналогично гейневскому «фамиллионьярно». Их существует не особенно много, но все же достаточно для того, чтобы составить из них небольшую группу словообразований, полученных путем смешивания. Гейне сам создал из слова «миллионер» вторую остроту, как бы подражая самому себе. Он говорит «Millionarr», что является, как нетрудно догадаться, сокращенной комбинацией слов «МПНопаг» и «Narr» (в переводе с немецкого — «дурак»). Подобно первой остроте, здесь тоже дается выражение подавленной задней мысли.
Вот другие известные мне примеры. Жители Берлина называют «Форкенкладезем» один колодец в своем городе, сооружение которого доставило много неприятностей бургомистру Форкенкла-ду1, и этому названию нельзя отказать в остроумии, хотя слово «колодец» пришлось превратить при этом в неупотребительное «кладезь», чтобы получилось нечто общее с фамилией. Злое остроумие Европы окрестило как-то одного монарха Клеопольдом, вместо Леопольда, из-за его интимных отношений с дамой по имени Клео; это несомненная работа сгущения, когда присоединение всего одной буквы создает вполне прозрачный намек. Собственные имена вообще легко подвергаются такой обработке со стороны техники остроумия. Например, в Вене было два брата по фамилии Salinger. Один из них был биржевым маклером (Borsensal). Это дало повод назвать одного брата Sensalinger2, а другому брату дать нелюбезное прозвище Scheusalinger3. Оно было удобно и, конечно, остроумно. Правда, я не знаю, было ли оно справедливо. Но острословы обычно не очень заботятся об этом.
Мне рассказали следующую остроту, появившуюся в результате сгущения.
«Молодой человек, который вел на чужбине легкомысленный образ жизни, посетил после долгого отсутствия живущего на ро
1 Настоящая фамилия бургомистра Forkenbeck; чтобы сохранить технику этой остроты, пришлось несколько видоизменить эту фамилию. — Примеч. перев.
2 Сгущение слов: Sensal (маклер)
Salinger — Sensalinger.
3 Сгущение слов: Scheusal (урод)
Salinger — Scheusalinger.
Остроумие и его отношение к бессознательному/7
дине друга. Тот опешил, увидя на руке своего гостя обручальное кольцо. «Как? — воскликнул он.— Разве вы женаты?» «Да,— гласил ответ.— Венчально, но это так».
Острота великолепна, ибо в слове «венчально» присутствуют два компонента — словосочетание «обручальное кольцо», искаженное в «венчальное», и предложение «печально, но это так». Действию остроты не мешает здесь тот факт, что смешанное слово не является непонятным и неспособным к существованию продуктом, а целиком покрывается одним из обоих сгущенных элементов1 (в отличие от слова «фамиллионьярно»),
Я сам случайно доставил материал для остроты, вполне аналогичной тому же «фамиллионьярно». Я рассказывал одной даме о больших заслугах одного исследователя. «Этот человек заслуживает, конечно, монумента»,— сказала она. «Возможно, что он его когда-нибудь получит,— ответил я.— Но в настоящий момент его успех очень невелик». «Монумент» и «момент» — противоположности. Дама эти противоположности объединила: «Итак, пожелаем ему монументального успеха».
Прекрасная обработка этой же темы в английском языке (А.А. Брилль. «Freuds Theory of wit, Journal of abnormal Psychology», 1911) тоже дала мне несколько примеров, которые указывают на тот же механизм, что и наше «фамиллионьярно».
«Английский автор де Куинси,— рассказывает Брилль,— отметил где-то, что старые люди склонны к тому, чтобы впадать в «anecdotage». Это слово образовалось из слияния частично покрывающих друг друга слов:
anecdot
dotage (детская болтовня).
В одной анонимной краткой истории Брилль нашел однажды обозначение для Рождества Христова в виде «the alcoholidays». Обозначение это является прямым слиянием слов:
alcohol
holidays (праздничные дни).
1 Слово «венчально» является продуктом сгущения слов: венчальное „
----------= венчально. — Примеч. перев. пе чально
18
3. Фрейд
Когда Флобер напечатал свой знаменитый роман «Салам-бо», в котором действие происходит в Карфагене, Сент-Беф в насмешку за точное описание деталей прозвал его Carthagi-noiserie:
Carthaginois
chinoiserie (китайщина).
Автором превосходнейшей остроты, принадлежащей к этой группе, является один из первых мужей Австрии, который после значительной научной и общественной деятельности занял высшую должность в государстве. Я позволил себе в качестве материала для исследования1 взять одну из тех острот, которые приписываются этому лицу и действительно имеют один и тот же отпечаток. И сделал это, прежде всего, потому, что вряд ли можно добыть материал лучше.
«Господин N. обратил однажды внимание на личность автора, который был известен целым рядом скучных статей, напечатанных им в ежедневной венской газете. Статьи эти повествуют о небольших эпизодах из истории отношений Наполеона I к Австрии. Автор имел красные волосы. Господин N., услышав его имя, спросил: «Это не красный ли пошляк (Fadiah)2, который проходит через историю Наполеонады?»
Чтобы понять технику этой остроты, мы должны обратиться к тому процессу редукции, при котором эта острота исчезает с изменением выражения и вместо нее снова возвращается то первоначальное содержание мысли, которое безусловно можно уловить в каждой хорошей остроте. Острота господина N. о красном пошляке (Fadian) произошла из двух компонентов: из неодобрительного мнения об авторе и из воспоминания о знаменитой притче, которой Гете начинает выдержки «Из дневника Оттилиенса» в
1 Имею ли я право на это? Я узнал эти остроты, по крайней мере, легальным путем. Они всем известны в этом городе (Вене) и перебывали на устах у всех. Часть из них опубликовал Эдуард Ханслик в «Neue freie Presse» и в своей автобиографии. За искажения, которые, быть может, произошли в остальных остротах и которых едва ли можно было избежать, я приношу извинения.
2 Rote Fadian — красный пошлдк, rote Faden — красная нить. Отсюда — непереводимая игра слов. — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному 19
«Wahlverwandtschaften»1. Недовольная критика могла бы ворчать: «Это, следовательно, тот человек, который вечно пишет только скучные фельетоны о Наполеоне в Австрии!» Это выражение вовсе не остроумно. Так же не остроумно и прекрасное сравнение 1ете и оно, конечно, не способно заставить нас смеяться. Лишь когда оба эти выражения приходят в связь друг с другом и подвергаются своеобразному процессу сгущения и слияния, тогда возникает острота, причем острота перворазрядная2.
Связь между дурным отзывом о надоедливом историке и прекрасным сравнением в «Wahlverwandtschaften» я должен объяснить несколько более сложным путем, чем это делается во многих подобных случаях, и по соображениям, которые я здесь еще не могу объяснить. Я попытаюсь заменить предполагаемый процесс следующей конструкцией. Прежде всего, постоянное возвращение к одной и той же теме могло пробудить у господина N. отдаленное воспоминание о том известном месте в «Wahlverwandtschaften», которое в большинстве случаев неправильно цитируется словами «Это проходит красной нитью». «Красная нить» сравнения видоизменила способ выражения первого предложения из-за случайного обстоятельства: и тот, кого ругали, был красным, точнее — красноволосым. Теперь эта мысль могла утверждать: следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет скучные фельетоны о Наполеоне. Дальше начал действовать процесс, обусловивший сгущение обеих частей в одно целое. Под давлением этого процесса, который нашел первую точку опоры в тождестве элемента «красный», слово «скучный» ассимилировалось с «Faden» (нить) и превратилось в
1 «Мы слышим об особом устройстве в английском флоте. Все без исключения канаты в королевском флоте, от самого толстого до самого тонкого, сплетены таким образом, что через всю их длину проходит красная нить, которая не может быть выдернута, если не расплетен весь канат, и мельчайшие частички которой несут на себе печать принадлежности к короне. Так же тянется и через дневник Оттилиенса нить влечения и привязанности, которая все связывает и характеризует все в целом».
2 Я хочу указать только на то, как мало согласуется это регулярно повторяющееся наблюдение с утверждением, что острота является игривым суждением.
20
3. Фрейд
«fad» (пошлый), а затем оба компонента могли слиться в подлинный текст остроты, в котором цитата участвует чуть ли не в большей мере, чем само первоначально имевшееся ругательное суждение:
Следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет пошлый (fad) вздор о N.;
красная нить (Faden), которая
проходит через все в целом.
Не красный ли это пошляк (Fadian), который проходит через всю историю N.? Оправдание, а также корректуру этого изложения я дам в одной из дальнейших глав, когда буду анализировать эту остроту, исходя из чисто формальных точек зрения. И что бы в этом изложении ни было под сомнением, но только не тот факт, что здесь произошло сгущение. Результатом сгущения является опять-таки, с одной стороны, значительное укорочение изложения мысли, с другой стороны, вместо бросающегося в глаза словообразования путем смешивания здесь происходит взаимное проникновение составных частей обоих компонентов. «Красный пошляк» (Fadian) могло бы все-таки существовать просто как ругательство; в нашем же случае — это безусловно продукт сгущения.
Возможно, читатель в этом месте вознегодует по поводу образа мышления, угрожающего ему разрушением удовольствия от остроумия, но не показывающего, однако, источников этого удовольствия. В таком случае я прежде всего попрошу его вооружиться терпением. Мы занимаемся только техникой остроумия, и ее исследование обещает найти разъяснение лишь в том случае, если мы будем иметь довольно большой объем материала.
Анализ последнего примера уже подготовил нас к тому, что если мы встретим процесс сгущения и в других примерах, то замена подавленного может быть дана не только новым словообразованием путем смешивания, но и другим изменением выражения. В чем состоит эта иная замена, мы узнаем из других острот господин N.
«Я ездил с ним tete-a-bete». Нет ничего легче, чем редуцировать эту остроту. Очевидно, что она может означать только: «Я ездил tete-a-tete с X., и этот X.— глупая скотина». Ни одна из обеих этих фраз не остроумна. Но и объединение их в одно предложение «Я ездил tete-a-bete с этой глупой скотиной X.» осталось таким же
Остроумие и его отношение к бессознательному 21
малоостроумным. Острота получается лишь в том случае, когда слова «глупая скотина» опускаются и взамен этого одно tete превращает своё «Ь> в «Ь». Из-за этой незначительной модификации подавленное сначала слово «скотина» снова появляется в выражении. Технику этой группы острот можно описать как сгущение с незначительной модификацией, и, конечно, острота будет тем удачнее, чем меньше бросается в глаза замещающая модификация.
Совершенно такова же, хотя и менее сложна, техника другой остроты. Господин N. в разговоре об одном человеке Y, который заслуживает много похвал, но в котором можно найти и много недостатков, отзывается так: «Да, тщеславие является одной из его четырех Ахиллесовых пят»1. Небольшая модификация заключается здесь в том, что вместо одной Ахиллесовой пяты, допустимой у героя, у Y. констатируют четыре, а следовательно и четыре ноги, что бывает.только у животных. Таким образом, обе сгущенные в остроте мысли гласили: «Y, если не обращать внимание на его тщеславие, выдающийся человек. Но я все же не люблю его, потому что он все-таки скорее животное, чем человек»2.
Такова же, но только гораздо проще, другая острота, которую я имел возможность слышать in statu nascendi (в момент ее возникновения) в семейном кругу. Из двух братьев-гимназистов один — отличник, другой учится посредственно. Однажды с образцовым учеником в школе произошел несчастный случай, о котором мать завела разговор, выразив свое опасение, что это может привести к снижению оценок. Другой мальчик, находившийся до сих пор в тени своего брата, охотно подхватил тему: «Ja,— сказал он.— Karl geht auf alien Vieren zuriick». (В переводе это означает: «Да, Карл опускается до четверок» (вместо пятерок); или «Да, Карл пятится назад на всех четырех».)
Модификация заключается здесь в небольшом добавлении к уверению, что другой также, по его мнению, опускается. Но эта
1 Эту же самую остроту высказал еще раньше Г. Гейне по адресу Альфреда де Мюссе.
2 Одно из усложнений техники показанного примера заключается в том, что модификация, которая заменяет пропущенное ругательство, должна обозначать только намек на это ругательство, к которому приводит процесс умозаключения.
22
3. Фрейд
модификация заменяет страстную защиту собственных интересов. «Вообще вы не должны думать, будто Карл лучше меня успевает в школе потому только, что он одареннее меня. Он все же только глупое животное, то есть гораздо глупее меня».
Прекрасным примером сгущения с небольшой модификацией является другая весьма известная острота господина N. Об одном принимавшем участие в общественной жизни человеке N. говорил, что тот имеет великую будущность позади себя. Человек, к кому относилась эта острота, был молодым и по своему происхождению, воспитанию и личным качествам, казалось, имел все данные со временем стать руководителем партии и, находясь во главе ее, достигнуть высокого поста. Но времена изменились. Партия перестала принимать участие в правлении, и можно было предсказать, что и человек, предназначавшийся ей в руководители, ничего значительного не достигнет. Кратчайшее редуцированное изложение, которым можно было бы заменить эту остроту, должно было бы гласить: этот человек имел впереди великое будущее, которого теперь не стало. Вместо пропущенных слова «имел» и придаточного предложения, в главном предложении происходит небольшое изменение: вместо слова «впереди» употреблено противоположное ему слов «позади»1.
Почти к такой же модификации прибег господин N. в случае с одним кавалером, назначенным министром земледелия только потому, что он сам был земледельцем. Вскоре о нем сложилось общественное мнение как о наименее способном из всех, кто занимал эту должность. И когда он. сложил с себя обязанности министра и опять вернулся к своим земледельческим занятиям, господин N. сказал о нем: «Он, как Цинциннат, вернулся на свое место перед плугом». Римлянин Цинциннат, которого тоже оторвали от земледелия, чтобы сделать министром, снова занял свое место позади плуга. Перед плугом же идет, как известно, только бык.
1 На технику этой остроты оказывает влияние еще и другой момент, упоминание о котором я приберегаю для дальнейшего изложения. Он касается характерной черты содержания модификации. (Изображение путем противоположности, бессмыслицы.) Технике остроумия ничто не препятствует пользоваться одновременно многими приемами, которые мы можем изучать только последовательно.
Остроумие и его отношение к бессознательному 23
Удачным сгущением с небольшой модификацией является также высказанное Карлом Краусом сообщение об одном так называемом револьвер-журналисте, который поехал в одну из Балканских стран восточным erpress-поездом. Очевидно, в этом слове имеется совпадение двух других слов: «экспресс-поезд» и «Erpressung» («шантаж», «вымогательство»). Вследствие связи между ними элемент «Erpressung» оказывается только требуемой от слова «express-поезд» модификацией. Эта острота, симулирующая опечатку, представляет для нас и другой интерес.
Мы легко могли бы в значительной мере умножить число этих примеров, но, я думаю, нет нужды в новых случаях, чтобы уловить характер техники во второй группе — это сгущение с модификацией. Если мы сравним вторую группу с первой, техника которой состояла в сгущении со словообразованием путем смешивания, то мы легко заметим, что разница между ними несущественная и переход от одной группы к другой выражен не резко. Словообразование путем смешивания и модификация подпадают под понятие заместительного образования, и, если угодно, мы могли бы описать словообразование путем смешивания так же, как модификацию основного слова другим словом.
Но здесь мы должны сделать первую остановку и спросить себя, каким известным в литературе достоинством обладают целиком или отчасти полученные нами модификации острот. Очевидно, краткостью, которую Жан Поль называет душою остроты. Но краткость сама по себе еще не остроумна; иначе каждое лаконическое выражение было бы остротой. Краткость остроты должна быть особого рода. Мы вспоминаем, что Липпе сделал попытку точнее описать особенность краткости остроумия. Наше же исследование установило и доказало, что краткость остроумия часто является результатом особого процесса, который оставляет в тексте остроты второй след — заместительное образование. Но при применении процесса редукции, который имел целью упразднить своеобразный процесс сгущения, мы нашли также, что острота зависит только от словесного выражения, которое создается в процессе сгущения. Естественно, что теперь весь наш интерес сосредоточится на этом странном процессе, до сих пор не оцененном в должной мере. Мы все еще никак не можем
24
3. Фрейд
понять, как из него может возникнуть самое ценное в остроумии: удовольствие, которое оно доставляет нам.
Известны ли в какой-либо другой области духовной жизни подобные процессы, которые мы описали здесь как технику остроумия? Да, в одной-единственной и, по-видимому, очень отдаленной области. В 1900 году я выпустил в свет книгу, которая, как показывает ее заглавие «Толкование сновидений», делает попытку объяснить загадку сновидений и считает их производными нормальной духовной деятельности. Я имел там основание противопоставить явное, часто странное содержание сновидений латентным, но вполне логичным мыслям, из которых оно создается. При этом я провел тщательное исследование процессов, которые создают сновидение из латентных мыслей во время сна, и анализ психических сил, которые принимают участие в этом превращении. Совокупность процессов превращения я назвал работой сна. Частью этой работы я считаю процесс сгущения, который обнаруживает величайшее сходство с процессом сгущения в технике остроумия, ведет, подобно ему, к укорочению сновидения и создает заместительные образования такого же характера. Каждый помнит в своих сновидениях смешанные образы лиц и даже предметов. Во время сна также образуются слова, которые затем можно разложить путем анализа (например, Автодидаскер = = Автодидакт + Ласкер). В других случаях, встречающихся, быть может, еще чаще, сгущающая работа сновидения создает не смешанные образы, а картины, вполне тождественные предмету или лицу, иногда с изменениями, происходящими из другого источника. Следовательно, в этих случаях мы имеем такие же модификации, как в остротах господина N. Мы не можем сомневаться в том, что и в одном, и в другом случае мы имеем один и тот же психический процесс, который узнаем по идентичным результатам. Столь далеко идущая аналогия между техникой остроумия и работой сна должна, конечно, повысить наш интерес к технике остроумия и пробудить в нас надежду извлечь из сравнения остроты со сновидением нечто новое для объяснения остроумия. Но мы временно обложим эту работу ввиду того, что исследовали технику остроумия лишь в очень небольшом количестве случаев, и поэтому не знаем, существует ли та аналогия, которую мы хотим провести. Итак, мы прекращаем сравнение со сновидением
Остроумие и его отношение к бессознательному 25
и возвращаемся опять к технике остроумия, прерывая в этом месте нить нашего исследования, которое мы в дальнейшем, быть может, вновь продолжим.
Первое, что мы хотим узнать,— можно ли доказать, что процесс сгущения с заместительным образованием во всех остротах составляет общую характерную черту техники остроумия?
Я вспоминаю об одной остроте, которая осталась у меня в памяти в силу особых обстоятельств. Один из великих учителей моей молодости, которого мы не считали способным оценить остроту и от которого никогда не слышали ни одной его собственной остроты, пришел однажды улыбаясь в институт и дал охотнее, чем когда-либо раньше, ответ по поводу своего веселого настроения: «Я прочел великолепную остроту. В парижский салон был введен молодой человек, который являлся родственником великого Жан-Жака Руссо и носил эту же фамилию. Кроме того, он был рыжеволосым. Но он вел себя так неловко, что хозяйка дома, критикуя его, обратилась к гр-ну, который его представил: «Vbus m’avez fait connaitre un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau»1. И он снова засмеялся.
Это, по системе авторов, острота по созвучию, и острота не пер-воразрядная^ играющая собственным именем так же, как и острота капуцина из «Лагеря Валленштейна», которая, как известно, построена по образцу Абрахама Санта-Клара:
Lasst sich пеппеп den Wallensteien, ja freilich 1st er uns alien ein Stin des Anstosses and Argernisses2.
1 «Вы познакомили меня с рыжим и глупым, однако он не Руссо».
2 И Валленштейном ведь зваться привык: Я, дескать, камень — какой вам опоры? Подлинно — камень соблазна и ссоры!
Библиотека всемирной литературы. Европейские классики. Шиллер. Т. II. Лагерь Валленштейна. С. 20. Перевод Л. Мея. Москва, 1913. — Примеч. перев.
Что эта острота в силу другого момента заслуживает еще более высокой оценки, можно будет показать лишь в дальнейшем.
26
3. Фрейд
Но какова же техника этой остроты?
Теперь оказывается, что характерная черта, которую мы, быть может, надеялись доказать во всех случаях, исчезает уже в первом новом случае. Здесь нет никакого пропуска и никакого укорочения. Дама высказывает в остроте почти все, что мы можем предположить в ее мыслях.
«Вы заинтересовали меня родственником Жан-Жака Руссо; быть может, его родственником по духу. А оказывается, что это рыжий глупый юнец (roux et sot)». Я, правда, сделал здесь добавление, вставку, но от этой попытки редукции острота не исчезает. Она остается, так как осталось созвучие
Rousseau
roux sot
Это доказывает, что сгущение с заместительным образованием не принимало никакого участия в рождении этой остроты.
Но что же оказывается? Новые попытки редукции могут показать мне, что эта острота остается устойчивой до тех пор, пока фамилия Rousseau не заменяется другой. Я ставлю, например, вместо нее фамилию Racine, и тотчас критика дамы, которая может иметь место, как и раньше, теряет след остроумия. Теперь я знаю, где мне искать технику этой остроты, но я еще колеблюсь формулировать ее. Я пытаюсь толковать следующим образом: техника остроты заключается в том, что одно и то же слово — фамилия — выступает в двух вариантах: один раз — как единое целое, а затем — разделенное на свои слоги, как шарада.
Я могу привести несколько примеров, которые по своей технике вполне идентичны с этим.
Одна итальянка отомстила Наполеону I за бестактную остроту, основанную на этой же технике двоякого применения. На придворном балу он сказал ей, указывая на ее поселян: «Tutti gli Italian! danzando si male»1, на что она метко возразила: «Non tutti, ma buona parte»2. (Брилль, I. c.)
(По T. Фишеру и К. Фишеру.) Когда в Берлине была однажды поставлена «Антигона», критика нашла, что исполнению недоставало характера античности. Берлинское остроумие усвои
1 «Все итальянцы танцуют так плохо».
2 «Нет, не все, но добрая часть».
Остроумие и его отношение к бессознательному 27
ло эту критику в следующем виде: Antik? Oh, nee (Антично? О нет.)
Antik? Oh, nee
Antigone
Во врачебных кругах популярна аналогичная острота, рожденная путем разделения. Когда врач допрашивает одного из своих юных пациентов, не занимался ли он когда-нибудь мастурбацией, он, вероятно, не слышит другого ответа, кроме: «О па, nie (О нет, никогда)»
О па, nie
Onanie
Во всех трех примерах, которые достаточны для этого вида остроты, имеет место одна и та же техника остроумия. Слово употребляется в них двояко: один раз — целиком, другой раз — разделенное на слоги, причем в этом разделении слоги получают совершенно другой смысл1 * * * * * * В.
Многократное употребление одного и того же слова (один раз — как чего-то целого, а затем — слогов, на которые оно рас
1 Удачность этих острот основана на том, что одновременно нашел себе применение другой технический прием, гораздо более высокого порядка (см. ниже). Кроме того, я могу в этом месте обратить внимание на отношение остроты к загадке. Философ Франц Брентано создал особый вид загадок. В них нужно отгадать один-два слога, которые, будучи присоединены к слову или находясь с ним в том или ином сочетании, придают ему другой смысл. Например:
«Кузнец, таз куя, сказал тоскуя: «Лучше таз ковать, чем тосковать».
Или: «Wie du den Inder hast verschrieben, in der Hast verschrieben?» («Как ты описал индийца, записывая в спешке?»)
Слоги, которые нужно отгадать, заменяются в предложении слогом
«dal», повторяемым соответственно каждому недостающему слогу. Коллега Брентано остроумно отомстил ему, когда услышал о помолвке
философа, человека уже в зрелых годах, спросив: «Dal daldal daldaldal?»
(Brentano brennt-a-no? Брентано не пылает ли?)
В чем же заключается разница между этими загадками и приведенными выше остротами? В том, что в загадках техника дана как условие и нужно отгадать текст, в то время как в остротах дан текст, а техника скрыта.
28
3. Фрейд
падается) является первым встреченным нами случаем уклонения от техники сгущения. После краткого размышления мы можем догадаться из множества приходящих нам в голову примеров, что новооткрытая нами техника вряд ли ограничивается одним этим приемом. Очевидно, имеется необозримое, на первый взгляд, число всевозможных приемов, прибегая к которым можно использовать одно и то же слово или один и тот же набор слов для многократного применения в предложении. Должны ли все эти возможности учитываться нами как технические приемы остроумия? По-видимому, да. Нижеследующие примеры острот покажут это.
Можно, прежде всего, взять один и тот же набор слов и только немного изменить их порядок. Чем незначительнее изменение и скорее создается впечатление, что теми же словами выражена мысль все же отличная от первой, тем удачнее в техническом отношении полученная острота.
Д. Шпитцер (Wiener Spaziergange, II. Bd., S. 42):
«Супружеская чета X. живет на широкую ногу, По мнению одних, муж много заработал и при этом отложил себе (sich zuruckgelegt) немного; по мнению других, жена немного прилегла (sich zuruckgelegt) и при этом много заработала»1 2.
Это прямо-таки чертовски удачная острота! И с помощью каких незначительных средств она создана! Много заработал — немного отложил (sich zuruckgelegt), немного прилегла (sich zuruckgelegt) — много заработала. Это является собственно ничем иным, как перестановкой обеих фраз, после которой сказанное о муже резко отличается от сказанного о жене. Конечно, и здесь это опять-таки не исчерпывает всей техники этой остроты2.
Большой простор открывается технике остроумия, когда при «многократном употреблении одного и того же материала» применяются
1 Острота основана на двояком значении слова «sich zurucklegen»: отложить и прилечь. — Примеч. перев.
2 Равно как не исчерпывает этот механизм отличной, приведенной у Брилля остроты Оливера Уэнделла Холмса: «Put not your trust in money, but put your money in trust». Здесь предсказывается противоречие, которое не наступает. Вторая часть этого предложения упраздняет противоречие. Кроме того, это хороший пример непереводимости острот с такой техникой.
Остроумие и его отношение к бессознательному 29
слова, ставшие источником остроты, причем в некоторых случаях — в неизмененном виде, в других — с небольшой модификацией.
Вот, например, еще одна острота господина N.
Он услышал от одного человека, который сам был рожден евреем, враждебный отзыв о характере евреев. «Да,— подумал он про себя.— Ваш антисемитизм (ante — прежде) был мне известен, но ваш антисемитизм является для меня новостью».
Здесь изменена только одна буква, модификация которой при невыразительном произношений едва может быть уловлена. Этот пример напоминает о других остротах господина N., основанных на модификации, но в отличие от тех этой не достает сгущения. В самой остроте сказано все, что следовало сказать: «Я знаю, что раньше вы сами были евреем. Поэтому меня и удивляет, что именно вы ругаете евреев». Прекрасным примером такой остроты, возникающей путем модификации, является также известное восклицание: Traduttore — Traditore!
Сходство, граничащее почти с тождественностью, создает для переводчика настоятельную необходимость стать нарушителем закона в отношении к своему автору1.
Разнообразие возможных небольших модификаций в таких остротах очень велико,’ и среди них нет одинаковых.
Вот острота, имевшая место на юридическом экзамене! Кандидат должен перевести место из Corpus juris:
«Labeo2 ait... (Я проваливаюсь, говорит он)»...
«Вы провалились, говорю я»,— заявляет экзаменатор и на этом заканчивает экзамен. Кто ошибочно признает имя великого ученого-юриста за слово, к тому же неправильно переводя его, тот, конечно, не заслуживает лучшего отношения. Но техника остроты заключается в том, что для наказания кандидата экзаменатор применил почти те же слова, которые обнаружили пробел в знаниях сдающего. Эта острота является, кроме того, примером находчивости, техника которой, как можно будет показать, немногим отличается от анализируемой здесь техники остроумия.
1 Брилль цитирует вполне аналогичную остроту, основанную на модификации amantes — amentes (влюбленные —дураки).
2 Labeo — Лабеон, великий юрист. — Примеч. перев.
30
3. Фрейд
Слова являются пластическим материалом, с которым можно поступать по-разному. Есть слова, которые в отдельных случаях утрачивают свое первоначальное прямое значение. В одной остроте Лихтенберга подчеркнуты именно те соотношения, при которых потерявшие свой первоначальный смысл слова снова должны получить его.
«Как идут дела?» — спросил слепой хромого. «Как видите»,— ответил хромой слепому.
В немецком языке (как и в русском) есть слова, которые могут быть в одном случае полны глубокого смысла, а в другом — смысл их может быть незначительным. Словам этим придается не одно значение. Из одного корня могут развиться две различные производные: одна — в слово, имеющее определенное значение, другая — в потерявшие свое прямое значение суффиксы и приставки; тем не менее оба слова произносятся тождественно. Созвучие между полным значения словом и потерявшими свое значение слогами может быть и случайным. В обоих случаях техника остроумия может извлечь пользу из таких соотношений речевого материала.
Шлейермахеру приписывается, например, острота, которая важна для нас как наглядный пример такого технического приема: «Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft»1.
Это, безусловно, остроумно, хотя и недостаточно тонко для остроты. Здесь отпадает много моментов, что может ввести в заблуждение при анализе других видов острот, пока мы не исследуем каждый из них в отдельности. Мысль, выраженная в этом тексте, нельзя назвать ценной. Она дает совсем неудовлетворительное определение ревности. Здесь нет и речи о «смысле в бессмыслице», о «скрытом смысле», о «смущении и внезапном уяснении». Здесь даже при величайшей натяжке нельзя найти контраста представлений и только с большой натяжкой можно увидеть контраст между словами и тем, что они означают. Здесь нельзя найти никакого
1 «Ревность — это страсть, которая ревностно выискивает, что может причинить страдание». В русском переводе сохранился только намек на созвучие слов: ревность — ревностно, страсть — страдание. — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному 3]
укорочения; наоборот, текст производит впечатление многоречивости. И все же это острота и даже очень совершенная. Ее единственная бросающаяся в глаза характерная черта является вместе с тем той чертой, с упразднением которой исчезнет острота. Заключается она в том, что одни и те же слова подвергаются здесь многократному употреблению. Затем нужно решить, можно ли отнести эту остроту к разряду тех, в которых слово употребляется один раз как целое, а затем — разделенное на слоги (как Rousseau, Antigone). Или же оно относится к другому разряду, в котором разнородный смысл создается благодаря употреблению составных частей слова, имеющих конкретное значение, и потерявших его. Кроме этого, заслуживает внимания еще один момент техники остроумия. Здесь создана необычная связь, принят вид унификации, при котором ревность определяется своим собственным термином. И это тоже, как мы здесь рассмотрим, является элементом техники остроумия. Оба этих момента будут, таким образом, достаточны для определения искомого характера остроумия.
Если мы еще глубже вдумаемся в разнообразие «многократного употребления» одного и того же слова, то заметим, что имеем перед собой формы «двусмысленности» или «игры слов», которые давно уже общеизвестны и оценены в качестве технических приемов остроумия.
Зачем же мы старались открыть нечто новое, если могли позаимствовать его из самой поверхностной статьи об остроумии? В свое оправдание могу привести только то, что подчеркиваю в этом самом феномене разговорного выражения еще и другую сторону. То, что другие авторы называют «игривым характером» остроумия, у нас относится к разряду «многократного употребления».
Другие случаи многократного употребления, которые допустимо объединить под названием «двусмысленности» в новую третью группу, можно отнести к разрядам, которые резко не отличаются друг от друга, как и вся третья группа не очень отличается от второй.
Прежде всего существуют:
А. Случаи двусмысленности имени собственного и его вещественного значения. Например: «Driick dich aus unserer Gesellschaft ab, Pistol» (у Шекспира), что в переводе может означать «Убирайся из нашего общества, Пистоль» и «Спусти курок в нашем обществе, пистолет».
32
3. Фрейд
«Mehr Hof, als Freiung» («Больше ухаживаний, чем сватовства»),— сказал остроумный житель Вены по адресу нескольких красивых девушек, за которыми долго ухаживали, но они все еще не нашли себе мужей. С другой стороны, «Hof» и «Freiung» — дре примыкающие друг к другу площади в центре Вены.
[Аналогичные примеры такой двусмысленности дают в диктантах для испытания сообразительности учеников. Например, «В деревне Волки церковь с ели». Прекрасный образец такого остроумия дан в первой части трилогии А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». «По нитке с миру сбираю, царь, Нагому на рубаху»,— говорит шут о боярине Нагом — Перев.]
Там, где имя собственное нельзя употребить (точнее говоря, где им нельзя злоупотреблять), двусмысленность может быть достигнута путем известных нам небольших модификаций:
«Почему французы отказались от Лоэнгрина?» — спрашивали в прошедшие времена. Ответ гласил:
«11555 wegen» (из-за<Я^-
Elsass \ Эльзы /
Б. Двусмысленность вещественного и метафорического значения слова стала обильным источником для развития техники остроумия. Привожу такой пример. Один коллега — врач, известный остряк — сказал однажды поэту Артуру Шнитцлеру: «Я не удивляюсь, что ты стал известным поэтом. Ведь у твоего отца уже нашлось зеркало для его современников». Зеркало, которым пользовался отец поэта, известный врач Шнитцлер, было ларингоскопом. По известному выражению Гамлета, цель драмы, а также поэта, создающего ее, «была, есть и будет — отражать в себе природу; добро, зло, время и люди должны видеть себя в нем, как в зеркале» (сцена 2. Перевод Кронеберга).
В. Собственно двусмысленность или игра слов; так сказать, идеальный случай многократного употребления. Над словом не производят никаких насильственных манипуляций. Оно не расчленяется на слоги, составляющие его; нет нужду подвергать его какой-либо модификации; не нужно смешивать область, к которой оно принадлежит (допустим, имя собственное), с другой областью. В таком виде, в каком оно находится и стоит в общей структуре фразы, оно может выражать двоякий смысл при стечении некоторых обстоя^ тельств.
Остроумие и его отношение к бессознательному 33
В нашем распоряжении имеется много таких примеров.
По К. Фишеру: Одним из первых актов последнего Наполеона во время его регентства явилась конфискация имущества Орлеанского дома. Удачная игра слов создала тогда фразу: «C’est 1е premier vol de I’aigle». «Vol» означает полет, а также грабеж.
Людовик XV захотел испытать остроумие одного из своих придворных, о таланте которого ему рассказывали. При первом удобном случае он приказывает кавалеру сострить над ним самим; то есть он сам, король, хочет быть «сюжетом» этой остроты. Придворный ответил удачной пословицей: «Le roi n’est pas sujet». «Sujet» означает также и «подданный».
Врач, отходящий от постели больной женщины, говорит, покачивая головой, сопровождающему его супругу: «Эта женщина мне не нравится». «Мне она уже давно не нравится»,— поспешно соглашается муж. Врач имеет в виду, разумеется, состояние здоровья больной женщины, но он выразил свое опасение за больную такими словами, что муж нашел в них выражение своего супружеского отношения.
Гейне сказал об одной сатирической комедии: «Эта сатира не была бы такой едкой, если бы поэт имел больше еды». Эта острота является скорее примером метафорической и обыденной двусмысленности, чем примером чистой игры слов. Но кому охота держаться здесь точных разграничений?
Другой хороший пример приводится некоторыми авторами (Хеймане, Липпе) в форме, затрудняющей понимание игры слов1. Пра
1 «Когда Сафиру,— говорит Хеймане,— богатый кредитор, которого он посетил, задал вопрос «Вы, конечно, пришли за 300 гульденов?», Сафир ответил фразой: «Нет, вы проиграли 300 гульденов» (umkommen — «приходить за» и «проигрывать»). Здесь то, что он думает, выражено вполне в корректной, разговорной и отнюдь не в необычной форме. В действительности дело обстоит так: ответ Сафира сам по себе обдуман вполне ясно и определенно. Мы понимаем, он хочет сказать, что не намерен платить свой долг. Но Сафир употребляет те же слова, которые до этого были употреблены кредитором. Поэтому и мы не можем не принять их в таком же значении, в каком они были употреблены кредитором. И тогда ответ Сафира не имеет никакого смысла. Кредитор вообще не «приходит». Он не может также приходить за 300 гульденов, то есть он не
34
3. Фрейд
вильное изложение и формулировку этой остроты я нашел недавно в одном, правда, малораспространенном сборнике острот1.
«Сафир встретился однажды с Ротшильдом. Когда они немного поболтали друг с другом, Сафир сказал: «Послушайте, Ротшильд, моя касса истощилась. Не могли бы вы одолжить мне 100 дукатов?». «Пожалуй,— ответил Ротшильд,— это для меня пустяки. Но только при условии, что вы сострите». «Для меня это тоже пустяки»,— возразил Сафир. «Хорошо, тогда приходите завтра ко мне в контору». Сафир явился точно в назначенное время. «Ах,— сказал Ротшильд, увидя вошедшего Сафира,— вы пришли за (kommen urn) своими 100дукатами?» «Нет,— возразил тот.— Это вы проиграли (kommen urn) свои 100 дукатов, так как мне до конца дней своих не придет в голову возвратить их вам».
тт представляют
<<Чт0 выставляют " (stellen vor) эти статуи?» —
спросил приезжий у жителя Берлина при виде ряда памятников на площади. «Что? — ответил тот.— Либо правую, либо левую ногу»2 3.
(«Куда вы попадете, если воткнете нож между четвертым и пятым ребром?» — спрашивает профессор на экзамене у студента-медика. «В тюрьму»,— отвечает не задумываясь последний. — Переев
может прийти, чтобы принести 300 гульденов. К тому же он как кредитор должен не приносить, а требовать. Комизм состоит в том, что слова Сафира могут рассматриваться, таким образом, одновременно как содержащие определенный смысл и как бессмыслица» (Липпе).
Содержание изложенной истории передано так подробно с целью показать, что техника этой остроты гораздо проще, чем думает Липпе. Сафир приходит не для того чтобы принести 300 гульденов, а для того чтобы взять их у богача. Таким образом, отпадают рассуждения о «смысле и бессмыслице» в этой остроте.
1 Das grosse Buch der.Witze, gesammelt und herausgegeben von Willy Hermann. Berlin, 1904.
2 Дальнейший анализ этой игры слов см. ниже.
3Эта острота, аналогичная по своей технике предыдущей, приведена из-за невозможности дать удовлетворительный перевод первой. — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному 35
Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Притом же в настоящую минуту я не припомню имен всех студентов, а между профессорами есть такие, которые покамест не имеют никакого имени».
Мы приобретем навык в дифференцированной диагностике, если прибавим сюда другую общеизвестную профессорскую остроту: «Разница между ординарным и экстраординарным профессором заключается в том, что ординарные не совершили ничего экстраординарного, а экстраординарные не совершили ничего ординарного». Это, конечно, игра двумя значениями слов «ординарный» и «экстраординарный»: штатный и внештатный, с одной стороны, и способный или выдающийся — с другой. Но сходство этой остроты с другими известными нам примерами напоминает о том, что здесь гораздо больше бросается в глаза многократное употребление, чем двусмысленность. В этом предложении не слышно ничего другого, кроме повторяющегося «ординарный», то как.такового, то негативно модифицированного. Кроме того, здесь опять-таки прибегают к уловке: понятие определяется и подробнее описывается при помощи своего же подлинного текста (сравните Eifersucht ist eine Leidenschaft и т. д.); два коррелятивных понятия определяются, хотя бы и негативно, одно через другое, что создает искусственное ограничение. Наконец, здесь можно отметить также и точку зрения унификации, создание более тесной внутренней связи между элементами выражения, чем этого можно было бы ожидать, если судить по их природе.
Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Шефер поклонился мне, как собрату, потому что он тоже писатель и часто упоминал обо мне в своих полугодичных отчетах. Кроме того, он часто цитировал меня и когда не заставал меня дома, то всегда был так добр, что писал цитату мелом на двери моей комнаты1.
(Всякий пусть узнает и услышит, Что прекрасней солнца в мире нет:
'Г. Гейне. Собр. соч. Т. I. С. 114, Спб., 1904. Изд. П-е. Перевод П. Вейнберга. Цитировать — здесь означает вызывать в суд, цитата — вызов в суд. — Примеч. перев.
36
3. Фрейд
Красоты подобной не опишет
Ни судебный пристав, ни поэт).
А. д’Актиль («Афоризмы»)1
«Wiener Spazierganger» Д. Шпитцер нашел для социального типа, расцветшего во времена реакции, лаконическую, но очень остроумную, биографическую характеристику:
«Железный лоб — железная касса — железная корона». (Последняя — это орден, награждение которым переводило его кавалера в дворянское сословие.)
Превосходная унификация — все как будто сделано из железа! Различные, но не очень резко контрастирующие друг с другом толкования эпитета «железный» делают допустимыми эти «многократные употребления».
Другая игра слов может облегчить нам переход к новому подвиду техники друсмысленности. Упомянутый выше остроумный коллега во время дела Дрейфуса стал автором следующей остроты:
«Эта девушка напоминает мне Дрейфуса. Армия не верит в ее невинность».
Слово «невинность», на двусмысленности которого построена эта острота, в одном случае имеет смысл, противоположный виновности, преступлению; в другом случае — смысл противоположный сексуальной опытности. Существует много примеров такого рода двусмысленностей, в которых действие остроты сводится к сексуальному толкованию. Для этой группы можно было бы сохранить термин «двоякое толкование».
Прекрасный пример такой двояко толкуемой остроты представляет уже приводимая здесь острота, сообщенная Д. Шпитцером.
«По мнению одних, муж много заработал и при этом немного отложил себе (sich zuriickgelegt), по мнению других, жена немного прилегла (sich zuriickgelegt) и при этом много заработала».
Но если сравнить этот пример друсмысленности с другими примерами, то бросается в глаза разница, которая очень важна в технике остроумия. В остроте о «невинности» одан смысл слова так же доступен нашему пониманию, как и другой. Мы на самом деле не сможем
'Чтец-декламатор. Т. V. Юмористический. С. 17. Вставка перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному 37
объяснить, какое значение слова является более употребительным и более подходящим — сексуальное или несексуальное. Иначе обстоит дело в примере Д. Шпитцера, где один банальный смысл слов «sich etwas zuriickgelegt», больше бросающийся в глаза, как будто прячет и скрывает сексуальный смысл, который может совсем ускользнуть от простодушного читателя. Приведем противоположный пример, где нет такого сокрытия сексуального значения. Например, гейневская характеристика услужливой дамы: «Sie konnte nichts abschlagen, ausser ihr Wasser» (что в переводе может означать: «Она не может ни в чем отказать, кроме своей вода» или «Она не может мочиться»).
Все это звучит как сальность, и остроумие замечается с трудом1. Такая особенность, когда оба значения двусмысленности неодинаково бросаются в глаза, может иметь место и при остротах несексуального характера. Это происходит оттого, что первый смысл сам по себе более употребителен или он особенно подчеркнут благодаря связи с другими частями предложения (например, «c’est le premier vol de 1’aigle»). Все эти случаи я предлагаю называть двусмысленностью с намеком.
Мы уже рассмотрели немало различных технических приемов остроумия, и я боюсь, что можем потерять их общий обзор. Попытаемся поэтому дать их сжатый перечень.
I. Сгущение:
а) со смешанным словообразованием, б) с модификацией.
II. Употребление одного и того же материала:
в) целого и. части, г) перестановка, д) небольшая модификация, е) одни и те же слова, употребленные в полном смысле и потерявшие первоначальный смысл.
III. Двусмысленность:
1 Сравни с К. Фишером, предлагающим для таких двусмысленных острот, в которых оба значения не стоят в одинаковой мере на первом плане, а одно значение оттесняется другим, название «двоякого толкования», хотя выше я употребил его несколько в ином смысле. Такое название — вещь условная. На практике в языке не закрепилось какое-либо одно из определений.
38
3. Фрейд
ж) обозначение собственного имени и вещи, з) метафорическое и вещественное значение, и) собственно двусмысленность (игра слов), к) двоякое толкование, л) двусмысленность с намеком.
Это разнообразие сбивает нас. Оно может вызвать в нас недовольство тем, что мы слишком много внимания уделили техническим приемам остроумия, и может показаться, что мы переоцениваем их значение для познания сущности остроумия. Это предположение вполне возможно, несмотря на тот неопровержимый факт, что острота всякий раз исчезает, как только мы устраняем работу этих технических приемов в способе выражения. Поэтому мы укажем также и на то, что ищем единство в этом разнообразии. Возможно, что все эти технические приемы можно привести к одному знаменателю. Соединить вторую и третью группу, как мы уже сказали, нетрудно. Двусмысленность, игра слов являются только идеальным случаем употребления одного и того же материала. Последняя рубрика является, очевидно, при этом более объемлющим понятием. Примеры разделения, перестановки одного и того же материала, многократного употребления с легкой модификацией (пункты в, г, д) могли бы не без некоторой натяжки быть отнесены к категории двусмысленности. Но что общего между техникой первой группы (сгущением со смешанным словообразованием) и техникой двух последних групп с многократным употреблением одного и того же материала?
Я думаю, что между ними существует простая и очевидная связь. Употребление одного и того же материала является веди только частным случаем сгущения. Игра слов является ничем иным, как сгущением без заместительного образования. То есть сгущение остается всеобъемлющей категорией. Тенденция уплотнения или, правильнее, экономии языковых средств управляет всеми этими техническими приемами. Все является, по-видимому, результатом экономии, как говорит принц Гамлет («Thrift, Horatio, Thrift»).
Проверим эту экономию на отдельных примерах. «C’est le premier vol de 1’aigle» («Это первый полет орла»). Да, но это полет с целью грабежа. «Vol», к счастью для существования этой ост
Остроумие и его отношение к бессознательному 39
роты, означает и «полет», и «грабеж». Не произошло ли при этом сгущение и экономия? По всей вероятности, вся вторая мысль опущена и при этом без всякой замены. Двусмысленность слова «vol» сделала излишним такую замену. Или, что будет тоже правильно, слово «vol» содержит в себе замену подавленной мысли без того, чтобы первому предложению понадобилось присоединение нового предложения или какого-либо изменения. В этом и заключается соль подобной двусмысленности.
Другой пример. «Железный лоб — железная касса — железная корона». Какая чрезвычайная экономия в изложении мысли в сравнении с изложением, где слово «железный» не имело бы места! «При достаточной дерзости и бессовестности нетрудно нажить большое состояние, и в награду за такие заслуги, разумеется, не замедлит явиться дворянство».
Да, в этих примерах сгущение, а следовательно и экономия, очевидны. Но их наличие нужно доказать во всех примерах. Где же скрыта экономия в таких остротах как «Rousseau — roux et sot», «Antigone — antik? о — nee», в которых мы сперва не заметили сгущения и это побудило нас прежде всего установить технику многократного употребления одного и того же материала? Здесь мы, конечно, не обойдемся одним процессом сгущения. Но если мы заменим его покрывающим понятием «экономия», то дело пойдет на лад. Что мы экономим в примерах Rousseau, Антигоны и т. д.— легко сказать. Мы экономим материал на критику и размер образования суждения. Они уже даны в самих именах. В примере «Leidenschaft — Eifersucht» мы экономим, отказавшись от утомительного составления определения «Eifersucht, Leidenschaft» и «Eifer sucht, Leiden schafft». Если прибавить сюда вспомогательные слова, то определение готово. То же относится и ко всем другим проанализированным нами примерам. Там, где экономии меньше всего, как в игре слов Сафира, там все же сэкономлена, по крайней мере, необходимость вновь создавать текст ответа:
« Вы ПРИШЛИ за J оо дукатов »(« Sie kommen um ihre 100 Dukaten »). проиграли x /
Текст обращения достаточен и для ответа. Этого мало, но именно в этом малом и заключается острота. Многократное употребление одного и того же материала и для обращения, и для ответа
40
3. Фрейд
относится, конечно, к «экономии». Совсем так, как Гамлет образно показывает на слишком короткий срок между смертью своего отца и свадьбой своей матери:
От похоронных пирогов осталось Холодное на свадебный обед.
(Перевод А. Кронеберга.)
Но прежде чем принять «тенденцию к экономии» как всеобщую характерную черту техники остроумия и поставить вопрос, откуда она происходит, что она означает и каким образом из нее вытекает удовольствие от остроты, мы хотим дать место сомнению, которое заслуживает того, чтобы быть выслушанным. Возможно, что каждый технический прием остроумия проявляет тенденцию к экономии в способе своего выражения, но обратное положение, быть может, не имеет места. Не каждая экономия в способе выражения, не каждое сокращение уже в силу одного этого являются остротой. Мы стояли однажды перед этим вопросом, когда надеялись только доказать в каждой остроте процесс сгущения; и тогда уже сделали себе обоснованное возражение, что лаконизм еще не есть острота. Должен существовать, следовательно, .особый вид сокращения и экономии, от которых зависит характер остроты. А пока мы не знаем этой особенности, то нахождение лишь общности в технических приемах остроумия не приблизит нас к разрешению нашей проблемы. Кроме того, мы находим в себе мужество сознаться, что эта экономия, создающая технику остроумия, не может нам импонировать. Она напоминает, быть может, экономию некоторых хозяек, которые тратят время и деньги на поездку на отдаленный базар только потому, что там можно купить овощи на несколько копеек дешевле. Какую экономию выгадывает остроумие благодаря своей технике? Произнесение нескольких новых слов, которые можно было бы, в большинстве случаев, найти без труда. Вместо этого острота лезет вон из кожи, чтобы найти одно слово, сразу раскрывающее смысл обеих мыслей. К тому же часто она должна превращать способ выражения первой мысли в неупотребительную форму, которая дала бы ей опорные точки для соединения со второй мыслью. Не было бы проще, легче и экономнее выразить обе мысли так, как это принято, хотя бы при этом
Остроумие и его отношение к бессознательному 41
и не осуществилась общность выражения? Не будет ли экономия, добытая выраженными словами, больше чем уничтожена излишней тратой интеллектуальной энергии? И кто при этом экономит, кому это нужно?
Мы пока можем избежать этих сомнений, если перенесем их в другую плоскость. Знаем ли мы уже на самом деле все виды техники остроумия? Конечно, будет предусмотрительнее собрать новые примеры и подвергнуть их анализу
Мы фактически не задумывались еще над одной большой, возможно самой многочисленной, группой острот и поддались, быть может, при этом влиянию низкой оценки, которая стала их уделом. Это те остроты, которые в общей совокупности называются каламбурами (Calembourgs — фр., Kalauer — нем.) и считаются низшей разновидностью остроумия, вероятно потому, что они — «самые дешевые» и могут быть созданы с затратой наименьшего количества энергии. И действительно, они предъявляют минимум требований к технике выражения, тогда как настоящая игра слов требует их максимума. И если в последнем случае два значения выражаются одним словом, то каламбур удовлетворяется тем, что слова, употребленные для обоих значений, обладают каким-нибудь большим-сходством — сходством их структуры, рифмоподобным созвучием, общностью некоторых начальных букв и т. п. Немало примеров таких, не совсем удачно названных «острот по созвучию» имеется в проповеди капуцина в «Лагере Валленштейна».
Не о войне здесь речь — о вине;
Лучше точить себе зубы — не сабли!
Что Оксенштирн вам — бычачий-mo лоб?
Лучше коль целую тушу загреб! Рейнские волны погибели полны; Монастыри теперь все — пустыри; Все-то аббатства и пустыни ныне Стали не братства — прямые пустыни. И представляет весь край благодатный Край безобразия...
(Перевод Л. Мея.)
42
3. Фрейд
Особенно охотно острота модифицирует гласную букву в слове. Например, об одном враждебно относившемся к монархизму итальянском поэте, который затем был вынужден воспевать немецкого кайзера в гекзаметрах, Хевези (Almanaccando, Reisen in Italien, с. 87) говорит: «Поскольку он не мог истребить Цезарей, то он упразднил цезуры».
При том множестве каламбуров, которые имеются в нашем распоряжении, особо интересно, быть может, отметить действительно неудачный пример, тяготивший Гейне. После того как он долгое время разыгрывал перед своей дамой «индийского принца» (Buch Legrand, гл. V), сбросил маску и признался: «Madame! Я вас обманул!.. Я так же был в Калькутте, как то калькуттское жаркое, которое я вчера ел на обед». Очевидно, недочет этой остроты заключается в том, что оба сходных слова не просто сходны — они идентичны. Птица, жаркое из которой он ел, называется так потому, что она происходит или должна происходить из той же самой Калькутты1.
К. Фишер уделил этим формам остроты много внимания и хотел резко отделить их от «игры слов». «Каламбур — это неудачная игра слов, потому что он играет словом не как словом, а как созвучием». Игра же слов «переходит от созвучия слова в само слово». С другой стороны, он причисляет и такие остроты, как «фамиллионь-ярно», Антигона с «Antik? о пее» и т. д. к остротам по созвучию. Я не вижу необходимости следовать за ним в этом отношении. В игре слов само слово является для нас только звуковой картиной, с которой связывается тот или иной смысл. Практика языка и здесь не делает никакой резкой разницы. И если она относится к «каламбуру» с пренебрежением, а к «игре слов» — с некоторым уважением, то эта оценка, по-видимому, обусловливается другими точками зрения, а не техническими приемами. Следует обратить внимание на то, какого рода остроты выслушиваются как «каламбуры». Есть люди, которые обладают даром, находясь в веселом расположении
1 Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать примерно в следующем виде: Человек, который выдавал себя за потомка князя Пожарского и который, наконец, сбросил с себя маску, воскликнул: «Я вас обманул... Я имею такое же отношение к Пожарскому, как и пожарские котлеты, которые я вчера ел на обед». — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному 43
духа, в течение продолжительного времени отвечать каламбуром на каждое обращение к ним. Один из моих друзей, являясь образцом скромности, тем не менее славится таким даром, когда речь заходит о его серьезных достижениях в науке. Однажды он совсем уморил общество своими каламбурами. Например, окружающие выразили удивление по поводу его выдержки. На это он ответил: «Ja, ich liege hier auf der Ка-Lauer», то есть «Да, я нахожусь в засаде». (Kalauer — каламбур.) Наконец, его попросили перестать каламбурить, но он поставил условие, чтоб его называли Poeta Kalaurea-tus. Оба этих примера являются отличными остротами, которые появились путем сгущения со смешанным словообразованием. («Ich liege hier auf der Lauer um Kalauer zu machen».— «Я нахожусь в засаде, чтобы каламбурить».)
Из спорных мнений о различиях между каламбуром и игрой слов мы заключаем, что каламбур не может помочь нам в изучении совершенно новой техники остроумия. Хотя он и не претендует на многосмысленное употребление одного и того же материала, центр тяжести в нем все же падает на повторение уже известного, на аналогию между участвующими в каламбуре словами. Таким образом, каламбур является только подвидом группы, вершина которой — в самой игре слов.
Но в действительности есть и такие остроты, в технике построения которых почти отсутствует связь с рассмотренными нами до сих пор группами.
Рассказывают о Гейне. Как-то вечером он встретился в парижском салоне с поэтом Солье и вступил с ним в беседу. В это время в зал вошел один из тех местных денежных королей, которых недаром сравнивают по богатству с Мидасом. Его тотчас окружила толпа, которая обходилась с ним с величайшей почтительностью. «Посмотрите-ка,— сказал Солье, обращаясь к Гейне,— как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу». Бросив беглый взгляд на объект почитания, Гейне, словно внося поправку, сказал: «О, он должен быть уже старше». (К- Фишер.)
В чем заключается техника этой великолепной остроты? В игре слов, по мнению К. Фишера. «Например, слова «золотой телец» могут обозначать и Маммону, и служение идолу. В первом случае центром тяжести становится золото, во втором — изображение жи
44
3. Фрейд
вотного. Слова эти можно применить и для не совсем лестного прозвища какого-то человека, имеющего много денег и мало ума». Если мы уберем выражение «золотой телец», мы тем самым упраздним и остроту. Тогда Солье должен был бы сказать: «Посмотрите-ка, как люда лебезят перед дураком только потому, что он богат», а это вовсе не остроумно. Ответ Гейне тогда был бы тоже другим.
Но мы должны помнить, что речь идет вовсе не об удачном сравнении Солье, а об остроумном ответе 1ейне. И тогда мы не имеем права касаться фразы о золотом тельце. Хотя эта фраза остается необходимым условием для слов Гейне, но редукция должна коснуться только этих последних. Если мы будем передавать содержание слов «О, он должен быть уже старше», то сможем заменить их примерно только так: «О, это уже больше не теленок, это уже взрослый бык». Итак, для остроты Гейне является излишним то, что он употребляет «золотой телец» не в метафорическом, а в личностном смысле, относя его к самому денежному тузу. Не содержалась ли уже эта двусмысленность в словах Солье!
Но что же? Мы замечаем, что эта редукция не совсем уничтожает остроту Гейне, а, наоборот, оставляет неприкосновенной ее сущность. Теперь дело обстоит так, что Солье говорит: «Посмот-рите-ка, как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу!», а Гейне отвечает: «О, это уже больше не телец, это уже бык». И в этом редуцированном изложении это все-таки острота. Другая же редукция слов Гейне невозможна.
Жаль, что в этом прекрасном примере содержатся такие сложные технические условия. На нем мы не можем прийти ни к какому выводу, поэтому оставим его и поищем другой пример, в котором надеемся уловить внутреннее родство с предыдущим.
Это одна из «купальных острот», которые имеют своей темой боязнь галицийских евреев перед купанием. Мы не требуем от наших примеров дворянской грамоты,, не спрашиваем об их происхождении. Нам важно знать только об их способности вызвать у нас смех и о том, представляют ли они для нас теоретический интерес. Но именно еврейские остроты больше всего отвечают обоим этим требованиям.
Два еврея встречаются вблизи бани. «Ты уже взял ванну?» — спрашивает один с ударением на слове «ванна». «Как,— спрашивает в свою очередь другой,— разве не хватает одной?»
Остроумие и его отношение к бессознательному
45
[Один друг жалуется при встрече другому: «Дела идут очень плохо. Я потерял голову». «А кто ее нашел?» — спрашивает другой (перев.)].
Когда человек смеется от всего сердца над остротой, он не особенно расположен исследовать ее технику. Поэтому освоить приведенные анализы несколько трудно. «Это комическое недоразумение» — такое объяснение, напрашивается легче всего.— Хорошо, но какова техника этой остроты? — Очевидно, двусмысленное употребление слова «взять» [«терять»]. Для одного — это бесцветный вспомогательный глагол; для другого — глагол в прямом значении. Итак, это случай слова, имеющего полный смысл и потерявшего свой первоначальный прямой смысл (группа II, п. е). Если мы заменим выражение «взять ванну» равноценным, более простым «купаться» [или во втором примере заменим «терять голову» словом «отчаиваться»], то острота пропадет. Ответ больше не подходит. Итак, острота происходит опять-таки за счет выражения «взять ванну» [«терять голову»].
И это верно. Однако кажется, что и в этом случае редукция поставлена не в нужном месте. Острота заключается не в первом предложении диалога, а в ответном: «Как? разве не хватает одной?» [«А кто ее нашел?»]. И ответ нельзя лишить заключенного в нем остроумия распространенностью изложения или изменением его, если это не нарушило его смысла. У нас создается впечатление, что в ответе второго собеседника недосмотр в применении слова «ванна» [«голова»] имеет больше значения, чем однозначность слова «взять» [«терять»]. Но мы и здесь видим это неясно и поэтому обратимся к третьему примеру.
Это опять-Таки еврейская острота, но в ней только еврейские аксессуары, ядро же ее интернационально. Правда, и этот пример имеет свои нежелательные осложнения, но, к счастью, не те, которые препятствовали до сих пор ясности нашего понимания.
«Один обедневший человек занял у зажиточного знакомого 25 флоринов, уверив его в своем бедственном положении. В тот же день благотворитель застал его в ресторане, увидел перед ним тарелку семги с майонезом и стал упрекать: «Как, вы занимаете у меня деньги, а потом заказываете в ресторане семгу с майонезом? Для этого вам понадобились мои деньги?» «Я не понимаю,— от
46
3. Фрейд
вечает должник.— Когда я не имею денег, я не могу кушать семгу с майонезом; когда я имею деньги, я не смею кушать семгу с майонезом. Когда же мне кушать семгу с майонезом?»
Здесь, наконец, уже нет следов двусмысленности. Повторение слов «семга с майонезом» тоже не заключает в себе технику этой остроты, так как оно является не «многократным употреблением» одного и того же материала, а действительным повторением требуемого по содержанию выражения. Мы остаемся некоторое время беспомощными перед этим анализом и захотим, быть может, увильнуть от него, оспаривая за этим анекдотом, заставившим нас смеяться, характер остроты.
Но что замечательного можно сказать об ответе должника? Что ему поразительным образом придан характер логичности. Но это неправильно; ответ, конечно, нелогичен. Этот человек защищается тем, что, потратив данные ему взаймы деньги на лакомый кусок, он имеет на это право, и с невинным видом спрашивает, когда же он может есть семгу. Но это отнюдь не логичный ответ. Заимодавец упрекает его не в том, что ему захотелось семги как раз в тот день. Он только хочет сказать, что при своем нынешнем затруднительном положении тот вообще не имеет права думать о таких деликатесах. Этот единственно возможный смысл замечания обедневший бонвиван оставляет без внимания и фактически отвечает на что-то другое, как будто не поняв упрека.
Не заложена ли именно в увиливании ответа от неприятного вопроса техника этой остроты? Подобное искажение подлинного смысла, передвигание психологического акцента, можно было бы доказать и в обоих прежних примерах.
Оказывается, что это можно доказать очень легко и таким образом вскрыть подлинную технику остроумия в этих примерах. Солье обращает внимание Гейне на то, что общество в девятнадцатом столетии почитает «золотого тельца», как это делали некогда иудеи в пустыне. На это должен был бы последовать, примерно, следующий ответ Гейне: «Да, такова человеческая природа, тысячелетия ничего не изменили», или еще что-нибудь вроде этого, выражающее ‘его согласие с мнением Солье. Но Гейне уклоняется в своем ответе от упомянутых мыслей. Он отвечает не по существу; пользуется двусмысленностью, предоставляемой фразой «золотой телец», чтобы избрать побочный путь. Он выхватывает одну состав
Остроумие и его отношение к бессознательному 47
ную часть фразы «телец» и отвечает так, будто на это слово падало ударение в речи Солье: «О, это уже не телец» и т. д.1.
Еще яснее это уклонение в остроте о купании. Этот пример требует графического изображения.
Первый спрашивает: «Ты взял ванну?» Ударение падает на элемент «ванна».
Второй отвечает так, как будто вопрос гласил: «Ты взял ванну?» (С ударением на слове «взял».)
Текст «взял ванну» делает возможным только такое передвигание ударения. Если бы вопрос гласил: «Ты купался?», то, конечно, никакого передвигания не могло быть. Неостроумный ответ был бы тогда таков: «Купался? Что ты подразумеваешь? Я не знаю, что это такое». Техника же этой остроты заключается в перенесении ударения со слова «ванна» на слово «взять»2.
Вернемся к примеру с «семгой с майонезом» как к самому чистому случаю передвигания. Проанализируем новое в этом примере в различных направлениях. Прежде всего мы должны как-нибудь назвать открытую здесь технику. Я предлагаю обозначить ее как передвигание, потому что сущность ее состоит в отклоне
1 Ответ Гейне является комбинацией двух технических приемов остроумия: уклонения от прямого ответа и намека. Он ведь не говорит прямо, что это бык.
2 Слово «взять» весьма пригодно для такой игры слов из-за своей многозначности. Вот чистый пример, которой я хочу привести в противовес вышеописанной остроте, созданной путем передвигания. «Известный биржевик и директор банка гуляет со своим другом по улице. Перед одним кафе он предлагает: «Войдем и возьмем что-нибудь». Друг удерживает его от этого: «Но господин тайный советник, там ведь есть люди».
[Все вышесказанное о выражении «взял ванну» относится и к аналогичному выражению «потерял голову». Первый друг говорит: «Я потерял голову!». Ответ второго «А кто нашел ее?» относится только к слову «потерял» и передвигает, таким образом, на это слово психологический акцент. Передвигание это облегчается до некоторой степени тем, что слово «терять» может быть употреблено в разнообразных значениях. Так, например, общеупотребительны выражения: терять почву под собой, терять надежду, терять счет, терять состояние, потерянный человек, растеряться и т. д. — Примеч. перев.}
48 3. Фрейд
нии хода мыслей, в передвигании психологического акцента с начальной темы на другую. Затем нам надлежит заняться исследованием того, в каком отношении стоит техника передвигания к способу выражения остроты. Наш пример «семги с майонезом» указывает нам, что острота, возникающая путем передвигания, в высокой степени независима от словесного выражения. Она зависит не от слова, а от хода мыслей. Чтобы потерять ее, нам недостаточно произвести замену слов, если при этом сохранится смысл ответа. Редукция возможна только в том случае, если мы изменим ход мыслей и заставим лакомку прямо ответить на упрек, которого он сознательно не замечает в таком изложении остроты. Тогда редуцированное изложение будет гласить: «Я не могу отказать себе в том, что мне нравится. А откуда я беру деньги для этого — мне безразлично. Вот мое объяснение тому, почему я именно сегодня ем семгу с майонезом, после того как вы дали мне взаймы деньги». Но это уже была бы не острота, а цинизм.
Очень поучительно будет сравнить эту остроту с другой, очень близкой ей по смыслу.
Один человек, который часто выпивал, добывал себе средства к существованию тем, что давал уроки. Но его порок стал мало-помалу известен, из-за чего он потерял большинство своих клиентов. Один из его друзей решил взяться за его исправление. «Посмотрите,— стал он увещевать бедолагу.— Вы могли бы иметь лучшие уроки в городе, если бы отказались от пьянства. Сделайте это». «Что вы мне предлагаете? — был негодующий ответ.— Я даю уроки, чтобы иметь возможность пить. Должен ли я отказаться пить, с тем чтобы иметь возможность получить уроки?»
Эта острота тоже имеет внешний вид логичности, который бросился нам в глаза в случае «семги с майонезом». Но это уже острота, возникающая не путем передвигания. Это прямой ответ на вопрос. Цинизм, который скрыт в первом случае, здесь откровенно признается. «Пьянство для меня — самое главное» — вот лейтмотив ответа. Техника этой остроты достаточно убога и не может объяснить нам ее воздействия. Она заключается лишь в перестановке одного и того же материала; строго говоря — лишь в трансформацию отношений между средством и целью, то есть между пьянством и получением уроков. Не оттеняя в редукции этого момента, я уничтожаю эту остроту, излагая ее примерно так: «Что
Остроумие и его отношение к бессознательному
49
это за бессмысленное требование? Главным для меня является пьянство, а не уроки. Уроки для меня только средство, чтобы иметь возможность пить дальше». Таким образом, острота произошла в действительности из способа выражения.
В остроте о купании зависимость остроты от текста («ты взял ванну?») очевидна, и при изменении текста пропадает острота. Здесь техника более сложная и является сочетанием двусмысленности (подвида «е») и передвигания. Текст вопроса допускает двусмысленность, и острота создается потому, что это, скорее, не ответ на поставленный вопрос, а реплика, связанная с побочными мыслями. Соответственно этому мы можем найти редукцию, которая делает возможным существование двусмысленности и все-таки упраздняет остроту только потому, что мы убираем передвигание:
«Ты взял ванну?» — «Что я должен был взять? Ванну? Что это такое?» Но это уже не острота, а неудачное или шутливое преувеличение.
[Соответственно этому аналогичная редукция остроты о «потере головы» гласила бы: «Я потерял голову».— «Каким образом? Ведь она крепко сидит на плечах» (перев.).]
Совсем такую же роль играет двусмысленность в остроте Гейне о «золотом тельце». Она дает возможность при ответе уклониться от описанного хода мыслей, причем такое же уклонение имеет место в остроте о «семге с майонезом», не примыкая в ней так близко к тексту. В редукции речь Солье и ответ Гейне гласили бы примерно так: «Вид этого общества, лебезящего перед человеком только потому, что он богат, живо напоминает мне о поклонении золотому тельцу». А Гейне отвечает: «То, что его так почитают за его богатство, это еще небольшая беда. Вы еще учтите, что ему прощают его глупость за его богатство». Этим при сохранении двусмысленности была бы упразднена острота, возникающая при передвигании.
Теперь мы должны ответить на возражение, которое может появиться: Как разграничить эти мудреные различия, если они все-таки состоят в тесной связи друг с другом? Не является ли каждая двусмысленность поводом к передвиганию, к отклонению хода мыслей от одного смысла к другому? Или мы должны согласиться с тем, что «двусмысленность» и «передвигание» нужно считать
50
3. Фрейд
представителями двух различных типов техники остроумия? Конечно, между двусмысленностью и передвиганием существует связь, но она не имеет ничего общего с нашим распознаванием технических приемов остроумия. При двусмысленности острота не содержит в себе ничего, кроме многократного толкования одного слова, что дает слушателю возможность найти переход от одной мысли к другой; причем переход этот можно было бы приблизительно, с некоторой натяжкой поставить наряду с передвиганием. При остроте же, возникающей от передвигания, она сама содержит ход мыслей, полученный от такого передвигания. Передвигание относится здесь к той работе, которая создала остроту, а не к той, которая необходима для ее понимания. Если это различие для нас не очевидно, то мы имеем в редукции верное средство, которое может наглядно показать нам его. Но мы не хотим оспаривать ценность этого возражения. Благодаря ему мы обратим внимание на то, что не должны сваливать в одну кучу психические процессы при образовании остроты (работа остроумия) с психическими процессами при восприятии остроты (работа понимания). Только первые из них являются предметом нашего настоящего исследования1,2.
Существуют ли еще и другие примеры техники передвигания? Их нелегко найти. Чистым примером, которому все же недостает логичности, так сильно подчеркиваемой в нашем образце этой категории острот, можно считать следующую остроту.
«Торговец лошадьми рекомендует покупателю верховую лошадь: «Если вы возьмете эту лошадь и сядете на нее в 4 часа утра, то в 6.30 вы будете в Прессбурге».— «А что я буду делать в Прес-сбурге в 6.30утра?».
1 О процессах восприятия остроты см. дальнейшие главы.
2 Пожалуй, здесь нелишне будет сказать несколько слов для дальнейшего понимания. Передвигание всегда имеет место между обращением и ответом, который продолжает ход мыслей в ином направлении, чем то, с которого была начата речь. Оправдание разграничения передвигания и двусмысленности яснее всего вытекает из тех примеров, в которых имеется комбинация обоих фактов; то есть там, где текст речи допускает двусмысленность, которая не имелась в вцду говорящим, а ответ указывает путь к передвиганию. (См. примеры.)
Остроумие и его отношение к бессознательному 51
Передвигание здесь произведено блестяще. Торговец упоминает о раннем прибытии в маленький городок, очевидно имея в виду только показать на примере быстроту бега лошади. Покупатель же не обращает внимания на быстроходность лошади, в чем он не сомневается, а входит только в обсуждение чисел, упомянутых в примере. Редукцию этой остроты затем дать нетрудно.
Более сложным представляется другой, очень неясный по своей технике пример, который все же можно квалифицировать как двусмысленность с передвиганием. Эта острота рассказывает об уловке «шадхена» (посредника при заключении брака у евреев) и относится к группе, которой мы еще посвятим много внимания.
«Шадхен заверил жениха, что отца девушки нет в живых. После обручения выясняется, что отец жив, но отбывает тюремное наказание. Жених упрекает шадхена в обмане. «А я что сказал? — говорит тот.— Разве это жизнь?»
Двусмысленность заключается в применении слова «жизнь». Передвигание состоит в том, что шадхен переходят от обычного смысла, противоположностью которому является слово «смерть», к тому смыслу, который имеет это слово в обороте речи «Это не жизнь». Он дает при этом запоздалое объяснение своему тогдашнему утверждению, хотя это неоднозначное толкование именно сюда не подходит. Такая техника очень сходна с техникой остроты о «золотом тельце» и о «ванне». Но здесь следует принять во внимание еще и другой момент, который из-за своей показательности мешает пониманию техники. Можно было бы сказать, что эта острота иллюстрирует характерную для посредников брака смесь лживой дерзости и находчивого остроумия. Но это только показная сторона, фасад остроты; ее смысл, то есть ее цель — другая. Но сейчас мы не будем останавливаться на попытке создания редукции этой остроты1.
После этих сложных и трудно поддающихся анализу примеров нам все-таки доставило бы удовлетворение, если бы мы могли распознать в одном случае чистый и ясный пример «остроты, возникшей путем передвигания».
1 См. главу III.
52
3. Фрейд
«Проситель приносит богатому барону прошение о вьщаче вспомоществования доя поездки в Остенде. Врачи рекомендовали ему для восстановления его здоровья морской курорт. «Хорошо, я вам дам немного денег для этой цели,— говорит богач.— Но должны ли вы поехать именно в Остенде, на самый дорогой из всех морских курортов?» — «Господин барон,— звучит обиженный ответ,— ничто не дорого для меня, когда речь идет о моем здоровье».
Такая точка зрения, конечно, правильная, но она неприличная для просителя. Его ответ был дан с точки зрения богатого человека, и ведет он себя так, как будто это свои собственные деньги он должен пожертвовать для своего же здоровья.
Обратимся опять к столь поучительному примеру с «семгой с майонезом». Мы видели в нем тоже только его показную сторону, по которой можно было бы судить о поразительной силе логической мысли. Но благодаря анализу мы узнали, что эта логичность имела целью скрыть недочет мышления, а именно — передвигание хода мыслей. Исходя из этого мы можем, хотя бы путем ассоциации по контрасту, вспомнить о других остротах, которые в противоположность только что упомянутой открыто выставляют напоказ нечто несуразное, бессмыслицу, нелепость. Мы полюбопытствуем узнать, в чем состоит техника таких острот.
Я привожу самый яркий и вместе с тем самый чистый пример всей этой группы. Это опять-таки еврейская острота.
«Исаак был назначен в артиллерию. Он, очевидно, смышленый малый, но непослушен и относится к службе без интереса. Один из его начальников, который был к нему расположен, отвел его как-то в сторону и сказал: «Исаак, ты нам не годишься. Я дам тебе совет: купи себе пушку и работай самостоятельно».
Совет, над которым можно от души посмеяться, является очевидной бессмыслицей. Пушек для продажи не существует, и один человек не может быть самостоятельной вооруженной силой, как это имеет место в торговле. Но для нас ни на одну минуту не подлежит сомнению, что этот совет является не пустой бессмыслицей, а бессмыслицей остроумной, отличной остротой. Но благодаря чему бессмыслица становится, таким образом, остротой?
Нам не придется долго размышлять над этим. Из рассуждений авторов, приведенных во введении, мы могли понять, что в такой остроумной бессмыслице скрывается определенный смысл и что
Остроумие и его отношение к бессознательному 53
именно этот скрытый смысл превращает бессмыслицу в остроту. Смысл в нашем примере найти легко. Офицер, который дал бессмысленный совет артиллеристу Исааку, только притворяется дурачком, чтобы показать Исааку, как глупо тот себя ведет. Он будто копирует Исаака: «Я хочу теперь дать тебе совет, который точно так же глуп, как и ты». Он примиряется с глупостью Исаака, выпячивает ее и делает основанием для предложения, которое должно отвечать желаниям Исаака. Ведь если бы Исаак владел собственной пушкой и промышлял орудием войны для собственной прибыли, как пригодились бы ему тогда его сообразительность и честолюбие!
Я прерываю анализ этого примера, чтобы показать тот же смысл в бессмыслице на одном более кратком и простом, но менее ярком случае остроты-бессмыслицы.
«Никогда не родиться — было бы самым лучшим уделом для смертных детей человечества». «Но,— прибавляют мудрецы из «Fliegende Blatter»,— среди 10000 человек вряд ли найдется один, который воспользовался бы этим советом».
Современное добавление к древнему мудрому афоризму является очевидной бессмыслицей, которая становится еще более нелепой из-за предусмотрительного «вряд ли». Но эта фраза связана с первым предложением как неоспоримо верное ограничение и может, таким образом, открыть нам глаза на то, что эта прием* лемая с благоговением мудрость немногим лучше бессмыслицы. Кто вовсе не родился, тот вообще не является дитятей человечества; для него не существует ни хорошего, ни самого лучшего. Бессмыслица в остроте служит здесь, таким образом, для открытия и изображения другой бессмыслицы, как в примере с артиллеристом Исааком.
Я могу присоединить сюда третий пример. По своему содержанию он вряд ли заслуживал бы подробного изложения, которого требует. Но он особенно отчетливо демонстрирует опять-таки применение бессмыслицы в остроте для отображения другой бессмыслицы.
«Один человек, уезжая, поручил дочь своему другу с просьбой, чтобы во время его отсутствия тот охранял ее добродетель. Отец вернулся спустя несколько месяцев и нашел дочь беременной. Ра
54
3. Фрейд
зумеется, он стал упрекать своего друга. Тот же никак не мог объяснить себе, как произошел этот несчастный случай. «Где она спала?» — спросил наконец отец.— «В комнате с моим сыном».— «Но как же ты мог позволить ей спать в одной комнате с твоим сыном, после того как я просил тебя охранять ее?» — «Но между ними была ширма. Там была кровать твоей дочери, тут — кровать моего сына, а между ними ширма».— «А если твой сын заходил за ширму?» — «Разве что так,— сказал второй задумчиво.— Тогда это было возможно».
От этой весьма малоудачной остроты по ее остальным качествам нам легче всего перейти к редукции. Она, очевидно, имеет такой смысл. Ты не имеешь никакого права упрекать меня. Как ты мог быть так глуп, чтобы оставить свою дочь в доме, где она постоянно должна была жить в обществе молодого человека? Разве возможно постороннему человеку при таких обстоятельствах нести ответственность за добродетель девушки? Кажущаяся глупость друга здесь является, таким образом, только отображением глупости отца. Редукцией мы устранили нелепость в остроте, а с ней упразднили и саму остроту. От самой «нелепости» мы не избавились. Она находит себе другое место с помощью предложения, редуцирующего ее смысл.
Теперь мы можем попытаться произвести редукцию и остроты о пушке. Офицер должен был бы сказать: «Исаак, я знаю, чТо ты смышленый делец. Но я говорю тебе, что ты допускаешь большую глупость, не понимая, что на военной службе нельзя вести себя так, как в деловой жизни, где каждый работает на свой риск, конкурируя с другими. На военной службе необходимо подчиняться и действовать сообща».
Таким образом, техника приведенных острот-бессмыслиц заключается действительно в том, что нам преподносится нелепость, бессмыслица, смысл которой заключается в наглядном изображении какой-то другой бессмыслицы и нелепости.
Имеет ли употребление бессмыслицы в технике остроумия всякий раз такое значение? Я привожу еще один пример, который отвечает на этот вбпр'ос в положительном смысле.
«Когда Фокиона однажды после речи наградили аплодисментами, он, обратясь к своим друзьям, спросил: «Разве я сказал что-нибудь нелепое?»
Остроумие и его отношение к бессознательному 55
Этот вопрос звучит, как бессмыслица. Но мы вскоре понимаем его смысл. «Разве я сказал что-нибудь такое, что могло понравиться этому глупому народу? Я, собственно, должен был бы стыдаться этого одобрения: если мое высказывание понравилось глупцам, значит оно само было не очень-то разумно».
Но другие примеры могут указать нам на то, что бессмыслица очень часто употребляется в технике остроумия, не служа цели изображения другой бессмыслицы.
«Одного известного университетского преподавателя, который обычно обильно уснащал остротами свой малонравившийся слушателям специальный предмет, в день рождения его младшего сына поздравили с тем, что ему было дано в удел счастье иметь ребенка уже в таком преклонном возрасте. «Да,— возразил он человеку, желавшему ему счастья.— Поразительно, что могут произвести человеческие руки».
Этот ответ кажется особенно бессмысленным и неуместным. Детей называют ведь благословением бога в противоположность творениям человеческих рук. Но сейчас же нам приходит в голову, что этот ответ имеет смысл, причем смысл скабрезный. Здесь нет и речи о том, что счастливый отец хочет притвориться глупым, чтобы назвать глупым что-то или кого-то. Кажущийся бессмысленным ответ действует на нас ошеломляюще, смущающе, как мы сказали бы вместе с авторами, писавшими об остроумии. Мы слышали, что авторы усматривали все действие таких острот в смене «смущения и внезапного уяснения». Мы попытаемся позже создать свое суждение об этом. Пока же удовольствуемся лишь тем, что отметим: техника этой остроты заключается в преподнесении нам такого смущающего, бессмысленного ответа.
, Совсем особое место среди этих острот-бессмыслиц занимает острота Лихтенберга. Он удивился, что у кошек вырезаны две дыры как раз в том месте их шкурки, где у них должны быть глаза. Удивляться чему-то само собой разумеющемуся, чему-то, что может быть объяснено только идентичными же словами, является, конеч: но, нелепостью. Это напоминает об одном всерьез принимаемом восклицании у Мишле, которое, насколько я помню, звучит приблизительно так: «Как хорошо все устроено в природе, что ребенок, как только он появляется на свет, имеет мать, готовую принять его на свое попечение!» Фраза Мишле — действительно
56
3. Фрейд
нелепость, фраза же Лихтенберга — острота, которая пользуется нелепостью для определенной цели, за которой что-то скрывается. Что именно? Этого мы, конечно, не можем указать в данный момент.
Из двух групп примеров мы уже узнали, что работа остроумия пользуется двумя отклонениями от нормального мышления — сгущением и бессмыслицей — как техническими приемами для создания остроумного выражения. Мы, конечно, вправе ожидать, что и другие ошибки мышления могут найти такое же применение. Действительно, можно указать несколько примеров такого рода.
«Один гражданин пришел в кондитерскую и приказал подать ему торт, но затем отдал его обратно и потребовал вместо него стаканчик ликера. Он выпил его и собрался уйти не заплатив, но владелец лавки задержал его. «Что вам угодно от меня?» — «Вы должны заплатить за ликер».— «Ведь я отдал вам за него торт».— «Но ведь вы за него тоже не заплатили».— «Но веда я его и не ел».
И этот рассказ имеет видимость логичности, которая, как мы уже знаем, служит удобным фасадом для ошибки мышления. Ошибка заключается, очевидно, в том, что хитрый покупатель создает между возвращением торта и получением ликера соотношение, которого на самом деле не существовало. Суть вещей распадается, наоборот, на два процесса, которые для продавца друг от друга независимы и только по собственному предположению покупателя стоят в соотношении замены одного другим. Он сначала взял и возвратил торт, за который он, следовательно, ничего не должен заплатить, затем он берет ликер и за него он должен заплатить. Можно сказать, что покупатель двусмысленно употребляет выражение «за него», правильнее говоря, он создает с помощью двусмысленности связь, не имеющую фактически места1.
1 Подобная техника бессмысленности получается тогда, когда острота может сохранить связь, которая оказывается упраздненной особыми условиями ее содержания. Сюда относится нож Лихтенберга без клинка, где отсутствует рукоятка. Такова же острота, рассказанная Фальке. «То ли это место, где Дюк из Веллингтона произнес эти слова?» — «Да, это то место, но таких слов он никогда не произносил».
Остроумие и его отношение к бессознательному
57
Теперь нам представляется удобный случай сделать немаловажное признание. Мы занимаемся здесь исследованием техники остроумия на примерах и должны, следовательно, быть уверены, что выбранные нами примеры действительно являются истинными остротами. Но дело обстоит таким образом, что в целом ряде случаев мы колеблемся, следует ли называть соответствующий пример остротой или нет. И в нашем распоряжении не будет такого критерия до тех пор, пока само исследование не даст нам его. Расхожее мнение ненадежно и само нуждается в проверке своей правильности. При решении выдвинутого нами вопроса мы не можем опереться ни на что иное, как только на чутье, которое мы понимаем в том смысле, что судим о чем-то согласно уже существующим определенным критериям, еще недоступным нашему пониманию. Ссылку на это чутье мы не будем выдавать за достаточное обоснование. Мы сомневаемся, должны ли считать последний пример остротой, софистической остротой или просто софизмом. Кроме того, мы не знаем еще, в чем заключается характер остроты.
Наоборот, нижеследующий пример, который выявляет, так сказать, более грубую ошибку мышления, является несомненной остротой. Это опять-таки история с посредником брака.
«Шадхен защищает девушку, которую он предлагает в качестве невесты, от недостатков, отмечаемых молодым человеком. «Теща мне не нравится,— говорит претендент в женихи.— Она ехидный, глупый человек».— «Ведь вы женитесь не на теще, а на дочери».— «Да, но она уже немолода и лицом нехороша».— «Это ничего, зато тем более она будет вам верна».— «Денег там тоже не много».— «А разве вы женитесь на деньгах? Вы ведь хотите иметь жену».— «Но она к тому же еще и горбата!» — «А что же вы хотели? Чтоб она не имела ни одного недостатка?»
Таким образом, речь идет, действительно, о немолодой, некрасивой девушке с небольшим приданым, причем у нее отталкивающая мать, и, кроме того, она награждена безобразным уродством. Это, конечно, условия, отнюдь не заманчивые для заключения брака. Но посредник умеет при указании на каждый отдельный из этих недостатков посмотреть на него с той точки зрения, которая позволяет с ним примириться. Лишь горб он оценивает как недостаток, который нужно простить, потому что он единственный. И
58
3. Фрейд
здесь налицо видимость логичности, которая характерна доя софизма и которая должна скрыть ошибку мышления. Девушка имеет очевидные недостатки, причем несколько таких, которые можно простить, и лишь один недостаток простить нельзя. Она не подходит для брака. Но посредник ведет себя таким образом, как будто каждый отдельно взятый недостаток устраняется его возражением, в то время как в действительности каждый из них в некоторой степени обесценивает выгоды брака, а все вместе суммируются в общее неблагоприятное впечатление. Посредник ловко парирует указание на каждый отрицательный фактор в отдельности и мешает их суммировать.
Та же ошибочность мышления является ядром другого софизма, по поводу которого можно много смеяться, но можно и сомневаться, вправе ли мы называть его остротой.
«А. взял у В. медный котел. После того как котел был возвращен, В. предъявил А. иск, так как в котле он обнаружил большую дыру, из-за которой он стал негоден для употребления. А. защищается: «Во-первых, я вообще не брал котла у В.; во-вторых, в котле уже была дыра, когда я взял его у В.; в-третьих, я вернул котел в целости». Каждое возражение в отдельности само по себе хорошо, но взятые вместе они исключают друг друга. А. обсуждает изолированно то, что следует рассматривать в связи друг с другом, то есть так же, как отводит посредник недостатки невесты. Можно также сказать, что А. ставит «и» в том месте, где возможно только «либо-либо».
Другой софизм мы находим в следующей истории с посредником брака.
«Жених замечает, что у невесты одна нога короче другой и она хромает. Шадхен вступает с ним в спор. «Вы неправы. Предположите, что вы женитесь на женщине со здоровыми, одинаковыми конечностями. Какой вам расчет? Вы ни на одну минуту не будете спокойны, опасаясь что она может упасть, сломать себе ногу и остаться хромой на всю жизнь. А потом боль, волнения, расходы на врача! Если же вы женитесь на этой девушке, то с вами этого не может случиться, так как здесь вы имеете уже готовый результат».
Видимость логики здесь очень невелика, и никто не захочет отдать предпочтение уже случившемуся несчастью перед несчастьем, которое еще только может быть произойдет. Ошибку, содер-
Остроумие и его отношение к бессознательному
59
жашуюся в ходе мысли, легче выявить на другом примере — на истории, в изложении которой я не могу избежать жаргона.
«В храме в Кракове сидит великий раввин N. и молится со своими учениками. Внезапно он издает крик и на вопрос своих озабоченных учеников отвечает: «Только что умер великий раввин L. в Лемберге». Община объявляет траур по умершему. В течение ближайших нескольких дней опрашиваются прибывающие из Лемберга, как умер раввин, чем он был болен, но они ничего не знают об этом, так как оставили его в наилучшем самочувствии. Наконец, выясняется вполне определенно, что раввин L. не умер в тот момент, когда раввин N. телепатически почувствовал его смерть, и что он жив до сих пор. Иноверец воспользовался удобным случаем, чтобы подтрунить над учеником краковского раввина по поводу этого события. «Большой позор для вашего раввина, что он увидел тогда раввина L. умирающим в Лемберге. Этот человек жив и поныне». «Это ничего,— возражает ученик.— Взгляд из Кракова до Лемберга был все же великолепен».
Здесь открыто признается общая двум последним примерам ошибка мышления. Фантастическое представление безо всякого зазрения оценивается выше реальности. Взгляд через пространство, отделяющее Краков от Лемберга, был бы импозантным телепатическим актом, если бы он передал нечто действительно происшедшее. Но это не важно для ученика. Ведь существовала все-таки возможность, что раввин L. умер в Лемберге в тот момент, когда краковский раввин провозгласил о его смерти. Ученик же передвинул акцент с условия, при котором поступок учителя был бы достоин удивления, на безусловное удивление этим поступком. «In magnis rebus voluisse sat est» свидетельствует о подобной точке зрения. Как в этом примере реальность не принимается во внимание и ей предпочитается возможность, так и в предыдущем примере посредник брака предлагает жениху принять во внимание, что женщина из-за несчастного случая всегда может стать хромой, и оценивает эту возможность как нечто более значительное, в сравнении с чем то обстоятельство, что она уже хромая, отступает на задний план.
К этой группе софистических ошибок мышления примыкает другая очень интересная группа, в которой ошибку мышления
60
3. Фрейд
можно назвать автоматической. Быть может, это только каприз случая, что все примеры этой новой группы, которые я приведу, относятся опять-таки к историям с шадхенами.
«Шадхен привел с'собой для переговоров о невесте помощника, который должен был подтверждать все его сведения. «Она стройна, как ель»,— говорит шадхен. «Как ель»,— повторяет его эхо. «А глаза у нее такие, что их нужно посмотреть». «Ах, какие глаза у нее»,— подтверждает эхо. «А образована она, как никакая другая девушка».— «И как образована!» — «Правда,— признается посредник,— она имеет небольшой горб».— «Но зато какой горб»,— подхватывает опять эхо».
Другие истории вполне аналогичны, но более остроумны.
«Жених при знакомстве с невестой неприятно поражен и отводит посредника в сторону, чтобы сообщить ему о недостатках, которые он нашел в невесте. «Зачем вы привели меня сюда? — тихо спрашивает он с упреком.— Она отвратительна и стара, она косйт; у нее плохие зубы и слезящиеся глаза...» — «Вы можете говорить громко,— вставляет посредник,— она и глуха еще».
«Жених делает первый визит в дом невесты вместе с посредником. В то время, когда они ожидают в гостиной появления семьи, посредник обращает его внимание на стеклянный шкаф, в котором выставлена напоказ серебряная утварь. «Взгляните сюда. По'этим вещам вы можете судить, как богаты эти люди».— «А разве невозможно,— спрашивает недоверчивый молодой человек,— что эти вещи взяты взаймы только для этого случая и с целью произвести впечатление богатства?» — «Как такое пришло вам в голову? — возражает посредник.— Разве можно доверить что-нибудь этим людям!»
Во всех трех случаях происходит одно и то же. Человек несколько раз подряд одинаково реагирует на вопросы. Затем продолжает реагировать таким же образом и тогда, когда его ответы начинают противоречить тем целям, которые он преследует. Он не понимает, что необходимо приспособляться к требованиям ситуации и поддается автоматизму привычки. Так, помощник посредника в первом рассказе понимает, что его взяли с собой для поддержки своего господина, когда тот нахваливает предлагаемую невесту. И он усердно выполнял возложенную на него задачу, усиливая своим повторением указываемые положительные черты
Остроумие и его отношение к бессознательному
61
невесты. Но затем он по инерции подчеркивает и ее робко признаваемый горб, значение которого он должен был бы преуменьшить. Во втором рассказе посредник так углублен в перечисление женихом недостатков и пороков невесты, что и сам дополняет их список дефектом, которого жених не заметил, хотя это, конечно, не входит в круг его обязанностей и намерений. В третьем рассказе посредник настолько одержим рвением убедить молодого человека в богатстве этой семьи, что он в одном только пункте доказательства этому приводит такой довод, который уничтожает все его старания. Повсюду автоматизм берет верх над целесообразным и своевременным изменением мышления и выражений.
Это легко понять, но это же должно сбить нас с толку, если эти три истории можно назвать комическими по такому же праву, по какому мы их привели в качестве остроумных. Открытие психического автоматизма принадлежит к технике комического, как и всякое разоблачение, когда человек сам себя выдает. Неожиданно мы очутились перед проблемой отношения остроумия к комизму, хотя мы думали обойти ее (см. введение). Являются ли эти истории только комическими, но в то же время не остроумными? Работает ли здесь комизм теми же средствами, что и остроумие? И опять-таки: в чем заключается особый характер остроумия?
Мы должны придерживаться того взгляда, что техника последней исследованной нами группы острот заключается не в чем ином, как в преподнесении «ошибок мышления». Но мы вынуждены признать, что их исследование привело нас скорее к затемнению вопроса, чем к выяснению его. И все-таки будем продолжать надеяться, что полное изучение технических приемов остроумия приведет нас к некоторым данным, которые послужат исходным пунктом для дальнейших рассуждений.
Ближайшие примеры остроумия, на которых мы будем базировать наше дальнейшее исследование, не представят больших трудностей. Их техника нам уже знакома.
Вот, например, острота Лихтенберга:
«Январь — это месяц, когда люди приносят своим друзьям добрые пожелания; остальные месяцы — это те, в течение которых эти пожелания не исполняются».
62
3. Фрейд
Так как эти остроты следует назвать скорее тонкими, чем удачными и они пользуются малоэнергичными приемами, то мы хотим усилить получаемое от них впечатление, умножая их число.
«Человеческая жизнь распадается на две половины: в течение первой половины люди стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой».
«Жизненное испытание состоит в том, что человек испытывает то, чего не хотел испытывать». (Оба примера принадлежат К. Фишеру.)
Эти примеры напоминают нам рассмотренную раньше группу, особенностью которой является «многократное применение одного и того же материала». Особенно последний пример дает нам повод поставить вопрос: почему мы не включили его в эту прежнюю группу, вместо того чтобы приводить его в связи с новой группой? Испытание снова описывается посредством самого себя, как в другом месте ревность. И это указание я не буду особенно оспаривать. Но я полагаю, что в двух других примерах, имеющих аналогичный характер, другой новый момент является более поразительным и многозначительным, чем многократное употребление одного и того же слова, которому здесь недостает даже намека на двусмысленность. А именно, я хочу подчеркнуть, что здесь созданы новые и неожиданные единства, новые отношения представлений друг к другу и определение одного понятия с помощью другого или их отношением к общему третьему понятию. Я назвал бы этот процесс «унификацией». Он, очевидно, аналогичен сгущению, поскольку формулируется теми же словами. Например, две половины человеческой жизни можно описать при помощи открытого между ними взаимоотношения: в течение первой половины стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой. Это, точнее говоря, два очень сходных друг другу отношения, взятых для изображения. Сходству отношений соответствует сходство слов, которое может напомнить нам о многократном употреблении одного и того же материала
(стремиться вперед)
(стремиться ’обратно) ’
В остроте Лихтенберга январь и противопоставляемые ему месяцы характеризуются опять-таки модифицированным отношением к чему-то третьему. Это пожелания счастья, которые люди
Остроумие и его отношение к бессознательному 63
приносят в течение одного месяца и которые не исполняются в течение всех остальных месяцев года. Отличие от многократного применёния одного и того же материала, которое приближается к двусмысленности, здесь очевидно1.
1 Я хочу воспользоваться ранее упомянутым своеобразным негативным отношением остроты к загадке (то, что скрыто в остроте, дано в загадке, и наоборот), чтобы описать «унификацию» лучше, чем это позволяют сделать вышеприведенные примеры. Многие из загадок, сочинением которых занимался философ Г.Т. Фехнер, после того как он потерял зрение, отличаются в высокой степени унификацией, придающей им особую прелесть. Такова, например, загадка № 203 (Ratselbuchlein von D-г Mises. Vierte vermehrte Auflage. Год издания не указан).
«Die beiden ersten finden ihre Ruhestatte
Im Paar der andern, und das Ganze macht ihr Bette».
О двух парах слогов, которые нужно отгадать, не сказано ничего, кроме их отношения друг к другу и кроме отношения всего в целом к первой паре слогов (разгадка: Totengraber). Или следующие два примера, в которых описание происходит путем указания отношения к одному и тому же или слегка модифицированному третьему:
№ 170. Die erste Silb’hat Zahn’ und Haare,
Die zweite Zahne in den Haaren.
Wer auf den Zahnen nicht hat Haare
Vom Ganzen kaufe keine Ware. (Rosskamm.)
№ 168. Die erste Silbe frisst,
Die andere Silbe isst,
Die dritte wird gefressen
Das ganze wird gegessen. (Sauerkraut.)
Наибольшая унификация содержится в загадке Шлейермахера, которую нельзя не назвать остроумной:
Von der letzten umschlungen
Schwebt das vollendete Ganze
Zu den zwei ersten empor. (Galgenstrick.)
В большинстве загадок, в которых искомое слово расчленяется на слоги, унификация отсутствует. То есть признак, по которому нужно отгадать один из слогов, совершенно независим от признака, данного для второго, третьего слога, и от опорных точек, по которым можно отгадать все в целом.
64
3. Фрейд
Прекрасным примером унификационной остроты, не нуждающейся в пояснении, является следующая:
Француз Ж.Б. Руссо, слагавший оды, написал «Оду потомству» (a la posterite); Вольтер нашел, что стихотворение это по своей ценности отнюдь не имеет достаточных оснований дойти до потомства и сказал остроумно: «Это стихотворение не дойдет по своему адресу». (По К. Фишеру.)
Последний пример может обратить наше внимание на то, что по существу унификация является тем моментом, который лежит в основе так называемых находчивых острот. Находчивость состоит ведь в переходе от обороны к агрессивности, в «повороте острия от себя в сторону противника», в «отплате тою же монетой»; следовательно, в создании неожиданного единства между атакой и контратакой.
«Пекарь говорит трактирщику, у которого нарывает палец: «Он, вероятно, попал в твое пиво?» — «Этого не было, но мне под ноготь попала одна из твоих саек». (По Уберхорсту. Das Komische, II. 1900.)
«Светлейший князь объезжает свои владения и замечает в толпе человека, очень похожего на его собственную высокую персону. Он подозвал его и спросил, служила ли его мать когда-либо в доме князя. «Нет, ваша светлость,— гласил ответ,— мать не служила. Но там служил мой отец».
«Герцог Карл Вюртембергский во время одной из своих верховых прогулок случайно натолкнулся на красильщика, занятого своим делом. «Можешь ли ты покрасить мою белую лошадь в синий цвет»,— спросил его герцог и получил ответ: «Конечно, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения!»
В этих отличных «поездках на обратных», в которых на бессмысленный вопрос отвечают столь же невозможным условием, принимает участие и такой технический момент, который отсутствовал бы, если бы красильщик ответил: «Нет, ваша светлость; я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения».
В распоряжении унификации имеется еще и другой, особенно интересный прием — присоединение при помощи союза и, которое означает связь. И мы понимаем его не иначе. Например, Гейне рассказывает в «Путешествии на Гарц» о городе Геттингене: «Вообще геттингенских жителей можно разделить на студентов, профессоров, филистеров и скот». Мы понимаем это сопоставле
Остроумие и его отношение к бессознательному 65
ние именно в прямом смысле, который еще резче подчеркивается добавлением Гейне: «Все они не многим различаются между собой». Или вот Гейне говорит о школе, где он должен был переносить «латынь, побои и географию». Это присоединение, которое более чем понятно, так как побои поставлены посредине между учебными предметами, говорит нам, что отношение ученика к побоям следует распространить и на занятия по латыни и географии.
У Липпса мы находим среди примеров «остроумного перечисления» («Koordination») стих, очень близкий по духу словам Гейне «студенты, профессора, филистеры и скот»:
«С трудом и вилкой мать вытащила его из соуса»; как будто труд был инструментом, подобно вилке, добавляет Липпе, поясняя1 * 3. Но создается впечатление, как будто этот стих совсем неостроумен, а только очень комичен. В то время, как гейневское присоединение несомненно остроумно. Быть может, мы впоследствии вспомним об этих примерах, когда нам больше не нужно будет избегать проблемы соотношения комизма и остроумия.
На примере с герцогом и красильщиком мы заметили, что их диалог остался бы остротой, возникшей путем унификации, и в том случае, если бы ответ красильщика гласил: «Нет, я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения». Но ответ гласил: «Да, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения». В замене уместного слова «нет» неуместным по здравому смыслу «да» и заключается новый технический прием остроумия, употребление которого мы проследим на других примерах. Одна из приведенных К. Фишером острот более проста. Фридрих Великий услышал об одном силезском проповеднике, о котором говорят, что он общается с духами. Фридрих приказал этому человеку прийти к нему и встретил его вопросом: «Умеете ли вы заклинать духов?» Ответ был таким: «Так точно, ваше величество, но они не приходят». Здесь вполне очевидно, что прием остроумия заключается в замене единственно возможного «нет» противоположным ему «да». Чтобы произвести эту замену, к слову «да» должно быть присоединено «но»; то есть «да» и «но» по смыслу тождественны «нет».
1 «У одного богатого и старого человека были молодая жена и раз-
мягчение мозга...» К. Макушинский. «Старый муж». Чтец-декламатор Г V. Юмористический. Кн-во Самоненко. Киев. — Примеч. перев.
3 Остроумие
66
3. Фрейд
Это изображение при помощи противоположности, как мы его называем, служит работе остроумия в различных продукциях. В следующих двух примерах оно выступает в чистом виде.
Гейне: «Эта дама во многих отношениях подобна Венере Милосской: она так же чрезвычайно стара, тоже не имеет зубов и имеет несколько белых пятен на желтоватой поверхности своего тела».
Это изображение отвратительной внешности при помощи аналогии ее с прекрасным. Такие аналогии можно проводить, конечно, только между двусмысленно выраженными качествами или второстепенными чертами. Последнее относится ко второму примеру:
«Лихтенбёрг: Великий дух.
Он объединил в себе качества великих мужей. Он держал голову криво, как Александр, всегда поправлял волосы, как Цезарь, мог пить кофе, как Лейбниц, и когда он однажды прочно сидел в кресле, то забыл о еде и питье, как Ньютон, и его должны были будить, как этого последнего; свой парик он носил, как д-р Джонсон, и пуговица от брюк была всегда у него расстегнута, как у Сервантеса».
Особенно хороший пример изображения с помощью противоположности, в котором абсолютно не имеет места употребление двусмысленных слов, привезен Фальком из его поездки в Ирландию.
«Место действия — кабинет восковых фигур мадам Тюссо. И здесь имеется проводник, сопровождающий общество, в котором и стар и млад, от фигуры к фигуре со своими объяснениями. «Это Дюк Веллингтон и его лошадь». После этого одна молодая девушка задает вопрос: «А какая из них Дюк Веллингтон и какая — его лошадь?» — «Как вам будет угодно, дитя мое,— гласит ответ.— Вы заплатили деньги, и выбор принадлежит вам».
Редукция этой ирландской остроты должна была бы звучать так: «Как не стыдно предлагать обозрению публики эти восковые фигуры! Ведь в них нельзя отличить лошадь от всадника!» (Шутливое преувеличение.) «И за это платят хорошие деньги!» Это негодующее выражение драматизируется, подкрепляется небольшими подробностями, вместо публики выступает одна дама, фигурой всадника выбирается индивидуально столь популярная в Ирландия личность герцога Веллингтона. Бесстыдство же владельца или проводника,
Остроумие и его отношение к бессознательному 67
который вытягивает у людей деньги из кармана и не дает взамен ничего достойного, изображается путем противоположности, с помощью речи, в которой он представляется как добросовестный делец, уважающий права публики, приобретенные ею после уплаты денег. Теперь можно также отметить, что техника этой остроты совсем не проста. Найдя путь к тому, как показать обманщика добросовестным, эта острота является примером изображения при помощи противоположности. Но повод, по которому острота прибегает к этому изображению, требует от нее совсем другого: она отвечает деловой солидностью там, где от нее ожидают объяснения сходства фигур, и является, таким образом, примером передвигания. Техника этой остроты заключается в комбинации обоих приемов.
От этого примера легко перейти к небольшой группе, которую можно было бы назвать остротами, возникающими путем преувеличения. В них «да», которое было бы уместно в редукции, заменяется отрицанием «нет». Но это «нет» равносильно по своему содержанию даже усиленному «да». И наоборот: «нет» заменяется таким же «да». Отрицание стоит на месте утверждения с преувеличением; такова, например, эпиграмма Лессинга1:
«Прекрасная Галатея! Говорят, что она красит свои волосы в черный цвет?» — «О, нет: ее волосы были уже черны, когда она их купила».
Или мнимая ехидная защита книжной мудрости Лихтенбергом: «Есть многое на небе и земле, Что и во сне, Горацио, не снилось
Твоей учености»,— сказал презрительно Гамлет.
Лихтенберг знает, что это определение далеко не меткое, так как оно не реализует всего того, что можно возразить против ученой мудрости. Поэтому он прибавляет еще недостающее суждение. «Но и в учености есть многое такое, чего нет ни на небе, ни на земле». Его изложение подчеркивает, чем вознаграждается книжная мудрость за порицаемый Гамлетом недостаток, но в этом вознаграждении заключается второй, еще больший упрек.
Еще прозрачнее, хотя и более грубы, две еврейские остроты, так как они свободны от всякой примеси передвигания.
1 По изложению «Griechischen Anthologie».
68
3. Фрейд
«Два еврея разговаривают о купании. «Я ежегодно купаюсь один раз,— говорит один из них,— даже если это не нужно».
Ясно, что таким хвастливым уверением в своей чистоплотности он уличает себя в неопрятности.
«Один еврей замечает остатки пищи на бороде у другого. «Я могу сказать тебе, что ты вчера ел».— «А ну-ка, скажи».— «Чечевичную похлебку».— «Неправда, я ее ел позавчера».
Великолепной остротой, которая создана путем преувеличения и легко может быть отнесена к изображениям при помощи противоположности, является следующая:
«Король, снизойдя, посещает хирургическую клинику и присутствует на праводимой профессором ампутации ноги. Отдельные стадии этой операции король сопровождает громкими выражениями своего королевского благоволения: «Браво, браво, мой милый профессор». По окончании операции профессор подходит к королю и спрашивает с глубоким поклоном: «Прикажете, ваше величество, ампутировать и вторую ногу?»
То, о чем думал про себя профессор во время королевского одобрения, можно выразить примерно следующими словами: «Все это производит такое впечатление, будто я ампутирую ногу этому бедняге по королевскому указу и только ради королевского благоволения. Однако в действительности у меня другие основания для этой операции». Но когда он подходит к королю, то высказывает противоположную мысль: «Я не имею никаких других оснований для производства этой операции, кроме указа вашего величества. Высказанное мне одобрение так осчастливило меня, что я ожидаю только приказания вашего величества, чтобы ампутировать и здоровую ногу!» Такой анализ позволяет понять то, о чем он думает и о чем может говорить. Эта противоположность есть невероятное преувеличение.
Изображение при помощи противоположности является, как мы видим на этих примерах, часто употребляемым и очень энергичным приемом техники остроумия. Но мы должны не проглядеть и другого момента, заключающегося в том, что эта техника свойственна отнюдь не одному только остроумию. Когда Марк Антоний, произнеся на форуме длинную речь о погибшем Цезаре и завоевав у слушателей расположение, опять бросает, наконец, фразу: «Брут — достойный уважения человек», то он знает, что народ крикнет ему в ответ только истинный смысл его слов:
Остроумие и его отношение к бессознательному 69
«Они изменники — эти достойные уважения люда».
[Аналогичной техникой пользуется Шуйский в «Борисе Годунове» Пушкина:
... Какая честь для нас, для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач, Возьмет венец и бармы Мономаха... — Перев.]
Или когда «Simplizissimus» переписывает собрание неслыханных сальностей и цинизмов, как выражения из «Gemiitsmenschen» («Нравственные люди»), то это тоже изображение при помощи противоположности. Но это называют иронией, а не остротой. Иронии не свойственна никакая другая техника, кроме техники изображения при помощи противоположности1. Кроме того, говорят и пишут об иронической остроте. Таким образом, нельзя больше сомневаться в том, что одна техника недостаточна для характеристики остроты. К технике должно присоединиться еще нечто другое, чего мы до сих пор не открыли. Но, с другой стороны, все-таки неоспоримо, что с упразднением техники исчезает и острота. A priori может показаться трудным объединить друг с другом оба этих спорных пункта, которые добыты нами для объяснения остроумия.
Если изображение при помощи противоположности относится к техническим приемам остроумия, то мы, конечно, вправе ожидать, что остроумие может использовать и противоположный прием, то есть изображение при помощи сходного и родственного. Продолжение нашего исследования действительно покажет нам, что это является техникой новой, совершенно особой обширной группы острот по смыслу. Мы определим своеобразность этой техники гораздо точнее, если вместо изображения при помощи «родственного» скажем: изображение при помощи принадлежащих друг другу или находящегося в связи друг с другом понятий. Мы сделаем почин последней характеристикой и поясним ее сейчас же примером.
1 Сравните с Крыловым: «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» — Примеч. перев.
70
3. Фрейд
В одном американском анекдоте говорится, что двум не очень щепетильным дельцам удалось рядом смелых предприятий создать себе довольно большое состояние, после чего их стремление было направлено на то, чтобы войти в высшее общество. Среди прочего им казалось вполне целесообразным заказать свои портреты самому дорогому и знаменитому художнику, каждое произведение которого считалось событием. На большом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые. Хозяева подвели весьма влиятельного критика и знатока искусства к стене, на которой висели оба портрета, рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрения и удивления. Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему чего-то не хватало, и спросил только, указывая на свободное место между двумя портретами: «А где же Спаситель?» Или: «Я не вижу здесь изображения Спасителя».
Смысл этой фразы ясен. Здесь опять идет речь об изображении чего-то, что не должно быть выражено прямо. Каким образом осуществляется это «непрямое изображение»? При помощи целого ряда легко возникающих ассоциаций и заключений мы проследим путь изображения этой остроты в обратном направлении.
Вопрос «1де Спаситель или изображение Спасителя?» позволяет нам догадаться, что вид обоих портретов напоминает говорящему подобное же, известное и ему и нам изображение Спасителя между двумя другими портретами. Такой случай возможен только один: распятый Христос, висящий между двумя разбойниками. Недостающий элемент подчеркивается остротой. Сходство же заключается в оставленных в остроте без внимания портретах, находящихся справа и слева от Спасителя. Оно может состоять только в том, что и демонстрируемые в салоне портреты — суть портреты разбойников. Критик, таким образом, хотел, но не мог сказать примерно следующее: «Вы — пара грабителей». Подробнее: «Какое мне дело до ваших портретов? Я знаю только, что вы — пара грабителей». И он сказал это путем некоторых ассоциаций и умозаключений. Этот путь мы называем намеком.
Мы тотчас вспоминаем, что уже встречали намек при рассмотрении двусмысленности. Иногда из двух значений, выраженных одним и тем же словом, одно, как более частое и более употребительное, выступает на первый план и прежде всего приходит нам в голову. В то же время другое, более отдаленное, отступает на
Остроумие и его отношение к бессознательному 7/
задний план. Такой случай мы и называем двусмысленностью с намеком. В целом ряде исследованных нами до сих пор примеров мы заметили, что техника их вовсе не проста, и рассматривали намек как усложняющий ее момент. (Например, сравните остроту о жене, составленную путем перестановки, где жена немного прилегла и при этом много заработала. Или остроту-бессмыслицу при поздравлении по поводу рождения младшего сына, где отец удивляется тому, что могут произвести человеческие руки.)
В американском анекдоте мы имеем намек, свободный от двусмысленности и в качестве характерной черты его находим замену одного представления другим, находящимся с ним в связи. Легко догадаться, что связь эта может реализоваться более чем одним способом. Чтобы не потеряться в этом множестве видов, мы будем обсуждать только резко выраженные вариации и иллюстрировать их лишь немногими примерами.
Реализуемая для замены связь может быть только созвучием, так что этот подвид аналогичен каламбуру при произнесении острот вслух. Но это не созвучие двух слов, а созвучие фраз, характерных оборотов речи и т. п.
Например, Лихтенбергу принадлежит изречение «Новый курорт хорошо лечит». Оно напоминает нам о поговорке «Новая метла хорошо метет». У них тождественны первое и третье слова и вся структура предложения. Это изречение возникло в голове остроумного мыслителя, вероятно, как подражание известной поговорке. Изречение Лихтенберга является, таким образом, намеком на поговорку. С ее помощью нам указывается на нечто, что не высказывается прямо; а именно: в работе курортов участвует еще и другой, временной момент, а не только теплые воды, целебные свойства которых постоянны.
Подобным же образом вскрывается технически и другая шутка или острота Лихтенберга: «Девочка, которой четыре моды». Это созвучно с определением возраста «четыре года», и было, может быть, первоначально опиской в этом определении. Но замена словом «мода» слова «годы» для определения возраста женщин является удачным приемом.
Связь может состоять в тождестве вплоть до единичной небольшой модификации. Эта техника параллельна опять-таки словесной технике. Оба вида остроумия вызывают почти одно и то же впе
72
3. Фрейд
чатление; однако их можно отличить друг от друга по процессам, происходящим при работе остроумия.
Вот пример такой словесной остроты или каламбура.
Великая, но известная не только объемом своего голоса певица Мария Свит1 была обижена тем, что название театральной пьесы, инсценированной по известному роману Ж. Верна, послужило намеком на ее безобразную внешность2: «Путешествие вокруг Свит за 80 дней».
Или слова «Что ни сажень — то королева», которые являются модификацией известного шекспировского выражения «Что ни дюйм — то король», служат намеком на эту цитату и сказаны про одну знатную даму, пережившую свое величие. В действительности, можно было бы немного возразить, если бы кто-нибудь захотел отнести эту остроту к сгущению с модификацией или к заместительному образованию (сравните tete-a-bete).
Об одном человеке, имеющем высокие устремления, но своеобразном в достижении своих целей и своенравном, кто-то из его друзей сказал: «Он набитый идеалист». «Он набитый дурак» — общеупотребительный оборот речи. На него и намекает эта модификация и на его смысл она сама претендует. И здесь технику тоже можно описать как сгущение с модификацией.
Почти невозможно отличить намек с модификацией от сгущения с заместительным образованием, когда модификация ограничивается изменением букв, как, например, в слове «дихтерит» (Dichter — поэт). Намек на страшную заразу «дифтерит» изображает бездарное поэтическое творчество тоже как нечто опасное в общественном отношении.
Отрицательные приставки дают широкую возможность создания очень удачных намеков с незначительными изменениями.
«Мой товарищ по неверию Спиноза»,— говорит Гейне. «Мы, немилостью божьей, поденщики, крепостные, негры, отбывающие барщину...» — так начинается у Лихтенберга манифест этих несчастных, которые имеют, во всяком случае, больше
1 Настоящая фамилия певицы Wilt. Фамилия эта является модификацией слова Welt. Соответственно этому модификацией русского Свет явилась фамилия Свит. — Примеч. перев.
2 Она была очень толста. — Примеч. перев.
Остроумие и его отношение к бессознательному
73
права на такое титулование, чем короли и князья на немоди-фицированное.
Формой намека является, наконец, и пропуск, который можно сравнить со сгущением без заместительного образования. Собственно, при каждом намеке пропускается нечто, а именно — приводящие к намеку пути, по которым идет течение мыслей.
Речь идет только о том, что больше бросается в глаза: пробел или заместительное образование, отчасти выполняющее пробел в тексте намека. Таким образом, мы вернулись бы опять от целого ряда примеров с грубыми пропусками к собственно намеку.
Пропуск без замещения дан в следующем примере.
«В Вене живет остроумный и воинствующий писатель, который неоднократно бывал бит его противниками за резкость своих полемических статей. Когда однажды в обществе обсуждалось новое выступление одного из его обычных противников, кто-то отозвался: «Если бы X. слышал это, он получил бы опять пощечину».
К технике этой остроты относится, прежде всего, смущение из-за непонимания мнимой бессмыслицы, потому что получение пощечины за то, что кто-то о чем-то слышал, никак не может быть понято нами. Но бессмыслица исчезает, когда вставляют пробел: тогда он написал бы такую едкую статью против лица, о котором идет речь, что... (и далее по тексту). Намек, получившийся из-за пропуска части фразы, и бессмыслица стали, таким образом, техническими приемами этой остроты.
Гейне: «Он хвалил себя так много, что курительные свечи поднялись в цене». Этот пробел легко заполнить. Пропущенное заменено следствием, которое служит намеком на пропуск слов. «Самохвальство издает зловоние» (нем. поговорка).
Еще одна острота о евреях, встретившихся в бане.
«Вот и еще год прошел!» — вздыхает один из них.
Эти примеры не оставляют никакого сомнения в том, что пропуск относится к намеку.
Бросающийся в глаза пробел имеется в нижеследующем примере, являющемся истинной и настоящей остротой, возникающей путем намека.
«После одного празднества художников в Вене был издан юмористический сборник, в котором, между всего прочего, было помещено следующее замечательное изречение: «Жена — как зон
74
3. Фрейд
тик. Но в случае необходимости все же прибегают к услугам более комфортабельным».
Зонтик мало защищает от доходя. «Все же» может только означать, что когда идет сильный дождь, то более комфортабельным, чем зонтик, является омнибус (общественный экипаж). Но поскольку мы здесь имеем дело с формой сравнения, то отложим пока более подробное исследование этой остроты.
Истинный клубок колких намеков содержат «Луккские воды» Гейне. Они превращают эту форму остроумия в искусное орудие для полемических целей (против графа Платена). Прежде чем читатель может догадаться об этом орудии, создается прелюдия к определенной теме, непригодной для прямого изображения. Прелюдия состоит из намеков, созданных из самого разнообразного материала. Например, из исковерканных слов Гирш-Гиацинта: «Вы слишком корпулентны, а я слишком тощ. У вас богатое воображение, а у меня тем более деловитости. Я — практик, а вы — диарретик (вместо «теоретик»; Diarrhea — понос). Одним словом, вы совершенно мой антиподекс (вместо «антипод»; Podex — задница)». «Венера Уриния» (Urin — моча) — толстая Гудель из Дрекваля (Dreck — кал) в Гамбурге» и т. п. Затем эти события, о которых рассказывает поэт, принимают другое направление, которое якобы прежде всего свидетельствует только о невежливых вольностях поэта, но вскоре открывает свое символическое отношение к полемическим целям и является, таким образом, тоже намеком. Наконец, нападки на Платена прорываются, и намеки на ставшую уже известной тему о гомосексуальности графа клокочут и струятся из каждой фразы, которую Гейне направляет против таланта и характера своего противника. Например:
«Если музы и неблагосклонны к нему, то дух языка все-таки находится в его полном распоряжении. Или, вернее, он умеет его насиловать, ибо свободной любви этого духа у него нет. Он должен постоянно бегать за этим юношей и умеет схватывать только внешние формы, которые, несмотря на свою прекрасную закругленность, лишены всякого благородства».
«С ним бывает в этих случаях то же, что со страусом, который считает себя достаточно спрятавшимся, когда зарывает в песок голову так, что видным остался только хвост. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы хвост упрятала в песок, а нам показала голову».
Остроумие и его отношение к бессознательному 75
Намек является самым употребительным и охотнее всего применяемым приемом остроумия. Он лежит в основе большинства недолговечных созданий остроумия, которые мы обычно вплетаем в нашу речь и которые теряют свой смысл при отделении от взрастившей их почвы и самостоятельном существовании. Но именно намек вновь напоминает нам о тех соотношениях, которые чуть было не ввели нас в заблуждение при оценке техники остроумия. Намек как таковой не обязательно остроумен. Есть корректно созданные намеки, которые вовсе не претендуют на остроумие. Остроумен только остроумный намек, так что признак остроумия, который мы проследили вплоть до техники остроумия, опять ускользает от нас.
Я назвал намек «непрямым изображением». А теперь обращу внимание на то, что при помощи противоположности и технических приемов, о которых речь впереди, можно с успехом объединить различные виды намека с изображением в одну большую группу, которую всеобъемлюще можно назвать «непрямым изображением». Ошибки мышления, унификация, непрямое изображение — таковы названия тех рубрик, под которые можно подвести ставшие нам известными технические приемы построения остроумной мысли.
При продолжении исследования нашего материала мы, вероятно, найдем новый подаид непрямого изображения, который возможно ярко охарактеризовать, но проиллюстрировать можно лишь немногими примерами. Это изображение при помощи мелочи или детали, позволяющее решить задачу дать полную характеристику с помощью крохотной детали. Присоединение этой группы к намеку становится возможным потому, что эта деталь находится в тесной связи с изображаемым материалом, и ее можно вывести как следствие из этого материала. Например.
«Галицийский еврей едет в поезде. Он устроился очень удобно, расстегнул свой сюртук и положил ноги на скамейку. В вагон входит модно одетый господин. Тотчас еврей приводит себя в порядок и усаживается в скромной позе. Вошедший перелистывает книгу, что-то высчитывает, соображает и вдруг обращается к еврею с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда у нас иомкипур (судный день)?» «Так вон оно что»,— думает еврей и опять кладет ноги на скамейку, прежде чем ответить на вопрос».
76
3. Фрейд
Нельзя отрицать, что это изображение при помощи детали связано с тенденцией к экономии, которую мы отметили при исследовании техники словесных острот как общую всем без исключения остротам черту.
Совершенно таков же и следующий пример.
«Врач, приглашенный помочь баронессе при разрешении от бремени, заявляет, что срок еще не наступил и предлагает барону сыграть пока в соседней комнате в карты. Спустя некоторое время до слуха обоих мужчин донесся стон баронессы: «Ah mon dieu, que je souffre!» Супруг вскакивает, но врач удерживает его: «Это еще ничего, играем дальше». Спустя некоторое время слышно, как роженица опять стонет: «Боже мой, боже мой, какие боли!» «Не хотите ли вы войти к роженице, господин профессор?» — спрашивает барон.— «Нет, нет, еще не время». Наконец из соседней комнаты слышится не оставляющий сомнений крик «Ай, ай, ай». Тогда врач бросает карты и говорит: «Пора».
Эта удачная острота показывает на примере постепенно изменяющихся жалобных возгласов знатной роженицы, как болевые ощущения позволяют первичной природе пробиться через все наслоения воспитания и как важное решение ставится в зависимость от незначительного будто бы изменения поведения больной.
Другой вид непрямого изображения, услугами которого пользуется остроумие,— это сравнение. Мы приберегали его так долго потому, что обсуждение этого вида наталкивается на новые трудности, или потому, что сравнение особенно отчетливо оттеняет те трудности, которые уже имели место в других случаях. '
Мы еще раньше признали, что относительно некоторых подлежащих исследованию примеров мы не могли отрешиться от сомнения, следует ли их вообще отнести к остротам. И в этой неуверенности мы усматривали опасную угрозу для основ нашего исследования. Но ни при каком другом материале я не ощущал эту неуверенность так сильно и так часто, как при остротах, возникающих путем сравнения. Ощущение, которое мне (да и многим другим при тех’же условиях) позволяет сказать «Это острота, это можно считать остротой», прежде чем открыт еще скрытый существенный характер остроты,— это ощущение легче всего покидает меня при остроумных сравнениях. Если я сразу без размышле
Остроумие и его отношение к бессознательному 77
ния считаю сравнение остротой, то мгновение спустя я замечаю, что удовольствие, которое оно мне доставляет, другого свойства, чем то, которым я обязан остроте. И тот факт, что остроумные сравнения редко вызывают такие оглушительные раскаты смеха, как от удачной остроты, не позволяет мне отделаться от этого сомнения, как раньше, хотя я ограничиваюсь лучшими примерами этого вида.
Легко показать, что есть прекрасные и эффектные примеры сравнений, которые отнюдь не производят на нас впечатления острот. Таково сравнение нежности, проходящей через дневник Оттилиен-са, с красной нитью в английском флоте. Я не могу отказать себе в удовольствии привести и другое сравнение, которым не перестал еще восхищаться и которое произвело на меня неизгладимое впечатление. Это сравнение, которым Ф. Лассаль закончил свою знаменитую защитительную речь («Наука и рабочие»): «На человека, посвятившего, как я вам пояснил, всю свою жизнь девизу «Наука и рабочие», не может произвести никакого впечатления и осуждение, которое он встретит на своем пути. Так лопнувшая реторта не производит никакого впечатления на углубленного в свои научные эксперименты химика. Слегка наморщив лоб по поводу сопротивления материала, он спокойно продолжает свои исследования, как только препятствие устранено».
Богатый выбор метких и остроумных сравнений имеется в сочинениях Лихтенберга (II т. геттингенского издания, 1853 г.). Я позаимствую оттуда материал для нашего исследования.
«Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-нибудь бороду». Это кажется, конечно, остроумным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что остроумное действие исходит не из самого сравнения, а из одного его побочного качества. «Факел истины» — сравнение, собственно, не новое, а издавна употребляемое и закрепленное за фиксированной фразой, как это всегда бывает, когда речь идет о счастливом сравнении, подхваченном практикой языка. В то время как в обычной разговорной речи мы больше почти не замечаем сравнения «факел истины», у Лихтенберга ему вновь придается первоначальный смысл и из него развивается претензия на остроту, построенную на дальнейшем сравнении. Но такое употребление в оборотах речи, потерявших свой прямой смысл, уже известно нам как техничес
78
3. Фрейд
кий прием остроумия. Он находит себе место при многократном употреблении одного и того же материала. Весьма возможно, что остроумное впечатление от фразы Лихтенберга проистекает только от применения этого технического приема остроумия.
Это же рассуждение относится и к другому остроумному сравнению того же автора.
«Большим светилом этот человек не был, но он был большим подсвечником... Он был профессором философии».
Называть ученого большим светилом («lumen mundi») — это уже давно неэффектное сравнение, независимо от того, было ли это первоначально остротой или нет. Но это сравнение освежают, ему вновь придают силу и первоначально принадлежавший смысл, получая модифицированное производное от него и второе новое сравнение такого же рода. Условие этой остроты содержится в способе, который породил и второе сравнение, а не в самих сравнениях. Это случай такой же техники остроумия, как и в примере с факелом.
Следующее сравнение кажется остроумным на другом основании, подлежащем такой же оценке.
«Я рассматриваю рецензии как особый вид второй болезни, которая в большей или меньшей степени поражает новорожденные книги. Иногда самые здоровые умирают от этой болезни, а слабейшие часто переносят ее. Некоторые совсем не заболевают ею. Часто старались предохранить их талисманом предисловия и посвящения или пытались произносить над ними свой собственный приговор. Но это не всегда помогало».
Сравнение рецензии с детской болезнью основано сначала только на том, что и та и другая поражают свои жертвы вскоре после того, как те увидели свет божий. Я не решаюсь утверждать, действительно ли оно так уж остроумно. Но затем сравнение это продолжено. Оказывается, что дальнейшая участь новых книг может быть изображена в рамках этого же самого сравнения или с помощью примыкающего к нему. Такое продолжение сравнения, несомненно, остроумно. Но мы уже знаем, благодаря какой технике оно кажется таким: это случай унификации, создание непредполагавшейся связи. И характер унификации не изменяется здесь оттого, что она заключается в присоединении к первому сравнению.
Остроумие и его отношение к бессознательному
79
В некоторых других сравнениях мы поддаемся искушению передвинуть несомненно имеющееся впечатление остроумия на другой момент, который опять-таки не имеет ничего общего с природой сравнения. Это те сравнения, которые содержат бросающееся в глаза сопоставление, а часто и абсурдно звучащую аналогию или заменяются такой аналогией в результате сравнения. Большинство примеров Лихтенберга относится к этой группе.
«Жаль, что у писателей нельзя увидеть ученую требуху, чтобы исследовать, что они ели». «Ученая требуха» — это приводящее в смущение, собственно абсурдное определение, которое становится понятным только благодаря сравнению. Как обстояло бы дело, если бы впечатление остроумия от этого сравнения целиком происходило за счет смущающего характера этого сопоставления? Это соответствовало бы одному из хорошо известных нам приемов остроумия — изображению при помощи бессмыслицы.
Лихтенберг применил это же сравнение усвоения прочитанного и заученного материала с усвоением психической пищи также и в другой остроте.
«Он был очень высокого мнения о занятиях в комнате и стоял, таким образом, за ученую кормежку в хлеву».
Столь же абсурдное или, по крайней мере, бросающееся в глаза определение, которое, как мы начинаем замечать, является собственно носителем остроумия, содержится и в других сравнениях того же автора:
«Это — закаленная сторона моей моральной конституции, в этом пункте я могу кое-что выдержать».
«Каждый человек имеет и свою моральную изнанку, которую он не показывает без нужды и прикрывает штанами хорошего воспитания до тех пор, пока это возможно».
Затем нас не должно удивлять, что мы в целом получаем впечатление очень остроумного сравнения. Мы начинаем замечать, что вообще склонны распространить на все в целом ту оценку, которую дали части целого. Впрочем, «штаны приличия» напоминают о подобных же, приводящих в смущение словах Гейне:
«Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы
На штанах терпения».
Несомненно, что оба этих сравнения несут на себе отпечаток, который можно найти не во всех хороших, то есть удачных срав
80
3. Фрейд
нениях. Они, можно сказать, в высокой мере принижают вещь высшей категории, абстрактное понятие (здесь: приличие, терпение), сопоставляя ее с вещью весьма конкретной и даже низшего сорта (со штанами). Имеет ли это своеобразие что-нибудь общее с остроумием, об этом мы еще будем говорить в другом месте. Попытаемся проанализировать здесь еще один пример, в котором принижающий характер выступает особенно отчетливо.
В фарсе Нёстроя «Он хочет повеселиться» приказчик Вейн-берл, рисующий в своем воображении картину, как он когда-нибудь, будучи старым солидным купцом, вспомнит о днях своей юности, говорит: «Когда, таким образом, в задушевном разговоре будет разрублен лед перед магазином воспоминаний, когда магазинная дверь прошедшего будет вновь открыта, и ящик фантазии будет наполнен товарами старины...»
Это, конечно, сравнение абстрактных понятий с обыкновенными конкретными вещами, но острота зависит — исключительно или только отчасти — от того обстоятельства, что приказчик пользуется теми сравнениями, которые взяты из обихода его повседневной деятельности. Приведение же абстрактного понятия в связь с этим обыкновенным, которое сплошь заполняет его, является актом унификации.
Вернемся к сравнениям Лихтенберга.
«Побудительные основания, исходя из которых делают что-нибудь, могут быть систематизированы так же, как и 32 ветра. И названия их формулируются подобным же образом. Например: хлеб— хлеб—слава; или: слава—слава—хлеб».
Как это часто бывает в остротах Лихтенберга, и здесь впечатление меткости, глубокомысленности и проницательности преобладает настолько, что наше суждение о характере остроумия вводится этим в заблуждение. Когда в таком выражении присоединяется нечто слегка остроумное к превосходной мысли, то нас, вероятно, возьмет соблазн признать все в целом за удачную остроту. Я скорее решился бы утверждать, что все здесь действительно остроумное проистекает из удивления по поводу странной комбинации «хлеб— хлеб—слава». Следовательно, это острота, пользующаяся изображением при помощи бессмыслицы.
Странное сопоставление или абсурдное определение может возникнуть само по себе как результат сравнения.
Остроумие и его отношение к бессознательному 81
Лихтенберг: двуспальная женщина — односпальный церковный стул. За обоими определениями скрывается сравнение с кроватью. Но, кроме смущения из-за непонимания, в обоих случаях действует еще и другой технический момент намека: в первом — на вечно неисчерпаемую тему половых отношений, во втором — на усыпительное действие проповедей.
Характеристика Лихтенбергом некоторых од:
«Они в поэзии являются тем же, чем в прозе стали бессмертные произведения Якова Бема: род пикника. Причем автор поставляет слова, а читатель — мысли».
«Когда он философствует, он обычно бросает на предметы приятный лунный свет: все в целом нравится, но ни один предмет не виден при этом отчетливо».
Или Гейне: «Ее лицо было, как рукопись, сделанная по стертым письменам на пергаменте, где под свежечерным монашеским писанием проглядывают полуугасшие стихи древнегреческого поэта о любви».
Или продолженное сравнение с весьма принижающей тенденцией в «Луккских водах»1.
«Католический священнослужитель ведет себя скорее как приказчик, который служит в большом торговом предприятии. Церковь — этот большой торговый дом, шефом которого является папа,— дает ему определенную работу и определенное жалование за исполнение ее. Он работает вяло, как каждый работающий не на собственный риск. У него много сослуживцев, и в большом деловом обороте он легко остается незамеченным. Его интересует только кредит торгового дома, а еще больше — сохранение этого кредита, так как в случае банкротства он лишился бы средств к существованию. Протестантский священнослужитель, наоборот, является повсюду сам принципалом и выполняет религиозные дела за собственный счет. Он не занимается крупной торговлей, как его католический товарищ по профессии, а только мелкой. И так как он должен сам управлять своим предприятием, ему нельзя быть вялым. Он должен расхваливать принципы своей веры, взгляды же своих конкурентов он должен принижать. И, как настоящий ме
1 В русском переводе «Луккских вод» это сравнение было пропущено, по-видимому, из цензурных соображений. — Примеч. перев.
82
3. Фрейд
лочный торговец, он стоит в своем балагане, где продажа производится в розницу, полный профессиональной зависти ко всем большим торговым домам, в особенности к большому торговому дому в Риме, оплачивающему труд многих тысяч бухгалтеров и упаковщиков и имеющему свои отделения во всех четырех частях света».
Этот пример, равно как и многие другие, заставляет нас признать, что и сравнение может быть остроумно само по себе, то есть без того чтобы такое впечатление складывалось за счет усложнения текста одним из известных нам технических приемов остроумия. Но в таком случае от нас совершенно ускользает понимание того, чем именно определяется остроумный характер сравнения, так как он происходят, конечно, не за счет сравнения, как формы выражения мысли или действия. Мы можем отнести сравнение только к виду «непрямого изображения», которым пользуется техника остроумия, и должны оставить неразрешенной проблему, выступающую при сравнении гораздо отчетливее, чем при ранее обсуждавшихся приемах остроумия. Конечно, свое особое основание должен иметь тот факт, что ответ на вопрос, является ли данный пример остротой или нет, в случае сравнения найти труднее, чем при других формах выражения.
Но и этот пробел в нашем понимании не является основанием для того, чтобы жаловаться на нас, считая это первое исследование безрезультатным. При той тесной связи, которую мы должны приписать различным особенностям остроумия, непредусмотрительно было бы ожидать, что мы сможем полностью прояснить одну сторону проблемы, прежде чем бросим взгляд на другие ее стороны. Мы, конечно, должны будем рассмотреть выдвинутую нами проблему и с другой стороны.
Уверены ли мы, что от нашего исследования не ускользнул ни один из возможных технических приемов остроумия? Конечно, нет. Но при продолжительной проверке нового материала мы можем убедиться в том, что мы все же изучили самые частые и самые важные технические приемы остроумия, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо, для того чтобы судить о природе этого психического процесса. Такого суждения в настоящее время еще нет, но зато мы приобрели важное указание, в каком направлении следует искать дальнейшее решение проблемы. Интересные процессы сгущения с заместительным образованием, которые мы распознали как ядро
Остроумие и его отношение к бессознательному 33
техники словесного остроумия, указывают нам на образование сновидения, в механизме которого были открыты те же самые процессы. На то же указывают и технические приемы острот по смыслу: передвигание, ошибки мышления, бессмыслица, непрямое изображение, изображение при помощи противоположности. Все они без исключения вновь проявляются в технике работы мысли во время сна. Передвиганию сновидение обязано своим странным внешним видом, который не позволяет нам видеть в нем продолжение наших мыслей во время бодрствования. За пользование бессмысленностью и абсурдностью (как техническими приемами) сновидение заплатило званием психического продукта и побудило авторов предположить, что условием образования сновидения являются распад душевной деятельности, приостановка критики, морали и логики. Изображение при помощи противоположности столь часто встречается в сновидении, что с ним обычно считаются даже народные, абсолютно неправильные сонники. Непрямое изображение, замена мысли сновидения намеком, деталью, символикой, аналогичной сравнению, являются именно тем, что отличает способ выражения сновидения от нашего бодрствующего мышления1. Такая столь далеко идущая аналогия между приемами работы остроумия и сна едра ли может быть случайной. Подробное доказательство этой аналогии и проверка ее обоснованности явится одной из наших будущих задач.
II. Тенденции остроумия
Когда я в конце предыдущей главы привел гейневское сравнение католического священнослужителя со служащим большого торгового дома, а протестантского — с самостоятельным мелким торговцем, я испытал сомнения в правомочности приведения такого примера. Я говорил себе, что среди моих читателей, вероятно, найдутся и такие, кто считает нужным почитать не только религию, но и ее систему управления и персонал. Эти читатели придут только в негодование по поводу сравнения, и аффективное состояние отобьет у них всякий интерес к решению вопроса о том, является ли это сравнение остроумным само по себе или только
1 Сравните мое «Толкование сновидений». Глава IV Работа сна.
84
3. Фрейд
из-за каких-то присоединившихся моментов. В других сравнениях, как, например, в сравнении некой философии с лунным светом, который она бросает на предметы, не нужно было бы беспокоиться о таком влиянии на часть читателей, которое мешало бы нашему исследованию. Самый набожный человек смог бы создать себе суждение о нашей проблеме.
Легко угадать характер остроты, вызывающей такую разную реакцию у слушателя. В одном случае острота является самоцелью, в другом — она преследует определенную цель и становится тенденциозной. В последнем случае она подвержена опасности наткнуться на таких людей, которые не пожелают ее слушать.
Нетенденциозная острота названа Т. Фишером «абстрактной»; я предпочитаю называть ее «безобидной» («harmlos»).
Раньше мы подразделили остроты по материалу, на котором выяснялась их техника, на словесные и остроты по смыслу. Теперь нам надлежит исследовать отношение такого разделения к произведенному только что. Словесная острота и острота по смыслу, с одной стороны, и абстрактная и тенденциозная — с другой, не стоят ни в какой связи по влиянию, оказываемому ими друг на друга. Это даа совершенно независимых друг от друга подразделения острот. Быть может, у кого-нибудь создалось впечатление, будто безобидные остроты являются преимущественно словесными, в то время как остроты с ярко выраженными тенденциями в большинстве случаев используют более сложную технику острот по смыслу. Однако существуют безобидные остроты, построенные на игре слов и созвучии, наряду с безобидными остротами, в которых используются все приемы острот по смыслу. Не менее легко показать, что тенденциозная острота по технике своей может быть ничем иным, как словесной остротой. Так, например, остроты, играющие собственными именами, часто имеют более обидную, оскорбительную тенденцию, а относятся, разумеется, к словесным остротам. Но самыми безобидными из всех острот являются все-таки словесные остроты. Таково, например, ставшее недавно излюбленным рифмоплетство, в котором техника заключается в многократном употреблении одного и того же материала совершенно со своеобразной модификацией:
Und well er Geld in Menge hatte, lag stets er in der H'angematte.
Остроумие и его отношение к бессознательному
85
(«И так как он имел много денег, он всегда лежал в гамаке».) Думаю, никто не станет отрицать, что удовольствие от такого рода невзыскательных рифм является тем именно фактором, по которому мы распознаем остроту.
Хорошие примеры абстрактных или безобидных острот по смыслу имеются в большом количестве среди сравнений Лихтенберга. Некоторые из них мы уже изучили. Я присоединяю сюда еще несколько.
«Чтобы возвести эту постройку надлежащим образом, прежде всего должен быть заложен хороший фундамент. И я не знаю более прочного фундамента, чем тот, в котором над каждым слоем «рго» сейчас же кладут слой «contra».
«Один рождает мысль, другой устраивает ей крестины, третий приживает с ней детей, четвертый посещает ее на смертном одре, а пятый погребает ее» (сравнение с унификацией).
«Он не только не верил ни в каких духов, но и не раз боялся их». Острота заключается здесь исключительно в бессмысленном изображении, когда понятие, имеющее обычно незначительную ценность, ставится в сравнительной степени; понятие же, считающееся более важным — в положительной степени. Если отказаться от этой хитроумной оболочки, то мысль, заключенная в остроте, будет гласить: гораздо легче победить разумом боязнь привидений, чем защищаться от них, вообразив их существующими. Но это вовсе не остроумно, это правильное и еще слишком мало оцененное психологическое суждение, то именно суждение, которое Лессинг выразил следующими известными словами:
«Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten». («Не все те свободны, кто иронизирует по поводу своих цепей».)
Я хочу воспользоваться удобным случаем, представляющимся здесь, чтобы устранить могущее все-таки возникнуть недоразумение. «Безобидная» или «абстрактная» острота отнюдь не должна быть равнозначна остроте «празднословной»; она является только противоположностью обсуждаемым в дальнейшем «тенденциозным» остротам. Как показывает вышеприведенный пример, безобидная, то есть лишенная тенденций острота тоже может быть очень содержательной и выражать нечто ценное. Но содержание остроты вполне
86
3. Фрейд
независимо от нее самой и является содержанием той мысли, которая получила в ней остроумное выражение с помощью особой техники. Конечно, как часовой мастер обычно снабжает особенно хороший механизм ценным футляром, так может обстоять дело и с остротой: лучшие произведения остроумия используются именно как оболочка для самых содержательных мыслей.
Если мы обратим сугубое внимание на то, чтобы отличать содержание мыслей от остроумной оболочки, то мы придем к заключению, которое разъяснит нам многое в нашем суждении об остроумии, в чем мы были не уверены. А именно, оказывается, хотя это и поражает нас, что наше благосклонное отношение к остроте является результатом суммированного действия содержания и техники остроумия, и что мы по одному из факторов совершенно ложно судим о размерах другого. Лишь редукция остроты раскрывает нам обман суждения.
Впрочем, то же самое оказывается верным и для словесной остроты. Когда мы слышим, что «жизненное испытание состоит в том, что испытывают то, чего не хотят испытывать», то мы смущены, думаем, что слышим новую истину, и проходит некоторое время, пока мы узнаем в этой оболочке тривиальную мысль: «Страдания учат уму-разуму» (К. Фишер). Отличная техника остроумия, определяющая «испытание» почти только употреблением слова «испытывать», вводит нас в обман настолько, что мы переоцениваем содержание этой фразы. Так же обстоит для нас дело и при остроте Лихтенберга об «январе», которая возникает путем унификации и не говорит ничего, кроме того, что мы уже давно знаем, а именно, что новогодние пожелания сбываются так же редко, как и другие пожелания. Так же обстоит дело и во многих подобных случаях.
Обратное мы встречаем при других остротах, в которых нас пленяет меткость и правильность мысли и потому мы называем предложение блестящей остротой, в то время как блестяща только мысль, а техника остроумия часто слаба. Как раз в остротах Лихтенберга ядро {лысли часто гораздо ценнее, чем остроумная оболочка, на которую мы затем неправильно распространяем оценку первого. Так, например, замечание о «факеле истины» является едва ли остроумным сравнением, но оно так метко, что мы можем отметить это предложение как особенно остроумное.
Остроумие и его отношение к бессознательному 87
Остроты Лихтенберга являются выдающимися, прежде всего, благодаря содержанию их мыслей и их меткости. Гете по праву сказал об этом авторе, что за его остроумными и шутливыми идеями скрыты прямо-таки проблемы; точнее говоря, они затрагивают решение проблем. Например, он отмечает как остроумную мысль:
«Он так ревностно изучал Гомера, что всегда читал Agamemnon вместо angenommen» (технически: глупость 4- созвучие). Но этим он только раскрывает тайну опечатки1 2. Такова же и приводимая раньше острота, техника которой показалась нам очень неудовлетворительной:
«Он удивлялся, что у кошек вырезаны в шкуре две дыры как раз на том месте, где у них были глаза». Глупость, выставленная здесь напоказ, только кажущаяся. В действительности за этим глупым замечанием скрыта большая проблема телеологии в построении организма животного. Совсем уж не так само собой понятно, что щель между веками открывается там, где лежит свободная часть роговой оболочки, пока эмбриология не объяснит нам этого совпадения.
Мы хотим подчеркнуть, что получаем от остроумного предложения совокупное представление, в котором не можем отделить участие содержания мыслей от участия работы остроумия. Быть может, в дальнейшем будет найдена еще более наглядная параллель.
Для нашего теоретического объяснения сущности остроумия безобидные остроты должны быть важнее, чем тенденциозные, бессодержательные — ценнее, чем глубокомысленные. Безобидная и бессодержательная игра слов выставит перед нами проблему остроумия в чистейшей ее форме, так как при ней мы избегаем опасности быть введенным в заблуждение тенденцией и в обман суждения — логичным смыслом. На таком именно материале наше познание может ожидать новый успех.
Я выбираю по возможности безобидный пример словесной остроты:
«Девушка, которой доложили о приходе гостей в то время, когда она совершала свой туалет, воскликнула: «Ах, как жаль, что человек не может показаться как раз тогда, s
когда он (am anziehendsten)------одевается------
привлекательнее всего
1 Сравните мою «Психопатологию обыденной жизни».
2 R. Kleinpaul. «Die Ratsel der Sprache».
88
3. Фрейд
Так как у меня возникает сомнение, имею ли я право выдавать эту остроту за безобидную, я заменяю ее другой, наивно простодушной, которая заведомо свободна от такого возражения.
В одном доме, куда я был приглашен в гости, к концу обеда было подано мучное блюдо, называемое Roulard, приготовление которого требует большого кулинарного искусства. Поэтому один из гостей спросил: «Это блюдо приготовлено дома?», на что хозяин дома отвечает: «Да, конечно, Home-Roulard» (Home-Rule).
На этот раз мы хотим исследовать не технику остроумия, а думаем обратить внимание на другой, самый важный момент. Выслушивание этой импровизированной остроты доставило присутствующим ясно вспоминаемое мною удовольствие и заставило нас смеяться. В этом случае, как и в бесчисленных других, получение слушателем удовольствия может проистекать не от тенденции и не от содержания мыслей. И не остается ничего другого, как связать между собой получение удовольствия с техникой остроумия. Описанные нами выше технические приемы остроумия — сгущение, передвигание, непрямое изображение и т. д.— обладают, таким образом, способностью вызывать у слушателей удовольствие, хотя мы еще совсем не может понять природу этой способности. Таким легким путем мы получили второе положение для объяснения остроумия. Первое же положение гласило, что характер остроумия зависит от формы выражения. Подумаем еще о том, что второе положение не научило нас, собственно, ничему новому. Оно обособляет только то, что содержалось уже в опыте, сделанном нами ранее. Мы вспоминаем, что когда удавалось редуцировать остроту, то есть заменить одно выражение другим, тщательно сохранив его смысл, то этим упразднялся не только характер остроумия, но и смехотворный эффект, следовательно — удовольствие от остроты.
Мы не можем идти здесь дальше, не разделавшись с нашими философскими авторитетами.
Философы, которые причисляют остроумие к комическому и само комическое трактуют в эстетике, характеризуют комическое представление одним непременным условием, согласно которому мы при этом ничего не хотим от вещей, не нуждаемся в них для удовлетворения какой-нибудь из наших важных жизненных потребностей, а просто довольствуемся их созерцанием и наслаждаемся
Остроумие и его отношение к бессознательному 89
их представлением. «Это наслаждение, этот ряд представлений — чисто эстетический. Он зависит только от себя, только в себе имеет свою цель и не выполняет никаких других жизненных целей» (К. Фишер).
Мы едва ли находимся в противоречии с этими словами К. Фишера и переводим, быть может, только его мысли в наш способ выражения, когда подчеркиваем, что остроумная деятельность все-таки не может быть названа нецелесообразной или бесцельной, так как она несомненно ставит себе целью вызывать у слушателя удовольствие. Я сомневаюсь, можем ли мы вообще предпринять что-либо, не приняв во внимание цель. Если наш душевный аппарат не нужен нам для выполнения одного из необходимых удовлетворений, то мы позволяем ему самому работать для удовольствия, стремимся извлечь удовольствие из его собственной работы. Я полагаю, что это вообще является условием, которому подчинены все эстетические представления. Но я слишком мало понимаю в эстетике, чтобы доказать это положение. Что же касается остроумия, то я могу, на основании двух доказанных раньше положений, утверждать, что оно является деятельностью, направленной на получение удовольствия от душевных процессов — интеллектуальных или каких-то других. Существуют, конечно, еще и другие виды деятельности, которые имеют своей целью то же самое. Быть может, их отличие заключается в том, из какой области душевной деятельности они черпают удовольствие; а может быть — в методе, которым они при этом пользуются. В настоящую минуту мы этого не можем решить. Но мы придерживаемся того мнения, что техника остроумия и отчасти управляющая ею тенденция к экономии имеют отношение к получению удовольствия.
Но прежде чем мы попытаемся разрешить загадку, каким образом технические приемы работы остроумия могут вызывать удовольствие у слушателя, хочу напомнить о том, что для упрощения и большей ясности мы совсем отложили в сторону тенденциозные остроты. Но все-таки нужно попытаться объяснить, каковы тенденции остроумия и каким образом оно обслуживает эти тенденции.
Одно наблюдение прежде всего напоминает нам о том, что мы не должны оставлять в стороне тенденциозную остроту при исследовании происхождения удовольствия, получаемого от ос
90
3. Фрейд
троумия. Удовольствие от безобидной остроты в большинстве случаев умеренное; отчетливое благоволение, легкая усмешка — вот что она может вызвать у слушателя. К тому же некоторую часть этого эффекта нужно еще отнести за счет содержания мысли, как мы заметили на некоторых примерах. Острота, лишенная тенденциозности, почти никогда не вызывает тех неожиданных взрывов смеха, которые делают столь неотразимой тенденциозную остроту. Так как техника в обоих случаях может быть одинаковой, то у нас должно возникнуть предположение, что тенденциозная острота именно в силу своей тенденциозности должна обладать источниками удовольствия, недоступными безобидной остроте.
Тенденции остроумия легко обозреть. Там, где острота не является самоцелью, то есть там, где она не безобидна, она обслуживает только две тенденции, которые могут быть даже объединены в одну точку зрения: она является либо враждебной (которая обслуживает агрессивность, сатиру, оборону), либо скабрезной остротой (которая служит для обнажения). Прежде всего нужно отметить; что технический вид остроумия — будет ли это словесная острота или острота по смыслу — не имеет никакого отношения к обеим этим тенденциям.
Гораздо подробнее следует изложить, каким образом остроумие обслуживает эти тенденции. Я хотел бы при этом исследовании сделать почин не враждебной, а обнажающей остротой, которая гораздо реже удостаивалась исследования, как будто отрицательное отношение к материалу исследования было перенесено здесь на сам предмет исследования. Мы, однако, не позволим ввести себя, в заблуждение, так как вскоре наткнемся на пограничный случай остроумия, который обещает привести нас к выяснению не одного неясного пункта.
Известно, что понимается под «сальностью»: умышленное подчеркивание в разговоре сексуальных обстоятельств и отношений. Пока это определение не более основательно, чем другие. Доклад об анатомии половых органов или о физиологии совокупления не имеет, несмотря на это определение, ни одной точки соприкосновения, ничего общего с сальностью. К этому присоединяется еще и то, что сальность предназначается определенному лицу, которое вызывает у рассказчика половое возбуждение и при выслушива
Остроумие и его отношение к бессознательному 9/
нии сальности должно узнать об этом и само испытать сексуальное возбуждение. Вместо этого оно может быть пристыжено или приведено в смущение, что означает только реакцию на возбуждение и таким окольным путем — признание его появления. Таким образом, сальность первоначально направлена на женщину и должна быть приравнена к попытке совращения. Если мужчина затем забавляется в мужском обществе, рассказывая или выслушивая сальности, то этим изображается вместе с тем и первоначальная ситуация, которая не может быть осуществлена. Кто смеется над услышанной сальностью, тот смеется как очевидец сексуальной агрессивности.
Сексуальное начало, которое образует содержание сальности, охватывает больше, чем признаки отличия одного пола от другого. Кроме того, оно включает и то общее между обоими полами, на что распространяется стыд, следовательно на экскрементируе-мое во всем его объеме. А.это есть тот объем, который имеет сексуальное начало в детском возрасте, когда в представлении ребенка существует только клоака, внутри которой сексуальное и экскрементальное содержание плохо или вовсе не отделены друг от друга1. Повсюду в области психологии неврозов сексуальное замыкается на экскрементальном; оно понимается в старом, инфантильном смысле.
Сальность — это как бы обнажение того человека противоположного пола, против которого она направлена. Скабрезные слова вынуждают человека представлять себе соответствующую часть тела или физиологическое отправление и показывают ему, что и тот, кто произнес эти слова, сам представляет себе то же самое. Нет сомнения, что первоначальным мотивом сальности является удовольствие, испытываемое от рассматривания сексуального в обнаженном виде.
Для нашего объяснения будет только полезно, если мы вернемся к самым основам. Влечение видеть то, что отличает один пол от другого, является одним из первоначальных компонентов нашего либидо. Оно само является, быть может, уже заменой и сводится на предполагаемое первичным удовольствие, испытываемое от прикосновения к сексуальному. Как это часто бывает, рассмат
1 См. мою «Теорию полового влечения».
92
3. Фрейд
ривание заменило здесь ощупывание1. Либидо рассматривания и ощупывания существует у каждого в двояком виде — активном и пассивном, в мужском и женском — и формируется, смотря по степени преобладания полового характера, в одном или другом направлении. У маленьких детей можно легко наблюдать влечение к самообнажению. Там, где это влечение не преодолевается в зародыше и не подавляется, оно развивается в перверсию у взрослых мужчин, известную в качестве эксгибиционистического стремления. У женщины пассивное эксгибиционистическое влечение почти всегда преодолевается великолепным реактивным образованием в виде сексуальной стыдливости, но не без того, чтобы оно не сохранило за собой лазейки в одежде. Мне остается только указать, что оставшиеся разрешенными женщине размеры эксгибиционизма растяжимы и варьируются по условности и по обстоятельствам.
У мужчины продолжает существовать высокая степень этого стремления как составная часть либидо, и оцо обслуживает вступление в половой акт. Если это стремление дает 6 себе знать при первом приближении к женщине, то оно должно обслуживаться двумя мотивами разговора: во-первых, чтобы заявить о себе женщине; во-вторых, чтобы, вызывая при помощи разговора определенное представление, вызвать в самой женщине ответное возбуждение и разбудить в ней влечение к пассивному эксгибиционизму. Эта домогающаяся речь — еще не сальность, но она в конце концов переходит в сальность. А именно там, где готовность женщины наступает скоро, там сальный разговор недолговечен — он тотчас уступает место сексуальному действию. Иначе обстоит дело, когда нельзя рассчитывать на быструю готовность женщины, и вместо этой готовности появляется оборонительная реакция. Тогда сексуально возбуждающий разговор, каким является сальность, станет самоцелью. Но поскольку сексуальная агрессивность тормозится в своем прогрессировании до полового акта, то она не спешит вызывать возбуждение и извлекает удовольствие от вида признаков такого возбуждения у женщины. Агрессия изменяет при этом также и свой характер в том же смысле, как и каждое лйби-
1 Влечение к контректации Молля (Untersuchungen Liber die Libido sexualis, 1898).
Остроумие и его отношение к бессознательному
93
дозное побуждение, которому противопоставляется препятствие. Она становится откровенно враждебной, жестокой и, чтобы убрать препятствие, призывает на помощь садистские компоненты полового влечения.
Неподатливость женщины является, следовательно, ближайшим условием для образования сальности (конечно, такая неподатливость, которая обозначает просто отсрочку и не полагает безнадежным дальнейшее домогательство). Идеальный случай такого сопротивления женщины наблюдается при одновременном присутствии другого мужчины, третьего участника, потому что тогда немедленная податливость женщины, безусловно, исключена. Этот третий тотчас получает величайшее значение для развития сальности. Но, прежде всего, нельзя не принимать во внимание присутствие женщины. У простого народа или в трактире для мелкого люда можно наблюдать, что даже только приближение кельнерши или трактирщицы вызывает сальность. На более высокой социальной ступени наступает противоположное: именно приближение женщины кладет конец сальности. Мужчины приберегают этот вид беседы, который первоначально предполагает присутствие стыдливой женщины, до той поры, когда они останутся «в холостом обществе». Так постепенно место женщины занимает зритель, теперь слушатель, то есть инстанция, для которой и предназначена сальность, которая, благодаря такому превращению, приближается уже к характеру остроты.
Наше внимание, начиная с этого момента, может быть обращено на два фактора: на роль третьего, слушателя, и на содержание самой сальности.
Для тенденциозной остроты нужны в общем случае три лица: кроме того лица, которое острит, нужно второе лицо, которое берется как объект для враждебной или сексуальной агрессивности, и третье лицо, с помощью которого достигается цель остроты — извлечение удовольствия. Более глубокое обоснование этих соотношений мы найдем в дальнейшем. Пока же отметим лишь тот факт, что по поводу остроты смеется не тот, кто острит (следовательно, не он получает удовольствие), а бездеятельный слушатель. В таком же отношении находятся три лица при сальности. Этот процесс можно описать так: поскольку удовлетворение женщиной откладывается, либидозный импульс первого лица развивает
94
3. Фрейд
враждебный импульс против второго лица и призывает в союзники третье лицо, первоначально мешавшее. Сальным разговором первого лица женщина обнажается перед третьим лицом, которое теперь подкупается в качестве слушателя удовлетворением его собственного либидо, полученным без всякого труда.
Замечательно, что такой сальный разговор чрезвычайно излюблен простым народом, и дело никогда не обходится без него, если общество находятся в веселом настроении духа. Но достойно внимания также и то, что при этом сложном процессе, который несет в себе столько характерных черт тенденциозной остроты, самой сальности не предъявляется ни одно из тех формальных требований, которые характеризуют остроту. Высказывание открытой непристойности доставляет первому лицу удовольствие и заставляет третье лицо смеяться.
Лишь когда мы начинаем рассматривать высокообразованное общество, присоединяется формальное условие остроумия. Сальность становится интересной и терпимой только в том случае, если она остроумна. Техническим приемом, которым она в большинстве случаев пользуется, является намек, то есть замена деталью, чем-либо находящимся в отдаленной связи, которую слушатель реконструирует в своем представлении в полную и прямую скабрезность. Чем больше несоразмерность между прямо указанным в сальности и неизбежно возбужденным ею воображением слушателя, тем тоньше острота, тем скорее она может войти в хорошее общество. Кроме грубого и тонкого намека, в распоряжении остроумной сальности имеются, как можно легко показать на примерах, все другие приемы словесной остроты и остроты по смыслу.
Теперь становится, наконец, понятно, что именно дает острота для обслуживания своей тенденции. Она делает возможным удовлетворение влечения, похотливого и враждебного, несмотря на стоящее на пути препятствие, которое она обходит и черпает, таким образом, удовольствие из источника, ставшего недоступным из-за препятствия. Стоящее на пути препятствие является, собственно, ничем иным, как повышенной неспособностью женщины переносить незамаскированную сексуальность (из-за более высокой ступени образования и общественного положения). Если в исходной ситуации женщина присутствовала, она продолжает считаться зримой, или ее влияние продолжает пугающе действо-
Остроумие и его отношение к бессознательному
95
вать на мужчин и в ее отсутствие. Можно наблюдать, как мужчины высшего общества тотчас становятся предрасположенными обществу нижестоящих девушек и к замене остроумной сальности простой.
Силу, которая затрудняет или делает невозможным для женщины (а в незначительной степени и для мужчины) получать удовольствие от незамаскированной скабрезности, мы называем «вытеснением». В ней мы узнаем тот же психический процесс, который в случае серьезных заболеваний держит вдали от сознания целые комплексы побуждений вместе с их производными и является главным обусловливающим фактором при так называемых психоневрозах. Мы признаем за культурой и хорошим воспитанием большое влияние на образование вытеснения. Предполагаем, что при этих условиях осуществляется изменение психической организации (которое может быть вызвано и унаследованным предрасположением). В результате то, что воспринималось прежде как приятное, кажется теперь неприятным и отвергается всеми психическими силами. Вытесняющая работа культуры приводит к потере первичных, но отвергнутых нашей цензурой возможностей наслаждения. Но для психики человека каждое отречение очень болезненно. Таким образом, мы находим, что тенденциозная острота возвращает возможность вновь получить потерянное. Когда мы смеемся по поводу тонкой скабрезной остроты, то мы смеемся над тем самым, что заставляет крестьянина смеяться при грубой сальности. Удовольствие проистекает в обоих случаях из одного и того же источника. Но смеяться по поводу грубой сальности мы не могли бы — нам было бы стыдно или она показалась бы нам отвратительной. Мы можем смеяться лишь тогда, когда-нам на помощь пришло остроумие.
Таким образом, для нас подтверждается то, что мы предположили вначале: тенденциозная острота располагает иными источниками удовольствия, чем безобидная, при которой все удовольствие так или иначе связано с техникой. Мы можем также снова подчеркнуть, что при тенденциозной остроте наше восприятие не в состоянии отделить, какую часть нашего удовольствия мы получаем от техники остроты, а какую — от ее тенденции. То есть, строго говоря, мы не знаем, над чем смеемся. В скабрезных остротах мы подвержены яркому обману суждения о «доброкачествен
96
3. Фрейд
ности» остроты, поскольку это зависит от формальных условий. Техника таких острот часто очень бедна, а их смехотворный эффект огромен.
Теперь исследуем, играет ли острота ту же самую роль при обслуживании враждебной тенденции.
С самого начала мы наталкиваемся и здесь на те же условия. Враждебные импульсы против ближних подвержены, начиная с нашего индивидуального детства, равно как и с детских времен человеческой культуры, тем же ограничениям, тому же прогрессирующему вытеснению, что и наши сексуальные стремления. Мы еще не дошли до того, чтобы быть в состоянии любить своих врагов или подставить им левую щеку после удара по правой. Все моральные предписания в области ограничения деятельной ненависти несут и поныне на себе явные признаки того, что первоначально они были предназначены для небольшой общины соплеменников. Поскольку все мы чувствуем себя принадлежащими к одному определенному народу, мы позволяем себе не принимать во внимание большинство этих ограничений в отношении к чужим народам. Но внутри своего собственного круга мы все же сделали успехи в сдерживании враждебных побуждений, как это резко выразил Лихтенберг: «Где теперь говорят «Извините, пожалуйста», там прежде давали пощечину». Насильственная враждебность, запрещенная законом, сменилась руганью. Лучшее признание обуздания человеческих побуждений все больше лишает нас способности сердиться на ближнего, ставшего у нас на пути, благодаря постоянному следованию принципу «Tout comprendre c’est tout pardonner» («Все понять — значит все простить»). Еще детьми мы бываем одарены сильной способностью к Враждебности. Позже высшая личная культура учит нас, что нехорошо употреблять ругательства; и даже там, где борьба сама по себе разрешена, число приемов, которые нельзя применять как средства борьбы, чрезвычайно велико. С тех пор как мы должны были отказаться от выражения враждебности при помощи действия (чему препятствует и беспристрастное третье лицо, в интересах которого лежит охрана личной безопасности), мы создали, как и при сексуальной агрессивности, новую технику оскорблений, которая имеет целью завербовать это третье лицо против нашего врага. Делая врага мелким, низким,
Остроумие и его отношение к бессознательному 97
презренным, комическим, мы создаем себе окольный путь для наслаждения победой над ним. Это наслаждение подтверждает нам своим смехом третье лицо, не приложившее никаких усилий к этой победе.
Мы, таким образом, подготовлены к роли остроумия при враждебной агрессивности. Острота позволяет нам использовать все то смешное, что есть в нашем враге и что мы не смеем или сознательно не хотим отметить вслух. Таким образом, острота обходит ограничения и открывает считавшиеся недоступными источники удовольствия. Далее, она подкупает слушателя тем, что доставляет ему удовольствие, не производя строжайшего испытания нашей пристрастности. Мы и сами делаем это иной раз, подкупленные безобидной остротой и переоценивающие содержание остроумного предложения. В немецком языке существует очень меткое выражение: «Насмешники привлекают на свою сторону».
Возьмем, например, разбросанные в предыдущей главе остроты господина N. Это все без исключения ругательства. Они носят такой характер, как будто N. хотел громко воскликнуть: «Но ведь министр земледелия сам бык! Оставьте меня в покое с Y., который лопается от тщеславия! Более скучного, чем статьи этого историках) Наполеоне в Австрии, я еще никогда не читал!» Но высокое положение его особы делает для него невозможным выражение своих суждений в этой форме. Поэтому он прибегает к помощи остроумия, обеспечивающего ему у слушателя успех, которого он никогда не имел бы, будь его мысли высказаны в неостроумной форме, хотя содержание их и соответствовало бы истине. Одна из этих острот особенно поучительна, это острота о «красном пошляке (Fadian)», быть может самая агрессивная из всех острот. Что в ней заставляет нас смеяться и всецело отвлекает наше внимание от вопроса, справедливо ли это суждение о бедном писателе или нет? Конечно, остроумная форма; следовательно, сама острота. Но над чем мы смеемся при этом? Без сомнения, над самим лицом, которое было представлено нам как «красный пошляк (Fadian)», и в особенности над его красными волосами. Образованный человек отвык насмехаться над недостатками внешности и для него красные волосы не являются объектом для насмешки. Но над красными волосами продолжа
98
3. Фрейд
ют насмехаться гимназисты и простой народ, а также еще в процессе выборов общественных и парламентских представителей. А эта острота гр-на N. искуснейшим образом дала нам, взрослым и чутким людям, возможность смеяться, как гимназисты, над красными волосами историка X. Это, конечно, не было целью гр-на N. Но весьма сомнительно, что кто-нибудь, создающий свою остроту, может точно знать ее цель.
Если в этих случаях препятствие для агрессивности, обойденное с помощью остроты, было внутренним — эстетический протест против ругани,— то в других случаях оно может быть чисто внешнего происхождения. Таков случай, когда светлейший князь, которому бросилось в глаза сходство его собственной персоны с простым работником из его имения, спрашивает, служила ли его мать когда-либо в резиденции; а находчивый ответ на этот вопрос гласит: «Мать не служила, зато там служил мой отец». Работник хотел бы, конечно, осадить наглеца, который осмелился позорить таким намеком его матерь. Но этот наглец — светлейший князь, которого он не смеет ни осадить, ни оскорбить, если хочет сохранить себе жизнь. Значит ли это, что нужно молча задушить в себе обиду? К счастью, острота указывает безопасный путь отмщения, принимая этот намек с помощью технического приема унификации и адресуя его нападающему светлейшему князю. Впечатление остроты настолько определяется здесь тенденцией, что мы при наличии остроумного ответа склонны забыть, что вопрос нападающего сам остроумен из-за содержащегося в нем намека.
Внешние обстоятельства так часто являются препятствием для ругани или оскорбительного ответа, что тенденциозная острота особенно охотно употребляется в случаях осуществления агрессивности или критики лиц, вышестоящих или претендующих на авторитет. Острота представляет собой протест против такого авторитета, освобождение от его гнета. В этом же факте заключается и вся прелесть карикатуры, по поводу которой мы смеемся даже тогда, когда она малоудачна, потому только, что ставим ей в заслугу протест против авторитета.
Если мы будем иметь в виду, что тенденциозная острота весьма пригодна к нападению на все большое, достойное и могущественное, которое защищено от непосредственного унижения внутренними препятствиями или внешними обстоятельствами, то мы
Остроумие и его отношение к бессознательному 99
должны будем прийти к особому пониманию некоторых групп острот, высказываемых малообразованными, бессильными людьми. Я имею в виду истории с посредниками брака, с некоторыми из которых мы познакомились при исследовании разнообразных технических приемов острот по смыслу. В некоторых из них, например, «Она глуха также» и «Разве можно доверять этим людям что-нибудь!» посредник высмеивается, как неосторожный и оплошный человек, который становится комичным потому, что у него как бы автоматически вырывается правда. Но согласуется ли наше знание о природе тенденциозной остроты и степень нашего благоволения к этим историям с убожеством лиц, над которыми, по-видимому, насмехается острота? Достойны ли эти персонажи остроумия? Не обстоит ли дело, скорее, таким образом, что остроумие лишь выдвигает вперед посредника, чтобы попасть в нечто более значительное? Что оно, как говорит пословица, целит в бровь, а попадает в глаз? Такой трактовки фактически нельзя исключить.
Вышеизложенное толкование историй о посредниках может быть продолжено. Правда, мне не нужно вникать в них, я могу довольствоваться тем, что буду видеть в этих историях шутки, и отказать им в названии остроты. Существует, следовательно, и такая субъективная условность остроты. Мы теперь обратили на нее внимание и должны будем впоследствии исследовать ее. Она утверждает, что только то является остротой, что я могу считать остротой. То, что для меня является остротой, для других может быть только комической историей. Но если острота допускает это сомнение, то причина этого лежит лишь в том, что она имеет показную сторону; в нашем смысле — комический фасад, которым вполне насыщается взгляд одного человека, в то время как другой человек может сделать попытку рассмотреть, что находится позади этого фасада. Может возникнуть также подозрение, что этот фасад предназначен для того, чтобы ослепить испытующий взгляд, что такие истории, следовательно, что-то скрывают.
Во всяком случае, если наши истории с посредниками — остроты, то они из лучших, так как за своим фасадом скрывают не только то, что им нужно сказать, но и то, что они хотят сказать нечто запретное. Продолжение же такого толкования, которое открывает скрытый смысл и разоблачает тот факт, что эти истории с комическим фасадом являются тенденциозными остротами,
100
3. Фрейд
было бы следующим: каждый, у кого в неосторожный момент вырывается правда, фактически рад тому, что он освободился от необходимости притворяться. Это верное и глубоко психологическое положение. Без такого внутреннего согласия никто не позволит одержать верх над собой автоматизму, который выявляет здесь истину1.
Но этим самым смешная личность шадхена превращается в достойную сожаления, симпатичную личность. Как должен блаженствовать, наконец, человек, который может сбросить ярмо притворства, когда он пользуется удобным случаем, чтобы выкрикнуть последнюю долю истины! Как только он замечает, что дело проиграно, что невеста не нравится молодому человеку, он охотно обнаруживает, что она имеет еще один, скрытый недостаток, которого не заметил претендент на руку невесты. Или он пользуется поводом и приводит вместо детали решительный аргумент, чтобы выразить этим свое презрение людям, в пользу которых он работает: «Скажите, пожалуйста, разве кто доверит этим людям что-нибудь!» Здесь ирония падает и на родителей, только вскользь упомянутых в этой истории и считающих позволительным подобное надувательство, лишь бы во чтобы то ни стало выдать замуж свою дочь; и на убожество девушек, которые позволяют себе выходить замуж при подобных обстоятельствах; и на недостойность браков, имеющих такие прелюдии. Посредник является тем именно человеком, который может дать выражение такой критике. Он в большинстве случаев знает об этих злоупотреблениях, но не должен говорить о них вслух, потому что это бедный человек, который может добывать средства к жизни только если не будет пренебрегать такими злоупотреблениями. Но в подобном же конфликте находится и дух народа, создавшего эту и ей подобные истории. Люди знают, что святость браков в большой мере страдает от порядка их заключения.
Вспомним также и о замечании, сделанном нами при исследовании техники остроумия. Оно гласит, что бессмыслица в остроте часто заменяем насмешку и критику в мыслях, скрывающихся за нею.
1 Это механизм, управляющий оговорками и другими феноменами, которыми человек сам себя выдает. См. «Психопатологию обыденной жизни».
Остроумие и его отношение к бессознательному 101
И в этом, кстати, работа остроумия сходна с работой сновидения. Мы видам, что это положение вещей здесь снова подтверждается. Что насмешка и критика относятся не к личности посредника, который в предыдущих примерах является только козлом отпущения остроумия, будет доказано рядом других острот. В них посредник является, в противоположность этим остротам, мыслящей личностью, способной на самый замысловатый поступок. Это истории с логическим фасадом вместо комического и софистические остроты по смыслу. В одной из них посредник прекрасно знает, как ему вести диспут о недостатке невесты — ее хромоте. Это, по крайней мере, «готовое дело». Другая женщина, со здоровыми конечностями, подвержена постоянной опасности сломать себе ногу, после чего придут болезнь, боли, расходы на лечение, которые можно сэкономить, женившись на уже готовой хромоножке. Или в другой истории посредник находит возражения на целый ряд указываемых претендентом недостатков невесты. На каждое указание в отдельности он приводит веские аргументы, чтобы при указании на дефект, который не может быть ничем скрашен, возразить: «А что же вы хотели? Чтоб она не имела ни одного недостатка?». И тогда кажется, будто от прежних возражений не осталось никакого неблагоприятного впечатления. Нетрудно в обоих примерах указать на слабое место в аргументации. Мы сделали это и при исследовании техники. Но теперь нас интересует нечто другое. Если речи посредника придается такая строгая логическая видимость, которая при тщательной проверке оказывается только видимостью, то истина скрывается в том, что острота указывает на правоту посредника. Мысль не решается серьезно признать за ним правоту, заменяет эту серьезность видимостью, которую создает острота, но под видом шутки часто кроется серьезность. Мы не ошибемся, если признаем за всеми этими историями с логическим фасадом, что в них серьезно относятся к тому, о чем утверждается с намеренно несерьезным обоснованием. Лишь это применение софизма для скрытого изображения истины придает ему характер остроумия, который зависит, следовательно, главным образом от тенденции. Следует указать на то, что в каждой истории жених действительно оказывается в смешном положении: он тщательно выискивает отдельные преимущества, которые являются, однако, ненадежными. И при этом забывает, что он должен быть готов взять в жены смертную
102
3. Фрейд
женщину с неизбежными недостатками. И единственным качеством, которое делает приемлемой для него эту женщину, является взаимное расположение и готовность к исполненному любви приспособлению. А о нем-то нет и речи в этих торгах.
Содержащееся во всех этих примерах высмеивание претендента на брак, причем посредник играет только пассивную роль рассудительного человека, выражено в других историях гораздо отчетливее. Чем нагляднее эти истории, тем меньше техники остроумия содержится в них. Они являются только как бы пограничным случаем остроумия, с техникой которого у них имеется лишь одна общая черта — фасадное образование. Но из-за той же тенденции и сокрытия ее за фасадом им присущ в полной мере характер остроты. Бедность техническими приемами делает, кроме того, понятным, почему многие остроты этого рода не могут быть без особого ущерба лишены комического элемента жаргона, который действует подобно технике остроумия.
Такова следующая история, в которой, несмотря на признаки тенденциозного остроумия, абсолютно нет его техники.
«Посредник спрашивает: «Чего вы требуете от вашей невесты?» Ответ: «Она должна быть красива, богата и образована». «Хорошо,— говорит посредник.— Но из набора этих качеств я составлю три партии». Здесь выговор сделан мужчине прямо, он больше не облачен в форму остроты.
В приведенных до сих пор примерах замаскированная агрессивность направлялась еще и против лиц (в остротах о посредниках — против сторон), которые участвуют в церемонии заключения брака: невесты, жениха и их родителей. Но объектами нападок остроумия в такой же мере могут быть и социальные институты, и лица (поскольку они являются носителями этих институтов), и уставы морали, религии, мировоззрения,— те, кто пользуется таким уважением, что возражение против них не может быть сделано иначе, как под маской остроумия, а именно остроты, скрытой за своим фасадом. Темы, которые имеет в виду такая тенденциозная острота, могут быть немногочисленны, но ее формы и облачения крайне разнообразны. Я думаю, что мы правильно поступим, обозначив этот вид тенденциозного остроумия особым названием. А какое название подходит для этого, выяснится после того, как мы истолкуем некоторые примеры этого вида.
Остроумие и его отношение к бессознательному ЮЗ
- Я вспоминаю две истории: об обедневшем гурмане, который был застигнут при поедании «семги с майонезом», и о пьянице-учителе. Мы их изучили как софистические остроты, возникшие путем передвигания. Я продолжаю их толкование. Мы уже слышали с тех пор, что если видимость логичности относится к фасаду истории, то мысли (скрывающиеся за фасадом) хотели бы серьезно сказать: этот человек прав. Но в силу возникающего противоречия они не решаются признать за человеком правоту иначе, чем в одном пункте, в котором нетрудно доказать его неправоту. Избранная «острота» становится настоящим компромиссом между его правотой и неправотой. Это, конечно, не является решением вопроса, но соответствует конфликту в нем самом. Обе истории просто носят эпикурейский характер. Они говорят: «Да, этот человек прав. Нет ничего более важного, чем наслаждение, и совершенно безразлично, каким образом люди доставляют его себе». Но это звучит ужасно безнравственно и фактически это не совсем хорошо. Но в основе его лежит ничто иное, как «Сагре diem» поэтов, которые ссылаются на непрочность жизни и на бесплодность добродетельного отречения от мирских благ. Если на нас так отталкивающе действует идея, что человек в остроте «о семге с майонезом» должен быть прав, то это происходит только из-за иллюстрации исти: ны наслаждениями низшего рода, что кажется нам совершенно излишним. В действительности, у каждого из нас были минуты и целые периоды в жизни, когда мы признавали за этой жизненной философией ее права и ставили на вид моральному учению, что оно умеет только требовать, не давая никакого вознаграждения. Теперь мы больше не верим в ссылки на потусторонний мир, где вознаграждается всякий отказ от земных радостей. (Впрочем, в нашем мире очень мало набожных людей, если за отличительную черту верования принять отречение от мирских благ.) И сейчас «Сагре diem» («Лови день») стало серьезным лозунгом. Я охотно отсрочил бы удовольствие, но разве я знаю, буду ли я завтра еще в живых?
«Di doman’ поп с’ё certezza» (Лоренцо Медичи).
Я охотно откажусь от всех запрещенных обществом путей получения удовольствия, но уверен ли я, что общество вознаградит меня за это отречение от мирских благ, открыв мне — хотя бы с некоторой отсрочкой — один из дозволенных путей к наслажде
104
3. .Фрейд
нию? Можно громко сказать то, о чем шепчут эти остроты: желания и страсти человека имеют право на то, чтобы и им внимали наряду с взыскательной и беспощадной моралью. И в наши дни было сказано убедительно и проникновенно, что эта мораль является только корыстолюбивым предписанием немногих богачей и сильных мира сего, которые могут в любой момент без отсрочки удовлетворять свои желания. Пока медицина не научилась обеспечивать нашу жизнь и пока социальные установления не направлены на то, чтобы она складывалась более радостно, до тех пор не может быть задушен в нас голос, протестующий против требований морали. Каждый честный человек сделает в конце концов эту уступку, по крайней мере для себя. Разрешение конфликта возможно лишь окольным путем с помощью нового рассуждения. Нужно свою жизнь так связать с другой, уметь так тесно идентифицировать себя с другим человеком, чтобы можно было преодолеть недолговечность своей собственной жизни. Нельзя незаконно удовлетворять собственные нужды. Их нужно оставлять неисполненными, так как только большое число неудовлетворенных требований может развить силу, необходимую для изменения общественного строя. Однако не все личные потребности могут быть подвергнуты такому передвиганию и перенесены на других людей, и потому полного и окончательного разрешения конфликта нет.
Мы знаем теперь, как нужно назвать эти последние истолкованные нами остроты: это циничные остроты; а то, что за ними скрывается,— это цинизм.
Среди институтов, на которые нападает циничная острота, ни один не охраняется более серьезно и более настойчиво моральными предписаниями, чем институт брака. Тем не менее ни один не является столь заманчивым для нападения большинства циничных острот. Никакое посягательство не задевает так личность, как посягательство на сексуальную свободу, и нигде культура не пыталась произвести такое давление, как в области сексуальности. Для наших целей достаточен один-единственный пример: упомянутая ранее «Запись в родовую книгу принца Карнавала»:
«Жена — как зонтик; но в случае необходимости все же прибегают к услугам более комфортабельным».
Остроумие и его отношение к бессознательному 105
Сложную технику этого примера мы уже обсудили: смущающее из-за своей непонятности, по-видимому, невозможное сравнение, которое, как мы теперь видим, само по себе неостроумно; далее намек (комфортабельность приравнивается к общественному экипажу) и, как самый сильный технический прием,— пропуск, делающий остроту еще непонятнее. Сравнение нужно было бы провести в следующем виде. Женятся для того, чтобы оградить себя от искушений чувственности. А затем оказывается все-таки, что брак не дает удовлетворения одной наиболее сильной потребности. Это подобно тому, когда берут с собой зонтик, чтобы защитить себя от дождя, и тем не менее мокнут, когда идет сильный дождь. В обоих случаях нужно искать более сильной защиты, какою в случае с дождем является общественный экипаж, а в семейной жизни — доступные за деньги женщины. Теперь острота почти целиком заменена цинизмом. Что брак не является институтом, удовлетворяющим сексуальность мужчины, не решаются сказать громко и открыто, если к этому не вынуждает любовь к истине и страстное желание реформы в духе Христиана фон Эренфельса1. Сила остроты заключается в том, что она, хотя и окольными путями, все-таки сказала это.
Для тенденциозной остроты представляется особенно благоприятный случай, когда критика протеста направляется на собственную личность. Осторожнее говоря, на сообщество, к которому принадлежит и личность человека, создающего остроту; то есть, на собирательную личность; например, на свой народ. Это условие самокритики может нам объяснить, почему именно на почве еврейской народной жизни выросло большое число удачных острот, из которых мы привели здесь достаточное число примеров. Это истории, созданные евреями и высмеивающие своеобразные черты еврейского характера. Остроты, созданные неевреями о евреях, в большинстве случаев являются плоскими шутками, в которых острота происходит за счет того, что неев-рей относится к еврею, как к комической фигуре. Остроты о евреях, созданные евреями, тоже допускают такой прием. Но они знают свои истинные недостатки, равно как и связь их с положительными чертами национального характера. И участие собствен
1 См. его статьи в Politisch-Anthropologischen. Revue II, 1903.
106
3. Фрейд
ной личности в порицании своих же слабостей создает трудно поддающиеся изображению субъективные условия работы остроумия. Впрочем, я не знаю, часто ли случается, чтобы народ в такой мере смеялся над своими слабостями.
В качестве примера я могу указать на упомянутую историю о том, как еврей в вагоне железной дороги тотчас перестает соблюдать все правила приличного поведения, после того как узнает в человеке, вошедшем в купе, своего единоверца. Мы изучили эту остроту, как доказательство наглядного пояснения при помощи детали, изображение при помощи мелочи. Она должна изображать демократический образ мышления евреев, которые не видят большой разницы между господами и рабами. К сожалению, это ослабляет дисциплину и взаимные контакты между людьми. Другой, особенно интересный ряд острот изображает взаимоотношения между бедным и богатым евреем. Героями этих острот являются проситель и благотворитель — хозяин дома или барон.
«Проситель, которого принимали в гости каждое воскресенье в одном и том же доме, появляется однажды в сопровождении неизвестного молодого человека, который тоже намеревается сесть за стол к обеду. «Кто это? — спрашивает хозяин дома и получает ответ: «С прошлой недели это мой зять. Я обещал содержать его в течение первого года».
Тенденция этих историй все одна и та же; она выступает отчетливее всего в следующей истории.
«Проситель обращается к барону за деньгами для поездки на курорт Остенде, потому что врач, выслушав его жалобы, предписал ему курорт. Барон находит, что Остенде очень дорогое местопребывание; более дешевый курорт принесет ту же пользу. Проситель отклоняет это предложение следующими словами: «Господин барон, для моего здоровья нет ничего, что было бы дорого».
Это великолепная острота, созданная путем передвигания, которую мы могли бы взять за образец этого вида остроумия. Барон, очевидно, хочет сэкономить свои деньги. Проситель же отвечает так, будто деньги барона — это его собственные деньги, ценность которых для него, конечно, меньше, чем его здоровье. Дерзость этого требования вызывает у нас смех. Но всё эти ост-
Остроумие и его отношение к бессознательному 107 роты, за некоторым исключением, не снабжены фасадом, который мешал бы их правильному пониманию. Истина скрывается за тем, что проситель, который мысленно обращается с деньгами богача, как со своими собственными, на самом деле почти имеет право по священным заповедям евреев на такое суждение. Протест, создавший эту остроту, направлен, разумеется, против закона, тяжело обременяющего даже набожного человека.
Другая история.
«Проситель встречает на лестнице в доме одного богатого человека своего товарища по ремеслу, который не советует ему навещать сегодня хозяина. «Не хода сегодая наверх. Барон не в духе и никому не дает больше одного гульдена». «Я все-таки пойду,— говорит первый проситель.— Почему я должен дарить ему этот один гульден? Разве он мне что-нибудь дарит?»
Эта острота использует технику бессмыслицы, заставляя просителя утверждать, что барон ему ничего не дарит в тот момент, когда он собирается выпросить у него подарок. Но эта бессмыслица только кажущаяся. Почти невероятно, что богатый не дарит ему ничего, так как закон обязует богатого дать ему милостыню. И, строго говоря, богатый должен быть благодарен, что проситель доставляет ему случай оказать благодеяние. Обыденное мещанское понимание милостыни находится в противоречии с религиозным. Оно открыто возмущается религиозным в другой истории с бароном, который, будучи глубоко тронут рассказом просителя о его страданиях, бранит своего лакея: «Выкиньте его вон: он действует мне на нервы». Это открытое изложение тенденции создает опять пограничный случай остроты. От совсем неостроумной жалобы «В действительности нет никакого преимущества быть богатым среди евреев, так как чужое страдание не позволяет наслаждаться собственным счастьем» — эти последние истории переходят для более наглядного пояснения почти исключительно к отдельным ситуациям.
Другие истории свидетельствуют о глубоком пессимистическом цинизме. Они опять-таки являются в техническом отношении пограничными случаями остроумия, как, например, нижеследующая.
«Глухой обращается за советом к врачу, который ставит правильный диагноз: пациент, вероятно, пьет слишком много водки
108
3. Фрейд
и поэтому глух. Врач советует больному не делать этого впредь, глухой обещает принять во внимание этот совет. Спустя некоторое время врач встречает его на улице и громко спрашивает, как идут его дела. «Благодарю вас,— звучит ответ,— вам не нужно так кричать, г. доктор. Я отказался от пьянства и опять слышу хорошо». Спустя некоторое время они опять встречаются. Доктор спрашивает обычным голосом о состоянии его здоровья, но он замечает, что его не понимают. «Как? Что?» — «Мне кажется, что вы опять пьете водку,— кричит ему доктор в ухо,— и потому опять не слышите». «Вы правы,— отвечает глухой.— Я опять начал пить водку, но я хочу объяснить вам почему. Покуда я не пил, я слышал; но все, что я слышал, было не так хорошо, как водка».
В техническом отношении эта острота не что иное, как наглядное пояснение. Жаргон, искусство рассказывать должны служить доя того, чтобы вызывать смех. Но за этим нас подкарауливает печальный вопрос: не прав ли этот человек, сделав такой выбор?
То, на что намекают все эти пессимистические истории,— это разнообразное безнадежное состояние еврея. В силу этого я должен причислить их к тенденциозной остроте.
Другие в подобном же смысле циничные остроты, и не только еврейские истории, нападают на религиозные догмы и даже на веру в бога. История о «взгляде раввина», техника которой состояла в ошибочности сопоставления фантазии и действительности (трактовка этой техники как передвигания тоже была бы правильна), является такой циничной или критической остротой, направленной против чудотворцев и, конечно, против веры в чудесное. Гейне, лежа на смертном одре, создал одну прямо-таки святотатственную остроту.
«Когда дружески настроенный пастор сослался на божью милость и указал ему, что он может надеяться на то, что найдет у бога прощение всех своих грехов, то Гейне ответил: «Конечно, он меня простит. Ведь это его ремесло». Это унизительное сравнение, имеющее в техническом отношении только ценность намека, так как ремесло (дело или призвание) имеет только ремесленник или врач, и имеет только одно-единственное ремесло.
Сила этой остроты заключается в ее тенденции. Она как бы говорит: конечно, бог мне простит, для этого он и существует, я
Остроумие и его отношение к бессознательному 109 его создал себе именно для этой цели (как имеют своего врача, своего адвоката). И в Гейне, бессильно лежавшем на смертном одре, живо было еще сознание того, что создал себе бога и наделил его могуществом, чтобы при случае воспользоваться его услугами. Нечто вроде творчества дало знать о себе еще незадолго до его гибели как творца.
К обсуждавшимся до сих пор трем видам тенденциозного остроумия — обнажающему или скабрезному, агрессивному (враждебному), циничному (критическому, святотатственному) — я хотел бы присоединить еще четвертый, самый редкий вид, характер которого стоит наглядно показать на хорошем примере.
«Два еврея встречаются на галицийской станции в вагоне железной дороги. «Куда ты едешь?» — спрашивает один. «В Краков»,— отвечает другой.— «Какой же ты лгун! — вспылил первый.— Когда ты говоришь, что едешь в Краков, то ведь хочешь, чтобы я подумал, что ты едешь в Лемберг. А теперь я знаю, что ты действительно едешь в Краков. Почему же ты лжешь?»
Эта ценная история, которая производит впечатление чрезвычайной софистики, оказывает свое действие, очевидно, при помощи техники бессмыслицы. Второго еврея упрекают в лживости, так как он сообщил, что едет в Краков и это действительно так! Этот сильный технический прием (бессмыслица) сопряжен здесь с другим техническим приемом — изображением при помощи противоположности. Действительно, согласно беспрекословному утверждению первого другой лжет, когда говорит правду, и говорит правду при помощи лжи. Но более серьезным содержанием этой остроты является вопрос об условиях правды: острота намекает на проблему и пользуется для этого ненадежностью одного из самых употребительных у нас понятий. Будет ли правдой, если человек описывает вещи такими, какие они есть, и не заботится о том, как слушатели воспримут сказанное? Или это только иезуитская правда? И не состоит ли истинная правдивость скорее в том, чтобы принять во внимание особенности слушателя и помочь ему получить верное восприятие рассказываемого? Я считаю остроты этого рода достаточно отличными от других, чтобы отвести им особое место. То, на что они нападают, является не личностью или институтом, а надежностью нашего познания — одного из наших спе-
110 3. Фрейд
кулятивных достояний. Термин «скептические» остроты будет, таким образом, для них подходящим.
В ходе наших рассуждений о тенденциях остроумия мы, быть может, получили некоторые разъяснения и, конечно, нашли множество побуждений к дальнейшим исследованиям. Но результаты этой главы соединяются с результатами предыдущей в одну трудную проблему. Если верно, что удовольствие, доставляемое остроумием, происходит, с одной стороны, за счет техники, и с другой — за счет тенденции, то с какой же общей точки зрения можно объединить два этих столь различных источника удовольствия от остроумия?
| Синтетическая часть
III. Механизм удовольствия и психогенез остроумия
Из каких источников вытекает своеобразное удовольствие, доставляемое нам остроумием,— это мы предполагаем уже достоверно нам известным. Мы знаем, что можем быть обмануты и можем заменить удовольствие, доставленное нам содержанием мыслей, собственно удовольствием от остроумия. Но это последнее имеет, по существу, два источника: технику и тенденции остроумия. Теперь мы хотели бы узнать, каким образом из этих источников вытекает удовольствие, то есть найти механизм действия удовольствия.
Нам кажется, что искомое объяснение гораздо легче получить при тенденциозной остроте, чем при безобидной. Итак, мы начнем с первой.
Удовольствие от тенденциозной остроты получается в результате того, что удовлетворяется тенденция, которая в противном случае не была бы удовлетворена. Что такое удовлетворение является источником удовольствия, это не нуждается ни в каком дальнейшем доказательстве. Но тот способ, с помощью которого остроумие реализует это удовлетворение, связан с особыми условиями, из которых возможно извлечь дальнейшее разъяснение. Здесь следует различать два случая. Более простой случай — это тот, когда на пути к удовлетворению тенденции стоит внешнее препятствие, которое человек обходит при помощи остроты. Мы нашли это, например, в ответе, полученном светлейшим князем на вопрос, жила ли когда-либо мать спрашиваемого в его рези-
112
3. Фрейд
денции. Или в выражении критика, которому два богатых мошенника показали свои портреты: And where is the Saviour? В первом случае тенденция клонилась к тому, чтобы возразить на ругательство ругательством; в другом случае — к тому, чтобы нанести оскорбление, вместо того чтобы дать требуемый отзыв. Здесь противодействие оказывают чисто внешние моменты: те лица, к которым относятся ругательства, обладают властью. Все-таки нам может броситься в глаза, что эти и аналогичные им остроты тенденциозной природы хотя и удовлетворяют нас, однако не в состоянии вызвать сильный смехотворный эффект.
Иначе обстоит дело, когда на пути к прямому осуществлению тенденции стоят не внешние моменты, а внутренние препятствия; когда внутреннее побуждение противоречит тенденции. Это условие как бы осуществляется, согласно нашему предположению, в агрессивных остротах господина N., у которого сильная склонность к брани подавлялась высокоразвитой эстетической культурой. С помощью остроумия внутреннее сопротивление для этого частного случая было преодолено, задержки были упразднены. Поэтому, как и в случае внешнего препятствия, стало возможным удовлетворение тенденции, было избегнуто подавление и связанная с ней «психическая запруда». Механизм развития удовольствия в обоих случаях один и тот же.
Мы, конечно, чувствуем на этом месте желание подробнее вникнуть в различие психологической ситуации для случая внешнего и внутреннего препятствия, так как нам представляется возможным, что в результате упразднения внутреннего препятствия можно получить гораздо более интенсивное удовольствие. Но я предлагаю довольствоваться малым и удовлетвориться пока выяснением одного момента, который остается для нас существенным. Случаи внешнего и внутреннего препятствия отличаются только тем, что в первом упраздняется существующая уже наготове задержка, а во втором избегается создание новой задержки. Мы думаем, что не заслужим упрека в спекулятивном мышлении, утверждая, что как для создания, так и для сохранения психической задержки требуется «психическая затрата». Если оказывается, что в обоих случаях применения тенденциозной остроты целью является получение удовольствия, то уместно предположить, что оно соответствует экономной психической затрате.
Остроумие и его отношение к бессознательному 113
Таким образом, мы опять наткнулись на принцип экономии, который встретили в технике словесной остроты. Но там мы, прежде всего, думали найти экономию в потреблении по возможности или меньшего числа слов, или одних и тех же слов. Здесь же нам чуется гораздо более объемлющий смысл экономии психической затраты, и мы должны считать, что можно подойти ближе к сущности остроумия через более точное определение пока очень неясного понятия «психической затраты».
Некоторая неясность, которую мы не могли преодолеть при обсуждении механизма удовольствия, получаемого от тенденциозной остроты, является для нас небольшим наказанием за то, что мы пытались выяснить более сложное раньше, чем более простое,— тенденциозную остроту раньше, чем безобидную. Мы замечаем, что экономия затраты энергии, расходуемой на задержки или подавление, оказывается тайным источником действия удовольствия, получаемого нами от тенденциозной остроты, и обращаемся к механизму удовольствия при безобидной остроте.
Из соответствующих примеров безобидных острот, относительно которых нам нет нужды бояться нарушения нашего мнения о них из-за содержания или тенденции, мы должны сделать заключение, что технические приемы остроумия сами являются источником удовольствия, и хотим теперь проверить, можно ли свести это удовольствие к экономии психической затраты. В одной группе этих острот (игре слов) техника состояла в том, что наша психическая установка направлялась на созвучие слов вместо смысла слов, что мы ставили акустическое изображение слова на место его значения, данного отношением к предметным представлениям. Мы действительно можем предположить, что этим дано большое облегчение психической работе и что при серьезном употреблении слов нужно сильно напрягать свое внимание, чтобы удержаться от этого удобного приема. Мы можем- наблюдать, что болезненные состояния мыслительной деятельности, при которых, вероятно, ограничена возможность концентрировать на одном месте психические затраты, действительно выдвигают на первый план представление о созвучии слов такого рода (в сравнении со значением слов) и что такие больные в своих речах следуют, как говорит формула, «внешним» (вместо «внутренних») ассоциациям в представлениях о словах. Также и у ребенка, который привык еще трак
114
3. Фрейд
товать слова как вещи, мы замечаем склонность искать за тождественным или сходным текстом тождественный смысл — склонность, которая становится источником многих ошибок, вызывающих смех взрослых. Если нам в остроумии доставляет несомненное удовольствие переход из одного круга представлений в другой (как при Home-Roulard из области кухни в область политики) употреблением одного и того же или сходного слова, то это удовольствие нужно, конечно, по праву свести к экономии психической затраты. Удовольствие от остроумия, вытекающее из такого «короткого замыкания», оказывается также тем больше, чем более чуждыми являются друг другу оба круга представлений, приведенные в связь тождественным словом; чем дальше они лежат друг от друга; чем больше, следовательно, удается сэкономить мысленный путь благодаря техническому приему остроумия. Заметим, кроме того, что острота пользуется здесь приемом установления связи, которая отбрасывается и тщательно избегается серьезным мышлением1.
1 Если я позволю себе предупредить здесь изложение в тексте, то я смогу теперь же пролить свет на то условие, которое оказывается руководящим в практике языка, чтобы назвать остроту удачной или неудачной. Если я с помощью двусмысленного или немного модифицированного слова попадаю кратчайшим путем из одного круга представлений в другой, в то время как между обоими кругами представлений не существует одновременно более глубокой связи, то я создал неудачную остроту. В этой неудачной остроте одно это слово, «соль», является единственной существующей связью между обоими несходными представлениями. Таким случаем является вышеприведенный пример о Home-Roulard. Удачная же острота получается в том случае, если правым оказывается детское ожидание и если подобием слов действительно указывается одновременно на другое существенное подобие смысла, как в примере Traduttore — Traditore. Оба несходных представления, которые связаны здесь внешней ассоциацией, стоят, кроме того, в остроумной связи, которая свидетельствует об их родственности по существу. Внешняя ассоциация заменяет только внутреннюю связь. Она служит только для того, чтобы указать на эту связь или выяснить ее. Переводчик не только подобен предателю, он и является до некоторой степени предателем; он по праву получил свое имя.
Остроумие и его отношение к бессознательному 115
Вторая группа технических приемов остроумия — унификация, созвучие, многократное употребление, модификация известных оборотов речи, намек на цитату — позволяет отметить как общую характерную черту тот факт, что каждый раз находят вновь нечто известное там, где вместо него можно было бы ожидать что-то новое. Эта возможность вновь обрести нечто известное исполнена удовольствия. Нам опять-таки нетрудно видеть в нем удовольствие от экономии и отнести его к экономии психической затраты.
Общепризнанным является, по-видимому, тот факт, что новое нахождение известного, «опознание» его, исполнено удовольствия. Гроос1 говорит: «Опознание повсюду, где оно не слишком механизировано (как, например, при одевании, где...), связано с чувством удовольствия. Один только признак известного легко сопровождается уже тем тихим удовольствием, которое испытывает Фауст, когда вновь вступает после жуткой встречи в свой кабинет»... «Если самый акт опознания возбуждает такое удовольствие, то мы можем ожидать, что человек постарается упражнять эту способность ради нее самой, следовательно — экспериментировать, играя ею. И действительно, Аристотель усматривает в радости от опознания основу художественного наслаждения, и следует признать, что этот принцип нельзя игнорировать, хотя он и не имеет такого большого значения, как полагает Аристотель».
Гроос обсуждает затем игры, характерная черта которых состоит в повышении удовольствия от опознания, потому что на пути к нему воздвигают препятствия, следовательно — создают «психическую запруду», которая устраняется актом познания. Но его попытка объяснения не принимает во внимание тот факт, что познание само по себе исполнено удовольствия, в то время как он, ссылаясь на эти игры, учитывает удовольствие от познания радости силы (die Freude an der Macht), как преодоление труд
Выясненная здесь разница совпадает с нижеприведенным отделением шутки от остроты. Но было бы неправильно, если бы мы исключили такие примеры, как Home-Roulard из обсуждения вопроса о природе остроумия. Принимая во внимание своеобразное удовольствие от остроты, мы находим, что «неудачные» остроты отнюдь не неудачны как остроты, то есть не неспособны доставить удовольствие.
1 «Die Spiele des Menchen», 1899.
116
3. Фрейд
ности. Я считаю этот последний момент вторичным и не вижу никаких причин уходить от более простого понимания, согласно которому познание само по себе, то есть из-за уменьшения психической затраты, исполнено удовольствия, а основанные на этом удовольствии игры пользуются лишь механизмом запруды, чтобы повысить свою ценность.
Общеизвестно, что рифма, аллитерация, припев и другие формы повторения подобных созвучных слов в поэзии пользуются тем же самым источником удовольствия — новым открытием известного. «Чувство силы» не играет значительной роли при этих технических приемах, являющих собою такую полную аналогию с «многократным употреблением».
При том близком отношении, какое существует между опознанием и воспоминанием, мы можем без риска утверждать, что существует также удовольствие от воспоминания. То есть акт воспоминания сопровождается сам по себе чувством удовольствия подобного же происхождения. Гроос, по-видимому, не склоняется к такому предположению, но он считает удовольствие от воспоминания производным опять-таки чувства силы, в котором он ищет — на мой взгляд неправильно —' главную основу наслаждения при всех почти играх.
На «новом открытии известного» основано также применение другого технического вспомогательного приема остроумия, о котором до сих пор не было речи. Я имею в виду момент актуальности, являющийся при очень многих остротах обильным источником удовольствия и объясняющий некоторые особенности генезиса и существования острот. Есть остроты, которые совершенно свободны от этого условия, и в работе об остроумии мы вынуждены пользоваться почти без исключения такими примерами. Но мы не можем забыть о том, что мы, быть может, еще сильнее смеялись по поводу некоторых других острот, чем по поводу подобных долговечных острот. При этом употребление острот первого рода (недолговечных) было для нас труднее, так как они требовали долгих комментариев, и даже с помощью этих комментариев они не могли достигнуть определенного эффекта. Эти остроты содержат намеки на людей и на события, которые были актуальны в то время, вызывали всеобщий интерес и держали всех в напряжении. После того как этот интерес угасает и соответствующее происшествие
Остроумие и его отношение к бессознательному 117 исчерпано, эти остроты лишаются части своего воздействия в смысле удовольствия (Lustwirkung), и нередко очень значительной части. Например, острота, созданная моим дружественным, гостеприимным хозяином, когда он назвал розданное мучное блюдо «Home-Roulard», кажется мне теперь не столь удачной, как тогда, когда Home-Rule был постоянной рубрикой в политическом отделе наших газет. Если я попытаюсь теперь оценить достоинство этой остроты указанием на то, что одно это слово перевело нас с большой экономией окольного мысленного пути из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, то я должен был бы изменить это указание в том смысле, «что это слово переводит нас из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, который вызывал наш оживленный интерес, так как он все время занимал нас». Другая острота — «Эта девушка напоминает мне Дрейфуса; армия не верит в ее невинность» — в настоящее время как будто утратила свою яркость, хотя ее технические приемы остались неизменными. Смущение, вызываемое этим сравнением, и двоякое толкование слова «невинность» не могут искупить того, что этот намек на событие, к которому относились с живейшим возбуждением, напоминает теперь о происшествии, интерес к которому иссяк. Следующая острота тоже может служить примером актуальной остроты.
«Кронпринцесса Луиза обратилась с запросом в крематорий в Готе, сколько стоит сожжение покойника. Управление ответило: «Сожжение стоит 5000 марок, но ей насчитают только 3000 марок, так как она один раз уже перегорела».
Эта острота кажется для настоящего времени неудачной. Одно время ее оценивали очень высоко. Но некоторое время спустя, когда ее нельзя рассказать без комментария о том, кто такая была принцесса Луиза и как следует понимать ее «горение», острота, несмотря на отличную' игру слов, потеряет свой эффект.
Большое число находящихся в обращении острот имеет определенную длительность существования, собственно — определенный срок жизни, слагающийся из периода расцвета и периода упадка и оканчивающийся полным забвением. Потребность людей извлекать удовольствие из мыслительных процессов создает затем все новые остроты, опираясь на новые злободневные интересы.
118 3. Фрейд
Жизненная сила актуальных острот отнюдь не принадлежит им самим. Она заимствуется с помощью намека у других интересов, степень актуальности которых определяет и судьбу самой остроты. Момент актуальности, присоединявшийся как особенно обильный, хотя и непостоянный источник удовольствия к собственным источникам остроумия, не может быть просто сопоставлен с новым применением уже известного. Речь может идти скорее об особой квалификации известного, которому должно принадлежать свойство свежего, недавнего, нетронутого забвением. При образовании сновидения тоже приходится встречаться с особым предпочтением, которое оказывается свежему материалу. И нельзя не предположить, что ассоциация со свежим материалом вознаграждается своеобразным удовольствием и, таким образом, облегчается создание новой остроты.
Унификация, которая является, собственно, только повторением в области связи, существующей между определенными мыслями, вместо повторения материала, нашла себе уГ.Т. Фехнера особую оценку в качестве источника удовольствия, доставляемого остроумием. Фехнер говорит (Vbrschule der Asthetik I, XVII): «На мой взгляд, в поле зрения, которое мы имеем перед собой, главную роль играет принцип объединенной связи разнообразного материала. Но он нуждается в подкрепляющих побочных условиях, чтобы увеличить, благодаря своему своеобразному характеру, размеры того удовольствия, которое могут доставить относящиеся сюда случаи»1.
Во всех этих случаях наблюдается повторение одной и той же связи или одного и того же словесного материала, нового открытия известного и свежего. И нам отнюдь не возбраняется испытывать при этом удовольствие от экономии психической затраты, если эта точка зрения оказывается весьма пригодной для объяснения отдельных деталей и для новых обобщений. Мы знаем, что нам еще предстоит точное выяснение того способа, с помощью которого осуществляется эта экономия, и смысла выражения «психическая затрата».
1 Глава XVII озаглавлена: «Об остроумных и метких сравнениях, игре слов и других случаях, имеющих характер забавного, веселого, смешного».
Остроумие и его отношение к бессознательному 119
Третья группа психических приемов остроумия — это в большинстве случаев остроты по смыслу. Она включает ошибки мышления, передвигание, бессмыслицу, изображение при помощи противоположного и др. На первый взгляд она как будто носит особый отпечаток и не обнаруживает ничего общего с техническими приемами нового открытия известного или замены предметных ассоциаций словесными ассоциациями. Тем не менее именно в данном случае очень легко показать точку зрения об экономии или уменьшении психической затраты.
Вообще, не подлежит сомнению, что легче и удобнее уклоняться от избранного мысленно пути, чем придерживаться его; легче сваливать в одну кучу противоположные понятия, чем противопоставлять их; что особенно удобно принимать отбрасываемые логикой умозаключения и не принимать во внимание при сочетании слов или мыслей условие, которое должно также придать смысл сказанному. А именно это делают те технические приемы остроумия, о которых идет речь. Но эта постановка вопроса вызовет удивление тем, что такой образ действия работы остроумия является источником удовольствия, так как, при всех подобных недочетах мыслительной деятельности, вне остроумия мы испытываем только неприятное чувство отталкивания от них.
«Удовольствие от бессмыслицы», как мы могли бы коротко сказать, в действительной жизни скрыто вплоть до полного его исчезновения. Чтобы доказать его, мы должны подробно рассмотреть два случая, в которых оно очевидно в настоящее время и всегда будет очевидно: поведение ребенка и поведение взрослого в настроении, измененном под влиянием интоксикации. В то время, когда ребенок учится владеть запасом слов родного языка, ему доставляет очевидное удовольствие «играя экспериментировать» (Гроос) этим материалом. Он соединяет слова, не связывая этого соединения со смыслом слов, чтобы достигнуть эффекта удовольствия, получаемого от их ритма или рифмы. Это удовольствие ему постепенно воспрещается и, наконец, ему остается дозволенной лишь имеющая смысл связь слов. В более позднем возрасте эти стремления невольно ищут выхода из заученных ограничений в употреблении слов путем их искажения определенными надстройками и изменения их формы некоторыми приемами (редупликация, дрожащая речь), или даже создается свой собственный язык для использования среди товари
120
3. Фрейд
щей по игре. Стремления эти впоследствии вновь всплывают на поверхность у душевнобольных некоторых категорий.
Я полагаю, что это является постоянным мотивом, которому следует ребенок, начиная такого рода игры. В дальнейшем развитии он предается им уже с сознанием того, что они бессмысленны, и находит удовольствие в этой прелести запрещенного разумом. Он пользуется игрой для того, чтобы избежать гнета критического разума. Но гораздо сильнее те ограничения, которые при воспитании касаются правильного мышления и обособления действительно существующего от ложного. Потому протест против принуждения к мышлению и к реальности глубок и длится долго; даже феномены фантастической деятельности подпадают под эту точку зрения. Сила критики в позднейшем периоде детства и в период обучения, простирающемся за пределы зрелости, в большинстве случаев оказывается настолько возросшей, что удовольствие от «бессмыслицы, освобожденной от гнета и критики», только в редких случаях рискует проявиться в прямом виде. Человек не решается высказать бессмыслицу, но характерная для ребенка склонность к бессмысленному, нецелесообразному поведению оказывается прямой производной удовольствия от бессмыслицы. В патологических случаях можно легко заметить, что эта склонность настолько усилилась, что опять управляет разговором и ответами гимназистов, подобно тому как это было в детстве. Осмотр некоторых заболевших неврозом гимназистов позволил мне убедиться, что бессознательно действующее удовольствие, испытываемое от продуцированной ими бессмыслицы, принимало не меньшее участие в их ошибочных действиях, чем истинное незнание.
И студент впоследствии не отказывается продемонстрировать протест против принуждения к мышлению и к реальности. Власть этого принуждения, как он чувствует, становится все более нетерпимой и все более неограниченной. Этим объясняется добрая часть студенческих кутежей. Человек является «неутомимым искателем удовольствия» (я уже не помню, у какого автора нашел это счастливое выражение) и ему очень тяжело отказаться от вкушенного однажды удовольствия.
Веселой бессмыслицей пьяной болтовни студент пытается спасти для себя удовольствие, которое он получает от свободы мышления и которое становится для него все более недоступным из-за влияния университетских лекций. Даже еще позднее, когда он,
Остроумие и его отношение к бессознательному 121 будучи зрелым человеком, встречается с другими зрелыми людьми на научном конгрессе и опять чувствует себя учеником, то «банкетная газета» после окончания заседания, которая карикатурно превращает новые открытия в бессмыслицы, должна вознаградить его за новые прибавившиеся задержки мышления.
Словосочетания «пьяная болтовня» и «банкетная газета» дают доказательства того, что критика, вытеснившая удовольствие от. бессмыслицы, стала уже достаточно сильной и не может быть даже временно устранена без токсического вспомогательного действия. Изменение настроения является самым ценным, что доставляет человеку алкоголь и в силу чего этот «яд» не для каждого является одинаково ненужным. Веселое настроение, эндогенно возникшее или токсически вызванное, уменьшает задерживающие силы и скрытую за ними критику и делает, таким образом, вновь доступными источники удовольствия, над которыми тяготел запрет. Чрезвычайно поучительно видеть, как с подъемом настроения уменьшаются претензии на остроумие. Расположение духа заменяет остроумие, равно как остроумие должно стремиться заменить собой расположение духа, в котором проявляются прежде запрещенные возможности наслаждения и скрытое за ними удовольствие от бессмыслицы.
«Mit wenig Witz und viel Behagen» («Мало остроумия и много веселья»).
Под влиянием алкоголя взрослый человек опять превращается в ребенка, которому доставляет удовольствие свободное распоряжение течением своих мыслей без необходимости соблюдать логическую связь.
Надеюсь, мы также доказали, что эти технические приемы острот-бессмыслиц соответствуют источнику удовольствия. Нам остается только повторить, что это удовольствие проистекает от экономии психической затраты, от уменьшения гнета критики.
Бросив еще раз взгляд назад на обособленные в три группы технические приемы остроумия, мы замечаем, что первая и третья из этих групп (замена предметных ассоциаций словесными ассоциациями и употребление бессмыслицы для воссоздания старых свобод и избавления от гнета интеллектуального воспитания) могут быть объединены. Это психические облегчения (Erleichterungen), которые можно до некоторой степени противопоставить экономии, составляющей технику второй группы. К облегчению уже существую-
122
3. Фрейд
щей и экономии предстоящей психической затраты — к этим двум принципам сводится, таким образом, вся техника остроумия и вместе с тем все удовольствие, проистекающее от этих технических приемов. Впрочем, оба этих вида техники и получение удовольствия совпадают — по крайней мере, в главных чертах — с разделением остроумия на словесные остроты и остроты по смыслу.
Предшествующие рассуждения привели нас внезапно к истории развития или психогенезу остроумия. Теперь мы хотим подойти к нему ближе. Мы изучили предварительные ступени остроумия, развитие которых вплоть до тенденциозного может открыть, вероятно, новые взаимоотношения между различными характерными чертами остроумия. Перед каждой остротой существует нечто, что мы могли бы обозначить как игру или шутку. Игра — мы будем придерживаться этого наименования — происходит у ребенка в то время, когда он учится употреблять слова и присоединять мысли одна к другой. Эта игра следует, вероятно, одному из влечений, которые вынуждают ребенка к упражнению своих способностей (Гроос). Он наталкивается при этом на действие удовольствия, которое проистекает от повторения сходного, от нового открытия известного, от созвучности и т. д. и которое объясняется как неожиданная экономия психической затраты. Нечего удивляться тому, что эффекты удовольствия поощряют ребенка к игре и побуждают его продолжить эти эффекты, не обращая внимания на значение слов и на связь предложений. Игра словами и мыслями, мотивируемая определенными эффектами удовольствия от экономии, является, таким образом, первой предварительной ступенью остроумия.
Усиление момента, который заслуживает названия критического отношения или разумности, кладет конец этой игре. Она забрасывается как нечто бессмысленное или прямо противоречащее здравому смыслу. Игра становится невозможной из-за критического отношения к ней. При этом исключается всякая возможность (кроме случайной) извлекать удовольствие из источников нового открытия известного и т. д., разве только взрослый приходит в радостное настроение, которое упраздняет критическую задержку подобно веселью ребенка. Хотя в этом случае становится опять возможной старая игра, сопровождающаяся получением удовольствия,
Остроумие и его отношение к бессознательному 123 но человек не хочет ожидать этого случая и не хочет отказываться от удовольствия, которое он может испытать. Он, следовательно, ищет средства, которые сделали бы его независимым от радостного настроения. Дальнейшее развитие этого процесса в остроту управляется двумя стремлениями: избежать критики и заменить ею расположение духа.
Этим начинается вторая предварительная ступень остроумия — шутка. Она стремится дать удовольствие, доставляемое игрой, заставив замолчать вместе с тем голос критики, который не позволяет возникнуть чувству удовольствия. К этой цели ведет только один-единственный путь: бессмысленное сопоставление слов или противоречащее здравому смыслу нанизывание мыслей должно все-таки иметь какой-нибудь смысл. Все искусство работы остроумия направлено на то, чтобы найти такие слова и формулировки мыслей, при которых это условие было бы выполнено. Все технические приемы остроумия находят себе применение уже здесь, в шутке, и практика языка, в свою очередь, не отграничивает резко шутку от остроты. Шутка отличается от остроты тем, что в ней смысл ускользнувшей от критики фразы не должен быть ценным, новым или даже просто удачным. Он должен быть выражен именно в таком-то определенном виде, хотя бы это было неупотребительно, излишне и бесполезно. В шутке на первом плане стоит удовлетворение от осуществления того, что запрещено критикой.
Простой шуткой является, например, определение Шлейермахе-ром ревности как страсти, которая ревностно ищет то, что причиняет страдания (Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft). Шуткой является и следующее восклицание проф. Кёснера, преподававшего физику в Геттингене в XVIII столетии и слывшего остряком. На вопрос о возрасте, заданный им студенту по фамилии Война, он, получив ответ, что студенту ЗОлет, воскликнул: «Ах, в таком случае я имею честь видеть тридцатилетнюю войну»1. Шуткой ответил Рокитанский на вопрос о том, какие профессии избрали его четыре сына (два врача и два певца): «Zwei heilen und zwei heulen» («Двое лечат, а двое воют»). Этот ответ был верен и потому не мог быть оспариваем, но он не прибавил ничего нового к тому, что содержалось в выражении, стоящем в скобках.
1 Kleinpaul. «Die Ratsel der Sprache». 1890.
124
3. Фрейд
Несомненно, что этот ответ принял другую форму только ради удовольствия, вытекающего из унифицирования и созвучия обоих слов.
Я надеюсь, что только что высказанное нами положение стало наконец ясным. В оценке технических приемов остроумия нам всегда мешало то обстоятельство, что они свойственны не одному только остроумию и что, тем не менее, сущность остроумия зависит от них, так как устранение их путем редукции влекло за собой утрату характера остроты и удовольствия от нее. Мы теперь замечаем, что описанное нами как технические приемы остроумия — и в некотором смысле мы должны так продолжать называть их — является скорее источником, из которого остроумие извлекает удовольствие. И мы не удивляемся тому, что другие приемы, ведущие к той же цели, пользуются теми же источниками. Свойственная же остроумию и только ему одному присущая техника заключается в способности обеспечивать применение доставляющих удовольствие приемов от возражений критики, которая может испортить удовольствие. Об этой способности мы можем сказать кое-что в общих чертах.
Работа остроумия проявляется, как уже было упомянуто, в выборе такого словесного материала и таких ситуаций мышления, которые позволяют старой игре словами и мыслями вьщержать натиск критики. Для этой цели должны быть использованы все особенности запаса слов и все констелляции связи мыслей для искусного составления текста. Быть может, нам впоследствии придется еще охарактеризовать работу остроумия одним определенным качеством. Пока же остается необъясненным, как может быть сделан выгодный для остроумия выбор. Но если тенденция и работа остроумия заключаются в защите от критики словесных и мыслительных связей, доставляющих удовольствие, то это уже существенная особенность шутки. С самого начала работа остроумия заключается в том, чтобы упразднить внутренние задержки и сделать легкодоступными те источники удовольствия, которые стали недоступными. И мы увидим, что остроумие на протяжении всего своего развития остается отвечающим этой характеристике.
Нам нужно теперь дать правильную оценку и моменту «смысла в бессмыслице», которому авторы придают такое важное значение для характеристики остроумия и для объяснения доставляемого им удовольствия. Два твердо установленных пункта в условности остроумия,
Остроумие и его отношение к бессознательному 125 его тенденция добиваться исполненной удовольствия игры и его стремление оградить ее от критики разума, объясняют исчерпывающим образом, почему отдельная острота, кажущаяся с одной точки зрения бессмысленной, с другой точки зрения считается глубокомысленной или, по крайней мере, приемлемой. Как острота выполняет эти условия — это уже дело работы остроумия; там, где это ей не удается, острота отбрасывается как бессмыслица. Но для нас необязательно считать удовольствие от остроумия производным антагонизма чувств, вытекающих из смысла и одновременной бессмысленности остроты, будь то непосредственно или путем «смущения от непонимания и внезапного уяснения». Точно так же для нас не существует необходимости подойти ближе к вопросу, каким образом может вытекать удовольствие из смены оценки бессмыслицы оценкой осмысленности. Психогенез остроумия научил нас тому, что удовольствие от остроты вытекает из игры словами или из раскрепощения бессмыслицы, а смысл остроты предназначен только для того, чтобы защитить это удовольствие от упразднения его критикой.
Такой путь уже на исследовании шутки выясняет проблему сущности характера остроумия. Мы должны обратиться к дальнейшему развитию шутки до ее апогея — тенденциозной остроте. Уже шутка выдвигает на первый план получение нами удовольствия и удовлетворяется тем, что способ ее выражения не кажется нам бессмысленным или лишенным всякого содержания. Когда этот способ сам по себе содержателен и ценен, тогда шутка превращается в остроту. Мысль, которая заслужила бы наше внимание, будучи выраженной в самой простой форме, облекается теперь в такую форму, которая сама по себе может вызвать у нас удовольствие1. Конечно, такое соединение формы и содержания осуществ-
1 Примером, выясняющим разницу между шуткой и собственно остротой, является отличная острота, которою член гражданского министерства в Австрии ответил на вопрос о солидарности кабинета: «Как мы можем вносить одинаковые предложения, когда мы не выносим друг друга?» Техника — применение одного и того же материала с незначительной, но противоположной модификацией; правильная и меткая мысль — не существует солидарности без личной симпатии. Противоположность модификаций (вносить — выносить) соответствует разногласию, которое утверждает мысль, и служит ему изображением.
126
3. Фрейд
ляется не без цели. Мы должны так думать и постараемся найти цель, лежащую в основе этого образования остроты. Одно наблюдение, сделанное прежде в качестве предварительного, наводит нас на след. Мы выше отмечали, что удачная острота производит на нас совокупное впечатление приятного, без того чтобы мы различали, какая часть удовольствия проистекает из остроумной формы, а какая — из меткого содержания мысли.
Мы всегда обманываемся относительно этого подразделения. Мы то переоцениваем качество остроты, удивляясь содержащейся в ней мысли; то, наоборот, переоцениваем ценность мысли из-за удовольствия, доставляемого нам остроумной оболочкой. Мы не знаем, что доставляет нам удовольствие, по поводу чего мы смеемся. Эта предполагаемая неуверенность нашего мышления может дать нам повод к образованию остроты в собственном смысле. Мысль ищет остроумную оболочку, так как благодаря ей она обращает на себя наше внимание, может показаться нам более значительной, более ценной; но прежде всего потому, что эта оболочка подкупает и запутывает нашу критику. Мы склонны приписать самой мысли то, что понравилось нам в остроумной форме. Кроме того, мы не имеем больше желания искать неправильное в том, что доставило нам удовольствие, боясь закрыть себе таким образом источник удовольствия. Если острота вызвала у нас смех, то в нас еще создается неблагоприятное доя критики предрасположение, так как мы приходим тогда, с некоторой точки зрения, в такое настроение, в каком еще способны удовлетворяться игрой и изменить которое остроумие старалось всеми средствами. Хотя мы прежде установили, что такую остроту нужно назвать безобидной или нетенденциозной, однако мы не можем не признать, что только шутка лишена тенденций, то есть служит только одной цели — доставлять удовольствие. Острота, собственно, никогда не бывает лишена тенденции, даже если содержащаяся в ней мысль сама по себе не тенденциозна и служит, таким образом, теоретическому интересу мышления. Она преследует другую цель: преувеличение мысли, для того чтобы она не осталась незамеченной, и ограждение ее от критики. Она проявляет здесь опять-таки свою первоначальную природу, противопоставляя себя задерживающей и ограничивающей силе, в данном случае — критическому суждению.
Остроумие и его отношение к бессознательному 127
Это первое применение остроумия, выходящее за пределы доставления удовольствия, указывает нам дальнейший путь. Острота’ оценивается как могущественный психический фактор, вес которого может склонять чашу весов в ту или иную сторону. Важные тенденции и влечения душевной жизни пользуются ею доя своих целей. Первоначально лишенная тенденции острота, начавшаяся как игра, приходит вторично в связь с тенденциями, от которых на продолжительное время не может ускользнуть никакое явление душевной жизни. Мы знаем уже, что может сделать острота, обслуживая обнажающую врачебную, циничную, скептическую тенденции. Скабрезная острота с отпечатками сальности делает из третьего участника, первоначально лишнего в сексуальной ситуации, союзника, которого женщина должна стыдиться, а острота подкупает его доставленным ему удовольствием. При агрессивной тенденции она, пользуясь тем же средством, превращает первоначально индифферентного слушателя в сообщника и создает против своего врага целую армию недругов там, где был только один противник. В первом случае она преодолевает только задержки стыда и благопристойности, вознаграждая за это доставляемым ею удовольствием. Во втором случае она побеждает критическое суждение, которое в противном случае выдержало бы сражение. В третьем и четвертом случае, обслуживая циничную и скептическую тенденцию, она стремится поколебать уважение к институтам и истинам, в которые верил слушатель, усиливая, с одной стороны, аргумент, а с другой — употребляя новые приемы нападения. Там, где аргумент старается привлечь критику слушателя на свою сторону, острота стремится устранить ее. Нет сомнения, что острота избрала психологически более действенный путь.
При этом обзоре воздействий тенденциозной остроты для нас на первый план выступило то, что легче всего увидеть: действие остроты на того, кто ее слушает. Для понимания сущности остроумия более важным видится значение остроты в душевной жизни того, кто ее создает, или — как должно единственно правильно сказать — того, кому она приходит в голову. Мы уже однажды возымели намерение — и находим теперь повод возобновить его — изучить психические процессы остроумия, принимая во внимание распределение их между двумя лицами. Предварительно мы высказываем предположение, что возбужденный остротой психический
128
3. Фрейд
процесс слушателя, в большинстве случаев, копирует психический процесс автора остроты. Внешнему препятствию, которое должно быть преодолено у слушателя, соответствует внутренняя задержка у того, кто острит. По крайней мере, у последнего существует ожидание внешнего препятствия как тормозящее представление. В отдельных случаях внутреннее препятствие, преодолеваемое тенденциозной остротой, очевидно. Об остротах господина N. мы можем предположить, что они не только создают для слушателей возможность агрессивности из-за оскорблений. Они, прежде всего, делают возможным получение продукции этой агрессивности. Среди различных видов внутренней задержки или подавления один из них заслуживает нашего особого интереса как наиболее распространенный; он носит название «вытеснение». О его работе известно, что оно выключает из сознания подпавшие под его действие побуждения, равно как и производные этих побуждений. Мы услышим, что тенденциозная острота может извлекать удовольствие даже из этих подверженных вытеснению источников. Если, таким образом, как было указано выше, можно свести преодоление внешних препятствий к внутренним задержкам и вытеснениям, то нужно сказать, что тенденциозная острота яснее, чем все ступени развития остроумия, указывает на сущность работы остроумия, заключающуюся в освобождении удовольствия путем устранения задержек. Она усиливает тенденции, которые обслуживает, оказывая им помощь за счет подавленных побуждений или обслуживая вообще подавленные тенденции. Можно охотно признать, что именно это является работой тенденциозной остроты. Однако следует подумать о том, что все-таки непонятно, каким образом ей удается такая работа. Ее сила заключается в выигрыше удовольствия, которое она извлекает из источников игры словами и освобожденной бессмыслицы. Обсуждая впечатления, полученные от лишенных тенденций шуток, нельзя считать размеры полученного от них удовольствия настолько большими, чтобы можно было приписать им силу, достаточную для упразднения укоренившихся задержек и вытеснений. На самом деле мы имеем перед собой не простое действие силы, а запутанные соотношения освобождения. Вместо того чтобы излагать окольный путь, по которому я пришел к пониманию этого соотношения, я попытаюсь изложить это кратким синтетическим путем.
Остроумие и его отношение к бессознательному 129
Г.Т. Фехнер в своей «Vorschule der Asthetik» («Начальный курс эстетики») (I. Bd., V) установил «принцип эстетической помощи или стимулирования», который он излагает в следующем виде: «Из совпадения противоречивых условий, при которых может быть доставлено удовольствие и которые сами по себе имеют небольшое значение, вытекает большее и часто даже гораздо большее удовольствие, чем то, которое могут вызвать отдельные условия. Это удовольствие больше, чем то, которое можно объяснить суммой единичных влияний. Совпадение такого рода позволяет достигнуть положительного результата и перешагнуть через порог удовольствия в тех случаях, где отдельные факторы слишком слабы для этого, так как только они по сравнению с другими условиями могут показать ощутимую выгоду чувства приятного»1.
Я думаю, что исследование остроумия дает нам не много моментов, подтверждающих правильность этого принципа, который оказался верным в применении ко многим другим художественным произведениям. При исследовании остроумия мы нашли нечто иное, близко стоящее к этому принципу. А именно: при совместном действии нескольких доставляющих удовольствие факторов мы не можем указать, какая часть результата приходится фактически на долю каждого из них. Но предполагаемую этим «принципом .помощи» ситуацию можно варьировать и поставить этим новым условиям целый ряд вопросов, которые заслуживали бы ответа. Что происходит вообще, если в одной констелляции совпадают условия удовольствия с условиями неудовольствия? От чего зависит результат и его закономерность? Тенденциозная острота является частным случаем этих возможностей. Существует побуждение или стремление, которое хочет освободить удовольствие из определенного источника и которое действительно освобождает его, если ничто не препятствует этому. Кроме того, существует другое стремление, противодействующее этому развитию удовольствия; оно, следовательно, тормозит или подавляет. Подавляющее течение, 1 как показывает результат, должно быть несколько сильнее, чем подавленное, которое все-же не упраздняется.
Теперь присоединяется еще одно стремление, которое освобождает удовольствие из того же процесса, хотя и из других источни
1 С. 51. 2-е издание. Лейпциг, 1897.
130
3. Фрейд
ков; это стремление действует, следовательно, в том же направлении, что и подавленное стремление. Каков может быть результат в данном случае? Пример поможет нам лучше разобраться, чем эта схематизация. Возникло желание выругать кого-нибудь. Но этому настолько мешает чувство приличия, эстетическая культура, что такое желание подавляется. Если бы оно прорвалось, например, из-за аффективного состояния или настроения, то этот прорыв тенденции к ругани стал бы потом источником неудовольствия собою. Итак, ругань подавляется. Но представляется возможность извлечь из материала слов и мыслей, предназначенных для ругательства, удачную остроту, освободить удовольствие из других источников, которым не мешает уже прежнее подавление. Однако это второе развитие удовольствия не могло бы осуществиться, если бы ругательство не было разрешено. Но поскольку оно позволяется, с ним связывается еще новое осуществление удовольствия. Опыт тенденциозной остроты показывает, что при таких обстоятельствах подавленная тенденция может получить силу из удовольствия от остроумия, чтобы преодолеть более сильную задержку. Человек ругается, так как этим осуществляется возможность найти остроту. Но достигнутое чувство приятного вызывается не только за счет остроты. Оно несравненно больше. Оно настолько больше удовольствия от остроумия, что мы должны предположить: подавленной прежде тенденции удалось пробиться почти совсем без ущерба. При таких соотношениях смеются больше всего по поводу тенденциозной остроты.
Быть может, мы путем исследования условий смеха придем к созданию более наглядного представления о процессе помощи, которую оказывает острота в борьбе с подавлением. Но мы и теперь видам, что тенденциозная острота является частным случаем принципа такой помощи. Возможность получения удовольствия присоединяется к ситуации, в которой существует препятствие для другой такой возможности и которая сама по себе не может вызвать удовольствие. Результатом является получение удовольствия, которое гораздо больше, чем удовольствие, привнесенное присоединившейся возможностью. Это последнее действует как заманчивая премия. С помощью преподнесенного небольшого количества удовольствия был получен очень большой объем его, который в противном случае был бы трудно достижим. Я имею основание предположить, что
Остроумие и его отношение к бессознательному
131
этот принцип соответствует приспособлению, оказавшемуся полезным для многих областей душевной жизни, далеко расположенных друг от друга. Поэтому считаю целесообразным назвать ту часть удовольствия, которая служит для освобождения большого объема удовольствия, предварительным удовольствием, а сам принцип — принципом предварительного удовольствия.
Мы можем теперь дать формулировку механизма действия тенденциозной остроты: она обслуживает тенденции, чтобы, пользуясь удовольствием от остроумия как предварительным удовольствием, доставить новое удовольствие через упразднение подавлений и вытеснений. Если мы проследам развитие тенденциозной остроты, то мы сможем сказать, что она с самого начала до конца остается верной своей сущности. Она начинается как игра, чтобы извлекать удовольствие из свободного применения слов и мыслей. Когда усиление разума запрещает ей эту игру словами, как лишенную смысла, и игру мыслями, как бессмысленную, она обращается к шутке, чтобы удержать эти источники удовольствия и выиграть новое удовольствие из освобождения бессмыслицы. Будучи собственно остротой, еще лишенной тенденции, она оказывает помощь мыслям, повышает их сопротивление нападению критического суждения. При этом принцип смешивания источников удовольствия выгоден для остроты. Она, наконец, присоединяется к сильным тенденциям, борющимся с подавлением, чтобы упразднить внутренние задержки согласно принципу предварительного удовольствия. Разум, критическое суждение, подавление — вот те силы, с которыми борется по очереди острота. Она прочно удерживает первоначальные словесные источники удовольствия и, начиная со ступени шутки, открывает новые источники удовольствия упразднением задержек. Удовольствие, которое она доставляет, будь то удовольствие от игры или от упразднения, мы можем считать производным экономии психических затрат в том случае, если такое толкование не противоречит сущности удовольствия и оказывается плодотворным еще и для других моментов1.
1 Краткого дополнительного изложения заслуживают те остроты-бессмыслицы, которые не нашли себе полного изложения в тексте.
При том значении, которое наше изложение признает за моментом «смысла в бессмыслице», может появиться искушение рассматривать
132
3. Фрейд
IV. Мотивы остроумия.
Остроумие как социальный процесс
Говорить о мотивах остроумия, казалось бы, излишне, так как стремление получить удовольствие уже должно быть признано достаточным мотивом для него. Но, с одной стороны, не исключена возможность того, что и другие мотивы принимают учас
каждую остроту, как остроту-бессмыслицу. Но это необязательно, так как только игра мыслями ведет неизбежно к бессмыслице. Другой источник удовольствия от остроумия — игра словами — производит только иногда такое впечатление и не вызывает закономерно связанной с ним критики. Двоякий корень удовольствия от остроумия при игре слов и игре мыслями, соответствующий важнейшему подразделению на остроты по смыслу и на словесные остроты, в значительной мере затрудняет краткую формулировку общих положений об остроумии.
Игра словами доставляет очевидное удовольствие из-за вышеперечисленных моментов опознания и т. д. и поэтому только в небольшой степени подвержена подавлению. Игра мыслями не может быть мотивирована таким удовольствием. Она подвержена чрезвычайно энергичному подавлению и удовольствие, которое она может доставить, является только удовольствием от упразднения задержки. Согласно этому можно сказать, что ядром удовольствия является первоначальное удовольствие от игры, а оболочкой — удовольствие от упразднения. Мы, разумеется, не усматриваем удовольствие от остроты-бессмыслицы в том, что нам удалось вопреки подавлению освободить бессмыслицу. Замечаем сразу, что нам доставила удовольствие игра словами. Бессмыслица, продолжающая относиться к разряду острот по смыслу, приобретает вторично функцию напряжения нашего внимания путем смущения. Она служит средством усиления действия остроты, но только в том случае, если она бросается в глаза. Чаще смущение предшествует на некоторое время пониманию. Что бессмыслицу в остроте можно применить для изображения содержащегося в мысли суждения, было уже показано на некоторых примерах (с. 66—68). Но и это назначение бессмыслицы не является первичным в остроте.
К остротам-бессмыслицам примыкает целый ряд продукций, построенных по типу острот и не имеющих подходящего названия, но они
Остроумие и его отношение к бессознательному
133
тие в продукции остроумия. С другой стороны, при постановке вопроса о субъективной условности остроумия следует вообще принять во внимание некоторые переживания человека. Прежде всего, этого требуют два факта. Хотя работа остроумия является удачным приемом для получения удовольствия от психических процессов, тем не менее мы видим, что не все люди в одинаковой мере способны пользоваться этим средством. Работа остроумия доступна не всем, а высоко продуктивная работа вообще доступна только немногим людям, о которых говорят, что они остроумны (sie haben Witz). Остроумие оказывается в данном случае особой способностью, соответствующей, примерно, старому термину «духовное достояние» («Seelenvermdgen»), и в своем выявлении она совершенно независима от других способностей: интеллекта, фантазии, памяти и т. д. У остроумных людей нужно предполагать, следовательно, особое дарование или особые психические условия, которые дают место или способствуют работе остроумия.
Я боюсь, что в обосновании этой темы мы не достигнем удовлетворительных результатов. Нам удается только то здесь, то там, исходя из понимания единичной остроты, проникнуть в знание
могут претендовать на формулировку «кажущееся остроумным слабоумие». Таких острот существует бесчисленное множество. Я приведу только две.
«Некто, сидя за столом, куда была подана рыба, хватает дважды обеими руками майонез и затем проводит ими по волосам. На удивленный взгляд соседа он, как бы замечая свою ошибку, извиняется: «Извините, я думал, что это шпинат».
Вторая: «Жизнь — это цепной мост»,— говорит один. «Почему?» — спрашивает другой. «Откуда я знаю?» — отвечает первый».
Эти крайние примеры оказывают свое действие, потому что они будят ожидание остроты и каждый слушатель невольно старается найти скрытый за бессмыслицей смысл. Но смысла нет никакого. Это действительно бессмыслицы. Этот мираж создает на одно мгновение возможность освободить удовольствие от бессмыслицы. Эти остроты не совсем лишены тенденции. Это «провокации». Они доставляют рассказчику удовольствие, вводя в заблуждение и огорчая слушателя. Последний утешается лишь возможностью стать в свое время самому рассказчиком.
134
3. Фрейд
субъективных условий в душе того, кто эту остроту создал. Совершенно случайно произошло так, что именно тот пример остроумия, которым мы начали наше исследование техники остроумия, позволяет нам также-бросить взгляд и на субъективную условность остроты. Я имею в виду остроту Гейне, на которую обратили внимание и Хеймане, и Липпе.
«...Я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обошелся со мной, совсем как с равным, совсем фамиллионьярно» («Луккские воды»).
Эту фразу Гейне вложил в уста комическому лицу Гирш-Гиацинту — коллекционеру, оператору и таксатору из Гамбурга, камердинеру знатного барона Христофора Гумпелино (некогда Гумпеля). Поэт испытывает, очевидно, большое удовольствие от своего образа, так как он заставляет Гирш-Гиацинта произнести большую речь, высказывая забавно и откровенно свои точки зрения. Он награждает его прямо-таки практической мудростью Санчо Пансо. Следует сожалеть, что Гейне, которому, как известно, не присуща драматическая форма, вскоре оставляет этот ценный образ. В немногих местах нам кажется, что в лице Гирш-Гиацинта говорит как будто сам поэт, скрытый за прозрачной маской, и вскоре нами овладевает уверенность, что эта личность является лишь пародией поэта на самого себя. Гирш рассказывает о причинах, в силу которых он отказался от своего прежнего имени и зовется теперь Гиацинтом. «К-тому же я имею еще и ту выгоду,— продолжает он,— что буква Г уже стоит на моей печати, и мне не нужно гравировать себе новую». Но ту же самую экономию сделал сам Гейне, когда он при своем крещении переменил свое имя «Гарри» на «Генрих». Теперь каждый, кому известна биография поэта, должен вспомнить, что Гейне имел в Гамбурге, откуда происходит и Гирш-Гиацинт, дядю по фамилии тоже Гейне, который, будучи богатым человеком в семье, играл величайшую роль в жизни поэта. Дядя назывался тоже Соломон, как и старый Ротшильд, который принял так «фамиллионьярно» бедного Гирша. То, что в устах Гирш-Гиацинта кажется простой шуткой, оказывается имеющим фундамент серьезной горечи в приложении к племяннику Гарри-Генриху. Он принадлежал к этой семье. Мы знаем даже, что его страстным желанием было жениться на дочери этого дяди, но кузина отказала ему, а дядя об-
Остроумие и его отношение к бессознательному 135 ращался с ним всегда несколько «фамиллионьярно», как с бедным родственником. Богатые кузены в Гамбурге никогда не принимали его радушно. Я вспоминаю рассказ моей собственной старой тетки, которая после замужества вошла в семью Гейне. Однажды она, будучи молодой красивой женщиной, очутилась за семейным столом в соседстве с человеком, который показался ей неприятным и к которому другие относились свысока. Она не чувствовала необходимости быть к нему более снисходительной. Лишь много лет спустя она узнала, что этот кузен, которым пренебрегали и которого презирали, был поэт Генрих Гейне. Как жестоко страдал Гейне в молодости и впоследствии от такого отношения к себе своих богатых родственников, можно узнать из некоторых отзывов. На почве такой субъективной ущемленности выросла затем острота про «фамиллионьярно».
В некоторых других остротах великого насмешника тоже можно предположить подобные субъективные условия. Но я не знаю другого примера, на котором это можно было бы объяснить таким убедительным образом. Опасно высказываться более определенно о природе этих личных условий, и поэтому мы не склонны требовать для каждой остроты таких сложных условий появления. В остроумных произведениях других знаменитых людей проникнуть в эти условия будет д ля нас чрезвьмайно трудно. Получается приблизительно такое впечатление, что субъективные условия работы остроумия часто недалеко уходят от условий невротического заболевания. Так, например, Лихтенберг был тяжелым ипохондриком, человеком, одержимым всякого рода странностями. Наибольшее число циркулирующих острот, в особенности продуцированных на злобу дня, анонимно. Можно с любопытством спросить, что за люди занимаются такой продукцией? Если иметь удобный случай в качестве врача изучить одного из тех, кто хотя и не является выдающимся, но известен в своем кругу как остряк и автор многих ходячих острот, то можно поразиться, открыв, что этот остряк является раздвоенной и предрасположенной к невротическим заболеваниям личностью. Но недостаточность документальных данных удержит нас, конечно, от того, чтобы установить такую психоневротическую конституцию, как закономерное или необходимое условие для создания остроты.
Более ясным случаем являются опять-таки еврейские остроты, которые, как уже было упомянуто, сплошь и рядом созданы сами-
136
3. Фрейд
ми евреями, в то время как истории о евреях другого происхождения почти никогда не возвышаются над уровнем комической шутки или грубого издевательства. Условие самопричастности можно выяснить здесь так же, как и при остроте Гейне «фамиллионьярно». И значение его заключается в том, что непосредственная критика или агрессивность затруднена для человека и возможна только окольным путем.
Другие субъективные условия или благоприятные обстоятельства для работы остроумия не в такой степени покрыты мраком. Двигательной пружиной продукции безобидных острот является нередко честолюбивое стремление проявить себя, показать свой ум, что может быть сопоставлено с эксгибиционизмом в сексуальной области. Бесчисленное множество заторможенных влечений, подавление которых сохранило некоторую степень лабильности, создает благоприятное предрасположение для продукции тенденциозной остроты. Таким образом, особенно отдельные компоненты сексуальной конституции человека могут являться мотивами создания острот. Целый ряд скабрезных острот позволяет нам сделать заключение о скрытом эксгибиционистическом влечении их авторов. Тенденциозные остроты, связанные с агрессивностью, удаются лучше всего тем людям, в сексуальности которых можно доказать мощный садистический компонент, в жизни подавляемый и более или менее заторможенный.
Вторым обстоятельством, требующим исследования субъективной условности остроумия, является тот общеизвестный факт, что никто не может удовлетвориться созданием остроты для самого себя. С работой остроумия неразрывно связано стремление рассказать остроту. И оно настолько сильно, что довольно часто осуществляется даже во время самого серьезного дела. При комическом произведении рассказывание другому лицу тоже доставляет наслаждение, но оно не так властно. Человек, наткнувшись на комическое, может наслаждаться им сам, один. Остроту он, наоборот, должен рассказать. Психический процесс создания остроты не исчерпывается ее выдумыванием. Остается еще нечто, что приводит неизвёстный процесс создания остроты к концу только при рассказывании выдуманного.
Мы, прежде всего, не знаем, на чем основано влечение рассказывать остроты. Но мы замечаем другую своеобразную особен-
Остроумие и его отношение к бессознательному 137 ность остроты, которая отличает ее от шутки. Когда мне встречается комическое произведение, я могу сам от всего сердца смеяться. Хотя меня, конечно, радует и возможность рассмешить другого человека рассказом этого комического произведения. По поводу же пришедшей мне в голову остроты, которую я сам создал, я не могу сам смеяться, несмотря на явное удовольствие, испытываемое мною от нее. Возможно, что моя потребность рассказать остроту другому человеку каким-либо образом связана с этим смехотворным эффектом, в котором отказано мне, но который очевиден у другого.
Почему же я не смеюсь по поводу своей собственной остроты? И какова при этом роль другого человека?
Обратимся сначала ко второму вопросу. При комизме участвуют в общем два лица: кроме меня, то лицо, в котором я нахожу комическое. Если мне кажутся комичными вещи, то это происходит из-за нередкого в мире наших представлений процесса персонификации. Этими двумя лицами, мною и объектом, довольствуется комический процесс; третье лицо может присутствовать, но оно не обязательно. Острота, как игра собственными словами и мыслями, лишена еще вначале лица, служащего для нее объектом. Но уже на предварительной ступени шутки, когда остроте удалось оградить игру и бессмыслицу от возражений разума, она ищет другое лицо, которому может сообщить свои результаты. А это второе лицо в остроте не соответствует объекту. Ему в комическом процессе соответствует третье, постороннее лицо. Создается впечатление, что при шутке второму лицу поручается решить, выполнила ли работа остроумия свою задачу, как будто Я не уверено в своем суждении по этому поводу. Безобидная, оттеняющая мысли острота тоже нуждается в другом человеке, чтобы проверить, достигла ли она своей цели. Если острота обслуживает обнажающие или враждебные тенденции, то она может быть описана как психический процесс между тремя лицами — теми же, что и при комизме, но при этом с иной ролью третьего лица. Психический процесс остроумия совершается между первым лицом Я и третьим, посторонним лицом, а не так, как при комизме — между Я и лицом, служащим объектом.
У третьего лицЬ при остроумии острота тоже наталкивается на субъективные условия, которые могут сделать недоступной
138
3. Фрейд
главную цель — доставление удовольствия. Как пишет Шекспир (Love’s Labour’s lost, V, 2):
A jest's prosperity lies in the ear,
Of him that hears it, never in the tongue, Of him that makes it...
Кем владеет настроение, связанное с серьезными мыслями, тому несвойственно указывать шутке на то, что ей посчастливилось спасти удовольствие от словесного выражения. Это лицо должно само пребывать в веселом или, по крайней мере, в спокойном настроении духа, чтобы третье лицо могло служить объектом для шутки. То же препятствие остается в силе для безобидной и для тенденциозной острот. В последнем случае возникает новое препятствие в виде контраста к той тенденции, которую обслуживает острота. Готовность посмеяться над удачной скабрезной остротой не может появиться в том случае, если обнажение касается высокоуважаемого родственника третьего лица. В собрании ксендзов и пасторов никто не решится привести данное Гейне сравнение католических и протестантских священнослужителей с мелкими торговцами и служащими большой фирмы. А в обществе преданных друзей моего противника самая остроумная брань, которую я могу сочинить против него, является не остроумием, а просто бранью и вызывает у слушателей гнев, а не удовольствие. Некоторая степень благосклонности или определенная индифферентность, отсутствие всех моментов, которые могут вызвать сильные, противоположные тенденции чувства, являются необходимым условием, если третье лицо хочет сделать привлекательной предлагаемую остроту. ' ,
Где отпадают такие препятствия для действия остроты, там выступает феномен, которого касается наше исследование: удовольствие, доставляемое нам остротой, отчетливее проявляется на третьем лице, чем на авторе остроты. Мы должны довольствоваться тем, что говорим «отчетливее» там, где были бы склонны спросить, не интенсивнее ли удовольствие слушателя, чем удовольствие создателя остроты, так как у нас, разумеется, нет средств для измерения и сравнения. Но мы видим, что слушатель подтверждает свое удовольствие взрывом смеха, тогда как первое лицо расска
Остроумие и его отношение к бессознательному 139
зывает остроту, по большей части, с серьезной миной. Если я рассказываю остроту, которую сам слышал, то я, чтобы не испортить ее действия, должен при рассказе вести себя точно так же, как и тот, кто ее создал. Возникает вопрос, можем ли мы из этой условности смеха по поводу остроты сделать заключение о психическом процессе при ее создании?
В наши цели не входат учет всего того, что было сказано и опубликовано о природе смеха. От такого намерения нас отпугивает фраза, которой Дюга, ученик Рибо, начинает свою книгу «Psychologie du rire» (1902). «II n’est pas de fait plus banal et plus etudie, que le rire; il n’en est pas qui ait eu le don d’exciter davantage la curiosite du vulgaire et celle des philosophes, il n’en est pas sur lequel on ait recueilli plus d’observations et bati plus de theories, et avec cela il n’en est pas qui demeure plus inexplique, on serait tente de dire avec les sceptiques qu’il faut etre content de rire et de ne pas chercher a savoir pou quoi on rit, d’autant que peut-etre le reflexion tue le rire, et qu’il serait alors contradictoire qu’elle en decouvrit les causes1.
Но зато мы не упустим случая использовать для нашей цели тот взгляд на механизм смеха, который отлично подходит к нашему собственному кругу мыслей. Я имею в виду попытку объяснения Г. Спенсера в его статье «Physiology of Laughter»2(«Физиология смеха»).
По Спенсеру, смех — это феномен разрешения душевного возбуждения и доказательство того, что психическое примене
1 «Нет явления более обычного и более изученного, чем смех. Ничто, как смех, не привлекает к себе в такой степени внимание как среднего человека, так и мыслителя. Не существует ни одного факта, по поводу которого было бы собрано столько наблюдений и выдвинуто столько теорий, как это было сделано в отношении смеха. И вместе с тем нет другого такого явления, которое оставалось бы настолько необъяснимым, как тот же самый смех. Невольно появляется искушение повторить вместе со скептиками, что надо просто смеяться и не спрашивать почему смеешься. Тем более что всякое размышление убивает смех и что знание причин смеха сейчас же послужило бы поводом к исчезновению самого смеха».
2 И. Spencer. The physiology of laughter (first published in Macmillans Magazine for March, 1860), Essays II. Bd., 1901.
140
3. Фрейд
ние этого возбуждения наталкивается внезапно на препятствия. Психическую ситуацию, которая разрешается смехом, он изображает следующим образом: «Laughter naturally results only when consciousness is unawares transferred from great things to small — only when there it what we may call a descending incongruity»1.
Точно в таком же смысле французские авторы (Дюга) называют смех «detente» — проявление разряжения. И даже формула А. Бейна: «Laughter a relief from restraint» кажется мне не так уж далеко отстоящей от толкования Спенсера, как хотят нас уверить некоторые авторы.
Мы, однако, чувствуем необходимость видоизменить мысль Спенсера и отчасти определить более точно, отчасти изменить содержащиеся в ней представления. Мы сказали бы, что смех возникает тогда, когда некоторая часть психической энергии, тратившаяся раньше, чтобы занять некоторые психические пути, осталась без применения для этой цели и потому беспрепятствен
1 Различные пункты этого определения требуют при исследовании комического удовольствия тщательной проверки, предпринятой уже другими авторами и не имеющей, во всяком случае, прямого отношения к нам. Мне кажется, что Спенсеру не посчастливилось с объяснением того, почему реагирование находит именно те пути, возбуждение которых дает в результате соматическую картину смеха. Я хотел бы одним-единственным указанием способствовать выяснению подробно обсуждавшейся до Дарвина и самим Дарвином, но все еще не исчерпанной окончательно темы о физиологическом объяснении смеха, следовательно об источниках и толковании характерных для смеха мышечных движений. Насколько я знаю, характерная для улыбки гримаса растяжения углов рта наступает впервые у удовлетворенного и пресыщенного кормлением грудного ребенка, когда он, усыпленный, выпускает грудь. Там эта мимика является действительно выразительным движением, так как означает решение больше не принимать пищи, будто выражая понятие «достаточно» или скорее даже «предостаточно». Этот первоначальный смысл чрезмерного, полного удовольствия насыщения может указать нам впоследствии на отношение улыбки, остающейся основным феноменом смеха, к исполненным удовольствия процессам реагирования.
Остроумие и его отношение к бессознательному
141
но реагирует на комическое. Мы ясно представляем себе, какую «дурную славу» навлекаем на себя такой постановкой вопроса. Но мы решаемся процитировать в свое оправдание великолепную фразу из сочинения Липпса о комизме и юморе. Из него можно почерпнуть объяснение не только комизма и юмора, но и многих других проблем. В конце концов, отдельные психологические проблемы ведут всегда чрезвычайно глубоко в психологию, так что в основе ни одна психологическая проблема не может обсуждаться изолированно. Понятия «психическая энергия», «отреагирование» и количественный учет психической энергии вошли в мой повседневный обиход с тех пор, как я начал философски трактовать факты психопатологии. И уже в своем «Толковании сновидений» (1900) я, согласно с Липпсом, сделал попытку считать «собственно деятельными в психическом смысле» те психологические процессы, которые сами по себе бессознательны, а не процессы, составляющие содержание сознания1. Только когда я говорю о занятии психических путей, я как будто отдаляюсь от употребляемых Липпсом сравнений. Познание способности психической энергии передвигаться вдоль определенных ассоциативных путей, а также познание сохранения почти неизгладимых следов психических процессов побудили меня фактически сделать попытку картинного изображения неизвестного. Чтобы избежать недоразумений, я должен присовокупить, что не сделал ни одной попытки провозгласить клетки, волокна или при
1 См. отрывок в цитировавшейся книге Липпса, гл. VIII «О психической силе» и т. д. (Сюда же относится «Толкование сновидений» VIII.) «Итак, остается в силе общее положение: факторами психической жизни являются не процессы, составляющие содержание сознания, а сами по себе бессознательные процессы. Задача психологии, если только она не хочет заниматься простым описанием содержания сознания, должна заключаться в том, чтобы из качества содержания сознания и его временной связи сделать вывод о природе этих бессознательных процессов. Психология должна быть теорией этих процессов. Но такая психология очень скоро найдет, что существуют совершенно различные особенности этих процессов, которые не представлены в соответственном содержании сознания». (Липпе, I. с. 123.)
142
3. Фрейд
обретающую теперь все большее значение систему невронов субстратом для этих психических путей, хотя каким-то не известным еще образом такие пути следовало бы представить как органические элементы нервной системы.
Итак, при смехе, согласно нашему предположению, даны условия для того, чтобы количество психической энергии, употреблявшееся до сих пор для занятия психических путей, получило возможность свободно реагировать. И поскольку, хотя и не каждый смех, но смех по поводу остроты безусловно является признаком удовольствия, то мы склонны привести это удовольствие в связь с прекращением существовавшей до сих пор траты энергии. Когда мы видим, что слушатель остроты смеется, а ее автор не смеется, то это может свидетельствовать только © том, что у слушателя прекратилась затрата психической энергии, в то время как при создании остроты возникают задержки либо для прекращения затраты энергии, либо для возможности отреагирования. Едва ли можно более верно охарактеризовать психический процесс у слушателя, ставшего третьим участвующим лицом в остроте, чем подчеркивание того факта, что он покупает удовольствие от остроты с незначительной затратой собственной энергии. Это удовольствие является для него, так сказать, подарком. Слова остроты, которую он слышит, обязательно вызывают в нем те представления или ту связь мыслей, возникновению которых у него противодействовали очень сильные внутренние задержки. Он должен был бы сам приложить усилия, чтобы произвольно осуществить эту связь в качестве первого участвующего лица в остроте; или, по крайней мере, затратить на это такое количество психической энергии, которое соответствует силе задержки, подавления или вытеснения этих представлений. Эту психическую затрату он сэкономил. Согласно нашим сделанным ранее рассуждениям, мы должны сказать, что его удовольствие соответствует этой экономии. А согласно нашему взгляду на механизм смеха, мы могли бы скорее сказать, что энергия, употреблявшаяся для обслуживания задержки, внезапно стала излишней из-за воссоздания запретных представлений слуховым восприятием. Отток этой энергии прекратился, и поэтому она получила в смехе возможность реагирования. В сущности, оба этих процесса приводят к одно
Остроумие и его отношение к бессознательному
143
му и тому же, так как сэкономленная затрата энергии точно соответствует задержке, которая стала ненужной. Но последний процесс более нагляден, потому что позволяет нам сказать, что слушатель остроты смеется, затрачивая при этом такое количество психической энергии, какое было освобождено упразднением задержки. Смехом он как будто осуществляет отреагирование этого количества энергии.
Если лицо, которое сочинило остроту, не может смеяться, значит процесс, происходящий в голове этого лица, отличен от аналогичного процесса у третьего лица, у которого происходит либо упразднение задержки, либо дана возможность отреагирования на эту задержку. Но первый из этих двух случаев не осуществим, как мы сейчас должны будем признать. Задержка должна быть упразднена и у первого лица, в противном случае не была бы создана острота. Ведь рождение остроты должно было бы преодолеть это сопротивление. Точно так же невозможно, чтобы первое лицо не испытывало удовольствия от остроты, ставшей, конечно, следствием упразднения задержки. Таким образом, остается только второй случай, когда первое лицо, хотя оно и ощущает удовольствие, не может смеяться, так как невозможно отреагирование, являющееся условием смеха. Это может случиться в результате того, что освободившаяся энергия тотчас находит себе другое эндопсихическое применение. Хорошо, что мы обратили внимание на эту возможность; мы вскоре еще больше заинтересуемся ею. Но первое лицо, участвующее в создании остроты, может выполнить другое условие. Возможно, вообще не освободилось такое количество энергии, которое способно проявить себя, несмотря на последовавшее упразднение задержки. Ведь у первого лица совершается работа остроумия, которая должна соответствовать определенному количеству новой психической затраты. Следовательно, первое лицо само добывает силу, которая упраздняет задержку. Из этого оно, безусловно, извлекает удовольствие; в случае тенденциозной остроты — даже очень значительное, так как полученное от работы остроумия предварительное удовольствие само берет на себя функцию упразднения задержки. Но затрата, производимая работой остроумия, в каждом отдельном случае заимствуется из выигрыша, получаемого при упразднении задержки,— та самая затрата, ко
144
3. Фрейд
торой нет у слушателя остроты. Для подкрепления вышеизложенного можно привести еще тот факт, что острота может лишиться своего смехотворного эффекта и у третьего лица, как только от него потребуется затрата мыслительной энергии. Намеки, которые делает острота, должны бросаться в глаза, а пробелы — легко заполняться. С пробуждением сознательного мыслительного интереса действие остроты, как правило, становится невозможным. В этом заключается важное отличие остроты от загадки. Вероятно, психическая констелляция во время работы остроумия вообще не благоприятствует свободному отреагированию выигранной энергии. Мы не можем здесь, конечно, глубже вдаваться в понимание этого процесса. Мы более подробно выяснили ту часть нашей проблемы, где речь шла о причине смеха третьего лица; менее подробно — другую часть, где анализировалось, почему не смеется первое лицо.
Тем не менее, если мы придерживаемся наших взглядов на условия смеха и на психический процесс, происходящий у третьего лица, мы вынуждены дать себе удовлетворительное объяснение целого ряда известных нам, но непонятных особенностей остроты. Если у третьего лица должно быть освобождено некоторое, способное к отреагированию количество энергии, то желательны благоприятствующие моменты или соблюдение некоторых условий: 1) нужно быть уверенным, что третье лицо действительно экономит эти затраты; 2) после освобождения этой энергии должно быть предотвращено другое психическое применение ее вместо моторного отреагирования; 3) если количество энергии, затрачиваемой на задержку, которая должна быть упразднена у третьего лица, было до этого еще усилено, увеличено, то это может принести только пользу. Всем этим целям служат определенные приемы работы остроумия, которые мы можем объединить под названием вторичных или вспомогательных технических приемов. д
Первое из этих условий устанавливает одну из особенностей, свойственных третьему лицу — слушателю остроты. Оно должно быть настолько психически согласовано с первым лицом, чтобы обладать теми же внутренними задержками, какие были преодолены работой остроумия у первого лица. Кто не склонен к сальностям, тому удачные обнажающие остроты не доставят никакого
Остроумие и его отношение к бессознательному 145
удовольствия. Агрессивные остроты господина N. не будут поняты необразованным человеком, который привык давать волю своему удовольствию, получаемому от ругани. Каждая острота требует, таким образом, своей собственной аудитории, и если одна и та же острота вызывает смех у нескольких человек, то это является доказательством большой психической согласованности. Впрочем, мы дошли тут до такого пункта, который дает нам возможность еще подробнее разобрать процесс, происходящий у третьего лица. Оно должно привычным образом воссоздавать в себе ту самую задержку, которую преодолела острота у первого лица. Поэтому у третьего лица, как только оно слышит остроту, навязчиво или автоматически пробуждается готовность к этой задержке. Эта готовность, которую я должен учитывать как действительную затрату, аналогичную мобилизации в армию, признается одновременно (у первого и третьего лица.— Перев.) излишней или запоздалой и отреагируется, таким образом, in statu nascendi («в момент зарождения») смехом1.
Второе условие для создания свободного отреагирования заключается в предотвращении иного применения освобожденной энергии и оказывается гораздо более важным. Оно дает теоретическое объяснение ненадежности действия остроты в том случае, если выраженная в ней мысль вызывает у слушателя сильно возбуждающие представления. Причем от согласованности или противоречивости между тенденциями остроты и рядом мыслей, овладевающих слушателем, зависит, будет ли сосредоточено внимание на процессе остроумия или он будет оставлен без внимания. Но еще большего теоретического интереса заслуживает целый ряд вспомогательных технических приемов, которые явно служат цели отвлечь внимание слушателя от процесса остроумия и создать для него возможность протекать автоматически. Я говорю умышленно «автоматически», а не «бессознательно», потому что последний термин ввел бы нас в заблуждение. Здесь речь идет только о том, чтобы не допустить большой активности (Besetzung) внимания к психическому процессу, возникающему при выслушивании остроты. Употребле
1 Точка зрения «status nascendi» доказана несколько в иной форме Хеймансом (Zeitschrift fur Psychol., XI).
146
3. Фрейд
ние этого вспомогательного технического приема дает нам право предположить, что именно активность внимания принимает большое участие в надзоре за освобожденной энергией и в новом применении ее.
По-видимому, вообще нелегко избежать эндопсихического применения энергии, которая стала ненужной, так как мы во время своих мыслительных процессов постоянно передвигаем такую энергию с одного пути на другой, не теряя ни малейшего количества ее на отреагирование. Острота пользуется для этого следующими приемами. Во-первых, она стремится возможно к более краткой формулировке, чтобы дать меньше опорных точек вниманию. Во-вторых, она сохраняет условие легкости понимания (см. выше). И так как она учитывает работу мышления и делает выбор среди различных мыслительных путей, то она должна была бы подвергать опасности свое действие не только из-за неизбежной мыслительной затраты, но и от возбуждения внимания. Кроме того, острота, для того чтобы отвлечь внимание, прибегает к новой уловке: она предлагает вниманию нечто выраженное в остроте, что приковывает его и позволяет беспрепятственно провести освобождение энергии, тратившейся на задержку, и допустить отреагирование от остроты. Пропуски в тексте остроты уже выполняют эту задачу. Они побуждают к заполнению пробелов и осуществляют, таким образом, отвлечение внимания от процесса остроумия. Здесь работа остроумия как будто прибегает к услугам технических приемов загадки, которая привлекает внимание. Еще большее значение имеют фасадные образования, которые мы встречаем, особенно в некоторых группах тенденциозных острот (ср. с. 102). Фасадные образования отлично достигают своей цели: сосредоточить на себе внимание, которому они ставят какую-нибудь задачу. В то время как мы начинаем раздумывать, в чем заключается ошибка того или иного ответа, мы уже смеемся. Наше внимание застигнуто врасплох; отреагирование освободившейся энергии, затрачивавшейся на задержку, выполнено. То же относится к остротам с комическим фасадом, при которых комизм приходит на помощь технике остроумия. Комический фасад способствует действию остроты больше, чем обычный прием. Он не только создает возможность автоматического течения процесса остроумия благодаря тому,
Остроумие и его отношение к бессознательному 147 что он приковывает внимание; он облегчает отреагирование от остроты, предпосылая ему отреагирование от комического. Комизм действует здесь точно так, как и подкупающее предварительное удовольствие. Таким образом мы можем понять, что некоторые остроты могут совершенно отказаться от предварительного удовольствия, создаваемого другими приемами остроумия1.
1 На примере остроты, возникающей путем передвигания, я хотел бы обсудить еще одну характерную черту техники остроумия. Гениальная актриса Гаммейер на заданный ей однажды нежелательный вопрос «Сколько вам лет?» ответила «наивно и стыдливо, опустив глаза»: «В Брюнне». Это образец передвигания: на вопрос о возрасте она отвечает указанием на место рождения, предупреждая, таким образом, ближайший вопрос и давая этим понять: «Этот единственный вопрос я хотела бы оставить без ответа». Однако мы чувствуем, что характерная черта остроты получила здесь не безупречное выражение. Уклонение от вопроса слишком ясно, передвигание слишком бросается в глаза. Мы понимаем тотчас, что речь идет об умышленном передвигании. При других остротах, возникающих путем передвигания, последнее замаскировано и наше внимание приковано к тому, чтобы доказать передвигание. В приводимой уже остроте, созданной путем передвигания, дается ответ на расхваливание лошади: «А что я буду делать в 6.30 утра в Прессбурге?» И хотя он является бросающимся в глаза передвиганием, но действует бессмысленно запутывающим образом на наше внимание. В то же время в ответе артистки мы передвигание определяем тотчас. В другом направлении идет различие между остротой и так называемыми «шутливыми вопросами», которые, впрочем, могут прибегать к услугам лучших технических приемов. Вот пример шутливого вопроса, пользующегося техническим приемом передвигания.
«Кто является каннибалом, пожравшим своего отца и свою мать?» Ответ: «Сирота».— «А если он пожрал к тому же всех своих остальных родственников?» — «Значит, это наследник всего имущества».— «А где такое чудовище находит еще симпатию себе?» — «В энциклопедическом словаре под буквой С».
Шутливые вопросы не являются остротами, потому что требуемые остроумные ответы нельзя рассматривать как намеки остроумия, пропуски и т. д.
148
3. Фрейд
Мы уже догадываемся, а впоследствии еще яснее увидим, что в условии отвлечения внимания открыли немаловажную черту психического процесса, происходящего у слушателя остроты. В связи с этим мы можем понять еще и другое.
Во-первых, каким образом случается так, что мы никогда не знаем, над чем мы смеемся, хотя можем установить это аналитическим исследованием. Этот смех является именно результатом автоматического процесса, который возможен из-за устранения нашего сознательного внимания.
Во-вторых, мы поняли своеобразность остроты, заключающуюся в том, что она оказывает свое действие на слушателя в полной мере только в том случае, если она нова для него, если она действует на него ошеломляюще. Это свойство остроты, обусловливающее ее недолговечность и побуждающее к составлению все новых острот, проистекает, очевидно, из того, что ошеломить или застигнуть врасплох можно только один раз. При повторении остроты внимание направляется на выплывающее воспоминание о том, когда ее слышали в первый раз. Исходя из этого, мы можем понять затем стремление рассказать слышанную остроту другому человеку, который еще не знает ее. Вероятно, человек вновь получает некоторую возможность наслаждения, отпавшую из-за недостатка новизны, тем впечатлением, которое производит острота на новичка. Аналогичный же мотив побуждает автора остроты рассказывать ее другому человеку.
В-третьих, я указываю на те технические вспомогательные средства, которые служат увеличению количества энергии, предназначенной для отреагирования, и усиливают таким образом действие остроты. Это благоприятствующие моменты, которые являются скорее условиями процесса остроумия. Хотя эти же приемы часто усиливают и внимание, направленное на остроту, но они же вновь снимают влияние внимания, приковывая его и ограничивая его подвижность. Все, что вызывает интерес и смущение, действует в обоих этих направлениях, в том числе и прежде всего бессмыслица, противоположность, «контраст представлений», который некоторые авторы считали существенной характерной чертой остроумия, но в котором я не усматриваю ничего, кроме средства, усиливающего действие остроты. Все
Остроумие и его отношение к бессознательному
149
то, что смущает, вызывает в слушателе состояние распределения энергии, которое Липпе назвал «психической запрудой» (Staung). И он, конечно, вправе предположить, что «разгрузка» происходит тем сильнее, чем больше была предшествующая запруда. Правда, изложение Липпса относится не именно к остроте, а к комическому вообще. Но, весьма вероятно, может случиться так, что отреагирование при остроте, разгружающее энергию, которая затрачивалась на задержку, усилено таким же образом благодаря запруде.
Нам теперь ясно, что техника остроумия вообще определяется двоякого рода тенденциями: одни создают возможность образования остроты у первого лица, другие увеличивают в остроте проявление удовольствия у третьего лица. Подобная Янусу двуликость остроты, обеспечивающая первоначальный выигрыш удовольствия перед возражениями критического рассудка, а также механизм предварительного удовольствия относятся к первым тенденциям. Дальнейшее усложнение техники приведенными в этой главе условиями является результатом присутствия третьего лица, интересы которого приняты во внимание.
Итак, острота сама по себе является лукавой плутовкой, которая служит одновременно двум господам. Все, что имеет в виду получение удовольствия, рассчитано при остроте на третье лицо, как будто какие-то внутренние, непреодолимые задержки мешают получению удовольствия первым лицом. Итак, создается полное впечатление необходимости присутствия этого третьего лица для довершения процесса остроумия. Но если мы сумели получить довольно ясное впечатление о природе этого процесса у третьего лица, то соответствующий процесс у первого лица еще окутан для нас мраком. Из двух вопросов: почему мы не смеемся над остротами, созданными нами самими? и почему мы спешим рассказать нашу собственную остроту другому человеку? — мы на первый из них до сих пор не дали ответа. Можем только предположить, что между двумя подлежащими выяснению фактами существует тесная связь: мы именно потому и хотим рассказать нашу остроту другому человеку, что сами не можем смеяться над ней. Из наших взглядов на условия получения удовольствия и отреагирования у третьего лица, мы можем сделать обратный вывод относительно первого лица:
150
3. Фрейд
у него отсутствуют условия для отреагирования, а условия для получения удовольствия выполнены лишь отчасти. Затем нельзя отрицать, что мы дополняем наше удовольствие, достигая невозможного для нас смеха окольным путем — от впечатления, произведенного на третье лицо, которое мы заставили смеяться. Мы смеемся, таким образом, как бы «рикошетом», как говорит Дюга; ведь смех относится к весьма заразительным проявлениям психических состояний. Если я заставляю другого человека смеяться, рассказывая ему остроту, то я, собственно, пользуюсь им, чтобы возбудить свой собственный смех. И действительно, можно наблюдать, что человек, рассказавший остроту с серьезной миной, подхватывает затем смех другого человека умеренным смешком. Следовательно, сообщение своей остроты другим людям может служить нескольким целям: во-первых, дать мне объективное доказательство успеха работы остроумия; во-вторых, дополнить мое собственное удовольствие обратным действием другого человека на меня; в-третьих, при повторении чужой остроты пополнить недостаток удовольствия, вызванный отсутствием новизны.
В заключение этих рассуждений о психических процессах остроумия, поскольку они разыгрываются между двумя лицами, мы можем бросить ретроспективный взгляд на момент экономии, который кажется нам важным для психологического понимания остроумия, с тех пор как мы дали первое объяснение технике остроумия. Мы уже давно ушли от ближайшего, но вместе с тем наивного понимания этой экономии как желания вообще избежать психической затраты. Причем экономия получается при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей. Мы тогда уже сказали себе: краткое, лаконичное еще не есть остроумное. Краткость остроумия — это особая, именно «остроумная» краткость. Первоначальный выигрыш удовольствия, которое доставляет игра словами и мыслями, проистекает действительно только от экономии затраты. Но с развитием игры в остроту тенденция к экономии тоже должна переменить свои цели, так как по сравнению с колоссальной затратой нашей мыслительный энергии, безусловно, не было бы принято во внимание то, что сэкономлено употреблением одних и тех же слов или избежанием новых сочетаний мыслей.
Остроумие и его отношение к бессознательному 151
Мы можем позволить себе сравнить психическую экономию с предприятием. Пока оборот в нем очень невелик, то, разумеется, на предприятие в целом расходуется мало и расходы на содержание управления крайне ограничены. Бережливость распространяется еще на абсолютную величину затраты. Впоследствии, когда предприятие расширилось, значение расходов на содержание управления отступило на задний план. Теперь не придают большого значения тому, как велико количество издержек, если оборот и доходы увеличились в значительной мере. Экономия в расходах на управление была бы мелочной для предприятия и даже прямо убыточной. Однако было бы неправильно предполагать, что при очень больших доходах больше нет места тенденции к экономии. Ищущая экономии мысль шефа направится теперь на бережливость в мелочах и почувствует удовлетворение, если с меньшей затратой будет исполнено то же распоряжение, которое требовало раньше больших расходов, какой бы ничтожной ни казалась экономия в сравнении с общими расходами.
Аналогичным образом и в нашем сложном психическом механизме детализованная экономия остается источником удовольствия, как могут показать нам повседневные события. Кто прежде зажигал в своей комнате керосиновую лампу, а теперь провел электрическое освещение, тот в течение некоторого времени будет испытывать определенное чувство удовольствия, поворачивая электрический выключатель. Это будет длиться до тех пор, пока в человеке будут жить воспоминания о сложных манипуляциях, которые он проделывал, чтобы зажечь керосиновую лампу. Точно так же для нас остается источником удовольствия даже незначительная (в сравнении с общими психическими затратами) экономия психической энергии. Эту экономию дает остроумное выражение и предназначается она для задержек. При этом мы экономим те расходы, которые привыкли делать и готовы были сделать и на этот раз. И этот момент, несомненно, выступает на первый план.
Локализованная экономия, какою является только что рассмотренная, не замедлит доставить нам мгновенное удовольствие, но длительного облегчения она не даст, поскольку сэкономленное здесь может быть израсходовано в другом месте. Лишь в том слу
152
3. Фрейд
чае, если можно избежать другого приложения энергии, частная экономия вновь превращается в общее уменьшение психических затрат. Таким образом, при более глубоком взгляде на процессы остроумия момент уменьшения затрат занимает место момента экономии. Первый момент доставляет, очевидно, больше удовольствия. У первого лица в остроте процесс доставляет удовольствие из-за упразднения задержки, уменьшения местной затраты. Он, по-видимому, не заканчивается до тех пор, пока при посредничестве третьего, постороннего лица не достигнет общего облегчения путем реагирования.
| Теоретическая часть
V. Отношение остроумия к сновидению и к бессознательному
В конце главы, которая была посвящена открытию техники остроумия, мы высказали мысль, что процессы сгущения с заместительным образованием и без него, передвигания, изображения путем противоположности, путем бессмыслицы, непрямого изображения и другие процессы, которые, как мы нашли, принимают участие в создании остроты, являют далеко идущую аналогию с процессами работы сна. И мы оставили за собой право, с одной стороны, подробнее изучить эти аналогии, с другой — исследовать то общее между сновидением и остроумием, которое выявляется таким путем. Нам было бы гораздо легче провести это сравнение, если бы мы могли предположить, что один из элементов сравнения — работа сна — известен. Но мы, вероятно, поступим лучше, если не сделаем этого предположения. У меня создалось впечатление, что опубликованное в 1900 году «Толкование сновидений» вызвало у моих коллег по специальности больше смущения, чем понимания. И я знаю, что широкие круги читателей удовлетворились тем, что свели все содержание книги к ходячему выражению «исполнение желания», которое можно легко запомнить и которым легко злоупотреблять.
Занимаясь продолжительное время проблемами, о которых там шла речь, и имея обильный материал, доставленный мне как психотерапевту во время моей врачебной деятельности, я не нашел в нем ничего, что требовало бы изменения или корректировки моих рассуждений. Поэтому я могу спокойно выжидать, пока читатели
154
3. Фрейд
поймут «Толкование сновидений» или пока проницательная критика укажет мне основные ошибки моей интерпретации. Чтобы облегчить сравнение с остротой, я повторю здесь в сжатом виде самое необходимое о сновидении и о работе сна.
Мы узнаем сновидение из воспоминания, которое кажется нам по большей части отрывочным и появляется после пробуждения ото сна. Сновидение в большинстве случаев состоит из призрачных (но в то же время отличающихся от них) эмоциональных впечатлений, которые дали нам суррогат переживания и которые могут быть смешаны с некоторыми мыслительными процессами («знание» в сновидении) и аффективными проявлениями. То, что мы вспоминаем как сновидение, я называю «явным содержанием». Оно часто совершенно абсурдно и запутано, иногда оно только абсурдно или только запутано. Но даже тогда, когда оно связное, как в некоторых сопровождающихся страхом сновидениях, оно противопоставляется нашей жизни как нечто чуждое, о происхождении которого нельзя дать себе отчета. Объяснения этого характера сновидения искали до сих пор в нем самом, усматривая в нем признаки беспорядочной, диссоциированной и, так сказать, «сонной» деятельности нервных элементов.
В противовес этому я показал, что это столь странное «явное» содержание сновидения всегда может быть понято как искаженное и измененное описание определенных, логически правильных психических переживаний, которые заслуживают названия «латентные мысли сновидения». Познание этих мыслей можно получить, если разложить явное содержание сновидения на его составные части, не обращая при этом внимания на кажущийся смысл, который оно может иметь, и если проследить затем ассоциативные нити, исходящие от каждого, изолированного теперь элемента. Эти нити сплетаются друг с другом и приводят, наконец, к наслоению мыслей, которые не только вполне логичны, но и легко могут быть поставлены в известную нам связь с нашими душевными процессами. Путем этого «анализа» содержание сновидения освобождается от всех своих поражающих нас странностей. Но чтобы такой анализ был удачным, мы должны в течение его проведения постоянно опровергать критические возражения, которые делаются беспрерывно против репродукции отдельных, способствующих анализу ассоциаций.
Остроумие и его отношение к бессознательному 155
Из сравнения вспоминаемого явного содержания сновидения с найденными таким образом латентными мыслями вытекает понятие «работы сна». Работой сна можно назвать всю сумму превращающих процессов, которые переводят латентные мысли сновидения в явное сновидение. От работы сна и происходит то удивление, которое раньше вызывало в нас сновидение.
Механизм работы сна может быть описан в следующем виде. Очень сложный, в большинстве случаев, рад мыслей, который был выстроен и не был исчерпан в течение дня (так называемый дневной остаток) сохраняет и в течение ночи предназначенное ему количество энергии (интерес) и угрожает нарушить сон. Этот дневной остаток при работе сна превращается в сновидение и становится безвредным для сна. Чтобы дать исходный пункт работе сна, дневной остаток должен обладать способностью создавать желание — условие, которое легко выполнимо. Желание, вытекающее из мыслей сновидения, образует предварительную ступень, а впоследствии — ядро сновидения. Полученный из анализов опыт (но не теория сновидений) говорит нам, что достаточно любого желания ребенка, оставшегося неисполненным при бодрствовании, чтобы вызвать сновидение, которое получается связным, имеющим смысл, но в большинстве случаев коротким. Оно легко может быть распознано как «исполнение желания». У взрослого существует общее благоприятное условие для желания, вызывающего сновидение. Оно заключается в том, что желание чуждо сознательному мышлению; то есть в том, что желание вытеснено или хотя бы содержит в себе неизвестные подкрепляющие тенденции для сознания. Не предполагая участия бессознательного в вышеизложенном смысле, я не мог бы развить дальше теорию сновидения и дать толкование накопленному материалу, состоящему из анализов сновидений. Влияние этого бессознательного желания на сознательно-логичный материал мыслей и дает в результате сновидение. Последнее втянуто при этом как будто в бессознательное. Точнее говоря, оно подвержено обработке в том виде, в каком она происходит на стадии бессознательных мыслительных процессов и характерна для этой стадии. Мы до настоящего времени только из результатов «работы сна» знаем характер бессознательного мышления и его отличие от «предсознательного» мышления, способного стать сознательным.
156
3. Фрейд
Совершенно новое, непростое и противоречащее общепринятому мышлению учение едва ли может выиграть в ясности при сжатом изложении. Этим замечанием я, следовательно, имею в виду ничто иное, как ссылку на подробное изложение бессознательного в моем «Толковании сновидений» и на кажущиеся мне в высшей степени важными работы Липпса. Я знаю, что тот, кто не имеет достаточного философского образования или мало склонен к так называемой философской системе, оспаривает возможность «психически бессознательного» в смысле, понимаемом Липпсом и мною и берется доказать его невозможность на любом из психических определений. Но определения условны и могут быть изменены. Я часто имел возможность на опыте убедиться, что лица, оспаривающие бессознательное, как нечто абсурдное и невозможное, вынесли свои впечатления не из тех источников, из которых, по крайней мере для меня, вытекает необходимость признания бессознательного. Противники бессознательного никогда не принимали во внимание эффекты постгипнотического внушения. И то, о чем я сообщал им в качестве примеров из моих наблюдений за негипнотизированными невротиками, приводило их в величайшее удивление. Они никогда не допускали мысли, что бессознательное есть нечто такое, чего в действительности не знают, в то время как необходимые выводы вынуждают дополнить понятие бессознательного (хотя бы под этим подразумевались мысли, способные стать сознательными) т$м, о чем мы как раз в данный момент не думали, что не находилось в «центре нашего внимания». Они также не пытались убедиться в существовании таких бессознательных мыслей в их собственной душевной жизни, анализируя свои собственные сновидения. А когда я пытался производить с ними такой анализ, они вспоминали приходящие в голову им мысли с удивлением и со смущением. У меня создалось впечатление, что принятию «бессознательного» существенно препятствует аффективное сопротивление, вызванное тем, что никто не хочет изучать свое бессознательное Я, так как легче всего вообще отрицать возможность его существования.
Итак, работа сна, к которой я возвращаюсь после этого отступления, подвергает совершенно своеобразной обработке мыслительный материал, который облечен в форму желания. Она, прежде всего, заменяет сослагательное наклонение настоящим временем,
Остроумие и его отношение к бессознательному 157
заменяет «я хотел бы сделать» выражением «я делаю». Это «я делаю» предназначено для галлюцинаторного изображения, что я назвал «регрессией» работы сна. При этом совершается путь от мыслей к картинам восприятия. Или, учитывая еще неизвестную — понимаемую не в анатомическом смысле — топику душевного процесса, можно было бы сказать, что совершается обратный путь из области мысленных картин в область эмоциональных восприятий. Этим путем, противоположным направлению развития усложняющейся душевной деятельности, мысли сновидения приобретают наглядность. Наконец, ядром явной «картины сновидения» оказывается пластическая ситуация. Чтобы добиться такой эмоциональной изобразительности, мысли сновидения должны были существенно преобразоваться. Но во время обратного превращения мыслей в эмоциональные картины в них наступают еще и другие изменения, которые отчасти понятны как необходимые, а отчасти являются неожиданными. Необходимым побочным результатом регрессии следует считать то, что почти все связи внутри мыслей, которые расчленяют их, оказываются потерянными для явного сновидения. Работа сна принимает для изображения только, так сказать, сырой материал представлений, не принимая тех мыслительных соотношений, которые удерживают их относительно друг друга. Или она оставляет за собой, по крайней мере, право не обращать внимания на эти последние соотношения. Другую часть работы сна мы, наоборот, не можем считать производным регрессии сна, обратного превращения в эмоциональные картины, причем ту именно часть, которая нам важна для проведения аналогии с образованием остроты. Материал мыслей сновидения испытывает во время работы сна совершенно необычное укомплектовывание или сгущение. Его исходными точками являются те общие черты, которые случайно или соответственно содержанию имеются налицо в мыслях сновидения. Так как эти общие черты обычно недостаточны для полного сгущения, то в работе сна создаются новые, искусственные общие черты. Для этой цели охотно употребляются даже слова, в тексте которых совпадают различные значения. Вновь созданные сгущенные общие черты входят в явное содержание сновидения как представители мыслей сновидения. Поэтому один элемент сновидения соответствует узловому и перекрестному пункту мыслей сновидения. Принимая во внимание эти мысли,
158
3. Фрейд
такой пункт должен быть назван «свервдетерминированным». Факт сгущения является той частью работы сна, которую можно распознать легче всего. Достаточно сравнить написанный текст сновидения с записью мыслей сновидения, полученных путем анализа, чтобы получить ясное представление о частоте сгущения в сновидении.
Не так легко убедиться во втором большом изменении, которое производит работа сна в мыслях сновидения. Речь идет о процессе, который я назвал передвиганием в сновидении. Это изменение проявляется в следующем: в центре явного сновидения стоит и сопровождается большой чувственной интенсивностью то, что в мыслях сновидения находилось на периферии и было второстепенным; и наоборот. Сновидение оказывается поэтому «передвинутым» в сравнении с мыслями сновидения. И именно из-за этого передвигания сновидение оказывается чуждым и непонятным для душевной жизни при бодрствовании. Чтобы осуществилось подобное передвигание энергии, должна быть дана возможность беспрепятственно переходить от важных представлений к маловажным, что на нормальное, способное стать сознательным мышление может произвести впечатление только «ошибки мышления».
Превращение для возможности изображения, сгущение и передвигание являются тремя большими механизмами, которые мы можем приписать работе Сна. Четвертый механизм, которому уделено, быть может, слишком мало места в толковании сновидений, не принят здесь во внимание для нашей цели. Выводя последовательно идеи из «топики душевного аппарата» и «регрессии» (а только такая последовательность придаст полноценность рабочим гипотезам), следовало бы сделать попытку определить, на каких ступенях регрессии происходят различные превращения мыслей в сновидении. Эта попытка не получила еще серьезного обоснования, но относительно передвигания, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что оно должно происходить на мыслительном материале в то время, когда он находится на ступени бессознательных процессов. Сгущение представляют себе, по всей вероятности, как процесс, распространяющийся через все течение мыслей вплоть1 до области восприятия. В общем же удовлетворяются тем, что предполагают одновременно наступающее действие всех сил, принимающих участие в образовании сновидения. При той осторожности, которую, понятно, следует соблюдать в трактов-
Остроумие и его отношение к бессознательному 159 ке таких проблем, и принимая во внимание не подлежащую здесь обсуждению принципиальную рискованность такой постановки вопроса, я все же решаюсь выставить положение, что предшествующий сновидению процесс работы сна должен быть перенесен в область бессознательного. Итак, в целом при образовании сновидения следовало бы, грубо говоря, различать три стадии. Во-первых, перевод предсознательных дневных остатков в бессознательное, чему должны способствовать условия сонного состояния. Затем (во-вторых) собственно работа сна в бессознании. И в-тре-тьих, регрессия обработанного таким образом материала сновидения вплоть до восприятия, в качестве которого сновидение проникает в сознание.
В качестве сил, принимающих участие в образовании сновидения, можно распознать: желание спать; энергию, оставшуюся еще у дневных остатков после уменьшения количества ее при сонном состоянии; психическую энергию снообразующего бессознательного желания; противодействующую силу «цензуры», которая господствует при бодрствовании и не вполне исчезает во время сна. Задачей снообразования является, прежде всего, преодоление задержки цензуры. Именно эта задача разрешается с помощью передвигания психической энергии внутри материала, доставляемого мыслями сновидениями.
Теперь вспомним, по какому поводу мы при исследовании остроумия подумали о сновидении. Мы нашли, что характер и действие остроты связаны с определенными формами выражения, техническими приемами, среди которых самыми поразительными являются различные виды сгущения, передвигания и непрямого изображения. Но процессы, приводящие к тем же результатам, то есть к сгущению, передвиганию и непрямому изображению, стали нам известны как особенности работы сна. Не подсказывает ли эта аналогия вывод, что работа остроумия и работа сна должны быть идентичны хотя бы в одном существенном пункте? Работа сна оказывается, по моему мнению, расшифрованной для нас в ее важнейших характерных чертах; из психических процессов при остроумии мы расшифровали ту именно часть, которую можем сравнить с работой сна — процесс образования остроты у первого лица. Не должны ли мы поддаться искушению конструировать этот процесс по аналогии с образованием сновидения? Некоторые из
160
3. Фрейд
особенностей сновидения настолько чужды остроте, что мы не можем перенести на образование остроты даже соответствующую им часть работы сна. Регрессия хода мыслей вплоть до восприятия отпадает, конечно, для остроты. Зато две другие стадии образования сновидения — погружение предсознательной мысли в бессознательную сферу и бессознательная обработка ее,— если мы допустим их существование при образовании остроты, дадут нам тот именно результат, который мы можем наблюдать при анализе остроты. Итак, мы решаемся сделать предположение, что это является процессом образования остроты. Предсознательная мысль на момент подвергается бессознательной обработке, и результат этой обработки вскоре постигается сознательным восприятием.
Но прежде чем мы проверим это положение в деталях, мы хотим подумать об одном возражении, которое может угрожать нашему предположению. Мы исходим из того факта, что технические приемы остроумия указывают на те же самые процессы, которые известны нам как особенности работы сна. Нам могут легко возразить, что мы не могли бы описать технические приемы остроумия как сгущение, передвигание и т. д. и не пришли бы к столь далеко идущим аналогиям в приемах изображения, которыми пользуются острота и сновидение, если бы предшествующее знание работы сна не подкупило нас в нашей трактовке техники остроумия. В сущности при анализе остроты мы нашли только подтверждение тем ожиданиям, с которыми перешли от сновидения к остроте. Такой генезис аналогии не дал бы никаких прочных гарантий ее постоянства, кроме разве нашей предубежденности. Механизмы сгущения, передвигания и непрямого изображения не были также фактически выделены ни одним Другим автором в качестве форм выражения остроты. Это возражение было бы возможно, но из этого еще отнюдь не следует, что оно было бы справедливо. Точно так же возможно, что категоричность нашей трактовки благодаря знанию работы сна была необходима для того, чтобы распознать действительную аналогию. Однако окончательное решение будет зависеть только от того, сможет ли испытующая критика доказать на единичных примерах, что такая трактовка техники остроумия является навязанной и что ради нее были отброшены другие трактовки, которые ближе к истине и глубже проникают в нее. Или критика должна будет согласиться с тем, что
Остроумие и его отношение к бессознательному
161
ожидания, с которыми мы подошли от сновидения к остроте, действительно подтвердились. Я держусь того мнения, что нам нечего бояться такой критики и что наш прием редукции показал нам точно, в каких формах выражения следовало искать технические приемы остроумия. Тот факт, что мы дали этим техническим приемам те же наименования, которые заранее предрешают уже результат аналогии между техникой остроумия и работой сна, был нашим законным правом, собственно говоря, ничем иным, как легко оправдываемым упрощением.
Другое возражение не так существенно для нас, но зато и не нуждается в столь основательном опровержении. Можно было бы думать, что согласующиеся так хорошо с нашими целями технические приемы остроумия хотя и заслуживают признания, но не исчерпывают собой всех возможных или употребляемых на практике технических приемов остроумия. Под влиянием прототипа, каким для нас явилась работа рна, мы отыскали якобы соответствующие только ей технические приемы остроумия, в то время как другие приемы, которые мы проглядели, показали бы, что такая аналогия не существует как нечто постоянное. Я действительно не решаюсь утверждать, что мне удалось выяснить технику всех находящихся в обращении острот. Ввиду этого оставляю открытым вопрос о том, что мое перечисление технических приемов остроумия страдает некоторой неполнотой. Но я не исключил преднамеренно из обсуждения ни одного вида техники, который мог быть мною расшифрован. Я утверждаю, что от моего внимания не ускользнули самые частые, самые важные, в большинстве случаев, характерные технические приемы остроумия.
Остроумие обладает еще одной характерной чертой, которая вполне согласуется с нашей, вытекающей из сновидения трактовкой работы остроумия. Хотя и говорят, что остроту «создают», но чувствуется, что этот процесс отличается от того процесса, который совершает человек, высказывающий мнение или делающий возражение. Острота имеет чрезвычайно резко выраженный характер «внезапно пришедшей в голову мысли». Еще за один момент до этого человек не знает, что он создаст остроту, которую потом останется лишь облечь в словесную форму. Человек испытывает, напротив того, нечто не поддающееся определению. Это я мог бы сравнить с внезапным разрядом интеллектуального на
162
3. Фрейд
пряжения, после которого сразу рождается острота, в большинстве случаев одновременно со своей оболочкой. Некоторые из приемов остроумия находят себе применение в выражении мыслей и вне остроумия; например, сравнение и намек. При этом сначала у меня в уме может мелькнуть прямое выражение этой мысли (внутреннее слышание), могут появиться задержки в высказывании этой мысли по мотивам, диктуемым данной ситуацией. Затем я пытаюсь заменить прямое выражение формой косвенного выражения и делаю намек. Но намек, возникший таким образом, созданный под моим непрерывным контролем, никогда не остроумен, как бы удачен он ни был. Остроумный намек возникает, наоборот, без того, чтобы я мог проследить эти подготовительные стадии в моем мышлении. Я не хочу придавать слишком большое значение этому соотношению. Оно едва ли решает вопрос. Но оно все же хорошо согласуется с нашим предположением, что при создании остроты ход мыслей погружается на момент в бессознательную сферу и затем внезапно выплывает из бессознательного б виде остроты.
Остроты занимают особое положение и в ассоциативном мышлении. Наша память часто не располагает ими тогда, когда мы хотим их вызвать. Но иной раз они возникают невольно и в таких местах хода наших мыслей, что мы не понимаем, как они вплетаются. Это опять-таки мелкие черты, но они все же указывают на происхождение острот из бессознательного.
Соберем теперь все характерные черты остроумия, которые могут указать на то, что оно образуется в бессознательном спектре. Прежде всего следует отметить своеобразную лаконичность остроты — качество, которое хотя и не считается необходимым, но обладает чрезвычайно характерным признаком. Когда мы впервые столкнулись с ним, то были склонны видеть в лаконичности выражение экономящей тенденции. Но мы сами же и обесценили это понимание теми возражениями, которые оно вызвало у нас самих. Лаконичность остроумия кажется нам теперь скорее признаком бессознательной обработки мыслей при создании остроты. Соответствующее’ей в сновидении сгущение мы не можем поставить в связь ни с каким другим моментом, кроме локализации в бессознательном. И мы должны предположить, что в бессознательном ходе мыслей даны условия для таких сгущений, отсутствующие в
Остроумие и его отношение к бессознательному 163
предсознательном1. Следует ожидать, что при процессе сгущения теряются некоторые из подвергающихся ему элементов, в то время как другие, получающие от них энергию активности (Besetzungsenergie), приобретают усиленную или чрезмерно усиленную конструкцию. Лаконичность остроумия, как и лаконичность сновидения, является, таким образом, необходимым побочным явлением происходящих в обоих случаях сгущений; становится результатом процесса сгущения. Этому происхождению лаконичность остроумия обязана и своим особым, поразительным для восприятия характером, не поддающимся дальнейшему объяснению.
Мы уже раньше истолковали одан из результатов сгущения, Многократное употребление одного и того же материала, игру слов, созвучность как локализованную экономию, и считали удовольствие, доставляемое безобидной остротой, производной этой экономии. Впоследствии мы усмотрели первоначальную цель остроты в том, чтобы извлечь удовольствие такого же рода из слов. Это было ей разрешено на ступени игры, но запрещено рассудительной критикой в постепенном ходе интеллектуального развития. Теперь мы предположим, что такого рода сгущения в том виде, в каком они служат технике остроумия, возникают автоматически, без особой преднамеренности, во время мыслительного процесса в бессознательном. Не имеем ли мы здесь перед собой двух различных объяснений одного и того же факта, которые только кажутся несовместимыми друг с другом? Я не думаю. Это, конечно, два различных объяснения, и они должны быть согласованы друг с другом, они не противоречат одно другому. Одно из них просто чуждо другому, и если мы установим между ними ка-кую-нибудц связь, то, вероятно, сделаем шаг вперед в нашем познании. Что такие сгущения являются источником удовольствия, это вполне согласуется с предположением, что они легко находят в бес
1 Сгущение, как закономерный и исполненный значения процесс, я доказал, помимо работы сна и техники остроумия, еще в одной области душевной деятельности — в механизме нормального нетенденциозного забывания. Забыть отдельное впечатление трудно. Те впечатления, между которыми существует какая-нибудь аналогия, забываются, подвергаясь сгущению, которое имеет в своей основе общие точки соприкосновения. Смешивание аналогичных впечатлений является одной из предварительных ступеней забывания.
164
3. Фрейд
сознательном условия для своего возникновения. Даже больше того. Мы усматриваем мотивировку для погружения в бессознательное в том обстоятельстве, что там легко производится сгущение, которое доставляет удовольствие и которое нужно остроте. И два других момента, которые на первый взгляд кажутся совершенно чуждыми друг другу и как бы совпадающими с помощью нежелательной случайности, также при более глубоком исследовании оказываются тесно связанными и даже, по существу, тождественными. Я имею в виду оба положения, согласно которым остроумие может, с одной стороны, производить такие доставляющие удовольствие сгущения во время своего развития на ступени игры, следовательно в детстве разума, а с другой стороны, оно совершает тот же самый процесс на высшей ступени, погружая мысль в бессознательное. Инфантильное является источником бессознательного, бессознательными же процессами мышления являются те и только те, которые происходили в раннем детстве. Мысль, которая погружается в бессознательное, чтобы создать остроту, отыскивает там только старый уголок бывшей некогда игры словами. Мышление на одан момент снова становится на детскую ступень, чтобы таким образом вновь завладеть детским источником удовольствия. Если этого еще не знают из исследования психологии неврозов, то при остроумии следует понять, что странная бессознательная обработка является ничем иным, как инфантильным типом мыслительной работы. Дело только в том, что у ребенка не очень легко уловить это инфантильное мышление с его особенностями, сохранившимися в бессознательной сфере взрослого, так как оно в большинстве случаев коррегируется, так сказать, in statu nascendi (в момент образования — лат.). Но все же в целом ряде случаев это удается сделать, и тогда мы всякий раз смеемся над «детской глупостью». Каждое открытие такого бессознательного вообще действует на нас как «комическое»1.
1 Многие из моих пациентов-невротиков, пользующихся психоаналитическим лечением, имеют обыкновение всякий раз свидетельствовать смехом о том, что удалось верно указать их сознательному восприятию на нечто скрытое, бессознательное. Они смеются даже тогда, когда содержание расшифрованного отнюдь не смешно. Разумеется, условием для этого является достаточно близкий подход невротиков к этому бессознательному, чтобы они поняли, когда врач расшифрует и преподнесет им его.
Остроумие и его отношение к бессознательному 165
Легче понять характерные черты этих бессознательных мыслительных процессов в проявлениях больных при некоторых психических расстройствах. Весьма вероятно, что, согласно предположению старика Гризингера, мы могли бы понимать делирии душевно больных и оценивать их как связные сообщения, если бы не предъявляли к ним требований, какие предъявляем к сознательному мышлению, а толковали бы их примерно так, как толкуем сновидения1. Мы в свое время оценили и для сновидения «возврат душевной жизни к эмбриональной точке зрения»2.
Мы так подробно обсудили на процессах сгущения значение аналогии между остротой и сновидением, что в последующем сможем излагать свои мысли короче. Мы знаем, что передаигание при работе сна указывает на воздействие цензуры сознательного мышления, и соответственно этому, встретив среди технических приемов остроумия передвигание, мы будем склонны предположить, что и при образовании остроты играет роль задерживающая сила. Мы знаем также, что это общий случай. Стремление получить в остроте прежнее удовольствие от бессмыслицы или от игры словами встречает в нормальном состоянии задержку в виде протеста критического разума, причем задержку эту необходимо преодолевать в каждом отдельном случае. Но в том способе, каким работа остроумия разрешает эту задачу, проявляется резкая разница между остротой и сновидением. В работе сна разрешение этой задачи происходит регулярно путем передвиганий, путем выбора представлений, в достаточной мере удаленных от тех представлений, которым цензура оказывает препятствие. Делается это с той целью, чтобы найти проход через цензуру. И все же заместителями этих последних представлений являются те, которые взяли на себя всю энергию активности (Besetzung). Поэтому пере-дригания не отсутствуют ни в одном сновидении и являются весьма многообъемлющими. Не только уклонение от хода мыслей, но и все виды непрямого изображения следует отнести к передвиганиям, в особенности: замену важного или предосудительного элемен
1 Мы не должны при этом забывать, что нужно учитывать искажение, происходящее от цензуры, которая оказывает еще свое действие и в психозе.
2 «Толкование сновидений».
166
3. Фрейд
та индифферентным или кажущимся цензуре безобидным, ставшим как бы отдаленным намеком на первый элемент; замену символикой, сравнением, деталью.
Нельзя отрицать, что частицы этого непрямого изображения осуществляются уже в предсознательных мыслях сновидения. Таковы, например, изображения, осуществляемые путем символики и сравнения, ибо в противном случае мысль вообще не проходила бы через стадию подсознательного выражения. Непрямые изображения такого рода и намеки, отношение которых к тому, на что они намекают, легко может быть открыто, являются ведь позволительными и широко употребляемыми приемами выражения и в нашем сознательном мышлении. Но работа сна преувеличивает до бесконечности применение этих приемов непрямого изображения. Под давлением цензуры всякая связь оказывается достаточной для замены намеком, передвигание допускается с одного элемента на любой другой. Особенно поразительна и характерна для работы сна замена внутренних ассоциаций (сходство, причинная связь и т. д.) так называемыми внешними (одновременность, смежность в пространстве, созвучность).
Все эти приемы передвигания являются вместе с тем и техническими приемами остроумия, но при этом они в большинстве случаев соблюдают границы, отведенные их применению в сознательном мышлении. Передвигание может вообще отсутствовать, хотя бы остроте и предстояло выполнение необходимой задачи преодоления задержки. Это второстепенное значение передвигания при работе остроумия понятно, если вспомнить, что в распоряжении остроумия обычно имеется другой технический прием, с помощью которого оно отделывается от задержки. К тому же мы не нашли ничего, что было бы для него более характерно, чем этот технический прием. Острота не создает компромиссов, как это делает сновидение, она не избегает задержки. Но она заключается в том, что сохраняет в неизмененном виде игру словами или бессмыслицей. Однако острота ограничивается выбором таких случаев, в которых эта игра или бессмыслица может все-таки в то же время оказаться позволительной (шутка) или глубокомысленной (острота) из-за множественности толкования слов и разнообразия мыслительных соотношений. Острота отличается больше всего от всех других психических образований этой своей двойственностью и
Остроумие и его отношение к бессознательному 167 лицемерием, и, по крайней мере с этой стороны, авторы ближе всего подошли к познанию остроумия, подчеркнув «смысл в бессмыслице».
При полном преобладании этого отличающего остроту технического приема, направленного на преодоление задержки, могло бы показаться излишним то, что она вообще еще пользуется в отдельных случаях техникой передаигания. Однако, с одной стороны, некоторые виды этой техники остаются ценными для остроты как цели и источники удовольствия; например, собственно передвигание (отклонение мыслей), которое разделяет, конечно, природу бессмыслицы. С другой стороны, не следует забывать, что высшая ступень остроумия, тенденциозная острота, часто должна преодолевать двоякого рода задержки, противодействующие ей самой и ее тенденции, и что намеки и передаигания могут сделать для нее возможным разрешение этой задачи.
Частое и неограниченное применение непрямого изображения, передвигания и в особенности намеков в работе сна имеет одно следствие, которое я упоминаю не в силу его значения, но потому что оно было для меня субъективным поводом заняться проблемой остроумия. Когда несведущему или непривычному человеку дают толкование сновидения, в котором проложены странные, недопустимые для бодрствующего мышления пути намеков и передвиганий, использованных в работе сна, то у читателя создается неприятное впечатление. Он считает эти толкования «остроумными», но усматривает в них остроты явно неудачные, натянутые, прегрешившие чем-то против правил остроумия. Это впечатление легко объяснить. Оно вытекает из того, что работа сна прибегает к тем же приемам, что и остроумие, но в применении их она переходит те границы, которые соблюдает острота. Мы вскоре услышим также, что острота в роли третьего лица связана определенным условием, которое не нужно соблюдать сновидению.
Среда технических приемов, общих и для остроумия, и для сновидения, определенного интереса заслуживают изображение при помощи противоположности и употребление бессмыслицы. Первое относится к сильно действующим приемам остроумия, как мы могли видеть на примерах «острот, появившихся путем преувеличения». Изображение при помощи противоположности не может, впрочем, ускользнуть от сознательного внимания подобно больший-
168
3. Фрейд
ству других технических приемов остроумия. Кто попытается привести у себя самого в действие механизм работы остроумия по возможности преднамеренно, как это делает привычный остряк, тот вскоре найдет, что остротой чаще всего возражают на какое-нибудь утверждение. Причем возражают тогда, когда поддерживают противоположную точку зрения. Этим внезапно пришедшей в голову мысли дается возможность путем превратного толкования устранить возражение, направленное против этой точки зрения. Быть может, изображение при помощи противоположности обязано таким преимуществом именно тому обстоятельству, что оно образует ядро другого доставляющего удовольствие способа выражения мысли, для понимания которого нам не нужно беспокоить бессознательное. Я имею в виду иронию, которая очень близко подходит к остроте и относится к подвидам комического. Ее сущность состоит в том, что человек высказывает положение, противоположное тому, что он имеет в виду сообщить другому. Но он устраняет возникающее при этом противоречие тем, что дает понять тоном, сопровождающими жестами, мелкими стилистическими черточками — если речь идет о письменном изложении,— что он имеет в виду, собственно, противоположное высказанному. Ирония применима только там, где человек готовится услышать противоположное, так что она обязательно возбуждает в нем желание противоречить. В силу этого условия ирония особенно легко подвержена опасности быть не понятой. Для лица, использующего иронию, она представляет ту выгоду, что дает ему возможность легко обходить трудности прямых выражений, например ругательств. У слушателя она вызывает комическое удовольствие, так как побуждает его, вероятно, к затрате психической энергии на разрешение скрытого противоречия. Причем, вскоре оказывается, что затрата эта была излишней. Такое сравнение остроты с приближающимся к ней видом комизма должно укрепить нас в предположении, что отношение к бессознательному является особым признаком остроты, отличающим ее, быть может, и от комизма1.
1 На отличии высказываемого от сопровождающих жестов (в широком смысле) основана и характерная черта комизма, которая описывается как его «бесстрастность» («Trockenheit»). •
Остроумие и его отношение к бессознательному 169
В работе сна изображению при помощи противоположного отводится еще гораздо большая роль, чем при остроумии. Сновидение не только любит изображать две противоположности с помощью одного и того же смешанного образа. Оно так часто превращает один предмет из мыслей сновидения в его противоположность, что из этого вырастают большие трудности при толковании. «Ни один элемент, способный найти себе прямую противоположность, не показывает сразу, имеет ли он в мыслях сновидения положительный или отрицательный характер»1.
Я должен подчеркнуть, что факт этот отнюдь еще не нашел понимания. Но он указывает на очень важную характерную черту бессознательного мышления, лишенного, по всей вероятности, того процесса, который можно было бы сравнить с «суждением». Взамен суждения, которого бессознательное не признает, в нем находят «вытеснение». Вытеснение можно правильно описать как промежуточную ступень между защитным рефлексом и осуждением2.
Бессмыслица, абсурдность, которые так часто имеют место в сновидении и навлекают на него столько незаслуженного презрения, все же никогда не возникают случайно, путем беспорядочного нагромождения элементов представлений. В каждом отдельном случае можно доказать, что они умышленно созданы работой сна для изображения ожесточенной критики и презрительного противоречия в мыслях сновидения. Абсурдность содержания сновидения заменяет, следовательно, в его мыслях следующее суждение: «Это бессмыслица». Я в своем «Толковании сновидений» придал большое значение этому указанию, так как думал таким путем убедительнее всего рассеять заблуждение, будто сновидение вооб
1 «Толкование сновидений». С. 263(3-е изд.). «Современные проблемы». Москва, 1913.
2 В высшей степени замечательное и до сих пор еще недостаточно известное соотношение противоположных связей в бессознательном имеет, конечно, значение для понимания «негативизма» у невротиков и душевнобольных. (Ср. две последние работы об этом: Bleuler. «Uber die negative Suggestibility», Psych.-neurol. Wochenschrift, 1904; Otto Cross «Zur wifferentialdjagnostik negativistischer Phanomene», там же, далее мой реферат под заглавием «Gegensinn der Urworte», Jahrb. f. psychoanalyse II, 1910.)
170
3. Фрейд
ще не является психическим феноменом, преграждающим путь к познанию бессознательного. Мы узнали теперь (при разгадке некоторых приведенных ранее тенденциозных острот), что бессмыслица в остроте должна служить тем же целям изображения. Мы знаем также, что бессмысленный фасад остроты особенно подходит для повышения психической затраты у слушателя и увеличивает, таким образом, то количество энергии, которое освобождается во время смеха и предназначено к отреагированию. Но, кроме того, мы не забываем, что бессмыслица в остроте является самоцелью, так как стремление сызнова извлекать прежнее удовольствие от бессмыслицы относится к мотивам работы остроумия. Существуют другие пути, для того чтобы вновь создать бессмыслицу и извлечь из нее удовольствие. Карикатура, преувеличение, пародия и шарж пользуются ею и создают, таким образом, «комическую бессмыслицу». Если мы подаергнем все эти формы выражения такому же анализу, какой проделали над остротой, то найдем, что все они не дают никакого повода привлечь для их объяснения бессознательные процессы в нашем значении. Мы теперь понимаем также, почему характерная черта «остроумного» может входить как составная часть в карикатуру, преувеличение, пародию: это возможно из-за отличия одной «психической арены» от другой1.
Я полагаю, что перемещение остроты в систему бессознательного стало для нас гораздо более ценным, когда оно открыло нам понимание того факта, что технические приемы, с одной стороны, присущие остроумию, с другой — не являются его исключительным достоянием. Некоторые сомнения, разрешение которых мы во время нашего начального исследования этих технических приемов должны были отложить на некоторое время, именно теперь удобнее всего рассеять. Тем большего внимания с нашей стороны заслуживает суждение, которое подтвердило бы нам, что неоспоримо существующее отношение остроты к бессознательному правильно только для некоторых категорий тенденциозного остроумия, в то время как мы готовы распространить это отношение на все виды и ступени развития остроумия. Мы не можем уклониться от проверки этого положения.
1 Выражение Г.Т. Фехнера, которое стало весьма важным для моей трактовки.
Остроумие и его отношение к бессознательному
171
Можно с уверенностью предположить, что образование остроты происходит в бессознательном в том случае, если речь идет об остротах, обслуживающих бессознательные или усиленные бессознательной сферой тенденции; следовательно, о большинстве «циничных» острот. Тогда именно бессознательная тенденция притягивает предсознательную мысль к себе в область бессознательного, чтобы преобразовать ее там. Это процесс, многочисленные аналогии с которым известны из учения о психологии неврозов. При тенденциозных остротах другого рода, при безобидной остроте и шутке эта, влекущая в область бессознательного сила отпадает. Следовательно, вопрос об отношении остроты к бессознательному остается открытым.
Но рассмотрим теперь случай остроумного выражения мысли, которая сама по себе не лишена ценности и всплывает в связи с мыслительными процессами. Для превращения этой мысли в остроту, очевидно, нужно, чтобы произошел выбор между всеми возможными формами выражения, с тем чтобы была найдена именно та, которая доставляет выигрыш удовольствия от слов. Мы знаем из нашего самонаблюдения, что несознательное внимание само производит этот выбор. Но для такого выбора будет только полезно, если активность (Besetzung) предсознательной мысли будет низведена до степени бессознательной мысли, так как в бессознательном связующие пути, исходящие от слова, трактуются одинаково с вещественными связями, как мы узнали из анализа работы сна. Бессознательная активность представляет гораздо более благоприятные условия для выбора такого выражения. Мы можем, впрочем, предположить без дальнейших рассуждений, что эта возможность найти выражение, которое заключало бы в себе выигрыш удовольствия от слов, влечет колеблющуюся еще решимость предсознательной мысли в область бессознательного точно таким же образом, как и бессознательная тенденция в первом случае. В более простом случае шутки мы должны себе представить, что находящееся всегда на страже стремление добиться выигрыша удовольствия от слов овладевает поводом, который дан именно в предсознательной, вовлечь опять-таки по известной схеме процесс активности (Besetzungsvorgang) в область бессознательного.
Я очень хочу, чтобы мне удалось по возможности яснее изложить этот решительный пункт в моем понимании остроумия и под
172
3. Фрейд
крепить его вескими аргументами. Но на самом деле речь идет здесь не о двоякой, а об одной и той же неудаче. Я не могу дать более ясного изложения, так как не имею дальнейших доказательств моего понимания остроумия. Это понимание родилось у меня из изучения техники и из сравнения с работой сна, и только именно с этой одной стороны. Я могу найти, что оно в целом отлично согласуется со всеми особенностями остроумия. Это понимание явилось результатом умозаключения. Если такое заключение приводит нас не к известной, а, напротив, к чуждой, новой доя мышления области, то такой вывод называют «гипотезой». Отношение гипотезы к материалу, из которого она выведена, справедливо не считают доказательством. Доказанной ее считают только тогда, когда к ней приходят другим путем, когда ее можно доказать как узловой пункт и для других связей. А такое доказательство нельзя получить при нашем едва только начинающемся познании бессознательных процессов. Признавая, что мы вообще пока стоим на нетронутой почве, мы довольствуемся, таким образом, тем, что, с точки зрения нашего наблюдения, перебрасываем один-единственный узкий и шаткий мостик к непостижимому.
Но не будем делать широких выводов. Если мы приведем в связь различные ступени остроумия с благоприятными для них душевными установками, то сможем сказать приблизительно следующее. Шутка вытекает из веселого настроения, которому свойственна склонность к понижению психических инстанций (Besetzungen). Она пользуется уже всеми характерными техническими приемами остроумия и выполняет основное условие остроумия, совершая выбор такого словесного материала или такой мыслительной связи, которая может удовлетворить требованиям, необходимым для получения удовольствия, равно как и требованиям рассудительной критики. Мы сделаем вывод, что понижение мыслительной инстанции вплоть до бессознательной ступени облегчается благодаря веселому настроению и происходит уже при шутке. Для безобидной, но связанной с выражением ценной мысли остроты отпадает это содействие, оказываемое настроением. Мы должны предположить здесь особое личное качество, получающее выражение в той легкости, с какой покидается предсознательная инстанция и на какой-то момент заменяется бессознательной. Находящаяся всегда на страже тенденция к возобновлению первоначального выиг
Остроумие и его отношение к бессознательному
173
рыша удовольствия от остроты влечет в область бессознательного еще колеблющееся предсознательное выражение мысли. В веселом настроении большинство людей способны создавать шутки. Умение острить независимо от настроения свойственно лишь немногим лицам. Наконец, сильнейшим стимулом к работе остроумия служит наличие сильных тенденций, простирающихся вплоть до области бессознательного, проявляющих особую склонность к остроумному творчеству и указывающих нам на то, что субъективные условия остроумия бывают выполнены очень часто у невротиков. Под влиянием сильных тенденций может стать остроумным и такой человек, которому раньше это было несвойственно.
Этим последним вкладом, хотя еще и оставшимся гипотетическим, объяснение работы остроумия у первого лица исчерпывает, строго говоря, наш интерес к остроте. Нам остается еще провести краткое сравнение остроты со сновидением, которое лучше изучено. Этому сравнению мы предпошлем ожидание того, что эти даа столь отличных друг от друга душевных механизма наряду с нашедшей уже свою оценку аналогией должны иметь еще и некоторые отличия. Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом. Оно не может ничего сказать другому человеку. Возникая внутри личности, как компромисс борющихся в ней душевных сил, оно остается непонятным даже для самой этой личности, и потому совершенно неинтересно для другого человека. Дело не только в том, что оно не придает никакой цены своей удобопонятности. Оно должно даже опасаться того, чтобы быть понятым, так как в противном случае было бы разрушено. Оно может существовать только в замаскированном виде. Поэтому сновидение должно беспрепятственно пользоваться механизмом, управляющим бессознательными душевными процессами вплоть до искажения, которое больше не может быть восстановлено. Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия. Она нуждается часто в трех лицах и требует для своего выражения участия другого человека в стимулируемом ею душевном процессе. Она должна быть связана, следовательно, условием удобопонима-емости. Должна претендовать на возможное в бессознательной сфере искажение путем сгущения и передвигания только в таких
174
3. Фрейд
размерах, в каких это искажение может быть восстановлено пониманием третьего лица. В остальном и острота, и сновидение выросли совершенно в различных областях душевной жизни, и их следует отнести к отдаленным друг от друга пунктам психологической системы. Сновидение все еще является желанием, хотя это желание и стало неузнаваемым. Острота является высшей стадией игры. Сновидение, несмотря на свое практическое ничтожество, имеет отношение к крупным жизненным интересам. Оно стремится удовлетворить потребности человека регрессивным окольным путем галлюцинации, и оно обязано своим существованием единственно живой, во время ночного состояния, потребности спать. Острота, наоборот, старается извлечь удовольствие из одной только деятельности нашего душевного аппарата, свободной от потребностей. Впоследствии она старается получить такое удовольствие, как побочный результат, сопровождающий деятельность этого аппарата. И, таким образом, она вторично приходит к функциям, не лишенным важности и обращенным к внешнему миру. Сновидение служит преимущественно стремлению избежать неудовольствия, острота — получению удовольствия. Но в обеих этих целях совпадают все виды нашей душевной деятельности. 1
VI. Остроумие и все виды комического
Мы очень близко подошли к проблемам комического. Нам показалось, что остроумие, которое рассматривалось как подвид комизма, имело довольно много особенностей, для того чтобы непосредственно с него начать исследование. И, таким образом, мы избегали его отношения к более объемлющей категории комического до тех пор, пока это было возможно; но не без того, чтобы попутно не делать важных для комизма указаний. Мы без труда установили, что комическое занимает в социальном отношении несколько иное положение, чем острота. Оно может удовлетвориться только двумя лицами: одним, которое находит комическое, и вторым, в котором находят комическое. Третье лицо, которому сообщают комическое, усиливает комический процесс, но не прибавляет к нему ничего нового. При остроумии третье лицо необходимо для того, чтобы совершился доставляющий удовольствие
Остроумие и его отношение к бессознательному / 75 процесс. Напротив того, второе лицо может отсутствовать там, где речь не идет о тенденциозной, агрессивной остроте. Остроту создают, а комическое находят. И прежде всего его находят в людях и лишь в дальнейшем его переносят на объекты, ситуации и т. п. Об остроте мы знаем, что не посторонние лица, а собственные мыслительные процессы, способствующие созданию остроты, скрывают в себе источники удовольствия. Мы слышали далее, что острота может иногда вновь открывать ставшие недоступными источники комизма; что комическое служит часто остроте фасадом и заменяет ей предварительное удовольствие, создающееся в ином случае с помощью известных технических приемов. Все это указывает на не совсем простые отношения между остроумием и комизмом. С другой стороны, проблемы комического оказались столь сложными, а все попытки философов разрешить эти проблемы оказались столь безуспешными, что мы не могли ожидать разрешения их как бы по мановению руки, если подойдем к ним со стороны остроумия. Для исследования остроумия мы привнесли орудие, которое не служило еще другим исследователям, а именно — знание работы сна. При исследовании комического в нашем распоряжении нет такого преимущества. Поэтому мы должны ожидать, что не узнаем о сущности комизма ничего иного кроме того, что уже знаем об остроте, поскольку острота относится к разряду комического и несет в своей собственной сущности неизменными или модифицированными определенные черты комизма.
Наивное является тем видом комического, которое ближе всего стоит к остроте. В общем, наивное так же, как и комическое, находят, а не создают, как остроту. Наивное вообще не может быть создано, в то время как при рассмотрении чисто комического учитывается и создание комического,’ и искусственное вызывание комизма. Наивное должно вытекать без нашего доказательства из речей и поступков других лиц, которые стоят на месте второго лица в комизме или остроумии. Наивное возникает тогда, когда кто-нибудь совершенно пренебрегает задержкой, потому что она у него не существует, и когда он, следовательно, преодолевает ее без труда. Условием действия наивного является знание нами того, что у человека нет этой задержки. В противном случае мы называем его не наивным, а дерзким, и не смеемся, а возмущаемся им. Действие наивного неотразимо и простое для понимания. Психи-
176
3. Фрейд
ческая затрата, производимая обычно нами для сохранения задержки, внезапно становится ненужной при выслушивании наивной речи, и это отреагируется в схеме. Отвлечение внимания является при этом ненужным, вероятно, потому, что упразднение задержки происходит непосредственно, а не путем вынужденной операции. Мы ведем себя при этом аналогично третьему лицу в остроте, которое без всяких усилий со своей стороны получает как бы подарок в виде экономии психической энергии, затрачивающейся на сохранение задержки.
Поняв генезис задержек, прослеженный нами при развитии игры в остроту, мы не будем удивлены тем обстоятельством, что наивное находят чаще всего у ребенка; затем у необразованного взрослого человека, которого мы считаем ребенком по его интеллектуальному развитию. Для сравнения с остротой более пригодны, разумеется, наивные речи, чем наивные поступки, так как обычными формами выражения остроумия тоже являются не поступки, а речи. Характерно, что наивные реии детей можно без натяжки назвать «наивными остротами». Аналогия между остротой и наивностью, а также выяснение разницы между ними будет очевиднее для нас на нескольких примерах.
«Девочка трех с половиной лет предостерегает своего брата: «Не ешь столько, а то заболеешь и должен будешь принять Bubizin». «Bubizin? — спрашивает мать.— А что это такое?» «Когда я была больна,— оправдывается ребенок,— я ведь должна была принимать Madizin»1. Ребенок полагает, что прописанное ей врачом лекарство называется Madizin, потому что оно предназначено для девочки (Madi). И делает вывод, что оно будет называться Bubizin, если его должен будет принимать мальчик (Bubi). Это сконструировано, как словесная острота, работающая с помощью техники созвучия. Ее можно бы считать и настоящей остротой. В таком случае мы полунеохотно одарили бы ее улыбкой. Как пример наивности она кажется нам отличной и заставляет нас громко смеяться.
Но что отличает в этом случае остроту от наивного суждения? Очевидно, не текст и не техника, которые одинаковы и для той, и для другого, а какой-то момент, лежащий, на первый взгляд, довольно далеко от обоих возможностей. Речь идет только о том,
1 Madi — девочка, Bubi — мальчик.
Остроумие и его отношение к бессознательному 177 предполагаем ли мы, что говорящее лицо имело в виду остроту или что оно (в данном случае — ребенок) искренне хотело сделать серьезный вывод, основываясь На своем некоррегированном неведении. Только последний случай является наивностью. Мы здесь впервые обращаем внимание на такую идентификацию другого человека путем прочувствования психического процесса у человека, создающего остроту или наивное суждение. Исследование второго примера подтвердит это понимание.
«Брат и сестра, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, разыгрывают ими самими сочиненную пьеску перед аудиторией, состоящей из их дядюшек и тетушек. Сцена изображает хижину на морском берегу. В первом акте оба поэта-артиста, бедный рыбак и его бойкая жена, жалуются на тяжелое время и плохие барыши. Муж решает уехать на своей лодке в далекое море, чтобы поискать богатства в другом месте. После нежного прощанья супругов занавес падает. Второй акт изображает действие несколько лет спустя. Рыбак, став богатым человеком, вернулся с большой мошной и рассказывает жене, которую он застает ожидающей его перед хижиной, о том, как повезло ему на чужбине. Жена гордо перебивает его: «А я в это время тоже не ленилась», и открывает его глазам хижину, в которой видны лежащие на полу даенадцать больших кукол, изображающие детей...» В этом месте пьесы бурный смех зрителей прервал артистов, которые не могли объяснить себе этого смеха. Они смущенно уставились на своих любимых родственников, которые до сих пор вели себя хорошо и слушали внимательно. Этот смех объясняется предположением зрителей, что юные писатели ничего еще не знают об условиях происхождения детей и поэтому могут думать, что женщина должна гордиться потомством, рожденным ею во время продолжительного отсутствия мужа, и муж может радоваться этому потомству. Но то, что создано писателями на основании такого неведения, может быть названо бессмыслицей, абсурдностью.
Третий пример покажет нам, что еще один технический прием, изученный нами при остроумии, обслуживает наивное.
«К маленькой девочке в качестве гувернантки принята француженка, которая девочке не понравилась. Едва только вновь приглашенная француженка удалилась из комнаты, девочка начала вслух критиковать ее: «Тоже, француженка! Быть может, она на-
178
3. Фрейд
зывается так потому, что она когда-нибудь лежала возле француза!» Это могло бы быть сносной остротой —двусмысленностью с двояким толкованием или двояко толкуемым намеком,— если бы ребенок мог иметь представление о двусмысленности. В действительности, она перенесла только часто слышанное ею определение подделок на несимпатичную ей иностранку. («Разве это настоящее золото? Быть может, это когда-нибудь лежало возле золота!») В силу этого неведения ребенка, которое так резко изменяет психический процесс у слушателей, его речь становится наивной. Но в силу этого условия существует и ложно наивное. У ребенка можно предполагать неведение, которого больше не существует. Дети часто имеют обыкновение притворяться наивными, чтобы воспользоваться свободой, которая в противном случае не была бы им позволена.
На этих примерах можно выяснять, что наивное занимает среднее место между остроумием и комическим. Наивное аналогично остроте по тексту и содержанию. Оно злоупотребляет словами, создает бессмыслицу или сальность. Но психический процесс у первого создающего лица, который представил при остроумии столько интересного и загадочного, отпадает здесь целиком. Наивный человек думает, что он нормально и просто пользуется своими средствами выражения и мыслительными путями. Он ничего не знает о побочной цели. Он также не извлекает никакого удовольствия из творчества наивного. Все характерные черты наивного существуют только в понимании слушателя, который соответствует третьему лицу в остроте. Далее, творящее лицо создает наивное без труда. Сложная техника, свойственная остроте, для того чтобы парализовать задержку разумной критикой, отпадает при наивном, так как у наивного человека нет еще этой задержки, и он может, следовательно, непосредственно и без компромисса преподнести бессмыслицу и сальность. В этом отношении наивное в остроте является пограничным случаем, который достигается, если в формуле образования остроты снизить размер цензуры до нуля.
Если для действия остроты необходимым условием являлось наличие у обоих лиц одинаковых приблизительно задержек или внутренних сопротивлений, то условием для наивного можно, следовательно, считать наличие у одного лица таких задержек, которых нет у другого. Лицо, имеющее задержку, слушает и понимает наивное.
Остроумие и его отношение к бессознательному
179
Исключительно оно получает удовольствие, доставляемое наивным, и мы легко догадываемся, что это удовольствие возникает из-за упразднения задержек. Так как удовольствие от остроты имеет то же самое происхождение — ядро удовольствия от слов и бессмыслицы и оболочку удовольствия от упразднения задержек и облегчения психической затраты,— то на этом тождественном отношении к задержке основан^ внутреннее родство наивного с остротой. В обоих случаях удовольствие возникает из-за упразднения внутренней задержки. Но психический процесс у воспринимающего лица (с которым при наивном всегда совпадает наше Я, в то время как при остроте мы можем поставить себя и на место создающего лица) в случае наивного суждения тем сложнее, чем проще в случае с остротой психический процесс у творящего лица. На воспринимающее лицо выслушанное наивное суждение действует, как острота. Об этом могут свидетельствовать наши примеры, так как для наивного суждения, как и при остроте, создана возможность упразднения цензуры благодаря одному только выслушиванию. Только одна часть удовольствия, доставляемого наивным, допускает такое объяснение. Но даже эта часть в иных случаях наивного суждения, как, например, при выслушивании наивной сальности, подвержена опасности. На наивную сальность можно было бы без всяких рассуждений реагировать таким же негодованием, которое подымается и против настоящей сальности, если бы другой момент не избавлял нас от этого негодования и не доставлял нам одновременно более значительную часть удовольствия от наивного.
Этот другой момент дан нам вышеуказанным условием, по которому нам доя распознания наивного должно быть известно, что у создающего лица отсутствует задержка. Только тогда, когда мы уверены в этом, мы смеемся, вместо того чтобы возмущаться. Мы, следовательно, принимаем во внимание психическое состояние создающего лица, мысленно переносимся в такое же состояние, стараемся понять его, сравнивая с нашим состоянием. В результате такой идентификации и сравнения получается экономия затраты, которую мы отреагируем в смехе.
Можно было бы предпочесть более простое объяснение: если человеку не нужно преодолевать никакой задержки, то наше негодование излишне, и смех, следовательно, происходит якобы за
180
3. Фрейд
счет негодования, от которого мы избавлены. Чтобы устранить это неправильное, в общем, понимание, я хочу резче отделить друг от друга два случая, которые объединил в предшествующем изложении. Наивное, выступающее перед нами, может иметь либо природу остроты, как в наших примерах, либо природу сальности или вообще непристойности, что особенно справедливо для случаев, когда наивное проявляется не в речах, а в поступках. Такие случаи, действительно, могут ввести нас в заблуждение. Для них можно было бы предположить, что удовольствие возникает из сэкономленного и испытавшего превращение негодования. Но первый случай поясняет нам, что наивная речь, например, о Bubizin’e, может сама по себе действовать как легкая острота и не давать никакого повода к негодованию. Это, конечно, более редкий, но более чистый и более поучительный случай. Когда мы думаем о том, что ребенок серьезно и без побочной цели считал слоги «Madi» в слове «Madizin» идентичными со своим собственным названием «Madi» (девочка), то наше удовольствие от слышанного увеличивается. Причем это увеличение не имеет ничего общего с удовольствием от остроты. Мы рассматриваем теперь сказанное с двух точек зрения: один раз так, как оно получилось у ребенка, а затем так, как оно получается у нас. Мы находим при этом сравнении, что ребенок нашел нечто идентичное, преодолел рамки, существующие для нас. А затем мы как будто говорим себе: если ты хочешь понять слышанное, то можешь сэкономить затрату, уходящую на удержания этих рамок. Затрата, освобожденная при таком сравнении, является источником удовольствия от наивного и отреагируется в смехе. Это, разумеется, та же самая затрата, которую мы превратили бы в негодование, если бы наше понимание создающего лица, а также и характер сказанного в данном случае не исключали такого негодования. Но если мы берем случай наивной остроты как образец для другого случая наивной непристойности, то мы видим, что и здесь экономия от задержки может непосредственно вытекать из сравнения. Поэтому у нас нет необходимости предполагать начавшееся и подавленное затем негодование, и это негодование соответствует только иному применению освобожденной затраты, против чего при остроте необходимы были сложные предохранительные приспособления.
Остроумие и его отношение к бессознательному 181
Это сравнение, эта экономия затраты при мысленном перенесении в душевный процесс, происходящий у создающего лица, могут иметь только тогда значение для наивного, если они свойственны не только ему одному. В действительности у нас возникает предположение, что этот механизм, совершенно чуждый остроте, является частью, быть может существенной частью, психического процесса при комизме. С этой стороны оно представляет собой, следовательно, вид комизма. И это, вероятно, важнейшая оценка наивного. То, что в наших примерах присоединяется от наивных речей к удовольствию от остроты, является «комическим» удовольствием. Об этом удовольствии мы были бы склонны вообще предположить, что оно возникает из сэкономленной затраты при сравнении проявлений другого человека с нашими проявлениями. Но так как мы стоим здесь перед очень широкими перспективами, то закончим сначала оценку наивного. Итак, наивное является видом комизма в том отношении, что его удовольствие вытекает из разницы в затрате, которая получается при желании понять другого человека. Оно приближается к остроте по условию, согласно которому сэкономленная при затрате энергия должна быть затратой, расходовавшейся на сохранение задержек1.
Выясним еще некоторые аналогии и некоторые отличия между теми понятиями, к которым мы, наконец, пришли, и теми, которые издавна известны в психологии комизма. Вживание в психический процесс другого человека, желание понять его являются, очевидно, ничем иным, как «заимствованием комизма», играющим со времени Жана Поля свою роль в анализе комического. Сравнение душевного процесса у другого человека со своим собственным душевным процессом может выявить «психологический контраст», для которого мы нашли, наконец, здесь место. Как подойти к нему при анализе остроты, мы не знали.
Но в объяснении комического удовольствия мы расходимся со многими авторами, по мнению которых удовольствие должно воз
1 Я везде отождествлял здесь наивное с наивно-комическим, что, конечно, не всегда допустимо. Но для наших целей достаточно изучить характерные черты наивного на «наивной остроте» и на «наивной сальности». Дальнейшее исследование имело бы целью, исходя из этого, обосновать сущность комического.
182
3. Фрейд
никать от колебания внимания между контрастирующими представлениями. Мы такого механизма удовольствия не можем понять. Мы указываем на то, что при сравнении контрастов в результате получается разница в затрате. Если эта разница не получает никакого иного применения, то она бывает способна к отреагированию, отчего становится источником удовольствия1.
К самой проблеме комического мы подходим с некоторой робостью. Слишком смело было бы ожидать, что наши исследования могут дать руководящую нить к ее разрешению, после того как работы огромного ряда отличных мыслителей не дали в результате удовлетворительного объяснения ее. Мы фактически лишь задались целью глубже проследить в области комического ту точку зрения, которая показалась нам ценной для нашего понимания остроумия.
Комическое можно считать, прежде всего, случайной находкой в социальных отношениях между людьми. Его находят всюду: в движениях людей, формах, поступках и характерных чертах — первоначально, вероятно, только в телесных, а впоследствии и в душевных качествах людей, предпочтительно в их поведении. Благодаря очень употребительному приему персонификации, комическое стали находить затем также у животных и в неодушевленных предметах. Однако комическое обладает способностью отделяться от людей, когда распознано то условие, при котором личность становится комичной. Так возникает комизм ситуации, когда понимание этого условия дает возможность, при желании, сделать человека комичным, ставя его в такие ситуации, в которых к его действиям присоединяются эти условия комического. Знание того, что человек может по своей воле сделать другого комичным, открывает доступ к неожиданному выигрышу комического удовольствия и дает начало высоко развитой технике. И себя самого можно сделать столь же комичным, как и другого человека. Приемы,
1 Бергсон (Le rire, 1904) тоже отрицает такое происхождение комического удовольствия, которое, несомненно, обусловлено стремлением создать аналогию со смехом от щекотки. Совершенно на ином уровне стоит объяснение комического удовольствия у Липпса: согласно его пониманию комизма такое удовольствие можно было бы назвать «неожиданной мелочью».
Остроумие и его отношение к бессознательному 183
служащие для создания комизма,— это перенесение в комические ситуации, подражание, переодевание, разоблачение, карикатура, пародия, костюмировка и др. Само собою разумеется, что эти приемы могут обслуживать враждебные и агрессивные тенденции. Можно сделать комичным человека, чтобы унизить его, проявить к нему неуважение, подорвать его авторитет. Но если бы даже такие цели всегда лежали в основе искусственно вызванного комизма, все же не в этом заключается смысл комизма самопроизвольного.
Из этого сделанного нами обзора различных видов комизма мы уже видим, как разнообразны источники его происхождения, и узнаем, что при комическом нельзя ожидать столь специализированных условий, как, например, при наивном. Чтобы напасть на след условия, имеющего основание для комизма, самым важным является выбор исходного случая. Мы выбираем комизм движений, так как вспоминаем, что примитивнейшие сценические постановки (пантомимы) пользуются этим средством, чтобы вызвать у нас смех. На вопрос, почему мы смеемся над движениями клоуна, ответ будет гласить: потому что они кажутся нам чрезмерными и нецелесообразными. Мы смеемся над слишком большой затратой. Поищем это условие вне комизма, созданного искусственно, то есть там, где он не является преднамеренным. Движения ребенка не кажутся нам комическими, хотя он вертится и прыгает. Наоборот, комично, когда ребенок, учась писать, сопровождает движения ручки движениями высунутого языка. Мы видим в этих сопутствующих движениях излишнюю двигательную затрату, которую мы, взрослые, при той же работе сэкономили бы. Таким же образом другие сопутствующие движения или просто даже чрезмерная жестикуляция кажутся нам комичными у взрослых. Таковы совершенно чистые случаи этого вида комизма движений, которые совершает человек, бросающий кегельный шар, после того как он уже выпустил шар и сопровождает бег этого шара движениями, как будто он может еще дополнительно регулировать этот бег. Так же комичны гримасы, преувеличивающие нормальное выражение душевных даижений, причем комичны даже тогда, когда они появляются непроизвольно, как, например, у лиц, страдающих пляской св. Витта. Так, страстные движения современного дирижера кажутся комичными каждому немузыкальному челове
184
3. Фрейд
ку, который не может понять их необходимости. От этого комизма движений ответвляется комизм телесных форм и черт лица, которые учитываются так, как будто они являются результатом преувеличенного и бесцельного движения. Выпученные глаза, крючковатый, свисающий надо ртом нос, оттопыренные уши, горб и все подобное действует комически, вероятно, только потому, что они отображают движения, которые необходимы для проявления этих черт. Причем нос, уши и другие части тела в представлении кажутся более подаижными, чем это есть на самом деле. Без сомнения, комично, если кто-нибудь умеет двигать ушами и, конечно, было бы еще комичнее, если бы он умел опускать и поднимать нос. Добрая часть комического действия, производимого на нас животными, происходит от восприятия таких движений у них, которым мы не можем подражать.
Но каким образом мы приходим к смеху, если считаем движения другого человека чрезмерными и нецелесообразными? Я думаю, что путем сравнения между тем движением, которое я наблюдаю у другого, и тем движением, которое я сам сделал бы на его месте. Обе сравниваемые величины должны, разумеется, измеряться одной и той же мерой. И этой мерой является моя затрата иннервации, связанная с представлением о движении как в одном, так и в другом случае. Это положение нуждается в объяснении и дальнейшей детализации.
Мы привели здесь в связь друг с другом, с одной стороны, психическую затрату при механизме представления, с другой — содержание этого представления. Наше утверждение сводится к тому, что психическая затрата непостоянна и принципиально независима от содержания представления. И особенно следует подчеркнуть, что представление взрослого требует большей затраты в сравнении с представлением ребенка. Покуда речь идет только о представлении движений различной величины, теоретическое обоснование нашего положения и доказательство его путем наблюдения не представляет никаких трудностей. Окажется, что в этом случае действительно совпадает качество представления, как определенной психической формы, с качеством представленного, хотя психология и предостерегает нас от такого смешивания.
Представление о движении определенной величины я получил тогда, когда совершал это движение или подражал ему. И во вре-
Остроумие и его отношение к бессознательному 185 мя этого акта я изучил меру для этого движения в моих иннерва-ционных ощущениях1.
Когда я воспринимаю подобное движение большей или меньшей величины у другого человека, то вернейший путь к пониманию его — к апперцепции — заключается в том, что я, подражая, совершаю это же движение и могу затем путем сравнения решить, при каком движении моя затрата была больше. Такое стремление к подражанию определенно наступает при восприятии движений. Но в действительности я не произвожу подражания, как и не читаю больше по отдельным звукам, после того как научился читать по слогам. Вместо подражания движению, выполняемому моими мышцами, я вызываю у себя представление о нем при помощи следов своих воспоминаний о затратах, произведенных при подобных движениях. Процесс представления, или «мышление», отличается от действия или поступка прежде всего тем, что он приводит в движение гораздо меньшее количество активной энергии и не расходует главную затрату. Но каким образом количественный момент — большая или меньшая величина — воспринятого движения получает выражение в представлении? И если изображение количества отпадает в представлении, сложившемся из качеств, то как я затем могу различать между собой представления о движениях разной величины, то есть проводить то именно сравнение, которое имеет здесь место?
В этом отношении путь указывает нам физиология, которая учит, что и во время процесса представления происходят иннервации к мышцам. Они сопровождаются, разумеется, только небольшой затратой. Но теперь очень легко предположить, что эта затрата иннервации, сопровождающая представление, употребляется для изображения количественного фактора представления,
1 Воспоминание об иннервационной затрате останется существенной частью представления об этом движении. В моей душевной жизни всегда будут существовать такие виды мышления, в которых представление будет олицетворяться именно этой затратой. В других связях может происходить даже замена этого элемента другими; например, зрительными представлениями цели движения, словесными представлениями, а при некоторых видах абстрактного мышления бывает достаточна одной черточки вместо полного содержания представления.
186
3. Фрейд
что она больше тогда, если представляют себе большое движение, чем тогда, когда речь идет о небольшом движении. Следовательно, представление о большем движении является, действительно, большим, то есть представлением, сопровождающимся большей затратой.
Наблюдение непосредственно показывает, что люди привыкли давать в содержании своих представлений выражение большому и малому путем различной затраты как бы в мимике представлений.
Когда ребенок или человек из народа, или человек, принадлежащий к определенной расе, что-то рассказывает или описывает, то можно легко заметить, что он не довольствуется пояснением слушателю своего представления путем точного словесного изложения, но изображает содержание этих слов жестами. Он объединяет мимическое изложение со словесным. Он отмечает сразу и количество, и интенсивность. «Высокая гора» — и при этом он приподымает руку над своей головой; «маленький карлик» — при этом он держит ее низко над землей. Если бы он отвык от жестикуляции руками, то все-таки продолжал бы делать это голосом. А если он научится владеть интонацией, то можно быть уверенным, что при изображении чего-либо большого он широко раскроет глаза, а чего-то маленького — зажмурит их. Это не аффекты, которые он проявляет таким образом; это действительно содержание того, что он представляет себе.
Нужно ли предположить, что эта потребность в мимике пробуждается лишь условиями словесной передачи своей мысли другому лицу, если большая часть этого способа выражения все равно ускользает от внимания слушателя? Я думаю, что, наоборот, эта мимика, хотя и менее живая, существует помимо всякого рассказывания. Она проявляется даже тогда, когда человек просто представляет себе что-то, когда он наглядно мыслит. Человек по-разному выражает большое и малое при помощи телесных проявлений, то есть так же, как во время разговора,— по крайней мере, изменением иннервации в чертах своего лица и в органах чувств. Я могу представить себе даже, что телесная иннервация, соответствующая содержанию представлений, была начальным источником мимики для словесной передачи. Она должна была только усилиться, сделаться явно заметной для другого человека, чтобы иметь возможность служить этой цели. Я защи
Остроумие и его отношение к бессознательному
187
щаю, таким образом, тот взгляд, что к «выражению душевных переживаний», при помощи тех или иных побочных телесных проявлений душевных процессов, должно быть присоединено и это «выражение содержания представлений». При этом мне, конечно, ясно, что мои замечания относительно категории большого и малого не исчерпывают всей темы. Я сам мог бы сделать еще несколько таких замечаний, прежде чем перейти к феноменам напряжения, которыми человек телесно проявляет фиксацию своего внимания и уровень абстракции, на котором пребывает его мышление. Я считаю этот факт очень важным и думаю, что исследование мимики представлений в других областях эстетики тоже могло быть полезно, как в данном случае для понимания комического.
Чтобы вернуться к комизму движений, я повторяю, что восприятие определенного движения дает импульс к его представлению с помощью известной затраты энергии. Следовательно, при «желании понять», то есть при апперцепции этого движения, я произвожу определенную затрату — поступаю при этой части душевного процесса так, как будто ставлю себя на место наблюдаемого лица. Но, вероятно, я в то же время обращаю внимание на цель этого движения и могу, опираясь на предшествующий опыт, оценить размеры той затраты, которая обычно бывает необходима для достижения этой цели. При этом я не принимаю во внимание наблюдаемое лицо и веду себя так, как будто я сам хотел достичь цели движения. Обе указанные возможности приводят к сравнению наблюдаемого движения с моим собственным. При чрезмерном и нецелесообразном движении другого человека мне трудно понять in statu nascendi (как будто в момент мобилизации) мою увеличенную затрату. Она учитывается мною как излишняя и становится свободной для другого применения, смотря по обстоятельствам; например, для отреагирования в смехе. Если присоединяются другие благоприятные условия, то таким путем' возникает удовольствие от комического движения, происходит затрата иннервации, которая дает при сравнении со своим собственным движением излишек, не нашедший себе применения.
Мы замечаем теперь, что продолжаем наши рассуждения в двух различных направлениях: во-первых, чтобы выяснить условия для отреагирования излишка; во-вторых, чтобы проверить,
188
3. Фрейд
можно ли понимать другие случаи комизма так же, как и комизм движений.
Мы обратимся сначала к последней задаче и рассмотрим после комизма движения и действия тот комизм, который можно найти в душевных процессах и чертах характера у других людей.
За образец этого вида можно взять комическую бессмыслицу, которая создается во время экзамена неподготовленными кандидатами. Дать простой пример для черт характера, конечно, труднее. Но бессмыслица и глупость, оказывающие так часто комическое действие, все же не во всех случаях воспринимаются, как нечто комическое. Точно так же одни и те же характерные черты, над которыми мы иной раз смеемся как над комическими, в другой раз кажутся нам заслуживающими презрения или ненависти. Этот факт, на который мы не можем не обратить внимания, указывает, однако, лишь на то, что при комическом действии учитываются еще и другие соотношения, кроме соотношений известного нам сравнения. Эти условия мы сможем проследить в другой связи.
Комическое, которое находят в умственных и душевных качествах другого человека, является, очевидно, опять-таки лишь результатом сравнения между ним и моим Я. Но поразительно, что это сравнение дает нам результат диаметрально противоположный тому, который получался в случае комического движения или действия. В этом последнем случае было комично, когда другой человек производил большую затрату, чем это считал бы необходимым произвести я. В случае душевного процесса, наоборот, комично, когда другой человек экономит затрату, которую, по моему мнению, необходимо произвести, ибо бессмыслица и глупость являются малоценными продуктами. В первом случае я смеюсь, потому что он слишком усложнил себе задачу, а во втором — потому что он слишком облегчил ее себе. Следовательно, сущность комического действия заключается, по-видимому, только в разнице между обеими затратами энергии — затратой «вчув-ствования» и1 затратой моего Я- Но эта странность, которая сначала запутывает наше суждение, исчезает, если мы примем во внимание, что ограничение нашей мышечной работы и увеличение нашей мыслительной деятельности лежит в направлении нашего личного развития к высшей культурной ступени. Повышение
Остроумие и его отношение к бессознательному 189 нашей мыслительной затраты помогает нам уменьшить наши двигательные затраты в одном и том же процессе. Доказательством этого культурного успеха являются наши машины1.
Итак, в единое понимание укладывается тот факт, что комичным нам кажется человек, производящий в сравнении с нами слишком много затрат для своих телесных отправлений и слишком мало — для душевных. И нельзя отрицать того, что в обоих случаях наш смех является выражением превосходства, которое мы ощущаем над ним и приписываем себе с чувством удовольствия. Если имеется обратное соотношение обоих случаев и соматическая затрата другого человека меньше нашей, а его душевная затрата больше нашей, тогда мы уже не смеемся; тогда мы удивляемся и изумляемся2.
Обсуждавшийся здесь источник комического удовольствия, вытекающего из сравнения другого человека с моим собственным Я— из разницы между затратой вчувствования и моей собственной затратой — является генетически, вероятно, самым важным; но, несомненно, не единственным. Мы уже указывали однажды, что можно не проводить сравнения между другим человеком и между Я и получить такую доставляющую удовольствие разницу только от одного из двух элементов: или от вчувствования, или от процессов в моем собственном Я. Это является доказательством того, что чувство превосходства не имеет существенного отношения к комическому удовольствию. Сравнение необходимо для появления этого удовольствия. Мы находим, что это сравнение имеет место между двумя затратами энергии, быстро следующими друг за другом и относящимися к одному и тому же процессу. Их мы либо создаем в себе путем вчувствования в другого человека, либо находим без такого отношения к другому человеку в наших собственных душевных процессах. В первом случае роль играет еще, следовательно, второе лицо, но только не в виде сравнения его с нашим Я. Он имеет место тогда, когда
1 «За дурною головою нет ногам покою» — гласит пословица.
2 Эта постоянная противоположность в условиях комизма, согласно которым то избыток, то недостаток казался' источником комического удовольствия, немало способствовала запутыванию проблемы. Сравните у Липпса (1. с., с. 47).
190
3. Фрейд
доставляющая удовольствие разница в затратах энергии создается внешними влияниями, которые мы можем объединить под названием ситуации, отчего этот вид комизма называется также «комизмом ситуации».
Качества лица, которое доставляет комизм, не принимаются при этом особенно во внимание. Мы смеемся и в том случае, когда должны признать, что в той же ситуации мы вынуждены были бы сделать то же самое. Мы извлекаем здесь комизм из отношения человека к внешнему миру, который часто оказывается сильнее его. Этим внешним миром для душевных процессов в человеке являются также условности и потребности общества и даже его собственные телесные потребности. Типический случай последнего рода мы имеем тогда, когда боль или экскременталь-ная потребность внезапно мешают человеку в его деятельности, предъявляющей определенные требования к его душевным силам. Противоположностью, доставляющей нам при вчувствова-нии комическую разницу, является противоположность между большим интересом до помехи и минимальным интересом, проявляемым им к своей душевной деятельности, после того как наступила помеха. Человек, доставляющий нам эту разницу, явится для нас комическим опять-таки как человек униженный. Но он унижен только в сравнении со своим прежним Я а не в сравнении с нами, так как мы знаем, что сами в подобном случае не могли бы вести себя иначе. Но достойно внимания, что мы можем считать это унижение комическим только в случае вчувствования; следовательно, только у другого человека и в то время, когда мы сами в таких и им подобных затруднительных обстоятельствах испытываем только мучительные чувства. Вероятно, лишь это отсутствие мучительного чувства у нас самих дает нам возможность считать разницу, получающуюся в результате сравнения сменяющихся количеств энергии, исполненной удовольствия.
Другой источник комизма, находимый нами в наших собственных превращениях энергии, лежит в наших отношениях к будущему, которое мы привыкли предвосхищать нашими представлениями о том, что нас ожидает. Я предполагаю, что в основе каждого нашего представления об ожидаемом событии лежит определенная количественная затрата, которая, следовательно, уменьшается в случае разочарования на определенную разницу. И я ссыла-
Остроумие и его отношение к бессознательному
191
юсь здесь опять-таки на сделанные выше замечания относительно «мимики представлений». Но мне кажется, что легче доказать в случаях ожидания действительно произведенную мобилизацию затрачиваемой энергии. Для целого ряда случаев хорошо известно, что моторные приготовления создают выражение ожидания, прежде всего, для тех случаев, где ожидаемое событие требует от человека подвижности. Эти приготовления целиком поддаются комическому определению. Когда я готовлюсь поймать брошенный мне мяч, то я напрягаю в своем теле мышцы, которые способны придать мне устойчивость против удара мяча. А те излишние движения, которые я делаю, если пойманный мяч оказывается слишком легким, делают меня комичным в глазах зрителей. Из-за ожидания большей тяжести мяча я был предрасположен к чрезмерной двигательной затрате. Точно так же обстоит дело, когда я вынимаю из корзины плод, который считаю тяжелым, но который представляет собой только подделанную из воска оболочку. Моя рука подымается несоразмерно высоко и выдает этим, что я приготовил слишком большую для этой цели иннервацию, и потому надо мной смеются. Существует, по меньшей мере, один случай, в котором эта затрата ожидания может быть показана и непосредственно измерена физиологическим экспериментом над животными. В опытах Павлова над секрецией слюны собакам с фистулами слюнных желез показывали различные пищевые продукты. При этом выяснилось, что количество выделенной слюны колебалось в зависимости от того, обманули или усилили условия опыта ожидания собаки от показанной ей пищи.
Даже тогда, когда ожидаемое мною событие предъявляет требования только к моим органам чувств, а не к моей подвижности, я могу предположить, что ожидание вызывает определенное расходование моторной энергии для напряжения чувств, для недопущения других неожидаемых впечатлений. Я вообще понимаю фиксацию внимания как моторный процесс, соответствующий определенной затрате. Я должен далее предположить, что подготовительная деятельность ожидания не независима от величины ожидаемого впечатления. Но мимически я представляю себе размеры этого впечатления путем большей или меньшей подготовительной затраты, не ожидая его самого и в случае рассказа, и в случае мышления. Затрата ожидания складывается, разумеется, из не
192
3. Фрейд
скольких компонентов. И при моем разочаровании принимаются во внимание различные моменты, а не только тот факт, что случившееся эмощюнально больше или меньше чем то, чего я ожидал. При этом учитывается также и то обстоятельство, заслуживает ли оно такого большого интереса, который я проявил в ожидании его. Таким образом, я приучаюсь принимать во внимание, кроме затраты энергии на изображение величины (мимика представлений), затрату на напряжение внимания (затрата ожидания), а в иных случаях сверх того — затрату абстракции. Но все другие виды затраты можно легко привести к затрате на определение величины, так как более интересное, более яркое и даже более абстрактное являются только особо квалифицированными частными случаями величины. Если мы прибавим, что, согласно Липпсу и другим авторам, количественный — а не качественный — контраст рассматривается, в первую очередь, как источник комического удовольствия, то в целом мы будем довольны тем, что избрали комизм движения исходным пунктом нашего исследования.
Осуществляя кантовское положение, согласно которому «комическое является ожиданием, вылившимся в ничто», Липпе сделал в своей книге, неоднократно цитировавшейся здесь, попытку вывести комическое удовольствие вообще из ожидания. Несмотря на многие поучительные и ценные результаты, которые дала эта попытка, я все же могу присоединиться к высказанной другими авторами критике, согласно которой, Липпе во многом слишком узко понял область происхождения комического и не мог без большой натяжки подвести его феномены под свою формулу.
Люди не удовлетворяются тем, что наслаждаются комизмом там, где сталкиваются с ним в жизни. Они стремятся к искусственному созданию его, и о сущности комизма можно узнать больше, если изучить те средства, которые служат для его искусственного создания. Можно, прежде всего, сделать комичным самого себя, притворяясь, например, неуклюжим или глупым, чтобы развеселить других. Человек производит при этом такое же комическое впечатление, как если бы он действительно был неуклюж или глуп, и выполняет при этом условие сравнения, которое ведет к разнице в затрате. Но человек не становится из-за этого смешным или презренным. При некоторых условиях он даже вызывает восхищение. Другой человек не испытывает при этом чувства пре
Остроумие и его отношение к бессознательному 193
восходства, если знает, что первый только притворяется. И это является новым веским доказательством принципиальной независимости комизма от чувства превосходства.
Удобным приемом для того, чтобы сделать комичным другого человека, служит, прежде всего, перенесение его в ситуации, в которых он становится комичным из-за своей зависимости от внешних соотношений, в особенности от социальных моментов. При этом не учитываются личные качества объекта, а просто используется комизм ситуации. Это перенесение в комическую ситуацию может быть реальным (a practical joke), когда мы, например, подставляем кому-нибудь ножку и человек падает, как будто он неуклюжий. Или мы дурачим его, пользуясь его доверчивостью и стараясь убедить его в чем-то бессмысленном и т. п. Комическую ситуацию можно создать и в воображении с помощью речи или игры. Такой прием является хорошим вспомогательным средством для агрессивности, которую обычно обслуживает создание комизма, потому что комическое удовольствие независимо от реальности комической ситуации, и каждый человек беззащитен против того, чтобы стать комичным.
Существуют и другие средства искусственного создания комического, заслуживающие особой оценки и отчасти указывающие на новые источники комического удовольствия. Сюда относится, например, подражание, которое доставляет слушателям чрезвычайное удовольствие и делает комическим объект этого подражания, хотя бы последнему и было чуждо комическое преувеличение. Гораздо легче обосновать комическое действие карикатуры, чем комическое действие простого подражания. Карикатура, пародия, костюмировка и ее противоположность — разоблачение,— все они направлены против лиц и вещей, претендующих на авторитет и являющихся в каком-нибудь отношении выдающимися. Это приемы для принижения (Herabsetzung, как говорит удачное немецкое выражение1). Выдающееся является большим в переносном психическом смысле. И я могу сделать или, лучше сказать, повто
1 Degradation. A. Bain («The emotion and the will», 2 edit. 1865) говорит: «The ocassion of the Ludicrous is the degradation of some person or interest, possessing dignity, in circumstances that excite no other strong emotion».
194
3. Фрейд
рить предположение, что оно, как и соматически большое, изображается путем увеличения затраты. Нужно немного наблюдений для доказательства того, что, говоря о выдающемся, я иннервирую свой голос, придаю другое выражение своему лицу и стараюсь привести весь свой внешний вид в соответствие с достоинством представляемого себе. Я принимаю при этом торжественно-почтительный тон, лишь немногим отличающийся от того, который я принял бы в присутствии выдающегося лица, государственного деятеля или великого ученого. Я едва ли ошибаюсь, предполагая, что эта другая иннервация мимики представлений сопровождается увеличением затраты. Третий случай такого увеличения затраты имеет место тогда, когда я высказываю абстрактные суждения вместо обычных конкретных и пластических представлений. Когда, обсуждающийся здесь прием умаления выдающегося даст мне возможность представить это выдающееся как нечто обыкновенное, для которого я не должен напрягаться и в воображаемом присутствии которого я могу стоять «вольно», говоря военной формулой, то я делаю экономию затраты на торжественно-почтительный тон. Сравнение этого способа представлений, возбужденного вчувство-ванием, с привычным до сих пор способом, пытающимся одновременно выявиться, создает опять-таки разницу в затрате, которая может быть отреагирована в смехе.
Карикатура, как известно, унижает, выхватывая из совокупного впечатления о выдающемся объекте одну-единственную черту, которая сама по себе комична, но оставалась незамеченной до тех пор, пока воспринималась только в общей картине. Ее изолирование может дать комический эффект, который в нашем воспоминании распространяется на все в целом. При этом должно быть соблюдено условие, согласно которому мы испытывали эту почтительность не только в присутствии выдающегося лица. Если такая незаметная в общей совокупности комическая черта в действительности отсутствует, то карикатура создает ее без всяких рас-суждений, преувеличивая такую черту, которая сама по себе не комична. Опять-таки для происхождения комического удовольствия характерно то, что такое ложное изображение действительности не наносит существенного ущерба эффекту карикатуры.
Пародия и костюмировка добиваются унижения выдающегося другим путем, нарушая единство между известными нам характер-
Остроумие и его отношение к бессознательному
195
ними чертами людей и между их поступками и речами, заменяя выдающихся людей или их проявления более низкими. Они отличаются от карикатуры этим приемом, а не механизмом доставления комического удовольствия. Тот же механизм действует и при разоблачении, которое пускается в ход только тогда, когда кто-нибудь добился уважения и авторитета путем обмана, если в действительности он не заслуживает ни того, ни другого. Комический эффект разоблачения мы изучили на некоторых примерах остроумия. Например, в остроте о знатной даме, которая при первых родовых болях восклицает «Ах, мой дорогой» и врач не хотел оказывать ей помощь, пока она не закричала «Ай! ай! ай!» Изучив характерные черты комического, мы уже не можем оспаривать того факта, что эта история является примером комического разоблачения и не может претендовать на название остроты. Она напоминает остроту только инсценировкой, техническим приемом изображения с помощью детали, какою здесь является крик роженицы, считающийся достаточным показателем ее состояния. Между тем наша разговорная речь, если мы обратимся к ней за разрешением вопроса, наоборот, позволяет назвать такую историю остротой. Объяснение этому мы находим в том, что практика языка не исходит из научных взглядов на сущность остроумия, добытых этим кропотливым исследованием. Так как функции остроумия частично заключаются в том, чтобы вновь сделать доступными источники комического удовольствия, то по заманчивой аналогии можно каждый прием, не вскрывающий явного комизма, назвать остротой. Но это последнее верно преимущественно для разоблачения, равно как и для всех других методов, искусственно вызывающих комизм.
К «разоблачению» можно отнести и тот известный уже нам прием искусственного создания комизма, который унижает достоинство отдельного человека, обращая внимание на его общечеловеческие слабости и особенно на зависимость его душевных функций от телесных потребностей. Разоблачение становится затем равнозначно напоминанию: такой-то и такой-то, которого почитают как полубога, является все-таки таким же человеком, как я и ты. Сюда же относятся все стремления обнаружить за богатством и кажущейся свободой психических функций однотонный психический автоматизм. Мы изучили примеры такого разоблаче
196
3. Фрейд
ния в остротах о посредниках брака. Конечно, и тогда уже мы сомневались, имеем ли право причислить эти истории к остротам. Вспомним анекдот о человеке-эхо, который подтверждает все, что говорит брачный посредник, и усиливает в результате признание шадхена в том, что невеста имеет горб, восклицанием «И какой горб!». Теперь мы можем с большей уверенностью решить, что этот анекдот является, в сущности, комической историей, примером разоблачения психического автоматизма. Но тем не менее эта комическая история служит здесь только фасадом. Для каждого вникающего в скрытый смысл анекдотов о посредниках брака здесь все в целом остается отлично инсценированной остротой. Тот же, кто не вникает так глубоко, считает это только комической историей. То же относится к другой остроте о посреднике брака, который для опровержения возражения признает, в конце концов, истину, восклицая: «Помилуйте, разве кто доверит этим людям что-нибудь!». Это комическое разоблачение, служащее фасадом для остроты. Все-таки характер остроты здесь гораздо очевиднее, так как речь посредника является в то же время изображением при помощи противоположности: желая доказать, что эти люди богаты, он вместе с тем доказывает, что они не богаты, а очень бедны. Остроумие и комизм комбинируются здесь и учат нас тому, что некоторые выражения могут быть в одно и то же время остроумными и комическими.
Мы охотно пользуемся случаем перейти от комизма разоблачения к остроумию, так как нашей задачей в основном является выяснение взаимоотношений между остроумием и комизмом, а не определение сущности комического. Поэтому мы присоединяем к открытию психического автоматизма, относительно которого не знаем, комичен он или остроумен, другой случай, в котором тоже сплетаются остроумие и комизм — случай острот-бессмыслиц. Исследование покажет нам, что для этого второго случая можно теоретически вывести совпадение остроумия и комизма.
При обсуждении технических приемов остроумия мы нашли, что виды мышления, которые имеют место в бессознательном и которые в сознательном могут трактоваться только как «ошибки мышления», являются техническим приемом для очень многих острот, в остроумном характере которых мы все-таки могли сомневаться и которые склонны были классифицировать просто как комичес
Остроумие и его отношение к бессознательному
197
кие истории. Мы не могли разрешить своих сомнений, так как нам прежде всего была неизвестна сущность характера остроумия. Впоследствии мы нашли ее, руководствуясь аналогией с работой сна, в компромиссной функции работы остроумия между требованиями рассудительной критики и нежеланием отказаться от прежнего удовольствия, получаемого от игры словами и от бессмыслицы. Компромисс, осуществляющийся тогда, когда предсознательное выражение мысли подвергается на какой-то момент бессознательной обработке, удовлетворяет во всех случаях требованиям обеих сторон, но критике он преподносится в различных формах и ему даются различные оценки с ее стороны. Острота иной раз может хитростью пробраться в форме лишенного значения, но все же допустимого предложения, в другой раз — тайно проникнуть в выражение ценной мысли. Но в пограничном случае компромиссного образования острота отказывается удовлетворять требования критики и стремится упорно к источникам удовольствия, которыми она владеет. Являясь незамаскированной бессмыслицей с точки зрения критики, острота не побоялась вызвать возражения с ее стороны, так как могла рассчитывать на то, что слушатель восстановит искаженное ею выражение, получившееся в результате бессознательной обработки, и вновь придаст ему, таким образом, смысл.
В каком случае острота оказывается бессмыслицей с точки зрег ния критики? Особенно тогда, когда она пользуется видами мышления, употребительными в бессознательном и запрещенными в сознательном мышлении; следовательно, ошибками мышления. Но некоторые виды мышления, употребительные в бессознательном, удержались также и в сознательном мышлении. Например, некоторые виды непрямого изображения, намек и т. д., хотя их сознательное употребление в большой мере ограничено. Употребление этих технических приемов или совсем не вызывает, или вызывает только незначительное сопротивление со стороны критики. Это сопротивление наступает лишь в том случае, если острота использует в качестве технических приемов те средства, о которых сознательное мышление и слышать не хочет. Однако острота может еще преодолеть это препятствие, если она замаскирует сделанную ею ошибку мышления, придаст ей вид логичности, как в истории с тортом и ликером, семгой с майонезом и тому подобными. Но если
198
3. Фрейд
она дает нам ошибку мышления в незамаскированном виде, то возражение критики неизбежно.
В этом случае остроте приходит на помощь нечто другое. Ошибки мышления, которыми она пользуется для своих технических приемов как видами мышления в бессознательном, кажутся критике, хотя и не всегда, комическими. Сознательное употребление бессознательных и отвергнутых в силу своей ошибочности видов мышления является средством, доставляющим комическое удовольствие. И это легко понять, так как создание предсознатель-ной активности требует, конечно, большей затраты, чем применение бессознательной. Выслушивая мысль, возникшую как будто в бессознательном, и сравнивая ее с ее корректурой, мы в результате получаем разницу в затрате, из которой вытекает комическое удовольствие. Острота, использующая такую ошибку мышления в качестве технического приема, отчего она кажется бессмысленной, может производить, таким образом, комическое действие. Если мы не найдем следов остроумия, то нам останется только комическая история, шутка.
Вспомним историю о взятом взаймы котле, который оказался при возвращении продырявленным; причем взявший его оправдывался так: во-первых, он вообще не брал никакого котла, во-вторых, он был уже продырявлен, когда он взял его, и в-третьих, он возвратил его в целости, без дыры. Это отличный пример чисто комического действия, полученного в результате употребления бессознательных видов мышления. В бессознательном нет этого взаимного исключения нескольких мыслей, из которых каждая сама по себе хорошо мотивирована. Сновидение, в котором появляются эти виды бессознательного мышления, не знает понятия «или-или»1, а только одновременное существование двух элементов. В том примере своего «Толкования сновидений», который я, несмотря на его сложность, взял за образец для работы толкования, я стараюсь освободиться от упрека в том, что не избавил пациентку от боли с помощью психического лечения. Я основывался на следующем: 1) она сама виновата в своей болезни, так как не хочет принять моего «решения»; 2) ее боли органического проис-
1 В крайнем случае это понятие вводится рассказчиком как толкование.
Остроумие и его отношение к бессознательному 199 хождения и, следовательно, меня не касаются; 3) ее боли объясняются ее вдовством, в котором я, конечно, неповинен; 4) ее боли являются следствием инъекции, которую ей сделал кто-то другой грязным шприцем. Все эти основания существуют одновременно, как будто одно не исключает другого. Чтобы избежать упреков в бессмысленности, я должен был бы вместо «и», стоящего в сновидении, поставить «или-или».
Такой же комической историей является происшествие в венгерском селе, в котором кузнец совершил убийство, а бургомистр приговорил к повешению не кузнеца, а портного, потому что в этом селе жили два портных и только один кузнец, лишиться которого нельзя, а наказать кого-нибудь необходимо. Такое передвигание с личности виновника на другую противоречит, разумеется, всем законам сознательной логики, но отнюдь не противоречит способу мышления бессознательного. Я без колебания называю эти истории комическими, хотя историю с котлом привел как пример остроты. Я согласен с тем, что и ее правильнее назвать комической, чем остроумной. Но я понимаю теперь, почему мое прежде столь уверенное чувство привело меня к сомнению, является эта история комической или остроумной. Это тот именно случай, в котором я не могу, руководствуясь чувством, решить, когда именно возникает комизм при обнаружении видов мышления, свойственных именно бессознательному. Такая история может одновременно быть и комической и остроумной. Но она производит на меня впечатление остроты, хотя бы и была только комической, так как употребление мыслительных ошибок бессознательного напоминает мне остроту, равно как и прежние приемы для обнаружения скрытого комизма.
Я придаю особое значение точному выяснению этого самого спорного пункта моих исследований — отношения остроумия к комизму. Поэтому хочу дополнить сказанное некоторыми негативными положениями. Прежде всего, я обращаю внимание на то, что обсуждавшийся здесь случай совпадения остроумия с комизмом не идентичен с предыдущим. Хотя это очень тонкое отличие, но о нем можно говорить с уверенностью. В предыдущем случае комизм вытекал из открытия психического автоматизма. Этот автоматизм свойствен отнюдь не одному только бессознательному и не играет никакой выдающейся роли среди технических приемов остроумия.
200
3. Фрейд
Разоблачение только случайно связано с остроумием, обслуживая другой технический прием остроумия, например изображение с помощью противоположности. Но при употреблении видов бессознательного мышления совпадение остроумия и комизма неизбежно, так как тот же самый прием, который первому лицу служит в остроте техникой освобождения удовольствия, третьему лицу доставляет, по своей природе, комическое удовольствие.
Можно было бы впасть в искушение обобщить этот последний случай и искать отношение остроумия к комизму в том, что действие остроты на третье лицо происходит подобно механизму комического удовольствия. Но об этом нет и речи. Совпадение с комическим имеет место отнюдь не во всех, и даже не в большинстве острот. Чаще можно, наоборот, отделить остроумие от комизма в чистом виде. Если остроте удается избавиться от видимости бессмыслицы (то есть в большинстве острот, построенных на двусмысленности и намеке), то у слушателя нельзя найти следов действия, подобного комическому. Это можно проверить на приведенных прежде примерах и на некоторых новых, которые я могу привести.
«Поздравительная телеграмма к 70-летию со дня рождения одного игрока: «Trente et quarante» (разделение слов с намеком)».
«Мадам de Maintenon назвали M-me de Maintenant (модификация имени)».
«Проф. Кестнер говорит одному принцу, остановившемуся во время демонстрации перед подзорной трубой: «Мой принц, хоть вы и светлейший (durchlauchtig), но вы не прозрачны (durchsichtig)».
[Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать в таком виде: «Один из придворных сказал принцу, который имел низкий рост и пытался посмотреть в подзорную трубу: «Мой принц, хоть вы и ваше высочество, но вы недостаточно высоки». — Перев.\
«Граф Andrassy был назвал министром прекрасной наружности».
Можно было бы далее думать, что все остроты с бессмысленным фасадом’ кажутся комическими и должны оказывать такое действие. Однако я вспоминаю здесь о том, что такие остроты часто оказывают другое действие на слушателя, вызывают смущение и склонность к неприятию. Следовательно, речь идет, очевид-
Остроумие и его отношение к бессознательному 201 но, о том, является ли бессмысленность остроты комической или простой неприкрашенной бессмыслицей. Условия для решения этой альтернативы мы еще не исследовали. Соответственно этому мы заключаем, что остроту по ее природе следует отличать от комического и что она только совпадает с ним, с одной стороны, в некоторых частных случаях, а с другой — в тенденции извлекать удовольствие из интеллектуальных источников.
Но при этих исследованиях об отношении остроумия к комизму перед нами всплывает то отличие, которое мы должны отметить как самое важное и которое указывает нам в то же время на основной психологический характер комизма. Источник удовольствия от остроты мы должны были перенести в бессознательное. Но мы не имеем никакого повода к такой локализации источника комического удовольствия. Наоборот, все анализы, проделанные нами до сих пор, указывают на то, что источником комического удовольствия является сравнение двух затрат, из которых мы должны обе отнести к предсознательному. Остроумие и комизм отличаются, прежде всего, психической локализацией; острота же — это, так сказать, содействие, оказываемое комизму из области бессознательного.
Мы не должны обвинять себя в том, что уклонились от темы, так как отношение остроумия к комизму является поводом, заставившим нас предпринять исследование комического. Но теперь наступило время вернуться к нашей теме, к обсуждению приемов, служащих для искусственного создания комизма. Мы предварительно исследовали карикатуру и разоблачение, так как могли найти в обоих этих видах комизма некоторые связующие нити с анализом комизма подражания. Подражание в большинстве случаев соединено с карикатурой, с преувеличением некоторых, хотя, возможно, и не ярких особенностей и имеет унижающий характер. Однако сущность его этим не исчерпывается. Неоспоримо, что оно само по себе является обильным источником комического удовольствия, так как мы особенно охотно смеемся над удачным подражанием. Этому нелегко дать удовлетворительное объяснение, если не присоединиться к мнению Бергсона1, согласно которому комизм
1 Bergson. Le rire, essai sur la signification du comique. 3-me edition. Paris, 1904.
202
3. Фрейд
подражания очень близок комизму психического автоматизма. Бергсон полагает, что комически действует все то, что заставляет думать о неодушевленных механизмах у одушевленного объекта. Его формулировка этого положения гласит: «Mecanisation de la vie». Он объясняет комизм подражания, ставя его в связь с проблемой, которую выдвигает Паскаль в своих «Pensees»: почему мы смеемся при виде двух похожих лиц, из которых каждое само по себе вовсе не комично.
«Живое никогда не должно повторяться в тождественном виде согласно нашим ожиданиям. Когда мы видим такое повторение, то предполагаем нечто механическое, скрывающееся за этим живым». Когда человек видит два поразительно похожих друг на друга лица, то он думает о двух отпечатках одной и той же формы или об одном и том же приеме механического изготовления. Иначе говоря, причиной смеха в таких случаях является диссонанс между живым и неживым, мы могли бы сказать — деградация живого в неживое. Если мы согласимся с этими выводами Бергсона, которые вызывают у нас доверие, то нам не трудно будет подвести его взгляд под нашу собственную формулу. Наученные опытом тому, что каждое живое существо отлично от другого и требует от нашего разума некоторой затраты, мы разочаровываемся, когда нам не нужно производить никакой новой затраты из-за полной аналогии или вводящего в заблуждение подражания. Но мы разочарованы в смысле облегчения затраты, и ставшая излишней затрата ожидания находит свое отреагирование в смехе. Эта же формула покрывает все получившие оценку Бергсона случаи комического оцепенения (raideur), профессиональных привычек, фиксированных идей и оборотов речи, употребляемых по каждому поводу. Все эти случаи исходят из сравнения затраты ожидания с той затратой, которая необходима для понимания тождественного объекта, причем большая затрата ожидания опирается на наблюдение индивидуального разнообразия и пластичности всего живого. Следовательно, при подражании источником комического удовольствия является не комизм ситуации, а комизм подражания.
Так как мь! вообще выводим комическое удовольствие из сравнения, то нам надлежит исследовать и сам комизм сравнения, который точно так же служит средством искусственного создания комизма. Наш интерес к этому вопросу повысится, если мы вспом
Остроумие и его отношение к бессознательному
203
ним, что и в случае сравнения нас также часто охватывало чувство сомнения, следует ли назвать его остротой или просто комическим суждением.
Эта тема заслуживает, конечно, гораздо больше внимания, чем мы можем ей уделить. Главное качество, которое мы требуем от сравнения,— это вопрос, является ли оно метким, то есть обращает ли оно внимание на действительно существующую аналогию между двумя различными объектами. Первоначальное удовольствие от повторного нахождения одного и того же не является единственным мотивом, благоприятствующим употреблению сравнения. Сюда присоединяется еще и способность сравнения к такому употреблению, которое приносит с собой облегчение интеллектуальной работы. Это бывает именно тогда, когда (как это в большинстве случаев делают) сравнивают более неизвестное с более известным, абстрактное с конкретным. И благодаря такому сравнению более чуждое и более трудное становится более ясным. Подобное сравнение абстрактного с вещественным связано с некоторым унижением и с некоторой экономией абстракционной затраты (в смысле мимики представлений). Однако эта экономия недостаточна, чтобы отчетливо выявить характер комического. Этот характер выплывает не внезапно, а постепенно из удовольствия от облегчения затраты, полученного в результате сравнения. Есть много случаев, которые только имеют сходство с комическим, и можно сомневаться, присущ ли им комический характер. Несомненно комично то сравнение, при котором повышается разница в уровне абстракционной затраты между обоими элементами сравнения и нечто серьезное или чуждое нашему мышлению (в особенности носящее интеллектуальный или моральный характер) сравнивается с чем-то банальным или низменным. Предыдущее удовольствие от облегчения затраты и содействие, оказываемое условиями мимики представлений, могут объяснить постепенный, определяемый количественными соотношениями переход удовольствия вообще в комическое удовольствие при сравнении. Желая избежать недоразумений, я подчеркиваю, что вывожу комическое удовольствие при сравнении не из контраста обоих элементов сравнения, а из разницы обеих абстракционных затрат. Трудно воспринимаемое, чуждое, абстрактное, собственно интеллектуально выдающееся разоблачается, как нечто низменное, потому что оно
204
3. Фрейд
проводит аналогию с известным нам низменным, при представлении о котором отсутствует всякая абстракционная затрата. Итак, комизм сравнения сводится к деградированию.
Как мы уже видели раньше, сравнение может быть остроумным без следа комической примеси именно тогда, когда оно избегает унижения. Так, сравнение истины с факелом, который нельзя пронести через толпу, не опалив кому-нибудь бороды, представляет собой чистую остроту, так как оно придает полноценный смысл поблекшему выражению («факел истины»), и вовсе не является комическим, так как факел как объект не лишен некоторой импозантности, хотя и является конкретным предметом. Но сравнение очень легко может быть в такой же мере остроумным, как и комичным, а может быть или только остроумным, или только комичным, независимо одно от другого. Сравнение приходит на помощь некоторым техническим приемам остроумия, как, например, унификации и намеку. Так, сравнение Нёстроя воспоминания с магазином является одновременно и остроумным, и комичным. Комичным — в силу огромного унижения, которому подвергается психологическое понятие в сравнении с магазином, остроумным — потому что употребляет это сравнение приказчик, и он, таким образом, создает в нем совершенно неожиданную унификацию между психологией и своей профессией. Фраза Гейне «Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы на штанах терпения» кажется, на первый взгляд, только отличным примером сравнения комически унижающего. Но при ближайшем рассмотрении следует признать за ним и остроумный характер, так как это сравнение является намеком на скабрезность и дает, таким образом, возможность извлечь удовольствие от скабрезности. Из одного и того же материала возникает, конечно, не совсем случайное совпадение комического и в то же время остроумного удовольствия. Условия создания одного способствуют и созданию другого. Но человека, который хочет разобраться, имеем мы здесь остроту или комизм, такое объединение сбивает с толку. И только внимательное исследование, независимое от действия этого удовольствия, может разрешить сомнение.
Хотя анализ этих тончайших условий комического удовольствия очень заманчив, однако автор должен сказать, что ни его предшествующее образование, ни его повседневная деятельность не дают
Остроумие и его отношение к бессознательному 205
ему права выйти в своих исследованиях за пределы области остроумия. И он должен сознаться, что именно тема комического сравнения заставила его почувствовать свою некомпетентность.
Итак, мы охотно напоминаем, что многие авторы не признают резкой идейной и реальной разницы между остроумием и комизмом, которую склонны видеть мы, и что они считают остроту просто «комизмом речи» или «слов». Для проверки этого взгляда мы хотим выбрать по одному примеру умышленного и невольного комизма речи для сравнения с остротой. Мы уже раньше заметили, что считаем себя достаточно компетентными, чтобы отличить остроумную фразу от комической.
[«Один съел пирожок с мясом, а другой — пирожок с удовольствием» — Перев.]
Это просто комично. А вот фраза Гейне о четырех сословиях, на которые разделяется население Геттингена:
«Профессора, студенты, филистеры и скот». Она уже чрезвычайно остроумна.
За образец умышленного комизма речи я беру «Wippchen» («Шутки») Штеттенхайма, которого называют остроумным, так как он в высокой степени обладает уменьем вызывать комизм. Острота, которую «знают», в противоположность той, которую «создают», в действительности метко определяется этой способностью. Неоспоримо, что письма бернского корреспондента «Шутки» остроумны в том отношении, что в них разбросано много острот всякого рода, среди которых есть очень удачные («празднично раздетые» — говорит он о празднестве у дикарей). Но своеобразный характер этих произведений зависит не от отдельных острот, а от комизма речи, который обильно струится в них. «Шутки» — это первоначально сатирический образ, модификация Фрейтаговского Schmock’a («газетного писаки») — одного из тех невежд, которые торгуют и злоупотребляют культурной ценностью нации. Но удовольствие от комического эффекта, получаемого при их изложении, оттесняет, очевидно, у автора мало-помалу сатирическую тенденцию на задний план. Продукция в «Шутках» является в большинстве случаев «комической бессмыслицей». Автор воспользовался (впрочем, по праву) веселым расположением духа, полученным в результате частого употребления такой продукции, чтобы наряду с допустимыми шутками привести разного рода по
206
3. Фрейд
шлости, которые сами по себе недопустимы. Бессмыслицы в «Шутках» кажутся специфическими из-за особой техники. Если ближе рассмотреть эти «остроты», то некоторые разряды их особенно бросаются в глаза и накладывают свой отпечаток на все творчество. «Шутки» используют преимущественно соединения (слияния), модификации известных оборотов речи и цитат и вставки в них банальных элементов с помощью более изысканных и более ценных в большинстве случаев средств выражения. Впрочем, это приближается, конечно, к техническим приемам остроумия.
Слияниями являются, например, следующие шутки (взятые из предисловия и первых страниц):
«В Турции столько золота, сколько звезд в море» — это выражение составлено из двух оборотов речи:
«Золото, как звезды»,
«Золото, как песок в море».
Или: «Я не больше чем безлиственный столп, свидетельствующий об исчезнувшем великолепии», что является сгущением «безлиственной породы» и «столпа, свидетельствующего и т. д.». Или: «Где нить Ариадны, которая вывела из Сциллы эту Авгиеву конюшню?», что составлено из трех элементов, принадлежащих трем различным греческим мифам.
Модификацию и замену одного другим -можно без натяжки объединить. Их характер вытекает из нижеследующих, взятых в «Шутках» примеров, в которых между строк всегда сквозит другой, ходячий, в большинстве случаев банальный, избитый текст.
«Битвы, в которых русские то оставались в дураках, то оставались в умниках». Нам известен только первый оборот речи; не так уж бессмысленно было бы ввести в употребление и второй по аналогии с первым.
«Во мне уже рано пробудился Пегас». Если заменить слово «Пегас» словом «поэт», то перед нами автобиографический оборот речи, потерявший уже ценность из-за частого употребления. Хотя слово «Пегас» и не подходит для замены слова «поэт», но оно находится с ним в связи по смыслу и является высокопарным.
«Так прожил я свое тернистое короткое платье».
Это описание вместо простого слова. «Вырасти из короткого платья» — один из описательных оборотов речи, связанных с понятием «детство».
Остроумие и его отношение к бессознательному 207
Из множества других продукций «Шуток» можно отметить некоторые как примеры чистого комизма, например комического разочарования. «Исход сражения колебался в течение нескольких часов. Наконец, оно окончилось ни в чью». Или пример комического разоблачения (неведения): «Клио, медуза истории»; цитаты: «Habent sua fata morgana» («Имеют свой мираж» —лат.). Но нас больше интересуют слияния и модификации, так как они воспроизводят известные технические приемы остроумия. Можно сравнить с модификациями такие остроты, как, например: «Он имеет великую будущность позади себя», «Он набитый идеалист»; остроты Лихтенберга, возникшие путем модификации: «Новые курорты хорошо лечат» и т. п. Можно ли назвать проекции «Шуток», пользующиеся той же самой техникой, остротами или они чем-то отличаются от острот?
На это, конечно, нетрудно ответить. Вспомним о том, что острота имеет для слушателя два лица, вынуждает его к двум различным толкованиям. В остротах-бессмыслицах, как в упомянутых выше, одно толкование, сообразующееся только с текстом, гласит, что он является бессмыслицей; другое толкование, следуя намеку, прокладывает у слушателя путь через бессознательное и находит себе отдичный смысл. При продукциях «Шуток», имеющих сходство с остротой, один из ликов остроты пуст, он как бы исчезает; это голова Януса, на которой высечен только один лик. Если человек, подкупленный техникой, обращается к бессознательному, он не находит там ничего. Исходя из слияния, мы не находим там такого случая, в котором оба слившихся элемента действительно получают новый смысл: при попытке анализа эти элементы совсем распадаются. Модификация и замена одного элемента другим приводят, как при остроте, к общеупотребительному и известному тексту, но сама модификация или замена не говорит ни о чем ином, а обычно и ни о чем возможном или общеупотребительном. Таким образом, для подобных «острот» остается только одно толкование — это бессмыслицы. Если угодно, то можно решить еще вопрос о том, нужно ли называть такие продукции, лишенные одной из существеннейших характерных черт остроумия, плохими остротами или вообще не называть их остротами. Несомненно, что такие бледные остроты все же производят комический эффект, который мы можем
208
3. Фрейд
объяснить себе по-разному. Либо комизм возникает из обнаружения видов мышления; употребительных в бессознательном как в случаях, рассмотренных раньше, либо удовольствие вытекает из сравнения с удачной остротой. Нам ничто не мешает предположить, что здесь совпадают оба способа возникновения комического удовольствия. Нельзя отрицать, что именно это недостаточное приближение к остроте превращает в данном случае бессмыслицу в комическую бессмыслицу.
Существуют другие, легко поддающиеся анализу случаи, в которых такая недостаточность, в сравнении с тем, что должно было бы быть продуцировано, делает бессмыслицу непреодолимо комической. Загадка, являющаяся противоположностью остроты, может дать нам лучшие примеры этого, чем сама острота. Например, шутливый вопрос звучит так: «Что висит на стене, обо что можно вытереть руки?» Если бы правильным ответом было «полотенце», то это была бы глупая загадка. Но такой ответ не принимается.— «Нет, селедка».:— «Но, помилуйте,— возражает удивленно человек.— Ведь селедка не висит на стене».— «Но ведь ты можешь повесить ее на стену».— «А кто же станет вытирать руки о селедку?» — «Тебя никто не заставляет это делать»,— звучит успокаивающий ответ. Это объяснение, данное с помощью двух типичных передвиганий, показывает, как многого не хватает этому вопросу, чтобы быть настоящей загадкой. И в силу этой абсолютной недостаточности он оказывается не просто бессмысленным, глупым, но и непреодолимо комическим. Таким образом, путем несоблюдения существенных условий острота, загадка и другие суждения, которые сами по себе не доставляют комического удовольствия, могут стать его источником.
Еще меньше трудностей для понимания представляет случай непроизвольного комизма речи, встречающийся очень часто в стихотворениях Ф. Кемпнер.
Против вивисекции
' Ein unbekanntes Band der Seelen kettet Den Menschen an das arme Tier.
Das Tier hat einen Widen — ergo Seele — Wenn auch ’ne kleinere als wir.
Остроумие и его отношение к бессознательному 209
(«Неведомая связь душ соединяет человека с бедным животным. У животного есть воля^ а следовательно и душа, хотя бы и меньшая, чем у нас»).
Или разговор двух нежных супругов («Контраст»):
«Wie glikklich bin ich»,— ruft sie leise. «Auch ich,— sagt tauter ihr Gemahl. — Es macht mich deine Art und Weise Sehr stolz auf meine gute Wahl!
(«Как я счастлива»,— тихо восклицает она. «И я,— говорит громче ее супруг.— Твой род и твой вид дают мне право весьма гордиться своим удачным выбором».)
Здесь нет ничего напоминающего остроту. Но несомненно, что комическими эти «стихотворения» делает их неудовлетворительность, чрезвычайная тяжеловесность выражений из-за вышедших из повседневного употребления или литературного стиля оборотов речи, простодушная ограниченность мыслей, отсутствие какого бы то ни было следа поэтического или разговорного образа мышления1. При всем том не совсем понятно, почему мы находим эти стихотворения Кемпнер комическими. Многие подобные же продукции мы находим просто плохими; они вызывают у нас не смех, а досаду. Именно размер отступления от тех требований, которые мы предъявляем к стихотво
1 Из русских авторов все сказанное полностью может быть отнесено к небезызвестному Козьме Пруткову. Образчиком его творчества может служить стихотворение в прозе «Что к чему привешено»: «Некоторая очень красивая девушка, в королевском присутствии у кавалера де Мондбасона, хладнокровно спрашивала: «Государь мой, что к чему привешено: хвост к собаке или собака к хвосту?» — Сей проворный в отповедях кавалер, нисколько не смятенным, а напротив того, постоянным голосом ответствовал: «Как, сударыня, приключится; ибо всякую собаку никому и за хвост, как за шею, приподнять невозбранно».— Которая отповедь тому королю отменное удовольствие причинивши, оный кавалер не без награды за нее остался». — Примеч. перев.
210
3. Фрейд
рениям, заставляет нас считать их комическими. Там, где эта разница меньше, мы больше склонны к критике, чем к смеху. Кроме того, комическое действие стихотворений Кемпнер обусловлено другими побочными обстоятельствами, очевидными добрыми намерениями, которыми руководствовалась поэтесса, некоторой сентиментальностью, обезоруживающей наше насмешливое отношение или нашу досаду и скрытой за ее беспомощными фразами. Мы вспоминаем здесь о проблеме, обсуждение которой отложили. Разница в затрате является, конечно, основным условием получения комического удовольствия. Но наблюдение показывает, что удовольствие не всегда проистекает из такой разницы. Какие условия должны присоединяться или какие препятствия должны быть устранены для того, чтобы результатом такой разницы в затрате действительно явилось комическое удовольствие? Но прежде чем ответить на этот вопрос, мы хотим сделать вывод из предшествующих рассуждений: острота не совпадает с комическим суждением, а остроумие — это нечто отличное от комизма речи.
Собираясь ответить на только что поставленный вопрос об условиях возникновения комического удовольствия из разницы в затрате, мы позволяем себе несколько облегчить н^шу задачу, что не может доставить нам самим ничего, кроме удовольствия. Точный ответ на этот вопрос был бы равнозначен исчерпывающему изложению природы комизма, а на это у нас нет ни права, ни способностей. Мы удовлетворимся опять-таки освещением проблемы комизма лишь постольку, поскольку она достаточно резко отличается от проблемы остроумия.
Все критики бросали теориям остроумия упрек в том, что их определения не затрагивают сущности комизма. Комизм основан на контрасте представлении, если контраст этот комичен и не производит иного впечатления. Комизм вытекает из неисполнения наших ожиданий, если разочарование при этом не мучительно. Эти возражения, без сомнения, справедливы, но их переоценивают, приходя к заключению, что существенная характерная черта комизМа ускользнула до настоящего времени от понимания. Обобщению же этих определений мешают условия, которые необходимы для возникновения комического удовольствия, без того чтобы в них нужно было искать сущность комизма. Оп
Остроумие и его отношение к бессознательному 211
ровержение возражений и объяснение противоречий будет легко для нас лишь в том случае, если мы будем считать, что комическое удовольствие вытекает из разницы при сравнении двух затрат. Комическое удовольствие и эффект, по которому оно узнается, то есть смех, могут возникать лишь тогда, когда эта разница неприменима для других целей и способна к отреагированию. Мы не получаем никакого эффекта удовольствия, а в крайнем случае — мимолетное чувство удовольствия, которое не носит комического характера, если разница, как только она распознается, получит другое применение. Как при остроте необходимо особое предрасположение, чтобы предупредить иное применение излишней затраты, так и комическое удовольствие может возникать только при таких соотношениях, которые выполняют это условие. Поэтому случаи, в которых возникают разницы затрат в жизни наших представлений, чрезвычайно многочисленны, а случаи, в которых из них вытекает комизм, сравнительно редки.
Наблюдатель, хотя бы бегло обозревающий условия возникновения комизма из разницы в затрате, может сделать два замечания. Во-первых, есть случаи, в которых регулярно и как бы неизбежно возникает комизм, и в противоположность им есть другие случаи, в которых комизм в большой мере зависит от условий случая и от точки зрения наблюдателя. Во-вторых, очень большая разница в затрате побеждает весьма часто неблагоприятные условия, так что комическое чувство возникает вопреки им. В связи с первым замечанием можно различать два класса: класс неопровержимо комического и класс случайно комического, хотя уже с самого начала нужно предположить, что неопровержимость комизма, относящаяся к первому классу, не свободна от исключений. Было бы заманчиво заняться исследованием решающих для обоих классов условий.
Существенными для второго класса являются условия, часть которых может быть объединена под названием «изолирования» комического случая. Ближайший анализ выясняет следующие соотношения.
А. Благоприятным условием для возникновения комического удовольствия является вообще веселое настроение духа, в котором человек расположен смеяться. При веселом настроении, выз
212
3. Фрейд
ванном токсически, почти все кажется комическим из-за сравнения с затратой в нормальном состоянии. Остроумие, комизм и все подобные методы извлечения удовольствия из душевной деятельности являются ничем иным, как путями, идя по которым можно от одного единственного пункта прийти в веселое настроение — эйфорию, если она не существует как общая установка психики.
Б. Точно так же благоприятно влияет ожидание комизма, установка на комическое удовольствие. Поэтому, если человек рассказывает что-нибудь, имея в виду вызвать комический эффект, то для этого достаточна бывает такая незначительная разница в затрате, которая, вероятно, осталась бы незамеченной, если бы человек не ожидал заранее комический эффект. Если человек читает комическое произведение или идет в театр смотреть комедию, то в силу предвзятости к ожидаемому впечатлению он смеется над такими вещами, которые вряд ли казались бы комическими ему в обыденной жизни. Он смеется, в конце концов, при воспоминании о том, что он смеялся; смеется при ожидании смеха; смеется, едва только завидит комического артиста, даже прежде, чем тот сделает хотя бы попытку вызвать у него смех. Поэтому человек признает даже, что иногда впоследствии стыдится, над чем он смеялся в театре.
В. Неблагоприятные для комизма условия могут явиться результатом того вида душевной деятельности, который занимает в данный момент индивидуума. Работа воображения или мышления, преследующая серьезные цели, мешает отреагированию энергии, в которой она, конечно, нуждается для своего выполнения. Поэтому только неожиданные большие разницы в затрате могут пробиться и доставить удовольствие от комического. Особенно неблагоприятны для комизма все виды мыслительной деятельности, которые настолько далеки от наглядности, что не вызывают мимики представлений. При абстрактном размышлении для комизма вообще нет места, разве только в случаях, если этот образ мышления внезапно нарушается.
Г. Удобный случай для освобождения комического удовольствия исчезает и тогда, когда внимание направлено на то именно сравнение, из которого может вытекать комизм. При таких условиях то, что прежде безусловно оказывало комическое дей
Остроумие и его отношение к бессознательному
213
ствие, теряет свою комическую силу. Душевное движение или проявление не может быть комичным для того, чье внимание направлено на сравнение этого душевного движения или проявления с образцом, который он ясно представляет себе. Так, экзаменатор не находит комичной бессмыслицу, продуцируемую испытуемым в его неведении, она раздражает его. В то же время коллеги испытуемого, которых гораздо больше интересует, какая участь постигнет их собрата, чем то, насколько удовлетворительны его знания, смеются от всего сердца над его бессмыслицей. Учителю гимнастики или танцев редко кажутся комическими движения его учеников, а от проповедника ускользает комизм отрицательных черт характера, которые так старательно отыскивает автор комедии. Комический процесс не выносит чрезмерной фиксации внимания на себе. Он должен протекать незаметно и подобен в этом отношении остроте. Но если бы его назвали обязательно бессознательным, то это противоречило бы номенклатуре «процессов сознания», которою я, имея на то основания, пользовался в «Толковании сновидений». Комический процесс относится скорее к предсознательному и ускользает от внимания, с которым связано сознание; поэтому его можно назвать подходящим термином «автоматический». Процесс сравнения затрат, если он доставляет комическое удовольствие, должен оставаться автоматическим.
Д. Если случай, из которого должен возникнуть комизм, является в то же время поводом к освобождению сильного аффекта, то это становится большим препятствием для комизма. Отреагирование разницы в этом случае, как правило, невозможно. Аффекты, предрасположение и установка индивидуума позволяют в каждом отдельном случае понять, что комизм всплывает или исчезает только в зависимости от точки зрения отдельного человека и абсолютно комическое существует только в исключительных случаях. Поэтому зависимость или относительность комического гораздо больше, чем относительность остроты, так как острота никогда не вытекает из чего-то, а всегда создается. А при ее создании уже приняты во внимание условия, в которых она создана. Развитие же аффекта — это самое сильное из условий, являющихся препятствием для комизма, и его значение нельзя отрицать, с какой бы стороны мы ни подошли к
214
3. Фрейд
этому вопросу1. Поэтому говорят, что комическое чувство возникает легче всего в полуиндифферентных случаях, в которых не участвуют сильное чувство или заинтересованность. Тем не менее можно видеть, что именно в случаях, связанных с освобождением аффекта, очень большая разница в затрате создает автоматизм отреагирования. Когда военачальник Бутлер отвечает, «горько смеясь», на напоминания Октавия возгласом «Dank vom Haus Osterreich!», то его раздражение не мешает смеху, который относится к воспоминанию об испытанном им разочаровании. С другой стороны, поэт не может более убедительно изобразить силу этого разочарования, чем указывая на ее способность вызвать насильственный смех посреди бушующих аффектов. Я полагаю, что это объяснение может быть приложено ко всем случаям, когда смех вызывают и полные удовольствия моменты, и интенсивные, мучительные или напряженные аффекты.
Е. Если мы еще прибавим, что комическому удовольствию может способствовать всякая иная случайность, как, например, влияние контакта (по принципу предварительного удовольствия при тенденциозной остроте), то этим мы исчерпали рассмотрение условий комического удовольствия — хотя и не полностью, но для нашей цели в достаточной мере. Мы видим, что эти условия, равно как непостоянство и зависимость комического эффекта, нельзя удовлетворительно объяснить, если не предположить, что комическое удовольствие является производным отреагирования на ту разницу в затратах, которая при самых разнообразных соотношениях может быть употреблена для других целей, а не на отреагирование.
Более подробного рассмотрения заслуживает еще комизм сексуальности и скабрезности, которого мы коснемся здесь лишь в немногих словах. Исходным пунктом и здесь является обнажение. Случайное обнажение действует на нас комически, так как мы сравниваем легкость, с которой получили возможность наслаждаться этим зрелищем, с той большой затратой, которая была бы необходима в иных обстоятельствах. Этот случай приближается к случаю наивно-комического, но он проще
1 «Тебе легко смеяться; тебя это мало трогает».
Остроумие и его отношение к бессознательному 215 его. Всякое обнажение, очевидцами которого (или слушателями — в случае сальности) мы становимся благодаря третьему лииу, равнозначно искусственному комизму обнаженного человека. Мы слышали, что задача остроты заключается в том, чтобы заменить собой сальность и вновь скрыть, таким образом, источник комического удовольствия, ставший недоступным. Наоборот, подсматривание (подслушивание) обнажения не является комическим для подсматривающего (подслушивающего), так как его собственное напряжение упраздняет при этом условие комического удовольствия. В таком случае остается только сексуальное удовольствие от увиденного. Когда подсматривающий рассказывает об этом другому, то человек, за которым подсматривали (подслушивали), вновь становится комичным, так как при этом преобладает точка зрения, по которой обнаженный человек не произвел затраты, необходимой для сокрытия наготы. Впрочем, область сексуальности и скабрезности дает чрезвычайно много удобных случаев получить комическое удовольствие наряду с удовольствием от сексуального возбуждения. Например, можно показать зависимость человека от его телесных потребностей (то есть унизить его) или открыть физическое влечение за претензией на духовную любовь (разоблачить его):
Прекрасная и жизненная книга Бергсона («Le rire») побуждает нас неожиданным образом искать понимание комизма в его психогенезе. Бергсон, формулы которого, предложенные им для объяснения характерных черт комизма, уже известны нам — «mecanisation de la vie», «substitution quel-conque de 1’artificiel au naturel» — переходит с помощью легко вызываемых ассоциаций от автоматизма к автоматам и пытается свести целый ряд комических эффектов к поблекшему воспоминанию о детской игрушке. Идя в этом направлении, он в одном месте становится на точку зрения, которую, впрочем, скоро оставляет. Он пытается вывести комизм из последствия детских радостей. «Peut-etre meme devrions-nous pousser la simplification plus loin encore, remonter a nos souvenirs les plus anciens, chercher dans les jeux qui amuserent 1’enfant, la premiere ebauche des combinaisons qui font rire 1’homme... Trop souvent surtout nous meconnaissons ce
216
3. Фрейд
qu’il у a d’encore enfantin, pour ainsi dire, dans la plupart de nos 6motions joyeuses»1.
Так как мы проследили в обратном направлении развитие остроты вплоть до запрещения разумной критикой детской игры словами и мыслями, то для нас должно быть особенно интересно проверить и эти предполагаемые Бергсоном инфантильные корни комизма.
Мы, действительно, наталкиваемся на целый ряд соотношений, которые кажутся нам многообещающими, когда мы исследуем отношение комизма к ребенку. Ребенок сам отнюдь не кажется нам комичным, хотя его сущность отвечает всем условиям, которые при сравнении с нами дают в результате комическую разницу: чрезмерную двигательную затрату наряду с незначительной умственной затратой, господство телесных функций над душевными и другие черты. Ребенок производит на нас комическое впечатление только тогда, когда он ведет себя не как ребенок, а подражает серьезному взрослому человеку. И он производит это впечатление таким же образом, как и те взрослые, которые носят чужую маску.. Но до тех пор, пока он сохраняет свою детскую сущность, восприятие его доставляет нам чистое, быть может, напоминающее комизм, удовольствие. Мы называем его наивным, поскольку у него отсутствуют задержки, и наивно-комическими его проявления, которые у взрослого человека назвали бы скабрезными или остроумными.
С другой стороны, у ребенка нет чувства комизма. Это положение говорит только о том, что такое чувство появляется в ходе душевного развития, как и некоторые другие. И не было бы ничего удивительного (тем более что это должно быть признано), если бы комизм мог отчетливо восприниматься уже в возрасте, который мы должны назвать детским. Но тем не менее можно показать, что утверждение, согласно которому у ре-
1 «Может быть, нам следует пойти еще дальше в этом упрощении, вернуться к самым ранним нашим воспоминаниям и искать в детских играх, забавляющих ребенка, первые зачатки тех построений, которые заставляют смеяться взрослого человека... Очень часто мы не улавливаем тех следов инфантильности, которые еще сохранились в большинстве наших радостных переживаний».
Остроумие и его отношение к бессознательному 217 бенка отсутствует чувство комизма, содержит нечто большее, чем просто аксиому. Прежде всего ясно, что это не может быть иначе, если справедливо наше объяснение, считающее комическое чувство производным разницы в затрате, рассматриваемой как результат понимания другого человека. Возьмем в качестве примера опять-таки комизм движения. Сравнение, в результате которого получается разница, уложенное в формулу выглядит следующим образом: «Так делает это он» и «Так делаю это я, так я сделал это». Но у ребенка нет того содержащегося во втором предложении масштаба. Его понимание идет путем одного только подражания, он делает это точно таким же образом. Воспитание ребенка награждает его штандартом: «Ты должен делать это таким-то образом». Если ребенок пользуется этим мерилом при сравнении, то он легко может сделать вывод, что он сделал это неправильно и может сделать это лучше. В этом случае ребенок высмеивает другого человека, чувствуя свое превосходство.. Я не вижу препятствий считать и этот смех производным разницы в затрате. Но по аналогии со знакомыми нам случаями высмеивания мы можем сделать вывод, что в смехе ребенка, сопровождаемом чувством превосходства, нет ничего комического. Это смех от чистого удовольствия. Когда мы ясно чувствуем свое превосходство, мы только улыбаемся, вместо того чтобы смеяться. А если мы смеемся, то тем не менее можем ясно отличить сознание своего превосходства от комизма.
Мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что ребенок смеется от чистого удовольствия при обстоятельствах, которые нами воспринимаются как комические, и мы не знаем мотивировки этого удовольствия. В то же время мотивы ребенка ясны и могут быть указаны.
Когда кто-нибудь поскользнется, например, на улице и упадет, то мы смеемся, потому что это производит — неизвестно почему — комическое впечатление. Ребенок смеется в этом случае от чувства превосходства, от радости, что это другому не повезло: он упал, а я — нет. Некоторые мотивы удовольствия ребенка оказываются утерянными для нас, взрослых. Поэтому мы в подобных условиях ощущаем «комическое» чувство взамен утерянного.
218
3. Фрейд
Было бы заманчиво обобщить искомый специфический характер комизма, видя в нем пробуждение инфантильности, понимая комизм как вновь приобретенный «утерянный детский смех». Тогда можно было бы сказать, что я всякий раз смеюсь по поводу разницы в затрате у другого человека и у меня, когда я вновь нахожу в другом человеке ребенка. Или, точнее говоря, полное сравнение, приводящее к комизму, должно было бы гласить: «Так делает это он, а я делаю это иначе. Он делает это так, как делал это я, будучи ребенком». Итак, этот смех являлся бы каждый раз результатом сравнения между мною взрослым и мною ребенком. Даже неравномерность комической разницы, из-за которой мне кажется комической то большая, то меньшая затрата, согласуется с инфантильным условием. Комизм при этом фактически всегда относится к инфантильности. Это не стоит в противоречии с тем, что ребенок сам как объект сравнения не производит на меня комического, а только приятное впечатление. Не противоречит этому и то, что сравнение с инфантильным действует комически только в том случае, если разница в затрате не получила другого применения, так как при этом принимаются во внимание условия отреагирования. Все, что включает психический процесс в какую-либо связь, противодействует отреагированию излишней энергии и дает ей другое применение. Все, что изолирует психический акт, способствует отреагированию. Поэтому сознательная установка на ребенка как на объект сравнения делает невозможным отреагирование, необходимое для комического удовольствия. Только в предсознательной инстанции (Besetzung) получается такое приближение к изолированию в том виде, в каком мы можем, впрочем, приписать его и душевным процессам ребенка. Добавление к сравнению «Так делал это я, будучи ребенком», от которого исходит комическое действие, принималось бы, следовательно, во внимание для разниц средней величины лишь в том случае, если никакая другая связь не могла бы овладеть избытком освобожденной энергии.
Если мы еще продолжим попытку найти сущность комизма в предсознательной распознавании инфантильности, то должны будем сделать шаг вперед в сравнении с Бергсоном и признать, что сравнение, из которого вытекает комизм, должно пробудить не
Остроумие и его отношение к бессознательному 219 только прежнее детское удовольствие и детскую игру, но и затронуть детскую сущность вообще; быть может, даже детское страдание. Мы расходимся в этом с Бергсоном, но остаемся в согласии с собой, приводя комическое удовольствие в связь не с воспоминаниями об удовольствии, а всегда только со сравнением. Возможно, что случаи первого рода покрывают до некоторой степени закономерный и непреодолимый комизм. Присоединим сюда вышеприведенную схему случаев, в которых возможен комизм. Мы сказали, что комическая разница получается или а) от сравнения между другим человеком и мною, или б) от сравнения, производимого исключительно в пределах другой личности, или в) от сравнения, производимого исключительно в пределах моего Я-
В первом случае другой человек кажется мне ребенком, во втором — он сам опускается до ступени ребенка, в третьем — я нахожу ребенка в себе самом. К первому случаю относится комизм движения и форм, душевных проявлений и характера. В инфантильном этому соответствует любовь к движениям, умственная и нравственная недоразвитость как у ребенка, отчего глупый кажется мне комичным, напоминая ленивого ребенка, злой — напоминая скверного ребенка. О детском удовольствии, утерянном для взрослого человека, можно говорить только в том случае, когда речь идет о свойственной ребенку любви к движениям. Второй случай, при котором комизм покоится целиком на «вчувствовании», охватывает многочисленные случаи: комизм ситуации, преувеличения (карикатура), подражания, унижения и разорения. В этом случае уместна, по большей части, инфантильная оценка, так как комизм ситуации основан преимущественно на затруднениях, в которых мы вновь находим беспомощность ребенка. Самое худшее из этих затруднений — нарушение других функций повелительными требованиями, предъявляемыми естественными потребностями — соответствует тому, что ребенок недостаточно еще владеет своими телесными функциями. Если комизм ситуации оказывает свое действие с помощью повторений, то он опирается на свойственное ребенку удовольствие от длительного повторения, которым ребенок так надоедает взрослому (одни и те же вопросы, рассказы). Преувеличение, доставляющее удовольствие еще и взрослому, поскольку оно может
220
3. Фрейд
быть оправдано его критикой, связано с характерным для ребенка отсутствием чувства меры, с его незнанием всех количественных соотношений, которые он впоследствии изучает как качественные. Сохранение чувства меры, умеренность является плодом позднейшего воспитания и приобретается путем взаимного тормбжения душевных порывов, воспринимаемых в определенной связи. Если эта связь ослаблена, как в бессознательном сновидении и при моноидеизме психоневрозов, то вперед выступает отсутствие чувства меры, свойственное ребенку.
Комизм подражания представлял сравнительно большие трудности для нашего понимания до тех пор, пока мы не учитывали при этом инфантильного момента. Но подражание является самым излюбленным приемом ребенка и двигательным мотивом большинства его игр. Честолюбие ребенка направлено гораздо меньше на выделение среди равных себе, чем на подражание взрослым. От отношения ребенка к взрослому зависит и комизм унижения, которому соответствует тот случай, когда взрослый снисходит к детской жизни. Вряд ли что-нибудь может доставить ребенку больше удовольствия, чем то, когда взрослый отказывается от подавляющего превосходства и играет с ним, как с равным себе. Уменьшение затраты, доставляющее ребенку чистое удовольствие, превращается у взрослого, как унижение, в средство искусственного вызывания комизма и в источник комического удовольствия. О разоблачении мы знаем, что оно является производным унижения.
На наибольшие трудности наталкивается инфантильное условие третьего случая — комизма ожидания. Этим, конечно, объясняется то, что авторы, поставившие в своем изложении комизма этот случай на первый план, не сочли нужным принять во внимание инфантильный момент комизма. Комизм ожидания чужд ребенку, способность понять его наступает очень поздно. Ребенок в большинстве тех случаев, которые кажутся взрослому комическими, чувствует, вероятно, только разочарование. Но можно было бы связать с блаженством ожидания и легковерием ребенка понимание того, что человек кажется комичным, «как ребенок», когда он испытывает комическое разочарование.
Если бы результатом только что приведенного изложения явилась некоторая вероятность расшифровки комического чувства и
Остроумие и его отношение к бессознательному 221
если бы эта расшифровка гласила: комично все то, что не подходит взрослому,— тем не менее я в силу моего отношения к проблеме комизма не нашел бы в себе достаточно смелости так же серьезно защищать это положение, как все приведенные до сих пор. Я не могу решить, является ли нисхождение к ребенку только частным случаем комического унижения или всякий комизм покоится в своей основе на таком нисхождении1.
Исследование комизма, даже беглое, было бы крайне неполным, если бы оно не сделало хотя бы несколько замечаний о юморе. Родственность между комизмом и юмором так мало подлежит сомнению, что попытка объяснения комизма должна дать по меньшей мере один.компонент для понимания юмора. Для оценки юмора было приведено много верного и выдающегося. Будучи одним из высших психических проявлений, юмор пользуется особым вниманием мыслителей, тем не менее мы не можем не сделать попытку выразить его сущность, приблизив ее к формулам для остроты и для комизма.
Мы слышали, что освобождение мучительных аффектов является сильнейшим препятствием для комического впечатления. Так как бесцельное действие наносит ущерб, глупость приводит к несчастью, разочарование причиняет боль, то все это исключает возможность произвести комический эффект, по крайней мере, на того, кто не может отделаться от такого неудовольствия, кто сам испытывает его, кого оно затрагивает. В то же время человек непричастный показывает своим поведением, что ситуация настоящего случая имеет все необходимое для комического эффекта. Юмор является средством получения удовольствия, несмотря на препятствующие ему мучительные аффекты. Он подавляет это развитие аффекта, занимает его место. Условием для его появления можно считать ситуацию, в которой мы, сообразно с нашими привычками, должны были бы пережить мучительный аффект, но поддаемся влиянию мотивов, призывающих к
1 Если бы комизм не имел ничего общего с инфантильностью, то это было бы на самом деле редким совпадением (если не учитывать, что комическое удовольствие при этом имеет своим источником «количественный контраст», то есть сравнение большого с малым, выражающее сущность отношения взрослого к ребенку).
222
3. Фрейд
подавлению этого аффекта in statu nascendi (в зародыше). Следовательно, в вышеприведенных случаях человек, которому причинены ущерб и боль, может получить в лучшем случае юмористическое удовольствие, в то время как человек непричастный смеется от удовольствия комического. Удовольствие от юмора возникает в таких случаях ценою неосуществившегося развития аффекта (не можем сказать иначе); оно вытекает из экономии аффективной затраты.
Юмор является самым умеренным из всех видов комизма. Его процесс осуществляется уже при наличии одного только человека; участие другого не прибавляет к нему ничего нового. Я могу сам наслаждаться возникшим во мне юмористическим удовольствием, не испытывая потребности рассказать о нем другому человеку. Нелегко сказать, что происходит в этом одном человеке при появлении юмористического удовольствия. Но можно создать себе определенное мнение об этом, если исследовать те случаи сообщенного или прочувствованного юмора, в которых я, благодаря пониманию человека с юмором, получаю такое же удовольствие, как и он. Самый грубый случай юмора, так называемый «юмор висельников» (Galgenhumor) пояснит нам это.
«Преступник, которого ведут в понедельник на казнь, говорит: «Ну, эта неделя начинается хорошо».
Это, собственно, острота, так как замечание само по себе меткое. Но, с другой стороны, оно до бессмысленного неуместно, так как дальнейших событий для него в эту неделю не будет. Но нужно обладать юмором, чтобы создать такую остроту вопреки всему тому, что отличает начало этой недели от других и пренебречь этим отличием, которое создает мотивы совершенно к особым переживаниям. Так же обстоит дело и тогда, когда он по пути на казнь выпрашивает кашне для своей обнаженной шеи, чтобы не простудиться. Такая предосторожность была бы обоснованной в ином случае, но теперь, когда судьба этой шеи уже предрешена, осторожность эта кажется излишней и чрезмерно беспечной. Нужно сознаться, что есть нечто похожее на душевное величие в этом бахвальстве, в сохранении своей привычной сущности, в нежелании видеть то, что вскоре уничтожит этого че-
Остроумие и его отношение к бессознательному 223 ----------- -----------------------------------------------
ловека и поэтому должно привести его в отчаяние. Такого рода величие юмора выступает, несомненно, в тех случаях, когда наше восхищение не встречает задержек в положении юмористического лица.
В «Эрнани» В. Гюго, бандит, принявший участие в заговоре против своего короля Карла I Испанского (Карла V, немецкого кайзера), попал в руки своего могущественного врага. Он, изобличенный заговорщик, предвидит свою судьбу: его голова будет отсечена. Но в предвидении этого он раскрывает свое звание потомственного гранда и заявляет, что он не собирается отказываться от преимуществ, которыми пользуются гранды. Испанский гранд имеет право надеть головной убор в присутствии своего короля. Итак:
Nos tetes ont le droit
De tomber couvertes devant de toi. («Наши головы имеют право Пасть перед тобой покрытыми».)
Это великолепный пример юмора. А если мы, слушатели, не смеемся при этом, то лишь потому, что наше изумление покрывает собой юмористическое удовольствие. В случае с преступником, который боится простудиться на пути к виселице, мы смеемся во все горло. Ситуация, приводящая преступника в отчаяние, может вызвать у нас только сострадание. Но это сострадание встречает в нас задержку, так как мы понимаем, что тот, кого это близко касается, нисколько не представляет себе всей серьезности момента. От этого понимания затрата энергии на сострадание, к которой мы были уже подготовлены, уже неприменима для этой цели, и мы выражаем ее в смехе. Беспечность преступника, стоившая ему, как мы замечаем, большой затраты психической энергии, как будто заражает нас.
Экономия сострадания является одним из самых частых источников юмористического удовольствия. Юмор Марка Твена пользуется обычно этим механизмом. Например, Твен рассказывает нам такой случай из жизни своего брата. Однажды тот, будучи служащим на большом предприятии по строительству железных дорог,
224
3. Фрейд
взлетел на воздух из-за преждевременного взрыва мины и упал опять на землю далеко от места своей работы. В нас этот случай неизбежно пробуждает чувство сострадания к несчастному. Нам хочется спросить, не получил ли он ранений при этом. Но дальше следует продолжение рассказа. Оказывается, у брата был удержан полудневный заработок «за то, что он отлучился со службы». И это уточнение целиком отвлекает нас от сострадания, делает нас почти такими же безжалостными, как и его предприниматель, и вызывает почти такое же безразличное отношение к возможному ущербу здоровью брата.
В другой раз Марк Твен излагает нам свою родословную, которую он ведет от одного из спутников Колумба. Но после того как он изобразил нам характер этого предка, весь багаж которого состоял из нескольких пар белья, причем каждая пара имела другую метку, то мы начинаем смеяться и не иначе как за счет экономии того благоговения,‘В которое готовы были перенестись в начале рассказа, об этой родословной. При этом для механизма юмористического удовольствия не является препятствием знание того, что эта родословная вымышленная и этот вымысел служит целям сатирической тенденции, подчеркивая, таким образом, излишнюю красочность, которая имеется в подобных сообщениях других людей.
Еще один рассказ Марка Твена. Его брат построил себе подземную квартиру, в которую принес кровать, стол и лампу. Крышей ей служил большой, продырявленный в середине кусок парусины. Но ночью, после того как квартира была устроена, через отверстие в крыше на пол упала корова, которую гнали домой. При этом она погасила лампу. Брат терпеливо помог вытащить наверх животное и привел все опять в порядок. Таким же образом он поступил, когда в следующую ночь повторилось то же самое. И так далее каждую ночь. Такая история производит комическое впечатление из-за многократного повторения. Но Марк Твен заканчивает ее таким образом. На 46-ю ночь, когда корова снова упала вниз, брат заметил: «Дело начинает принимать однообразный характер». И тогда мы не можем не испытать юмористического удовольствия, так как уже давно ожидали услышать, как же, в конце концов, брат выразит свою досаду по поводу этого упорного невезения.
Остроумие и его отношение к бессознательному 225
Тот небольшой юмор, который мы сами вносим в нашу жизнь, мы, как правило, продуцируем за счет досады, взамен огорчения1.
Виды юмора чрезвычайно разнообразны, в зависимости от природы аффективного возбуждения, за счет экономии которого он создается. Это сострадание, досада, боль, умиление и т. д. Этот ряд бесконечен, так как область юмора становится все шире. Художнику или писателю удается юмористически победить непобежденные до сих пор аффективные возбуждения, сделать их источником юмористического удовольствия с помощью тех же приемов, что и в предыдущих примерах. Художники «Симплицис-симуса» поражают нас тем, что добывают юмор из ужасного и отвратительного. Впрочем, формы проявления юмора определяются двумя особенностями, связанными с условиями его возникновения. Во-первых, юмор может сливаться с остротой или другим видом комизма, причем на его долю выпадает задача устранить заложенную в ситуации возможность развития аффекта, который явился бы препятствием для ощущения удоволь
1 Великолепный юмористический эффект, который производит фигура толстого рыцаря сэра Джона Фальстафа, основан на экономии презрения и негодования. Хотя мы считаем его недостойным кутилой и мошенником, но при осуждении его нас обезоруживает целый ряд моментов. Мы понимаем, что он сам о себе такого же мнения, как и мы о нем. Он импонирует нам своим остроумием, и, кроме того, его телесное уродство оказывает в высшей степени благоприятное влияние на комическое понимание его личности вместо серьезного, как будто наши требования относительно морали и чести должны отскакивать от такого толстого живота. Его поведение, в общем, безобидно и может быть почти оправдано комической подлостью тех, кого он обманывает. Мы согласны с тем, что этот бедняк имеет право стремиться к жизненным благам и к наслаждению, как и всякий другой. Мы почти сочувствуем ему, так как в главных ситуациях мы видим, что он является игрушкой в руках человека, гораздо более сильного, чем он. Поэтому мы не можем ненавидеть его и превращаем все, что экономим за счет негодования, в комическое удовольствие, прибавляя его к тому удовольствию, которое он доставлял прежде. Собственный юмор Джона Фальстафа вытекает из чувства превосходства его Я, которого ни его физические, ни моральные недостатки не могут лишить веселости и уверенности.
226
3. Фрейд
ствия. Во-вторых, он может совсем или только частично упразднить развитие аффекта, что имеет место даже чаще, так как это легче сделать. В результате появляются различные формы «мрачного» («gebrochen»)1 юмора, смеющегося сквозь слезы. Он отнимает у аффекта часть его энергии и придает ему за это юмористический оттенок.
Юмористическое удовольствие, доставляемое вчувствовани-ем, возникает, как можно заметить из предыдущих примеров, с помощью особой техники, которую можно сравнить с передвиганием. С помощью этой техники уже заготовленный аффект не встречает нужного объекта, и энергия направляется на нечто другое, нередко второстепенное. Но для понимания того процесса, который осуществляет передвигание с развития аффекта, это ничего не дает. Мы видим, что воспринимающий юмор подражает его создателю в его душевных процессах, но не узнаем при этом ничего о тех силах, которые осуществляют этот процесс у создателя юмора.
Доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский является, наоборот, фигурой, которая сама по себе не обладает юмором. Он доставляет нам в своей серьезности удовольствие, которое можно было бы назвать юмористическим, хотя в механизме этого удовольствия имеется глубокое уклонение от юмора. Дон Кихот — это первоначально чисто комическая фигура, большой ребенок, которому вскружили голову фантазии из рыцарских книг. Известно, что автор вначале не хотел сказать ничего другого, кроме этого, и что произведение это мало-помалу разрослось далеко за пределы первоначальной цели автора. Но затем Сервантес наградил эту смешную персону глубочайшей мудростью и благороднейшими намерениями, сделал Дон Кихота символическим воплощением идеализма, показал, как он верит в осуществимость своих целей, серьезно выполняет свои обязанности и обязательно сдерживает свои обещания. И тогда этот герой перестал производить на нас комическое впечатление. Как в одних случаях юмористическое удовольствие возникает из торможения аффективного возбуждения, так в случае с Дон Кихотом оно возникает из торможения комического удовольствия. Однако эти примеры увели нас в сторону от простых примеров юмора.
1 Термин, употребленный в эстетике Т. Фишером совсем в другом смысле.
Остроумие и его отношение к бессознательному 227
Можно только сказать, что если кому-нибудь удается пренебречь, например, болезненным аффектом, противопоставляя величину мировых интересов своему собственному ничтожеству, то мы не видим в этом никакого проявления юмора. Это только проявление философского мышления, и мы не получаем никакого удовольствия, отождествляя себя с этим человеком. Юмор, следовательно, так же невозможен при фиксации сознательного внимания, как и комическое сравнение, которое связано условием оставаться предсознательным или автоматическим.
К некоторой разгадке юмористического передвигания можно подойти, если рассматривать его в свете защитных процессов, которые являются психическими коррелятивами рефлекса бегства. Они преследуют цель предупредить возникновение неудовольствия из внутренних источников. При выполнении этой задачи они служат для душевной жизни автоматическим регулятором, который, в конце концов, оказывается чем-то ущербным для нас и должен поэтому подавляться сознательным мышлением. Я доказал, что определенный вид этой защиты, неудавшееся вытеснение, является действующим механизмом при возникновении психоневрозов. Юмор может быть понят как высшая из этих защитных функций. Он не скрывает от сознательного внимания содержание представлений, связанных с мучительным аффектом, как это делает вытеснение. Следовательно, он преодолевает защитный автоматизм. Юмор осуществляет это, находя средства лишить энергии подготовленное уже освобождение неудовольствия и направить ее путем отреагирования на получение удовольствия. Можно даже предположить, что и связь с инфантильностью представляет в его распоряжение средства для этой функции. В детской жизни бывают сильные мучительные аффекты, по поводу которых взрослый теперь улыбается. Так он со временем начинает смеяться, будучи юмористом, над своими нынешними мучительными аффектами. Возвеличение своего Д о котором свидетельствует юмористическое передвигание, взрослый может, конечно, найти в сравнении своего теперешнего Я со своим детским Я (в переводе на язык сознания это должно гласить: я слишком великолепен, чтобы эти причины заставили меня страдать). Такое толкование подтверждается до некоторой степени той ролью, какая принадлежит инфантильности при невротических процессах вытеснения.
228
3. Фрейд
В общем, юмор стоит ближе к комизму, чем к остроумию. Он имеет общую с комизмом психическую локализацию в предсоз-нательном, в то время как острота, согласно нашему предположению, является компромиссом между бессознательными и предсознательными процессами. Поэтому юмору не присуща та своеобразная характерная черта, которая свойственна и остроте, и комизму и которую мы, быть может, еще недостаточно ясно отметили. Мы имеем в виду условие для возникновения комизма. Согласно ему мы одновременно или в быстрой последовательности применяем для одной и той же работы воображения два различных способа представления, между которыми потом происходит «сравнение», а в результате получается комическая разница. Такие разницы в затрате возникают между чуждым и родственным, привычным и видоизмененным, ожидаемым и случившимся1.
При остроте разница между двумя способами понимания, работающими с различной затратой, имеет значение для процесса у слушателя остроты. Одно из этих двух пониманий, следуя содержащимся в остроте намекам, прокладывает путь мысли через бессознательное, другое остается на поверхности и представляет себе остроту, как всякий иной текст, осознанный из предсозна-тельного. Быть может, было бы правильно считать удовольствие от выслушанной остроты производным разницы обоих этих способов представлений2.
1 Если не побояться несколько расширить понятие ожидания, то, согласно Липпсу, можно причислить очень большую область комизма к комизму ожидания. Но, вероятно, самые первоначальные формы комизма, которые являются результатом сравнения чужой затраты со своею собственной, меньше всего могут быть отнесены к этому виду комизма.
2 На этой формуле можно остановиться, так как в ней нет ничего, что стояло бы в противоречии с прежними рассуждениями. Разница между двумя затратами должна, в сущности, сводиться к экономии затраты на упразднение задержки. Отсутствие этой затраты на упразднение задержки при комизме и отсутствие количественного контраста при остроте обусловливают отличие комического чувства от впечатления, производимого остротой. И это при всей аналогии в характере двоякой работы представления для одного и того же понимания.
Остроумие и его отношение к бессознательному 229
Мы утверждаем здесь об остроте то же самое, что уже было описано нами еще до того, как отношение между остротой и комизмом показалось нам неисчерпанным, отчего мы уподобили остроту двуликому Янусу1.
При юморе бледнеет эта, выдвинутая здесь на первый план, характерная черта. Правда, мы испытываем юмористическое удовольствие, когда избежали аффективного возбуждения, которое было бы уместно в данной ситуации. И в этом отношении юмор тоже подпадает под расширенное понятие комизма ожидания. Но при юморе больше нет речи о двух различных способах представления одного и того же содержания. Преобладание в ситуации характера неудовольствия, вытекающего из аффективного возбуждения, которого нужно избежать, кладет конец сравнению с характерной чертой комизма и остроумия; Юмористическое передвигание является, собственно, случаем того иного употребления освобождения затраты, которое столь опасно для комического впечатления.
Приведя механизм юмористического удовольствия к той же формуле, что и комическое удовольствие и остроту, мы заканчи
1 Свойство «Double face» («двуликий»), разумеется, не ускользнуло от авторов. Melinaud, у которого я позаимствовал это выражение, дает условие для смеха в следующей формуле (Pourquoi riton? «Revue des deux mondes», Fevrier, 1895): «Се qui fait rire, c’est ce qui est a la fois, d’un cote, absurde et de 1’autre, familier». («Заставляет смеяться то, что является, с одной стороны,— абсурдным, а с другой — фамильярным».)
Эта формула подходит скорее к остроте, чем к комизму, но и ее не покрывает в целом. Бергсон (1. с. с. 98) определяет комическую ситуацию при помощи «interference des series»: «Une situation est toujours comique quand elle appartient en meme temps a deux series d’evenements absolument independantes, et qu’elle peut s’interpreter a la fois dans deux sens tout differentes». («Какое-нибудь положение вещей всегда будет комическим, если оно в одно и то же время относится к двум сериям событий, совсем независимых одно от другого, и когда это положение может быть истолковано сразу в двух совершенно противоположных смыслах».)
Для Липпса комизмом является «величие и ничтожество одного и того же» («Die Grosse und Kleinheit desselben»).
230;3. Фрейд
ваем нашу работу. Удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма — из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от юмора — из экономии аффективной затраты энергии. Во всех трех видах работы нашей душевной деятельности удовольствие вытекает из экономии. Все три вида аналогичны в том, что представляют собой методы получения удовольствия из душевной деятельности, причем удовольствия, которое, собственно, было потеряно лишь из-за развития этой деятельности. Ибо эйфория, которую мы стремимся вызвать этими путями, является ничем иным, как настроением духа в тот жизненный период, когда мы вообще справлялись с нашей психической работой с помощью незначительной затраты энергии,— настроением духа в нашем детстве, когда мы не знали комизма, не были способны создавать остроты, не нуждались в юморе, чтобы чувствовать себя счастливыми в жизни.
Страх
I
При описании патологических феноменов наш язык различает симптомы и торможения (Hemmungen), не придавая, однако, большого значения этому различию. Если бы нам не встречались случаи заболеваний, о которых приходится сказать, что у них наблюдается только торможение, но нет симптомов, и если бы мы не пожелали узнать, чем это обусловлено, то у нас вряд ли явился бы интерес разграничить понятия «торможение» и «симптом».
Оба этих явления не выросли на одной и той же почве. Торможение имеет особое отношение к функции и вовсе не означает нечто безусловно патологическое. И нормальное ограничение функции можно назвать затормаживанием. Симптом же имеет значение признака болезненного процесса. И торможение, таким образом, тоже может быть симптомом. В таком случае о торможении говорят, имея в виду простое понижение функции; а о симптоме —> когда речь вдет о необычном изменении функции или о новом действии, не соответствующем нормальному. Во многих случаях кажется совершенно произвольным обозначение положительной или отрицательной стороны патологического процесса, подчеркивание его результата как симптома или как торможения. Все это, в действительности, вовсе не интересно и постановка вопроса, из которого мы исходили, оказывается малоплодотворной.
Так как торможение по своему существу так тесно связано с функцией, то может возникнуть мысль рассмотреть различные функции Я, для того чтобы установить, в каких формах проявляются их нарушения при отдельных неврологических заболеваниях. Для такого сравнительного исследования мы избираем сексуальную функцию, еду, двигательную деятельность и профессиональную работу.
234
3. Фрейд
А. Сексуальная функция подвержена самым разнообразным нарушениям, большинство которых носит характер простого торможения. Их можно объединить в понятие психической импотенции.
Выполнение нормальной сексуальной функции предполагает сложный процесс, нарушение которого возможно в любом месте. Главные остановки торможения у мужчины: отход либцдо, необходимого для начала процесса (психическое неудовольствие), отсутствие физической готовности (отсутствие эрекции), сокращение акта (ejaculatio ргаесох, которое может быть также описано как положительный симптом), прекращение акта до естественного окончания (отсутствие ejaculatio), отсутствие психического эффекта (ощущения наслаждения, оргазма). Другие нарушения возникают из-за связи, установившейся между функцией и особыми условиями, извращенными или фетишистскими по своей природе.
Мы не можем дальше скрывать от себя известное отношение торможения к страху. Некоторые виды торможения представляют собой очевидный отказ от функции, так как при выполнении ее мог бы возникнуть страх. Непосредственный страх перед сексуальной функцией часто встречается у женщины. Мы его относим к явлениям истерии, так же как и защитный симптом отвращения, появляющийся первоначально как последующая реакция на пассивно пережитый сексуальный акт, а позже при мысленном представлении его. Большое число навязчивых действий оказывается также мерами предосторожности и предупреждения сексуальных переживаний, являясь, таким образом, также фобическими по своей природе.
Но в понимании здесь далеко вперед не продвигаешься. Можно только заметить, что применяются самые разные способы для того, чтобы нарушить функцию. 1) Простой отход либидо, который скорее всего дает картину, названную нами чистым торможением. 2) Ухудшение в выполнении функгщи. 3) Затруднение функции из-за особых условий ее выполнения и модификация ее путем отклонения на другие цели. 4) Предупреждение выполнения функции с помощью мер предосторожности. 5) Прекращение функции из-за появления страха, если начало ее не удается предупредить. 6) Последующая рёакция, которая протестует и стремится повернуть вспять совершенное, если функция все же была выполнена.
Б. Самое частое нарушение функции питания — это отвращение к пище при отходе либидо. Нередко также бывает и усиление
Страх
235
желания есть. Навязчивое влечение к еде, мотивированное страхом перед голодной смертью, исследовано мало. Более известно истерическое отвращение к пище в виде симптома рвоты, а также отказ от пищи под влиянием страха, что относится к психотическим состояниям (бред отравления).
В. Функция движений тормозится при некоторых невротических состояниях из-за нежелания ходить и слабостью при хождении. Истерические препятствия создаются при этом двигательными параличами моторного аппарата или специфическим нарушением только данной функции его (абазия). Особенно характерно затруднение передвижения из-за требования определенных условий, при невыполнении которых наступает страх (фобия).
Г. Торможение работы, которое так часто наблюдается в виде изолированного симптома терапевтического отклонения, проявляется как понижение потребности в работе или как плохое выполнение ее. Наконец, оно возможно и как реактивное явление в форме усталости (головокружение, рвота), если обстоятельства вынуждают продолжать ее. Истерия приводит к прекращению работы из-за паралича органа и функции, существование которой несовместимо с выполнением работы. Невроз навязчивости нарушает работу беспрерывным отвлечением внимания и потерей времени из-за остановок и повторений.
Этот обзор мы могли бы распространить и на другие функции, но не можем ожидать, что тем самым достигнем большего! Мы все равно оставались бы на поверхности явлений. Решимся поэтому на формулировку, которая сократит объем загадочного в понятии о торможении. Торможение является проявлением ограничения функции Я и может иметь различные причины. Некоторые механизмы такого ограничения функции и общие тенденции нам хорошо известны.
В случаях специального торможения эту тенденцию легче узнать. Если играть на рояле, писать или даже ходить становится трудно из-за невротического торможения, то анализ объясняет причину этого явления слишком сильной эротизацией выполняющих эту функцию органов — пальцев и ног. В общем мы поняли, что Я как функция органа терпит повреждение, если его эроген-ность, его сексуальное знание увеличивается. Этот орган ведет себя в таком случае — если решиться на несколько рискованное
236
3. Фрейд
сравнение,— как кухарка, которая не хочет больше работать у плиты, потому что хозяин дома завязал с нею любовные отношения. Если писание (то есть процесс, при котором жидкость заставляют вытекать из трубочки на кусок белой бумаги) приобретает символическое значение coitus’a; или если хождение становится символической заменой топтания живота матери-земли; то и писание и хождение не выполняются потому, что воспринимаются как выполнение запрещенного сексуального действия. Я отказывается от возможной для него функции, чтобы не быть снова вынужденным совершить вытеснение во избежание конфликта с Оно'.
Другие торможения возникают, очевидно, с целью наложить на себя наказание. Это нередко бывает при нарушениях профессиональной деятельности. Я не должно этого делать,— такое запрещается строгим сверх-Я, потому что такая деятельность приносит ему пользу и успех. В таком случае Я отказывается от самонака-зания, чтобы не вступать в конфликт со сверх-Д.
Более общие задержки Я протекают по-другому. Если перед Я стоит психическая задача особой трудности (например, необходимость побороть печаль, подавить сильные аффекты, постоянно отгонять возникающие сексуальные фантазии), то оно становится намного беднее энергией, которой может располагать. Это вынуждает Я ограничить свои усилия, одновременно направленные на многое другое, подобно спекулянту, который вложил все деньги в свои предприятия и не располагает свободным капиталом. Поучительный пример такого интенсивного кратковременного общего торможения я имел возможность наблюдать у одного больного, страдающего навязчивыми идеями. Он впадал в парализующую усталость, длившуюся один или несколько дней в тех случаях, которые должны были бы, несомненно, вызвать у него взрыв ярости. Исходя из этого, можно, вероятно, найти путь к пониманию общего торможения; которым отличаются постоянные депрессии, и самая тяжелая из них — меланхолия.
Резюмируя, можно сказать, что торможения представляют собой ограничения функции Я из осторожности или из-за уменьшения энергии. Теперь легко понять, чем торможение отличается от симптома. Сймптом не может быть понимаем как процесс, происходящий в самом Я или над ним.
1 3. Фрейд. Я и Оно. — Примеч. ред.
Страх
237
II
Основы симптомообразования давно исследованы и, будем надеяться, сформулированы безупречным образом. Симптом является признаком и заменой не имевшего места удовлетворения влечения, результатом процесса вытеснения. Вытеснение исходат из Я, которое иногда, по поручению сверх-Я, не допускает проявления влечения возбужденного в Оно. Я достигает посредством вытеснения того, что представление, бывшее носителем неприемлемого душевного движения, не делается осознанным. Анализ часто показывает, что это представление сохранилось в виде бессознательного образования. До сих пор все ясно, но затем начинаются трудности, с которыми не удалось еще справиться.
Наши прежние описания процесса при вытеснении старательно подчеркивали, как результат его, отстранение от сознания, но в других пунктах оставили место сомнению. Возникает вопрос: какова судьба активированного в Оно влечения, стремящегося к удовлетворению? Ответ давался не прямой и состоял в том, что с помощью процесса вытеснения ожидаемое удовольствие от удовлетворения превращалось в неудовольствие. И тут возникала проблема: каким образом в результате удовлетворения влечения может возникнуть неудовольствие? Мы надеемся объяснить положение вещей, сделав определенное указание, что наметившееся в Оно течение возбуждения вообще не осуществляется из-за вытеснения. Я удается его приостановить или отклонить. В таком случае отпадает загадка «превращения аффекта» при вытеснении. Этим мы сделали уступку Я в том смысле, что оно может проявлять столь сильное влияние на процессы в Оно, и нам необходимо понять, каким путем открывается ему возможность этого неожиданного могущества.
Я полагаю, что это влияние Я приобретает в силу своих тесных отношений к системе восприятий, составляющих сущность его и ставших причиной его дифференциации от Оно. Функция этой системы, названной нами W — Bw, связана с феноменом сознания. Эта система воспринимает возбуждения не только извне, но и изнутри и, при помощи ощущений «удовольствие — неудовольствие» (Lust — Unlust), которые оттуда до нее доходят, она старается управлять всеми течениями, происходящими в психике по
238
3. Фрейд
принципу удовольствия. Мы представляем себе Я беспомощным по отношению к Оно. Но когда Я восстает против какого-нибудь влечения в Оно, то достаточно ему дать сигнал неудовольствия, чтобы достичь своей цели с помощью почти всемогущей инстанции принципа удовольствия. Если мы на минуту станем изолировано рассматривать эту ситуацию, то сможем иллюстрировать ее примером из другой области. В каком-либо государстве известная клика противится мероприятиям, принятие которых соответствовало бы желаниям масс. Это меньшинство овладевает тогда прессой, обрабатывает при ее помощи суверенное «общественное мнение» и таким образом добивается того, что предполагаемое решение не состоится.
С этим ответом связывается дальнейший вопрос: откуда берется энергия, израсходованная на то, чтобы дать сигнал недовольства? Здесь нам указывает путь та мысль, что отражение нежелательного процесса внутри психики должно происходить по образцу отражения внешнего раздражения, то есть что Я одинаковым способом защищается и от внутренней и от внешней опасности. При внешней опасности органическое существо совершает попытку к бегству, отнимая сначала психическую энергию (Besetzung) от восприятия опасного. Позже это существо узнает, что действительным средством являются такие мускульные реакции, которые делают невозможным восприятие опасности даже если ему не противиться: например, оно старается удалиться из области действия опасности. Подобной попытке к бегству равноценно и вытеснение. Я отнимает предсознательную психическую энергию (Besetzung) у предметов своих влечений, подлежащих вытеснению, и использует ее для развития чувства недовольства — страха. Проблема, каким образом при вытеснении возникает страх,— не простая. Тем не менее, мы вправе придерживаться взгляда, что Я является подлинным местом проявления страха, и отказаться от прежнего взгляда, полагающего, что энергия вытесненного душевного движения автоматически превращается в страх. Если раньше я это утверждал, то давал этим феноменологическое описание, но не метапсихологическое.
Из сказанного вытекает новый вопрос: как это возможно с экономической точки зрения, что от одного только процесса отнятия и оттока психической энергии (Besetzung) — как это происходит при обратном отходе предсознательной энергии Я — возникает не
Страх
239
удовольствие или страх, которые, согласно нашим предположениям, могут быть лишь следствием повышенной концентрации психической энергии. Мой ответ таков: причина этого явления не может быть объяснена с экономической точки зрения. При вытеснении страх не образуется вновь, а воспроизводится как аффективное состояние по имеющемуся уже воспоминанию. Следующий вопрос о происхождении этого страха, как и аффектов вообще, бесспорно заставляет нас, однако, оставить психологическую почву и вступить в пограничную область физиологии. Аффективные состояния воплощены в психической жизни как осадки травматических переживаний отдаленной древности и в ситуациях, соответствующих этим переживаниям воспроизводятся как символы воспоминания. Полагаю, что я был прав, когда уподобил их позже индивидуально приобретенным истерическим припадкам и рассматривал их как нормальные образцы последних. У человека и у родственных ему животных акт рождения вызывает характерные черты выражения аффекта страха, как первое индивидуальное переживание этого аффекта. Нам не следует, однако, слишком переоценивать эту связь. Признавая ее, мы не должны упускать из вида, что аффективный порыв в ситуации опасности является биологической необходимостью и все равно был бы непременно создан. Считаю также неправильным предположение, что при каждой вспышке страха в психической жизни происходит нечто равносильное воспроизведению ситуации рождения. Нет даже уверенности в том, что истерические припадки, являющиеся первоначально такими травматическими репродукциями, надолго сохраняют этот характер.
В другом месте я утверждал, что большинство вытеснений, с которыми нам приходится иметь дело при терапевтической работе, являются случаями проталкивания вслед (Nachdrangen). Они предполагают имевшие прежде место первичные вытеснения (Urverdrangung), которые притягательно действуют на новую ситуацию. Об этих основах и предшествующих степенях вытеснения еще слишком мало известно. Подвергаешься опасности слишком переоценить роль сверх-Я при вытеснении. В настоящее время невозможно судить о том, создает ли возникновение сверх-Я грань между первичным вытеснением и проталкиванием вслед (Nachdrangen.) Первые очень интенсивные вспышки страха возникают, во всяком
240
3. Фрейд
случае, до дифференциации сверх-# Весьма вероятно, что такие количественные моменты, как слишком большая сила возбуждения и прорыв защиты от раздражений (Reizschutz), являются ближайшими поводами к первичному вытеснению.
Упоминание о защите от раздражений говорит нам, подобно сигналу, что вытеснения возникают при двух различных ситуациях, а именно: когда недопустимое влечение пробуждается с помощью внешнего восприятия и когда оно возникает изнутри без провокации извне. В дальнейшем мы вернемся к этому различию. Но защита от раздражения имеется только против внешних раздражений, а не против требований внутренних влечений.
Поскольку мы изучаем попытку к бегству со стороны # мы остаемся в стороне от образования симптомов. Симптом возникает из влечения, которому противодействует вытеснение. Когда Я, воспользовавшись сигналом неудовольствия, достигает своей цели, совершенно подавляя влечение, мы ничего не узнаем о том, каким образом это произошло. Узнать это мы можем только в тех случаях, которые следует отнести к вытеснениям более или менее неудачным.
В последнем случае в общем дело обстоит так, что влечение, несмотря на вытеснение, все же находит себе замещение, которое носит на себе печать искажения, сдвига, торможения. В нем больше нельзя узнать удовлетворение, оно не сопровождается ощущением удовольствия, но зато этот процесс принимает характер навязчивости. При затухании процесса удовлетворения до степени симптома вытеснение проявляет свою силу еще и в другом направлении. Процессу замещения удовлетворения симптомом по возможности отрезается выход наружу с помощью моторной сферы. Даже в том случае, когда это не удается, процесс замещения должен исчерпаться изменением в собственном теле и не может перейти во внешний мир, ему запрещено превращаться в действие. Нам это понятно: при вытеснении Я работает под влиянием внешней реальности и потому изолирует от этой реальности успешное течение процесса замещения.
Я владеет доступом к сознанию как и переходом в действие по отношению к внешнему миру. При вытеснении оно использует свою власть в обоих направлениях. Представление, замещающее влечение, испытывает на себе одну сторону силы этой власти, само влечение — другую. Здесь уместно спросить, как примирить это
Страх
241
признание могущества Я с описанием, данным нами в исследовании «Я» и «Оно» о положении того же Я.
Там мы описывали зависимость Я от Оно и от сверх-Я, его бессилие и склонность испытывать страх перед ними. Там же вскрыли, с каким трудом Я удается поддержать свое превосходство. Это мнение нашло впоследствии громкий отзвук в психоаналитической литературе. Многочисленные голоса настойчиво подчеркивают слабость Я перед Оно, рационального — перед демоническим в нас. Делаются попытки превратить это положение в основу психоаналитического «миросозерцания». Не должно ли понимание значения вытеснения удержать именно аналитика от такого крайнего увлечения?
Я вообще не стою за фабрикацию миросозерцания. Предоставим лучше это философам, которые, по собственному признанию, не в состоянии выполнить свой жизненный путь без такого рода путеводителя, содержащего сведения на любой случай жизни. Примем смиренно презрение, с которым философы смотрят на нас с точки зрения своих возвышенных потребностей. Так как и мы не можем скрыть своей нарцистической гордости, то постараемся найти утешение в том соображении, что все эти «путеводители жизни» быстро стареют; что именно наша близорукая, ограниченная, мелкая работа создает необходимость в новых изданиях их и что даже новейшие из этих путеводителей представляют собой попытки заменить старый, такой удобный и такой совершенный катехизис. Нам хорошо известно, как мало удалось до сих пор науке пролить свет на загадай этого мира. Все старания философов ничего в этом деле изменить не могут. Только терпеливое продолжение работы, подчиняющейся исключительно требованиям точного знания, может медленно изменить такое положение вещей. Если путешественник поет в темноте, то он этим только скрывает свой страх, но больше он от этого не видит.
III
Вернемся к проблеме Я- Видимость указанного противоречия происходит оттого, что мы ограниченно понимаем абстракции и из сложной ситуации выхватываем только одну или другую сторону.
Отделение Я от Оно кажется вполне правильным, оно навязывается нам определенными обстоятельствами. Но, с другой сторо
242
3. Фрейд
ны, Я тождественно с Оно, составляет только особенно дифференцированную часть его. Если мы в мыслях противопоставляем эту часть целому или если между обеими частями возникло действительное противоречие, то слабость Я становится нам очевидной. Если же Я остается связанным с Оно, неотделимым от него, то проявляется его сила. Таково же отношение Я со сверх-Я В большинстве случаев они оба сливаются, и мы можем их различить, по большей части, только тогда, когда между ними возникает конфликт. В случае вытеснения решающее значение имеет тот факт, что Я организованно, а Оно — нет. Я представляет собой именно организованную часть Оно. Ничем не оправдывается представление о Я и Оно, как о двух различных военных лагерях: будто при помощи вытеснения Я старается подавить часть Оно, но тут остальная часть Оно спешит на помощь и вступает в борьбу с Я.
Пожалуй, нечто подобное и возможно, но не таково, безусловно, исходное положение при вытеснении. Обычно влечение, подвергающееся вытеснению, остается изолированным. Если акт вытеснения показал нам силу Я, то в одном отношении он является показателем бессилия Я и того факта, что отдельные влечения Оно не поддаются его воздействию. Ибо процесс, превращенный вытеснением в симптом, продолжается вне организации Я и независимо от нее. И не только этот процесс, но и все его отпрыски пользуются тем же преимуществом, можно сказать — экстратерриториальностью. Даже там, где последние ассоциативно связываются с частями организации Я, все же подлежит сомнению, не перетянут ли они на свою сторону эти части Я и не распространятся ли с их помощью за счет Я- Давно известное нам сравнение видит в симптоме «постороннее тело», которое беспрерывно поддерживает явления раздражения и реакции в ткани, в которую внедрился. Хотя и бывают случаи, когда борьба против неприятного влечения заканчивается образованием симптома (поскольку нам известно, что, это скорее всего, возможно при истерической конверсии), однако процесс принимает другое течение. За первым актом вытеснения следует длительный и не имеющий конца эпилог: борьба против влечения находит свое продолжение в борьбе с симптомом.
Этот вторичный этап борьбы показывает нам два лика с противоположными выражениями. С одной стороны, Я по природе
Страх
243
своей вынуждено предпринять нечто вроде попытки восстановления и примирения. Я представляет собой организацию, основанную на свободе обращения и возможности взаимного влияния между всеми его частями. Его десексуализированная энергия выдает свое происхождение в стремлении к связи и однородности, и этот импульс к синтезу все увеличивается по мере развития Я- Таким образом, понятно, что Я старается устранить характер отчуждения и изолированности симптома, пользуясь любыми возможностями каким-то образом связать его с собой любыми связями и воплотить в своей организации. Нам известно, что такое стремление оказывает влияние уже на сам акт образования симптома. Классический пример тому представляют те истерические симптомы, в которых мы увидели компромисс между потребностями в удовлетворении и в наказании. Выполняя такое требование сверх-#, эти симптомы с самого начала составляют часть Я, между тем как с другой стороны они имеют значение отвоеванных обратно позиций вытесненного и прорыв последнего в организацию Я. Они являются, так сказать, пограничными станциями, занятыми смешанными отрядами.
Все ли первичные истерические симптомы так организованны — заслуживает тщательного исследования. В дальнейшем Я ведет себя так, как будто оно руковдствовалось примерно таким соображением: ну что же, симптом имеется и не может быть устранен; приходится примириться с таким положением вещей и извлечь из него максимально возможную пользу. Тут имеет место приспособление внутреннего мира к чуждой Я части, представленной симптомом,— такое же приспособление, какое Я обычно выполняет в нормальных условиях в отношении реального внешнего мира. В поводах к этому недостатка нет. Существование симптомов приносит с собой известное ограничение деятельности, что помогает умиротворить требование сверх-# или отклонить притязания внешнего мира. Таким образом, на симптом постепенно возлагается защита важных интересов. Он приобретает ценность для самоутверждения, все теснее срастается с Я, становится ему все необходимей. Только в редких случаях процесс залечивания постороннего тела может воспроизвести нечто подобное. Это значение вторичного приспособления к симптому можно еще преувеличить, утверждая, что Я вообще создало себе симптом только для того, чтобы воспользоваться его преимуществами. ЭТо так же верно или
244
3. Фрейд
неверно, как мнение, что раненый на войне нарочно заставил оторвать себе ногу снарядом, чтобы потом, не трудясь, жить на свою инвалидную пенсию.
Другие симптомы при неврозе навязчивости и при паранойе приобретают большую ценность для Я не потому, что приносят ему преимущества, а потому, что доставляют нарцистическое удовлетворение, которого Я лишено. Нервные системы невротиков, страдающих навязчивостью, льстят их самолюбию, создавая им представление о себе, как об особенно чистых и совестливых людях, лучших, чем все другие. Систематический бред при паранойе открывает для проницательности и фантазии этих больных поле деятельности, ничем для них незаменимое. Из всех этих отношений возникает то, что нам известно как «вторичная» выгода от болезни при неврозах. Она помогает стремлению Я создать в себе такой симптом и укрепляет его фиксацию. Когда мы делаем попытку путем анализа оказать помощь Я в его борьбе с симптомом, то находим сопротивление этим примиряющим условиям между Я и симптомом. Нам не так легко разрушить два этих приема, которые Я применяет к симптому. Они находятся действительно в противоречии друг с другом.
Второй прием имеет менее любезный характер, действуя в направлении вытеснения. Но вам не следует упрекать Я в непоследовательности. Я миролюбиво и согласно воплотить в себе симптом, приобщить его к своему ансамблю. Нарушение исходит из симптома, который, в качестве настоящего заместителя и отпрыска вытесненного влечения, продолжает играть его роль, беспрерывно возобновляя притязание на удовлетворение и заставляя, таким образом, Я снова дать сигнал неудовольствия и перейти к самозащите.
Вторичная борьба против симптома очень разнообразна. Она разыгрывается на разных сценах и пользуется всевозможными средствами. Мы немного сможем о ней сказать, если не изберем предметом исследования отдельные случаи образования симптомов. При этом у нас найдется повод к тому, чтобы остановиться на проблеме страха, которую мы уже давно чувствуем за нашими рассуждениями. Лучше всего исходить из симптомов, образующихся при истерическом неврозе. На предпосылках симптомообразования при неврозе навязчивости, паранойе и других неврозах не будем останавливаться из-за недостаточной нашей подготовленности.
Страх
245
IV
Первый случай, который мы рассмотрим, представляет собой детскую истерическую фобию животного; например, безусловно типичный в своих чертах случай фобии лошади «маленького Ганса». Уже при первом взгляде мы убеждаемся, что обстоятельства реального случая некритического заболевания гораздо сложнее, чем мы можем себе представить, имея дело только с абстракциями. Нужно совершить некоторую работу, чтобы разобраться в том, что является вытесненным душевным движением, что — заменяющим его симптомом, а что — мотивом вытеснения.
Маленький Ганс отказывается идти на улицу, потому что им владеет страх перед лошадью. Таков сырой факт. Что же тут является симптомом: развитие страха, выбор объекта страха, отказ от свободы передвижения или несколько этих моментов одновременно? В чем состоит удовлетворение, в котором он себе отказывает? Почему он должен себе в нем отказать?
Легко ответить, что в этом случае вовсе не так много загадочного. Непонятный страх перед лошадью — это симптом; невозможность пойти на улицу — явление торможения; ограничение, которое Я налагает на себя, чтобы предупредить появление симптома страха. Верность объяснения последнего пункта совершенно очевидна, и в дальнейшем рассмотрении этого случая можно оставить это торможение без внимания. Но первое беглое знакомство со случаем не показывает нам даже настоящего выражения предполагаемого симптома. При более точном исследовании мы узнаем, что речь идет вовсе не о неосознанном страхе перед лошадью, а о вполне определенном боязливом опасении: лошадь его может укусить. Правда, это объяснение старается укрыться от сознания и заменяется неопределенной фобией, в которой сохраняется еще только страх перед объектом. Это ли содержание является объектом?
Мы не продвинемся вперед, пока не примем во внимание всю психическую ситуацию ребенка, какою она нам открывается во время аналитической работы. У него имеется ревнивая и враждебная эдипова установка к отцу, которого он, однако, искренне любит, поскольку мать не является причиной этого раздвоения.
246
3. Фрейд
Другими словами, налицо амбивалентный конфликт, то есть вполне обоснованная любовь и не менее справедливый гнев и оба по отношению к одному и тому же липу. Его фобия должна быть попыткой разрешить этот конфликт. Подобные амбивалентные конфликты очень часты, и нам известен другой типичный для них исход, когда одно из борющихся между собой душевных движений, обычно нежное, невероятно усиливается, а противоположное исчезает. Лишь чрезмерность и навязчивый характер нежности показывает нам, что тут имеется не только установка на нее, а что нежность находится всегда настороже, стараясь удержать в подавлении противоположное чувство. Это дает нам возможность конструировать развитие установки, которое мы описываем, как вытеснение при помощи реактивного образования в Я. Случаи, подобные маленькому Гансу, не содержат таких реактивных образований. Очевидно, имеются различные пути выхода из амбивалентного конфликта.
Между тем мы, несомненно, установили нечто другое. Влечение, подлежащее вытеснению, представляет собой враждебный импульс против отца. Анализ дает нам доказательства этому, доискиваясь до происхождения идеи о кусачей лошади. Ганс видел, как лошадь упала, как упал и поранил себя приятель, с которым он играл «в лошадки». Мы вправе предположить у Ганса желание, чтобы отец упал и разбился, как лошадь и как приятель. Связь с отъездом из дома, который Ганс видел, позволяет предположить, что желание устранить отца нашло себе и менее робкое выражение. Но такое желание равноценно намерению лично устранить отца, желанию убить, заключенному в эдиповом комплексе.
От такого вытесненного влечения пока нет прямого пути к его замене, которую мы предполагаем в фобии к лошади. Упростим психическую ситуацию маленького Ганса, устранив инфантильный момент и амбивалентность. Представим себе вместо него молодого слугу в доме, влюбленного в свою госпожу и пользующегося милостивым вниманием с ее стороны. И в этом случае остается то обстоятельство, что он ненавидит более сильного хозяина дома и хотел бы его устранить. Естественно, как следствие этого у него возникнет опасение мести со стороны хозяина, что вызовет у него состояние страха перед ним. Совершенно так же у маленького Ганса появилась фобия перед лошадью. А это значит, что сам страх
Страх
247
мы не можем считать симптомом. Если бы маленький Ганс, который влюблен в свою мать, стал проявлять страх перед отцом, то мы не вправе были бы приписывать ему невроз, фобию. Мы имели бы дело с совершенно понятной аффективной реакцией, которая превращается в невроз только по единственной причине — замене отца лошадью. Следовательно, этот «сдвиг» имеет право называться симптомом. Он и образует тот механизм, который позволяет разрешить амбивалентный конфликт без помощи реактивного образования. Этот процесс становится возможным и облегчается тем обстоятельством, что врожденные черты тематического мышления еще легко оживают в этом нежном возрасте. Пропасть между человеком и животным еще не вполне сознается и, несомненно, не так резко подчеркивается, как позже. Взрослый мужчина, вызывающий одновременно и удивление и страх, занимает место наряду с животным, которому по различным поводам завидуешь, но знаешь, что оно может стать опасным. Амбивалентный конфликт не разрешается, таким образом, в отношении того же лица, а как бы обходится стороной, так как одно из вызванных им побуждений переносится в виде замены на другое лицо.
Все это совершенно ясно. Но в другом пункте анализ фобии маленького Ганса принес нам полное разочарование. Искажение, в котором состоит симптомообразование, совершается вовсе не над «представителем» влечения, подлежащего вытеснению (то есть не над человеком, представляющим и характеризующим определенное содержание). Оно совершается над другим представлением, соответствующим только реакции на действительно неприятное. Наше ожидание было бы более оправдано, если бы маленький Ганс вместо страха перед лошадью проявил склонность мучить ее, бить или откровенно выражал желание видеть, как они падают, разбиваются или даже издыхают в судорогах (с топаньем ногами). Нечто в этом роде действительно наступает во время анализа невроза, но занимает далеко не первое место в его проявлениях. Но странно: если бы Ганс действительно проявил, как главный симптом, такую враждебность к лошади, вместо того чтобы питать ее к отцу, тогда мы не заподозрили бы у него невроза. Следовательно, что-то тут не в порядке — или в понимании нами вытеснения или в определении симптома. Но одно мы сейчас отмечаем: если бы маленький Ганс действительно проявлял такое отношение к
248
-3. Фрейд
лошадям, то характер недопустимого агрессивного влечения вовсе не был бы изменен вытеснением, а был бы только подменен его объект.
Не подлежит сомнению, что встречаются случаи вытеснения, не достигающие ничего больше такой замены объекта. При генезисе фобии маленького Ганса произошло однако нечто большее. Насколько большее — это мы узнаем из другой части анализа.
Мы уже слышали, что маленький Ганс указал, как на содержание своей фобии, на представление, что его укусит лошадь. Позже мы познакомились с происхождением другого случая фобии животного, где внушающим страх животным был волк, который также как бы замещал отца. После одного из снов у этого мальчика развился страх, что его сожрет волк, как и семерых козлят в сказке. То обстоятельство, что отец маленького Ганса играл с ним «в лошадки», имело, безусловно, решающее влияние на выбор объекта страха. Точно так же отец одного моего русского пациента, подвергнутого мною анализу, когда ему было около тридцати лет, играя с ребенком, изображал волка и шутя грозил съесть его. Позже я нашел и третий случай — с молодым американцем. У него, правда, не образовалась фобия к животным, но именно это обстоятельство способствует пониманию двух первых случаев. Сексуальное возбуждение этого третьего больного вспыхнуло под влиянием рассказанной ему фантастической сказки об одном арабском вожде, преследовавшем человека, сделанного из пряника (Gingerbreadman), чтобы съесть его. Он отождествил себя самого с этим съедобным человеком. В лице арабского вождя легко узнавался заместитель отца. И эта фантазия стала почвой для его автоэротических занятий. Но представление о том, что можно быть съеденным отцом,— типичное детское представление с древних времен. Аналогии этому из мифологии (титан Кронос) и из жизни влечений всем известны.
Несмотря на приведенные подтверждения, эти представления кажутся нам настолько странными, что мы с недоверием можем приписать их ребенку. Нам также неизвестно, действительно ли они означают то, о чем как будто говорят, и нам непонятно, каким образом они могут стать предметом фобии. Однако аналитический опыт дает требуемые объяснения. Объяснение, что тебя может съесть отец, является выражением пассивных нежных чувств, уни
Страх
249
женным путем регресса. Это выражение желания получить любовь отца в качестве объекта для генитальной эротики. Если проследить дальше историю этого случая, то не остается никакого сомнения в правильности такого толкования. Правда, намерения генитального желания уже нельзя назвать нежными, когда это желание преодолевает переходную фазу из оральной организации либидо к садистской. Возникает вопрос: идет ли тут речь о замене психического компонента влечения каким-нибудь регрессивным способом выражения или действительно о регрессивном унижении желания, вызвавшего в Оно генитальное содержание? Это вовсе не так легко решить. История болезни русского пациента решительно говорит в пользу последней, более углубленной возможности, потому что после решающего сновидения он ведет себя «дурно», мучает всех, проявляет садистские импульсы и вскоре после того у него развивается настоящий невроз навязчивости. Во всяком случае, мы убеждаемся, что вытеснение — это не единственное средство, которым Я располагает для отражения неприятного влечения. Если ему удается добиться регрессии влечения, то, по существу, это энергичней обезвредило влечение, чем такое было бы возможно сделать путем вытеснения. Однако иногда, вслед за вынужденной регрессией, Я совершает и вытеснение.
Положение вещей у русского пациента и несколько более простое у маленького Ганса вызывает еще разные другие соображения. Но две вещи нам неожиданно становятся ясными уже теперь. Не подлежит сомнению, что вытесненное при этих фобиях влечение враждебно по отношению к отцу. Можно сказать, что оно вытесняется противоположным процессом. Вместо агрессивности против отца появляется агрессивность-месть отца против самого ребенка. Поскольку подобная агрессивность и без того коренится в садистской фазе либвдо, то ей достаточно и некоторого понижения к оральной стадии развития, намечавшегося у Ганса в ожидании того, что его укусят, а у другого пациента — резко выраженного в страхе быть съеденным. Но, кроме того, анализу удается вне всякого сомнения установить, что одновременно подвергается вытеснению и другое влечение противоположного характера — пассивно нежное в отношении отца и достигшее уже уровня генитальной (фаллической) организации либидо. Кажется, что последнее имеет даже большее значение для конечного результата про
250
3. Фрейд
цесса вытеснения. Оно подвергается более глубокой регрессии и приобретает решающее влияние на содержание фобии. Всюду, где мы проследили процесс вытеснения влечения, мы вынуждены признать совпадение двух таких процессов. Оба вытесненных влечения — садистская агрессивность против отца и пассивно нежная установка в отношении его — составляют противоположную пару. Больше того, если хорошо вникнуть в историю маленького Ганса, то убеждаешься, что с образованием фобии у него исчезает и нежная привязанность к матери, о чем содержание его фобии ничего не говорит. У Ганса речь идет о процессе вытеснения, охватывающего почти все компоненты эдипова комплекса: враждебное и одновременно нежное отношение к отцу и нежное влечение к матери (у русского пациента это гораздо менее ясно).
Мы желаем изучить только простые случаи образования симптомов вытеснения и остановиться с этой целью на самых ранних и как будт,о наиболее ясных неврозах детства, а случай с Гансом является нежелательным осложнением. Вместо единственного вытеснения мы нашли целую группу таковых и, кроме того, нам пришлось еще иметь дело с регрессией. Может быть, мы увеличили путаницу тем, что оба имевшихся в нашем распоряжении анализа фобии животных, маленького Ганса и русского пациента непременно хотели мерить одной меркой. Но мы замечаем и некоторое различие между ними. Только относительно маленького Ганса можно с уверенностью сказать, что благодаря своей фобии он справился с двумя главными влечениями эдипова комплекса: агрессивным к отцу и слишком нежным к матери. Нежное влечение к отцу, несомненно, также имеется у него, оно выполняет свою роль при вытеснении противоположного влечения. Но совершенно не доказано, что оно было достаточно сильным, чтобы спровоцировать вытеснение, и что оно само потом заглохло. Ганс, по-видимому, был нормальным мальчиком с так называемым «положительным эдиповым комплексом». Весьма возможно, что моменты, которых мы не находим, оказали и на него свое действие, но мы не в состоянии их указать. Материал даже самых подробных наших анализов все же имеет пробелы, и наша документация остается несовершенной.
У русского пациента другой дефект: его отношение к женскому объекту нарушено преждевременным соблазном. В нем сильно
Страх
251
выражена пассивная женская сторона и анализ его «волчьего» сновидения мало вскрывает преднамеренную агрессивность против отца. Зато он дает неопровержимые доказательства тому, что вытеснение коснулось пассивной нежной установки к отцу. Возможно, что и тут принимали участие другие факторы, но они не проявляются. Если, несмотря на это различие между обоими случаями (близкое к полной противоположности), результат фобии оказался один и тот же, то объяснение этому мы можем найти в чем-то другом, а именно — во втором результате нашего маленького сравнительного исследования. Мы полагаем, что в обоих случаях мотор вытеснения одинаков и нам известен. Его роль подтверждается тем течением, которое приняло развитие обоих детей, а именно страх перед угрозой кастрации. Из-за него маленький Ганс отказался от агрессивности против отцд. Его страх, что лошадь его укусит, легко может быть дополнен представлением, что лошадь откусит ему гениталии, кастрирует его. Но из страха перед кастрацией и маленький русский отказывается от желания, чтобы отец любил его как сексуальный объект. По его разумению, такого рода отношения должны иметь своей предпосылкой лишение его гениталий,— то есть того, что отличает его от женщины. Обе формы эдипова комплекса (нормальная, активная и инвертированная) терпят крушение из-за кастранионной фобии. Боязнь русского быть съеденным волком не содержит, правда, намека на кастрацию, так как из-за оральной регрессии он слишком далеко отошел от фаллической фазы. Но анализ его сновидения делает излишним всякое другое доказательство. Полным триумфом вытеснения является также и то, что в словесном тексте фобии нет даже намека на кастрацию.
Здесь перед нами неожиданный результат: в обоих случаях мотором вытеснения оказывается страх перед кастрацией. Страшные представления об укусе лошади и нападении волка представляют собой только искаженную замену представления о кастрации отцом. Собственно говоря, именно это представление и подвергается вытеснению. У русского оно выражало желание, не устоявшее против возмущения его мужских чувств, у Ганса — реакцию, превратившую его агрессивность в противоположное влечение. Но аффект страха, составляющий его сущность, происходит не из процесса вытеснения, не из либидозной энергии вытесненных влече
252
3. Фрейд
ний, а из самой вытесняющей инстанции. Фобия животных — это неизмененный страх перед кастрацией, то есть страх реальный, страх перед действительной опасностью, угрожающей или понимаемой, как реальная. Здесь страхом создается вытеснение, а не вытеснением создается страх, как я раньше думал.
Неприятно об этом думать, но не могу отрицать, что я часто защищал положение, будто из-за вытеснения представление, относящееся к влечению, искажается, отодвигается и т. п., а либидо влечения превращается в страх. Исследование фобий, которые в первую очередь должны были бы доказать это положение, не подтверждает его, а скорее как будто прямо противоречит ему. Фобия животных — страх Я перед кастрацией. Менее основательно исследованная агорафобия (боязнь больших пространств. —Пе-рев.) представляет собою, по-видимому, страх перед искушением, который генетически должен быть связан со страхом перед кастрацией. Большинство фобий, насколько мы об этом можем судить, сводятся к такому страху Я перед притязаниями либвдо. Всегда при этом полная страха установка Я является первичным моментом и импульсом к вытеснению. Никогда страх не происходит из вытесненного либидо. Если бы ранее я ограничился утверждением, что после вытеснения вместо ожидаемого проявления либидо появляется некоторое количество страха, то мне не пришлось бы теперь брать свои слова обратно. Описание само по себе верно и между силой подлежащего вытеснению влечения и интенсивностью возникающего в результате его страха имеется предполагавшееся соответствие. Но, сознаюсь, я имел в виду нечто большее, чем только описание. Я полагал, что открыл метапсихологический процесс непосредственного превращения либидо в страх. Теперь от этого я должен отказаться. Я и раньше не мог указать, каким образом происходит такое превращение.
Откуда же я вообще взял мысль об этом превращении? Из изучения актуальных неврозов в то время, когда мы еще были далеки от того, чтобы отличать процессы в Я от процессов в Оно. Я нашел, что определенные сексуальные привычки, как то, coitus interruptus, фрустрационное возбуждение, вынужденное воздержание вызывают припадки страха и общую боязливость. То есть всегда в тех случаях, когда сексуальное возбуждение тормозится на своем пути к удовлетворению, задерживается или отклоняется от
Страх
253
него, возникает страх. Так как сексуальное возбуждение является выражением либидозных влечений, то предположение, что либидо под влиянием таких нарушений превращается в страх, не казалось рискованным. Это наблюдение сохраняет свою силу и по настоящее время. С другой стороны, нельзя отрицать, что либидо процессов, протекающих в Оно, испытывает нарушения под влиянием вытеснения и возможно, что при вытеснении страх все же образуется из либцдозной энергии влечения. Но как примирить этот вывод с тем, что фобии представляют собой страх Я, возникают в Я и происходят не из вытеснения, а сами вызывают таковое? Это кажется противоречием и его нелегко разрешить. Попытка свести два этих источника страха к одному не так-то легко удается. Можно попытаться сделать предположение, что Я ждет опасности от ситуации нарушенного коитуса, прерванного возбуждения, воздержания и реагирует на это страхом. Но в этом мало пользы. С другой стороны, анализ фобии, предпринятый нами, как будто не допускает еще исправлений. Non liquet! (Не ясно! —лат.)
V
Мы намеревались изучать симптомообразование и вторичную борьбу Я против симптома, но, очевидно, наш выбор фобии был не совсем удачным. Страх, преобладающий в картине этой болезни, оказался для нас осложнением, скрывающим положение вещей. Имеется достаточно неврозов, при которых не проявляется никакого страха. К их числу относится настоящая конверзионная истерия, в самых тяжелых симптомах которой не находится примеси страха. Уже этот факт должен был бы сказать нам, что не следует предполагать слишком тесных взаимоотношений между страхом и симптомообразованием. Фобии стоят так близко к кон-верзионным истериям, что я считал себя вправе соединить их в качестве истерии страха. Но никто еще не указал условий, имеющих решающее влияние на то, принимает ли заболевание форму конверзионной истерии или фобии; никто, следовательно, не открыл условий развития страха при истерии.
Самые частые симптомы конверзионной истерии — моторный паралич, контрактура или непроизвольное действие или разряд,
254
3. Фрейд
боль, галлюцинация — представляют собой постоянные или перемежающиеся процессы, что создает новые трудности для их объяснения. Об этих симптомах известно, в сущности, не много. С помощью анализа можно узнать, какой нарушенный процесс они заменяют. Чаще всего оказывается, что они сами принимают такое участие в процессе, будто вся энергия его концентрируется только на этой, составляющей эти симптомы части. Боль имела место в ситуации, при которой произошло вытеснение; галлюцинация была тогда восприятием. Моторный паралич представляет собой отражение действия, которое требовалось выполнить в том положении, но оно оказалось заторможенным. Контрактура обычно представляет собой предполагавшуюся мускульную энергию, перенесенную на другое место. Припадок судорог выражает взрыв аффекта, освободившегося от нормального контроля Я. Весьма странным образом меняется ощущение неудовольствия, сопровождающее возникновение симптома. При постоянных, перенесенных на моторную область таких симптомах, как параличи и контрактуры, такого ощущения обычно совсем нет, Я относится к ним безучастно. При перемежающихся симптомах и относящихся к сенсорной сфере как правило ощущаются естественные проявления неудовольствия, которые в случае симптома боли могут значительно усилиться. В этом разнообразии трудно найти момент, обусловливающий такие различия и дающий им общее объяснение. Также мало замечается при конверзионной истерии борьба Я против уже образовавшегося симптома. Только когда ощущение боли в каком-нибудь месте становится симптомом, это место получает возможность играть двойную роль. Симптом боли появляется с такой же несомненностью, когда до этого места дотрагиваются изнутри, а Я при этом принимает меры предосторожности, чтобы предупредить пробуждение симптома от внешнего воздействия. Откуда эта особенная неясность симптомообразования при конверзионной истерии — этого мы понять не можем, но она является для нас предлогом поскорее оставить эту бесплодную почву.
Обратимся к неврозу навязчивости с надеждой, что тут нам удастся больше узнать о симптомообразовании. Симптомы невроза навязчивости в общем бывают двоякого рода и воплощают противоположные тенденции. Это или запреты, меры предосторожности, покаяния, то есть явления отрицательного характера; или, наобо-
Страх
255
рот, замена удовлетворения, очень часто в символическом одеянии. Из этих двух групп отрицательная, отвергающая, наказывающая является старшей. При длительности болезни берет, однако, верх удовлетворение, преодолевающее всякое сопротивление. Большим триумфом симптомообразования является положение, при котором сливаются воедино запрещение и удовлетворение, так что заповедь или запрет, имевшие первоначально отрицательный характер, приобретают также и значение удовлетворения, причем для этого используются искусственные ассоциативные пути. В такой работе проявляется склонность к синтезу, которую мы уже признали за Я. В крайних случаях больной доходит до того, что большинство его симптомов кроме своего первоначального значения приобретает и прямо противоположное. Это может служить показателем могущества амбивалентности, которая, по известной нам причине, играет такую большую роль в неврозе навязчивости. В самом простом случае симптом протекает в даа периода. То есть за действием, выполняющим определенное предписание, непосредственно следует второе, уничтожающее первое, если это второе не становится прямо противоположным первому.
Два впечатления немедленно получаются при этом беглом обзоре симптомов навязчивости. Первое — что здесь идет беспрерывная борьба против вытесненного, которая принимает все более неблагоприятный оборот для вытесняющих сил. Второе — что Я и сверх-Д принимают здесь особенно большое участие в симп-томообразовании.
Невроз навязчивости представляет собой, пожалуй, самый интересный и самый благодатный объект для аналитического исследования, но как проблема он остается неразрешенным. Если постараемся глубже вникнуть в его сущность, то придется сознаться, что мы не можем обойтись еще без допущений, в которых нет полной уверенности, и без недоказанных предположений. Исходное положение при неврозе навязчивости, пожалуй, то же, что и при истерии: необходимость сопротивления либцдозным притязаниям эдипова комплекса. Кажется также, что при всяком неврозе навязчивости имеется самый глубокий слой очень рано образовавшихся истерических симптомов. Однако в дальнейшем форма заболевания изменяется решительным образом из-за влияния конституционального фактора. Генитальная организация либидо
256
3. Фрейд
оказывается слабой и малорезистентной. Когда Я начинает свое сопротивление, оно первым делом добивается того, что генитальная организация (фаллической фазы) отбрасывается полностью или частично на прежнюю садистско-анальную ступень. Факт регрессии имеет решающее влияние на все, что за ним следует.
Допускается еще и другая возможность. Может быть, регрессия является следствием не конституционального, а временного фактора. Она оказывается возможной не потому, что генитальная организация либидо слишком слаба, а потому, что сопротивление Я началось слишком рано, еще во время расцвета садистской фазы. И в этом пункте я не решаюсь с уверенностью утверждать что-либо определенное, но аналитическое наблюдение неблагоприятно для последнего предположения. Скорее, оно указывает на то, что при развитии невроза навязчивости фаллическая ступень уже достигнута. И возраст, при котором этот невроз возникает, более поздний, чем при истерии (второй период детства, после срока наступления латентного- периода). В одном случае очень позднего развития этой болезни, который мне удалось изучить, было совершенно ясно, что реальное обесценивание нормальной до того времени половой жизни создало условие для регрессии и для возникновения невроза навязчивости.
Метапсихологическое объяснение регрессии я нахожу в «разъединении влечений» (Triebentmischug), в выделении эротических компонентов, которые с началом генитальной фазы присоединились к деструктивным влечениям садистской фазы.
Первый успех Я в его борьбе против притязания либидо состоит в том, что оно добивается регрессии. Мы находим целесообразным отличать здесь более общую тенденцию «отражения» («Abwehr») от «вытеснения», которое составляет только один из механизмов, находящихся в распоряжении отражения. Может быть, еще яснее, чем в нормальных истерических случаях, при неврозе навязчивости наблюдается мотор отражения в кастраци-онном комплексе, а в отраженном — симптомы эдипова комплекса. Тут мы находимся в начале латентного периода, отличающегося разрушением эдипова комплекса, созданием или консолидацией сверх-Я, появлением этических и эстетических ограничений в Я-При неврозе навязчивости эти процессы переходят предел нормального. К разрушению эдипова комплекса присоединяется per-
Страх
257
рессивное понижение либидо. Сверх-Я становится особенно строгим и нелюбящим, в Я из послушания по отношению к сверх-Я развиваются сильные реактивные образования совестливости, сострадания и стремления к чистоте. С неумолимой, а потому и не всегда успешной строгостью запрещается желание продолжать ранний детский онанизм, который связывается в этом случае с регрессивными (анально-садистскими) представлениями, сохраняя при этом желание воплощать некоторую непреодоленную часть фаллической организации. Внутреннее противоречие выражается в том, что именно в интересах сохранения мужественности не допускается никакого проявления этой мужественности (кастра-ционный страх). Однако и это противоречие при неврозе навязчивости только преувеличено. Оно имеется уже при нормальном способе разрушения эдипова комплекса. И при неврозе навязчивости подтверждается правило, что всякая чрезмерность содержит в себе зародыш самоуничтожения, так как именно подавленный онанизм добивается в форме навязчивых мыслей все большего приближения к удовлетворению.
В реактивных образованиях в Я невротиков, страдающих навязчивостью, мы узнаем преувеличение нормального развития характера, и должны рассматривать их как новый механизм отражения наряду с регрессией и вытеснением. При истерии, кажется, их нет или они имеются гораздо в более слабом виде. Ретроспективно у нас возникает предположение о том, чем отличается процесс отражения при истерии. Похоже на то, что он ограничивается вытеснением, при котором Я отворачивается от неприятного влечения, предоставляя ему протекать в бессознательном и не принимать участия в его дальнейшей судьбе. Впрочем, это положение не может быть уже абсолютно верно, потому что нам известны случаи, при которых истерический симптом означает одновременно и осуществление требования наказания со стороны сверх-Я. Но оно может дать представление об общем характере поведения Я при истерии.
Можно просто принять за факт, что при неврозе навязчивости образуется такое строгое сверх-Я Или можно подумать о том, что основной чертой этой болезни является регрессия либидо, и попытаться связать с нею и характер сверх-Я. Действительно, сверх-Я, происходящее из Оно, не может освободиться от влияния на
258
3. Фрейд
ступившей в Оно регрессии и разъединения влечений. Нечему удивляться, если Оно становится со своей стороны более жестким, мучительным и не любящим.
Во время латентного периода отражение искушения заниматься онанизмом составляет, по-видимому, главную задачу. Эта борьба сопровождается рядом симптомов, которые у различных лиц вновь появляются в типичной форме и в общем носят характер церемониала. Приходится сожалеть, что эти симптомы еще не собраны и систематически не анализировались. В качестве самых ранних продуктов невроза они, скорее всего, могли бы пролить свет на применяемый тут механизм симптомообразования. В них имеются уже черты, которые губительно проявляются в наступающем позже тяжелом заболевании, отрицательно влияя на действия, обычно выполняемые автоматически — при укладывании спать, умывании, одевании, при перемене места. Проявляются такие черты в виде склонности к повторению и в потере времени. Почему это все так происходит, далеко еще не понятно. Но сублимирование анальноэротических компонентов явно играет при этом определенную роль.
Момент наступления половой зрелости вызывает решающий перелом в развитии невроза навязчивости. Прерванная в детстве генитальная организация возникает снова с большой силой. Но нам известно, что сексуальное развитие в детстве предписывает направление вторичному пробуждению сексуальности при наступлении половой зрелости. Поэтому, с одной стороны, снова просыпаются агрессивные побуждения раннего детства, а с другой — большая или меньшая часть новых либидозных побуждений (в тяжелых случаях — вся их совокупность) должна направиться по предуказанным регрессией путям и проявиться в виде агрессивных и разрушительных намерений. Поэтому преображение эротических влечений и сильных реактивных образований в Я, борьба против сексуальности ведется далее под знаменем этических требований. Я с удивлением восстает против жестоких и насильственных намерений, которые посылаются ему в сознание из Оно, и не подозревает, что борется при этом против эротических желаний, в том числе* и таких, против которых с его стороны обычно не было бы возражений. Чрезмерно строгое сверх-Я настаивает тем энергичней на подавлении сексуальности, что она принимает такие отталкивающие формы. Таким образом, конфликт при неврозе на
Страх
259
вязчивости обостряется в двух направлениях: отправляющая инстанция стала нетерпимей, а то, что подлежит отражению,— несносней. И то и другое происходит под влиянием одного и того же момента регрессии либидо.
Против некоторых наших предположений можно было бы возразить, указав на то, что неприятное навязчивое представление вообще может стать сознательным. Однако не подлежит никакому сомнению, что оно появилось раньше процесса вытеснения. При большинстве навязчивых представлений действительная словесная формулировка агрессивного влечения остается для Я вообще неизвестной. Необходимо проделать добрую часть аналитической работы, чтобы довести ее до сознания. То, что проникает в сознание, представляет собой обычно только искаженную замену в виде расплывчатой неопределенности, как в полусне, или же измененную до неузнаваемости с помощью абсурдной маскировки. Если вытеснение не коснулось содержания агрессивного влечения, то оно все же, наверное, устранило сопровождающий его аффект. Таким образом, агрессивность воспринимается со стороны Я не как импульс, а, как говорят больные, только как мысль, которая не должна никого волновать. Самое удивительное то, что это все-таки не так.
Не проявившийся при восприятии навязчивого представления аффект выступает, однако, в другом месте. Сверх-Я ведет себя так, как будто не было никакого вытеснения, как будто ему известно агрессивное влечение в его настоящей словесной формуле и во всем его аффективном характере. Оно и относится к Я, как бы исходя из этого предположения. Я, не зная за собою никакого греха, вынуждено, со своей стороны, испытывать чувство вины и нести ответственность, которую не может себе объяснить. Поставленная нам этим фактом загадка, однако, не так велика, как это кажется с первого взгляда. Поведение сверх-Я вполне понято и противоречие в Я указывает только на то, что Я замкнулось при помощи вытеснения влияния Оно, оставаясь доступным влияниям сверх-Я. Возникает вопрос: почему Я не старается освободиться от мучительной критики сверх-Я? На это можно ответить, что в большинстве случаев действительно так и бывает. Встречаются неврозы навязчивости, совершенно лишенные чувства вины. Поскольку нам удается это понять, Я освободилось от восприятия
260
3. Фрейд
этого чувства при помощи нового ряда симптомов, мер покаяния, ограничений в наказании себя. Однако одновременно эти симптомы имеют значение неудовлетворения мазохистских влечений, также усилившихся под влиянием регрессии.
Разнообразие явлений невроза навязчивости так велико, что еще никому по удалось дать общий обзор его вариаций. Если стараешься выявить типичные отношения, то при этом всегда возникает опасение, что остались незамеченными другие, не менее важные закономерности.
Общую тенденцию сймптомообразования невроза навязчивости я уже описал. Она состоит в том, чтобы оставить замещающему удовлетворению как можно больше места за счет отказа от него. Те же симптомы, которые первоначально означали ограничения, приобретают позже, благодаря склонности Я к синтезу, также значение его удовлетворения. И совершенно очевидно, что последнее значение симптомов становится все более влиятельным. Крайне ограниченное Я, вынужденное искать удовлетворение только в симптомах,— таков результат этого процесса, все более приближающего к полной неудаче первоначальное стремление к отражению. Передвижение взаимоотношений борющихся сил в сторону удовлетворения может привести к опасному психопараличу воли Я, которое при любом решении испытывает одинаково сильные импульсы с одной и с другой стороны. Слишком серьезный конфликт между Я и сверх-Я, налагающий с самого начала печать на это заболевание, может до того углубиться, что ни один из механизмов Я совершенно не будет способен выполнять роль посредника между двумя инстанциями и не сможет избежать участия в таком конфликте.
VI
Во время этой борьбы можно наблюдать два вида деятельности Я, ведущей к образованию симптомов и заслуживающей особого интереса, потопчу что такая деятельность является, очевидно, суррогатом вытеснения, и поэтому может служить хорошим примером его тенденции и техники. Может быть, мы должны видеть в появлении этих вспомогательных и замещающих технических приемов доказа
Страх
261
тельства тому, что осуществление правильного вытеснения наталкивается на трудности. Если мы примем во внимание, что при неврозе навязчивости Я становится гораздо в большей мере ареной борьбы, чем при истерии; что оно крепко сохраняет свое отношение к реальности и к сознанию и при этом больше пользуется всеми своими интеллектуальными средствами; что мышление привлекает к себе большое количество энергии и эротизируется,— то мы, может быть, легче поймем эти вариации вытеснения.
Такими двумя видами техники являются изоляция и отрицание совершившегося.
Отрицание имеет большое поле применения и заходит в далекое прошлое. Оно представляет собой как бы отрицательную магию, стремясь при помошц моторной символики «сдуть» не последствия события (впечатления, переживания), а само это событие. Пользуясь выражением «сдуть», я хочу указать на ту роль, какую эта техника играет не только в неврозе, но и в колдовстве, народных обычаях и в религиозном церемониале. В неврозе навязчивости отрицание совершенного встречается при двукратных симптомах, когда второй навязчивый акт уничтожает первый, так что в результате складывается впечатление, как будто ничего не случилось, между тем как в действительности имели место оба акта. В этом намерении отрицать совершенное кроется второй корень невротического навязчивого церемониала. Первый заключается в предупреждении, в предосторожности, в том, чтобы нечто определенное не случилось, не повторилось. Разница легко понятна. Меры предосторожности рациональны, исключение совершившегося при помощи отрицания иррационально и по своей природе относится к магии. Разумеется, приходится предполагать, что этот второй корень более стар, исходит из анимистической установки к окружающей действительности. Стремление к отрицанию совершившегося, постепенно приближаясь к нормальному, выражается в решении относиться к событию, как к non arrivee. Но в последнем случае ничего не предпринимается против этого события; не думают ни о нем, ни о его последствиях. В то же время в неврозе проявляется стремление устранить само прошлое, вытеснить его при помощи действия. Та же тенденция может дать объяснение столь частому в неврозе навязчивому повторению, при выполнении которого сталкиваются различные противоречащие друг другу
262
3. Фрейд
намерения. То, что случилось не таким образом, как должно было случиться соответственно желанию, делается, благодаря повторению другим образом, как бы не случившимся. И к этому присоединяются все мотивы, побуждающие остановиться на этих повторениях. В дальнейшем течении невроза тенденция представить не случившимся травматическое переживание оказывается перворазрядным мотивом к образованию симптома. Таким образом, пред нами неожиданно открывается понимание новой моторной техники отражения или, если говорить в данном случае с большей точностью, вытеснения.
Второй технический прием, который нужно впервые описать,— это изоляция, свойственная только неврозу навязчивости. Она тоже относится к моторной сфере и состоит в том, что после неприятного события, как и после значительного, собственного действия, с точки зрения невроза, делается пауза. Во время нее ничего больше не должно случиться, не может быть получено никакое восприятие, не выполнено никакое действие. Это странное, на первый взгляд, поведение скоро выдает свое отношение к вытеснению. Нам известно, что при истерии возможно подвергнуть амнезии травматизирующее впечатление, а при неврозе навязчивости это часто не удается. Переживание не забыто, но лишено своего аффекта, а его ассоциативные отношения подавлены или прерваны. Поэтому оно остается как бы изолированным и не воспроизводится и в процессе мышления. Эффект этой изоляции тот же, что и при вытеснении с амнезией. Эта техника воспроизводится в изоляции невроза навязчивости, но при этом, однако, с магическим намерением усиливается при помощи каких-либо действий. Разъединяемое таким образом составляет именно то, что связано ассоциативно. Моторная изоляция должна быть гарантией разрыва связи в мышлении. Поводом к такому приему невроза служит нормальный процесс концентрации. То, что нам кажется значительным впечатлением или проблемой, не должно быть нарушено одновременным притязанием [на наше внимание. — Перев.} других процессов мышления или деятельности. Но уже в пределах нормального’ пользуются концентрацией внимания, чтобы отделить не только безразличное, к делу не относящееся, но, в первую очередь, не подходящее, противоположное. Как нечто мешающее чаще всего воспринимается то, что первоначально составляло одно
Страх
263
целое и было разъединено в процессе развития. Например, проявления амбивалентности отцовского комплекса в отношениях к богу; или побуждения, исходящие из экскреторных органов при любовных возбуждениях. Таким образом, Я нормально должно совершать большую изолирующую работу, направляя течение мыслей. И мы знаем, что при выполнении аналитической техники нам приходится основательно воспитывать Я, чтобы заставить его на время отказаться от этой функции, в других случаях безусловно правильной.
Все мы на опыте убедились, что невротику, страдающему навязчивостью, особенно трудно выполнять основное психоаналитическое правило. Вероятно, из-за высокого напряжения конфликта между его сверх-Я и его Оно, его Я стало более бдительным и изоляции его более утонченными. Выполняя работу мышления, оно вынуждено слишком часто отвергать примесь бессознательных фантазий, проявление амбивалентности. Оно должно быть всегда настороже, находиться беспрерывно в боевой готовности. Эту вынужденную концентрацию и изоляцию Оно подкрепляет еще магическими актами изоляции, которые становятся в качестве симптомов странными, а практически приобретают особое значение, хотя сами по себе, разумеется, совершенно бесполезны и имеют характер церемониала.
Стремясь не допустить ассоциацию и связи в мыслях, Я выполняет, однако, одну из самых старых и основных заповедей невроза навязчивости — табу на прикосновения. Если поставить вопрос, почему стремление избежать прикосновения, контакта, заразы играет такую большую роль в этом неврозе и становится содержанием столь сложных систем, то следует отметить, что прикосновение, телесный контакт составляют ближайшую цель и агрессивного, и любовного овладения объектом. Эрос желает прикосновения, стремясь к соединению, к устранению пространственных преград между Я и любимым им объектом. Но и уничтожение, которое до изобретения огнестрельного оружия могло происходить только при контакте, предполагает телесное прикосновение — рукоприкладство. Прикоснуться к женщине — это в нашем языке стало эвфемизмом использования ее в качестве сексуального объекта. Не прикасаться к органу — так дословно гласит запрещение автоэро-тического удовлетворения. Так как невроз навязчивости пресле
264
3. Фрейд
дует эротическое прикосновение, а затем, после регрессии — прикосновения, маскирующие агрессивность, то для него нет ничего более недопустимого, более пригодного сделаться центром запретительной системы [чем прикосновения. — Перев.]. Изоляция же является устранением возможности контакта, средством не допустить какого бы то ни было прикосновения к объекту. И если невротики изолируют при помощи паузы также и впечатление или деятельность, то этим они нам символически говорят, что не хотят допустить даже ассоциативного прикосновения в мыслях.
Таковы достижения наших исследований симптомообразования. Вряд ли стоит их резюмировать. Они оказались бедными по результату, неполными и дали мало такого, что прежде уже не было бы известно. Не обещают успеха и исследования симптомообразований других заболеваний, конверзионной истерии и невроза навязчивости. О них еще очень мало известно, но уже сопоставление этих трех неврозов выдвигает крупную проблему, требующую немедленного рассмотрения. Во всех трех разрушение эдипова комплекса оказывается исходным пунктом и во всех их, как мы полагаем, страх перед кастрацией становится мотором сопротивления Я. Но только в фобиях этот страх проявляется и открыто признается. Что же стало с ним в других формах, как защищается Я от этого страха? Проблема еще усложняется, если вспомнить упомянутое выше предположение, что страх происходит от своеобразного переброжения из самого либидо, заторможенного в своем течении. И далее: не подлежит ли уже никакому сомнению, что страх перед кастрацией является единственным мотором вытеснения (или отражения)? Если подумать о неврозах у женщин, то в этом приходится усомниться, потому что как бы наглядно ни удалось констатировать у них каст-рационный комплекс, нельзя говорить о кастрационном страхе в настоящем смысле, если кастрация уже совершена.
VII
Вернемся* к инфантильным фобиям перед животными. Мы понимаем эти случаи все же лучше, чем все другие. Здесь Я вынуждено противиться либидозной привязанности Оно к объектам (положительному или отрицательному эдипову комплексу), потому что
Страх
265
Я поняло, что уступка повлекла бы за собой опасность кастрации. Об этом у нас уже шла речь, и мы пользуемся теперь поводом выяснить еще одно сомнение, оставшееся у нас от этой первой дискуссии. Следует ли нам у маленького Ганса (то есть в случае положительного эдипова комплекса) допустить, что сопротивление >7 вызвано нежным влечением к матери или агрессивным к отцу? Казалось бы, что это безразлично с практической точки зрения, особенно потому, что оба влечения обусловливают друг друга. Однако с этим вопросом связывается теоретический интерес, потому что только нежное чувство к матери может считаться чисто эротическим. Агрессивное же, по существу, зависит от влечения к разрушению. А мы всегда полагали, что в неврозе Я противится притязаниям либидо, а не других влечений. В действительности мы видим, что после образования фобий исчезла нежная привязанность к матери, основательно уничтоженная вытеснением; а образование симптома (замещение) произошло из агрессивного влечения. В случае фобии перед волком дело обстоит проще: вытесненным влечением, действительно эротического характера, является женственная установка к отцу и над ним, отчего и происходит симптомообразование.
Прямо стыдно, что после столь длительной работы мы все еще наталкиваемся на трудности в понимании самых основных отношений, но мы решили ничего не упрощать и не скрывать. Если мы не в состоянии ясно видеть, то хотим, по крайней мере, определенно видеть неясность. Нам ставит препятствие, очевидно, какая-то шероховатость в развитии нашего исследования о влечениях. Сначала мы проследили образование либидо в развитии от оральной ступени через садистско-анальную к генитальной, считая при этом равными все компоненты сексуального влечения. Впоследствии садизм оказался представителем другого влечения, противоположного эросу. Новое понимание двух групп влечений как бы уничтожает прежнюю конструкцию последовательных фаз образования либидо. Удовлетворительное объяснение этому затруднению нам незачем, однако, искать снова. Оно уже давно известно и состоит в том, что нам почти никогда не приходится иметь дело с чистыми влечениями, а постоянно со смесью обоих влечений в различных количественных соотношениях. Садистская привязанность к объекту имеет поэтому также право рассматриваться как либидозная.
266 3. Фрейд
Условия образования либидо не должны быть пересмотрены. Агрессивное влечение к отцу может с таким же правом стать объектом вытеснения, как и нежное чувство к матери.
Но оставим в стороне, как материал для последующего обсуждения, возможность того, что вытеснение является процессом, имеющим особое отношение к генитальной организации либидо, и что Я пользуется другими методами отражения, когда вынуждено противиться либидо на других ступенях организации. Продолжим ход наших мыслей. Случай вроде маленького Ганса не дает возможности вынести окончательное суждение. Здесь хотя и уничтожается агрессивное влечение с помощью вытеснения, но уже после того, как достигнута генитальная организация.
На этот раз мы не упустим из виду отношение к страху. Мы сказали уже, что как только Я видит опасность кастрации, Оно даст сигнал страха и при помощи инстанции «удовольствие — неудовольствие» прекращает, неприятным пока образом, опасный процесс в Оно. Одновременно происходит образование фобии. Каст-рационный комплекс направляется на другой объект и получает искаженное выражение в виде опасения быть укушенным лошадью (съеденным волком). Образование замещения имеет два явных преимущества: во-первых, оно избегает амбивалентного конфликта, так как отец представляет собой одновременно и любимый объект; и во-вторых, оно позволяет Я приостановить развитие страха. Страх перед фобией факультативен: он возникает только тогда, когда объект его становится предметом восприятия. Да это и правильно: только в таком случае возможна опасная ситуация. От отсутствующего отца не приходится опасаться кастрации. Однако отца невозможно устранить; он появляется снова, когда хочет. Если же он замещен животным, то достаточно избегать вида, то есть присутствия животного, чтобы освободиться от страха. Маленький Ганс налагает, таким образом, ограничение на свое Я, образуя торможение, не дающее ему выходить на улицу, чтобы не встречаться с лошадьми. Маленькому русскому пациенту еще удобнее: для него не составляет почти никакого лишения то обстоятельство, чтб он не берет в руки определенную книгу с картинками. Если бы скверная сестричка не подсовывала ему картинку, изображающую волка, стоящего на задних лапах, то он чувствовал бы себя в полной безопасности в отношении страха.
Страх
267
Я как-то прежде приписал фобии характер проекции, так как она заменяет внутреннюю опасность от влечения внешней опасностью от восприятия. Это дает то преимущество, что от внешней опасности можно защититься бегством и стремлением избежать этого восприятия, между тем как от внутренней опасности никакое бегство не помогает. Мое замечание, по существу, верно, но остается на поверхности. Притязания влечения представляют опасность не сами по себе, а только потому, что влекут за собой настоящую внешнюю опасность — кастрацию. Таким образом, в сущности, при фобии одна внешняя опасность только заменяется другой, но такою же. Но Я при фобии легко может освободиться от страха, избегая восприятия объекта или посредством торможения симптома. Это обстоятельство вполне соответствует взгляду, что страх представляет собой только сигнальный аффект и что в положении экономических сил психики при нем ничего не меняется.
Страх фобии животных представляет собой, таким образом, аффективную реакцию Я на опасность. Опасность же, которая здесь сигнализируется,— это кастрация. В данном случае нет другого отличия от реального страха, который Я нормально проявляет в ситуации опасности, как только то, что содержание страха остается бессознательным или осознается только в искаженном виде.
Тот же. взгляд, как я полагаю, окажется верным и в отношении фобии взрослых, хотя материал, перерабатываемый неврозами, гораздо содержательней, и при образовании симптомов привносятся еще некоторые другие моменты. Но, по существу, это одно и то же. Агорафобик налагает ограничение на свое Я, чтобы избежать опасности влечения, которая состоит в искушении поддаться своим эротическим соблазнам, следствием чего возникла бы снова, как в детстве, опасность кастрации или какая-либо другая, ей аналогичная. Как пример, приведу случай с молодым человеком, который стал агорафобиком из опасения, что не устоит перед соблазном проституток и заразится в наказание сифилисом.
Я прекрасно знаю, что во многих случаях структура гораздо более сложна и много других вытесненных влечений сливаются в фобии. Но все они имеют только вспомогательный характер и в большинстве случаев вступили впоследствии в связь с ядром невроза. Симптоматика агорафобии усложняется тем, что Я не довольствуется отказом от чего бы то ни было. Оно еще что-то до
268
3. Фрейд
бавляет, чтобы лишить ситуацию элемента опасности. Это добавление обычно состоит из временной регрессии к эпохе детских лет (в крайних случаях — вплоть до ситуации в материнском чреве до того времени, когда была полная защита от угрожающих теперь опасностей). Оно является условием, при котором возможно избегнуть вынужденного отказа. Так, например,- агорафобик может выйти на улицу, если, как маленький ребенок, он идет в сопровождении лица, пользующегося его доверием. Подобное же соображение может дать ему возможность выходить одному на улицу, если только он не удалится дальше определенного расстояния от своего дома, не зайдет в незнакомую местность, где люди его не знают. В выборе этих условий проявляется влияние инфантильных моментов, которые овладели им не без помощи его невроза. Но и без такой инфантильной регрессии совершенно понятна фобия оставаться одному, чтобы, в сущности, избежать искушения предаваться в одиночестве онанизму. Условием инфантильной регрессии является, разумеется, временное отдаление от детства.
Фобия обычно возникает после того, когда при известных обстоятельствах — на улице, в вагоне железной дороги, в одиночестве — случился первый припадок страха. Страх тогда связывается с представлением об этих ситуациях и возникает всякий раз снова, когда не выполняются защитные условия. Механизм фобии как защитное средство оказывает большие услуги больному и проявляет склонность к устойчивости. Продолжение борьбы, направленной теперь против симптома, наблюдается часто, но не обязательно.
То, что мы узнали о страхе при фобиях, может быть использовано и для понимания невроза навязчивости. Не трудно свести воедино ситуации, наблюдаемые при неврозе навязчивости и при фобиях. Мотором всех последующих симптомообразований здесь, очевидно, является страх Я перед своим сверх-Я. Враждебность сверх-Я представляет ту ситуацию опасности, которой старается избежать Я. Здесь отсутствует всякая видимость проекции, опасность безусловно исходят изнутри. Но если мы себя спросим, чего же Я опасается со стороны сверх-Я, то придется остановиться на мысли, что Наказание со стороны сверх-Я представляет собой продолжение наказания кастрацией. Подобно тому как сверх-Я воплощает ставшего безличным отца, так и страх перед исходящей от него угрозой кастрации превратился в неопределенный соци
Страх
269
альный страх или страх перед своей совестью. Но этот страх прикрыт, Я избегает его, послушно выполняя возложенные на него приказы, меры предосторожности и покаянные действия. Если ему в этом препятствуют, немедленно возникает крайне мучительное беспокойство, в котором мы можем видеть эквивалент страха и которое больные сами отождествляют со страхом. В результате мы получаем страх как реакцию на ситуацию опасности. От этого страха можно уберечься тем, если Я что-то совершит, чтобы избежать этой ситуации или увильнуть от нее. Можно было бы сказать, что симптомы и создаются с целью избежать развития страха, но это не дает еще возможности глубже вникнуть в сущность процесса. Правильнее говоря, симптомы создаются для того, чтобы избежать ситуации опасности, возможность которой сигнализируется развитием страха. Опасность же в исследованных до сих пор случаях виделась в кастрации или в чем-то, что с ней было связано.
Если страх является реакцией Я на опасность, то вполне естественно понимать травматический невроз, возникающий так часто вслед за пережитой опасностью для жизни, как прямое следствие страха за жизнь или страха смерти, если принять во внимание кастрацию и зависимость Я от других психических инстанций. Так именно и поступило большинство исследователей травматических неврозов в последнюю войну, и с триумфом было оповещено, что теперь приведено доказательство, будто угроза влечению к самосохранению может повлечь за собой невроз без какого бы то ни было участия сексуальности и без сложных положений психоанализа. Действительно, приходится крайне сожалеть, что у нас нет ни одного убедительного анализа травматического невроза. И не из-за возражения против этиологического значения сексуальности. Это возражение устранено давно с введением понятия нарциссизма, который сравнивает либидозные привязанности к Я с привязанностями к объектам и подчеркивает либидозную природу влечения к самосохранению. Но приходится жалеть о том, что отсутствие таких анализов лишает нас самых ценных возможностей получить решающие указания на взаимоотношение между страхом и симптомообразованием. Судя по тому, что нам известно о структуре более простых неврозов обыденной жизни, весьма невероятна возможность возникновения невроза только из-за объективно
270
3. Фрейд
го факта угрожающей опасности без участия более глубоких бессознательных слоев душевного аппарата. А в бессознательном ничего нет такого, что могло бы дать содержание нашему понятию об уничтожении жизни. Всякий может себе как бы представить кастрацию, имея опыт ежедневного опорожнения кишечника и переживания при отлучении от материнской груда. Но ни у кого не было никогда переживания, подобного смерти, а обморок не оставляет никаких видимых следов в психике. Я настаиваю поэтому на предположении, что страх смерти приходится понимать, как нечто аналогичное кастрационному страху, а ситуация, на которую Я реагирует страхом смерти, представляет собой состояние, при котором Я чувствует себя оставленным защищающим его сверх-)?, олицетворяющим судьбу. И с этим наступает конец уверенности в защите от всех опасностей. Кроме того, необходимо принять во внимание еще то обстоятельство, что при переживаниях, вызывающих травматический невроз, нарушается «внешняя защита от опасностей» (Reizschutz) и душевный аппарат подвергается воздействию слишком большого количества возбуждения. И тут создается еще вторая возможность: страх не только подает сигналы в виде аффекта, но и появляется снова в экономических условиях, возникающих в психике от переживаемой ситуации.
Последнее замечание, что >7.подготовляется к кастрации под влиянием регулярно повторяющихся потерь объектов, позволяет выработать новый взгляд на страх. Если до сих пор мы рассматривали страх как аффективный сигнал опасности, то теперь он нам кажется реакцией на потерю, разлуку, если принять во внимание, что так часто речь идет об опасности кастрации. Если что и говорит против такого вывода, то все же в глаза бросается следующее интересное сходство. Первое переживание страха, по крайней мере у человека, происходит при рождении. Оно объективно означает отделение от матери и поэтому его можно сравнить с кастрацией матери (по ассоциации ребенок — penis). Такие рассуждения были бы статичными, если бы оказалось, что страх, как символ разлуки, повторяется впоследствии при всякой разлуке. К сожалению, однако, использованию этого совпадения препятствует то обстоятельство, что субъективно рождение не переживается, как разлука с матерью, потому что мать как объект совершенно неизвестна абсолютно нарцистическому фетусу. Другое соображе
Страх
271
ние говорит, что нам известны аффективные реакции на разлуку и что мы их ощущаем, как боль и печаль, а не как страх. Однако вспомним, что при исследовании печали мы тоже не могли понять, почему она причиняет такую боль.
VIII
Пора опомниться. Мы ищем определенное понимание, указывающее нам сущность страха, альтернативы или — или, отличающей истину от заблуждения. Но это найти трудно. Чувство страха не поддается нашему пониманию. Пока мы вскрыли только ряд противоречий, между которыми без определенной точки зрения нет возможности сделать выбор. Теперь я предлагаю поступить иначе. Сопоставим совершенно объективно все, что можно сказать о страхе, отказавшись от надежды на быстрое получение синтеза.
С первого впечатления страх представляет собой нечто ощущаемое. Мы его называем аффективным состоянием, хотя точно не знаем, что такое аффект. Как ощущению, страху свойствен совершенно очевидный признак неприятного, но этим не исчерпывается его качество: не все, что имеет характер неприятного, мы можем назвать страхом. Имеются еще и другие ощущения неприятного характера (напряжение, боль, печаль) и страх, помимо этого качества неприятного, должен обладать еще другими особенностями. Возникает вопрос: удастся ли нам понять различие между этими разнообразными аффектами? Из ощущения страха мы можем все же кое-что выделить. Его неприятный характер как будто имеет некоторую особенность. Это трудно доказать, но кажется весьма вероятным, и в этом не было бы ничего удивительного. Но, кроме этого трудно поддающегося выделению особенного признака, мы замечаем при страхе определенные физические ощущения, которые связываем с определенными органами. Так как физиология нас здесь не интересует, то нам достаточно выделить отдельных представителей этих телесных ощущений, то есть самых ясных и самых частых, исходящих из органов дыхания и сердца. Они служат нам доказательством того, что моторные иннервации (то есть процессы, отводящие возбуждение) принимают участие в общем аффекте страха. Анализ состояния страха открывает, следо
272
3. Фрейд
вательно, следующие моменты: во-первых, специфический характер неприятного; во-вторых, реакцию отвода возбуждения; в-третьих, восприятие этих моментов.
Пункты второй и третий указывают уже на отличие от похожих состояний, например печали или боли. Последние не сопровождаются моторными проявлениями, а в тех случаях, где такие проявления встречаются, они ясно выделяются не как составные части целого, а как его последствия или реакция на него. Страх представляет собой, таким образом, особенное неприятное состояние, связанное с реакциями отвода раздражения на определенные нервные пути. В согласии с общими нашими воззрениями мы предположим, что в основе страха лежит повышение возбуждения, создающее, с одной стороны, характер неприятного, а с другой — находящее выход в упомянутых отводящих путях. Но вряд ли нас удовлетворит это чисто физиологическое обобщение. Нас соблазняет предположение, что имеется еще исторический момент, тесно связывающий эти ощущения и иннервации страха. Другими словами, состояние страха является репродукцией переживания, содержащего предпосылки такого повышения раздражения и его отвода на определенные нервные пути, отчего неприятное чувство при страхе приобретает свой специфический характер. Таким переживанием, имеющим значение прообраза, для человека оказывается рождение, и потому мы склонны видеть в состоянии страха репродукцию травмы рождения.
Этим мы не сказали ничего такого, что позволило бы страху занять исключительное положение среди аффективных состояний. Мы полагаем, что и другие аффекты представляют собой репродукции важных для жизни старых событий, возможно доиндивиду-альных, и приравниваем их в качестве общих, типичных, врожденных истерических припадков к атакам истерического невроза, приобретенным позже и индивидуально. Их происхождение и значение как символов воспоминаний, нам стало понятно благодаря анализу. Было бы, разумеется, чрезвычайно желательно привести доказательства этого взгляда для ряда других аффектов, но до этого нам, однако*, пока далеко.
Положение, сводящее страх к событию рождения, необходимо защитить от легко напрашивающихся возражений. Страх — свойственная всем организмам реакция, во всяком случае — всем
Страх
273
высшим. Между тем, рождение переживается только млекопитающими и подлежит еще сомнению, имеет ли оно у всех их значение травмы. Встречается, следовательно, страх без прообраза рождения. Но это возражение выходит за границу, отделяющую биологию от психологии. Именно потому, что страх должен выполнить и необходимую биологическую функцию — реакцию на положение, составляющую опасность,— он может у разных живых существ иметь различного рода структуру. Нам также неизвестно, сопровождается ли он у живых существ, далеко отстоящих от человека, тем же содержанием в смысле физических ощущений и иннервации. Это не препятствует поэтому предположению, что страх у человека имел своим прообразом процесс рождения.
Если такова структура и таково происхождение страха, то возникают следующие вопросы: в чем его функция? при каких условиях он воспроизводится? Ответ кажется простым и не допускающим сомнения. Страх возникает, как реакция на положение, составляющее опасность. Он регулярно воспроизводится, когда снова создается такое положение.
По этому поводу необходимо заметить следующее. Иннервации первоначального состояния страха имели, вероятно, точно такой же определенный смысл и целесообразность, как мускульные реакции первого истерического припадка. Если хочешь объяснить истерический припадок, то достаточно найти ситуацию, при которой соответствующие движения составляли часть оправдываемого условиями действия. Так, вероятно, во время рождения направление иннервации на органы дыхания подготовило деятельность легких, ускорение сердцебиения, чем противодействовало отравлению крови. Эта целесообразность отпадает, разумеется, при последующих репродукциях состояния страха как аффекта точно так же, как она отсутствует при повторном истерическом припадке. Если, таким образом, индивид попадает в новую ситуацию опасности, то легко может оказаться нецелесообразным, если он отвечает состоянием страха (реакцией на прежнюю опасность), вместо того чтобы реагировать адекватно теперешнему положению. Однако целесообразность снова проявляется, когда приближение ситуации опасности узнается и сигнализируется вспышкой страха. В таком случае страх можно немедленно заменить соответствующими действиями. Таким образом, с самого начала выявляются две возможности
274
3. Фрейд
появления страха: одна — нецелесообразная в новой ситуации опасности, другая — целесообразная для сигнализации и предупреждения об опасности.
Однако что такое опасность? При акте рождения имеется объективная опасность для сохранения жизни. Нам известно, что это означает в реальности. Но психологически нам это ни о чем не говорит. Опасность при рождении не имеет психического содержания. Мы, несомненно, не можем допустить, что новорожденный хотя бы отдаленно приближается к ожиданию такого исхода акта рождения, как потеря жизни. Фетус не может заменить ничего другого, кроме огромного нарушения в экономии своего нарцистичес-кого либидо. Большое количество возбуждения проникает к нему, вызывает неизвестные неприятные ощущения. Некоторые органы требуют привлечения повышенной концентрации психической энергии (Besetzung), что представляет собой как бы интродукцию к последующей вскоре концентрации этой энергии на объектах. Что же из всего этого найдет себе применение как признак «ситуации опасности»?
К сожалению, мы слишком мало знаем о душевном состоянии новорожденного, чтобы дать прямой ответ на вопрос. Я не могу даже ручаться, что данное выше описание чего-нибудь стоит. Легко сказать, что новорожденный воспроизведет аффект страха во всех ситуациях, напоминающих ему событие рождения. Решающее значение, однако, будет иметь содержание момента: чем и о чем эти ситуации ему напоминают.
Нам ничего другого не остается, как изучить те поводы, которые вызывают склонность к страху у младенца или немного более старшего ребенка. Ранк в своей книге «Das Trauma der Geburt» сделал очень энергичные попытки доказать отношение самых разных фобий ребенка к событиям при рождении. Я не могу, однако, считать эту попытку удачной. Его можно упрекнуть в двух вещах. Во-первых, он основывается на предположении, что у ребенка имеются определенные чувственные впечатления, особенно зрительного характера, полученные во время рождения. Их возобновление может вызвать воспоминание о травме при рождении и вместе с ним реакцию страха. Это предположение совершенно не доказано и трудно допустить, чтобы у ребенка сохранились от процесса рождения какие-нибудь другие ощущения, кроме тактильных
Страх
275
и общих. Если впоследствии ребенок испытывает страх перед маленькими животными, исчезающими в отверстиях или выползающими из них, то Ранк объясняет эту реакцию восприятием аналогии, которая, однако, ребенком не может быть замечена. Во-вторых, Ранк в оценке этой позднейшей ситуации страха приписывает, в зависимости от необходимости, этот аффект воспоминанию о счастливом внутриутробном существовании или о травматическом нарушении этого существования. Этим открывается широкая возможность произволу в толковании. Отдельные случаи этого детского страха прямо противоречат применению принципа Ранка. Если ребенок находится в темноте и в одиночестве, то следовало бы ожидать, что он с удовлетворением примет это вознаграждение внутриутробной ситуации. И если тот факт, что им именно в этом случае овладевает страх, объясняется воспоминанием о нарушении такого Счастья актом рождения, то нельзя не признать искусственности этого объяснения.
Я должен прийти к выводу, что самые ранние детские фобии не могут быть объяснены непосредственно впечатлениями, полученными при акте рождения. Они вообще до сих пор не находили себе объяснения. Известная готовность младенца испытывать страх совершенно очевидна. Она проявляется с наибольшей силой не сразу после рождения, с тем чтобы медленно идти на убыль. Она возникает позже, вместе с прогрессом психического развития, и держится в течение определенного периода детства. Если такие ранние фобии длятся дольше определенного срока, то должно возникнуть подозрение на существование невротического нарушения, хотя отношение этих фобий к более поздним явным неврозам детского возраста нам не ясно.
Лишь немногие случаи проявления детского страха нам понятны и их мы должны будем держаться. Например, если ребенок или находится один в темноте, или вместо близкого ему лица (матери) находит кого-нибудь чужого. Эти три случая сводятся к одному условию — к отсутствию любимого (желанного) лица. Но этим открывается путь к пониманию страха и к устранению противоречий, которые как будто бы в этом вопросе возникали.
Воспоминание образа желанного лица переживалось, несомненно, интенсивно; сначала, вероятно, галлюцинаторно. Но это ни к чему не приводило и кажется вероятным, что эта тоска превра
276
3. Фрейд
щалась в страх. Получается непосредственное впечатление, будто этот страх является выражением беспомощности, будто это еще весьма неразвитое существо не может совладать со своей тоской. Страх кажется, таким образом, реакцией на отсутствие объекта. И у нас возникает аналогия с кастрационным страхом, имеющим своим содержанием также разлуку с чрезвычайно ценным объектом и с первоначальным страхом («нервный страх» при рождении) (die «Urangst» der Geburt), возникшим при отделении от матери.
Дальнейшие соображения ведут дальше этого подчеркивания потери объекта. Младенец требует появления матери, так как ему уже по опыту известно, что она без задержек удовлетворит все его потребности. Ситуация, которую он оценивает как «опасность» и ищет от нее защиты, вызывает, таким образом, его неудовлетворенность, нарастание напряжения потребности, против которого он беспомощен. Полагаю, что с этой точки зрения все становится понятным. Чувство неудовлетворенности, при которой все раздражения достигают мучительной высоты й не могут быть преодолены психической переработкой и отводом их на реактивные иннервации, должно влиять на младенца аналогично переживаниям при рождении с воспроизведением той ситуации опасности. Общим в обоих положениях является экономическое нарушение и нарастание силы раздражений, требующих разрешения. Этот момент составляет, в сущности, ядро опасности. В обоих случаях возникает реакция страха, которая у младенца может оказаться еще целесообразной, поскольку направление оттока раздражений, отводящего энергию раздражений на мускулатуру дыхания и голоса, привлекает мать подобно тому, как раньше ее возбудила деятельность легких для устранения внутренних раздражений. Кроме этого сигнала опасности, ребенку больше нечего сохранить от акта своего рождения.
Когда опыт показывает, что внешний доступный восприятию объект может положить конец опасной ситуации, напоминающей рождение, то содержание опасности переносится из экономической ситуации на его условие — потерю объекта. Отсутствие матери становился опасностью, при возникновении которой младенец дает сигнал страха еще до наступления опасной экономической ситуации. Это превращение означает первый большой успех в отношении заботы о самосохранении и одновременно содержит пе
Страх
277
реход от автоматически непроизвольного появления страха к преднамеренной репродукции его, как сигнала об опасности.
В обоих отношениях (как в качестве автоматического феномена, так и в качестве спасающего сигнала) страх оказывается продуктом психической беспомощности младенца, являющейся естественной параллелью его биологической беспомощности. Замечательное совпадение, что и страх при рождении, и страх младенца вызывается отделением от матери и не нуждается в психологическом толковании. Он объясняется довольно просто биологически тем фактом, что мать, удовлетворявшая все потребности фетуса устройством своих внутренних органов, продолжает выполнять ту же функцию и после рождения, хотя отчасти другими средствами. Внутриутробная жизнь, а затем младенческий период, составляют гораздо в большей степени непосредственное продолжение одного этапа другим, чем это нам кажется по акту рождения. Психический материнский объект заменяет ребенку биологическую внутриутробную ситуацию. Но из-за этого нельзя забывать, что во время внутриутробной жизни мать не была объектом и что тогда вообще объектов еще не было.
Совершенно очевидно, что при таких взаимоотношениях нет места реагированию на травму от рождения и что нельзя найти другой функции страха, кроме как сигнала о возможной ситуации опасности. Условие возникновения страха из-за потери объекта ведет, однако, еще дальше. И дальнейшее превращение страха (наступающий в фаллической фазе кастрапионный страх) представляет собой страх разлуки и связан с тем же условием. Опасность состоит здесь в отделении от гениталий. Совершенно верная, по-видимому, мысль Ференци дает нам возможность ясно видеть здесь связь с прежними содержаниями ситуации опасности. Высокая нарцистическая оценка пениса может оправдываться тем, что обладание этим органом заключает в себе залог будущего воссоединения с матерью (заместительницей матери) в акте коитуса. Лишение этого органа является как бы вторичной разлукой с матерью и имеет, таким образом, опять-таки значение состояния беспомощности в отношении очень неприятного напряжения потребности (как при рождении). Потребность, нарастание которой внушает опасение, имеет уже специальный характер генитального либидо, а не какого либо иного, как в младенческом возрасте. Прибавлю еще здесь, что фантазия о возвращении в материнскую утробу
278
3. Фрейд
составляет замену коитуса у импотента (заторможенного угрозой кастрации). В смысле, подразумеваемом Ференци, можно сказать, что индивид, собирающийся при возвращении в материнскую утробу заменить себя своим генитальным органом, заменяет регрессивным путем этот орган всей своей особой.
Дальнейшее развитие ребенка, увеличение его независимости, более точная дифференциация его душевного аппарата на несколько инстанций, появление новых потребностей — все это не может остаться без влияния на содержание ситуации опасности. Мы видели его эволюцию от потери материнского объекта К фобии кастрации и можем проследить дальнейший шаг, причиной которому является могущество сверх-Я. При обезличении родительской инстанции, вызывающей эту фобию, опасность становится еще более неопределенной. Страх кастрации развивается в страх перед совестью, в социальный страх. Теперь уже нелегко указать, какие опасения связаны со страхом. Формула «разлука (утеря), изгнание из орды» относится только к той более поздней части сверх-Я, которая развилась под влиянием социальных образов, а не к самому ядру сверх-Я, соответствующему интроецированной роди, тельской инстанции. Выражаясь более обобщенно, Я расценивает как опасность гнев и наказание утратой любви со стороны сверх-Я и отвечает на это сигналом страха. Последней эволюцией этого страха перед сверх-Я кажется мне страх смерти (то есть страх за жизнь) — страх проекции сверх-Я вовне в виде силы рока.
Прежде я придавал известное значение описанию, изображающему дело так, будто связанная до того энергия (Besetzung), освободившаяся при вытеснении, получает применение в виде оттока наружу чувства страха. Теперь это мне кажется вряд ли заслуживающим внимания. Различие состоит в том, что прежде я полагал, будто страх в каждом случае возникает автоматически, вследствие экономического процесса, между тем как теперешний взгляд на страх, как на преднамеренный сигнал со стороны Я с целью оказать влияние на инстанцию «удовольствие — недовольство» (Lust — Unlust), освобождает нас от этой экономической зависимости. Разумеется, нельзя ничего возразить против предположения, что Я для возбуждения страха пользуется энергией, освободившейся при вытеснении; но не имеет никакого значения, с какой именно частью энергии это совершается.
Страх
279
Другое высказанное мною некогда положение требует пересмотра в свете нашего нового понимания. Я имею в виду утверждение, что Я является местом развития страха, и полагаю, что оно является верным. У нас действительно нет никакого основания приписывать сверх-Я какое бы то ни было выражение страха. Но если речь идет о страхе Оно, то нужно не возражать, а исправить неудачное выражение. Страх представляет собой аффективное состояние, которое, разумеется, может испытать только Я. Оно не может, подобно Я, испытывать страха, так как Оно не представляет собой организации и не может судить о ситуации опасности. Но очень часто случается, что в Оно подготовляются и совершаются процессы, которые дают Я повод к развитию страха. Действительно, вероятно самые ранние вытеснения, как и большинство позднейших, мотивированы таким страхом Я перед отдельными процессами Оно. Мы опять-таки с полным основанием различаем два случая. В одном случае в Оно совершается нечто активирующее одну из ситуаций опасности для Я, заставляя Я для предотвращения ее дать сигнал. В другом случае в Оно возникает ситуация, аналогичная травме при рождении, отчего автоматически появляется реакция страха. Различие между обоими случаями уменьшается, если подчеркнуть, что второй соответствует первой и первоначальной ситуации опасности, а первый — позже условиям возникновения страха, развившимся из этой ситуации. Или, имея в виду встречающиеся в действительности заболевания, можно сказать, что второй случай имеет место в этиологии актуальных неврозов, а первый остается характерным для психоневрозов.
Мы видим, что нам не приходится обесценивать прежние открытия; мы только приводим их в связь с новыми взглядами. Нельзя отрицать, что при воздержании, при нарушении течения сексуального возбуждения вследствие злоупотреблений, при отвлечении этого возбуждения от его психической переработки, страх возникает непосредственно из либидо. То есть появляется то состояние беспомощности Я перед слишком большим напряжением потребности, которое, как при рождении, заканчивается развитием страха. При этом возникает безразличная по существу, но очень легкая возможность того, что именно избыток неиспользованного либидо находит себе отток в развитие страха. Мы видим, что на почве этого актуального невроза особенно легко развиваются пси
280
3. Фрейд
хоневрозы. А это значит, что Я делает попытки избавиться от страха, который некоторое время удалось держать в свободном, несвязанном состоянии, и старается связать его при помощи симптомо-образования. Вероятно, анализ травматических военных неврозов (а под этим названием, несомненно, понимаются очень различные заболевания) откроет, что некоторые из них близки к проявлениям актуальных неврозов.
Описывая развитие различных ситуаций опасности из первоначального прообраза — акта рождения, мы были далеки от утверждения, что всякое более позднее условие возникновения страха просто уничтожает предыдущее. Прогресс развития Я способствует, правда, тому, что прежняя ситуация опасности обеспечивается и отбрасывается. Поэтому можно сказать, что определенному возрасту соответствует адекватно определенное условие появления страха. Опасность психической беспомощности соответствует периоду незрелого Я, подобно тому, как опасность утери объекта соответствует несамостоятельности первых детских лет, кастраци-онная опасность — фаллической фазе, страх сверх-# — латентному периоду. Однако все эти ситуации опасности и условия возникновения страха могут создаваться одновременно и вынуждать Я проявлять реакции страха не только в адекватные, но и в более поздние периоды; или несколько этих ситуаций могут действовать одновременно. Весьма возможно, что имеется и более тесная зависимость между действующей ситуацией опасности и формой вызванного ею невроза1.
1 С тех пор как мы различаем Я и Оно, должен был снова усилиться наш интерес к проблемам вытеснения. До сих пор нам достаточно было принимать во внимание обращенные к Я стороны процесса устранения от сознания и от моторных центров и образования замещения (симптомов). Относительно же вытесненных течений мы предполагали, что они остаются неопределенно долгое время неизменными в бессознательном. Теперь интерес привлекается к судьбам вытесненного, и мы начинаем предполагать, что сохранение такого неизменного и не поддающегося изменению состояния вовсе не разумеется само собой и может быть даже необычным. Первоначальное влечение, во всяком случае, заторможено вытеснением и отвлечено от своей цели. Но сохранился ли зародыш этого влечения в бессознательном и оказался ли
Страх
281
В предыдущей части нашего исследования мы наткнулись на значение опасения кастрации не только дня одной формы невротического заболевания. И сделали предупреждение о том, что нельзя слишком переоценивать этот момент, поскольку он не может иметь решающего влияния на лиц женского пола, которые, несомненно, более предрасположены к неврозу. Теперь мы убедились, что нам не угрожает опасность видеть в страхе перед кастрацией единственный мотор процессов отражения, ведущих к образованию невроза. В другом месте я описал, как посредством кастрационного комплекса развитие маленькой девочки направляется в сторону нежной привязанности к объекту. Именно у женщины ситуация опасности потерять объект, кажется, остается наиболее действительной. В отношении условия развития страха у нее мы должны ввести то маленькое изменение, что здесь речь идет уже не об отсутствии или о реальной потере объекта, а только о потере любви со стороны объекта. Не подлежит сомнению, что склонность к истерии имеет в большей степени женский пол, в то время как к неврозу навязчивости — мужской. Поэтому весьма
он резистентным против изменяющих и обесценивающих влияний жизни? Сохраняются ли, следовательно, старые желания, о прежнем существовании которых говорит нам анализ? Ответ кажется простым и вполне достоверным: вытесненные старые желания должны еще сохраняться в бессознательном, так как мы находим, что отпрыски их — симптомы — еще оказывают свои воздействия. Но ответ этот недостаточен. Он не заключает в себе выбора между двумя возможностями: оказывает ли старое желание теперь свое воздействие только посредством своих отпрысков, на которые перенеслась вся его прежняя энергия, или сохранилось, кроме того, и само желание. Если ему суждено было исчерпаться в энергии (Besetzung) своих отпрысков, то остается еще третья возможность — что за время невроза оно ожило благодаря регрессии, хотя в настоящее время оно может оказаться совершенно несвоевременным. Это последнее соображение не следует считать излишним. Много явлений больной и нормальной душевной жизни как будто требуют такой постановки вопроса. В моем исследовании разрушения эдипова комплекса я обратил внимание на различие между простым вытеснением и действительным исчезновением старого желания.
282
3, Фрейд
естественно предположить, что условие страха потери любви играет, вероятно, при истерии такую же роль, какую угроза кастрации — при фобиях, а сверх-)? — при неврозе навязчивости.
IX
Нам остается теперь рассмотреть отношения между симптомо-образованием и развитием страха.
Кажется, по этому поводу широко распространены даа мнения. Одно считает самый страх симптомом невроза, другое полагает, что между обоими явлениями существует гораздо более тесное взаимоотношение. Согласно последнему мнению, симптомообразование происходит только для того, чтобы избавиться от страха. Симптомы связывают ту психическую энергию, которая в противном случае нашла бы себе выход в виде страха. Страх, таким образом, является основным феноменом и главной проблемой невроза.
По меньшей мере частично правильность этого второго утверждения можно доказать весьма убедительными примерами. Если агорафобика, которого сопровождали на улице, оставить там одного, то с. ним делается припадок страха. Если невротику, страдающему навязчивостью, помешать вымыть руки после прикосновения к чему-нибудь «запрещенному», то он становится жертвой почти невыносимого страха. Совершенно очевидно, что условие, требующее сопровождения на улице и навязчивое стремление мыть руки имеют целью своей (а также и следствием) не допустить вспышки страха. В этом смысле любое торможение, которое Я на себя возлагает, может быть вызвано симптомом.
Так как мы объяснили развитие страха ожиданием ситуации опасности, то предпочтем сказать, что симптомы создаются для того, чтобы избавить Я от этой ситуации. Если помешать симпто-мообразованию, то опасность действительно наступает. То есть создается состояние, аналогичное рождению, при котором Я чувствует себя беспомощным против все нарастающего требования влечения. Другими словами, повторяется первоначальная ситуация, обусловливающая развитие страха. С точки зрения наших взглядов, менее тесное взаимоотношение между страхом и симптомом, чем это предполагалось, является следствием того, что
Страх
283
между тем и другим мы вставили еще момент ситуации опасности. В дополнение можем еще сказать, что развитие страха дает толчок к симптомообразованию, являясь необходимой предпосылкой его, так как если бы Я из-за развития страха не растормошило бы инстанцию «удовольствие — неудовольствие» (Lust — Unlust), у него не было бы силы задержать нагревающийся в Оно опасный процесс. При этом совершенно очевидна тенденция ограничиться минимальным количеством страха, использовав его только как сигнал. В противном случае неудовольствие, которым угрожает влечение, пришлось бы все-таки испытать, хотя и в другом месте. Это, с точки зрения принципа удовольствия, не составляло бы никакой выгоды, хотя, однако, при неврозах встречается довольно часто.
Действительная выгода симптомообразования состоит, следовательно, в устранении ситуации опасности. В симптомообразовании имеются две стороны: одна, остающаяся скрытой от нас, создает в Оно те изменения, при помощи которых Я избавляется от опасности; другая, обращенная к нам, показывает, что вместо вытесненного влечения появилось замещающее образование.
Нам следовало бы, однако, выражаться более точно и приписать процессу отражения сказанное нами только что по поводу симптомообразования, а само слово «симптомообразование» употреблять как синоним «замещающего образования» (Ersatzbildung). Тогда кажется совершенно ясным, что процесс отражения аналогичен бегству, которое избавляет Я от угрожающей ему извне опасности и представляет собой именно такую попытку к бегству от опасности со стороны влечения. Возражения против такого сравнения помогут дальнейшему выяснению дела. Во-первых, можно возразить, что потеря объекта (потеря любви со стороны объекта) и угроза кастрации являются опасностью, угрожающей извне подобно загнанному зверю, а не опасностью со стороны влечения. Однако это не одно и то же. Волк, вероятно, набросился бы на нас, независимо от того, как мы себя ведем по отношению к нему. А любимый человек не лишил бы нас своей любви и кастрация не угрожала бы нам, если бы мы не питали в душе своей определенные чувства и намерения. Таким образом, эти влечения становятся условиями возникновения внешней опасности, а вместе с тем и сами представляют опасность. Теперь мы можем бороться с внеш
284
3. Фрейд
ней опасностью мерами, принятыми против внутренних опасностей. При фобиях животных опасность, очевидно, ощущается еще как внешняя, и в симптомах она тоже переносится вовне. При неврозе навязчивости она переживается гораздо в большей мере внутри себя. Доля страха перед сверх-Д — социальный страх — воплощает еще внутреннюю замену внешней опасности; но другая часть, составляющая страх перед своей совестью, безусловно эн-допсихична.
Другое возражение утверждает, что при попытке к бегству от угрожающей извне опасности мы только увеличиваем расстояние между собой и источником угрозы. Мы ведь не защищаемся от опасности, не пытаемся в ней самой ничего изменить, как, например, это имеет место в другом случае, когда мы идем с дубиной на волка или стреляем в него из ружья. А процесс отражения как будто бы делает больше того, что соответствует попытке к бегству. Он вмешивается в течение угрожающего влечения, каким-то образом его подавляет, отклоняет от цели и этим делает безопасным. Это возражение кажется неопровержимым и с ним приходится считаться. Мы полагаем, что бывают процессы отражения, которые с полным правом можно сравнить с попыткой к бегству. Между тем в других случаях Я защищается гораздо активней, оказывая энергичное противодействие. Если сравнивать отражение с бегством невозможно, то потому лишь, что Я и влечение, находящееся в Оно, являются частями одной и той же организации, а не отдельными существами, как волк и дитя. Поэтому любое поведение Я должно изменить процесс развития влечения.
После изучения условий страха мы вынуждены были рассматривать поведение Я при отражении, так сказать, в рациональном освещении. Каждая ситуация опасности соответствует определенному возрасту или фазе развития душевного аппарата, и кажется вполне оправдываемой ими. В раннем детстве ребенок действительно не приспособлен к тому, чтобы справляться с большим количеством возбуждений, воспринятых извне или изнутри. В известном возрасте, действительно, самый важный интерес в жизни состоит в том, чтобы лицо, от которого зависишь, не отказывало в нежной заботе. Если мальчик чувствует в сильном отце соперника, замечает в себе агрессивные наклонности против отца и сексуальные намерения в отношении матери, то он прав, когда у
Страх
285
него появляется страх перед отцом. И этот страх наказания со стороны отца, усиленный филогенетическими моментами, может проявиться как кастрационный страх. В социальных взаимоотношениях страх перед сверх-Я, то есть перед совестью, становится необходимостью, а отсутствие его — источником тяжелых конфликтов и опасностей. Но именно с этим связывается новая проблема.
Попробуем заменить аффект страха на минуту другим, например аффектом боли. Мы считаем совершенно нормальным, когда четырехлетняя девочка горько плачет, если у нее разбивается кукла, а шестилетняя — когда учительница делает ей выговор, шестнадцатилетняя — если возлюбленный не обращает на нее внимания, а двадцатипятилетняя — может быть, когда хоронит ребенка. Каждое из этих условий душевной боли имеет свое время и проходит по истечении его. Последнее и окончательное из этих условий сохраняется на всю жизнь. Но нам показалось бы странным, если бы эта девочка, уже будучи женщиной и матерью, стала бы плакать из-за порчи какой-нибудь безделушки. Но так именно ведут себя невротики. В их душевном аппарате уже давно развились все инстанции, необходимые для того, чтобы справляться с раздражениями в широких пределах. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно удовлетворять большинство своих потребностей. Они давно уже знают, что кастрация больше не применяется как наказание, и тем не менее ведут себя так, как будто остались еще старые ситуации опасности, то есть сохраняют все прежние условия развития страха.
Ответ на этот вопрос будет несколько пространный. Раньше всего он должен более точно установить фактическую сторону. В большинстве случаев старые условия возникновения страха действительно отпадают после того, как они вызвали уже невротические реакции. Фобии самых маленьких детей перед одиночеством, темнотой и посторонними людьми можно считать почти нормальными. По большей части они проходят в более старшем возрасте, «из них вырастают», как говорят о некоторых других нарушениях в детстве. Столь частые фобии животных испытывают ту же участь, многие конверзионные истерии у детей не имеют позже продолжения. Церемониал во время латентного периода встречается чрезвычайно часто, и только очень незначительный процент этих случаев раз
286
3. Фрейд
вивается позже в полный невроз навязчивости. Детские неврозы вообще, как показывает наш опыт над городскими детьми белой расы, испытывающими более высокие требования культуры, представляют собой регулярные эпизоды развития, хотя им все еще посвящается слишком мало внимания. Нет ни одного взрослого невротика, у которого не было бы признаков детского невроза, между тем как далеко не все дети, проявляющие эти признаки, впоследствии становятся невротиками. Таким образом, в период созревания должны быть оставлены прежние условия развития страха. И ситуации опасности сохраняются в более поздние годы, потому что модифицируют свои условия развития страха соответственно требованию времени. Так, например, кастрационный страх сохраняется под маской сифилофобии, после того как становится известно, что хотя кастрация и не применяется больше в наказание за удовлетворение сексуальных вожделений, но вместо нее, при свободном удовлетворении влечений, угрожают тяжелые заболевания. Другие условия развития страха вообще не должны исчезнуть, а сопровождают человека в течение всей жизни, как, например, страх перед сверх-Я Невротик отличается в этом случае от здорового человека тем, что чрезмерно преувеличивает реакции на эти опасности. Наконец, и зрелый возраст не является достаточной защитой против возвращения первоначальной травматической ситуации страха. Душевный аппарат каждого индивида в состоянии одолеть количество раздражений, требующих разрешения, только до известного предела, выше которого он оказывается несостоятельным.
Эти небольшие дополнения никоим образом не имеют целью поколебать тот факт, что поведение столь многих людей в отношении опасности остается инфантильным и они не могут преодолеть многолетние условия развития опасности. Оспаривать это — значит отрицать само существование неврозов, потому что именно таких людей называют невротиками. Как же это возможно? Почему не все неврозы являются эпизодами развития? Откуда этот момент длительности в реакциях на опасность? Откуда берется это преимущество, которым аффект страха, по-видимому, пользуется перед всеми другими аффектами? Ведь именно он один в состоянии вызвать реакции, которые отличаются ненормальным характером и как нецелесообразные противятся течению жизни. Дру-
Страх
287
гими словами, мы неожиданно снова стоим перед столь часто задаваемым вопросом: откуда берется невроз, что составляет его последний, ему одному свойственный мотив? По истечении нескольких десятилетий аналитических исследований эта проблема встает перед нами незатронутой, как и в самом начале.
X
Страх является реакцией на опасность. Нельзя отказаться от мысли, что если аффект страха может отвоевать себе исключительное положение в душевной экономике, то это находится в связи с сущностью опасности. Но опасности общечеловечны — они одни и те же для всех людей. Нам необходимо поэтому понять один момент, который остается пока неизвестным. А именно: понять причину различия между индивидуумами, одни из которых в состоянии подчинить аффект страха, несмотря на его особенности, нормальному течению душевной жизни, а другим это не удается. Мне известны две попытки раскрыть этот момент. Вполне понятно, что всякая такая попытка должна рассчитывать на благоприятный прием, если обещает пойти навстречу мучительной потребности. Обе попытки дополняют одна другую, так как подходят к проблеме с противоположных концов. Первая предпринята более десяти лет тому назад Альфредом Адлером. Главная сущность его утверждения сводится к тому, что неудачу при одолении поставленных опасностью задач терпят люди, которые испытывают большие трудности из-за малоценности их органов. Если бы верно было, что Simplex sigilium veri, то такое решение проблемы следовало бы приветствовать. Однако, наоборот, критика прошлого десятилетия окончательно доказала полную несостоятельность этого объяснения, которое к тому же игнорирует полностью богатство вскрытых психоанализом фактов.
Вторую попытку предпринял в 1923 году Отто Ранк в своей книге «Trauma der Geburt». Было бы несправедливо приравнивать эту работу попытке Адлера в каком бы то ни было другом пункте, кроме указанного здесь (тождества темы). Ранк остается на почве психоанализа, мысли которого развивает дальше, и его труд необходимо признать как законное старание разрешить аналити
288
3. Фрейд
ческие проблемы. В данном отношении между индивидом и опасностью Ранк обращает внимание не на слабость органов индивида; а на изменчивую интенсивность опасности. Процесс рождения представляет собой первую ситуацию опасности. Происходящий при нем экономический отток раздражения становится прообразом реакции страха. Выше мы проследили линию развития от первой ситуации опасности в первое проявление страха со всеми последующими этапами. И при этом убедились, что все они имеют нечто общее, так как означают в известном смысле разлуку с матерью — сначала в биологическом смысле, затем в смысле прямой утери объекта, а впоследствии и непосредственной. Открытие этой большой связи составляет неоспоримую заслугу конструкции Ранка. Однако травма от рождения проявляется у разных индивидов с различной интенсивностью и, как следствие, вызывает неодинаковую реакцию страха. По мнению Ранка, от этой первоначальной величины развития страха зависит, удастся ли индивиду научиться владеть им, то есть станет ли он невротиком или здоровым.
В нашу задачу входит не детальная критика положений Ранка, а только исследование, насколько они полезны для разрешения нашей проблемы. Ранк утверждает, что невротиком становится тот, кто из-за травмы при рождении никогда не сможет эту травму вполне «отреагировать». С теоретической точки зрения, такое утверждение вызывает большие сомнения. Нельзя понять, что подразумевается под «отреагированием» травмы. Если понимать дословно, то приходишь к недопустимому выводу, что невротик тем больше будет приближаться к выздоровлению, чем чаще и сильнее он станет репродуцировать аффект страха. Из-за этого противоречия с действительностью я отказался в свое время от теории отреагирования, играющей такую большую роль в катарсисе. Подчеркивание изменчивости силы влияния травмы при рождении не оставляет места для вполне правильной этиологической роли наследственной конституции. Такая травма представляет собой органический момент и по отношению к конституции является случайностью и зависит от многих влияний, заслуживающих названия случайных, например от своевременного оказания помощи при родах. Учение Ранка вообще не принимает во внимание конституциональные и филогенетические факторы. Попытаемся оставить место для значения конституции, вводя хотя бы ту модификацию,
Страх
289
что большое значение имеет обстоятельство, насколько сильно индивид реагирует на изменчивую интенсивность травмы при рождении. Тогда вся теория лишается своего значения, а вновь введенный фактор начинает играть только вторичную роль. Решающий момент в развитии невроза заключается, в таком случае, все же в какой-то другой, опять-таки не известной нам области.
Тот факт, что процесс рождения переживается человеком так же, как и другими млекопитающими, хотя предрасположение к неврозу составляет одно из его отличий от животных, вряд ли благоприятен для учения Ранка. Но главным возражением остается то, что вся теория витает в воздухе, вместо того чтобы основываться на точных наблюдениях. У нас нет удовлетворительных исследований вопроса, совпадает ли очевидное развитие невроза у ребенка с длительными и тяжелыми родами. Нет данных и о том, проявляются ли у тяжело рожденных детей феномены ранней детской боязливости более долго и сильно. Нужно принять во внимание, что преждевременные и легкие для матери роды могут иметь значение тяжелых травм для ребенка. В таких случаях остается требование, чтобы роды, сопровождавшиеся асфиксией, позволяли с уверенностью видеть указанные тяжелые последствия. Преимущество этиологии состоит, по-видимому, в том, что она выдвигает момент, который может быть проверен на материале путем непосредственного опыта. До тех пор, пока такая проверка не проведена, нет возможности дать верную оценку состоянию ребенка.
С другой стороны, я не могу присоединиться к мнению, что учение Ранка противоречит принятому до сих пор в психоанализе этиологическому значению сексуального влечения. Это значение касается только отношения индивида к ситуации опасности и оставляет открытым вопрос о том, что тот, кто не смог справиться с первыми опасностями, окажется позже несостоятельным и перед возможными ситуациями сексуальной опасности, отчего и заболеет неврозом.
Я не думаю поэтому, что попытка Ранка дала нам ответ на вопрос о причинах невроза, и полагаю, что нет еще возможности решить, в какой мере она может содействовать решению этого вопроса. Если исследование вопроса о влиянии тяжелых родов на предрасположение к неврозам даст отрицательные результаты, то значение трудов Ранка окажется ничтожным. Можно очень опа
290 3. Фрейд
саться, что потребность найти несомненную и единую «последнюю причину» нервозности останется всегда неудовлетворенной. Идеальное положение, о котором, вероятно, и теперь мечтает медик, состояло бы в нахождении такой бациллы, которую можно изолировать в чистой культуре и прививка которой вызывала бы у каждого индивида то же заболевание. Или несколько менее фантастично: найти химические вещества, прием которых вызывал бы и прекращал определенные неврозы. Однако вероятность этого говорит не в пользу подобного решения проблемы.
Психоанализ приводит к менее простым и менее удовлетворительным результатам. Я могу здесь только повторить давно известное, не прибавив ничего нового. Если Я удалось защититься от опасного влечения, например с помощью процесса вытеснения, то хотя это затормозило и нанесло вред части Оно, Я должно было одновременно дать Оно известную долю независимости и отказаться от части своего собственного господства над ним. Это вытекает из природы вытеснения, являющегося, по существу, попыткой к бегству. Вытесненное становится теперь «вольным как птица». Оно исключено из большой организации Я и подчиняется только законам, господствующим в области бессознательного. А когда ситуация опасности меняется и у Я нет болеё мотива для отражения нового влечения, аналогичного вытесненному, то последствия этого ограничения Я становятся очевидны. Новое течение влечения совершается под влиянием автоматизма; я предпочитаю сказать — навязчивого воспроизведения. Оно идет тем же путем, что и прежде вытесненное, как будто бы и не было преодоления ситуации опасности. Фиксирующим моментом вытеснения является, таким образом, навязчивое воспроизведение в бессознательном Оно, которое при нормальных условиях устраняется только благодаря свободной подвижности функции Я- Правда Я иной раз удается разрушить преграды вытеснения, им самим воздвигнутые, восстановить свое влияние на влечение и направить влечения по новому течению в изменившейся ситуации опасности. Но остается фактом, что часто ему это не удается и Я не может устранить свои же собственные вытеснения. Для исхода борьбы могут иметь решающее значение количественные соотношения. В некоторых случаях у нас создавалось впечатление, будто решающее влияние носит тут насильственный характер, а регрессивное притяжение
Страх
291
вытесненного душевного движения и сила вытеснения настолько велики, что новое переживание может подчиниться только навязчивому воспроизведению. В других случаях мы распознаем участие другой действующей силы: притяжение вытесненного прообраза усиливается при отталкивании его реальными трудностями, которые противятся другому течению нового влечения.
Что именно таков путь фиксации вытеснения и сохранения влияния не актуальной уже ситуации опасности, доказывает сам по себе скромный, но теоретически чрезвычайно ценный факт аналитической терапии. Если мы в анализе оказываем Я помощь, дав ему возможность устранить его вытеснения, Я снова приобретает свою власть над вытесненным в Оно и может дать влечению такое направление, будто бы старой ситуации опасности и не было. Достигаемое нами, таким образом, вполне совпадает с обычными возможностями нашей врачебной деятельности. Обычно наша терапия должна довольствоваться тем, чтобы скорее, увереннее и с меньшими усилиями добиться того положительного исхода, который при благоприятных обстоятельствах наступил бы сам.
Приведенные соображения показывают, что количественные соотношения, на которые нельзя непосредственно указать, но о которых можно судить путем обратного заключения, имеют решающее влияние на то, сохраняются ли старые ситуации опасности, остаются ли вытеснения Я и имеют ли продолжение детские неврозы. Среди факторов, являющихся причинами неврозов и создающих условия, при которых борются психические силы, наше внимание приковывают три: биологический, филогенетический и чисто психологический.
Биологический фактор составляет надолго овладевающие маленьким ребенком беспомощность и зависимость. Внутриутробное существование человека кажется относительно сокращенным в сравнении с большинством животных. Человеческий детеныш появляется на свет менее зрелым. От этого усиливается влияние реального внешнего мира, рано развивается дифференциация между Я и Оно. Одновременно повышаются значение опасности внешнего мира и особую ценность приобретает объект, который один только в состоянии защитить от этих опасностей и заменить утраченную внутриутробную жизнь. Этот биологический момент восстанавливает, таким образом, первую ситуацию опасности и
292
3. Фрейд
создает потребность быть любимым, с которой человек больше не расстается.
О существовании второго, филогенетического фактора мы заключаем на основании чрезвычайно замечательного факта в развитии либидо. Мы находим, что сексуальная жизнь человека не развивается подобно большинству родственных ему животных, постоянно и непрерывно до наступления зрелости. Развитие либидо у человека происходит так, что после первого раннего расцвета в период до пятилетнего возраста наступает энергический перерыв в развитии, после чего, с наступлением зрелости, оно начинается снова, продолжаясь из инфантильных зародышей. Мы полагаем, что в судьбах человеческого рода происходило что-то важное, что оставило как исторический след этот период сексуального развития. Патогенное значение этого момента видно из того, что большинство требований влечений детской сексуальности воспринимаются Я как опасности и отвергаются им. Поэтому более поздние сексуальные душевные движения при наступлении зрелости, которые должны были бы быть приемлемы для Я, подвергаются опасности подчиниться притяжению инфантильных прообразов и последовать за ними в процессе вытеснения. Здесь мы сталкиваемся с самой прямой этиологией невроза. Замечательно, что раннее проявление сексуальных переживаний оказывает на Я такое же влияние, как преждевременное соприкосновение с внешним миром.
Третий психологический фактор нужно искать в несовершенстве нашего душевного аппарата. Он находится в связи с дифференциацией этого аппарата на Я и Оно и в конечном счете, следовательно, объясняется влиянием и внешнего мира. Принимая во внимание факты реальности, Я вынуждено защищаться от известных влечений Оно, рассматривая их как опасности. Я не может, однако, с таким же успехом защищаться против внутренних опасностей, как против части чужой ему реальности. Будучи тесно связанным с Оно, Я может только отражать опасность, исходящую от влечения, ограничивая свою собственную организацию и мирясь с симптомо-образованием как с заменой ограниченного влечения. Если напор отвергнутого влечения возобновляется, то для Я возникают все опасности, известные нам как невротические страдания.
Дальше, полагаю я, наше понимание сущности и причин неврозов пока не пошло.
Страх
293
XI
Добавление
Выше были затронуты различные темы, которые временно следовало обойти. Теперь постараемся снова собрать их, для того чтобы уделить им часть внимания, которого они заслуживают.
А. Изменение высказанных прежде взглядов
Сопротивление и противодействие ( Gegenbesetzung)
Важную часть теории вытеснения составляет положение, что вытеснение не представляет собой события, совершающегося только один раз, а требует длительного постоянного усилия. Если бы это усилие отпало, то вытесненное влечение, беспрерывно получающее притоки из своих источников, в следующий раз пошло бы тем же путем, из которого оно было вытеснено. Вытеснение не имело бы никакого успеха или должно было бы повторяться без конца. Таким образом, из беспрерывной природы влечения вытекают требования, предъявляемые к Я, чтобы оно обеспечило свои реакции отражения с помощью длительного напряжения. Это действие в защиту вытеснения мы чувствуем при терапевтическом вмешательстве как сопротивление, которое владеет тем, что я назвал противодействием (Gegenbesetzung). Такое противодействие явно ощутимо при неврозе навязчивости. Оно проявляется здесь как изменение в Я, как реактивное образование в Я, достигаемое удалением той установки, которая противоположна вытесненному влечению (состраданию, совестливости, любви к чистоте). Эти реактивные образования при неврозе навязчивости представляют собой преувеличение нормальных черт характера, развившихся в течение латентного периода.
Гораздо труднее открыть противодействие при истерии, где теоретически оно также необходимо. И здесь совершенно очевид
294
3. Фрейд
на некоторая доля изменения в Я реактивными образованиями. А при некоторых условиях это изменение настолько бросается в глаза, что привлекает к себе внимание как главный симптом состояния. Таким путем, например, разрешается амбивалентный конфликт при истерии, ненависть к любимому липу подавляется чрезмерной нежностью и боязнью за него. Необходимо, однако, подчеркнуть, что, в отличие от невроза навязчивости, такие реактивные образования при истерии не относятся к общей природе черт характера, а ограничиваются только особыми отношениями к данному лицу. Истеричная женщина, например, обращается со страстной нежностью с ненавистными ей, в сущности, детьми. Но от этого она не становится любвеобильнее, чем другие женщины, или более нежной к другим детям. Реактивное образование при истерии крепко держится одного определенного объекта и не становится общим предрасположением Я- Для невроза же навязчивости характерно именно это обобщение, ослабление связи с объектом, облегчение сдвига (Verschiebung) в выборе объекта.
Другой вид противодействия, кажется, больше соответствует своеобразным особенностям истерии. Вытесненное влечение может быть разбужено (снова усилено) с двух сторон: во-первых, изнутри, вследствие усиления влечения из внутренних источников его возбуждения; во-вторых, извне — при восприятии объекта, желанного для данного влечения. Истерическое противодействие направляется преимущественно вовне против опасного восприятия. Оно принимает форму особой бдительности, налагающей на Я определенные ограничения, чтобы помочь Я избегать ситуаций, в которых могло бы иметь место такое восприятие. Или же такая бдительность помогает отвлечь внимание от этого восприятии, если оно все-такй возникает. Французские авторы дали недавно этому явлению истерии особое имя — Sko-tomisation. Более странной, чем при истерии, эта техника противодействия наблюдается при фобиях, при которых внимание концентрируется на том, чтобы как можно больше удалиться от возможного опасного восприятия. Противоположное направление противодействия при истерии и фобиях, с одной стороны, а в неврозе навязчивости, с другой, кажется значительным, хотя оно и не абсолютно. Оно наводит на мысль, что имеется тесная связь
Страх
295
между вытеснением и внешним противодействием, как и между регрессией и внутренним противодействием (изменением Я с помощью реактивного образования). Отражение опасного восприятия составляет, впрочем, общую задачу неврозов. Той же цели должны служить различные заповеди и запреты невроза навязчивости.
Мы уже однажды выяснили, что сопротивление, которое нам необходимо преодолеть в анализе, исходит из Я, настойчиво направляющего свое противодействие. Я с трудом удается направить свое внимание на восприятие и представление, избегать которых стало для него законом, или признать свои душевные движения, составляющие полную противоположность тому, что ему о себе известно. Наша борьба с сопротивлением в анализе основана на таком его понимании. Мы делаем сопротивление сознательным там, где оно, как это часто бывает, бессознательно из-за своей связи с вытесненным. Мы противопоставляем ему логические доводы, когда оно стало сознательным, или обещаем Я выгоды и награды, если оно откажется от сопротивления. В сопротивлении Я не приходится сомневаться или вводить какие бы то ни было поправки. Но зато возникает вопрос: покрывается ли им одним то положение, с которым мы встречаемся в анализе? Опыт показывает, что Я все еще сталкивается с трудностями при устранении вытеснений и после того', как оно приняло решение отказаться от сопротивлений. Мы назвали эту фазу напряженного усилия, следующую за таким похвальным решением, фазой «проработки». Весьма легко открыть динамический момент, делающий такую проработку необходимой и понятной. Он может состоять только в том, что после устранения сопротивления Я приходится преодолеть еще силу навязчивого воспроизведения того притяжения, которое бессознательные прообразы имеют на вытесненный процесс влечения. И ничего нельзя возразить против желания назвать этот момент сопротивлением бессознательного. Пусть нам эти исправления не будут неприятны. Они желательны, если способствуют нашему пониманию, и в них нет ничего стыдного, если они не опровергают прежде сказанного, а только обогащают его, пожалуй ограничивают какое-нибудь обобщение или расширяют слишком узкий взгляд.
296
3. Фрейд
Нельзя допустить, что с введением этой поправки у нас получился полный обзор всех видов сопротивления, с которыми мы встречаемся в анализе. При дальнейшем углублении мы, напротив, замечаем, что бороться приходится с пятью видами сопротивления, исходящими с трех сторон, а именно: из Я, из Оно и из сверх-#. При этом Я оказывается источником трех различных в своей динамике форм. Первое из этих трех сопротивлений Я представляет собой описанное выше сопротивление вытеснения (Verdrangungswiederstand), о котором мы меньше всего можем сказать что-нибудь новое. От него необходимо отличать сопротивление от переноса (Ubertragungswiederstand), по природе своей точно такое же, как и предыдущее. Однако в анализе оно приводит к другим, более очевидным явлениям, так как ему удается установить связь с аналитической ситуацией или с личностью аналитика и таким путем снова ярко оживить вытеснение, которое должно было всплыть только в воспоминании. Сопротивлением Я, хотя совершенно другим по природе своей, является также сопротивление, исходящее из выгоды от болезни (Krankheitsgewinn). Оно основывается на том, что Я вбирает в себя этот симптом и противодействует отказу от удовлетворения или облегчения состояния. Четвертый вид сопротивления — сопротивление Оно — мы только что сделали ответственным за необходимость проработки. Пятое сопротивление — сопротивление сверх-# — стало нам известно последним. Это самое непонятное, но не всегда самое слабое сопротивление, исходящее, по-видимому, из сознания своей вины, чувства вины или потребности в наказании. Оно противится всякому успеху, в том числе и выздоровлению при помощи анализа.
Страх, возникающий от либидо
Защищаемый в этой работе взгляд на стр,ах значительно отличается от того взгляда, который мне казался верным до сих пор. Раньше я рассматривал страх как общую реакцию # на условиях появления неудовольствия (Unzufriedenheit). Я старался оправдать его возникновение всегда с экономической точки зрения и, основываясь на исследовании актуальных неврозов, предполагал, что либидо (сексуальное возбуждение), которое
Страх
297
было отклонено и не использовано самим Я, получает выход в форме страха. Нельзя не заметить, что эти различные определения не совсем подходят одно к другому; по крайней мере, не следуют одно из другого. Кроме того, весьма похоже на то, что существует особенно тесная связь между страхом и либидо, которая опять-таки не гармонирует с общим характером страха как реакции неудовольствия (Unlustreaktion).
Возражение против этого взгляда исходило из тенденции сделать Я единственным местом развития страха, то есть следствием сделанной попытки расчленения психического аппарата в Я и Оно. Прежнее понимание совершенно оправдывало взгляд на вытесненные влечения как на источник страха. С точки зрения нового понимания, Я, скорее, ответственно за этот страх. Следовательно, страх Я — это страх перед влечением Оно.
Так как Я работает с десексуализированной энергией, то в этом нововведении ослаблена также интимная связь страха с либидо. Надеюсь, что мне удалось, по крайней мере, выяснить их противоречия, резко нарисовать очертания неуверенности.
Напоминания Ранка, что аффект страха является, как и я сначала полагал, следствием процесса рождения и воспроизведением пережитой тогда ситуации, вынудило подвергнуть новому пересмотру проблему страха. Я не мог продвинуться вперед, опираясь на его личный взгляд на рождение как на травму, на состояние страха как на реакцию на эту травму, на всякий вновь возникающий аффект страха как на попытку полнее «отреагировать» на эту травму. Выяснилась необходимость перейти от реакции страха к скрывающейся за ней ситуации опасности. С введением этого момента открылись новые точки зрения. Рождение стало прообразом всех позднейших ситуаций опасности, которые открылись за новыми условиями измененной формы существования и прогрессирующего психического развития.. Но собственное значение рождения было ограничено, однако, таким отношением самой реакции к опасности. Испытанный при рождении страх стал теперь прообразом аффективного состояния, которое вынуждено разделить участь всех аффектов. Оно репродуцируется автоматически в ситуациях, аналогичных первоначальной, в виде нецелесообразной формы реакции, хотя в первой ситуации опасности оно было целесообразно. Или же Я
298
3. Фрейд
получило власть под этим аффектом и само его репродуцировало, пользуясь им для предупреждения опасности или как средством вызвать вмешательство механизма «удовольствие — неудовольствие» (Lust — Unlust). Биологическое значение аффекта страха получило правильную оценку потому, что страх был признан общей реакцией на ситуацию опасности. Роль Я, как места развития страха, была подтверждена, так как за Я признали функцию репродуцирования по мере надобности аффекта страха. Таким образом, указаны были двоякого рода формы возникновения страха в дальнейшей жизни: одна — непроизвольная, автоматическая, всякий раз оправдываемая с экономической точки зрения, а именно, когда возникает ситуация опасности, аналогичная опасности при рождении; другая форма — репродуцируемая, когда такая опасность только угрожала, и имеющая целью своей создать позыв к избежанию этой опасности. Во втором случае Я подвергалось страху, как прививке от болезни, чтобы избежать неослабленного приступа с помощью перенесенного ослабленного болезненного припадка. Я как бы представляет себе живо ситуацию опасности, проявляя очевидную тенденцию ограничить это мучительное переживание только намеком, сигналом. Уже в деталях было описано, как при этом развиваются одна за другой различные ситуации опасности, оставаясь генетически связанными одна с другой. Может быть, нам удастся продвинуться еще дальше в понимании страха, если мы приступим к исследованию проблемы взаимоотношений между невротическим и реальным страхом.
Предполагаемое прежде прямое превращение либидо в страх значительно утеряло для нас свой интерес. Если мы все же примем его во внимание, то нам придется различать несколько случаев. В отношении страха, вызываемого Я в виде сигнала, такое превращение не следует принимать во внимание. Аналогично нужно поступать и во всех тех ситуациях опасности, которые побуждают Я совершить вытеснение. Либидозная энергия вытесненных влечений, как это ясней всего видно при конверзионной истерии, получает другое применение, а не превращается в страх и отток наружу в этой форме. Однако при дальнейшем исследовании ситуации опасности мы встретимся с таким случаем развития страха, который, вероятно, придется понимать иначе.
Страх
299
Вытеснение и отражение (Abwehr)
В связи с обсуждением проблемы страха я снова выдвинул понятие или, скромнее выражаясь, термин, которым я в начале моих исследований тридцать лет назад воспользовался в виде исключения и позже больше не употреблял. Я имею в виду «процесс отражения»1.
Впоследствии я заменил его «вытеснением», но отношение между этими двумя терминами осталось неопределенным. Я полагаю, что несомненно будет полезно вернуться к старому понятию «отражение», если условимся, что оно должно служить обозначением всех технических приемов, которыми пользуется Я при всех возможных конфликтах, ведущих к неврозу. Между тем название «вытеснение» останется для одного определенного метода «отражения», который стал нам впервые лучше известен, чем другие, из-за направления наших исследований.
И терминологическое новшество требуется обосновать, если оно должно служить выражением нового подхода или расширением нашего понимания. Введение снова понятия «отражение» и ограничение понятия «вытеснение» исходит из факта, который уже давно известен, но значение его возросло благодаря некоторым новым открытиям. Наши первые знания о вытеснении и симпто-мообразовании мы приобрели при исследовании истерии. Мы видели, что содержание восприятия возбуждающих переживаний, содержание представлений патогенных мыслей забывается и исключается возможность репродукции их в памяти. Поэтому мы видели в удалении из сознания главный признак истерического вытеснения. Позже мы изучили невроз навязчивости и нашли, что при этом заболевании патогенные события не забываются. Они сохраняются в сознании, но пока еще непонятным образом «изолируются», так что приблизительно получается тот же результат, что и при истерической амнезии. Однако различие между этими двумя процессами достаточно велико и позволяет оправдать наше мнение, что процесс, при помощи которого устраняется необходимость влечения при неврозе навязчивости, не может быть таким же, как и при истерии.
1 См. Die Abwehr Neuropsychosen. Geis Schriften Bd. I.
300
3. Фрейд
Дальнейшие исследования показали, что при неврозе навязчивости, под влиянием противодействия Я, происходит регрессия влечений к прежней фазе либидо. Эта регрессия хотя и не делает излишним вытеснение, все же очевидно действует в таком же смысле, как и вытеснение. Далее мы убедились, что противодействие (Gegenbesetzung), которое приходится допустить и при истерии, играет особенно большую роль в защите Я при неврозе навязчивости, выступая в качестве реактивного изменения Я- Мы обратили внимание на способ «изолирования», технику которого мы еще не можем указать и который приобретает специальное симптоматическое выражение. Обращается внимание и на процедуру, заслуживающую названия магической и сводящуюся к тому, чтобы какой-то факт «сделать несовершившимся». Отрицающая тенденция последней процедуры не подлежит никакому сомнению, хотя с процессом «вытеснения» никакого сходства у нее нет. Эти наблюдения послужили достаточным основанием, для того чтобы снова воспользоваться старым понятием «отражение», которое может охватить все эти процессы, имеющие одну тенденцию — защитить Я от требования влечений; а также, для того чтобы включить в это понятие вытеснение, как один специальный случай. Значение такой номенклатуры повысится, если принять во внимание, что углубление наших исследований поможет открыть тесную связь между особыми формами отражения и определенными заболеваниями; например, между вытеснением и истерией. Наше ожидание направляется дальше на возможность другой значительной зависимости. Предположительно допускается, что наш душевный аппарат до наступления строгого разделения на Я и Оно, до образования сверх-Я пользуется другими методами отражения, чем после достижения этих ступеней организации.
Б. Дополнение к учению о страхе
Аффект‘страха обладает некоторыми чертами, исследование которых обещает дальнейшее уяснение проблемы. Страх имеет очевидное отношение к ожиданию. Имеют страх перед чем-нибудь. Ему присущ характер неопределенности и беспредметное-
Страх
301
ти. Точное выражение нашей речи меняет название «страх», ’когда он находит свой объект, и заменяет его в таком случае словом «боязнь». Кроме отношения к опасности, страх имеет еще отношение к неврозу, и выяснению этого отношения уже много времени посвящены наши старания. Возникают вопросы: почему не все реакции страха невротичны? Почему мы многие из них признаем нормальными? Наконец, требует основательного исследования различие между реальным страхом и невротическим.
Будем исходить из последней задачи. Успех нашего исследования состоял в том, что от реакции страха мы перешли к ситуации опасности. Допустим такое же изменение в проблеме реального страха и разрешение ее окажется легким. Реальная опасность — это такая, которая нам известна. Реальный страх — это страх перед, известной нам опасностью. Невротический страх — это страх перед опасностью, которая нам не известна. Невротическую опасность поэтому необходимо искать. Анализ показал, что это опасность, исходящая от влечения. Доводя до сведения Я эту неизвестную ему опасность, мы уничтожаем различие между реальным страхом и невротическим и можем относиться к последнему, как и к первому.
В положении реальной опасности мы проявляем две реакции: аффективную вспышку страха и защитное действие. Весьма вероятно, что при опасности, исходящей от влечения, происходит то же самое. Нам известен случай целесообразного совместного действия обеих реакций, когда одна из них дает сигнал для вступления в действие другой реакции. Однако мы знаем также и нецелесообразный случай — случай парализующего страха, когда одна реакция распространяется за счет другой.
Встречаются случаи, когда признаки реального страха и невротического проявляются в смешанном виде. Опасность известна и реальна, но страх перед ней чрезмерно велик, то есть больше, чем следовало бы, по нашему мнению. В этом «больше» проявляется невротический элемент. Но в этих случаях нет ничего принципиально нового. Анализ показывает, что с известной реальной опасностью связана неизвестная опасность, исходящая от влечения.
Мы успеем больше, если не удовлетворимся тем, что сведем страх к опасности. Что составляет ядро значения ситуации опас
302
3. Фрейд
ности? Очевидно, оценка собственной силы в сравнении с величиной опасности, признание нашей беспомощности против нее; причем материальной беспомощности — в случае реальной опасности, психической беспомощности — в случае опасности, исходящей от влечения. Наше суждение руководствуется при этом действительным опытом. Ошибается ли оно в своей оценке — для результата это безразлично. Назовем такую пережитую ситуацию беспомощности травматической. У нас имеется, в таком случае, достаточно оснований отличать травматическую ситуацию от ситуации опасности.
Важным прогрессом в нашем самосохранении является положение, когда мы не ждем наступления травматической ситуации беспомощности, а предвидим и сами предвосхищаем ее. Ситуация, с которой связано такое ожидание, называется ситуацией опасности. При ее наступлении подается сигнал страха, который как бы означает: я предвижу, что создастся ситуация беспомощности; или ситуация данного момента напоминает мне испытанное прежде травматическое переживание; поэтому я предупреждаю эту травму, буду вести себя так, как будто момент для нее уже наступил и, пока еще не поздно, постараюсь уклониться от нее. Страх является поэтому, с одной стороны, ожиданием травмы, а с другой — смягченным воспроизведением ее. Оба признака, замеченные нами в страхе, имеют различное происхождение. Его отношение к ожиданию принадлежит к ситуации опасности, его неопределенность и беспредметность — к травматической ситуации беспомощности, антиципированной ситуации опасности.
После развития ряда «страх — опасность — беспомощность (травма)» мы пришли к следующему выводу. Ситуация опасности представляет собой узнанную, вспоминаемую, ожидаемую ситуацию беспомощности. Страх представляет собой первоначальную реакцию на беспомощность при травме — реакцию, репродуцируемую затем при ситуациях опасности в сигнал о помощи. Я, пережившее пассивно травму, активно воспроизводит ослабленную репродукцию ее в надежде, что сможет самостоятельно руководить ее течением. Нам известно, что дитя ведет себя таким же образом в отношении всех мучительных для него впечатлений, воспроизводя их в игре. Переходя, таким образом, от пассивности к активности, ребенок старается психически одолеть
Страх
303
свои жизненные впечатления. Если таков смысл «отреагирования травмы», то против этого ничего нельзя возразить. Однако решающим моментом является первый сдвиг (Verschiebung) реакции страха от ее происхождения в ситуации беспомощности на ожидание этой ситуации, то есть на ситуацию опасности. Затем следуют дальнейшие сдвиги от опасности на условия опасности, на утерю объекта или на упомянутые уже видоизменения опасности.
Избалованность маленького ребенка влечет за собой то нежелательное последствие, что опасность утери объекта как защиты против всех ситуаций беспомощности превышает все другие опасности. Она благоприятствует, таким образом, сохранению состояния детства, которому свойственна моторная и психическая беспомощность.
До сих пор у нас не было повода смотреть на реальный страх иначе, чем на невротический. Нам известно различие между ними: реальная опасность угрожает от внешнего объекта, невротическая — от требования влечения. Поскольку это требование представляет собой нечто реальное, то можно признать, что и невротический страх имеет реальное основание. Мы поняли, что кажущиеся, особенно интимные взаимоотношения между страхом и неврозом объясняются тем фактом, что Я защищается с помощью реакции страха от опасности, исходящей из влечения, так же, как от внешней реальной опасности. Но это направление деятельности отражения приводит к неврозу из-за несовершенства душевного аппарата. Мы пришли также к убеждению, что требование влечения часто становится внутренней опасностью только потому, что удовлетворение его привело бы к внешней опасности; следовательно потому, что эта внутренняя опасность представляет собой внешнюю.
С другой стороны, и внешняя (реальная) опасность должна превратиться во внутреннее переживание, для того чтобы приобрести значение для Я, которое должно узнать отношение ее к пережитой ситуации беспомощности1.
1 Часто бывает, что в ситуации опасности, правильно оцениваемой, к реальному страху присоединяется еще некоторая доля страха, исходящего от влечения. Требование влечения, удовлетворение которого
304 3. Фрейд
Инстинктивное значение угрожающих извне опасностей, по-видимому, не является врожденным у человека; а если и врожденное, то очень в незначительных размерах. Маленькие дети беспрестанно проделывают вещи, которые представляют опасность для их жизни. Именно поэтому они не могут обойтись без защищающего их объекта. В отношении травматической ситуации, при которой оказываешься беспомощным, совпадает внешняя и внутренняя опасность, реальная опасность и требование влечения. Я в одном случае может пережить боль, которая не прекращается; в другом — испытать нарастание потребности, которая не может найти удовлетворения. В обоих случаях экономическая ситуация будет одна и та же, и моторная беспомощность находит свое выражение в психической беспомощности.
Загадочные фобии раннего детства заслуживают еще раз упоминания в этом месте. Некоторые из них (страх одиночества, темноты, посторонних людей) мы могли понять как реакцию на опасность утери объекта. Относительно других (маленьких животных, грозы и т. п.) может быть правильным объяснение, что они представляют собой заглохшие остатки врожденной приспособленности к реальной опасности, так явно выраженной у других животных. Для человека целесообразна только та доля архаического наследства, которая относится к потере объекта. Когда такие детские фобии фиксируются, усиливаются и сохраняются до позднего возраста, анализ показывает, что содержание их связалось с требованиями влечений и стало выражением также и внутренних опасностей.
В. Страх, боль и печаль
О психологии процессов чувств известно так мало, что приводимые робкие замечания могут притязать только на самое снис
пугает Я, исходит в таком случае от мазохистского, деструктивного влечения. Может быть, это добавление служит объяснением тому, что реакция страха оказывается чрезмерно и целесообразно парализующей. Фобии высоты (окно, башня, пропасть) ведут, вероятно, отсюда свое происхождение; их тайное женственное значение близко к мазохизму.
Страх
305
ходительное отношение. Проблема встает перед нами в следующем пункте. Мы вынуждены были сказать, что страх является реакцией на опасность потерять объект. Но нам уже известна одна реакция на потерю объекта — печаль. Когда же наступает одна реакция, а когда другая? В отношении печали, которую мы уже прежде исследовали1, одна черта осталась совершенно непонятной — сопровождающая ее особенная душевная боль. Что разлука с объектом причиняет боль — это нам кажется само собой понятным. Проблема усложняется, таким образом, рассмотрением случаев, когда разлука с объектом сопровождается страхом, когда она вызывает печаль, а когда, может быть, причиняет только душевную боль.
Скажем сразу: у нас нет никакой надежды дать ответы на эти вопросы. Мы должны будем довольствоваться тем, что найдем некоторые различия между этими состояниями и некоторые отдаленные указания.
Исходным пунктом для нас будет опять-таки та же ситуация, которую, как нам кажется, мы понимаем — ситуация младенца, находящего вместо матери постороннее лицо. Он проявляет в таком случае страх, который мы объяснили опасностью потери объекта. Однако его реакция сложнее и заслуживает более детального обсуждения.
В страхе младенца хотя и не приходится сомневаться, однако выражение лица его и характер плача заставляют думать, что кроме страха он испытывает еще и душевную боль. Похоже, в нем сливается то, что впоследствии разъединяется. Он еще не умеет отличать временного отсутствия от длительной потери. Если даже на один только миг он не обнаруживает матери, все равно ведет себя так, будто уже никогда больше не сможет увидеть ее. Ему необходимо неоднократно на опыте убеждаться, что после исчезновения матери обычно снова следует ее появление. Мать способствует созреванию в нем этого важного познания, играя с ним в известную игру, при которой закрывает от него свое лицо, а затем, к радости малыша, снова открывает его. Упрощенно говоря, он может в таком случае испытать тоску, не сопровождаемую отчаянием.
1 См. Печаль и Меланхолия. — Примеч. перев.
306
3. Фрейд
Ситуация, при которой мать отсутствует, представляет собой, из-за непонимания ребенка, не ситуацию опасности для него, а только травматическую. Или, правильнее, она становится травматической, если он испытывает в этот момент потребность, которую мать должна удовлетворить. Но эта ситуация превращается в ситуацию опасности, если эта потребность не актуальна. Первое условие страха, которое Я само вводит, представляет собой, таким образом, отсутствие восприятия, равноценное утере самого объекта. О потере любви еще речи нет. Позже опыт учит, что объект может остаться, но рассердиться на ребенка. В таком случае утеря любви со стороны объекта становится новой, гораздо более постоянной опасностью и условием развития страха.
Травматическая ситуации отсутствия матери отличается в одном важном пункте от травматической ситуации рождения. Тогда не было объекта, который мог бы исчезнуть. Страх остается единственной реакцией, которая имела место. С тех пор неоднократно повторяющиеся ситуации удовлетворения потребностей создали в лице матери объект, который в случае их появления вызывает интенсивный поток чувства, заслуживающего названия «тоски». Реакцию душевной боли приходится отнести за счет этого нового обстоятельства. Боль является, таким образом, реакцией на потерю объекта, а страх — реакцией на опасность, заключающуюся в этой потере, а в дальнейшем развитии — реакцией на опасность потери объекта.
Об этой боли нам тоже очень мало известно. Единственный несомненный факт тот, что боль обычно возникает тогда, когда действующее на периферию раздражение нарушает предохранительные меры защиты от него. Оно действует как длительное раздражение влечения, против которого оказываются беспомощными действенные мускульные реакции, удаляющие раздраженное место тела от раздражителя. Если боль исходит не от кожи, а от внутреннего органа, то этим ничего не меняется. Вместо внешней периферии тут местом действия является часть внутренней периферии. Ребенку, очевидно, представляется случай испытать подобные переживания боли, независимые от его переживаний из-за потребностей. Однако это условие возникновения боли имеет как будто мало сходства с потерей объекта. В ситуации
Страх
307
тоски у ребенка совершенно отсутствует также существенный для боли момент периферийного раздражения. И тем не менее не может быть лишено смысла то обстоятельство, что наш язык создал понятие о внутренней душевной боли и уподобил телесной боли ощущение от утери объекта. При телесной боли возникает высокая нарцистическая оценка больного места на теле, все возрастающая и действующая на него опустошающе. Известно, что при болях во внутренних органах у нас возникают пространственные и другие представления о таких частях тела, которые обычно отсутствуют в нашем сознательном представлении. Интересен и тот факт, что интенсивные физические боли не возникают при психическом отвлечении внимания на другие интересы (здесь нельзя сказать, что они остаются бессознательными). Этот факт находат объяснение в концентрации психической энергии (Besetzung) на психическом «представительстве» больного места.
В этом пункте, по-видимому, заключается аналогия, позволяющая перенести ощущение физической боли на психическую область. Интенсивная и все возрастающая из-за своей неудовлетворенности тоска по отсутствующему (утерянному) объекту создает те же экономические условия, что и боль в раненом месте тела и одновременно позволяет не замечать периферийность физической боли! Переход от телесной боли к душевной соответствует превращению концентрации нарциссической энергии (narzistische Objektbesetzung) в концентрацию на объекте. Представление об объекте, очень яркое под влиянием потребности, играет роль места тела, на котором сконцентрировалось сильное раздражение. Длительность и отсутствие задержек в процессе концентрации энергии (Besetzungsvorgang) создают такое же состояние психической беспомощности. Иногда возникающее в таком случае неприятное ощущение носит специфический и не поддающийся более точному описанию характер боли, вместо того чтобы проявиться в форме реакции страха. В таком случае проще всего сделать за это ответственным момент, обычно мало принимавшийся во внимание при объяснении. Я имею в виду тот высокий уровень условий концентрации и связывания энергии (Besetzung und Bindungsverhaltnisse), при котором происходят эти процессы, приводящие к неприятным ощущениям.
308 3. Фрейд
Нам известна и другая чувственная реакция на утерю объекта — печаль. Ее объяснение не представляет трудности. Печаль возникает из-за требования реальности разлучиться с объектом, больше уже не существующим. Она должна выполнить работу по отказу от объекта во всех тех ситуациях, в которых он был предметом высокой концентрации психической энергии (Gegenstand hoher Besetzung). Болезненный характер этой разлуки объясняется сильной неутолимой тоской по объекту при репродукции ситуации, в которой должна быть разрушена привязанность к нему.
Тотем и табу
Психология первобытной культуры и религии
|Введение
Нижеследующие четыре статьи появились в издаваемом мною журнале «Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и предлагаемая книга. Они представляют собой первую попытку с моей стороны применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам психологии народов. По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта, использовавшего для той же цели положения и методы неаналитической психологии, с другой стороны, работам цюрихской психоаналитической школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешать при помощи материала из области психологии народов1. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили оба этих источника.
Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые вызваны тем, что это мои первые исследования в этой области. Однако иные из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на внимание широкого круга образованных людей. Их, собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии. Задача этих статей — послужить посредниками между этнологами, лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками — с другой. И все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает: первым —
1 Jung. Wandlungen und Symbole der Libido. Jahrbuch fur psychoana-lytische und psychopathologische Vorschungen. Bd. IV 1912; тот же автор, Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie. Bd. V 1913.
312
3. Фрейд
достаточного ознакомления с новой психологической техникой, последним — возможности в полной мере овладеть требующим обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы и здесь, и там привлечь внимание и побудать обе стороны встречаться чаще, так как это окажется не бесполезным для научного исследования.
Обе главные темы, давшие название этой книге,— тотем и табу — получают в ней неодинаковую разработку. Анализ табу отличается, безусловно, большей достоверностью и разрешение этой проблемы более исчерпывающе. Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы тотема. Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще существует у нас. Хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие моменты, по психологической природе своей оно является не чем иным, как «категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную мотивировку. Тотемизм, напротив, чужд нашему современному чувствованию. Это религиозно-социальный институт, в действительности давно заброшенный и замененный новыми формами. Он оставил лишь незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и претерпел, вероятно, большие изменения даже у тех народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам — из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе. И если эта гипотеза, в конце концов, оказалась достаточно невероятной, то это не дает основания возражать против возможности того, что она все же в большей или меньшей степени приблизила нас к объяснению трудно реконструируемой действительности.
Рим. Сентябрь, 1913.
Тотем и табу
313
Психоаналитическое исследование с самого начала указывало на аналогии и сходства в результатах его работ в области душевной жизни отдельного индивида с результатами исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала это происходило робко и неуверенно, в скромном объеме и не шло дальше области сказок и мифов. Целью распространения указанных методов на эту область было только желание вселить больше доверия к невероятным самим по себе результатам исследования указанием на такое неожиданное сходство.
За прошедшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ приобрел, однако, доверие к своей работе. Довольно значительная группа исследователей, идя по указаниям одного, пришла к удовлетворительному сходству в своих взглядах. И теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе индивидуальной психологии и поставить перед работой новую цель. В душевной жизни народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида. Необходимо также сделать смелую попытку осветить при помощи сложившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным и сомнительным в психологии народов. Молодая психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что позаимствовала в самом начале своего развития у других областей знания, и надеется вернуть больше, чем в свое время получила.
Однако трудность предприятия заключается в качественном подборе лиц, взявших на себя эту новую задачу. Ни к чему было бы ждать, пока исследователи мифов и психологии религий, этнологи, лингвисты и т. п. начнут применять психоаналитический метод мышления к материалам своих исследований. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть, безусловно, предприняты теми, кто до настоящего времени (например, психиатры и исследователи сновидений) овладели психоаналитической техникой и ее результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания, а если и приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами или, в лучшем случае, автодидактами. Они не смогут избежать в своих трудах слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут насмешку цехового исследователя-специалиста, хорошо владеющего материалом и умеющего распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его
314
3. Фрейд
сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу инструмент, который мы можем вложить ему в руки.
Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать еще на одно извиняющее обстоятельство, а именно — что она является первым шагом автора на чуждой ему до того почве. К этому присоединяется еще и тот факт, что по различным внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, и гораздо раньше, чем автор был в состоянии проработать богатую литературу по предмету. Если я тем не менее не отложил публикования, то к этому побудили меня некоторые соображения. Например, первые работы и без того часто грешат тем, что хотят охватить слишком много. Они стремятся дать настолько полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с самого начала. Поэтому нет ничего плохого в том, если сознательно и намеренно ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем собрал их, так как видит, что сам не в состоянии справиться с их обилием.
У всякого принимавшего участие в развитии психоаналитического исследования, остался достопамятным момент, когда К.Г. Юнг на частном научном съезде сообщил через одного из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных (Dementia ргаесах) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это указало не только на новый источник самых странных психических продуктов болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевно больной и невротик сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени. И если психоанализ исходит из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.
11 Боязнь инцеста
Доисторического человека во всех стадиях развития, проделанных им, мы знаем по предметам и утвари, оставшимся после него; по сохранившимся сведениям об его искусстве, религии и мировоззрении, дошедшим до нас непосредственно или традиционным путем в сказаниях, мифах и сказках; по сохранившимся остаткам образа его мыслей в наших собственных обычаях и нравах. Кроме того, в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную ступень нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в «психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились с помощью психоанализа. Это даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже и в той, и в другой области.
По внешним и внутренним причинам я останавливаю мой выбор для этого сравнения на племенах, выделяемых этнографами как самых диких, несчастных и жалких, а именно на туземцах самого молодого континента — Австралии, сохранившего нам и в своей фауне так много архаического, исчезнувшего в других местах.
Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у которой ни физически, ни лингвистически не заметно^ никакого родства с ближайшими соседями — меланезийскими, полинезийскими и
316
3. Фрейд
малайскими народами. Они не строят ни домов, ни прочных хижин, не обрабатывают землю, не разводят никаких домашних животных, кроме собак, не знают даже гончарного ремесла. Они питаются исключительно мясом животных, которых убивают, и кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей, ни вождей. Собрания взрослых мужчин решают общие дела. Весьма сомнительно, можно ли допустить у них следы религий в форме почитания высших существ. Племена внутри континента вынуждены из-за недостатка воды бороться с самыми жестокими жизненными условиями. Поэтому они, по-видимому, во всех отношениях еще более примитивны, чем жители побережья.
Мы, разумеется, не можем ждать, что эти жалкие нагие каннибалы окажутся в половой жизни нравственными в нашем смысле, в высокой степени ограничивающими себя в проявлениях своих сексуальных влечений. И тем не менее мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать сексуальных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация подчиняется этой цели или находится в тесной связи с таким достижением.
Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у австралийцев имеется система тотемизма. Австралийские племена распадаются на маленькие семьи, или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема. Что же такое тотем? Обычно это животное, употребляемое в пишу, безвредное или опасное, внушающее страх. Реже это растение или явление природы (дождь, вода), имеющее определенное отношение ко всей семье. Тотем считается праотцем всей семьи. Кроме того, это ангел-хранитель и помощник, предрекающий будущее, узнающий и милующий своих детей, даже если обычно он опасен для других.. Лица, имеющие одного тотема, связаны священным обязательством не убивать своего тотема и воздерживаться от употребления его мяса. (Нарушение этого правила влечет наказание.) Признак тотема связан не с отдельным животным или отдельным существом, а со всеми его индивидами. Время от времени устраиваются праздники, на которых лица, имеющие одного тотема, в церемониальных танцах изображают или подражают движениям своего идола.
Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии. Весьма вероятно, что первоначально повсюду был первый
Тотем и табу
317
род передачи, и только затем произошла его замена вторым. Принадлежность к почитателям одного тотема лежит в основе всех социальных обязательств австралийцев. С одной стороны, она выходат за границы принадлежности к одному племени, с другой — отодвигает на задний план кровное родство1.
Выбор тотема не связан с областью проживания его почитателей, которые могут жить раздельно и мирно уживаться с приверженцами других тотемов2.
1 Frazer. Totemism and Exogamy. В. I. p.53. Тотем связывает крепче, нежели кровные или родственные связи в нашем современном понимании.
2 Этот самый сжатый экстракт тотемистической системы не может остаться без объяснений и ограничений. Название «тотем» в форме «Totam» перенял в 1791 г. англичанин Дж. Лонг у краснокожих Северной Америки. Само же явление постепенно завоевало огромный интерес и вызвало богатую литературу, из которой особенно упоминаю, как о главном произведении, о четырехтомной книге Дж.Дж. Фрейзера «Тотемизм и экзогамия» 1910 г. и книге и статье Эндрю Ланга «The Secret of the Totem». 1905 г. Шотландцу Фергюсону Мак-Леннану принадлежит заслуга открытия (1869—70) значения тотемизма в доисторическую эпоху человечества. Тотемистические установления наблюдались и наблюдаются теперь, кроме австралийцев, у североамериканских индейцев, у народов океанических островов, в Ост-Индии и в большой части Африки. Некоторые необъяснимые иным образом следы и остатки позволяют заключить, что когда-то тотемизм был распространен и среди арийских и семитских древних народов Европы и Азии. Поэтому многие исследователи склонны видеть в нем необходимую, всюду прошедшую фазу человеческого развития.
Каким образом доисторические люди дошли до того, чтобы выбрать себе тотем, то есть положить в основу своих социальных обязательств и, как мы услышим, и своих сексуальных ограничений представление о своем происхождении от того или другого животного? По этому поводу имеется много теорий, обзор которых читатель может найти в «Психологии народов» Вундта (т. II. «Миф и религия»). Но при этом нет единства взглядов. Обещаю, что в недалеком будущем изберу проблему тотемизма предметом особого исследования, в котором попытаюсь разрешить ее психоаналитическим методом.
318
3. Фрейд
А теперь мы должны, наконец, перейти к тем особенностям тотемистической системы, которые привлекают к ней интерес психоаналитика. Почти повсюду, где имеется тотем, существует закон, что все члены, поклоняющиеся ему, не должны вступать друг с другом в половые отношения; следовательно, они не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом экзогамию.
Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотемной организации. Невозможно поэтому понять, каким образом этот запрет попал в систему тотемизма. Нас поэтому не удивляет, если некоторые исследователи определенно полагают, что первоначально — в древнейшие времена и в соответствии с настоящим смыслом — экзогамия не имела ничего общего с тотемизмом. Она была к нему добавлена без глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в брачных ограничениях. Как бы там ни было, связь тотемизма с экзогамией существует и оказывается очень прочной.
В дальнейшем изложении мы рассмотрим значение этого запрета.
Но дело не только в том, что теория тотемизма спорная. Сами факты, относящиеся к нему, едва могут быть выражены в общих положениях вроде сделанной выше попытки. Нет почти ни одного положения, по поводу которого не приходилось бы говорить об исключениях и противоречиях. Но нельзя забывать, что даже самые примитивные и консервативные народы в известном смысле являются старыми народами и имеют за собой долгий период существования, в течение которого их первоначальные уклады жизни испытали длинное развитие и много искажений. Таким образом, в настоящее время тотемизм встречается у народов, еще сохранивших его в самых разнообразных стадиях вымирания, распада, перехода к другим социальным и религиозным институтам или в стационарных формах, вероятно довольно далеко отошедших от его первоначальной сущности. Таким образом, сейчас не легко решить, что в настоящих условиях следует рассматривать как настоящее отражение полного смысла прошлого, и что — как вторичное искажение этого прошлого.
Тотем и табу
319
А. Соплеменники не ждут, пока виновного за нарушение этого запрета постигнет наказание, так сказать, автоматически, как при других запретах рода (например, при убийстве почитаемого животного). Виновный самым решительным образом наказывается всем племенем, как будто речь идет о предотвращении угрожающей всему обществу опасности или освобождению его от гнетущей вины. Несколько строк из книги Фрейзера1 могут показать, как серьезно относятся к подобным преступлениям эти дикари, которые с нашей точки зрения в других отношениях довольно безнравственны.
В Австралии обычное наказание за половое сношение с лицом из запрещенного клана — смертная казнь. Находилась ли женщина в группе людей всегда или ее взяли в плен во время войны с другим племенем, все равно мужчину из враждебного клана, имевшего с ней сношение как с женой, излавливают и убивают его товарищи по клану, как и саму женщину. Однако в некоторых случаях, если им удается на определенное время скрыться, оскорбление прощается. У племени та-та-ти в Новом Южном Валисе в тех редких случаях, о которых известно, убивали только мужчину. Женщину же избивали или расстреливали стрелами, или же подвергали тому и другому, пока не доводили до полусмерти. Причиной, почему ее просто не убивали, было предположение, что, может быть, она подверглась насилию. Запрещения клана соблюдаются очень точно и при случайных любовных отношениях. Нарушение таких запрещений оценивается как гнуснейшее и карается смертной казнью (Howitt).
Б. Так. как такое же жестокое наказание полагается и за мимолетные любовные связи, которые не привели к деторождению, то мало вероятно, чтобы существовали другие, например практические, мотивы запрета.
В. Так как тотем передается по наследству и не изменяется в случае брака, то легко предвидеть последствия запрета, например при унаследовании со стороны матери. Если мужчина принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на женщине с тотемом эму, то все дети, мальчики и девочки, имеют тотемом эму. Сыну, появившемуся в этом браке, окажется невозможным, согласно пра
1 Frazer. С.Е. Bd, I. р.54.
320
3. Фрейд
вилу тотема, кровосмесительное общение с матерью и сестрами, которые тоже «эму»1.
Г. Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что связанная с тотемом экзогамия дает больше, следовательно и преследует больше, чем только предупреждение инцеста с матерью и сестрами. Она делает для мужчины невозможным половое соединение со всеми женщинами его клана, то есть с целым рядом женщин, которые хотя и не находятся с ним в кровном родстве, но рассматриваются как кровные родственницы. С первого взгляда совершенно непонятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных народов. Кажется только ясным, что роль тотема как предка принимается здесь всерьез. Все, кто происходит от того же тотема, считаются кровными родственниками и составляют одну семью. И в пределах этой семьи считаются абсолютно невозможными сексуальные отношения между ее членами, даже при самой отдаленной степени родства.
Эти дикари проявляют, таким образом, необычно высокую степень боязни инцеста, или инцестозной чувствительности. Это не совсем понятная нам .особенность, когда реальное кровное родство подменяется родством тотемистическим. Нам незачем, однако, слишком преувеличивать это противоречие. Сохраним лишь в памяти, что запреты тотемного общества лишь частично касаются реального инцеста.
Но остается загадкой, каким образом произошла при этом замена настоящей семьи кланом тотема. Решение этой загадки, возможно, разъяснит и загадки самого тотемного устройства об
1 Отцу, который принадлежит к клану с тотемом кенгуру, предоставляется, однако, возможность (по крайней мере, согласно этому запрету) инцеста со своими дочерьми «эму». При унаследовании тотема со стороны отца «кенгуру» его дети также будут «кенгуру». Отцу в таком случае запрещен инцест с дочерьми, но для его сына возможен инцест с матерью. Эти следствия запрета тотема содержат указания на то, что унаследование по материнской линии более старое, древнее, чем по отцовской линии, потому что есть основания полагать, что запреты тотема, прежде всего, направлены против инцестозных вожделений сына.
Тотем и табу
321
щества. Но при известной свободе сексуального общения, переходящего за границы брака, определение кровного родства, а вместе с ним и предупреждение инцеста становится настолько сомнительным, что появляется необходимость найти другое обоснование запрета. Нелишне поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается обычное право мужчины на женщину.
Язык этих австралийских племен1 отличается особенностью, имеющей несомненную связь с интересующим нас вопросом. А именно, обозначение родства на их языке имеет в виду не отношения двух индивидов между собой, а отношения между индивидом и группой. Они принадлежат, по выражению Л.Г. Моргана, к «классифицирующей» системе. Это значит, что всякий называет отцом не только своего родителя, но и любого другого мужчину, который, согласно законам его племени, мог бы жениться на его матери и стать, таким образом, действительно его отцом. Он называет матерью, помимо своей родительницы, всякую другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его матерью. Он называет братом, сестрой не только детей его настоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе по отношению к нему. И т. д. Родственные названия, которые дают друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают, скорее, социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей», или когда в переносном смысле мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».
Нетрудно найти объяснение этого столь странного для нас оборота речи, если видеть в нем остаток того брачного института, который преподобный Лоример Файсон назвал «групповым браком». Сущность его состоит в том, что определенное число мужчин осуществляет свои брачные права над каким-то числом женщин. Дети этого группового брака имеют основание смотреть друг
1 Как у большинства тотемистических народов.
322
3. Фрейд
на друга как на братьев и сестер, хотя не все рождены одной и той же матерью, и считают всех мужчин группы своими отцами.
Некоторые авторы, например, Б. Вестермарк в его «Истории человеческого брака»1, не соглашаются с выводами, сделанными другими из существования в языке названий группового родства. Но лучшие знатоки австралийских дикарей согласны с тем, что классифицирующие названия родства следует рассматривать как пережиток времен группового брака. Более того, по мнению Спенсера и Жиллена2, еще и теперь можно установить существование известной формы группового брака у племен urabunna и dieri. Групповой брак предшествовал, следовательно, индивидуальному браку у этих народов и исчез, оставив следы в их языке и нравах.
Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то нам станет понятной кажущаяся чрезмерность предохранительных мер против инцеста, встречающихся у этих народов. Экзогамия тотема, запрещение сексуальных общений с членами одного и того же клана кажутся целесообразным средством для предупреждения группового инцеста. Впоследствии это средство зафиксировалось и на долгое время пережило оправдывавшие его мотивы.
Если мы думаем, что поняли мотивы брачных ограничений австралийских дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в существующих в действительности условиях наблюдается гораздо большая, на первый взгляд сбивающая сложность. В Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других запрещений, кроме ограничений тотема. Большинство племен организовано таким образом, что они сперва распадаются на два отдела, названных брачными классами (по-английски Phrathries). Каждый из этих классов экзогамен и включает большое число тотемных семейств. Обычно каждый брачный класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все племя, следовательно,— на четыре; подклассы занимают место между фратриями и тотемными семьями.
Типичная, очень часто встречающаяся схема организации австралийского племени имеет, следовательно, такой вид:
1 Второе изд., 1902 г.
2 The native Tribes of Central Australia. London, 1899.
Тотем и табу
323
Двенадцать тотемных семейств распределены между даумя классами и четырьмя подклассами. Все отделения экзогамичны1. Подкласс с составляет экзогамичное единство с е, а подкласс d — с /. Результат, то есть тенденция этой организации, не подлежит сомнению: таким путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если бы существовало двенадцать тотемных семейств, то, наверное, каждый член семейства (если предполагать равное число людей в каждом из них) имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование двух фратрий ограничило бы это число до 6/12 — равное половине. Мужчина тотема а может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, то есть до 1/4. Мужчина тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.
Историческое отношение между брачными классами — число которых у отдельных племен доходит до 8 — и тотемными семействами, безусловно, не выяснено. Очевидно только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и экзогамия и даже еще большего. Но в то время как тотем-экзогамия производит впечатление священного установления (то есть обычая), сложившегося неизвестно каким образом, сложные учреждения брачных классов, их подразделения и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к определенной цели законодательства, которое, возможно, снова поставило перед собой задачей найти предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело. И в то время как тотемистическая система составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных ограничений племени, значение фратрии, в общем, исчерпывается достигаемым ими урегулированием брачного выбора.
1 Число тотемов произвольно.
324
3. Фрейд
В дальнейшем развитии системы брачных классов проявляется стремление расширить предохранительные меры за пределы естественного и группового инцеста и запретить браки между более отдаленными родственными группами. Так же поступала католическая церковь, распространив давно существовавшее запрещение брака между братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер, и прибавив к этому еще духовные степени родства1.
Интересующая нас проблема не получит никакой выгоды, если мы попытаемся глубже вникнуть в чрезвычайно запутанные и невыясненные споры о происхождении и значении брачных классов, как и об отношении к тотему. Для наших целей вполне достаточно показать, с какой большой тщательностью австралийцы и другие дикие народы стараются избежать инцеста2. Мы должны сознаться, что эти дакари даже более чувствительны к нему, чем мы. Вероятно, у них больше искушений и потому они нуждаются в более обширных защитительных мерах.
Боязнь инцеста у этих народов не довольствуется, однако, установлением описанных институтов, которые, как нам кажется, направлены преимущественно против группового инцеста. Мы должны прибавить еще целый ряд обычаев, которые направлены против индивидуального общения близких родственников (в нашем понимании) и соблюдаются с религиозной строгостью. Их цель не может подлежать никакому сомнению. Эти обычаи или требуемые обычаем запреты можно назвать «избеганием» (avoidances). Их распространение переходит далеко за пределы австралийских тотемистических народов. Но тут я попрошу читателя довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого материала.
В Меланезии такие ограничивающие запрещения касаются отношений мальчиков с матерью и сестрами. Так, например, на о. Лепере, одном из Неогибридских островов, мальчик в определенном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в «клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Ему дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пишу. Но он должен уходить оттуда не поевши, если его сестры находятся
1 Статья «Тотемизм» в Encyclop. Britannica. 2-е изд., 1911 (A. Lang).
2 На этот пункт особое внимание обратил недавно Шторфер в своем исследовании «Zur Sonderstellung des Vatermordes».
Тотем и табу 325
дома; если их дома нет, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или спрятаться друг от друга. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя идти по этим следам, как и им по его следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и даже самое обыкновенное слово, если оно входит составной частью в их имя. Такое отчуждение, начинающееся со времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается, проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним. Она не разговаривает с ним на интимные темы, говорит ему, если перевести на нашу речь не «ты», а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая головы1.
На полуострове Газели в Новой Британии сестра после замужества не должна вовсе разговаривать со своим братом. Она даже не произносит больше его имени, а говорит о нем описательно2.
На Новом Мекленбурге такие ограничения распространяются на двоюродных брата и сестру (хотя не во всех родах), а также и на родных брата и сестру. Они не должны близко подходить друг к другу, не должны давать руки друг другу, делать подарки, но могут разговаривать друг с другом на расстоянии нескольких шагов. В наказание за инцест с сестрой полагается смерть через повешение3.
На островах Фиджи правила изоляции особенно строги. Они касаются там не только кровных родственников, но даже и групповых сестер. Тем более странно, когда мы слышим, что этим дикарям известны священные оргии, в которых лица, состоящие именно в этой запрещенной степени родства, отдаются половому
1 R.H. Codrington. The Melanesians; Frazer. Totemism and Exogamy, B. I, p. IT.
2 Frazer, 1. с., II, p. 124 no Kleintitschen. Die Kiistenbewohner der Gazellen-Halbinsel.
3 Frazer, 1. с., II, p. 131 no P.G. Peckel in Anthropos, 1908.
326
3. Фрейд
слиянию (если только мы не увидим в этом противоречии объяснение такому запрещению вместо того чтобы удивляться ему)1.
У батаков на Суматре эти правила изоляции распространяются на все родственные отношения. Для батака было бы крайне неприлично сопровождать родную сестру на вечеринку. Он чувствует себя крайне неловко в обществе сестры даже в присутствии посторонних лиц. Если кто-нибудь из них заходит в дом, то другой предпочитает уйти. Отец тоже не останется наедине со своею дочерью в доме, как и мать не останется со своим сыном. Голландский миссионер, сообщающий об этих нравах, прибавляет, что, к сожалению, должен считать их очень обоснованными. В этом народе принято думать, что пребывание мужчины наедине с женщиной обязательно повлечет интимную близость между ними. Но поскольку половое общение между кровными родственниками грозит наказанием и печальными последствиями, то батаки поступают правильно, помогая введением запретов избегать подобных искушений2.
У barongos, обитающих на берегах бухты Делагоа в Африке, странным образом самые строгие меры предосторожности принимаются по отношению к невестке — жене брата собственной жены. Если мужчина встречается где-нибудь с этой опасной для него родственницей, то тщательно избегает ее. Он не рискует есть с ней из одной миски, нерешительно заговаривает с ней, не позволяет себе зайти в ее хижину и здоровается с ней дрожащим голосом3.
У akamba (или wakamba) в Британской Ост-Африке существует закон изоляции, который должен был бы встречаться чаще. Девушка обязана тщательно избегать родного отца в период между наступлением половой зрелости и замужеством. Она прячется, если увидит его на улице, никогда не рискует сесть возле него и ведет себя так до момента своего обручения. После замужества, как считается, больше нет никаких препятствий для ее общения с отцом4.
1 Frazer, ’1. с., II, р. 147 по Rev. L. Fison.
2 Frazer, 1. с., II, р. 189.
3 Frazer, 1. с., II, р. 388 no Junod.
4 Frazer, 1. с., II. р. 424.
Тотем и табу
327
Самая распространенная и интересная для цивилизованных народов изоляция касается ограничений общения между мужчиной и его тещей. Оно распространено повсюду в Австралии, а также у меланезийских, полинезийских и негритянских народов. Но поскольку следы тотемизма и группового родства наблюдаются и в других местах, то, вероятно, этот обычай имеет еще большее распространение. У некоторых из этих народов введены подобные запреты на безобидное общение женщины с ее свекром, но все же они не так постоянны и не так серьезны. В отдельных случаях стараются избегать тестя и тещу.
Поскольку нас меньше интересует этнографическое распространение, чем причина, по которой избегают тешу, то я здесь ограничусь немногими примерами.
На Банковых островах эти запреты очень строги. Мужчина должен избегать своей тещи так же, как и она его. Если они случайно встречаются на тропинке, то женщина отходит в сторону и поворачивается к нему спиной, пока он не пройдет, или то же самое делает он.
В Vanna Lava (Port Patteson) мужчине даже нельзя проходить берегом моря за своей тещей раньше, чем прилив смоет следы ее ног на песке. Но они могут разговаривать друг с другом на известном расстоянии. Совершенно исключается возможность того, чтобы он когда-нибудь произнес имя своей тещи или она — имя зятя1.
На Соломоновых островах мужчина со времени женитьбы не должен ни смотреть на свою тешу, ни разговаривать с ней. Когда он встречается с ней, то делает вид, будто не знает ее, и поскорее убегает, чтобы спрятаться от нее2.
У зулусов нравы требуют, чтобы мужчина стьщился своей тещи, всячески старался избегать ее общества. Он не входит в хижину, в которой она находится. Если они встречаются, то он или она уходят в сторону; если может, она прячется в кусты, а он прикрывает лицо щитом. Если они не могут избежать друг друга и женщине не во что закутаться, то она хотя бы привязывает пучок травы
'Frazer, 1. с., II. р. 76.
2 Frazer, 1. с., II. р. 117 по С. Ribbe. «Два года у каннибалов Соло-• моновых островов», 1905.
328
3. Фрейд
вокруг своей головы, чтобы выполнить необходимую церемонию. Общение между ними происходит или через третье лицо, или они могут кричать друг другу на определенном расстоянии, имея к тому же между собой какую-то преграду, например стены крааля. Ни один из них не должен произносить имени другого1.
У basoga, негритянского племени в районе истоков Нила, мужчина может разговаривать со своей тещей только тогда, когда он в другом помещении дома и не видит ее. Этот народ, между прочим, так боится кровосмесительства, что не оставляет его безнаказанным даже у домашних животных2.
Цель и значение того, что родственники разного пола избегают друг друга, не подлежат сомнению и понимаются всеми наблюдателями как предохранительные меры против кровосмешения. Запретам же, касающимся общения с тещей, некоторые придают другое значение. Вполне естественно и понятно, почему у всех этих народов имеется такой большой страх перед искушением, воплощенным для мужчины в образе уже немолодой женщины, хотя и не матери его, но такой, какая могла бы быть его матерью3.
Это возражение выдвигалось и против взгляда Файсона, обратившего внимание на то, что некоторые системы брачных кодексов имеют в этом отношении пробел, теоретически допуская брак между мужчиной и его тещей. Поэтому и появилась необходимость в особенном предупреждении такой возможности.
Сэр Лаббок в своем сочинении «Происхождение цивилизации» сводит поведение тещи по отношению к зятю к влиянию существовавшего когда-то брака, заключаемого с обрядом похищения невесты (marriage by capture). «Пока имело место похищение женщин, возмущение родителей должно было быть достаточно серьезным. Когда от такой формы заключения брака остались только обряды, элементом обряда стало и возмущение родителей. Этот обычай сохранился и после того, когда происхождение его забылось». Кроули легко было показать, как мало это объяснение соответствует деталям фактического соблюдения обычая.
'Frazer, 1. с., П. р. 385.
2 Frazer, 1. с., II. р. 461.
3 V. Crawley. The mystic rose. London, 1902, p. 405.
Тотем и табу
329
Э.Б. Тайлор полагает, что отношение тещи к зятю представляет собой только форму непризнания (cutting) его со стороны семьи жены. Муж считается чужим до тех пор, пока не рождается первый ребенок. Однако, помимо тех случаев, когда последнее условие не снимает запрещения, оно не объясняет распространения обычая на отношения между тещей и зятем, то есть не обращает внимания на половой фактор, и не учитывает чисто священного отвращения, которое проявляется в законе, требующем избегать им друг друга1.
Зулуска, которую спросили о причине запрещения, дала с большой чуткостью ответ: нехорошо, чтобы он видел сосцы, вскормившие его жену2.
Известно, что отношение между зятем и тещей составляет и у цивилизованных народов слабую сторону организации семьи. В обществе белых народов Европы и Америки хотя и нет больше законов об избегании, но можно было бы обойти многие ссоры и неприятности, если бы такие законы сохранились в нравах и отдельным индивидам не приходилось бы их снова воскрешать. Иному европейцу может показаться актом глубокой мудрости, что дикие народы с помощью закона об избегании предупредили возникновение несогласия между этими лицами, ставшими близкими родственниками. Не подлежит сомнению, что в психологической ситуации тещи и зятя существует что-то способствующее вражде между ними и затрудняющее совместную жизнь. То обстоятельство, что остроты цивилизованных народов так нередко избирают своим объектом тему о теще, как мне кажется, указывает на то, что чувственные реакции между зятем и тещей содержат еще компоненты, резко противоречащие друг другу. Я полагаю, что это отношение является «амбивалентным», состоящим из нежных и враждебных чувств.
Известная часть этих чувств совершенно ясна. Со стороны тещи — это нежелание отказаться от прав на дочь, недоверие к чужому, под ответственность которого передана жизнь дочери, тенденция сохранить господствующее положение, с которым она сжи
1 V. Crawley, 1. с., р. 407.
2 V. Crawley, 1. с., р. 401 по Leslie. «Among the Zulus and Ama-tongas», 1875.
330 3. Фрейд
лась в собственном доме. Со стороны мужа — это решимость не подчиняться больше ничьей воле, ревность к лицам, которым принадлежала до него нежность его жены, и — last not least (последнее, но не самое малое) — нежелание, чтобы нарушили его иллюзию сексуальной переоценки. Такое нарушение часто происходит от лица тещи, которое во многом напоминает ее дочь и в то же время лишено ее юности, красоты и психической свежести, столь ценных у его жены.
Знание скрытых душевных движений, которое дало нам психоаналитическое исследование отдельных людей, позволяет нам прибавить к этим мотивам еще другие. В тех случаях, где психосексуальные потребности женщины в браке и в семейной жизни требуют удовлетворения, ей всегда грозит опасность неудовлетворенности из-за преждевременного окончания супружеских отношений и монотонности ее душевной жизни. Стареющая мать защищается от этого тем, что живет чувствами своих детей, отождествляет себя с ними, испытывая вместе с ними их переживания в области чувств. Говорят, что родители молодеют со своими детьми. Это и в самом деле одно из самых ценных психических преимуществ, которые родители получают от своих детей. В случае бездетности отпадает одна из лучших возможностей перенести необходимую резиньяцию в собственный брак. Это вживание в чувство дочери может зайти у матери так далеко, что и она влюбляется в ее любимого мужа. Иногда в таких ярко выраженных случаях сильное душевное сопротивления этим чувствам ведет к тяжелым формам невротического заболевания. Тенденция к такой влюбленности у тещи бывает достаточно часто. И тогда или само это чувство, или противодействующее ему душевное движение присоединяются к урагану борющихся между собою сил в ее душе. Тогда на зятя обращаются неприязненные садистские компоненты любовных переживаний, чтобы тем вернее подавить запретные нежные.
У мужчины отношение к теще осложняется подобными же душевными движениями, но исходящими из других источников. Путь к выбору объекта обычно ведет его через образ матери, может быть еще и сестер, к объекту любви. Из-за ограничений инцеста его любовь отходит от обоих дорогих лиц его детства и останавливается на чужом объекте, выбранном по их образу и подобию. Место его родной матери и его родной сестры теперь занимает
Тотем и табу 331
теща. Развивается тенденция вернуться к выбору прежних времен, но все в нем противится этому. Его страх перед инцестом требует, чтобы ничто не напоминало ему генеалогию его любовного выбора. То обстоятельство, что теща принадлежит к актуальной действительности, что он не знал ее в прежние времена и не мог сохранить в бессознательном ее образ неизменным, облегчает ему отрицательное отношение к ней. Особенная примесь раздражительности и обозленное™ в этой амальгаме чувств заставляет нас предполагать, что теща действительно представляет собой ин-цестозное искушение для зятя. С другой стороны, нередко бывает, что мужчина сначала открыто влюбляется в свою будущую тешу, прежде чем его любовные чувства переходят на ее дочь.
Я не вижу, что помешало бы предположить, что именно этот инцестозный фактор взаимоотношений мотивирует у дикарей избегание встреч тещи с зятем. Мы предпочли бы поэтому для объяснения столь строго соблюдаемых «избеганий» у этих примитивных народов согласиться с выраженным первоначально мнением Файсона, усмотревшем в этих предписаниях опять-таки лишь защиту против возможного инцеста. То же относится к «избеганиям» и между другими кровными родственниками или свойственниками. Различие заключается в том, что в первом случае кровосмешение становится непосредственным и намерение предупредить его могло быть сознательным; во втором случае, включающем также и отношение к теще, инцест был бы воображаемым искушением, передающимся бессознательно через ряд промежуточных звеньев.
В предыдущем изложении у нас не было случая показать, что, пользуясь психоаналитическим освещением, можно по-новому понять факты психологии народов, потому что боязнь инцеста у дикарей давно уже стала известной и не нуждается в дальнейшем толковании. К ее оценке мы можем прибавить утверждение, что эта боязнь представляет собой типичную инфантильную черту и удивительное сходство с душевной жизнью невротиков. Психоанализ научил нас тому, что первый сексуальный выбор мальчика ин-цестозен, так как направлен на запрещенные объекты — мать и сестру. Он показал нам также пути, которыми идет подрастающий юноша для освобождения от соблазна инцеста. Но невротик постоянно обнаруживает некоторую долю психического инфантилиз
332
3. Фрейд
ма. Он или не может освободиться от детских условий психосексуальности или возвращается к ним (задержка в развитии, регрессия). Поэтому в его бессознательной душевной жизни продолжают или снова начинают играть главную роль инцестозные фиксации либидо. Мы пришли к тому, что объявили основным комплексом невроза отношение к родителям, находящееся во власти инцестозных желаний. Открытие этого значения инцеста для невроза встречает, разумеется, общее недоверие у взрослых и у нормальных ровесников. Такое же непризнание ждет работы Отто Ранка, все больше проясняющие, действительно ли тема инцеста занимает центральное место в мотивах художественного творчества и дает материал поэзии в бесконечных вариациях и искажениях. Приходится думать, что такое непризнание является, прежде всего, продуктом глубокого отвращения людей к их собственным прежним желаниям, вытесненным затем инцестозным. Для нас поэтому важно, что на примере диких народов мы можем показать, что уже тогда люди чувствовали угрозу в инцестозных желаниях человека, которые позже должны были сделаться бессознательными, и считали необходимым прибегать к самым строгим мерам их предупреждения.
II
Табу и амбивалентность чувств
1
Табу — полинезийское слово, которое трудно перевести, потому что у нас нет больше обозначаемого им понятия. Древним римлянам оно было еще известно; их sacer было тем же, что табу полинезийцев. Точно так же и ауо£ греков, Kodausch древних евреев, вероятно, имели то же значение, которое полинезийцы выражают словом табу, а многие народы в Америке, Африке (Мадагаскар), Северной и Центральной Азии — аналогичными названиями.
Для нас значение табу разветвляется в двух противоположных направлениях. С одной стороны, оно означает святой, освященный, с другой — жуткий, опасный, запретный, нечистый. Противоположность табу по-полинезийски называется поа — обычный, общедоступный. Таким образом, с табу связано представление о чем-то, требующем осторожности. Табу выражается, по существу, в запрещениях и ограничениях. Наше выражение «священный трепет» часто совпадает со смыслом табу.
Ограничения табу представляют собой не что иное, как религиозные или моральные запрещения. Они не считаются заповедями бога. Это, скорее, нормы поведения. От запретов морали они отличаются отсутствием принадлежности к системе, требующей вообще воздержания и приводящей основания для такого требования. Табу лишены всякого обоснования. Они неизвестного происхождения. Непонятные для нас, они кажутся чем-то само собою разумеющимся тем, кто находится в их власти.
334
3. Фрейд
Вундт1 называет табу самым древним неписанным законодательным кодексом человечества. Общепринято мнение, что табу древнее богов и восходит к временам, предшествовавшим какой бы то ни было религии.
Так как мы нуждаемся в беспристрастном описании табу, чтобы подвергнуть его психоаналитическому исследованию, то я привожу цитату из статьи «Taboo» из «Encyclopedia Britannica»2, автором которой является антрополог Н.В. Томас.
«Строго говоря, табу объемлет только: а) священный (или нечистый) признак лиц или вещей; б) род ограничения, вытекающий из этого признака; в) святость (или нечисть), происходящую вследствие нарушения этого запрещения; Противоположность табу в Полинезии называется «поа», что обозначает «обычный» или «общий»...
В ином смысле можно различать отдельные вида табу: I — естественное, или прямое, табу, являющееся результатом таинственной силы (Mana), связанное с каким-нибудь лицом или вещью; II — переданное, или непрямое табу, также исходящее от той же силы, но или а) приобретенное, или б) переданное духовным служителем, вождем или кем-нибудь другим; наконец, III — табу, составляющее нечто среднее между даумя другими видами, то есть когда имеются в виду оба фактора; например, когда мужчина присваивает себе женщину. Название табу применяется также и к ограничениям ритуала. Однако не все запреты следует причислять к табу. К некоторым скорее подходит название религиозных запретов.
Цели табу разнообразны. Цели прямого табу: а) охрана вождей, духовных лиц, предметов и т. п. от возможных несчастных случаев; б) защита слабых, женщин, детей и других людей от могущественного Mana (магической силы) духовных лиц и вождей; в) защита от опасностей, связанных с прикосновением к трупам или с употреблением определенной пищи и т. п.; г) охрана важных жизненных актов, как-то: родов, посвящений юношей во взрослых мужчин, брака, сексуальной деятельности; д) защита человеческих существ от могущества или гнева бо
1 Volkerpsychologie II. Band, «Mythus und Religion», 1906. II, p. 308.
2 11-е изд., 1911 г. Там же и указание важнейшей литературы.
Тотем и табу
335
гов и демонов1; е) охрана нерожденных и маленьких детей от разнообразных опасностей, угрожающих им из-за их особой симпатической зависимости от своих родителей; например, если последние совершают некоторые поступки или едят такую пишу, что детям могут передаться дурные свойства. Другое применение табу служит защите собственности какого-нибудь лица, его орудий, его поля от воров и т. д.
Наказание за нарушение табу первоначально предоставляется внутренней организации, действующей автоматически. Нарушенное табу мстит за себя. Если присоединяется представление о богах и демонах, имеющих связь с табу, то от могущества главного божества ожидается, что они будут наказаны. В других случаях, вероятно, процесса дальнейшего развития, общество берет на себя наказание того, чье преступление навлекает опасность на его товарищей. Таким образом, первые системы наказания человечества связаны с нарушениями табу.
Кто преступил табу, тот сам из-за этого стал табу. Известных опасностей, проистекающих от нарушения табу, можно избежать с помощью покаяния и религиозных церемоний.
Источником, навлекающим табу, считают особую чудодейственную силу, которая имеется в людях и духах и от них может быть перенесена неодушевленными предметами. Лица или вещи, являющиеся табу, можно сравнить с предметами, заряженными электричеством. Они считаются вместилищами страшной силы, проявляющейся при прикосновении к ним в виде опасного влияния, когда организм, принявший разряд, слишком слаб, чтобы противостоять ему. Последствия нарушения табу зависят поэтому не только от интенсивности магической силы, присущей объекту табу, но также и от силы Mana, сопротивляющейся ей. Так, например, короли и служители культа обладают могущественной силой. Непосредственное прикосновение к ним означало смерть для их подданных. Но министры или другие лица, обладающие Mana в большем размере, чем обычные люди, могут безопасно вступать с ними в общение. И эти посредники могут, в свою очередь, разрешать определенные близкие отношения своим подчиненным, не навлекая на
1 Это применение табу не первоначальное и может быть оставлено без внимания в этом изложении.
336
3. Фрейд
них опасности. Содержание переданных табу зависит от Mana того лица, от которого они исходят. Если табу налагает король или духовное лицо, то оно действеннее, чем то, которое налагается обычным человеком».
Передача табу была, вероятно, той особенностью, которая дала повод пытаться устранить его с помощью церемониала искупления.
«Табу бывают постоянные и временные. Духовные лица и вожди относятся к первому роду, а также умершие и все, что им принадлежало. Временные табу связаны с определенными состояниями: с менструацией и родами, со званием воина до и после похода, с промысловой деятельностью рыболова, охотника и т. п. Общее табу может быть также распространено на большую территорию, подобно церковному интердикту,, и оставаться на ней годами».
Если мне удается правильно оценить впечатление моих читателей, то позволю себе утверждать, что после всего изложенного о табу они уже окончательно не знают, что понимать под ним и какое место уделить ему в своем мышлении. Это происходит, наверное, из-за недостаточной информации, полученной ими от меня, и отсутствия всех рассуждений об отношении табу к суеверию, к вере в переселение души и к религии. Но, с другой стороны, я опасаюсь, что более подробное описание всего известного о табу привело бы еще к большей путанице, и смею уверить, что в действительности положение вещей очень неясно. Итак, речь идет о целом ряде ограничений, которым подвергаются эти первобытные народы. То одно, то другое запрещается неизвестно почему, а им и в голову не приходит задуматься над этим. Они подчиняются запретам, как чему-то само собой разумеющемуся, и убеждены, что нарушение табу безусловно повлечет жесточайшее наказание. Имеются достоверные сведения о том, что даже нарушение подобных запретов по неведению безусловно влекло за собой наказание. Невинный преступник, который съедал запрещенное животное, впадал в глубокую депрессию, ждал своей смерти и затем действительно умирал.
Запрещения большей частью касались стремления к наслаждению, свободы передвижения и общения. В некоторых случаях они имели определенный смысл, явно означая воздержание и отказ. В других случаях они по своему содержанию непонятны, касаются не имеющих никакого значения мелочей и являются, по-видимому,
Тотем и табу
337
элементами особого рода церемониала. В основе всех таких запрещений лежит своего рода теория, будто они необходимы потому, что некоторым лицам и вещам свойственна опасная сила, передающаяся при прикосновении к заряженному ею объекту, почти как зараза. Во внимание принимается также и размер этого опасного свойства. Одни обладают им в большем количестве, чем другие, и опасность от них соизмеряется с силой заряда каждого. Но, что странно, тот человек, который нарушил такой запрет, сам становится запретным, как бы приняв на себя весь опасный заряд. Эта сила свойственна всем лицам, представляющим собой нечто исключительное (королям, духовным лицам, новорожденным), и тем, кто находится в исключительном положении (физиологическое состояние при менструациях, наступление половой зрелости, при родах) или опасном (тяжелая болезнь или смерть и связанная с ними угроза заражения и распространения).
Словом «табу» называют и людей, и местность, предметы и временные состояния — все, что является носителями и источниками каких-то таинственных и необъяснимых свойств. Табу — это запрещение, вызванное этими свойствами. Дословно «табу» — это нечто -такое, что, с одной стороны, свято и стоит превыше обычного, а с другой — опасное, нечистое, непредсказуемое.
В этом слове и обозначаемой им системе находит выражение тот уголок душевной жизни, понимание которого, по-видимому, нам действительно как будто недоступно. Но прежде всего нужно учесть, что нельзя приблизиться к его постижению, не углубившись в веру в духов и демонов, характерную для столь низкого уровня культуры. Но для чего нам вообще интересоваться загадкой табу? Я полагаю, не только потому, что всякая психологическая проблема заслуживает попытки своего разрешения, но и по другим причинам. Мы подозреваем, что табу дикарей Полинезии не так уж чуждо нам, как это кажется с первого взгляда. Запрещения морали и обычаев, которым мы сами подчиняемся, по существу своему могут иметь нечто родственное этому примитивному табу. Поэтому объяснение табу могло бы пролить свет на темное происхождение нашего собственного «категорического императива».
С особым напряженным ожиданием мы будем прислушиваться, если такой исследователь, как В. Вундт, говорит нам о своем по
338
' 3. Фрейд
нимании табу, тем более что он обещает «дойти до последних корней представления табу»1.
О понятии табу Вундт говорит, что оно «охватывает все обычаи, в которых выражается боязнь определенных, связанных с представлениями культа объектов или относящихся к ним действий»2.
В другой раз Вундт говорит: «Если понимать под ним (под табу), соответственно общему значению слова, любое утвержденное обычаем и нравами или точно сформулированными законами запрещение прикасаться к какому-нибудь предмету, пользоваться им для собственных нужд или употреблять известные запретные слова», то вообще нет ни одного народа и ни одной ступени культуры, которые были бы свободны от вреда, наносимого табу.
Вундт далее объясняет, почему ему кажется более целесообразным изучать природу табу в примитивных условиях жизни австралийских дикарей, а не в более высокой культуре полинезийских народов. У австралийцев он распределяет запрещения табу на три класса в зависимости от того, касаются они животных, людей или других объектов. Табу на животных состоит, главным образом, в запрещении убивать и употреблять их в пищу и составляет ядро тотемизма3. Табу второго рода ограничивает общение между людьми. С самого начала оно ставит условия, создающие для отдельных групп некоторые препятствия в жизни. Так, например, юноши объявляются объектами табу при торжестве посвящения в зрелые мужи, женщины — во время менструации или непосредственно после родов; табу бывают также новорожденные дети, больные и покойники. На личной собственности человека лежит неизменное табу для всякого другого; например, на его платье, оружии, орудиях труда. Личную собственность составляют в Австралии также новое имя, получаемое мальчиком при посвящении в зрелые мужи, оно — табу для других и должно сохраняться в тайне. Табу третьего рода, объектом которого являются деревья, растения, дома и местности — более постоянно и, по-видимому, налагается на все, что по какой-то причине вызывает опасение или чувство страха.
1 Volkerpsychologie, Band II, «Mythus und Religion», II, p. 300 и ff.
2L. c„ p. 237.
3 По этому поводу см. предыдущую главу.
Тотем и табу
339
Изменения, которые табу претерпевает в более богатой культуре полинезийцев и на Малайском архипелаге, сам Вундт признает не особенно глубокими. Более значительная социальная дифференциация этих народов проявляется в том, что вожди, короли и священнослужители накладывают особенно действенные табу и сами тоже подчинены их сильной власти.
Но настоящие источники табу лежат глубже, чем в интересах привилегированных классов. «Они создаются там, где берут начало самые примитивные и в то же время самые длительные человеческие влечения, и возникают из страха перед действием демонических сил»1. «Будучи первоначально ничем иным, как объективированным страхом перед ожидаемой демонической силой, скрытой в назначенном для табу предмете, такое табу запрещает дразнить эту силу и требует мер предупреждения против мести со стороны демона, если оно нарушается сознательно или нечаянно».
Табу постепенно становится силой, опирающейся на саму себя и освободившейся от демонизма. Оно налагает свою печать на нравы, обычаи и на закон. «Но за запрещениями табу, изменяющимися в большом разнообразии в зависимости от места и времени, первоначально скрывается одна неизреченная заповедь: берегись гнева демонов».
Вундт учит нас, таким образом, что табу основывается на вере примитивных народов в демонические силы. Впоследствии табу отделилось от этой основы и осталось силой просто потому, что оно таковой было из-за некоторой психической косности. Таким образом, оно само становится основой требований наших нравов и наших законов. Как ни мало вызывает возражений первое из этих положений, я все же полагаю, что высказываю впечатления многих читателей, называя объяснения Вундта ничего не говорящими. Ведь это не значит спуститься до источников представления табу или раскрыть его последние корни. Ни страх, ни демоны не могут в психологии иметь значение последних истин, не поддающихся уже далее никакому разложению. Было бы иначе, если бы демоны действительно существовали. Но мы ведь знаем, что они сами, как и боги, являются созданием душевных сил человека. Они созданы зачем-то и из чего-то.
О двояком значении табу Вундт высказывает значительные, но не совсем ясные взгляду. В самых примитивных зачатках табу, по
1 L. с., р. 307.
340
3. Фрейд
его мнению, еще нет разделения на святое и нечистое. Именно поэтому в них вообще отсутствуют эти понятия в том значении, какое они приобретают только из-за противоположностей, в которые они оформились. Животное, человек, место, на котором лежит табу, обладают демонической силой. Они еще не священны и потому пока нечисты в более позднем смысле. Именно для этого еще индифферентного среднего значения демонического, к которому нельзя прикасаться, выражение табу является самым подходящим, так как подчеркивает признак, ставший навсегда общим и для святого, и для нечистого — боязнь прикосновения к нему. В этой оставшейся общности важного признака кроется, однако, и указание на то, что здесь имеется первоначальное сходство обеих областей, уступившее место дифференциации только из-за возникновения новых условий, благодаря которым эти области, в конце концов, развились в противоположности.
Первоначальному табу свойственна вера в демоническую силу, которая скрыта в предмете и мстит тому, кто прикоснется к нему или найдет ему неразрешенное применение. Эта сила хотя перевесит на нарушителя чудодейственные возможности, все же остается полностью и исключительно объективированным страхом, еще не распавшимся на две формы, какие он принимает на более развитой ступени: на благоговение и отвращение.
Но каким образом создается такое разделение? По Вундту, это происходит при перенесении запрещений табу из области понятий о демонах в область представлений о богах. Противопоставление святого и нечистого совпадает с последовательностью двух мифологических ступеней, из которых прежняя не совсем исчезла к тому времени, когда достигнута следующая. Она продолжает существовать, но в форме более низкой оценки, к которой постепенно примешивается презрение. В мифологии имеет силу общий закон, по которому предыдущая ступень именно потому, что она преодолена и расположена ниже следующей, сохраняется наряду с ней в униженной форме, а ее объекты, до того почитаемые, превращаются в объекты отвращения1.
Дальнейшйе рассуждения Вундта рассматривают, отношение представлений о табу к очищению и к жертве.
1 L. с., р. 313.
Тотем и табу
341
2
Всякий, кто подходит к проблеме табу со стороны психоанализа, то есть исследуя бессознательную часть индивидуальной душевной жизни, после недолгого размышления скажет себе, что этот феномен ему не чужд. Ему известны люди, создавшие себе индивидуальные табу и так же строго их соблюдающие, как дикари соблюдают запреты, общие для всего их племени или общества. Если бы такой исследователь не привык называть этих индивидов «страдающими навязчивостью», то считал бы подходящим для их состояния название «болезнь табу». Об этой болезни навязчивости он, однако с помощью психоаналитического лечения, узнал клиническую этиологию и сущность психологического механизма. А потому и не может отказаться от того, чтобы не использовать открытий в этой области для объяснения соответствующих явлений в психологии народов.
Предупредим, однако, что и при этой попытке не следует упускать из виду, что сходство табу с болезнью навязчивости может быть чисто внешним. Оно может относиться к форме обоих явлений и не распространяться на их сущность. Природа любит пользоваться одинаковыми формами при самых различных биологических соотношениях; например, в разветвлениях коралла и в растениях, а затем в кристаллах или при образовании известных химических осадков. Было бы слишком поспешной и мало обещающей попыткой обосновывать выводы о внутреннем сродстве, опираясь на внешнее сходство, вытекающее из общности механических условий. Мы не забудем этого предупреждения, но не станем отказываться от намерения воспользоваться этим сравнением.
Самое близкое и бросающееся в глаза сходство навязчивых запретов у нервнобольных с табу состоит в том, что эти запрещения тоже мотивированы и происхождение их загадочно. Они возникли каким-то образом и должны соблюдаться из-за непреодолимого страха. Внешняя угроза наказанием излишняя, потому что имеется внутренняя уверенность (совесть), что нарушение приведет к тяжелому бедствию. Самое большее, о чем могут сказать больные, страдающие навязчивостью,— это о неопределенном
342
3. Фрейд
чувстве опасения, что из-за нарушения запрета пострадает кто-нибудь из окружающих. Какого рода будет вред, остается неизвестным. Да и эти незначительные сведения получаешь скорее при искупительных и предохранительных действиях (о которых речь пойдет дальше), чем при самих запретах.
Главным и основным запрещением, вызывающим невроз, является, как и при табу, прикосновение, отсюда и название «боязнь прикосновения» — delire de toucher. Запрещение распространяется не только на непосредственное прикосновение телом, но и прикосновение хотя бы в переносном смысле слова. Все, что направляет мысль на запретное, вызывает мысленное соприкосновение, которое запрещено так же, как непосредственный физический контакт. Такое же расширение понятия имеется у табу.
Часть запрещений сами собой понятны по своим целям. Другие, напротив, кажутся непонятными, нелепыми, бессмысленными. Такие запрещения мы называем «церемониалом» и находим, что они же проявляются и в обычаях табу.
Навязчивым запрещениям свойственна огромная подвижность. Они распространяются какими угодно путями с одного объекта на другой и делают этот новый объект, по удачному выражению одной моей больной, «невозможным». Такая «невозможность», в конце концов, охватывает весь мир. Больные навязчивостью ведут себя так, как будто «невозможные» люди и вещи были носителями опасной заразы, способной распространиться через контакты на все, находящееся по соседству. Те же признаки способности к заразе и к перенесению мы подчеркнули вначале при описании запрещений. Мы знаем, что нарушивший табу прикосновением к чему-то недозволенному сам становится объектом табу и с ним никому не следует соприкосаться.
Приведу два примера перенесения, точнее — сдвига запрещений. Один из жизни маори, другой — из моего наблюдения над женщиной, страдающей навязчивостью.
«Вождь маори не станет раздувать огонь своим дыханием,' потому что его священное дыхание передало бы его священную силу огню, огонь — горшку, стоящему в огне, горшок — пище, готовящейся в нем, пища — человеку, который ее съест. И таким образом, должен был бы умереть человек, съевший пишу, варив
Тотем и табу
343
шуюся в горшке, стоявшем в огне, который раздувал вождь своим священным дыханием»1.
«Пациентка требует, чтобы предмет домашнего обихода, купленный мужем и принесенный домой, был удален. Иначе он сделает «невозможным» помещение, в котором она живет, так как она слышала, что этот предмет куплен в лавке, которая находится, скажем, на Оленьей улице. Но теперь фамилию «Олень» носит ее подруга, которая живет в другом городе и которую она в молодости знала под девичьей фамилией. Эта подруга теперь для нее «невозможна» — она табу, и купленный здесь, в Вене, предмет — тоже табу, как и сама подруга, с которой она не хочет иметь никакого соприкосновения».
Навязчивые запрещения приводят к очень серьезному воздержанию и ограничениям в жизни, подобно запретам табу. Но часть этих навязчивых идей может быть преодолена с помощью определенных действий, которые необходимо выполнить. Они имеют навязчивый характер — навязчивые действия,— и, вне всякого сомнения, по природе своей представляют собой покаяние, искупление, меры защиты и очищения. Самым распространенным из этих навязчивых действий является омовение водой (навязчивые умывания). Часть запретов может быть также заменена или нарушение их может быть искуплено подобным «церемониалом», где омовение водой пользуется особым предпочтением.
Резюмируем, в каких пунктах выражается ярче всего сходство обычаев табу с симптомами невроза навязчивости: 1) в немотивированное™ запретов; 2) в их утверждении с помощью внутреннего принуждения; 3) в их способности к сдвигу и в опасности заразы, исходящей из запрещенного; 4) в том, что они становятся причиной церемониальных действий и заповедей, вытекающих из запретов.
Клиническая история и психический механизм болезни навязчивости стали нам известны благодаря психоанализу. История болезни в типичном случае страха прикосновения говорит о том, что в самом начале, в самом раннем детстве проявляется сильное чувство наслаждения от прикосновения, цель которого гораздо
'Frazer. The golden bough II. «Taboo and the perils of the Soul». 1911, p. 136.
344
3. Фрейд
более специфична, чем можно было бы ожидать. Этому наслаждению скоро противопоставляется извне запрещение совершать именно это прикосновение1. Запрещение было усвоено, потому что нашло опору в больших внутренних силах2. Оно оказалось сильнее, чем влечение, стремившееся выразиться в прикосновении. Но примитивная психическая конституция ребенка не позволила запрещению уничтожить влечение. Следствием запрещения было только то, что влечение — наслаждение от прикосновения — подверглось вытеснению и перешло в бессознательное. Сохранились и запрещение, и влечение. Влечение — потому что оно было только вытеснено, а не уничтожено; запрещение — потому что без него влечение могло бы проникнуть в сознание и осуществилось бы. Имело место незаконченное положение, создалась психическая фиксация, и из постоянного конфликта между запрещением и влечением вытекает все остальное.
Основной характер психологической констелляции, зафиксированной таким образом, заключается в том, что можно было бы назвать амбивалентным отношением индивида к объекту, или, вернее, к определенному действию3. Он постоянно желает повторять это действие, прикосновение, видит в нем высшее наслаждение, но не смеет его совершить, страшится его. Противоположность обоих течений невозможно примирить прямым путем, потому что они — только это мы и можем сказать — так локализуются в душевной жизни, что не могут прийти в непосредственное столкновение. Запрещение ясно осознается, постоянное наслаждение от прикосновения — бессознательно, сам больной о нем ничего не знает. Не будь этого психологического момента, амбивалентность не могла бы так долго длиться и привести к таким последствиям.
В клинической истории случая мы придали решающее значение вмешательству запрещения в раннем детстве. В дальнейшем формировании эта роль выпадает на долю механизма вытеснения в детском возрасте. Из-за имевшего место вытеснения, связанного с
1 Оба, и наслаждение и запрещение, относились к собственным гениталиям.
2 В отношениях с любимыми лицами, от которых исходило запрещение.
3 Согласно удачному выражению Bleuler’a.
Тотем и табу
345
забыванием (амнезия), мотивировка ставшего сознательным запрещения остается неизвестной. И все попытки интеллектуально разбить запрещение терпят неудачу, так как не находят точки, на которую они должны быть направлены. Запрещение обязано своей силой, своим навязчивым характером именно отношению к своей бессознательной противоположности, к незаглушенному в скрытом состоянии наслаждению, то есть внутренней необходимости, недоступной осознанию. Способность запрещения переноситься и развиваться дальше отражает процесс, допускаемый бессознательным наслаждением и особенно облегченный психологическими условиями бессознательного. Удовлетворение влечения постоянно переносится с одного объекта на другой, чтобы избегнуть изоляции, в которой это чувство находится, и старается вместо запрещенного найти суррогаты — заменяющие объекты и заменяющие действия. Поэтому и запрещение меняет свое положение и распространяется на новые цели запрещенного душевного движения. На каждую новую попытку вытесненного либидо прорваться запрещение отвечает новыми строгостями. Задержка, происходящая от борьбы обеих противоположных сил, рождает потребность в выходе, в уменьшении господствующего в душе напряжения, в котором можно видеть мотивировку навязчивых действий. В неврозе эти действия являются явно компромиссными: с одной точки зрения, доказательствами раскаяния, проявлениями искупления и т. п., а с другой — одновременно заменяющими действиями, вознаграждающими влечение за запрещенное. Закон невротического заболевания требует, чтобы эти навязчивые действия все больше шли навстречу влечению и приближались к запрещенному первоначально действию.
Сделаем теперь попытку отнестись к табу так, как будто по природе своей оно аналогично навязчивым запрещениям наших больных. При этом нам с самого начала ясно, что многие из наблюдаемых нами фактов табу представляют собой вторичные явления, образовавшиеся в результате сдвига и искажения, и что мы должны быть довольны, если нам удастся пролить некоторый свет на первоначальные и самые значительные запрещения. Ясно, что различия в положении дикаря и невротика достаточно значительны, чтобы исключить полное совпадение и не допустить перенесения выводов с одного типа на другой, избегая точного копирования во всех пунктах.
346
3. Фрейд
Прежде всего мы сказали бы, что нет никакого смысла расспрашивать дикарей о действительной мотивировке их запрещений и о действительном происхождении табу. Мы предполагаем, что они ничего не могут об этом рассказать, потому что эта мотивировка у них бессознательна. Но мы сконструируем историю табу по образцу навязчивых запрещений следующим образом. Табу представляет собой очень древние запреты, когда-то наложенные извне на поколение примитивных людей, то есть насильственно навязанные этому поколению предыдущим. Эти запреты касались деятельности, к которой имелась большая склонность. Они сохранялись от поколения к поколению, может быть только из-за традиции и благодаря родительскому и общественному авторитету. Но возможно, что они уже «организовались» у будущих поколений, как часть унаследованного психического богатства. Кто может ответить на вопрос, существуют ли именно в этом случае, о котором у нас идет речь, такие «врожденные» идеи и привели ли они к фиксации табу сами по себе или в связи с воспитанием? Но из того факта, что табу удержалось, следует одно: первоначальное наслаждение от совершения этого запрещенного существует еще у народов, придерживающихся табу. У них имеется амбивалентная направленность по отношению к их запретам. В бессознательном им больше всего хотелось нарушить их, но в то же время они боятся этого; а боятся именно потому, что желают этого, но страх у них сильнее, чем тяга к наслаждению. Желание же у каждого представителя этого народа бессознательно, как и у невротика.
Самые старые и важные табу составляют оба основных закона тотемизма: не убивать животного-тотема и избегать полового общения с представителем другого пола из своего тотема.
Оба запрета представляют собой, вероятно, самые древние и самые вожделенные соблазны доя людей. Мы этого понять не можем и не можем поэтому исследовать правильность наших предположений на этих примерах до тех пор, пока нам неизвестен смысл и происхождение тотемистической системы. Но кому известны результаты психоаналитического исследования отдельного человека, тому уже само содержание этих обоих табу и их совпадение напомнит о том, что психоаналитики считают центральным пунктом инфантильных желаний и ядром неврозов.
Тотем и табу
347
Обычное разнообразие табу, вызвавшее попытки их классификации, для нас, таким образом, сливается в единство: табу составляет запрещенное действие, к совершению которого в бессознательном имеется определенная склонность.
Мы знаем, что всякий, совершивший запрещенное, то есть нарушивший табу, сам становится табу. Как же привести нам в связь этот факт с другими? Например, с тем, что табу подлежат не только лица, совершившие запрещенное, но и лица, находящиеся в особых состояниях, а также сами эти состояния и никому не принадлежащее вещи? Что же это за опасное свойство, остающееся неизменным при всех этих различных условиях? Только одно: способность дразнить амбивалентность человека и будить в нем искушение преступить запрет.
Человек, нарушивший табу, сам становится табу, потому что приобрел опасное свойство вводить других в искушение следовать его примеру. Он будит зависть. Почему ему позволено то, что запрещено другим? Он, действительно, заразителен, поскольку всякий пример заражает желанием подражать. Поэтому необходимо избегать и его самого.
Но иногда человеку и не надо нарушать табу, для того чтобы самому стать временно или постоянно табу, если он находится в состоянии, способном будить запретные желания у других, вызывать в них амбивалентный конфликт. Большинство исключительных положений относится к такому состоянию и обладает этой опасной силой. Король или вождь будит зависть своими преимуществами. Может быть, всякий хотел бы быть королем? Мертвец, новорожденный, женщины в своем болезненном состоянии соблазняют особой беспомощностью; только что созревший в половом отношении индивид — новыми наслаждениями, которые он обещает. Поэтому все эти лица и все эти состояния составляют табу, чтобы не вызывать искушения.
Теперь мы также понимаем, почему силы «Мала» различных лиц взаимно уменьшают, частично уничтожают одна другую. Табу на короля слишком велико для его подданного, потому что социальное различие между ними слишком большое. Но министр может стать между ними безвредным посредником. В переводе с языка табу на нормальную психологию это значит: подданный может бояться громадного искушения, которое представляет для него
348
3. Фрейд
общение с королем, но спокойно переносит общение с чиновником, которому не стоит особенно завидовать и положение которого ему самому кажется достижимым. Министр же может умерить свою зависть к королю, принимая во внимание ту власть, которая предоставлена ему самому. Таким образом, менее значительные различия, вводящие в искушение чародейственные силы, вызывают меньше опасения, чем особенно большие различия.
Ясно также, каким образом нарушение некоторых табу представляет опасность и почему все члены общества должны наказать или искупить это нарушение, чтобы не пострадать самим. Эта опасность действительно имеется, если мы заменим сознательные душевные движения бессознательными желаниями. Она заключается в возможности подражания, которое привело бы к распаду общества. Если бы другие не наказывали за преступление, то они должны были бы открыть в самих себе то же желание, что и у преступника.
Нечего удивляться, что прикосновение при табу играет ту же роль, что и при delire de toucher, хотя тайный смысл запрета при табу не может иметь такое специальное содержание, как при неврозе. Прикосновение обозначает начало всякого обладания, всякой попытки подчинить себе человека или предмет.
Заразительную силу, присущую табу, мы объяснили способностью его вводить в искушение, побуждать к подражанию. С этим как будто не вяжется то, что способность табу к заражению выражается прежде всего в том, что оно переносится на предметы, которые после этого сами становятся носителями табу.
Способность табу к перенесению отражает доказанную при неврозах склонность бессознательного влечения распространяться ассоциативным путем на все новые объекты. Таким образом, наше внимание обращается на то, что опасной чародейственной силе «Мала» соответствуют две реальные способности: способность напоминать человеку о его запретных желаниях и как будто более значительная способность соблазнять его к нарушению запрета в пользу исполнения этих желаний. Обе способности сольются, однако, в одну, если мы допустим, что было бы в духе примитивной душевной жизни связать пробуждение воспоминания о запретном действии с пробуждением тенденции выполнять его. В таком случае воспоминание и искушение снова совпадают. Нужно также
Тотем и табу
349
согласиться с тем, что если пример человека, нарушившего табу, соблазнил другого к такому же поступку, то непослушание распространилось, как зараза, подобно тому, как табу переносится с человека на предмет и с одного предмета на другой. Если нарушение табу может быть исправлено покаянием или искуплением, означающим, в сущности, отказ от какого-либо блага или свободы, то этим доказывается, что выполнение предписаний табу само было отказом от чего-то очень желаемого. Невыполнение одного отказа заменяется отказом в другой области. В отношении церемониала табу мы сделали бы отсюда вывод, что раскаяние является более первичным, чем очищение.
Резюмируем, какое понимание табу появилось у нас после уподобления его навязчивому запрету невротика. Табу является очень древним запретом, наложенным извне (каким-нибудь авторитетом) и направленным против сильнейших вожделений людей. Сильное желание нарушить его остается в их бессознательном. Люди, выполняющие табу, имеют амбивалентную склонность к тому, что подлежит табу. Приписываемая табу чародейственная сила сводится к способности вводить в искушение. Она похожа на заразу, потому что пример заразителен и потому что запрещенное вожделение в бессознательном переносится на другое. Искупление воздержанием за нарушение табу доказывает, что и в основе соблюдения табу лежит воздержание.
3
Теперь нам желательно узнать ценность нашего уподобления табу неврозу навязчивости и сложившегося на основании этого уподобления понимания табу. Оно ценно только в том случае, если наше понимание имеет преимущества, которых в противном случае нет, и если оно ведет к лучшему пониманию табу, чем то, которое доступно нам без него. Быть может, мы решимся утверждать, что уже приводили доказательства выгоды такого уподобления. Но нам нужно попробовать усилить его, продолжая объяснения обычаев и запретов табу во всех деталях.
Нам открыт также и другой путь. Можно исследовать, нельзя ли непосредственно на феномене табу доказать часть предположений, которые мы перенесли с невроза на табу, или выводов, к которым
350
3. Фрейд
мы при этом пришли. Нам необходимо только решить, что нам следует искать. Утверждение о появлении табу, что оно происходит от очень древних запрещений, наложенных когда-то извне, не поддается, разумеется, доказательствам. Постараемся поэтому найти ддя табу подтверждение психологических условий, известных нам в неврозе навязчивости. Каким образом при неврозе мы узнаем об этих психологических моментах? Благодаря аналитическому изучению симптомов особенно навязчивых действий, мероприятий отражения и навязчивых запрещений. У них мы нашли самые верные признаки их происхождения из амбивалентных душевных движений или тенденций. Причем, они или соответствуют одновременно как одному желанию, так и противоположному ему, или служат преимущественно одной из двух противоположных тенденций. Если бы нам удалось доказать амбивалентность, существование противоположных тенденций в предписаниях табу, или найти среди них такие, которые, подобно навязчивым действиям, выражают одновременно оба течения, то психологическое сходство табу и невроза навязчивости в самом главном было бы почти несомненным.
Оба основных запрещения табу, как упомянуто, недоступны нашему анализу из-за принадлежности их к тотемизму. Другая часть положений табу — вторичного происхождения и не может быть использована для наших целей. Ведь табу стало у соответствующих народов общей формой законодательства и служит, несомненно, более молодым социальным тенденциям, чем само табу; например, табу, наложенное вождями или духовными лицами для обеспечения своей собственности и преимуществ. Все же у нас остается большая группа предписаний, которые могут послужить материалом для нашего исследования. Из этой группы я беру табу, связанные а) с врагами, б) с вождями, в) с покойниками, и воспользуюсь для своей работы материалом из замечательного сборника Дж.Дж. Фрейзера и из его большого сочинения «The golden bough»1,
а) Обращение с врагами
Если мы проявляли склонность приписывать диким народам безудержную и безжалостную жестокость по отношению к врагам,
1 Third edition, pars II: «Taboo and the perils of the Soul», 1911.
Тотем и табу
351
то с большим интересом узнаем, что и у них после убийства человека требуется выполнить ряд предписаний, относящихся к обычаям табу. Эти предписания легко разделить на четыре группы. Они требуют: во-первых, примирения с убитым; во-вторых, самоограничений; в-третьих, покаянных действий, очищения убийцы; в-чет-вертых, совершения известного церемониала. Насколько такие обычаи табу у этих народов постоянны или выполняются лишь в отдельных случаях, нельзя с уверенностью сказать, с одной стороны, из-за неполноты наших сведений, а с другой — это совершенно безразлично, поскольку нас интересуют факты сами по себе. Все же нужно думать, что здесь речь идет о широко распространенных обычаях, а не об отдельных странностях.
Обычаи примирения на островах Тимор, по возвращении домой победоносного военного отряда с отрубленными головами побежденных врагов, представляют особый интерес, потому что вождь экспедиции подвергается сверх того еще тяжким ограничениям (см. ниже). При торжественном вступлении победителей приносятся жертвы, чтобы умилостивить души врагов. В противном случае пришлось бы бояться несчастий для победителей. Устраивается танец и при этом поются песни, в которых оплакивается убитый враг и испрашивается у него прощение... «Не сердись на нас за то, что у нас здесь находится твоя голова. Если бы счастье не улыбнулось нам, то теперь наши головы висели бы в твоей деревне. Мы принесли тебе жертву, дабы умилостивить тебя. Теперь твой дух может удовлетвориться и оставить нас в покое. Почему ты был нашим врагом? Не лучше ли нам быть друзьями? Тогда не пролилась бы твоя кровь и не отрубили бы тебе голову»1.
Нечто подобное встречается у palu на Целебесе; gallas приносят жертвы духам убитых врагов прежде, нежели возвратятся в родную деревню (по Пауличке, этнография Северо-Восточной Африки).
Другие народы нашли средство превращать своих прежних врагов после их смерти в друзей, стражей и защитников. Средство это состоит в нежном обращении с отрубленными головами, как этим хвалятся некоторые дикие народы на Борнео. Если даяки из Saravak’a приносят из похода домой голову, то в течение целого месяца с этой головой обращаются с самой изысканной любезно
1 Frazer, 1. с., р. 166.
352
3. Фрейд
стью и называют ее самыми нежными именами, какие только существуют в их языке. Ей всовываются в рот лучшие куски пищи, лакомства и сигары. Ее постоянно упрашивают ненавидеть своих прежних друзей и подарить свою любовь своим новым хозяевам, так как теперь уже она вошла в их среду. Было бы .большой ошибкой приписывать известную долю насмешки этому обращению, кажущемуся нам отвратительным1.
У многих диких племен Северной Америки наблюдателям бросился в глаза траур по убитому и скальпированному врагу. Если choctaw убивает врага, то для него наступает месячный траур, во время которого он подвергает себя тяжелым ограничениям. Такой же траур наступает у индейцев Дакоты. Если osag’n, замечает один писатель, оплакивали своих собственных покойников, то они оплакивали и врага, как будто он был их другом2.
Прежде чем привести другие группы обычаев табу, касающихся обращения с врагами, мы должны выяснить наше отношение к возражению, которое напрашивается само собой. Мотивировка этих предписаний примирения,— возразят нам вместе с Фрейзером,— довольна проста и не имеет ничего общего с амбивалентностью. Эти народы находятся во власти суеверного страха перед духом убитого,— страха, не чуждого классической древности, выведенного великим британским драматургом на сцену в галлюцинациях Макбета и Ричарда III. Это суеверие вполне последовательно приводит ко всем предписаниям примирения, как и к ограничениям и раскаянию, о которых речь впереди. В пользу такого понимания говорит еще введенный в четвертую группу церемониал, не допускающий никакого другого толкования, кроме как старания прогнать духов убитого, преследующих убийцу3.
Наконец, дикари прямо сознаются в своем страхе перед духами убитых врагов и объясняют этим страхом обычаи табу, о которых идет речь.
1 Frazer, Adonis, Attis, Osiris, p. 248, 1907.— По Hugh Low, Saravak, London, 1848.
2J.O. Dorsay у-Frazer. «Taboo», etc. p. 181.
3 Frazer. Taboo, p. 169 и s. f. p. 174. В эти церемонйи входят избиение щитами, крик, рев, производство шума с помощью инструментов и т. п.
Тотем и табу
353
Это объяснение, действительно, очень правдоподобно. И если бы оно было в такой же мере достаточно, то все наши попытки объяснять их табу были бы излишни. Подробные суждения по этому поводу мы откладываем до другого раза и ограничиваемся пока указанием на взгляд, вытекающий из наших предположений в связи с вышеизложенным о табу. Из всех этих предписаний мы заключаем, что в поведении по отношению к врагу проявляются не только враждебные, но и какие-то другие моменты. Мы видим в них выражение раскаяния, высокой оценки врага и угрызение совести за то, что его лишили жизни. Нам кажется, будто и среди этих дикарей живет заповедь «не убий», которую нельзя было безнаказанно нарушать еще задолго до какого бы то ни было законодательства, полученного из рук божества.
Вернемся к другим группам предписаний табу. Ограничения для победоносного убийцы встречаются нередко и носят большей частью строгий характер. На Тиморе (сравни приведенные выше обычаи примирения) вождь экспедиции не может непосредственно вернуться домой. Для него строится особая хижина, в которой он проводит два месяца, занятый выполнением различных 'предписаний очищения. В течение этого времени ему нельзя видеть свою жену, нельзя есть самому (пишу в рот ему кладет другое лицо)1. У некоторых племен даяков вернувшиеся из победоносного похода принуждаются в течение нескольких дней оставаться изолированными и воздерживаться от определенной пищи; им нельзя прикасаться к железу и к женам. На одном острове возле Новой Гвинеи, мужчины, убившие или принимавшие участие в убийстве врагов, в течение недели скрываются в своих домах. Они избегают всякого общения со своими женами и друзьями, не прикасаются руками к пище и питаются только растительной пищей, приготовленной для них в особой посуде. Как на причину этих последних ограничений, указывается на то, что им нельзя чувствовать запаха крови убитого; в противном случае они могут заболеть и умереть. У племени toaripi или motumotu на Новой Гвинее мужчина, убивший кого-нибудь, не смеет приближаться к своей жене и прикасаться пальцами к пище. Его кормят посто-
1 Frazer. Taboo, р. 166 по S. Muller. Reizen en Ondersoekingen in den Indischen ArchipeL Amsterdam, 1857.
12 Остроумие
354
3. Фрейд
ронние, причем особой пищей. И это длится до ближайшего новолуния.
У monnumbo в германской Новой Гвинее всякий убивший в бою врага становится «нечистым», для чего пользуются тем же словом, что и для женщины во время менструации и во время родов. В течение долгого времени он не должен оставлять лагерь мужчин и в то же время жители его деревни собираются вокруг него и праздауют его победу плясками и песнями. Он не смеет ни к кому прикасаться, не исключая жены и детей; считается, что если он это сделает, то они покроются язвами. Он становится чистым после омовения и церемониала.
У natchez в Северной Америке молодые воины, снявшие первый скальп, должны в течение шести месяцев подвергаться определенным лишениям. Им нельзя спать со своими женами и есть мясо, они получали в пишу только рыбу и маисовый пудинг. Если choctaw убивает и скальпирует врага, то у него наступает месячный траур, в течение которого он не смеет расчесывать свои волосы. Если у него чешется голова, то он не смеет чесать рукой, а только маленькой палочкой.
Если ивдеец pima убивал апача, то ему следовало подвергнуться тяжелым и искупительным церемониям. В течение шестнадцатидневного поста ему нельзя было прикасаться к мясу и соли, смотреть на горящий огонь и с кем бы то ни было разговаривать. Он жил в лесу один, пользуясь услугами старой женщины, приносившей ему скудную пишу. Часто купался в ближайшей реке и в знак траура носил на голове комок глины. На семнадцатый день при свидетелях происходил церемониал торжественного очищения воина и его оружия. Поскольку индейцы pima принимали гораздо более всерьез табу для убийцы и не откладывали искупления и очищения до окончания похода, как то делали их враги, то их боевая способность сильно страдала, можно сказать, от их нравственной строгости и благочестия. Несмотря на их необыкновенную храбрость, они оказались для американцев неудовлетворительными союзниками в их борьбе с апачами.
Как ни интересны подробности и вариации церемониалов искуплений и очищений после убийства врага и как ни заслуживают они более глубокого исследования, я все же прекращаю их описание, потому что они не могут открыть нам новые точки зрения.
Тотем и табу
355
Пожалуй, я еще укажу, что временная или постоянная изоляция профессионального палача, сохранившаяся и до нашего времени, относится к этому же разряду явлений. Положение Фраймана в обществе средних веков, действительно, дает хорошее представление о табу дикарей1.
В обычном объяснении предписаний примирения, ограничения, искупления и очищения комбинируются друг с другом два принципа. С одной стороны, перенесение табу с мертвого на все, что с ним соприкасается, с другой — страх перед духом убитого. Как совместить два этих момента для объяснения церемониала? Следует ли придавать обоим одинаковое значение? Не является ли один из моментов первичным, а другой вторичным и какой именно, об этом не говорится и это нелегко выяснить. В противовес этому объяснению мы подчеркиваем единство нашего понимания, если объясняем все эти предписания амбивалентностью чувств по отношению к врагу.
б) Табу властителей
Отношение примитивных народов к вождям, королям и священникам руководствуется даумя основными принципами, которые как будто скорее дополняют, чем противоречат друг другу. Их нужно бояться и оберегать2. И то, и другое совершается при помощи бесконечного числа предписаний табу. Нам уже известно, почему нужно остерегаться властителей: потому что они являются носителями таинственной чародейственной и опасной силы, передающейся через прикосновение, подобно электрическому заряду, и приносящей смерть и гибель всякому, кто не защищен подобным же зарядом. Поэтому следует избегать всякого посредственного и непосредственного соприкосновения с опасной святыней, и в тех случаях, где этого нельзя избежать, найден был церемониал, чтобы предупредить опасные последствия.
И убийцы в Восточной Африке думают, например, что они умрут, если войдут в дом священнослужителя-короля, но что они
1 По поводу этих примеров см. Frazer. «Taboo», р. 165—190.
2 Frazer. Taboo, р. 132. «Его нужно не только охранять, но и следует его остерегаться».
356
3. Фрейд
избежат этой опасности, если при входе обнажат левое плечо и склонят короля прикоснуться к ним рукой. Таким образом, перед нами тот замечательный факт, что прикосновение короля становится целебным и защитным средством против опасности, грозящей от прикосновения к королю. Но тут речь идет о целебной силе преднамеренного, совершенного по инициативе короля прикосновения, в противоположность опасности, связанной с прикосновением к нему. То есть здесь противопоставляются активность и пассивность по отношению к королю.
Если речь идет о целебном действии прикосновения, то нам незачем искать примеры у дикарей. Еще недалеко то время, когда короли Англии проявляли такое же воздействие на скрофулез, носивший поэтому название «The King’s Evil». Королева Елизавета в такой же степени не отказывалась от этой части своих королевских прерогатив, как и любой из ее наследников. Карл I будто бы излечил в одну поездку 1633 больных. Во время царствования его распутного сына Карла II, после победы над великой английской революцией, исцеление королем скрофулеза достигло высшего расцвета. Этот король за период своего царствования прикоснулся приблизительно к ЮООООскрофулезных больных. Наплыв жаждущих исцеления в иных случаях бывал так велик, что однажды шестеро или семеро из них вместо исцеления умерли, раздавленные в толпе. Скептик из Оранской семьи Вильгельм III, став королем Англии после изгнания Стюартов, отказался от такого чародейства. Единственный раз, снизойдя до этого, он это сделал со словами: «Дай вам бог лучшего здоровья и больше разума»1.
Следующее свидетельство может служить доказательством страшного действия прикосновения, при котором, хотя и не преднамеренно, проявляется активность, направленная против короля или того, что ему принадлежит. Вождь высокого положения и большой святости на Новой Зеландии забыл однажды в пути остатки своего обеда. Тут пришел раб — молодой, крепкий, голодный парень. Он увидел оставленное и набросился на пишу, чтобы съесть ее. Едва только он закончил еду, как человек, видевший это, с ужасом сказал ему, что он совершил покушение на обед вождя. Раб был крепким и мужественным воином. Но, услышав это со
1 Frazer. The mag cart, I., p. 368.
Тотем и табу
357
общение, он упал, с ним сделались ужасные судороги и к вечеру следующего дня он умер1. Женщина маори поела каких-то плодов и затем узнала, что они взяты с места,- на которое наложено табу. Она громко вскрикнула, что дух вождя, которого она таким образом оскорбила, наверное убьет ее. Это произошло около полудня, а к двенадцати часам следующего дня она была уже мертвой2. Зажигалка вождя маори погубила однажды несколько человек. Вождь потерял ее, другие ее нашли и пользовались ею, чтобы закуривать свои трубки. Когда они узнали, кому принадлежит зажигалка, они умерли от страха3.
Нечему удивляться, что явилась потребность изолировать от других таких опасных лиц, как вождей и духовных лиц, воздвигнуть вокруг них стену, за которой они были бы недоступны для других. Можно предположить, что эта стена, воздвигнутая первоначально из предписаний табу, существует еще и теперь в форме придворного церемониала.
Но, может быть, большая часть этого табу для властелинов не объясняется потребностью защищаться от них. Противоположная точка зрения в обращении с привилегированными лицами (потребность защищать их от грозящей им опасности) принимала явное участие в создании табу, а следовательно, и в развитии придворного этикета.
Необходимость защитить короля от всевозможных опасностей объясняется его огромным значением для блага его подданных. Строго говоря, его личность направляет течение мирового бытия. Народ должен его благодарить не только за дождь и солнечный свет, влияющие на урожаи плодов земли, но и за ветер, подгоняющий корабли к берегу, и за твердую почву, по которой ступают подданные4.
Эти короли дикарей наделены могуществом и способностью делать людей счастливыми, свойственной только богам, в чем на
1 Old New Lealand, bya Pakeha Maori (London, 1884) у Frazer. «Taboo», p. 135.
2 IF. Brown. «New Zealand and its Aborigines» (London, 1845) у Frazer, там же.
3 Frazer, 1. c.
4 Frazer. Taboo. The burden of royalty, p. 7.
358
3. Фрейд
более поздних ступенях цивилизации их льстиво уверяют только самые усердные низкопоклонники из придворных.
Кажется явным противоречием, что лица, обладающие такой большой властью, сами требуют величайшей заботливости и охраны их от окружающей опасности. Но это не' единственное противоречие, проявляющееся в обращении с королевскими лицами у дикарей. У этих народов считается необходимым следить за своими королями, чтобы те правильно пользовались данными им силами. Подданные нисколько не уверены в их добром намерении и совестливости. К мотивировке предписаний табу для короля примешивается толика недоверия. «Мысль, что доисторическое королевство основано на деспотизме,— говорит Фрейзер,— потому что народ существует якобы только для его властелинов, никоим образом не применима к монархиям, которые мы тут имели в виду. Напротив, в них властелин живет только для своих подданных. Его жизнь имеет цену только до тех пор, пока он выполняет обязанности, связанные с его должностью, направляя течение явлений природы на благо своих подданных. Как только он перестает это делать или оказывается непригодным, заботливость, преданность и религиозное почитание, предметом которых он до того был в безграничной мере, превращаются в ненависть и презрение. Он с позором изгоняется и может быть доволен, если ему сохранили жизнь. Может случится, что сегодня его еще обожают, как бога, а завтра его убивают, как преступника. Но у нас нет права осуждать такое изменчивое поведение народа — непостоянное и противоречивое. Народ остается безусловно последовательным. Если, по его мнению, их король — это их бог, то он должен быть и их защитником. А если он не хочет защищать народ, то пусть уступит место другому, более услужливому. Но пока король соответствует их ожиданиям, заботливость о нем не знает границ, и подданные заставляют его относиться к самому себе с такой же внимательностью. Такой король живет ограниченный системой церемоний и этикетов, закутанный в сеть обычаев и запрещений, цель которых никоим образом не состоит в том, чтобы возвысить его достоинство, и еще‘менее в том, чтобы увеличить его благополучие. Во всем этом сказывается только намерение удержать его от таких шагов, которые могли бы нарушить гармонию природы и вместе с тем погубить его самого, его народ и всю вселенную. Эти предпи
Тотем и табу
359
сания, далеко не способствующие его благополучию, вмешиваются в каждый его поступок, уничтожают его свободу и делают жизнь короля, которую подданные его будто бы должны охранять, тягостной и мучительной».
Одним из самых ярких примеров такого сковывания освященного властелина церемониалом табу является образ жизни японского микадо в прошлых столетиях. В одном описании, которому свыше двухсот лет, сообщается: «Микадо думает, что прикоснуться ногами к земле не отвечает его достоинству и святости. Если он хочет куда-то пойти, то кто-нибудь должен нести его на плечах. Но еще менее пристойно выставлять ему свою святую личность на открытый воздух. И солнце не удостаивается чести сиять над его головой. Каждой части его тела приписывается такая святость, что ни его волосы на голове, ни его борода не могут быть острижены, а ногти не могут быть срезаны. Но чтобы он не был очень грязным, его моют по ночам, когда он спит. Считается, что грязь, смываемая с его тела в таком состоянии сна, можно считать украденной, а кража такого рода не умаляет его достоинства и святости. Еще в более древние времена он должен был каждое утро в течение нескольких часов сидеть на троне с царской короной на голове, но сидеть, как статуя, то есть не двигая руками, ногами, головой или глазами. Только таким образом, по убеждению японцев, он может удержать мир и спокойствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или другую сторону или в течение некоторого времени обратит свой взор только на часть царства, то наступят война, голод, пожары, чума или какое-нибудь другое большое бедствие, которое опустошит страну»1.
Некоторые из табу для королей у варваров живо напоминают меры пресечения против разбойников. В Shark Point при Кар Padron в Нижней Гвинее (Западная Африка) живет король-священнослужитель Kukulu один в лесу. Он не смеет прикасаться к женщине, не смеет оставлять своего дома, ни даже вставать со своего стула, в котором обязан спать сидя. Если он ляжет, то ветер стихнет и мореплавание приостановится. На его обязанности лежит сдерживать бури и вообще заботиться об умеренном здоро
1 Kampfer. History of Japan, по Фрейзеру. 1 с., р. 3.
360
3. Фрейд
вом состоянии атмосферы1. Чем могущественнее король Loango, говорит Бастиан, тем больше он должен соблюдать табу. И наследник престола с детства связан ими, и они множатся по мере того, как он растет; к моменту вступления на престол они его душат. Место не позволяет и наша задача не требует того, чтобы мы входили в более подробные описания табу, связанные с королевским и священническим достоинством. Укажем еще, что главную роль среда них играют ограничения свободы движения и диета. Но какое консервативное влияние оказывает связь с этими привилегированными лицами на древние обычаи, можно убедиться на двух примерах церемониала табу, взятых у цивилизованных народов, то есть у народов с более высокой степенью культуры.
Flamen Dialis, первый священнослужитель Юпитера в Древнем Риме, должен был соблюдать особенно большое число табу. Он не должен был ездить верхом, видеть лошадей, вооруженных людей, носить цельное, не надломленное кольцо, завязывать узлом свои одежды, прикасаться к пшеничной муке или к прокисшему тесту. Он не смел даже называть по имени козу, собаку, сырое мясо, бобы и плющ; волосы ему мог стричь только свободный человек (не раб) и бронзовым ножом, а его волосы и срезанные ногти нужно было хоронить под деревом, приносящим счастье; он не смел прикасаться к покойному, стоять с непокрытой головой под открытым небом и т. п. Жена его Flaminica соблюдала, кроме того, еще особые запреты. На некоторых видах лестниц она не смела подниматься выше трех ступенек; в определенные праздничные дни ей нельзя было причесывать волосы; кожа для ее ботинок не могла быть взята от животного, умершего естественной смертью, а только от зарезанного или принесенного в жертву; когда она слышала гром, то становилась нечистой, пока не приносила очистительную жертву2.
Древние-короли Ирландии были подчинены целому'ряду чрезвычайно странных ограничений, от соблюдения которых ожидали всяких благ для страны, а от нарушения — всяких бедствий. Полный список этих табу помещен в Book of Rights, самые старые
1 Bastian. «Die deutsche Expedition an der Loangokiiste». Jena, 1874, у Фрейзера, 1. с., p. 5.
2 Frazer, 1. c., p. 13.
Тотем и табу
361
рукописные экземпляры которых датируются 1390 и 1418 годами. Запрещения чрезвычайно детализированы, касаются различных родов деятельности в определенных местах и в определенное время. В таком-то городе король не должен пребывать в определенные дни недели, такую-то реку он не должен переходить в известный час, на такой-то равнине не должен останавливаться лагерем полных девять дней и т. п.1...
Тяжесть ограничений табу для королей-священнослужителей имела у многих диких народов исторически важные и на наш взгляд особенно интересные последствия. Эта должность перестала быть чем-то желанным. Тот, кому она предназначалась, прибегал к всевозможным средствам, чтобы избавиться от нее. Так, например, в Combodscha, где имеются король огня и король воды, часто приходится силой вынуждать наследников принять королевский сан. На Nine или Sawage Island, коралловом острове в Тихом океане, монархия фактически пришла к концу, потому что никто не соглашался на такую ответственную и опасную должность. В некоторых районах Западной Африки после смерти короля собирается тайный совет, чтобы назначить его преемника. Того, на кого падает выбор, хватают, связывают и держат под стражей в доме фетишей до тех пор, пока он не соглашается принять корону. Иной раз предполагаемый наследник престола находит средства и пути, чтобы избавиться от предлагаемой ему чести. Так, про одного военачальника рассказывают, что он день и ночь не расставался с оружием, чтобы оказать сопротивление всякой попытке посадить его на престол2. У негров в Сьерра-Леоне сопротивление против принятия королевского достоинства так велико, что большинство племен было вынуждено избирать себе королей из чужеземцев.
Этими обстоятельствами Фрейзер объясняет тот факт, что в историческом развитии в конце концов произошло разделение объединенного духовно-королевского сана на духовную и светскую власть. Подавленные бременем своей святости, короли оказались неспособными осуществлять свою власть в реальных отношениях
1 Frazer, II. с., р. 11.
2 A. Bastian. Die deutsche Expedition an der Loangokiiste, у Фрейзера 1. с., p. 28.
362
3. Фрейд
и были вынуждены передать ее менее значительным, но дееспособным лицам, готовым отказаться от почестей королевского достоинства. Из них впоследствии образовались светские власти, между тем как потерявший практически всякое значение духовный сан остался за прежними королями. Известно, насколько эта гипотеза находат подтверждение в истории Древней Японии.
Когда мы анализируем отношение примитивных людей к их властелинам, то в нас пробуждается надежда, что нетрудно будет перейти от их описания к психоаналитическому пониманию их. Отношения эти по своей природе очень запутаны и не лишены противоречий. Властелинам предоставляются большие права, совершенно совпадающие с табу для других. Они являются привилегированными особами. Они могут делать то и наслаждаться тем, что из-за табу запрещается всем остальным. В противовес этой свободе для них имеются свои табу, которые не распространяются на обычных лиц. Здесь, таким образом, возникает первая противоположность, почти противоречие между большой степенью свобода и большой степенью ограничений для одного и того же лица. Им приписывают необычные чародейственные силы и потому боятся прикосновения к ним или к их собственности. А с другой стороны, ждут самого благодетельного действия от этих прикосновений. Это кажется вторым, особенно ярким противоречием. Однако нам уже известно, что оно лишь кажущееся. Целебное и охраняющее действие имеет прикосновение, исходящее от самого короля с благостным намерением. А опасно только прикосновение к королю или чему-либо королевскому, вероятно, из-за напоминания о связанных с этим агрессивных тенденциях. Другое, не так легко разрешимое противоречие состоит в том, что властелину приписывается большая власть над явлениями природы, а в то же самое время считается необходимым с особенной заботливостью охранять его от угрожающей ему опасности, как будто его собственное могущество, способное так много совершить, защитить его не в состоянии. Другим затруднением в этих взаимоотношениях является недоверие к намерениям властелина использовать свое невероятное могущество должным образом на благо подданных и для своей собственной защиты. Поэтому подданные и считают себя вправе следить за ним. Этикеты табу, которым подчинена жизнь короля, служат одновременно всем этим целям: опеке
Тотем и табу
363
над королем, защите его от опасностей и защите подданных от опасностей, угрожающих им с его стороны.
Само собой напрашивается следующее объяснение сложных и противоречивых отношений примитивных народов к их властелинам: из суеверных и других мотивов в отношениях к королям проявляются разнообразные тенденции, из которых каждая развивается до крайних пределов, не обращая внимания на другие. Отсюда впоследствии развиваются противоречия, которые, впрочем, мало замечает интеллект и дикарей, и народов, стоящих на более высокой ступени цивилизации, если дело идет об отношениях, касающихся религии или «лояльности».
Все это верно, но психоаналитическая техника, пожалуй, позволит проникнуть глубже в связь явлений и сказать нечто большее о природе этих разнообразных тенденций. Если мы проанализируем описанное положение вещей, как если бы оно составляло картину симптомов невроза, то начнем, прежде всего, с чрезмерной боязливой заботливости, которой хотят объяснить церемониал табу. Такой избыток нежности — обычное явление в неврозе, особенно в неврозе навязчивости, который мы в первую очередь берем для сравнения. Происхождение этой нежности нам вполне понятно. Она возникает во всех тех случаях, где, кроме преобладающей нежности, имеется противоположное, но бессознательное течение враждебности, то есть имеет место типичный случай амбивалентной направленности чувств.
Недоверие, кажущееся абсолютно необходимым при объяснении табу доя короля, является иным прямым выражением той же бессознательной враждебности. Из-за разнообразия окончательного исхода такого конфликта у разных народов, у нас не было бы недостатка в примерах, на которых нам было бы гораздо легче доказать такую враждебность. У Фрейзера1 мы узнаем, что дикие fimmes из Сьерра-Леоне сохранили за собой право избивать выбранного ими короля в вечер накануне коронования. Они с такой основательностью пользуются этим конституционным правом, что несчастный властелин часто ненадолго переживает момент своего возведения на трон. Поэтому представители народа положили
1 L. с., р. 18 по Zweifer et Monstier, «Voyage aux Sources du Niger», 1880.
364
3. Фрейд
себе за правило избирать в короли то лицо, против кого они озлоблены. Но все же и в этих парадоксальных случаях враждебность проявляется не как таковая, а выливается в форму церемониала.
Другой образец отношения народов к своим властелинам вызывает воспоминание о .душевном процессе, широко распространенном в области невроза и явно проявляющемся в так называемом бреде преследования. Тут невероятно увеличивается значение определенного лица. Его могущество чрезвычайно разрастается, чтобы тем легче возложить на него ответственность за все мучительное, случившееся с больным. В сущности, дикари таким же образом поступают со своими королями, приписывая им власть над дождем и солнечным светом, над ветром и бурей и низвергая или убивая их, если природа не оправдала их надежд на хорошую охоту или богатую жатву. Прообразом того, что параноик конструирует в бреде преследования, является отношение ребенка к отцу. Подобного рода всемогущество в представлении сына приписывается отцу, а недоверие к отцу тесно связано с завышенной оценкой его. Если параноик выбирает «преследователем» кого-то, с кем его связывают жизненные отношения, то тем самым он вводит его в круг людей, олицетворяющих отца, и ставит его в условия, позволяющие возложить на него ответственность за все переживаемые несчастья. Таким образом, эта вторая аналогия между дикарем и невротиком позволяет нам предполагать, как много в отношениях дикаря к своему властелину исходит из детской почи-таемости ребенком отца.
Но самое большое основание для нашей точки зрения, проводящей параллель между табу и невротическими симптомами, мы находим в самом церемониале табу, значение которого для положения достоинства было уже описано выше. В этом церемониале явно просматривается двусмысленное значение и его происхождение из амбивалентных тенденций, если только мы допустим, что он с самого зарождения предназначался для совершения производимого им действия. Он не только отличает королей и возвеличивает их над обычными смертными, но и превращает их жизнь в невыносимую муку, накладывает на них цепи рабства, гораздо более тяжелые, чем влачат их подданные. Этот церемониал кажется нам параллелью навязчивых действий невроза, в которых подавленное влечение и подавляющая его сила сливаются в одновременном
Тотем и табу
365
общем удовлетворении. Навязчивое действие является, по-видимому, защитой против запрещенного действия. Но мы сказали бы, что в сущности оно является повторением запрещенного. «По-видимому» здесь относится к сознательному, «в сущности» — к бессознательной инстанции душевной жизни. Таким же образом и церемониал табу королей, вроде бы выражающий высший почет и защиту, представляет, в сущности, наказание за их возвышение, своеобразный акт мести, который совершают над ним подданные. Опыт, приобретенный Санчо Панса у Сервантеса в качестве губернатора острова, заставил его, по-видимому, признать, что именно такое понимание придворного церемониала соответствует истине. Весьма возможно, что нам удалось бы получить подтверждение нашим выводам, если бы мы могли услышать по этому поводу мнение современных королей и властелинов.
Очень интересную, но выходящую за пределы этой работы проблему составляет вопрос, почему чувства к власть имущим содержат такую большую примесь враждебности. Мы уже указали на инфантильный характер комплекса ребенка по отношению к отцу. Прибавим еще, что самые исчерпывающие объяснения должно дать нам исследование доисторического периода образования королевства. Согласно данному Фрейзером освещению вопроса, оставляющему глубокое впечатление, но, по собственному его признанию, неубедительному, первые короли были чужеземцу, предназначенные после короткого периода власти для принесения в жертву как представители божества на торжественных праздниках1. И на мифах христианства отражается еще влияние этого факта истории развития королевского величия.
в) Табу на покойников
Нам известно, что покойники представляют собой могучих властителей. Может быть, с удивлением мы узнаем, что в них видат врагов.
Продолжая сравнение с инфекцией, мы убеждаемся, что табу на покойников отличается особой вирулентностью у большинства
1 Frazer. The magic art et the evolution of kings. 2 vol., 1911 (The golden bough).
366
3. Фрейд
примитивных народов. Это, прежде всего, выражается в тех последствиях, которые влечет за собой прикосновение к мертвецу, и в обращении с оплакивающими его. У маори всякий, прикасающийся к трупу или принимавший участие в погребении, становится крайне нечистым. Ему почти отрезано всякое сообщение с другими людьми, он как бы подвергается бойкоту. Он не смеет входить ни в один дом, не может приблизиться ни к какому человеку или предмету без того, чтобы не заразить их такими же свойствами. Более того, он не смеет прикасаться руками к пище, и его руки из-за своей нечистоты становятся для него непригодными для пользования. Несчастному ставят пищу на землю и ему не остается ничего другого, как хватать ее губами и зубами, насколько это возможно, в то время как руки он держит за спиной. Иногда разрешается другому кормить его, но тот совершает.это с вытянутыми руками, тщательно избегая прикосновения к нечистому. Причем в таком случае и сам помощник подвергается ограничениям, ненамного менее тягостным, чем его собственные. В каждой деревне имеется какое-нибудь опустившееся изгнанное из общества существо, живущее скудными подаяниями, получаемыми таким жалким образом. Только этому существу разрешается приблизиться на расстояние вытянутой руки к тому, кто выполнил последний долг перед умершим. Когда время изоляции проходит и человек, ставший нечистым от прикосновения к трупу, получает возможность снова войти в круг своих товарищей, то разбивается вся посуда, которой он пользовался в течение опального периода и сбрасывается вся одежда, в которую он был одет.
Обычаи табу после телесного прикосновения к мертвецам одинаковы во всей Полинезии, Меланезии и части Африки. Постоянную часть их составляет запрещение прикасаться к пище руками и вытекающая из него необходимость получать пищу в рот из чужих рук. Примечательно, что в Полинезии или, может быть, только на Гавайях таким же ограничениям подвержены священнослужители-короли при выполнении священных действий. При табу на мертвецов на Тон-го явно проявляется постепенное уменьшение запрещений, связанное с увеличением собственной силы табу. Кто прикоснулся к трупу вождя, тот становился нечистым в течение десяти месяцев. Но если прикоснувшийся сам был вождем, то он делался нечистым на три, четыре или пять месяцев в зависимости от ранга умершего. Если же
Тотем и табу
367
речь шла о трупе обожествляемого верховного вождя, то даже самые большие вожди становились табу на десять месяцев. Дикари глубоко верят в то, что всякий, нарушивший такие предписания табу, должен тяжело заболеть и умереть. И эта вера их так непоколебима, что, по мнению одного наблюдателя, никто из них никогда не осмеливался сделать попытку убедиться на деле в противном1.
По существу однородны, но более интересны для наших целей ограничения табу для тех лиц, соприкосновение которых с мертвыми нужно понимать в переносном смысле, а именно для оплакивающих покойника родственников, вдовцов и вдов. Если в упомянутых до сих пор предписаниях видеть только типичное выражение вирулентности и способности к распространению табу, то в тех предписаниях, о которых сейчас будет идти речь, проявляются мотивы табу и мнимые, и те, которые мы можем считать более глубокими и оправданными.
У shuswap в Британской Колумбии вдовы и вдовцы во время траура должны жить отдельно. Им нельзя прикасаться руками ни к собственному телу, ни к голове. Посуду, которой они пользуются, нельзя использовать другим. Никакой охотник не приблизится к хижине, в которой живут люда, оплакивающие умерших, потому что это принесло бы ему несчастье. Если на него упадет тень человека, оплакивающего близкого покойника, то он заболеет. Такие лица спят на терновниках и окружают ими свое ложе, чтобы не допустить к ним духа умершего. Еще более углубленный смысл имеют сообщаемые обычаи вдов в других североамериканских племенах. Там вдова некоторое время после смерти мужа носит одежду, похожую на панталоны из сухой травы, чтобы быть недоступной при попытках духа к сближению. Таким образом, нам становится ясно, что под «сближением» понимается телесный контакт, так как дух умершего не отходит от своих родных, постоянно «витает вокруг них» в течение всего времени траура.
У Agutainos, живущих на Palawan, одном из Филиппинских островов, вдова не смеет в течение первых семи или восьми дней после смерти мужа оставлять хижину, разве только в ночное время, когда ей нечего опасаться встреч с другими людьми. Кто ее видит, навлекает на себя опасность мгновенной смерти. Поэтому
1 W. Marriner. The natives of the Tongi Island. 1818 у Фрейзера 1. с., p. 140.
368
3. Фрейд
она сама предупреждает о своем приближении, ударяя деревянной палкой по деревьям, которые после этого засыхают. Другое наблюдение объясняет, в чем заключается опасность, исходящая от такой вдовы. В области Мекео Британской Новой Гвинеи и вдовец лишается всех гражданских прав и некоторое время живет изгнанником из общины. Он лишается права обрабатывать сад, открыто появляться среди других, выходить на улицу в деревне. Он бродит, как дакий зверь, в высокой траве или кустарнике и должен прятаться в гуще леса, если увидит, что кто-то приближается, особенно, если это женщина. Последний намек без труда объясняет, что вдовец или вдова представляют собой опасность искушения. Муж, потерявший свою жену, должен избегать желания найти ей замену. Вдове приходится бороться с тем же желанием, но, кроме того, она, как никому не принадлежащая, будит желания у других мужчин. Но такое заменяющее уддвлетворение чувство противоречит смыслу траура и может вызвать вспышку гнева у духа1.
Одним из самых странных и поучительных обычаев табу, касающихся оплакивания покойников у примитивных народов, является запрещение произносить имя умершего. Такое табу чрезвычайно распространено, проявлялось различным образом и имело значительные последствия.
Кроме австралийцев и полинезийцев, сохранивших для нас в первозданном виде обычаи табу, это запрещение можно обнаружить у столь отдаленных и чуждых друг другу народов, как у самоедов в Сибири, у toda в Южной Индии, у монголов, у туарегов в Сахаре, айно в Японии и акамба в Центральной Африке, у тингуанов на Филиппинах и у жителей Никобарских островов, Мадагаскара и Борнео2. У некоторых из этих народов запрещение и вытекающие из него следствия имеют силу только на время траура, у других они действуют дольше, но во всех случаях они постепенно слабеют со временем.
Обычно запрет произносить имя умершего выполняется очень строго. Так, у некоторых южноамериканских племен считается
1 Та же больная, «невозможности» которой я сравнивал выше с табу, созналась, что приходит всякий раз в отчаяние, когда встречает кого-нибудь на улице, одетого в траур. Таким людям следовало бы, по ее мнению, запретить выходить на улицу.
2Frazer, 1. с., р. 353.
Тотем и табу
369
самым тяжелым оскорблением для оставшихся в живых, если в их присутствии произносится имя умершего, и полагающееся за это наказание не менее строгое, чем наказание за убийство*. Трудно понять, почему произнесение имени умершено так пугает. Тем не менее связанная с ним опасность вызвала ряд предупредительных мер, интересных и значительных во многих отношениях. Так, masau в Африке нашли выход в том, что меняют имя умершего непосредственно после смерти; его без боязни можно называть новым именем, потому что все запрещения связаны с прежним именем. При этом предполагается, что духу неизвестно его новое имя и он его никогда не узнает. Австралийские племена на Аделаидских островах и Encunter Вау настолько последовательны в своих мерах предосторожности, что после чьей-нибудь смерти все лица, носившие такое же имя, как покойник, или сходное с ним, меняют свои имена. Иной раз, распространяя дальше то же соображение, после чьей-нибудь смерти меняют имена всех родственников покойника, независимо от сходства их с его именем. Например у некоторых племен в Виктории и Северо-Западной Америке. У guaikurus в Парагвае по такому же печальному поводу вожди дают новые имена всем членам племени, которые впредь запоминаются так, будто они всегда их носили1 2.
Если покойник носил имя, похожее на название животного, предмета и т. п., то у упомянутых народов считается необходимым дать новое название этим животным или предметам, чтобы употребление этого слова не было напоминанием о покойнике. Из-за этого следовало беспрестанное изменение словарного состава языка, доставлявшее много затруднений миссионерам, особенно в тех случаях, когда запрещение произносить такие имена оставалось постоянным. За семь лет, проведенных миссионером у аЫроп’ов в Парагвае, название ягуара менялось три раза и такая же участь постигла крокодала, терновник и звериную охоту3. Боязнь произносить имя, принадлежавшее покойнику, приводит к склонности избегать упоминания всего, в чем этот покойник принимал учас
1 Frazer, 1. с., р. 352 и т. д.
2 Frazer, 1. с., р. 357 по словам старого испанского наблюдателя 1732 г.
3Frazer, 1. с., р. 360.
370
3. Фрейд
тие. Важным последствием этого процесса подавления является тот факт, что у этих народов нет традиций, нет исторических воспоминаний и исследование их прошлой истории встречает величайшие трудности. Но у некоторых из этих примитивных народов выработались компенсирующие обычаи, для того чтобы по истечении длинного периода траура снова оживить имена покойников, давая их детям, в лице которых видят возрождение мертвых.
Странное впечатление от этого табу имени уменьшается, если мы вспомним, что у дикарей имя составляет значительную часть и важное свойство личности, так как они приписывают слову полноценное значение вещи. То же самое делают наши дети, как я это указал в другом месте, не довольствуясь никогда предположением, что словесное сходство может не иметь никакого значения. С полной убежденностью они делают вывод, что если две вещи имеют одинаково звучащие названия, то это значит, что между ними имеется глубокое сходство. И взрослый цивилизованный человек, судя по некоторым особенностям его поведения, не так уж далек от того, чтобы придавать большое значение собственному имени и считать, что его имя каким-то образом срослось с его личностью. Это вполне соответствует тому положению, что психоаналитическая практика имеет много поводов указывать на значения имен в бессознательном мышлении1.
Как и следовало ожидать, невротики, страдающие навязчивостью, в отношении имен ведут себя так же, как дикари. У них проявляется острая «комплексная чувствительность» к тому, чтобы произносить или слышать определенные имена и слова (точно так же, как и другие невротики), и их отношение к собственному имени является источником многочисленных и часто тяжелых задержек. Одна такая больная фобией табу, которую я знал, никогда не писала свое имя из боязни, что оно может попасть в руки кого-то, кто, пользуясь ее именем, овладеет частью ее личности.'В судорожном порыве, с которым она боролась против искушения своей фантазии, она дала себе зарок «не давать ничего от своей личности». Сюда относилось, прежде всего, ее имя, а в дальнейшем развитии и все то, что она писала собственноручно. И поэтому она, в конце концов, перестала писать.
Поэтому нам не кажется странным, если дикари относятся к имени покойника как к части его личности, и имя это становит
1 Stekel, Abraham.
Тотем и табу
371
ся элементом табу, налагаемого на покойника. Произнесение имени покойника может рассматриваться так же, как прикосновение к нему, и мы можем остановиться на причине, почему это прикосновение подвергается такому строгому табу. Самое приемлемое объяснение указало бы на естественный ужас, вызываемый трупом и теми изменениями, которым он быстро подвергается. Вместе с тем как причину всех табу, относящихся к покойнику, следовало бы рассматривать и печаль по поводу его смерти. Однако ужас перед трупом, очевидно, не объясняет всех предписаний табу, а печаль никак не объясняет того, что упоминание о покойнике воспринимается как тяжелое оскорбление для переживших его родственников. Печаль, наоборот, заставляет мысли останавливаться на умершем, постоянно вызывает воспоминания о нем и хочет сохранить их на долгое время. Нечто другое должно быть причиной особенностей обычаев табу — нечто, преследующее, очевидно, другие цели. Именно табу на имя выдает нам этот еще неизвестный мотив и если бы на него не указывали обычаи, то мы узнали бы о нем от самих оплакивающих покойника дикарей.
Они вовсе не скрывают, что боятся присутствия и возвращения духа покойника. Они выполняют сложные церемонии, чтобы прогнать его и держать в отдалении1. Произнесение его имени кажется им заклинанием, за которым может последовать его появление2. И поэтому они последовательно делают все, чтобы избежать такого заклинания и пробуждения умершего. Дикари переодеваются, чтобы дух не узнал их3. Они искажают его имя или свое собственное. Они сердятся на неосторожного чужестранца, накликающего дух покойника на оставшихся в живых родственников его, если он называет покойника по имени. Невозможно не прийти к заключению, что они, по выражению Вундта, страдают страхом «перед его душой, ставшей демоном»4.
1 Как пример такого признания, у Фрейзера, I. с. р. 353, указаны слова туарега Сахары.
2 Может быть, по этому поводу нужно прибавить условие: пока существует еще кое-что из его телесных останков. Frazer, I. с., р. 372.
3На Никобарских островах. Frazer, I. с., р. 382.
4 Вундт, Религия и мир, II т., стр. 49.
372
3. Фрейд
Этот взгляд приводит нас к подтверждению мысли Вундта, который, как мы видели, объясняет сущность табу страхом перед демонами.
Это учение, таким образом, исходит из предположения, что дорогой член семьи с момента смерти становится демоном. Оставшимся в живых следует ждать с его стороны только враждебных проявлений и злых намерений, против которых они должны защищаться всеми силами. Такие представления кажутся настолько странными, что в них сначала трудно поверить. Однако почти все видные авторы сходятся в том, что примитивным народам свойственна эта точка зрения. Вестермарк, который в своем сочинении «Происхождение и развитие нравственных понятий», по моему мнению, слишком мало обращает внимания на табу, в отделе «Отношения к умершим» прямо говорит: «Вообще, имеющийся у меня фактический материал заставляет меня прийти к выводу, что в умерших чаще видят врагов, чем друзей1. И lewons и Grand Allen ошибаются, утверждая, будто злоба покойников направляется обычно против чужих, между тем как они проявляют отеческую заботливость о жизни и о благополучии своих потомков и товарищей по клану».
Р. Кляйнпауль использовал в книге, производящей глубокое впечатление, истоки древней веры в загробную жизнь души у цивилизованных народов, чтобы дать картину взаимоотношений между живыми и мертвыми2. Самое яркое выражение эти взаимоот
1 Westermarck, 1. с., II т., р. 424. В примечании в тексте приводится большое количество подтверждающих этот вывод показаний, часто очень характерных. Например, маори думали, «что самые близкие и любимые родственники изменяют свое существо после смерти и настроены враждебно даже против своих прежних любимцев». Австралийские негры думают, что всякий покойник долгое время опасен; чем ближе родство, тем больше страх перед умершим. Центральные эскимосы находятся во власти представлений, что покойники только много времени спустя находят покой, а вначале их нужно бояться, как злокозненных духов, часто окружающих деревню, чтобы распространять болезни, смерть и другие бедствия (Boas).
2 Kleinpaul. Живые и мертвые в верованиях народа, в религии в сказаниях. 1888.
Тотем и табу
373
ношения находят в убеждении, что мертвецы кровожадно влекут за собой живых. Мертвецы убивают. Скелет, в виде которого теперь изображается смерть, показывает, что сама смерть представляет собой именно мертвеца. Оставшиеся в живых чувствуют себя защищенными от их козней только в том случае, если между ними и их мертвыми преследователями имеется вода. Поэтому так охотно хоронили покойников на островах, перевозили на другой берег реки. Отсюда и произошли выражения «по сию сторону, по ту сторону». С течением времени враждебность приписывалась только мертвецам, за которыми признавалось особое право на озлобление: убитыми, преследующими в виде злых духов своих убийц, умершими в тоске по ком-нибудь, например за невестами. Но первоначально, говорит Кляйнпауль, все мертвецы были вампирами, все питали злобу к живым и старались вредить им, лишить их жизни. Вообще, труп дал повод к появлению представления о злом духе.
Предположение, что любимые покойники после смерти превратились в демонов, рождает дальнейший вопрос. Что побудило примитивные народы приписывать своим дорогим умершим людям такую перемену в их чувствах? Почему они превратили их в демонов? Вестермарк думает, что на этот вопрос ответить нетрудно1. «Так как смерть считается самым большим несчастьем, какое может постигнуть человека, то подозревают, что покойники крайне недовольны своей судьбой. По принятому у первобытных народов мнению, смерть наступает только от убийства — насильственного или совершенного при помощи колдовства. И уже поэтому на душу смотрят, как на рассерженную и жаждущую мести. Полагают, что она завидует живым и тоскует по обществу прежних родственников. Поэтому вполне понятно, что она старается каким-то образом умертвить их, чтобы соединиться с ними...
... Дальнейшее объяснение враждебности, приписываемой душам, кроется в инстинктивной боязни их — боязни, исходящей, в свою очередь, от страха смерти».
Изучение психоневротических заболеваний приводит к более широкому объяснению, включающему в себя и данное Вестермарком.
Если жена лишается мужа, дочь — матери, то нередко случается, что оставшимися в живых овладевают мучительные размыш
1 L. с., р. 426.
374
3. Фрейд
ления, названные нами «навязчивыми упреками». Они выражают сомнение человека, не стал ли он сам по неосторожности или небрежности причиной смерти родственника. Ни воспоминание о том, с какой заботливостью ухаживали за больным, ни фактическое опровержение предполагаемой вины не может положить конца терзаниям, ставшим патологическим выражением печали и со временем постепенно утихающим. Психоаналитическое исследование таких случаев открыло нам тайные пружины такого страдания. Нам стало известно, что эти навязчивые упреки в известном смысле имеют основание и поэтому не поддаются ни опровержению, ни возражению. Дело не в том, что оплакивающие покойника действительно, как это утверждает навязчивый упрек, виновны в смерти или проявили небрежность. Но где-то в них шевелилось ими самими неосознанное желание, удовлетворенное смертью. Возможно, они и сами вызвали бы эту смерть, если бы обладали для этого достаточной силой. Как реакция на это бессознательное желание и возникает упрек самому себе в смерти любимого человека. Такая враждебность, скрытая в бессознательном за нежной любовью, имеется почти во всех случаях сильного чувства привязанности к определенному лицу и представляет собой классический случай, образцовый пример амбивалентности человеческих чувств. В большей или меньшей степени такая амбивалентность является врожденной чертой человека. При нормальных условиях она не так велика, чтобы вызвать появление описанных навязчивых упреков. Но там, где она от природы сильна, она проявляется именно в отношении к самым любимым лицам и в тех случаях, где ее меньше всего можно было бы ожидать. Предрасположение к неврозу навязчивости, который мы так часто приводили для сравнения в вопросе о табу, мы представляем себе как особенно сильно выраженную первоначальную амбивалентность чувств.
Нам известен момент, который может объяснить предполагаемый демонизм недавно умерших душ и необходимость защититься от их враждебности предписаниями табу. Допустим, что чувствам примитивных людей амбивалентность присуща в такой же мере, в какой мы ее на основании результатов психоанализа приписываем больным навязчивостью. Тогда будет вполне понятно, что после тяжелой потери становится неизбежной такая же реакция против скрытой бессознательной враждебности, какая у невротиков дока
Тотем и табу
375
зывается навязчивыми упреками. Эту враждебность, мучительно воспринимаемую в бессознательном как удовлетворение смертью близкого родственника, у примитивного человека ждет другая участь: он ее отвергает и переносит на объект враждебности — на покойника. Этот процесс, часто наблюдаемый в больной и нормальной душевной жизни, мы называем проекцией. Оставшийся в живых отрицает тот факт, что у него когда-то имелись враждебные душевные движения против любимого покойника. Но теперь такие чувства имеются в душе умершего, и она постарается проявить их в течение всего периода траура. Характер наказания и раскаяния, присущий этой чувственной реакции, несмотря на удавшееся отрицание ее, при помощи проекции все же проявляется в том, что люди испытывают страх, налагают на себя лишения и ограничения, которые отчасти маскируются для защиты против враждебного демона. Таким образом, мы снова находим, что табу выросло на почве амбивалентной направленности чувств. Табу, связанные с покойниками, вытекают из противоречия между сознательной болью и бессознательным удовлетворением по поводу наступившей смерти. При таком происхождении гнева духов вполне понятно, что больше всего приходится его опасаться именно самым близким и прежде наиболее любимым родственникам. Предписания табу проявляют здесь ту же двойственность, что и невротические симптомы. По своему характеру ограничений, они, с одной стороны, являются выражением печали, а с другой — очень ярко выдают желание скрыть враждебность к покойнику, которая теперь мотивируется как самозащита. Некоторую часть табу мы научились понимать как страх перед искушением. Покойник беззащитен и это поощряет стремление удовлетворить на нем враждебные страсти. И против этого искушения должно быть выдвинуто запрещение.
Но Вестермарк прав, когда он допускает, что у дикарей нет понимания различия между насильственной и естественной смертью. Для бессознательного мышления убитым является и тот, кто умер от болезни: его убили злостные желания (см. следующую главу «Анимизм, магия и всемогущество мысли»). Кто интересуется происхождением и значением сновидений о смерти любимых родственников (родителей, братьев, сестер), тот сможет констатировать полное сходство отношения к умершему у сновидца-ребенка и да-
376
3. Фрейд
каря — сходство, в основе которого лежит та же амбивалентность чувств.
Выше мы возражали против взгляда Вундта, усмотревшего сущность табу в страхе перед демонами, и тем не менее мы только что согласились с объяснением, которое сводит табу на мертвецов к страху перед душой покойника, превратившейся в демона. Это может казаться противоречием, но нам нетрудно будет устранить его. Хотя мы и допустили существование демонов, но не придавали им значения чего-то конечного и неразрешимого для психологии. Мы как бы разгадали этих демонов, распознав их, как проекции враждебных чувств к покойникам, сохранившихся у живых.
Согласно хорошо обоснованному нами предположению, двойственные к покойнику чувства — нежные и враждебные — стремятся проявиться при потере его и как печаль, и как удовлетворение. Между этими двумя противоположностями должен возникнуть конфликт. Одно из борющихся чувств — враждебность — полностью или в большей части остается бессознательным. Поэтому исходом конфликта не может быть вычитание одного чувства из другого и сознательное предпочтение чувства, оказавшегося в избытке, как бывает, например, когда прощаешь любимому человеку причиненное .им огорчение. Процесс изживается с помощью особого психического механизма, который в психоанализе обычно называют проекцией. Враждебность, о которой ничего не знаешь и также не хочешь знать впредь, переносится из внутреннего восприятия во внешний мир. При этом она снимается с самого себя и приписывается другим. Мы, оставшиеся в живых, не радуемся теперь тому, что избавились от покойника. Нет, мы оплакиваем его. Но теперь он странным образом превратился в злого демона, который испытал бы удовлетворение от нашего несчастия и старается принести нам смерть. Оставшиеся в живых должны теперь защищаться от злого врага. Они свободны от внутреннего гнета, но заменили его угрозой извне.
Нельзя отрицать, что этот процесс проекции, превращающий покойников в злостных врагов, оправдывается существующей на самом деле враждебностью, которая осталась о них в памяти и за которую их действительно можно упрекнуть. Мы имеем в виду их жестокость, властолюбие, несправедливость и все другое, что отравляет самые нежные отношения между людьми. Но дело обстоит не так просто, чтобы только этим моментом объяснить со
Тотем и табу
377
здание демонов путем проекции. Вина умерших составляет, несомненно, часть мотивов, объясняющих враждебность к ним оставшихся в живых. Но она не имела бы такого действия, если бы сама не повлекла за собой эту враждебность. Момент смерти, несомненно, весьма неподходящий повод, для того чтобы вспоминать все упреки, которые с основанием можно сделать покойным. Мы не можем отказаться от бессознательной враждебности как от постоянно действующего и двигающего мотива. Это враждебное душевное движение к самым близким и дорогим родственникам при их жизни не проявлялось, то есть сознание не открывалось ни непосредственно, ни каким-то заменяющим его проявлением. Но это стало уже невозможным после смерти одновременно и любимых, и ненавистных лиц. И конфликт обострился. Печаль, имеющая своим источником повышенную нежность, проявляет, с одной стороны, нетерпимость к скрытой враждебности, а с другой стороны, не может допустить, чтобы эта враждебность вызвала чувство удовлетворения. Таким образом, дело доходит до вытеснения бессознательной враждебности путем проекции и создания церемониала, в котором находит себе выражение страх наказания со стороны демонов. По истечении срока траура конфликт теряет остроту и табу умерших ослабляется или предается забвению.
4
Выяснив таким образом почву, на которой выросло чрезвычайно поучительное табу на общение с умершим, мы воспользуемся случаем, чтобы сделать несколько замечаний, не лишенных значения для понимания табу вообще.
Проекция бессознательной враждебности при назначении табу в отношении к покойникам представляет собой только один пример из целого ряда процессов, которым приходится приписать громаднейшее влияние на весь склад душевной жизни примитивного человека. В рассматриваемом случае проекция служит разрешению конфликта чувств. Такое же применение она находит при многих психических ситуациях, ведущих к неврозу. Но проекция создана не для отражения душевных переживаний; она имеет место и там, где нет конфликтов. Проекция внутренних восприятий вов
378
3. Фрейд
не является примитивным механизмом, которому, например, подчинено восприятие наших чувств. Следовательно, при нормальных условиях он принимает активное участие в формировании нашего образа внешнего мира. При условиях, еще не вполне выясненных, внутреннее восприятие аффективных и мыслительных процессов тоже, подобно восприятию чувств, проецируется вовне, участвуя в построении образа внешнего мира, хотя должно было бы оставаться в пределах интересов внутреннего мира. Генетически это может быть связано с тем, что функция внимания первоначально обращена не на внутренний мир, а на раздражения, исходящие из вне-шего мира. Из эндопсихических процессовлвоспринимаются только такие, которые сообщают о развитии удовольствия и отвращения (Lust — Unlust). Только развитие абстрактного языка мысли и соединение чувственных остатков словесных представлений с внутренними процессами постепенно сделали эти процессы доступными внутреннему восприятию. До этого примитивные люди создали картину внешнего мира путем проекции внутренних восприятий вовне. А теперь мы с окрепшим восприятием сознания должны обратно перевести эту картину на язык психологии.
Проекция собственных душевных движений на демонов составляет только часть системы, ставшей «миросозерцанием» примитивных народов. В следующей статье этого цикла мы познакомимся с ним, как с анимистическим. Нам тогда придется установить психологические признаки подобной системы и найти такие точки опоры в анализе тех систем, которые представляют неврозы. Пока мы скажем только то, что так называемая «вторичная переработка» содержания сновидений являет собой образец для всех этих систем. Не следует также забывать, что, начиная со стадии образования системы, каждый акт, ставший объектом суждения сознания, имеет двоякое происхождение — систематическое и реальное, но бессознательное1.
Вундт2 замечает, что «между влияниями, которые мифы повсюду приписывают демонам, сначала преобладают вредные. Поэто
1 Творения проекции примитивных народов родственны олицетворениям, при помощи которых поэт рисует борющиеся в нем противоположные влечения как отдельных индивидов.
2 «Миф и религия». II часть, с. 129.
Тотем и табу
379
му можно предположить, что вера народов в злых демонов, очевидно, древнее, чем вера в добрых». Вполне возможно, что понятие о демоне вообще возникло из имеющих такое большое значение отношений к мертвецам. Присущая этим отношениям амбивалентность проявилась в дальнейшем течении человеческого развития в том, что послужила началом для двух совершенно противоположных образований из одного и того же корня: с одной — боязни демонов и привидений, а с другой стороны — почитания предков1. Ничто не доказывает лучше, что под демонами всегда подразумеваются духи недавно умерших, как влияние траура на возникновение веры в демонов. Траур должен решить вполне определенную психическую задачу. Он должен убить у оставшихся в живых воспоминание о покойниках и связанные с ними ожидания. Когда эта работа совершена, боль успокаивается; вместе с нею проходят раскаяние и упреки, а потому также и страх перед демонами. Но те же духи, внушавшие сначала страх как демоны, приближаются к более дружелюбному отношению и становятся объектом обожания в качестве предков, к которым обращаются с просьбой о помощи.
Если рассмотреть, как с течением времени менялось отношение к покойникам у оставшихся в живых, то станет совершенно ясно, что амбивалентность этого отношения чрезвычайно ослабела. Теперь легко удается подавить все еще наблюдаемую бессознательную враждебность к покойникам, не нуждаясь для этого в особом душевном напряжении. Там, где прежде боролись друг с другом удовлетворенная ненависть и причиняющая страдание нежность, теперь возникает, как рубец, пиетет и требует: «De mortuis nil nisi bene»2. Только невротики омрачают печаль по поводу смерти дорогого лица припадками навязчивых
1 В психоанализе невротических лиц, страдавших в детстве страхом привидений, часто нетрудно бывает разоблачить, что за этими привидениями скрываются родители. По этому поводу сравни также сообщение Р. Haeberlin, озаглавленное «Sexualgespenster» (Sexual-probleme, Februar, 1912), в котором речь идет о другом лице, окрашенном в эротическое чувство, причем отец к тому времени уже умер.
2 «О мертвых (говори) хорошо или ничего (не говори)».
380
3. Фрейд
упреков, вскрывающих с помощью психоанализа их тайну старой амбивалентной констелляции чувств. Каким путем происходит это изменение, насколько причины его разделяются между конституциональными изменениями и реальным улучшением семейных отношений, об этом здесь распространяться не имеет смысла. Но этот пример мог бы вызвать предположение, что в душевных движениях примитивных народов приходится вообще допустить более высокую степень амбивалентности, чем та, какую мы наблюдаем у современного культурного человека. По мере увеличения этой амбивалентности постепенно исчезает табу, бывшее компромиссным симптомам амбивалентного конфликта. Относительно невротиков, которые вынуждены воспроизводить эту борьбу с вытекающим из нее табу, мы сказали бы, что они родились с архаической конституцией в виде атавистического остатка, для компенсации которого в пользу требований культуры они вынуждены делать такие невероятные душевные усилия.
Тут нам следует вспомнить сообщенные Вундтом сбивчивые в своей неясности данные о двояком значении слова табу: «святой и нечистый» (см. выше). Первоначально слово «табу» еще не имело значения святого и нечистого, а обозначало только демоническое, до чего нельзя дотрагиваться. Таким образом подчеркивался важный, общий обоим противоположным понятиям, признак. Однако такая сохранившаяся общность показывает, что между этими двумя областями освященного и нечистого первоначально имелось сходство, лишь позже уступившее место дифференциации.
В противоположность этому из наших рассуждений без труда вытекает, что слову «табу» с самого начала присуще упомянутое двойственное значение, что оно служит для обозначения определенной амбивалентности и всего выросшего на почве этой амбивалентности. «Табу» само по себе амбивалентное слово, И уже затем, думаем мы, из установленного смысла слова можно было бы понять то, что явилось результатом предварительного исследования, а именно, что табу есть результат амбивалентности чувств. Изучение древнейших языков показало нам, что когда-то было много таких слов, обозначавших противоположности в известном смысле, если и не совсем в одном и том же. То есть
Тотем и табу
381
такие слова были амбивалентны, как и слово «табу»1. Незначительные звуковые изменения в первоначальном слове, внутренне противоречивом по смыслу, послужили позже тому, чтобы придать обеим объединенным в нем противоположностям различное словесное выражение.
Слово «табу» постигла другая судьба. По мере уменьшения важности обозначаемой им амбивалентности из сокровищницы языка исчезло оно само или аналогичные ему слова. В дальнейшем изложении, надеюсь, мне удастся доказать вероятность того, что за судьбой этого понятия скрывается чувствительная историческая перемена. Сначала это слово было связано вполне с определенными человеческими отношениями, которым была свойственна большая амбивалентность чувств. Позже с этих отношений оно распространилось на другие, аналогичные.
Если мы не ошибаемся, то понимание табу проливает свет и на природу появления совести. Не расширяя понятия, можно говорить о совести в табу и о сознании вины перед табу в случае его нарушения. Совесть в табу представляет собой, вероятно, самую древнюю форму, с которой мы встречаемся в феномене табу. Ибо что такое совесть? Как показывает само название, совесть составляет то, что лучше всего известно2. В некоторых языках обозначение совести едва отличается от обозначения сознания.
Совесть представляет собой внутреннее восприятие недопустимости некоторых имеющихся у нас желаний. Но ударение ставится на том, что эта недопустимость не нуждается ни в каких доказательствах, что она сама по себе несомненна. Еще яснее это становится при сознании вины, восприятии внутреннего осуждения таких актов, в которых мы осуществили.определенные желания. Обоснование кажется тут лишним. Каждый, имеющий совесть, должен почувствовать справедливость осуждения, упрек за совершенный поступок. Такие же точно признаки характеризуют отношение дикарей к табу. Табу есть веление совести. Нарушение его влечет за собой ужасное чувство вины, в такой же
1 Сравни мой реферат о работе Абеля (вып. X библиот.).
2 Немецкое «Gewissen» (совесть) происходит от слова «wissen» (знать), а русское «совесть» — от «вед-ать».— Примеч. перев.
382
3. Фрейд
мере непонятное, в какой оно неизвестно по своему происхождению1.
Итак, и совесть, вероятно, возникает на почве амбивалентности чувств из определенных человеческих отношений, с которыми связана эта амбивалентность. Она напоминает о себе при условиях, создающих почву и для нарушения табу, и для появления невроза навязчивости. То есть тогда, когда один член внутренне противоречивой пары бессознателен и поддерживается в вытесненном состоянии из-за насильственного господства другого. С таким выводом согласуется многое из того, .что мы узнали из анализа неврозов.
Во-первых, в характере невротиков, страдающих навязчивостью, нередко проявляются черты преувеличенной совестливости, как симптом реакции против искушения, притаившегося в бессознательном. При усилении заболевания из этого симптома развивается высшая степень чувства вины. Действительно, можно утверждать, что если мы не сумеем открыть при неврозе навязчивости чувство вины, то у нас вообще нет надежды когда-либо ее узнать. Решить эту задачу удается для отдельного невротического индивида. Но и в отношении народов мы позволяем себе заключить, что эта задача тоже может быть решена.
Во-вторых, мы должны обратить внимание на то, что чувству вины присуще многое из природы страха. Без всяких опасений его можно описать, как «совестливый страх». А страх указывает на бессознательные источники. Из психологии неврозов нам известно, что если желания подвергаются вытеснению, их либидо превращается в страх. По этому поводу напомним, что и при чувстве вины кое-что остается неизвестным и неосознанным, а именно — мотивы осуждения. Этому неизвестному соответствует признак страха в чувстве вины.
Если табу выражается преимущественно в запрещениях, то простое соображение подсказывает нам мысль, что в основе его лежит положительное, чего-то желающее душевное движение.
1 Интересная параллель: сознание вины от нарушения табу ничуть не уменьшается, если нарушение совершено по неведению (см. примеры выше). Еще в греческом мифе об Эдипе с него не снимается вина за преступления, совершенные им против воли и по неведению.
Тотем и табу
383
Это само собой понятно и нет надобности в обширных доказательствах из аналогии с неврозами. Ибо не приходится запрещать то, чего никто не хочет делать. Но то, что категорически запрещается, должно быть предметом вожделения. Если это вполне понятное положение применить к нашим примитивным народам, то мы должны будем сделать вывод, что величайшее искушение для них составляет желание убивать своих королей и священнослужителей, совершать кровосмесительство, терзать умерших и т. п. Это едва ли вероятно. Но самое решительное возражение мы вызовем, применив.то же положение к случаям, когда, по нашему собственному мнению, яснее всего слышим голос совести. С непоколебимой уверенностью можем мы в таких случаях утверждать, что не испытываем ни малейшего искушения нарушить какое-либо из этих запрещений, например заповедь «не убий», и что нарушение ее вызывает в нас только чувство омерзения.
Если придать этому свидетельству нашей совести значение, на которое оно имеет право, то, с одной стороны, запрещение становится излишним — и как табу, и как запрещение нашей морали; с другой стороны, остается необъясненным факт существования совести и отпадает взаимосвязь между табу и неврозами. Таким образом, восстанавливается состояние нашего понимания, существующее и в настоящее время, без использования психоаналитической точки зрения для освещения этой проблемы.
Если же мы примем во внимание факты, установленные психоанализом по сновидениям здоровых людей, что искушение убить другого у нас и сильнее, и встречается чаще, чем мы подозревали, и оказывает психическое влияние даже тогда, когда не отражается в нашем сознании; если мы, далее, откроем в навязчивых предписаниях определенных невротиков меры предосторожности и наказание самого себя за усиленный импульс убивать; — тогда в наших глазах особенную ценность приобретет выдвинутое раньше положение: там, где имеется запрещение, должно скрываться желание. Мы должны будем допустить, что это желание убивать фактически существует в бессознательном, и что табу, как и запрещения морали, психологически, безусловно, не излишни. Они объясняются и оправдываются амбивалентной направленностью импульса убивать.
384
3. Фрейд
Одйн признак этого амбивалентного отношения особенно подчеркивается как фундаментальный. А именно тот, что положительное, душевное движение желания бессознательно открывает надежду на существование новых связей и на возможность объяснения. Психические процессы в бессознательном не совсем тождественны процессам, известным нам в нашей сознательной душевной жизни. Они пользуются некоторой замечательной свободой, которой лишены процессы осознанные. Бессознательный импульс не обязательно возникает непременно там, где мы находим его проявление. Он может исходить совсем из другого места, первоначально относиться к другим лицам и объектам и при содействии механизма сдвига (Verschiebung) появиться там, где мы и обращаем на него внимание. Далее. Бессознательные процессы не разрушаются и не поддаются исправлению в очень раннем времени, когда они закономерны. Но они могут перенестись в более позднее время и в отношения, при которых их проявление должно казаться странным. Все это только намеки, но детальный анализ этих положений показал бы их значение для понимания культурного развития.
В заключение этой работы сделаем замечание в качестве подготовки для дальнейших исследований. Если мы и придерживаемся взгляда, что, по существу, табу и запрещения морали — одинаковые категории, то все же не станем спорить, что между ними имеется психологическое различие. Только изменение в отношениях, лежащих в основе амбивалентностей обеих, может быть причиной того, что запрещение не существует более в форме табу.
До сих пор при аналитическом исследовании феноменов табу мы руководствовались доказанным сходством их с неврозом навязчивости. Но табу не невроз, а социальное явление. Поэтому на нас лежит обязанность указать на принципиальное отличие невроза от такого продукта культуры, как табу.
Я опять хочу избрать здесь исходной точкой только один факт. Примитивные народы боятся наказания за нарушение табу — боятся, по большей части, тяжелого заболевания или смерти. Такое наказание угрожает тому, кто провинился в нарушении. При неврозе навязчивости дело обстоит иначе. Если больной вынужден совершить нечто запрещенное ему, то он боится наказания
Тотем и табу
385
не самого себя, а другого лица, которое часто остается неопределенным, но с помощью анализа в этом лице легко узнается самый близкий больному и самый любимый им человек. Невротик ведет себя при этом как альтруист, а примитивный человек — как эгоист. Только когда нарушение табу само по себе осталось безнаказанным для преступившего его, тогда у дикарей просыпается коллективное чувство, что это преступление грозит неприятностями всем, и они спешат сами осуществить наказание. Нам нетрудно объяснить себе механизм этой солидарности. Здесь играет роль страх перед заразительным примером, перед искушением подражания, то есть перед способностью нарушений табу заражать других. Если кому-то удалось удовлетворить вытесненное желание, то и у других членов общества может зашевелиться такое же. И чтобы одолеть искушение, того, кому завидуют, следует лишить плодов его дерзости. Но наказание нередко дает возможность тем, кто его выполняет, совершить, со своей стороны, тот же греховный поступок под видом исправления вины. В этом состоит одно из основных положений человеческого уложения о наказаниях и оно исходит из предположения, безусловно верного, что сходные запрещенные душевные движения имеются и у преступника, и у мстящего ему общества.
Психоанализ подтверждает то, что обычно говорят благочестивые люди: все мы большие грешники. Как же объяснить неожиданное благородство больного неврозом, когда он боится не за себя, а только за любимого человека? Аналитическое исследование показывает, что это благородство не первично. Первоначально, то есть в начале заболевания, угроза наказания видится в отношении самого себя; в каждом случае опасаются за собственную жизнь. Лишь позже страх перед наказанием смертью переносится на другого, любимого человека. Процесс в некотором отношении сложный, но мы его вполне понимаем. В основе запрещения всегда лежит злобное душевное движение — желание смерти любимому лицу. Это желание вытесняется запрещением. Запрещение связывается с определенным действием, которое посредством сдаига заменяет враждебные намерения против любимого лица, а за выполнение этих намерений грозит наказанием смертью. Но процесс идет дальше и первоначальное желание смерти любимого человека заменяется страхом перед его
386
3. Фрейд
смертью. Если невроз оказывается, таким образом, нежно альтруистическим, то этим он только компенсирует лежащую в его основе противоположную направленность жестокого эгоизма. Если мы назовем социальными душевные движения, которые принимают во внимание другое лицо, но не избирают его сексуальным объектом, то в этом ослаблении социальных факторов мы можем видеть основную черту невроза, скрытую за сверхкомпенсацией.
Не останавливаясь на развитии этих социальных факторов душевных движений и их отношений с другими основными влияниями человека, постараемся на другом примере показать второй главный признак невроза. По формам своего проявления табу имеет самое большое сходство со страхом прикосновения у невротиков, с delire de toucher (белой горячкой). Но при этом неврозе дело всегда идет о запрещении сексуального прикосновения, а психоанализ показал, что влечения, которые при неврозе отклоняются от первичной своей цели и переносятся на другие, вообще имеют сексуальное происхождение. При табу запретное прикосновение имеет, очевидно, не только сексуальное, а скорее более общее значение нападения, овладения, завышение значительности собственной личности. Если запрещено прикасаться к вождю или к чему-то, что было с ним в соприкосновении, то этим сдерживается тот же самый импульс, который в другой раз может проявиться недоверчивым надзором за вождем, даже избиением его перед коронованием (см. выше). Таким образом, преобладание участия сексуальных влечений над социальными составляет характерный момент невроза. Но сами социальные влечения развились в особые комплексы от слияния эгоистических и эротических компонентов.
На этом одном примере сравнения табу с неврозом навязчивости уже можно видеть, каково отношение отдельных форм невроза к формам культурного развития и почему изучение психологии неврозов важно для понимания культурного развития.
Неврозы, с одной стороны, показывают резкое и глубокое сходство с большими социальными произведениями искусства, религии и философии; а с другой стороны, производят впечатление их искажения. С некоторой смелостью можно утверждать, что истерия представляет собой карикатуру на произведение искусства, невроз
Тотем и табу
387
навязчивости — карикатуру на религию, параноический бред — карикатурное искажение философской системы. Это отклонение в конечном результате объясняется тем, что неврозы представляют асоциальные образования. Они питаются средствами индивида и совершают то, что в обществе развилось благодаря коллективной работе. Анализ влечений при неврозах показывает, что решающее влияние при них имеют влечения сексуального происхождения, между тем как соответствующие образования культуры зиждутся на социальных влечениях, то есть на таких, которые произошли от слияния эгоистических и эротических компонентов. Сексуальная потребность не в состоянии таким же образом объединять людей, как требования, вытекающие из самосохранения. Сексуальное удовлетворение есть, прежде всего, частное дело индивида.
Генетически асоциальная природа невроза вытекает из его первоначального устремления из неудовлетворенной реальности в более приятный мир фантазии. В этом реальном мире, которого невротик избегает, господствует общество людей и созданные ими институты. Уход от реальности является одновременно и выходом из человеческого сообщества.
Ill
Анимизм, магия и всемогущество мысли
1
Неизбежным недостатком работ, которые к темам наук о духе пытаются применить психоаналитический подход, является то, что они дают читателю слишком мало. Поэтому они должны ограничиться тем, чтобы только носить характер стимулов. Они делают предложения специалистам, с тем чтобы те принимали их во внимание в своей работе. Этот недостаток особенно дает себя почувствовать в статье, трактующей о необъятности того, что называется анимизмом1.
Анимизмом, в узком значении слова, называется научная система представлений о душе, в широком смысле — о духовных существах вообще. Различают еще аниматизм — учение об одушевленности природы, кажущейся нам неодушевленною. Сюда же присоединяют анимализм и монизм. Название анимизм, применявшееся прежде к определенной философской системе, получило, по-видимому, свое настоящее значение благодаря Э.Б. Тайлору.2
1 Вынужденная сжатость материала заставляет отказаться также и от подробного указателя литературы. Вместо этого ограничусь ссылкой на известные произведения Герберта Спенсера, Дж.Дж. Фрейзера, А. Ланга, Э.Б. Тайлора и В. Вундта, у которых взяты все положения об анимизме и магии. Самостоятельность автора проявляется только в сделанном им выборе тем и взглядов.
2 Е.В. Tylor. «Primitive Culture», I. Bd., p. 425., 4AufL, 1903.— W. Wundt, Mythus und Religion II. Bd., p. 173, 1906.
Тотем и табу
389
Повод к выбору этого названия дало знакомство с крайне замечательным пониманием явлений природы и мира у известных нам примитивных народов — как исторических, так и живущих теперь. Они населяют мир огромным количеством духов, благосклонных к ним или недоброжелательных. Этим духам и демонам они приписывают причины происхождения явлений природы и полагают, что они одушевляют не только животных и растения, но и предметы мира, считающиеся неодушевленными. Третья и, может быть, самая важная часть этой примитивной «натурфилософии» кажется нам гораздо менее странной. Мы сами еще не так далеко ушли от нее, между тем как существование духов очень ограничили, и для объяснений явлений природы выдвинули гипотезу о безличных физических силах. Примитивные народы верят в подобное одушевление и людей. Каждый человек в отдельности имеет душу, которая может оставить свое обиталище и переселиться в тело другого. Души являются носителями душевной деятельности и до известной степени независимы от тел. Первоначально существовало представление, что души очень похожи на индивидов. И только в течение длительного развития они освободились от материальных признаков, достигнув высокой степени одухотворенности1.
Большинство авторов склонны допустить, что эти представления о душе составляют первоначальное ядро анимистической системы, что духи соответствуют только душам, ставшим самостоятельными, и что души животных, растений и предметов аналогичны душам людей.
Каким образом примитивные народы дошли до такого странного дуалистического миросозерцания, на котором зиждется эта анимистическая система? Полагают, что этот дуализм выработался из наблюдений за феноменом сна (и сновидения) и столь похожим на него феномен смерти, а подпитывался стремлением объяснить себе эти так живо интересующие каждого состояния. Прежде всего, проблема смерти стала, вероятно, исходным пунктом для зарождения этой теории. Для примитивного человека продолжение жизни — бессмертие — является чем-то само собой разумеющимся. Представление о смерти возникло позже и очень постепенно. Оно
1 W. Wundt, 1. с., р. IV, гл. Die Seelenvorstellungen.
390
3. Фрейд
и для нас является чем-то бессодержательным и невоплотимым в сознании. О том, насколько другие наблюдения и опыт участвовали в создании основных анимистических учений (например, сновидения, зеркальные отражения и т. п.),— об этом имели место очень оживленные дискуссии, которые, однако, не привели к определенному выводу1.
Если примитивный человек реагировал на феномены, возбуждающие его мысли, созданием представления о душе и перенес его на объекты внешнего мира, то поведение его считается при этом совершенно естественным и не загадочным. Принимая во внимание тот факт, что одинаковые анимистические представления одинаково появлялись у разных народов и в разные времена, Вундт полагает, что эти представления «являются необходимым психологическим продуктом мифотворческого сознания и примитивный анимизм может считаться духовным выражением естественного состояния человека, поскольку оно вообще доступно наблюдению»2. Оправдание оживления неодушевленного дано уже Юмом в его «Natural History of religion», где он пишет: «Всеобщей тенденцией человеческого рода является стремление понимать всякое существо как себе подобное и переносить на каждый объект такие качества, с которыми он сам хорошо знаком, поведение, которое понимает лучше всего»3.
Анимизм представляет собой философскую систему. Он дает не только объяснение отдельного феномена, но и возможность понять весь мир как единую совокупность исходя из одной точки зрения. Если соглашаться с авторами, то человечество создало три философские системы, три великих миросозерцания: анимистическое, религиозное и научное. Из них первым явилось анимистическое — может быть, самое последовательное и исчерпывающее, полностью объясняющее сущность мира. Это первое миросозерцание человечества представляет собой психологическую теорию. В наши намерения не входит показать, сколько из этого миросозерцания сохранилось в современной жизни — или в обесцененном виде в форме
1 Сравни, кроме Вундта, Г. Спенсера ориентирующую статью в Encyclopedia Britannica. 1911. (Анимизм, мифология и т.п.)
2L. с., р. 154.
3 Tylor. Примитивная культура, I том, 477.
Тотем и табу
391
суеверия, или в жизненном в качестве основы нашего языка, веры и философии.
Указывая на эти три последовательно развившихся миросозерцания, говорят, что сам анимизм — еще не религия, но содержит предпосылки, на которых в дальнейшем религия строится. Вполне очевидно также, что миф основан на анимистических предположениях. Однако подробности взаимоотношений между мифом и анимизмом кажутся в существенных пунктах невыясненными.
2
Наша психоаналитическая работа начнется с другого пункта. Невозможно предполагать, что люди чисто из спекулятивной любознательности дошли до создания своей первой мировой системы. Практическая необходимость овладеть миром должна была принимать участие в этих стараниях. Мы не удивляемся поэтому, когда узнаем, что рука об руку с анимистической системой идет еще что-то другое,— указание, как поступать, чтобы получить власть над людьми, животными, предметами или их душами. Это указание, известное под именем «колдовства и магии», С. Райнах1 называет стратегией анимизма; я предпочел бы с Хубертом и Маусом сравнить их с техникой2 анимизма.
Можно ли различать понятия колдовство и магия? Оказывается, это возможно. Если с некоторой вольностью пренебречь неточностями языка, тогда колдовство, по существу, означает искусство влиять на духов, обращаясь с ними так, как при таких же условиях поступают с людьми. То есть успокаивать их, примирять, проявлять готовность их запугать, лишая их могущества, подчинять их своей воле теми же средствами, которые оказались действенными по отношению к живым людям. Но магия — это нечто другое. Она, в сущности, игнорирует духов и пользуется особыми средствами, а не банальными психологическими методами. Нам нетрудно будет понять, что магия является первоначальной и более значительной частью анимистической техники, потому что среди средств, приме
1 Cultes, Mythes et Religions T. II. Introduction, p. XV, 1909.
2Annee Sociologique. VII Bd., 1904.
392
3. Фрейд
няемых в обращении с духами, имеются также и магические1. И магия находит себе применение также и в тех случаях, когда, как нам кажется, одухотворение природы не имеет места.
Магия может служить самым разнообразным целям: подлинять явления природы воле человека, защищать индивида от врагов и опасностей и дать ему силу вредить врагам. Принцип, из которого исходит магическое действие, или, вернее, принцип магии, до того очевиден, что признается всеми авторами. Короче всего можно его выразить, если не считаться с прилагаемой оценкой, словами Э.Б. Тайлора: «Ошибочное выдвигание идеального перед реальным». На двух группах магических действий мы проясним этот принцип.
Одна из самых распространенных магических процедур, имеющих целью навредить врагу, состоит в том, чтобы сделать его изображение из какого угодно материала. Сходство при этом большого значения не имеет, можно даже какой-нибудь предмет назвать его портретом. То, что делают в таких случаях с этим портретом, передается и на ненавистный оригинал, у которого может заболеть то же место на теле, где наносят рану на изображении. Такую же магическую технику можно использовать в благочестивых целях, а не для удовлетворения личной вражды, и таким образом прийти на помощь богам, против злых демонов. Цитирую по Фрейзеру2: «Каждую ночь, когда бог солнца Ра (в Древнем Египте) спускался к себе домой в пылающем небе заката, ему приходилось выдерживать жестокий бой с сонмом демонов, нападавших на него под предводительством его заклятого врага Амона. Всю ночь напролет он боролся с ними, и часто силы тьмы были достаточны для того, чтобы еще и днем посылать на голубое небо темные тучи, ослаблявшие его силу и умалявшие его свет. Чтобы прийти на помощь богу, в храме его в Фивах совершалась ежедневно следующая церемония: из воска делали изображение его врага Амона в образе отвратительного крокодила или длинной змеи и на нем зелеными чернилами писали имя демона. Завернув это изображение в оболочку из папируса, на которой делали такой же рисунок,
1 Если криком и шумом какого-нибудь духа прогоняют, то это пример воздействия чистого колдовства. Если его подчиняют, завладев его именем, то, значит, против него была пущена в ход магия.
2 The magic art, II., р. 67.
Тотем, и табу
393
эту фигуру окутывали черными волосами. Священнослужитель плевал на нее-, полосовал каменным ножом и бросал на землю. Затем он наступал на фигуру левой ногой и наконец сжигал ее в пламени, в котором горели определенные растения. После того как таким образом уничтожали Амона, то же самое проделывали со всеми демонами его свиты. Это богослужение, при котором произносили определенные молитвы, повторялось не только утром, днем и вечером, но и в любое время, делая промежутки, только когда бушевала буря, шел проливной дождь или черные тучи закрывали солнечный диск в небесах. Злые враги страдали от истязаний, которые совершались над их изображениями, как будто они делались над ними самими. Они обращались в бегство, и бог солнца, несомненно, торжествовал»1.
Из необозримого количества магических действий, имеющих такое же основание, я упомяну еще о даух, игравших всегда большую роль у примитивных народов и отчасти уцелевших в мифах и в культе народов более высокой ступени развития; а именно — о заклинаниях, вызывающих дождь и плодородие земли. Дождь призывали магическим путем, имитируя его, а также подражая облакам или грозе. Это как бы играли в дождь. Японские ainos, например, делают дождь таким образом: часть из них льет воду через большие сита, между тем как другая часть снаряжает большую миску парусами и веслами, как будто это судно, и волокут ее вокруг деревни и садов. Плодородие почвы обеспечивали себе и магическим путем — демонстрацией полового акта у людей. Так, в некоторых частях Явы (привожу один пример вместо бесконечного их числа), когда приближается время цветения риса, крестьянин и крестьянка отправляются ночью в поля, чтобы вызвать плодородье риса примером, который они ему подают2. А запрещенные инцестозные половые отношения вызывали, наоборот, опасения, что вырастут сорные травы или будет неурожай3.
1 Библейское запрещение делать изображение какого-нибудь живого существа, вероятно, возникло не из-за принципиального отрицания изобразительного искусства, а имело целью лишить орудия магию, осуждаемую еврейской религией. Frazer, 1. с., р. 87, примеч.
2 The magic art, II, р. 98.
3 Отзвуки этого имеются в «Царе Эдипе» Софокла.
394
3. Фрейд
Известные отрицательные магические предписания также можно присоединить к этой группе. Если часть жителей деревни даяков отправилась охотиться накабанов, то оставшиеся не смеют прикасаться руками ни к маслу, ни к воде, потому что в противном случае у охотников пальцу станут мягкими и добыча ускользнет из их рук1. Или если охотник gilyak преследует в лесу дичь, то его детям, оставшимся дома, запрещено делать рисунки на дереве или на песке. В противном случае следа в густом лесу могут так же запутаться, как линии на рисунке, и охотник не найдет дороги домой2.
В последних примерах магического действия, как и во многих других, расстояние не играет роли и телепатия принимается как нечто понятное. Поэтому нам не составит трудности понять особенности этой магии.
Не подлежит сомнению, что именно считается действительным во всех этих примерах. Это сходство между совершенным действием и ожидаемым происшествием. Фрейзер называет поэтому подобного рода магию имитативной или гомеопатической. Если мне хочется, чтобы шел дождь, то мне стоит только сделать что-нибудь такое, что похоже на дождь или напоминает дождь. В следующих фазах культурного развития вместо магических приемов вызывать дождь устраиваются молебственные шествия к божьему храму, где о дожде умоляют пребывающего там святого. Но затем отказываются и от этой религиозной технологии и стараются вызвать дождь какими-нибудь воздействиями на атмосферу.
В другой группе магических действий принцип сходства уже не принимается во внимание, но взамен его применяется другой, который станет легко понятным из следующих примеров.
Чтобы навредить врагу, можно прибегнуть к такому приему. Нужно заполучить его волосы, ногти, нечистоты или части его одежды и проделать над этими вещами что-нибудь враждебное. В таких случаях предполагается, что это то же самое, как если бы завладели самим человеком, так как все, что проделали над его вещами, обязательно случится с ним самим. Важную часть человека, по взглядам примитивных народов, составляет его имя. Следовательно, если кому-то известно имя лица или духа, такой человек приобретает некото
1 The magic art, I, p. 120.
2L. c„ p. 122.
Тотем и табу
395
рую власть над тем, кто носит это имя. Отсюда происходят интересные предписания и ограничения в употреблении имен (о них упоминалось в статье о табу). Сходство в этих примерах заменяется, очевидно, принадлежностью к одному и тому же субъекту.
Каннибализм примитивных народов имеет высшей своей мотивировкой нечто подобное. Считается, что пожирая части тела другого человека, каннибал усваивает и все те свойства, которыми тот обладал. Отсюда следуют предосторожности и ограничения в диете при исключительных условиях. Женщина во время беременности должна избегать есть мясо некоторых животных, потому что таким образом к ее ребенку могут перейти нежелательные черты тела или характера, например трусость. Для магического действия не имеет значения даже то обстоятельство, что связь уже прервана или что она вообще состояла только из однократного, хотя и значительного прикосновения. Например, можно проследить неизмененной на протяжении тысячелетий веру в магическую связь между оружием и нанесенной им раной. Если меланезийцу удается овладеть луком, из которого его ранили, то он постарается тщательно спрятать его в прохладном месте, чтобы таким образом предупредить воспаление раны. Если же лук остался в руках врага, тот его непременно повесит как можно ближе к огню, чтобы рана как следует воспалилась и горела. Плиний в своей «Естественной истории» (том XXVIII) советует тому, кто раскаивается в ранении, нанесенном другому, плюнуть на руку, причинившую ранение,— это немедленно облегчит боль раненому. Френсис Бэкон ссылается на общераспространенную веру, что смазывание оружия, причинившего рану, излечивает саму рану. Английские крестьяне еще и теперь поступают аналогично: порезавшись серпом, тщательно сохраняют этот инструмент в чистоте, чтобы рана не загноилась. В июне 1902 года, как сообщала местная английская газета, женщина по имени Matilda Henry в Norwich’e случайно напоролась пяткой на железный гвоздь. Не дав исследовать рану и даже не сняв чулка, она велела дочери смазать хорошо гвоздь маслом в ожидании, что тогда с ней ничего плохого не случится. Несколько дней спустя она умерла от столбняка1, — она применила не ту антисептику и не в том месте.
1 Frazer, The magic art, I, p. 201—203.
396
3. Фрейд
Примеры последней группы поясняют, что именно Фрейзер называет контагиозной магией в отличие от имитативной. Предполагается, что при ней действует уже не сходство, а связь в пространстве, соприкосновение, хотя бы даже воображаемое соприкосновение или воспоминание о том, что оно имело место. Но так как сходство и соприкосновение составляют два существенных принципа ассоциативных процессов, то объяснение всего безумства магических предписаний, как оказывается, действительно заключается во власти ассоциации идей. Отсюда ясно, как верна процитированная выше характеристика магии, данная Тайлором. Это ошибочное выдвигание идеального перед реальным. Или, как почти в тех же словах выразил Фрейзер, люди ошибаются, принимая ряд своих идей за ряд явлений природы. Поэтому они воображают, что власть, которую они имеют над мыслями (или им кажется, что они ее имеют), позволяет им чувствовать и проявлять соответствующую власть над вещами1.
Сначала покажется странным, что это понятное объяснение магии отвергается некоторыми авторами, как неудовлетворительное2. Но подумав кай следует, приходится согласиться с возражением, что ассоциативная теория магии объясняет только пути, которыми магия вдет, а не действительную ее сущность и особенно не то недоразумение, из-за которого она заменяет естественные законы психологическими. Ясно, что здесь недостает динамического момента. Но в то время как поиски этого момента вводят в заблуждение критиков учения Фрейзера, оказывается нетрудно дать удовлетворительное объяснение магии, если только развить и углубить его ассоциативную теорию.
Рассмотрим сначала более простой и вместе с тем значительный случай имитативной магии. По Фрейзеру, она может применяться одна, сама по себе, между тем как контагиозная магия обычно предполагает уже и имитативную. Мотивы, заставляющие прибегать к магии, — это желание человека. Нам стоит только допустить, что у примитивного человека имеется громадное дове
1 The magic art, 1, р. 420.
2 Сравни отдел Magie (М. W. Т.) в 11 издании «Encyclopedia Britannica».
Тотем и табу
397
рие к могуществу его желаний. В сущности все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет. Таким образом, первоначально подчеркивается только желание.
Относительно ребенка, находящегося в аналогичных психических условиях, но еще неспособного к моторным действиям, в другом месте мы высказали предположение, что он сначала удовлетворяет свои желания действительно галлюцинаторно, воссоздавая удовлетворяющую его ситуацию центрофугальны-ми возбуждениями органов своих чувств1. Для взрослого примитивного человека открывается другой путь. С его желанием связан моторный импульс — его воля, которой в будущем предстоит преобразить поверхность земли для удовлетворения его желаний. А человек пользуется своей волей для такого изображения удовлетворения, чтобы его можно было пережить так, как при моторной галлюцинации. Такое изображение удовлетворенного желания вполне сходно с игрой детей, которая заменяет у них чисто сенсорную технику удовлетворения. Но если игра и имитативное изображение достаточны для ребенка и примитивного человека, то они не явятся признаком скромности в нашем смысле или самоотречения от сознания реальной беспомощности. Они станут вполне понятным последствием переоценки собственного желания и зависящим от него воли и выбранных путей для его удовлетворения. Со временем психический акцент переносится от мотивов магических действий на их средства и на сами действия. Быть может, правильнее сказать, что эти средства показывают ему очевидную переоценку его собственных желаний. Кажется, что именно магическое действие, намерения которого совпадают с желанием, приводит к его исполнению. На ступени анимистического образа мыслей еще нет возможности объективно доказать истинное положение вещей. Но, несомненно, такая возможность появляется на более поздних ступенях, когда еще совершаются все подобные процедуры, но уже становится возможным психический феномен сомне
1 Положение о двух принципах психической деятельности «Основные психологические теории в психоанализе». Психологическая и психоаналитическая библиотека. Freud., вып. III.
398
3. Фрейд
ния как выражения склонности к вытеснению. Тогда люди соглашаются с тем, что заклинание духов ни к чему не приводит, если в этом не принимает участия вера, и что чудодейственная сила молитвы оказывается бессильной, если она не диктуется набожностью1.
Возможность контагиозной магии, основанной на ассоциациях по смежности, показывает нам, что с желания и воли психическая оценка распространяется на все психические акты, какие имеются в распоряжении воли. Создается общая переоценка душевных процессов, то есть такое отношение к миру, которое нам, при нашем понимании взаимоотношений между реальностью и мышлением, должно казаться такой переоценкой. Предметы отступают на задний план в сравнении с представлениями о них. То, что совершается над последними, должно произойти и с первыми. Отношения, существующие между представлениями, предполагаются и между предметами. Мышлению неизвестны расстояния и оно легко объединяет в один акт сознания все пространственно наиболее отдаленное и по времени наиболее различное. Поэтому и магический мир телепатически легко одолевает пространственные расстояния и относится как к современному к тому, что лишь когда-то имело связь. Отражение внутреннего мира закрывает в анимистическую эпоху настоящий мир, который, как нам кажется, мы познаем.
Впрочем, подчеркнем еще, что оба принципа ассоциации — сходство и смежность — совпадают в более общем единстве прикосновения. Ассоциации по смежности представляют собой прикосновение в прямом смысле, а ассоциации по сходству — в переносном. Еще непонятое нами тождество психического процесса находит себе выражение в употреблении того же слова для обоих видов связи. Тот же объем понятия прикосновения наметился при анализе табу2.
Резюмируя, мы можем сказать: принцип, господствующий в магии, в технике анимистического образа мыслей состоит во «всемогуществе мыслей».
1 Король в «Гамлете» (III — 4): «Мои слова взлетают, мысли же остаются внизу; но слова без мыслей никогда не дойдут до неба».
2 Сравни предыдущие статьи этого цикла.
Тотем и табу
399
3
Название «всемогущество мыслей» я позаимствовал у высоко интеллигентного, страдающего навязчивыми представлениями больного, который по выздоровлении после психоаналитического лечения получил возможность доказать свои способности и свой ум1. Он избрал это слово для обозначения всех тех странных и жутких процессов, которые мучили его, как и всех, страдающих такой же болезнью. Стоило ему подумать о ком-нибудь, и он встречал это лицо, как будто вызвал его заклинанием. Стоило ему не подумав справиться о том, как поживает какой-нибудь знакомый, которого он давно не видел, как ему отвечали, что тот умер, и у него появлялось предположение, что это покойник дал о себе знать путем телепатии. Стоило ему произвести даже не совсем всерьез проклятие по адресу какого-нибудь постороннего лица, как у него появлялись опасения, что тот вскоре после этого умрет и на него падет ответственность за эту смерть. В течение периода лечения он сам был в состоянии рассказать мне, каким образом возникала в большинстве этих случаев обманчивая видимость совпадений и все, что он привносил в действительность, чтобы укрепиться в своих суеверных предположениях2. Все больные, страдающие навязчивостью, отличаются такого же рода суеверием, большей частью несмотря на понимание его нелепости.
Всемогущество мыслей яснее всего проявляется при неврозе навязчивости. Результаты такого примитивного образа мыслей здесь ближе всего сознанию. Но мы не должны видеть здесь исключительный признак именно этого невроза, так как аналитическое исследование открывает то же самое и при других неврозах. При всех них для образования симптома решающим является реальность не переживания, а мышления. Невротики живут в осо
1 Замечание по поводу.случая невроза навязчивости «Jahrbuch f. Psychol, und Psychopath. Forsch.», В. I., 1909.
2 Представляется вероятным, что мы признаем «жуткими» такие впечатления, которые вообще подтверждают всемогущество мыслей и анимистический образ мыслей, в то время как в нашем сознательном суждении мы от этого отошли.
400
3. Фрейд
бом мире, в котором, как я это формулировал в другом месте, имеет значение только «невротическая оценка». То есть на них оказывает действие только такое, что составляет предмет интенсивной мысли и аффективного представления, а сходство с внешней реальностью является чем-то второстепенным. Истерик повторяет в своих припадках и фиксирует в своих симптомах переживания, имевшие место только в его фантазии, хотя в конечном счете эти фантазии сводятся к реальным событиям или построены на них. Точно так же и чувство вины невротиков нельзя было бы понять, если бы его стали объяснять реальными преступлениями. Невротика, страдающего навязчивостью, может мучить сознание вины, какое было бы под стать убийце-рецидивисту; при этом он с самого детства может относиться к окружающим его людям с величайшей внимательностью и осторожностью. И тем не менее его чувство вины имеет основание. Оно появилось из-за интенсивных и частых желаний смерти, которые в нем шевелятся по отношению к его ближним. Оно имеет основание потому, что во внимание принимаются и бессознательные мысли, а не только преднамеренные поступки. Таким образом, всемогущество мыслей, слишком высокая оценка душевных процессов в сравнении с реальностью, как оказывается, имеет неограниченное влияние на аффективную жизнь невротика и на все вытекающие из нее последствия. Если же подвергнуть его психоаналитическому лечению, вводящему в его сознание бессознательное в нем, то он откажется верить, что мысли свободны. Он будет всякий раз опасаться высказывать злостные желания, как будто от произнесения их вслух они обязательно сбудутся. Но таким поведением, как и проявляемым в жизни суеверием, этот больной показывает нам, как близок он к дикарю, который старается только мыслями изменить внешний мир.
Первичные навязчивые мысли таких невротиков по природе своей, в сущности, носят магический характер. Если они не являются следствием колдовства, значит они противодействуют колдовству с целью предупредить возможную беду. С этого обычно и начинается нрвроз. Всякий раз, как мне удавалось проникнуть в его тайну, оказывалось, что это ожидаемое несчастье имеет своим содержанием смерть. Проблема смерти по Шопенгауэру стоит на пороге любой философии. Мы слышали, что образование представлений о душе и веры в демонов, которыми отличается анимизм,
Тотем и табу
401
объясняется впечатлением, какое производит на человека смерть. Трудно судить, насколько эти первые навязчивые или предохранительные действия развиваются по принципу сходства или контраста, потому что при условиях невроза они из-за сдвига обычно искажаются до чего-то крайне малого, до весьма незначительного действия1. И защитные формулы при навязчивости имеют свою параллель в формулах при колдовстве и магии. Историю развития навязчивых состояний можно, однако, описать, подчеркнув, что они начинаются, по возможности, для отвода мыслей от сексуального, как колдовство против злых желаний, и принимают окончательную форму в виде замены запрещенного сексуального действия, которому они, возможно, и подражают.
Соглашаясь с упомянутой выше историей развития человеческих миросозерцаний, где антимистическая фаза сменяется религиозной, а последняя — научной, нам нетрудно будет проследить взгляд на судьбу во всех этих фазах. В анимистической стадии человек сам себе приписывает это могущество. В религиозной он уступил его богам, но не совсем серьезно отказался от него, потому что сохранил за собой возможность управлять богами по своему желанию разнообразными способами воздействия. В научном миросозерцании нет больше места могуществу человека. Он признался в своей слабости и с самоотречением подчинился смерти, как и другим естественным процессам. В доверии к могуществу человеческого духа, считающегося с законами действительности, еще жива некоторая часть примитивной веры в это всемогущество.
При ретроспективном исследовании либидозных стремлений в отдельном человеке, начиная с их первых зачатков в детстве до форм в зрелом возрасте, выяснилось весьма важное различие, которое я изложил в «Трех статьях по сексуальной теории» в 1905 году. Проявление сексуальных влечений можно наблюдать с самого начала, но на первых порах они не направляются на внешний объект. Компоненты сексуальности стремятся каждый в отдельности к наслаждению и находят удовлетворение в собственном теле. Эта стадия называется стадией аутоэротизма и сменяется стадией выбора объекта.
1 Причина этого сдвига на самое незначительное действие выяснится в последующем изложении.
402
3. Фрейд
При дальнейшем исследовании оказалось целесообразным и даже необходимым между этими двумя стадиями ввести еще третью или, если угодно, разложить первую стадию аутоэротизма на две. В этой промежуточной стадии, значение которой все еще проясняется, при исследовании отдельные сначала проявления сексуального влечения уже слились в одно целое и нашли объект. Но этот объект не внешний, чуждый индивиду, а собственное, сформировавшееся к тому времени Я. Принимая во внимание патологические фиксации такого состояния, мы называем эту новую стадию нарциссизмом. Человек ведет себя так, будто он влюблен в самого себя; влечения «я» и либидозные желания еще нельзя отделить нашим анализом друг от друга.
Мы еще не имеем возможности дать вполне точную характеристику нарциссической стадии, в которой диссоциированные до того сексуальные влечения сливаются в одно целое и сосредоточиваются на Я как на объекте. Но все же начинаем понимать, что нарцисстическая организация уже никогда не исчезает полностью. В известной степени нарциссизм остается в человеке даже после того, как тот находит внешний объект для своего либидо. Такой объект представляет собой как бы эманацию оставшегося при Я либидо, и возможно обратное возвращение к нему. Столь замечательное в психологическом отношении состояние влюбленности, нормальный прообраз психозов, соответствует высшему состоянию этой эманации в сравнении с уровнем любви к Я-
Само собой напрашивается желание найти связь между нарциссизмом и высокой оценкой психических актов, замеченной нами у примитивных людей и невротиков. С нашей точки зрения, чрезмерную оценку следует рассматривать как существенную часть нарциссизма. Мы сказали бы, что у примитивного человека мышление еще в высокой степени имеет сексуальную направленность. А отсюда и вера во всемогущество мыслей, непоколебимая уверенность в возможности властвовать над миром и непонимание легко устанавливаемых фактов, показывающих человеку его настоящее положение в мире. У невротиков сохранилась, с одной стороны, значительная часть этой примитивной направленности в их конституции. С другой стороны, в связи с происшедшим сексуальным вытеснением у них вновь произошла сексуализация мыслительных процессов. Психические последствия должны быть в
Тотем и табу
403
обоих случаях одни и те же, как при первоначальном, так и при регрессивном сосредоточении либидозной энергии на мышлении: интеллектуальный нарциссизм, всемогущество мыслей1.
Если мы во всемогуществе мыслей в состоянии видеть доказательство наличия нарциссизма у примитивных народов, то можем решиться на смелую попытку провести параллель между ступенями развития человеческого миросозерцания и стадиями либвдозного развития отдельного индивида. Анимистическая фаза соответствует, в таком случае, нарциссизму; религиозная фаза — ступени любви к объекту, характеризуемой привязанностью к родителям. А научная фаза составляет полную параллель тому состоянию зрелости индивида, когда он отказался от принципа наслаждения и стал искать свой объект во внешнем мире, приспособляясь к реальности2.
Только в одной области нашей культуры сохранилось всемогущество мысли — области искусства. В искусстве еще бывает, что томимый желаниями человек находит себе игру и создает нечто удовлетворяющее его. Благодаря художественной иллюзии такая игра пробуждает аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное. Правду говорят о чарах искусства и художника сравнивают с чародеем. Но это сравнение, быть может, имеет большее значение, чем то, какое в него вкладывают. Искусство, несомненно, не началось, как 1’art pour 1’art. Первоначально оно служило тенденциям, большей частью уже заглохшим к настоящему времени. Между ними можно допустить и некоторые магические цели3.
1 В этом смысле для писателей, высказывавшихся об этом предмете, является аксиомой, что известного рода солипсизм или берклиа-низм (как его называет Sully, открывший его у ребенка), действующий у дикаря, не позволяет ему признать реальность смерти. Marett, Pre-animistic religion, Folklore. XI Bd., 1900, p. 178.
2 Отметим только, что первоначальный нарциссизм у ребенка имеет решающее значение для понимания развития его характера и исключает развитие у него примитивного чувства неполноценности.
3S. Reinach (L’art et la magie, в собрании Cultes, Mythes et Religions. I Bd., p. 126до 136) полагает, что примитивные художники, оставившие нам начертанные или нарисованные изображения ^животных в пещерах Франции, хотели йе «нравиться», а «заклинать». Этим он объясняет то обстоятельство, что эти рисунки находятся в самых
404
3. Фрейд
4
Первое миросозерцание, сложившееся у человека, анимистическое, было, следовательно, психологическим. Оно еще не нуждалось в научном обосновании, потому что наука началась только тогда, когда люди убедились, что не знают мира и потому должны искать пути познать его. Анимизм был для примитивного человека самым естественным и понятным миросозерцанием. Он знал положение вещей в мире, а именно, что оно таково, как чувствует себя сам человек. Мы, следовательно, готовы признать, что примитивный человек перенес во внешний мир структурное устройство собственной души1. С другой стороны, мы можем попытаться перенести на человеческую душу выводы анимизма о природе вещей.
Техника анимизма, магия, яснее всего и без всяких околичностей показывает нам намерения навязать реальным вещам законы душевной жизни. Причем духи еще не играют никакой роли, хотя и становятся объектами магического воздействия. Магия, составляющая ядро анимизма, первичнее и старше, чем учение о духах. Наш психоаналитический взгляд совпадает здесь с учением Р.Р. Марет-та, который предпосылает анимизму преанимистическую стадию, характер которой лучше всего обозначается именем аниматизм (учение о всеобщем одухотворении). Не много нового можно прибавить о преанимизме из наблюдений, так как еще-до сих пор не известен ни один народ, у которого не было бы представления о духах2.
темных и недоступных местах пещер и что на них нет изображений страшных хищных зверей. «Современные люди часто говорят, преувеличивая, о магии кисти или резца великого художника и вообще о магии искусства. В прямом смысле слова, означающем мистическое воздействие, оказываемое волей одного человека на волю других людей или на предметы, такое утверждение неприемлемо. Но мы видели, что когда-то оно считалось убедительным, по крайней мере, по мнению самих художников» (р. 1236).
1 Познанной,’благодаря так называемому эндопсихическому восприятию.
2 Pr. Marett. Pre-animistic religion, Folklore, XI, Bd. № 2, London, 1900. Сравни Wundt, Миф и религия, II том, с. 171.
Тотем и табу
405
В то время как магия сохранила еще полностью всемогущество мысли, анимизм уступил часть этого всемогущества духам и этим проложил путь к образованию религий. Что побудило примитивного человека проявить это первое ограничение? По-ви-димому, не сознание неправильности его предпосылок, потому что он сохранил магическую технику.
Духи и демоны, как указано в другом месте, представляют собой не что иное, как проекцию его чувств1. Объекты привязанностей своих аффектов он превращает в лиц, населяет ими мир и снова находит вне себя свои внутренние душевные процессы, совершенно так же, как остроумный параноик Шребер, который находил отражение своих привязанностей и освобождение своего либидо в судьбах, скомбинированных им «божественных лучей»2.
И здесь, как и в предыдущем случае, мы не станем останавливаться на вопросе о том, откуда вообще берется склонность провоцировать вовне душевные процессы. Но на одно предположение мы можем решиться. А именно, что эта склонность усиливается там, где проекция дает преимущества душевного облегчения. Такое преимущество с полной определенностью можно ожидать там, где различные стремящиеся ко всемогуществу душевные движения вступают друг с другом в конфликт. Вполне очевидно, что не все они могут достичь всемогущества. Болезненный процесс паранойи фактически пользуется механизмом проекции, чтобы освободиться от подобных конфликтов, разыгравшихся в душевной жизни. Примером такого состояния является конфликт между двумя членами пары противоположностей, случай амбивалентной направленности, который мы подробно проанализировали при разборе положения человека, оплакивающего смерть любимого родственника. Подобный случай кажется нам особенно подходящим, для того чтобы мотивировать со
1 Мы допускаем, что в отношении объектов в этой ранней нарцис-сической стадии еще безраздельно соединены проявления психической энергии из либвдозных и других источников возбуждения.
2 Schreber. Denkwiirdigkeiten eines Nervenkranken. 1903. Freud. Psy-choanalytische Bemerkungen йЬег einen autobiographischbeschriebenen Fall von Paranoia, Jahr. f. psychoan. Forsch., B. 111,1911.
406
3. Фрейд
здание образований проекции. Здесь мы опять сталкиваемся с мнениями авторов, которые считают злых духов первородными среди духов вообще и приписывают возникновение представления о душе впечатлениям, производимым смертью на оставшихся в живых. Мы только тем от них отличаемся, что не выдвигаем на первый план интеллектуальную проблему, которую смерть ставит перед оставшимися в живых. Вместо этого мы перемещаем силу, побуждающую к размышлениям, в область того конфликта чувств, в который оставшиеся в живых попадают в таком положении.
Первое теоретическое произведение человека, создание духов, возникло из того же источника, что и первые нравственные ограничения, которым он подчиняется,— из предписаний табу. Однако одинаковое происхождение не означает одновременности их появления. Если действительно положение оставшегося в живых по отношению к покойнику впервые заставило задуматься примитивного человека, заставило его отказаться от части своего могущества в пользу духов и принести в жертву долю свободного произвола своих поступков, то эти культурные творения являются первым признанием Луау%т], противящейся человеческому нарциссизму. Примитивный человек склонился перед всемогуществом смерти с тем же жестом, с каким он как бы отрицал ее.
Если у нас хватит мужества использовать наши предположения, то мы можем спросить, какая существенная часть нашей психологической структуры находит свое отражение и возрождение в создании духов и душ путем проекции. Трудно оспаривать, что примитивное представление о душе, как ни далеко оно от более поздних нематериалистических взглядов на душу, все же в существенном с ними совпадает. То есть оно рассматривает лицо или вещь как нечто дуалистическое, между обеими составными частями которого распределены известные свойства и изменения целого. Этот первоначальный дуализм, по выражению Спенсера1, уже идентичен с дуализмом, который проявляется в обычйом для нас разделении на дух и тело и неоспоримое словесное выражение которого мы встречаем, например, в
1 «Принципы социологии», Т. I.
Тотем и табу
407
описании человека, находящегося в обморочном или буйном состоянии,— «он вне себя».
То, что мы таким образом, совсем как примитивный человек, проецируем во внешнюю реальность, не может быть ничем другим, как осознанием такого состояния, когда предмет воспринимается чувством и сознанием,— он существует. Но наряду с этим сознанием имеется еще другое, в котором предмет находится в латентном состоянии, но может снова проявиться. Другими словами, во внешнюю реальность проецируются одновременное существование восприятия и воспоминания; или, говоря проще,— существование бессознательных душевных процессов наряду с сознательными. Можно было бы сказать, что дух лица или предмета сводится в конечном анализе к способности их быть объектом воспоминания или представления тогда, когда они недоступны восприятию.
Разумеется, не приходится ждать, что как примитивное, так и современное представление о душе сохранит ту же демаркационную линию, которую наша современная наука проводит между сознательной и бессознательной душевной деятельностью. Анимистическая душа соединяет в себе и те, и другие свойства. Ее призрачность и подвижность, способность оставлять тело и завладевать временно или навсегда другим телом — все это признаки, несомненно, напоминающие сущность сознания. Но способ, каким она скрывается за проявлением личности, напоминает бессознательное. Неизменчивость и неразрушимость мы приписываем теперь не сознательным, а бессознательным процессам, и их мы считаем настоящими носителями душевной деятельности.
Мы уже сказали, что анимизм представляет собой систему мышления, первую цельную теорию мира. Теперь же попробуем сделать некоторые заключения из психоаналитического понимания такой системы. Каждодневный опыт постоянно подтверждает нам главные особенности «системы». Мы ночью видим сны и научились днем толковать их. Сон может, не отрицая своей природы, казаться спутанным и бессвязным. Но он может также, напротив, подражать порядку пережитых впечатлений, выводить одно событие из другого и часть своего содержания поставить в связь с другой частью. Это как будто ему удаётся в
408
3. Фрейд
большей или меньшей степени, но почти всегда не настолько хорошо, чтобы не проявились абсурдность и разрыв в общем сплетении. Если мы станем толковать сновидение, то узнаем, что непостоянное и неравномерное распределение его частей довольно безразличны для его понимания. Самым существенным в сновидении являются мысли, имеющие определенный смысл, связь и порядок. Но их порядок совсем не тот, который мы запомнили по сновидению. Связь мыслей в нем нарушена и может вообще совсем исчезнуть, или ее может заменить новая связь в содержании сновидения. Почти всегда, кроме сгущения элементов сновидения, имеет место их перераспределение, более или менее независимое от прежнего порядка. Короче говоря, содержание, полученное из мыслей сновидения, подверглось новому воздействию, так называемой «вторичной переработке». Цель ее — обработать увиденные в сновидении бессвязность и невразумительность, чтобы добиться нового смысла. Этот новый, достигнутый вторичной переработкой смысл, уже не есть смысл содержания сновидения.
Вторичная переработка продукта работы сновидений представляет собой прекрасный пример сущности и целей системы. Интеллектуальная наша функция требует единства связи во всяком материале восприятия и мышления, которым она овладевает. И она не останавливается перед тем, чтобы создать неправильную связь, если в силу особых обстоятельств не может понять правильную. Такое образование системы известно нам не только в сновидениях, но и в фобиях, навязчивых мыслях и при некоторых формах бреда. При бредовых заболеваниях (паранойе) больше всего бросается в глаза образование такой системы. Она преобладает во время всей картины болезни. Но ее нельзя не замечать и в других формах невропсихозов. Во всех случаях мы можем тогда доказать, что произошло перераспределение психического материала в соответствии с новой целью. Часто это перераспределение довольно насильственно, если даже и понятно с точки зрения системы. Лучшим признаком образования системы является то, что любой ее результат допускает по меньшей мере две мотивировки: одну, исходящую из предпосылок системы, то есть возможно, и бредовую; другую — скрытую, которую мы должны признать как действительную, реальную.
Тотем и табу
409
Для пояснения приведу пример из области невроза. В статье о табу я упомянул об одной больной, навязчивые запреты которой имели большое сходство с табу маори. Невроз этой женщины был направлен на ее мужа. Вершину невроза составляло отрицание ее бессознательного желания смерти мужу. Ее явная систематическая фобия относилась, однако, вообще к упоминанию о смерти, причем муж совершенно исключался и никогда не бывал предметом сознательной озабоченности. Однажды она услышала, как муж дал поручение отнести в определенную лавку и наточить его притупившуюся бритву. Побуждаемая странным беспокойством, она сама отправилась в эту лавку и по возвращении из нее потребовала от мужа, чтобы он навсегда оставил эту бритву, так как она открыла, что рядом с лавкой находится склад гробов, траурных принадлежностей и т. п. Здесь из-за упоминавшегося намерения бритва мужа образовала неразрывную связь с ее мыслями о смерти. Такова систематическая мотивировка запрещения. Можно быть уверенным, что и не открыв такого соседства, больная все равно вернулась бы домой с запрещением употреблять бритву, потому что ей для этого было бы вполне достаточно и других поводов: всретить на пути в лавку катафалк, какого-нибудь человека в траурной одежде или женщину с погребальным венком. Сеть условий была раскинута достаточно широко, чтобы в любом случае поймать добычу. От нее только зависело, воспользоваться этой добычей или нет. С несомненностью можно было установить, что в других случаях она не давала хода поводам для запрещения. В таких случаях ее близкие говорили, что сегодня хороший день. Настоящей причиной запрещения пользоваться бритвой, как легко угадать, было ее противодействие окрашенному в приятное чувству, что ее муж может перерезать себе горло наточенной бритвой.
Таким же образом совершенствуется и развивается в деталях задержка в хождении, абазия и агорафобия, если их симптомам удалось развиться и заместить какое-нибудь бессознательное желание и одновременно отрицать его. Все бессознательные фантазии и активные воспоминания, еще оставшиеся у больного, бросаются в этот открывшийся выход, чтобы получить симптоматическое выражение, и укладываются в соответствующей перегруппировке в рамках абазии. Все старания понять симптома
410
3. Фрейд
тическое строение и детали агорафобии, исходя из ее основных предпосылок, были бы напрасны и, в сущности, нелепы. Вся последовательность и строгость связей только кажущаяся. Более глубокое наблюдение, как и при изучении «фасада» сновидения, может открыть поразительную непоследовательность и произвол в образовании симптомов. Детали такой систематической фобии заимствуют свои реальные мотивы у скрытых детерминантов, которые могут не иметь ничего общего с задержками в хождении. Поэтому формирование такой фобии у разных лиц может проходить очень разнообразно и противоречиво.
Возвращаясь к интересующей нас системе анимизма, мы, на основании наших взглядов на другие психологические системы, приходим к выводу, что объяснение отдельного обычая или предписания у примитивных народов суеверием не должно быть единственной и настоящей мотивировкой и не освобождает нас от обязанности искать его скрытые мотивы. При господстве анимистической системы может быть только так, что всякое предписание и всякое действие имеют систематическое основание, называемое нами теперь суеверие. И «суеверие», и «страх», и «сновидение» представляют собой одно из тех временных понятий, которые не устояли под напором психоаналитического исследования. Нужно раскрыть действительное знание, которое скрывается за этими прикрывающими, как ширмы, конструкциями. И тогда окажется, что душевная жизнь и культурный уровень дикарей до сих пор оценивались ниже, чем они того заслуживают.
Если рассматривать вытеснение влечений как мерило достигнутого культурного уровня, то приходится согласиться, что и в период господства анимистической системы имели место успехи и прогресс, которые совершенно несправедливо недооценивают из-за их суеверной мотивировки. Когда мы слышим, что воины дикого племени возлагают на себя величайшее целомудрие и чистоту, отправляясь в военный поход, то у нас напрашивается объяснение, что они удаляют свои отбросы, чтобы враг не овладел этой частью их личности с целью повредить им магическим путем. И по поводу их воздержания нам следует допустить аналогичную суеверную мотивировку. Тем не менее факт отказа от удовлетворения влечения несомненен. Он ста
Тотем и табу
411
новится нам понятнее, если мы допустим, что дикий воин возлагает на себя такие ограничения для равновесия, потому что намерен в полной мере позволить себе удовлетворение жестоких и враждебных душевных движений, обычно запрещенное. То же относится и к многочисленным случаям сексуальных ограничений на время тяжелых и ответственных работ. Пусть для объяснения этих запрещений ссылаются на магические зависимости. Все же совершенно очевидным остается основное представление, что отказ от удовлетворения влечений помогает приобрести большую силу, нельзя также пренебречь и гигиенической пользой запрещения, кроме магической рационализации его. Если мужчины дикого племени отправляются на охоту, рыбную ловлю, на войну, на сбор ценных растений, то оставшиеся дома женщины подчиняются многочисленным угнетающим ограничениям, которым сами дикари приписывают действующее на расстоянии симпатическое влияние на успех экспедиции. Но не нужно много догадливости для понимания того, что таким действующим на расстоянии моментом являются мысли о доме, тоска отсутствующих. А за маской запретов скрывается верный психологический взгляд, что мужчины только тогда проявят максимум своего умения, если будут спокойны за судьбу оставшихся без призора жен. В других случаях так прямо, без всякой магической мотивировки, и заявляется, что супружеская неверность жен повлечет за собой неудачу в делах отсутствующего мужа.
Бесчисленные предписания табу, которым подчиняются женщины дикарей во время менструации, мотивируются суеверным страхом крови и, вероятно, действительно этим объясняются. Но было бы ошибкой не считаться с возможностью, что в данном случае страх крови служит также эстетическим и гигиеническим целям, которые должны во всех случаях драпироваться в магическую мотивировку.
Мы не скрываем от себя, что подобными объяснениями рискуем вызвать упрек, что приписываем современным дикарям утонченность душевной организации, далеко превосходящую действительность. Однако я думаю, что с психологией этих народов, оставшихся на анимистической ступени, дело может обстоять так же, как с душевной жизнью ребенка, которую мы, взрослые, уже
412 3. Фрейд
не понимаем и богатство и утонченность которой поэтому недооцениваем.
Я хочу напомнить еще об одной группе не объясненных до сих пор предписаний табу, потому что они допускают хорошо знакомое психоаналитику объяснение. У многих диких народов существует запрещение при различных обстоятельствах иметь в доме острое оружие и режущие инструменты. Фрейзер указывает на суеверие немцев, не позволяющее класть нож заточенной стороной вверх: бог и ангелы могут им поранить себя. Нельзя ли в этом табу узнать отголосок известных «симптоматических действий», для выполнения которых в случае бессознательных злостных душевных движений может быть пущено в ход острое оружие?
IV
Инфантильное возвращение тотема
Нечего опасаться, что психоанализ, впервые открыв постоянное многократное детерминирование психических актов и образований, попытается утверждать, что нечто столь сложное, как религия, имеет только одно происхождение. Если он по необходимости и, собственно говоря, из обязательной для него односторонности настаивает на признании только одного источника- этого института, то он так же мало настаивает на исключительности этого источника, как и на том, что ему принадлежит первое место в совокупности действующих моментов. Только синтез из различных областей исследования поможет решить, какое относительное значение нужно уделить описываемому здесь механизму в происхождении религии. Но такая работа превосходит и средства, и намерения психоаналитика.
1
В первой статье этого цикла мы познакомились с понятием тотемизма. Мы слышали, что тотемизм представляет собой систему, заменяющую у некоторых примитивных народов Австралии, Африки и Америки религию и образующую основу социальной организации. Мы знаем, что шотландец Мак-Леннон в 1869 году привлек всеобщий интерес к феномену тотемизма, к которому до того относились как к курьезу. Он высказал предположение, что большое число обычаев и нравов в различных древних и современных обществах нужно понимать как остатки тотемистической эпохи. С тех пор науки в полном объеме признали это значение тотемизма.
414
3. Фрейд
Как одно из последних мнений по этому вопросу, процитирую следующее место из «Элементов психологии народов» В. Вундта (1912). «Обобщая все это, мы приходим с большой вероятностью к заключению, что некогда тотемистическая культура везде составляла предварительную ступень дальнейшего развития и переходную ступень между состоянием примитивного человека и веком героев и богов».
Цели предлагаемой статьи побуждают нас глубже проникнуть в характер тотемизма. По причинам, которые станут ясны ниже, я предпочитаю здесь описание С. Райнаха, который в 1900 году сделал набросок следующего Code du totemisme в 12 параграфах, являющегося как бы катехизисом тотемистической религии1.
1. Нельзя ни убивать, ни есть определенных животных, но люда воспитывают отдельных животных этого рода и ухаживают за ними.
2. Случайно погибшее животное оплакивается и хоронится с такими же почестями, как соплеменник.
3. Иногда запрещение употреблять в пишу относится только к определенной части тела животного.
4. Если под давлением необходимости приходится убить животное, которое обычно нужно щадить, то перед ним надо извиниться, постараться ослабить нарушение табу убийства разнообразными искусственными приемами и оправданиями.
5. Если животное приносится в жертву по ритуалу, то его торжественно оплакивают.
6. В некоторых торжественных случаях, в религиозных церемониях надевают шкуры определенных животных. Там, где тотемизм еще сохранился, это шкуры животного-тотема.
7. Племена или отдельные лица называются именами животных, причем именно животных тотема.
8. Многие племена пользуются изображением животных как гербом и украшают им свое оружие. Мужчины рисуют изображение тотема на своем теле или татуируют его изображение на коже.
9. Если тотем принадлежит к страшным или опасным животным, то предполагается, что это животное щадит членов племени, названного его именем.
1 Revue Scientifique, Октябрь, 1900, напечатано в четырехтомном труде автора «Cultes, Mythes et Religions», 1909, T. I, p. 17, ff.
Тотем и табу
415
10. Животное-тотем охраняет и предупреждает об опасности лиц, принадлежащих к племени.
11. Животное-тотем возвещает своим поклонникам будущее и служит им вождем.
12. Члены племени одного тотема часто верят в то, что связаны с животным тотема узами общего происхождения.
Этот катехизис тотемистической религии можно вполне оценить, приняв во внимание, что Райнах внес сюда все признаки и пережитки, из которых можно заключить о существовавшей когда-то тотемистической системе. Особое отношение автора к проблеме проявляется в том, что он в то же время пренебрег существенными чертами тотемизма. Мы убедимся, что из двух основных положений тотемистического катехизиса он отодвинул один на задний план, а другой пропустил совсем.
Чтобы составить себе ясное представление о характере тотемизма, обратимся к автору, посвятившему теме четырехтомное сочинение, которое соединяет самое полное собрание относящихся сюда наблюдений с самым обстоятельным обсуждением затронутых проблем. Мы останемся обязанными Фрейзеру, автору «Totemism and Exogamy» (1910) за сообщенные им сведения, даже если психоаналитическое исследование приведет к результатам, далеко расходящимся с его выводами1.
1 Может быть, мы поступим правильно, если укажем читателю на трудности, с которыми приходится бороться при установлении фактов в этой области.
Прежде всего, не одни и те же лица и собирают наблюдения, и обрабатывают, и обсуждают их. Собирателями являются путешественники и миссионеры, а обрабатывают этот материал ученые, которые, может быть, никогда не видели объектов своего исследования. Понять дикарей нелегко. Не все наблюдатели понимают их язык. Нередко они должны были прибегать к помощи переводчиков или объясняться с расспрашиваемыми на вспомогательном языке — английском piggin. Дикари малообщительны в интимных вопросах своей культуры и откровенны только с такими чужестранцами, которые прожили среди них много лет. По различным мотивам (сравни Фрейзер «The beginnings of religion and totemism among the Australian aborigines», Forthnightly Review, 1905; T.
416
3. Фрейд
Тотем, писал Фрейзер в своей первой статье1, представляет собой материальный объект, которому дикарь выражает суеверное почтение. Он считает, будто между ним самим и каждом предметом такого рода имеются совершенно особые отношения. Связь между человеком и его тотемом двусторонняя. Тотем запугивает человека, а человек по-своему доказывает свое почтение тотему. Например тем, что не убивает его, если это животное, и не срывает, если это растение. Тотем отличается от фетиша тем, что состоит не из единственной вещи, а из целого рода. Обычно это какая-нибудь порода животных или растений, реже — определенный класс неодушевленных предметов, еще реже — искусственно сделанные веши.
Различают, по крайней мере, три рода тотемов:
1. Тотем племени. Его почитает все племя и он передается по наследству от одного поколения к другому.
2. Половой тотем. Ему подчинены все мужчины или все женщины племени, причем у тех и других тотемы разные.
3. Индивидуальный тотем. Его выбирает отдельный человек и он не переходит на его потомство.
and Et. I, р. 150) они часто дают ложные или непонятные сообщения. Нельзя забывать, что примитивные народы — не молодые народы, а в сущности такие же древние, как и цивилизованные. И нет никаких оснований полагать, что у них сохранились для нашего сведения первоначальные идеи и институты без всякого развития и искажения. Скорее несомненно, что у примитивных народов произошли глубокие перемены во всех направлениях. Поэтому никогда нельзя решить без колебания, где в их современном состоянии и мнениях сохранилось, подобно окаменелостям, их первозданное прошлое, а где оно искажено и изменено. Отсюда такое множество разногласий межпу авторами по вопросу о том, что приходится в особенностях примитивной культуры рассматривать как первичное, а что как более позднее, вторичное формирование. Выяснение первичного состояния остается, таким образом, всегда делом конструкции. Наконец, нелегко и вникнуть в образ мыслей примитивных народов. Мы так же не понимаем их, как и детей, и всегда склонны истолковывать их поступки и переживания соответственно нашим собственным психическим констелляциям.
1 «Totemism». Edinburgh, 1887 г. Напечатана в первом томе большого сочинения Т. and. Et.
Тотем и табу
417
Два последних вида тотема имеют значение, которое в сравнении с тотемом племени не приходится принимать во внимание. Если мы не ошибаемся, то это более позднее образование, имеющее небольшое значение для понимания сущности тотема.
Тотем племени (тотем клана) является предметом обожания мужчин и женщин, которые носят его имя и считаются между собой кровными родственниками — потомками общего предка. Они в отношениях друг с другом прочно связаны общими обязанностями и общей верой в своего тотема.
Тотемизм представляет собой одновременно и религиозную, и социальную системы. Его религиозная составляющая выражается почитанием и сокровенностью поклонения человека своему тотему, с социальной стороны — это обязательства членов клана по отношению друг к другу и к другим племенам. В более поздней истории тотемизма обе эти стороны проявляют склонность разойтись. Социальная система часто переживает религиозную. И наоборот, остатки тотемизма остаются в религии некоторых стран, где уже исчезли основанные на тотемизме социальные системы. При нашем нынешнем знании происхождения тотемизма мы не можем с уверенностью сказать, каким образом обе его составляющие первоначально были связаны друг с другом. Но в общем весьма вероятно, что они были нераздельны. Чем дальше проникаем мы в глубь истории, тем отчетливее наблюдаем, что члены племени считают себя принадлежащими к одному роду с их тотемом. Поэтому их отношение к тотему распространяется и на отношения к товарищам по племени.
В специальном описании тотемизма как религиозной системы Фрейзер подчеркивает, что члены одного племени называют себя племенем своего тотема и обычно считают себя обязанными ему своим происхождением. Из-за такой веры они не охотятся на животное, представляющее тотем, не убивают и не едят его. А если тотем не животное, они запрещают себе делать из него какие-то предметы. Запрещение убивать тотема не является его единственным табу. Иногда запрещается дотрагиваться или даже смотреть на него. Во многих случаях нельзя называть тотема его настоящим именем. Считается, что нарушение этих заповедей табу, защищающих тотем, наказывается тяжелым заболеванием или смертью1.
1 Сравни статью «О табу».
418
3. Фрейд
Иногда клан выхаживает и содержит отдельные экземпляры животного-тотема1.
Найденное мертвым животное-тотем оплакивают и хоронят, как члега клана. Если случалось убивать животное-тотем, то это происходило по специальному ритуалу, в который входили извинения и церемониал искупления.
Племя ждет от своего тотема защиты и милости. Если это опасное животное (хищный зверь, ядовитая змея), то предполагается, что оно не причинит страдания своему товарищу. А в тех случаях, когда это ожидание не оправдывалось, пострадавший изгонялся из племени. Проклятия, как полагает Фрейзер, считались первоначально божьим судом. Многие вопросы предоставлялись, таким образом, на решение тотема. Тотем помогает в болезнях, посылает племени знамения и предупреждения. Появление животного-тотема вблизи какого-нибудь дома часто считалось предупреждением о смерти. Тотем пришел забрать своего родственника2.
При различных значительных обстоятельствах член племени старается подчеркнуть свое родство с тотемом. Он придает себе наружное сходство с ним, надевает на себя шкуру животного-тотема, татуирует на своем теле его изображение и т. п. В торжественных случаях — при рождении, посвящении в мужчины, похоронах — это отождествление с тотемом воплощается в действия и слова. Танцы, для исполнения которых все члены племени одеваются в шкуры своего тотема и подражают его движениям, служат разнообразным магическим и религиозным целям. Наконец, бывают церемонии, при которых животное-тотем торжественно убивают3.
Социальная сторона тотемизма проявляется, прежде всего, строго соблюдаемыми запрещениями и многочисленными ограничениями. Члены клана тотема являются братьями и сестрами, они обязаны друг другу помогать и друг друга защищать. В случае убийства товарища по клану, совершенного чужим, все племя убийцы отвечает за кровавое преступление, а клан убитого солидарно
1 И теперь еще на лестнице в Капитолии в Риме живут в клетке волки, а в Берне, тоже в клетке,— медведи.
2 Как «белая женщина» в некоторых аристократических родах.
3 Смотри ниже соображения по поводу жертвоприношения.
Тотем и табу
419
выступает с требованием искупления за пролитую кровь. Узы тотема крепче, чем семейные узы. Они не совпадают. Тотем обычно наследуется от матери. Предполагаемое вначале наследование по отцу, может быть, вообще не имело места.
Соответствующие ограничения табу запрещают членам одного клана тотема вступать в брак друг с другом и вообще иметь друг с другом половые отношения. Это и есть знаменитая и загадочная экзогамия — один из пунктов тотема. Мы посвятили ей первую статью этого цикла и поэтому здесь только напоминаем, что она произошла из повышенного страха перед инцестом. Экзогамия понятна при групповых браках как защита против инцеста. Сначала она стремится к предупреждению инцеста в младших поколениях и только в своем дальнейшем развитии становится препятствием и для старших1. К этому описанию тотемизма Фрейзера, одному из самых ранних в литературе по этому предмету, я хочу прибавить несколько выборок из одного из последних обобщений. В появившихся в 1912 году «Элементах психологии народов» В. Вундт говорит: «Животное-тотем считается предком соответствующей группы. Слово «тотем» представляет собой, следовательно, с одной стороны, название группы, с другой — имя рода. В последнем смысле оно имеет одновременно и мифологическое значение. Все эти значения понятия сливаются друг с другом и некоторые из них растворяются в других. Поэтому в отдельных случаях тотемы остались лишь названием частей племени. Но в других случаях на первый план выступает информация о происхождении тотема или его значение с точки зрения культа... Понятие тотема оказывается решающим при изучении структуры племени и его организации. Эти нормы и закрепление их в вере и в чувствах позволяют первоначально рассматривать животное-тотем не только как название для группы членов племени. Очень часто это животное считалось родоначальником определенной группы племени. Поэтому такие животные-предки стали предметом культа... Кроме отработанных церемоний и церемониальных торжеств, этот культ первоначально выражался, прежде всего, в отношении к животному-тотему. При этом не только какой-то индивид животного, но и каждый представитель этого рода становится священ-
1 Смотри первую статью.
420
3. Фрейд
ным. Членам тотема запрещается, или разрешается только при известных условиях, есть мясо животного — символа тотема. Наряду с этим существует явление противоположного характера, когда при известных условиях проводится церемониал еда мяса тотема»...
Самой важной социальной стороной тотемистического расчленения является его связь с определенными нормами нравов, что регулирует отношения между группами. Среди этих норм на первом месте стоят брачные. Таким образом, подобное расчленение племени связано с важным явлением, зародившимся в тотемистическую эпоху,— с экзогамией.
Постараемся дать характеристику первоначального тотемизма, игнорируя все, что соответствует более поздним периодам — и развития, и упадка. Тогда проступают следующие существенные его черты. Первоначально тотемами были только животные и они считались предками отдельных племен. Тотем передавался по наследству только по женской линии. Запрещалось убивать или есть тотема (что для примитивных условий одно и то же). Представителям одного тотема было запрещено иметь друг с другом половые отношения1.
1 В соответствии с этим текстом находится вывод о тотемизме, который Фрейзер делает в своей второй работе на эту тему (The origin of Totemism, Fortnightly Review 1899). Таким образом, тотемизм обычно трактуется как примитивная система в двух областях жизни — в религиозной и в социальной. Как система религиозная, тотемизм представляет собой мистический союз дикаря с его тотемом. В социальной области он осмысливает и отношения, в которых находятся мужчина и женщина, принадлежащие к одному и тому же тотему, и отношения с представителями других тотемистических групп. Соответственно этим двум сторонам системы существуют и два суровых и согласованных между собой положения — каноны тотемизма. Первое правило запрещает человеку убивать или поедать животное или растение, представляющие его тотем. Второе правило запрещает ему жениться или жить с женщиной, принадлежащей к тому же тотему. Далее Фрейзер вводит нас в сущность спорных вопросов о тотемизме: связаны или совершенно независимы друг от друга эти две стороны тотемизма — религиозная и общественная. Это вопрос, на который отвечают по-разному.
Тотем и табу
421
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в «Code du totemism» («Кодекс тотемизма»), составленном Райнахом, совершенно отсутствует одно из главных табу — экзогамия, а о происхождении от животного-тотема упоминается лишь вскользь. Но я избрал описание Райнаха, очень заслуженного исследователя в этой области, чтобы подготовить читателя к разнообразию мнений среди авторов. Теперь мы ознакомимся с этими мнениями.
Все неоспоримей выглядит'убеждение в том, что тотемизм был обязательной фазой культурного развития всех народов. Поэтому все настоятельнее становится потребность понять его, осветить его скрытую сущность. Все загадочно в тотемизме. Самыми трудными моментами являются разгадка появления самой идеи происхождения от тотема, мотивировка экзогамии (или заменяющего ее табу ' на инцест) и взаимоотношения между обоими этими элементами, то есть между образованием тотема и запрещением инцеста. Толкование следует дать одновременно и с исторических, и с психологических позиций. Оно должно показать, при каких условиях развился этот своеобразный институт и каким душевным потребностям людей он служил.
Мои читатели, вероятно, будут удивлены, когда услышат, с каких различных точек зрения специалисты-исследователи пытались ответить на эти вопросы и как расходятся в этом отношении их мнения. Сомнению подлежит почти все, что можно было бы вообще утверждать относительно тотемизма и экзогамии; и вышеупомянутая картина, заимствованная из опубликованного Фрейзером в 1887 году сочинения, не может быть свободна от упрека в том, что она выражает совершенно произвольные предположения автора и оспаривается в настоящее время самим Фрейзером, неоднократно менявшим свои взгляды на предмет1.
1 Относительно такой перемены взглядов он написал следующую прекрасную фразу. «Я не так наивен, чтобы претендовать на окончательное заключение по этому трудно разрешимому вопросу. Много раз мне приходилось менять свои взгляды. И я готов изменить их снова в согласии с тем, что преподносит нам действительность. Беспристрастный исследователь не должен стесняться менять свое
422
3. Фрейд
Само собой напрашивается предположение, что скорее всего можно было бы постичь сущность тотемизма и экзогамии, если бы удалось приблизиться к знанию условий появления этих обоих институтов. Но при оценке положения вещей нельзя игнорировать замечания Эндрю Ланга, что и примитивные народы не сохранили этих первоначальных форм общественного строя и условий их возникновения. Поэтому мы вынуждены довольствоваться только гипотезами, чтобы ими восполнить пробелы в наблюдениях1.'Среди перечисленных попыток объяснения тотемизма некоторые, на взгляд психолога, заранее кажутся невысокого достоинства. Одни слишком рациональны и не принимают во внимание чувственного характера объясняемых явлений. Другие исходят из предположений, не подтверждаемых наблюдением. Третьи ссылаются на материал, который лучше поддается иному объяснению. Опровержение различных взглядов часто не представляет особых трудностей. Обычно авторы оказываются гораздо сильнее, когда критикуют друг друга, чем при изложении собственных взглядов. Non liquet2 — это результат большинства рассматриваемых мнений. Не приходится поэтому удивляться тому, что в новейшей литературе по предмету, здесь большей частью пропущенной, явно просматривается отказ от общего изучения проблемы тотемизма как от неперспективной. Например, Б. Гольденвайзер в J. of Am. Folklore XXIII, 1910 (реферат в Britannica Year Book 1913 г.). При изложении этих различных гипотез я позволил себе не придерживаться последовательности по времени.
мнение из боязни уподобиться хамелеону, цвет которого подстраивается к окраске той почвы, по которой он ступает».
Предисловие к I тому «Totemism and Exogamy». 1910.
1 «По своей сущности вопрос о происхождении тотемизма лежит далеко за пределами нашего исторического исследования или наблюдения и нам приходится довольствоваться при изучении этого вопроса одними предположениями». A. Lang. «Secret of the Totem», c. 27. «Мы нигде не можем увидеть абсолютно примитивного человека и процесса создания тотемистической системы», с. 29.
2 Не ясно.— лат.
Тотем, и табу
423
2
а) Происхождение тотемизма
Вопрос О'происхождении тотемизма можно формулировать и таким образом: что натолкнуло примитивных людей давать своим племенам названия животных, растений и неодушевленных предметов?1
Шотландец Мак-Леннан, открывший2 для науки тотемизм и экзогамию, воздержался от высказывания какого бы то ни было взгляда на происхождение тотемизма. По словам Э. Ланга, он склонен был некоторое время объяснять тотемизм обычаем делать татуировку3.
Опубликованные теории происхождения тотемизма я разбил бы на три группы: номиналистические, социологические, психологические.
Номиналистические теории
Изложение этих теорий оправдает объединение их под указанным мною заглавием.
Уже Гарсиласо де ла Вега, потомок перуанских инков, написавший в XVII веке историю своего народа, объяснил известные ему феномены тотемизма потребностью племен отличаться именами друг от друга4. Та же мысль возникла столетие спустя у этнолога Кина: тотемы произошли из «heraldic badges» (геральдических гербов), которые позволяли семьям и племенам отличаться друг от друга5.
Макс Мюллер высказал тот же взгляд на значение тотема в его «Contributions to the science of mythology»6. Тотем представ
1 Первоначально, вероятно, только животных.
• 2 «The Worship of Animals and Plasits», Fortnightly Review, 1869— 1870. «Primitive manage», 1865; обе работы отпечатаны в Studies in ancient History, 1876, 2ed, 1886.
3«The Secret of the Totem», 1905, p. 34.
4 По Э. Лангу. Secret of the Totem, p. 34.
3 Ibid.
6 По Э. Лангу.
424
3. Фрейд
ляет собой: 1) обозначение клана, 2) имя клана, 3) имя предка клана, 4) имя обожаемого кланом предмета. Позже Пиклер писал в 1899 г.: «Люди нуждаются в постоянном имени для сообществ и индивидов, которое может быть письменно зафиксировано... Таким образом, тотемизм происходит не из религиозной, а из расчетливой, повседневной потребности человечества. Ядро тотемизма, имя, является следствием примитивной техники письма. Характер тотема соответствует легко изображаемым письменным знакам. Но если дикари носили имя животного, это приводило их к мысли о родстве с этим животным»1.
Герберт Спенсер2 тоже придавал названиям решающее значение в происхождении тотемизма. Отдельные индивиды, говорит он, в силу своих особенностей, требовали, чтобы им давали название животных. Таким образом, они получили почетные названия или прозвища, которые переносились на их потомков. Из-за невежества народов и неопределенности примитивных языков эти названия понимались позднейшими поколениями как доказательства происхождения от самих этих животных. Таким образом, тотемизм превратился в непонятное обожание предков.
Аналогично рассуждает о происхождении тотемизма лорд Эве-бери (более известный под своим прежним именем Джон Лаббок), хотя и не подчеркивает недоразумения. «Если мы желаем объяснить причины почитания животных, то нам не следует забывать, как часто заимствуются у животных человеческие имена. У детей и потомков человека, которого назвали медведем или львом, это имя переходило в название племени. Отсюда и само животное приобретало определенное уважение и становилось объектом почитания».
Неопровержимое, как нам кажется, возражение против объяснения названия тотемов именами индивидов привел Файсон3, ссылаясь на господствующее положение вещей у австралийцев. Он показал, что тотем является всегда признаком группы людей и ни
1 Pikler и Somlo, Происхождение тотемизма 1901. Свое объяснение авторы с основанием называют: «Материалы к материалистической теории истории».
2 The origin of animal worship. Fortnightly Review. 1870. Principien der Soziologie Bd., 1., § 169 до 176.
3Kamilaroi and Kurmoi, p. 165, 1880 (по Лангу, Secret и т. д.).
Тотем и табу 425
когда не представлял отдельного человека. Если бы было иначе и тотем носил бы имя одного человека, то при господстве системы материнского наследования это имя никогда не могло быть перенесено на детей этого человека.
Впрочем, сообщенные до сих пор теории явно несостоятельны. Они еще как-то объясняют факт названия племен примитивных народов названиями животных, но никак не рассматривают значение самой тотемистической системы. Наибольшего внимания из этой группы заслуживает теория Э. Ланга, изложенная в его книгах «Social origins», 1903 г. и «The gecret of the totem», 1905 г. Хотя она тоже усматривает центр проблемы в названиях, но выдвигает два интересных психологических момента и, таким образом, претендует на окончательное решение загадки тотемизма.
Э. Ланг полагает, что безразлично, каким образом кланы сначала придумали названия животных. Допустим, однажды в них проснулось сознание, что они носят такие имена, но почему — этого они объяснить не могли. Происхождение этих имен забыто. Вероятно, люди пытались различными путями узнать это. Поскольку у них существовало убеждение, что эти имена имеют определенное значение, они постепенно выработали те же взгляды, на которых держится тотемистическая система. Для примитивных народов, как и для современных дикарей и даже для наших детей1, имена представляют собой не нечто безразличное и условное, как это кажется нам, а что-то значительное и важное. Имя человека — одна из главных составных частей его личности; быть может, часть его души. Одинаковое имя с животным вызывало у примитивных людей предположение о существовании таинственной связи между каждым из них и соответствующим животным. Какая же это могла быть связь, если не кровное родство? Но если такое родство допускали из-за одинакового имени, то из него вытекали многие тотемистические предписания, включая и экзогамию, как прямое следствие однокровного табу.
Появлению всех тотемистических верований и деяний, в том числе и экзогамии способствовали три вещи:
1. Группа имен животных неизвестного происхождения;
1 Сравни ст. «О табу».
426
3. Фрейд
2. Вера в высшую связь между всеми носителями одного и того же имени — людьми и животными; 3. вера в таинственное значение крови («The Secret of the Totem», c. 126).
Объяснения Ланга условно распадаются на два периода по времени. Одна часть его теории объясняет тотемистическую систему психологической необходимостью и опирается на название тотема, не вникая в историю происхождения этого названия. Другая часть теории старается выяснить само происхождение этих имен. Мы увидим, что она носит совсем другой характер.
Эта вторая часть теории, по существу, мало чем отличается от других, названных мною «номиналистическими». Практическая потребность как-то различать друг друга заставила отдельные племена иметь свои имена, и потому они соглашались с именами, которые давали им другие племена. Эта «naming from without» составляет особенность конструкции Ланга. Нет ничего удивительно в том, что получившиеся таким образом имена были заимствованы у животных и не могли казаться примитивным народам бранью или насмешкой. Впрочем, Ланг указал на случаи далеко не единичные из более поздних эпох истории, когда имена, данные другими сначала в насмешку, охотно принимались теми, кому их давали (гезы, виги и тори). Предположение, что история появления этих имен со временем была забыта, связывает эту вторую часть теории Ланга с изложенной раньше.
Социологические теории
С. Райнах, с успехом исследовавший остатки тотемистической системы в культе и нравах позднейших периодов, но с самого начала придававший мало значения моменту происхождения от животного тотема, в одном месте смело заявляет, что тотемизм кажется ему только «une hypertrophie de I’instinct social»1.
Тот же взгляд проходит через новый труд Э. Дюркгейма «Les formes elementaires de la vie religieuse. Le systeme totemique en Australie», 1912 г. Тотем является явным представителем «социальной» религии этих народов. Он олицетворяет общественность, являющуюся настоящим предметом почитания.
1 1. с. L, р. 41.
Тотем и табу
427
Другие авторы пытались более детально обосновать взгляд на влияние социальных пристрастий в образовании тотемистических институтов. Так, Хэддон предполагал, что первоначально каждое примитивное племя питалось особой породой животных или растений; может быть, вело торговлю пищевыми продуктами из них и использовало в обмене с другими племенами. Таким образом, со временем племя становилось известным другим племенам по названию животного, игравшего в его жизни такую важную роль. Одновременно у племени развивались особые чувства к этому животному и особый интерес к нему, вызванный, однако, сугубо психическим мотивом и самой прозаической потребностью утолять голод1.
Возражения против этой наиболее рациональной теории тотемизма из всех других указывают, что нигде не было найдено такой организации питания у примитивных народов и, вероятно, его никогда не было. Дикари всеядны и тем в большей степени, чем ниже они стоят по своему развитию. Далее. Трудно понять, что из такого, исключающего диету, питания могло развиться почти религиозное отношение к тотему, достигающее высшего выражения в абсолютном воздержании от любимой пищи.
Первая из трех теорий, высказанных Фрейзером о происхождении тотемизма, была психологической; она будет изложена в другом месте. Вторая теория Фрейзера, о которой предстоит здесь говорить, возникла под впечатлением опубликованных важных работ двух исследователей о туземцах центральной Австралии2.
Спенсер и Жиллен описали общественное устройство, ряд странных обычаев и взглядов одной группы племен — так называемой нации arunta. Фрейзер согласился с их мнением, что в особенностях жизни этой нации следует увидеть черты первичного состояния, которые помогут объяснить первоначальный и настоящий смысл тотемизма.
Вот особенности племени arunta (части нации arunta).
1 Adress to the Antropological Section, British Association, Belfast, 1902. По Фрейзеру I. c., t. IV, p. 50 и ff.
2 The native tribes of Central Australia, Baldwin Spencer’a и Gillen’a, London, 1891.
428
3. Фрейд
1. В нем существует расчленение на кланы тотема, но тотем передается не по наследству, а выбирается индивидуально (о том, как это происходит, будет сказано ниже).
2. Кланы тотема не экзогамны. Брачные ограничения накладываются с помощью высоко развитого расчленения на брачные классы, не имеющие ничего общего с тотемом.
3. Функция клана тотема состоит в выполнении церемониала, имеющего целью исключительно магическим путем способствовать размножению съедобного тотемистического объекта (этот церемониал называется intichiuma).
4. У arunta имеется своеобразная теория зачатия и воскресения. Они полагают, что в определенных местах их страны духи умерших членов одного и того же тотема ждут своего воскресения и проникают в тело женщин, проходящих мимо этих мест. Если рождается ребенок, то мать указывает, в каком обиталище духов, по ее мнению, она зачала ребенка. В соответствии с этим определяется тотем ребенка. Далее предполагается, что духи (умерших, как и воскресших) связаны своеобразными каменными амулетами (по имени Churinga), которые находятся в этих обиталищах.
По-видимому, два момента побудили Фрейзера поверить, что в общественном устройстве племени arunta открыты древнейшие формы тотемизма. Во-первых, существование различных мифов, утверждающих, что предки arunta всегда добывали питание своим тотемом и женились на женщинах только из своего тотема. Во-вторых, в их воззрениях на зачатие половой акт в расчет не принимается. На людей, которые еще не знают, что зачатие является следствием полового акта, можно смотреть, как на самых отсталых и примитивных представителей человеческого рода.
Основывая свое суждение о тотемизме на церемонии intichiuma, Фрейзер сразу увидел тотемистическую систему в изменившемся свете — как совершенно практическую организацию для удовлетворения естественных потребностей человека (сравни выше теорию Хэддона)1.
1 «Здесь ничего нет из того неясного и мистического, метафизически туманного, что некоторые авторы хотят приписать скромному началу человеческих размышлений, но что совершенно чуждо простому, чувственному и конкретному способу мышления дикарей». («Totemism and Exegamy», I, с. 117.)
Тотем и табу
429
Система оказалась просто грандиозной «cooperativ magic». Примитивные народы организовали, так сказать, магическое производственно-потребительское общество. Каждый клан тотема взял на себя задачу заботиться о достаточном количестве определенных пищевых продуктов. Если дело касалось несъедобного тотема, например, вредных животных, дождя, ветра и т. п., то перед кланом тотема ставилась задача добиться власти над этим проявлением природы и отразить его вред. Достижения каждого клана шли на пользу другим. Своего тотема каждый клан не мог есть совсем или только очень мало. Поэтому он добывал это ценное добро для других кланов, которые снабжали его тем, что они добывали в соответствии со своими социальными тотемистическими обязанностями. В свете этого понимания, основанного на церемонии intichiuma, Фрейзеру казалось, что запрещение употреблять в пищу тотема затмило и отодвинуло на задний план более важную сторону отношений, а именно — заповедь доставлять для потребления другим как можно больше своего съедобного тотема.
Фрейзер допускает, что у arunta согласно традиции первоначально каждый клан тотема без ограничения питался своим тотемом. Но когда возникло затруднение для понимания последующего развития, тогда клан стал довольствоваться тем, что обеспечивал других пищей из своего тотема, а сам отказывался от ее употребления.
Еще Фрейзер полагает, что это ограничение произошло вовсе не из-за религиозного уважения. Вероятно, это стало результатом наблюдений, что ни одно животное не пожирает себе подобных. Поэтому такое нарушение в отождествлении с тотемом повредило бы приобретению власти над ним. Возможно, это ограничение объясняется желанием приобрести благосклонность своего тотема, щадя представляющих его животных. Но Фрейзер1 не скрывал от себя уязвимости такого объяснения. Столь же мало рисковал он указывать, каким образом обычай заключать браки в пределах тотема, подтверждаемый мифами arunta, превратился в экзогамию.
Основанная на intichiuma теория Фрейзера зиждется всецело на признании примитивной природы института arunta. Но после
11. с., р. 20.
430
3. Фрейд
приведенных Дюркгеймом1 и Лангом2 возражений кажется невозможным настаивать на этом. Arunta, наоборот, по-видимому, дошли в своем развитии дальше всех австралийских племен и представляют, скорее, уже стадию распада тотемизма, чем начала его формирования. На Фрейзера большое впечатление произвели мифы, в которых, в противоположность существующим теперь институтам, разрешается употреблять в пишу тотема и заключать браки в пределах одного тотемного клана. Но эти мифы объясняются просто как фантазии, выражающие пожелание на будущее, но спроецированное на прошлое, подобно мифам о золотом веке.
Психологические теории
Первая психологическая теория Фрейзера, созданная еще до его знакомства с наблюдениями Спенсера и Жиллена, основывалась на вере во «внешнюю душу»3. Тотем должен был представлять собой верное убежище для души, куда она прячется, чтобы избежать угрожающих ей опасностей. Если примитивный человек прятал свою душу в свой тотем, то он становился неуязвимым и, разумеется, опасался причинять вред носителю своей души. Поскольку он не знал, какой именно экземпляр животного из породы тотема является носителем его души, то, вполне естественно, он щадил всю породу. Позже Фрейзер сам отказался от мысли объяснять происхождение тотемизма из веры в душу.
Познакомившись с наблюдениями Спенсера и Жиллена, он создал другую, изложенную раньше социологическую теорию тотемизма. Но впоследствии сам нашел, что доводы, которые он приводил для объяснения тотемизма, слишком «рациональны» и что он при этом предполагал существование социальной организации, слишком сложной, для того чтобы ее можно было назвать примитивной4. Магические кооперативные общества казались ему
1 L’annee sociologique, t. I, V, VIII и другие места. Особенно смотри статью: «Sur le totemisme», t. V, 1901.
2 Social Origins и Secret of the Totem.
3 The Golden Bough, II, p. 332.
4 «Кажется неправдоподобным, чтобы община дикарей могла мудро разделить царство природы на области, назначая в каждую область
Тотем и табу
431
теперь скорее поздними производными, чем зародышами тотемизма. Он искал более простой элемент, примитивное суеверие за этими образованиями, чтобы с его помощью объяснить зарождение тотемизма. Этот первоначальный момент он нашел в удивительной теории зачатия у arunta.
Как уже было сказано, arunta не связывают зачатие с половым актом. Если женщина становится матерью, это значит, что какой-то ждущий возрождения духов из ближайшего их обиталища проник в ее тело и родился в виде ребенка, который имеет тот же тотем, что и другие духи, приютившиеся в этом месте. Но эта теория зачатия не объясняет появление тотемизма. Она только обосновывает его существование. Но попробуем вернуться назад и допустить, что женщина сначала верила, будто животное, растение, камень или другой предмет, занимавший ее внимание в момент, когда она впервые почувствовала себя будущей матерью, действительно проник в нее и потом был рожден ею в человеческом виде. От такой веры матери идентичность человека с его тотемом действительно приобрела бы основание. А из этого логично вытекали бы и все заповеди тотема (за исключением экзогамии). Человек отказывался есть определенное животное или растение, потому что, таким образом, он как бы ел самого себя. Но когда у него все же появляется желание вкусить что-нибудь от своего тотема, он оформляет его исполнение особой церемонией. Этим он укрепляет, по его мнению, свое отождествление с тотемом, составляющее сущность тотемизма. Наблюдения У. Риверса с помощью такой теории зачатия, казалось, доказывали прямое отождествление людьми себя с их тотемом1.
Итак, последним источником тотемизма оказалось неведение дикарями, каким образом люди и животные продолжают свой род. Особенно они не понимали роли самца при оплодотворении. Это неведение поддерживалось большим интервалом времени между актом оплодотворения и рождением ребенка (или моментом, когда мать почувствует первые движения плода в своем теле). По
особую группу магов, и приказать всем этим группам творить магическое и создавать чародейственные силы общего божества». Т. and Ex. IV, с. 57.
1 «Т. and Ех», II р., 89 и IV, р. 59.
432
3. Фрейд
этому тотемизм является созданием не мужского, а женского духа. Корни его составляют капризы (sick fancies) беременной женщины. Действительно, то, что испытывает женщина в таинственный момент ее жизни, когда она впервые ощущает себя матерью, сравнимо с ее состоянием, когда она уже носит ребенка в своем чреве. Такие материнские фантазии, столь естественные и, кажется, общераспространенные, по-видимому, были корнями тотемизма1.
Против этой третьей теории Фрейзера приводится то же возражение, что и против второй — социологической. Arunta, по-видимому, ушли очень далеко от начала тотемизма. Их отрицание роли отца основано, по-видимому, не на примитивном незнании. В некоторых случаях у них даже предусмотрено отцовское наследование. Они, по-видимому, значение роли отца принесли в жертву рассудочности, чтобы воздать честь духам предков2. Они возвели в общую теорию зачатия миф о непорочном зачатии с помощью духа. Но это не дает основания приписывать им из-за этого незнание условий продолжения рода, как и древним народам в эпоху появления христианских мифов.
Другую теорию происхождения тотемизма создал голландец С.А. Вилькен. Она представляет собой соединение гипотез о тотемизме и о переселении душ. «То животное, в которое по общераспространенной вере переходили души умерших, становилось кровным родственником, предком, и почиталось как таковое». Но вера в переселение душ в животные скорее сама произошла от тотемизма, чем наоборот3.
Другую теорию тотемизма выдвинули замечательные американские этнологи Fr. Boas, Hill-Tout и др. Она родилась из наблюдений над тотемистическими племенами индейцев. Согласно ее утверждениям, тотем первоначально был духом-покровителем предка, которому он явился во сне, а затем был передан этим предком по наследству потомству. Мы уже видели раньше, как трудно объяснять тотемизм наследованием от одного
1 1. с„ IV, р. 63.
2 Это верование — философия первобытных примитивных людей. A. Lang, «Secret of the Totem», p. 192.
3 Frazer. T. and Ex. IV, p. 45 и ff.
Тотем и табу
433
человека. Кроме того, австралийские наблюдения никоим образом не подтверждают правильность попыток свести тотем к духу-покровителю1.
Для последней высказанной Вундтом психологической теории решающее значение имели такие факты. Во-первых, первоначальным и наиболее распространенным объектом тотема является животное. Во-вторых, среди животных тотема опять-таки самые первоначальные совпадают с животными-душами2. Такие животные-души, как птица, змея, ящерица, мышь, из-за своей подвижности, умения летать по воздуху и другим свойствам, вызывающим у человека непривычные и даже жуткие чувства, были самыми подходящими, для того чтобы именно в них видеть существа, в которых и помещались души, оставляющие тело. Животное-тотем представляет собой дериват переселения души в животное. Таким образом, для Вундта тотемизм сливается здесь непосредственно с верой в душу, то есть с анимизмом.
б) и в) Происхождение экзогамии и ее отношение к тотемизму
Я достаточно подробно изложил теории тотемизма. И все же приходится опасаться, что впечатление от них будет неполное из-за вынужденной краткости оформления мыслей. В освещении дальнейших вопросов я, в интересах читателя, позволю себе еще большую сжатость. Споры по экзогамии у тотемистических народов по характеру материала, которым приходится при этом оперировать, особенно усложняются, расширяются и, можно сказать, запутываются. Цель этой статьи — тоже ограничиться лишь подчеркиванием некоторых главных направлений; а для более основательного исследования предмета — указать на многократно цитируемые подробные специальные сочинения.
Позиция автора в проблемах экзогамии зависит, разумеется, от его отношения к той или другой теории о тотеме. Некоторые из объяснений тотемизма совершенно лишены связи с экзогамией, так что оба института просто отделяются один от другого. Та
1 Frazer, I. с., р. 48.
2 Вундт. Элементы психологии народов, с. 190.
434
3. Фрейд
ким образом, здесь противопоставлены два взгляда. Один желает сохранить первоначальное предположение, что экзогамия составляет часть тотемистической системы. Другой оспаривает такую связь и допускает случайное совпадение обоих институтов древнейших культур. Фрейзер в своих позднейших работах решительно настаивал на последней точке зрения. «Мне все время приходится просить читателя не упускать из виду, что оба рассматриваемых института — тотемизм и экзогамия — совершенно различны по своему происхождению и по своей природе, хотя у некоторых племен оба они случайно пересекаются и смешиваются». («Totem and Ex»., I.)
Он прямо утверждает, что иной взгляд станет источником трудностей и недоразумений. В противоположность этому другие авторы нашли путь к пониманию экзогамии как неизбежного следствия основных тотемистических взглядов. Дюркгейм указал в своих работах1, как связанное с тотемом табу влекло за собой запрещение иметь половые отношения с женщиной того же тотема. В тотеме течет та же кровь, что и у объединенных его именем людей. А потому под.страхом смертной казни (в случаях дефлорации и при менструациях) запрещается половое общение с женщиной, принадлежащей к тому же тотему2. Э. Ланг, присоединяющийся в этом вопросе к мнению Дюркгейма, полагает даже, что нет надобности в кровном табу для запрещения брака с женщинами того же рода3. Общее табу тотема, запрещающее, например, сидеть в тени дерева тотема, было бы для этого вполне достаточно. Э. Ланг защищает, впрочем, еще и другое происхождение экзогамии (см. ниже) и оставляет под сомнением, в каком отношении друг к другу находятся оба этих объяснения.
Что касается исторической последовательности, то большинство авторов придерживается того взгляда, что тотемизм является более древним институтом, а экзогамия присоединилась позже4.
1 L’annee Sociologique, 1898 — 1904.
2 Смотри критику рассуждений Дюркгейма Фрейзером. «Т. and Ех».
IV, р. 101.
3 Secret etc., р. 125.
4 Например, высказывание Фрейзера. «Тотемный клан — совершенно иная социальная организация, нежели экзогамный род. И у нас есть солидные основания думать, что первый гораздо древнее последнего».
Тотем и табу
435
Среда теорий, пытающихся объяснить экзогамию независимо от тотемизма, укажем только на некоторые, выясняющие различное отношение авторов к проблеме инцеста.
Мак-Леннан1 остроумно объяснил экзогамию, как отголосок нравов, указывающий на происходившее когда-то похищение женщин. Он высказал предположение, что в первобытные, времена был обычай добывать женщин из чужого рода. Брак с женщиной из своего рода постепенно становился запретным, потому что считался необычным2. Мотивом этого обычая экзогамии он считал недостаточное количество женщин у примитивных народов из-за обычая убивать при рождении большинство девочек. Не станем проверять, имеются ли факты, подтверждающие обстоятельства предположения Мак-Леннана. Гораздо больше нас интересует другое. Если допустить, что этот автор прав, то как объяснить, почему мужчины отказываются даже и от немногих женщин одной с ним крови и как получилось, что здесь совершенно не обращается внимание на проблему инцеста3.
В противоположность этому мнению, и очевидно с большим правом, другие авторы понимали экзогамию как институт для предупреждения инцеста4.
Если окинуть взглядом постепенно возрастающую сложность ограничений брака, то приходится согласиться со взглядами Моргана, Фрейзера, Ховита, Балдвина, Спенсера5, что эти институты носят целесообразный преднамеренный характер («deliberate, design» по Фрейзеру) и что они должны достичь того, к чему действительно стремились. «Нет других путей, которыми возможно было бы во всех деталях объяснить эти системы, одновременно и очень сложные, и очень точные»6.
Интересно заметить, что первые ограничения, достигнутые введением брачных классов, касались сексуальной свободы младших поколений, то есть инцеста между братьями и сестрами или сыно
1 Primitive manage, 1865.
2 То есть нечистым и потому не одобрялся.
3 Frazer, I. с., р. IV, р. 73 до 92.
4 Сравни первую статью.
5 Frazer, t. and Ex. IV, p. 105 ff. Morgan, Ancend Society, 1877.
6 Frazer, 1. c., p. 106.
436
3. Фрейд
вьями и их матерями. В то же время инцест между отцом и дочерью прекратился только после дальнейших мероприятий.
Но объяснение экзогамных ограничений сексуальности преднамеренным законодательством ничего не дает для понимания мотива, создавшего эти институты. Откуда берется, в конечном результате, боязнь инцеста, в котором приходится признать корень экзогамии? Очевидно, для объяснения боязни инцеста недостаточно ссылаться на инстинктивное отвращение к сексуальному общению с кровными родственниками, то есть просто на факт неприязни к инцесту. И социальный опыт показывает, что наперекор естественному инстинкту инцест вовсе не такое уж редкое событие даже в нашем обществе. А история знакомит нас со случаями, когда ин-цестуозный брак требуется предписанием и заключается между особами с высоким общественным положением.
Для объяснения запрета инцеста Вестермарк1 указывает: «У лиц, с детства живущих вместе, господствует враждебное отношение к половому общению друг с другом. Обычно эти лица являются кровными родственниками. Поэтому такая враждебность находит естественное выражение в нравах и законах, воспитывая сознательное отвращение к половому общению между близкими родственниками». Хэвлок Эллис хотя в своих «Studies in the psychology of sex» оспаривал, что это отвращение носит характер влечения, но по существу соглашался с этим объяснением, говоря: «Нормальное отсутствие проявления полового влечения — явление чисто отрицательное. Оно наблюдается в тех случаях, когда речь идет о братьях и сестрах или о мальчиках и девочках, с детства живущих вместе. Это происходит потому, что при таких обстоятельствах, безусловно, должны отсутствовать предпосылки, возбуждающие половое влечение... Между лицами, выросшими вместе с детства, привычка притупила все чувственные раздражения зрения, слуха и осязания, направила на путь спокойной склонности и лишила их власти вызывать у других эротическое возбуждение, необходимое, для того чтобы вызвать половую тумесценцию».
Мне кажется весьма странным, что Вестермарк видат во врожденном отвращении к половому общению с лицами, с которыми в
1 Происхождение и развитие морали, II. Брак, 1909. Там же ответ автора на возражения, ставшие ему известными.
Тотем и табу
437
детстве росли вместе, одновременно и психическое выражение самого биологического факта, что инцест приносит вред роду. Подобный биологический инстинкт едва ли мог так ошибаться в своем психологическом выражении, когда вместе с вредными д ля продолжения рода кровными родственниками коснулся совершенно безобидных в этом отношении товарищей по дому и очагу. Но я не могу отказаться от соблазна сообщить замечательные возражения Фрейзера против этого утверждения Вестермарка. Фрейзер находит непонятным, почему сексуальное чувство в настоящее время совершенно не противится общению с товарищами по очагу, хотя так невероятно разрослась боязнь инцеста, которая будто бы должна появиться от этого отвращения. Но глубже проникают другие замечания Фрейзера, которые я тут привожу полностью, потому что по существу они совпадают с доводами, высказанными в моей статье о табу.
«Трудно понять, почему глубоко укоренившийся человеческий инстинкт нуждается в утверждении законом. Нет закона, повелевающего людям есть или пить или запрещающего им класть руки в огонь. Люди едят, пьют и держат свои руки подальше от огня инстинктивно, предохраняясь от естественных неприятностей, а не из страха перед назначенным законом наказанием, которое может последовать в случае неподчинения этим влечениям. Закон может запрещать людям только то, что они способны сделать под давлением своих желаний. Но если сама природа что-то запрещает или за что-то наказывает, то людям незачем это запрещать или за это наказывать по закону. Мы легко можем поэтому допустить, что преступления, запрещенные законом, это такие преступления, которые многие из людей совершили бы охотно по естественной склонности. Если бы не было такой склонности, то подобные преступления не совершались бы; а если бы они не совершались, то ни к чему было бы их и запрещать. Поэтому нельзя из законодательного запрещения инцеста заключать о существовании естественного отвращения к нему. Скорее мы должны сделать вывод, что естественный инстинкт иногда влечет к инцесту. Если же закон подавляет это и некоторые другие естественные влечения, то основанием для этого является убеждение цивилизованных людей, что удовлетворение таких влечений приносит вред обществу»1.
11. с., р. 97.
438
3. Фрейд
К этим ценным аргументам Фрейзера я могу еще прибавить, что данные психоанализа совершенно отрицают предположение о врожденном отвращении к инцестозному половому общению. Они, наоборот, показали, что первые сексуальные побуждения юноши по своей природе всегда инцестозны, и что такие вытесненные побуждения играют громадную роль творческих сил в позднейших неврозах.
Поэтому боязнь инцеста, как врожденного инстинкта, не безосновательна. Не лучше обстоит дело с другим объяснением запрета инцеста, имеющим многочисленных сторонников. Предполагается, что уже примитивные народы заметили, какими опасностями грозит кровосмесительство их роду. Поэтому они запретили инцест вполне осознанно. Возражений против этого объяснения возникает множество1. Запрещение инцеста, должно быть, не старше занятия скотоводством, на котором человек мог убедиться в отрицательном действии кровосмесительства на свойства расы. А что еще важнее, вредные последствия кровосмесительства еще и до настоящего времени доказаны не безусловно, и относительно человека их доказать трудно. Далее. Все, что нам известно о современных дикарях, делает весьма невероятным, чтобы помыслы их отдаленных предков уже были заняты предупреждением вреда для позднейшего потомства. Кажется смешным, когда этим, живущим без всякого раздумья взрослым детям хотят приписать гигиенические или евгенические мотивы, которые едва ли принимаются во внимание и в нашей современной культуре2.
Наконец, еще необходимо подчеркнуть, что и практических, и гигиенических мотивов запрещения кровосмесительства, как ослабляющего расу фактора, совершенно недостаточно, чтобы объяснить глубокое отвращение, поднимающееся в нашем обществе к инцесту. Как.я доказал в другом месте3, боязнь инцеста у современных примитивных народов кажется еще более сильной и активной, чем у цивилизованных.
1 Сравни Durbheim. La prohibition de 1’Inceste. L’annee Sociolog. I, 1886—1889.
2Ч. Дарвин говорит о дикарях: «Они не склонны задумываться над несчастиями, угрожающими в будущем их племени».
3 Сравни первую статью.
Тотем и табу
439
Можно было бы ожидать, что в объяснениях происхождения боязни инцеста имеется выбор между социологическими, биологическими и психологическими гипотезами, причем психологических мотивов можно было бы ожидать от выразителей биологических сил. Тем не менее по окончании исследования чувствуешь себя вынужденным согласиться с непретенциозным выражением Фрейзера: «Нам неизвестно происхождение боязни инцеста и мы даже не знаем, что об этом предполагать. Ни одно решение этой загадки, из числа предложенных нам до сих пор, не кажется нам удовлетворительным»1.
Должен упомянуть еще о попытке совсем другого рода объяснить происхождение инцеста, чем рассмотренные до сих пор. Ее можно было бы назвать исторической.
Эта попытка связана с гипотезой Ч. Дарвина о первичном социальном состоянии человека. Исходя из образа жизни высших обезьян, Дарвин заключил, что и человек первоначально жил небольшими группами, в пределах которых ревность самого старшего и самого сильного самца не допускала полового смесительства. «Судя по тому, что нам известно о ревности у всех млекопитающих, из которых многие обладают специальным оружием для борьбы с соперниками, мы действительно можем заключить, что общее смешение полов в естественном состоянии весьма невероятно... Если поэтому в потоке времени мы оглянемся далеко назад и сделаем заключение о социальных привычках тех людей по сравнению с нынешним существованием, то самым вероятным будет мнение, что человек первоначально жил небольшими обществами. Каждый мужчина жил со своей женщиной или, если у него была власть, со многими, которых он ревностно защищал от других мужчин. Или он не был социальным животным и жил один со многими женами, как горилла (все туземцы согласны с тем, что в группе горилл можно встретить только одного взрослого самца). Когда молодой самец подрастает, то происходит борьба за власть, и более сильный становится главою общества, убив или прогнав остальных (Dr.
1 «Таково окончательное происхождение экзогамии и с нею закона об инцесте. Со времени введения экзогамии как помехи инцесту, наша проблема остается в отношении ее такой же неясной, какой была до этого». «Т. and Ех», 1, р. 165.
440
3. Фрейд
Savage in Boston, Journal of Natur. Hist. V. 1845—1847 гг.). Младшие самцы, изгнанные таким образом, скитаются одни. Когда, наконец, им удается найти самку, они таким же образом не допускают слишком близкого кровосмесительства среди членов своей семьи1.
Аткинсон2, по-видимому, первый заметил, что эти условия дарвинской первобытной орды практически осуществляли экзогамию молодых мужчин. Каждый из этих изгнанных мог основать такую же орду, в которой имело силу такое же запрещение полового общения из-за ревности главы. С течением времени из этих обстоятельств сложилось осознанное, как закон, правило: никакого полового общения с товарищами по очагу. По возникновении тотемизма это правило приняло другую формулировку: никакого полового общения в пределах тотема.
Э. Ланг3 присоединился к этому объяснению экзогамии. Он в той же книге отстаивает и другую теорию (Дюркгейма), усмотревшую в экзогамии следствие тотемных законов. Не совсем легко соединить оба взгляда. В первом случае экзогамия существовала до тотемизма, во втором — она оказывается его следствием4.
1 Происхождение человека.
2 Primal Law. London, 1903 (с A. Lang, «Social Origins»).
3 Secret of the Totem, p. 114, 143. W
4 «Если, в согласии с теорией Дарвина, доказано, что экзогамия встречалась еще до того, как верование в тотем дало на нее священную санкцию, то наша задача делается относительно нетрудной. Первое практическое правило исходит от завистливого властелина. Повеление «Да не коснутся самцы самок в моем владении» сопровождается изгнанием молодых сыновей. В дальнейшем это правило стало привычным и приняло формулировку: «Не бери в жены никого из местной группы». Еще позже местные группы получают прозвища-имена, например Эму, Ворон, Опоссум, Бекас, и тогда правило формулируется так: «Не бери никого в жены из местной группы с именами определенных животных; например Бекаса, если ты сам Бекас». Однако, если первичная группа не была экзогамичной, то она стала таковой после того как тотемистические мифы и табу распространились на названия животных, растения и на другие названия маленьких местных групп».
Тотем и табу 441 '
3
Единственный луч света в эту тьму проливает психоаналитический опыт.
Отношение ребенка к животному имеет много сходного с отношением примитивного человека к животному. Ребенок не проявляет еще и следа того высокомерия, которое побуждает впоследствии взрослого культурного человека отделить резкой чертой свою собственную природу от природы всякого другого животного. Не задумываясь, ребенок признает за животным полйую равноценность. В безудержном желании удовлетворять свои потребности он чувствует себя, пожалуй, более родственным животному, чем кажущемуся ему загадочным взрослому человеку.
В этом прекрасном согласии между ребенком и животным нередко наступает примечательная дисгармония. Вдруг ребенок начинает бояться определенной породы животных и избегает того, чтобы прикоснуться или увидеть животное этой породы. Возникает клиническая картина фобии животных — одно из самых распространенных психоневротических заболеваний этого возраста. И может быть, это самая ранняя форма такого заболевания. Фобия обычно касается животного, к которому до того ребенок проявлял особенно живой интерес. Причем она относится не только к одному отдельному животному. Выбор среди животных, которые могут стать объектами фобии, в условиях городской жизни невелик. Это лошади, собаки, кошки, реже птицы; удивительно часто — маленькие животные, как жуки и бабочки. Иногда объектами бессмысленного и безмерного страха, проявляющегося при этих фобиях, становятся животные, известные ребенку только по картинкам и сказкам. Редко удается проследить путь, который привел к необычайному выбору внушающего страх животного. Так я обязан К. Абрахому сообщением о случае, когда ребенок объяснил свой страх перед осой тем, что цвет и полоса -
Secret of the Totem, p. 143. (Курсив внутри этого текста принадлежит мне.) В своем последнем суждении по этому предмету (Folklor Dezember, 1911) A. Lang заявляет, что отказался от мысли о происхождении экзогамии из «general totemic» табу.
442
3. Фрейд
тая поверхность ее тельца напоминают ему тигра, которого, как он слышал, нужно бояться.
Фобий животных у детей не стали еще предметом внимательного аналитического исследования, хотя заслуживают этого в высокой степени. Трудности анализа у детей в раннем возрасте являются, вероятно, причиной этого упущения. Нельзя поэтому утверждать, что известен общий характер этих заболеваний. Я лично думаю, что он не будет однородным. Но некоторые случаи таких фобий, направленных на больших животных, стали доступными анализу и раскрыли, таким образом, исследователям свою тайну. Во всех случаях она одна и та же: страх, по существу, относился к отцу, если исследуемые дети были мальчиками, и только переносился бессознательно на животное.
Всякий, имеющий опыт в психоанализе, наверное, встречал такие случаи и получал от них такое же впечатление. Все же я могу по этому поводу сослаться на небольшое число подробных опубликованных исследований. Это случайное в литературе явление. Из него не следует заключать, что мы вообще можем опираться в наших взглядах только на отдельные наблюдения. Упомяну, например, автора, который с полным пониманием изучал неврозы детского возраста — М. Вульф (Одесса). Излагая историю болезни девятилетнего мальчика, он рассказывает, что в возрасте четырех лет тот страдал фобией собак. «Когда он на улице видел пробегающую собаку, то плакал и кричал: «Милая собака, не хватай меня, я буду хорошо себя вести». Под словами «хорошо себя вести» он понимал «не буду больше онанировать»1.
Тот же автор резюмирует далее: «Его фобия собак представляет собой, собственно говоря, перенесенный на собак страх перед отцом, потому что его странные слова: «собака, я буду себя хорошо вести», то есть не буду мастурбировать, относятся веда, к отцу, который и запрещал ему заниматься мастурбацией». В примечании он прибавляет, что его наблюдения вполне совпадают с моими и одновременно доказывает обилие таких факторов. «Такие фобии (фобии лошадей, собак, кошек, кур и других домашних животных), по моему мнению, в детском возрасте, по меньшей
1 М. Wulff. Beitrage zur infantilen Sexualitat. Zentralblatt fiir Psychoanalyse, 1912, II. № 1., p. 15 ff.
Тотем и табу
443
мере, так же распространены, как pavor nocturnus (ночные ужасы). В анализе они почти всегда раскрываются как перенесение страха с одного из родителей на животных. Таков ли механизм столь распространенных фобий мышей и крыс, я позволю себе сомневаться».
В первом томе «Jahrbuch fur psychoanalytische und psychopath. Vorschungen» я излагаю «Анализ фобий пятилетнего мальчика», представленный в мое распоряжение отцом маленького мальчика. Это был страх перед лошадьми, из-за которого мальчик отказывался выходить на улицу. Он выражал опасение, что лошадь придет в комнату и укусит его. Оказалось, что это было наказанием за его желание, чтобы лошадь упала (умерла). После того как мальчик, подбодренный, освободился от страха перед отцом, оказалось, что он борется с желанием отсутствия отца (из-за отъезда и даже из-за смерти его). Он чувствовал в отце, показывая это совершенно ясно, конкурента в любви матери, на которую в темном предчувствии были направлены зарождающиеся сексуальные желания. Он находился, следовательно, в состоянии типичной направленности ребенка мужского пола к родителям, которую мы называем «эдиповым комплексом» и в которой видим комплексное ядро неврозов. Новым для нас в анализе «маленького Ганса» и ценным для понятия тотемизма является тот факт, что при таких условиях ребенок переносит часть своих чувств с отца на животное.
Анализ показывает значительные по содержанию и случайные ассоциативные пути, по которым происходит подобный сдвиг. Он позволяет также открыть его мотивы. Ненависть к отцу, вытекающая из соперничества по отношению к матери, не может свободно распространяться в душевной жизни мальчика. Ей приходится вступать в борьбу с существующей уже нежностью и преклонением перед отцом. Ребенок находится в двойственной — амбивалентной — направленности чувств к отцу. Он находит облегчение в этом амбивалентном конфликте, перенося свои враждебные и боязливые чувства на суррогат отца. Сдвиг не может, однако, разрешить конфликт таким образом, чтобы привести к полному разделению нежных и враждебных чувств. Конфликт переносится и на объект сдаига, амбивалентность тоже передается на него. Вполне очевидно, что маленький Ганс проявляет к лошадям не только
444
3. Фрейд
страх, но также уважение и интерес. Как только его страх уменьшается, он сам отождествляет себя с внушающим ему страх животным, скачет, как лошадь, и кусает со своей стороны отца1. В другой стадии развития фобии ему ничего не стоит отождествить родителей с другими большими животными2.
Можно высказать предположение, что в этих фобиях животных у детей вновь повторяются в негативном выражении некоторые черты тотемизма. Но мы обязаны С. Ференци счастливым наблюдением исключительного случая, который можно назвать положительным тотемизмом у ребенка3. У маленького Арпада, о котором рассказывает Ференци, тотемистические интересы проснулись не прямо в связи с эдиповым комплексом, а на основе нарциссичес-кой предпосылки его — страха кастрации. Но кто внимательно проследит историю маленького Ганса, тот найдет много доказательств того, что отец, как обладатель больших гениталий, является объектом восхищения и вызывает страх угрозы нежным гениталиям ребенка. В эдиповом и кастрационном комплексах отец играет ту же роль внушающего страх противника инфантильных сексуальных влечений. Кастрация и замена ее ослеплением составляют наказание, которым отец угрожает4.
Когда маленькому Арпаду было два с половиной года, он сделал однажды попытку помочиться в курятнике. При этом курица сделала движение, чтобы схватить его за половой орган. Вернувшись год спустя на то же место, Арпад как бы сам стал курицей. Он интересовался курятником и всем, что в нем происходит, заменил свой человеческий язык на кудахтанье и петушиное пение. В возрасте 5 лет, когда происходило наблюдение над ним, он снова заговорил по-человечески, но и в речи занимался исключительно только курами и другими птицами. Он не играл никакими другими игрушками и пел только такие песни, в которых говорилось
11. с., р. 37.
2 Фантазия о жирафах, р. 24.
3 S. Ferenczi. Ein kleiner Hahnemann Intern. Zeitschrift ftiг arztliche Psychoanalyse, 1913, № 3.
4 О замене кастрации ослеплением в мифе об Эдипе, сравни статьи Reitler’a, Ferenczi, Rank’a и Eder’a в Int. Zeit. t.Art. Psychoanal., 1913, т. I, № 2.
Тотем и табу
445
о пернатых. Его поведение по отношению к тотему-животному было исключительно амбивалентное, полное чрезмерной ненависти и любви. Охотнее всего в своих играх он резал кур. «Резать пернатых было для него вообще праздником. Он мог часами в возбуждении танцевать вокруг трупов животных». Но потом он целовал и гладил зарезанное животное, очищал и ласкал изображения кур, которых сам терзал.
Маленький Арпад сам заботился о том, чтобы смысл его странного поведения не остался скрытым. Иногда он переводил свои желания из тотемистического способа выражения обратно в общепринятые. «Мой отец петух,— сказал он однажды.— Теперь я маленький и потому я — цыпленок. Когда я буду больше, то стану курицей; когда вырасту еще больше, то стану петухом». Одаажды он захотел есть «фаршированную мать» (то есть фаршированную курицу). Он был очень щедрым на угрозы кастрации других, подобно тому как и сам слышал эти угрозы (за онанистические действия со своим членом).
Об источниках его интереса к тому, что происходило в курятнике, по словам Ференци, не оставалось никакого сомнения. «Наблюдения за половым общением петуха с курицей, за тем, как курицы несут яйца и как появляются цыплята, удовлетворяли его сексуальную любознательность, которая переносилась на семейную жизнь людей. По образцу жизни кур складывались объекты его желаний, высказанные им однажды соседке: «Я женюсь на вас, и на вашей сестре, и на моих трех кузинах, и на кухарке. Нет, вместо кухарки лучше женюсь на матери».
Ниже мы дополним оценку этого наблюдения. Теперь же подчеркнем две ценные черты, указывающие на сходство изученного явления с тотемизмом: полное отожествление с животным-тотемом1 и амбивалентная направленность к нему чувств. На основании этих наблюдений мы считаем себя вправе вставить в формулу тотемизма на место животного-тотема мужчину-отца. Тогда мы замечаем, что этим мы не сделали нового или особенно смелого шага. Ведь примитивные народы и сами это утверждают. А поскольку и теперь еще имеют место тотемистические системы, они называют тотем своим предком и праотцем. Мы взяли только дос
1 В котором, по Фрейзеру, заключается сущность тотемизма: «Тотемизм — это идентификация человека с его тотемом».
446
3. Фрейд
ловно заявления этих народов, из которых этнологи мало что могли получить и потому охотно отодвинули их на задний план. Психоанализ учит нас, что, наоборот, на этом пункте нужно акцентировать внимание и связать с ним попытку объяснить тотемизм1. Первый результат нашей замены был замечательным. Если животное-тотем олицетворяет отца, то оба главных запрета тотемизма, оба предписания табу, составляющие его ядро — не убивать тотема и не иметь сексуальных отношений с женщиной, принадлежащей к этому же тотему,— по содержанию своему совпадают с обоими преступлениями Эдипа, убившего своего отца и взявшего в жены свою мать. Но они совпадают и с первичными желаниями ребенка, недостаточное вытеснение или пробуждение которых составляет, может быть, ядро всех психоневрозов. Если это сходство больше, чем игра случая, вводящая в заблуждение, то оно должно помочь нам пролить свет на возникновение тотемизма в незапамятные времена. Другими словами, в этом случае можно будет доказать вероятность того, что тотемистическая система произошла из тех же условий, что и эдипов комплекс, подобно фобии животных маленького Ганса и куриному извращению маленького Арпада. Чтобы исследовать эту возможность, мы в дальнейшем изучим особенность тотемистической системы или, как мы можем сказать, тотемистической религии, о которой до сих пор едва упоминали.
4
Умерший в 1894 году В. Робертсон Смит, физик, филолог, исследователь Библии и древностей, человек столь же остроумный, как и свободомыслящий, в опубликованном им в 1889 году сочинении «О религии семитов»2высказал предположение, что своеобразный це-
1 Я обязан О. Ранку сообщением о случае фобии собаки у интеллигентного молодого человека. Его объяснение о происхождении своей болезни удивительно напоминает упомянутую выше теорию тотема arunta. Он утверждал, что узнал от отца, как мать его во время беременности была однажды напугана собакой.
2 W. Robertson Smith. The origin of the Semits, Second Edition, London, 1907.
Тотем и табу
447
ремониал, так называемое тотемистическое пиршество, с самого начала стал обязательной составной частью тотемистической системы. Для подкрепления этого предположения он располагал соответствующим актом, тогда единственным и сохранившимся из пятого столетия по РХ. Но Смит сумел, с помощью анализа жертвоприношений у древних семитов, придать этому предположению высокую степень вероятности. Так как жертва предполагает, что имеется и божественное существо, то дело идет о выводе, сделанном на основании более высокой фазы религиозного ритуала и примененном к более низкой фазе — тотемизму.
Я хочу попытаться извлечь из замечательной книги Робертсона Смита строки о происхождении и значении жертвенного ритуала, имеющие для нас решающее значение. При этом я часто опускаю некоторые, даже соблазнительные детали и последовательно устраняю все позднейшие наслоения. Правда, в таком извлечении совершенно исключается возможность дать читателю хотя бы частицу блеска и убедительности оригинала.
Робертсон Смит доказывает, что жертва у алтаря составляла существенную часть древних религий. Она играет ту же роль во всех религиях, так что возникновение не приходится приписывать очень общим и повсюду одинаково действующим причинам.
Жертва-священнодействие %ат е^о/тр (sacrificium, iepovpyta) первоначально обозначала нечто другое, чем то, что понималось под ней в позднейшие времена. Это было приношение божеству, чтобы умилостивить его и вызвать благосклонность к себе. (Второе значение слова «жертвоприношение» в смысле самовоздер-жания послужило поводом к применению его в житейском обиходе.) Можно доказать, что жертвоприношение представляло сначала только «акт социального отношения между божеством и его поклонниками», акт общественного праздника, соединение верующих с их богом.
В жертву приносились вещи, которые можно было есть и пить. То же, чем сам человек питался — мясо, хлеб, плоды, вино, масло,— он жертвовал своему богу. Только в отношении жертвенного мяса имелись ограничения и отступления. Жертвы из животных бог поедал вместе с верующими, а растительные предоставлялись ему одному. Не подлежит сомнению, что жертвы из животных более древнего происхождения и что они когда-то были единственными.
448
3. Фрейд
Растительные жертвы произошли из приношения первинок всех плодов и соответствуют дани господину поля и страны. Животные жертвы древнее, чем и жертвы плодов земледелия.
Из сохранившихся частей древнего языка стало известно, что предоставляемая богу часть жертвы сначала действительно считалась его пищей. По мере развития дематериализации божественного существа это представление становилось неприемлемым. Выход находили в том, что божеству отдавали только жидкую часть трапезы. Позже применение огня, превращавшего жертвенное мясо на алтаре в клубы дыма, сделало возможным такое приготовление человеческой пищи, что она больше подходила для божественного существа. Жертвой для питья первоначально была кровь жертвенного животного; позже кровь заменили вином. Оно у древних считалось «кровью лозы». Так его и теперь называют наши поэты.
Самой древней формой жертвы, более старой, чем огонь и плоды земледелия, была жертва животного, мясо и кровь которого поедались вместе — и богом и верующими. Важно было, чтобы каждый участник получал свою долю в трапезе.
Жертвоприношение было праздником целого клана и сопровождалось торжествами. Религия, вообще, была общественным делом, а религиозный долг — частью социальных обязанностей. У всех народов жертвоприношение совпадает с празднествами. Каждое жертвоприношение является праздником и ни один праздник не отмечался без жертвоприношения. Праздничные жертвоприношения были радостным возвышением над повседневными интересами и подчеркивали общность между людьми и божеством.
Этическая сила общественной жертвенной трапезы исходила из очень древних представлений о значении совместной еды и питья. Есть и пить с кем-то было одновременно и символом, и подтверждением социальной общности с принятием на себя взаимных обязанностей. Жертвенная трапеза прямо выражала, что бог и верующие составляют одну общину, а тем самым определялись и все другие отношения. Обычаи, которые и теперь еще в силе у арабов в пустыне’, показывают, что связующим звеном в совместной трапезе является не религиозный момент, а сам акт еды. Кто разделил хотя бы маленький кусок пищи с таким бедуином или выпил глоток молока, тому нечего его бояться как врага, тот может быть
Тотем и табу
449
уверен в его защите и помощи. Разумеется, не на вечные времена. Строго говоря, только на такой период времени, пока предполагается, что совместно съеденное еще хранится в теле. Так реалистически понимается связь соединения; она нуждается в повторении, чтобы укрепиться и стать длительной.
Почему же совместной еде и питью приписывается связующая сила? В самых примитивных обществах имеется только одна связь, соединяющая безусловно и без исключения: принадлежность к одному племени (родство Kinship). Члены рода солидарно выступают один за другого. Kin представляет собой группу лиц, жизнь которых таким образом связана в физическое единство, что их можно рассматривать, как части одаого живого существа. В случае убийства кого-нибудь из Kin не говорят «пролита кровь того или другого», а говорят «наша кровь пролита». Древнееврейская фраза, в которой выражается племенное родство, гласит: ты — моя нога и мое мясо. Состоять в родстве означает, следовательно, иметь часть в общей субстанции. Вполне естественно: родство основывается не только на том факте, что человек составляет часть своей матери, от которой родился и молоком которой вскормлен. Пищей, которой он питается позже и которой обновляет свое тело, тоже можно приобрести родство и укрепить его. Деля трапезу с богом, выражают убеждение, что происходят из того же материала, что и он. А кого считают чужим, с тем не делят трапезу.
Жертвенная трапеза, таким образом, была первоначально праздничным пиром соплеменников, согласно закону, по которому совместно есть могут только члены одного племени. В нашем обществе трапеза соединяет членов семьи. Но жертвенная трапеза ничего общего с семейной не имеет. Категория «родство» старше, чем семейная жизнь. В самые древние,из известных нам семей постоянно входят лица, связанные различными родственными узами. Мужчины женятся на женщинах из чужого клана, дети наследуют клан матери, между мужем и остальными членами семьи нет никакого родства. В такой семье нет совместных трапез. Дикари еще и теперь едят в стороне и в одиночку, и религиозные запреты тотемизма, касающиеся порядка приема пищи, часто делают для них невозможной совместную еду с их женами и детьми.
Обратимся теперь к жертвенному животному. Как мы видели, общие собрания племени не обходились без жертвоприношения
450
3. Фрейд
животных. Но что еще важнее, помимо таких торжественных случаев животных не резали. Питались плодами, дичью и молоком домашних животных, но из религиозных соображений никто не мог умерщвлять домашнее животное для собственного удовлетворения. Не подлежит сомнению, как говорит Робертсон Смит, что всякое жертвоприношение было приношением клана. Умерщвление жертвы первоначально каждому в отдельности запрещалось и оправдывалось только в случаях, когда все племя брало на себя ответственность за него. У примитивных народов разрешается только один род действий, выполняемых по этому правилу, а именно — действий, учитывающих святость общей крови племени. Жизнь, даже у животного, не имеет права отнять один человек, и она может быть принесена в жертву только с согласия и при участии всех членов клана. Она ценится так же высоко, как и жизнь самих членов клана. Правило, что любой гость при жертвенной трапезе должен вкусить мясо жертвенного животного, имеет тот же смысл, что и предписание наказывать всем племенем его провинившегося члена. Другими словами: с жертвенным животным поступали, как с членом родного племени. Приносившая жертву община, ее бог и жертвенное животное были одной крови, членами одного клана.
На основании многочисленных доказательств Робертсон Смит отождествляет жертвенное животное с наиболее древним животным тотемом. В более поздней древности существовали два вида жертв — домашних животных, которые обычно шли в пишу, и особые жертвы животных, запрещенных для еды как нечистые. Более детальное исследование показывает, что эти нечистые животные были на самом деле священными. Их отдавали в жертву богам, которым они были посвящены. Первоначально эти животные отождествлялись с самими богами и при жертвоприношении верующие каким-нибудь образом подчеркивали свое кровное родство с этим животным и с богом. Но еще в более ранние времена такого различия между обычными и «мистическими» жертвами не существовало. Первоначально все животные были священны. Их мясо было запрещено для питания. Его можно было употреблять в пишу только в торжественных случаях, при участии всего племени. Заколоть животное — это тоже самое, что пролить кровь членам племени. Поэтому такое происходило с соблюдением особого церемониала для предупреждения возможных упреков.
Тотем и табу
451
Приручение животных и появление скотоводства положили, по-видимому, конец чистому и строгому тотемизму глубокой древности1. Но того, что из святости домашних животных сохранилось в «пасторальной» религии, достаточно, чтобы показать первоначальный ее тотемистический характер. Еще в поздние классические времена в разных местах ритуал предписывал приносящему жертву обращаться в бегство после совершения жертвоприношения, будто бы для того, чтобы избежать наказания. В Греции, вероятно, повсюду господствовала идея, что умерщвление быка вообще-то является преступлением. Поэтому на афинских буффонадах после жертвоприношения устраивался настоящий суд, при котором допрашивались все принимавшие участие в торжестве. Наконец вину за убийство взваливали на нож, который выбрасывали в море.
Несмотря на боязнь, защищавшую жизнь священного животного как члена племени, время от времени становилось необходимым убивать такое животное в торжественном собрании и делить его мясо и кровь между членами клана. Мотив, диктующий эту традицию, открывает глубочайший смысл жертвоприношения. Мы слышали уже, что в более поздние времена совместная еда, общая субстанция, которая проникает в их тела, создает священную связь между членами общины. В более древние времена такое значение имело, по-видимому, только усвоение субстанции священного животного. Ритуальная мистерия смерти жертвы оправдывалась тем, что только таким путем можно было установить священную связь, соединяющую участников ритуала между собой и с их богом2.
Этой связью являлось не что иное, как жизнь жертвенного животного, скрытая в его мясе и в его крови и передающаяся всем участникам в жертвенной трапезе. Такое представление лежит в основе всех кровных союзов, при которых люди возлагали на себя взаимные обязательства еще в древние времена.
1 «Вывод таков, что приручение животных, к которому неизменно приводил тотемизм (если встречались животные, способные к приручению), оказывалось фатальным для тотемизма».
Jevons, An introduction to the hystorie of religion, 1911, fifth idition, p. 120.
21. c„ p. 113.
452
3. Фрейд
Безусловно, реалистическое понимание общности крови как тождества субстанции объясняет необходимость время от времени возобновлять ее физическим процессом торжественной трапезы.
Я не стану далее излагать мысли Робертсона Смита, а сжато, вкратце, резюмирую сущность. Когда появилась частная собственность, жертвоприношение стало даром божеству, как передача в собственность богу того, что принадлежит человеку. Однако это толкование не объясняло всех особенностей жертвенного ритуала. В древнейшие времена жертвенное животное само было свято, а его жизнь неприкосновенна. Ее можно было отнять только при соучастии в этой вине всего племени и в присутствии бога, чтобы получить святую субстанцию, поедая которую члены клана утверждаются в своей материальной тождественности друг с другом и с божеством. Жертвоприношение было таинством, само жертвенное животное — членом племени. В действительности оно было древним животным тотемом, то есть примитивным богом, убив и съев которого члены клана освежали и утверждали свое бого-подобие.
Из анализа жертвоприношения Робертсон Смит сделал вывод, что периодически умерщвляя и поедая тотема во времена, предшествовавшие почитанию антропоморфного божества, люди выполняли значительную часть ритуалов тотемистической религии. Церемониал, подобный тотемистической трапезе, сохранили для нас описания жертвоприношения в более позднее время. Св. Нил описывает жертвенный обычай бедуинов синайской пустыни в конце IV столетия по Р.Х. Жертву — верблюда — связывали и клали на алтарь из необтесанного камня. Предводитель племени приказывал всем участникам обойти три раза с пением вокруг алтаря, наносил первую рану животному и жадно пил вытекающую кровь. Затем вся община бросалась на жертву, отрубала куски еще вздрагивающего тела и пожирала их сырыми с большой поспешностью. Так что в короткий промежуток времени, между восходом утренней звезды, которой приносилась эта жертва, и появлением первых солнечных лучей, съедали все жертвенное животное: тело, кости, шкуру, мясо и внутренности. Этот варварский ритуал, который несет отпечаток глубочайшей древности, был, судя по всему, не единичным обычаем. Он отражал общие
Тотем и табу
453
первоначальные формы жертвы тотема, несколько ослабленные в позднейшее время.
Многие авторы отказывались придавать значение концепции трапезы тотема, потому что ее нельзя было вывести из непосредственных наблюдений в период тотемизма. Робертсон Смит и сам еще указал на примеры, в которых, по-видимому, жертвоприношение имело значение таинства. Например, на человеческие жертвоприношения ацтеков, на напоминающие условия тотемистической трапезы жертвоприношения медвежьего племени quataouaks в Америке и на медвежьи торжества ainos в Японии. Фрейзер подробно описал эти и подобные случаи в обоих последних отделах своего большого труда1. Индейское племя в Калифорнии, почитающее большую хищную птицу bussard, убивает ее при торжественной церемонии один раз в год, после чего ее оплакивают и сохраняют ее кожу с перьями. Индейцы zuni, в Новой Мексике,, поступают таким же образом со своей священной ящерицей.
В церемониях intichiuma центральноавстралийских племен наблюдалась черта, очень совпадающая с предположением Робертсона Смита. Каждое племя, прибегающее к магии для размножения своего тотема, которого ему самому запрещено есть, обязано при церемонии само съесть что-то из мяса своего тотема, прежде чем тот будет передан другим племенам. Лучший пример таинственной трапезы с мясом обычно запрещенного тотема наблюдается, по Фрейзеру, у bini в Западной Африке на погребальных церемониях в этих племенах2.
Но мы согласимся с предположением Робертсона Смита, что таинство умерщвления животного-тотема и общей трапезы по этому случаю составляло важную характерную черту тотемистической религии3.
1 The Golden Bough, Pars V, Spirits of the corn and of the wild; 1912 b отделах: Eating the God и Killing the divine animal.
2 Frazer, T. and Ex. T. Il, p. 590.
3 Возражения, приведенные различными авторами (Marillier, Hubert, Mauss и др.) против этой теории жертвоприношения не остались мне неизвестными. Но по существу они не повредили впечатлению от теории Робертсона Смита.
454
3. Фрейд
5
Представим себе картину такой тотемистической трапезы и дополним ее некоторыми вероятными чертами, не получившими до сих пор достойной оценки. Клан умерщвляет жестоким образом своего тотема по торжественному поводу и полностью съедает его сырым — его кровь, мясо, внутренности и кости. При этом члены клана стараются приобрести сходство с тотемом по внешнему виду, подражают его звукам и движениям, будто хотят подчеркнуть свое тождество с ним. Они сознают, что совершают действие, запрещенное каждому в отдельности и оправдываемое только участием всех. Никто не может отказаться ни от участия в умерщвлении, ни в трапезе. После совершения убийства животное оплакивают. Причем оплакивание обязательно, под страхом наказания. Его главная цель, как замечает Робертсон Смит, снять с себя ответственность за убийство'.
Но когда отдана дань скорби, наступает шумный радостный праздник, на котором разрешается удовлетворять все желания. И тут без труда мы можем понять сущность праздника.
Праздник — это разрешенный, более того, обязательный эксцесс, торжественное нарушение запрещений. Не потому, что люди, весело настроенные, следуя какому-то предписанию, предаются излишествам. Просто эксцесс составляет сущность праздника. Праздничное настроение вызывается разрешением делать то, что обычно запрещено.
Но что же означает введение к праздничному торжеству — печаль по поводу смерти животного тотема? Если радуются умерщвлению тотема, что обычно запрещено, то почему в то же время и оплакивают его? Мы слышали, что члены клана освящают себя тем, что съедают тотема. Этим они укрепляют себя в своей тождественности с ним и друг с другом. Торжественное настроение и все, что из него вытекает, можно было бы объяснить тем, что люди приняли в себя священную жизнь, носителем которой является субстанция тотема.
ПсихоаналиЗ открыл нам, что животное-тотем действительно является заменой отца. Этому же соответствует противоречие
1 Religion of the Semites 2 nd. edition, 1907, p. 412.
Тотем и табу
455
между тем, что обычно запрещается его убивать, и тем, что умерщвление его становится праздником. Животное сначала убивают, а потом все же оплакивают его. Амбивалентная направленность чувств, которой и теперь отличается отцовский комплекс у наших детей и часто сохраняется на всю жизнь, переносится с отца на животного тотема.
Однако сравним данное психоанализом толкование тотема с фактом тотемистической трапезы и с гипотезой Дарвина о первичном состоянии человеческого общества. Это даст возможность более глубоко понять и обосновать эту гипотезу, которая хотя и может показаться фантастической, но, в то же время, создает неожиданное единство между разрозненными до того феноменами.
В дарвиновской первичной орде нет места для зачатков тотемизма. Здесь только жестокий ревнивый отец, приберегающий для себя всех самок и изгоняющий подрастающих сыновей. И ничего больше. Такое первоначальное состояние общества нигде не стало предметом наблюдения. Та самая примитивная организация, которая и теперь еще имеет место у отдельных племен, представляет собой мужские союзы. Они состоят из равноправных членов и подлежат ограничению самой тотемистической системой при материнском наследовании. Могло ли произойти одно из другого и каким образом это стало возможным?
Ссылка на торжество тотемистической трапезы позволяет нам дать на это ответ. Однажды1 изгнанные братья соединились, убили и съели отца и положили, таким образом, конец отцовский орде. Сообща они осмелились совершить то, что было бы невозможно сделать каждому в отдельности. Может быть, культурный прогресс, умение владеть новым оружием дали им чувство превосходства. То, что они, кроме'того, съели убитого, вполне естественно для дикарей-каннибалов.
Жестокий праотец был, несомненно, образцом, которому завидовал и которого боялся каждый из братьев. В акте его поедания они осуществляют отождествление с ним, каждый из них усваивает часть его силы. Тотемистическая трапеза, может быть
1 К этому описанию, которое могут неправильно понять, прошу прибавить, как коррективу, заключительные строки следующего примечания.
456
3. Фрейд
первое празднество человечества, лишь воскрешала и повторяла это знаменательное преступное деяние, из которого взяли свое начало и социальные организации, и нравственные ограничения, и религия1.
1 Кажущееся невероятным предположение — убийство отца-тирана объединившимися изгнанными сыновьями — казалось и Аткинсону прямым следствием, вытекающим из условий описанной Дарвиным орды. «Орда молодых братьев жила в вынужденном целибате или, в лучшем случае, в полиандрическиххотношениях с какой-нибудь одной попавшей в плен женщиной. Так эта орда жила до достижения половой зрелости. Однако, по мере того как она становилась сильнее, она неизбежно вступала в борьбу, желая отнять и жену, и жизнь у отца-тирана». (Primal Law, р. 220—221.) Аткинсон, проведший свою жизнь в Новой Каледонии и находившийся в необычно благоприятных условиях для изучения туземцев, ссылается также и на то, что предполагаемые Дарвином обстоятельства жизни первобытной орды можно наблюдать в табунах диких лошадей и быков и что эти условия всегда ведут к убийству животного-отца. Он далее предполагает, что после устранения отца наступает распад орды из-за ожесточенной борьбы сыновей-победителей между собой. Таким путем никогда не возникла бы новая организация общества. Постоянно повторявшееся насильственное восшествие сына единоличного отца-тирана дает возможность отцеубийце в скором времени утверждать свое положение в братоубийственных распрях. (Стр. 228.) Аткинсон, который не мог пользоваться указаниями психоанализа и которому не были известны исследования Робертсона Смита, видит менее насильственный переход от первобытной орды к ближайшим социальным ступеням, на которых многочисленные мужчины уживаются в мирном сожительстве. Он допускает, это материнская любовь добивалась того, что в орде сначала оставались только самые младшие сыновья, а позже и остальные, которые соглашались признать сексуальные преимущественные права отца и отказывались от половых отношений с матерью и сестрами.
Такова чрезвычайно заслуживающая внимания теория Аткинсона. Таково ее совпадение с изложенным здесь в существенном пункте и ее противоречие с высказанным нами, из которого вытекает отказ от общей связи со многими другими явлениями.
. Неопределенность, сокращение во времени и сжатость содержания в моем изложении я оправдываю сдержанностью, обусловленной
Тотем и табу
457
Для того чтобы признать вероятными эти выводы, не считаясь с разными предположениями, достаточно допустить, что объединившиеся братья находились во власти тех же противоречивых чувств к отцу, наличие которых мы можем доказать у каждого из наших детей и у наших невротиков. Эти чувства и содержат амбивалентность отцовского комплекса. Сыновья ненавидели отца, который являлся таким большим препятствием на пути удовлетворения их стремлений к власти и к сексуальным удовольствиям. Но в то же время они любили его и восхищались им. Устранив отца, утолив тем самым свою ненависть и осуществив свое желание отождествиться с ним, они должны были попасть во власть усилившихся нежных душевных движений* 1. Это принимало форму раскаяния, создавало чувство вины, совпадающее с испытанным всеми раскаянием. Мертвый становился сильнее, чем был при жизни. То есть все происходило так, как еще и теперь бывает в судьбах людей. То, чему отец прежде мешал своим существованием, они теперь запрещали сами себе, попав в психическое состояние, хорошо известное в психоанализе под названием «последнего послушания» («nachtraglicher Gehorhsam»). Они объявили недопустимым убийство того, кто заместил убитого отца и отказались от плодов этого убийства, в том числе и от освободившихся женщин. Таким образом, из комплекса сыновей они создали два -основных табу тотемизма, которые должны были поэтому совпасть с обоими вытесненными желаниями эдипова комплекса. Кто поступал наоборот, тот обвинялся в двух преступлениях, составлявших предмет заботы примитивного общества2.
природой самого предмета изложения. Было бы так же бессмысленно добиваться точности в этих вопросах, как напрасно было бы требовать полной уверенности в их правильности.
1 Этой новой направленности чувств способствовало то, что такой поступок не мог принести удовлетворение никому из совершивших его. В известном смысле его совершили напрасно. Никто из сыновей не мог осуществить свое первоначальное желание — занять место отца. А неудача, как нам известно, гораздо больше способствует нравственной реакции, чем удовлетворение.
2 Убийство и инцест или другое какое-нибудь преступление против священных законов крови были единственными злодеяниями в
458
3. Фрейд
Оба табу тотемизма, с которых начинается нравственность людей, психологически неравноценны. Только одно из них — необходимость щадить животное-тотема — всецело вызвано чувствами. Отец был устранен, в реальности исправлять было нечего. Но другое запрещение — инцеста — тоже имело сильное практическое основание. Половая потребность не объединяет мужчин, а разъединяет их. Если братья заключили союз для того чтобы одолеть отца, то по отношению к женщинам каждый оставался соперником другого. Каждый, как и отец, хотел один овладеть ими, а в борьбе всех против всех погибла бы новая организация. Но самых сильных, кто могли бы с успехом взять на себя роль отца, было несколько. Таким образом, братьям, если они хотели жить вместе, не оставалось ничего другого, как преодолеть допущенные непорядки, установить инцестозный запрет, заставивший всех их отказаться от желанных женщин, ради которых они, прежде всего, и устранили отца. Они спасали таким образом организацию, сделавшую их сильными и основанную на гомосексуальных чувствах и проявлениях, которые могли развиться у них за время изгнания. Может быть, это и было положение, составлявшее основу матриархального права, открытого Бахофеном, пока оно не сменилось патриархальным семейным укладом.
С другим табу, защищающим жизнь животного-тотема, связывается право тотемизма считаться первой попыткой создания религии. Если сыновьям животное-тотем казалось естественной и ближайшей заменой отца, то в навязанном им обращении с этим животным проявлялось нечто большее, чем потребность выразить свое раскаяние. С суррогатом отца можно было сделать попытку успокоить жгучее чувство вины, осуществить своего рода примирение с настоящим отцом. Тотемистическая система была как бы договором с отцом, в котором тот обещал все, чего только детская фантазия могла от него ждать — защиту, заботу, снисходительность. Взамен этого сыновья брали на себя обязанность заботиться о его жизни, то есть не повторять над ним того деяния, что свело в могилу его отца. В тотемизме заклю
примитивном обществе, которые община признавала подсудными. «Religion of the Semithes», p. 419.
Тотем и табу
459
чалась также и попытка оправдаться: «Если бы отец поступал с нами так, как тотем, то у нас никогда не появилось бы искушение убить его». Таким образом, тотемизм способствовал тому, чтобы представить обстоятельства в ином свете и содействовать забвению события, которому он обязан своим возникновением. При этом создавались черты, определявшие впоследствии характер религии. Тотемистическая религия произошла из сознания вину сыновей как попытка успокоить их совесть и умилостивить оскорбленного отца поздним послушанием. Все последующие религии пытались разрешить ту же проблему по-разному, в зависимости от культурного уровня среды, в которой они предпринимались, и от выбранных путей решения. Но все они преследовали одну цель — вызвать реакцию на великое событие, с которого началась культура и которое с тех пор не дает успокоиться человечеству.
Но и другой признак, точно сохраненный религией, проявился уже тогда в тотемизме. Амбивалентное напряжение было, вероятно, слишком велико, чтобы прийти в равновесие от какого-нибудь установления. Или психологические условия вообще не благоприятствуют изживанию этих противоположных чувств. Во всяком случае, заметно, что связанная с отцовским комплексом амбивалентность переносится также и в религию. Религия тотемизма отражает не только раскаяние и желание искупления, но и служит воспоминанием о триумфе над отцом. Стремление найти удовлетворение по этому поводу породило празднование поминок в виде тотемистической трапезы, при которой отпадают ограничения «позднего послушания» и каждый раз заново обязательно воспроизводится преступление убийства отца в виде жертвоприношения тотемистического животного. Это произошло, когда из-за изменившихся влияний жизни грозила опасность исчезнуть сохранившемуся результату того деяния — усвоению особенностей отца. Нас не удивляет, если мы находим, что и сыновье сопротивление тоже снова отчасти возникает в позднейших религиозных образованиях, часто в самых замечательных превращениях и перевоплощениях.
Если мы в религии и в нравственном прогрессе, еще не строго разделенных в тотемизме, проследим последствия превратившейся в раскаяние нежности к отцу, то для нас не останется не
460
3. Фрейд
замеченным, что, в сущности, победу одержали тенденции, диктовавшие убийство отца. Социальные чувства братства, на которых зиждется великий переворот, приобретают с этого момента глубочайшее влияние на развитие общества. Они находят себе выражение в святости общей крови, в подчеркивании солидарности жизни всех, принадлежащих к одному клану. Обеспечивая себе таким образом жизнь, братья этим хотят сказать, что никто из них не должен поступать с другими так, как они все вместе поступили с отцом. Они исключают возможность повторения судьбы отца. К религиозно обоснованному запрещению убивать тотема присоединяется еще социально обоснованное запрещение убивать брата. Пройдет еще много времени, пока заповедь освободится от ограничения только кругом соплеменников и будет просто гласить: «Не убий». Сначала место патриархальной орды занял братский клан, обеспечивший себя кровной связью. Общество покоится теперь на соучастии в совместно совершенном преступлении, религия — на сознании вины и раскаянии, нравственность — отчасти на потребностях этого общества, отчасти на раскаянии от сознания вины.
В противоположность новому и совпадая со старым пониманием тотемистической системы, психоанализ обязывает нас, таким образом, придерживаться взгляда о глубокой связи и одновременности происхождения тотемизма и экзогамии.
6
Под влиянием большого числа мотивов я удерживаюсь от попытки описать дальнейшее развитие религий от их зарождения в тотемизме до теперешнего состояния. Я хочу проследить нити, появление которых в общей ткани я вижу особенно ясно: мотив тотемистической жертвы и отношения между сыном и отцом1.
Робертсон Смит учил нас, что древняя тотемистическая трапеза вновь вернулась к первоначальной форме жертвоприноше-
1 Сравни работу К.Г. Юнга, отражающую другие точки зрения. «Wandlungen und Symbole der Libido», Jahrbuch von Bleuler — Freud, IV, 1912.
Тотем и табу
461
ния. Смысл действия тот же: освящение участием в общей трапезе; и хотя сознание вины при этом оставалось, но его снижала солидарность всех участников. Новым добавлением является божество племени, в воображаемом присутствии которого имеет место жертвоприношение. Божество принимает участие в трапезе как член племени, и с ним отождествляют себя все присутствующие, принимая в пишу жертвенное мясо. Каким образом бог попадает в положение, первоначально чуждое ему?
Ответ мог бы быть таким. За это время неизвестно откуда пришла идея божества. Она подчинила себе всю религиозную жизнь. А все то прежнее, что хотело сохраниться, в том числе и тотемистическая трапеза, должно было найти связь с новой системой. Но психоаналитическое исследование показывает с особенной ясностью, что каждый создает бога по образу своего отца. Личное отношение к богу зависит от отношения к телесному отцу и вместе с ним претерпевает колебания и превращения. Бог, в сущности, является ничем иным, как превознесенным отцом. Психоанализ рекомендует и здесь, как и в случае тотемизма, поверить верующим, называющим бога отцом, подобно тому как тотема они называли предком. Если психоанализ заслуживает какого-нибудь внимания, то, независимо от всех других источников происхождения и значений бога, на которые психоанализ не может пролить свет, доля отца в идее божества должна быть очень значительной. В таком случае в положении примитивного жертвоприношения отец замещается дважды: один раз как бог, а в другой — как тотемистическое жертвенное животное. При всей скромности и разнообразии психоаналитических толкований мы должны спросить: возможно ли это и какой в этом смысл?
Нам известно, что между богом и священным животным (жертвенным животным) существуют различные взаимоотношения: 1) каждому богу обычно посвящается какое-нибудь животное, нередко даже несколько; 2) при известных, особенно священных жертвоприношениях («мистических») богу приносили в жертву именно ему посвященное животное; 3) бога часто почитали или обожали в образе животного; или, иначе говоря, животные пользовались священным почитанием еще долгое время спустя после эпохи тотемизма; 4) в мифах бог часто превра
462
3. Фрейд '
щается в животное, нередко в посвященное ему. Таким образом, напрашивается предположение, что бог сам является животным-тотемом. Из животного-тотема он вышел на более поздней ступени религиозного чувствования. Но все дальнейшие дискуссии станут излишними, если напомнить, что сам тотем — не что иное, как отображение отца. Таким образом, он является первой формой замены отца, а бог — позднейшей, в которой отец снова приобрел свой человеческий облик. Такое новообразование, происшедшее из корня всякого религиозного развития — из тоски по отцу, стало возможным с того времени, когда многое существенно изменилось в отношениях к отцу и, может быть, к животному.
О таких изменениях нетрудно догадаться, даже если и не принимать во внимание начало психического отчуждения от животного и разложения тотемизма, когда началось приручение животных. В положении, создававшемся после устранения отца, скрывался момент, который с течением времени должен был невероятно усилить тоску по отцу. Братья, объединившиеся для убийства отца, были, каждый в отдельности, одушевлены желанием стать равными отцу. Чтобы достичь этого, они на трапезе принимали в пишу мясо тотема, заменяющего их отца. Этому желаниию суждено было оставаться неосуществленным из-за давления, которое оказывали узы братского клана на каждого его члена. Никто не мог и не должен был достигнуть полного всемогущества отца, к которому каждый стремился. Таким образом, с течением времени озлобление против отца, толкавшее на жестокое деяние, ослабевало, тоска по нему возрастала. Одновременно развивался идеал, имевший содержанием всю полноту власти и неограниченность прав праотца, против которого велась борьба. Появлялась готовность ему подчиниться. Первоначально демократическое равенство всех соплеменников уже нельзя было сохранить из-за противоречивых культурных изменений. Таким образом, в связи с почитанием отдельных людей, отличившихся среди других, появилась склонность вновь ожйвить старый отцовский идеал созданием богов. То, что в настоящее время нам кажется возмутительным допущением,— а именно, что человек становится богом и бог умирает,— не вызывало протеста даже у представителей класси
Тотем й табу
463
ческой древности1. Возведение убитого некогда отца в ранг бога, от которого племя ведет свой род, было, однако, гораздо более серьезной попыткой искупления, чем в свое время договор с тотемом.
Я не могу указать, где в этом развитии находится место для великих материнских богов, которые, может быть, повсеместно предшествовали богам отцовским. Но кажется несомненным, что изменение в отношениях к отцу не ограничилось религиозной областью. Оно постепенно перенеслось на другую область человеческой жизни, на которой отразилось упразднение ореола отца,— на социальную организацию. С возникновением отцовского божества общество, не знавшее ртца, постепенно превращалось в патриархальное. В семье восстановлена была прежняя первобытная орда, и отцы получили большую часть своих прежних прав. Но социальные завоевания братского клана при этом не погибли. Фактическое различие между новыми отцами семейств и неограниченным праотцем орды было достаточно велико. Это обеспечивало продолжение существования религиозной потребности сохранять неудовлетворенную тоску по отцу.
В сцене жертвоприношения богу племени отец действительно присутствует дважды — и как бог, и как тотемистическое жертвенное животное. Но при попытке понять это положение мы должны избегать толкований, пытающихся поверхностно объяснить его как аллегорию и забывающих при этом об исторических наслоениях. Двойное присутствие отца отражает две сцены, сменяющие друг друга по времени. Здесь нашло пластическое выражение амбивалентное отношение к отцу, а также победа нежных чувств сына над враждебными. Сцена одоления отца и
1 «Нам, современным людям, у которых расстояние, отделяющее людей от божества, увеличилось до непроходимой бездны, такая пантомима может показаться одиозной. Но у древних народов это было совсем по-другому. Воображаемые боги и человек казались единокровными. Некоторые семьи вели свое происхождение от божества, и обожествление человека, вероятно, казалось им не более экстраординарным, чем канонизация у наших католиков». Frazer, «The Golden Bough», II, с. 177.
464
3. Фрейд
его величайшего унижения послужила здесь материалом для изображения его высшего триумфа. Значение, приобретенное жертвоприношением вообще, кроется в том, что оно дает удовлетворение отцу за причиненное ему оскорбление в том же действии, которое сохраняет и воспоминание об этом злодеянии.
В дальнейшем животное теряет свою святость, а жертвоприношение — связь с тотемистическим праздником. Оно превращается в простое приношение божеству, в самоограничение в пользу божества. Сам бог теперь уже настолько возвысился над людьми, что общение с ним возможно только через священнослужителя. В то же время социальный порядок знает равных богам царей, переносящих патриархальную систему на все государство. Мы должны сказать, что месть сверженного и вновь восстановленного отца — сурова, господство его авторитета держится на высоте. Подчиненные сыновья использовали новое положение, чтобы еще больше облегчить сознание своей вины. Жертвоприношение в его настоящем виде находится совсем вне сознания их ответственности. Сам бог потребовал и установил его. К этой фазе относятся мифы, в которых сам бог убивает посвященное ему животное, собственно олицетворяющее его. Таково крайнее отрицание великого злодеяния, положившего начало обществу, а вместе с тем и сознанию вины. Нельзя не признать и второго значения этого последнего изображения жертвоприношения. Оно выражает удовлетворение по поводу того, что люди отказались от прежней замены отца в пользу высшего представления о божестве. Поверхностное, аллегорическое толкование сцены приблизительно совпадает здесь с ее психоаналитическим толкованием. Оно гласит: здесь изображается, как бог преодолевает животную часть своего существа1.
1 Победа одного культа богов над другим в мифологии означает, как известно, исторический процесс замены одной религиозной системы новой — или вследствие завоевания чужим народом, или в силу психологического развития. В последнем случае миф приближается к «функциональный феноменам» в смысле Г. Зильберера. Предположение, что убивающий животное бог является символом либидо, как утверждает К.Г. Юнг, исходит из другого понимания либидо, чем принятое до сих пор, и мне кажется вообще спорным.
Тотем и табу
465
Между тем ошибочно было бы полагать, что в эти периоды обновленного отцовского авторитета совершенно заглохли враждебные душевные движения, относящиеся к отцовскому комплексу. О первых фазах господства обоих новых замещений богов и царей нам известны самые энергичные проявления той амбивалентности, которая остается характерной для религии.
Фрейзер в своем большом труде «The Golden Bongh» высказал предположение, что первые цари латинских племен были чужеземцами, игравшими роль божества, и что в этой роли их торжественно убивали в определенный праздничный день. Ежегодное жертвоприношение бога (вариант: приношение в жертву самого себя) составляет, по-видимому, существенную черту семитских религий. Церемониал принесения человеческих жертв в различных местах обетованной земли оставляет мало места сомнению в том, что эти люди находили свою смерть как представители божества. Позднее можно проследить этот жертвенный обычай в виде замещения живого человека неодушевленной копией (куклой). Богочеловеческое приношение в жертву бога (которое я здесь, к сожалению, не могу проследить так же глубоко, как приношение в жертву животных), бросает яркий ретроспективный свет на смысл более древней жертвенной формы. Оно признает с полнейшей откровенностью, что объект жертвенного действия был всегда один и тот же; а именно тот, который теперь почитается, как бог, то есть отец. Вопрос о взаимоотношении между животными и человеческими жертвами теперь легко разрешается. Первоначальная жертва, животное, была уже заменой человеческой жертвы — торжественного убийства отца. А когда на замену отцу снова выбирали человека, то и жертва-животное могла снова превратиться в человеческую.
Таким образом, воспоминание о том первом великом жертвенном действии оказалось неизгладимым, несмотря на все старания его забыть. И именно тогда, когда люди хотели как можно дальше уйти от мотивов этого деяния, должны были проявиться неискаженные повторения его в форме принесения в жертву бога. В этом месте мне незачем указывать, какое развитие религиозного мышления сделало возможным это возвращение в виде рационализации. Робертсон Смит далек от нашего объяснения жертвоприношения этим великим событием доисторичес
466
3. Фрейд
кой эпохи человечества. Но и он показывает, что церемониал этих праздников, на которых древние семиты праздновали смерть божества, объяснялся как «воспоминание о мистической трагедии». Оплакивание при этом носило характер не добровольного участия, а чего-то насильственного, продиктованного страхом перед божественным гневом1. По нашему мнению, можно согласиться, что это истолкование совершенно правильно и что чувства принимающих участие в празднике вполне объясняются лежащим в их основе положением.
Примем за факт, что и в дальнейшем развитии религии никогда не исчезают оба движущих ее фактора: сознание вины сына и сыновье сопротивление. Всякая попытка разрешить проблему, всякий способ примирить обе борющиеся душевные силы оказываются, в конце концов, неудачными, вероятно под комбинированным влиянием исторических событий и внутренних психических превращений.
Со все увеличивающейся ясностью проявляется стремление сына занять место бога-отца. Занятие земледелием поднимает значение сына в патриархальной семье. Он позволяет себе дать новое выражение своему инцестозному либидо, находящему символическое выражение в обработке матери-земли. Возникают образы богов Аттиса, Адониса, Фаммуза и др., духов произрастания и в то же время — молодых божеств. Они пользуются любовной нежностью материнских божеств и осуществляют инцест с матерью назло отцу. Однако сознание вины, которое не могут заглушить эти новые творения, находит себе выражение в мифах, приписывающих этим молодым возлюбленным матерей-богинь короткую жизнь и наказание кастрацией или гневом бога-отца, принимающего форму животного. Адониса убивает вепрь, священное животное Афродиты. Аттис, возлюбленный Кибеллы,
1 Religion of the Semiths, p. 412—413. «Оплакивание — не свободное выражение симпатии по отношению к божеству трагедии. Оно обязательно и требуется под страхом сверхъестественного гнева божества. Оплакивающие, прежде всего, отрицают свою ответственность за смерть бога. Этот пункт дошел и до нас в связи с богочеловеческими жертвами, как, например, у закалывающих быков в Афинах».
Тотем и табу
467
погибает от кастрации1. Оплакивание и радость по поводу воскресения богов перешли в ритуал другого сына-божества, которому предопределен был длительный успех.
Когда христианство начало свое наступление на древний мир, оно столкнулось с конкуренцией религии Митры, и некоторое время трудно было определить, за каким божеством останется победа.
Светозарный образ персидского юноши-бога все-таки остался нами непонятым. Может быть, из сцены убийства быка Митрой можно заключить, что он представляет собой того сына, который сам совершил жертвоприношение отца и этим освободил братьев от мучающего тяжелого чувства вины за соучастие в деянии. Но был и другой путь успокоить это чувство вины, которым и пошел Христос. Он принес в жертву свою собственную жизнь и этим освободил братьев от первородного греха.
Учение о первородном грехе орфического происхождения. Оно сохранилось в мистериях и оттуда проникло в философские школы греческой древности2. Люди были потомками титанов, убивших и разорвавших на куски Диониса за грех; тяжесть этого преступления давила их. Во фрагменте Анаксимандра сказано, что единство мира было разрушено из-за доисторического преступ
1 Страх кастрации играет невероятно большую роль в осложнении отношений с отцом у наших молодых невротиков. Из прекрасного наблюдения Ференци мы видим, как мальчик узнает свой тотем в животном, которое хочет укусить его за половой орган. Когда наши дети узнают о ритуальном обрезании, они отождествляют его с кастрацией. Параллель этому поведению детей, насколько я знаю, в области психологии народов еще не указана. Обрезание, столь частое в доисторические времена и у примитивных народов, относится к периоду посвящения юноши во взрослых мужчин, где оно приобретает свое значение. Только впоследствии оно переносится в более раннюю эпоху жизни. Чрезвычайно интересно, что у примитивных народов с обрезанием совмещают стрижку волос или удаление зубов. Или его заменяют этими процедурами. И у наших детей, которые ничего не могут знать об этих древних обычаях, вызывается реакция страха к обеим этим операциям, как к эквивалентам кастрации.
2 Reinach, Cultes, Mythes et Religions, II, p. 75 ff.
468
3, Фрейд
ления. И все, что произошло от него, должно понести за это наказание1. Этот поступок титанов характерной чертой, когда одновременно убивают и разрывают на части, достаточно ясно напоминает описанное св. Нилом жертвоприношение тотема (как, впрочем, и многие другие мифы древности, например смерть самого Орфея). И все же нам мешает та деталь, что убийство совершено над молодым богом.
В христианском мифе первородный грех человека представляет собой, несомненно, прегрешение против бога-отца. Если Христос освобождает людей от тяжести первородного греха, жертвуя собственной жизнью, то это заставляет нас прийти к заключению, что этим грехом было убийство. Согласно коренящемуся глубоко в человеческом чувстве закону Талиона, убийство можно искупить только ценой другой жизни. Самопожертвование указывает на кровавую вину2. И если это приношение в жертву собственной жизни ведет к примирению с богом-отцом, то преступление, которое нужно искупить, может быть только убийством отца.
Таким образом, в христианском учении человечество самым откровенным образом признается в преступном деянии доисторического времени, потому что самое полное искупление его оно нашло в жертвенной смерти сына. Примирение с отцом тем более полное, что одновременно с этой жертвой последовал полный отказ от женщины, из-за которой произошло возмущение против отца. Но тут-то психологический рок амбивалентности требует своих прав. Вместе с деянием, дающим отцу самое позднее искупление, сын также достигает цели своих желаний по отношению к отцу. Он сам становится богом, наряду с отцом, собственно — вместо него. Религия сына сменяет религию отца. В знак этого замещения древняя тотемистическая трапеза снова оживает в виде причастия, в котором братья вкушают плоть и кровь сына, а не отца, освящают себя этим причастием и отождествляют себя с ним. Наш взгляд может проследить в потоке времен тождество тотемистической трапезы с жертвоприноше
1 Une sorte de peche proethique, 1 c., p. 76.
2 Импульсы к самоубийству наших невротиков всегда оказываются наказанием самого себя за желание смерти другим.
Тотем и табу
469
нием животных, с богочеловеческим жертвоприношением и с христианской евхаристией. И во всех этих торжествах он открывает отголосок того преступления, которое столь угнетало людей и которым они должны были так гордиться. Христианское причастие, однако, является по существу новым устранением отца, повторением деяния, которое нужно искупить. Мы видим, как верны слова Фрейзера, что «христианская община впитала в себя таинство более древнего происхождения, чем само христианство»1.
7
Устранение праотца братьями должно было оставить неизгладимые следы в истории человечества и проявиться в замещениях, тем более многочисленных, чем менее желательно было сохранить воспоминание о нем2. Я отказываюсь от искушения проследить его отголоски в мифологии, где их нетрудно найти. Перейду к другой области, следуя указанию Райнаха в его содержательной статье о смерти Орфея3.
В истории греческого искусства существует положение, имеющее одно удивительное сходство и не менее глубокое отличие от нарисованной Робертсоном Смитом картины тотемистической трапезы. Это положение в древнейшей греческой трагедии. Группа лиц, все с одинаковым именем и в одинаковой одежде, окружают одного человека, от слов и поступков которого они все зависят. Это хор и единственный сначала герой. В дальнейшем развитии появляется другой актер, для того чтобы изобразить тех, кто сопротивляется ему и отвернулся от него. Но характер героя и его отношение к хору остаются неизменными. Герой тра
1 Поедание бога, с. 61. Кто знаком с литературой по данному предмету, тот не подумает, что сведение христианского причастия к тотемистической трапезе является мыслью только автора этой статьи.
2 Ariel в «Буре»: Full fathom five thy father lies:
Of his bones are coral made.
3La Mort d’Orphee в цитируемой здесь книге: Cultes, Mythes et Religions, I—II, p. 100 ff.
470 3. Фрейд .
гедии должен был страдать. Это и теперь является сутью содержания трагедии. Герой должен взять на себя так называемую «трагическую вину», которую не всегда легко обосновать. Часто это вовсе и не вина — в смысле буржуазной морали. Большей частью вина состояла в возмущении против божественного авторитета. Хор вторил герою, выражая ему чувство симпатии; старался удержать его, предупредить и смирить. Он оплакивал героя, когда его постигало возмездие за его смелый поступок, считавшееся заслуженным.
Но почему герой трагедии должен был страдать и что означает его «трагическая вина»? Мы сократим дискуссию, приведя отрывок.
Those are pearls that were his eyes;
Nothing of him that doth fade But doth suffer a sea-change Into something rich and strange.
На тридцать пять футов
В воде твой отец.
Что было костями —
В коралл обратилось; Что было глазами — То перлами стало.-Ничто в разрушение В нем не пришло, Но только все в нем Обратилось в морское.
(Перевод П.А. Каншина.)
И дадим быстрый ответ. Он должен страдать, потому что он праотец, герой той великой доисторической трагедии, тенденциозное воспроизведение которой здесь разыгрывается. А его трагическая вина — это та, которую он должен взять на себя, чтобы освободить от нее хор. Сцена на подмостках произошла от исторической сцены, можно сказать, при помощи целесообразного искажения и в целях утонченного лицемерия. В той древней действительности именно участники хора причинили страда
Тотем и табу
471
ние герою. Здесь же они изводят себя сочувствием и сожалением, а герой сам виноват в своем страдании. Взваленное на него преступление, заносчивость и возмущение против большого авторитета, составляют именно то, что в действительности тяготит участников хора. Таким образом, трагический герой против воли становится спасителем хора.
Но в греческой трагедии речь идет о страданиях божественного козла Диониса, а содержанием представления стали жалобы отождествляющей себя с ним свиты козлов. Но легко понять, что угасшая уже драма вновь воспламенилась в средние века в «страстях Господних».
Таким образом, в заключение этого крайне сжатого исследования я хочу сделать вывод, что в эдиповом комплексе начала религии, нравственности, общественного устройства и искусства находятся в полном согласии с выводами психоанализа. Согласно им, этот комплекс составляет ядро всех неврозов, насколько они до сих пор оказались доступными нашему пониманию. Мне кажется чрезвычайно удивительным, что и эта проблема душевной жизни народов может быть разрешена, если исходить только из одного конкретного пункта — отношения к отцу. Может быть, в эту связь нужно ввести даже другую психологическую проблему. Нам часто случалось открывать амбивалентность чувств в настоящем смысле, то есть совпадение любви и ненависти к одному и тому же объекту в основе значительных культурных образований. Мы ничего не знаем о происхождении этой амбивалентности. Можно допустить, что она — основной феномен жизни наших чувств. Но, как мне кажется, достойна внимания и другая возможность. А именно, что первоначально амбивалентность чужда жизни чувств и приобретается человеком с переживанием отцовского1 комплекса, который, по психоаналитическим исследованиям, еще и теперь более всего проявляется у отдельного человека2.
1 Или родительского.
2 Так как я привык к тому, что меня неправильно пониманиют, то считаю нелишним специально подчеркнуть следующее. Данные здесь объяснения не означают, что я забыл о сложной природе разбираемых феноменов. Я хочу только прибавить новый момент к
472
3. Фрейд
* * *
Прежде чем закончить, я хочу заметить, что широкое всеобъемлющее обобщение, которое мы провели в этих статьях, не лишает нас возможности чувствовать некоторую неуверенность в наших исходных положениях и неудовлетворенность достигнутыми результатами. Из этой области я хочу коснуться только двух моментов, которые, вероятно, остановили на себе внимание читателя.
Нельзя было не заметить, что мы допускаем существование массовой психики, в которой протекают те же душевные процессы, что и в жизни отдельного лица. Мы также допускаем, что сознание вины переживают на протяжении многих тысячелетий даже те поколения, которые могли ничего не знать о жестоких деяниях предков. Чувственный процесс, возникший в поколении сыновей, которых мучил отец, мы распространяем на новые поколения, которые именно из-за устранения отца не знали таких отношений. Это может вызвать серьезные возражения. Может даже показаться, что всякое другое объяснение, лишенное подобных исходных предположений, вроде бы заслуживает предпочтения.
Однако дальнейшие соображения показывают, что не нам одним приходится нести ответственность за подобные взгляды. Психология народов вообще не может существовать без допущения массовой психики, непрерывности чувств в жизни людей, дающей возможность не обращать внимания на прерываемость душевных актов при гибели индивидов. Если бы психические процессы, происходящие в одном поколении, не находили своего продолжения в другом, если бы каждое поколение должно было заново при
известным уже или не открытым еще источникам религии, нравственности и общества — момент, вытекающий из требований, подсказанных психоаналитическими взглядами. Синтез полного объяснения я предоставляю выполнить другим. Но из природы этих новых данных вытекает, что в таком синтезе они будут играть только центральную роль. Правда, потребуется продолжение больших эффективных сопротивлений, прежде чем за ними будет признано такое значение.
Тотем и табу
473
обретать свою направленность в жизни, то в общественной жизни не было бы никакого прогресса и почти никакого развития. Теперь возникают два новых вопроса: насколько можно доверять психической беспрерывности в пределах ряда поколений и какими средствами и путями пользуется каждое поколение, чтобы передать свое психическое состояние следующему? Не стану утверждать, что все эти вопросы достаточно выяснены, или что простая устная передача взглядов и традиции, о которых прежде всего думают, хорошо объясняет это. В общем, наука о психологии народов мало задумывается над тем, каким образом создается необходимая непрерывность душевной жизни сменяющих друг друга поколений. Часть задачи осуществляется, по-видимому, наследованием психических предрасположений, которым, однако, все же требуются известные побуждения в индивидуальной жизни, чтобы повернуться лицом к действительности. В этом, вероятно, и заключается смысл слов поэта: «То, что ты унаследовал от твоих отцов, используй для того, чтобы овладеть им». Проблема вообще могла оказаться еще более трудной, если бы мы допустили, что бывают душевные движения, подавляемые без каких-либо остаточных явлений. Но таких на самом деле не бывает. Самое сильное подавление оставляет место для искаженных, замещающих душевных движений и вытекающих из них реакций. В таком случае мы можем допустить, что ни одно поколение не может скрыть от последующего более или менее значительные душевные процессы.
Психоанализ показал нам, что каждый человек в своей бессознательной душевной деятельности обладает аппаратом, который дает ему возможность толковать реакции других людей, то есть устранять искажения, которые другой человек допустил в выражении своих чувств. Такой путь бессознательного понимания обычаев, церемониалов и узаконений, в которые вылилось первоначальное отношение к праотцу, помог и более поздним поколениям унаследовать эти чувства к праотцу.
Другое сомнение могло бы возникнуть как раз со стороны тех, кто придерживается аналитического образа мыслей.
Первые предписания морали и нравственные ограничения примитивного общества мы рассматривали как реакцию на деяния, давшие его зачинщикам понятие о преступлении. Те раска
474
3. Фрейд
ивались в этих деяниях и решали, что никогда больше не повторят их, тем более что не видят от них никакой пользы. Это творческое сознание вины не заглохло в людях и до сих пор. Мы находим его у невротиков, где оно действует как асоциальное явление, вызывающее к жизни новые предписания морали и непрерывные ограничения, как покаяние в совершенных преступлениях и как мера предосторожности против тех, которые могут быть совершены впредь1. Но если мы станем искать у этих невротиков поступки, вызвавшие такие реакции, то к нам придет разочарование. Мы не найдет таких поступков, а только импульсы, движения чувств, стремящихся ко злу, совершение которого сдерживается. Сознание вины невротиков имеет свое основание только в психических реальностях, а не в фактических. Невроз характеризуется тем, что ставит психическую реальность выше фактической, реагирует на мысли столь же серьезно, как нормальные люди — на действительность.
Не происходило ли у примитивных народов дело таким образом? Мы вправе приписывать им необычно высокую оценку психических актов, как одно из проявлений их нарциссической организации2. Поэтому даже только импульсов, враждебных отцу, мыслей о желании убить и съесть его, могло быть достаточно, чтобы вызвать моральные реакции, создавшие тотем и табу. Таким образом, следовало бы избавиться от необходимости свести начало нашего культурного развития, которым мы с основанием так гордимся, к отвратительному преступлению, оскорбляющему все наши чувства. При этом ничуть не пострадала бы причинная связь, существующая с тех пор до настоящего времени, потому что психическая реальность достаточно значительна, чтобы объяснить все эти последствия. На это станут возражать, что эволюция общества от формы отцовской орды до формы братского клана действительно имела место. Это аргумент сильный, но не решающий. Такого изменения можно было достигнуть менее насильственным путем и с сохранением условий, необходимых для появления моральной реакции. Пока гнет праотца да
1 Сравни вторую статью этого сборника «Табу и амбивалентность чувств».
2 Смотри статью «Анимизм, магия и всемогущество мысли».
Тотем и табу
475
вал себя знать, враждебные чувства против него имели свое оправдание, а раскаяние за них откладывалось до более позднего времени. Так же мало выдерживает критику другое возражение, полагающее, что все исходящее из амбивалентного отношения к отиу, табу или жертвенные предписания, носит характер чрезвычайной серьезности и полной реальности. Церемониал невротика, страдающего навязчивостью, имеет такой же характер. И все же он вытекает из психической реальности, из одних только намерений, без выполнения их. -Нам нельзя вносить в мир примитивного человека и невротика, лишь внутренне богатый, наш трезвый мир, полный материальных ценностей и презрения к тому, что составляет только объект мысли и желания.
Мы стоим перед решением, принять которое нелегко. Но начнем с признания, что различие, кажущееся другим коренным, по нашему мнению, не составляет сущности вопроса. Если для примитивного человека желания и импульсы имеют полную ценность фактов, то мы должны принять такой взгляд с полным пониманием его, вместо того чтобы исправлять его согласно нашему масштабу. Но в таком случае рассмотрим поближе невроз, который вызвал в нас такое сомнение. Неверно, что невротики, страдающие навязчивостью, находятся в настоящее время под гнетом сверхморали; что они защищаются только против психической реальности искушений и казнят себя только за возникающие в них импульсы. Известную роль играет при этом и некоторая доля исторической реальности. В детстве такие люди имели только злобные импульсы и превращали эти импульсы в действия, насколько при своей беспомощности были в состоянии это сделать. Каждый из этих сверхдобрых пережил в детстве злое время, извращенную фазу, как предтечу и предпосылку позднейшей, сверхморальной. Аналогия между примитивными людьми и невротиками становится, таким образом, основательной. Но при этом мы допускаем, что у примитивных людей психическая реальность, образование которой не подлежит никакому сомнению, первоначально совпала с фактической реальностью и примитивные люди действительно совершали все то, что они, по всем данным, намеревались совершить.
Но в нашем суждении о примитивных людях не должно ощущаться слишком большое влияние аналогии с невротиками. Не
476
3. Фрейд
обходимо принять во внимание и различия. Несомненно, и у дикаря, и у невротика не такое различие между мыслью и действием, как у нас. Невротик больше всего испытывает задержки в действиях, у него мысль полностью заменяет поступок. А примитивный человек не сдержан. У него мысль немедленно превращается в действие. Поступок для него, можно сказать, заменяет мысль. Поэтому, я думаю (хотя и сам не вполне уверен в несомненности своего суждения), что к рассматриваемому случаю можно применить слова: вначале было деяние.
Содержание
ОСТРОУМИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ.....................................3
Аналитическая часть....................................5
Введение............................................5
I. Техника остроумия...............................12
II. Тенденции остроумия............................83
Синтетическая часть..................................111
III. Механизм удовольствия и психогенез остроумия.111
IV. Мотивы остроумия.
Остроумие как социальный процесс...............132
Теоретическая часть..................................153
V. Отношение остроумия к сновидению и к бессознательному..............................153
VI. Остроумие и все виды комического..............174
СТРАХ................................................231
1....................................................233
И....................................................237
111..................................................241
IV 245
V 253
VI 260
VII 264
VIII 271
IX 282
X 287
XI . Добавление 293
А. Изменение высказанных прежде взглядов........293
Б. Дополнение кучению о страхе...................300
В. Страх, боль и печаль.........................302
ТОТЕМ И ТАБУ Психология ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ.........309
Введение............................................311
I. Боязнь инцеста...................................315
II. Табу и амбивалентность чувств...................333
III. Анимизм, магия и всемогущество мысли...........388
IV. Инфантильное возвращение тотема.................413
вввввавв в ввввв в в в в в в в в в а в в а в в
Книги издательской группы ACT вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:
107140, Москва, а/я 140
ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ
Вы также сможете приобрести книги группы ACT по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:
Москва
м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 86, к. 1
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, к. 1
м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91,306-18-97
м. «Пушкинская», «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10,
тел. 209-66-01,299-65-84
м. «Сокол», Ленинградский пр., д. 76, к. 1, Торговый комплекс «Метромаркет», 3-й этаж, тел. 781-40-76
м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
м. «Таганская», «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21 -07
м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, тел. 322-28-22
Торговый комплекс «XI», Дмитровское шоссе, д. 89, тел. 783-97-08
Торговый комплекс «Крокус-Сити», 65—66-й км МКАД, тел. 942-94-25
Регионы
г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
г. Краснодар, ул. Красная, д. 29, тел. (8612) 62-55-48
г. Курск, ул. Ленина, д. 11, тел. (0712) 22-39-70
г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1 /16, тел. (8312) 33-79-80
г. Новороссийск, сквер имени Чайковского, тел. (8612) 68-81-27
г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (88632) 35-99-00
г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1 / Волжская наб., д. 107, тел. (0855) 52-47-26
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62, тел. (0912) 20-55-81
г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 4, тел. (0812) 65-53-58
г. Тула, пр. Ленина, д. 18, тел. (0872) 36-29-22
г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22
Издательская группа ACT
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Справки по телефону: (095)615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru http://www.ast.ru
Научно-популярное издание
Фрейд Зигмунд
ОСТРОУМИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ
Ответственная за выпуск В. Н. Волкова
Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 14.12.05. Формат 60х90‘/16. Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,0. Тираж 3000 экз. Заказ 3243.
ООО «Издательство АСТ»
170000, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19А, оф. 214 Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru
ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.