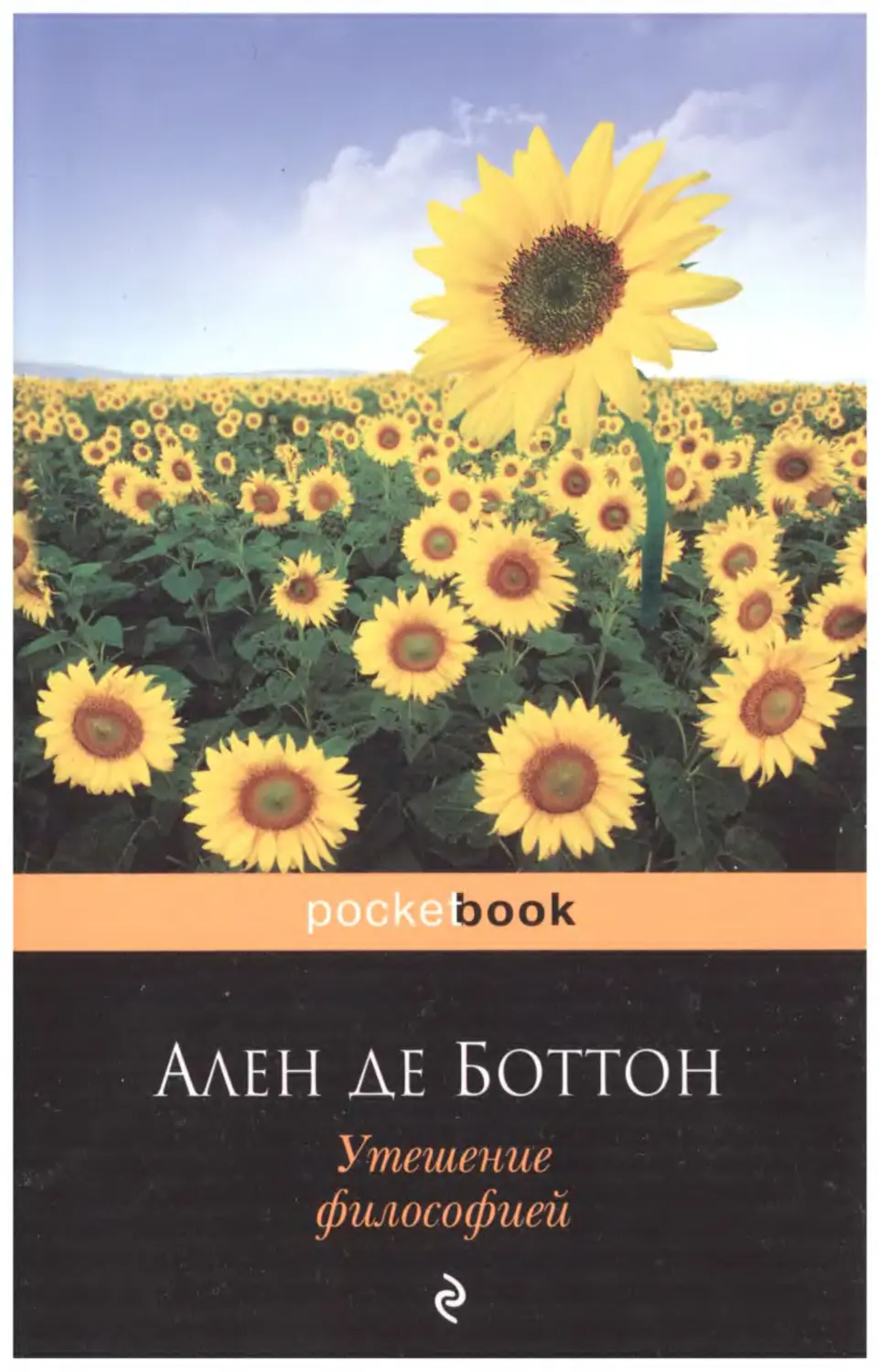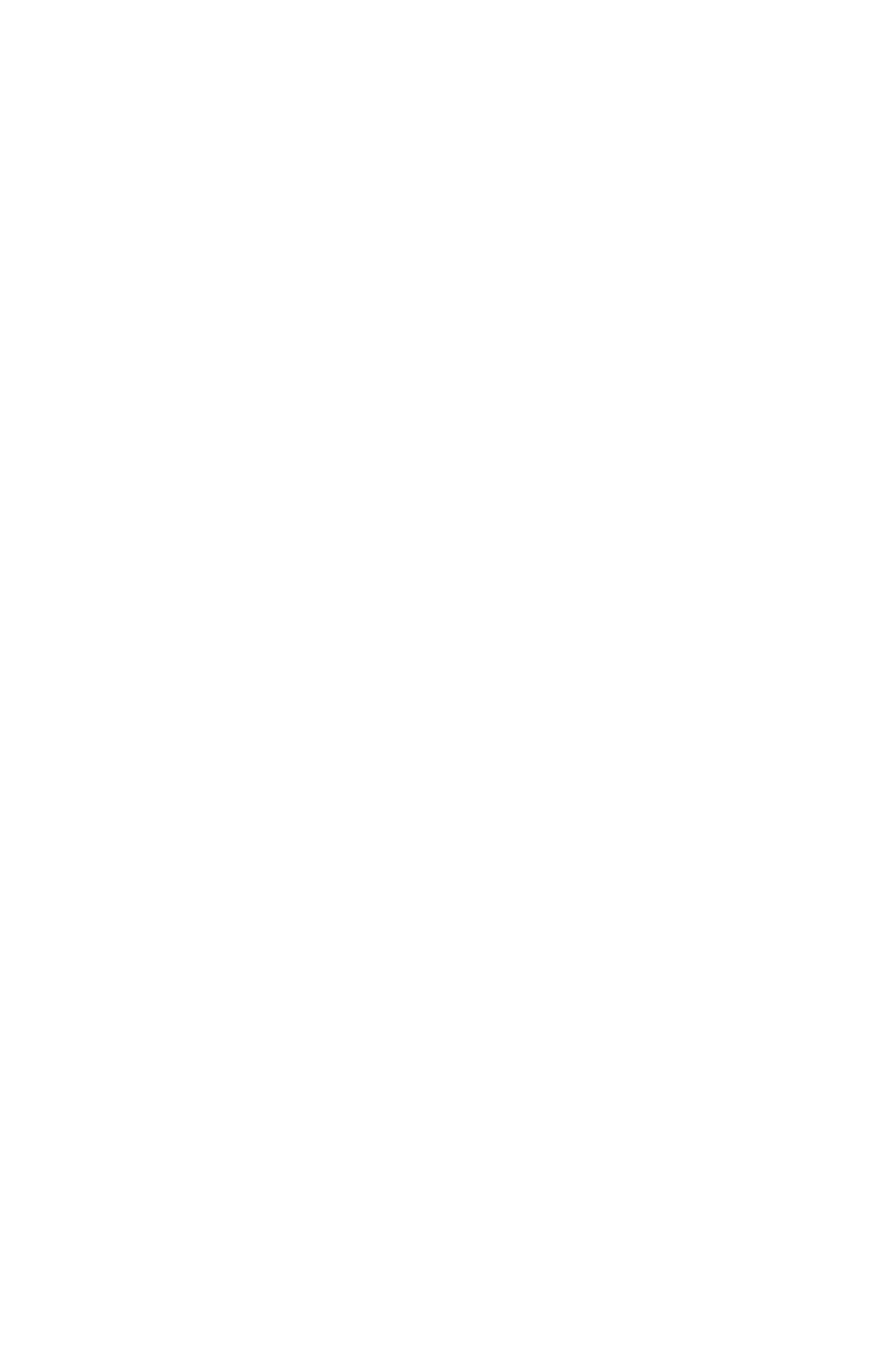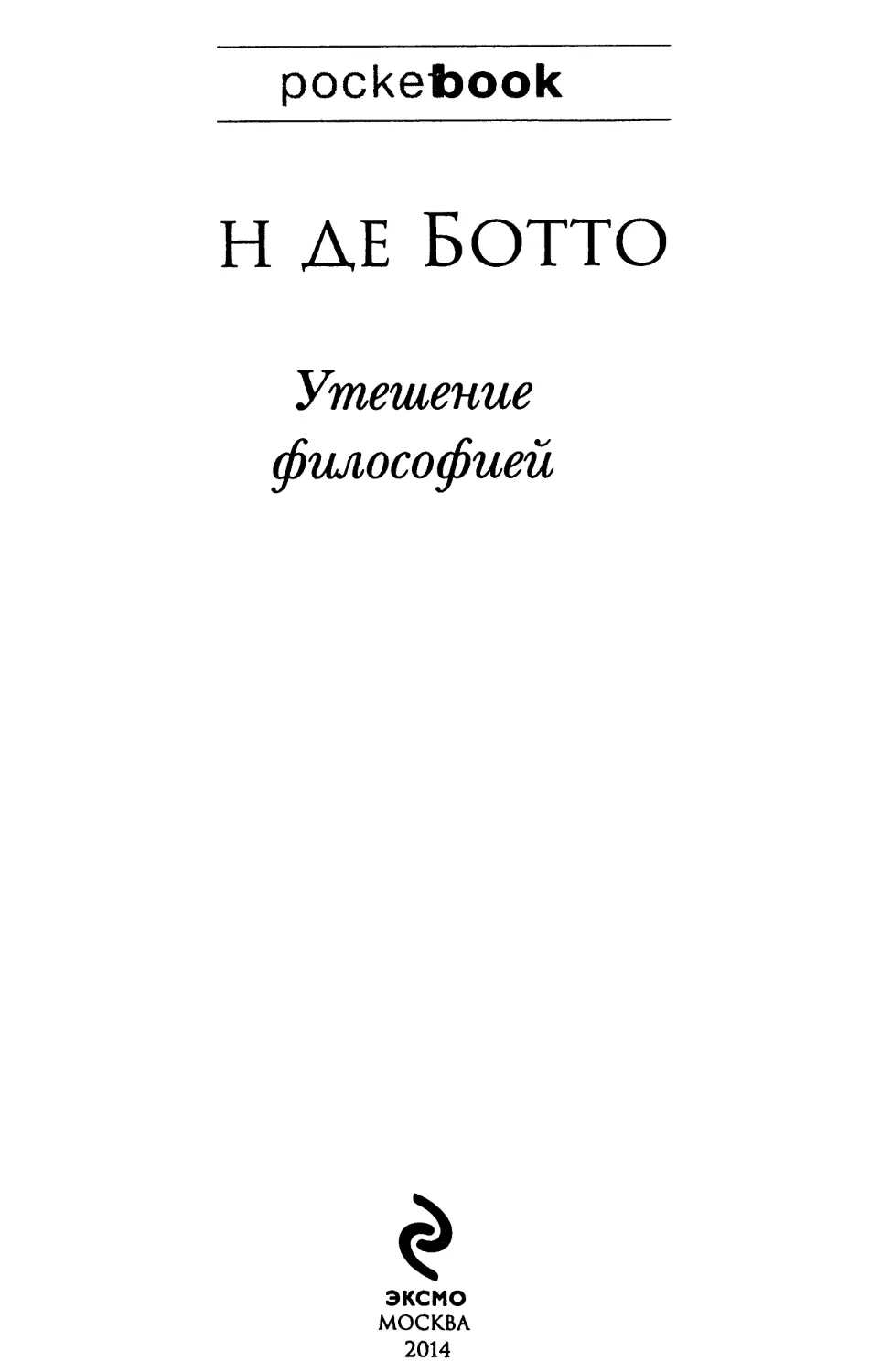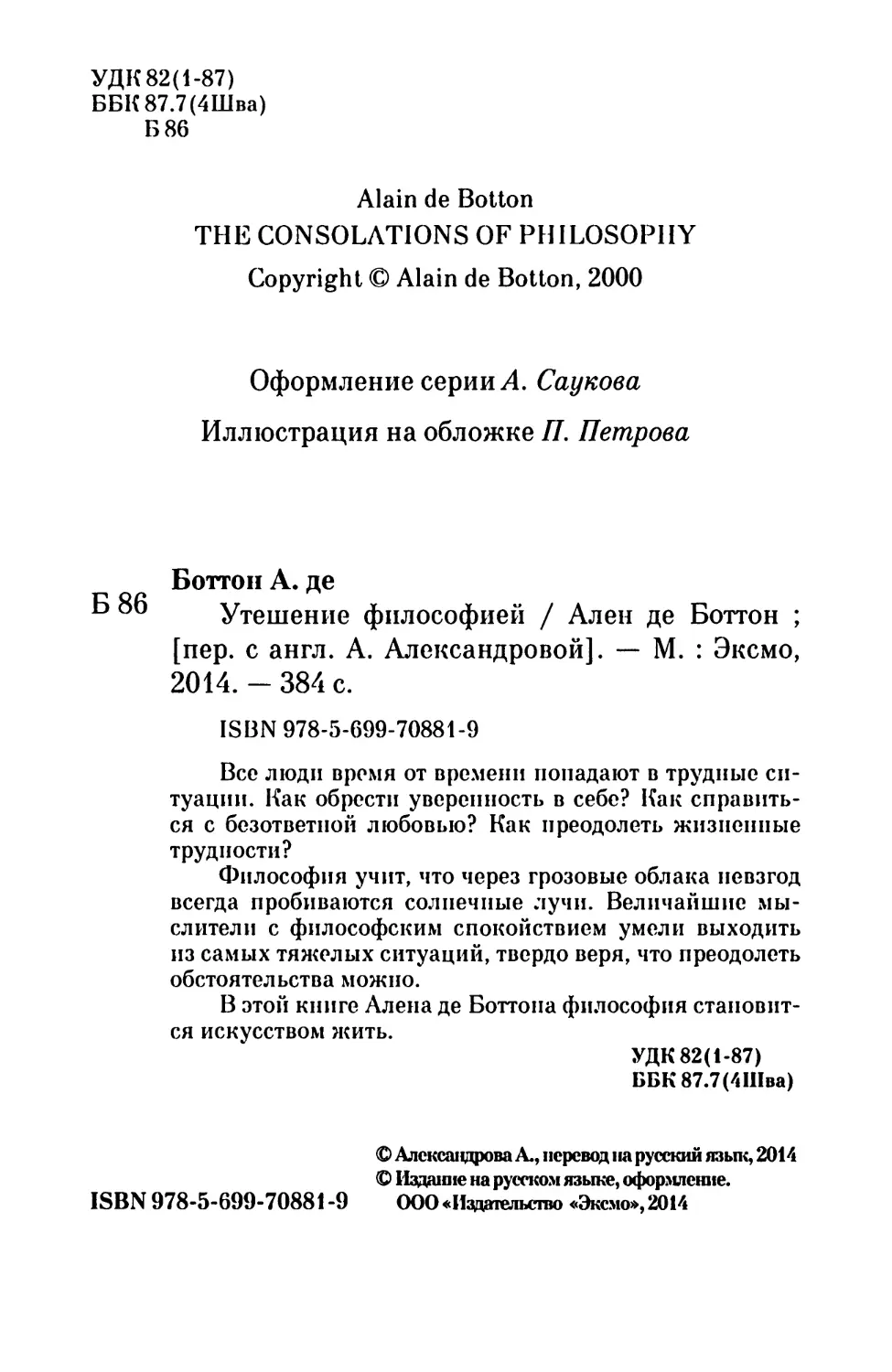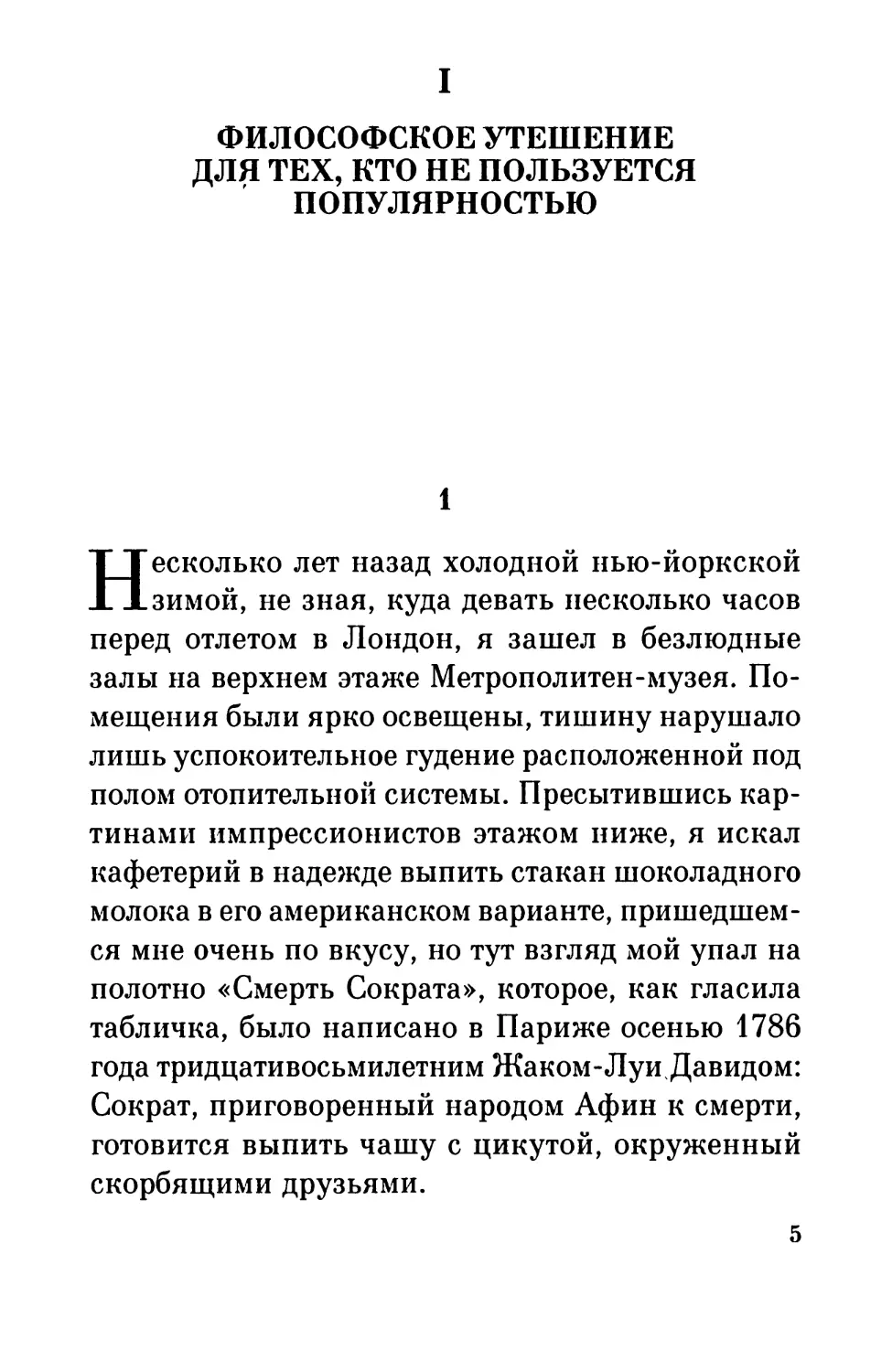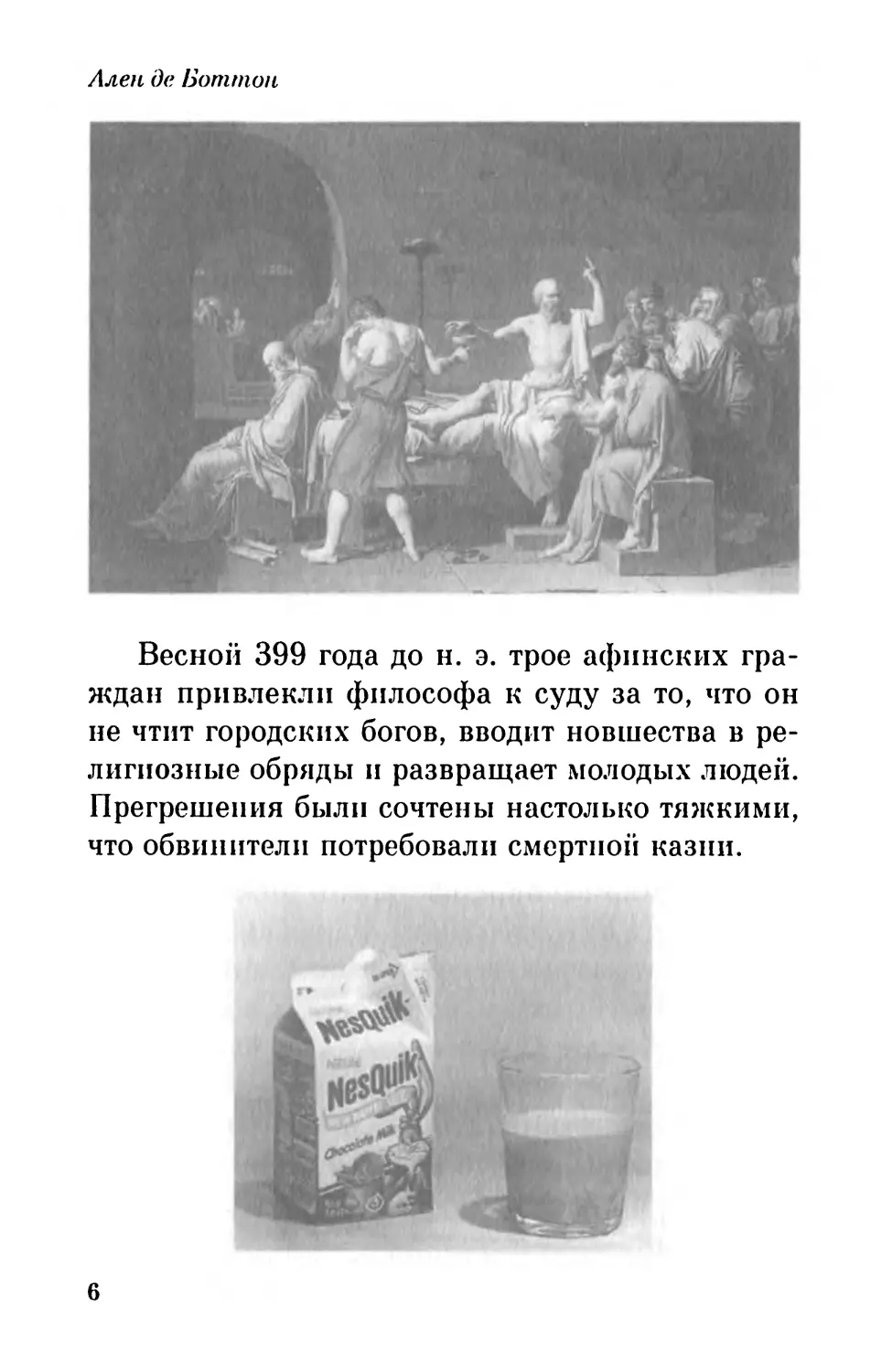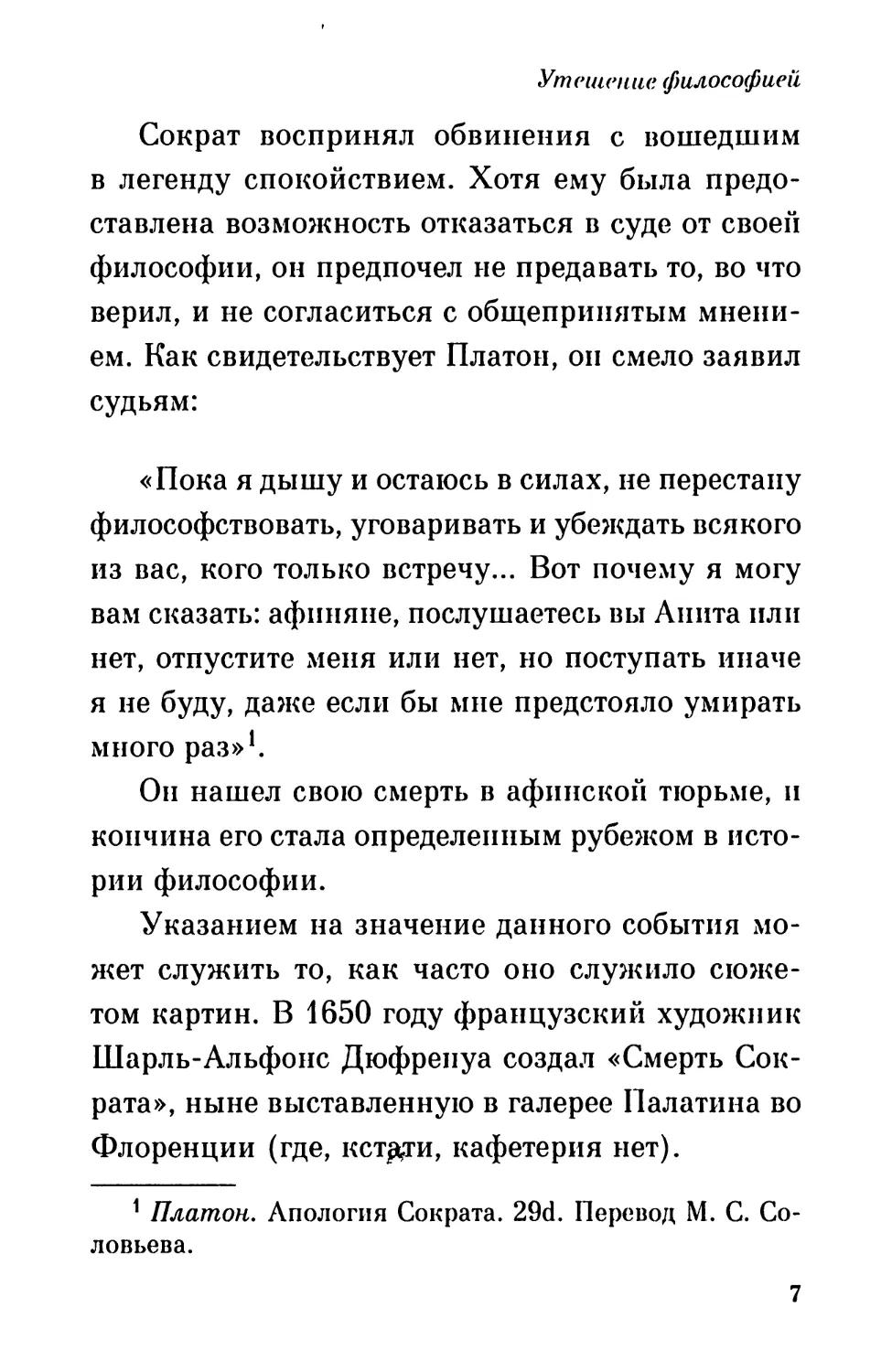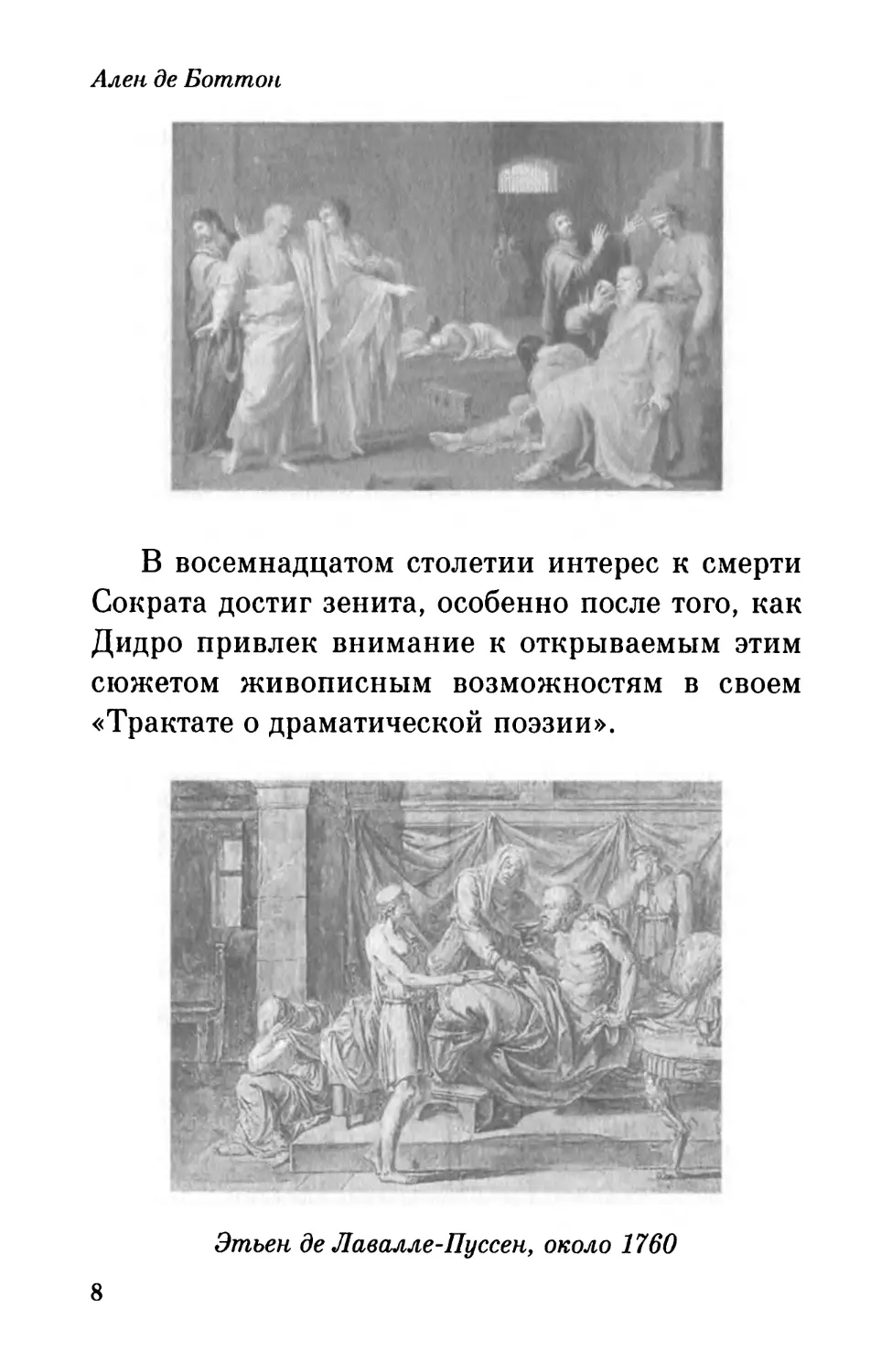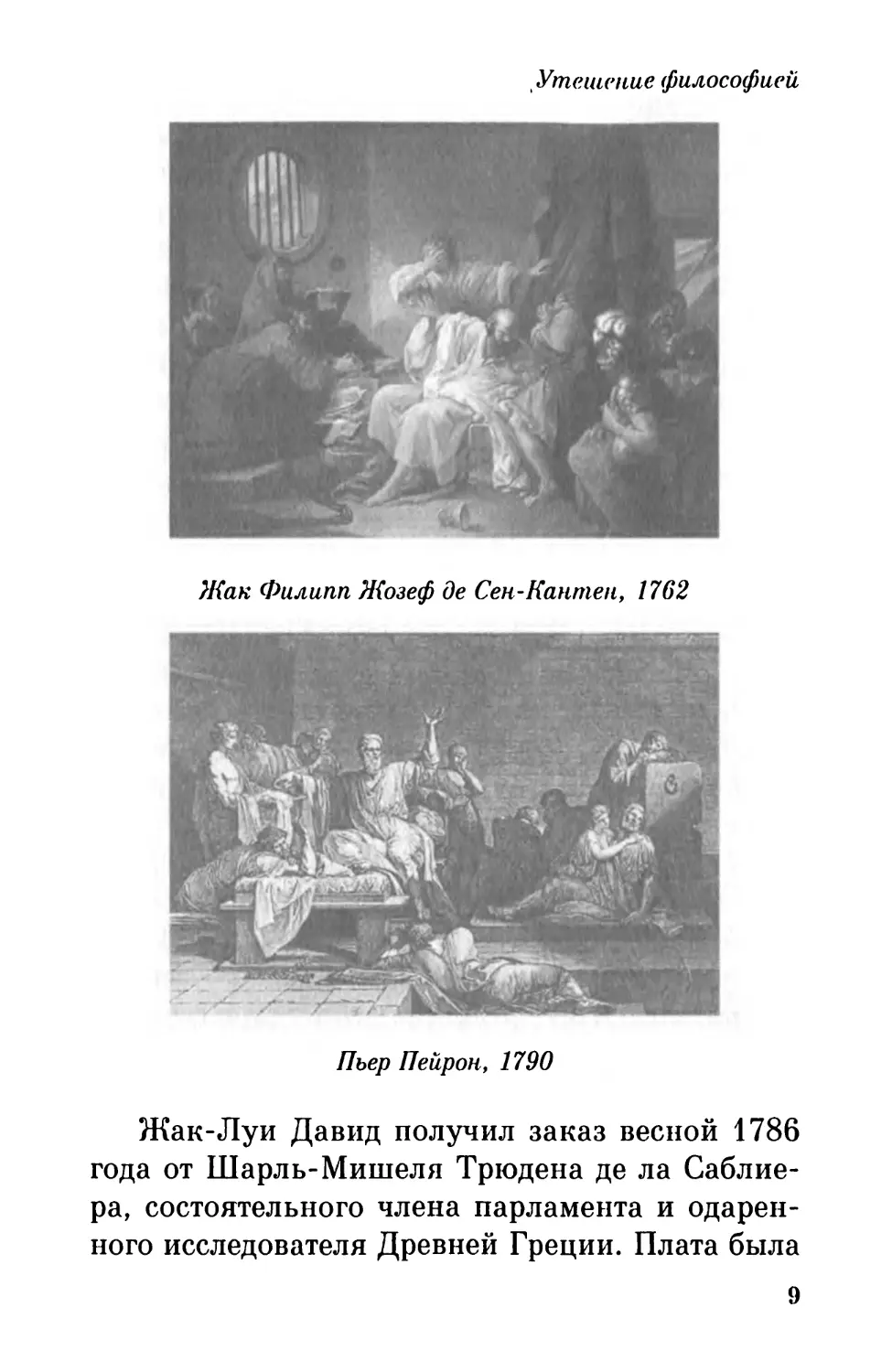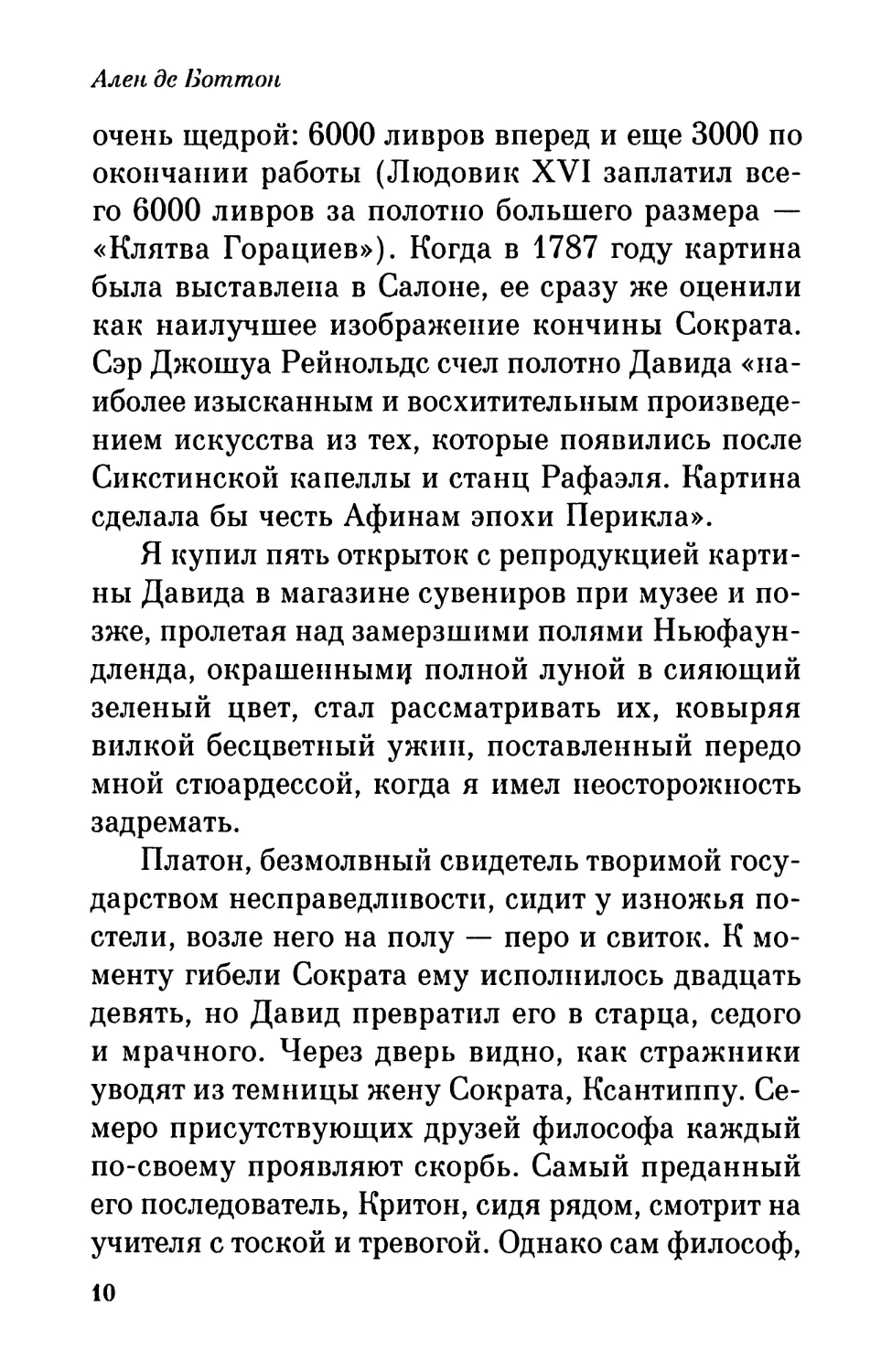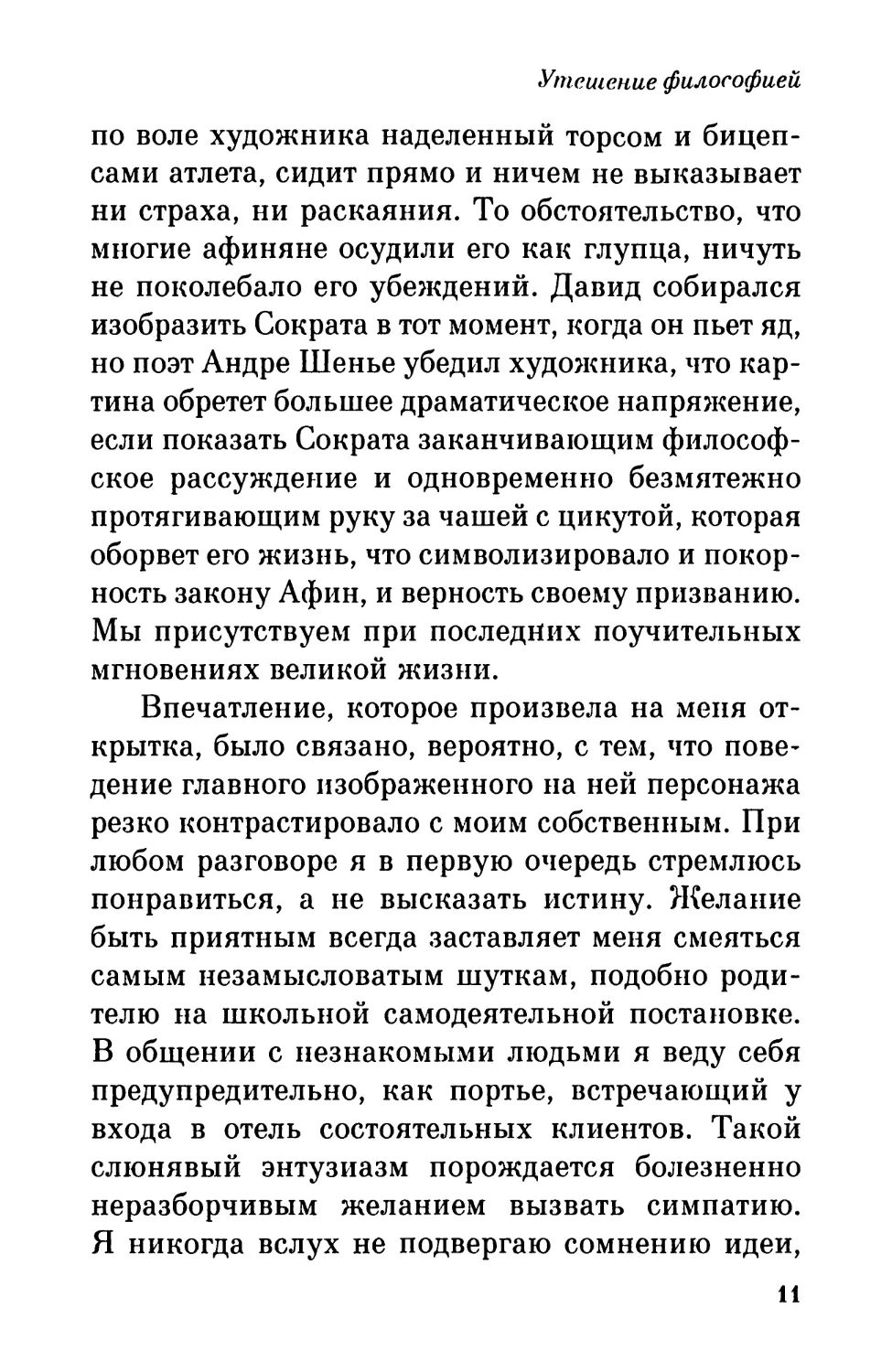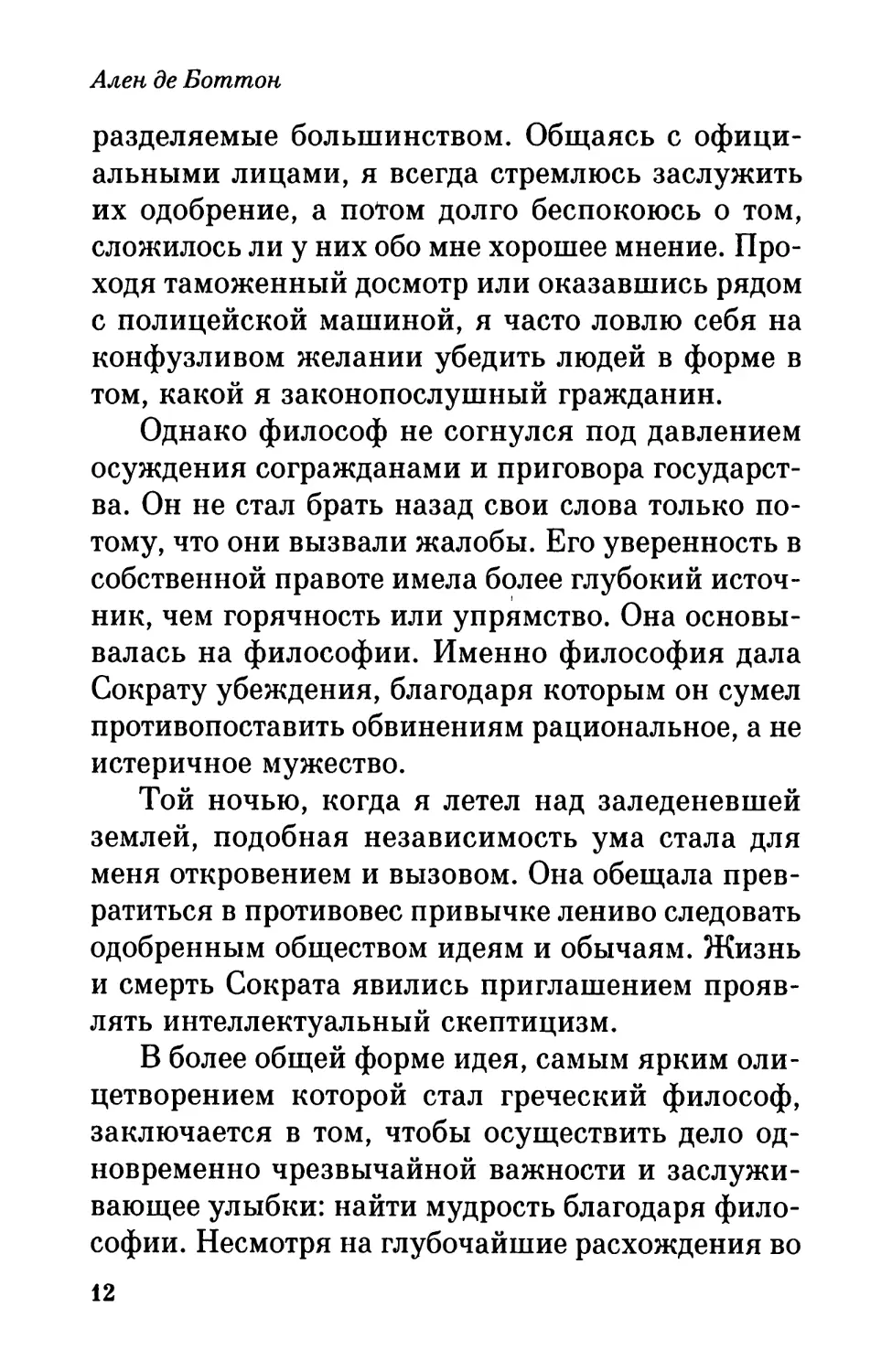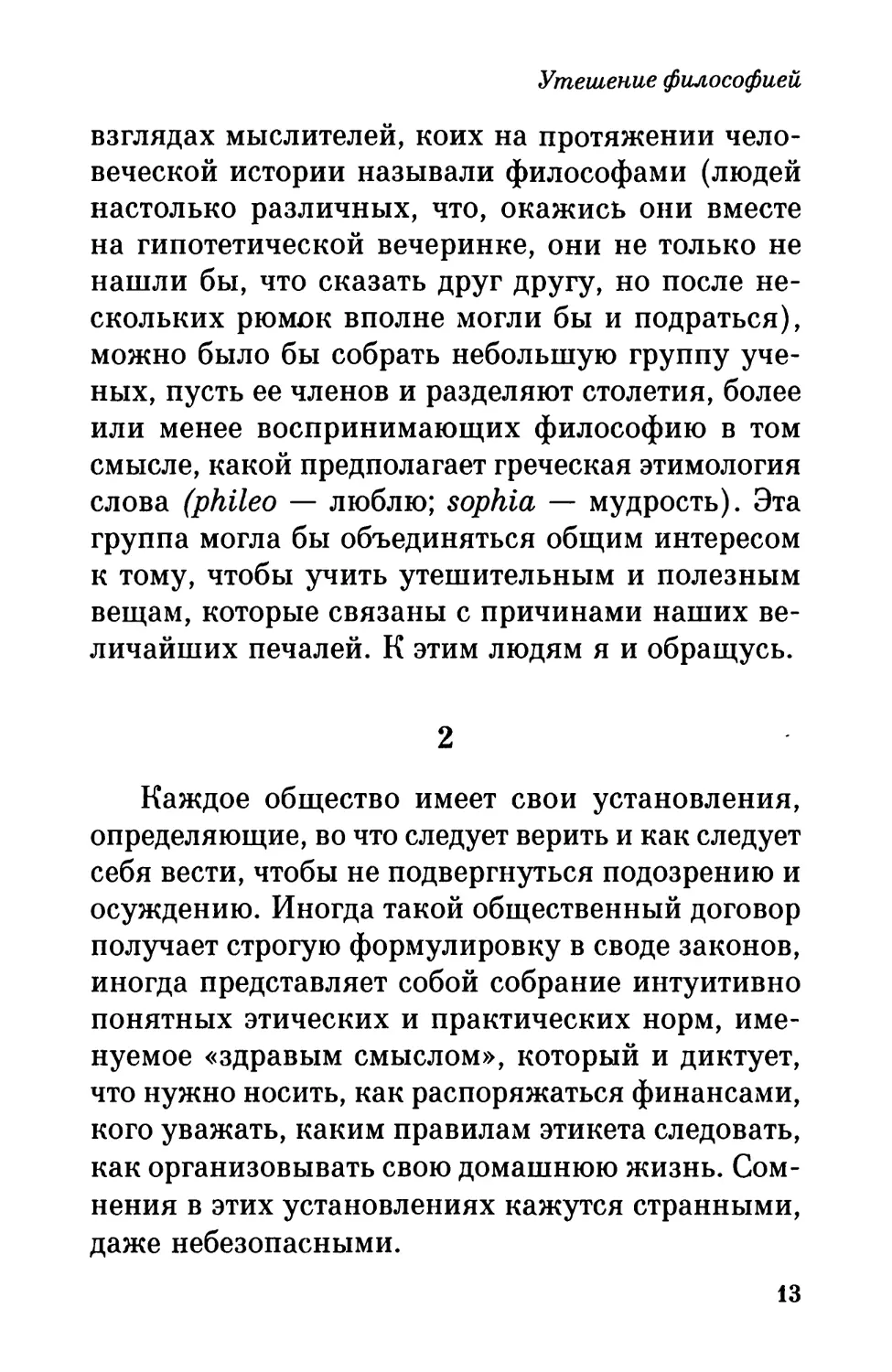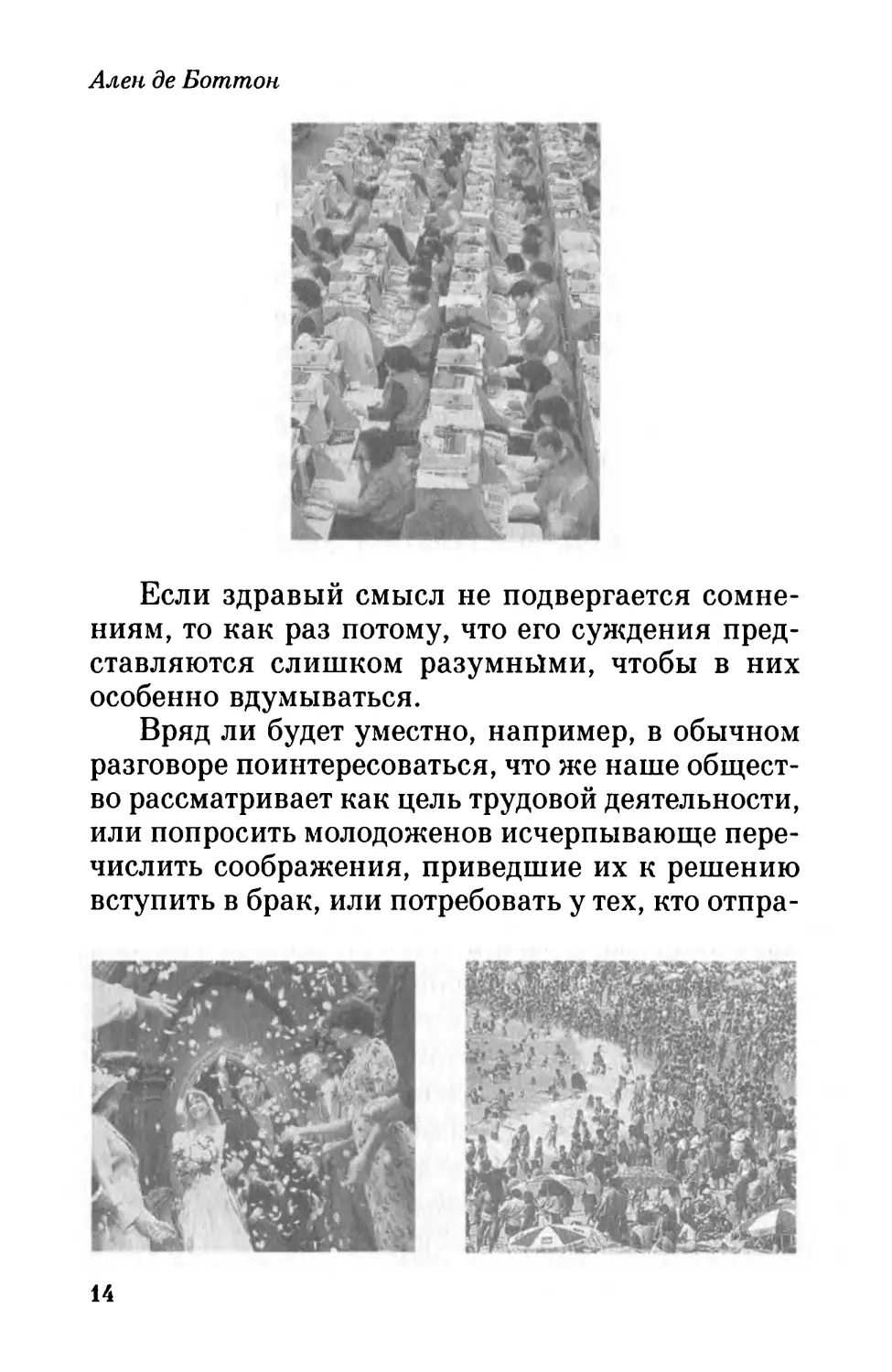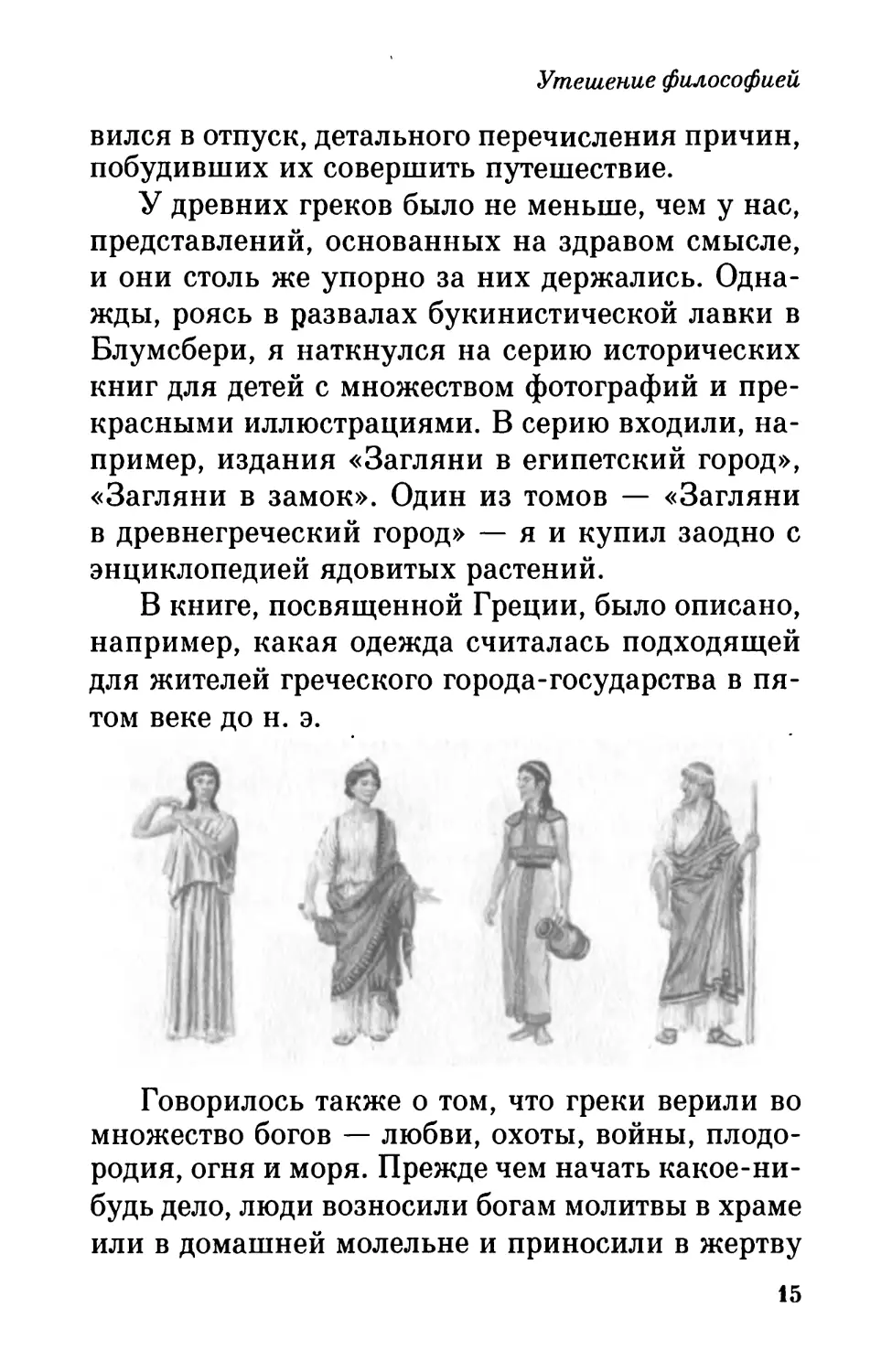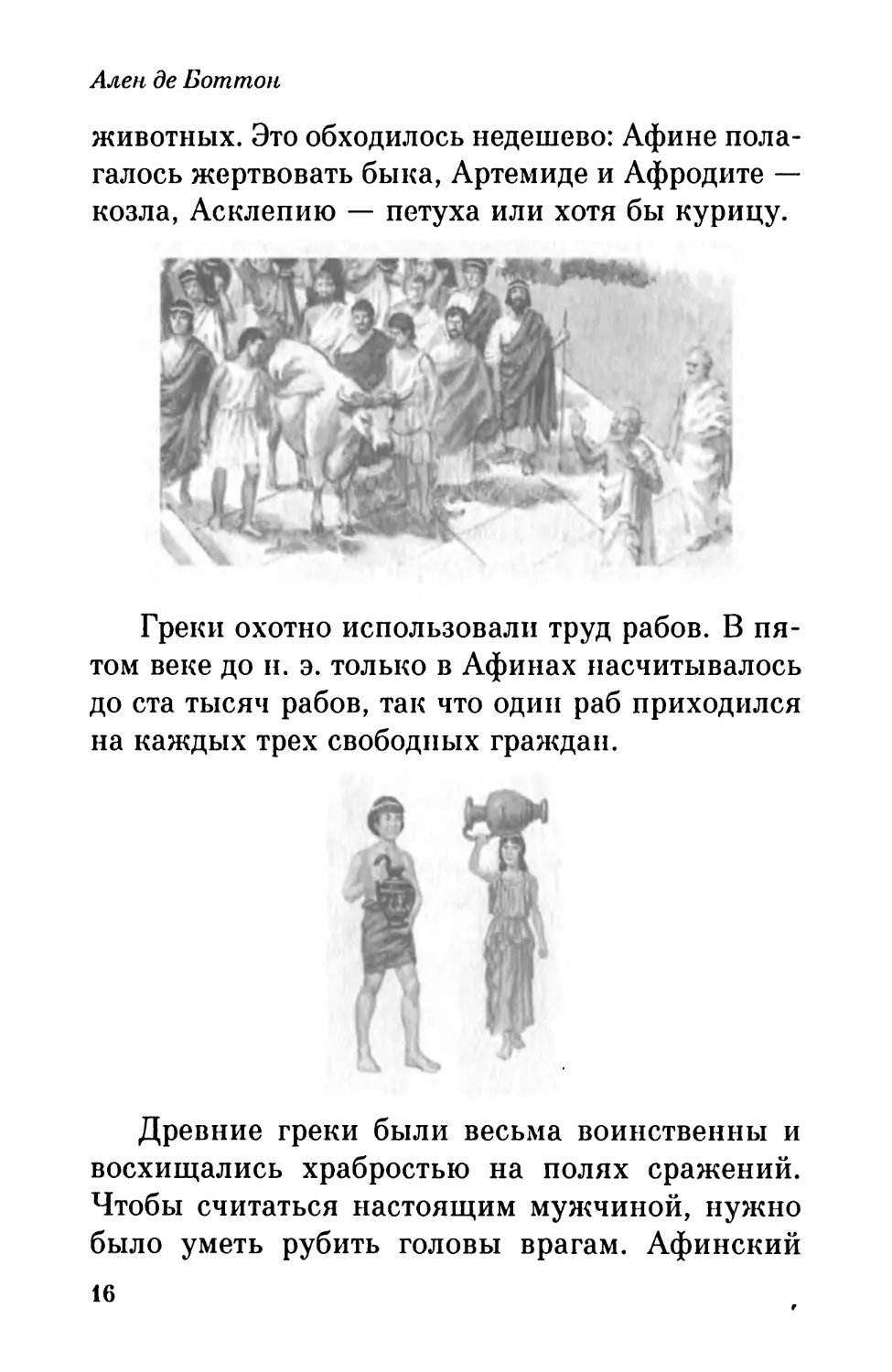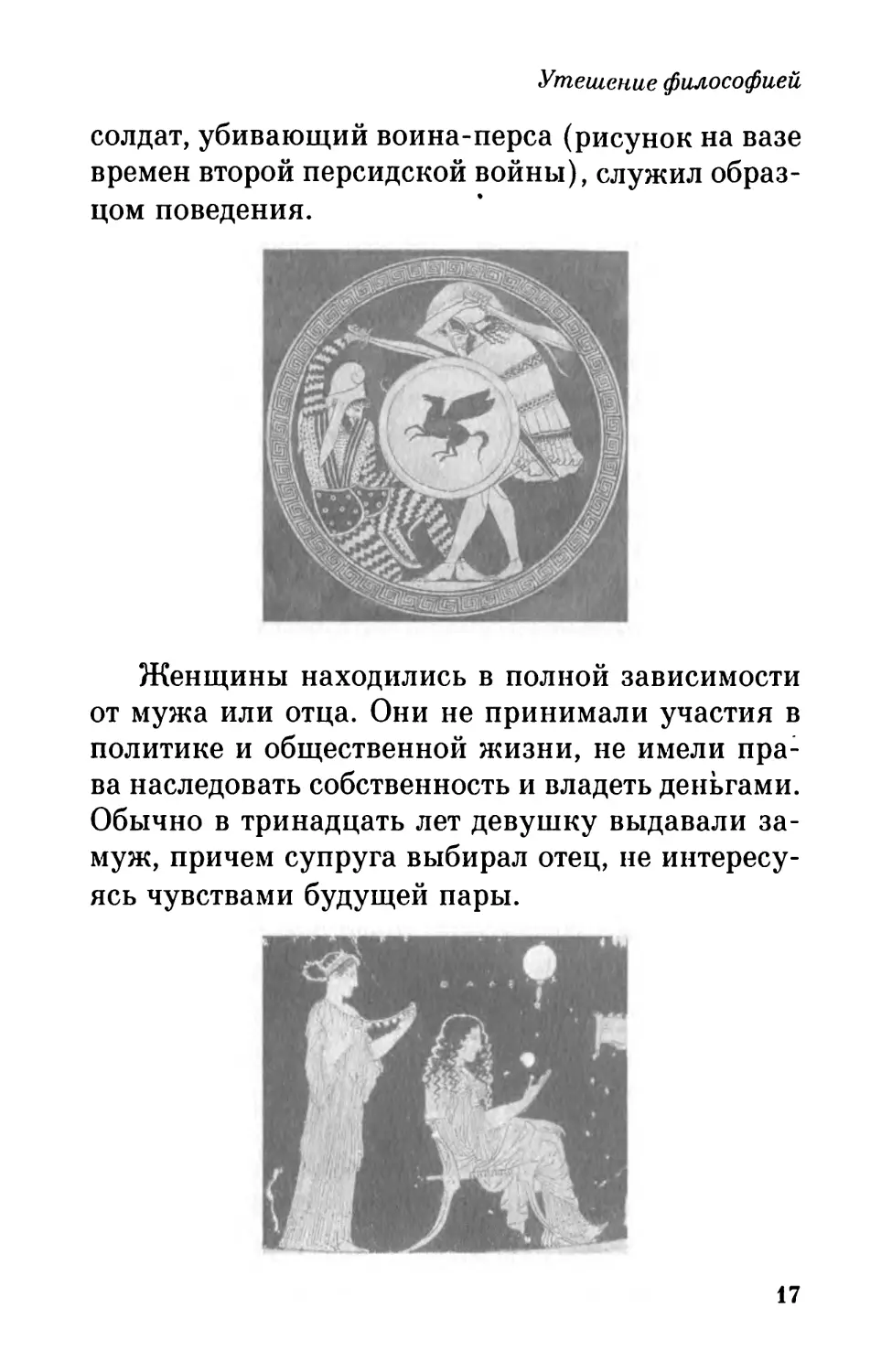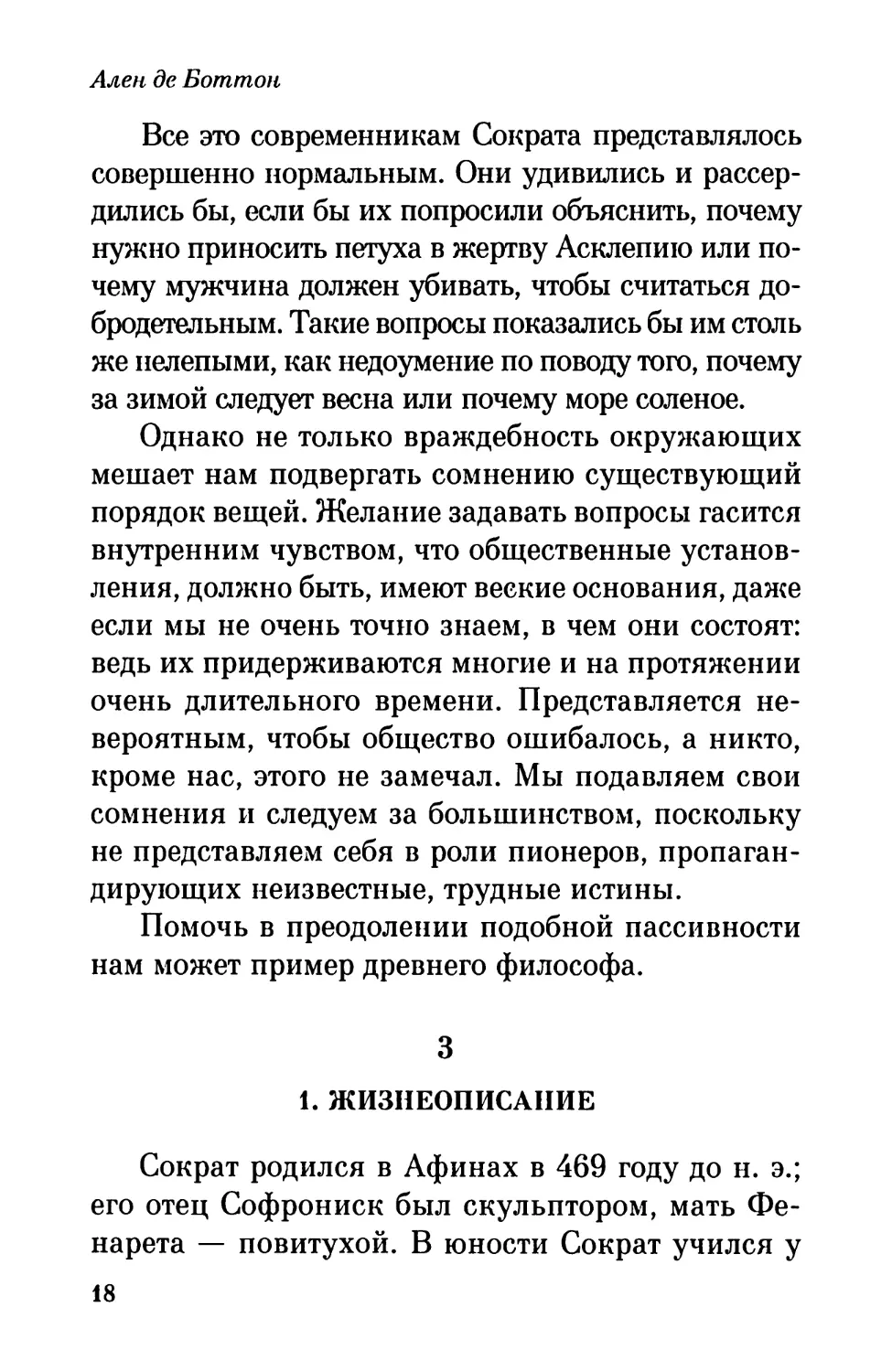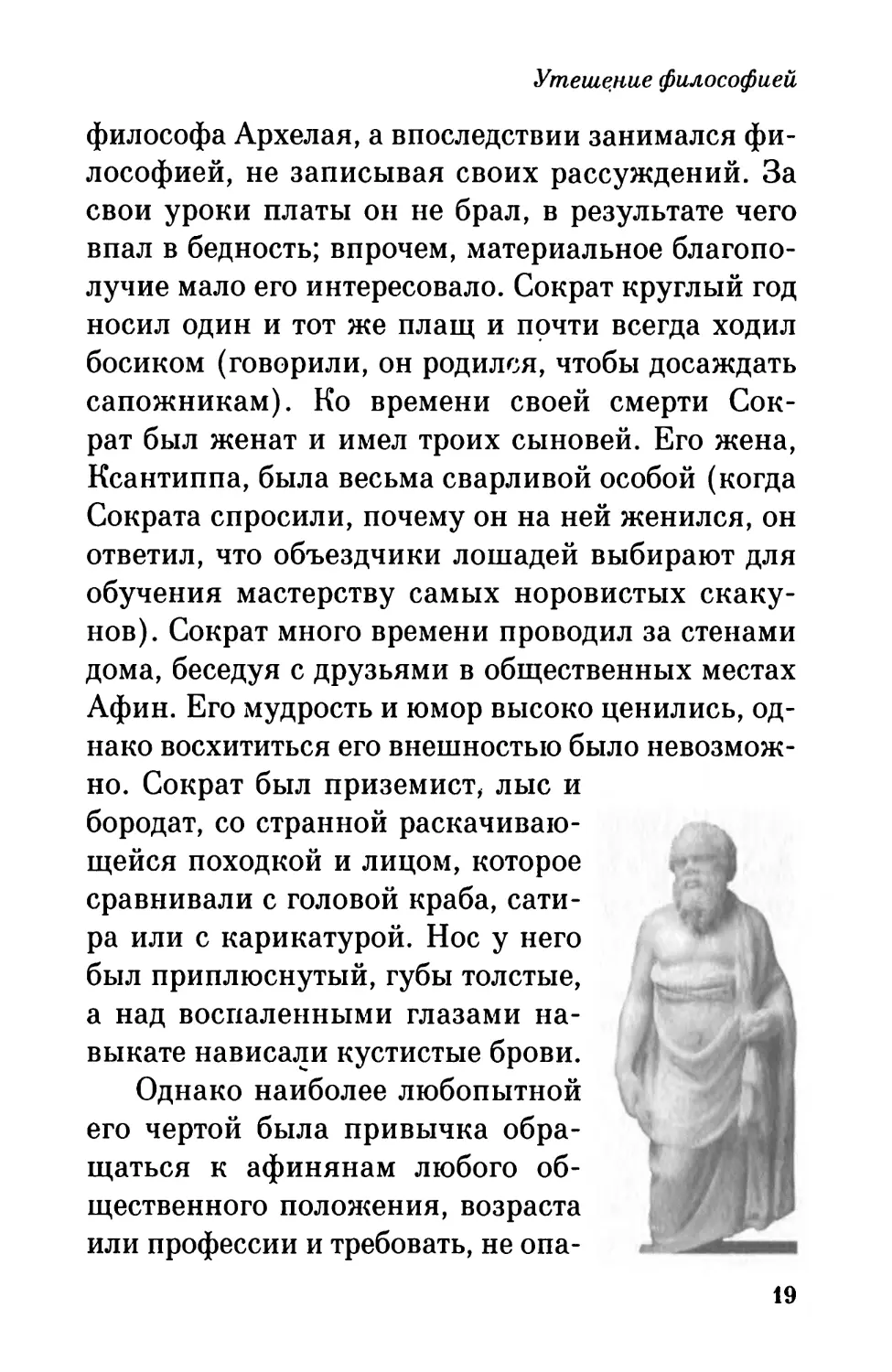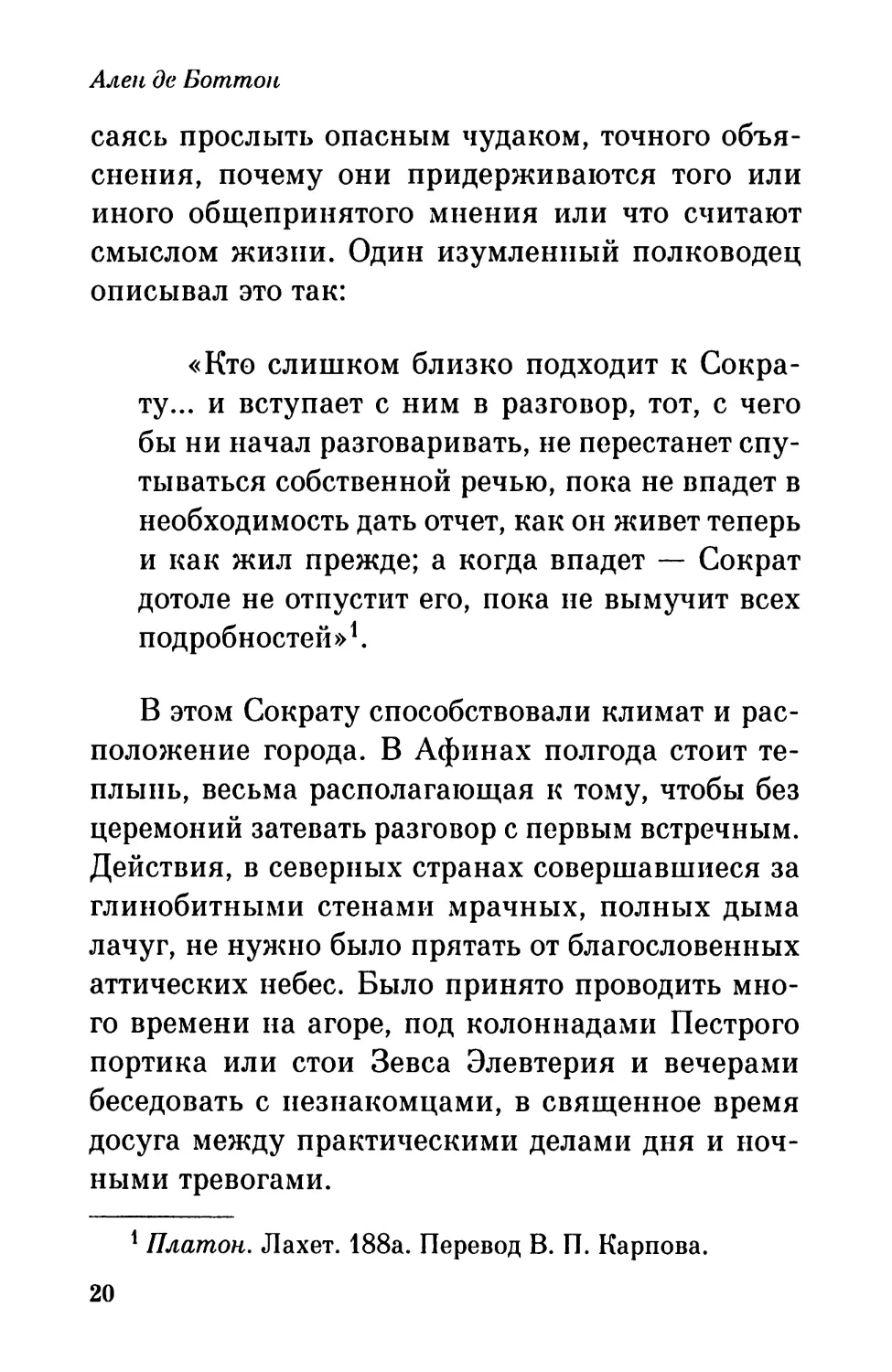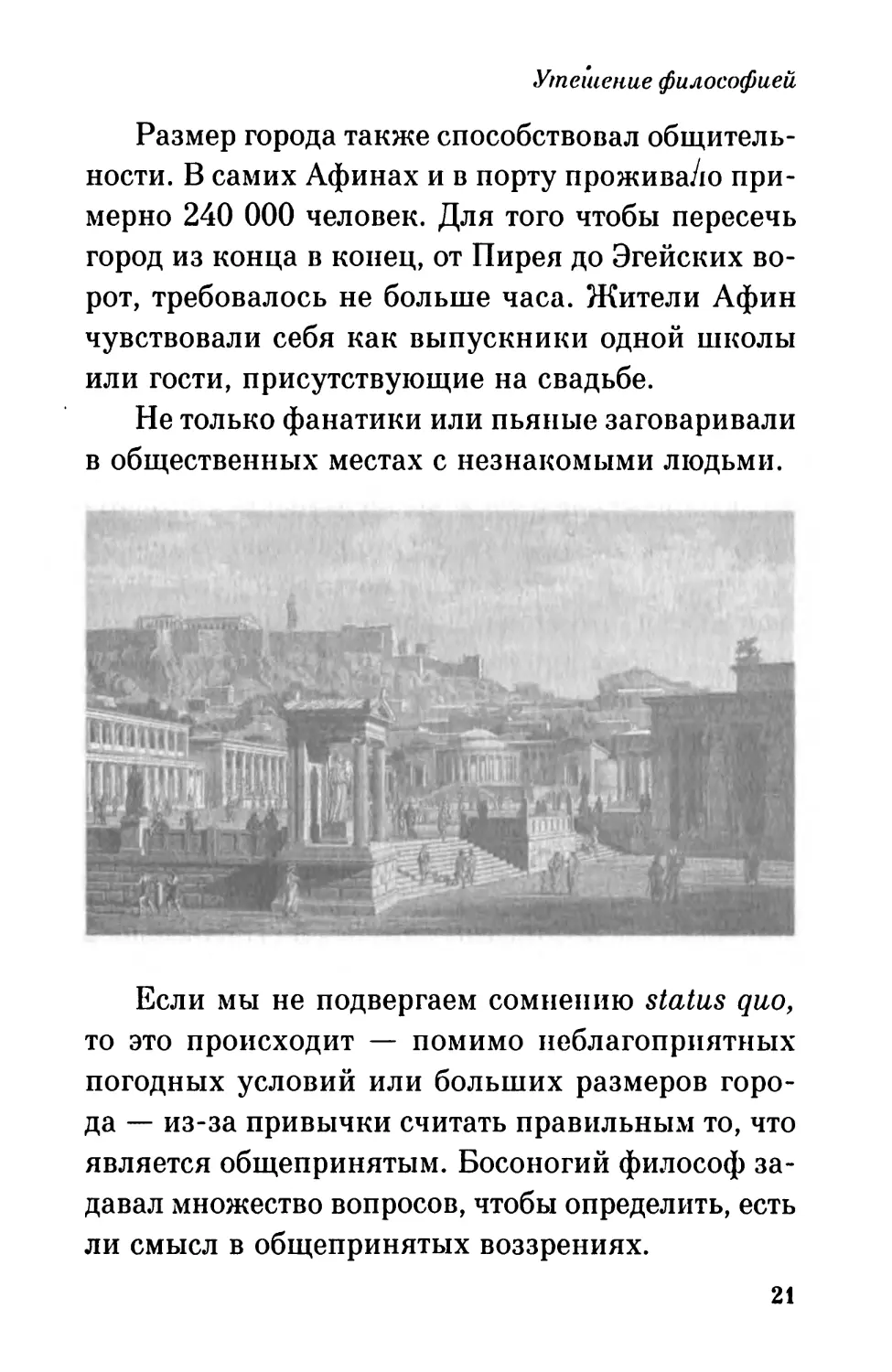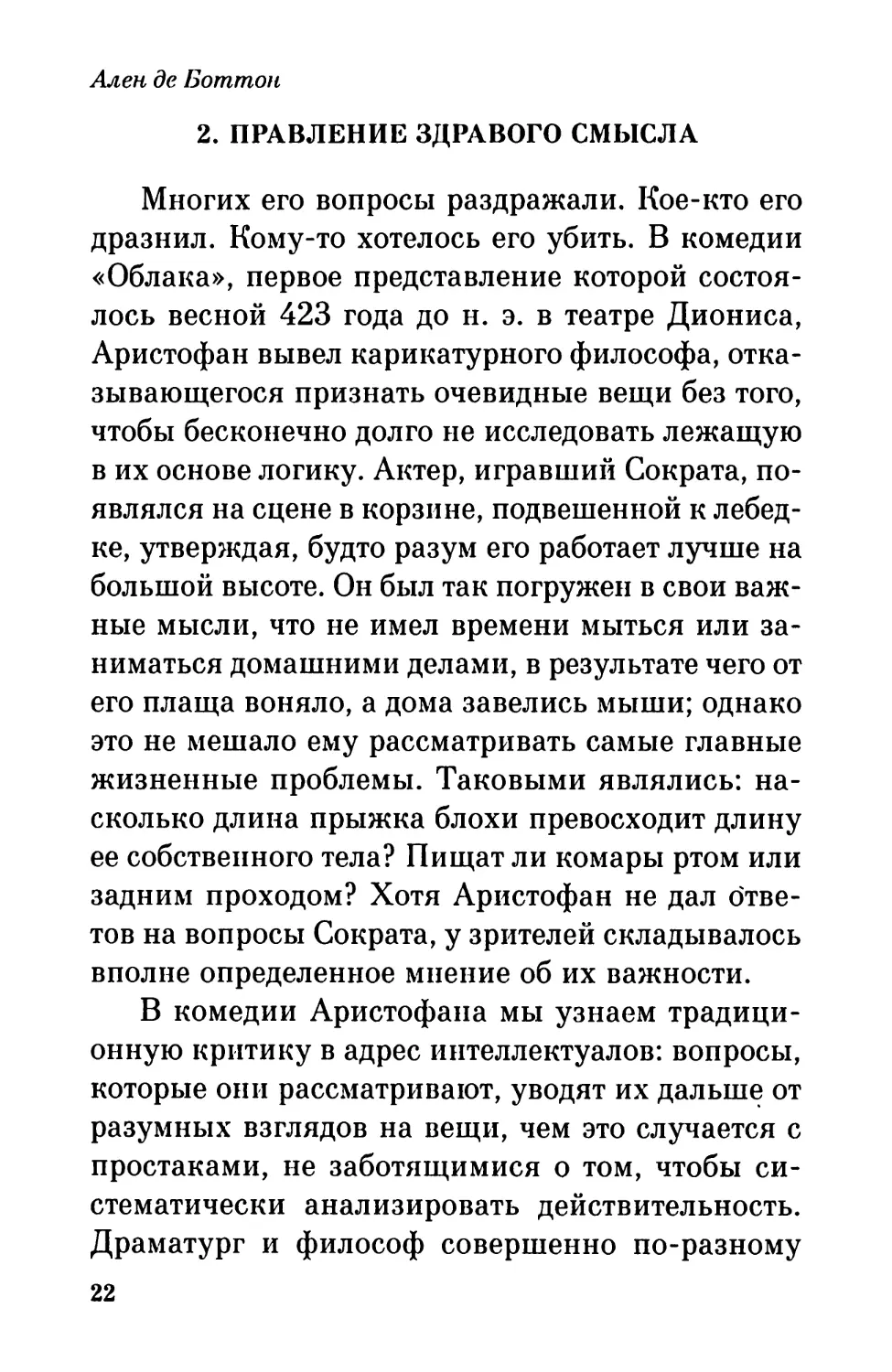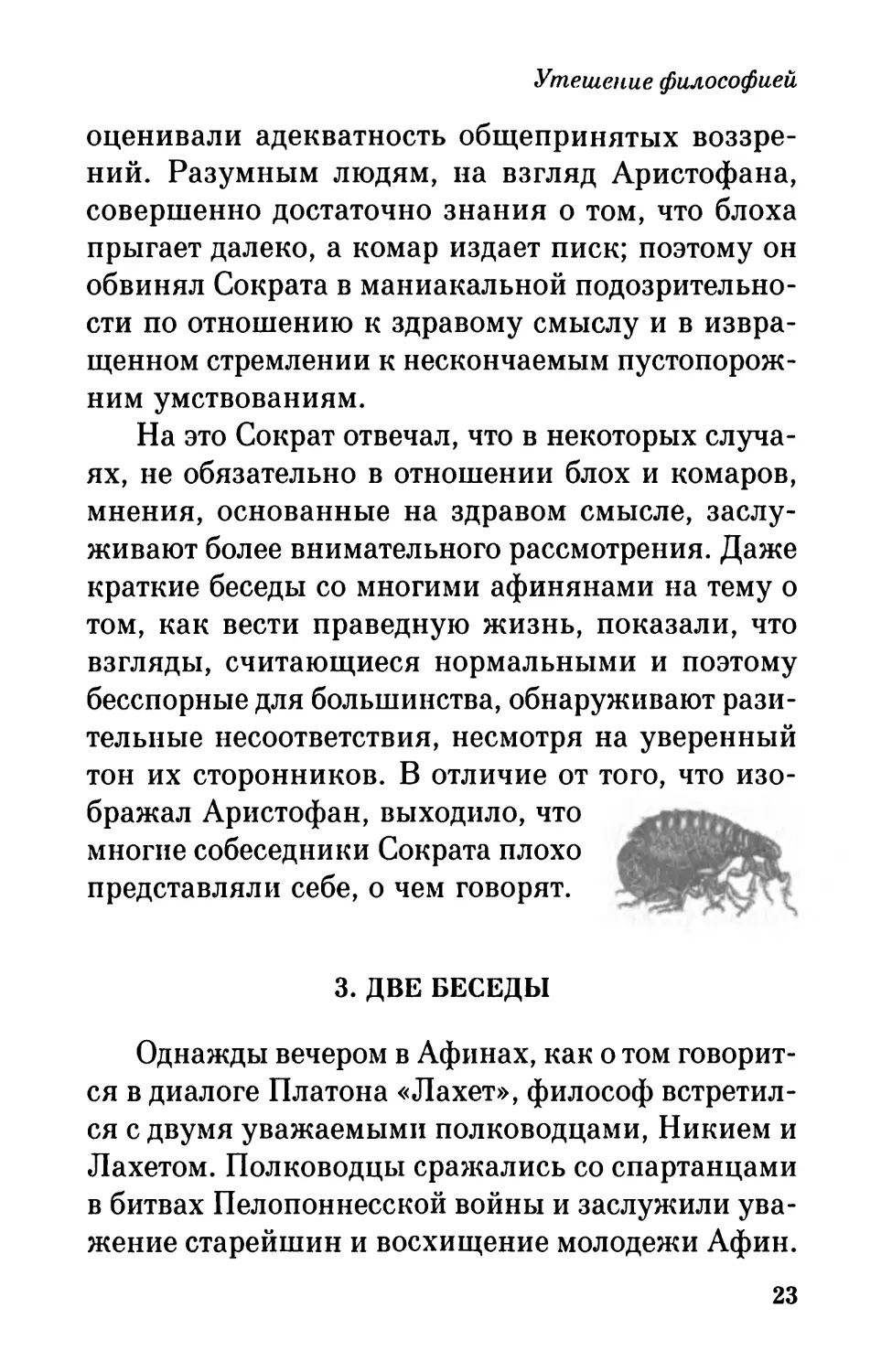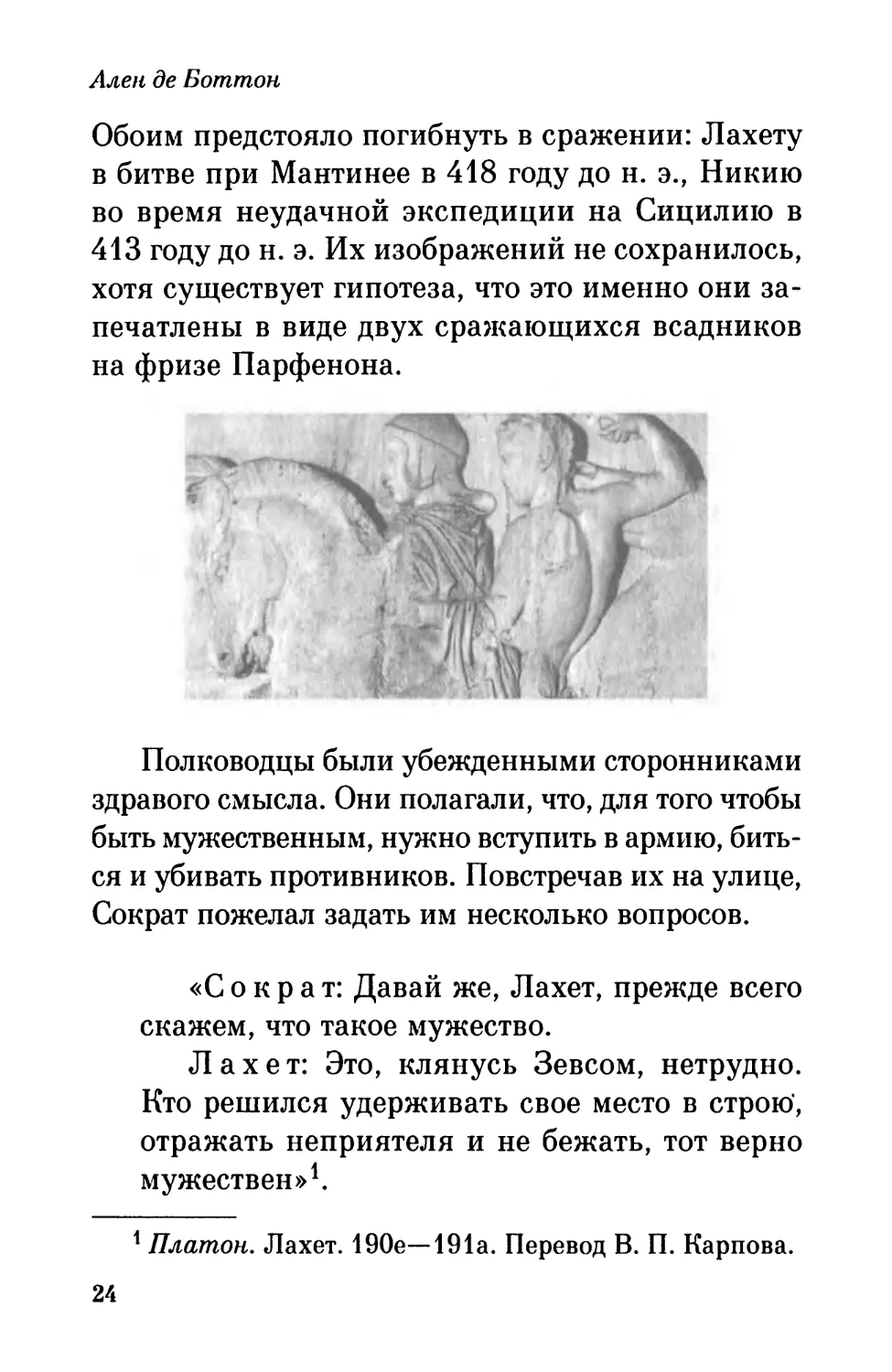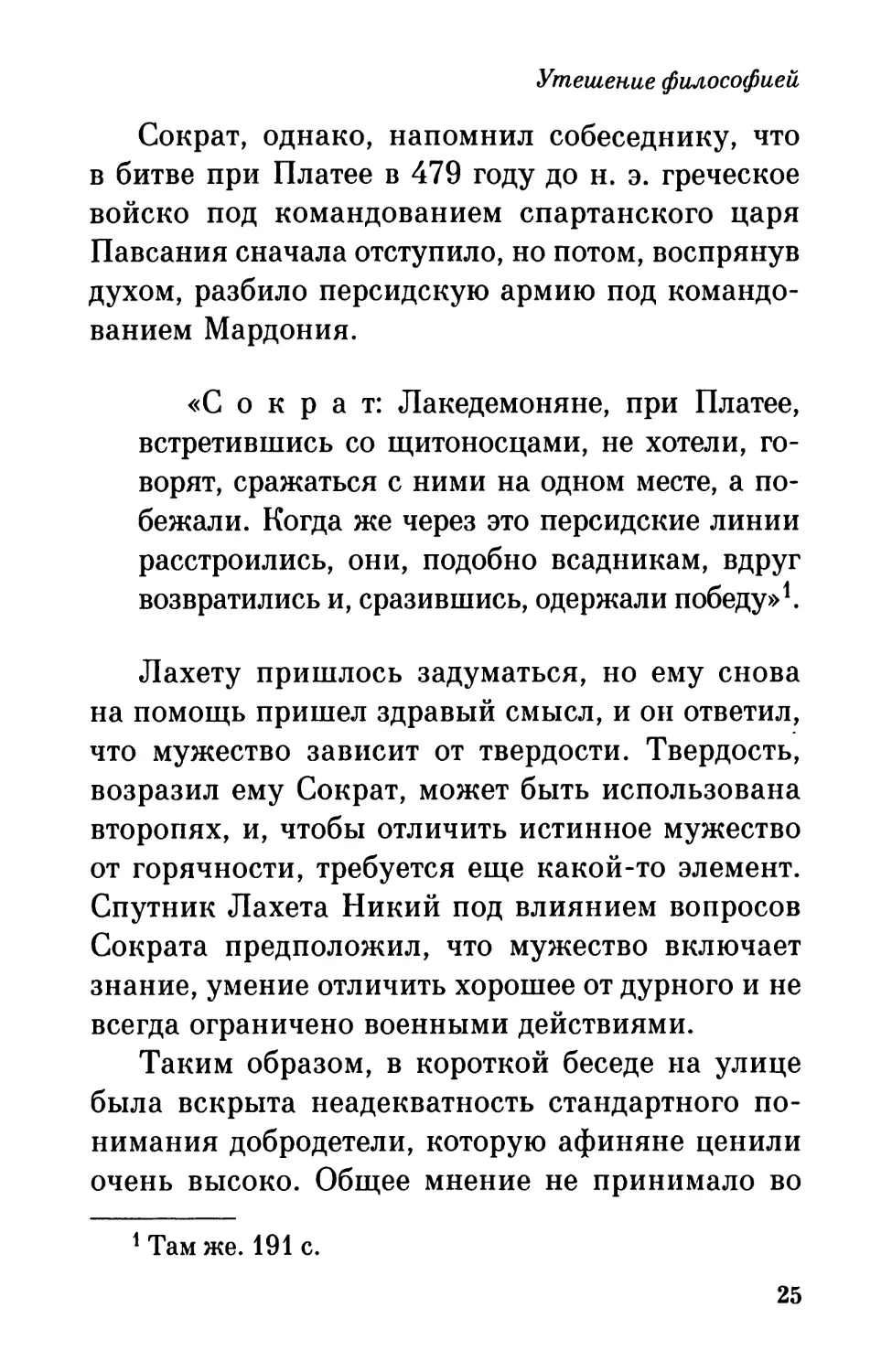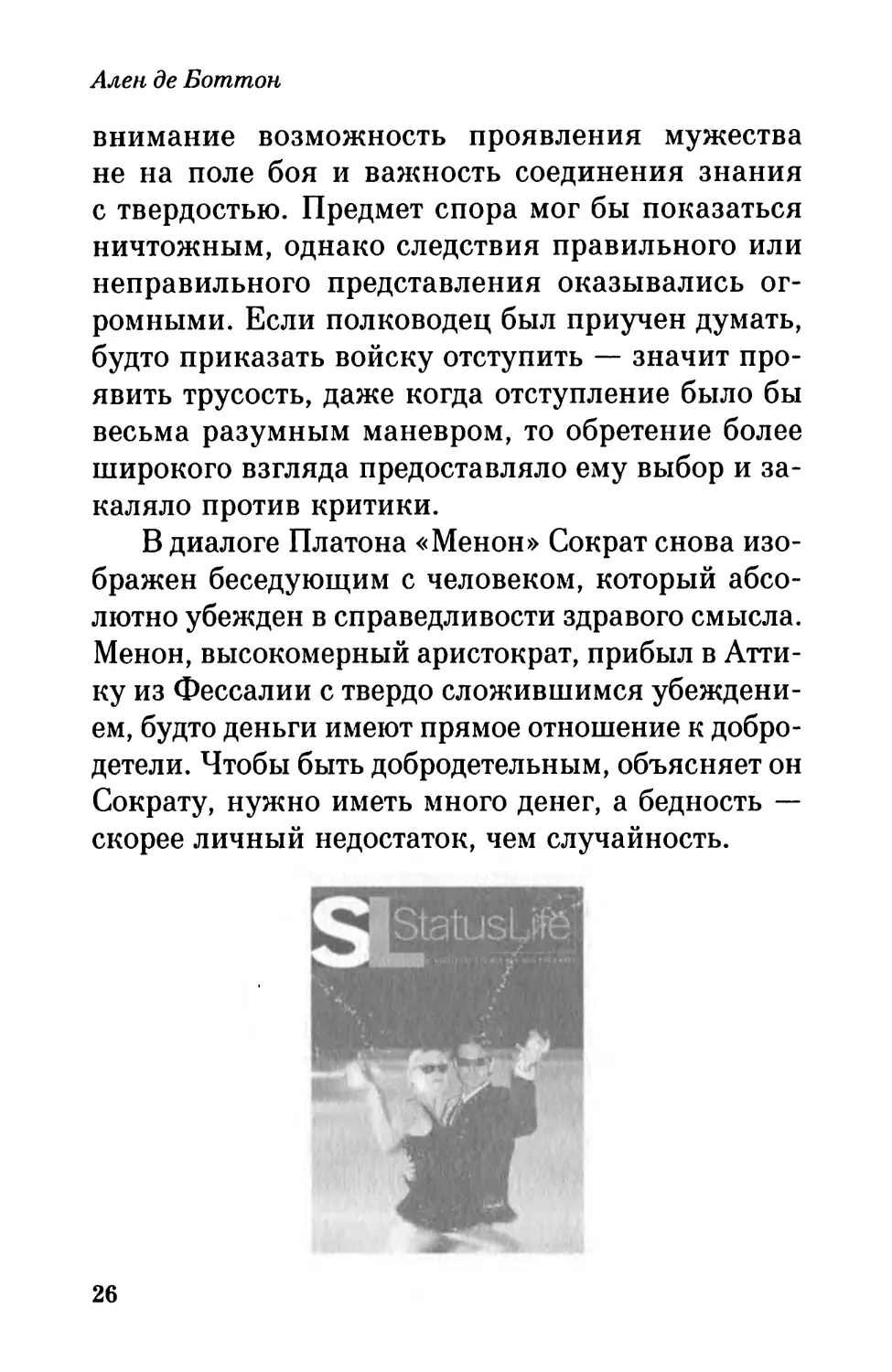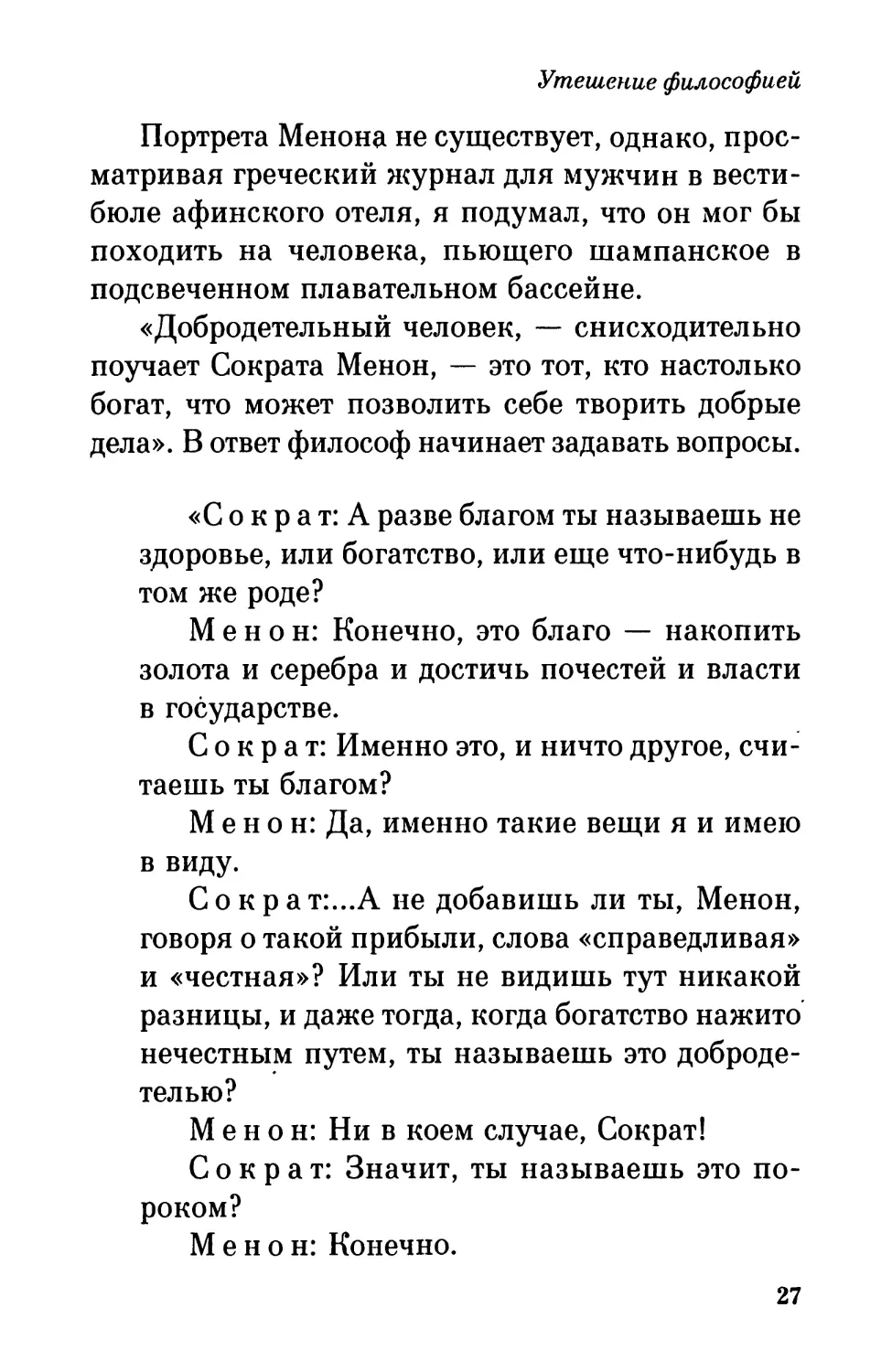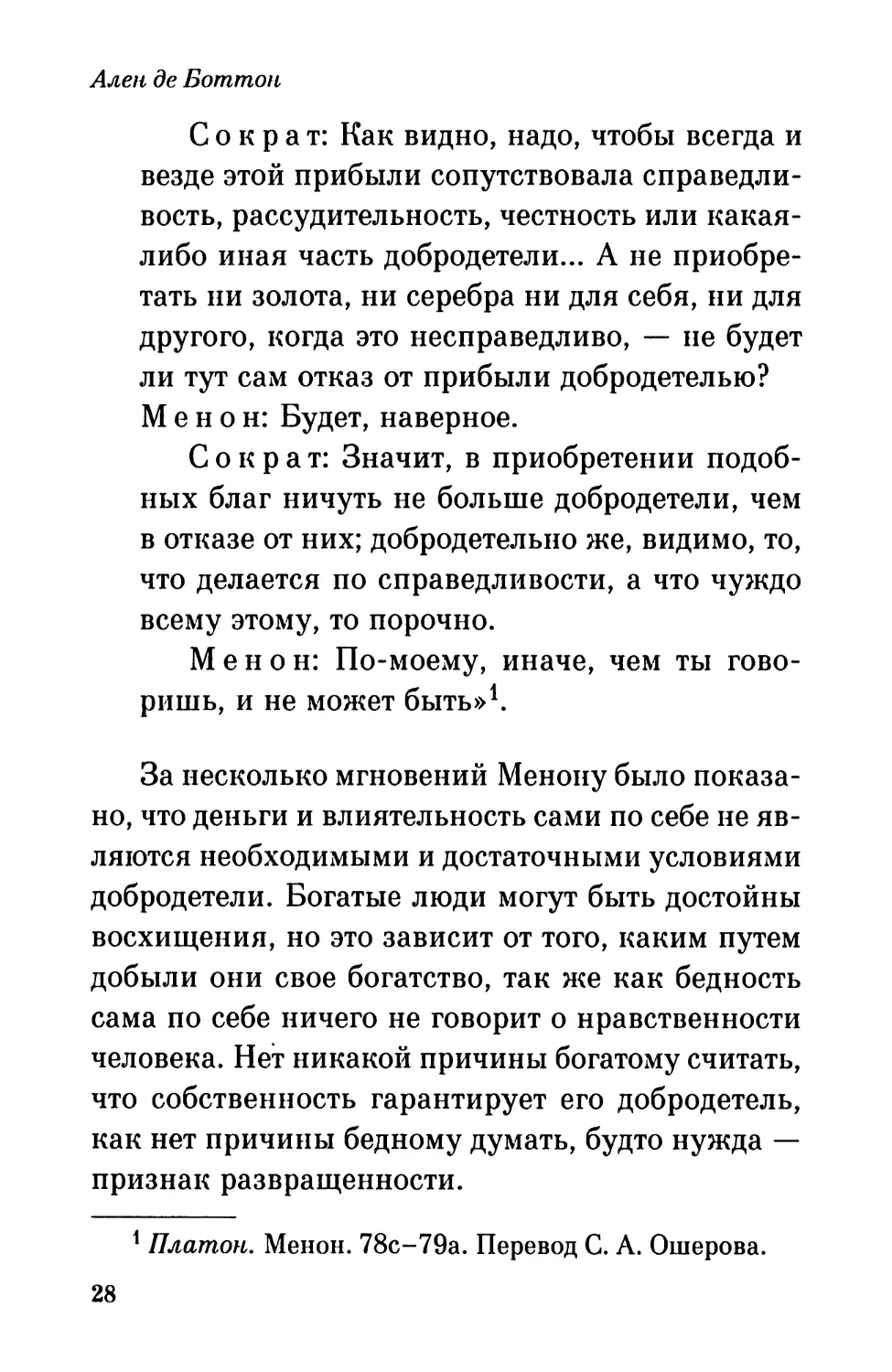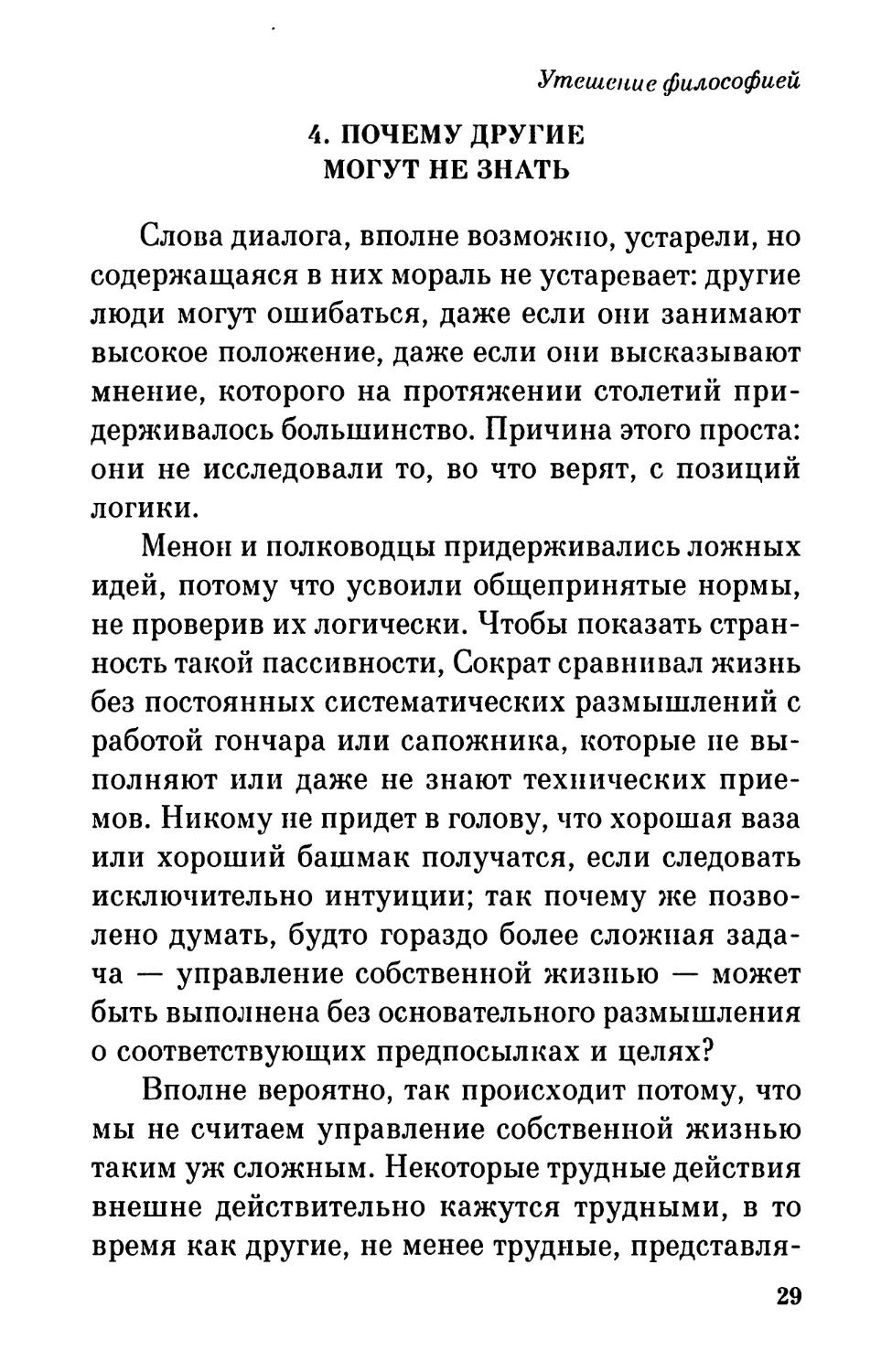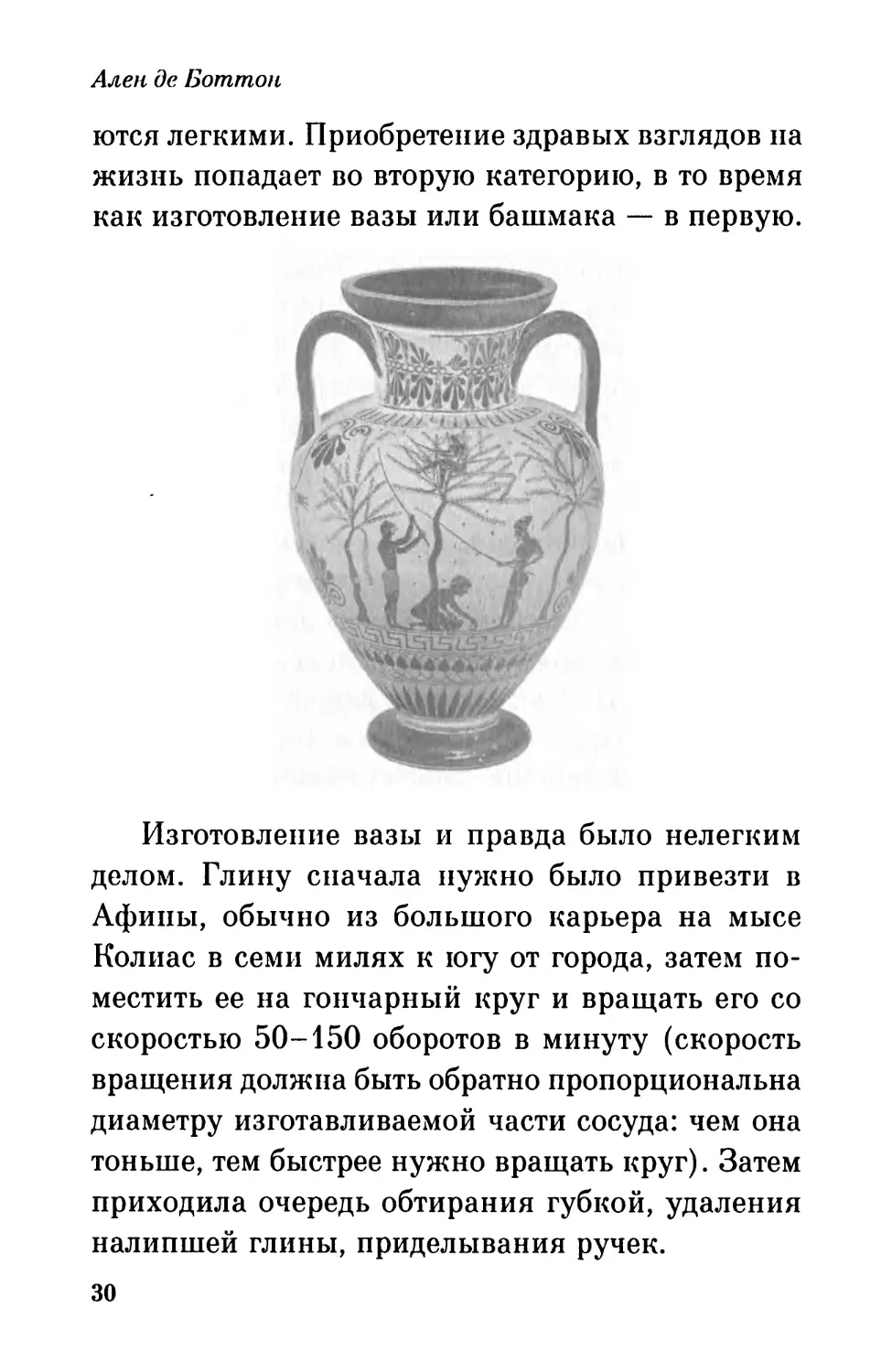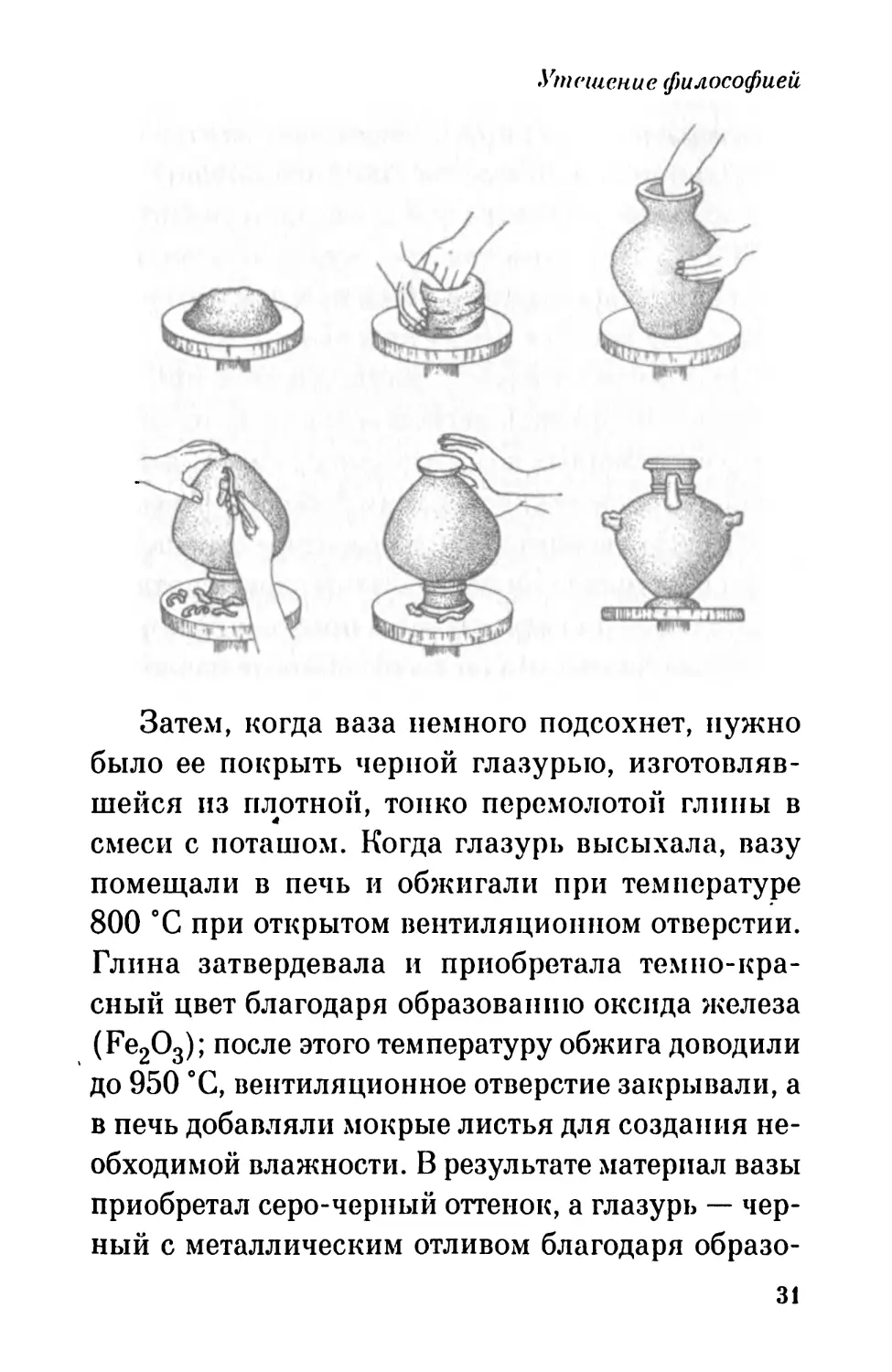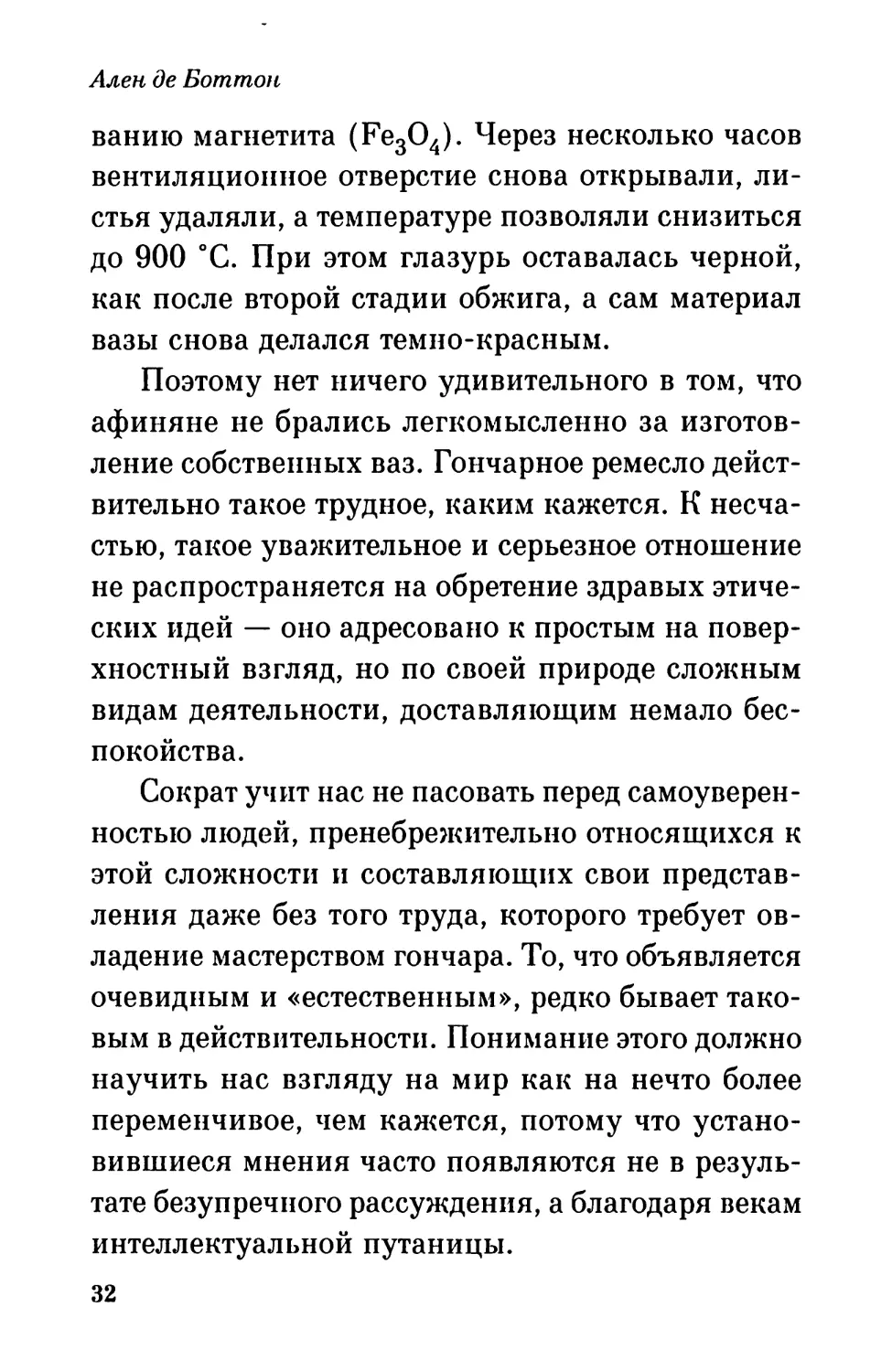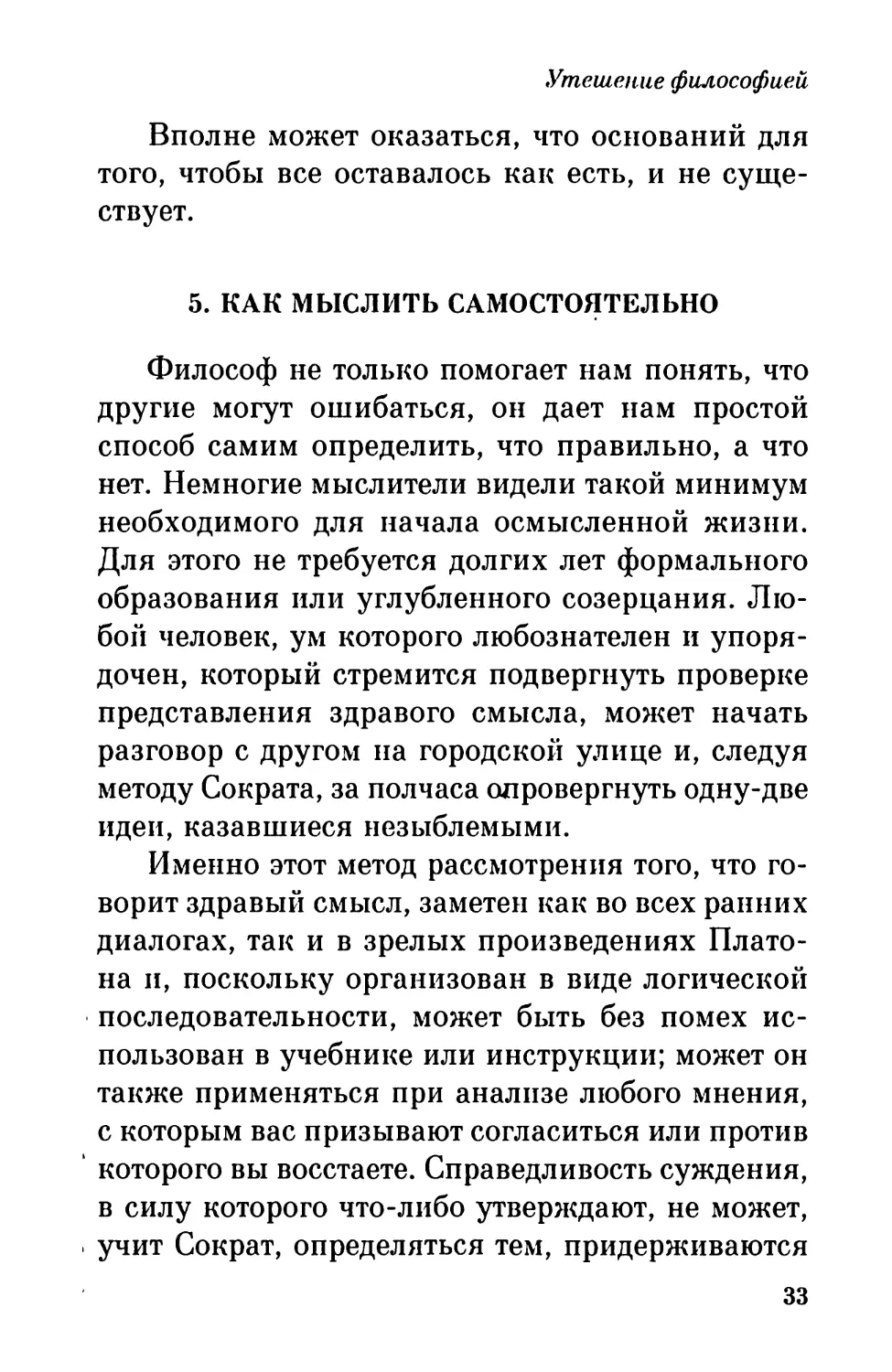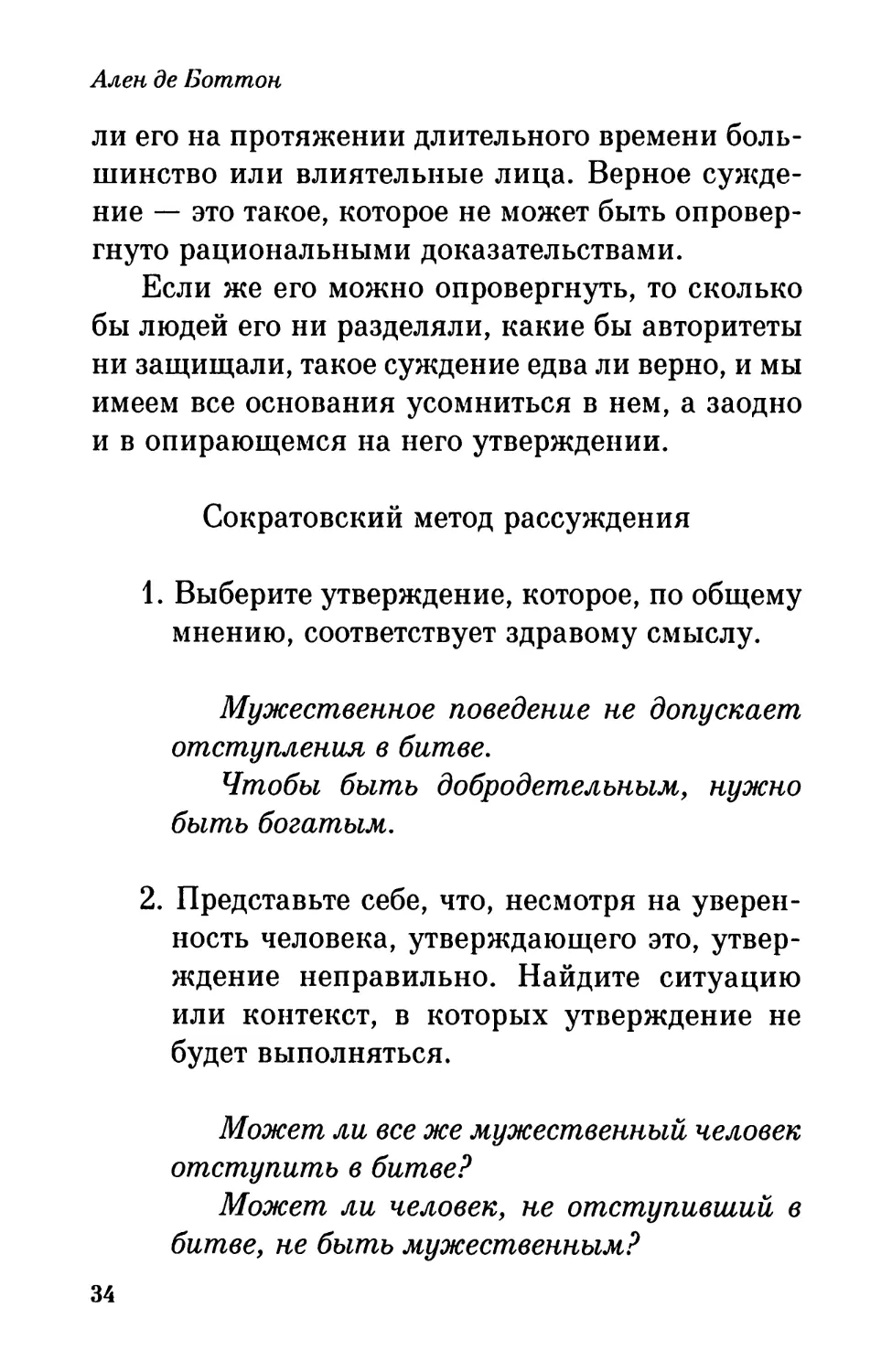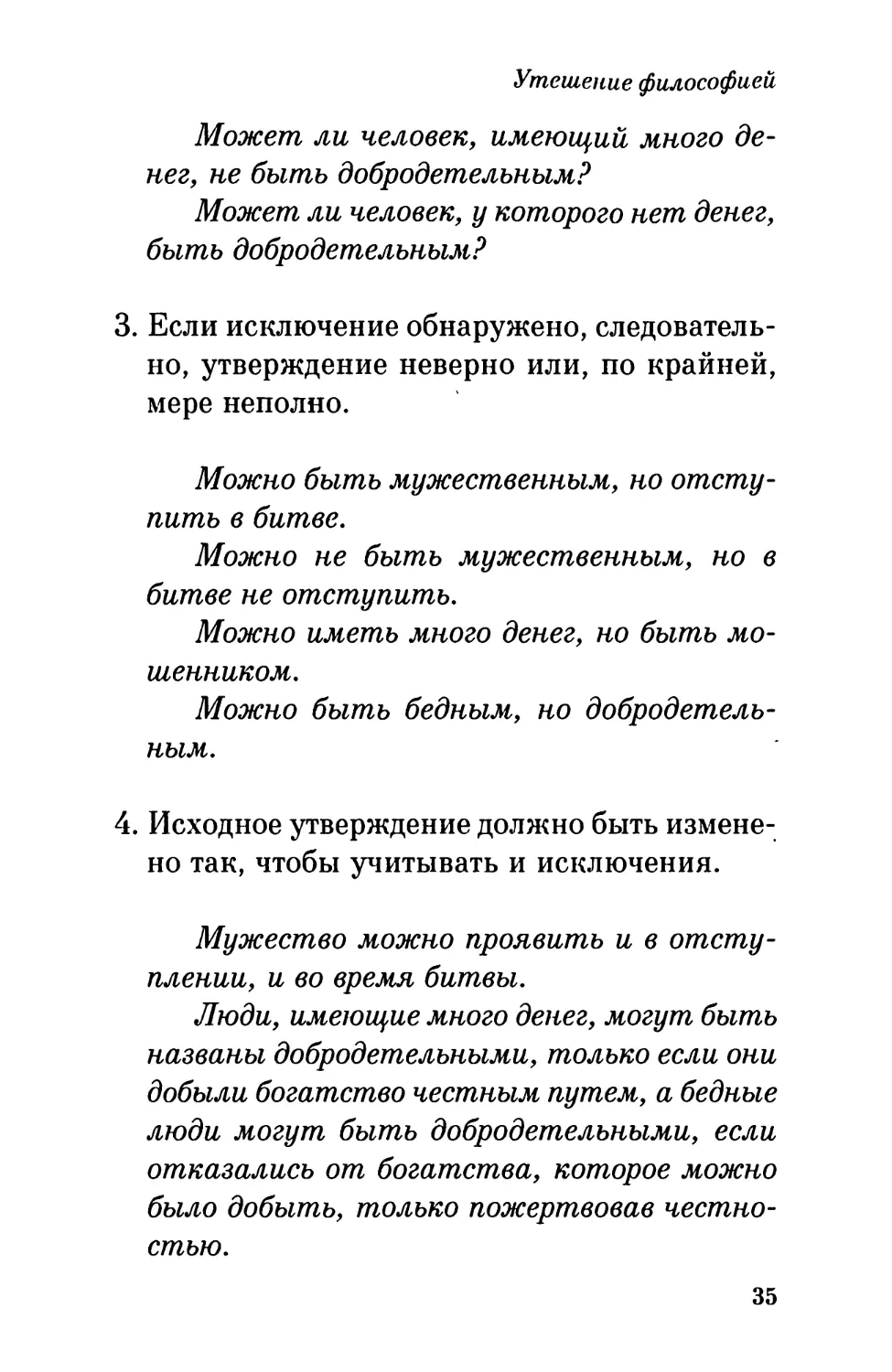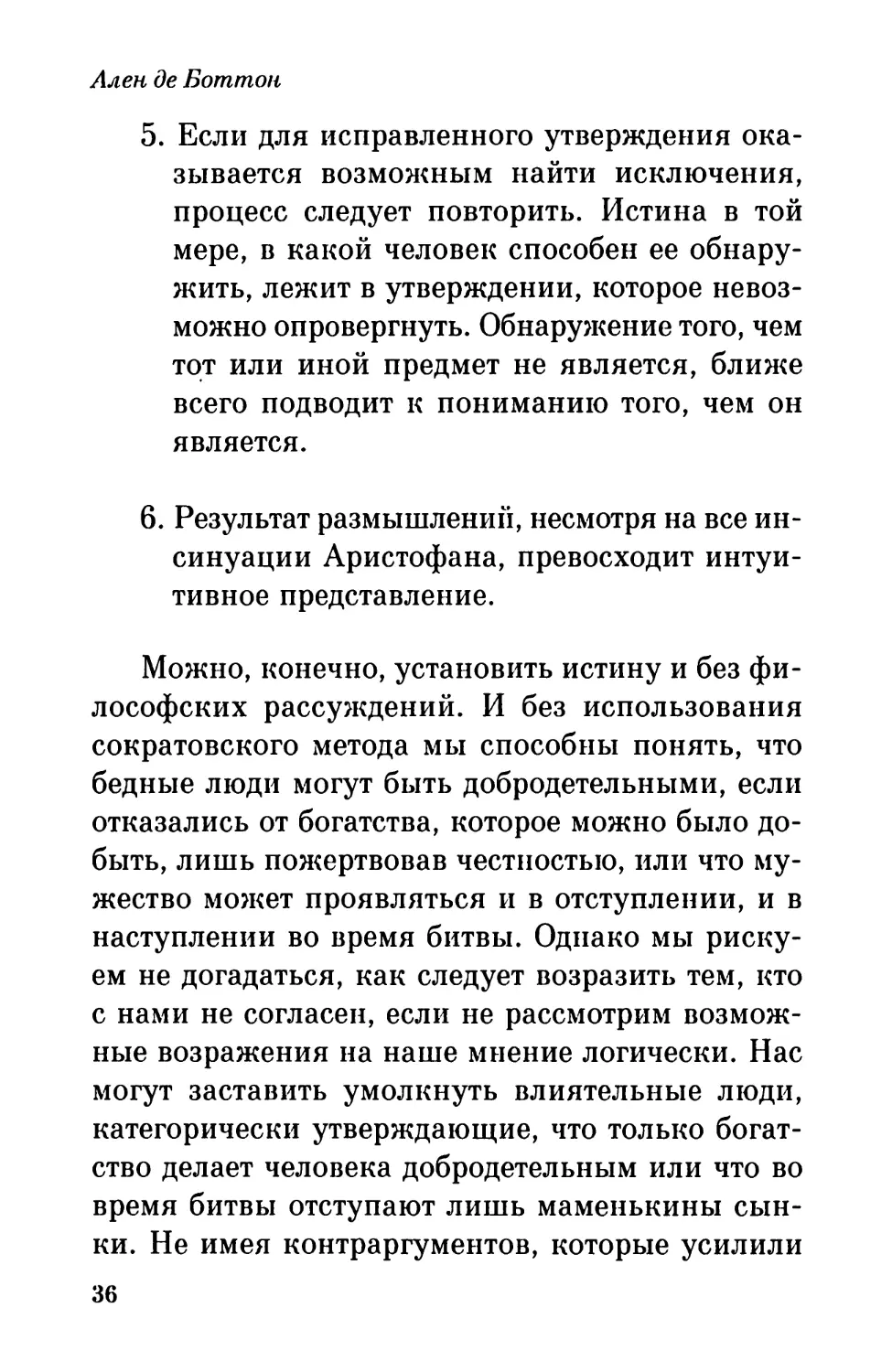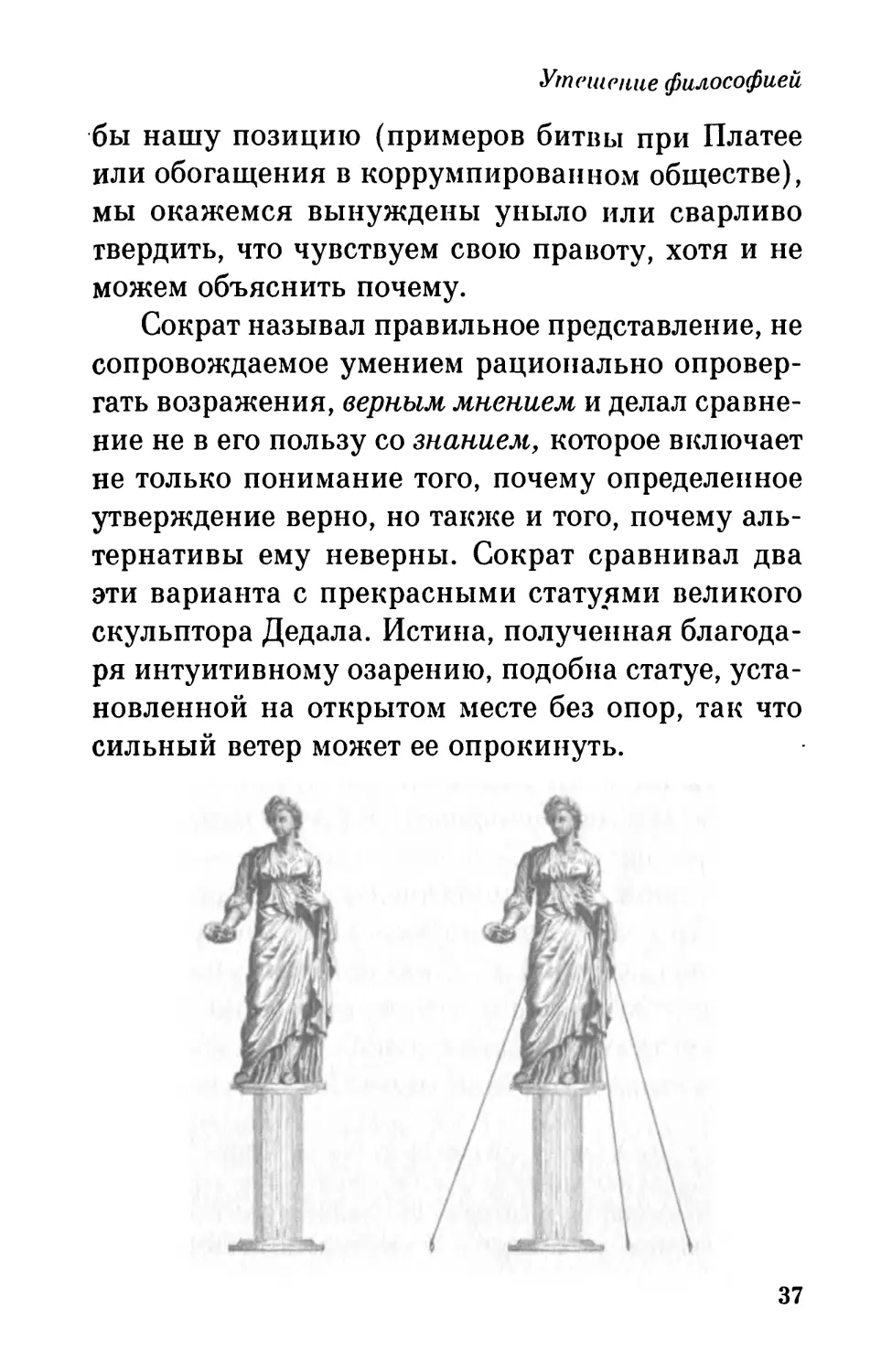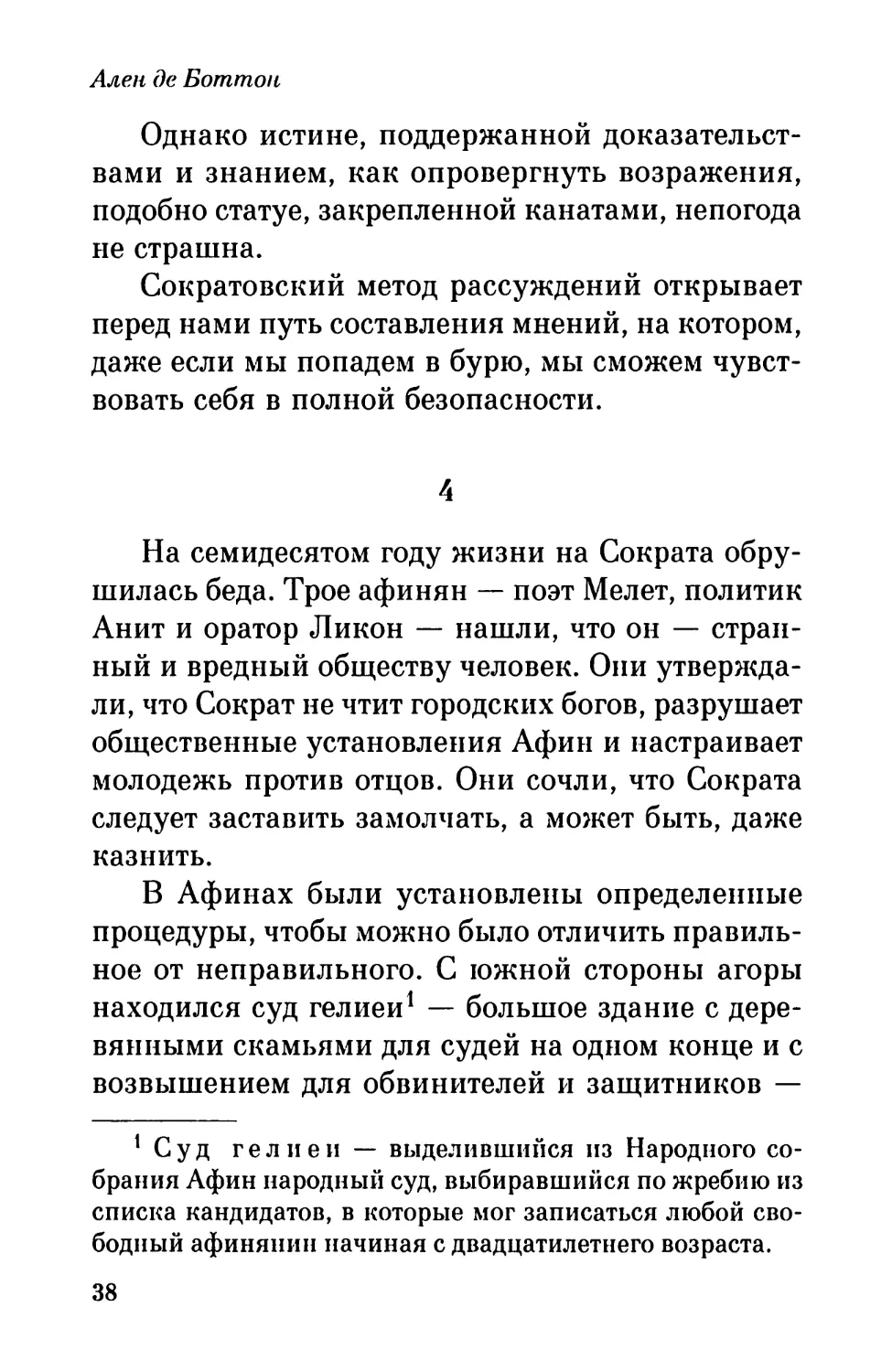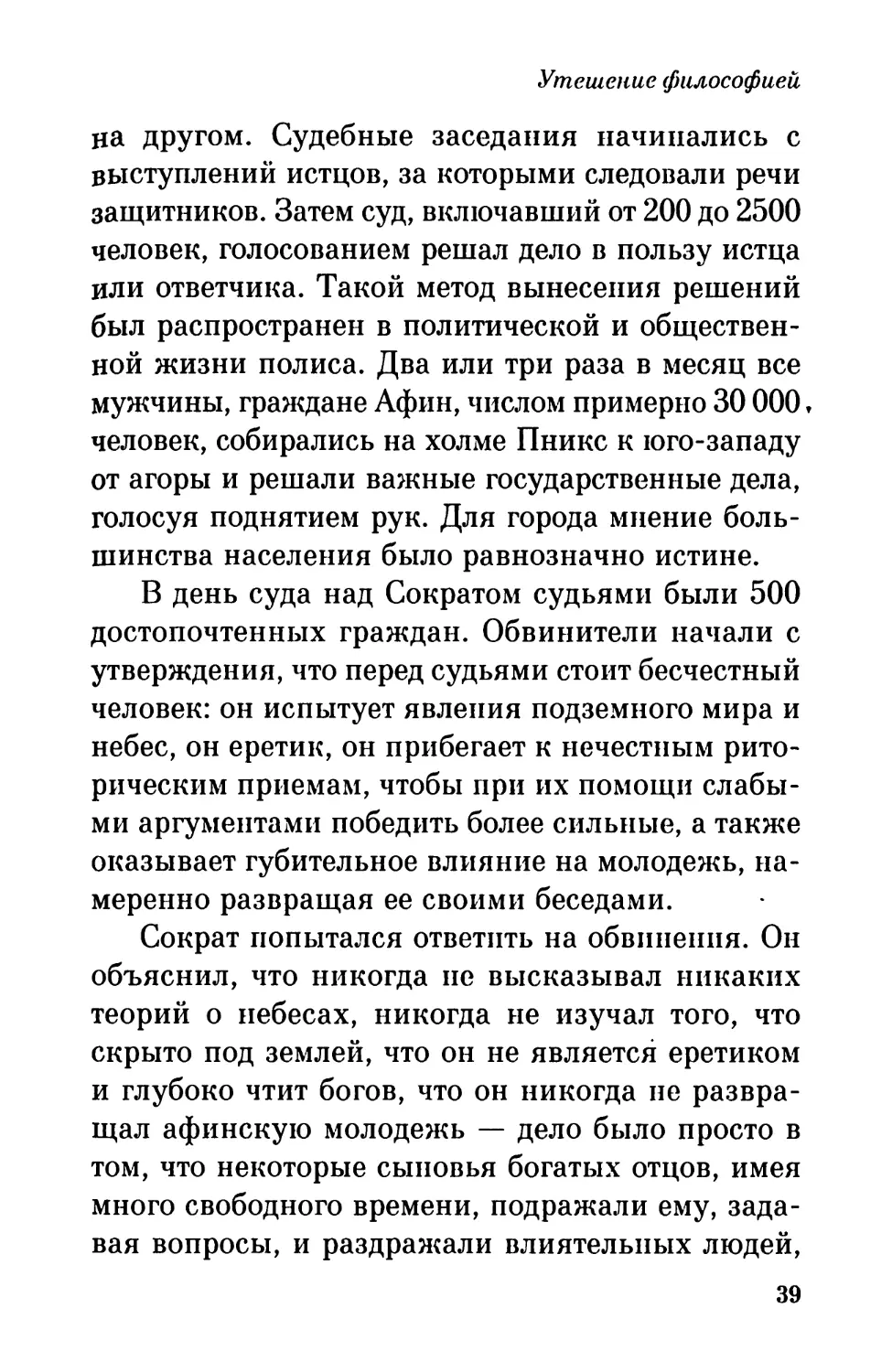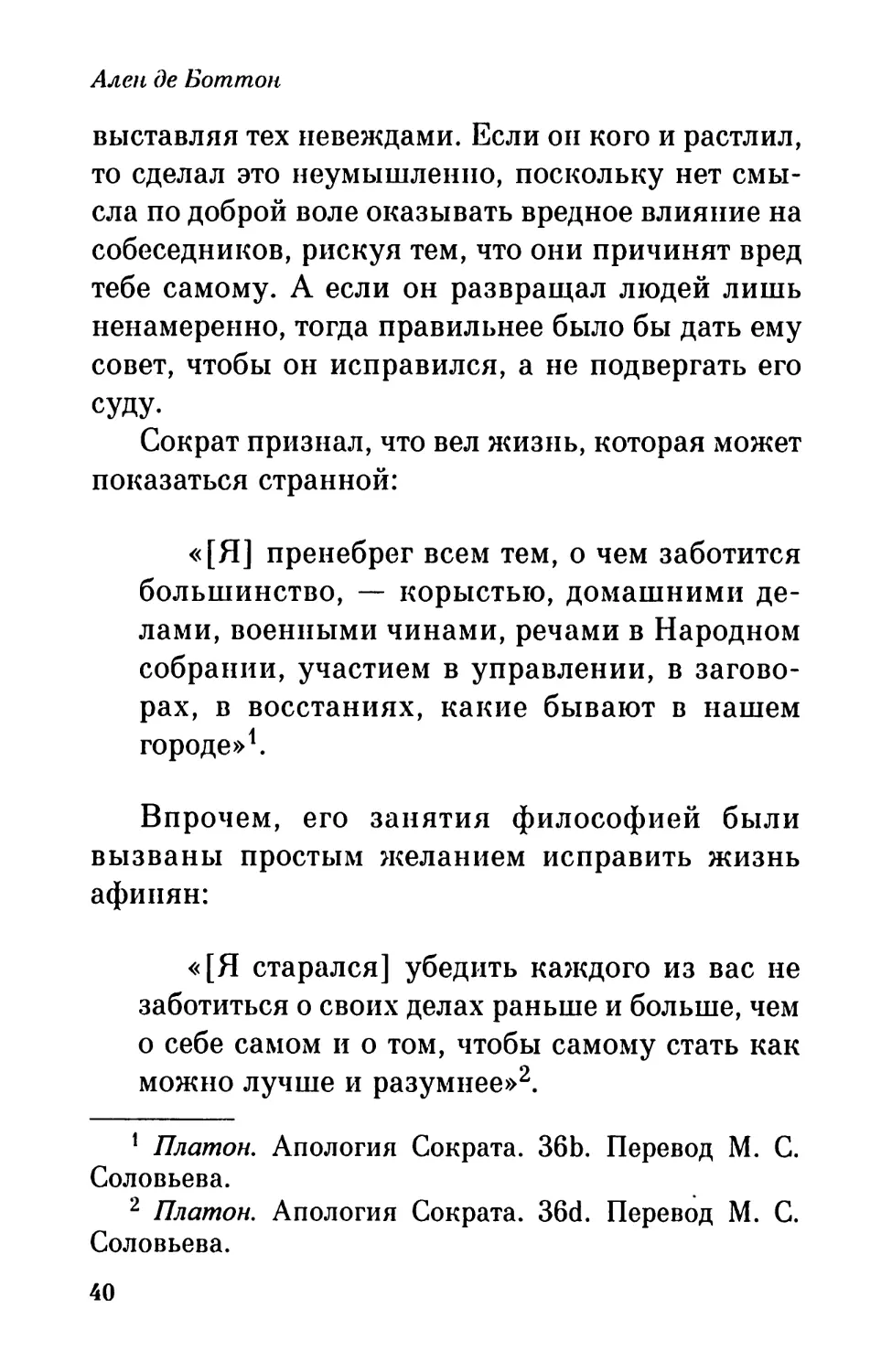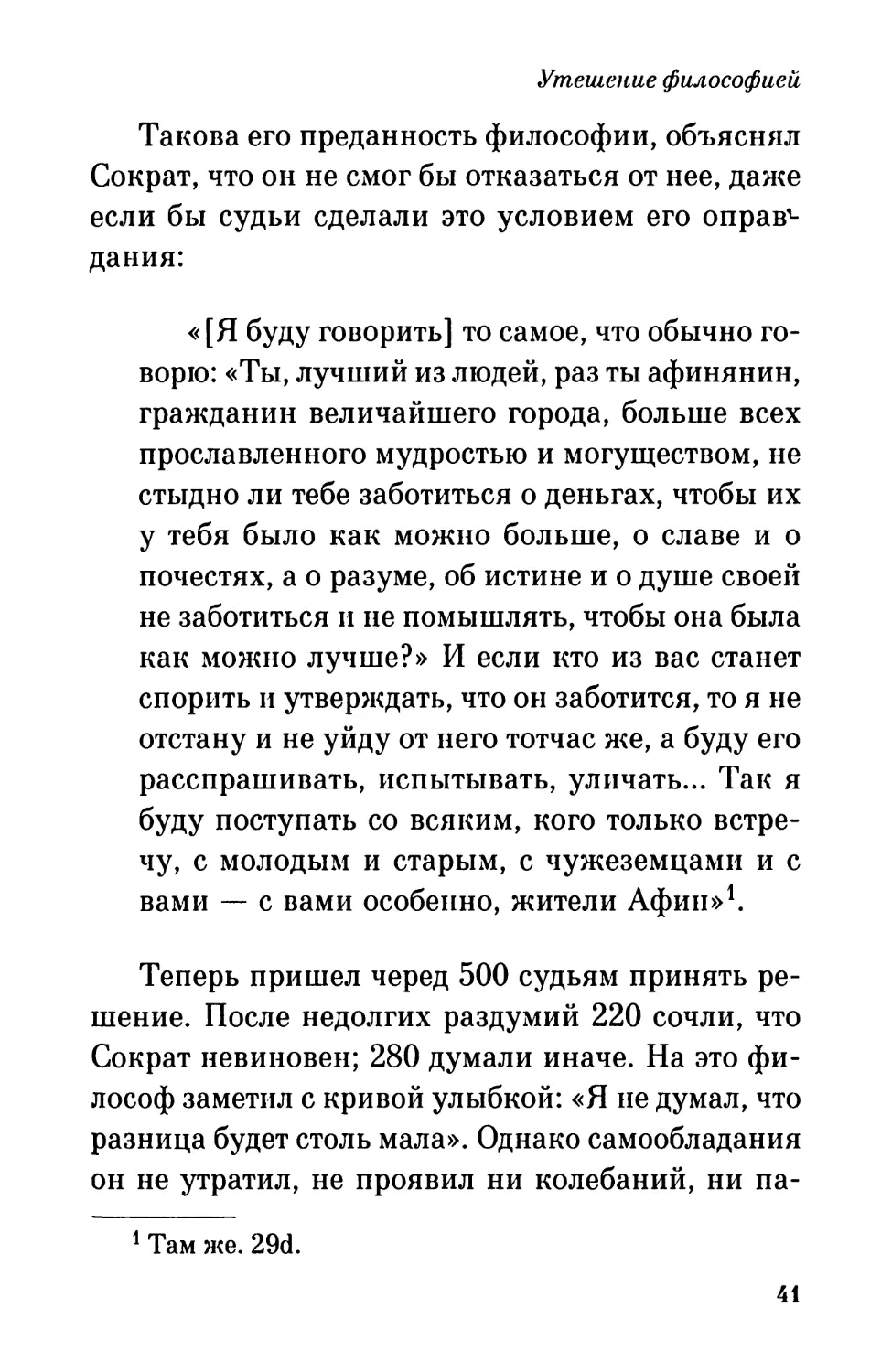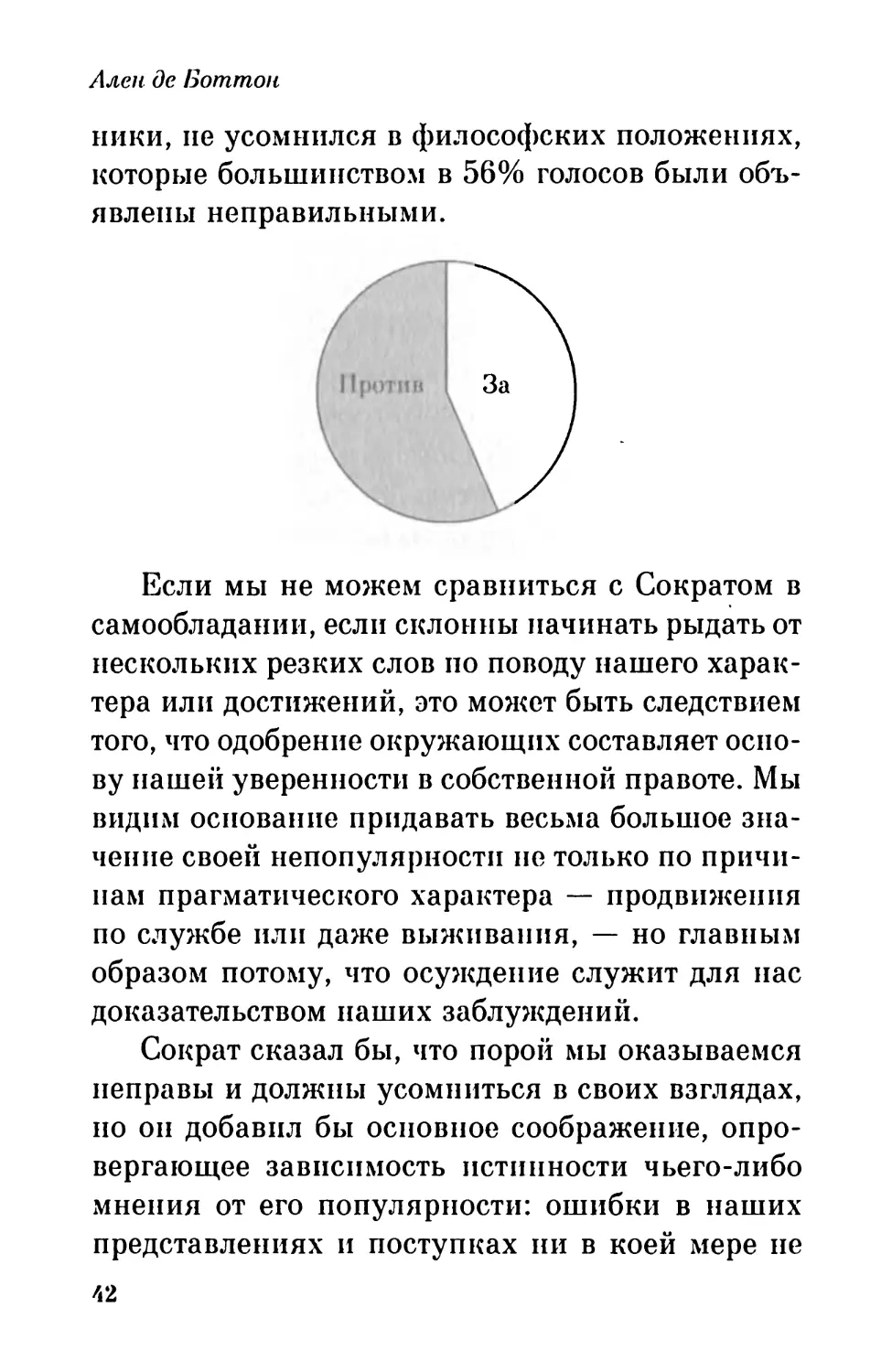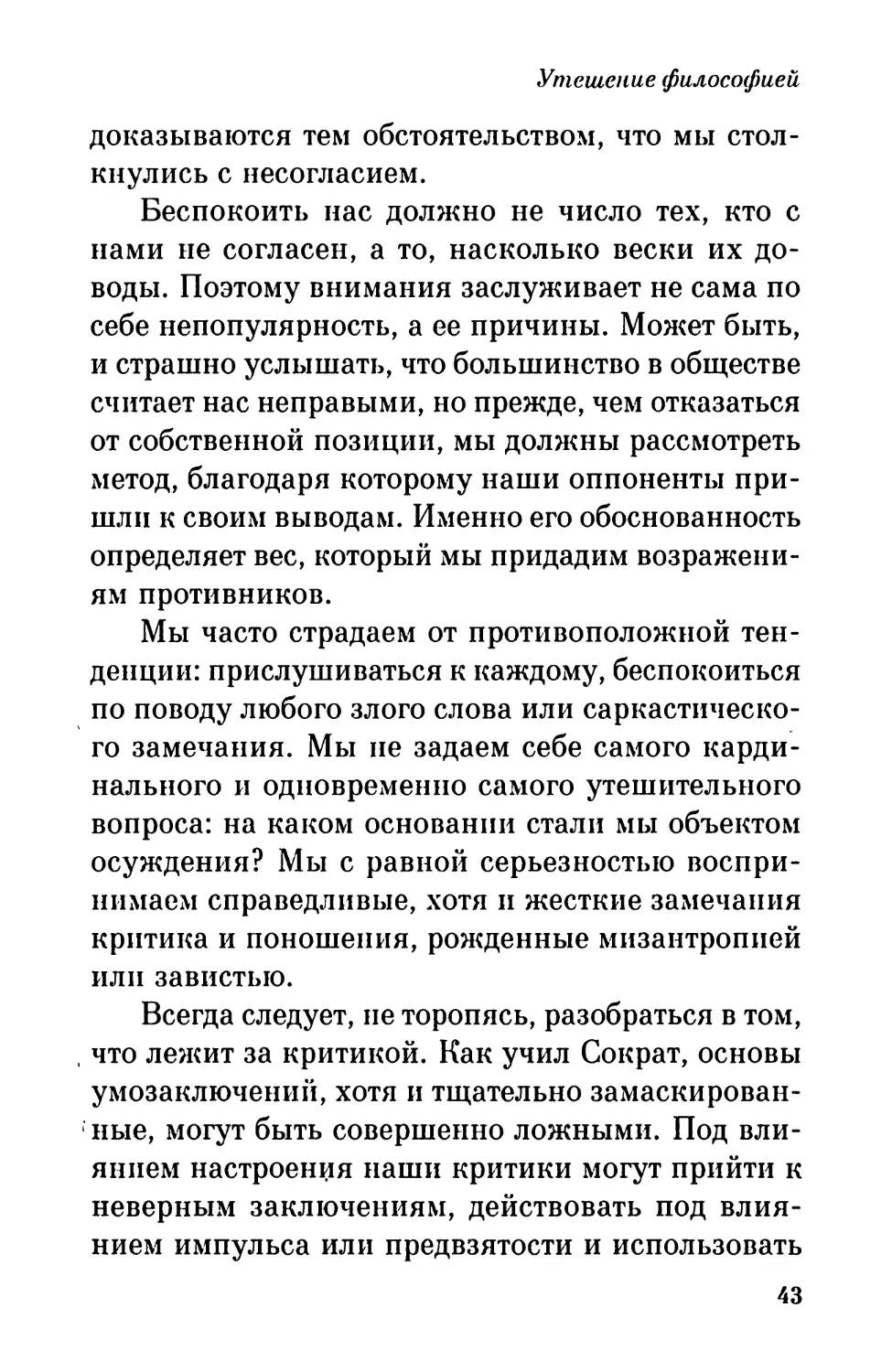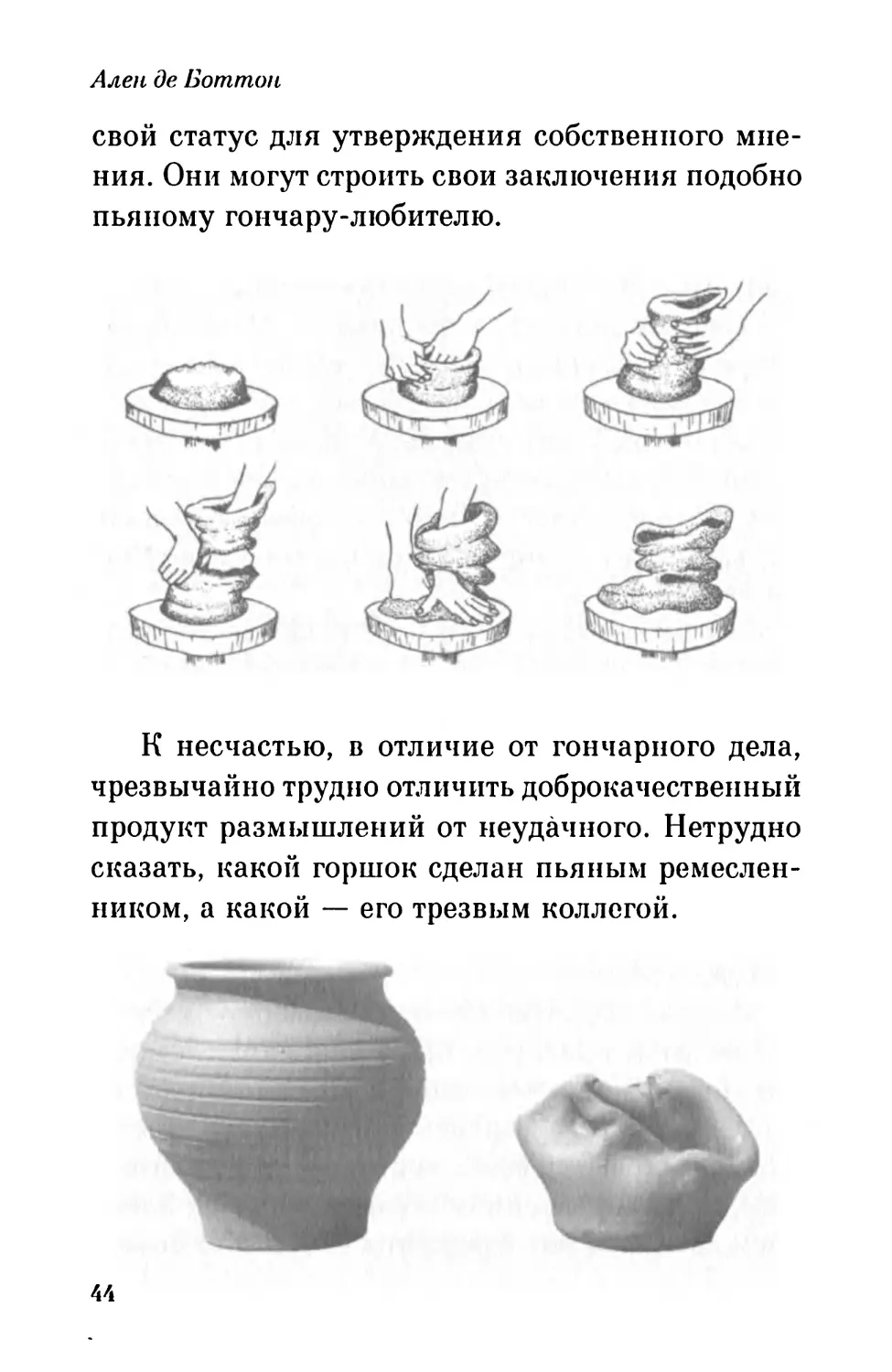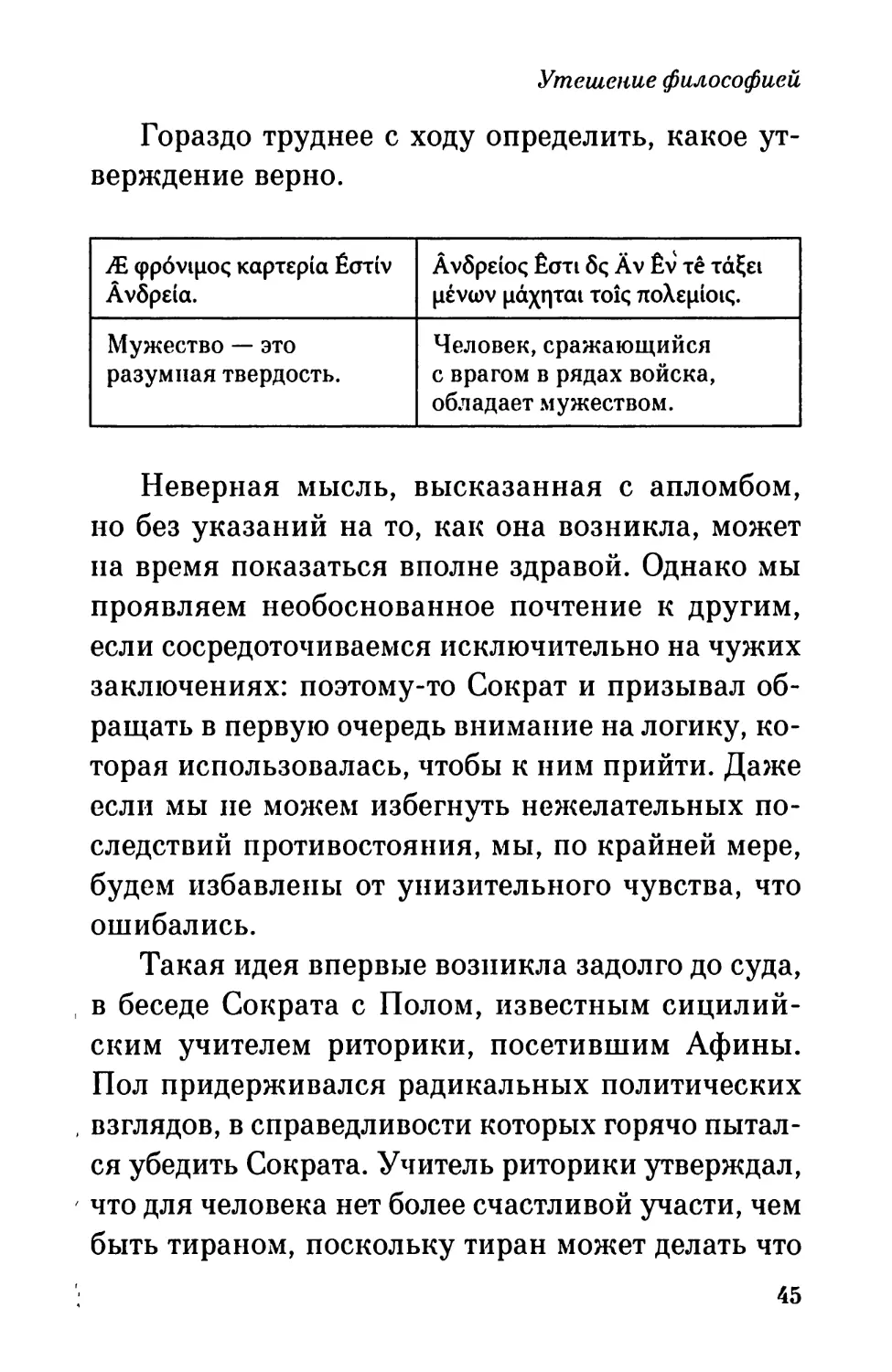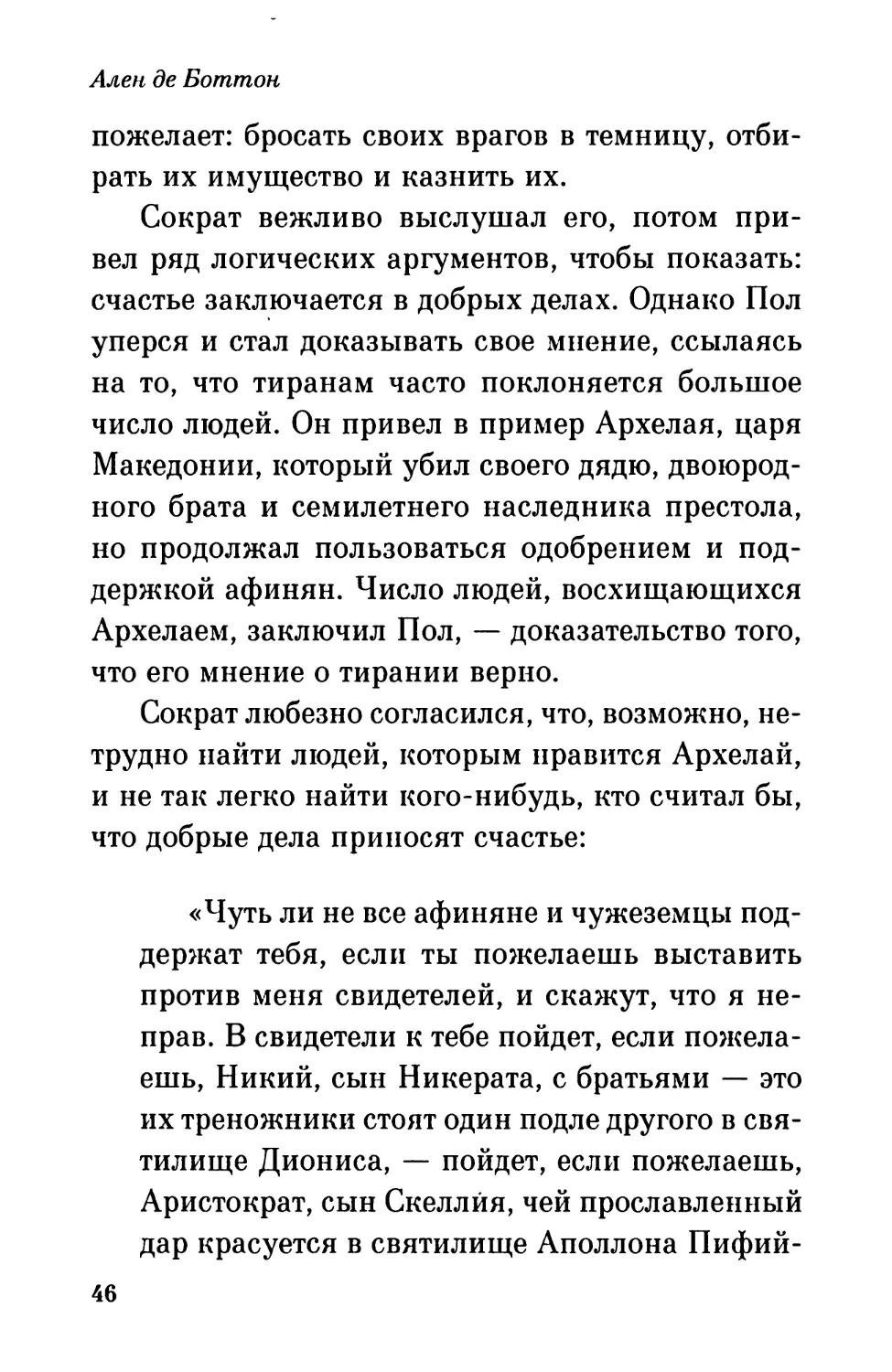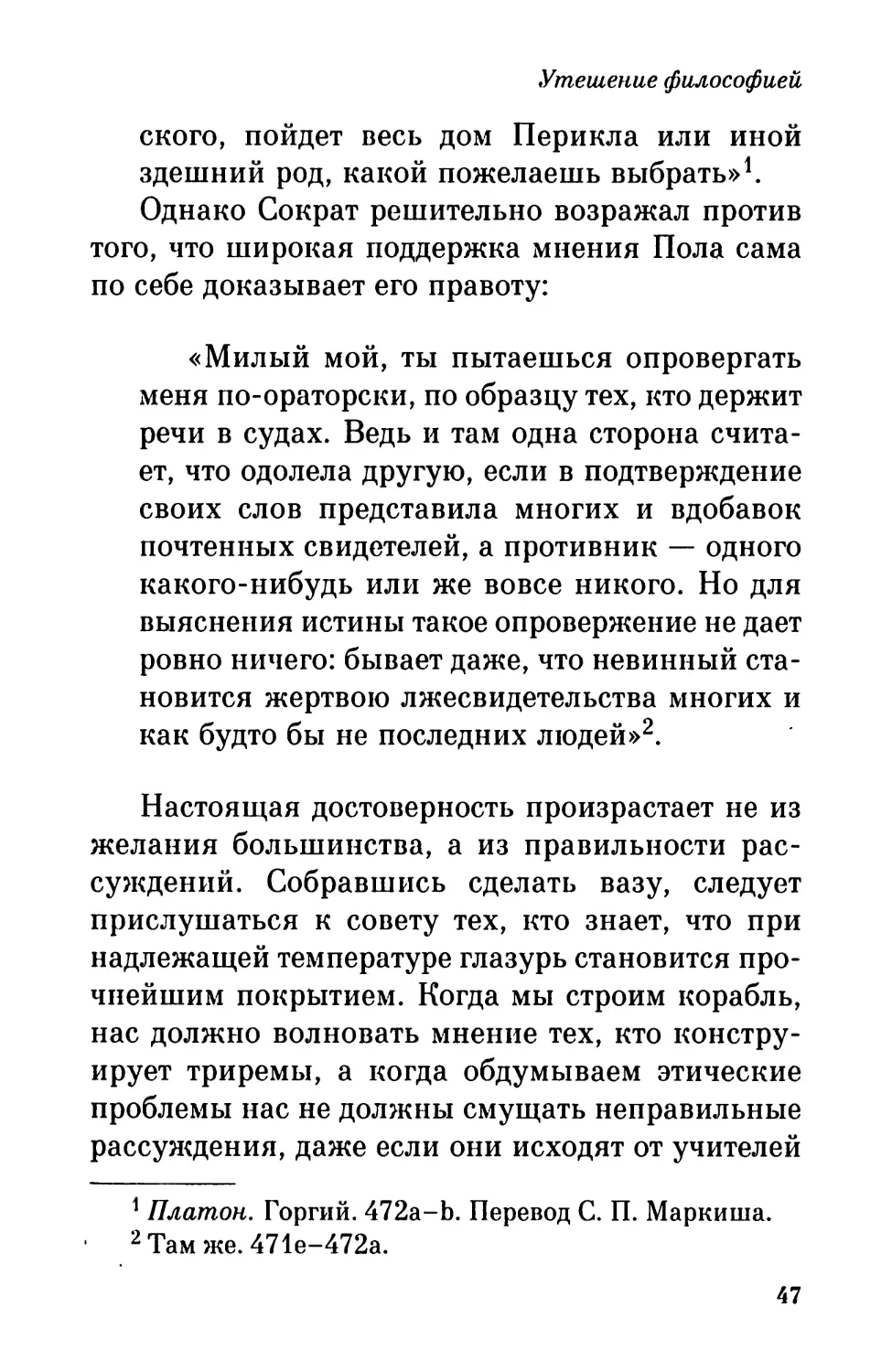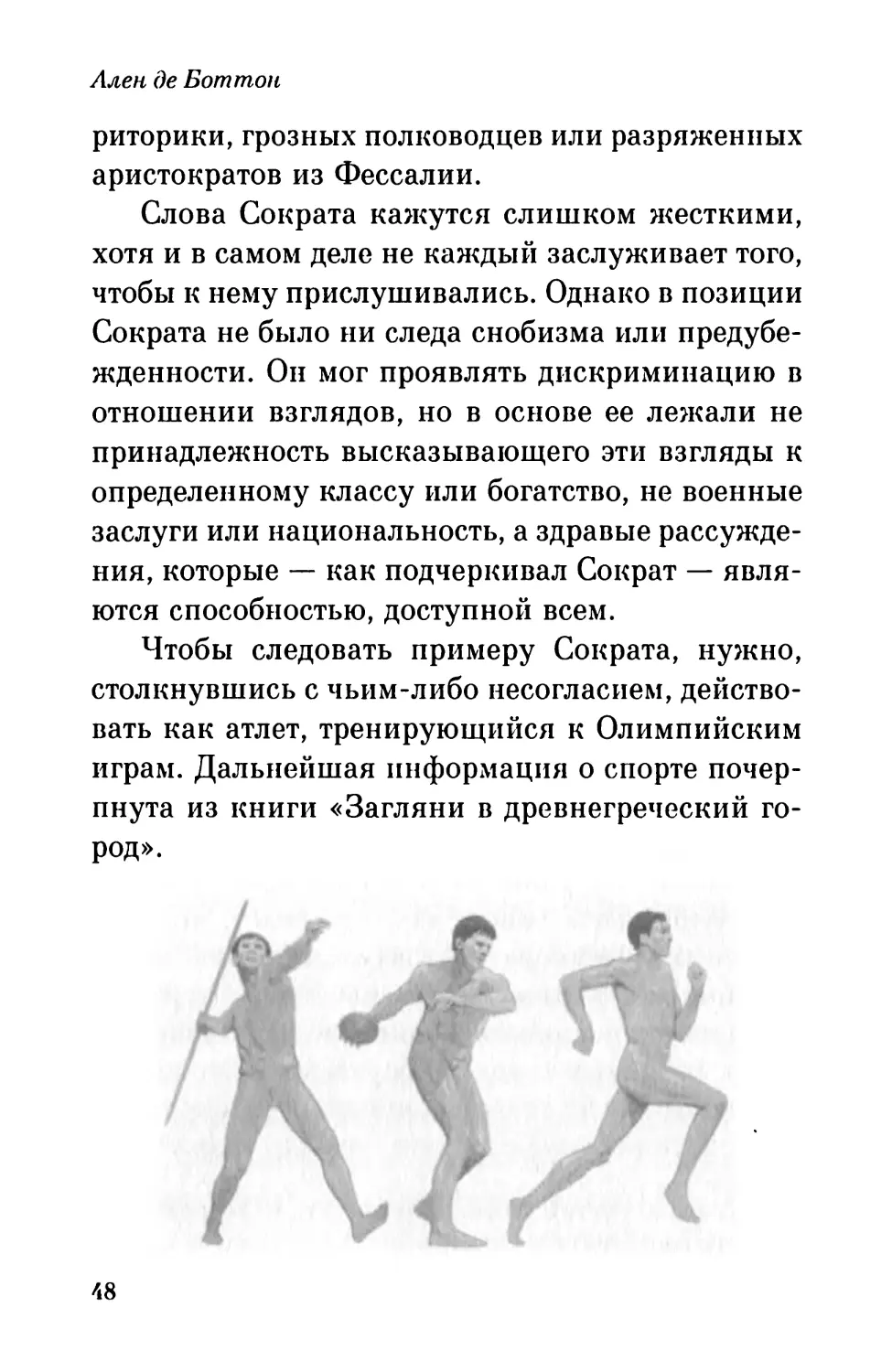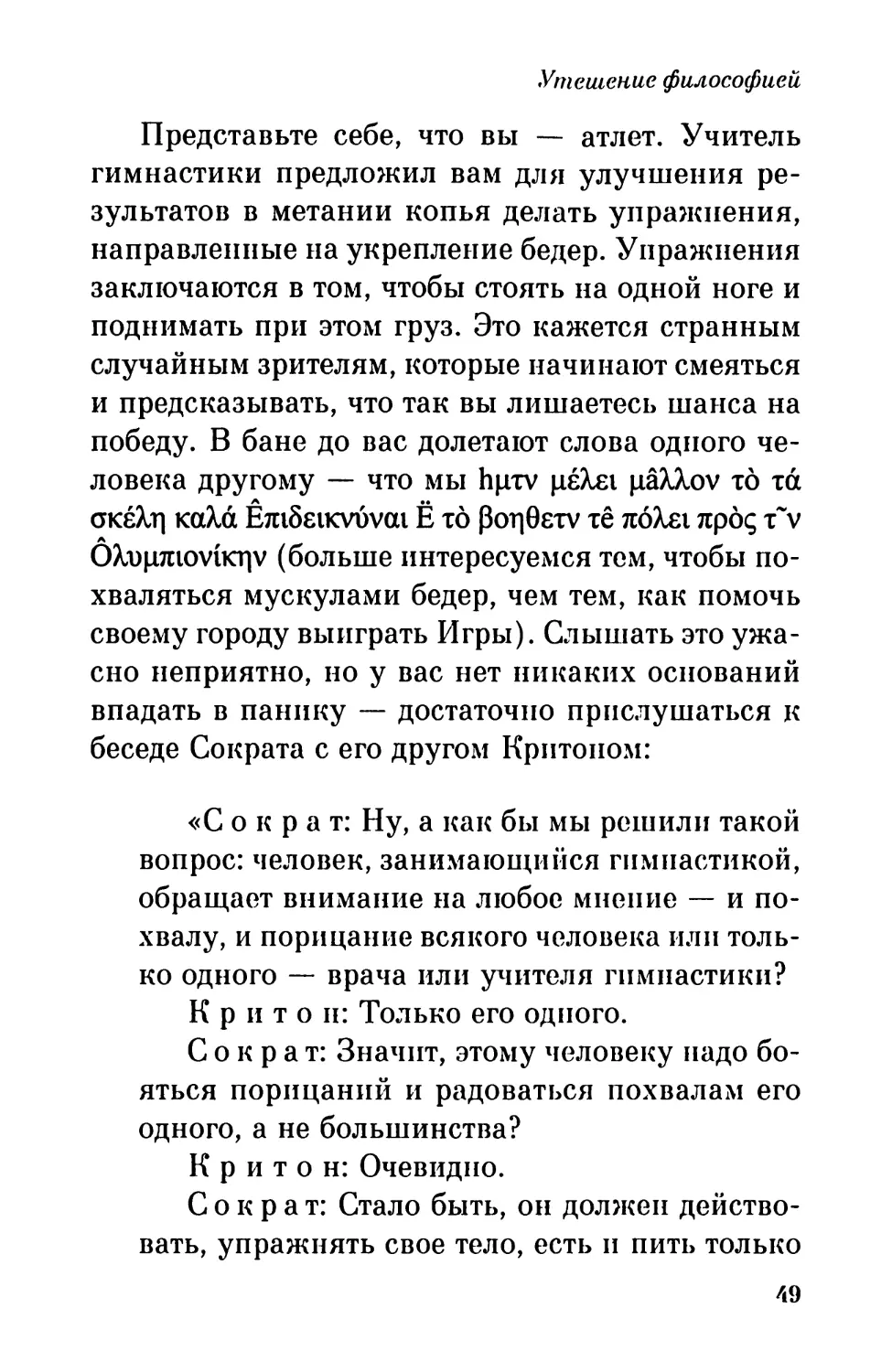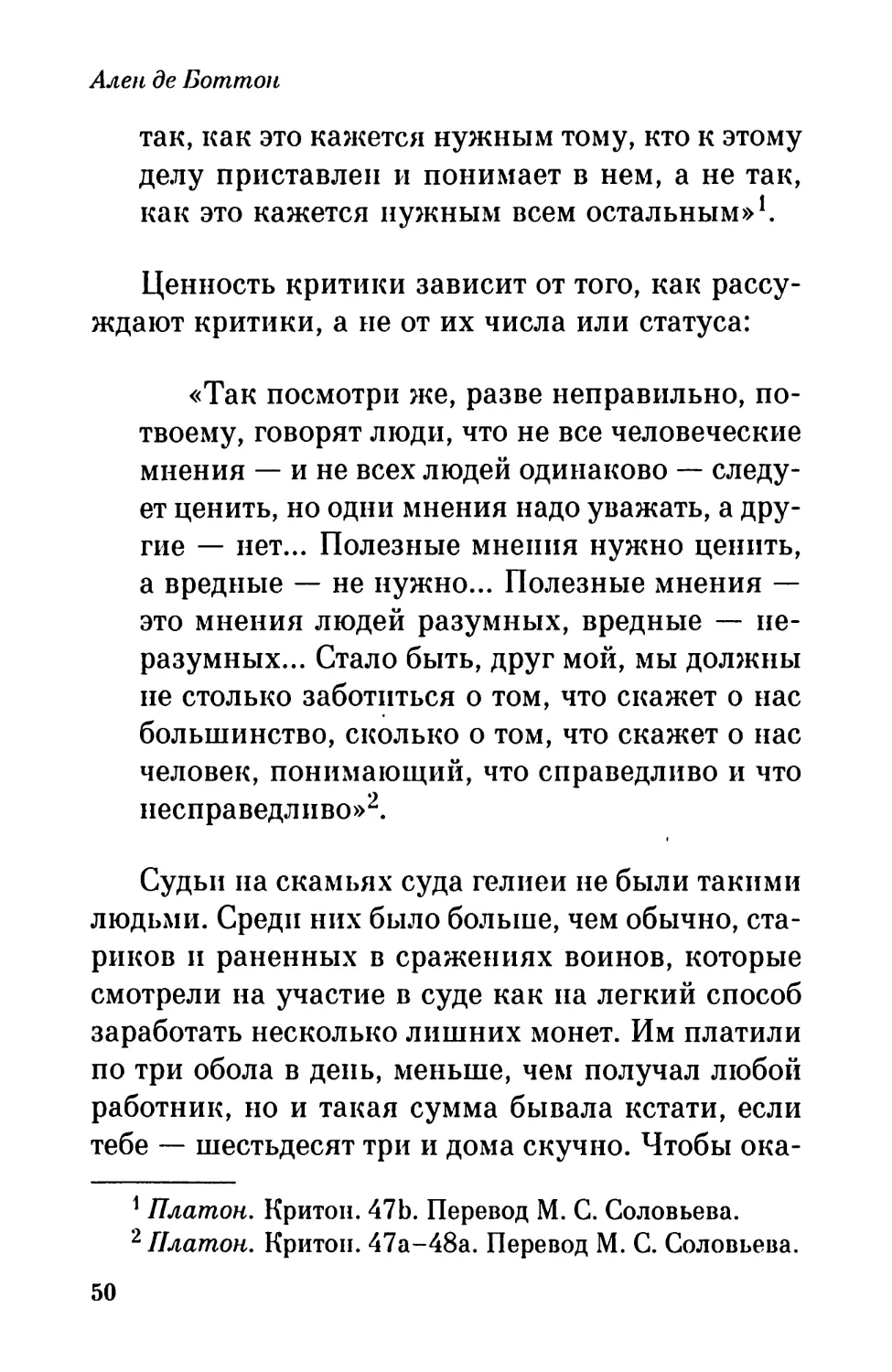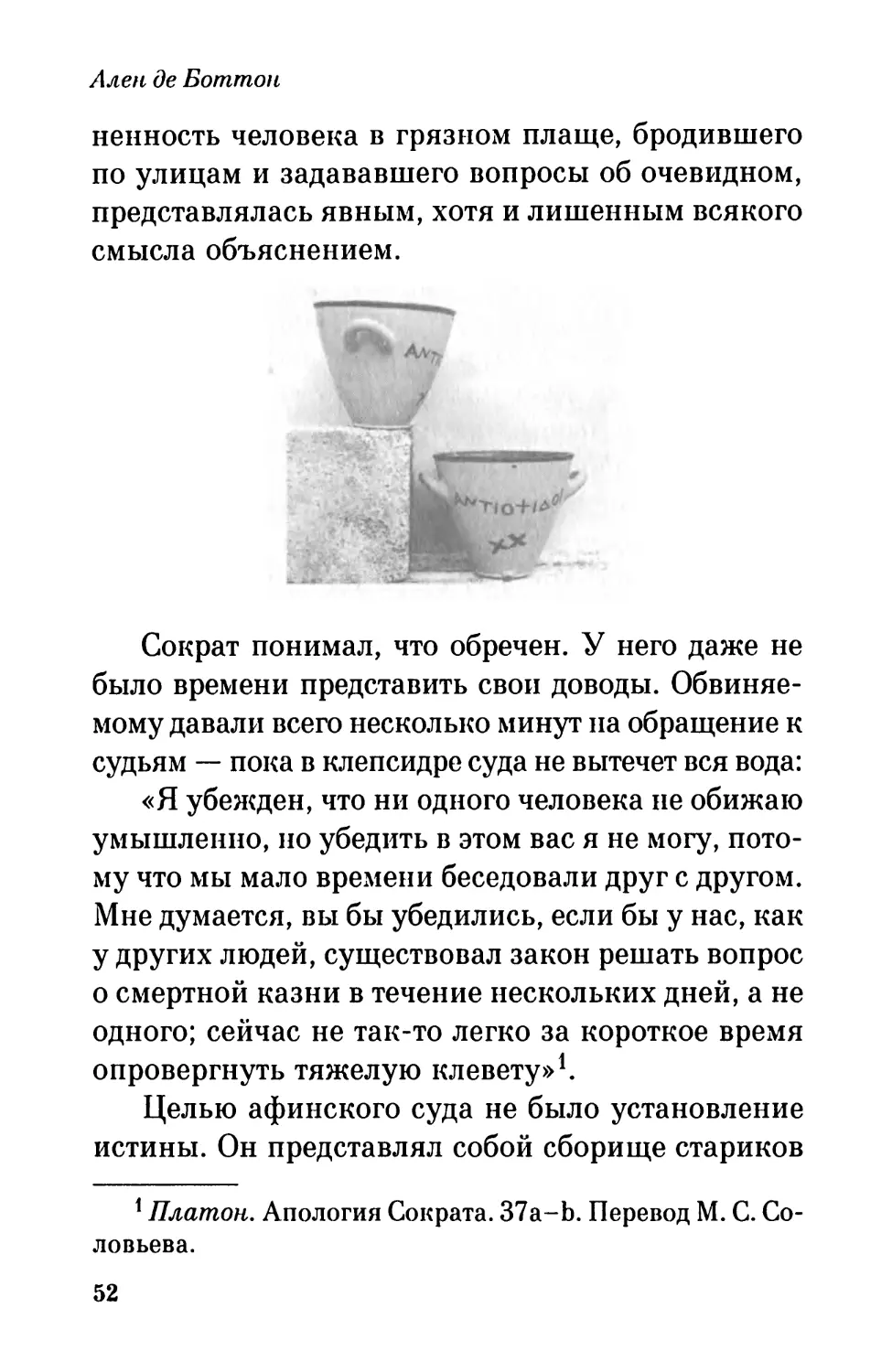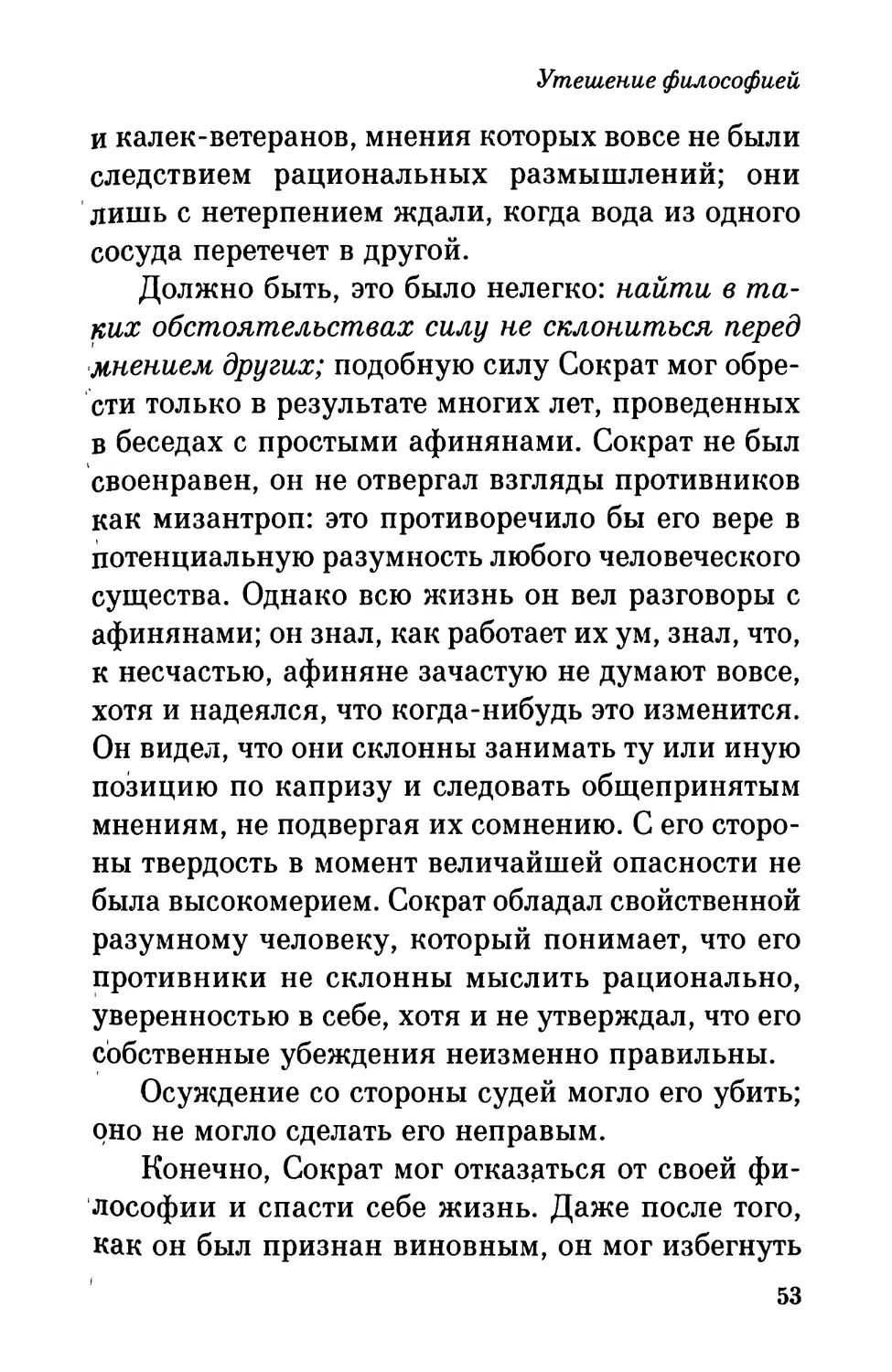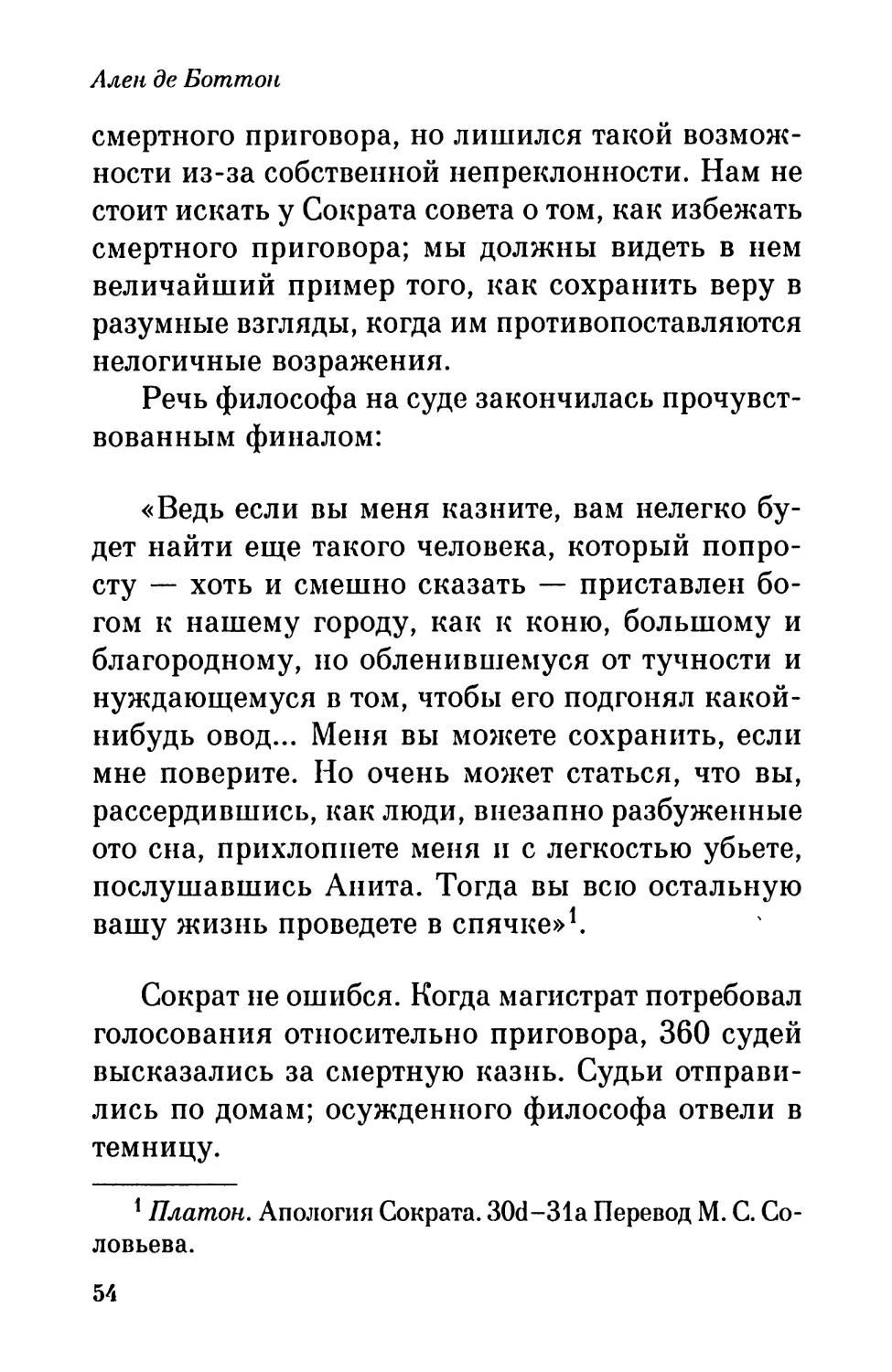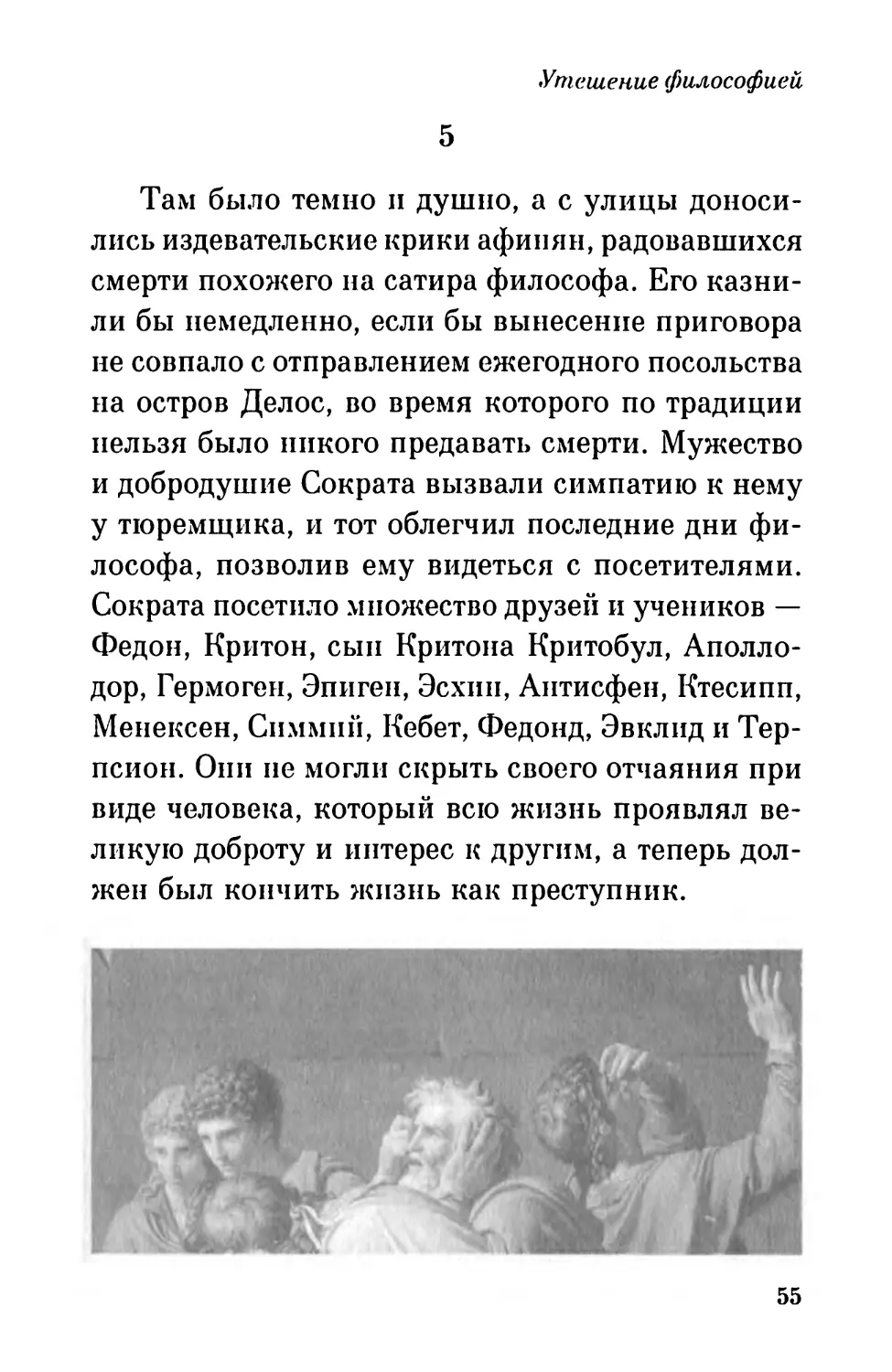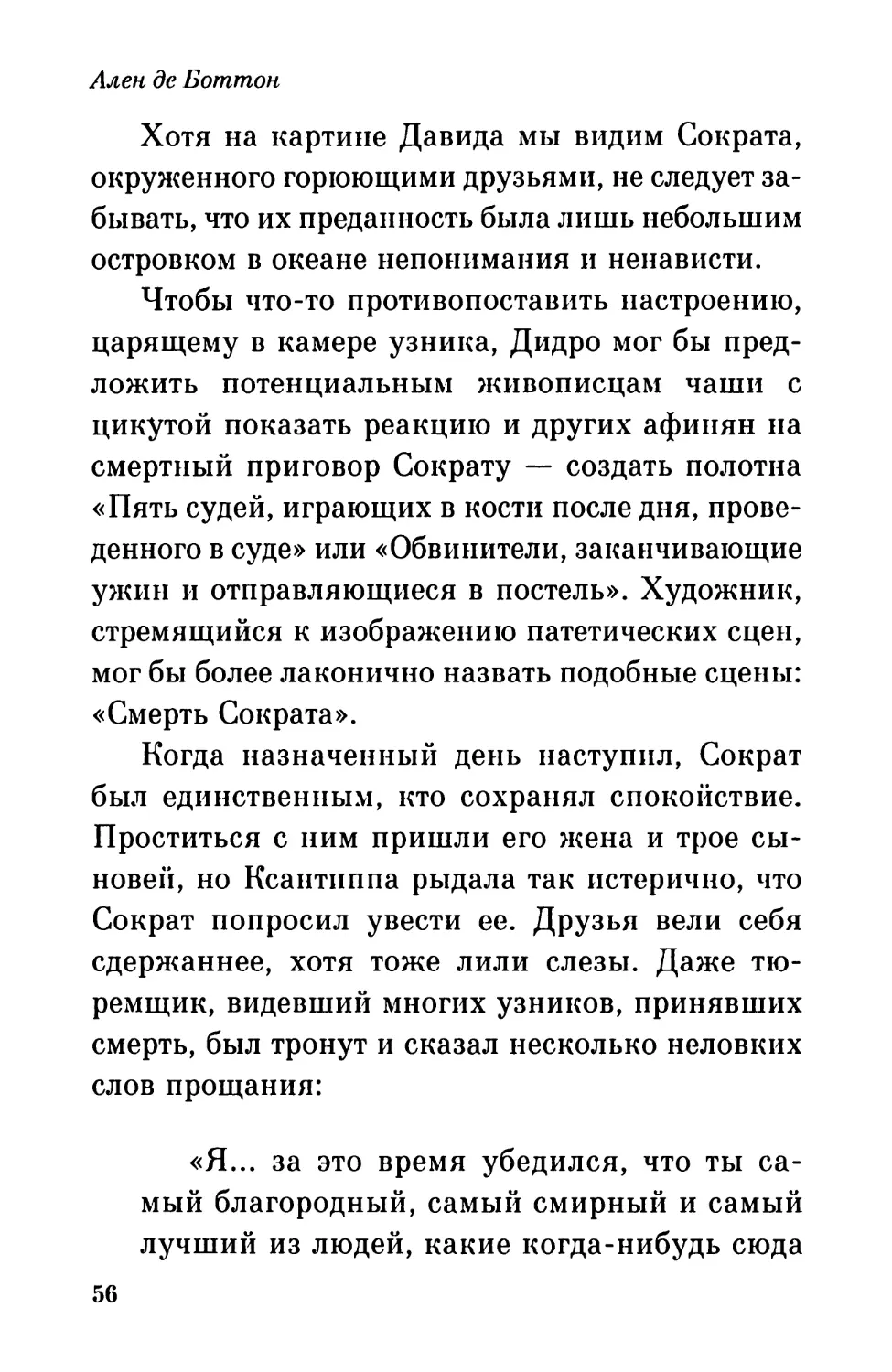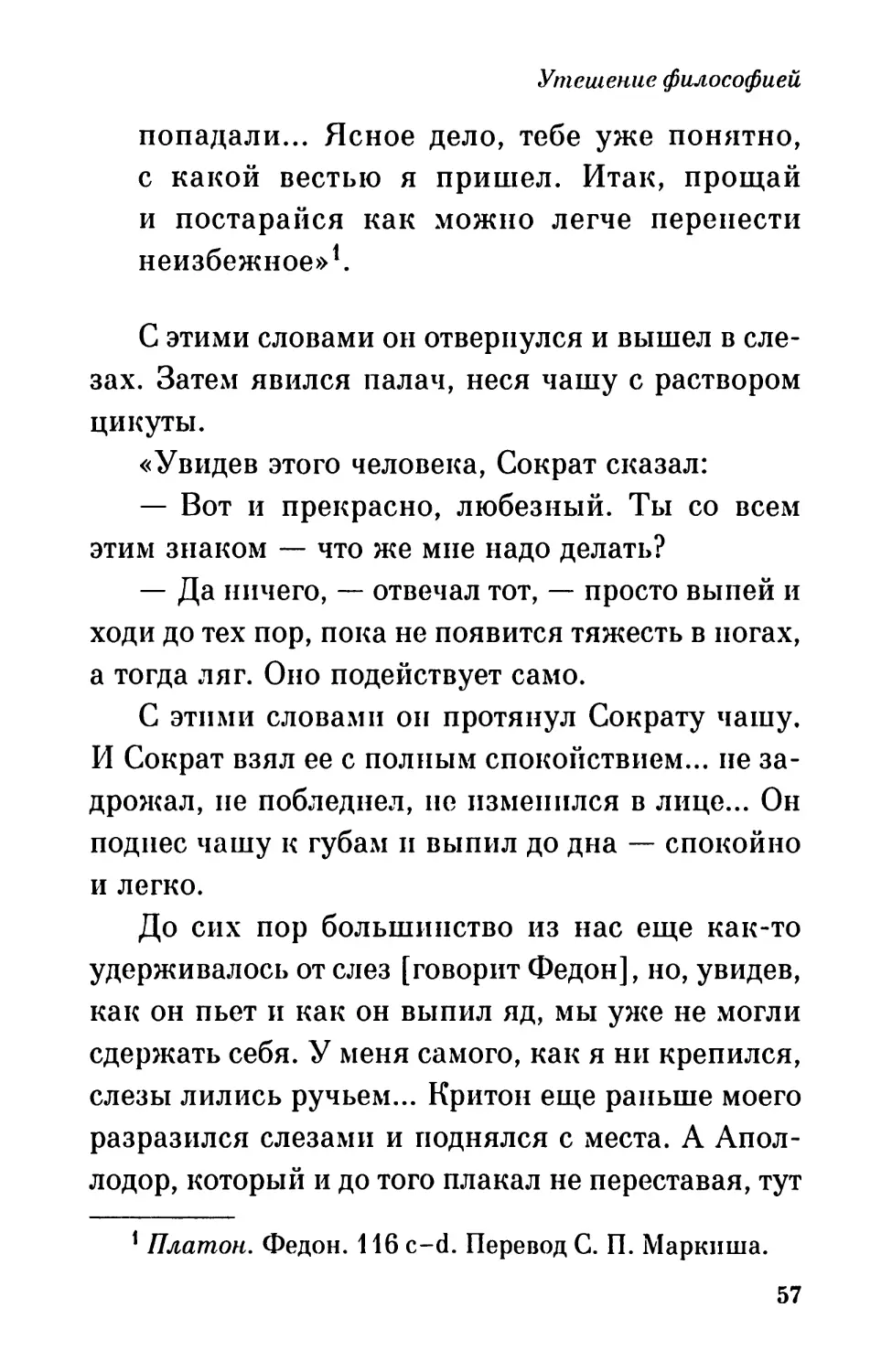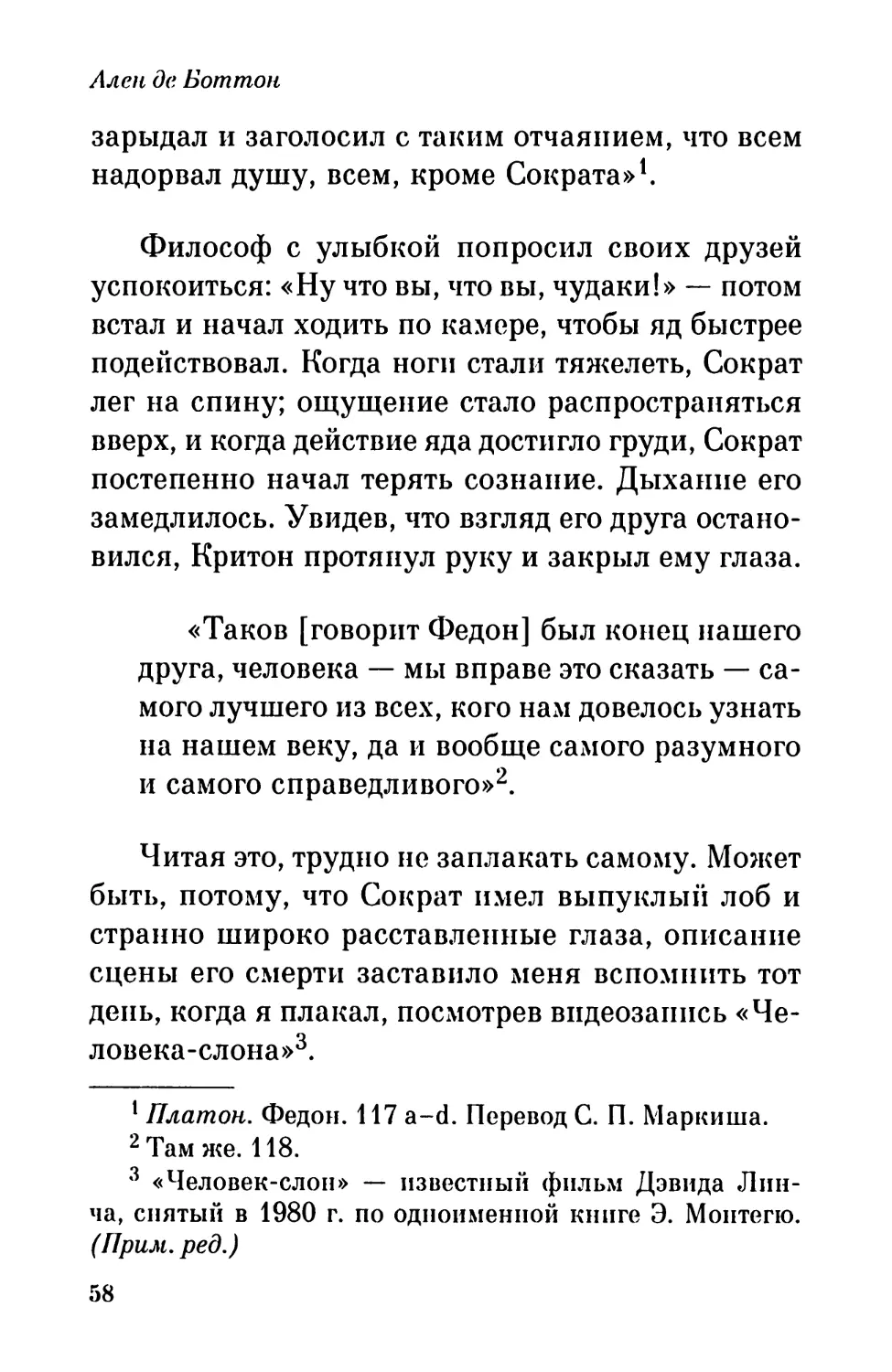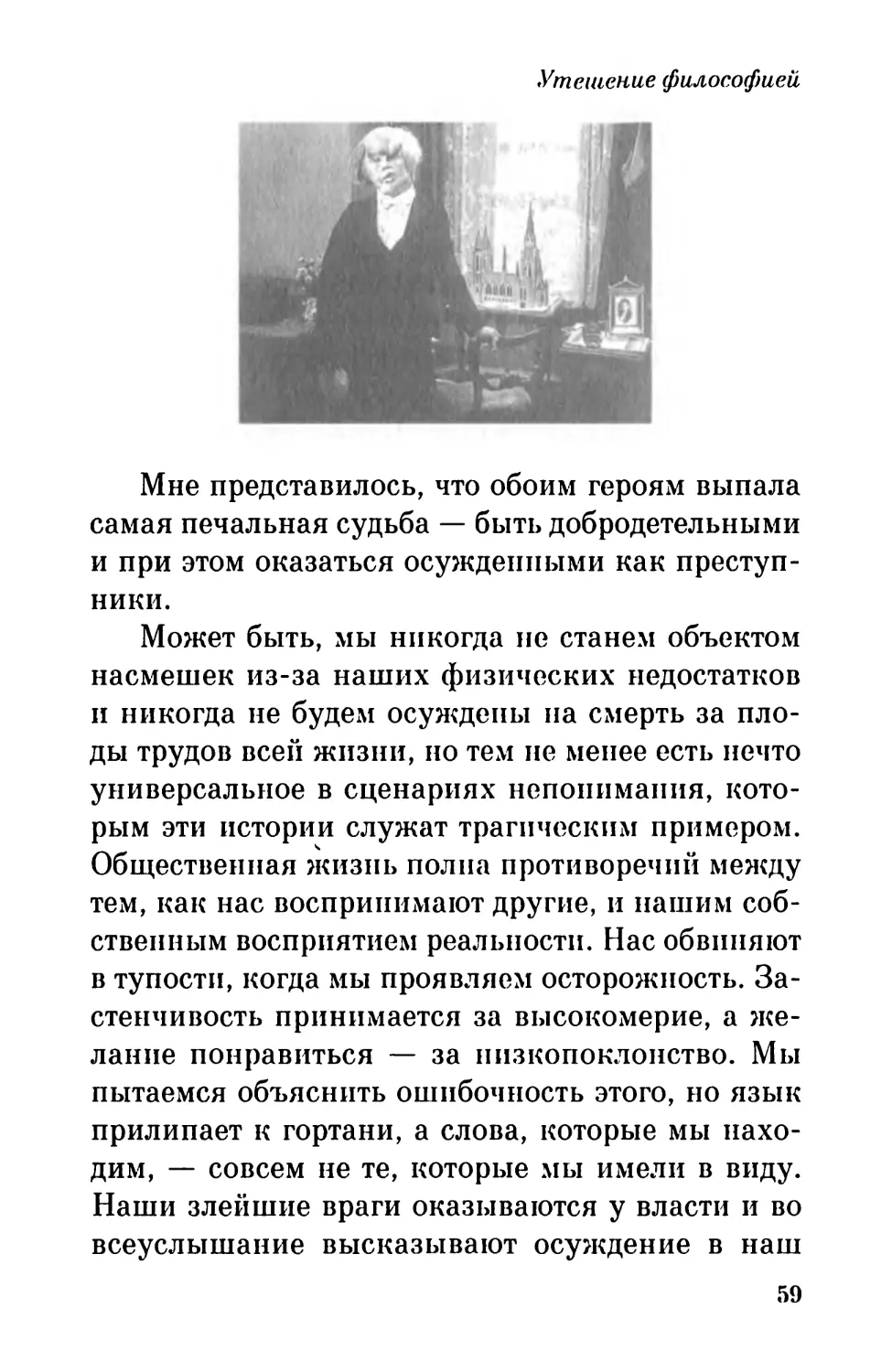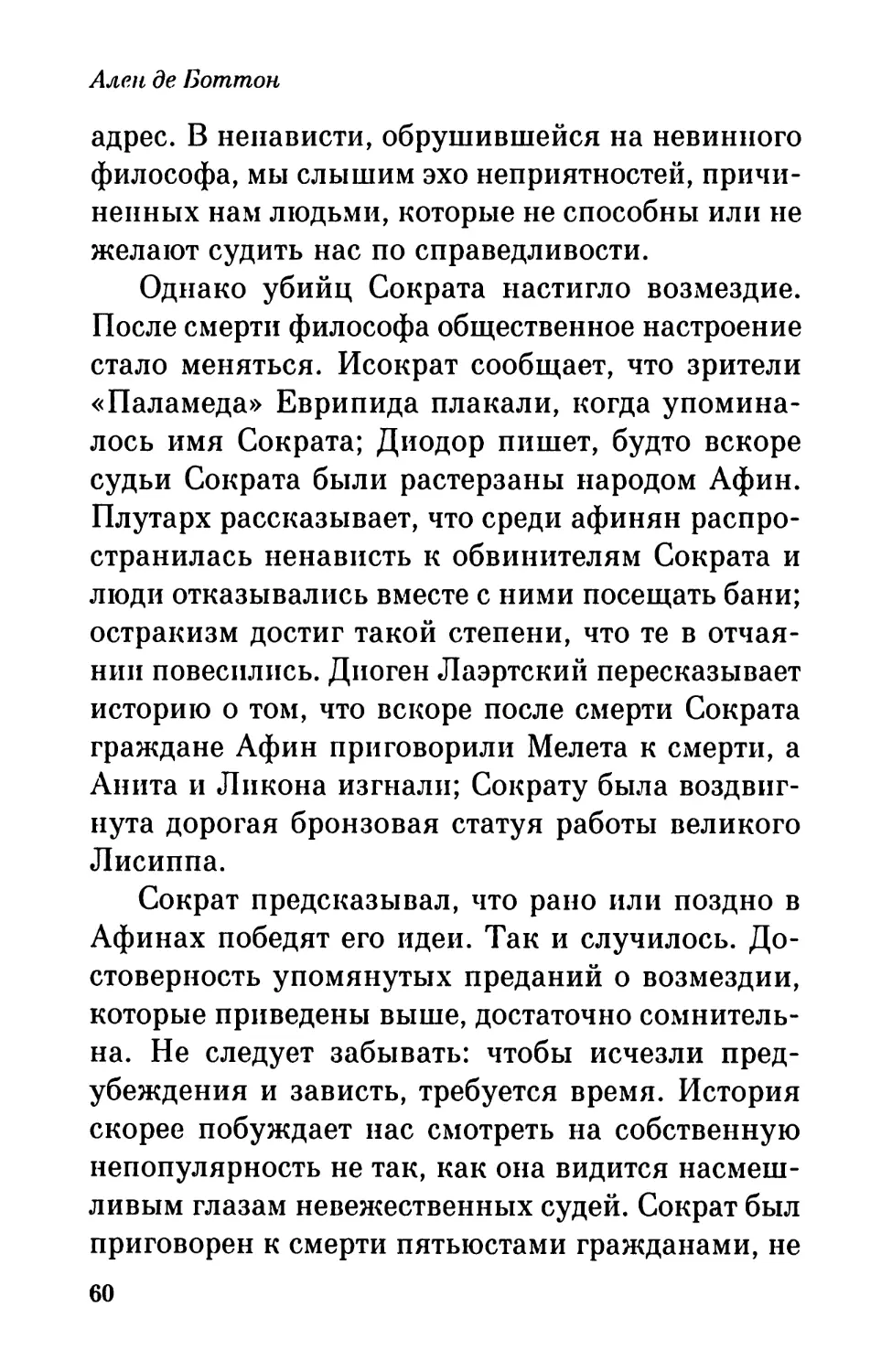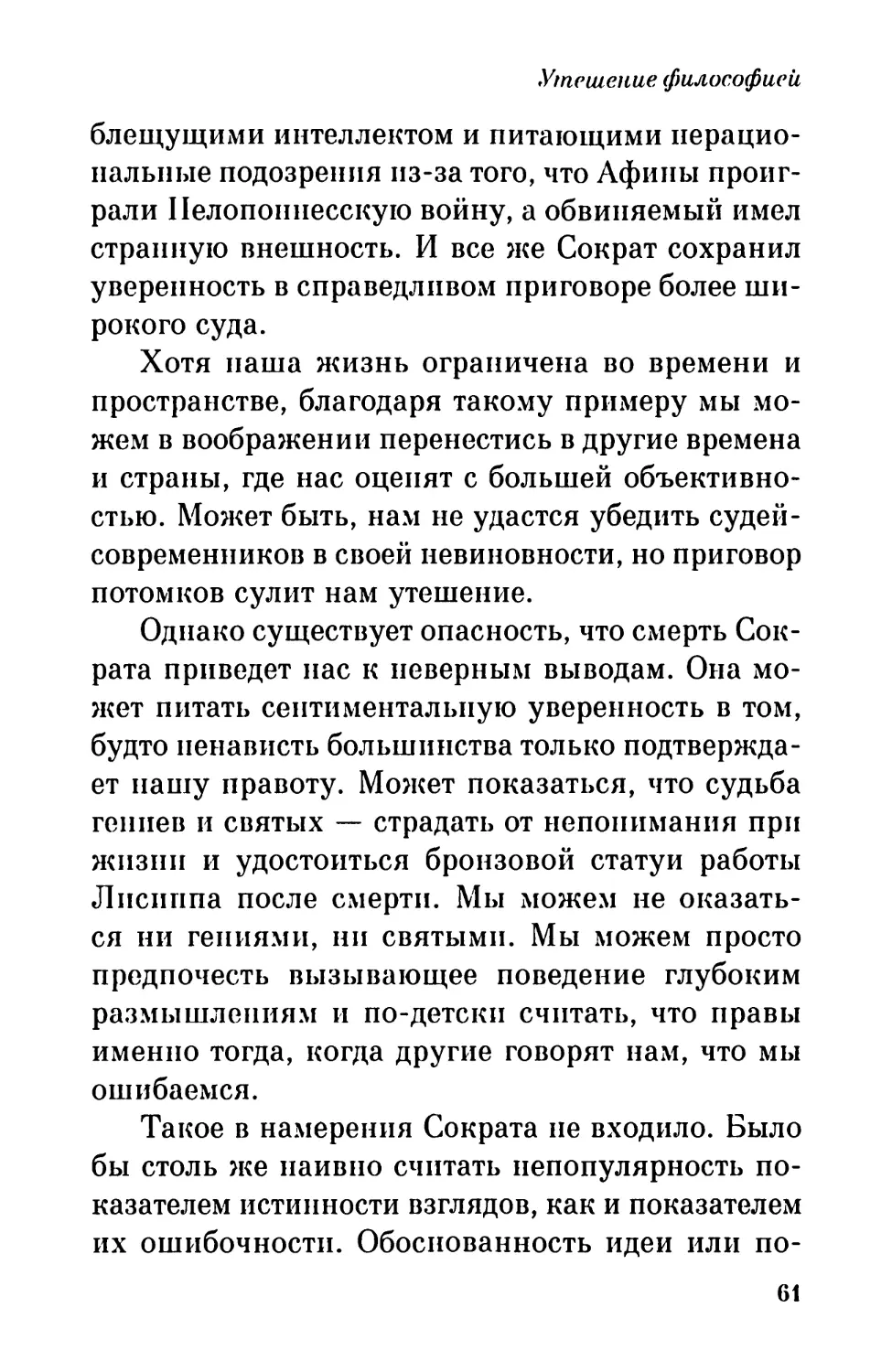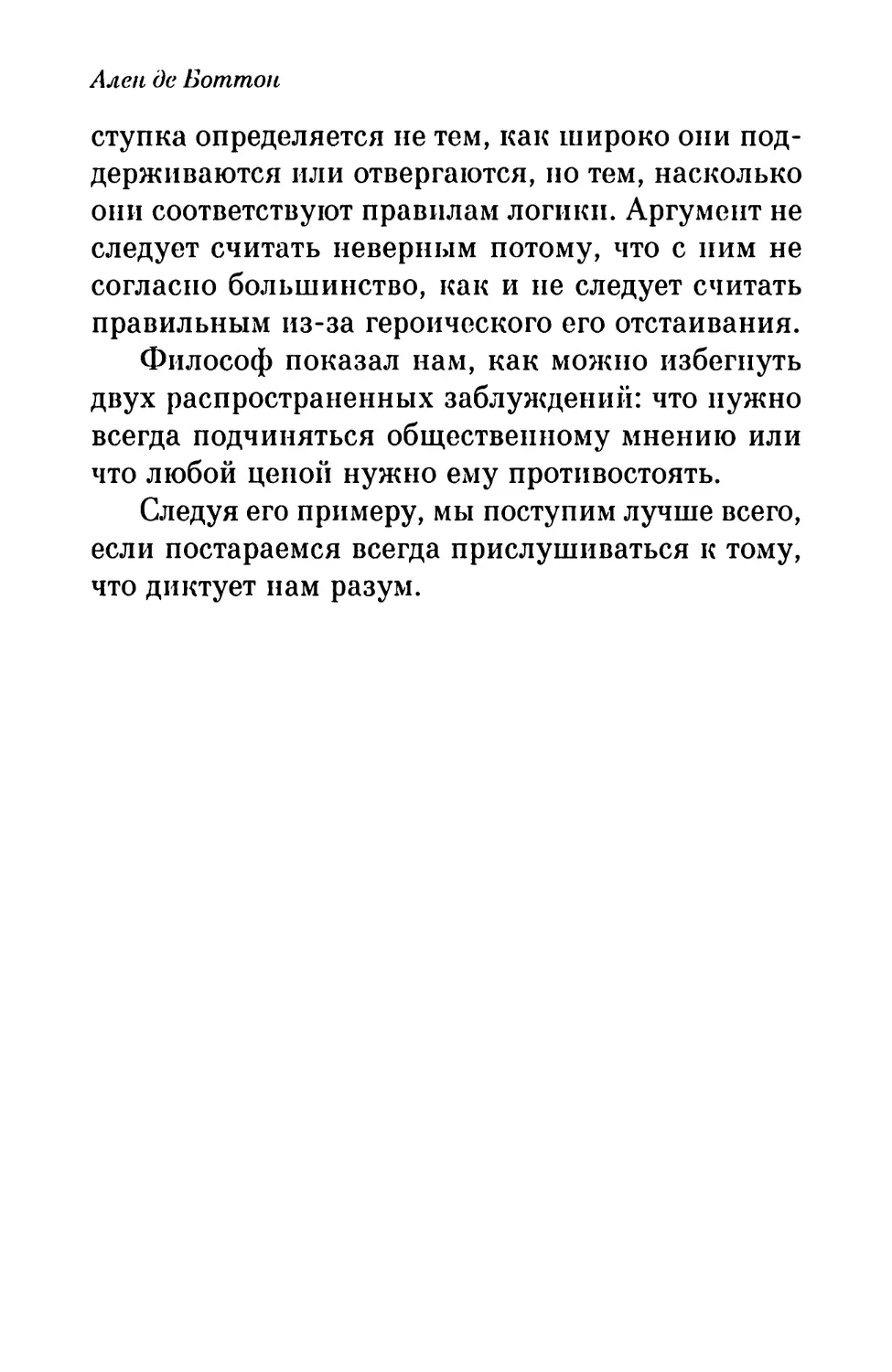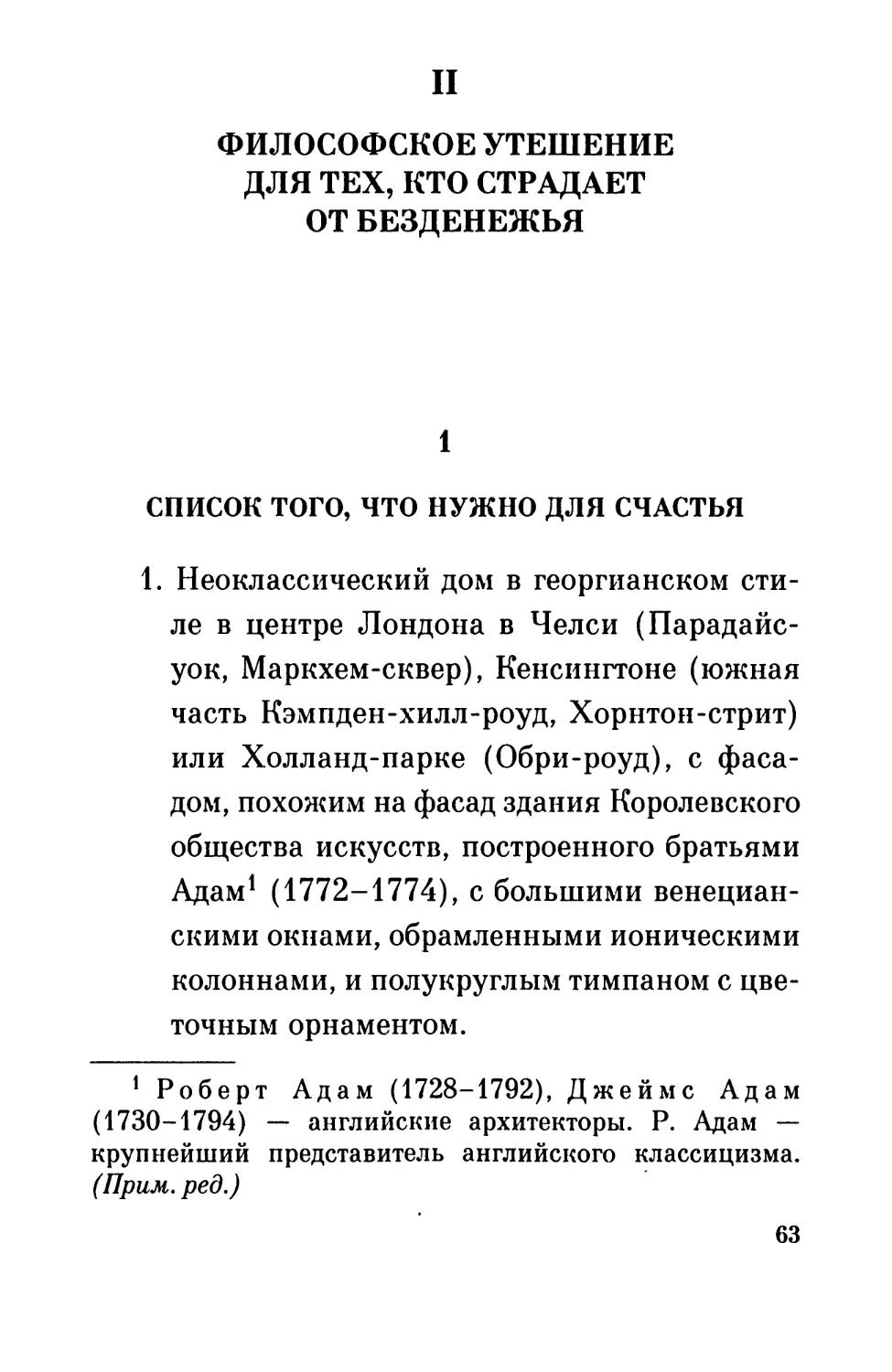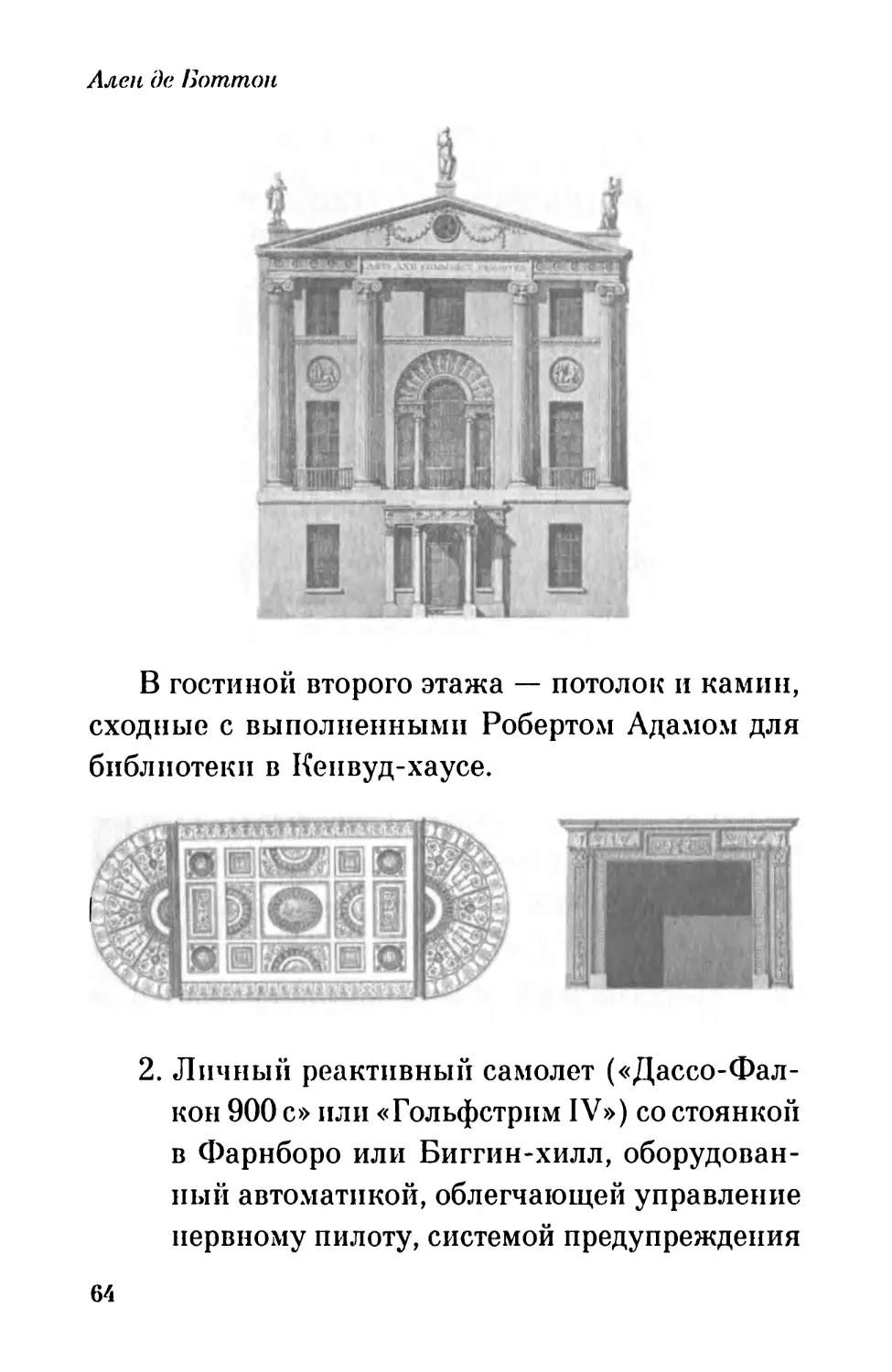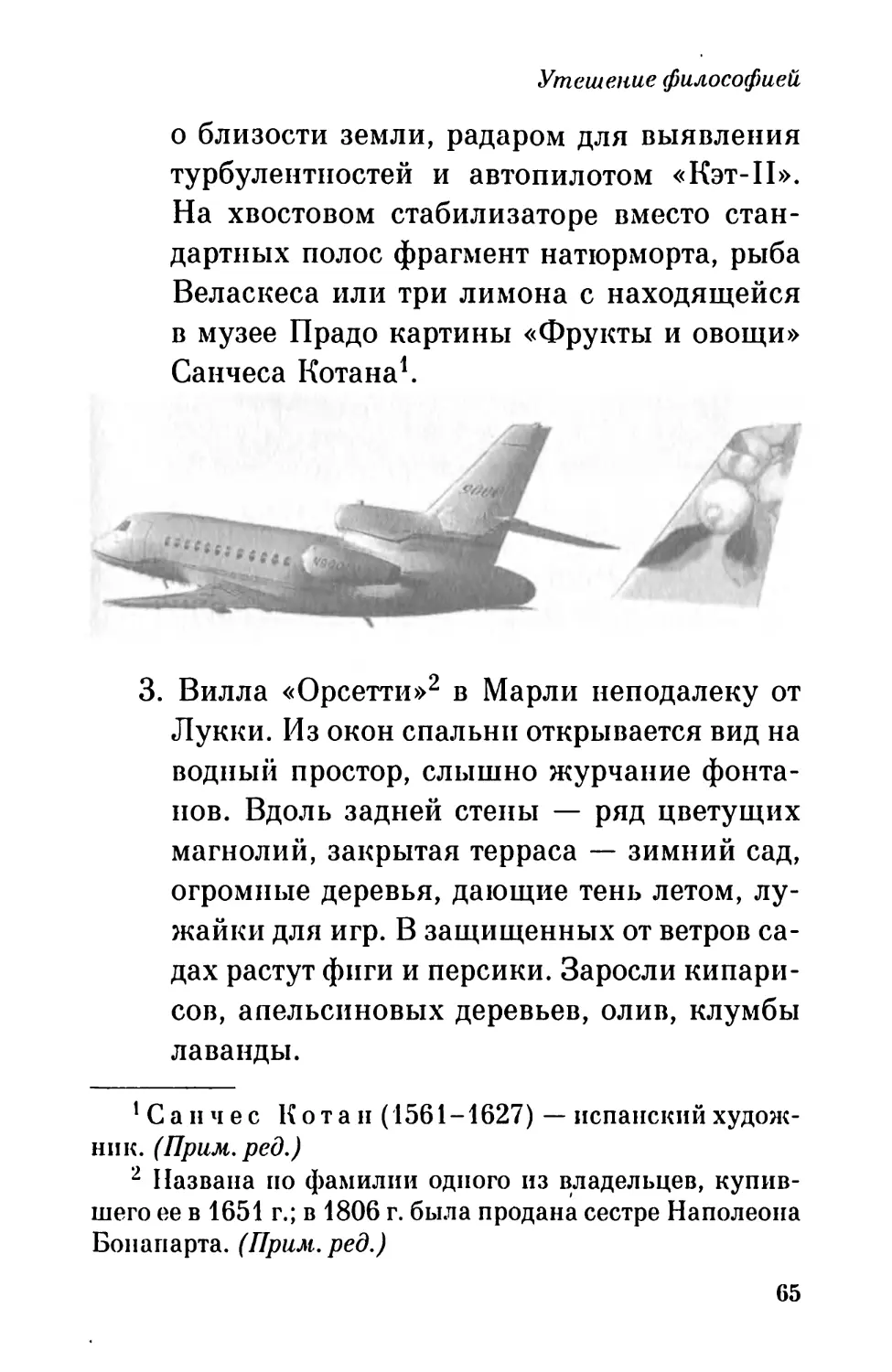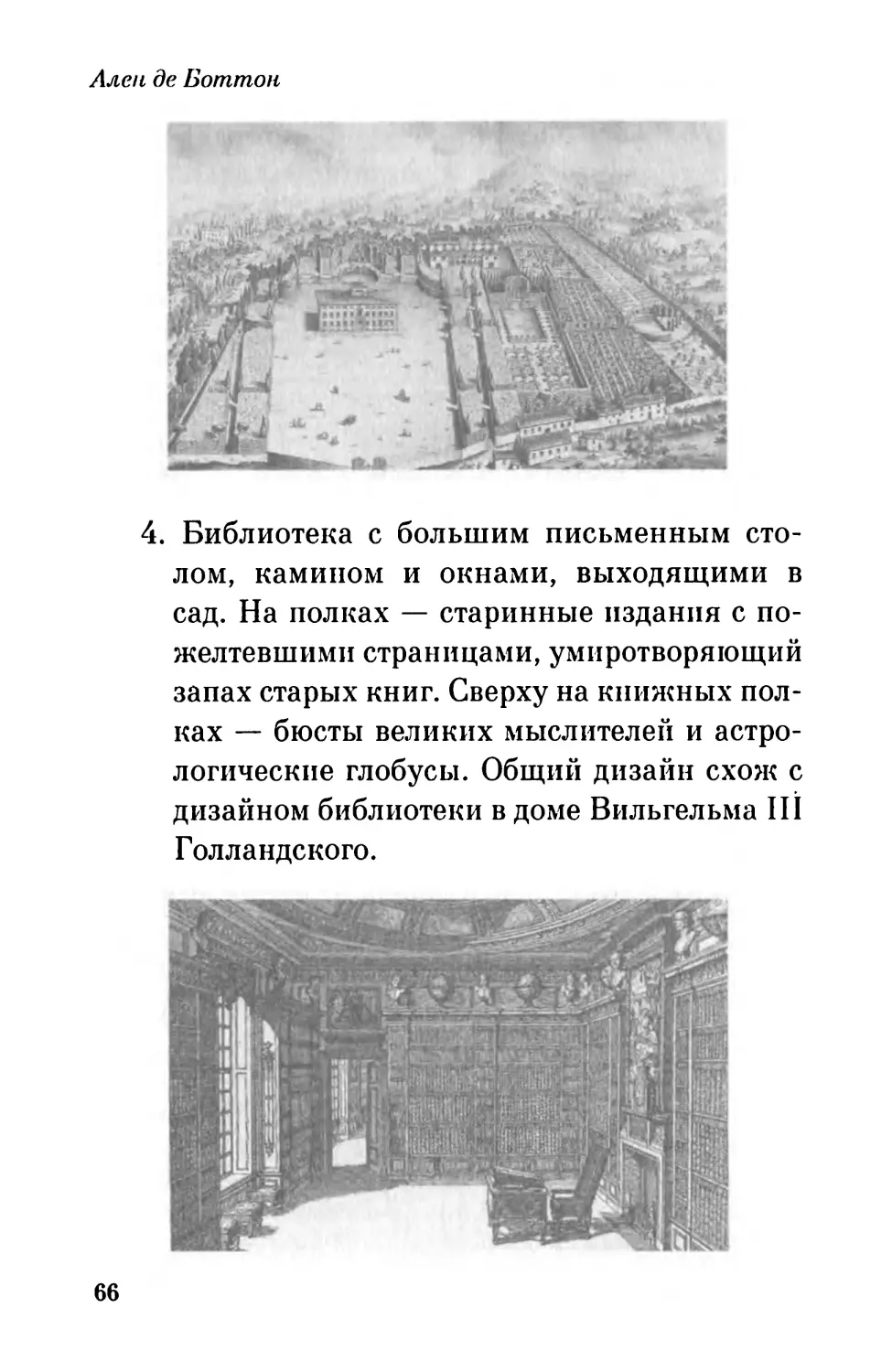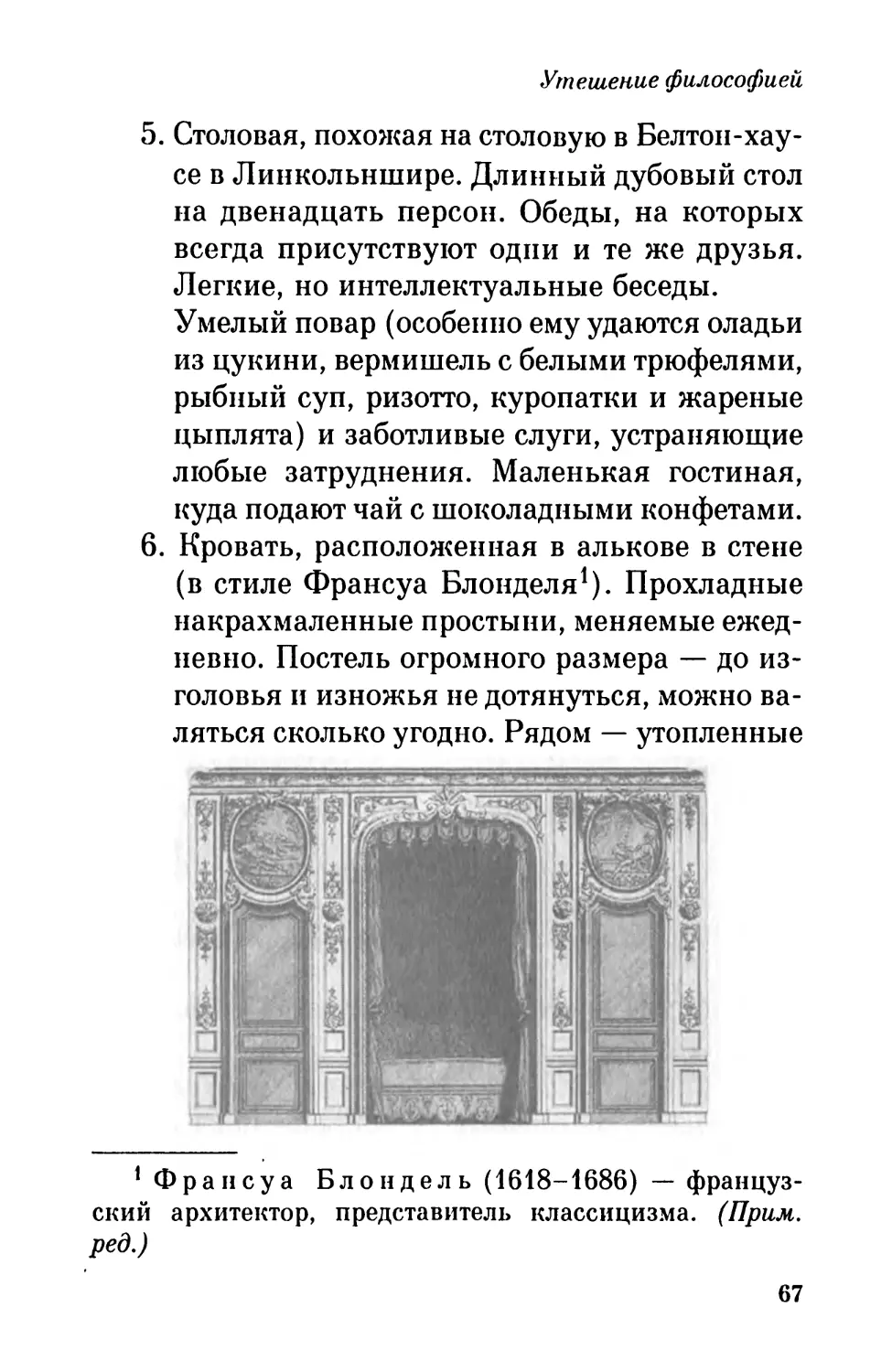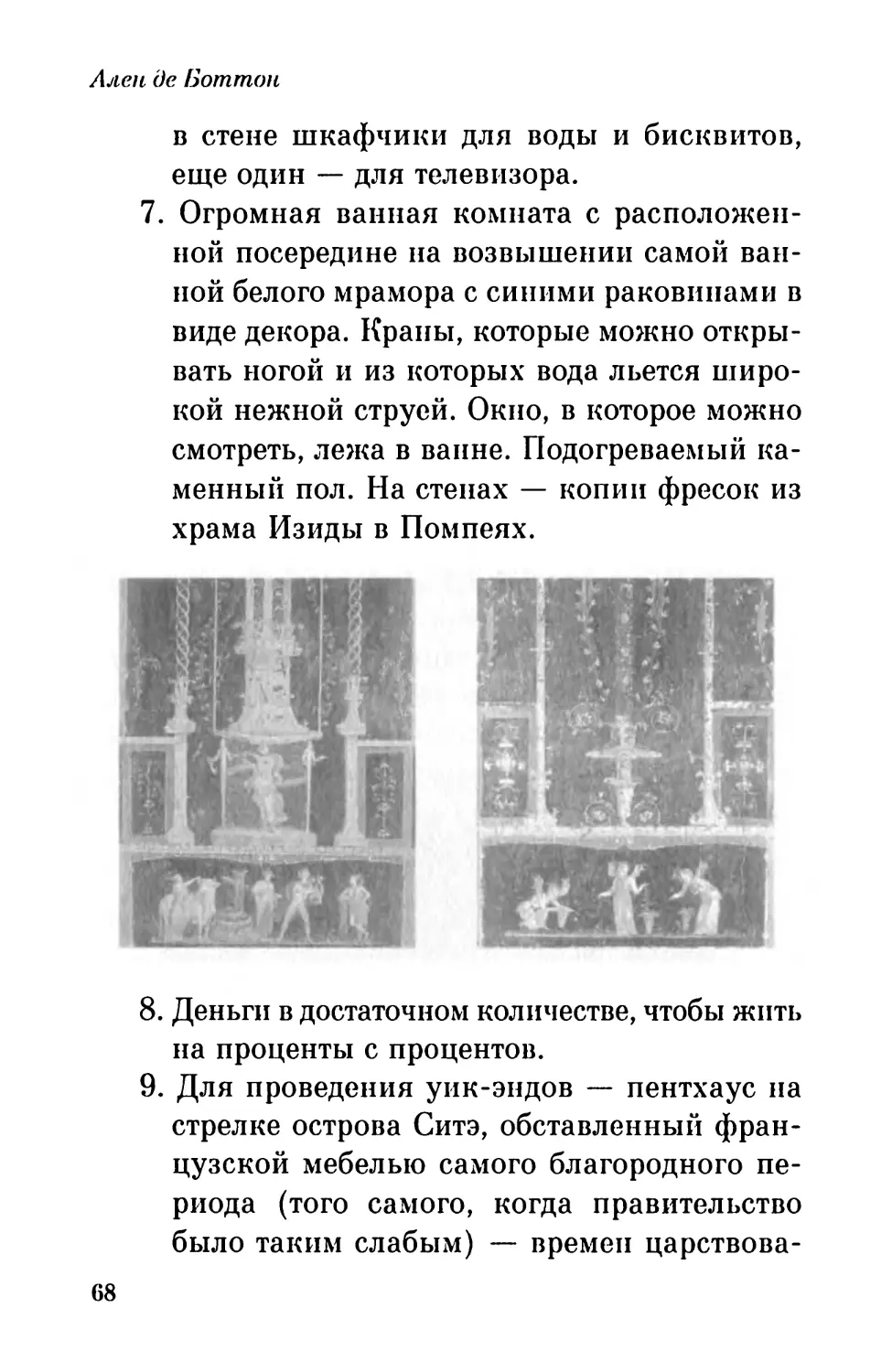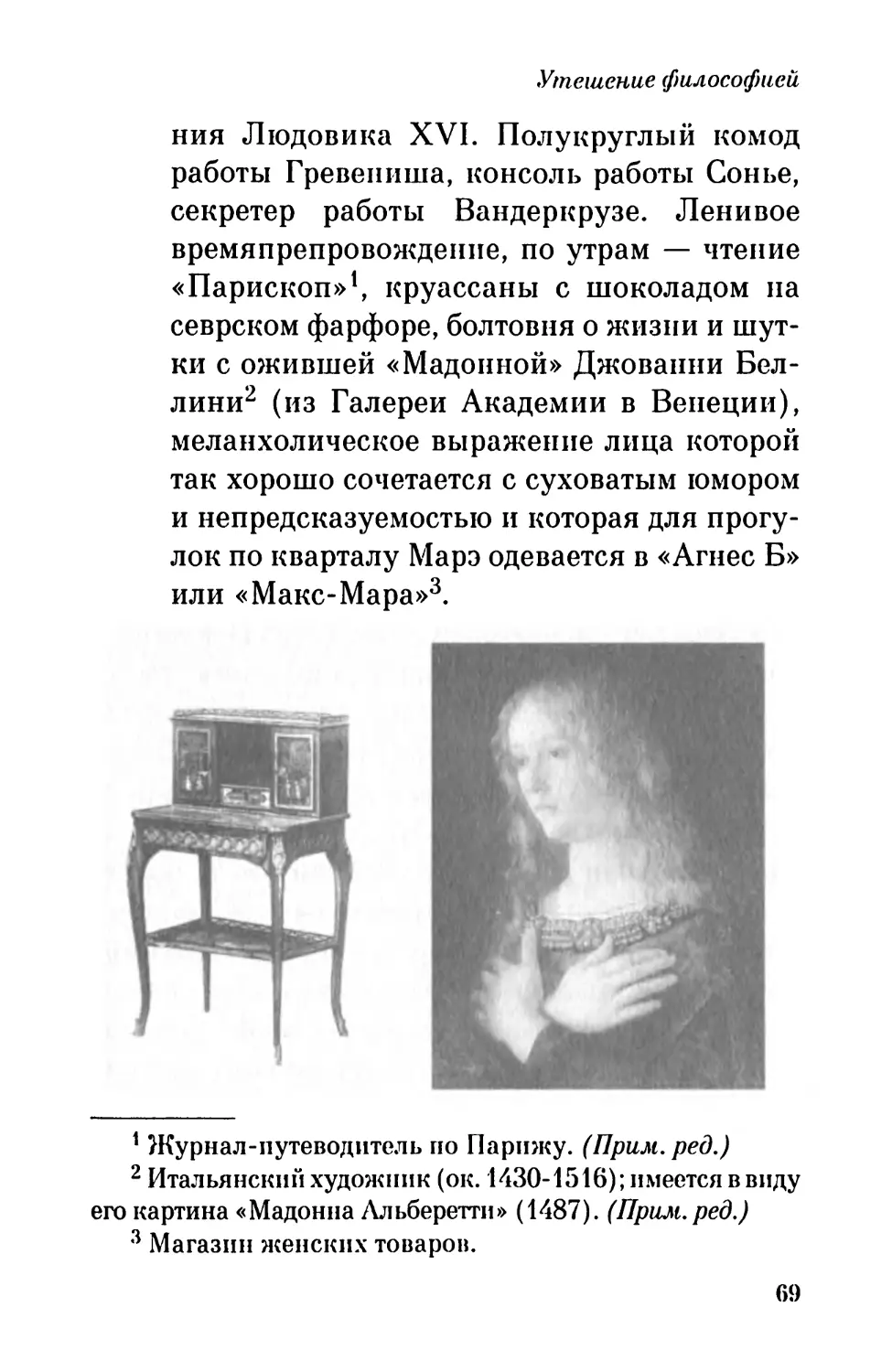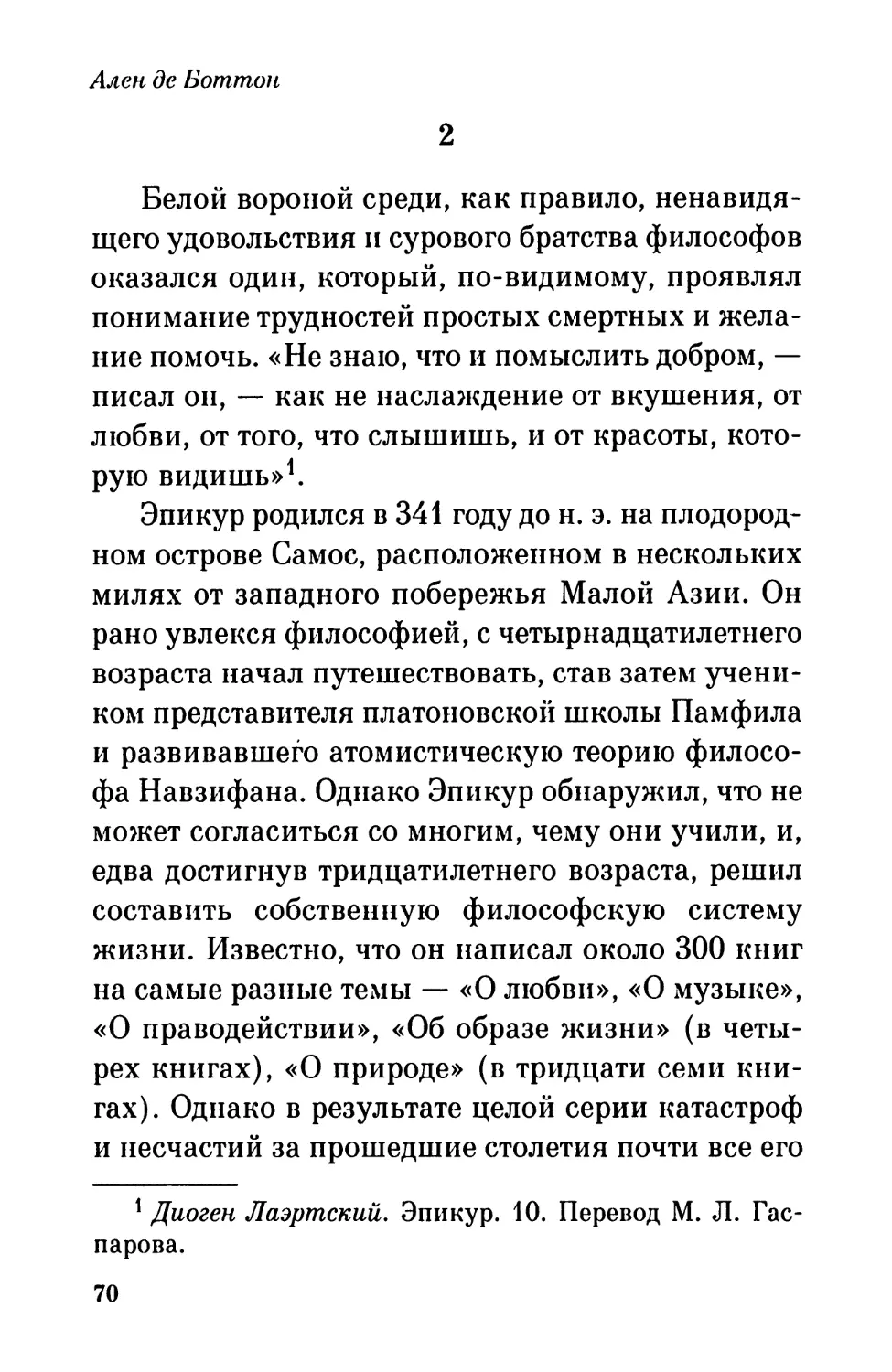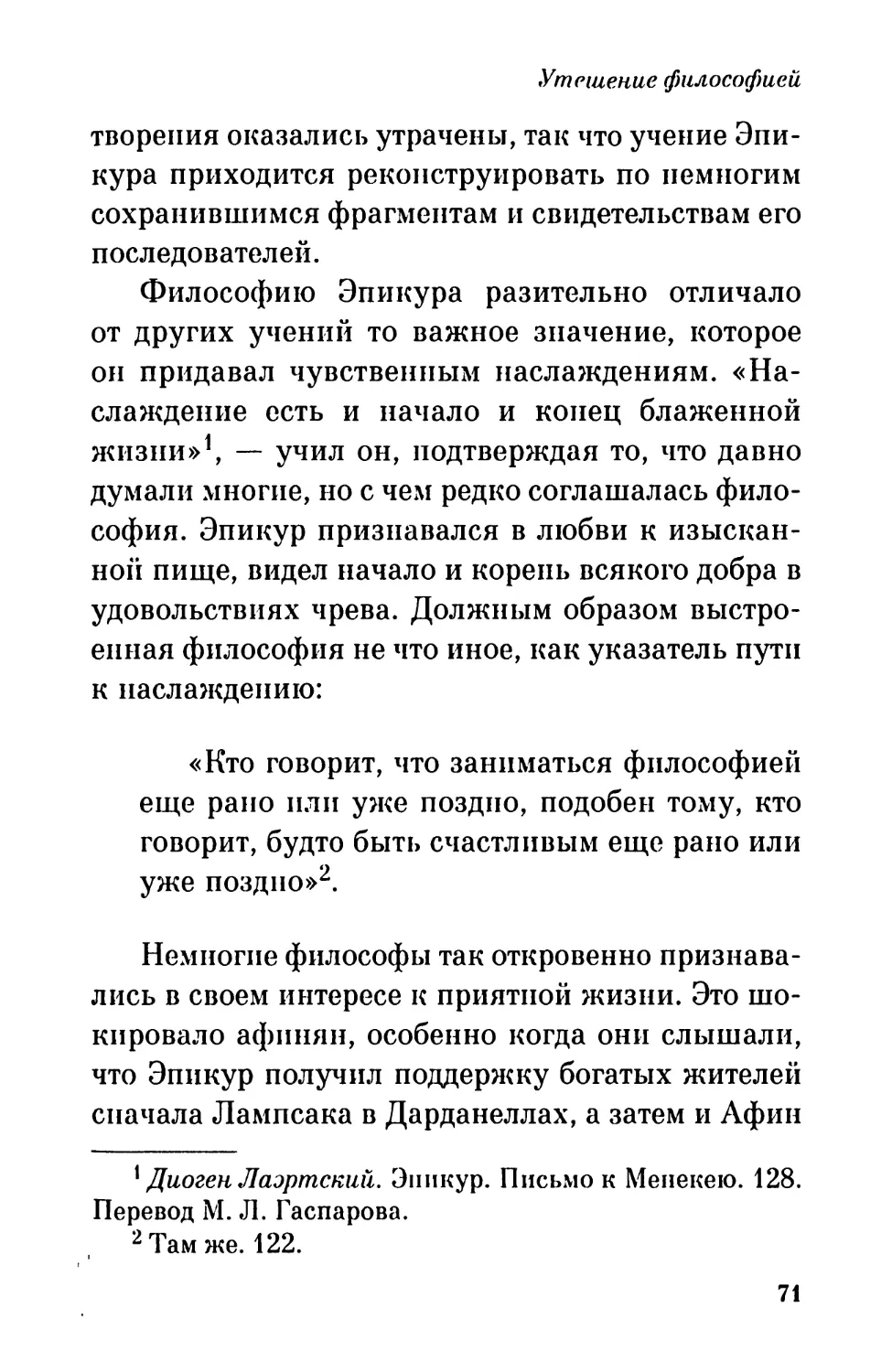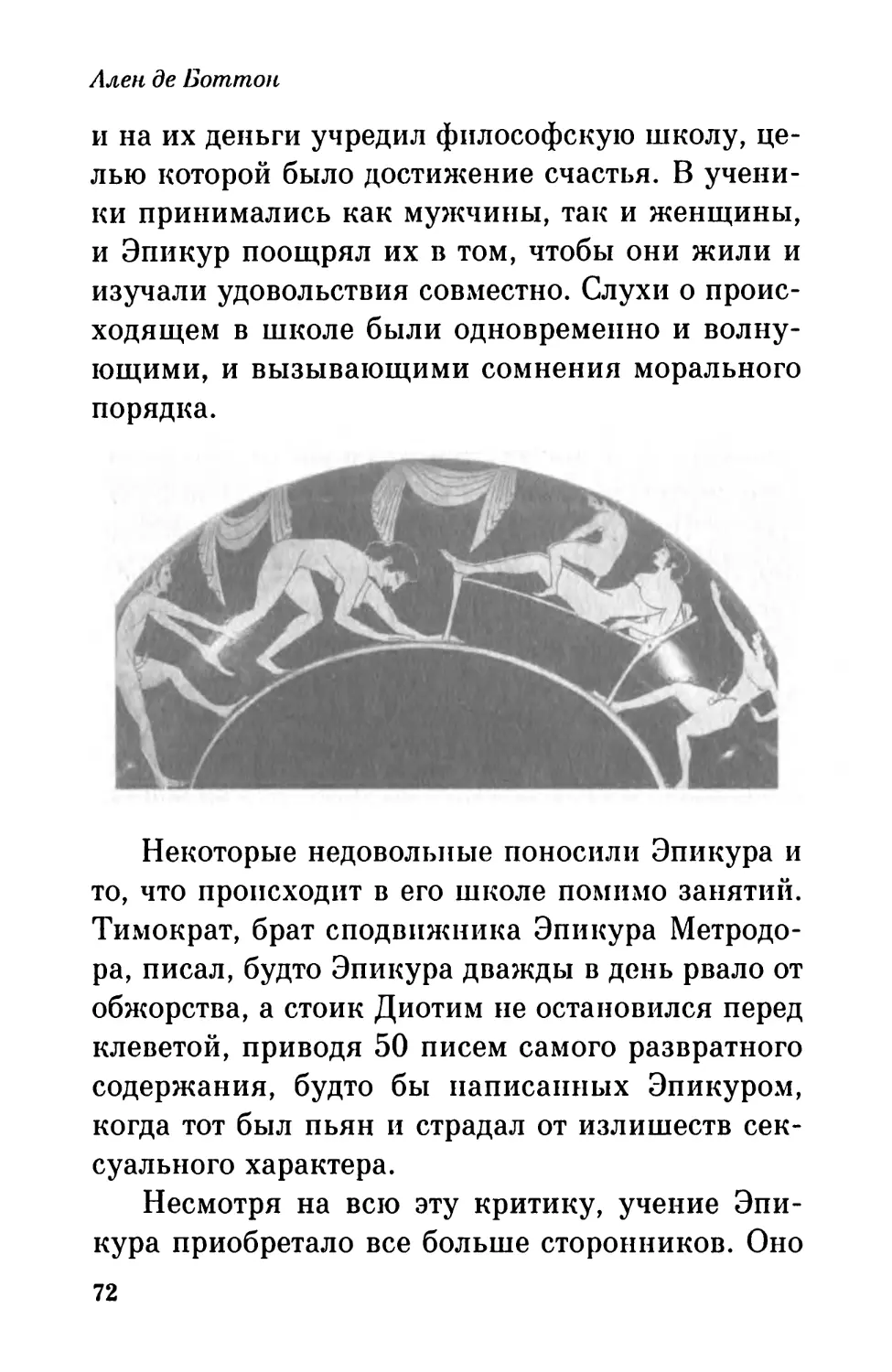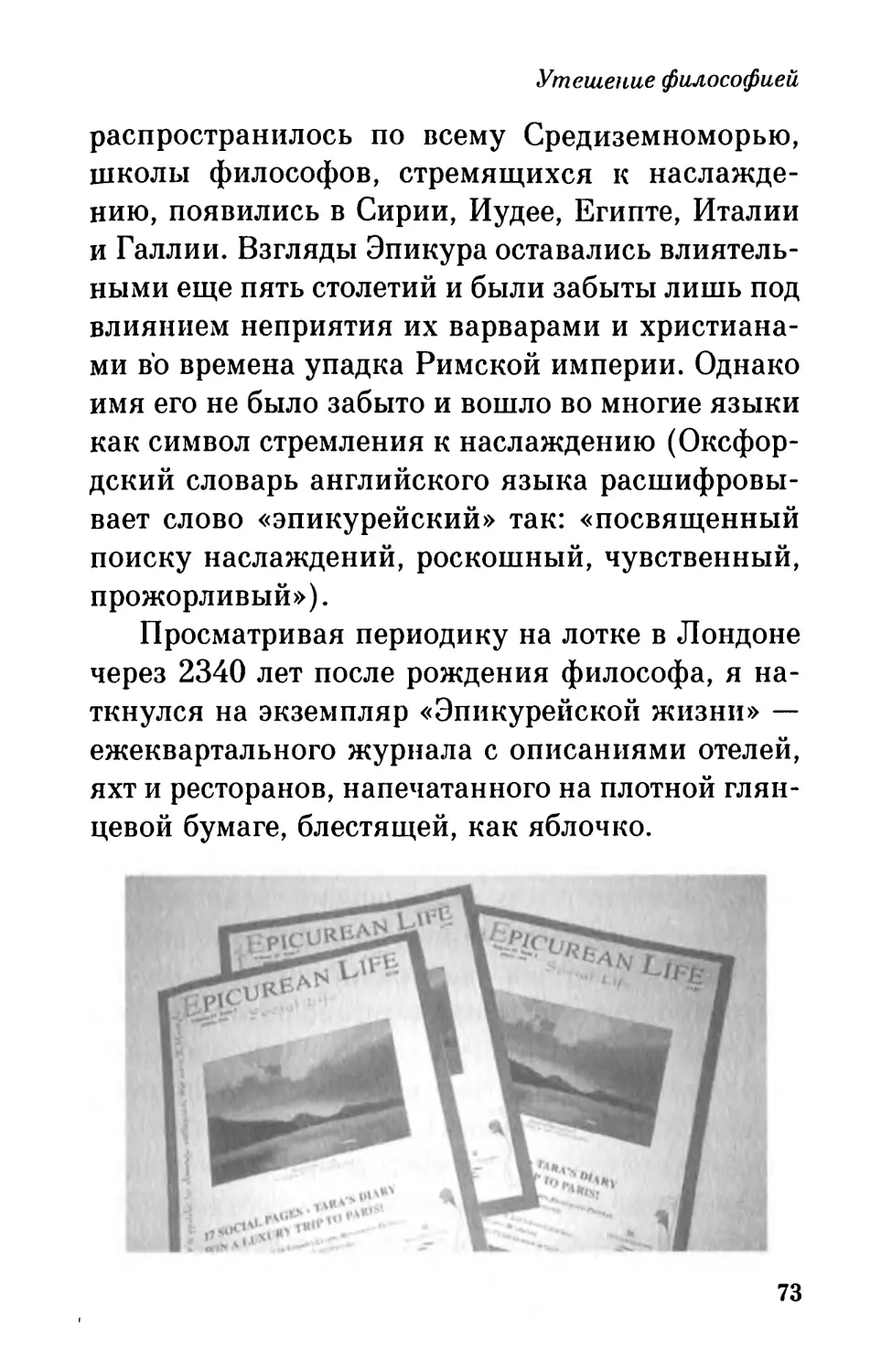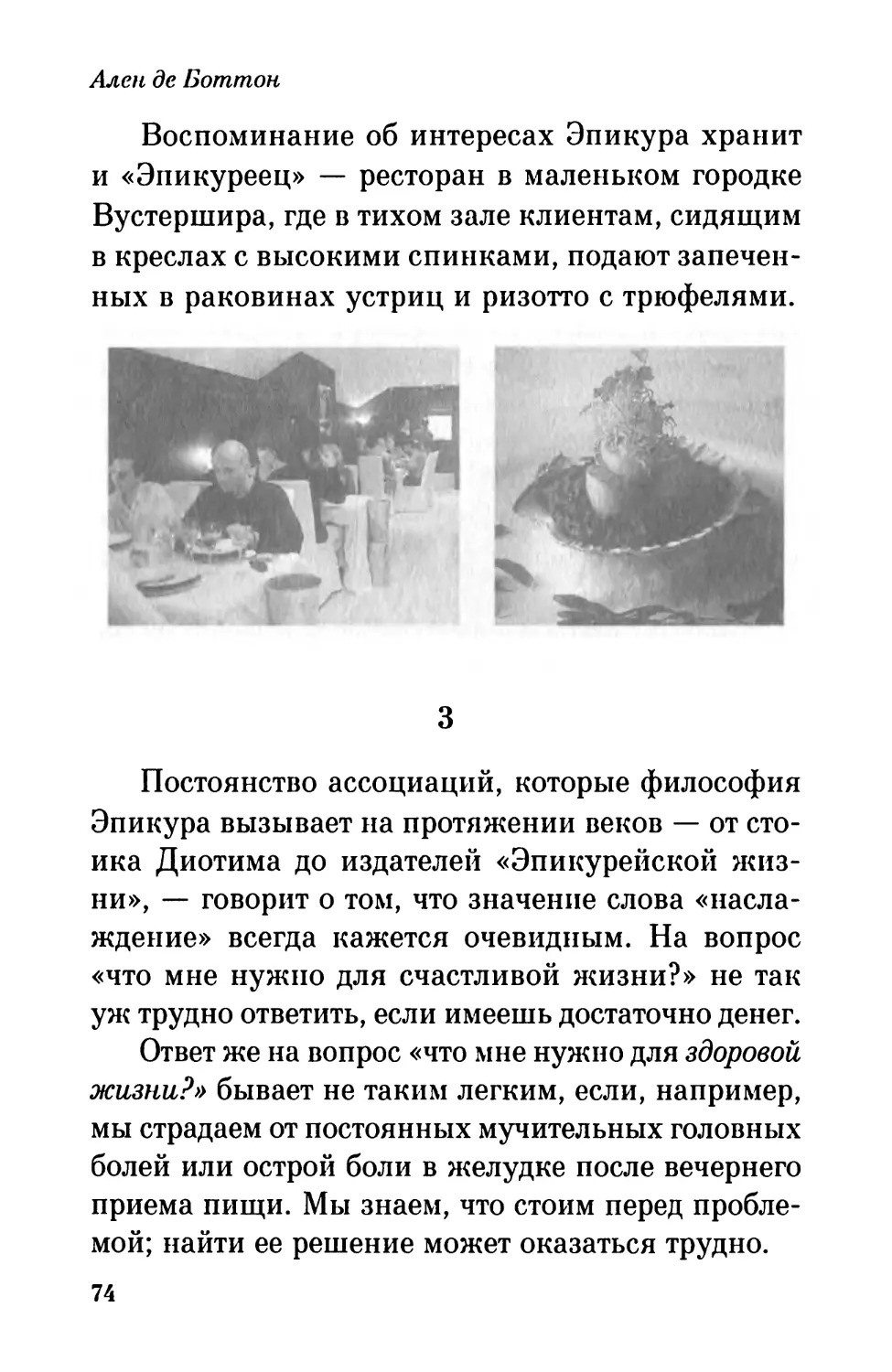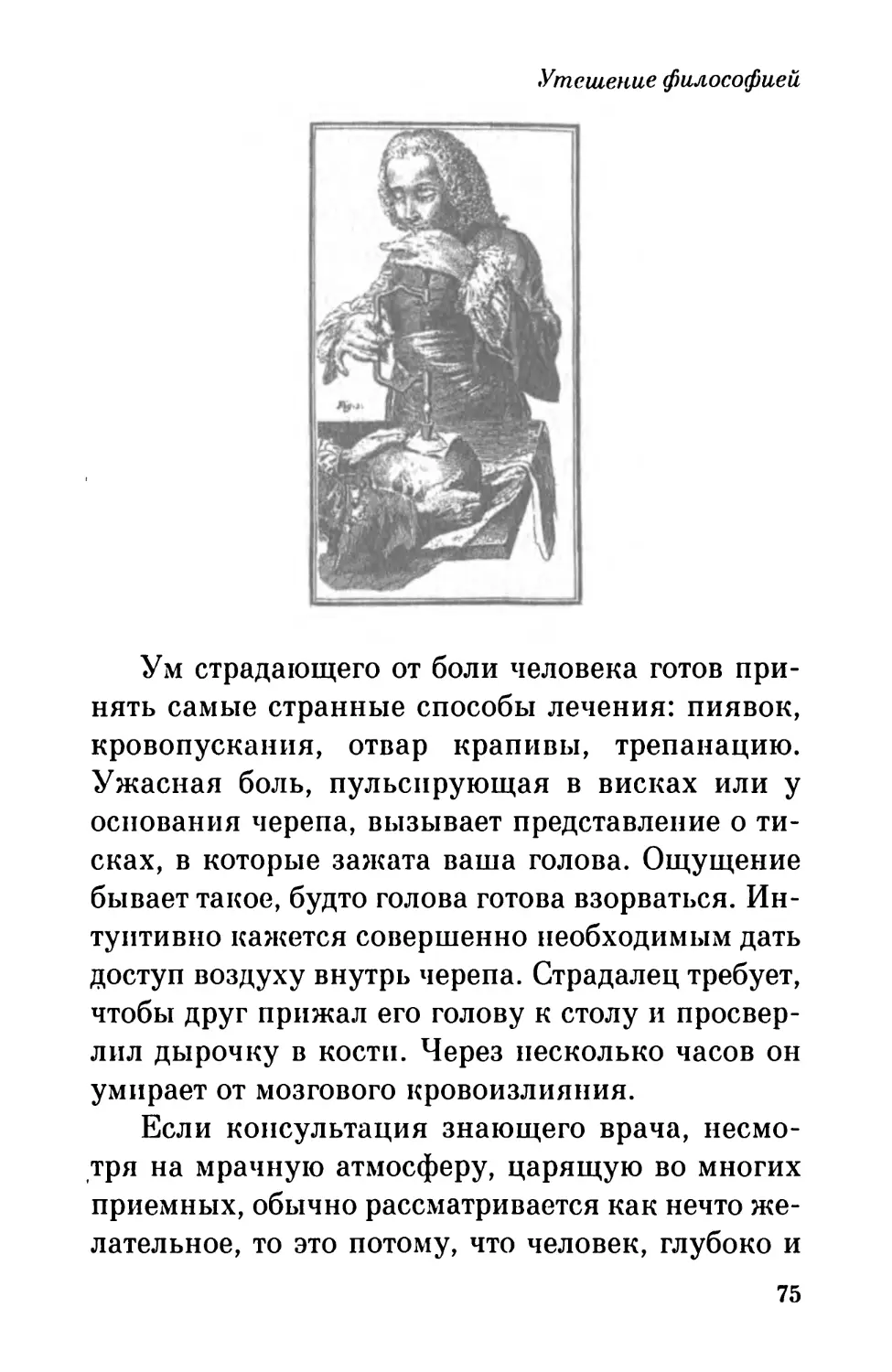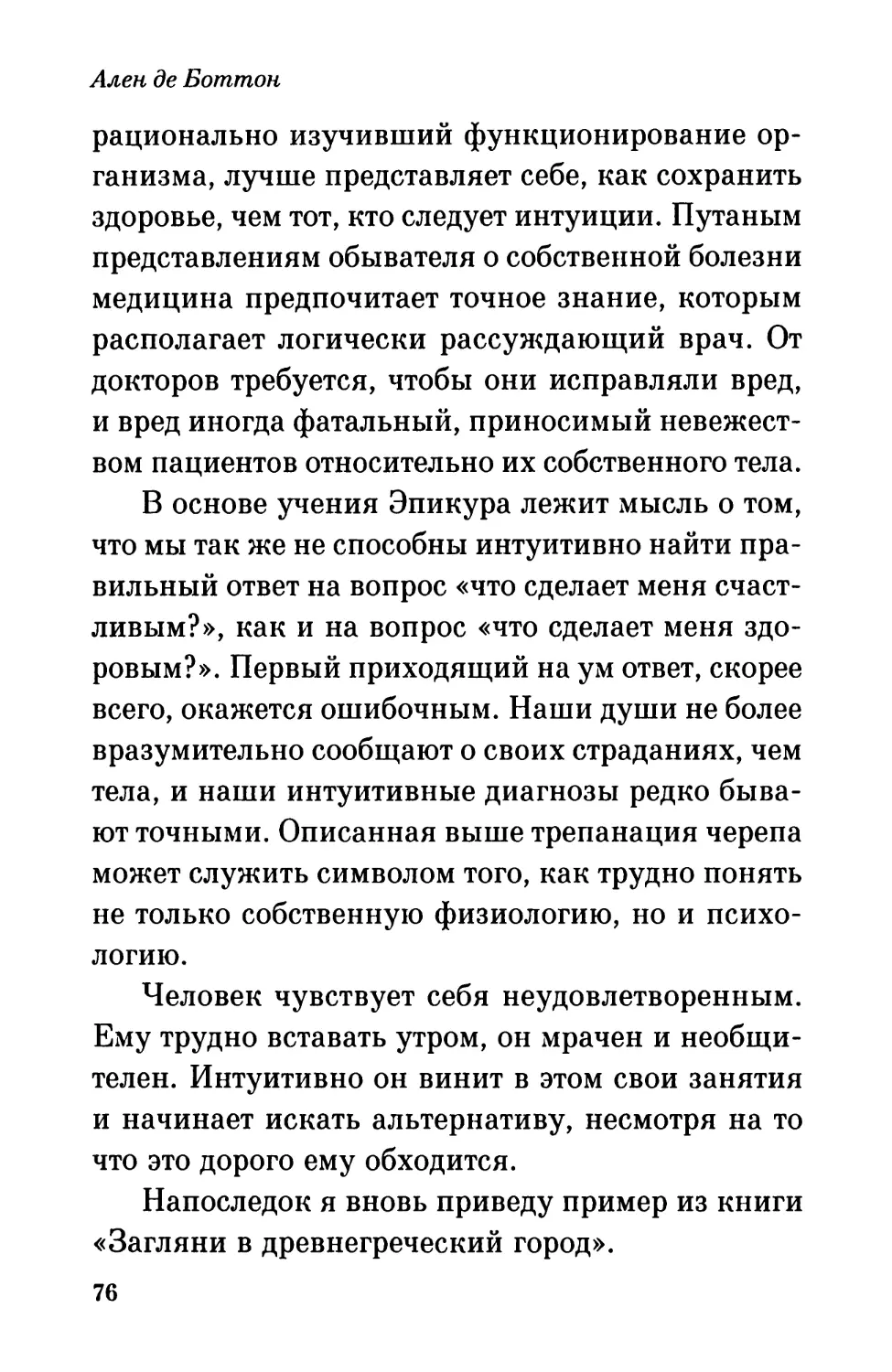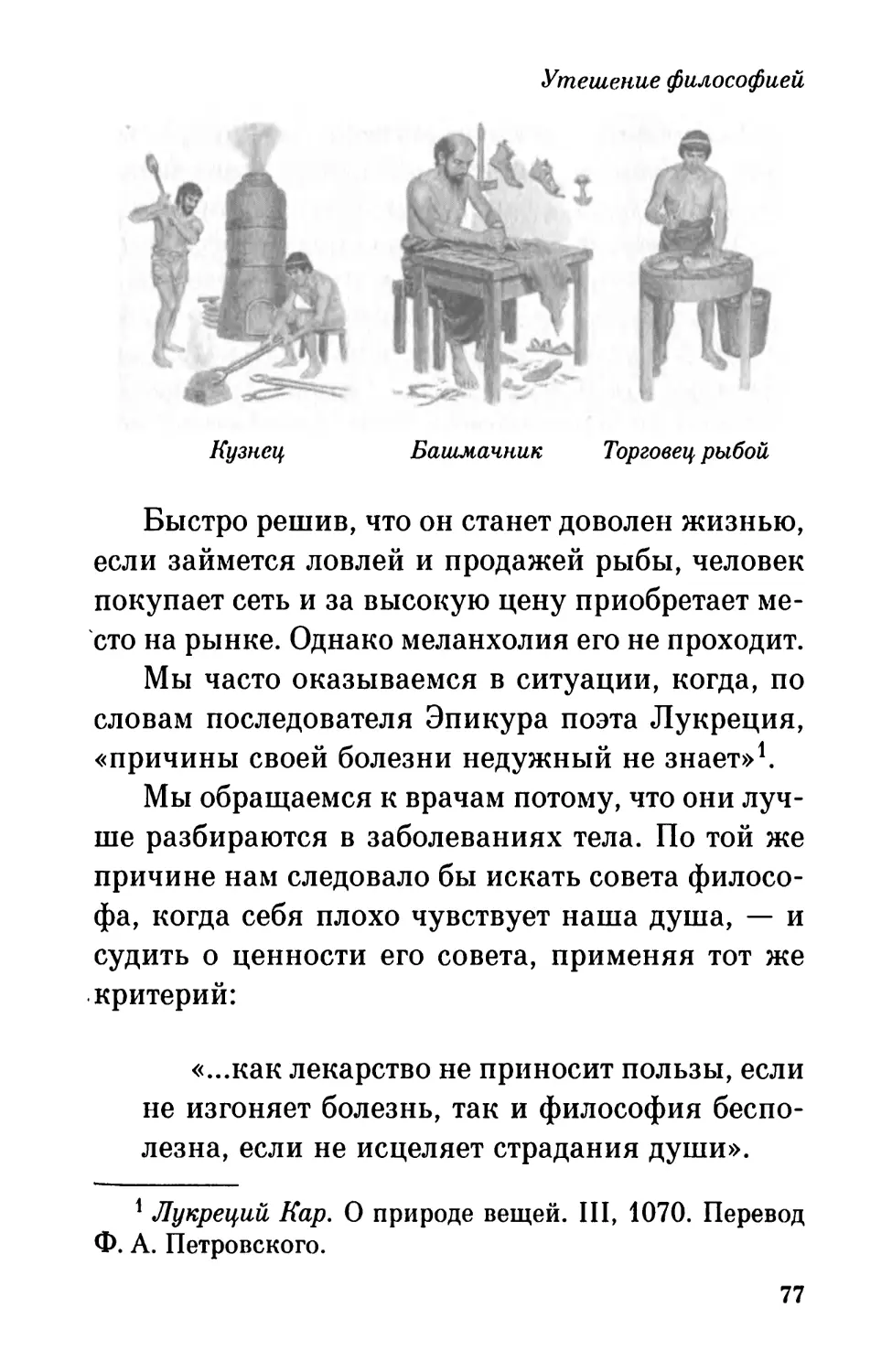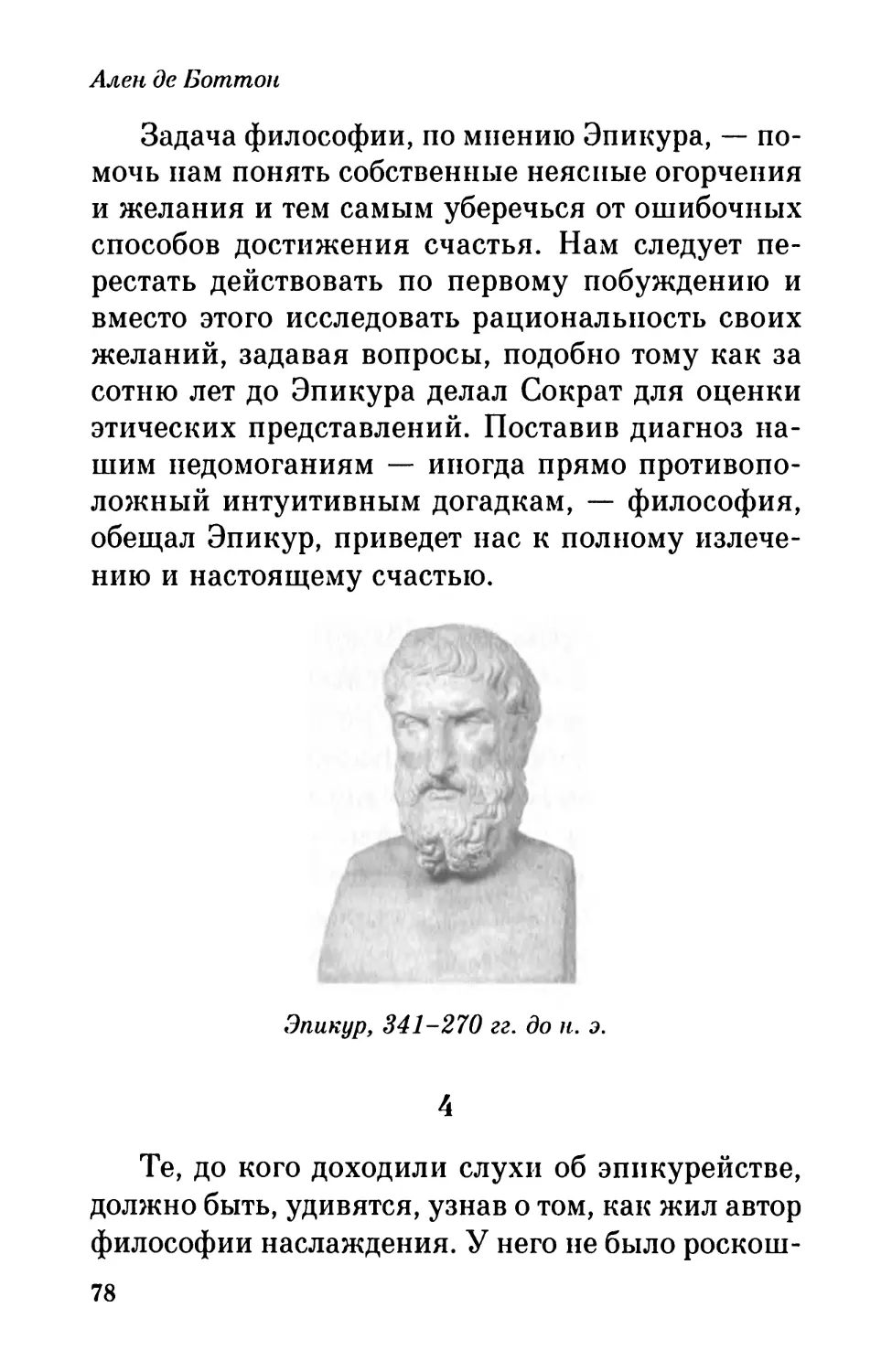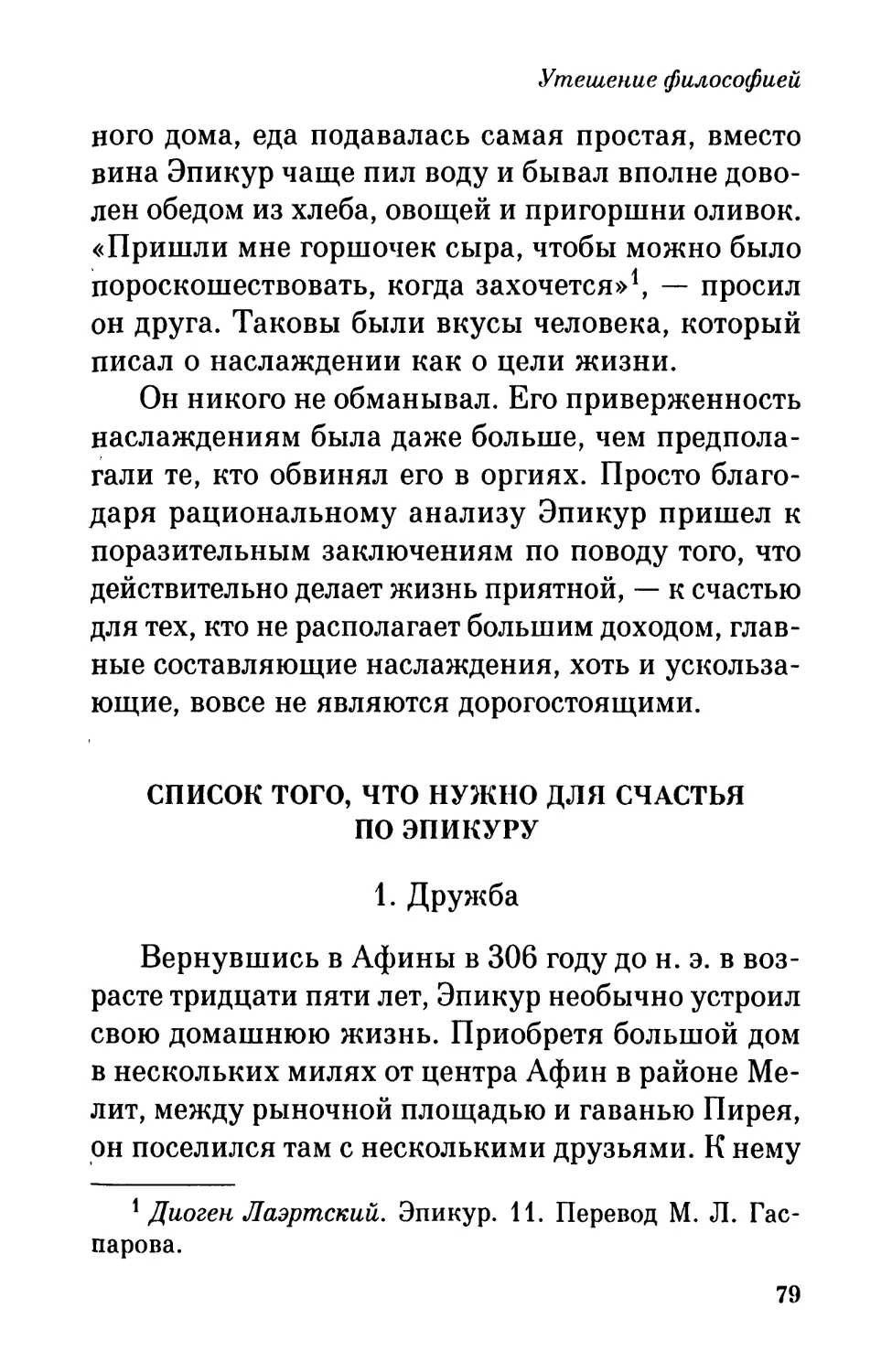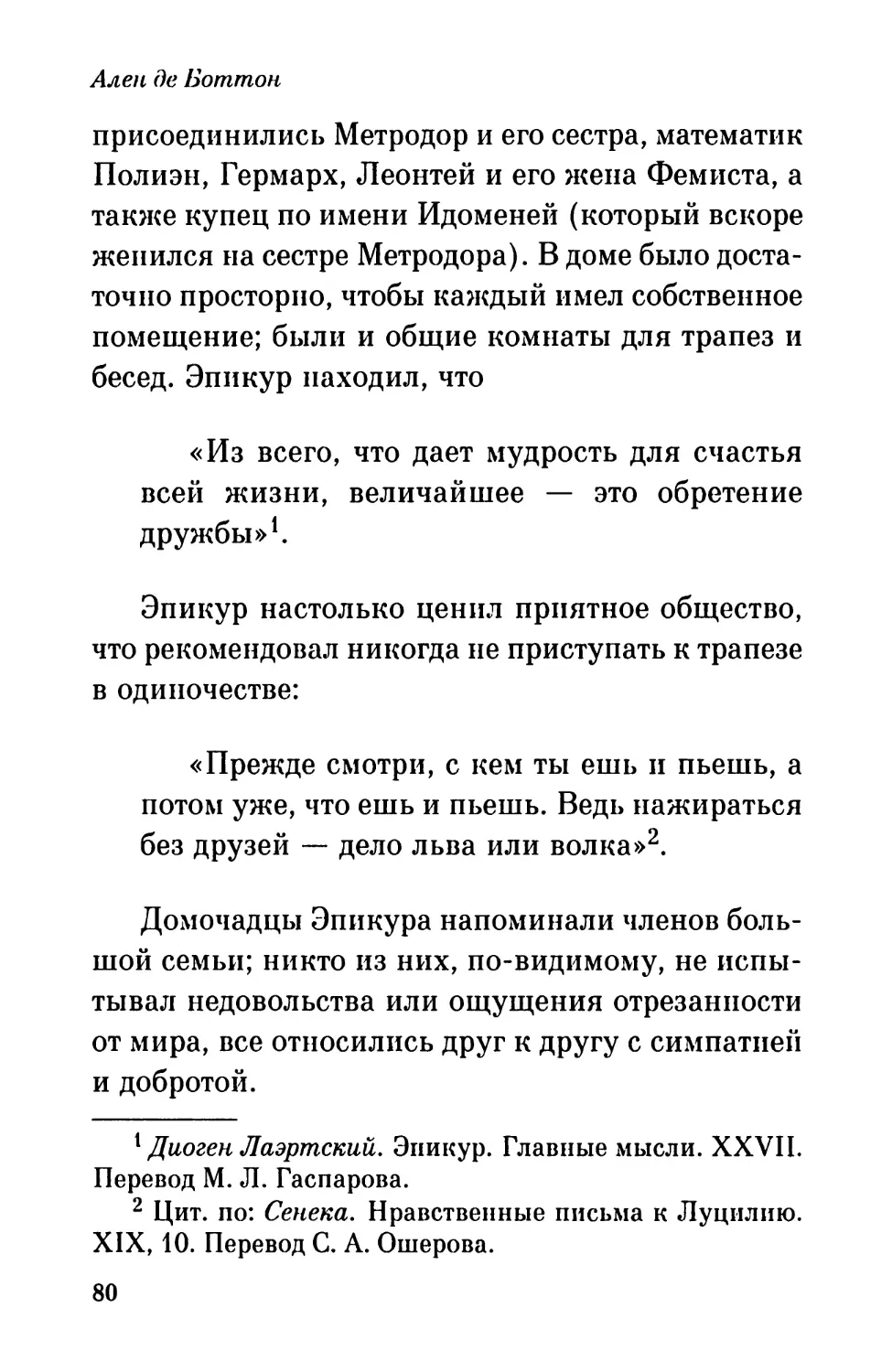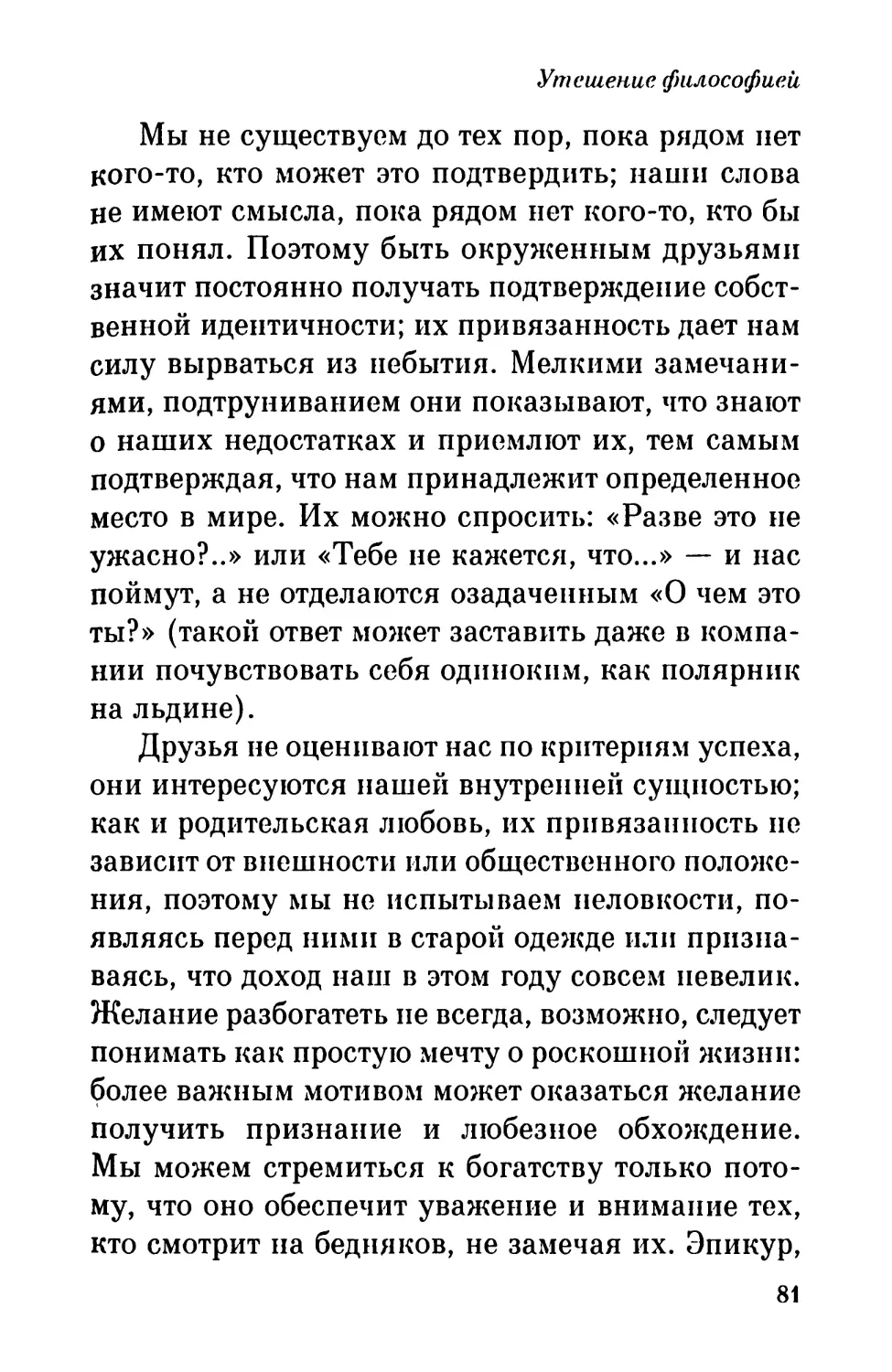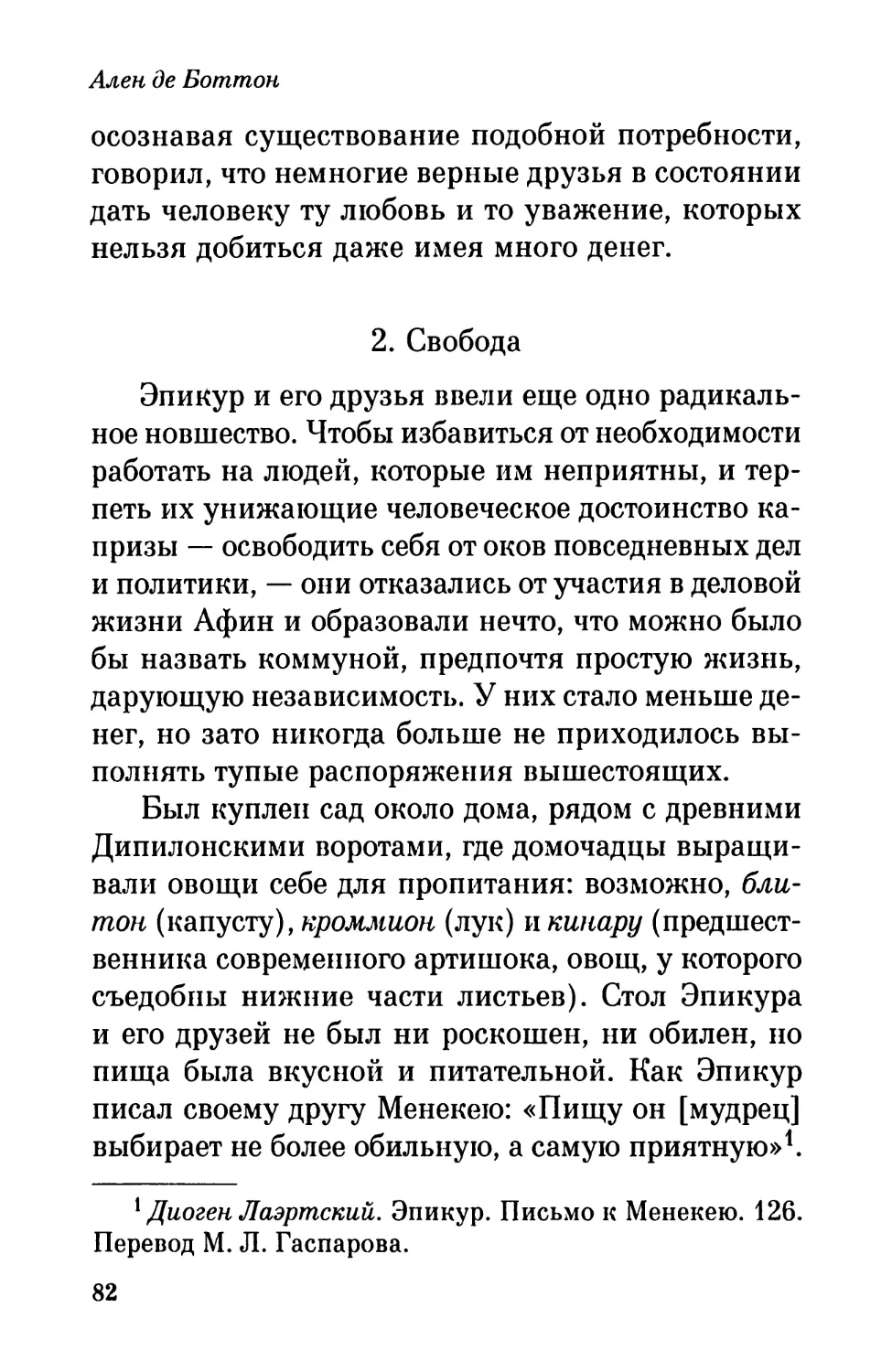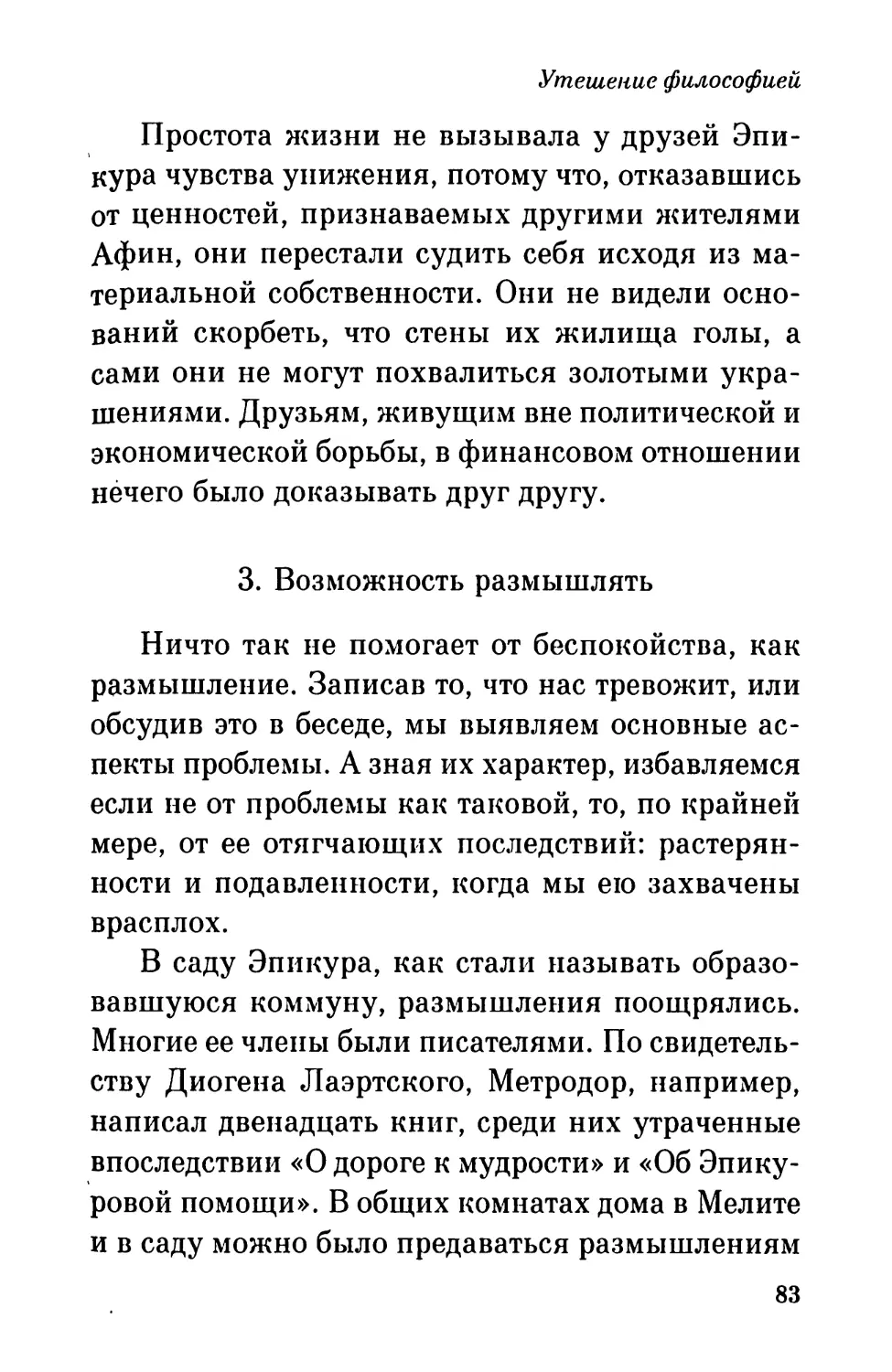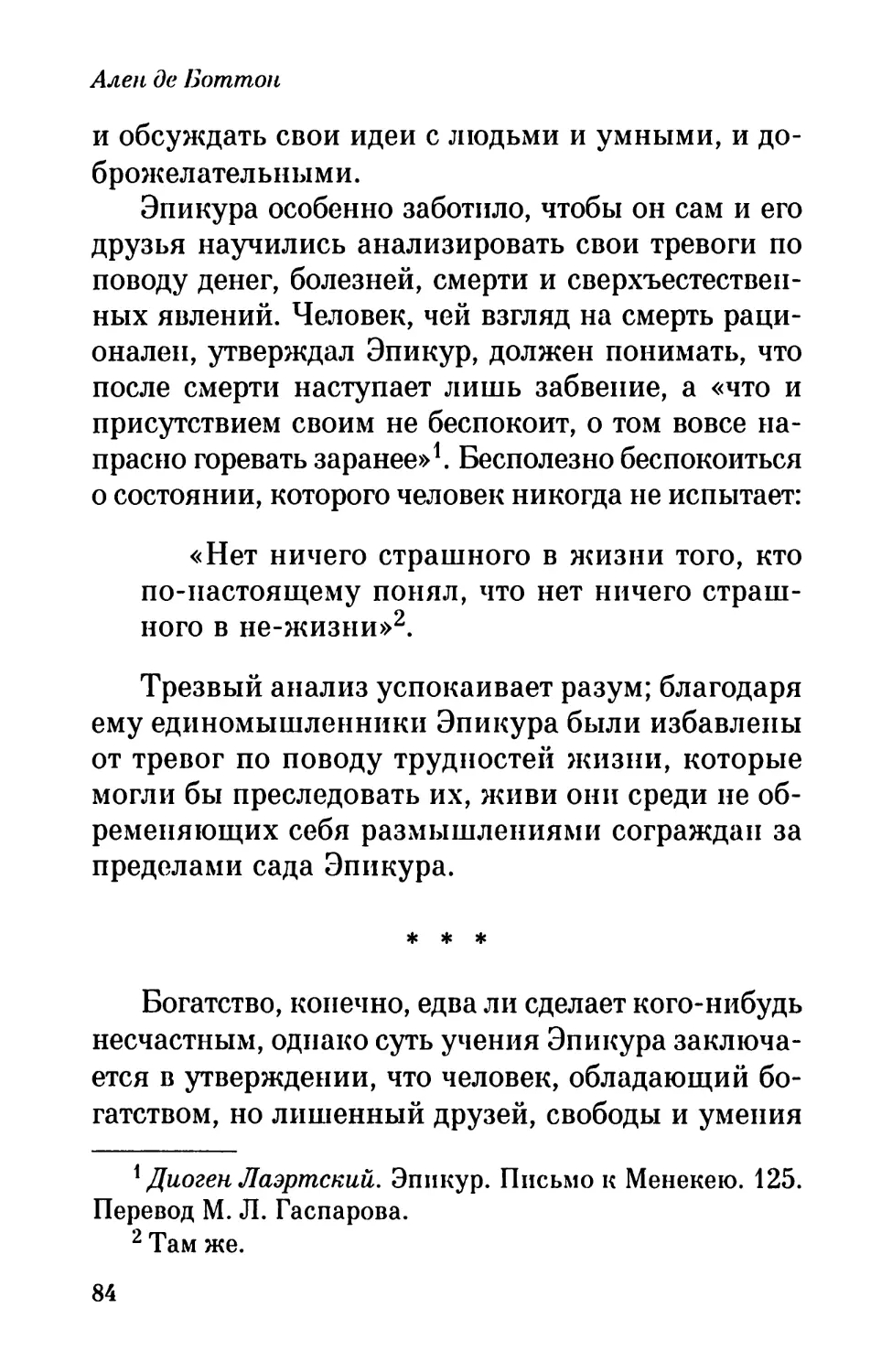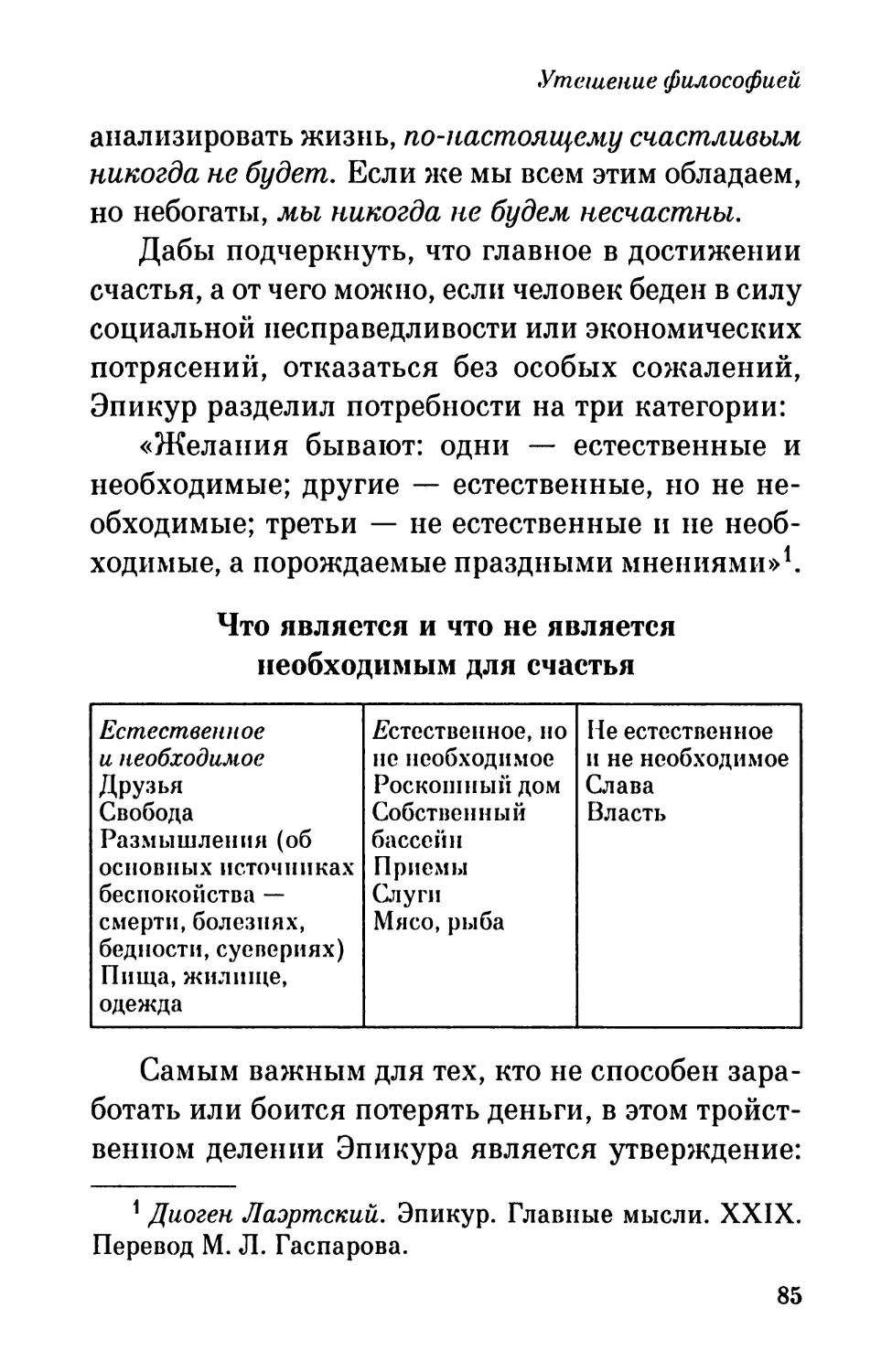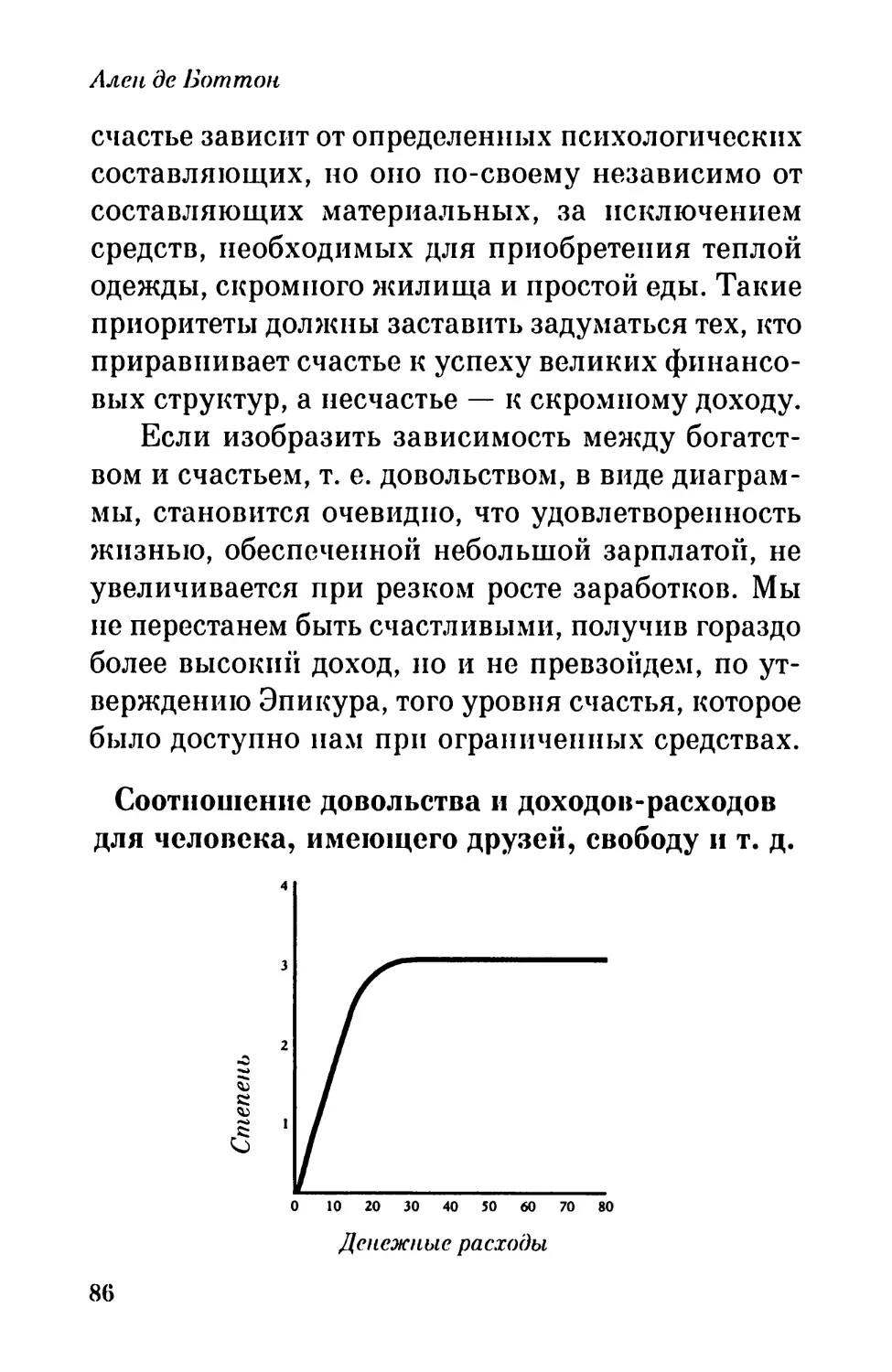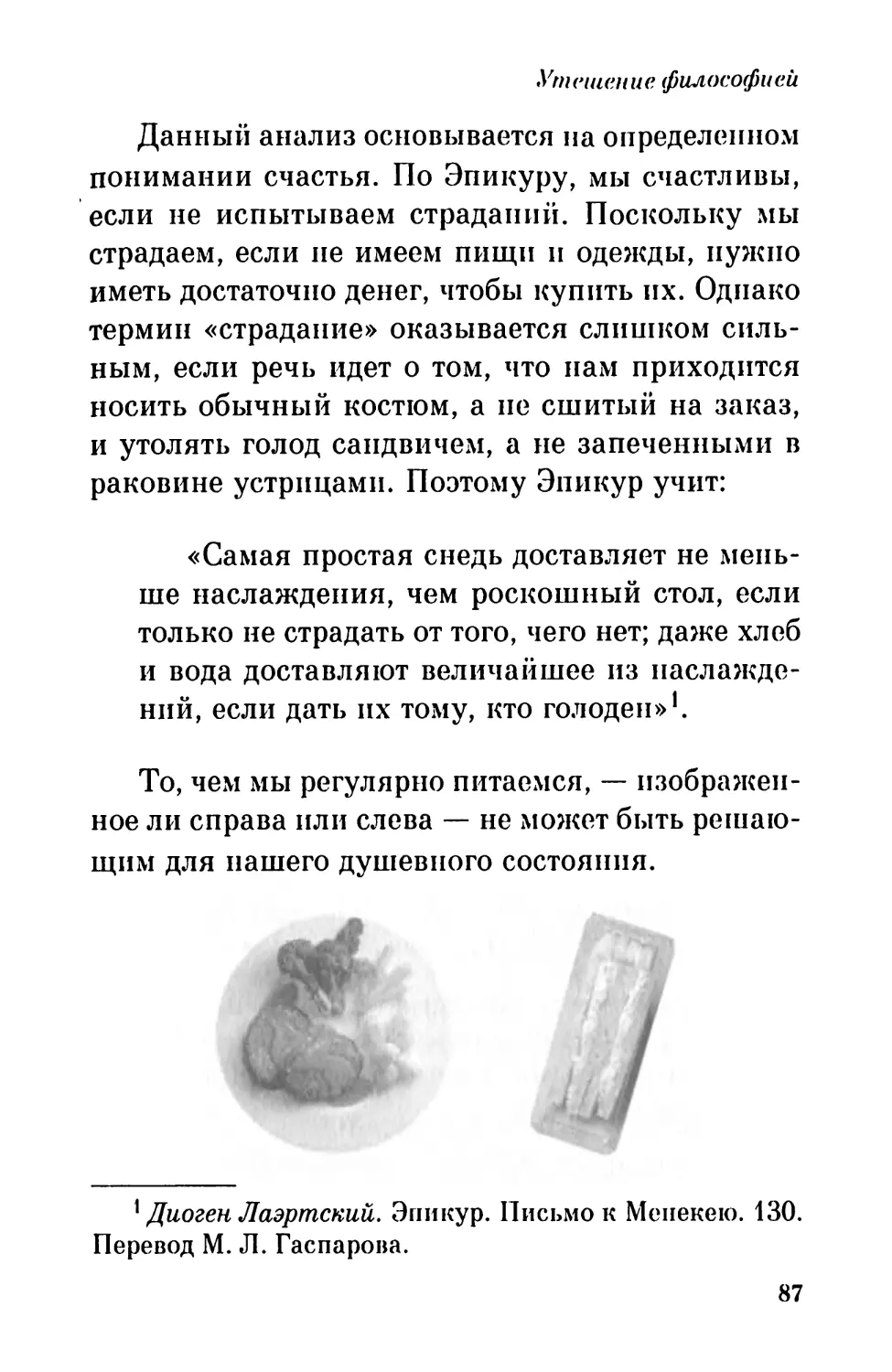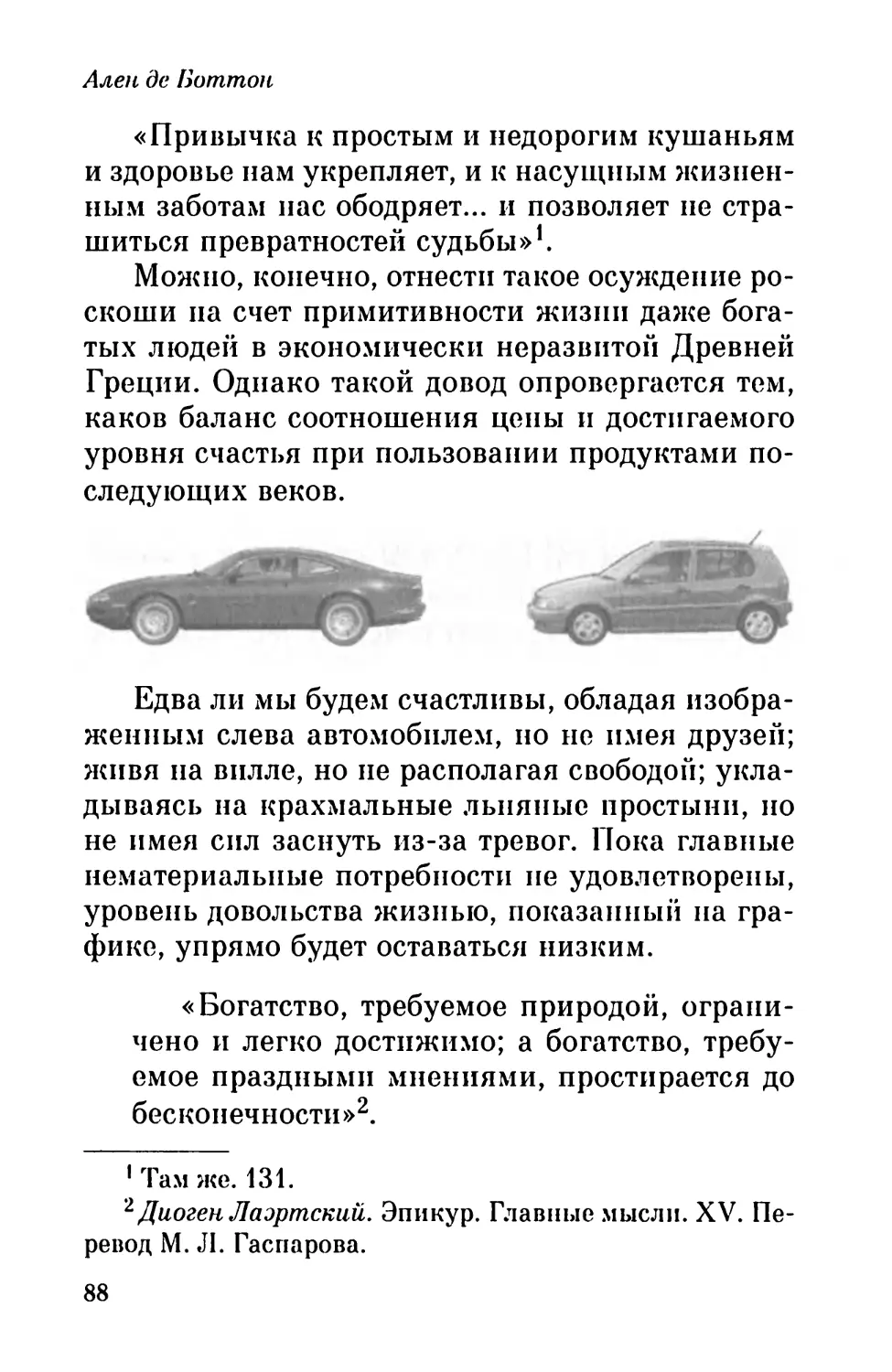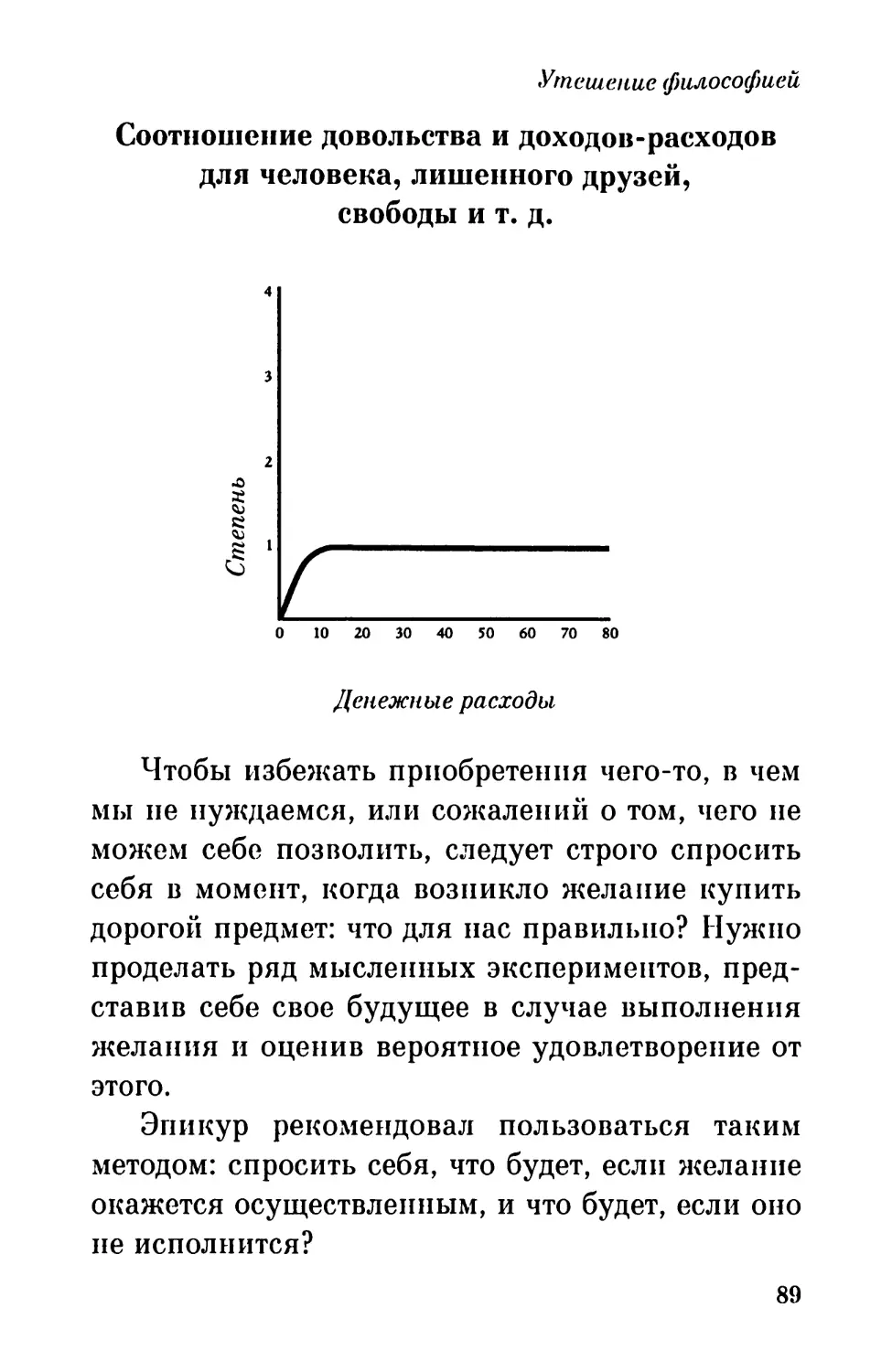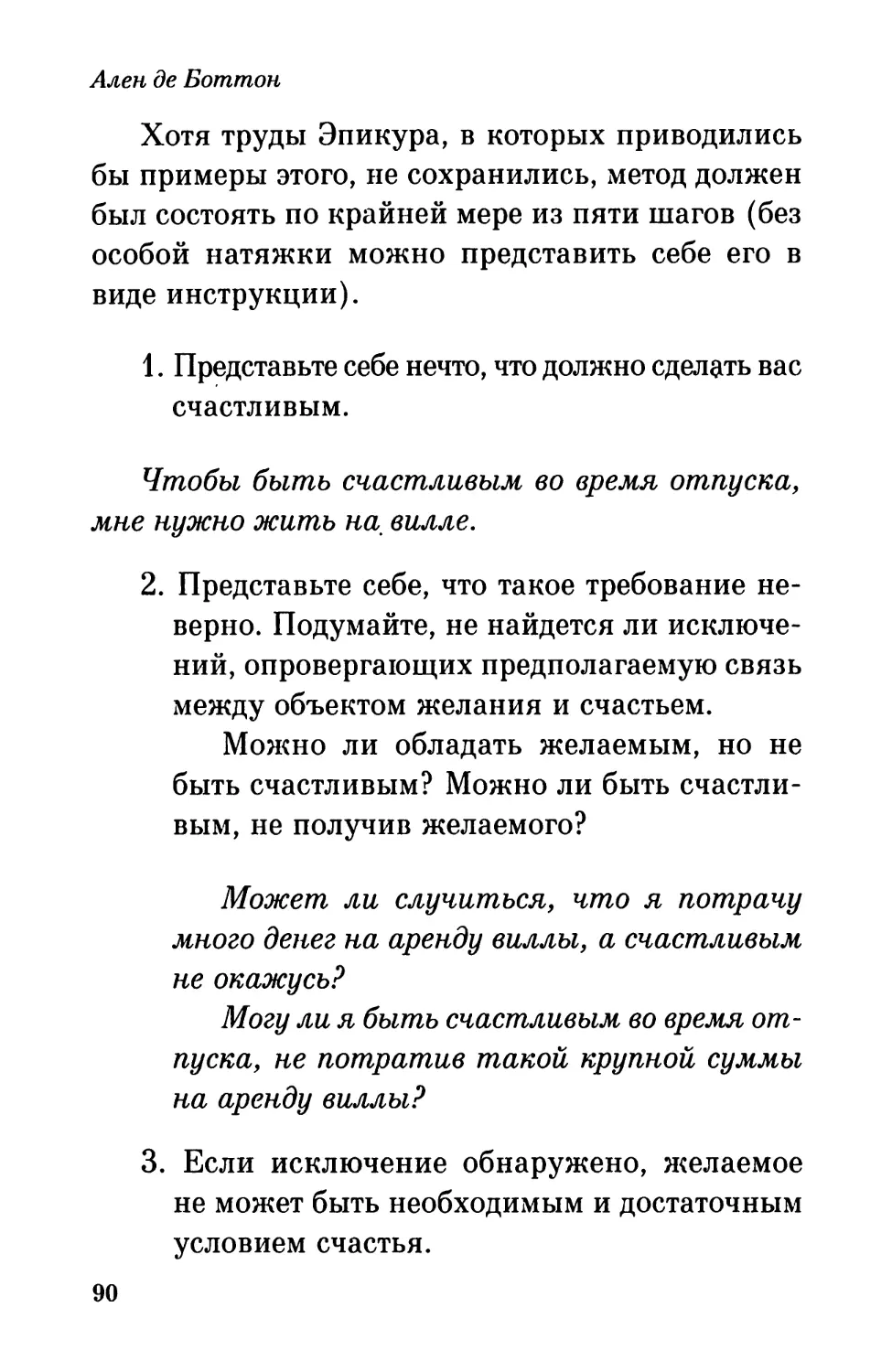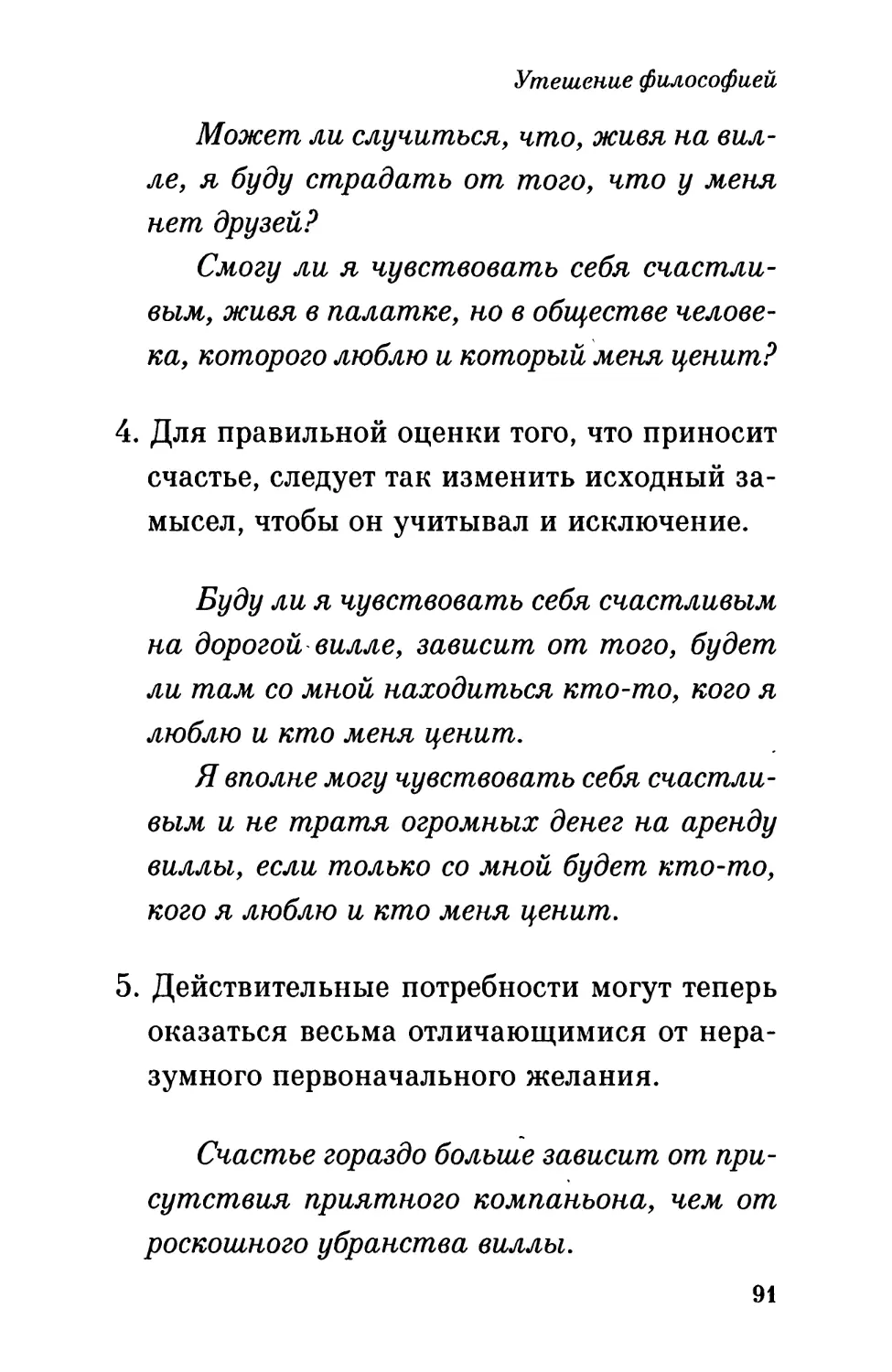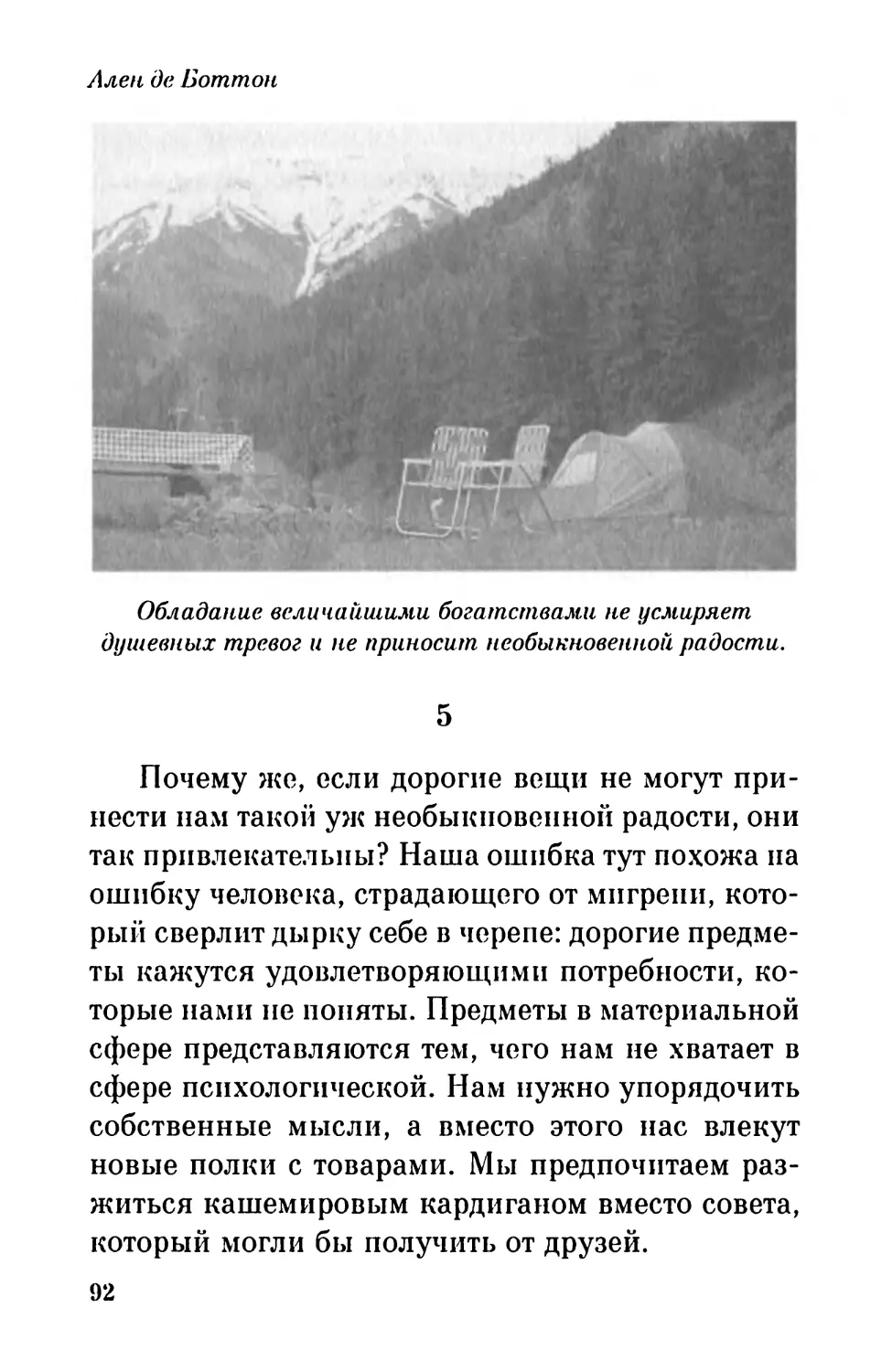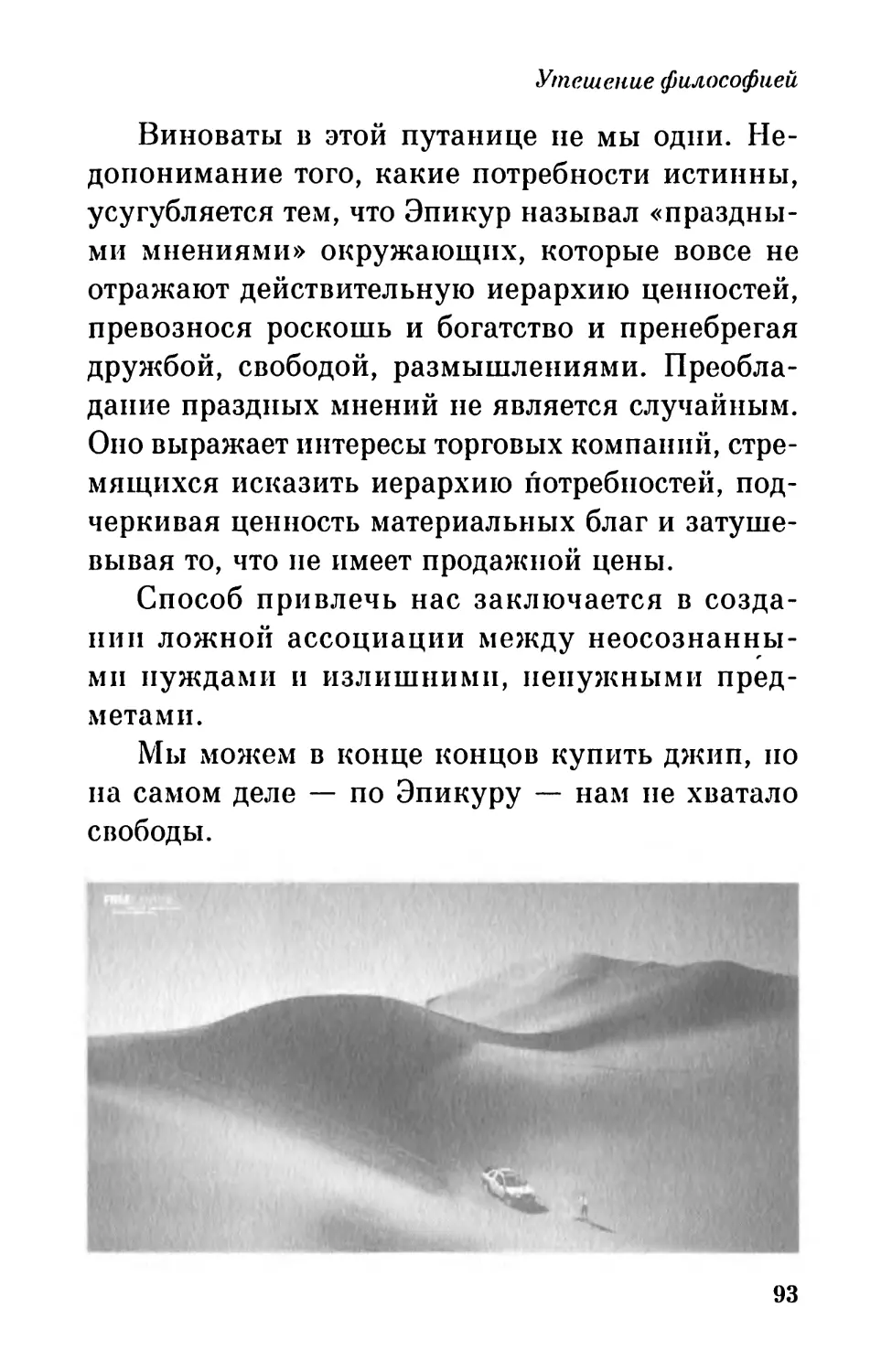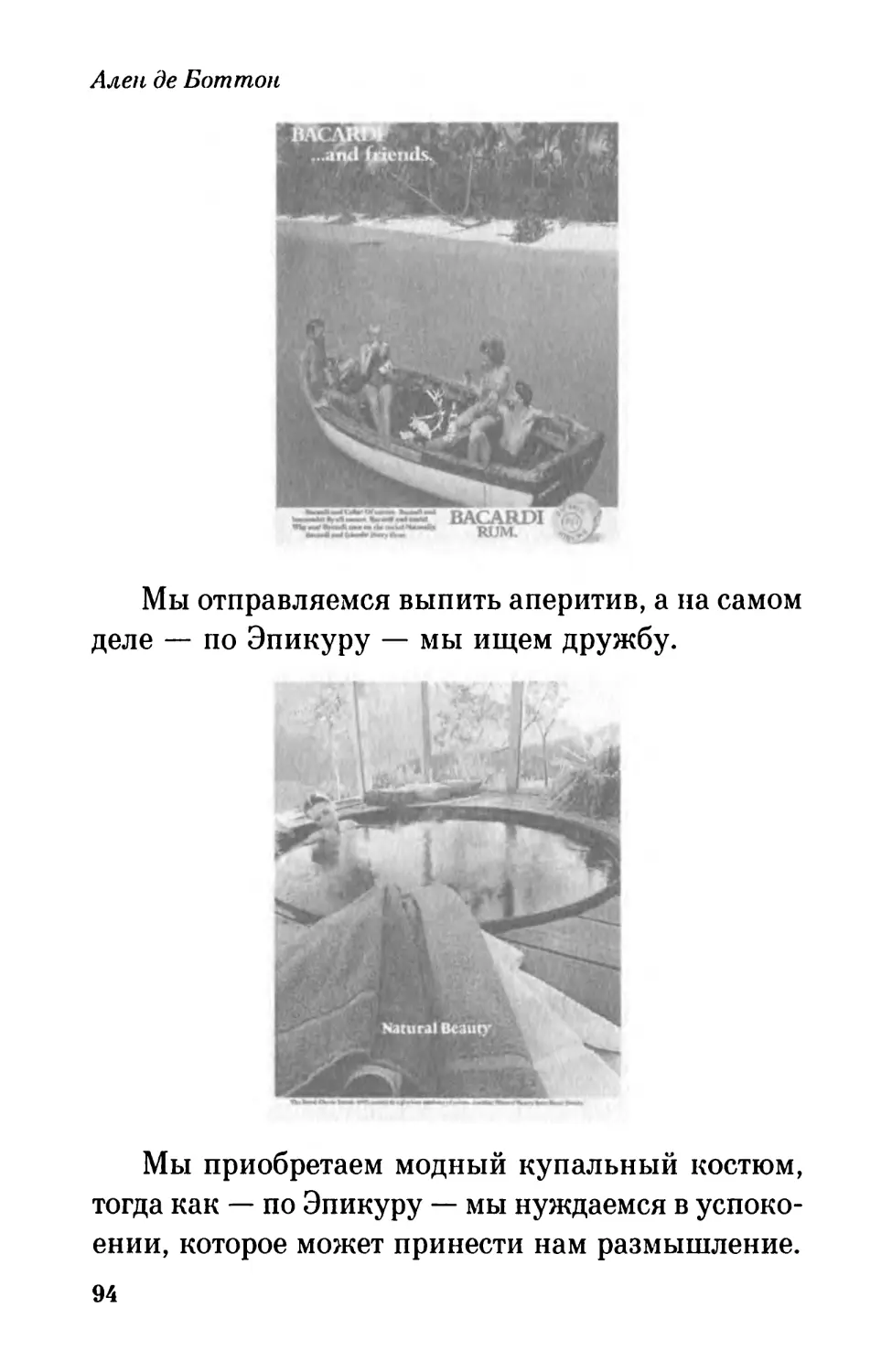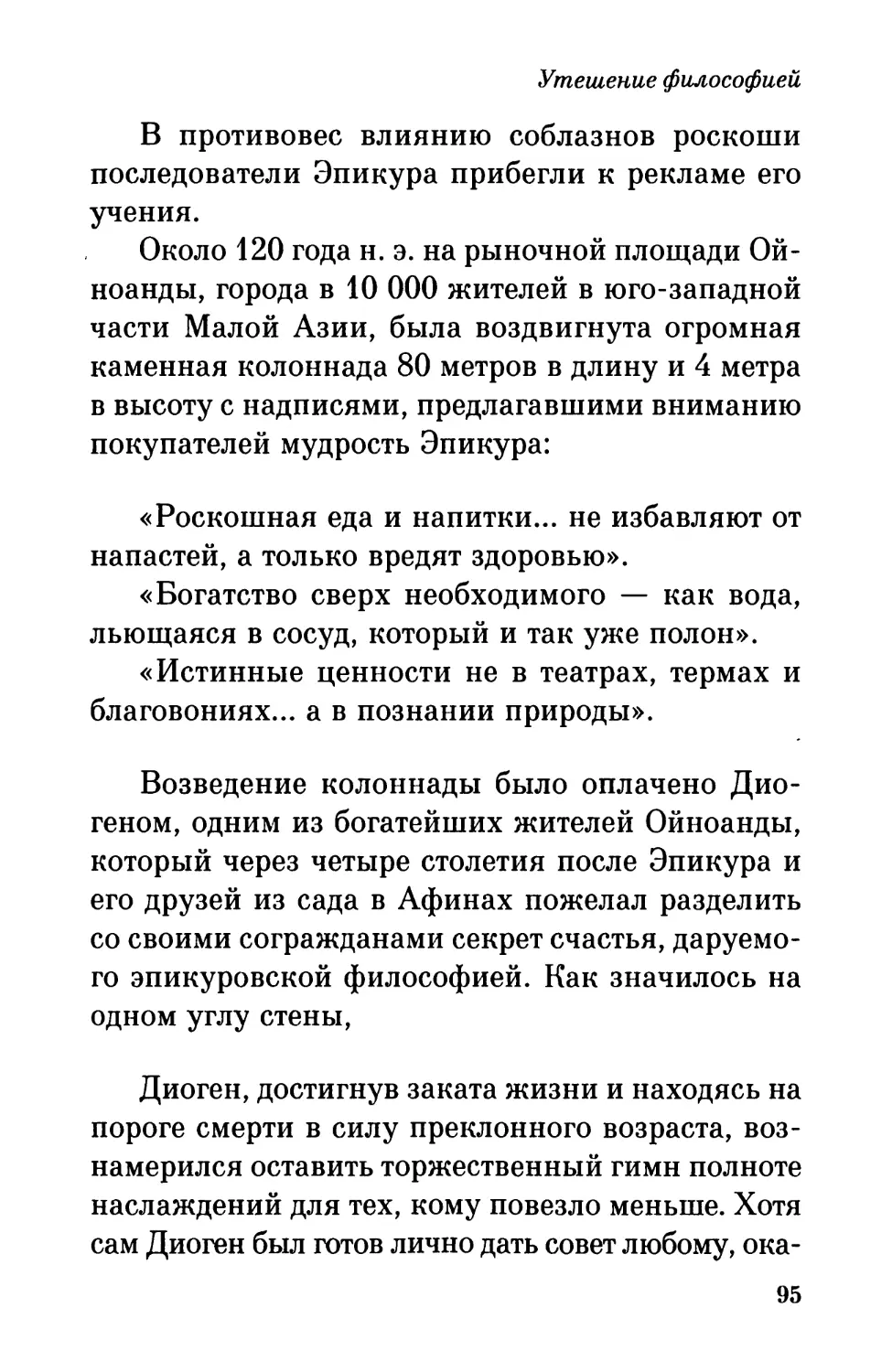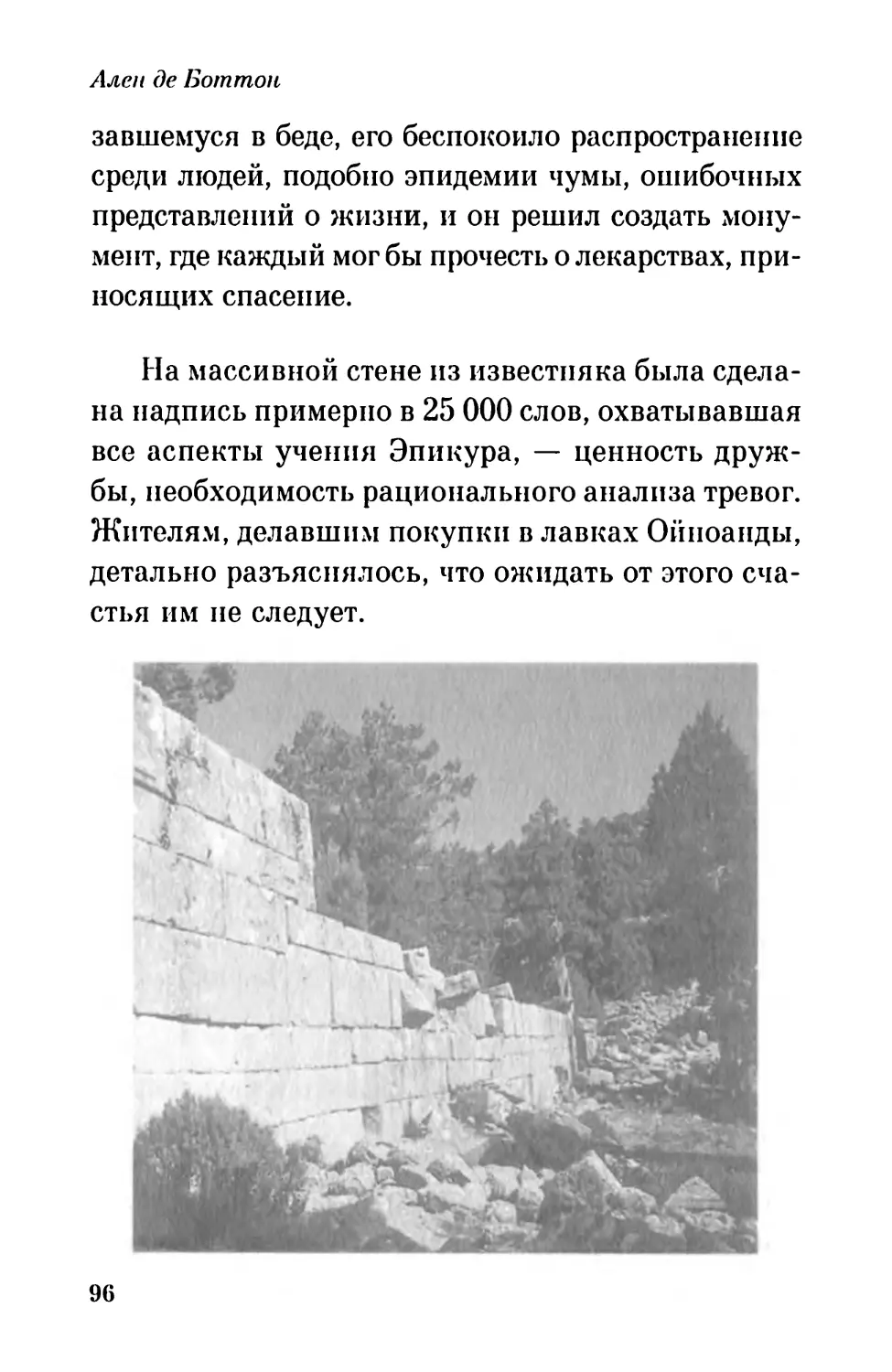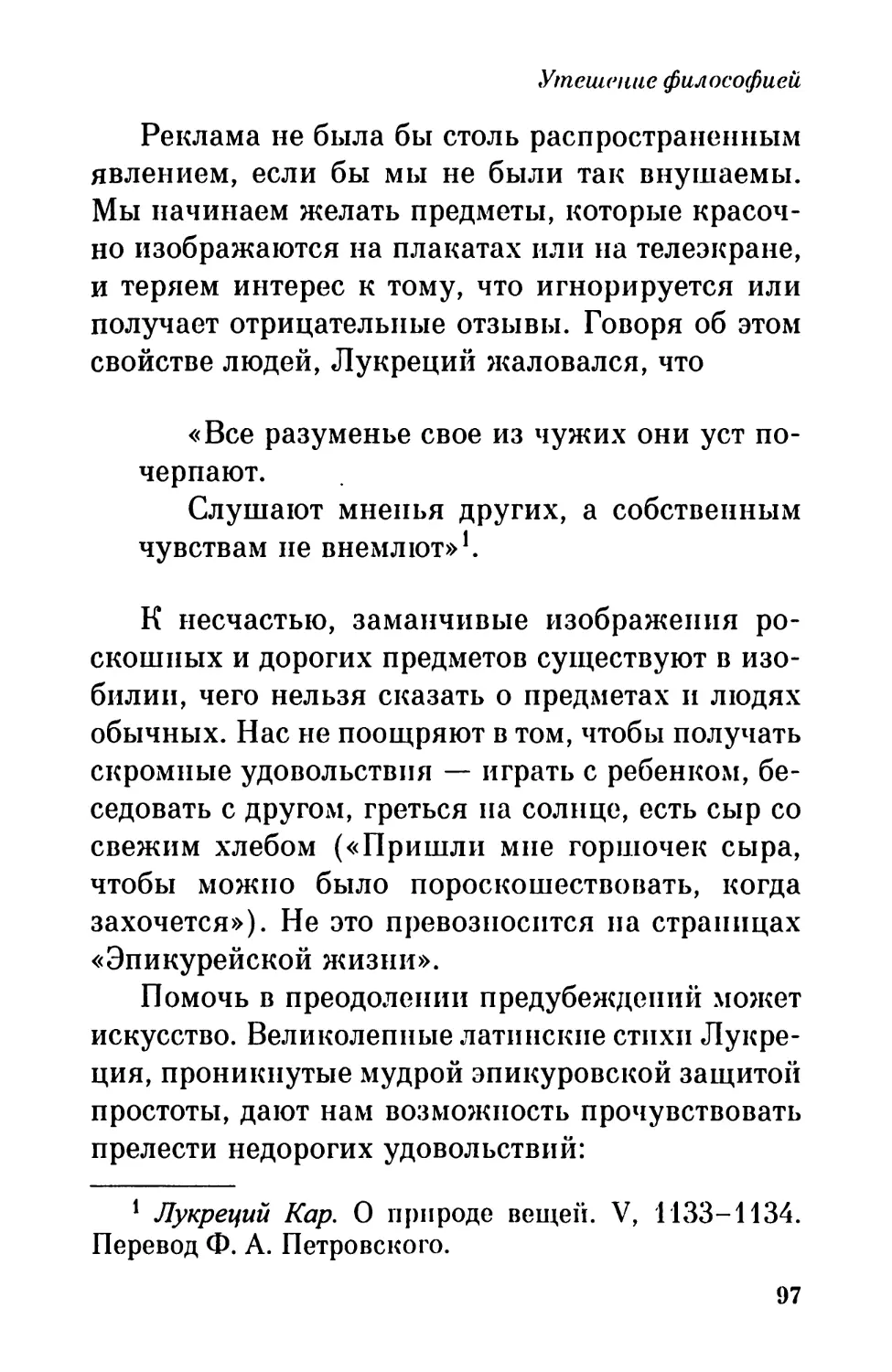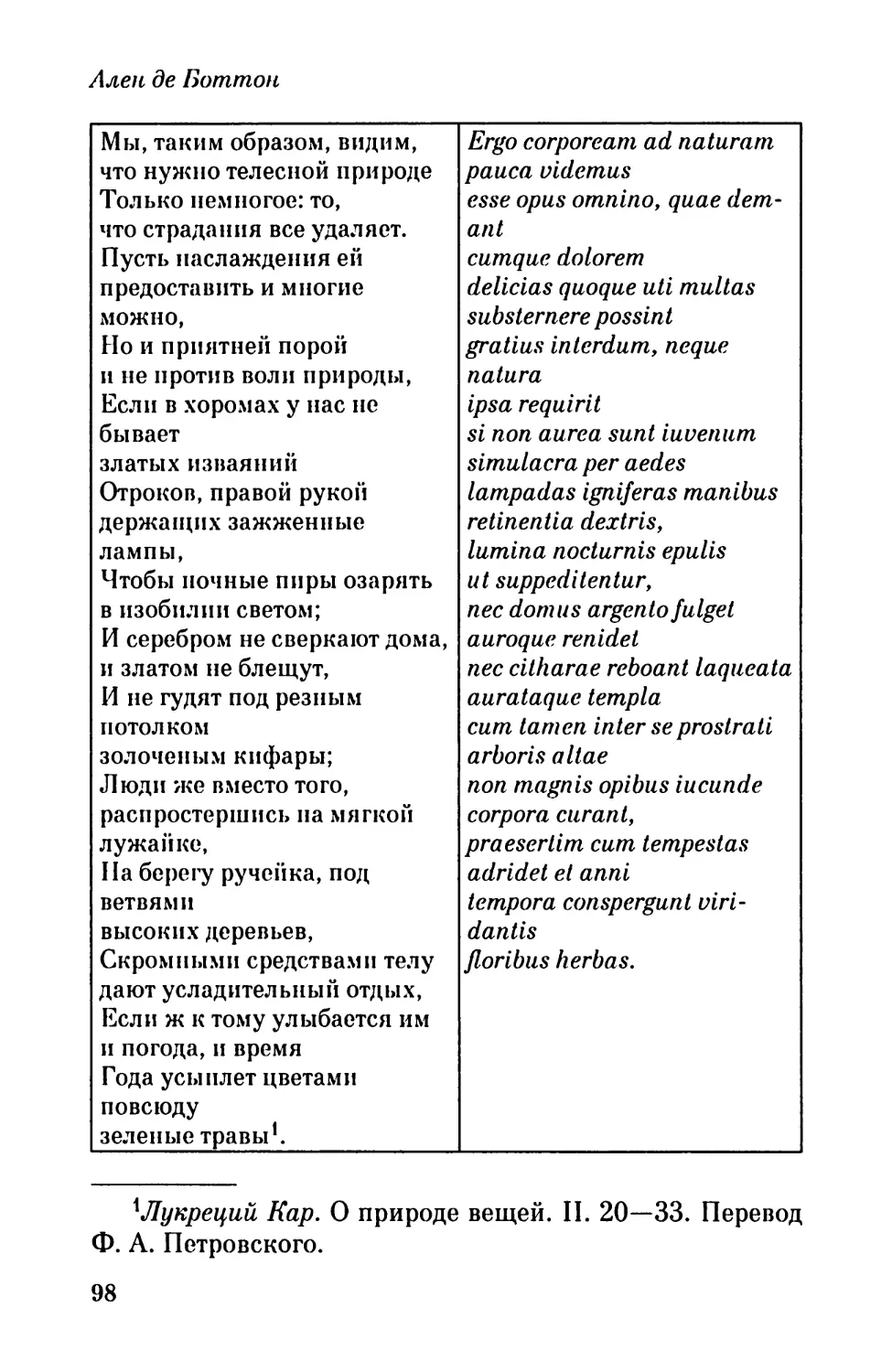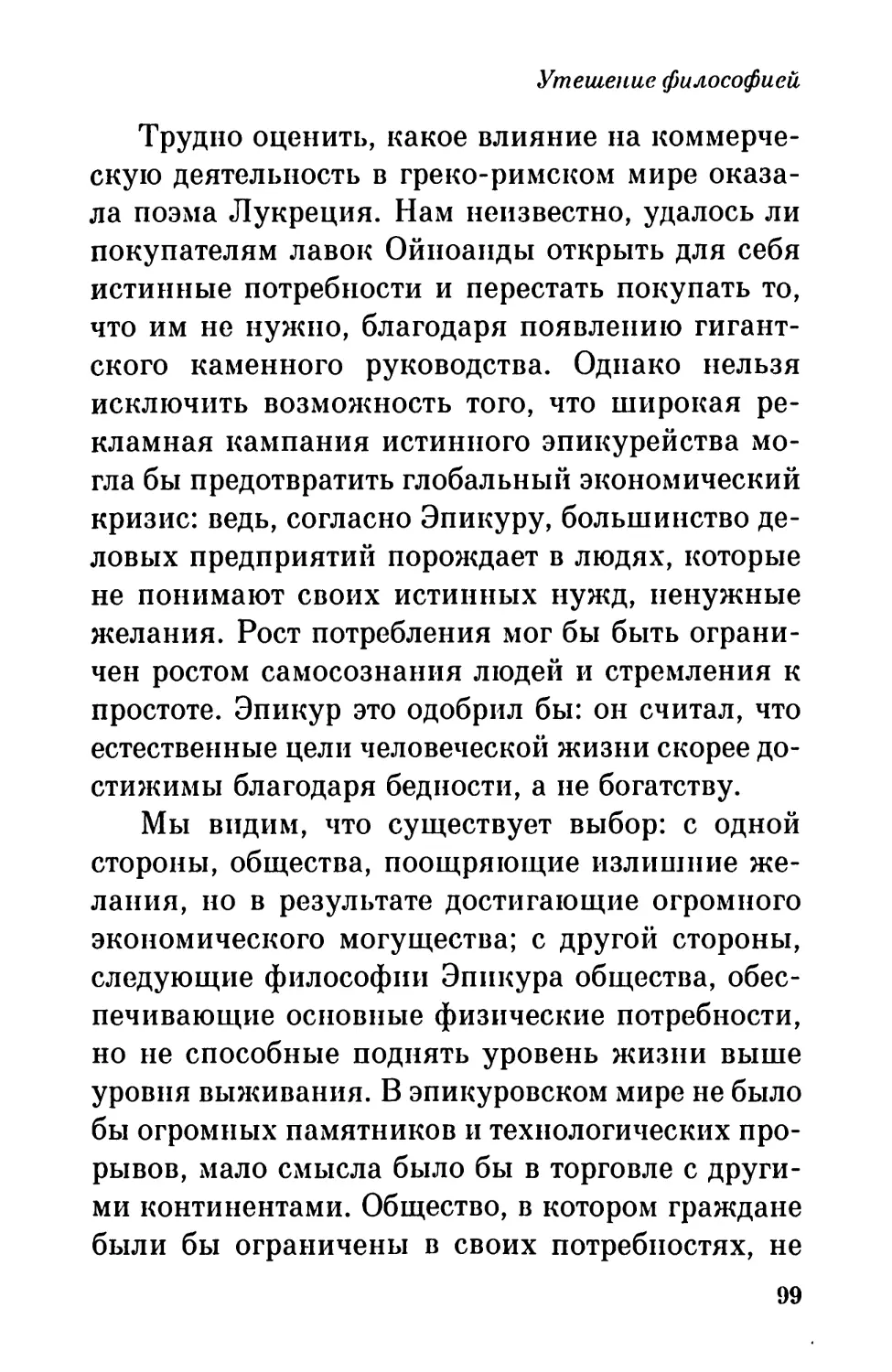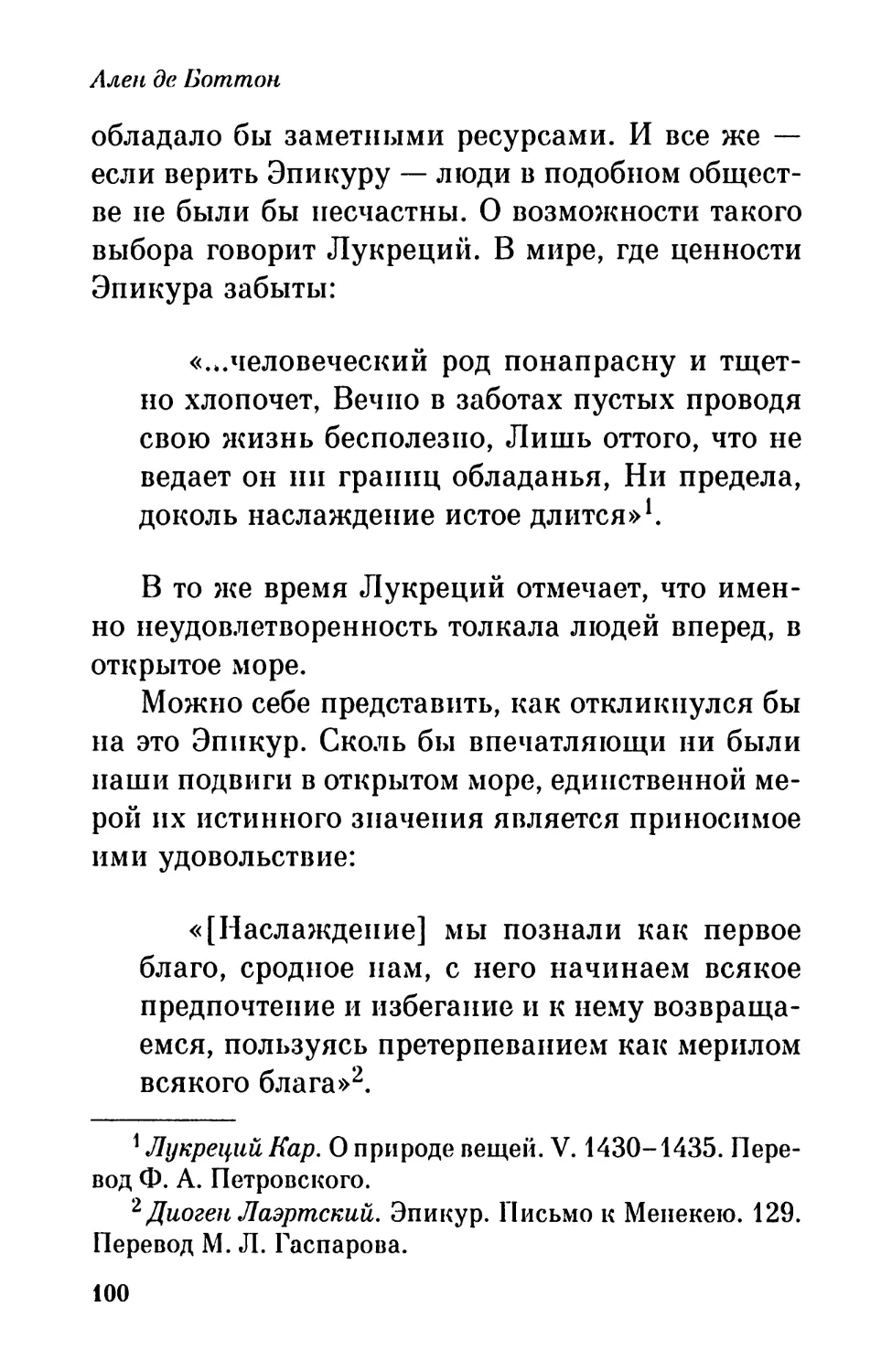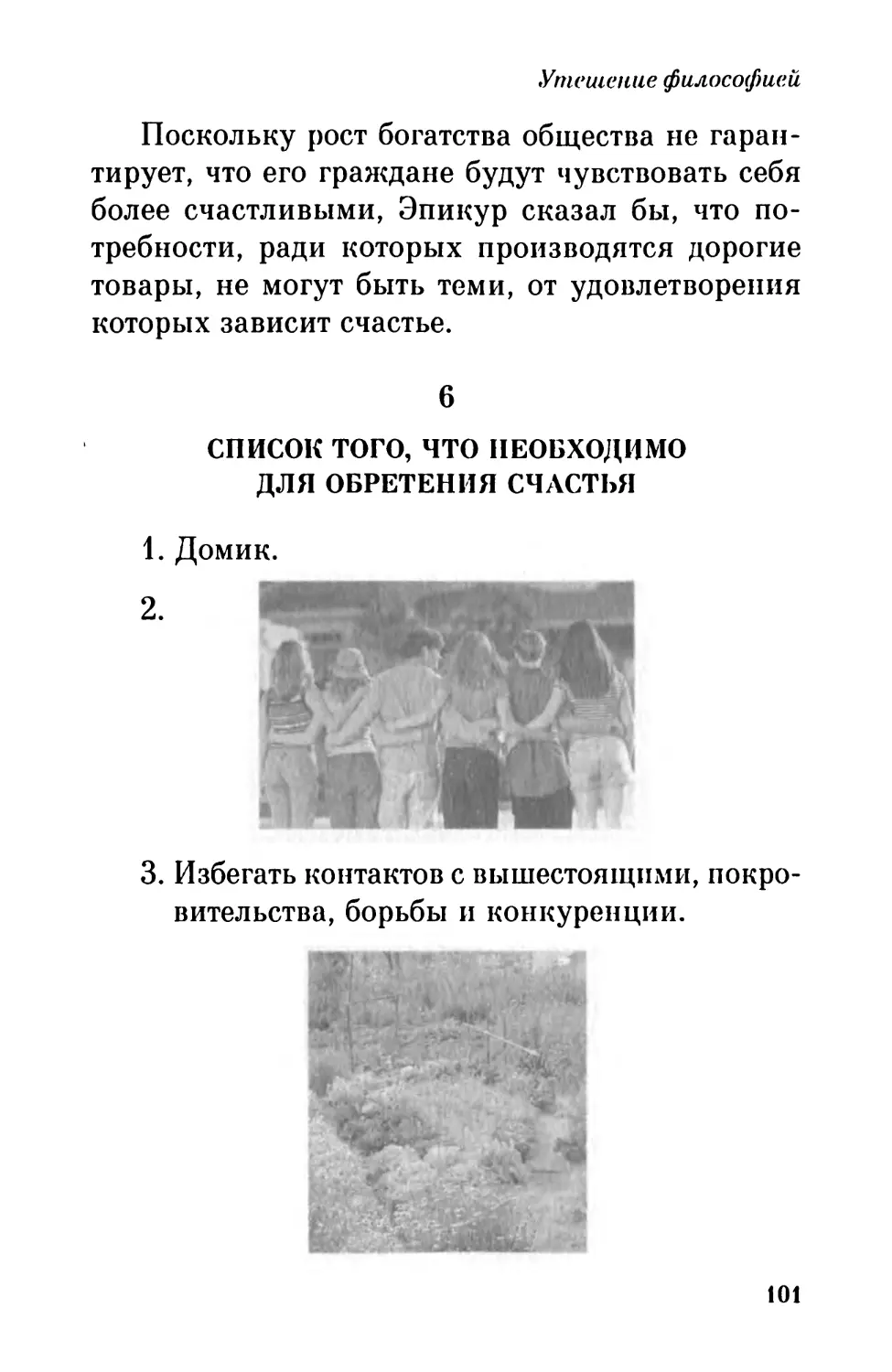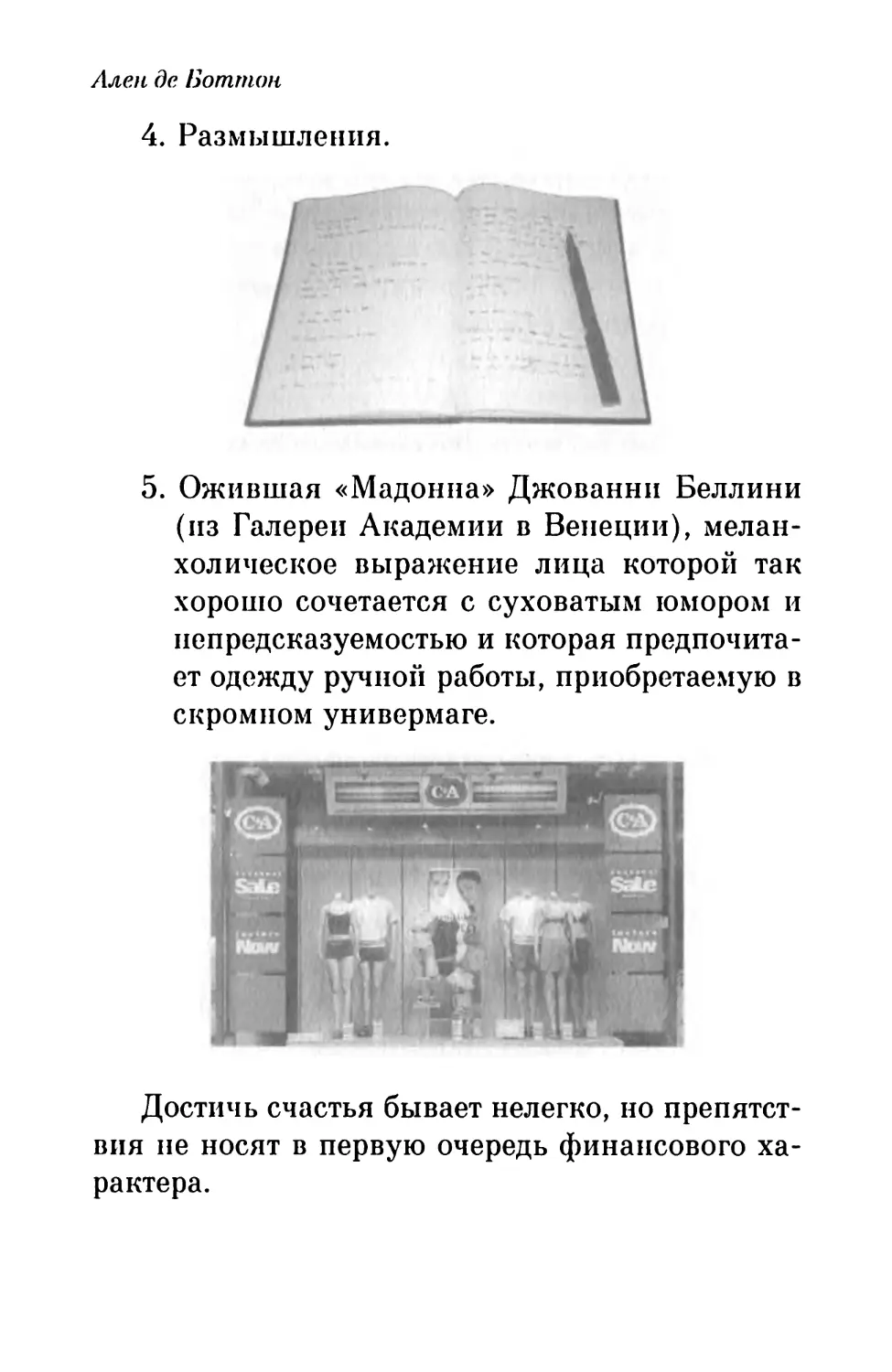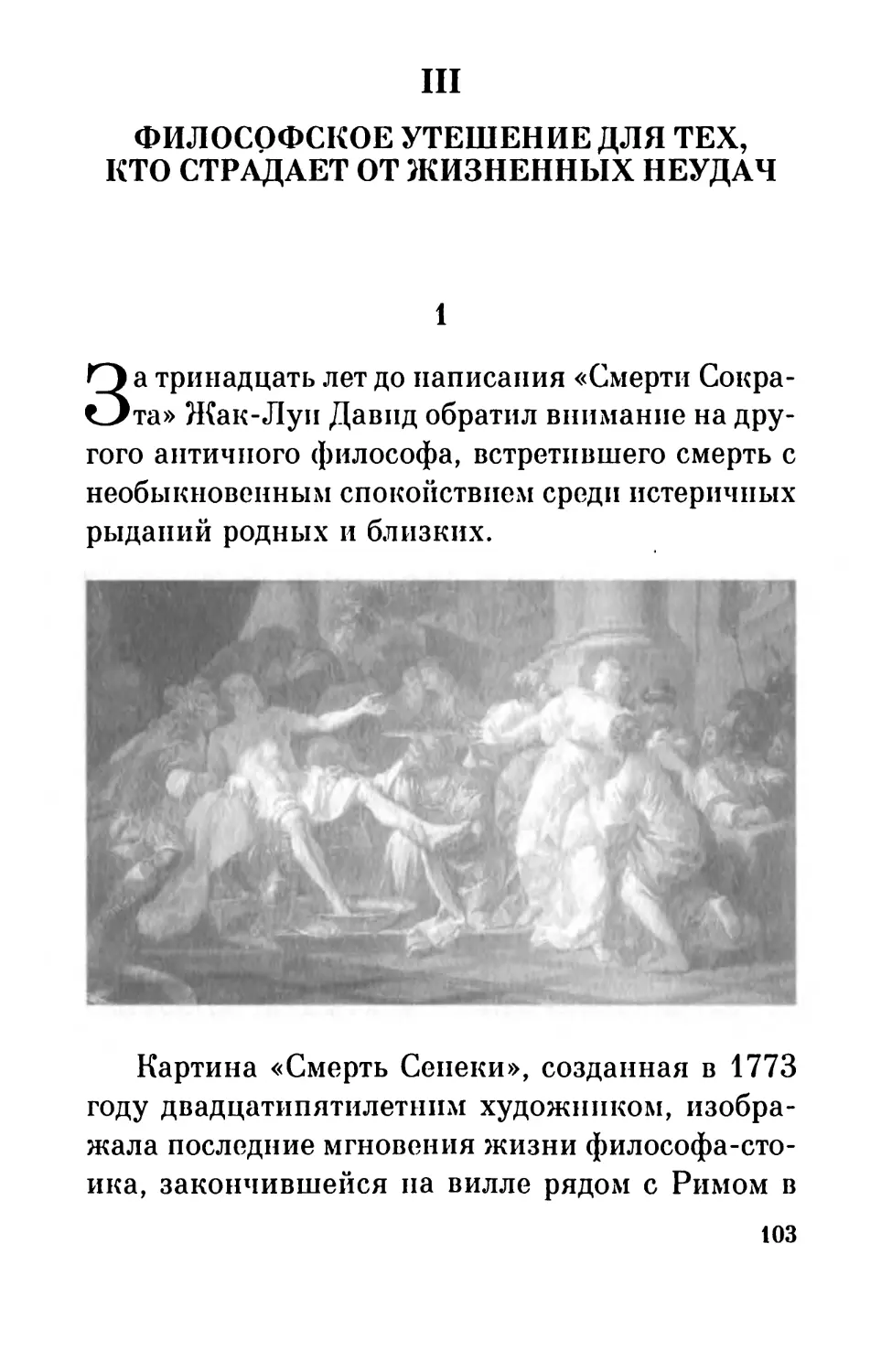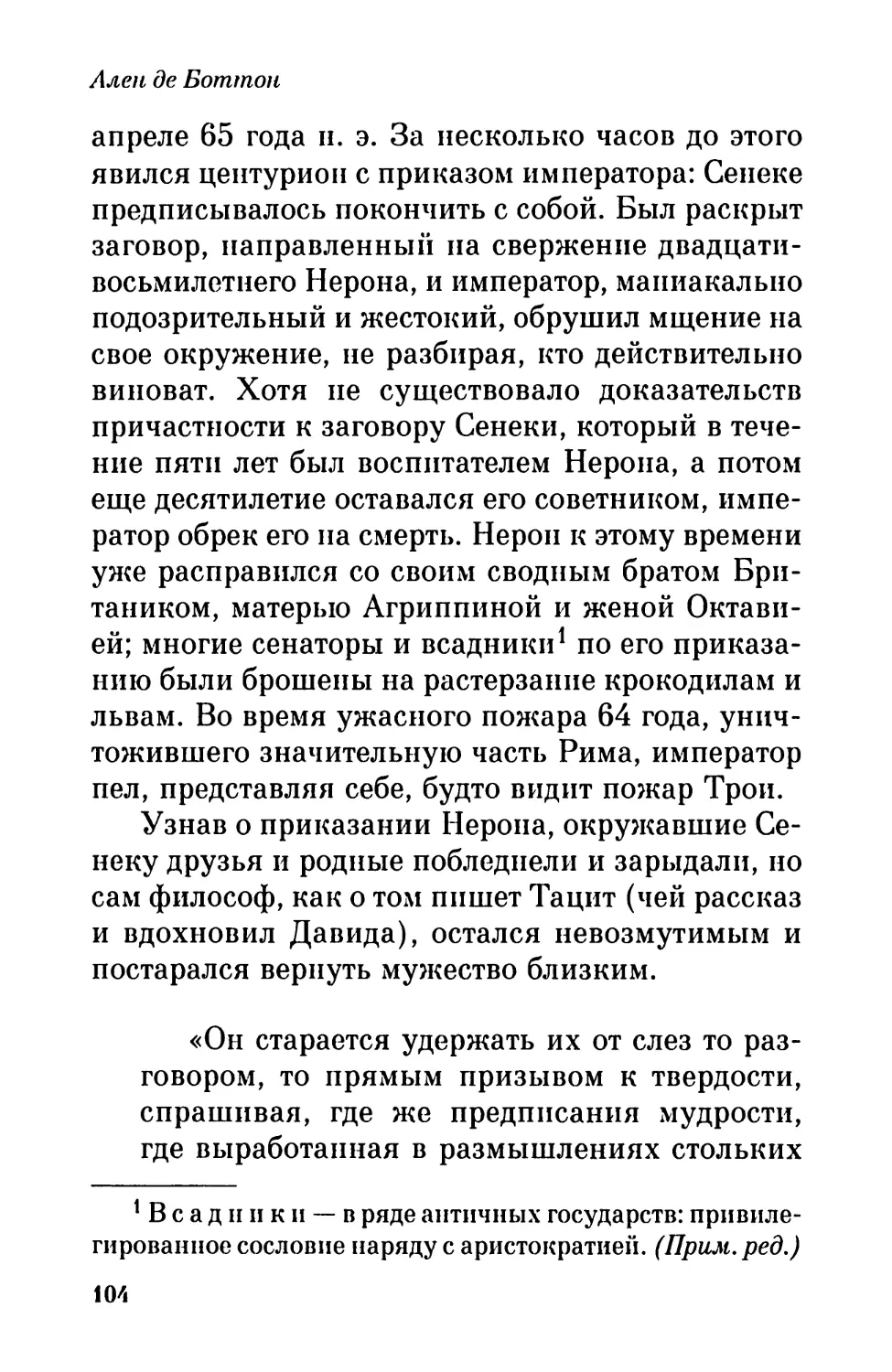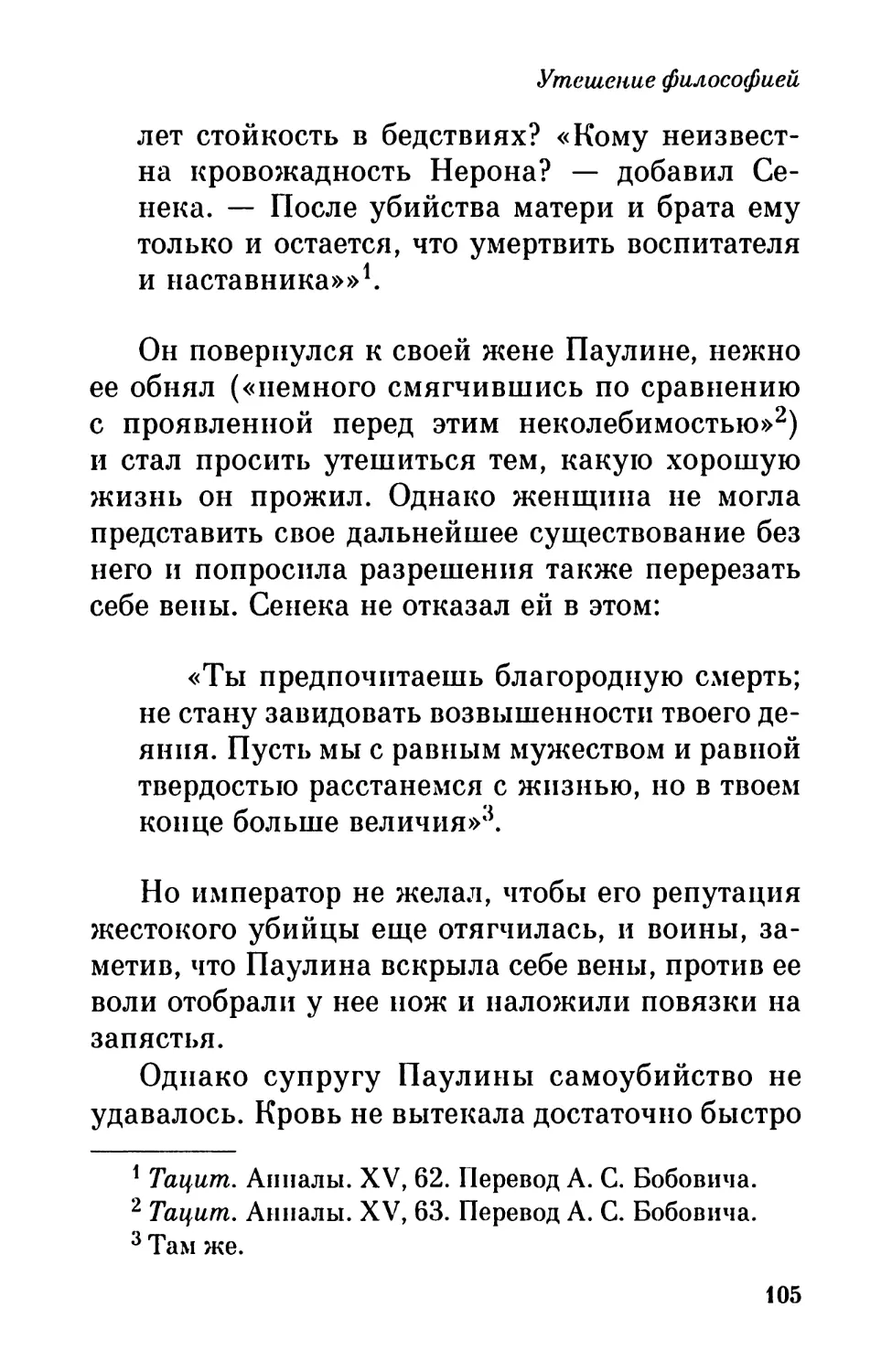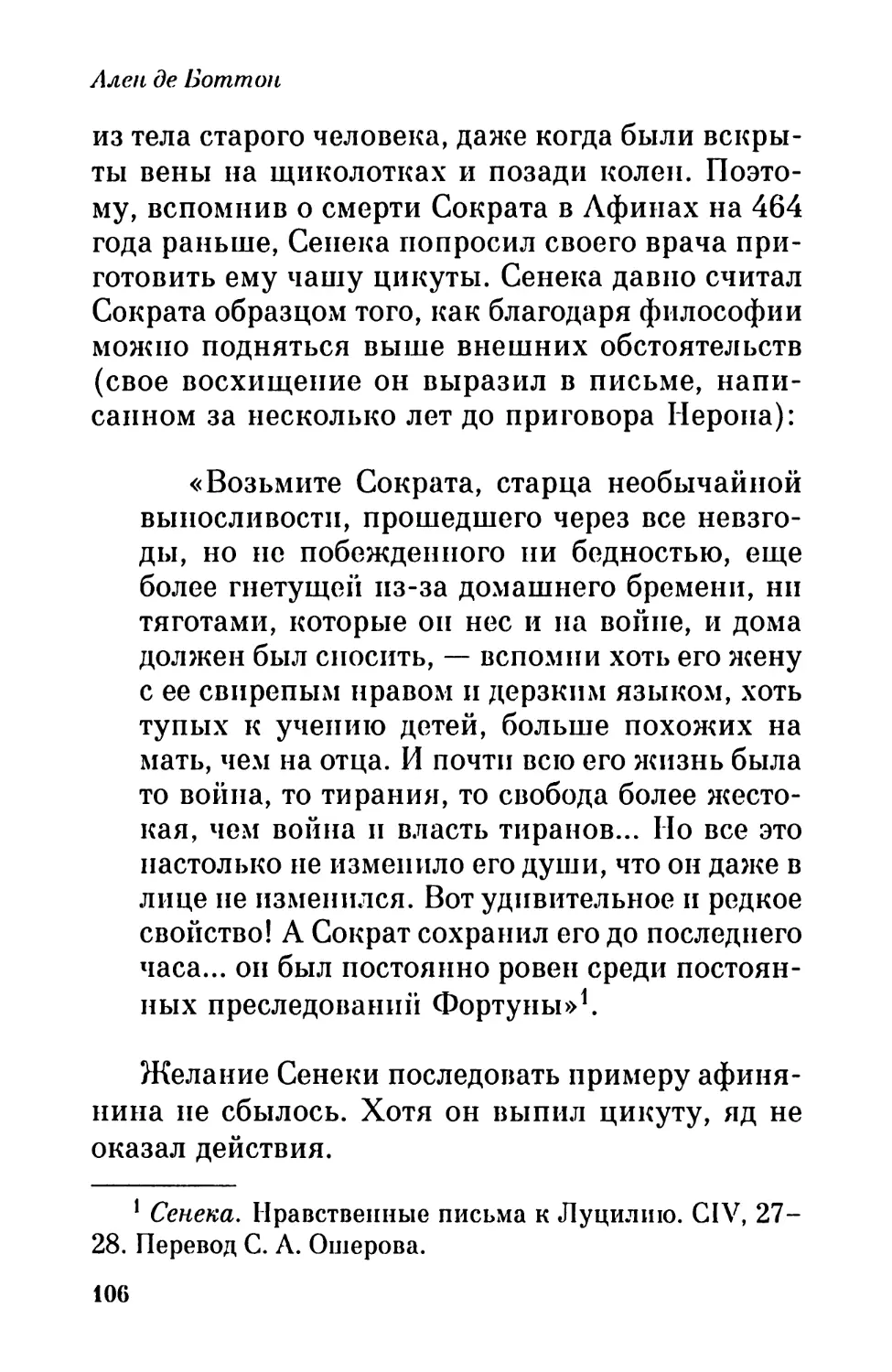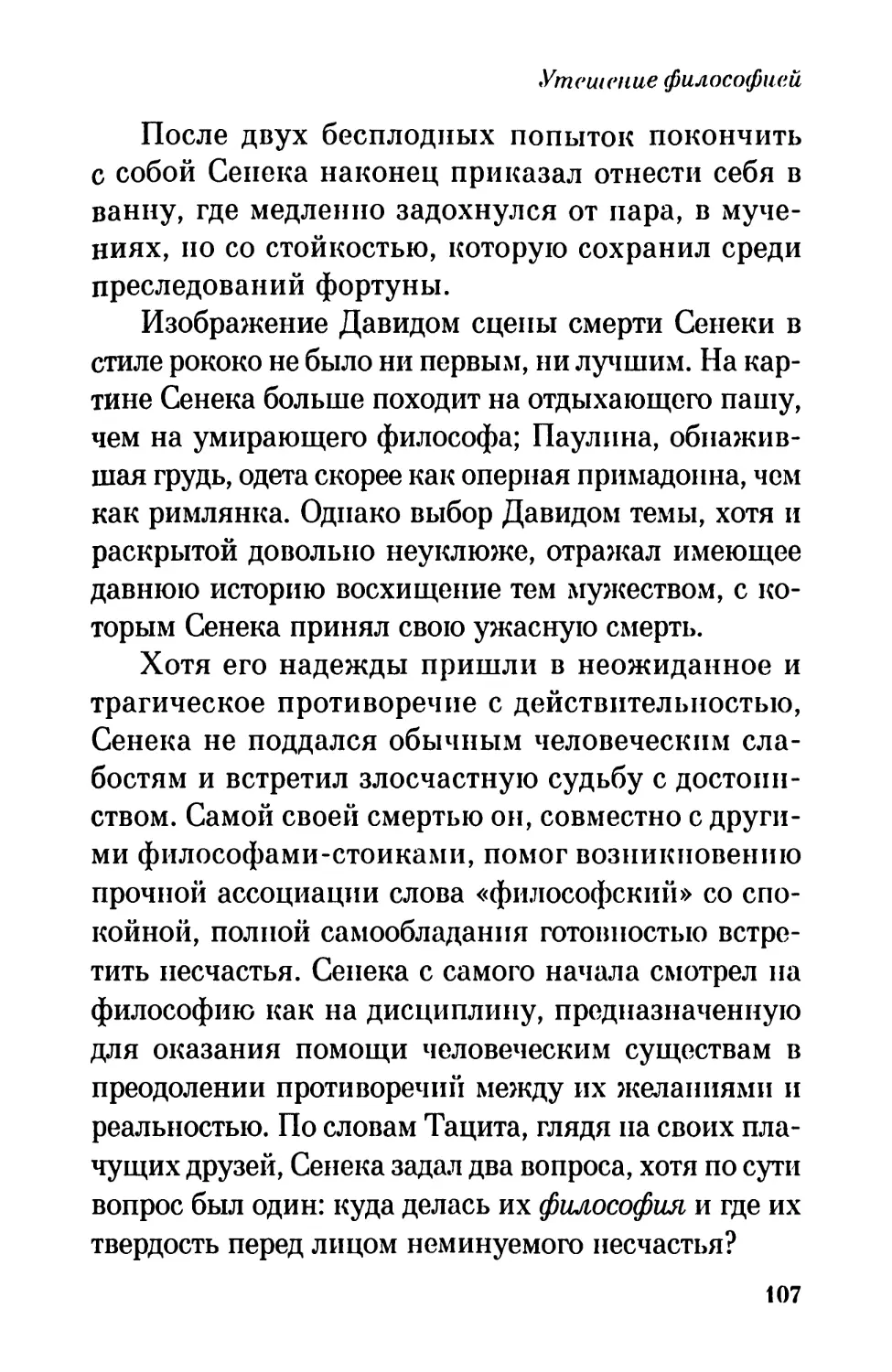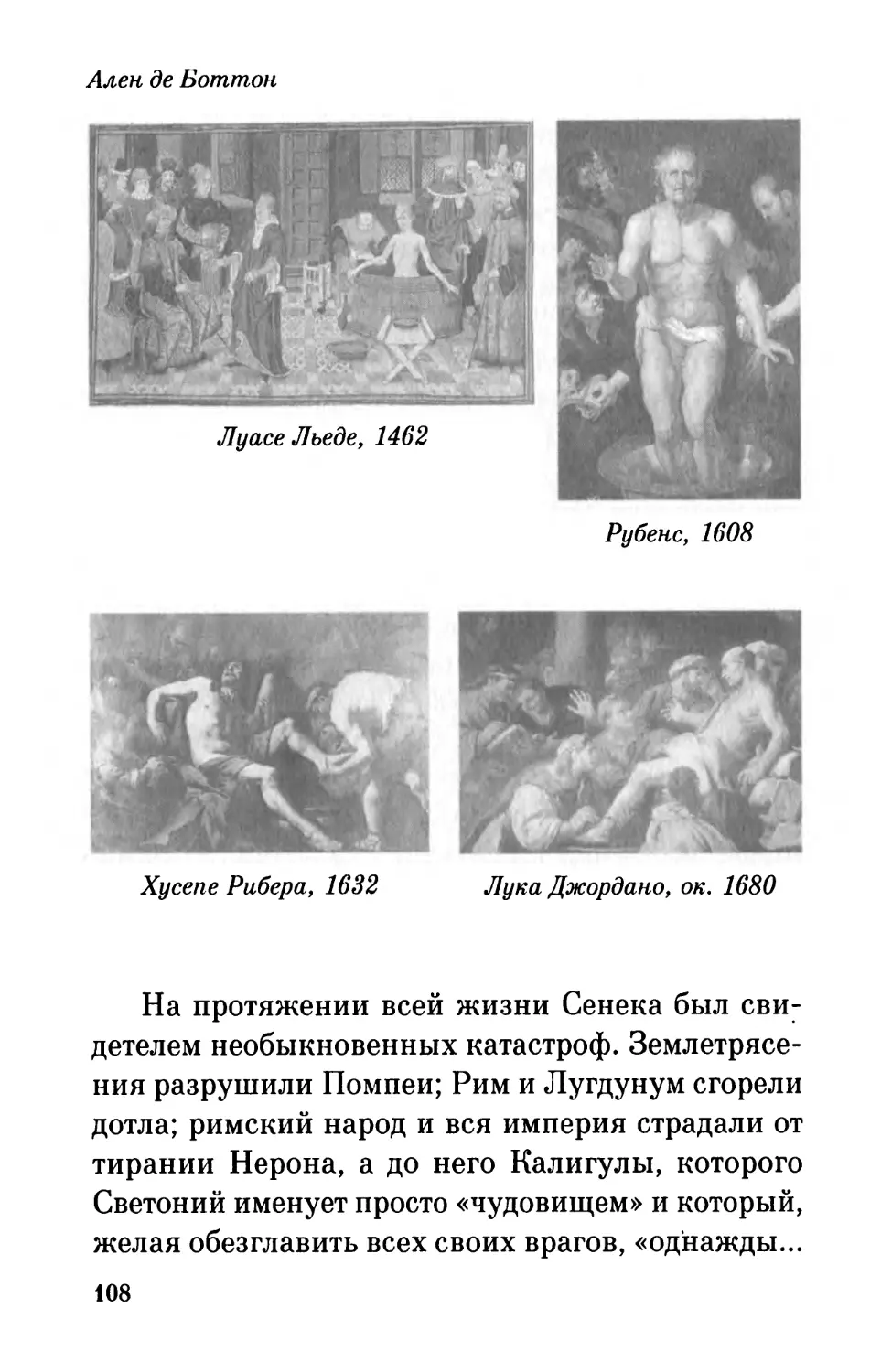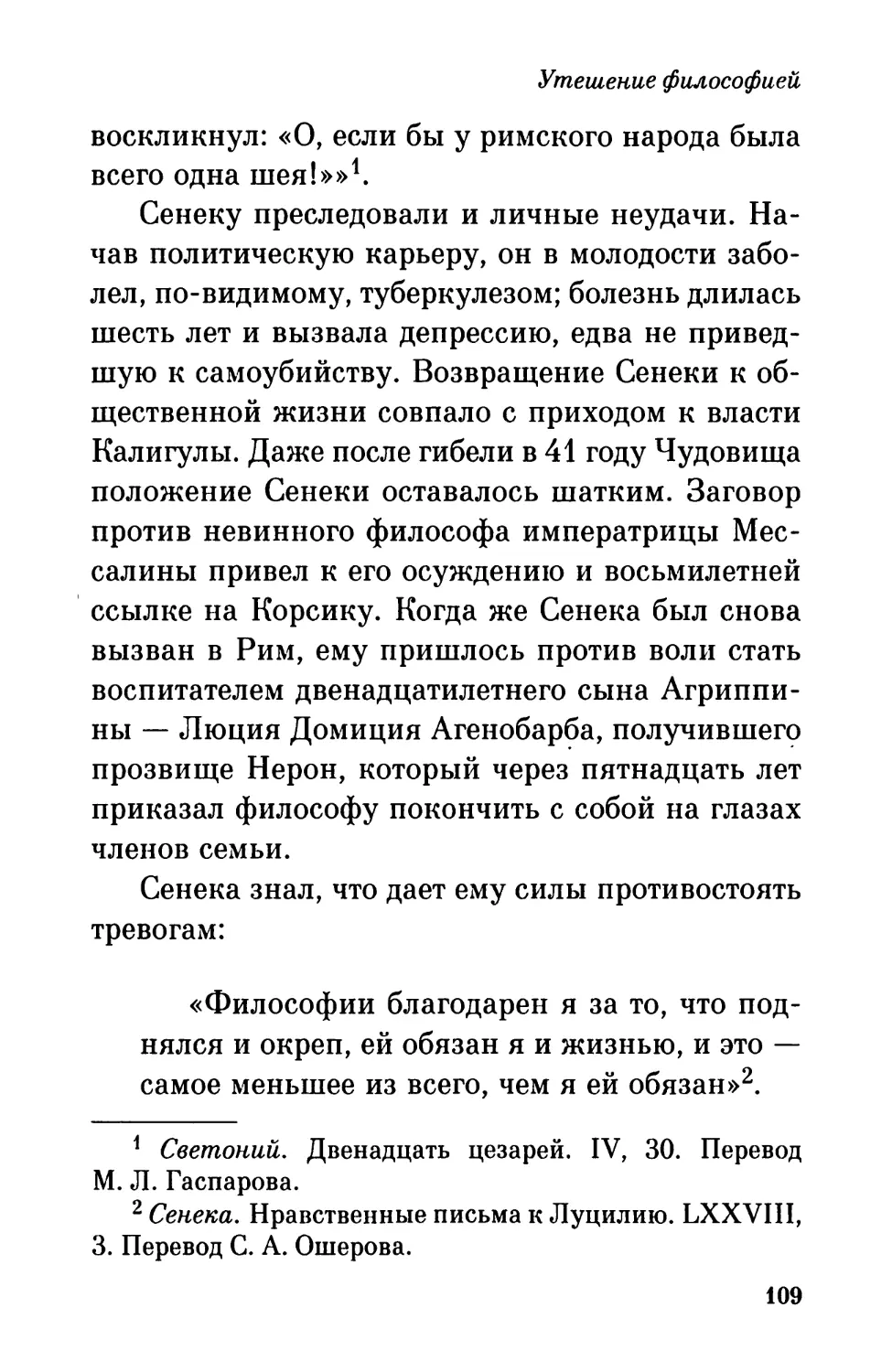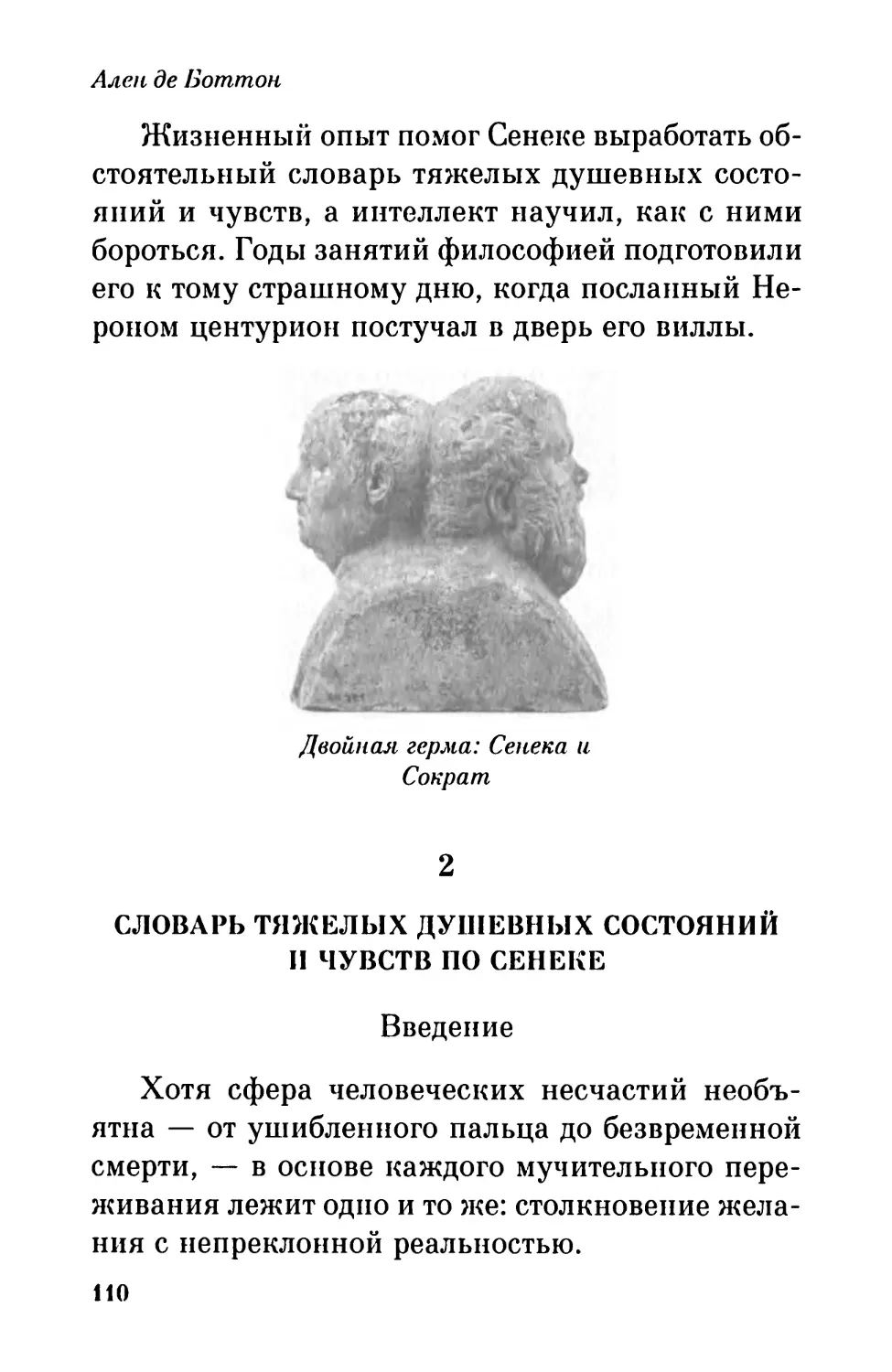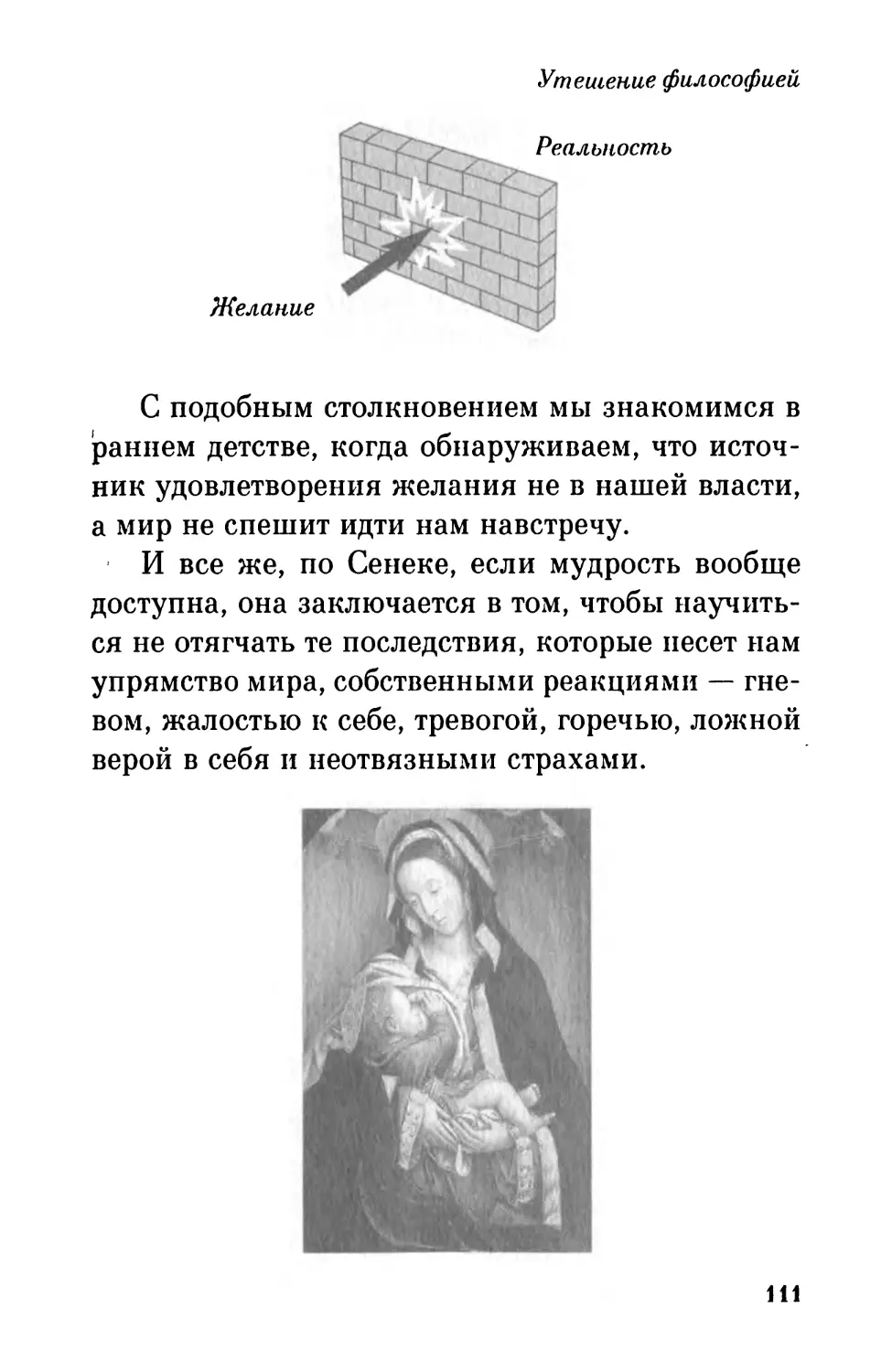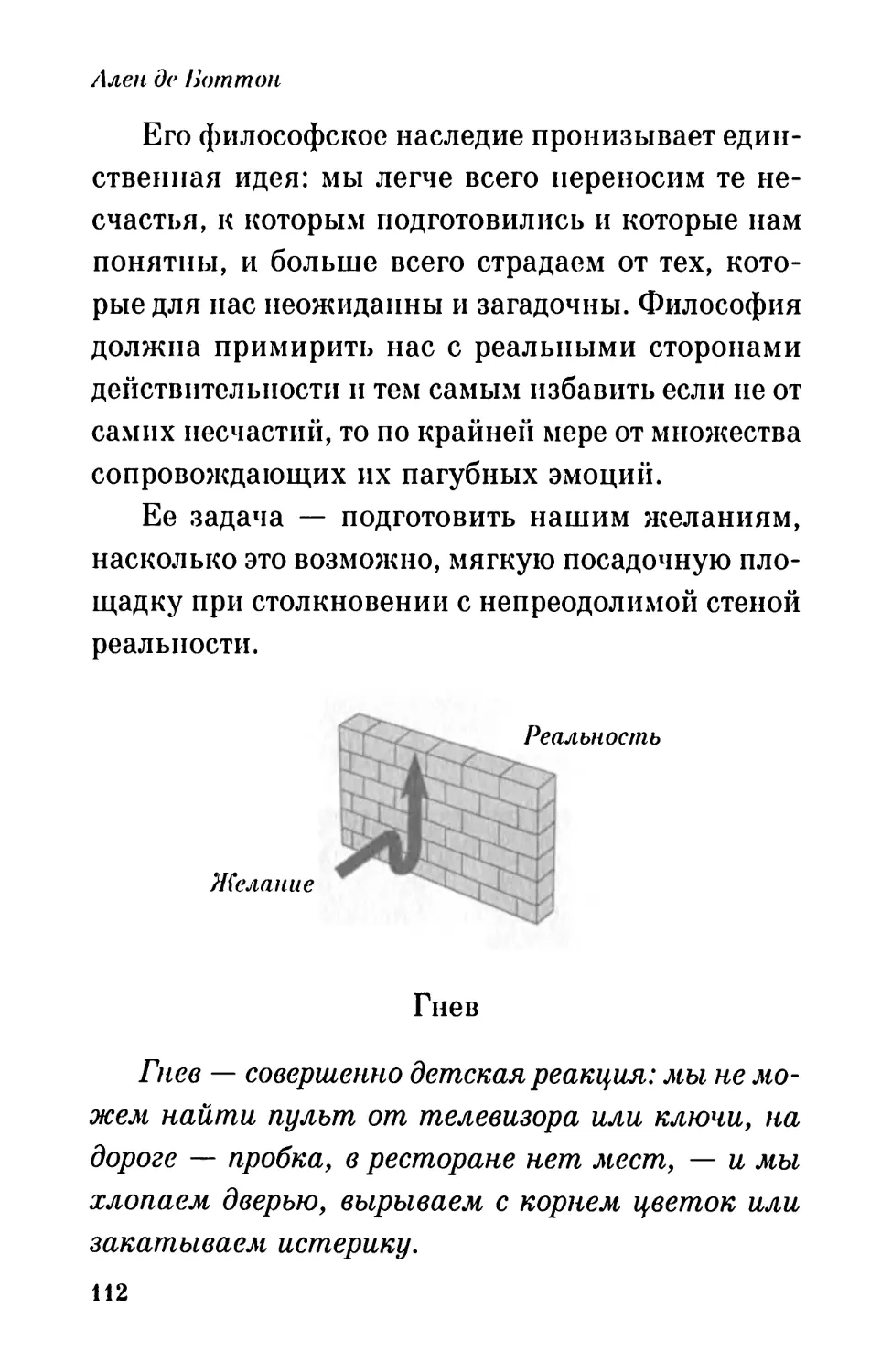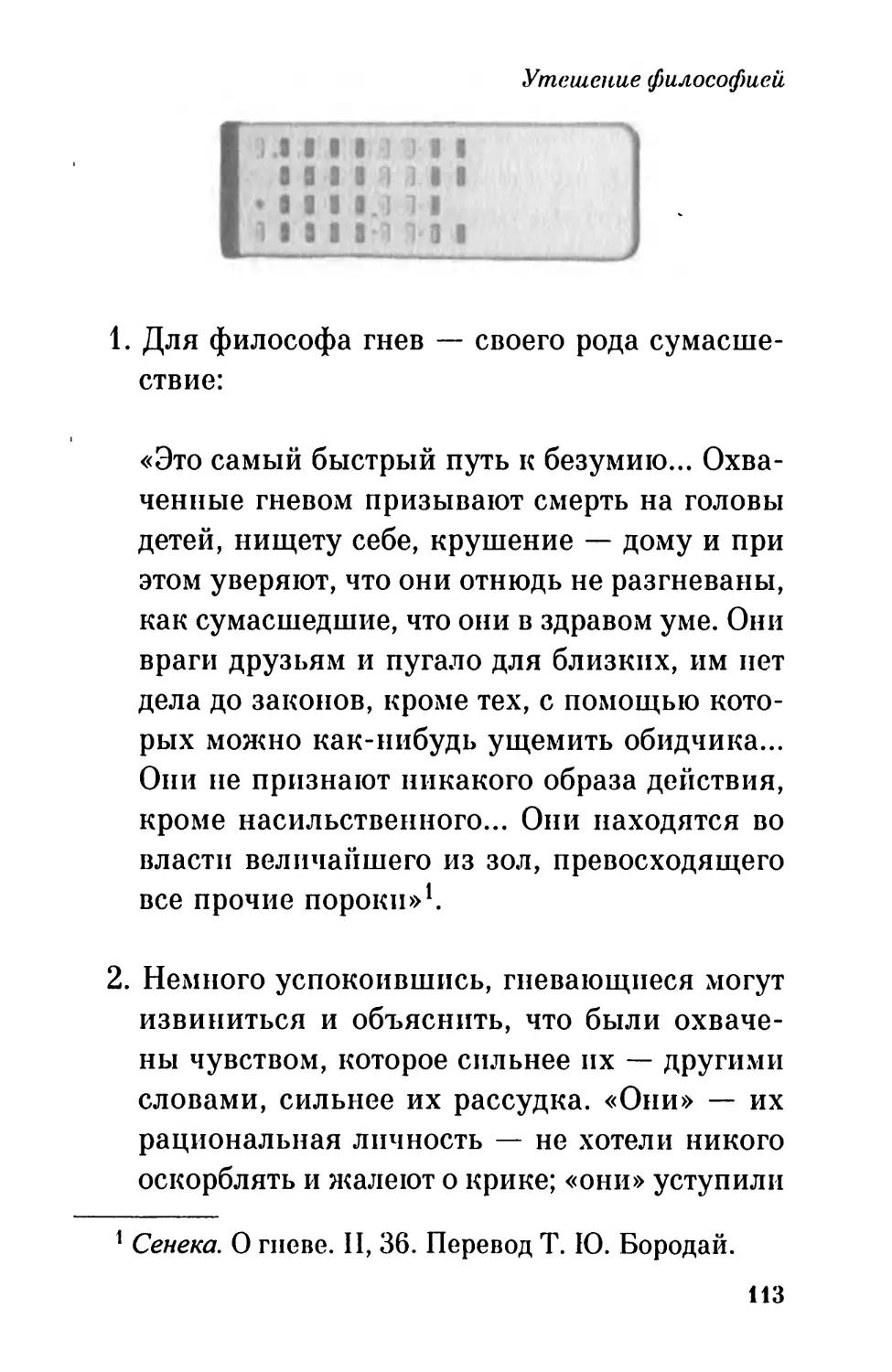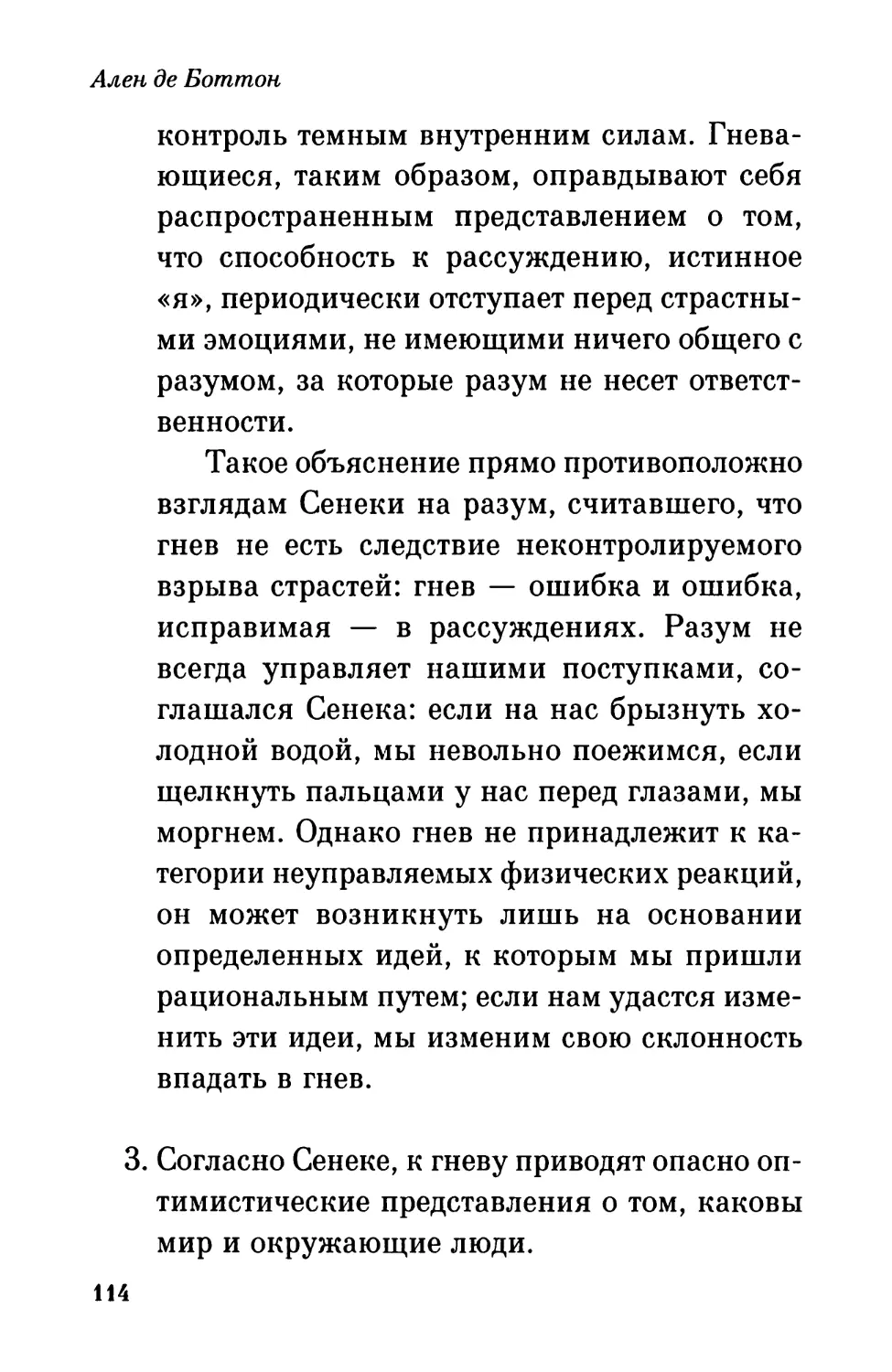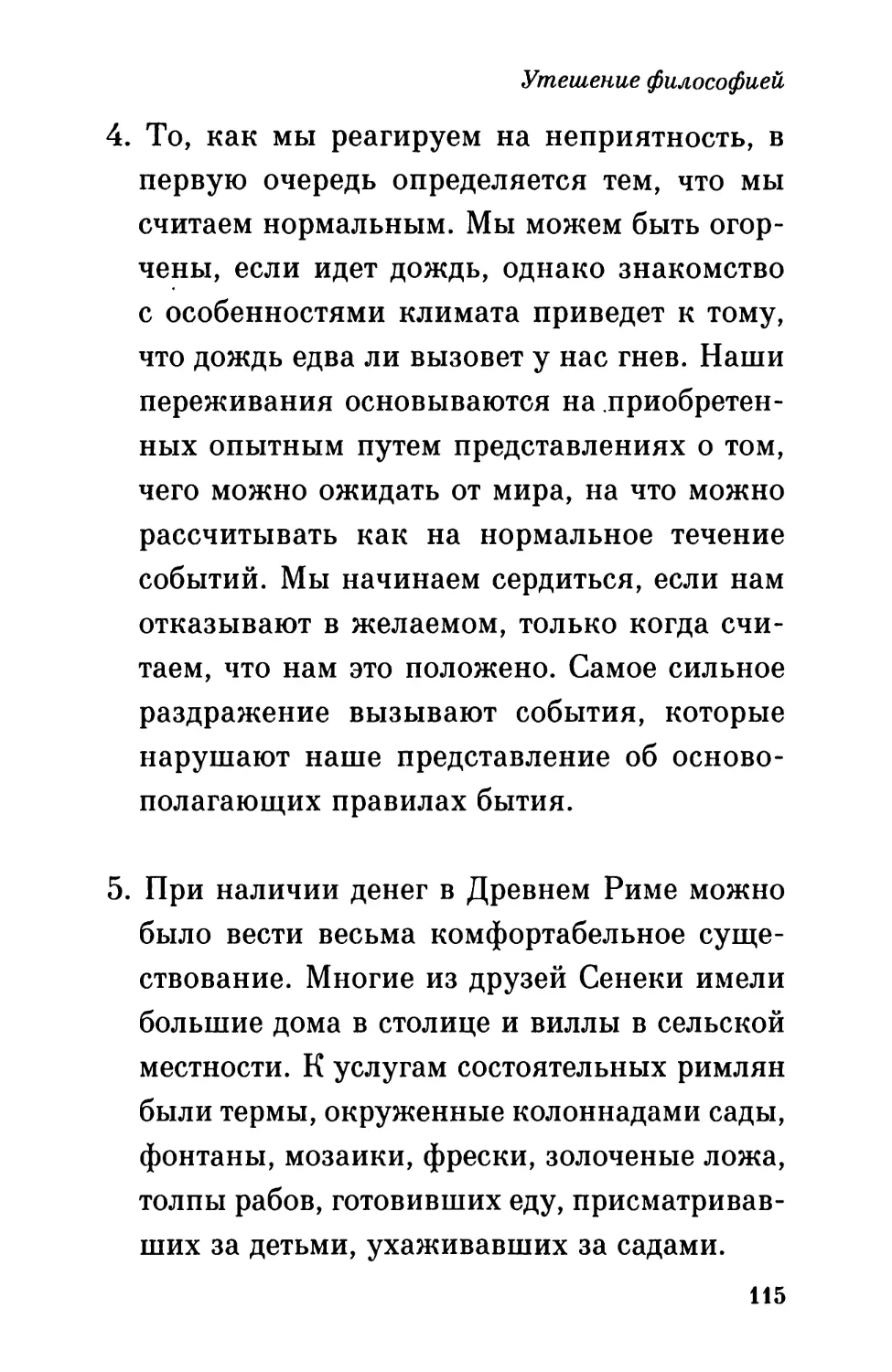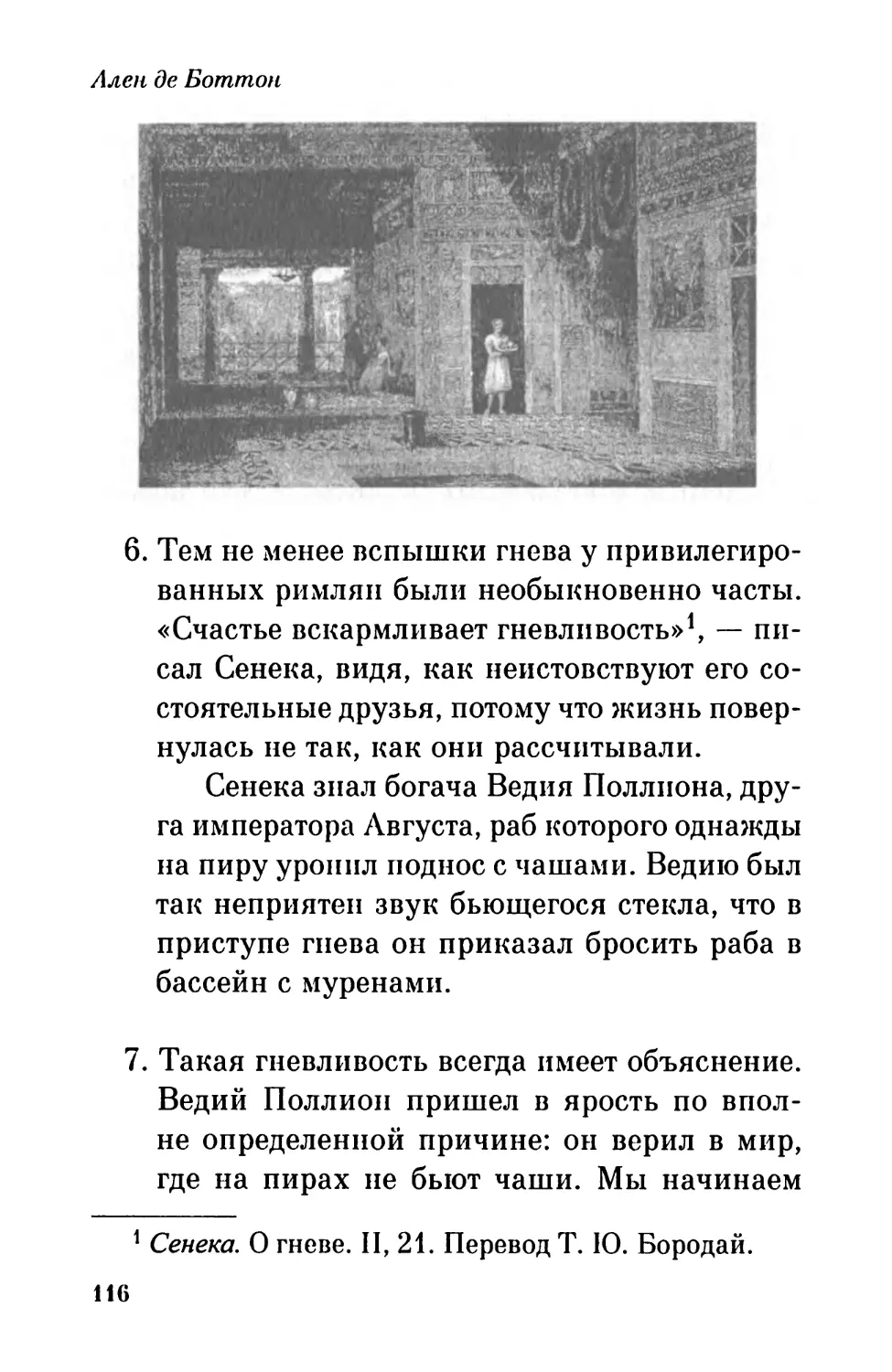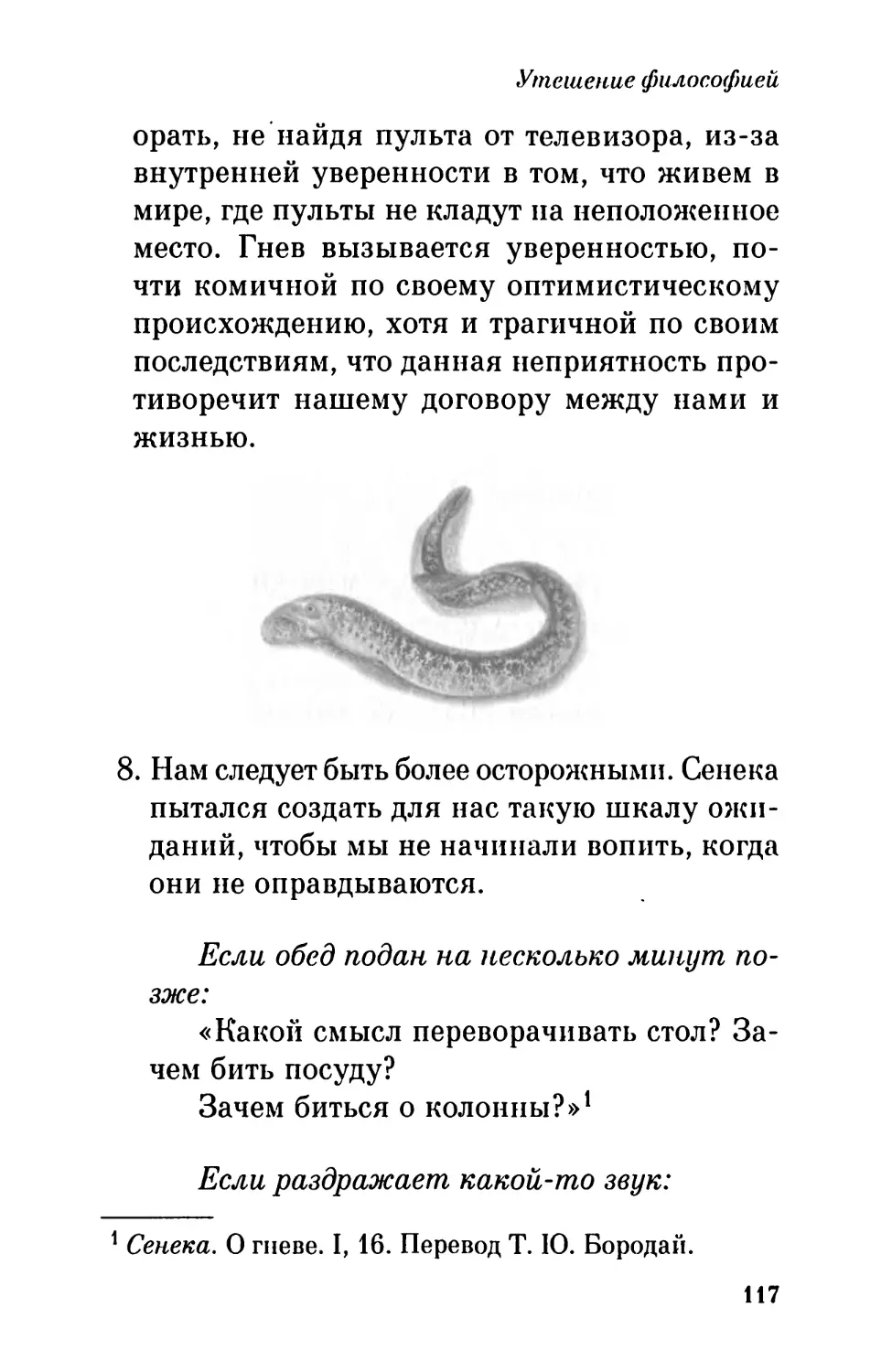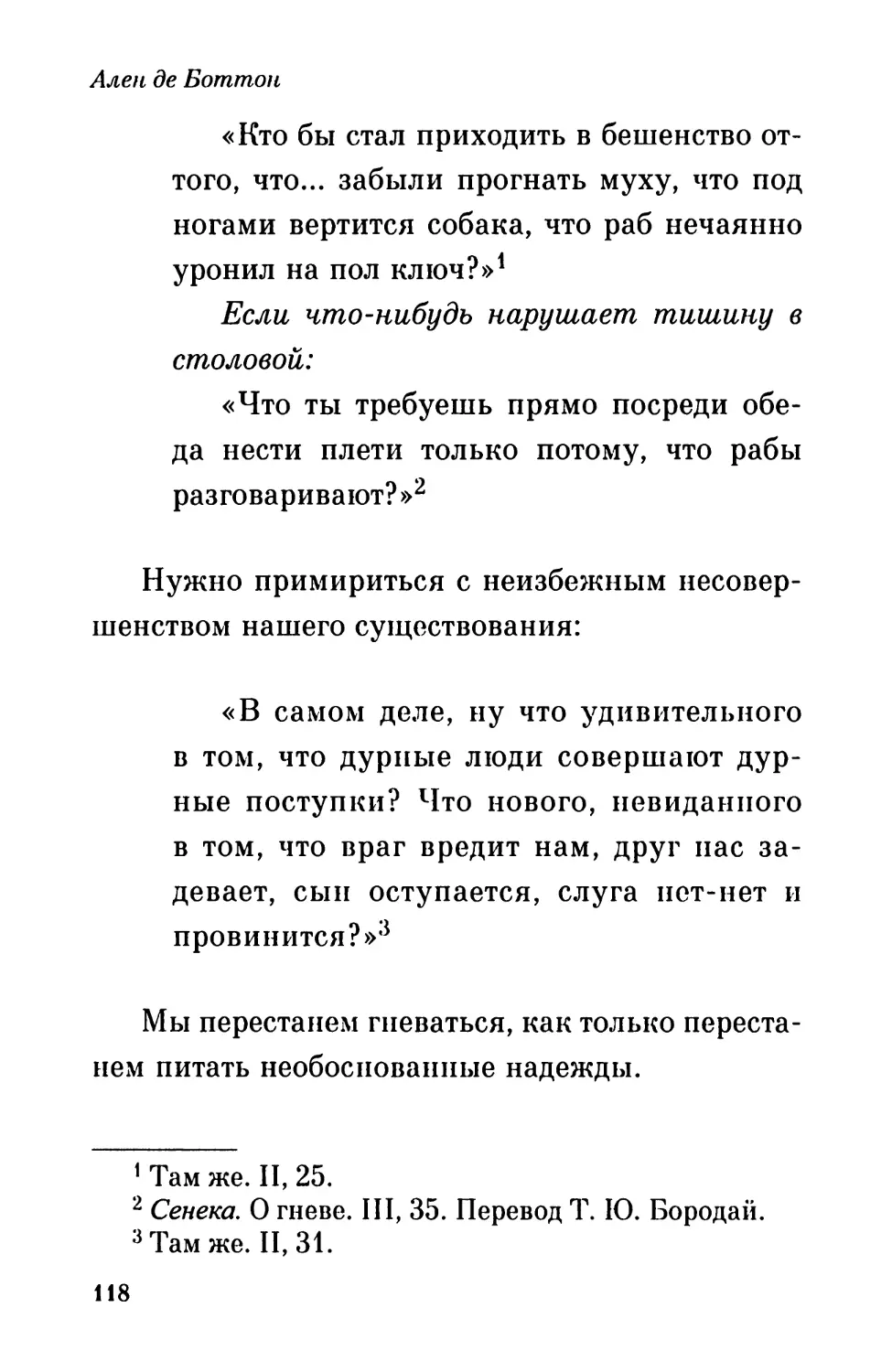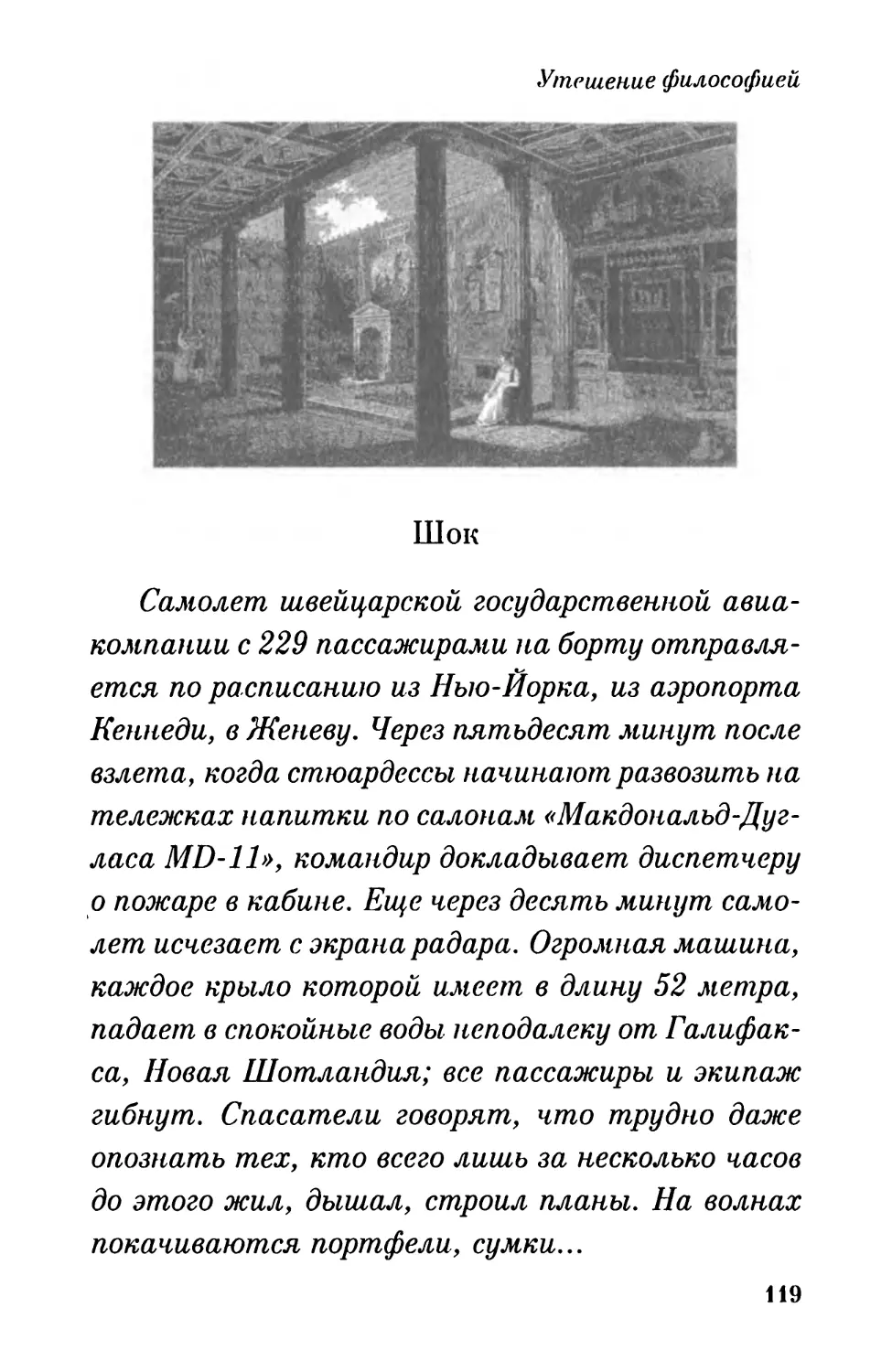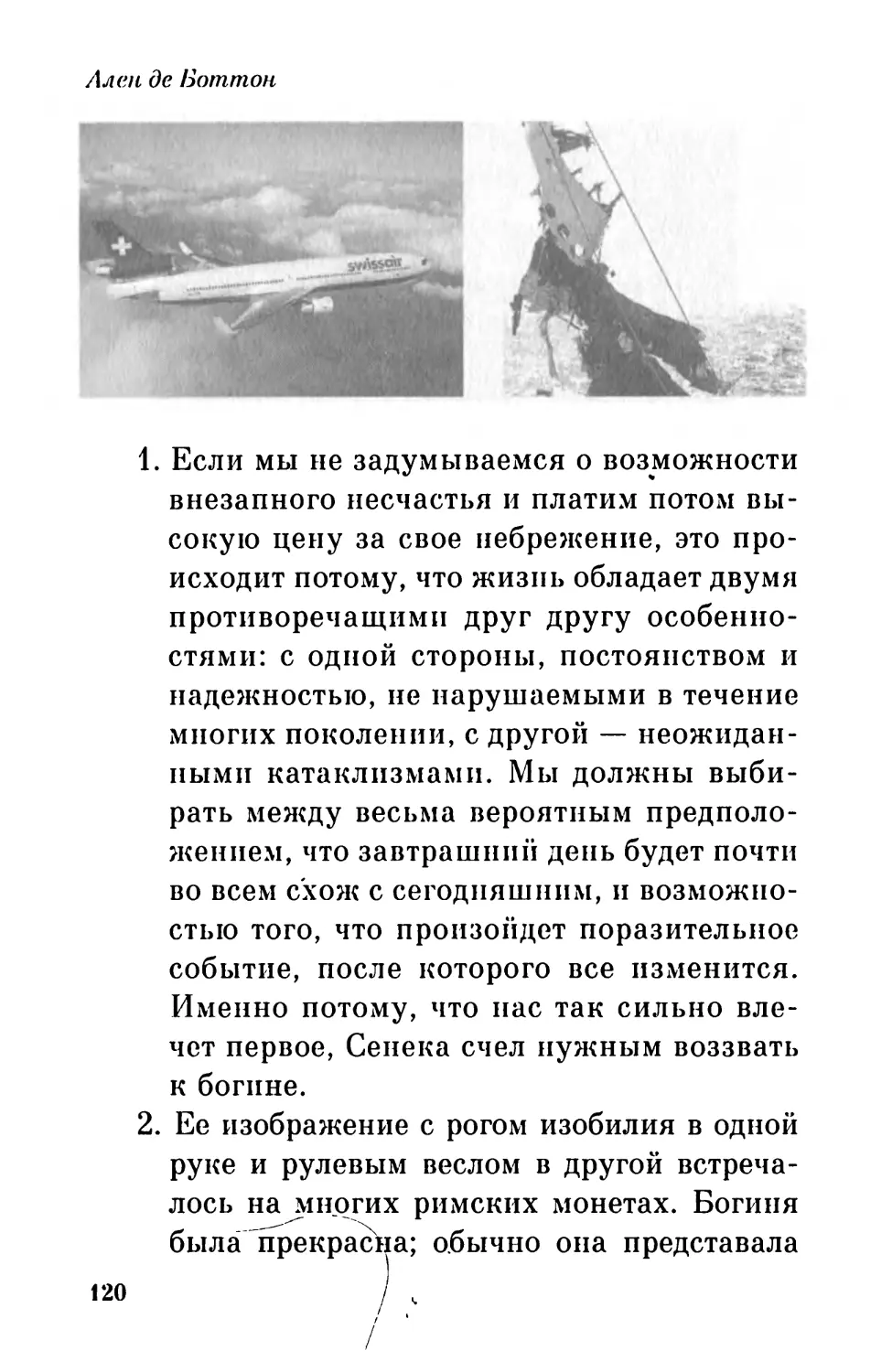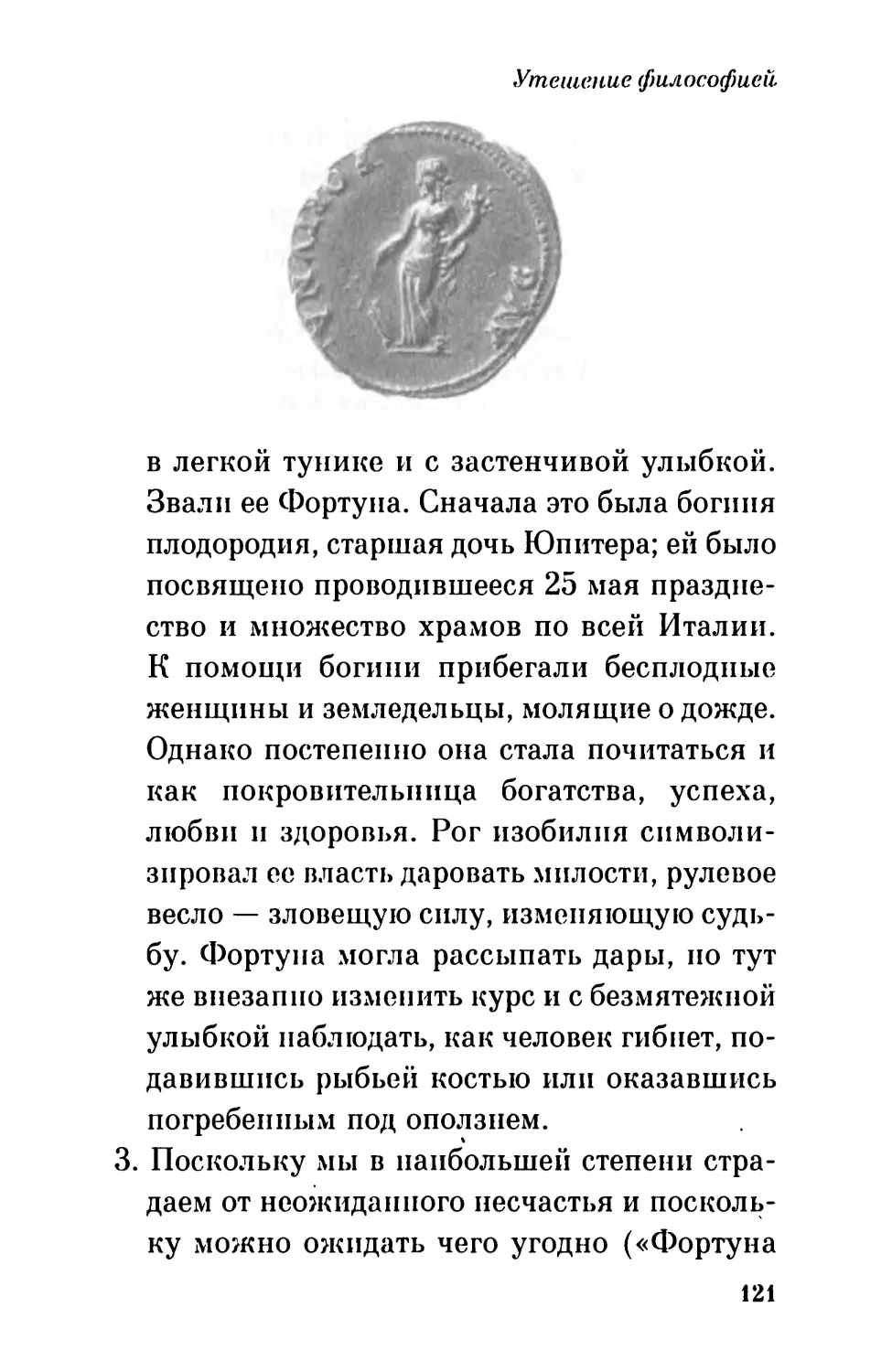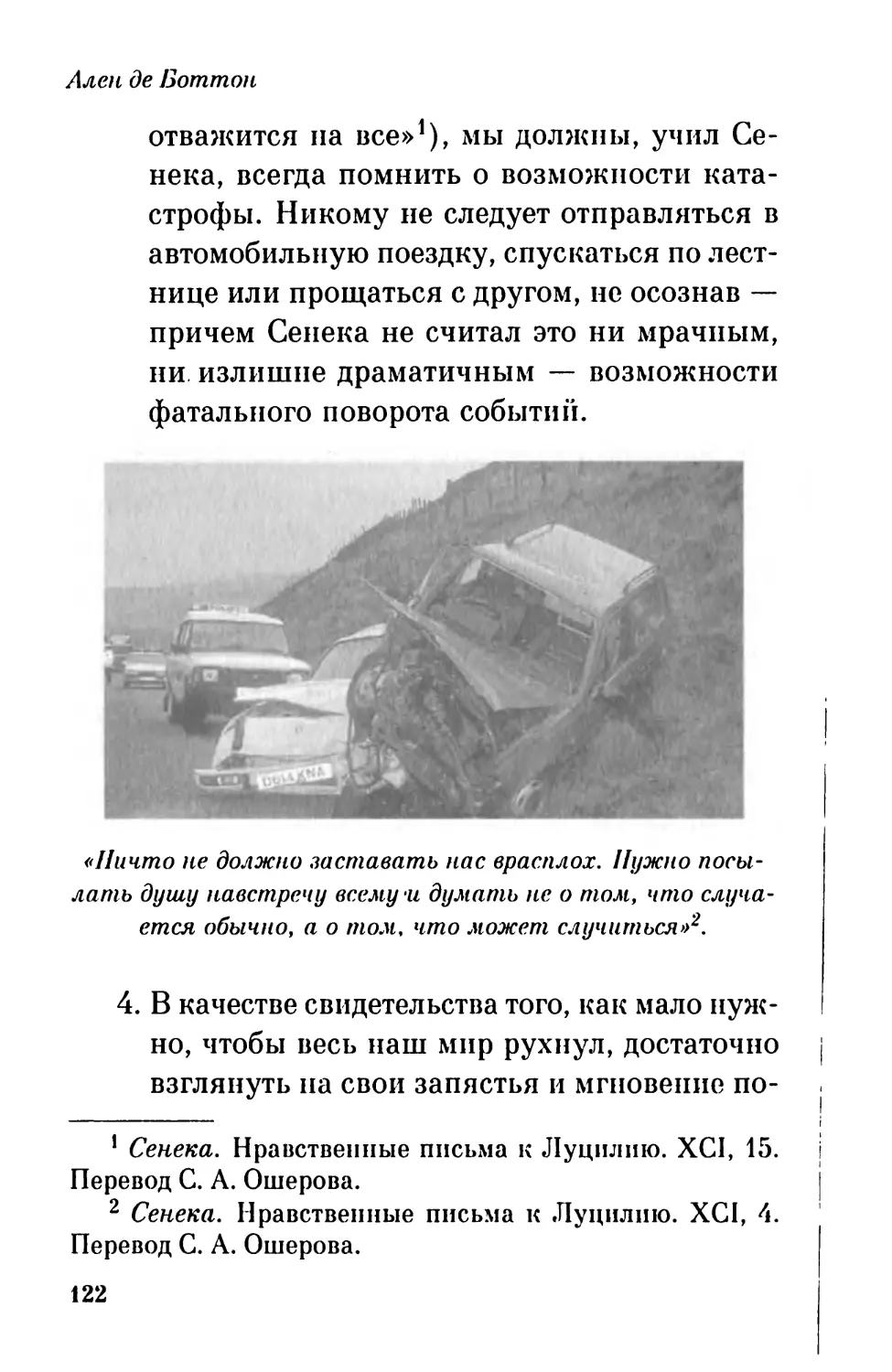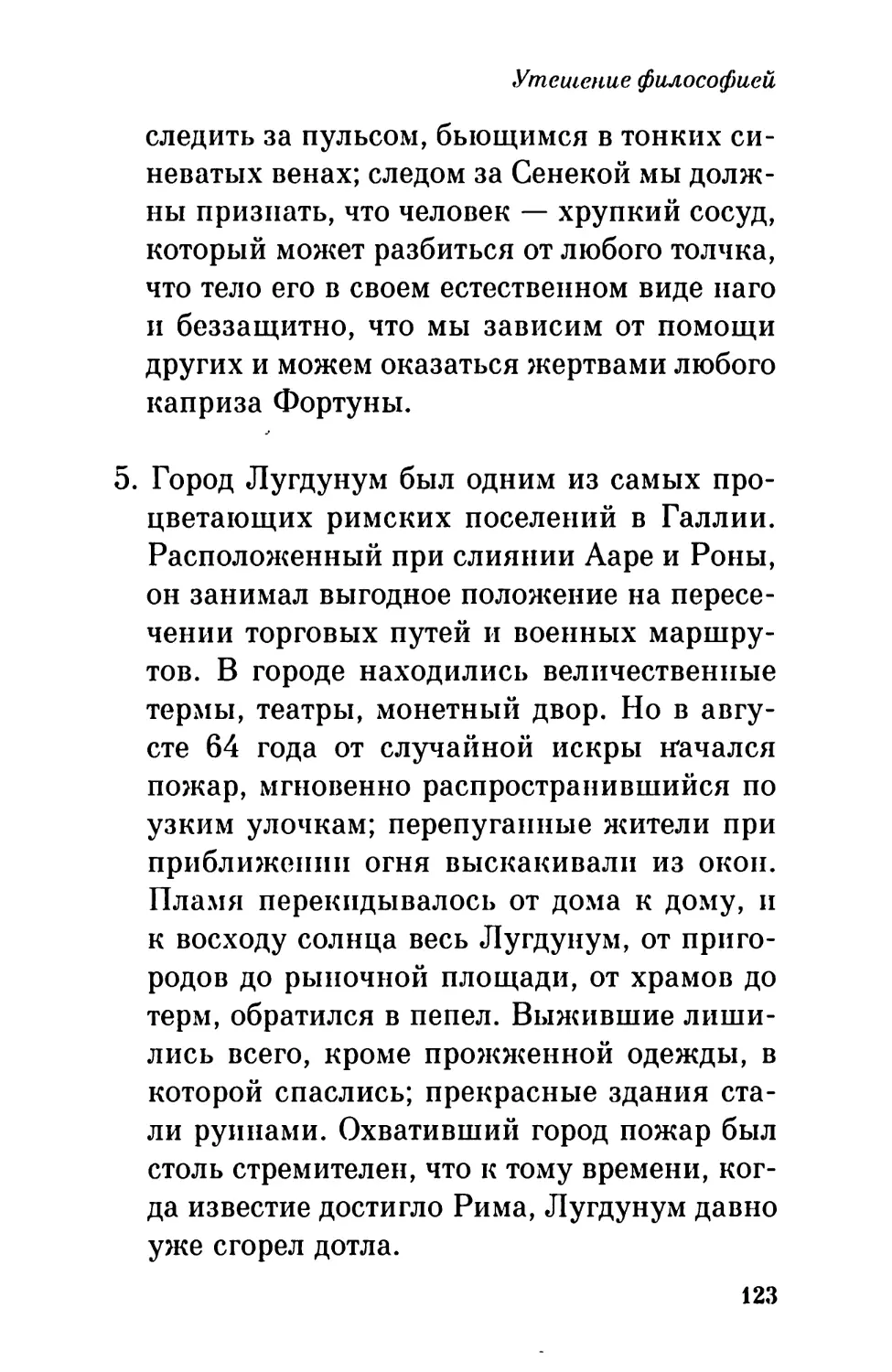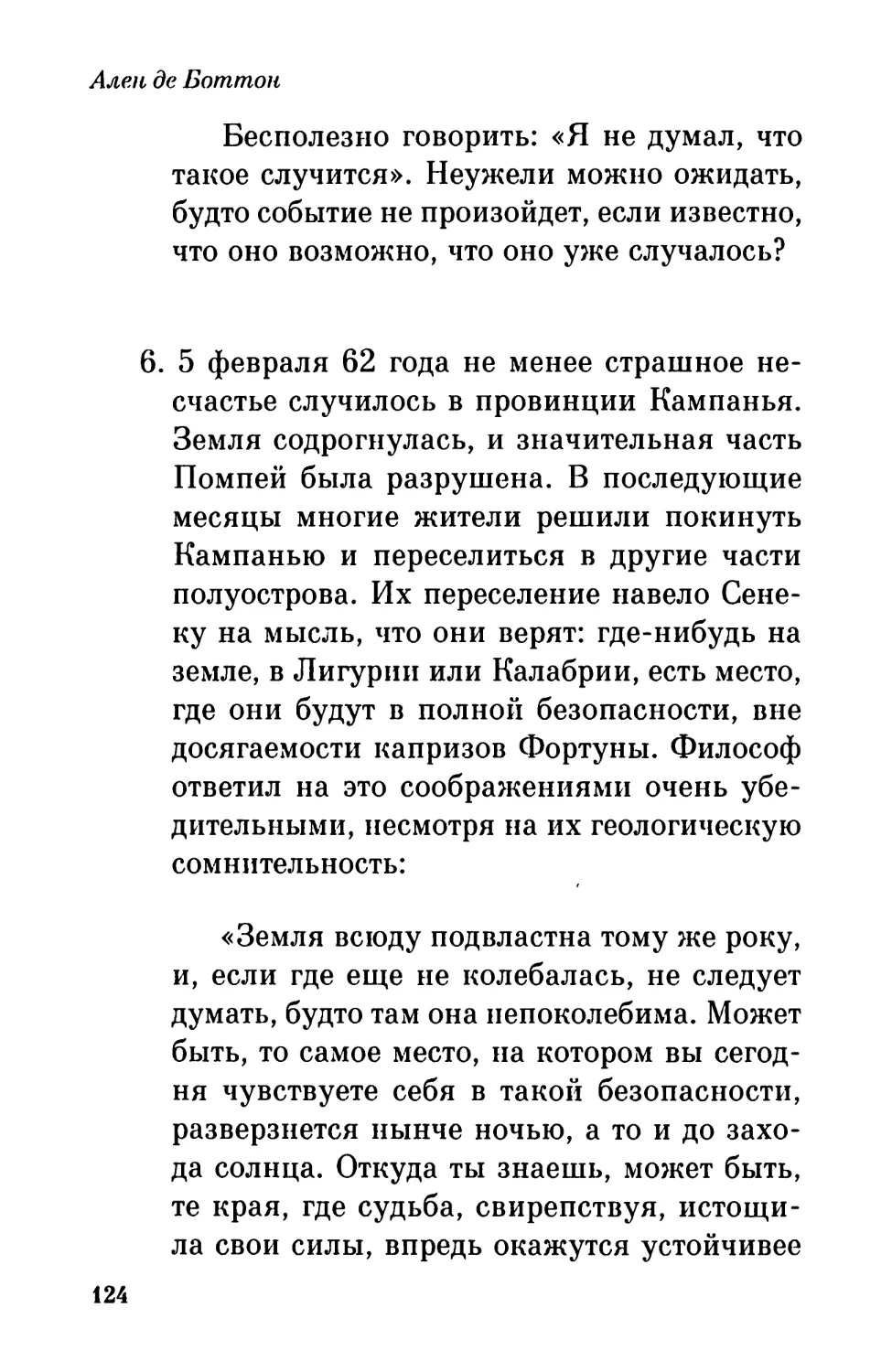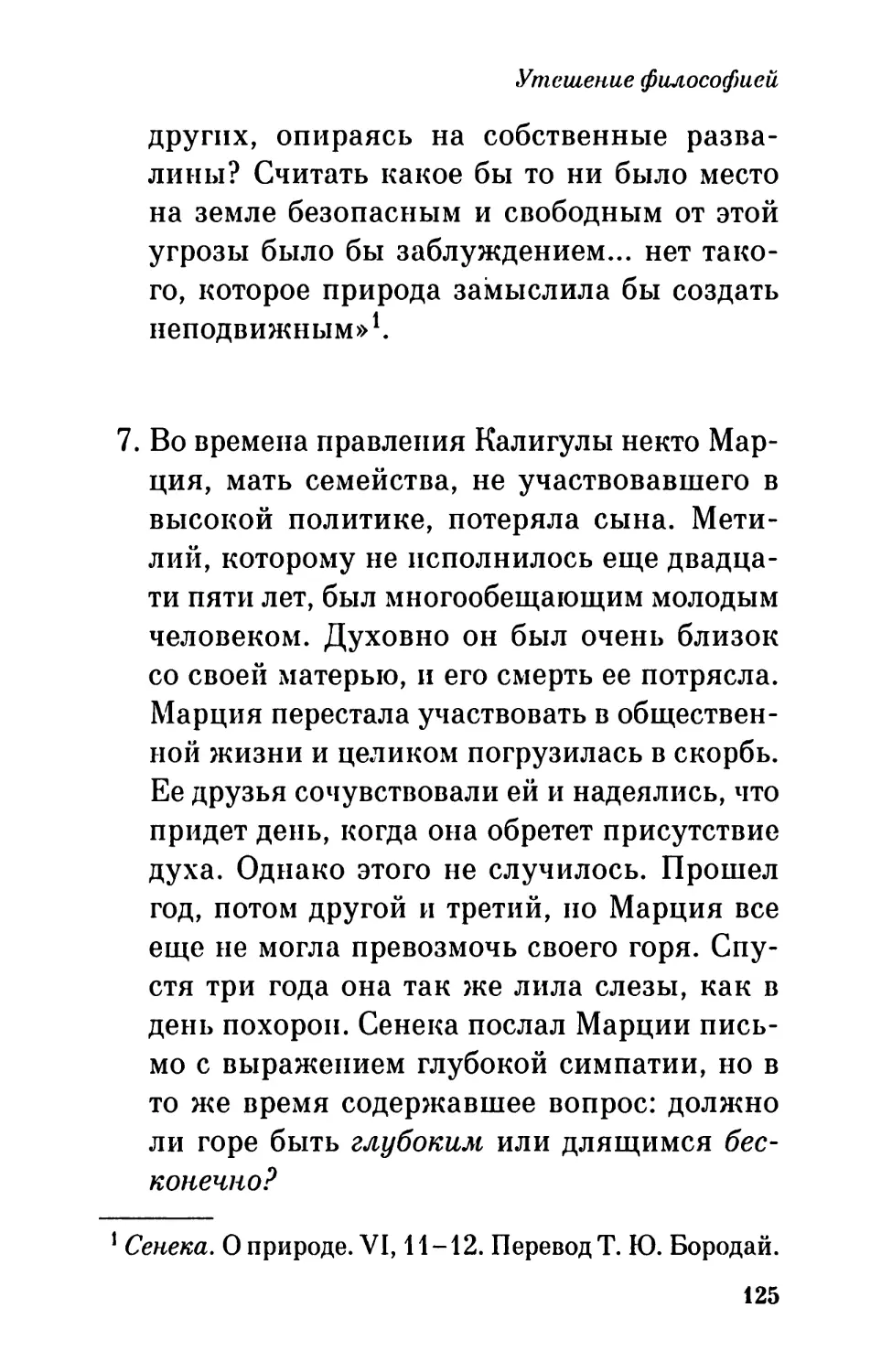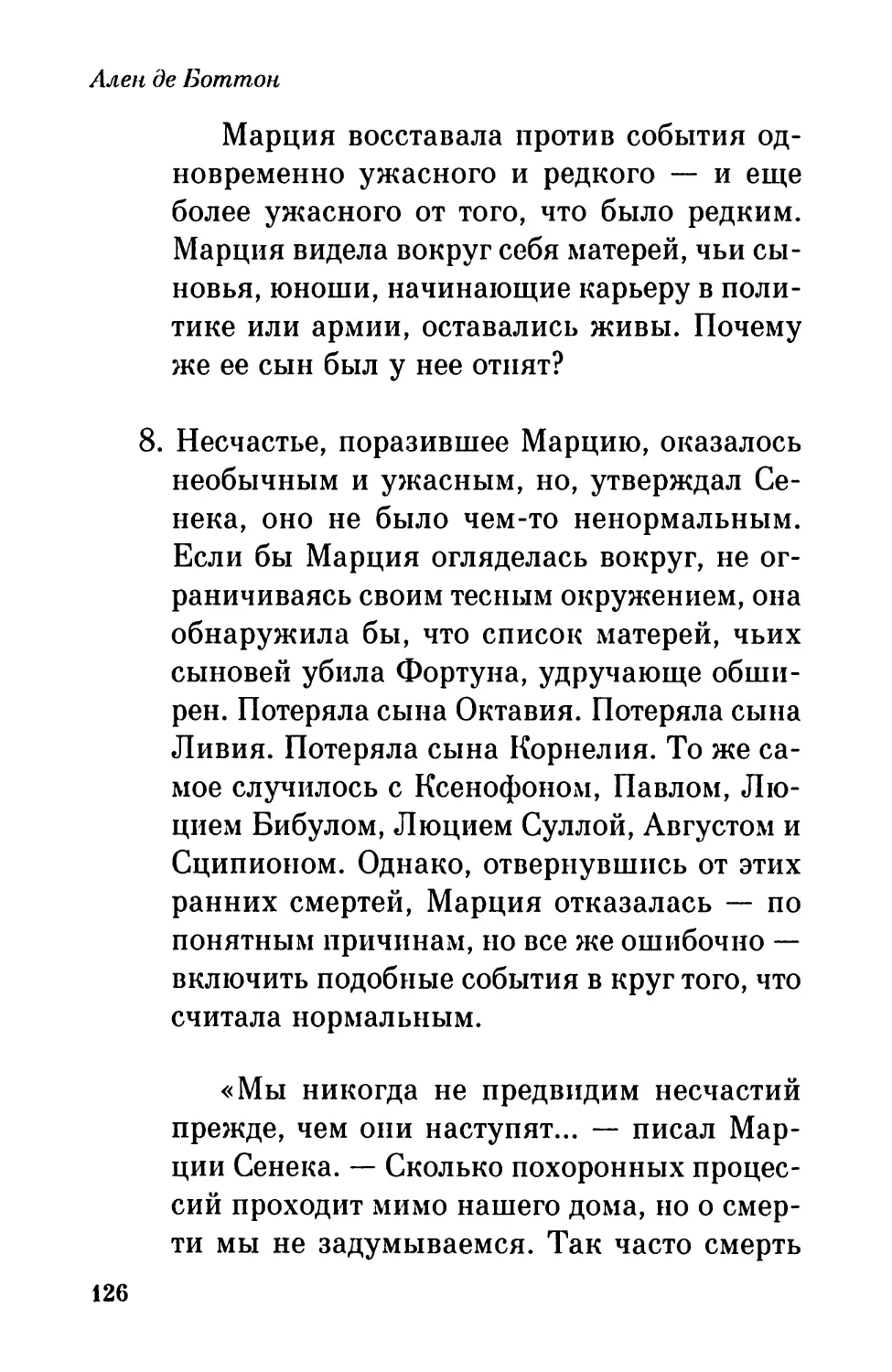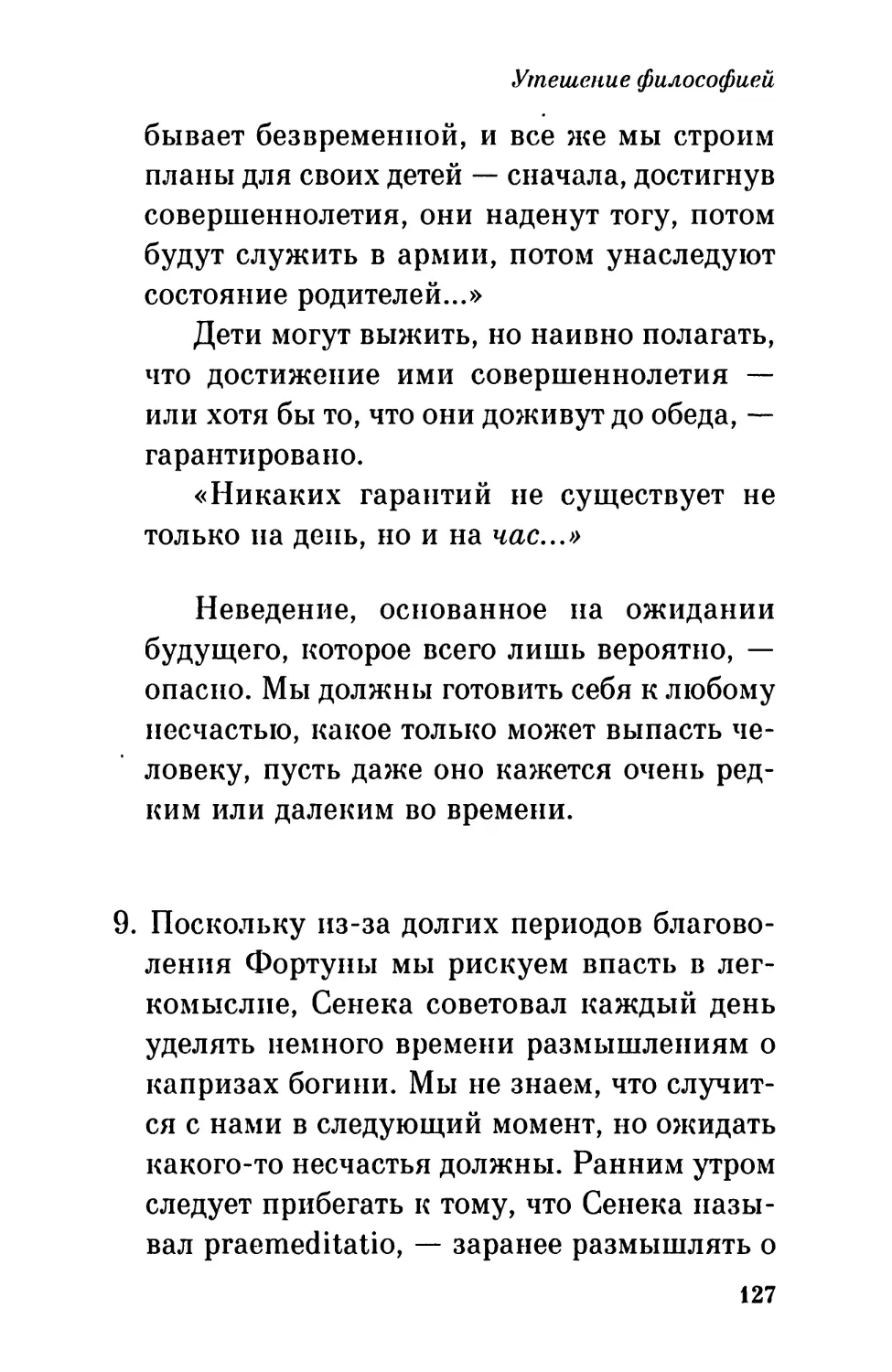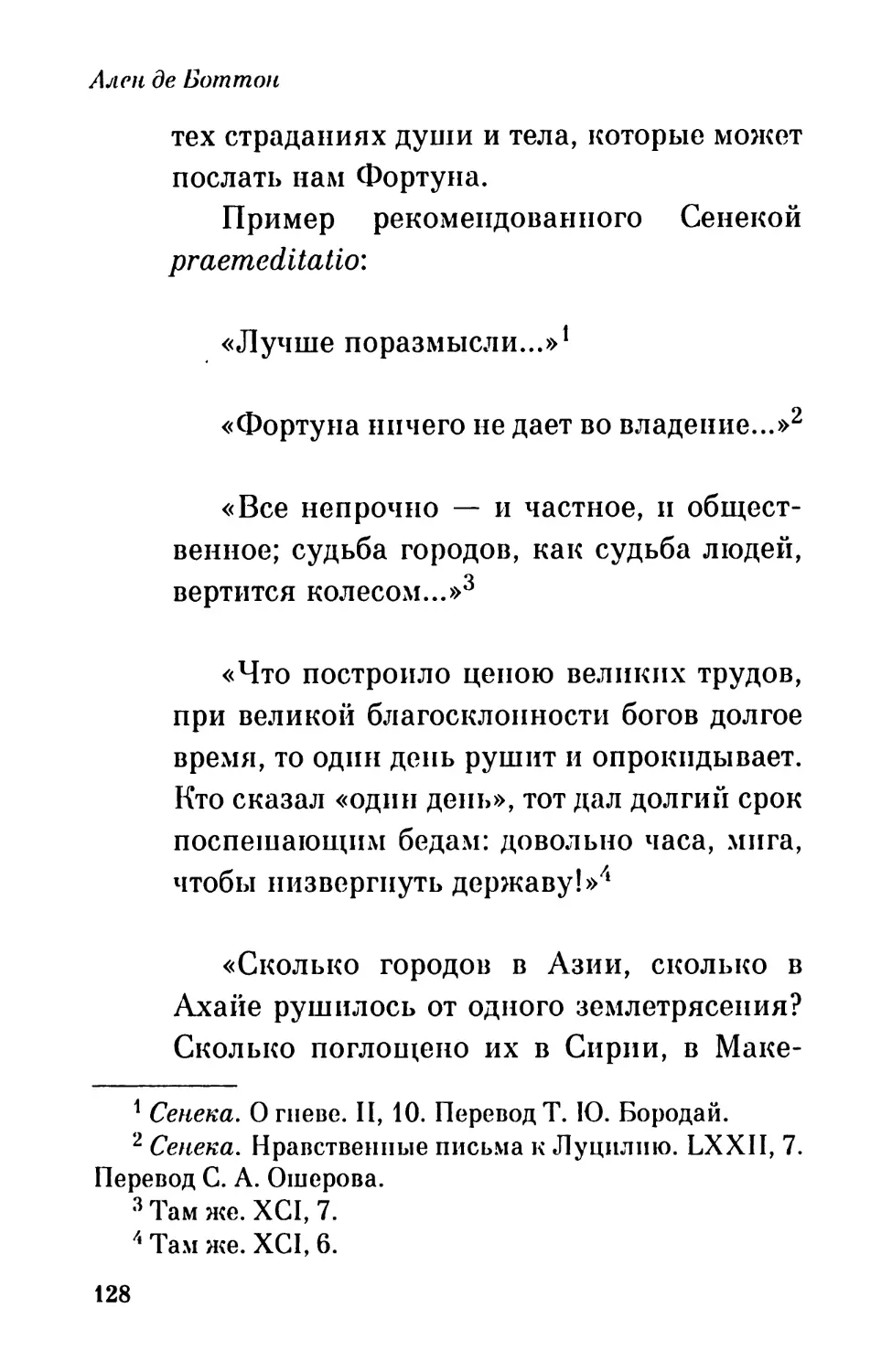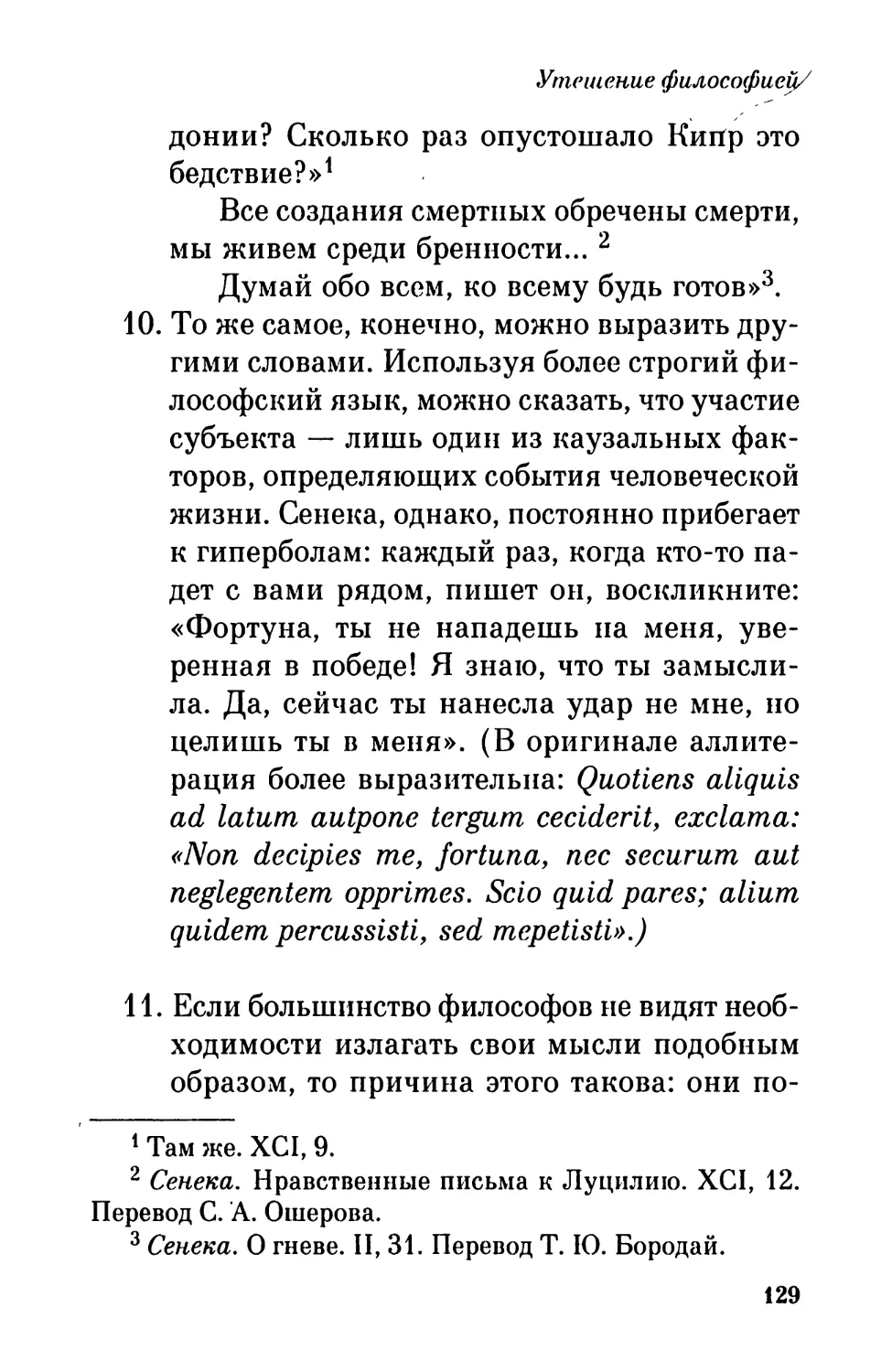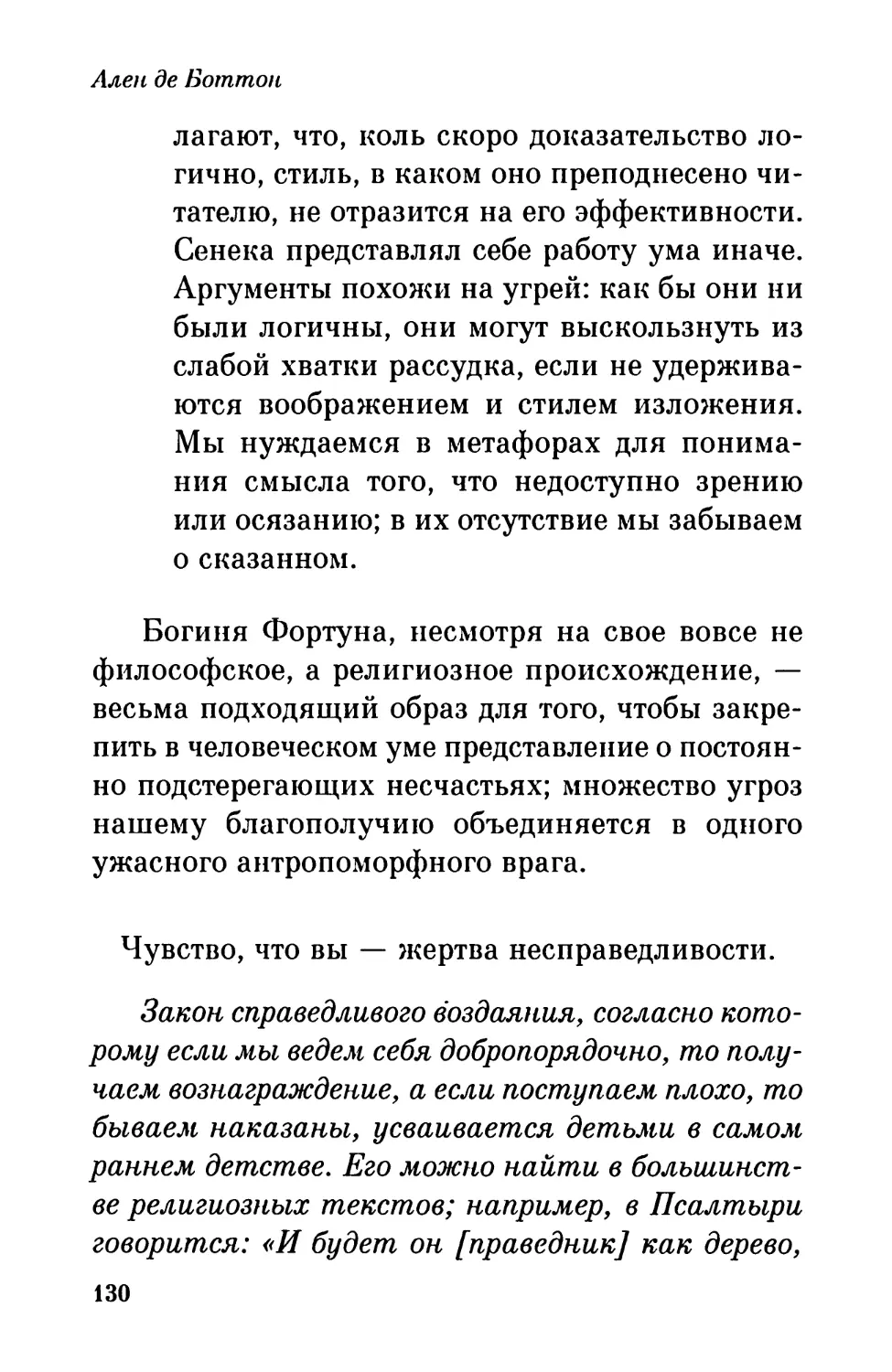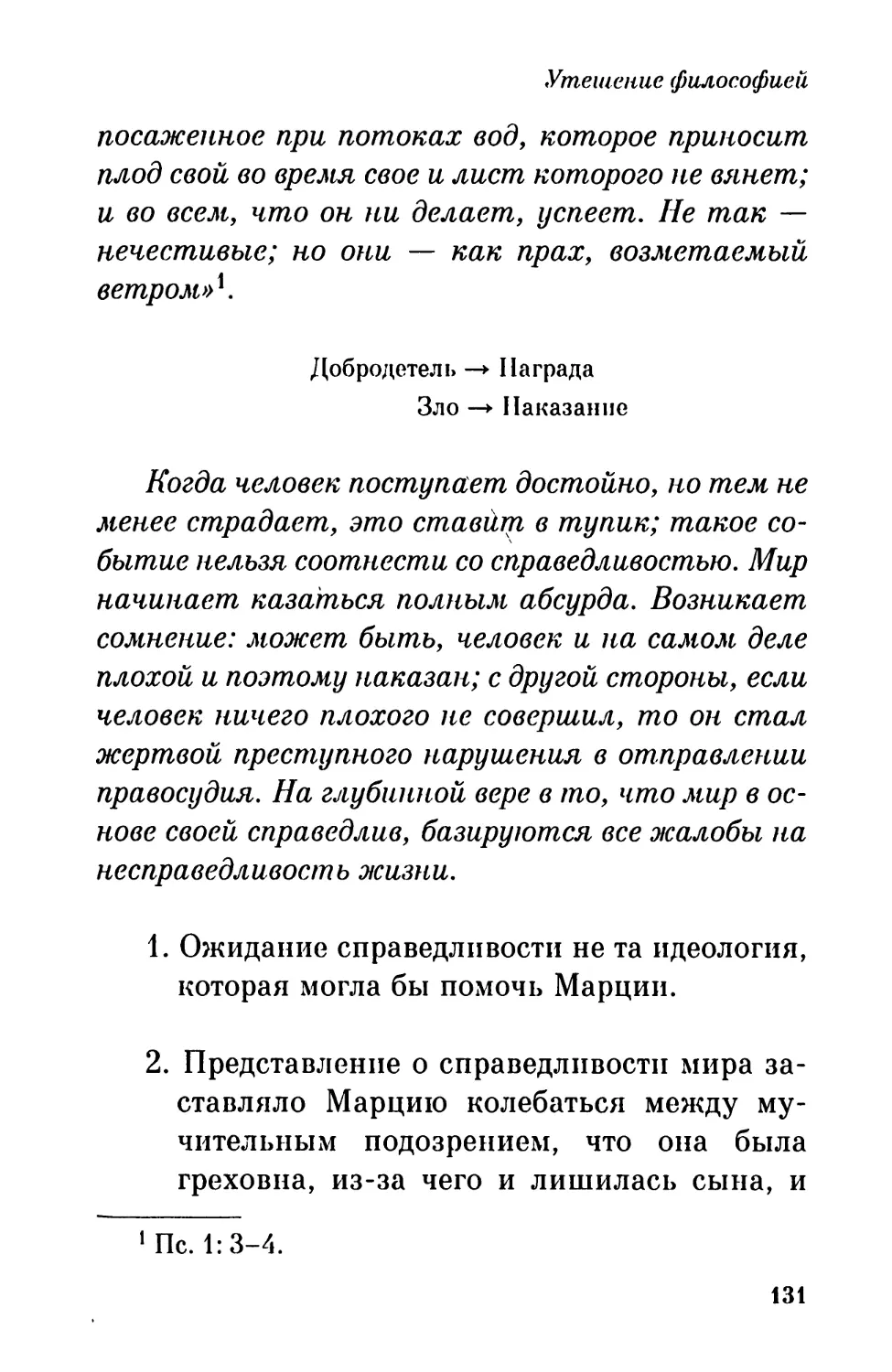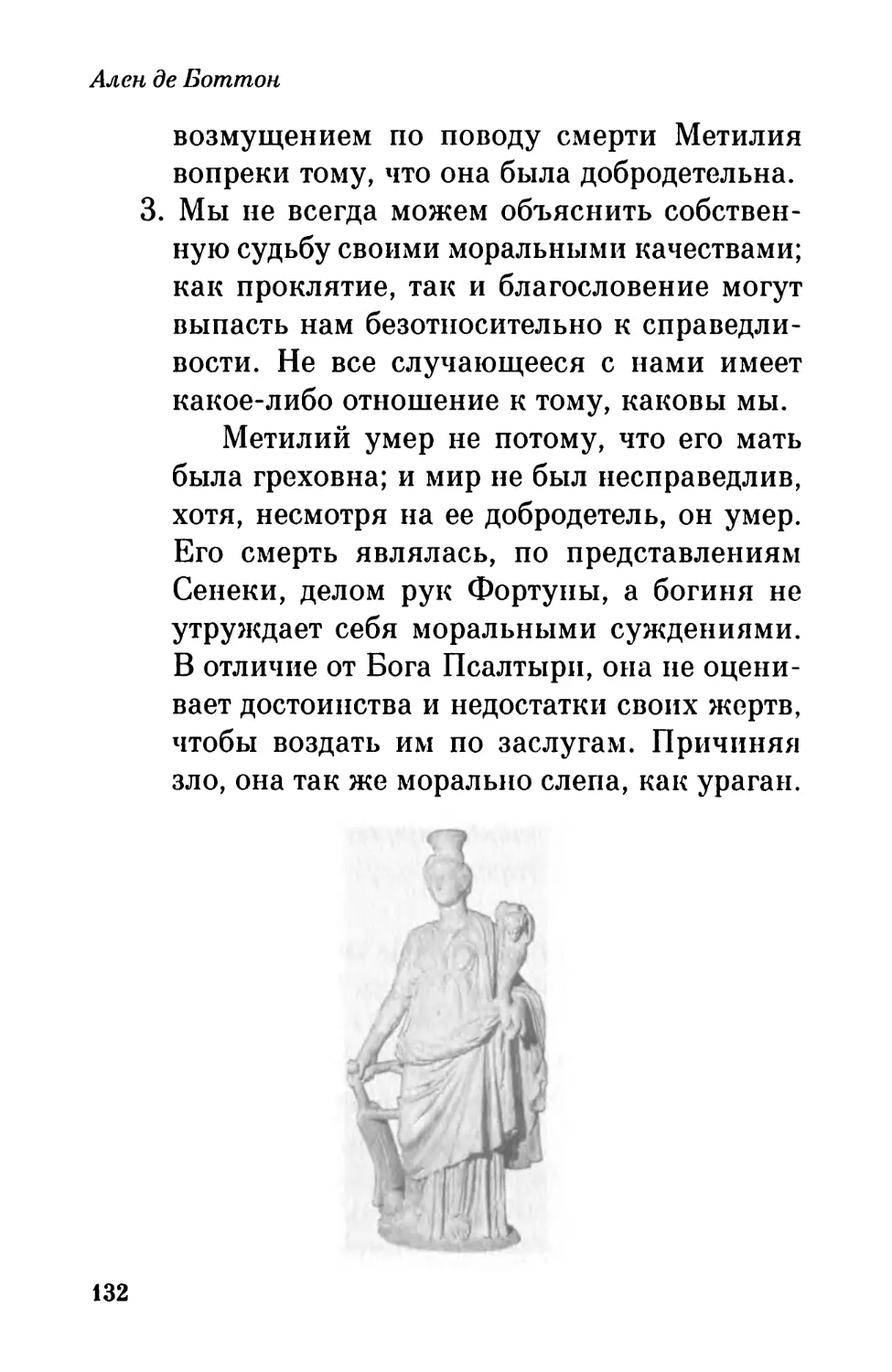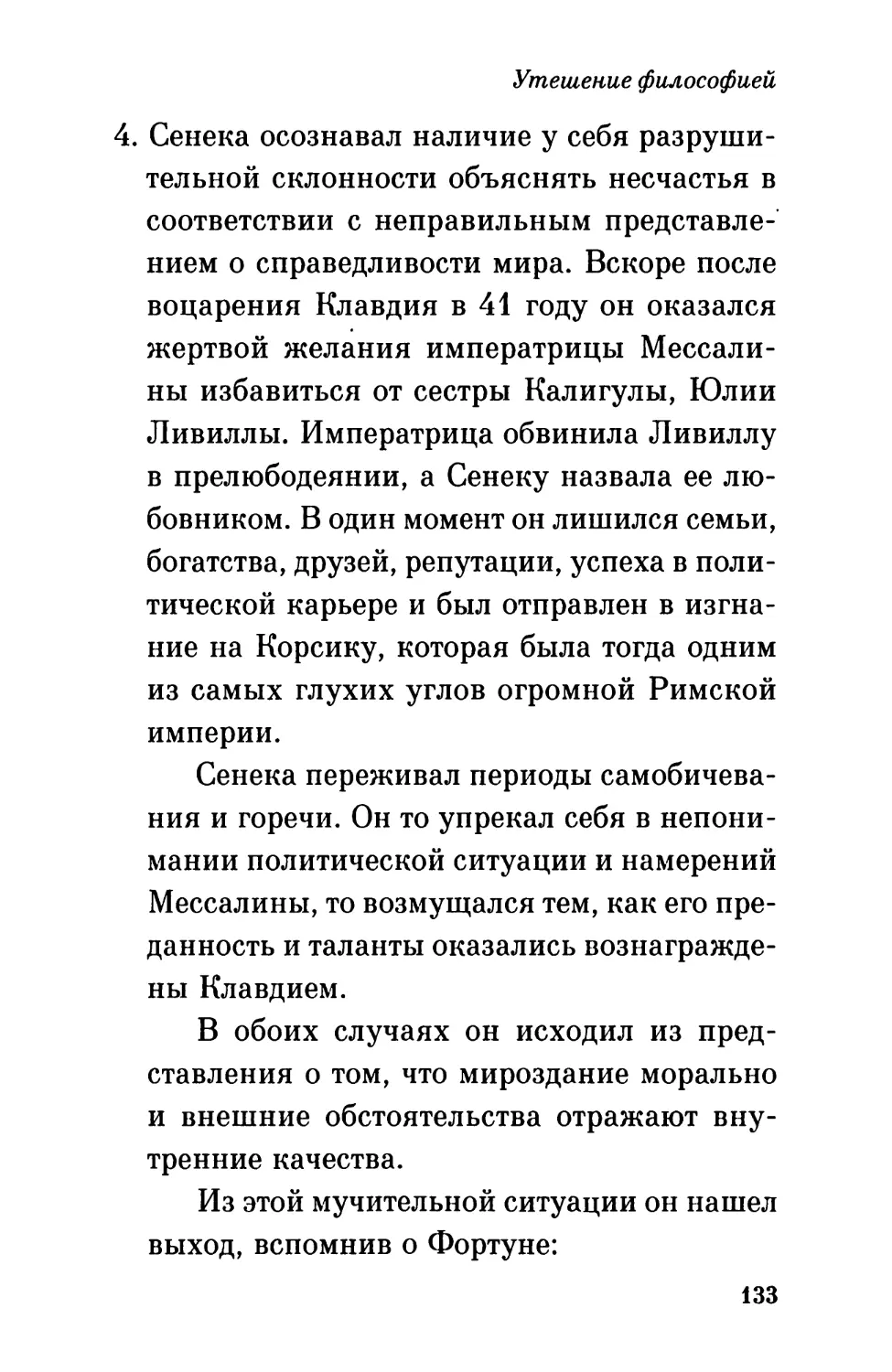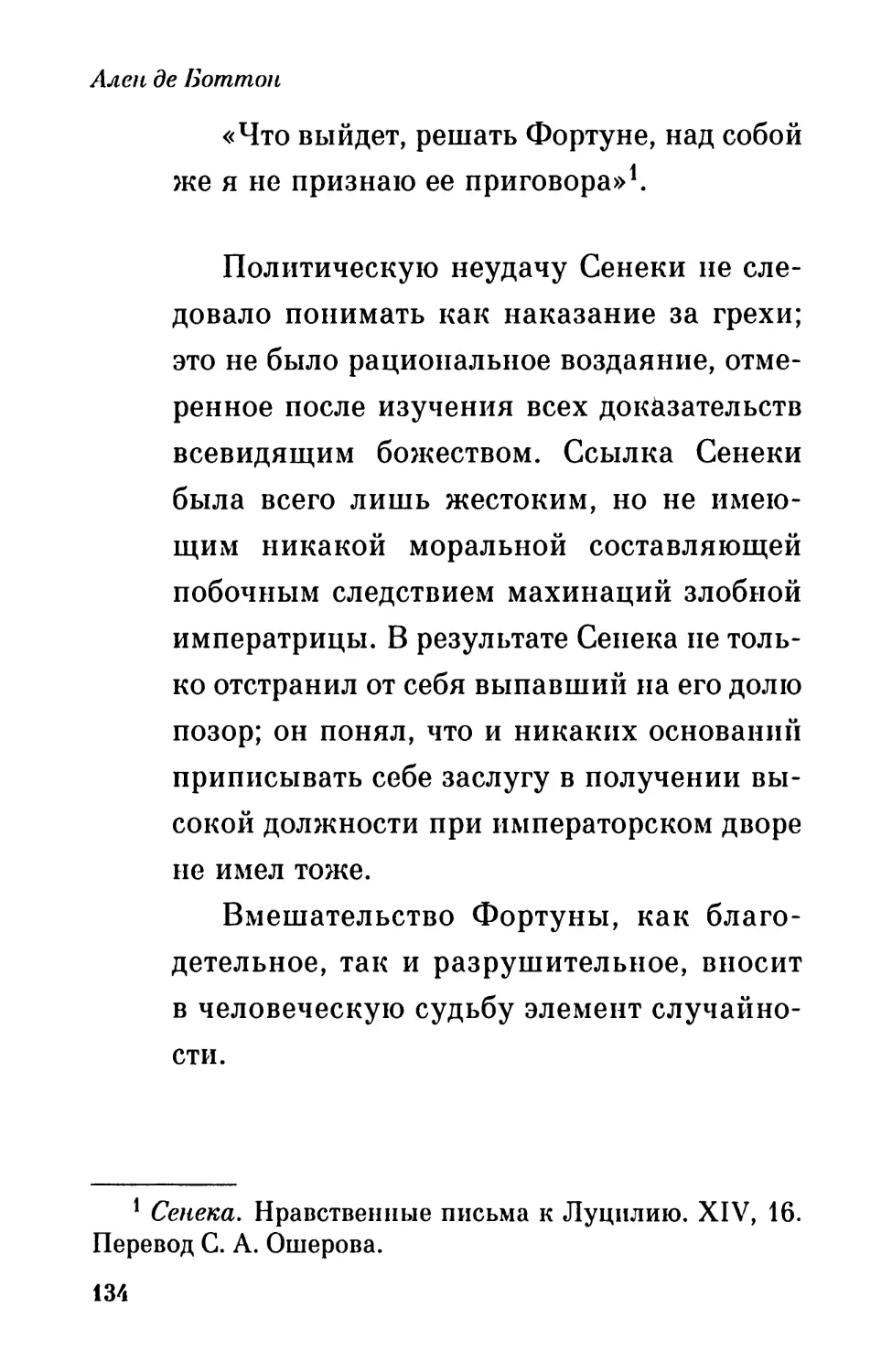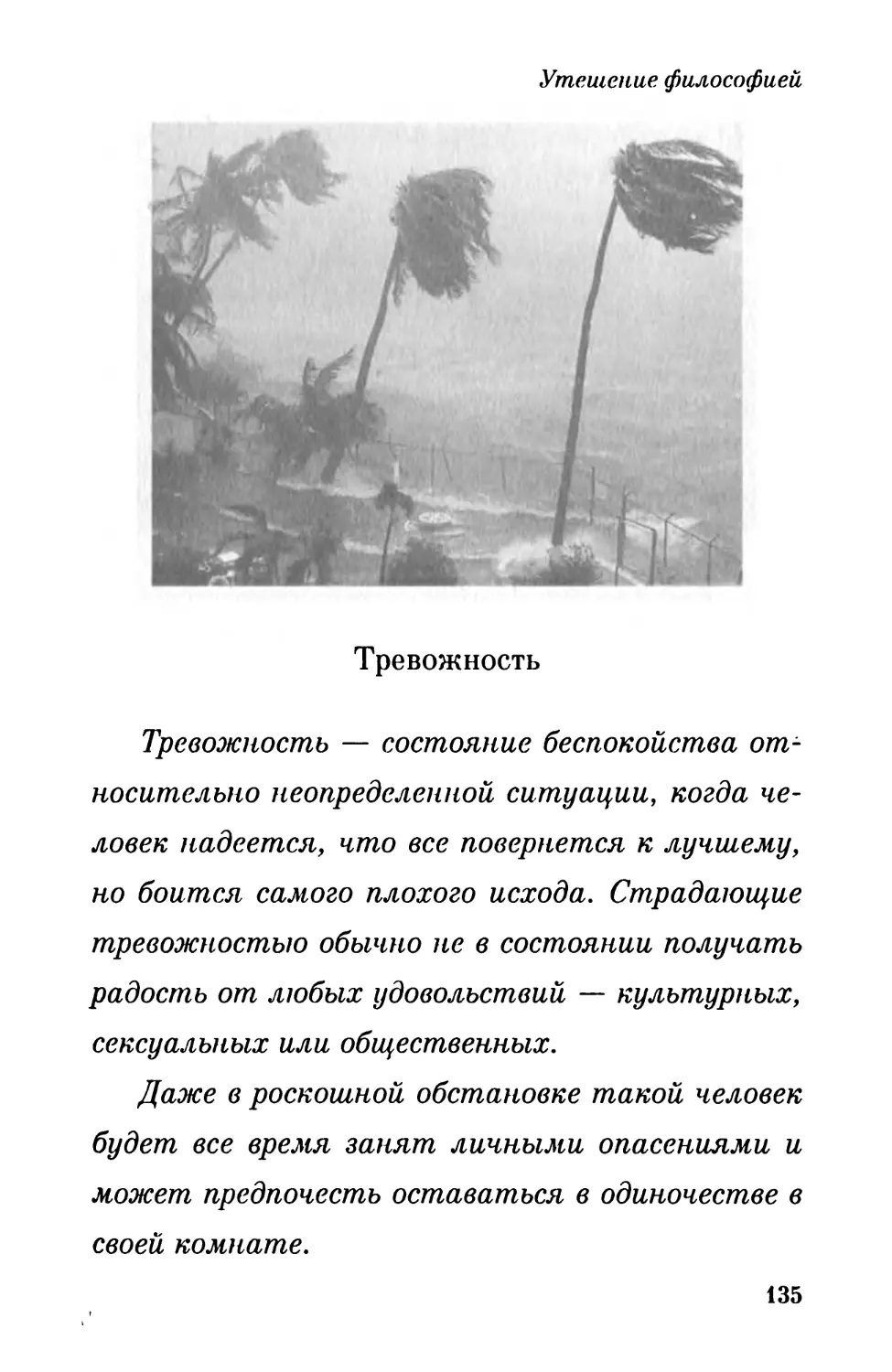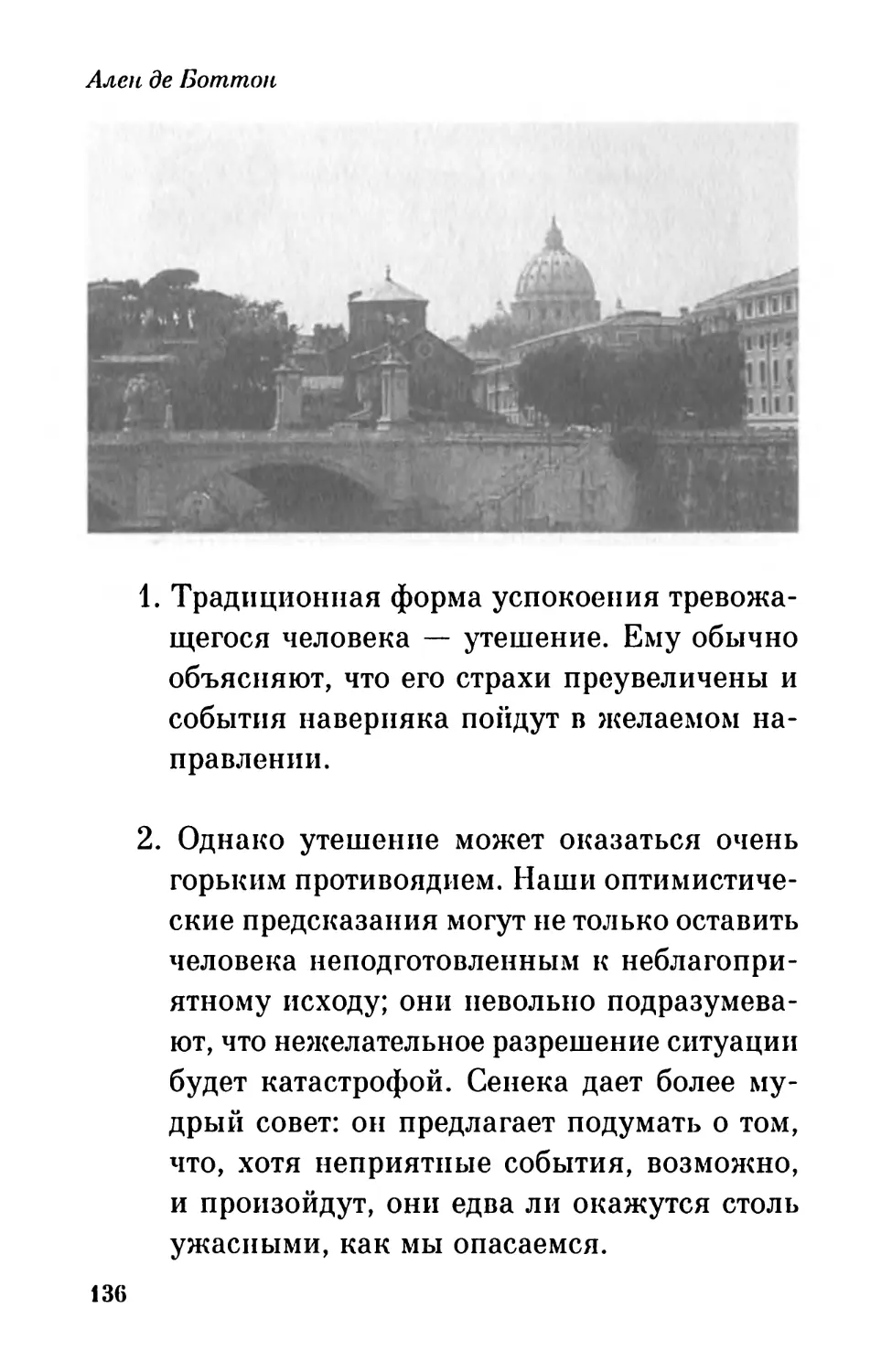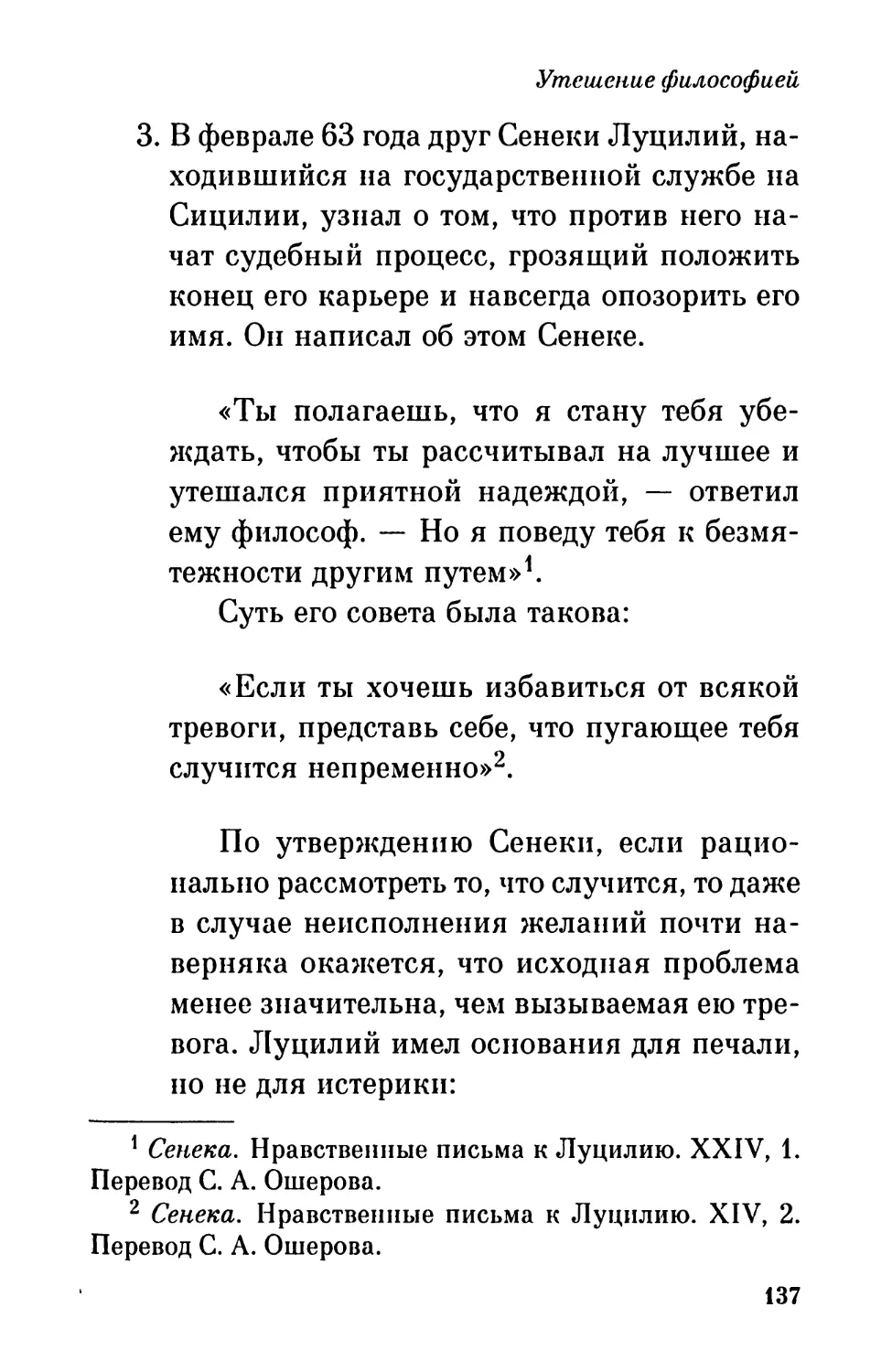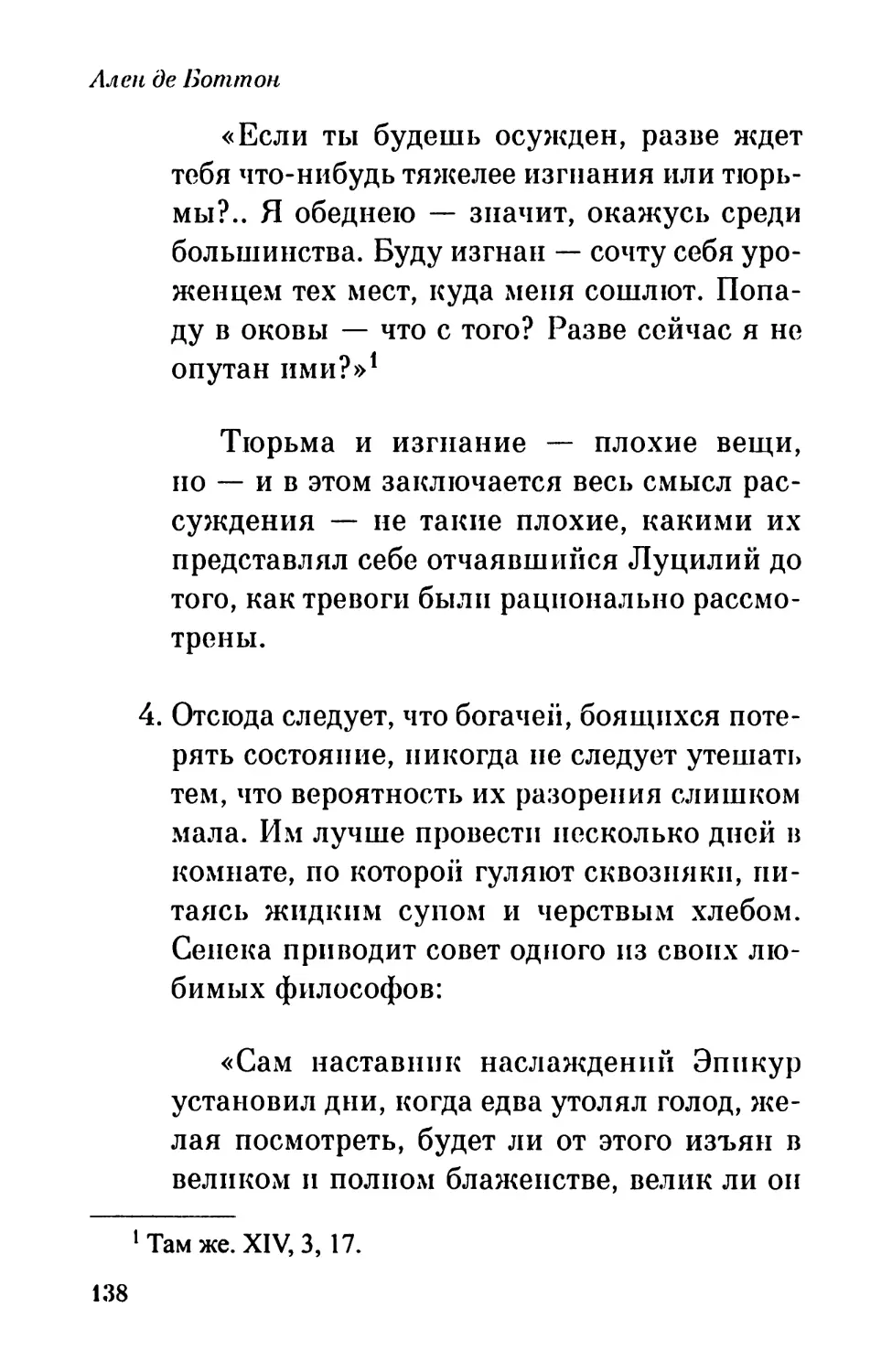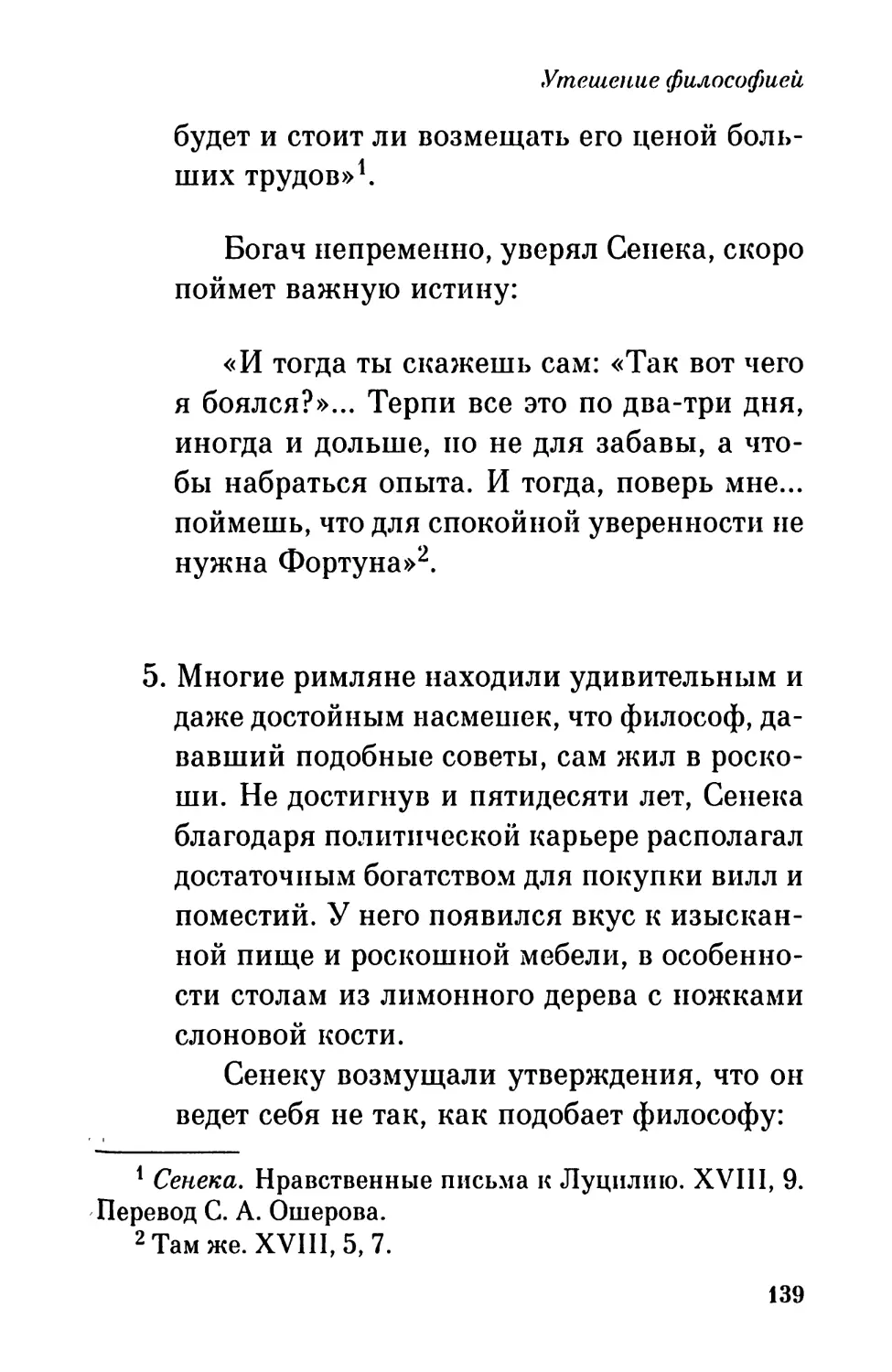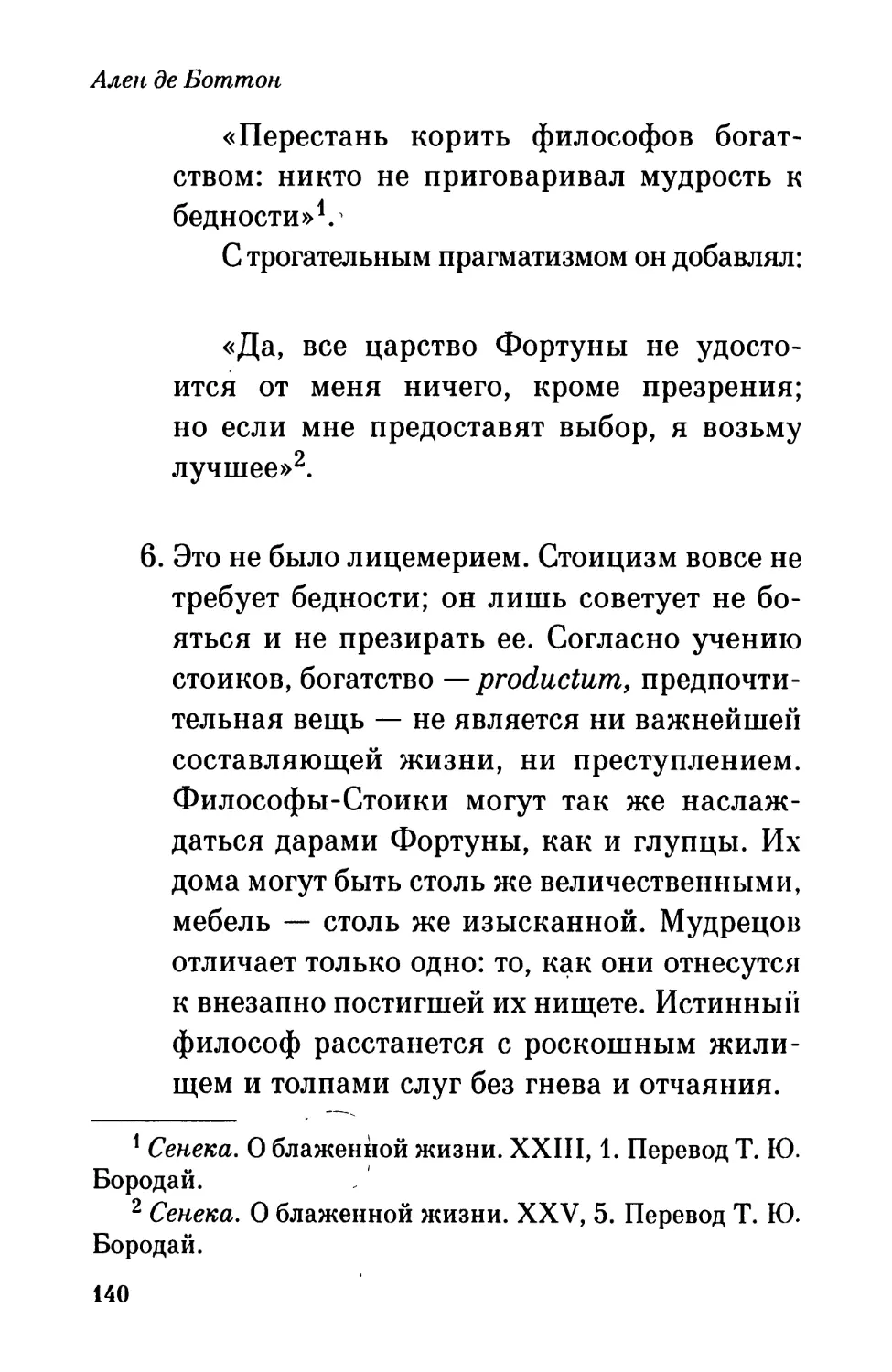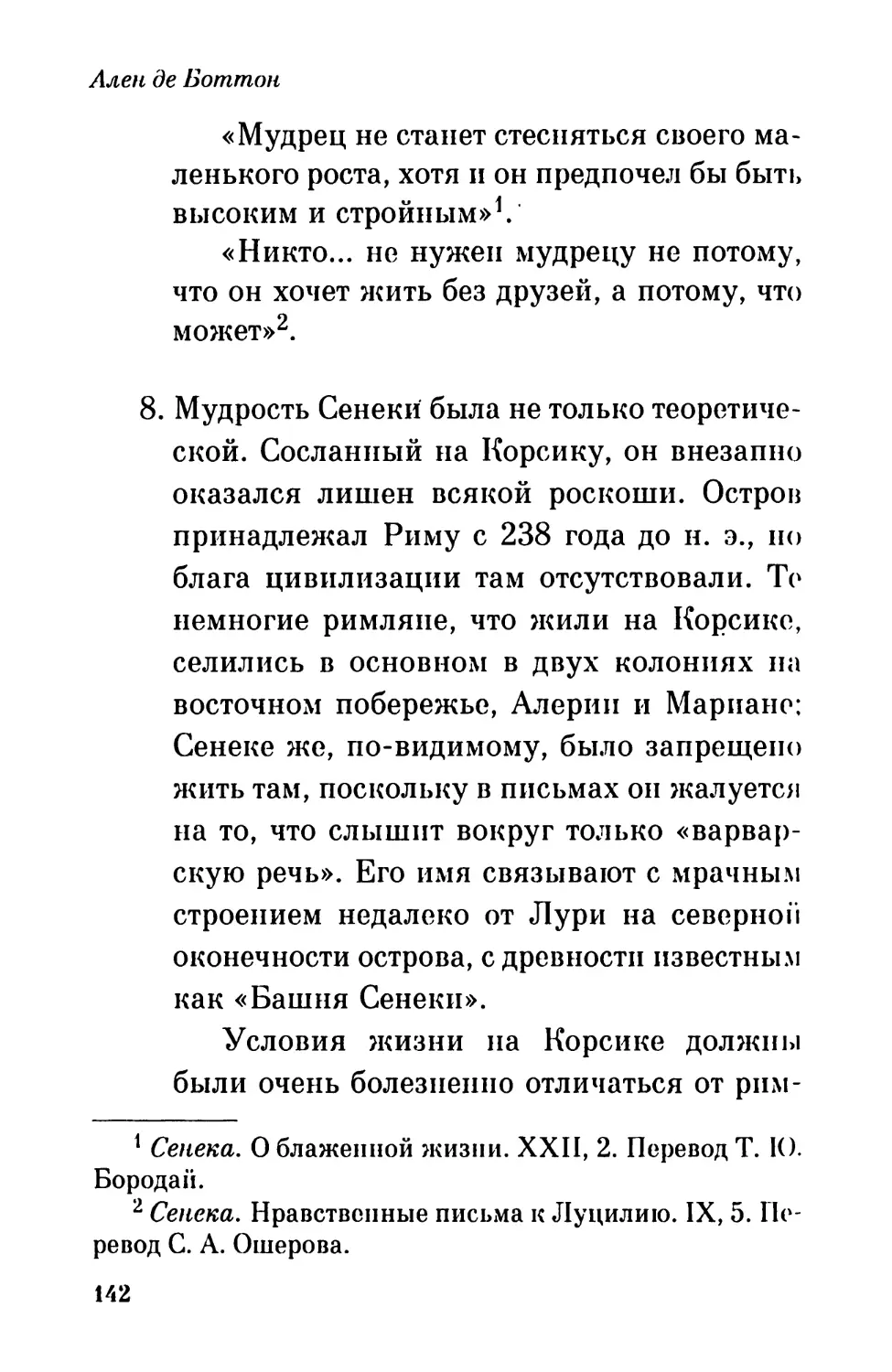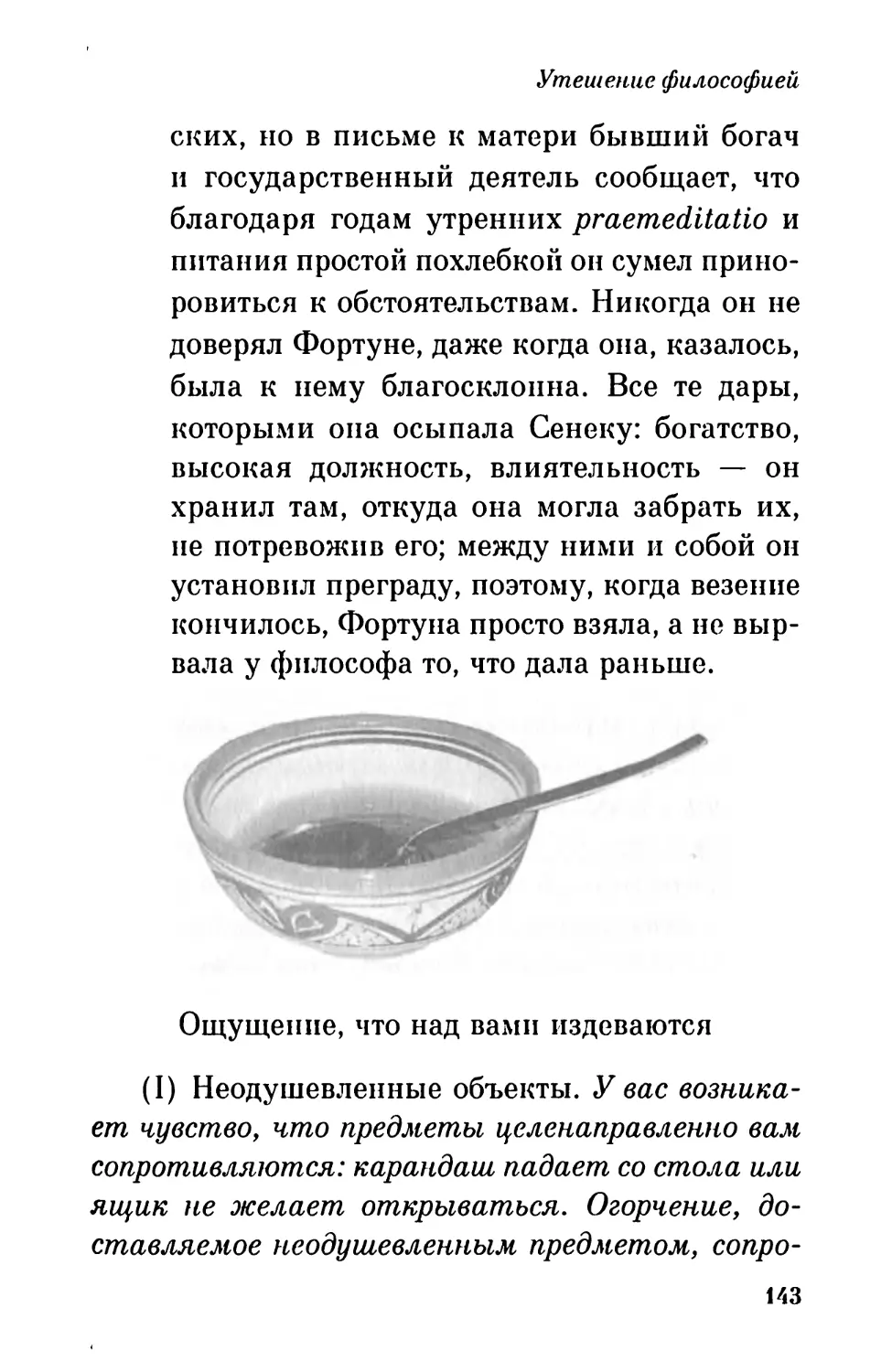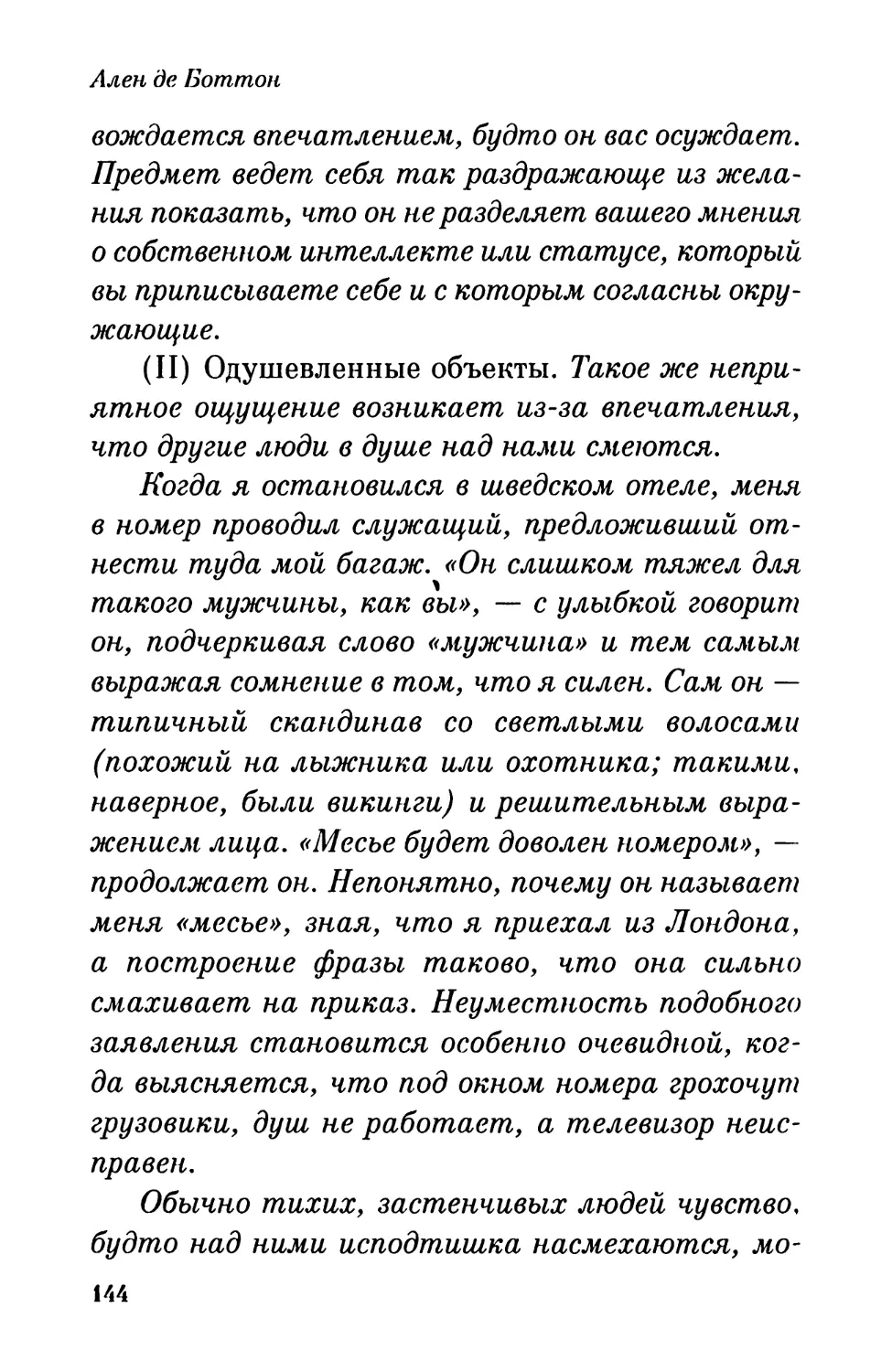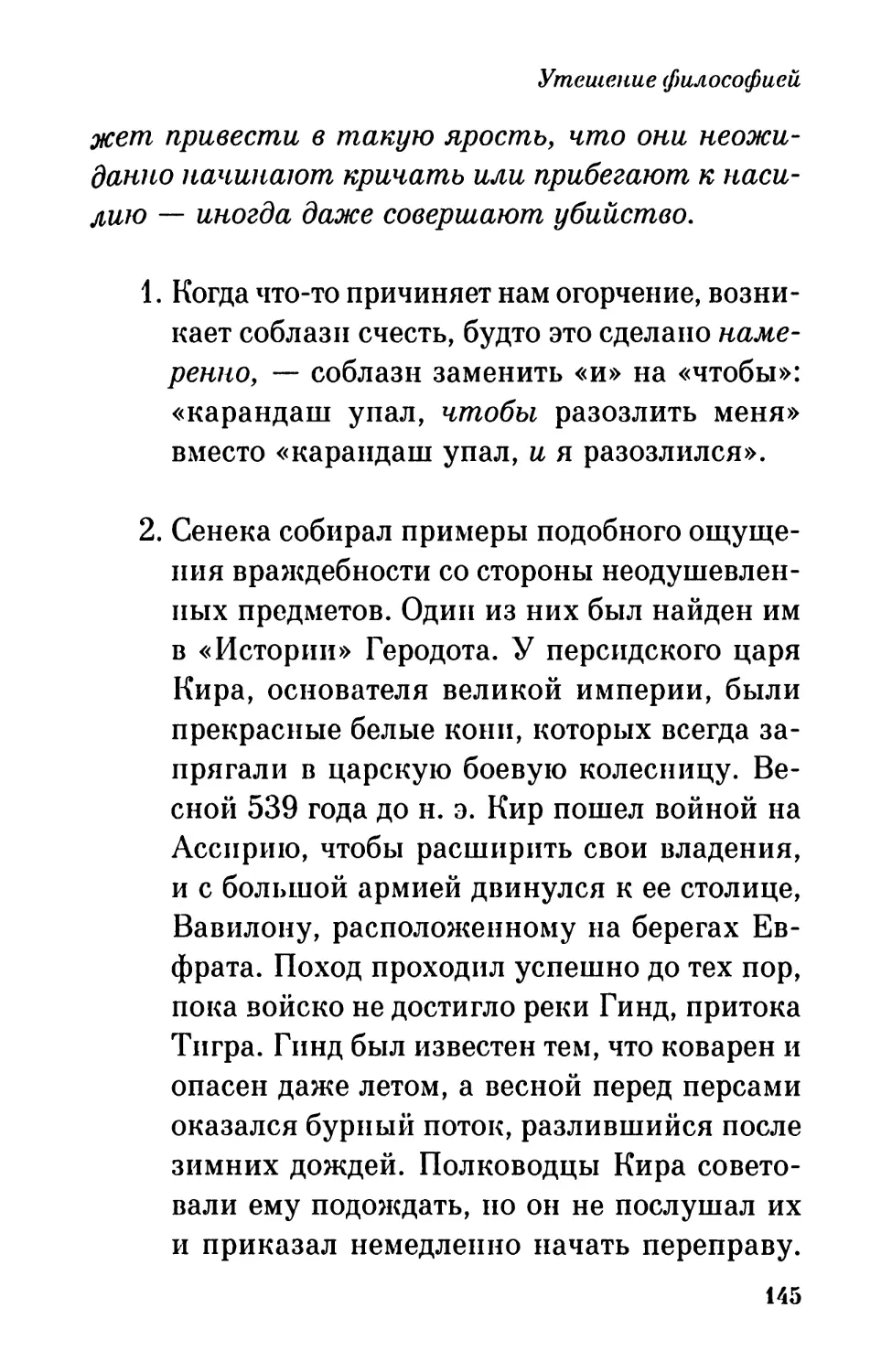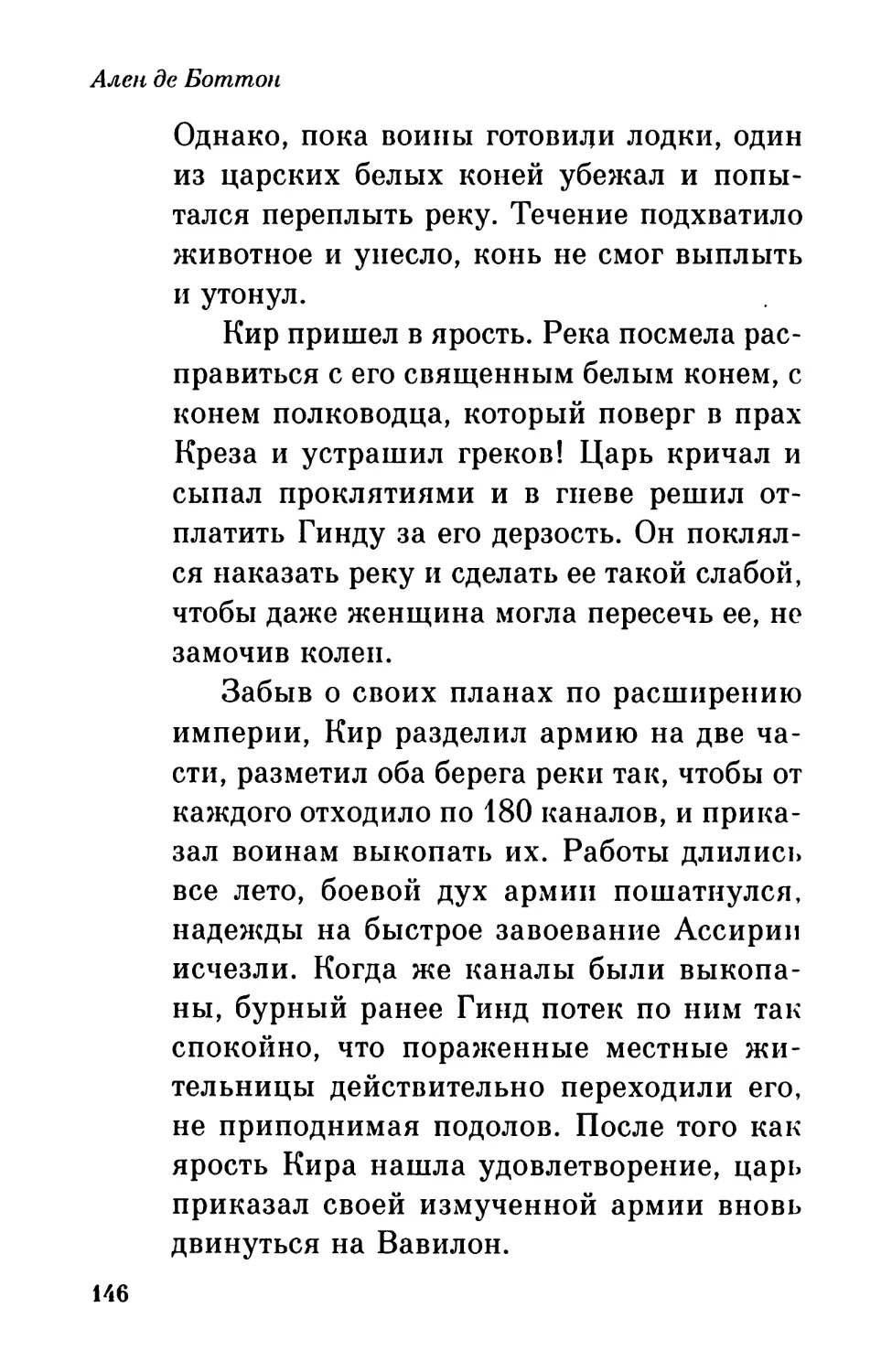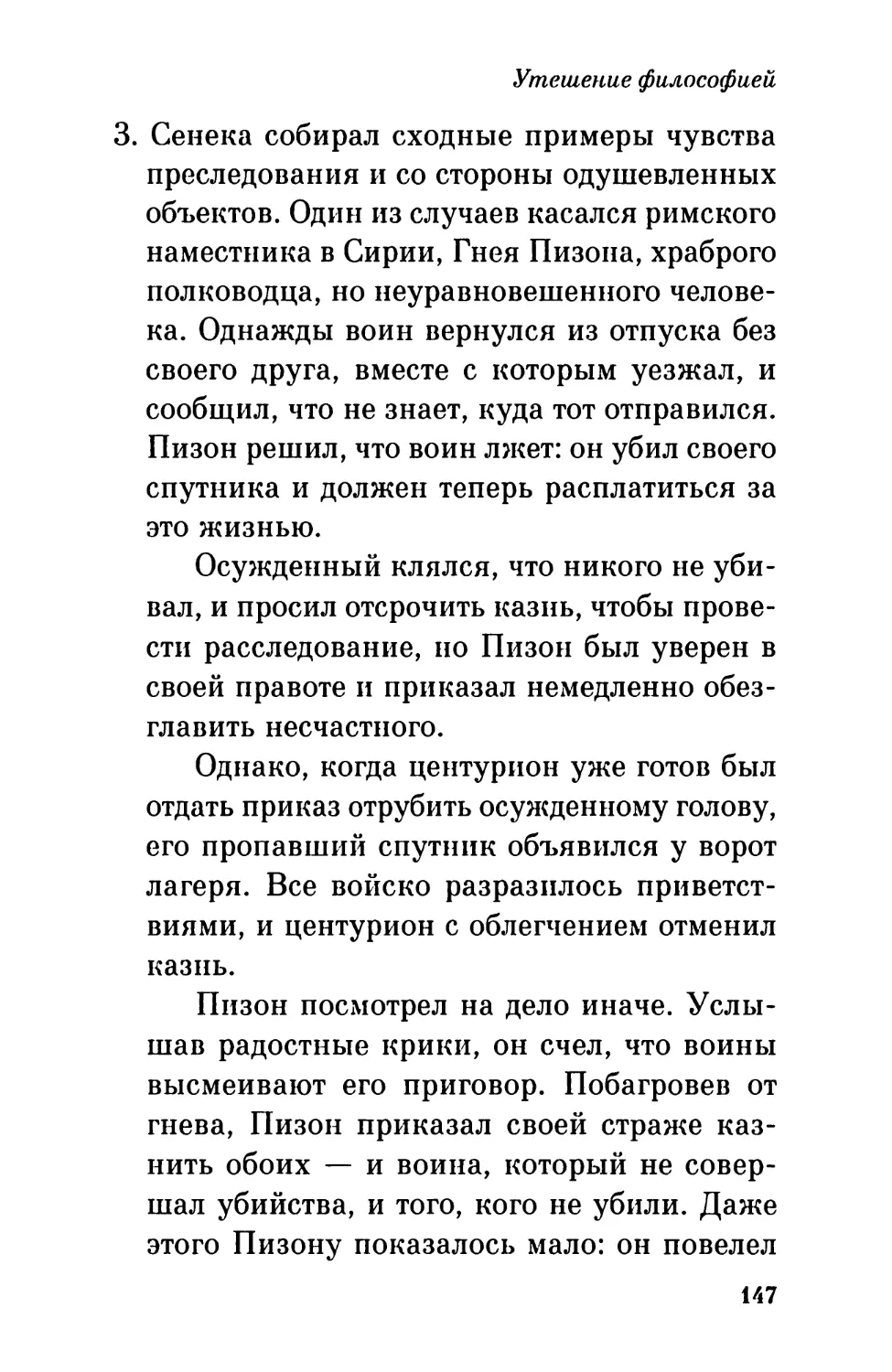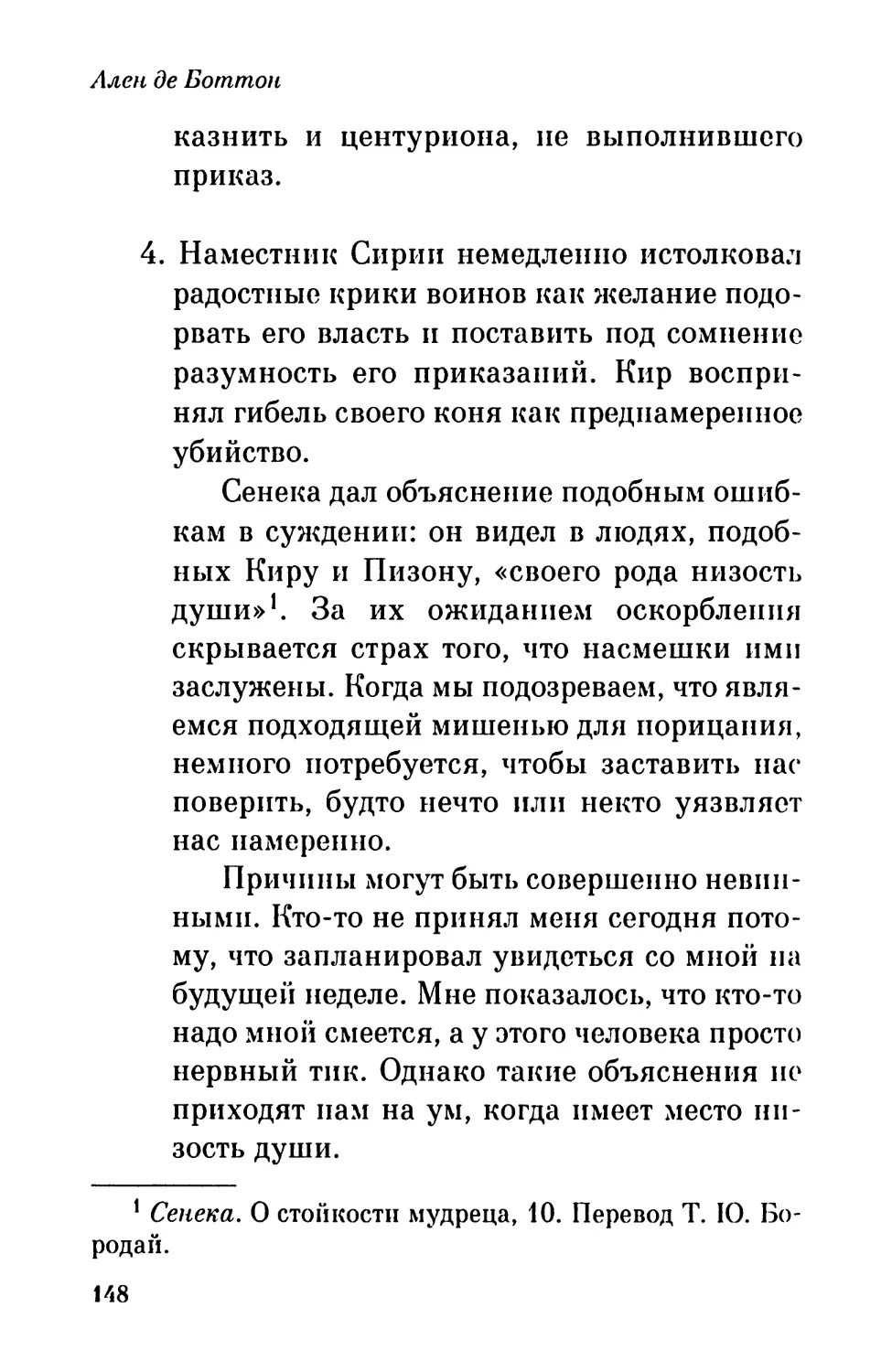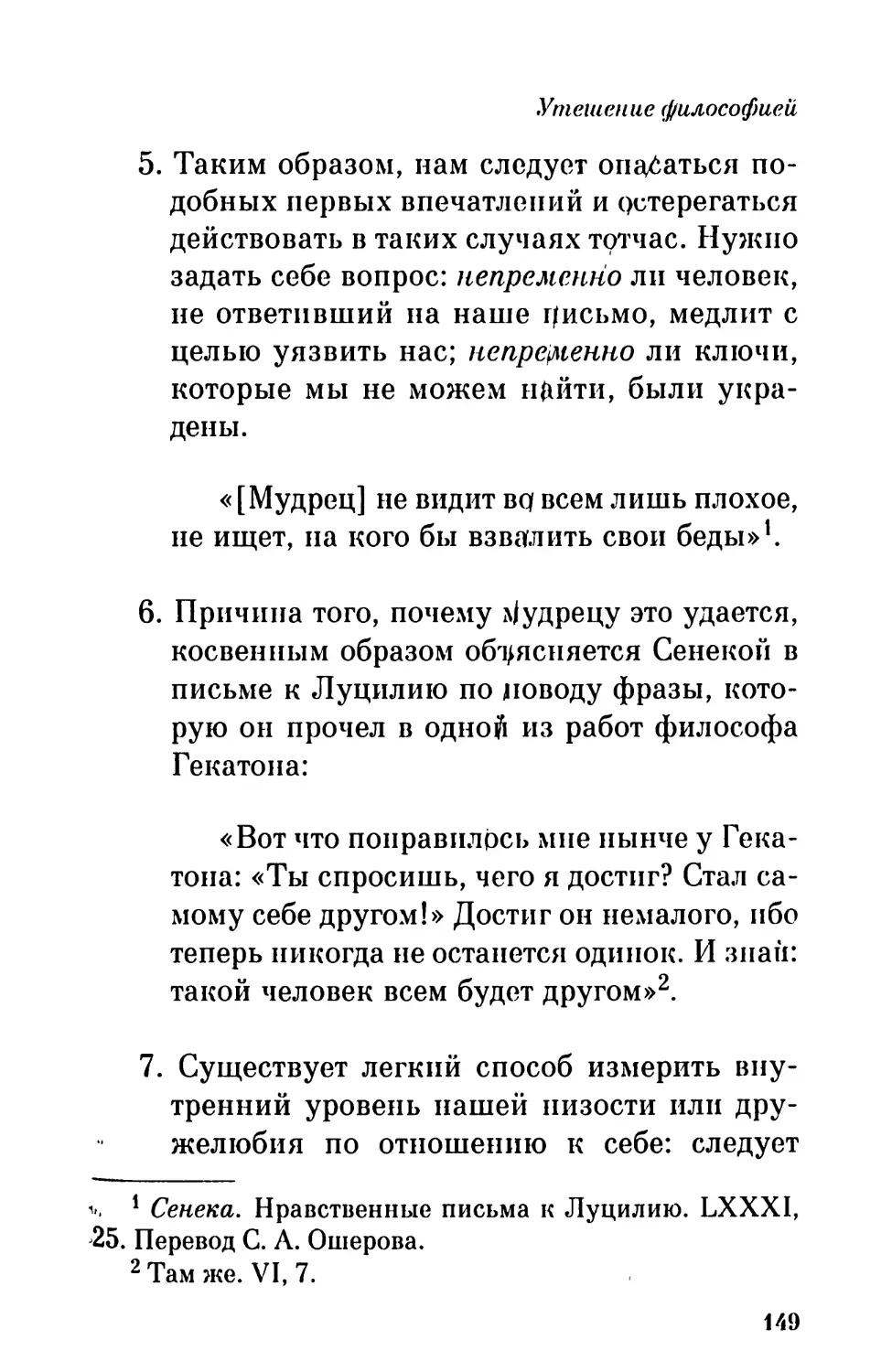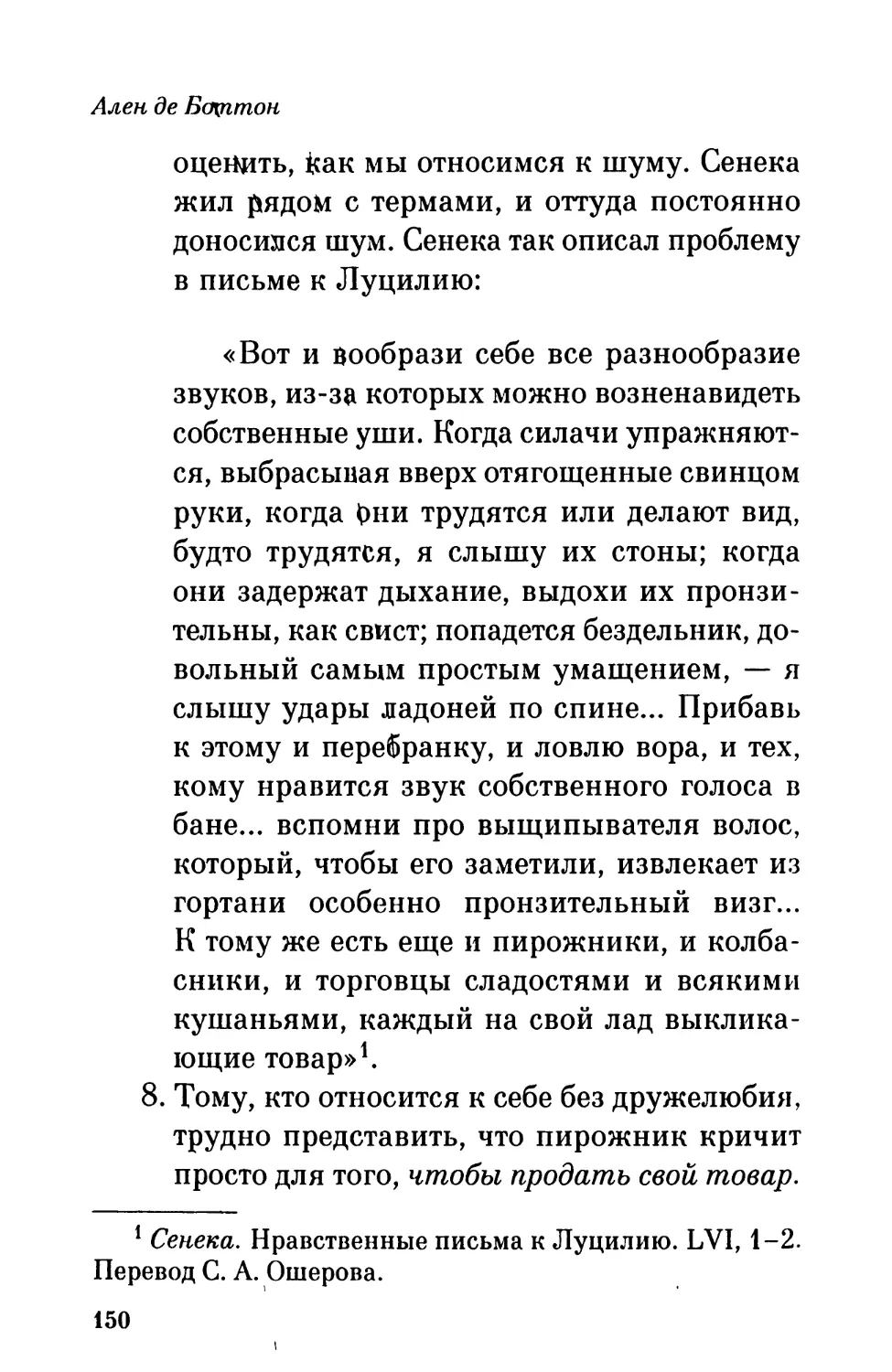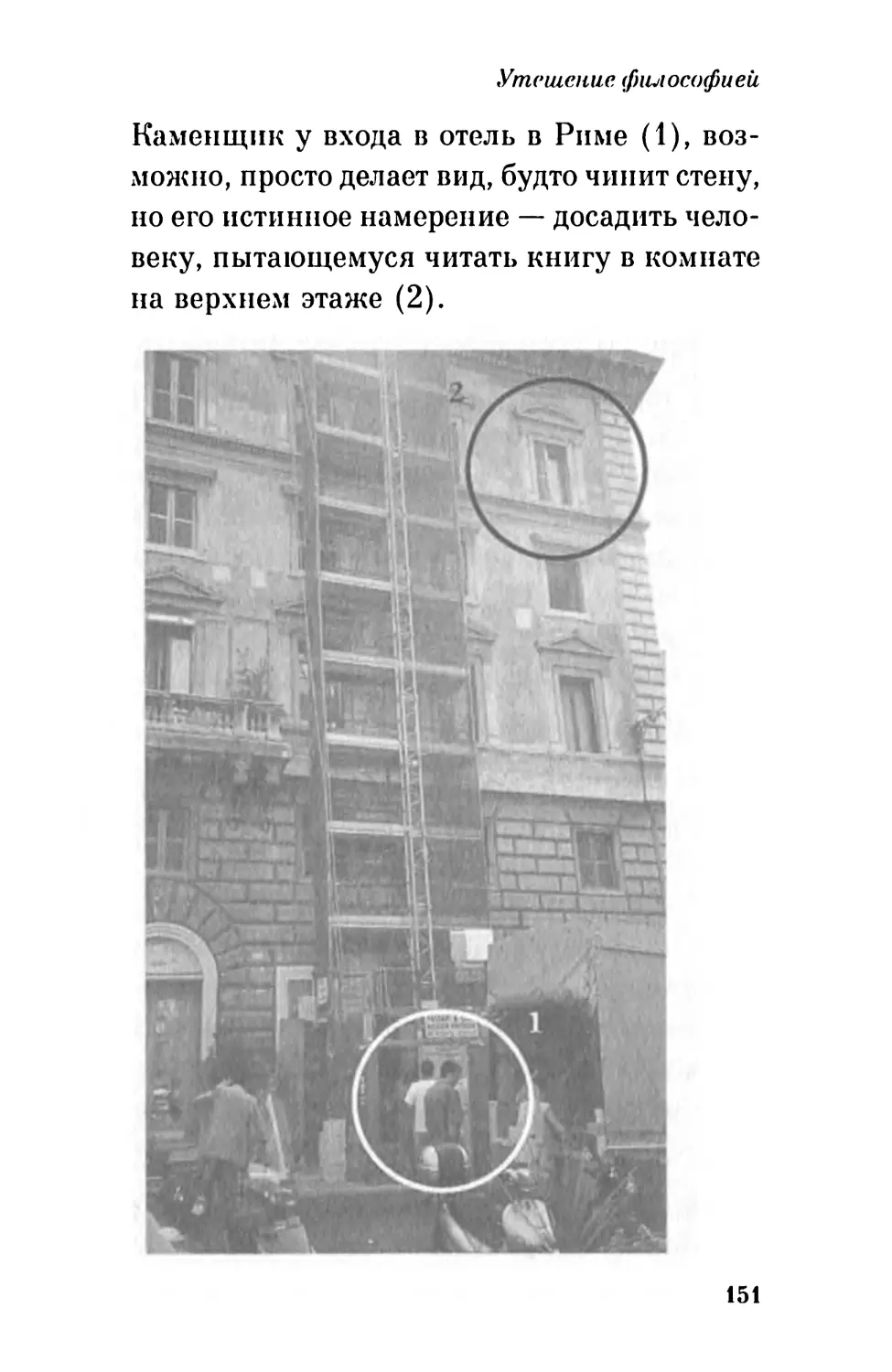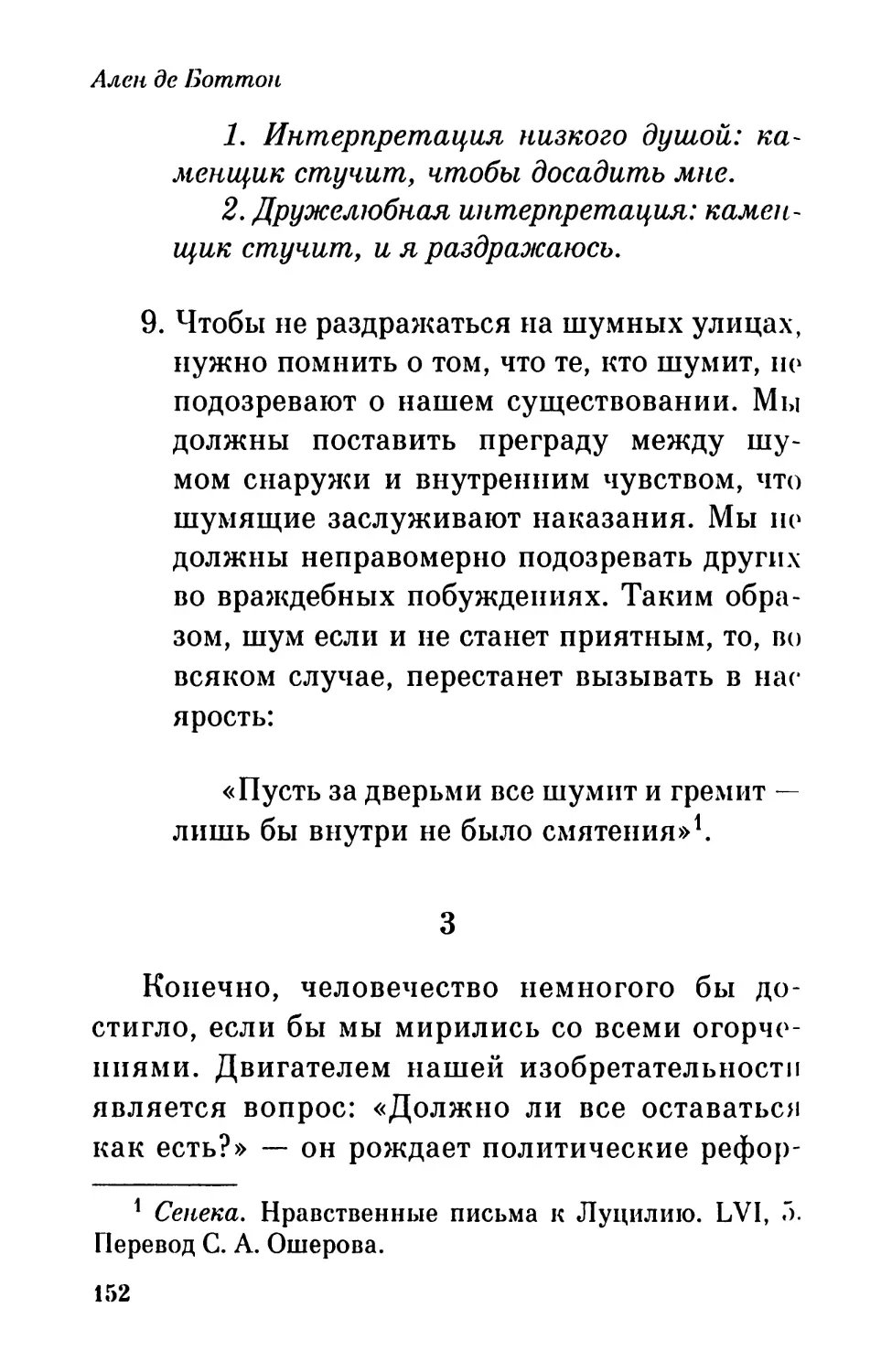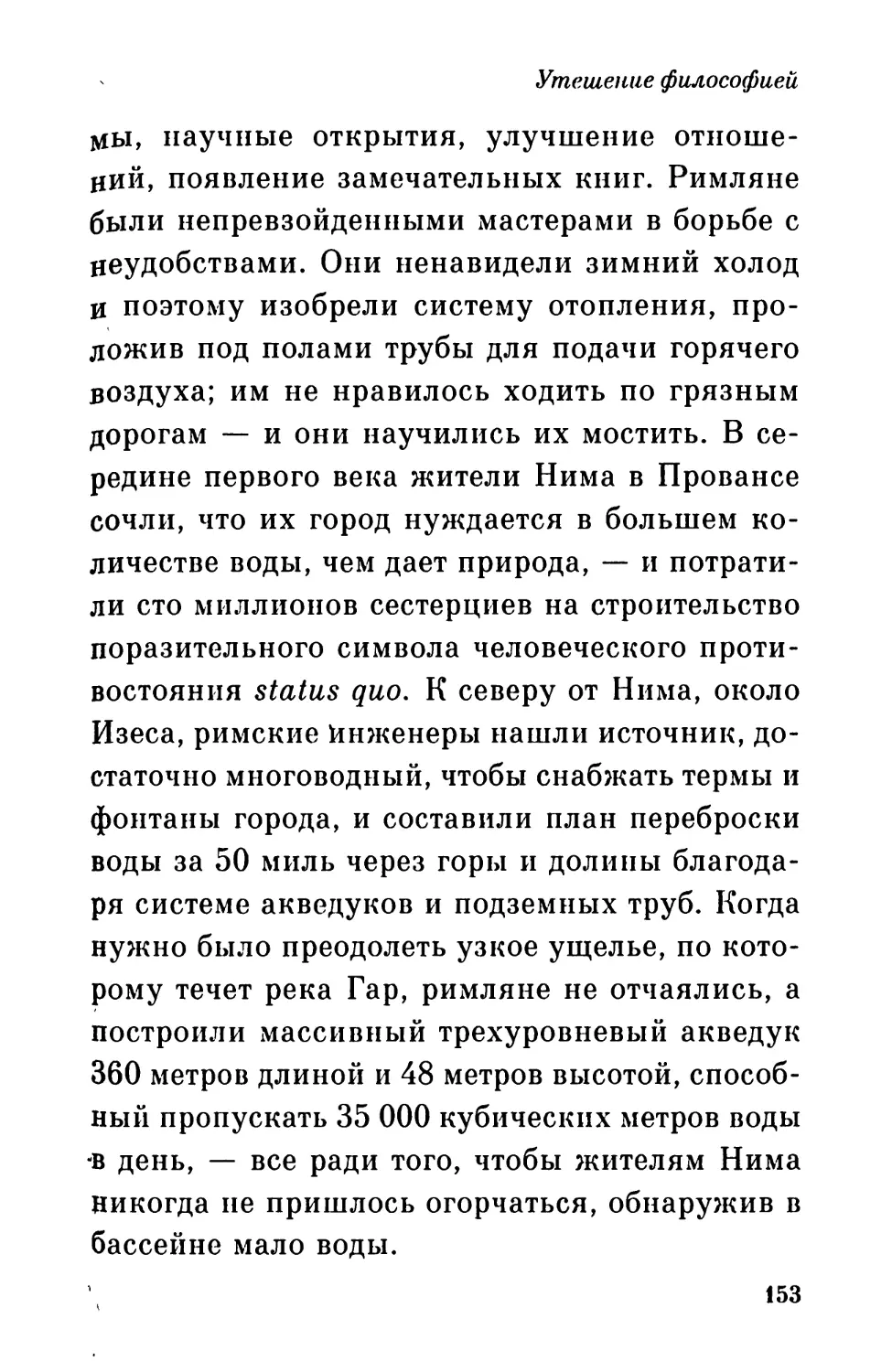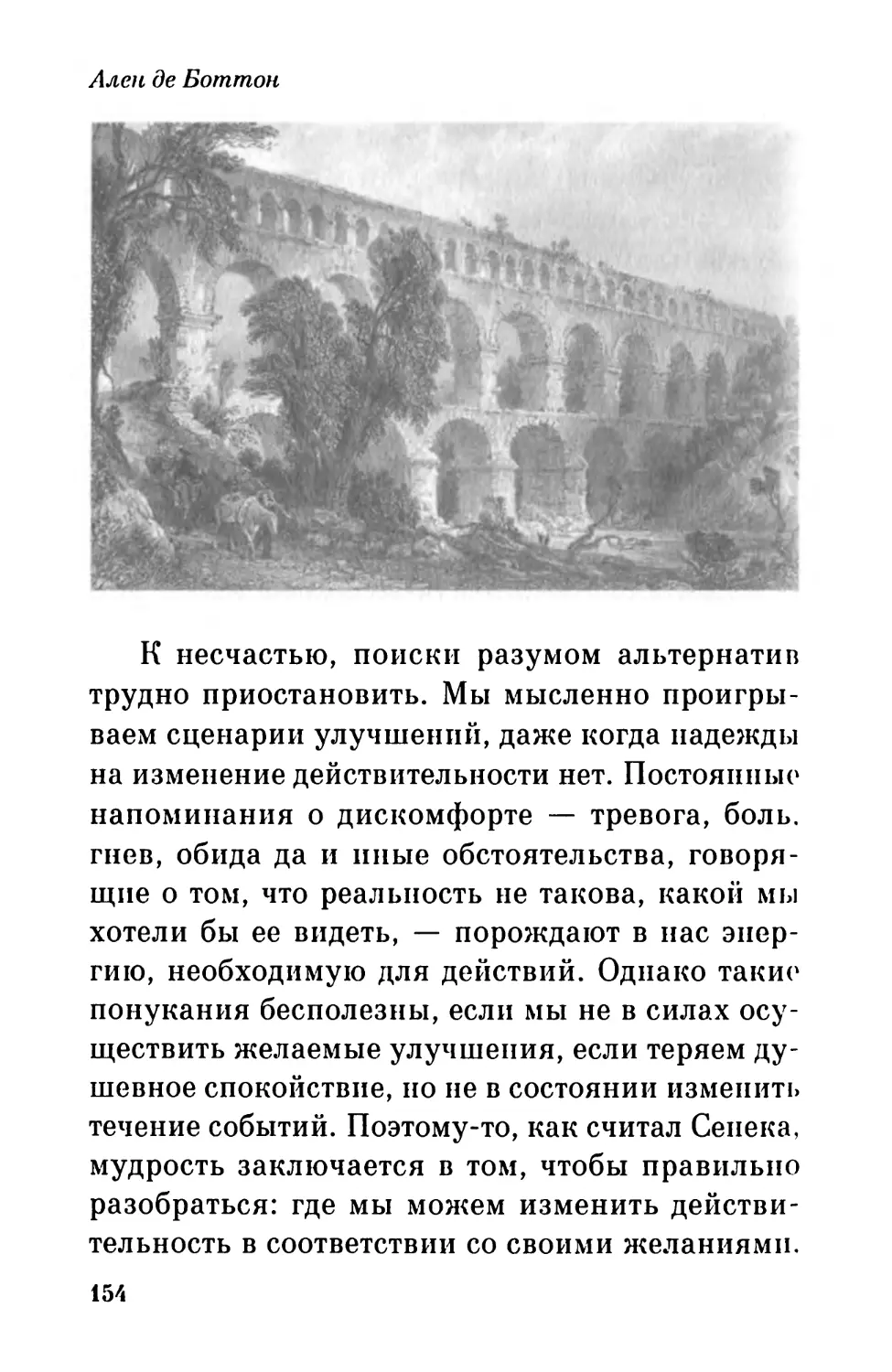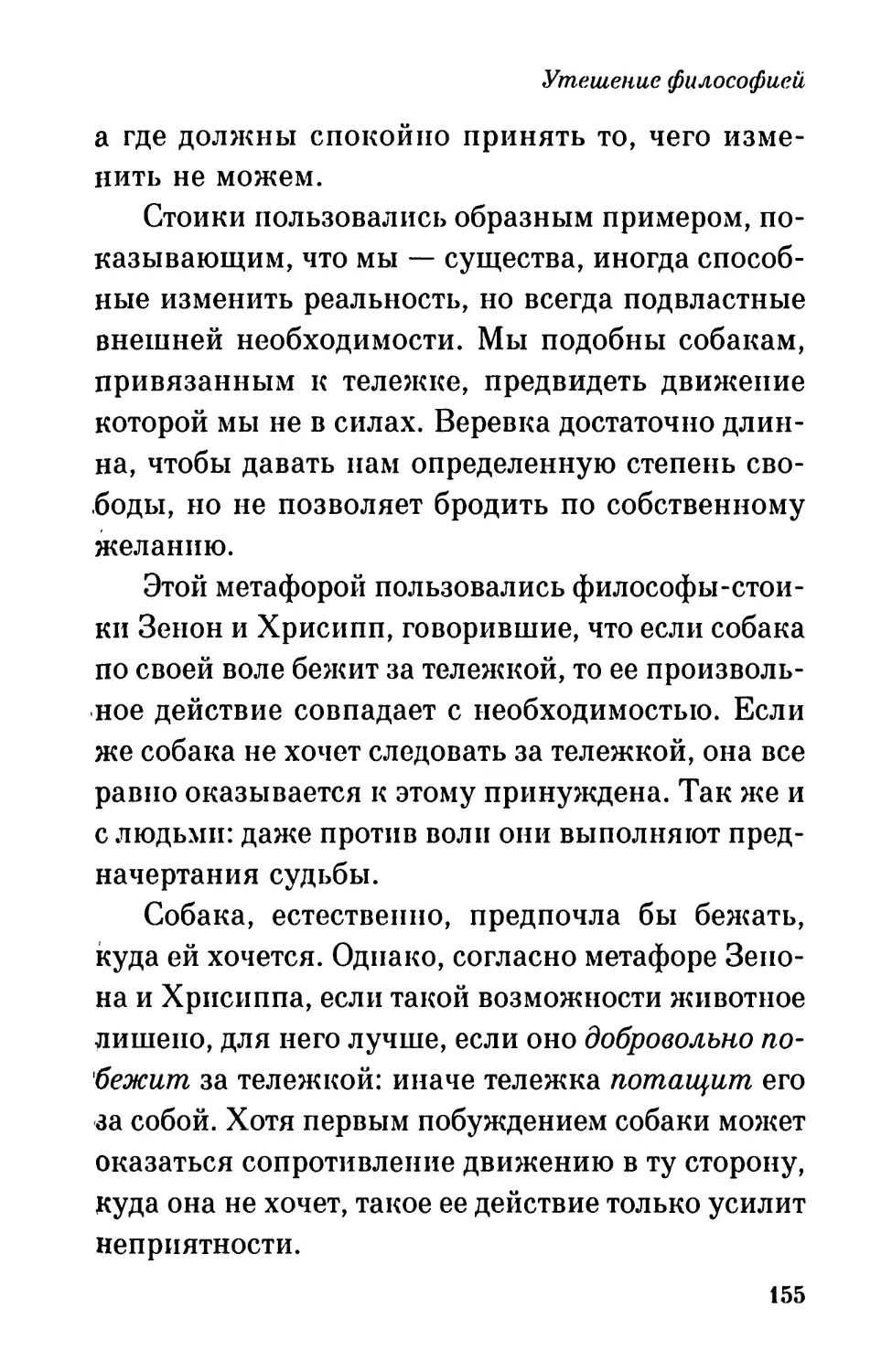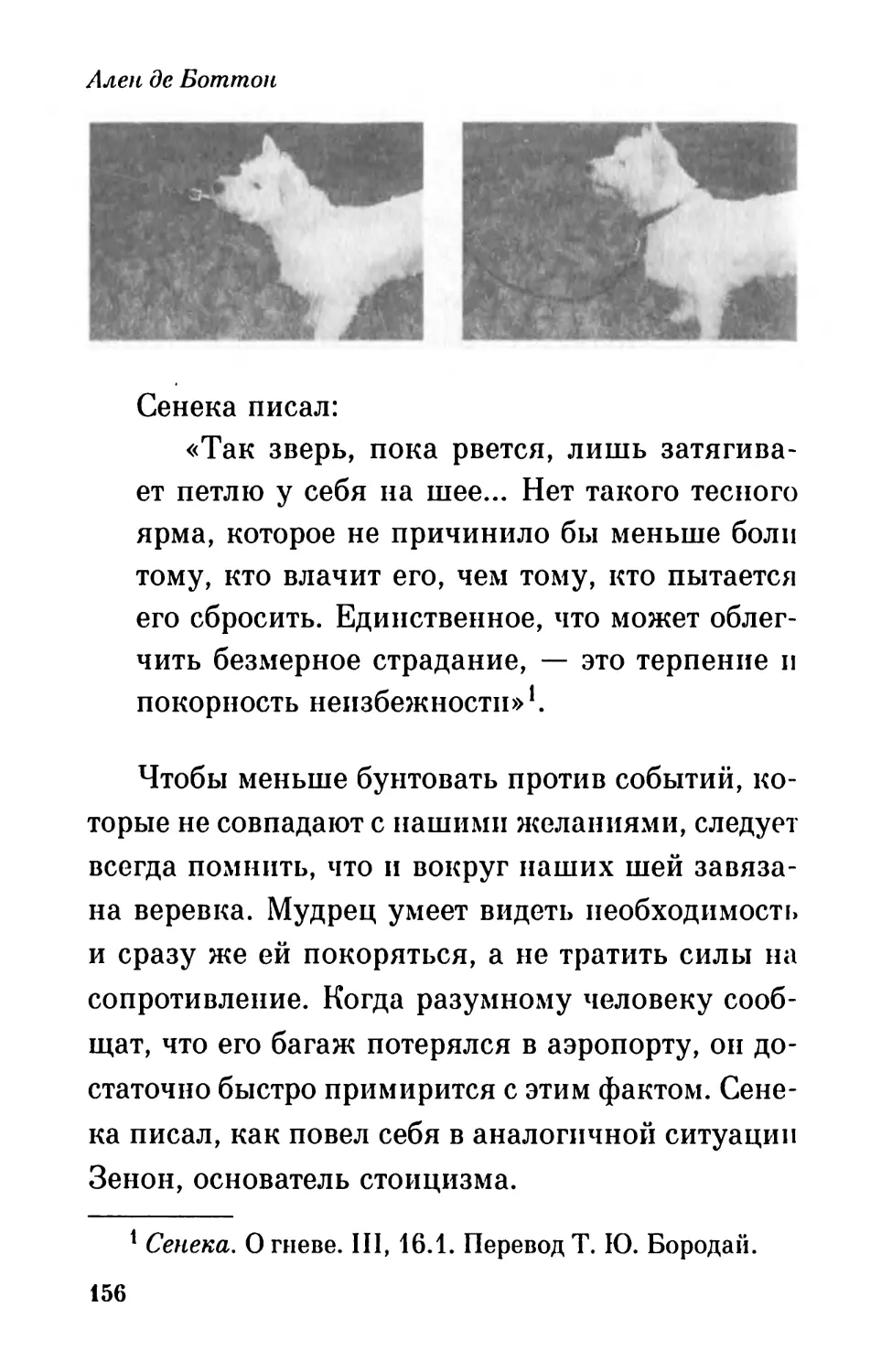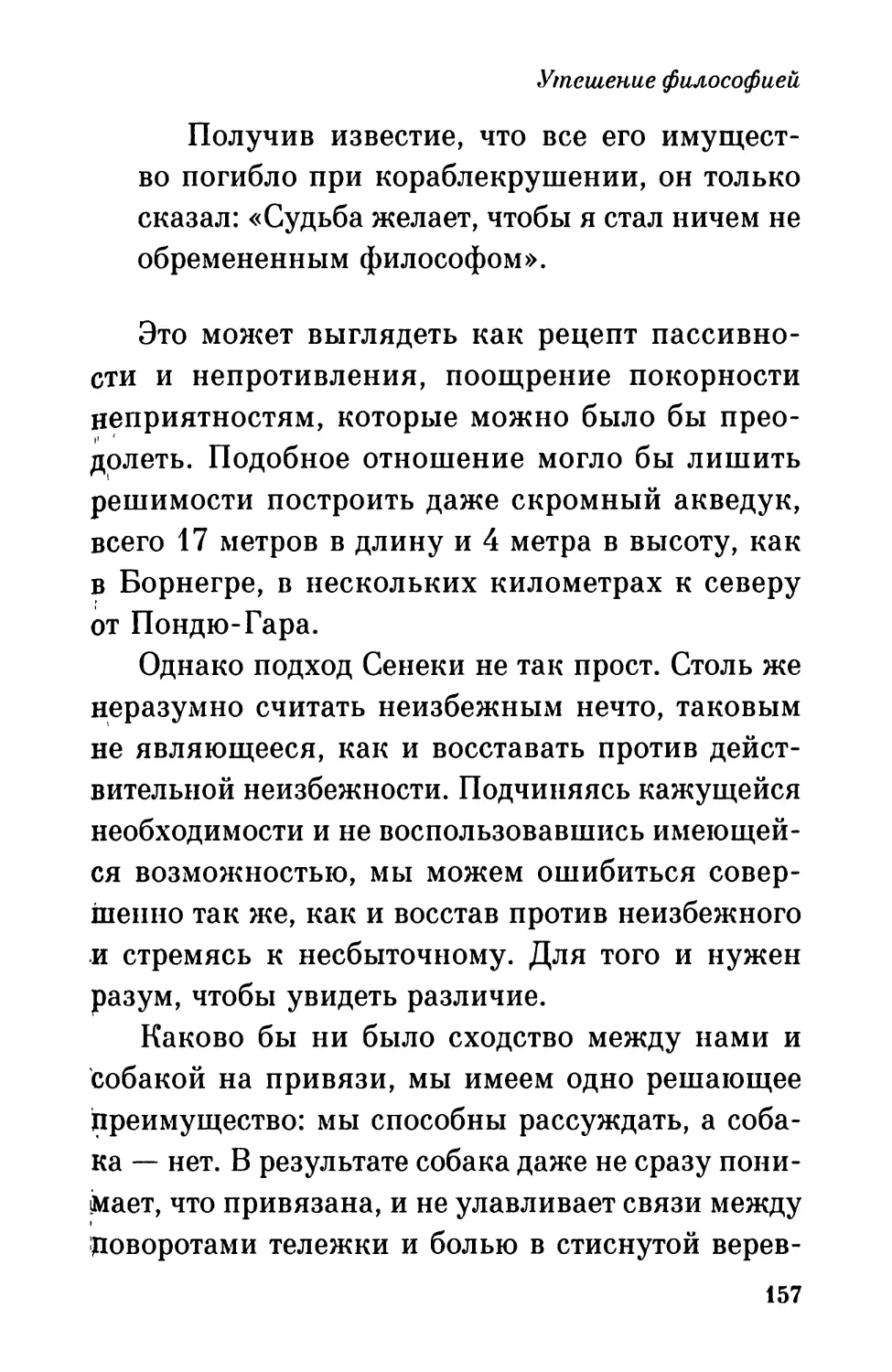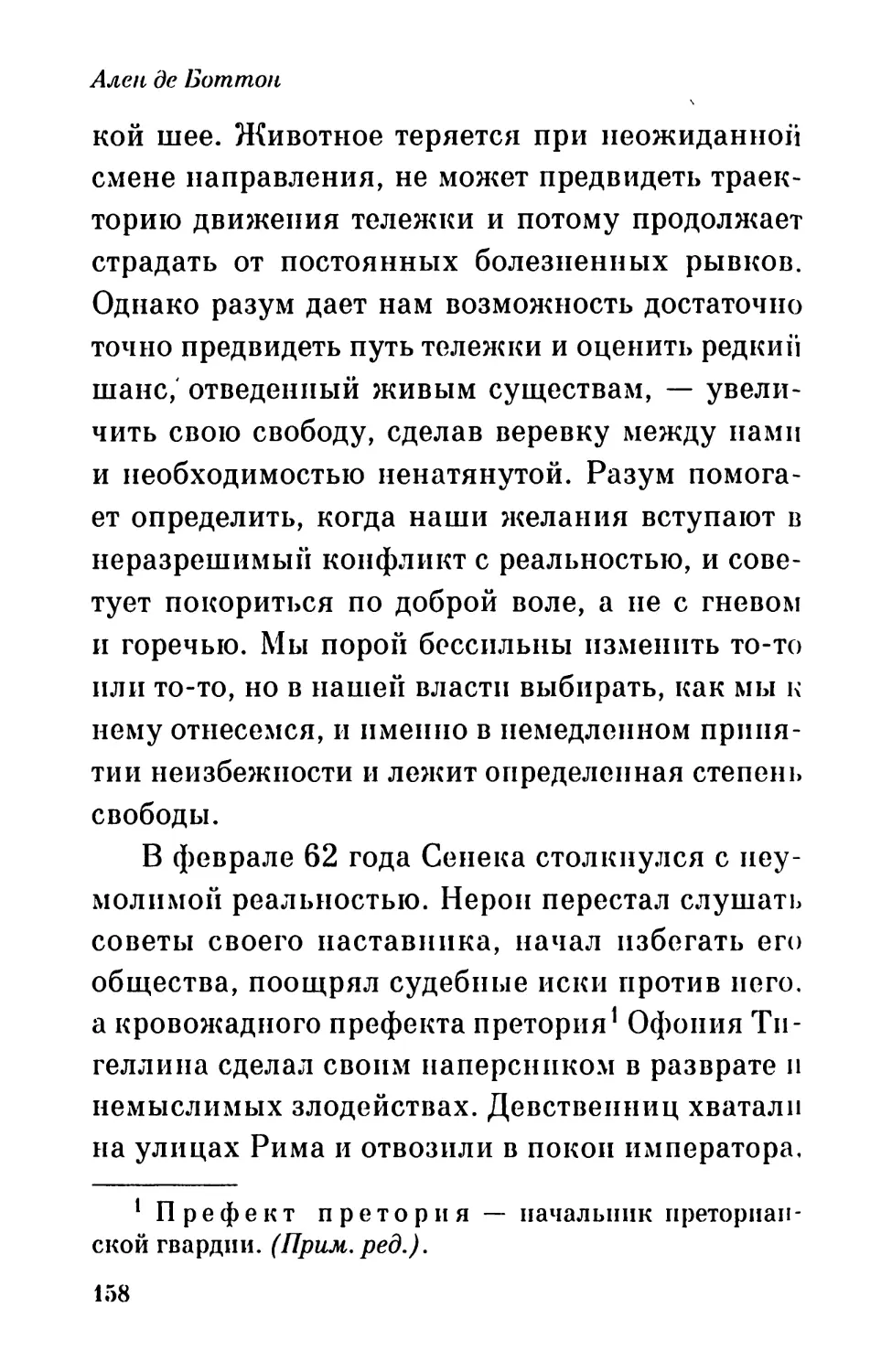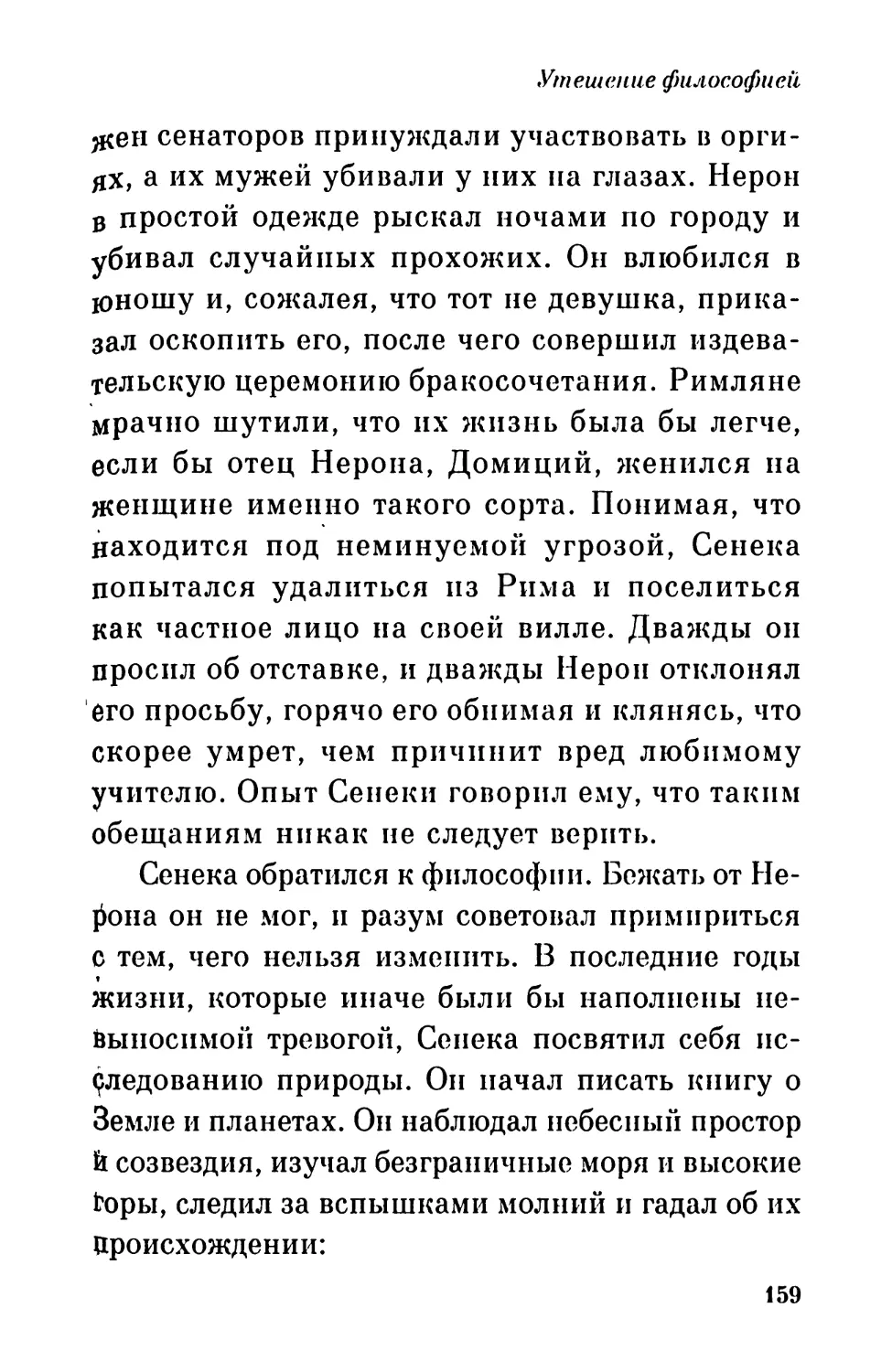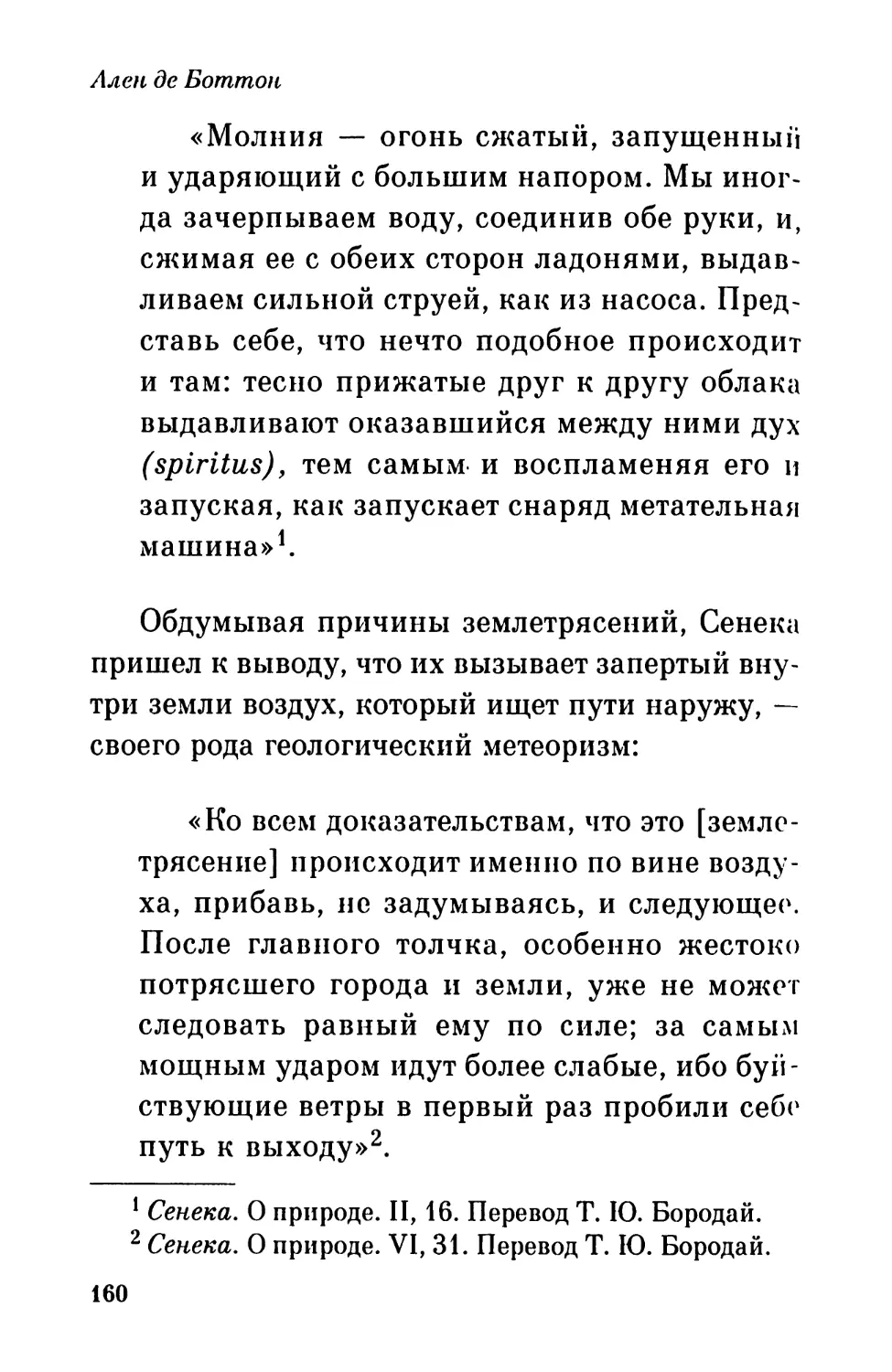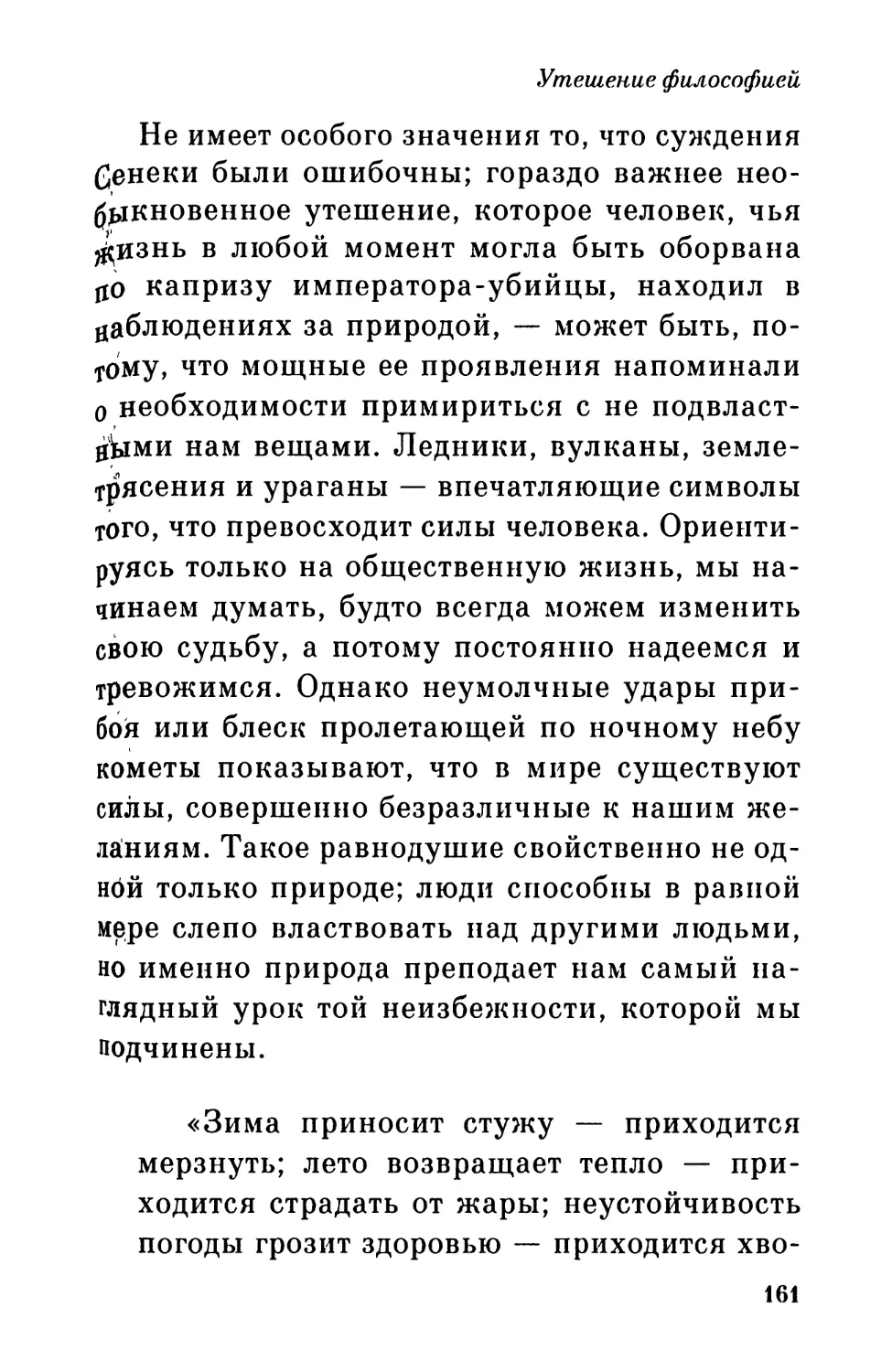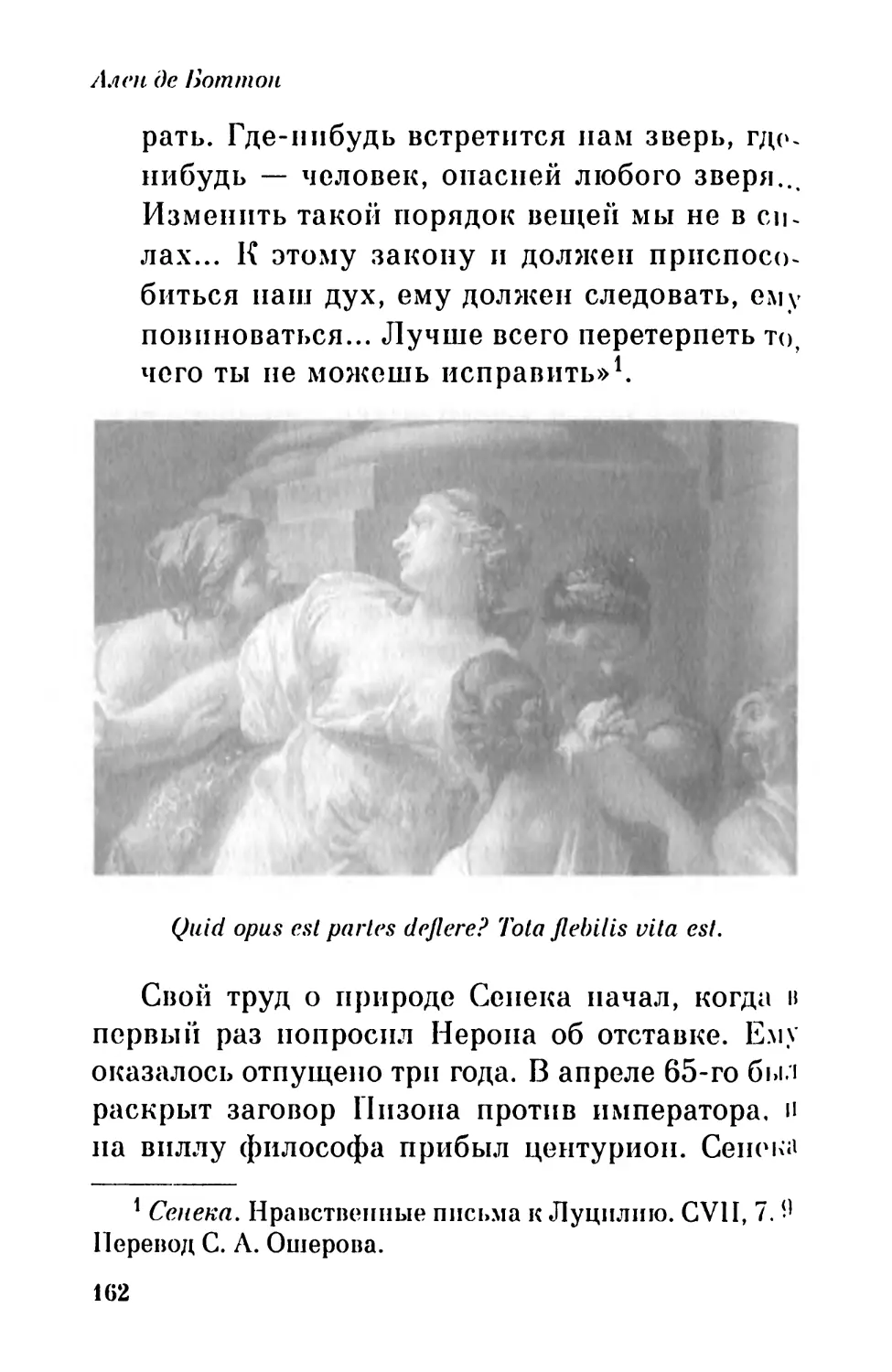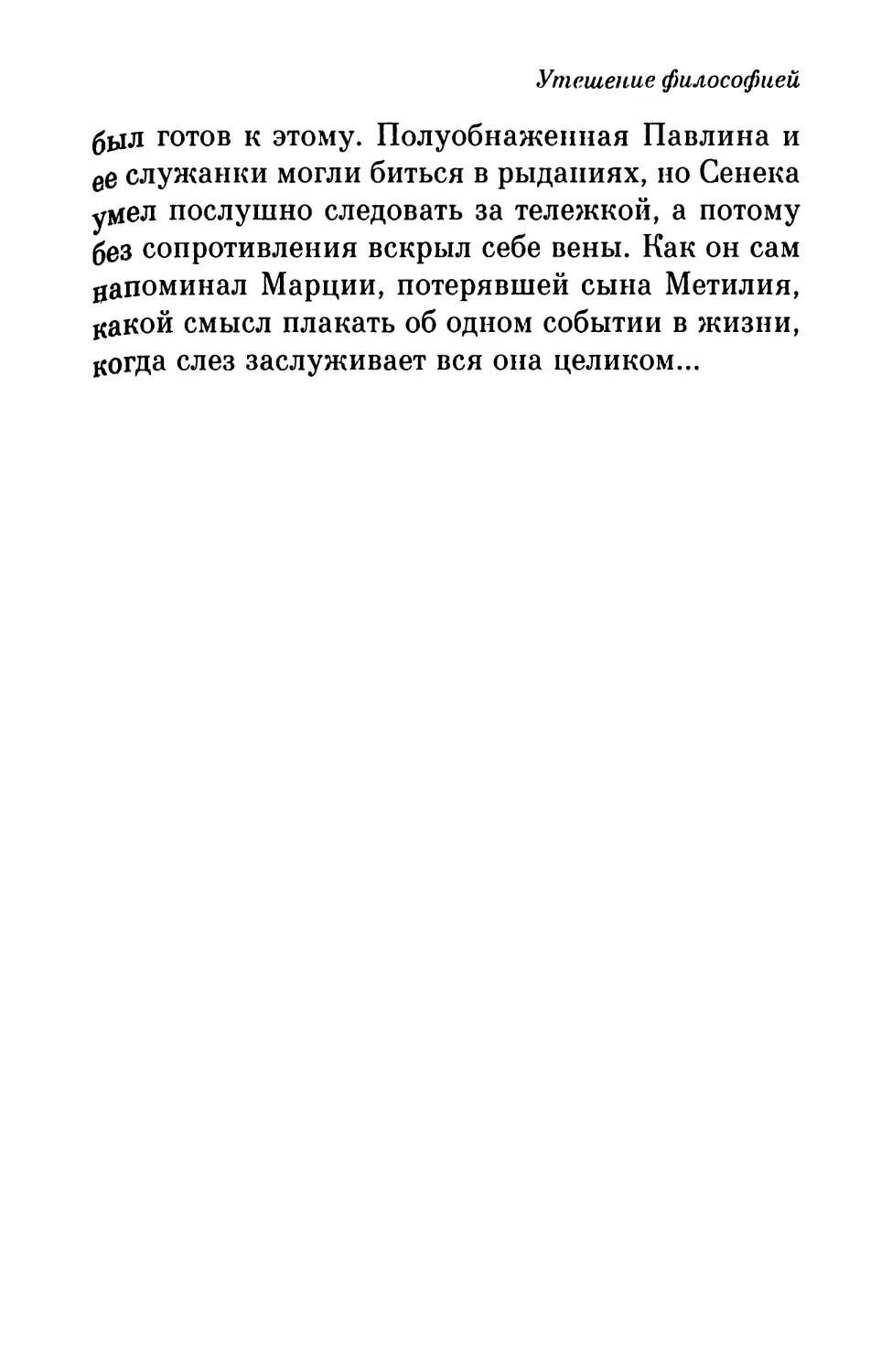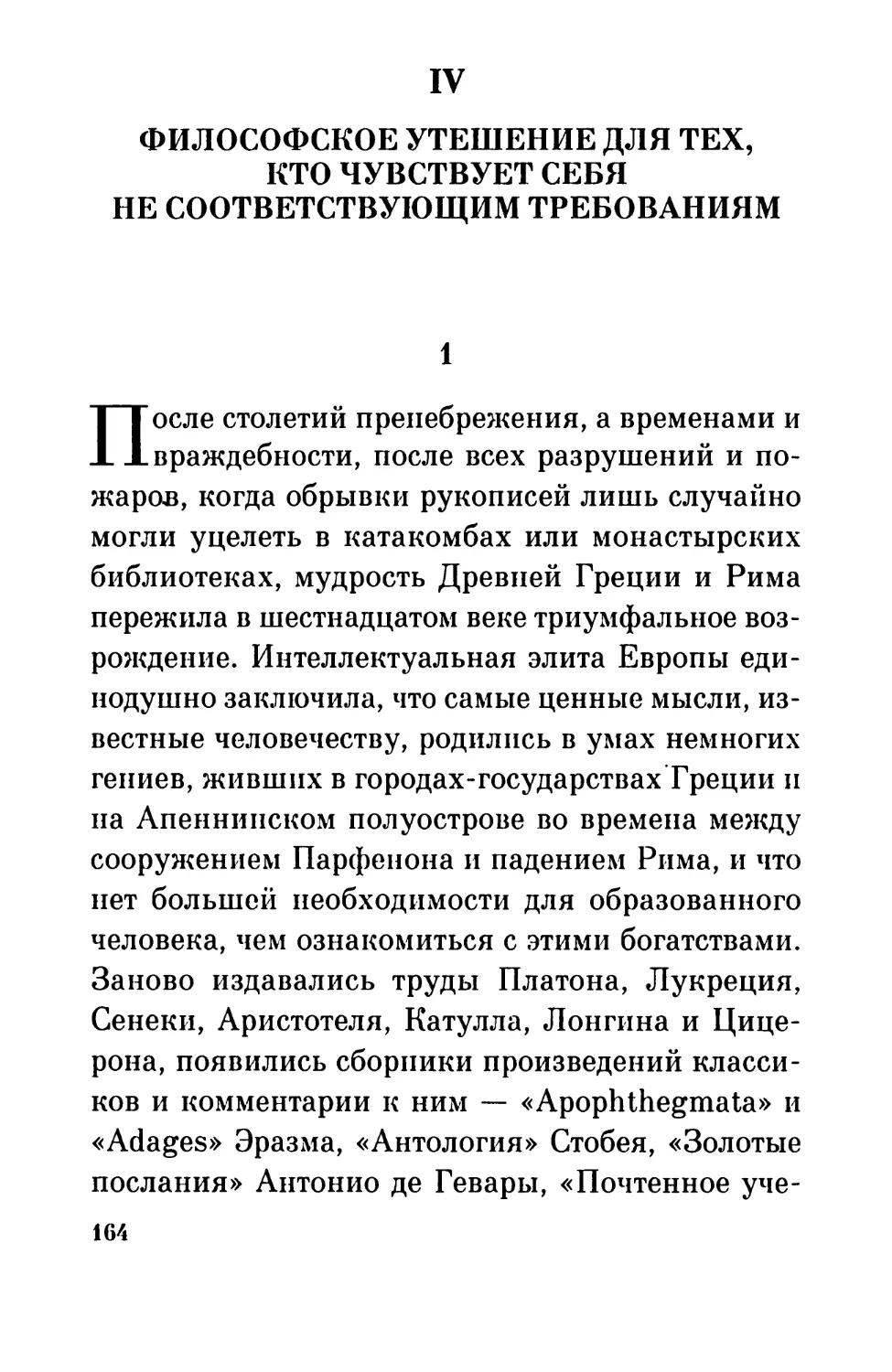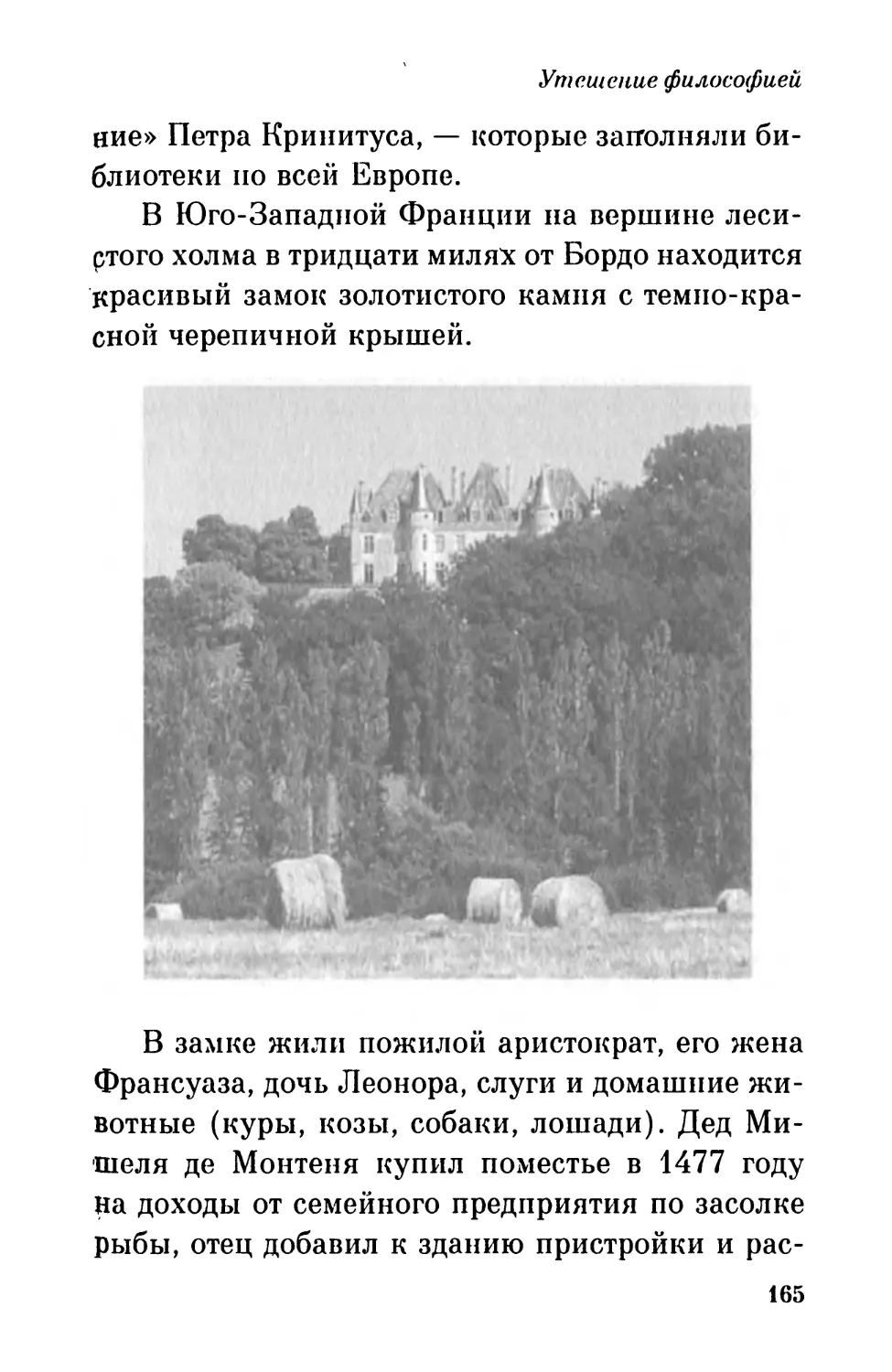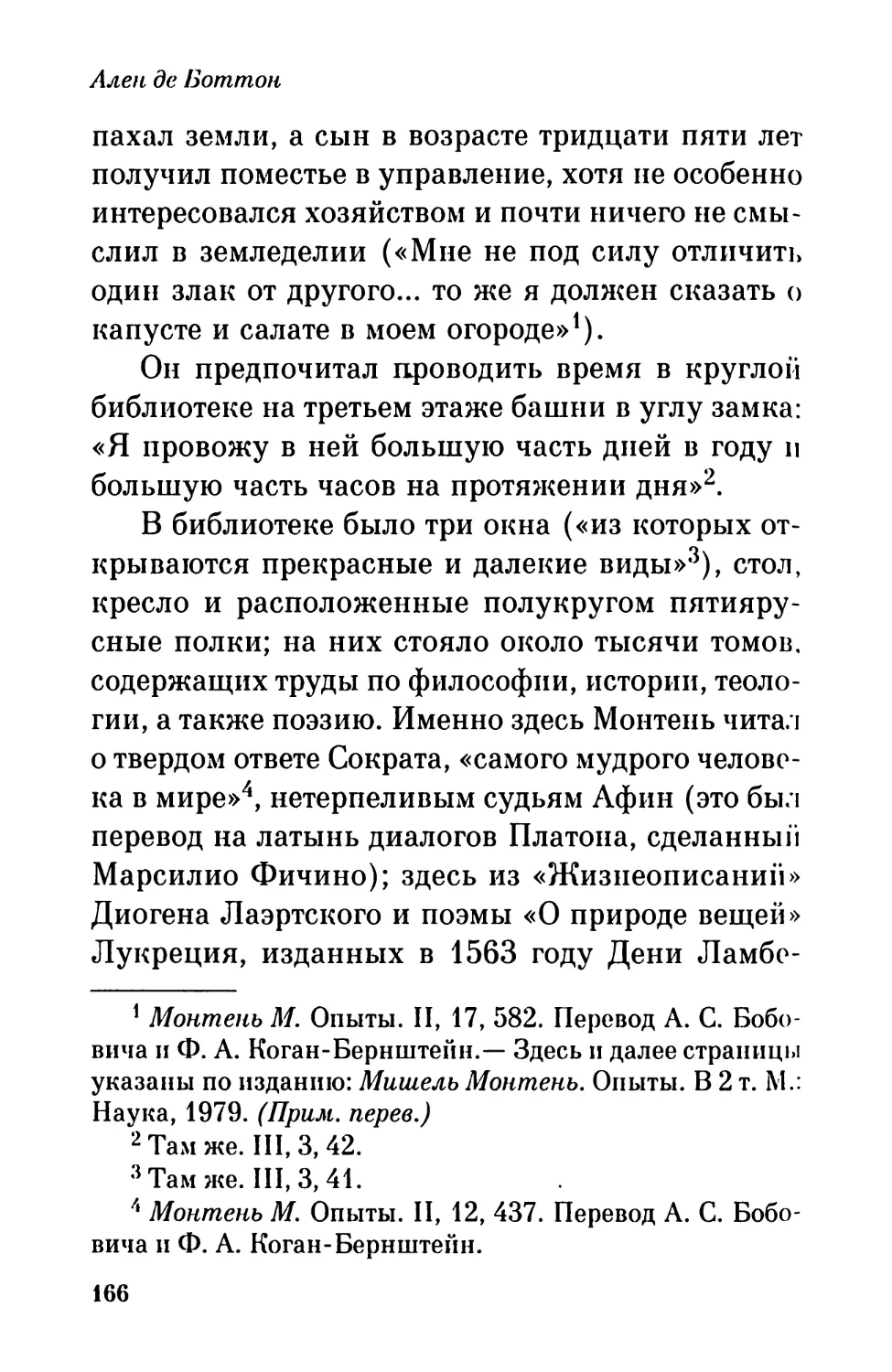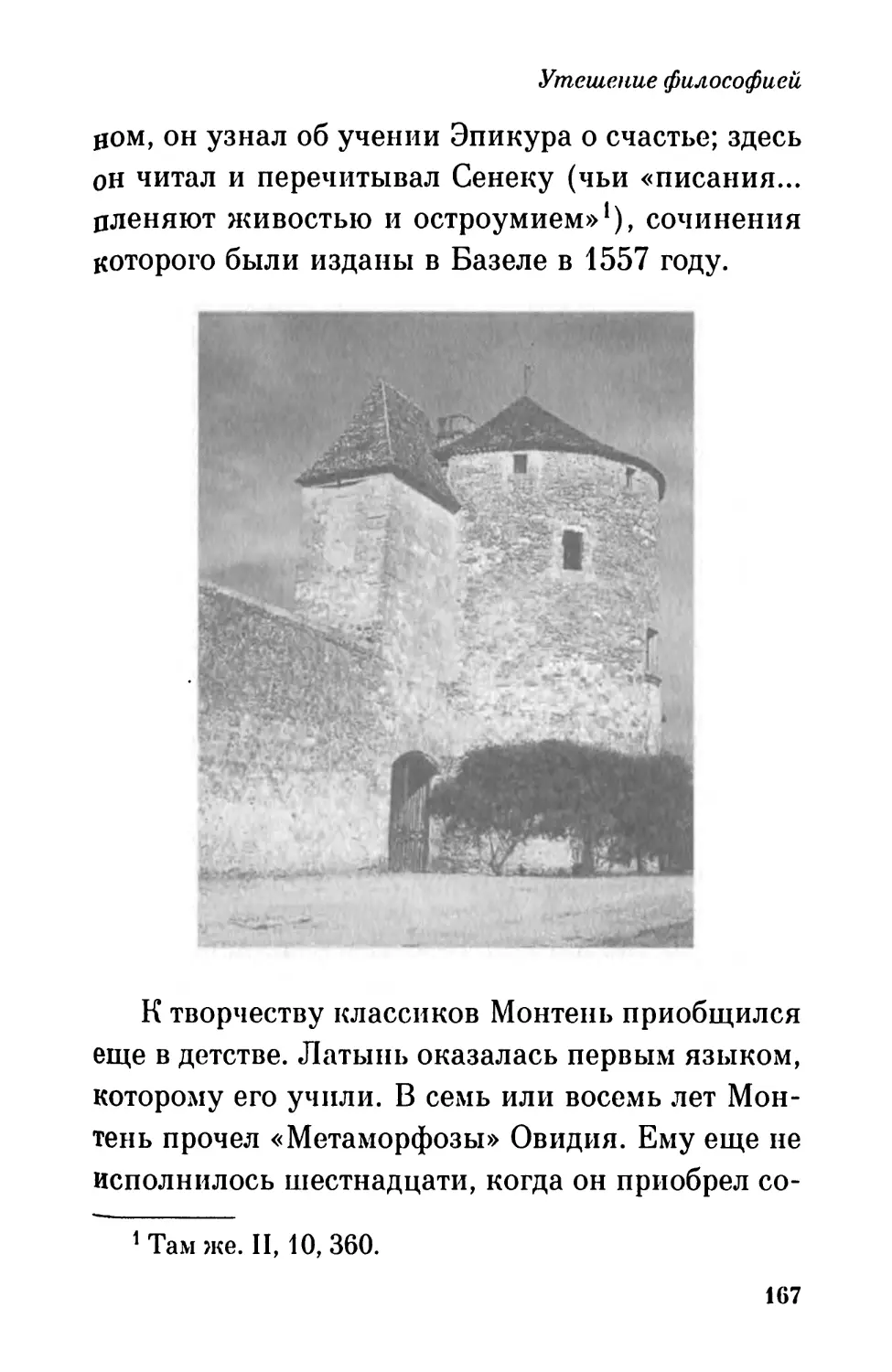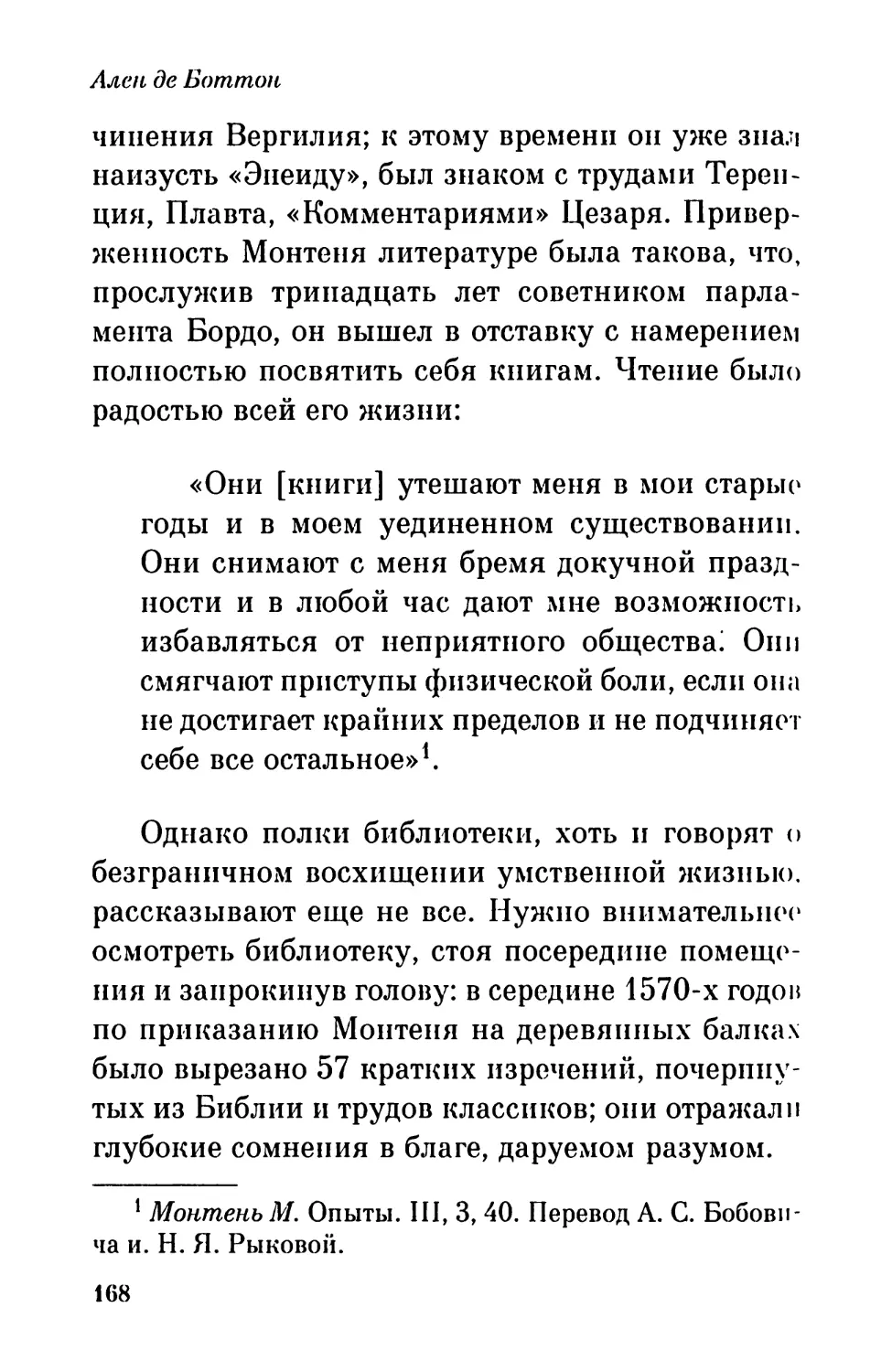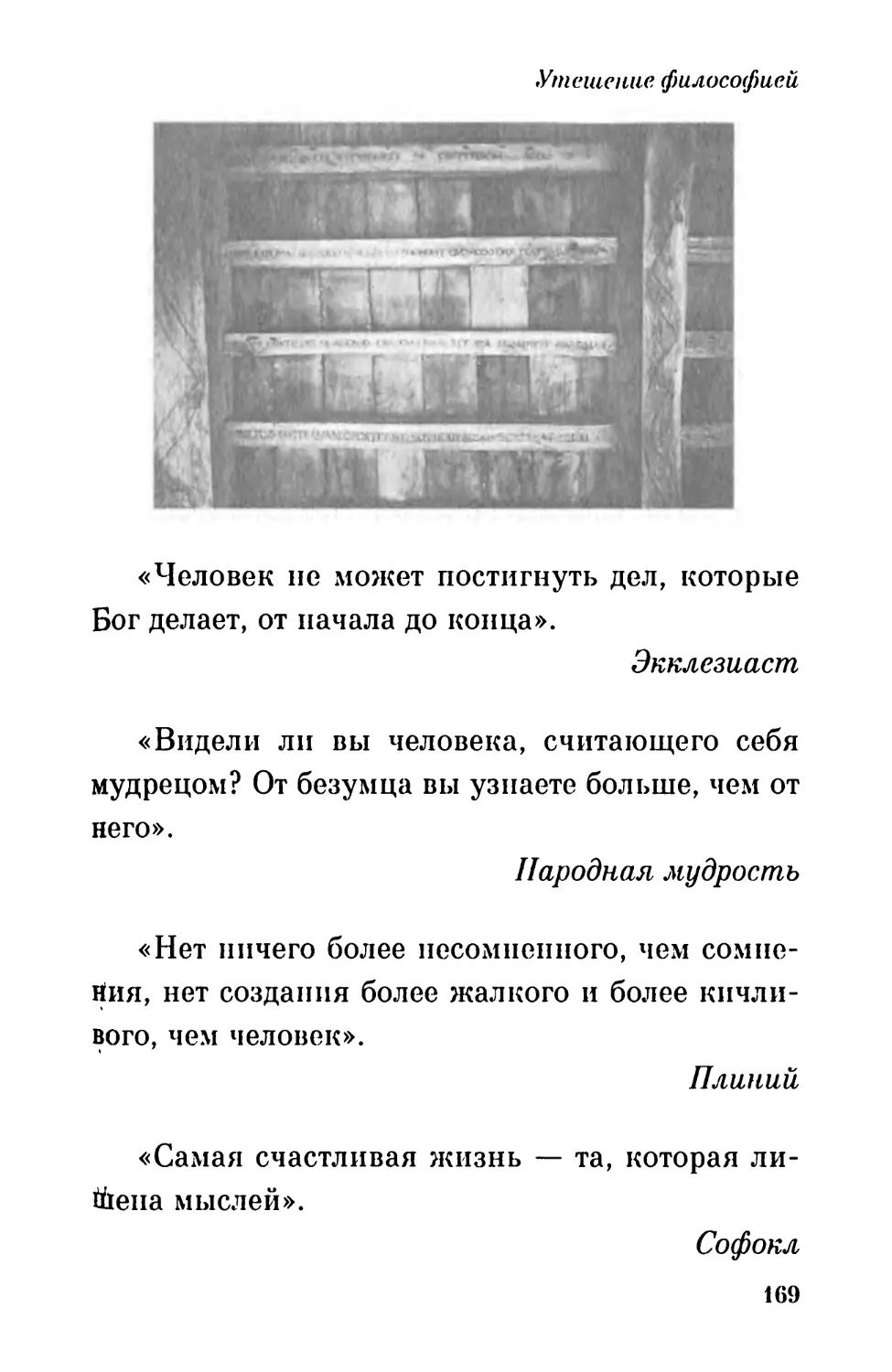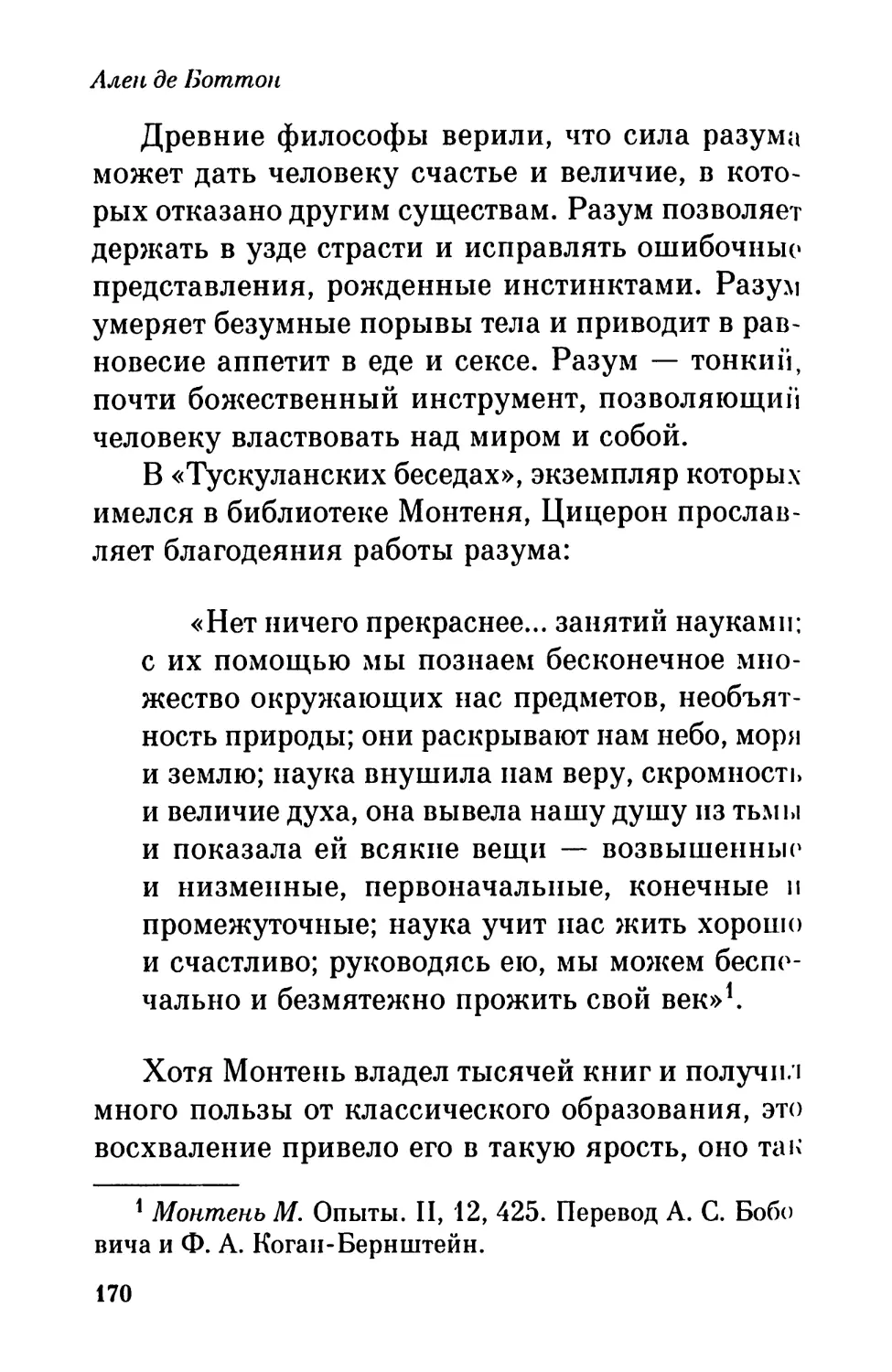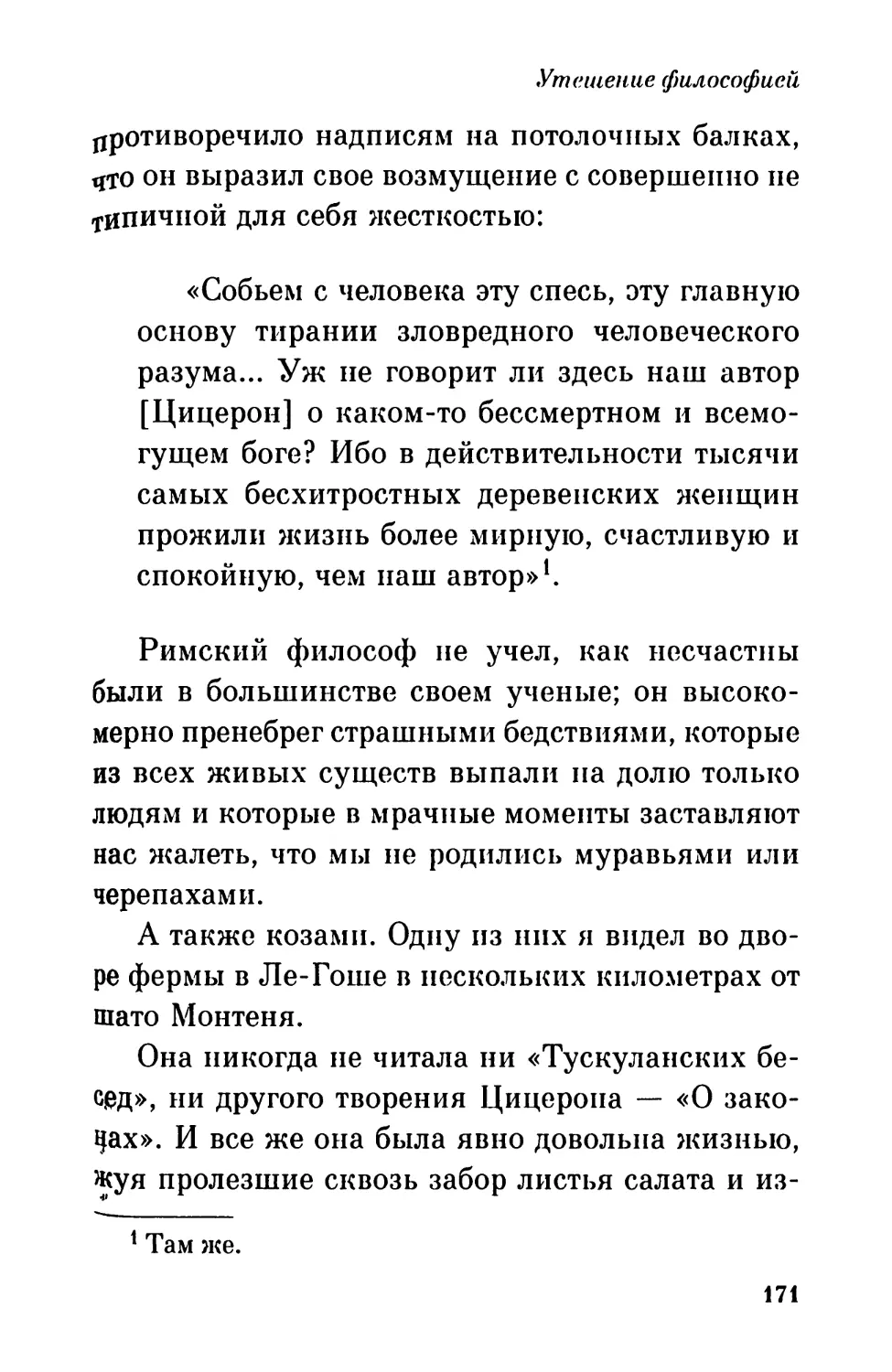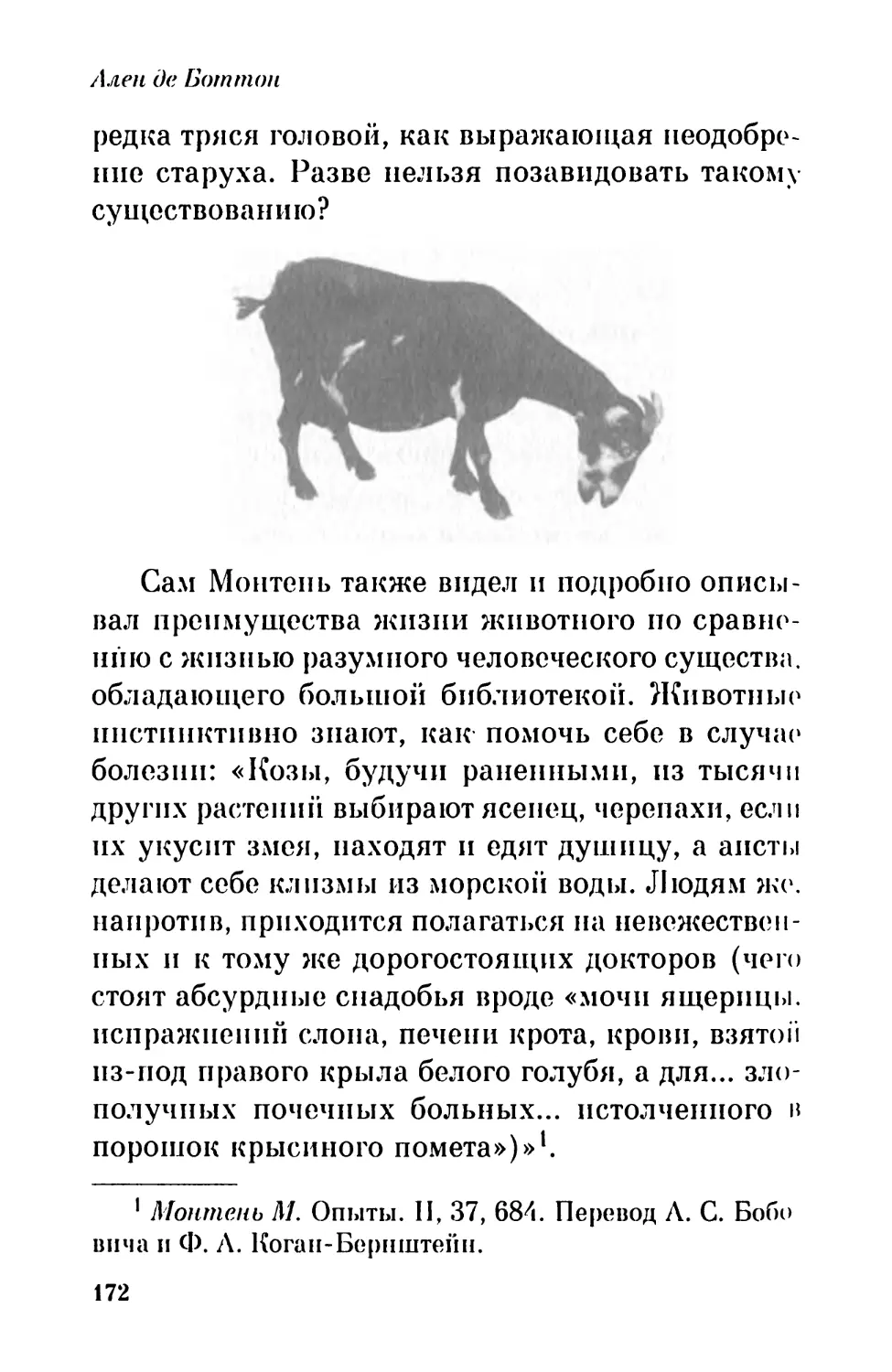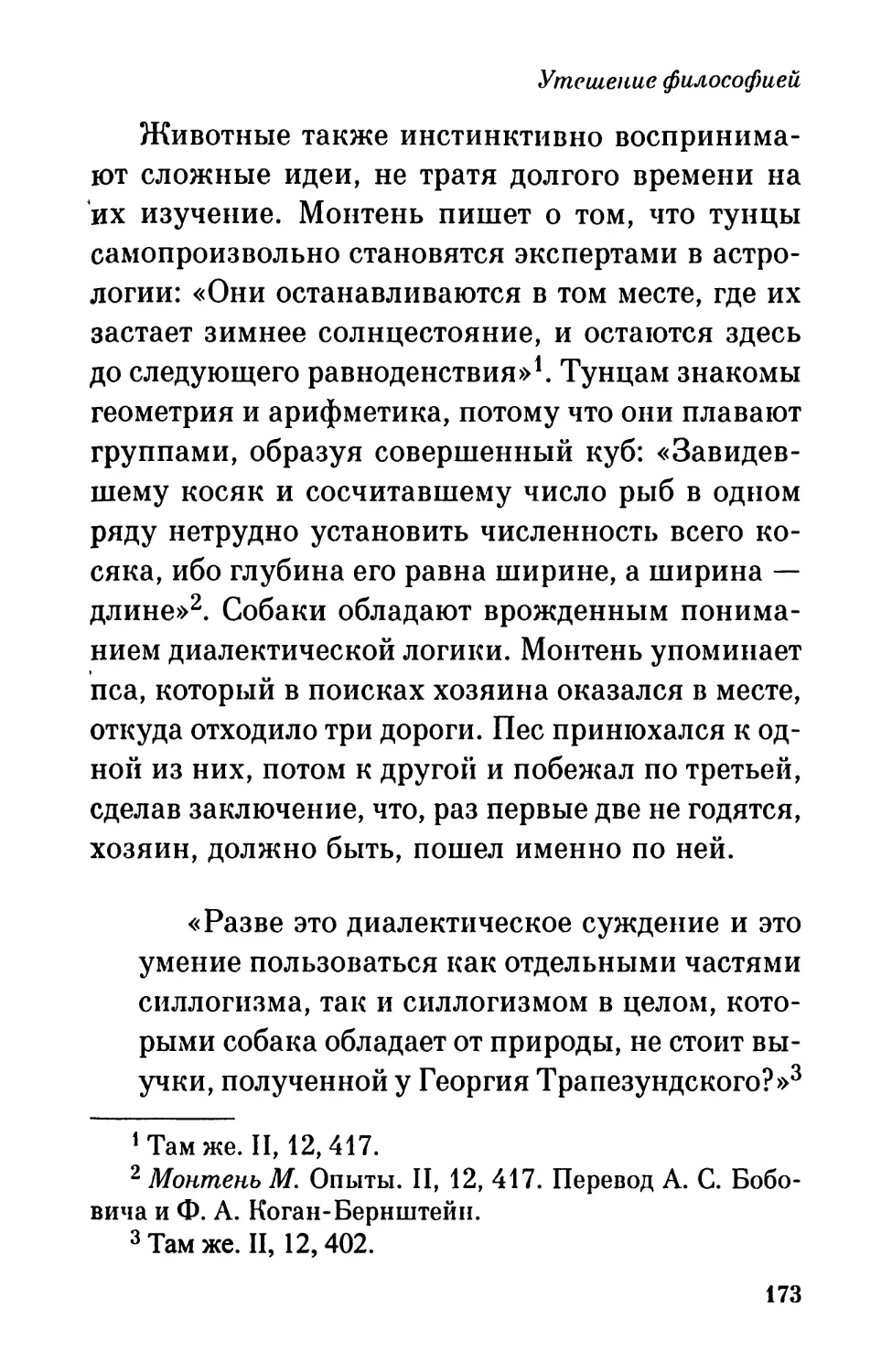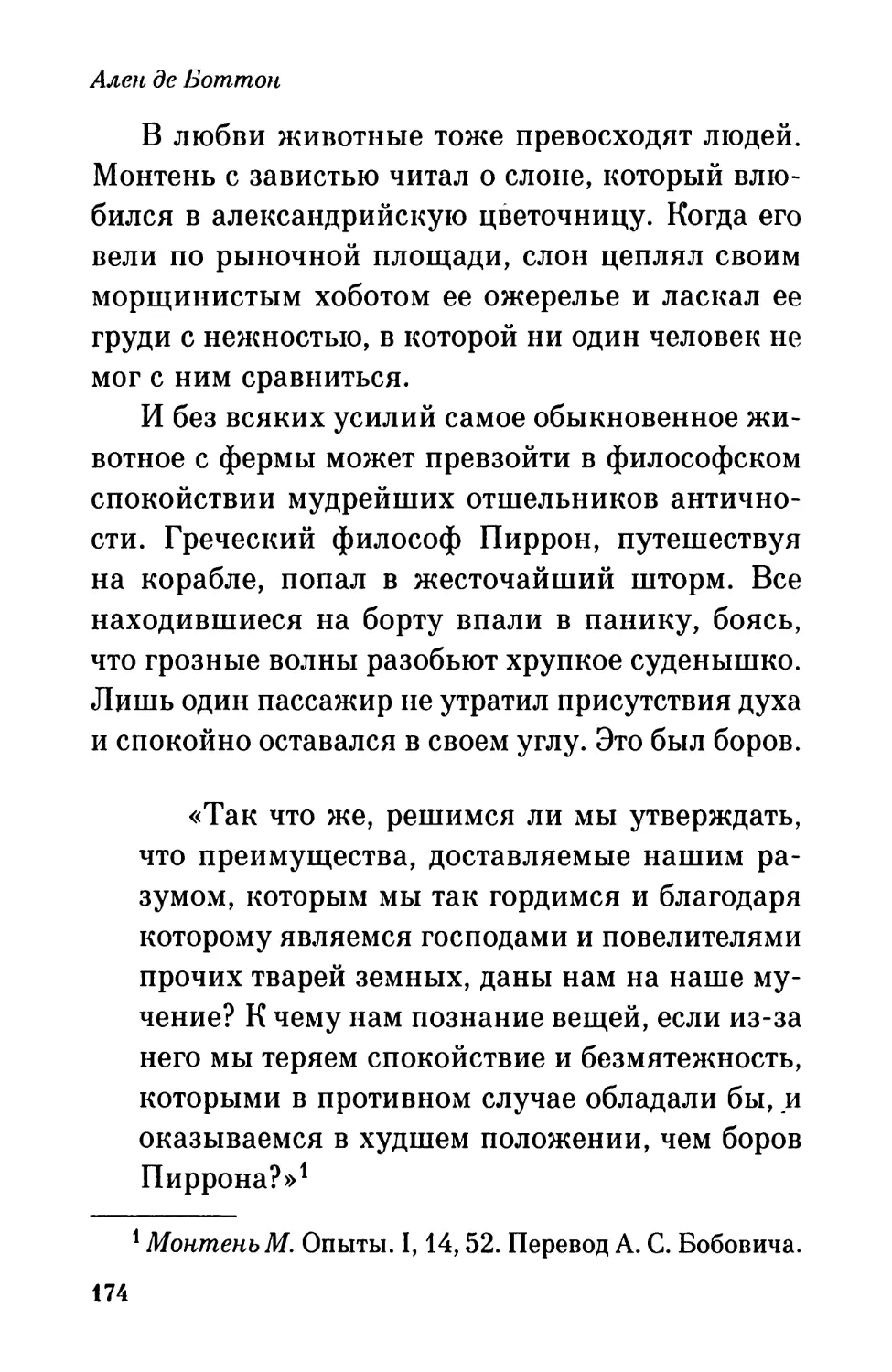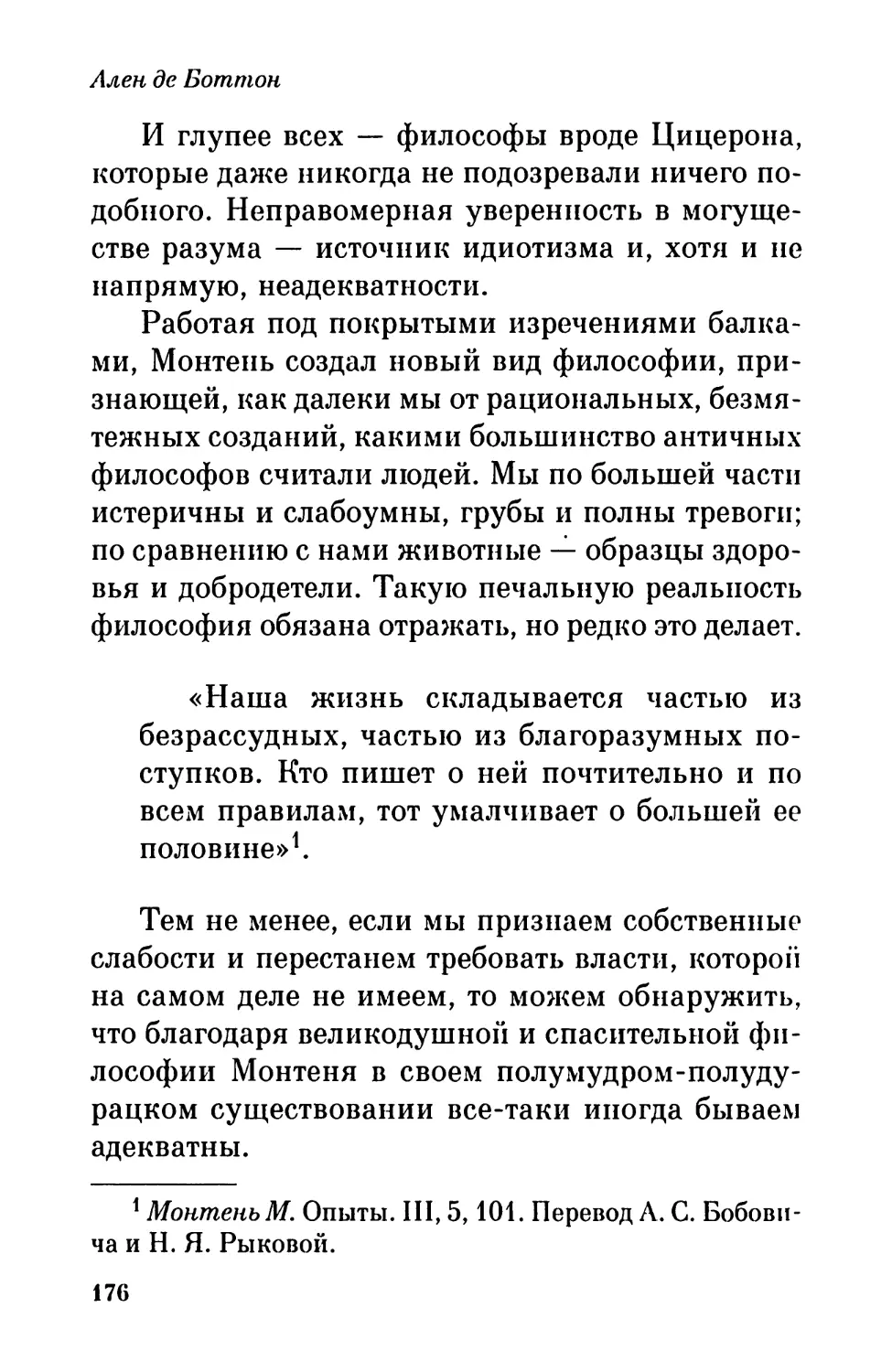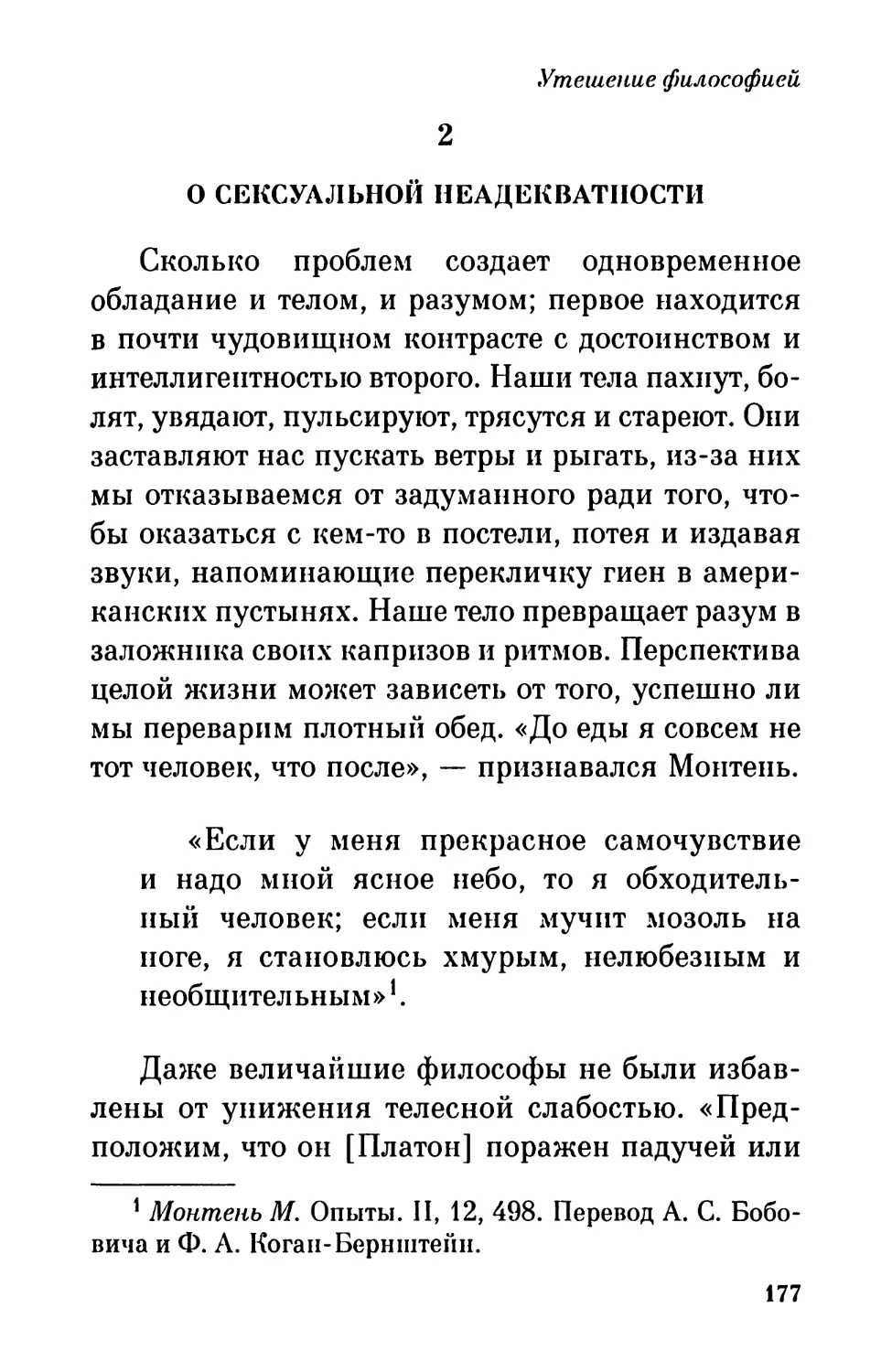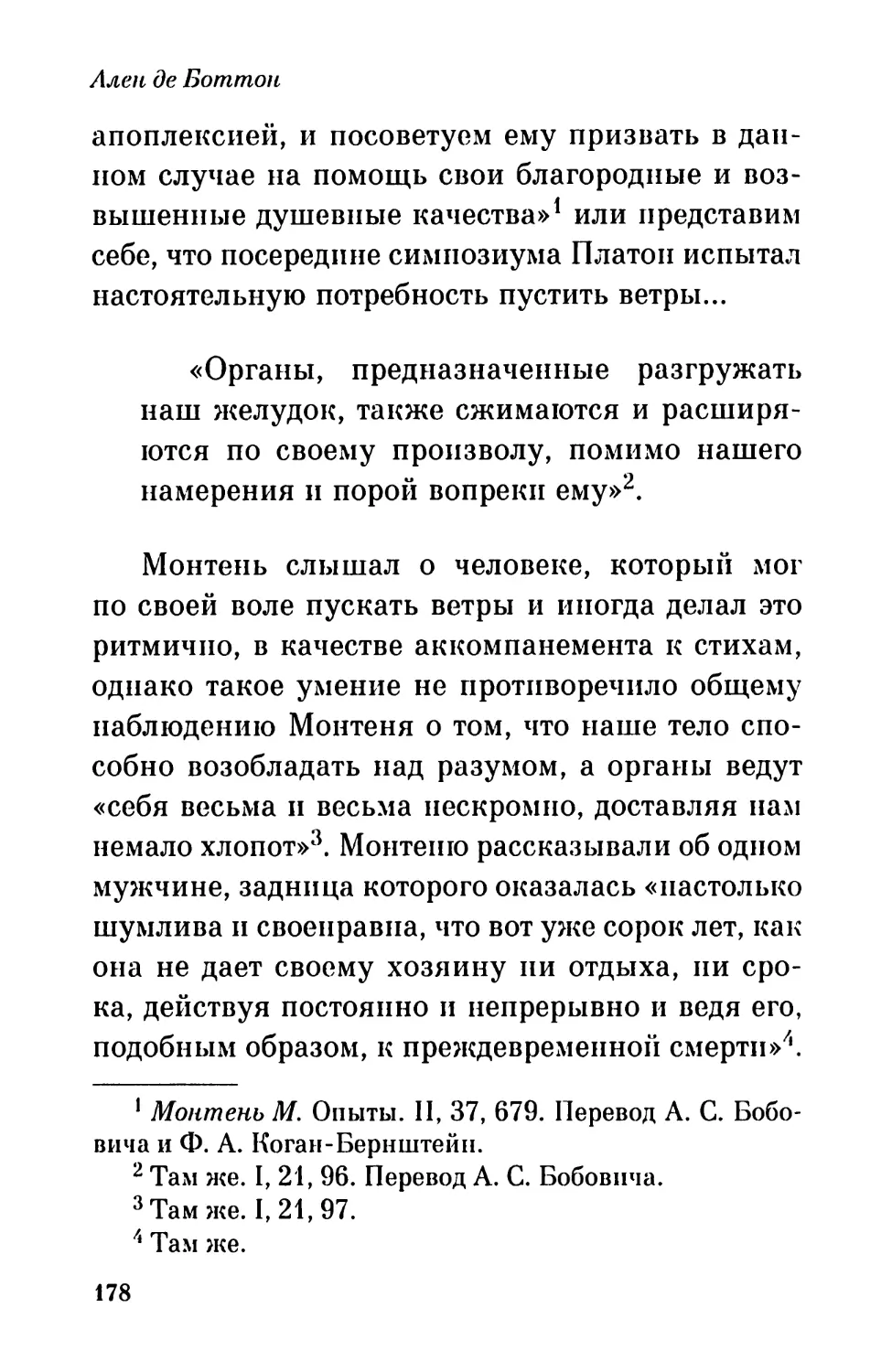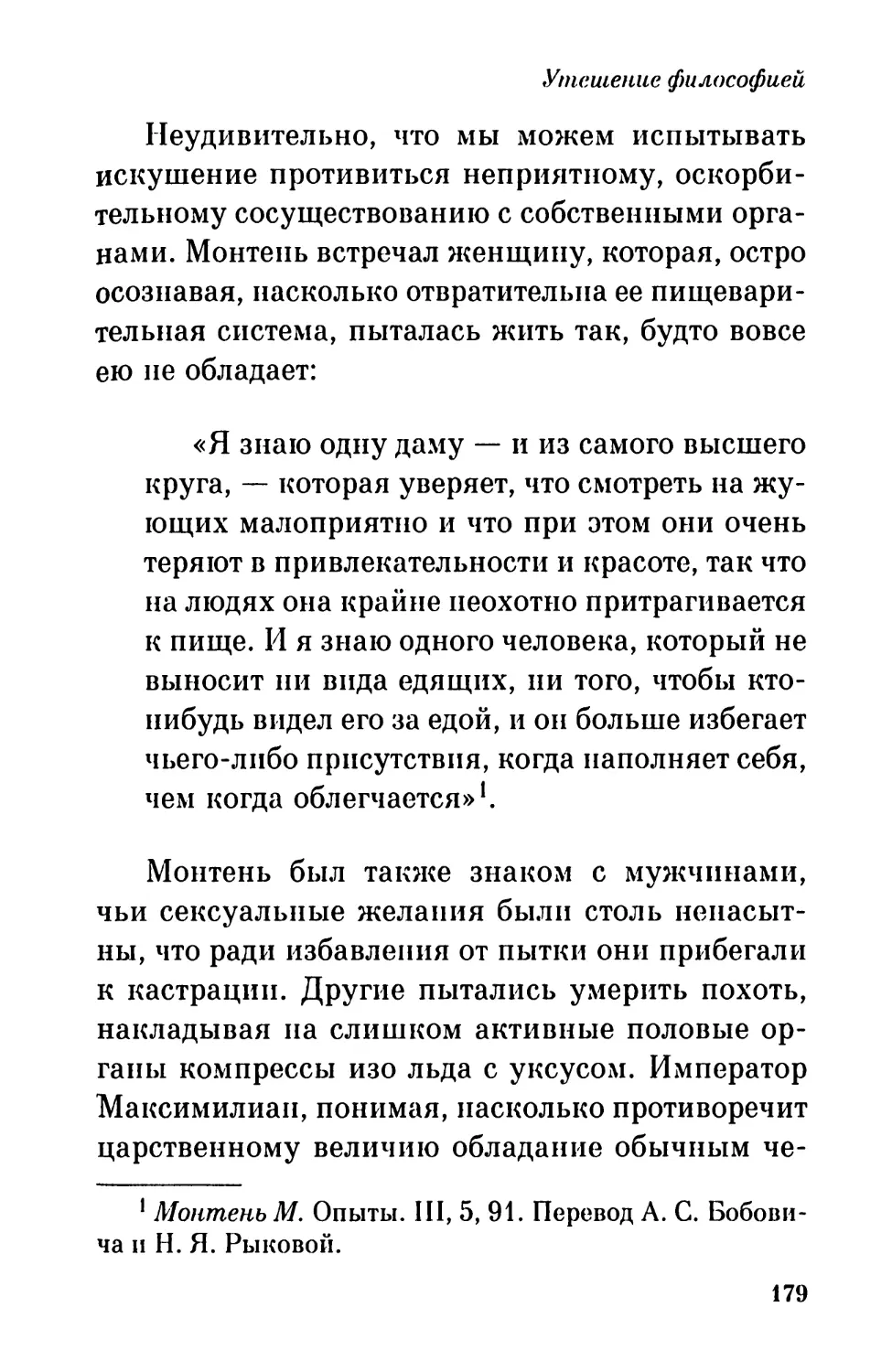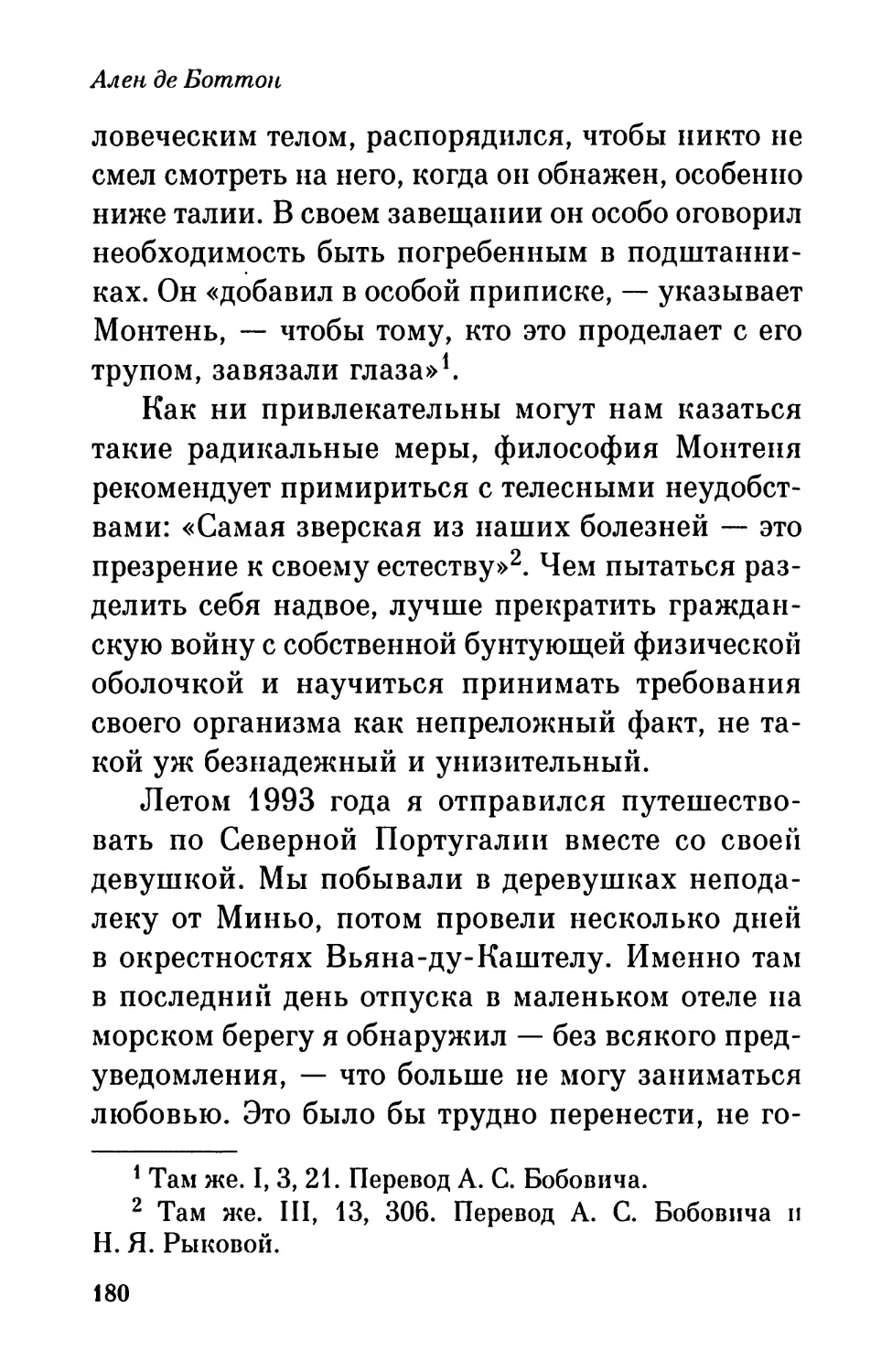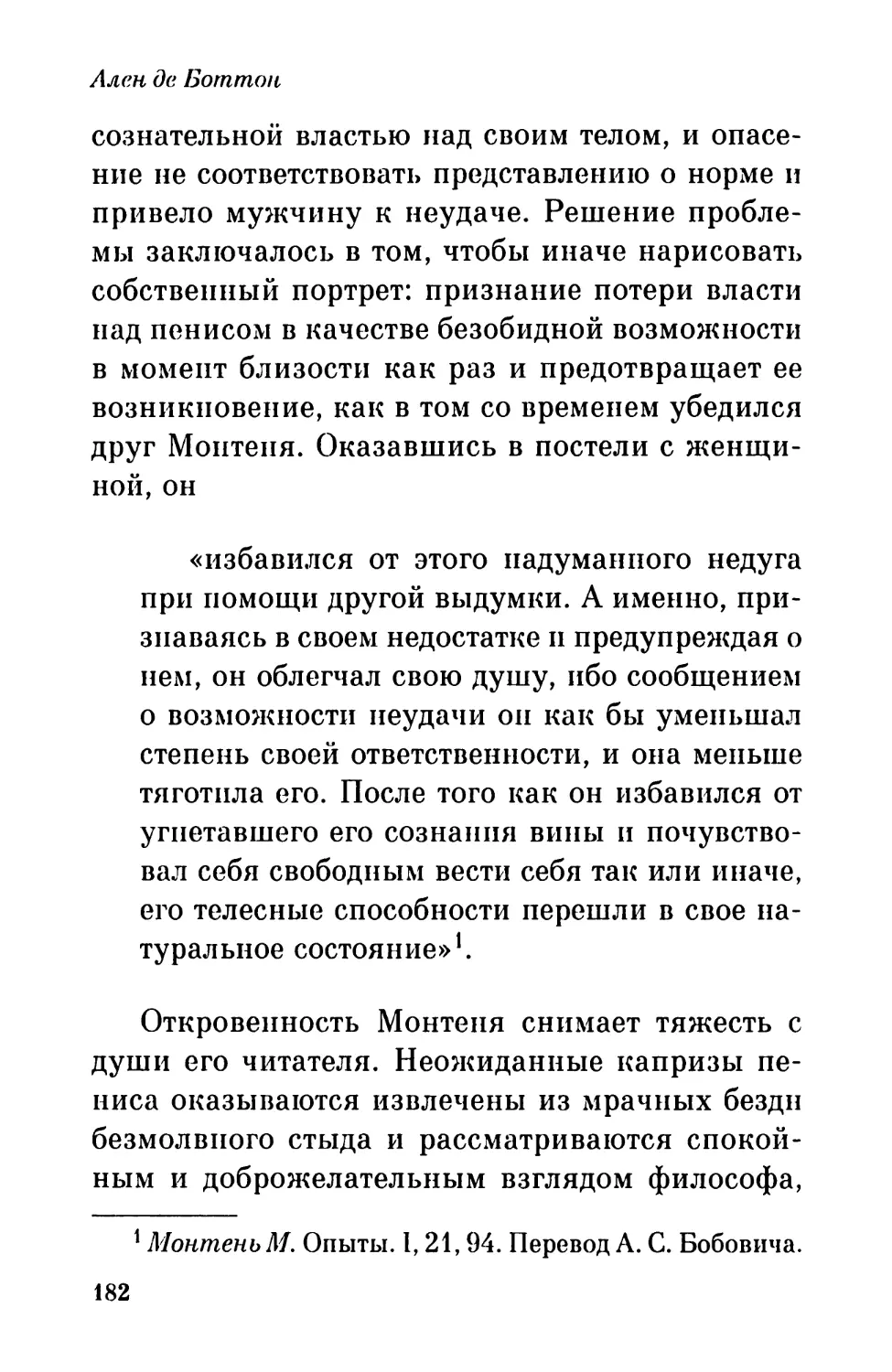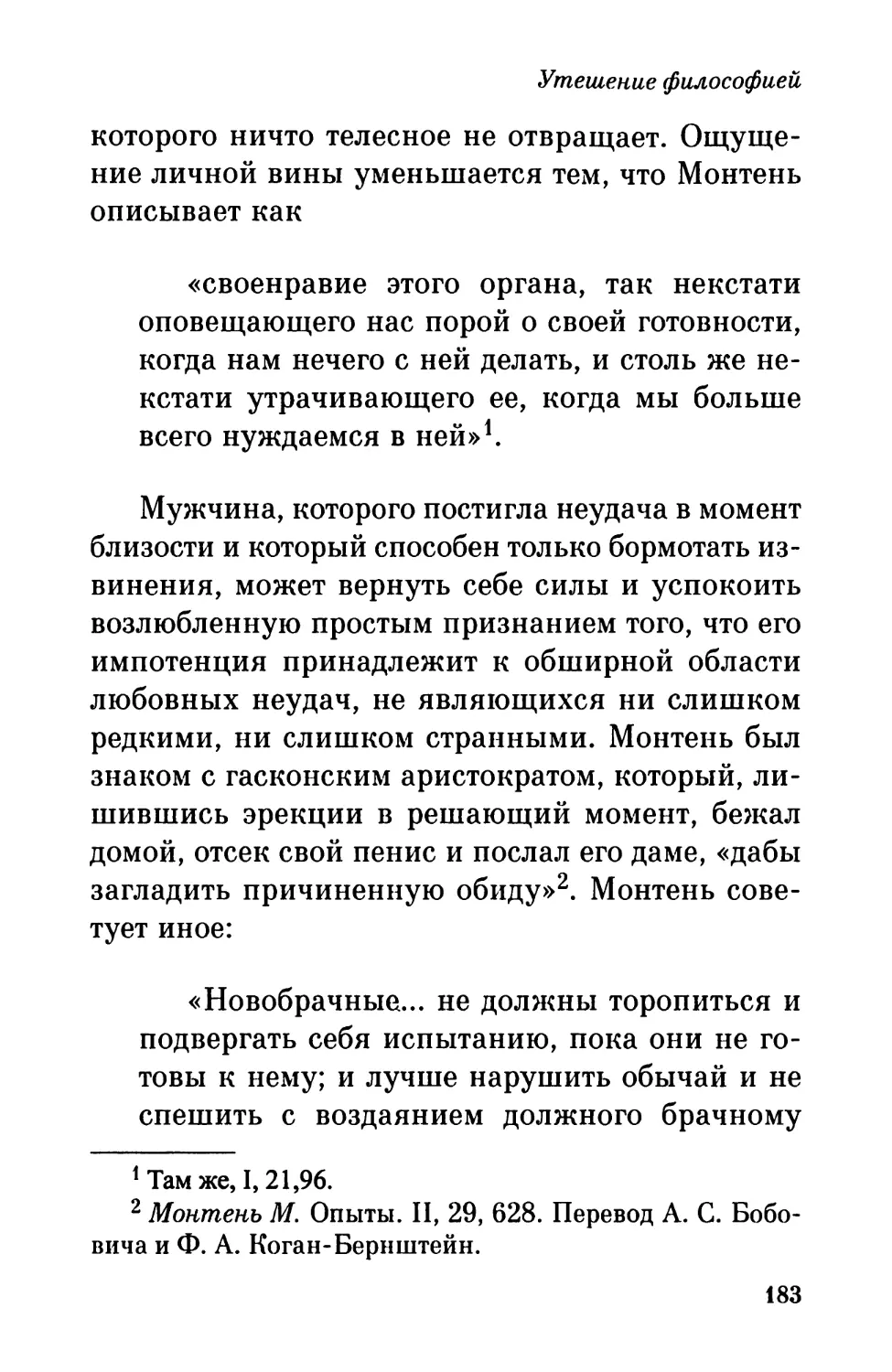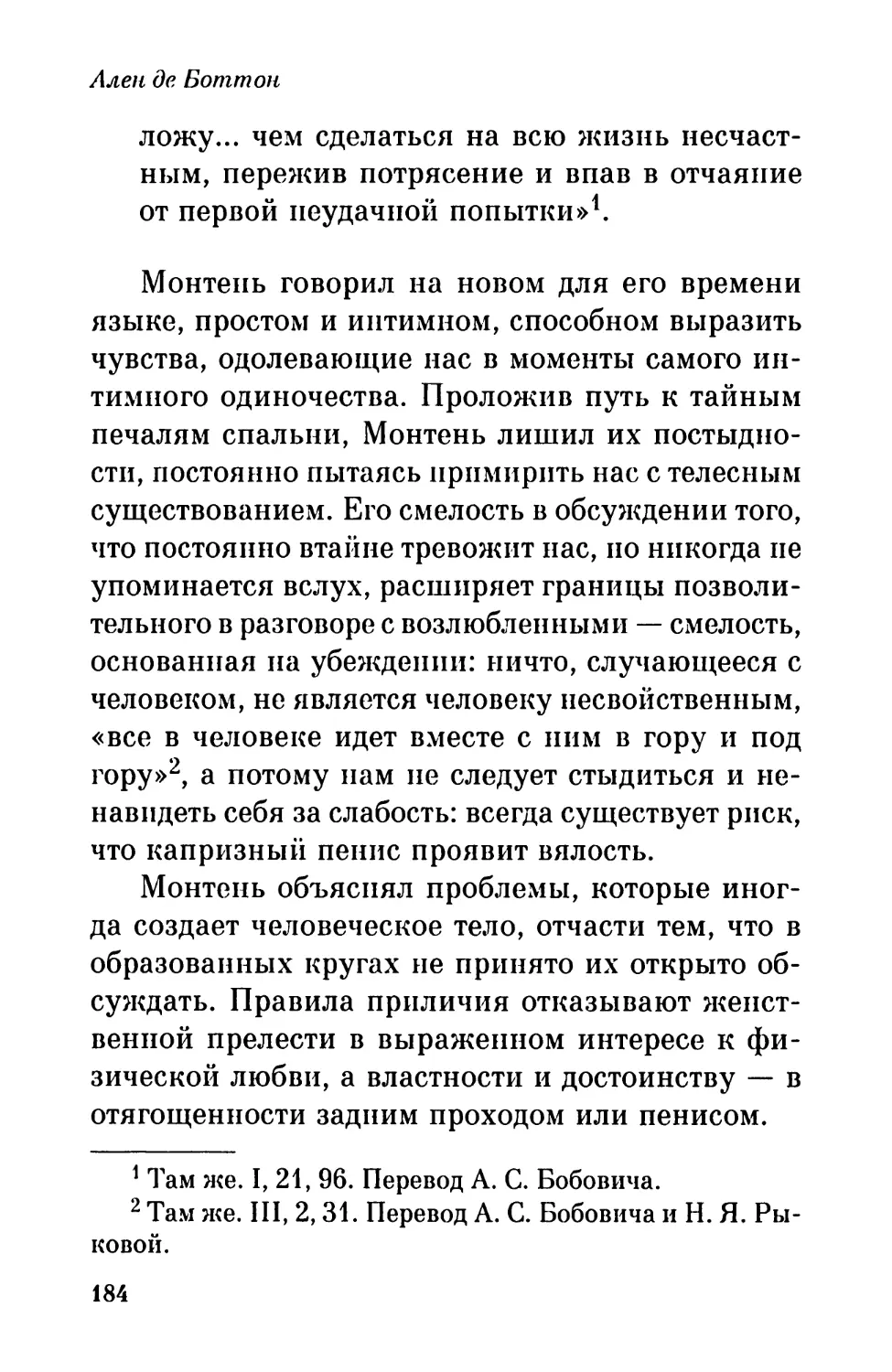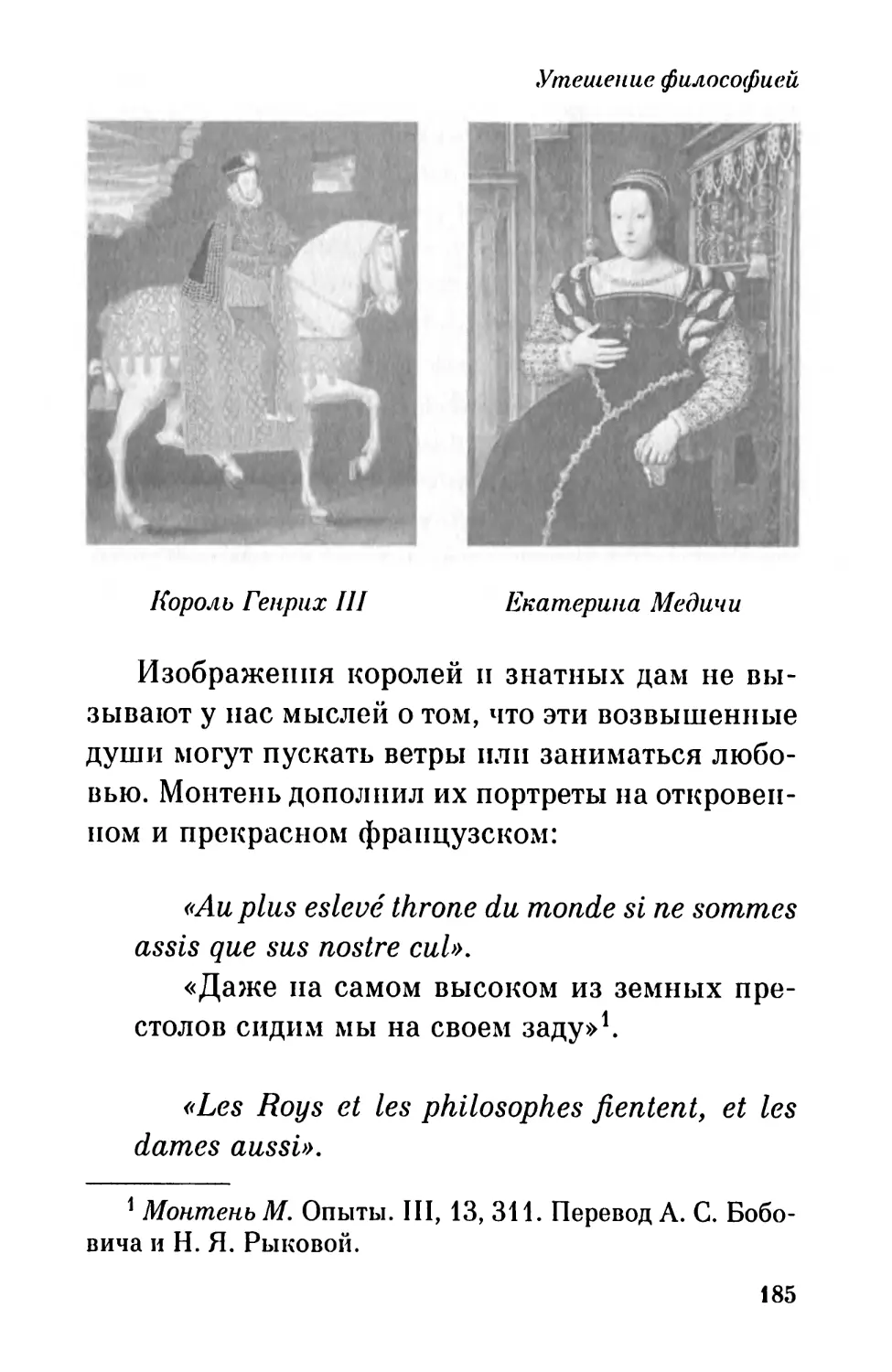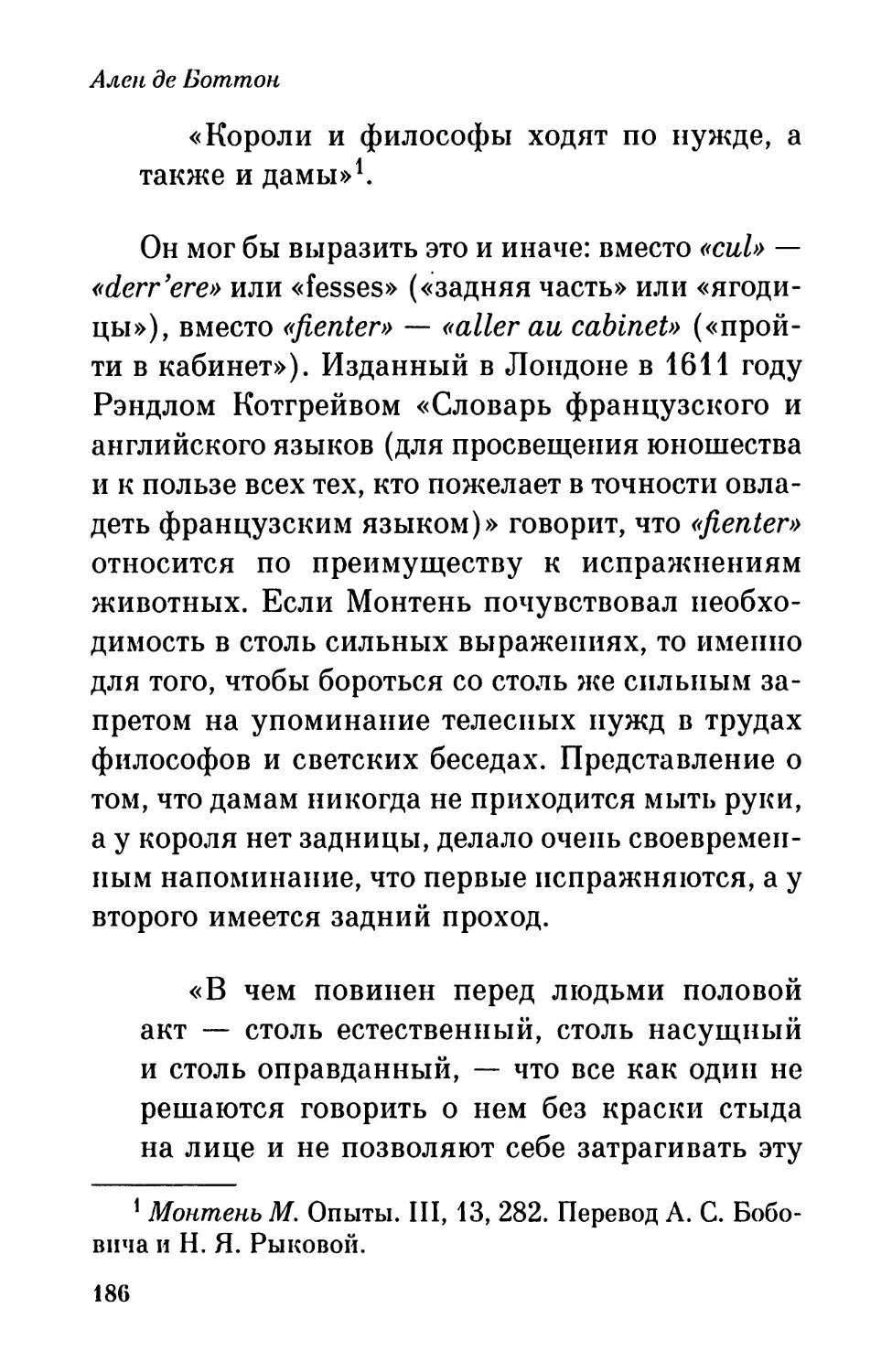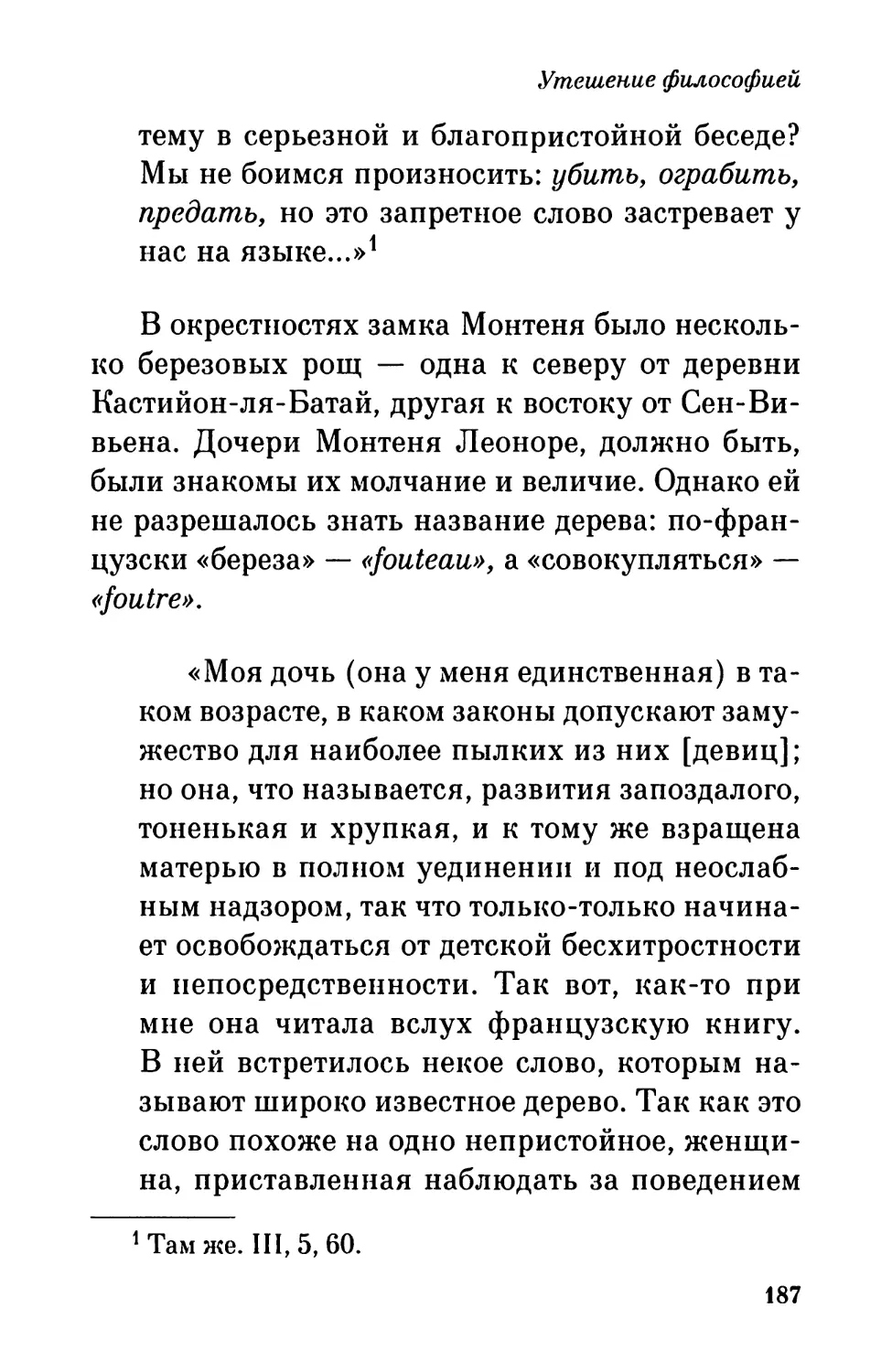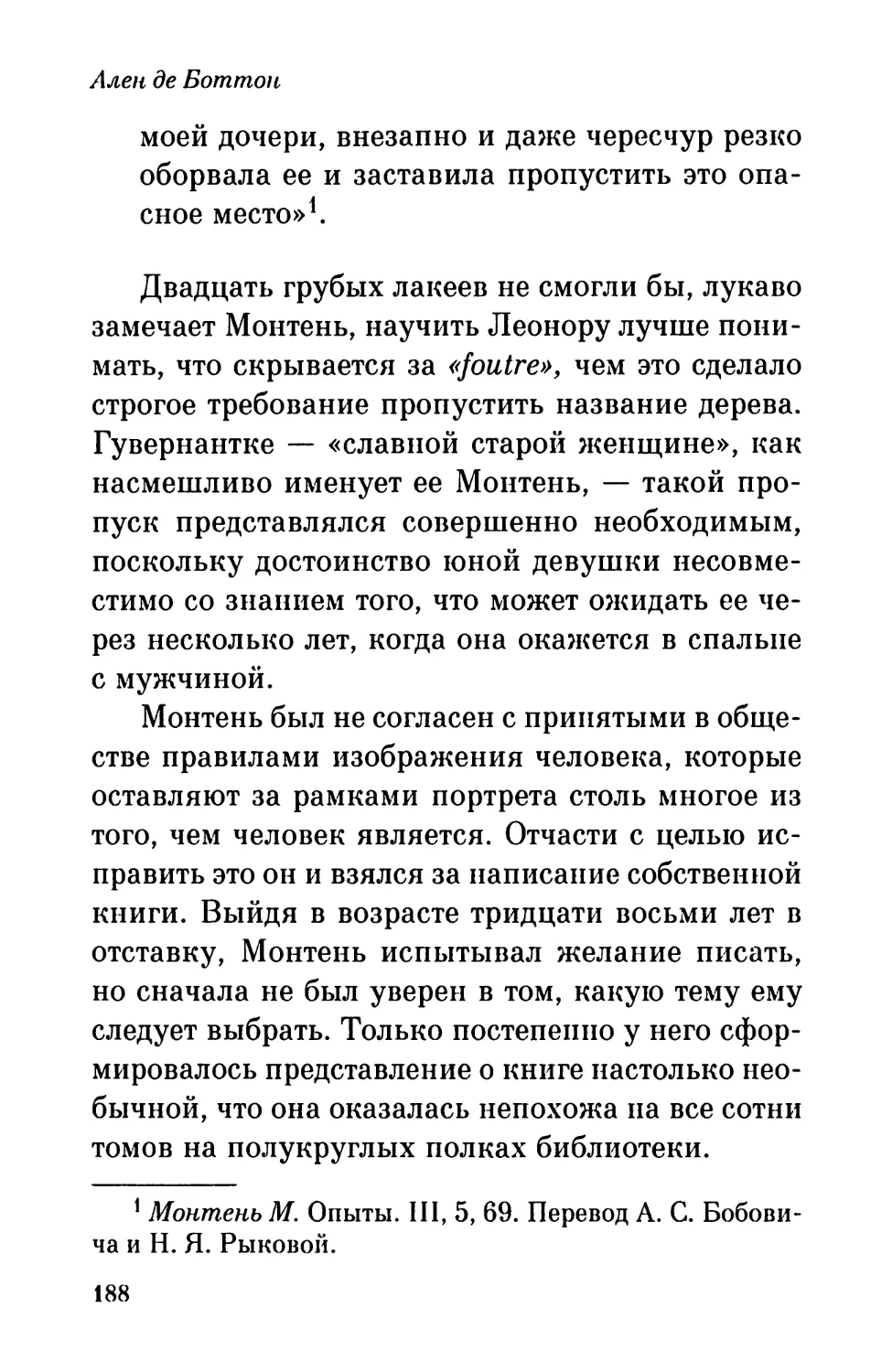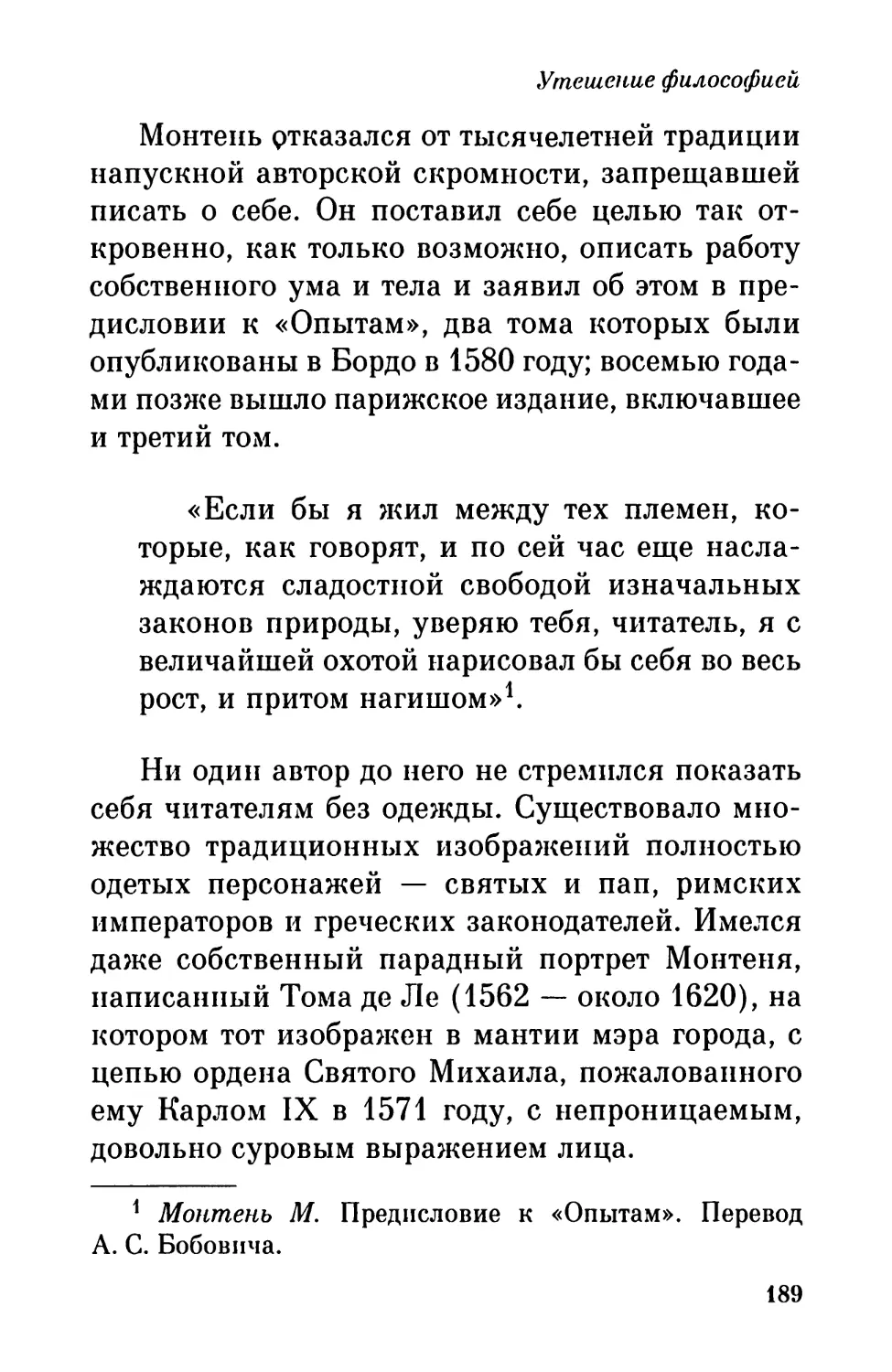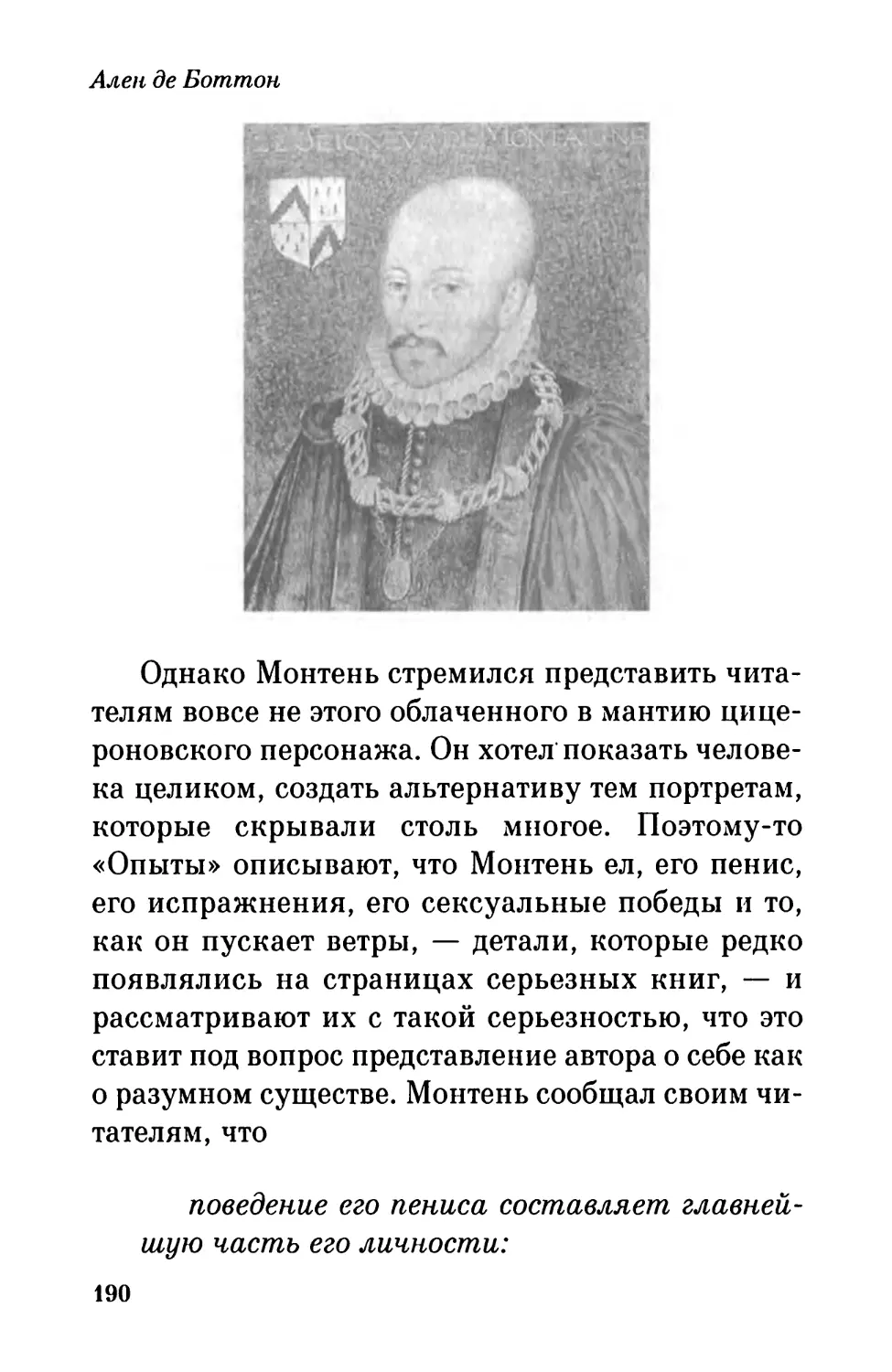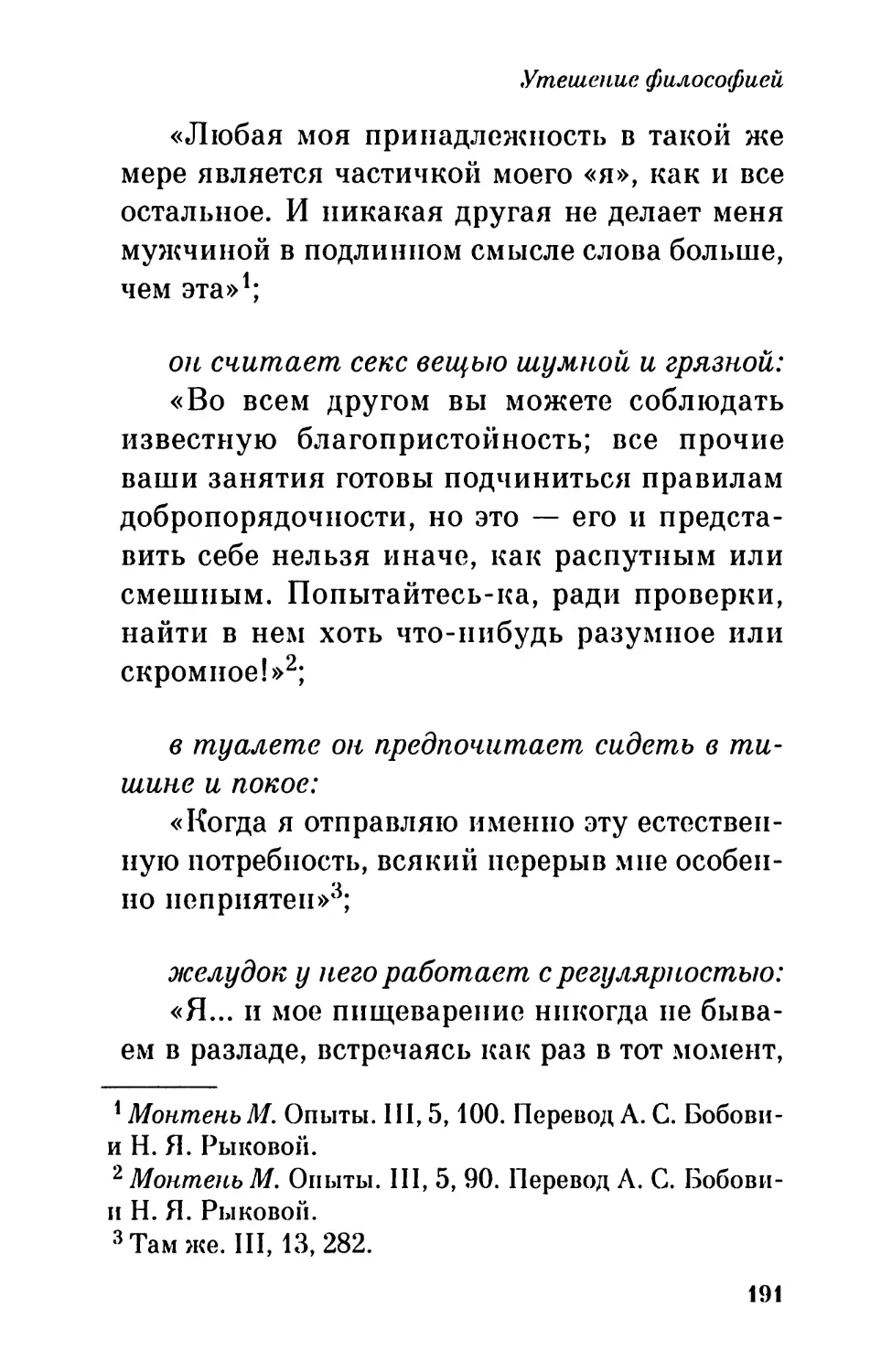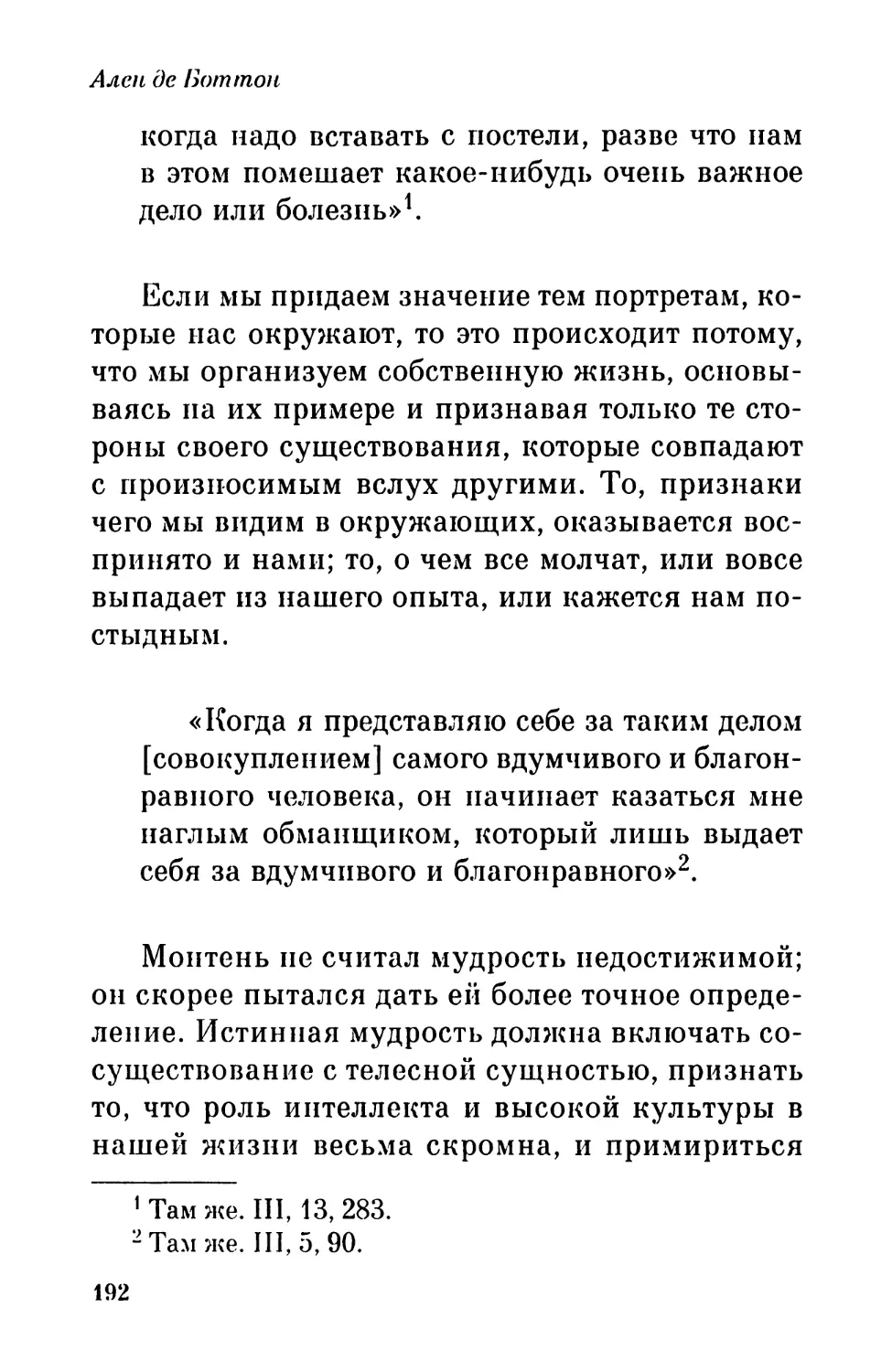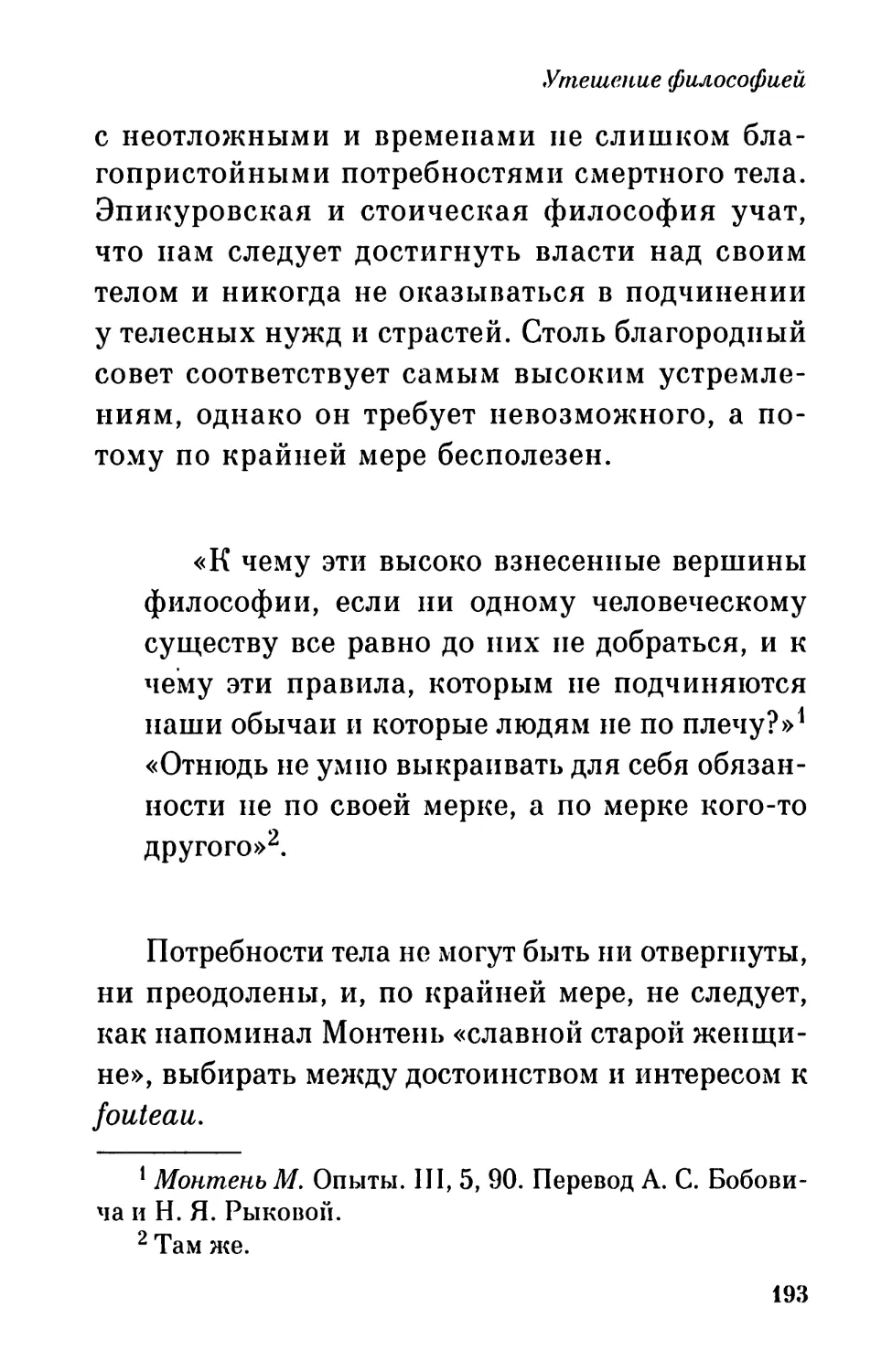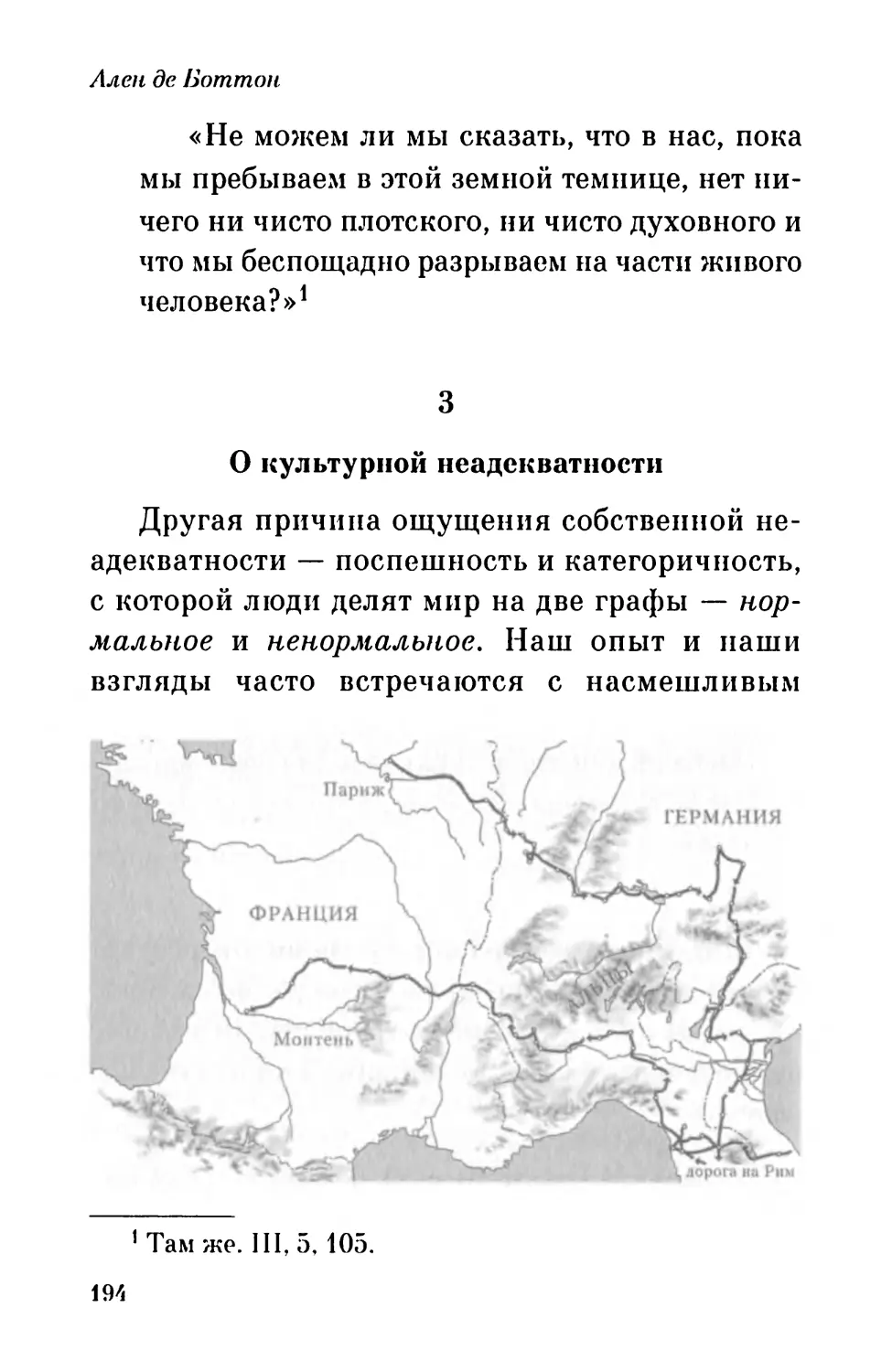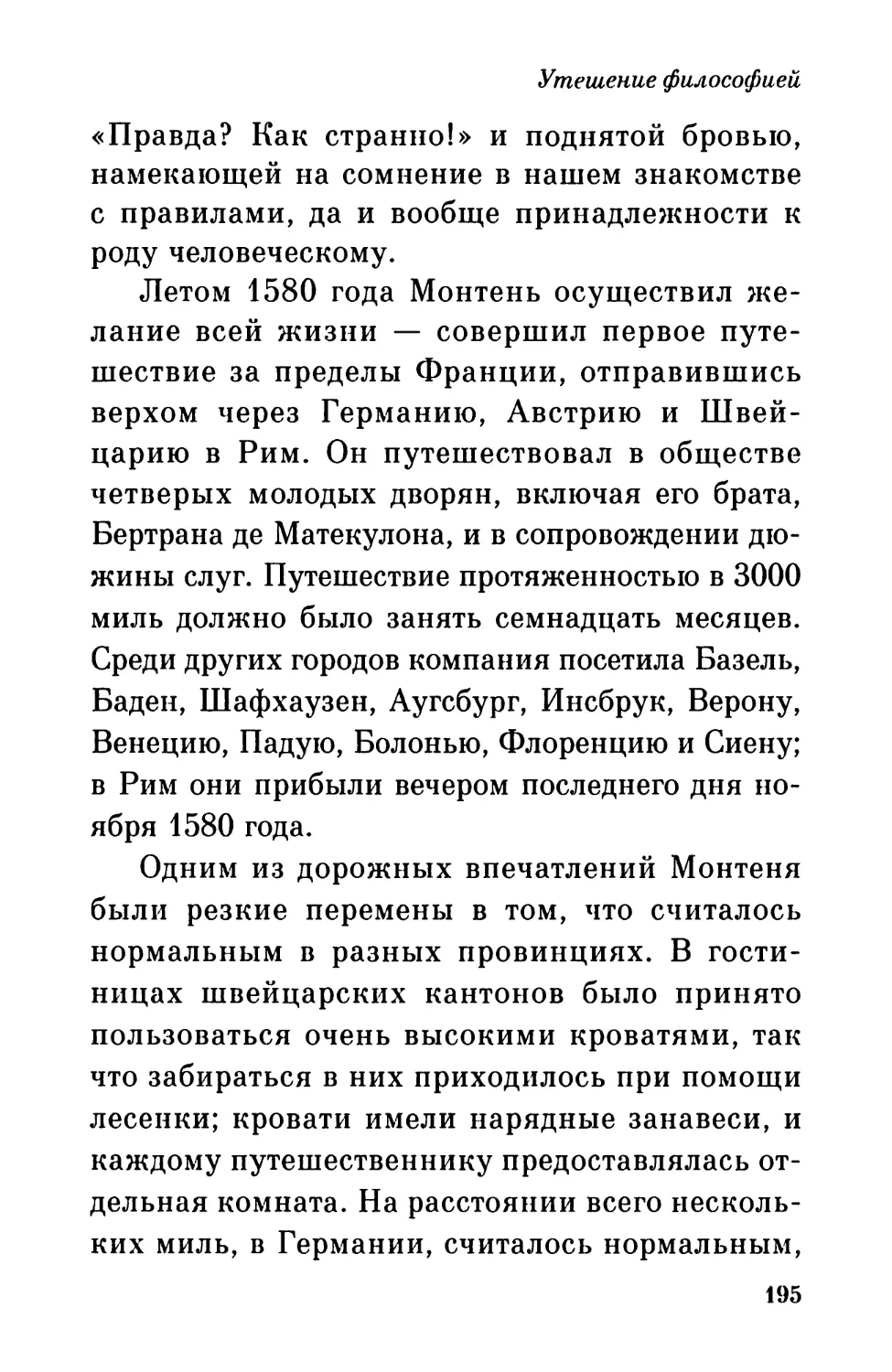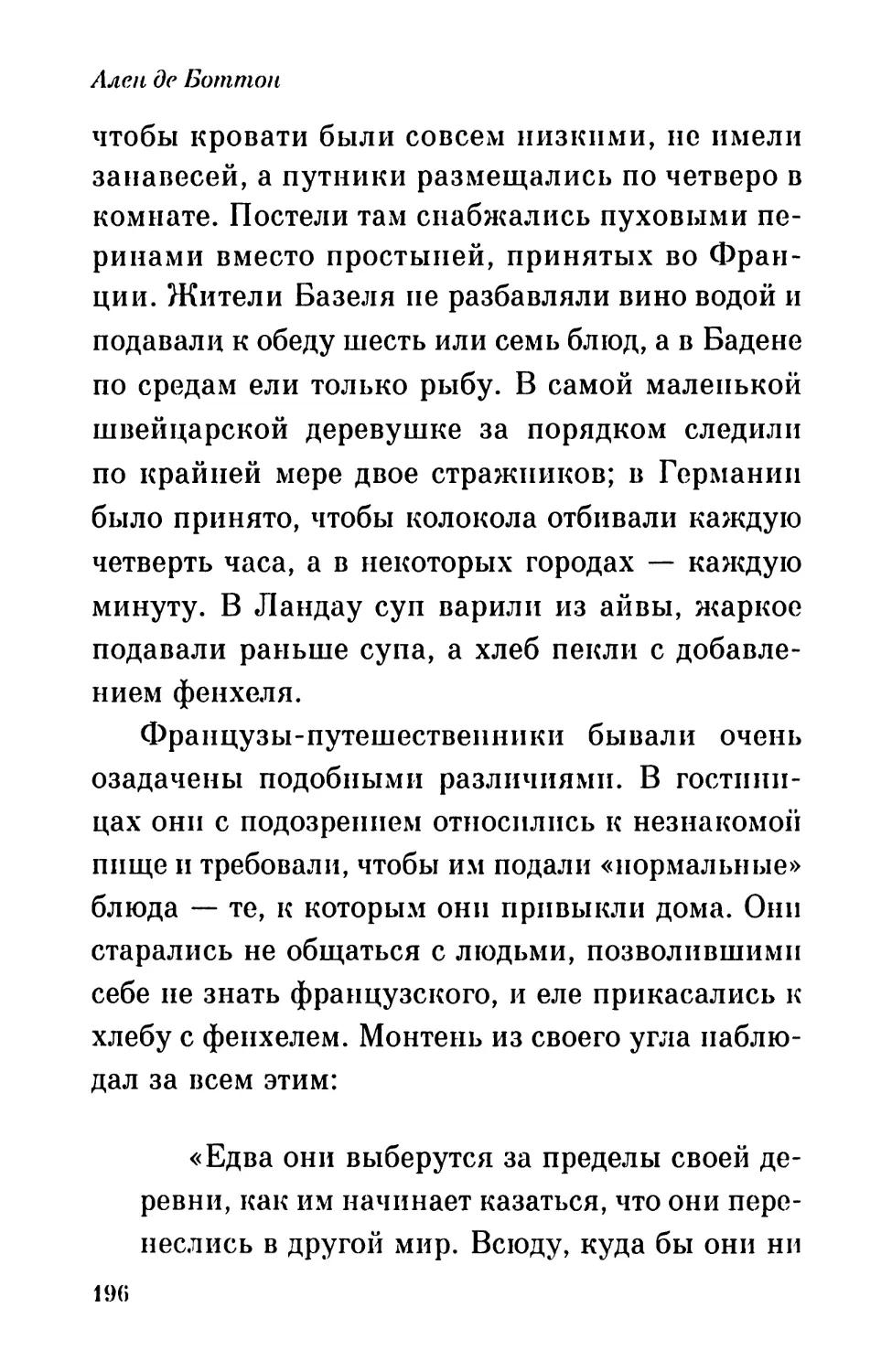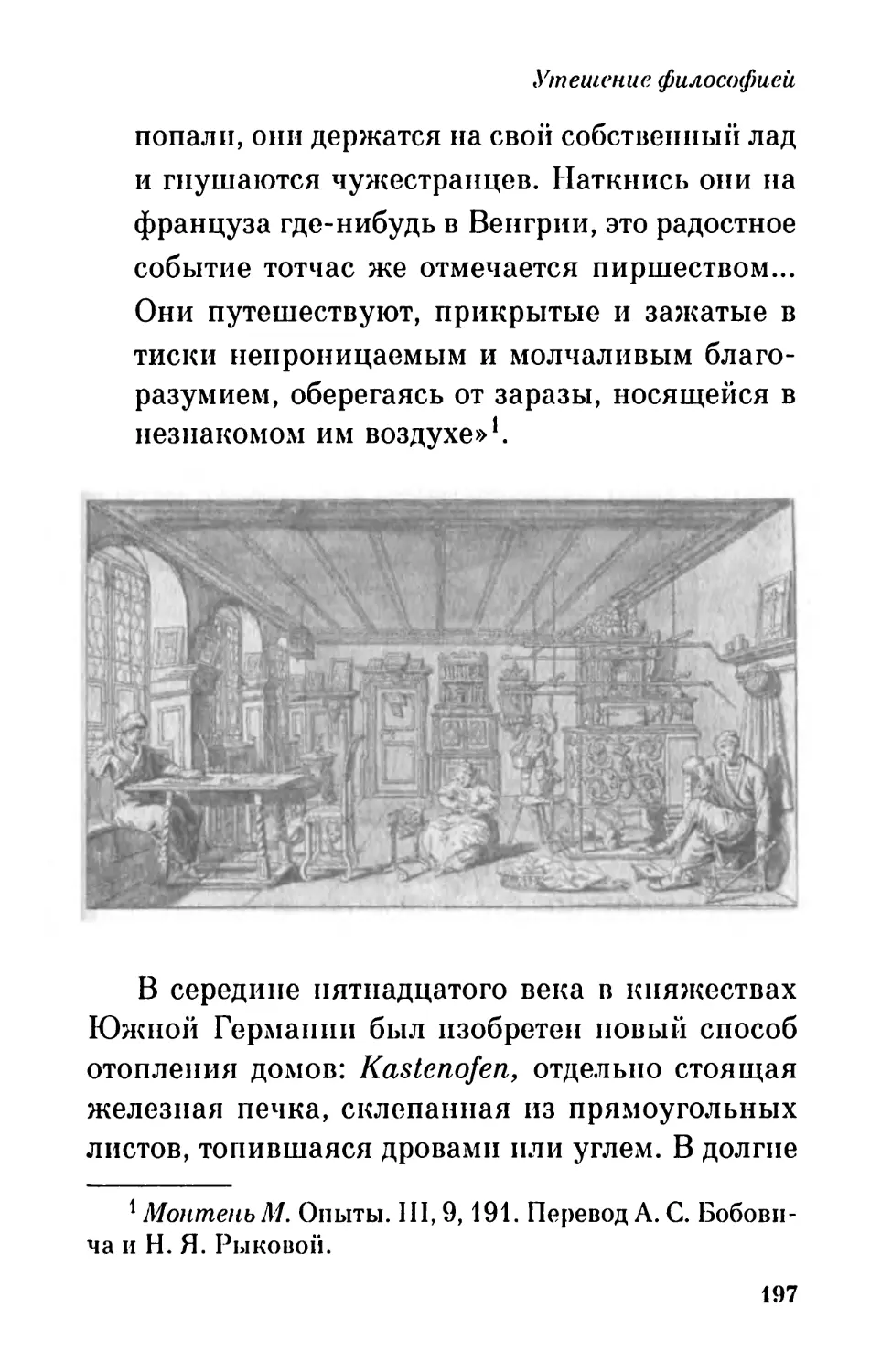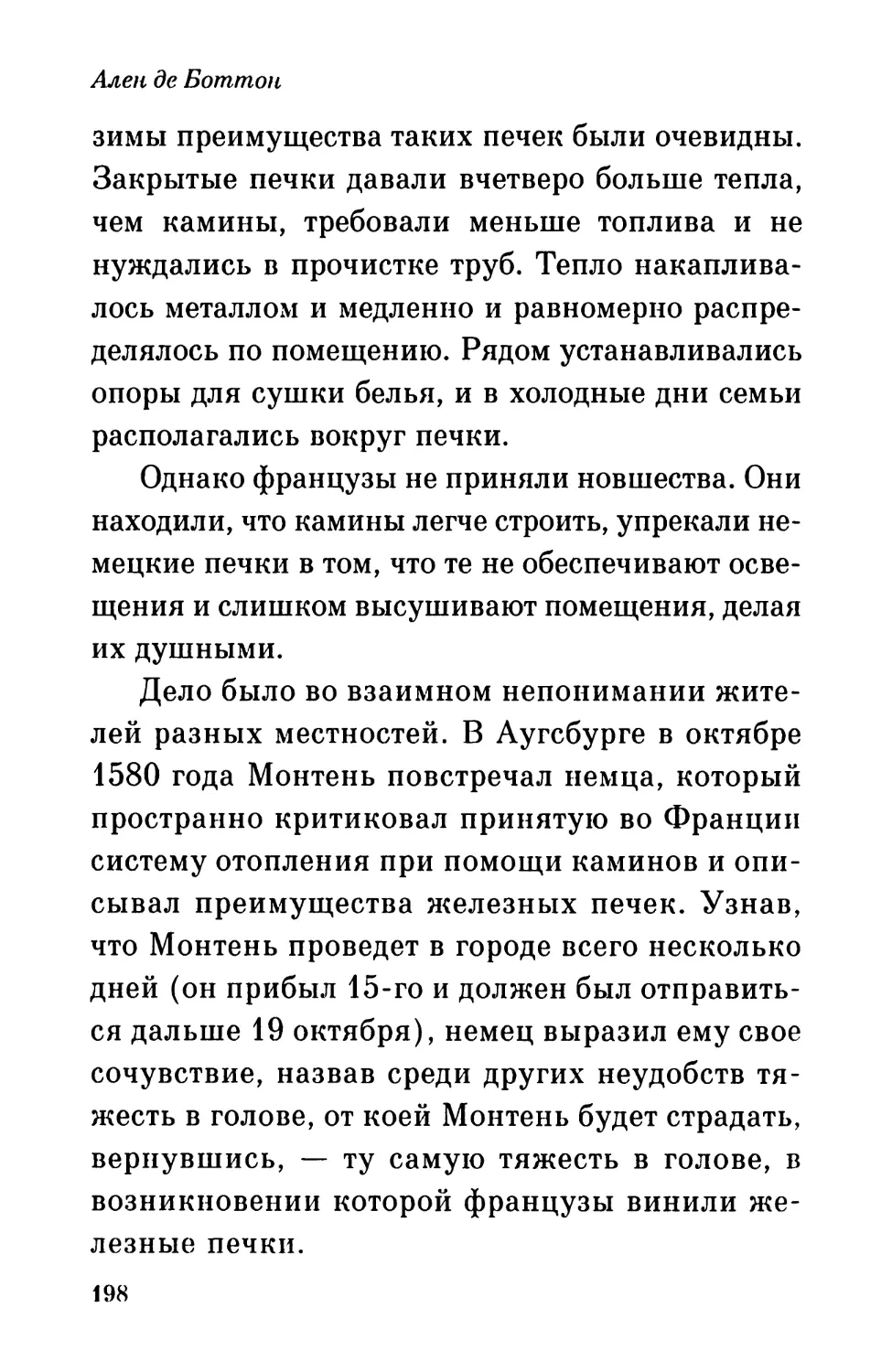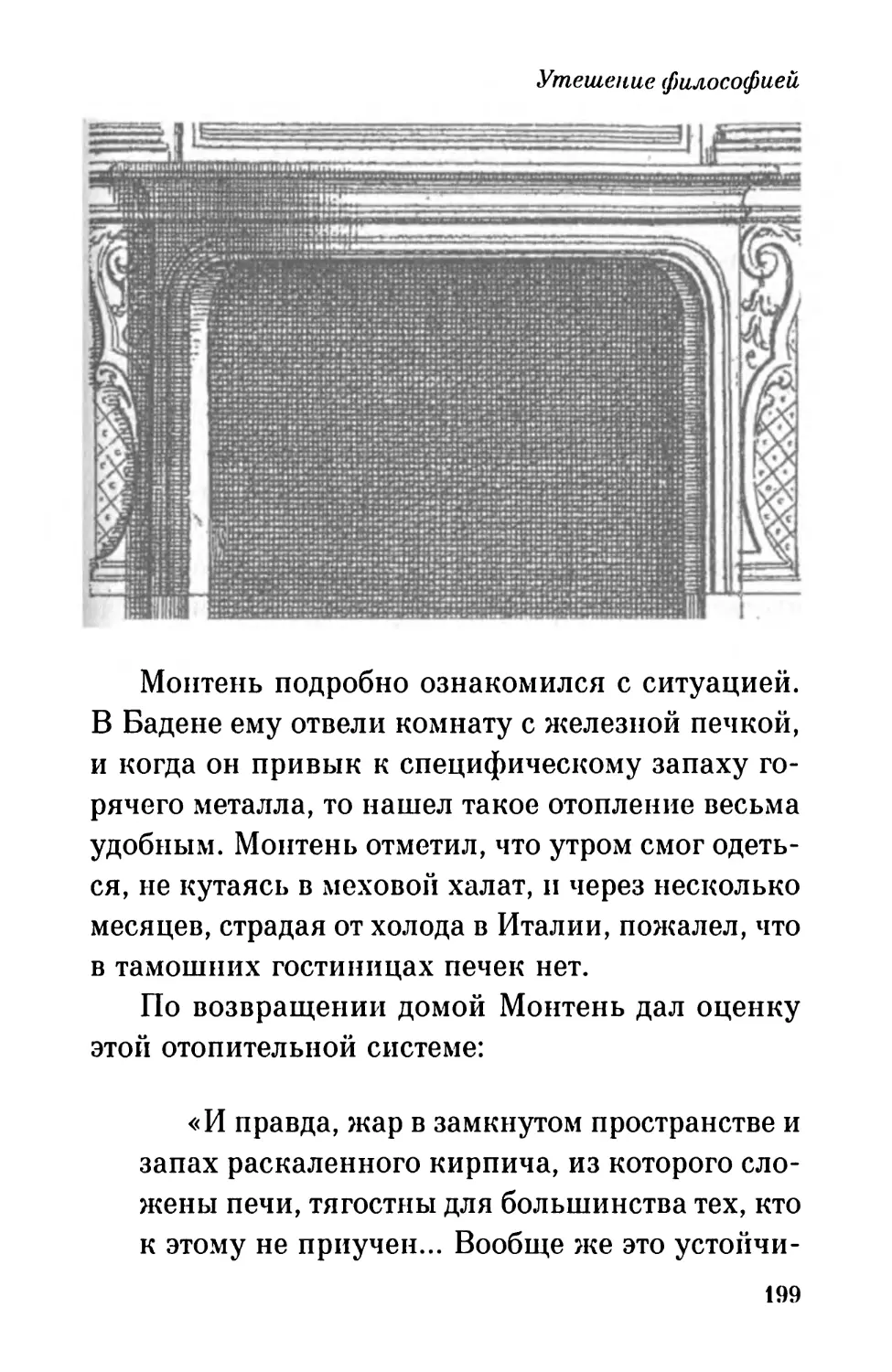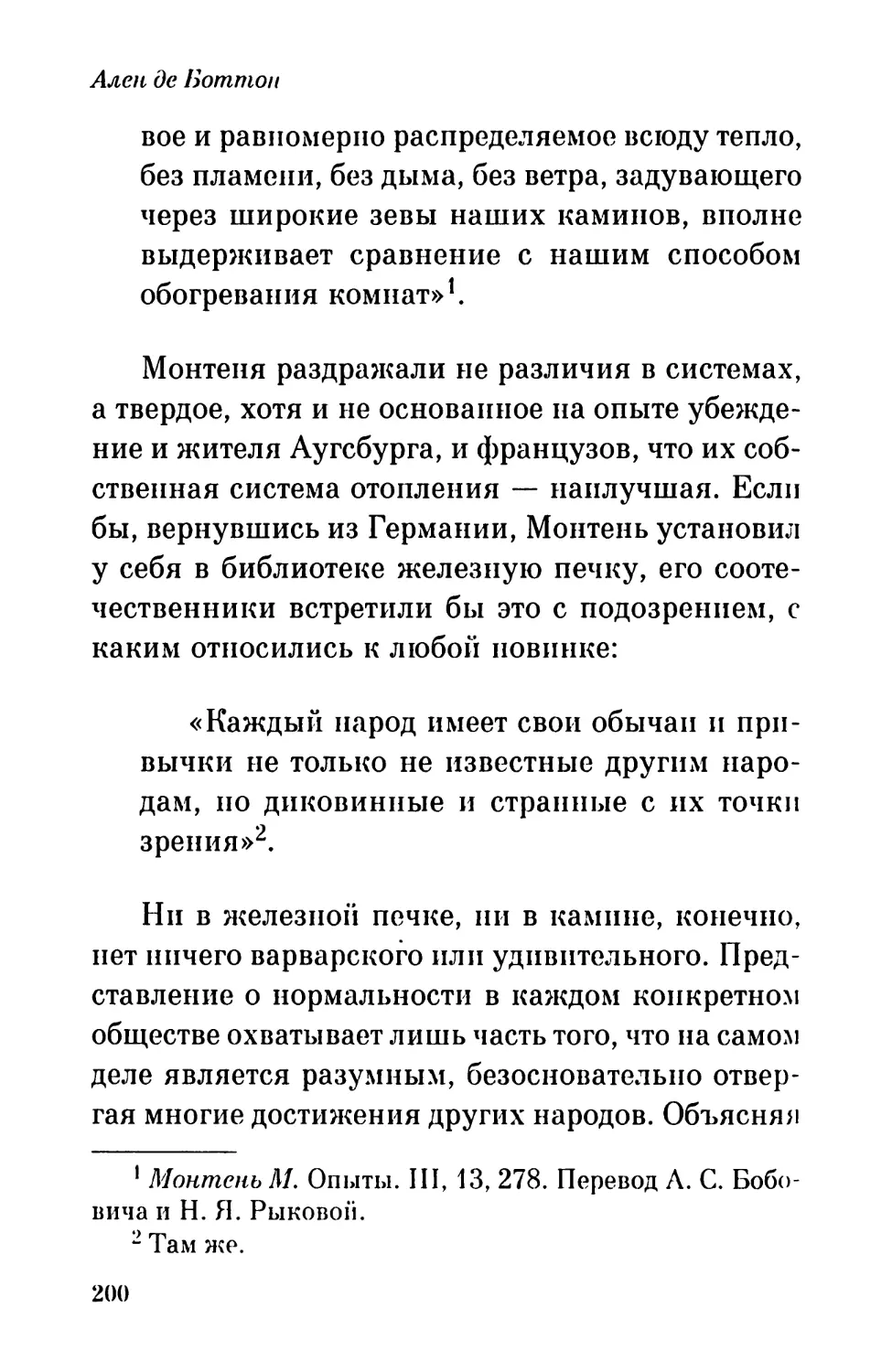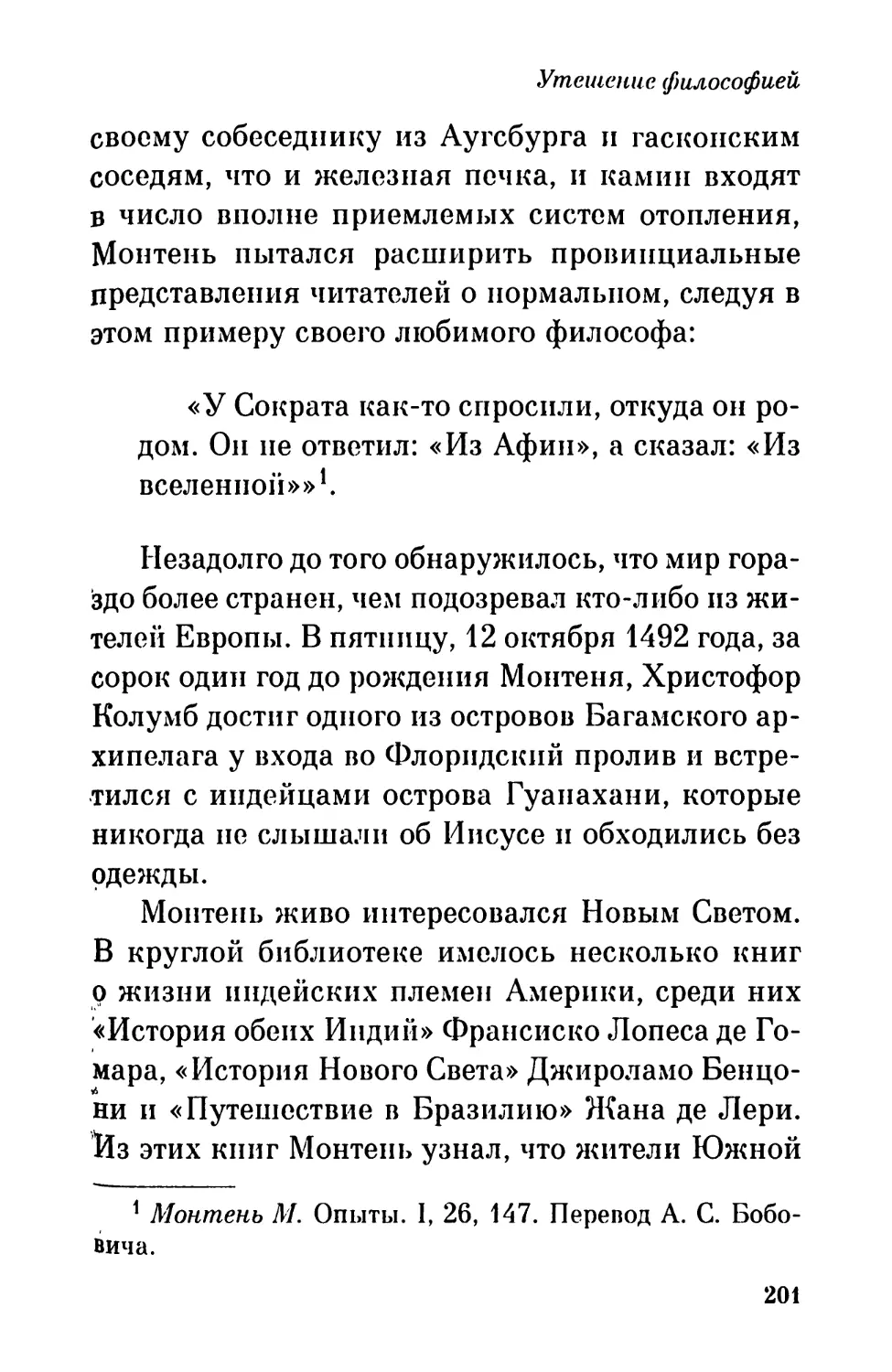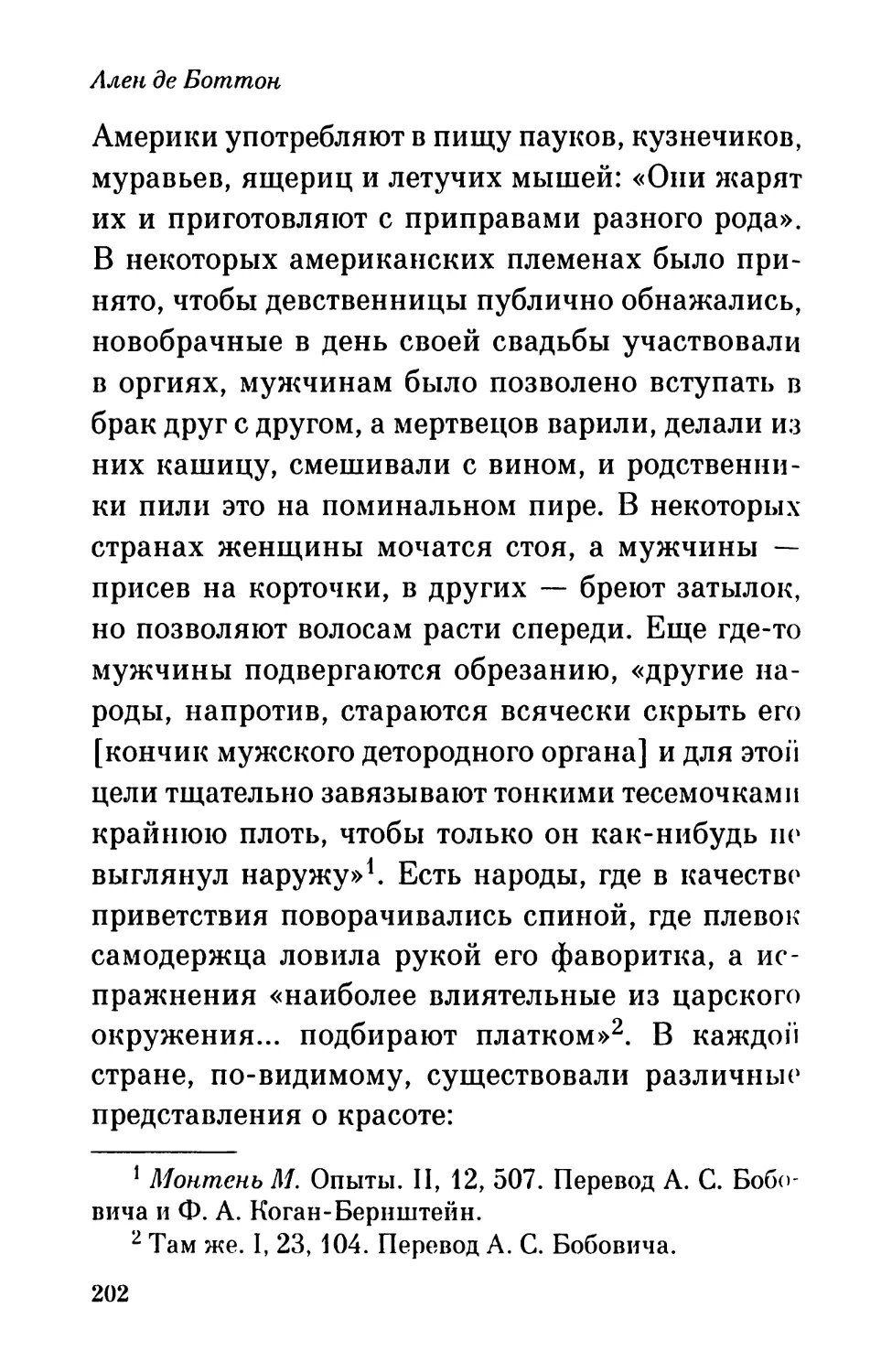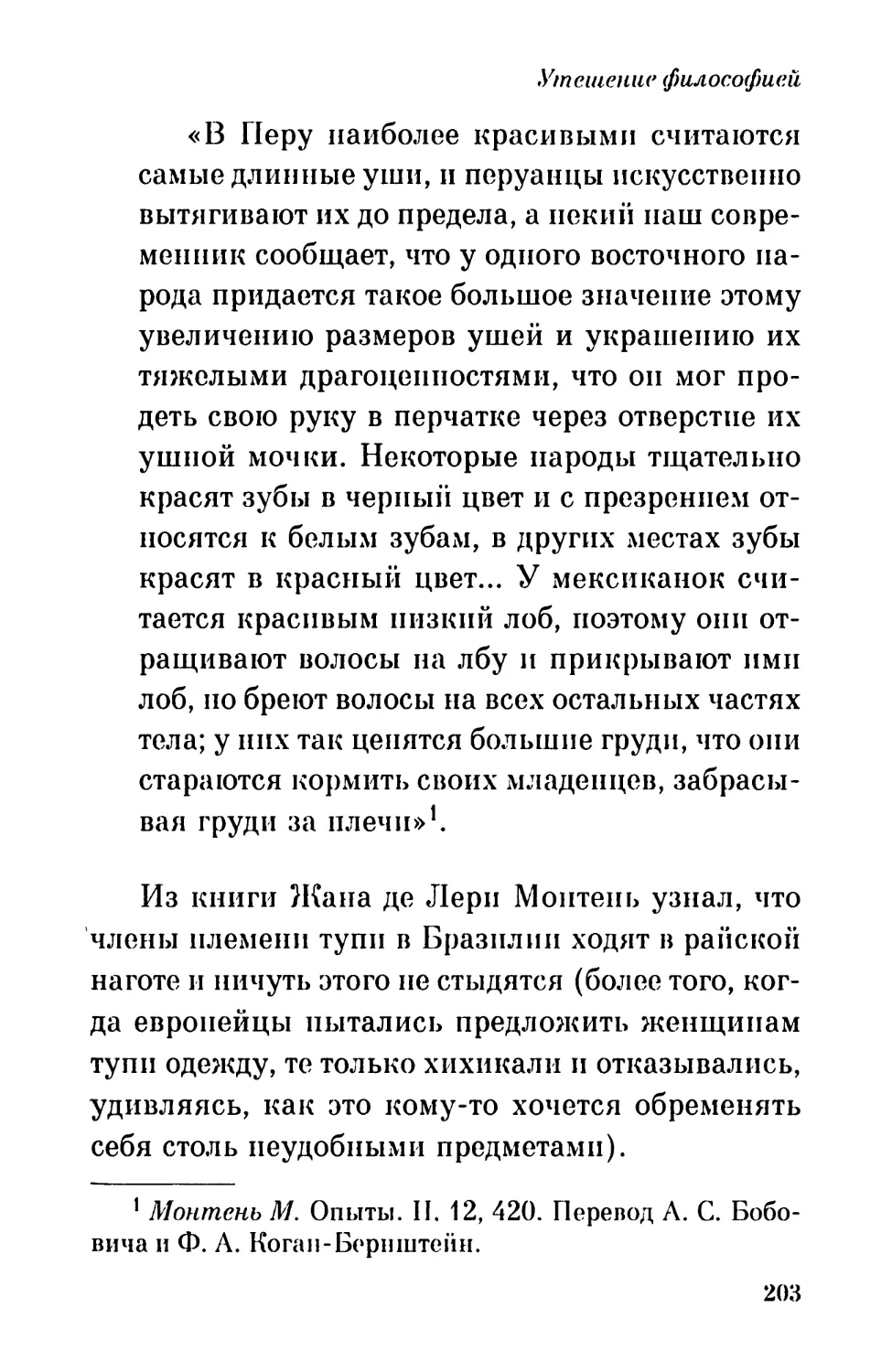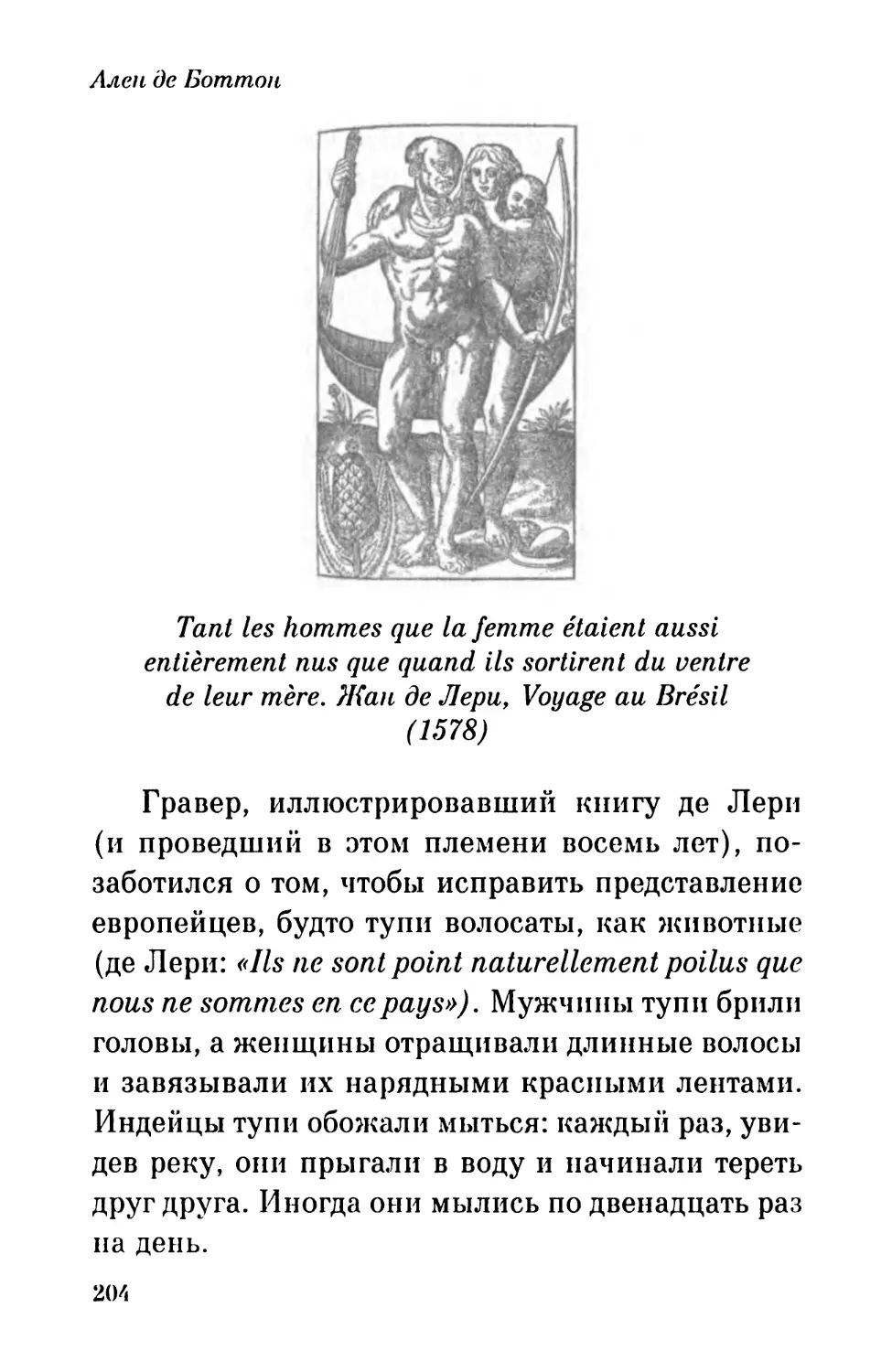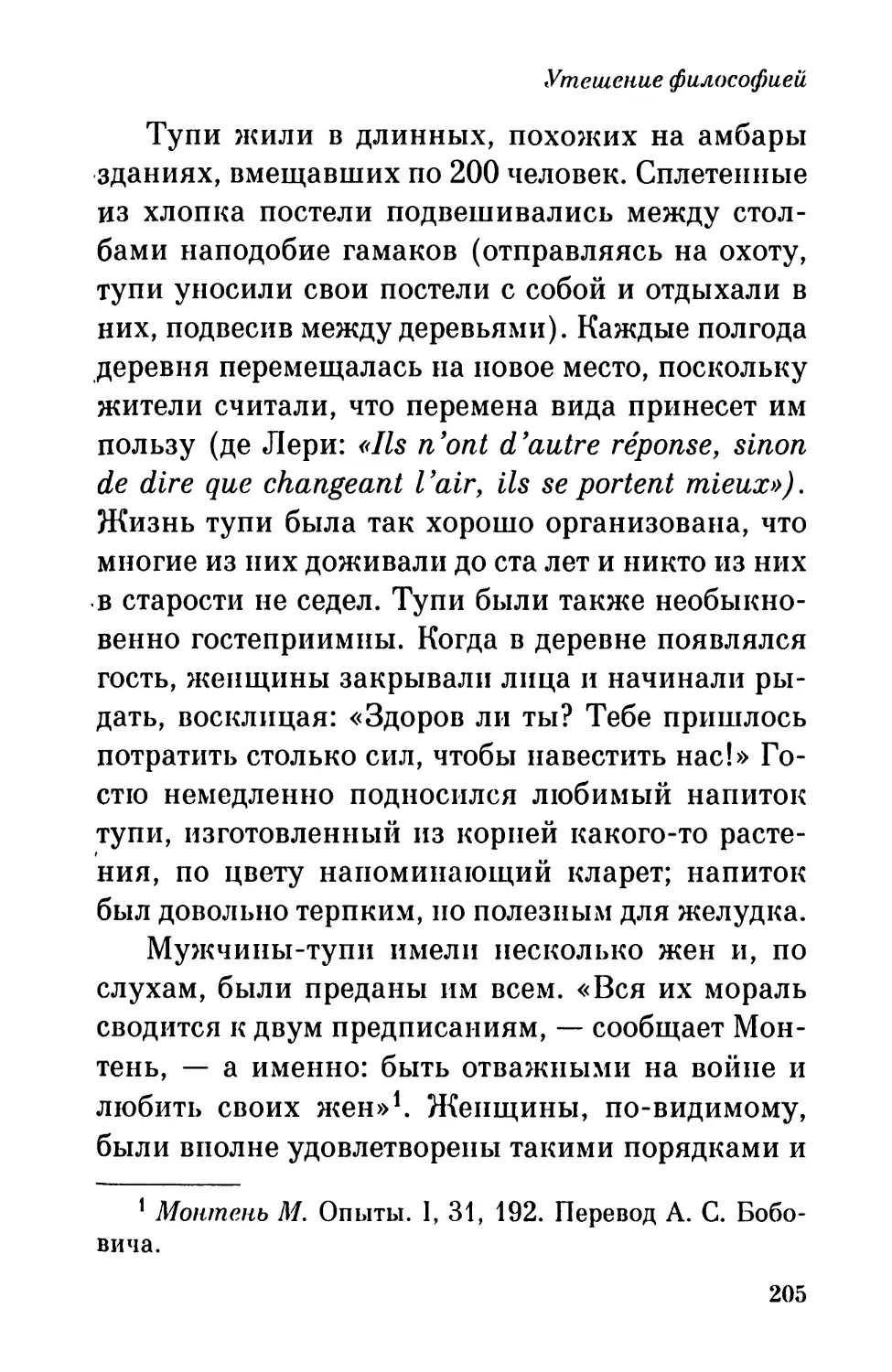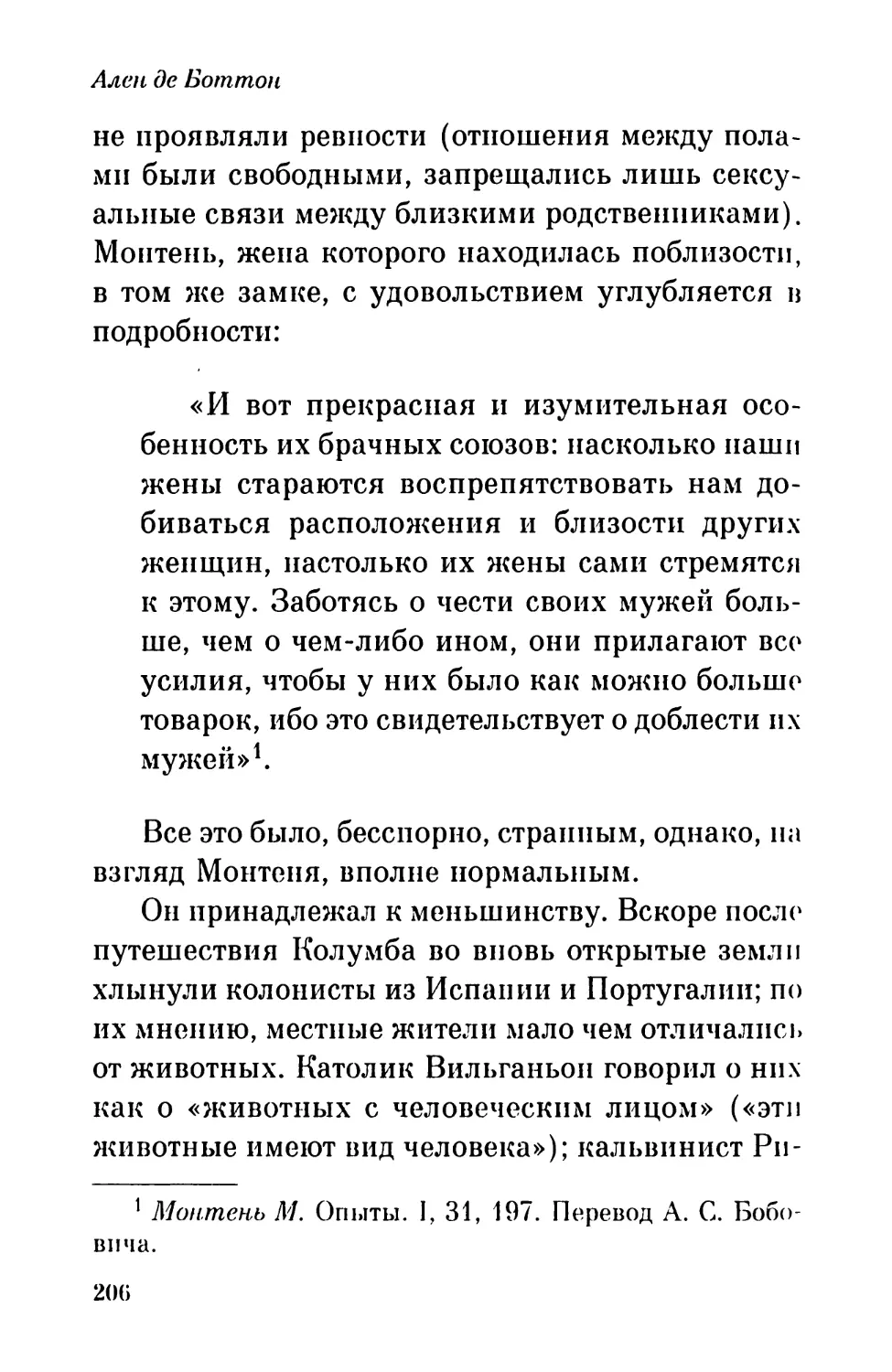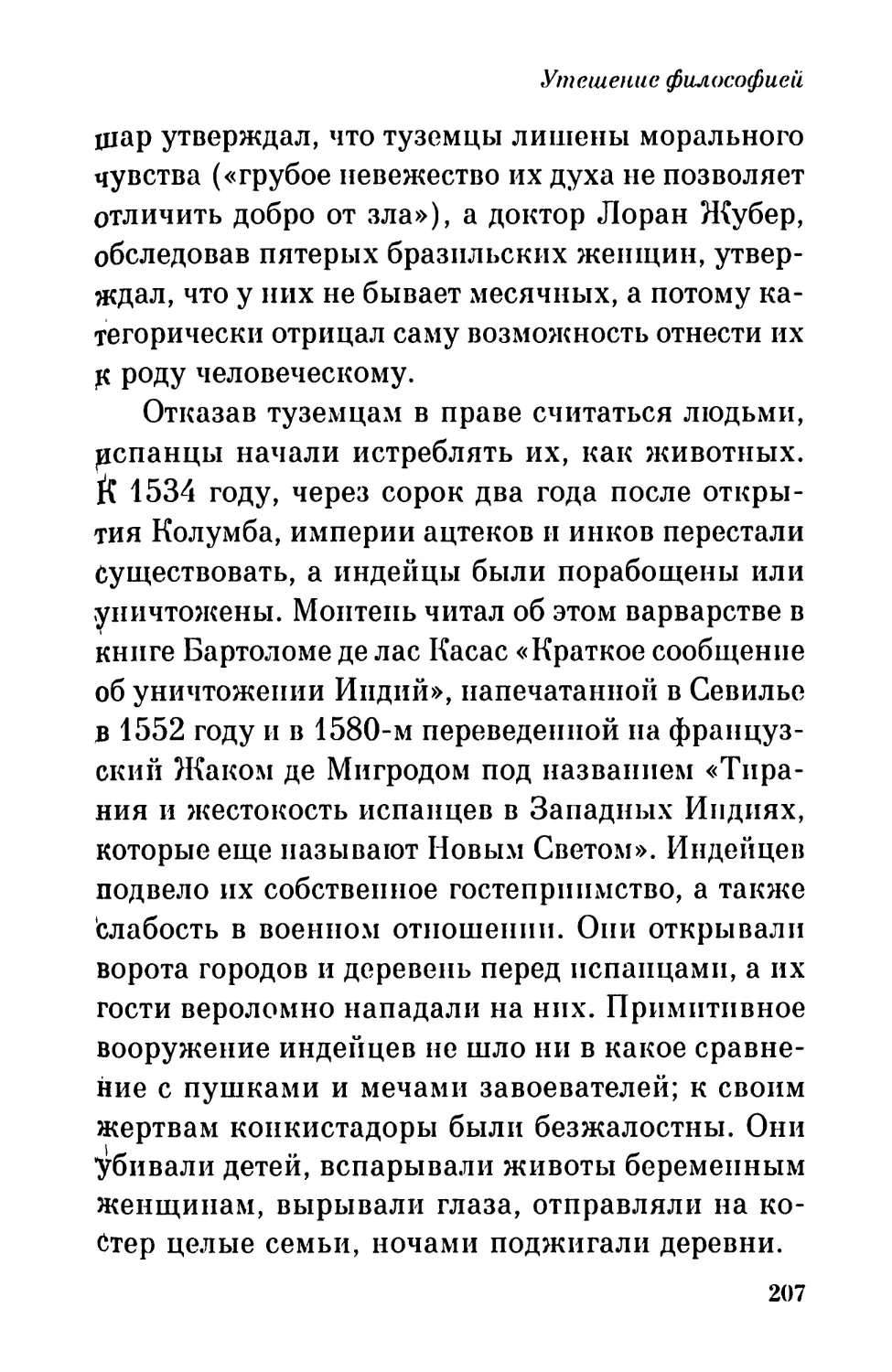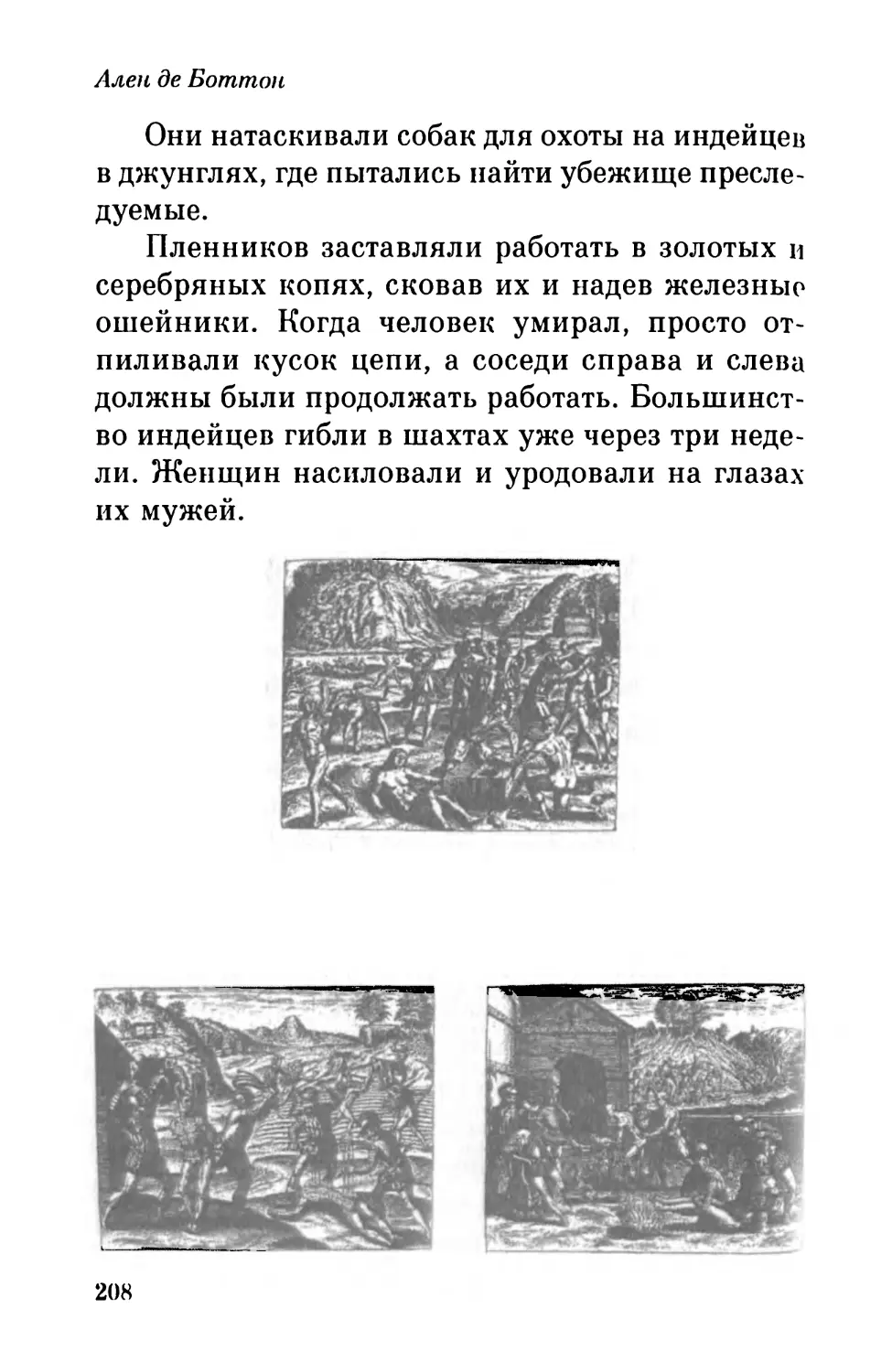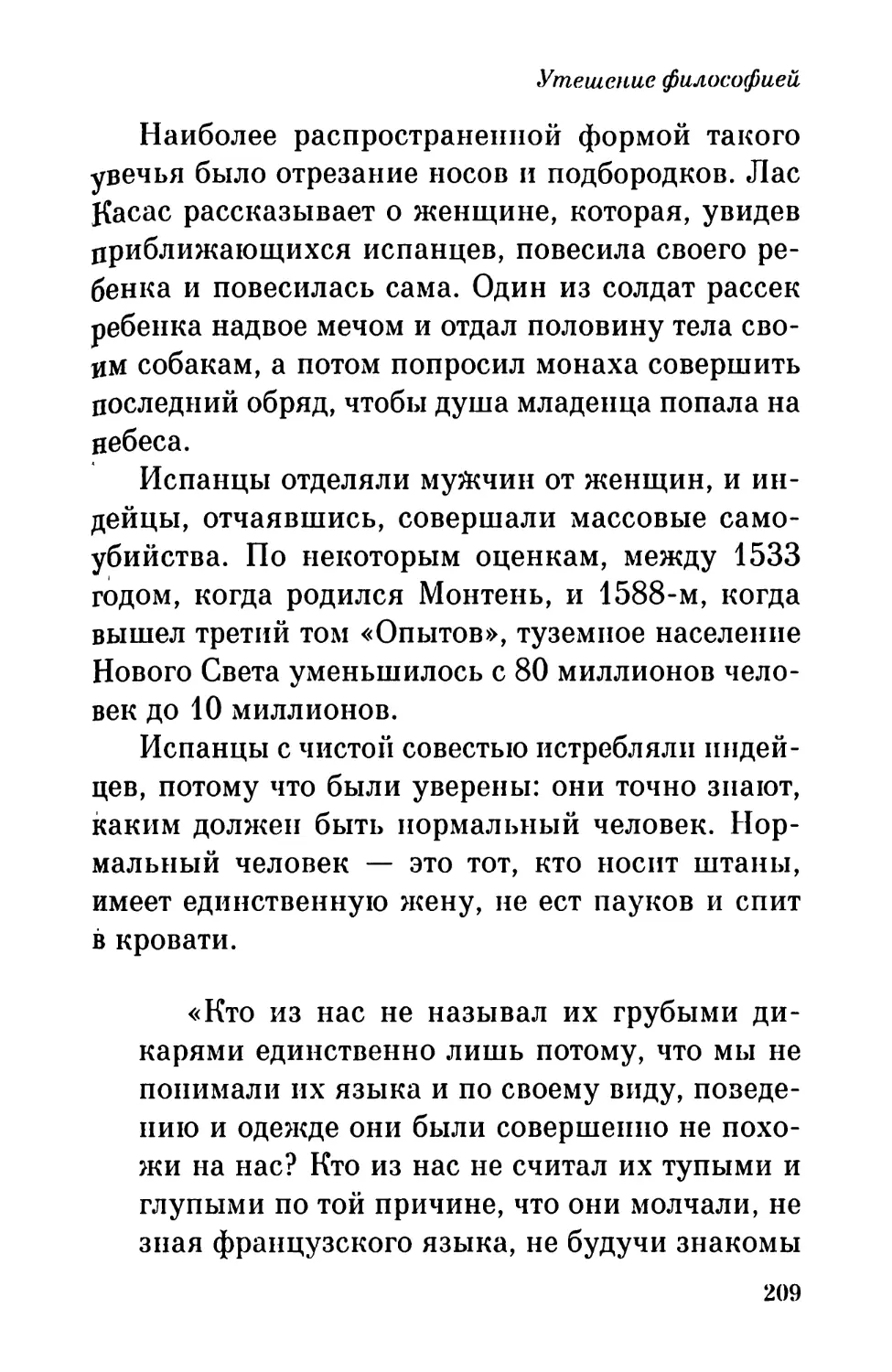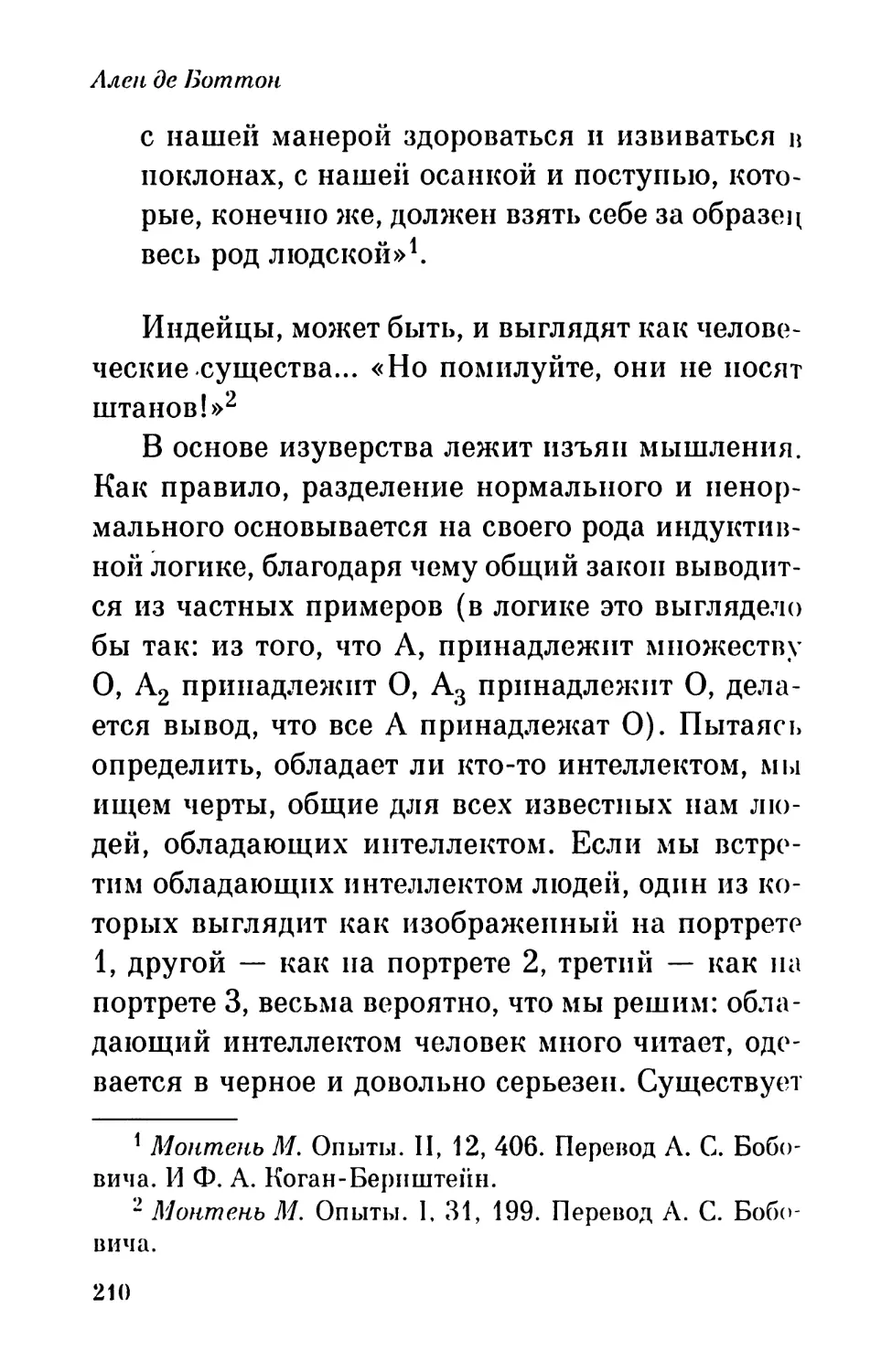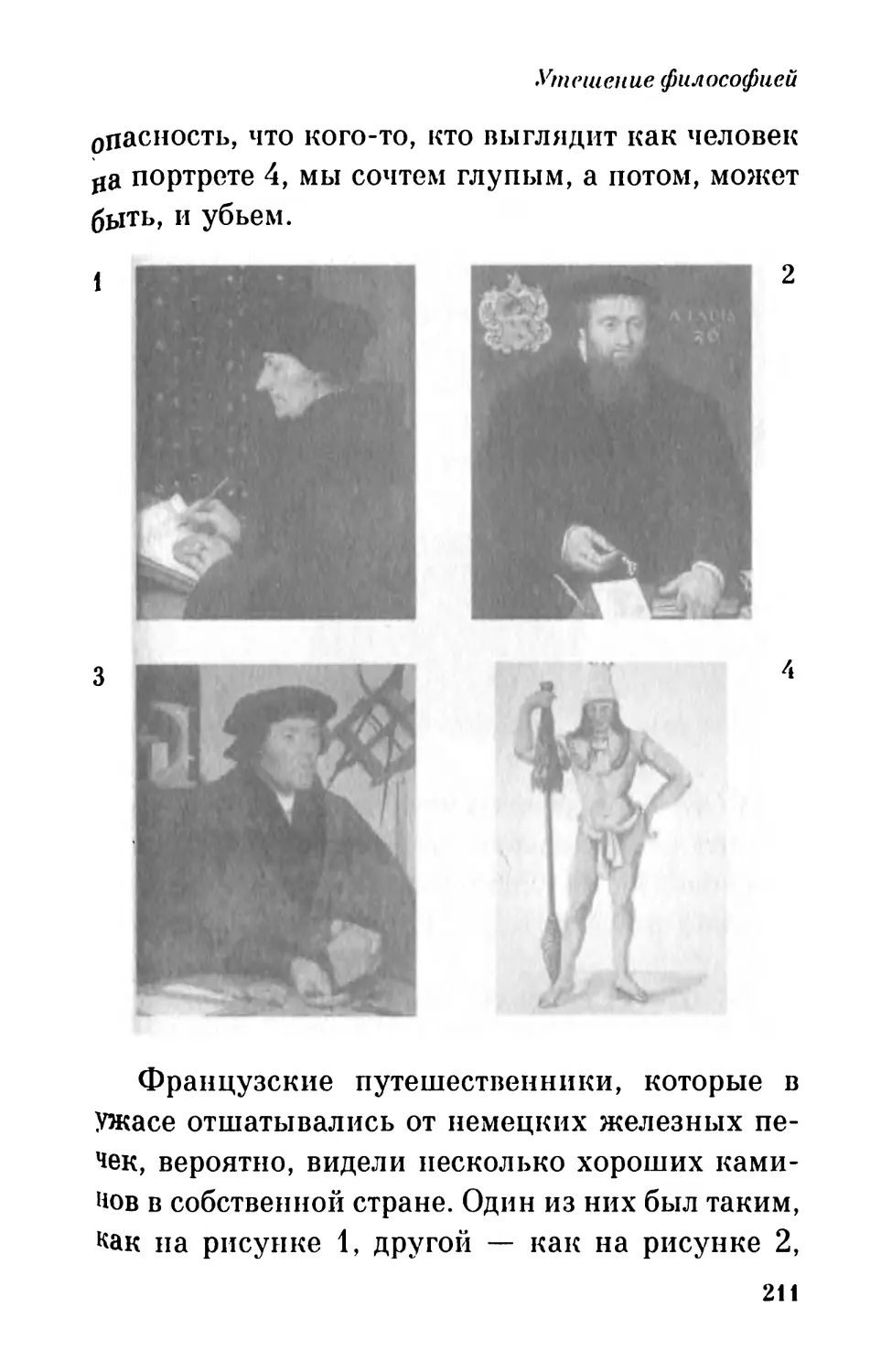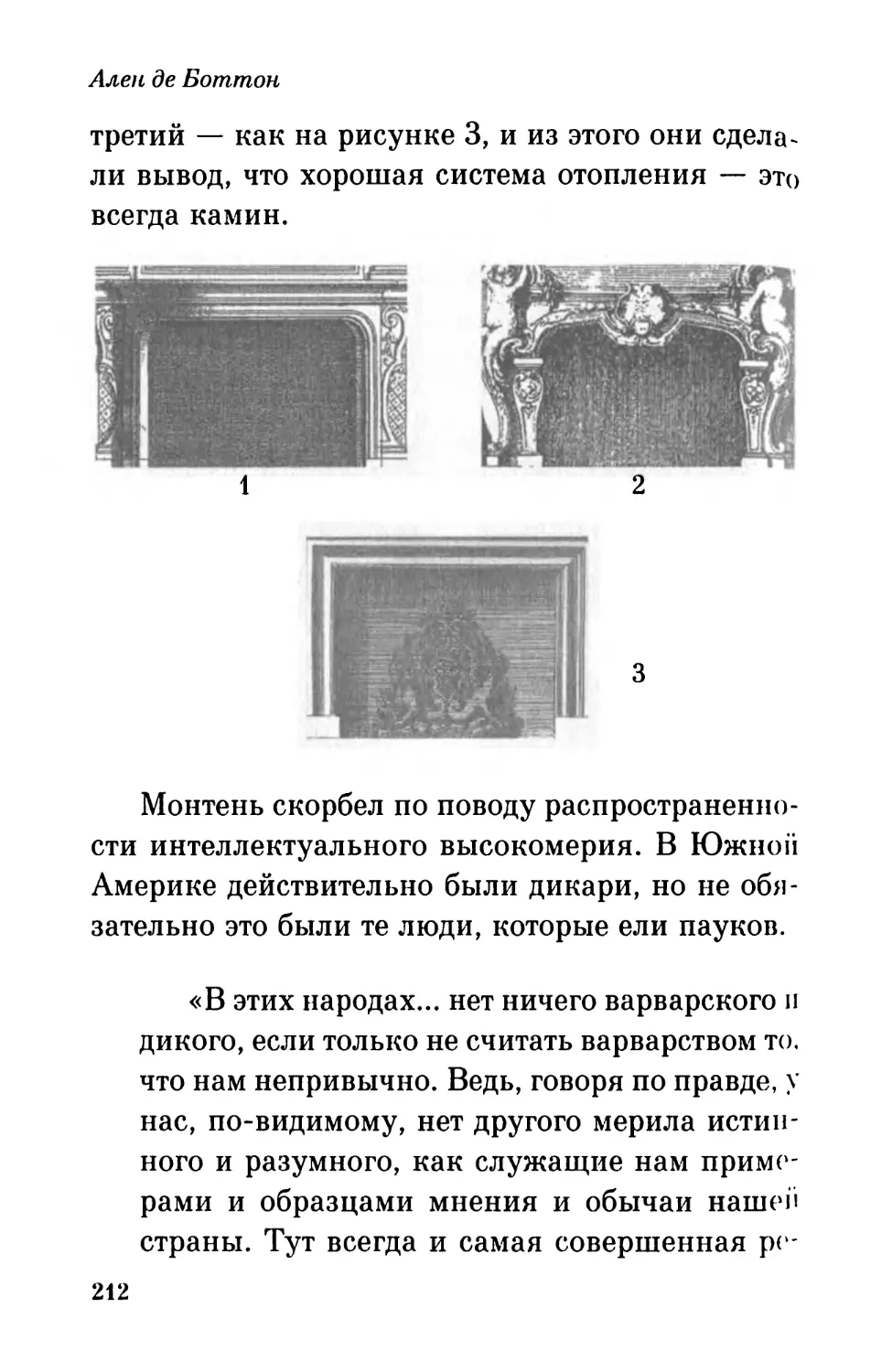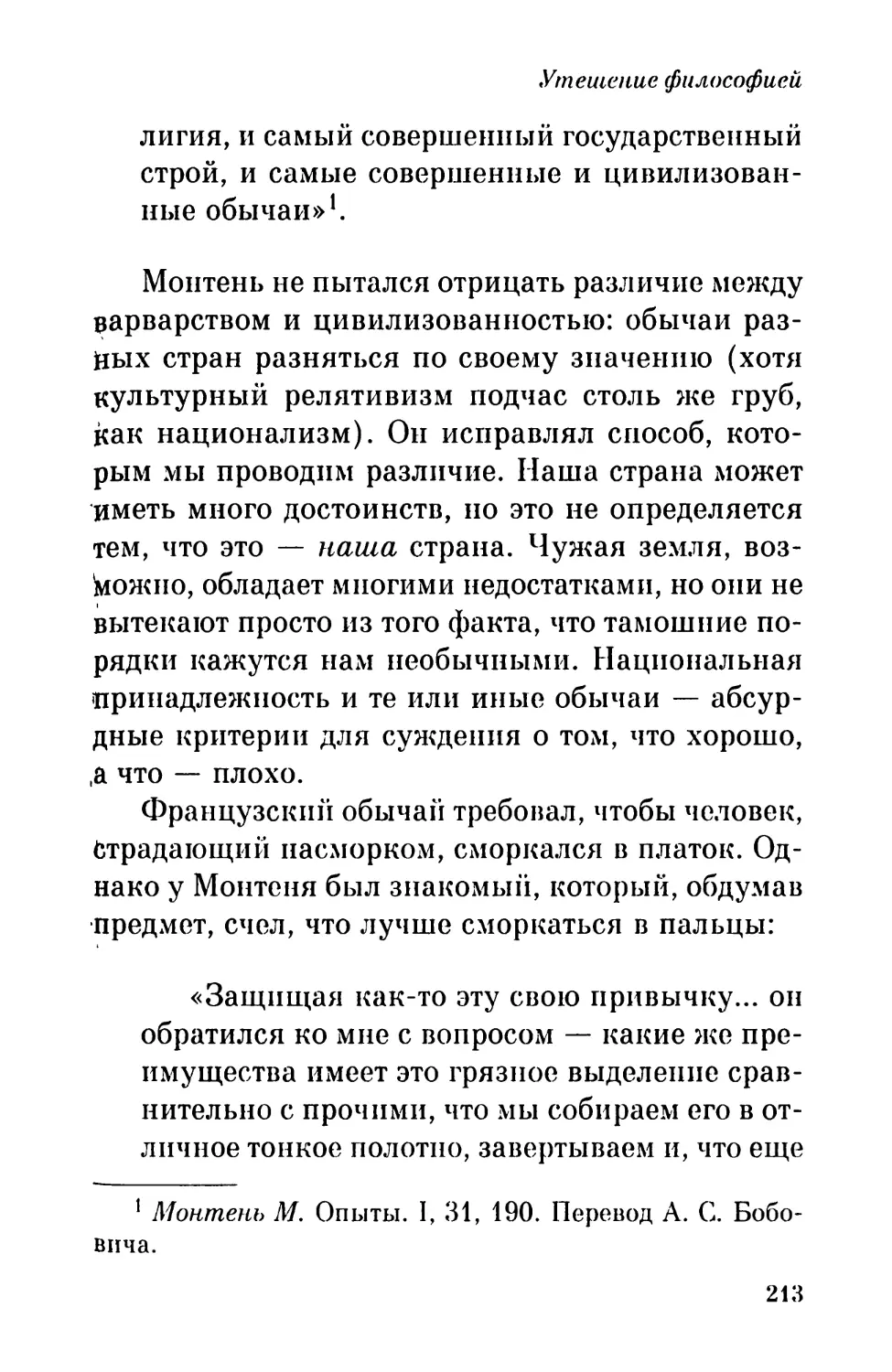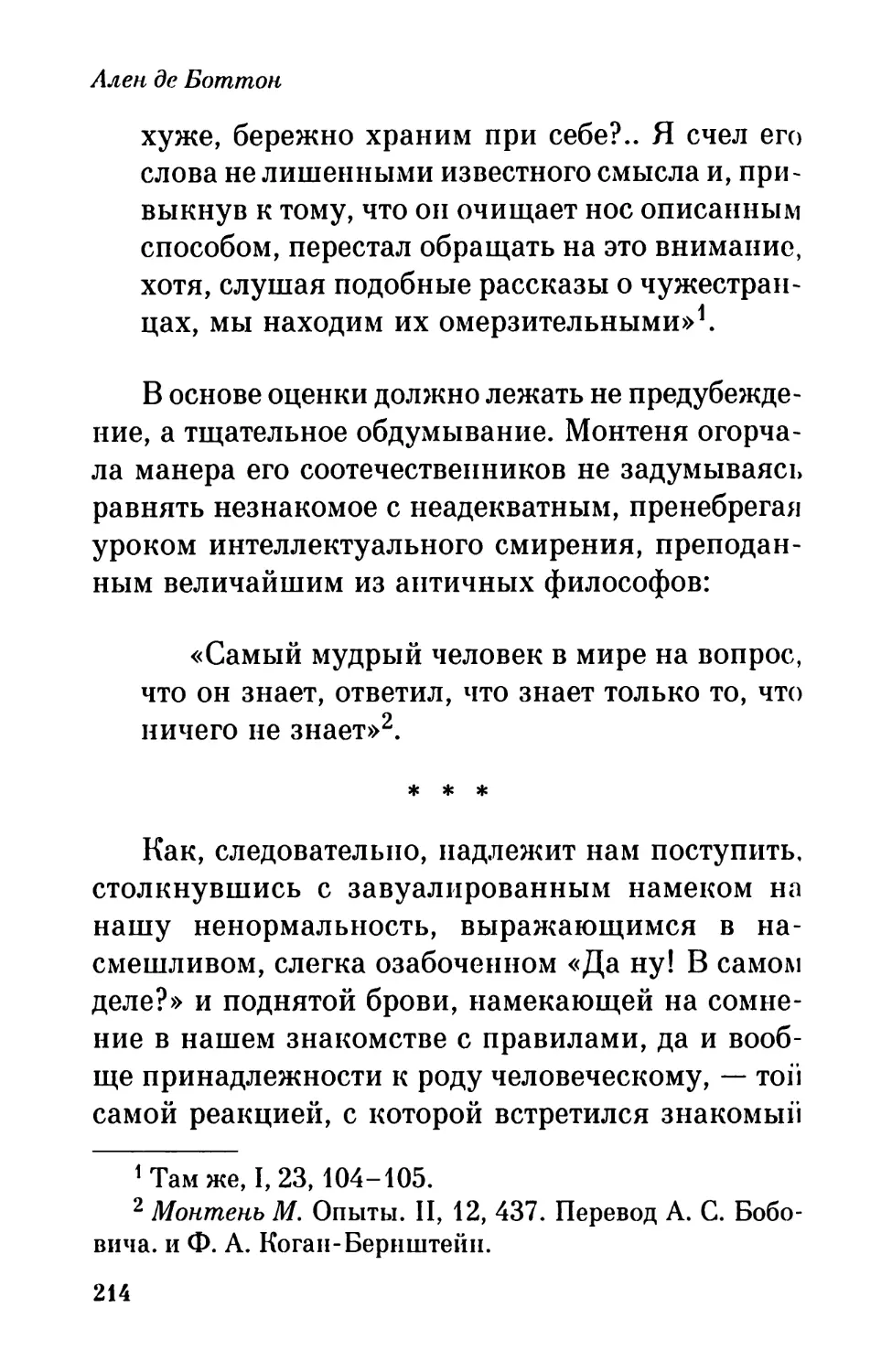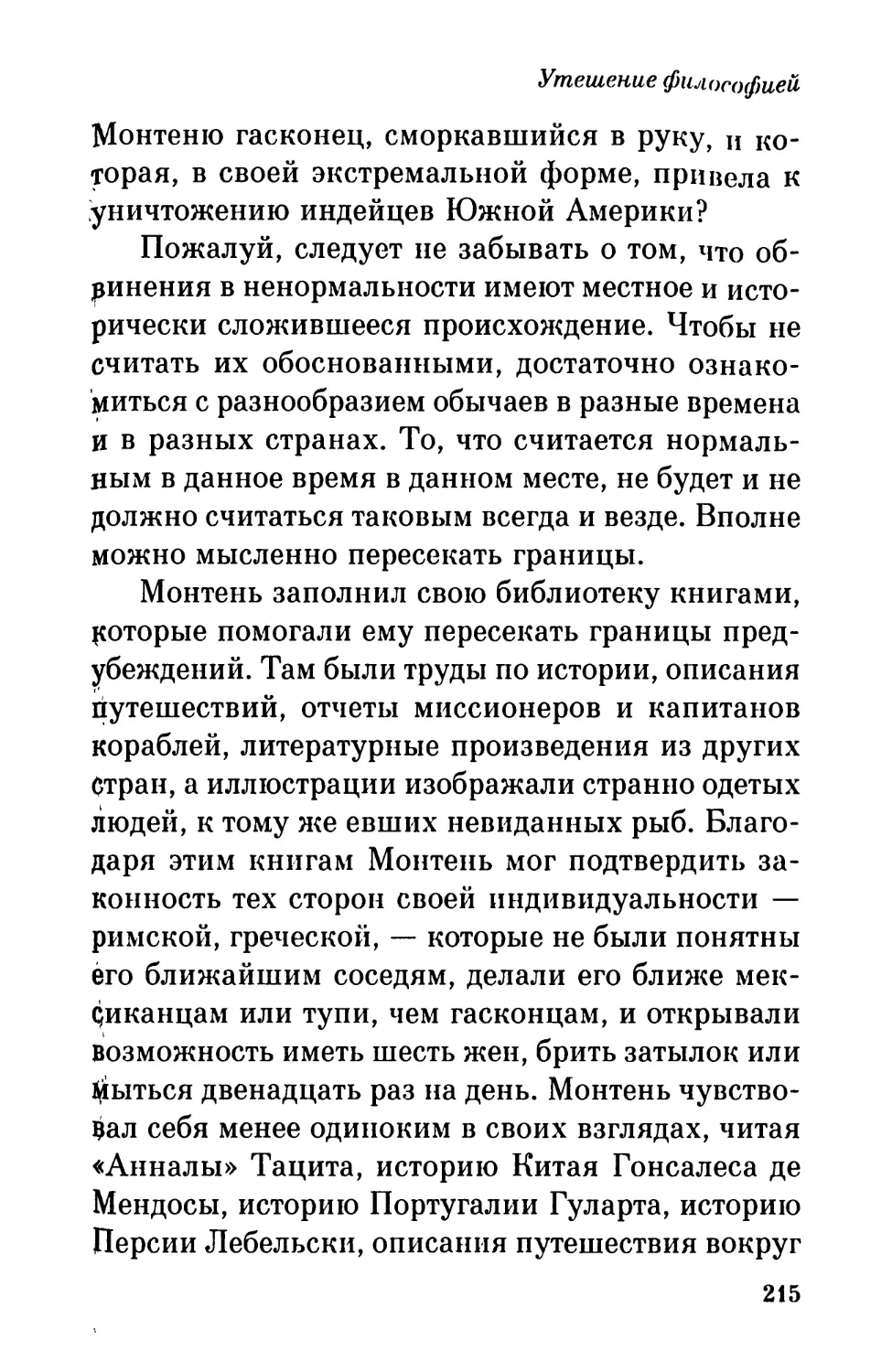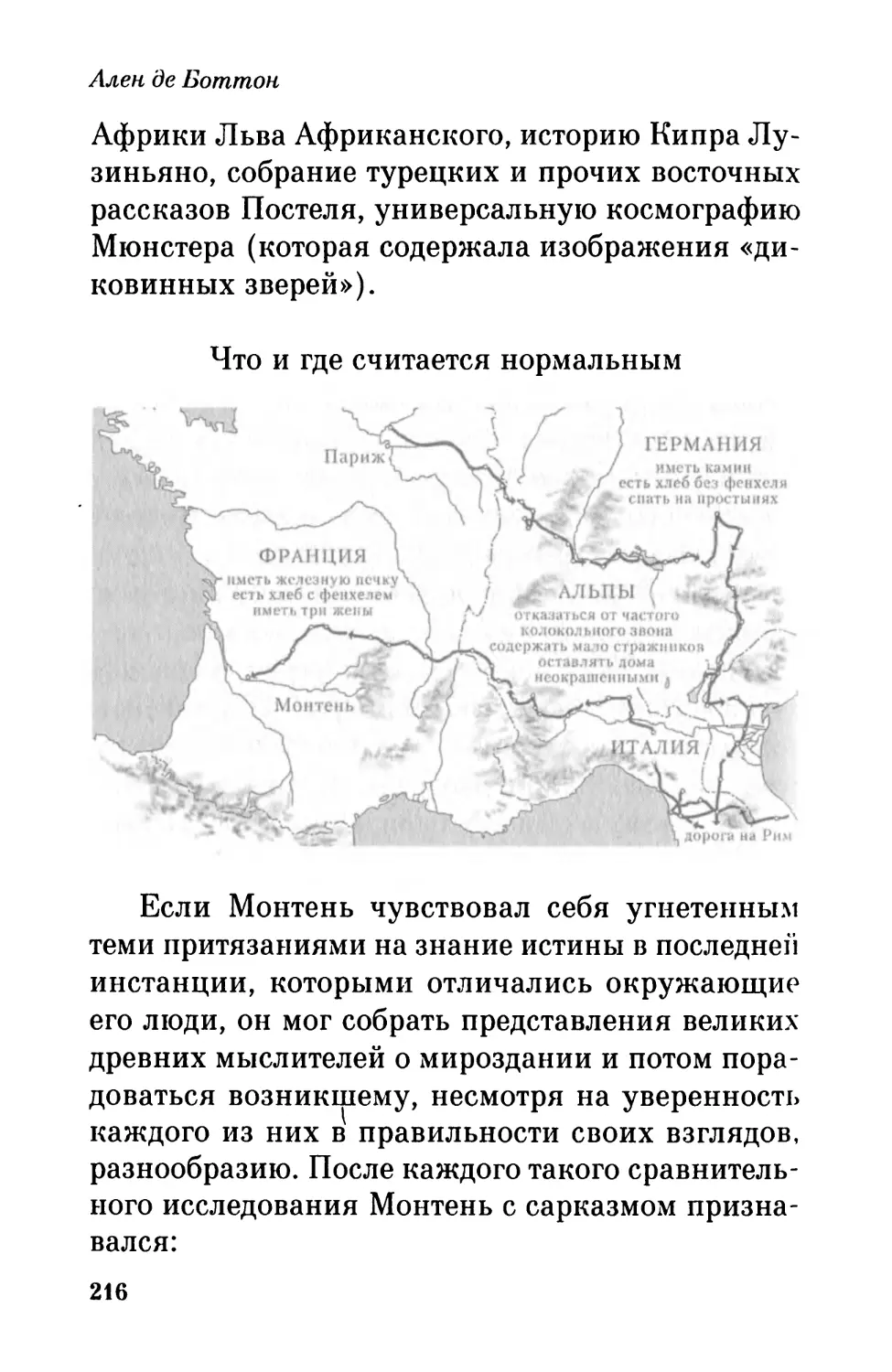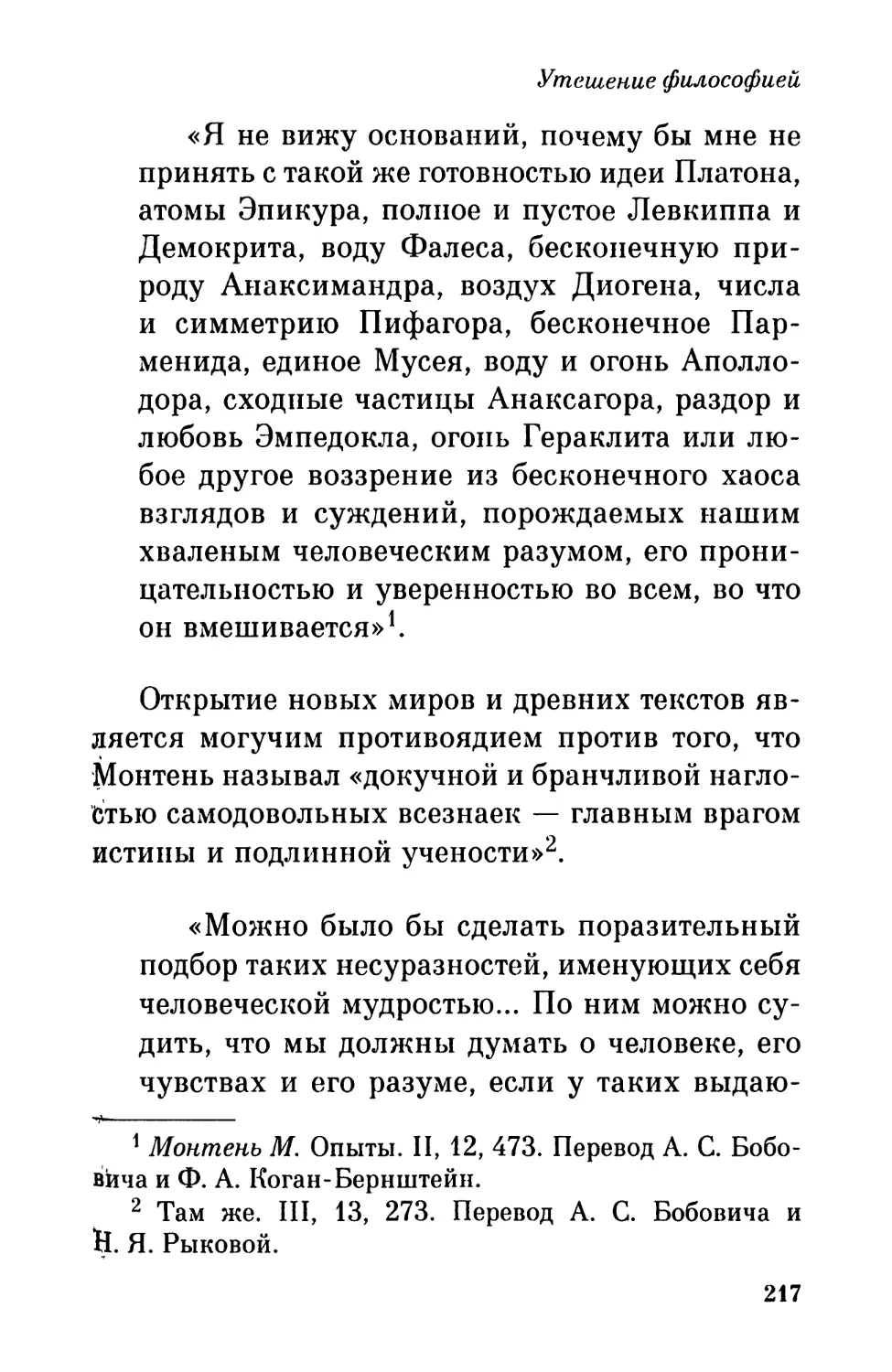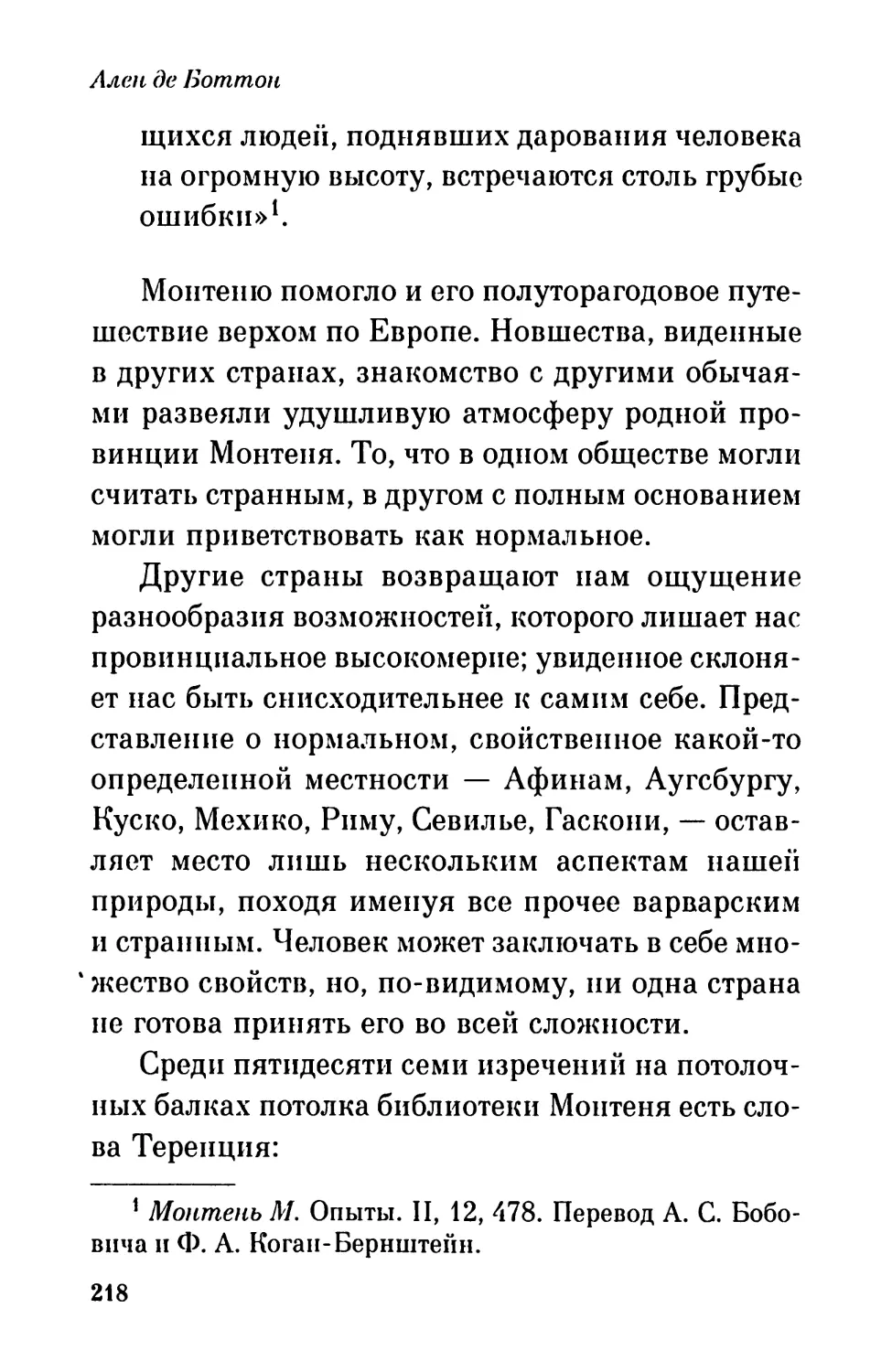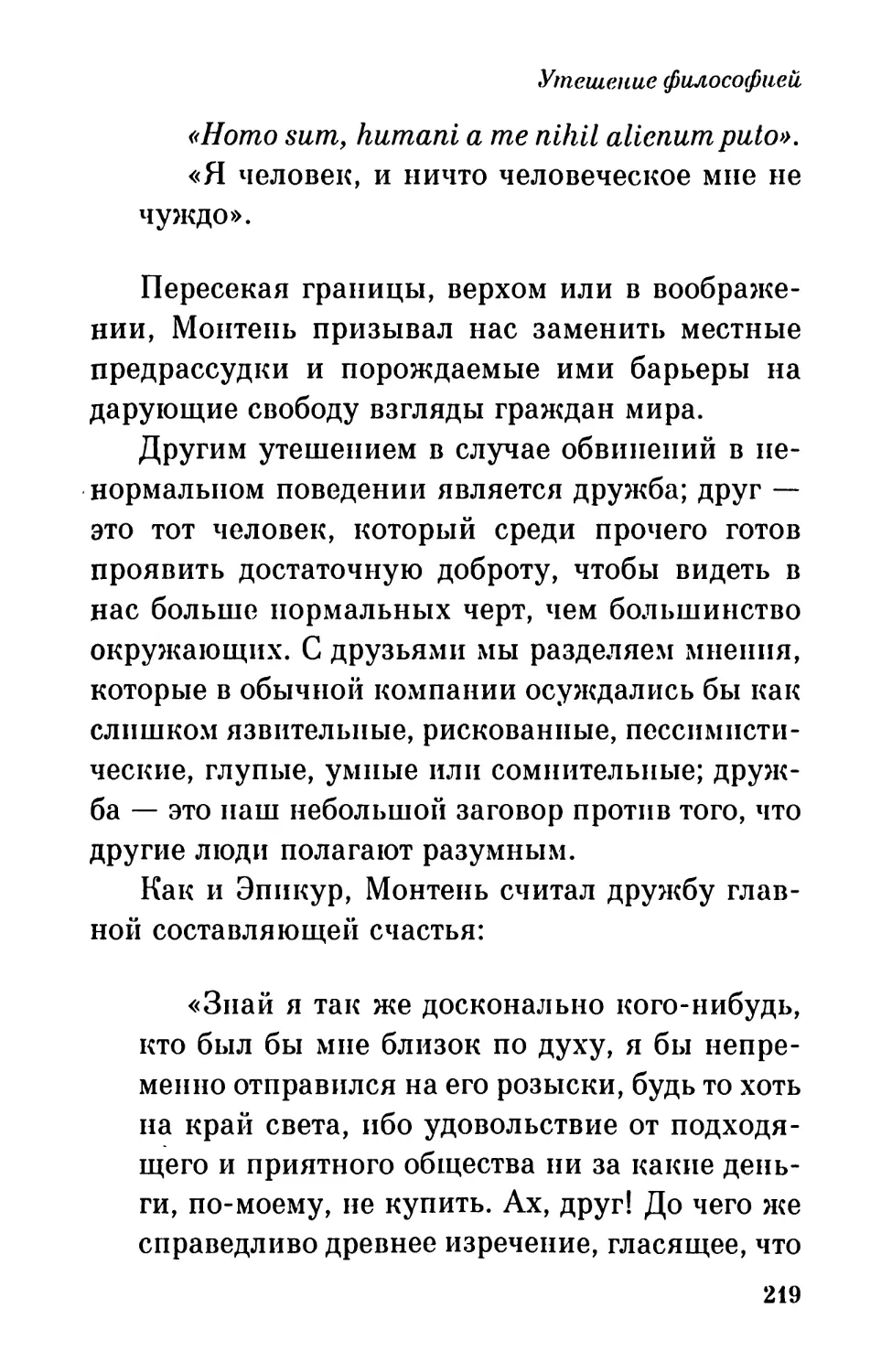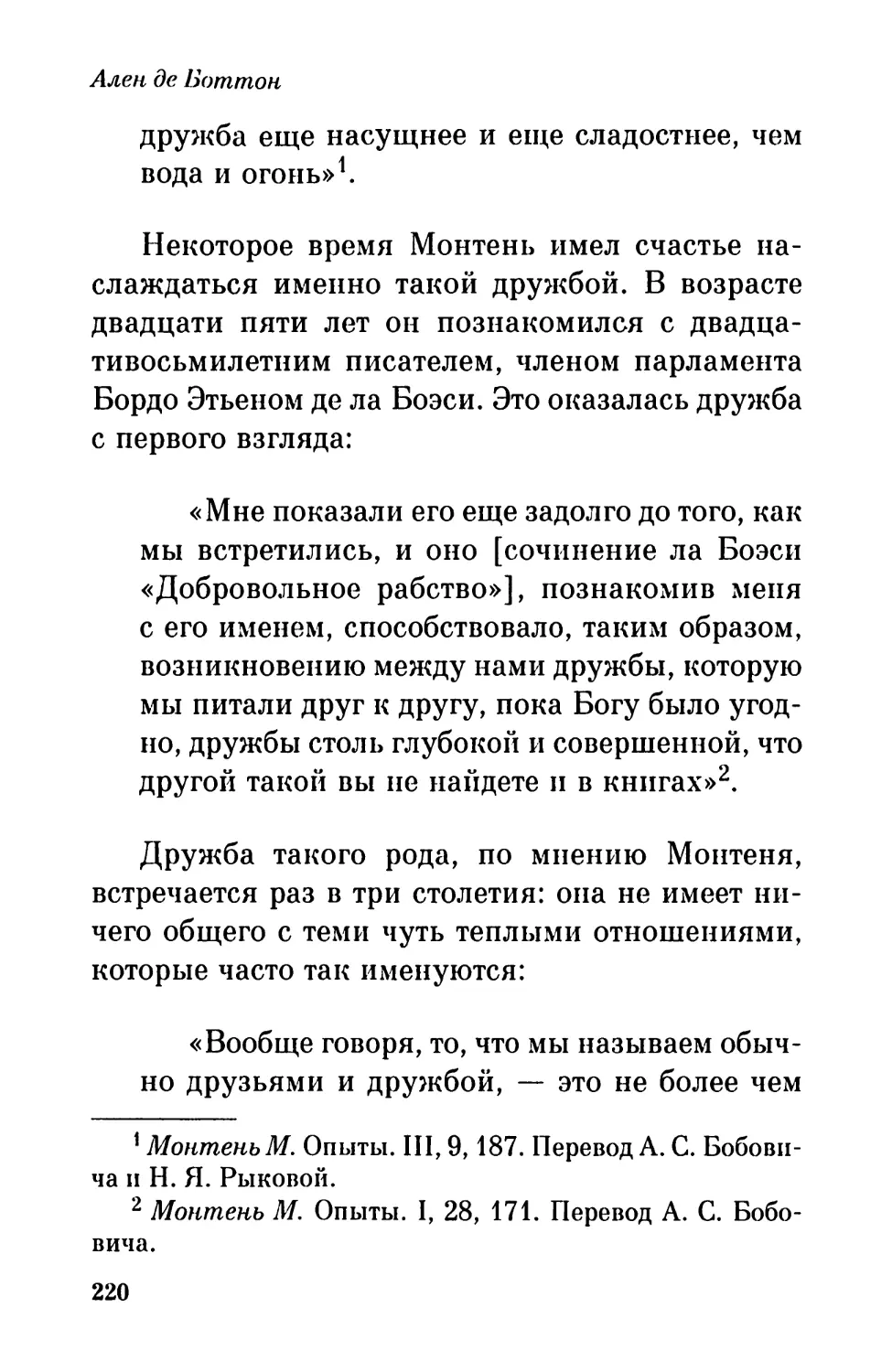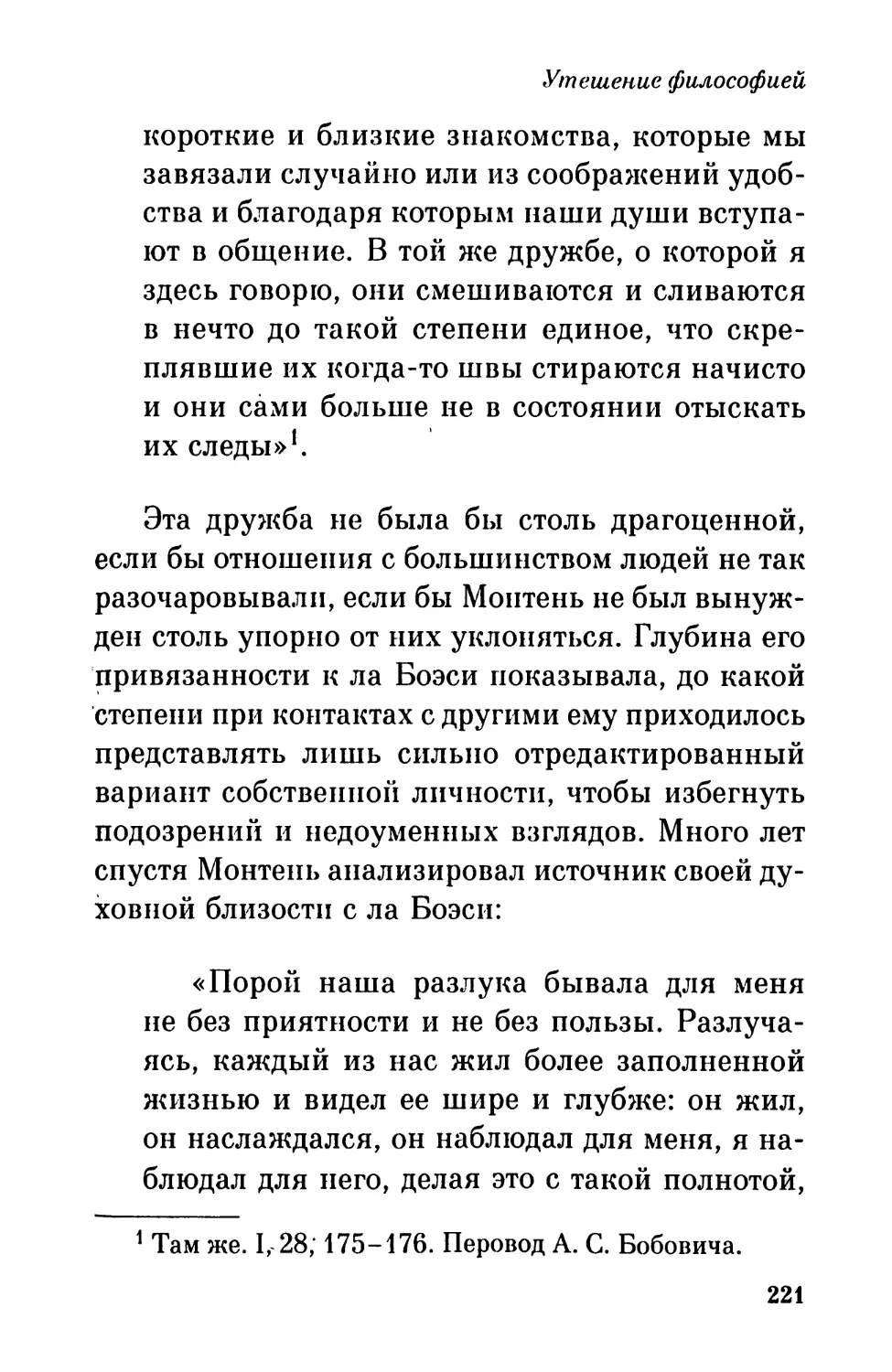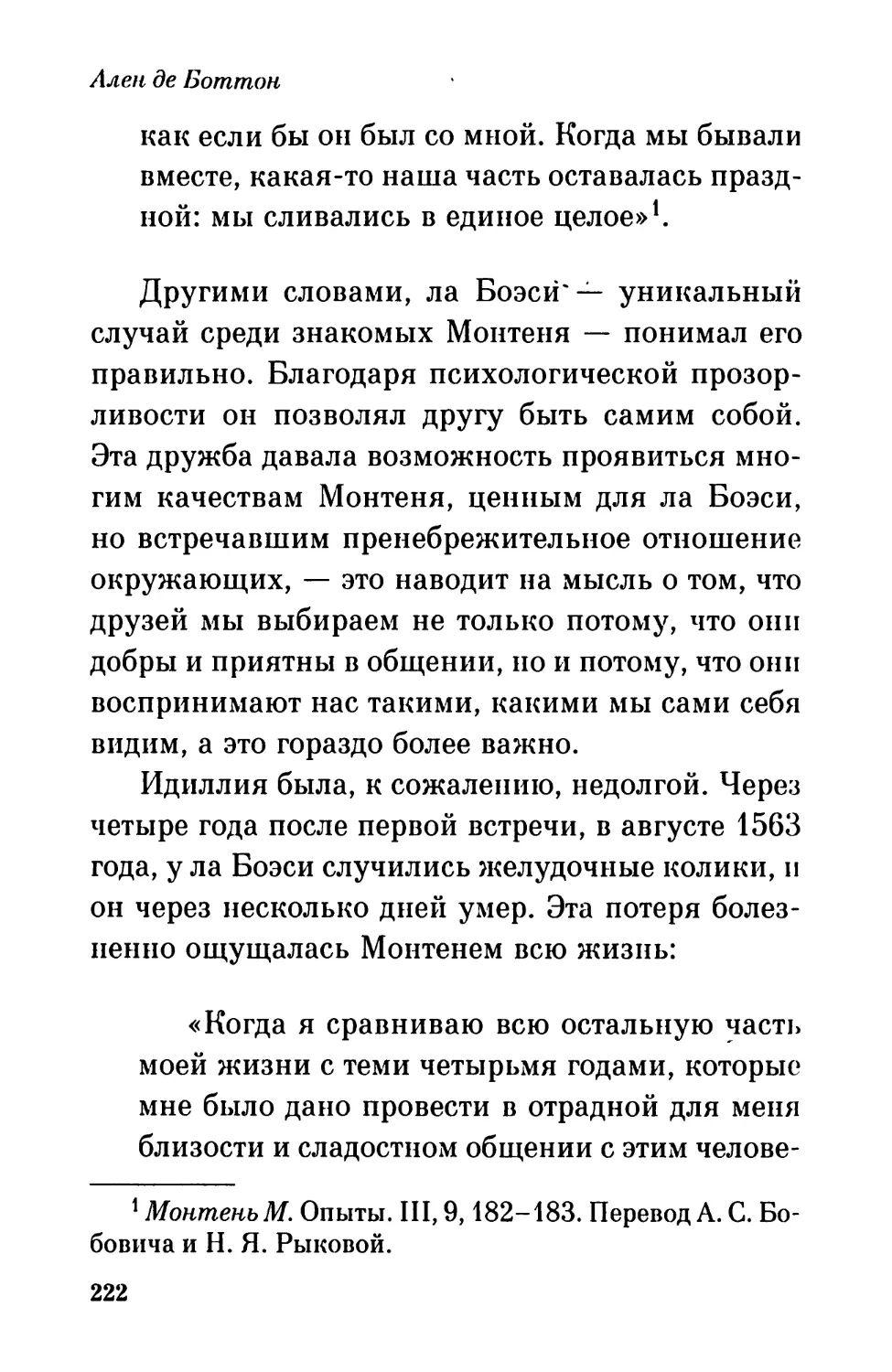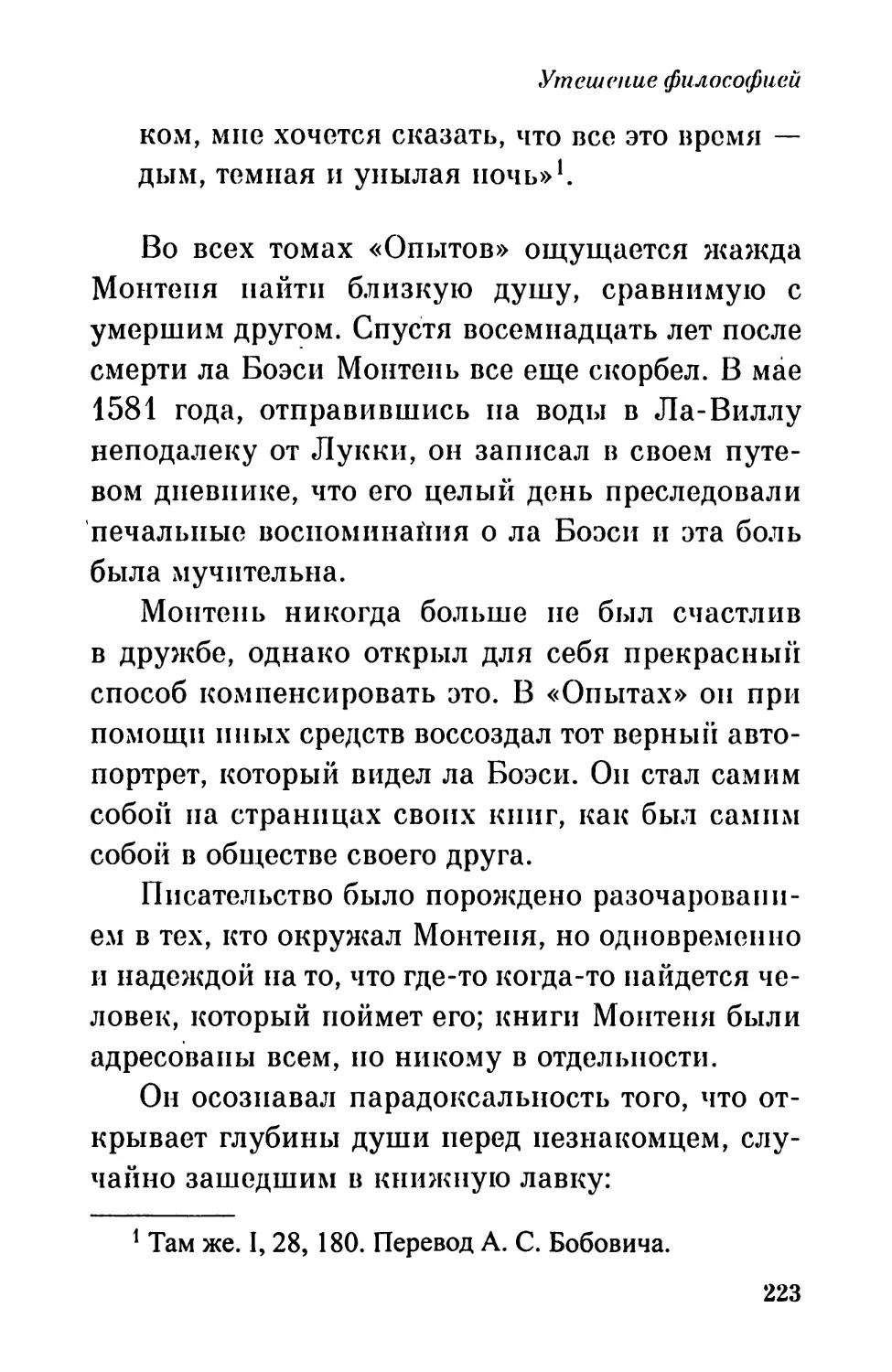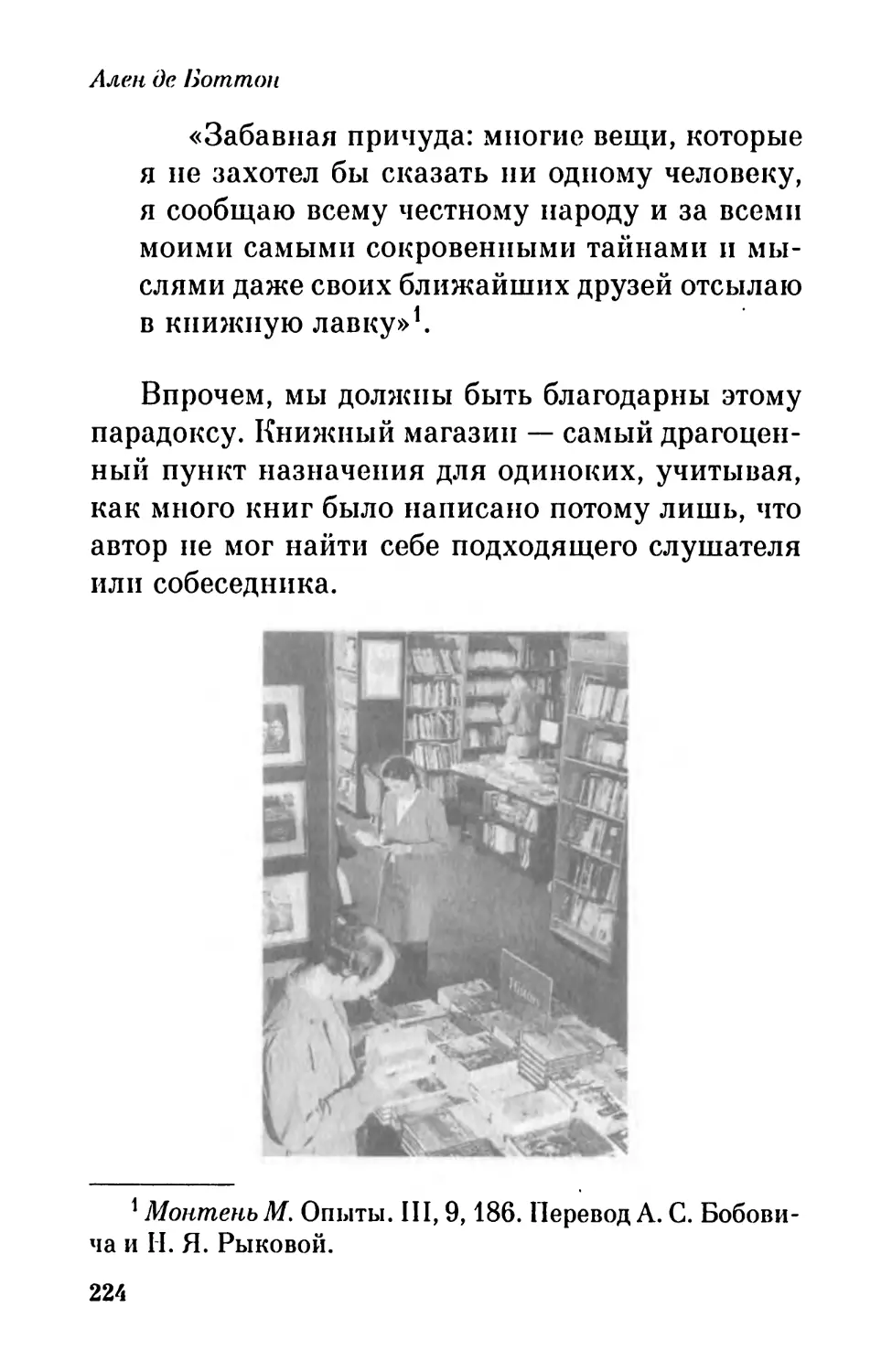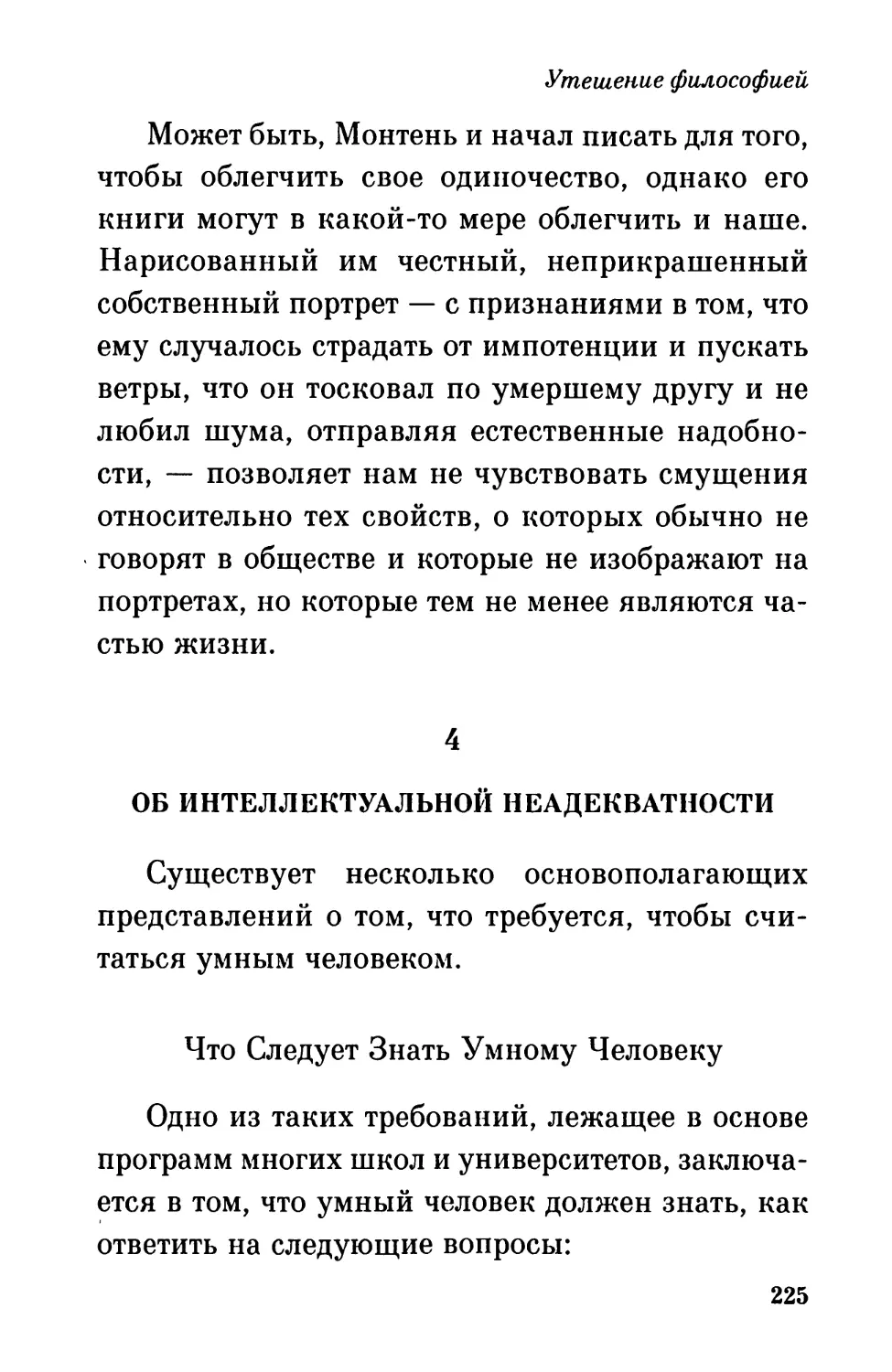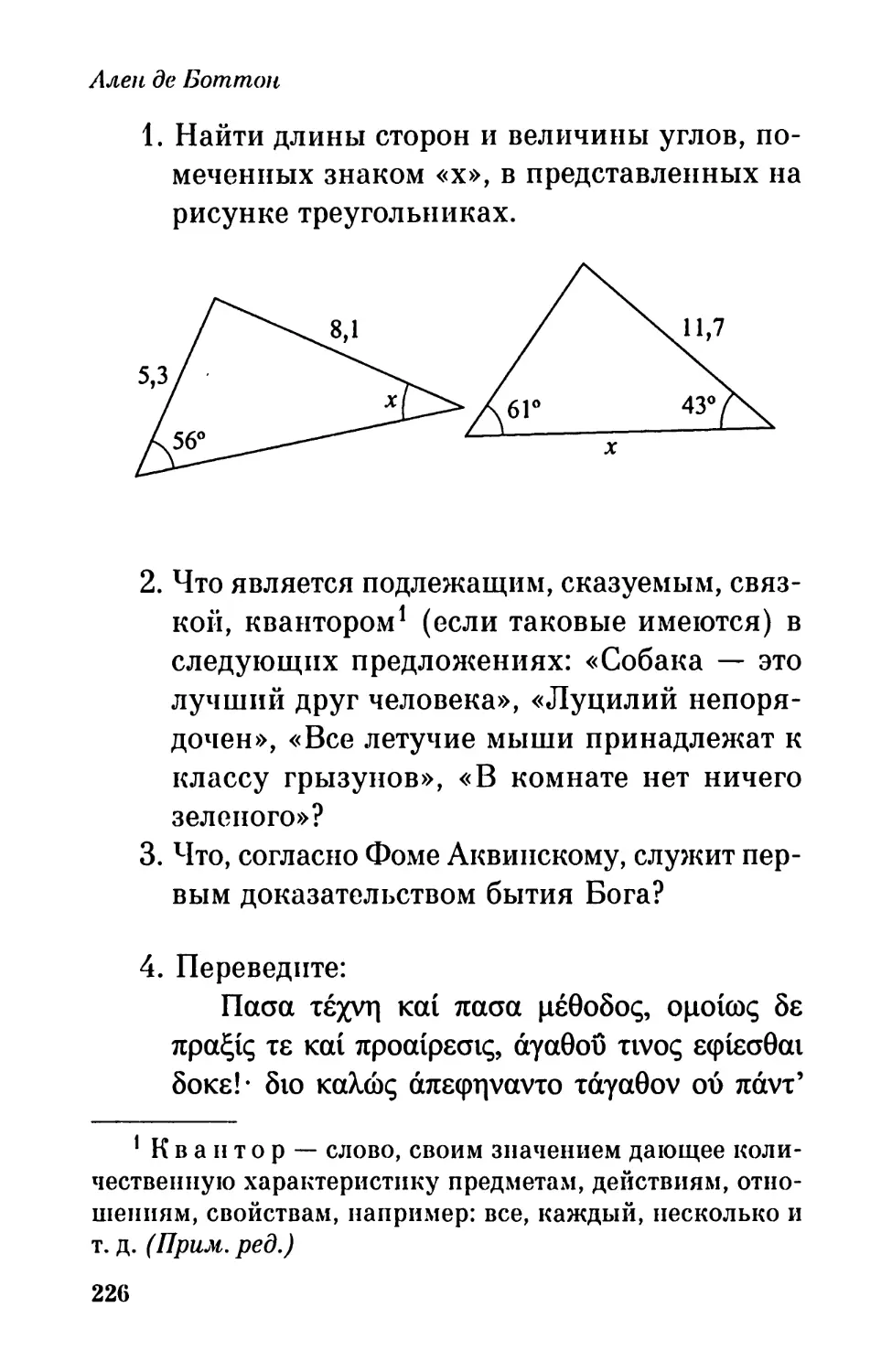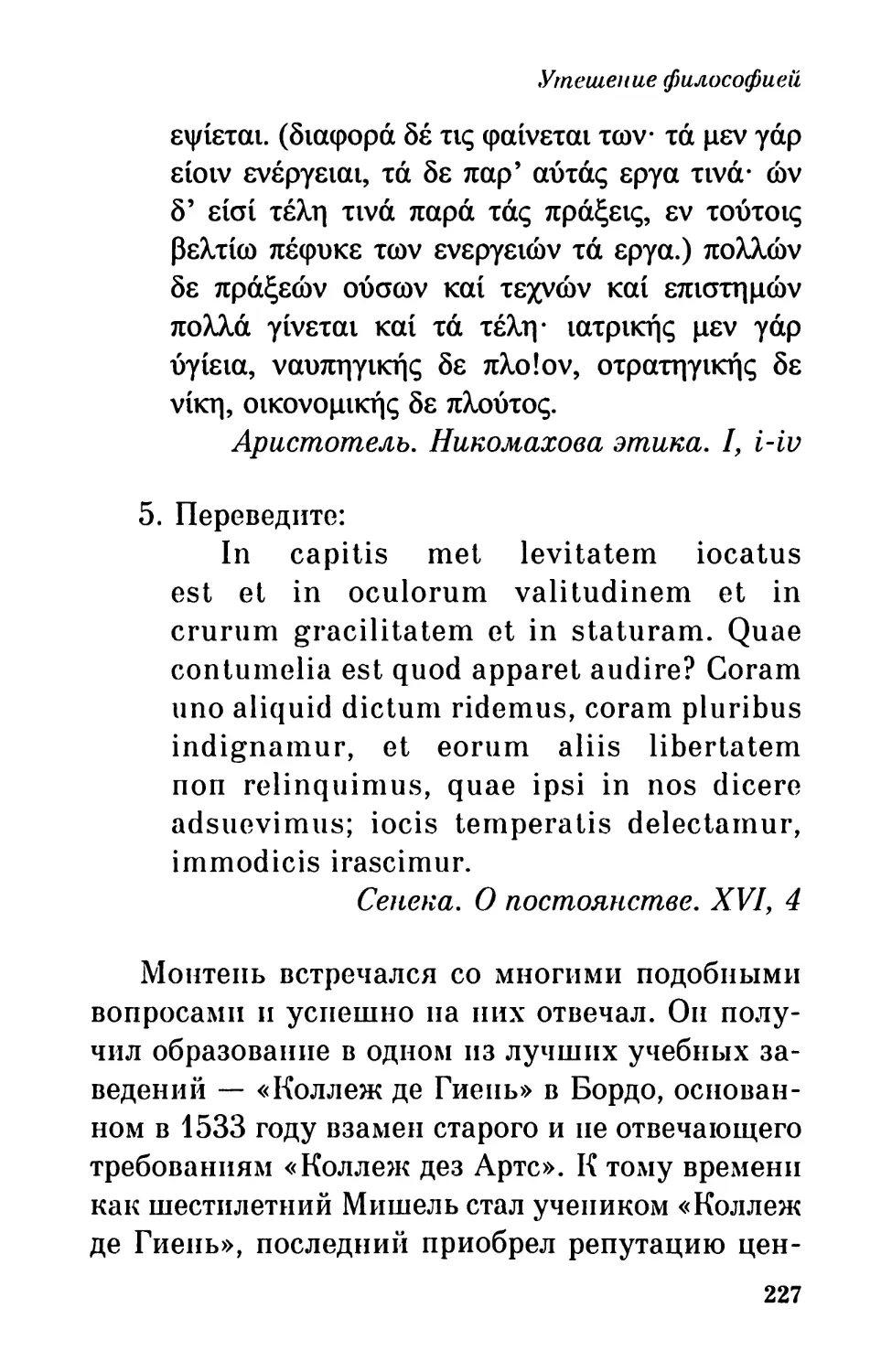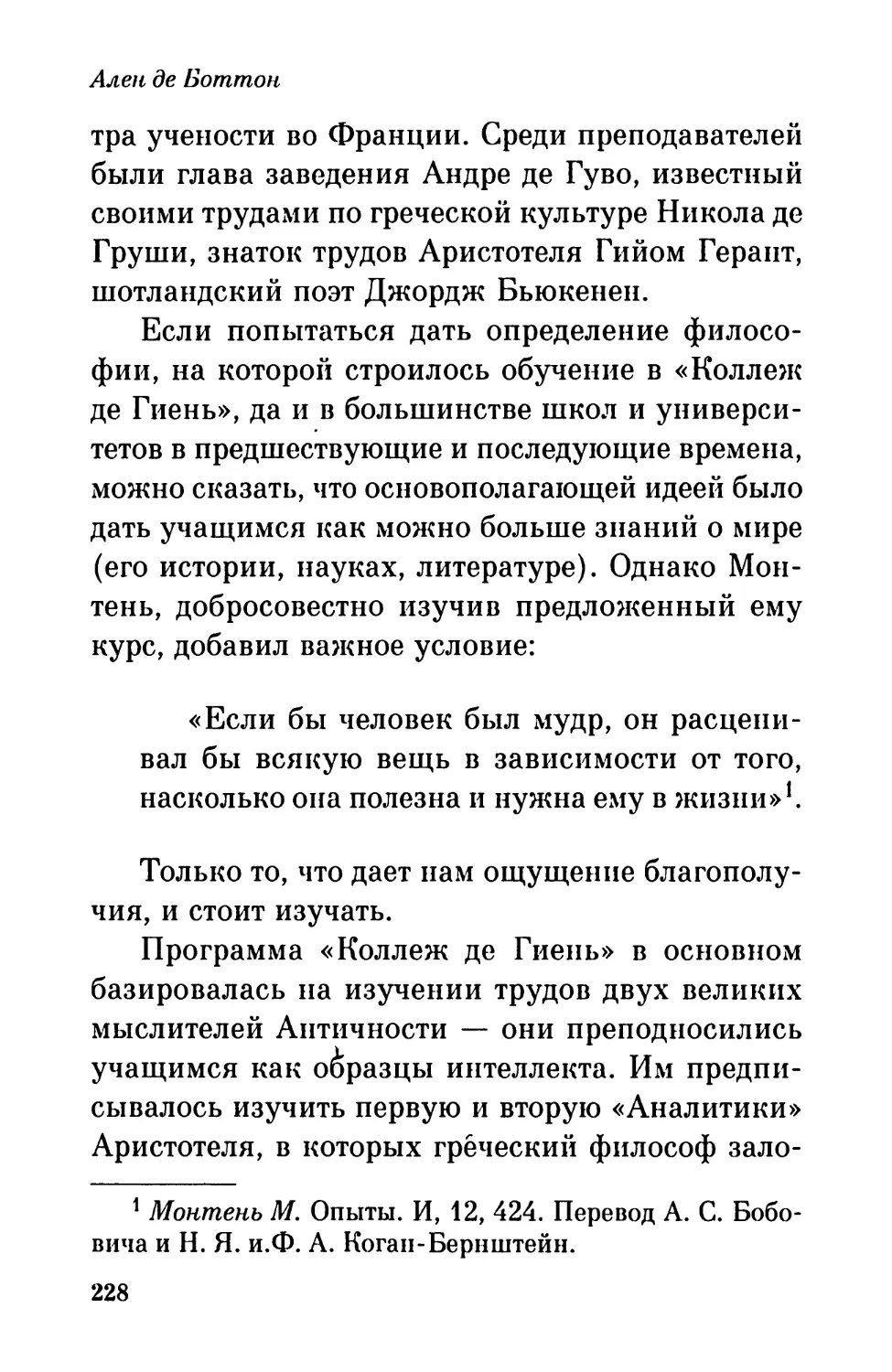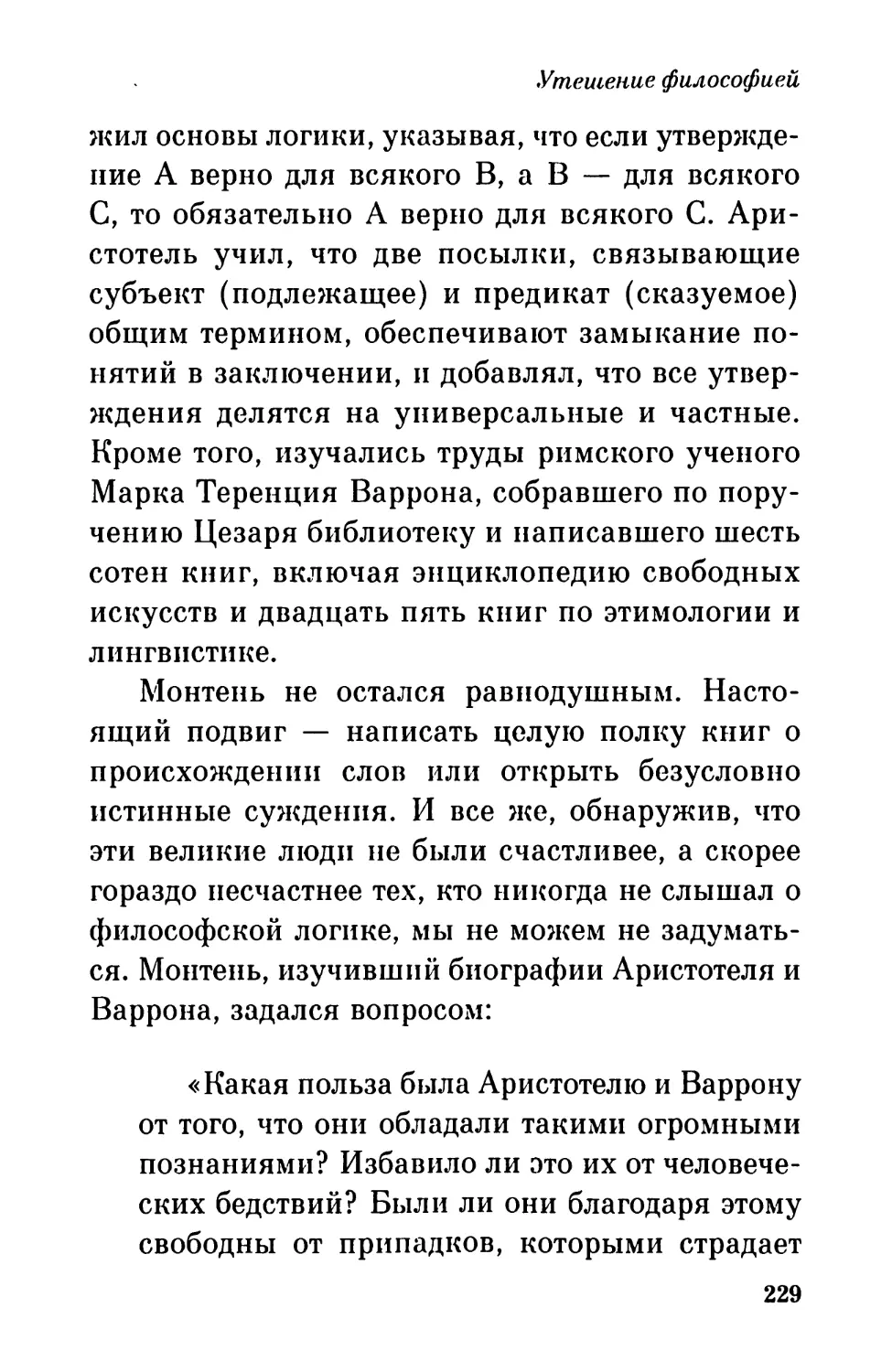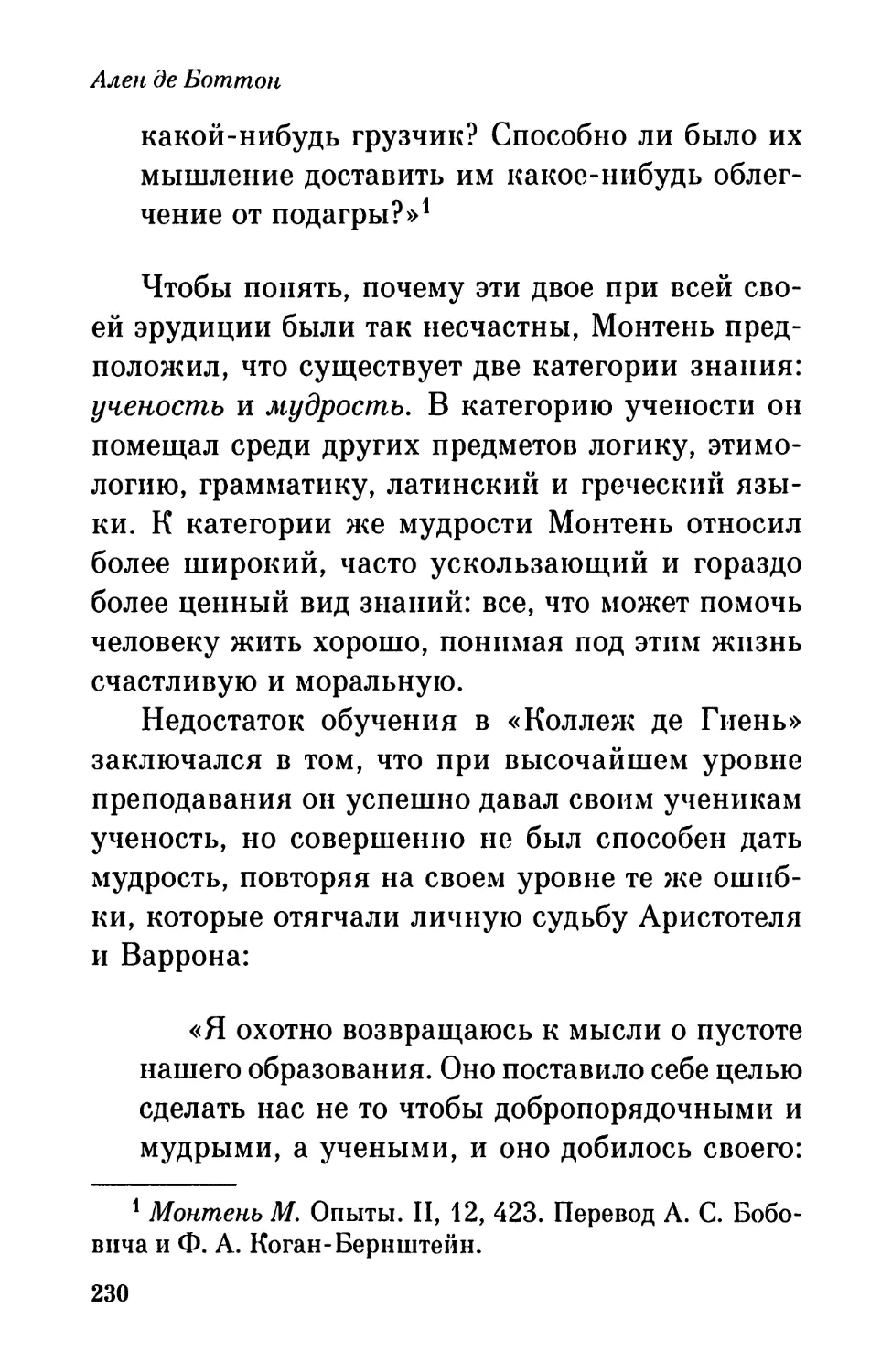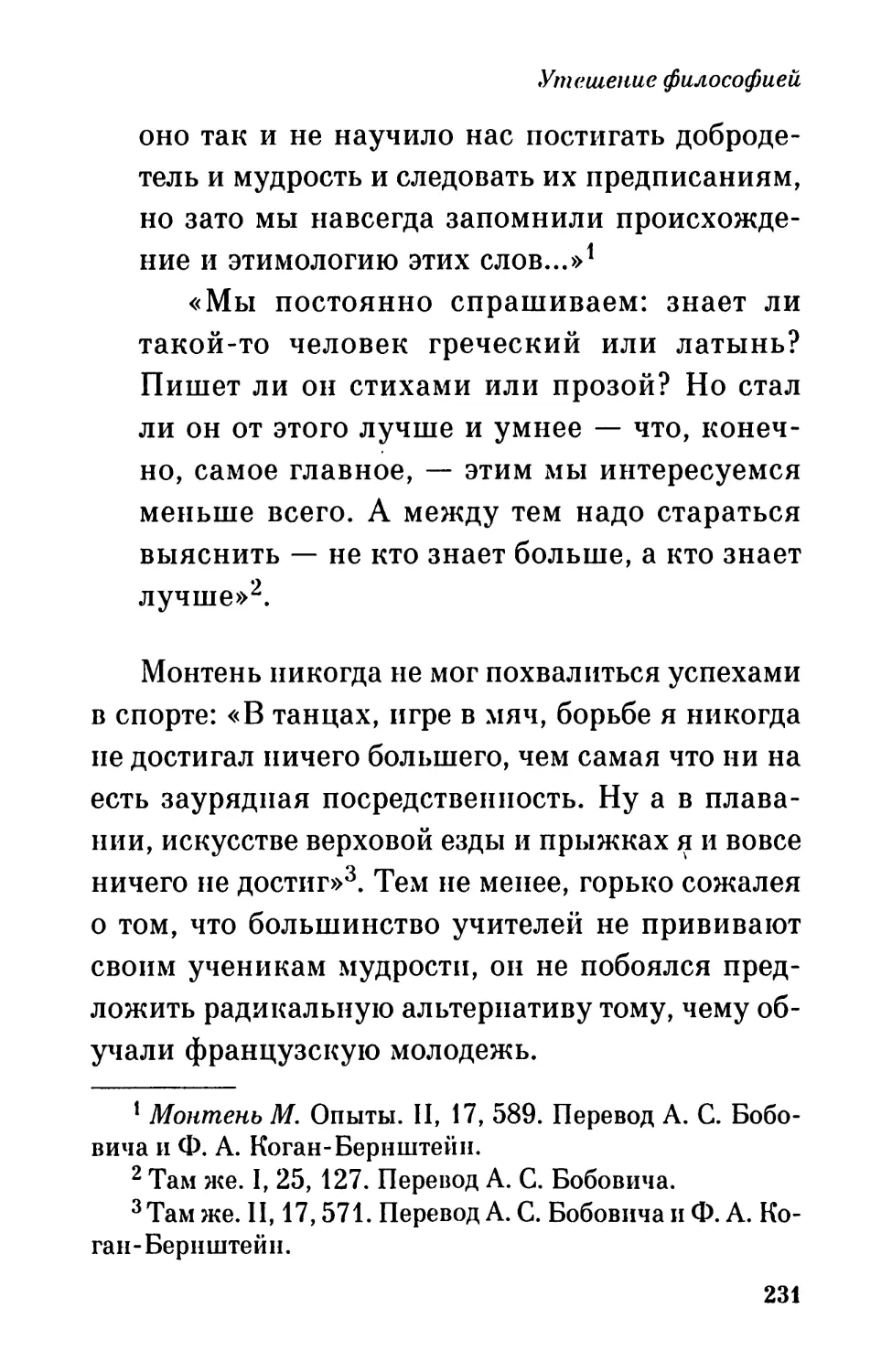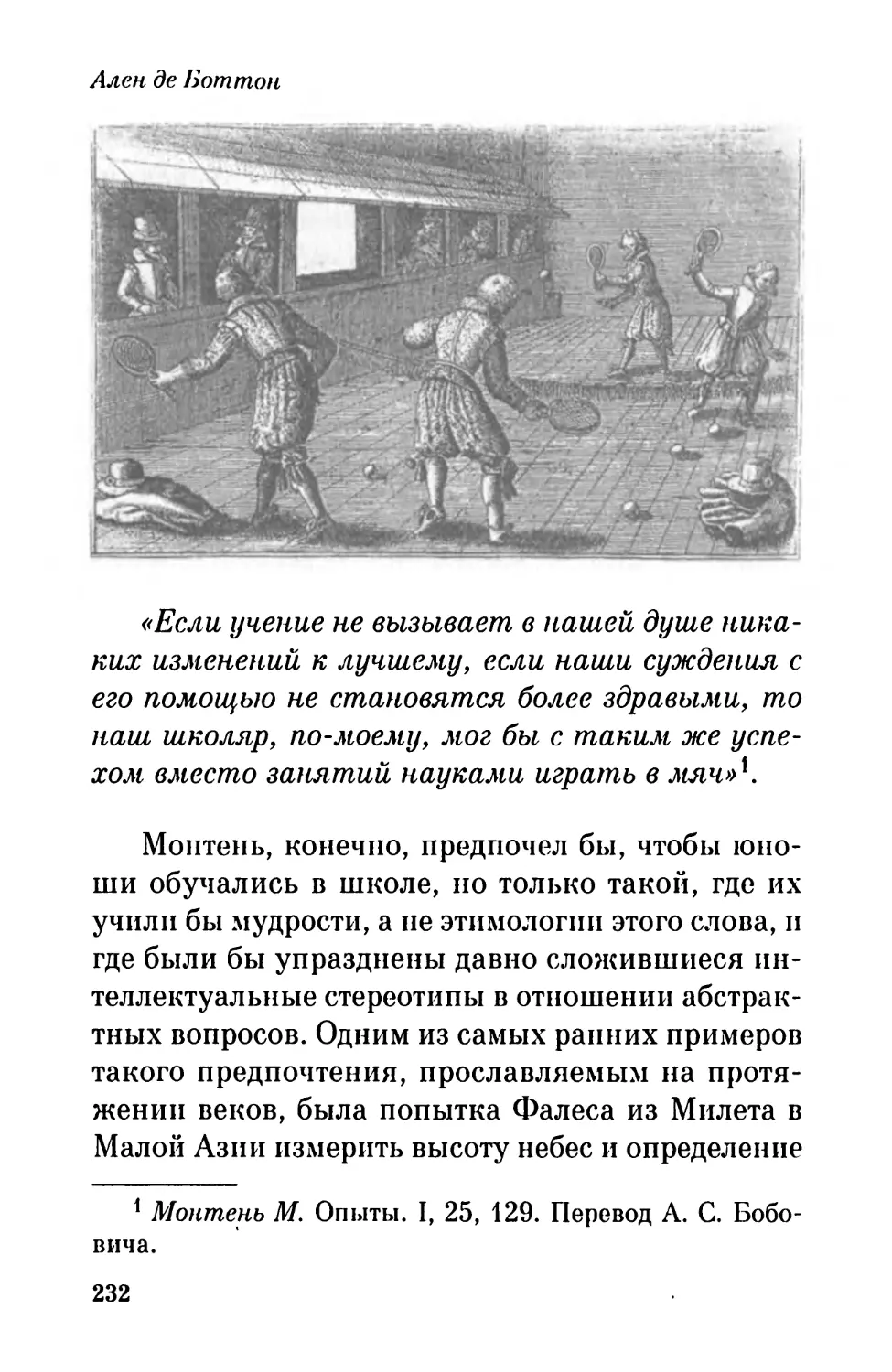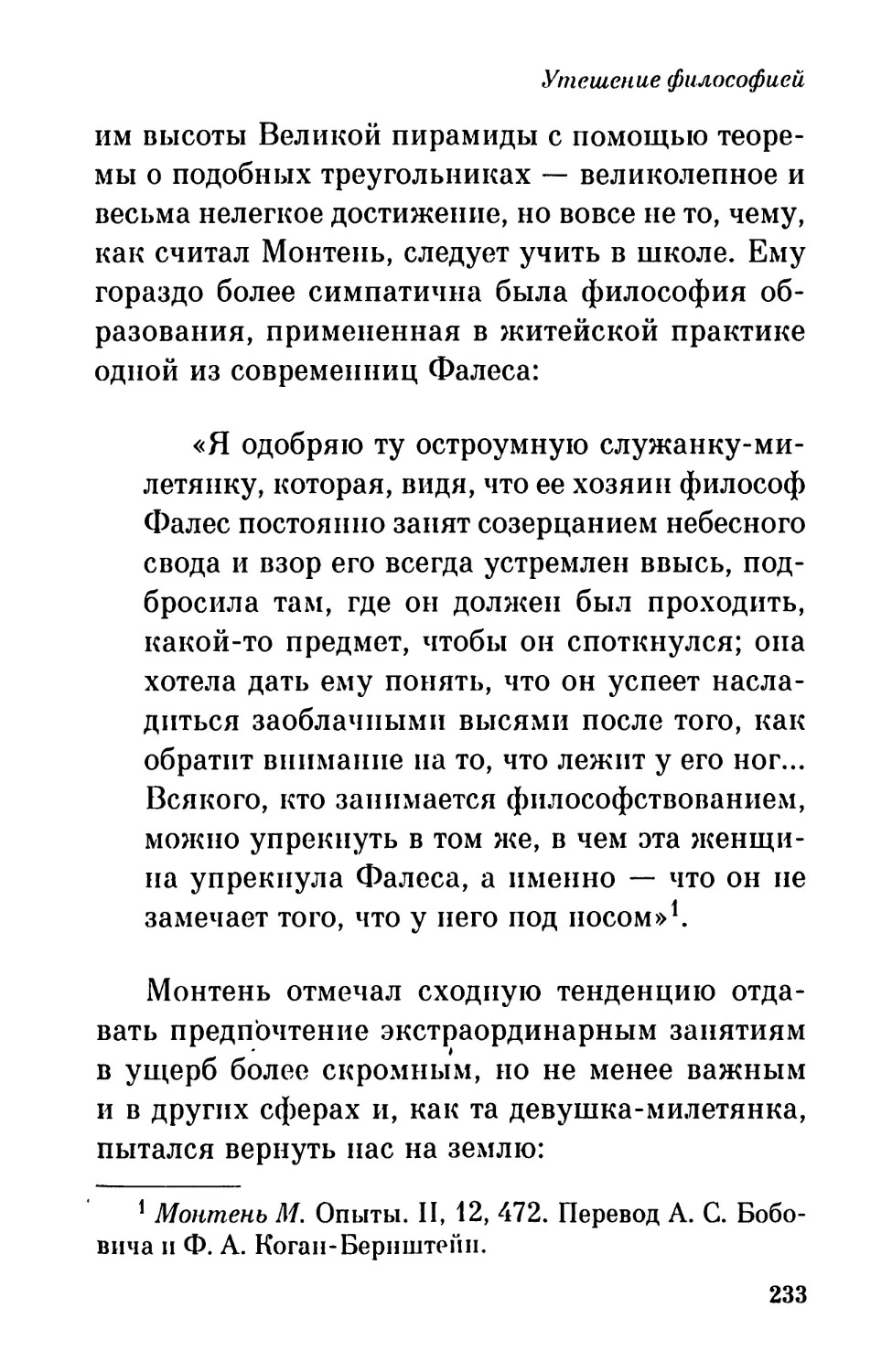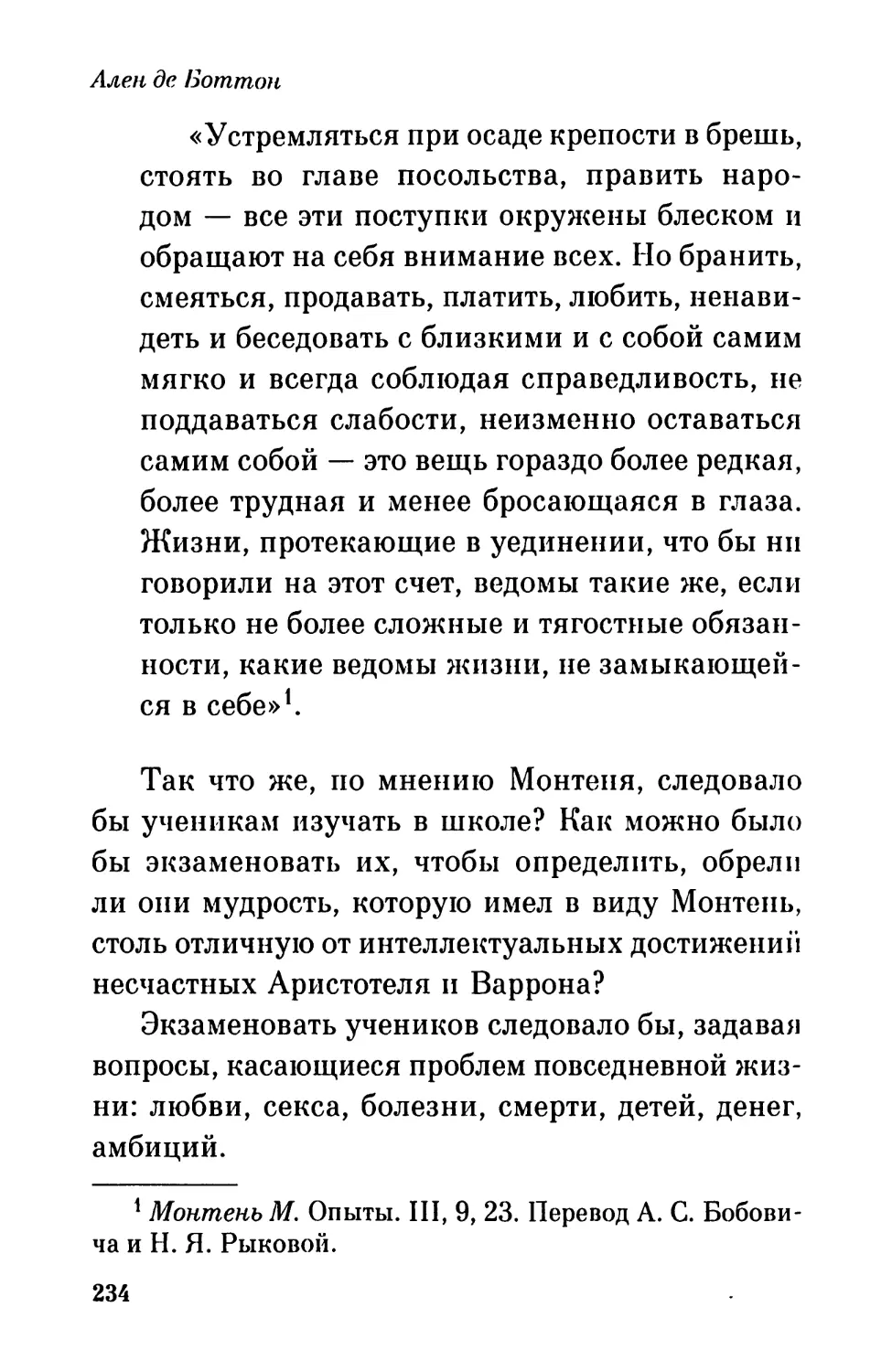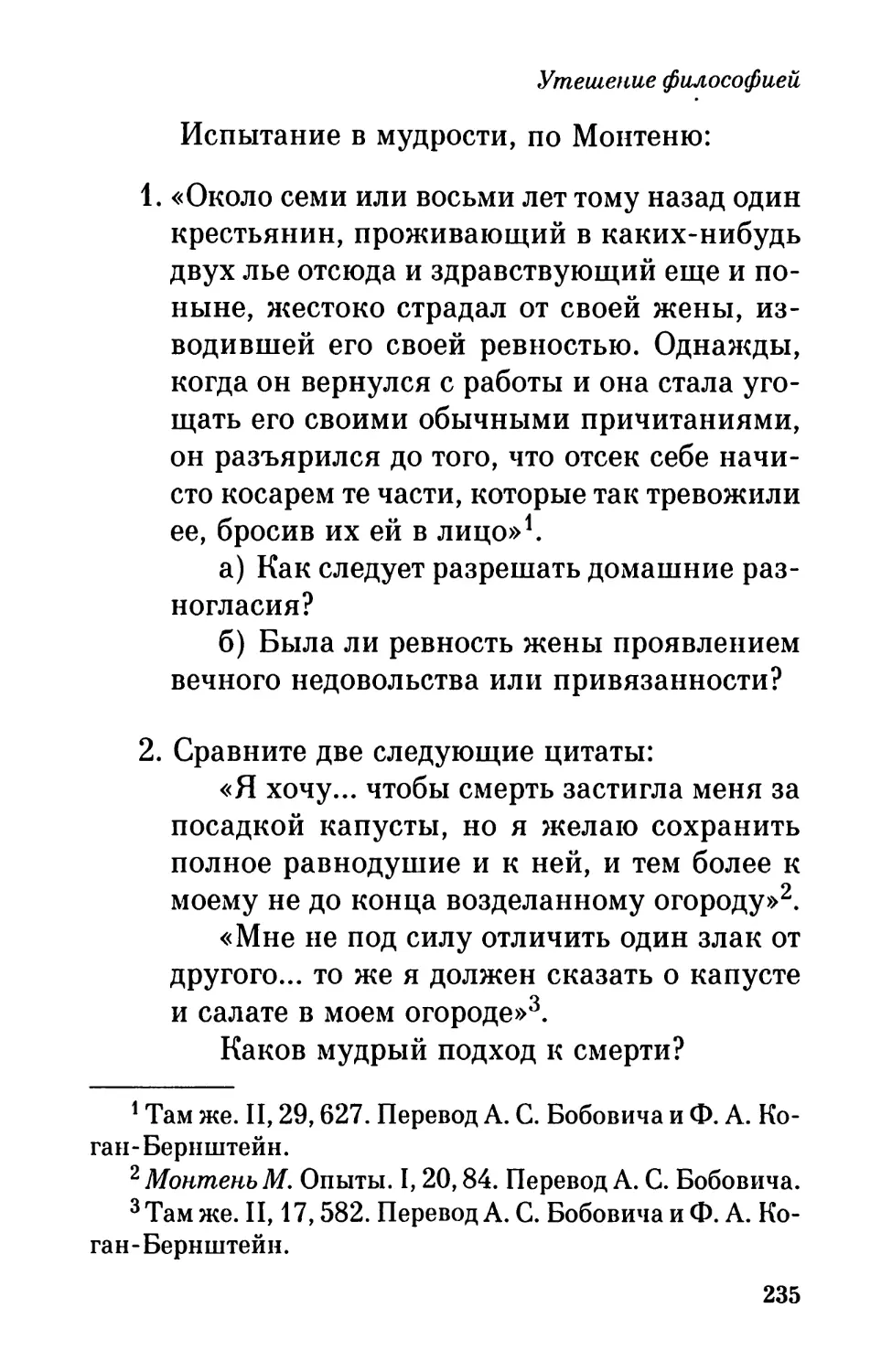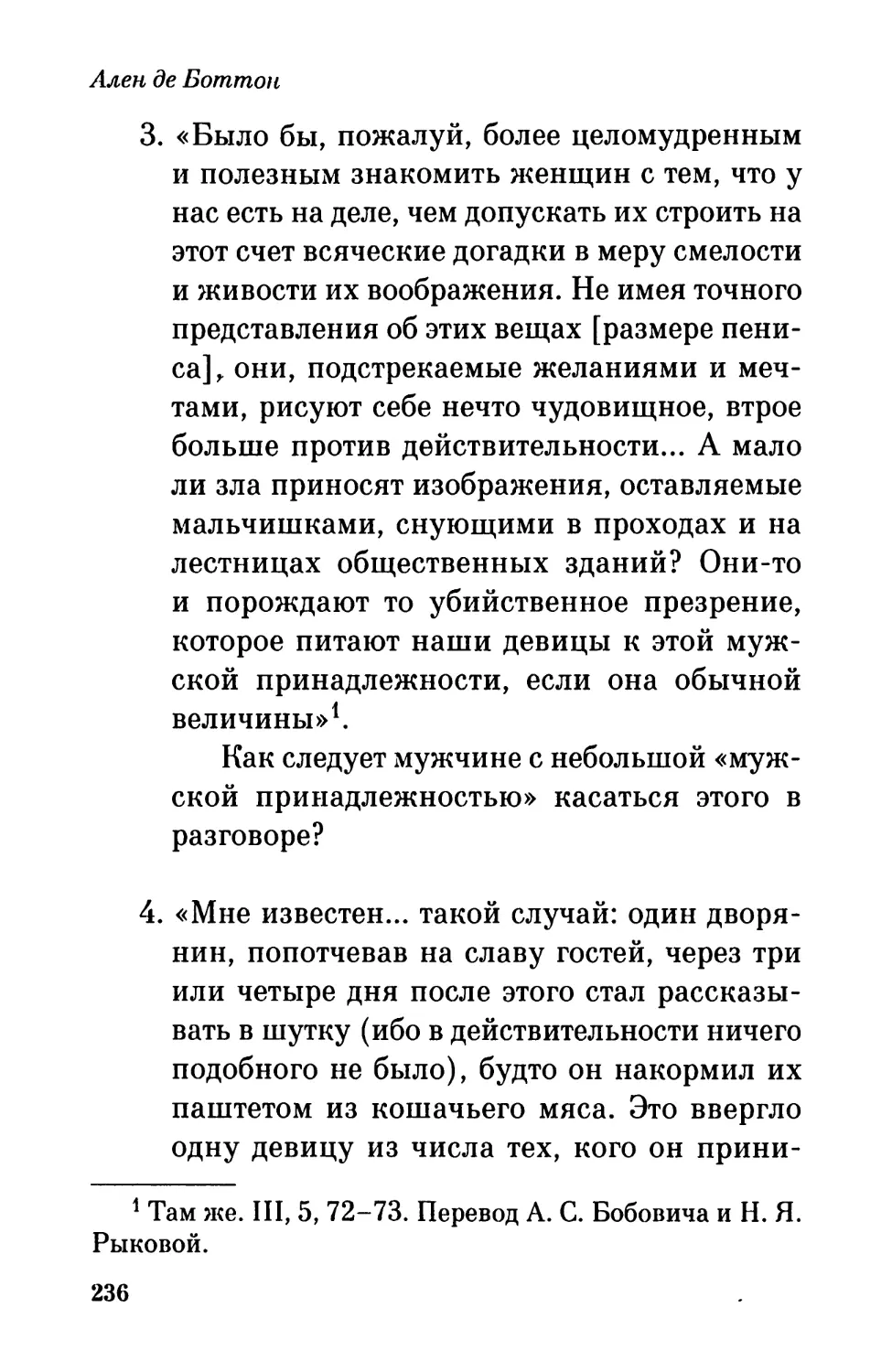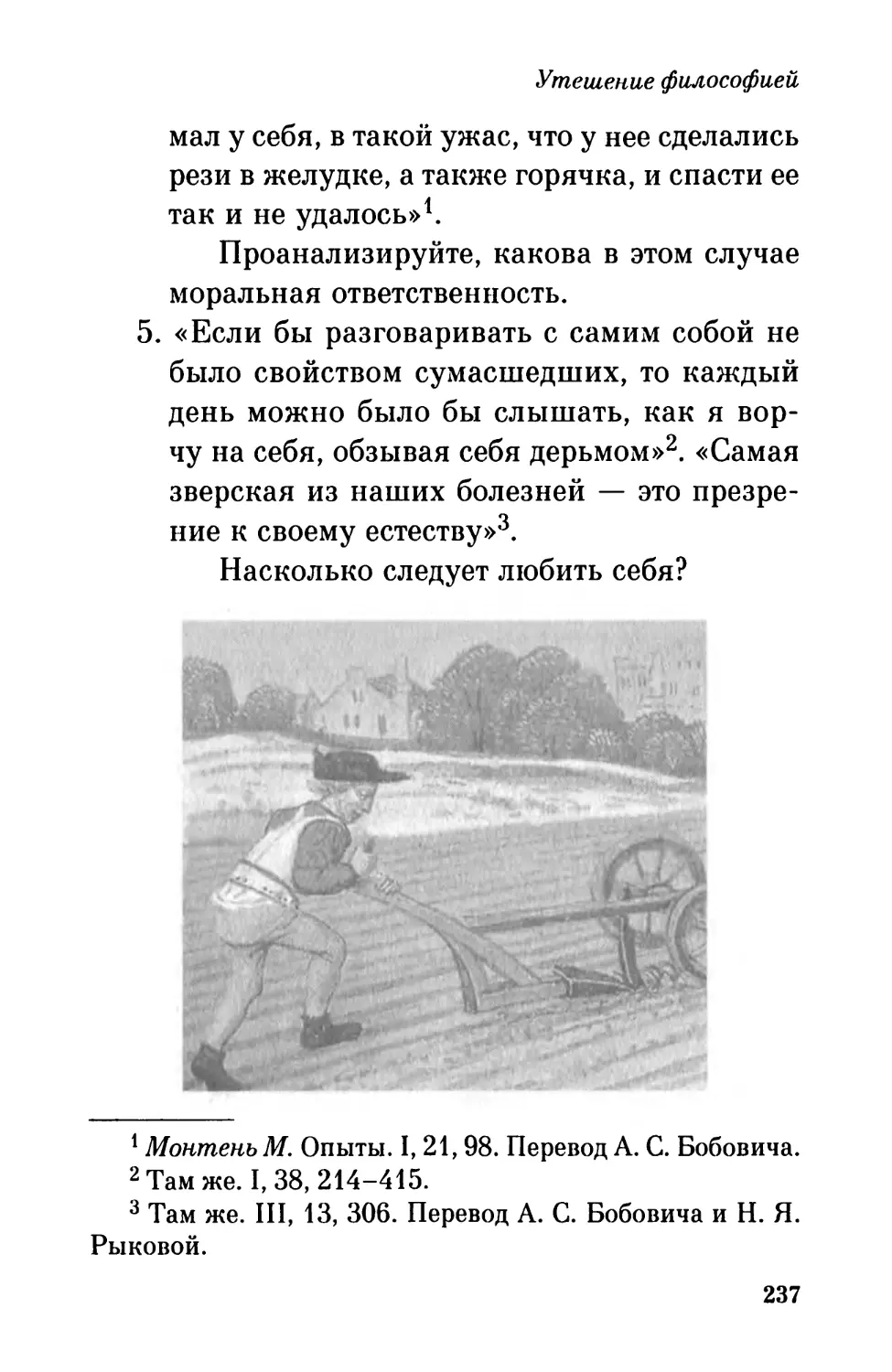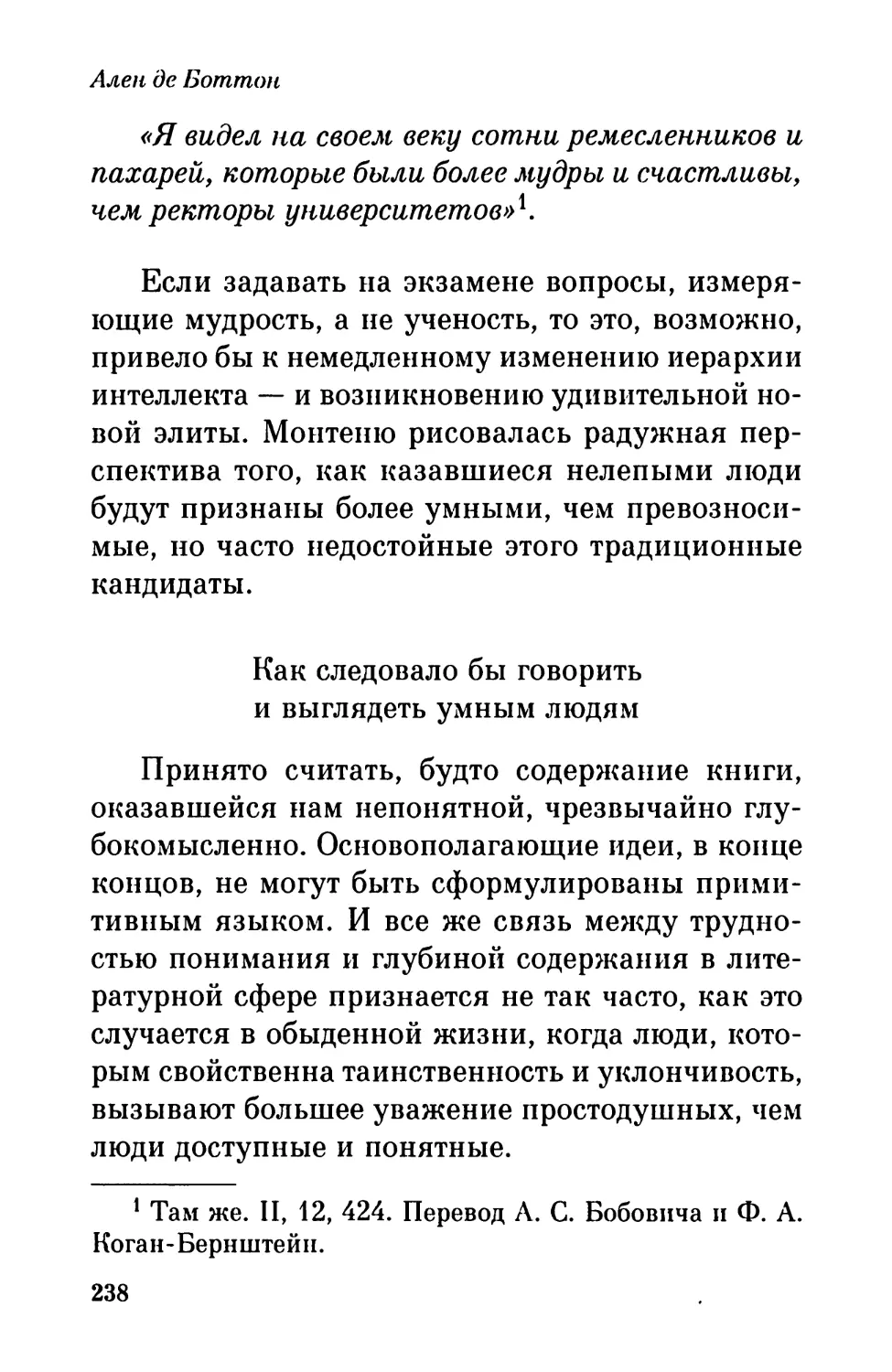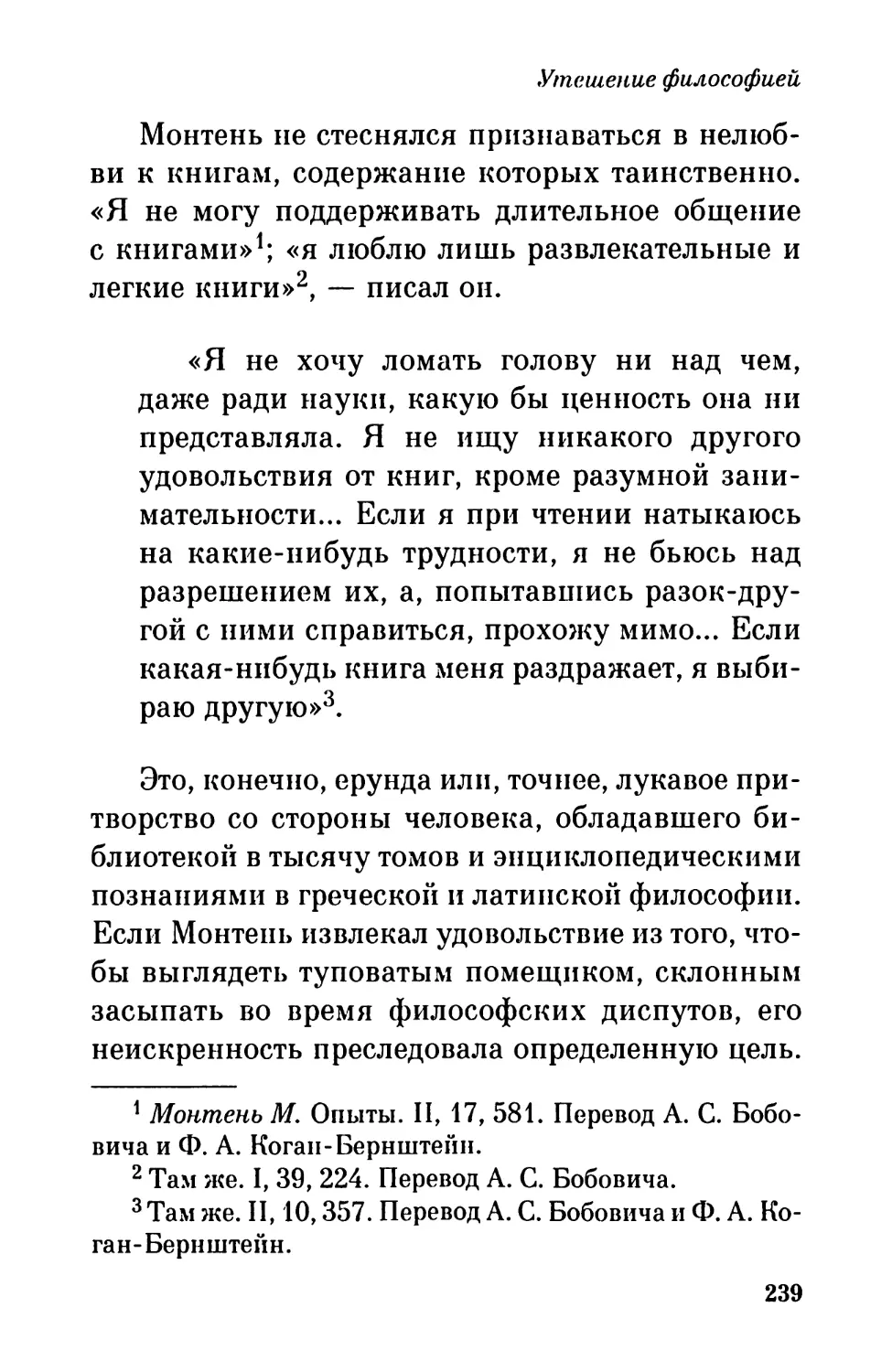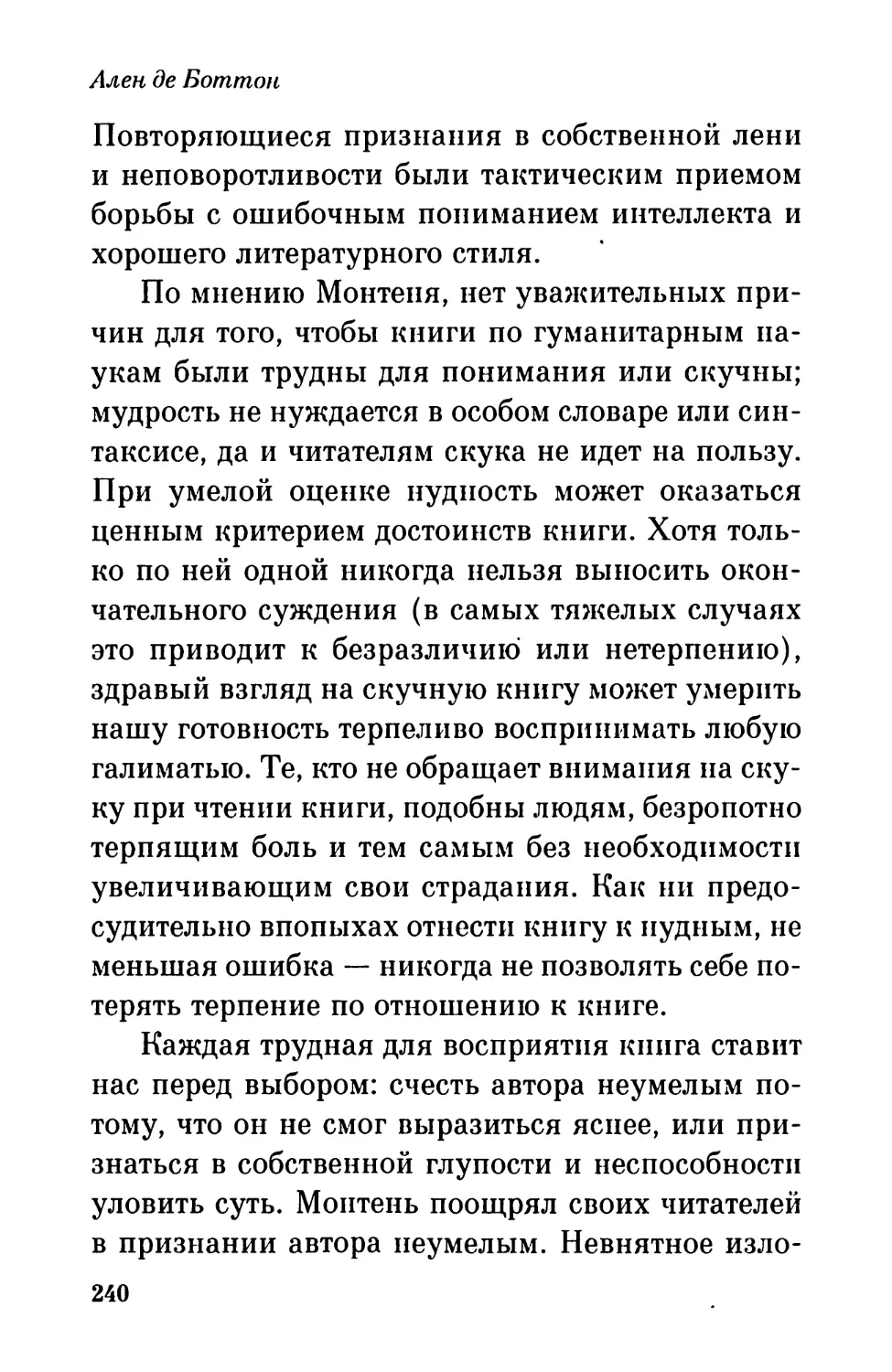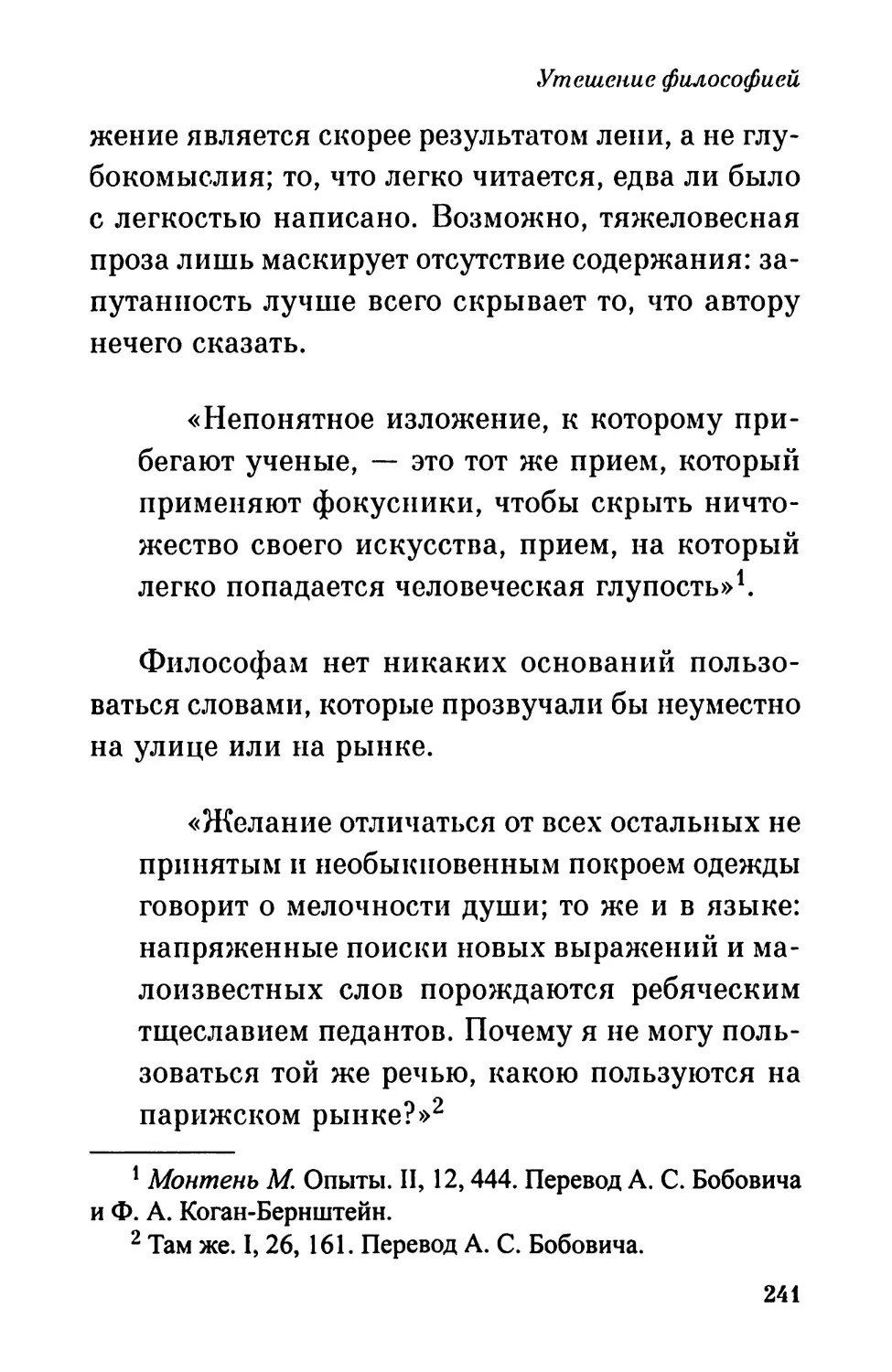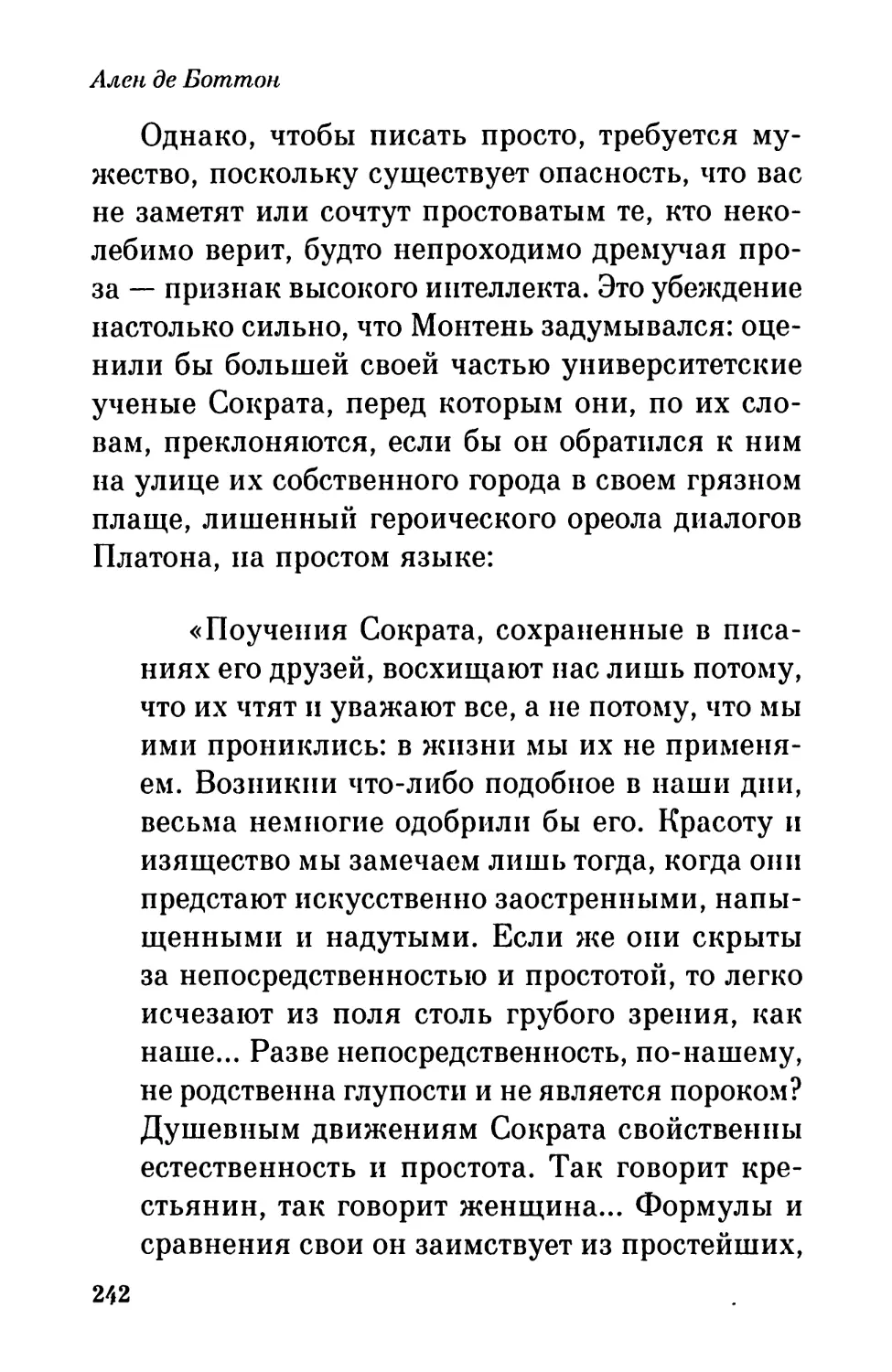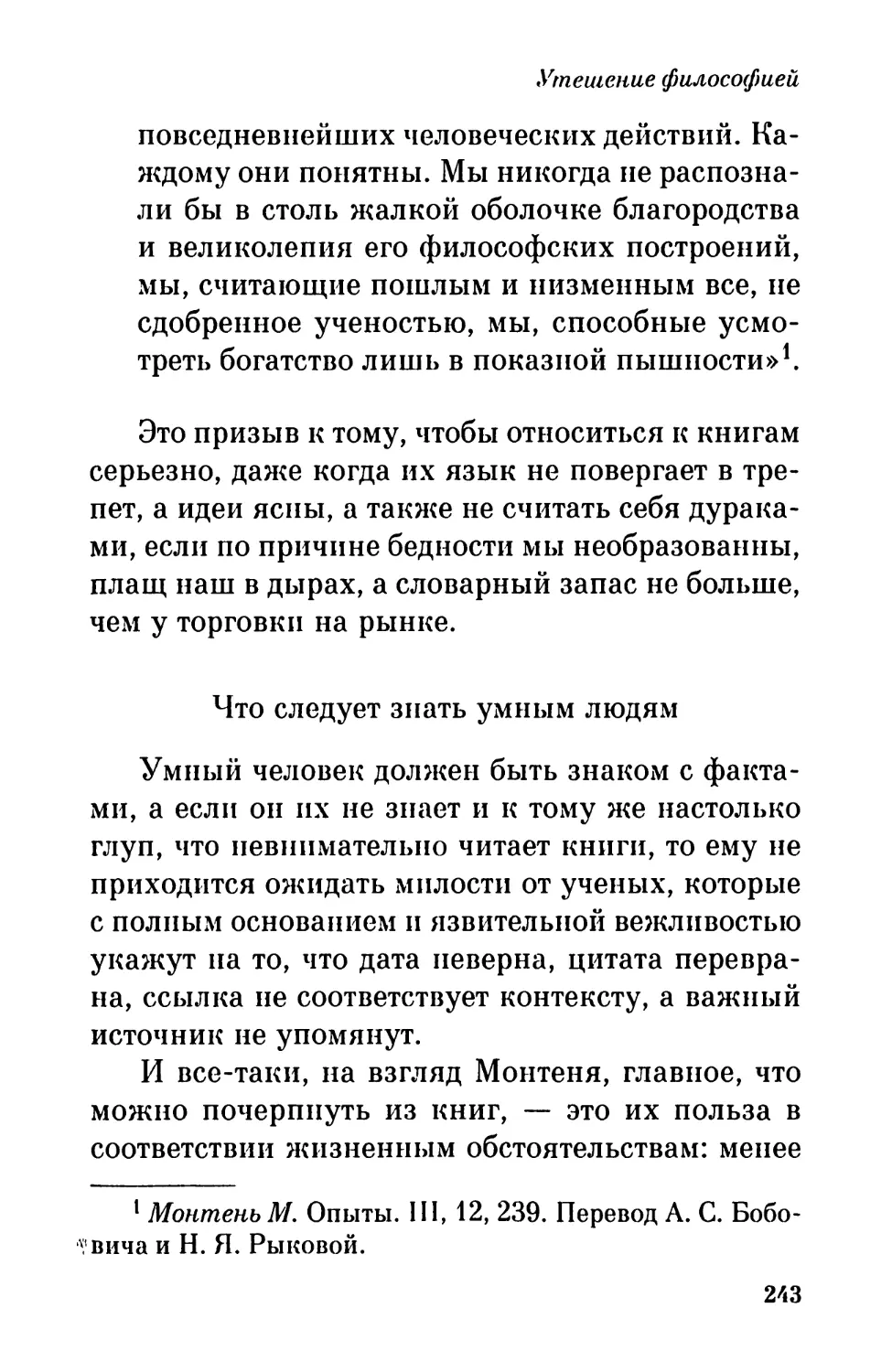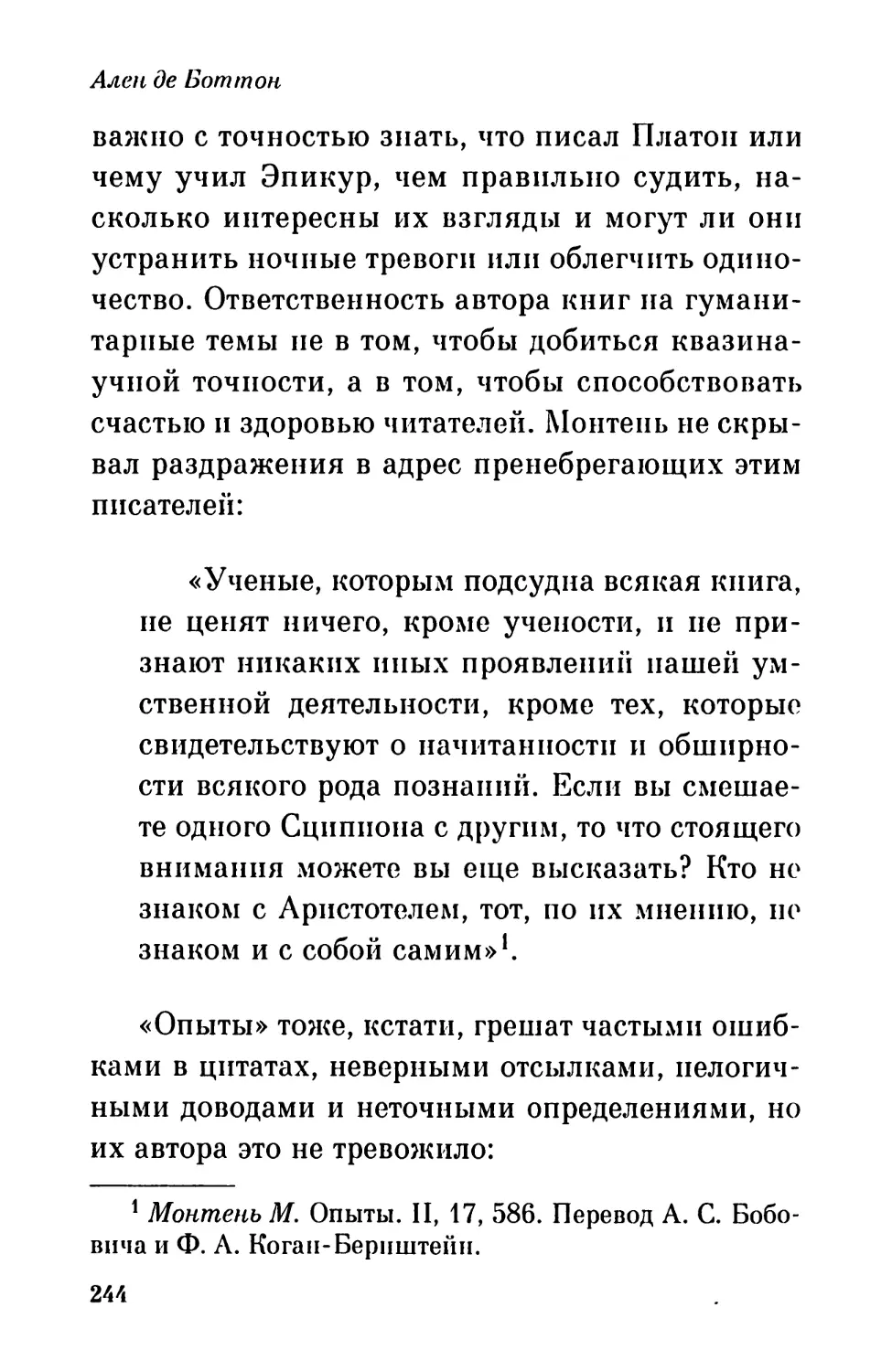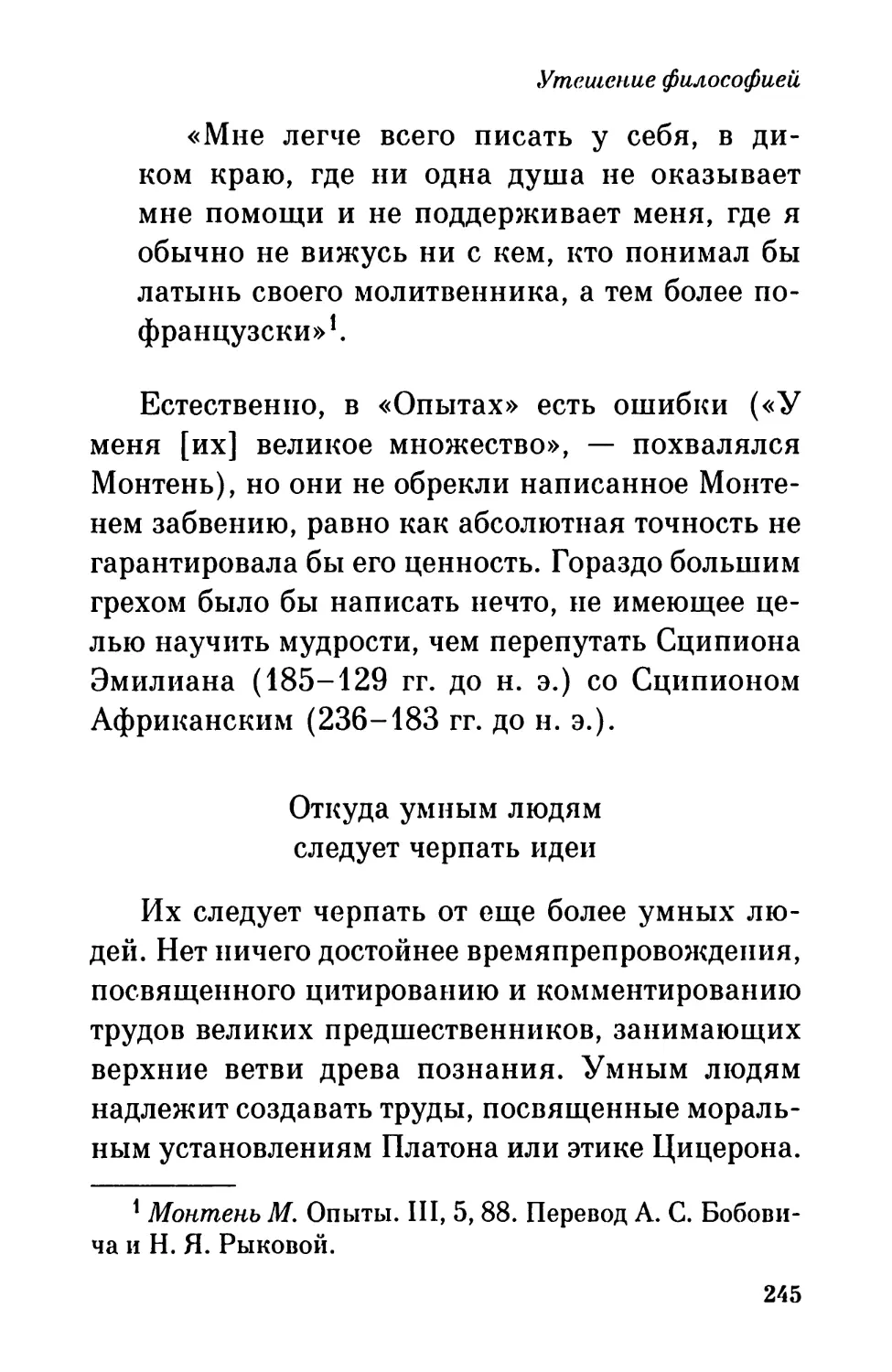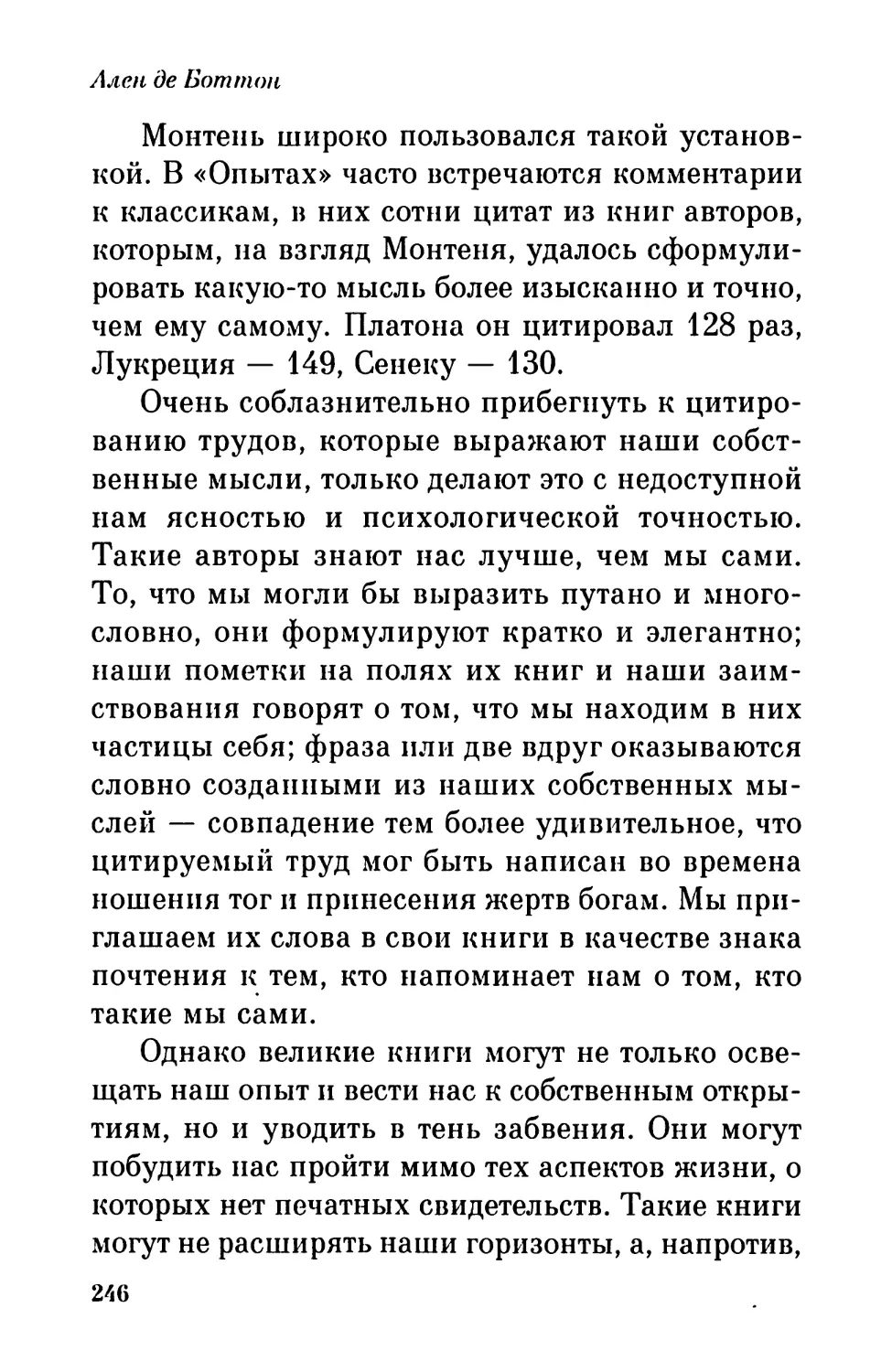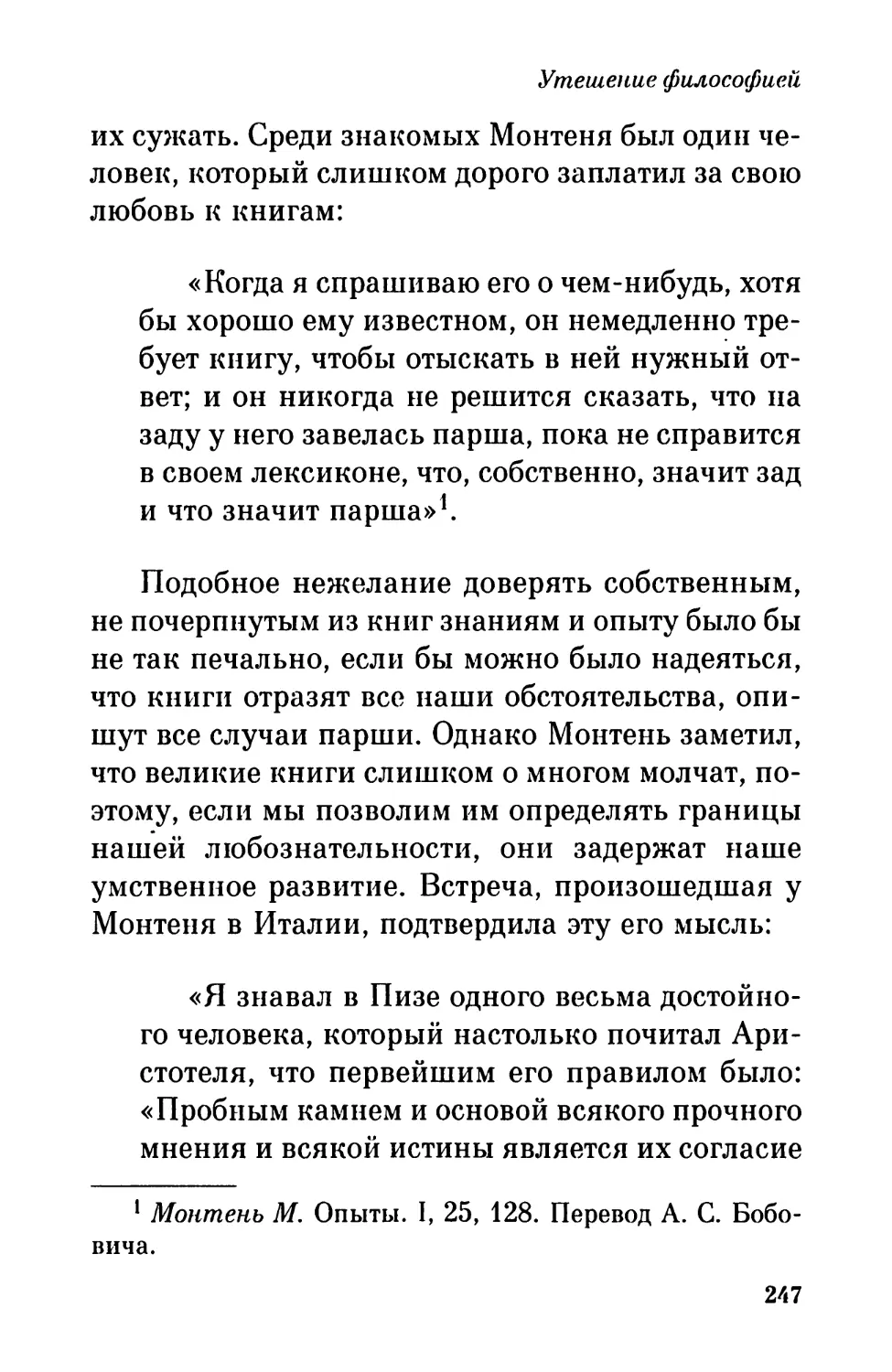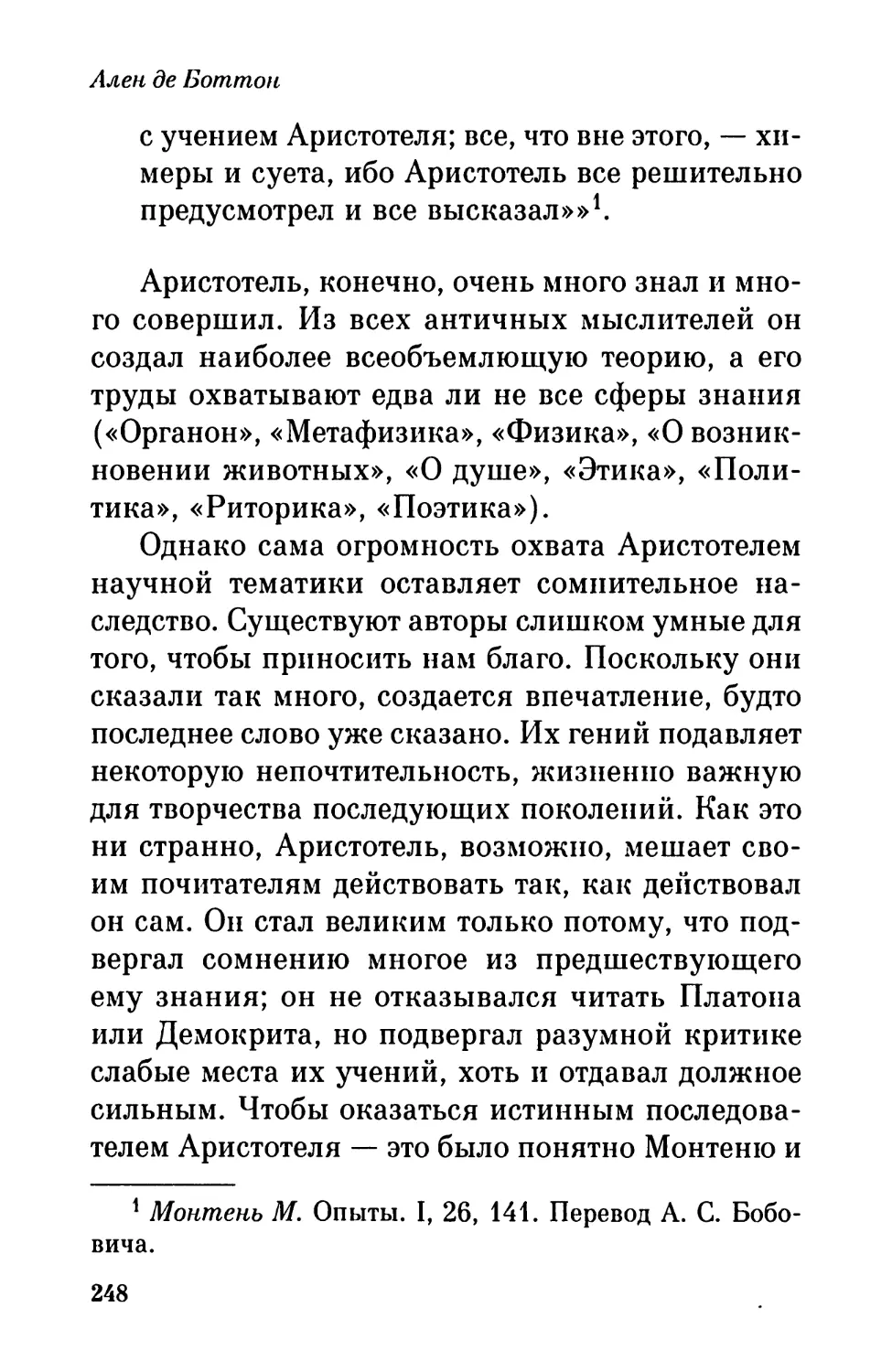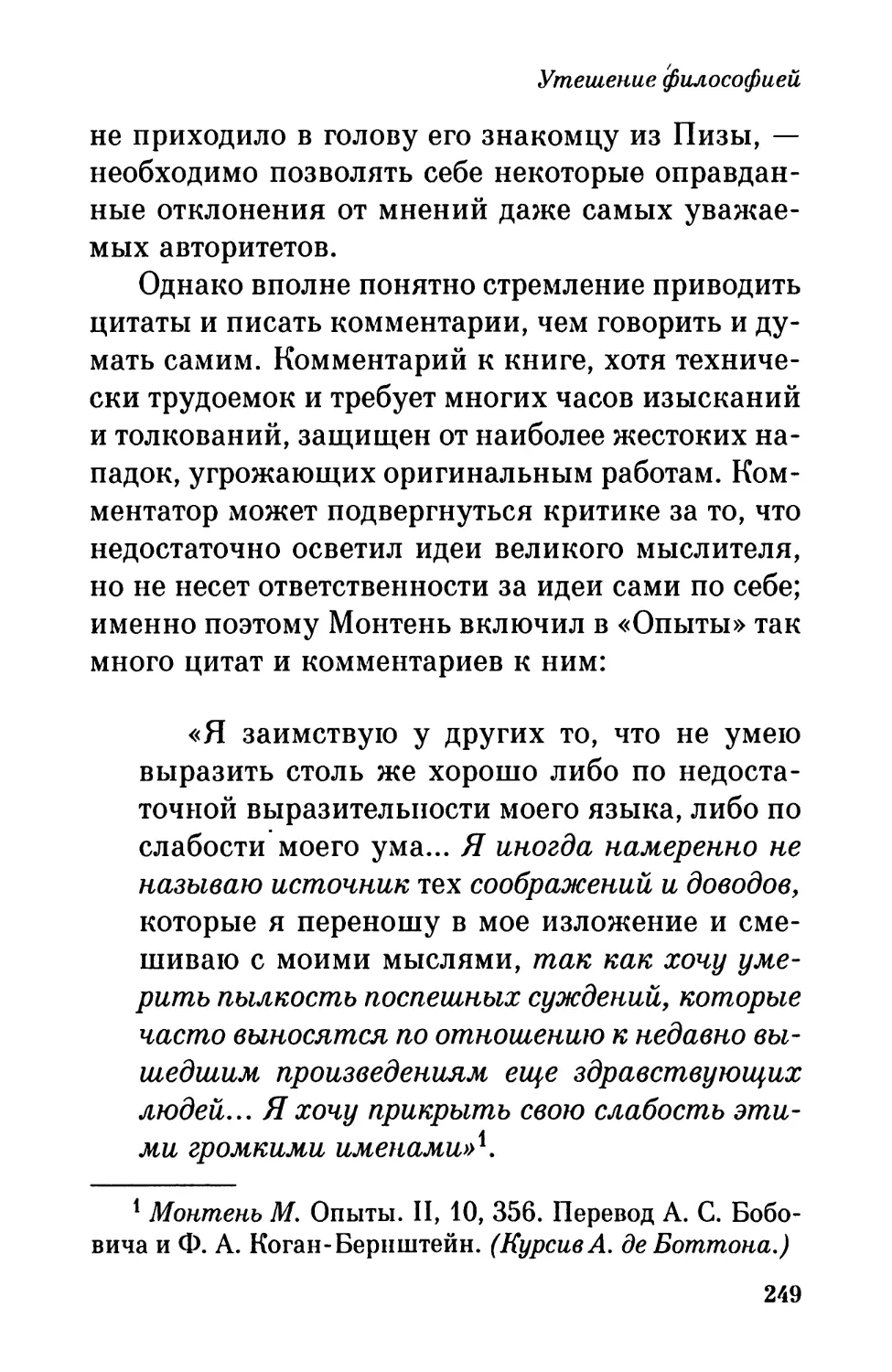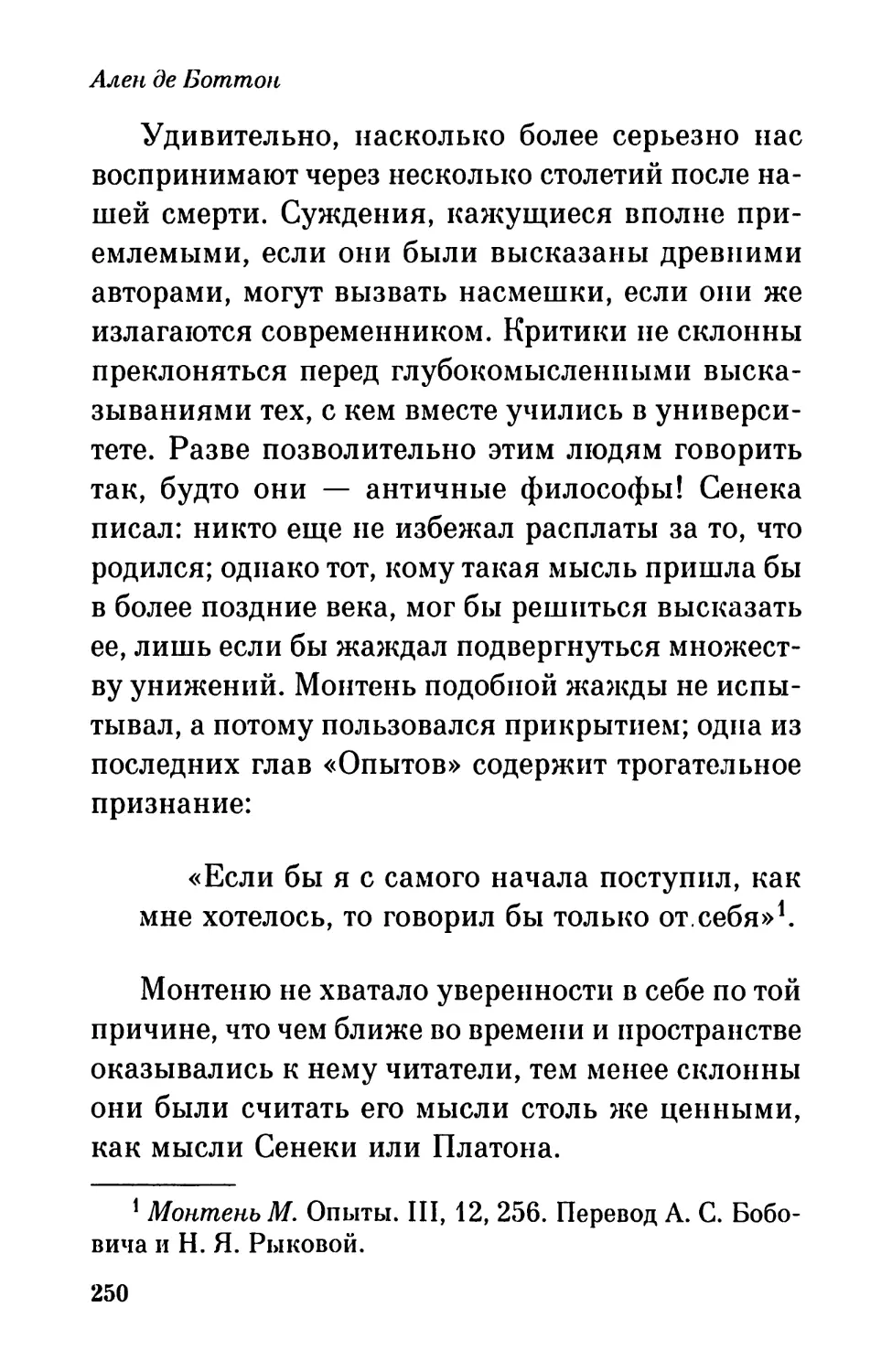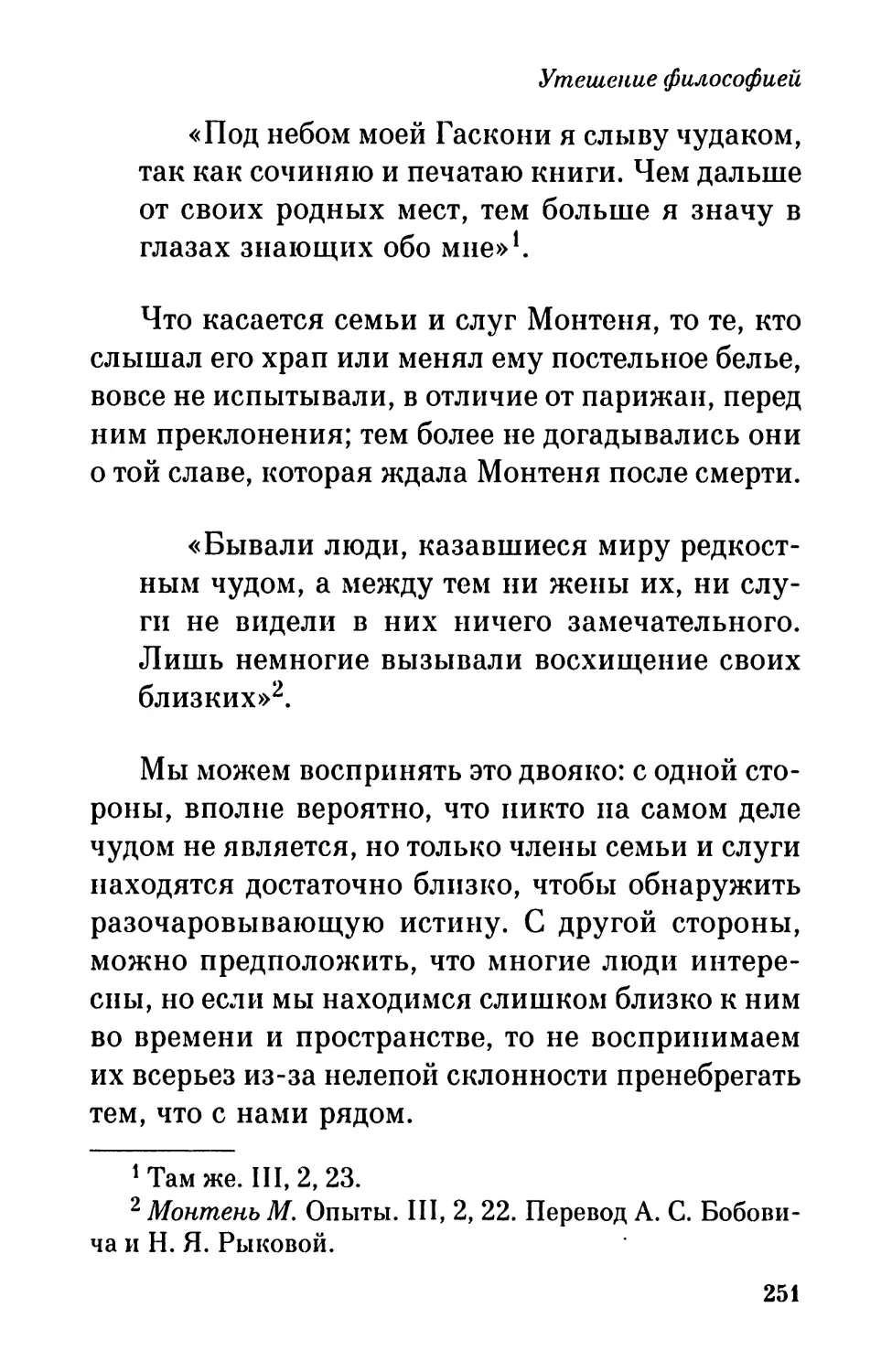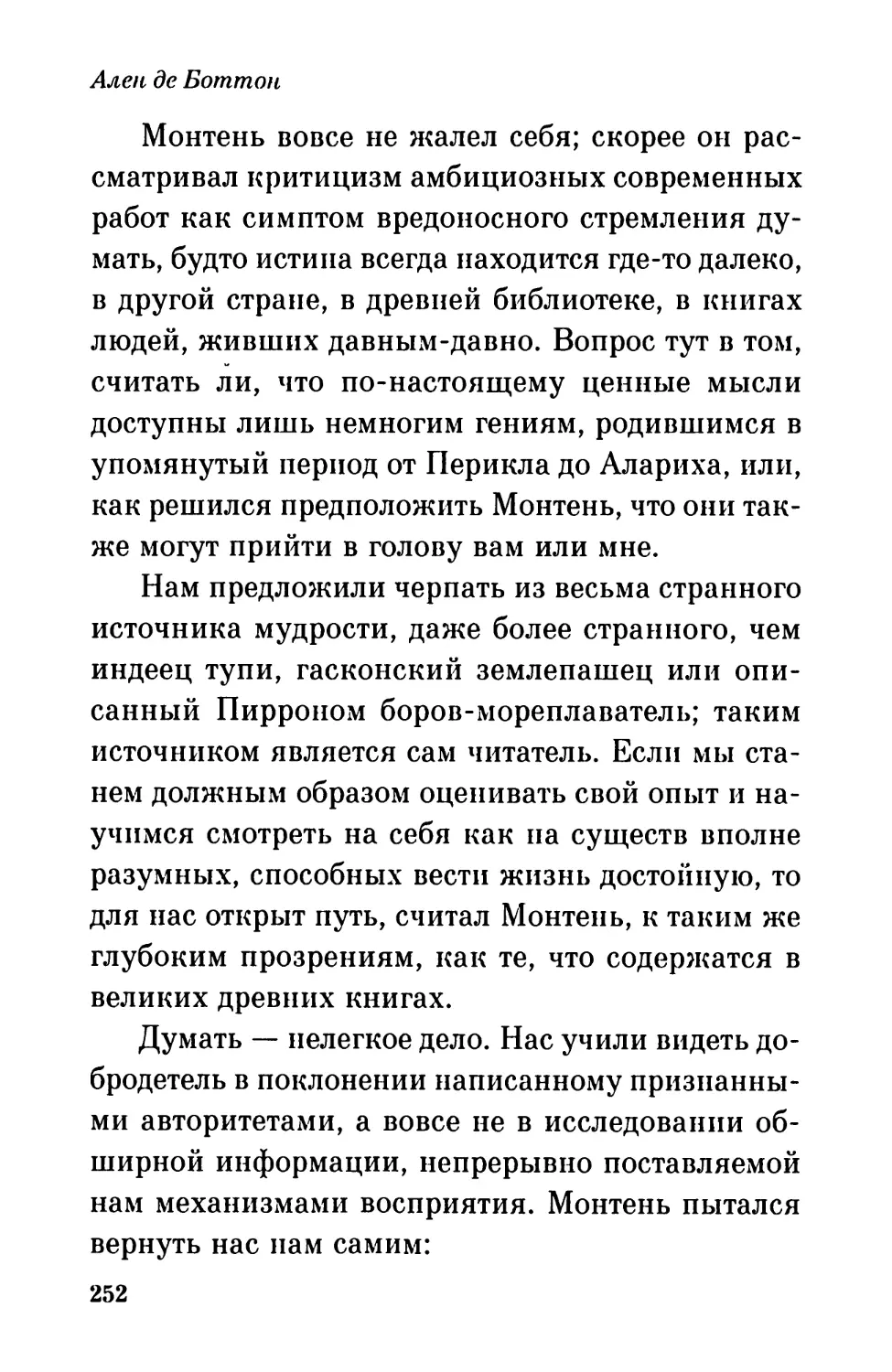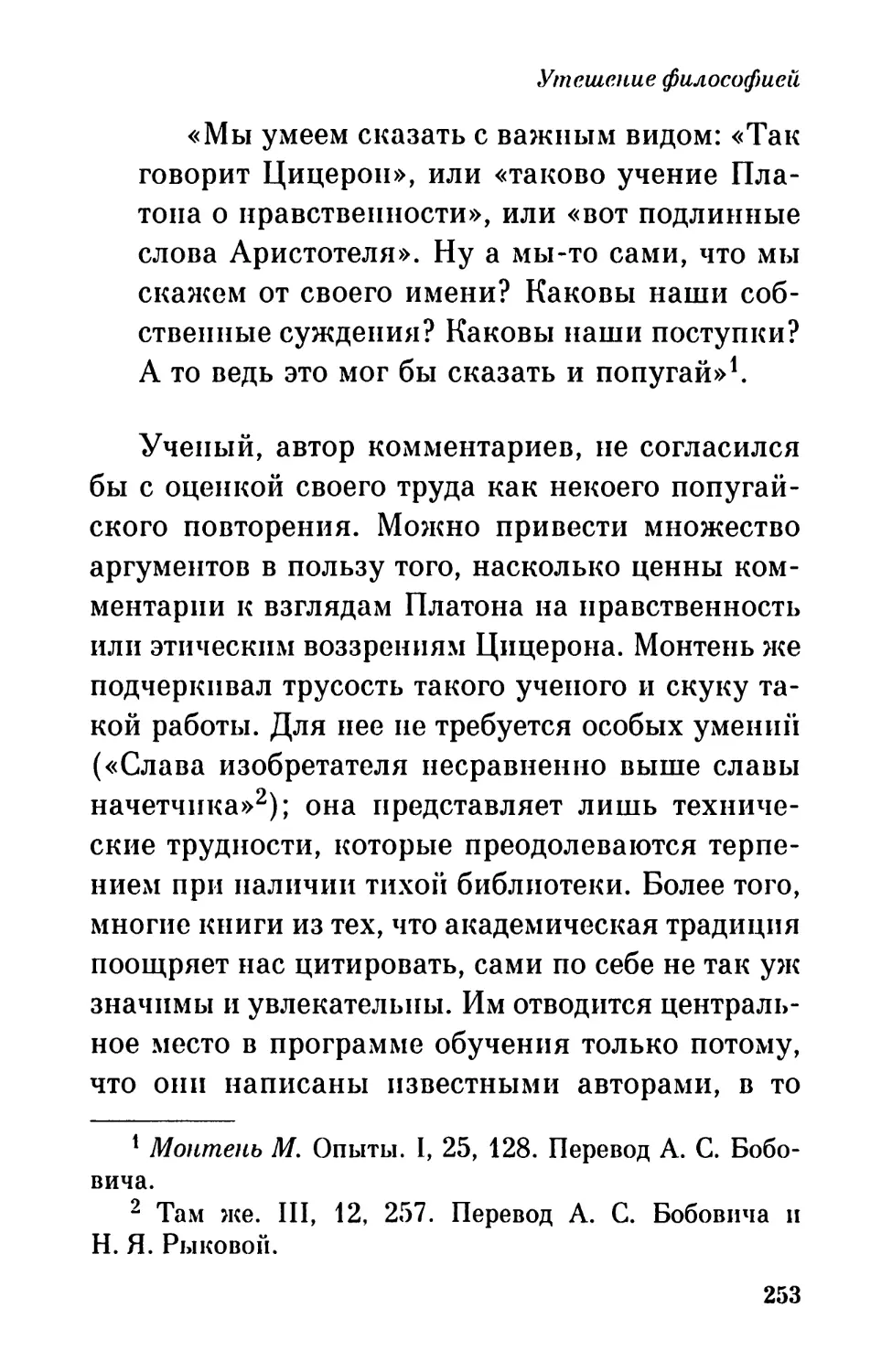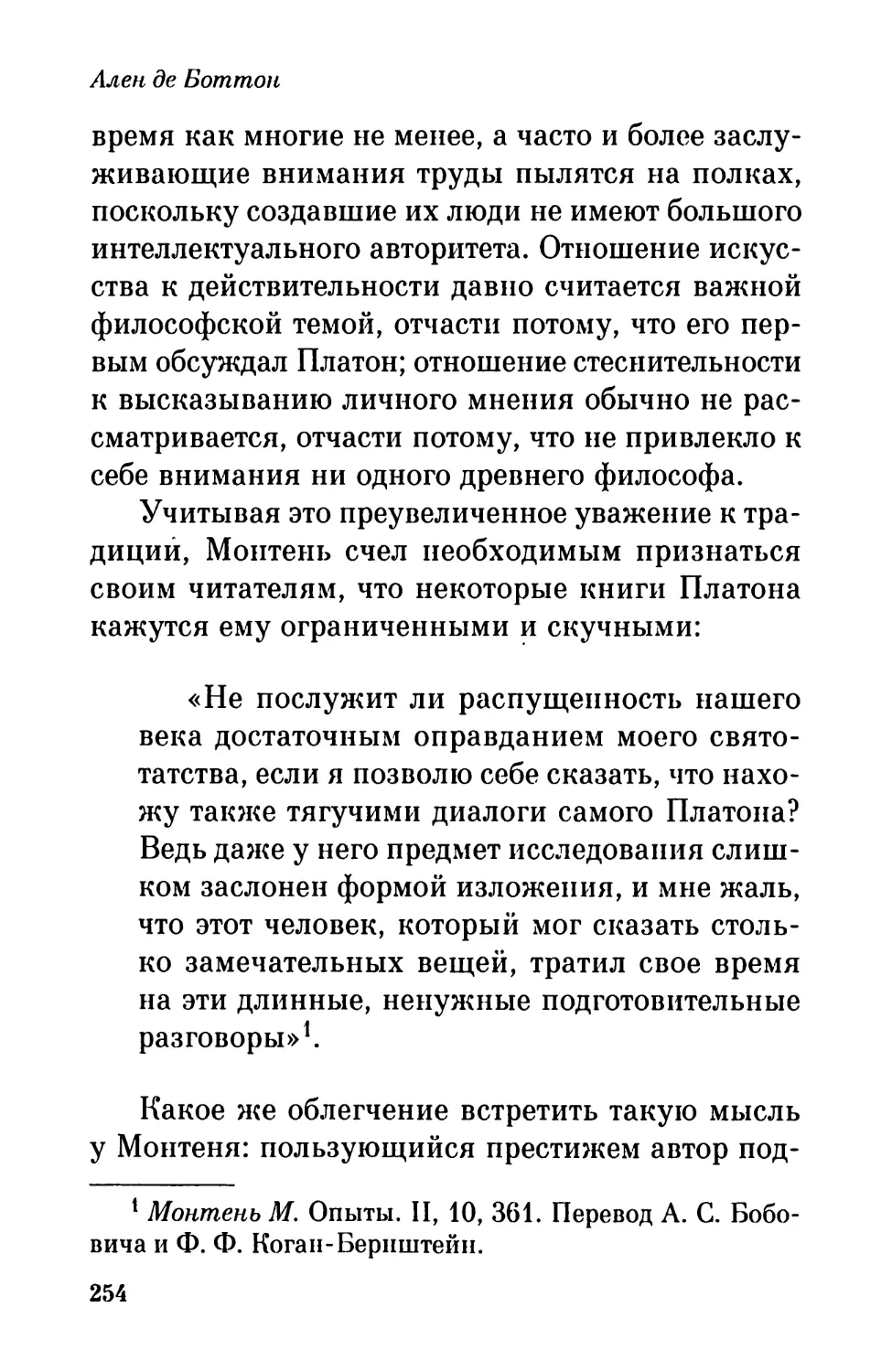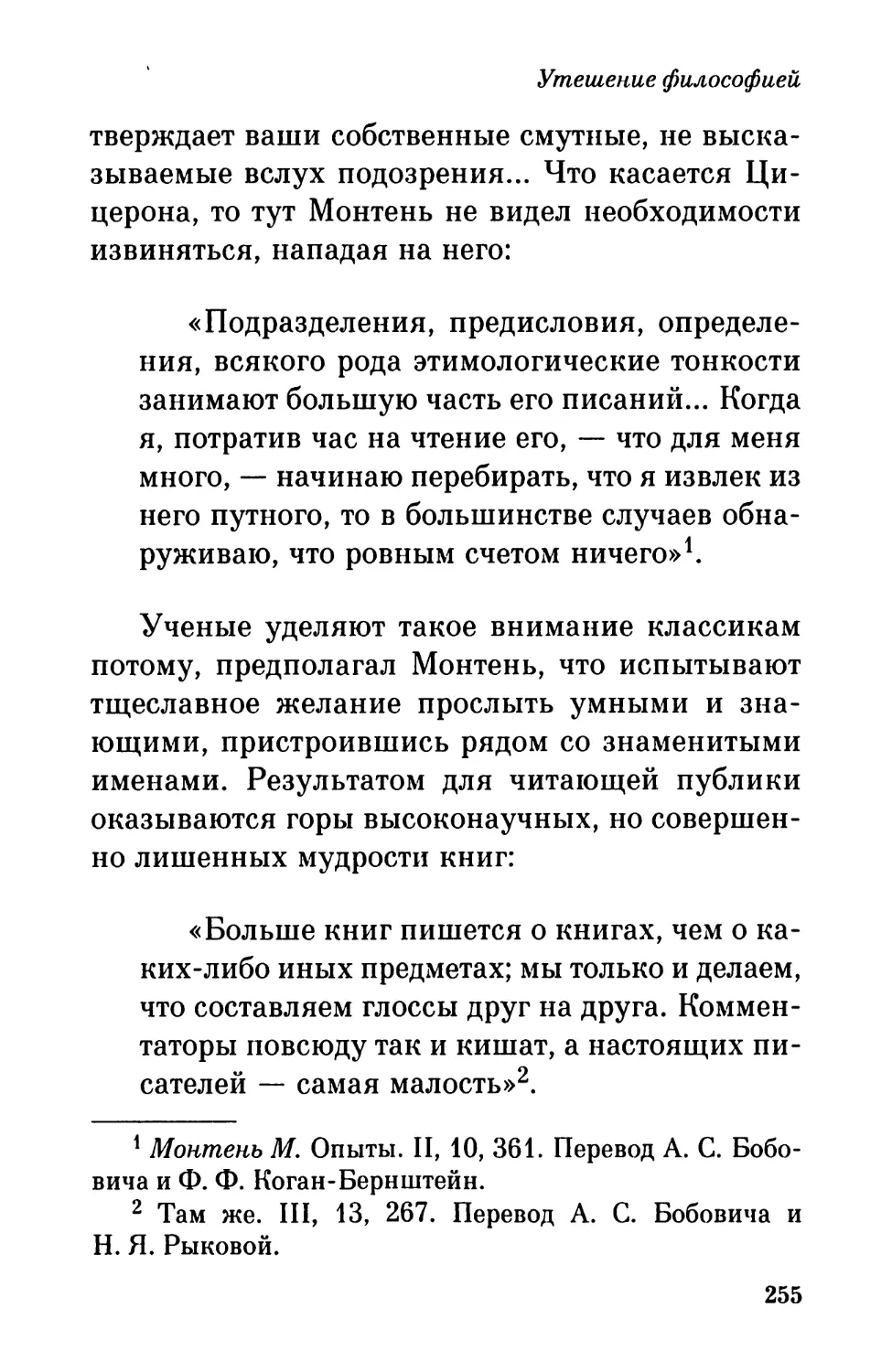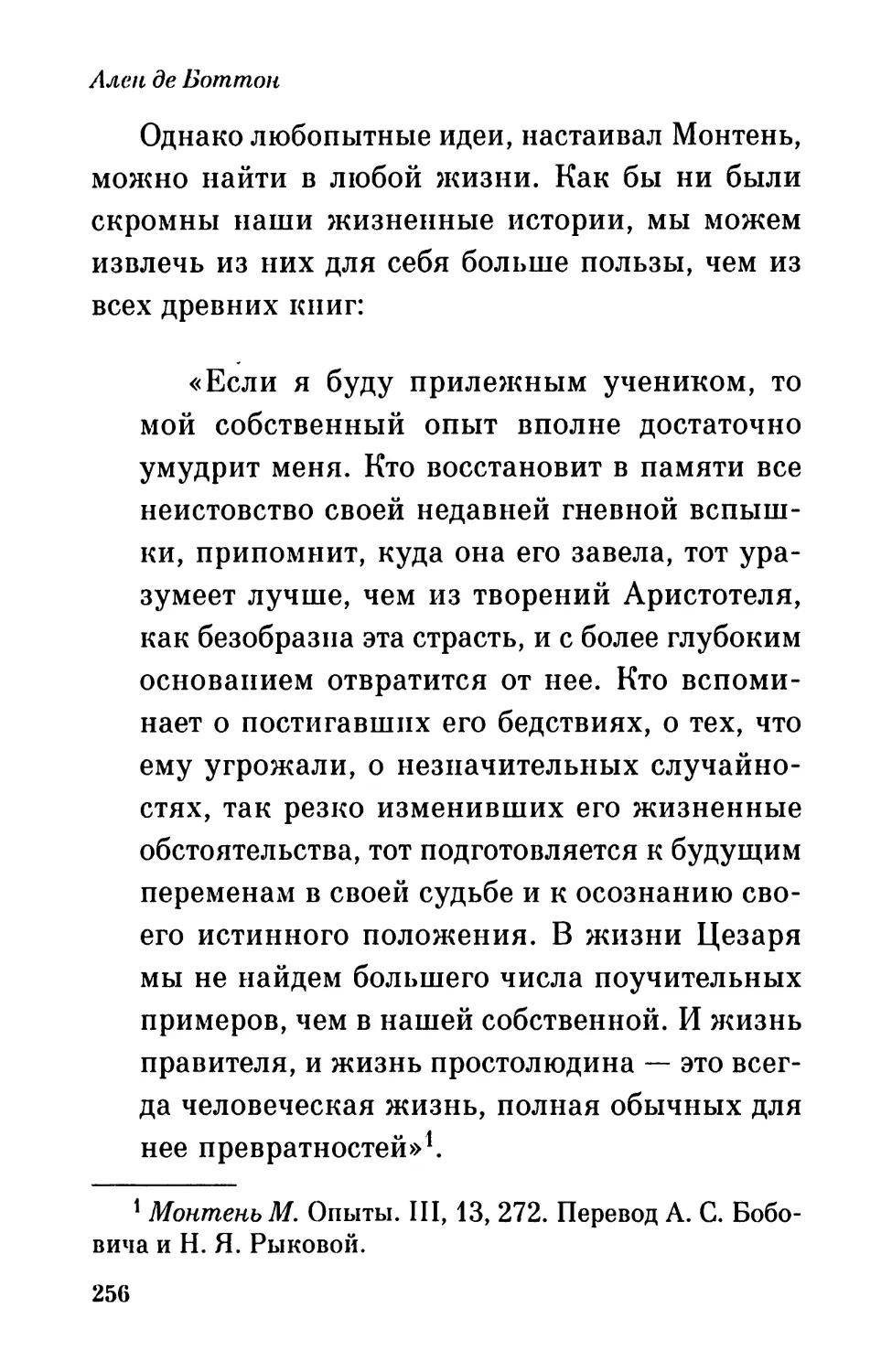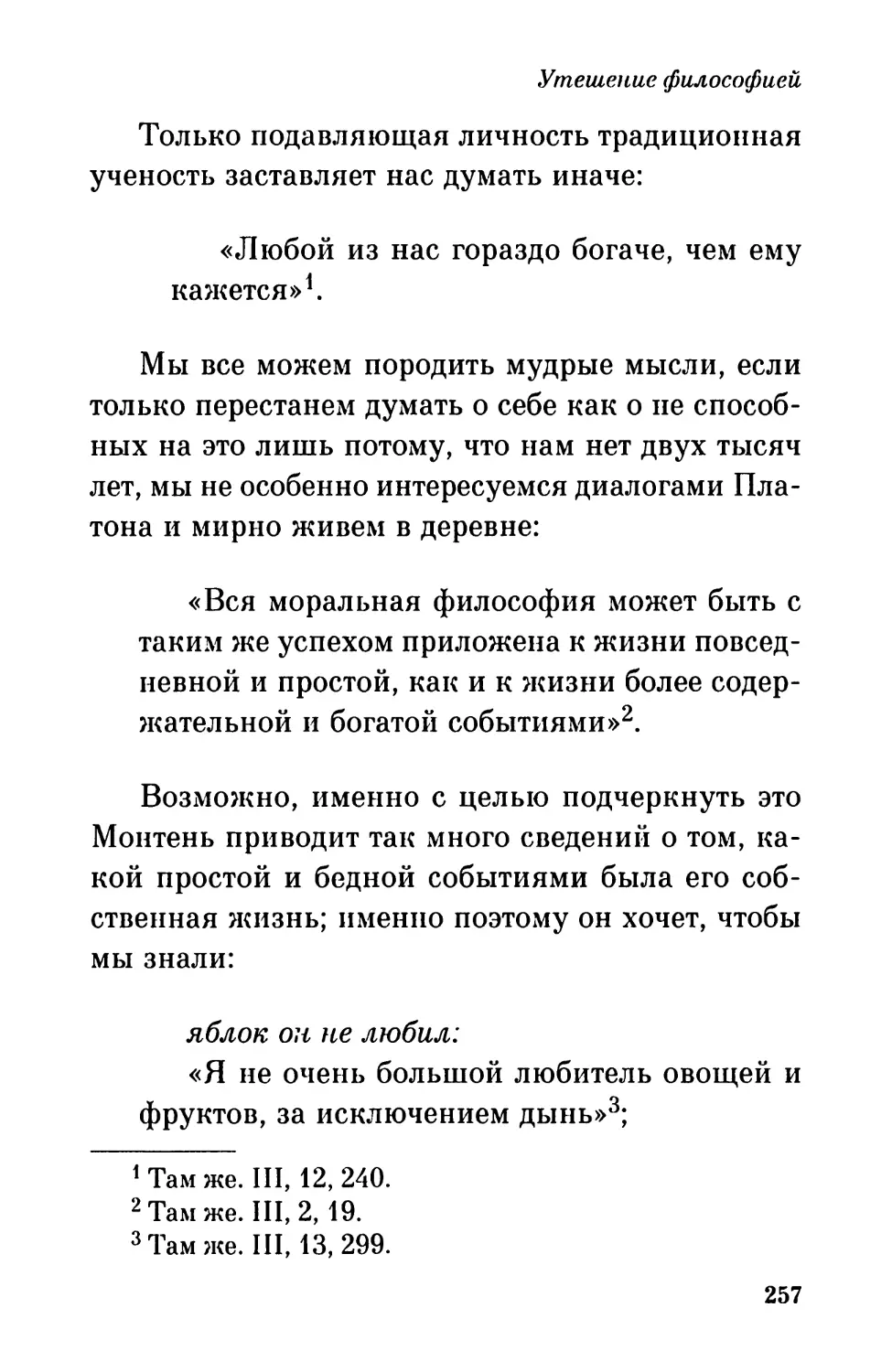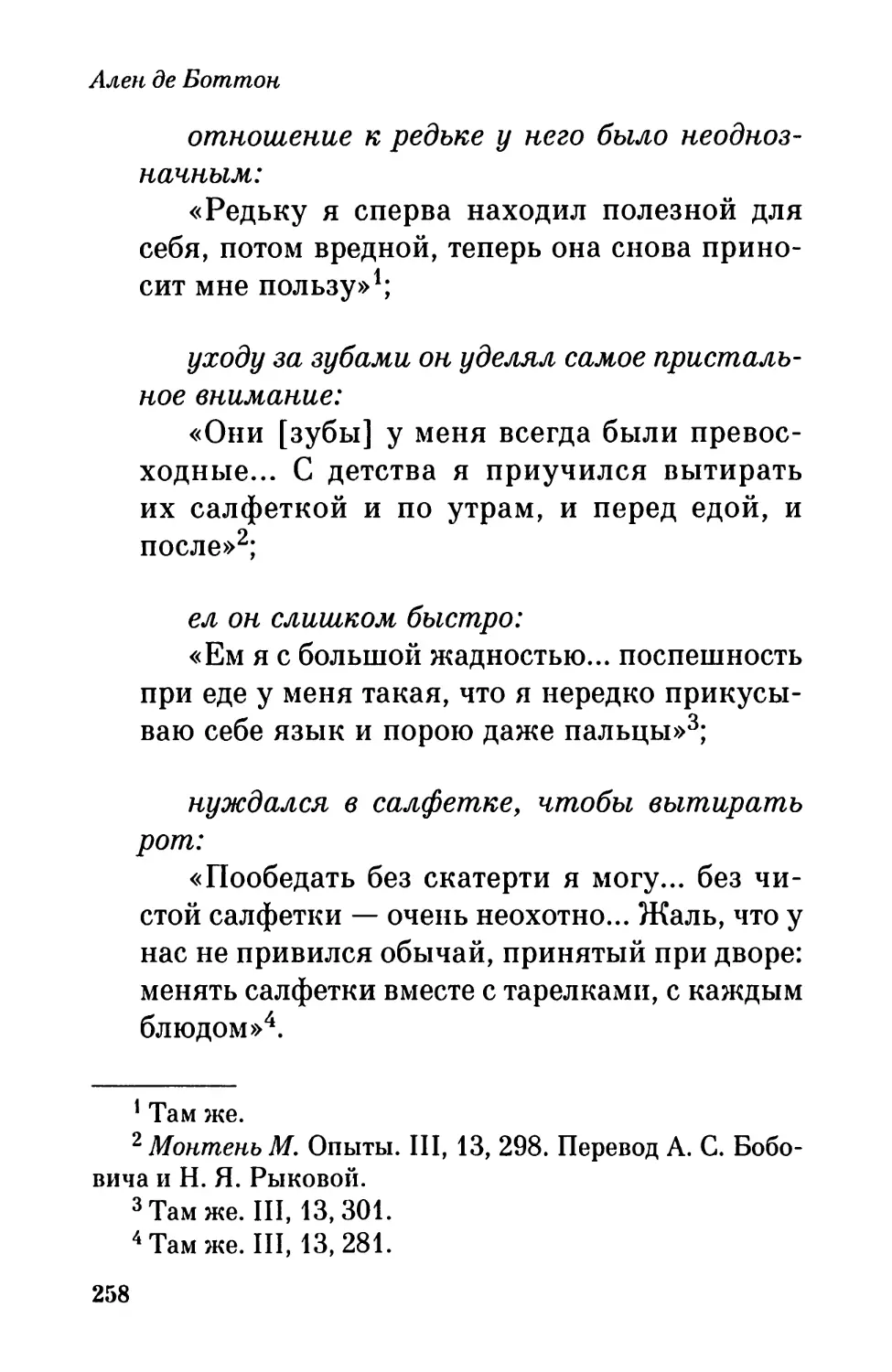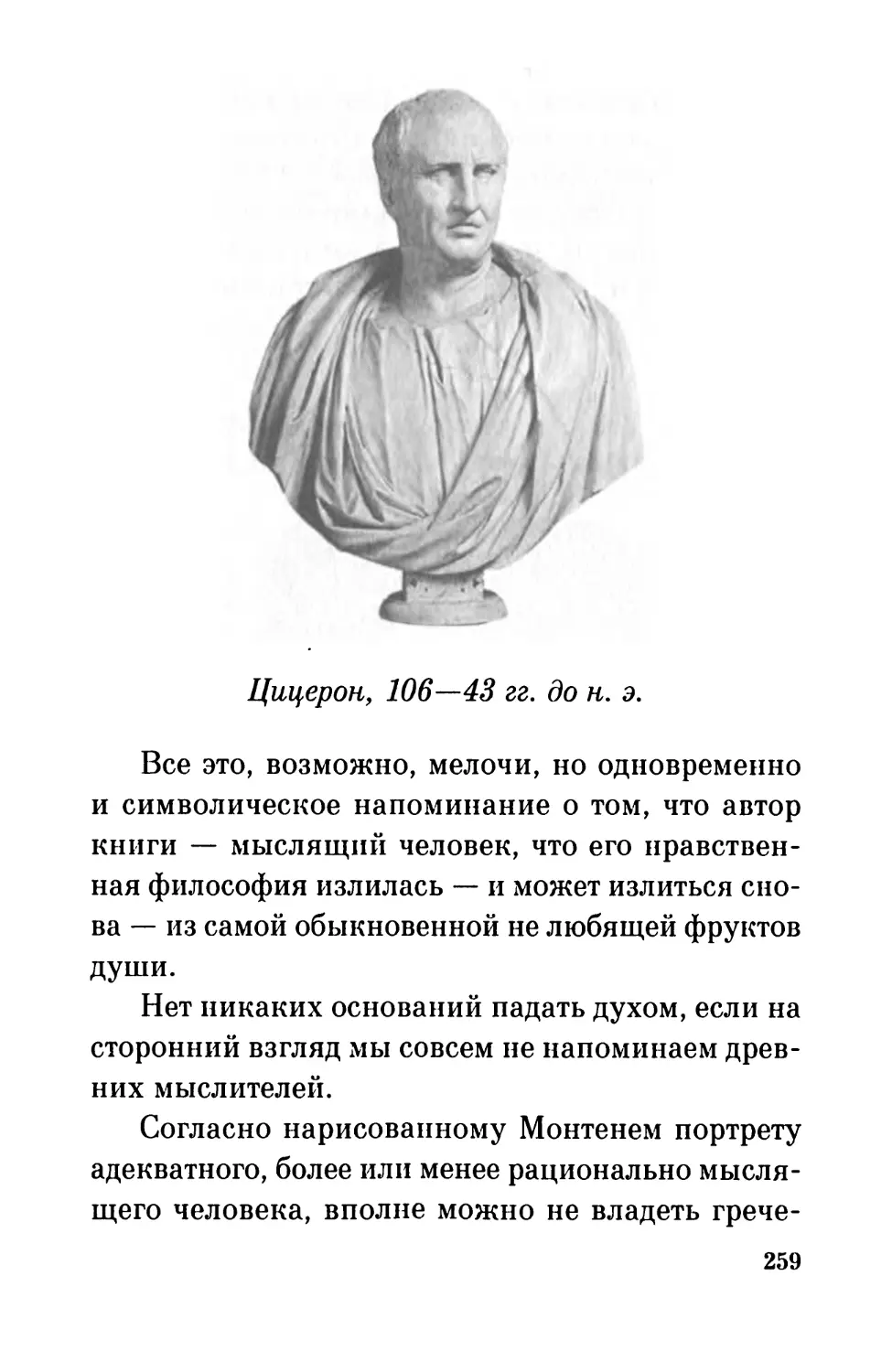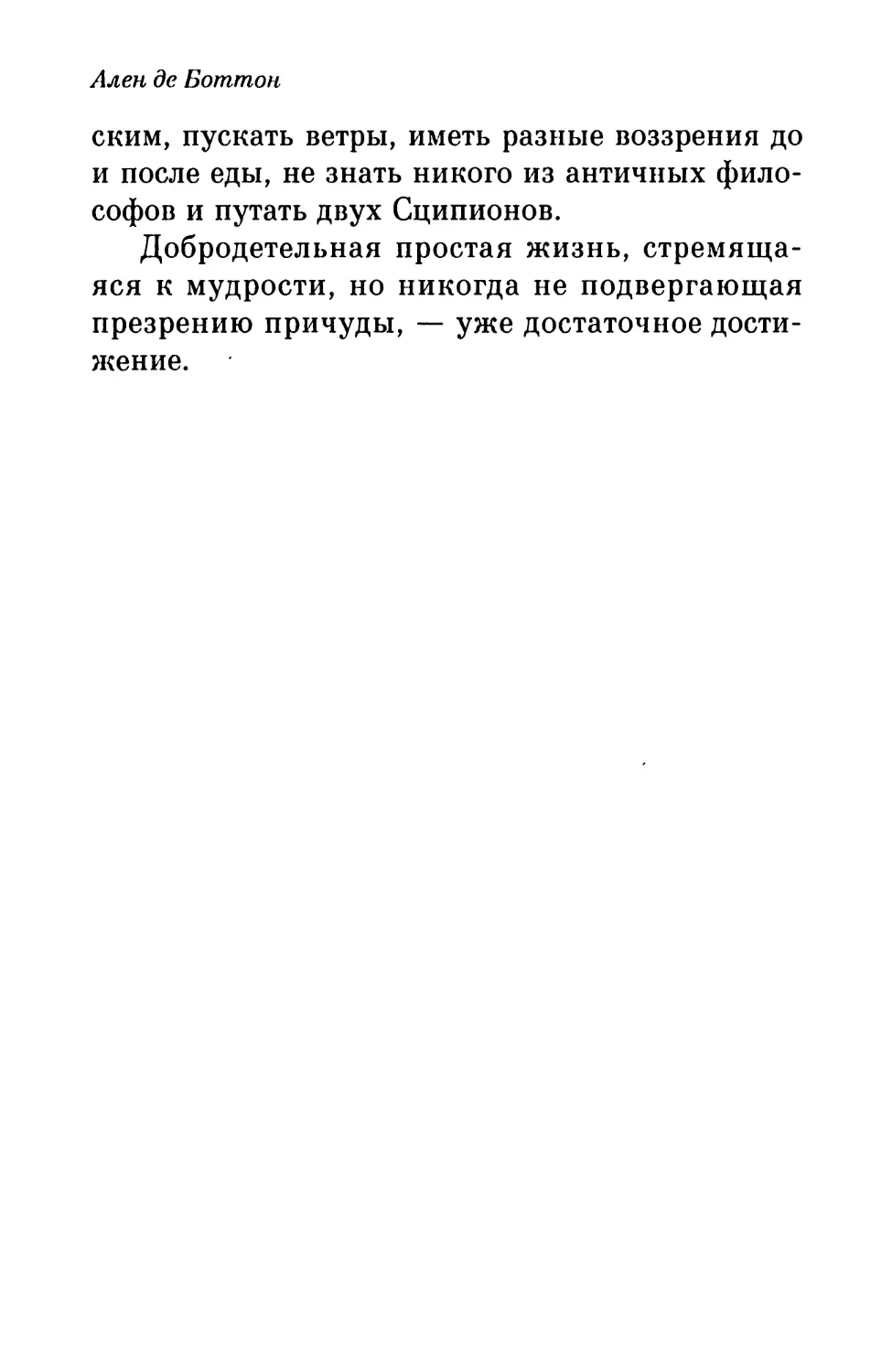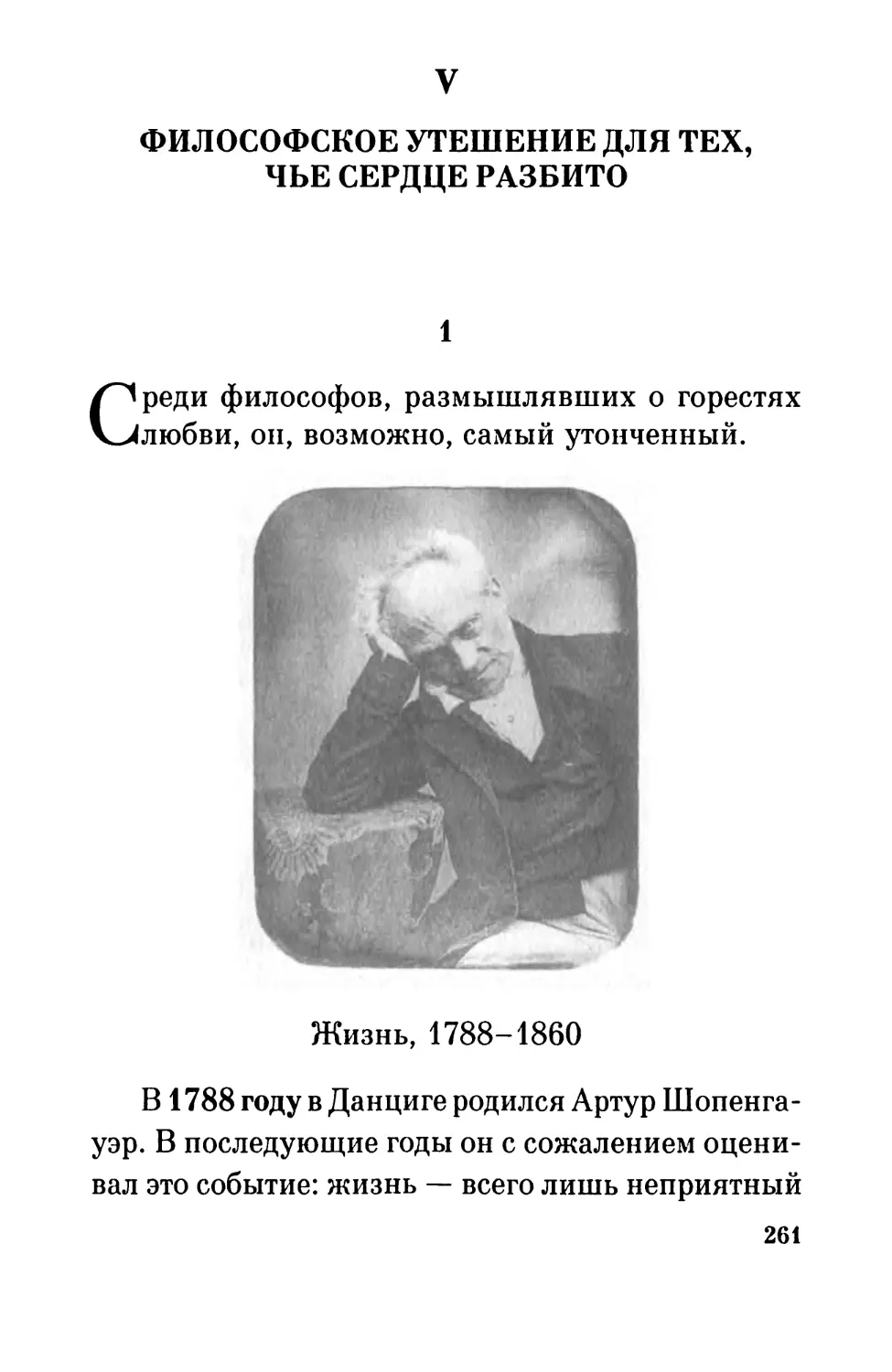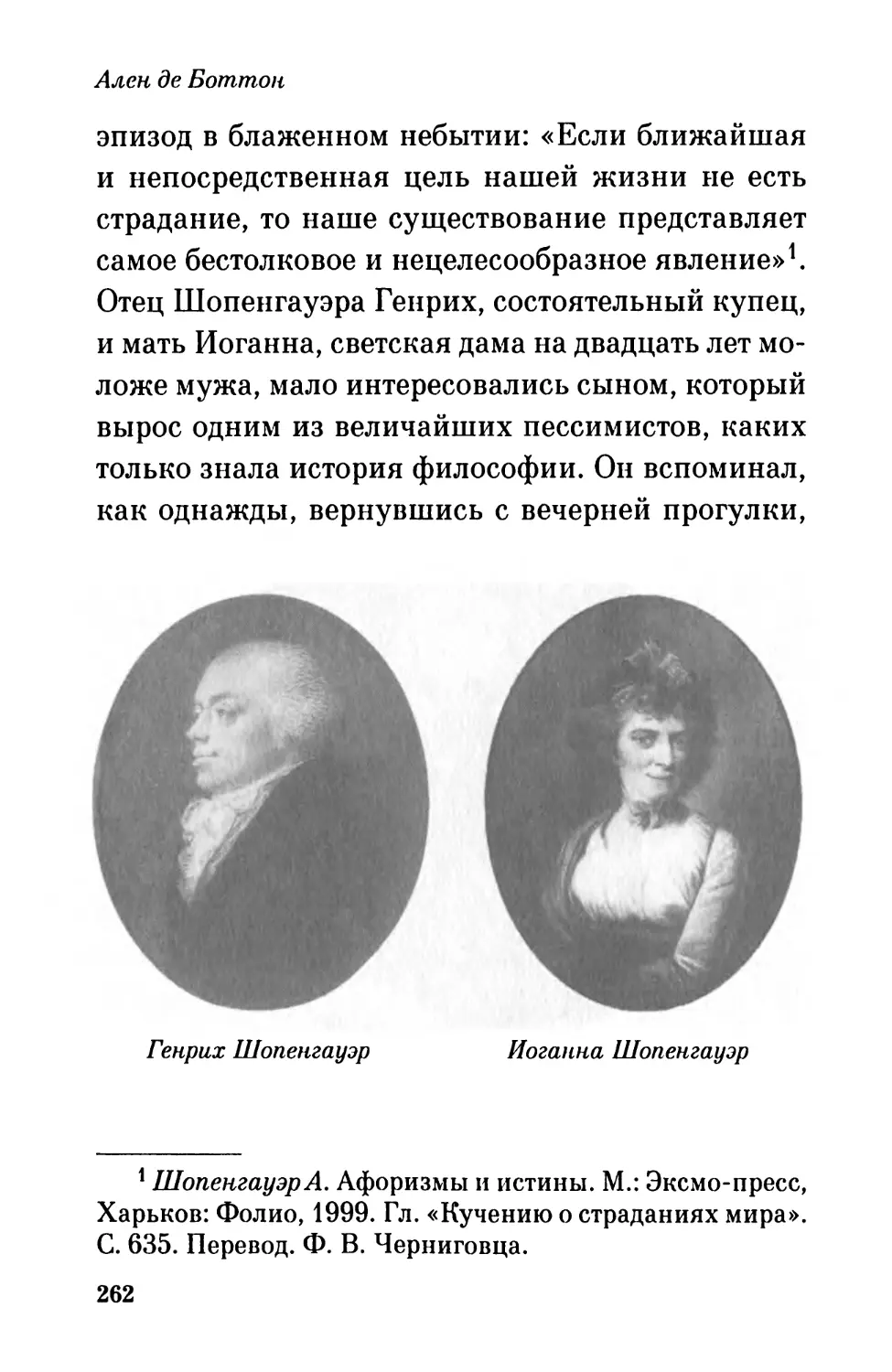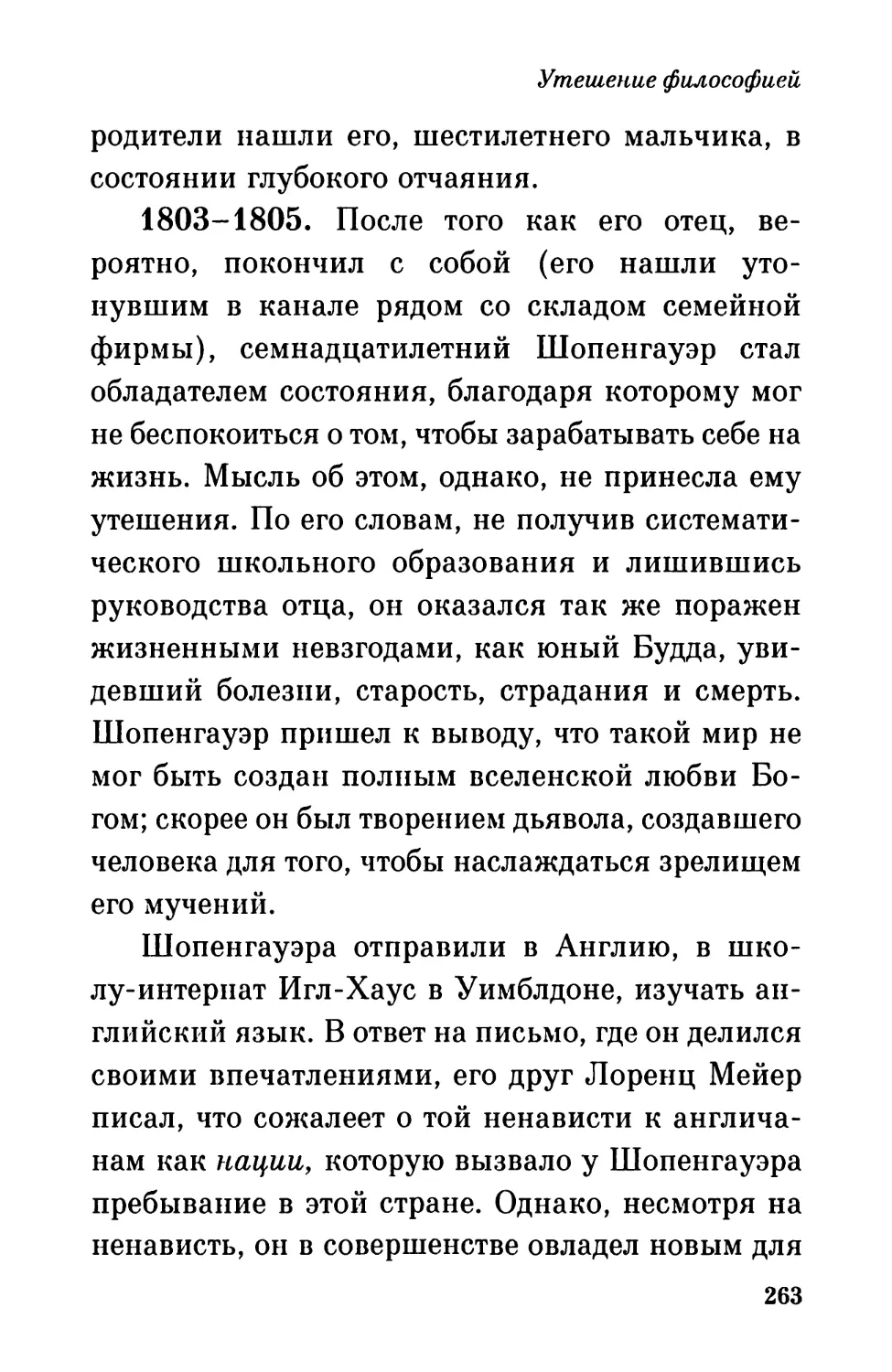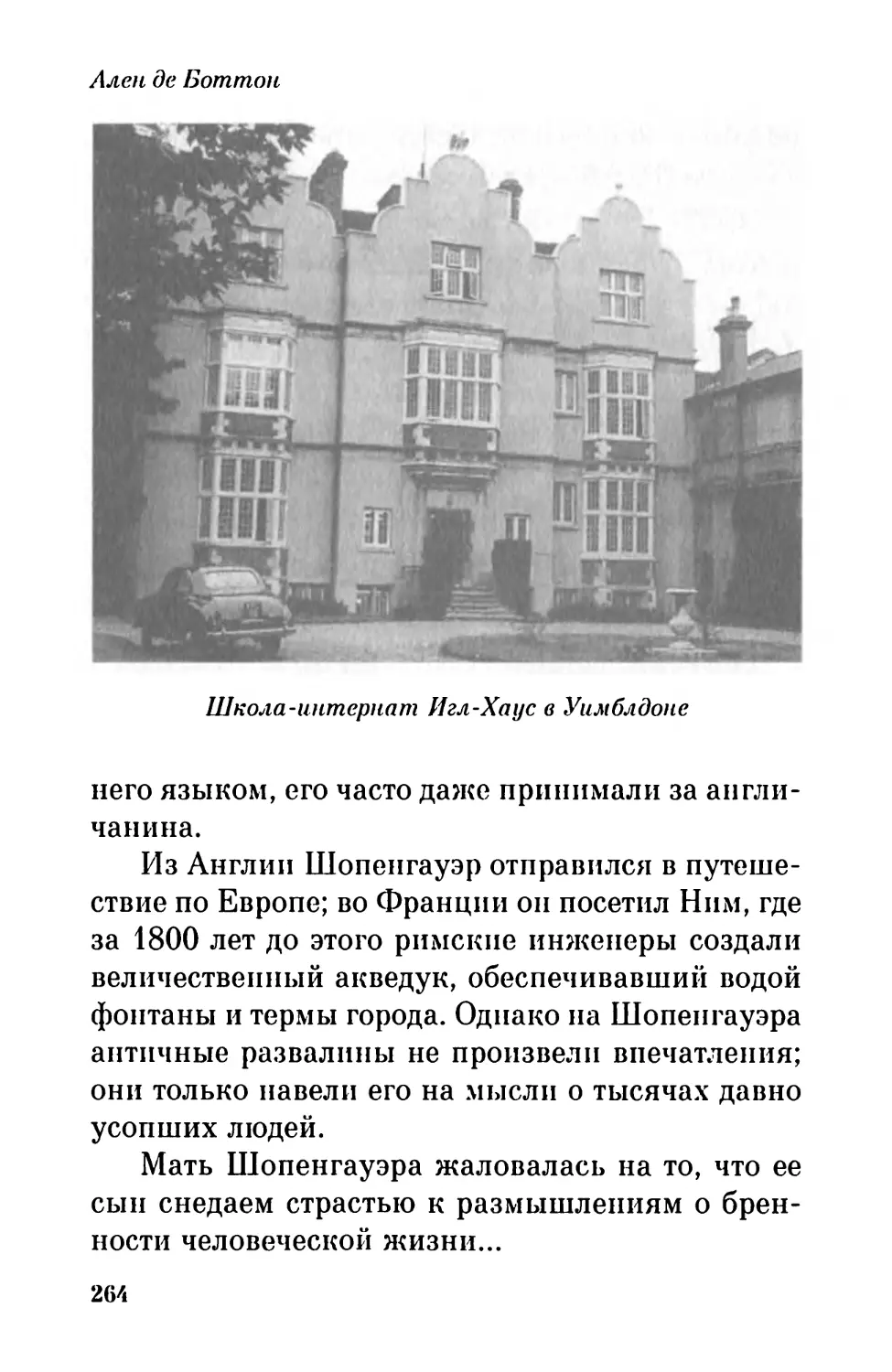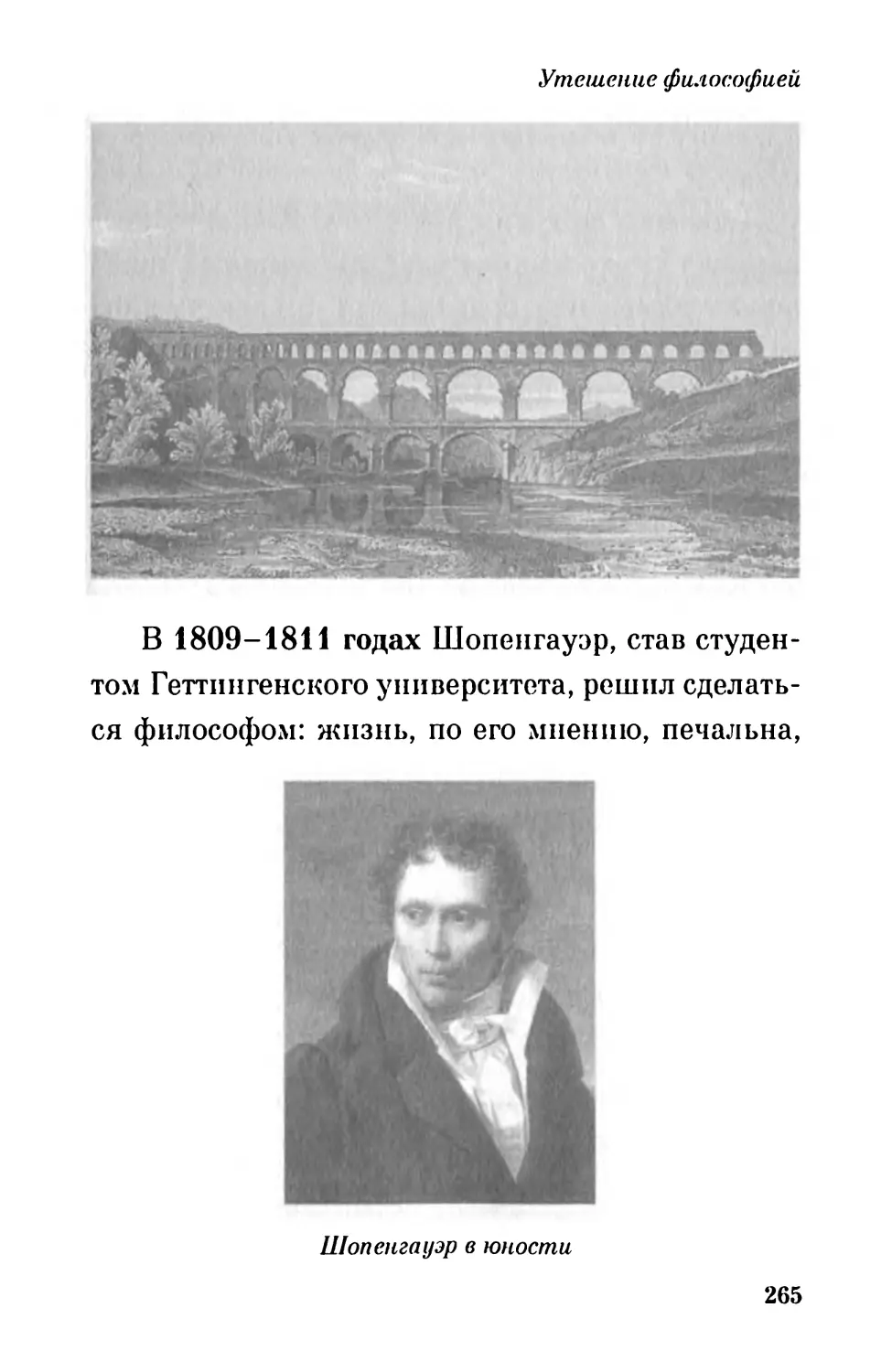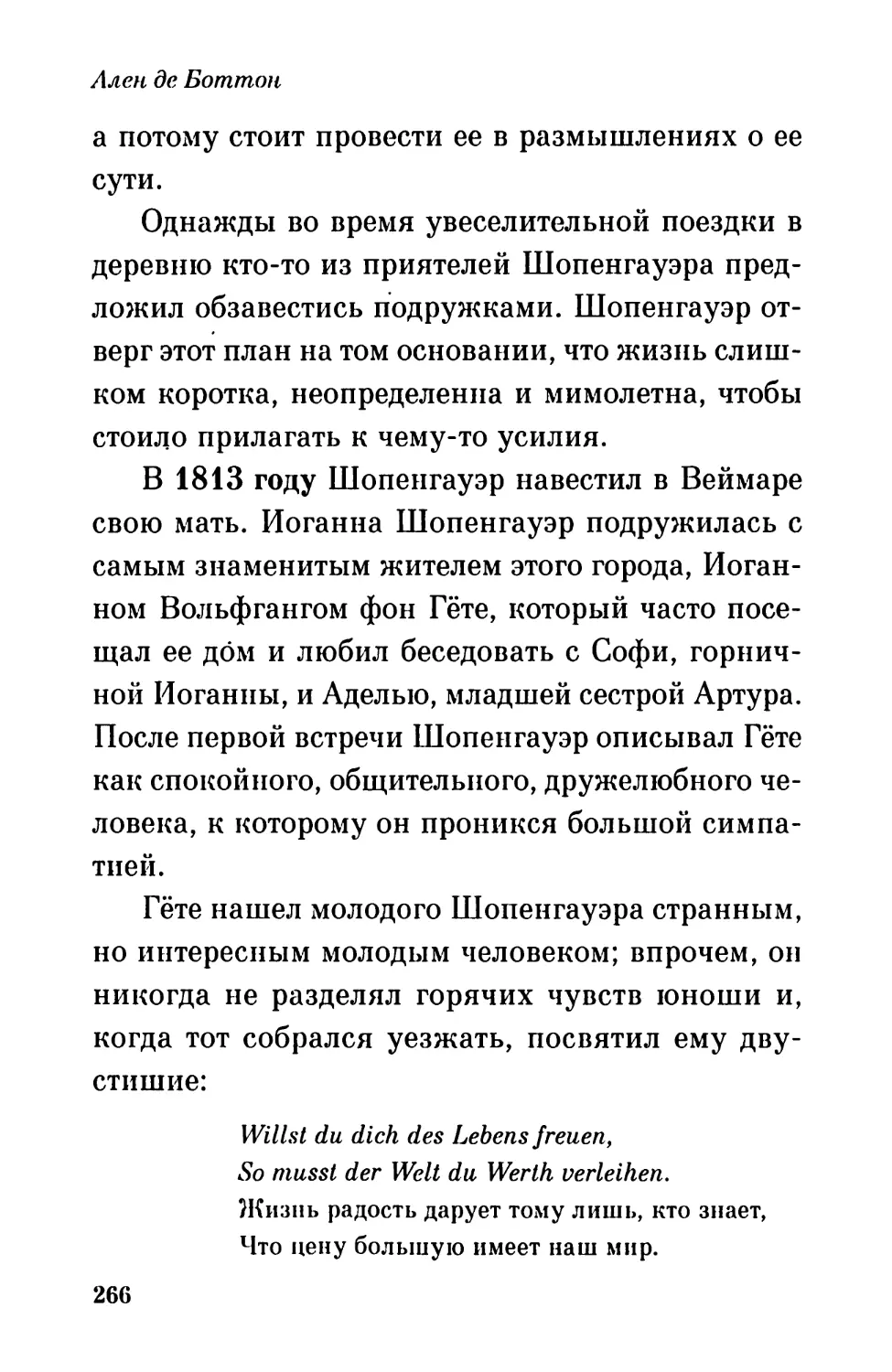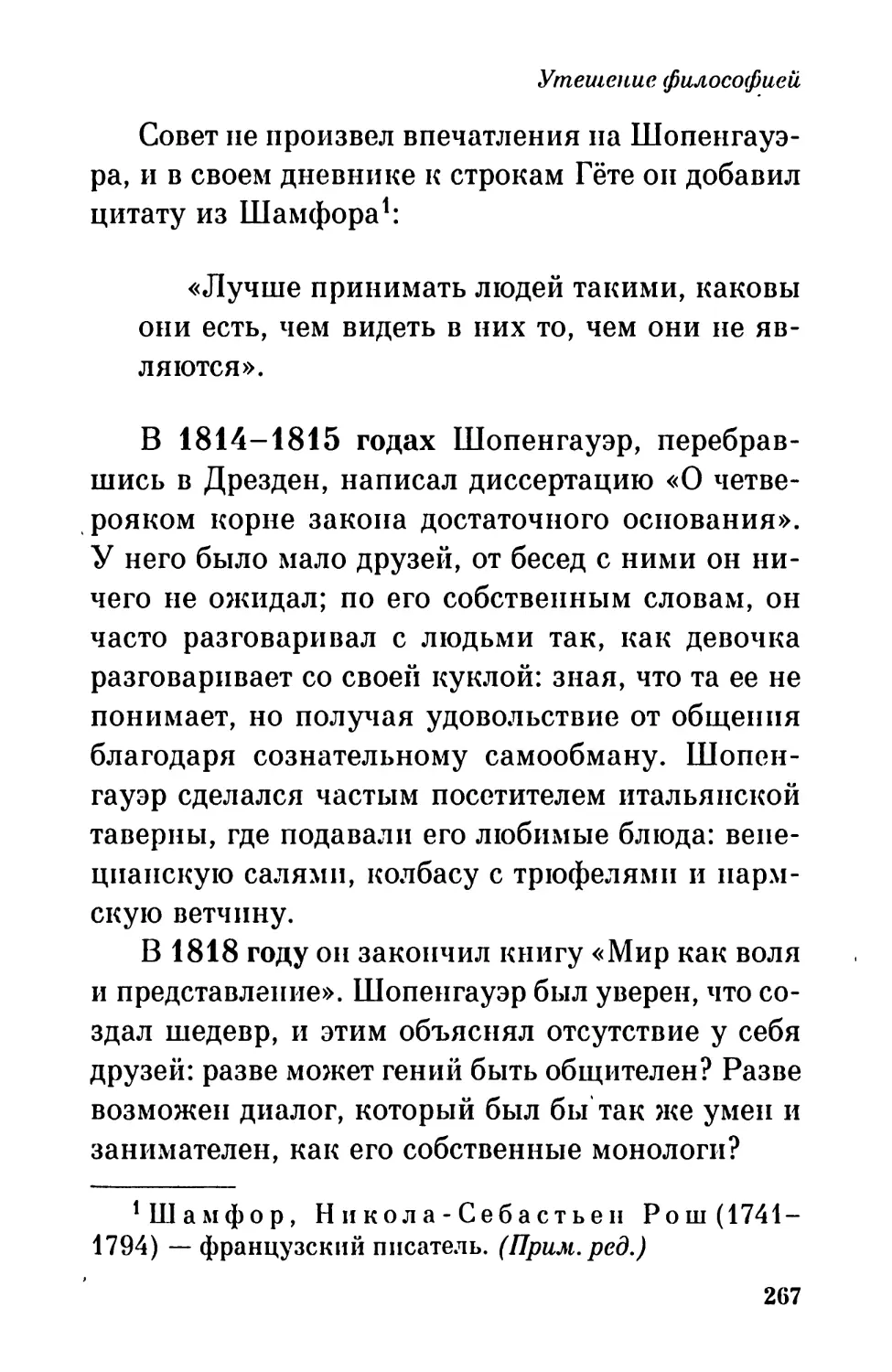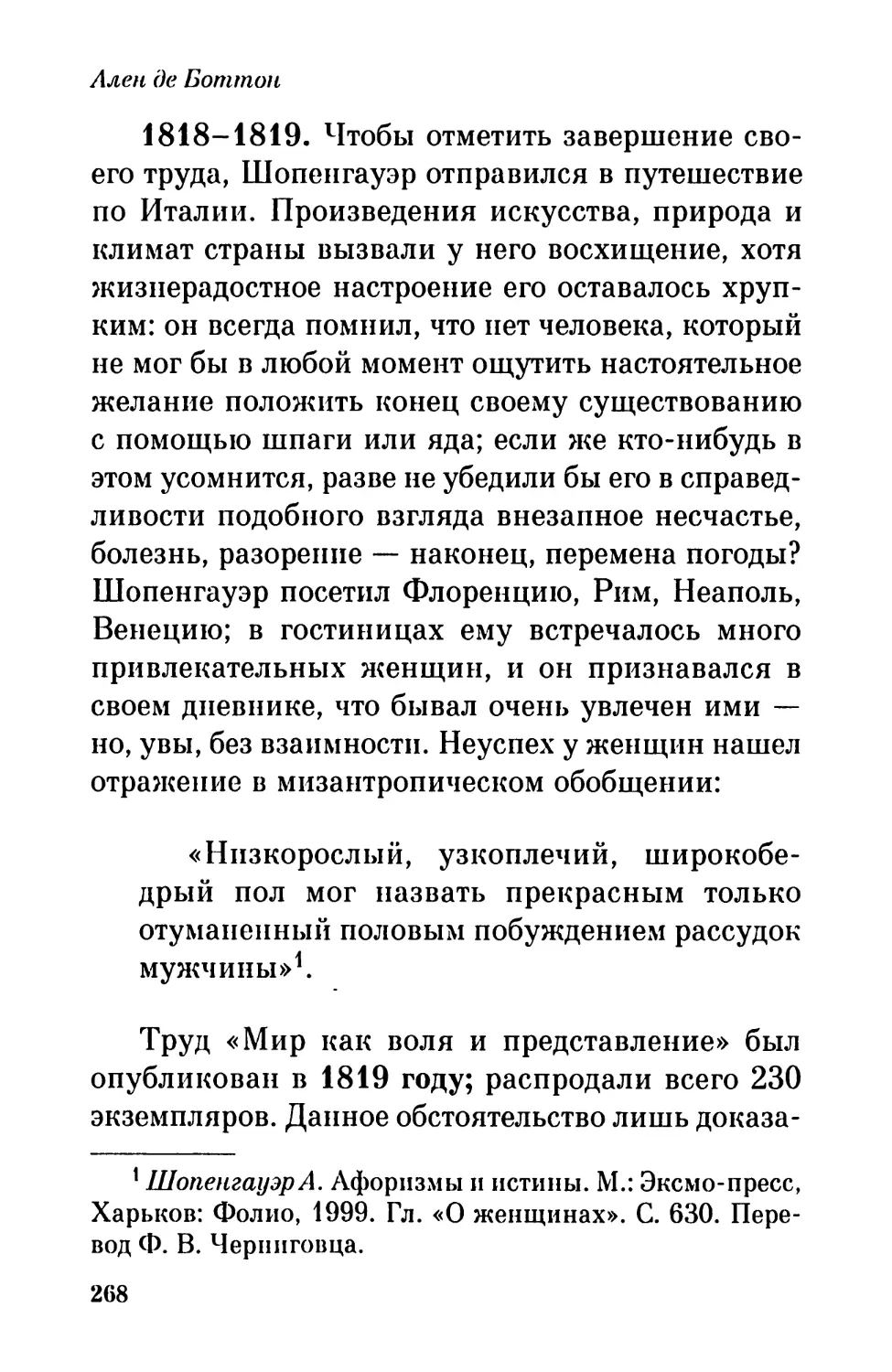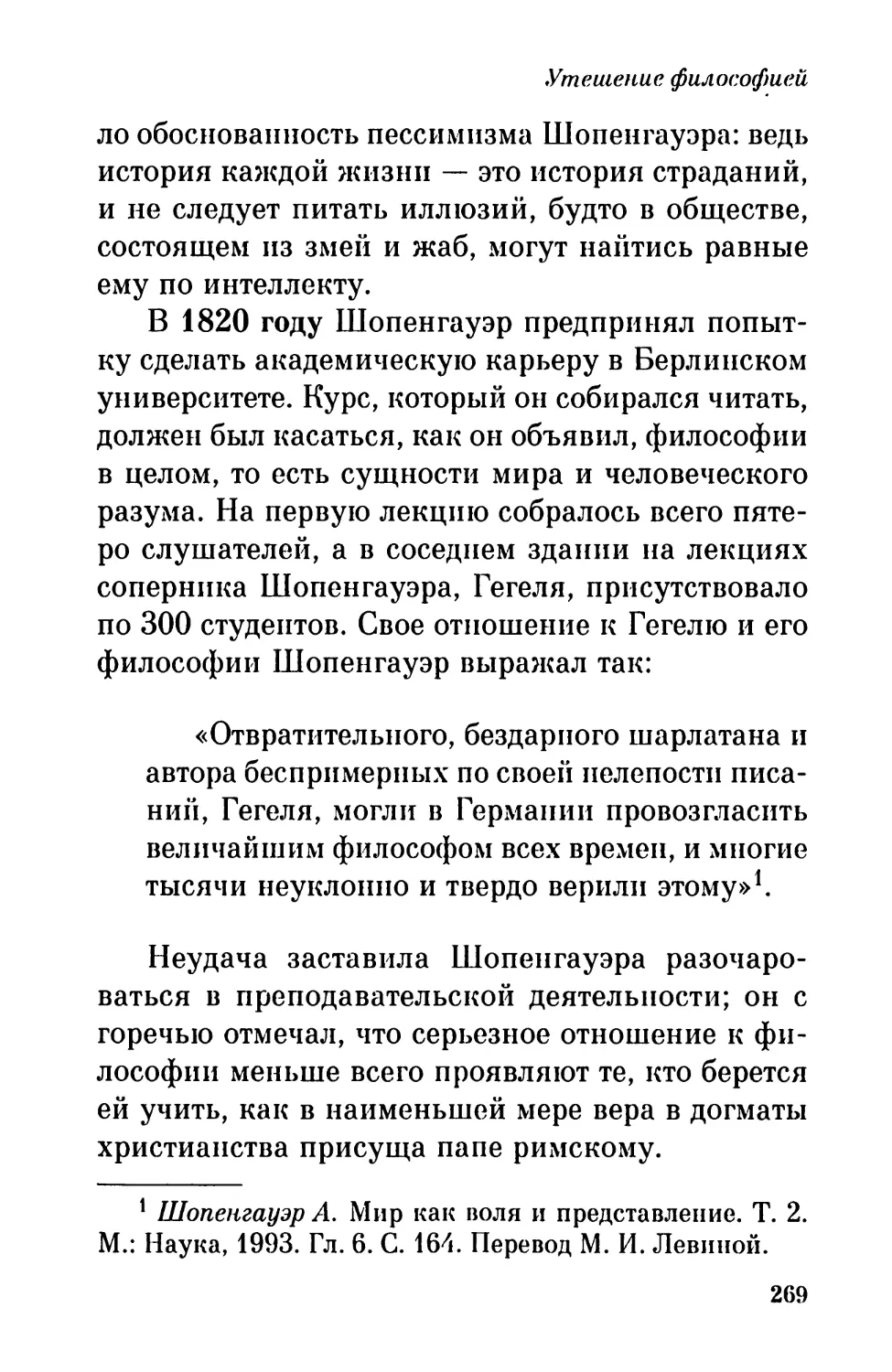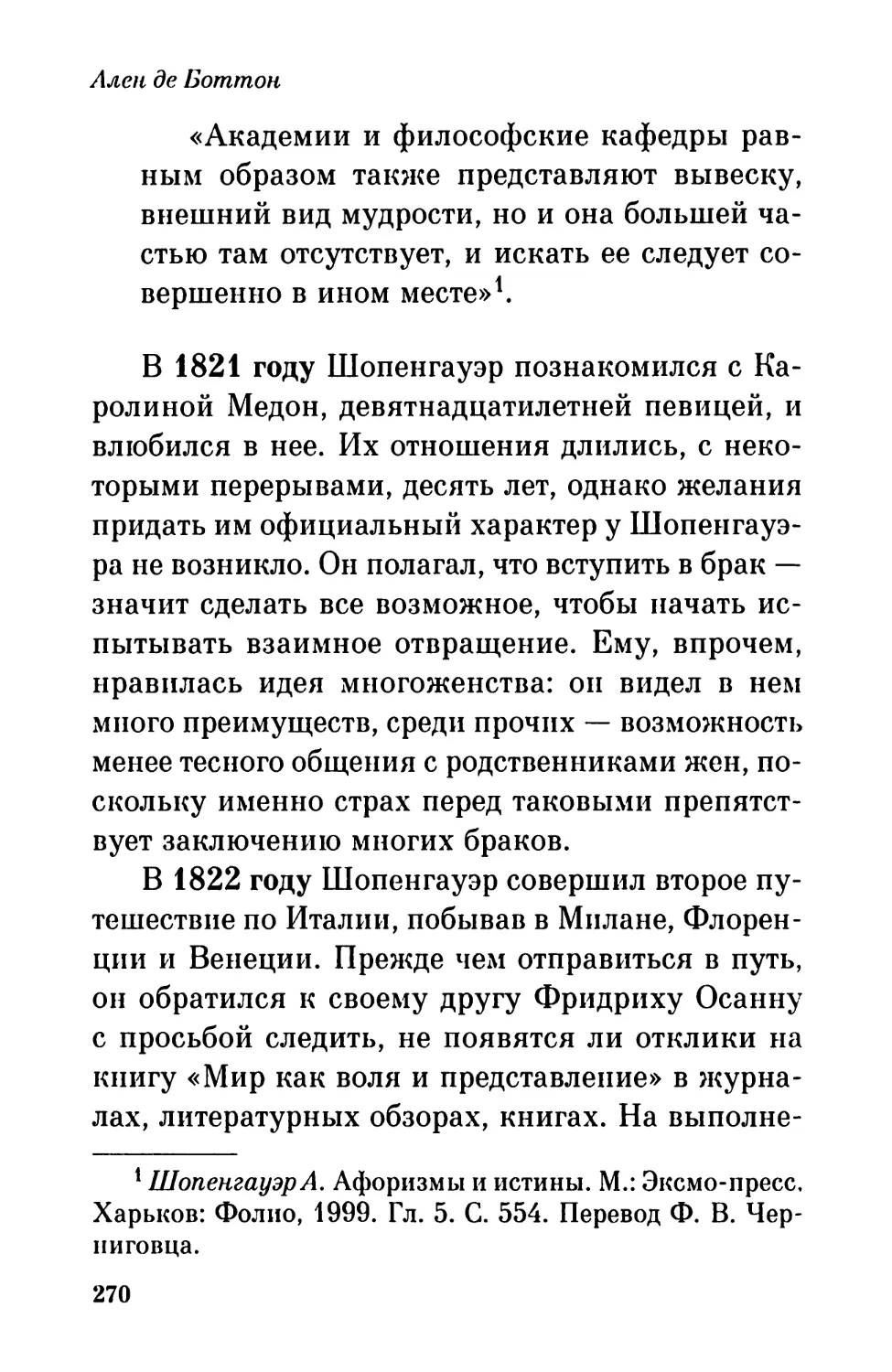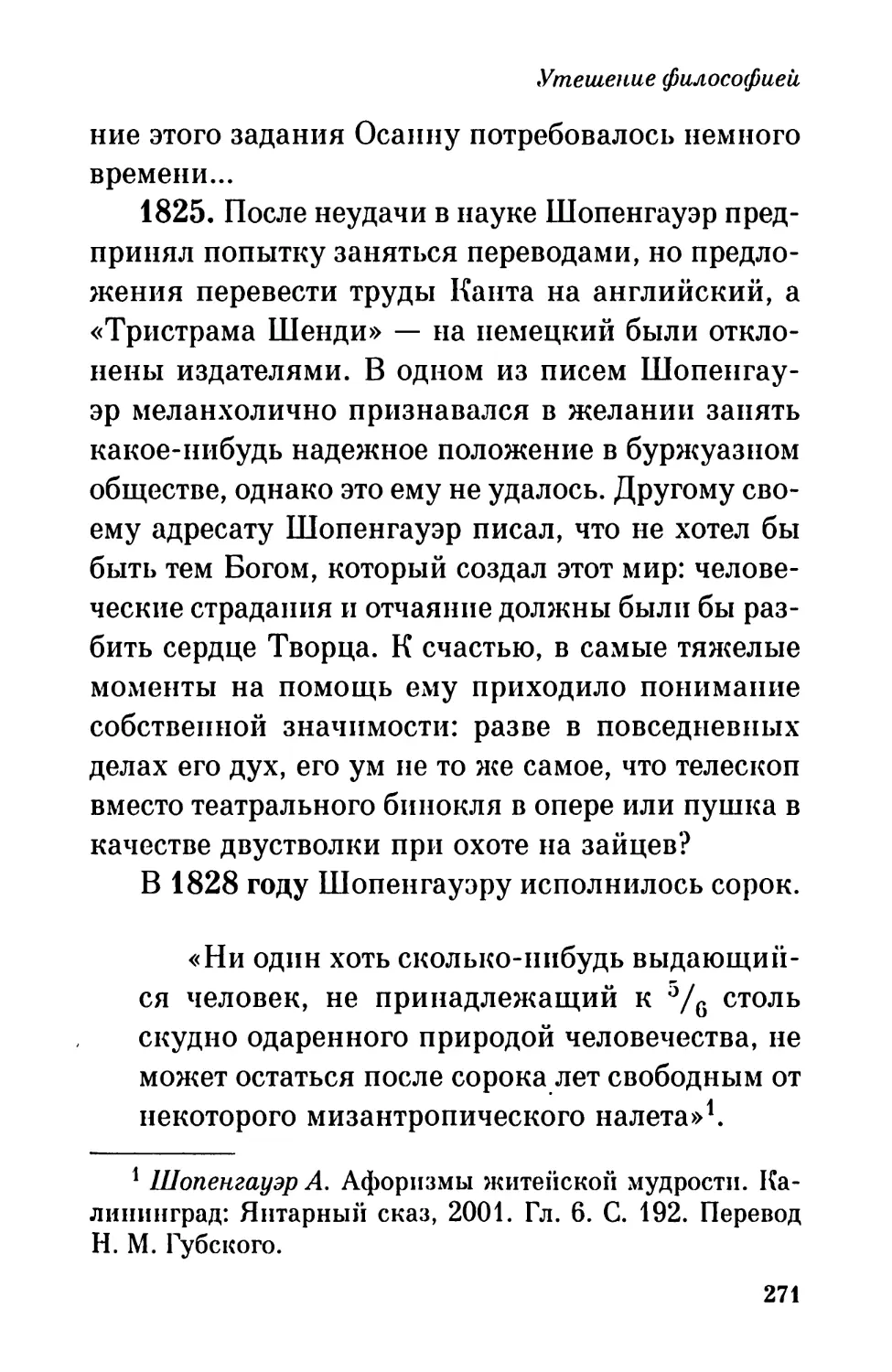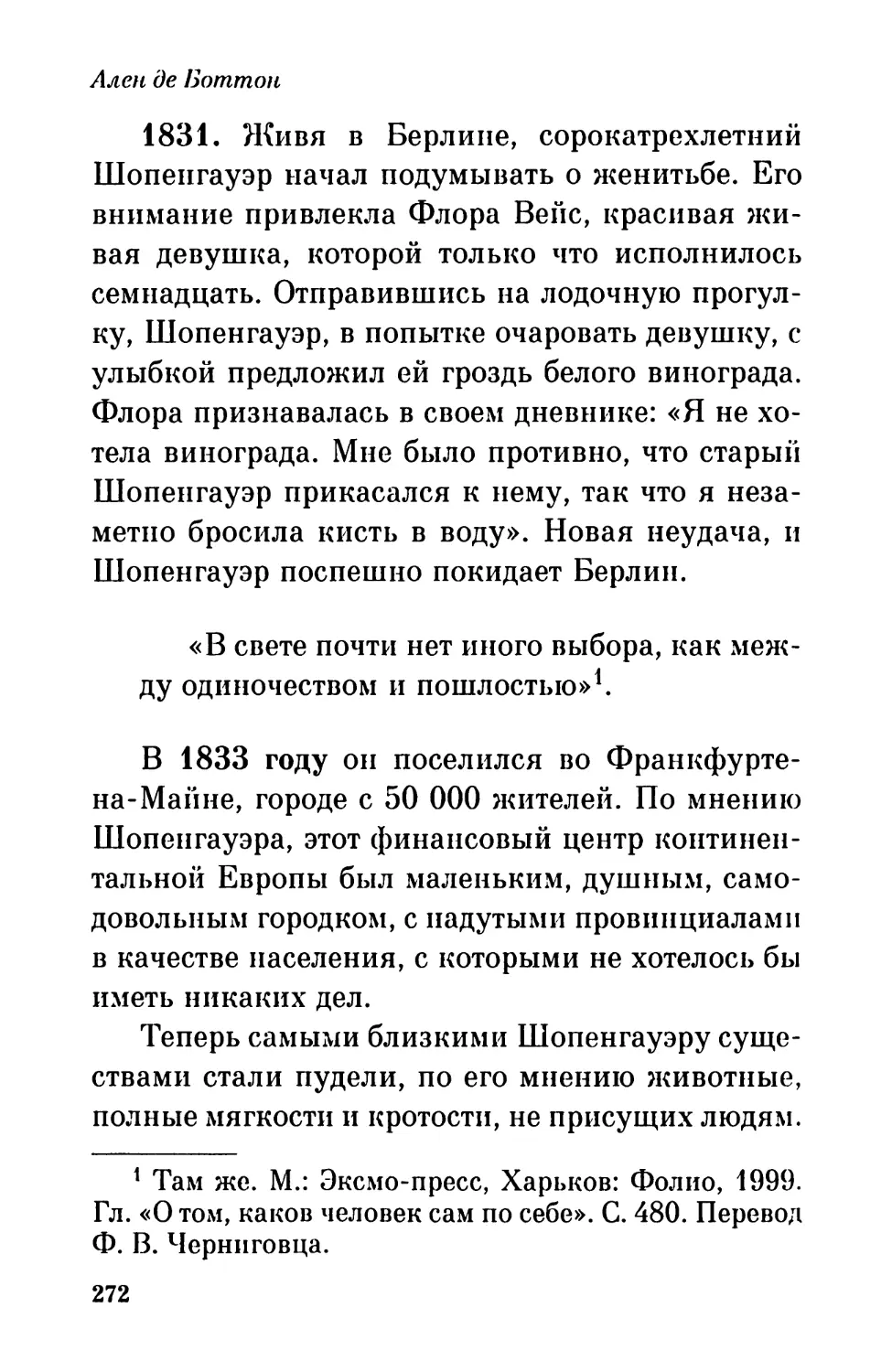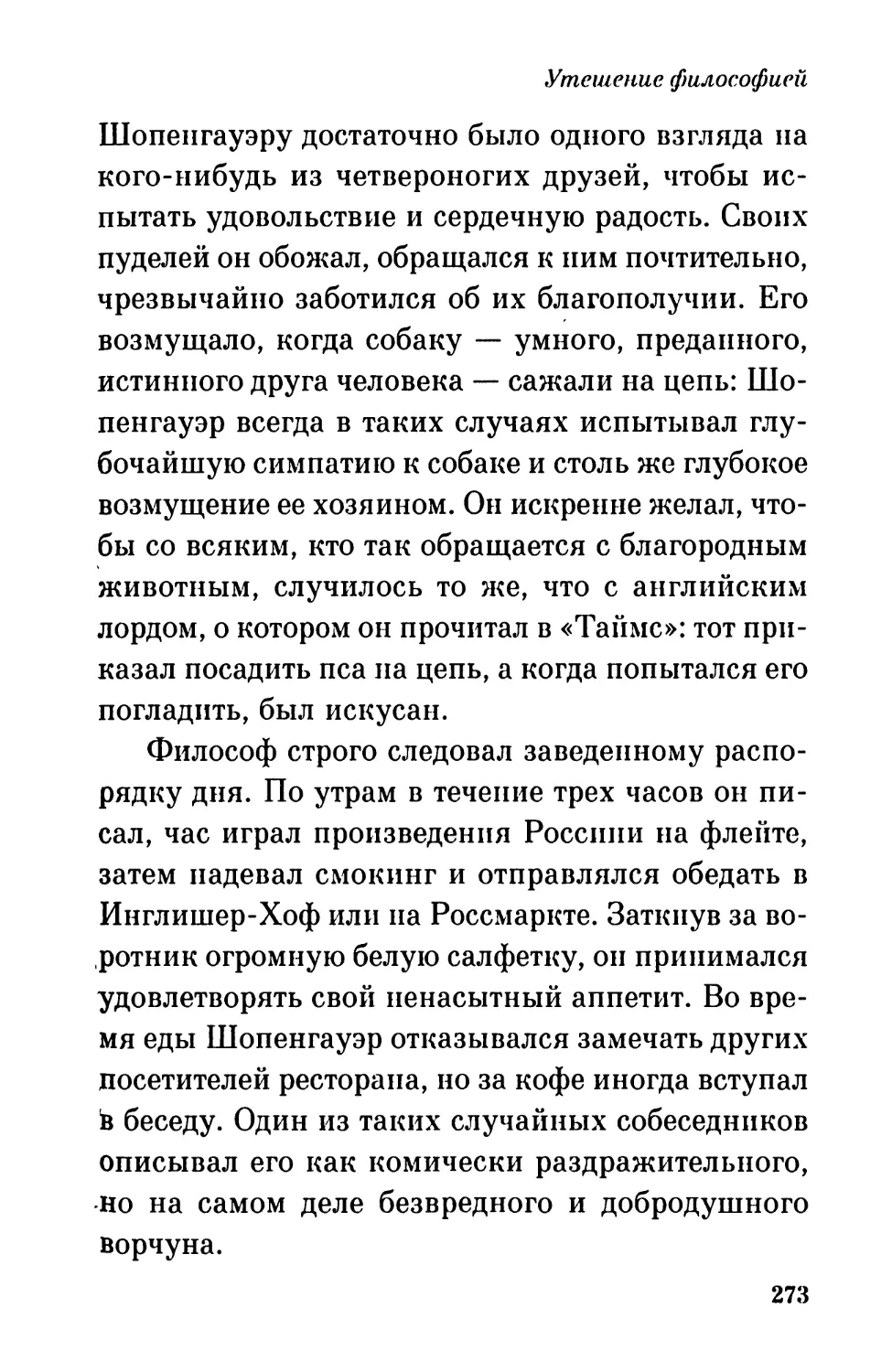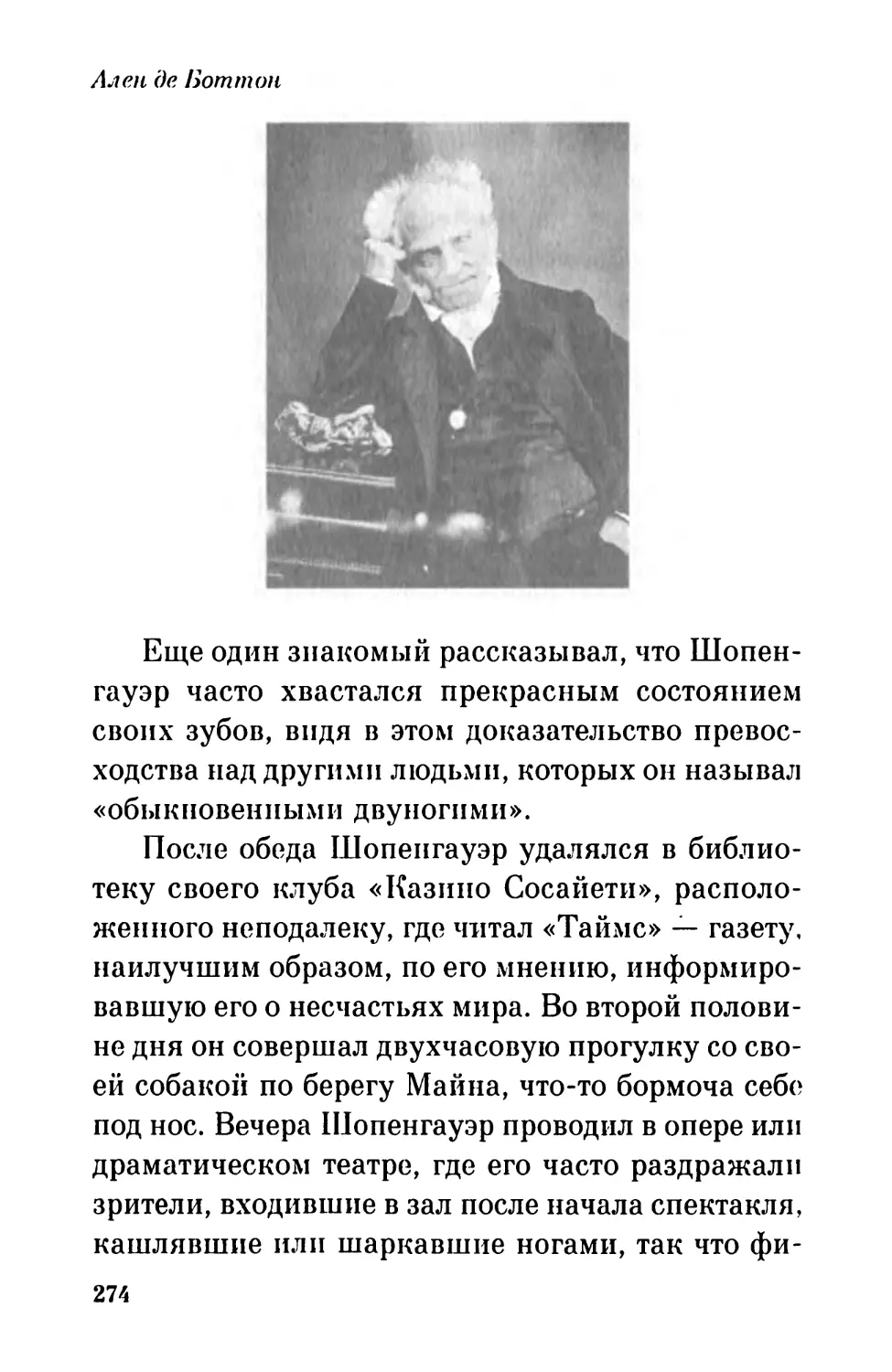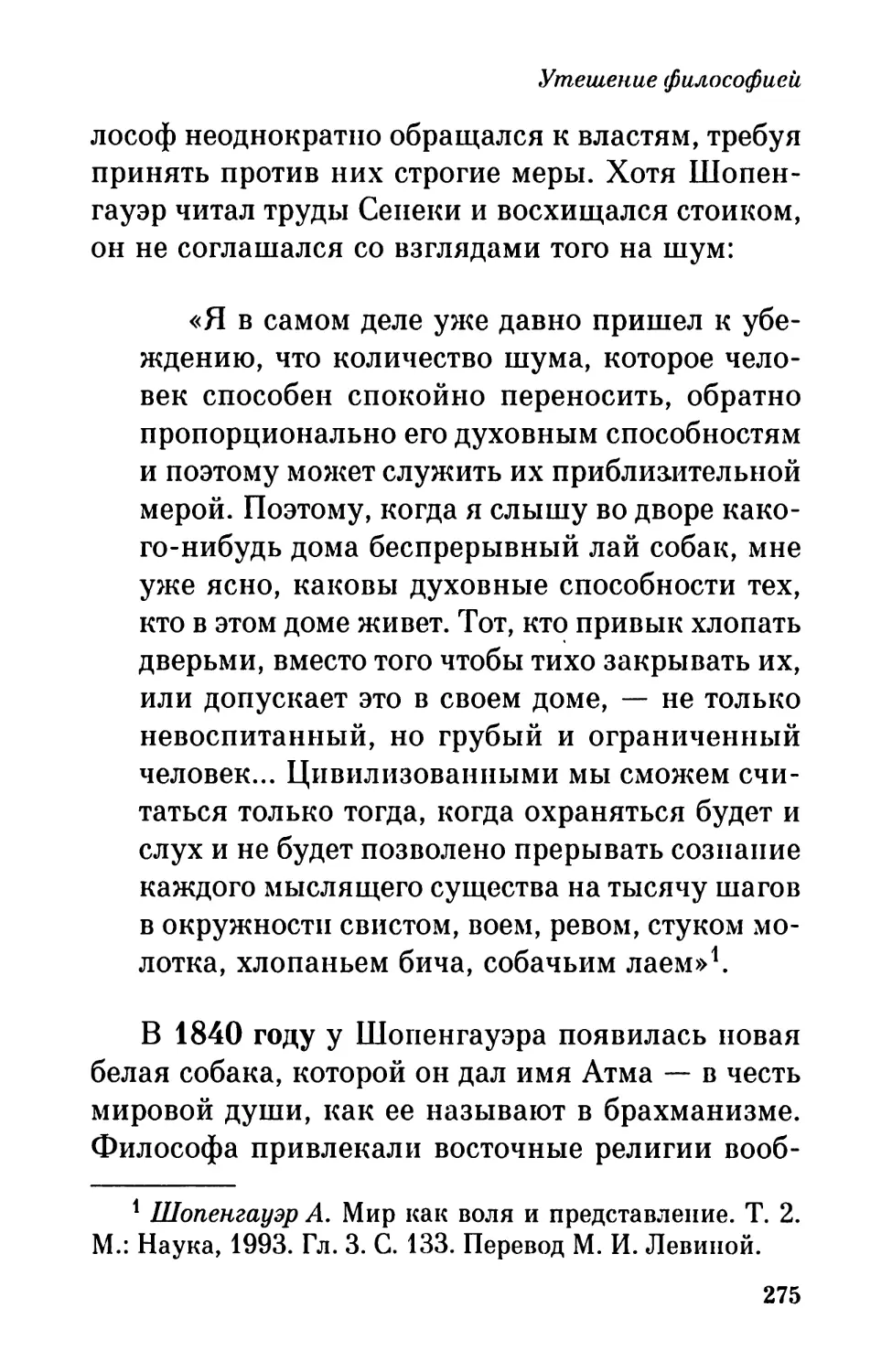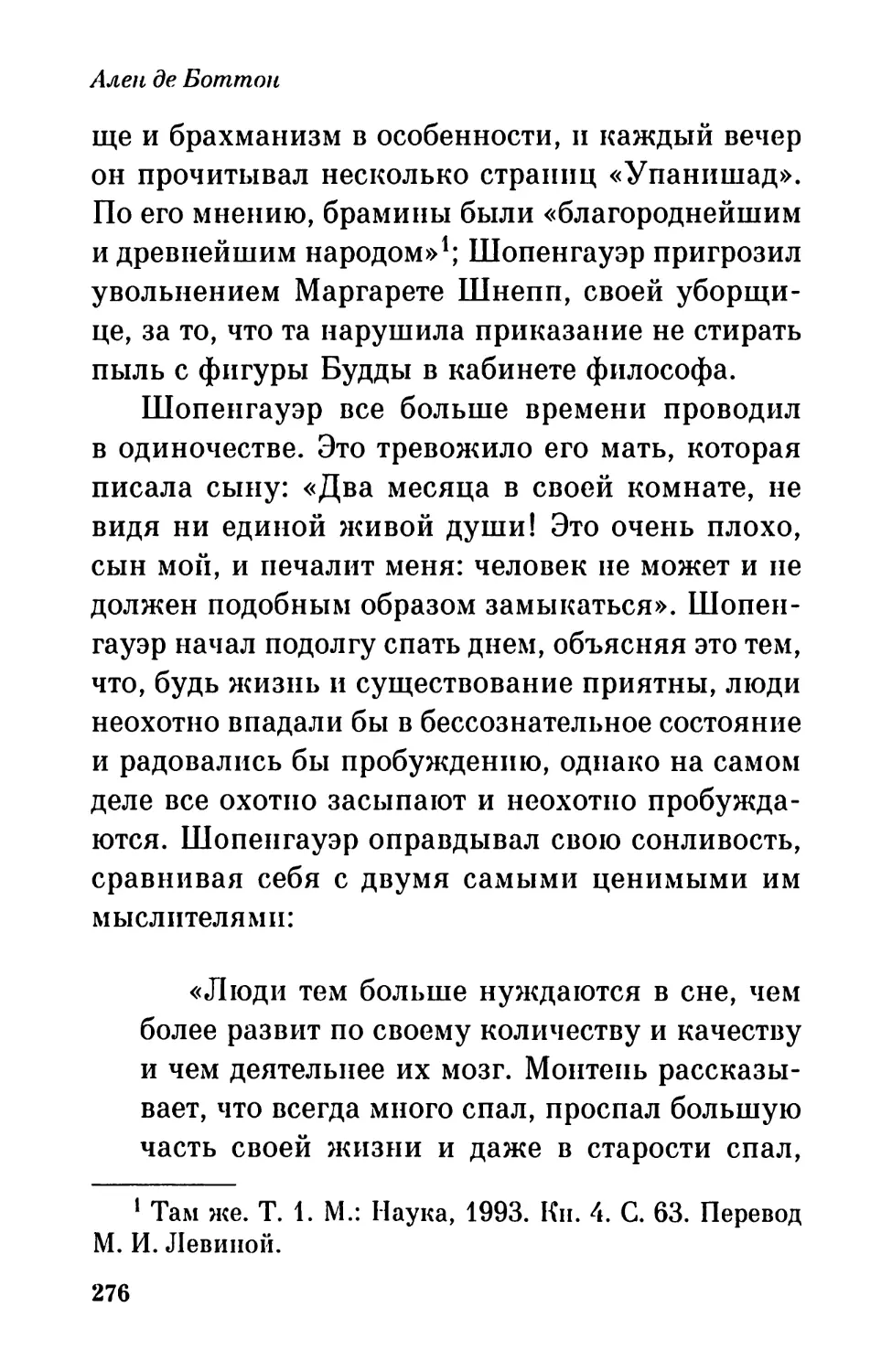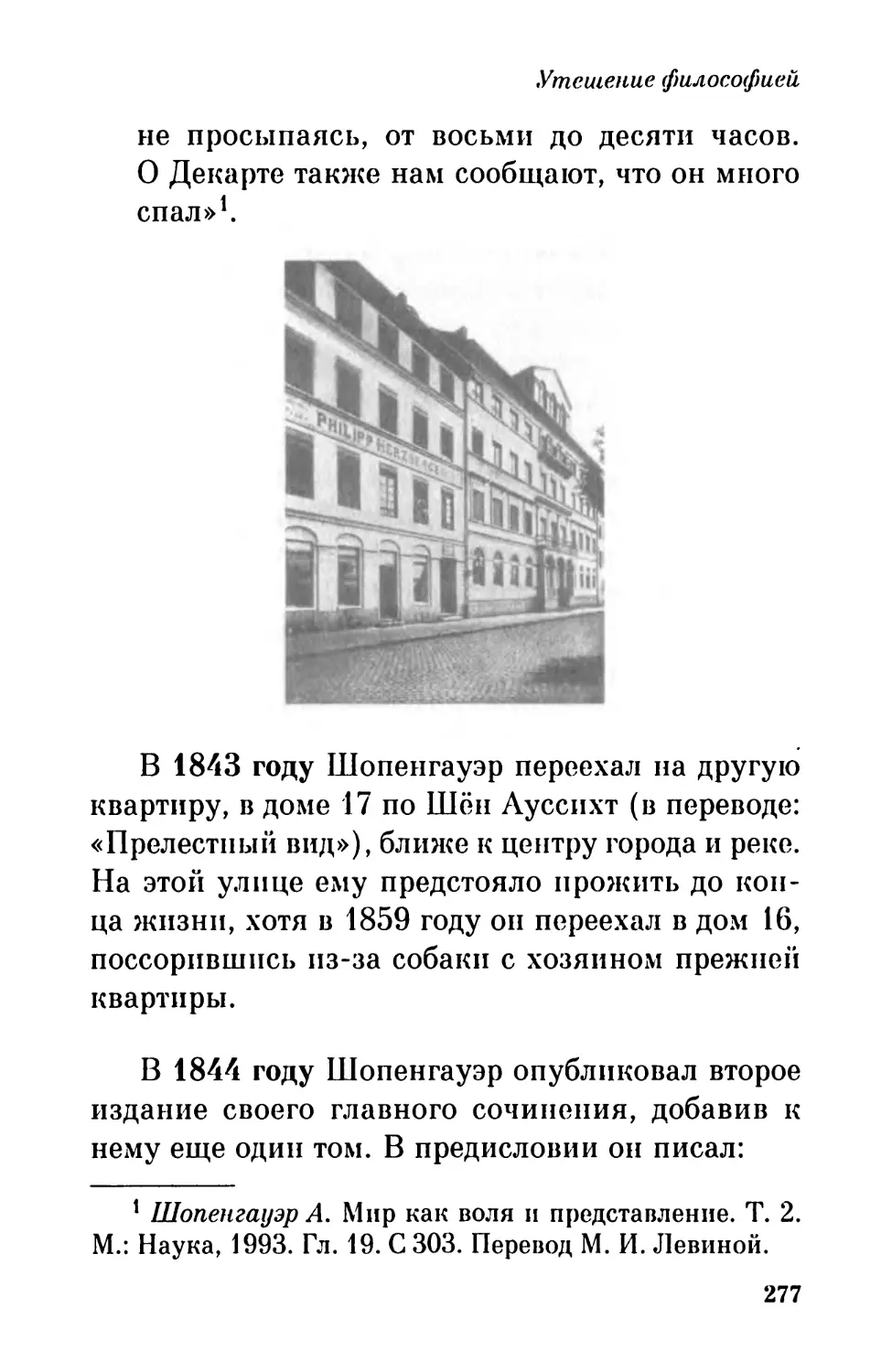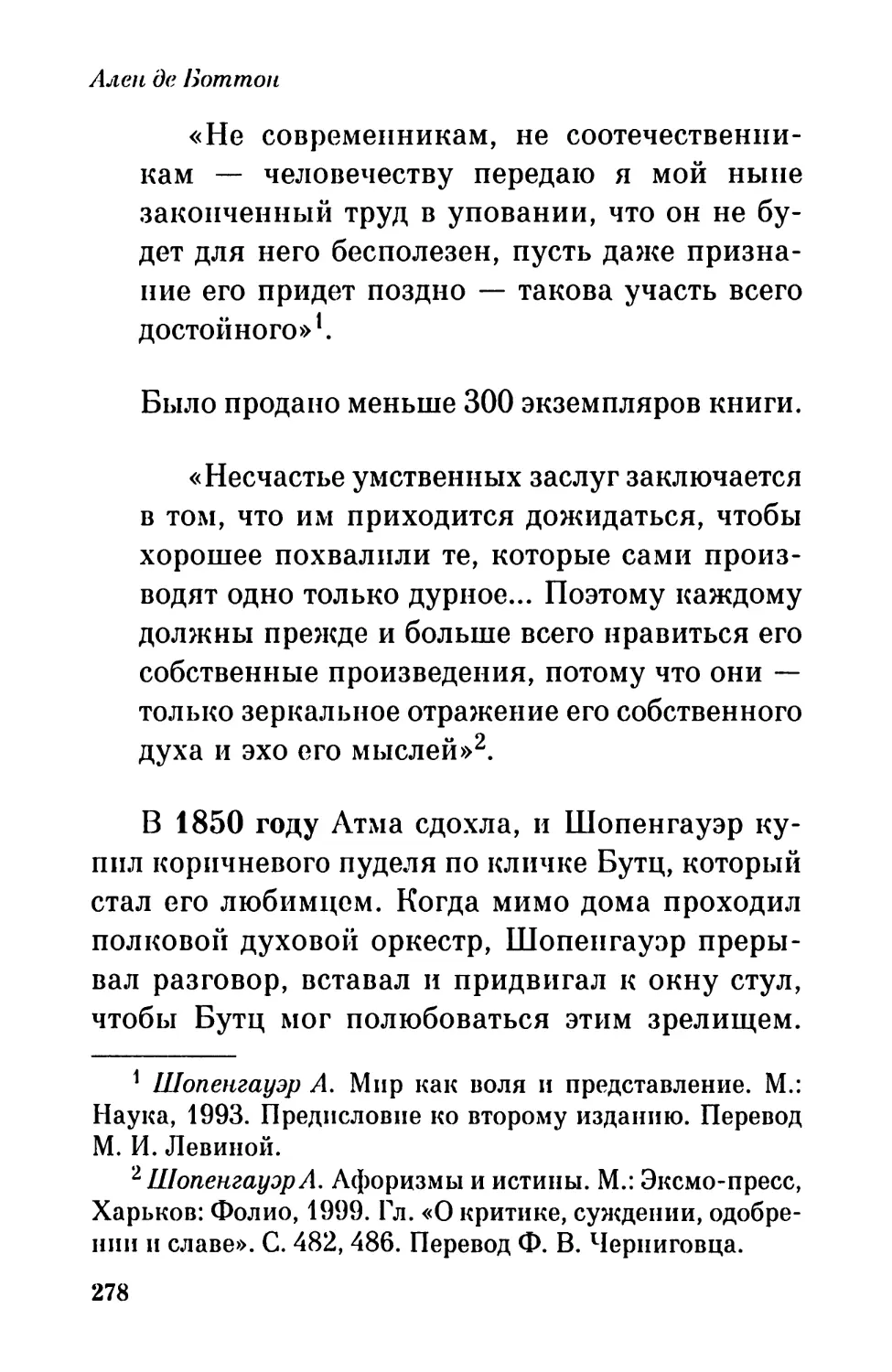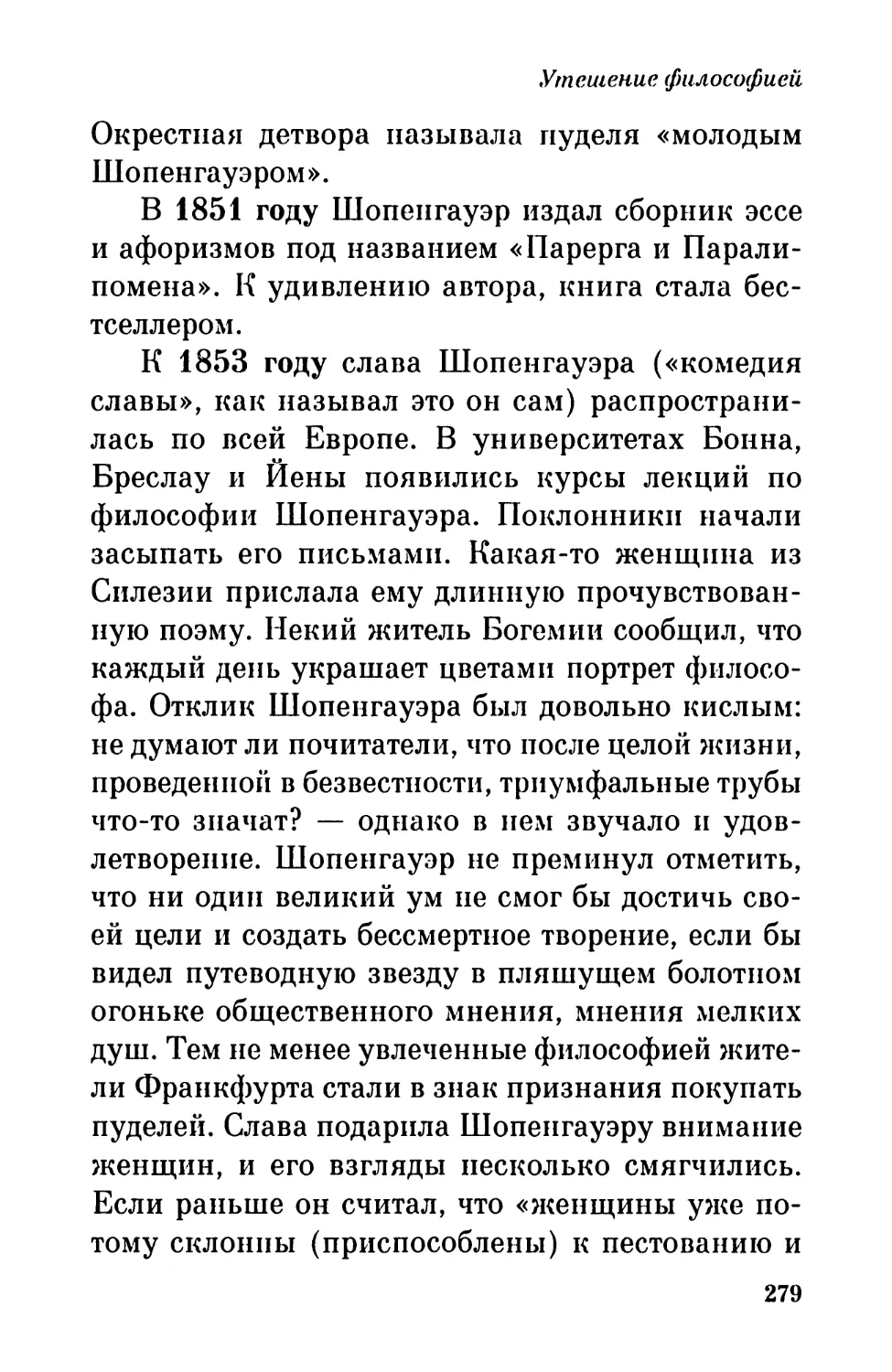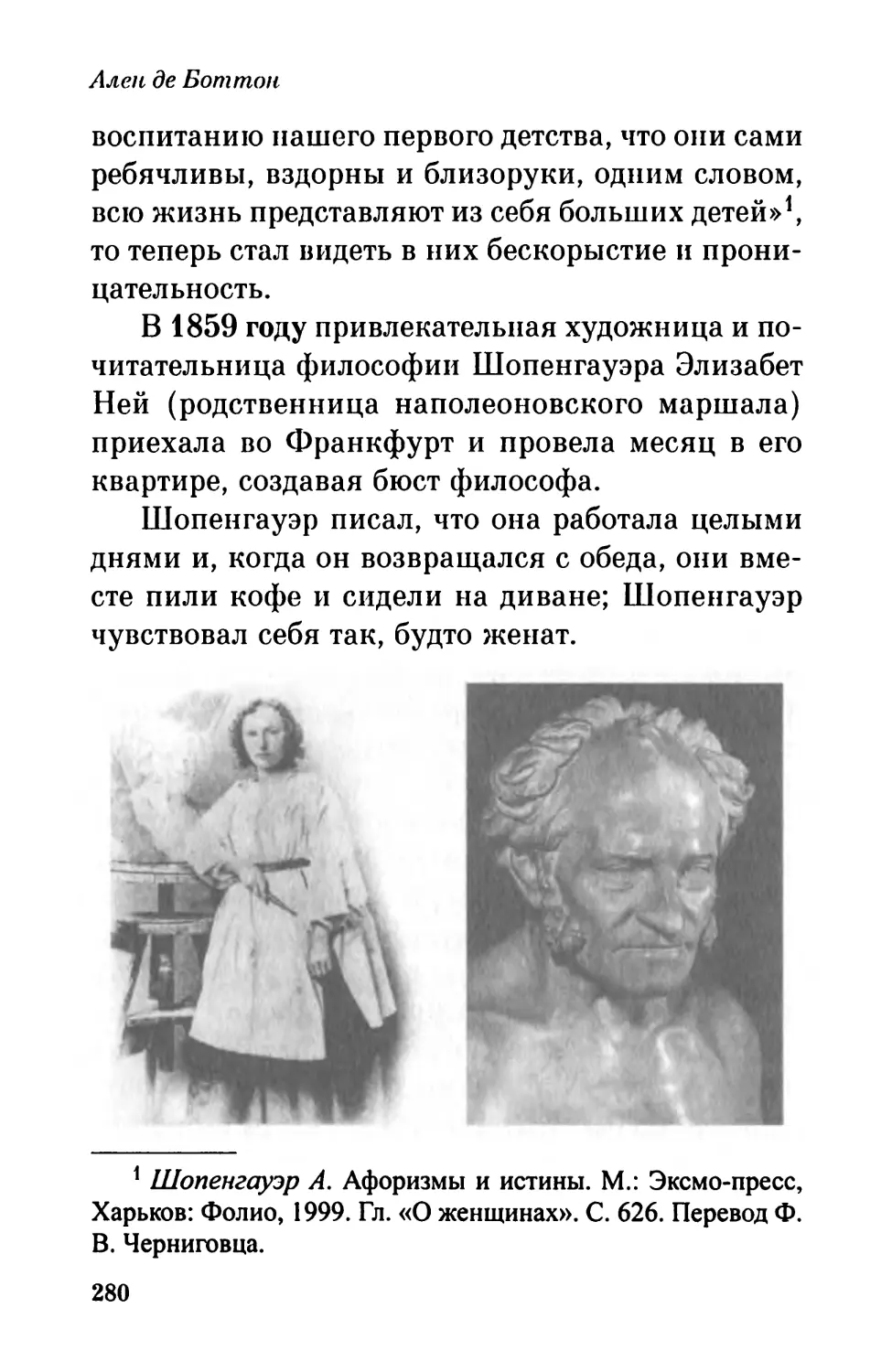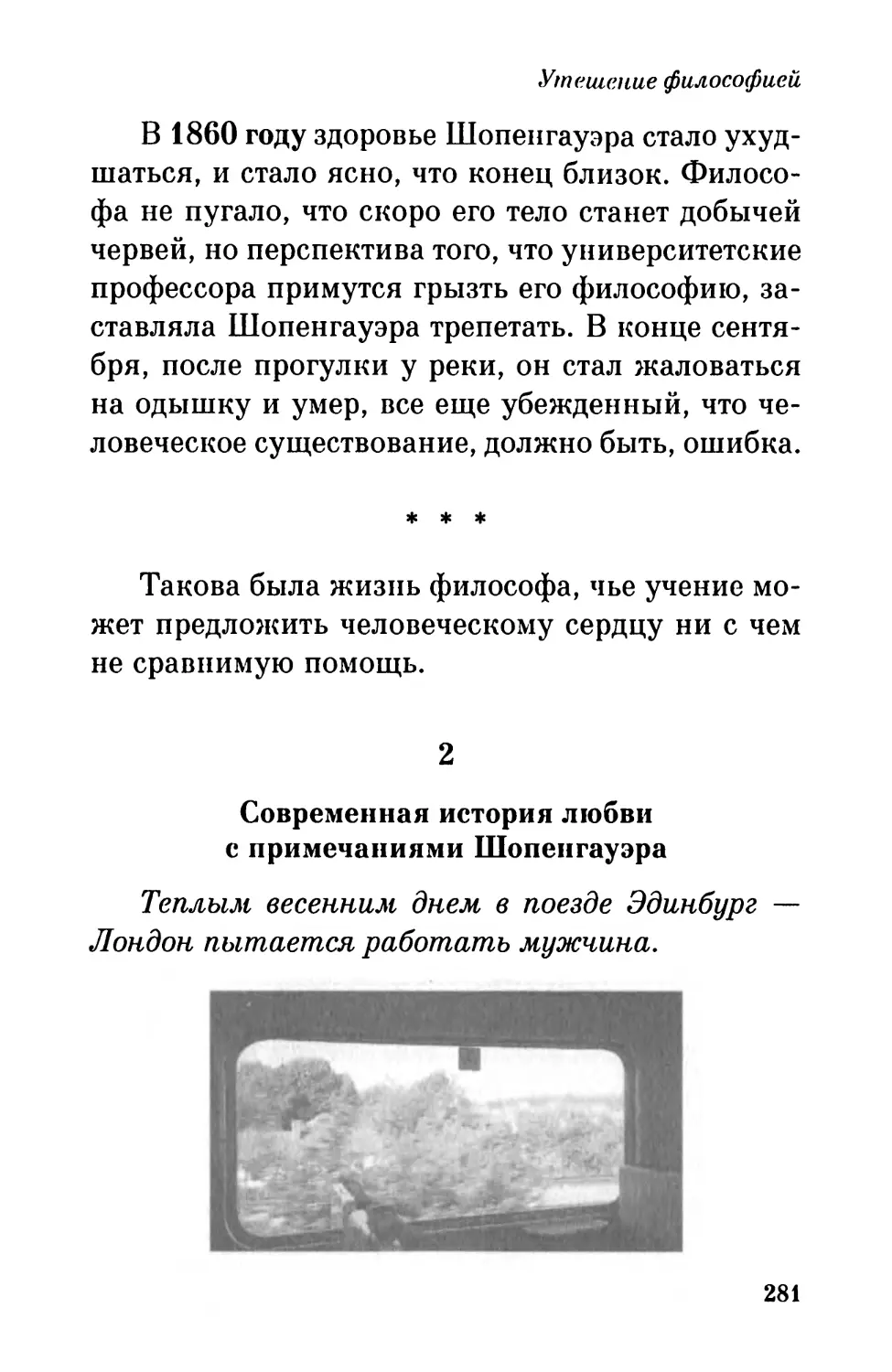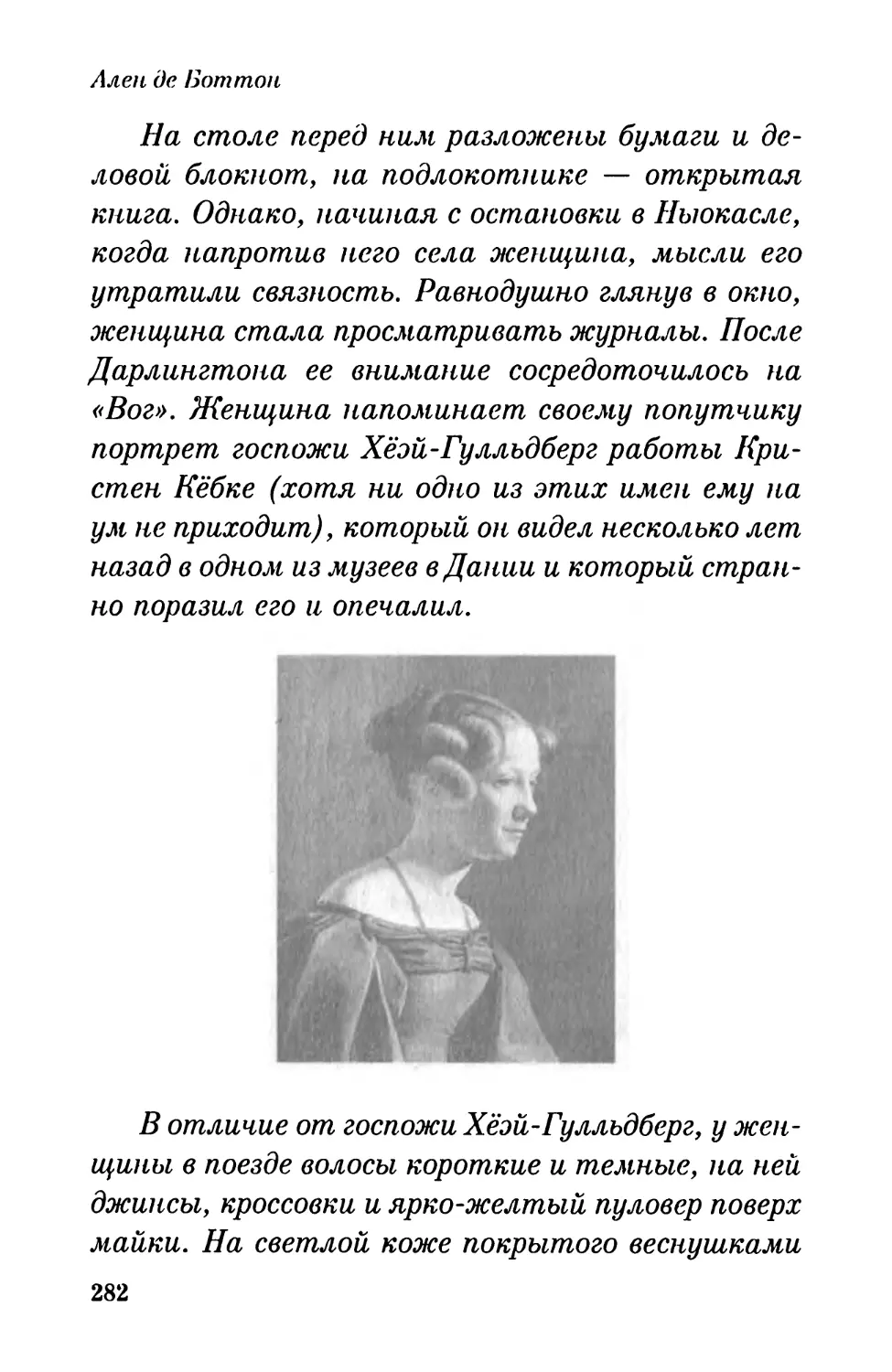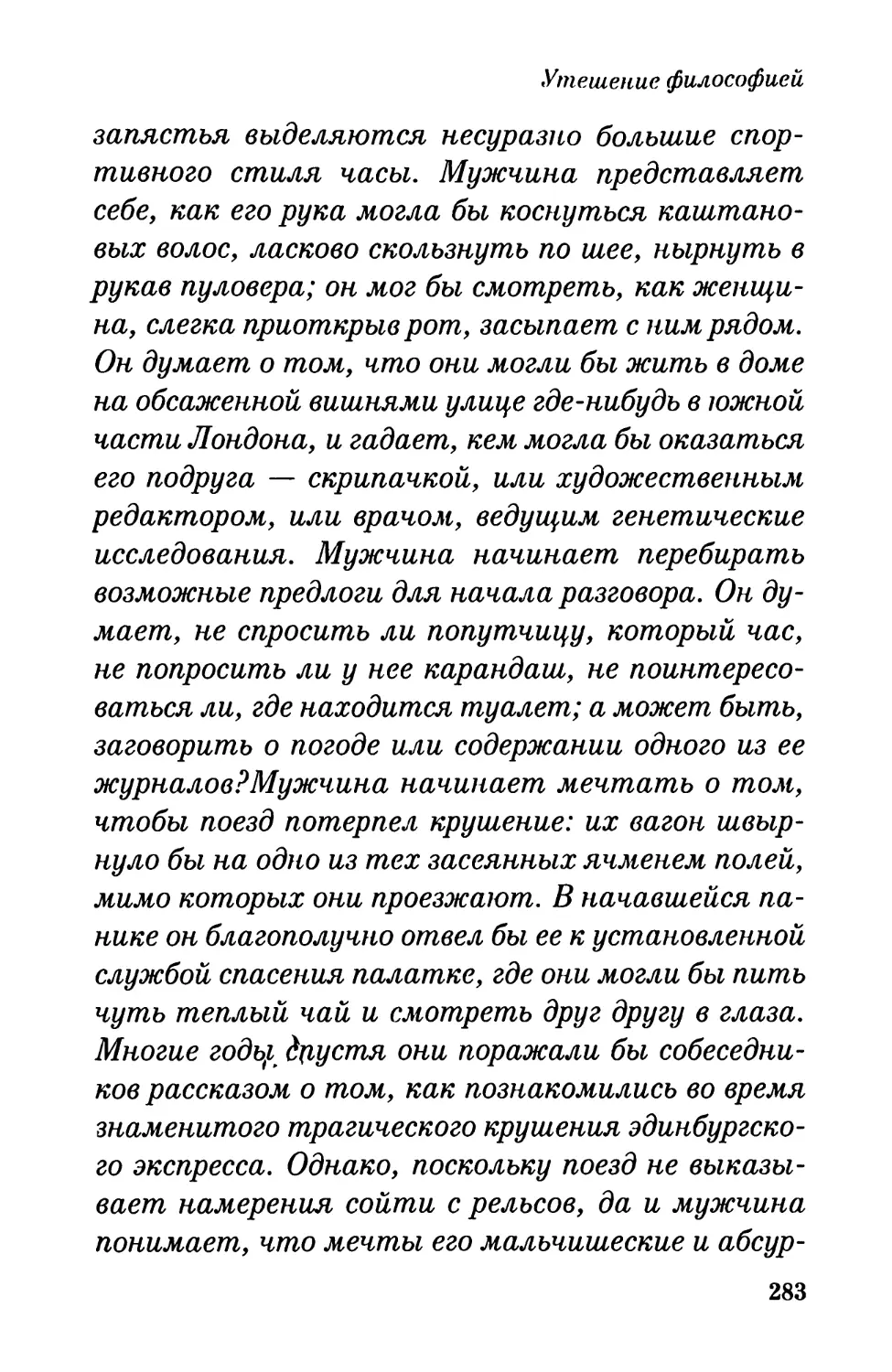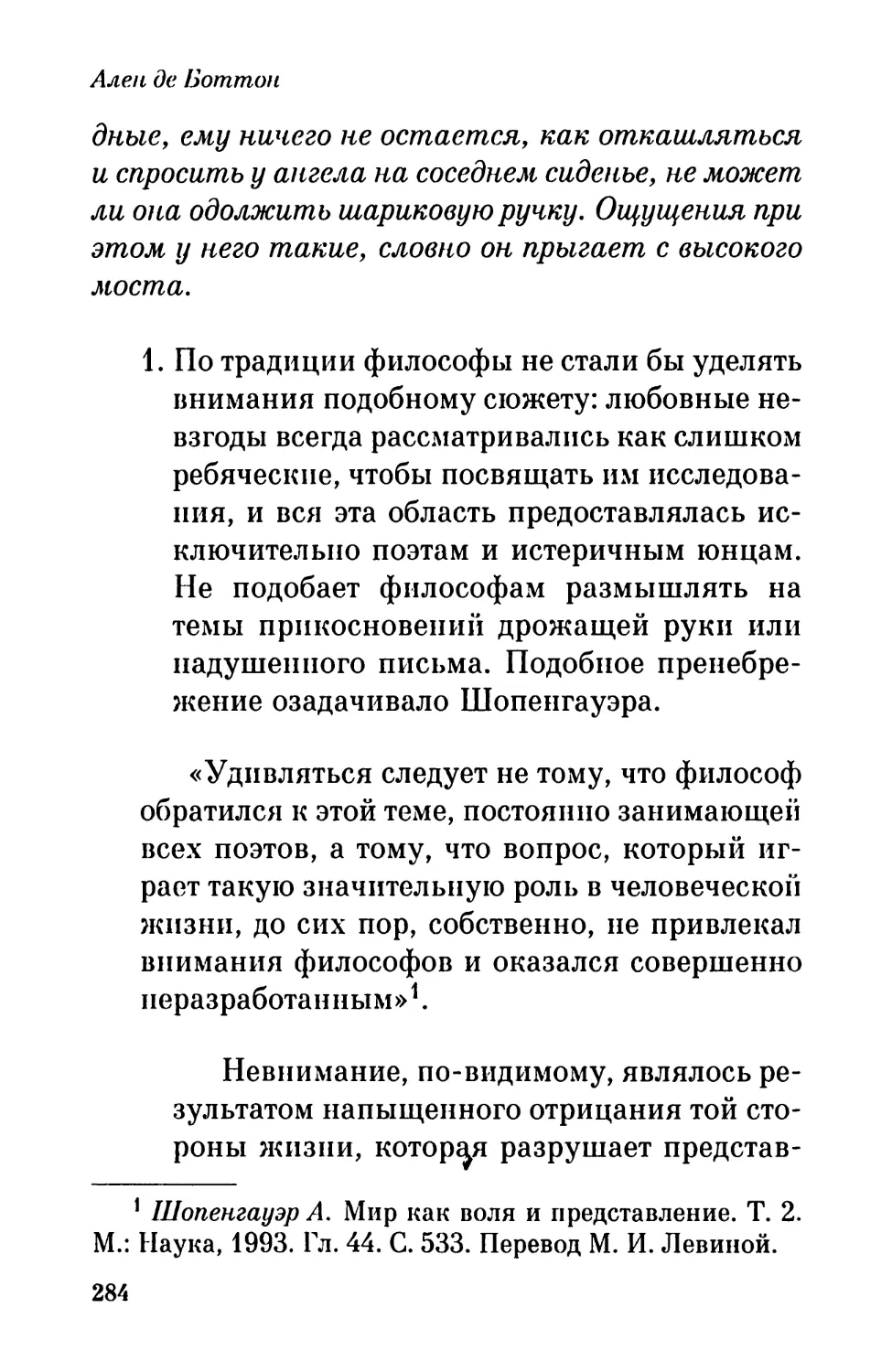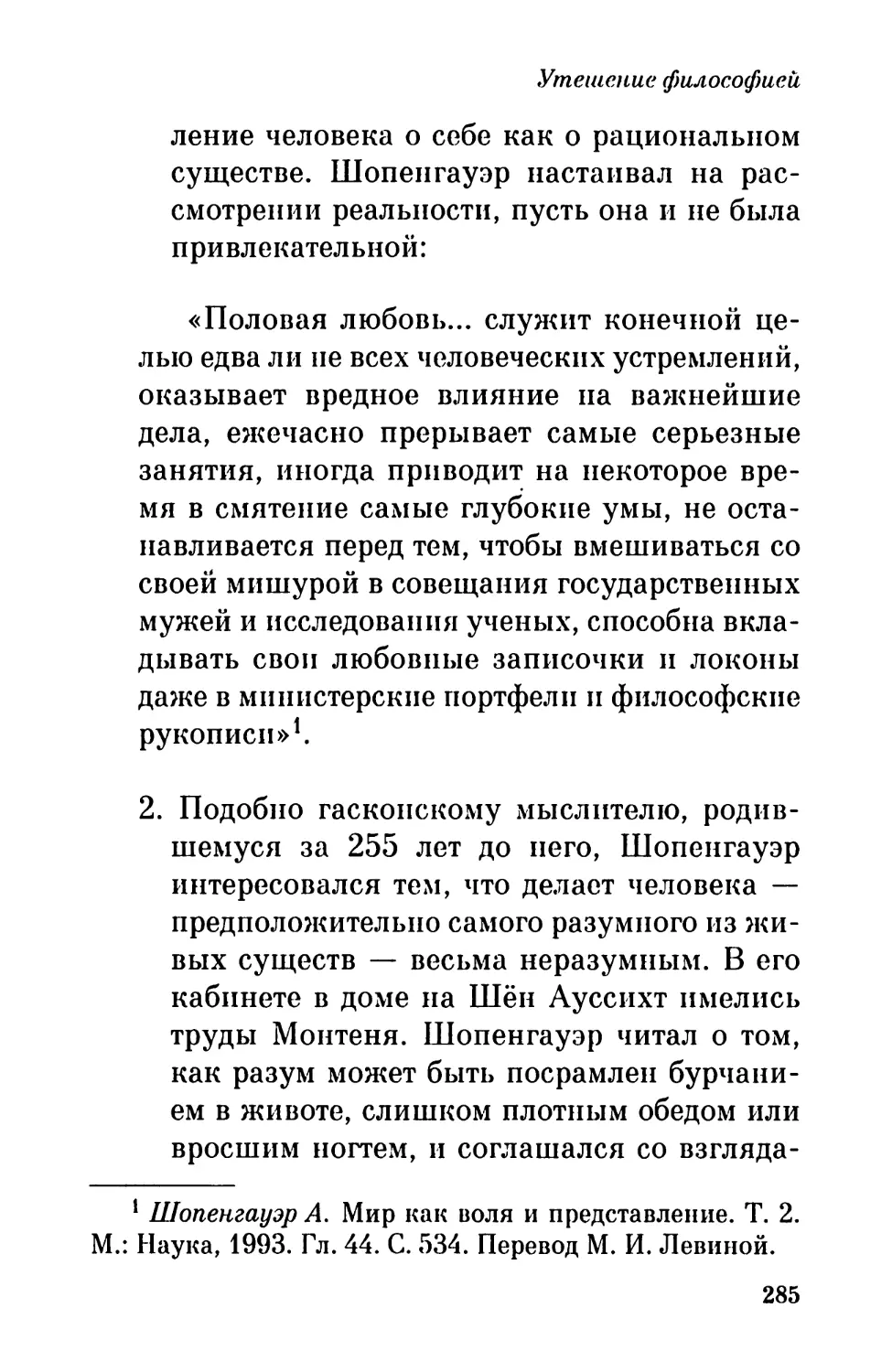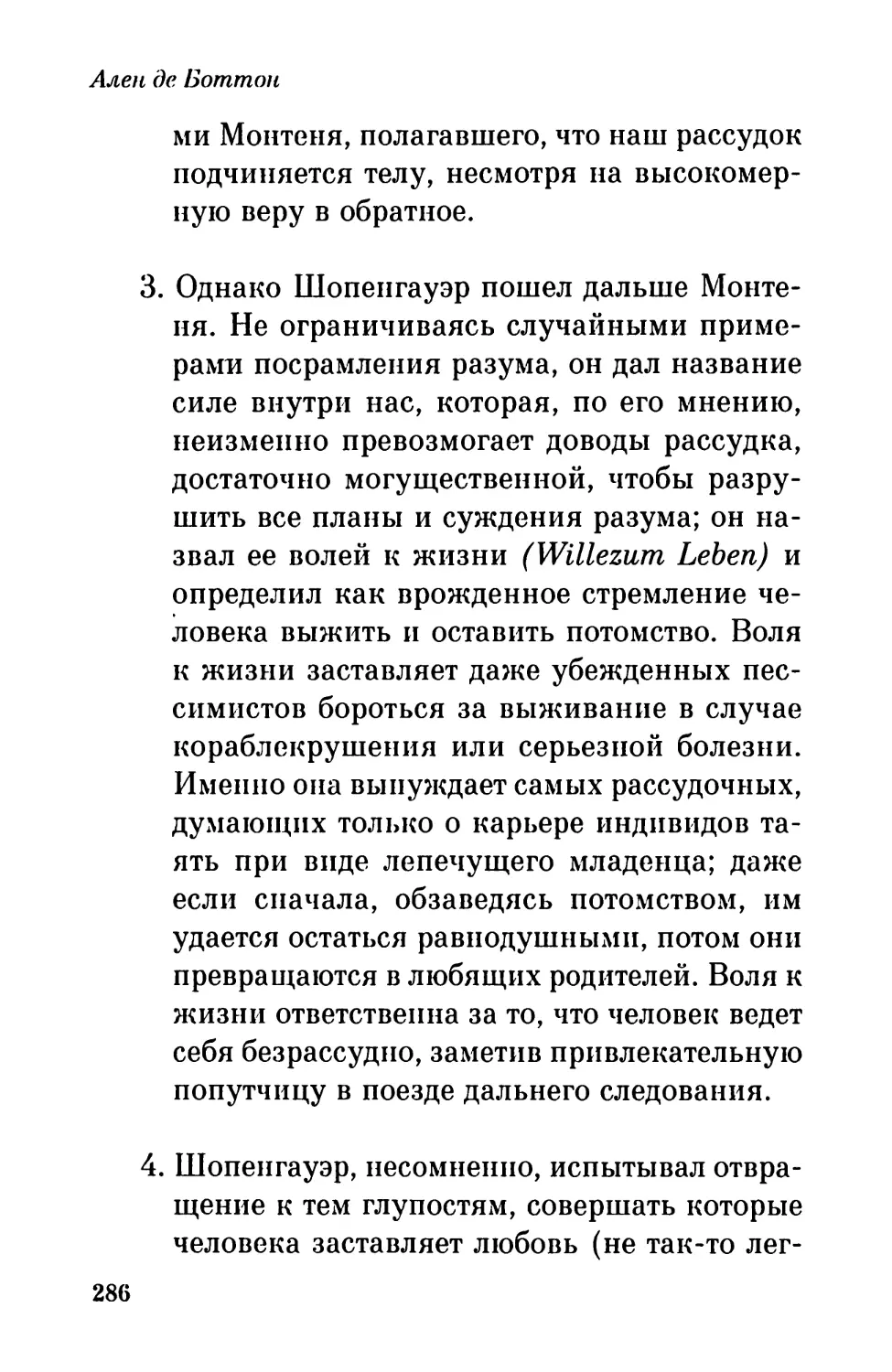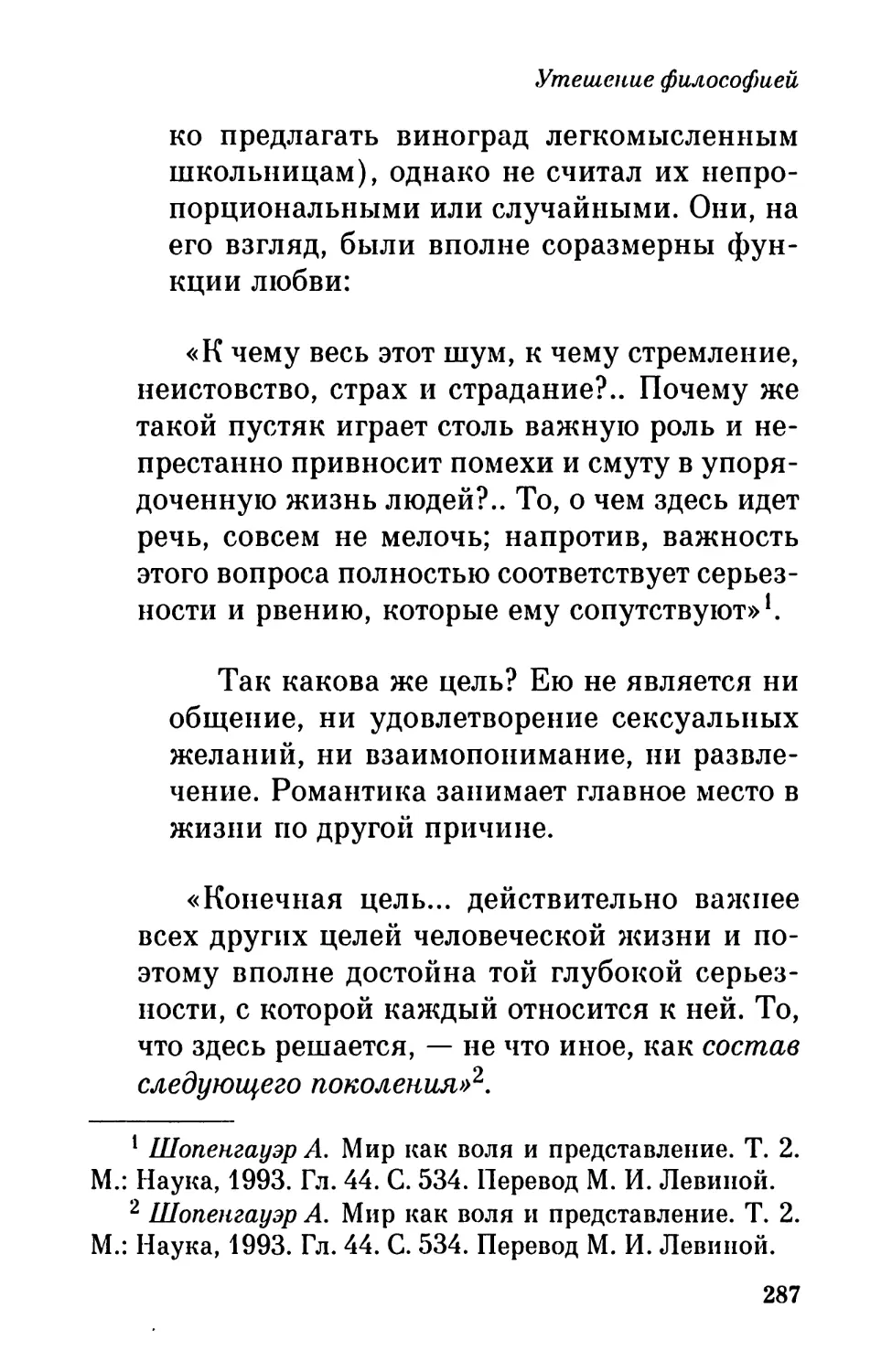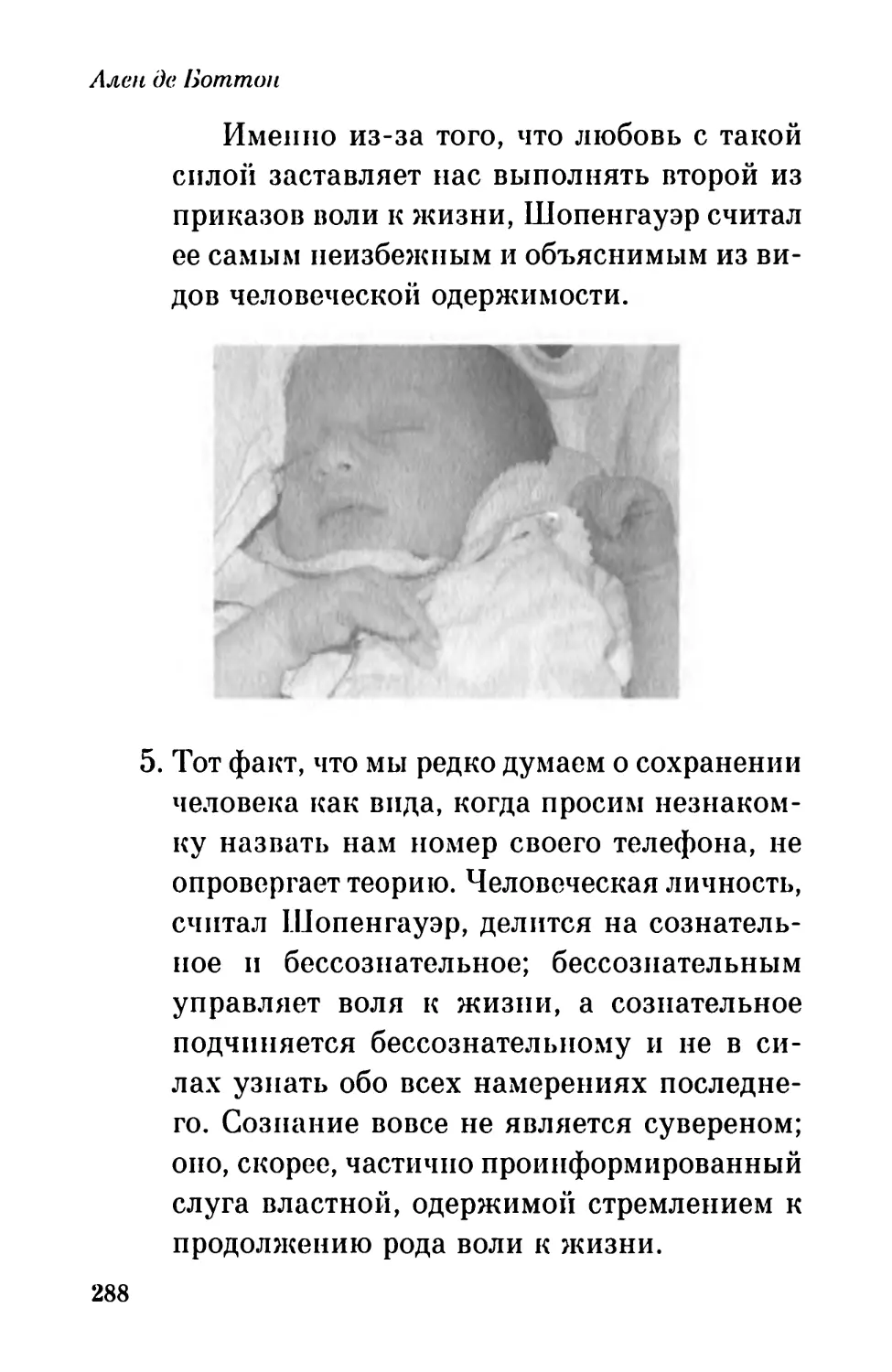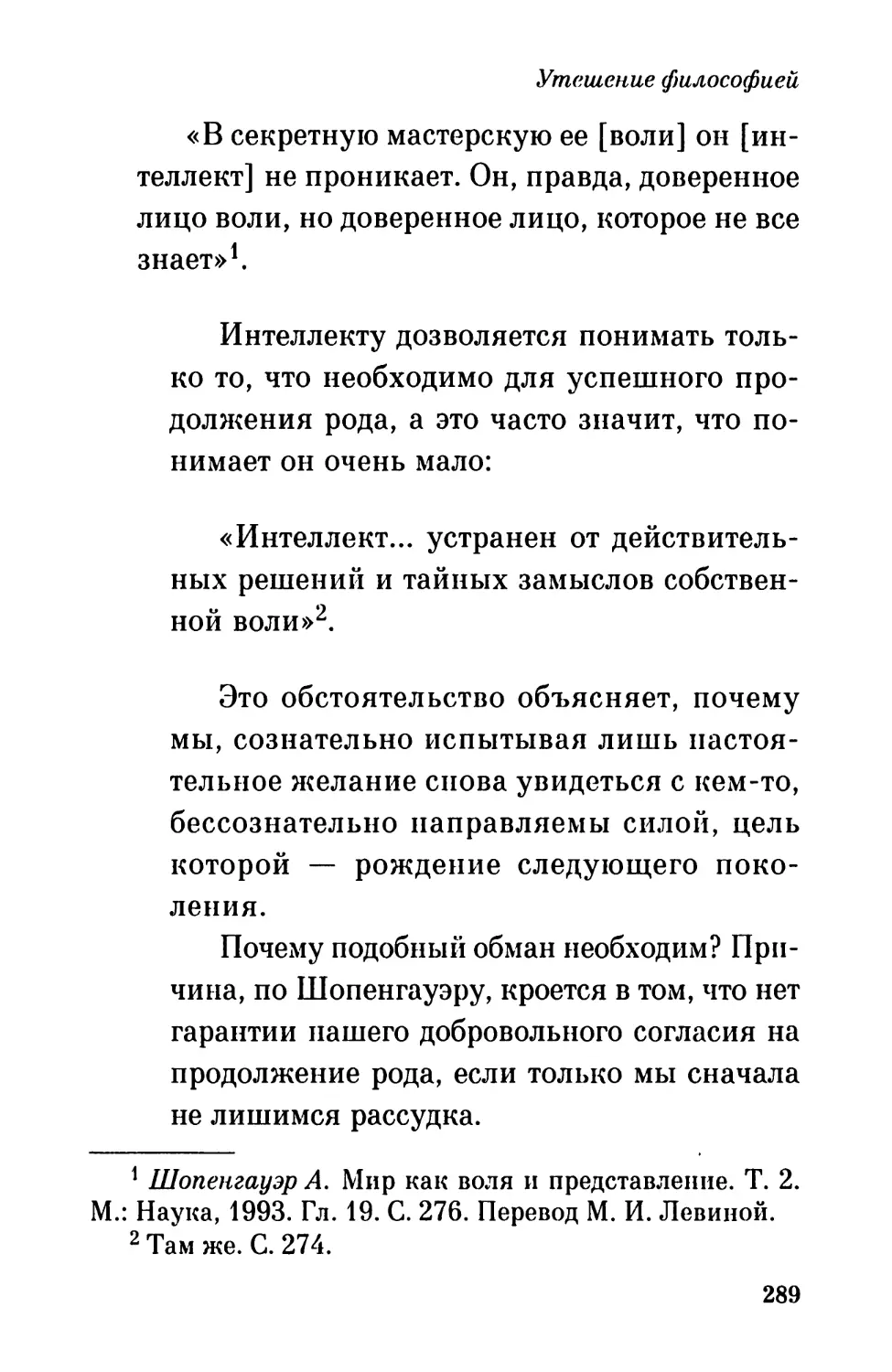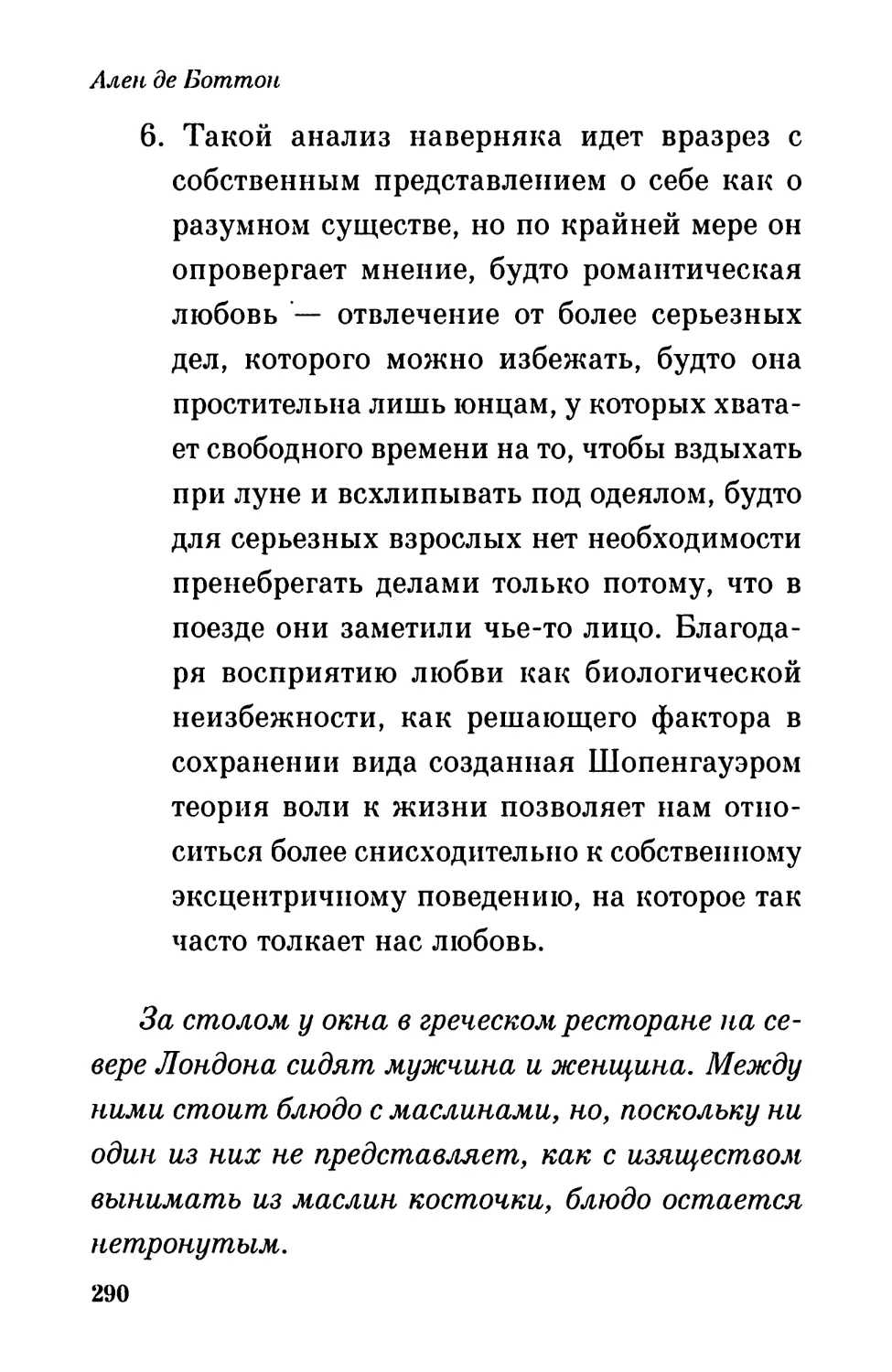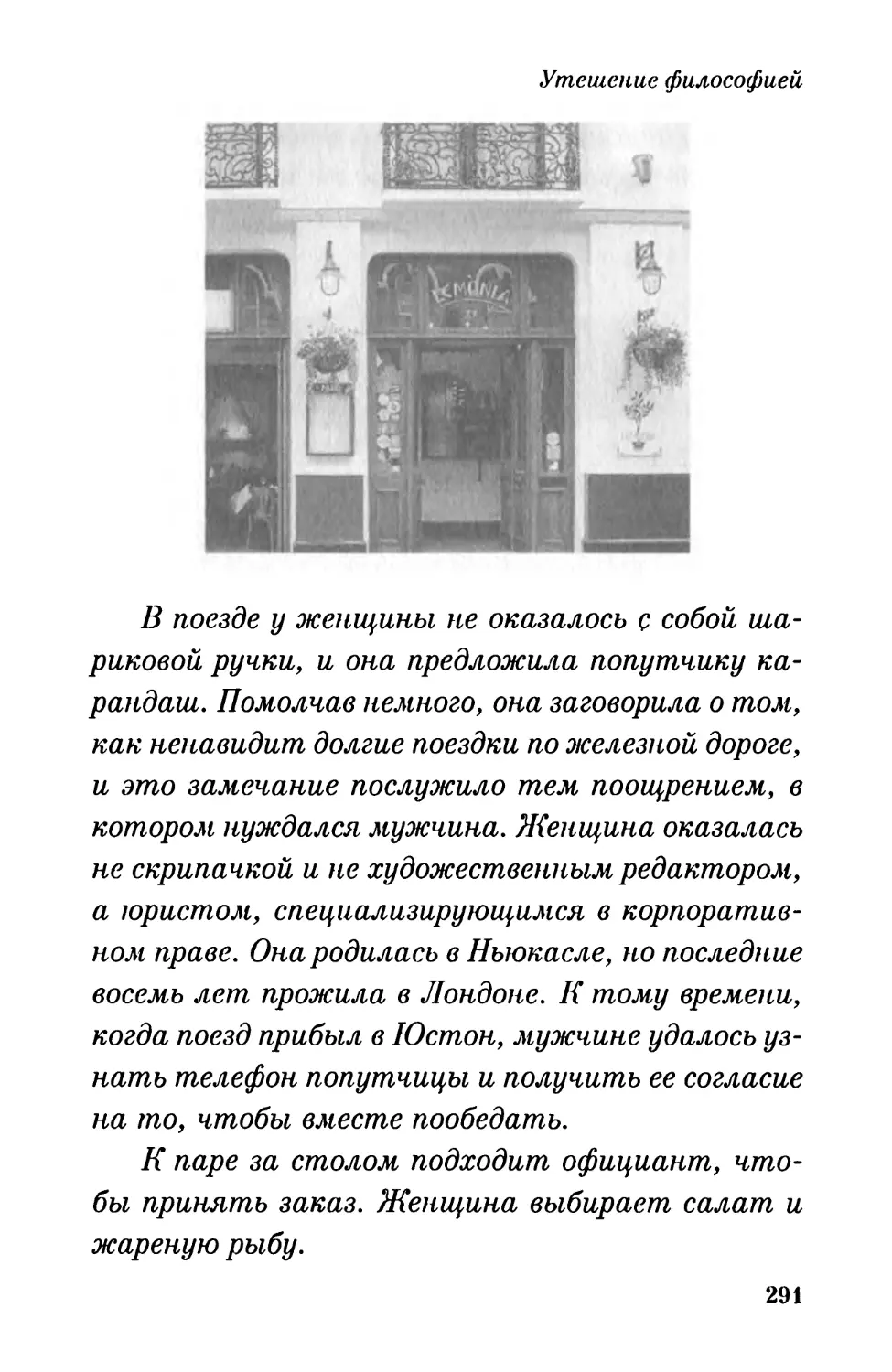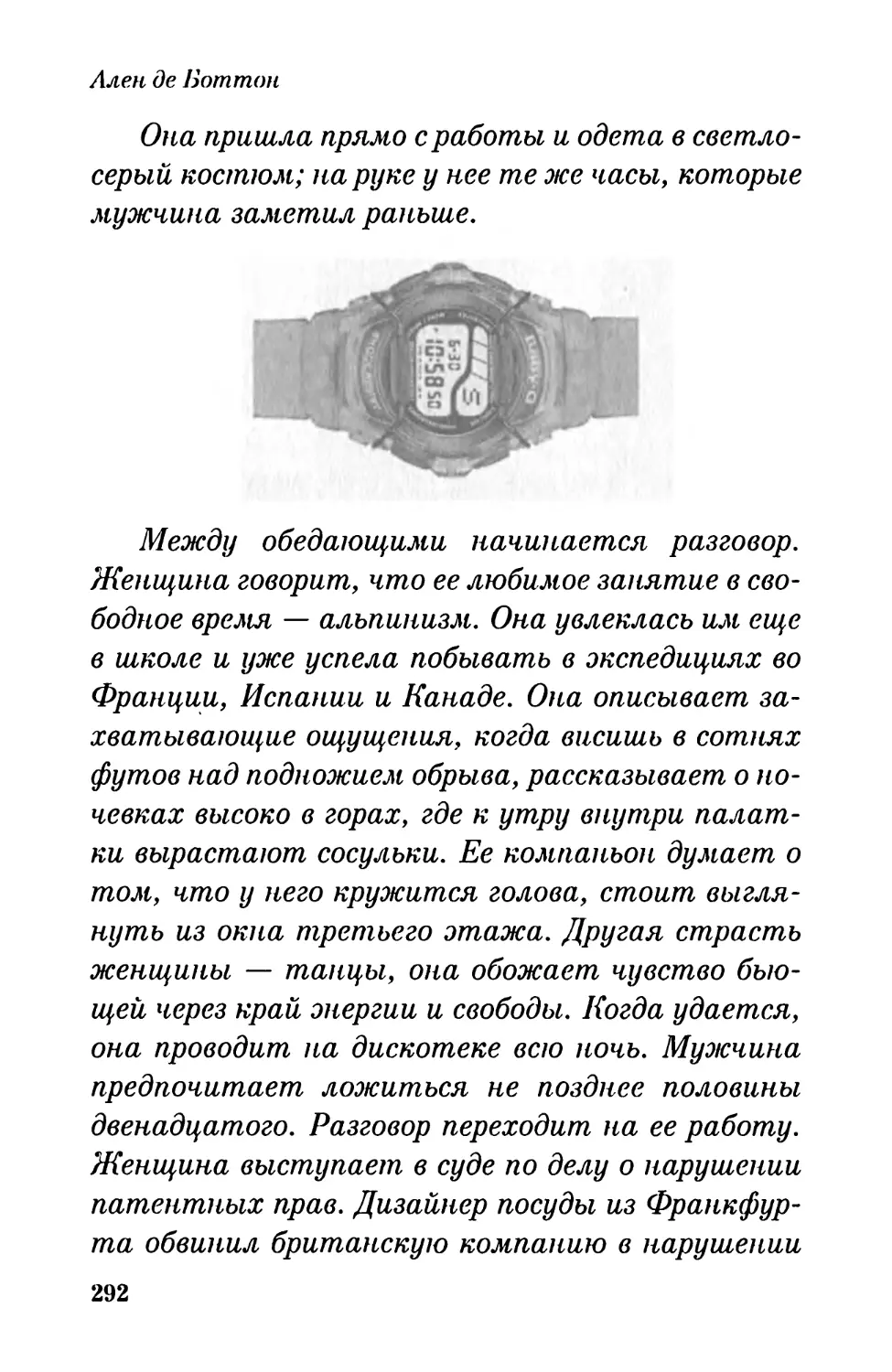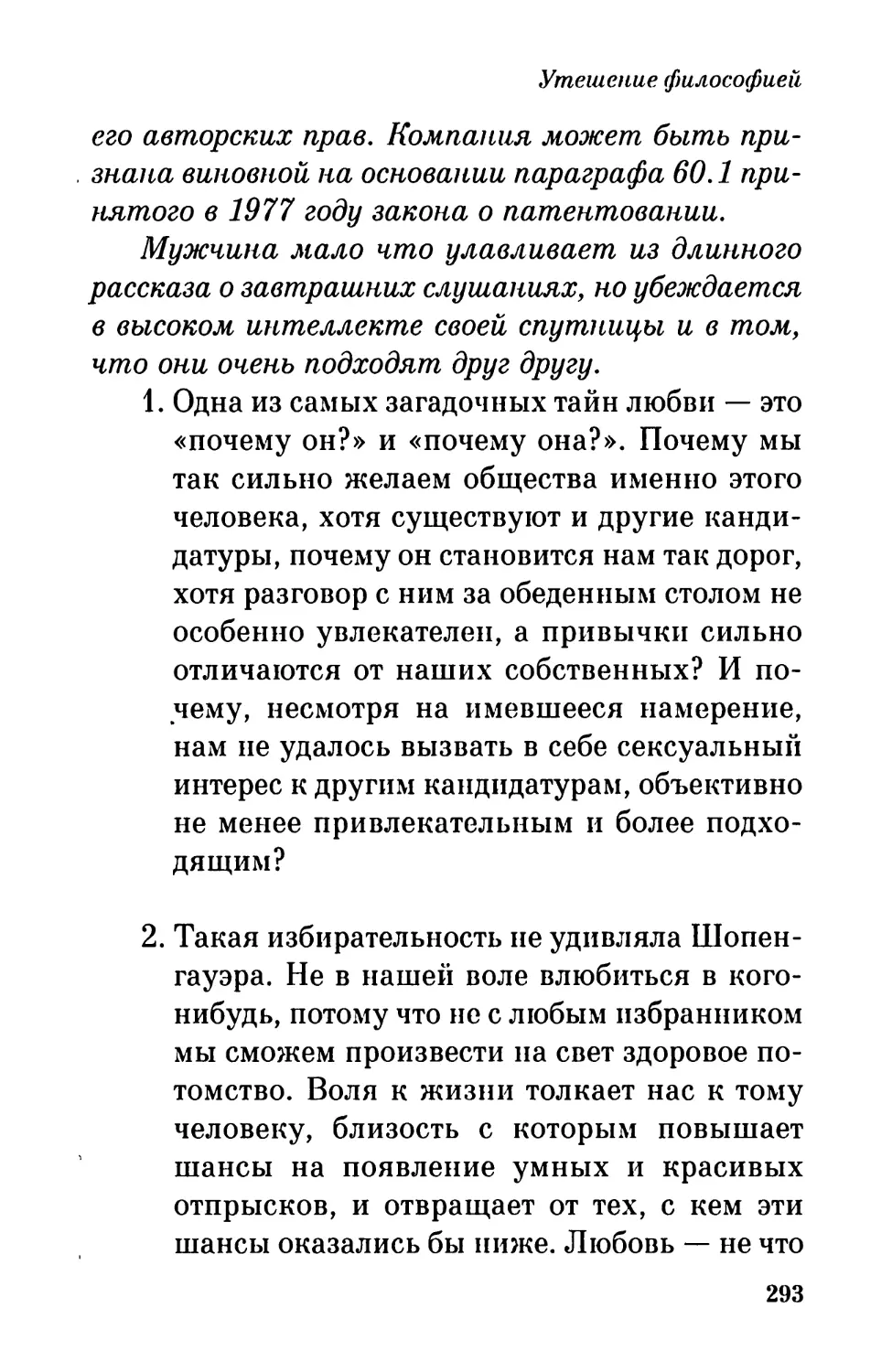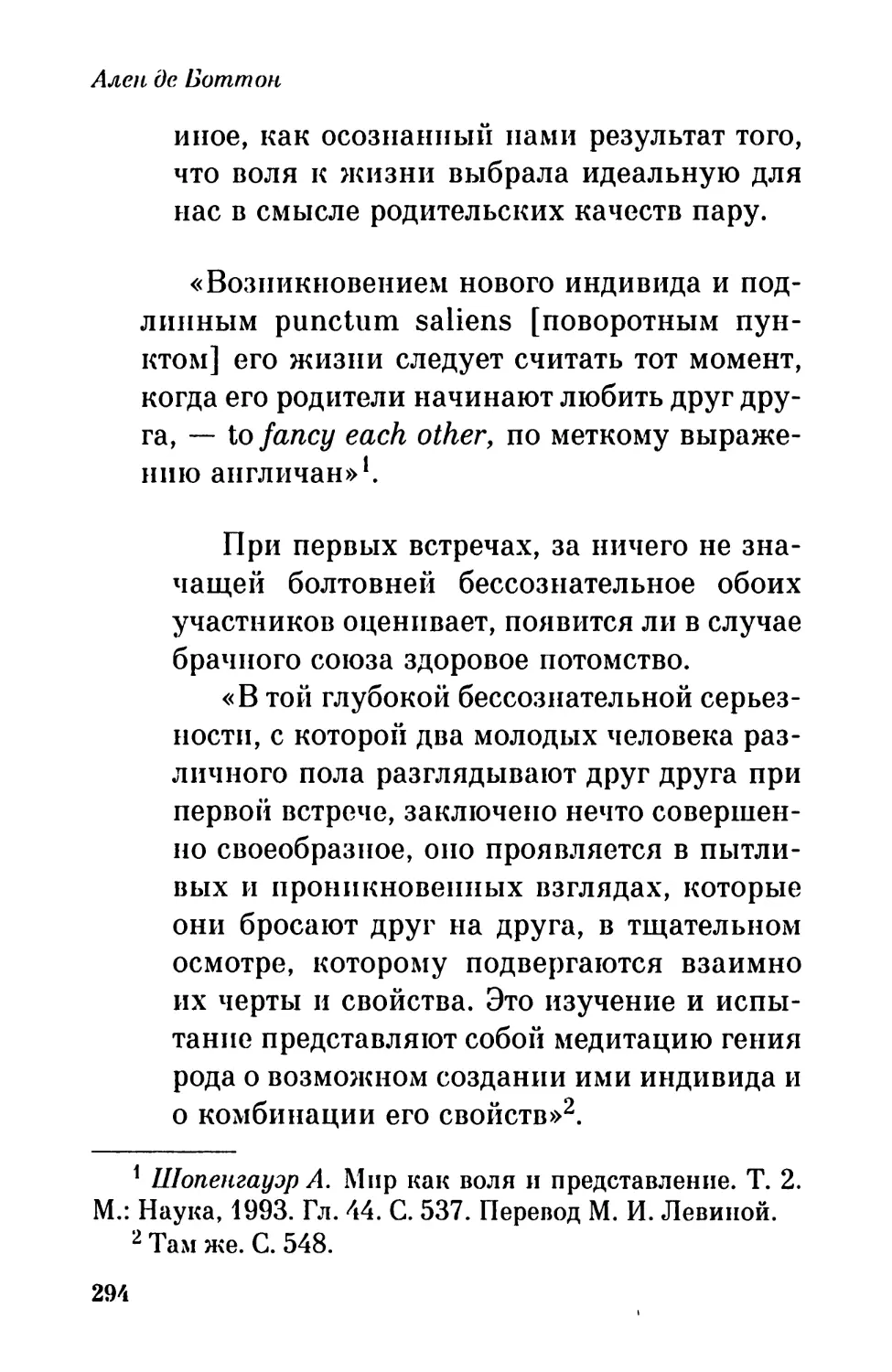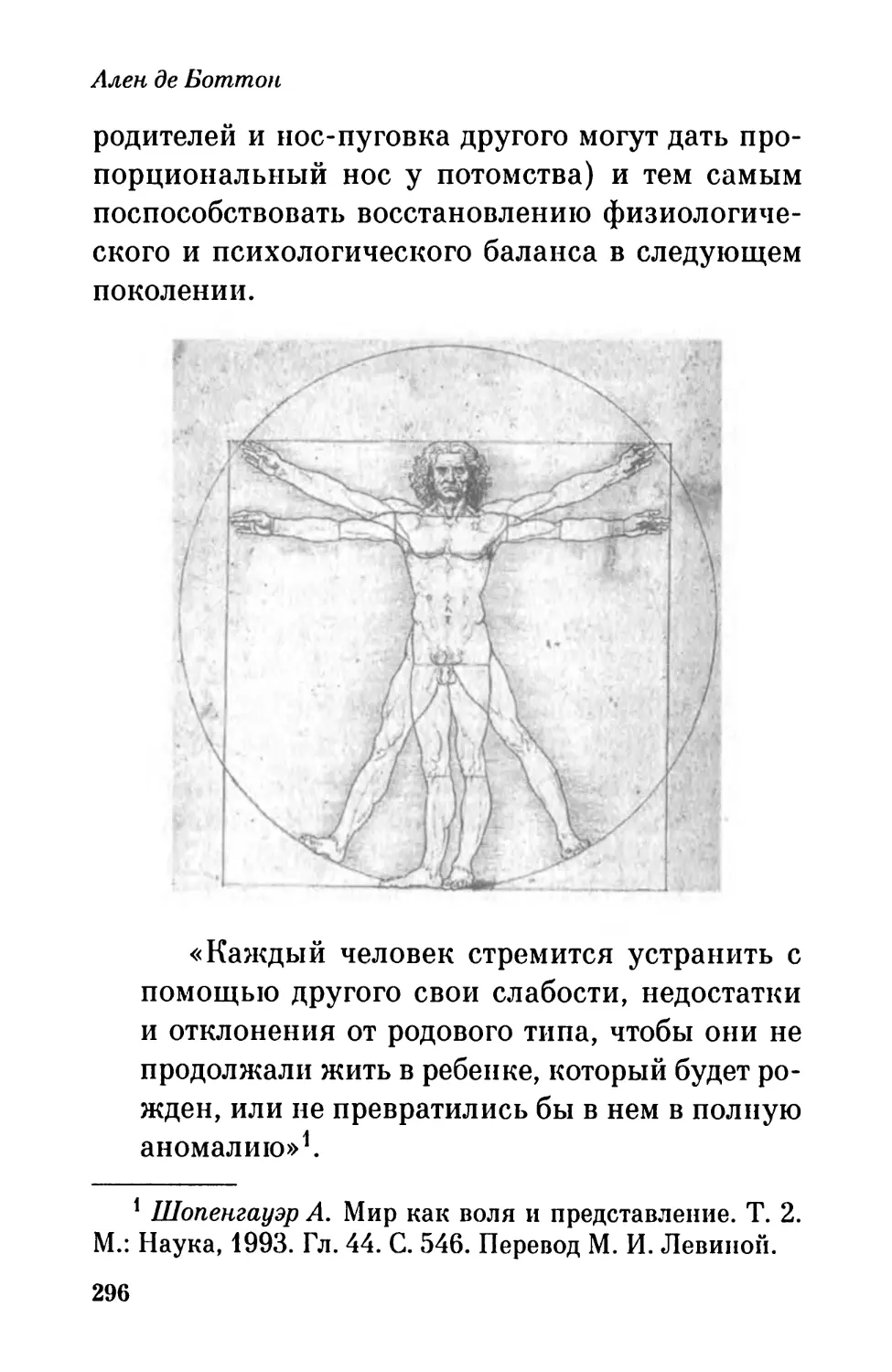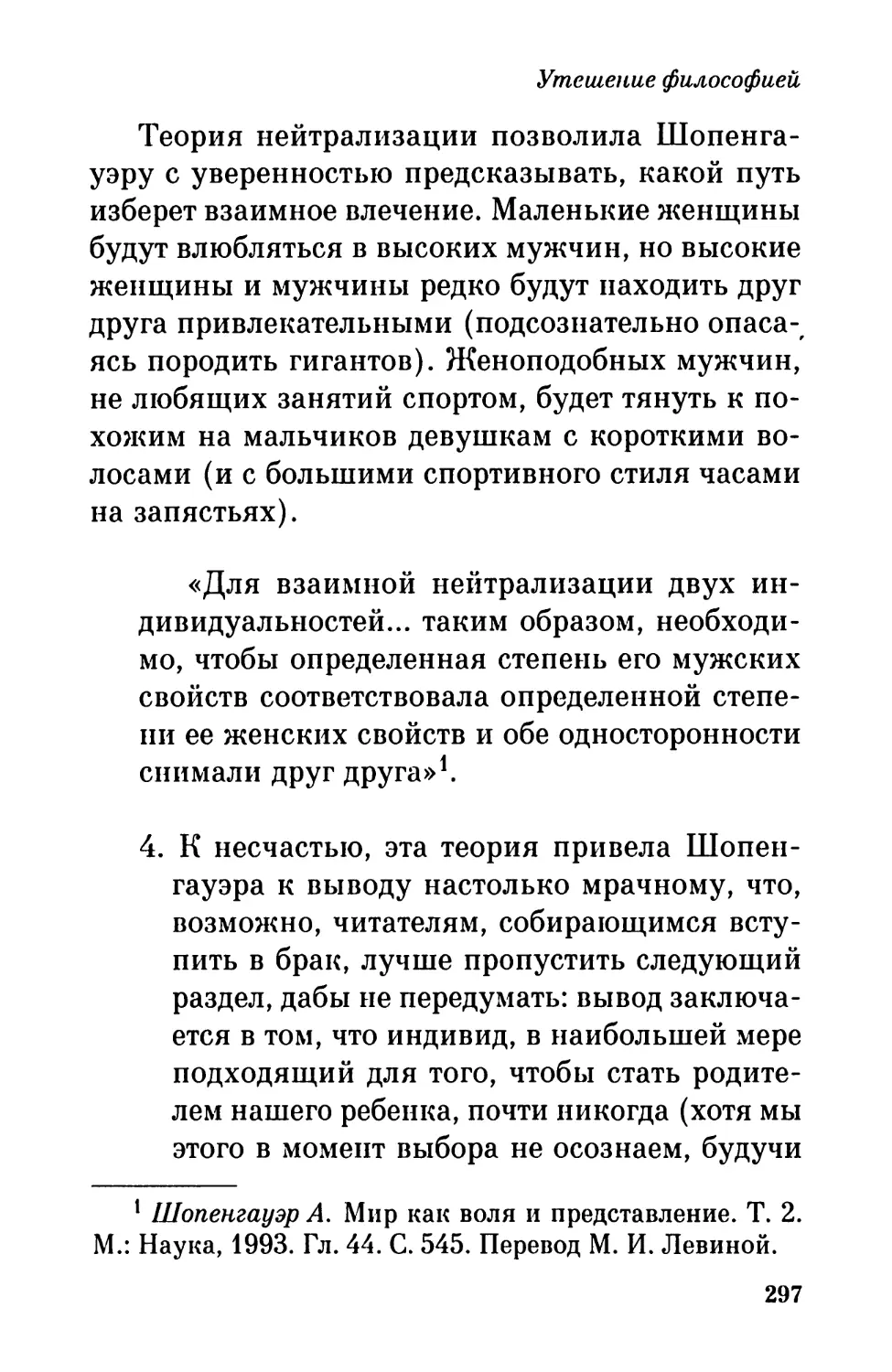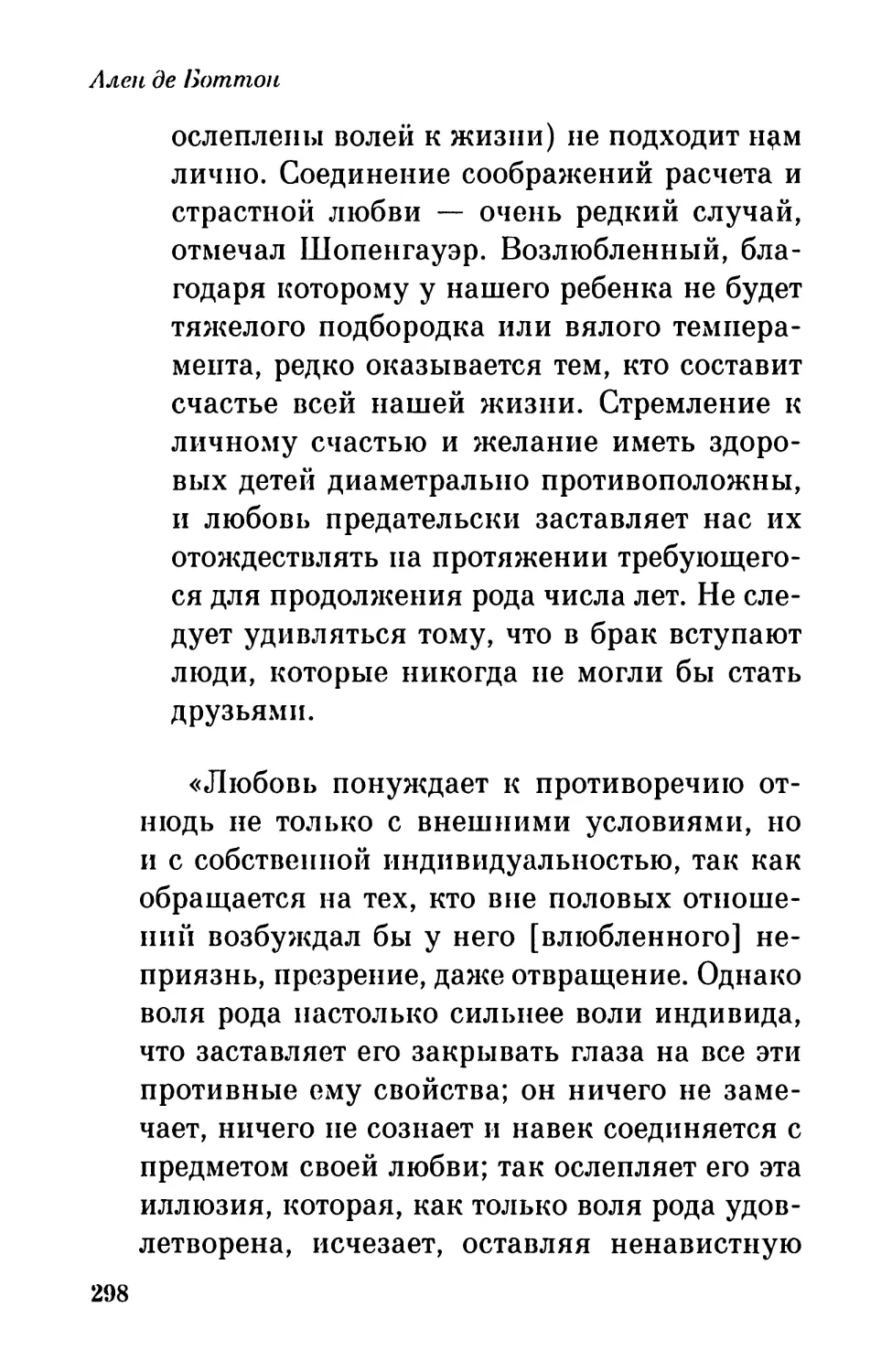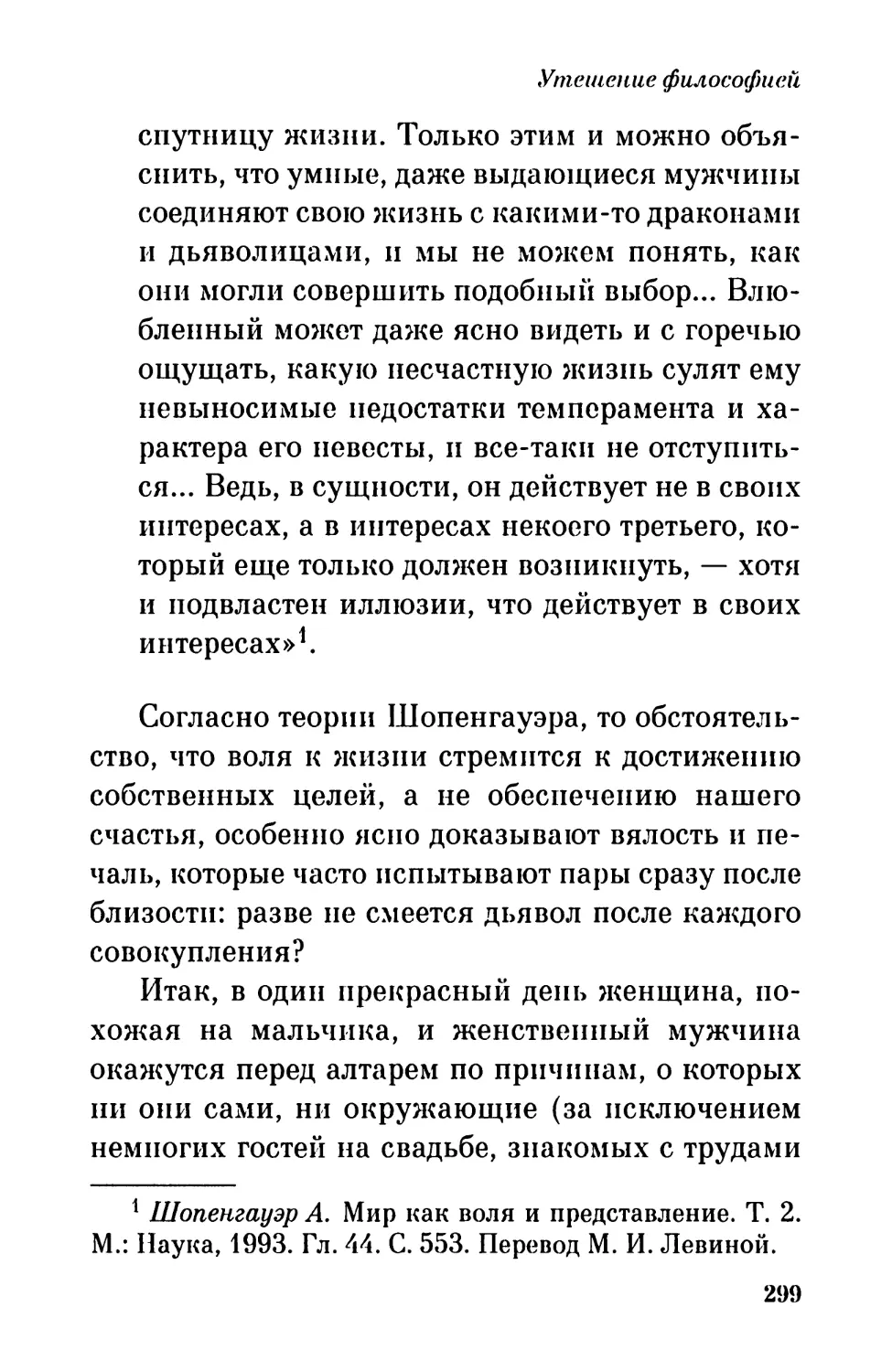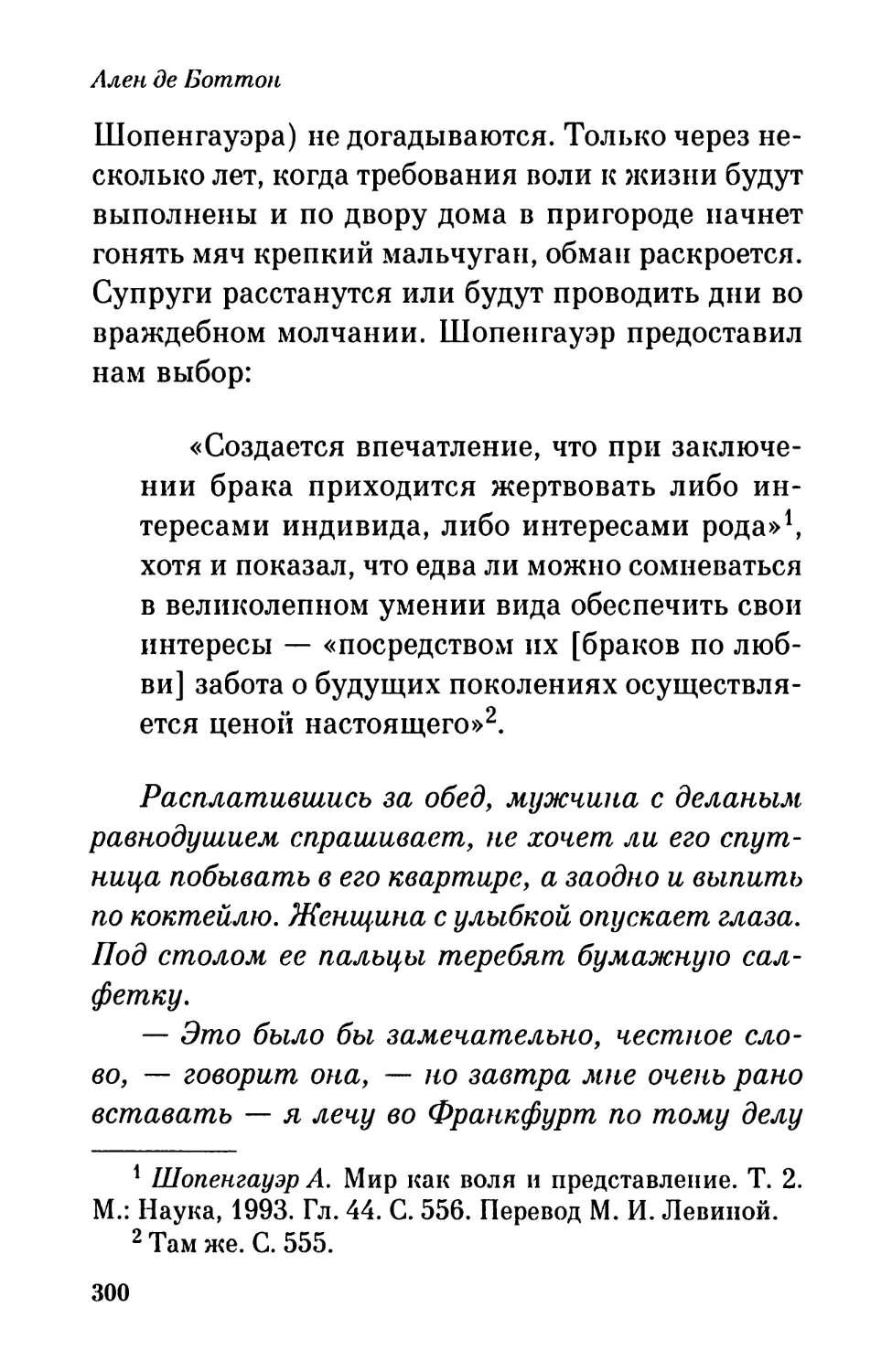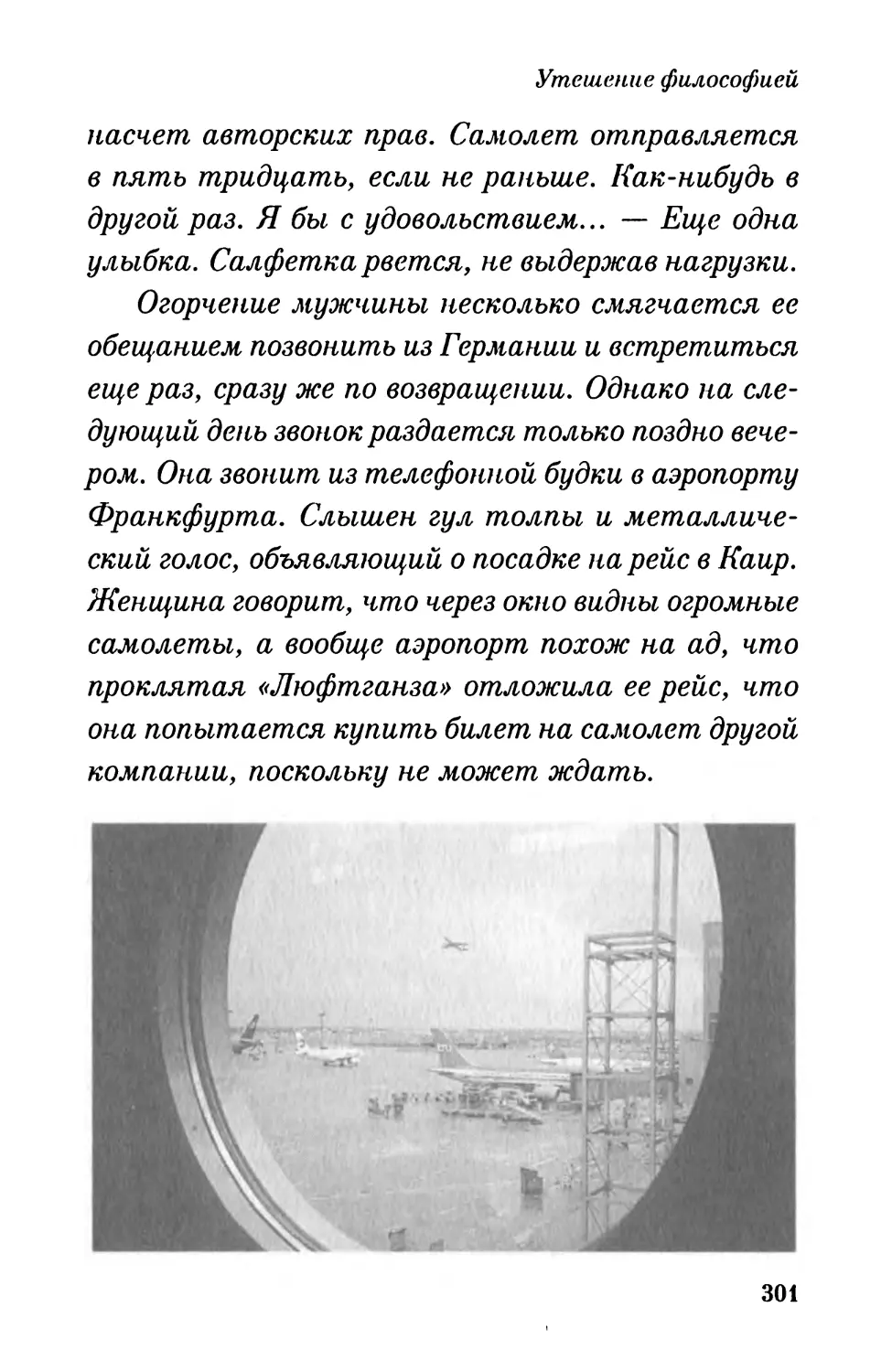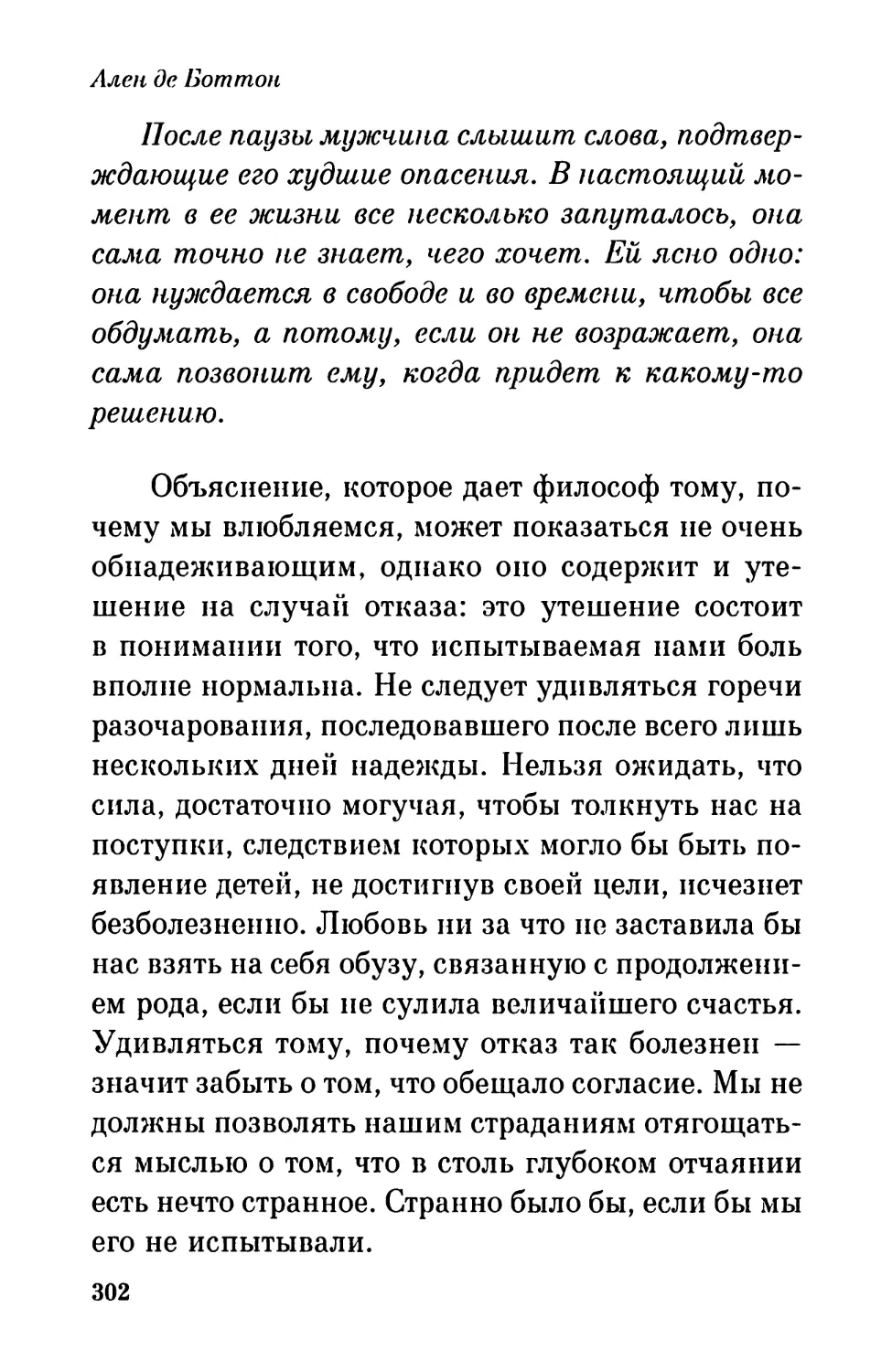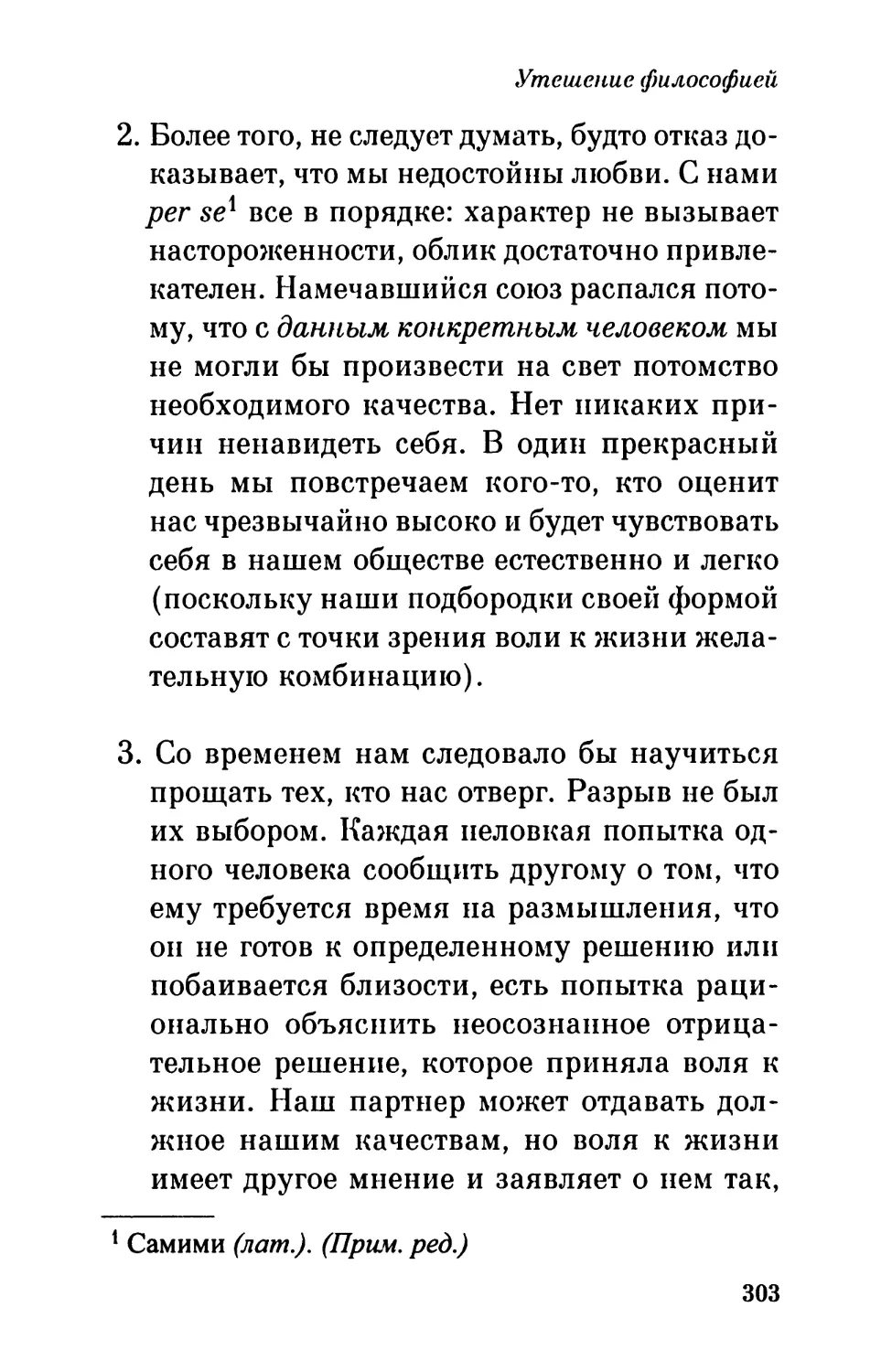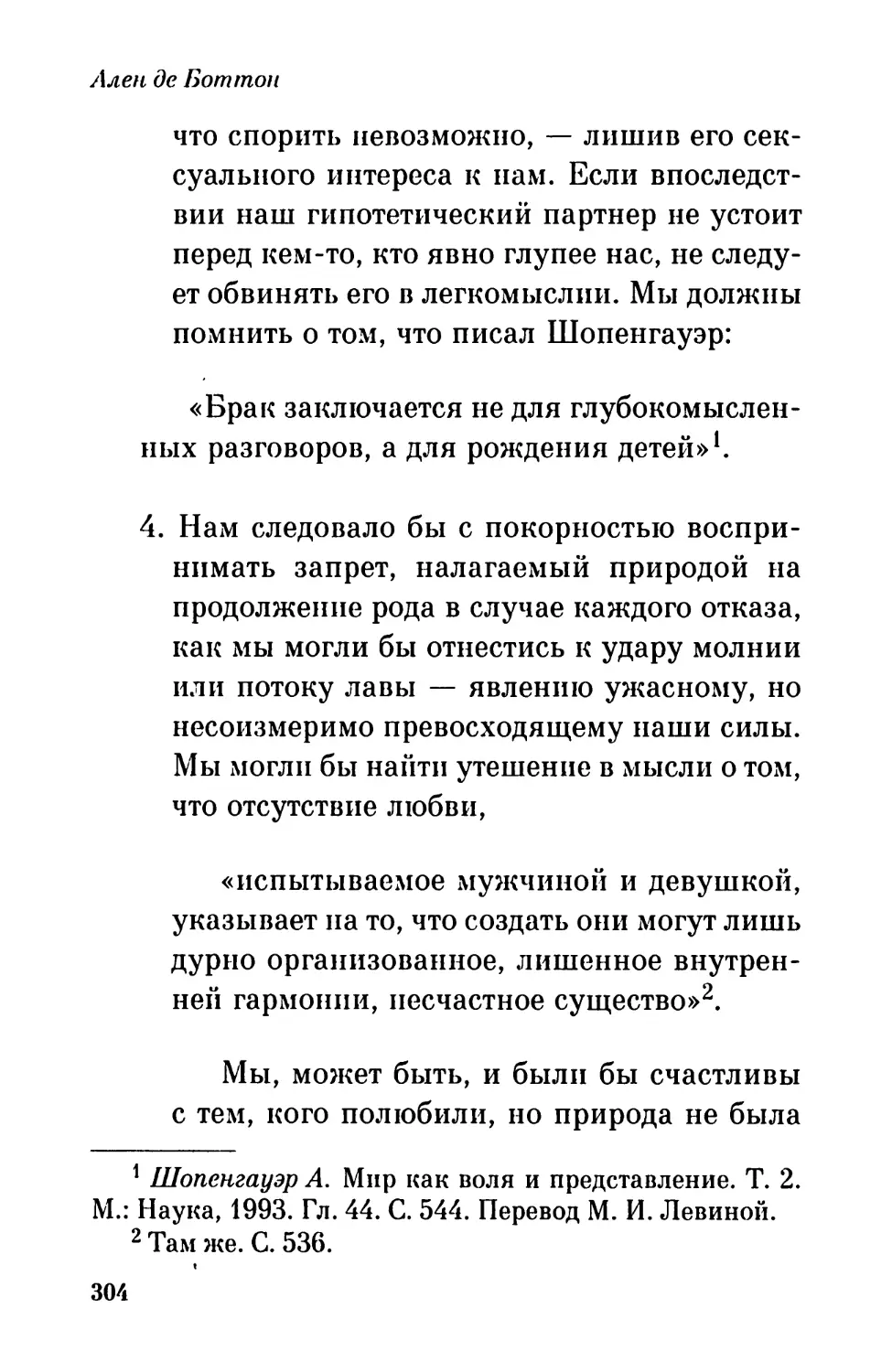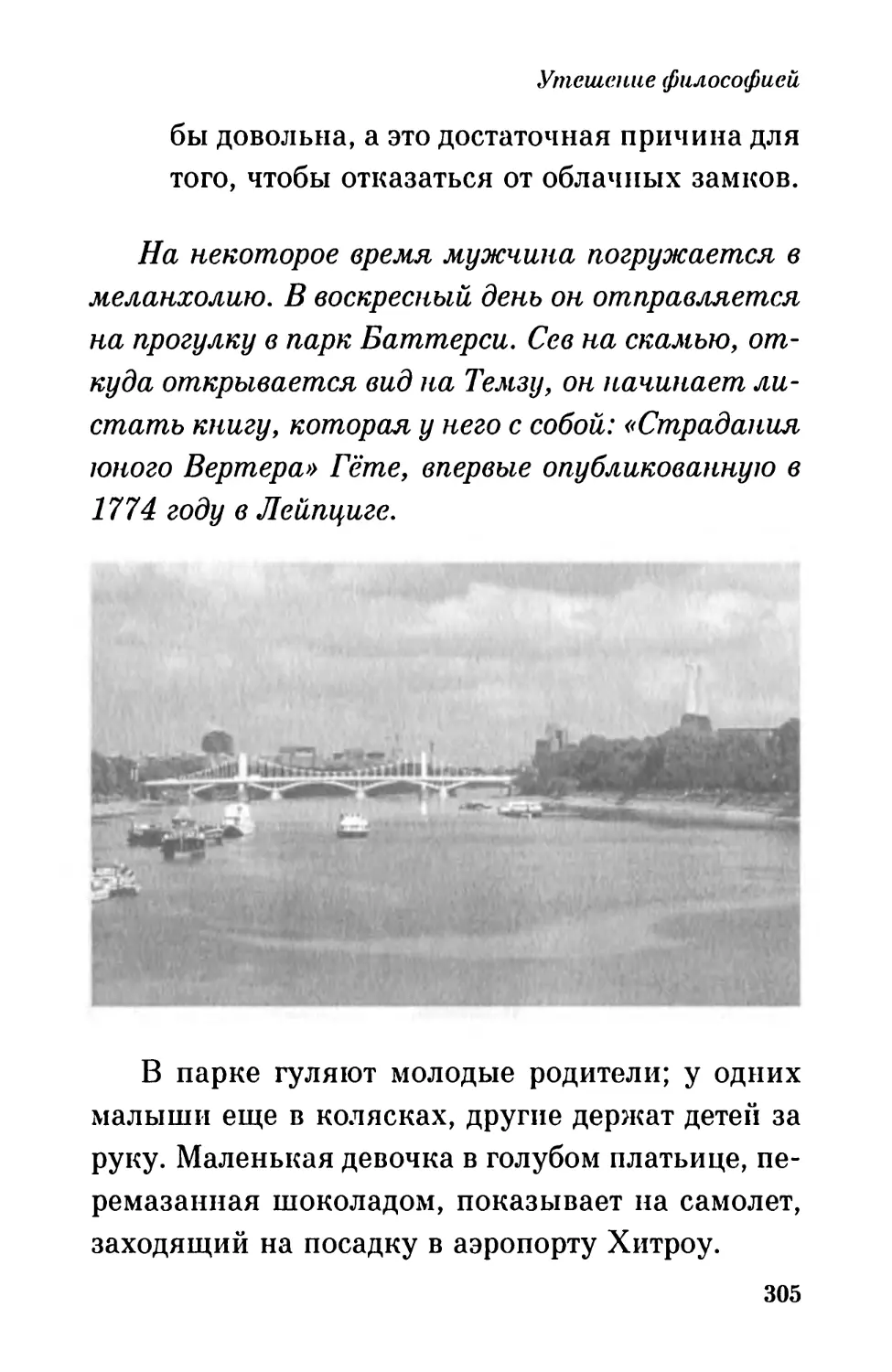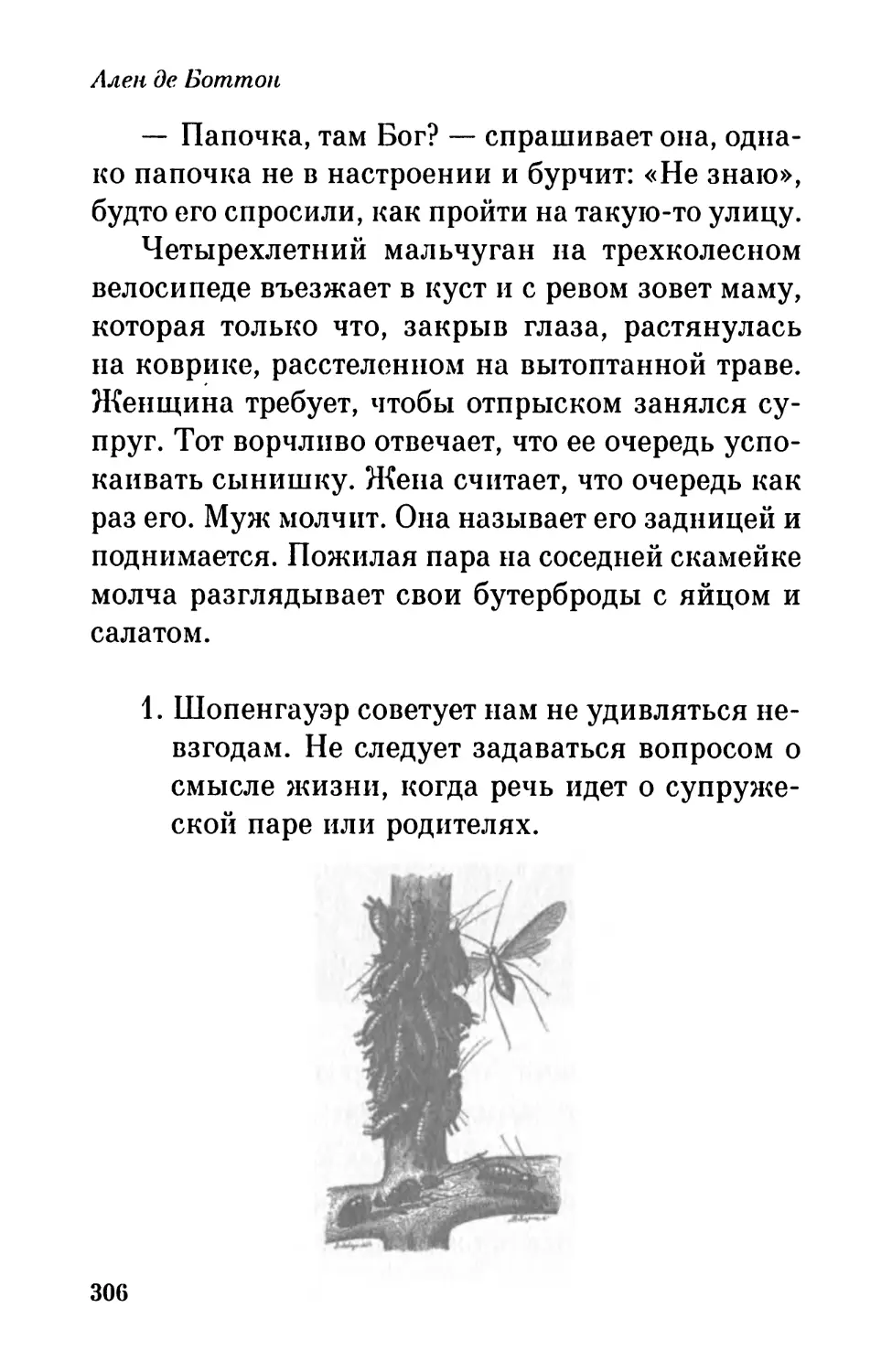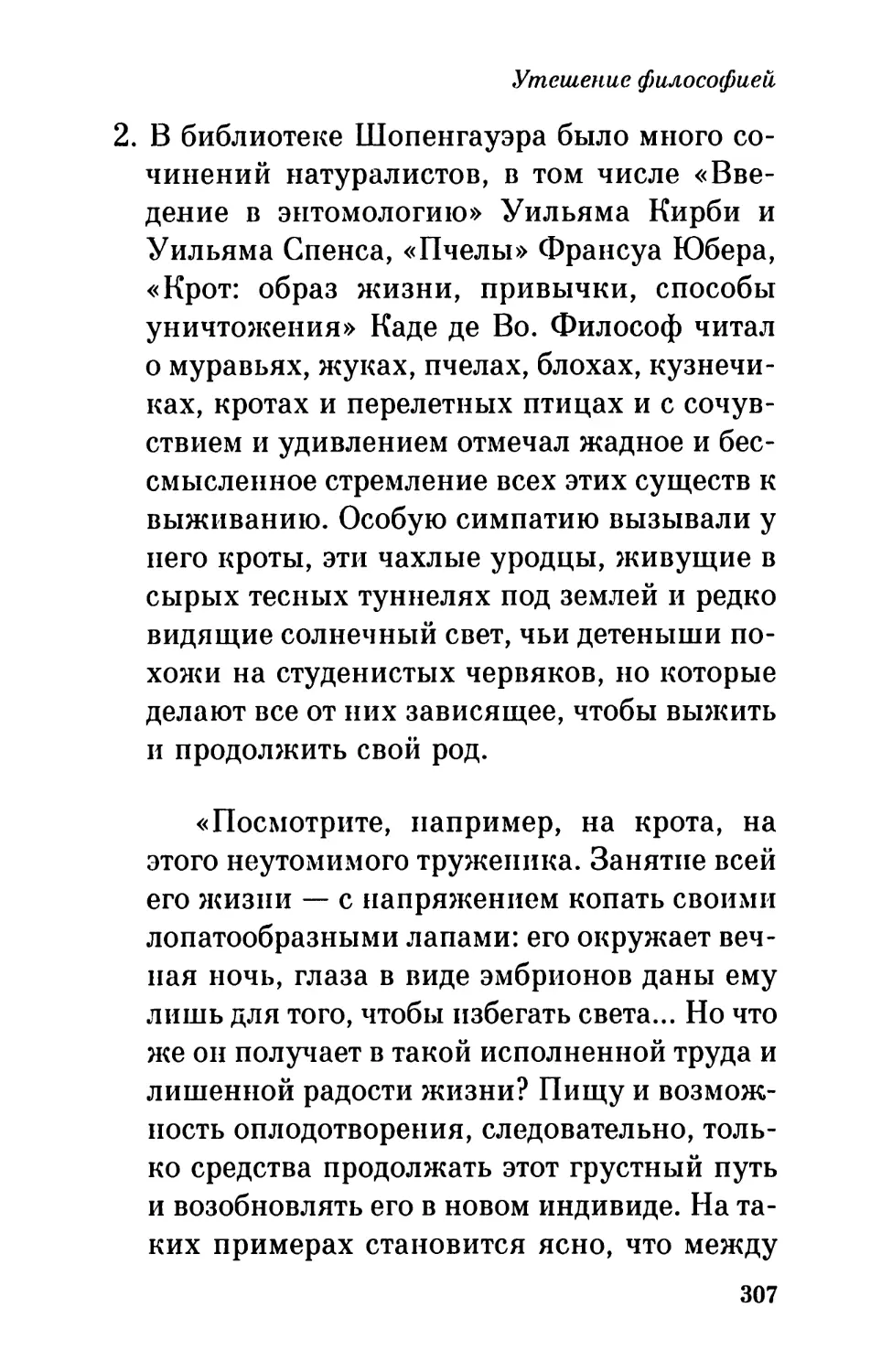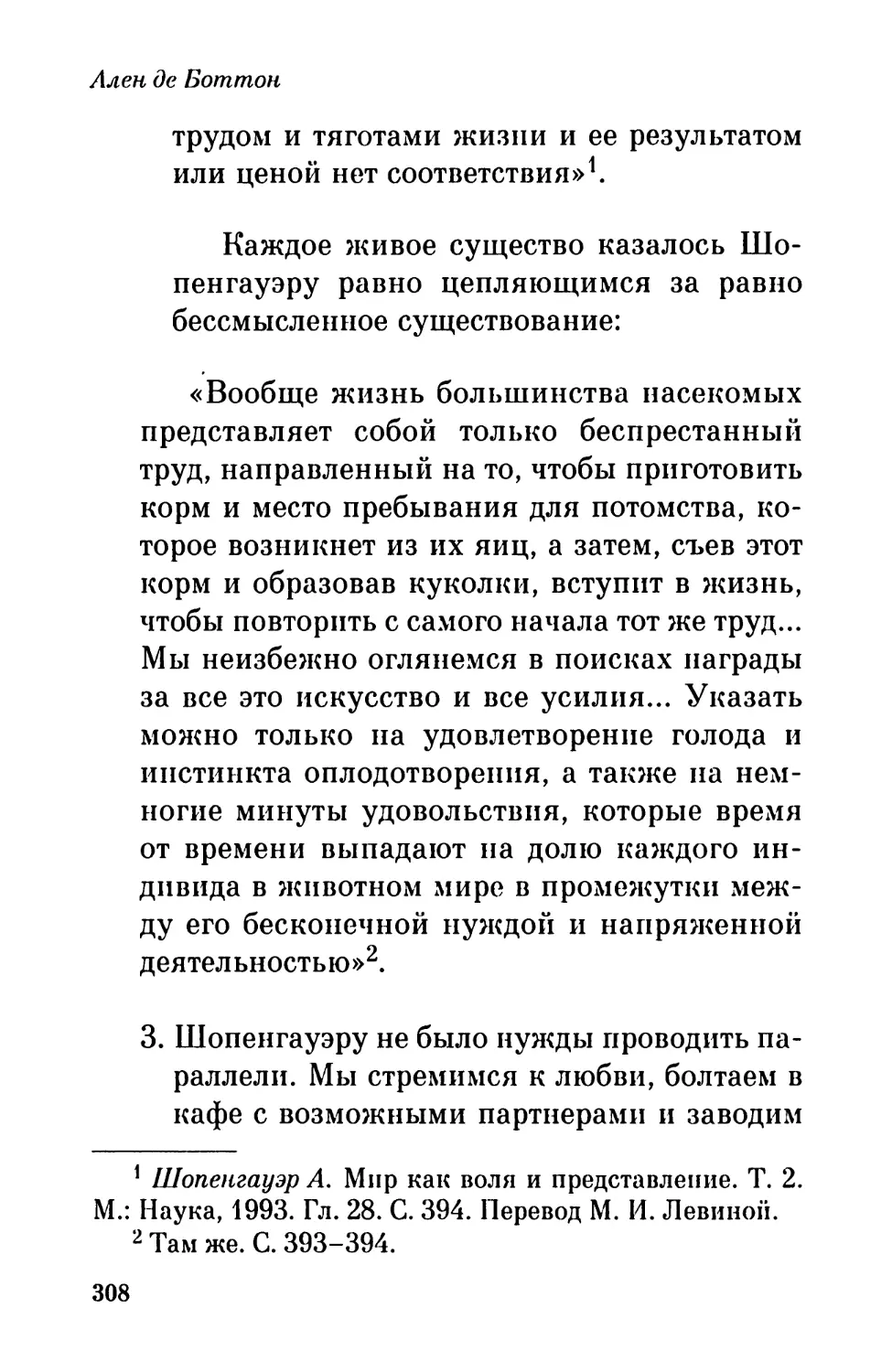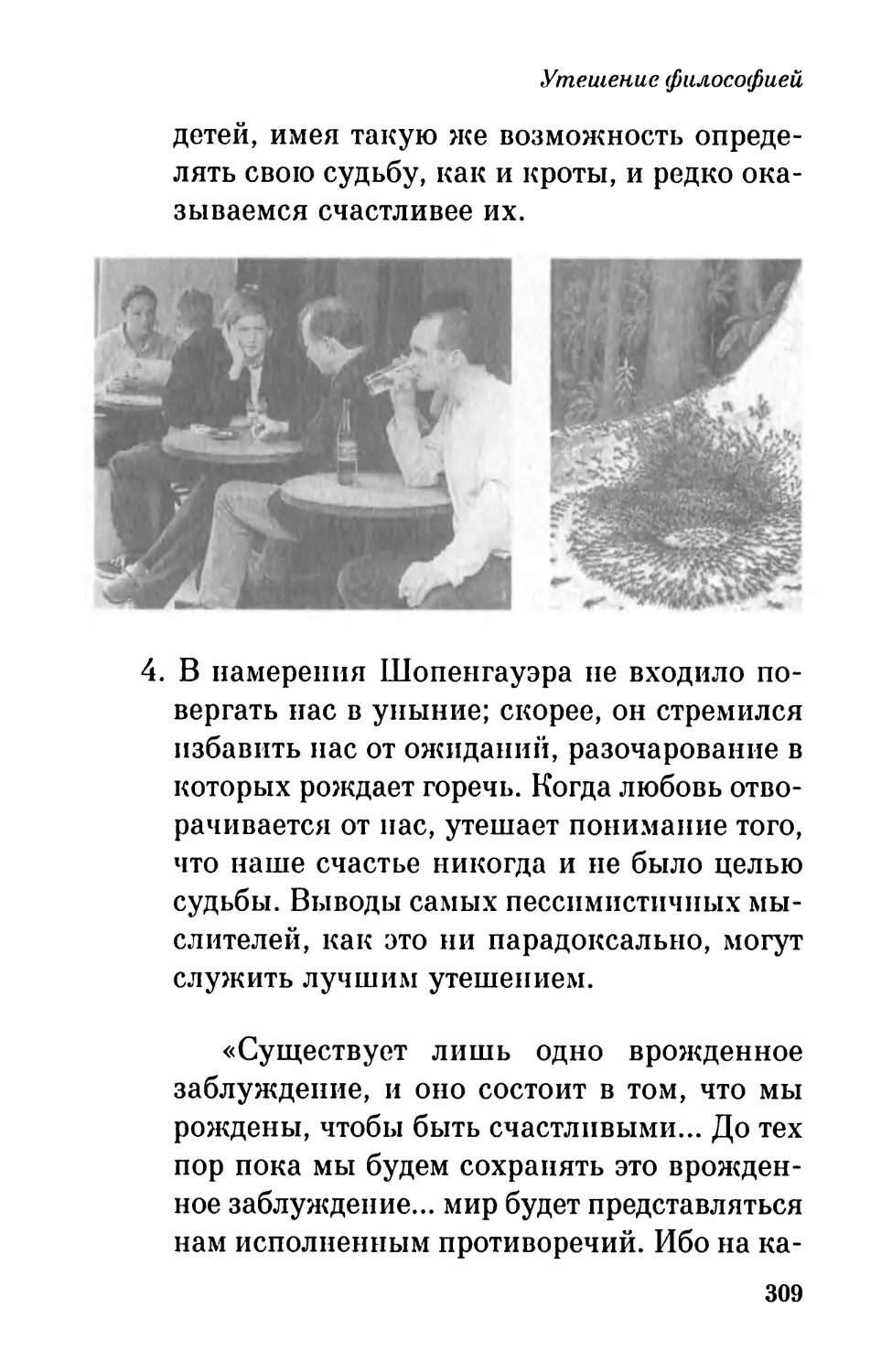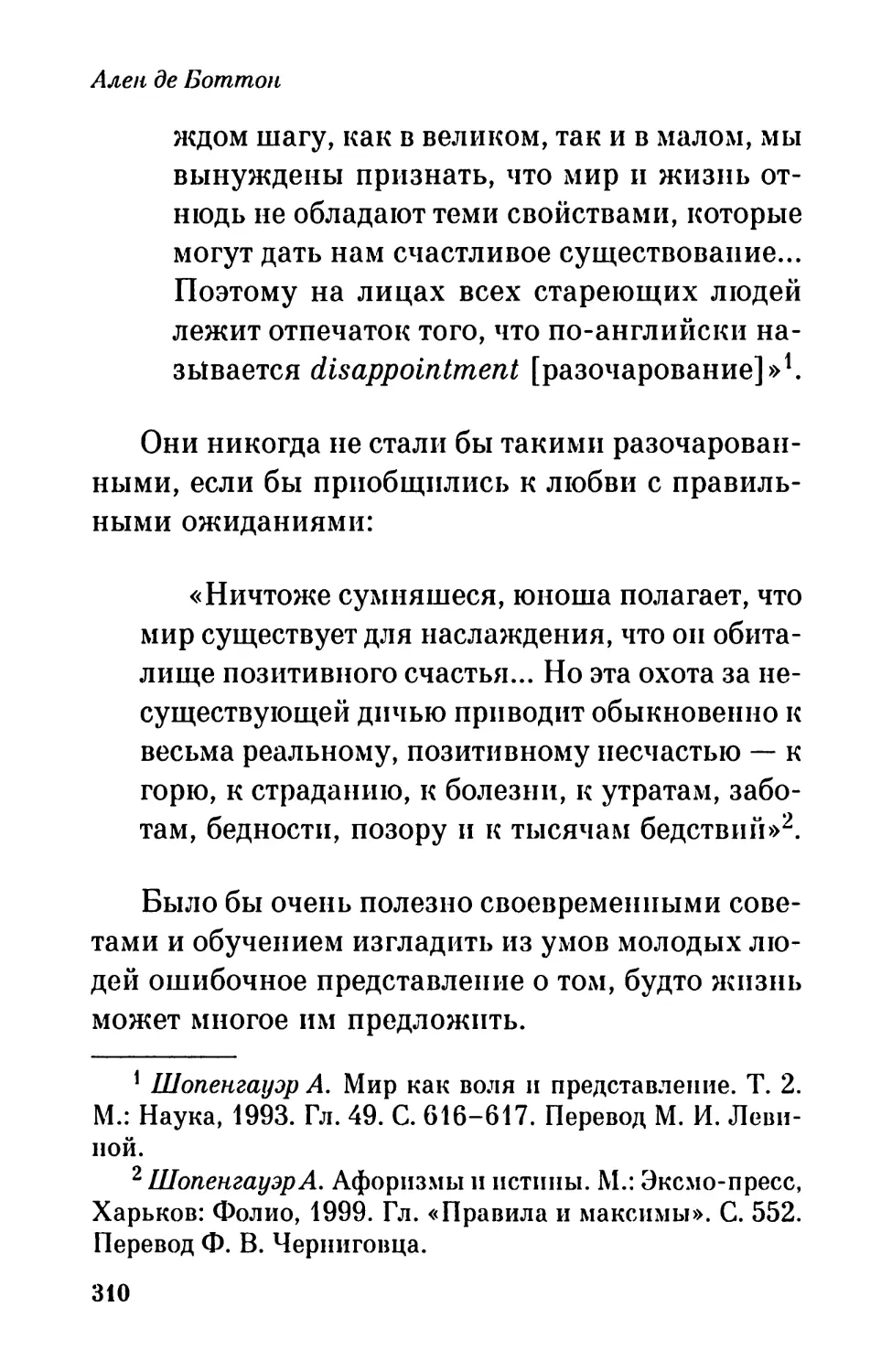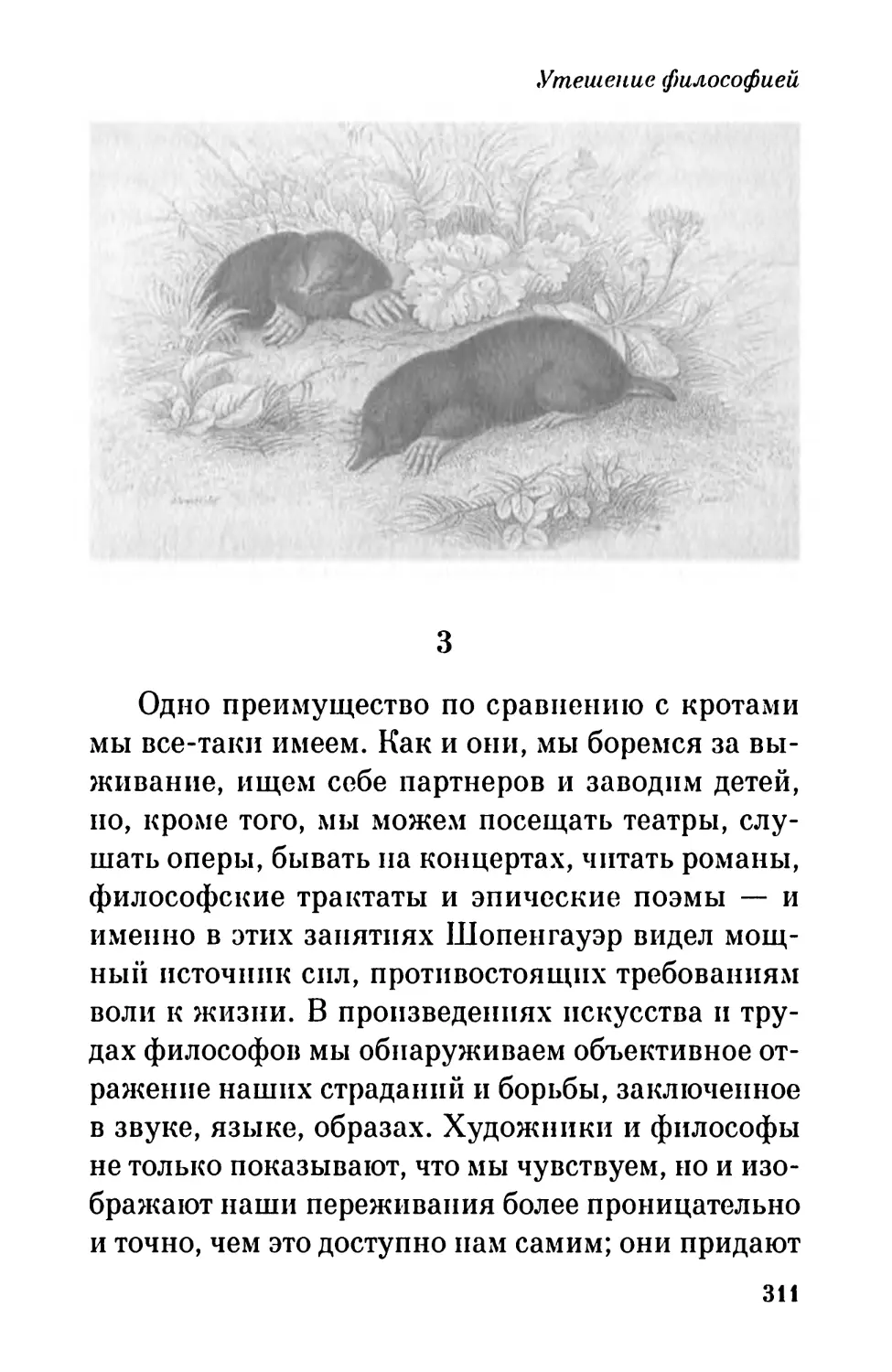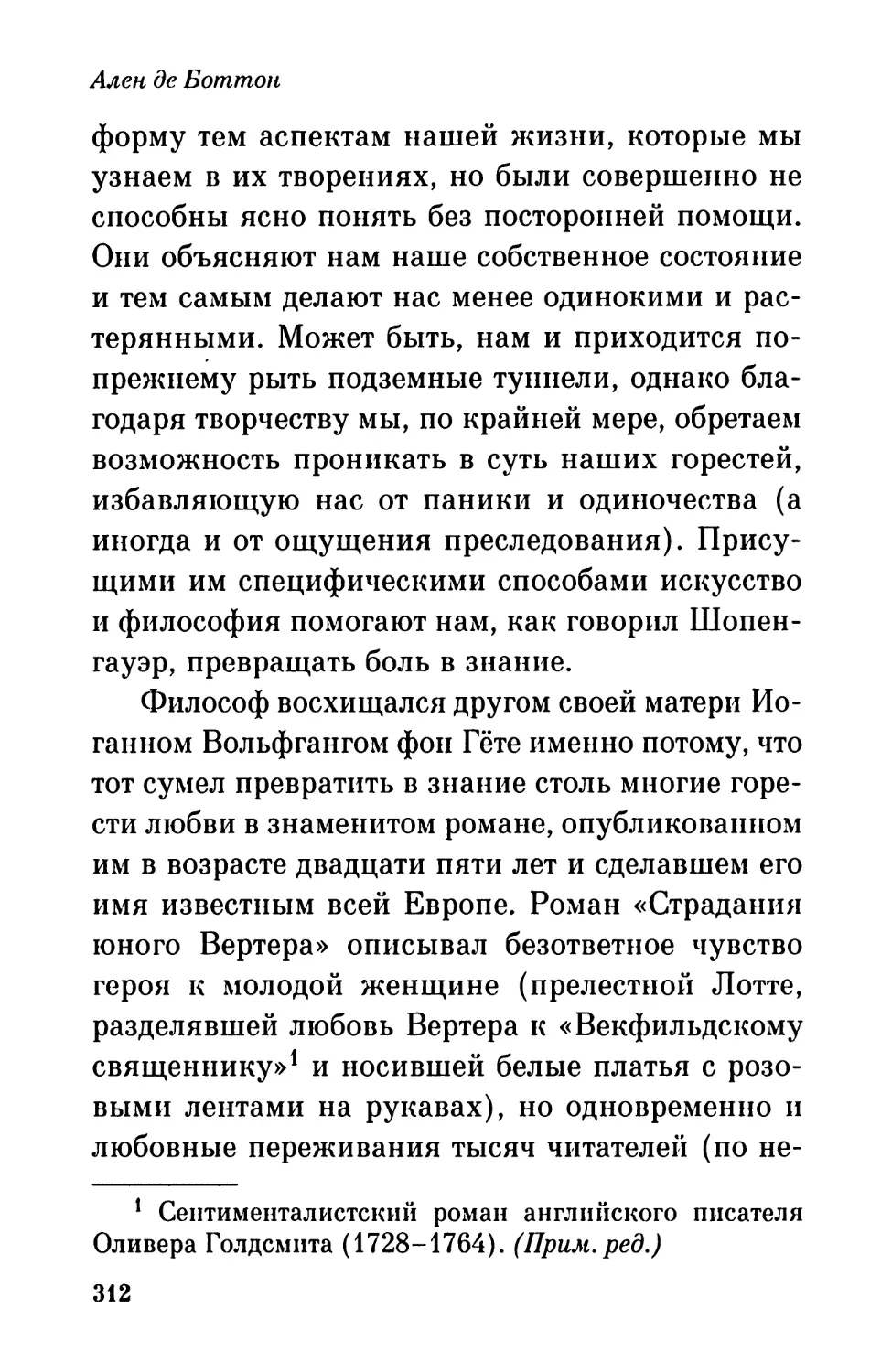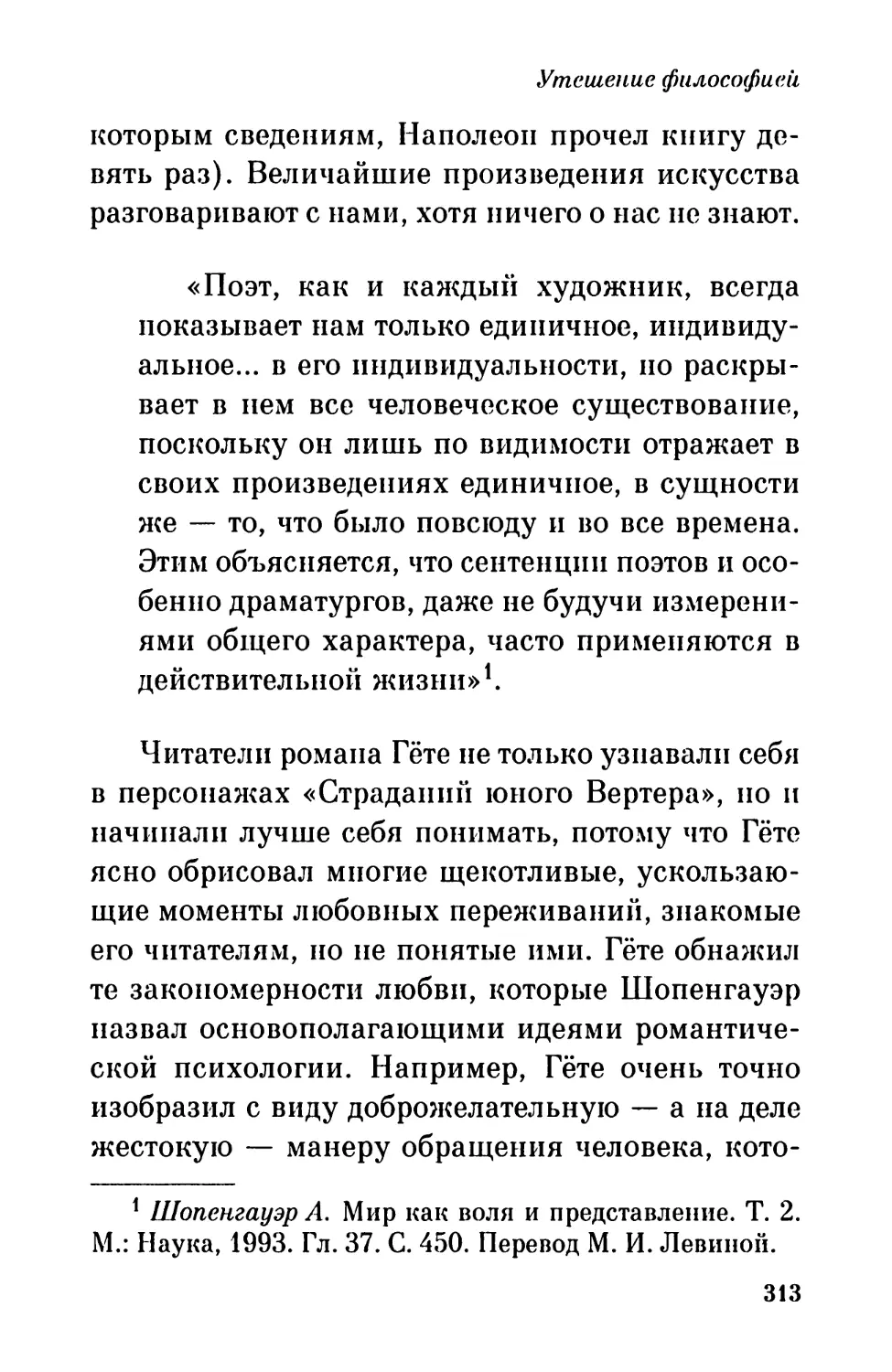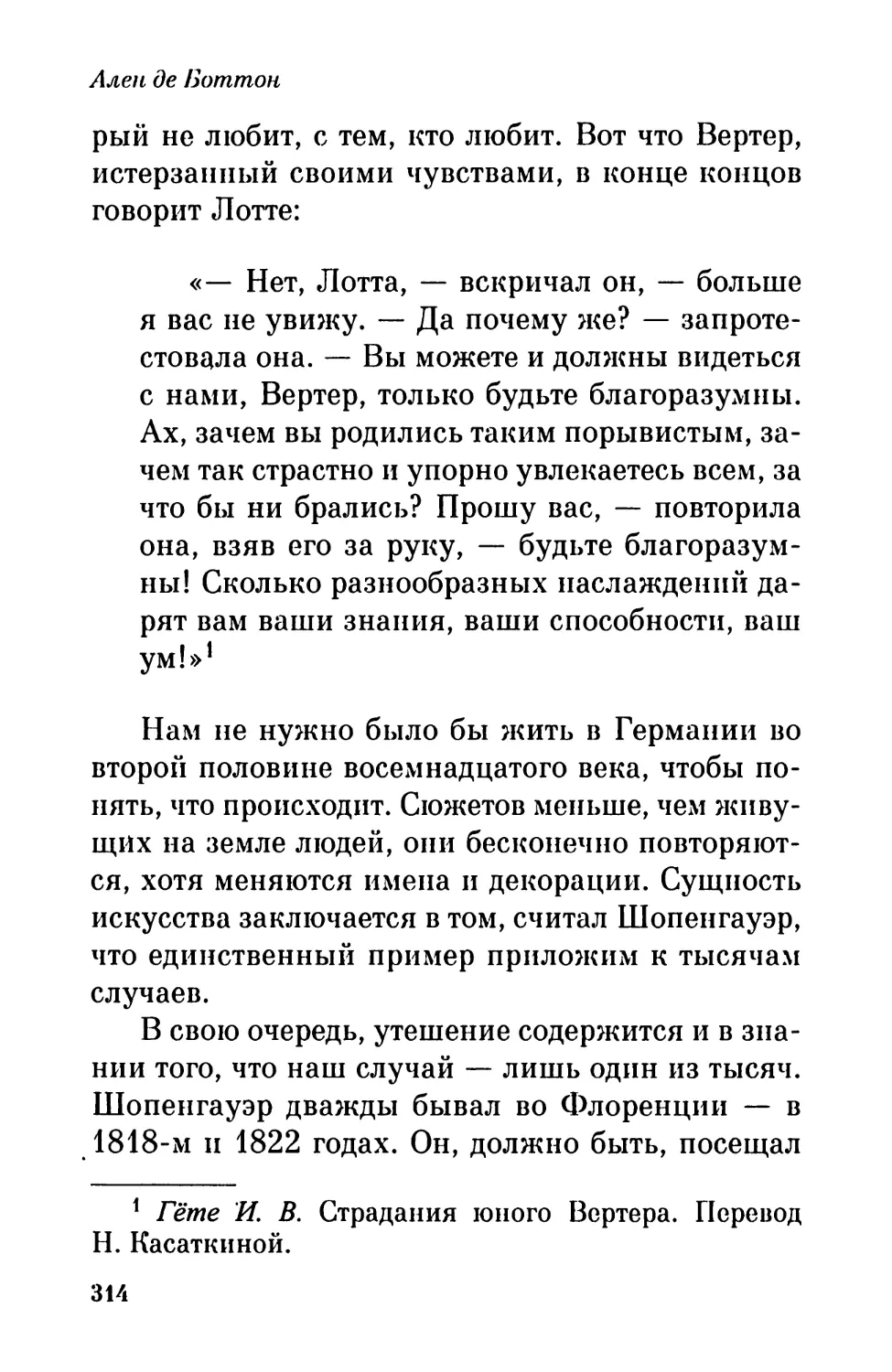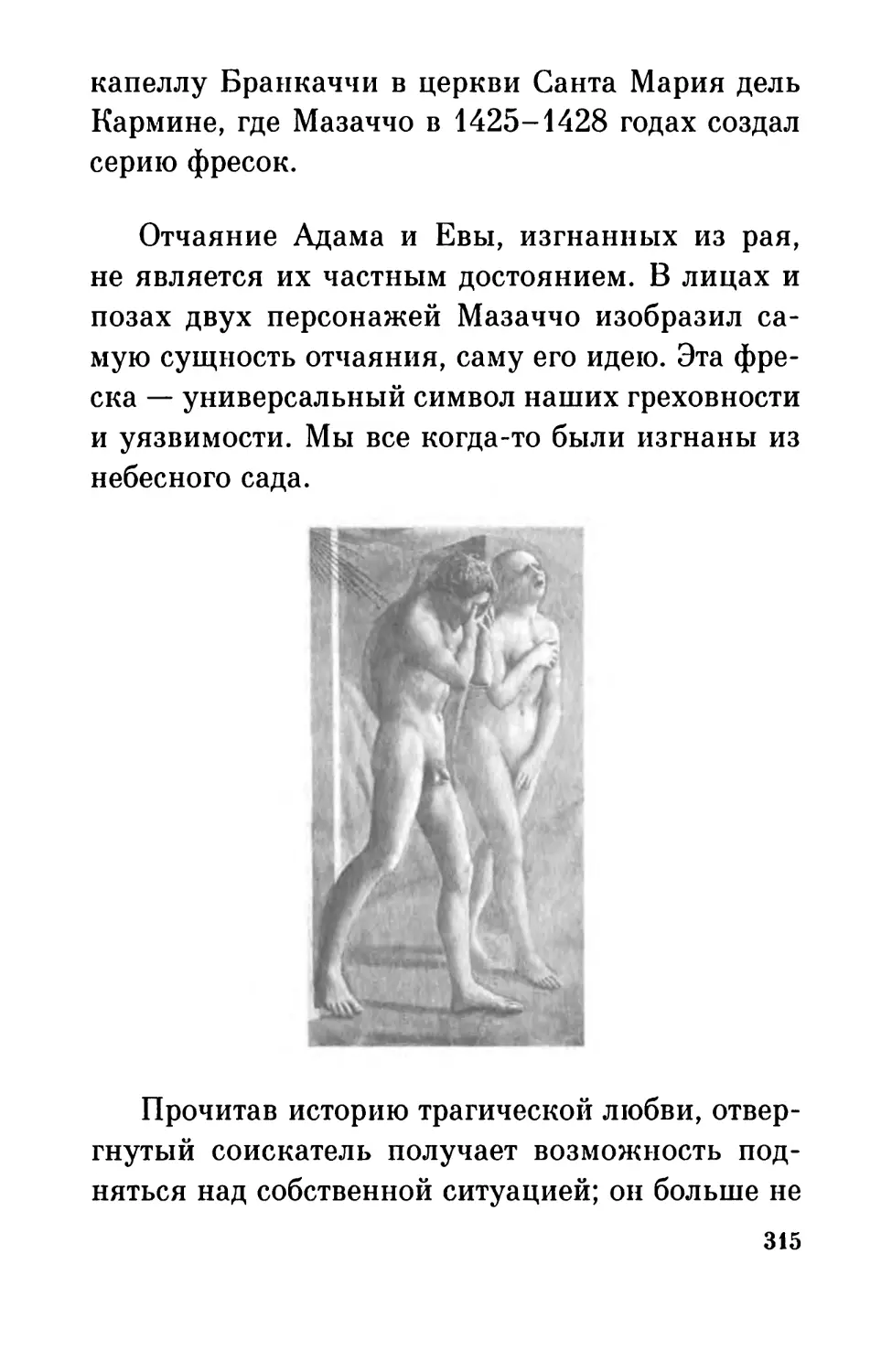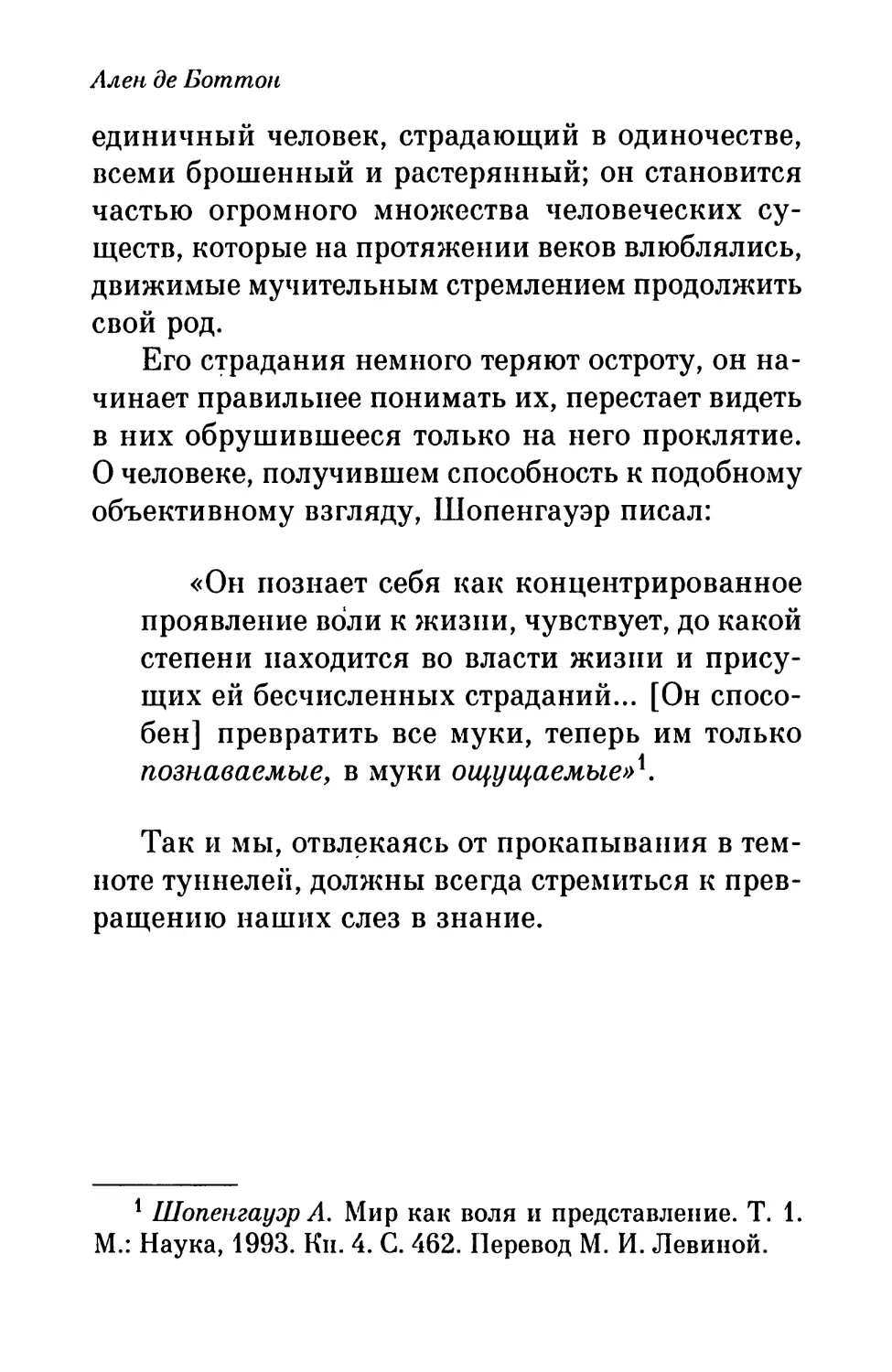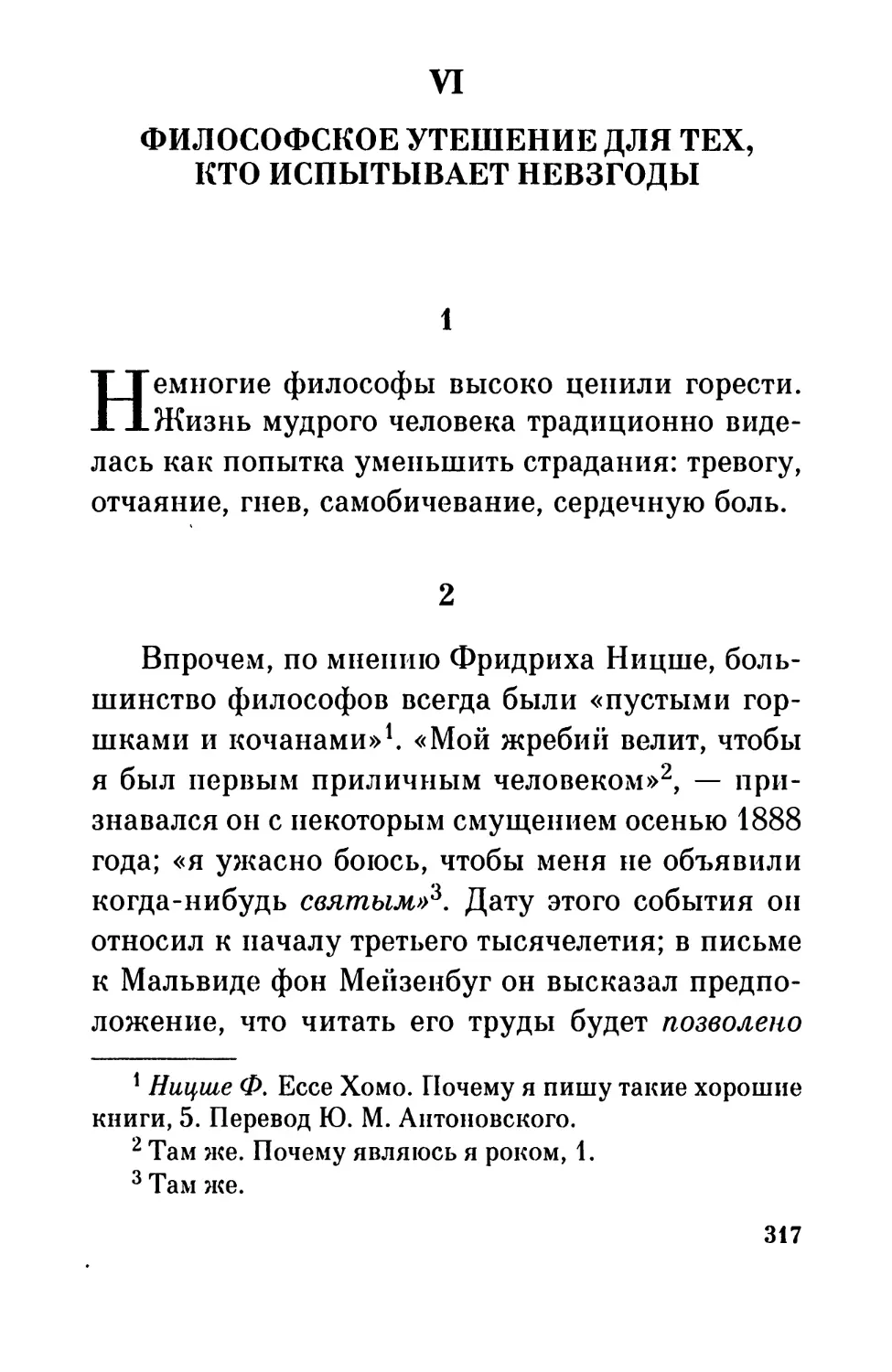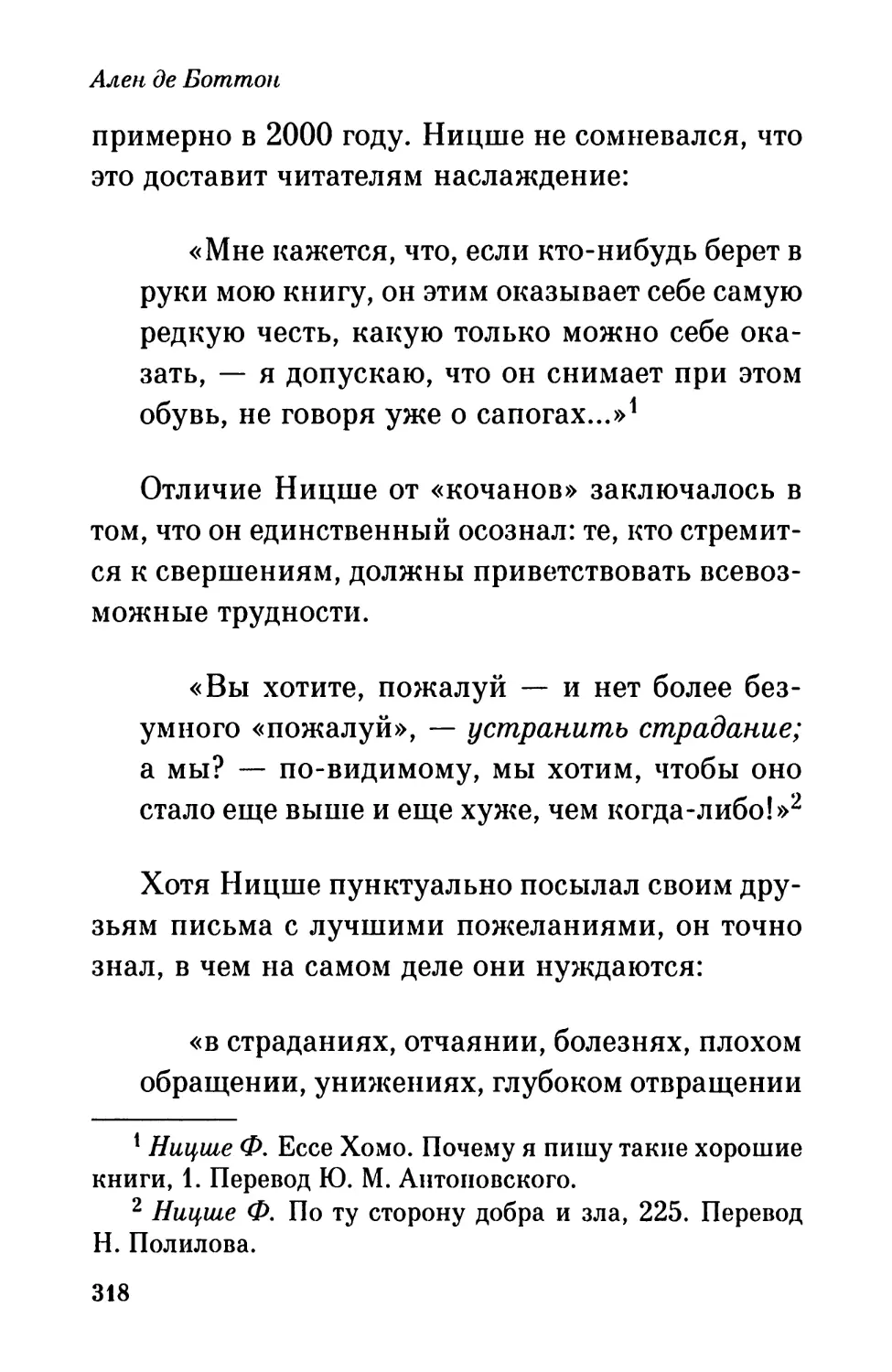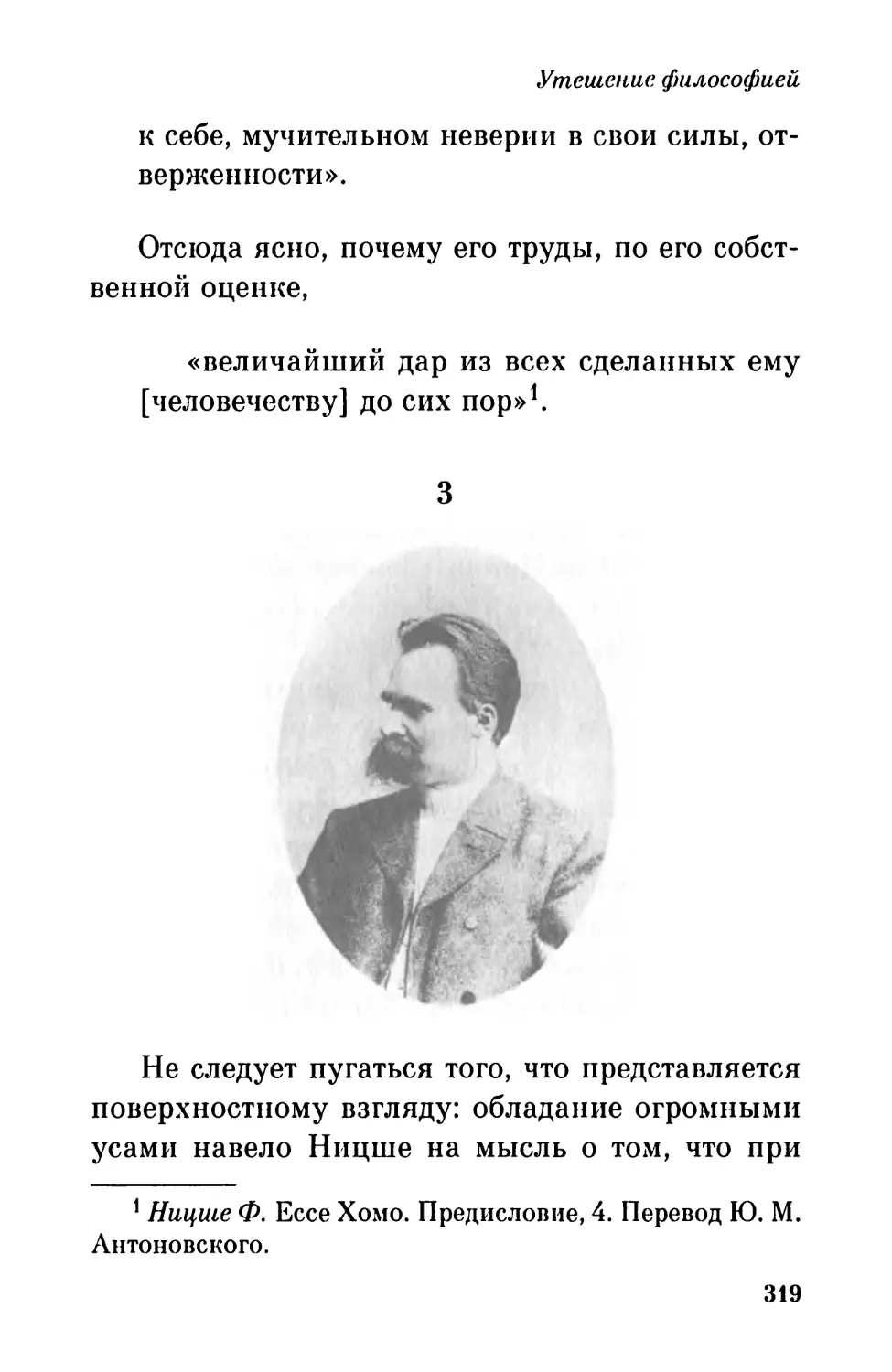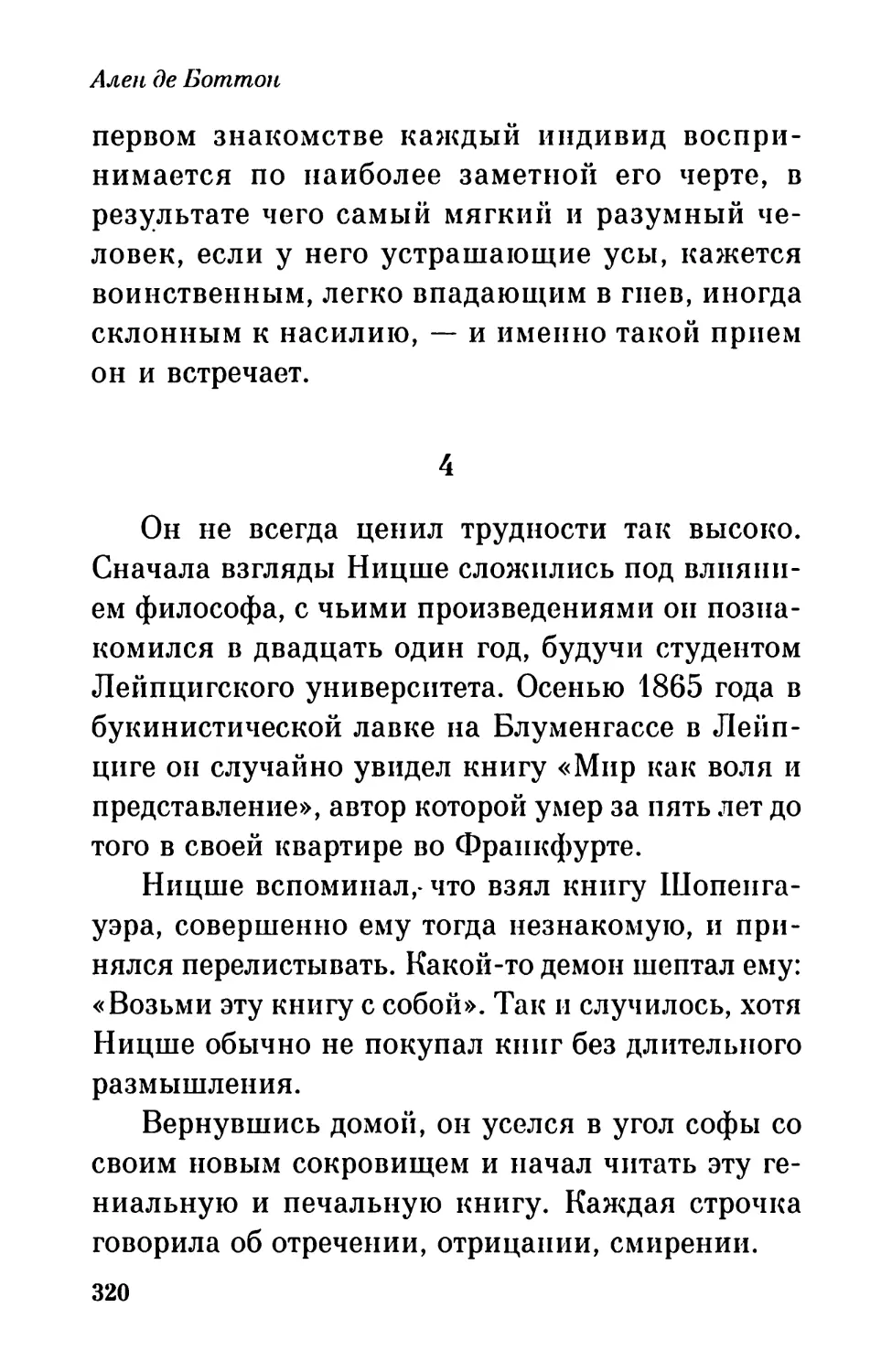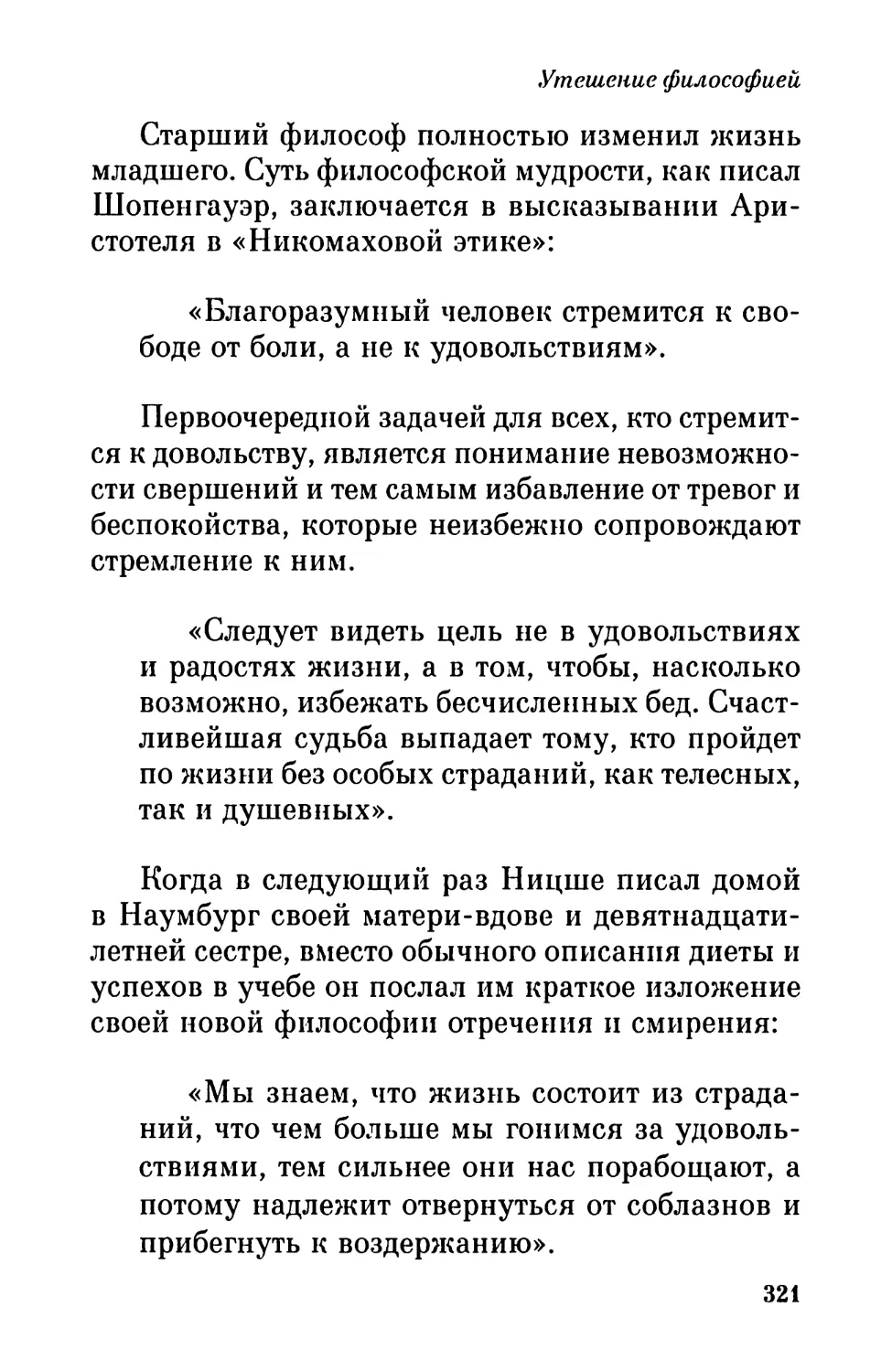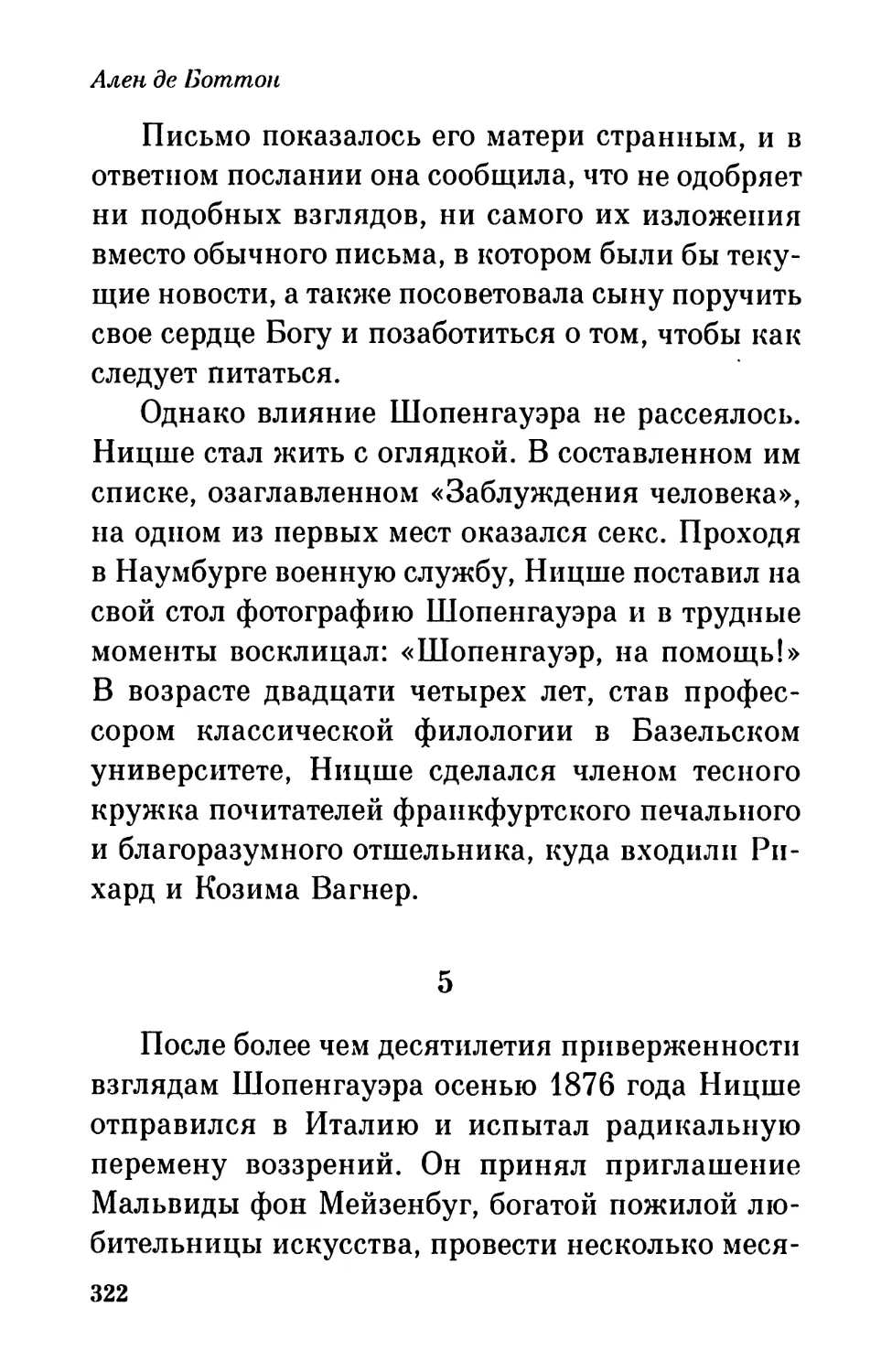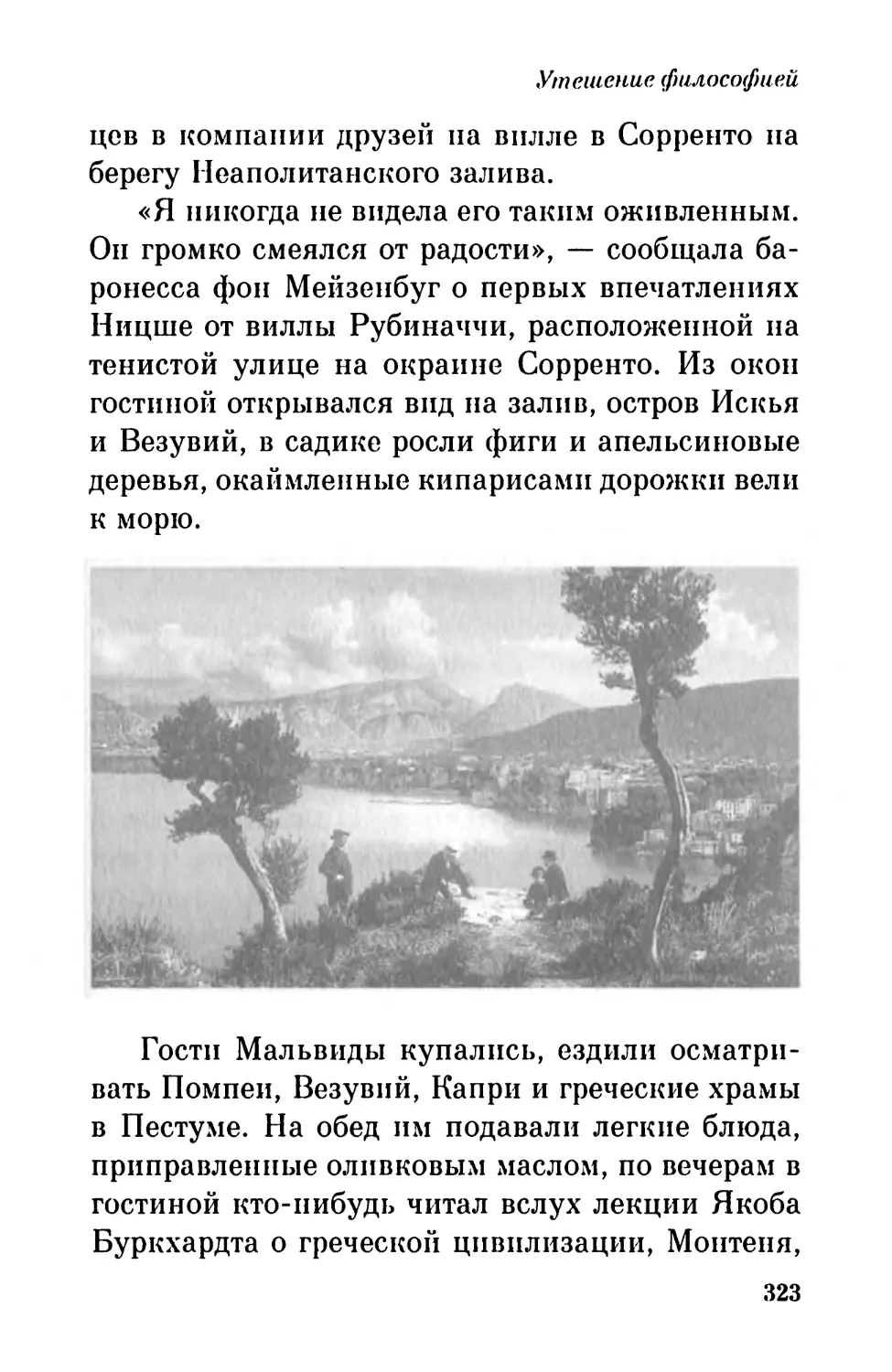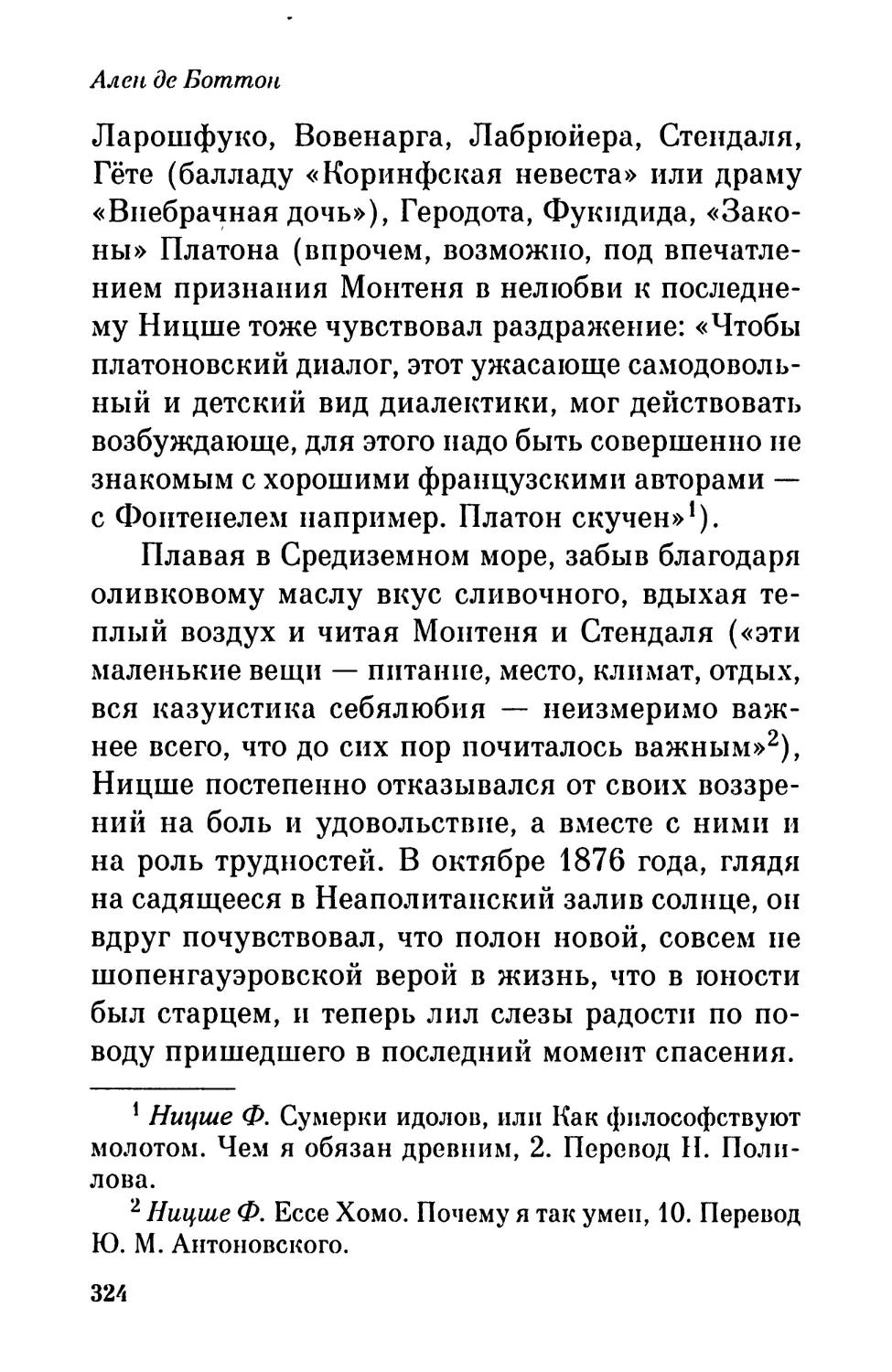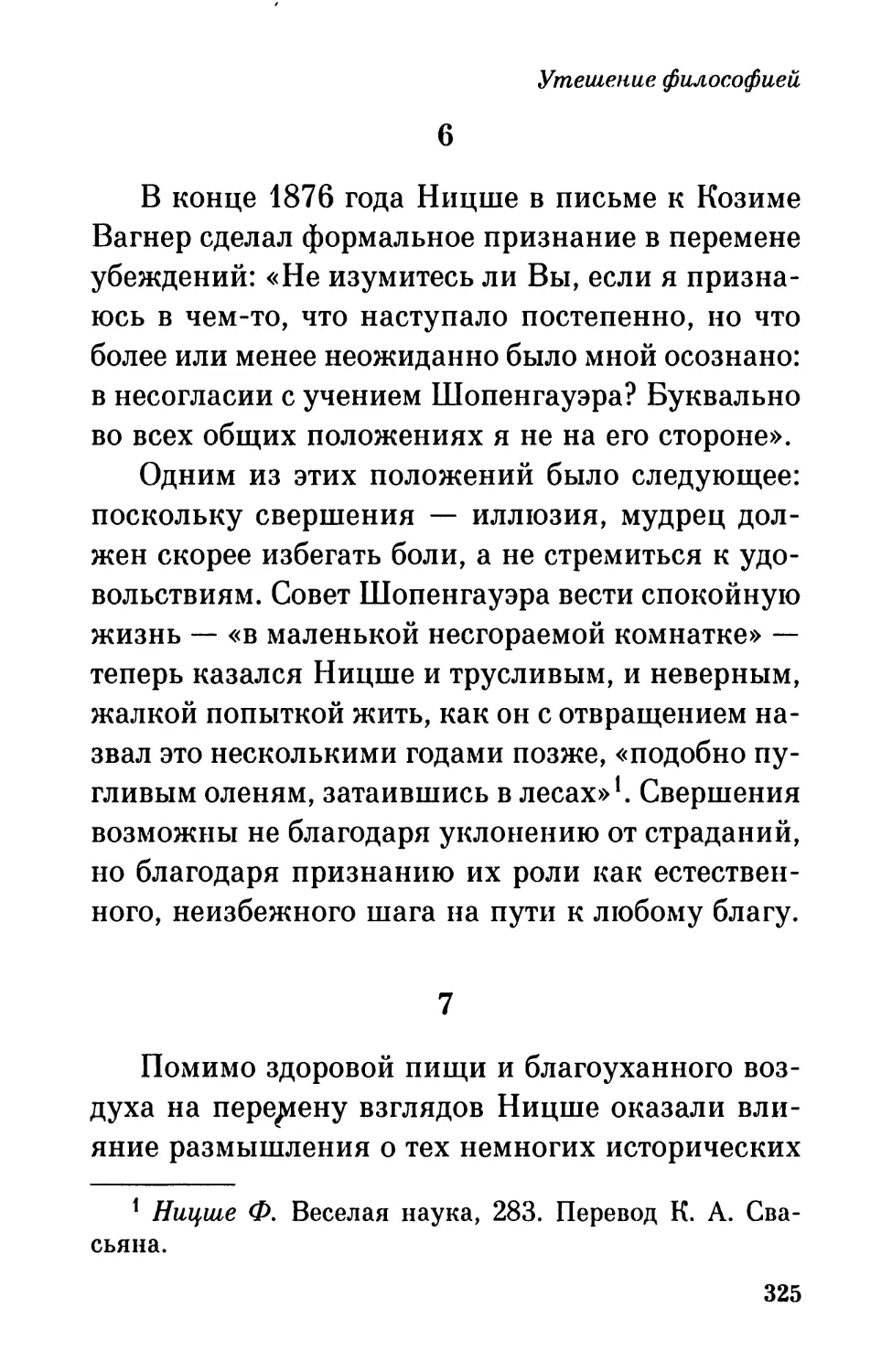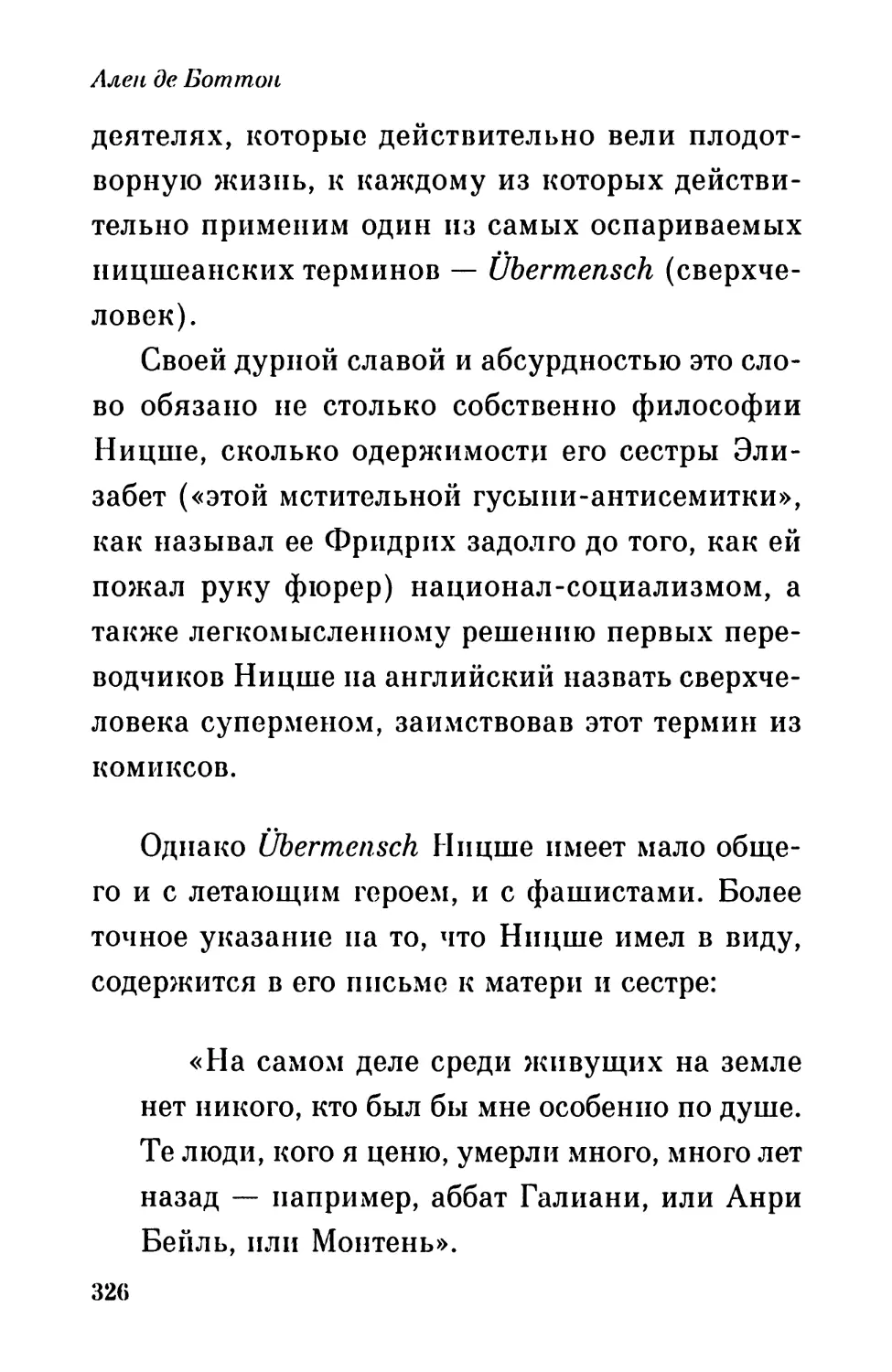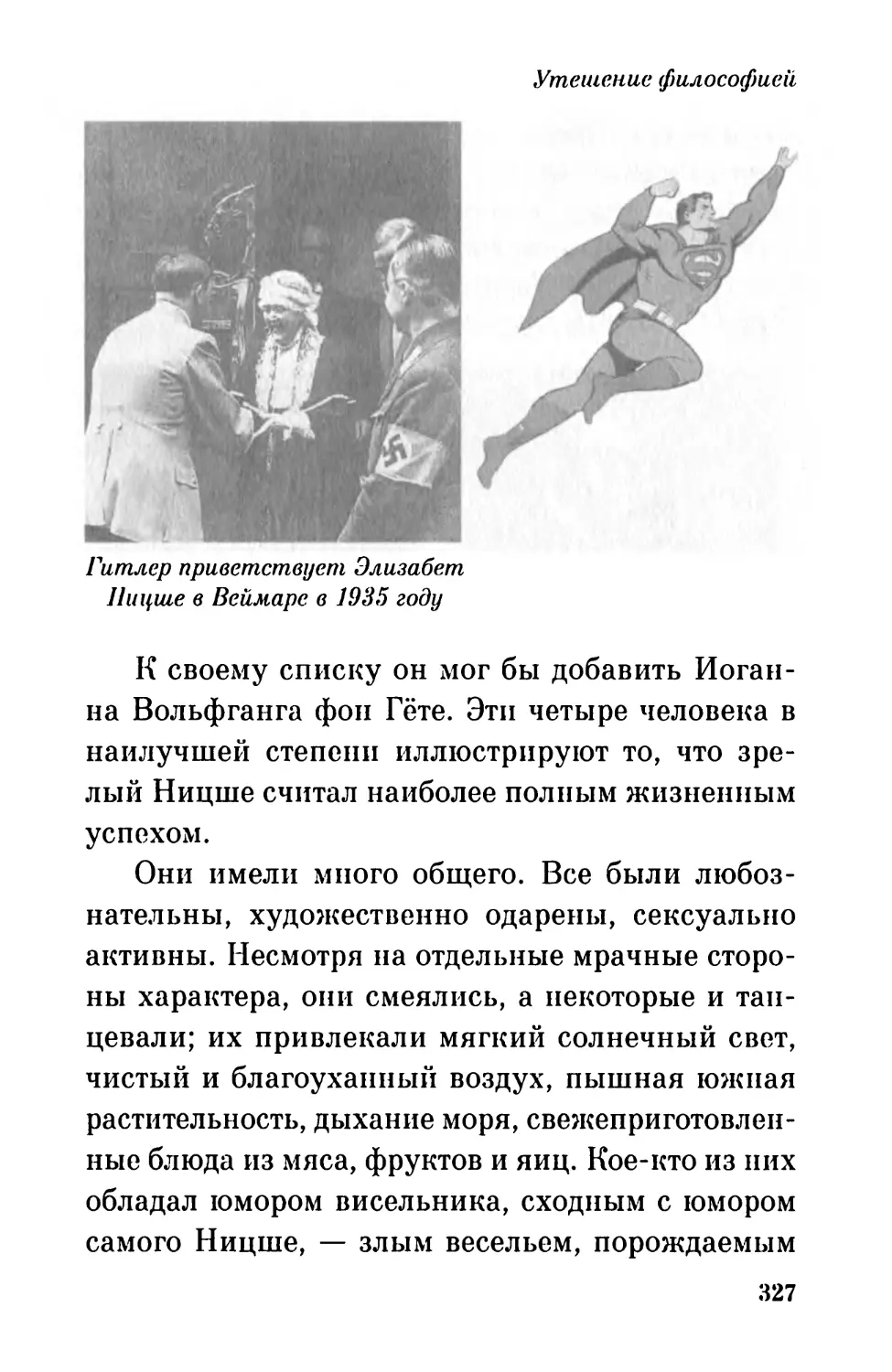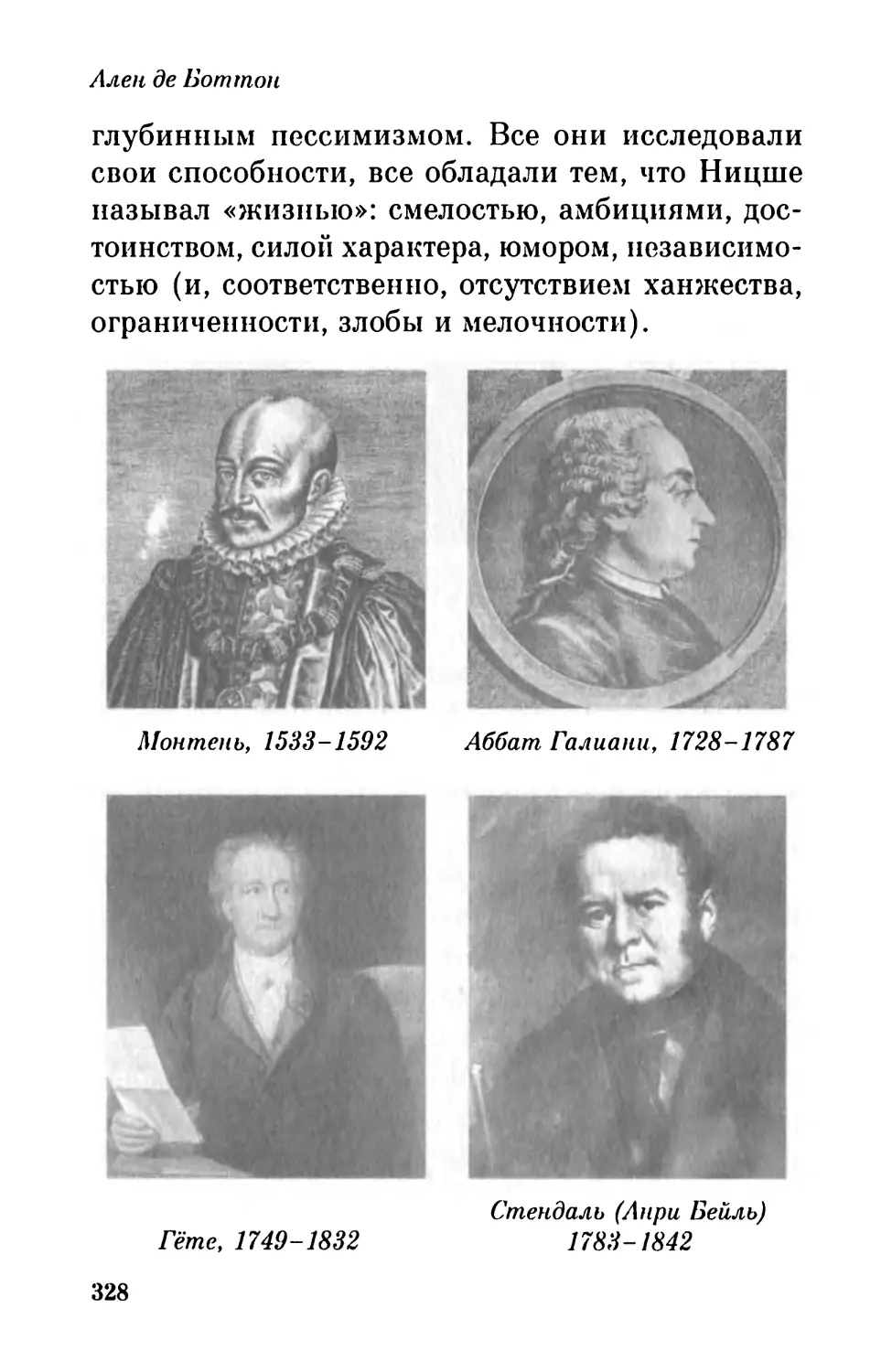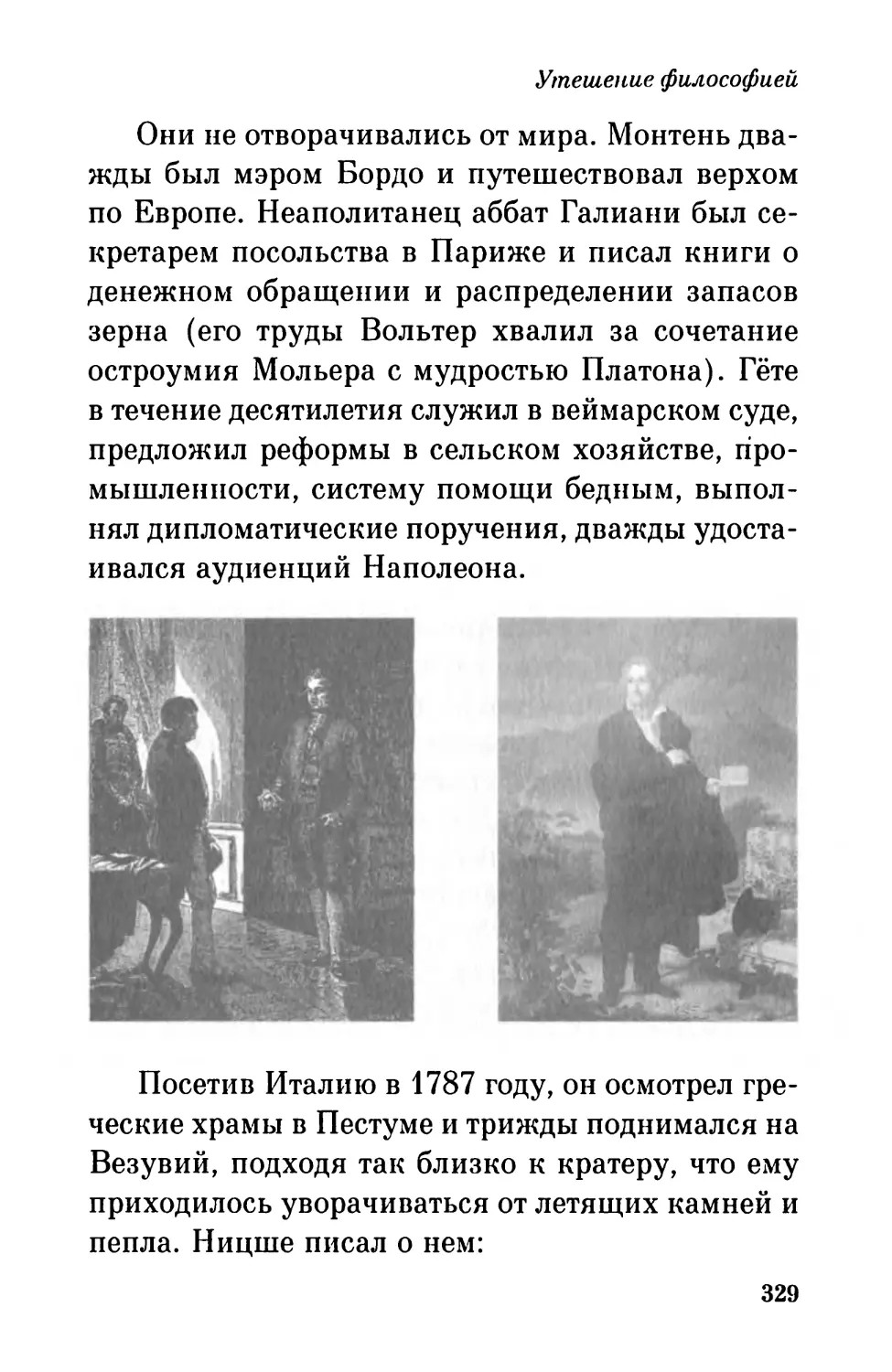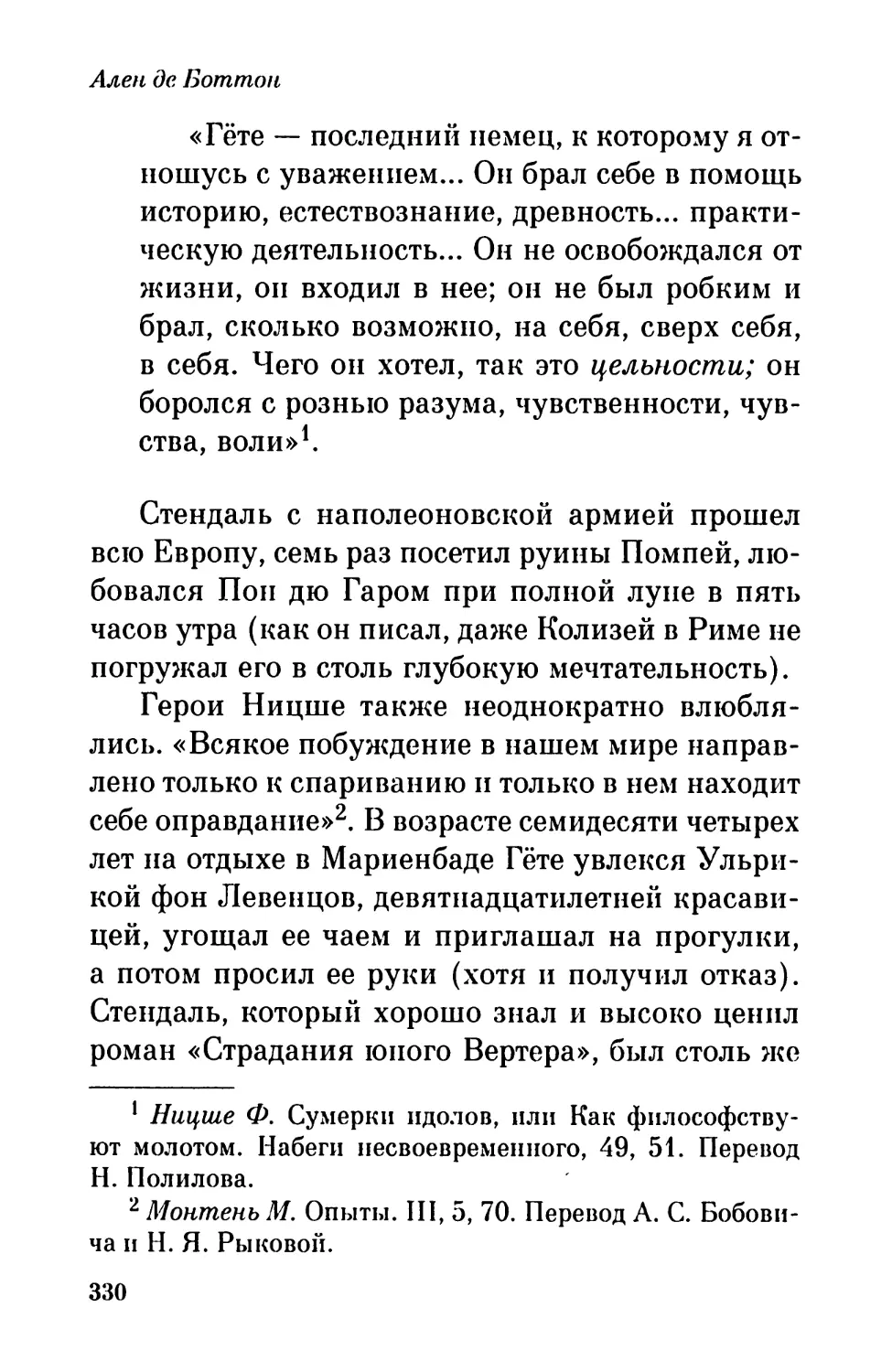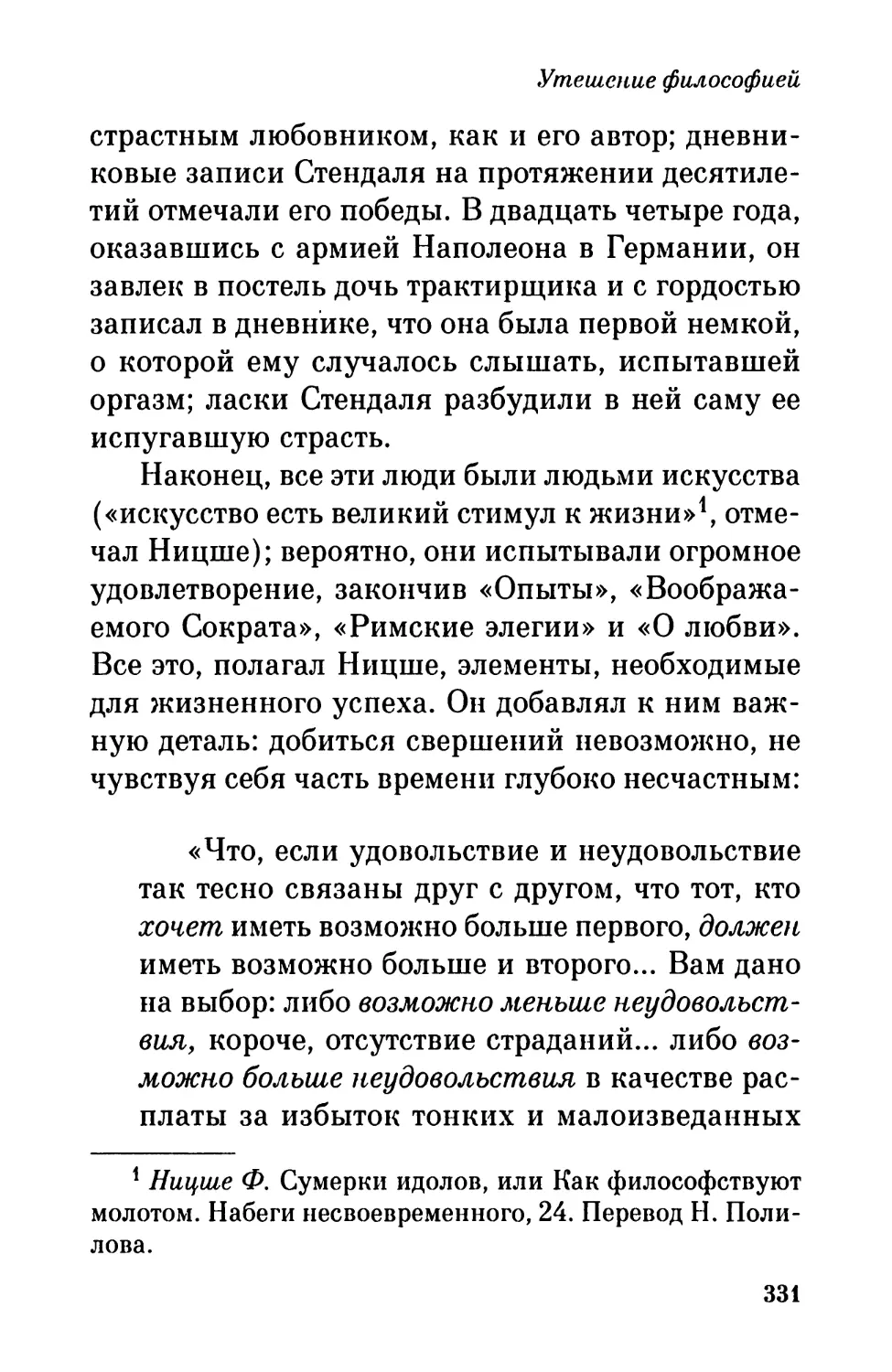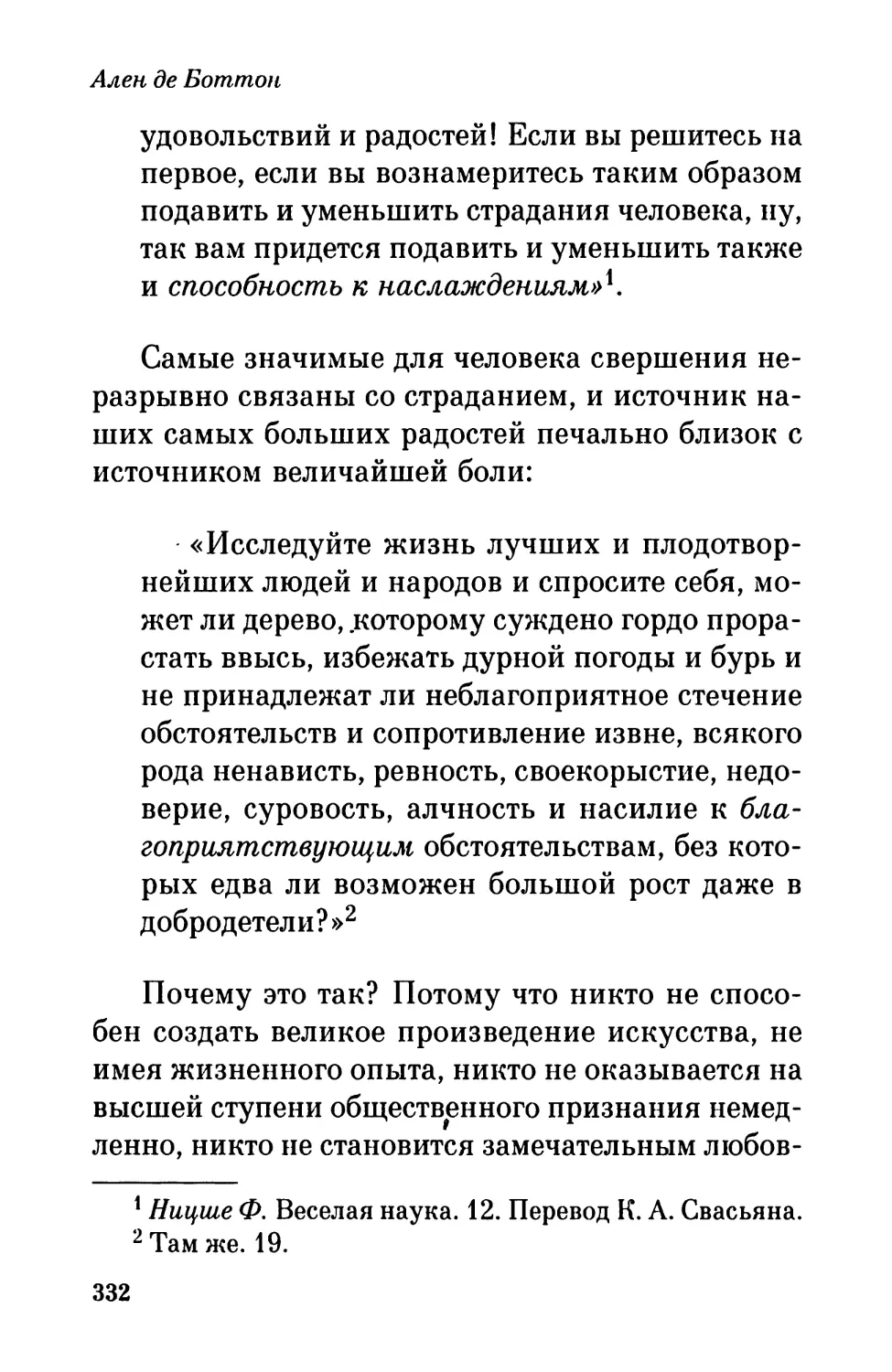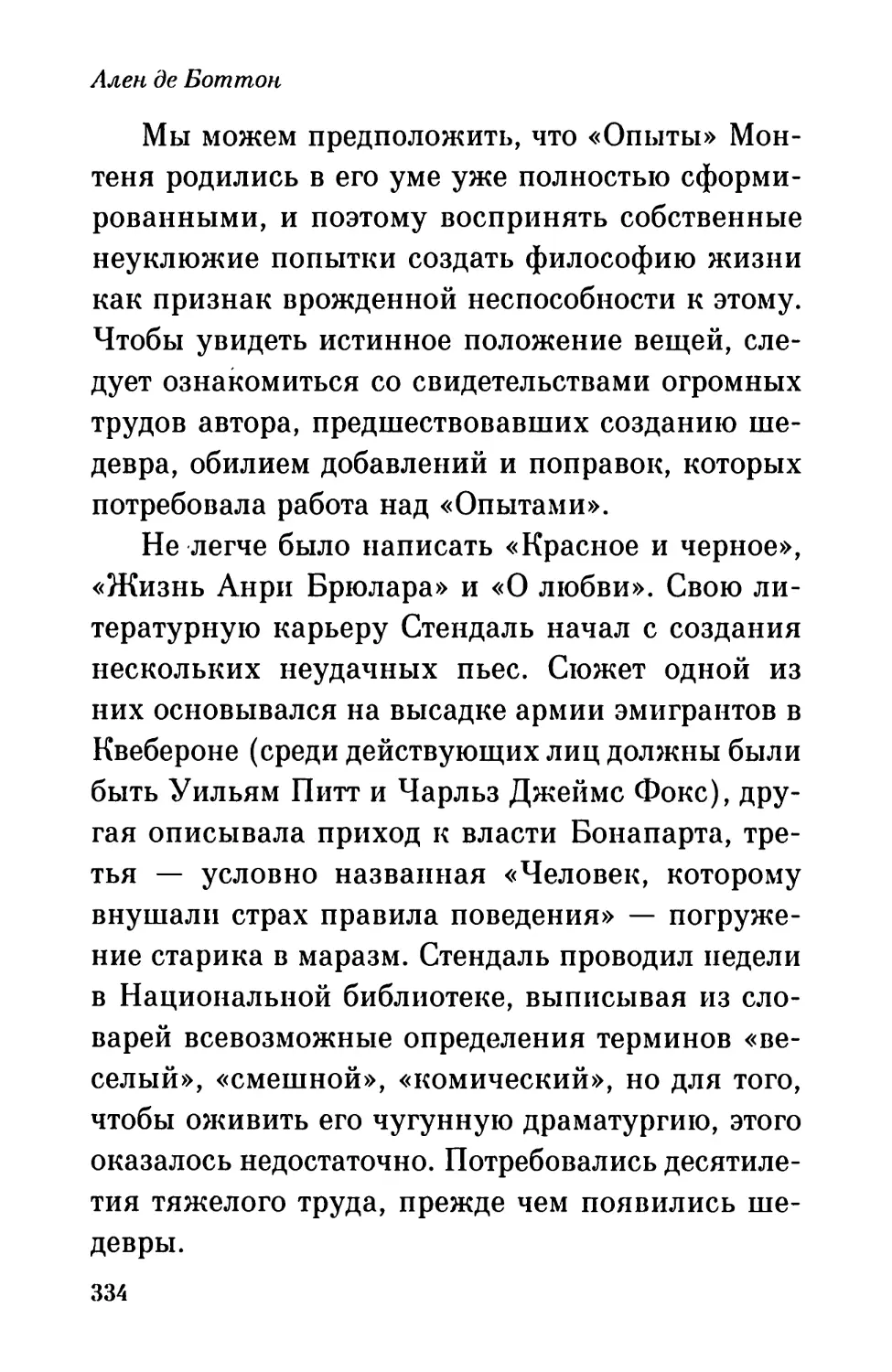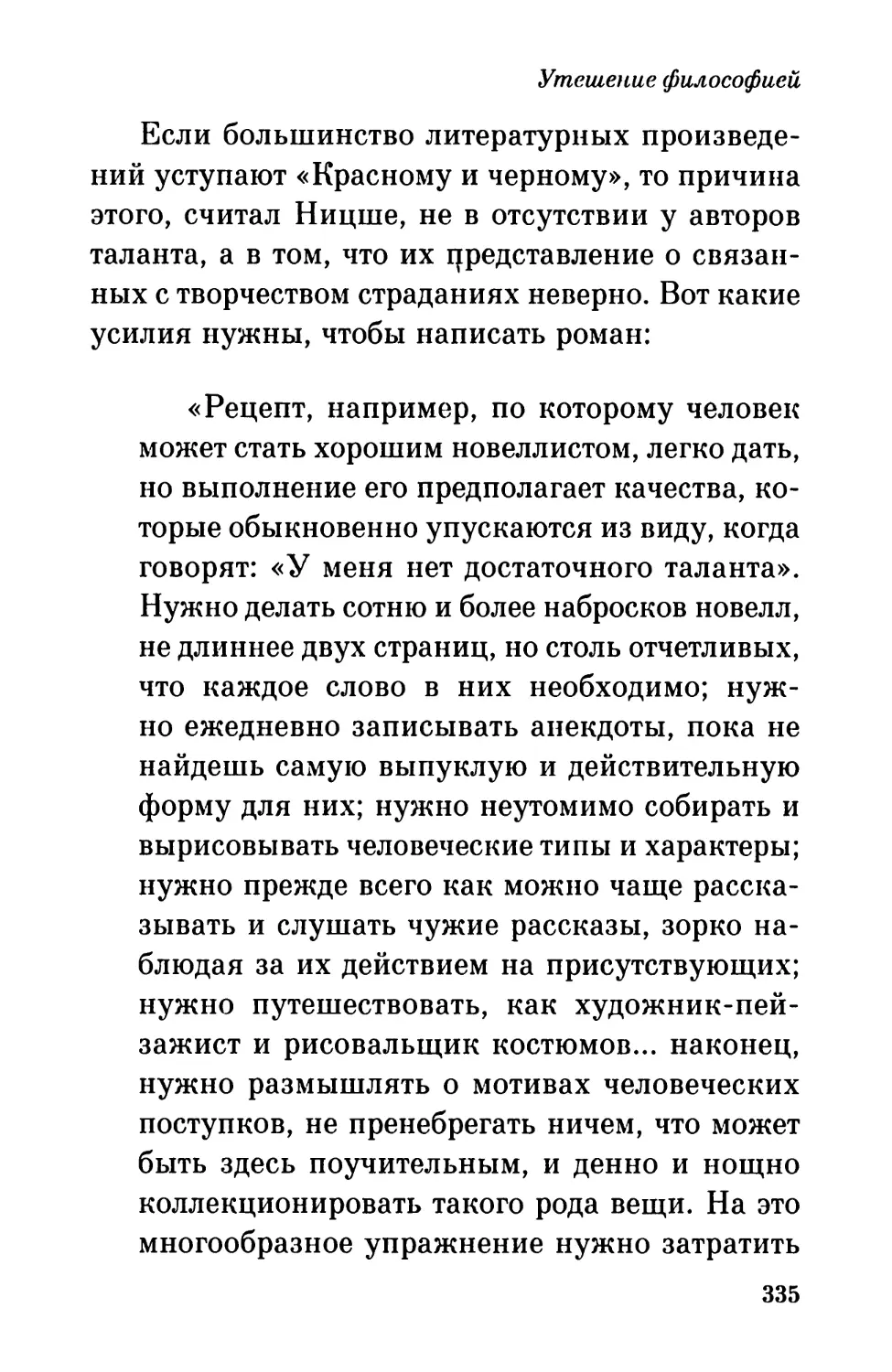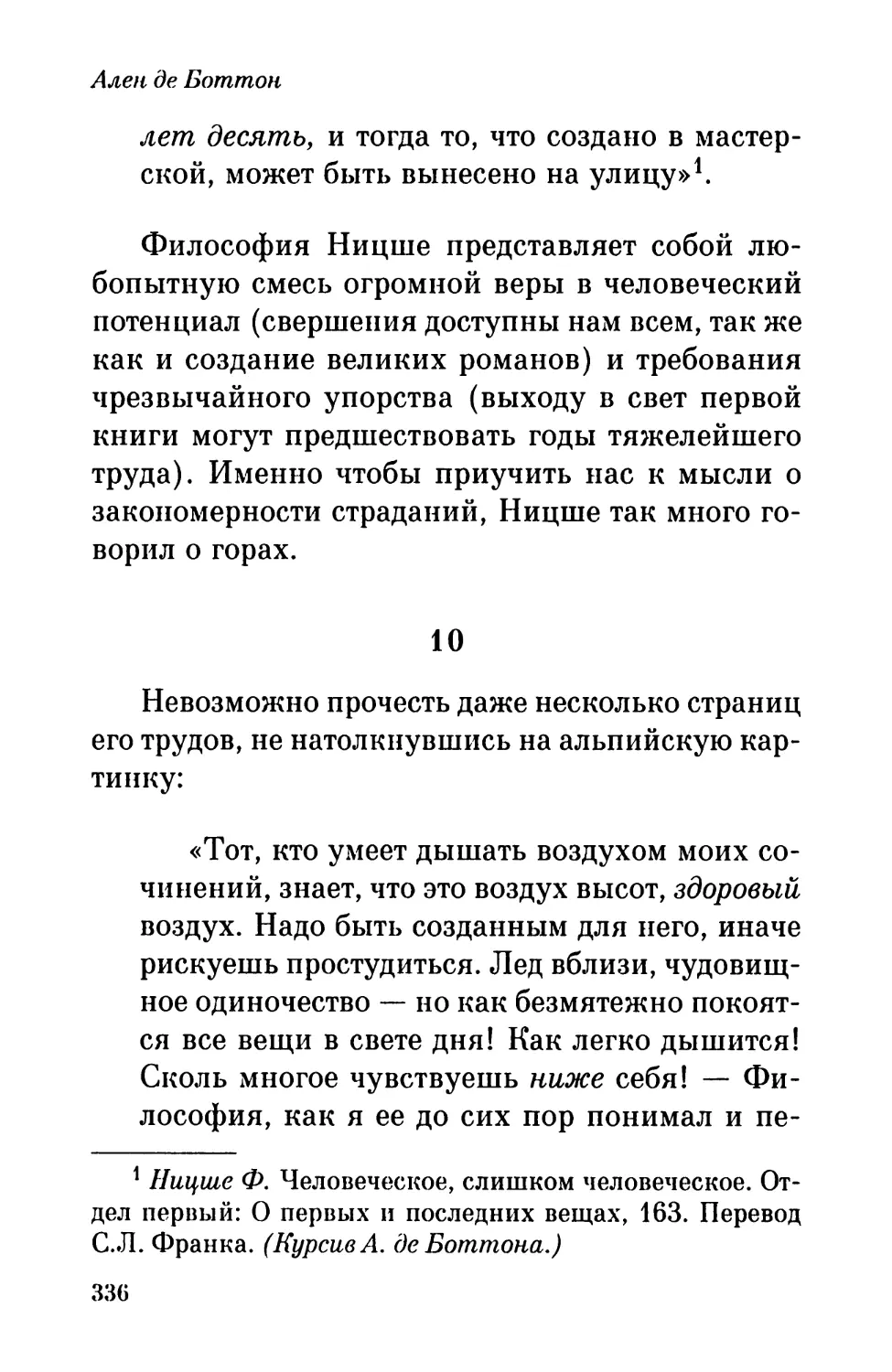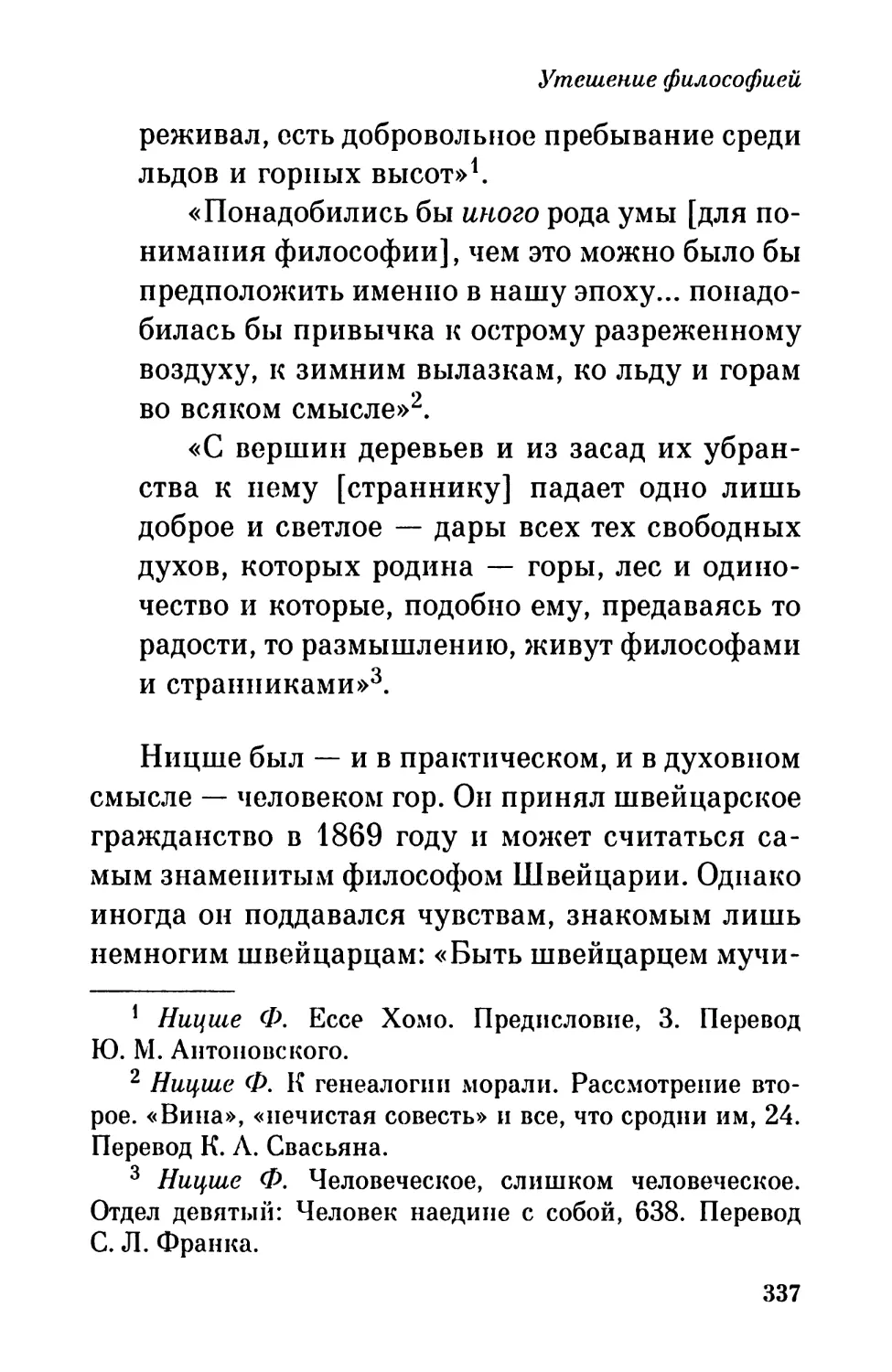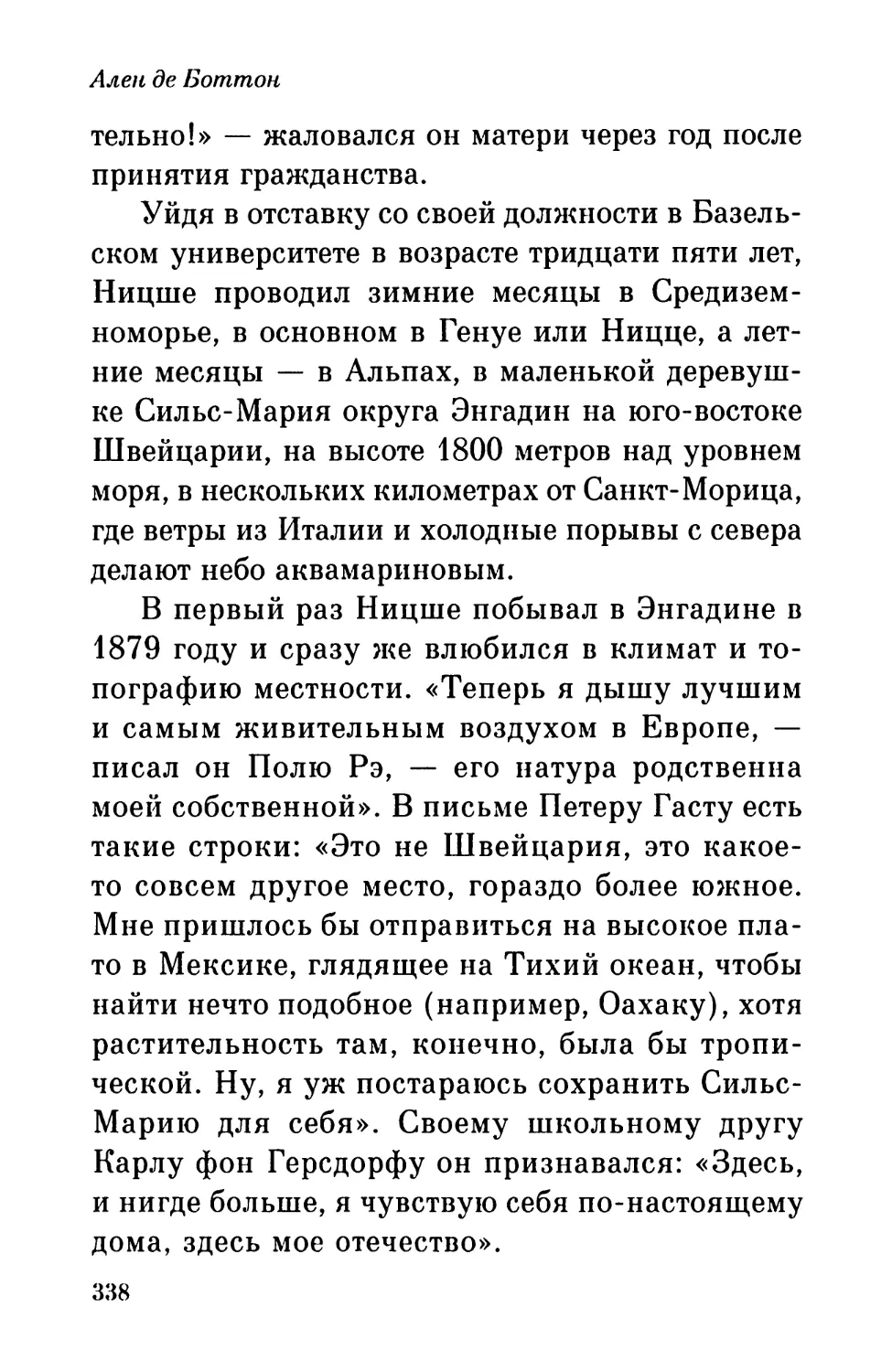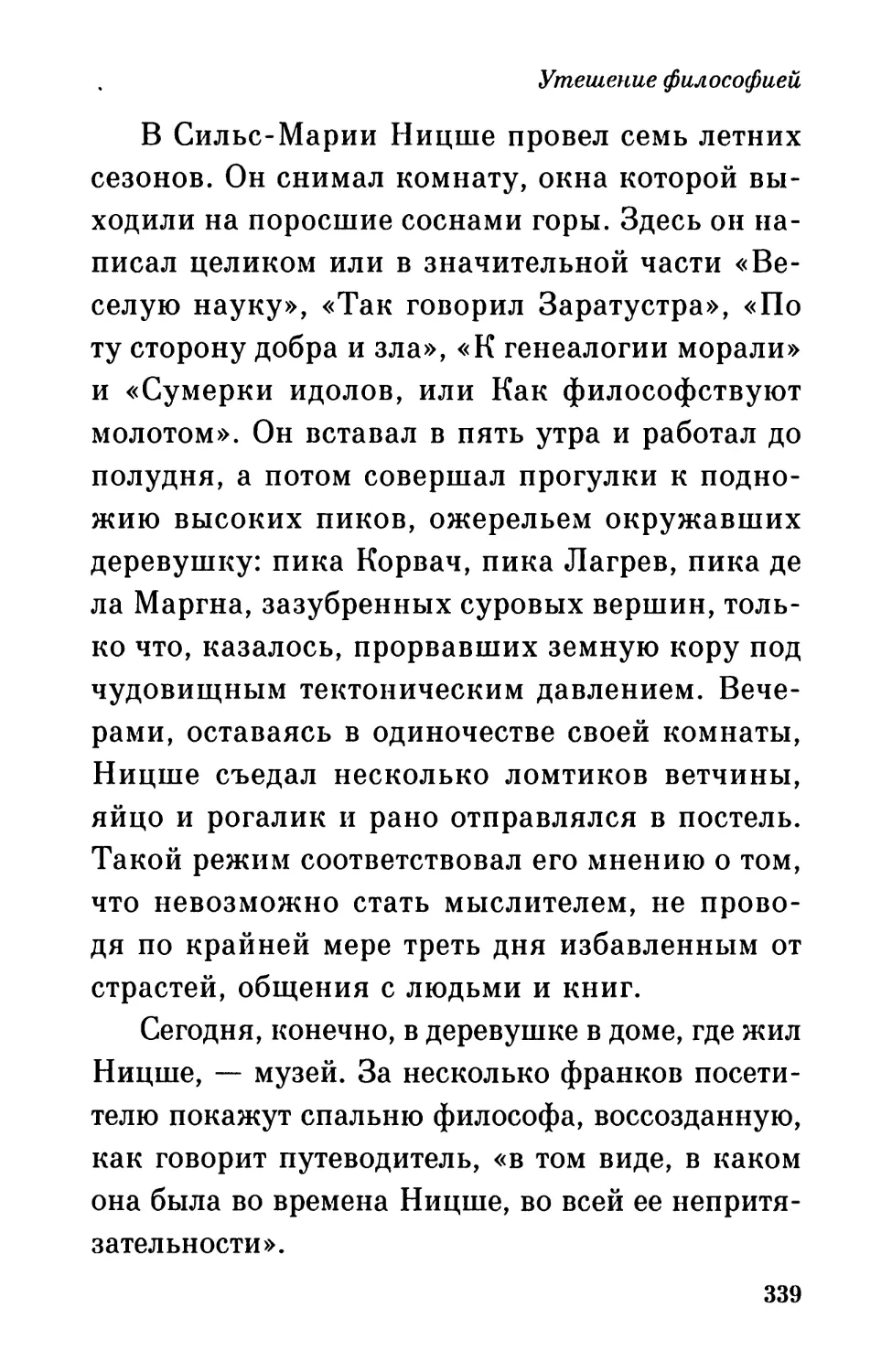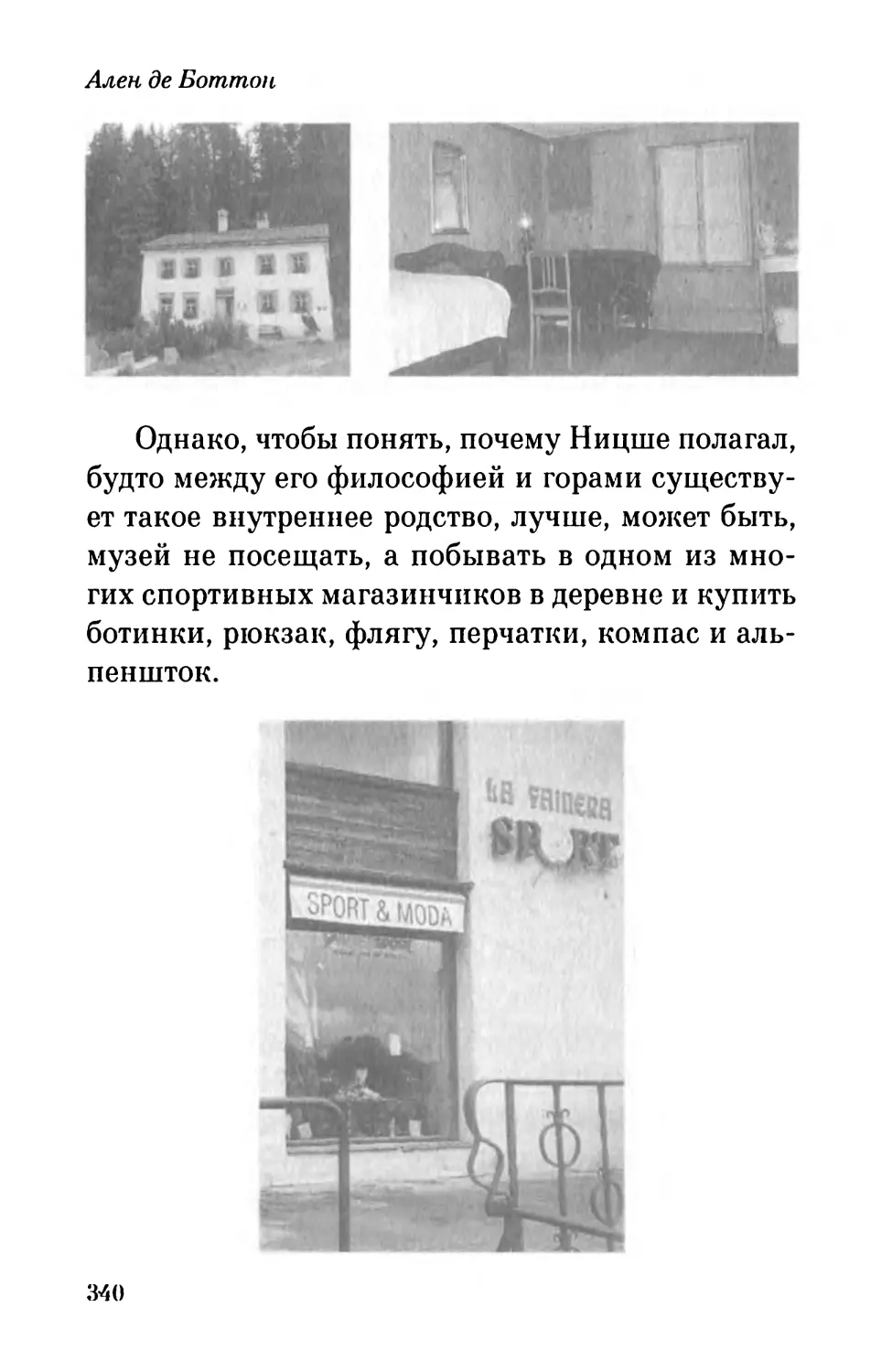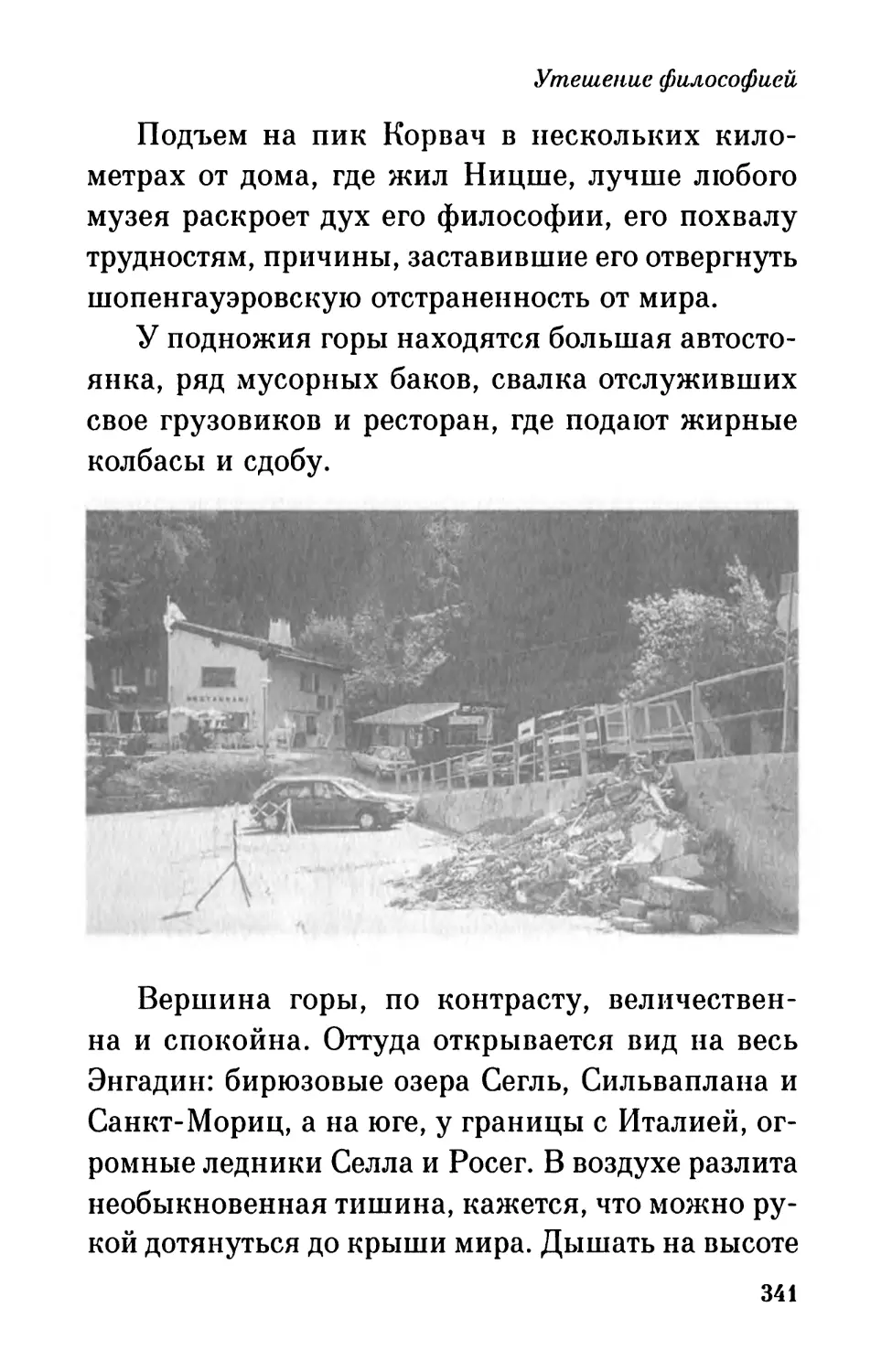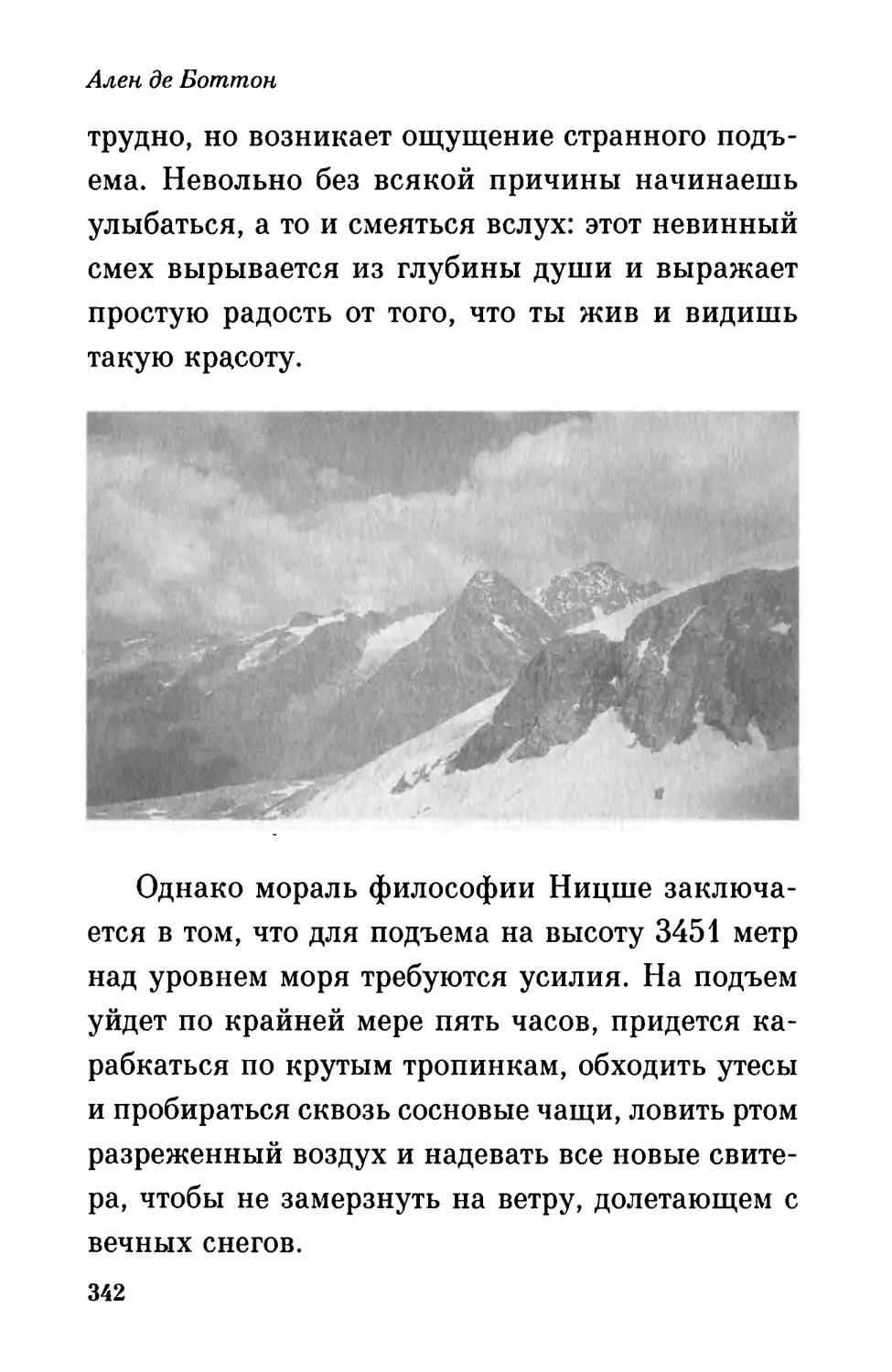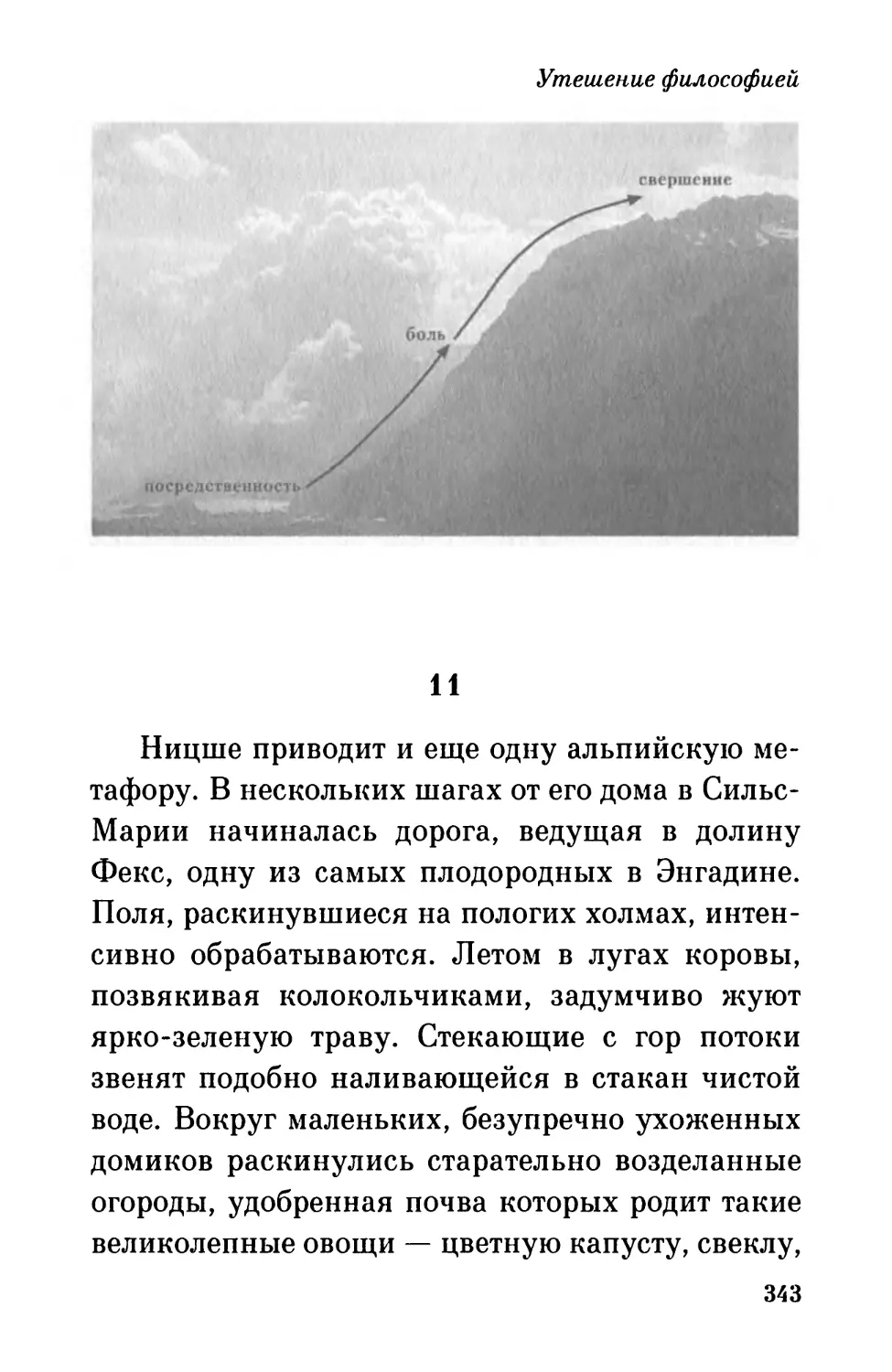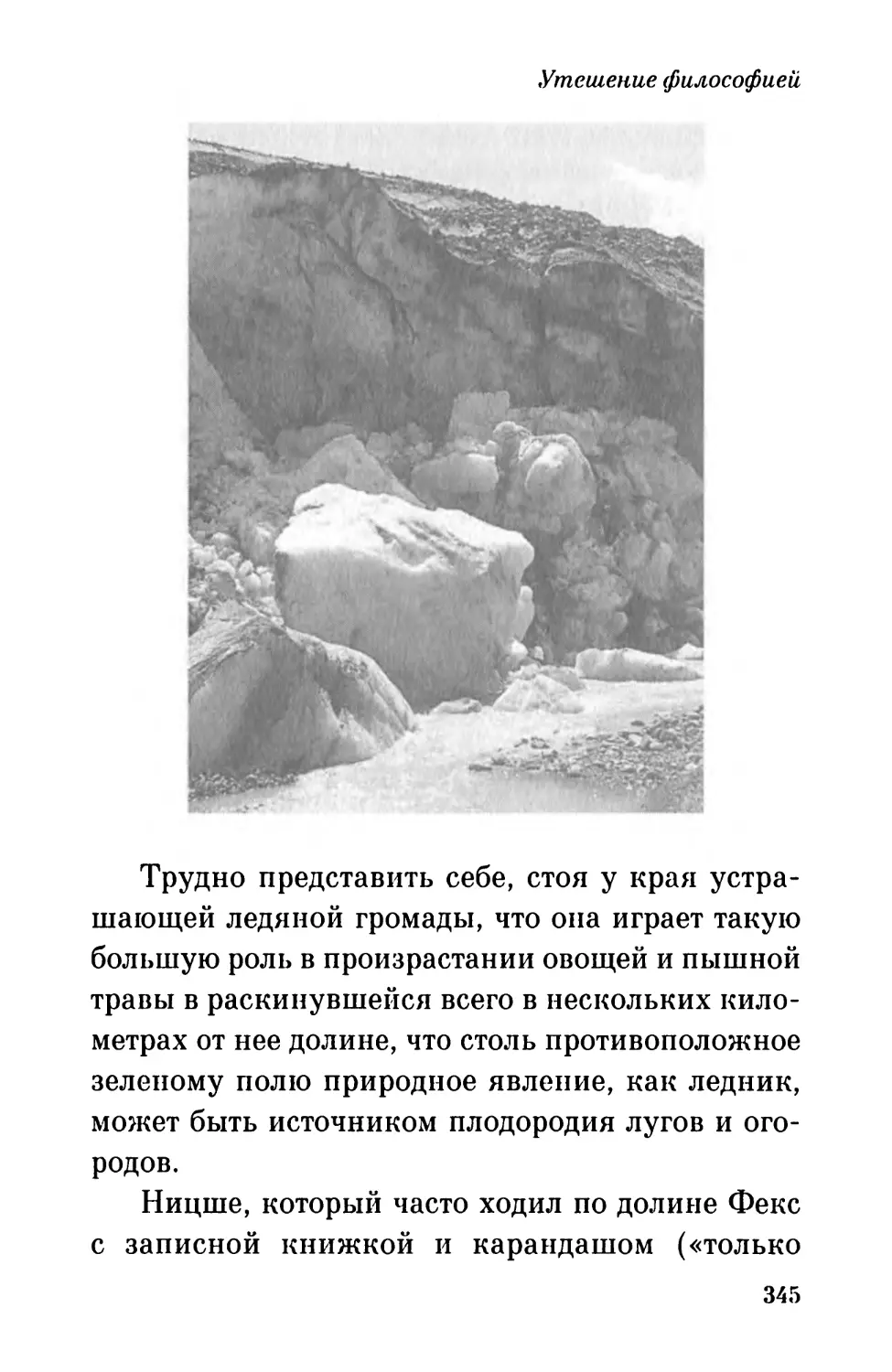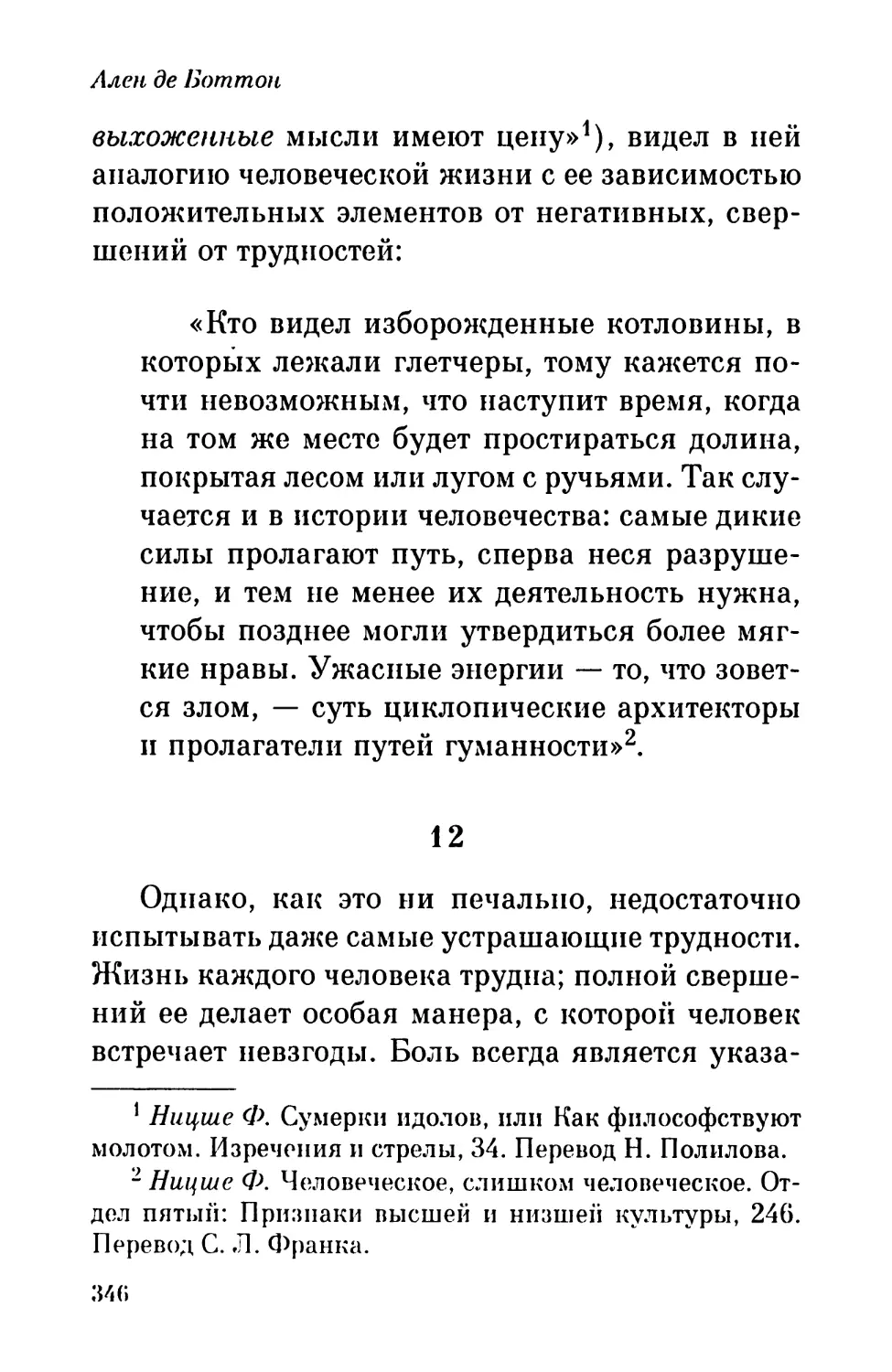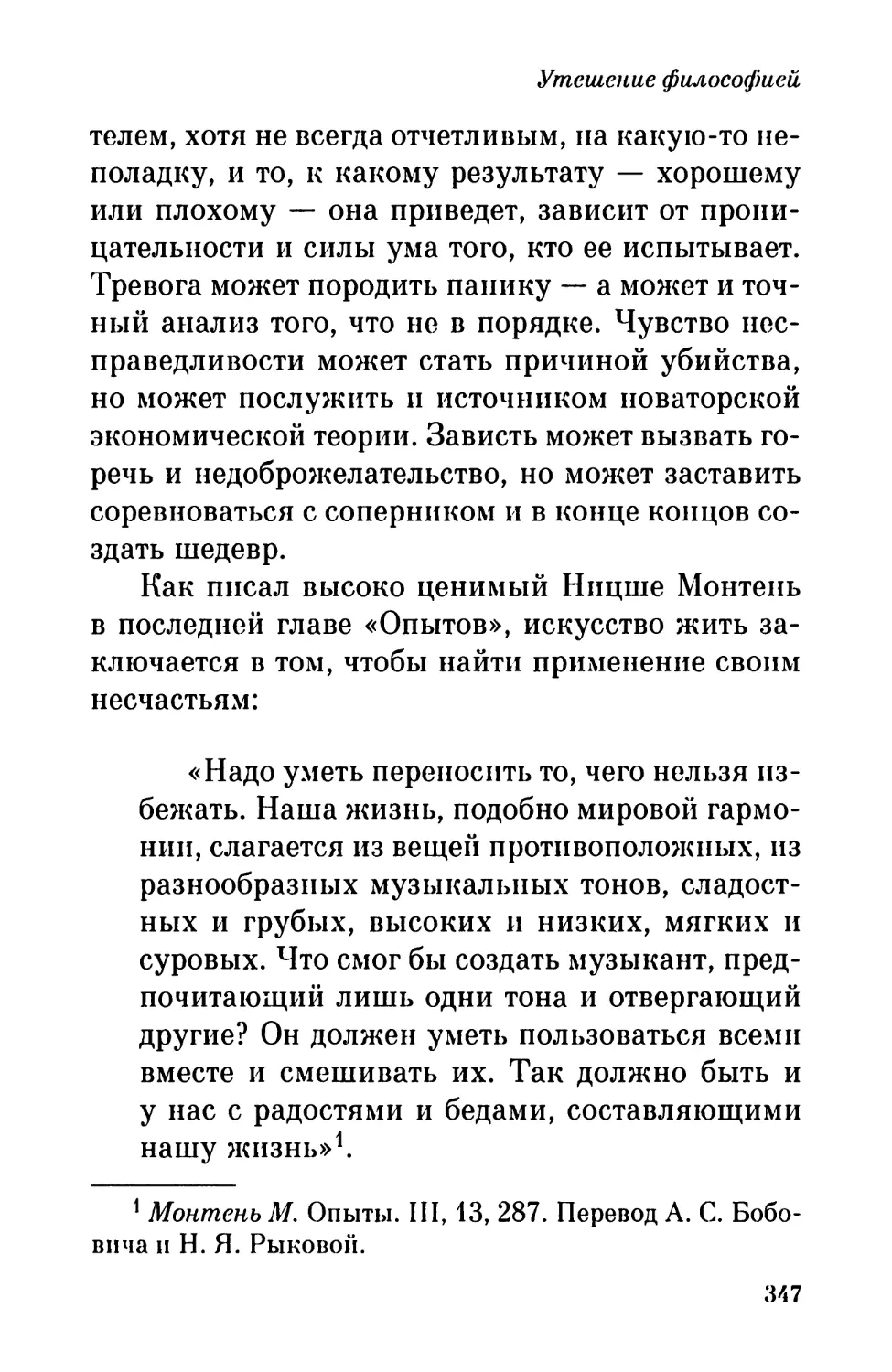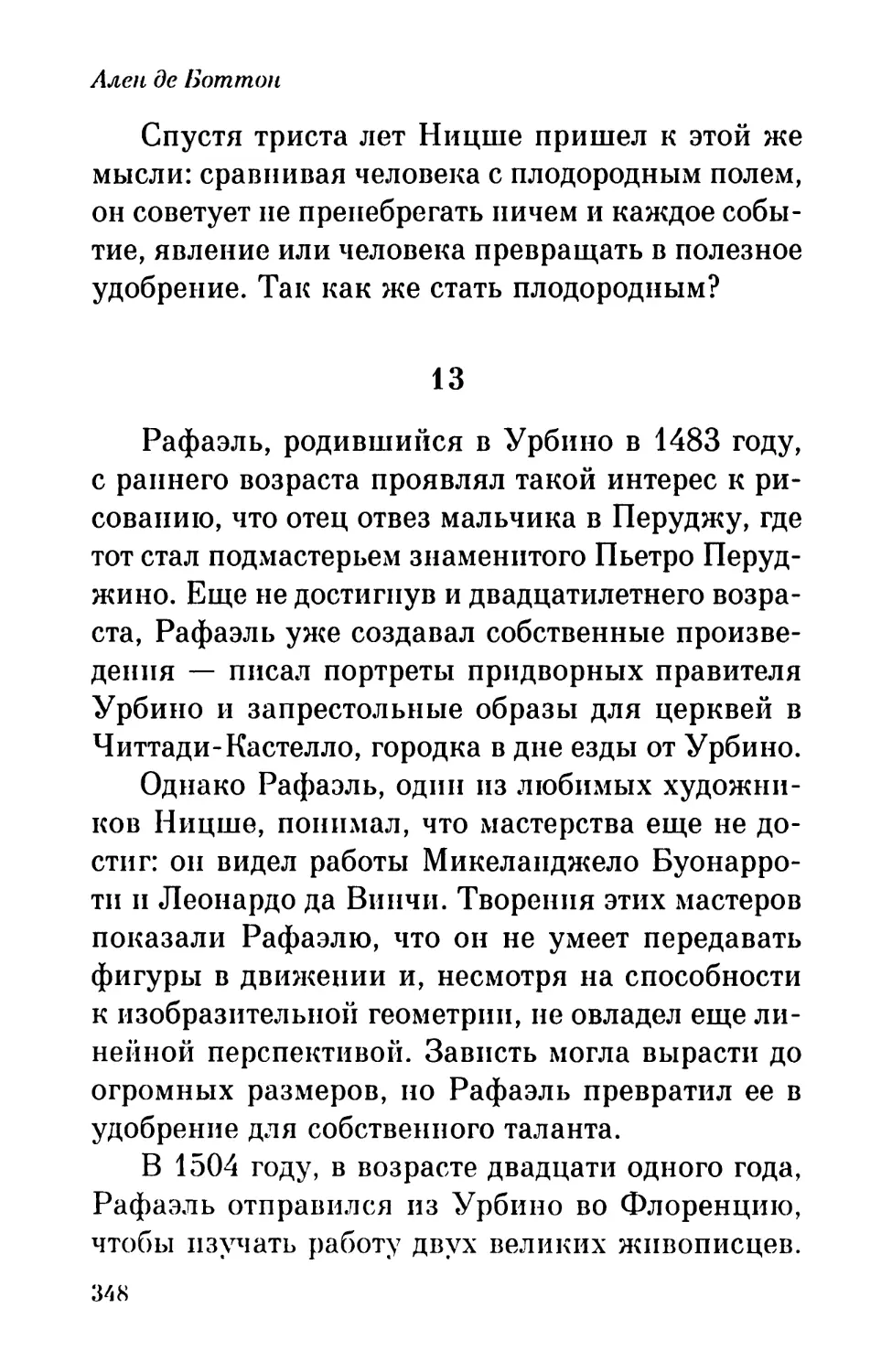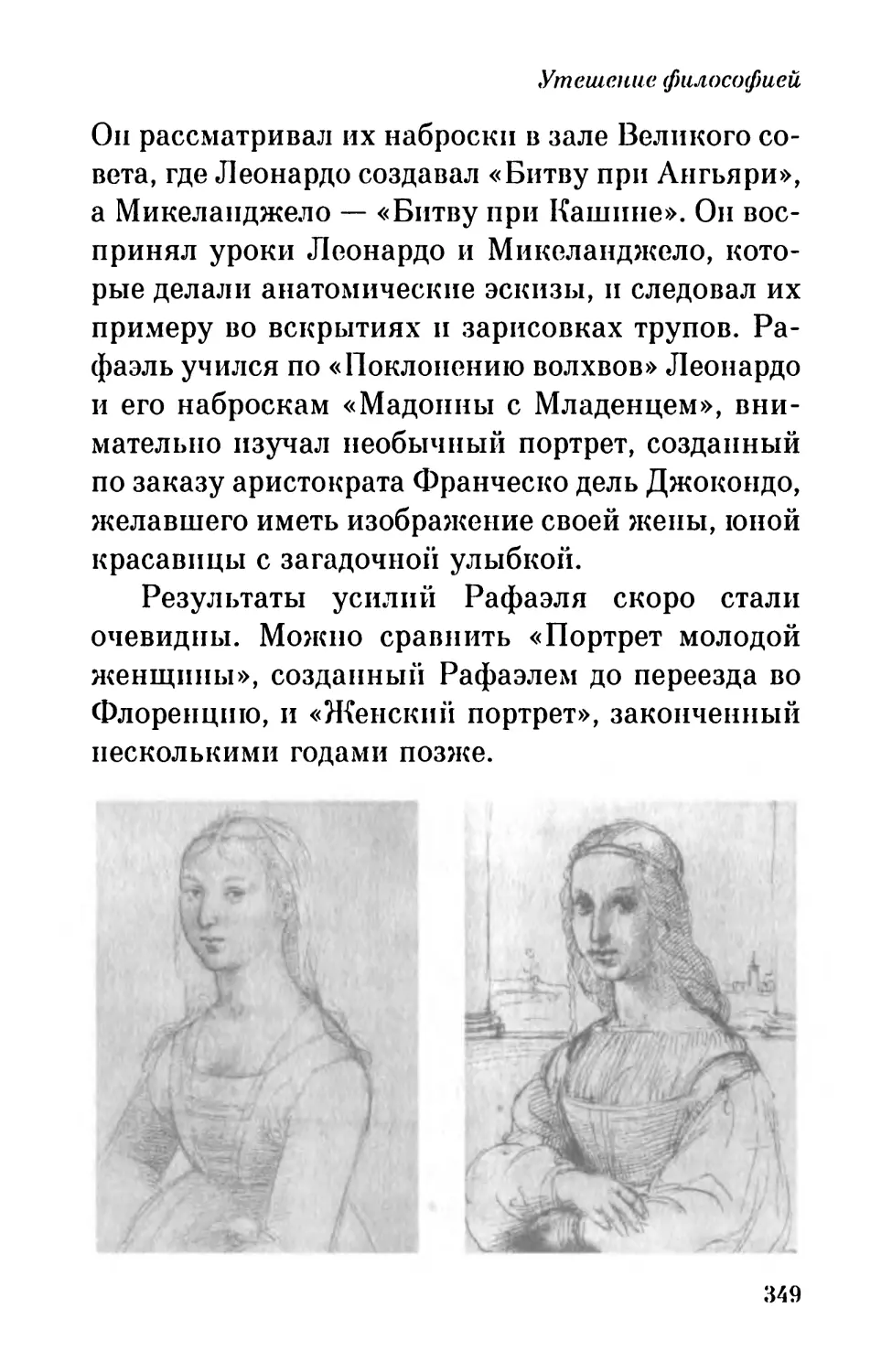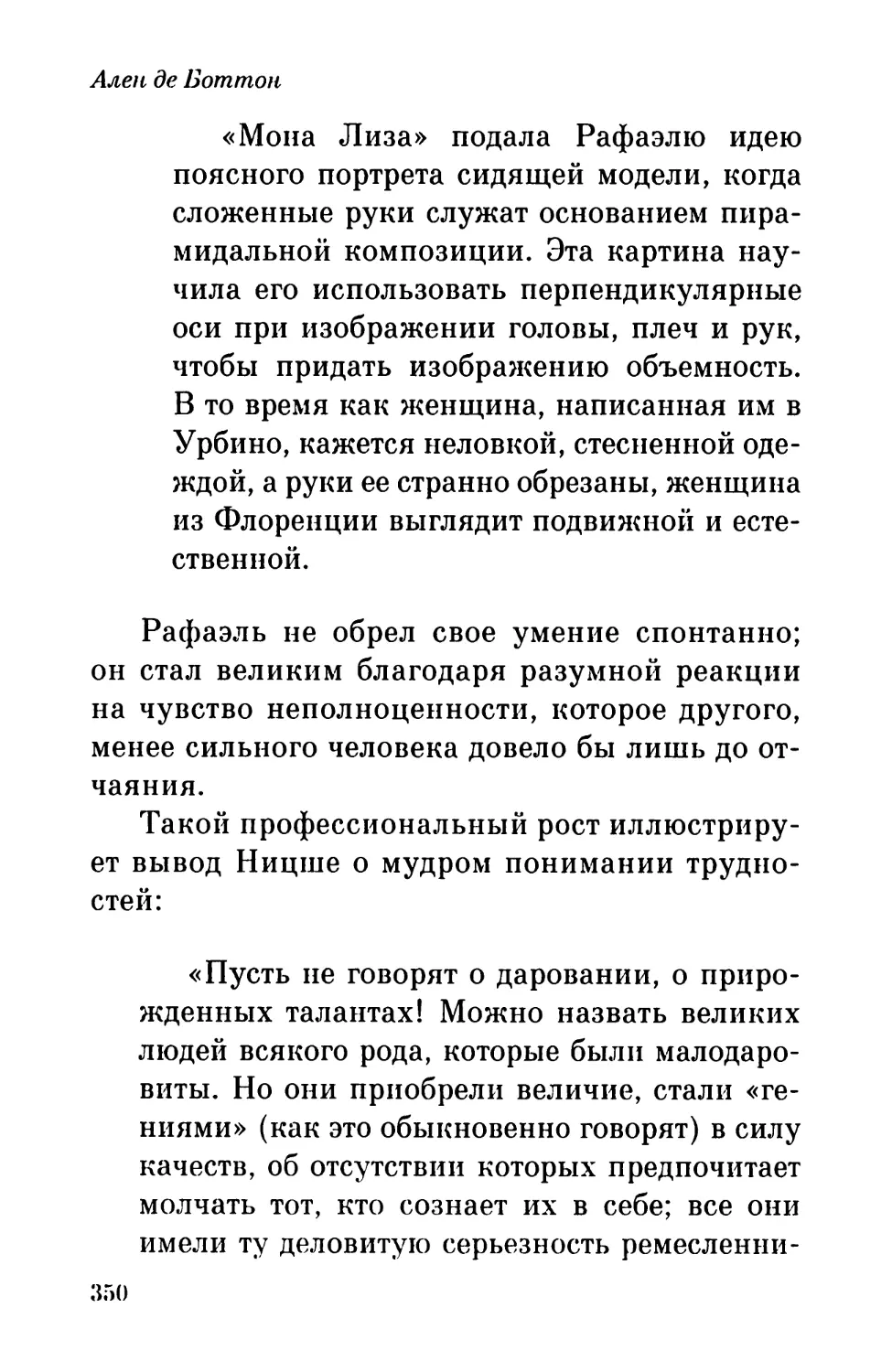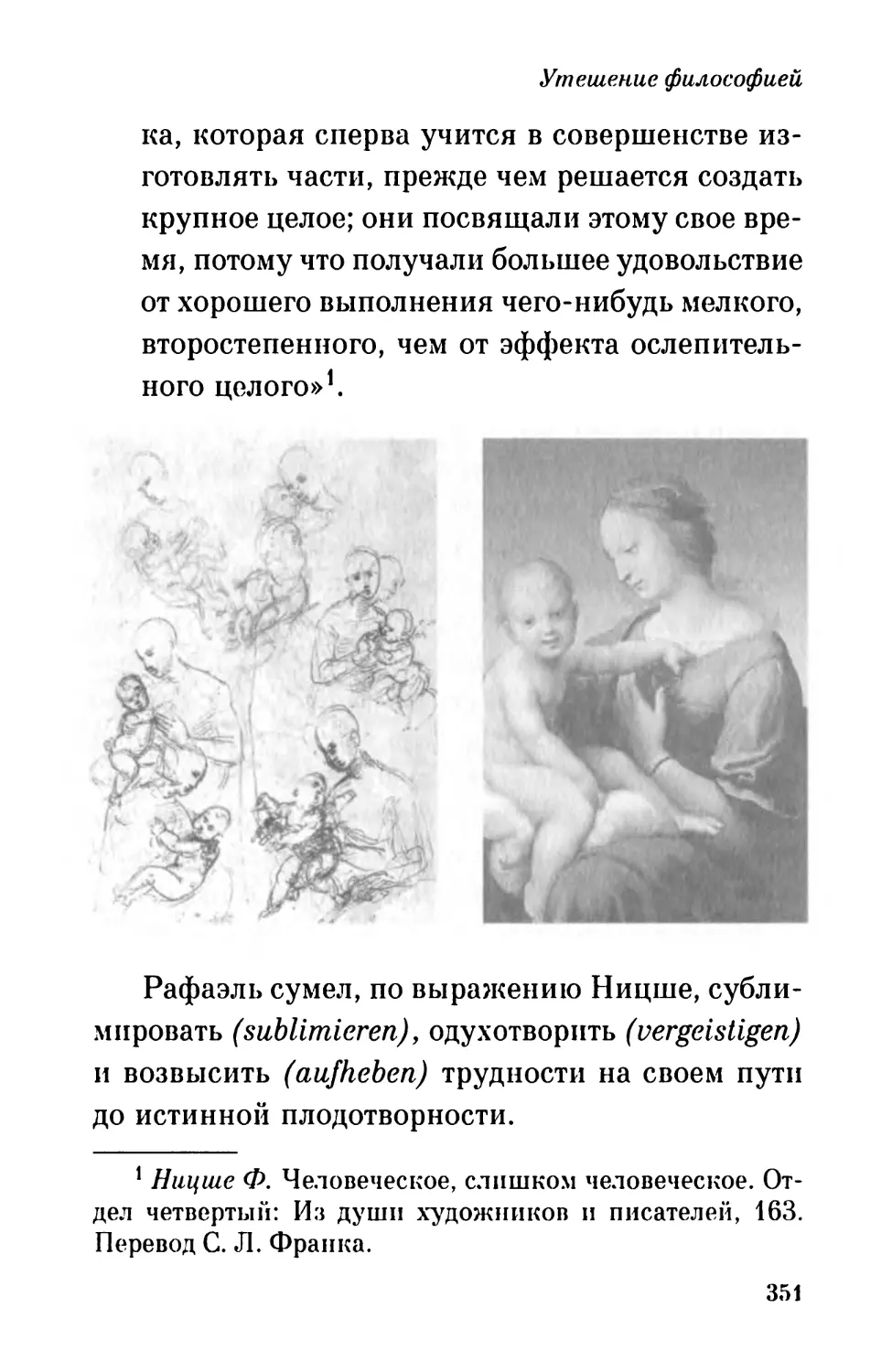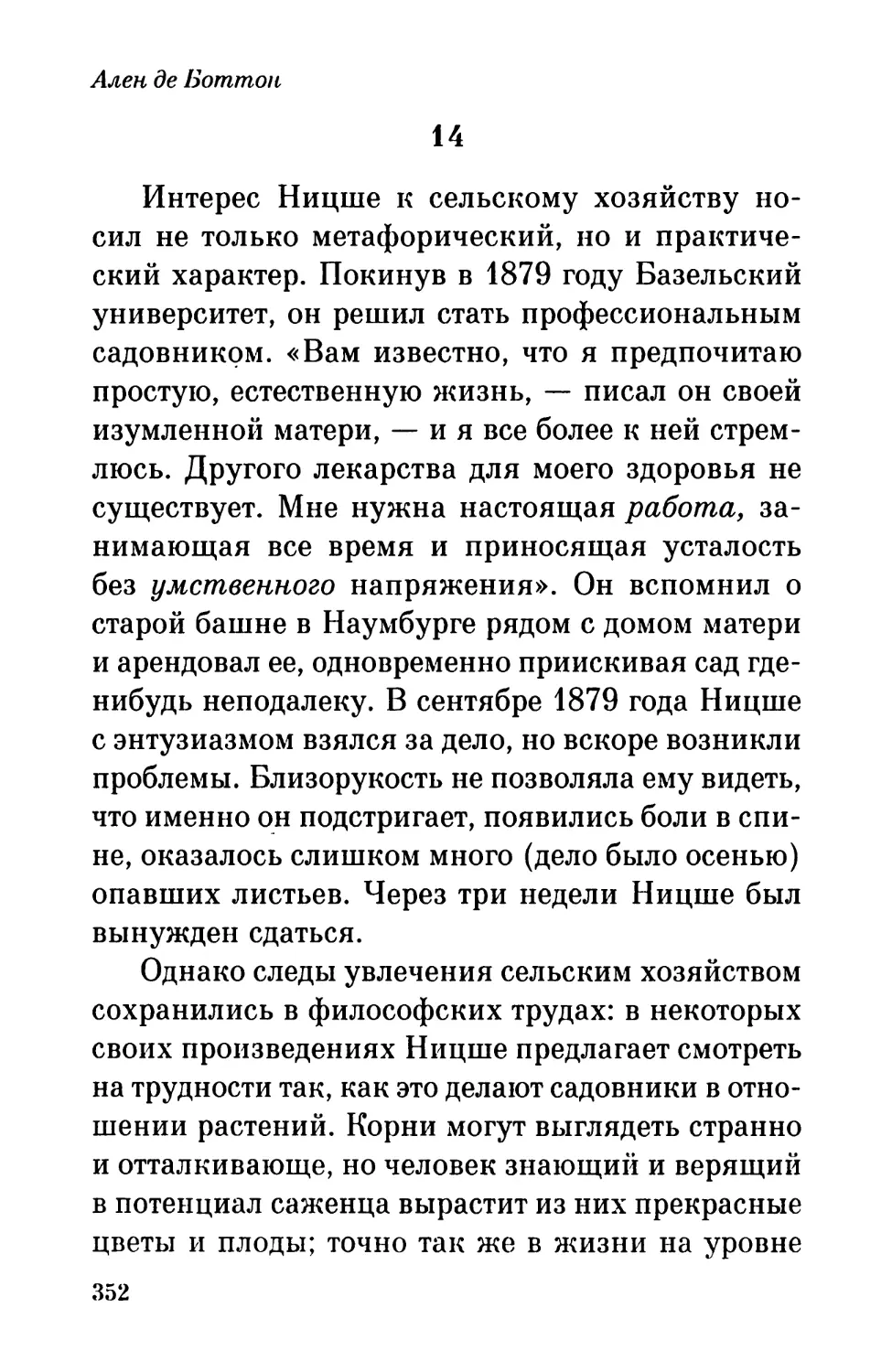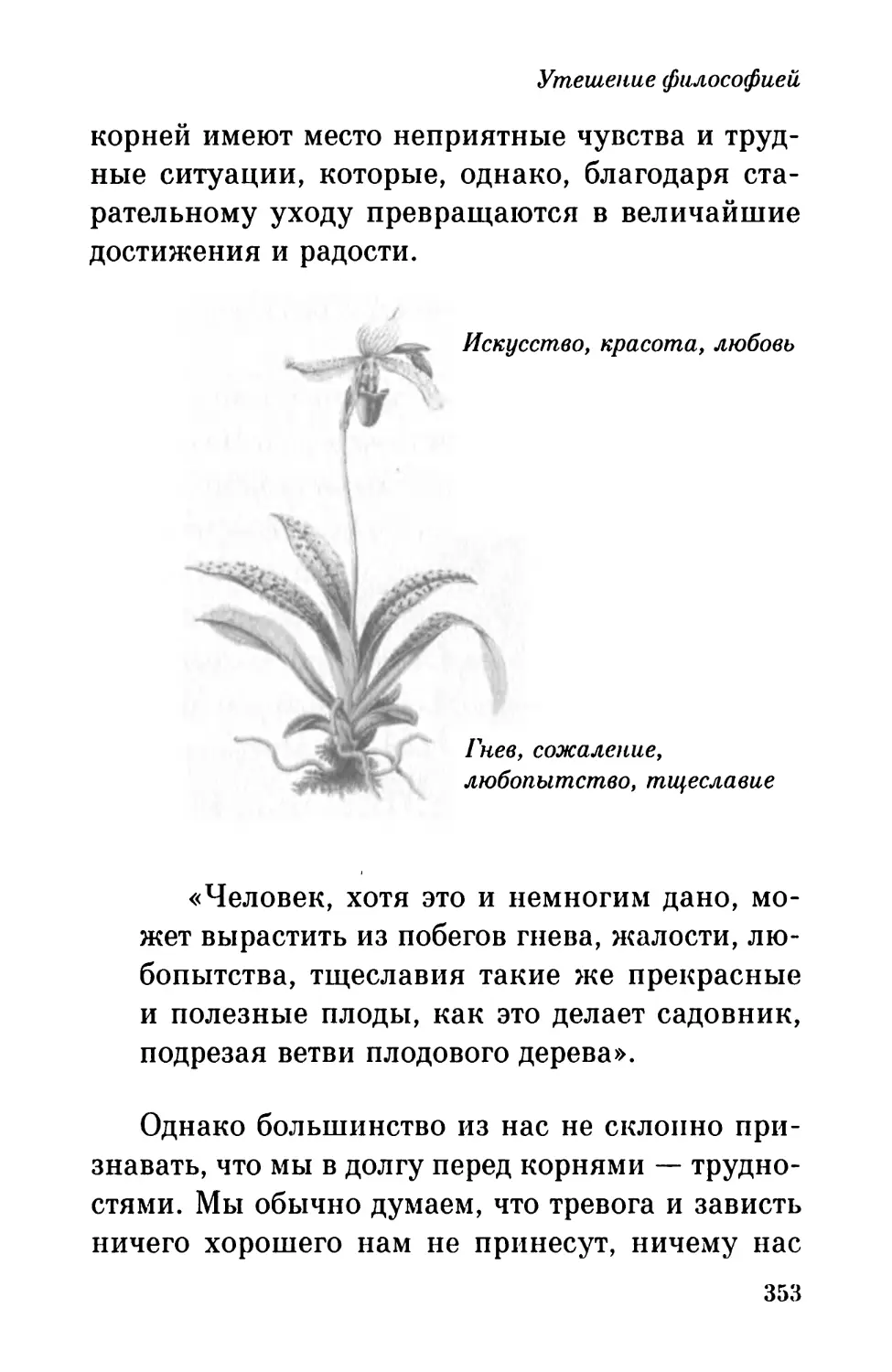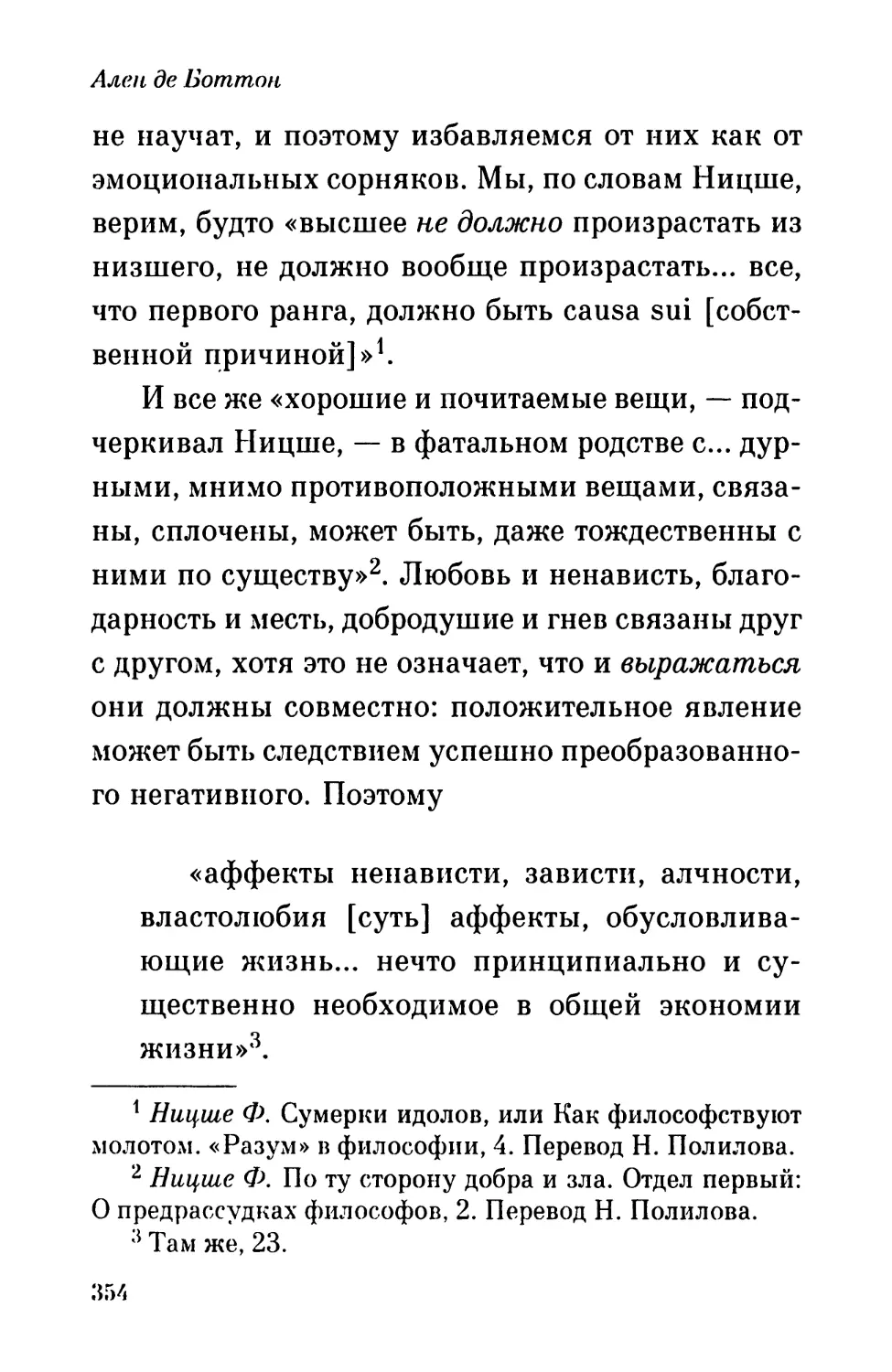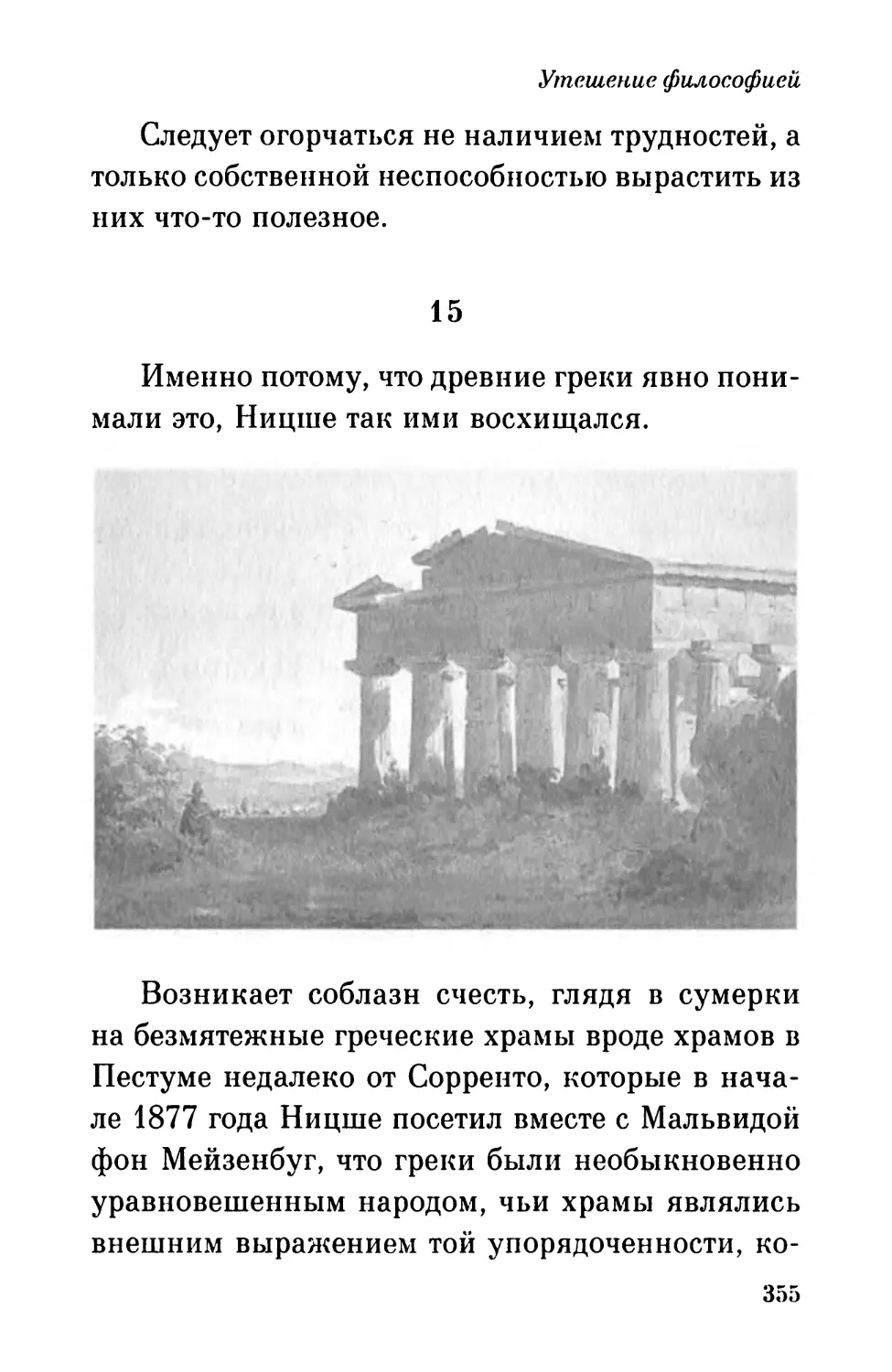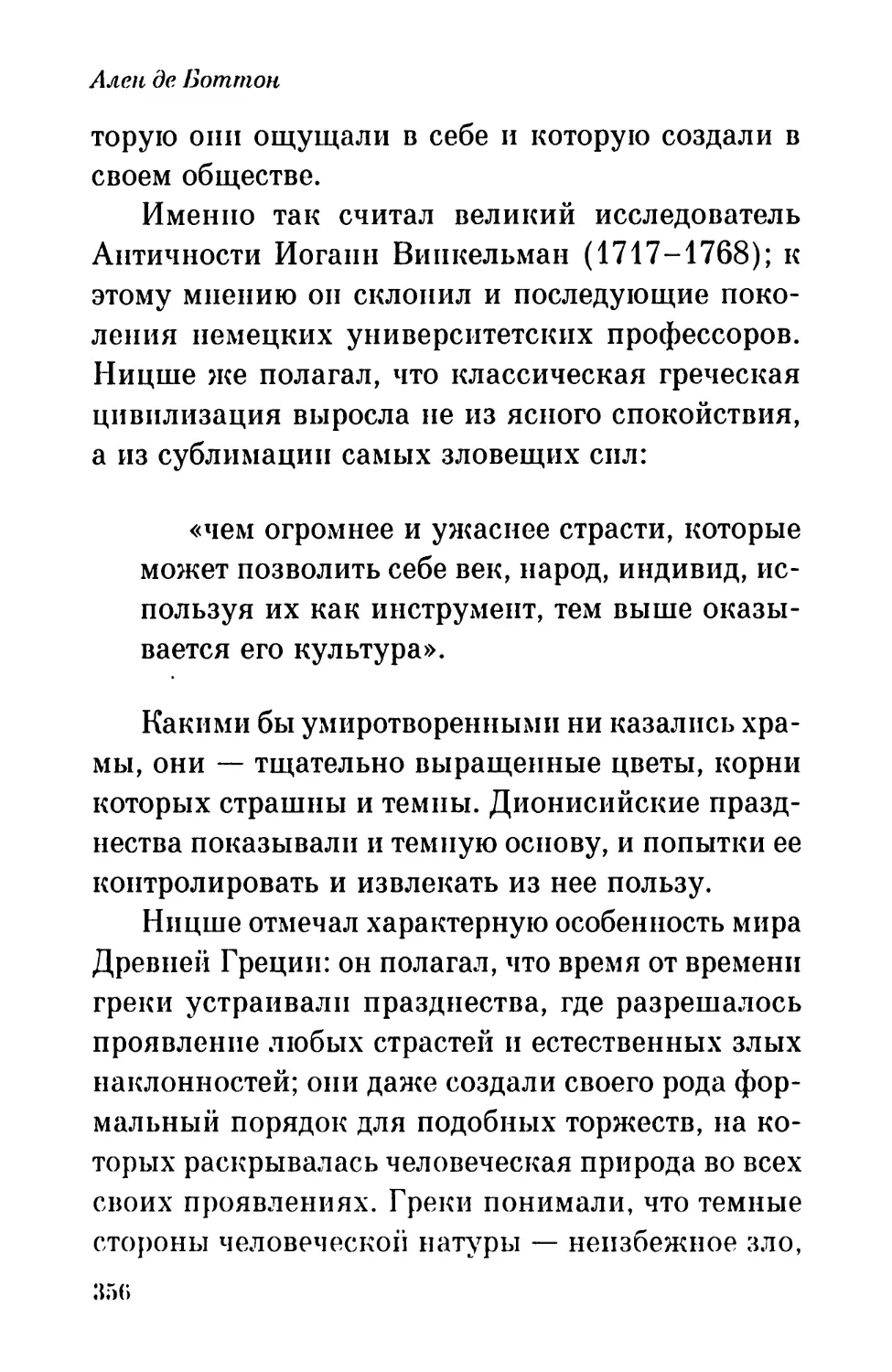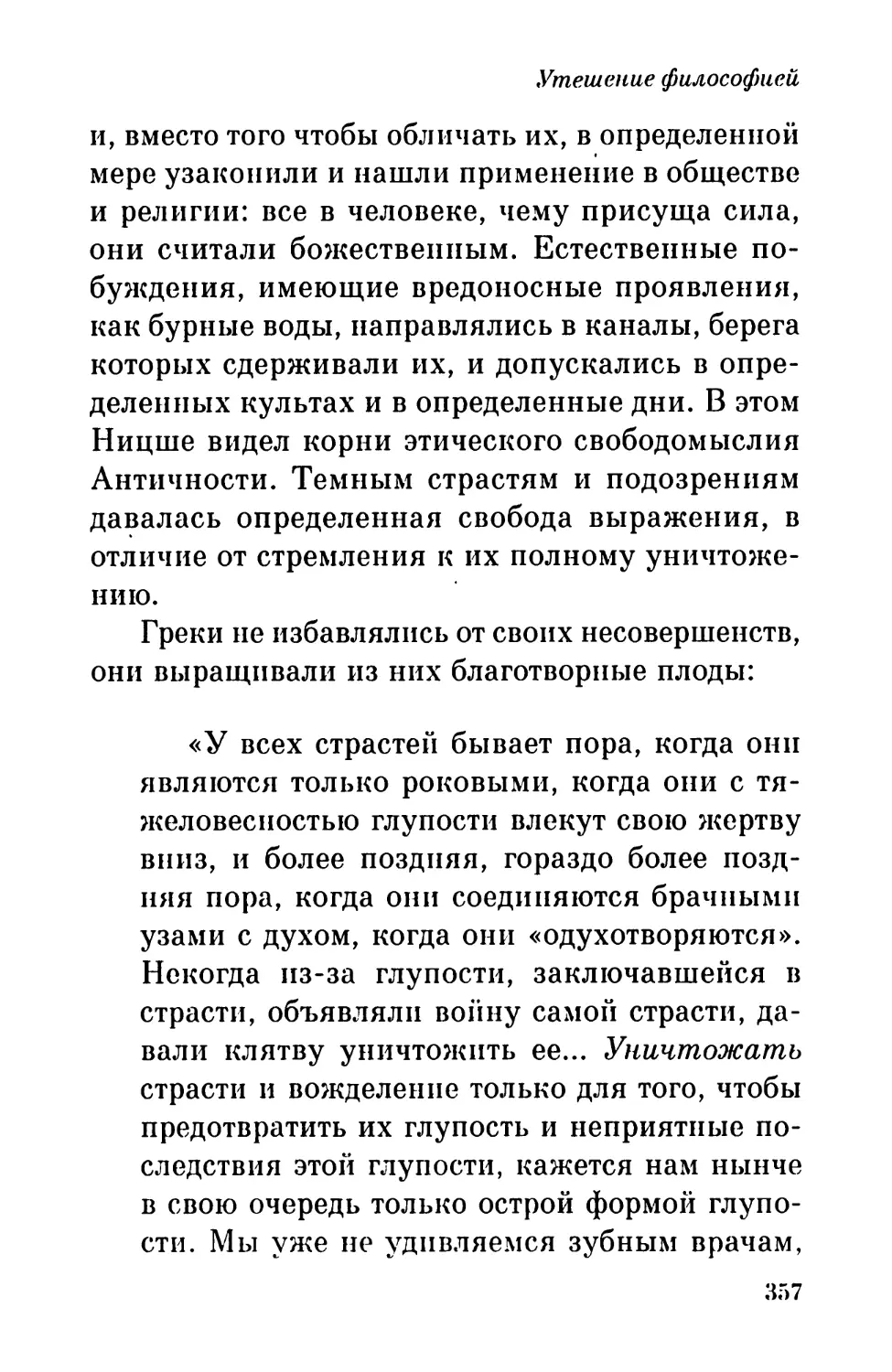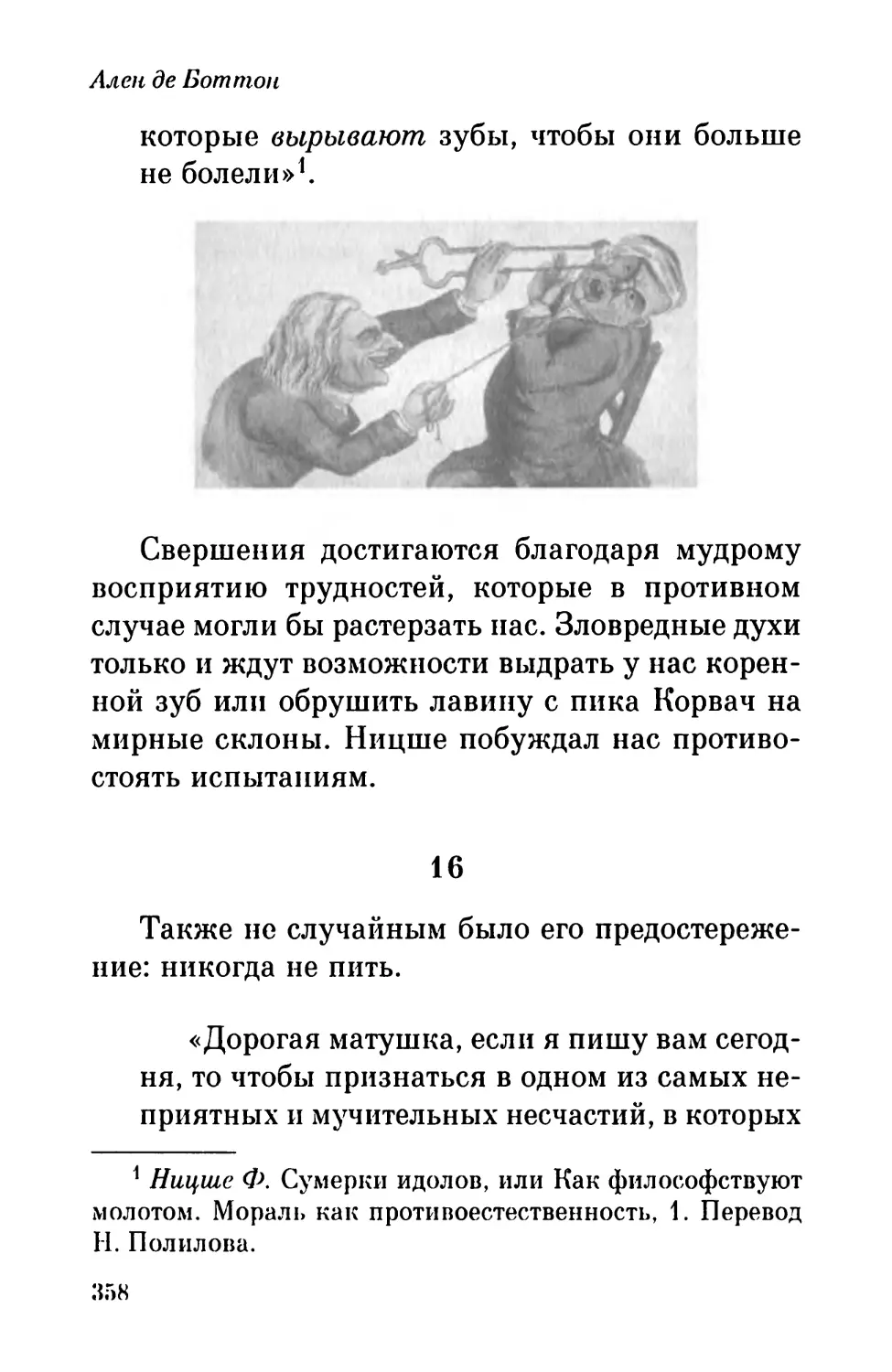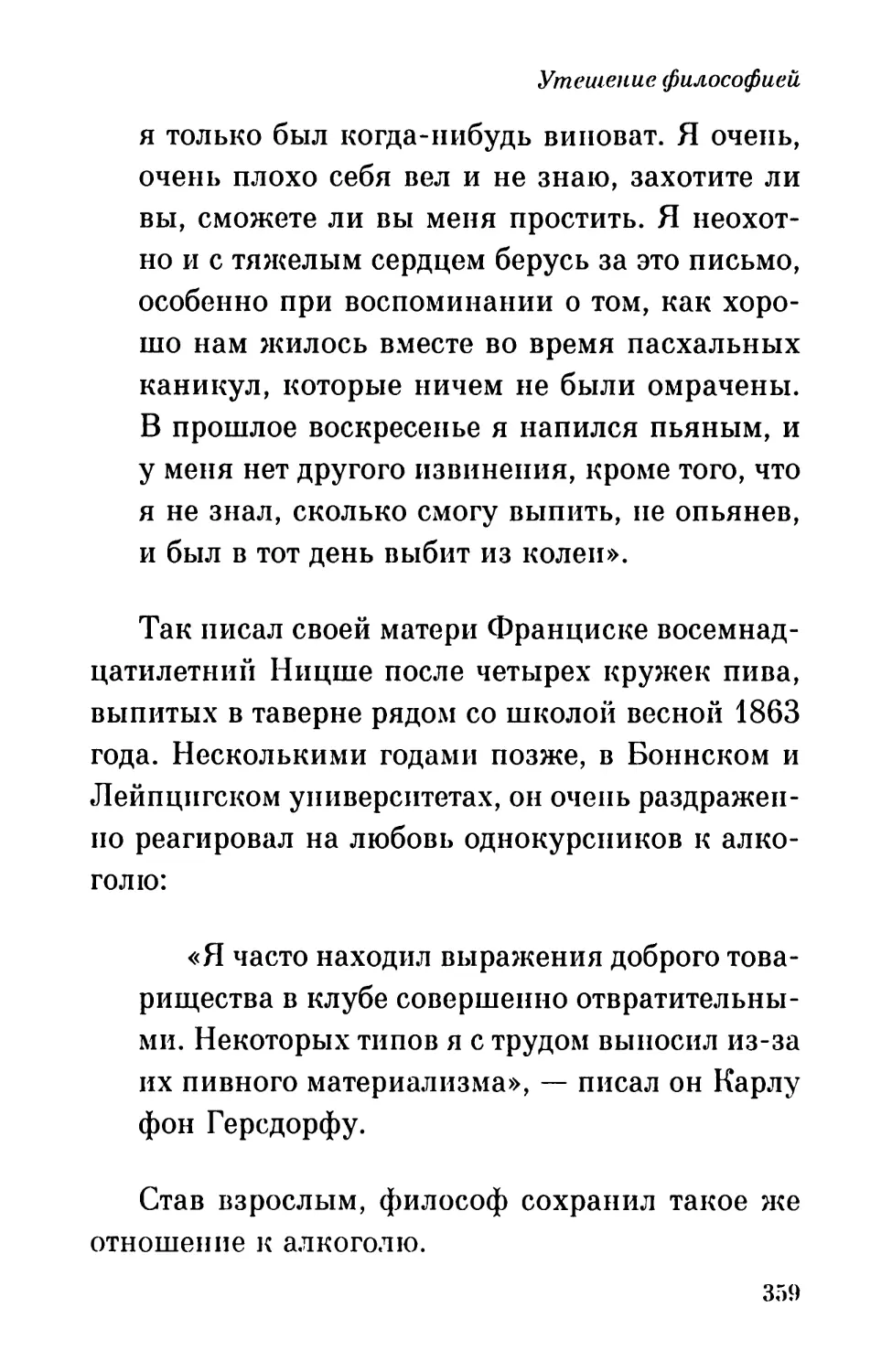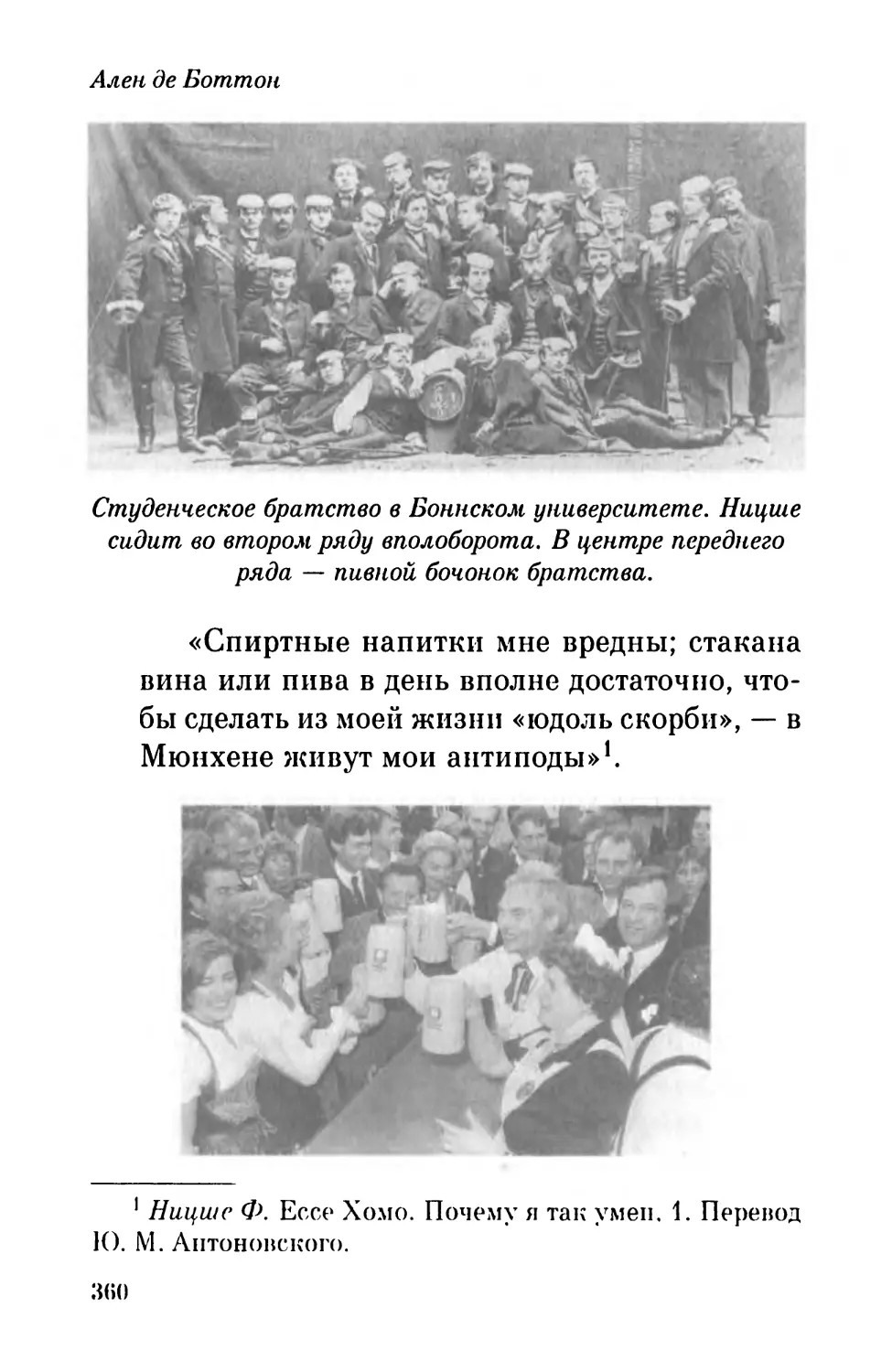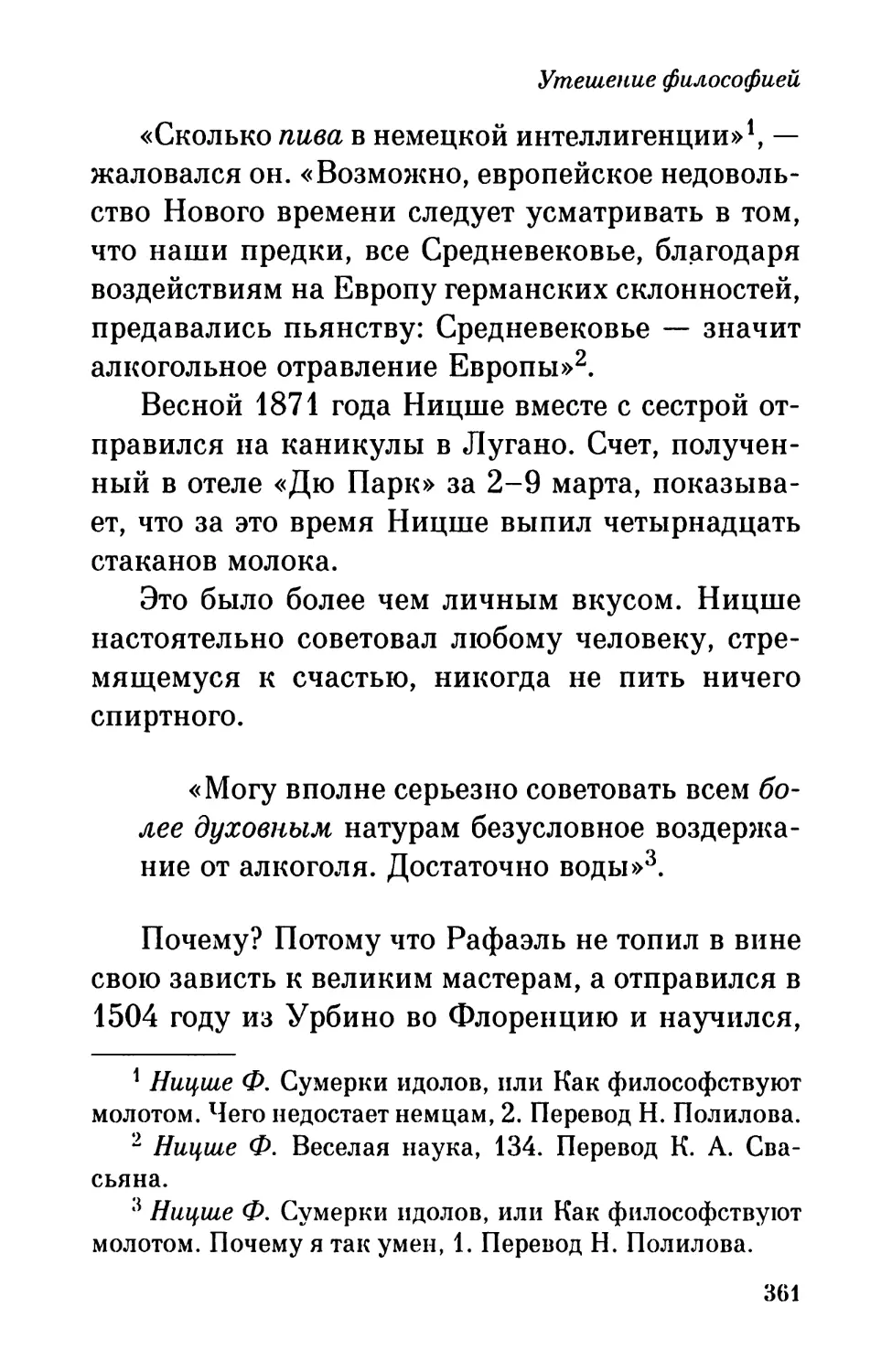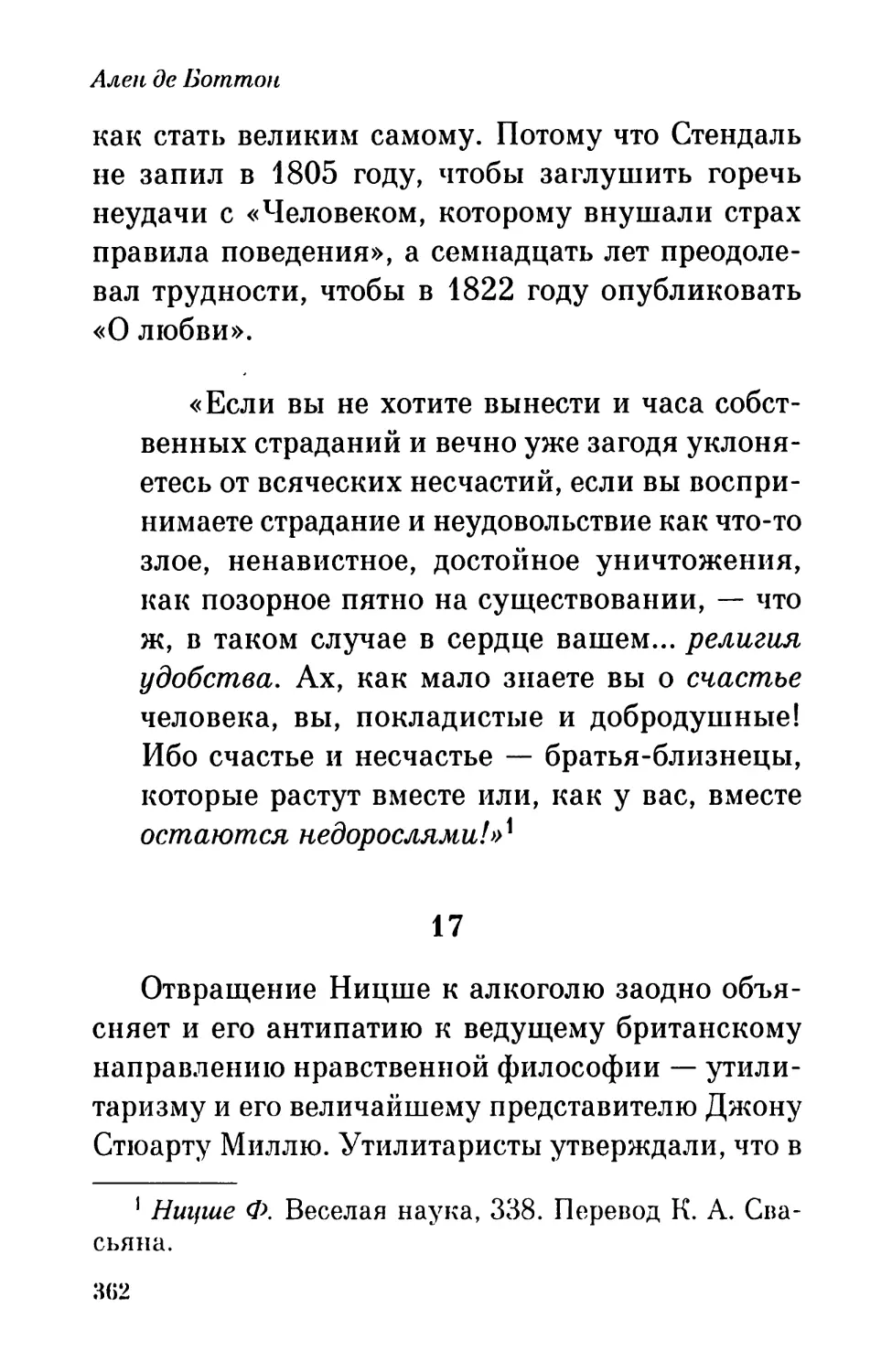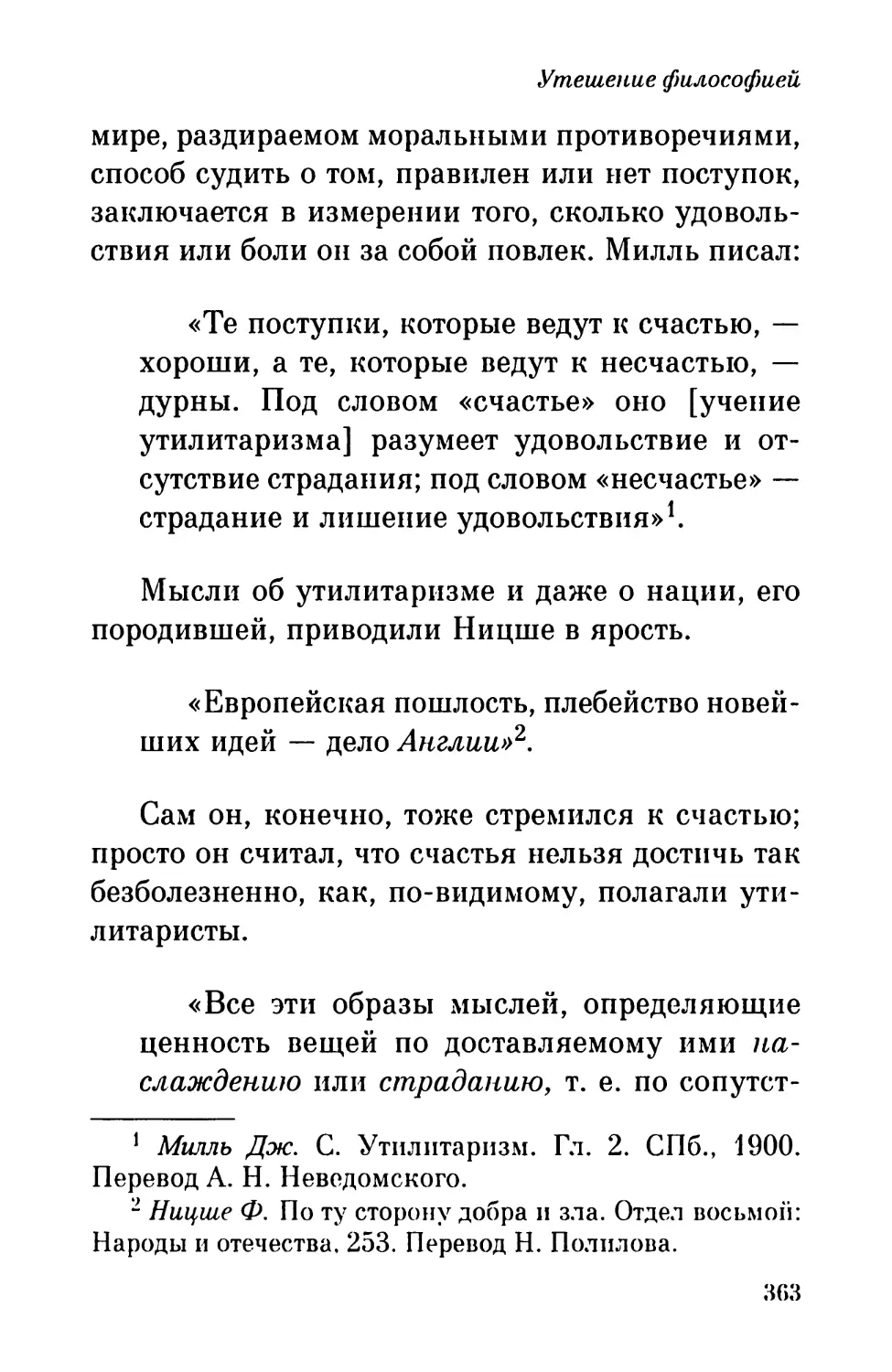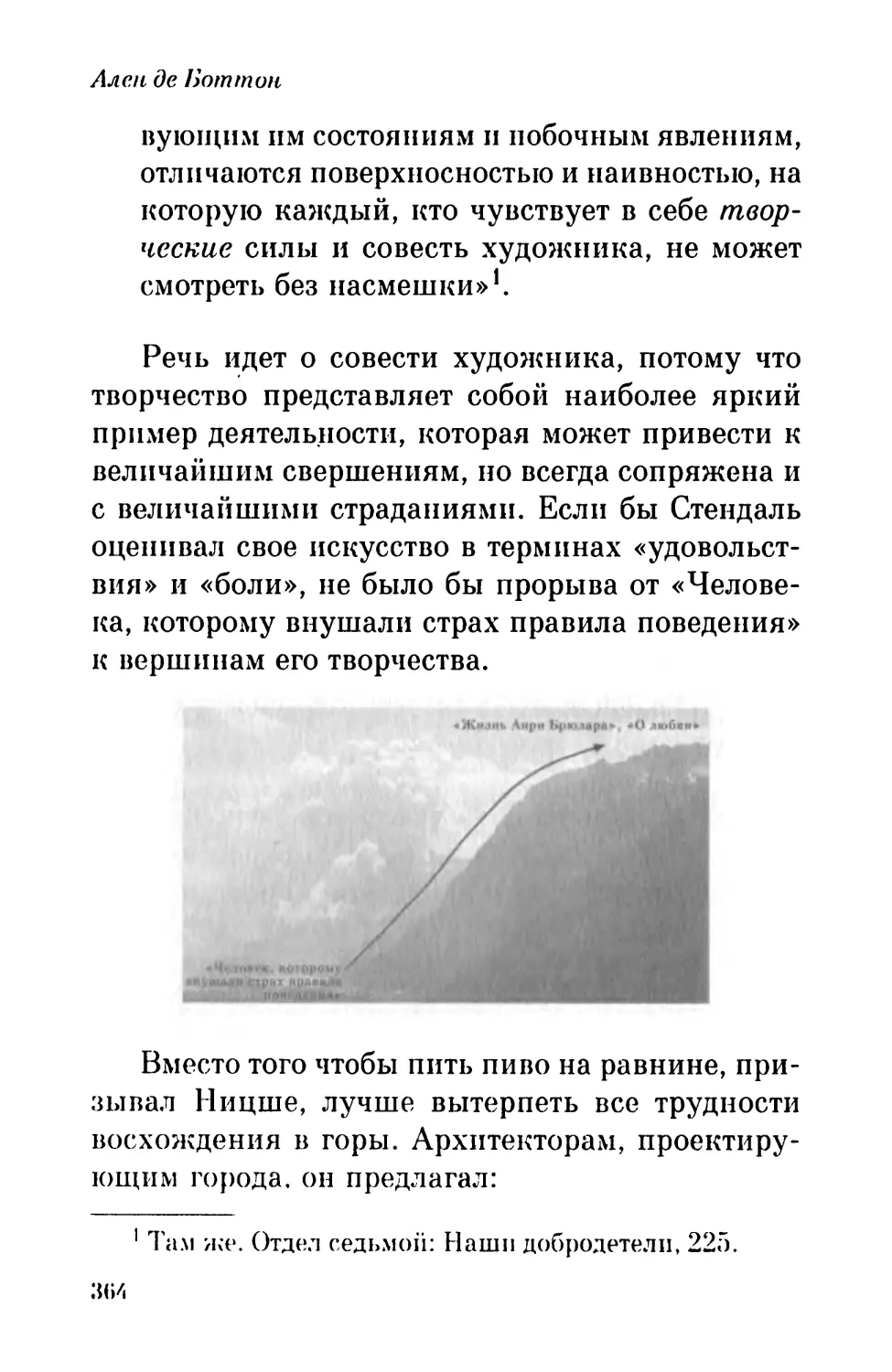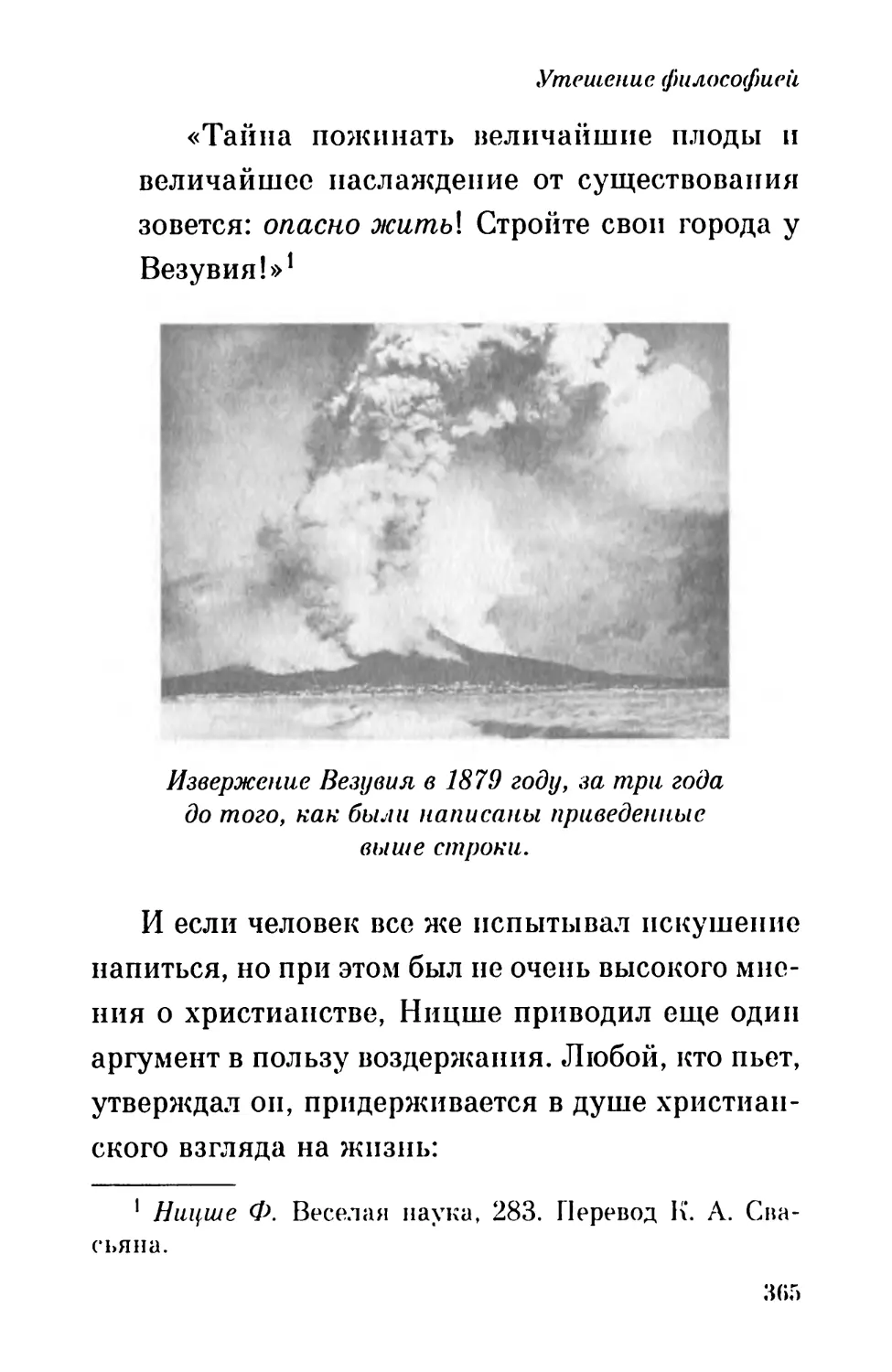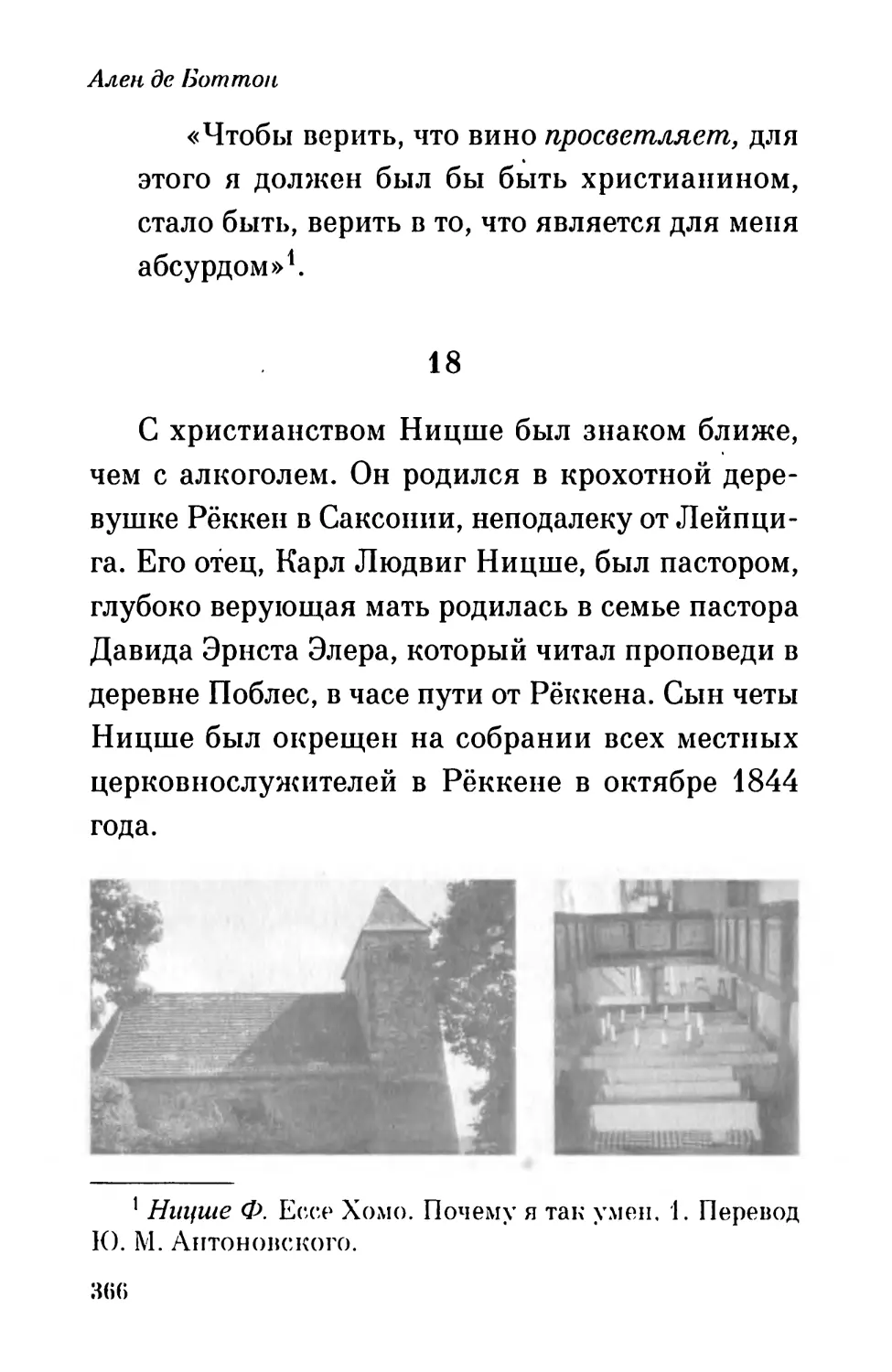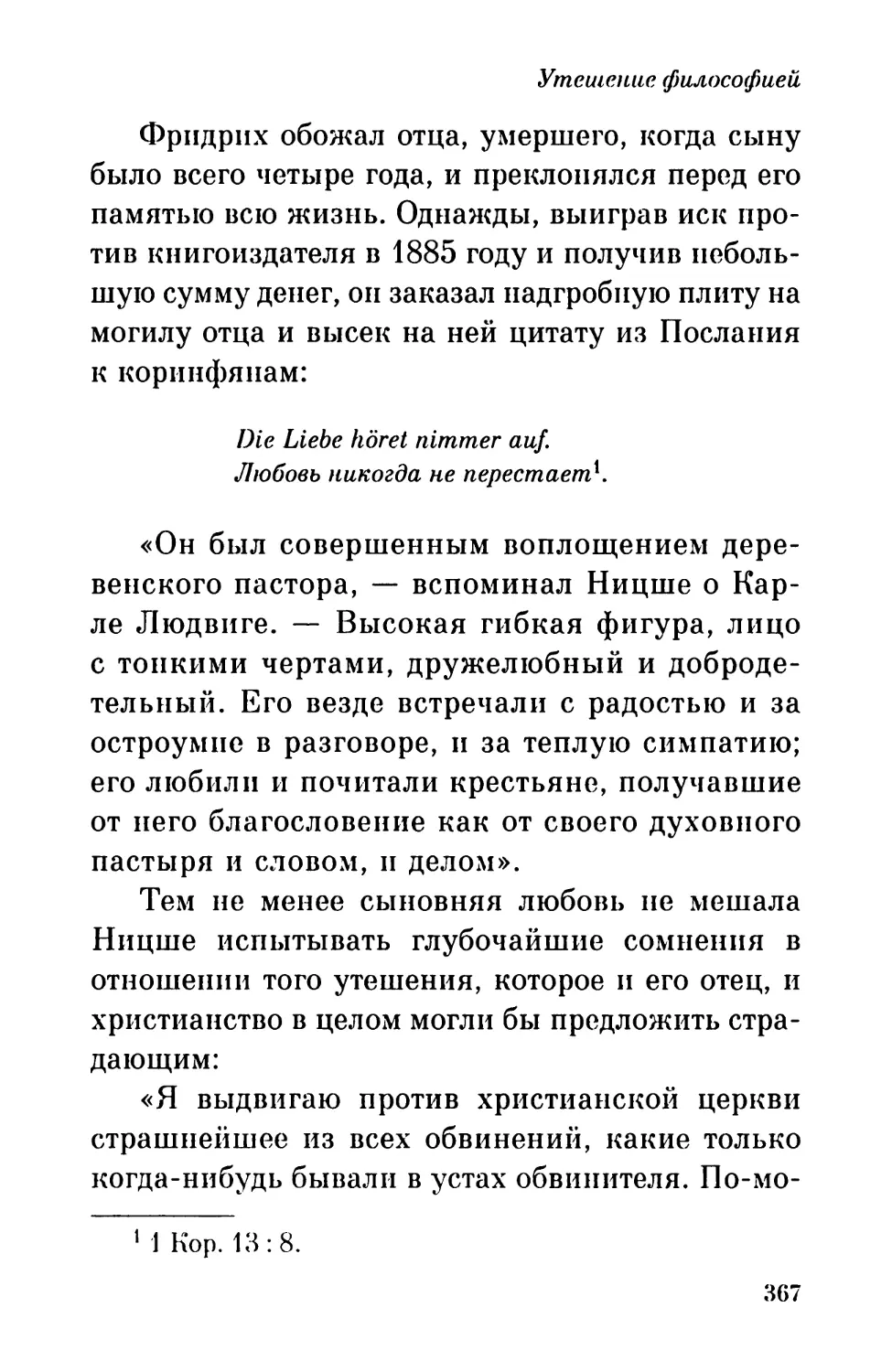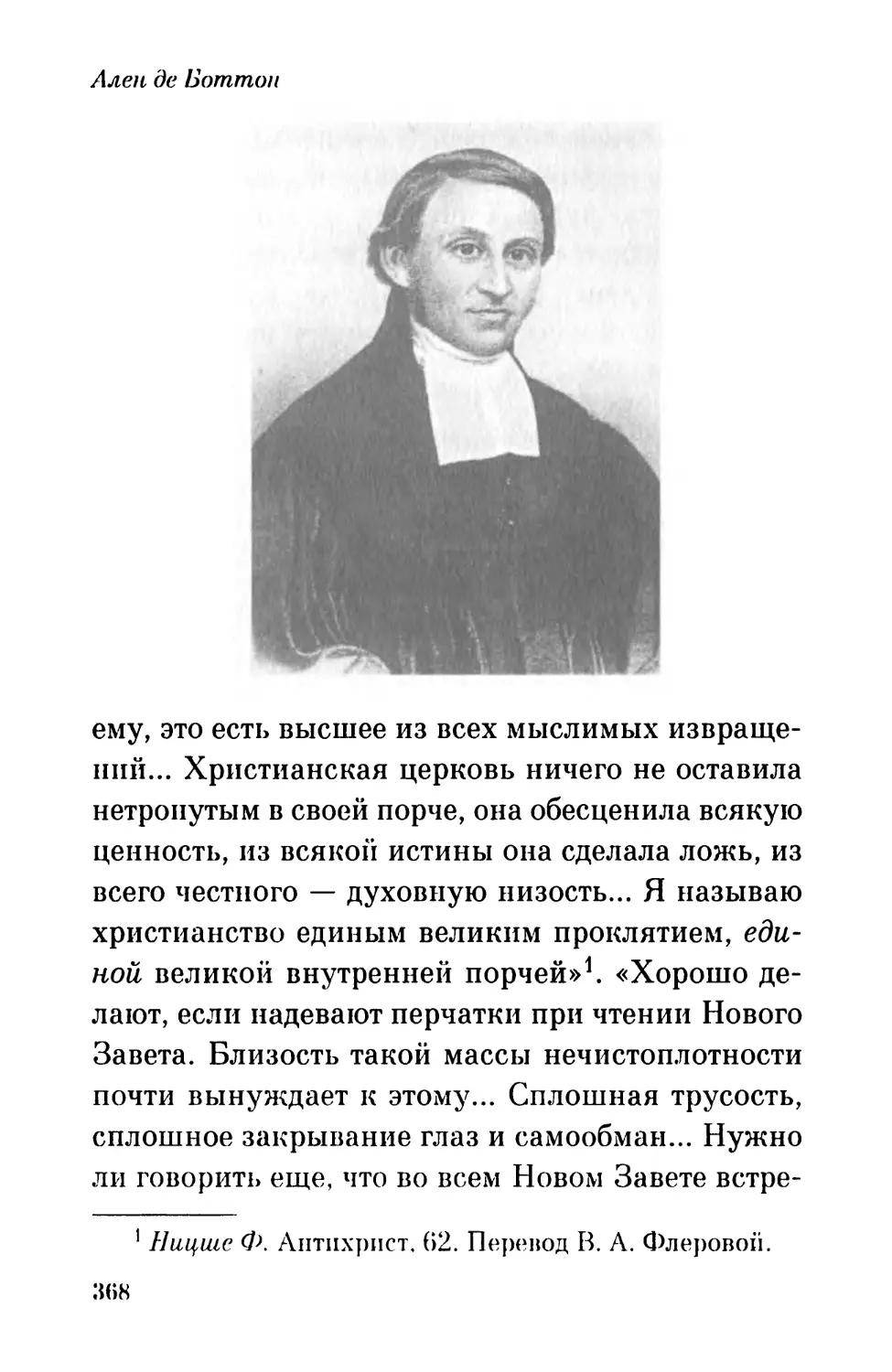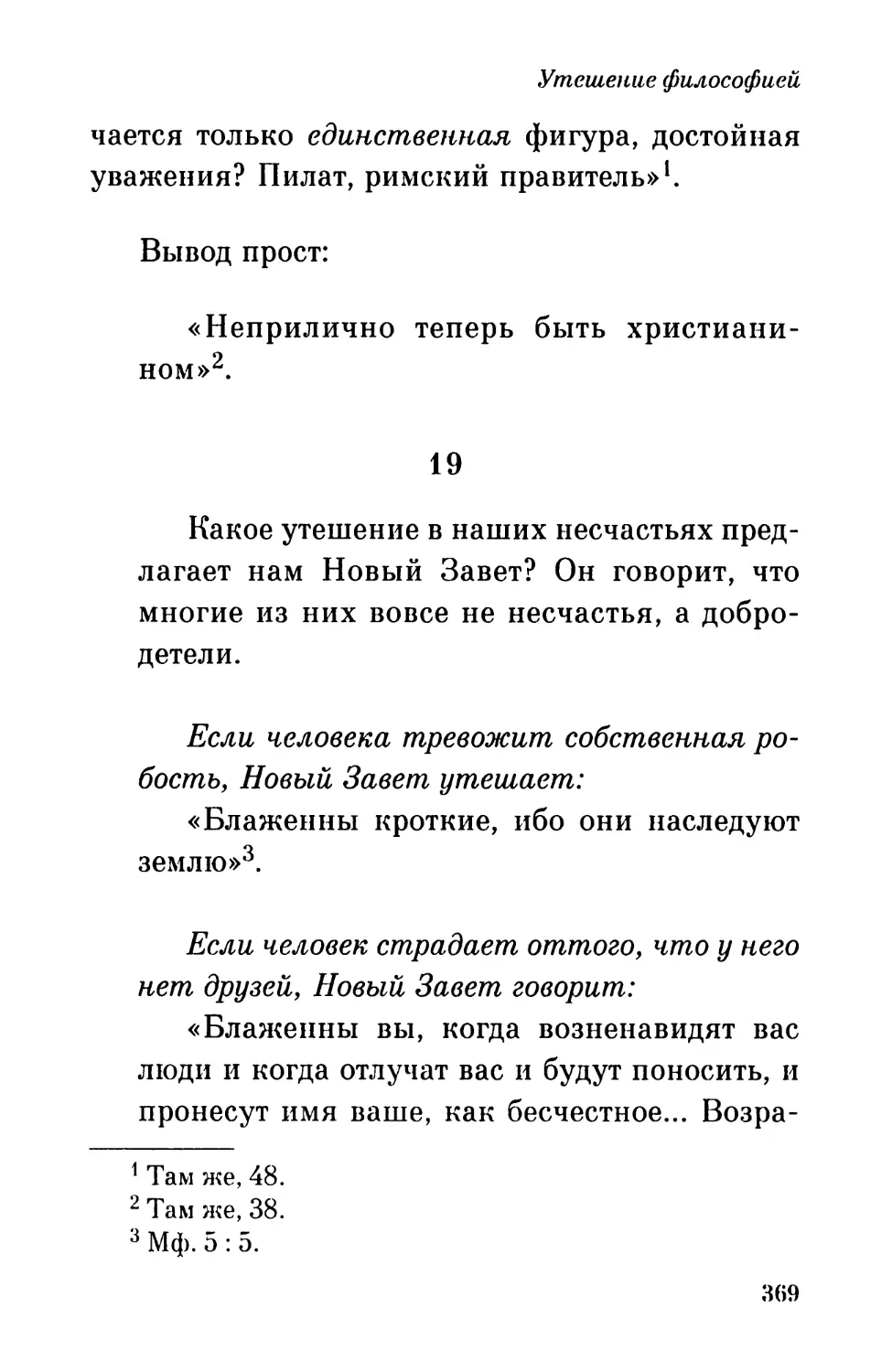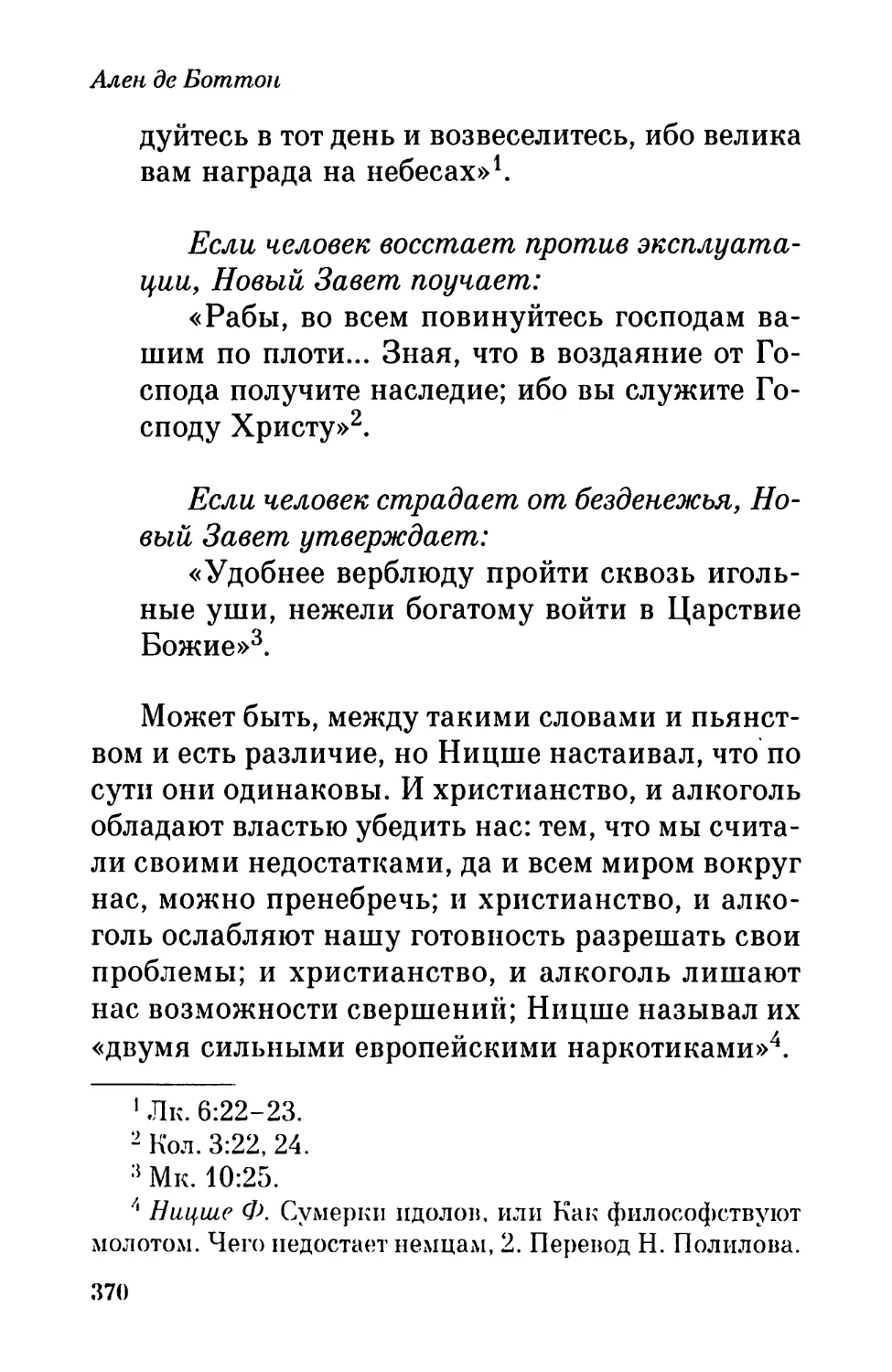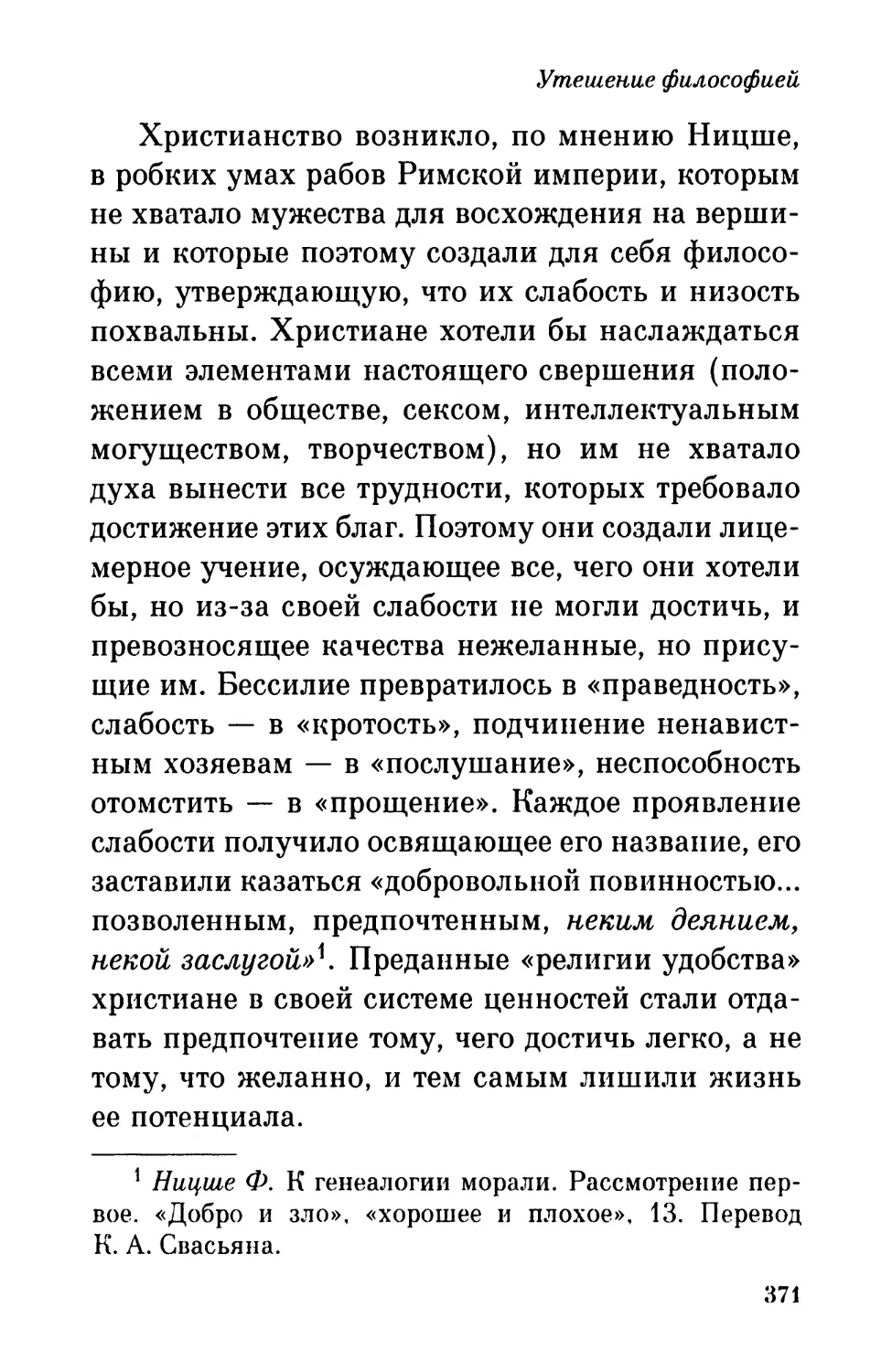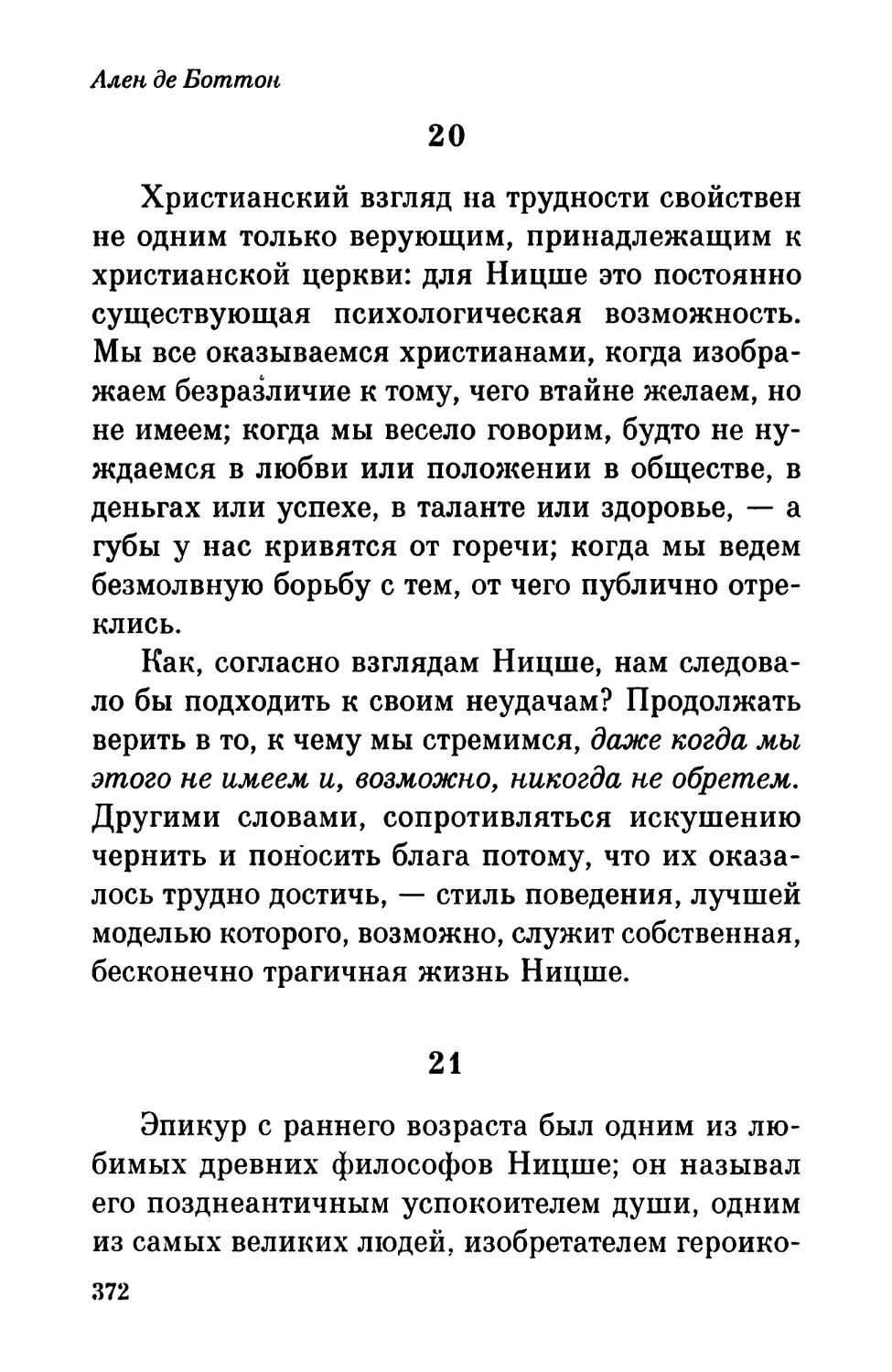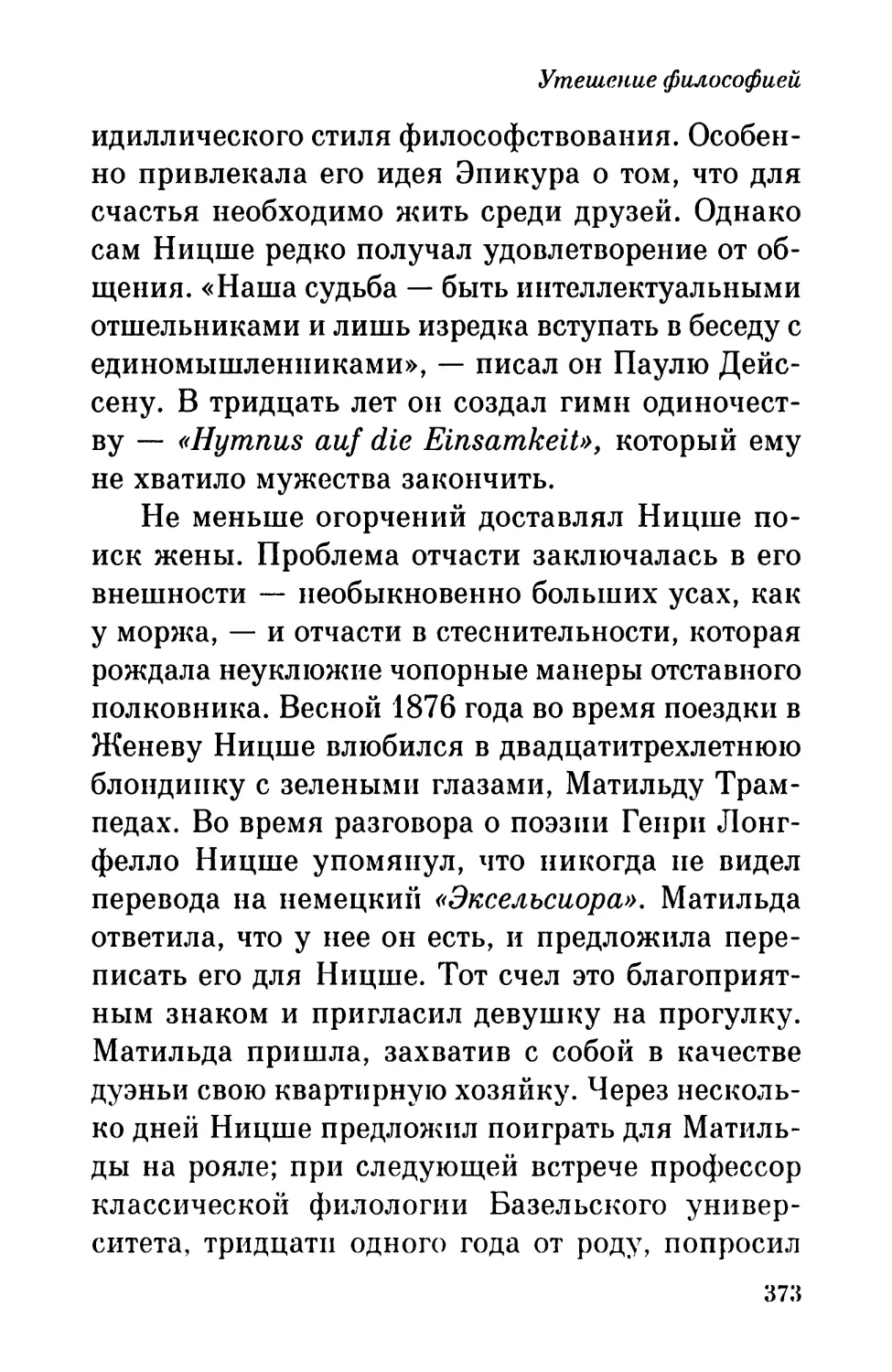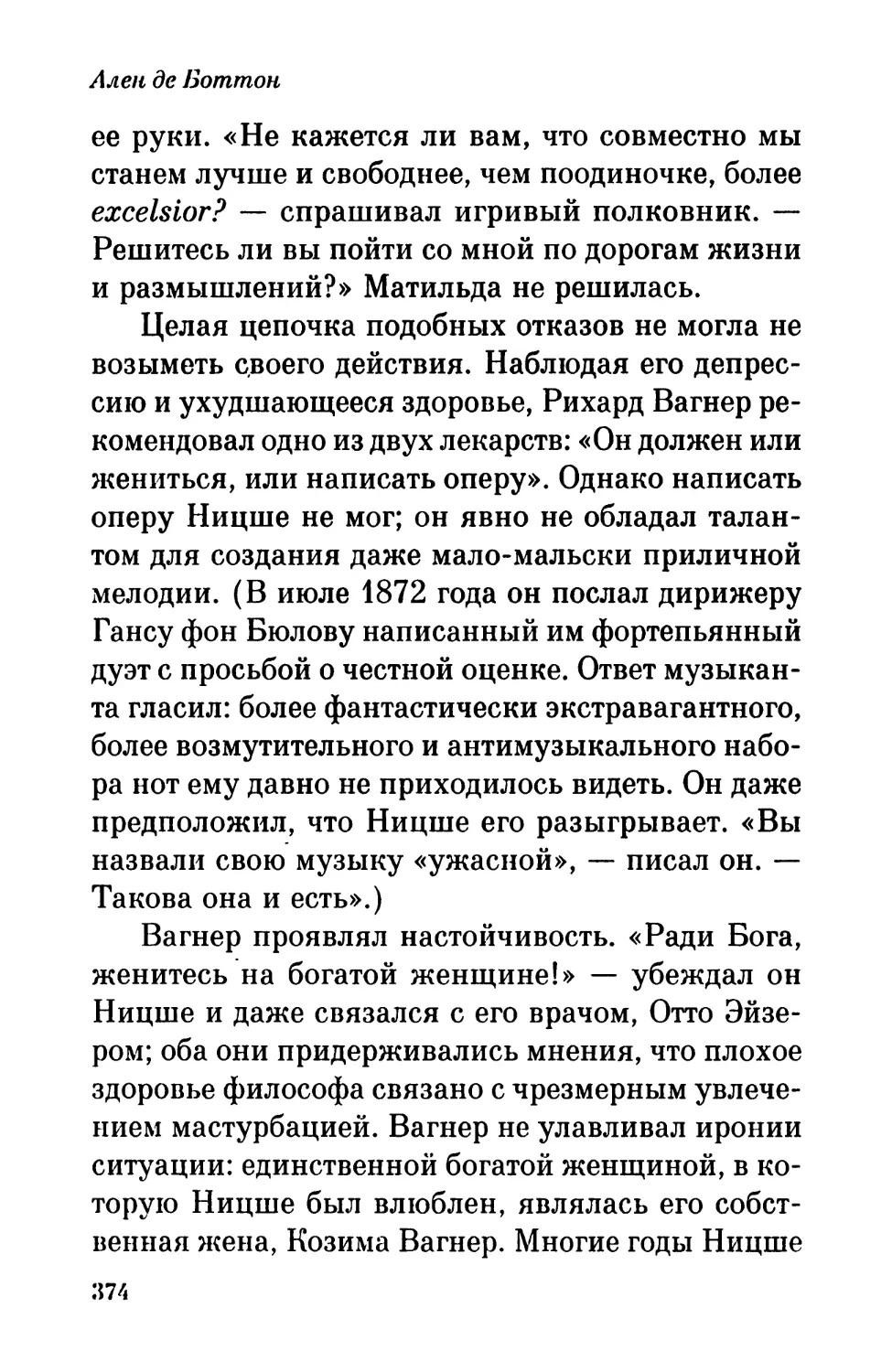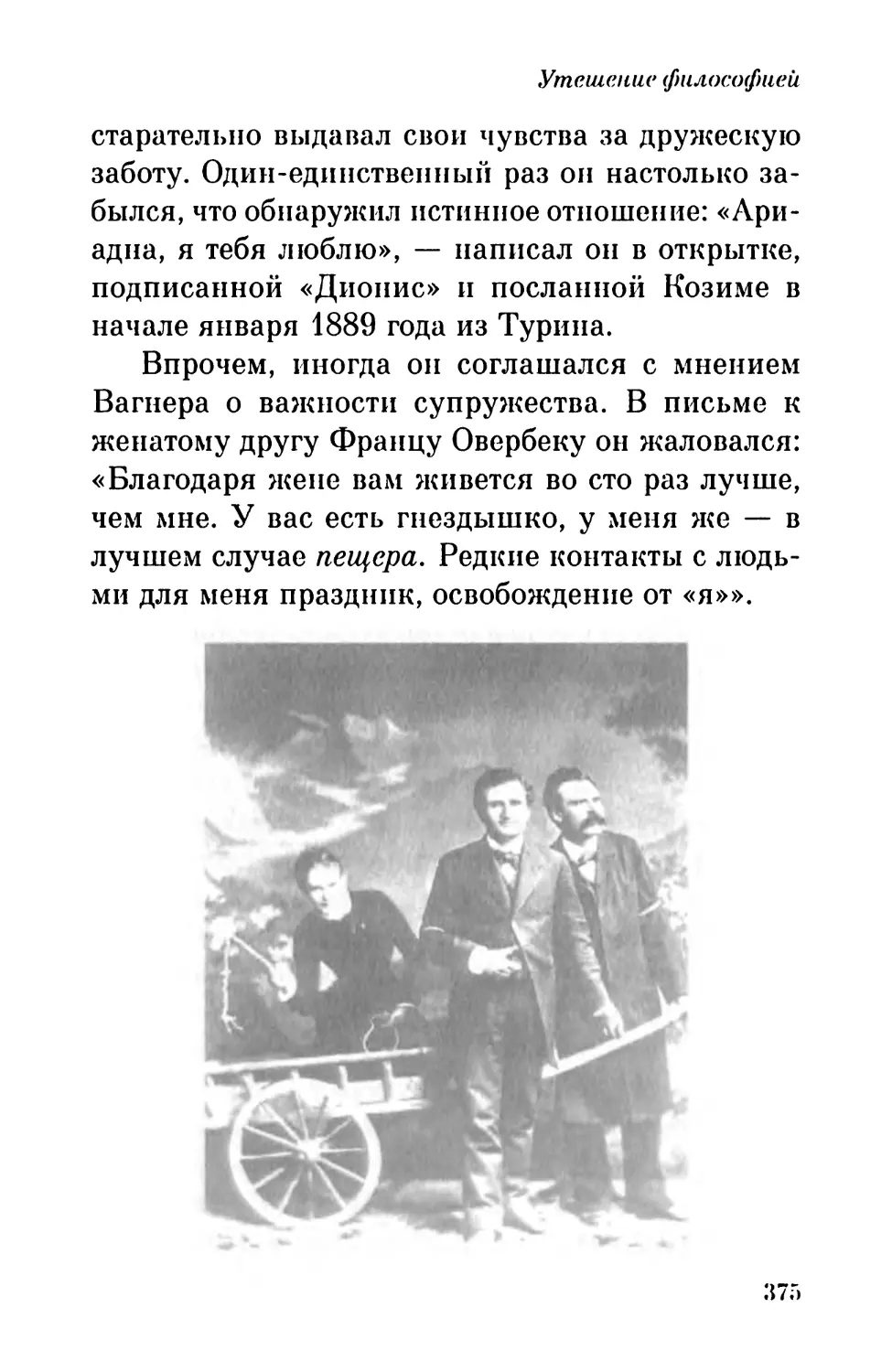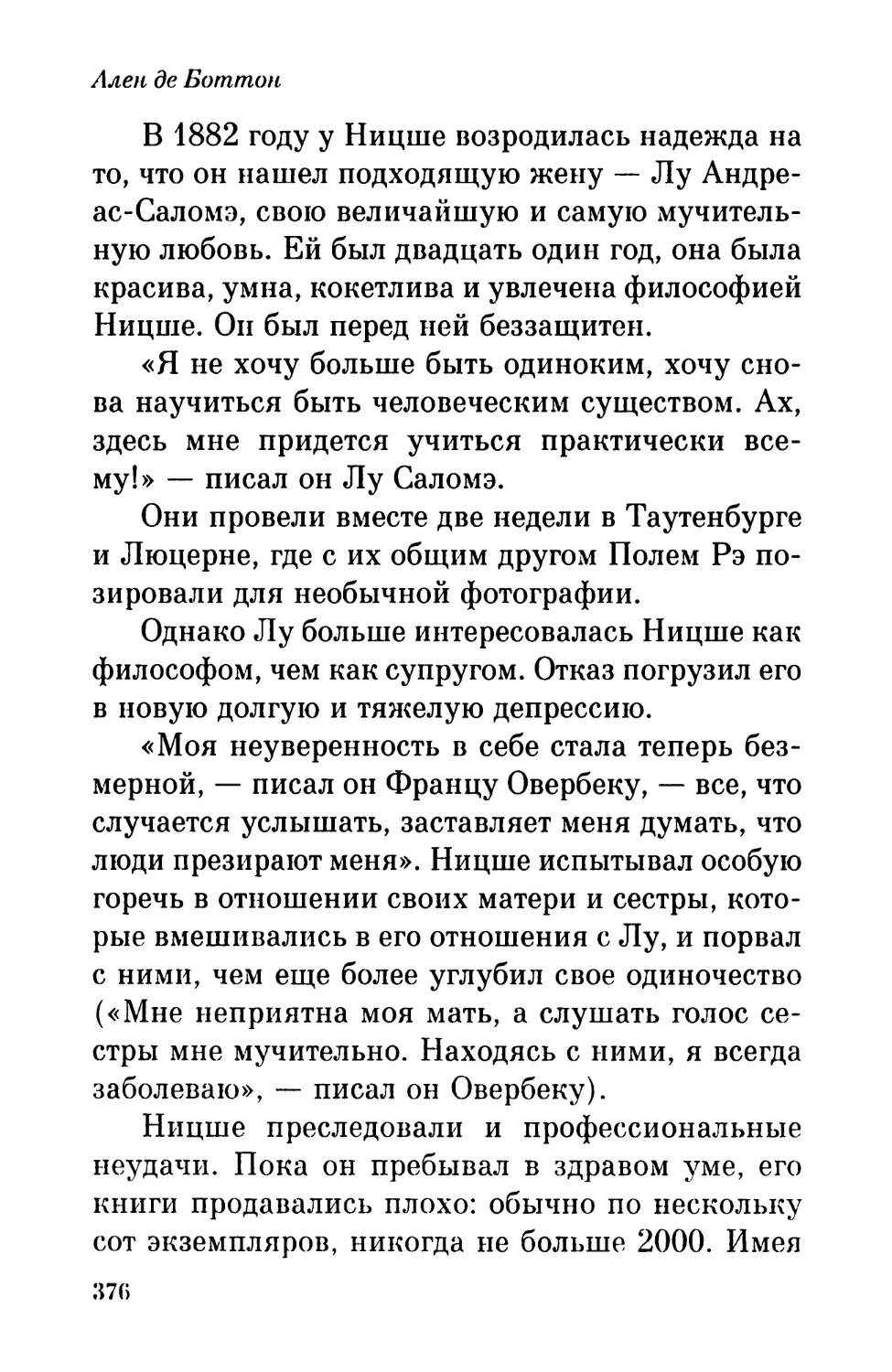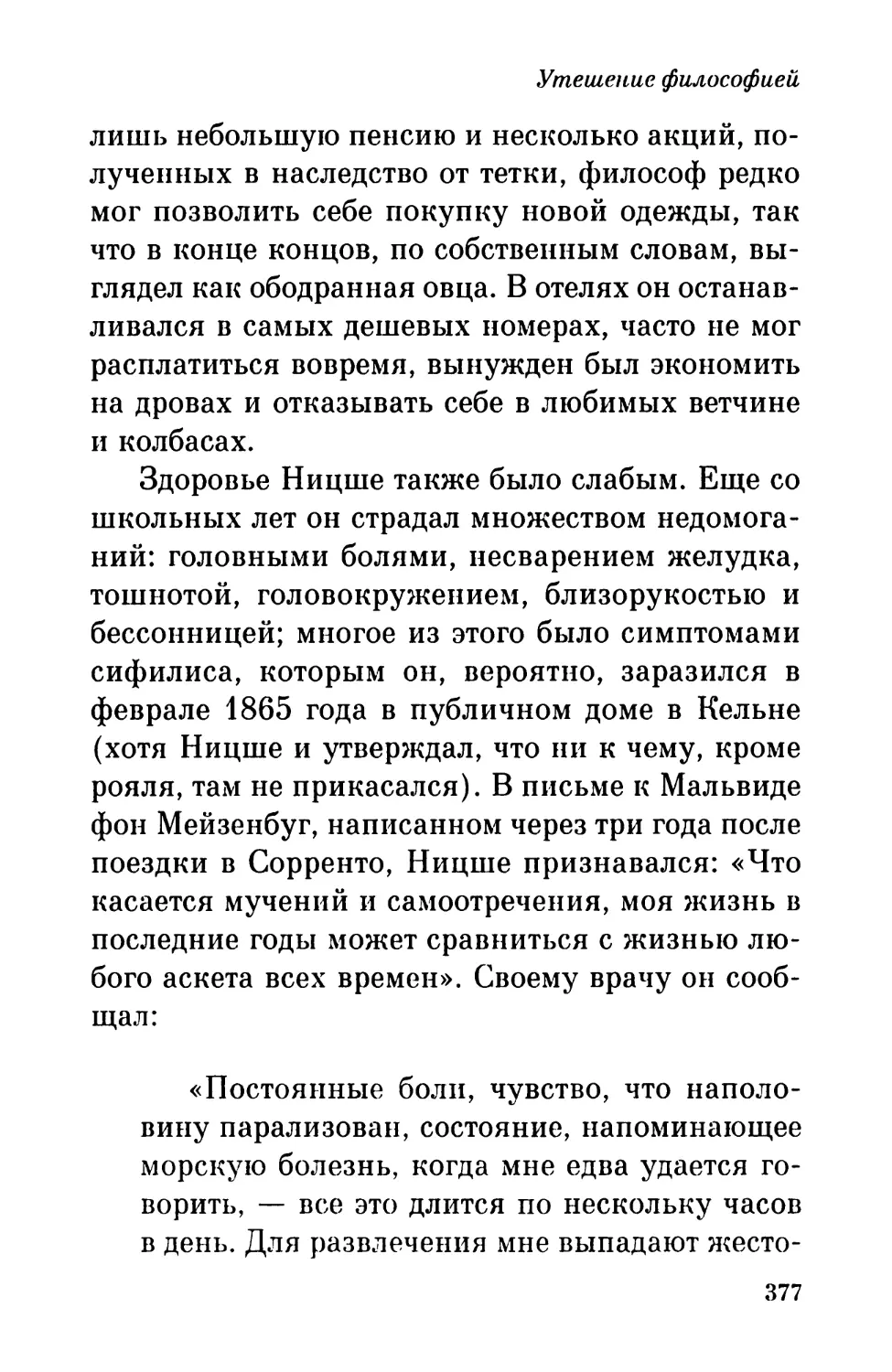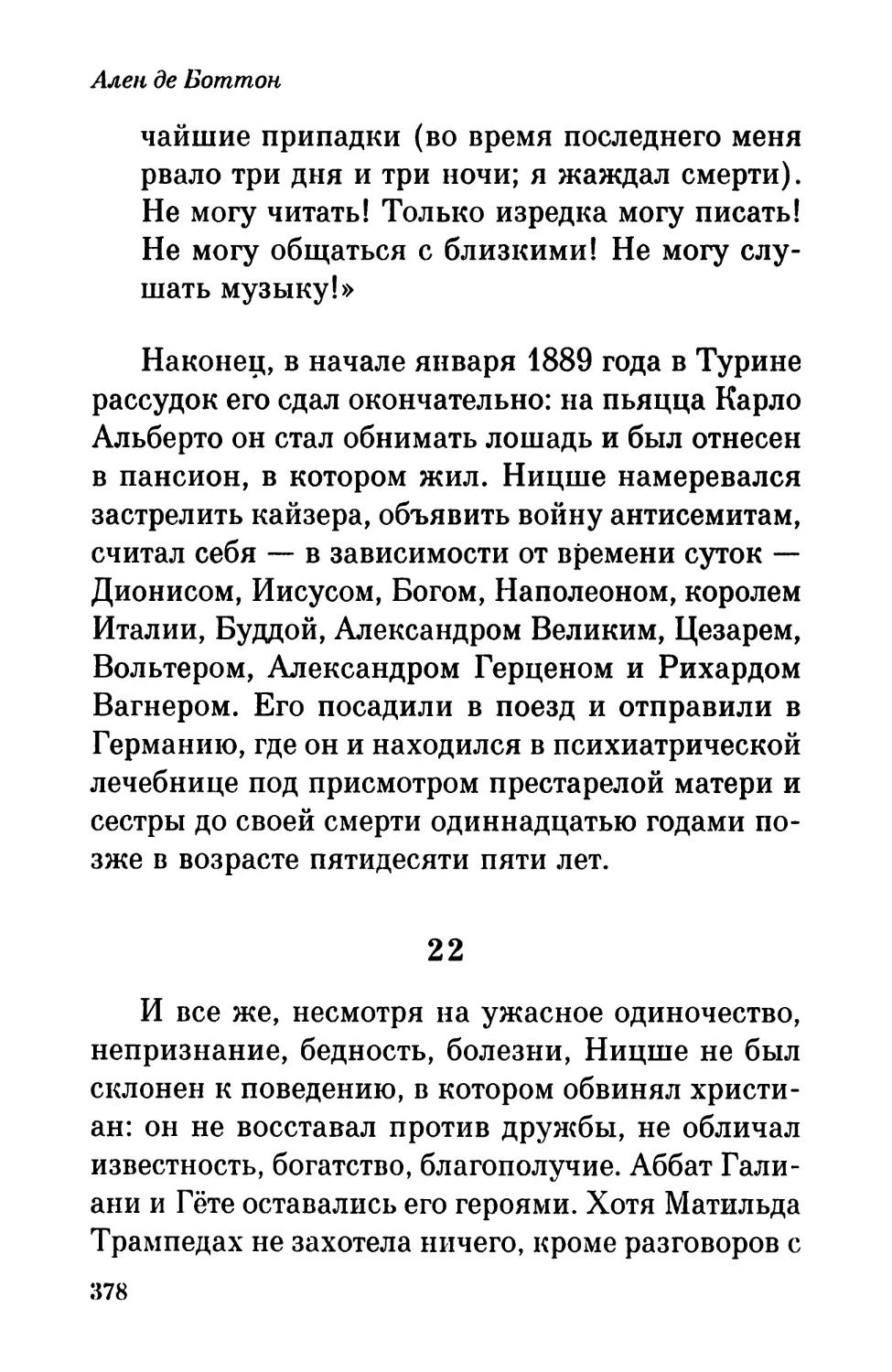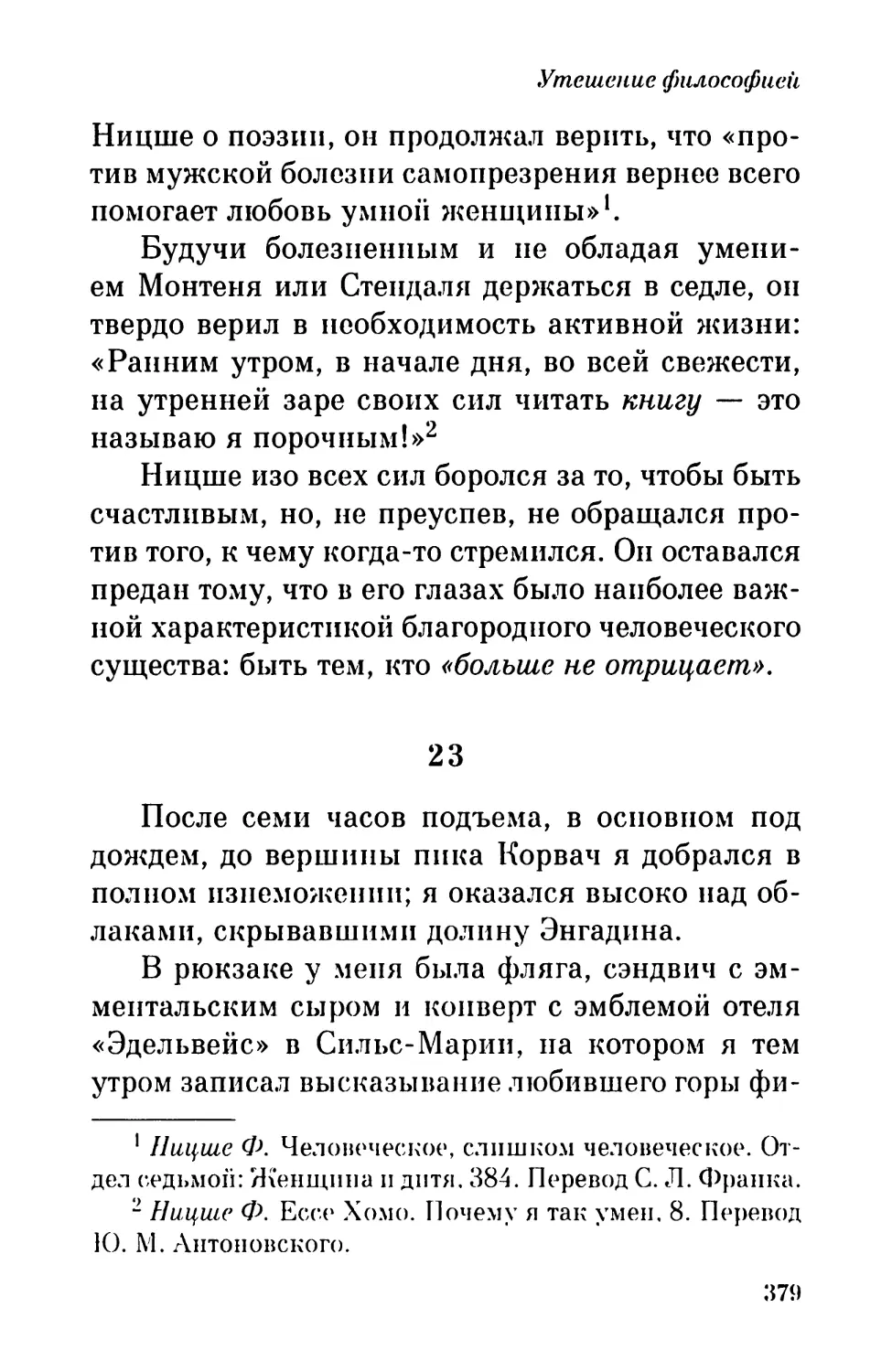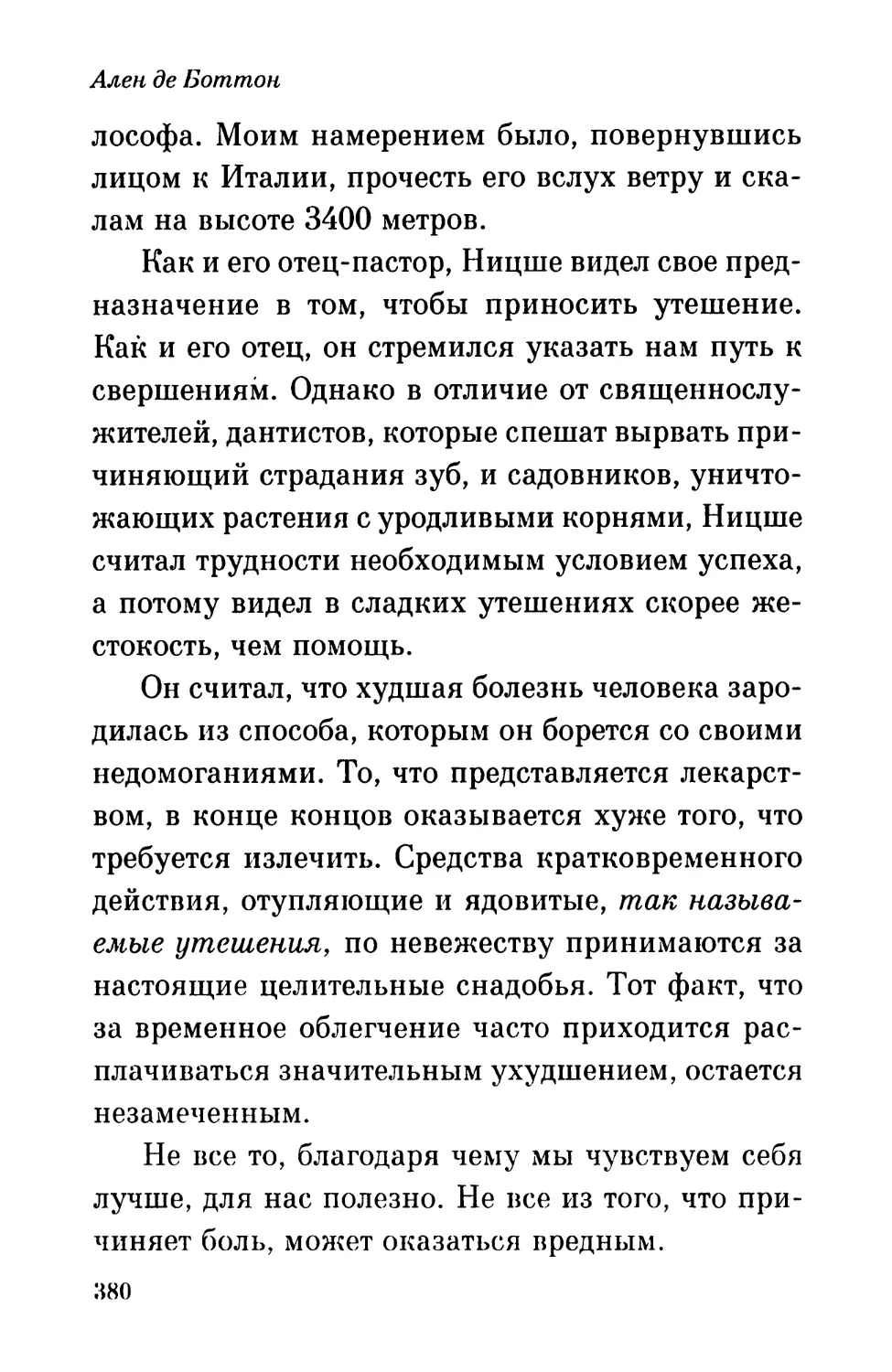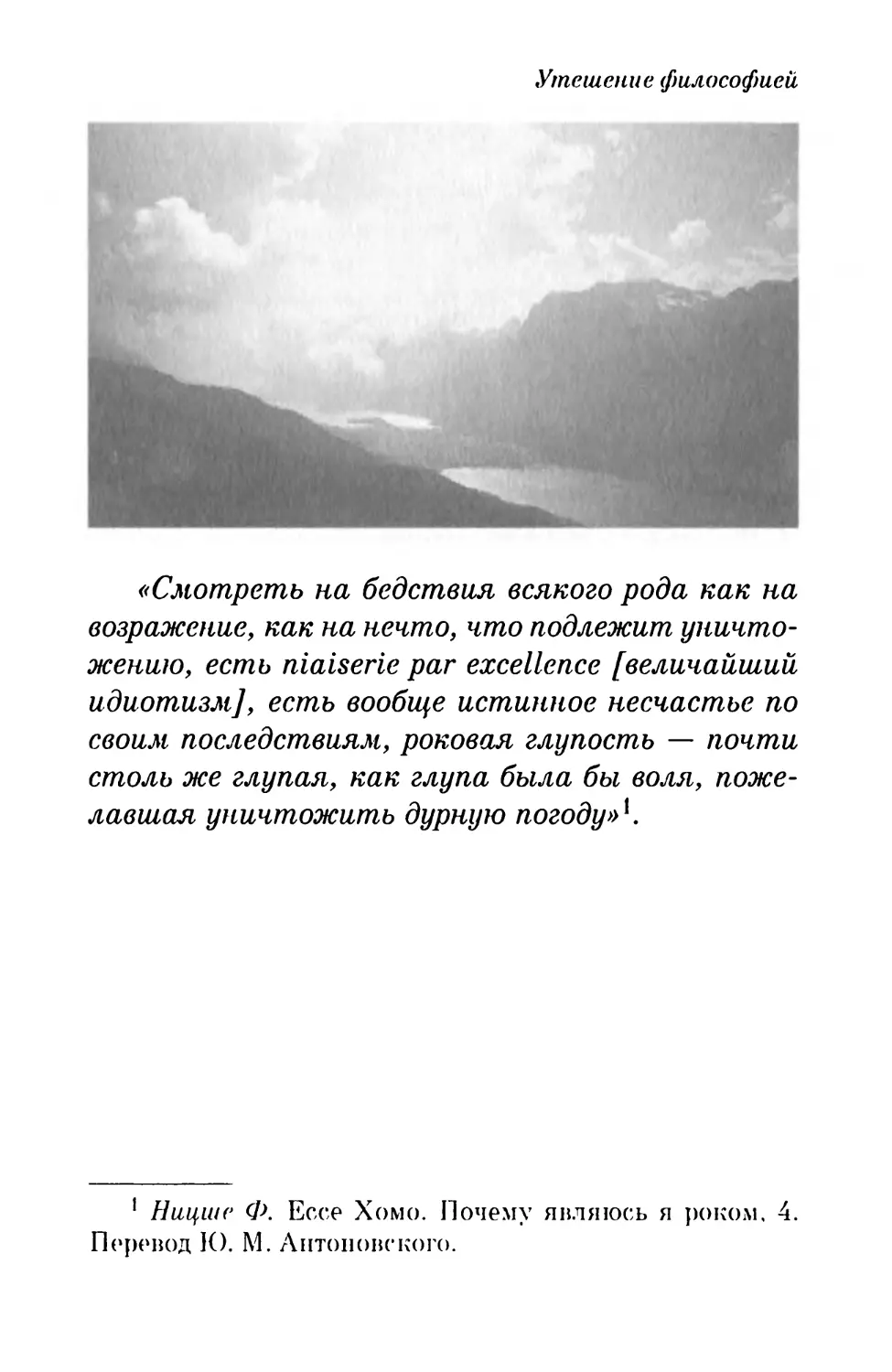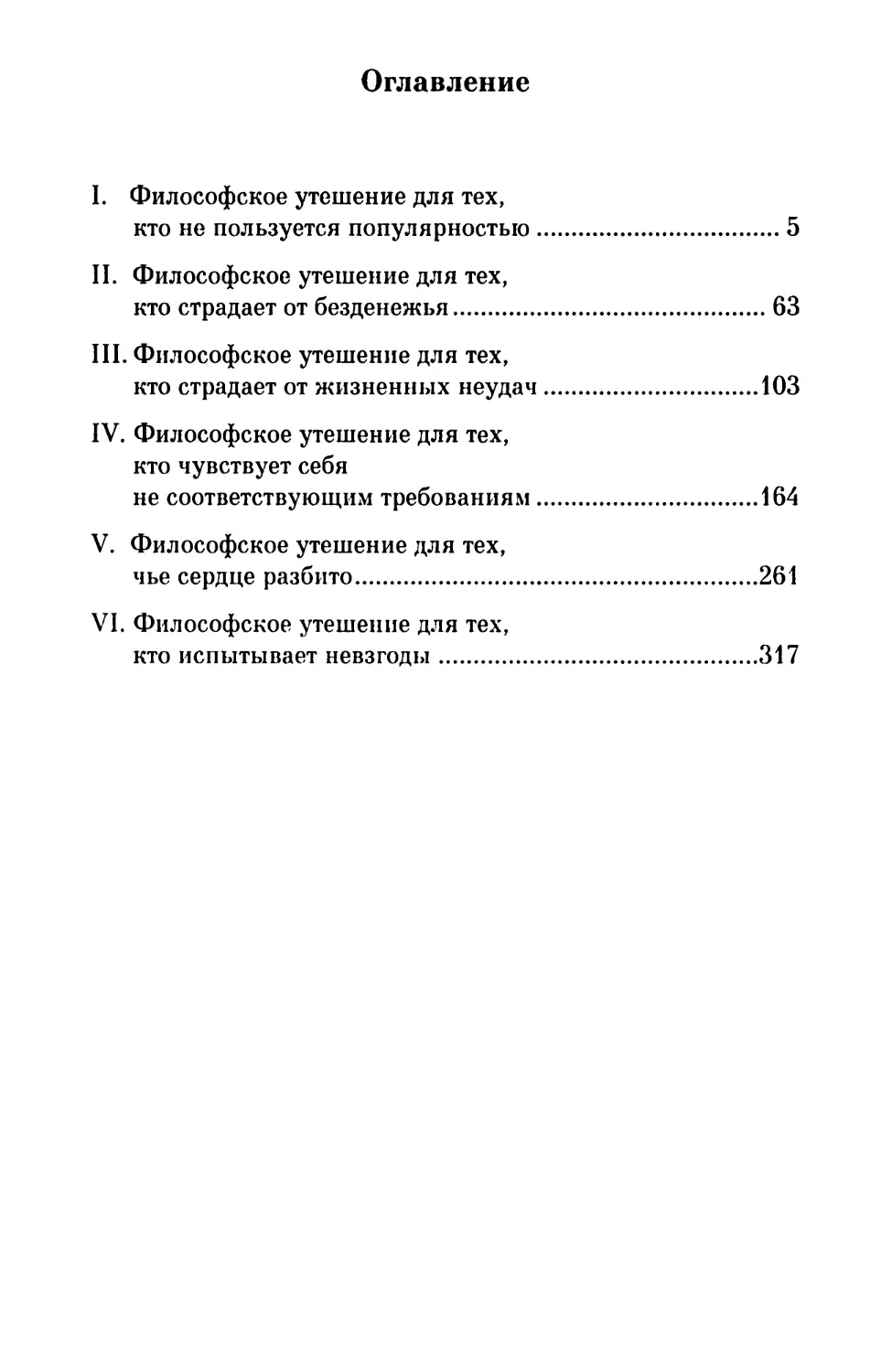Author: Боттон А.
Tags: литература литературоведение этика философия
ISBN: 978-5-699-70881-9
Year: 2014
Text
Ален де Боттон
Утешение
философией
%
pocketoook
H ДЕ Б ОТТО
Утешение
философией
£
ЭКСМО
МОСКВА
2014
УДК 82(1-87)
ББК87.7(4Шва)
Б 86
Alain de Botton
THE CONSOLATIONS OF PHILOSOPHY
Copyright © Alain de Botton, 2000
Оформление серии А. Саукова
Иллюстрация на обложке П. Петрова
Боттоп А. де
Б 86 Утешение философией / Ален де Боттон ;
[пер. с англ. А. Александровой]. — М. : Эксмо,
2014. - 384 с.
ISBN 978-5-699-70881-9
Все люди время от времени попадают в трудные си-
туации. Как обрести уверенность в себе? Как справить-
ся с безответной любовью? Как преодолеть жизненные
трудности?
Философия учит, что через грозовые облака невзгод
всегда пробиваются солнечные лучи. Величайшие мы-
слители с философским спокойствием умели выходить
из самых тяжелых ситуаций, твердо веря, что преодолеть
обстоятельства можно.
В этой книге Алена де Боттопа философия становит-
ся искусством жить.
УДК 82(1-87)
ББК 87.7 (4 Шва)
© Александрова А., перевод на русский язык, 2014
О Издание на русском языке, оформление.
ISBN 978-5-699-70881-9 ООО «Издательство «Эксмо», 2014
I
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
1
Несколько лет назад холодной нью-йоркской
зимой, не зная, куда девать несколько часов
перед отлетом в Лондон, я зашел в безлюдные
залы на верхнем этаже Метрополитен-музея. По-
мещения были ярко освещены, тишину нарушало
лишь успокоительное гудение расположенной под
полом отопительной системы. Пресытившись кар-
тинами импрессионистов этажом ниже, я искал
кафетерий в надежде выпить стакан шоколадного
молока в его американском варианте, пришедшем-
ся мне очень по вкусу, но тут взгляд мой упал на
полотно «Смерть Сократа», которое, как гласила
табличка, было написано в Париже осенью 1786
года тридцативосьмилетним Жаком-Луи Давидом:
Сократ, приговоренный народом Афин к смерти,
готовится выпить чашу с цикутой, окруженный
скорбящими друзьями.
5
Ален де Боттон
Весной 399 года до н. э. трое афинских гра-
ждан привлекли философа к суду за то, что он
не чтит городских богов, вводит новшества в ре-
лигиозные обряды и развращает молодых людей.
Прегрешения были сочтены настолько тяжкими,
что обвинители потребовали смертной казни.
6
Утешение философией
Сократ воспринял обвинения с вошедшим
в легенду спокойствием. Хотя ему была предо-
ставлена возможность отказаться в суде от своей
философии, он предпочел не предавать то, во что
верил, и не согласиться с общепринятым мнени-
ем. Как свидетельствует Платон, он смело заявил
судьям:
«Пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану
философствовать, уговаривать и убеждать всякого
из вас, кого только встречу... Вот почему я могу
вам сказать: афиняне, послушаетесь вы Анита пли
нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе
я не буду, даже если бы мне предстояло умирать
много раз»1.
Он нашел свою смерть в афипской тюрьме, и
кончина его стала определенным рубежом в исто-
рии философии.
Указанием на значение данного события мо-
жет служить то, как часто оно служило сюже-
том картин. В 1650 году французский художник
Шарль-Альфонс Дюфрепуа создал «Смерть Сок-
рата», ныне выставленную в галерее Палатина во
Флоренции (где, кстати, кафетерия нет).
1 Платон. Апология Сократа. 29d. Перевод М. С. Со-
ловьева.
7
Ален де Боттон
В восемнадцатом столетии интерес к смерти
Сократа достиг зенита, особенно после того, как
Дидро привлек внимание к открываемым этим
сюжетом живописным возможностям в своем
«Трактате о драматической поэзии».
Этьен де Лавалле-Пуссен, около 1760
8
Утешение философией
Жак Филипп Жозеф де Сен-Кантен, 1762
Пьер Пейрон, 1790
Жак-Луи Давид получил заказ весной 1786
года от Шарль-Мишеля Трюдена де ла Саблие-
ра, состоятельного члена парламента и одарен-
ного исследователя Древней Греции. Плата была
9
Ален де Боттон
очень щедрой: 6000 ливров вперед и еще 3000 по
окончании работы (Людовик XVI заплатил все-
го 6000 ливров за полотно большего размера —-
«Клятва Горациев»). Когда в 1787 году картина
была выставлена в Салоне, ее сразу же оценили
как наилучшее изображение кончины Сократа.
Сэр Джошуа Рейнольдс счел полотно Давида «на-
иболее изысканным и восхитительным произведе-
нием искусства из тех, которые появились после
Сикстинской капеллы и станц Рафаэля. Картина
сделала бы честь Афинам эпохи Перикла».
Я купил пять открыток с репродукцией карти-
ны Давида в магазине сувениров при музее и по-
зже, пролетая над замерзшими полями Ньюфаун-
дленда, окрашенным^ полной луной в сияющий
зеленый цвет, стал рассматривать их, ковыряя
вилкой бесцветный ужин, поставленный передо
мной стюардессой, когда я имел неосторожность
задремать.
Платон, безмолвный свидетель творимой госу-
дарством несправедливости, сидит у изножья по-
стели, возле него на полу — перо и свиток. К мо-
менту гибели Сократа ему исполнилось двадцать
девять, но Давид превратил его в старца, седого
и мрачного. Через дверь видно, как стражники
уводят из темницы жену Сократа, Ксантиппу. Се-
меро присутствующих друзей философа каждый
по-своему проявляют скорбь. Самый преданный
его последователь, Критон, сидя рядом, смотрит на
учителя с тоской и тревогой. Однако сам философ,
ю
Утешение филоеофией
по воле художника наделенный торсом и бицеп-
сами атлета, сидит прямо и ничем не выказывает
ни страха, ни раскаяния. То обстоятельство, что
многие афиняне осудили его как глупца, ничуть
не поколебало его убеждений. Давид собирался
изобразить Сократа в тот момент, когда он пьет яд,
но поэт Андре Шенье убедил художника, что кар-
тина обретет большее драматическое напряжение,
если показать Сократа заканчивающим философ-
ское рассуждение и одновременно безмятежно
протягивающим руку за чашей с цикутой, которая
оборвет его жизнь, что символизировало и покор-
ность закону Афин, и верность своему призванию.
Мы присутствуем при последних поучительных
мгновениях великой жизни.
Впечатление, которое произвела на меня от-
крытка, было связано, вероятно, с тем, что пове-
дение главного изображенного на ней персонажа
резко контрастировало с моим собственным. При
любом разговоре я в первую очередь стремлюсь
понравиться, а не высказать истину. Желание
быть приятным всегда заставляет меня смеяться
самым незамысловатым шуткам, подобно роди-
телю на школьной самодеятельной постановке.
В общении с незнакомыми людьми я веду себя
предупредительно, как портье, встречающий у
входа в отель состоятельных клиентов. Такой
слюнявый энтузиазм порождается болезненно
неразборчивым желанием вызвать симпатию.
Я никогда вслух не подвергаю сомнению идеи,
11
Ален де Боттон
разделяемые большинством. Общаясь с офици-
альными лицами, я всегда стремлюсь заслужить
их одобрение, а потом долго беспокоюсь о том,
сложилось ли у них обо мне хорошее мнение. Про-
ходя таможенный досмотр или оказавшись рядом
с полицейской машиной, я часто ловлю себя на
конфузливом желании убедить людей в форме в
том, какой я законопослушный гражданин.
Однако философ не согнулся под давлением
осуждения согражданами и приговора государст-
ва. Он не стал брать назад свои слова только по-
тому, что они вызвали жалобы. Его уверенность в
собственной правоте имела более глубокий источ-
ник, чем горячность или упрямство. Она основы-
валась на философии. Именно философия дала
Сократу убеждения, благодаря которым он сумел
противопоставить обвинениям рациональное, а не
истеричное мужество.
Той ночью, когда я летел над заледеневшей
землей, подобная независимость ума стала для
меня откровением и вызовом. Она обещала прев-
ратиться в противовес привычке лениво следовать
одобренным обществом идеям и обычаям. Жизнь
и смерть Сократа явились приглашением прояв-
лять интеллектуальный скептицизм.
В более общей форме идея, самым ярким оли-
цетворением которой стал греческий философ,
заключается в том, чтобы осуществить дело од-
новременно чрезвычайной важности и заслужи-
вающее улыбки: найти мудрость благодаря фило-
софии. Несмотря на глубочайшие расхождения во
12
Утешение философией
взглядах мыслителей, коих на протяжении чело-
веческой истории называли философами (людей
настолько различных, что, окажись они вместе
на гипотетической вечеринке, они не только не
нашли бы, что сказать друг другу, но после не-
скольких рюмок вполне могли бы и подраться),
можно было бы собрать небольшую группу уче-
ных, пусть ее членов и разделяют столетия, более
или менее воспринимающих философию в том
смысле, какой предполагает греческая этимология
слова (phileo — люблю; sophia — мудрость). Эта
группа могла бы объединяться общим интересом
к тому, чтобы учить утешительным и полезным
вещам, которые связаны с причинами наших ве-
личайших печалей. К этим людям я и обращусь.
2
Каждое общество имеет свои установления,
определяющие, во что следует верить и как следует
себя вести, чтобы не подвергнуться подозрению и
осуждению. Иногда такой общественный договор
получает строгую формулировку в своде законов,
иногда представляет собой собрание интуитивно
понятных этических и практических норм, име-
нуемое «здравым смыслом», который и диктует,
что нужно носить, как распоряжаться финансами,
кого уважать, каким правилам этикета следовать,
как организовывать свою домашнюю жизнь. Сом-
нения в этих установлениях кажутся странными,
даже небезопасными.
13
Ален де Боттон
Если здравый смысл не подвергается сомне-
ниям, то как раз потому, что его суждения пред-
ставляются слишком разумными, чтобы в них
особенно вдумываться.
Вряд ли будет уместно, например, в обычном
разговоре поинтересоваться, что же наше общест-
во рассматривает как цель трудовой деятельности,
или попросить молодоженов исчерпывающе пере-
числить соображения, приведшие их к решению
вступить в брак, или потребовать у тех, кто отпра-
14
Утешение философией
вился в отпуск, детального перечисления причин,
побудивших их совершить путешествие.
У древних греков было не меньше, чем у нас,
представлений, основанных на здравом смысле,
и они столь же упорно за них держались. Одна-
жды, роясь в развалах букинистической лавки в
Блумсбери, я наткнулся на серию исторических
книг для детей с множеством фотографий и пре-
красными иллюстрациями. В серию входили, на-
пример, издания «Загляни в египетский город»,
«Загляни в замок». Один из томов — «Загляни
в древнегреческий город» — я и купил заодно с
энциклопедией ядовитых растений.
В книге, посвященной Греции, было описано,
например, какая одежда считалась подходящей
для жителей греческого города-государства в пя-
том веке до н. э.
Говорилось также о том, что греки верили во
множество богов — любви, охоты, войны, плодо-
родия, огня и моря. Прежде чем начать какое-ни-
будь дело, люди возносили богам молитвы в храме
или в домашней молельне и приносили в жертву
15
Ален де Боттон
животных. Это обходилось недешево: Афине пола-
галось жертвовать быка, Артемиде и Афродите —
козла, Асклепию — петуха или хотя бы курицу.
Греки охотно использовали труд рабов. В пя-
том веке до и. э. только в Афинах насчитывалось
до ста тысяч рабов, так что один раб приходился
на каждых трех свободных граждан.
Древние греки были весьма воинственны и
восхищались храбростью на полях сражений.
Чтобы считаться настоящим мужчиной, нужно
было уметь рубить головы врагам. Афинский
16
Утешение философией
солдат, убивающий воина-перса (рисунок на вазе
времен второй персидской войны), служил образ-
цом поведения.
Женщины находились в полной зависимости
от мужа или отца. Они не принимали участия в
политике и общественной жизни, не имели пра-
ва наследовать собственность и владеть деньгами.
Обычно в тринадцать лет девушку выдавали за-
муж, причем супруга выбирал отец, не интересу-
ясь чувствами будущей пары.
17
Ален де Боттон
Все это современникам Сократа представлялось
совершенно нормальным. Они удивились и рассер-
дились бы, если бы их попросили объяснить, почему
нужно приносить петуха в жертву Асклепию или по-
чему мужчина должен убивать, чтобы считаться до-
бродетельным. Такие вопросы показались бы им столь
же нелепыми, как недоумение по поводу того, почему
за зимой следует весна или почему море соленое.
Однако не только враждебность окружающих
мешает нам подвергать сомнению существующий
порядок вещей. Желание задавать вопросы гасится
внутренним чувством, что общественные установ-
ления, должно быть, имеют веские основания, даже
если мы не очень точно знаем, в чем они состоят:
ведь их придерживаются многие и на протяжении
очень длительного времени. Представляется не-
вероятным, чтобы общество ошибалось, а никто,
кроме нас, этого не замечал. Мы подавляем свои
сомнения и следуем за большинством, поскольку
не представляем себя в роли пионеров, пропаган-
дирующих неизвестные, трудные истины.
Помочь в преодолении подобной пассивности
нам может пример древнего философа.
3
1. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Сократ родился в Афинах в 469 году до н. э.;
его отец Софрониск был скульптором, мать Фе-
нарета — повитухой. В юности Сократ учился у
18
Утешение философией
философа Архелая, а впоследствии занимался фи-
лософией, не записывая своих рассуждений. За
свои уроки платы он не брал, в результате чего
впал в бедность; впрочем, материальное благопо-
лучие мало его интересовало. Сократ круглый год
носил один и тот же плащ и почти всегда ходил
босиком (говорили, он родился, чтобы досаждать
сапожникам). Ко времени своей смерти Сок-
рат был женат и имел троих сыновей. Его жена,
Ксантиппа, была весьма сварливой особой (когда
Сократа спросили, почему он на ней женился, он
ответил, что объездчики лошадей выбирают для
обучения мастерству самых норовистых скаку-
нов). Сократ много времени проводил за стенами
дома, беседуя с друзьями в общественных местах
Афин. Его мудрость и юмор высоко ценились, од-
нако восхититься его внешностью было невозмож-
но. Сократ был приземист, лыс и
бородат, со странной раскачиваю-
щейся походкой и лицом, которое
сравнивали с головой краба, сати-
ра или с карикатурой. Нос у него
был приплюснутый, губы толстые,
а над воспаленными глазами на-
выкате нависали кустистые брови.
Однако наиболее любопытной
его чертой была привычка обра-
щаться к афинянам любого об-
щественного положения, возраста
или профессии и требовать, не опа-
19
Ален де Боттон
саясь прослыть опасным чудаком, точного объя-
снения, почему они придерживаются того или
иного общепринятого мнения или что считают
смыслом жизни. Один изумленный полководец
описывал это так:
«Кто слишком близко подходит к Сокра-
ту... и вступает с ним в разговор, тот, с чего
бы ни начал разговаривать, не перестанет спу-
тываться собственной речью, пока не впадет в
необходимость дать отчет, как он живет теперь
и как жил прежде; а когда впадет — Сократ
дотоле не отпустит его, пока не вымучит всех
подробностей»1.
В этом Сократу способствовали климат и рас-
положение города. В Афинах полгода стоит те-
плынь, весьма располагающая к тому, чтобы без
церемоний затевать разговор с первым встречным.
Действия, в северных странах совершавшиеся за
глинобитными стенами мрачных, полных дыма
лачуг, не нужно было прятать от благословенных
аттических небес. Было принято проводить мно-
го времени на агоре, под колоннадами Пестрого
портика или стой Зевса Элевтерия и вечерами
беседовать с незнакомцами, в священное время
досуга между практическими делами дня и ноч-
ными тревогами.
1 Платон. Лахет. 188а. Перевод В. П. Карпова.
20
Утешение философией
Размер города также способствовал общитель-
ности. В самих Афинах и в порту прожива/ю при-
мерно 240 000 человек. Для того чтобы пересечь
город из конца в конец, от Пирея до Эгейских во-
рот, требовалось не больше часа. Жители Афин
чувствовали себя как выпускники одной школы
или гости, присутствующие на свадьбе.
Не только фанатики или пьяные заговаривали
в общественных местах с незнакомыми людьми.
Если мы не подвергаем сомнению status quo,
то это происходит — помимо неблагоприятных
погодных условий или больших размеров горо-
да — из-за привычки считать правильным то, что
является общепринятым. Босоногий философ за-
давал множество вопросов, чтобы определить, есть
ли смысл в общепринятых воззрениях.
21
Ален де Боттон
2. ПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Многих его вопросы раздражали. Кое-кто его
дразнил. Кому-то хотелось его убить. В комедии
«Облака», первое представление которой состоя-
лось весной 423 года до н. э. в театре Диониса,
Аристофан вывел карикатурного философа, отка-
зывающегося признать очевидные вещи без того,
чтобы бесконечно долго не исследовать лежащую
в их основе логику. Актер, игравший Сократа, по-
являлся на сцене в корзине, подвешенной к лебед-
ке, утверждая, будто разум его работает лучше на
большой высоте. Он был так погружен в свои важ-
ные мысли, что не имел времени мыться или за-
ниматься домашними делами, в результате чего от
его плаща воняло, а дома завелись мыши; однако
это не мешало ему рассматривать самые главные
жизненные проблемы. Таковыми являлись: на-
сколько длина прыжка блохи превосходит длину
ее собственного тела? Пищат ли комары ртом или
задним проходом? Хотя Аристофан не дал отве-
тов на вопросы Сократа, у зрителей складывалось
вполне определенное мнение об их важности.
В комедии Аристофана мы узнаем традици-
онную критику в адрес интеллектуалов: вопросы,
которые они рассматривают, уводят их дальше от
разумных взглядов на вещи, чем это случается с
простаками, не заботящимися о том, чтобы си-
стематически анализировать действительность.
Драматург и философ совершенно по-разному
22
Утешение философией
оценивали адекватность общепринятых воззре-
ний. Разумным людям, на взгляд Аристофана,
совершенно достаточно знания о том, что блоха
прыгает далеко, а комар издает писк; поэтому он
обвинял Сократа в маниакальной подозрительно-
сти по отношению к здравому смыслу и в извра-
щенном стремлении к нескончаемым пустопорож-
ним умствованиям.
На это Сократ отвечал, что в некоторых случа-
ях, не обязательно в отношении блох и комаров,
мнения, основанные на здравом смысле, заслу-
живают более внимательного рассмотрения. Даже
краткие беседы со многими афинянами на тему о
том, как вести праведную жизнь, показали, что
взгляды, считающиеся нормальными и поэтому
бесспорные для большинства, обнаруживают рази-
тельные несоответствия, несмотря на уверенный
тон их сторонников. В отличие от того, что изо-
бражал Аристофан, выходило, что
многие собеседники Сократа плохо Л
представляли себе, о чем говорят.
3. ДВЕ БЕСЕДЫ
Однажды вечером в Афинах, как о том говорит-
ся в диалоге Платона «Лахет», философ встретил-
ся с двумя уважаемыми полководцами, Никием и
Лахетом. Полководцы сражались со спартанцами
в битвах Пелопоннесской войны и заслужили ува-
жение старейшин и восхищение молодежи Афин.
23
Ален де Боттон
Обоим предстояло погибнуть в сражении: Лахету
в битве при Мантинее в 418 году до н. э., Никию
во время неудачной экспедиции на Сицилию в
413 году до н. э. Их изображений не сохранилось,
хотя существует гипотеза, что это именно они за-
печатлены в виде двух сражающихся всадников
на фризе Парфенона.
Полководцы были убежденными сторонниками
здравого смысла. Они полагали, что, для того чтобы
быть мужественным, нужно вступить в армию, бить-
ся и убивать противников. Повстречав их на улице,
Сократ пожелал задать им несколько вопросов.
«Сократ: Давай же, Лахет, прежде всего
скажем, что такое мужество.
Лахет: Это, клянусь Зевсом, нетрудно.
Кто решился удерживать свое место в строю',
отражать неприятеля и не бежать, тот верно
мужествен»1.
1 Платон. Лахет. 190е— 191а. Перевод В. П. Карпова.
24
Утешение философией
Сократ, однако, напомнил собеседнику, что
в битве при Платее в 479 году до н. э. греческое
войско под командованием спартанского царя
Павсания сначала отступило, но потом, воспрянув
духом, разбило персидскую армию под командо-
ванием Мардония.
«Сократ: Лакедемоняне, при Платее,
встретившись со щитоносцами, не хотели, го-
ворят, сражаться с ними на одном месте, а по-
бежали. Когда же через это персидские линии
расстроились, они, подобно всадникам, вдруг
возвратились и, сразившись, одержали победу»1.
Лахету пришлось задуматься, но ему снова
на помощь пришел здравый смысл, и он ответил,
что мужество зависит от твердости. Твердость,
возразил ему Сократ, может быть использована
второпях, и, чтобы отличить истинное мужество
от горячности, требуется еще какой-то элемент.
Спутник Лахета Никий под влиянием вопросов
Сократа предположил, что мужество включает
знание, умение отличить хорошее от дурного и не
всегда ограничено военными действиями.
Таким образом, в короткой беседе на улице
была вскрыта неадекватность стандартного по-
нимания добродетели, которую афиняне ценили
очень высоко. Общее мнение не принимало во
1 Там же. 191 с.
25
Ален де Боттон
внимание возможность проявления мужества
не на поле боя и важность соединения знания
с твердостью. Предмет спора мог бы показаться
ничтожным, однако следствия правильного или
неправильного представления оказывались ог-
ромными. Если полководец был приучен думать,
будто приказать войску отступить — значит про-
явить трусость, даже когда отступление было бы
весьма разумным маневром, то обретение более
широкого взгляда предоставляло ему выбор и за-
каляло против критики.
В диалоге Платона «Менон» Сократ снова изо-
бражен беседующим с человеком, который абсо-
лютно убежден в справедливости здравого смысла.
Менон, высокомерный аристократ, прибыл в Атти-
ку из Фессалии с твердо сложившимся убеждени-
ем, будто деньги имеют прямое отношение к добро-
детели. Чтобы быть добродетельным, объясняет он
Сократу, нужно иметь много денег, а бедность —
скорее личный недостаток, чем случайность.
26
Утешение философией
Портрета Менона не существует, однако, прос-
матривая греческий журнал для мужчин в вести-
бюле афинского отеля, я подумал, что он мог бы
походить на человека, пьющего шампанское в
подсвеченном плавательном бассейне.
«Добродетельный человек, — снисходительно
поучает Сократа Менон, — это тот, кто настолько
богат, что может позволить себе творить добрые
дела». В ответ философ начинает задавать вопросы.
«С о к р а т: А разве благом ты называешь не
здоровье, или богатство, или еще что-нибудь в
том же роде?
Менон: Конечно, это благо — накопить
золота и серебра и достичь почестей и власти
в государстве.
Сократ: Именно это, и ничто другое, счи-
таешь ты благом?
Менон: Да, именно такие вещи я и имею
в виду.
Со крат:...А не добавишь ли ты, Менон,
говоря о такой прибыли, слова «справедливая»
и «честная»? Или ты не видишь тут никакой
разницы, и даже тогда, когда богатство нажито
нечестным путем, ты называешь это доброде-
телью?
Менон: Ни в коем случае, Сократ!
Сократ: Значит, ты называешь это по-
роком?
Менон: Конечно.
27
Ален де Боттон
Сократ: Как видно, надо, чтобы всегда и
везде этой прибыли сопутствовала справедли-
вость, рассудительность, честность или какая-
либо иная часть добродетели... А не приобре-
тать ни золота, ни серебра ни для себя, ни для
другого, когда это несправедливо, — не будет
ли тут сам отказ от прибыли добродетелью?
Менон: Будет, наверное.
Сократ: Значит, в приобретении подоб-
ных благ ничуть не больше добродетели, чем
в отказе от них; добродетельно же, видимо, то,
что делается по справедливости, а что чуждо
всему этому, то порочно.
Менон: По-моему, иначе, чем ты гово-
ришь, и не может быть»1.
За несколько мгновений Менону было показа-
но, что деньги и влиятельность сами по себе не яв-
ляются необходимыми и достаточными условиями
добродетели. Богатые люди могут быть достойны
восхищения, но это зависит от того, каким путем
добыли они свое богатство, так же как бедность
сама по себе ничего не говорит о нравственности
человека. Нет никакой причины богатому считать,
что собственность гарантирует его добродетель,
как нет причины бедному думать, будто нужда —
признак развращенности.
1 Платон. Менон. 78с-79а. Перевод С. А. Ошерова.
28
Утешение философией
4. ПОЧЕМУ ДРУГИЕ
МОГУТ НЕ ЗНАТЬ
Слова диалога, вполне возможно, устарели, но
содержащаяся в них мораль не устаревает: другие
люди могут ошибаться, даже если они занимают
высокое положение, даже если они высказывают
мнение, которого на протяжении столетий при-
держивалось большинство. Причина этого проста:
они не исследовали то, во что верят, с позиций
логики.
Менон и полководцы придерживались ложных
идей, потому что усвоили общепринятые нормы,
не проверив их логически. Чтобы показать стран-
ность такой пассивности, Сократ сравнивал жизнь
без постоянных систематических размышлений с
работой гончара или сапожника, которые не вы-
полняют или даже не знают технических прие-
мов. Никому не придет в голову, что хорошая ваза
или хороший башмак получатся, если следовать
исключительно интуиции; так почему же позво-
лено думать, будто гораздо более сложная зада-
ча — управление собственной жизнью — может
быть выполнена без основательного размышления
о соответствующих предпосылках и целях?
Вполне вероятно, так происходит потому, что
мы не считаем управление собственной жизнью
таким уж сложным. Некоторые трудные действия
внешне действительно кажутся трудными, в то
время как другие, не менее трудные, представля-
29
Ален де Боттон
ются легкими. Приобретение здравых взглядов на
жизнь попадает во вторую категорию, в то время
как изготовление вазы или башмака — в первую.
Изготовление вазы и правда было нелегким
делом. Глину сначала нужно было привезти в
Афины, обычно из большого карьера на мысе
Колиас в семи милях к югу от города, затем по-
местить ее на гончарный круг и вращать его со
скоростью 50-150 оборотов в минуту (скорость
вращения должна быть обратно пропорциональна
диаметру изготавливаемой части сосуда: чем она
тоньше, тем быстрее нужно вращать круг). Затем
приходила очередь обтирания губкой, удаления
налипшей глины, приделывания ручек.
зо
Утешение философией
Затем, когда ваза немного подсохнет, нужно
было ее покрыть черной глазурью, изготовляв-
шейся из плотной, тонко перемолотой глины в
смеси с поташом. Когда глазурь высыхала, вазу
помещали в печь и обжигали при температуре
800 °C при открытом вентиляционном отверстии.
Глина затвердевала и приобретала темно-кра-
сный цвет благодаря образованию оксида железа
(Fe2O3); после этого температуру обжига доводили
до 950 °C, вентиляционное отверстие закрывали, а
в печь добавляли мокрые листья для создания не-
обходимой влажности. В результате материал вазы
приобретал серо-черный оттенок, а глазурь — чер-
ный с металлическим отливом благодаря образо-
st
Ален де Боттон
ванию магнетита (Fe3O4). Через несколько часов
вентиляционное отверстие снова открывали, ли-
стья удаляли, а температуре позволяли снизиться
до 900 °C. При этом глазурь оставалась черной,
как после второй стадии обжига, а сам материал
вазы снова делался темно-красным.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что
афиняне не брались легкомысленно за изготов-
ление собственных ваз. Гончарное ремесло дейст-
вительно такое трудное, каким кажется. К несча-
стью, такое уважительное и серьезное отношение
не распространяется на обретение здравых этиче-
ских идей — оно адресовано к простым на повер-
хностный взгляд, но по своей природе сложным
видам деятельности, доставляющим немало бес-
покойства.
Сократ учит нас не пасовать перед самоуверен-
ностью людей, пренебрежительно относящихся к
этой сложности и составляющих свои представ-
ления даже без того труда, которого требует ов-
ладение мастерством гончара. То, что объявляется
очевидным и «естественным», редко бывает тако-
вым в действительности. Понимание этого должно
научить нас взгляду на мир как на нечто более
переменчивое, чем кажется, потому что устано-
вившиеся мнения часто появляются не в резуль-
тате безупречного рассуждения, а благодаря векам
интеллектуальной путаницы.
32
Утешение философией
Вполне может оказаться, что оснований для
того, чтобы все оставалось как есть, и не суще-
ствует.
5. КАК МЫСЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Философ не только помогает нам понять, что
другие могут ошибаться, он дает нам простой
способ самим определить, что правильно, а что
нет. Немногие мыслители видели такой минимум
необходимого для начала осмысленной жизни.
Для этого не требуется долгих лет формального
образования или углубленного созерцания. Лю-
бой человек, ум которого любознателен и упоря-
дочен, который стремится подвергнуть проверке
представления здравого смысла, может начать
разговор с другом па городской улице и, следуя
методу Сократа, за полчаса опровергнуть одну-две
идеи, казавшиеся незыблемыми.
Именно этот метод рассмотрения того, что го-
ворит здравый смысл, заметен как во всех ранних
диалогах, так и в зрелых произведениях Плато-
на и, поскольку организован в виде логической
последовательности, может быть без помех ис-
пользован в учебнике или инструкции; может он
также применяться при анализе любого мнения,
с которым вас призывают согласиться или против
которого вы восстаете. Справедливость суждения,
в силу которого что-либо утверждают, не может,
учит Сократ, определяться тем, придерживаются
зз
Ален де Боттон
ли его на протяжении длительного времени боль-
шинство или влиятельные лица. Верное сужде-
ние — это такое, которое не может быть опровер-
гнуто рациональными доказательствами.
Если же его можно опровергнуть, то сколько
бы людей его ни разделяли, какие бы авторитеты
ни защищали, такое суждение едва ли верно, и мы
имеем все основания усомниться в нем, а заодно
и в опирающемся на него утверждении.
Сократовский метод рассуждения
1. Выберите утверждение, которое, по общему
мнению, соответствует здравому смыслу.
Мужественное поведение не допускает
отступления в битве.
Чтобы быть добродетельным, нужно
быть богатым.
2. Представьте себе, что, несмотря на уверен-
ность человека, утверждающего это, утвер-
ждение неправильно. Найдите ситуацию
или контекст, в которых утверждение не
будет выполняться.
Может ли все же мужественный человек
отступить в битве?
Может ли человек, не отступивший в
битве, не быть мужественным?
34
Утешение философией
Может, ли человек, имеющий много де-
нег, не быть добродетельным?
Может ли человек, у которого нет денег,
быть добродетельным?
3. Если исключение обнаружено, следователь-
но, утверждение неверно или, по крайней,
мере неполно.
Можно быть мужественным, но отсту-
пить в битве.
Можно не быть мужественным, но в
битве не отступить.
Можно иметь много денег, но быть мо-
шенником.
Можно быть бедным, но добродетель-
ным.
4. Исходное утверждение должно быть измене-
но так, чтобы учитывать и исключения.
Мужество можно проявить и в отсту-
плении, и во время битвы.
Люди, имеющие много денег, могут быть
названы добродетельными, только если они
добыли богатство честным путем, а бедные
люди могут быть добродетельными, если
отказались от богатства, которое можно
было добыть, только пожертвовав честно-
стью.
35
Ален де Боттон
5. Если для исправленного утверждения ока-
зывается возможным найти исключения,
процесс следует повторить. Истина в той
мере, в какой человек способен ее обнару-
жить, лежит в утверждении, которое невоз-
можно опровергнуть. Обнаружение того, чем
тот или иной предмет не является, ближе
всего подводит к пониманию того, чем он
является.
6. Результат размышлений, несмотря на все ин-
синуации Аристофана, превосходит интуи-
тивное представление.
Можно, конечно, установить истину и без фи-
лософских рассуждений. И без использования
сократовского метода мы способны понять, что
бедные люди могут быть добродетельными, если
отказались от богатства, которое можно было до-
быть, лишь пожертвовав честностью, или что му-
жество может проявляться и в отступлении, и в
наступлении во время битвы. Однако мы риску-
ем не догадаться, как следует возразить тем, кто
с нами не согласен, если не рассмотрим возмож-
ные возражения на наше мнение логически. Нас
могут заставить умолкнуть влиятельные люди,
категорически утверждающие, что только богат-
ство делает человека добродетельным или что во
время битвы отступают лишь маменькины сын-
ки. Не имея контраргументов, которые усилили
36
Утешение философией
бы нашу позицию (примеров битвы при Платее
или обогащения в коррумпированном обществе),
мы окажемся вынуждены уныло или сварливо
твердить, что чувствуем свою правоту, хотя и не
можем объяснить почему.
Сократ называл правильное представление, не
сопровождаемое умением рационально опровер-
гать возражения, верным мнением и делал сравне-
ние не в его пользу со знанием, которое включает
не только понимание того, почему определенное
утверждение верно, но также и того, почему аль-
тернативы ему неверны. Сократ сравнивал два
эти варианта с прекрасными статуями великого
скульптора Дедала. Истина, полученная благода-
ря интуитивному озарению, подобна статуе, уста-
новленной на открытом месте без опор, так что
сильный ветер может ее опрокинуть.
37
Ален де Боттон
Однако истине, поддержанной доказательст-
вами и знанием, как опровергнуть возражения,
подобно статуе, закрепленной канатами, непогода
не страшна.
Сократовский метод рассуждений открывает
перед нами путь составления мнений, на котором,
даже если мы попадем в бурю, мы сможем чувст-
вовать себя в полной безопасности.
4
На семидесятом году жизни на Сократа обру-
шилась беда. Трое афинян — поэт Мелет, политик
Анит и оратор Ликон — нашли, что он — стран-
ный и вредный обществу человек. Они утвержда-
ли, что Сократ не чтит городских богов, разрушает
общественные установления Афин и настраивает
молодежь против отцов. Они сочли, что Сократа
следует заставить замолчать, а может быть, даже
казнить.
В Афинах были установлены определенные
процедуры, чтобы можно было отличить правиль-
ное от неправильного. С южной стороны агоры
находился суд гелиеи1 — большое здание с дере-
вянными скамьями для судей на одном конце и с
возвышением для обвинителей и защитников —
1 Суд гелиеи — выделившийся из Народного со-
брания Афин народный суд, выбиравшийся по жребию из
списка кандидатов, в которые мог записаться любой сво-
бодный афинянин начиная с двадцатилетнего возраста.
38
Утешение философией
на другом. Судебные заседания начинались с
выступлений истцов, за которыми следовали речи
защитников. Затем суд, включавший от 200 до 2500
человек, голосованием решал дело в пользу истца
или ответчика. Такой метод вынесения решений
был распространен в политической и обществен-
ной жизни полиса. Два или три раза в месяц все
мужчины, граждане Афин, числом примерно 30 000,
человек, собирались на холме Пникс к юго-западу
от агоры и решали важные государственные дела,
голосуя поднятием рук. Для города мнение боль-
шинства населения было равнозначно истине.
В день суда над Сократом судьями были 500
достопочтенных граждан. Обвинители начали с
утверждения, что перед судьями стоит бесчестный
человек: он испытует явления подземного мира и
небес, он еретик, он прибегает к нечестным рито-
рическим приемам, чтобы при их помощи слабы-
ми аргументами победить более сильные, а также
оказывает губительное влияние на молодежь, на-
меренно развращая ее своими беседами.
Сократ попытался ответить на обвинения. Он
объяснил, что никогда пе высказывал никаких
теорий о небесах, никогда не изучал того, что
скрыто под землей, что он не является еретиком
и глубоко чтит богов, что он никогда не развра-
щал афинскую молодежь — дело было просто в
том, что некоторые сыновья богатых отцов, имея
много свободного времени, подражали ему, зада-
вая вопросы, и раздражали влиятельных людей,
39
Ален де Боттон
выставляя тех невеждами. Если он кого и растлил,
то сделал это неумышленно, поскольку нет смы-
сла по доброй воле оказывать вредное влияние на
собеседников, рискуя тем, что они причинят вред
тебе самому. А если он развращал людей лишь
ненамеренно, тогда правильнее было бы дать ему
совет, чтобы он исправился, а не подвергать его
суду.
Сократ признал, что вел жизнь, которая может
показаться странной:
«[Я] пренебрег всем тем, о чем заботится
большинство, — корыстью, домашними де-
лами, военными чинами, речами в Народном
собрании, участием в управлении, в загово-
рах, в восстаниях, какие бывают в нашем
городе»1.
Впрочем, его занятия философией были
вызваны простым желанием исправить жизнь
афинян:
«[Я старался] убедить каждого из вас не
заботиться о своих делах раньше и больше, чем
о себе самом и о том, чтобы самому стать как
можно лучше и разумнее»1 2.
1 Платон. Апология Сократа. 36b. Перевод М. С.
Соловьева.
2 Платон. Апология Сократа. 36d. Перевод М. С.
Соловьева.
40
Утешение философией
Такова его преданность философии, объяснял
Сократ, что он не смог бы отказаться от нее, даже
если бы судьи сделали это условием его оправ'1-
дания:
«[Я буду говорить] то самое, что обычно го-
ворю: «Ты, лучший из людей, раз ты афинянин,
гражданин величайшего города, больше всех
прославленного мудростью и могуществом, не
стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их
у тебя было как можно больше, о славе и о
почестях, а о разуме, об истине и о душе своей
не заботиться и не помышлять, чтобы она была
как можно лучше?» И если кто из вас станет
спорить и утверждать, что он заботится, то я не
отстану и не уйду от него тотчас же, а буду его
расспрашивать, испытывать, уличать... Так я
буду поступать со всяким, кого только встре-
чу, с молодым и старым, с чужеземцами и с
вами — с вами особенно, жители Афин»1.
Теперь пришел черед 500 судьям принять ре-
шение. После недолгих раздумий 220 сочли, что
Сократ невиновен; 280 думали иначе. На это фи-
лософ заметил с кривой улыбкой: «Я не думал, что
разница будет столь мала». Однако самообладания
он не утратил, не проявил ни колебаний, ни па-
1 Там же. 29d.
41
Ален де Боттон
ники, не усомнился в философских положениях,
которые большинством в 56% голосов были объ-
явлены неправильными.
Если мы не можем сравниться с Сократом в
самообладании, если склонны начинать рыдать от
нескольких резких слов по поводу нашего харак-
тера или достижений, это может быть следствием
того, что одобрение окружающих составляет осно-
ву нашей уверенности в собственной правоте. Мы
видим основание придавать весьма большое зна-
чение своей непопулярности не только по причи-
нам прагматического характера — продвижения
по службе или даже выживания, — но главным
образом потому, что осуждение служит для нас
доказательством наших заблуждений.
Сократ сказал бы, что порой мы оказываемся
неправы и должны усомниться в своих взглядах,
по он добавил бы основное соображение, опро-
вергающее зависимость истинности чьего-либо
мнения от его популярности: ошибки в наших
представлениях и поступках ни в коей мере не
42
Утешение философией
доказываются тем обстоятельством, что мы стол-
кнулись с несогласием.
Беспокоить нас должно не число тех, кто с
нами не согласен, а то, насколько вески их до-
воды. Поэтому внимания заслуживает не сама по
себе непопулярность, а ее причины. Может быть,
и страшно услышать, что большинство в обществе
считает нас неправыми, но прежде, чем отказаться
от собственной позиции, мы должны рассмотреть
метод, благодаря которому наши оппоненты при-
шли к своим выводам. Именно его обоснованность
определяет вес, который мы придадим возражени-
ям противников.
Мы часто страдаем от противоположной тен-
денции: прислушиваться к каждому, беспокоиться
по поводу любого злого слова или саркастическо-
го замечания. Мы не задаем себе самого карди-
нального и одновременно самого утешительного
вопроса: на каком основании стали мы объектом
осуждения? Мы с равной серьезностью воспри-
нимаем справедливые, хотя и жесткие замечания
критика и поношения, рожденные мизантропией
или завистью.
Всегда следует, не торопясь, разобраться в том,
, что лежит за критикой. Как учил Сократ, основы
умозаключений, хотя и тщательно замаскирован-
ные, могут быть совершенно ложными. Под вли-
янием настроения наши критики могут прийти к
неверным заключениям, действовать под влия-
нием импульса или предвзятости и использовать
43
Ален де Боттон
свой статус для утверждения собственного мне-
ния. Они могут строить свои заключения подобно
пьяному гончару-любителю.
К несчастью, в отличие от гончарного дела,
чрезвычайно трудно отличить доброкачественный
продукт размышлений от неудачного. Нетрудно
сказать, какой горшок сделан пьяным ремеслен-
ником, а какой — его трезвым коллегой.
44
Утешение философией
Гораздо труднее с ходу определить, какое ут-
верждение верно.
ТЕ cppdvipoc; картер(а fioriv Av6peia. Av6peio<; Sori 6с; Av £v те pevwv pdxqrat roic; noXepiotc;.
Мужество — это разумная твердость. Человек, сражающийся с врагом в рядах войска, обладает мужеством.
Неверная мысль, высказанная с апломбом,
но без указаний на то, как она возникла, может
па время показаться вполне здравой. Однако мы
проявляем необоснованное почтение к другим,
если сосредоточиваемся исключительно на чужих
заключениях: поэтому-то Сократ и призывал об-
ращать в первую очередь внимание на логику, ко-
торая использовалась, чтобы к ним прийти. Даже
если мы не можем избегнуть нежелательных по-
следствий противостояния, мы, по крайней мере,
будем избавлены от унизительного чувства, что
ошибались.
Такая идея впервые возникла задолго до суда,
в беседе Сократа с Полом, известным сицилий-
ским учителем риторики, посетившим Афины.
Пол придерживался радикальных политических
взглядов, в справедливости которых горячо пытал-
ся убедить Сократа. Учитель риторики утверждал,
что для человека нет более счастливой участи, чем
быть тираном, поскольку тиран может делать что
45
Ален де Боттон
пожелает: бросать своих врагов в темницу, отби-
рать их имущество и казнить их.
Сократ вежливо выслушал его, потом при-
вел ряд логических аргументов, чтобы показать:
счастье заключается в добрых делах. Однако Пол
уперся и стал доказывать свое мнение, ссылаясь
на то, что тиранам часто поклоняется большое
число людей. Он привел в пример Архелая, царя
Македонии, который убил своего дядю, двоюрод-
ного брата и семилетнего наследника престола,
но продолжал пользоваться одобрением и под-
держкой афинян. Число людей, восхищающихся
Архелаем, заключил Пол, — доказательство того,
что его мнение о тирании верно.
Сократ любезно согласился, что, возможно, не-
трудно найти людей, которым нравится Архелай,
и не так легко найти кого-нибудь, кто считал бы,
что добрые дела приносят счастье:
«Чуть ли не все афиняне и чужеземцы под-
держат тебя, если ты пожелаешь выставить
против меня свидетелей, и скажут, что я не-
прав. В свидетели к тебе пойдет, если пожела-
ешь, Никий, сын Никерата, с братьями — это
их треножники стоят один подле другого в свя-
тилище Диониса, — пойдет, если пожелаешь,
Аристократ, сын Скеллйя, чей прославленный
дар красуется в святилище Аполлона Пифий-
46
Утешение философией
ского, пойдет весь дом Перикла или иной
здешний род, какой пожелаешь выбрать»1.
Однако Сократ решительно возражал против
того, что широкая поддержка мнения Пола сама
по себе доказывает его правоту:
«Милый мой, ты пытаешься опровергать
меня по-ораторски, по образцу тех, кто держит
речи в судах. Ведь и там одна сторона счита-
ет, что одолела другую, если в подтверждение
своих слов представила многих и вдобавок
почтенных свидетелей, а противник — одного
какого-нибудь или же вовсе никого. Но для
выяснения истины такое опровержение не дает
ровно ничего: бывает даже, что невинный ста-
новится жертвою лжесвидетельства многих и
как будто бы не последних людей»1 2.
Настоящая достоверность произрастает не из
желания большинства, а из правильности рас-
суждений. Собравшись сделать вазу, следует
прислушаться к совету тех, кто знает, что при
надлежащей температуре глазурь становится про-
чнейшим покрытием. Когда мы строим корабль,
нас должно волновать мнение тех, кто констру-
ирует триремы, а когда обдумываем этические
проблемы нас не должны смущать неправильные
рассуждения, даже если они исходят от учителей
1 Платон. Горгий. 472а-Ь. Перевод С. П. Маркиша.
2 Там же. 471е-472а.
47
Ален де Боттон
риторики, грозных полководцев или разряженных
аристократов из Фессалии.
Слова Сократа кажутся слишком жесткими,
хотя и в самом деле не каждый заслуживает того,
чтобы к нему прислушивались. Однако в позиции
Сократа не было ни следа снобизма или предубе-
жденности. Он мог проявлять дискриминацию в
отношении взглядов, но в основе ее лежали не
принадлежность высказывающего эти взгляды к
определенному классу или богатство, не военные
заслуги или национальность, а здравые рассужде-
ния, которые — как подчеркивал Сократ — явля-
ются способностью, доступной всем.
Чтобы следовать примеру Сократа, нужно,
столкнувшись с чьим-либо несогласием, действо-
вать как атлет, тренирующийся к Олимпийским
играм. Дальнейшая информация о спорте почер-
пнута из книги «Загляни в древнегреческий го-
род».
/ Wk" . ja*. е
48
Утешение философией
Представьте себе, что вы — атлет. Учитель
гимнастики предложил вам для улучшения ре-
зультатов в метании копья делать упражнения,
направленные на укрепление бедер. Упражнения
заключаются в том, чтобы стоять на одной ноге и
поднимать при этом груз. Это кажется странным
случайным зрителям, которые начинают смеяться
и предсказывать, что так вы лишаетесь шанса на
победу. В бане до вас долетают слова одного че-
ловека другому — что мы hp-rv peXei paXXov то та
акёХт) каХаEmSeiKvovaiЁто0ot|0£tvтелбХы.лродtv
OX,vp7uoviKT|v (больше интересуемся тем, чтобы по-
хваляться мускулами бедер, чем тем, как помочь
своему городу выиграть Игры). Слышать это ужа-
сно неприятно, но у вас нет никаких оснований
впадать в панику — достаточно прислушаться к
беседе Сократа с его другом Крнтоном:
«С о к р а т: Ну, а как бы мы решили такой
вопрос: человек, занимающийся гимнастикой,
обращает внимание на любое мнение — и по-
хвалу, и порицание всякого человека или толь-
ко одного — врача или учителя гимнастики?
К р и т о и: Только его одного.
Сократ: Значит, этому человеку надо бо-
яться порицаний и радоваться похвалам его
одного, а не большинства?
К р и т о н: Очевидно.
Сократ: Стало быть, он должен действо-
вать, упражнять свое тело, есть и пить только
49
Ален де Боттон
так, как это кажется нужным тому, кто к этому
делу приставлен и понимает в нем, а не так,
как это кажется нужным всем остальным»1.
Ценность критики зависит от того, как рассу-
ждают критики, а не от их числа или статуса:
«Так посмотри же, разве неправильно, по-
твоему, говорят люди, что не все человеческие
мнения — и не всех людей одинаково — следу-
ет ценить, но одни мнения надо уважать, а дру-
гие — нет... Полезные мнения нужно ценить,
а вредные — не нужно... Полезные мнения —
это мнения людей разумных, вредные — не-
разумных... Стало быть, друг мой, мы должны
не столько заботиться о том, что скажет о нас
большинство, сколько о том, что скажет о нас
человек, понимающий, что справедливо и что
несправедливо»1 2.
Судьи на скамьях суда гелиеи не были такими
людьми. Среди них было больше, чем обычно, ста-
риков и раненных в сражениях воинов, которые
смотрели на участие в суде как па легкий способ
заработать несколько лишних монет. Им платили
по три обола в день, меньше, чем получал любой
работник, но и такая сумма бывала кстати, если
тебе — шестьдесят три и дома скучно. Чтобы ока-
1 Платон. Критом. 47b. Перевод М. С. Соловьева.
2 Платон. Критом. 47а-48а. Перевод М. С. Соловьева.
50
Утешение философией
заться среди судей, достаточно было иметь афин-
ское гражданство, пребывать в здравом уме и не
иметь долгов; впрочем, здравость ума определя-
лась не по сократовским критериям, а скорее по
способности пройти по прямой линии и назвать
свое имя. Судьи часто засыпали посреди слуша-
ний, редко имели опыт в сходных делах и не знали
законов; им не объясняли, чем нужно руководст-
воваться при вынесении приговора.
Люди, собравшиеся судить Сократа, имели
сильные предубеждения против него. На них
произвела впечатление карикатура на Сократа,
нарисованная Аристофаном, они полагали, что
философ виноват в несчастьях, выпавших на долю
когда-то могущественного города на рубеже сто-
летий. Пелопоннесская война закончилась для
Афин катастрофой, спартанцы в союзе с персами
поставили их на колени, город пережил осаду,
его флот был уничтожен, а владения захвачены.
В беднейших районах свирепствовали эпидемии,
демократия стала жертвой тиранов, казнивших
тысячи граждан. Врагам Сократа не казался слу-
чайностью тот факт, что многие из тиранов одно
время были его учениками. Критий и Хармид об-
суждали с Сократом вопросы этики, но почерпну-
ли из них, казалось, только кровожадность.
Что могло привести к столь плачевному па-
дению? Почему величайший город Эллады, кото-
рый за восемьдесят лет до того победил Персию на
суше в битве у Платеи и на море при Ми кале, ока-
зался вынужден терпеть такие унижения? Злокоз-
51
Ален де Боттон
ненность человека в грязном плаще, бродившего
по улицам и задававшего вопросы об очевидном,
представлялась явным, хотя и лишенным всякого
смысла объяснением.
Сократ понимал, что обречен. У него даже не
было времени представить свои доводы. Обвиняе-
мому давали всего несколько минут па обращение к
судьям — пока в клепсидре суда не вытечет вся вода:
«Я убежден, что ни одного человека не обижаю
умышленно, но убедить в этом вас я не могу, пото-
му что мы мало времени беседовали друг с другом.
Мне думается, вы бы убедились, если бы у нас, как
у других людей, существовал закон решать вопрос
о смертной казни в течение нескольких дней, а не
одного; сейчас не так-то легко за короткое время
опровергнуть тяжелую клевету»1.
Целью афинского суда не было установление
истины. Он представлял собой сборище стариков
1 Платон. Апология Сократа. 37а-Ь. Перевод М. С. Со-
ловьева.
52
Утешение философией
и калек-ветеранов, мнения которых вовсе не были
следствием рациональных размышлений; они
лишь с нетерпением ждали, когда вода из одного
сосуда перетечет в другой.
Должно быть, это было нелегко: найти в та-
ких обстоятельствах силу не склониться перед
мнением других; подобную силу Сократ мог обре-
сти только в результате многих лет, проведенных
в беседах с простыми афинянами. Сократ не был
своенравен, он не отвергал взгляды противников
как мизантроп: это противоречило бы его вере в
потенциальную разумность любого человеческого
существа. Однако всю жизнь он вел разговоры с
афинянами; он знал, как работает их ум, знал, что,
к несчастью, афиняне зачастую не думают вовсе,
хотя и надеялся, что когда-нибудь это изменится.
Он видел, что они склонны занимать ту или иную
позицию по капризу и следовать общепринятым
мнениям, не подвергая их сомнению. С его сторо-
ны твердость в момент величайшей опасности не
была высокомерием. Сократ обладал свойственной
разумному человеку, который понимает, что его
противники не склонны мыслить рационально,
уверенностью в себе, хотя и не утверждал, что его
собственные убеждения неизменно правильны.
Осуждение со стороны судей могло его убить;
оно не могло сделать его неправым.
Конечно, Сократ мог отказаться от своей фи-
лософии и спасти себе жизнь. Даже после того,
как он был признан виновным, он мог избегнуть
53
Ален де Боттон
смертного приговора, но лишился такой возмож-
ности из-за собственной непреклонности. Нам не
стоит искать у Сократа совета о том, как избежать
смертного приговора; мы должны видеть в нем
величайший пример того, как сохранить веру в
разумные взгляды, когда им противопоставляются
нелогичные возражения.
Речь философа на суде закончилась прочувст-
вованным финалом:
«Ведь если вы меня казните, вам нелегко бу-
дет найти еще такого человека, который попро-
сту — хоть и смешно сказать — приставлен бо-
гом к нашему городу, как к коню, большому и
благородному, но обленившемуся от тучности и
нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-
нибудь овод... Меня вы можете сохранить, если
мне поверите. Но очень может статься, что вы,
рассердившись, как люди, внезапно разбуженные
ото сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете,
послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную
вашу жизнь проведете в спячке»1.
Сократ не ошибся. Когда магистрат потребовал
голосования относительно приговора, 360 судей
высказались за смертную казнь. Судьи отправи-
лись по домам; осужденного философа отвели в
темницу.
1 Платон. Апология Сократа. 30d-31a Перевод М. С. Со-
ловьева.
54
Утешение философией
5
Там было темно и душно, а с улицы доноси-
лись издевательские крики афинян, радовавшихся
смерти похожего на сатира философа. Его казни-
ли бы немедленно, если бы вынесение приговора
не совпало с отправлением ежегодного посольства
на остров Делос, во время которого по традиции
нельзя было никого предавать смерти. Мужество
и добродушие Сократа вызвали симпатию к нему
у тюремщика, и тот облегчил последние дни фи-
лософа, позволив ему видеться с посетителями.
Сократа посетило множество друзей и учеников —
Федон, Критон, сын Критона Критобул, Аполло-
дор, Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен, Ктесипп,
Менексен, Спммпй, Кебет, Федонд, Эвклид и Тер-
псион. Они не могли скрыть своего отчаяния при
виде человека, который всю жизнь проявлял ве-
ликую доброту и интерес к другим, а теперь дол-
жен был кончить жизнь как преступник.
55
Ален де Боттон
Хотя на картине Давида мы видим Сократа,
окруженного горюющими друзьями, не следует за-
бывать, что их преданность была лишь небольшим
островком в океане непонимания и ненависти.
Чтобы что-то противопоставить настроению,
царящему в камере узника, Дидро мог бы пред-
ложить потенциальным живописцам чаши с
цикутой показать реакцию и других афинян на
смертный приговор Сократу — создать полотна
«Пять судей, играющих в кости после дня, прове-
денного в суде» или «Обвинители, заканчивающие
ужин и отправляющиеся в постель». Художник,
стремящийся к изображению патетических сцен,
мог бы более лаконично назвать подобные сцены:
«Смерть Сократа».
Когда назначенный день наступил, Сократ
был единственным, кто сохранял спокойствие.
Проститься с ним пришли его жена и трое сы-
новей, но Ксантиппа рыдала так истерично, что
Сократ попросил увести ее. Друзья вели себя
сдержаннее, хотя тоже лили слезы. Даже тю-
ремщик, видевший многих узников, принявших
смерть, был тронут и сказал несколько неловких
слов прощания:
«Я... за это время убедился, что ты са-
мый благородный, самый смирный и самый
лучший из людей, какие когда-нибудь сюда
56
Утешение философией
попадали... Ясное дело, тебе уже понятно,
с какой вестью я пришел. Итак, прощай
и постарайся как можно легче перенести
неизбежное»1.
С этими словами он отвернулся и вышел в сле-
зах. Затем явился палач, неся чашу с раствором
цикуты.
«Увидев этого человека, Сократ сказал:
— Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем
этим знаком — что же мне надо делать?
— Да ничего, — отвечал тот, — просто выпей и
ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах,
а тогда ляг. Оно подействует само.
С этими словами оп протянул Сократу чашу.
И Сократ взял ее с полным спокойствием... не за-
дрожал, не побледнел, не изменился в лице... Он
поднес чашу к губам и выпил до дна — спокойно
и легко.
До сих пор большинство из нас еще как-то
удерживалось от слез [говорит Федон], но, увидев,
как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли
сдержать себя. У меня самого, как я ни крепился,
слезы лились ручьем... Критон еще раньше моего
разразился слезами и поднялся с места. А Апол-
лодор, который и до того плакал не переставая, тут
1 Платон. Федон. 116 c-d. Перевод С. П. Маркиша.
57
Ален де Боттон
зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем
надорвал душу, всем, кроме Сократа»1.
Философ с улыбкой попросил своих друзей
успокоиться: «Ну что вы, что вы, чудаки!» — потом
встал и начал ходить по камере, чтобы яд быстрее
подействовал. Когда ноги стали тяжелеть, Сократ
лег на спину; ощущение стало распространяться
вверх, и когда действие яда достигло груди, Сократ
постепенно начал терять сознание. Дыхание его
замедлилось. Увидев, что взгляд его друга остано-
вился, Критон протянул руку и закрыл ему глаза.
«Таков [говорит Федон] был конец нашего
друга, человека — мы вправе это сказать — са-
мого лучшего из всех, кого нам довелось узнать
на нашем веку, да и вообще самого разумного
и самого справедливого»1 2.
Читая это, трудно не заплакать самому. Может
быть, потому, что Сократ имел выпуклый лоб и
странно широко расставленные глаза, описание
сцены его смерти заставило меня вспомнить тот
депь, когда я плакал, посмотрев видеозапись «Че-
ловека-слона»3.
1 Платон. Федон. 117 a-d. Перевод С. П. Маркиша.
2 Там же. 118.
3 «Человек-слон» — известный фильм Дэвида Лин-
ча, снятый в 1980 г. по одноименной книге Э. Монтегю.
(Прим, ред.)
58
Утешение философией
Мне представилось, что обоим героям выпала
самая печальная судьба — быть добродетельными
и при этом оказаться осужденными как преступ-
ники.
Может быть, мы никогда не станем объектом
насмешек из-за наших физических недостатков
п никогда не будвхМ осуждены па смерть за пло-
ды трудов всей жизни, но тем не менее есть нечто
универсальное в сценариях непонимания, кото-
рым эти истории служат трагическим примером.
Общественная жизнь полна противоречий между
тем, как нас воспринимают другие, и нашим соб-
ственным восприятием реальности. Нас обвиняют
в тупости, когда мы проявляем осторожность. За-
стенчивость принимается за высокомерие, а же-
лание понравиться — за низкопоклонство. Мы
пытаемся объяснить ошибочность этого, но язык
прилипает к гортани, а слова, которые мы нахо-
дим, — совсем не те, которые мы имели в виду.
Наши злейшие враги оказываются у власти и во
всеуслышание высказывают осуждение в наш
59
Ален де Боттон
адрес. В ненависти, обрушившейся на невинного
философа, мы слышим эхо неприятностей, причи-
ненных нам людьми, которые не способны или не
желают судить нас по справедливости.
Однако убийц Сократа настигло возмездие.
После смерти философа общественное настроение
стало меняться. Исократ сообщает, что зрители
«Паламеда» Еврипида плакали, когда упомина-
лось имя Сократа; Диодор пишет, будто вскоре
судьи Сократа были растерзаны народом Афин.
Плутарх рассказывает, что среди афинян распро-
странилась ненависть к обвинителям Сократа и
люди отказывались вместе с ними посещать бани;
остракизм достиг такой степени, что те в отчая-
нии повесились. Диоген Лаэртский пересказывает
историю о том, что вскоре после смерти Сократа
граждане Афин приговорили Мелета к смерти, а
Анита и Ликона изгнали; Сократу была воздвиг-
нута дорогая бронзовая статуя работы великого
Лисиппа.
Сократ предсказывал, что рано или поздно в
Афинах победят его идеи. Так и случилось. До-
стоверность упомянутых преданий о возмездии,
которые приведены выше, достаточно сомнитель-
на. Не следует забывать: чтобы исчезли пред-
убеждения и зависть, требуется время. История
скорее побуждает нас смотреть на собственную
непопулярность не так, как она видится насмеш-
ливым глазам невежественных судей. Сократ был
приговорен к смерти пятьюстами гражданами, не
60
Утешение философией
блещущими интеллектом и питающими нерацио-
нальные подозрения из-за того, что Афины проиг-
рали Пелопоннесскую войну, а обвиняемый имел
странную внешность. И все же Сократ сохранил
уверенность в справедливом приговоре более ши-
рокого суда.
Хотя паша жизнь ограничена во времени и
пространстве, благодаря такому примеру мы мо-
жем в воображении перенестись в другие времена
и страны, где нас оцепят с большей объективно-
стью. Может быть, нам не удастся убедить судей-
современников в своей невиновности, но приговор
потомков сулит нам утешение.
Однако существует опасность, что смерть Сок-
рата приведет нас к неверным выводам. Она мо-
жет питать сентиментальную уверенность в том,
будто ненависть большинства только подтвержда-
ет нашу правоту. Может показаться, что судьба
гениев и святых — страдать от непонимания при
жизни и удостоиться бронзовой статуи работы
Лисиппа после смерти. Мы можем не оказать-
ся ни гениями, ни святыми. Мы можем просто
предпочесть вызывающее поведение глубоким
размышлениям и по-детски считать, что правы
именно тогда, когда другие говорят нам, что мы
ошибаемся.
Такое в намерения Сократа не входило. Было
бы столь же наивно считать непопулярность по-
казателем истинности взглядов, как и показателем
их ошибочности. Обоснованность идеи или по-
61
Ален де Боттон
ступка определяется не тем, как широко они под-
держиваются или отвергаются, по тем, насколько
они соответствуют правилам логики. Аргумент не
следует считать неверным потому, что с ним не
согласно большинство, как и не следует считать
правильным из-за героического его отстаивания.
Философ показал нам, как можно избегнуть
двух распространенных заблуждений: что нужно
всегда подчиняться общественному мнению или
что любой ценой нужно ему противостоять.
Следуя его примеру, мы поступим лучше всего,
если постараемся всегда прислушиваться к тому,
что диктует нам разум.
II
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ
ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
1
СПИСОК ТОГО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
1. Неоклассический дом в георгианском сти-
ле в центре Лондона в Челси (Парадайс-
уок, Маркхем-сквер), Кенсингтоне (южная
часть Кэмпден-хилл-роуд, Хорнтон-стрит)
или Холланд-парке (Обри-роуд), с фаса-
дом, похожим на фасад здания Королевского
общества искусств, построенного братьями
Адам1 (1772-1774), с большими венециан-
скими окнами, обрамленными ионическими
колоннами, и полукруглым тимпаном с цве-
точным орнаментом.
1 Роберт Адам (1728-1792), Джеймс Адам
(1730-1794) — английские архитекторы. Р. Адам —
крупнейший представитель английского классицизма.
(Прим, ред.)
63
Ален де Коттон
В гостиной второго этажа — потолок и камин,
сходные с выполненными Робертом Адамом для
библиотеки в Кенвуд-хаусе.
2. Личный реактивный самолет («Дассо-Фал-
кон 900 с» или «Гольфстрим IV») со стоянкой
в Фарнборо или Биггин-хилл, оборудован-
ный автоматикой, облегчающей управление
нервному пилоту, системой предупреждения
64
Утешение философией
о близости земли, радаром для выявления
турбулентностей и автопилотом «Кэт-П».
На хвостовом стабилизаторе вместо стан-
дартных полос фрагмент натюрморта, рыба
Веласкеса или три лимона с находящейся
в музее Прадо картины «Фрукты и овощи»
Санчеса Котана1.
3. Вилла «Орсетти»* 2 в Марли неподалеку от
Лукки. Из окон спальни открывается вид на
водный простор, слышно журчание фонта-
нов. Вдоль задней стены — ряд цветущих
магнолий, закрытая терраса — зимний сад,
огромные деревья, дающие тень летом, лу-
жайки для игр. В защищенных от ветров са-
дах растут фиги и персики. Заросли кипари-
сов, апельсиновых деревьев, олив, клумбы
лаванды.
’Санчес Кота и (1561-1627) — испанский худож-
ник. (Прим, ред.)
2 Названа но фамилии одного из владельцев, купив-
шего ее в 1651 г.; в 1806 г. была продана сестре Наполеона
Бонапарта. (Прим, ред.)
65
Ален де Боттон
4. Библиотека с большим письменным сто-
лом, камином и окнами, выходящими в
сад. На полках — старинные издания с по-
желтевшими страницами, умиротворяющий
запах старых книг. Сверху на книжных пол-
ках — бюсты великих мыслителей и астро-
логические глобусы. Общий дизайн схож с
дизайном библиотеки в доме Вильгельма III
Голландского.
66
Утешение философией
5. Столовая, похожая на столовую в Белтон-хау-
се в Линкольншире. Длинный дубовый стол
на двенадцать персон. Обеды, на которых
всегда присутствуют одни и те же друзья.
Легкие, но интеллектуальные беседы.
Умелый повар (особенно ему удаются оладьи
из цукини, вермишель с белыми трюфелями,
рыбный суп, ризотто, куропатки и жареные
цыплята) и заботливые слуги, устраняющие
любые затруднения. Маленькая гостиная,
куда подают чай с шоколадными конфетами.
6. Кровать, расположенная в алькове в стене
(в стиле Франсуа Блонделя1). Прохладные
накрахмаленные простыни, меняемые ежед-
невно. Постель огромного размера — до из-
головья и изножья не дотянуться, можно ва-
ляться сколько угодно. Рядом — утопленные
1 Франсуа Блондель (1618-1686) — француз-
ский архитектор, представитель классицизма. (Прим,
ред.)
67
Ален де Боттон
в стене шкафчики для воды и бисквитов,
еще один — для телевизора.
7. Огромная ванная комната с расположен-
ной посередине па возвышении самой ван-
ной белого мрамора с синими раковинами в
виде декора. Крапы, которые можно откры-
вать ногой и из которых вода льется широ-
кой нежной струей. Окно, в которое можно
смотреть, лежа в ванне. Подогреваемый ка-
менный пол. На стенах — копии фресок из
храма Изиды в Помпеях.
8. Деньги в достаточном количестве, чтобы жить
на проценты с процентов.
9. Для проведения уик-эндов — пентхаус на
стрелке острова Ситэ, обставленный фран-
цузской мебелью самого благородного пе-
риода (того самого, когда правительство
было таким слабым) — времен царствова-
68
Утешение философией
ния Людовика XVI. Полукруглый комод
работы Гревениша, консоль работы Сонье,
секретер работы Вандеркрузе. Ленивое
времяпрепровождение, по утрам — чтение
«Перископ»1, круассаны с шоколадом на
севрском фарфоре, болтовня о жизни и шут-
ки с ожившей «Мадонной» Джованни Бел-
лини1 2 (из Галереи Академии в Венеции),
меланхолическое выражение лица которой
так хорошо сочетается с суховатым юмором
и непредсказуемостью и которая для прогу-
лок по кварталу Марэ одевается в «Агнес Б»
или «Макс-Мара»3.
1 Журнал-путеводитель по Парижу. (Прим, ред.)
2 Итальянский художник (ок. 1430-1516); имеется в виду
его картина «Мадонна Альберетти» (1487). (Прим, ред.)
3 Магазин женских товаров.
69
Ален де Боттон
2
Белой вороной среди, как правило, ненавидя-
щего удовольствия и сурового братства философов
оказался один, который, по-видимому, проявлял
понимание трудностей простых смертных и жела-
ние помочь. «Не знаю, что и помыслить добром, —
писал он, — как не наслаждение от вкушения, от
любви, от того, что слышишь, и от красоты, кото-
рую видишь»1.
Эпикур родился в 341 году до н. э. на плодород-
ном острове Самос, расположенном в нескольких
милях от западного побережья Малой Азии. Он
рано увлекся философией, с четырнадцатилетнего
возраста начал путешествовать, став затем учени-
ком представителя платоновской школы Памфила
и развивавшего атомистическую теорию филосо-
фа Навзифана. Однако Эпикур обнаружил, что не
может согласиться со многим, чему они учили, и,
едва достигнув тридцатилетнего возраста, решил
составить собственную философскую систему
жизни. Известно, что он написал около 300 книг
на самые разные темы — «О любви», «О музыке»,
«О праводействии», «Об образе жизни» (в четы-
рех книгах), «О природе» (в тридцати семи кни-
гах). Однако в результате целой серии катастроф
и несчастий за прошедшие столетия почти все его
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. 10. Перевод М. Л. Гас-
парова.
70
Утешение философией
творения оказались утрачены, так что учение Эпи-
кура приходится реконструировать по немногим
сохранившимся фрагментам и свидетельствам его
последователей.
Философию Эпикура разительно отличало
от других учений то важное значение, которое
он придавал чувственным наслаждениям. «На-
слаждение есть и начало и конец блаженной
жизни»1, — учил он, подтверждая то, что давно
думали многие, но с чем редко соглашалась фило-
софия. Эпикур признавался в любви к изыскан-
ной пище, видел начало и корень всякого добра в
удовольствиях чрева. Должным образом выстро-
енная философия не что иное, как указатель пути
к наслаждению:
«Кто говорит, что заниматься философией
еще рано или уже поздно, подобен тому, кто
говорит, будто быть счастливым еще рано или
уже поздно»1 2.
Немногие философы так откровенно признава-
лись в своем интересе к приятной жизни. Это шо-
кировало афинян, особенно когда они слышали,
что Эпикур получил поддержку богатых жителей
сначала Лампсака в Дарданеллах, а затем и Афин
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Менекею. 128.
Перевод М.Л. Гаспарова.
2 Там же. 122.
71
Ален де Боттон
и на их деньги учредил философскую школу, це-
лью которой было достижение счастья. В учени-
ки принимались как мужчины, так и женщины,
и Эпикур поощрял их в том, чтобы они жили и
изучали удовольствия совместно. Слухи о проис-
ходящем в школе были одновременно и волну-
ющими, и вызывающими сомнения морального
порядка.
Некоторые недовольные поносили Эпикура и
то, что происходит в его школе помимо занятий.
Тимократ, брат сподвижника Эпикура Метродо-
ра, писал, будто Эпикура дважды в день рвало от
обжорства, а стоик Диотим не остановился перед
клеветой, приводя 50 писем самого развратного
содержания, будто бы написанных Эпикуром,
когда тот был пьян и страдал от излишеств сек-
суального характера.
Несмотря на всю эту критику, учение Эпи-
кура приобретало все больше сторонников. Оно
72
Утешение философией
распространилось по всему Средиземноморью,
школы философов, стремящихся к наслажде-
нию, появились в Сирии, Иудее, Египте, Италии
и Галлии. Взгляды Эпикура оставались влиятель-
ными еще пять столетий и были забыты лишь под
влиянием неприятия их варварами и христиана-
ми во времена упадка Римской империи. Однако
имя его не было забыто и вошло во многие языки
как символ стремления к наслаждению (Оксфор-
дский словарь английского языка расшифровы-
вает слово «эпикурейский» так: «посвященный
поиску наслаждений, роскошный, чувственный,
прожорливый»).
Просматривая периодику на лотке в Лондоне
через 2340 лет после рождения философа, я на-
ткнулся на экземпляр «Эпикурейской жизни» —
ежеквартального журнала с описаниями отелей,
яхт и ресторанов, напечатанного на плотной глян-
цевой бумаге, блестящей, как яблочко.
73
Ален де Боттон
Воспоминание об интересах Эпикура хранит
и «Эпикуреец» — ресторан в маленьком городке
Вустершира, где в тихом зале клиентам, сидящим
в креслах с высокими спинками, подают запечен-
ных в раковинах устриц и ризотто с трюфелями.
3
Постоянство ассоциаций, которые философия
Эпикура вызывает на протяжении веков — от сто-
ика Диотима до издателей «Эпикурейской жиз-
ни», — говорит о том, что значение слова «насла-
ждение» всегда кажется очевидным. На вопрос
«что мне нужно для счастливой жизни?» не так
уж трудно ответить, если имеешь достаточно денег.
Ответ же на вопрос «что мне нужно для здоровой
жизни?» бывает не таким легким, если, например,
мы страдаем от постоянных мучительных головных
болей или острой боли в желудке после вечернего
приема пищи. Мы знаем, что стоим перед пробле-
мой; найти ее решение может оказаться трудно.
74
Утешение философией
Ум страдающего от боли человека готов при-
нять самые странные способы лечения: пиявок,
кровопускания, отвар крапивы, трепанацию.
Ужасная боль, пульсирующая в висках или у
основания черепа, вызывает представление о ти-
сках, в которые зажата ваша голова. Ощущение
бывает такое, будто голова готова взорваться. Ин-
туитивно кажется совершенно необходимым дать
доступ воздуху внутрь черепа. Страдалец требует,
чтобы друг прижал его голову к столу и просвер-
лил дырочку в кости. Через несколько часов он
умирает от мозгового кровоизлияния.
Если консультация знающего врача, несмо-
тря на мрачную атмосферу, царящую во многих
приемных, обычно рассматривается как нечто же-
лательное, то это потому, что человек, глубоко и
75
Ален де Боттон
рационально изучивший функционирование ор-
ганизма, лучше представляет себе, как сохранить
здоровье, чем тот, кто следует интуиции. Путаным
представлениям обывателя о собственной болезни
медицина предпочитает точное знание, которым
располагает логически рассуждающий врач. От
докторов требуется, чтобы они исправляли вред,
и вред иногда фатальный, приносимый невежест-
вом пациентов относительно их собственного тела.
В основе учения Эпикура лежит мысль о том,
что мы так же не способны интуитивно найти пра-
вильный ответ на вопрос «что сделает меня счаст-
ливым?», как и на вопрос «что сделает меня здо-
ровым?». Первый приходящий на ум ответ, скорее
всего, окажется ошибочным. Наши души не более
вразумительно сообщают о своих страданиях, чем
тела, и наши интуитивные диагнозы редко быва-
ют точными. Описанная выше трепанация черепа
может служить символом того, как трудно понять
не только собственную физиологию, но и психо-
логию.
Человек чувствует себя неудовлетворенным.
Ему трудно вставать утром, он мрачен и необщи-
телен. Интуитивно он винит в этом свои занятия
и начинает искать альтернативу, несмотря на то
что это дорого ему обходится.
Напоследок я вновь приведу пример из книги
«Загляни в древнегреческий город».
76
Утешение философией
Кузнец Башмачник Торговец рыбой
Быстро решив, что он станет доволен жизнью,
если займется ловлей и продажей рыбы, человек
покупает сеть и за высокую цену приобретает ме-
сто на рынке. Однако меланхолия его не проходит.
Мы часто оказываемся в ситуации, когда, по
словам последователя Эпикура поэта Лукреция,
«причины своей болезни недужный не знает»1.
Мы обращаемся к врачам потому, что они луч-
ше разбираются в заболеваниях тела. По той же
причине нам следовало бы искать совета филосо-
фа, когда себя плохо чувствует наша душа, — и
судить о ценности его совета, применяя тот же
критерий:
«...как лекарство не приносит пользы, если
не изгоняет болезнь, так и философия беспо-
лезна, если не исцеляет страдания души».
1 Лукреций Кар. О природе вещей. III, 1070. Перевод
Ф. А. Петровского.
77
Ален де Боттон
Задача философии, по мнению Эпикура, — по-
мочь нам понять собственные неясные огорчения
и желания и тем самым уберечься от ошибочных
способов достижения счастья. Нам следует пе-
рестать действовать по первому побуждению и
вместо этого исследовать рациональность своих
желаний, задавая вопросы, подобно тому как за
сотню лет до Эпикура делал Сократ для оценки
этических представлений. Поставив диагноз на-
шим недомоганиям — иногда прямо противопо-
ложный интуитивным догадкам, — философия,
обещал Эпикур, приведет нас к полному излече-
нию и настоящему счастью.
Эпикур, 341-270 гг. до н. э.
Те, до кого доходили слухи об эпикурействе,
должно быть, удивятся, узнав о том, как жил автор
философии наслаждения. У него не было роскош-
78
Утешение философией
ного дома, еда подавалась самая простая, вместо
вина Эпикур чаще пил воду и бывал вполне дово-
лен обедом из хлеба, овощей и пригоршни оливок.
«Пришли мне горшочек сыра, чтобы можно было
пороскошествовать, когда захочется»1, — просил
он друга. Таковы были вкусы человека, который
писал о наслаждении как о цели жизни.
Он никого не обманывал. Его приверженность
наслаждениям была даже больше, чем предпола-
гали те, кто обвинял его в оргиях. Просто благо-
даря рациональному анализу Эпикур пришел к
поразительным заключениям по поводу того, что
действительно делает жизнь приятной, — к счастью
для тех, кто не располагает большим доходом, глав-
ные составляющие наслаждения, хоть и ускольза-
ющие, вовсе не являются дорогостоящими.
СПИСОК ТОГО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПО ЭПИКУРУ
1. Дружба
Вернувшись в Афины в 306 году до н. э. в воз-
расте тридцати пяти лет, Эпикур необычно устроил
свою домашнюю жизнь. Приобретя большой дом
в нескольких милях от центра Афин в районе Ме-
лит, между рыночной площадью и гаванью Пирея,
он поселился там с несколькими друзьями. К нему
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. И. Перевод М. Л. Гас-
парова.
79
Ален де Боттон
присоединились Метродор и его сестра, математик
Полиэн, Гермарх, Леонтей и его жена Фемиста, а
также купец по имени Идоменей (который вскоре
женился на сестре Метродора). В доме было доста-
точно просторно, чтобы каждый имел собственное
помещение; были и общие комнаты для трапез и
бесед. Эпикур находил, что
«Из всего, что дает мудрость для счастья
всей жизни, величайшее — это обретение
дружбы»1.
Эпикур настолько ценил приятное общество,
что рекомендовал никогда не приступать к трапезе
в одиночестве:
«Прежде смотри, с кем ты ешь и пьешь, а
потом уже, что ешь и пьешь. Ведь нажираться
без друзей — дело льва или волка»1 2.
Домочадцы Эпикура напоминали членов боль-
шой семьи; никто из них, по-видимому, не испы-
тывал недовольства или ощущения отрезанности
от мира, все относились друг к другу с симпатией
и добротой.
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Главные мысли. XXVII.
Перевод М. Л. Гаспарова.
2 Цит. по: Сенека. Нравственные письма к Луцилию.
XIX, 10. Перевод С. А. Ошерова.
80
Утешение философией
Мы не существуем до тех пор, пока рядом пет
кого-то, кто может это подтвердить; паши слова
не имеют смысла, пока рядом нет кого-то, кто бы
их понял. Поэтому быть окруженным друзьями
значит постоянно получать подтверждение собст-
венной идентичности; их привязанность дает нам
силу вырваться из небытия. Мелкими замечани-
ями, подтруниванием они показывают, что знают
о наших недостатках и приемлют их, тем самым
подтверждая, что нам принадлежит определенное
место в мире. Их можно спросить: «Разве это не
ужасно?..» или «Тебе не кажется, что...» — и нас
поймут, а не отделаются озадаченным «О чем это
ты?» (такой ответ может заставить даже в компа-
нии почувствовать себя одиноким, как полярник
на льдине).
Друзья не оценивают нас по критериям успеха,
они интересуются пашей внутренней сущностью;
как и родительская любовь, их привязанность не
зависит от внешности или общественного положе-
ния, поэтому мы не испытываем неловкости, по-
являясь перед ними в старой одежде или призна-
ваясь, что доход наш в этом году совсем невелик.
Желание разбогатеть не всегда, возможно, следует
понимать как простую мечту о роскошной жизни:
более важным мотивом может оказаться желание
получить признание и любезное обхождение.
Мы можем стремиться к богатству только пото-
му, что оно обеспечит уважение и внимание тех,
кто смотрит па бедняков, не замечая их. Эпикур,
81
Ален де Боттон
осознавая существование подобной потребности,
говорил, что немногие верные друзья в состоянии
дать человеку ту любовь и то уважение, которых
нельзя добиться даже имея много денег.
2. Свобода
Эпикур и его друзья ввели еще одно радикаль-
ное новшество. Чтобы избавиться от необходимости
работать на людей, которые им неприятны, и тер-
петь их унижающие человеческое достоинство ка-
призы — освободить себя от оков повседневных дел
и политики, — они отказались от участия в деловой
жизни Афин и образовали нечто, что можно было
бы назвать коммуной, предпочтя простую жизнь,
дарующую независимость. У них стало меньше де-
нег, но зато никогда больше не приходилось вы-
полнять тупые распоряжения вышестоящих.
Был куплен сад около дома, рядом с древними
Дипилонскими воротами, где домочадцы выращи-
вали овощи себе для пропитания: возможно, бли-
тон (капусту), кроммион (лук) и кинару (предшест-
венника современного артишока, овощ, у которого
съедобны нижние части листьев). Стол Эпикура
и его друзей не был ни роскошен, ни обилен, но
пища была вкусной и питательной. Как Эпикур
писал своему другу Менекею: «Пищу он [мудрец]
выбирает не более обильную, а самую приятную»1.
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Менекею. 126.
Перевод М. Л. Гаспарова.
82
Утешение философией
Простота жизни не вызывала у друзей Эпи-
кура чувства унижения, потому что, отказавшись
от ценностей, признаваемых другими жителями
Афин, они перестали судить себя исходя из ма-
териальной собственности. Они не видели осно-
ваний скорбеть, что стены их жилища голы, а
сами они не могут похвалиться золотыми укра-
шениями. Друзьям, живущим вне политической и
экономической борьбы, в финансовом отношении
нечего было доказывать друг другу.
3. Возможность размышлять
Ничто так не помогает от беспокойства, как
размышление. Записав то, что нас тревожит, или
обсудив это в беседе, мы выявляем основные ас-
пекты проблемы. А зная их характер, избавляемся
если не от проблемы как таковой, то, по крайней
мере, от ее отягчающих последствий: растерян-
ности и подавленности, когда мы ею захвачены
врасплох.
В саду Эпикура, как стали называть образо-
вавшуюся коммуну, размышления поощрялись.
Многие ее члены были писателями. По свидетель-
ству Диогена Лаэртского, Метродор, например,
написал двенадцать книг, среди них утраченные
впоследствии «О дороге к мудрости» и «Об Эпику-
ровой помощи». В общих комнатах дома в Мелите
и в саду можно было предаваться размышлениям
83
Ален де Боттон
и обсуждать свои идеи с людьми и умными, и до-
брожелательными.
Эпикура особенно заботило, чтобы он сам и его
друзья научились анализировать свои тревоги по
поводу денег, болезней, смерти и сверхъестествен-
ных явлений. Человек, чей взгляд на смерть раци-
онален, утверждал Эпикур, должен понимать, что
после смерти наступает лишь забвение, а «что и
присутствием своим не беспокоит, о том вовсе на-
прасно горевать заранее»1. Бесполезно беспокоиться
о состоянии, которого человек никогда не испытает:
«Нет ничего страшного в жизни того, кто
по-пастоящему понял, что нет ничего страш-
ного в не-жизни»1 2.
Трезвый анализ успокаивает разум; благодаря
ему единомышленники Эпикура были избавлены
от тревог по поводу трудностей жизни, которые
могли бы преследовать их, живи они среди не об-
ременяющих себя размышлениями сограждан за
пределами сада Эпикура.
* * *
Богатство, конечно, едва ли сделает кого-нибудь
несчастным, однако суть учения Эпикура заключа-
ется в утверждении, что человек, обладающий бо-
гатством, но лишенный друзей, свободы и умения
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Менекею. 125.
Перевод М. Л. Гаспарова.
2 Там же.
84
Утешение философией
анализировать жизнь, по-настоящему счастливым
никогда не будет. Если же мы всем этим обладаем,
но небогаты, мы никогда не будем несчастны.
Дабы подчеркнуть, что главное в достижении
счастья, а от чего можно, если человек беден в силу
социальной несправедливости или экономических
потрясений, отказаться без особых сожалений,
Эпикур разделил потребности на три категории:
«Желания бывают: одни — естественные и
необходимые; другие — естественные, но не не-
обходимые; третьи — не естественные и не необ-
ходимые, а порождаемые праздными мнениями»1.
Что является и что не является
необходимым для счастья
Естественное и необходимое Друзья Свобода Размышления (об основных источниках беспокойства — смерти, болезнях, бедности, суевериях) Пища, жилище, одежда Естественное, но не необходимое Роскошный дом Собственный бассейн Приемы Слуги Мясо, рыба Не естественное и не необходимое Слава Власть
Самым важным для тех, кто не способен зара-
ботать или боится потерять деньги, в этом тройст-
венном делении Эпикура является утверждение:
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Главные мысли. XXIX.
Перевод М. Л. Гаспарова.
85
Ален де Боттон
счастье зависит от определенных психологических
составляющих, но оно по-своему независимо от
составляющих материальных, за исключением
средств, необходимых для приобретения теплой
одежды, скромного жилища и простой еды. Такие
приоритеты должны заставить задуматься тех, кто
приравнивает счастье к успеху великих финансо-
вых структур, а несчастье — к скромному доходу.
Если изобразить зависимость между богатст-
вом и счастьем, т. е. довольством, в виде диаграм-
мы, становится очевидно, что удовлетворенность
жизнью, обеспеченной небольшой зарплатой, не
увеличивается при резком росте заработков. Мы
не перестанем быть счастливыми, получив гораздо
более высокий доход, но и не превзойдем, по ут-
верждению Эпикура, того уровня счастья, которое
было доступно нам при ограниченных средствах.
Соотношение довольства и доходов-расходов
для человека, имеющего друзей, свободу и т. д.
86
Утешение философией.
Данный анализ основывается на определенном
понимании счастья. По Эпикуру, мы счастливы,
если не испытываем страданий. Поскольку мы
страдаем, если не имеем пищи и одежды, нужно
иметь достаточно денег, чтобы купить их. Однако
термин «страдание» оказывается слишком силь-
ным, если речь идет о том, что нам приходится
носить обычный костюм, а не сшитый на заказ,
и утолять голод сандвичем, а не запеченными в
раковине устрицами. Поэтому Эпикур учит:
«Самая простая снедь доставляет не мень-
ше наслаждения, чем роскошный стол, если
только не страдать от того, чего нет; даже хлеб
и вода доставляют величайшее из наслажде-
ний, если дать их тому, кто голоден»1.
То, чем мы регулярно питаемся, — изображен-
ное ли справа пли слева — не может быть решаю-
щим для нашего душевного состояния.
1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Мепекею. 130.
Перевод М. Л. Гаспарова.
87
Ален де Боттон
«Привычка к простым и недорогим кушаньям
и здоровье нам укрепляет, и к насущным жизнен-
ным заботам нас ободряет... и позволяет не стра-
шиться превратностей судьбы»1.
Можно, конечно, отнести такое осуждение ро-
скоши па счет примитивности жизни даже бога-
тых людей в экономически неразвитой Древней
Греции. Однако такой довод опровергается тем,
каков баланс соотношения цены и достигаемого
уровня счастья при пользовании продуктами по-
следующих веков.
Едва ли мы будем счастливы, обладая изобра-
женным слева автомобилем, по не имея друзей;
живя на вилле, но не располагая свободой; укла-
дываясь на крахмальные льняные простыни, но
не имея сил заснуть из-за тревог. Пока главные
нематериальные потребности не удовлетворены,
уровень довольства жизнью, показанный на гра-
фике, упрямо будет оставаться низким.
«Богатство, требуемое природой, ограни-
чено и легко достижимо; а богатство, требу-
емое праздными мнениями, простирается до
бесконечности»1 2.
1 Там же. 131.
2 Диоген Лаэртский, Эпикур. Главные мысли. XV. Пе-
ревод М. Л. Гаспарова.
88
Утешение философией
Соотношение довольства и доходов-расходов
для человека, лишенного друзей,
свободы и т. д.
Денежные расходы
Чтобы избежать приобретения чего-то, в чем
мы не нуждаемся, или сожалений о том, чего не
можем себе позволить, следует строго спросить
себя в момент, когда возникло желание купить
дорогой предмет: что для нас правильно? Нужно
проделать ряд мысленных экспериментов, пред-
ставив себе свое будущее в случае выполнения
желания и оцепив вероятное удовлетворение от
этого.
Эпикур рекомендовал пользоваться таким
методом: спросить себя, что будет, если желание
окажется осуществленным, и что будет, если оно
не исполнится?
89
Ален де Боттон
Хотя труды Эпикура, в которых приводились
бы примеры этого, не сохранились, метод должен
был состоять по крайней мере из пяти шагов (без
особой натяжки можно представить себе его в
виде инструкции).
1. Представьте себе нечто, что должно сделать вас
счастливым.
Чтобы быть счастливым во время отпуска,
мне нужно жить на, вилле.
2. Представьте себе, что такое требование не-
верно. Подумайте, не найдется ли исключе-
ний, опровергающих предполагаемую связь
между объектом желания и счастьем.
Можно ли обладать желаемым, но не
быть счастливым? Можно ли быть счастли-
вым, не получив желаемого?
Может ли случиться, что я потрачу
много денег на аренду виллы, а счастливым
не окажусь?
Могу ли я быть счастливым во время от-
пуска, не потратив такой крупной суммы
на аренду виллы?
3. Если исключение обнаружено, желаемое
не может быть необходимым и достаточным
условием счастья.
90
Утешение философией
Может ли случиться, что, живя на вил-
ле, я буду страдать от того, что у меня
нет друзей?
Смогу ли я чувствовать себя счастли-
вым, живя в палатке, но в обществе челове-
ка, которого люблю и который меня ценит?
4. Для правильной оценки того, что приносит
счастье, следует так изменить исходный за-
мысел, чтобы он учитывал и исключение.
Буду ли я чувствовать себя счастливым
на дорогой вилле, зависит от того, будет
ли там со мной находиться кто-то, кого я
люблю и кто меня ценит.
Я вполне могу чувствовать себя счастли-
вым и не тратя огромных денег на аренду
виллы, если только со мной будет кто-то,
кого я люблю и кто меня ценит.
5. Действительные потребности могут теперь
оказаться весьма отличающимися от нера-
зумного первоначального желания.
Счастье гораздо больше зависит от при-
сутствия приятного компаньона, чем от
роскошного убранства виллы.
91
Ален де Боттон
Обладание величайшими богатствами не усмиряет
душевных тревог и не приносит необыкновенной радости.
5
Почему же, если дорогие вещи не могут при-
нести нам такой уж необыкновенной радости, они
так привлекательны? Наша ошибка тут похожа на
ошибку человека, страдающего от мигрени, кото-
рый сверлит дырку себе в черепе: дорогие предме-
ты кажутся удовлетворяющими потребности, ко-
торые нами не поняты. Предметы в материальной
сфере представляются тем, чего нам не хватает в
сфере психологической. Нам нужно упорядочить
собственные мысли, а вместо этого пас влекут
новые полки с товарами. Мы предпочитаем раз-
житься кашемировым кардиганом вместо совета,
который могли бы получить от друзей.
92
Утешение философией
Виноваты в этой путанице не мы одни. Не-
допонимание того, какие потребности истинны,
усугубляется тем, что Эпикур называл «праздны-
ми мнениями» окружающих, которые вовсе не
отражают действительную иерархию ценностей,
превознося роскошь и богатство и пренебрегая
дружбой, свободой, размышлениями. Преобла-
дание праздных мнений не является случайным.
Оно выражает интересы торговых компаний, стре-
мящихся исказить иерархию потребностей, под-
черкивая ценность материальных благ и затуше-
вывая то, что не имеет продажной цены.
Способ привлечь нас заключается в созда-
нии ложной ассоциации между неосознанны-
ми нуждами и излишними, ненужными пред-
метами.
Мы можем в конце концов купить джип, по
па самом деле — по Эпикуру — нам не хватало
свободы.
93
Алей де Боттон
Мы отправляемся выпить аперитив, а па самом
деле — по Эпикуру — мы ищем дружбу.
Мы приобретаем модный купальный костюм,
тогда как — по Эпикуру — мы нуждаемся в успоко-
ении, которое может принести нам размышление.
94
Утешение философией
В противовес влиянию соблазнов роскоши
последователи Эпикура прибегли к рекламе его
учения.
Около 120 года н. э. на рыночной площади Ой-
ноанды, города в 10 000 жителей в юго-западной
части Малой Азии, была воздвигнута огромная
каменная колоннада 80 метров в длину и 4 метра
в высоту с надписями, предлагавшими вниманию
покупателей мудрость Эпикура:
«Роскошная еда и напитки... не избавляют от
напастей, а только вредят здоровью».
«Богатство сверх необходимого — как вода,
льющаяся в сосуд, который и так уже полон».
«Истинные ценности не в театрах, термах и
благовониях... а в познании природы».
Возведение колоннады было оплачено Дио-
геном, одним из богатейших жителей Ойноанды,
который через четыре столетия после Эпикура и
его друзей из сада в Афинах пожелал разделить
со своими согражданами секрет счастья, даруемо-
го эпикуровской философией. Как значилось на
одном углу стены,
Диоген, достигнув заката жизни и находясь на
пороге смерти в силу преклонного возраста, воз-
намерился оставить торжественный гимн полноте
наслаждений для тех, кому повезло меньше. Хотя
сам Диоген был готов лично дать совет любому, ока-
95
Ален де Боттон
завшемуся в беде, его беспокоило распространение
среди людей, подобно эпидемии чумы, ошибочных
представлений о жизни, и он решил создать мону-
мент, где каждый мог бы прочесть о лекарствах, при-
носящих спасение.
На массивной стене из известняка была сдела-
на надпись примерно в 25 000 слов, охватывавшая
все аспекты учения Эпикура, — ценность друж-
бы, необходимость рационального анализа тревог.
Жителям, делавшим покупки в лавках Ойноанды,
детально разъяснялось, что ожидать от этого сча-
стья им не следует.
96
Утешение философией
Реклама не была бы столь распространенным
явлением, если бы мы не были так внушаемы.
Мы начинаем желать предметы, которые красоч-
но изображаются на плакатах или на телеэкране,
и теряем интерес к тому, что игнорируется или
получает отрицательные отзывы. Говоря об этом
свойстве людей, Лукреций жаловался, что
«Все разуменье свое из чужих они уст по-
черпают.
Слушают мненья других, а собственным
чувствам не внемлют»1.
К несчастью, заманчивые изображения ро-
скошных и дорогих предметов существуют в изо-
билии, чего нельзя сказать о предметах и людях
обычных. Нас не поощряют в том, чтобы получать
скромные удовольствия — играть с ребенком, бе-
седовать с другом, греться на солнце, есть сыр со
свежим хлебом («Пришли мне горшочек сыра,
чтобы можно было пороскошествовать, когда
захочется»). Не это превозносится на страницах
«Эпикурейской жизни».
Помочь в преодолении предубеждений может
искусство. Великолепные латинские стихи Лукре-
ция, проникнутые мудрой эпикуровской защитой
простоты, дают нам возможность прочувствовать
прелести недорогих удовольствий:
1 Лукреций Кар. О природе вещей. V, 1133-1134.
Перевод Ф. А. Петровского.
97
Ален де Боттон
Мы, таким образом, видим, что нужно телесной природе Только немногое: то, что страдания все удаляет. Пусть наслаждения ей предоставить и многие можно, Но и приятней порой и не против воли природы, Если в хоромах у нас не бывает златых изваяний Отроков, правой рукой держащих зажженные лампы, Чтобы ночные пиры озарять в изобилии светом; И серебром не сверкают дома, и златом не блещут, И не гудят под резным потолком золоченым кифары; Люди же вместо того, распростершись па мягкой лужайке, На берегу ручейка, под ветвями высоких деревьев, Скромными средствами телу дают усладительный отдых, Если ж к тому улыбается им и погода, и время Года усыплет цветами повсюду зеленые травы1. Ergo corpoream ad naturani pauca videmus esse opus omnino, quae dem- ant cumque dolorem delicias quoque uti multas subslernere possint gratius interdum, neque natura ipsa requirit si non aurea sunt iuvenum simulacra per aedes lampadas igniferas manibus retinentia dextris, lumina nocturnis epulis ut suppedilentur, nec domus argenlo fulget auroque renidet nec cilharae reboant laqueata aurataque templa cum lamen inter se proslrati arboris altae non magnis opibus iucunde corpora cur ant, praeserlim cum tempestas adridet et anni tempora conspergunt viri- dantis floribus herbas.
^Лукреций Кар. О природе вещей. II. 20—33. Перевод
Ф. А. Петровского.
98
Утешение философией
Трудно оценить, какое влияние на коммерче-
скую деятельность в греко-римском мире оказа-
ла поэма Лукреция. Нам неизвестно, удалось ли
покупателям лавок Ойпоапды открыть для себя
истинные потребности и перестать покупать то,
что им не нужно, благодаря появлению гигант-
ского каменного руководства. Однако нельзя
исключить возможность того, что широкая ре-
кламная кампания истинного эпикурейства мо-
гла бы предотвратить глобальный экономический
кризис: ведь, согласно Эпикуру, большинство де-
ловых предприятий порождает в людях, которые
не понимают своих истинных нужд, ненужные
желания. Рост потребления мог бы быть ограни-
чен ростом самосознания людей и стремления к
простоте. Эпикур это одобрил бы: он считал, что
естественные цели человеческой жизни скорее до-
стижимы благодаря бедности, а не богатству.
Мы видим, что существует выбор: с одной
стороны, общества, поощряющие излишние же-
лания, но в результате достигающие огромного
экономического могущества; с другой стороны,
следующие философии Эпикура общества, обес-
печивающие основные физические потребности,
но не способные поднять уровень жизни выше
уровня выживания. В эпикуровском мире не было
бы огромных памятников и технологических про-
рывов, мало смысла было бы в торговле с други-
ми континентами. Общество, в котором граждане
были бы ограничены в своих потребностях, не
99
Ален де Боттон
обладало бы заметными ресурсами. И все же —
если верить Эпикуру — люди в подобном общест-
ве не были бы несчастны. О возможности такого
выбора говорит Лукреций. В мире, где ценности
Эпикура забыты:
«.*.человеческий род понапрасну и тщет-
но хлопочет, Вечно в заботах пустых проводя
свою жизнь бесполезно, Лишь оттого, что не
ведает он ни границ обладанья, Ни предела,
доколь наслаждение истое длится»1.
В то же время Лукреций отмечает, что имен-
но неудовлетворенность толкала людей вперед, в
открытое море.
Можно себе представить, как откликнулся бы
на это Эпикур. Сколь бы впечатляющи ни были
наши подвиги в открытом море, единственной ме-
рой их истинного значения является приносимое
ими удовольствие:
«[Наслаждение] мы познали как первое
благо, сродное нам, с него начинаем всякое
предпочтение и избегание и к нему возвраща-
емся, пользуясь претерпеванием как мерилом
всякого блага»1 2.
1 Лукреций Кар. О природе вещей. V. 1430-1435. Пере-
вод Ф. А. Петровского.
2 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Мепекею. 129.
Перевод М. Л. Гаспарова.
100
Утешение философией
Поскольку рост богатства общества не гаран-
тирует, что его граждане будут чувствовать себя
более счастливыми, Эпикур сказал бы, что по-
требности, ради которых производятся дорогие
товары, не могут быть теми, от удовлетворения
которых зависит счастье.
6
СПИСОК ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ СЧАСТЬЯ
1. Домик.
2.
3. Избегать контактов с вышестоящими, покро-
вительства, борьбы и конкуренции.
101
Ален де Боттон
4. Размышления.
5. Ожившая «Мадонна» Джованни Беллини
(из Галереи Академии в Венеции), мелан-
холическое выражение лица которой так
хорошо сочетается с суховатым юмором и
непредсказуемостью и которая предпочита-
ет одежду ручной работы, приобретаемую в
скромном универмаге.
Достичь счастья бывает нелегко, но препятст-
вия не носят в первую очередь финансового ха-
рактера.
Ill
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СТРАДАЕТ ОТ ЖИЗНЕННЫХ НЕУДАЧ
За тринадцать лет до написания «Смерти Сокра-
та» Жак-Луи Давид обратил внимание на дру-
гого античного философа, встретившего смерть с
необыкновенным спокойствием средн истеричных
рыданий родных и близких.
Картина «Смерть Сенеки», созданная в 1773
году двадцатипятилетиям художником, изобра-
жала последние мгновения жизни философа-сто-
ика, закончившейся на вилле рядом с Римом в
юз
Ален де Боттон
апреле 65 года н. э. За несколько часов до этого
явился центурион с приказом императора: Сенеке
предписывалось покончить с собой. Был раскрыт
заговор, направленный па свержение двадцати-
восьмилетнего Нерона, и император, маниакально
подозрительный и жестокий, обрушил мщение на
свое окружение, не разбирая, кто действительно
виноват. Хотя не существовало доказательств
причастности к заговору Сенеки, который в тече-
ние пяти лет был воспитателем Нерона, а потом
еще десятилетие оставался его советником, импе-
ратор обрек его на смерть. Нерон к этому времени
уже расправился со своим сводным братом Брп-
таником, матерью Агриппиной и женой Октави-
ей; многие сенаторы и всадники1 по его приказа-
нию были брошены на растерзание крокодилам и
львам. Во время ужасного пожара 64 года, унич-
тожившего значительную часть Рима, император
пел, представляя себе, будто видит пожар Трои.
Узнав о приказании Нерона, окружавшие Се-
неку друзья и родные побледнели и зарыдали, но
сам философ, как о том пишет Тацит (чей рассказ
и вдохновил Давида), остался невозмутимым и
постарался вернуть мужество близким.
«Он старается удержать их от слез то раз-
говором, то прямым призывом к твердости,
спрашивая, где же предписания мудрости,
где выработанная в размышлениях стольких
1 В с а д и и к и — в ряде античных государств: привиле-
гированное сословие наряду с аристократией. (Прим, ред.)
104
Утешение философией
лет стойкость в бедствиях? «Кому неизвест-
на кровожадность Нерона? — добавил Се-
нека. — После убийства матери и брата ему
только и остается, что умертвить воспитателя
и наставника»»1.
Он повернулся к своей жене Паулине, нежно
ее обнял («немного смягчившись по сравнению
с проявленной перед этим неколебимостью»1 2)
и стал просить утешиться тем, какую хорошую
жизнь он прожил. Однако женщина не могла
представить свое дальнейшее существование без
него и попросила разрешения также перерезать
себе вены. Сенека не отказал ей в этом:
«Ты предпочитаешь благородную смерть;
не стану завидовать возвышенности твоего де-
яния. Пусть мы с равным мужеством и равной
твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем
конце больше величия»3.
Но император не желал, чтобы его репутация
жестокого убийцы еще отягчилась, и воины, за-
метив, что Паулина вскрыла себе вены, против ее
воли отобрали у нее нож и наложили повязки на
запястья.
Однако супругу Паулины самоубийство не
удавалось. Кровь не вытекала достаточно быстро
1 Тацит. Анналы. XV, 62. Перевод А. С. Бобовича.
2 Тацит. Анналы. XV, 63. Перевод А. С. Бобовича.
3 Там же.
105
Ален де Боттон
из тела старого человека, даже когда были вскры-
ты вены на щиколотках и позади колен. Поэто-
му, вспомнив о смерти Сократа в Афинах на 464
года раньше, Сенека попросил своего врача при-
готовить ему чашу цикуты. Сенека давно считал
Сократа образцом того, как благодаря философии
можно подняться выше внешних обстоятельств
(свое восхищение он выразил в письме, напи-
санном за несколько лет до приговора Нерона):
«Возьмите Сократа, старца необычайной
выносливости, прошедшего через все невзго-
ды, но не побежденного пи бедностью, еще
более гнетущей из-за домашнего бремени, ни
тяготами, которые он нес и на войне, и дома
должен был сносить, — вспомни хоть его жену
с ее свирепым нравом и дерзким языком, хоть
тупых к учению детей, больше похожих на
мать, чем на отца. И почти всю его жизнь была
то война, то тирания, то свобода более жесто-
кая, чем война и власть тиранов... Но все это
настолько не изменило его души, что он даже в
лице не изменился. Вот удивительное и редкое
свойство! А Сократ сохранил его до последнего
часа... он был постоянно ровен среди постоян-
ных преследований Фортуны»1.
Желание Сенеки последовать примеру афиня-
нина не сбылось. Хотя он выпил цикуту, яд не
оказал действия.
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилшо. CIV, 27-
28. Перевод С. А. Ошерова.
106
Утешение философией
После двух бесплодных попыток покончить
с собой Сенека наконец приказал отнести себя в
ванну, где медленно задохнулся от пара, в муче-
ниях, по со стойкостью, которую сохранил среди
преследований фортуны.
Изображение Давидом сцепы смерти Сенеки в
стиле рококо не было ни первым, ни лучшим. На кар-
тине Сенека больше походит на отдыхающего пашу,
чем на умирающего философа; Паулина, обнажив-
шая грудь, одета скорее как оперная примадонна, чем
как римлянка. Однако выбор Давидом темы, хотя и
раскрытой довольно неуклюже, отражал имеющее
давнюю историю восхищение тем мужеством, с ко-
торым Сенека принял свою ужасную смерть.
Хотя его надежды пришли в неожиданное и
трагическое противоречие с действительностью,
Сенека не поддался обычным человеческим сла-
бостям и встретил злосчастную судьбу с достоин-
ством. Самой своей смертью он, совместно с други-
ми философами-стоиками, помог возникновению
прочной ассоциации слова «философский» со спо-
койной, полной самообладания готовностью встре-
тить несчастья. Сенека с самого начала смотрел на
философию как на дисциплину, предназначенную
для оказания помощи человеческим существам в
преодолении противоречий между их желаниями и
реальностью. По словам Тацита, глядя па своих пла-
чущих друзей, Сенека задал два вопроса, хотя по сути
вопрос был один: куда делась их философия и где их
твердость перед лицом неминуемого несчастья?
107
Ален де Боттон
Луасе Лъеде, 1462
Рубенс, 1608
Хусепе Рибера, 1632
Лука Джордано, ок. 1680
На протяжении всей жизни Сенека был сви;
детелем необыкновенных катастроф. Землетрясе-
ния разрушили Помпеи; Рим и Лугдунум сгорели
дотла; римский народ и вся империя страдали от
тирании Нерона, а до него Калигулы, которого
Светоний именует просто «чудовищем» и который,
желая обезглавить всех своих врагов, «однажды...
108
Утешение философией
воскликнул: «О, если бы у римского народа была
всего одна шея!»»1.
Сенеку преследовали и личные неудачи. На-
чав политическую карьеру, он в молодости забо-
лел, по-видимому, туберкулезом; болезнь длилась
шесть лет и вызвала депрессию, едва не привед-
шую к самоубийству. Возвращение Сенеки к об-
щественной жизни совпало с приходом к власти
Калигулы. Даже после гибели в 41 году Чудовища
положение Сенеки оставалось шатким. Заговор
против невинного философа императрицы Мес-
салины привел к его осуждению и восьмилетней
ссылке на Корсику. Когда же Сенека был снова
вызван в Рим, ему пришлось против воли стать
воспитателем двенадцатилетнего сына Агриппи-
ны — Люция Домиция Агенобарба, получившего
прозвище Нерон, который через пятнадцать лет
приказал философу покончить с собой на глазах
членов семьи.
Сенека знал, что дает ему силы противостоять
тревогам:
«Философии благодарен я за то, что под-
нялся и окреп, ей обязан я и жизнью, и это —
самое меньшее из всего, чем я ей обязан»1 2.
1 Светоний. Двенадцать цезарей. IV, 30. Перевод
М. Л. Гаспарова.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. LXXVIII,
3. Перевод С. А. Ошерова.
109
Ален де Боттон
Жизненный опыт помог Сенеке выработать об-
стоятельный словарь тяжелых душевных состо-
яний и чувств, а интеллект научил, как с ними
бороться. Годы занятий философией подготовили
его к тому страшному дню, когда посланный Не-
роном центурион постучал в дверь его виллы.
Двойная герма: Сенека и
Сократ
СЛОВАРЬ ТЯЖЕЛЫХ ДУШЕВНЫХ СОСТОЯНИЙ
И ЧУВСТВ ПО СЕНЕКЕ
Введение
Хотя сфера человеческих несчастий необъ-
ятна — от ушибленного пальца до безвременной
смерти, — в основе каждого мучительного пере-
живания лежит одно и то же: столкновение жела-
ния с непреклонной реальностью.
по
Утешение философией
Желание
С подобным столкновением мы знакомимся в
раннем детстве, когда обнаруживаем, что источ-
ник удовлетворения желания не в нашей власти,
а мир не спешит идти нам навстречу.
И все же, по Сенеке, если мудрость вообще
доступна, она заключается в том, чтобы научить-
ся не отягчать те последствия, которые песет нам
упрямство мира, собственными реакциями — гне-
вом, жалостью к себе, тревогой, горечью, ложной
верой в себя и неотвязными страхами.
ш
Ален де Боттон
Его философское наследие пронизывает един-
ственная идея: мы легче всего переносим те не-
счастья, к которым подготовились и которые нам
понятны, и больше всего страдаем от тех, кото-
рые для пас неожиданны и загадочны. Философия
должна примирить нас с реальными сторонами
действительности и тем самым избавить если не от
самих несчастий, то по крайней мере от множества
сопровождающих их пагубных эмоций.
Ее задача — подготовить нашим желаниям,
насколько это возможно, мягкую посадочную пло-
щадку при столкновении с непреодолимой стеной
реальности.
Гнев
Гнев — совершенно детская реакция: мы не мо-
жем найти пульт от телевизора или ключи, на
дороге — пробка, в ресторане нет мест, — и мы
хлопаем дверью, вырываем с корнем цветок или
закатываем истерику.
112
Утешение философией
1. Для философа гнев — своего рода сумасше-
ствие:
«Это самый быстрый путь к безумию... Охва-
ченные гневом призывают смерть на головы
детей, нищету себе, крушение — дому и при
этом уверяют, что они отнюдь не разгневаны,
как сумасшедшие, что они в здравом уме. Они
враги друзьям и пугало для близких, им нет
дела до законов, кроме тех, с помощью кото-
рых можно как-нибудь ущемить обидчика...
Они не признают никакого образа действия,
кроме насильственного... Они находятся во
власти величайшего из зол, превосходящего
все прочие пороки»1.
2. Немного успокоившись, гневающиеся могут
извиниться и объяснить, что были охваче-
ны чувством, которое сильнее их — другими
словами, сильнее их рассудка. «Они» — их
рациональная личность — не хотели никого
оскорблять и жалеют о крике; «они» уступили
1 Сенека. О гневе. II, 36. Перевод Т. 10. Бородай.
113
Ален де Боттон
контроль темным внутренним силам. Гнева-
ющиеся, таким образом, оправдывают себя
распространенным представлением о том,
что способность к рассуждению, истинное
«я», периодически отступает перед страстны-
ми эмоциями, не имеющими ничего общего с
разумом, за которые разум не несет ответст-
венности.
Такое объяснение прямо противоположно
взглядам Сенеки на разум, считавшего, что
гнев не есть следствие неконтролируемого
взрыва страстей: гнев — ошибка и ошибка,
исправимая — в рассуждениях. Разум не
всегда управляет нашими поступками, со-
глашался Сенека: если на нас брызнуть хо-
лодной водой, мы невольно поежимся, если
щелкнуть пальцами у нас перед глазами, мы
моргнем. Однако гнев не принадлежит к ка-
тегории неуправляемых физических реакций,
он может возникнуть лишь на основании
определенных идей, к которым мы пришли
рациональным путем; если нам удастся изме-
нить эти идеи, мы изменим свою склонность
впадать в гнев.
3. Согласно Сенеке, к гневу приводят опасно оп-
тимистические представления о том, каковы
мир и окружающие люди.
114
Утешение философией
4. То, как мы реагируем на неприятность, в
первую очередь определяется тем, что мы
считаем нормальным. Мы можем быть огор-
чены, если идет дождь, однако знакомство
с особенностями климата приведет к тому,
что дождь едва ли вызовет у нас гнев. Наши
переживания основываются на приобретен-
ных опытным путем представлениях о том,
чего можно ожидать от мира, на что можно
рассчитывать как на нормальное течение
событий. Мы начинаем сердиться, если нам
отказывают в желаемом, только когда счи-
таем, что нам это положено. Самое сильное
раздражение вызывают события, которые
нарушают наше представление об осново-
полагающих правилах бытия.
5. При наличии денег в Древнем Риме можно
было вести весьма комфортабельное суще-
ствование. Многие из друзей Сенеки имели
большие дома в столице и виллы в сельской
местности. К услугам состоятельных римлян
были термы, окруженные колоннадами сады,
фонтаны, мозаики, фрески, золоченые ложа,
толпы рабов, готовивших еду, присматривав-
ших за детьми, ухаживавших за садами.
115
Ален де Боттон
6. Тем не менее вспышки гнева у привилегиро-
ванных римлян были необыкновенно часты.
«Счастье вскармливает гневливость»1, — пи-
сал Сенека, видя, как неистовствуют его со-
стоятельные друзья, потому что жизнь повер-
нулась не так, как они рассчитывали.
Сенека знал богача Ведия Поллпона, дру-
га императора Августа, раб которого однажды
на пиру уронил поднос с чашами. Ведию был
так неприятен звук бьющегося стекла, что в
приступе гнева он приказал бросить раба в
бассейн с муренами.
7. Такая гневливость всегда имеет объяснение.
Ведий Поллион пришел в ярость по впол-
не определенной причине: он верил в мир,
где на пирах не бьют чаши. Мы начинаем
1 Сенека. О гневе. II, 21. Перевод Т. 10. Бородай.
116
Утешение философией
орать, не найдя пульта от телевизора, из-за
внутренней уверенности в том, что живем в
мире, где пульты не кладут па неположенное
место. Гнев вызывается уверенностью, по-
чти комичной по своему оптимистическому
происхождению, хотя и трагичной по своим
последствиям, что данная неприятность про-
тиворечит нашему договору между нами и
жизнью.
8. Нам следует быть более осторожными. Сенека
пытался создать для нас такую шкалу ожи-
даний, чтобы мы не начинали вопить, когда
они не оправдываются.
Если обед подан на несколько минут по-
зже:
«Какой смысл переворачивать стол? За-
чем бить посуду?
Зачем биться о колонны?»1
Если раздражает какой-то звук:
1 Сенека. О гневе. I, 16. Перевод Т. 10. Бородай.
117
Ален де Боттон
«Кто бы стал приходить в бешенство от-
того, что... забыли прогнать муху, что под
ногами вертится собака, что раб нечаянно
уронил на пол ключ?»1
Если что-нибудь нарушает тишину в
столовой:
«Что ты требуешь прямо посреди обе-
да нести плети только потому, что рабы
разговаривают?»1 2
Нужно примириться с неизбежным несовер-
шенством нашего существования:
«В самом деле, ну что удивительного
в том, что дурные люди совершают дур-
ные поступки? Что нового, невиданного
в том, что враг вредит нам, друг пас за-
девает, сын оступается, слуга нет-нет и
провинится?»3
Мы перестанем гневаться, как только переста-
нем питать необоснованные надежды.
1 Там же. II, 25.
2 Сенека. О гневе. III, 35. Перевод Т. 10. Бородай.
3 Там же. II, 31.
118
Утешение философией
Шок
Самолет швейцарской государственной авиа-
компании с 229 пассажирами на борту отправля-
ется по расписанию из Ныо-Йорка, из аэропорта
Кеннеди, в Женеву. Через пятьдесят минут после
взлета, когда стюардессы начинают развозить на
тележках напитки по салонам «Макдональд-Дуг-
ласа MD-11», командир докладывает диспетчеру
о пожаре в кабине. Еще через десять минут само-
лет исчезает с экрана радара. Огромная машина,
каждое крыло которой имеет в длину 52 метра,
падает в спокойные воды неподалеку от Галифак-
са, Новая Шотландия; все пассажиры и экипаж
гибнут. Спасатели говорят, что трудно даже
опознать тех, кто всего лишь за несколько часов
до этого жил, дышал, строил планы. На волнах
покачиваются портфели, сумки...
119
Ален де Боттон
1. Если мы не задумываемся о возможности
внезапного несчастья и платим потом вы-
сокую цену за свое небрежение, это про-
исходит потому, что жизнь обладает двумя
противоречащими друг другу особенно-
стями: с одной стороны, постоянством и
надежностью, не нарушаемыми в течение
многих поколении, с другой — неожидан-
ными катаклизмами. Мы должны выби-
рать между весьма вероятным предполо-
жением, что завтрашний день будет почти
во всем схож с сегодняшним, и возможно-
стью того, что произойдет поразительное
событие, после которого все изменится.
Именно потому, что нас так сильно вле-
чет первое, Сенека счел нужным воззвать
к богине.
2. Ее изображение с рогом изобилия в одной
руке и рулевым веслом в другой встреча-
лось на^многих римских монетах. Богиня
была прекрасна; обычно опа представала
120 } ч
/
Утешение философией
в легкой тунике и с застенчивой улыбкой.
Звали ее Фортуна. Сначала это была богиня
плодородия, старшая дочь Юпитера; ей было
посвящено проводившееся 25 мая праздне-
ство и множество храмов по всей Италии.
К помощи богини прибегали бесплодные
женщины и земледельцы, молящие о дожде.
Однако постепенно она стала почитаться и
как покровительница богатства, успеха,
любви и здоровья. Рог изобилия символи-
зировал ее власть даровать милости, рулевое
весло — зловещую силу, изменяющую судь-
бу. Фортуна могла рассыпать дары, но тут
же внезапно изменить курс и с безмятежной
улыбкой наблюдать, как человек гибнет, по-
давившись рыбьей костью или оказавшись
погребенным под оползнем.
3. Поскольку мы в наибольшей степени стра-
даем от неожиданного несчастья и посколь-
ку можно ожидать чего угодно («Фортуна
121
Ален де Боттон
отважится па все»1), мы должны, учил Се-
нека, всегда помнить о возможности ката-
строфы. Никому не следует отправляться в
автомобильную поездку, спускаться по лест-
нице или прощаться с другом, не осознав —-
причем Сенека не считал это ни мрачным,
ни излишне драматичным — возможности
фатального поворота событий.
«Ничто не должно заставать нас врасплох. Нужно посы-
лать душу навстречу всему и думать не о том, что случа-
ется обычно, а о том, что может случиться»2.
4. В качестве свидетельства того, как мало нуж-
но, чтобы весь наш мир рухнул, достаточно
взглянуть на свои запястья и мгновение по- 1 2
1 Сенека. Нравственные письма к Луцнлню. XCI, 15.
Перевод С. А. Ошерова.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцнлню. XCI, 4.
Перевод С. А. Ошерова.
122
Утешение философией
следить за пульсом, бьющимся в тонких си-
неватых венах; следом за Сенекой мы долж-
ны признать, что человек — хрупкий сосуд,
который может разбиться от любого толчка,
что тело его в своем естественном виде наго
и беззащитно, что мы зависим от помощи
других и можем оказаться жертвами любого
каприза Фортуны.
5. Город Лугдунум был одним из самых про-
цветающих римских поселений в Галлии.
Расположенный при слиянии Ааре и Роны,
он занимал выгодное положение на пересе-
чении торговых путей и военных маршру-
тов. В городе находились величественные
термы, театры, монетный двор. Но в авгу-
сте 64 года от случайной искры начался
пожар, мгновенно распространившийся по
узким улочкам; перепуганные жители при
приближении огня выскакивали из окоп.
Пламя перекидывалось от дома к дому, и
к восходу солнца весь Лугдунум, от приго-
родов до рыночной площади, от храмов до
терм, обратился в пепел. Выжившие лиши-
лись всего, кроме прожженной одежды, в
которой спаслись; прекрасные здания ста-
ли руинами. Охвативший город пожар был
столь стремителен, что к тому времени, ког-
да известие достигло Рима, Лугдунум давно
уже сгорел дотла.
123
Ален де Боттон
Бесполезно говорить: «Я не думал, что
такое случится». Неужели можно ожидать,
будто событие не произойдет, если известно,
что оно возможно, что оно уже случалось?
6. 5 февраля 62 года не менее страшное не-
счастье случилось в провинции Кампанья.
Земля содрогнулась, и значительная часть
Помпей была разрушена. В последующие
месяцы многие жители решили покинуть
Кампанью и переселиться в другие части
полуострова. Их переселение навело Сене-
ку на мысль, что они верят: где-нибудь на
земле, в Лигурии или Калабрии, есть место,
где они будут в полной безопасности, вне
досягаемости капризов Фортуны. Философ
ответил на это соображениями очень убе-
дительными, несмотря на их геологическую
сомнительность:
«Земля всюду подвластна тому же року,
и, если где еще не колебалась, не следует
думать, будто там она непоколебима. Может
быть, то самое место, па котором вы сегод-
ня чувствуете себя в такой безопасности,
разверзнется нынче ночью, а то и до захо-
да солнца. Откуда ты знаешь, может быть,
те края, где судьба, свирепствуя, истощи-
ла свои силы, впредь окажутся устойчивее
124
Утешение философией
других, опираясь на собственные разва-
лины? Считать какое бы то ни было место
на земле безопасным и свободным от этой
угрозы было бы заблуждением... нет тако-
го, которое природа замыслила бы создать
неподвижным»1.
7. Во времена правления Калигулы некто Мар-
ция, мать семейства, не участвовавшего в
высокой политике, потеряла сына. Мети-
лий, которому не исполнилось еще двадца-
ти пяти лет, был многообещающим молодым
человеком. Духовно он был очень близок
со своей матерью, и его смерть ее потрясла.
Марция перестала участвовать в обществен-
ной жизни и целиком погрузилась в скорбь.
Ее друзья сочувствовали ей и надеялись, что
придет день, когда она обретет присутствие
духа. Однако этого не случилось. Прошел
год, потом другой и третий, но Марция все
еще не могла превозмочь своего горя. Спу-
стя три года она так же лила слезы, как в
день похорон. Сенека послал Марции пись-
мо с выражением глубокой симпатии, но в
то же время содержавшее вопрос: должно
ли горе быть глубоким или длящимся бес-
конечно?
1 Сенека. О природе. VI, 11-12. Перевод Т. Ю. Бородай.
125
Ален де Боттон
Марция восставала против события од-
новременно ужасного и редкого — и еще
более ужасного от того, что было редким.
Марция видела вокруг себя матерей, чьи сы-
новья, юноши, начинающие карьеру в поли-
тике или армии, оставались живы. Почему
же ее сын был у нее отнят?
8. Несчастье, поразившее Марцию, оказалось
необычным и ужасным, но, утверждал Се-
нека, оно не было чем-то ненормальным.
Если бы Марция огляделась вокруг, не ог-
раничиваясь своим тесным окружением, она
обнаружила бы, что список матерей, чьих
сыновей убила Фортуна, удручающе обши-
рен. Потеряла сына Октавия. Потеряла сына
Ливия. Потеряла сына Корнелия. То же са-
мое случилось с Ксенофоном, Павлом, Лю-
цием Бибулом, Люцием Суллой, Августом и
Сципионом. Однако, отвернувшись от этих
ранних смертей, Марция отказалась — по
понятным причинам, но все же ошибочно —
включить подобные события в круг того, что
считала нормальным.
«Мы никогда не предвидим несчастий
прежде, чем они наступят... — писал Мар-
ции Сенека. — Сколько похоронных процес-
сий проходит мимо нашего дома, но о смер-
ти мы не задумываемся. Так часто смерть
126
Утешение философией
бывает безвременной, и все же мы строим
планы для своих детей — сначала, достигнув
совершеннолетия, они наденут тогу, потом
будут служить в армии, потом унаследуют
состояние родителей...»
Дети могут выжить, но наивно полагать,
что достижение ими совершеннолетия —
или хотя бы то, что они доживут до обеда, —
гарантировано.
«Никаких гарантий не существует не
только на день, но и на час..,»
Неведение, основанное па ожидании
будущего, которое всего лишь вероятно, —
опасно. Мы должны готовить себя к любому
несчастью, какое только может выпасть че-
ловеку, пусть даже оно кажется очень ред-
ким или далеким во времени.
9. Поскольку из-за долгих периодов благово-
ления Фортуны мы рискуем впасть в лег-
комыслие, Сенека советовал каждый день
уделять немного времени размышлениям о
капризах богини. Мы не знаем, что случит-
ся с нами в следующий момент, но ожидать
какого-то несчастья должны. Ранним утром
следует прибегать к тому, что Сенека назы-
вал praemeditatio, — заранее размышлять о
127
Ален де Боттон.
тех страданиях души и тела, которые может
послать нам Фортуна.
Пример рекомендованного Сенекой
praemeditatio:
«Лучше поразмысли...»1
«Фортуна ничего не дает во владение...»1 2
«Все непрочно — и частное, и общест-
венное; судьба городов, как судьба людей,
вертится колесом...»3
«Что построило ценою великих трудов,
при великой благосклонности богов долгое
время, то один день рушит и опрокидывает.
Кто сказал «один день», тот дал долгий срок
поспешающим бедам: довольно часа, мига,
чтобы низвергнуть державу!»4
«Сколько городов в Азии, сколько в
Ахайе рушилось от одного землетрясения?
Сколько поглощено их в Сирии, в Маке-
1 Сенека. О гневе. П, 10. Перевод Т. 10. Бородай.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцнлню. LXXII, 7.
Перевод С. А. Ошерова.
3 Там же. XCI.7.
Там же. XCI, 6.
128
Утешение философией/
донии? Сколько раз опустошало Кипр это
бедствие?»1
Все создания смертных обречены смерти,
мы живем среди бренности... 1 2
Думай обо всем, ко всему будь готов»3.
10. То же самое, конечно, можно выразить дру-
гими словами. Используя более строгий фи-
лософский язык, можно сказать, что участие
субъекта — лишь один из каузальных фак-
торов, определяющих события человеческой
жизни. Сенека, однако, постоянно прибегает
к гиперболам: каждый раз, когда кто-то па-
дет с вами рядом, пишет он, воскликните:
«Фортуна, ты не нападешь па меня, уве-
ренная в победе! Я знаю, что ты замысли-
ла. Да, сейчас ты нанесла удар не мне, но
целишь ты в меня». (В оригинале аллите-
рация более выразительна: Quotiens aliquis
ad latum autpone tergum ceciderit, exclama:
«Non decipies me, fortuna, nee securum aut
neglegentem opprimes. Scio quid pares; alium
quidem percussisti, sed mepetisti».)
11. Если большинство философов не видят необ-
ходимости излагать свои мысли подобным
образом, то причина этого такова: они по-
1 Там же. XCI, 9.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. XCI, 12.
Перевод С. А. Ошерова.
3 Сенека. О гневе. И, 31. Перевод Т. К). Бородай.
129
Ален де Боттон
лагают, что, коль скоро доказательство ло-
гично, стиль, в каком оно преподнесено чи-
тателю, не отразится на его эффективности.
Сенека представлял себе работу ума иначе.
Аргументы похожи на угрей: как бы они ни
были логичны, они могут выскользнуть из
слабой хватки рассудка, если не удержива-
ются воображением и стилем изложения.
Мы нуждаемся в метафорах для понима-
ния смысла того, что недоступно зрению
или осязанию; в их отсутствие мы забываем
о сказанном.
Богиня Фортуна, несмотря на свое вовсе не
философское, а религиозное происхождение, —
весьма подходящий образ для того, чтобы закре-
пить в человеческом уме представление о постоян-
но подстерегающих несчастьях; множество угроз
нашему благополучию объединяется в одного
ужасного антропоморфного врага.
Чувство, что вы — жертва несправедливости.
Закон справедливого воздаяния, согласно кото-
рому если мы ведем себя добропорядочно, то полу-
чаем вознаграждение, а если поступаем плохо, то
бываем наказаны, усваивается детьми в самом
раннем детстве. Его можно найти в большинст-
ве религиозных текстов; например, в Псалтыри
говорится: «И будет он [праведник] как дерево,
130
Утешение философией
посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое и лист которого не вянет;
и во всем, что он ни делает, успеет. Не так —
нечестивые; но они — как прах, возмещаемый
ветром»1.
Добродетель —> Награда
Зло —► Наказание
Когда человек поступает достойно, но тем не
менее страдает, это ставит в тупик; такое со-
бытие нельзя соотнести со справедливостью. Мир
начинает казаться полным абсурда. Возникает
сомнение: может быть, человек и на самом деле
плохой и поэтому наказан; с другой стороны, если
человек ничего плохого не совершил, то он стал
жертвой преступного нарушения в отправлении
правосудия. На глубинной вере в то, что мир в ос-
нове своей справедлив, базируются все жалобы на
несправедливость жизни.
1. Ожидание справедливости не та идеология,
которая могла бы помочь Марции.
2. Представление о справедливости мира за-
ставляло Марцию колебаться между му-
чительным подозрением, что она была
греховна, из-за чего и лишилась сына, и
1 Пс. 1:3-4.
131
Ален де Боттон
возмущением по поводу смерти Метилия
вопреки тому, что она была добродетельна.
3. Мы не всегда можем объяснить собствен-
ную судьбу своими моральными качествами;
как проклятие, так и благословение могут
выпасть нам безотносительно к справедли-
вости. Не все случающееся с нами имеет
какое-либо отношение к тому, каковы мы.
Метилий умер не потому, что его мать
была греховна; и мир не был несправедлив,
хотя, несмотря на ее добродетель, он умер.
Его смерть являлась, по представлениям
Сенеки, делом рук Фортуны, а богиня не
утруждает себя моральными суждениями.
В отличие от Бога Псалтыри, она не оцени-
вает достоинства и недостатки своих жертв,
чтобы воздать им по заслугам. Причиняя
зло, она так же морально слепа, как ураган.
132
Утешение философией
4. Сенека осознавал наличие у себя разруши-
тельной склонности объяснять несчастья в
соответствии с неправильным представле-
нием о справедливости мира. Вскоре после
воцарения Клавдия в 41 году он оказался
жертвой желания императрицы Мессали-
ны избавиться от сестры Калигулы, Юлии
Ливиллы. Императрица обвинила Ливиллу
в прелюбодеянии, а Сенеку назвала ее лю-
бовником. В один момент он лишился семьи,
богатства, друзей, репутации, успеха в поли-
тической карьере и был отправлен в изгна-
ние на Корсику, которая была тогда одним
из самых глухих углов огромной Римской
империи.
Сенека переживал периоды самобичева-
ния и горечи. Он то упрекал себя в непони-
мании политической ситуации и намерений
Мессалины, то возмущался тем, как его пре-
данность и таланты оказались вознагражде-
ны Клавдием.
В обоих случаях он исходил из пред-
ставления о том, что мироздание морально
и внешние обстоятельства отражают вну-
тренние качества.
Из этой мучительной ситуации он нашел
выход, вспомнив о Фортуне:
133
Ален де Боттон
«Что выйдет, решать Фортуне, над собой
же я не признаю ее приговора»1.
Политическую неудачу Сенеки не сле-
довало понимать как наказание за грехи;
это не было рациональное воздаяние, отме-
ренное после изучения всех доказательств
всевидящим божеством. Ссылка Сенеки
была всего лишь жестоким, но не имею-
щим никакой моральной составляющей
побочным следствием махинаций злобной
императрицы. В результате Сенека не толь-
ко отстранил от себя выпавший на его долю
позор; он понял, что и никаких оснований
приписывать себе заслугу в получении вы-
сокой должности при императорском дворе
не имел тоже.
Вмешательство Фортуны, как благо-
детельное, так и разрушительное, вносит
в человеческую судьбу элемент случайно-
сти.
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. XIV, 16.
Перевод С. А. Ошерова.
134
Утешение философией
Тревожность
Тревожность — состояние беспокойства от-
носительно неопределенной ситуации, когда че-
ловек надеется, что все повернется к лучшему,
но боится самого плохого исхода. Страдающие
тревожностью обычно не в состоянии получать
радость от любых удовольствий — культурных,
сексуальных или общественных.
Даже в роскошной обстановке такой человек
будет все время занят личными опасениями и
может предпочесть оставаться в одиночестве в
своей комнате.
135
Алей де Боттон
1. Традиционная форма успокоения тревожа-
щегося человека — утешение. Ему обычно
объясняют, что его страхи преувеличены и
события наверняка пойдут в желаемом на-
правлении.
2. Однако утешение может оказаться очень
горьким противоядием. Наши оптимистиче-
ские предсказания могут не только оставить
человека неподготовленным к неблагопри-
ятному исходу; они невольно подразумева-
ют, что нежелательное разрешение ситуации
будет катастрофой. Сенека дает более му-
дрый совет: он предлагает подумать о том,
что, хотя неприятные события, возможно,
и произойдут, они едва ли окажутся столь
ужасными, как мы опасаемся.
136
Утешение философией
3. В феврале 63 года друг Сенеки Луцилий, на-
ходившийся на государственной службе на
Сицилии, узнал о том, что против него на-
чат судебный процесс, грозящий положить
конец его карьере и навсегда опозорить его
имя. Он написал об этом Сенеке.
«Ты полагаешь, что я стану тебя убе-
ждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и
утешался приятной надеждой, — ответил
ему философ. — Но я поведу тебя к безмя-
тежности другим путем»1.
Суть его совета была такова:
«Если ты хочешь избавиться от всякой
тревоги, представь себе, что пугающее тебя
случится непременно»1 2.
По утверждению Сенеки, если рацио-
нально рассмотреть то, что случится, то даже
в случае неисполнения желаний почти на-
верняка окажется, что исходная проблема
менее значительна, чем вызываемая ею тре-
вога. Луцилий имел основания для печали,
но не для истерики:
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. XXIV, 1.
Перевод С. А. Ошерова.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. XIV, 2.
Перевод С. А. Ошерова.
137
Ален де Бопипон
«Если ты будешь осужден, разве ждет
тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрь-
мы?.. Я обеднею — значит, окажусь среди
большинства. Буду изгнан — сочту себя уро-
женцем тех мест, куда меня сошлют. Попа-
ду в оковы — что с того? Разве сейчас я не
опутан ими?»1
Тюрьма и изгнание — плохие вещи,
но — и в этом заключается весь смысл рас-
суждения — не такие плохие, какими их
представлял себе отчаявшийся Луцилий до
того, как тревоги были рационально рассмо-
трены.
4. Отсюда следует, что богаче!!, боящихся поте-
рять состояние, никогда не следует утешать
тем, что вероятность их разорения слишком
мала. Им лучше провести несколько дней в
комнате, по которой гуляют сквозняки, пи-
таясь жидким супом и черствым хлебом.
Сенека приводит совет одного из своих лю-
бимых философов:
«Сам наставник наслаждений Эпикур
установил дни, когда едва утолял голод, же-
лая посмотреть, будет ли от этого изъян в
великом и полном блаженстве, велик ли он
1 Там же. XIV, 3,17.
138
Утешение философией
будет и стоит ли возмещать его ценой боль-
ших трудов»1.
Богач непременно, уверял Сенека, скоро
поймет важную истину:
«И тогда ты скажешь сам: «Так вот чего
я боялся?»... Терпи все это по два-три дня,
иногда и дольше, по не для забавы, а что-
бы набраться опыта. И тогда, поверь мне...
поймешь, что для спокойной уверенности не
нужна Фортуна»1 2.
5. Многие римляне находили удивительным и
даже достойным насмешек, что философ, да-
вавший подобные советы, сам жил в роско-
ши. Не достигнув и пятидесяти лет, Сенека
благодаря политической карьере располагал
достаточным богатством для покупки вилл и
поместий. У него появился вкус к изыскан-
ной пище и роскошной мебели, в особенно-
сти столам из лимонного дерева с ножками
слоновой кости.
Сенеку возмущали утверждения, что он
ведет себя не так, как подобает философу:
1 Сенека. Нравственные письма к Луцнлию. XVIII, 9.
Перевод С. А. Ошерова.
2 Там же. XVIII, 5, 7.
139
Ален де Боттон
«Перестань корить философов богат-
ством: никто не приговаривал мудрость к
бедности»1.
С трогательным прагматизмом он добавлял:
«Да, все царство Фортуны не удосто-
ится от меня ничего, кроме презрения;
но если мне предоставят выбор, я возьму
лучшее»1 2.
6. Это не было лицемерием. Стоицизм вовсе не
требует бедности; он лишь советует не бо-
яться и не презирать ее. Согласно учению
стоиков, богатство — productum, предпочти-
тельная вещь — не является ни важнейшей
составляющей жизни, ни преступлением.
Философы-Стоики могут так же наслаж-
даться дарами Фортуны, как и глупцы. Их
дома могут быть столь же величественными,
мебель — столь же изысканной. Мудрецов
отличает только одно: то, как они отнесутся
к внезапно постигшей их нищете. Истинный
философ расстанется с роскошным жили-
щем и толпами слуг без гнева и отчаяния.
1 Сенека. О блаженйой жизни. XXIII, 1. Перевод Т. Ю.
Бородай.
2 Сенека. О блаженной жизни. XXV, 5. Перевод Т. Ю.
Бородай.
140
Утешение философией
7. Идея о том, что мудрец способен легко рас-
статься со всеми дарами Фортуны, представ-
ляет собой крайнее выражение стоицизма;
предполагалось, что Фортуна дарует не толь-
ко собственность и деньги, но и друзей, се-
мью, даже наши собственные тела:
«Мудрец не может потерять того, потеря
чего была бы для него чувствительна. Един-
ственное его достояние — добродетель, кото-
рую нельзя отнять; все остальное дано ему
во временное пользование»1.
«Мудрому никто, кроме него самого, не
нужен... Если болезнь или враг лишат его
руки, если случай отнимет у него глаз, му-
дрецу хватает того, что осталось»1 2.
Это звучит абсурдно, если только мы не
уточним, что Сенека имеет в виду под «хва-
тает». Никто не порадуется, потеряв глаз,
но, даже если это случится, жить все-таки
можно. Правильное число глаз или рук —
productum. Вот два примера таких взглядов:
1 Сенека. О стойкости мудреца, 5. Перевод Т. Ю. Бо-
родай.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. IX, 3, 4.
• Перевод С. А. Ошерова.
141
Ален де Боттон
«Мудрец не станет стесняться своего ма-
ленького роста, хотя н он предпочел бы быть
высоким и стройным»1.
«Никто... не нужен мудрецу не потому,
что он хочет жить без друзей, а потому, что
может»1 2.
8. Мудрость Сенеки была не только теоретиче-
ской. Сосланный на Корсику, он внезапно
оказался лишен всякой роскоши. Остров
принадлежал Риму с 238 года до н. э., но
блага цивилизации там отсутствовали. Те
немногие римляпе, что жили на Корсике,
селились в основном в двух колониях на
восточном побережье, Алерип и Мариане:
Сенеке же, по-видимому, было запрещено
жить там, поскольку в письмах он жалуется
на то, что слышит вокруг только «варвар-
скую речь». Его имя связывают с мрачным
строением недалеко от Лури на северной
оконечности острова, с древности известным
как «Башня Сенеки».
Условия жизни на Корсике должны
были очень болезненно отличаться от рпм-
1 Сенека. Облаженной жизни. XXII, 2. ПереводТ. К).
Бородай.
2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. IX, 5. Пе-
ревод С. А. Ошерова.
142
Утешение философией
ских, но в письме к матери бывший богач
и государственный деятель сообщает, что
благодаря годам утренних praemeditatio и
питания простой похлебкой он сумел прино-
ровиться к обстоятельствам. Никогда он не
доверял Фортуне, даже когда она, казалось,
была к нему благосклонна. Все те дары,
которыми опа осыпала Сенеку: богатство,
высокая должность, влиятельность — он
хранил там, откуда она могла забрать их,
не потревожив его; между ними и собой он
установил преграду, поэтому, когда везение
кончилось, Фортуна просто взяла, а не выр-
вала у философа то, что дала раньше.
Ощущение, что над вами издеваются
(I) Неодушевленные объекты. У вас возника-
ет чувство, что предметы целенаправленно вам
сопротивляются: карандаш падает со стола или
ящик ice желает открываться. Огорчение, до-
ставляемое неодушевленным предметом, сопро-
143
Ален де Боттон
вождается впечатлением, будто он вас осуждает.
Предмет ведет себя так раздражающе из жела-
ния показать, что он не разделяет вашего мнения
о собственном интеллекте или статусе, который
вы приписываете себе и с которым согласны окру-
жающие.
(II) Одушевленные объекты. Такое же непри-
ятное ощущение возникает из-за впечатления,
что другие люди в душе над нами смеются.
Когда я остановился в шведском отеле, меня
в номер проводил служащий, предложивший от-
нести туда мой багаж. «Он слишком тяжел для
такого мужчины, как вы», — с улыбкой говорит
он, подчеркивая слово «мужчина» и тем самым
выражая сомнение в том, что я силен. Сам он —
типичный скандинав со светлыми волосами
(похожий на лыжника или охотника; такими,
наверное, были викинги) и решительным выра-
жением лица. «Месье будет доволен номером», —
продолжает он. Непонятно, почему он называет
меня «месье», зная, что я приехал из Лондона,
а построение фразы таково, что она сильно
смахивает на приказ. Неуместность подобного
заявления становится особенно очевидной, ког-
да выясняется, что под окном номера грохочут
грузовики, душ не работает, а телевизор неис-
правен.
Обычно тихих, застенчивых людей чувство,
будто над ними исподтишка насмехаются, мо-
144
Утешение философией
эюет привести в такую ярость, что они неожи-
данно начинают кричать или прибегают к наси-
лию — иногда даже совершают убийство.
1. Когда что-то причиняет нам огорчение, возни-
кает соблазн счесть, будто это сделано наме-
ренно, — соблазн заменить «и» на «чтобы»:
«карандаш упал, чтобы разозлить меня»
вместо «карандаш упал, и я разозлился».
2. Сенека собирал примеры подобного ощуще-
ния враждебности со стороны неодушевлен-
ных предметов. Один из них был найден им
в «Истории» Геродота. У персидского царя
Кира, основателя великой империи, были
прекрасные белые кони, которых всегда за-
прягали в царскую боевую колесницу. Ве-
сной 539 года до н. э. Кир пошел войной на
Ассирию, чтобы расширить свои владения,
и с большой армией двинулся к ее столице,
Вавилону, расположенному на берегах Ев-
фрата. Поход проходил успешно до тех пор,
пока войско не достигло реки Гинд, притока
Тигра. Гинд был известен тем, что коварен и
опасен даже летом, а весной перед персами
оказался бурпый поток, разлившийся после
зимних дождей. Полководцы Кира совето-
вали ему подождать, по он не послушал их
и приказал немедленно начать переправу.
145
Ален де Боттон
Однако, пока воины готовили лодки, один
из царских белых коней убежал и попы-
тался переплыть реку. Течение подхватило
животное и унесло, конь не смог выплыть
и утонул.
Кир пришел в ярость. Река посмела рас-
правиться с его священным белым конем, с
конем полководца, который поверг в прах
Креза и устрашил греков! Царь кричал и
сыпал проклятиями и в гневе решил от-
платить Гинду за его дерзость. Он поклял-
ся наказать реку и сделать ее такой слабой,
чтобы даже женщина могла пересечь ее, не
замочив колеи.
Забыв о своих планах по расширению
империи, Кир разделил армию на две ча-
сти, разметил оба берега реки так, чтобы от
каждого отходило по 180 каналов, и прика-
зал воинам выкопать их. Работы длились
все лето, боевой дух армии пошатнулся,
надежды на быстрое завоевание Ассирии
исчезли. Когда же каналы были выкопа-
ны, бурный ранее Гинд потек по ним так
спокойно, что пораженные местные жи-
тельницы действительно переходили его,
не приподнимая подолов. После того как
ярость Кира нашла удовлетворение, царь
приказал своей измученной армии вновь
двинуться на Вавилон.
146
Утешение философией
3. Сенека собирал сходные примеры чувства
преследования и со стороны одушевленных
объектов. Один из случаев касался римского
наместника в Сирии, Гнея Пизопа, храброго
полководца, но неуравновешенного челове-
ка. Однажды воин вернулся из отпуска без
своего друга, вместе с которым уезжал, и
сообщил, что не знает, куда тот отправился.
Пизон решил, что воин лжет: он убил своего
спутника и должен теперь расплатиться за
это жизнью.
Осужденный клялся, что никого не уби-
вал, и просил отсрочить казнь, чтобы прове-
сти расследование, по Пизон был уверен в
своей правоте и приказал немедленно обез-
главить несчастного.
Однако, когда центурион уже готов был
отдать приказ отрубить осужденному голову,
его пропавший спутник объявился у ворот
лагеря. Все войско разразилось приветст-
виями, и центурион с облегчением отменил
казнь.
Пизон посмотрел на дело иначе. Услы-
шав радостные крики, он счел, что воины
высмеивают его приговор. Побагровев от
гнева, Пизон приказал своей страже каз-
нить обоих — и воина, который не совер-
шал убийства, и того, кого не убили. Даже
этого Пизону показалось мало: он повелел
147
Ален де Боттон
казнить и центуриона, не выполнившего
приказ.
4. Наместник Сирии немедленно истолковал
радостные крики воинов как желание подо-
рвать его власть и поставить под сомнение
разумность его приказаний. Кир воспри-
нял гибель своего коня как преднамеренное
убийство.
Сенека дал объяснение подобным ошиб-
кам в суждении: он видел в людях, подоб-
ных Киру и Пизону, «своего рода низость
души»1. За их ожиданием оскорбления
скрывается страх того, что насмешки ими
заслужены. Когда мы подозреваем, что явля-
емся подходящей мишенью для порицания,
немного потребуется, чтобы заставить нас
поверить, будто нечто пли некто уязвляет
нас намеренно.
Причины могут быть совершенно невин-
ными. Кто-то не принял меня сегодня пото-
му, что запланировал увидеться со мной на
будущей неделе. Мне показалось, что кто-то
надо мной смеется, а у этого человека просто
нервный тик. Однако такие объяснения не
приходят нам на ум, когда имеет место ни-
зость души.
1 Сенека. О стойкости мудреца, 10. Перевод Т. 10. Бо-
родай.
148
Утешение философией
5. Таким образом, нам следует опасаться по-
добных первых впечатлений и остерегаться
действовать в таких случаях тотчас. Нужно
задать себе вопрос: непременно ли человек,
не ответивший па наше письмо, медлит с
целью уязвить нас; непременно ли ключи,
которые мы не можем нЦйти, были укра-
дены.
«[Мудрец] не видит вр всем лишь плохое,
не ищет, на кого бы взвалить свои беды»1.
6. Причина того, почему Мудрецу это удается,
косвенным образом объясняется Сенекой в
письме к Луцилию по поводу фразы, кото-
рую он прочел в одной из работ философа
Гекатона:
«Вот что поправилось мне нынче у Гека-
топа: «Ты спросишь, чего я достиг? Стал са-
мому себе другом!» Достиг он немалого, ибо
теперь никогда не останется одинок. И знай:
такой человек всем будет другом»* 2.
7. Существует легкий способ измерить вну-
тренний уровень нашей низости или дру-
желюбия по отношению к себе: следует
ч 1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. LXXXI,
25. Перевод С. А. Ошерова.
2 Там же. VI, 7.
149
Ален де Боугтон
оценить, йак мы относимся к шуму. Сенека
жил рядом с термами, и оттуда постоянно
доносился шум. Сенека так описал проблему
в письме к Луцилию:
«Вот и вообрази себе все разнообразие
звуков, из-за которых можно возненавидеть
собственные уши. Когда силачи упражняют-
ся, выбрасывая вверх отягощенные свинцом
руки, когда Они трудятся или делают вид,
будто трудятся, я слышу их стоны; когда
они задержат дыхание, выдохи их пронзи-
тельны, как свист; попадется бездельник, до-
вольный самым простым умащением, — я
слышу удары ладоней по спине... Прибавь
к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех,
кому нравится звук собственного голоса в
бане... вспомни про выщипывателя волос,
который, чтобы его заметили, извлекает из
гортани особенно пронзительный визг...
К тому же есть еще и пирожники, и колба-
сники, и торговцы сладостями и всякими
кушаньями, каждый на свой лад выклика-
ющие товар»1.
8. Тому, кто относится к себе без дружелюбия,
трудно представить, что пирожник кричит
просто для того, чтобы продать свой товар.
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. LVI, 1-2.
Перевод С. А. Ошерова.
150
Утешение (философией
Каменщик у входа в отель в Риме (1), воз-
можно, просто делает вид, будто чинит стену,
но его истинное намерение — досадить чело-
веку, пытающемуся читать книгу в комнате
на верхнем этаже (2).
151
Ален де Боттон
1. Интерпретация низкого душой: ка-
менщик стучит, чтобы досадить мне.
2. Дружелюбная интерпретация: камен-
щик стучит, и я раздражаюсь.
9. Чтобы не раздражаться на шумных улицах,
нужно помнить о том, что те, кто шумит, не
подозревают о нашем существовании. Мы
должны поставить преграду между шу-
мом снаружи и внутренним чувством, что
шумящие заслуживают наказания. Мы не
должны неправомерно подозревать других
во враждебных побуждениях. Таким обра-
зом, шум если и не станет приятным, то, во
всяком случае, перестанет вызывать в нас
ярость:
«Пусть за дверьми все шумит и гремит —
лишь бы внутри не было смятения»1.
3
Конечно, человечество немногого бы до-
стигло, если бы мы мирились со всеми огорче-
ниями. Двигателем нашей изобретательности
является вопрос: «Должно ли все оставаться
как есть?» — он рождает политические рефор-
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. LVI, 5.
Перевод С. А. Ошерова.
152
Утешение философией
мы, научные открытия, улучшение отноше-
ний, появление замечательных книг. Римляне
были непревзойденными мастерами в борьбе с
неудобствами. Они ненавидели зимний холод
и поэтому изобрели систему отопления, про-
ложив под полами трубы для подачи горячего
воздуха; им не нравилось ходить по грязным
дорогам — и они научились их мостить. В се-
редине первого века жители Нима в Провансе
сочли, что их город нуждается в большем ко-
личестве воды, чем дает природа, — и потрати-
ли сто миллионов сестерциев на строительство
поразительного символа человеческого проти-
востояния status quo. К северу от Нима, около
Изеса, римские Инженеры нашли источник, до-
статочно многоводный, чтобы снабжать термы и
фонтаны города, и составили план переброски
воды за 50 миль через горы и долины благода-
ря системе акведуков и подземных труб. Когда
нужно было преодолеть узкое ущелье, по кото-
рому течет река Гар, римляне не отчаялись, а
построили массивный трехуровневый акведук
360 метров длиной и 48 метров высотой, способ-
ный пропускать 35 000 кубических метров воды
в день, — все ради того, чтобы жителям Нима
никогда не пришлось огорчаться, обнаружив в
бассейне мало воды.
153
Ален де Боттон
К несчастью, поиски разумом альтернатив
трудно приостановить. Мы мысленно проигры-
ваем сценарии улучшений, даже когда надежды
на изменение действительности нет. Постоянные
напоминания о дискомфорте — тревога, боль,
гнев, обида да и иные обстоятельства, говоря-
щие о том, что реальность не такова, какой мы
хотели бы ее видеть, — порождают в нас энер-
гию, необходимую для действий. Однако такие1
понукания бесполезны, если мы не в силах осу-
ществить желаемые улучшения, если теряем ду-
шевное спокойствие, по не в состоянии изменить
течение событий. Поэтому-то, как считал Сенека,
мудрость заключается в том, чтобы правильно
разобраться: где мы можем изменить действи-
тельность в соответствии со своими желаниями.
154
Утешение философией
а где должны спокойно принять то, чего изме-
нить не можем.
Стоики пользовались образным примером, по-
казывающим, что мы — существа, иногда способ-
ные изменить реальность, но всегда подвластные
внешней необходимости. Мы подобны собакам,
привязанным к тележке, предвидеть движение
которой мы не в силах. Веревка достаточно длин-
на, чтобы давать нам определенную степень сво-
боды, но не позволяет бродить по собственному
желанию.
Этой метафорой пользовались философы-стои-
ки Зенон и Хрисипп, говорившие, что если собака
по своей воле бежит за тележкой, то ее произволь-
ное действие совпадает с необходимостью. Если
же собака не хочет следовать за тележкой, она все
равно оказывается к этому принуждена. Так же и
с людьми: даже против воли они выполняют пред-
начертания судьбы.
Собака, естественно, предпочла бы бежать,
куда ей хочется. Однако, согласно метафоре Зено-
на и Хрпсиппа, если такой возможности животное
лишено, для него лучше, если оно добровольно по-
бежит за тележкой: иначе тележка потащит его
за собой. Хотя первым побуждением собаки может
оказаться сопротивление движению в ту сторону,
Куда она не хочет, такое ее действие только усилит
неприятности.
155
Ален де Боттон
Сенека писал:
«Так зверь, пока рвется, лишь затягива-
ет петлю у себя на шее... Нет такого тесного
ярма, которое не причинило бы меньше боли
тому, кто влачит его, чем тому, кто пытается
его сбросить. Единственное, что может облег-
чить безмерное страдание, — это терпение и
покорность неизбежности»1.
Чтобы меньше бунтовать против событий, ко-
торые не совпадают с нашими желаниями, следует
всегда помнить, что и вокруг наших шей завяза-
на веревка. Мудрец умеет видеть необходимость
и сразу же ей покоряться, а не тратить силы на
сопротивление. Когда разумному человеку сооб-
щат, что его багаж потерялся в аэропорту, оп до-
статочно быстро примирится с этим фактом. Сене-
ка писал, как повел себя в аналогичной ситуации
Зенон, основатель стоицизма.
1 Сенека. Огневе. III, 16.1. ПереводТ. 10. Бородай.
156
Утешение философией
Получив известие, что все его имущест-
во погибло при кораблекрушении, он только
сказал: «Судьба желает, чтобы я стал ничем не
обремененным философом».
Это может выглядеть как рецепт пассивно-
сти и непротивления, поощрение покорности
неприятностям, которые можно было бы прео-
долеть. Подобное отношение могло бы лишить
решимости построить даже скромный акведук,
всего 17 метров в длину и 4 метра в высоту, как
в Борнегре, в нескольких километрах к северу
от Пондю-Гара.
Однако подход Сенеки не так прост. Столь же
неразумно считать неизбежным нечто, таковым
не являющееся, как и восставать против дейст-
вительной неизбежности. Подчиняясь кажущейся
необходимости и не воспользовавшись имеющей-
ся возможностью, мы можем ошибиться совер-
шенно так же, как и восстав против неизбежного
и стремясь к несбыточному. Для того и нужен
разум, чтобы увидеть различие.
Каково бы ни было сходство между нами и
собакой на привязи, мы имеем одно решающее
преимущество: мы способны рассуждать, а соба-
ка — нет. В результате собака даже не сразу пони-
мает, что привязана, и не улавливает связи между
Поворотами тележки и болью в стиснутой верев-
157
Ален де Боттон
кой шее. Животное теряется при неожиданной
смене направления, не может предвидеть траек-
торию движения тележки и потому продолжает
страдать от постоянных болезненных рывков.
Однако разум дает нам возможность достаточно
точно предвидеть путь тележки и оценить редкий!
шанс,' отведенный живым существам, — увели-
чить свою свободу, сделав веревку между нами
и необходимостью ненатянутой. Разум помога-
ет определить, когда наши желания вступают в
неразрешимый конфликт с реальностью, и сове-
тует покориться по доброй воле, а не с гневом
и горечью. Мы порой бессильны изменить то-то
или то-то, но в нашей власти выбирать, как мы к
нему отнесемся, и именно в немедленном приня-
тии неизбежности и лежит определенная степень
свободы.
В феврале 62 года Сенека столкнулся с неу-
молимой реальностью. Нерон перестал слушать
советы своего наставника, начал избегать его
общества, поощрял судебные иски против него,
а кровожадного префекта претория1 Офопия Ти-
геллина сделал своим наперсником в разврате и
немыслимых злодействах. Девственниц хватали
на улицах Рима и отвозили в покои императора,
1 Префект претория — начальник преториан-
ской гвардии. (Прим.ред.).
158
Утешение философией
ясен сенаторов принуждали участвовать в орги-
ях, а их мужей убивали у них на глазах. Нерон
в простой одежде рыскал ночами по городу и
убивал случайных прохожих. Он влюбился в
юношу и, сожалея, что тот не девушка, прика-
зал оскопить его, после чего совершил издева-
тельскую церемонию бракосочетания. Римляне
мрачно шутили, что их жизнь была бы легче,
если бы отец Нерона, Домиций, женился па
женщине именно такого сорта. Понимая, что
находится под неминуемой угрозой, Сенека
попытался удалиться из Рима и поселиться
как частное лицо на своей вилле. Дважды он
просил об отставке, и дважды Нерон отклонял
его просьбу, горячо его обнимая и клянясь, что
скорее умрет, чем причинит вред любимому
учителю. Опыт Сенеки говорил ему, что таким
обещаниям никак не следует верить.
Сенека обратился к философии. Бежать от Не-
рона он не мог, и разум советовал примириться
с тем, чего нельзя изменить. В последние годы
жизни, которые иначе были бы наполнены не-
Ьыпосимой тревогой, Сенека посвятил себя ис-
следованию природы. Он начал писать книгу о
Земле и планетах. Он наблюдал небесный простор
й созвездия, изучал безграничные моря и высокие
1юры, следил за вспышками молний и гадал об их
Происхождении:
159
Ллен де Боттон
«Молния — огонь сжатый, запущенный
и ударяющий с большим напором. Мы иног-
да зачерпываем воду, соединив обе руки, и,
сжимая ее с обеих сторон ладонями, выдав-
ливаем сильной струей, как из насоса. Пред-
ставь себе, что нечто подобное происходит
и там: тесно прижатые друг к другу облака
выдавливают оказавшийся между ними дух
(spiritus), тем самым, и воспламеняя его и
запуская, как запускает снаряд метательная
машина»1.
Обдумывая причины землетрясений, Сенека
пришел к выводу, что их вызывает запертый вну-
три земли воздух, который ищет пути наружу, —
своего рода геологический метеоризм:
«Ко всем доказательствам, что это [земле-
трясение] происходит именно по вине возду-
ха, прибавь, не задумываясь, и следующее.
После главного толчка, особенно жестоко
потрясшего города и земли, уже не может
следовать равный ему по силе; за самым
мощным ударом идут более слабые, ибо буй-
ствующие ветры в первый раз пробили себе
путь к выходу»1 2.
1 Сенека. О природе. II, 16. Перевод Т. 10. Бородай.
2 Сенека. О природе. VI, 31. Перевод Т. 10. Бородай.
160
Утешение философией
Не имеет особого значения то, что суждения
Сенеки были ошибочны; гораздо важнее нео-
быкновенное утешение, которое человек, чья
т^изнь в любой момент могла быть оборвана
до капризу императора-убийцы, находил в
наблюдениях за природой, — может быть, по-
тому, что мощные ее проявления напоминали
о необходимости примириться с не подвласт-
ными нам вещами. Ледники, вулканы, земле-
трясения и ураганы — впечатляющие символы
того, что превосходит силы человека. Ориенти-
руясь только на общественную жизнь, мы на-
чинаем думать, будто всегда можем изменить
свою судьбу, а потому постоянно надеемся и
тревожимся. Однако неумолчные удары при-
боя или блеск пролетающей по ночному небу
кометы показывают, что в мире существуют
силы, совершенно безразличные к нашим же-
ланиям. Такое равнодушие свойственно не од-
ной только природе; люди способны в равной
мере слепо властвовать над другими людьми,
но именно природа преподает нам самый на-
глядный урок той неизбежности, которой мы
подчинены.
«Зима приносит стужу — приходится
мерзнуть; лето возвращает тепло — при-
ходится страдать от жары; неустойчивость
погоды грозит здоровью — приходится хво-
161
Ален де Гют тон
рать. Где-нибудь встретится нам зверь, где.
нибудь — человек, опасней любого зверя...
Изменить такой порядок вещей мы не в ель
лах... К этому закону и должен приспосо-
биться наш дух, ему должен следовать, ему
повиноваться... Лучше всего перетерпеть то,
чего ты не можешь исправить»1.
Quid opus esl paries deflere? Tola flebilis vita est.
Свой труд о природе Сенека начал, когда в
первый раз попросил Нерона об отставке. Ему
оказалось отпущено три года. В апреле 65-го был
раскрыт заговор Ппзопа против императора, п
па виллу философа прибыл центурион. Сенека
1 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. CV11, 7. Я
Перевод С. А. Ошерова.
162
Утешение философией
был готов к этому. Полуобнаженная Павлина и
ее служанки могли биться в рыданиях, но Сенека
умел послушно следовать за тележкой, а потому
без сопротивления вскрыл себе вены. Как он сам
напоминал Марции, потерявшей сына Метилия,
какой смысл плакать об одном событии в жизни,
когда слез заслуживает вся опа целиком...
IV
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ
1
После столетий пренебрежения, а временами и
враждебности, после всех разрушений и по-
жаров, когда обрывки рукописей лишь случайно
могли уцелеть в катакомбах или монастырских
библиотеках, мудрость Древней Греции и Рима
пережила в шестнадцатом веке триумфальное воз-
рождение. Интеллектуальная элита Европы еди-
нодушно заключила, что самые ценные мысли, из-
вестные человечеству, родились в умах немногих
гениев, живших в городах-государствах Греции и
на Апеннинском полуострове во времена между
сооружением Парфенона и падением Рима, и что
нет большей необходимости для образованного
человека, чем ознакомиться с этими богатствами.
Заново издавались труды Платона, Лукреция,
Сенеки, Аристотеля, Катулла, Лонгина и Цице-
рона, появились сборники произведений класси-
ков и комментарии к ним — «Apophthegmata» и
«Adages» Эразма, «Антология» Стобея, «Золотые
послания» Антонио де Гевары, «Почтенное уче-
164
Утешение философией
ние» Петра Кринитуса, — которые заполняли би-
блиотеки ио всей Европе.
В Юго-Западной Франции на вершине леси-
стого холма в тридцати милях от Бордо находится
красивый замок золотистого камня с темпо-кра-
сной черепичной крышей.
В замке жили пожилой аристократ, его жена
Франсуаза, дочь Леонора, слуги и домашние жи-
вотные (куры, козы, собаки, лошади). Дед Ми-
шеля де Монтеня купил поместье в 1477 году
На доходы от семейного предприятия по засолке
рыбы, отец добавил к зданию пристройки и рас-
165
Ален де Боттон
пахал земли, а сын в возрасте тридцати пяти лет
получил поместье в управление, хотя не особенно
интересовался хозяйством и почти ничего не смы-
слил в земледелии («Мне не под силу отличить
один злак от другого... то же я должен сказать о
капусте и салате в моем огороде»1).
Он предпочитал проводить время в круглой
библиотеке на третьем этаже башни в углу замка:
«Я провожу в ней большую часть дней в году и
большую часть часов на протяжении дня»1 2.
В библиотеке было три окна («из которых от-
крываются прекрасные и далекие виды»3), стол,
кресло и расположенные полукругом пятияру-
сные полки; на них стояло около тысячи томов,
содержащих труды по философии, истории, теоло-
гии, а также поэзию. Именно здесь Монтень читал
о твердом ответе Сократа, «самого мудрого челове-
ка в мире»4, нетерпеливым судьям Афин (это был
перевод на латынь диалогов Платона, сделанный
Марсилио Фичино); здесь из «Жизнеописаний»
Диогена Лаэртского и поэмы «О природе вещей»
Лукреция, изданных в 1563 году Дени Ламбе-
1 Монтень М. Опыты. II, 17, 582. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.— Здесь и далее страницы
указаны по изданию: Мишель Монтень. Опыты. В 2 т. М.:
Наука, 1979. (Прим, перев.)
2 Там же. III, 3, 42.
3 Там же. 111,3,41.
z* Монтень М. Опыты. II, 12, 437. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
166
Утешение философией
пом, он узнал об учении Эпикура о счастье; здесь
он читал и перечитывал Сенеку (чьи «писания...
пленяют живостью и остроумием»1), сочинения
которого были изданы в Базеле в 1557 году.
К творчеству классиков Монтень приобщился
еще в детстве. Латынь оказалась первым языком,
которому его учили. В семь или восемь лет Мон-
тень прочел «Метаморфозы» Овидия. Ему еще не
исполнилось шестнадцати, когда он приобрел со-
1 Там же. И, 10, 360.
167
Ален де Боттон
чинения Вергилия; к этому времени он уже знал
наизусть «Энеиду», был знаком с трудами Терен-
ция, Плавта, «Комментариями» Цезаря. Привер-
женность Монтеня литературе была такова, что,
прослужив тринадцать лет советником парла-
мента Бордо, он вышел в отставку с намерением
полностью посвятить себя книгам. Чтение было
радостью всей его жизни:
«Они [книги] утешают меня в мои старые
годы и в моем уединенном существовании.
Они снимают с меня бремя докучной празд-
ности и в любой час дают мне возможность
избавляться от неприятного общества; Опп
смягчают приступы физической боли, если она
не достигает крайних пределов и не подчиняет
себе все остальное»1.
Однако полки библиотеки, хоть и говорят о
безграничном восхищении умственной жизнью,
рассказывают еще не все. Нужно внимательнее1
осмотреть библиотеку, стоя посередине помеще-
ния и запрокинув голову: в середине 1570-х годов
по приказанию Монтеня на деревянных балках
было вырезано 57 кратких изречений, почерпну-
тых из Библии и трудов классиков; они отражали
глубокие сомнения в благе, даруемом разумом.
1 Монтень М. Опыты. III, 3, 40. Перевод А. С. Бобови-
ча и. Н. Я. Рыковой.
168
Утешение философией
«Человек не может постигнуть дел, которые
Бог делает, от начала до конца».
Экклезиаст
«Видели ли вы человека, считающего себя
мудрецом? От безумца вы узнаете больше, чем от
него».
Народная мудрость
«Нет ничего более несомненного, чем сомне-
ния, нет создания более жалкого и более кичли-
вого, чем человек».
Плиний
«Самая счастливая жизнь — та, которая ли-
шена мыслей».
Софокл
169
Ален де Боттон
Древние философы верили, что сила разума
может дать человеку счастье и величие, в кото-
рых отказано другим существам. Разум позволяет
держать в узде страсти и исправлять ошибочные
представления, рожденные инстинктами. Разум
умеряет безумные порывы тела и приводит в рав-
новесие аппетит в еде и сексе. Разум — тонкий,
почти божественный инструмент, позволяющий
человеку властвовать над миром и собой.
В «Тускуланских беседах», экземпляр которых
имелся в библиотеке Монтеня, Цицерон прослав-
ляет благодеяния работы разума:
«Нет ничего прекраснее... занятий науками:
с их помощью мы познаем бесконечное мно-
жество окружающих нас предметов, необъят-
ность природы; они раскрывают нам небо, моря
и землю; наука внушила нам веру, скромность
и величие духа, она вывела нашу душу из тьмы
и показала ей всякие вещи — возвышенные
и низменные, первоначальные, конечные и
промежуточные; наука учит пас жить хорошо
и счастливо; руководясь ею, мы можем беспе-
чально и безмятежно прожить свой век»1.
Хотя Монтень владел тысячей книг и получи, i
много пользы от классического образования, это
восхваление привело его в такую ярость, оно так
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 425. Перевод А. С. Бобо
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
170
Утешение философией
Противоречило надписям на потолочных балках,
нто он выразил свое возмущение с совершенно не
типичной для себя жесткостью:
«Собьем с человека эту спесь, эту главную
основу тирании зловредного человеческого
разума... Уж не говорит ли здесь наш автор
[Цицерон] о каком-то бессмертном и всемо-
гущем боге? Ибо в действительности тысячи
самых бесхитростных деревенских женщин
прожили жизнь более мирную, счастливую и
спокойную, чем наш автор»1.
Римский философ не учел, как несчастны
были в большинстве своем ученые; он высоко-
мерно пренебрег страшными бедствиями, которые
из всех живых существ выпали на долю только
людям и которые в мрачные моменты заставляют
нас жалеть, что мы не родились муравьями или
черепахами.
А также козами. Одну пз них я видел во дво-
ре фермы в Ле-Гоше в нескольких километрах от
шато Монтеня.
Она никогда не читала ни «Тускуланских бе-
сед», ни другого творения Цицерона — «О зако-
нах». И все же она была явно довольна жизнью,
Жуя пролезшие сквозь забор листья салата и из-
1 Там же.
171
Ален де Боттон
редка тряся головой, как выражающая неодобре-
ние старуха. Разве нельзя позавидовать такому
существованию?
Сам Монтень также видел и подробно описы-
вал преимущества жизни животного по сравне-
нию с жизнью разумного человеческого существа,
обладающего большой библиотекой. Животные
инстинктивно знают, как помочь себе в случае*
болезни: «Козы, будучи раненными, из тысячи
других растений выбирают ясенец, черепахи, если
их укусит змея, находят и едят душицу, а аисты
делают себе клизмы из морской воды. Людям же.
напротив, приходится полагаться па невежествен-
ных и к тому же дорогостоящих докторов (чего
стоят абсурдные снадобья вроде «мочи ящерицы,
испражнений слона, печени крота, крови, взятой
из-под правого крыла белого голубя, а для... зло-
получных почечных больных... истолченного в
порошок крысиного помета»)»1.
1 Монтень М. Опыты. II, 37, 684. Перевод А. С. Бобо
впча и Ф. А. Коган-Бернштейн.
172
Утешение философией
Животные также инстинктивно воспринима-
ют сложные идеи, не тратя долгого времени на
их изучение. Монтень пишет о том, что тунцы
самопроизвольно становятся экспертами в астро-
логии: «Они останавливаются в том месте, где их
застает зимнее солнцестояние, и остаются здесь
до следующего равноденствия»1. Тунцам знакомы
геометрия и арифметика, потому что они плавают
группами, образуя совершенный куб: «Завидев-
шему косяк и сосчитавшему число рыб в одном
ряду нетрудно установить численность всего ко-
сяка, ибо глубина его равна ширине, а ширина —
длине»1 2. Собаки обладают врожденным понима-
нием диалектической логики. Монтень упоминает
пса, который в поисках хозяина оказался в месте,
откуда отходило три дороги. Пес принюхался к од-
ной из них, потом к другой и побежал по третьей,
сделав заключение, что, раз первые две не годятся,
хозяин, должно быть, пошел именно по ней.
«Разве это диалектическое суждение и это
умение пользоваться как отдельными частями
силлогизма, так и силлогизмом в целом, кото-
рыми собака обладает от природы, не стоит вы-
учки, полученной у Георгия Трапезундского?»3
1 Там же. II, 12,417.
2 Монтень М. Опыты. II, 12, 417. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
3 Там же. II, 12,402.
173
Ален де Боттон
В любви животные тоже превосходят людей.
Монтень с завистью читал о слоне, который влю-
бился в александрийскую цветочницу. Когда его
вели по рыночной площади, слон цеплял своим
морщинистым хоботом ее ожерелье и ласкал ее
груди с нежностью, в которой ни один человек не
мог с ним сравниться.
И без всяких усилий самое обыкновенное жи-
вотное с фермы может превзойти в философском
спокойствии мудрейших отшельников антично-
сти. Греческий философ Пиррон, путешествуя
на корабле, попал в жесточайший шторм. Все
находившиеся на борту впали в панику, боясь,
что грозные волны разобьют хрупкое суденышко.
Лишь один пассажир не утратил присутствия духа
и спокойно оставался в своем углу. Это был боров.
«Так что же, решимся ли мы утверждать,
что преимущества, доставляемые нашим ра-
зумом, которым мы так гордимся и благодаря
которому являемся господами и повелителями
прочих тварей земных, даны нам на наше му-
чение? К чему нам познание вещей, если из-за
него мы теряем спокойствие и безмятежность,
которыми в противном случае обладали бы, и
оказываемся в худшем положении, чем боров
Пиррона?»1
1 Монтень М. Опыты. 1,14,52. Перевод А. С. Бобовича.
174
Утешение философией
Еще вопрос, дает ли разум то, за что следует
быть благодарным:
«Наш удел — это непостоянство, колеба-
ния, неуверенность, страдание, суеверие, забо-
та о будущем — а значит, и об ожидающем нас
после смерти, — честолюбие, жадность, рев-
ность, зависть, необузданные, неукротимые и
неистовые желания, война, ложь, вероломство,
злословие и любопытство. Да, мы, несомненно,
слишком дорого заплатили за этот преслову-
тый разум, которым мы так гордимся, за наше
знание и способность суждения»1.
Если бы ему предложили выбор, Монтень,
йаверное, все-таки пе выбрал бы существование
козы, но перевес в пользу человеческой жизни был
бы незначительным. Цицерон нарисовал очень
лестный портрет разума; шестнадцатью столети-
ями позже Монтень утверждал противоположное:
«Уразуметь, что сказал или сделал какую-
то глупость, — это еще пустяки: надо понять,
что ты по сути своей глуп, — вот наука куда
более значительная и важная»1 2.
1 Там же. 11,12,423. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А. Ко-
ган-Бернштейн.
2 Там же. III, 13, 272. Перевод А. С. Бобовича и
Н. Я. Рыковой.
175
Ален де Боттон
И глупее всех — философы вроде Цицерона,
которые даже никогда не подозревали ничего по-
добного. Неправомерная уверенность в могуще-
стве разума — источник идиотизма и, хотя и не
напрямую, неадекватности.
Работая под покрытыми изречениями балка-
ми, Монтень создал новый вид философии, при-
знающей, как далеки мы от рациональных, безмя-
тежных созданий, какими большинство античных
философов считали людей. Мы по большей части
истеричны и слабоумны, грубы и полны тревоги;
по сравнению с нами животные — образцы здоро-
вья и добродетели. Такую печальную реальность
философия обязана отражать, но редко это делает.
«Наша жизнь складывается частью из
безрассудных, частью из благоразумных по-
ступков. Кто пишет о ней почтительно и по
всем правилам, тот умалчивает о большей ее
половине»1.
Тем не менее, если мы признаем собственные
слабости и перестанем требовать власти, которой
на самом деле не имеем, то можем обнаружить,
что благодаря великодушной и спасительной фи-
лософии Монтеня в своем полумудром-полуду-
рацком существовании все-таки иногда бываем
адекватны.
1 Монтень М. Опыты. III, 5,101. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
176
Утешение философией
2
О СЕКСУАЛЬНОЙ НЕАДЕКВАТНОСТИ
Сколько проблем создает одновременное
обладание и телом, и разумом; первое находится
в почти чудовищном контрасте с достоинством и
интеллигентностью второго. Наши тела пахнут, бо-
лят, увядают, пульсируют, трясутся и стареют. Они
заставляют нас пускать ветры и рыгать, из-за них
мы отказываемся от задуманного ради того, что-
бы оказаться с кем-то в постели, потея и издавая
звуки, напоминающие перекличку гиен в амери-
канских пустынях. Наше тело превращает разум в
заложника своих капризов и ритмов. Перспектива
целой жизни может зависеть от того, успешно ли
мы переварим плотный обед. «До еды я совсем не
тот человек, что после», — признавался Монтень.
«Если у меня прекрасное самочувствие
и надо мной ясное небо, то я обходитель-
ный человек; если меня мучит мозоль на
ноге, я становлюсь хмурым, нелюбезным и
необщительным»1.
Даже величайшие философы не были избав-
лены от унижения телесной слабостью. «Пред-
положим, что он [Платон] поражен падучей или
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 498. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
177
Ален де Боттон
апоплексией, и посоветуем ему призвать в дан-
ном случае на помощь свои благородные и воз-
вышенные душевные качества»1 или представим
себе, что посередине симпозиума Платон испытал
настоятельную потребность пустить ветры...
«Органы, предназначенные разгружать
наш желудок, также сжимаются и расширя-
ются по своему произволу, помимо нашего
намерения и порой вопреки ему»1 2.
Монтень слышал о человеке, который мог
по своей воле пускать ветры и иногда делал это
ритмично, в качестве аккомпанемента к стихам,
однако такое умение не противоречило общему
наблюдению Монтеня о том, что наше тело спо-
собно возобладать над разумом, а органы ведут
«себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам
немало хлопот»3. Монтеню рассказывали об одном
мужчине, задница которого оказалась «настолько
шумлива и своенравна, что вот уже сорок лет, как
она не дает своему хозяину пи отдыха, пи сро-
ка, действуя постоянно и непрерывно и ведя его,
подобным образом, к преждевременной смерти»4.
1 Монтень М. Опыты. II, 37, 679. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Там же. I, 21, 96. Перевод А. С. Бобовича.
3 Там же. 1,21,97.
4 Там же.
178
Утешение философией
Неудивительно, что мы можем испытывать
искушение противиться неприятному, оскорби-
тельному сосуществованию с собственными орга-
нами. Монтень встречал женщину, которая, остро
осознавая, насколько отвратительна ее пищевари-
тельная система, пыталась жить так, будто вовсе
ею не обладает:
«Я знаю одну даму — и из самого высшего
круга, — которая уверяет, что смотреть на жу-
ющих малоприятно и что при этом они очень
теряют в привлекательности и красоте, так что
на людях она крайне неохотно притрагивается
к пище. И я знаю одного человека, который не
выносит пи вида едящих, ни того, чтобы кто-
нибудь видел его за едой, и он больше избегает
чьего-либо присутствия, когда наполняет себя,
чем когда облегчается»1.
Монтень был также знаком с мужчинами,
чьи сексуальные желания были столь ненасыт-
ны, что ради избавления от пытки они прибегали
к кастрации. Другие пытались умерить похоть,
накладывая па слишком активные половые ор-
ганы компрессы изо льда с уксусом. Император
Максимилиан, понимая, насколько противоречит
царственному величию обладание обычным че-
1 Монтень М. Опыты. III, 5, 91. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
179
Ален де Боттон
ловеческим телом, распорядился, чтобы никто не
смел смотреть на него, когда он обнажен, особенно
ниже талии. В своем завещании он особо оговорил
необходимость быть погребенным в подштанни-
ках. Он «добавил в особой приписке, — указывает
Монтень, — чтобы тому, кто это проделает с его
трупом, завязали глаза»1.
Как ни привлекательны могут нам казаться
такие радикальные меры, философия Монтеня
рекомендует примириться с телесными неудобст-
вами: «Самая зверская из наших болезней — это
презрение к своему естеству»1 2. Чем пытаться раз-
делить себя надвое, лучше прекратить граждан-
скую войну с собственной бунтующей физической
оболочкой и научиться принимать требования
своего организма как непреложный факт, не та-
кой уж безнадежный и унизительный.
Летом 1993 года я отправился путешество-
вать по Северной Португалии вместе со своей
девушкой. Мы побывали в деревушках непода-
леку от Миньо, потом провели несколько дней
в окрестностях Вьяна-ду-Каштелу. Именно там
в последний день отпуска в маленьком отеле на
морском берегу я обнаружил — без всякого пред-
уведомления, — что больше не могу заниматься
любовью. Это было бы трудно перенести, не го-
1 Там же. I, 3, 21. Перевод А. С. Бобовича.
2 Там же. III, 13, 306. Перевод А. С. Бобовича и
Н. Я. Рыковой.
180
Утешение философией
воря уже о том, чтобы обсуждать публично, если
бы за несколько месяцев до поездки в Португалию
я не прочел двадцать первую главу первого тома
«Опытов» Монтеня.
В ней автор излагает рассказ своего друга о
мужчине, который лишился эрекции в самый от-
ветственный момент. Впечатление, произведенное
рассказом об этой неудаче на друга Монтеня, было
таково, что в следующий раз, когда он оказался
в постели с женщиной, он никак не мог о нем
забыть, а страх подобной катастрофы оказался
столь велик, что его собственный пенис не поже-
лал функционировать.
С тех пор, как бы сильно друг Монтеня ни
желал женщину, он не мог добиться эрекции,
и постыдное воспоминание о каждой неудаче
преследовало и мучило его со всевозрастающей
силой.
Друг Монтеня стал импотентом после того, как
ему не удалось добиться безусловного рациональ-
ного управления своим пенисом, которое он счи-
тал неизменной чертой нормальной мужественно-
сти. Монтень не стал ни в чем винить пенис: «Кто
оказался способным к этому [физической близо-
сти] хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит
эту способность, если только он и в самом деле
не страдает бессилием»1. Именно гнетущее пред-
ставление о том, что мы должны обладать полной
1 Монтень М. Опыты. 1,21,94. Перевод А. С. Бобовича.
181
Ален де Боттон
сознательной властью над своим телом, и опасе-
ние не соответствовать представлению о норме и
привело мужчину к неудаче. Решение пробле-
мы заключалось в том, чтобы иначе нарисовать
собственный портрет: признание потери власти
над пенисом в качестве безобидной возможности
в момент близости как раз и предотвращает ее
возникновение, как в том со временем убедился
друг Монтеня. Оказавшись в постели с женщи-
ной, он
«избавился от этого надуманного недуга
при помощи другой выдумки. А именно, при-
знаваясь в своем недостатке п предупреждая о
нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением
о возможности неудачи он как бы уменьшал
степень своей ответственности, и она меньше
тяготила его. После того как он избавился от
угнетавшего его сознания вины и почувство-
вал себя свободным вести себя так или иначе,
его телесные способности перешли в свое на-
туральное состояние»1.
Откровенность Монтеня снимает тяжесть с
души его читателя. Неожиданные капризы пе-
ниса оказываются извлечены из мрачных бездн
безмолвного стыда и рассматриваются спокой-
ным и доброжелательным взглядом философа,
1 Монтень М. Опыты. 1,21,94. Перевод А. С. Бобовича.
182
Утешение философией
которого ничто телесное не отвращает. Ощуще-
ние личной вины уменьшается тем, что Монтень
описывает как
«своенравие этого органа, так некстати
оповещающего нас порой о своей готовности,
когда нам нечего с ней делать, и столь же не-
кстати утрачивающего ее, когда мы больше
всего нуждаемся в ней»1.
Мужчина, которого постигла неудача в момент
близости и который способен только бормотать из-
винения, может вернуть себе силы и успокоить
возлюбленную простым признанием того, что его
импотенция принадлежит к обширной области
любовных неудач, не являющихся ни слишком
редкими, ни слишком странными. Монтень был
знаком с гасконским аристократом, который, ли-
шившись эрекции в решающий момент, бежал
домой, отсек свой пенис и послал его даме, «дабы
загладить причиненную обиду»1 2. Монтень сове-
тует иное:
«Новобрачные... не должны торопиться и
подвергать себя испытанию, пока они не го-
товы к нему; и лучше нарушить обычай и не
спешить с воздаянием должного брачному
1 Там же, 1,21,96.
2 Монтень М. Опыты. II, 29, 628. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
183
Ален де Боттон
ложу... чем сделаться на всю жизнь несчаст-
ным, пережив потрясение и впав в отчаяние
от первой неудачной попытки»1.
Монтень говорил на новом для его времени
языке, простом и интимном, способном выразить
чувства, одолевающие нас в моменты самого ин-
тимного одиночества. Проложив путь к тайным
печалям спальни, Монтень лишил их постыдно-
сти, постоянно пытаясь примирить нас с телесным
существованием. Его смелость в обсуждении того,
что постоянно втайне тревожит нас, по никогда не
упоминается вслух, расширяет границы позволи-
тельного в разговоре с возлюбленными — смелость,
основанная па убеждении: ничто, случающееся с
человеком, не является человеку несвойственным,
«все в человеке идет вместе с ним в гору и под
гору»1 2, а потому нам не следует стыдиться и не-
навидеть себя за слабость: всегда существует риск,
что капризный пенис проявит вялость.
Монтень объяснял проблемы, которые иног-
да создает человеческое тело, отчасти тем, что в
образованных кругах не принято их открыто об-
суждать. Правила приличия отказывают женст-
венной прелести в выраженном интересе к фи-
зической любви, а властности и достоинству — в
отягощенпости задним проходом или пенисом.
1 Там же. I, 21, 96. Перевод А. С. Бобовича.
2 Там же. III, 2,31. Перевод А. С. Бобовича и Н. Я. Ры-
ковой.
184
Утешение философией
Король Генрих III
Екатерина Медичи
Изображения королей и знатных дам не вы-
зывают у нас мыслей о том, что эти возвышенные
души могут пускать ветры или заниматься любо-
вью. Монтень дополнил их портреты на откровен-
ном и прекрасном французском:
«Аи plus esleve throne du monde si ne sommes
assis que sus nostre cul».
«Даже на самом высоком из земных пре-
столов сидим мы на своем заду»1.
«Les Roys et les philosophes fientent, et les
dames aussi».
1 Монтень M. Опыты. Ill, 13, 311. Перевод А. С. Бобо-
вича и H. Я. Рыковой.
185
Ален де Боттон
«Короли и философы ходят по нужде, а
также и дамы»1.
Он мог бы выразить это и иначе: вместо «си1» —
«derr’ere» или «fesses» («задняя часть» или «ягоди-
цы»), вместо «{tenter» — «alter аи cabinet» («прой-
ти в кабинет»). Изданный в Лондоне в 1611 году
Рэндлом Котгрейвом «Словарь французского и
английского языков (для просвещения юношества
и к пользе всех тех, кто пожелает в точности овла-
деть французским языком)» говорит, что «fienter»
относится по преимуществу к испражнениям
животных. Если Монтень почувствовал необхо-
димость в столь сильных выражениях, то именно
для того, чтобы бороться со столь же сильным за-
претом на упоминание телесных нужд в трудах
философов и светских беседах. Представление о
том, что дамам никогда не приходится мыть руки,
а у короля нет задницы, делало очень своевремен-
ным напоминание, что первые испражняются, а у
второго имеется задний проход.
«В чем повинен перед людьми половой
акт — столь естественный, столь насущный
и столь оправданный, — что все как один не
решаются говорить о нем без краски стыда
на лице и не позволяют себе затрагивать эту
1 Монтень М. Опыты. III, 13, 282. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
186
Утешение философией
тему в серьезной и благопристойной беседе?
Мы не боимся произносить: убить, ограбить,
предать, но это запретное слово застревает у
нас на языке...»1
В окрестностях замка Монтеня было несколь-
ко березовых рощ — одна к северу от деревни
Кастийон-ля-Батай, другая к востоку от Сен-Ви-
вьена. Дочери Монтеня Леоноре, должно быть,
были знакомы их молчание и величие. Однако ей
не разрешалось знать название дерева: по-фран-
цузски «береза» — «fouteau», а «совокупляться» —
«foutre».
«Моя дочь (она у меня единственная) в та-
ком возрасте, в каком законы допускают заму-
жество для наиболее пылких из них [девиц];
но она, что называется, развития запоздалого,
тоненькая и хрупкая, и к тому же взращена
матерью в полном уединении и под неослаб-
ным надзором, так что только-только начина-
ет освобождаться от детской бесхитростности
и непосредственности. Так вот, как-то при
мне она читала вслух французскую книгу.
В ней встретилось некое слово, которым на-
зывают широко известное дерево. Так как это
слово похоже на одно непристойное, женщи-
на, приставленная наблюдать за поведением
1 Там же. III, 5, 60.
187
Ален де Боттон
моей дочери, внезапно и даже чересчур резко
оборвала ее и заставила пропустить это опа-
сное место»1.
Двадцать грубых лакеев не смогли бы, лукаво
замечает Монтень, научить Леонору лучше пони-
мать, что скрывается за «foutre», чем это сделало
строгое требование пропустить название дерева.
Гувернантке — «славной старой женщине», как
насмешливо именует ее Монтень, — такой про-
пуск представлялся совершенно необходимым,
поскольку достоинство юной девушки несовме-
стимо со знанием того, что может ожидать ее че-
рез несколько лет, когда она окажется в спальне
с мужчиной.
Монтень был не согласен с принятыми в обще-
стве правилами изображения человека, которые
оставляют за рамками портрета столь многое из
того, чем человек является. Отчасти с целью ис-
править это он и взялся за написание собственной
книги. Выйдя в возрасте тридцати восьми лет в
отставку, Монтень испытывал желание писать,
но сначала не был уверен в том, какую тему ему
следует выбрать. Только постепенно у него сфор-
мировалось представление о книге настолько нео-
бычной, что она оказалась непохожа на все сотни
томов на полукруглых полках библиотеки.
1 Монтень М. Опыты. Ill, 5, 69. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
188
Утешение философией
Монтень ртказался от тысячелетней традиции
напускной авторской скромности, запрещавшей
писать о себе. Он поставил себе целью так от-
кровенно, как только возможно, описать работу
собственного ума и тела и заявил об этом в пре-
дисловии к «Опытам», два тома которых были
опубликованы в Бордо в 1580 году; восемью года-
ми позже вышло парижское издание, включавшее
и третий том.
«Если бы я жил между тех племен, ко-
торые, как говорят, и по сей час еще насла-
ждаются сладостной свободой изначальных
законов природы, уверяю тебя, читатель, я с
величайшей охотой нарисовал бы себя во весь
рост, и притом нагишом»1.
Ни один автор до него не стремился показать
себя читателям без одежды. Существовало мно-
жество традиционных изображений полностью
одетых персонажей — святых и пап, римских
императоров и греческих законодателей. Имелся
даже собственный парадный портрет Монтеня,
написанный Тома де Ле (1562 — около 1620), на
котором тот изображен в мантии мэра города, с
цепью ордена Святого Михаила, пожалованного
ему Карлом IX в 1571 году, с непроницаемым,
довольно суровым выражением лица.
1 Монтень М. Предисловие к «Опытам». Перевод
А. С. Бобовича.
189
Ален де Боттон
Однако Монтень стремился представить чита-
телям вовсе не этого облаченного в мантию цице-
роновского персонажа. Он хотел показать челове-
ка целиком, создать альтернативу тем портретам,
которые скрывали столь многое. Поэтому-то
«Опыты» описывают, что Монтень ел, его пенис,
его испражнения, его сексуальные победы и то,
как он пускает ветры, — детали, которые редко
появлялись на страницах серьезных книг, — и
рассматривают их с такой серьезностью, что это
ставит под вопрос представление автора о себе как
о разумном существе. Монтень сообщал своим чи-
тателям, что
поведение его пениса составляет главней-
шую часть его личности:
190
Утешение философией
«Любая моя принадлежность в такой же
мере является частичкой моего «я», как и все
остальное. И никакая другая не делает меня
мужчиной в подлинном смысле слова больше,
чем эта»1;
он считает секс вещью шумной и грязной:
«Во всем другом вы можете соблюдать
известную благопристойность; все прочие
ваши занятия готовы подчиниться правилам
добропорядочности, но это — его и предста-
вить себе нельзя иначе, как распутным или
смешным. Попытайтесь-ка, ради проверки,
найти в нем хоть что-нибудь разумное или
скромное!»1 2;
в туалете он предпочитает сидеть в ти-
шине и покое:
«Когда я отправляю именно эту естествен-
ную потребность, всякий перерыв мне особен-
но неприятен»3;
желудок у него работает с регулярностью:
«Я... и мое пищеварение никогда не быва-
ем в разладе, встречаясь как раз в тот момент,
1 Монтень М. Опыты. III, 5,100. Перевод А. С. Бобовп-
и Н. Я. Рыковой.
2 Монтень М. Опыты. III, 5, 90. Перевод А. С. Бобови-
п Н. Я. Рыковой.
3 Там же. III, 13, 282.
191
Ален де Боттон
когда надо вставать с постели, разве что нам
в этом помешает какое-нибудь очень важное
дело или болезнь»1.
Если мы придаем значение тем портретам, ко-
торые нас окружают, то это происходит потому,
что мы организуем собственную жизнь, основы-
ваясь па их примере и признавая только те сто-
роны своего существования, которые совпадают
с произносимым вслух другими. То, признаки
чего мы видим в окружающих, оказывается вос-
принято и нами; то, о чем все молчат, или вовсе
выпадает из нашего опыта, или кажется нам по-
стыдным.
«Когда я представляю себе за таким делом
[совокуплением] самого вдумчивого и благон-
равного человека, он начинает казаться мне
наглым обманщиком, который лишь выдает
себя за вдумчивого и благонравного»2.
Монтень не считал мудрость недостижимой;
он скорее пытался дать ей более точное опреде-
ление. Истинная мудрость должна включать со-
существование с телесной сущностью, признать
то, что роль интеллекта и высокой культуры в
нашей жизни весьма скромна, и примириться
1 Там же. III, 13, 283.
- Там же. III, 5, 90.
192
Утешение философией
с неотложными и временами не слишком бла-
гопристойными потребностями смертного тела.
Эпикуровская и стоическая философия учат,
что пам следует достигнуть власти над своим
телом и никогда не оказываться в подчинении
у телесных нужд и страстей. Столь благородный
совет соответствует самым высоким устремле-
ниям, однако он требует невозможного, а по-
тому по крайней мере бесполезен.
«К чему эти высоко взнесенные вершины
философии, если пи одному человеческому
существу все равно до них не добраться, и к
чему эти правила, которым не подчиняются
наши обычаи и которые людям не по плечу?»1
«Отнюдь не умно выкраивать для себя обязан-
ности не по своей мерке, а по мерке кого-то
другого»1 2.
Потребности тела не могут быть ни отвергнуты,
ни преодолены, и, по крайней мере, не следует,
как напоминал Монтень «славной старой женщи-
не», выбирать между достоинством и интересом к
fouteau.
1 Монтень М. Опыты. III, 5, 90. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
2 Там же.
193
Ален де Боттон
«Не можем ли мы сказать, что в нас, пока
мы пребываем в этой земной темнице, нет ни-
чего ни чисто плотского, ни чисто духовного и
что мы беспощадно разрываем на части живого
человека?»1
3
О культурной неадекватности
Другая причина ощущения собственной не-
адекватности — поспешность и категоричность,
с которой люди делят мир на две графы — нор-
мальное и ненормальное. Наш опыт и наши
взгляды часто встречаются с насмешливым
1 Там же. III, 5,105.
194
Утешение философией
«Правда? Как странно!» и поднятой бровью,
намекающей на сомнение в нашем знакомстве
с правилами, да и вообще принадлежности к
роду человеческому.
Летом 1580 года Монтень осуществил же-
лание всей жизни — совершил первое путе-
шествие за пределы Франции, отправившись
верхом через Германию, Австрию и Швей-
царию в Рим. Он путешествовал в обществе
четверых молодых дворян, включая его брата,
Бертрана де Матекулона, и в сопровождении дю-
жины слуг. Путешествие протяженностью в 3000
миль должно было занять семнадцать месяцев.
Среди других городов компания посетила Базель,
Баден, Шафхаузен, Аугсбург, Инсбрук, Верону,
Венецию, Падую, Болонью, Флоренцию и Сиену;
в Рим они прибыли вечером последнего дня но-
ября 1580 года.
Одним из дорожных впечатлений Монтеня
были резкие перемены в том, что считалось
нормальным в разных провинциях. В гости-
ницах швейцарских кантонов было принято
пользоваться очень высокими кроватями, так
что забираться в них приходилось при помощи
лесенки; кровати имели нарядные занавеси, и
каждому путешественнику предоставлялась от-
дельная комната. На расстоянии всего несколь-
ких миль, в Германии, считалось нормальным,
195
Ален де Боттон
чтобы кровати были совсем низкими, нс имели
занавесей, а путники размещались по четверо в
комнате. Постели там снабжались пуховыми пе-
ринами вместо простыней, принятых во Фран-
ции. Жители Базеля не разбавляли вино водой и
подавали к обеду шесть или семь блюд, а в Бадене
по средам ели только рыбу. В самой маленькой
швейцарской деревушке за порядком следили
по крайней мере двое стражников; в Германии
было принято, чтобы колокола отбивали каждую
четверть часа, а в некоторых городах — каждую
минуту. В Ландау суп варили из айвы, жаркое
подавали раньше супа, а хлеб пекли с добавле-
нием фенхеля.
Французы-путешественники бывали очень
озадачены подобными различиями. В гостини-
цах они с подозрением относились к незнакомой
пище и требовали, чтобы им подали «нормальные»
блюда — те, к которым они привыкли дома. Они
старались не общаться с людьми, позволившими
себе не знать французского, и еле прикасались к
хлебу с фенхелем. Монтень из своего угла наблю-
дал за всем этим:
«Едва они выберутся за пределы своей де-
ревни, как им начинает казаться, что они пере-
неслись в другой мир. Всюду, куда бы они ни
196
Утешение философией
попали, они держатся на свой собственный лад
и гнушаются чужестранцев. Наткнись они на
француза где-нибудь в Венгрии, это радостное
событие тотчас же отмечается пиршеством...
Они путешествуют, прикрытые и зажатые в
тиски непроницаемым и молчаливым благо-
разумием, оберегаясь от заразы, носящейся в
незнакомом им воздухе»1.
В середине пятнадцатого века в княжествах
Южной Германии был изобретен новый способ
отопления домов: Kastenofen, отдельно стоящая
железная печка, склепанная из прямоугольных
листов, топившаяся дровами или углем. В долгие
1 Монтень М, Опыты. III, 9,191. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
197
Ален де Боттон
зимы преимущества таких печек были очевидны.
Закрытые печки давали вчетверо больше тепла,
чем камины, требовали меньше топлива и не
нуждались в прочистке труб. Тепло накаплива-
лось металлом и медленно и равномерно распре-
делялось по помещению. Рядом устанавливались
опоры для сушки белья, и в холодные дни семьи
располагались вокруг печки.
Однако французы не приняли новшества. Они
находили, что камины легче строить, упрекали не-
мецкие печки в том, что те не обеспечивают осве-
щения и слишком высушивают помещения, делая
их душными.
Дело было во взаимном непонимании жите-
лей разных местностей. В Аугсбурге в октябре
1580 года Монтень повстречал немца, который
пространно критиковал принятую во Франции
систему отопления при помощи каминов и опи-
сывал преимущества железных печек. Узнав,
что Монтень проведет в городе всего несколько
дней (он прибыл 15-го и должен был отправить-
ся дальше 19 октября), немец выразил ему свое
сочувствие, назвав среди других неудобств тя-
жесть в голове, от коей Монтень будет страдать,
вернувшись, — ту самую тяжесть в голове, в
возникновении которой французы винили же-
лезные печки.
198
Утешение философией
Монтень подробно ознакомился с ситуацией.
В Бадене ему отвели комнату с железной печкой,
и когда он привык к специфическому запаху го-
рячего металла, то нашел такое отопление весьма
удобным. Монтень отметил, что утром смог одеть-
ся, не кутаясь в меховой халат, п через несколько
месяцев, страдая от холода в Италии, пожалел, что
в тамошних гостиницах печек нет.
По возвращении домой Монтень дал оценку
этой отопительной системе:
«И правда, жар в замкнутом пространстве и
запах раскаленного кирпича, из которого сло-
жены печи, тягостны для большинства тех, кто
к этому не приучен... Вообще же это устойчи-
199
Ален де Боттон
вое и равномерно распределяемое всюду тепло,
без пламени, без дыма, без ветра, задувающего
через широкие зевы наших каминов, вполне
выдерживает сравнение с нашим способом
обогревания комнат»1.
Монтеня раздражали не различия в системах,
а твердое, хотя и не основанное па опыте убежде-
ние и жителя Аугсбурга, и французов, что их соб-
ственная система отопления — наилучшая. Если
бы, вернувшись из Германии, Монтень установил
у себя в библиотеке железную печку, его сооте-
чественники встретили бы это с подозрением, с
каким относились к любой новинке:
«Каждый парод имеет свои обычаи и при-
вычки не только не известные другим паро-
дам, по диковинные и странные с их точки
зрения»1 2.
Ни в железной печке, пи в камине, конечно,
пет ничего варварского или удивительного. Пред-
ставление о нормальности в каждом конкретном
обществе охватывает лишь часть того, что па самом
деле является разумным, безосновательно отвер-
гая многие достижения других народов. Объясняя
1 Монтень М. Опыты. III, 13, 278. Перевод Л. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
2 Там же.
200
Утешение философией,
своему собеседнику из Аугсбурга и гасконским
соседям, что и железная печка, и камин входят
в число вполне приемлемых систем отопления,
Монтень пытался расширить провинциальные
представления читателей о нормальном, следуя в
этом примеру своего любимого философа:
«У Сократа как-то спросили, откуда он ро-
дом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из
вселенной»»1.
Незадолго до того обнаружилось, что мир гора-
здо более странен, чем подозревал кто-либо из жи-
телей Европы. В пятницу, 12 октября 1492 года, за
сорок один год до рождения Монтеня, Христофор
Колумб достиг одного из островов Багамского ар-
хипелага у входа во Флоридский пролив и встре-
тился с индейцами острова Гуапахани, которые
никогда не слышали об Иисусе и обходились без
одежды.
Монтень живо интересовался Новым Светом.
В круглой библиотеке имелось несколько книг
о жизни индейских племен Америки, среди них
«История обеих Индий» Франсиско Лопеса де Го-
мара, «История Нового Света» Джироламо Бенцо-
ни и «Путешествие в Бразилию» Жана де Лери.
Йз этих книг Монтень узнал, что жители Южной
’ Монтень М. Опыты. I, 26, 147. Перевод А. С. Бобо-
вича.
201
Ллен де Боттон
Америки употребляют в пищу пауков, кузнечиков,
муравьев, ящериц и летучих мышей: «Они жарят
их и приготовляют с приправами разного рода».
В некоторых американских племенах было при-
нято, чтобы девственницы публично обнажались,
новобрачные в день своей свадьбы участвовали
в оргиях, мужчинам было позволено вступать в
брак друг с другом, а мертвецов варили, делали из
них кашицу, смешивали с вином, и родственни-
ки пили это на поминальном пире. В некоторых
странах женщины мочатся стоя, а мужчины —
присев на корточки, в других — бреют затылок,
но позволяют волосам расти спереди. Еще где-то
мужчины подвергаются обрезанию, «другие на-
роды, напротив, стараются всячески скрыть его
[кончик мужского детородного органа] и для этой
цели тщательно завязывают тонкими тесемочками
крайнюю плоть, чтобы только он как-нибудь не
выглянул наружу»1. Есть народы, где в качестве
приветствия поворачивались спиной, где плевок
самодержца ловила рукой его фаворитка, а ис-
пражнения «наиболее влиятельные из царского
окружения... подбирают платком»1 2. В каждой
стране, по-видимому, существовали различные
представления о красоте:
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 507. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Там же. I, 23, 104. Перевод А. С. Бобовича.
202
Утешение философией
«В Перу наиболее красивыми считаются
самые длинные уши, и перуанцы искусственно
вытягивают их до предела, а некий наш совре-
менник сообщает, что у одного восточного на-
рода придается такое большое значение этому
увеличению размеров ушей и украшению их
тяжелыми драгоценностями, что он мог про-
деть свою руку в перчатке через отверстие их
ушной мочки. Некоторые пароды тщательно
красят зубы в черный цвет и с презрением от-
носятся к белым зубам, в других местах зубы
красят в красный цвет... У мексиканок счи-
тается красивым низкий лоб, поэтому они от-
ращивают волосы на лбу и прикрывают ими
лоб, по бреют волосы на всех остальных частях
тела; у них так ценятся большие груди, что они
стараются кормить своих младенцев, забрасы-
вая груди за плечи»1.
Из книги Жана де Лери Монтень узнал, что
члены племени тупи в Бразилии ходят в райской
наготе и ничуть этого не стыдятся (более того, ког-
да европейцы пытались предложить женщинам
тупи одежду, те только хихикали и отказывались,
удивляясь, как это кому-то хочется обременять
себя столь неудобными предметами).
1 Монтень М. Опыты. II. 12, 420. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
203
Ален де Боттон
Tant les hommes que la femme etaient aussi
entierement nus que quand Us sortirent du ventre
de leur mere. Жан де Лери, Voyage au Bresil
(1578)
Гравер, иллюстрировавший книгу де Лери
(и проведший в этом племени восемь лет), по-
заботился о том, чтобы исправить представление
европейцев, будто тупи волосаты, как животные
(де Лери: «Ils пе sont point naturellement poilus que
nous nesommes en cepays»). Мужчины тупи брили
головы, а женщины отращивали длинные волосы
и завязывали их нарядными красными лентами.
Индейцы тупи обожали мыться: каждый раз, уви-
дев реку, они прыгали в воду и начинали тереть
друг друга. Иногда они мылись по двенадцать раз
на день.
204
Утешение философией
Тупи жили в длинных, похожих на амбары
зданиях, вмещавших по 200 человек. Сплетенные
из хлопка постели подвешивались между стол-
бами наподобие гамаков (отправляясь на охоту,
тупи уносили свои постели с собой и отдыхали в
них, подвесив между деревьями). Каждые полгода
деревня перемещалась на новое место, поскольку
жители считали, что перемена вида принесет им
пользу (де Лери: «Ils n’ont d’autre reponse, sinon
de dire que changeant I’air, Us se portent mieux»).
Жизнь тупи была так хорошо организована, что
многие из пих доживали до ста лет и никто из них
в старости не седел. Тупи были также необыкно-
венно гостеприимны. Когда в деревне появлялся
гость, женщины закрывали лица и начинали ры-
дать, восклицая: «Здоров ли ты? Тебе пришлось
потратить столько сил, чтобы навестить нас!» Го-
стю немедленно подносился любимый напиток
тупи, изготовленный из корней какого-то расте-
ния, по цвету напоминающий кларет; напиток
был довольно терпким, но полезным для желудка.
Мужчины-тупи имели несколько жен и, по
слухам, были преданы им всем. «Вся их мораль
сводится к двум предписаниям, — сообщает Мон-
тень, — а именно: быть отважными на войне и
любить своих жен»1. Женщины, по-видимому,
были вполне удовлетворены такими порядками и
1 Монтень М. Опыты. 1, 31, 192. Перевод А. С. Бобо-
вича.
205
Ален де Боттон
не проявляли ревности (отношения между пола-
ми были свободными, запрещались лишь сексу-
альные связи между близкими родственниками).
Монтень, жена которого находилась поблизости,
в том же замке, с удовольствием углубляется в
подробности:
«И вот прекрасная и изумительная осо-
бенность их брачных союзов: насколько паши
жены стараются воспрепятствовать нам до-
биваться расположения и близости других
женщин, настолько их жены сами стремятся
к этому. Заботясь о чести своих мужей боль-
ше, чем о чем-либо ином, они прилагают все
усилия, чтобы у них было как можно больше
товарок, ибо это свидетельствует о доблести их
мужей»1.
Все это было, бесспорно, странным, однако, на
взгляд Монтеня, вполне нормальным.
Он принадлежал к меньшинству. Вскоре после*
путешествия Колумба во вновь открытые земли
хлынули колонисты из Испании и Португалии; по
их мнению, местные жители мало чем отличались
от животных. Католик Вильганьон говорил о них
как о «животных с человеческим лицом» («эти
животные имеют вид человека»); кальвинист Ри-
1 Монтень М. Опыты. I, 31, 197. Перевод А. С. Бобо-
вича.
20G
Утешение философией
щар утверждал, что туземцы лишены морального
чувства («грубое невежество их духа не позволяет
отличить добро от зла»), а доктор Лоран Жубер,
обследовав пятерых бразильских женщин, утвер-
ждал, что у них не бывает месячных, а потому ка-
тегорически отрицал саму возможность отнести их
К роду человеческому.
Отказав туземцам в праве считаться людьми,
рспанцы начали истреблять их, как животных.
Й 1534 году, через сорок два года после откры-
тия Колумба, империи ацтеков и инков перестали
Существовать, а индейцы были порабощены или
уничтожены. Монтень читал об этом варварстве в
книге Бартоломе де лас Касас «Краткое сообщение
об уничтожении Индий», напечатанной в Севилье
в 1552 году и в 1580-м переведенной па француз-
ский Жаком де Мигродом под названием «Тира-
ния и жестокость испанцев в Западных Ипдиях,
которые еще называют Новым Светом». Индейцев
подвело их собственное гостеприимство, а также
слабость в военном отношении. Они открывали
ворота городов и деревень перед испанцами, а их
гости вероломно нападали на них. Примитивное
вооружение индейцев не шло ни в какое сравне-
ние с пушками и мечами завоевателей; к своим
жертвам конкистадоры были безжалостны. Они
убивали детей, вспарывали животы беременным
женщинам, вырывали глаза, отправляли на ко-
стер целые семьи, ночами поджигали деревни.
207
Ален де Боттон
Они натаскивали собак для охоты на индейцев
в джунглях, где пытались найти убежище пресле-
дуемые.
Пленников заставляли работать в золотых и
серебряных копях, сковав их и надев железные
ошейники. Когда человек умирал, просто от-
пиливали кусок цепи, а соседи справа и слева
должны были продолжать работать. Большинст-
во индейцев гибли в шахтах уже через три неде-
ли. Женщин насиловали и уродовали на глазах
их мужей.
208
Утешение философией
Наиболее распространенной формой такого
увечья было отрезание носов и подбородков. Лас
Касас рассказывает о женщине, которая, увидев
приближающихся испанцев, повесила своего ре-
бенка и повесилась сама. Один из солдат рассек
ребенка надвое мечом и отдал половину тела сво-
им собакам, а потом попросил монаха совершить
последний обряд, чтобы душа младенца попала на
небеса.
Испанцы отделяли мужчин от женщин, и ин-
дейцы, отчаявшись, совершали массовые само-
убийства. По некоторым оценкам, между 1533
годом, когда родился Монтень, и 1588-м, когда
вышел третий том «Опытов», туземное население
Нового Света уменьшилось с 80 миллионов чело-
век до 10 миллионов.
Испанцы с чистой совестью истребляли индей-
цев, потому что были уверены: они точно знают,
каким должен быть нормальный человек. Нор-
мальный человек — это тот, кто носит штаны,
имеет единственную жену, не ест пауков и спит
в кровати.
«Кто из нас не называл их грубыми ди-
карями единственно лишь потому, что мы не
понимали их языка и по своему виду, поведе-
нию и одежде они были совершенно не похо-
жи на нас? Кто из нас не считал их тупыми и
глупыми по той причине, что они молчали, не
зная французского языка, не будучи знакомы
209
Ален де Боттон
с нашей манерой здороваться и извиваться в
поклонах, с нашей осанкой и поступью, кото-
рые, конечно же, должен взять себе за образец
весь род людской»1.
Индейцы, может быть, и выглядят как челове-
ческие существа... «Но помилуйте, они не носят
штанов!»1 2
В основе изуверства лежит изъян мышления.
Как правило, разделение нормального и ненор-
мального основывается на своего рода индуктив-
ной логике, благодаря чему общий закон выводит-
ся из частных примеров (в логике это выглядело
бы так: из того, что А, принадлежит множеству
О, А2 принадлежит О, А3 принадлежит О, дела-
ется вывод, что все А принадлежат О). Пытаясь
определить, обладает ли кто-то интеллектом, мы
ищем черты, общие для всех известных нам лю-
дей, обладающих интеллектом. Если мы встре-
тим обладающих интеллектом людей, один из ко-
торых выглядит как изображенный на портрете
1, другой — как на портрете 2, третий — как на
портрете 3, весьма вероятно, что мы решим: обла-
дающий интеллектом человек много читает, оде-
вается в черное и довольно серьезен. Существует
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 406. Перевод А. С. Бобо-
вича. И Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Монтень М. Опыты. I. 31, 199. Перевод А. С. Бобо-
вича.
210
Утешение философией
опасность, что кого-то, кто выглядит как человек
pa портрете 4, мы сочтем глупым, а потом, может
быть, и убьем.
3
Французские путешественники, которые в
Ужасе отшатывались от немецких железных пе-
чек, вероятно, видели несколько хороших ками-
нов в собственной стране. Один из них был таким,
как на рисунке 1, другой — как на рисунке 2,
211
Ален де Боттон
третий — как на рисунке 3, и из этого они сдела-
ли вывод, что хорошая система отопления — это
всегда камин.
Монтень скорбел по поводу распространенно-
сти интеллектуального высокомерия. В Южной
Америке действительно были дикари, но не обя-
зательно это были те люди, которые ели пауков.
«В этих народах... нет ничего варварского п
дикого, если только не считать варварством то.
что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у
нас, по-видимому, нет другого мерила истин-
ного и разумного, как служащие нам приме-
рами и образцами мнения и обычаи нашей
страны. Тут всегда и самая совершенная ре-
212
Утешение философией
лигия, и самый совершенный государственный
строй, и самые совершенные и цивилизован-
ные обычаи»1.
Монтень не пытался отрицать различие между
варварством и цивилизованностью: обычаи раз-
ных стран разняться по своему значению (хотя
культурный релятивизм подчас столь же груб,
как национализм). Он исправлял способ, кото-
рым мы проводим различие. Наша страна может
иметь много достоинств, по это не определяется
тем, что это — наша страна. Чужая земля, воз-
можно, обладает многими недостатками, но они не
вытекают просто из того факта, что тамошние по-
рядки кажутся нам необычными. Национальная
принадлежность и те или иные обычаи — абсур-
дные критерии для суждения о том, что хорошо,
,а что — плохо.
Французский обычай требовал, чтобы человек,
Страдающий насморком, сморкался в платок. Од-
нако у Монтеня был знакомый, который, обдумав
предмет, счел, что лучше сморкаться в пальцы:
«Защищая как-то эту свою привычку... он
обратился ко мне с вопросом — какие же пре-
имущества имеет это грязное выделение срав-
нительно с прочими, что мы собираем его в от-
личное тонкое полотно, завертываем и, что еще
1 Монтень М. Опыты. I, 31, 190. Перевод А. С. Бобо-
вича.
213
Ален де Боттон
хуже, бережно храним при себе?.. Я счел его
слова не лишенными известного смысла и, при-
выкнув к тому, что он очищает нос описанным
способом, перестал обращать на это внимание,
хотя, слушая подобные рассказы о чужестран-
цах, мы находим их омерзительными»1.
В основе оценки должно лежать не предубежде-
ние, а тщательное обдумывание. Монтеня огорча-
ла манера его соотечественников не задумываясь
равнять незнакомое с неадекватным, пренебрегая
уроком интеллектуального смирения, преподан-
ным величайшим из античных философов:
«Самый мудрый человек в мире на вопрос,
что он знает, ответил, что знает только то, что
ничего не знает»1 2.
* * *
Как, следовательно, надлежит нам поступить,
столкнувшись с завуалированным намеком на
нашу ненормальность, выражающимся в на-
смешливом, слегка озабоченном «Да ну! В самом
деле?» и поднятой брови, намекающей на сомне-
ние в нашем знакомстве с правилами, да и вооб-
ще принадлежности к роду человеческому, — той
самой реакцией, с которой встретился знакомый
1 Там же, I, 23,104-105.
2 Монтень М. Опыты. II, 12, 437. Перевод А. С. Бобо-
вича. и Ф. A. Koran-Бернштейн.
214
Утешение философией
Монтеню гасконец, сморкавшийся в руку, и ко-
торая, в своей экстремальной форме, привела к
уничтожению индейцев Южной Америки?
Пожалуй, следует не забывать о том, что об-
винения в ненормальности имеют местное и исто-
рически сложившееся происхождение. Чтобы не
считать их обоснованными, достаточно ознако-
миться с разнообразием обычаев в разные времена
и в разных странах. То, что считается нормаль-
ным в данное время в данном месте, не будет и не
должно считаться таковым всегда и везде. Вполне
можно мысленно пересекать границы.
Монтень заполнил свою библиотеку книгами,
которые помогали ему пересекать границы пред-
убеждений. Там были труды по истории, описания
путешествий, отчеты миссионеров и капитанов
кораблей, литературные произведения из других
Стран, а иллюстрации изображали странно одетых
людей, к тому же евших невиданных рыб. Благо-
даря этим книгам Монтень мог подтвердить за-
конность тех сторон своей индивидуальности —
римской, греческой, — которые не были понятны
его ближайшим соседям, делали его ближе мек-
сиканцам или тупи, чем гасконцам, и открывали
возможность иметь шесть жен, брить затылок или
рыться двенадцать раз на день. Монтень чувство-
вал себя менее одиноким в своих взглядах, читая
«Анналы» Тацита, историю Китая Гонсалеса де
Мендосы, историю Португалии Гуларта, историю
Персии Лебельски, описания путешествия вокруг
215
Ален де Боттон
Африки Льва Африканского, историю Кипра Лу-
зиньяно, собрание турецких и прочих восточных
рассказов Постеля, универсальную космографию
Мюнстера (которая содержала изображения «ди-
ковинных зверей»).
Что и где считается нормальным
Если Монтень чувствовал себя угнетенным
теми притязаниями на знание истины в последней
инстанции, которыми отличались окружающие
его люди, он мог собрать представления великих
древних мыслителей о мироздании и потом пора-
доваться возникшему, несмотря на уверенность
каждого из них в правильности своих взглядов,
разнообразию. После каждого такого сравнитель-
ного исследования Монтень с сарказмом призна-
вался:
216
Утешение философией
«Я не вижу оснований, почему бы мне не
принять с такой же готовностью идеи Платона,
атомы Эпикура, полное и пустое Левкиппа и
Демокрита, воду Фалеса, бесконечную при-
роду Анаксимандра, воздух Диогена, числа
и симметрию Пифагора, бесконечное Пар-
менида, единое Мусея, воду и огонь Аполло-
дора, сходные частицы Анаксагора, раздор и
любовь Эмпедокла, огонь Гераклита или лю-
бое другое воззрение из бесконечного хаоса
взглядов и суждений, порождаемых нашим
хваленым человеческим разумом, его прони-
цательностью и уверенностью во всем, во что
он вмешивается»1.
Открытие новых миров и древних текстов яв-
ляется могучим противоядием против того, что
Монтень называл «докучной и бранчливой нагло-
стью самодовольных всезнаек — главным врагом
истины и подлинной учености»1 2.
«Можно было бы сделать поразительный
подбор таких несуразностей, именующих себя
человеческой мудростью... По ним можно су-
дить, что мы должны думать о человеке, его
чувствах и его разуме, если у таких выдаю-
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 473. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Там же. III, 13, 273. Перевод А. С. Бобовича и
Й. Я. Рыковой.
217
Ален де Боттон
щихся люден, поднявших дарования человека
па огромную высоту, встречаются столь грубые
ошибки»1.
Монтеню помогло и его полуторагодовое путе-
шествие верхом по Европе. Новшества, виденные
в других странах, знакомство с другими обычая-
ми развеяли удушливую атмосферу родной про-
винции Монтеня. То, что в одном обществе могли
считать странным, в другом с полным основанием
могли приветствовать как нормальное.
Другие страны возвращают нам ощущение
разнообразия возможностей, которого лишает нас
провинциальное высокомерие; увиденное склоня-
ет нас быть снисходительнее к самим себе. Пред-
ставление о нормальном, свойственное какой-то
определенной местности — Афинам, Аугсбургу,
Куско, Мехико, Риму, Севилье, Гаскони, — остав-
ляет место лишь нескольким аспектам нашей
природы, походя именуя все прочее варварским
и странным. Человек может заключать в себе мно-
‘ жество свойств, но, по-видимому, ни одна страна
не готова принять его во всей сложности.
Среди пятидесяти семи изречений на потолоч-
ных балках потолка библиотеки Монтеня есть сло-
ва Теренция:
1 Монтень М. Опыты. И, 12, 478. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
218
Утешение философией
«Ното sum, humani а те nihil alienumputo».
«Я человек, и ничто человеческое мне не
чуждо».
Пересекая границы, верхом или в воображе-
нии, Монтень призывал нас заменить местные
предрассудки и порождаемые ими барьеры на
дарующие свободу взгляды граждан мира.
Другим утешением в случае обвинений в не-
нормальном поведении является дружба; друг —
это тот человек, который среди прочего готов
проявить достаточную доброту, чтобы видеть в
нас больше нормальных черт, чем большинство
окружающих. С друзьями мы разделяем мнения,
которые в обычной компании осуждались бы как
слишком язвительные, рискованные, пессимисти-
ческие, глупые, умные или сомнительные; друж-
ба — это наш небольшой заговор против того, что
другие люди полагают разумным.
Как и Эпикур, Монтень считал дружбу глав-
ной составляющей счастья:
«Знай я так же досконально кого-нибудь,
кто был бы мне близок по духу, я бы непре-
менно отправился на его розыски, будь то хоть
на край света, ибо удовольствие от подходя-
щего и приятного общества пи за какие день-
ги, по-моему, не купить. Ах, друг! До чего же
справедливо древнее изречение, гласящее, что
219
Ален де Боттон
дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем
вода и огонь»1.
Некоторое время Монтень имел счастье на-
слаждаться именно такой дружбой. В возрасте
двадцати пяти лет он познакомился с двадца-
тивосьмилетним писателем, членом парламента
Бордо Этьеном де ла Боэси. Это оказалась дружба
с первого взгляда:
«Мне показали его еще задолго до того, как
мы встретились, и оно [сочинение ла Боэси
«Добровольное рабство»], познакомив меня
с его именем, способствовало, таким образом,
возникновению между нами дружбы, которую
мы питали друг к другу, пока Богу было угод-
но, дружбы столь глубокой и совершенной, что
другой такой вы не найдете и в книгах»1 2.
Дружба такого рода, по мнению Монтеня,
встречается раз в три столетия: опа не имеет ни-
чего общего с теми чуть теплыми отношениями,
которые часто так именуются:
«Вообще говоря, то, что мы называем обыч-
но друзьями и дружбой, — это не более чем
1 Монтень М. Опыты. III, 9,187. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
2 Монтень М. Опыты. I, 28, 171. Перевод А. С. Бобо-
вича.
220
Утешение философией
короткие и близкие знакомства, которые мы
завязали случайно или из соображений удоб-
ства и благодаря которым наши души вступа-
ют в общение. В той же дружбе, о которой я
здесь говорю, они смешиваются и сливаются
в нечто до такой степени единое, что скре-
плявшие их когда-то швы стираются начисто
и они сами больше не в состоянии отыскать
их следы»1.
Эта дружба не была бы столь драгоценной,
если бы отношения с большинством людей не так
разочаровывали, если бы Монтень не был вынуж-
ден столь упорно от них уклоняться. Глубина его
привязанности к ла Боэси показывала, до какой
степени при контактах с другими ему приходилось
представлять лишь сильно отредактированный
вариант собственной личности, чтобы избегнуть
подозрений и недоуменных взглядов. Много лет
спустя Монтень анализировал источник своей ду-
ховной близости с ла Боэси:
«Порой наша разлука бывала для меня
не без приятности и не без пользы. Разлуча-
ясь, каждый из нас жил более заполненной
жизнью и видел ее шире и глубже: он жил,
он наслаждался, он наблюдал для меня, я на-
блюдал для пего, делая это с такой полнотой,
1 Там же. I, 28; 175-176. Перевод А. С. Бобовича.
221
Ален де Боттон
как если бы он был со мной. Когда мы бывали
вместе, какая-то наша часть оставалась празд-
ной: мы сливались в единое целое»1.
Другими словами, ла Боэси'— уникальный
случай среди знакомых Монтеня — понимал его
правильно. Благодаря психологической прозор-
ливости он позволял другу быть самим собой.
Эта дружба давала возможность проявиться мно-
гим качествам Монтеня, ценным для ла Боэси,
но встречавшим пренебрежительное отношение
окружающих, — это наводит на мысль о том, что
друзей мы выбираем не только потому, что они
добры и приятны в общении, по и потому, что они
воспринимают нас такими, какими мы сами себя
видим, а это гораздо более важно.
Идиллия была, к сожалению, недолгой. Через
четыре года после первой встречи, в августе 1563
года, у ла Боэси случились желудочные колики, и
он через несколько дней умер. Эта потеря болез-
ненно ощущалась Монтенем всю жизнь:
«Когда я сравниваю всю остальную часть
моей жизни с теми четырьмя годами, которые
мне было дано провести в отрадной для меня
близости и сладостном общении с этим челове-
1 МонтеньМ. Опыты. III, 9,182-183. Перевод А. С. Бо-
бовича и Н. Я. Рыковой.
222
Утешение философией
ком, мне хочется сказать, что все это время —
дым, темная и унылая ночь»1.
Во всех томах «Опытов» ощущается жажда
Монтеня найти близкую душу, сравнимую с
умершим другом. Спустя восемнадцать лет после
смерти ла Боэси Монтень все еще скорбел. В мае
1581 года, отправившись па воды в Ла-Виллу
неподалеку от Лукки, он записал в своем путе-
вом дневнике, что его целый день преследовали
печальные воспоминайия о ла Боэси и эта боль
была мучительна.
Монтень никогда больше не был счастлив
в дружбе, однако открыл для себя прекрасный
способ компенсировать это. В «Опытах» он при
помощи иных средств воссоздал тот верный авто-
портрет, который видел ла Боэси. Он стал самим
собой па страницах своих книг, как был самим
собой в обществе своего друга.
Писательство было порождено разочаровани-
ем в тех, кто окружал Монтеня, но одновременно
и надеждой на то, что где-то когда-то найдется че-
ловек, который поймет его; книги Монтеня были
адресованы всем, но никому в отдельности.
Он осознавал парадоксальность того, что от-
крывает глубины души перед незнакомцем, слу-
чайно зашедшим в книжную лавку:
1 Там же. 1,28, 180. Перевод А. С. Бобовича.
223
Ален де Боттон
«Забавная причуда: многие вещи, которые
я не захотел бы сказать ни одному человеку,
я сообщаю всему честному народу и за всеми
моими самыми сокровенными тайнами и мы-
слями даже своих ближайших друзей отсылаю
в книжную лавку»1.
Впрочем, мы должны быть благодарны этому
парадоксу. Книжный магазин — самый драгоцен-
ный пункт назначения для одиноких, учитывая,
как много книг было написано потому лишь, что
автор не мог найти себе подходящего слушателя
или собеседника.
1 Монтень М. Опыты. III, 9,186. Перевод А. С. Бобови-
ча и II. Я. Рыковой.
224
Утешение философией
Может быть, Монтень и начал писать для того,
чтобы облегчить свое одиночество, однако его
книги могут в какой-то мере облегчить и наше.
Нарисованный им честный, неприкрашенный
собственный портрет — с признаниями в том, что
ему случалось страдать от импотенции и пускать
ветры, что он тосковал по умершему другу и не
любил шума, отправляя естественные надобно-
сти, — позволяет нам не чувствовать смущения
относительно тех свойств, о которых обычно не
говорят в обществе и которые не изображают на
портретах, но которые тем не менее являются ча-
стью жизни.
4
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕАДЕКВАТНОСТИ
Существует несколько основополагающих
представлений о том, что требуется, чтобы счи-
таться умным человеком.
Что Следует Знать Умному Человеку
Одно из таких требований, лежащее в основе
программ многих школ и университетов, заключа-
ется в том, что умный человек должен знать, как
ответить на следующие вопросы:
225
Ален де Боттон
1. Найти длины сторон и величины углов, по-
меченных знаком «х», в представленных на
рисунке треугольниках.
2. Что является подлежащим, сказуемым, связ-
кой, квантором1 (если таковые имеются) в
следующих предложениях: «Собака — это
лучший друг человека», «Луцилий непоря-
дочен», «Все летучие мыши принадлежат к
классу грызунов», «В комнате нет ничего
зеленого»?
3. Что, согласно Фоме Аквинскому, служит пер-
вым доказательством бытия Бога?
4. Переведите:
Паоа T£%vr| ксн ласа pe0o3og, opoicog 5s
лрсфд те ка( лроаСресяд, ауабоо xivog s(piso0ai
Зоке!- 5ю каХсод artstpqvavro xaya0ov об шт’
1 Квантор — слово, своим значением дающее коли-
чественную характеристику предметам, действиям, отно-
шениям, свойствам, например: все, каждый, несколько и
т. д. (Прим, ред.)
226
Утешение философией
eyfetai. (Siacpopa Зе rig (paivsrai tojv- та pev yap
sioiv Evspysiai, та Зе лар’ абтад epya Tiva- cbv
8’ Eioi тёХт| Tiva лара тад лра^ец, ev tovtok;
PeXtioj ЛЕфикв tojv svEpysubv та spya.) лоХХсоу
Зе лра^вшу ouocov Kai ts/vcov ка( елютгцкйу
лоХХа yivETai Kai та теХц- штрисцд pev yap
uyisia, vaunr|yiKf]<; 8e лХо!оу, отратцуисгц; Зе
vIkt|, oiKovojiiKfig Зе лХоитод.
Аристотель. Никомахова этика. I, i-iv
5. Переведите:
In capitis met levitatem iocatus
est el in oculorum valitudinem el in
crurum gracilitatem et in staturam. Quae
conluinelia est quod apparel audire? Coram
uno aliquid dictum ridemus, coram pluribus
indignamur, et eorum aliis libertatem
non relinquimus, quae ipsi in nos dicere
adsuevimus; iocis temperatis delectainur,
immodicis irascimur.
Сенека. О постоянстве. XVI, 4
Монтень встречался со многими подобными
вопросами и успешно на них отвечал. Он полу-
чил образование в одном из лучших учебных за-
ведений — «Коллеж де Гиень» в Бордо, основан-
ном в 1533 году взамен старого и не отвечающего
требованиям «Коллеж дез Артс». К тому времени
как шестилетний Мишель стал учеником «Коллеж
де Гиень», последний приобрел репутацию цен-
227
Ален де Боттон
тра учености во Франции. Среди преподавателей
были глава заведения Андре де Гуво, известный
своими трудами по греческой культуре Никола де
Груши, знаток трудов Аристотеля Гийом Герапт,
шотландский поэт Джордж Бьюкенен.
Если попытаться дать определение филосо-
фии, на которой строилось обучение в «Коллеж
де Гиень», да и в большинстве школ и универси-
тетов в предшествующие и последующие времена,
можно сказать, что основополагающей идеей было
дать учащимся как можно больше знаний о мире
(его истории, науках, литературе). Однако Мон-
тень, добросовестно изучив предложенный ему
курс, добавил важное условие:
«Если бы человек был мудр, он расцени-
вал бы всякую вещь в зависимости от того,
насколько она полезна и нужна ему в жизни»1.
Только то, что дает нам ощущение благополу-
чия, и стоит изучать.
Программа «Коллеж де Гиень» в основном
базировалась на изучении трудов двух великих
мыслителей Античности — они преподносились
учащимся как образцы интеллекта. Им предпи-
сывалось изучить первую и вторую «Аналитики»
Аристотеля, в которых греческий философ зало-
1 Монтень М. Опыты. И, 12, 424. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. и.Ф. А. Коган-Бернштейн.
228
Утешение философией
жил основы логики, указывая, что если утвержде-
ние А верно для всякого В, а В — для всякого
С, то обязательно А верно для всякого С. Ари-
стотель учил, что две посылки, связывающие
субъект (подлежащее) и предикат (сказуемое)
общим термином, обеспечивают замыкание по-
нятий в заключении, п добавлял, что все утвер-
ждения делятся на универсальные и частные.
Кроме того, изучались труды римского ученого
Марка Теренция Варрона, собравшего по пору-
чению Цезаря библиотеку и написавшего шесть
сотен книг, включая энциклопедию свободных
искусств и двадцать пять книг по этимологии и
лингвистике.
Монтень не остался равнодушным. Насто-
ящий подвиг — написать целую полку книг о
происхождении слов или открыть безусловно
истинные суждения. И все же, обнаружив, что
эти великие люди не были счастливее, а скорее
гораздо несчастнее тех, кто никогда не слышал о
философской логике, мы не можем не задумать-
ся. Монтень, изучивший биографии Аристотеля и
Варрона, задался вопросом:
«Какая польза была Аристотелю и Варрону
от того, что они обладали такими огромными
познаниями? Избавило ли это их от человече-
ских бедствий? Были ли они благодаря этому
свободны от припадков, которыми страдает
229
Ален де Боттон
какой-нибудь грузчик? Способно ли было их
мышление доставить им какое-нибудь облег-
чение от подагры?»1
Чтобы понять, почему эти двое при всей сво-
ей эрудиции были так несчастны, Монтень пред-
положил, что существует две категории знания:
ученость и мудрость. В категорию учености он
помещал среди других предметов логику, этимо-
логию, грамматику, латинский и греческий язы-
ки. К категории же мудрости Монтень относил
более широкий, часто ускользающий и гораздо
более ценный вид знаний: все, что может помочь
человеку жить хорошо, понимая под этим жизнь
счастливую и моральную.
Недостаток обучения в «Коллеж де Гиень»
заключался в том, что при высочайшем уровне
преподавания он успешно давал своим ученикам
ученость, но совершенно не был способен дать
мудрость, повторяя на своем уровне те же ошиб-
ки, которые отягчали личную судьбу Аристотеля
и Варрона:
«Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте
нашего образования. Оно поставило себе целью
сделать нас не то чтобы добропорядочными и
мудрыми, а учеными, и оно добилось своего:
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 423. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
230
Утешение философией
оно так и не научило нас постигать доброде-
тель и мудрость и следовать их предписаниям,
но зато мы навсегда запомнили происхожде-
ние и этимологию этих слов...»1
«Мы постоянно спрашиваем: знает ли
такой-то человек греческий или латынь?
Пишет ли он стихами или прозой? Но стал
ли он от этого лучше и умнее — что, конеч-
но, самое главное, — этим мы интересуемся
меньше всего. А между тем надо стараться
выяснить — не кто знает больше, а кто знает
лучше»1 2.
Монтень никогда не мог похвалиться успехами
в спорте: «В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда
не достигал ничего большего, чем самая что ни на
есть заурядная посредственность. Ну а в плава-
нии, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе
ничего не достиг»3. Тем не менее, горько сожалея
о том, что большинство учителей не прививают
своим ученикам мудрости, он не побоялся пред-
ложить радикальную альтернативу тому, чему об-
учали французскую молодежь.
1 Монтень М. Опыты. II, 17, 589. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Там же. I, 25, 127. Перевод А. С. Бобовича.
3 Там же. II, 17,571. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А. Ко-
ган-Бернштейн.
231
Ален де Боттон
«Если учение не вызывает в нашей душе ника-
ких изменений к лучшему, если наши суждения с
его помощью не становятся более здравыми, то
наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успе-
хом вместо занятий науками играть в мяч»1.
Монтень, конечно, предпочел бы, чтобы юно-
ши обучались в школе, но только такой, где их
учили бы мудрости, а не этимологии этого слова, и
где были бы упразднены давно сложившиеся ин-
теллектуальные стереотипы в отношении абстрак-
тных вопросов. Одним из самых ранних примеров
такого предпочтения, прославляемым на протя-
жении веков, была попытка Фалеса из Милета в
Малой Азии измерить высоту небес и определение
1 Монтень М. Опыты. I, 25, 129. Перевод А. С. Бобо-
вича.
232
Утешение философией
им высоты Великой пирамиды с помощью теоре-
мы о подобных треугольниках — великолепное и
весьма нелегкое достижение, но вовсе не то, чему,
как считал Монтень, следует учить в школе. Ему
гораздо более симпатична была философия об-
разования, примененная в житейской практике
одной из современниц Фалеса:
«Я одобряю ту остроумную служанку-ми-
летянку, которая, видя, что ее хозяин философ
Фалес постоянно занят созерцанием небесного
свода и взор его всегда устремлен ввысь, под-
бросила там, где он должен был проходить,
какой-то предмет, чтобы он споткнулся; она
хотела дать ему понять, что он успеет насла-
диться заоблачными высями после того, как
обратит внимание на то, что лежит у его ног...
Всякого, кто занимается философствованием,
можно упрекнуть в том же, в чем эта женщи-
на упрекнула Фалеса, а именно — что он не
замечает того, что у него под носом»1.
Монтень отмечал сходную тенденцию отда-
вать предпочтение экстраординарным занятиям
в ущерб более скромным, но не менее важным
и в других сферах и, как та девушка-милетянка,
пытался вернуть пас на землю:
1 Монтень М. Опыты. II, 12, 472. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштепп.
233
Ален де Боттон
«Устремляться при осаде крепости в брешь,
стоять во главе посольства, править наро-
дом — все эти поступки окружены блеском и
обращают на себя внимание всех. Но бранить,
смеяться, продавать, платить, любить, ненави-
деть и беседовать с близкими и с собой самим
мягко и всегда соблюдая справедливость, не
поддаваться слабости, неизменно оставаться
самим собой — это вещь гораздо более редкая,
более трудная и менее бросающаяся в глаза.
Жизни, протекающие в уединении, что бы ни
говорили на этот счет, ведомы такие же, если
только не более сложные и тягостные обязан-
ности, какие ведомы жизни, не замыкающей-
ся в себе»1.
Так что же, по мнению Монтеня, следовало
бы ученикам изучать в школе? Как можно было
бы экзаменовать их, чтобы определить, обрели
ли они мудрость, которую имел в виду Монтень,
столь отличную от интеллектуальных достижений
несчастных Аристотеля и Варрона?
Экзаменовать учеников следовало бы, задавая
вопросы, касающиеся проблем повседневной жиз-
ни: любви, секса, болезни, смерти, детей, денег,
амбиций.
1 Монтень М. Опыты. III, 9, 23. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
234
Утешение философией
Испытание в мудрости, по Монтеню:
1. «Около семи или восьми лет тому назад один
крестьянин, проживающий в каких-нибудь
двух лье отсюда и здравствующий еще и по-
ныне, жестоко страдал от своей жены, из-
водившей его своей ревностью. Однажды,
когда он вернулся с работы и она стала уго-
щать его своими обычными причитаниями,
он разъярился до того, что отсек себе начи-
сто косарем те части, которые так тревожили
ее, бросив их ей в лицо»1.
а) Как следует разрешать домашние раз-
ногласия?
б) Была ли ревность жены проявлением
вечного недовольства или привязанности?
2. Сравните две следующие цитаты:
«Я хочу... чтобы смерть застигла меня за
посадкой капусты, но я желаю сохранить
полное равнодушие и к ней, и тем более к
моему не до конца возделанному огороду»1 2.
«Мне не под силу отличить один злак от
другого... то же я должен сказать о капусте
и салате в моем огороде»3.
Каков мудрый подход к смерти?
1 Там же. II, 29,627. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А. Ко-
ган-Бериштейн.
2 Монтень М. Опыты. 1,20,84. Перевод А. С. Бобовича.
3Там же. II, 17,582. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А. Ко-
ган-Бернштейн.
235
Ален де Боттон
3. «Было бы, пожалуй, более целомудренным
и полезным знакомить женщин с тем, что у
нас есть на деле, чем допускать их строить на
этот счет всяческие догадки в меру смелости
и живости их воображения. Не имея точного
представления об этих вещах [размере пени-
са] , они, подстрекаемые желаниями и меч-
тами, рисуют себе нечто чудовищное, втрое
больше против действительности... А мало
ли зла приносят изображения, оставляемые
мальчишками, снующими в проходах и на
лестницах общественных зданий? Они-то
и порождают то убийственное презрение,
которое питают наши девицы к этой муж-
ской принадлежности, если она обычной
величины»1.
Как следует мужчине с небольшой «муж-
ской принадлежностью» касаться этого в
разговоре?
4. «Мне известен... такой случай: один дворя-
нин, попотчевав на славу гостей, через три
или четыре дня после этого стал рассказы-
вать в шутку (ибо в действительности ничего
подобного не было), будто он накормил их
паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло
одну девицу из числа тех, кого он прини-
1 Там же. III, 5, 72-73. Перевод А. С. Бобовича и Н. Я.
Рыковой.
236
Утешение философией
мал у себя, в такой ужас, что у нее сделались
рези в желудке, а также горячка, и спасти ее
так и не удалось»1.
Проанализируйте, какова в этом случае
моральная ответственность.
5. «Если бы разговаривать с самим собой не
было свойством сумасшедших, то каждый
день можно было бы слышать, как я вор-
чу на себя, обзывая себя дерьмом»2. «Самая
зверская из наших болезней — это презре-
ние к своему естеству»3.
Насколько следует любить себя?
1 Монтень М. Опыты. 1,21,98. Перевод А. С. Бобовича.
2 Там же. 1,38, 214-415.
3 Там же. III, 13, 306. Перевод А. С. Бобовича и Н. Я.
Рыковой.
237
Ален де Боттон
«Я видел на своем веку сотни ремесленников и
пахарей, которые были более мудры и счастливы,
чем ректоры университетов»1.
Если задавать на экзамене вопросы, измеря-
ющие мудрость, а не ученость, то это, возможно,
привело бы к немедленному изменению иерархии
интеллекта — и возникновению удивительной но-
вой элиты. Монтеню рисовалась радужная пер-
спектива того, как казавшиеся нелепыми люди
будут признаны более умными, чем превозноси-
мые, но часто недостойные этого традиционные
кандидаты.
Как следовало бы говорить
и выглядеть умным людям
Принято считать, будто содержание книги,
оказавшейся нам непонятной, чрезвычайно глу-
бокомысленно. Основополагающие идеи, в конце
концов, не могут быть сформулированы прими-
тивным языком. И все же связь между трудно-
стью понимания и глубиной содержания в лите-
ратурной сфере признается не так часто, как это
случается в обыденной жизни, когда люди, кото-
рым свойственна таинственность и уклончивость,
вызывают большее уважение простодушных, чем
люди доступные и понятные.
1 Там же. II, 12, 424. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А.
Коган-Бернштейн.
238
Утешение философией
Монтень не стеснялся признаваться в нелюб-
ви к книгам, содержание которых таинственно.
«Я не могу поддерживать длительное общение
с книгами»1; «я люблю лишь развлекательные и
легкие книги»1 2, — писал он.
«Я не хочу ломать голову ни над чем,
даже ради науки, какую бы ценность она ни
представляла. Я не ищу никакого другого
удовольствия от книг, кроме разумной зани-
мательности... Если я при чтении натыкаюсь
на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над
разрешением их, а, попытавшись разок-дру-
гой с ними справиться, прохожу мимо... Если
какая-нибудь книга меня раздражает, я выби-
раю другую»3.
Это, конечно, ерунда или, точнее, лукавое при-
творство со стороны человека, обладавшего би-
блиотекой в тысячу томов и энциклопедическими
познаниями в греческой и латинской философии.
Если Монтень извлекал удовольствие из того, что-
бы выглядеть туповатым помещиком, склонным
засыпать во время философских диспутов, его
неискренность преследовала определенную цель.
1 Монтень М. Опыты. II, 17, 581. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Когап-Бернштейп.
2 Там же. 1,39, 224. Перевод А. С. Бобовича.
3Там же. II, 10,357. Перевод А. С. Бобовича и Ф. А. Ко-
ган-Бернштейн.
239
Ален де Боттон
Повторяющиеся признания в собственной лени
и неповоротливости были тактическим приемом
борьбы с ошибочным пониманием интеллекта и
хорошего литературного стиля.
По мнению Монтеня, нет уважительных при-
чин для того, чтобы книги по гуманитарным па-
укам были трудны для понимания или скучны;
мудрость не нуждается в особом словаре или син-
таксисе, да и читателям скука не идет на пользу.
При умелой оценке нудность может оказаться
ценным критерием достоинств книги. Хотя толь-
ко по ней одной никогда нельзя выносить окон-
чательного суждения (в самых тяжелых случаях
это приводит к безразличию или нетерпению),
здравый взгляд на скучную книгу может умерить
нашу готовность терпеливо воспринимать любую
галиматью. Те, кто не обращает внимания на ску-
ку при чтении книги, подобны людям, безропотно
терпящим боль и тем самым без необходимости
увеличивающим свои страдания. Как ни предо-
судительно впопыхах отнести книгу к нудным, не
меньшая ошибка — никогда не позволять себе по-
терять терпение по отношению к книге.
Каждая трудная для восприятия книга ставит
нас перед выбором: счесть автора неумелым по-
тому, что он не смог выразиться яснее, или при-
знаться в собственной глупости и неспособности
уловить суть. Монтень поощрял своих читателей
в признании автора неумелым. Невнятное изло-
240
Утешение философией
жение является скорее результатом лени, а не глу-
бокомыслия; то, что легко читается, едва ли было
с легкостью написано. Возможно, тяжеловесная
проза лишь маскирует отсутствие содержания: за-
путанность лучше всего скрывает то, что автору
нечего сказать.
«Непонятное изложение, к которому при-
бегают ученые, — это тот же прием, который
применяют фокусники, чтобы скрыть ничто-
жество своего искусства, прием, на который
легко попадается человеческая глупость»1.
Философам нет никаких оснований пользо-
ваться словами, которые прозвучали бы неуместно
на улице или на рынке.
«Желание отличаться от всех остальных не
принятым и необыкновенным покроем одежды
говорит о мелочности души; то же и в языке:
напряженные поиски новых выражений и ма-
лоизвестных слов порождаются ребяческим
тщеславием педантов. Почему я не могу поль-
зоваться той же речью, какою пользуются на
парижском рынке?»1 2
1 Монтень М. Опыты. II, 12,444. Перевод А. С. Бобовича
и Ф. А. Коган-Бернштейн.
2 Там же. 1,26, 161. Перевод А. С. Бобовича.
241
Ален де Боттон
Однако, чтобы писать просто, требуется му-
жество, поскольку существует опасность, что вас
не заметят или сочтут простоватым те, кто неко-
лебимо верит, будто непроходимо дремучая про-
за — признак высокого интеллекта. Это убеждение
настолько сильно, что Монтень задумывался: оце-
нили бы большей своей частью университетские
ученые Сократа, перед которым они, по их сло-
вам, преклоняются, если бы он обратился к ним
на улице их собственного города в своем грязном
плаще, лишенный героического ореола диалогов
Платона, на простом языке:
«Поучения Сократа, сохраненные в писа-
ниях его друзей, восхищают пас лишь потому,
что их чтят и уважают все, а не потому, что мы
ими прониклись: в жизни мы их не применя-
ем. Возникни что-либо подобное в наши дни,
весьма немногие одобрили бы его. Красоту и
изящество мы замечаем лишь тогда, когда они
предстают искусственно заостренными, напы-
щенными и надутыми. Если же они скрыты
за непосредственностью и простотой, то легко
исчезают из поля столь грубого зрения, как
наше... Разве непосредственность, по-нашему,
не родственна глупости и не является пороком?
Душевным движениям Сократа свойственны
естественность и простота. Так говорит кре-
стьянин, так говорит женщина... Формулы и
сравнения свои он заимствует из простейших,
242
Утешение философией
повседневнейших человеческих действий. Ка-
ждому они понятны. Мы никогда не распозна-
ли бы в столь жалкой оболочке благородства
и великолепия его философских построений,
мы, считающие пошлым и низменным все, не
сдобренное ученостью, мы, способные усмо-
треть богатство лишь в показной пышности»1.
Это призыв к тому, чтобы относиться к книгам
серьезно, даже когда их язык не повергает в тре-
пет, а идеи ясны, а также не считать себя дурака-
ми, если по причине бедности мы необразованны,
плащ наш в дырах, а словарный запас не больше,
чем у торговки на рынке.
Что следует знать умным людям
Умный человек должен быть знаком с факта-
ми, а если он их не знает и к тому же настолько
глуп, что невнимательно читает книги, то ему не
приходится ожидать милости от ученых, которые
с полным основанием и язвительной вежливостью
укажут па то, что дата неверна, цитата перевра-
на, ссылка не соответствует контексту, а важный
источник не упомянут.
И все-таки, на взгляд Монтеня, главное, что
можно почерпнуть из книг, — это их польза в
соответствии жизненным обстоятельствам: менее
1 Монтень М. Опыты. III, 12, 239. Перевод А. С. Бобо-
Ч’вича и Н. Я. Рыковой.
243
Ален де Боттон
важно с точностью знать, что писал Платон или
чему учил Эпикур, чем правильно судить, на-
сколько интересны их взгляды и могут ли они
устранить ночные тревоги или облегчить одино-
чество. Ответственность автора книг на гумани-
тарные темы не в том, чтобы добиться квазина-
учной точности, а в том, чтобы способствовать
счастью и здоровью читателей. Монтень не скры-
вал раздражения в адрес пренебрегающих этим
писателей:
«Ученые, которым подсудна всякая книга,
не ценят ничего, кроме учености, и не при-
знают никаких иных проявлений пашей ум-
ственной деятельности, кроме тех, которые
свидетельствуют о начитанности и обширно-
сти всякого рода познаний. Если вы смешае-
те одного Сципиона с другим, то что стоящего
внимания можете вы еще высказать? Кто не
знаком с Аристотелем, тот, по их мнению, не
знаком и с собой самим»1.
«Опыты» тоже, кстати, грешат частыми ошиб-
ками в цитатах, неверными отсылками, нелогич-
ными доводами и неточными определениями, но
их автора это не тревожило:
1 Монтень М. Опыты. II, 17, 586. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн.
244
Утешение философией
«Мне легче всего писать у себя, в ди-
ком краю, где ни одна душа не оказывает
мне помощи и не поддерживает меня, где я
обычно не вижусь ни с кем, кто понимал бы
латынь своего молитвенника, а тем более по-
французски»1.
Естественно, в «Опытах» есть ошибки («У
меня [их] великое множество», — похвалялся
Монтень), но они не обрекли написанное Монте-
нем забвению, равно как абсолютная точность не
гарантировала бы его ценность. Гораздо большим
грехом было бы написать нечто, не имеющее це-
лью научить мудрости, чем перепутать Сципиона
Эмилиана (185-129 гг. до н. э.) со Сципионом
Африканским (236-183 гг. до н. э.).
Откуда умным людям
следует черпать идеи
Их следует черпать от еще более умных лю-
дей. Нет ничего достойнее времяпрепровождения,
посвященного цитированию и комментированию
трудов великих предшественников, занимающих
верхние ветви древа познания. Умным людям
надлежит создавать труды, посвященные мораль-
ным установлениям Платона или этике Цицерона.
1 Монтень М. Опыты. III, 5,88. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
245
Ален де Боттон
Монтень широко пользовался такой установ-
кой. В «Опытах» часто встречаются комментарии
к классикам, в них сотни цитат из книг авторов,
которым, на взгляд Монтеня, удалось сформули-
ровать какую-то мысль более изысканно и точно,
чем ему самому. Платона он цитировал 128 раз,
Лукреция — 149, Сенеку — 130.
Очень соблазнительно прибегнуть к цитиро-
ванию трудов, которые выражают наши собст-
венные мысли, только делают это с недоступной
нам ясностью и психологической точностью.
Такие авторы знают нас лучше, чем мы сами.
То, что мы могли бы выразить путано и много-
словно, они формулируют кратко и элегантно;
наши пометки на полях их книг и наши заим-
ствования говорят о том, что мы находим в них
частицы себя; фраза или две вдруг оказываются
словно созданными из наших собственных мы-
слей — совпадение тем более удивительное, что
цитируемый труд мог быть написан во времена
ношения тог и принесения жертв богам. Мы при-
глашаем их слова в свои книги в качестве знака
почтения к тем, кто напоминает нам о том, кто
такие мы сами.
Однако великие книги могут не только осве-
щать наш опыт и вести нас к собственным откры-
тиям, но и уводить в тень забвения. Они могут
побудить нас пройти мимо тех аспектов жизни, о
которых нет печатных свидетельств. Такие книги
могут не расширять наши горизонты, а, напротив,
246
Утешение философией
их сужать. Среди знакомых Монтеня был один че-
ловек, который слишком дорого заплатил за свою
любовь к книгам:
«Когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя
бы хорошо ему известном, он немедленно тре-
бует книгу, чтобы отыскать в ней нужный от-
вет; и он никогда не решится сказать, что па
заду у него завелась парша, пока не справится
в своем лексиконе, что, собственно, значит зад
и что значит парша»1.
Подобное нежелание доверять собственным,
не почерпнутым из книг знаниям и опыту было бы
не так печально, если бы можно было надеяться,
что книги отразят все наши обстоятельства, опи-
шут все случаи парши. Однако Монтень заметил,
что великие книги слишком о многом молчат, по-
этому, если мы позволим им определять границы
нашей любознательности, они задержат наше
умственное развитие. Встреча, произошедшая у
Монтеня в Италии, подтвердила эту его мысль:
«Я знавал в Пизе одного весьма достойно-
го человека, который настолько почитал Ари-
стотеля, что первейшим его правилом было:
«Пробным камнем и основой всякого прочного
мнения и всякой истины является их согласие
1 Монтень М. Опыты. I, 25, 128. Перевод А. С. Бобо-
вича.
247
Ален де Боттон
с учением Аристотеля; все, что вне этого, — хи-
меры и суета, ибо Аристотель все решительно
предусмотрел и все высказал»»1.
Аристотель, конечно, очень много знал и мно-
го совершил. Из всех античных мыслителей он
создал наиболее всеобъемлющую теорию, а его
труды охватывают едва ли не все сферы знания
(«Органон», «Метафизика», «Физика», «О возник-
новении животных», «О душе», «Этика», «Поли-
тика», «Риторика», «Поэтика»).
Однако сама огромность охвата Аристотелем
научной тематики оставляет сомнительное на-
следство. Существуют авторы слишком умные для
того, чтобы приносить нам благо. Поскольку они
сказали так много, создается впечатление, будто
последнее слово уже сказано. Их гений подавляет
некоторую непочтительность, жизненно важную
для творчества последующих поколений. Как это
ни странно, Аристотель, возможно, мешает сво-
им почитателям действовать так, как действовал
он сам. Он стал великим только потому, что под-
вергал сомнению многое из предшествующего
ему знания; он не отказывался читать Платона
или Демокрита, но подвергал разумной критике
слабые места их учений, хоть и отдавал должное
сильным. Чтобы оказаться истинным последова-
телем Аристотеля — это было понятно Монтеню и
1 Монтень М. Опыты. I, 26, 141. Перевод А. С. Бобо-
вича.
248
Утешение философией
не приходило в голову его знакомцу из Пизы, —
необходимо позволять себе некоторые оправдан-
ные отклонения от мнений даже самых уважае-
мых авторитетов.
Однако вполне понятно стремление приводить
цитаты и писать комментарии, чем говорить и ду-
мать самим. Комментарий к книге, хотя техниче-
ски трудоемок и требует многих часов изысканий
и толкований, защищен от наиболее жестоких на-
падок, угрожающих оригинальным работам. Ком-
ментатор может подвергнуться критике за то, что
недостаточно осветил идеи великого мыслителя,
но не несет ответственности за идеи сами по себе;
именно поэтому Монтень включил в «Опыты» так
много цитат и комментариев к ним:
«Я заимствую у других то, что не умею
выразить столь же хорошо либо по недоста-
точной выразительности моего языка, либо по
слабости моего ума... Я иногда намеренно не
называю источник тех соображений и доводов,
которые я переношу в мое изложение и сме-
шиваю с моими мыслями, так как хочу уме-
рить пылкость поспешных суждений, которые
часто выносятся по отношению к недавно вы-
шедшим произведениям еще здравствующих
людей... Я хочу прикрыть свою слабость эти-
ми громкими именами»1.
1 Монтень М. Опыты. II, 10, 356. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. А. Коган-Бернштейн. (Курсив А. де Боттона.)
249
Ален де Боттон
Удивительно, насколько более серьезно нас
воспринимают через несколько столетий после на-
шей смерти. Суждения, кажущиеся вполне при-
емлемыми, если они были высказаны древними
авторами, могут вызвать насмешки, если они же
излагаются современником. Критики не склонны
преклоняться перед глубокомысленными выска-
зываниями тех, с кем вместе учились в универси-
тете. Разве позволительно этим людям говорить
так, будто они — античные философы! Сенека
писал: никто еще не избежал расплаты за то, что
родился; однако тот, кому такая мысль пришла бы
в более поздние века, мог бы решиться высказать
ее, лишь если бы жаждал подвергнуться множест-
ву унижений. Монтень подобной жажды не испы-
тывал, а потому пользовался прикрытием; одна из
последних глав «Опытов» содержит трогательное
признание:
«Если бы я с самого начала поступил, как
мне хотелось, то говорил бы только от.себя»1.
Монтеню не хватало уверенности в себе по той
причине, что чем ближе во времени и пространстве
оказывались к нему читатели, тем менее склонны
они были считать его мысли столь же ценными,
как мысли Сенеки или Платона.
1 Монтень М. Опыты. III, 12, 256. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
250
Утешение философией
«Под небом моей Гаскони я слыву чудаком,
так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше
от своих родных мест, тем больше я значу в
глазах знающих обо мне»1.
Что касается семьи и слуг Монтеня, то те, кто
слышал его храп или менял ему постельное белье,
вовсе не испытывали, в отличие от парижан, перед
ним преклонения; тем более не догадывались они
о той славе, которая ждала Монтеня после смерти.
«Бывали люди, казавшиеся миру редкост-
ным чудом, а между тем ни жены их, ни слу-
ги не видели в них ничего замечательного.
Лишь немногие вызывали восхищение своих
близких»1 2.
Мы можем воспринять это двояко: с одной сто-
роны, вполне вероятно, что никто на самом деле
чудом не является, но только члены семьи и слуги
находятся достаточно близко, чтобы обнаружить
разочаровывающую истину. С другой стороны,
можно предположить, что многие люди интере-
сны, но если мы находимся слишком близко к ним
во времени и пространстве, то не воспринимаем
их всерьез из-за нелепой склонности пренебрегать
тем, что с нами рядом.
1 Там же. III, 2, 23.
2 Монтень М. Опыты. III, 2, 22. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
251
Ален де Боттон
Монтень вовсе не жалел себя; скорее он рас-
сматривал критицизм амбициозных современных
работ как симптом вредоносного стремления ду-
мать, будто истина всегда находится где-то далеко,
в другой стране, в древней библиотеке, в книгах
людей, живших давным-давно. Вопрос тут в том,
считать ли, что по-настоящему ценные мысли
доступны лишь немногим гениям, родившимся в
упомянутый период от Перикла до Алариха, или,
как решился предположить Монтень, что они так-
же могут прийти в голову вам или мне.
Нам предложили черпать из весьма странного
источника мудрости, даже более странного, чем
индеец тупи, гасконский землепашец или опи-
санный Пирроном боров-мореплаватель; таким
источником является сам читатель. Если мы ста-
нем должным образом оценивать свой опыт и на-
учимся смотреть на себя как па существ вполне
разумных, способных вести жизнь достойную, то
для нас открыт путь, считал Монтень, к таким же
глубоким прозрениям, как те, что содержатся в
великих древних книгах.
Думать — нелегкое дело. Нас учили видеть до-
бродетель в поклонении написанному признанны-
ми авторитетами, а вовсе не в исследовании об-
ширной информации, непрерывно поставляемой
нам механизмами восприятия. Монтень пытался
вернуть нас пам самим:
252
Утешение философией
«Мы умеем сказать с важным видом: «Так
говорит Цицерон», или «таково учение Пла-
тона о нравственности», или «вот подлинные
слова Аристотеля». Ну а мы-то сами, что мы
скажем от своего имени? Каковы наши соб-
ственные суждения? Каковы наши поступки?
А то ведь это мог бы сказать и попугай»1.
Ученый, автор комментариев, не согласился
бы с оценкой своего труда как некоего попугай-
ского повторения. Можно привести множество
аргументов в пользу того, насколько ценны ком-
ментарии к взглядам Платона на нравственность
или этическим воззрениям Цицерона. Монтень же
подчеркивал трусость такого ученого и скуку та-
кой работы. Для нее не требуется особых умений
(«Слава изобретателя несравненно выше славы
начетчика»1 2); она представляет лишь техниче-
ские трудности, которые преодолеваются терпе-
нием при наличии тихой библиотеки. Более того,
многие книги из тех, что академическая традиция
поощряет нас цитировать, сами по себе не так уж
значимы и увлекательны. Им отводится централь-
ное место в программе обучения только потому,
что опп написаны известными авторами, в то
1 Монтень М. Опыты. 1, 25, 128. Перевод А. С. Бобо-
вича.
2 Там же. III, 12, 257. Перевод А. С. Бобовича и
Н. Я. Рыковой.
253
Ален де Боттон
время как многие не менее, а часто и более заслу-
живающие внимания труды пылятся на полках,
поскольку создавшие их люди не имеют большого
интеллектуального авторитета. Отношение искус-
ства к действительности давно считается важной
философской темой, отчасти потому, что его пер-
вым обсуждал Платон; отношение стеснительности
к высказыванию личного мнения обычно не рас-
сматривается, отчасти потому, что не привлекло к
себе внимания ни одного древнего философа.
Учитывая это преувеличенное уважение к тра-
диций, Монтень счел необходимым признаться
своим читателям, что некоторые книги Платона
кажутся ему ограниченными и скучными:
«Не послужит ли распущенность нашего
века достаточным оправданием моего свято-
татства, если я позволю себе сказать, что нахо-
жу также тягучими диалоги самого Платона?
Ведь даже у него предмет исследования слиш-
ком заслонен формой изложения, и мне жаль,
что этот человек, который мог сказать столь-
ко замечательных вещей, тратил свое время
на эти длинные, ненужные подготовительные
разговоры»1.
Какое же облегчение встретить такую мысль
у Монтеня: пользующийся престижем автор под-
1 Монтень М. Опыты. II, 10, 361. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. Ф. Коган-Бернштейн.
254
Утешение философией
тверждает ваши собственные смутные, не выска-
зываемые вслух подозрения... Что касается Ци-
церона, то тут Монтень не видел необходимости
извиняться, нападая на него:
«Подразделения, предисловия, определе-
ния, всякого рода этимологические тонкости
занимают большую часть его писаний... Когда
я, потратив час на чтение его, — что для меня
много, — начинаю перебирать, что я извлек из
него путного, то в большинстве случаев обна-
руживаю, что ровным счетом ничего»1.
Ученые уделяют такое внимание классикам
потому, предполагал Монтень, что испытывают
тщеславное желание прослыть умными и зна-
ющими, пристроившись рядом со знаменитыми
именами. Результатом для читающей публики
оказываются горы высоконаучных, но совершен-
но лишенных мудрости книг:
«Больше книг пишется о книгах, чем о ка-
ких-либо иных предметах; мы только и делаем,
что составляем глоссы друг на друга. Коммен-
таторы повсюду так и кишат, а настоящих пи-
сателей — самая малость»1 2.
1 Монтень М. Опыты. II, 10, 361. Перевод А. С. Бобо-
вича и Ф. Ф. Коган-Бернштейн.
2 Там же. III, 13, 267. Перевод А. С. Бобовича и
Н. Я. Рыковой.
255
Ален де Боттон
Однако любопытные идеи, настаивал Монтень,
можно найти в любой жизни. Как бы ни были
скромны наши жизненные истории, мы можем
извлечь из них для себя больше пользы, чем из
всех древних книг:
«Если я буду прилежным учеником, то
мой собственный опыт вполне достаточно
умудрит меня. Кто восстановит в памяти все
неистовство своей недавней гневной вспыш-
ки, припомнит, куда она его завела, тот ура-
зумеет лучше, чем из творений Аристотеля,
как безобразна эта страсть, и с более глубоким
основанием отвратится от нее. Кто вспоми-
нает о постигавших его бедствиях, о тех, что
ему угрожали, о незначительных случайно-
стях, так резко изменивших его жизненные
обстоятельства, тот подготовляется к будущим
переменам в своей судьбе и к осознанию сво-
его истинного положения. В жизни Цезаря
мы не найдем большего числа поучительных
примеров, чем в нашей собственной. И жизнь
правителя, и жизнь простолюдина — это всег-
да человеческая жизнь, полная обычных для
нее превратностей»1.
1 Монтень М. Опыты. III, 13, 272. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
256
Утешение философией
Только подавляющая личность традиционная
ученость заставляет нас думать иначе:
«Любой из нас гораздо богаче, чем ему
кажется»1.
Мы все можем породить мудрые мысли, если
только перестанем думать о себе как о не способ-
ных на это лишь потому, что нам нет двух тысяч
лет, мы не особенно интересуемся диалогами Пла-
тона и мирно живем в деревне:
«Вся моральная философия может быть с
таким же успехом приложена к жизни повсед-
невной и простой, как и к жизни более содер-
жательной и богатой событиями»1 2.
Возможно, именно с целью подчеркнуть это
Монтень приводит так много сведений о том, ка-
кой простой и бедной событиями была его соб-
ственная жизнь; именно поэтому он хочет, чтобы
мы знали:
яблок он не любил:
«Я не очень большой любитель овощей и
фруктов, за исключением дынь»3;
1 Там же. III, 12, 240.
2 Там же. III, 2,19.
3 Там же. III, 13, 299.
257
Ален де Боттон
отношение к редьке у него было неодноз-
начным:
«Редьку я сперва находил полезной для
себя, потом вредной, теперь она снова прино-
сит мне пользу»1;
уходу за зубами он уделял самое присталь-
ное внимание:
«Они [зубы] у меня всегда были превос-
ходные... С детства я приучился вытирать
их салфеткой и по утрам, и перед едой, и
после»1 2;
ел он слишком быстро:
«Ем я с большой жадностью... поспешность
при еде у меня такая, что я нередко прикусы-
ваю себе язык и порою даже пальцы»3;
нуждался в салфетке, чтобы вытирать
рот:
«Пообедать без скатерти я могу... без чи-
стой салфетки — очень неохотно... Жаль, что у
нас не привился обычай, принятый при дворе:
менять салфетки вместе с тарелками, с каждым
блюдом»4.
1 Там же.
2 Монтень М. Опыты. III, 13, 298. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
3Там же. III, 13,301.
4 Там же. III, 13, 281.
258
Цицерон, 106—43 гг. до н. э.
Все это, возможно, мелочи, но одновременно
и символическое напоминание о том, что автор
книги — мыслящий человек, что его нравствен-
ная философия излилась — и может излиться сно-
ва — из самой обыкновенной не любящей фруктов
души.
Нет никаких оснований падать духом, если на
сторонний взгляд мы совсем не напоминаем древ-
них мыслителей.
Согласно нарисованному Монтенем портрету
адекватного, более или менее рационально мысля-
щего человека, вполне можно не владеть грече-
259
Ален де Боттон
ским, пускать ветры, иметь разные воззрения до
и после еды, не знать никого из античных фило-
софов и путать двух Сципионов.
Добродетельная простая жизнь, стремяща-
яся к мудрости, но никогда не подвергающая
презрению причуды, — уже достаточное дости-
жение.
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
ЧЬЕ СЕРДЦЕ РАЗБИТО
1
Среди философов, размышлявших о горестях
любви, он, возможно, самый утонченный.
Жизнь, 1788-1860
В1788 году в Данциге родился Артур Шопенга-
уэр. В последующие годы он с сожалением оцени-
вал это событие: жизнь — всего лишь неприятный
261
Ален де Боттон
эпизод в блаженном небытии: «Если ближайшая
и непосредственная цель нашей жизни не есть
страдание, то наше существование представляет
самое бестолковое и нецелесообразное явление»1.
Отец Шопенгауэра Генрих, состоятельный купец,
и мать Иоганна, светская дама на двадцать лет мо-
ложе мужа, мало интересовались сыном, который
вырос одним из величайших пессимистов, каких
только знала история философии. Он вспоминал,
как однажды, вернувшись с вечерней прогулки,
Генрих Шопенгауэр
Иоганна Шопенгауэр
1 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс,
Харьков: Фолио, 1999. Гл. «Кучению о страданиях мира».
С. 635. Перевод. Ф. В. Черниговца.
262
Утешение философией
родители нашли его, шестилетнего мальчика, в
состоянии глубокого отчаяния.
1803-1805. После того как его отец, ве-
роятно, покончил с собой (его нашли уто-
нувшим в канале рядом со складом семейной
фирмы), семнадцатилетний Шопенгауэр стал
обладателем состояния, благодаря которому мог
не беспокоиться о том, чтобы зарабатывать себе на
жизнь. Мысль об этом, однако, не принесла ему
утешения. По его словам, не получив системати-
ческого школьного образования и лишившись
руководства отца, он оказался так же поражен
жизненными невзгодами, как юный Будда, уви-
девший болезни, старость, страдания и смерть.
Шопенгауэр пришел к выводу, что такой мир не
мог быть создан полным вселенской любви Бо-
гом; скорее он был творением дьявола, создавшего
человека для того, чтобы наслаждаться зрелищем
его мучений.
Шопенгауэра отправили в Англию, в шко-
лу-интерпат Игл-Хаус в Уимблдоне, изучать ан-
глийский язык. В ответ на письмо, где он делился
своими впечатлениями, его друг Лоренц Мейер
писал, что сожалеет о той ненависти к англича-
нам как нации, которую вызвало у Шопенгауэра
пребывание в этой стране. Однако, несмотря на
ненависть, он в совершенстве овладел новым для
263
Ален де Боттон
Школа-интернат Игл-Хаус в Уимблдоне
него языком, его часто даже принимали за англи-
чанина.
Из Англии Шопенгауэр отправился в путеше-
ствие по Европе; во Франции он посетил Ним, где
за 1800 лет до этого римские инженеры создали
величественный акведук, обеспечивавший водой
фонтаны и термы города. Однако па Шопенгауэра
античные развалины не произвели впечатления;
они только навели его на мысли о тысячах давно
усопших людей.
Мать Шопенгауэра жаловалась на то, что ее
сын снедаем страстью к размышлениям о брен-
ности человеческой жизни...
264
Утешение философией
В 1809-1811 годах Шопенгауэр, став студен-
том Геттингенского университета, решил сделать-
ся философом: жизнь, по его мнению, печальна,
Шопенгауэр в юности
265
Ален де Боттон
а потому стоит провести ее в размышлениях о ее
сути.
Однажды во время увеселительной поездки в
деревню кто-то из приятелей Шопенгауэра пред-
ложил обзавестись подружками. Шопенгауэр от-
верг этот план на том основании, что жизнь слиш-
ком коротка, неопределенна и мимолетна, чтобы
стоило прилагать к чему-то усилия.
В 1813 году Шопенгауэр навестил в Веймаре
свою мать. Иоганна Шопенгауэр подружилась с
самым знаменитым жителем этого города, Иоган-
ном Вольфгангом фон Гёте, который часто посе-
щал ее дом и любил беседовать с Софи, горнич-
ной Иоганны, и Аделью, младшей сестрой Артура.
После первой встречи Шопенгауэр описывал Гёте
как спокойного, общительного, дружелюбного че-
ловека, к которому он проникся большой симпа-
тией.
Гёте нашел молодого Шопенгауэра странным,
но интересным молодым человеком; впрочем, он
никогда не разделял горячих чувств юноши и,
когда тот собрался уезжать, посвятил ему дву-
стишие:
Willst du dich des Lebens freuen,
So niusst der Welt du Werth verlelhen.
Жизнь радость дарует тому лишь, кто знает,
Что цену большую имеет наш мир.
266
Утешение философией
Совет не произвел впечатления па Шопенгауэ-
ра, и в своем дневнике к строкам Гёте он добавил
цитату из Шамфора1:
«Лучше принимать людей такими, каковы
они есть, чем видеть в них то, чем они не яв-
ляются».
В 1814-1815 годах Шопенгауэр, перебрав-
шись в Дрезден, написал диссертацию «О четве-
рояком корне закона достаточного основания».
У него было мало друзей, от бесед с ними он ни-
чего не ожидал; по его собственным словам, он
часто разговаривал с людьми так, как девочка
разговаривает со своей куклой: зная, что та ее не
понимает, но получая удовольствие от общения
благодаря сознательному самообману. Шопен-
гауэр сделался частым посетителем итальянской
таверны, где подавали его любимые блюда: вене-
цианскую салями, колбасу с трюфелями и парм-
скую ветчину.
В 1818 году он закончил книгу «Мир как воля
и представление». Шопенгауэр был уверен, что со-
здал шедевр, и этим объяснял отсутствие у себя
друзей: разве может гений быть общителен? Разве
возможен диалог, который был бы так же умен и
занимателен, как его собственные монологи?
'Шамфор, Ни кол а-Себастьен Рош(1741-
1794) — французский писатель. (Прим, ред.)
267
Ален де Бопипон
1818-1819. Чтобы отметить завершение сво-
его труда, Шопенгауэр отправился в путешествие
по Италии. Произведения искусства, природа и
климат страны вызвали у него восхищение, хотя
жизнерадостное настроение его оставалось хруп-
ким: он всегда помнил, что пет человека, который
не мог бы в любой момент ощутить настоятельное
желание положить конец своему существованию
с помощью шпаги или яда; если же кто-нибудь в
этом усомнится, разве не убедили бы его в справед-
ливости подобного взгляда внезапное несчастье,
болезнь, разорение — наконец, перемена погоды?
Шопенгауэр посетил Флоренцию, Рим, Неаполь,
Венецию; в гостиницах ему встречалось много
привлекательных женщин, и он признавался в
своем дневнике, что бывал очень увлечен ими —
но, увы, без взаимности. Неуспех у женщин нашел
отражение в мизантропическом обобщении:
«Низкорослый, узкоплечий, широкобе-
дрый пол мог назвать прекрасным только
отуманенный половым побуждением рассудок
мужчины»1.
Труд «Мир как воля и представление» был
опубликован в 1819 году; распродали всего 230
экземпляров. Данное обстоятельство лишь доказа-
1 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс,
Харьков: Фолио, 1999. Гл. «О женщинах». С. 630. Пере-
вод Ф. В. Черниговца.
268
Утешение философией
ло обоснованность пессимизма Шопенгауэра: ведь
история каждой жизни — это история страданий,
и не следует питать иллюзий, будто в обществе,
состоящем из змей и жаб, могут найтись равные
ему по интеллекту.
В 1820 году Шопенгауэр предпринял попыт-
ку сделать академическую карьеру в Берлинском
университете. Курс, который он собирался читать,
должен был касаться, как он объявил, философии
в целом, то есть сущности мира и человеческого
разума. На первую лекцию собралось всего пяте-
ро слушателей, а в соседнем здании на лекциях
соперника Шопенгауэра, Гегеля, присутствовало
по 300 студентов. Свое отношение к Гегелю и его
философии Шопенгауэр выражал так:
«Отвратительного, бездарного шарлатана и
автора беспримерных по своей нелепости писа-
ний, Гегеля, могли в Германии провозгласить
величайшим философом всех времен, и многие
тысячи неуклонно и твердо верили этому»1.
Неудача заставила Шопенгауэра разочаро-
ваться в преподавательской деятельности; он с
горечью отмечал, что серьезное отношение к фи-
лософии меньше всего проявляют те, кто берется
ей учить, как в наименьшей мере вера в догматы
христианства присуща папе римскому.
1 Шопенгауэр А. Мир как поля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 6. С. 164. Перевод М. И. Левиной.
269
Ален де Боттон
«Академии и философские кафедры рав-
ным образом также представляют вывеску,
внешний вид мудрости, но и она большей ча-
стью там отсутствует, и искать ее следует со-
вершенно в ином месте»1.
В 1821 году Шопенгауэр познакомился с Ка-
ролиной Медон, девятнадцатилетней певицей, и
влюбился в нее. Их отношения длились, с неко-
торыми перерывами, десять лет, однако желания
придать им официальный характер у Шопенгауэ-
ра не возникло. Он полагал, что вступить в брак —
значит сделать все возможное, чтобы начать ис-
пытывать взаимное отвращение. Ему, впрочем,
нравилась идея многоженства: он видел в нем
много преимуществ, среди прочих — возможность
менее тесного общения с родственниками жен, по-
скольку именно страх перед таковыми препятст-
вует заключению многих браков.
В 1822 году Шопенгауэр совершил второе пу-
тешествие по Италии, побывав в Милане, Флорен-
ции и Венеции. Прежде чем отправиться в путь,
он обратился к своему другу Фридриху Осанну
с просьбой следить, не появятся ли отклики на
книгу «Мир как воля и представление» в журна-
лах, литературных обзорах, книгах. На выполне-
* Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс.
Харьков: Фолио, 1999. Гл. 5. С. 554. Перевод Ф. В. Чер-
ниговца.
270
Утешение философией
ние этого задания Осанну потребовалось немного
времени...
1825. После неудачи в науке Шопенгауэр пред-
принял попытку заняться переводами, но предло-
жения перевести труды Канта на английский, а
«Тристрама Шенди» — на немецкий были откло-
нены издателями. В одном из писем Шопенгау-
эр меланхолично признавался в желании запять
какое-нибудь надежное положение в буржуазном
обществе, однако это ему не удалось. Другому сво-
ему адресату Шопенгауэр писал, что не хотел бы
быть тем Богом, который создал этот мир: челове-
ческие страдания и отчаяние должны были бы раз-
бить сердце Творца. К счастью, в самые тяжелые
моменты на помощь ему приходило понимание
собственной значимости: разве в повседневных
делах его дух, его ум не то же самое, что телескоп
вместо театрального бинокля в опере или пушка в
качестве двустволки при охоте на зайцев?
В 1828 году Шопенгауэру исполнилось сорок.
«Ни один хоть сколько-нибудь выдающий-
ся человек, не принадлежащий к э/6 столь
скудно одаренного природой человечества, не
может остаться после сорока лет свободным от
некоторого мизантропического налета»1.
1 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Ка-
лининград: Янтарный сказ, 2001. Гл. 6. С. 192. Перевод
Н. М. Губского.
271
Ален де Боттон
1831. Живя в Берлине, сорокатрехлетний
Шопенгауэр начал подумывать о женитьбе. Его
внимание привлекла Флора Вейс, красивая жи-
вая девушка, которой только что исполнилось
семнадцать. Отправившись на лодочную прогул-
ку, Шопенгауэр, в попытке очаровать девушку, с
улыбкой предложил ей гроздь белого винограда.
Флора признавалась в своем дневнике: «Я не хо-
тела винограда. Мне было противно, что старый
Шопенгауэр прикасался к нему, так что я неза-
метно бросила кисть в воду». Новая неудача, и
Шопенгауэр поспешно покидает Берлин.
«В свете почти нет иного выбора, как меж-
ду одиночеством и пошлостью»1.
В 1833 году он поселился во Франкфурте-
на-Майне, городе с 50 000 жителей. По мнению
Шопенгауэра, этот финансовый центр континен-
тальной Европы был маленьким, душным, само-
довольным городком, с надутыми провинциалами
в качестве населения, с которыми не хотелось бы
иметь никаких дел.
Теперь самыми близкими Шопенгауэру суще-
ствами стали пудели, по его мнению животные,
полные мягкости и кротости, не присущих людям.
’ Там же. М.: Эксмо-пресс, Харьков: Фолио, 1999.
Гл. «О том, каков человек сам по себе». С. 480. Перевод
Ф. В. Черниговца.
272
Утешение философией
Шопенгауэру достаточно было одного взгляда на
кого-нибудь из четвероногих друзей, чтобы ис-
пытать удовольствие и сердечную радость. Своих
пуделей он обожал, обращался к ним почтительно,
чрезвычайно заботился об их благополучии. Его
возмущало, когда собаку — умного, преданного,
истинного друга человека — сажали на цепь: Шо-
пенгауэр всегда в таких случаях испытывал глу-
бочайшую симпатию к собаке и столь же глубокое
возмущение ее хозяином. Он искренне желал, что-
бы со всяким, кто так обращается с благородным
животным, случилось то же, что с английским
лордом, о котором он прочитал в «Таймс»: тот при-
казал посадить пса па цепь, а когда попытался его
погладить, был искусан.
Философ строго следовал заведенному распо-
рядку дня. По утрам в течение трех часов он пи-
сал, час играл произведения Россини на флейте,
затем надевал смокинг и отправлялся обедать в
Инглишер-Хоф или на Россмаркте. Заткнув за во-
ротник огромную белую салфетку, он принимался
удовлетворять свой ненасытный аппетит. Во вре-
мя еды Шопенгауэр отказывался замечать других
посетителей ресторана, но за кофе иногда вступал
b беседу. Один из таких случайных собеседников
описывал его как комически раздражительного,
но на самом деле безвредного и добродушного
ворчуна.
273
Ален де Боттон
Еще один знакомый рассказывал, что Шопен-
гауэр часто хвастался прекрасным состоянием
своих зубов, видя в этом доказательство превос-
ходства над другими людьми, которых он называл
«обыкновенными двуногими».
После обеда Шопенгауэр удалялся в библио-
теку своего клуба «Казино Сосайети», располо-
женного неподалеку, где читал «Таймс» — газету,
наилучшим образом, по его мнению, информиро-
вавшую его о несчастьях мира. Во второй полови-
не дня он совершал двухчасовую прогулку со сво-
ей собакой по берегу Майна, что-то бормоча себе
под нос. Вечера Шопенгауэр проводил в опере или
драматическом театре, где его часто раздражали
зрители, входившие в зал после начала спектакля,
кашлявшие или шаркавшие ногами, так что фи-
274
Утешение философией
лософ неоднократно обращался к властям, требуя
принять против них строгие меры. Хотя Шопен-
гауэр читал труды Сенеки и восхищался стоиком,
он не соглашался со взглядами того на шум:
«Я в самом деле уже давно пришел к убе-
ждению, что количество шума, которое чело-
век способен спокойно переносить, обратно
пропорционально его духовным способностям
и поэтому может служить их приблизительной
мерой. Поэтому, когда я слышу во дворе како-
го-нибудь дома беспрерывный лай собак, мне
уже ясно, каковы духовные способности тех,
кто в этом доме живет. Тот, кто привык хлопать
дверьми, вместо того чтобы тихо закрывать их,
или допускает это в своем доме, — не только
невоспитанный, но грубый и ограниченный
человек... Цивилизованными мы сможем счи-
таться только тогда, когда охраняться будет и
слух и не будет позволено прерывать сознание
каждого мыслящего существа на тысячу шагов
в окружности свистом, воем, ревом, стуком мо-
лотка, хлопаньем бича, собачьим лаем»1.
В 1840 году у Шопенгауэра появилась новая
белая собака, которой он дал имя Атма — в честь
мировой души, как ее называют в брахманизме.
Философа привлекали восточные религии вооб-
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 3. С. 133. Перевод М. И. Левиной.
275
Ален де Боттон
ще и брахманизм в особенности, и каждый вечер
он прочитывал несколько страниц «Упанишад».
По его мнению, брамины были «благороднейшим
и древнейшим народом»1; Шопенгауэр пригрозил
увольнением Маргарете Шнепп, своей уборщи-
це, за то, что та нарушила приказание не стирать
пыль с фигуры Будды в кабинете философа.
Шопенгауэр все больше времени проводил
в одиночестве. Это тревожило его мать, которая
писала сыну: «Два месяца в своей комнате, не
видя ни единой живой души! Это очень плохо,
сын мой, и печалит меня: человек не может и не
должен подобным образом замыкаться». Шопен-
гауэр начал подолгу спать днем, объясняя это тем,
что, будь жизнь и существование приятны, люди
неохотно впадали бы в бессознательное состояние
и радовались бы пробуждению, однако на самом
деле все охотно засыпают и неохотно пробужда-
ются. Шопенгауэр оправдывал свою сонливость,
сравнивая себя с двумя самыми ценимыми им
мыслителями:
«Люди тем больше нуждаются в сне, чем
более развит по своему количеству и качеству
и чем деятельнее их мозг. Монтень рассказы-
вает, что всегда много спал, проспал большую
часть своей жизни и даже в старости спал,
1 Там же. Т. 1. М.: Наука, 1993. Кн. 4. С. 63. Перевод
М. И. Левиной.
276
Утешение философией.
не просыпаясь, от восьми до десяти часов.
О Декарте также нам сообщают, что он много
спал»*.
В 1843 году Шопенгауэр переехал на другую
квартиру, в доме 17 по Шёп Ауссихт (в переводе:
«Прелестный вид»), ближе к центру города и реке.
На этой улице ему предстояло прожить до кон-
ца жизни, хотя в 1859 году оп переехал в дом 16,
поссорившись из-за собаки с хозяином прежней
квартиры.
В 1844 году Шопенгауэр опубликовал второе
издание своего главного сочинения, добавив к
нему еще один том. В предисловии он писал:
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 19. С 303. Перевод М. И. Левиной.
277
Ален де Боттон
«Не современникам, не соотечественни-
кам — человечеству передаю я мой ныне
законченный труд в уповании, что он не бу-
дет для него бесполезен, пусть даже призна-
ние его придет поздно — такова участь всего
достойного»1.
Было продано меньше 300 экземпляров книги.
«Несчастье умственных заслуг заключается
в том, что им приходится дожидаться, чтобы
хорошее похвалили те, которые сами произ-
водят одно только дурное... Поэтому каждому
должны прежде и больше всего нравиться его
собственные произведения, потому что они —
только зеркальное отражение его собственного
духа и эхо его мыслей»1 2.
В 1850 году Атма сдохла, и Шопенгауэр ку-
пил коричневого пуделя по кличке Бутц, который
стал его любимцем. Когда мимо дома проходил
полковой духовой оркестр, Шопенгауэр преры-
вал разговор, вставал и придвигал к окну стул,
чтобы Бутц мог полюбоваться этим зрелищем.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М.:
Наука, 1993. Предисловие ко второму изданию. Перевод
М. И. Левиной.
2 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс,
Харьков: Фолио, 1999. Гл. «О критике, суждении, одобре-
нии и славе». С. 482, 486. Перевод Ф. В. Черниговца.
278
Утешение философией
Окрестная детвора называла нуделя «молодым
Шопенгауэром».
В 1851 году Шопенгауэр издал сборник эссе
и афоризмов под названием «Парерга и Парали-
помена». К удивлению автора, книга стала бес-
тселлером.
К 1853 году слава Шопенгауэра («комедия
славы», как называл это он сам) распространи-
лась по всей Европе. В университетах Бонна,
Бреслау и Йены появились курсы лекций по
философии Шопенгауэра. Поклонники начали
засыпать его письмами. Какая-то женщина из
Силезии прислала ему длинную прочувствован-
ную поэму. Некий житель Богемии сообщил, что
каждый день украшает цветами портрет филосо-
фа. Отклик Шопенгауэра был довольно кислым:
не думают ли почитатели, что после целой жизни,
проведенной в безвестности, триумфальные трубы
что-то значат? — однако в нем звучало и удов-
летворение. Шопенгауэр не преминул отметить,
что ни один великий ум не смог бы достичь сво-
ей цели и создать бессмертное творение, если бы
видел путеводную звезду в пляшущем болотном
огоньке общественного мнения, мнения мелких
душ. Тем не менее увлеченные философией жите-
ли Франкфурта стали в знак признания покупать
пуделей. Слава подарила Шопенгауэру внимание
женщин, и его взгляды несколько смягчились.
Если раньше он считал, что «женщины уже по-
тому склонны (приспособлены) к пестованию и
279
Ален де Боттон
воспитанию нашего первого детства, что они сами
ребячливы, вздорны и близоруки, одним словом,
всю жизнь представляют из себя больших детей»1,
то теперь стал видеть в них бескорыстие и прони-
цательность.
В 1859 году привлекательная художница и по-
читательница философии Шопенгауэра Элизабет
Ней (родственница наполеоновского маршала)
приехала во Франкфурт и провела месяц в его
квартире, создавая бюст философа.
Шопенгауэр писал, что она работала целыми
днями и, когда он возвращался с обеда, они вме-
сте пили кофе и сидели на диване; Шопенгауэр
чувствовал себя так, будто женат.
1 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс,
Харьков: Фолио, 1999. Гл. «О женщинах». С. 626. Перевод Ф.
В. Черниговца.
280
Утешение философией
В 1860 году здоровье Шопенгауэра стало ухуд-
шаться, и стало ясно, что конец близок. Филосо-
фа не пугало, что скоро его тело станет добычей
червей, но перспектива того, что университетские
профессора примутся грызть его философию, за-
ставляла Шопенгауэра трепетать. В конце сентя-
бря, после прогулки у реки, он стал жаловаться
на одышку и умер, все еще убежденный, что че-
ловеческое существование, должно быть, ошибка.
* * *
Такова была жизнь философа, чье учение мо-
жет предложить человеческому сердцу ни с чем
не сравнимую помощь.
2
Современная история любви
с примечаниями Шопенгауэра
Теплым весенним днем в поезде Эдинбург —
Лондон пытается работать мужчина.
281
Ален де Боттон
На столе перед ним разложены бумаги и де-
ловой блокнот, на подлокотнике — открытая
книга. Однако, начиная с остановки в Ньюкасле,
когда напротив него села женщина, мысли его
утратили связность. Равнодушно глянув в окно,
женщина стала просматривать журналы. После
Дарлингтона ее внимание сосредоточилось на
«Вог». Женщина напоминает своему попутчику
портрет госпожи Хёэй-Гулльдберг работы Кри-
стен Кёбке (хотя ни одно из этих имен ему на
ум не приходит), который он видел несколько лет
назад в одном из музеев в Дании и который стран-
но поразил его и опечалил.
В отличие от госпожи Хёэй-Гулльдберг, у жен-
щины в поезде волосы короткие и темные, на ней
джинсы, кроссовки и ярко-желтый пуловер поверх
майки. На светлой коже покрытого веснушками
282
Утешение философией
запястья выделяются несуразно большие спор-
тивного стиля часы. Мужчина представляет
себе, как его рука могла бы коснуться каштано-
вых волос, ласково скользнуть по шее, нырнуть в
рукав пуловера; он мог бы смотреть, как женщи-
на, слегка приоткрыв рот, засыпает с ним рядом.
Он думает о том, что они могли бы жить в доме
на обсаженной вишнями улице где-нибудь в южной
части Лондона, и гадает, кем могла бы оказаться
его подруга — скрипачкой, или художественным
редактором, или врачом, ведущим генетические
исследования. Мужчина начинает перебирать
возможные предлоги для начала разговора. Он ду-
мает, не спросить ли попутчицу, который час,
не попросить ли у нее карандаш, не поинтересо-
ваться ли, где находится туалет; а может быть,
заговорить о погоде или содержании одного из ее
журналов?Мужчина начинает мечтать о том,
чтобы поезд потерпел крушение: их вагон швыр-
нуло бы на одно из тех засеянных ячменем полей,
мимо которых они проезжают. В начавшейся па-
нике он благополучно отвел бы ее к установленной
службой спасения палатке, где они могли бы пить
чуть теплый чай и смотреть друг другу в глаза.
Многие году Спустя они поражали бы собеседни-
ков рассказом о том, как познакомились во время
знаменитого трагического крушения эдинбургско-
го экспресса. Однако, поскольку поезд не выказы-
вает намерения сойти с рельсов, да и мужчина
понимает, что мечты его мальчишеские и абсур-
283
Ален де Боттон
дные, ему ничего не остается, как откашляться
и спросить у ангела на соседнем сиденье, не может
ли она одолжить шариковую ручку. Ощущения при
этом у него такие, словно он прыгает с высокого
моста.
1. По традиции философы не стали бы уделять
внимания подобному сюжету: любовные не-
взгоды всегда рассматривались как слишком
ребяческие, чтобы посвящать им исследова-
ния, и вся эта область предоставлялась ис-
ключительно поэтам и истеричным юнцам.
Не подобает философам размышлять на
темы прикосновений дрожащей руки или
надушенного письма. Подобное пренебре-
жение озадачивало Шопенгауэра.
«Удивляться следует не тому, что философ
обратился к этой теме, постоянно занимающей
всех поэтов, а тому, что вопрос, который иг-
рает такую значительную роль в человеческой
жизни, до сих пор, собственно, не привлекал
внимания философов и оказался совершенно
неразработанным»1.
Невнимание, по-видимому, являлось ре-
зультатом напыщенного отрицания той сто-
роны жизни, которая разрушает представ-
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Паука, 1993. Гл. 44. С. 533. Перевод М. И. Левиной.
284
Утешение философией
ление человека о себе как о рациональном
существе. Шопенгауэр настаивал на рас-
смотрении реальности, пусть она и не была
привлекательной:
«Половая любовь... служит конечной це-
лью едва ли не всех человеческих устремлений,
оказывает вредное влияние на важнейшие
дела, ежечасно прерывает самые серьезные
занятия, иногда приводит на некоторое вре-
мя в смятение самые глубокие умы, не оста-
навливается перед тем, чтобы вмешиваться со
своей мишурой в совещания государственных
мужей и исследования ученых, способна вкла-
дывать своп любовные записочки и локоны
даже в министерские портфели и философские
рукописи»1.
2. Подобно гасконскому мыслителю, родив-
шемуся за 255 лет до него, Шопенгауэр
интересовался тем, что делает человека —
предположительно самого разумного из жи-
вых существ — весьма неразумным. В его
кабинете в доме на Шён Ауссихт имелись
труды Монтеня. Шопенгауэр читал о том,
как разум может быть посрамлен бурчани-
ем в животе, слишком плотным обедом или
вросшим ногтем, и соглашался со взгляда-
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 534. Перевод М. И. Левиной.
285
Ален де Боттон
ми Монтеня, полагавшего, что наш рассудок
подчиняется телу, несмотря на высокомер-
ную веру в обратное.
3. Однако Шопенгауэр пошел дальше Монте-
ня. Не ограничиваясь случайными приме-
рами посрамления разума, он дал название
силе внутри нас, которая, по его мнению,
неизменно превозмогает доводы рассудка,
достаточно могущественной, чтобы разру-
шить все планы и суждения разума; он на-
звал ее волей к жизни (Willezum Leben) и
определил как врожденное стремление че-
ловека выжить и оставить потомство. Воля
к жизни заставляет даже убежденных пес-
симистов бороться за выживание в случае
кораблекрушения или серьезной болезни.
Именно она вынуждает самых рассудочных,
думающих только о карьере индивидов та-
ять при виде лепечущего младенца; даже
если сначала, обзаведясь потомством, им
удается остаться равнодушными, потом они
превращаются в любящих родителей. Воля к
жизни ответственна за то, что человек ведет
себя безрассудно, заметив привлекательную
попутчицу в поезде дальнего следования.
4. Шопенгауэр, несомненно, испытывал отвра-
щение к тем глупостям, совершать которые
человека заставляет любовь (не так-то лег-
286
Утешение философией
ко предлагать виноград легкомысленным
школьницам), однако не считал их непро-
порциональными или случайными. Они, на
его взгляд, были вполне соразмерны фун-
кции любви:
«К чему весь этот шум, к чему стремление,
неистовство, страх и страдание?.. Почему же
такой пустяк играет столь важную роль и не-
престанно привносит помехи и смуту в упоря-
доченную жизнь людей?.. То, о чем здесь идет
речь, совсем не мелочь; напротив, важность
этого вопроса полностью соответствует серьез-
ности и рвению, которые ему сопутствуют»1.
Так какова же цель? Ею не является ни
общение, ни удовлетворение сексуальных
желаний, ни взаимопонимание, ни развле-
чение. Романтика занимает главное место в
жизни по другой причине.
«Конечная цель... действительно важнее
всех других целей человеческой жизни и по-
этому вполне достойна той глубокой серьез-
ности, с которой каждый относится к ней. То,
что здесь решается, — не что иное, как состав
следующего поколения»1 2.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 534. Перевод М. И. Левиной.
2 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 534. Перевод М. И. Левиной.
287
Ален де Боттон
Именно из-за того, что любовь с такой
силой заставляет нас выполнять второй из
приказов воли к жизни, Шопенгауэр считал
ее самым неизбежным и объяснимым из ви-
дов человеческой одержимости.
5. Тот факт, что мы редко думаем о сохранении
человека как вида, когда просим незнаком-
ку назвать нам номер своего телефона, не
опровергает теорию. Человеческая личность,
считал Шопенгауэр, делится на сознатель-
ное п бессознательное; бессознательным
управляет воля к жизни, а сознательное
подчиняется бессознательному и не в си-
лах узнать обо всех намерениях последне-
го. Сознание вовсе не является сувереном;
оно, скорее, частично проинформированный
слуга властной, одержимой стремлением к
продолжению рода воли к жизни.
288
Утешение философией
«В секретную мастерскую ее [воли] он [ин-
теллект] не проникает. Он, правда, доверенное
лицо воли, но доверенное лицо, которое не все
знает»1.
Интеллекту дозволяется понимать толь-
ко то, что необходимо для успешного про-
должения рода, а это часто значит, что по-
нимает он очень мало:
«Интеллект... устранен от действитель-
ных решений и тайных замыслов собствен-
ной воли»1 2.
Это обстоятельство объясняет, почему
мы, сознательно испытывая лишь настоя-
тельное желание снова увидеться с кем-то,
бессознательно направляемы силой, цель
которой — рождение следующего поко-
ления.
Почему подобный обман необходим? При-
чина, по Шопенгауэру, кроется в том, что нет
гарантии нашего добровольного согласия на
продолжение рода, если только мы сначала
не лишимся рассудка.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 19. С. 276. Перевод М. И. Левиной.
2 Там же. С. 274.
289
Ален де Боттон
6. Такой анализ наверняка идет вразрез с
собственным представлением о себе как о
разумном существе, но по крайней мере он
опровергает мнение, будто романтическая
любовь — отвлечение от более серьезных
дел, которого можно избежать, будто она
простительна лишь юнцам, у которых хвата-
ет свободного времени на то, чтобы вздыхать
при луне и всхлипывать под одеялом, будто
для серьезных взрослых нет необходимости
пренебрегать делами только потому, что в
поезде они заметили чье-то лицо. Благода-
ря восприятию любви как биологической
неизбежности, как решающего фактора в
сохранении вида созданная Шопенгауэром
теория воли к жизни позволяет нам отно-
ситься более снисходительно к собственному
эксцентричному поведению, на которое так
часто толкает нас любовь.
За столом у окна в греческом ресторане на се-
вере Лондона сидят мужчина и женщина. Между
ними стоит блюдо с маслинами, но, поскольку ни
один из них не представляет, как с изяществом
вынимать из маслин косточки, блюдо остается
нетронутым.
290
Утешение философией
В поезде у женщины не оказалось с собой ша-
риковой ручки, и она предложила попутчику ка-
рандаш. Помолчав немного, она заговорила о том,
как ненавидит долгие поездки по железной дороге,
и это замечание послужило тем поощрением, в
котором нуждался мужчина. Женщина оказалась
не скрипачкой и не художественным редактором,
а юристом, специализирующимся в корпоратив-
ном праве. Она родилась в Ньюкасле, но последние
восемь лет прожила в Лондоне. К тому времени,
когда поезд прибыл в Юстон, мужчине удалось уз-
нать телефон попутчицы и получить ее согласие
на то, чтобы вместе пообедать.
К паре за столом подходит официант, что-
бы принять заказ. Женщина выбирает салат и
жареную рыбу.
291
Ален де Боттон
Она пришла прямо с работы и одета в светло-
серый костюм; на руке у нее те же часы, которые
мужчина заметил раньше.
Между обедающими начинается разговор.
Женщина говорит, что ее любимое занятие в сво-
бодное время — альпинизм. Она увлеклась им еще
в школе и уже успела побывать в экспедициях во
Франции, Испании и Канаде. Она описывает за-
хватывающие ощущения, когда висишь в сотнях
футов над подножием обрыва, рассказывает о но-
чевках высоко в горах, где к утру внутри палат-
ки вырастают сосульки. Ее компаньон думает о
том, что у него кружится голова, стоит выгля-
нуть из окна третьего этажа. Другая страсть
женщины — танцы, она обожает чувство бью-
щей через край энергии и свободы. Когда удается,
она проводит на дискотеке всю ночь. Мужчина
предпочитает ложиться не позднее половины
двенадцатого. Разговор переходит на ее работу.
Женщина выступает в суде по делу о нарушении
патентных прав. Дизайнер посуды из Франкфур-
та обвинил британскую компанию в нарушении
292
Утешение философией
его авторских прав. Компания может быть при-
знана виновной на основании параграфа 60.1 при-
нятого в 1977 году закона о патентовании.
Мужчина мало что улавливает из длинного
рассказа о завтрашних слушаниях, но убеждается
в высоком интеллекте своей спутницы и в том,
что они очень подходят друг другу.
1. Одна из самых загадочных тайн любви — это
«почему он?» и «почему она?». Почему мы
так сильно желаем общества именно этого
человека, хотя существуют и другие канди-
датуры, почему он становится нам так дорог,
хотя разговор с ним за обеденным столом не
особенно увлекателен, а привычки сильно
отличаются от наших собственных? И по-
чему, несмотря на имевшееся намерение,
нам не удалось вызвать в себе сексуальный
интерес к другим кандидатурам, объективно
не менее привлекательным и более подхо-
дящим?
2. Такая избирательность пе удивляла Шопен-
гауэра. Не в нашей воле влюбиться в кого-
нибудь, потому что не с любым избранником
мы сможем произвести па свет здоровое по-
томство. Воля к жизни толкает нас к тому
человеку, близость с которым повышает
шансы на появление умных и красивых
отпрысков, и отвращает от тех, с кем эти
шансы оказались бы ниже. Любовь — не что
293
Ален де Боттон
иное, как осознанный нами результат того,
что воля к жизни выбрала идеальную для
нас в смысле родительских качеств пару.
«Возникновением нового индивида и под-
линным punctum saliens [поворотным пун-
ктом] его жизни следует считать тот момент,
когда его родители начинают любить друг дру-
га, — to fancy each other, по меткому выраже-
нию англичан»1.
При первых встречах, за ничего не зна-
чащей болтовней бессознательное обоих
участников оценивает, появится ли в случае
брачного союза здоровое потомство.
«В той глубокой бессознательной серьез-
ности, с которой два молодых человека раз-
личного пола разглядывают друг друга при
первой встрече, заключено нечто совершен-
но своеобразное, оно проявляется в пытли-
вых и проникновенных взглядах, которые
они бросают друг на друга, в тщательном
осмотре, которому подвергаются взаимно
их черты и свойства. Это изучение и испы-
тание представляют собой медитацию гения
рода о возможном создании ими индивида и
о комбинации его свойств»1 2.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 537. Перевод М. И. Левиной.
2 Там же. С. 548.
294
Утешение философией
3. И чего же воля к жизни ищет при такой
оценке? Знаков сколь можно более значи-
тельных шансов появления здоровых де-
тей. Воля к жизни должна позаботиться о
том, чтобы следующее поколение оказалось
психологически и физиологически приспо-
соблено к выживанию в полном опасностей
мире, поэтому дети должны быть пропор-
ционально сложены (быть не слишком вы-
сокими / низкими / толстыми / худыми) и
обладать устойчивой психикой (без затормо-
женности и безрассудства, бесчувственности
и излишней эмоциональности).
Поскольку паши предки совершали
ошибки в выборе партнеров, мы сами едва
ли можем рассчитывать на идеальную фи-
зическую и духовную уравновешенность.
Мы зачастую оказываемся слишком высо-
кими, слишком муже- или женоподобны-
ми; носы у нас бывают излишне велики, а
подбородки — малы. Если бы таким край-
ностям было позволено сохраняться или
даже усиливаться, человеческий род скоро
выродился бы в сообщество весьма стран-
ных индивидов.
Поэтому воля к жизни должна подталкивать
нас к тем представителям противоположного
пола, чьи несовершенства могли бы нейтрализо-
вать наши собственные (большой пос одного из
295
Ален де Боттон
родителей и нос-пуговка другого могут дать про-
порциональный нос у потомства) и тем самым
поспособствовать восстановлению физиологиче-
ского и психологического баланса в следующем
поколении.
«Каждый человек стремится устранить с
помощью другого свои слабости, недостатки
и отклонения от родового типа, чтобы они не
продолжали жить в ребенке, который будет ро-
жден, или не превратились бы в нем в полную
аномалию»1.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 546. Перевод М. И. Левиной.
296
Утешение философией
Теория нейтрализации позволила Шопенга-
уэру с уверенностью предсказывать, какой путь
изберет взаимное влечение. Маленькие женщины
будут влюбляться в высоких мужчин, но высокие
женщины и мужчины редко будут находить друг
друга привлекательными (подсознательно опаса-,
ясь породить гигантов). Женоподобных мужчин,
не любящих занятий спортом, будет тянуть к по-
хожим на мальчиков девушкам с короткими во-
лосами (и с большими спортивного стиля часами
на запястьях).
«Для взаимной нейтрализации двух ин-
дивидуальностей... таким образом, необходи-
мо, чтобы определенная степень его мужских
свойств соответствовала определенной степе-
ни ее женских свойств и обе односторонности
снимали друг друга»1.
4. К несчастью, эта теория привела Шопен-
гауэра к выводу настолько мрачному, что,
возможно, читателям, собирающимся всту-
пить в брак, лучше пропустить следующий
раздел, дабы не передумать: вывод заключа-
ется в том, что индивид, в наибольшей мере
подходящий для того, чтобы стать родите-
лем нашего ребенка, почти никогда (хотя мы
этого в момент выбора не осознаем, будучи
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 545. Перевод М. И. Левиной.
297
Ален де Боттон
ослеплены волей к жизни) не подходит ьщм
лично. Соединение соображений расчета и
страстной любви — очень редкий случай,
отмечал Шопенгауэр. Возлюбленный, бла-
годаря которому у нашего ребенка не будет
тяжелого подбородка или вялого темпера-
мента, редко оказывается тем, кто составит
счастье всей нашей жизни. Стремление к
личному счастью и желание иметь здоро-
вых детей диаметрально противоположны,
и любовь предательски заставляет нас их
отождествлять на протяжении требующего-
ся для продолжения рода числа лет. Не сле-
дует удивляться тому, что в брак вступают
люди, которые никогда не могли бы стать
друзьями.
«Любовь понуждает к противоречию от-
нюдь не только с внешними условиями, но
и с собственной индивидуальностью, так как
обращается на тех, кто вне половых отноше-
ний возбуждал бы у него [влюбленного] не-
приязнь, презрение, даже отвращение. Однако
воля рода настолько сильнее воли индивида,
что заставляет его закрывать глаза на все эти
противные ему свойства; он ничего не заме-
чает, ничего не сознает и навек соединяется с
предметом своей любви; так ослепляет его эта
иллюзия, которая, как только воля рода удов-
летворена, исчезает, оставляя ненавистную
298
Утешение философией
спутницу жизни. Только этим и можно объя-
снить, что умные, даже выдающиеся мужчины
соединяют свою жизнь с какими-то драконами
и дьяволицами, и мы не можем понять, как
они могли совершить подобный выбор... Влю-
бленный может даже ясно видеть и с горечью
ощущать, какую несчастную жизнь сулят ему
невыносимые недостатки темперамента и ха-
рактера его невесты, и все-таки не отступить-
ся... Ведь, в сущности, он действует не в своих
интересах, а в интересах некоего третьего, ко-
торый еще только должен возникнуть, — хотя
и подвластен иллюзии, что действует в своих
интересах»1.
Согласно теории Шопенгауэра, то обстоятель-
ство, что воля к жизни стремится к достижению
собственных целей, а не обеспечению нашего
счастья, особенно ясно доказывают вялость и пе-
чаль, которые часто испытывают пары сразу после
близости: разве не смеется дьявол после каждого
совокупления?
Итак, в один прекрасный день женщина, по-
хожая на мальчика, и женственный мужчина
окажутся перед алтарем по причинам, о которых
ни они сами, ни окружающие (за исключением
немногих гостей на свадьбе, знакомых с трудами
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 553. Перевод М. И. Левиной.
299
Ален де Боттон
Шопенгауэра) не догадываются. Только через не-
сколько лет, когда требования воли к жизни будут
выполнены и по двору дома в пригороде начнет
гонять мяч крепкий мальчуган, обман раскроется.
Супруги расстанутся или будут проводить дни во
враждебном молчании. Шопенгауэр предоставил
нам выбор:
«Создается впечатление, что при заключе-
нии брака приходится жертвовать либо ин-
тересами индивида, либо интересами рода»1,
хотя и показал, что едва ли можно сомневаться
в великолепном умении вида обеспечить свои
интересы — «посредство,м их [браков по люб-
ви] забота о будущих поколениях осуществля-
ется ценой настоящего»1 2.
Расплатившись за обед, мужчина с деланым
равнодушием спрашивает, не хочет ли его спут-
ница побывать в его квартире, а заодно и выпить
по коктейлю. Женщина с улыбкой опускает глаза.
Под столом ее пальцы теребят бумажную сал-
фетку.
— Это было бы замечательно, честное сло-
во, — говорит она, — но завтра мне очень рано
вставать — я лечу во Франкфурт по тому делу
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 556. Перевод М. И. Левиной.
2 Там же. С. 555.
300
Утешение философией
насчет авторских прав. Самолет отправляется
в пять тридцать, если не раньше. Как-нибудь в
другой раз. Я бы с удовольствием... — Еще одна
улыбка. Салфетка рвется, не выдержав нагрузки.
Огорчение мужчины несколько смягчается ее
обещанием позвонить из Германии и встретиться
еще раз, сразу же по возвращении. Однако на сле-
дующий день звонок раздается только поздно вече-
ром. Она звонит из телефонной будки в аэропорту
Франкфурта. Слышен гул толпы и металличе-
ский голос, объявляющий о посадке на рейс в Каир.
Женщина говорит, что через окно видны огромные
самолеты, а вообще аэропорт похож на ад, что
проклятая «Люфтганза» отложила ее рейс, что
она попытается купить билет на самолет другой
компании, поскольку не может ждать.
301
Ален де Боттон
После паузы мужчина слышит слова, подтвер-
ждающие его худшие опасения. В настоящий мо-
мент в ее жизни все несколько запуталось, она
сама точно не знает, чего хочет. Ей ясно одно:
она нуждается в свободе и во времени, чтобы все
обдумать, а потому, если он не возражает, она
сама позвонит ему, когда придет к какому-то
решению.
Объяснение, которое дает философ тому, по-
чему мы влюбляемся, может показаться не очень
обнадеживающим, однако оно содержит и уте-
шение на случай отказа: это утешение состоит
в понимании того, что испытываемая нами боль
вполне нормальна. Не следует удивляться горечи
разочарования, последовавшего после всего лишь
нескольких дней надежды. Нельзя ожидать, что
сила, достаточно могучая, чтобы толкнуть нас на
поступки, следствием которых могло бы быть по-
явление детей, не достигнув своей цели, исчезнет
безболезненно. Любовь ни за что не заставила бы
нас взять на себя обузу, связанную с продолжени-
ем рода, если бы не сулила величайшего счастья.
Удивляться тому, почему отказ так болезней —
значит забыть о том, что обещало согласие. Мы не
должны позволять нашим страданиям отягощать-
ся мыслью о том, что в столь глубоком отчаянии
есть нечто странное. Странно было бы, если бы мы
его не испытывали.
302
Утешение (философией
2. Более того, не следует думать, будто отказ до-
казывает, что мы недостойны любви. С нами
per se1 все в порядке: характер не вызывает
настороженности, облик достаточно привле-
кателен. Намечавшийся союз распался пото-
му, что с данным конкретным человеком мы
не могли бы произвести на свет потомство
необходимого качества. Нет никаких при-
чин ненавидеть себя. В один прекрасный
день мы повстречаем кого-то, кто оценит
нас чрезвычайно высоко и будет чувствовать
себя в нашем обществе естественно и легко
(поскольку наши подбородки своей формой
составят с точки зрения воли к жизни жела-
тельную комбинацию).
3. Со временем нам следовало бы научиться
прощать тех, кто нас отверг. Разрыв не был
их выбором. Каждая неловкая попытка од-
ного человека сообщить другому о том, что
ему требуется время на размышления, что
он не готов к определенному решению или
побаивается близости, есть попытка раци-
онально объяснить неосознанное отрица-
тельное решение, которое приняла воля к
жизни. Наш партнер может отдавать дол-
жное нашим качествам, но воля к жизни
имеет другое мнение и заявляет о нем так,
Самими (лат.). (Прим, ред.)
303
Ален де Боттон
что спорить невозможно, — лишив его сек-
суального интереса к нам. Если впоследст-
вии наш гипотетический партнер не устоит
перед кем-то, кто явно глупее нас, не следу-
ет обвинять его в легкомыслии. Мы должны
помнить о том, что писал Шопенгауэр:
«Брак заключается не для глубокомыслен-
ных разговоров, а для рождения детей»1.
4. Нам следовало бы с покорностью воспри-
нимать запрет, налагаемый природой на
продолжение рода в случае каждого отказа,
как мы могли бы отнестись к удару молнии
или потоку лавы — явлению ужасному, но
несоизмеримо превосходящему наши силы.
Мы могли бы найти утешение в мысли о том,
что отсутствие любви,
«испытываемое мужчиной и девушкой,
указывает па то, что создать они могут лишь
дурно организованное, лишенное внутрен-
ней гармонии, несчастное существо»1 2.
Мы, может быть, и были бы счастливы
с тем, кого полюбили, но природа не была
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 44. С. 544. Перевод М. И. Левиной.
2 Там же. С. 536.
304
Утешение философией
бы довольна, а это достаточная причина для
того, чтобы отказаться от облачных замков.
На некоторое время мужчина погружается в
меланхолию. В воскресный день он отправляется
на прогулку в парк Баттерси. Сев на скамью, от-
куда открывается вид на Темзу, он начинает ли-
стать книгу, которая у него с собой: «Страдания
юного Вертера» Гёте, впервые опубликованную в
1774 году в Лейпциге.
В парке гуляют молодые родители; у одних
малыши еще в колясках, другие держат детей за
руку. Маленькая девочка в голубом платьице, пе-
ремазанная шоколадом, показывает на самолет,
заходящий на посадку в аэропорту Хитроу.
305
Ален де Боттон
— Папочка, там Бог? — спрашивает она, одна-
ко папочка не в настроении и бурчит: «Не знаю»,
будто его спросили, как пройти на такую-то улицу.
Четырехлетний мальчуган на трехколесном
велосипеде въезжает в куст и с ревом зовет маму,
которая только что, закрыв глаза, растянулась
па коврике, расстеленном на вытоптанной траве.
Женщина требует, чтобы отпрыском занялся су-
пруг. Тот ворчливо отвечает, что ее очередь успо-
каивать сынишку. Жена считает, что очередь как
раз его. Муж молчит. Она называет его задницей и
поднимается. Пожилая пара на соседней скамейке
молча разглядывает свои бутерброды с яйцом и
салатом.
1. Шопенгауэр советует нам не удивляться не-
взгодам. Не следует задаваться вопросом о
смысле жизни, когда речь идет о супруже-
ской паре или родителях.
306
Утешение философией
2. В библиотеке Шопенгауэра было много со-
чинений натуралистов, в том числе «Вве-
дение в энтомологию» Уильяма Кирби и
Уильяма Спенса, «Пчелы» Франсуа Юбера,
«Крот: образ жизни, привычки, способы
уничтожения» Каде де Во. Философ читал
о муравьях, жуках, пчелах, блохах, кузнечи-
ках, кротах и перелетных птицах и с сочув-
ствием и удивлением отмечал жадное и бес-
смысленное стремление всех этих существ к
выживанию. Особую симпатию вызывали у
пего кроты, эти чахлые уродцы, живущие в
сырых тесных туннелях под землей и редко
видящие солнечный свет, чьи детеныши по-
хожи на студенистых червяков, но которые
делают все от них зависящее, чтобы выжить
и продолжить свой род.
«Посмотрите, например, на крота, на
этого неутомимого труженика. Занятие всей
его жизни — с напряжением копать своими
лопатообразными лапами: его окружает веч-
ная ночь, глаза в виде эмбрионов даны ему
лишь для того, чтобы избегать света... Но что
же он получает в такой исполненной труда и
лишенной радости жизни? Пищу и возмож-
ность оплодотворения, следовательно, толь-
ко средства продолжать этот грустный путь
и возобновлять его в новом индивиде. На та-
ких примерах становится ясно, что между
307
Ален де Боттон
трудом и тяготами жизни и ее результатом
или ценой нет соответствия»1.
Каждое живое существо казалось Шо-
пенгауэру равно цепляющимся за равно
бессмысленное существование:
«Вообще жизнь большинства насекомых
представляет собой только беспрестанный
труд, направленный на то, чтобы приготовить
корм и место пребывания для потомства, ко-
торое возникнет из их яиц, а затем, съев этот
корм и образовав куколки, вступит в жизнь,
чтобы повторить с самого начала тот же труд...
Мы неизбежно оглянемся в поисках награды
за все это искусство и все усилия... Указать
можно только на удовлетворение голода и
инстинкта оплодотворения, а также на нем-
ногие минуты удовольствия, которые время
от времени выпадают на долю каждого ин-
дивида в животном мире в промежутки меж-
ду его бесконечной нуждой и напряженной
деятельностью»1 2.
3. Шопенгауэру не было нужды проводить па-
раллели. Мы стремимся к любви, болтаем в
кафе с возможными партнерами и заводим
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 28. С. 394. Перевод М. И. Левиной.
2 Там же. С. 393-394.
308
Утешение философией
детей, имея такую же возможность опреде-
лять свою судьбу, как и кроты, и редко ока-
зываемся счастливее их.
4. В намерения Шопенгауэра не входило по-
вергать нас в уныние; скорее, он стремился
избавить нас от ожиданий, разочарование в
которых рождает горечь. Когда любовь отво-
рачивается от пас, утешает понимание того,
что наше счастье никогда и не было целью
судьбы. Выводы самых пессимистичных мы-
слителей, как это ни парадоксально, могут
служить лучшим утешением.
«Существует лишь одно врожденное
заблуждение, и оно состоит в том, что мы
рождены, чтобы быть счастливыми... До тех
пор пока мы будем сохранять это врожден-
ное заблуждение... мир будет представляться
нам исполненным противоречий. Ибо на ка-
309
Ален де Боттон
ждом шагу, как в великом, так и в малом, мы
вынуждены признать, что мир и жизнь от-
нюдь не обладают теми свойствами, которые
могут дать нам счастливое существование...
Поэтому на лицах всех стареющих людей
лежит отпечаток того, что по-английски на-
зывается disappointment [разочарование]»1.
Они никогда не стали бы такими разочарован-
ными, если бы приобщились к любви с правиль-
ными ожиданиями:
«Ничтоже сумняшеся, юноша полагает, что
мир существует для наслаждения, что он обита-
лище позитивного счастья... Но эта охота за не-
существующей дичью приводит обыкновенно к
весьма реальному, позитивному несчастью — к
горю, к страданию, к болезни, к утратам, забо-
там, бедности, позору и к тысячам бедствий»1 2.
Было бы очень полезно своевременными сове-
тами и обучением изгладить из умов молодых лю-
дей ошибочное представление о том, будто жизнь
может многое им предложить.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 49. С. 616-617. Перевод М. И. Леви-
ной.
2 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. М.: Эксмо-пресс,
Харьков: Фолио, 1999. Гл. «Правила и максимы». С. 552.
Перевод Ф. В. Черниговца.
310
Утешение философией
3
Одно преимущество по сравнению с кротами
мы все-таки имеем. Как и они, мы боремся за вы-
живание, ищем себе партнеров и заводим детей,
но, кроме того, мы можем посещать театры, слу-
шать оперы, бывать па концертах, читать романы,
философские трактаты и эпические поэмы — и
именно в этих занятиях Шопенгауэр видел мощ-
ный источник сил, противостоящих требованиям
воли к жизни. В произведениях искусства и тру-
дах философов мы обнаруживаем объективное от-
ражение наших страданий и борьбы, заключенное
в звуке, языке, образах. Художники и философы
не только показывают, что мы чувствуем, но и изо-
бражают наши переживания более проницательно
и точно, чем это доступно нам самим; они придают
311
Ален де Боттон
форму тем аспектам нашей жизни, которые мы
узнаем в их творениях, но были совершенно не
способны ясно понять без посторонней помощи.
Они объясняют нам наше собственное состояние
и тем самым делают нас менее одинокими и рас-
терянными. Может быть, нам и приходится по-
прежнему рыть подземные туннели, однако бла-
годаря творчеству мы, по крайней мере, обретаем
возможность проникать в суть наших горестей,
избавляющую нас от паники и одиночества (а
иногда и от ощущения преследования). Прису-
щими им специфическими способами искусство
и философия помогают нам, как говорил Шопен-
гауэр, превращать боль в знание.
Философ восхищался другом своей матери Ио-
ганном Вольфгангом фон Гёте именно потому, что
тот сумел превратить в знание столь многие горе-
сти любви в знаменитом романе, опубликованном
им в возрасте двадцати пяти лет и сделавшем его
имя известным всей Европе. Роман «Страдания
юного Вертера» описывал безответное чувство
героя к молодой женщине (прелестной Лотте,
разделявшей любовь Вертера к «Векфильдскому
священнику»1 и носившей белые платья с розо-
выми лентами на рукавах), но одновременно и
любовные переживания тысяч читателей (по не-
1 Септименталистский роман английского писателя
Оливера Голдсмита (1728-1764). (Прим.ред.)
312
Утешение философией
которым сведениям, Наполеон прочел книгу де-
вять раз). Величайшие произведения искусства
разговаривают с нами, хотя ничего о нас не знают.
«Поэт, как и каждый художник, всегда
показывает нам только единичное, индивиду-
альное... в его индивидуальности, но раскры-
вает в нем все человеческое существование,
поскольку он лишь по видимости отражает в
своих произведениях единичное, в сущности
же — то, что было повсюду и во все времена.
Этим объясняется, что сентенции поэтов и осо-
бенно драматургов, даже не будучи измерени-
ями общего характера, часто применяются в
действительной жизни»1.
Читатели романа Гёте не только узнавали себя
в персонажах «Страданий юного Вертера», по и
начинали лучше себя понимать, потому что Гёте
ясно обрисовал многие щекотливые, ускользаю-
щие моменты любовных переживаний, знакомые
его читателям, по не понятые ими. Гёте обнажил
те закономерности любви, которые Шопенгауэр
назвал основополагающими идеями романтиче-
ской психологии. Например, Гёте очень точно
изобразил с виду доброжелательную — а па деле
жестокую — манеру обращения человека, кото-
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2.
М.: Наука, 1993. Гл. 37. С. 450. Перевод М. И. Левиной.
313
Ален де Боттон
рый не любит, с тем, кто любит. Вот что Вертер,
истерзанный своими чувствами, в конце концов
говорит Лотте:
«— Нет, Лотта, — вскричал он, — больше
я вас не увижу. — Да почему же? — запроте-
стовала она. — Вы можете и должны видеться
с нами, Вертер, только будьте благоразумны.
Ах, зачем вы родились таким порывистым, за-
чем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за
что бы ни брались? Прошу вас, — повторила
она, взяв его за руку, — будьте благоразум-
ны! Сколько разнообразных наслаждений да-
рят вам ваши знания, ваши способности, ваш
ум!»1
Нам не нужно было бы жить в Германии во
второй половине восемнадцатого века, чтобы по-
пять, что происходит. Сюжетов меньше, чем живу-
щих на земле людей, они бесконечно повторяют-
ся, хотя меняются имена и декорации. Сущность
искусства заключается в том, считал Шопенгауэр,
что единственный пример приложим к тысячам
случаев.
В свою очередь, утешение содержится и в зна-
нии того, что наш случай — лишь один из тысяч.
Шопенгауэр дважды бывал во Флоренции — в
1818-м и 1822 годах. Он, должно быть, посещал
1 Гёте И. В. Страдания юного Вертера. Перевод
Н. Касаткиной.
314
капеллу Бранкаччи в церкви Санта Мария дель
Кармине, где Мазаччо в 1425-1428 годах создал
серию фресок.
Отчаяние Адама и Евы, изгнанных из рая,
не является их частным достоянием. В лицах и
позах двух персонажей Мазаччо изобразил са-
мую сущность отчаяния, саму его идею. Эта фре-
ска — универсальный символ наших греховности
и уязвимости. Мы все когда-то были изгнаны из
небесного сада.
Прочитав историю трагической любви, отвер-
гнутый соискатель получает возможность под-
няться над собственной ситуацией; он больше не
315
Ален де Боттон
единичный человек, страдающий в одиночестве,
всеми брошенный и растерянный; он становится
частью огромного множества человеческих су-
ществ, которые на протяжении веков влюблялись,
движимые мучительным стремлением продолжить
свой род.
Его страдания немного теряют остроту, он на-
чинает правильнее понимать их, перестает видеть
в них обрушившееся только на него проклятие.
О человеке, получившем способность к подобному
объективному взгляду, Шопенгауэр писал:
«Он познает себя как концентрированное
проявление воли к жизни, чувствует, до какой
степени находится во власти жизни и прису-
щих ей бесчисленных страданий... [Он спосо-
бен] превратить все муки, теперь им только
познаваемые, в муки ощущаемые»*.
Так и мы, отвлекаясь от прокапывания в тем-
ноте туннелей, должны всегда стремиться к прев-
ращению наших слез в знание.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1.
М.: Наука, 1993. Кн. 4. С. 462. Перевод М. И. Левиной.
VI
ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ИСПЫТЫВАЕТ НЕВЗГОДЫ
1
Немногие философы высоко ценили горести.
Жизнь мудрого человека традиционно виде-
лась как попытка уменьшить страдания: тревогу,
отчаяние, гнев, самобичевание, сердечную боль.
2
Впрочем, по мнению Фридриха Ницше, боль-
шинство философов всегда были «пустыми гор-
шками и кочанами»1. «Мой жребий велит, чтобы
я был первым приличным человеком»1 2, — при-
знавался он с некоторым смущением осенью 1888
года; «я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили
когда-нибудь святым»3. Дату этого события он
относил к началу третьего тысячелетия; в письме
к Мальвиде фон Мейзенбуг он высказал предпо-
ложение, что читать его труды будет позволено
1 Ницше Ф. Ессе Хомо. Почему я пишу такие хорошие
книги, 5. Перевод Ю. М. Антоновского.
2 Там же. Почему являюсь я роком, 1.
3 Там же.
317
Ален де Боттон
примерно в 2000 году. Ницше не сомневался, что
это доставит читателям наслаждение:
«Мне кажется, что, если кто-нибудь берет в
руки мою книгу, он этим оказывает себе самую
редкую честь, какую только можно себе ока-
зать, — я допускаю, что он снимает при этом
обувь, не говоря уже о сапогах...»1
Отличие Ницше от «кочанов» заключалось в
том, что он единственный осознал: те, кто стремит-
ся к свершениям, должны приветствовать всевоз-
можные трудности.
«Вы хотите, пожалуй — и нет более без-
умного «пожалуй», — устранить страдание;
а мы? — по-видимому, мы хотим, чтобы оно
стало еще выше и еще хуже, чем когда-либо!»1 2
Хотя Ницше пунктуально посылал своим дру-
зьям письма с лучшими пожеланиями, он точно
знал, в чем на самом деле они нуждаются:
«в страданиях, отчаянии, болезнях, плохом
обращении, унижениях, глубоком отвращении
1 Ницше Ф. Ессе Хомо. Почему я пишу такие хорошие
книги, 1. Перевод Ю. М. Антоновского.
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, 225. Перевод
Н. Полилова.
318
Утешение философией
к себе, мучительном неверии в свои силы, от-
верженности».
Отсюда ясно, почему его труды, по его собст-
венной оценке,
«величайший дар из всех сделанных ему
[человечеству] до сих пор»1.
3
Не следует пугаться того, что представляется
поверхностному взгляду: обладание огромными
усами навело Ницше на мысль о том, что при
1 Ницше Ф. Ессе Хомо. Предисловие, 4. Перевод Ю. М.
Антоновского.
319
Ален де Боттон
первом знакомстве каждый индивид воспри-
нимается по наиболее заметной его черте, в
результате чего самый мягкий и разумный че-
ловек, если у него устрашающие усы, кажется
воинственным, легко впадающим в гнев, иногда
склонным к насилию, — и именно такой прием
он и встречает.
4
Он не всегда ценил трудности так высоко.
Сначала взгляды Ницше сложились под влияни-
ем философа, с чьими произведениями он позна-
комился в двадцать один год, будучи студентом
Лейпцигского университета. Осенью 1865 года в
букинистической лавке на Блуменгассе в Лейп-
циге он случайно увидел книгу «Мир как воля и
представление», автор которой умер за пять лет до
того в своей квартире во Франкфурте.
Ницше вспоминал,-что взял книгу Шопенга-
уэра, совершенно ему тогда незнакомую, и при-
нялся перелистывать. Какой-то демон шептал ему:
«Возьми эту книгу с собой». Так и случилось, хотя
Ницше обычно не покупал книг без длительного
размышления.
Вернувшись домой, он уселся в угол софы со
своим новым сокровищем и начал читать эту ге-
ниальную и печальную книгу. Каждая строчка
говорила об отречении, отрицании, смирении.
320
Утешение философией
Старший философ полностью изменил жизнь
младшего. Суть философской мудрости, как писал
Шопенгауэр, заключается в высказывании Ари-
стотеля в «Никомаховой этике»:
«Благоразумный человек стремится к сво-
боде от боли, а не к удовольствиям».
Первоочередной задачей для всех, кто стремит-
ся к довольству, является понимание невозможно-
сти свершений и тем самым избавление от тревог и
беспокойства, которые неизбежно сопровождают
стремление к ним.
«Следует видеть цель не в удовольствиях
и радостях жизни, а в том, чтобы, насколько
возможно, избежать бесчисленных бед. Счаст-
ливейшая судьба выпадает тому, кто пройдет
по жизни без особых страданий, как телесных,
так и душевных».
Когда в следующий раз Ницше писал домой
в Наумбург своей матери-вдове и девятнадцати-
летней сестре, вместо обычного описания диеты и
успехов в учебе он послал им краткое изложение
своей новой философии отречения и смирения:
«Мы знаем, что жизнь состоит из страда-
ний, что чем больше мы гонимся за удоволь-
ствиями, тем сильнее они нас порабощают, а
потому надлежит отвернуться от соблазнов и
прибегнуть к воздержанию».
321
Ален де Боттон
Письмо показалось его матери странным, и в
ответном послании она сообщила, что не одобряет
ни подобных взглядов, ни самого их изложения
вместо обычного письма, в котором были бы теку-
щие новости, а также посоветовала сыну поручить
свое сердце Богу и позаботиться о том, чтобы как
следует питаться.
Однако влияние Шопенгауэра не рассеялось.
Ницше стал жить с оглядкой. В составленном им
списке, озаглавленном «Заблуждения человека»,
на одном из первых мест оказался секс. Проходя
в Наумбурге военную службу, Ницше поставил на
свой стол фотографию Шопенгауэра и в трудные
моменты восклицал: «Шопенгауэр, на помощь!»
В возрасте двадцати четырех лет, став профес-
сором классической филологии в Базельском
университете, Ницше сделался членом тесного
кружка почитателей франкфуртского печального
и благоразумного отшельника, куда входили Ри-
хард и Козима Вагнер.
5
После более чем десятилетия приверженности
взглядам Шопенгауэра осенью 1876 года Ницше
отправился в Италию и испытал радикальную
перемену воззрений. Он принял приглашение
Мальвиды фон Мейзенбуг, богатой пожилой лю-
бительницы искусства, провести несколько меся-
322
Утешение (философией
цев в компании друзей на вилле в Сорренто на
берегу Неаполитанского залива.
«Я никогда не видела его таким оживленным.
Он громко смеялся от радости», — сообщала ба-
ронесса фон Мейзенбуг о первых впечатлениях
Ницше от виллы Рубиначчи, расположенной на
тенистой улице на окраине Сорренто. Из окоп
гостиной открывался вид на залив, остров Искья
и Везувий, в садике росли фиги и апельсиновые
деревья, окаймленные кипарисами дорожки вели
к морю.
Гости Мальвиды купались, ездили осматри-
вать Помпеи, Везувий, Капри и греческие храмы
в Пестуме. На обед им подавали легкие блюда,
приправленные оливковым маслом, по вечерам в
гостиной кто-нибудь читал вслух лекции Якоба
Буркхардта о греческой цивилизации, Монтеня,
323
Ален де Боттон
Ларошфуко, Вовенарга, Лабрюйера, Стендаля,
Гёте (балладу «Коринфская невеста» или драму
«Внебрачная дочь»), Геродота, Фукидида, «Зако-
ны» Платона (впрочем, возможно, под впечатле-
нием признания Монтеня в нелюбви к последне-
му Ницше тоже чувствовал раздражение: «Чтобы
платоновский диалог, этот ужасающе самодоволь-
ный и детский вид диалектики, мог действовать
возбуждающе, для этого надо быть совершенно не
знакомым с хорошими французскими авторами —
с Фонтенелем например. Платон скучен»1).
Плавая в Средиземном море, забыв благодаря
оливковому маслу вкус сливочного, вдыхая те-
плый воздух и читая Монтеня и Стендаля («эти
маленькие вещи — питание, место, климат, отдых,
вся казуистика себялюбия — неизмеримо важ-
нее всего, что до сих пор почиталось важным»1 2),
Ницше постепенно отказывался от своих воззре-
ний на боль и удовольствие, а вместе с ними и
на роль трудностей. В октябре 1876 года, глядя
на садящееся в Неаполитанский залив солнце, он
вдруг почувствовал, что полон новой, совсем не
шопенгауэровской верой в жизнь, что в юности
был старцем, и теперь лил слезы радости по по-
воду пришедшего в последний момент спасения.
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Чем я обязан древним, 2. Перевод II. Поли-
лова.
2 Ницше Ф. Ессе Хомо. Почему я так умен, 10. Перевод
Ю. М. Антоновского.
324
Утешение философией.
6
В конце 1876 года Ницше в письме к Козиме
Вагнер сделал формальное признание в перемене
убеждений: «Не изумитесь ли Вы, если я призна-
юсь в чем-то, что наступало постепенно, но что
более или менее неожиданно было мной осознано:
в несогласии с учением Шопенгауэра? Буквально
во всех общих положениях я не на его стороне».
Одним из этих положений было следующее:
поскольку свершения — иллюзия, мудрец дол-
жен скорее избегать боли, а не стремиться к удо-
вольствиям. Совет Шопенгауэра вести спокойную
жизнь — «в маленькой несгораемой комнатке» —
теперь казался Ницше и трусливым, и неверным,
жалкой попыткой жить, как он с отвращением на-
звал это несколькими годами позже, «подобно пу-
гливым оленям, затаившись в лесах»*. Свершения
возможны не благодаря уклонению от страданий,
но благодаря признанию их роли как естествен-
ного, неизбежного шага на пути к любому благу.
7
Помимо здоровой пищи и благоуханного воз-
духа на перемену взглядов Ницше оказали вли-
яние размышления о тех немногих исторических
1 Ницше Ф. Веселая наука, 283. Перевод К. А. Сва-
сьяна.
325
Ален де Боттон
деятелях, которые действительно вели плодот-
ворную жизнь, к каждому из которых действи-
тельно применим один из самых оспариваемых
ницшеанских терминов — Ubermensch (сверхче-
ловек).
Своей дурной славой и абсурдностью это сло-
во обязано не столько собственно философии
Ницше, сколько одержимости его сестры Эли-
забет («этой мстительной гусыни-антисемитки»,
как называл ее Фридрих задолго до того, как ей
пожал руку фюрер) национал-социализмом, а
также легкомысленному решению первых пере-
водчиков Ницше па английский назвать сверхче-
ловека суперменом, заимствовав этот термин из
комиксов.
Однако Ubermensch Ницше имеет мало обще-
го и с летающим героем, и с фашистами. Более
точное указание па то, что Ницше имел в виду,
содержится в его письме к матери и сестре:
«На самом деле среди живущих на земле
нет никого, кто был бы мне особенно по душе.
Те люди, кого я ценю, умерли много, много лет
назад — например, аббат Галиани, или Анри
Бейль, пли Монтень».
326
Утешение философией
Гитлер приветствует Элизабет
Ницше в Веймаре в 1935 году
К своему списку он мог бы добавить Иоган-
на Вольфганга фон Гёте. Эти четыре человека в
наилучшей степени иллюстрируют то, что зре-
лый Ницше считал наиболее полным жизненным
успехом.
Они имели много общего. Все были любоз-
нательны, художественно одарены, сексуально
активны. Несмотря на отдельные мрачные сторо-
ны характера, они смеялись, а некоторые и тан-
цевали; их привлекали мягкий солнечный свет,
чистый и благоуханный воздух, пышная южная
растительность, дыхание моря, свежеприготовлен-
ные блюда из мяса, фруктов и яиц. Кое-кто из них
обладал юмором висельника, сходным с юмором
самого Ницше, — злым весельем, порождаемым
327
Ален де Боттон
глубинным пессимизмом. Все они исследовали
свои способности, все обладали тем, что Ницше
называл «жизнью»: смелостью, амбициями, дос-
тоинством, силой характера, юмором, независимо-
стью (и, соответственно, отсутствием ханжества,
ограниченности, злобы и мелочности).
Монтень, 1533-1592
Аббат Галиани, 1728-1787
Гёте, 1749-1832
328
Стендаль (Анри Бейль)
1783-1842
Утешение философией
Они не отворачивались от мира. Монтень два-
жды был мэром Бордо и путешествовал верхом
по Европе. Неаполитанец аббат Галиани был се-
кретарем посольства в Париже и писал книги о
денежном обращении и распределении запасов
зерна (его труды Вольтер хвалил за сочетание
остроумия Мольера с мудростью Платона). Гёте
в течение десятилетия служил в веймарском суде,
предложил реформы в сельском хозяйстве, про-
мышленности, систему помощи бедным, выпол-
нял дипломатические поручения, дважды удоста-
ивался аудиенций Наполеона.
Посетив Италию в 1787 году, он осмотрел гре-
ческие храмы в Пестуме и трижды поднимался на
Везувий, подходя так близко к кратеру, что ему
приходилось уворачиваться от летящих камней и
пепла. Ницше писал о нем:
329
Ален де Боттон
«Гёте — последний немец, к которому я от-
ношусь с уважением... Он брал себе в помощь
историю, естествознание, древность... практи-
ческую деятельность... Он не освобождался от
жизни, он входил в нее; он не был робким и
брал, сколько возможно, на себя, сверх себя,
в себя. Чего он хотел, так это цельности; он
боролся с рознью разума, чувственности, чув-
ства, воли»1.
Стендаль с наполеоновской армией прошел
всю Европу, семь раз посетил руины Помпей, лю-
бовался Поп дю Гаром при полной луне в пять
часов утра (как он писал, даже Колизей в Риме не
погружал его в столь глубокую мечтательность).
Герои Ницше также неоднократно влюбля-
лись. «Всякое побуждение в нашем мире направ-
лено только к спариванию и только в нем находит
себе оправдание»1 2. В возрасте семидесяти четырех
лет па отдыхе в Мариенбаде Гёте увлекся Ульри-
кой фон Левенцов, девятнадцатилетней красави-
цей, угощал ее чаем и приглашал на прогулки,
а потом просил ее руки (хотя и получил отказ).
Стендаль, который хорошо знал и высоко ценил
роман «Страдания юного Вертера», был столь же
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философству-
ют молотом. Набеги несвоевременного, 49, 51. Перевод
Н. Полилова.
2 Монтень М. Опыты. III, 5, 70. Перевод А. С. Бобови-
ча и Н. Я. Рыковой.
330
Утешение философией
страстным любовником, как и его автор; дневни-
ковые записи Стендаля на протяжении десятиле-
тий отмечали его победы. В двадцать четыре года,
оказавшись с армией Наполеона в Германии, он
завлек в постель дочь трактирщика и с гордостью
записал в дневнике, что она была первой немкой,
о которой ему случалось слышать, испытавшей
оргазм; ласки Стендаля разбудили в ней саму ее
испугавшую страсть.
Наконец, все эти люди были людьми искусства
(«искусство есть великий стимул к жизни»1, отме-
чал Ницше); вероятно, они испытывали огромное
удовлетворение, закончив «Опыты», «Вообража-
емого Сократа», «Римские элегии» и «О любви».
Все это, полагал Ницше, элементы, необходимые
для жизненного успеха. Он добавлял к ним важ-
ную деталь: добиться свершений невозможно, не
чувствуя себя часть времени глубоко несчастным:
«Что, если удовольствие и неудовольствие
так тесно связаны друг с другом, что тот, кто
хочет иметь возможно больше первого, должен
иметь возможно больше и второго... Вам дано
на выбор: либо возможно меньше неудовольст-
вия, короче, отсутствие страданий... либо воз-
можно больше неудовольствия в качестве рас-
платы за избыток тонких и малоизведанных
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Набеги несвоевременного, 24. Перевод Н. Поли-
лова.
331
Ален де Боттон
удовольствий и радостей! Если вы решитесь на
первое, если вы вознамеритесь таким образом
подавить и уменьшить страдания человека, ну,
так вам придется подавить и уменьшить также
и способность к наслаждениям»^.
Самые значимые для человека свершения не-
разрывно связаны со страданием, и источник на-
ших самых больших радостей печально близок с
источником величайшей боли:
«Исследуйте жизнь лучших и плодотвор-
нейших людей и народов и спросите себя, мо-
жет ли дерево, .которому суждено гордо прора-
стать ввысь, избежать дурной погоды и бурь и
не принадлежат ли неблагоприятное стечение
обстоятельств и сопротивление извне, всякого
рода ненависть, ревность, своекорыстие, недо-
верие, суровость, алчность и насилие к бла-
гоприятствующим обстоятельствам, без кото-
рых едва ли возможен большой рост даже в
добродетели?»1 2
Почему это так? Потому что никто не спосо-
бен создать великое произведение искусства, не
имея жизненного опыта, никто не оказывается на
высшей ступени общественного признания немед-
ленно, никто не становится замечательным любов-
1 Ницше Ф. Веселая наука. 12. Перевод К. А. Свасьяна.
2 Там же. 19.
332
Утешение философией
ником с первой же попытки, и интервал между
изначальной неудачей и последующим успехом,
между тем, кем мы хотим стать, и тем, кем являем-
ся в настоящий момент, заполняют боль, тревога,
зависть и унижение. Мы страдаем, поскольку не
можем сразу же овладеть всеми ингредиентами
того, что необходимо для успеха.
Ницше стремился исправить убеждение, будто
свершения должны даваться легко или не при-
ходить вовсе; такое убеждение губительно, по-
скольку заставляет нас преждевременно отсту-
пать перед препятствиями, которые можно было
бы преодолеть, будь мы готовы к жестоким ис-
пытаниям, закономерно предшествующим почти
любому значимому достижению.
t. SifttriiM dtdtt nigrt muaufcm
Que vous etunuefafla incontin
333
Ален де Боттон
Мы можем предположить, что «Опыты» Мон-
теня родились в его уме уже полностью сформи-
рованными, и поэтому воспринять собственные
неуклюжие попытки создать философию жизни
как признак врожденной неспособности к этому.
Чтобы увидеть истинное положение вещей, сле-
дует ознакомиться со свидетельствами огромных
трудов автора, предшествовавших созданию ше-
девра, обилием добавлений и поправок, которых
потребовала работа над «Опытами».
Не легче было написать «Красное и черное»,
«Жизнь Анри Брюлара» и «О любви». Свою ли-
тературную карьеру Стендаль начал с создания
нескольких неудачных пьес. Сюжет одной из
них основывался на высадке армии эмигрантов в
Квебероне (среди действующих лиц должны были
быть Уильям Питт и Чарльз Джеймс Фокс), дру-
гая описывала приход к власти Бонапарта, тре-
тья — условно названная «Человек, которому
внушали страх правила поведения» — погруже-
ние старика в маразм. Стендаль проводил педели
в Национальной библиотеке, выписывая из сло-
варей всевозможные определения терминов «ве-
селый», «смешной», «комический», но для того,
чтобы оживить его чугунную драматургию, этого
оказалось недостаточно. Потребовались десятиле-
тия тяжелого труда, прежде чем появились ше-
девры.
334
Утешение философией
Если большинство литературных произведе-
ний уступают «Красному и черному», то причина
этого, считал Ницше, не в отсутствии у авторов
таланта, а в том, что их представление о связан-
ных с творчеством страданиях неверно. Вот какие
усилия нужны, чтобы написать роман:
«Рецепт, например, по которому человек
может стать хорошим новеллистом, легко дать,
но выполнение его предполагает качества, ко-
торые обыкновенно упускаются из виду, когда
говорят: «У меня нет достаточного таланта».
Нужно делать сотню и более набросков новелл,
не длиннее двух страниц, но столь отчетливых,
что каждое слово в них необходимо; нуж-
но ежедневно записывать анекдоты, пока не
найдешь самую выпуклую и действительную
форму для них; нужно неутомимо собирать и
вырисовывать человеческие типы и характеры;
нужно прежде всего как можно чаще расска-
зывать и слушать чужие рассказы, зорко на-
блюдая за их действием на присутствующих;
нужно путешествовать, как художник-пей-
зажист и рисовальщик костюмов... наконец,
нужно размышлять о мотивах человеческих
поступков, не пренебрегать ничем, что может
быть здесь поучительным, и денно и нощно
коллекционировать такого рода вещи. На это
многообразное упражнение нужно затратить
335
Ален де Боттон
лет десять, и тогда то, что создано в мастер-
ской, может быть вынесено на улицу»1.
Философия Ницше представляет собой лю-
бопытную смесь огромной веры в человеческий
потенциал (свершения доступны нам всем, так же
как и создание великих романов) и требования
чрезвычайного упорства (выходу в свет первой
книги могут предшествовать годы тяжелейшего
труда). Именно чтобы приучить нас к мысли о
закономерности страданий, Ницше так много го-
ворил о горах.
10
Невозможно прочесть даже несколько страниц
его трудов, не натолкнувшись на альпийскую кар-
тинку:
«Тот, кто умеет дышать воздухом моих со-
чинений, знает, что это воздух высот, здоровый
воздух. Надо быть созданным для него, иначе
рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищ-
ное одиночество — но как безмятежно покоят-
ся все вещи в свете дня! Как легко дышится!
Сколь многое чувствуешь ниже себя! — Фи-
лософия, как я ее до сих пор понимал и пе-
1 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. От-
дел первый: О первых и последних вещах, 163. Перевод
С.Л. Франка. (Курсив А. де Боттона.)
336
Утешение философией
реживал, есть добровольное пребывание среди
льдов и горных высот»1.
«Понадобились бы иного рода умы [для по-
нимания философии], чем это можно было бы
предположить именно в нашу эпоху... понадо-
билась бы привычка к острому разреженному
воздуху, к зимним вылазкам, ко льду и горам
во всяком смысле»1 2.
«С вершин деревьев и из засад их убран-
ства к нему [страннику] падает одно лишь
доброе и светлое — дары всех тех свободных
духов, которых родина — горы, лес и одино-
чество и которые, подобно ему, предаваясь то
радости, то размышлению, живут философами
и странниками»3.
Ницше был — и в практическом, и в духовном
смысле — человеком гор. Он принял швейцарское
гражданство в 1869 году и может считаться са-
мым знаменитым философом Швейцарии. Однако
иногда он поддавался чувствам, знакомым лишь
немногим швейцарцам: «Быть швейцарцем мучи-
1 Ницше Ф. Ессе Хомо. Предисловие, 3. Перевод
Ю. М. Антоновского.
2 Ницше Ф. К генеалогии морали. Рассмотрение вто-
рое. «Вина», «нечистая совесть» и все, что сродни им, 24.
Перевод К. А. Свасьяна.
3 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое.
Отдел девятый: Человек наедине с собой, 638. Перевод
С. Л. Франка.
337
Ален де Боттон
тельно!» — жаловался он матери через год после
принятия гражданства.
Уйдя в отставку со своей должности в Базель-
ском университете в возрасте тридцати пяти лет,
Ницше проводил зимние месяцы в Средизем-
номорье, в основном в Генуе или Ницце, а лет-
ние месяцы — в Альпах, в маленькой деревуш-
ке Сильс-Мария округа Энгадин на юго-востоке
Швейцарии, на высоте 1800 метров над уровнем
моря, в нескольких километрах от Санкт-Морица,
где ветры из Италии и холодные порывы с севера
делают небо аквамариновым.
В первый раз Ницше побывал в Энгадине в
1879 году и сразу же влюбился в климат и то-
пографию местности. «Теперь я дышу лучшим
и самым живительным воздухом в Европе, —
писал он Полю Рэ, — его натура родственна
моей собственной». В письме Петеру Гасту есть
такие строки: «Это не Швейцария, это какое-
то совсем другое место, гораздо более южное.
Мне пришлось бы отправиться на высокое пла-
то в Мексике, глядящее на Тихий океан, чтобы
найти нечто подобное (например, Оахаку), хотя
растительность там, конечно, была бы тропи-
ческой. Ну, я уж постараюсь сохранить Сильс-
Марию для себя». Своему школьному другу
Карлу фон Герсдорфу он признавался: «Здесь,
и нигде больше, я чувствую себя по-настоящему
дома, здесь мое отечество».
338
Утешение философией
В Сильс-Марии Ницше провел семь летних
сезонов. Он снимал комнату, окна которой вы-
ходили на поросшие соснами горы. Здесь он на-
писал целиком или в значительной части «Ве-
селую науку», «Так говорил Заратустра», «По
ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали»
и «Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом». Он вставал в пять утра и работал до
полудня, а потом совершал прогулки к подно-
жию высоких пиков, ожерельем окружавших
деревушку: пика Корвач, пика Лагрев, пика де
ла Маргна, зазубренных суровых вершин, толь-
ко что, казалось, прорвавших земную кору под
чудовищным тектоническим давлением. Вече-
рами, оставаясь в одиночестве своей комнаты,
Ницше съедал несколько ломтиков ветчины,
яйцо и рогалик и рано отправлялся в постель.
Такой режим соответствовал его мнению о том,
что невозможно стать мыслителем, не прово-
дя по крайней мере треть дня избавленным от
страстей, общения с людьми и книг.
Сегодня, конечно, в деревушке в доме, где жил
Ницше, — музей. За несколько франков посети-
телю покажут спальню философа, воссозданную,
как говорит путеводитель, «в том виде, в каком
она была во времена Ницше, во всей ее непритя-
зательности».
339
Ален де Боттон
Однако, чтобы понять, почему Ницше полагал,
будто между его философией и горами существу-
ет такое внутреннее родство, лучше, может быть,
музей не посещать, а побывать в одном из мно-
гих спортивных магазинчиков в деревне и купить
ботинки, рюкзак, флягу, перчатки, компас и аль-
пеншток.
340
Утешение философией
Подъем на пик Корвач в нескольких кило-
метрах от дома, где жил Ницше, лучше любого
музея раскроет дух его философии, его похвалу
трудностям, причины, заставившие его отвергнуть
шопенгауэровскую отстраненность от мира.
У подножия горы находятся большая автосто-
янка, ряд мусорных баков, свалка отслуживших
свое грузовиков и ресторан, где подают жирные
колбасы и сдобу.
Вершина горы, по контрасту, величествен-
на и спокойна. Оттуда открывается вид на весь
Энгадин: бирюзовые озера Сегль, Сильваплана и
Санкт-Мориц, а на юге, у границы с Италией, ог-
ромные ледники Селла и Росег. В воздухе разлита
необыкновенная тишина, кажется, что можно ру-
кой дотянуться до крыши мира. Дышать на высоте
341
Ален де Боттон
трудно, но возникает ощущение странного подъ-
ема. Невольно без всякой причины начинаешь
улыбаться, а то и смеяться вслух: этот невинный
смех вырывается из глубины души и выражает
простую радость от того, что ты жив и видишь
такую красоту.
Однако мораль философии Ницше заключа-
ется в том, что для подъема на высоту 3451 метр
над уровнем моря требуются усилия. На подъем
уйдет по крайней мере пять часов, придется ка-
рабкаться по крутым тропинкам, обходить утесы
и пробираться сквозь сосновые чащи, ловить ртом
разреженный воздух и надевать все новые свите-
ра, чтобы не замерзнуть на ветру, долетающем с
вечных снегов.
342
Утешение философией
11
Ницше приводит и еще одну альпийскую ме-
тафору. В нескольких шагах от его дома в Сильс-
Марии начиналась дорога, ведущая в долину
Фекс, одну из самых плодородных в Энгадине.
Поля, раскинувшиеся на пологих холмах, интен-
сивно обрабатываются. Летом в лугах коровы,
позвякивая колокольчиками, задумчиво жуют
ярко-зеленую траву. Стекающие с гор потоки
звенят подобно наливающейся в стакан чистой
воде. Вокруг маленьких, безупречно ухоженных
домиков раскинулись старательно возделанные
огороды, удобренная почва которых родит такие
великолепные овощи — цветную капусту, свеклу,
343
Ален де Боттон
морковь, салат, — что испытываешь соблазн опу-
ститься на колени и, подобно кролику, пожевать
листочек.
Растения так благоденствуют здесь потому,
что долина Фекс образована ледником, оставив-
шим, отступая, богатую всевозможными минера-
лами почву. В дальнем конце долины — чтобы
добраться туда, пришлось бы проделать нелегкий
и долгий путь — находится сам ледник, огром-
ный и наводящий ужас. Он похож на сбившуюся
скатерть, только каждая ее складка — размером
с дом и состоит из острого как бритва льда; под
летним солнцем ледник иногда с душераздираю-
щим скрежетом сдвигается по своему каменному
ложу.
\Wi
Утешение философией
Трудно представить себе, стоя у края устра-
шающей ледяной громады, что она играет такую
большую роль в произрастании овощей и пышной
травы в раскинувшейся всего в нескольких кило-
метрах от нее долине, что столь противоположное
зеленому полю природное явление, как ледник,
может быть источником плодородия лугов и ого-
родов.
Ницше, который часто ходил по долине Фекс
с записной книжкой и карандашом («только
345
Ален де Боттон
выхоженные мысли имеют цепу»1), видел в ней
аналогию человеческой жизни с ее зависимостью
положительных элементов от негативных, свер-
шений от трудностей:
«Кто видел изборожденные котловины, в
которых лежали глетчеры, тому кажется по-
чти невозможным, что наступит время, когда
на том же месте будет простираться долина,
покрытая лесом или лугом с ручьями. Так слу-
чается и в истории человечества: самые дикие
силы пролагают путь, сперва неся разруше-
ние, и тем не менее их деятельность нужна,
чтобы позднее могли утвердиться более мяг-
кие нравы. Ужасные энергии — то, что зовет-
ся злом, — суть циклопические архитекторы
и пролагатели путей гуманности»1 2.
12
Однако, как это ни печально, недостаточно
испытывать даже самые устрашающие трудности.
Жизнь каждого человека трудна; полной сверше-
ний ее делает особая манера, с которой человек
встречает невзгоды. Боль всегда является указа-
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Изречения и стрелы, 34. Перевод Н. Полилова.
2 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. От-
дел пятый: Признаки высшей и низшей культуры, 246.
Перевод С. Л. Франка.
346
Утешение философией
телем, хотя не всегда отчетливым, па какую-то не-
поладку, и то, к какому результату — хорошему
или плохому — она приведет, зависит от прони-
цательности и силы ума того, кто ее испытывает.
Тревога может породить панику — а может и точ-
ный анализ того, что не в порядке. Чувство нес-
праведливости может стать причиной убийства,
но может послужить и источником новаторской
экономической теории. Зависть может вызвать го-
речь и недоброжелательство, но может заставить
соревноваться с соперником и в конце концов со-
здать шедевр.
Как писал высоко ценимый Ницше Монтень
в последней главе «Опытов», искусство жить за-
ключается в том, чтобы найти применение своим
несчастьям:
«Надо уметь переносить то, чего нельзя из-
бежать. Наша жизнь, подобно мировой гармо-
нии, слагается из вещей противоположных, из
разнообразных музыкальных тонов, сладост-
ных и грубых, высоких и низких, мягких и
суровых. Что смог бы создать музыкант, пред-
почитающий лишь одни тона и отвергающий
другие? Он должен уметь пользоваться всеми
вместе и смешивать их. Так должно быть и
у нас с радостями и бедами, составляющими
нашу жизнь»1.
1 Монтень М. Опыты. III, 13, 287. Перевод А. С. Бобо-
вича и Н. Я. Рыковой.
347
Ален де Боттон
Спустя триста лет Ницше пришел к этой же
мысли: сравнивая человека с плодородным полем,
он советует не пренебрегать ничем и каждое собы-
тие, явление или человека превращать в полезное
удобрение. Так как же стать плодородным?
13
Рафаэль, родившийся в Урбино в 1483 году,
с раннего возраста проявлял такой интерес к ри-
сованию, что отец отвез мальчика в Перуджу, где
тот стал подмастерьем знаменитого Пьетро Перуд-
жино. Еще не достигнув и двадцатилетнего возра-
ста, Рафаэль уже создавал собственные произве-
дения — писал портреты придворных правителя
Урбино и запрестольные образы для церквей в
Читтади-Кастелло, городка в дне езды от Урбино.
Однако Рафаэль, один из любимых художни-
ков Ницше, понимал, что мастерства еще не до-
стиг: он видел работы Микеланджело Буонарро-
ти и Леонардо да Винчи. Творения этих мастеров
показали Рафаэлю, что он не умеет передавать
фигуры в движении и, несмотря на способности
к изобразительной геометрии, не овладел еще ли-
нейной перспективой. Зависть могла вырасти до
огромных размеров, но Рафаэль превратил ее в
удобрение для собственного таланта.
В 1504 году, в возрасте двадцати одного года,
Рафаэль отправился из Урбино во Флоренцию,
чтобы изучать работу двух великих живописцев.
348
Утешение философией
Он рассматривал их наброски в зале Великого со-
вета, где Леонардо создавал «Битву при Ангьяри»,
а Микеланджело — «Битву при Кашине». Он вос-
принял уроки Леонардо и Микеланджело, кото-
рые делали анатомические эскизы, и следовал их
примеру во вскрытиях и зарисовках трупов. Ра-
фаэль учился по «Поклонению волхвов» Леонардо
и его наброскам «Мадонны с Младенцем», вни-
мательно изучал необычный портрет, созданный
по заказу аристократа Франческо дель Джокондо,
желавшего иметь изображение своей жены, юной
красавицы с загадочной улыбкой.
Результаты усилий Рафаэля скоро стали
очевидны. Можно сравнить «Портрет молодой
женщины», созданный Рафаэлем до переезда во
Флоренцию, и «Женский портрет», законченный
несколькими годами позже.
349
Ален де Боттон
«Мона Лиза» подала Рафаэлю идею
поясного портрета сидящей модели, когда
сложенные руки служат основанием пира-
мидальной композиции. Эта картина нау-
чила его использовать перпендикулярные
оси при изображении головы, плеч и рук,
чтобы придать изображению объемность.
В то время как женщина, написанная им в
Урбино, кажется неловкой, стесненной оде-
ждой, а руки ее странно обрезаны, женщина
из Флоренции выглядит подвижной и есте-
ственной.
Рафаэль не обрел свое умение спонтанно;
он стал великим благодаря разумной реакции
на чувство неполноценности, которое другого,
менее сильного человека довело бы лишь до от-
чаяния.
Такой профессиональный рост иллюстриру-
ет вывод Ницше о мудром понимании трудно-
стей:
«Пусть не говорят о даровании, о приро-
жденных талантах! Можно назвать великих
людей всякого рода, которые были малодаро-
виты. Но они приобрели величие, стали «ге-
ниями» (как это обыкновенно говорят) в силу
качеств, об отсутствии которых предпочитает
молчать тот, кто сознает их в себе; все они
имели ту деловитую серьезность ремесленни-
350
Утешение философией
ка, которая сперва учится в совершенстве из-
готовлять части, прежде чем решается создать
крупное целое; они посвящали этому свое вре-
мя, потому что получали большее удовольствие
от хорошего выполнения чего-нибудь мелкого,
второстепенного, чем от эффекта ослепитель-
ного целого»1.
Рафаэль сумел, по выражению Ницше, субли-
мировать (sublimieren), одухотворить (vergeistigen)
и возвысить (aufheben) трудности на своем пути
до истинной плодотворности.
1 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. От-
дел четвертый: Из души художников и писателей, 163.
Перевод С. Л. Франка.
351
Ален де Боттон
14
Интерес Ницше к сельскому хозяйству но-
сил не только метафорический, но и практиче-
ский характер. Покинув в 1879 году Базельский
университет, он решил стать профессиональным
садовником. «Вам известно, что я предпочитаю
простую, естественную жизнь, — писал он своей
изумленной матери, — и я все более к ней стрем-
люсь. Другого лекарства для моего здоровья не
существует. Мне нужна настоящая работа, за-
нимающая все время и приносящая усталость
без умственного напряжения». Он вспомнил о
старой башне в Наумбурге рядом с домом матери
и арендовал ее, одновременно приискивая сад где-
нибудь неподалеку. В сентябре 1879 года Ницше
с энтузиазмом взялся за дело, но вскоре возникли
проблемы. Близорукость не позволяла ему видеть,
что именно он подстригает, появились боли в спи-
не, оказалось слишком много (дело было осенью)
опавших листьев. Через три недели Ницше был
вынужден сдаться.
Однако следы увлечения сельским хозяйством
сохранились в философских трудах: в некоторых
своих произведениях Ницше предлагает смотреть
на трудности так, как это делают садовники в отно-
шении растений. Корни могут выглядеть странно
и отталкивающе, но человек знающий и верящий
в потенциал саженца вырастит из них прекрасные
цветы и плоды; точно так же в жизни на уровне
352
Утешение философией
корней имеют место неприятные чувства и труд-
ные ситуации, которые, однако, благодаря ста-
рательному уходу превращаются в величайшие
достижения и радости.
Искусство, красота, любовь
Гнев, сожаление,
любопытство, тщеславие
«Человек, хотя это и немногим дано, мо-
жет вырастить из побегов гнева, жалости, лю-
бопытства, тщеславия такие же прекрасные
и полезные плоды, как это делает садовник,
подрезая ветви плодового дерева».
Однако большинство из нас не склонно при-
знавать, что мы в долгу перед корнями — трудно-
стями. Мы обычно думаем, что тревога и зависть
ничего хорошего нам не принесут, ничему нас
353
Ален де Боттон
не научат, и поэтому избавляемся от них как от
эмоциональных сорняков. Мы, по словам Ницше,
верим, будто «высшее не должно произрастать из
низшего, не должно вообще произрастать... все,
что первого ранга, должно быть causa sui [собст-
венной причиной]»1.
И все же «хорошие и почитаемые вещи, — под-
черкивал Ницше, — в фатальном родстве с... дур-
ными, мнимо противоположными вещами, связа-
ны, сплочены, может быть, даже тождественны с
ними по существу»1 2. Любовь и ненависть, благо-
дарность и месть, добродушие и гнев связаны друг
с другом, хотя это не означает, что и выражаться
они должны совместно: положительное явление
может быть следствием успешно преобразованно-
го негативного. Поэтому
«аффекты ненависти, зависти, алчности,
властолюбия [суть] аффекты, обусловлива-
ющие жизнь... нечто принципиально и су-
щественно необходимое в общей экономии
жизни»3.
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. «Разум» в философии, 4. Перевод Н. Полилова.
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Отдел первый:
О предрассудках философов, 2. Перевод Н. Полилова.
3 Там же, 23.
354
Утешение филос.офией
Следует огорчаться не наличием трудностей, а
только собственной неспособностью вырастить из
них что-то полезное.
15
Именно потому, что древние греки явно пони-
мали это, Ницше так ими восхищался.
Возникает соблазн счесть, глядя в сумерки
на безмятежные греческие храмы вроде храмов в
Пестуме недалеко от Сорренто, которые в нача-
ле 1877 года Ницше посетил вместе с Мальвидой
фон Мейзенбуг, что греки были необыкновенно
уравновешенным народом, чьи храмы являлись
внешним выражением той упорядоченности, ко-
355
Ален де Боттон
торую они ощущали в себе и которую создали в
своем обществе.
Именно так считал великий исследователь
Античности Иоганн Винкельман (1717-1768); к
этому мнению он склонил и последующие поко-
ления немецких университетских профессоров.
Ницше же полагал, что классическая греческая
цивилизация выросла не из ясного спокойствия,
а из сублимации самых зловещих сил:
«чем огромнее и ужаснее страсти, которые
может позволить себе век, народ, индивид, ис-
пользуя их как инструмент, тем выше оказы-
вается его культура».
Какими бы умиротворенными ни казались хра-
мы, они — тщательно выращенные цветы, корни
которых страшны и темны. Дионисийские празд-
нества показывали и темную основу, и попытки ее
контролировать и извлекать из нее пользу.
Ницше отмечал характерную особенность мира
Древней Греции: он полагал, что время от времени
греки устраивали празднества, где разрешалось
проявление любых страстей и естественных злых
наклонностей; они даже создали своего рода фор-
мальный порядок для подобных торжеств, на ко-
торых раскрывалась человеческая природа во всех
своих проявлениях. Греки понимали, что темные
стороны человеческой натуры — неизбежное зло,
356
Утешение философией
и, вместо того чтобы обличать их, в определенной
мере узаконили и нашли применение в обществе
и религии: все в человеке, чему присуща сила,
они считали божественным. Естественные по-
буждения, имеющие вредоносные проявления,
как бурные воды, направлялись в каналы, берега
которых сдерживали их, и допускались в опре-
деленных культах и в определенные дни. В этом
Ницше видел корни этического свободомыслия
Античности. Темным страстям и подозрениям
давалась определенная свобода выражения, в
отличие от стремления к их полному уничтоже-
нию.
Греки не избавлялись от своих несовершенств,
они выращивали из них благотворные плоды:
«У всех страстей бывает пора, когда они
являются только роковыми, когда они с тя-
желовесностью глупости влекут свою жертву
вниз, и более поздняя, гораздо более позд-
няя пора, когда они соединяются брачными
узами с духом, когда они «одухотворяются».
Некогда из-за глупости, заключавшейся в
страсти, объявляли войну самой страсти, да-
вали клятву уничтожить ее... Уничтожать
страсти и вожделение только для того, чтобы
предотвратить их глупость и неприятные по-
следствия этой глупости, кажется нам нынче
в свою очередь только острой формой глупо-
сти. Мы уже не удивляемся зубным врачам,
357
Ален де Боттон
которые вырывают зубы, чтобы они больше
не болели»1.
Свершения достигаются благодаря мудрому
восприятию трудностей, которые в противном
случае могли бы растерзать пас. Зловредные духи
только и ждут возможности выдрать у нас корен-
ной зуб или обрушить лавину с пика Корвач на
мирные склоны. Ницше побуждал нас противо-
стоять испытаниям.
16
Также не случайным было его предостереже-
ние: никогда не пить.
«Дорогая матушка, если я пишу вам сегод-
ня, то чтобы признаться в одном из самых не-
приятных и мучительных несчастий, в которых
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Мораль как противоестественность, 1. Перевод
И. Полилова.
358
Утешение философией
я только был когда-нибудь виноват. Я очень,
очень плохо себя вел и не знаю, захотите ли
вы, сможете ли вы меня простить. Я неохот-
но и с тяжелым сердцем берусь за это письмо,
особенно при воспоминании о том, как хоро-
шо нам жилось вместе во время пасхальных
каникул, которые ничем не были омрачены.
В прошлое воскресенье я напился пьяным, и
у меня нет другого извинения, кроме того, что
я не знал, сколько смогу выпить, не опьянев,
и был в тот день выбит из колеи».
Так писал своей матери Франциске восемнад-
цатилетний Ницше после четырех кружек пива,
выпитых в таверне рядом со школой весной 1863
года. Несколькими годами позже, в Боннском и
Лейпцигском университетах, он очень раздражен-
но реагировал на любовь однокурсников к алко-
голю:
«Я часто находил выражения доброго това-
рищества в клубе совершенно отвратительны-
ми. Некоторых типов я с трудом выносил из-за
их пивного материализма», — писал он Карлу
фон Герсдорфу.
Став взрослым, философ сохранил такое же
отношение к алкоголю.
359
Ален де Боттон
Студенческое братство в Боннском университете. Ницше
сидит во втором ряду вполоборота. В центре переднего
ряда — пивной бочонок братства.
«Спиртные напитки мне вредны; стакана
вина или пива в день вполне достаточно, что-
бы сделать из моей жизни «юдоль скорби», — в
Мюнхене живут мои антиподы»1.
1 Ницше Ф. Ессе Хомо. Почему я так умен. 1. Перевод
К). М. Антоновского.
360
Утешение философией
«Сколько пива в немецкой интеллигенции»1, —
жаловался он. «Возможно, европейское недоволь-
ство Нового времени следует усматривать в том,
что наши предки, все Средневековье, благодаря
воздействиям на Европу германских склонностей,
предавались пьянству: Средневековье — значит
алкогольное отравление Европы»1 2.
Весной 1871 года Ницше вместе с сестрой от-
правился на каникулы в Лугано. Счет, получен-
ный в отеле «Дю Парк» за 2-9 марта, показыва-
ет, что за это время Ницше выпил четырнадцать
стаканов молока.
Это было более чем личным вкусом. Ницше
настоятельно советовал любому человеку, стре-
мящемуся к счастью, никогда не пить ничего
спиртного.
«Могу вполне серьезно советовать всем бо-
лее духовным натурам безусловное воздержа-
ние от алкоголя. Достаточно воды»3.
Почему? Потому что Рафаэль не топил в вине
свою зависть к великим мастерам, а отправился в
1504 году из Урбино во Флоренцию и научился,
1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Чего недостает немцам, 2. Перевод Н. Полилова.
2 Ницше Ф. Веселая наука, 134. Перевод К. А. Сва-
сьяна.
3 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Почему я так умен, 1. Перевод Н. Полилова.
361
Ален де Боттон
как стать великим самому. Потому что Стендаль
не запил в 1805 году, чтобы заглушить горечь
неудачи с «Человеком, которому внушали страх
правила поведения», а семнадцать лет преодоле-
вал трудности, чтобы в 1822 году опубликовать
«О любви».
«Если вы не хотите вынести и часа собст-
венных страданий и вечно уже загодя уклоня-
етесь от всяческих несчастий, если вы воспри-
нимаете страдание и неудовольствие как что-то
злое, ненавистное, достойное уничтожения,
как позорное пятно на существовании, — что
ж, в таком случае в сердце вашем... религия
удобства. Ах, как мало знаете вы о счастье
человека, вы, покладистые и добродушные!
Ибо счастье и несчастье — братья-близнецы,
которые растут вместе или, как у вас, вместе
остаются недорослями!»]
17
Отвращение Ницше к алкоголю заодно объя-
сняет и его антипатию к ведущему британскому
направлению нравственной философии — утили-
таризму и его величайшему представителю Джону
Стюарту Миллю. Утилитаристы утверждали, что в
1 Ницше Ф. Веселая наука, 338. Перевод К. А. Сва-
сьяна.
362
Утешение философией
мире, раздираемом моральными противоречиями,
способ судить о том, правилен или нет поступок,
заключается в измерении того, сколько удоволь-
ствия или боли он за собой повлек. Милль писал:
«Те поступки, которые ведут к счастью, —
хороши, а те, которые ведут к несчастью, —
дурны. Под словом «счастье» оно [учение
утилитаризма] разумеет удовольствие и от-
сутствие страдания; под словом «несчастье» —
страдание и лишение удовольствия»1.
Мысли об утилитаризме и даже о нации, его
породившей, приводили Ницше в ярость.
«Европейская пошлость, плебейство новей-
ших идей — дело Англии»1 2.
Сам он, конечно, тоже стремился к счастью;
просто он считал, что счастья нельзя достичь так
безболезненно, как, по-видимому, полагали ути-
литаристы.
«Все эти образы мыслей, определяющие
ценность вещей по доставляемому ими на-
слаждению или страданию, т. е. по сопутст-
1 Милль Дж. С. Утилитаризм. Гл. 2. СПб., 1900.
Перевод А. Н. Неведомского.
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Отдел восьмой:
Народы и отечества. 253. Перевод Н. Полплова.
363
Ален де Боттон
вующим им состояниям и побочным явлениям,
отличаются поверхносностыо и наивностью, на
которую каждый, кто чувствует в себе твор-
ческие силы и совесть художника, не может
смотреть без насмешки»1.
Речь идет о совести художника, потому что
творчество представляет собой наиболее яркий
пример деятельности, которая может привести к
величайшим свершениям, но всегда сопряжена и
с величайшими страданиями. Если бы Стендаль
оценивал свое искусство в терминах «удовольст-
вия» и «боли», не было бы прорыва от «Челове-
ка, которому внушали страх правила поведения»
к вершинам его творчества.
• Жизнь Анри Ьрюлара», «О любви»
Вместо того чтобы пить пиво на равнине, при-
зывал Ницше, лучше вытерпеть все трудности
восхождения в горы. Архитекторам, проектиру-
ющим города, он предлагал:
1 Там же. Отдел седьмой: Наши добродетели, 225.
3(И
Утешение философией
«Тайпа пожинать величайшие плоды и
величайшее наслаждение от существования
зовется: опасно житъ\ Стройте своп города у
Везувия!»1
Извержение Везувия в 1879 году, за три года
до того, как были написаны приведенные
выше строки.
И если человек все же испытывал искушение
напиться, но при этом был не очень высокого мне-
ния о христианстве, Ницше приводил еще один
аргумент в пользу воздержания. Любой, кто пьет,
утверждал он, придерживается в душе христиан-
ского взгляда на жизнь:
1 Ницше Ф. Веселая наука, 283. Перевод К. А. Сва-
сьяна.
365
Ален де Боттон
«Чтобы верить, что вино просветляет, для
этого я должен был бы быть христианином,
стало быть, верить в то, что является для меня
абсурдом»1.
18
С христианством Ницше был знаком ближе,
чем с алкоголем. Он родился в крохотной дере-
вушке Рёккен в Саксонии, неподалеку от Лейпци-
га. Его отец, Карл Людвиг Ницше, был пастором,
глубоко верующая мать родилась в семье пастора
Давида Эрнста Элера, который читал проповеди в
деревне Поблес, в часе пути от Рёккена. Сын четы
Ницше был окрещен на собрании всех местных
церковнослужителей в Рёккене в октябре 1844
года.
1 Ницше Ф. Ес,се Хомо. Почему я так умен, 1. Перевод
10. М. Антоновского.
3«(>
Утешение философией
Фридрих обожал отца, умершего, когда сыну
было всего четыре года, и преклонялся перед его
памятью всю жизнь. Однажды, выиграв иск про-
тив книгоиздателя в 1885 году и получив неболь-
шую сумму денег, он заказал надгробную плиту на
могилу отца и высек на ней цитату из Послания
к коринфянам:
Die Liebe horet nimmer auf.
Любовь никогда не перестает).
«Он был совершенным воплощением дере-
венского пастора, — вспоминал Ницше о Кар-
ле Людвиге. — Высокая гибкая фигура, лицо
с топкими чертами, дружелюбный и доброде-
тельный. Его везде встречали с радостью и за
остроумие в разговоре, и за теплую симпатию;
его любили и почитали крестьяне, получавшие
от пего благословение как от своего духовного
пастыря и словом, и делом».
Тем не менее сыновняя любовь не мешала
Ницше испытывать глубочайшие сомнения в
отношении того утешения, которое и его отец, и
христианство в целом могли бы предложить стра-
дающим:
«Я выдвигаю против христианской церкви
страшнейшее из всех обвинений, какие только
когда-нибудь бывали в устах обвинителя. По-мо-
1 1 Кор. 13:8.
367
Ален де Боттон
ему, это есть высшее из всех мыслимых извраще-
ний... Христианская церковь ничего не оставила
нетронутым в своей порче, она обесценила всякую
ценность, из всякой истины она сделала ложь, из
всего честного — духовную низость... Я называю
христианство единым великим проклятием, еди-
ной великой внутренней порчей»1. «Хорошо де-
лают, если надевают перчатки при чтении Нового
Завета. Близость такой массы нечистоплотности
почти вынуждает к этому... Сплошная трусость,
сплошное закрывание глаз и самообман... Нужно
ли говорить еще, что во всем Новом Завете встре-
1 Ницше Ф. Антихрист, 62. Перевод В. А. Флеровой.
368
Утешение философией
чается только единственная фигура, достойная
уважения? Пилат, римский правитель»1.
Вывод прост:
«Неприлично теперь быть христиани-
ном»1 2.
19
Какое утешение в наших несчастьях пред-
лагает нам Новый Завет? Он говорит, что
многие из них вовсе не несчастья, а добро-
детели.
Если человека тревожит собственная ро-
бость, Новый Завет утешает:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю»3.
Если человек страдает оттого, что у него
нет друзей, Новый Завет говорит:
«Блаженны вы, когда возненавидят вас
люди и когда отлучат вас и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное... Возра-
1 Там же, 48.
2 Там же, 38.
3 Мф. 5 : 5.
369
Ален де Боттон
дуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика
вам награда на небесах»1.
Если человек восстает против эксплуата-
ции, Новый Завет поучает:
«Рабы, во всем повинуйтесь господам ва-
шим по плоти... Зная, что в воздаяние от Го-
спода получите наследие; ибо вы служите Го-
споду Христу»1 2.
Если человек страдает от безденежья, Но-
вый Завет утверждает:
«Удобнее верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти в Царствие
Божие»3.
Может быть, между такими словами и пьянст-
вом и есть различие, но Ницше настаивал, что по
сути они одинаковы. И христианство, и алкоголь
обладают властью убедить нас: тем, что мы счита-
ли своими недостатками, да и всем миром вокруг
нас, можно пренебречь; и христианство, и алко-
голь ослабляют нашу готовность разрешать свои
проблемы; и христианство, и алкоголь лишают
нас возможности свершений; Ницше называл их
«двумя сильными европейскими наркотиками»4.
1 Лк. 6:22-23.
- Кол. 3:22, 24.
3 Мк. 10:25.
Z| Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют
молотом. Чего недостает немцам, 2. Перевод Н. Полилова.
370
Утешение философией
Христианство возникло, по мнению Ницше,
в робких умах рабов Римской империи, которым
не хватало мужества для восхождения на верши-
ны и которые поэтому создали для себя филосо-
фию, утверждающую, что их слабость и низость
похвальны. Христиане хотели бы наслаждаться
всеми элементами настоящего свершения (поло-
жением в обществе, сексом, интеллектуальным
могуществом, творчеством), но им не хватало
духа вынести все трудности, которых требовало
достижение этих благ. Поэтому они создали лице-
мерное учение, осуждающее все, чего они хотели
бы, но из-за своей слабости не могли достичь, и
превозносящее качества нежеланные, но прису-
щие им. Бессилие превратилось в «праведность»,
слабость — в «кротость», подчинение ненавист-
ным хозяевам — в «послушание», неспособность
отомстить — в «прощение». Каждое проявление
слабости получило освящающее его название, его
заставили казаться «добровольной повинностью...
позволенным, предпочтенным, неким деянием,
некой заслугой»^. Преданные «религии удобства»
христиане в своей системе ценностей стали отда-
вать предпочтение тому, чего достичь легко, а не
тому, что желанно, и тем самым лишили жизнь
ее потенциала.
1 Ницше Ф. К генеалогии морали. Рассмотрение пер-
вое. «Добро и зло», «хорошее и плохое», 13. Перевод
К. А. Свасьяна.
371
Ален де Боттон
20
Христианский взгляд на трудности свойствен
не одним только верующим, принадлежащим к
христианской церкви: для Ницше это постоянно
существующая психологическая возможность.
Мы все оказываемся христианами, когда изобра-
жаем безразличие к тому, чего втайне желаем, но
не имеем; когда мы весело говорим, будто не ну-
ждаемся в любви или положении в обществе, в
деньгах или успехе, в таланте или здоровье, — а
губы у нас кривятся от горечи; когда мы ведем
безмолвную борьбу с тем, от чего публично отре-
клись.
Как, согласно взглядам Ницше, нам следова-
ло бы подходить к своим неудачам? Продолжать
верить в то, к чему мы стремимся, даже когда мы
этого не имеем и, возможно, никогда не обретем.
Другими словами, сопротивляться искушению
чернить и поносить блага потому, что их оказа-
лось трудно достичь, — стиль поведения, лучшей
моделью которого, возможно, служит собственная,
бесконечно трагичная жизнь Ницше.
21
Эпикур с раннего возраста был одним из лю-
бимых древних философов Ницше; он называл
его позднеантичным успокоителем души, одним
из самых великих людей, изобретателем героико-
372
Утешение философией
идиллического стиля философствования. Особен-
но привлекала его идея Эпикура о том, что для
счастья необходимо жить среди друзей. Однако
сам Ницше редко получал удовлетворение от об-
щения. «Наша судьба — быть интеллектуальными
отшельниками и лишь изредка вступать в беседу с
единомышленниками», — писал он Паулю Дейс-
сену. В тридцать лет он создал гимн одиночест-
ву — «Hymnus auf die Einsamkeit», который ему
не хватило мужества закончить.
Не меньше огорчений доставлял Ницше по-
иск жены. Проблема отчасти заключалась в его
внешности — необыкновенно больших усах, как
у моржа, — и отчасти в стеснительности, которая
рождала неуклюжие чопорные манеры отставного
полковника. Весной 1876 года во время поездки в
Женеву Ницше влюбился в двадцатитрехлетнюю
блондинку с зелеными глазами, Матильду Трам-
педах. Во время разговора о поэзии Генри Лонг-
фелло Ницше упомянул, что никогда не видел
перевода на немецкий «Эксельсиора». Матильда
ответила, что у нее он есть, и предложила пере-
писать его для Ницше. Тот счел это благоприят-
ным знаком и пригласил девушку на прогулку.
Матильда пришла, захватив с собой в качестве
дуэньи свою квартирную хозяйку. Через несколь-
ко дней Ницше предложил поиграть для Матиль-
ды на рояле; при следующей встрече профессор
классической филологии Базельского универ-
ситета, тридцати одного года от роду, попросил
373
Ален де Боттон
ее руки. «Не кажется ли вам, что совместно мы
станем лучше и свободнее, чем поодиночке, более
excelsior? — спрашивал игривый полковник. —
Решитесь ли вы пойти со мной по дорогам жизни
и размышлений?» Матильда не решилась.
Целая цепочка подобных отказов не могла не
возыметь своего действия. Наблюдая его депрес-
сию и ухудшающееся здоровье, Рихард Вагнер ре-
комендовал одно из двух лекарств: «Он должен или
жениться, или написать оперу». Однако написать
оперу Ницше не мог; он явно не обладал талан-
том для создания даже мало-мальски приличной
мелодии. (В июле 1872 года он послал дирижеру
Гансу фон Бюлову написанный им фортепьянный
дуэт с просьбой о честной оценке. Ответ музыкан-
та гласил: более фантастически экстравагантного,
более возмутительного и антимузыкального набо-
ра нот ему давно не приходилось видеть. Он даже
предположил, что Ницше его разыгрывает. «Вы
назвали свою музыку «ужасной», — писал он. —
Такова она и есть».)
Вагнер проявлял настойчивость. «Ради Бога,
женитесь на богатой женщине!» — убеждал он
Ницше и даже связался с его врачом, Отто Эйзе-
ром; оба они придерживались мнения, что плохое
здоровье философа связано с чрезмерным увлече-
нием мастурбацией. Вагнер не улавливал иронии
ситуации: единственной богатой женщиной, в ко-
торую Ницше был влюблен, являлась его собст-
венная жена, Козима Вагнер. Многие годы Ницше
374
Утешение философией
старательно выдавал свои чувства за дружескую
заботу. Один-едипствепный раз он настолько за-
былся, что обнаружил истинное отношение: «Ари-
адна, я тебя люблю», — написал он в открытке,
подписанной «Дионис» и посланной Козиме в
начале января 1889 года из Турина.
Впрочем, иногда он соглашался с мнением
Вагнера о важности супружества. В письме к
женатому другу Францу Овербеку он жаловался:
«Благодаря жене вам живется во сто раз лучше,
чем мне. У вас есть гнездышко, у меня же — в
лучшем случае пещера. Редкие контакты с людь-
ми для меня праздник, освобождение от «я»».
375
Ален де Боттон
В 1882 году у Ницше возродилась надежда на
то, что он нашел подходящую жену — Лу Андре-
ас-Саломэ, свою величайшую и самую мучитель-
ную любовь. Ей был двадцать один год, она была
красива, умна, кокетлива и увлечена философией
Ницше. Он был перед ней беззащитен.
«Я не хочу больше быть одиноким, хочу сно-
ва научиться быть человеческим существом. Ах,
здесь мне придется учиться практически все-
му!» — писал он Лу Саломэ.
Они провели вместе две недели в Таутенбурге
и Люцерне, где с их общим другом Полем Рэ по-
зировали для необычной фотографии.
Однако Лу больше интересовалась Ницше как
философом, чем как супругом. Отказ погрузил его
в новую долгую и тяжелую депрессию.
«Моя неуверенность в себе стала теперь без-
мерной, — писал он Францу Овербеку, — все, что
случается услышать, заставляет меня думать, что
люди презирают меня». Ницше испытывал особую
горечь в отношении своих матери и сестры, кото-
рые вмешивались в его отношения с Лу, и порвал
с ними, чем еще более углубил свое одиночество
(«Мне неприятна моя мать, а слушать голос се-
стры мне мучительно. Находясь с ними, я всегда
заболеваю», — писал он Овербеку).
Ницше преследовали и профессиональные
неудачи. Пока он пребывал в здравом уме, его
книги продавались плохо: обычно по нескольку
сот экземпляров, никогда не больше 2000. Имея
376
Утешение философией
лишь небольшую пенсию и несколько акций, по-
лученных в наследство от тетки, философ редко
мог позволить себе покупку новой одежды, так
что в конце концов, по собственным словам, вы-
глядел как ободранная овца. В отелях он останав-
ливался в самых дешевых номерах, часто не мог
расплатиться вовремя, вынужден был экономить
на дровах и отказывать себе в любимых ветчине
и колбасах.
Здоровье Ницше также было слабым. Еще со
школьных лет он страдал множеством недомога-
ний: головными болями, несварением желудка,
тошнотой, головокружением, близорукостью и
бессонницей; многое из этого было симптомами
сифилиса, которым он, вероятно, заразился в
феврале 1865 года в публичном доме в Кельне
(хотя Ницше и утверждал, что ни к чему, кроме
рояля, там не прикасался). В письме к Мальвиде
фон Мейзенбуг, написанном через три года после
поездки в Сорренто, Ницше признавался: «Что
касается мучений и самоотречения, моя жизнь в
последние годы может сравниться с жизнью лю-
бого аскета всех времен». Своему врачу он сооб-
щал:
«Постоянные боли, чувство, что наполо-
вину парализован, состояние, напоминающее
морскую болезнь, когда мне едва удается го-
ворить, — все это длится по нескольку часов
в день. Для развлечения мне выпадают жесто-
377
Ален де Боттон
чайшие припадки (во время последнего меня
рвало три дня и три ночи; я жаждал смерти).
Не могу читать! Только изредка могу писать!
Не могу общаться с близкими! Не могу слу-
шать музыку!»
Наконец, в начале января 1889 года в Турине
рассудок его сдал окончательно: на пьяцца Карло
Альберто он стал обнимать лошадь и был отнесен
в пансион, в котором жил. Ницше намеревался
застрелить кайзера, объявить войну антисемитам,
считал себя — в зависимости от времени суток —
Дионисом, Иисусом, Богом, Наполеоном, королем
Италии, Буддой, Александром Великим, Цезарем,
Вольтером, Александром Герценом и Рихардом
Вагнером. Его посадили в поезд и отправили в
Германию, где он и находился в психиатрической
лечебнице под присмотром престарелой матери и
сестры до своей смерти одиннадцатью годами по-
зже в возрасте пятидесяти пяти лет.
22
И все же, несмотря на ужасное одиночество,
непризнание, бедность, болезни, Ницше не был
склонен к поведению, в котором обвинял христи-
ан: он не восставал против дружбы, не обличал
известность, богатство, благополучие. Аббат Гали-
ани и Гёте оставались его героями. Хотя Матильда
Трампедах не захотела ничего, кроме разговоров с
378
Утешение философией
Ницше о поэзии, он продолжал верить, что «про-
тив мужской болезни самопрезрения вернее всего
помогает любовь умной женщины»1.
Будучи болезненным и не обладая умени-
ем Монтеня или Стендаля держаться в седле, он
твердо верил в необходимость активной жизни:
«Ранним утром, в начале дня, во всей свежести,
на утренней заре своих сил читать книгу — это
называю я порочным!»1 2
Ницше изо всех сил боролся за то, чтобы быть
счастливым, но, не преуспев, не обращался про-
тив того, к чему когда-то стремился. Оп оставался
предан тому, что в его глазах было наиболее важ-
ной характеристикой благородного человеческого
существа: быть тем, кто «больше не отрицает».
23
После семи часов подъема, в основном под
дождем, до вершины пика Корвач я добрался в
полном изнеможении; я оказался высоко над об-
лаками, скрывавшими долину Энгадина.
В рюкзаке у меня была фляга, сэндвич с эм-
ментальским сыром и конверт с эмблемой отеля
«Эдельвейс» в Сильс-Марии, па котором я тем
утром записал высказывание любившего горы фи-
1 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. От-
дел седьмой: Женщина и дитя. 384. Перевод С. Л. Франка.
2 Ницше Ф. Ессе Хомо. Почему я так умен, 8. Перевод
10. М. Антоновского.
379
Ален де Боттон
лософа. Моим намерением было, повернувшись
лицом к Италии, прочесть его вслух ветру и ска-
лам на высоте 3400 метров.
Как и его отец-пастор, Ницше видел свое пред-
назначение в том, чтобы приносить утешение.
Как и его отец, он стремился указать нам путь к
свершениям. Однако в отличие от священнослу-
жителей, дантистов, которые спешат вырвать при-
чиняющий страдания зуб, и садовников, уничто-
жающих растения с уродливыми корнями, Ницше
считал трудности необходимым условием успеха,
а потому видел в сладких утешениях скорее же-
стокость, чем помощь.
Он считал, что худшая болезнь человека заро-
дилась из способа, которым он борется со своими
недомоганиями. То, что представляется лекарст-
вом, в конце концов оказывается хуже того, что
требуется излечить. Средства кратковременного
действия, отупляющие и ядовитые, так называ-
емые утешения, по невежеству принимаются за
настоящие целительные снадобья. Тот факт, что
за временное облегчение часто приходится рас-
плачиваться значительным ухудшением, остается
незамеченным.
Не все то, благодаря чему мы чувствуем себя
лучше, для нас полезно. Не все из того, что при-
чиняет боль, может оказаться вредным.
380
Утешение философией
«Смотреть на бедствия всякого рода как на
возражение, как на нечто, что подлежит уничто-
жению, есть niaiserie par excellence [величайший
идиотизм], есть вообще истинное несчастье по
своим последствиям, роковая глупость — почти
столь же глупая, как глупа была бы воля, поже-
лавшая уничтожить дурную погоду А
1 Нищие Ф. Ессе Хомо. Почему являюсь я роком, 4.
Перевод К). М. Антоновского.
Оглавление
I. Философское утешение для тех,
кто не пользуется популярностью...............5
И. Философское утешение для тех,
кто страдает от безденежья...................63
III. Философское утешение для тех,
кто страдает от жизненных неудач................103
IV. Философское утешение для тех,
кто чувствует себя
не соответствующихМ требованиям................164
V. Философское утешение для тех,
чье сердце разбито..............................261
VI. Философское утешение для тех,
кто испытывает невзгоды.........................317
Литературно-художественное издание
Ален де Боттон
УТЕШЕНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ
Ответственный редактор М. Яновская
Художественный редактор А. Сауков
Технический редактор Г. Романова
Компьютерная верстка Л. Панина
Корректор М. Колесникова
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411 -68-86,8 (495) 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
©нд|рушг «ЭКСМО» АКБ Баспасы, 123308, Маскеу, Ресей, Зорге кешей, 1 уй.
Тел. 8 (495) 411 -68-86,8 (495) 956-39-21
Ноте page: www eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
TayapOennci «Эксмо»
Казахстан Республикасында дистрибьютор жене ен!м бойынша
арыз-талаптарды кабылдаушыныц
exini «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы к., Домбровский кеш , 3«а», литер Б, офис 1.
Тел/ 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92, факс. 8 (727) 251 58 12 вн. 107, E-mail- RDC-Almaty@eksmo.kz
0н1мн1ц жарамдылык мерз1м) шектелмеген.
Сертификация туралы акпарат сайтта www eksmo ru/certificatoon
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно
законодательству РФ о техническом регулировании можно
получить по адресу: http://eksmo.ru/certification/
Онд|рген мемлекет: Ресей
Сертификация карастырылмаган
Подписано в печать 20.01.2014. Формат 76x1 ОО1^.
Гарнитура «Нью-Стандарт». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,89.
Тираж экз. Заказ
ISBN 978-5-699-70881-9
||11111111|И111|
9,,785699|,70881911: