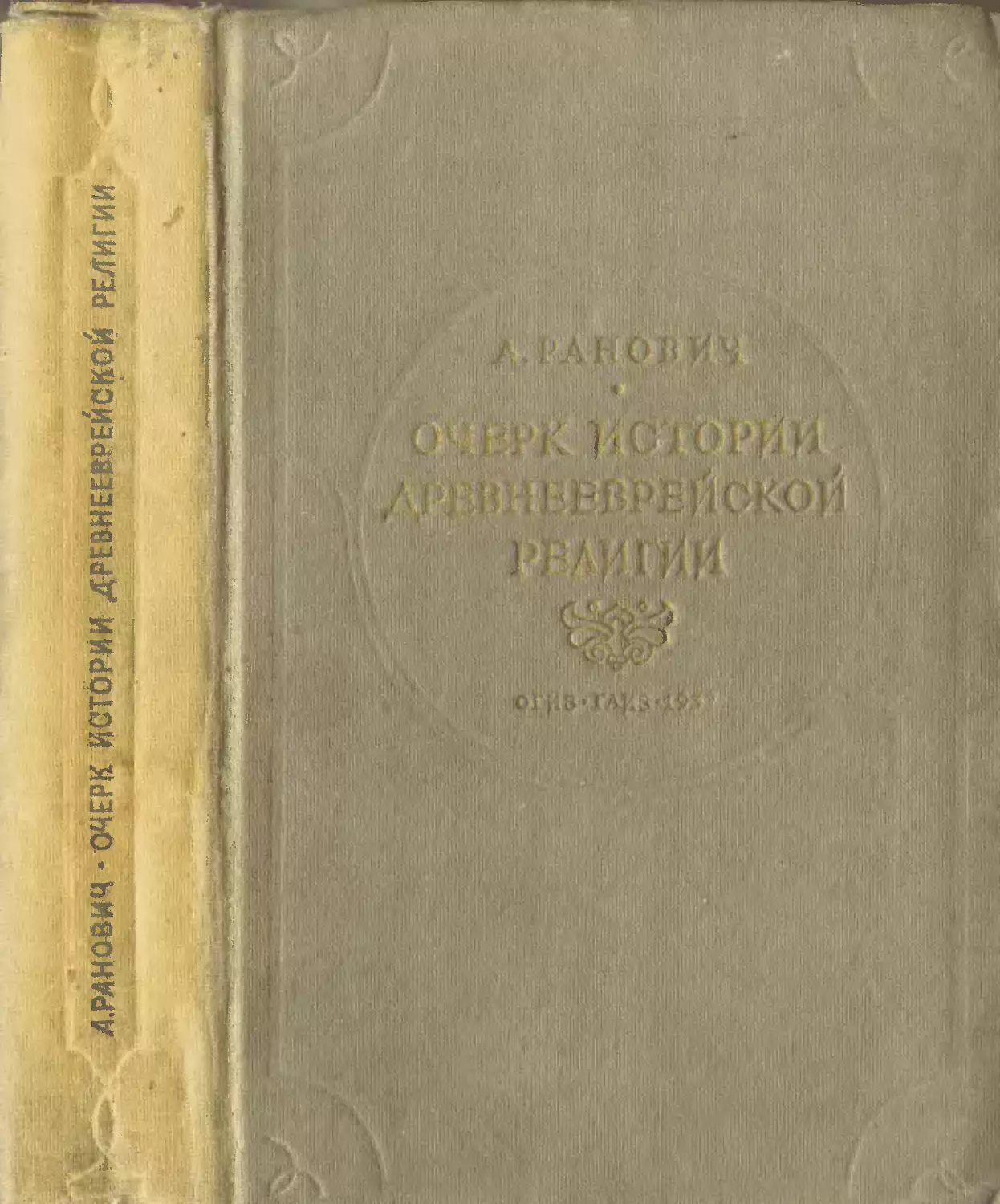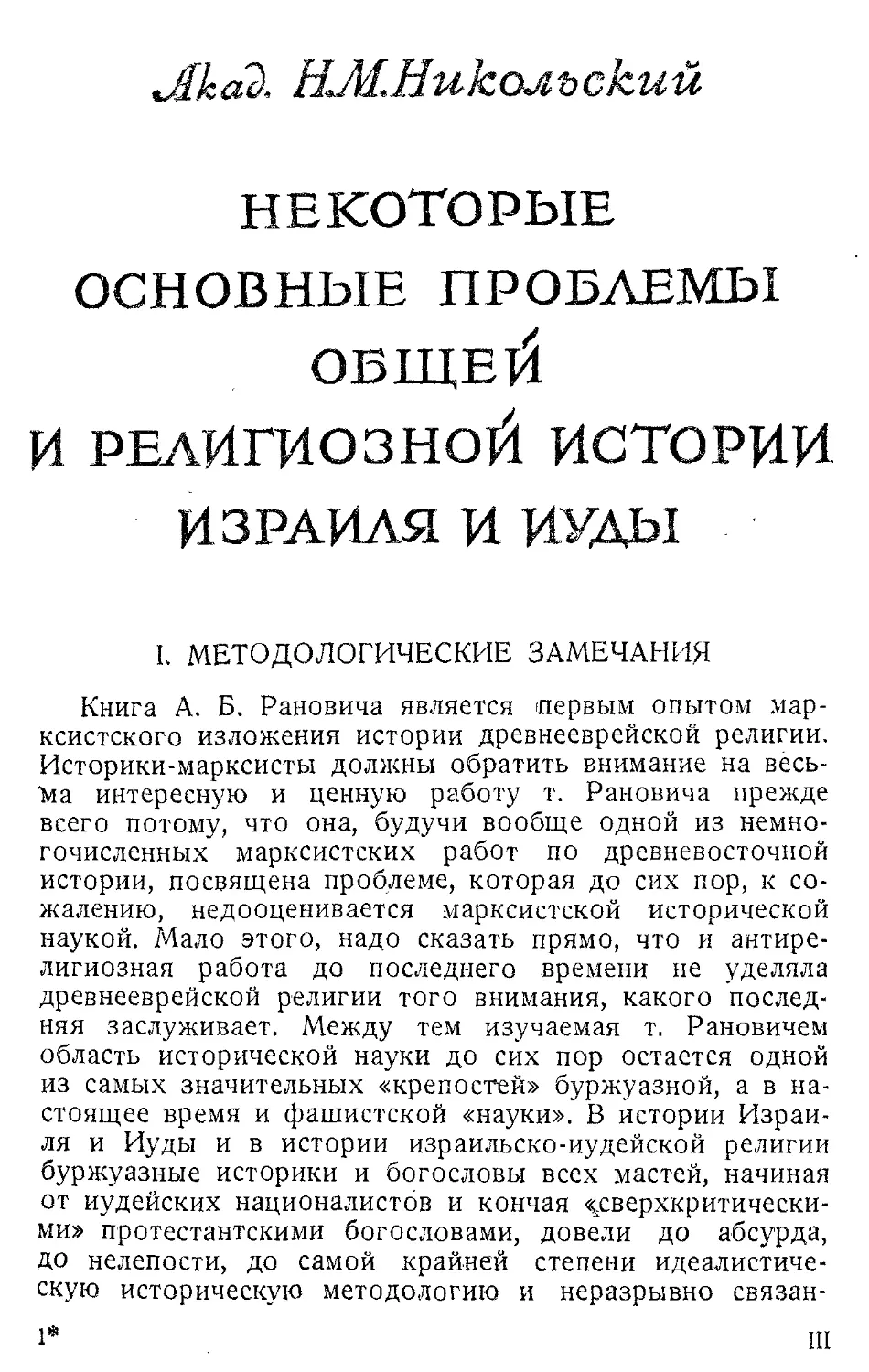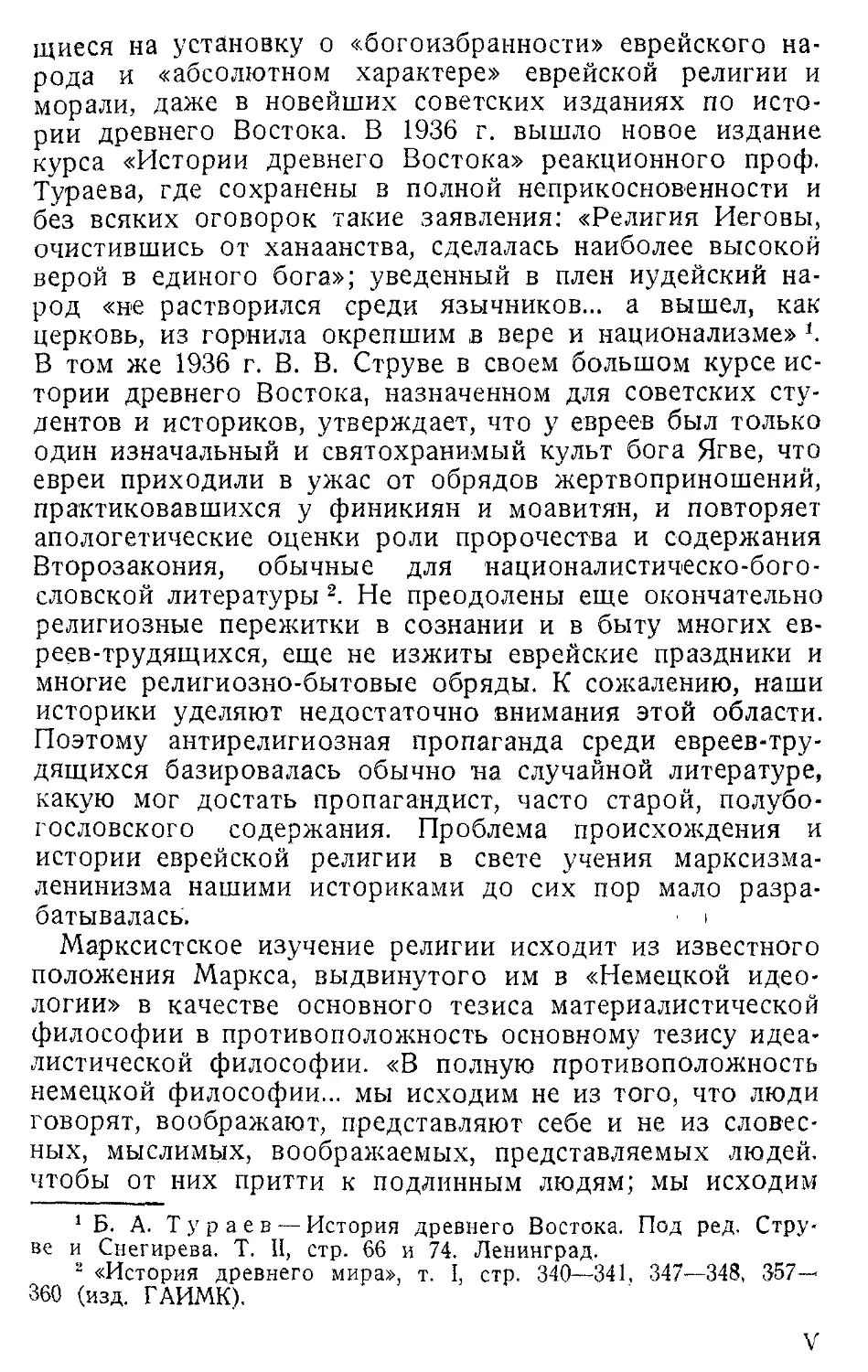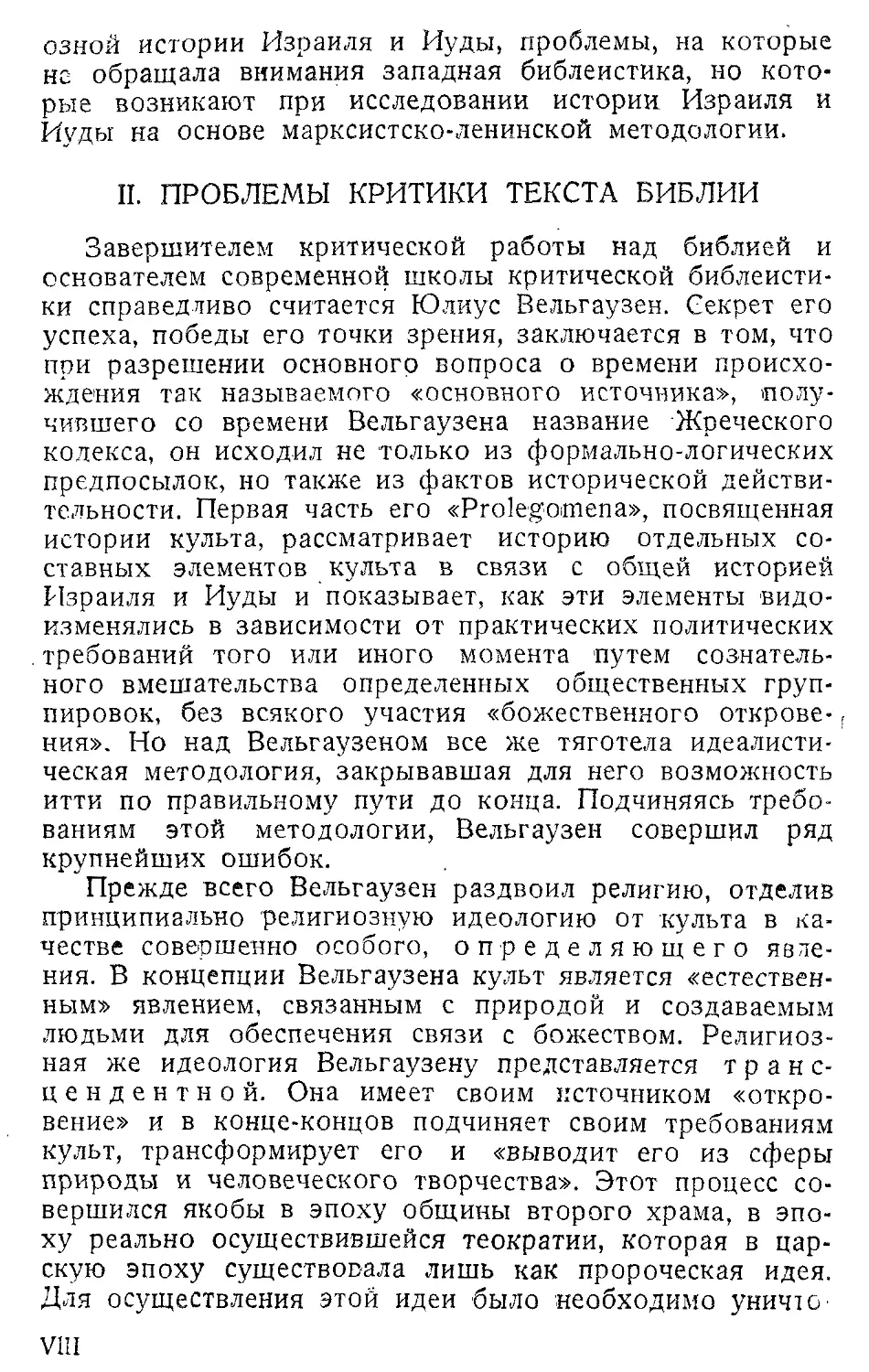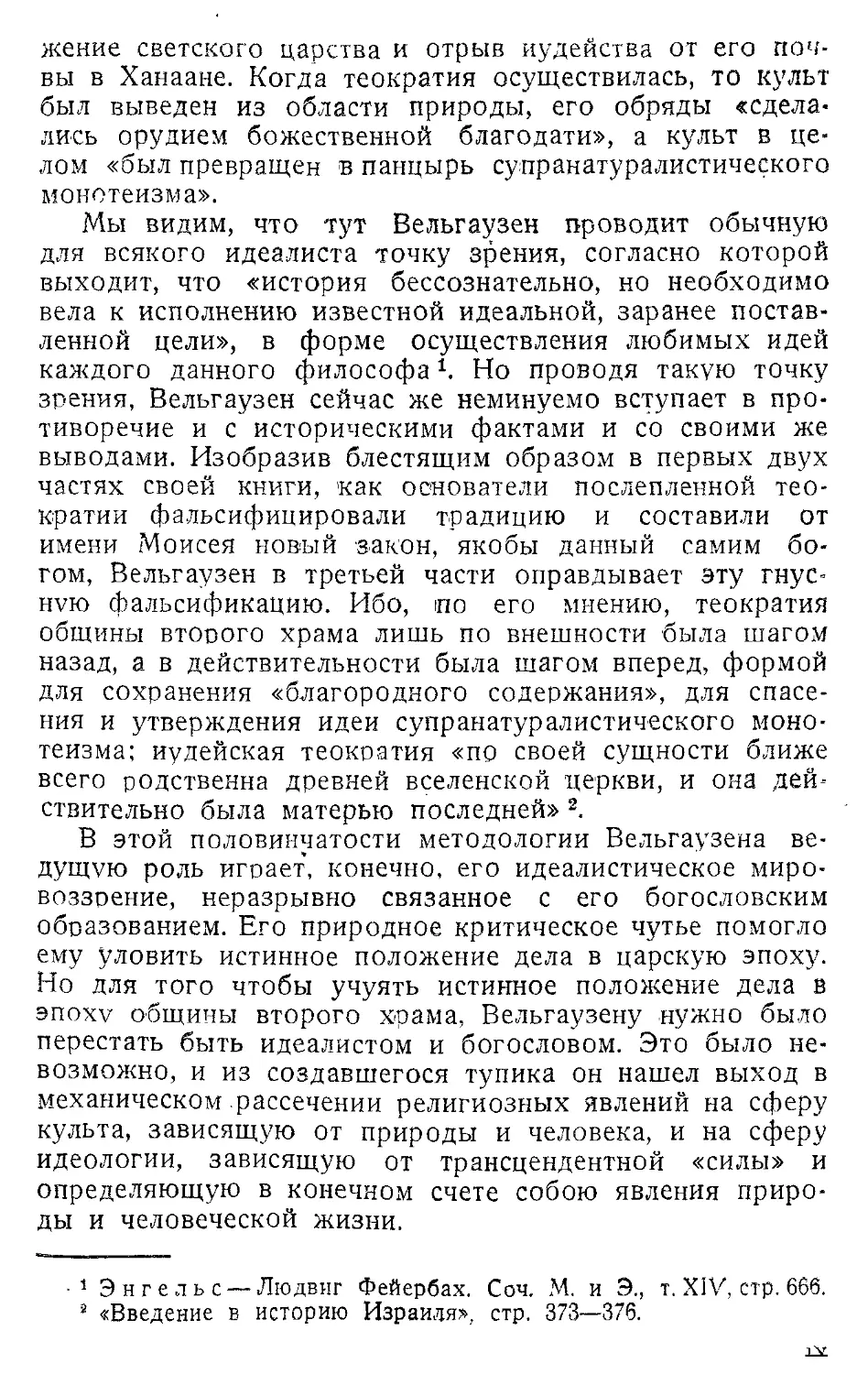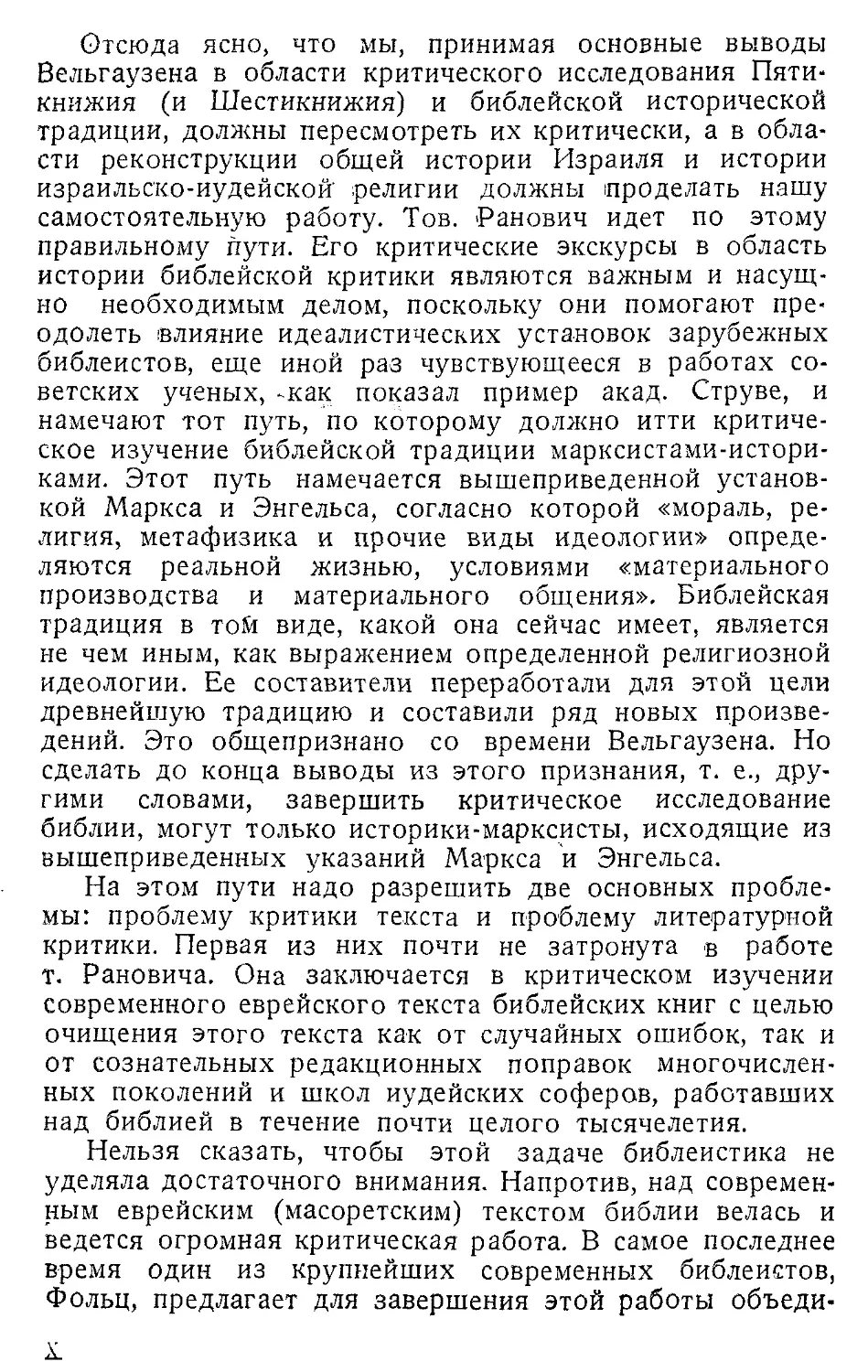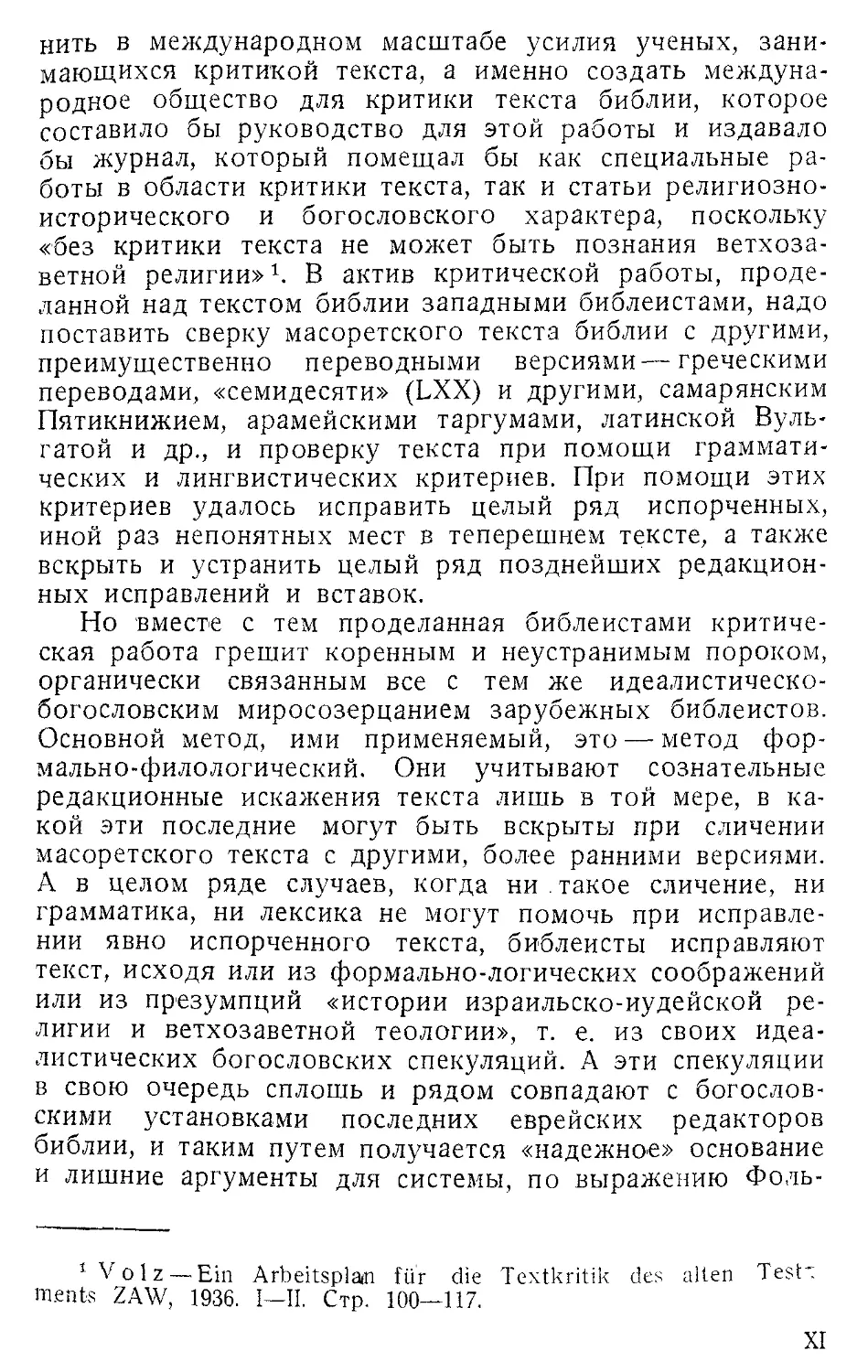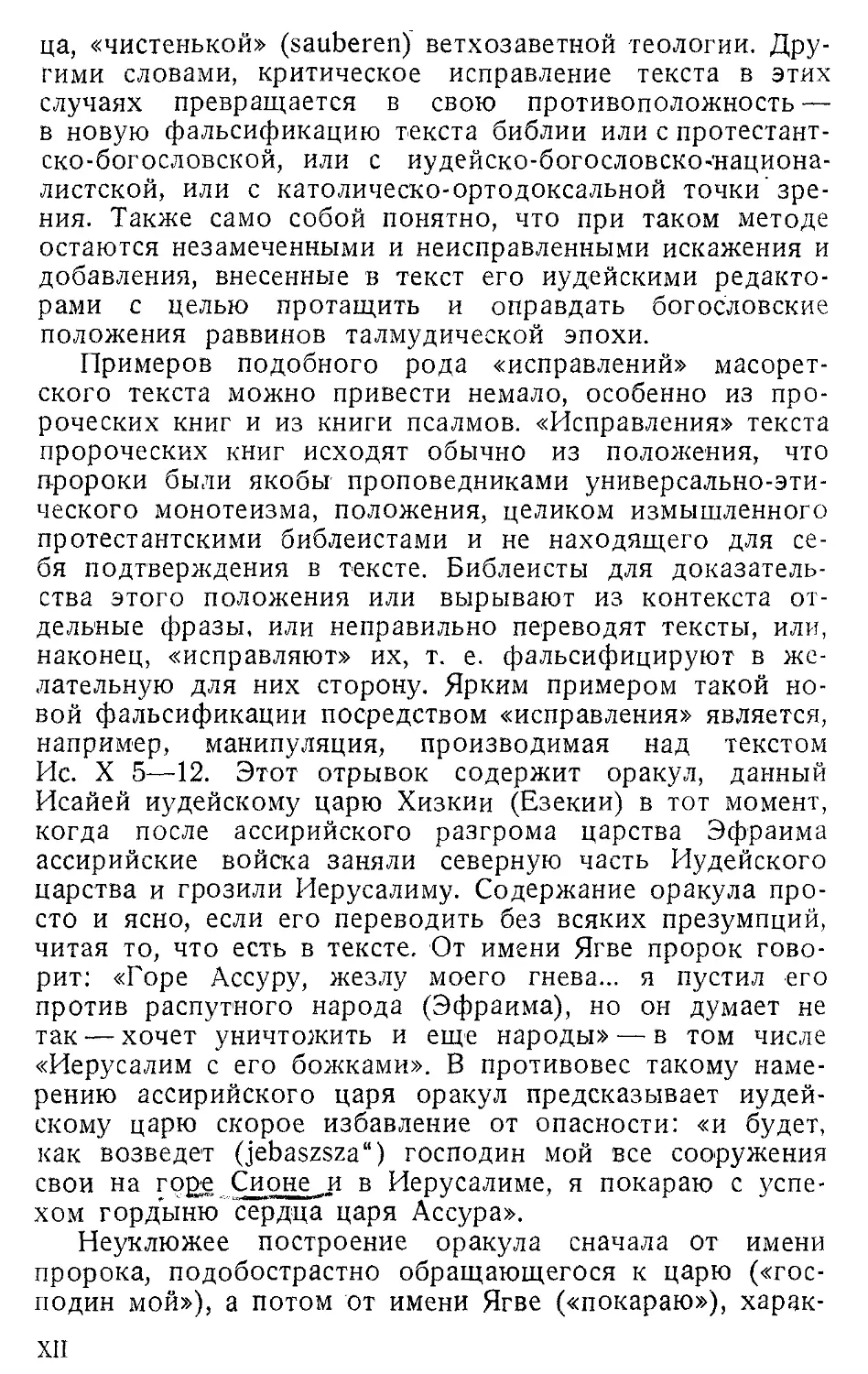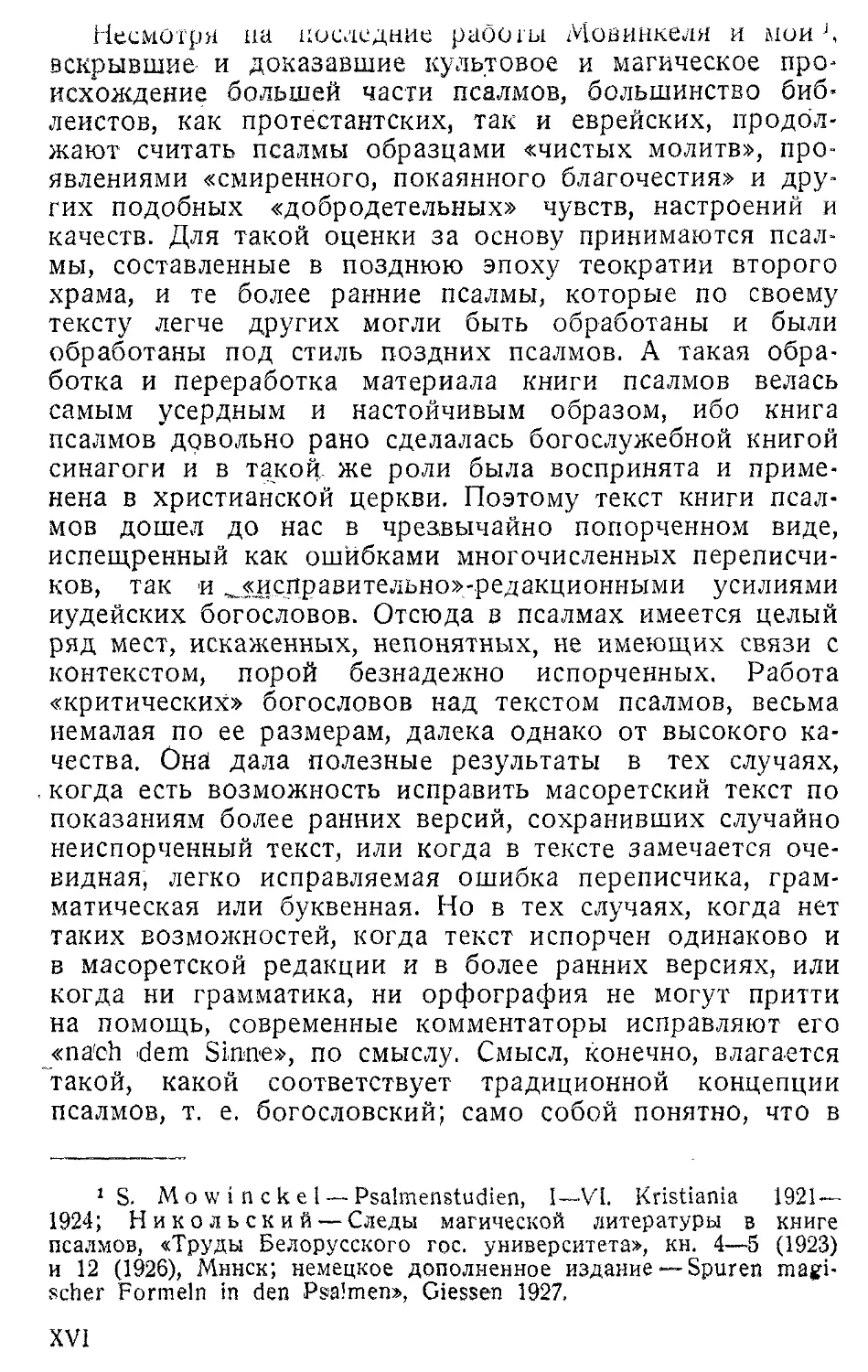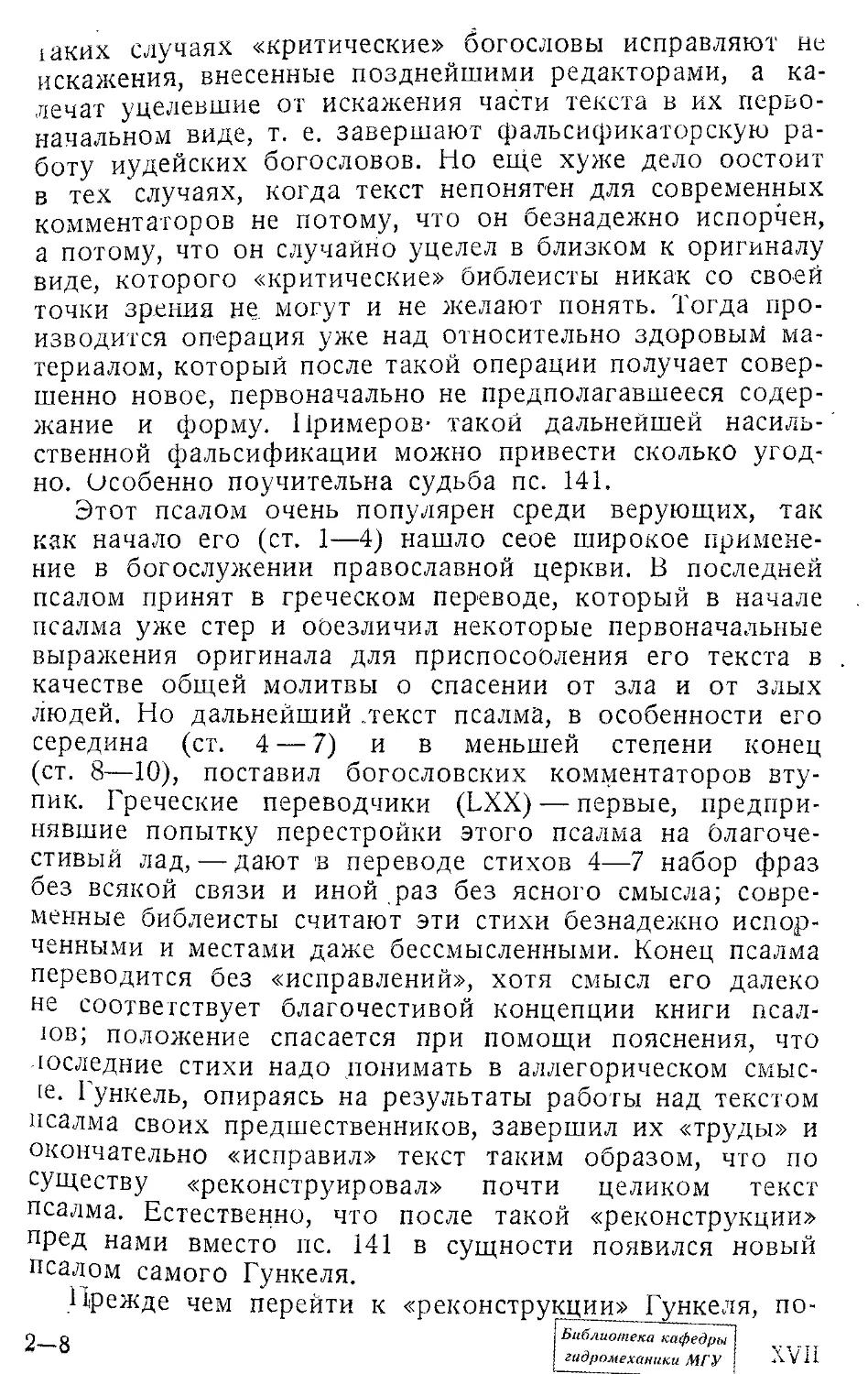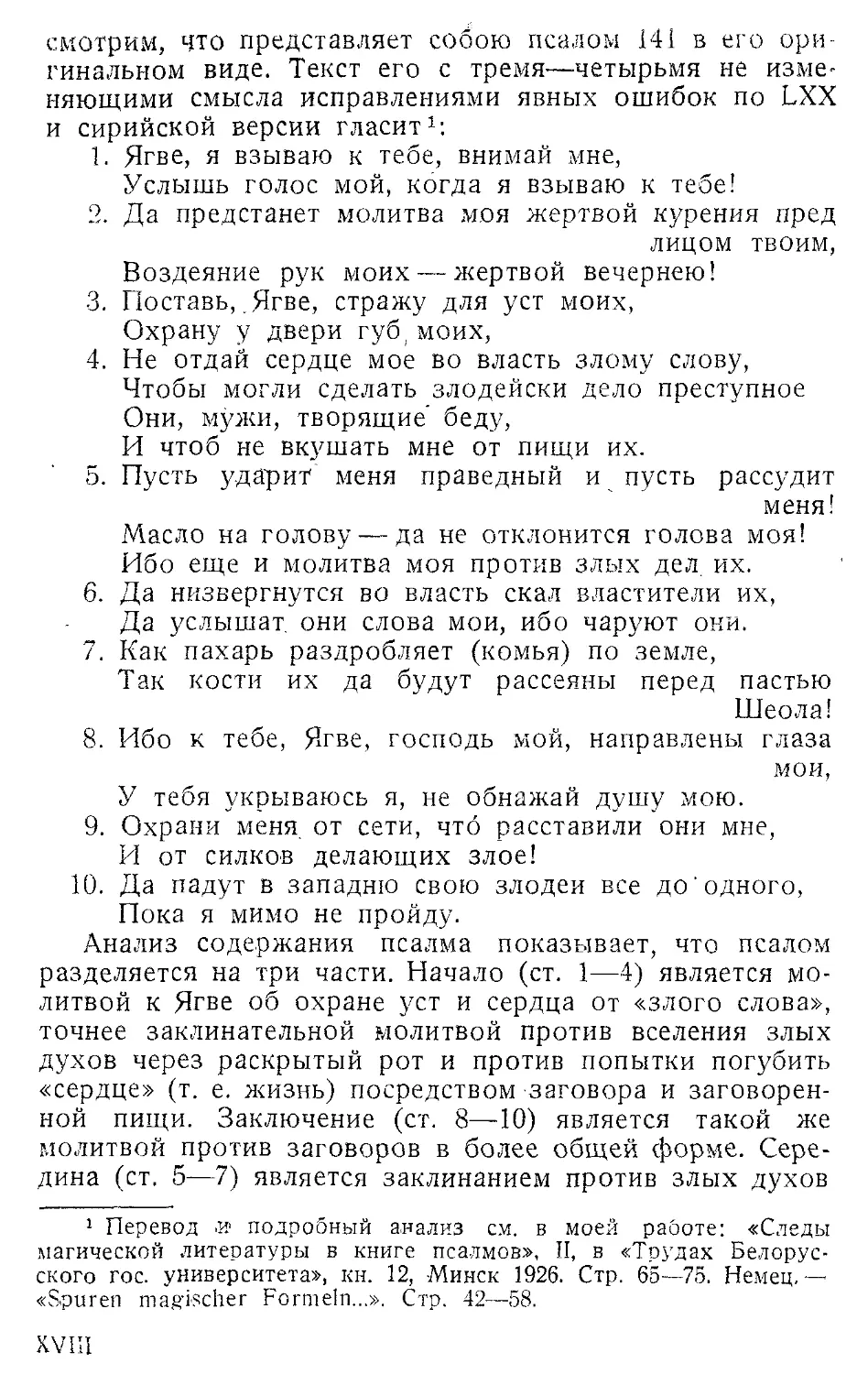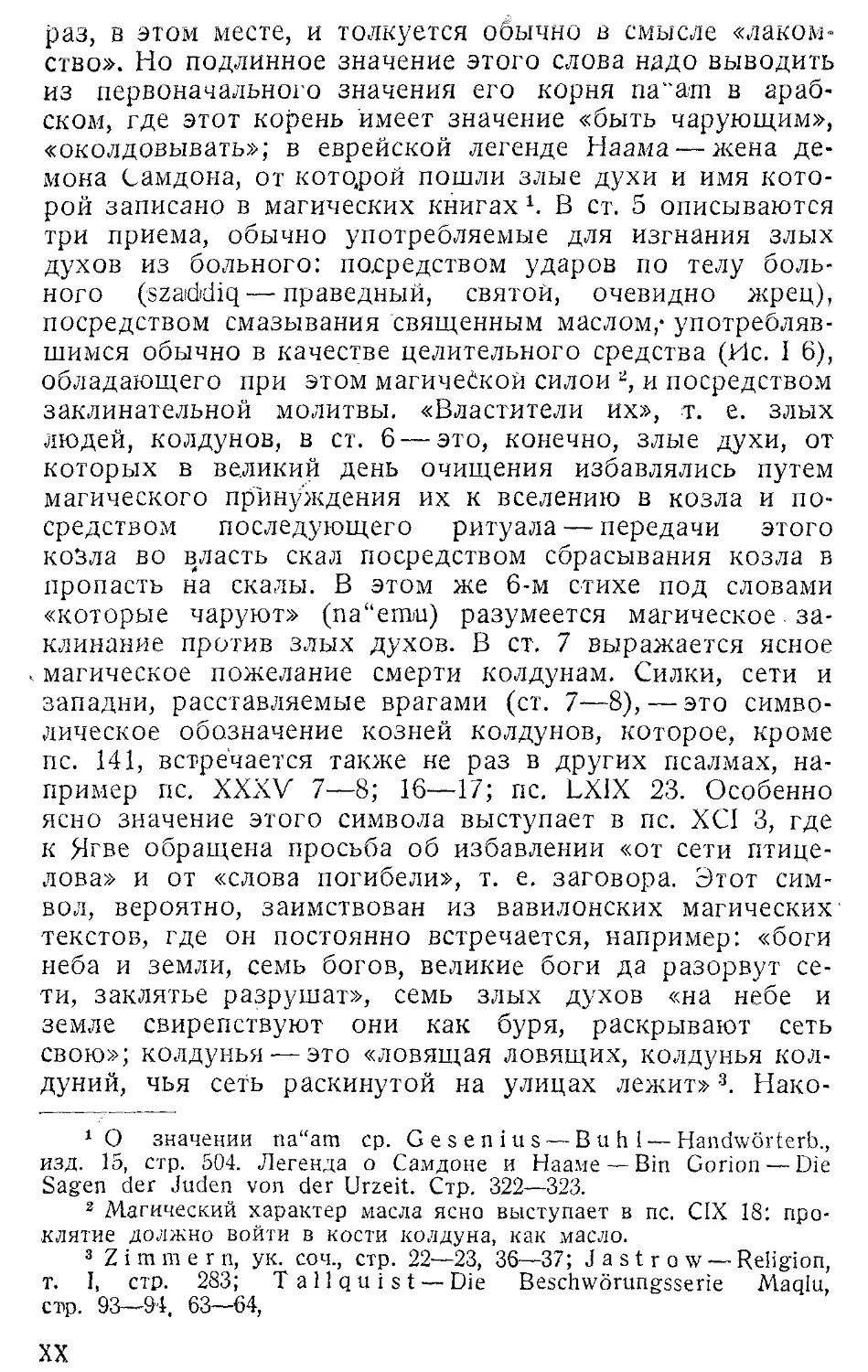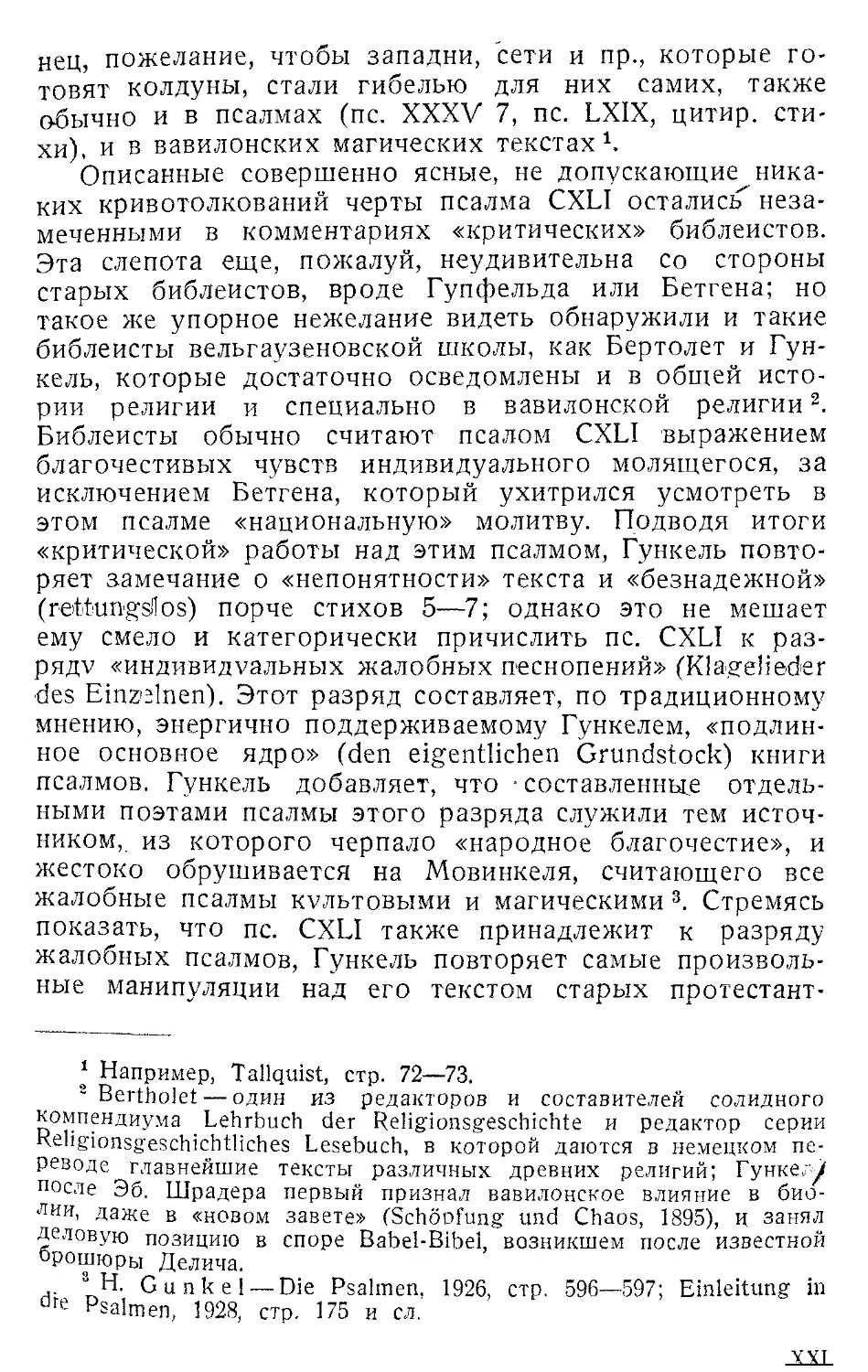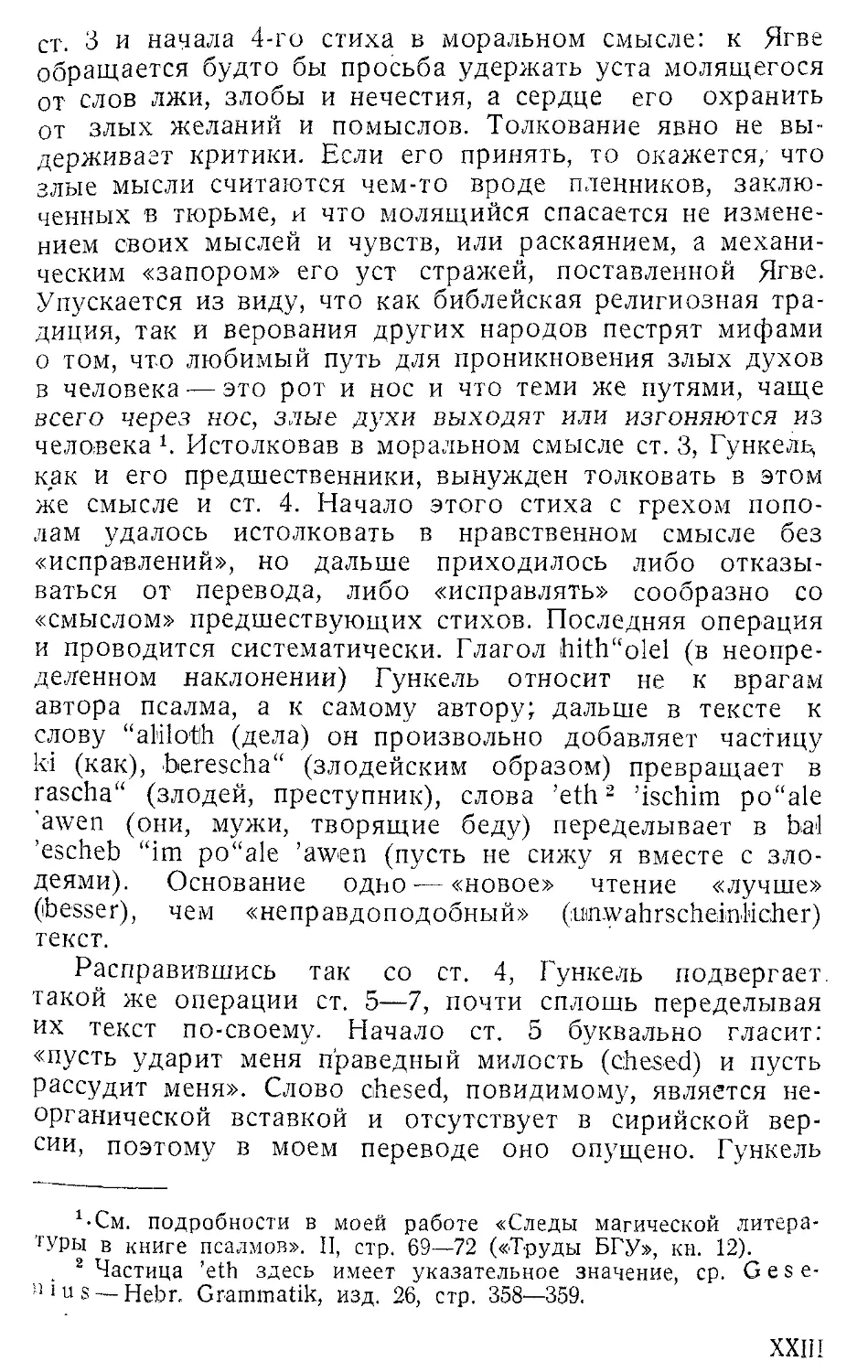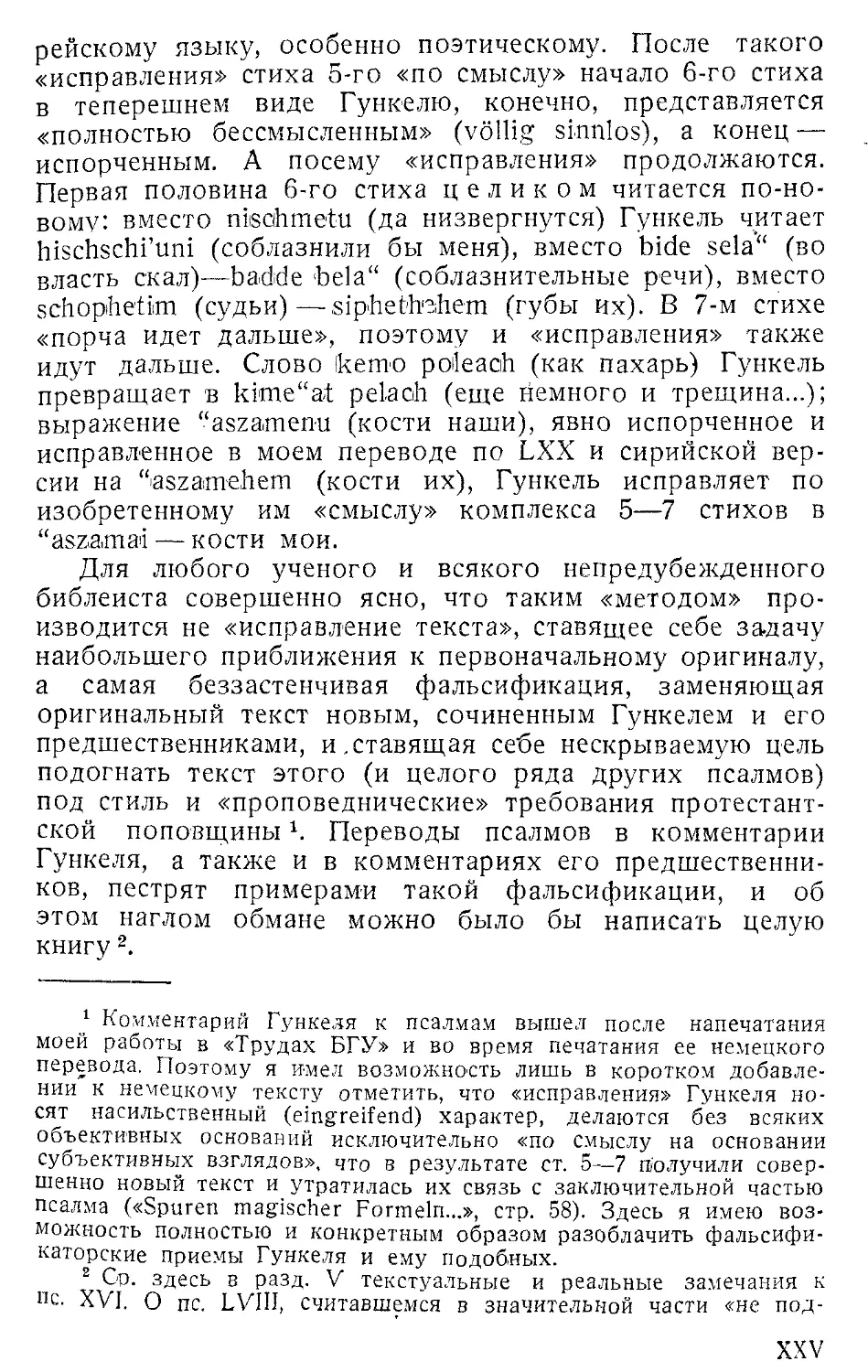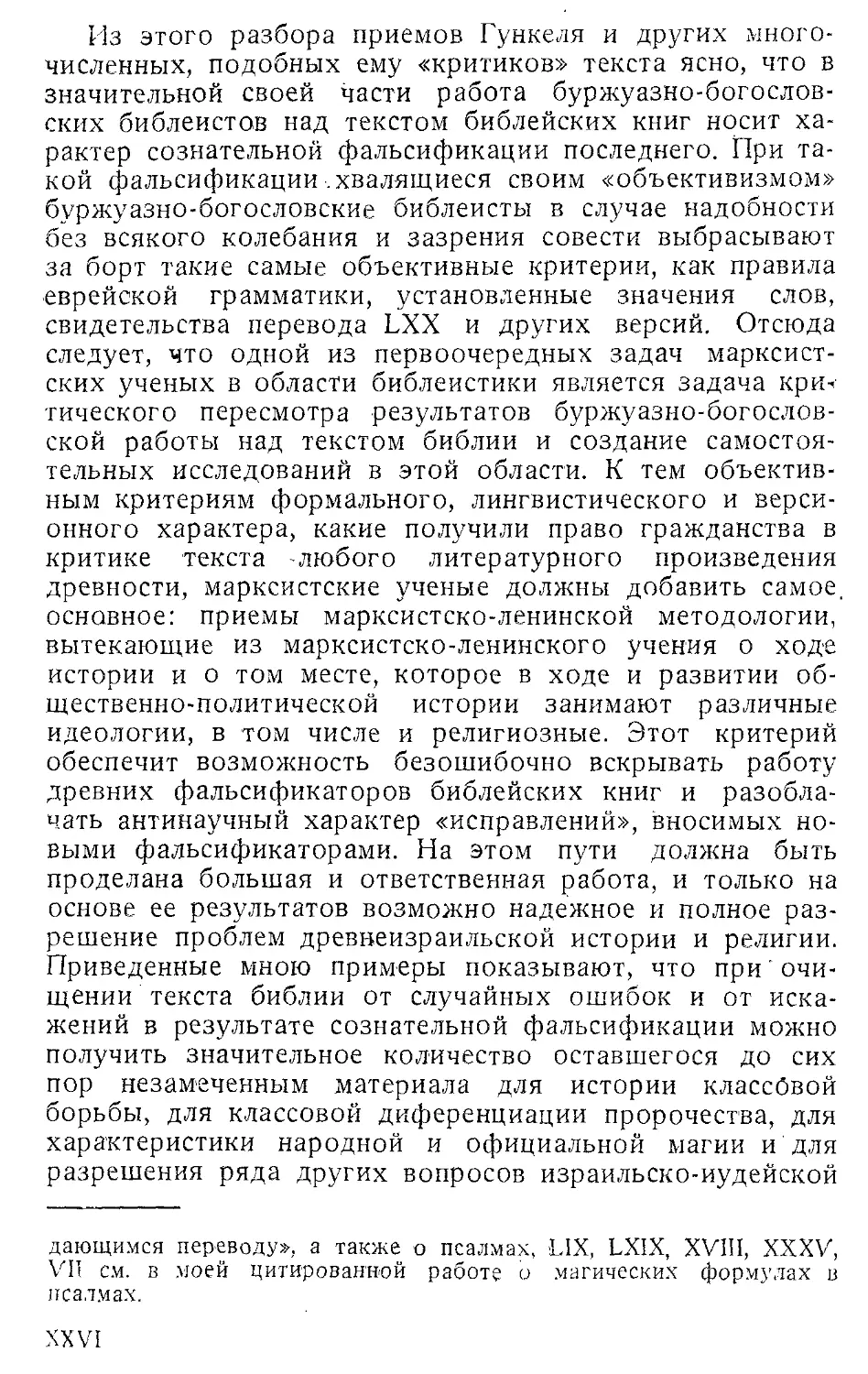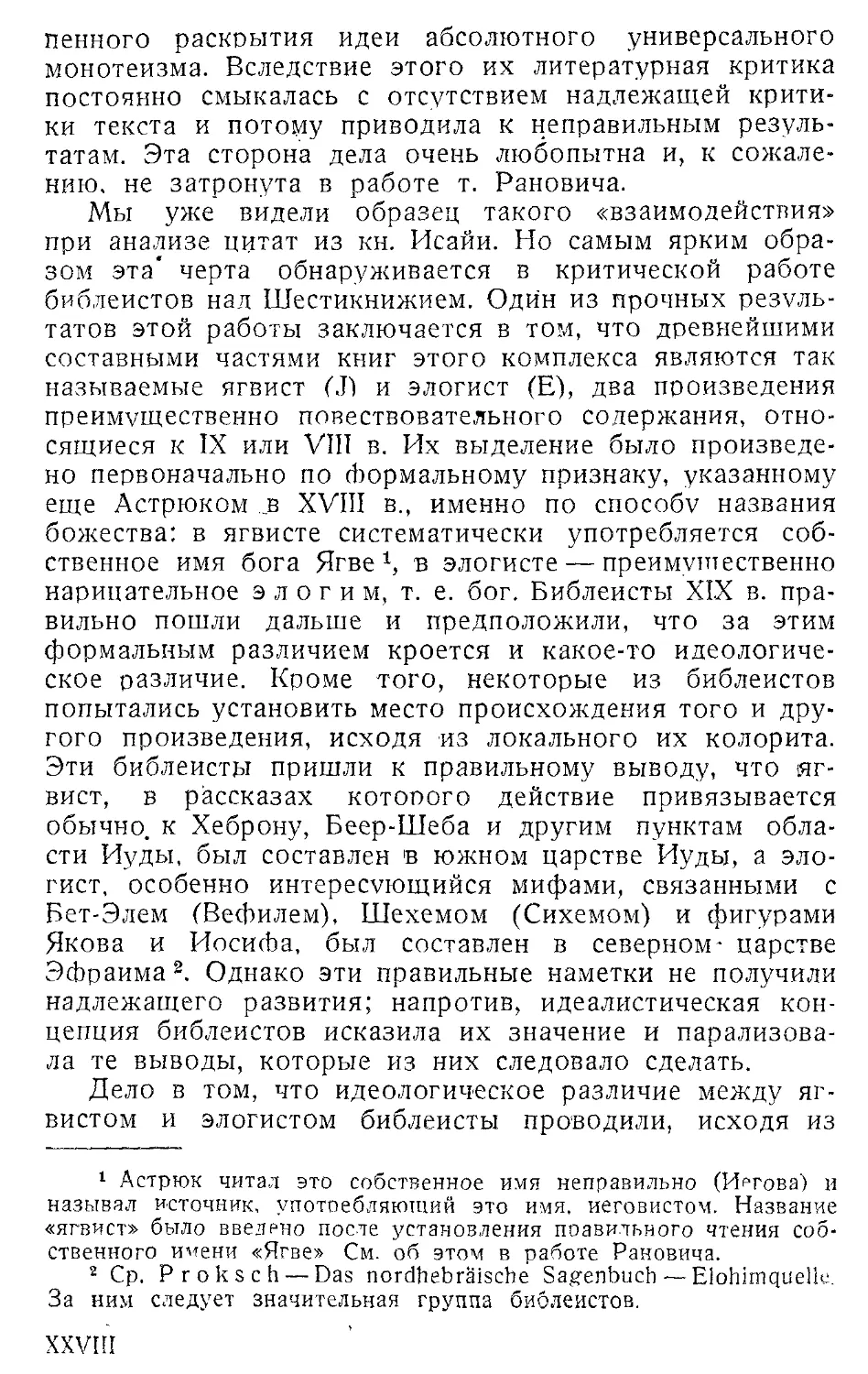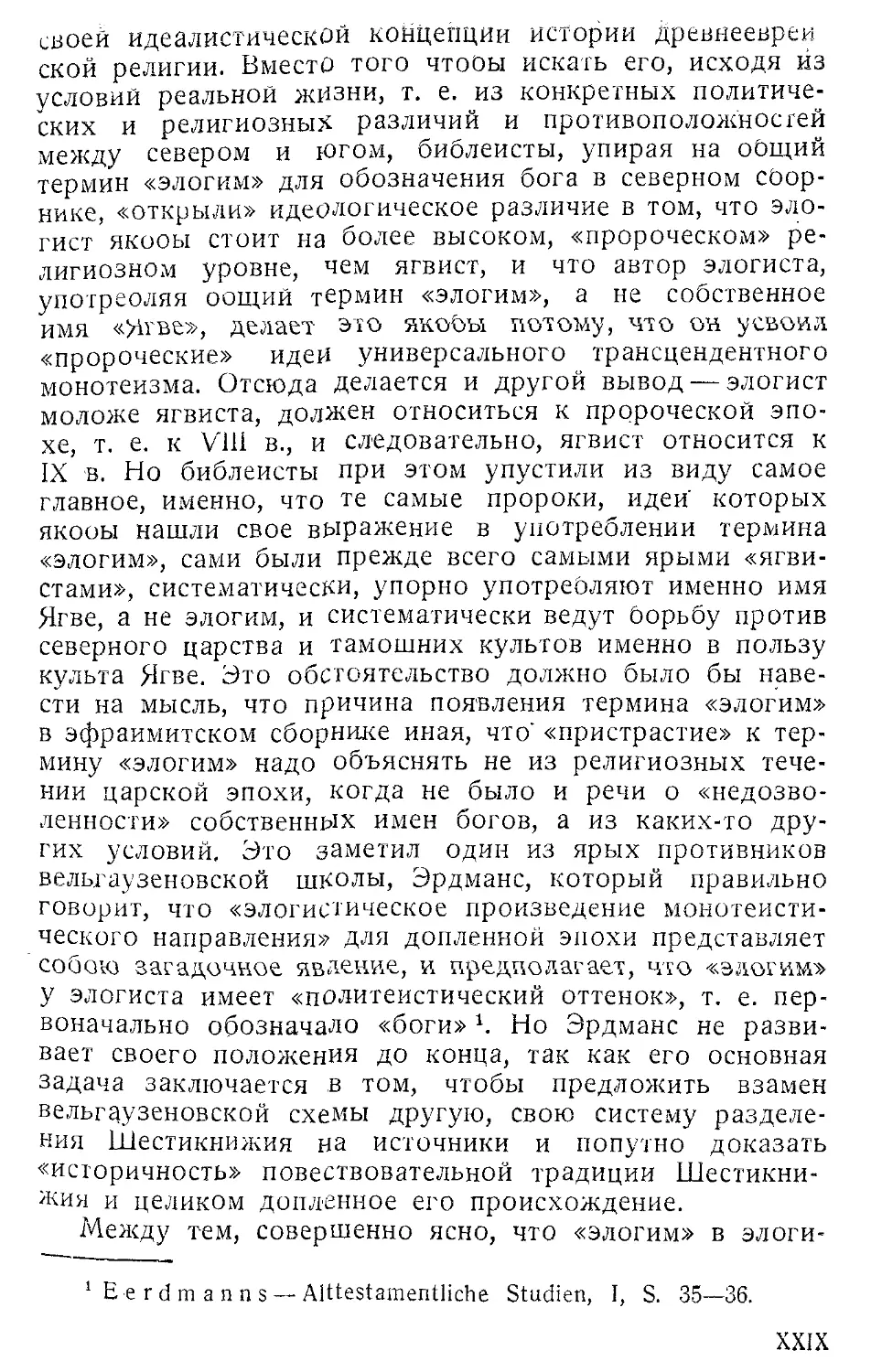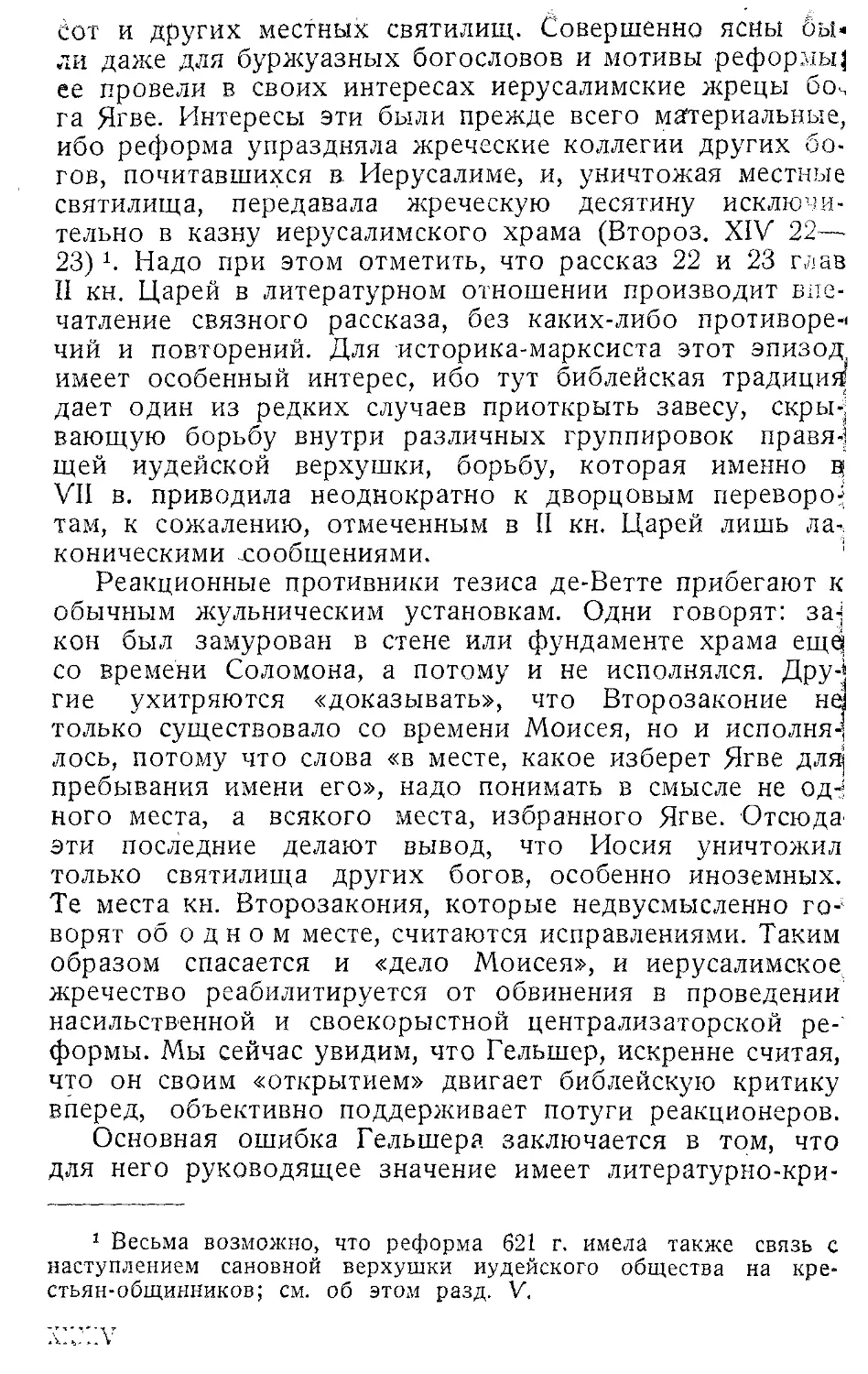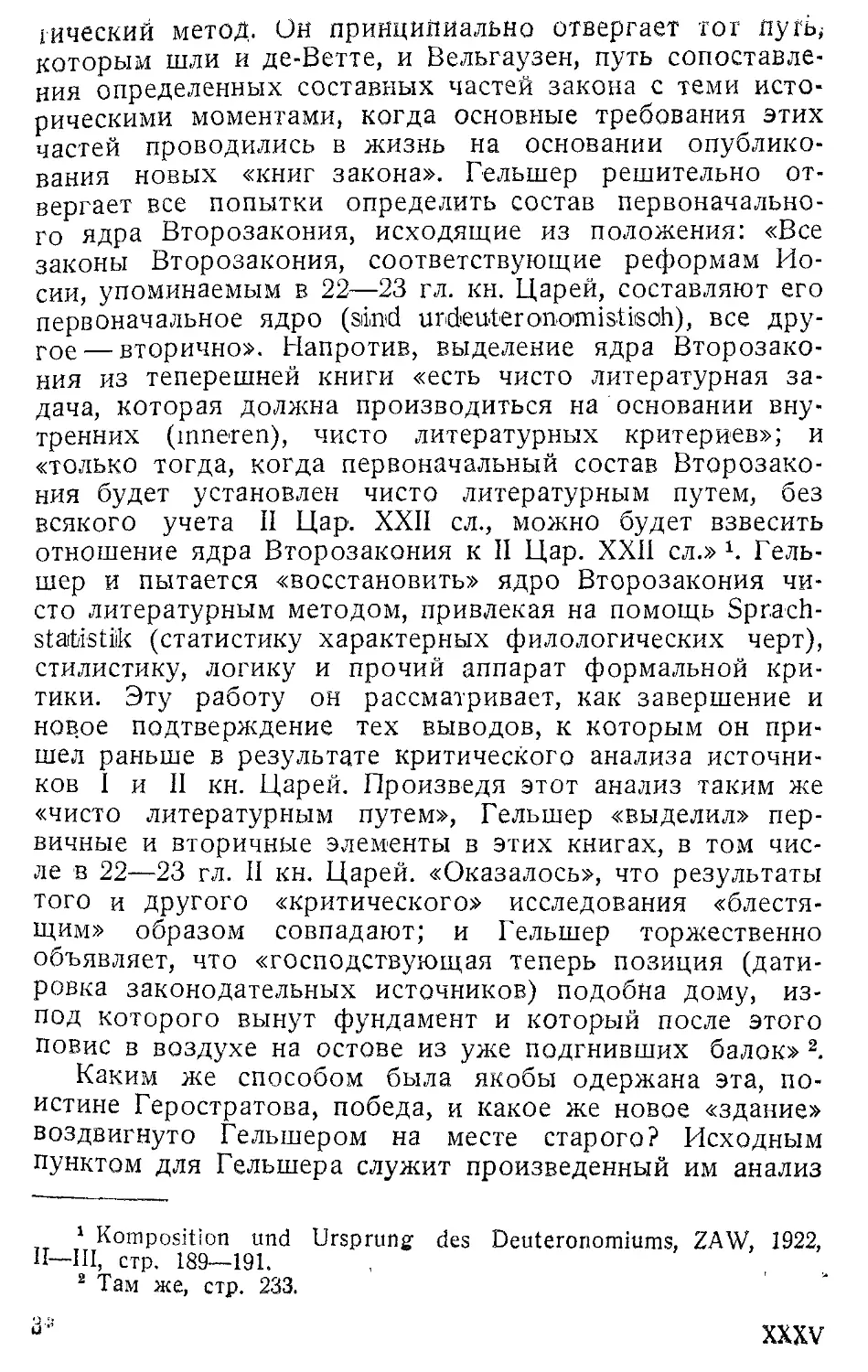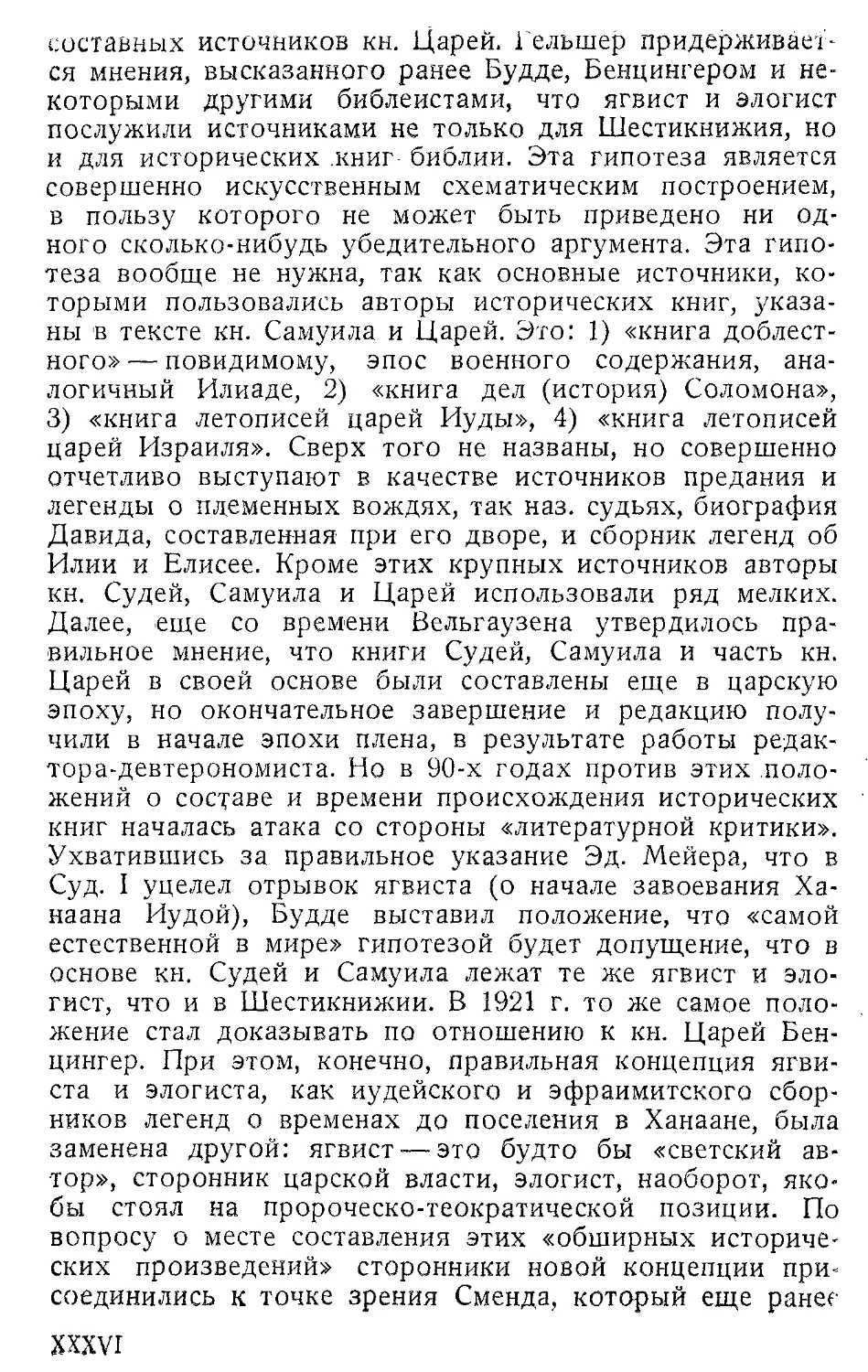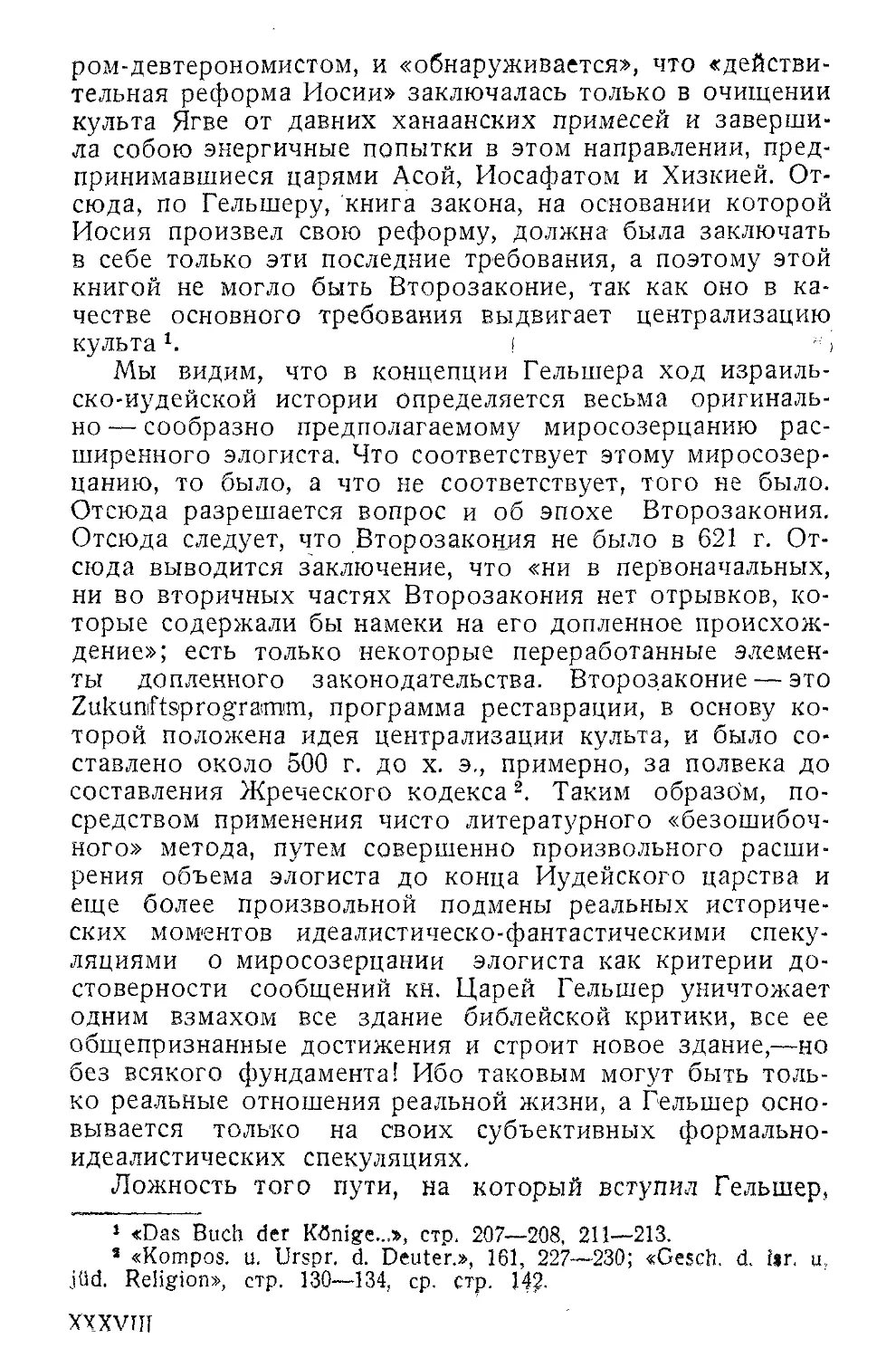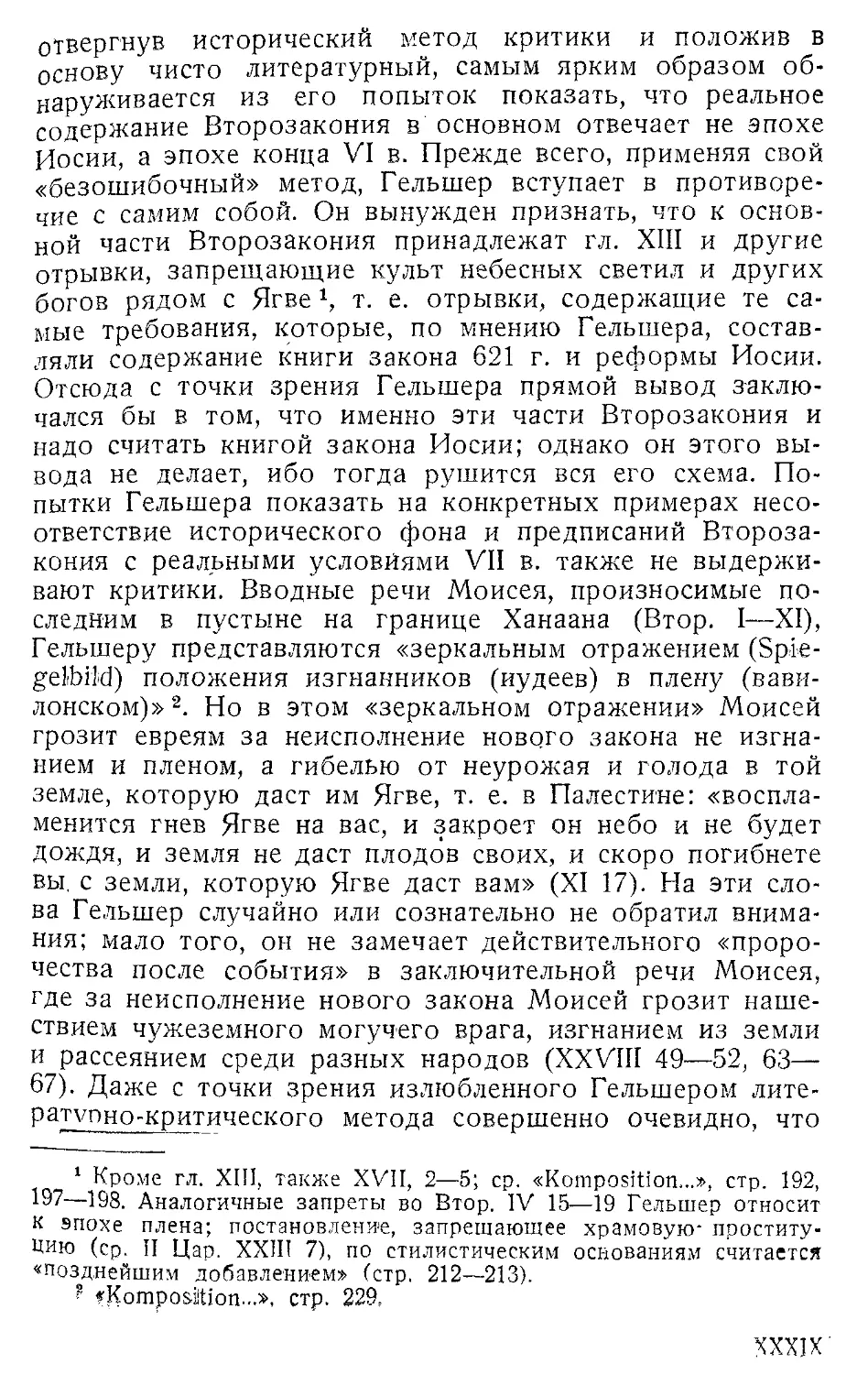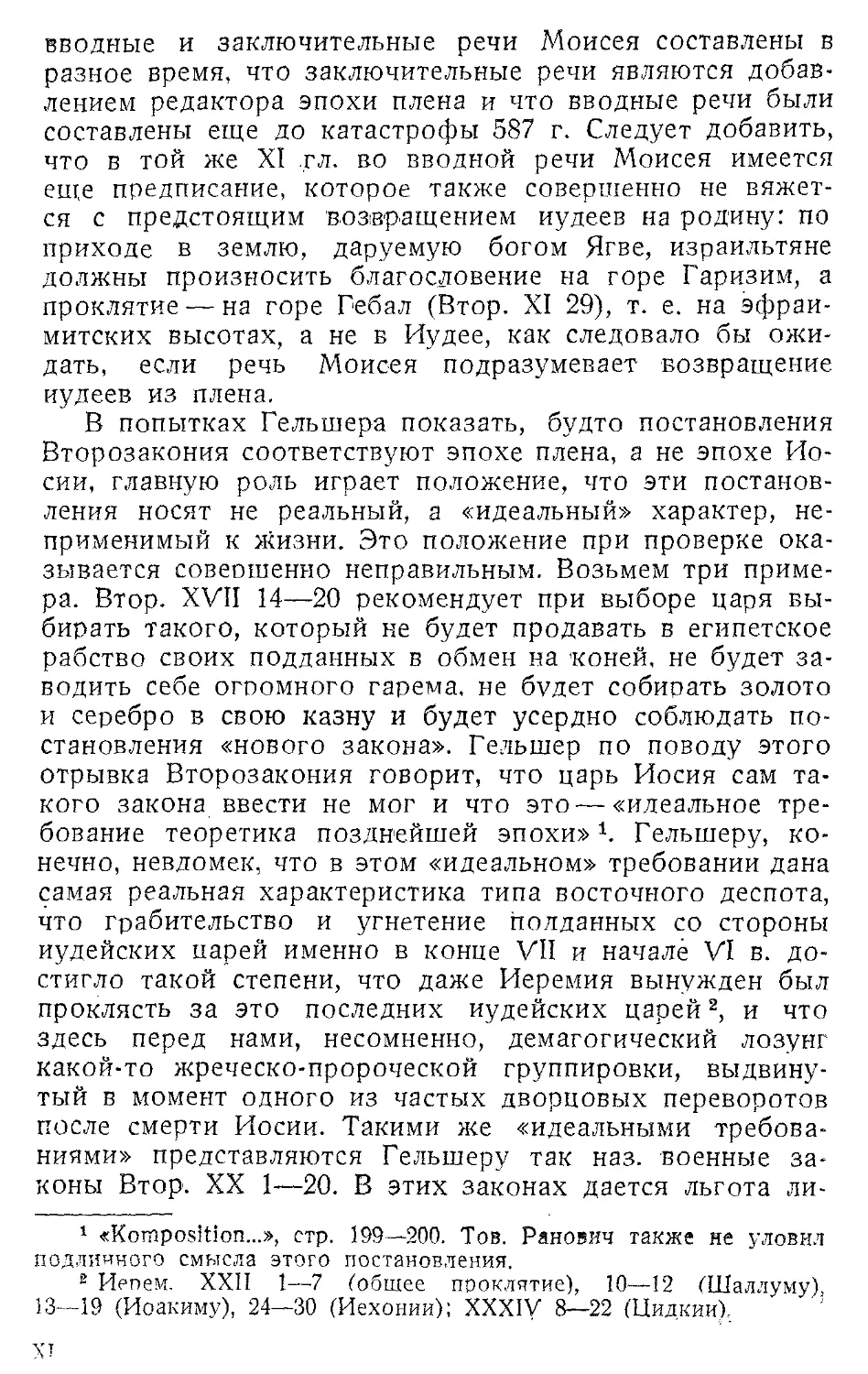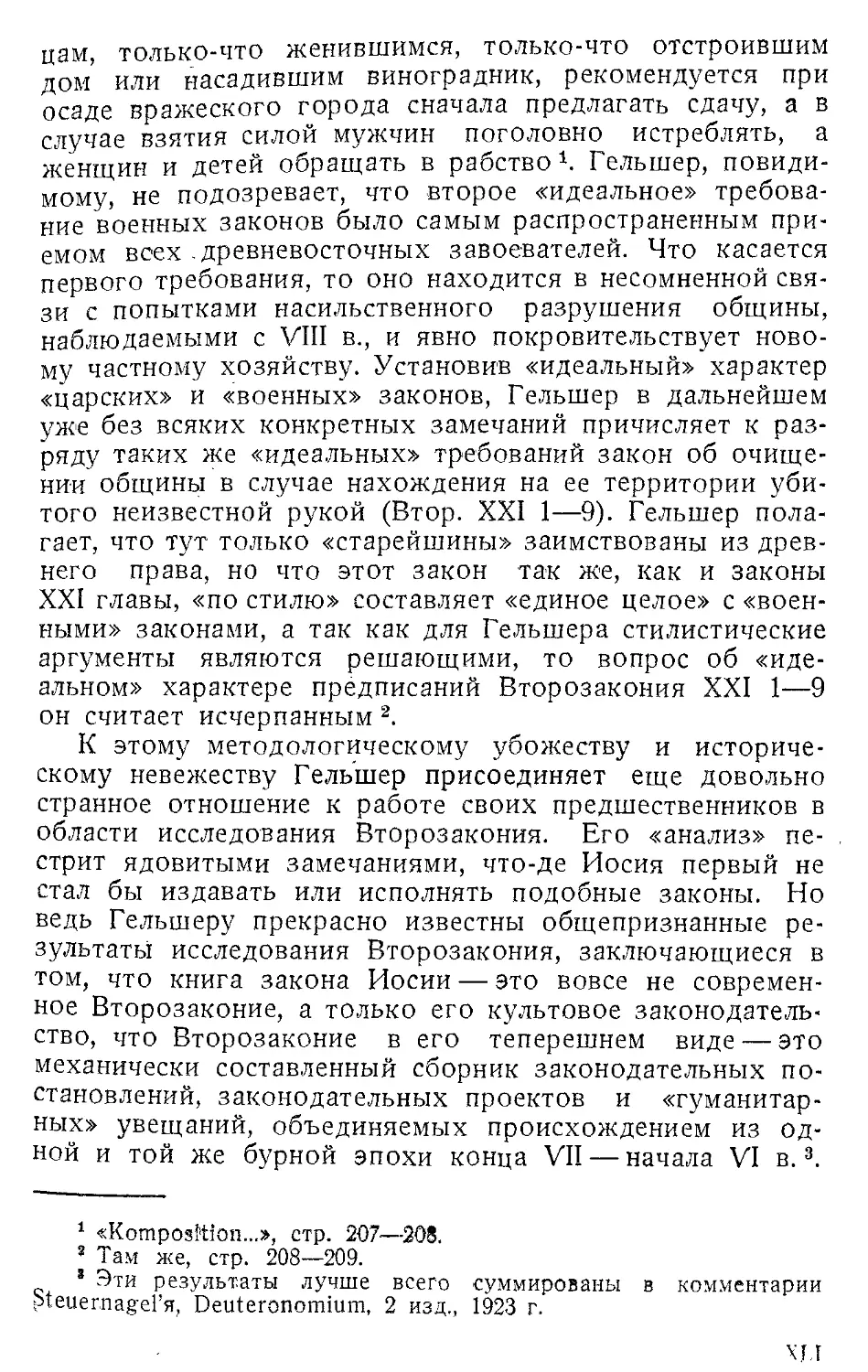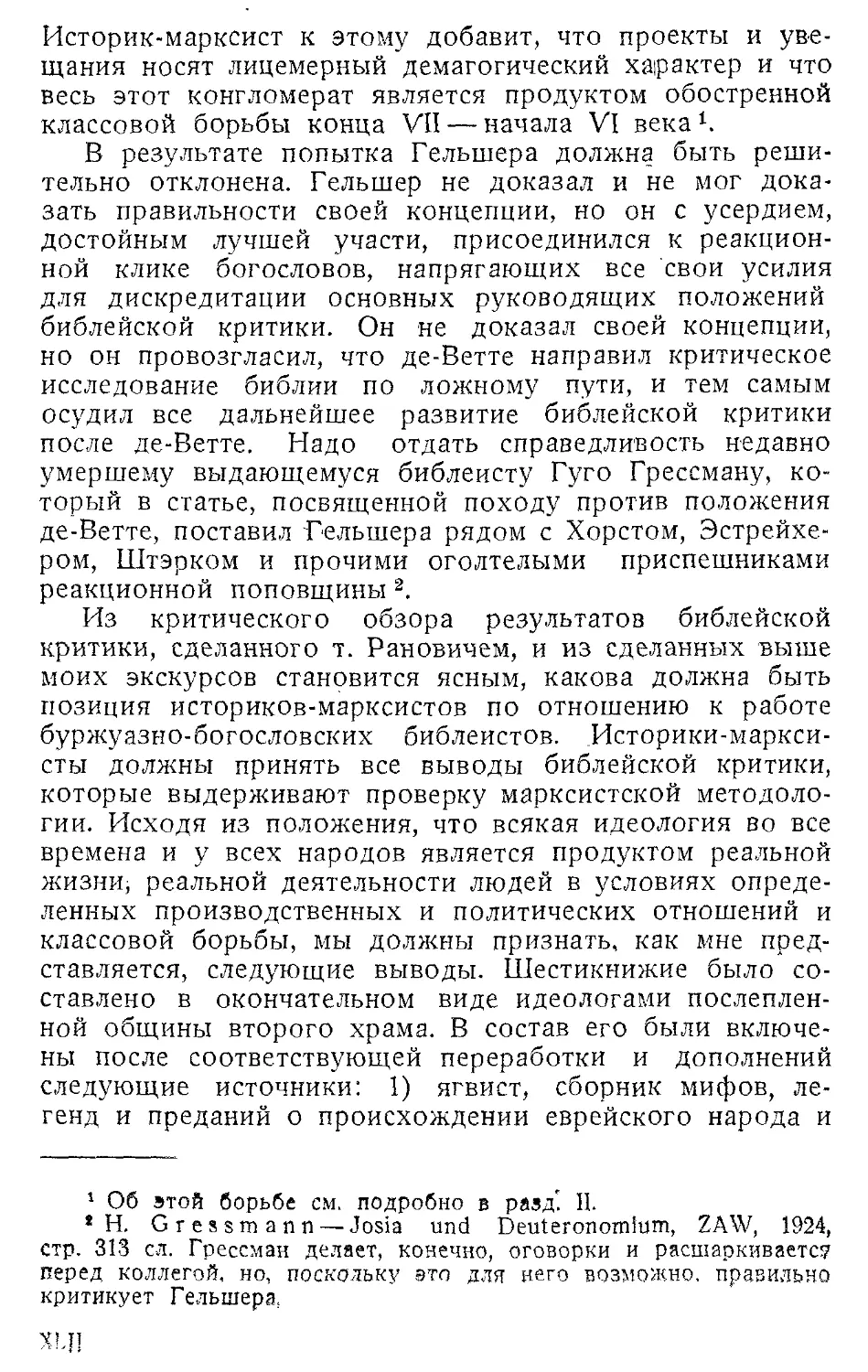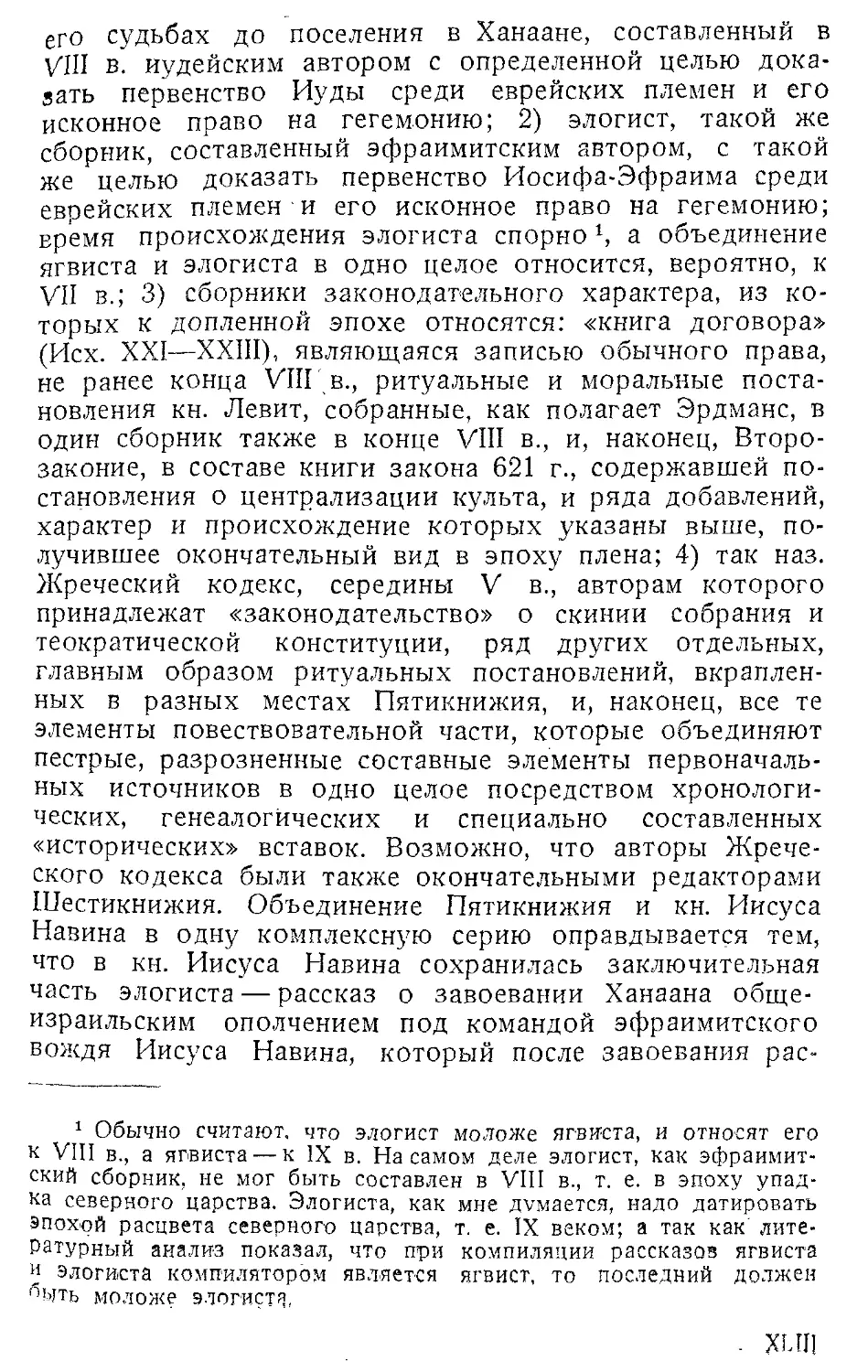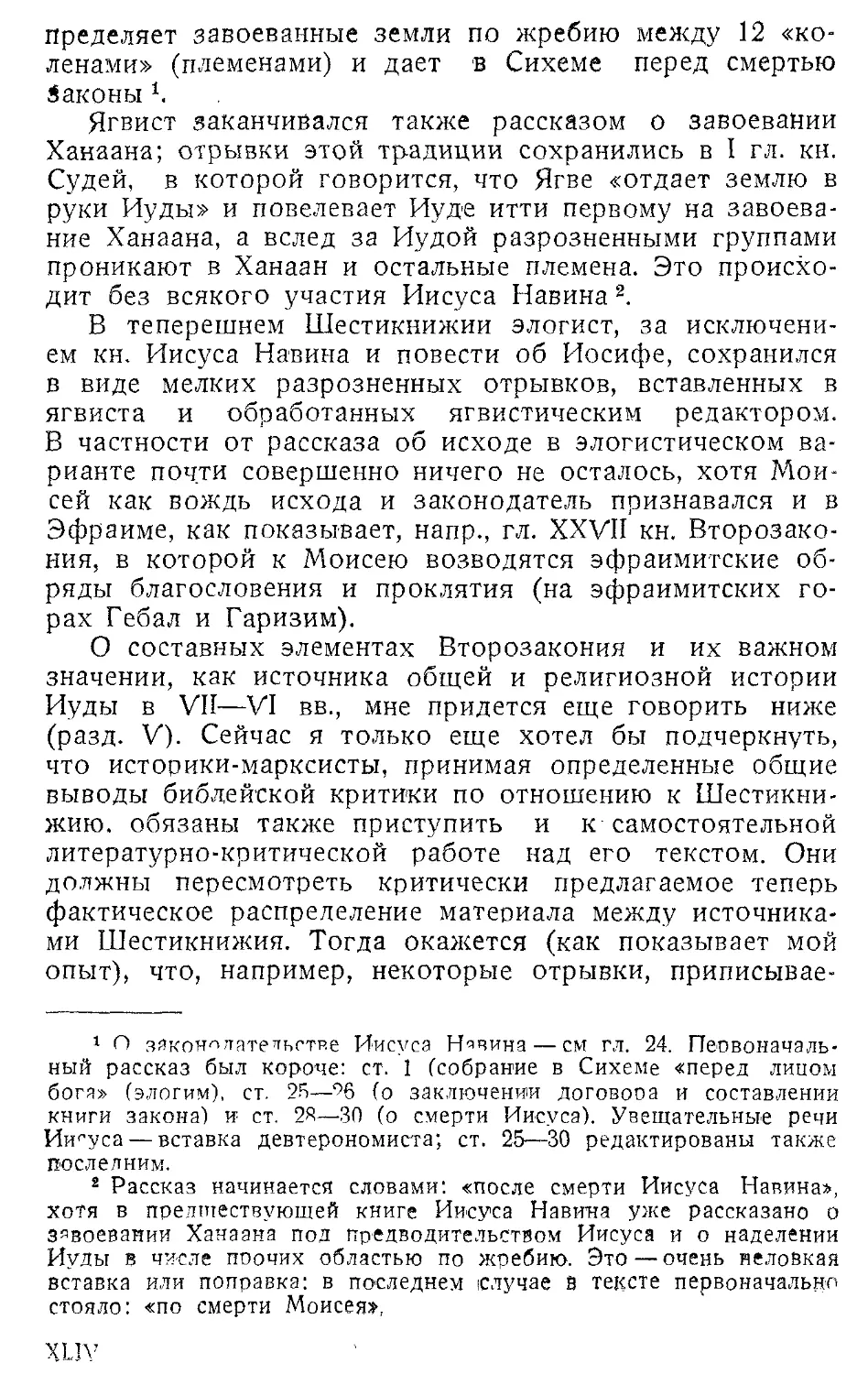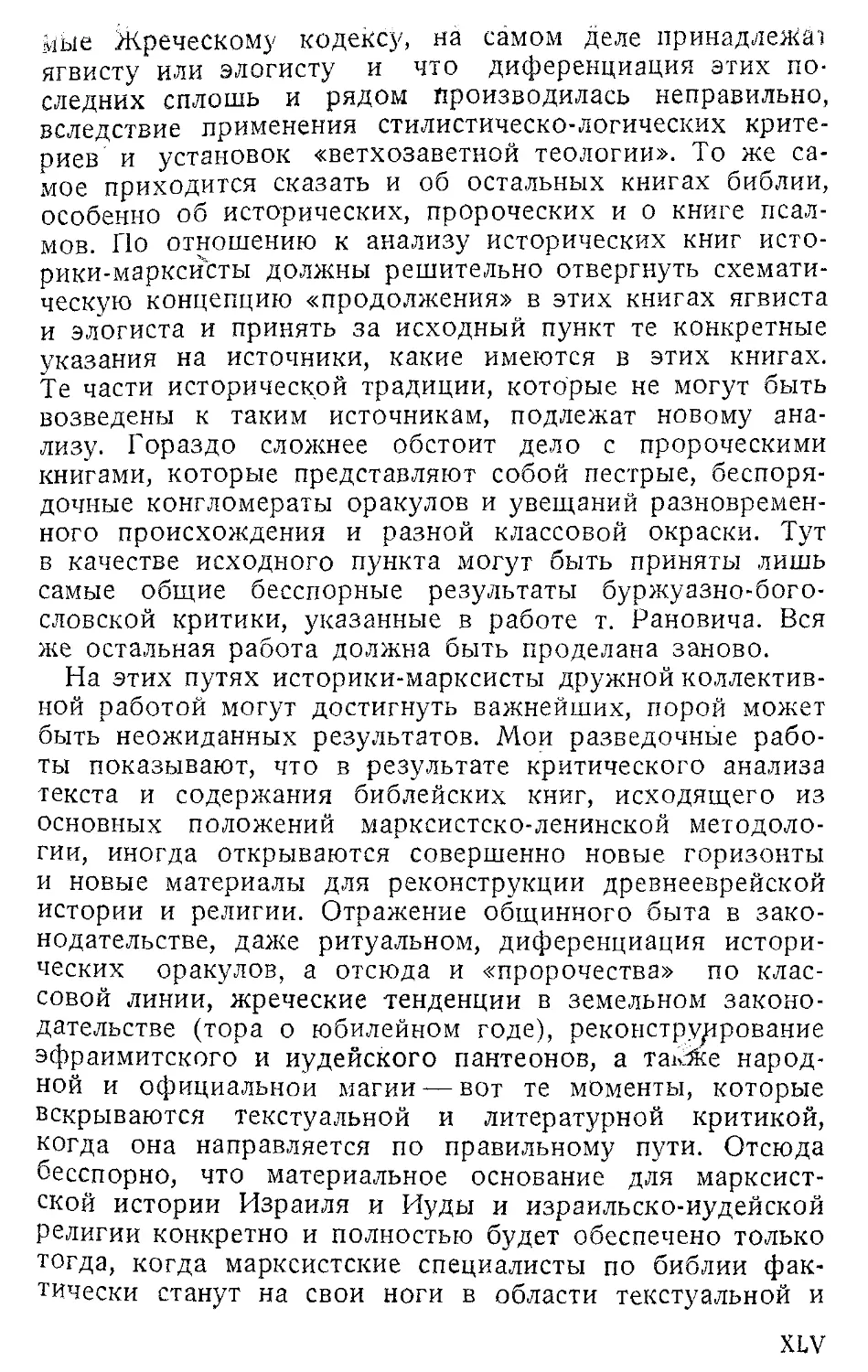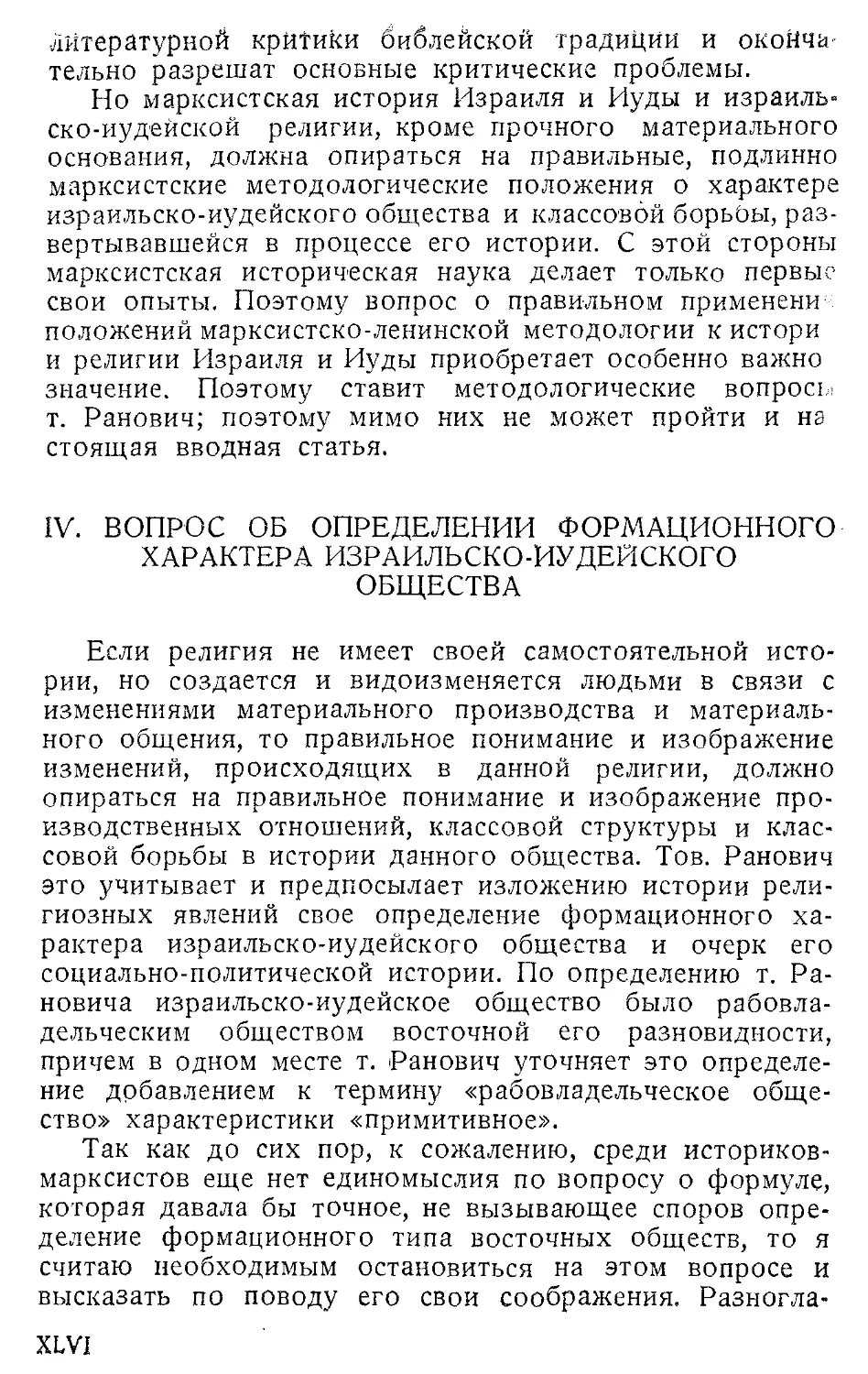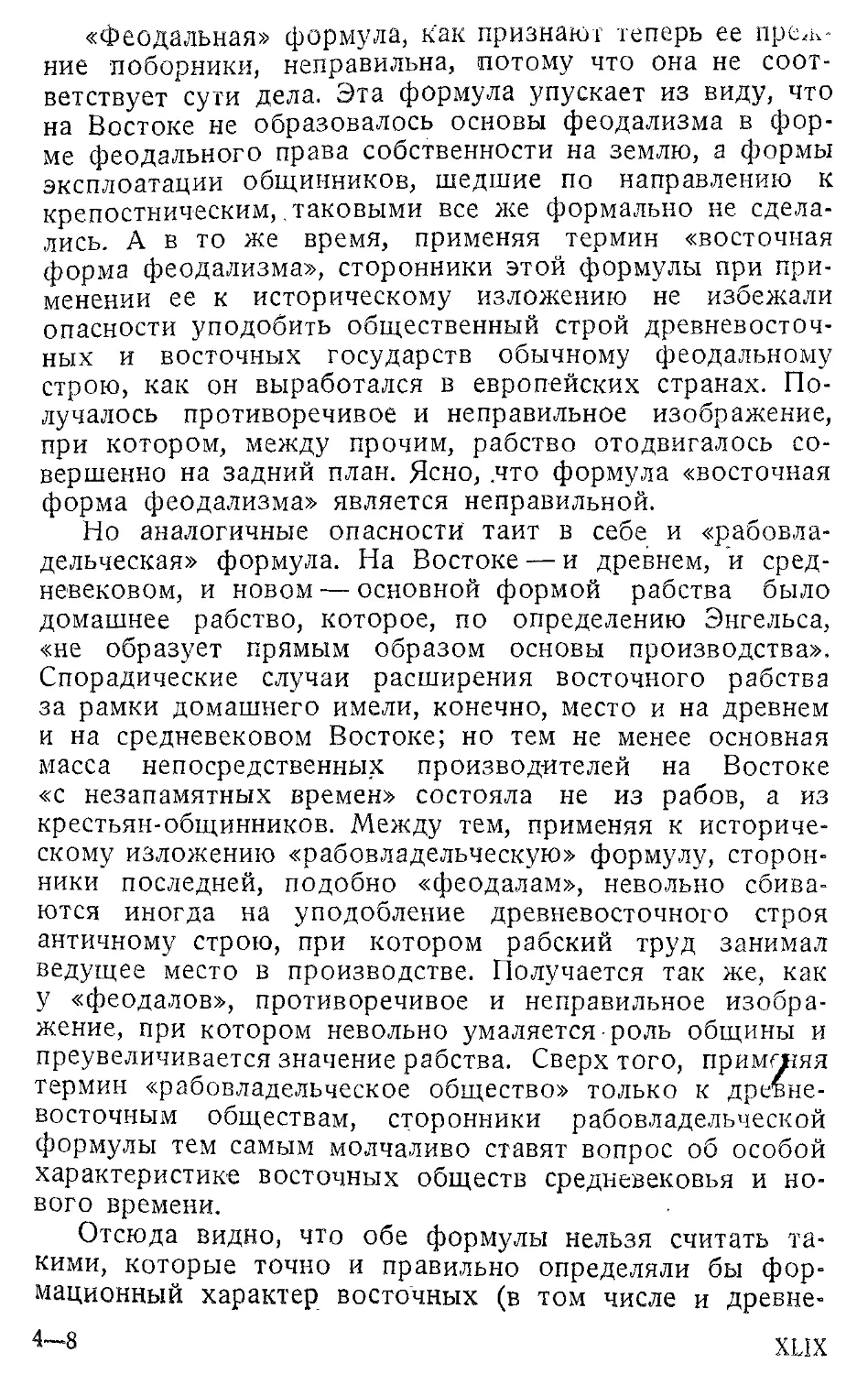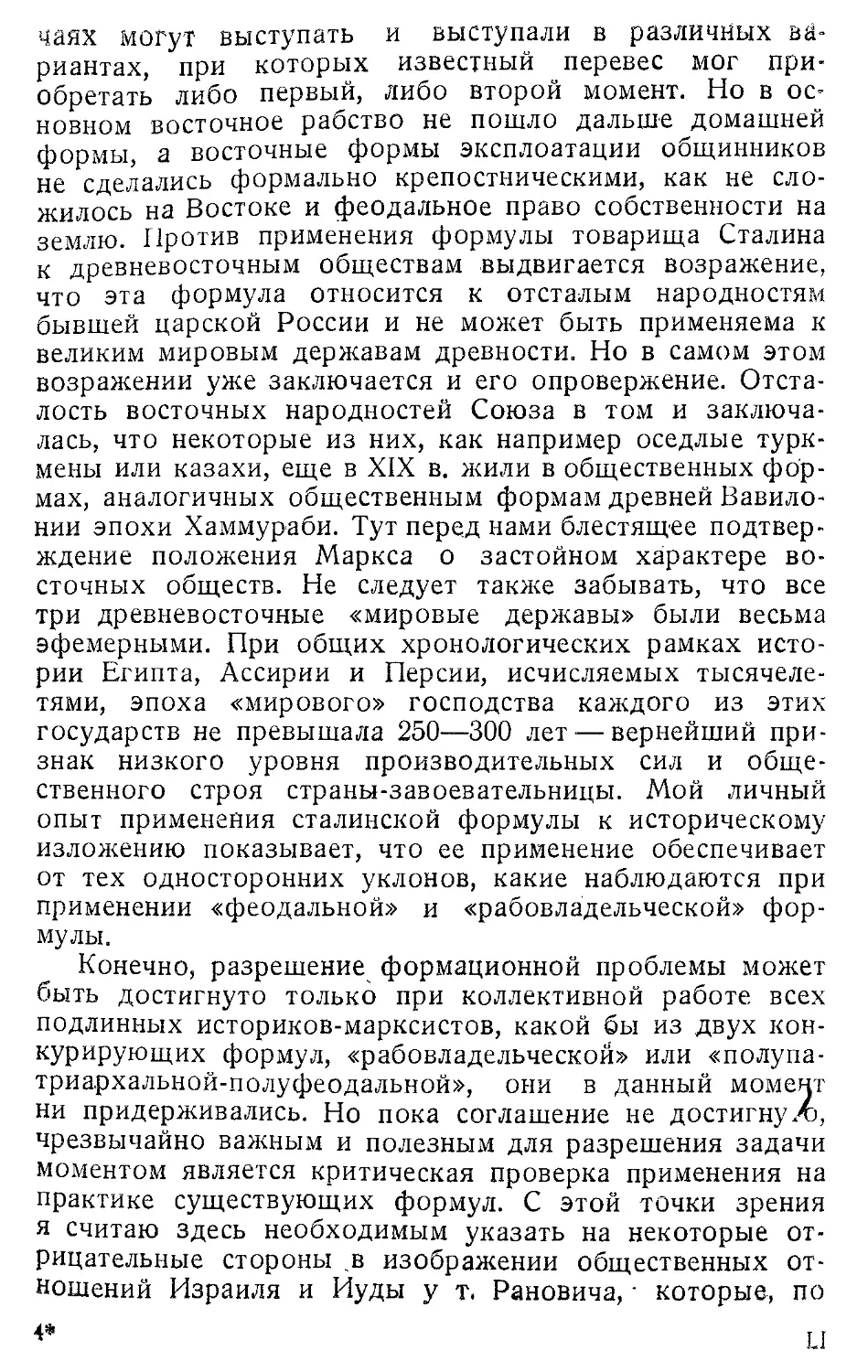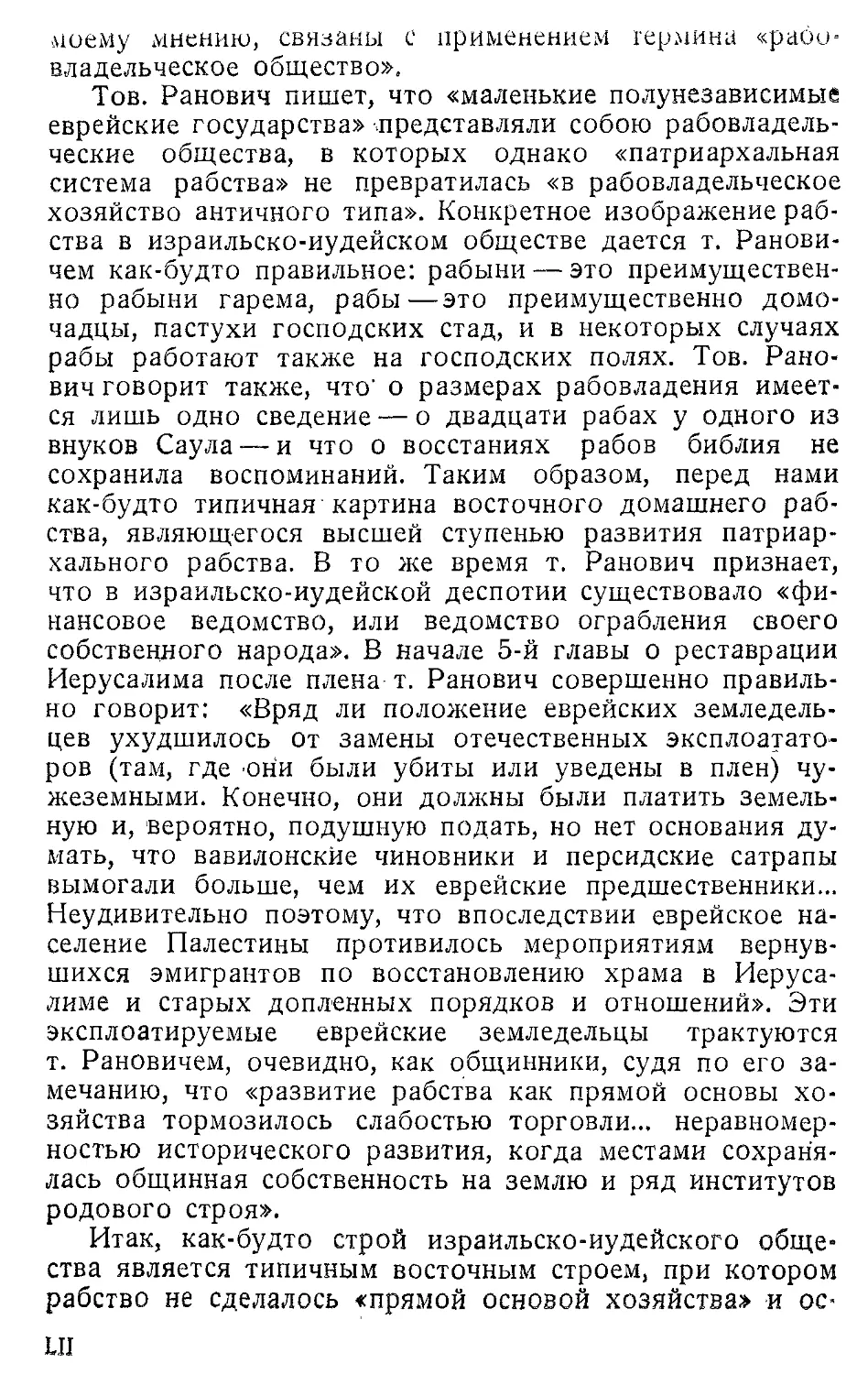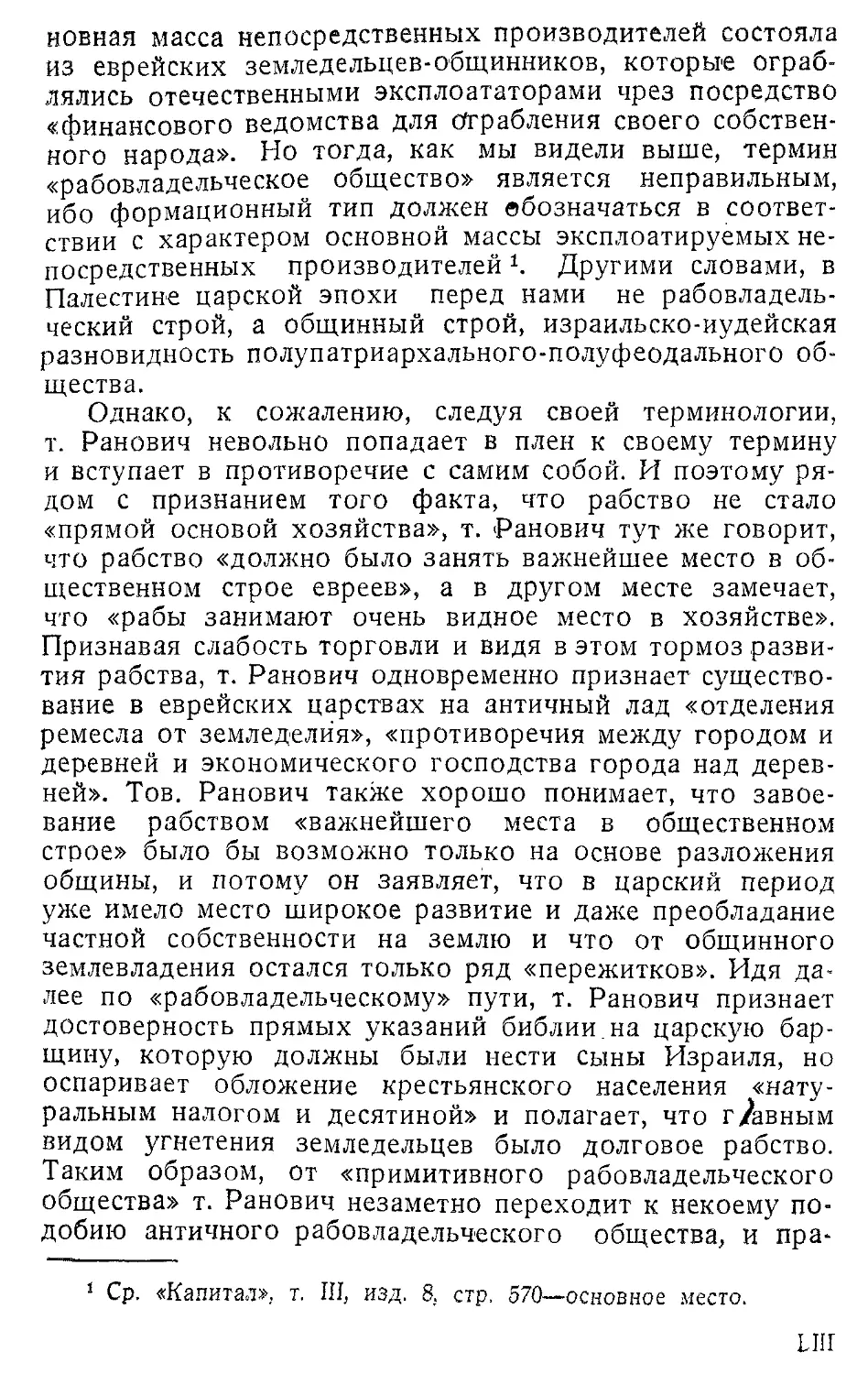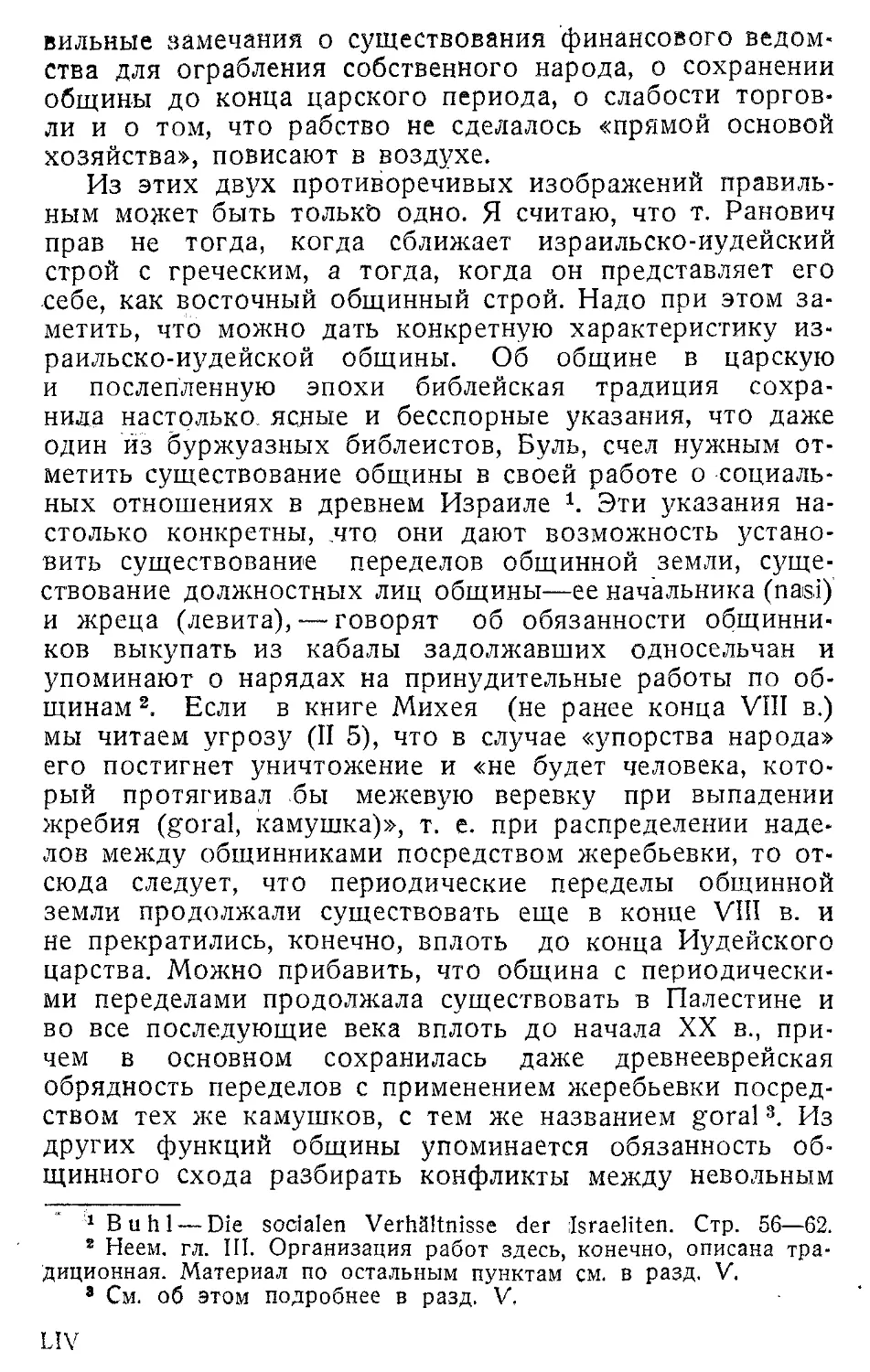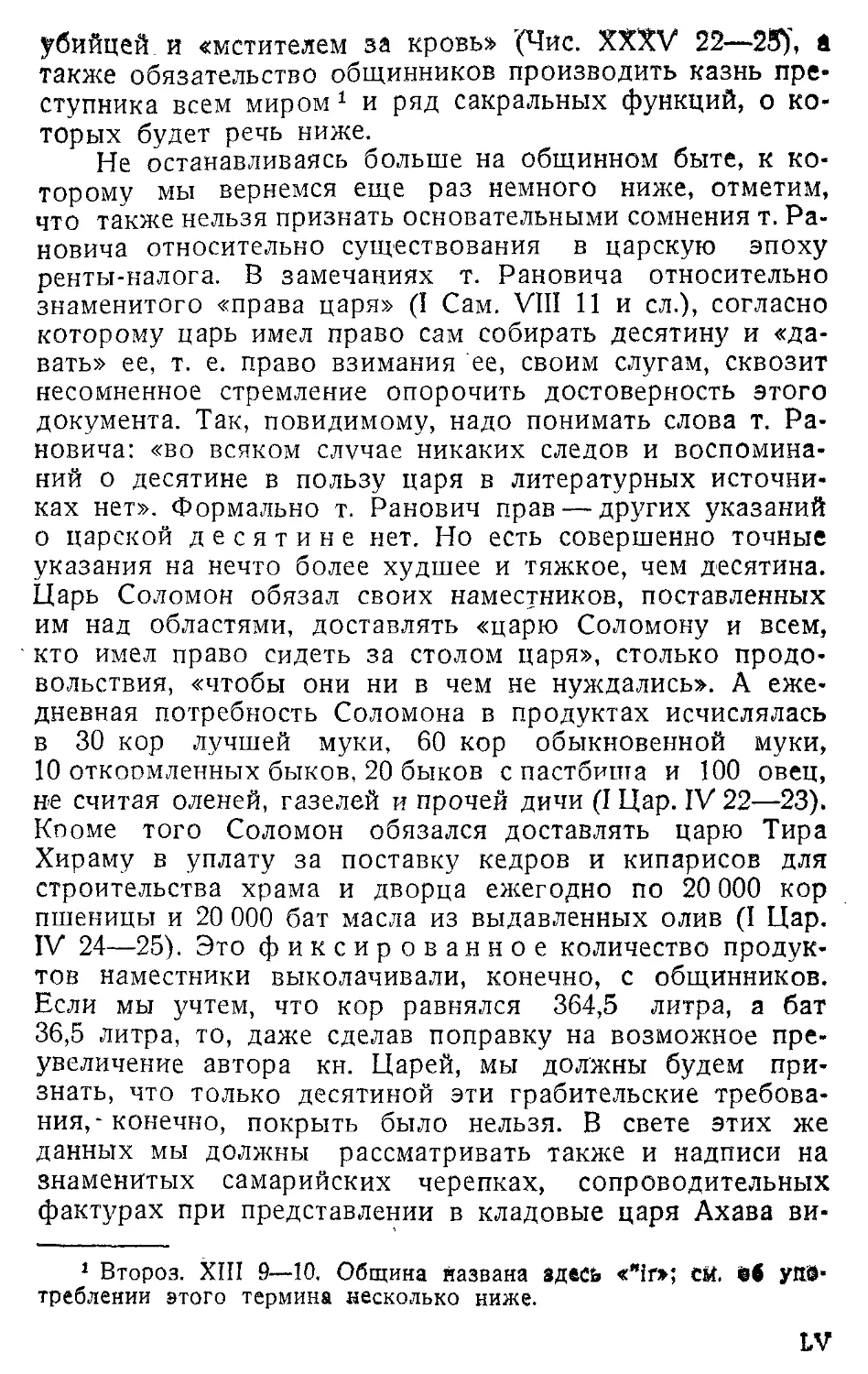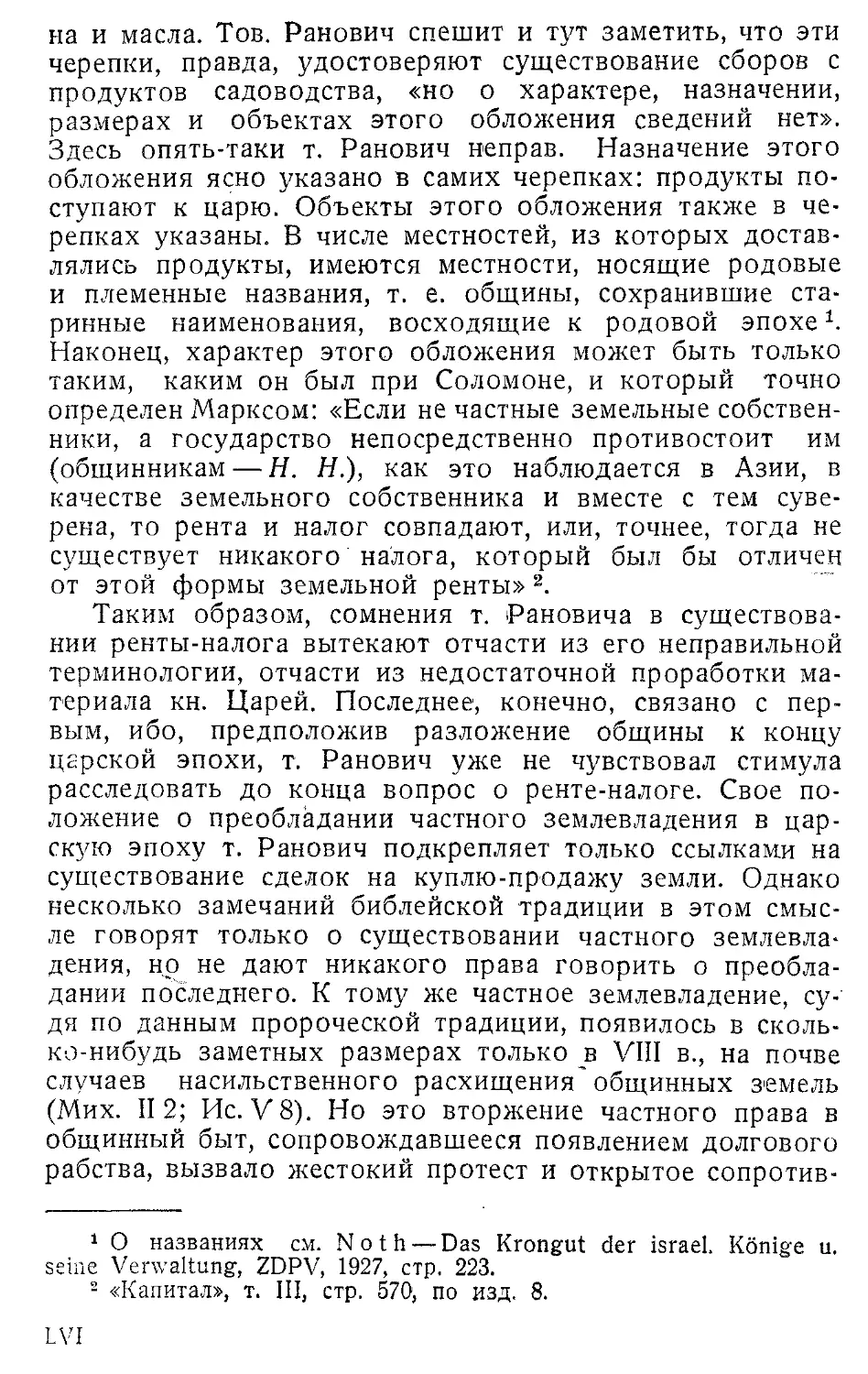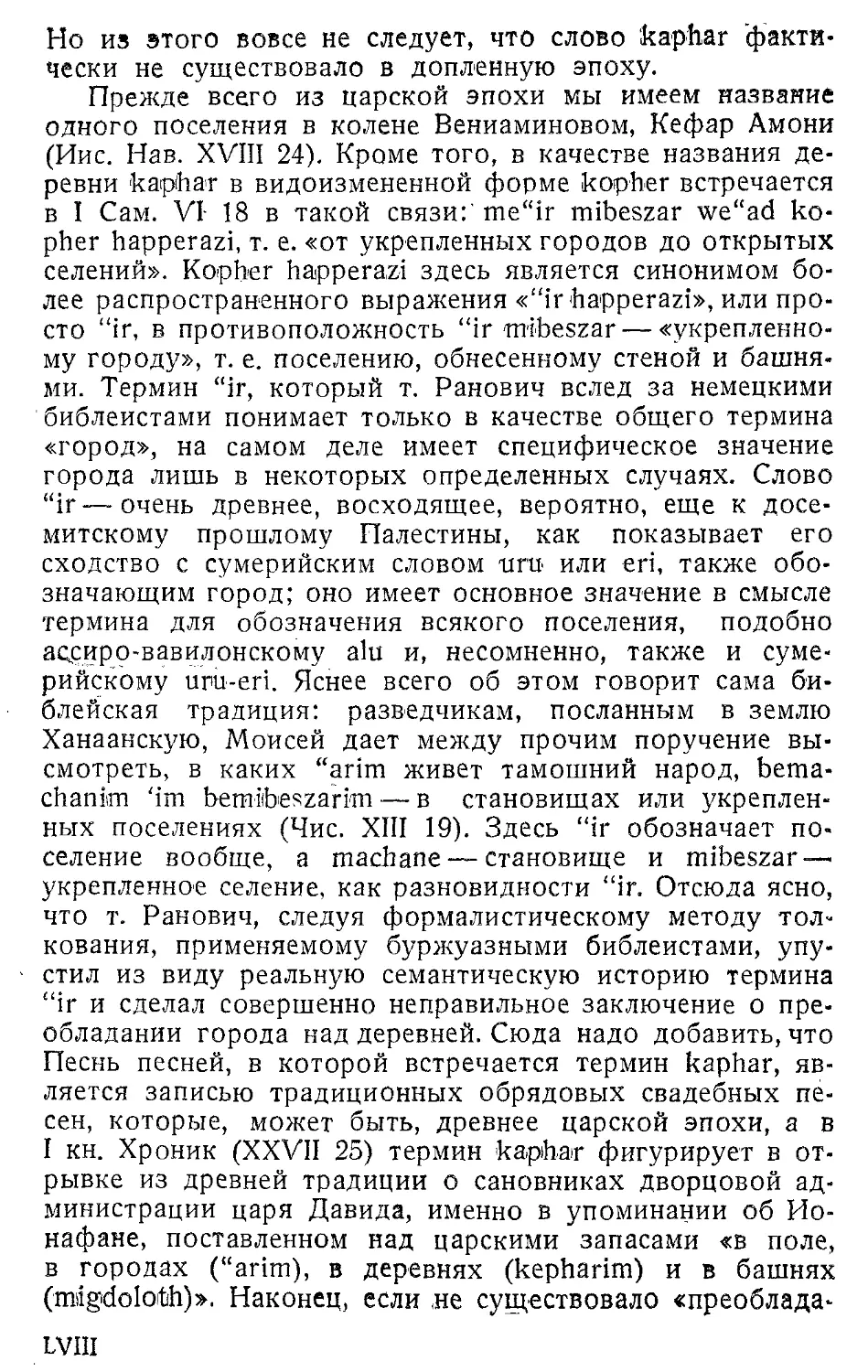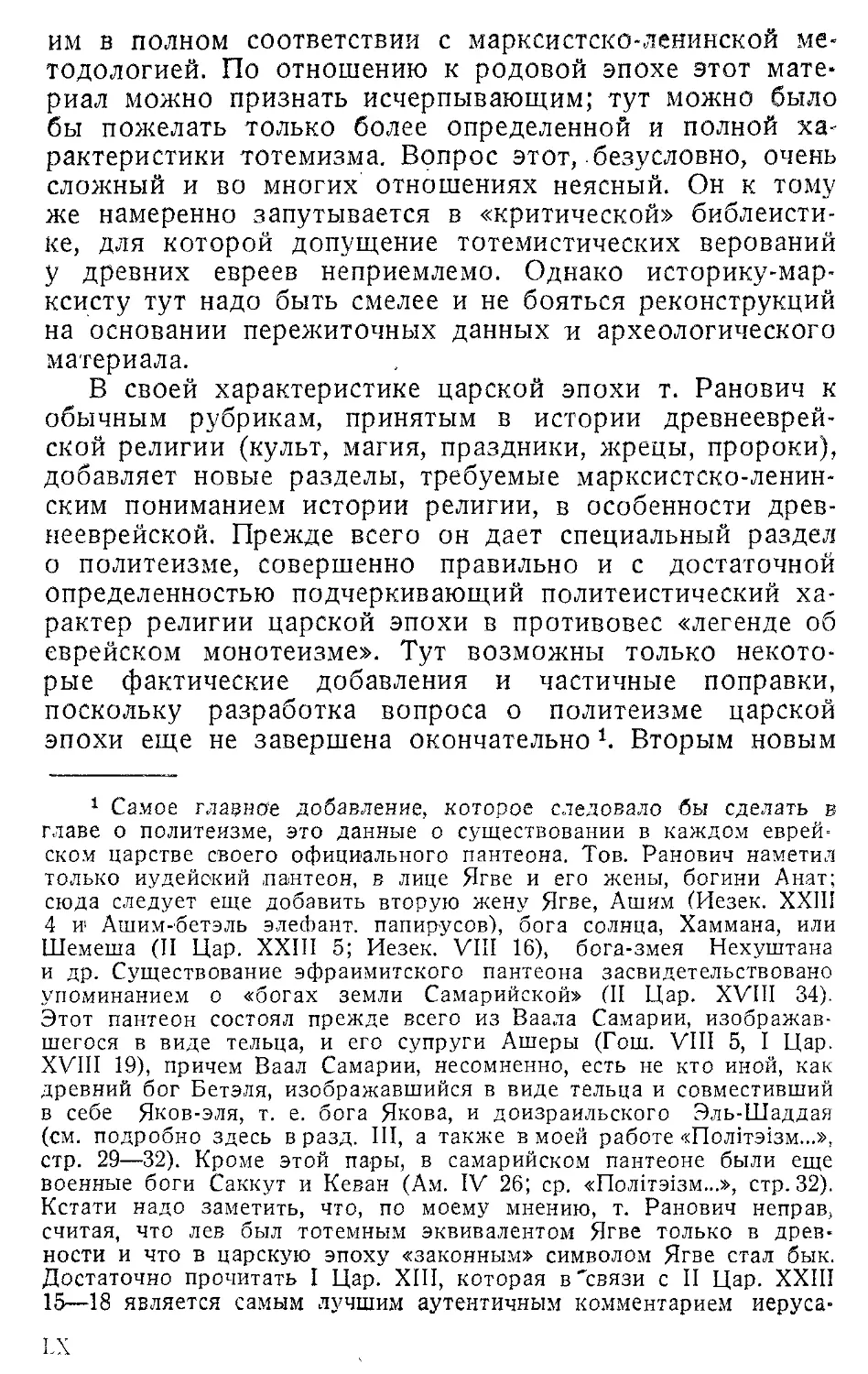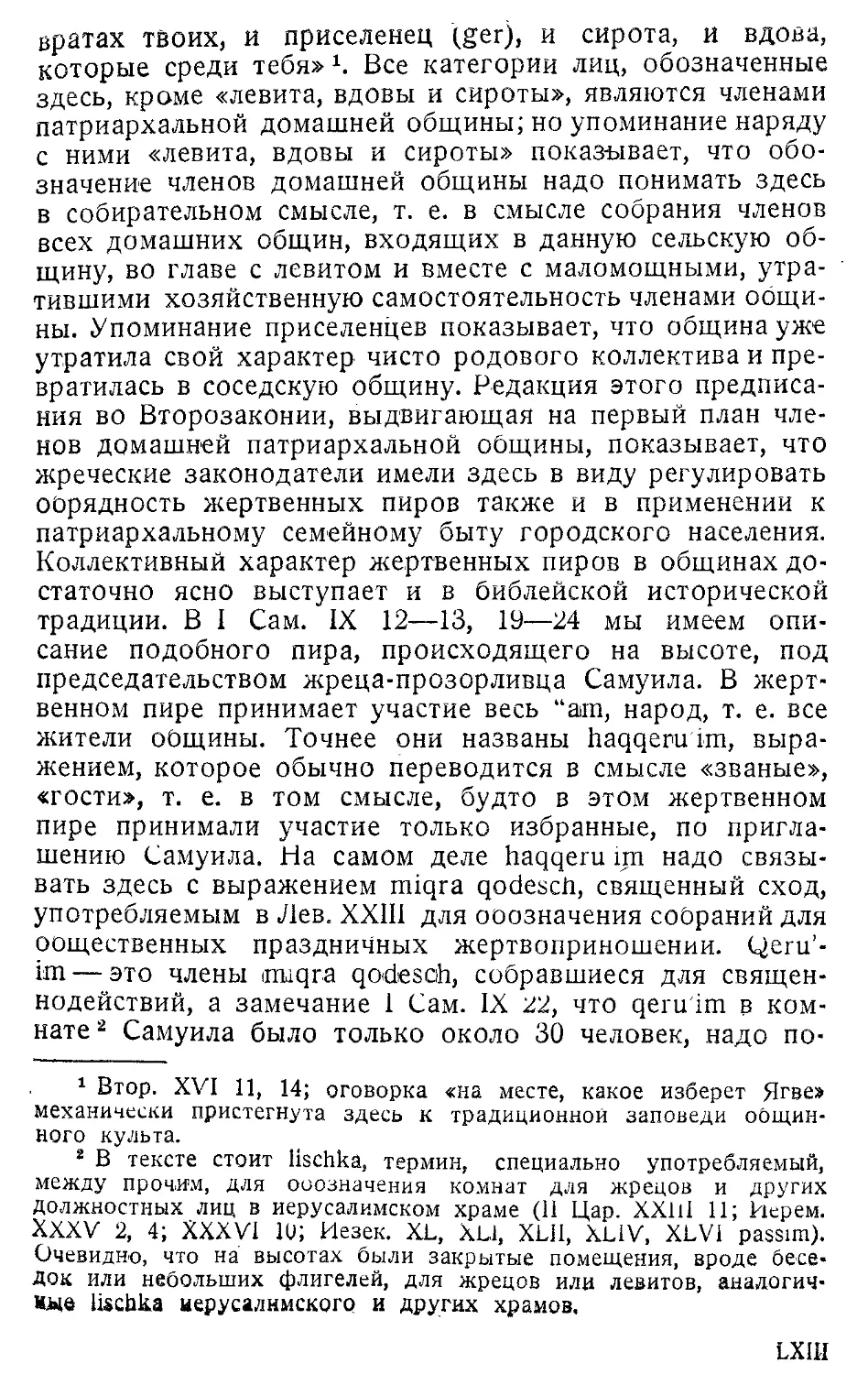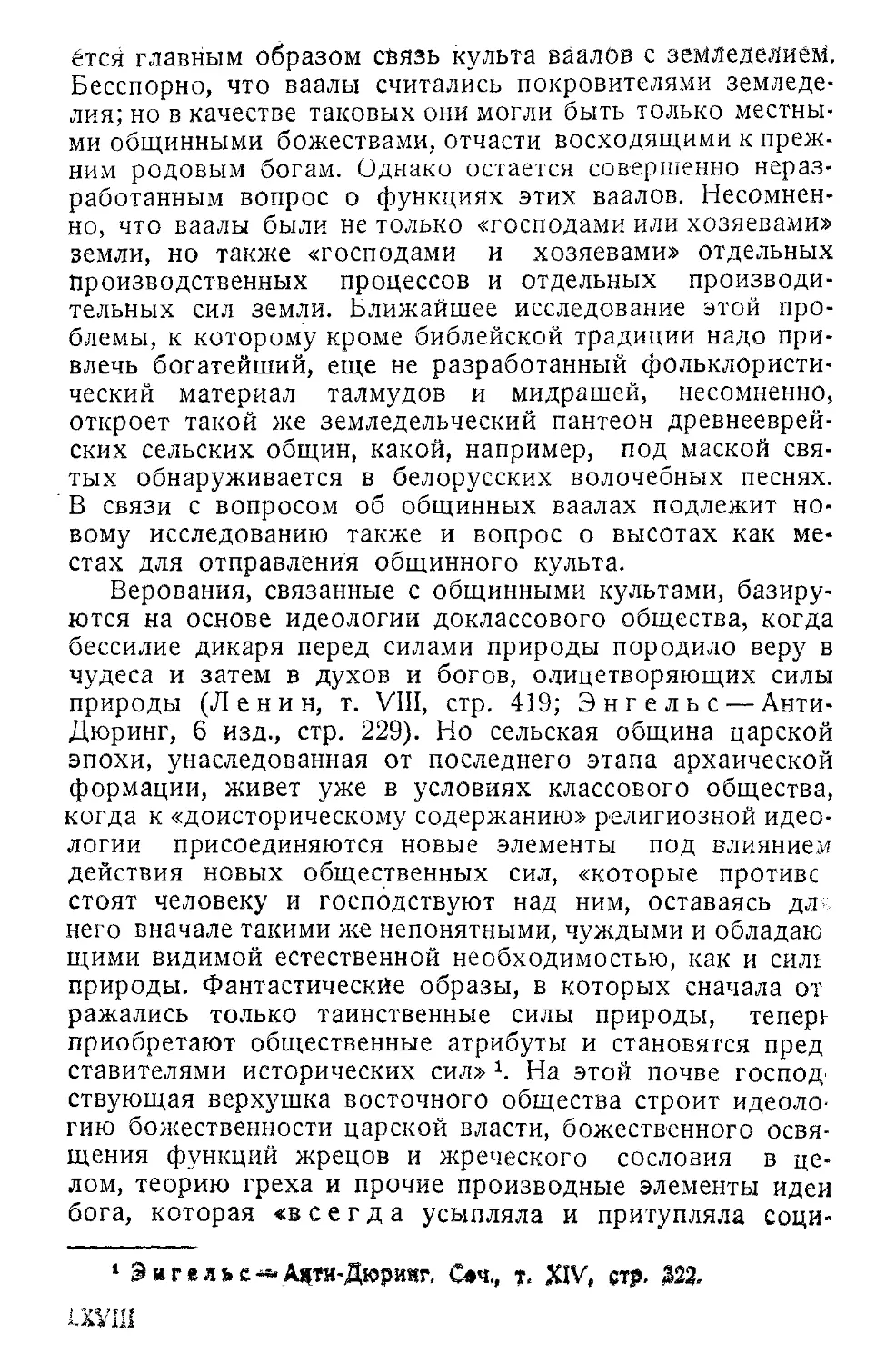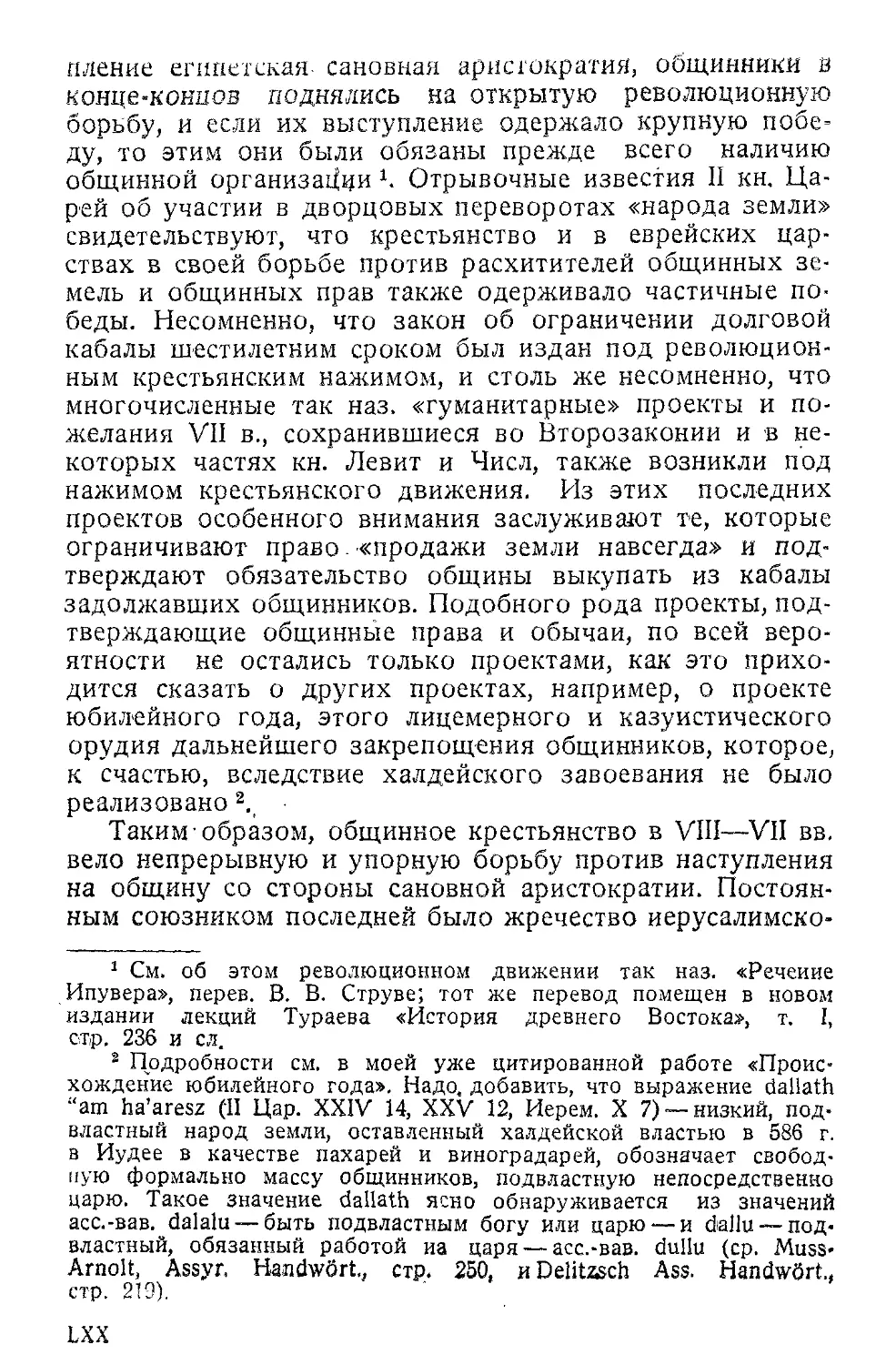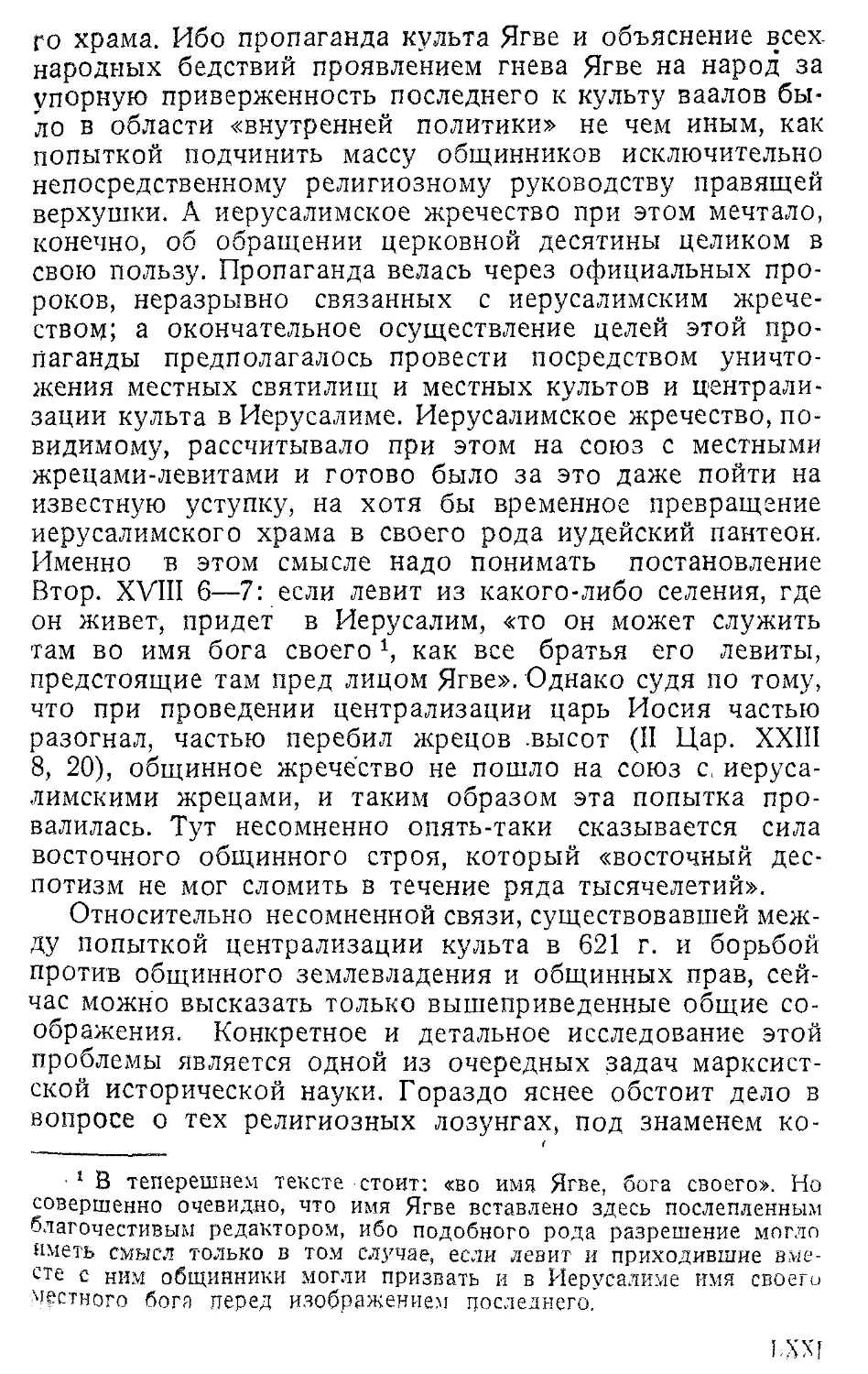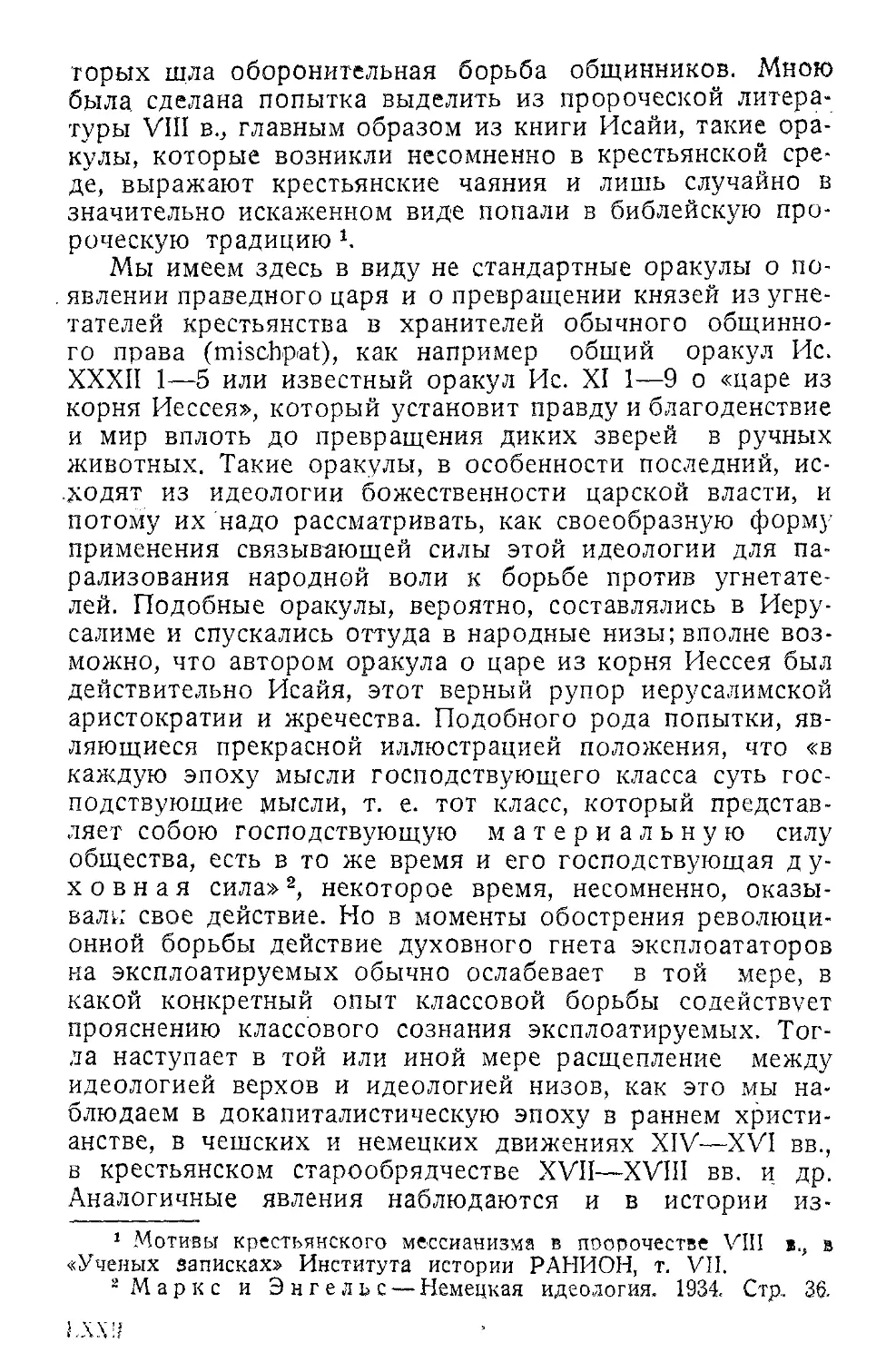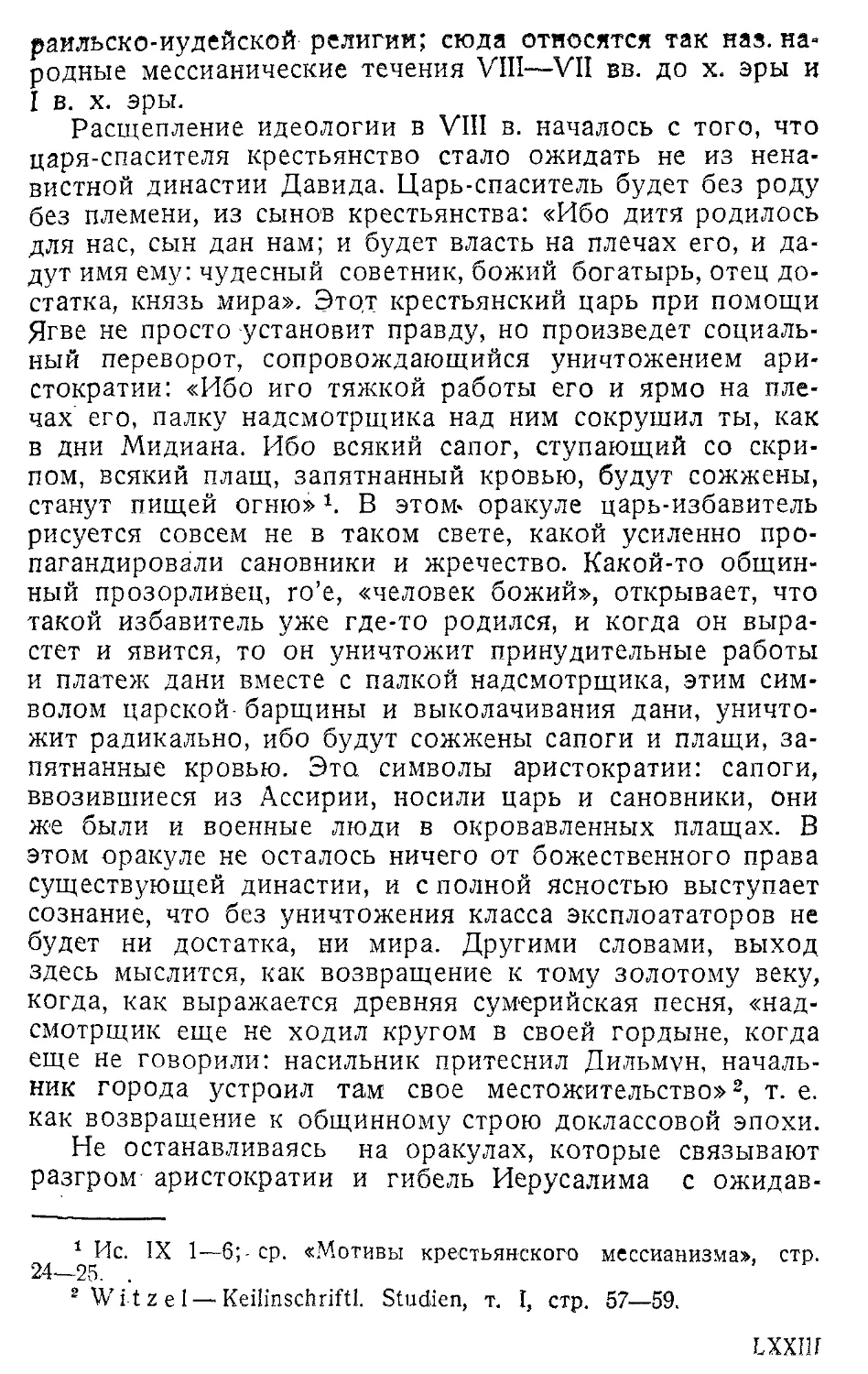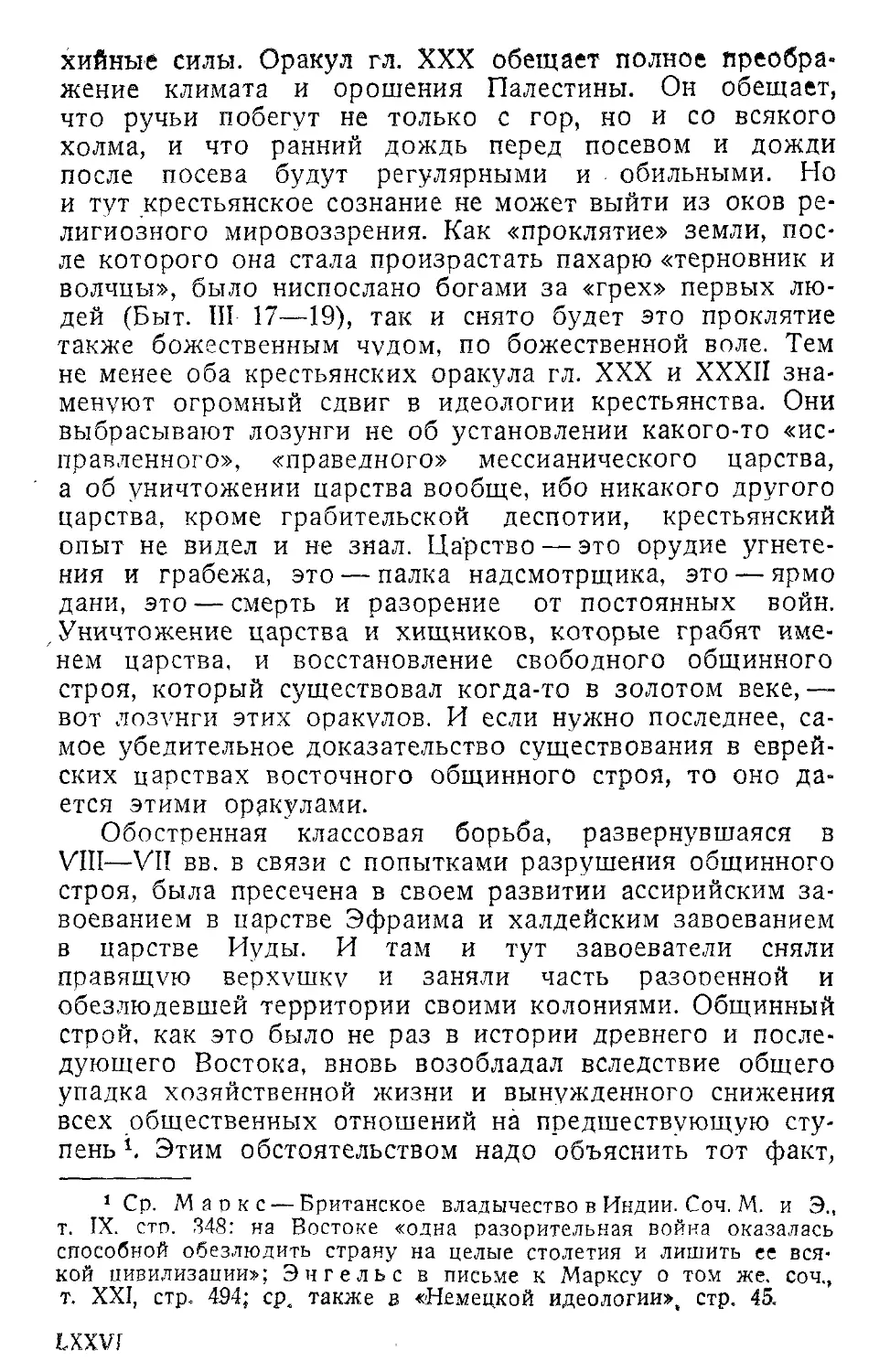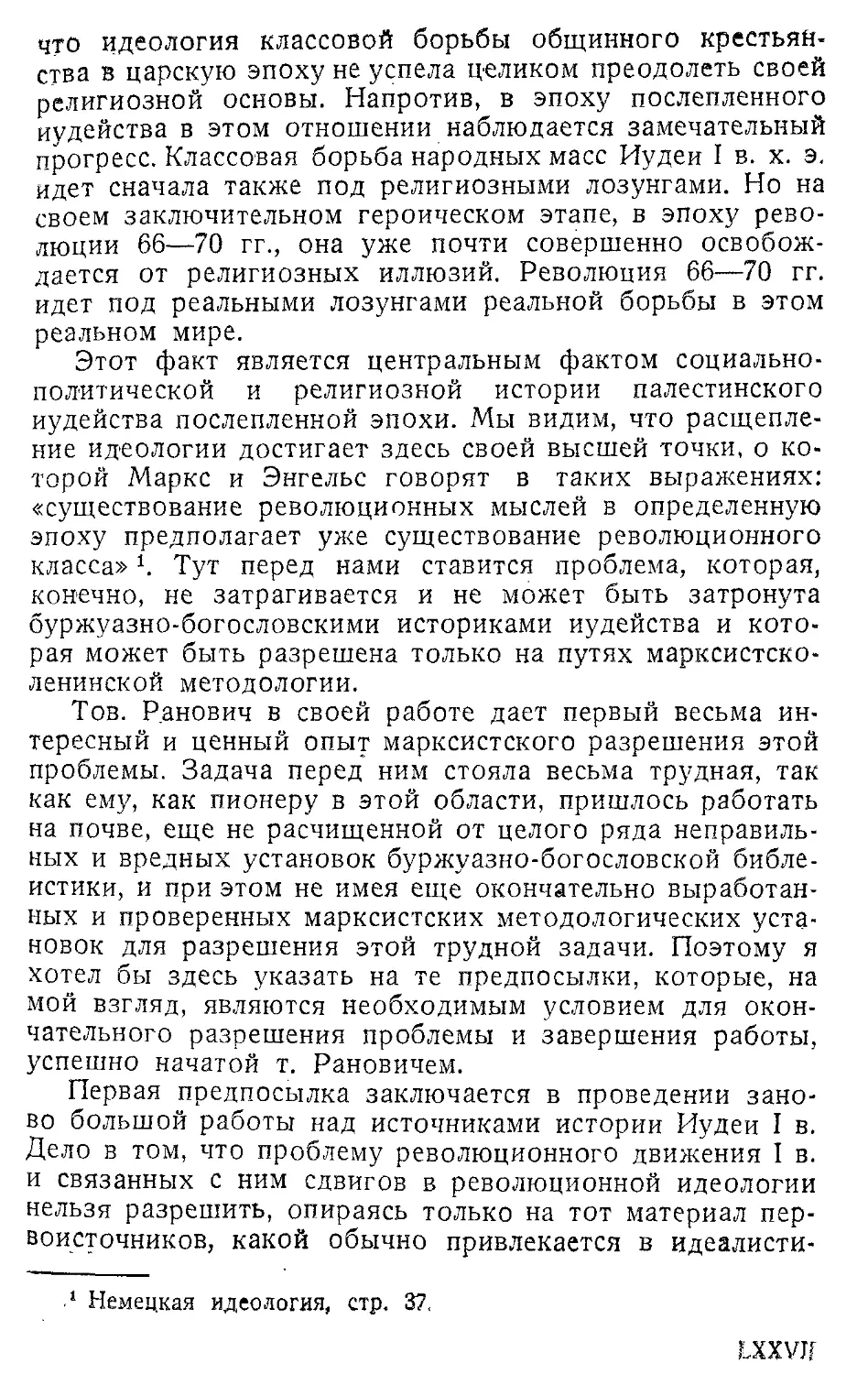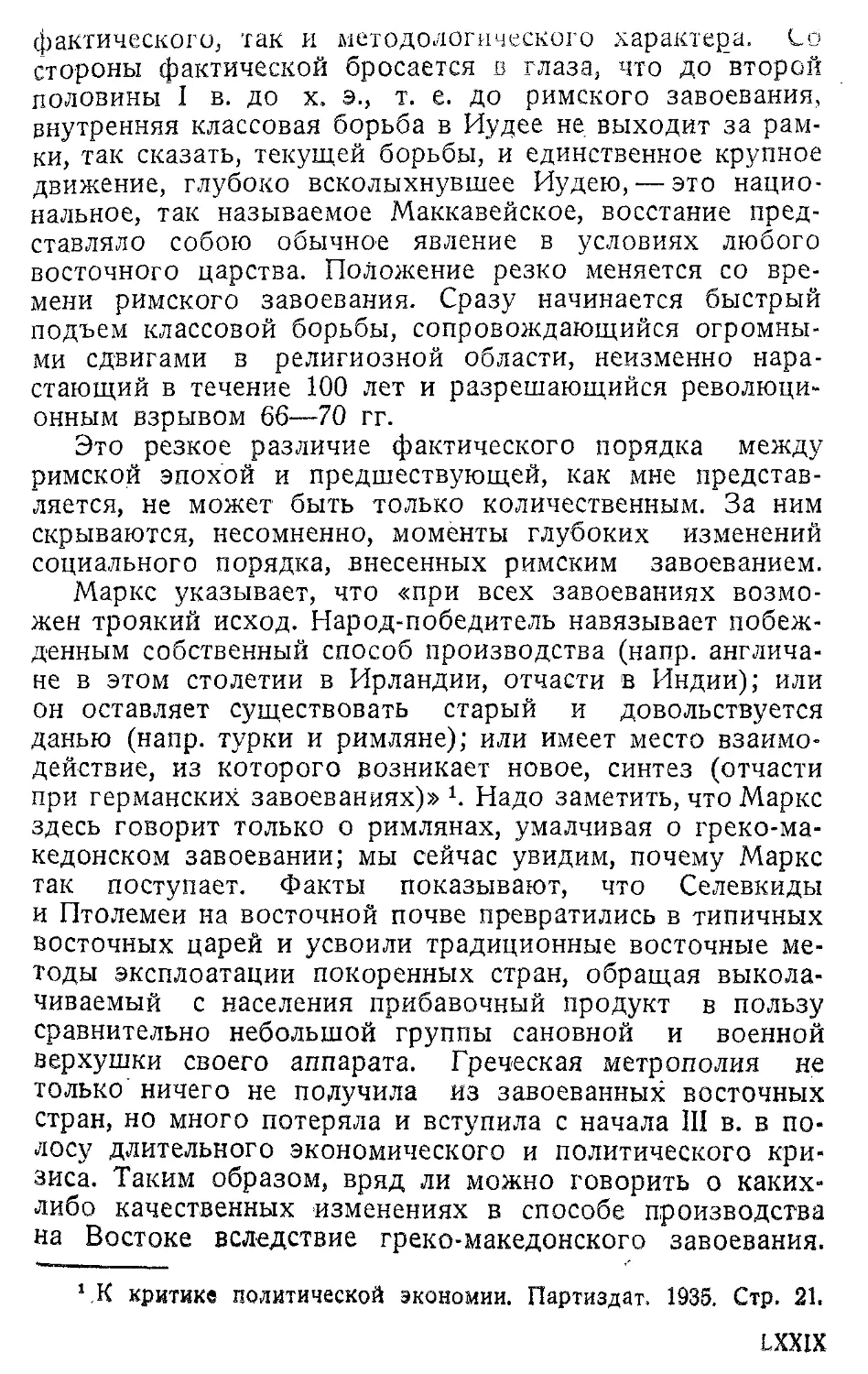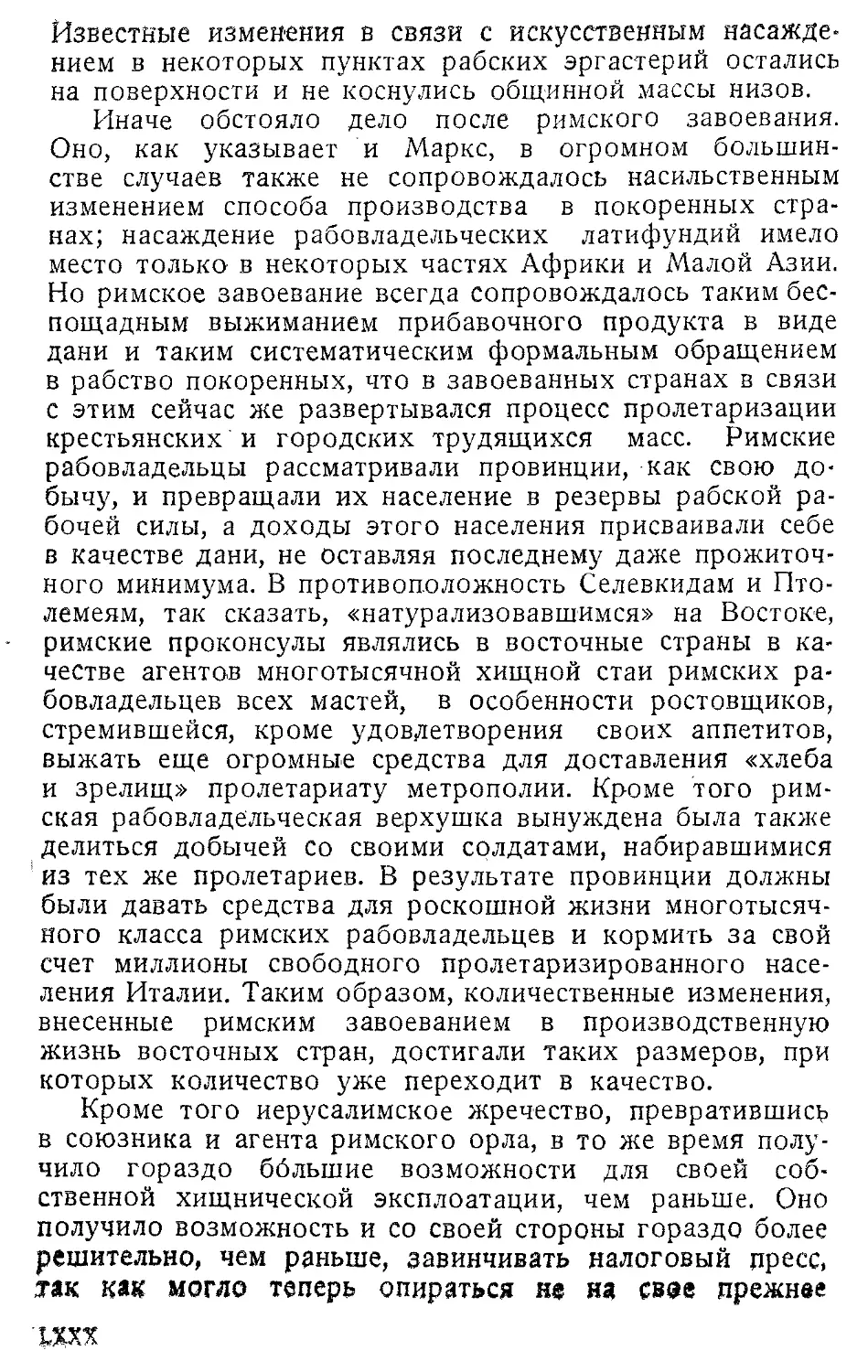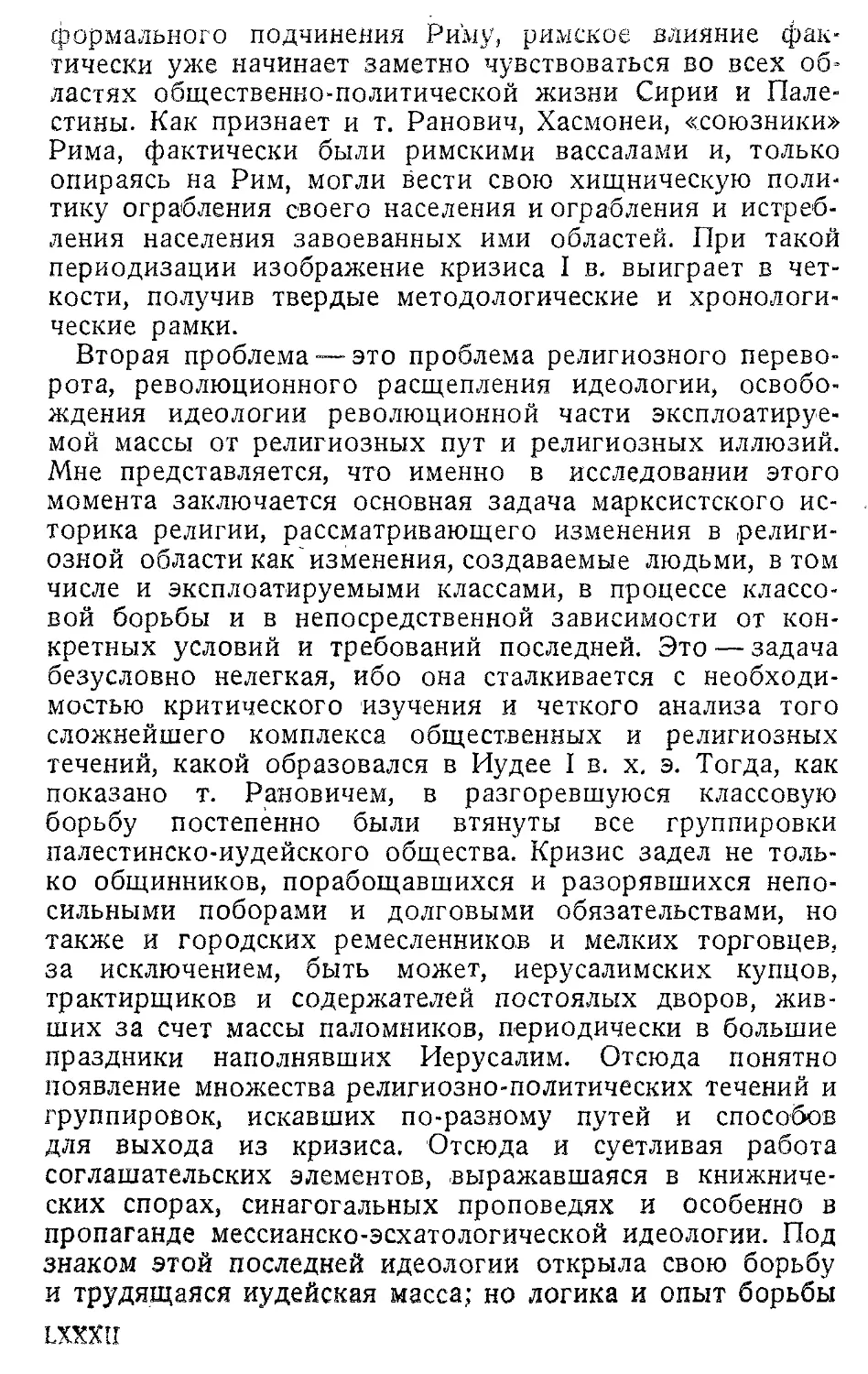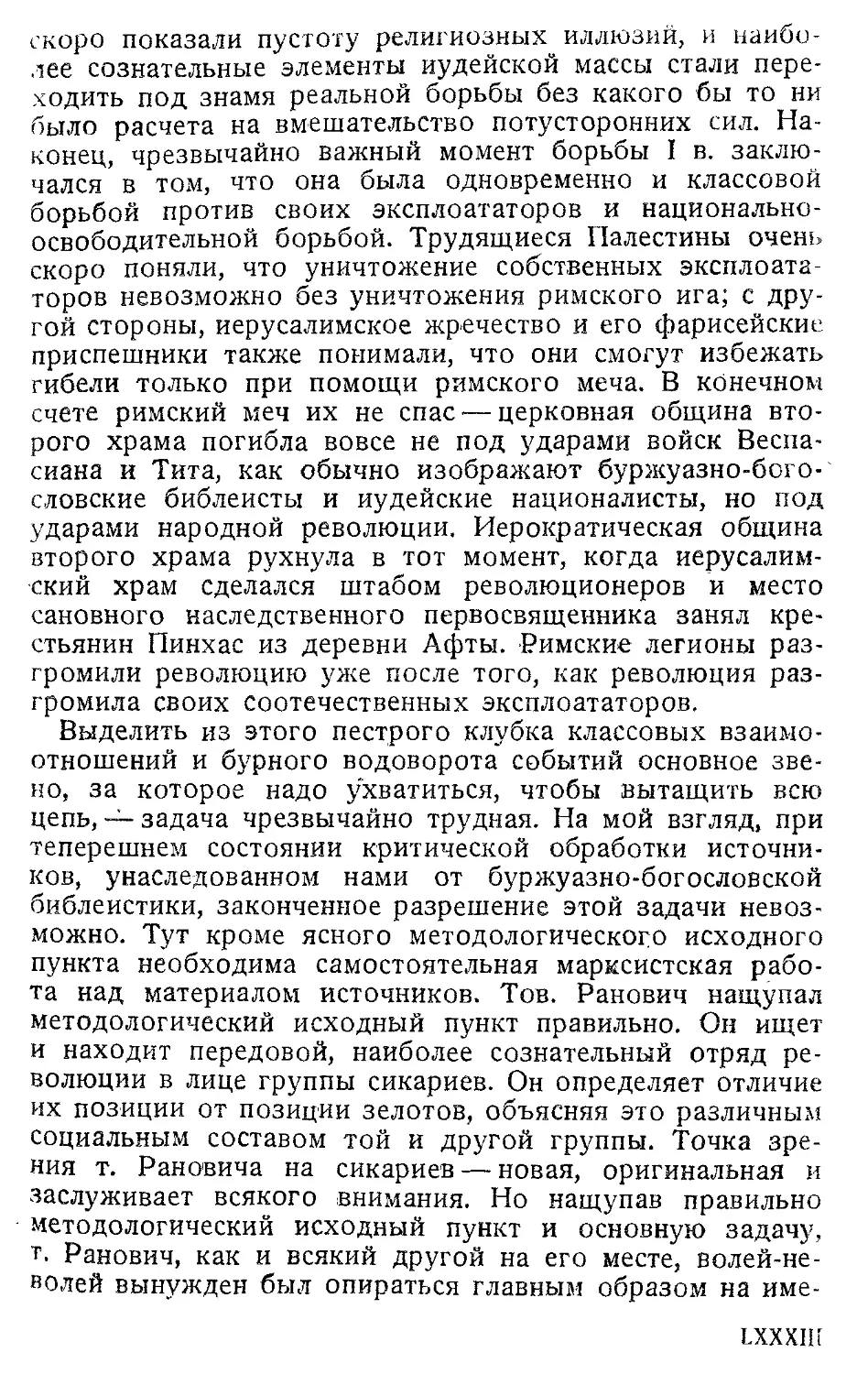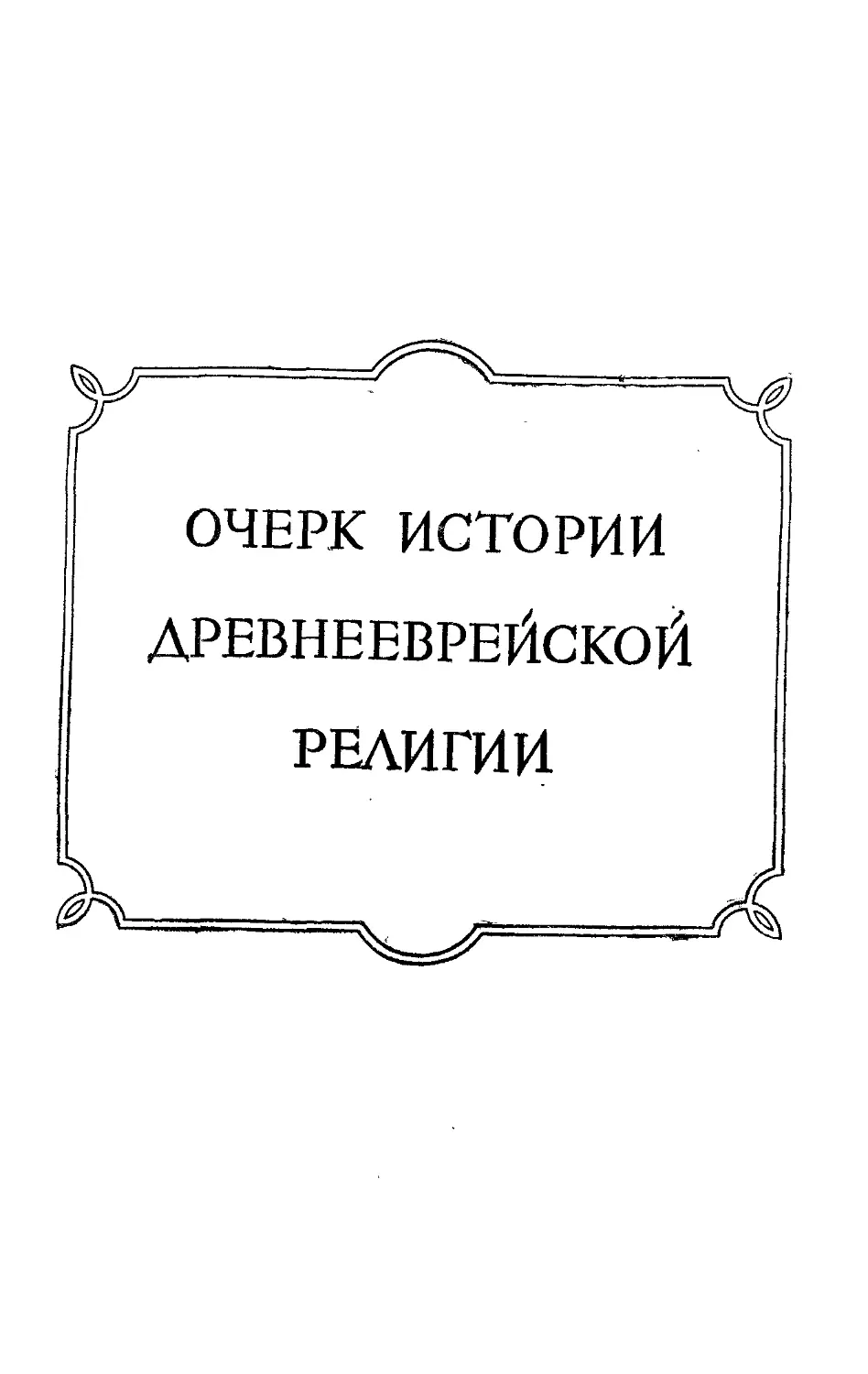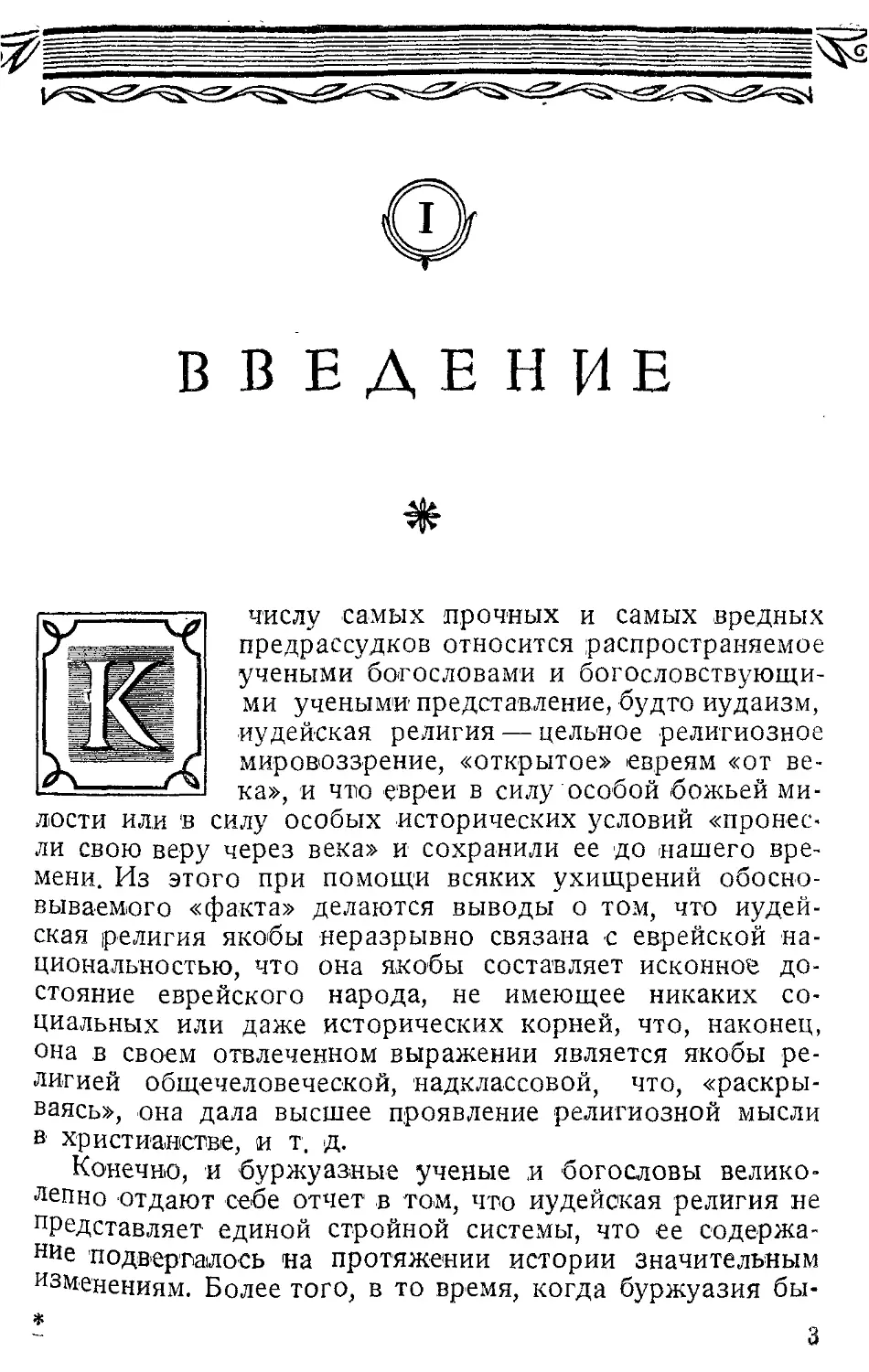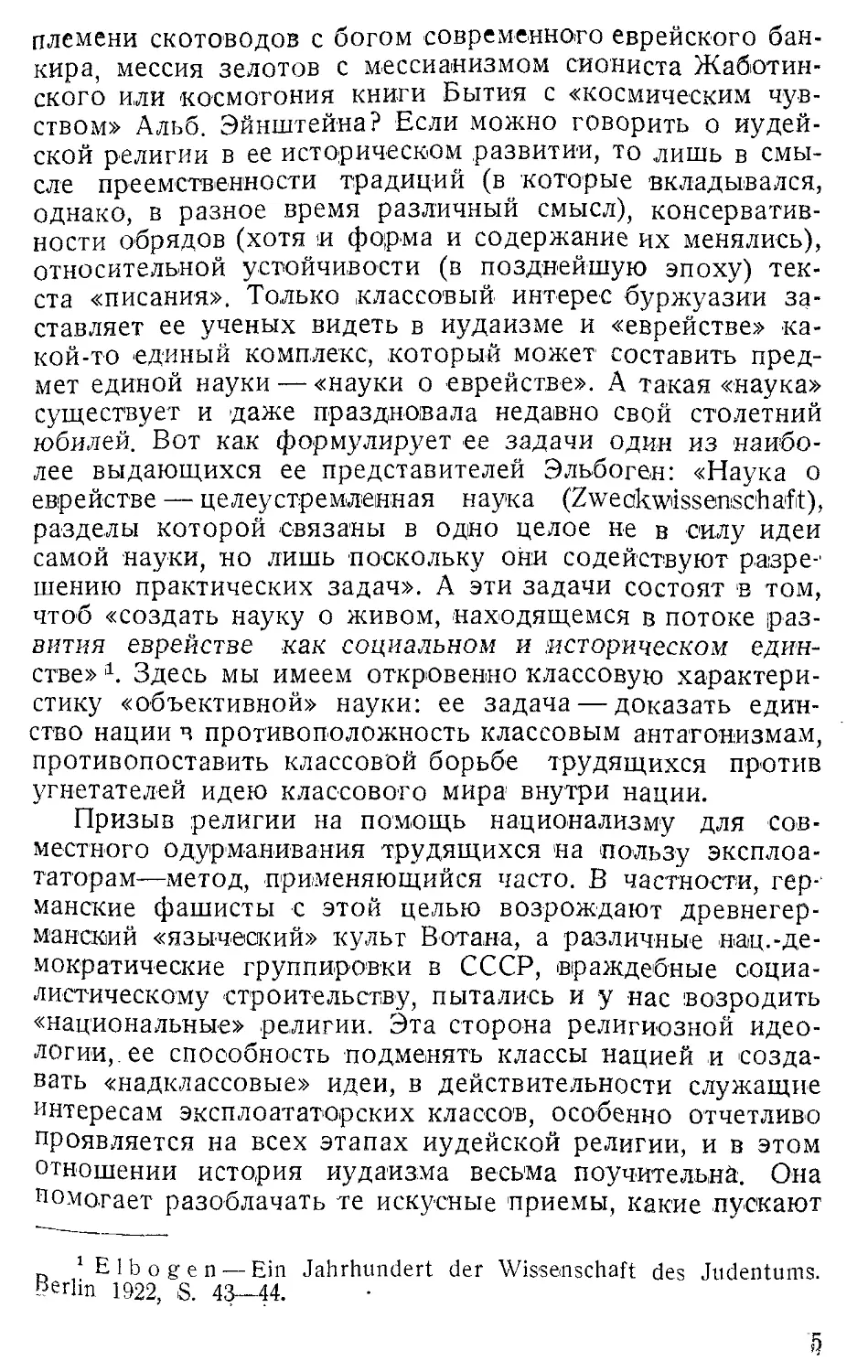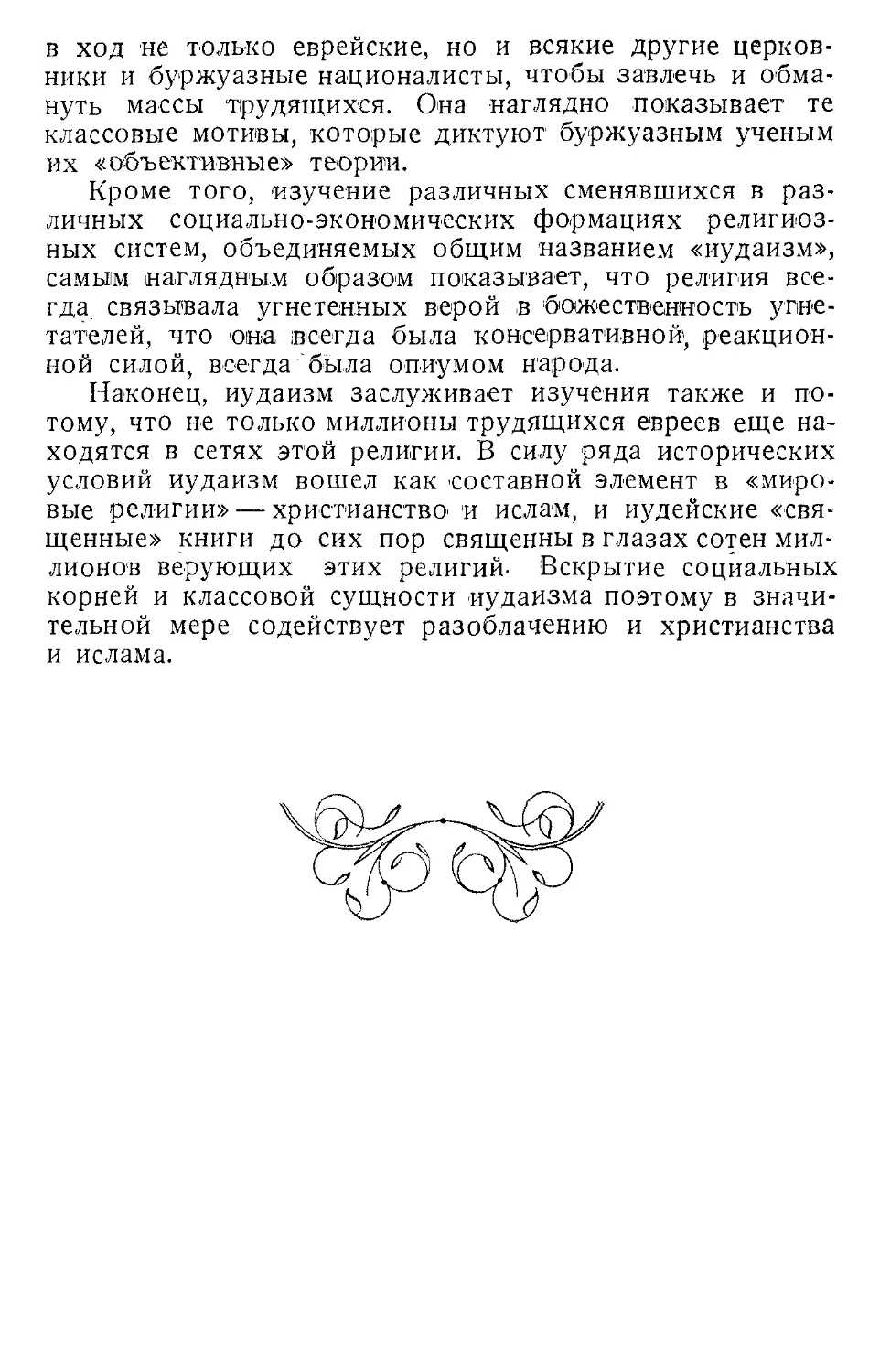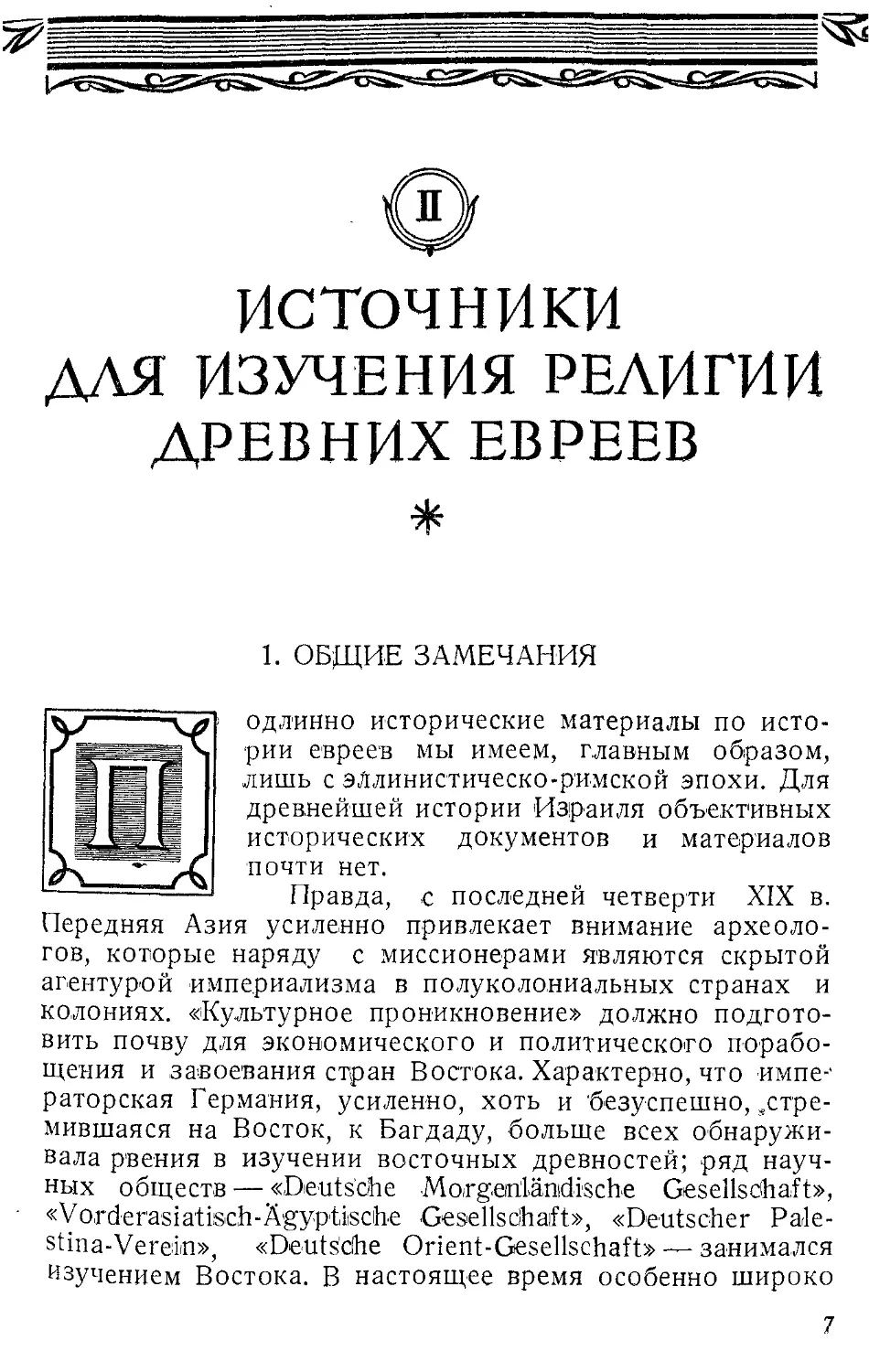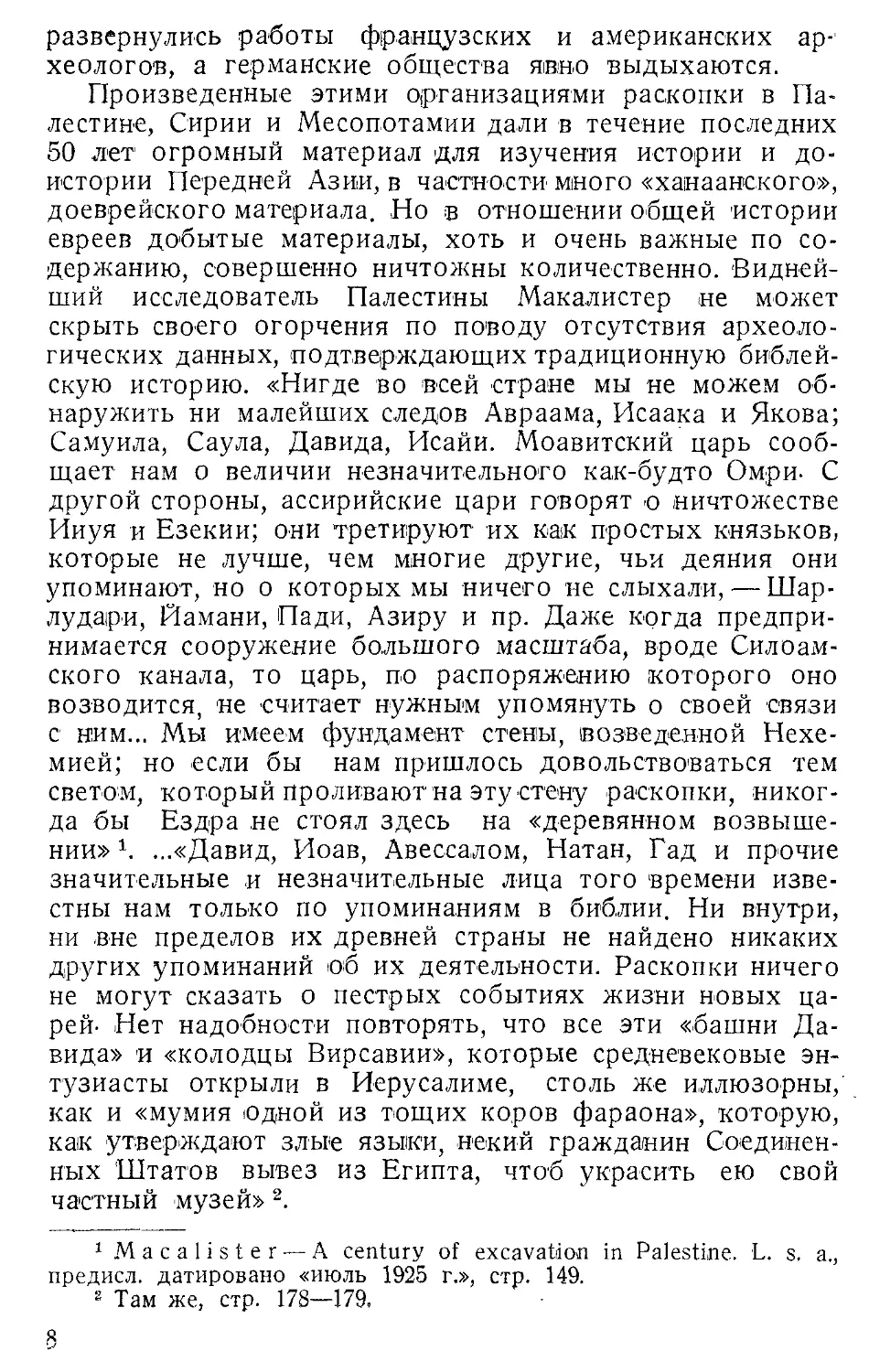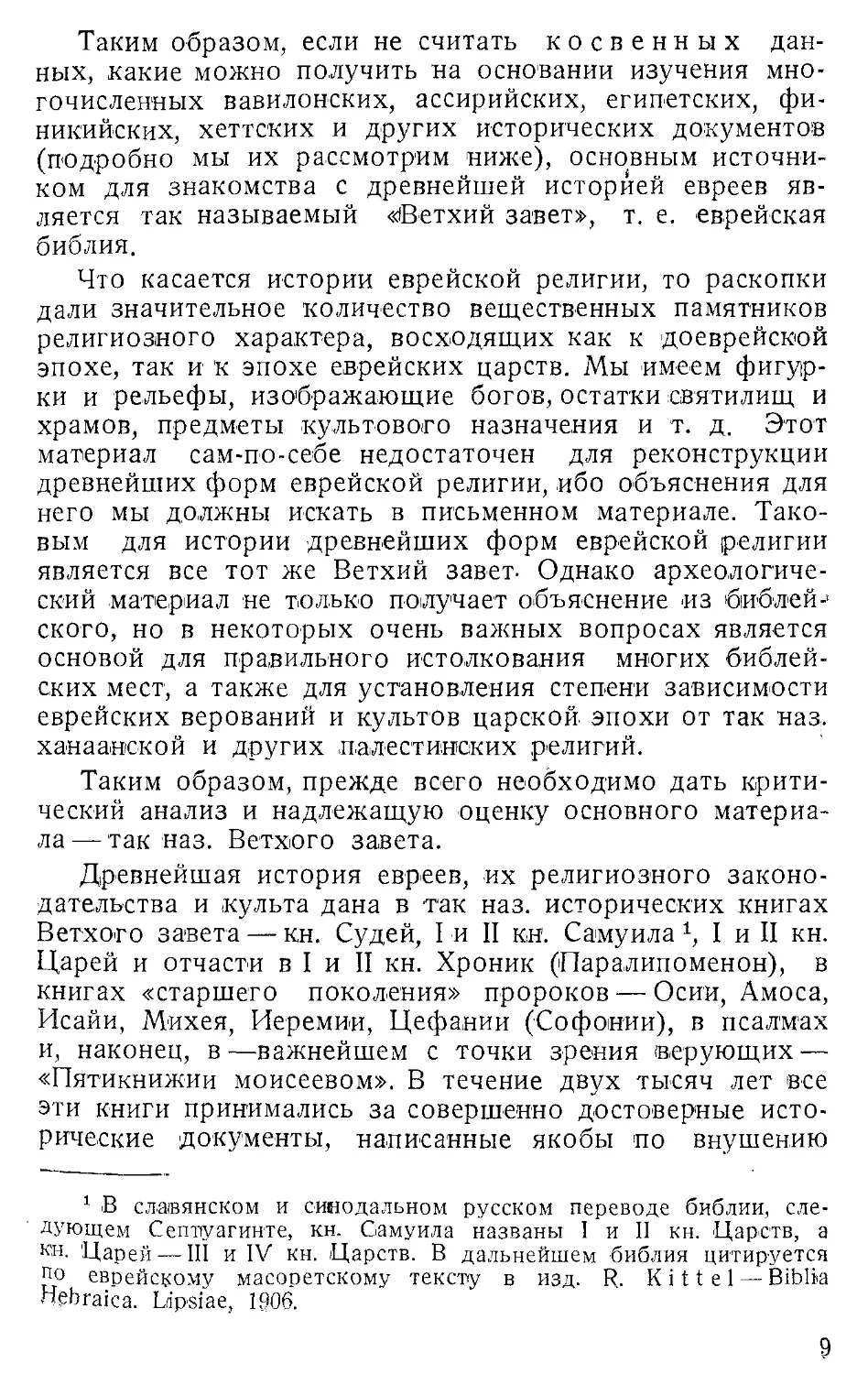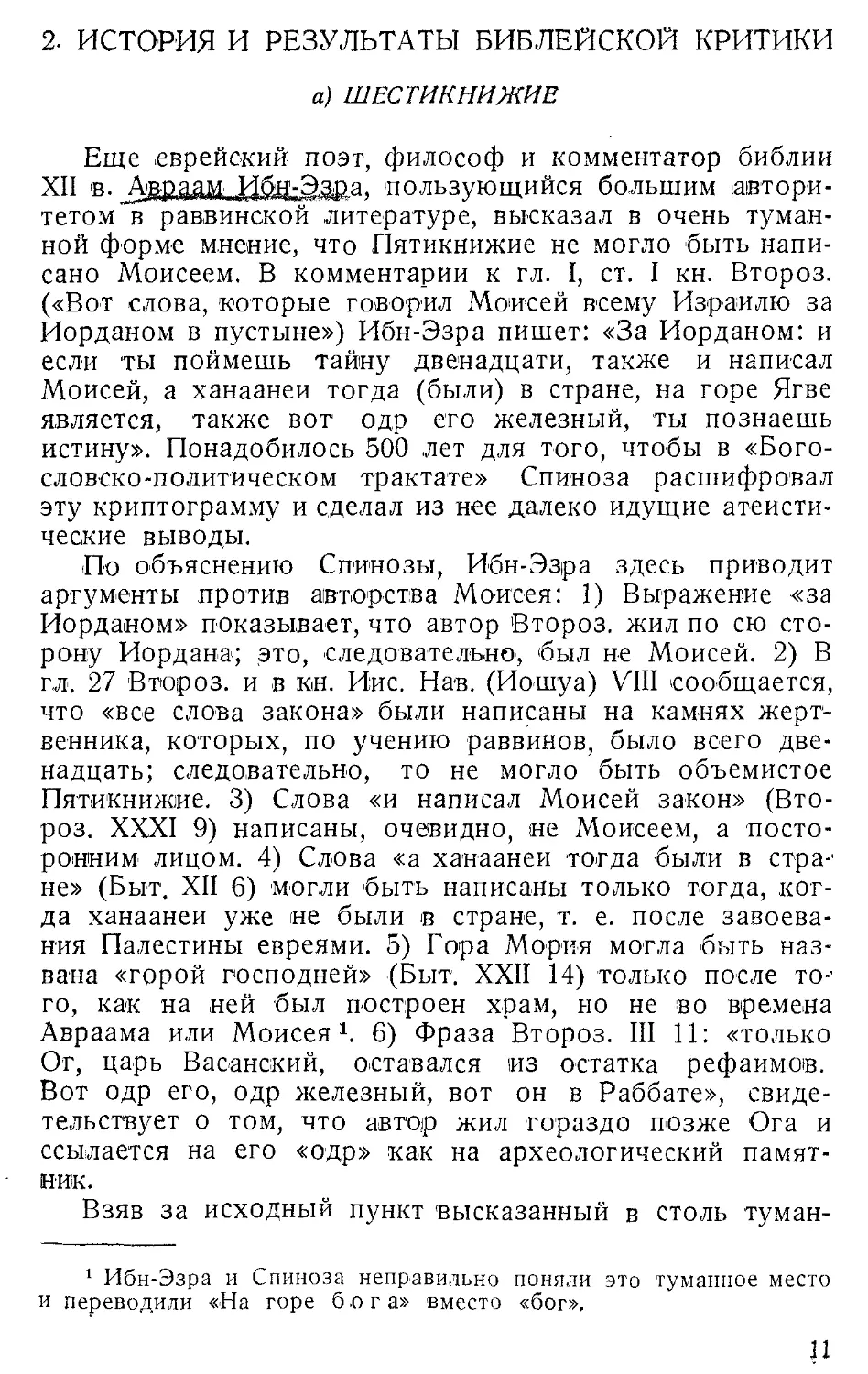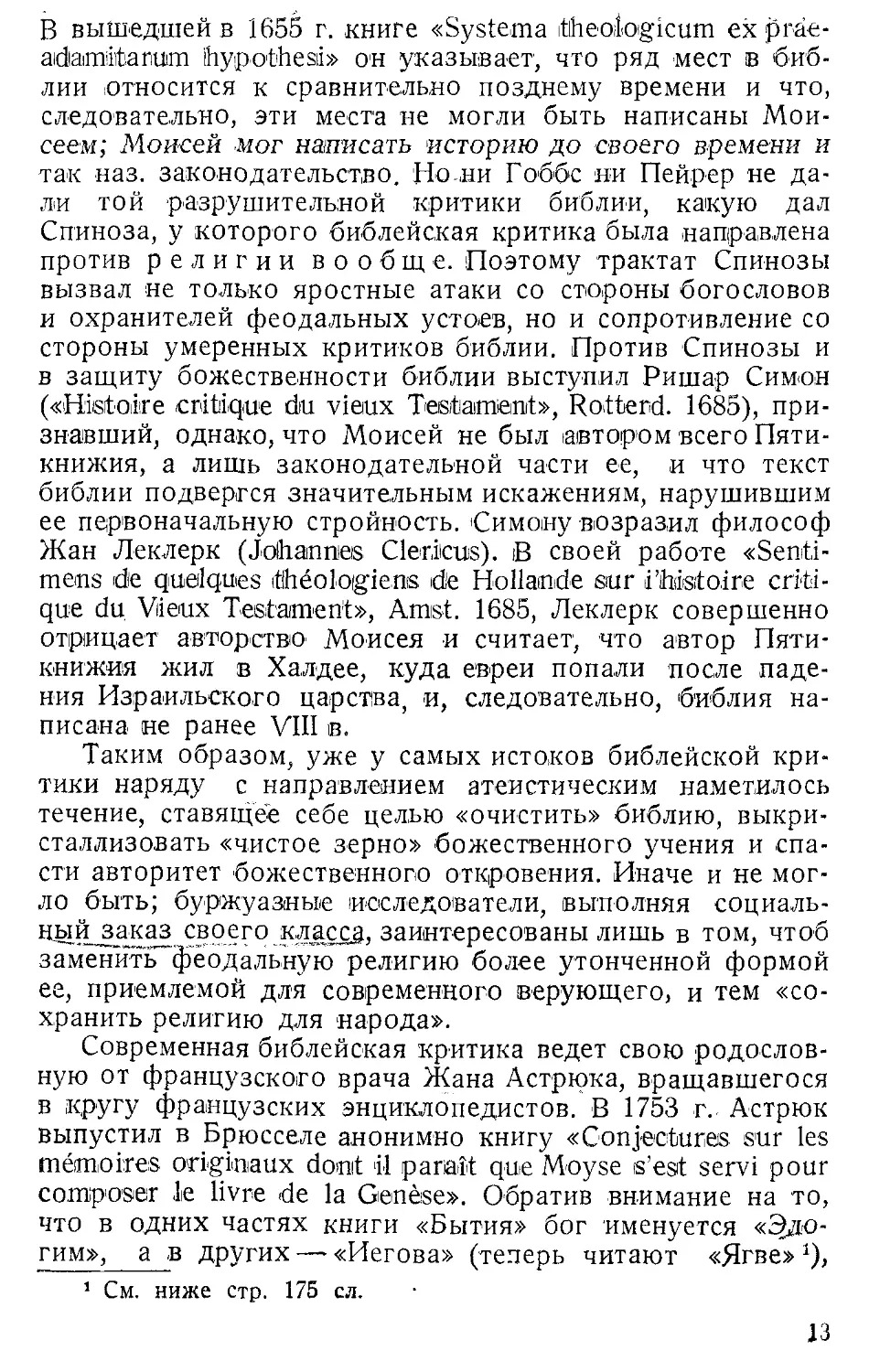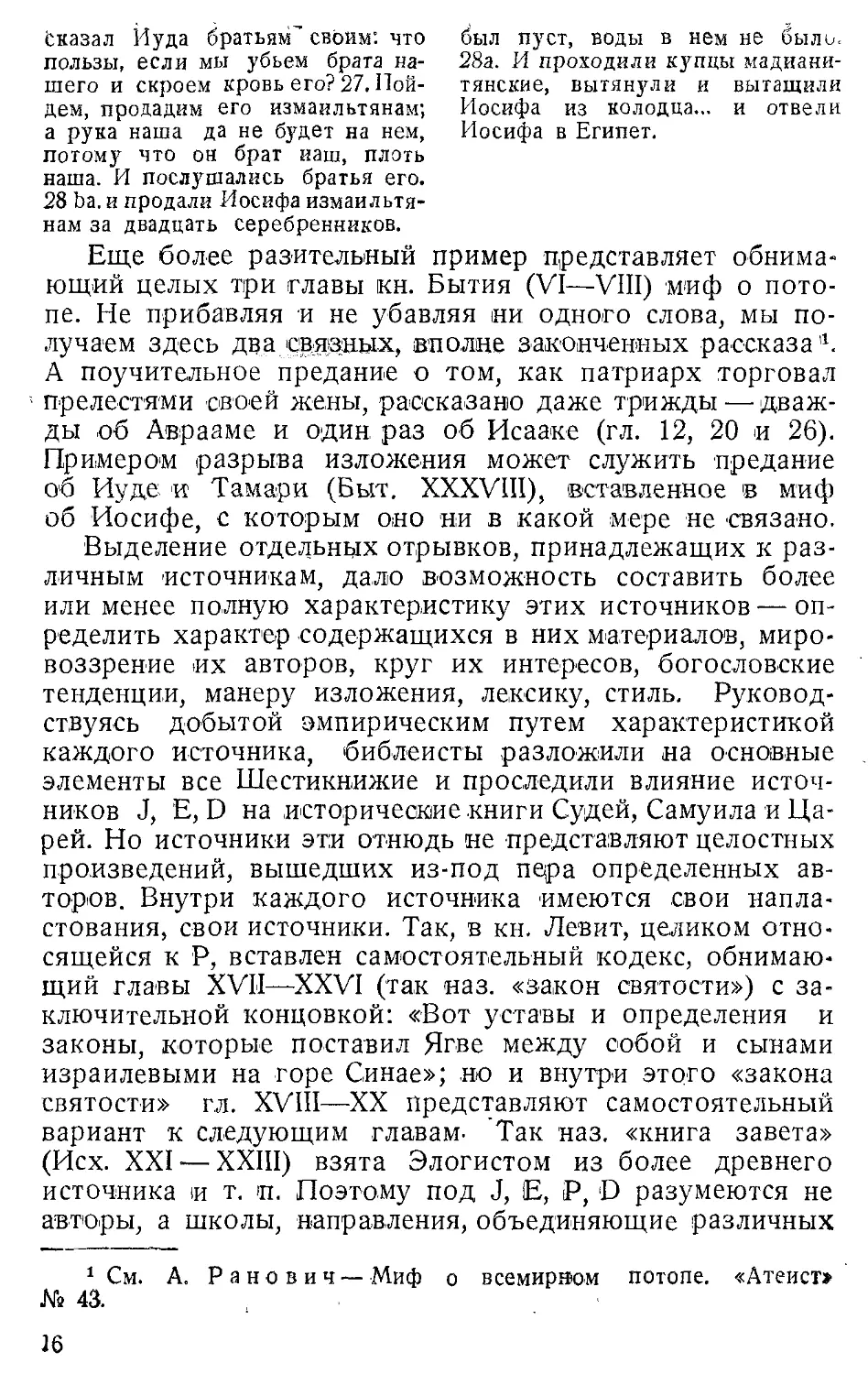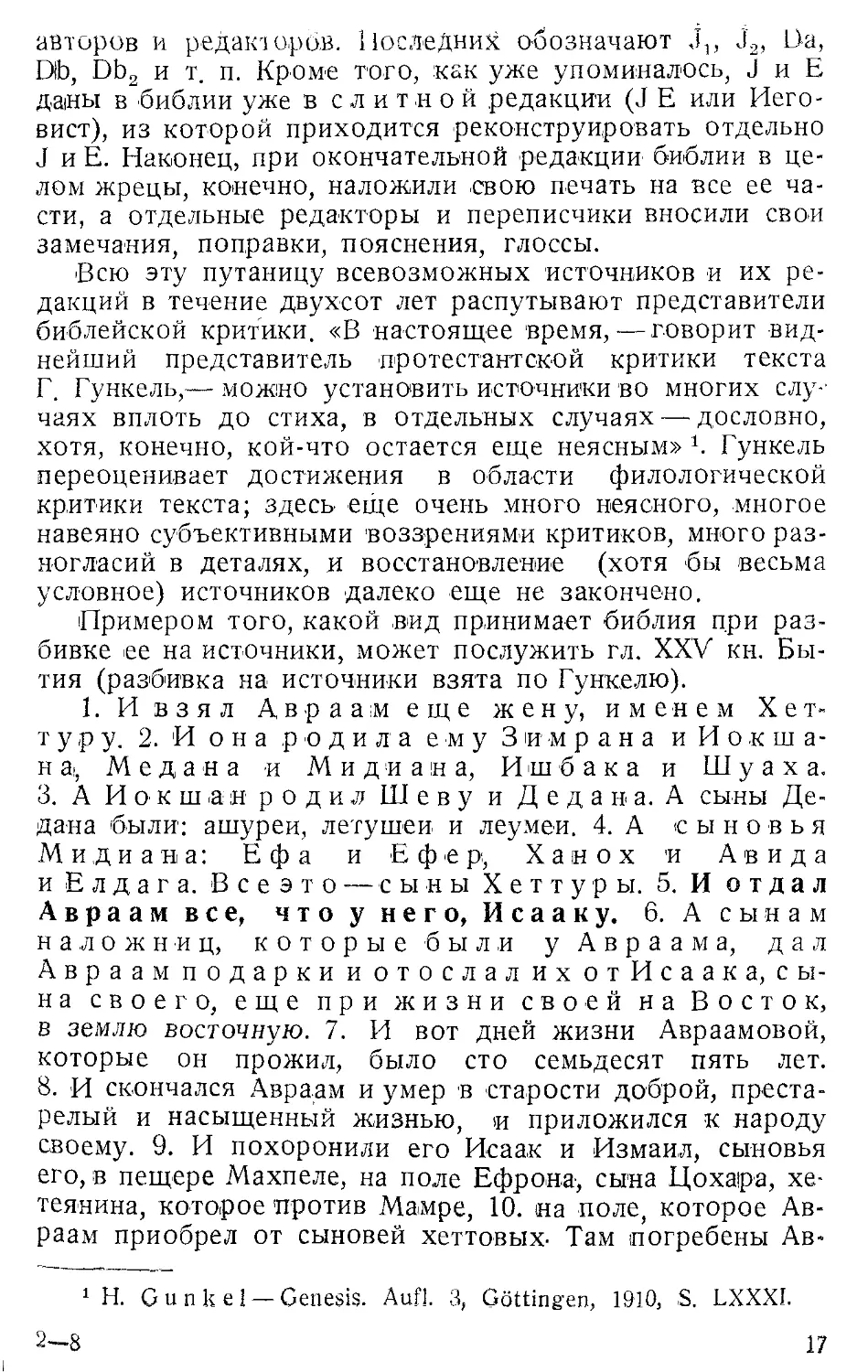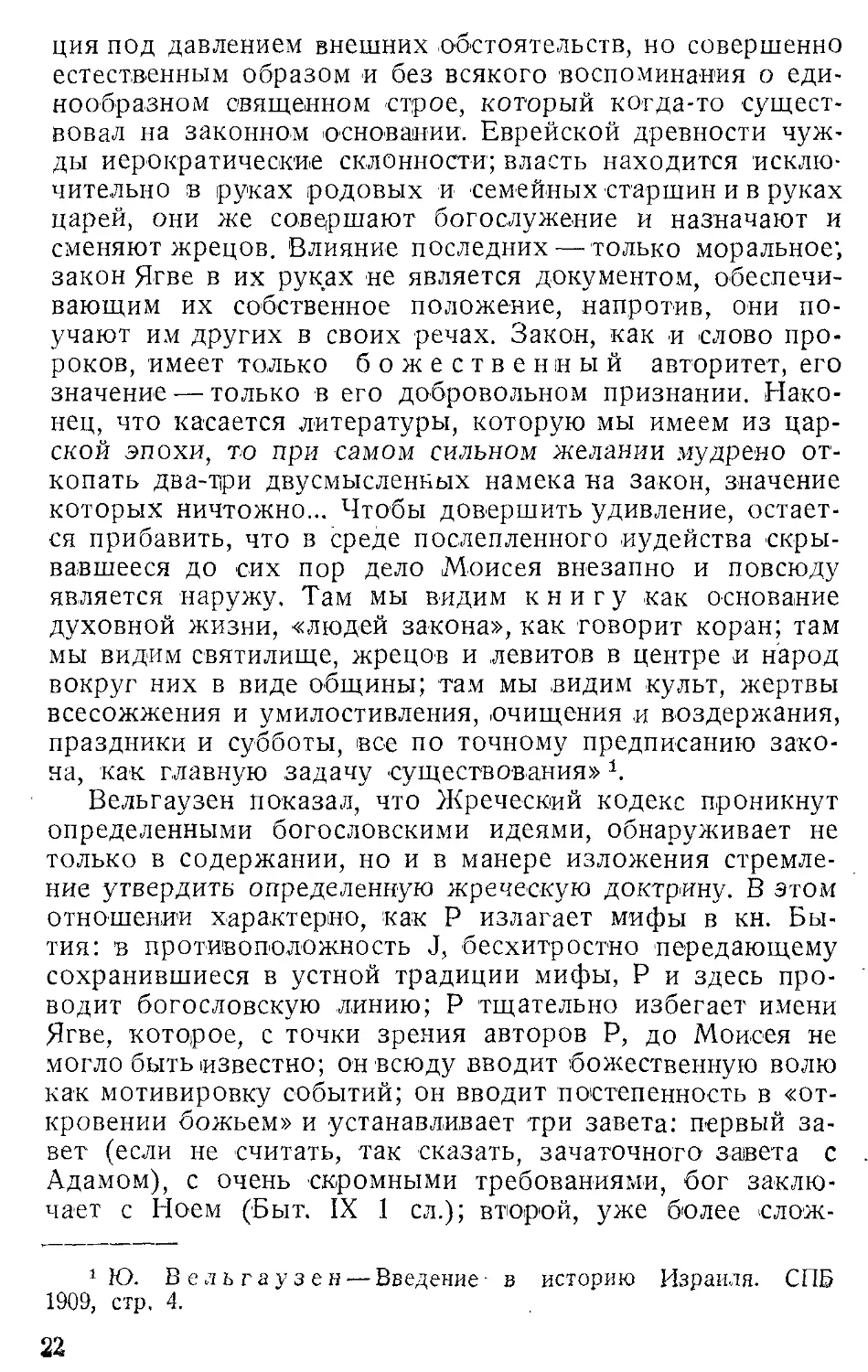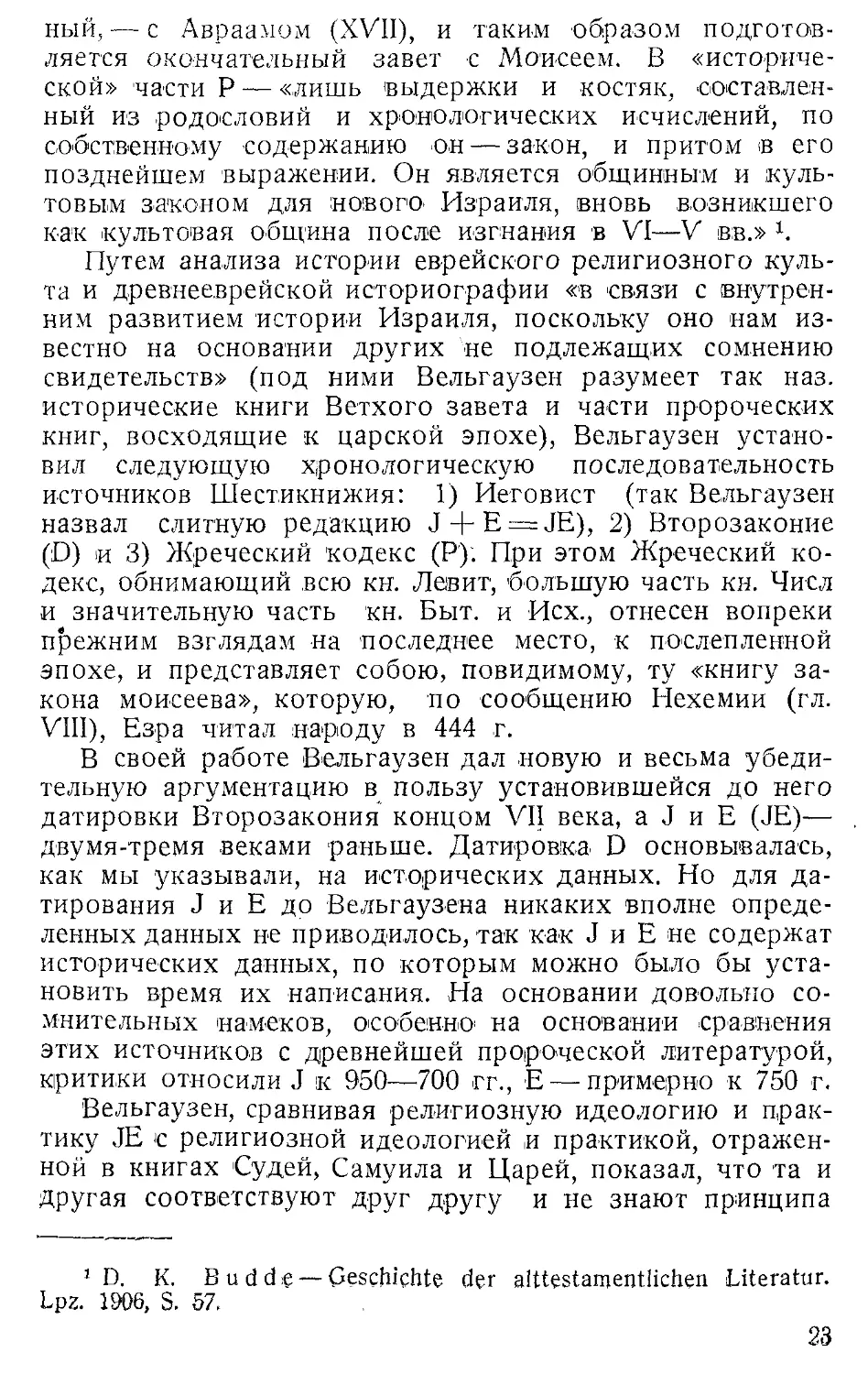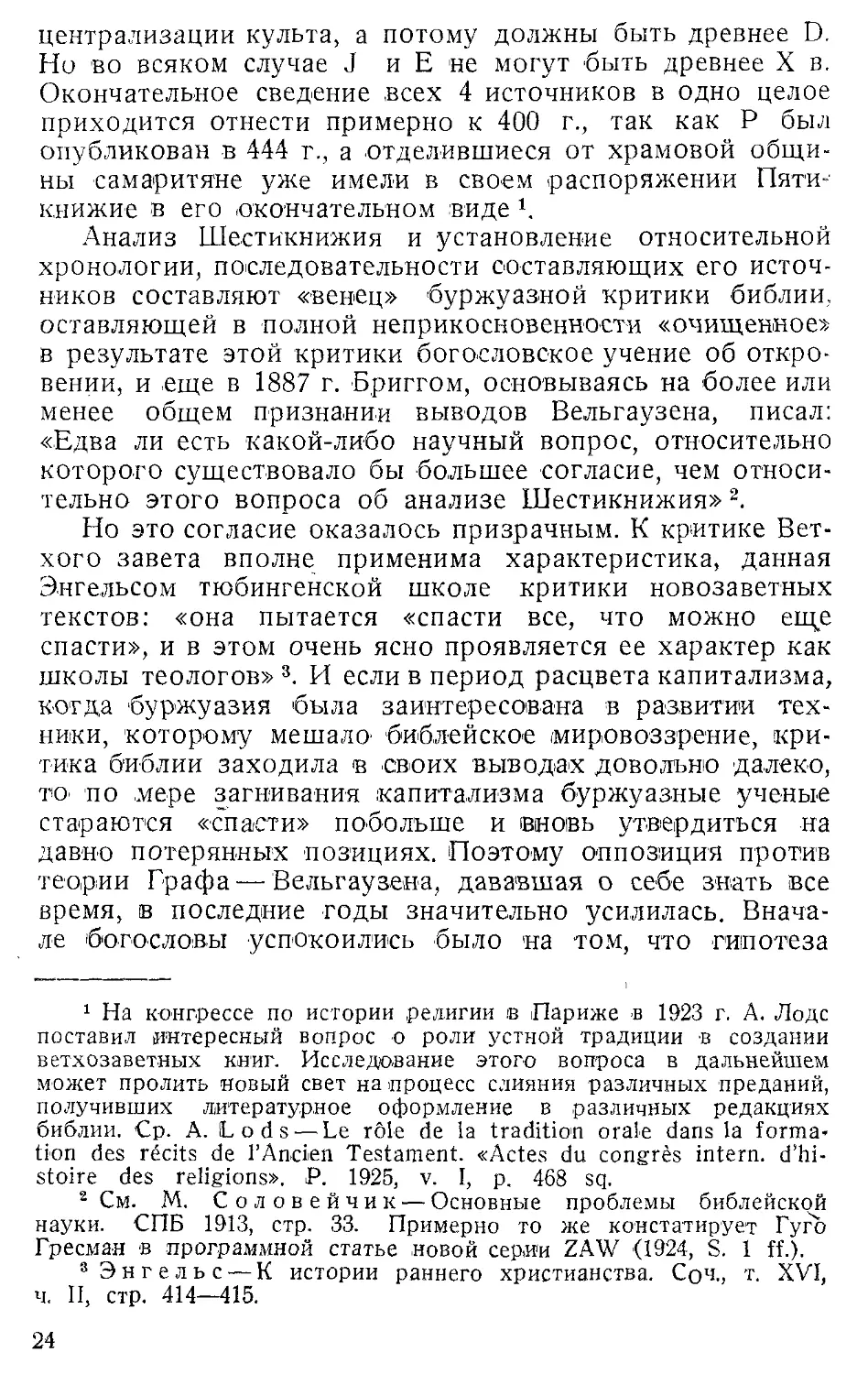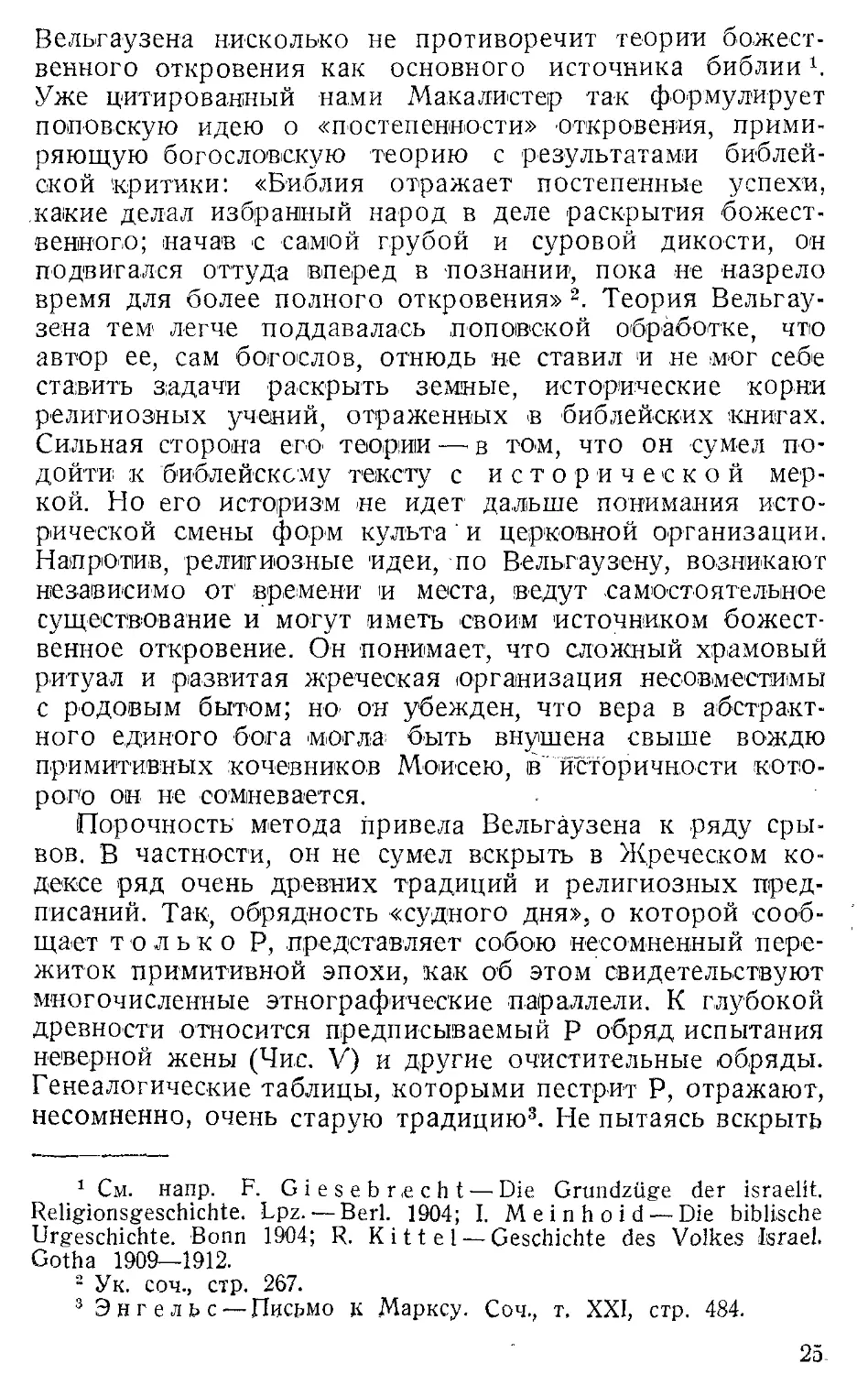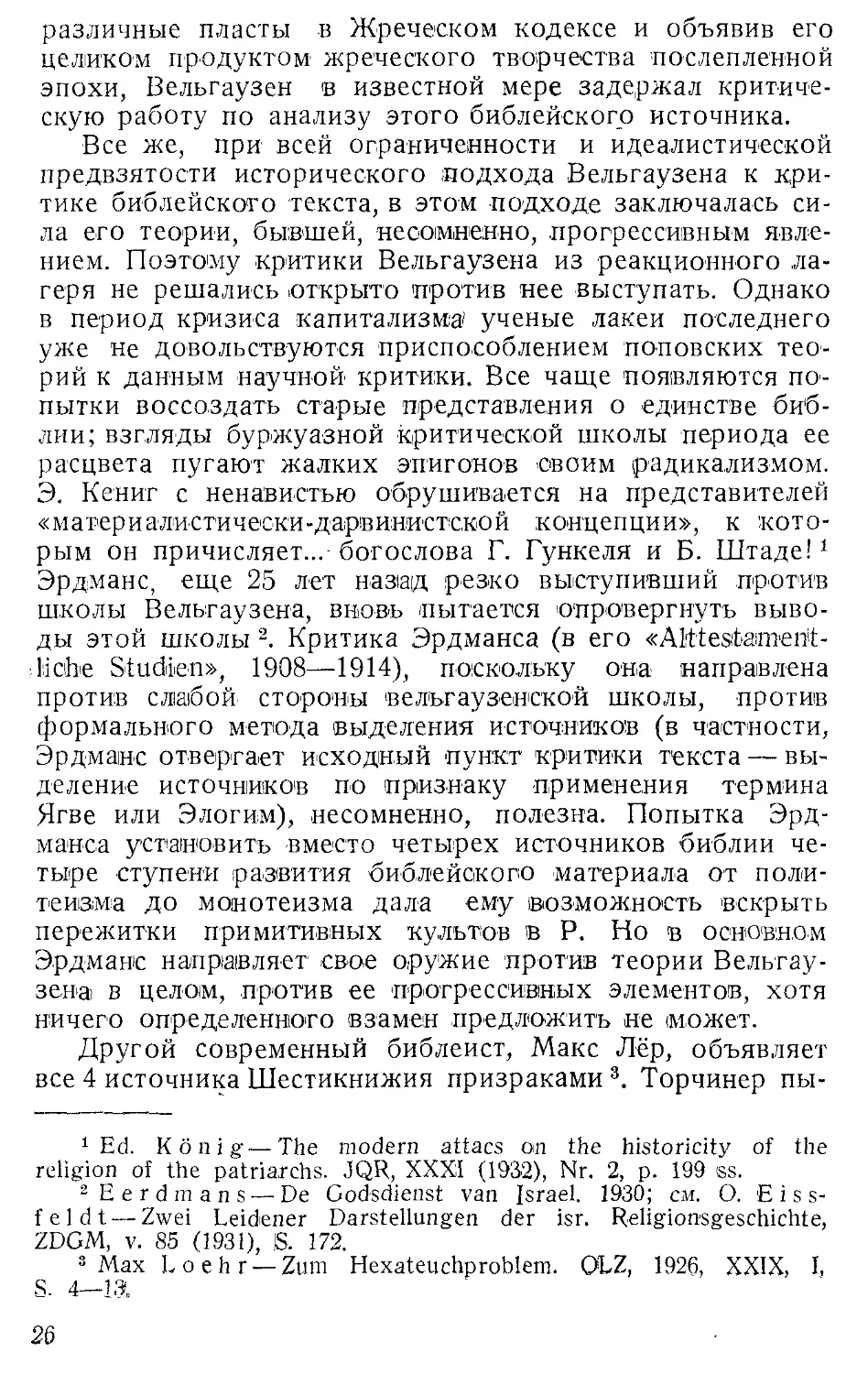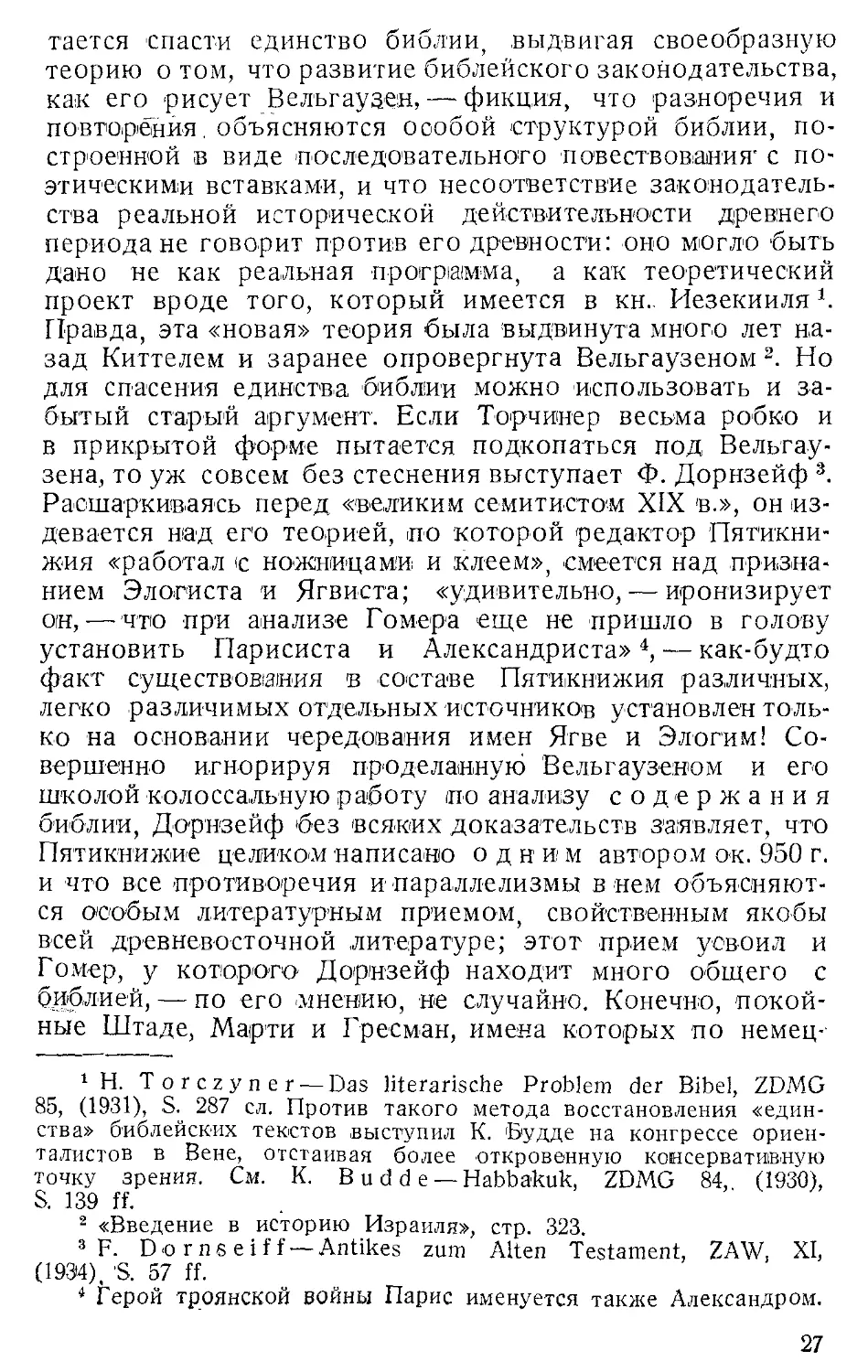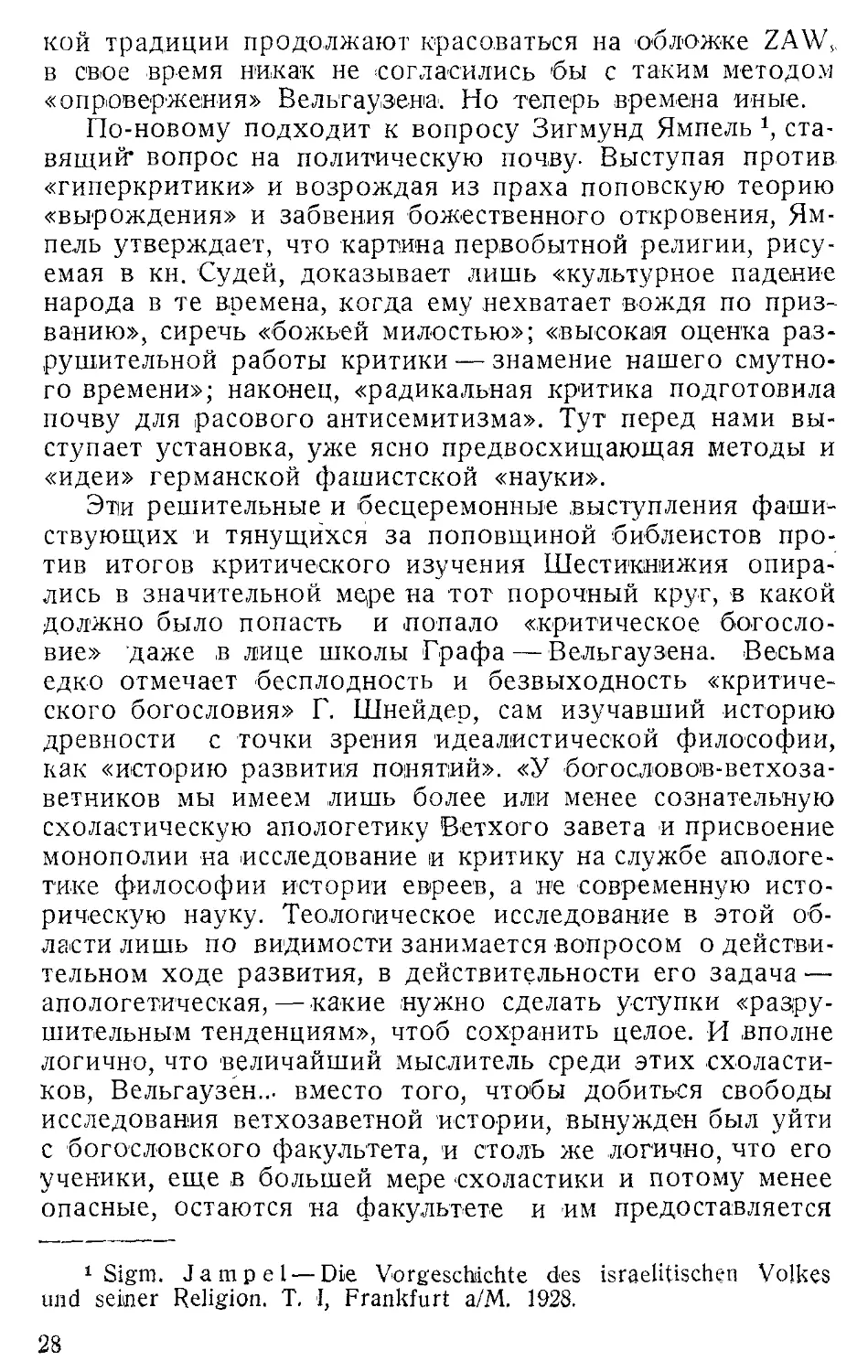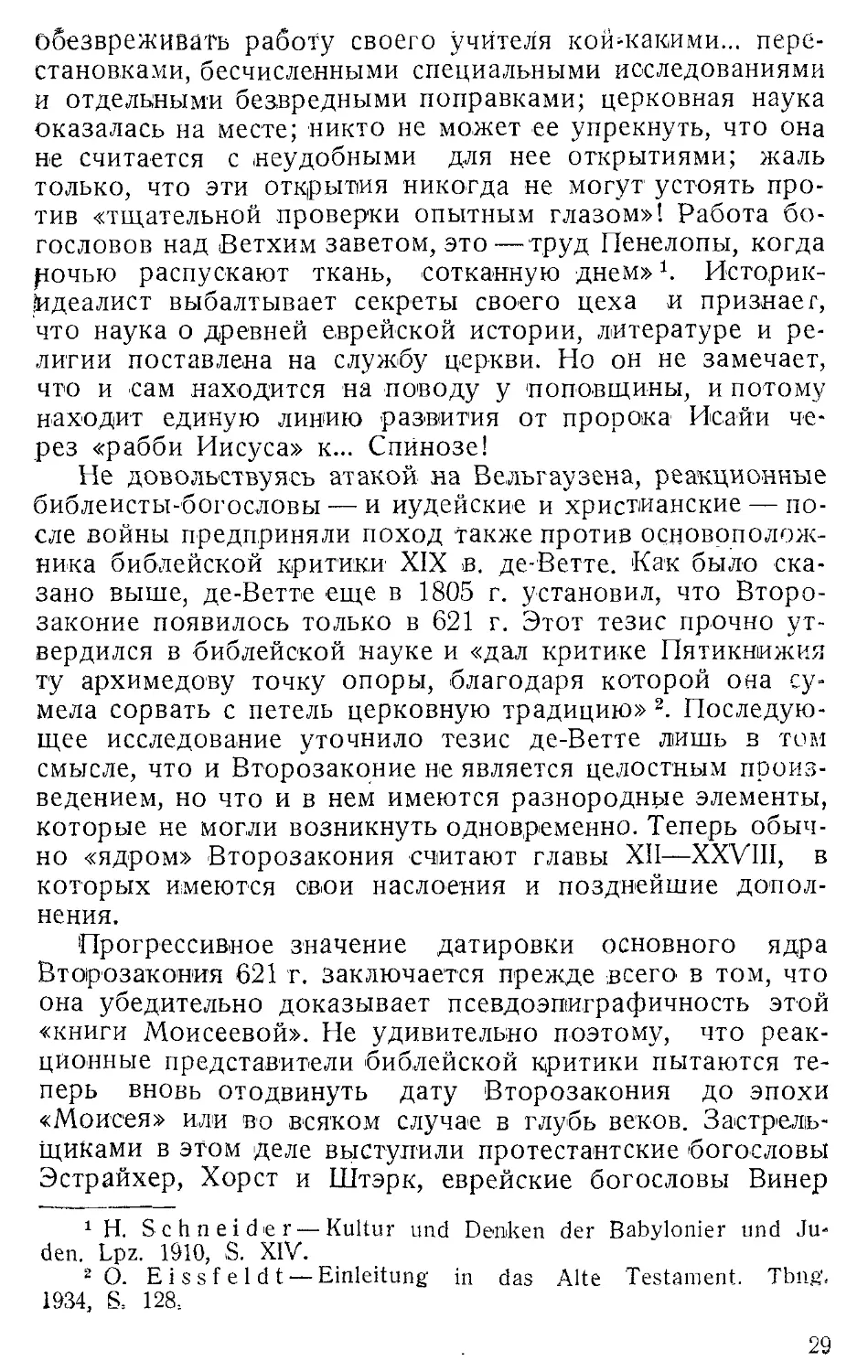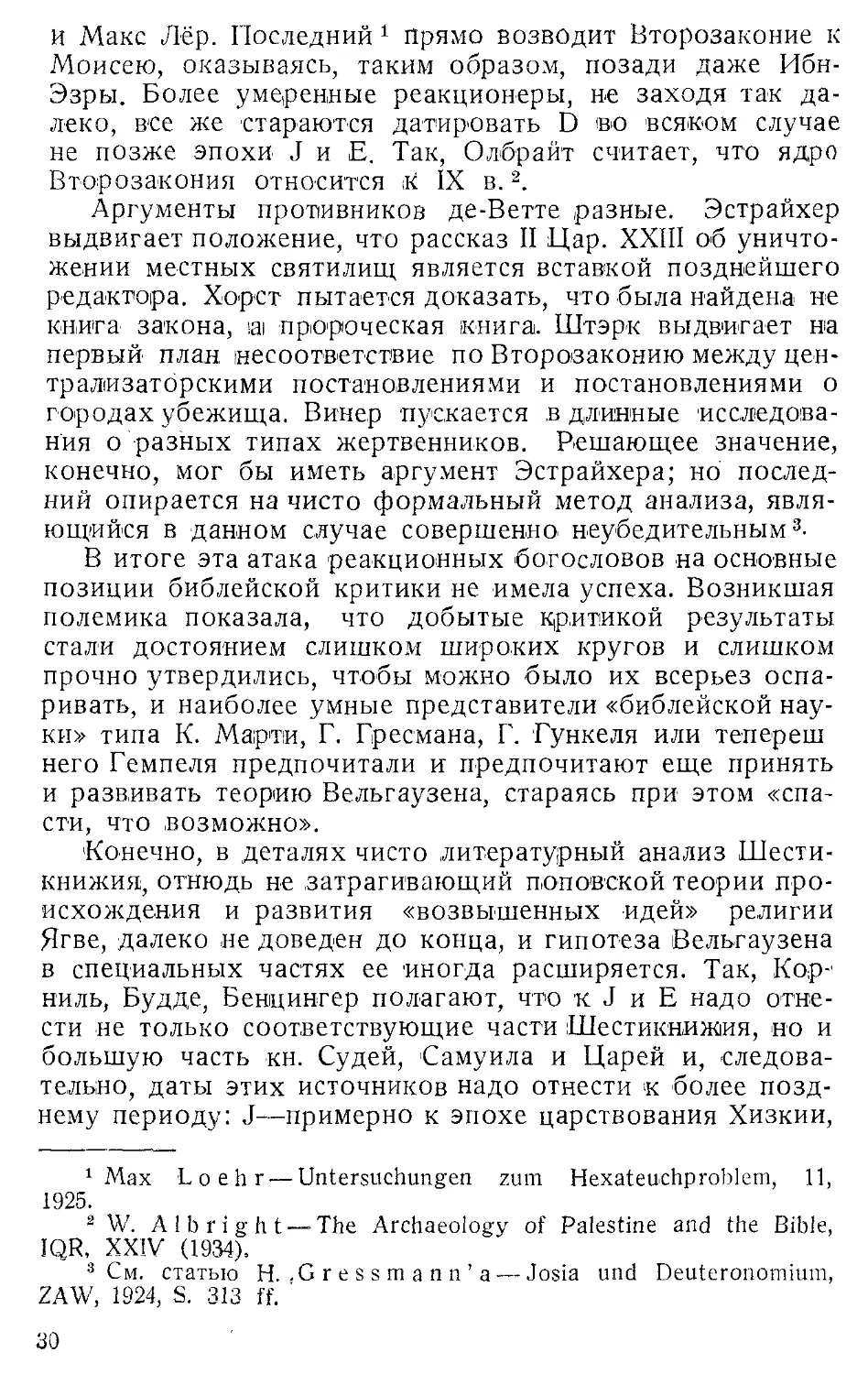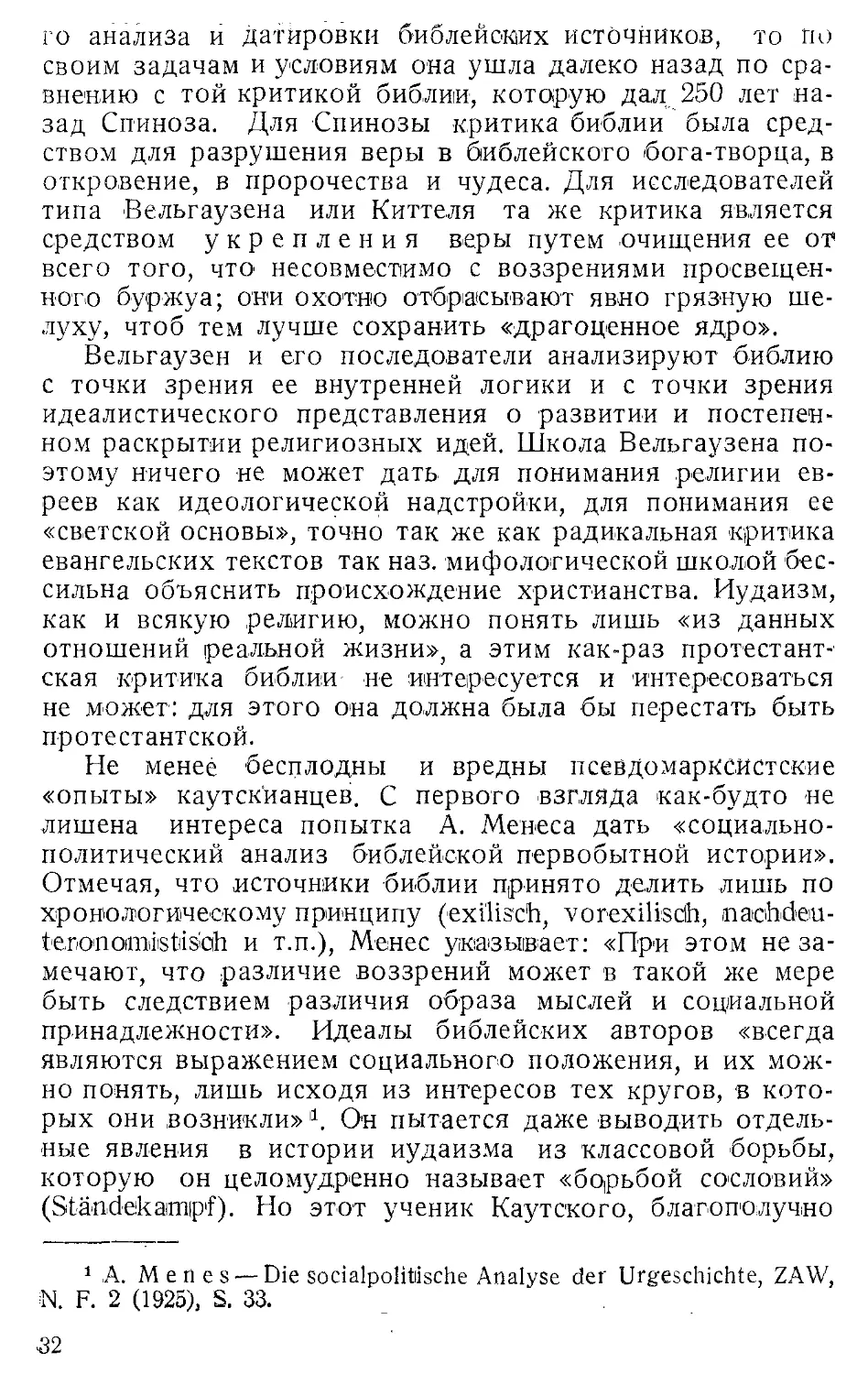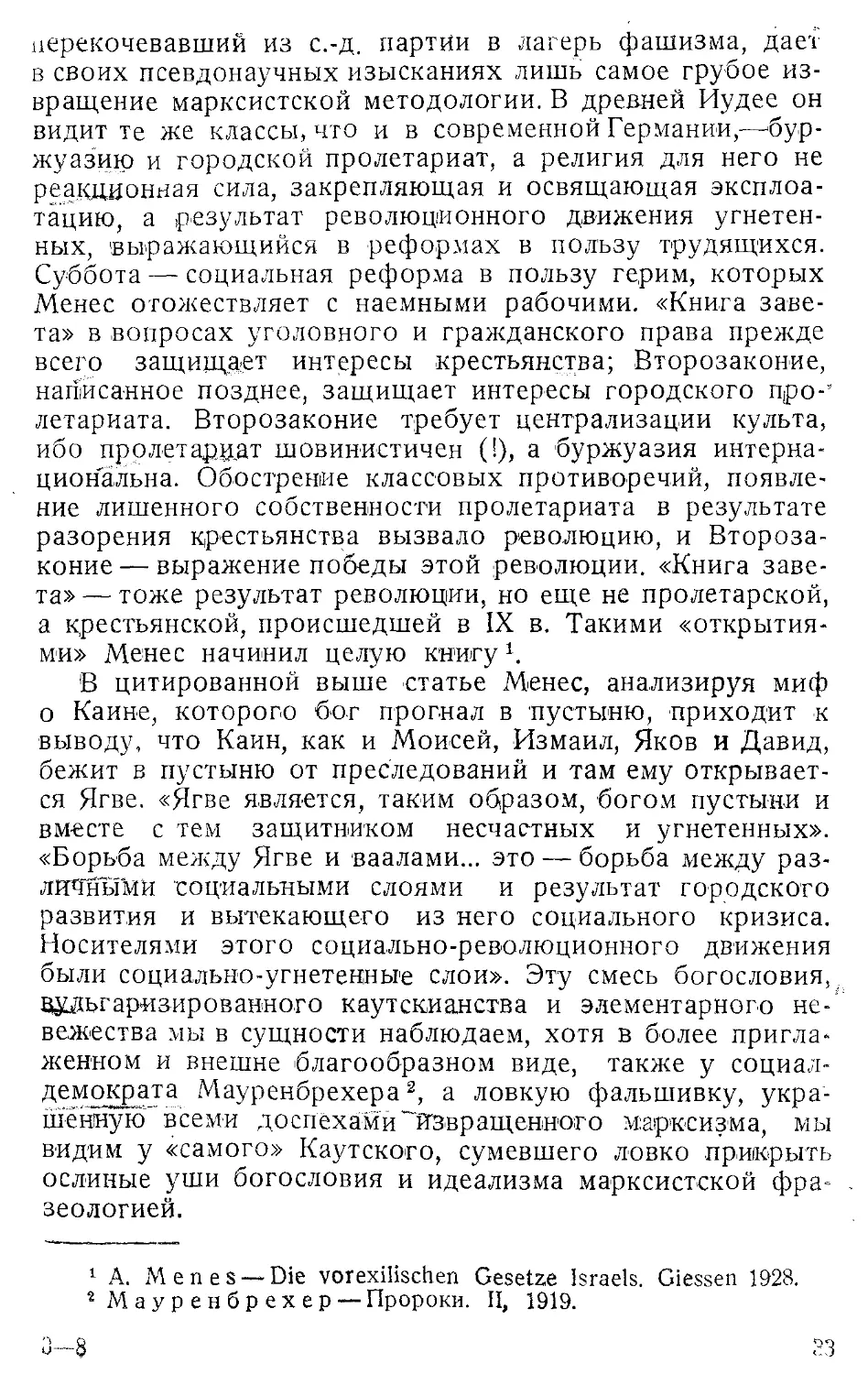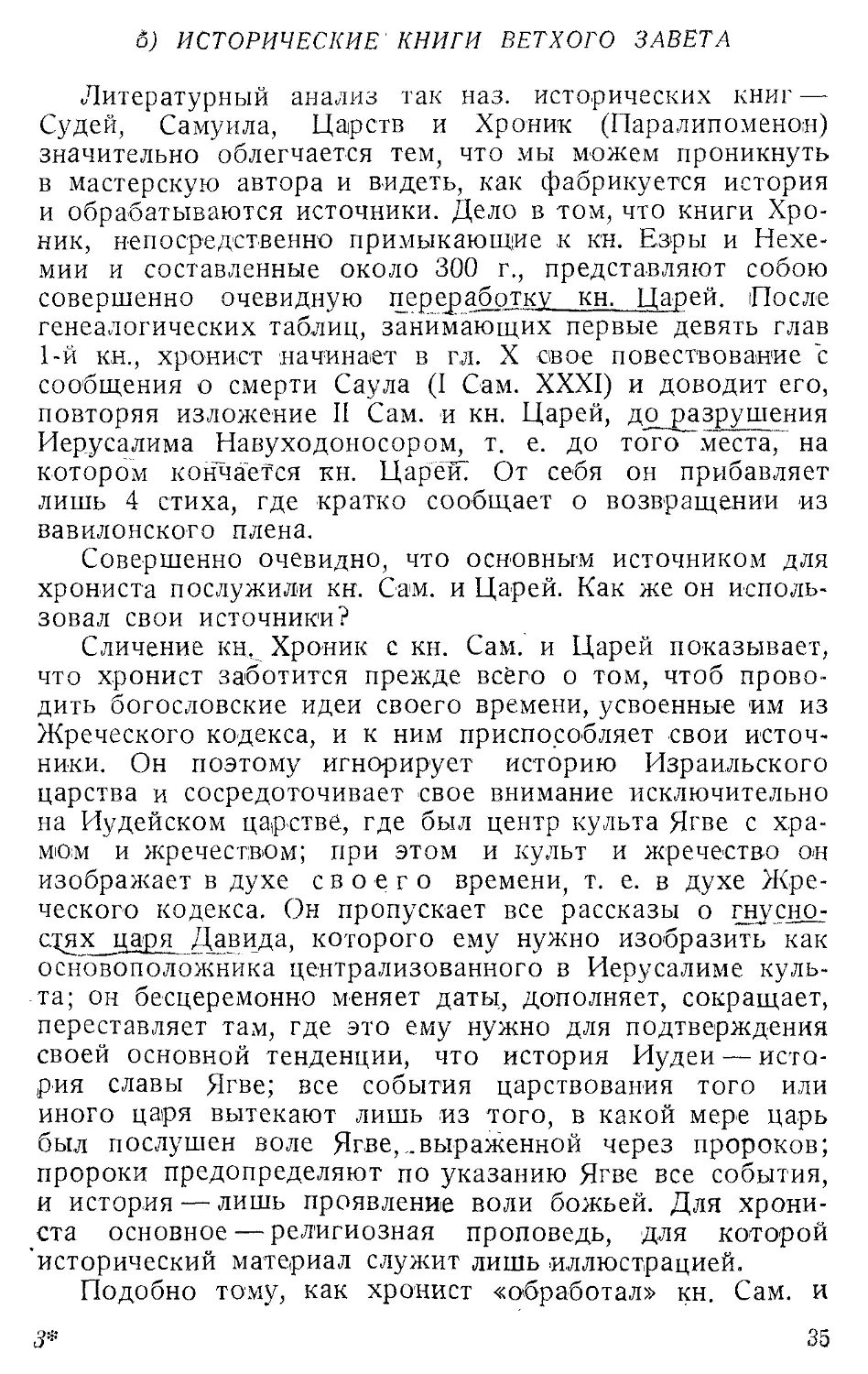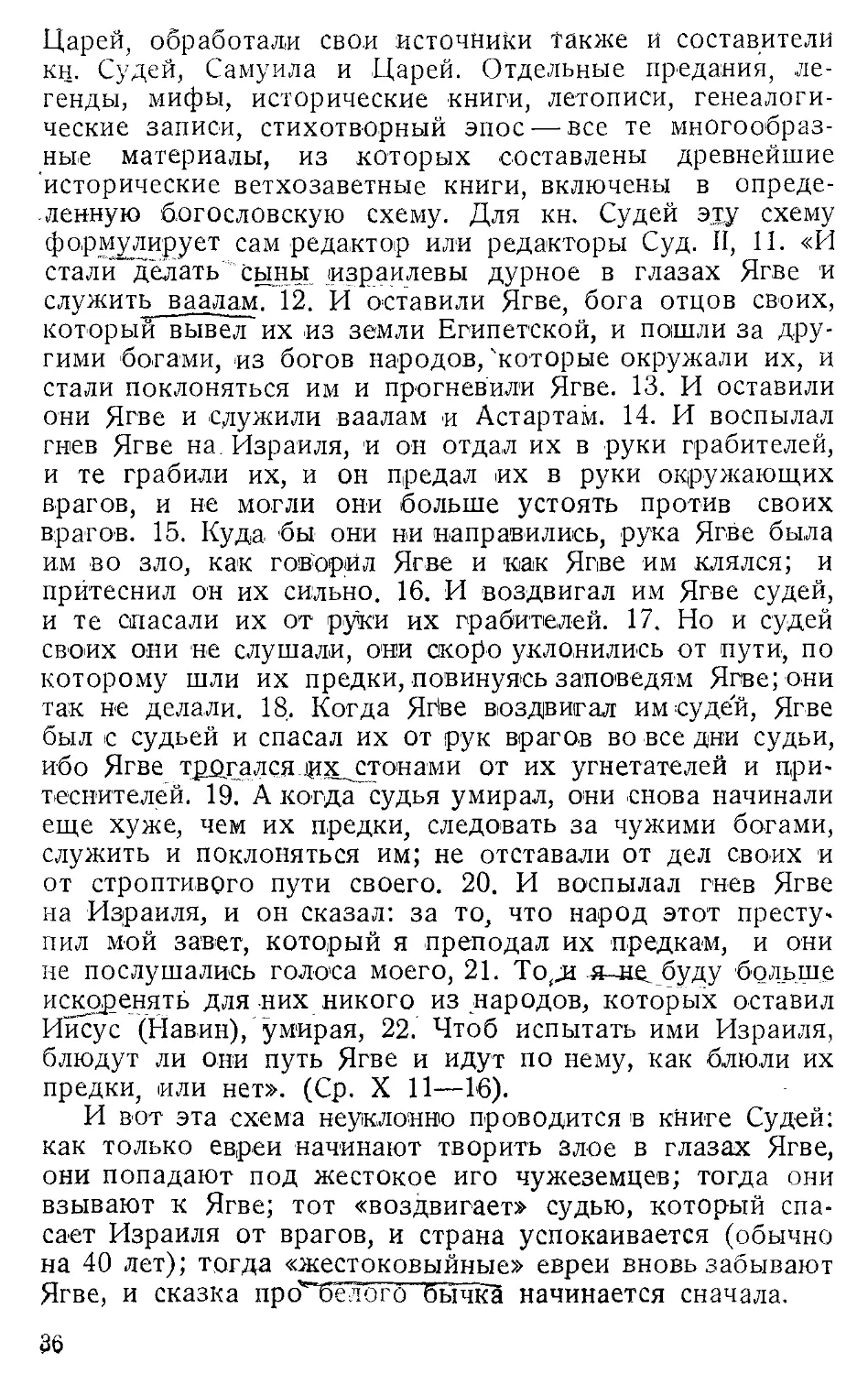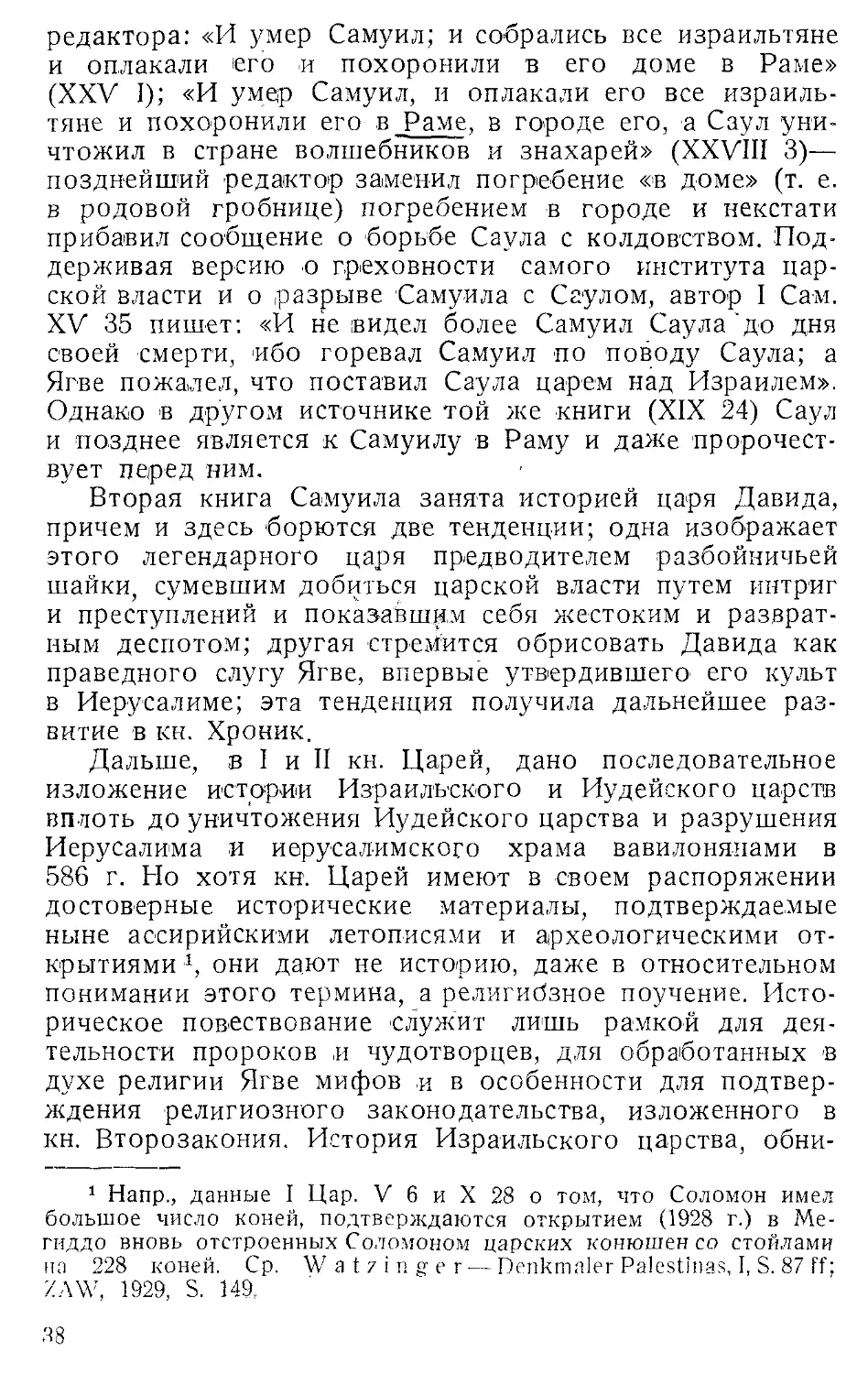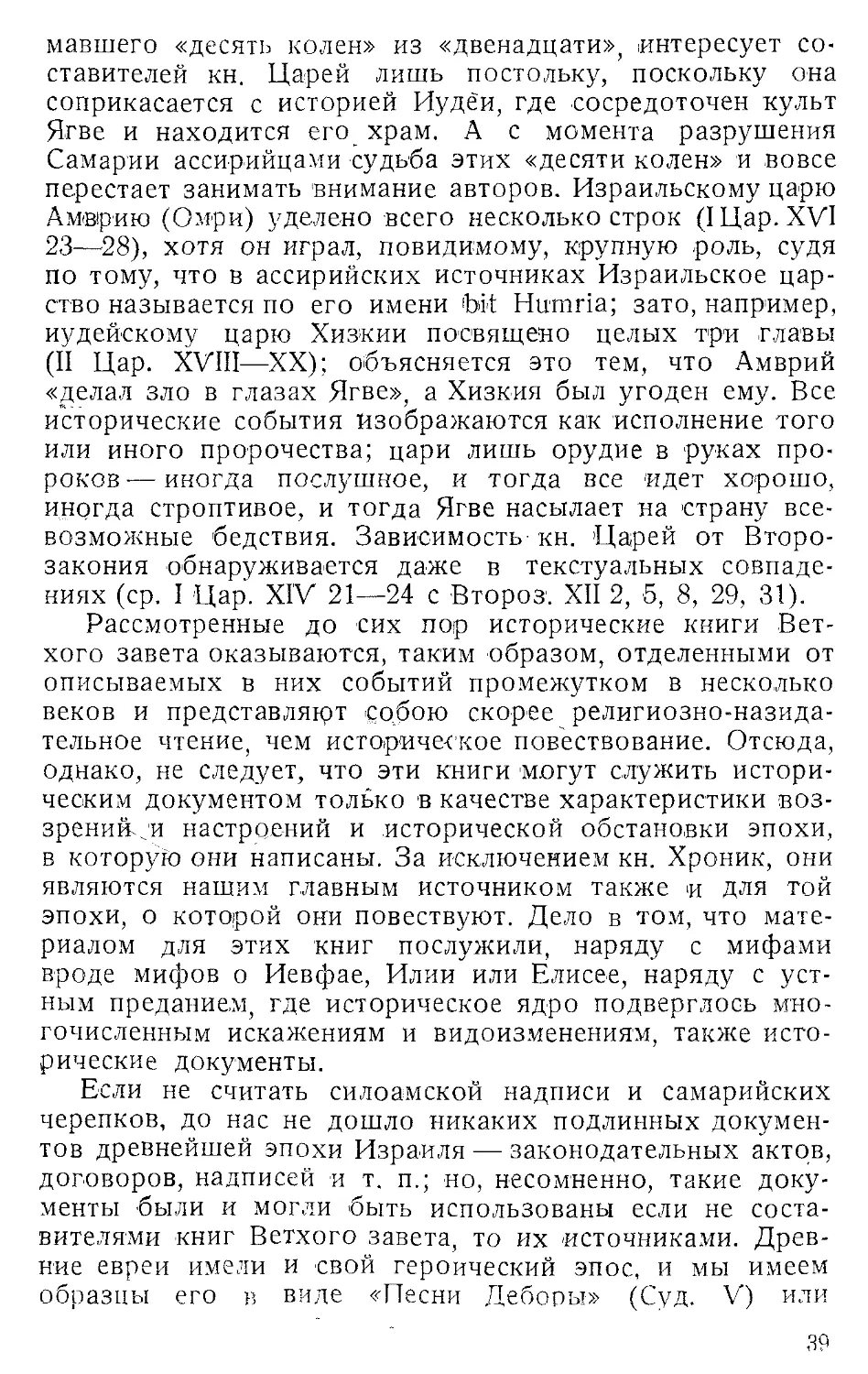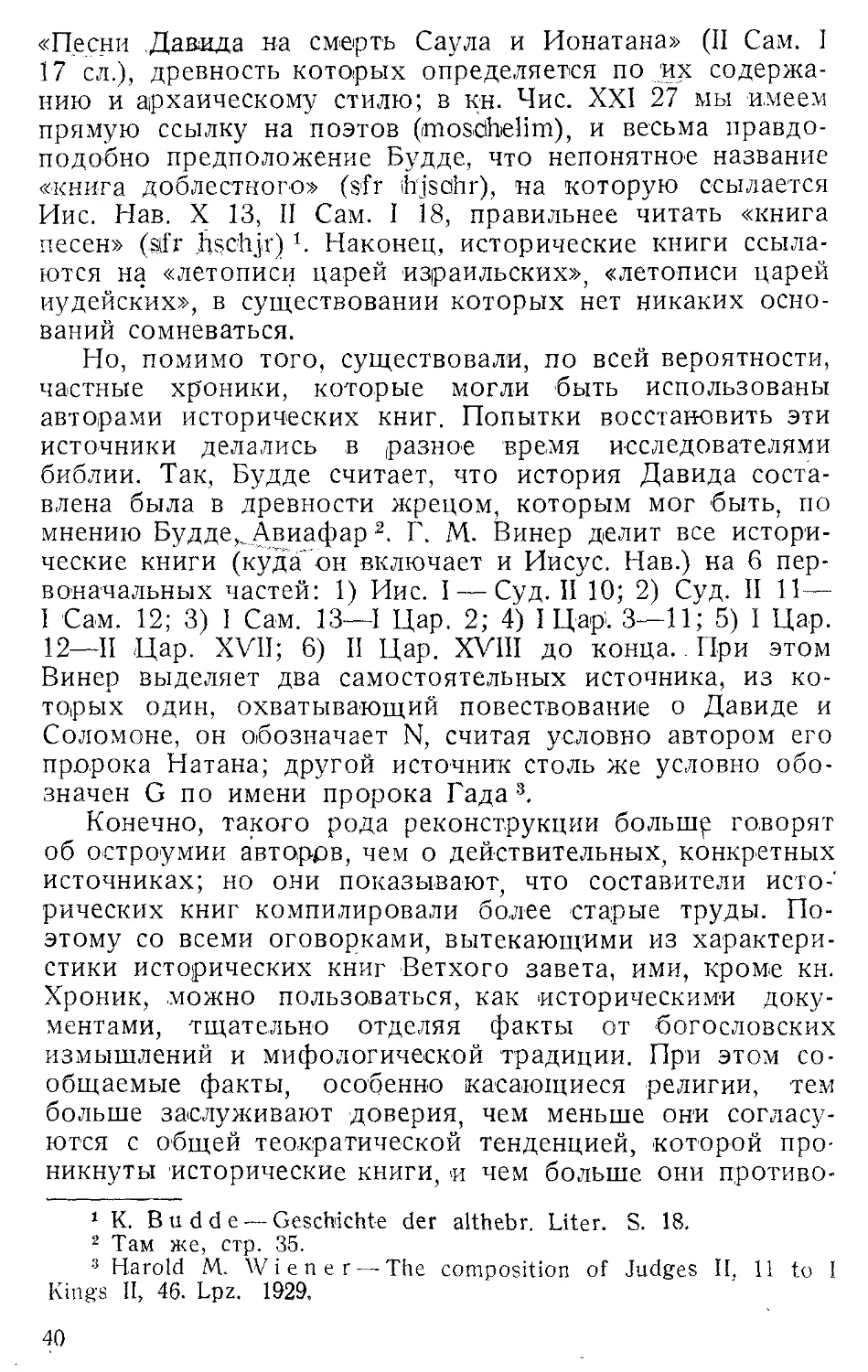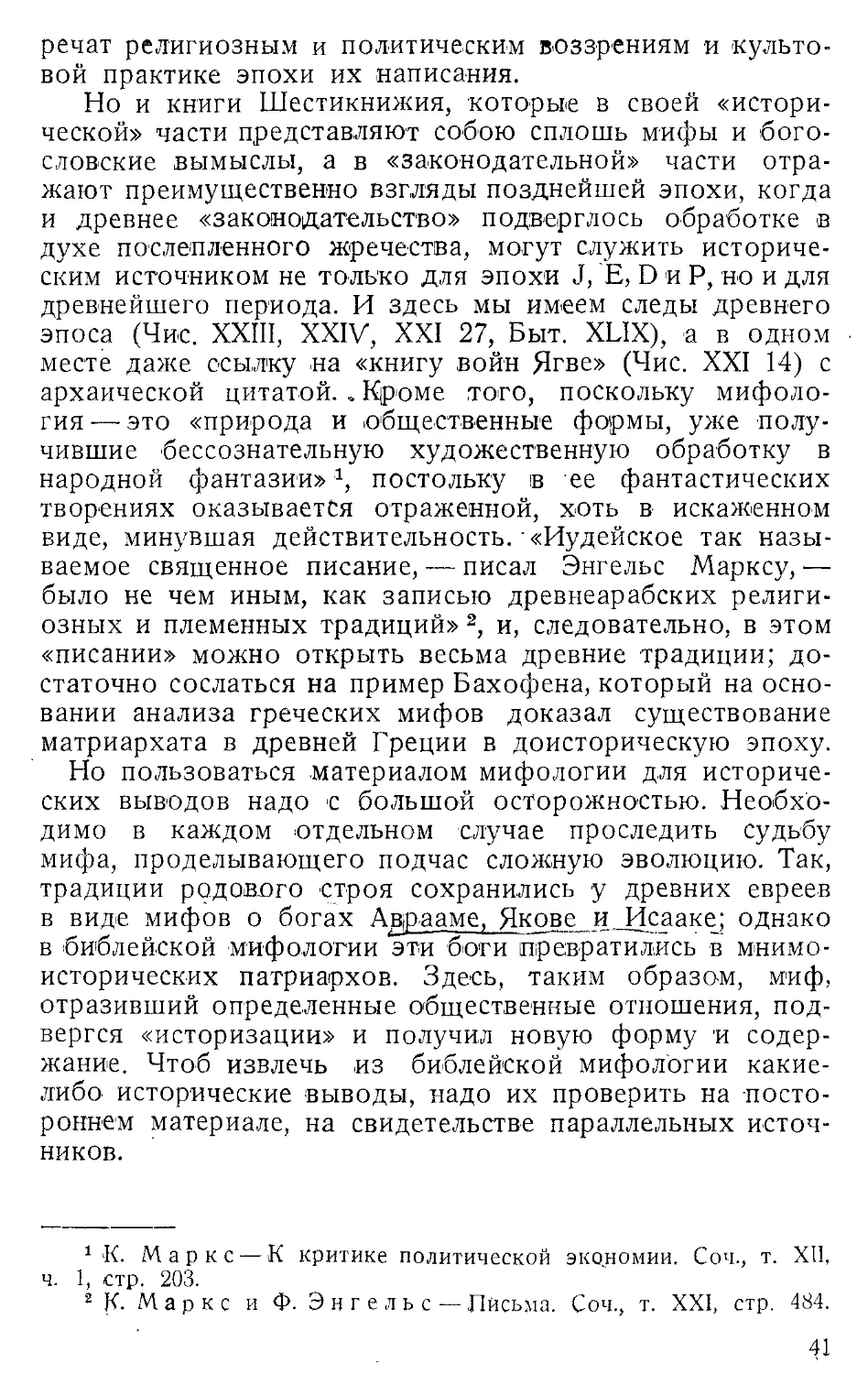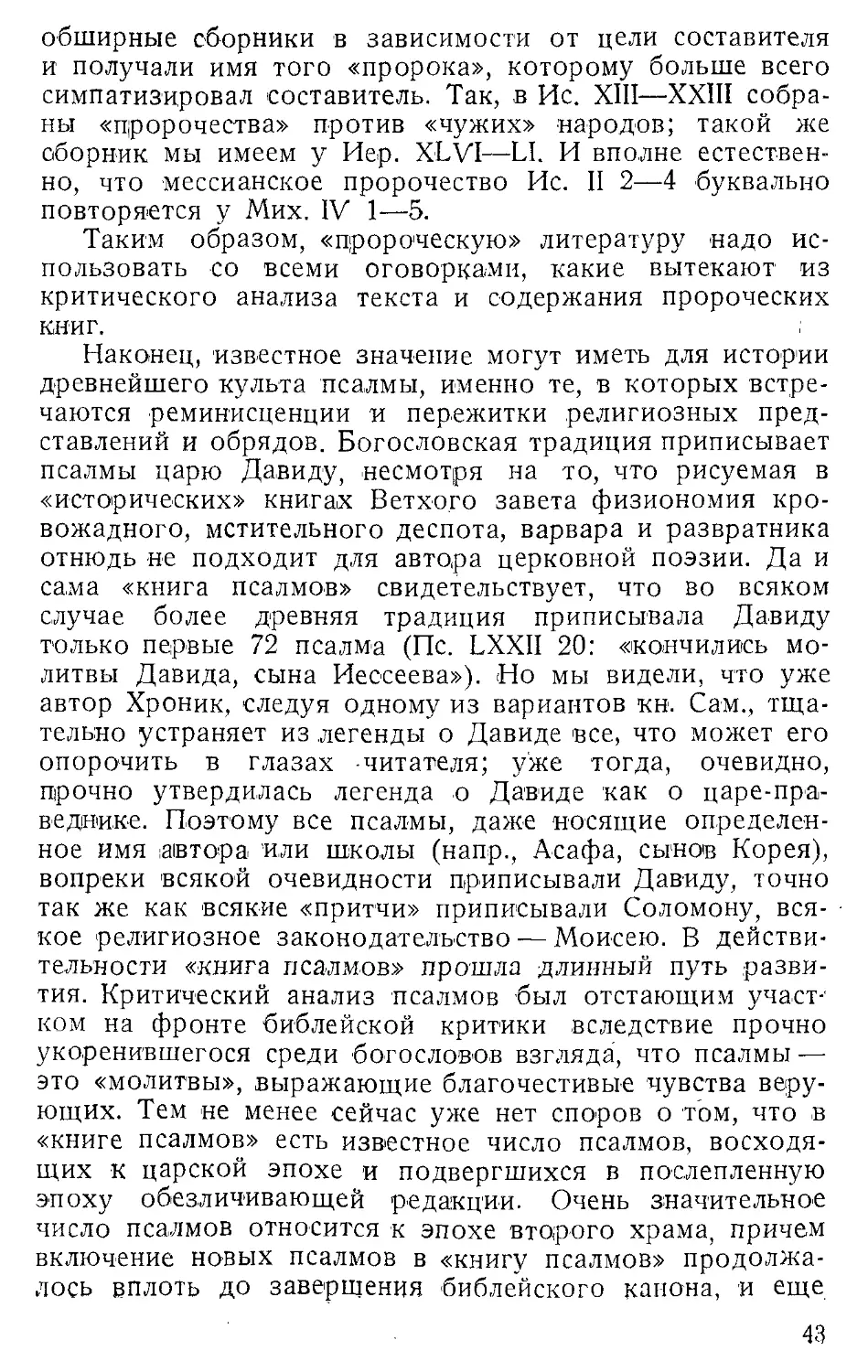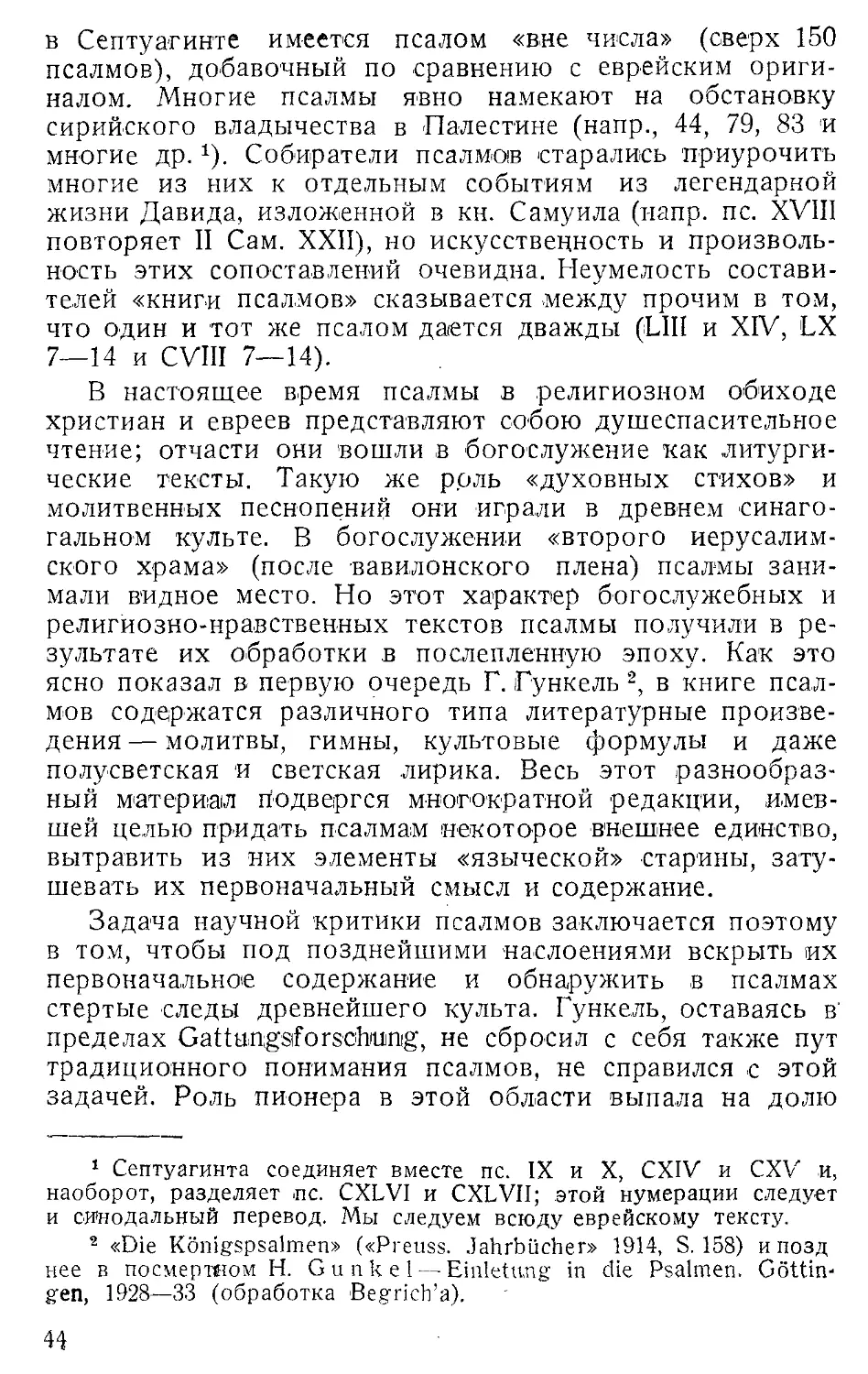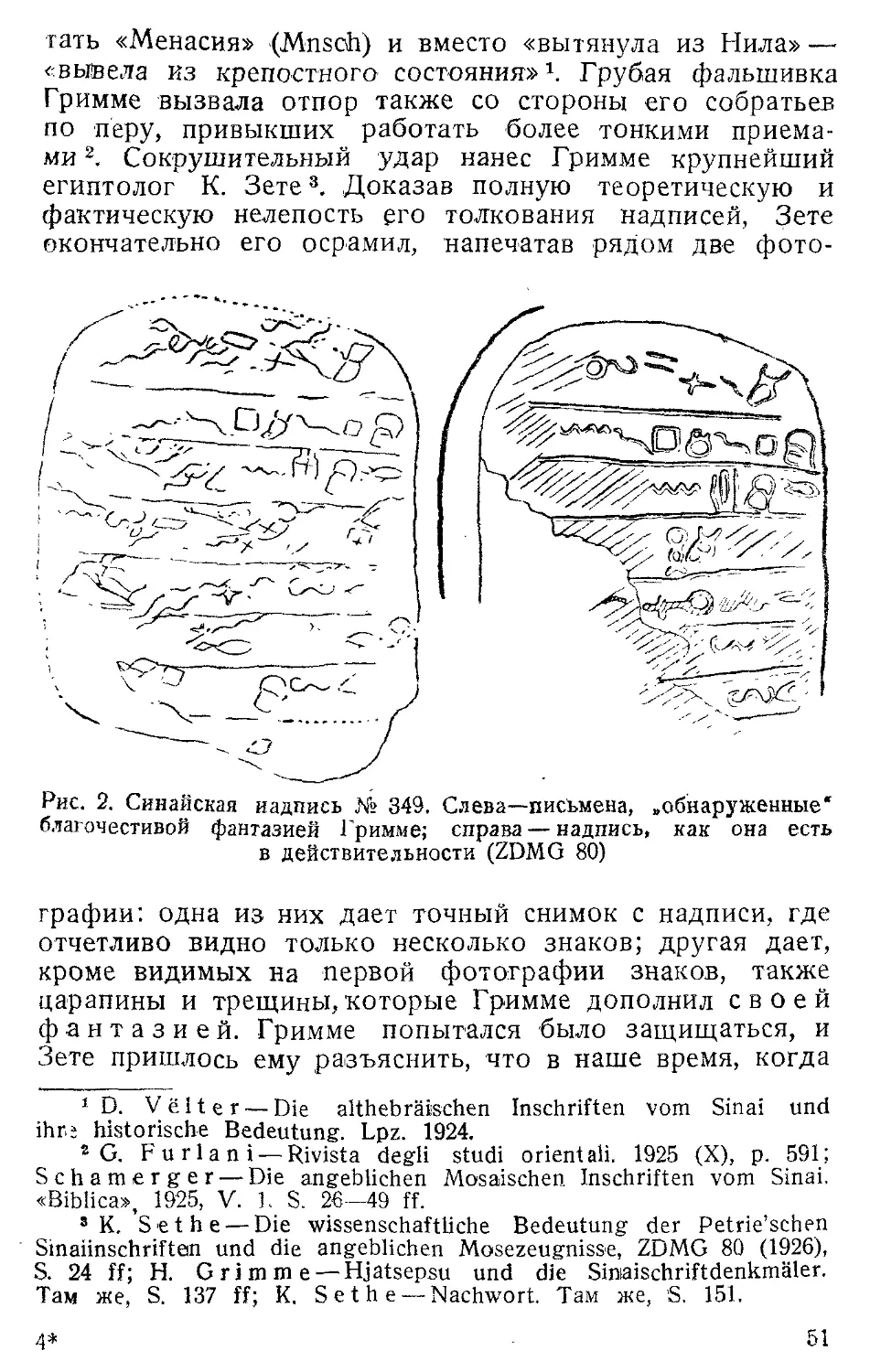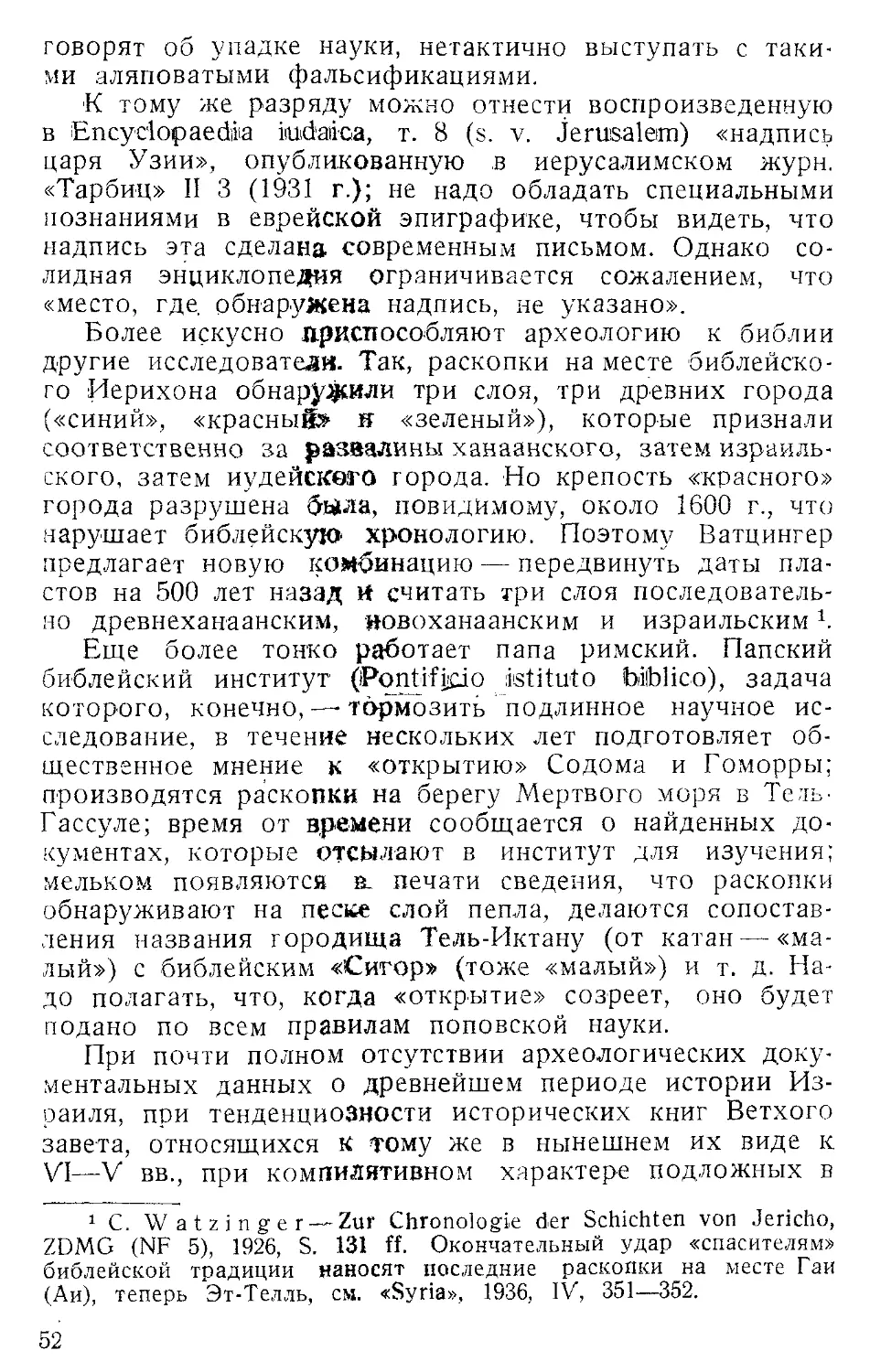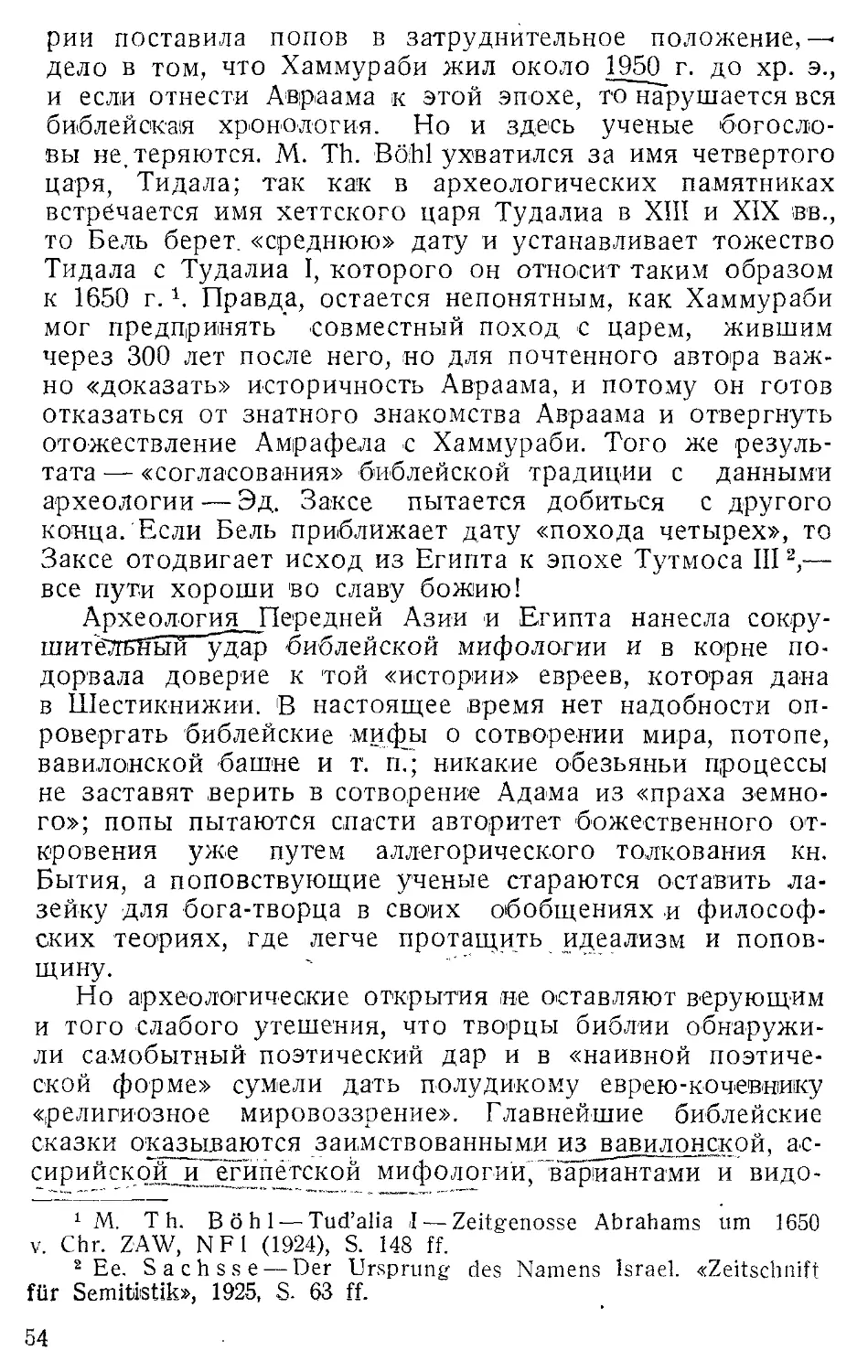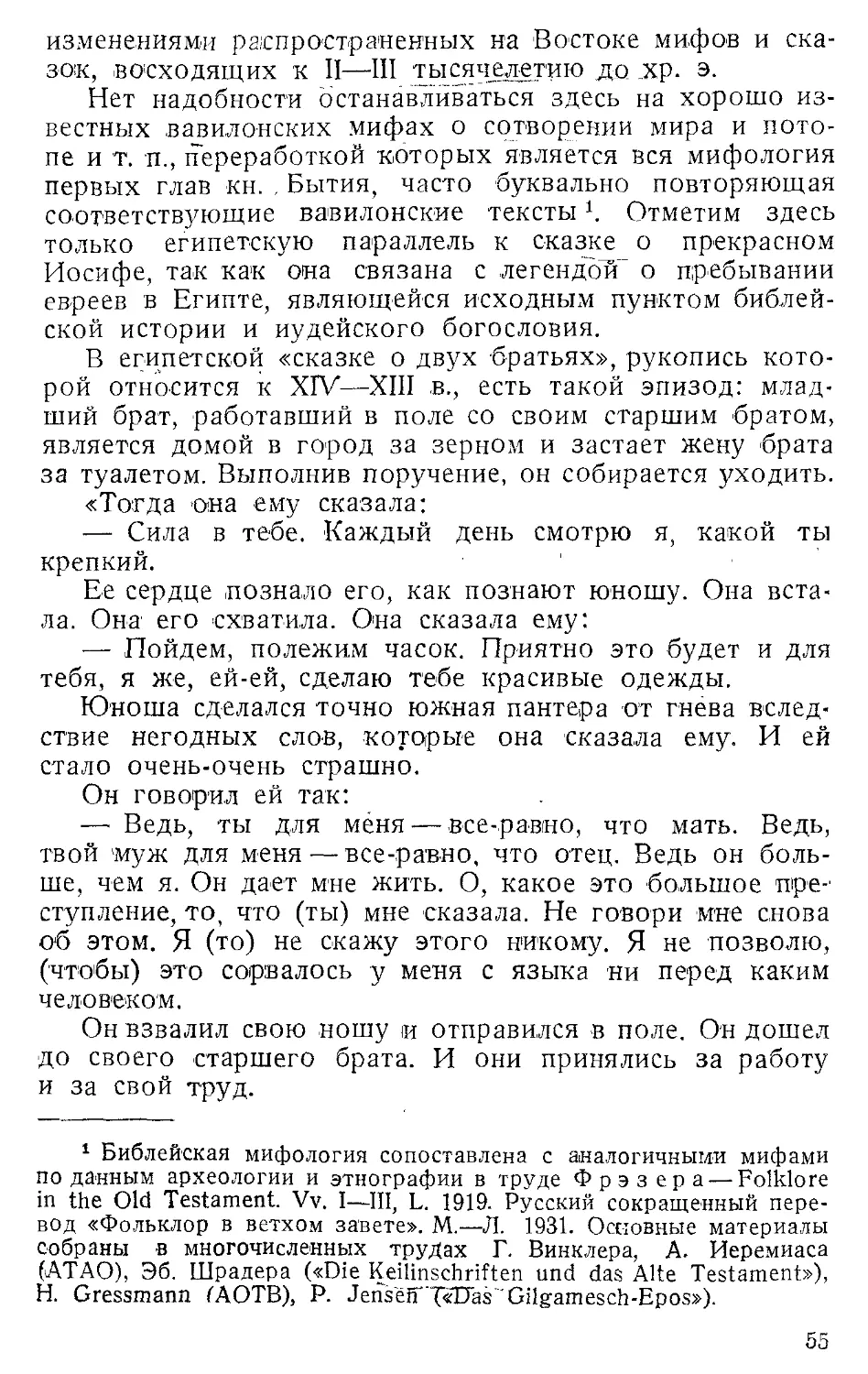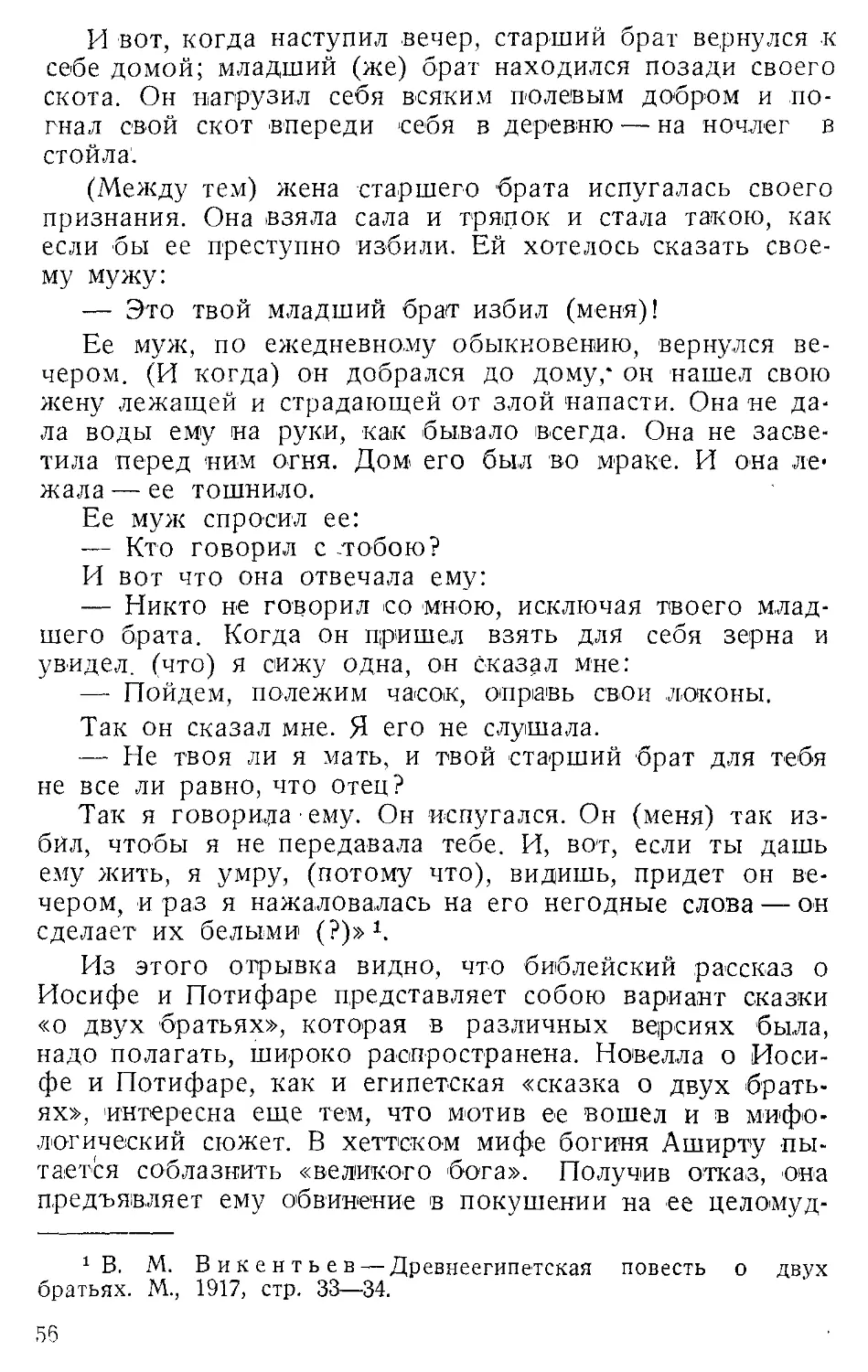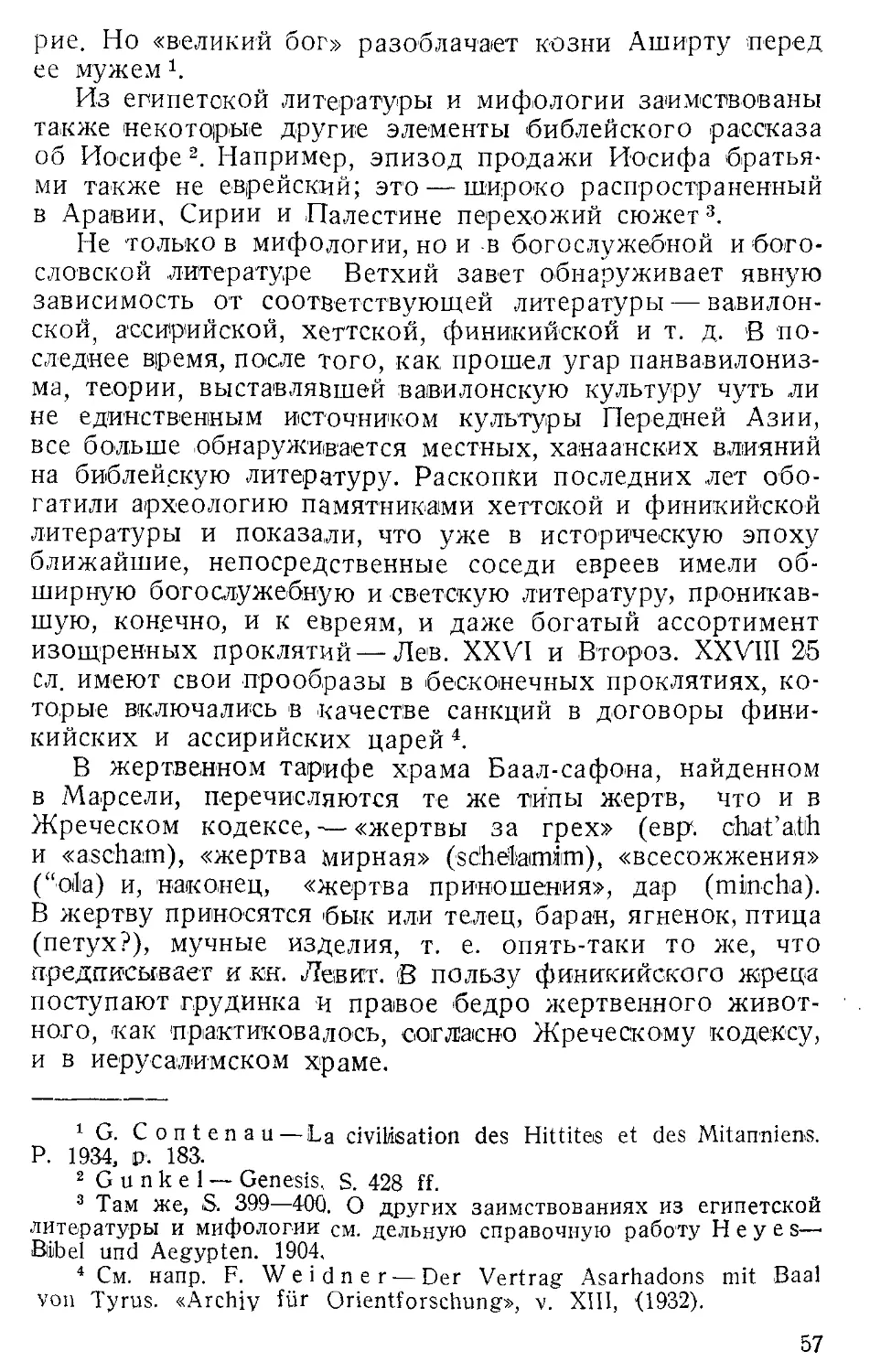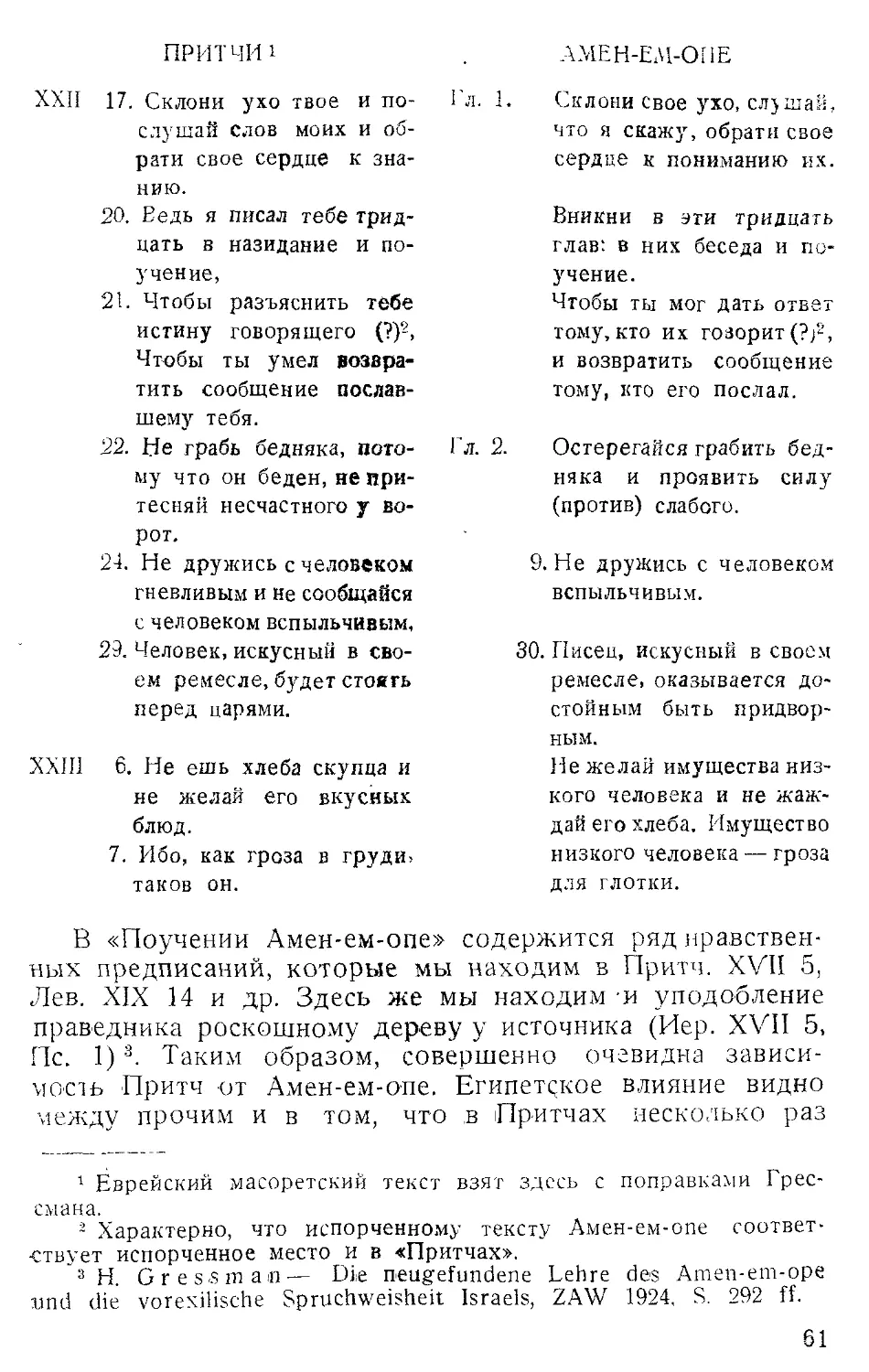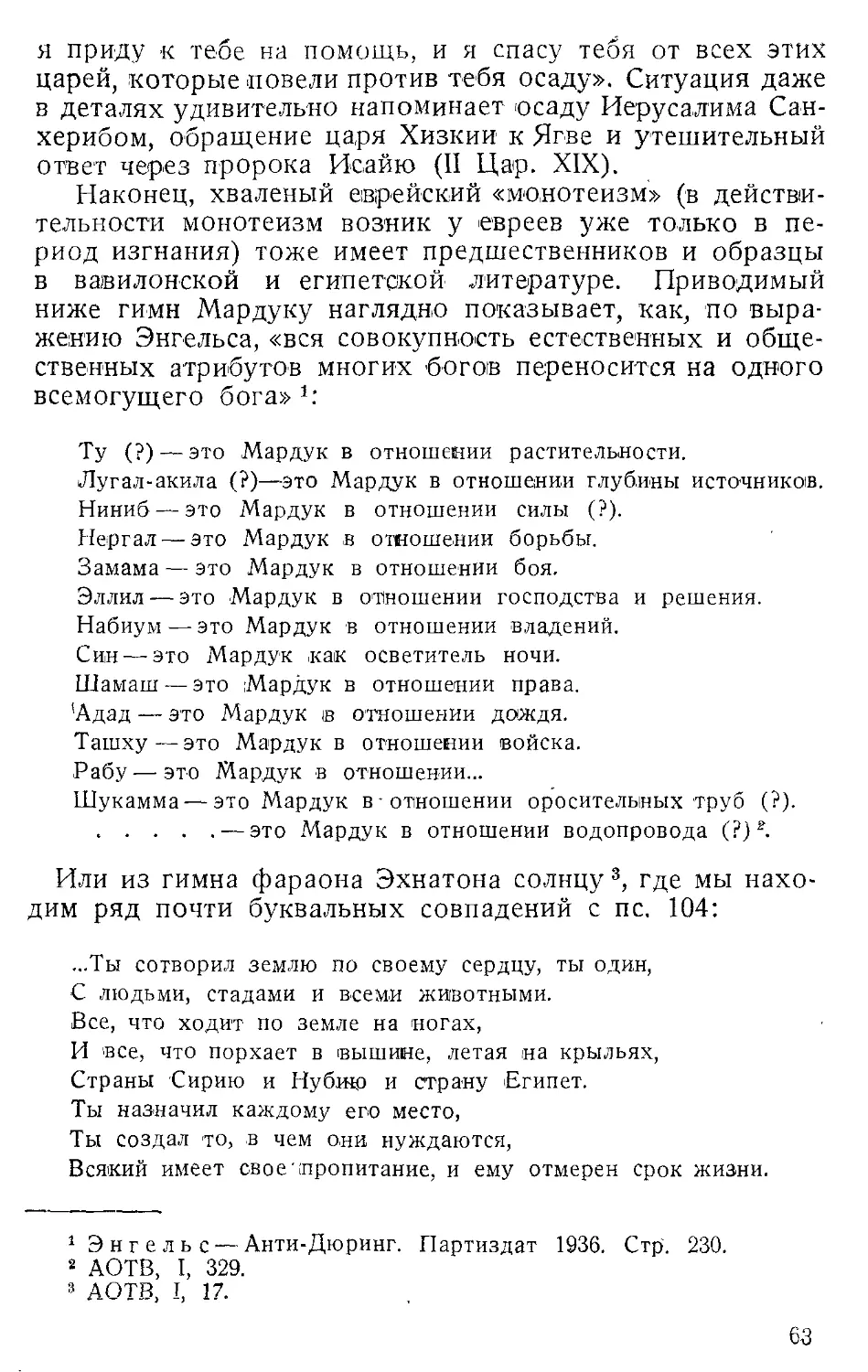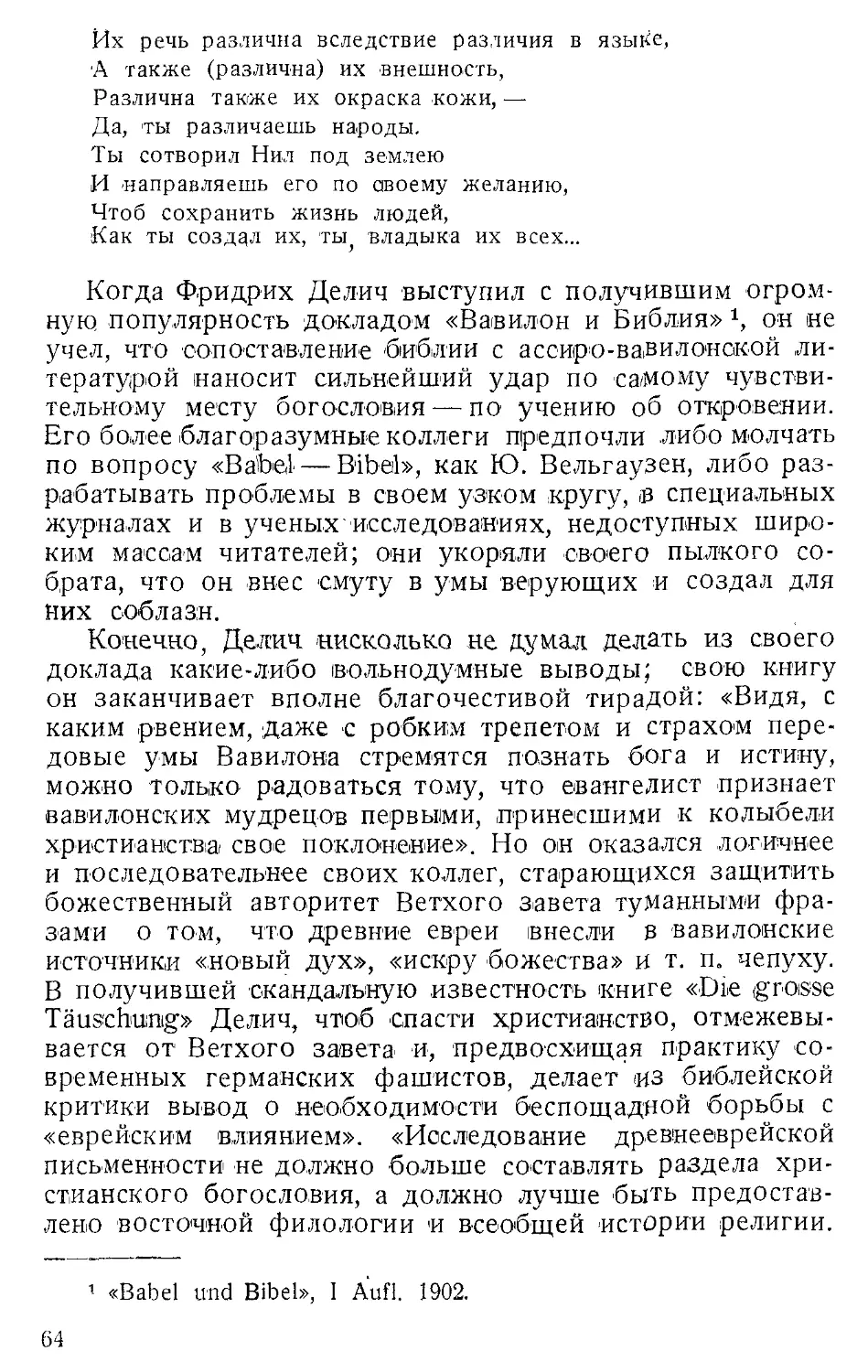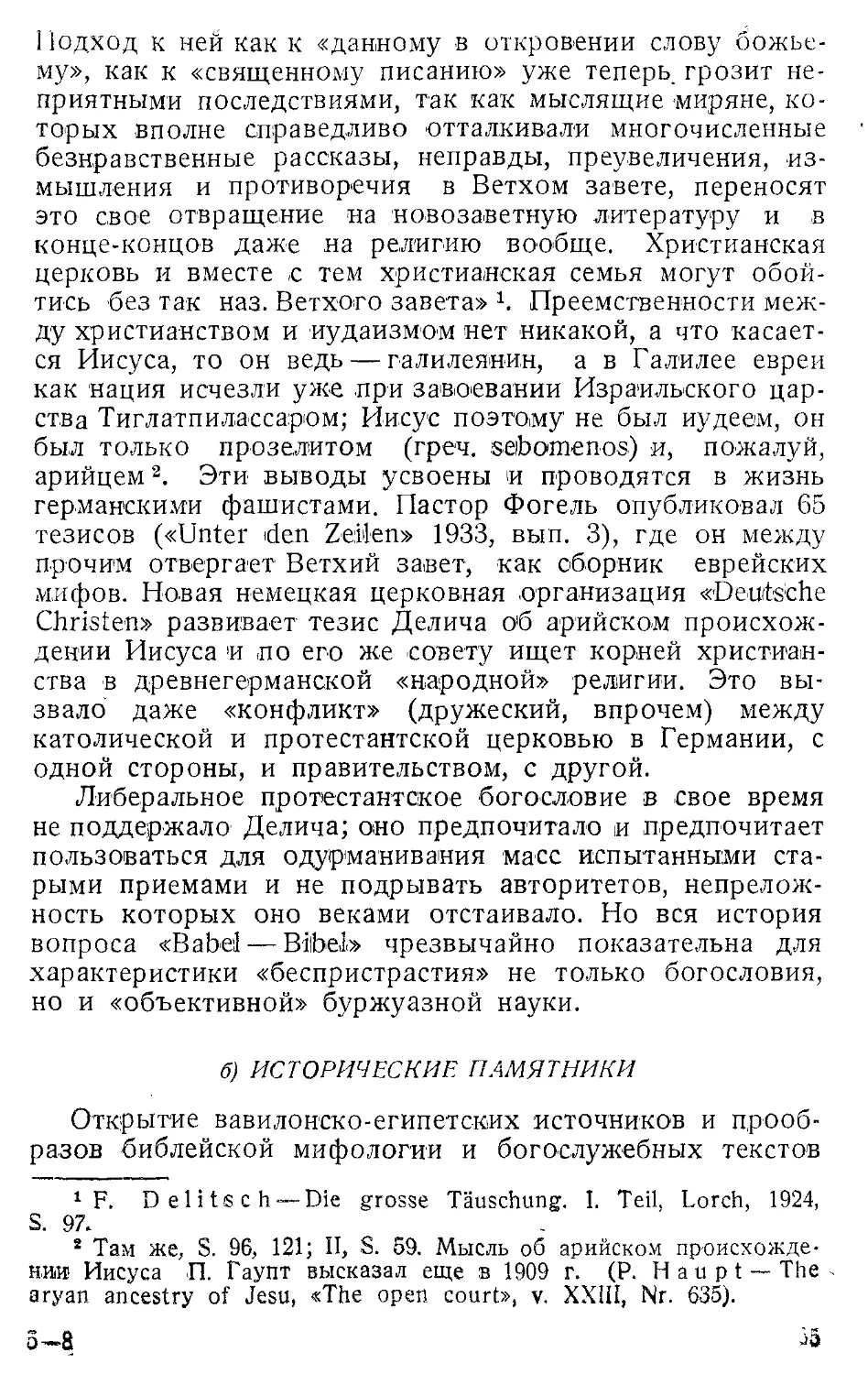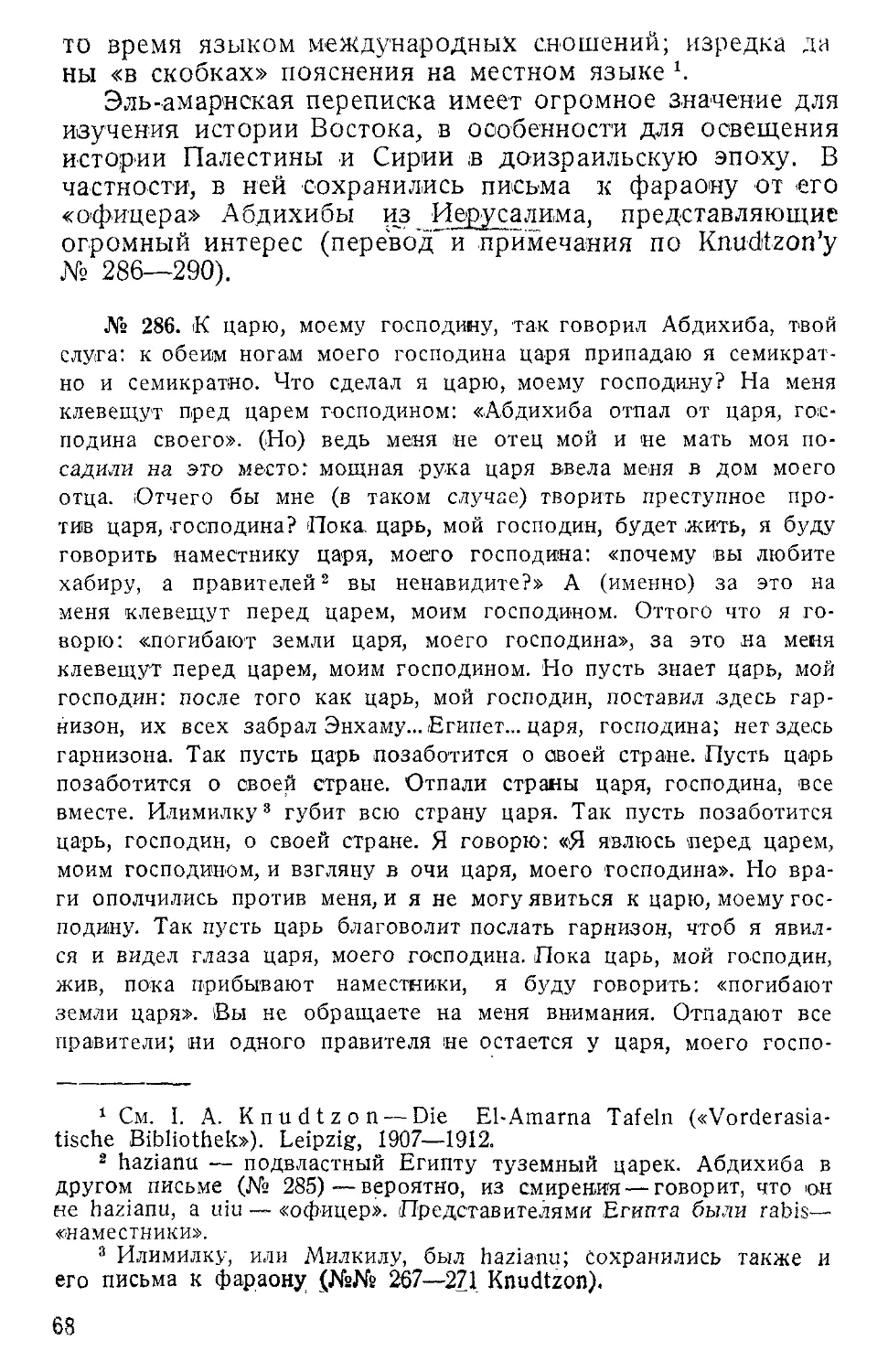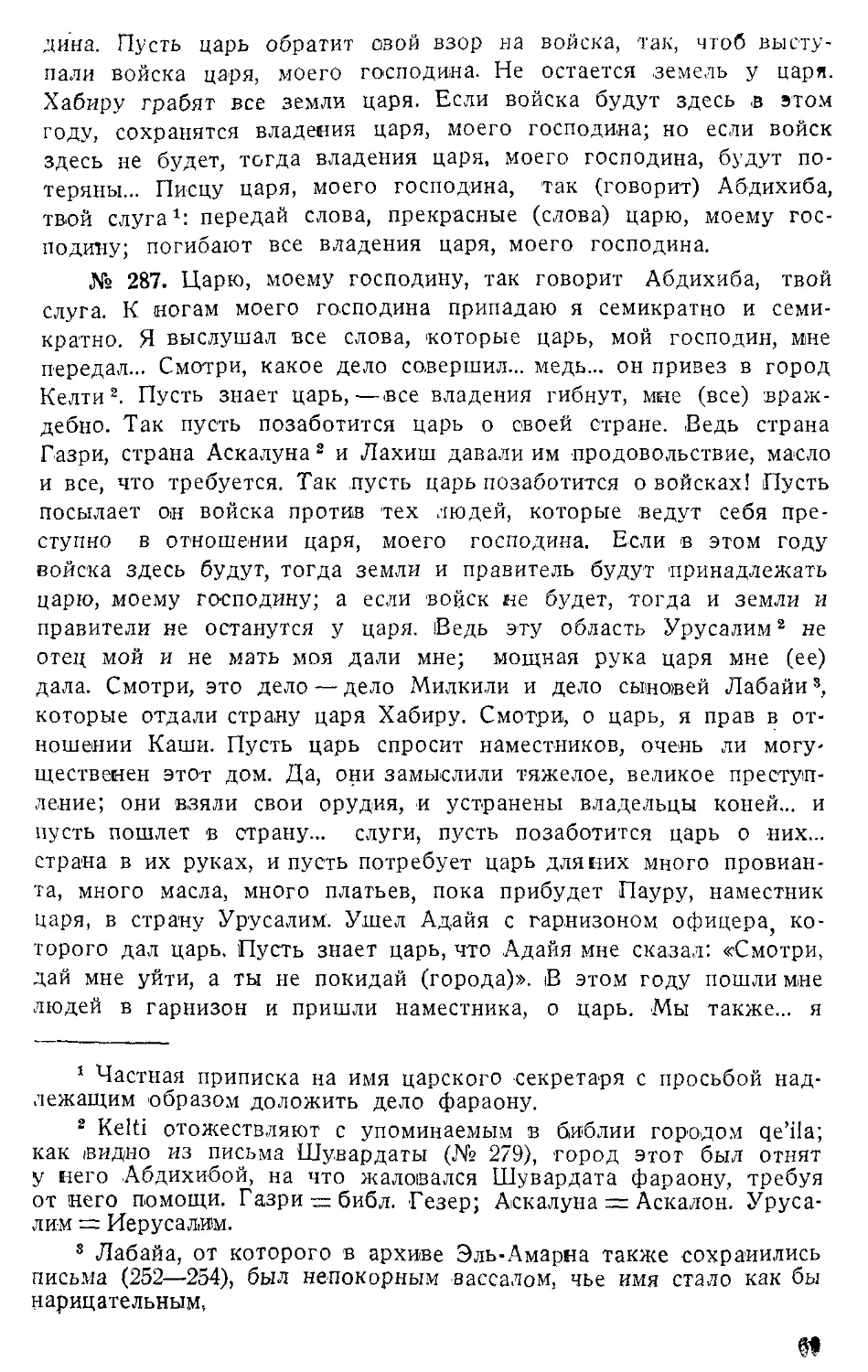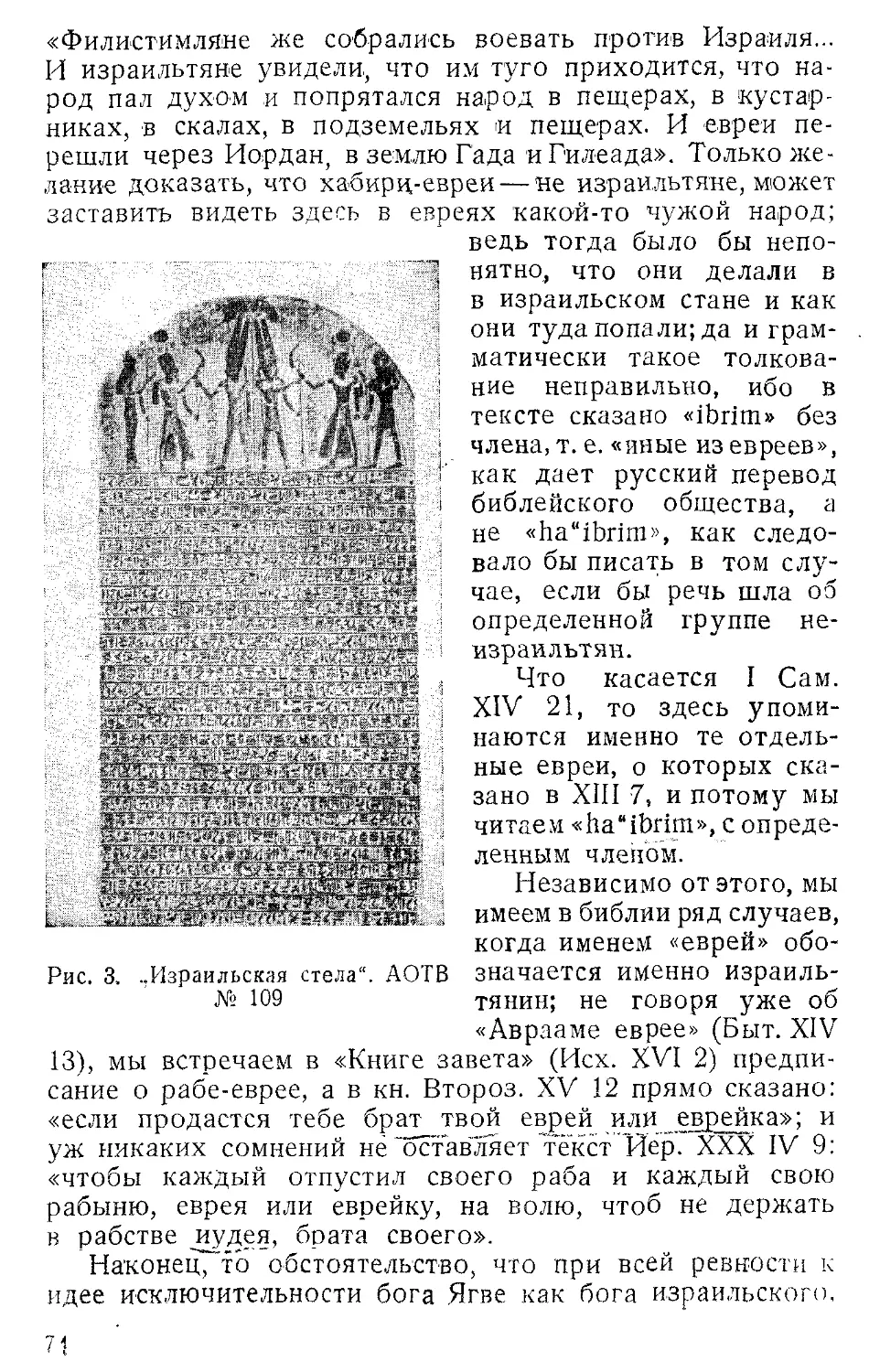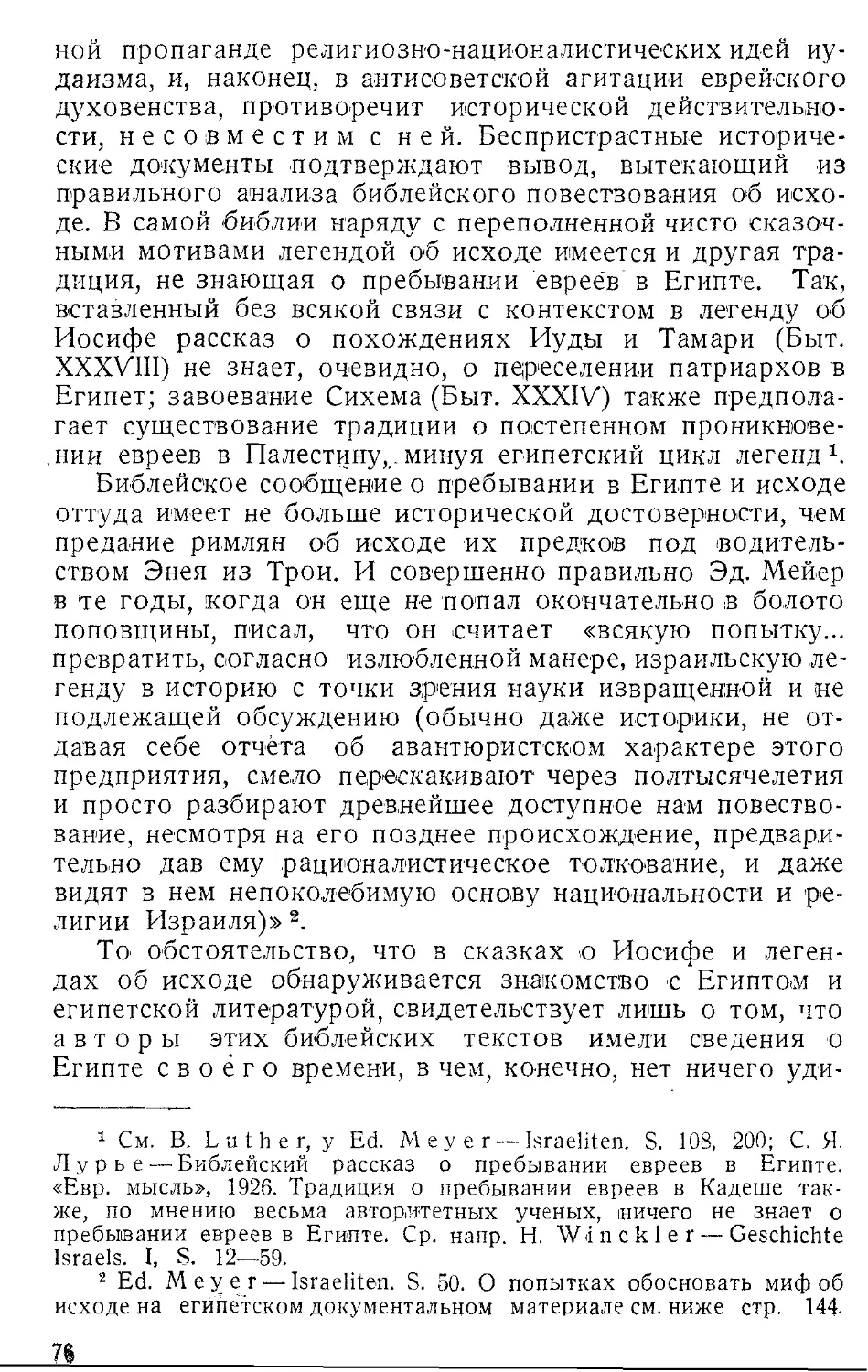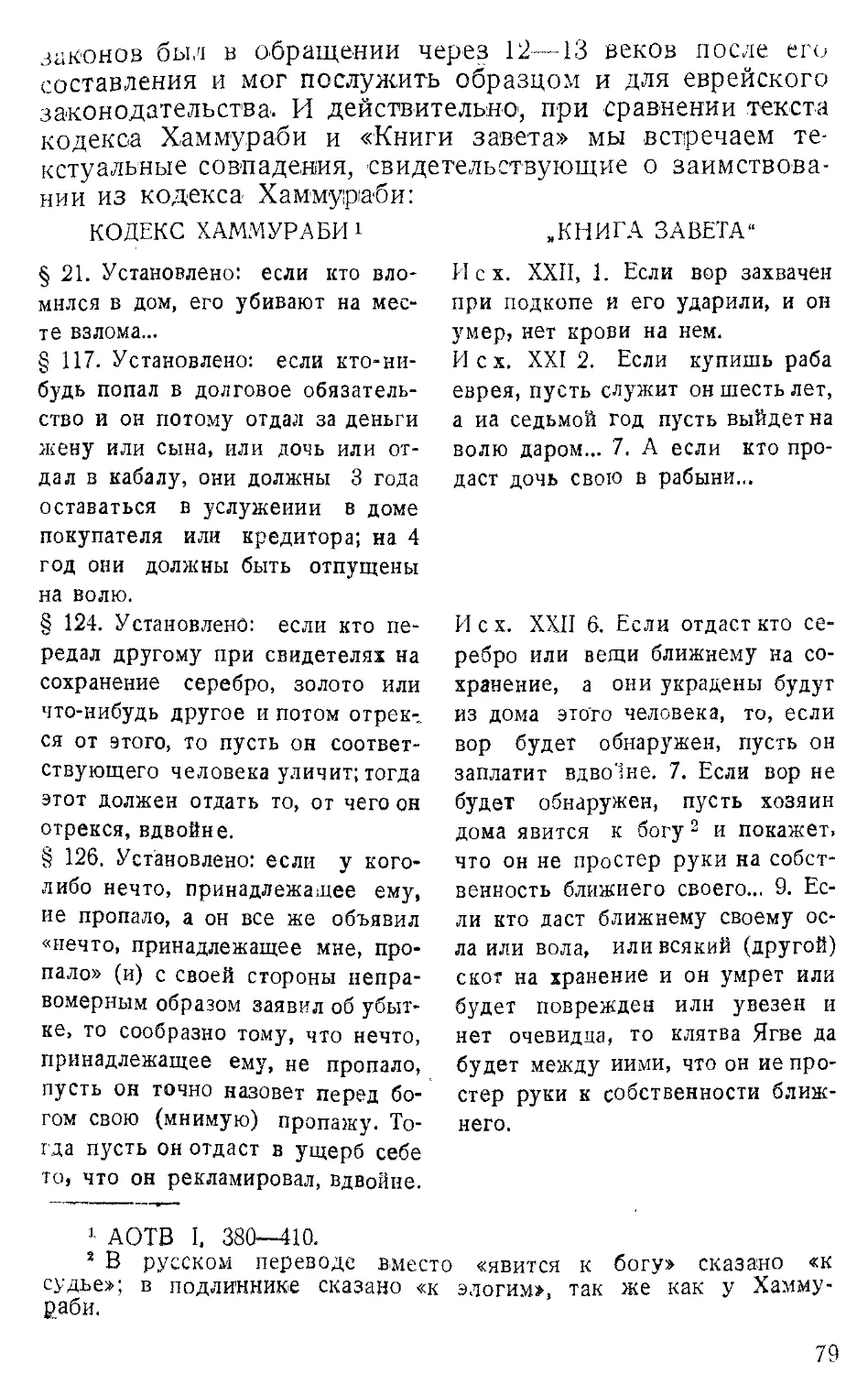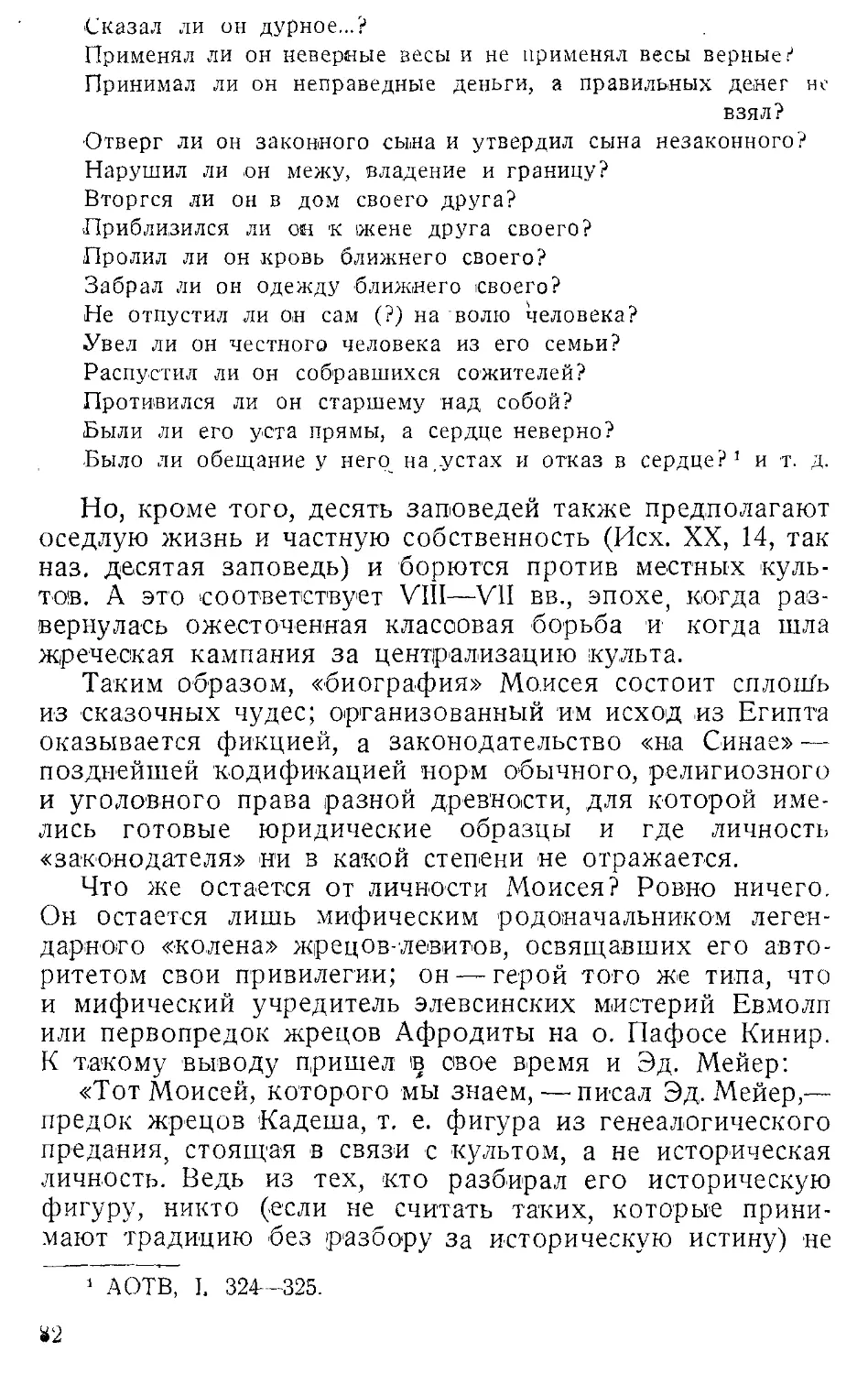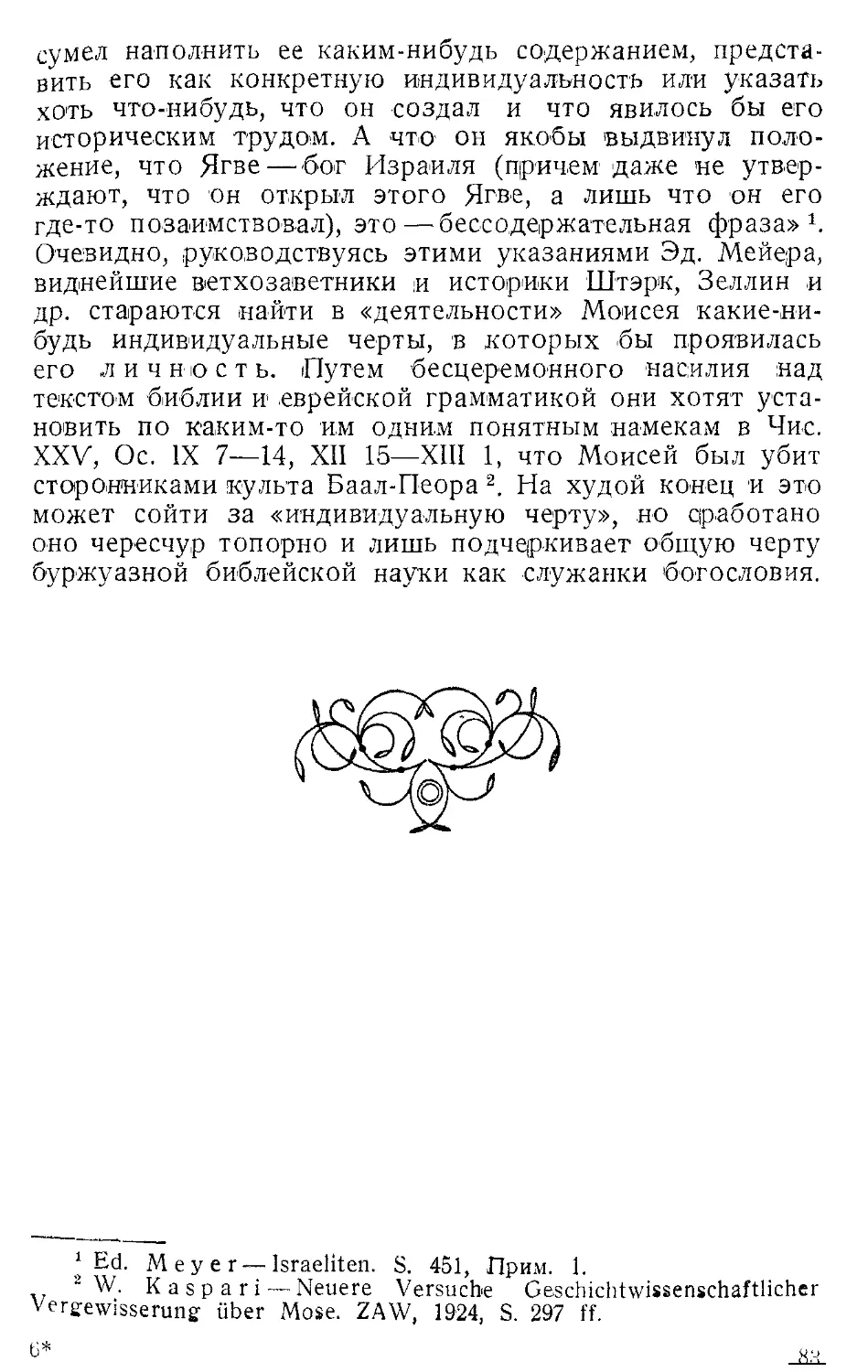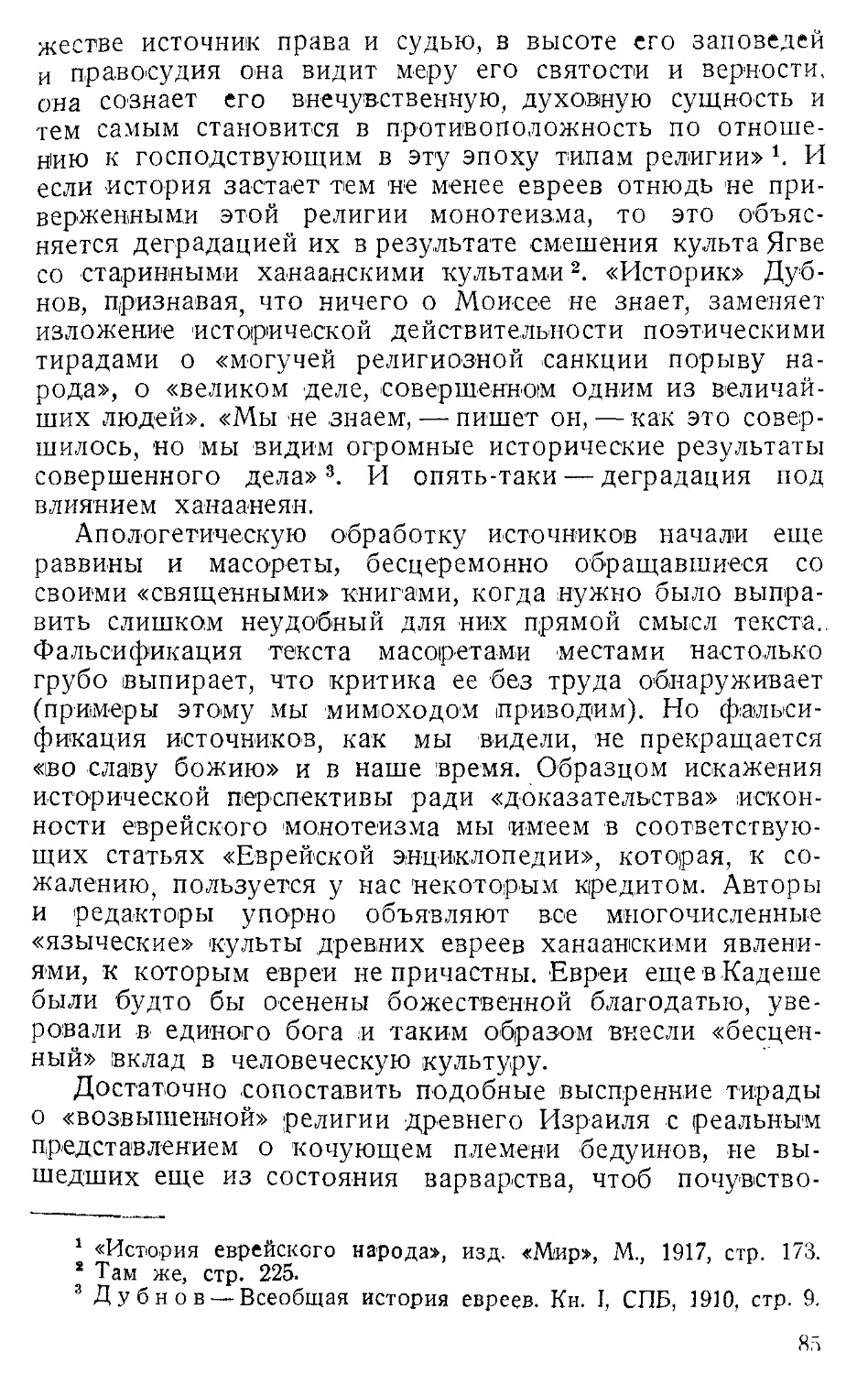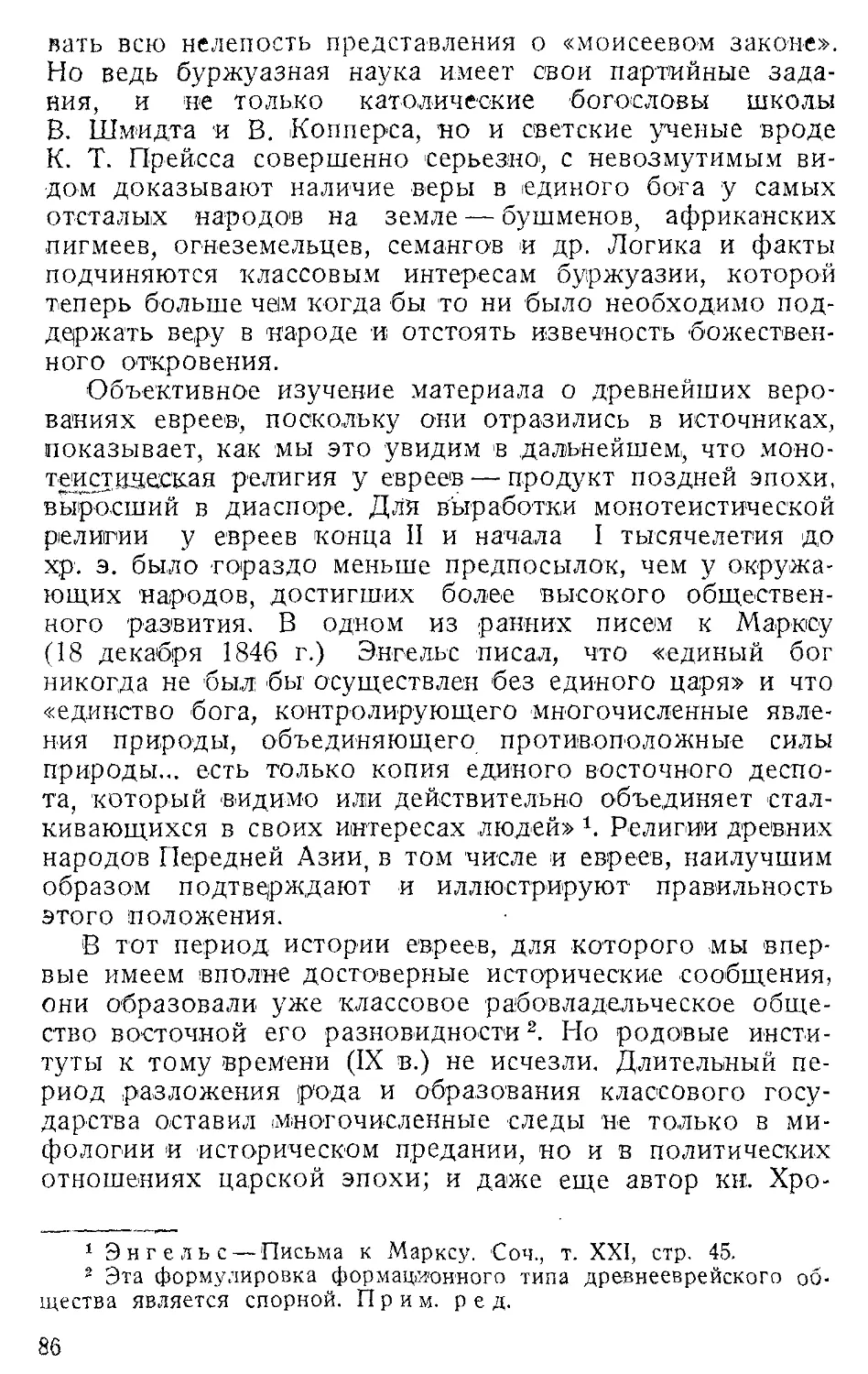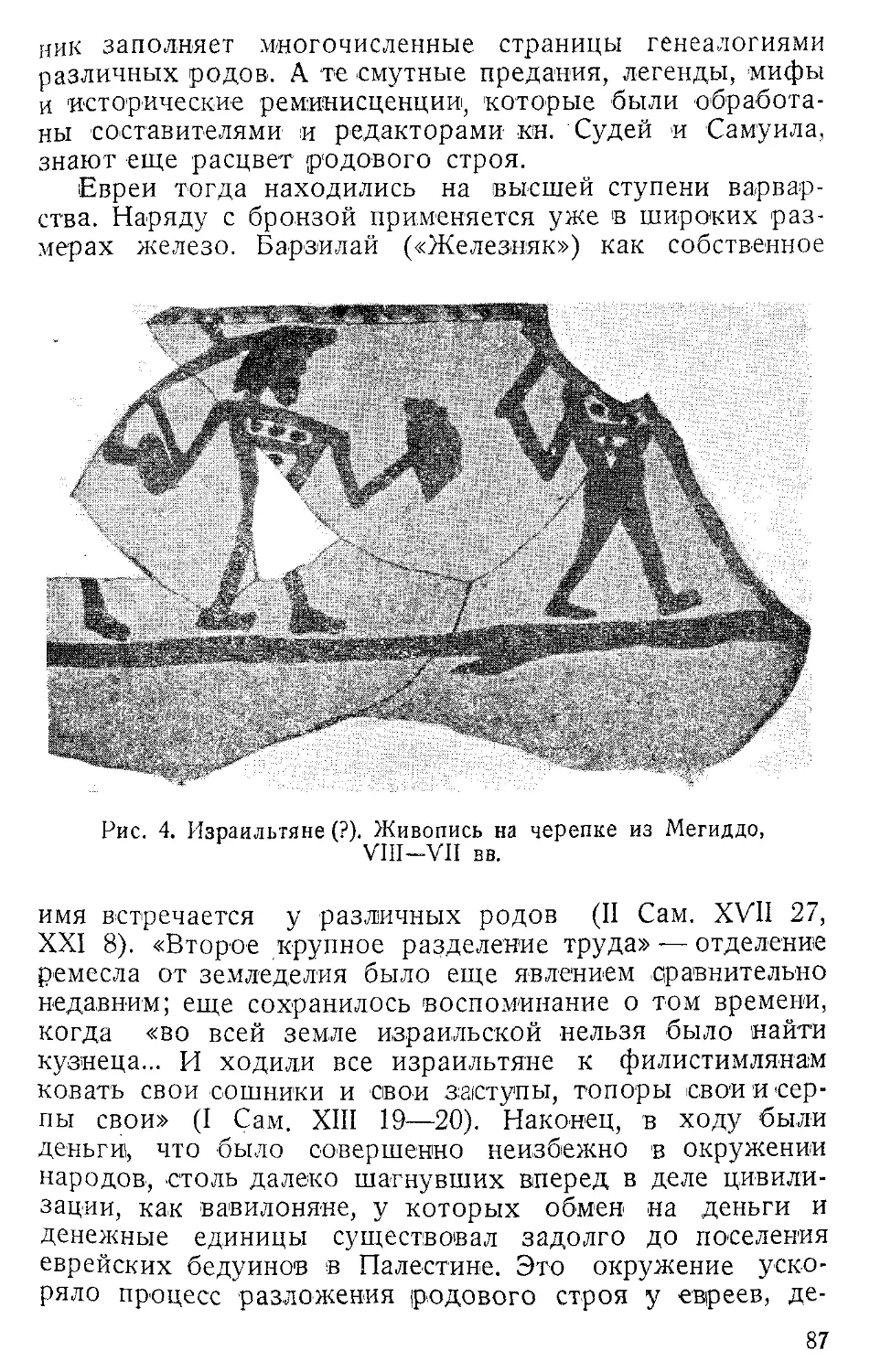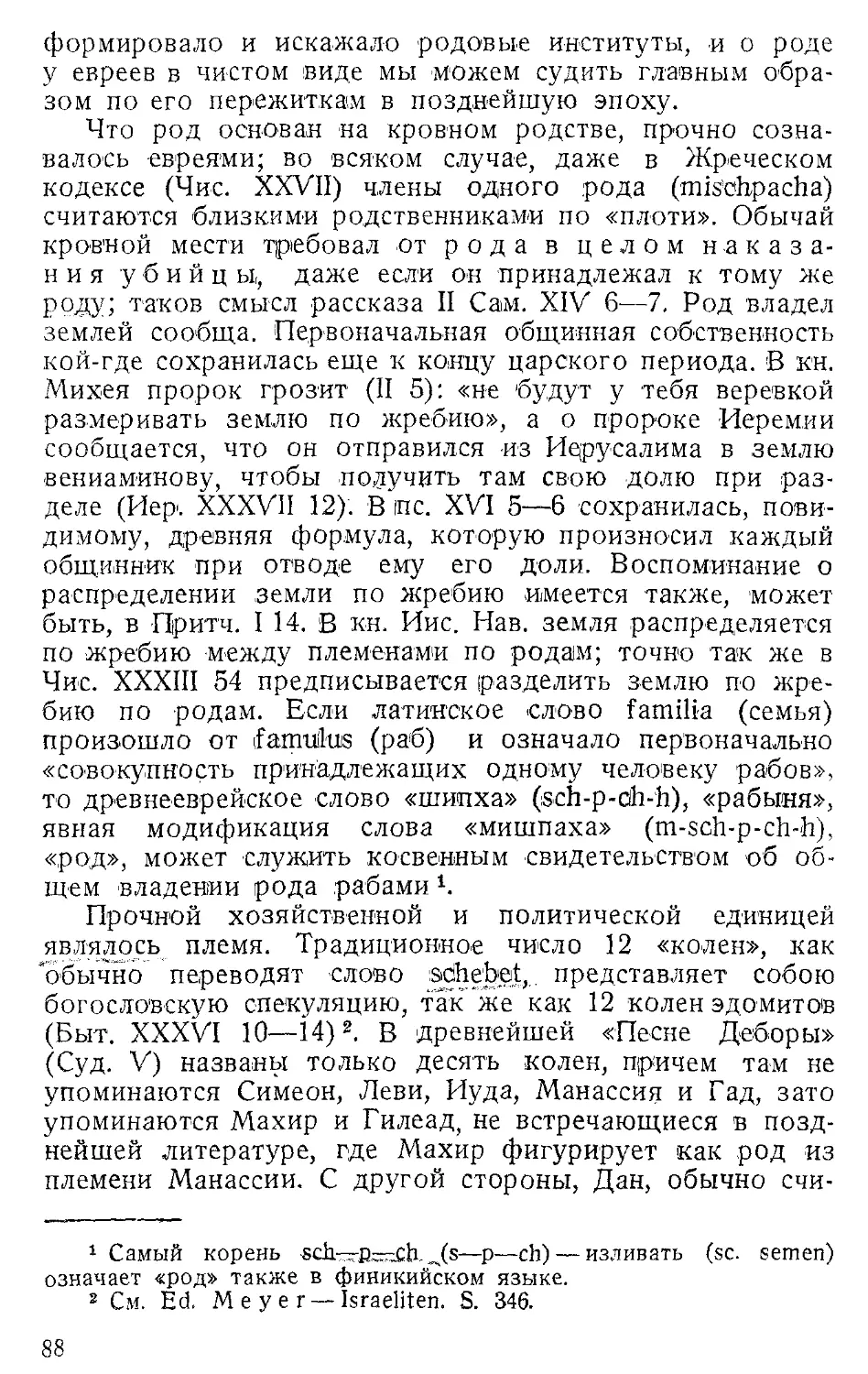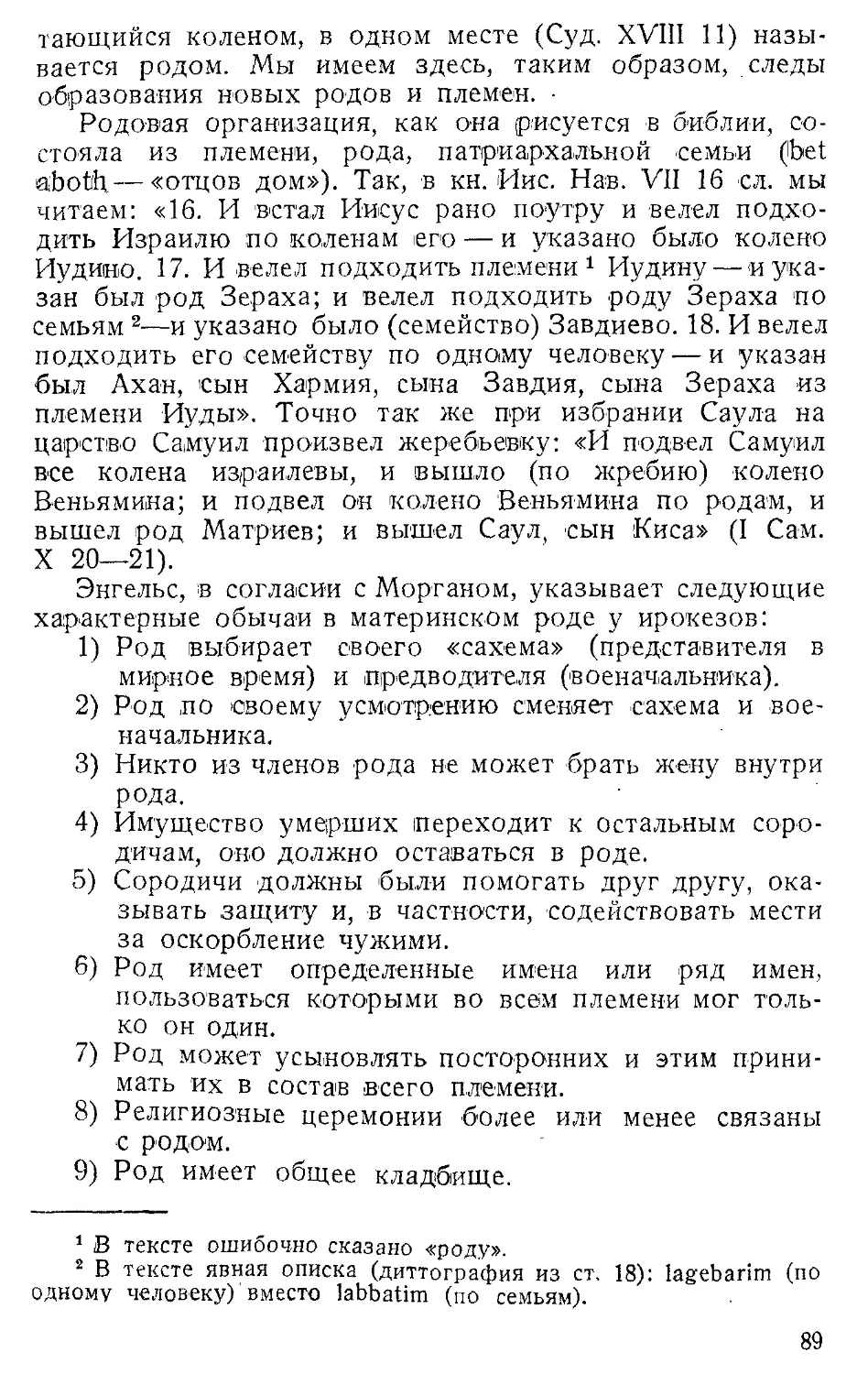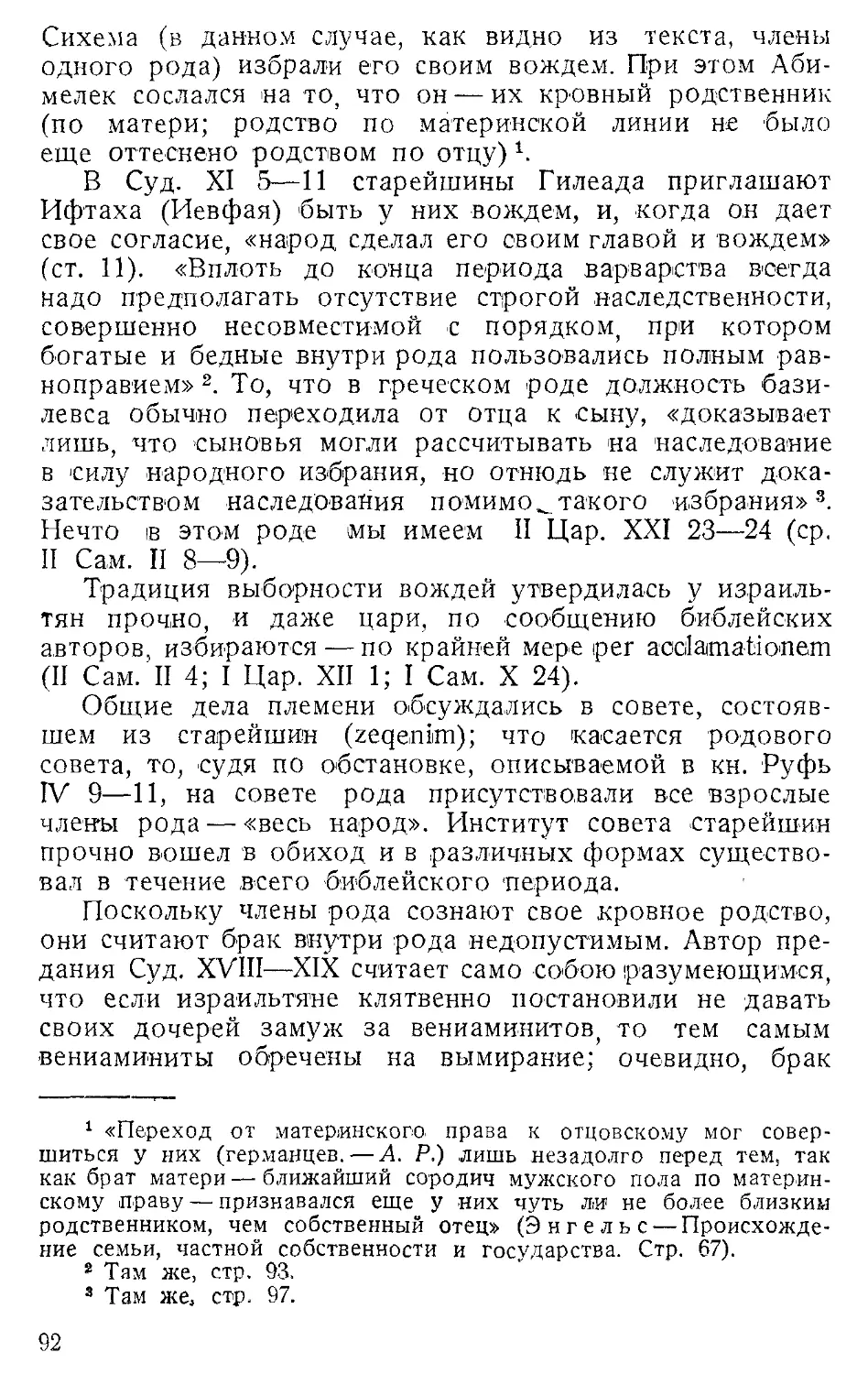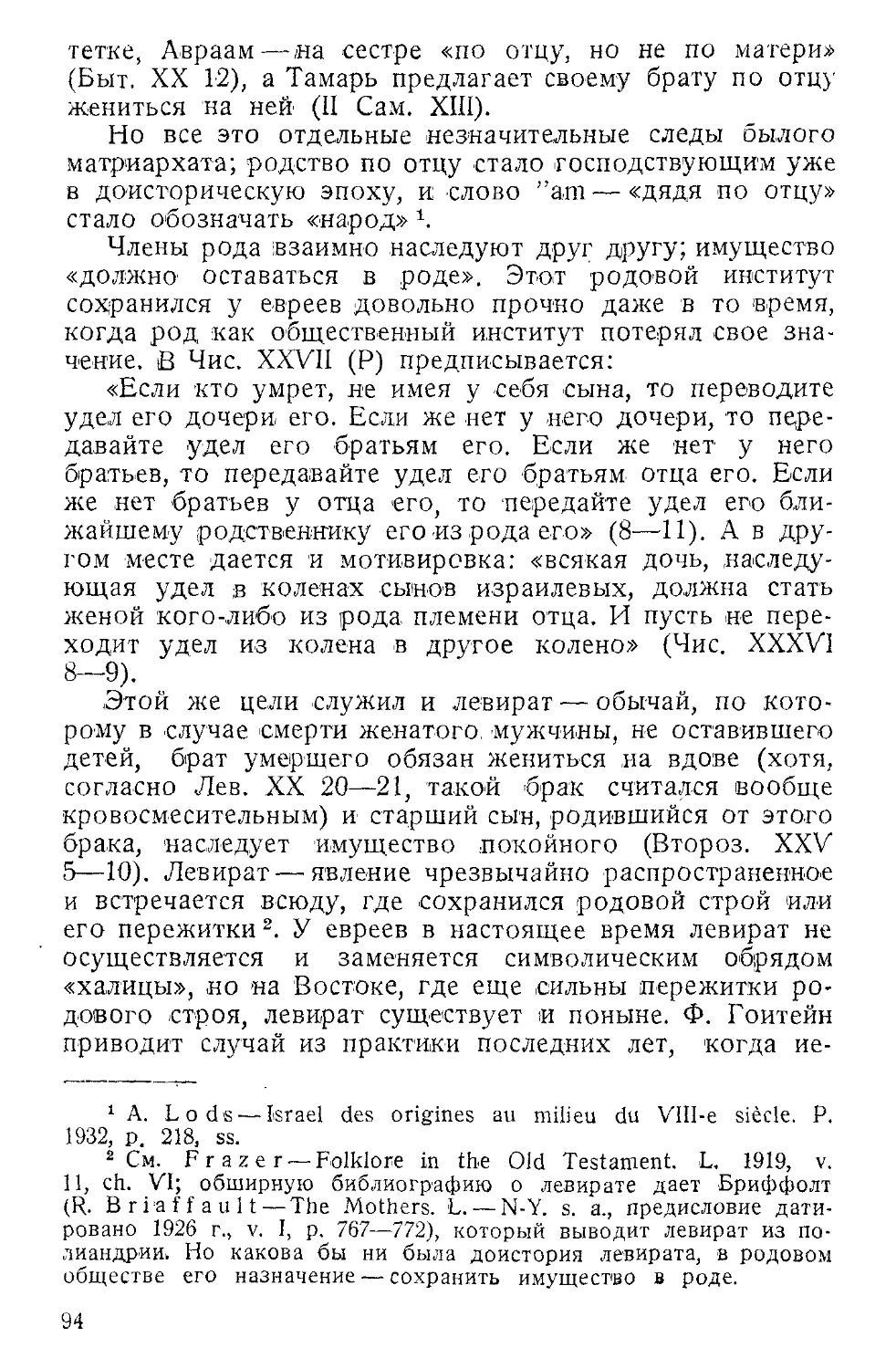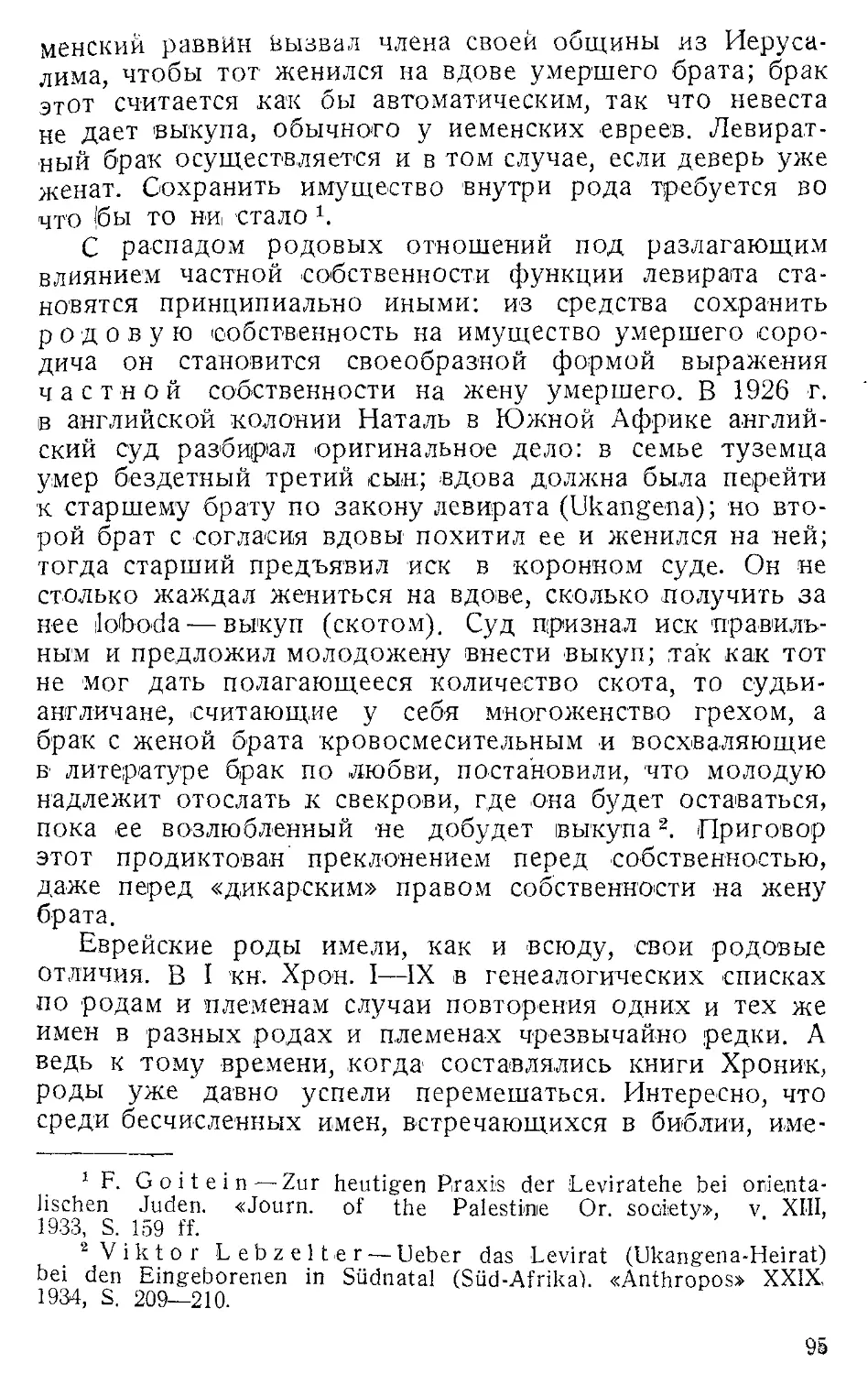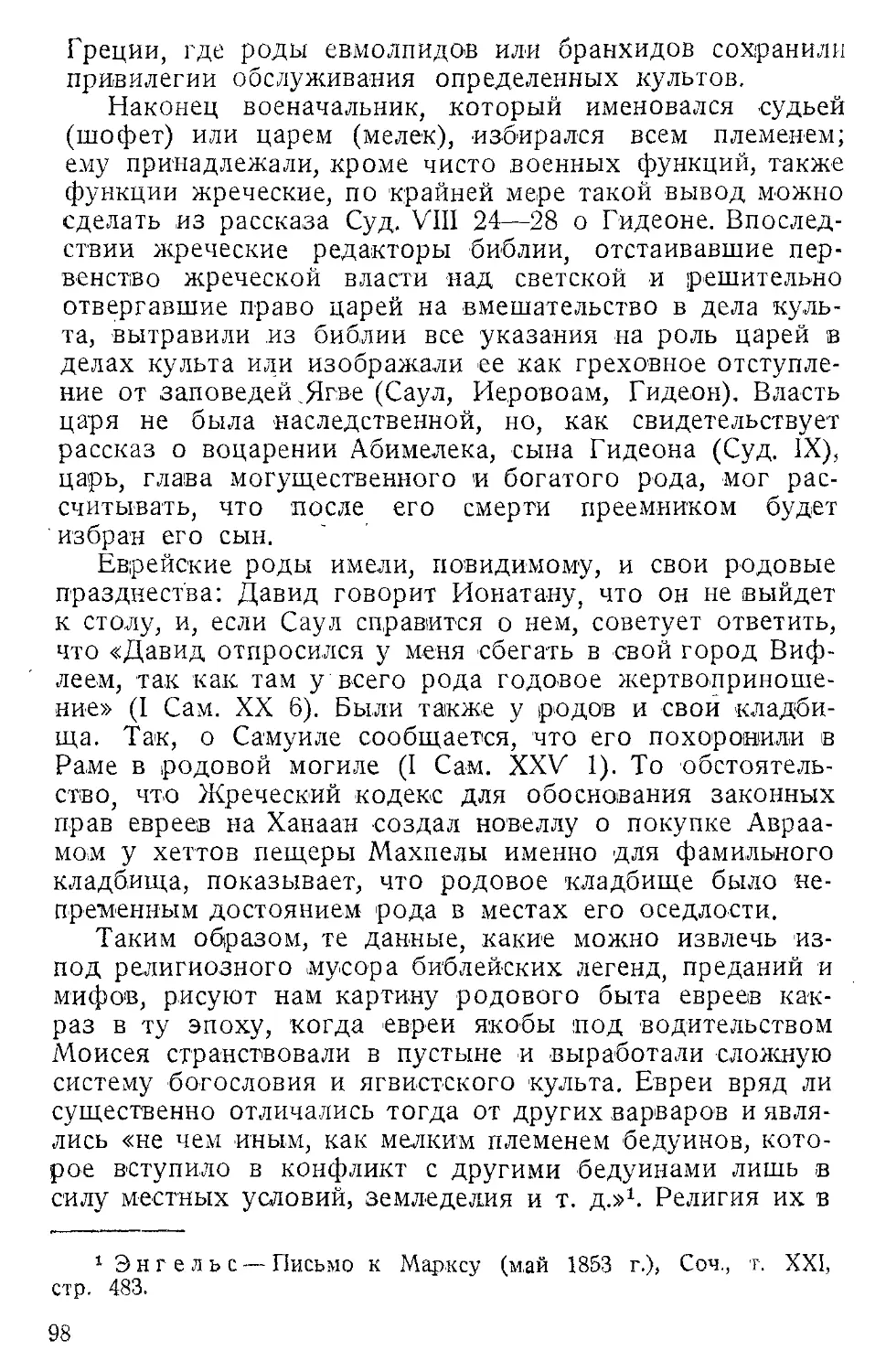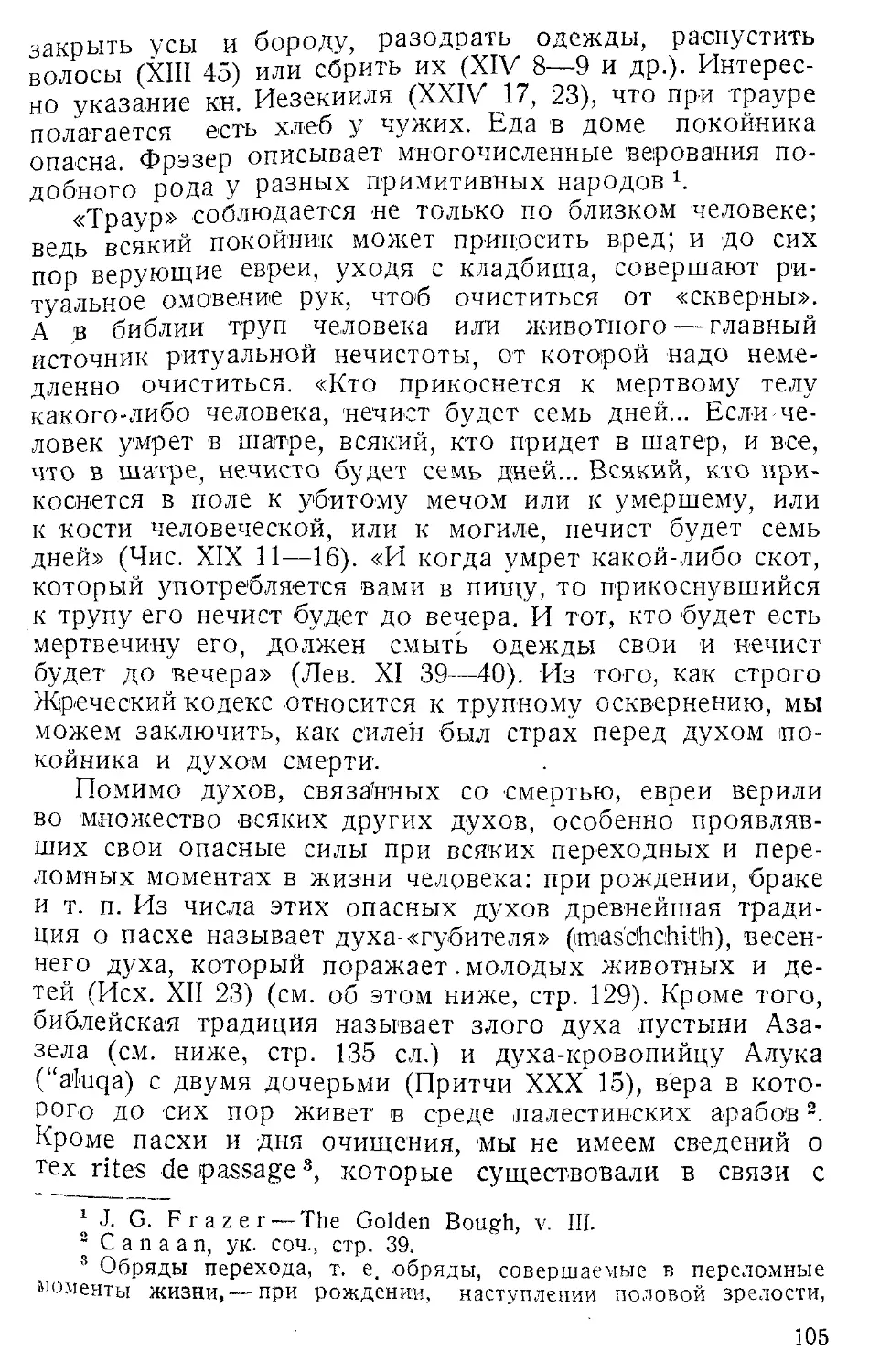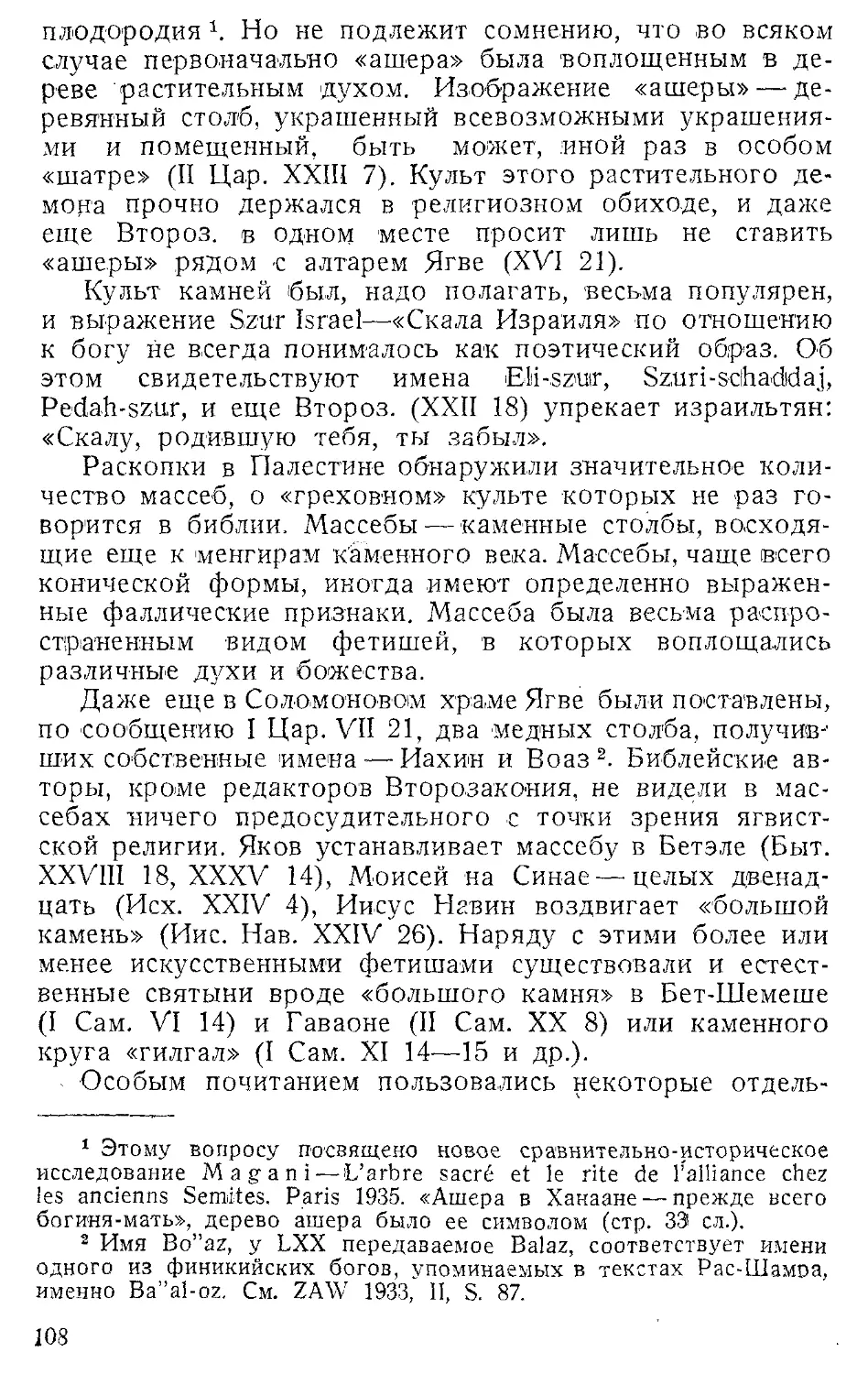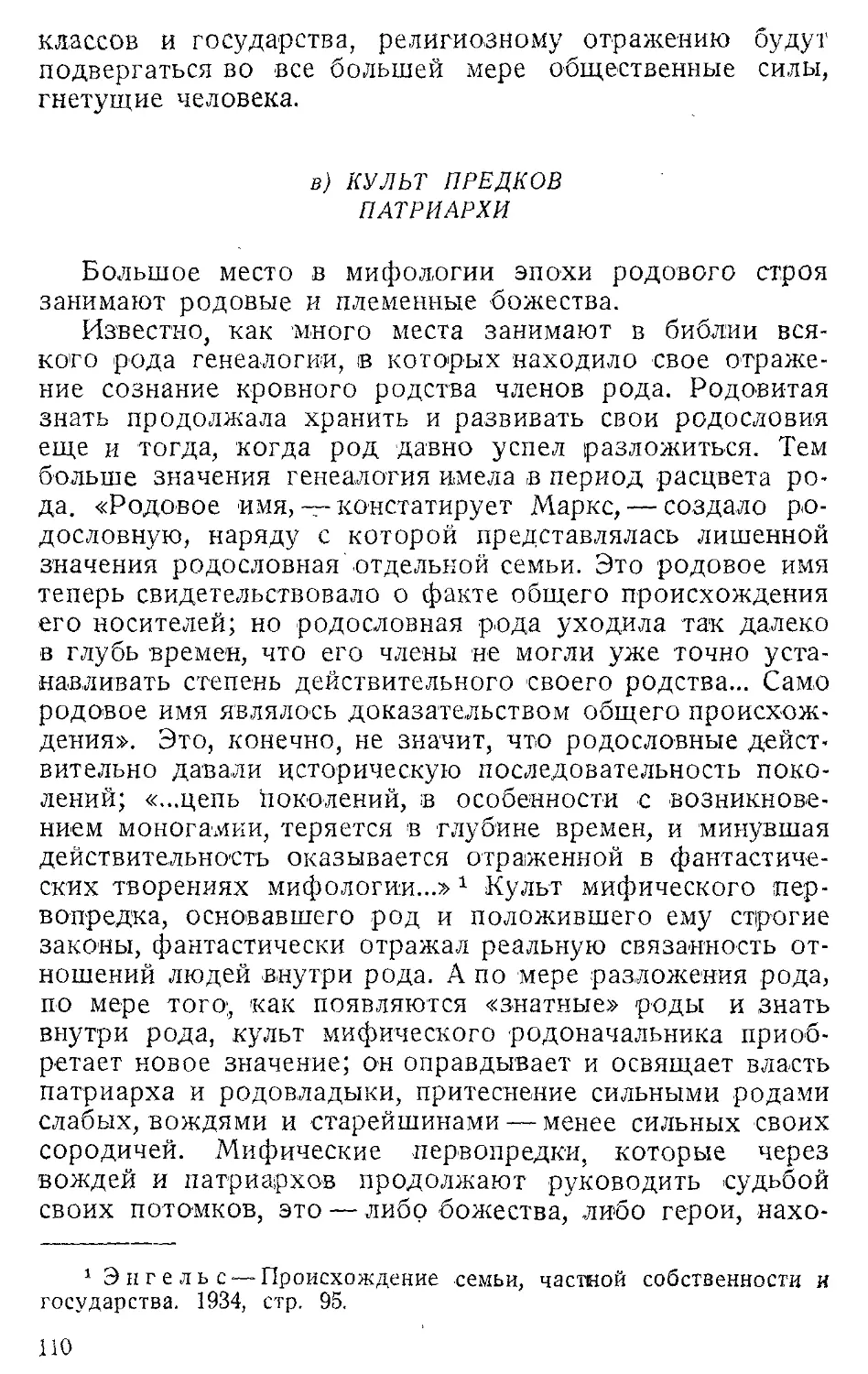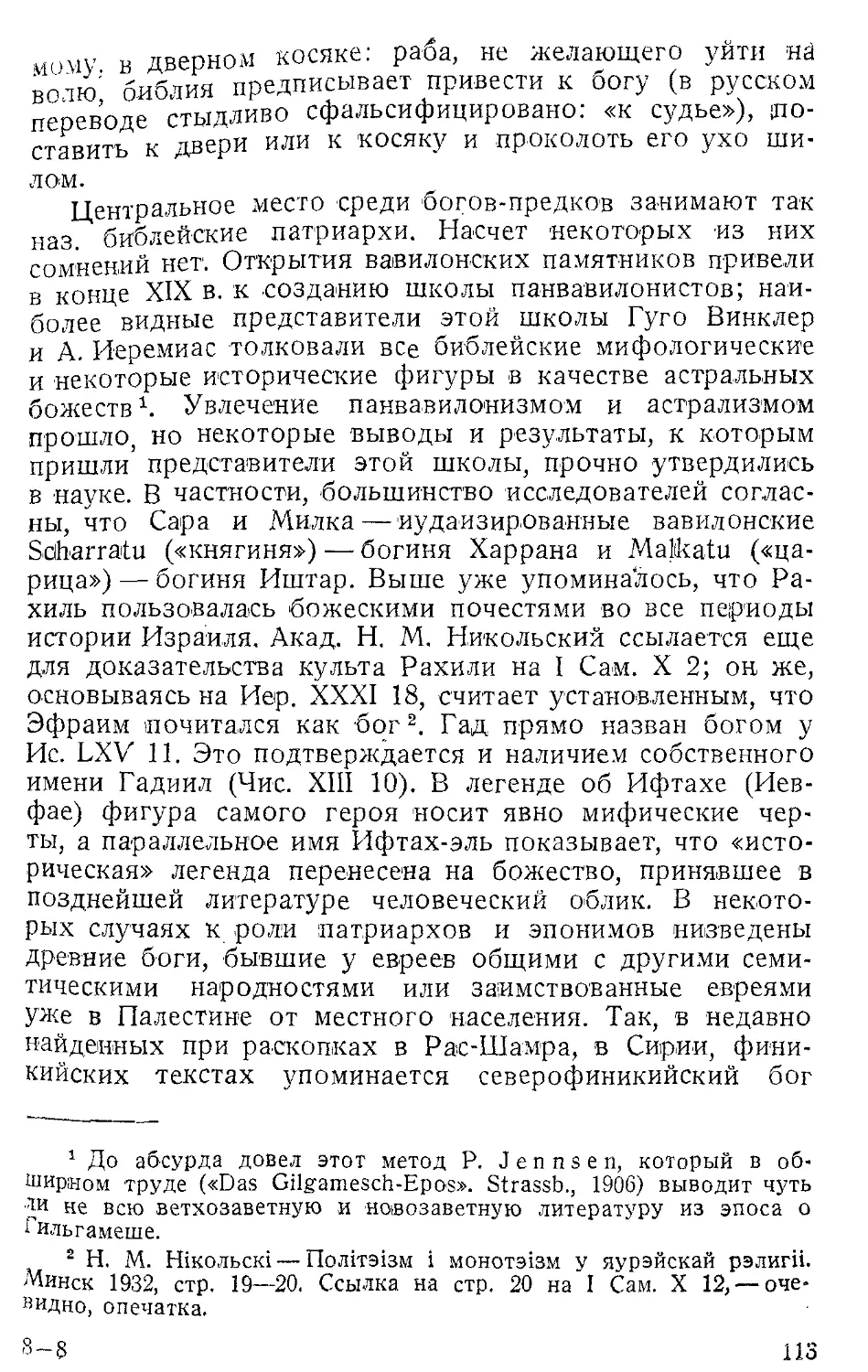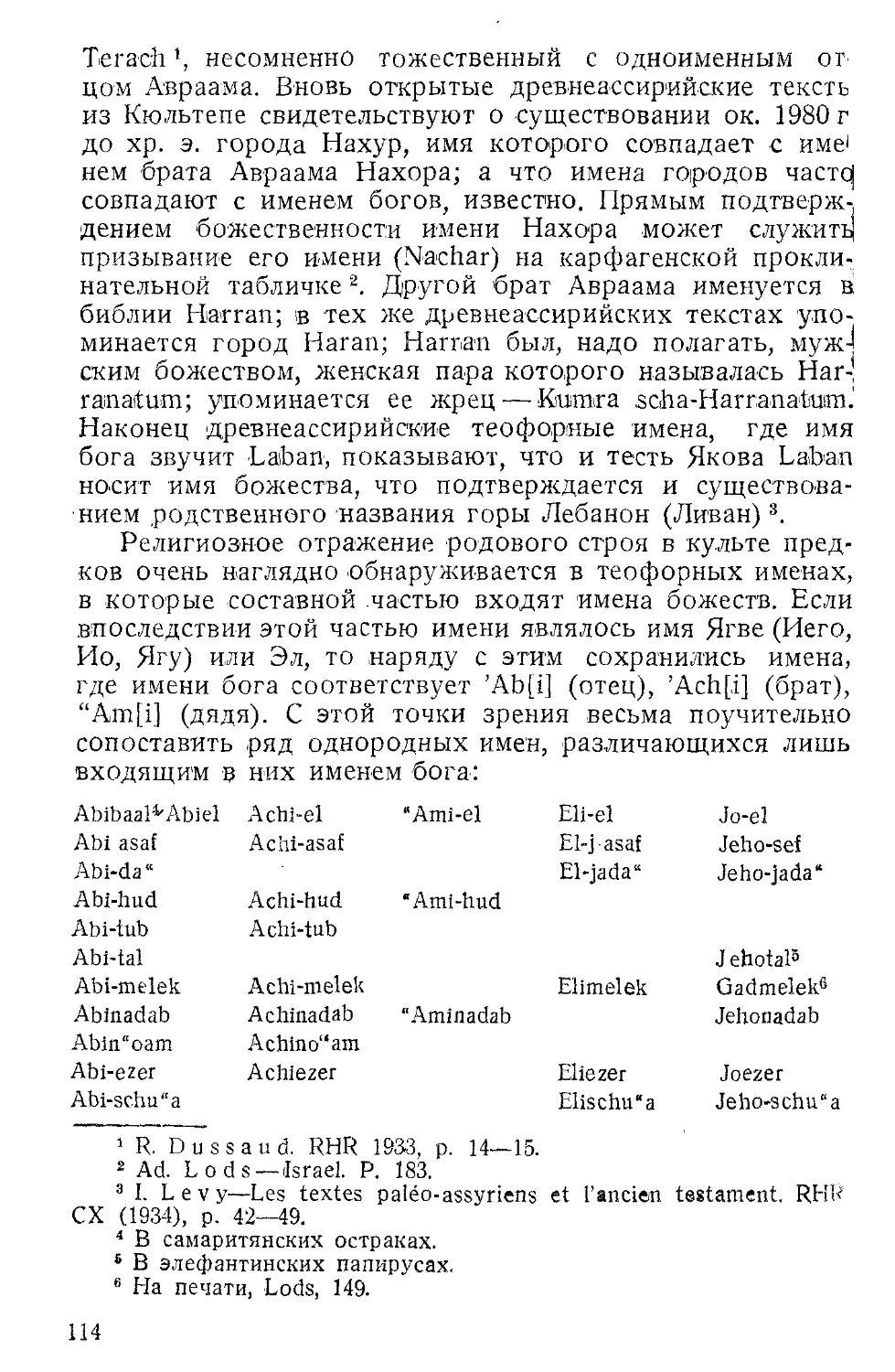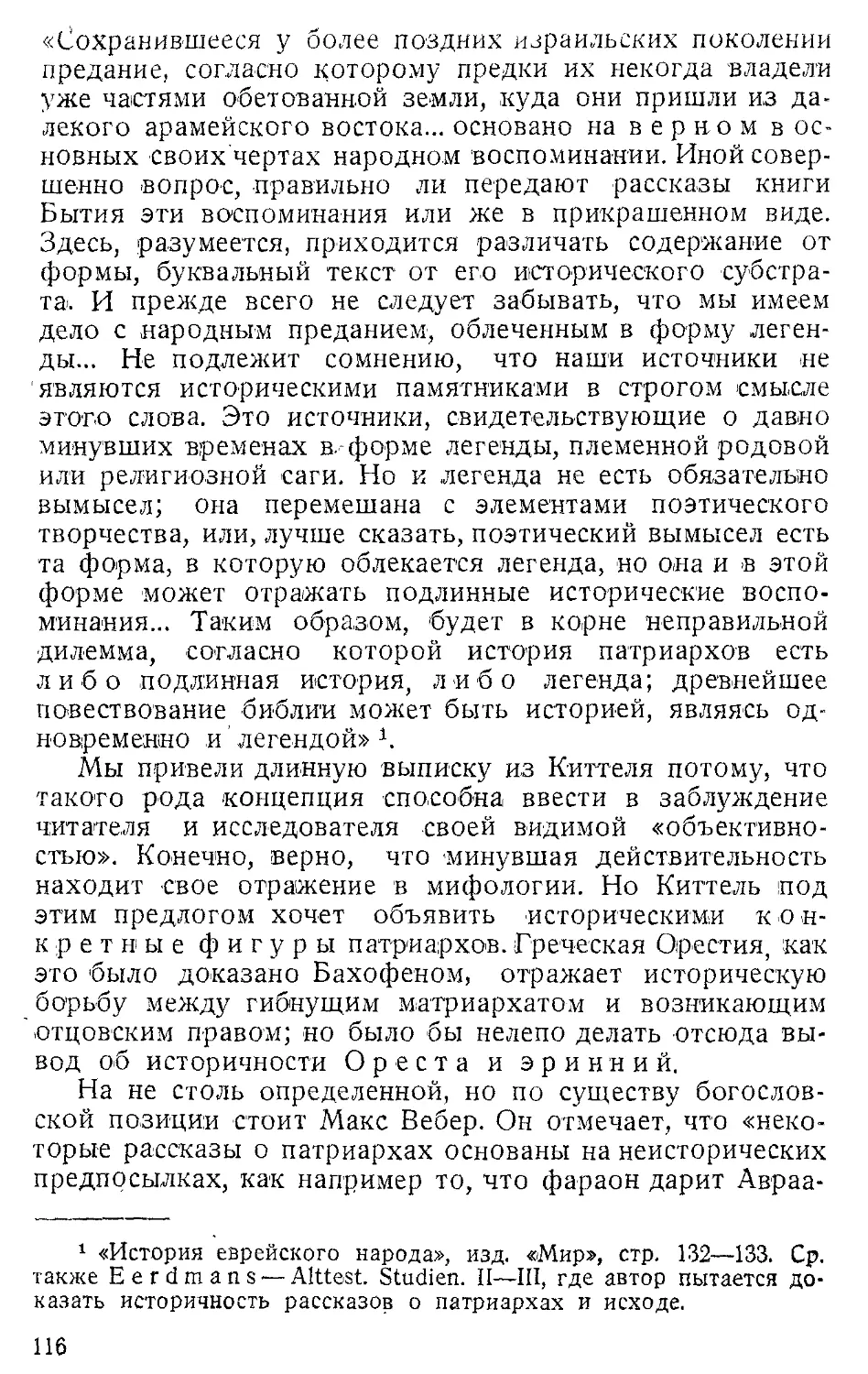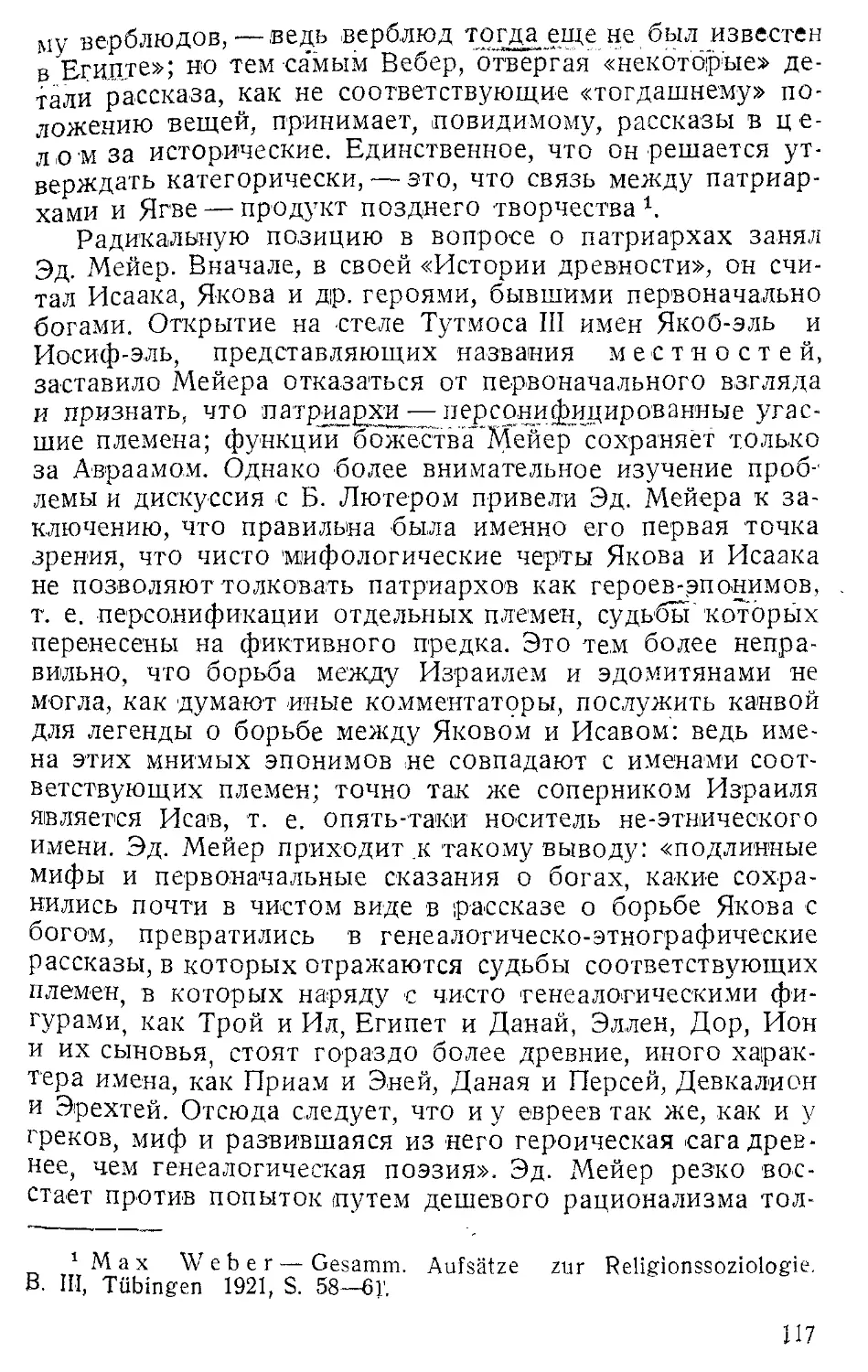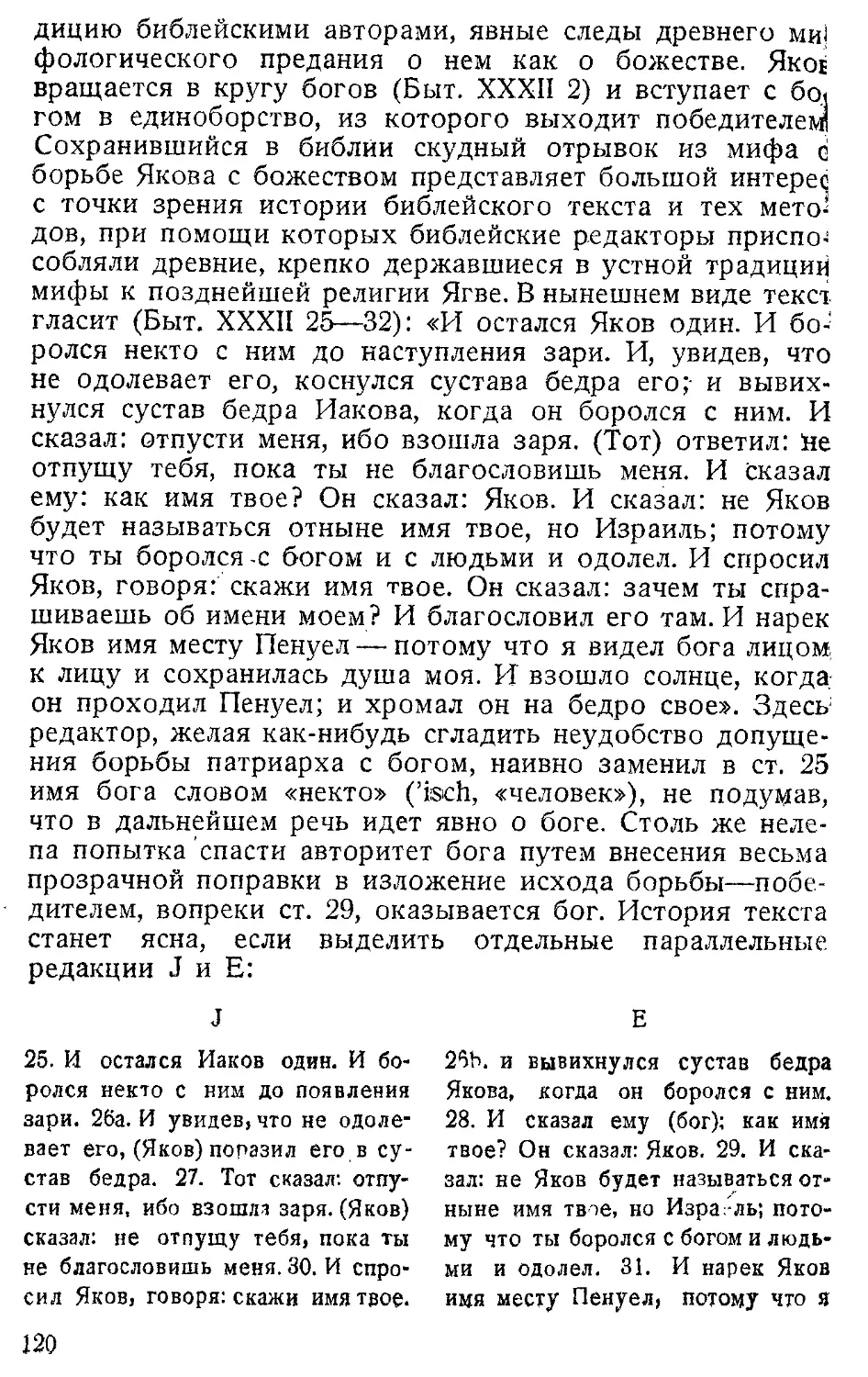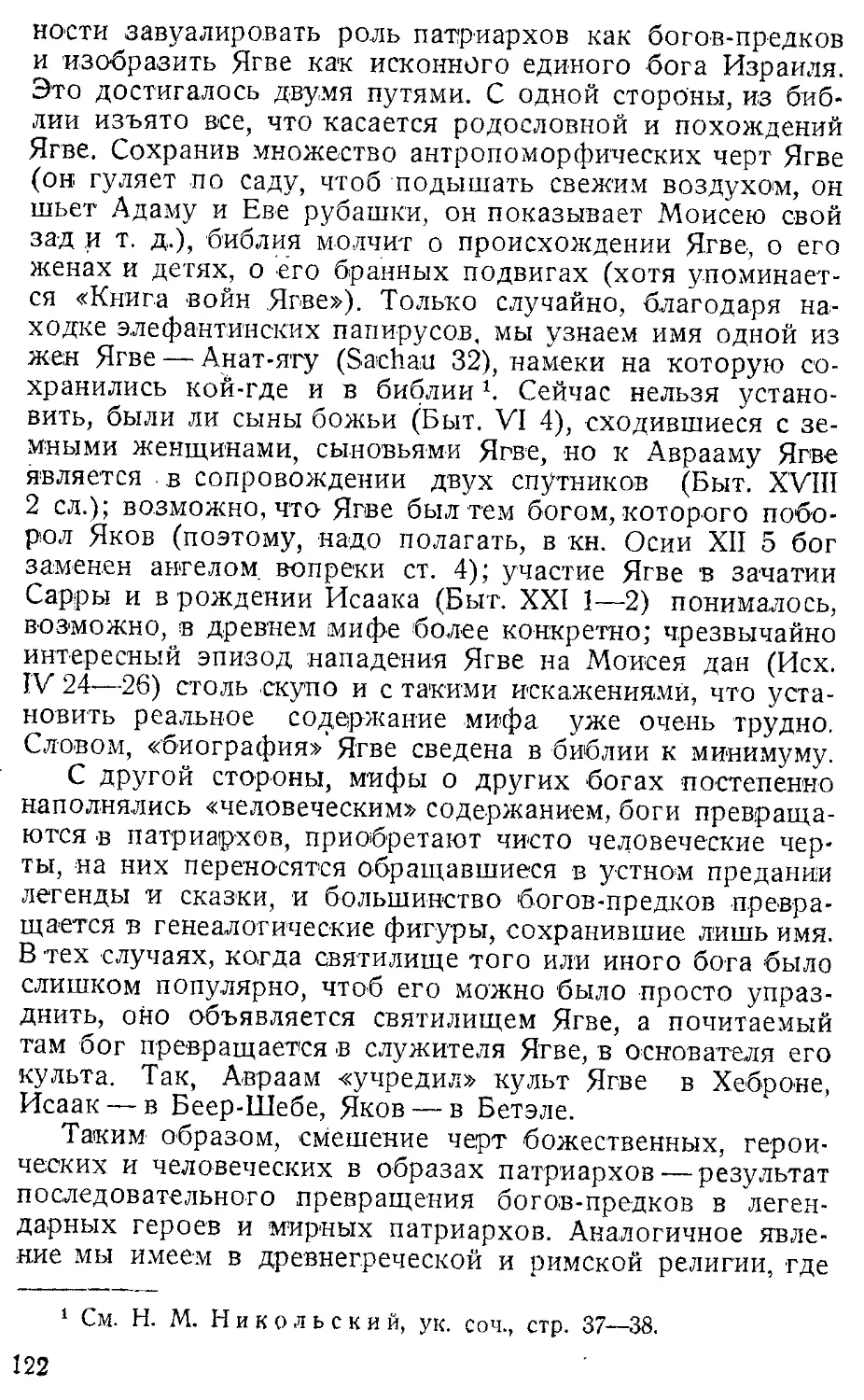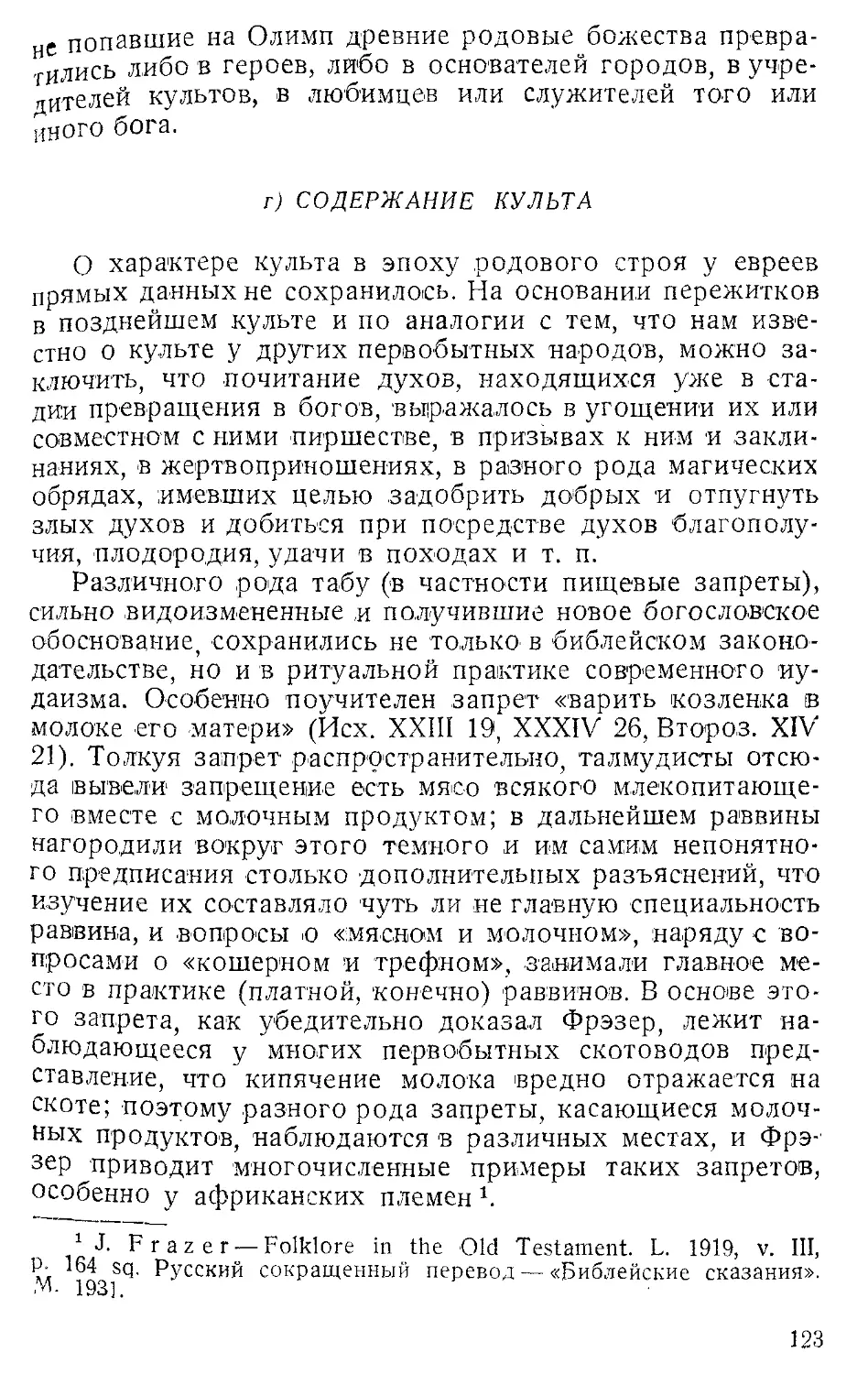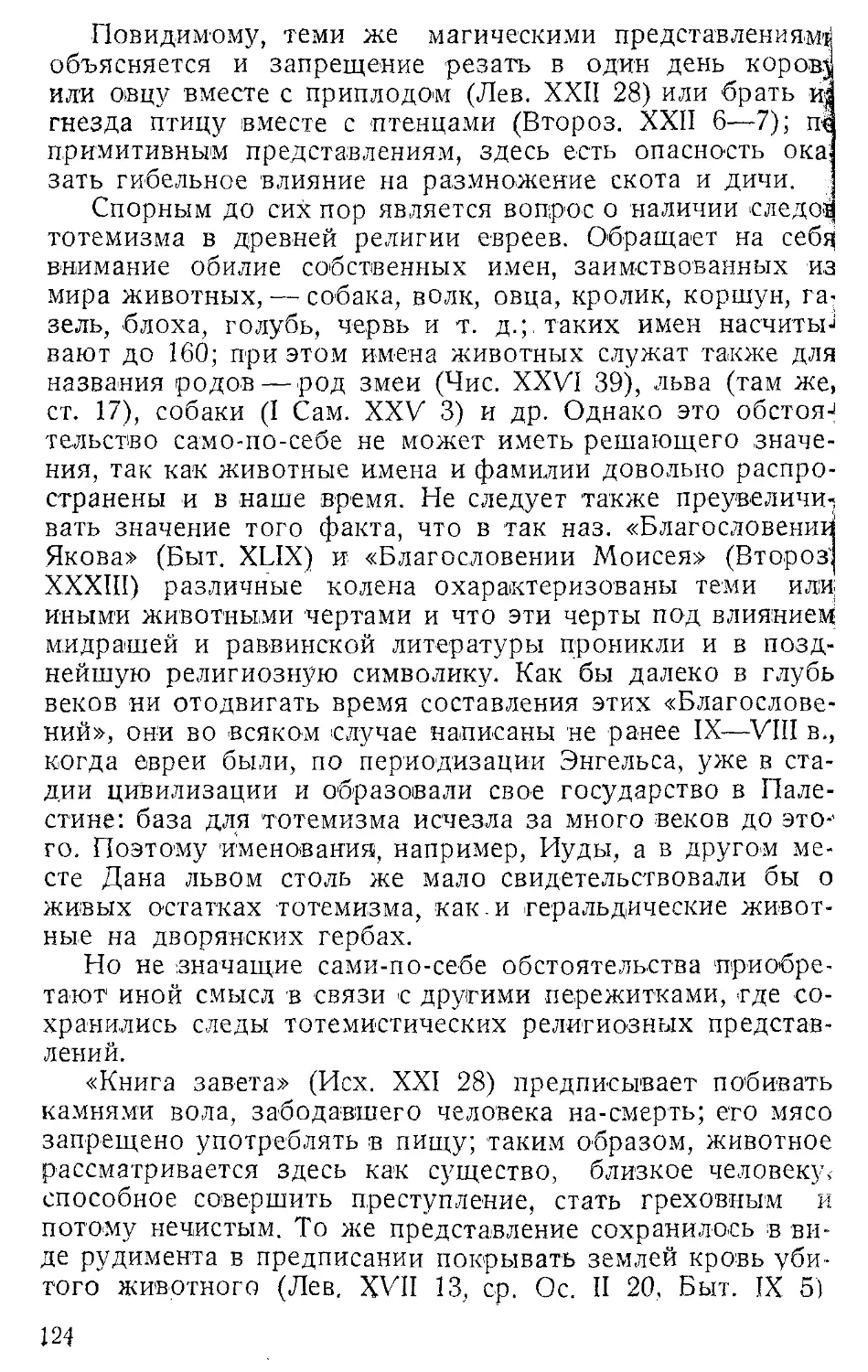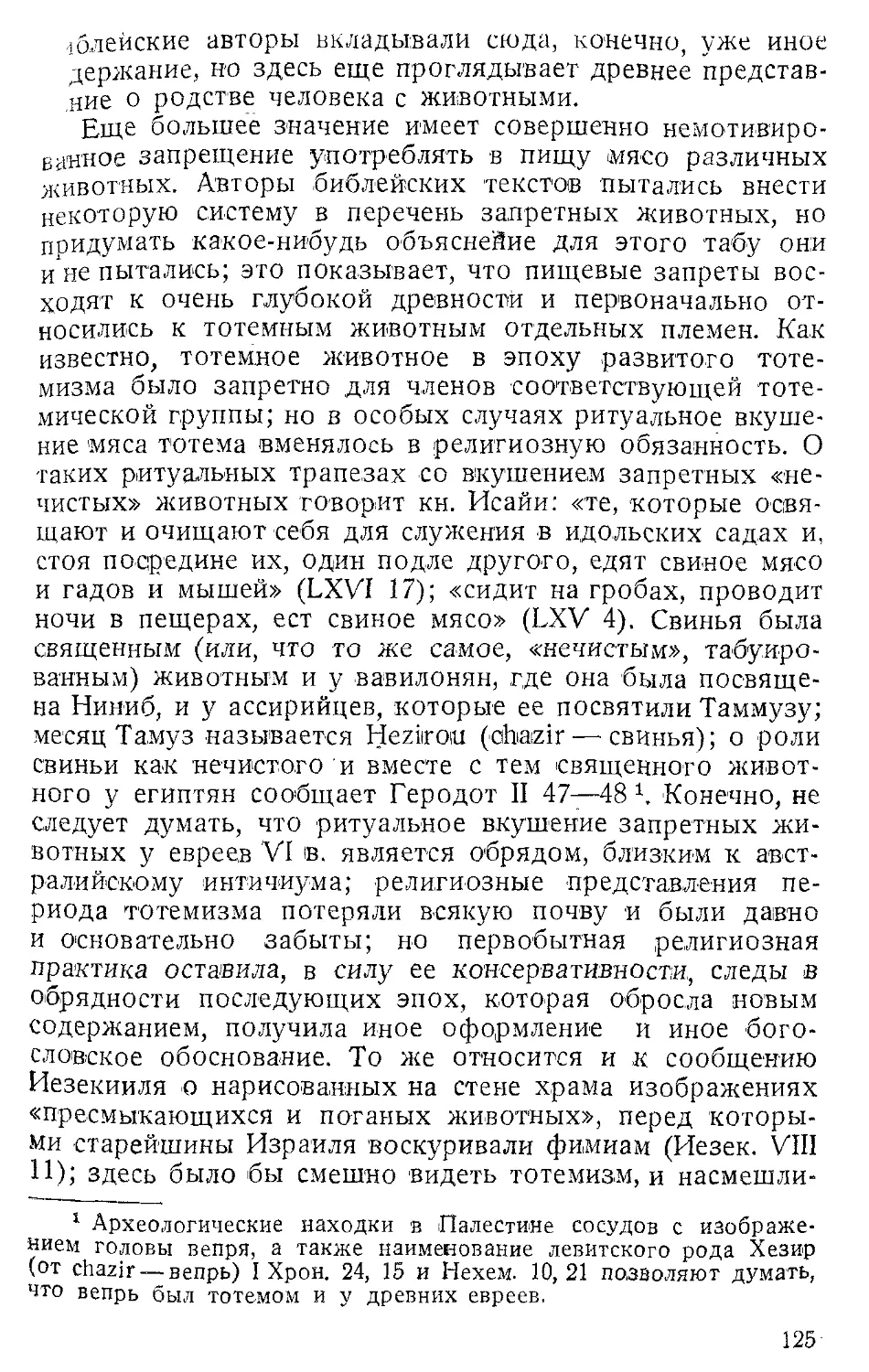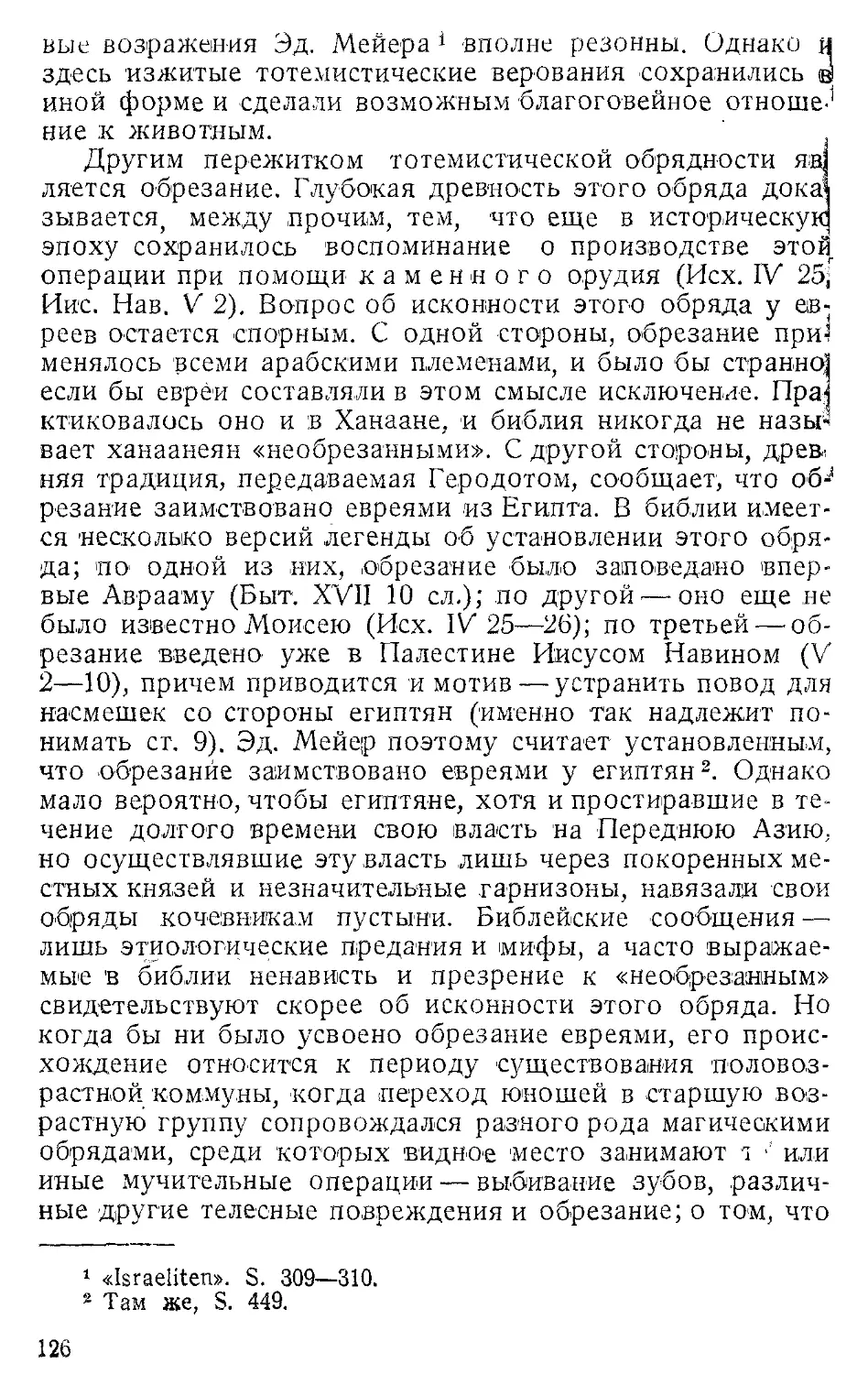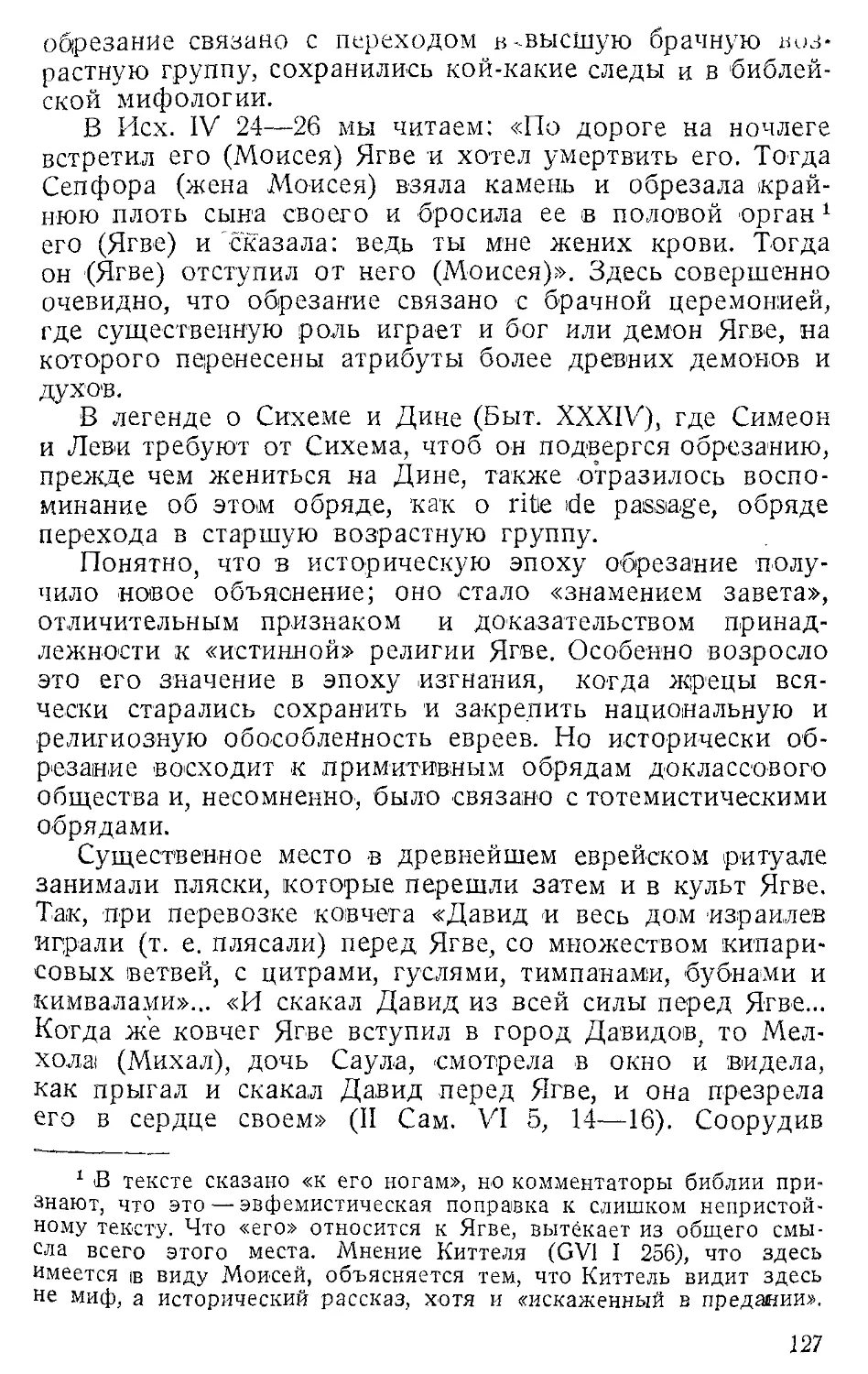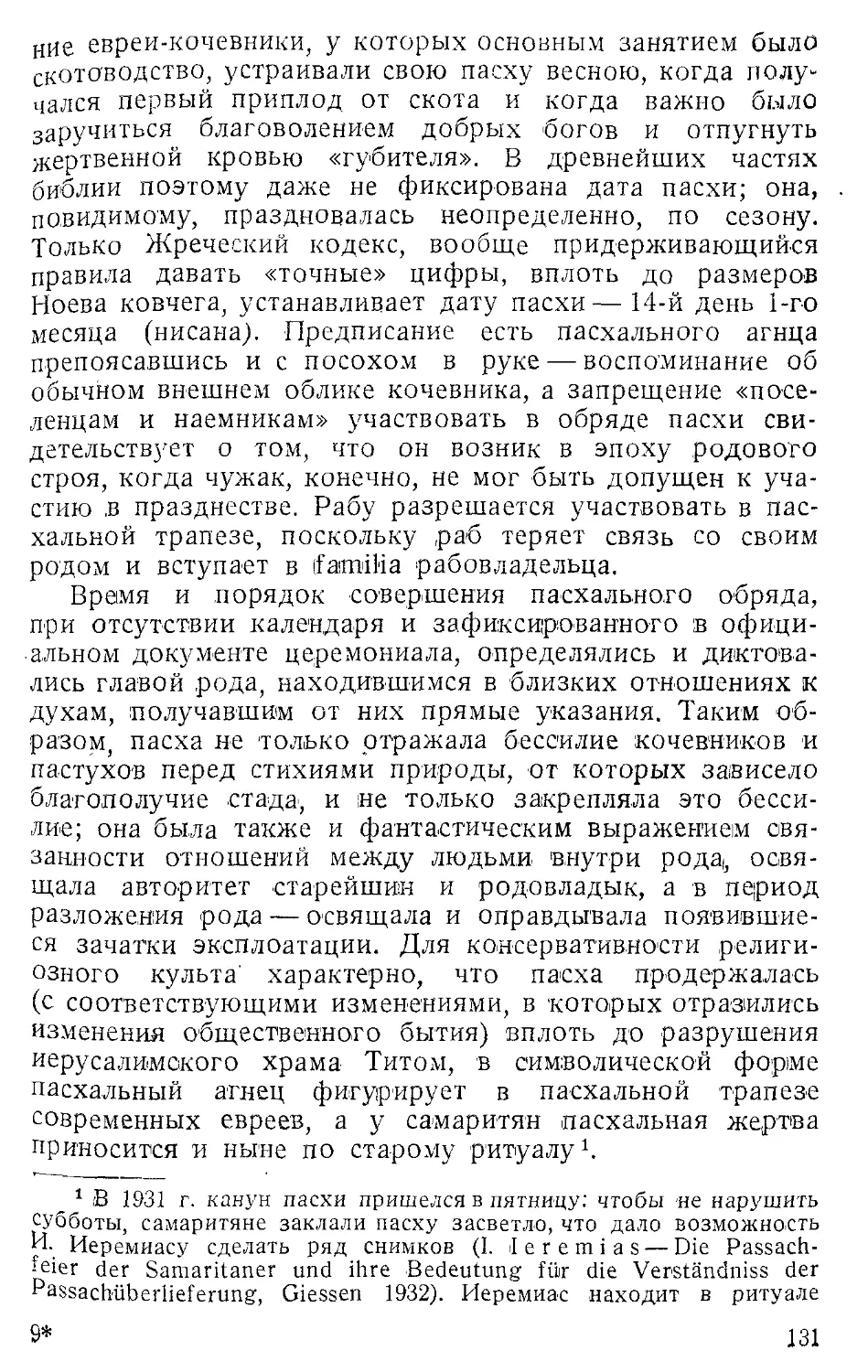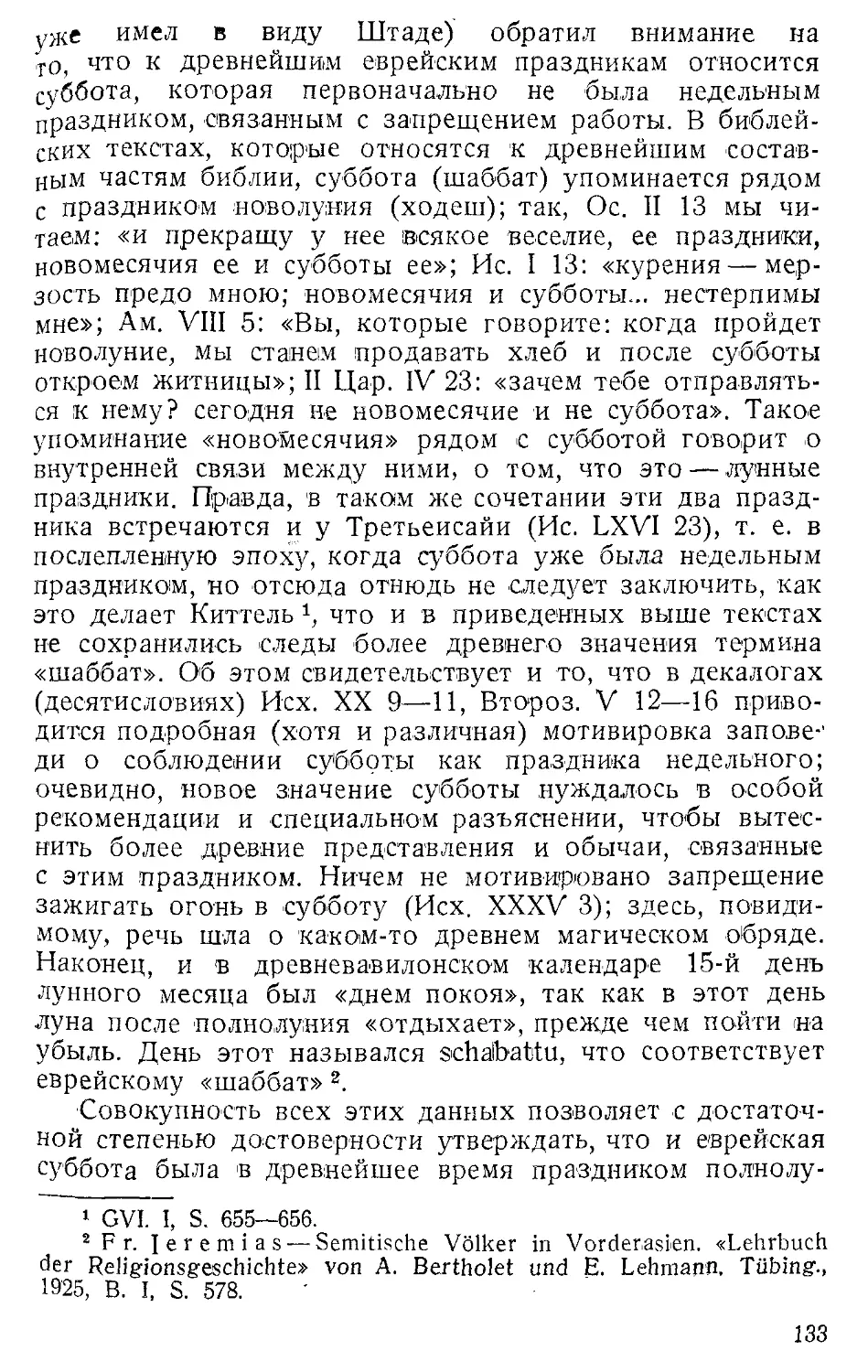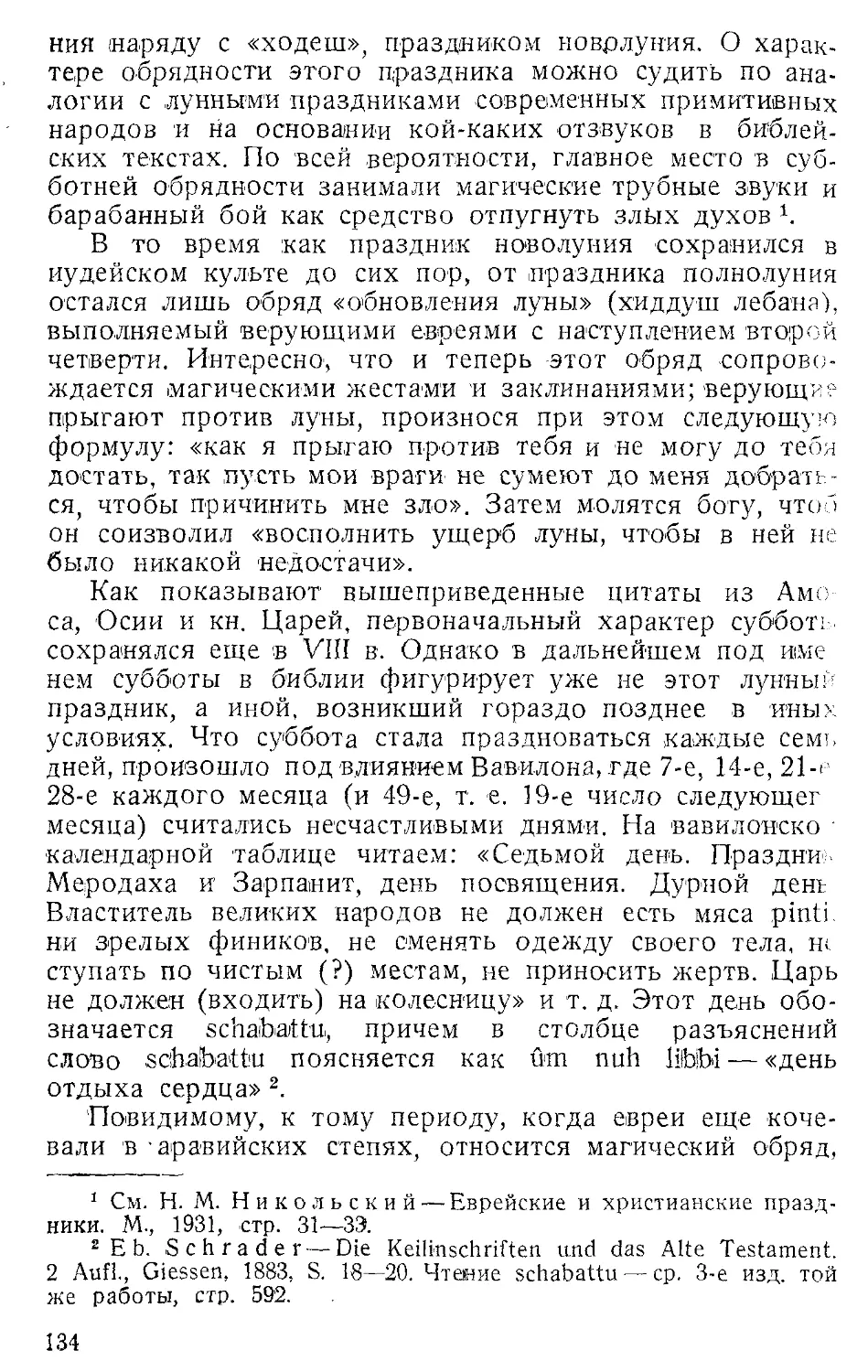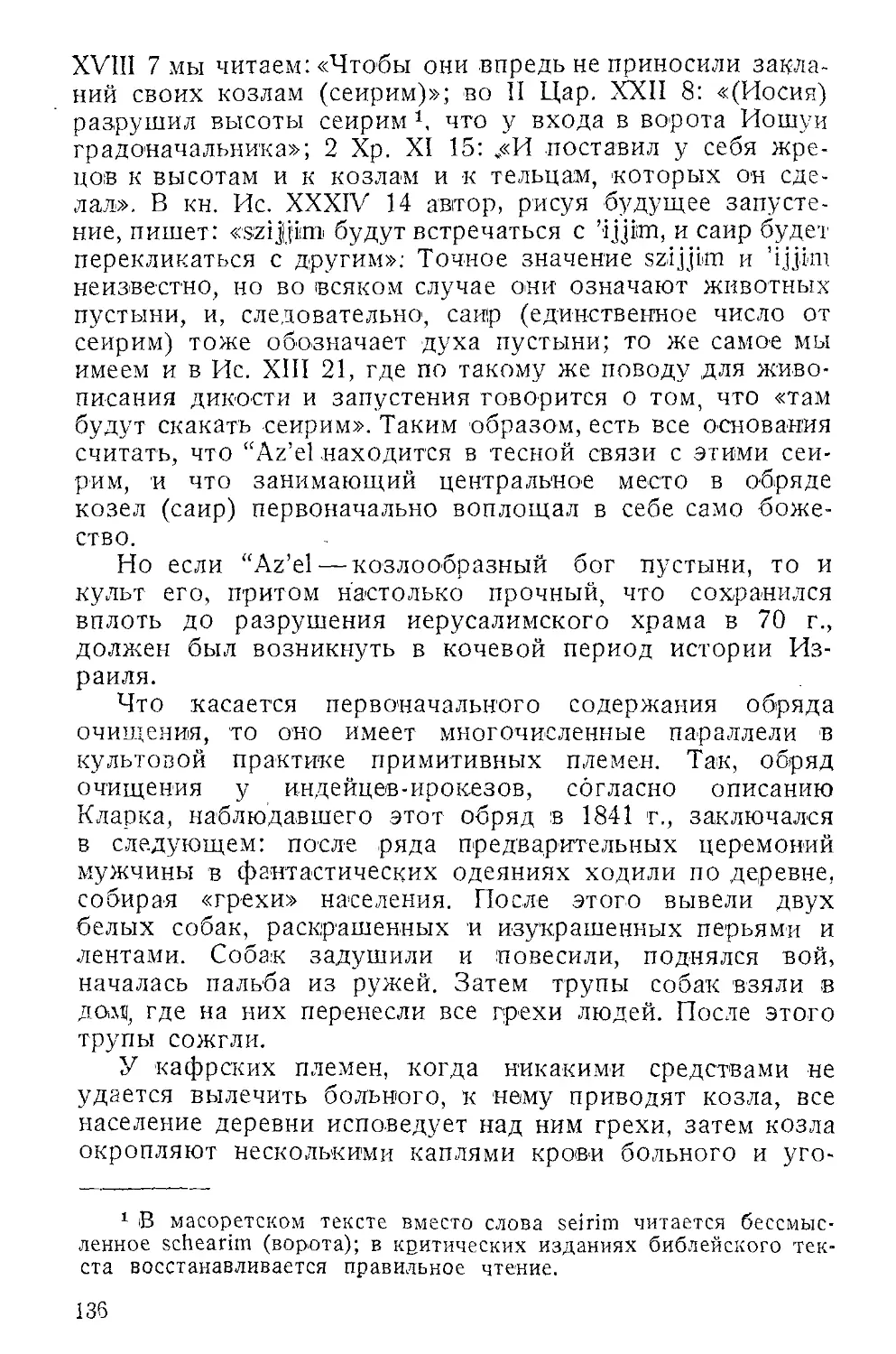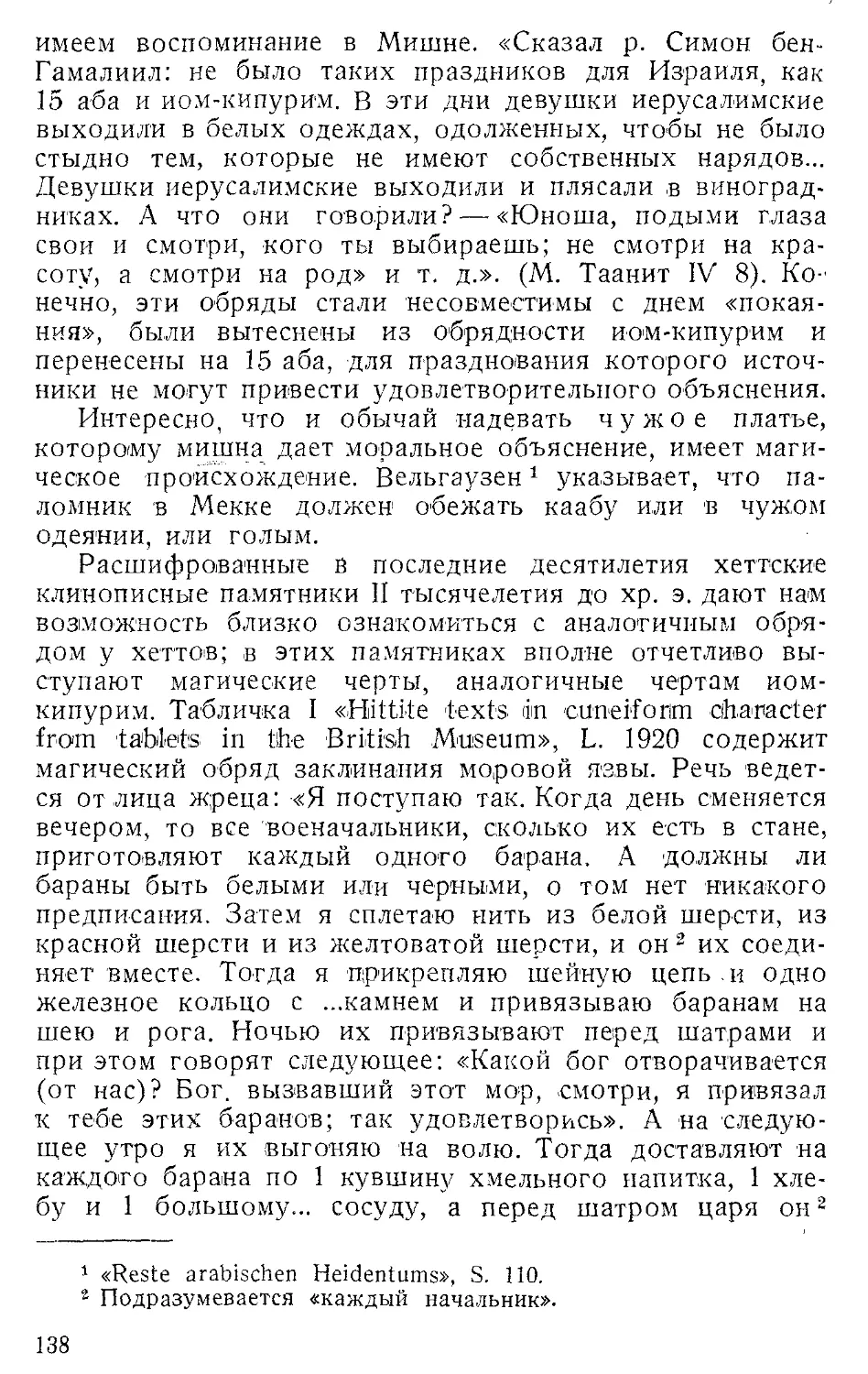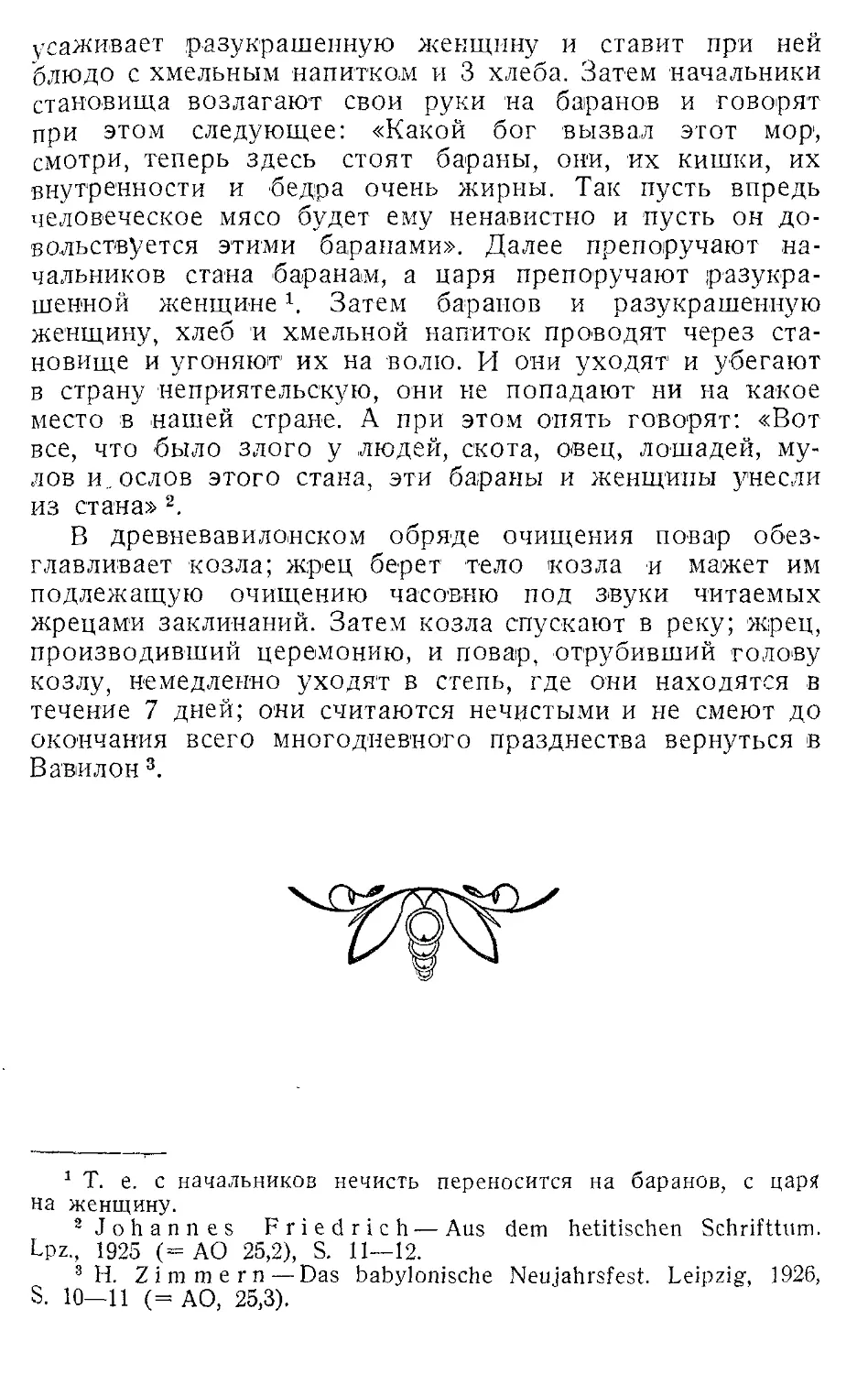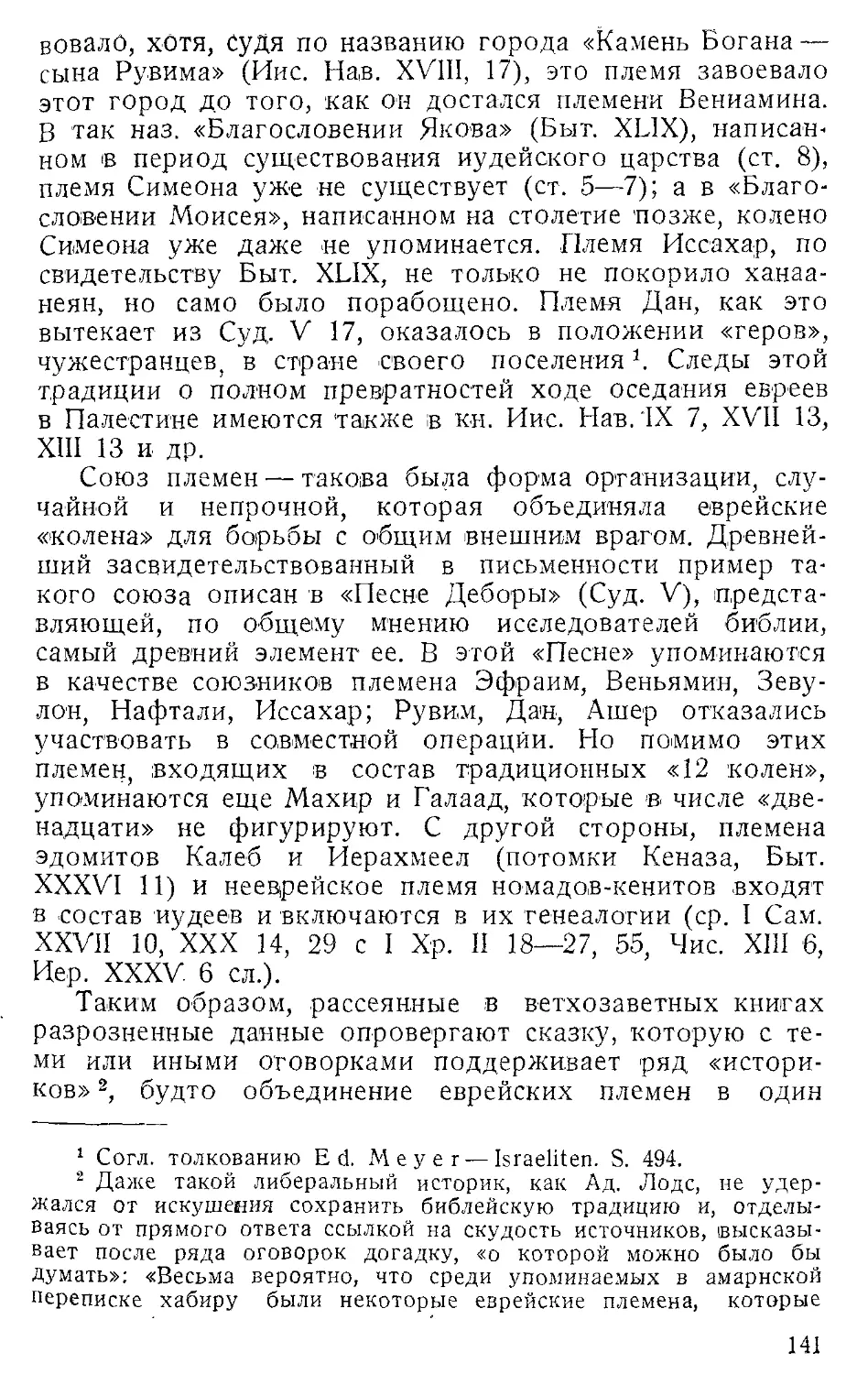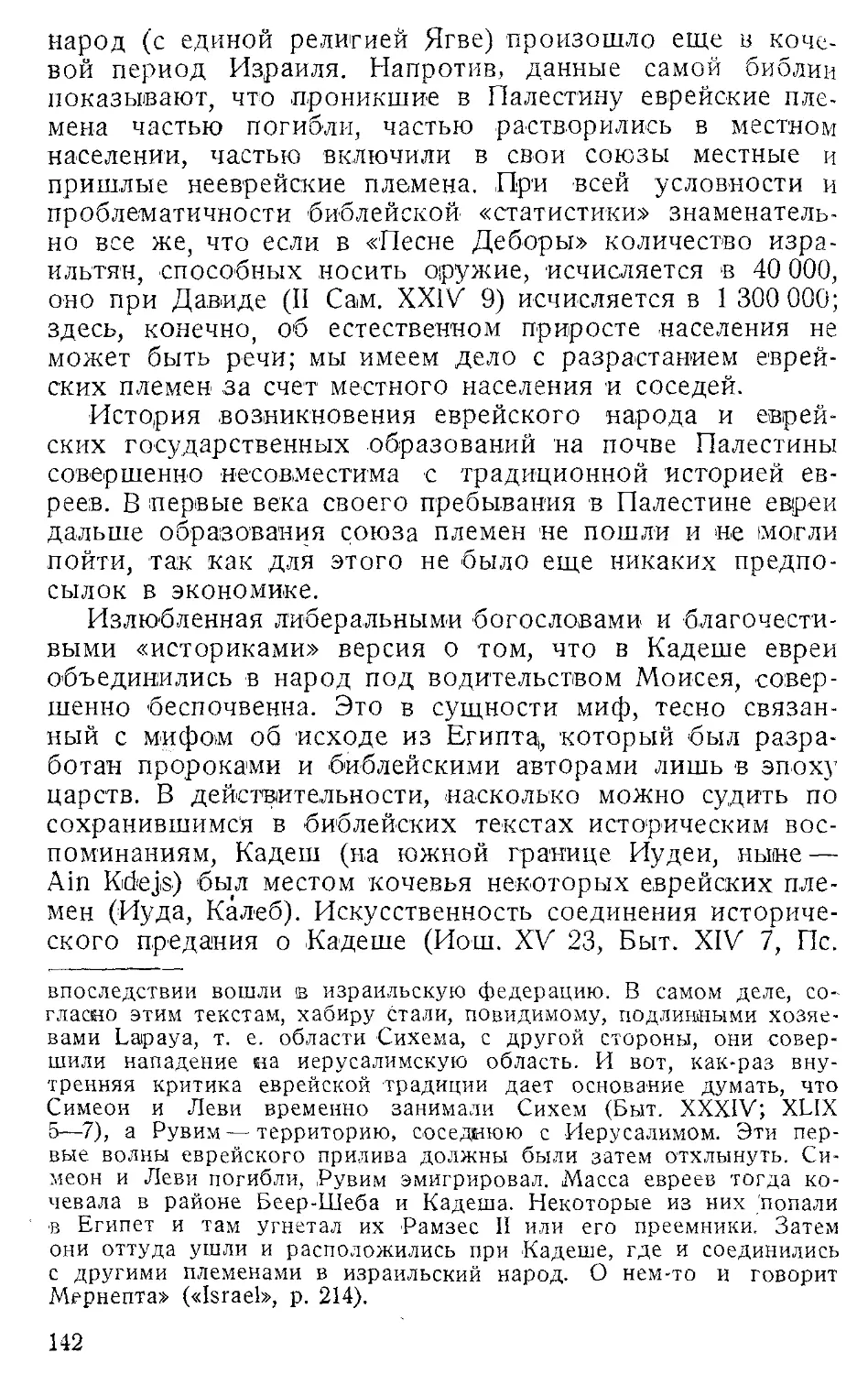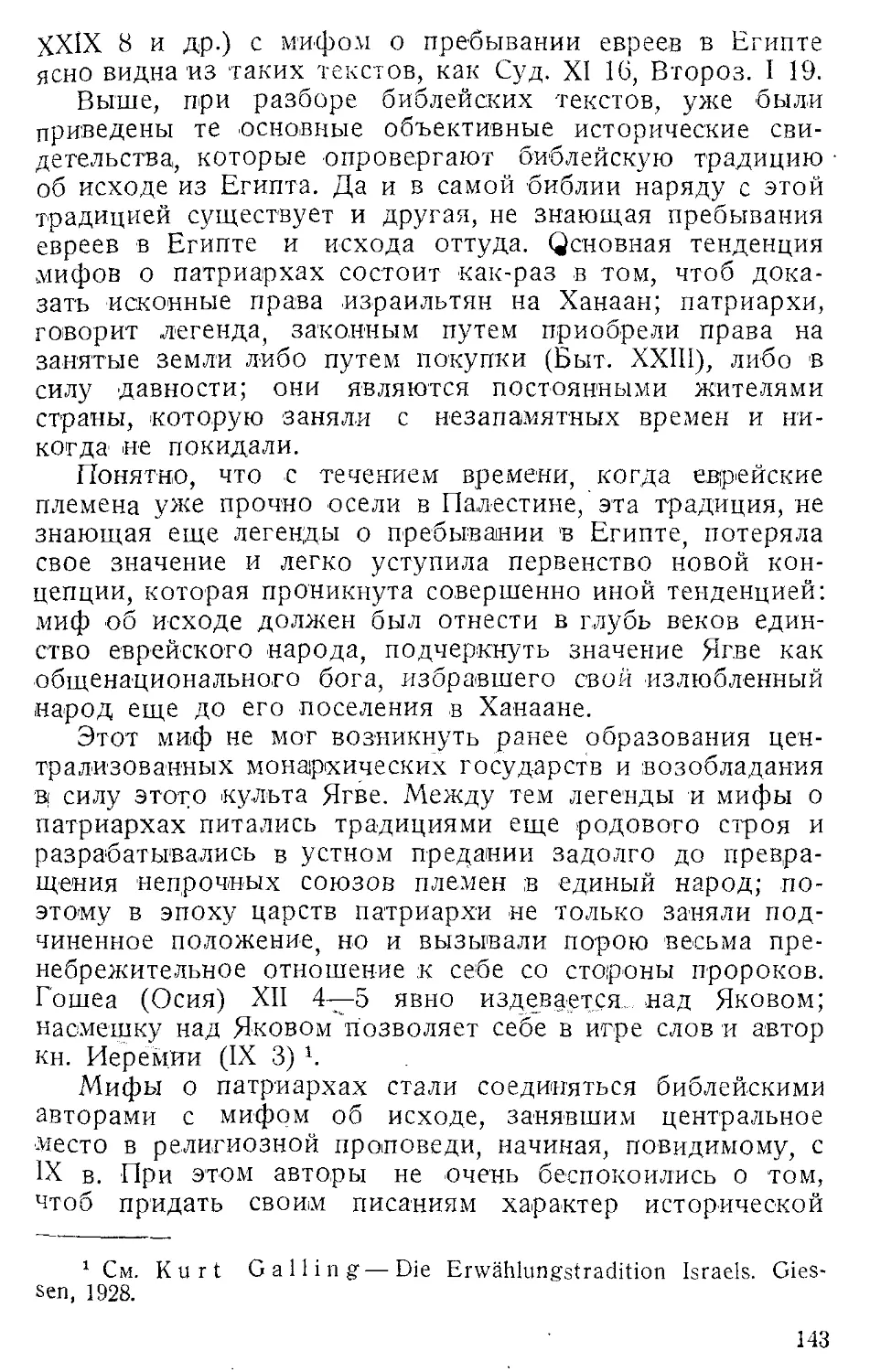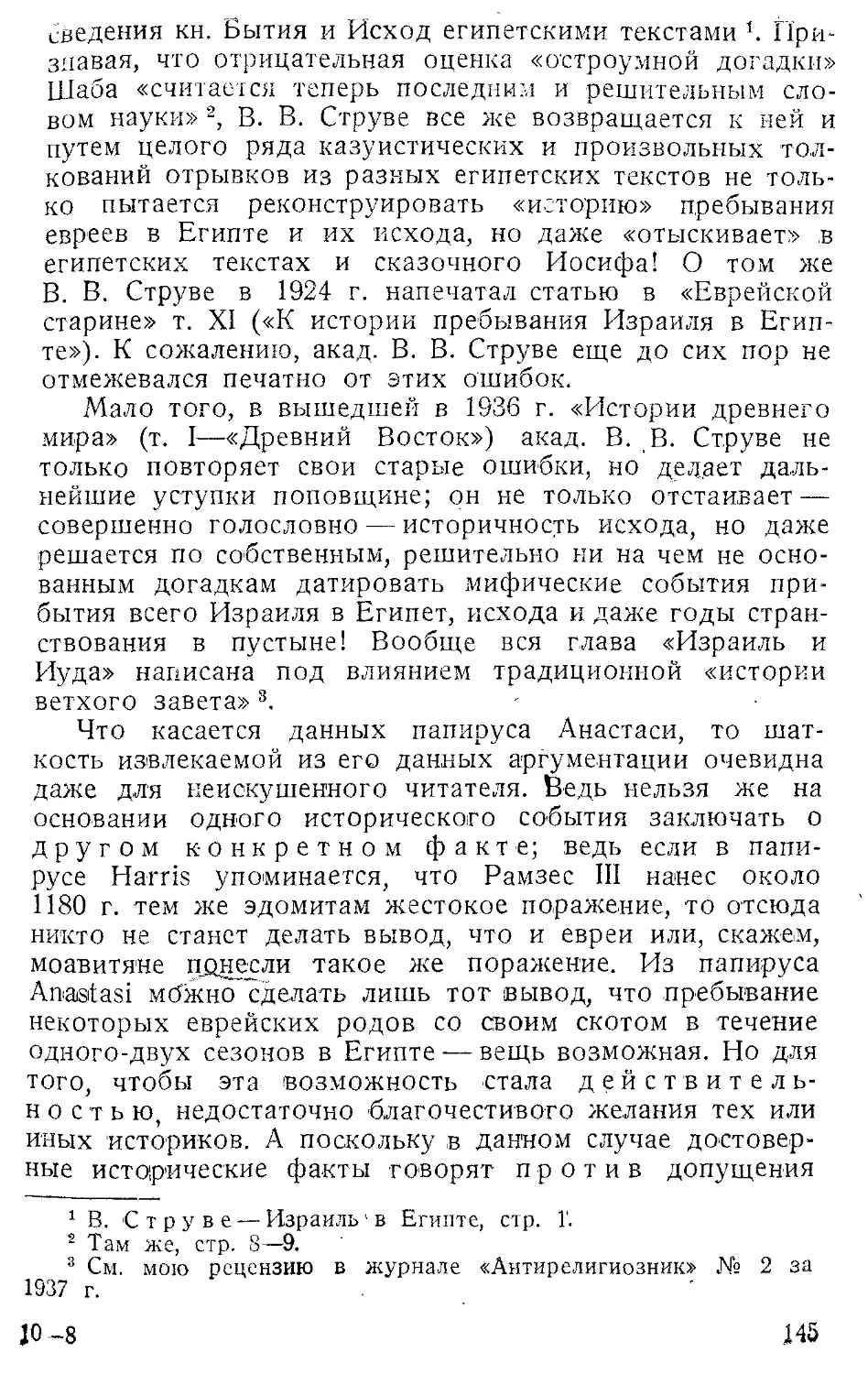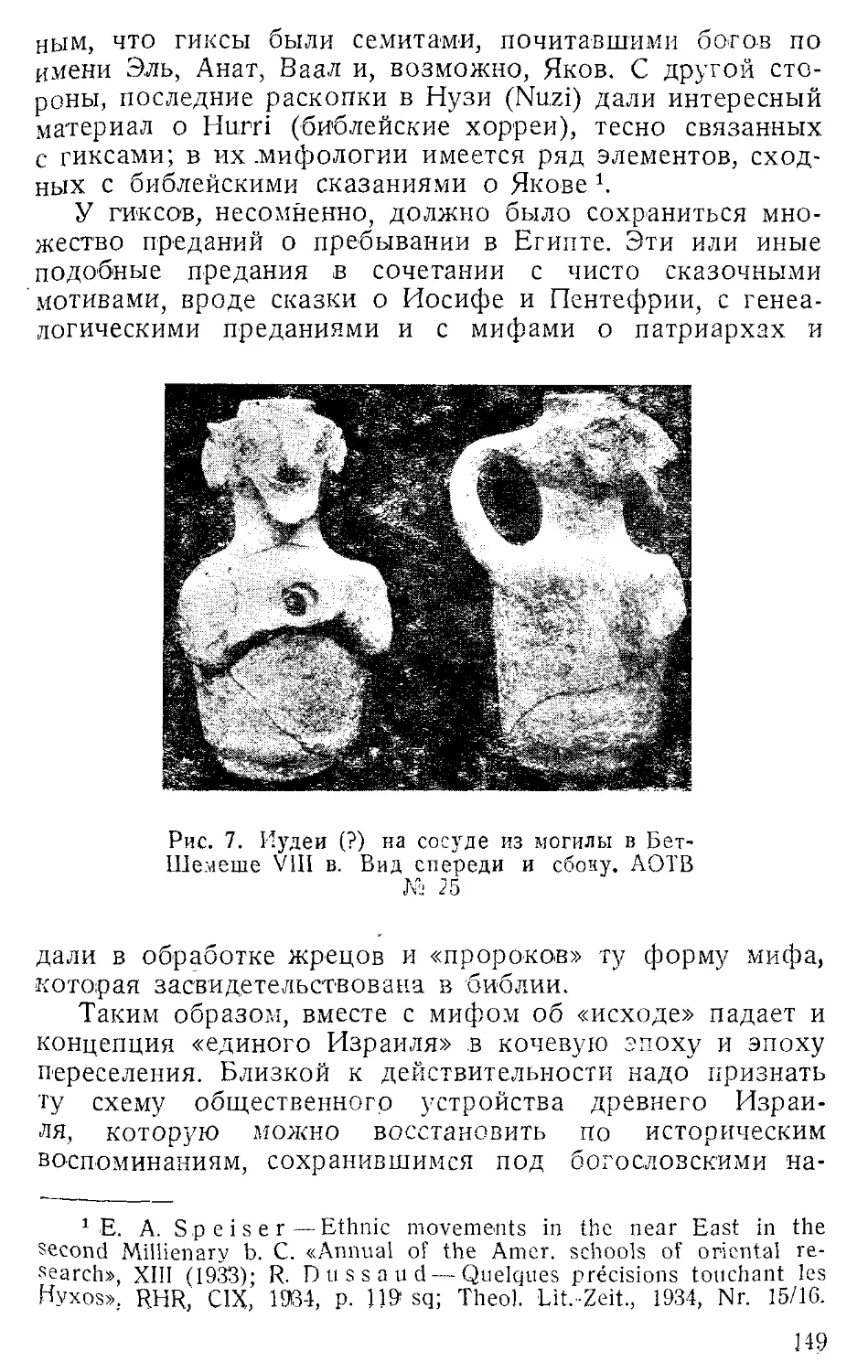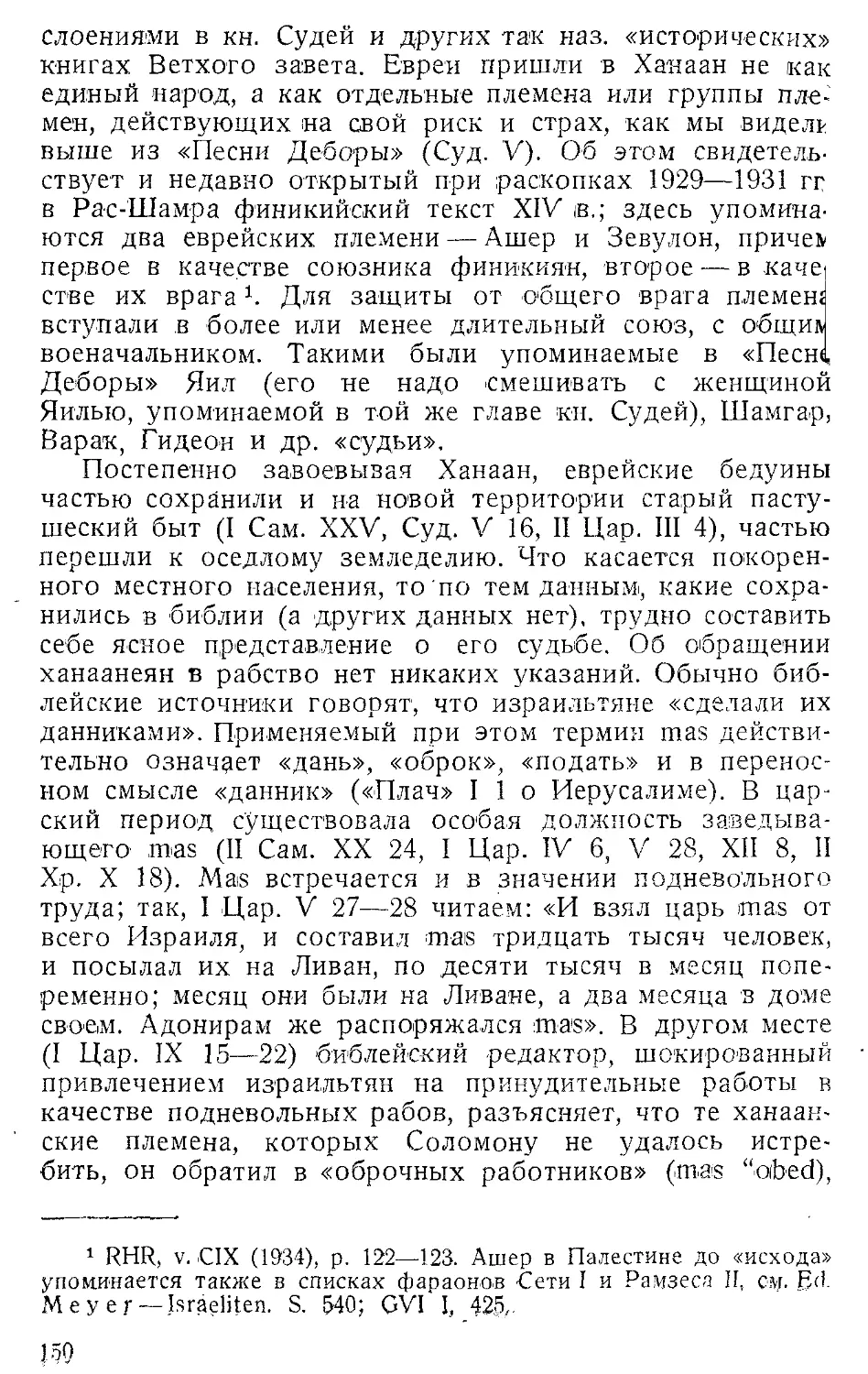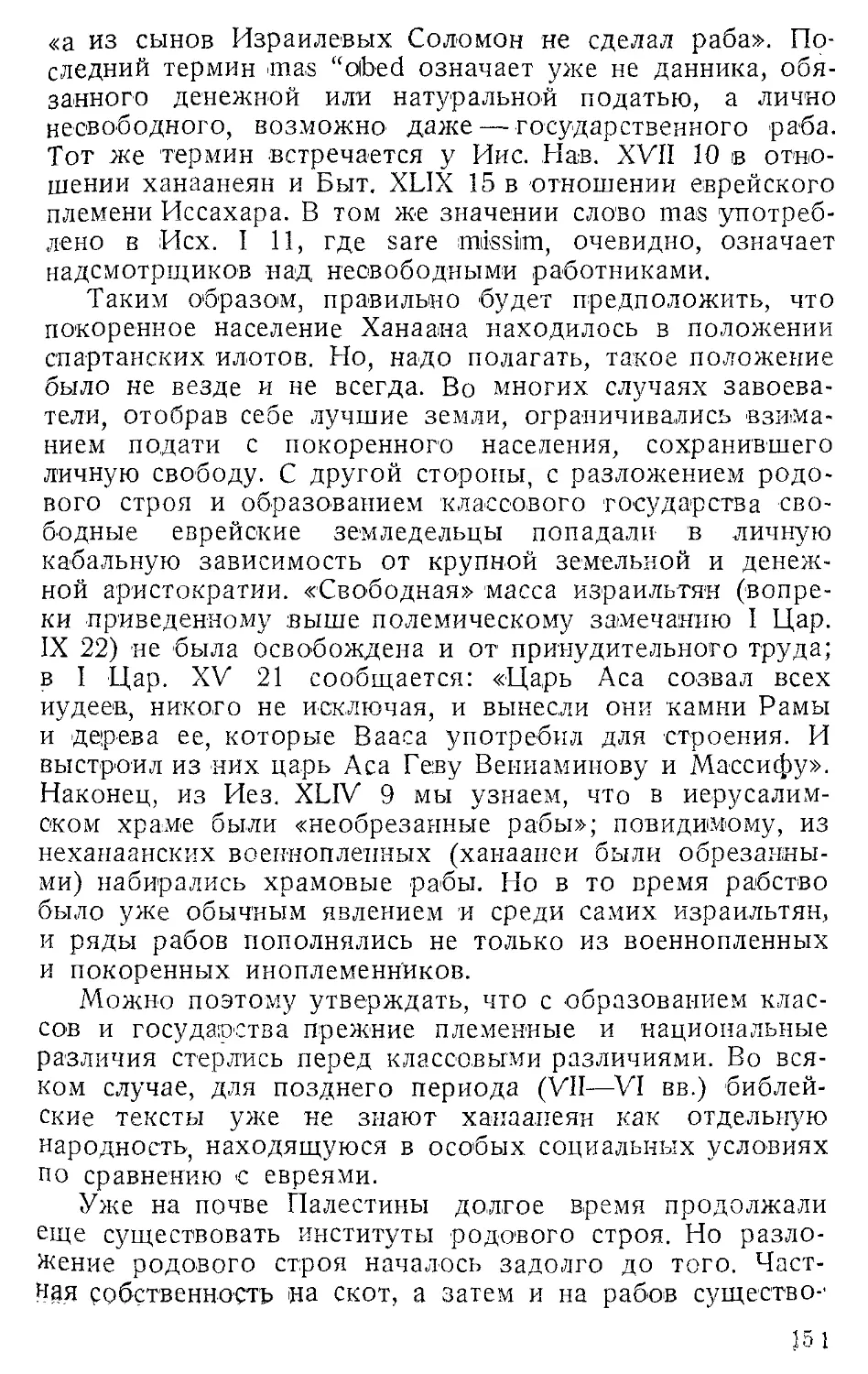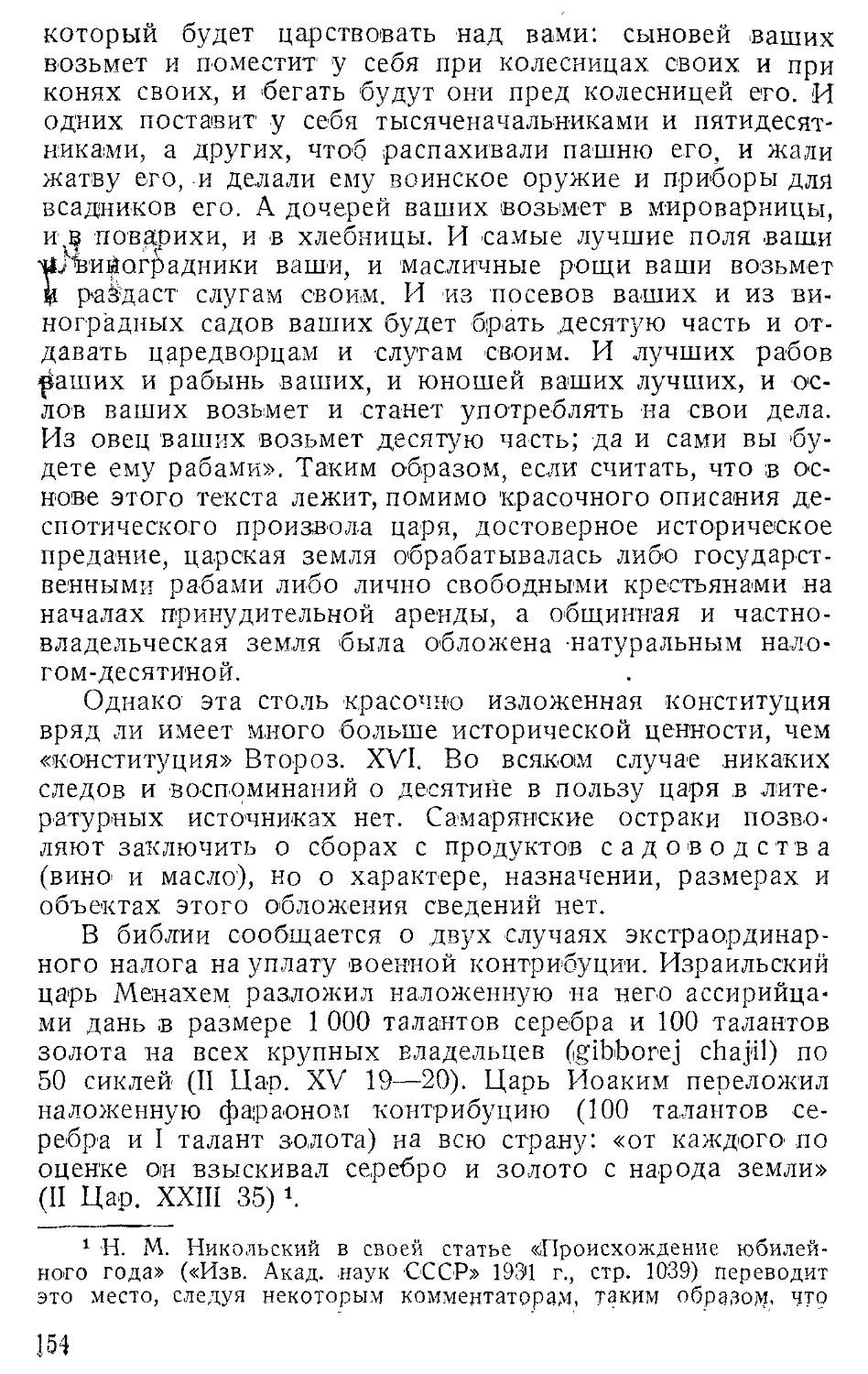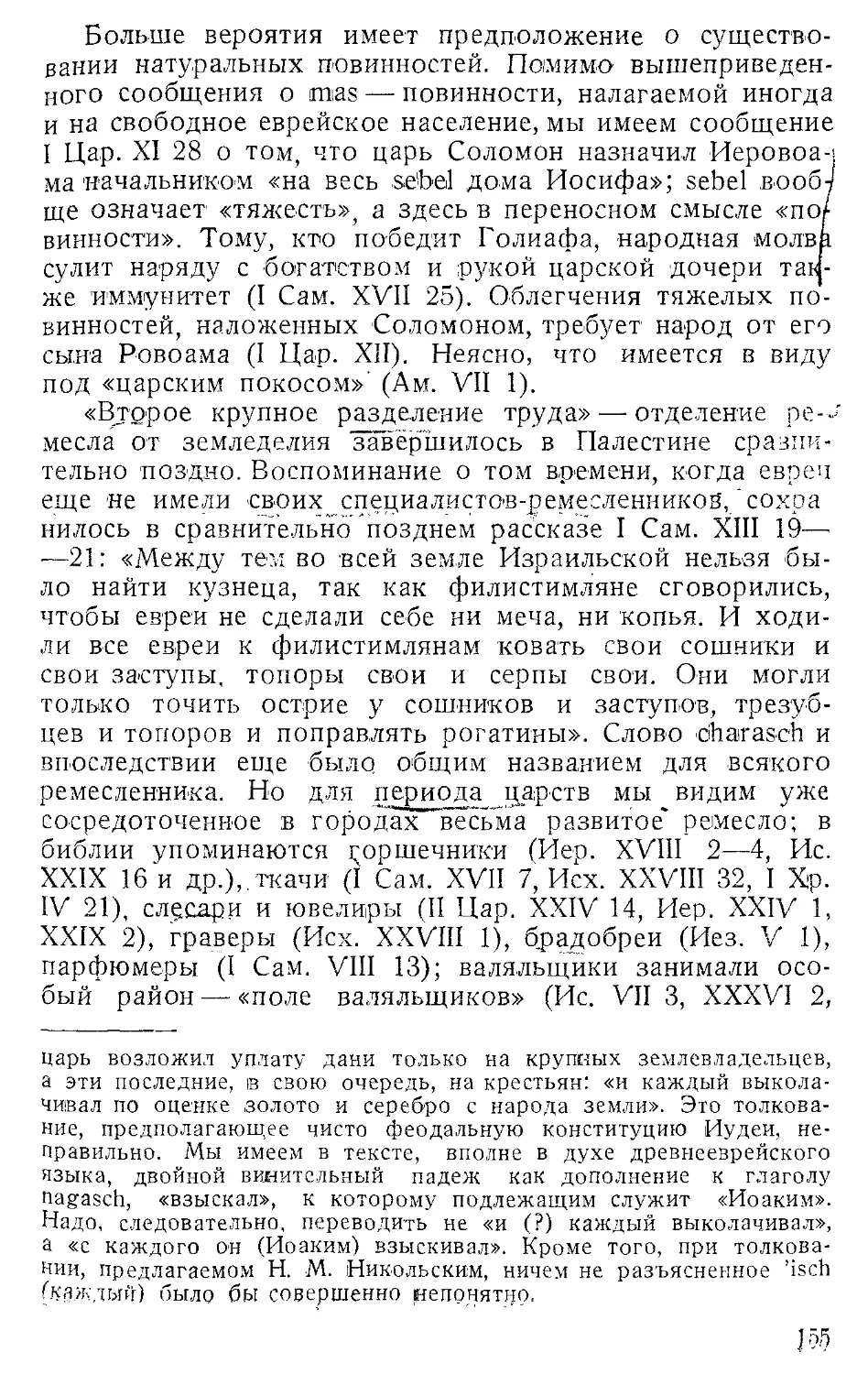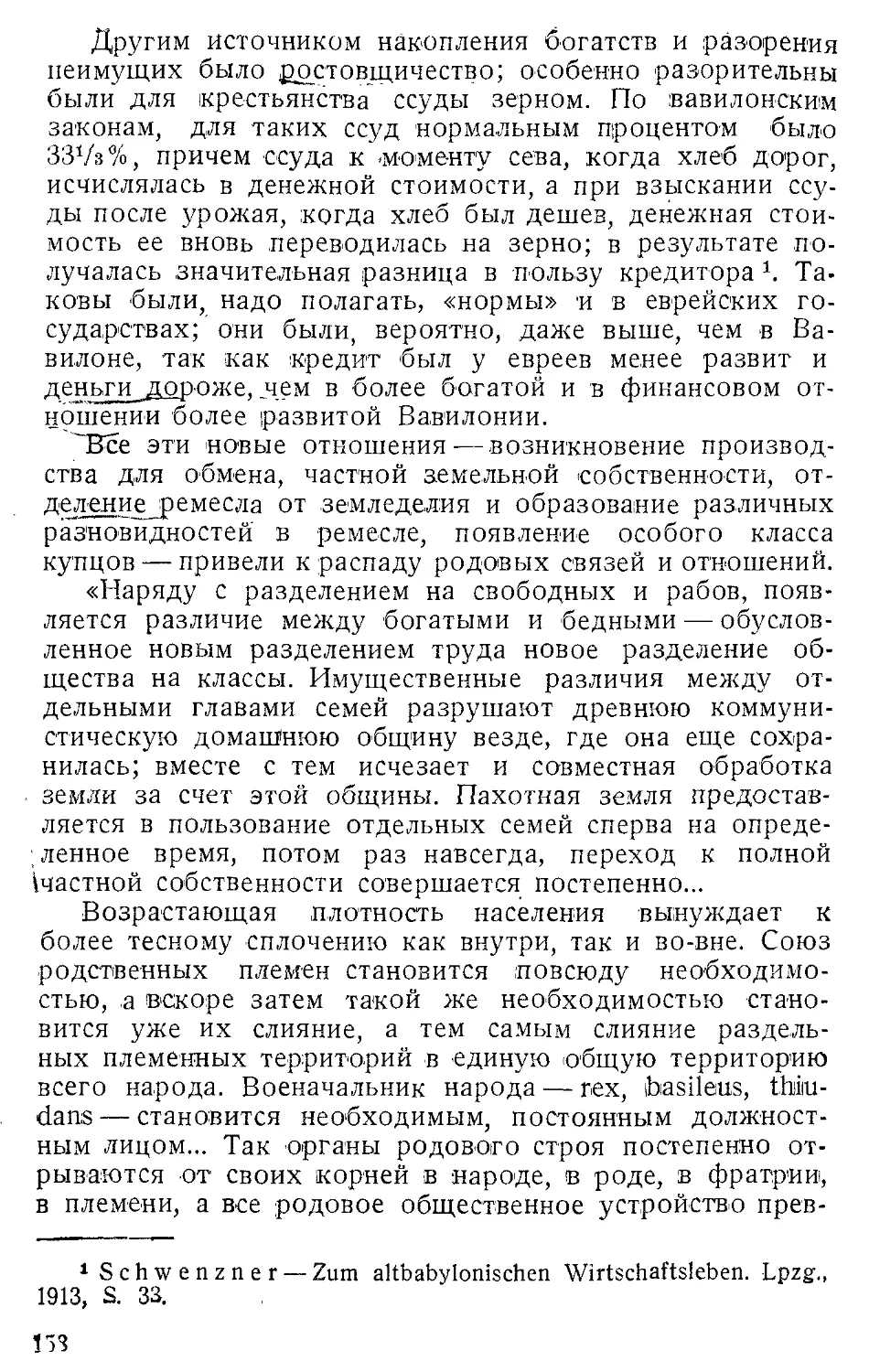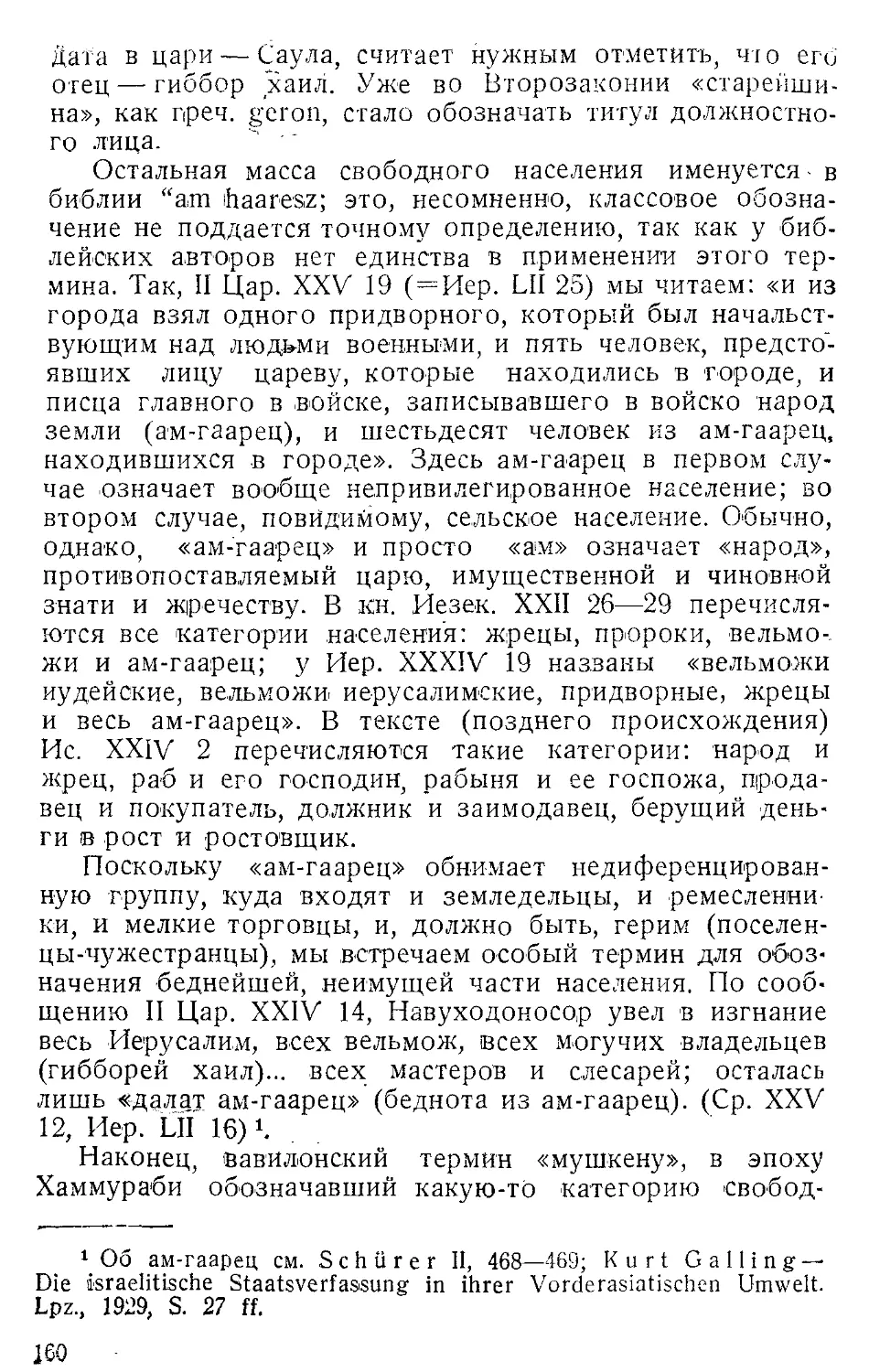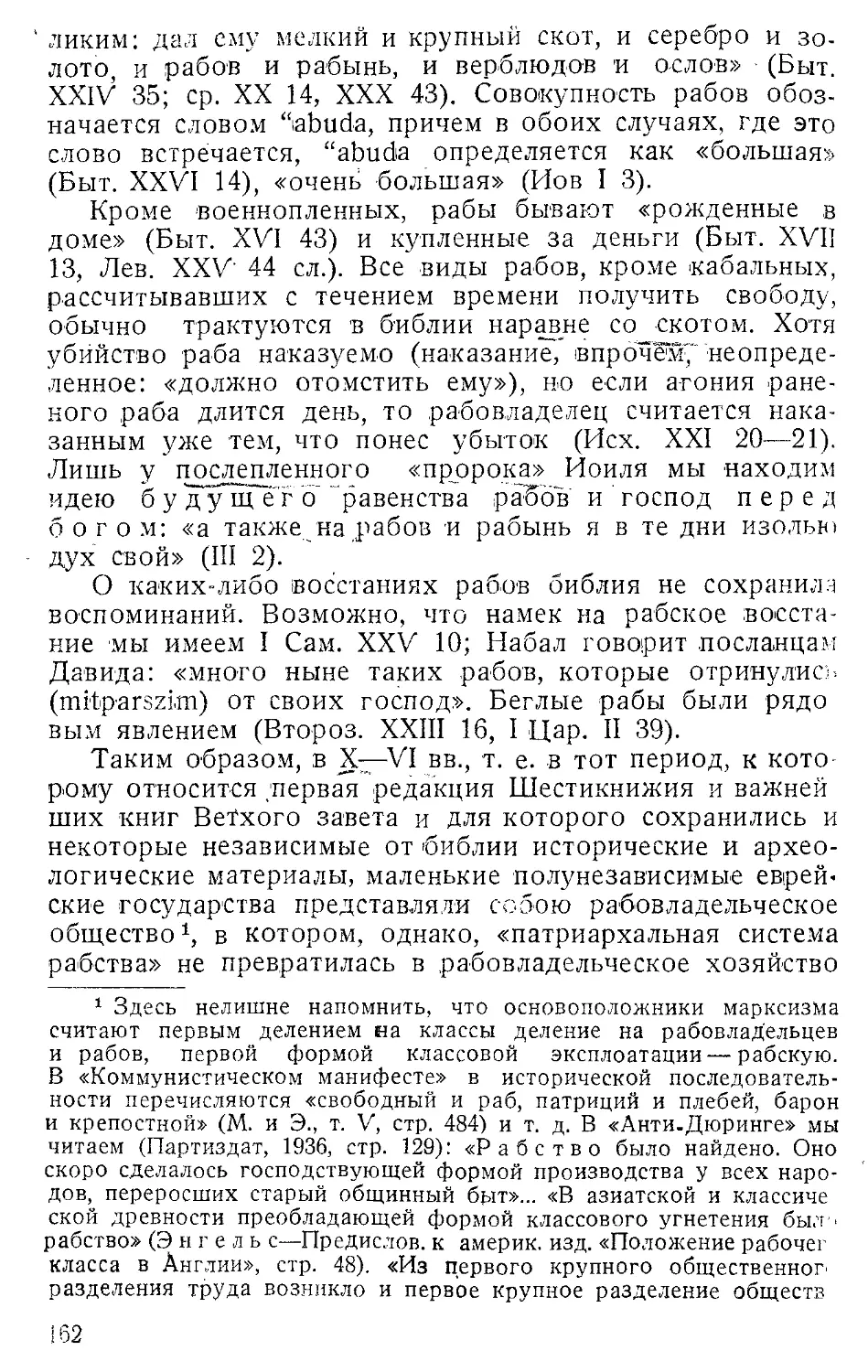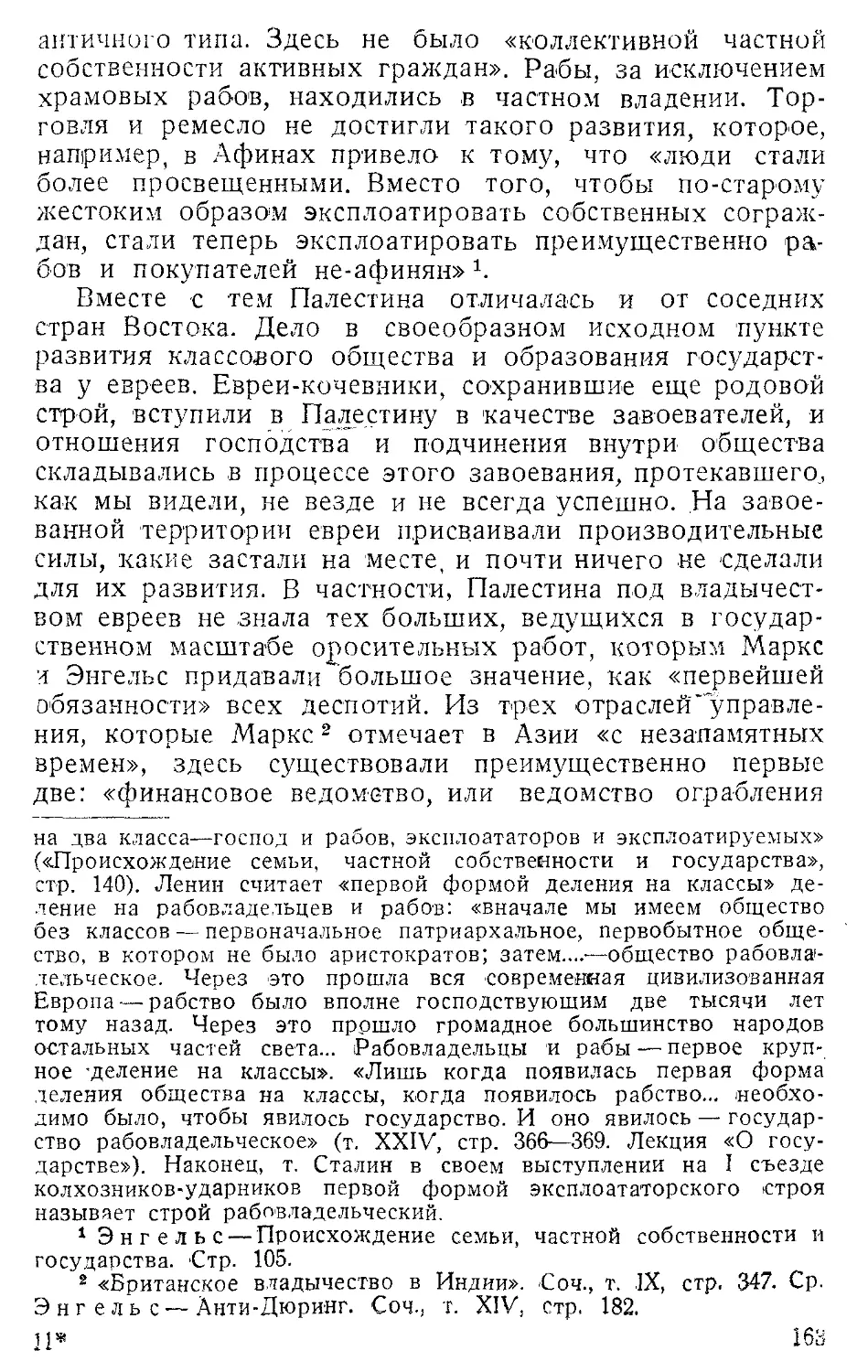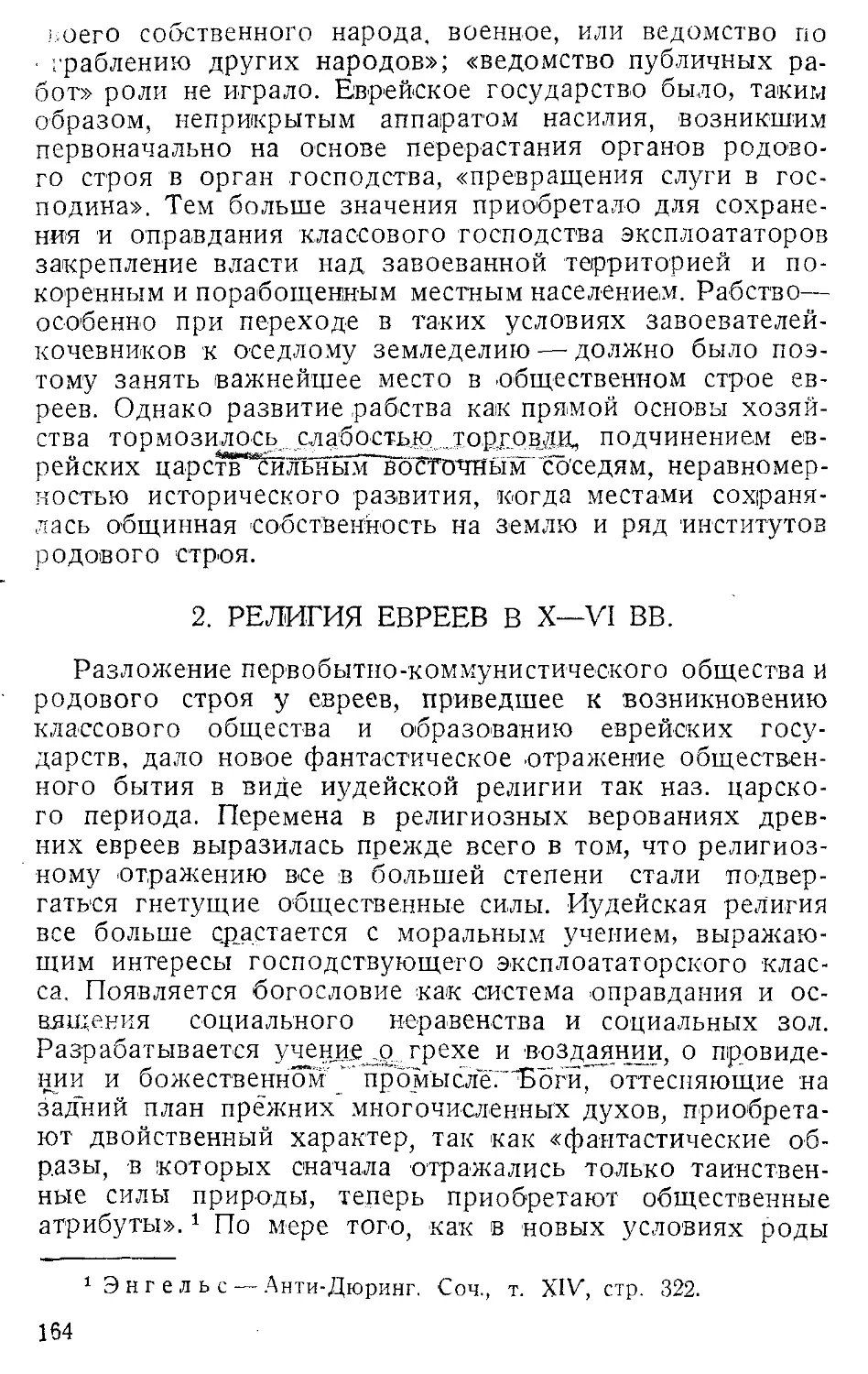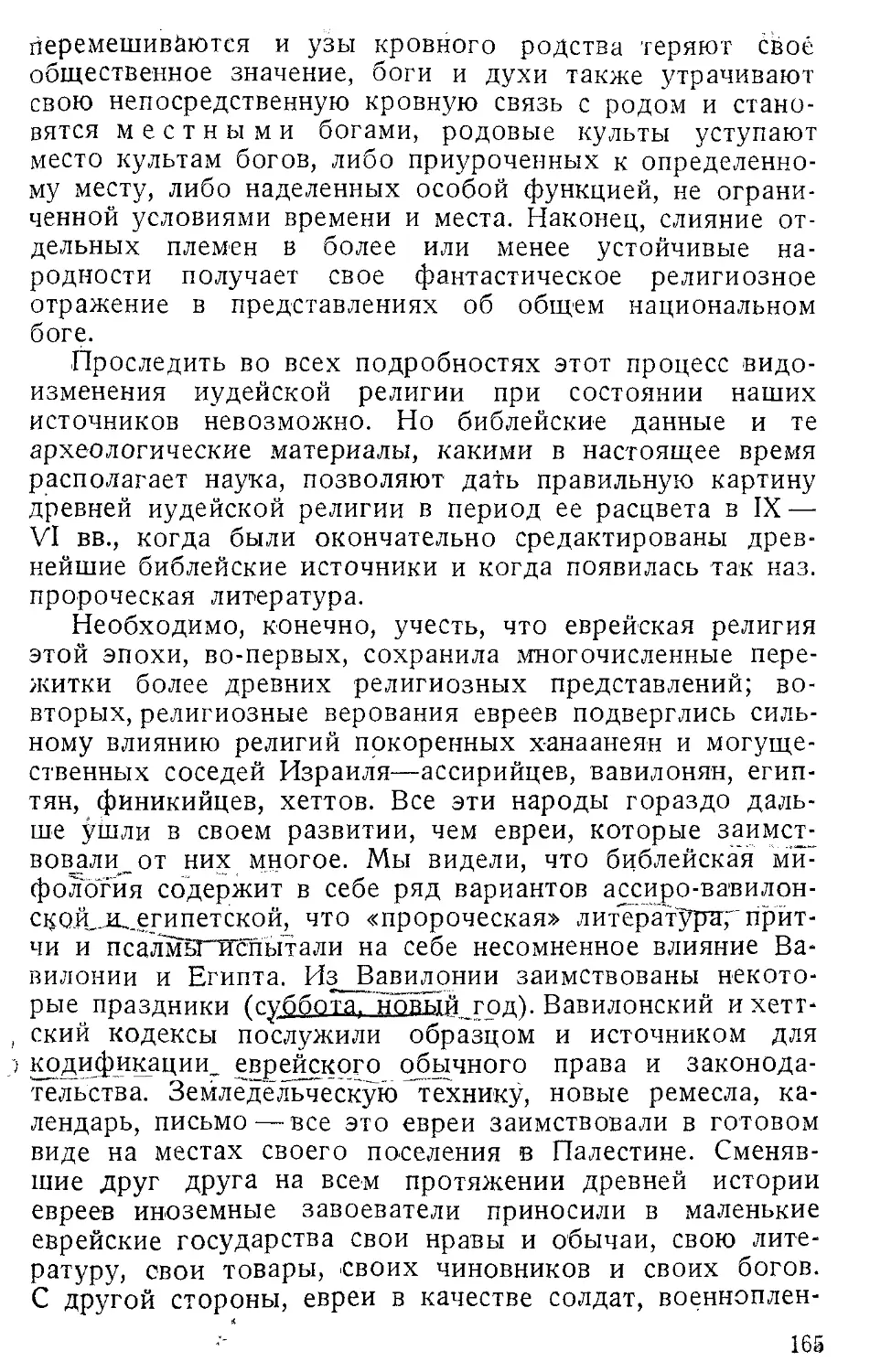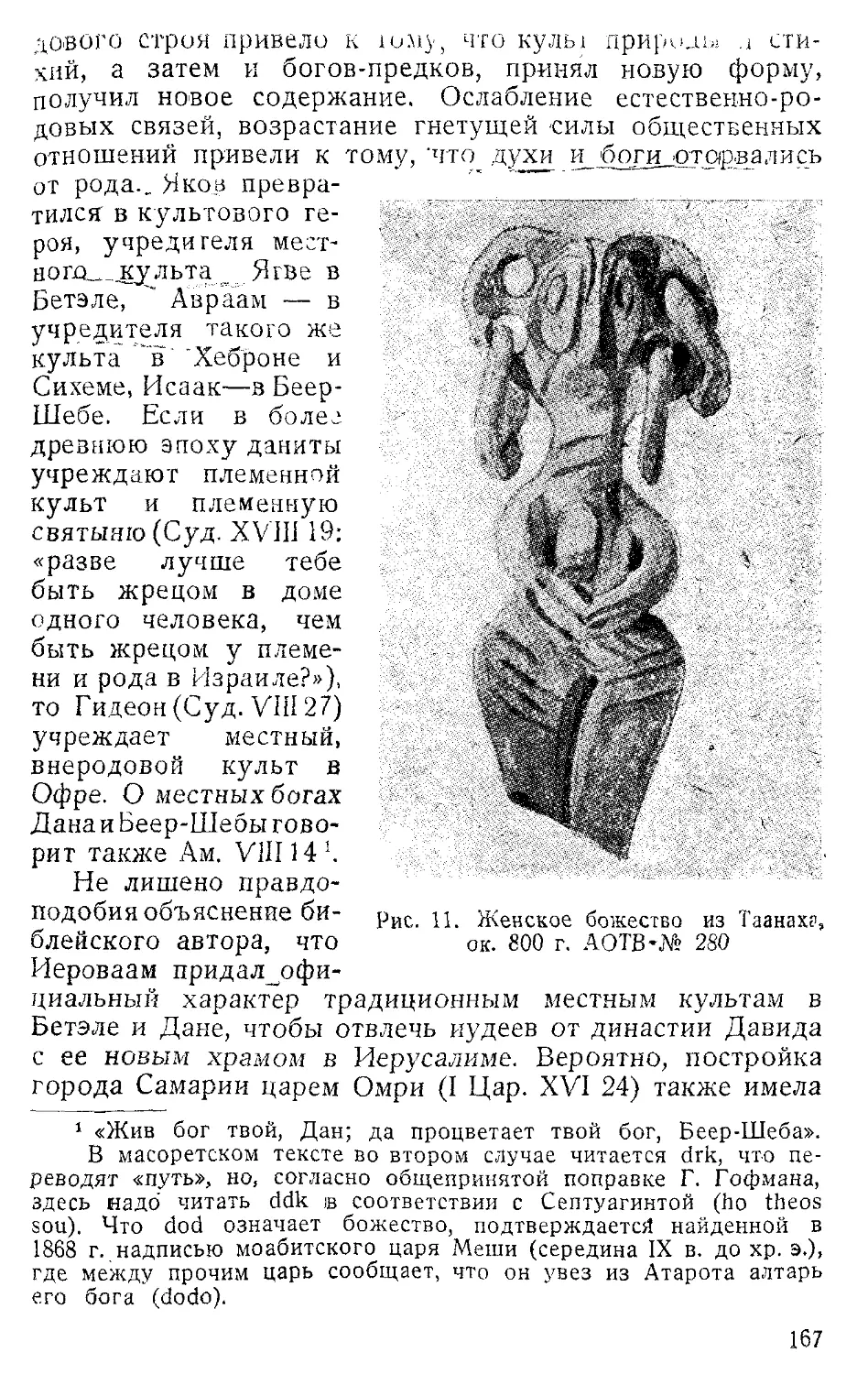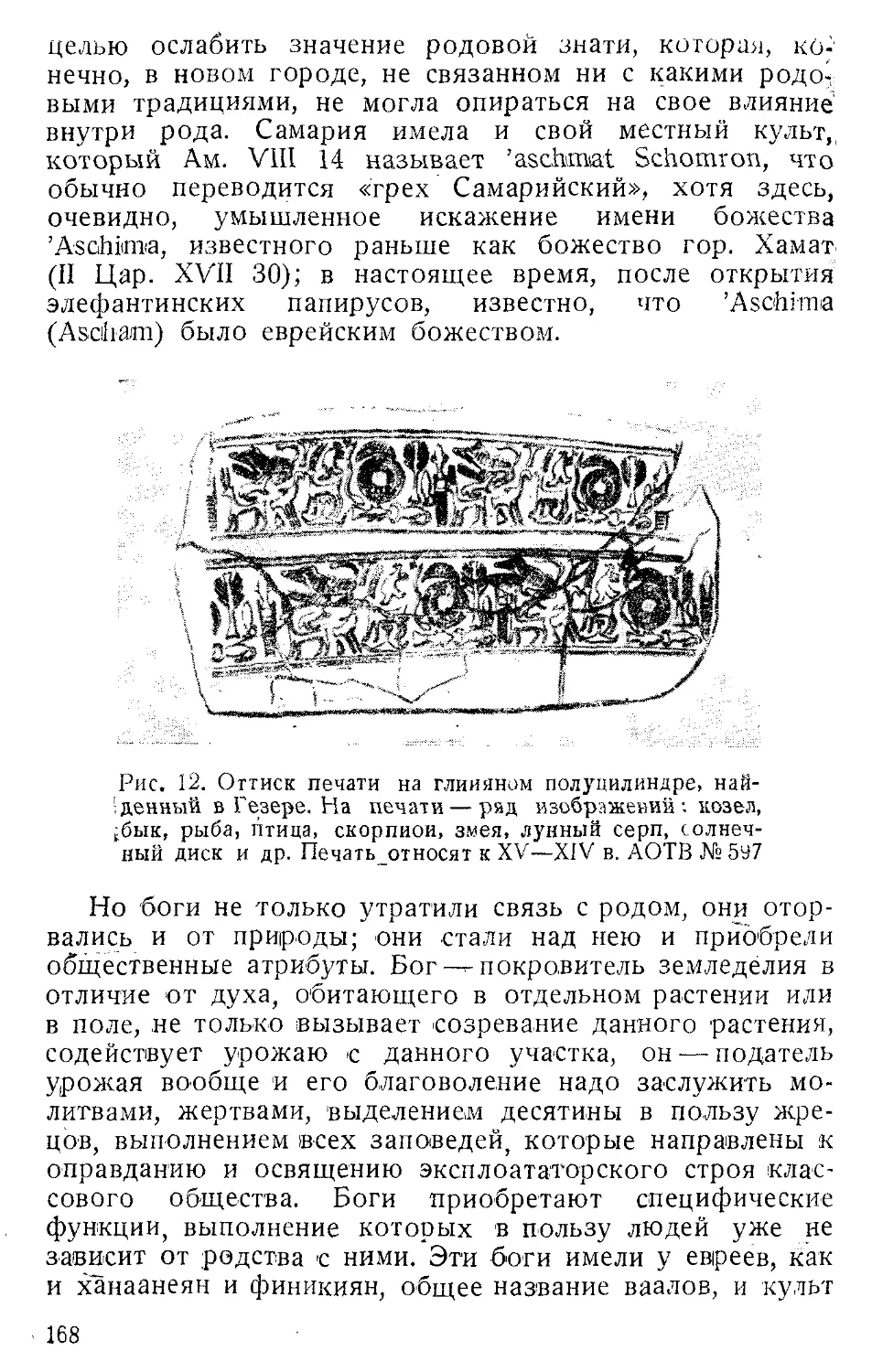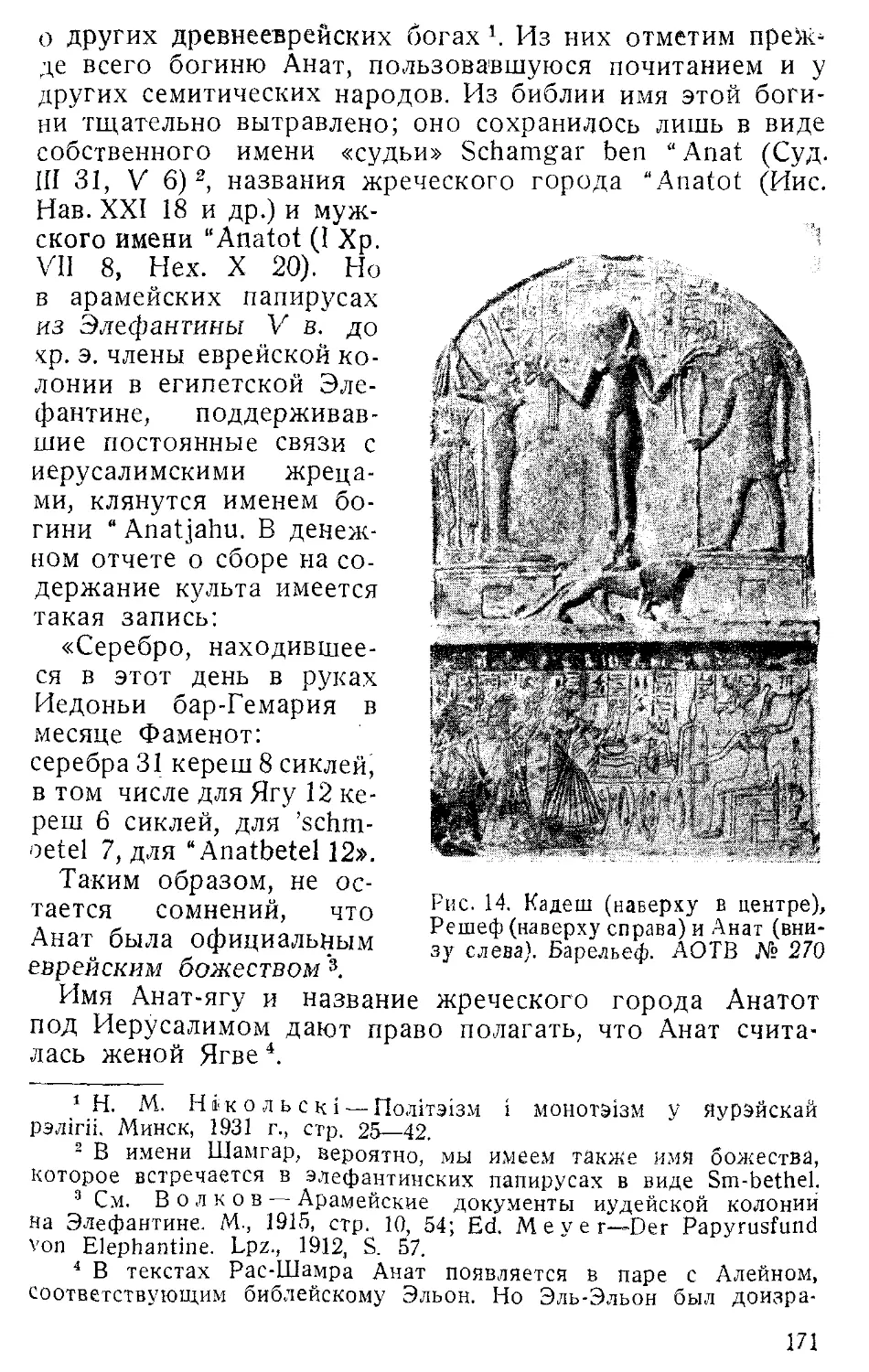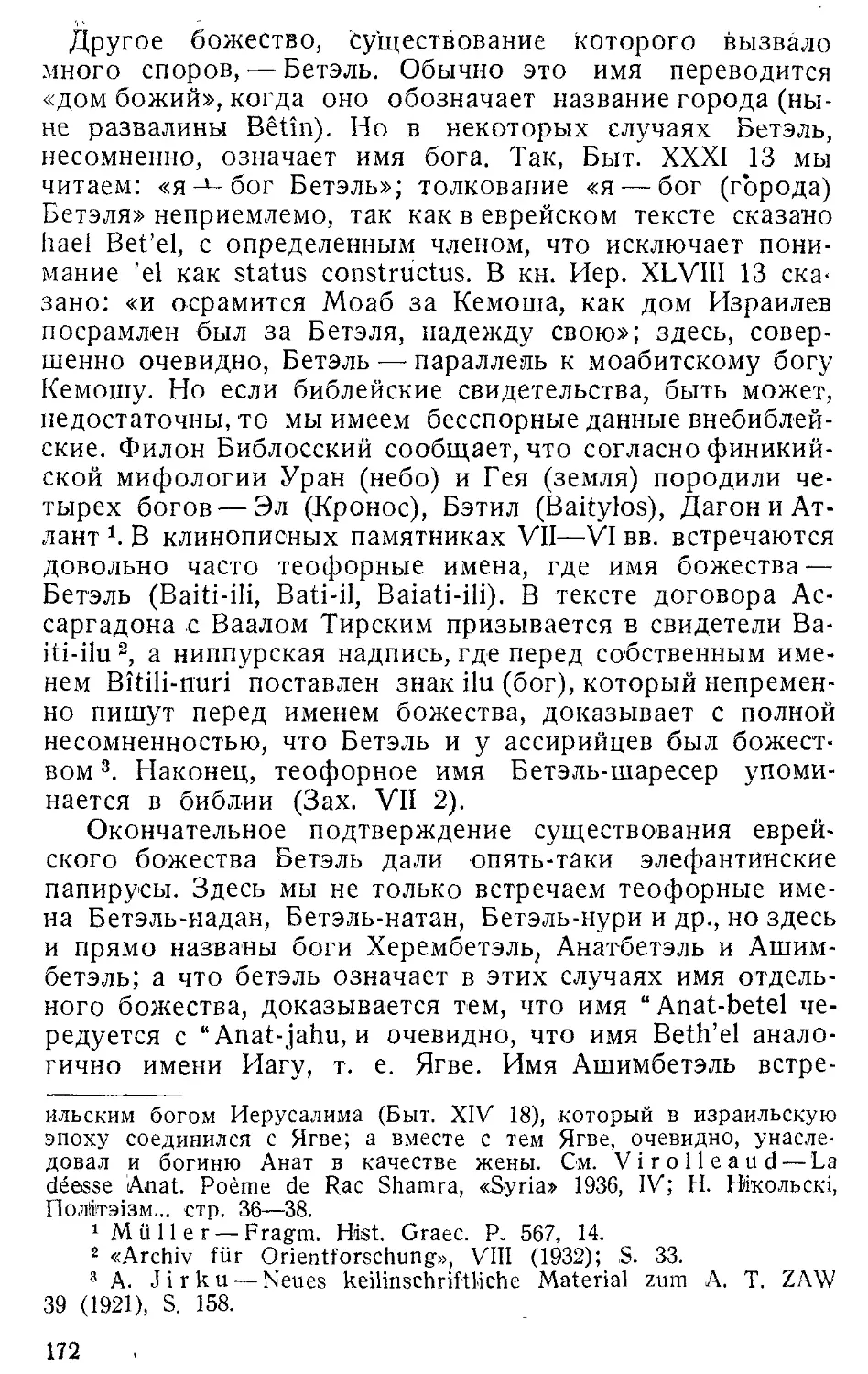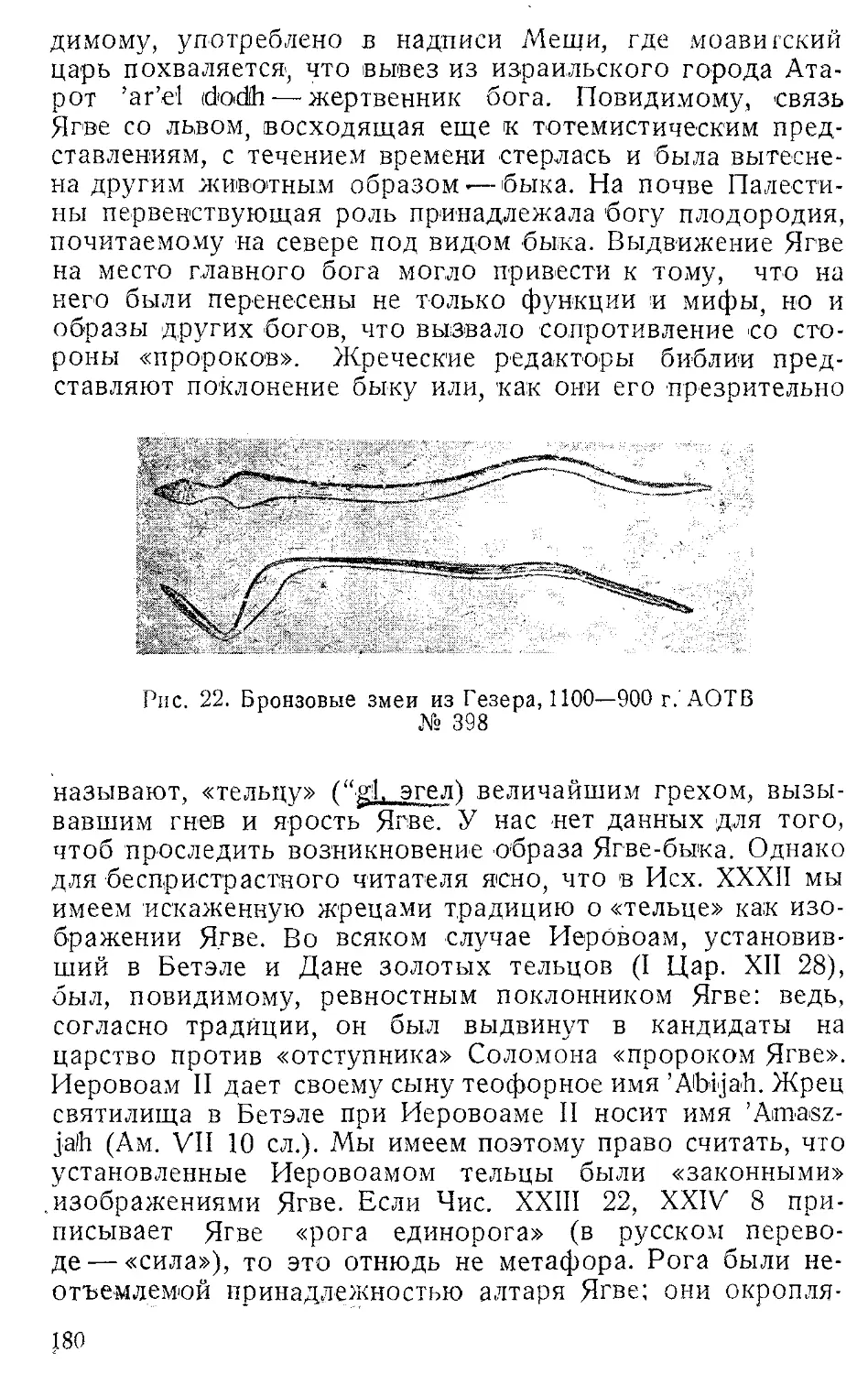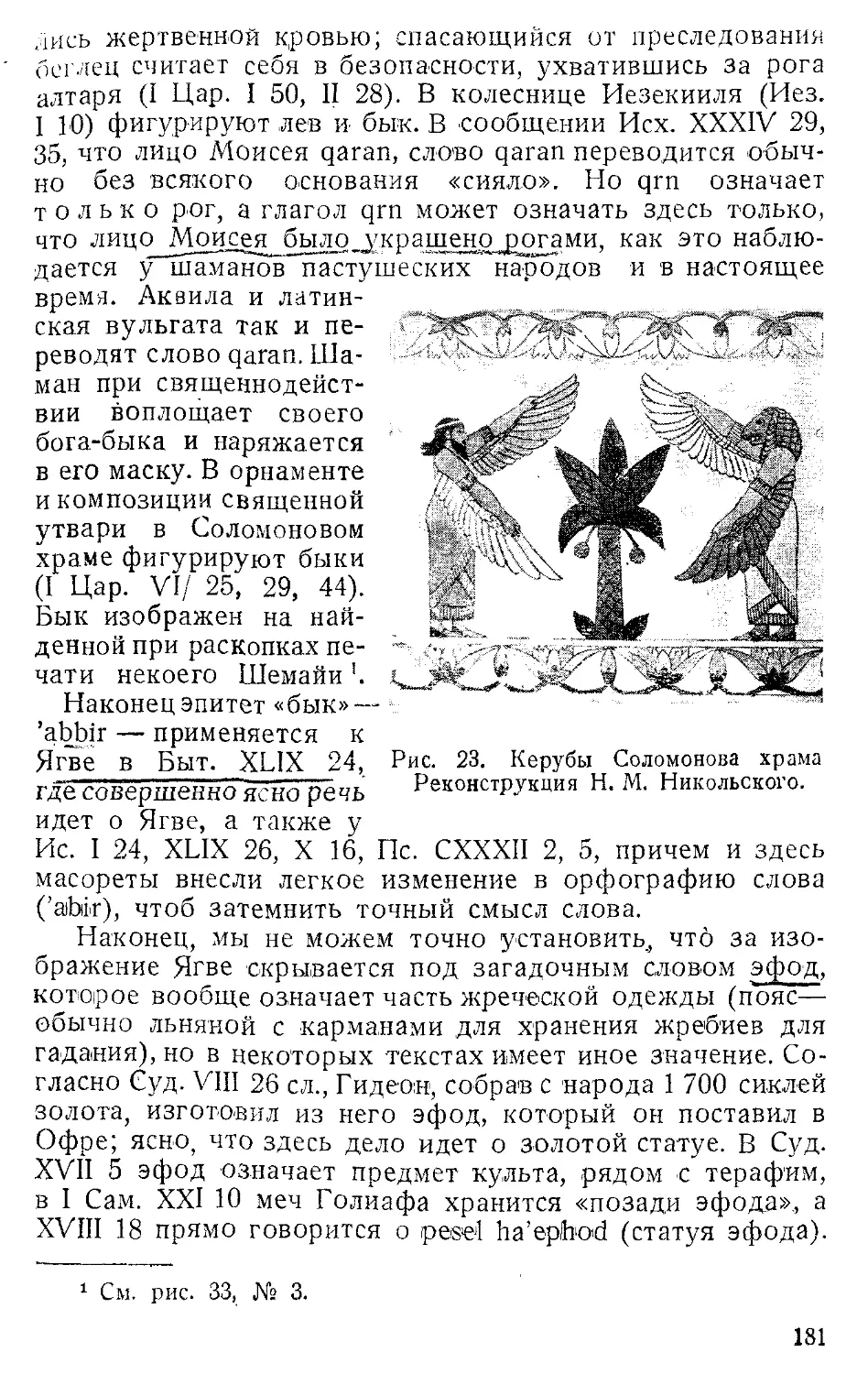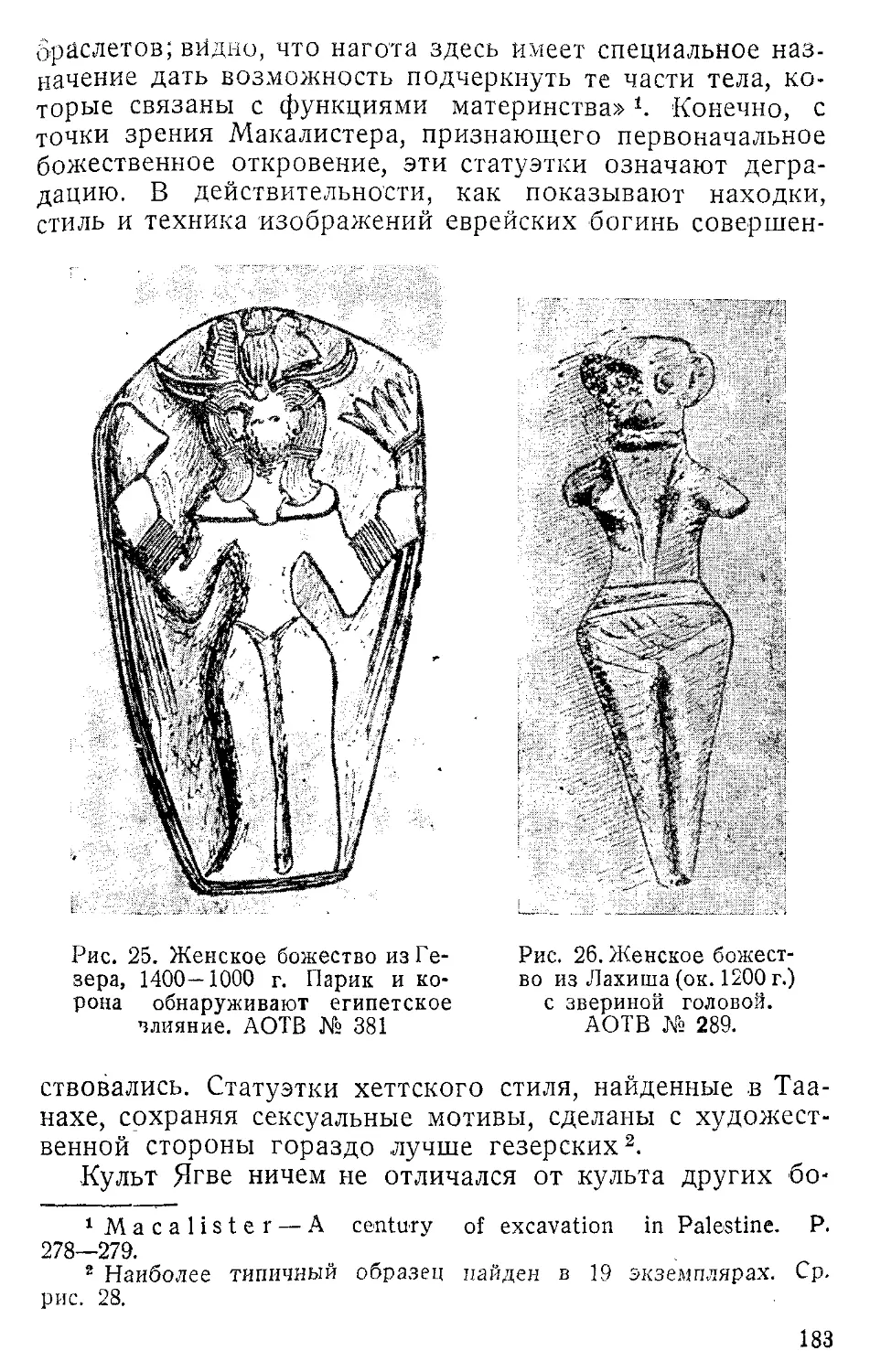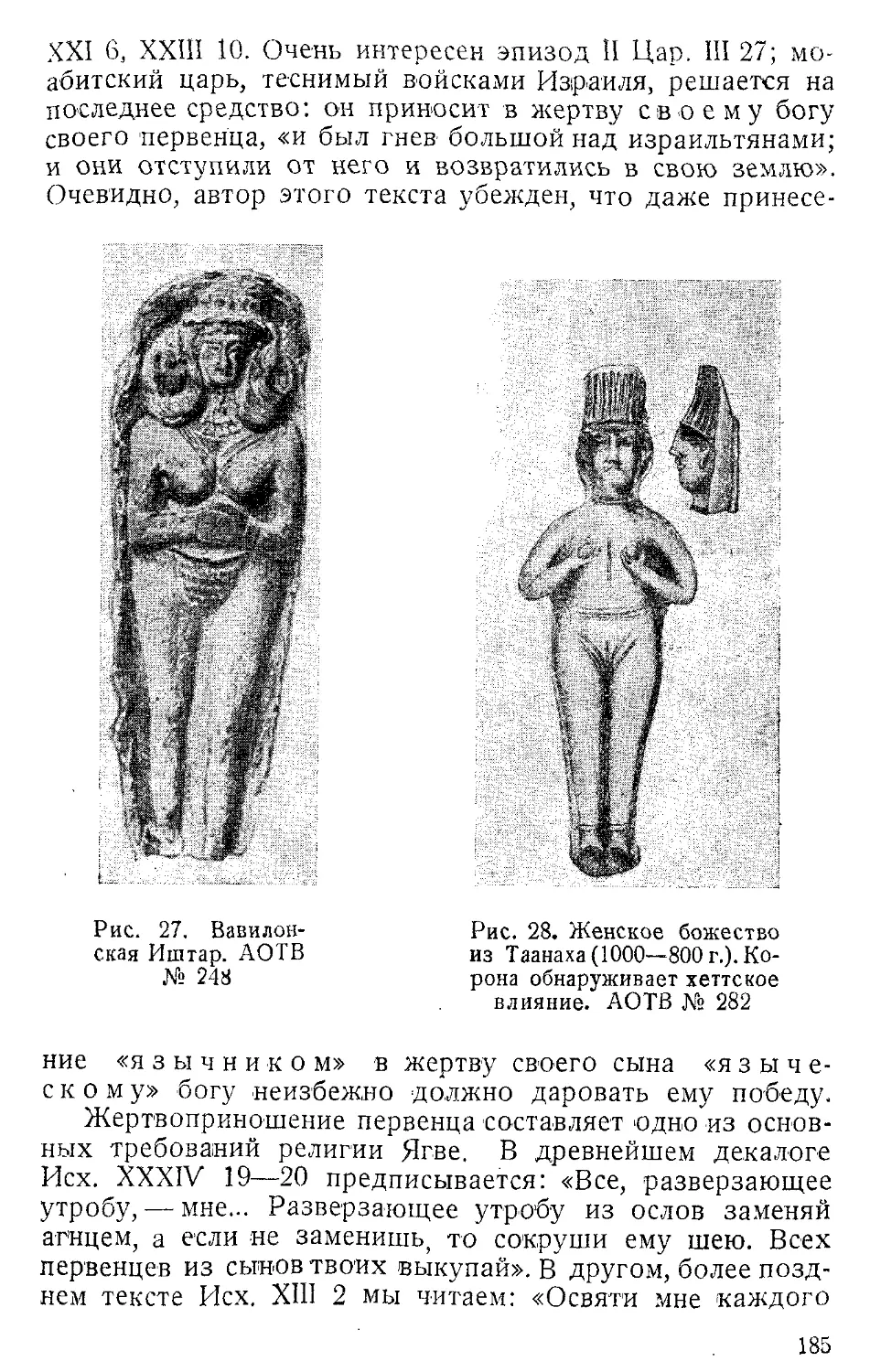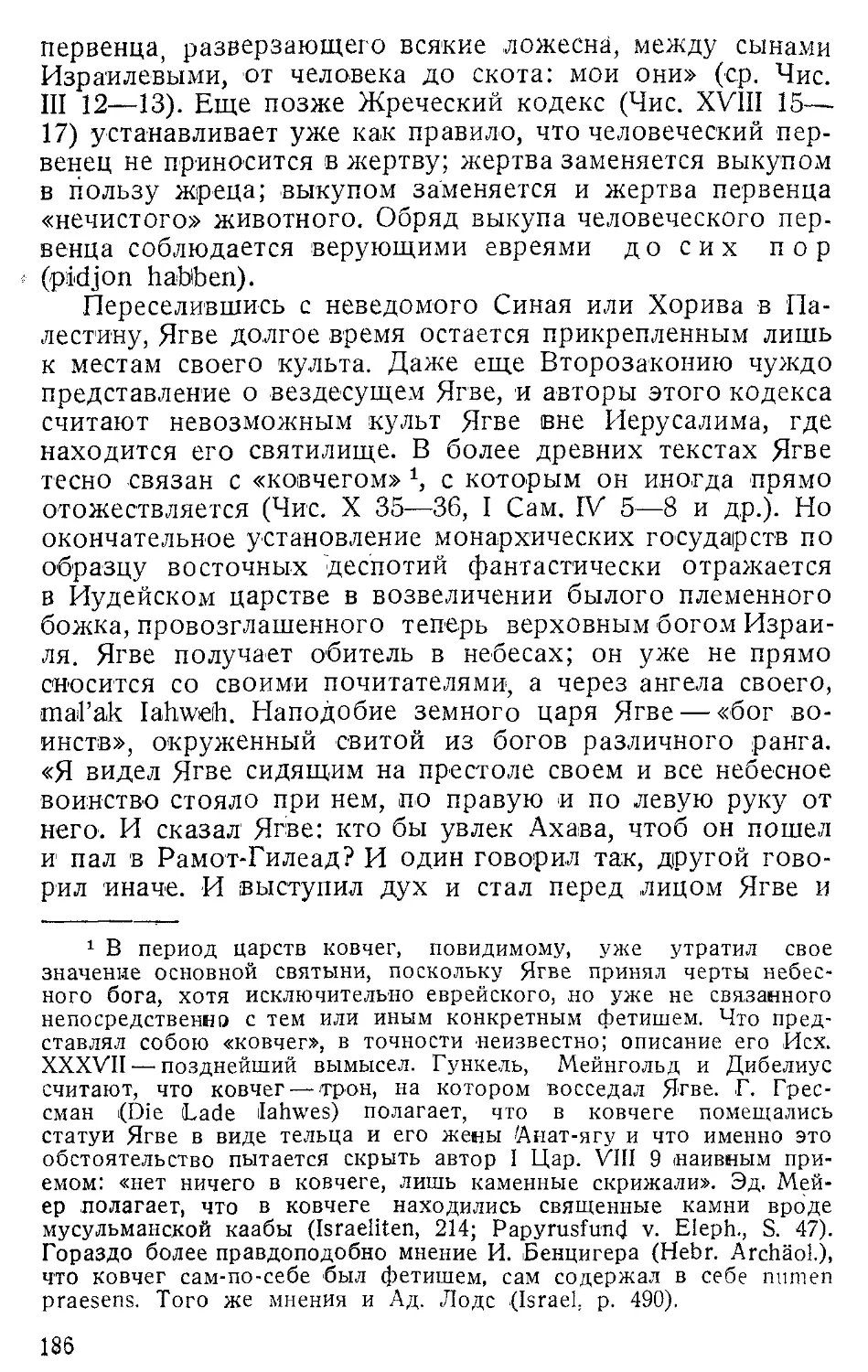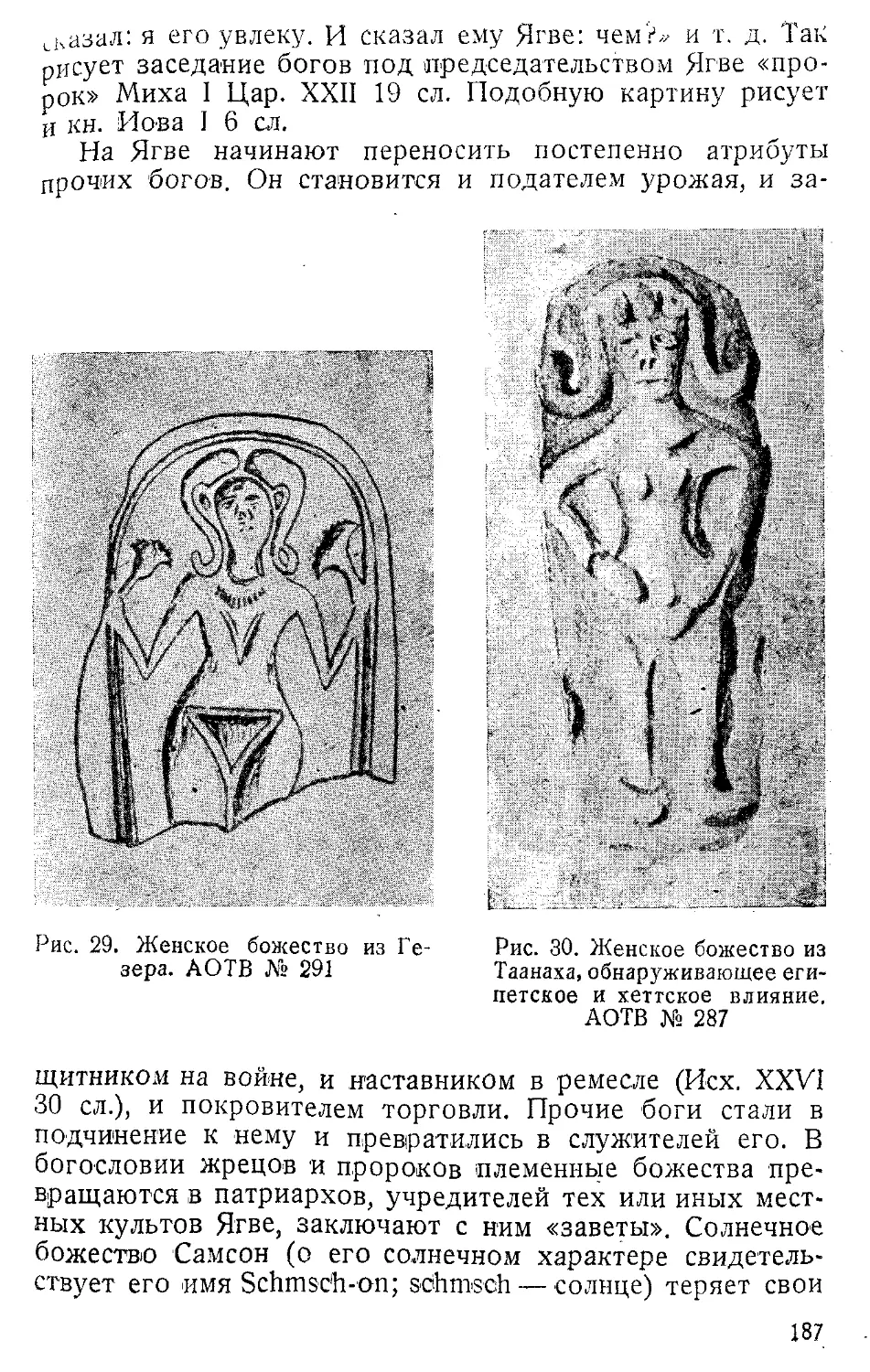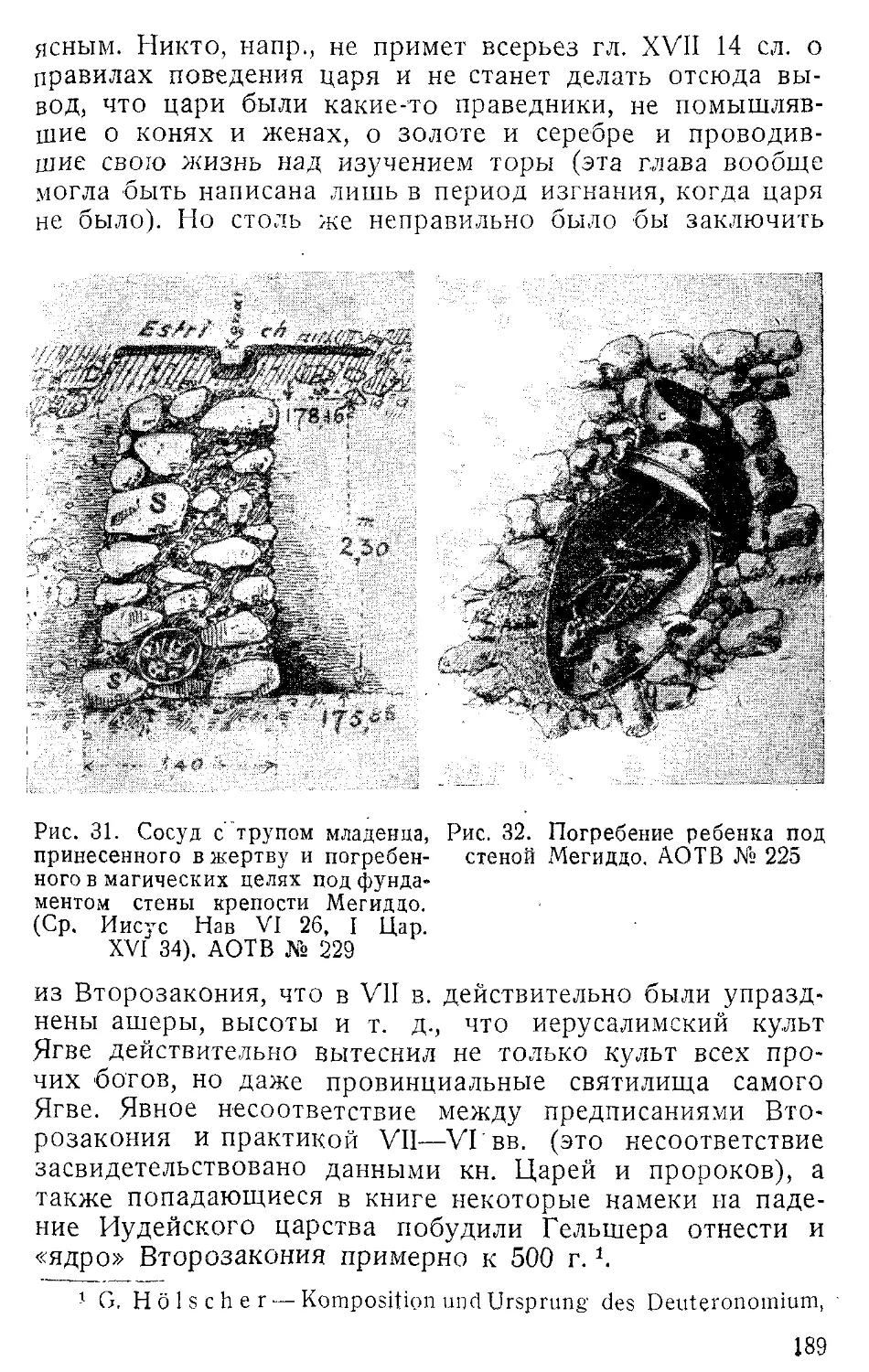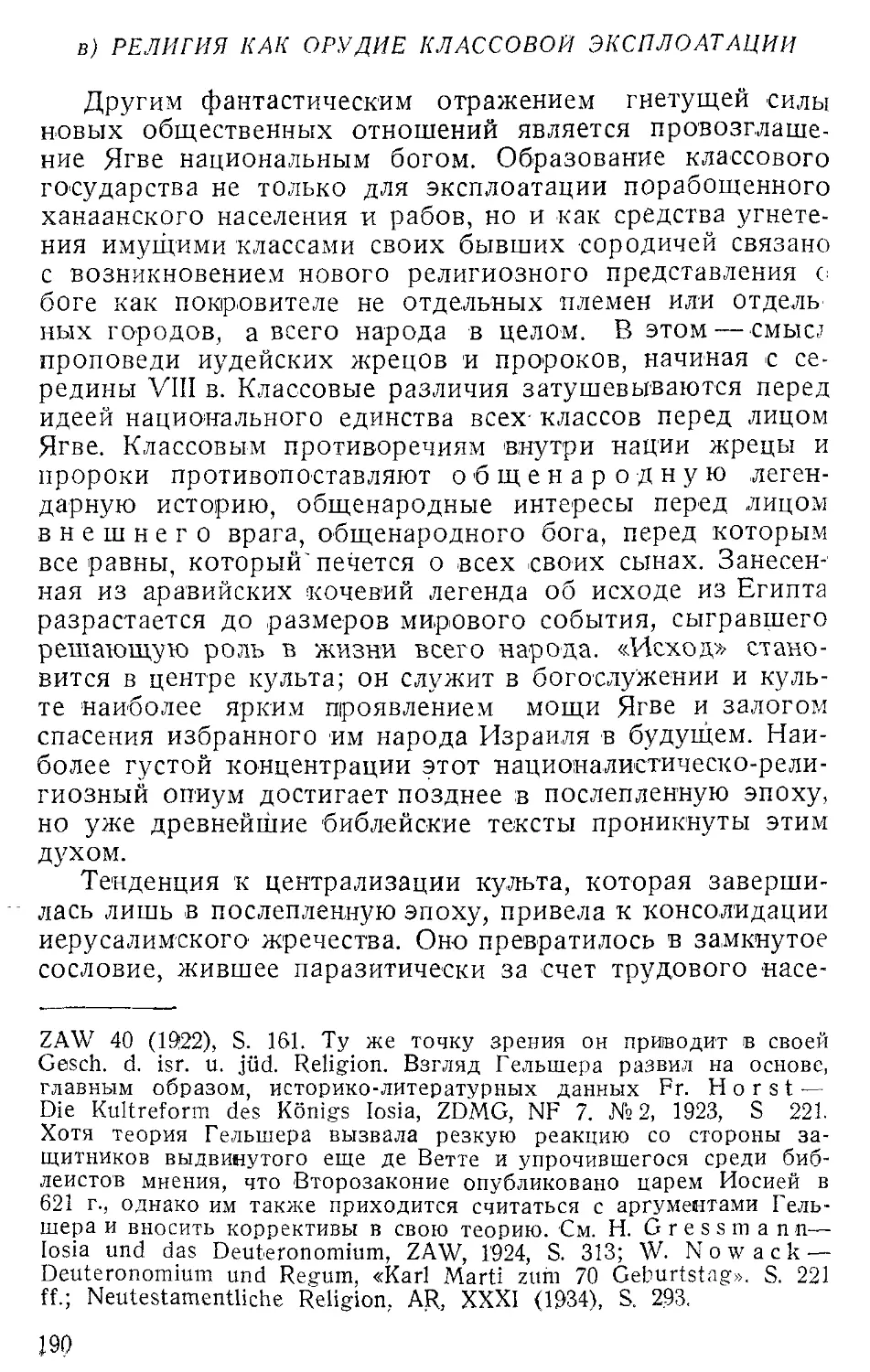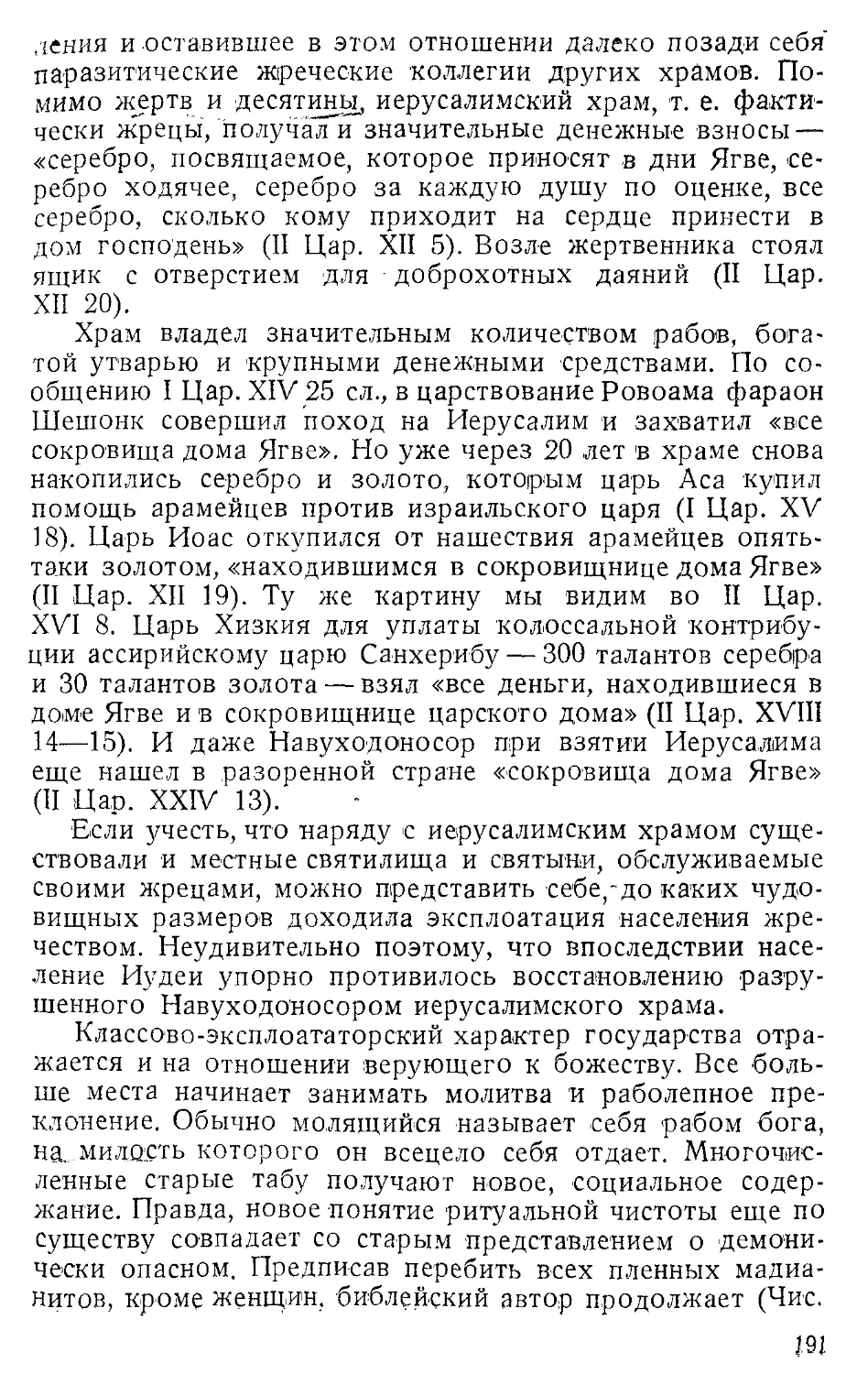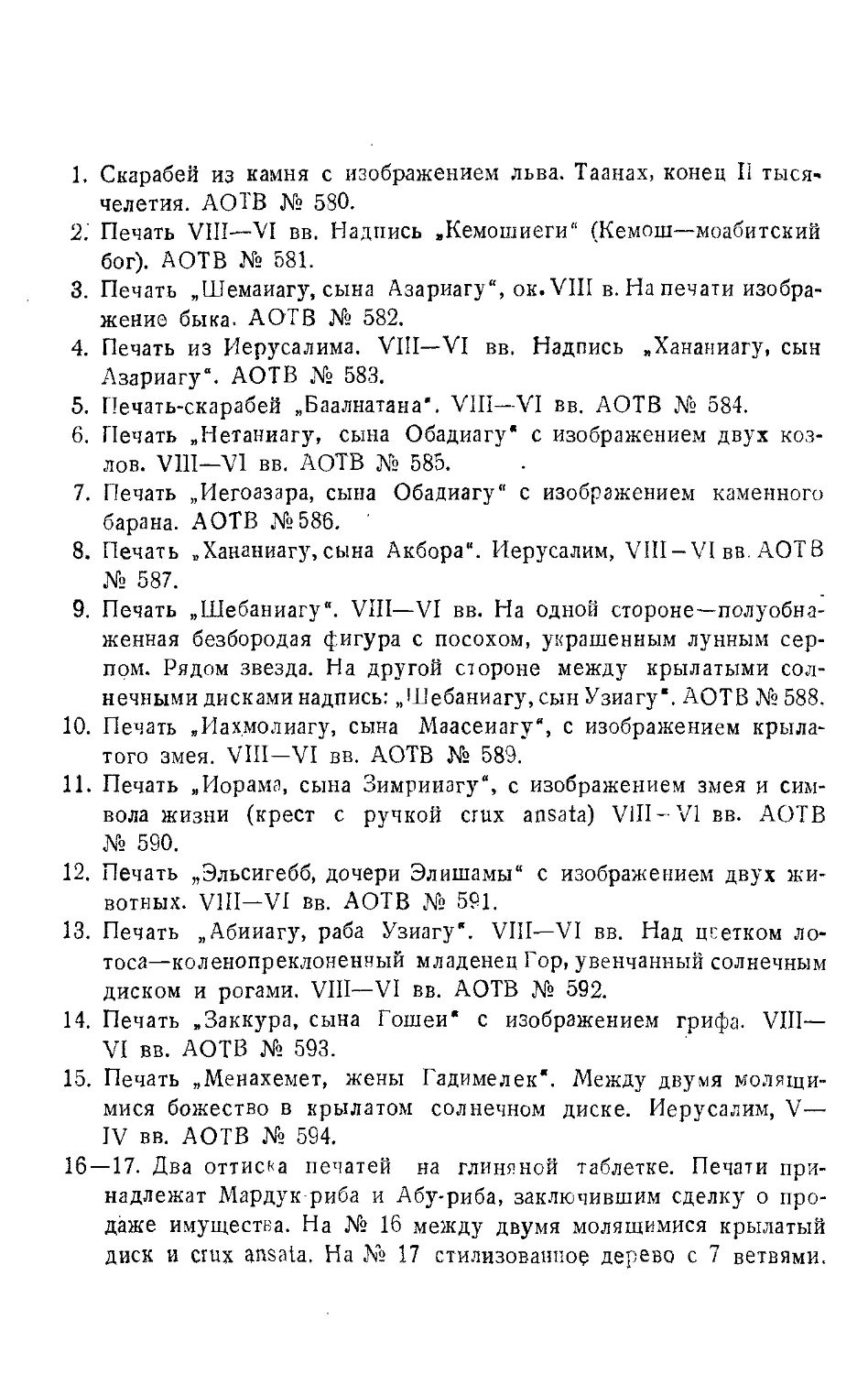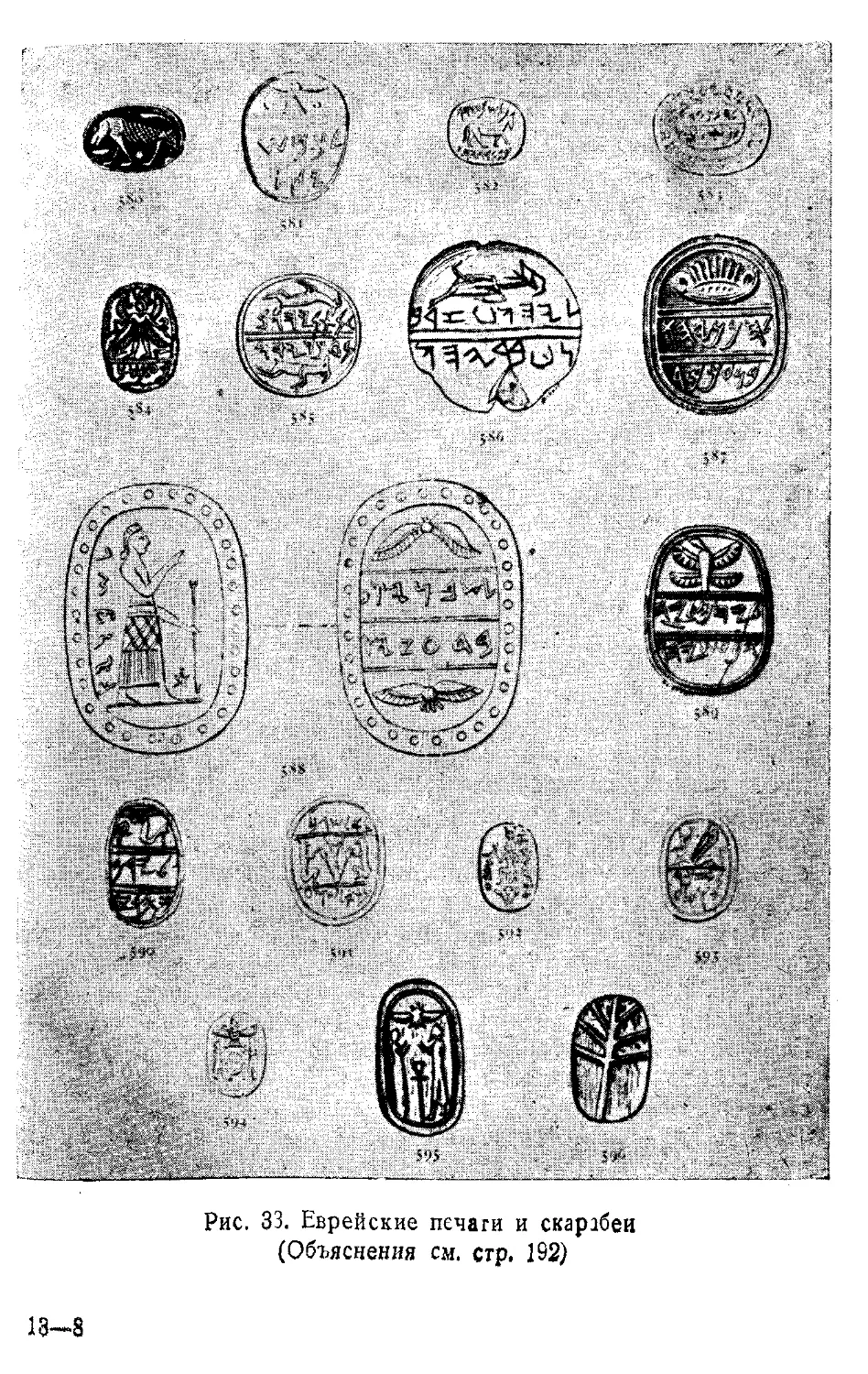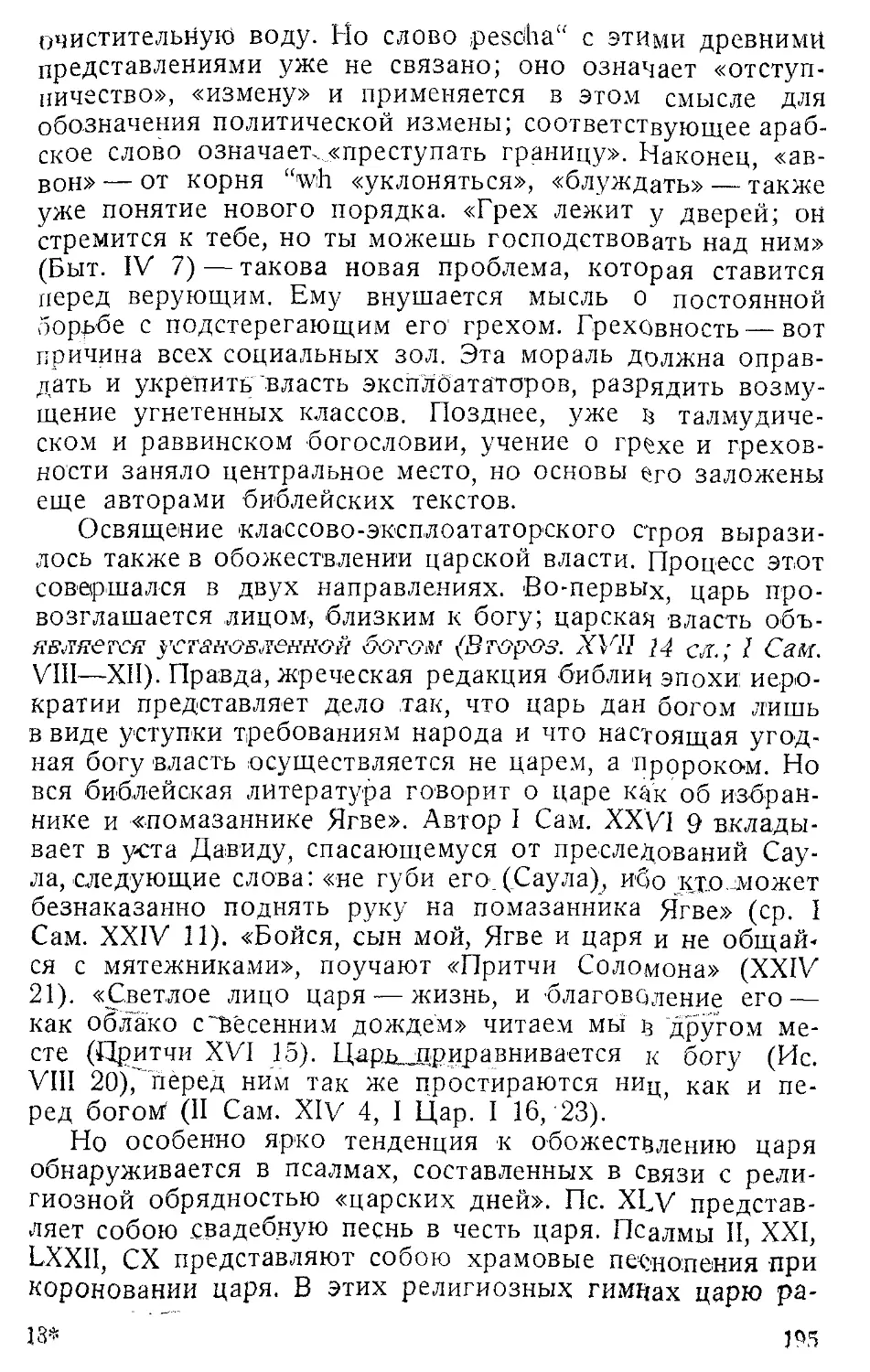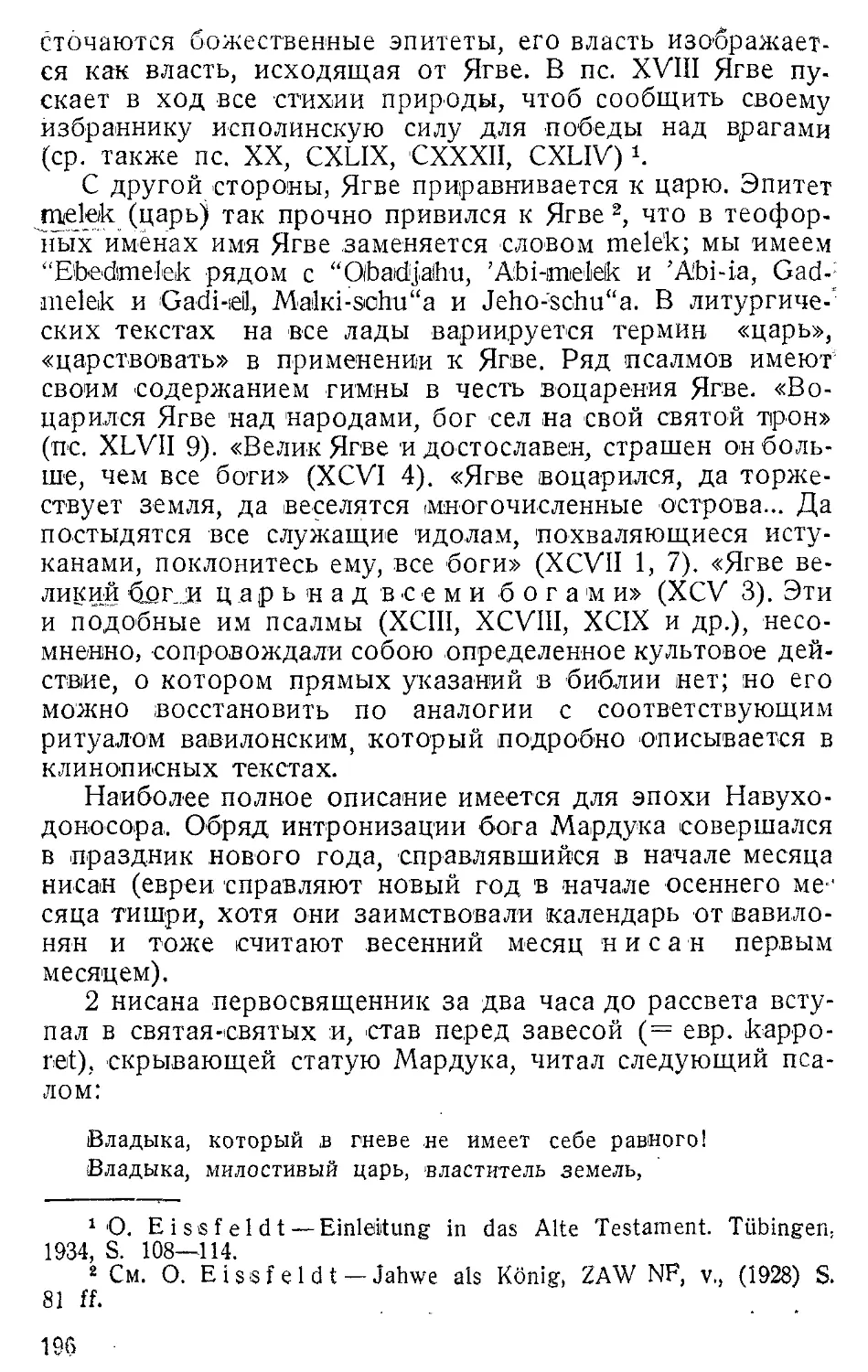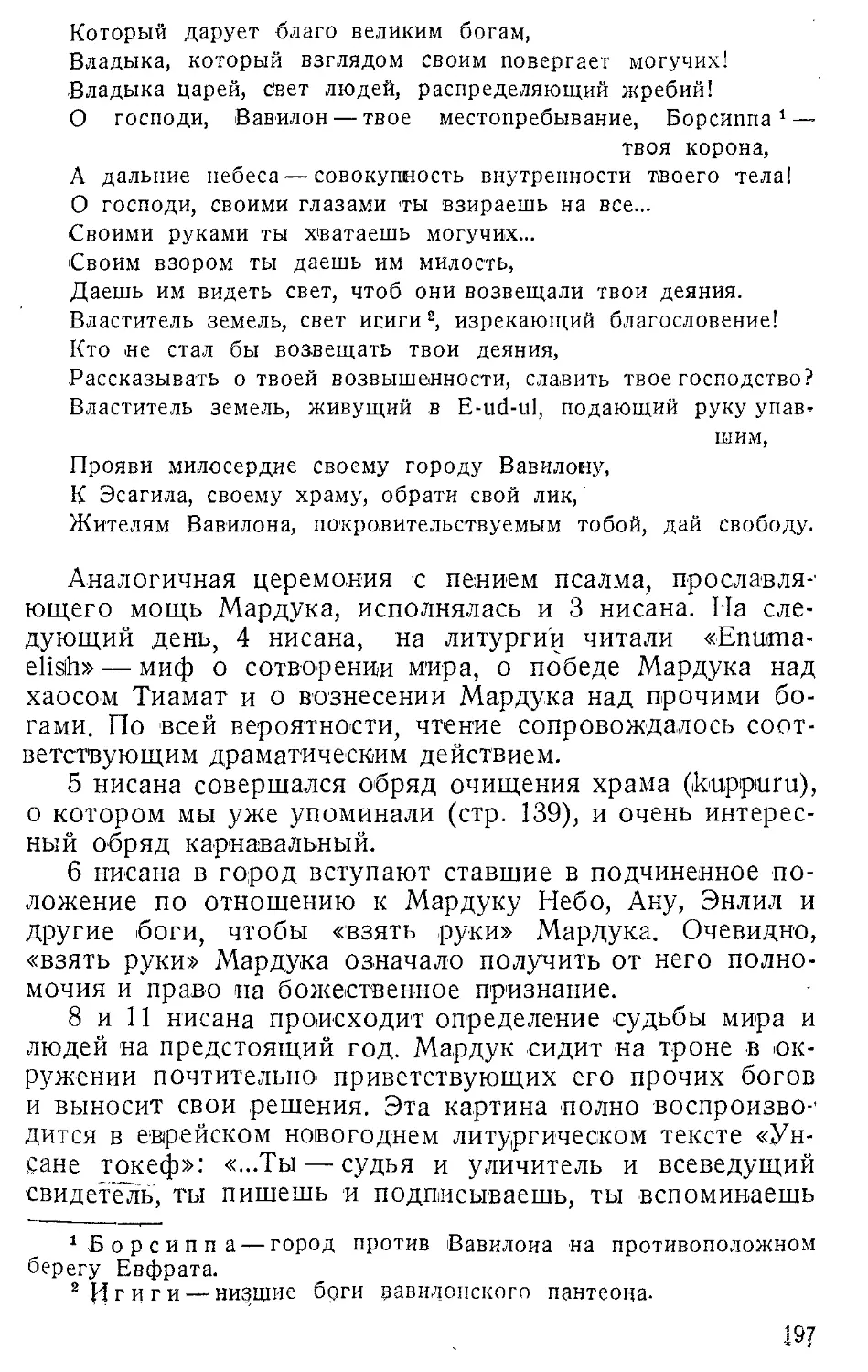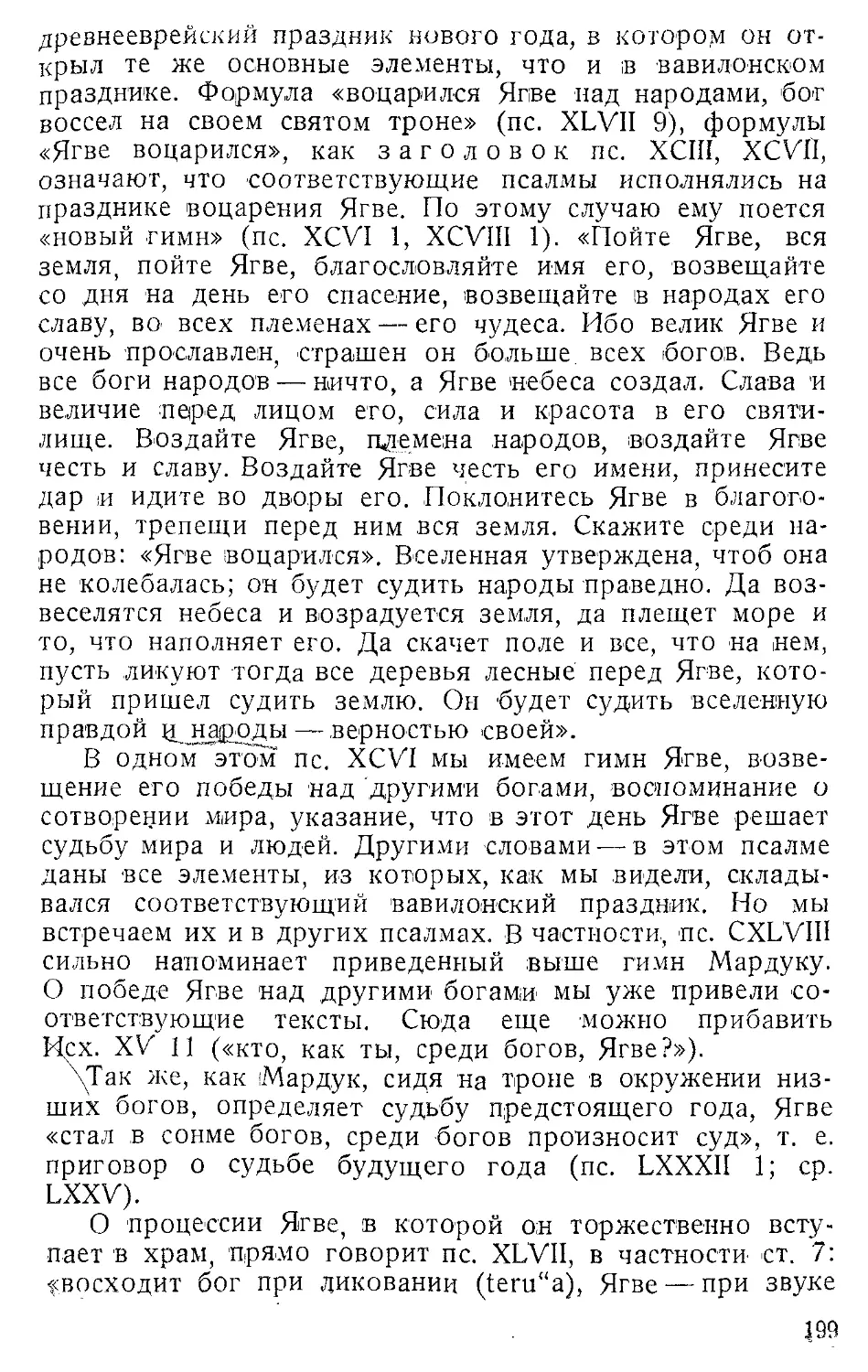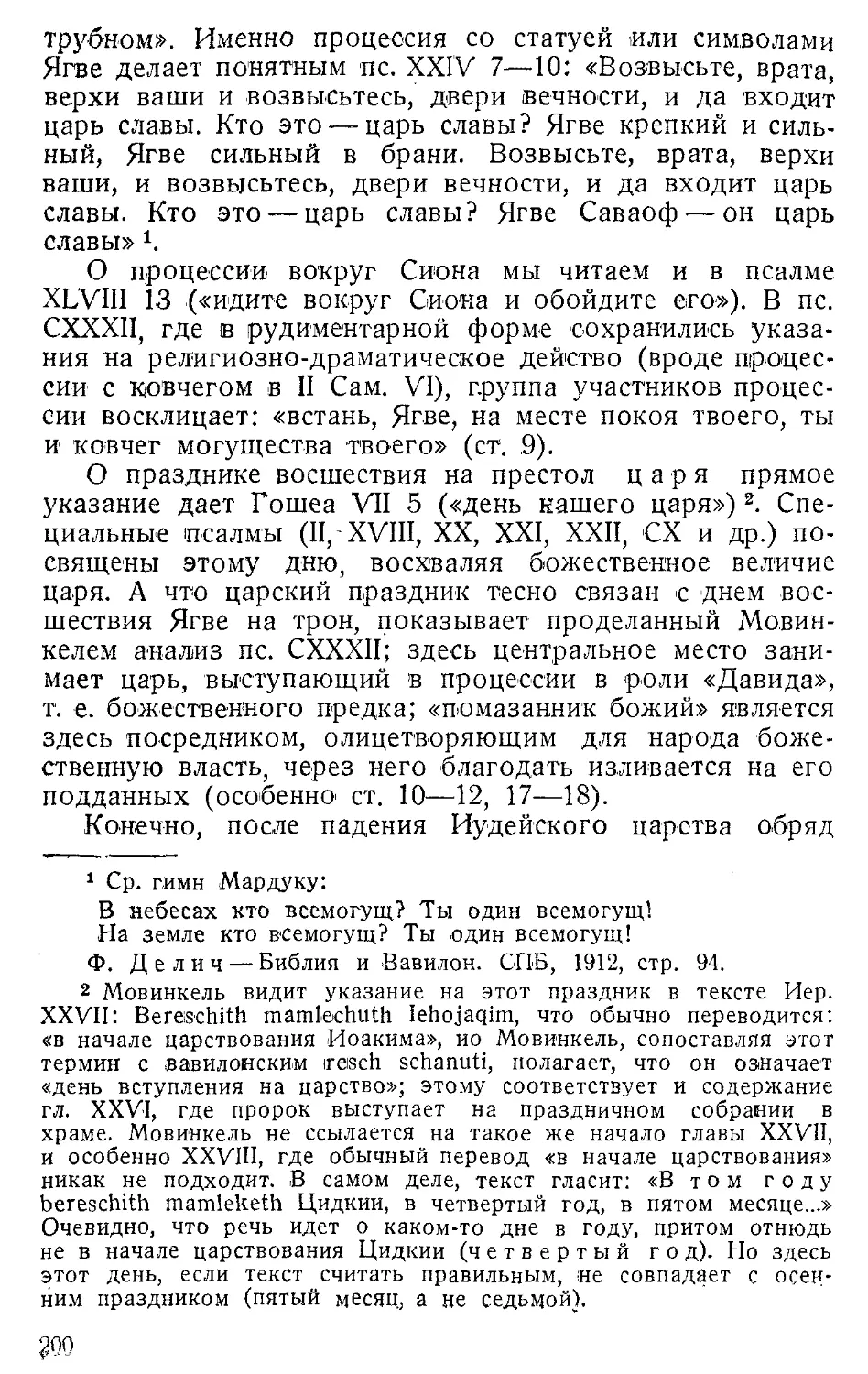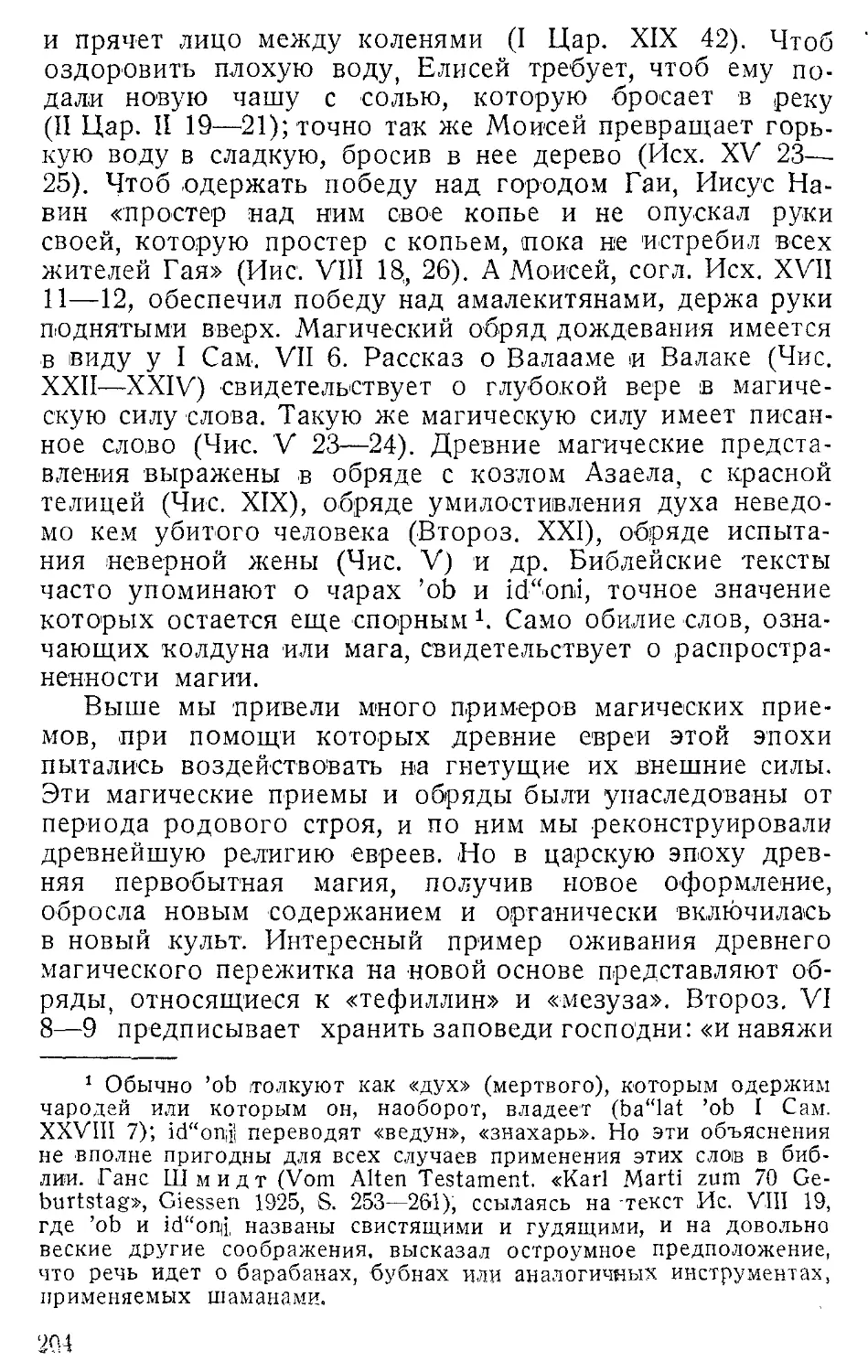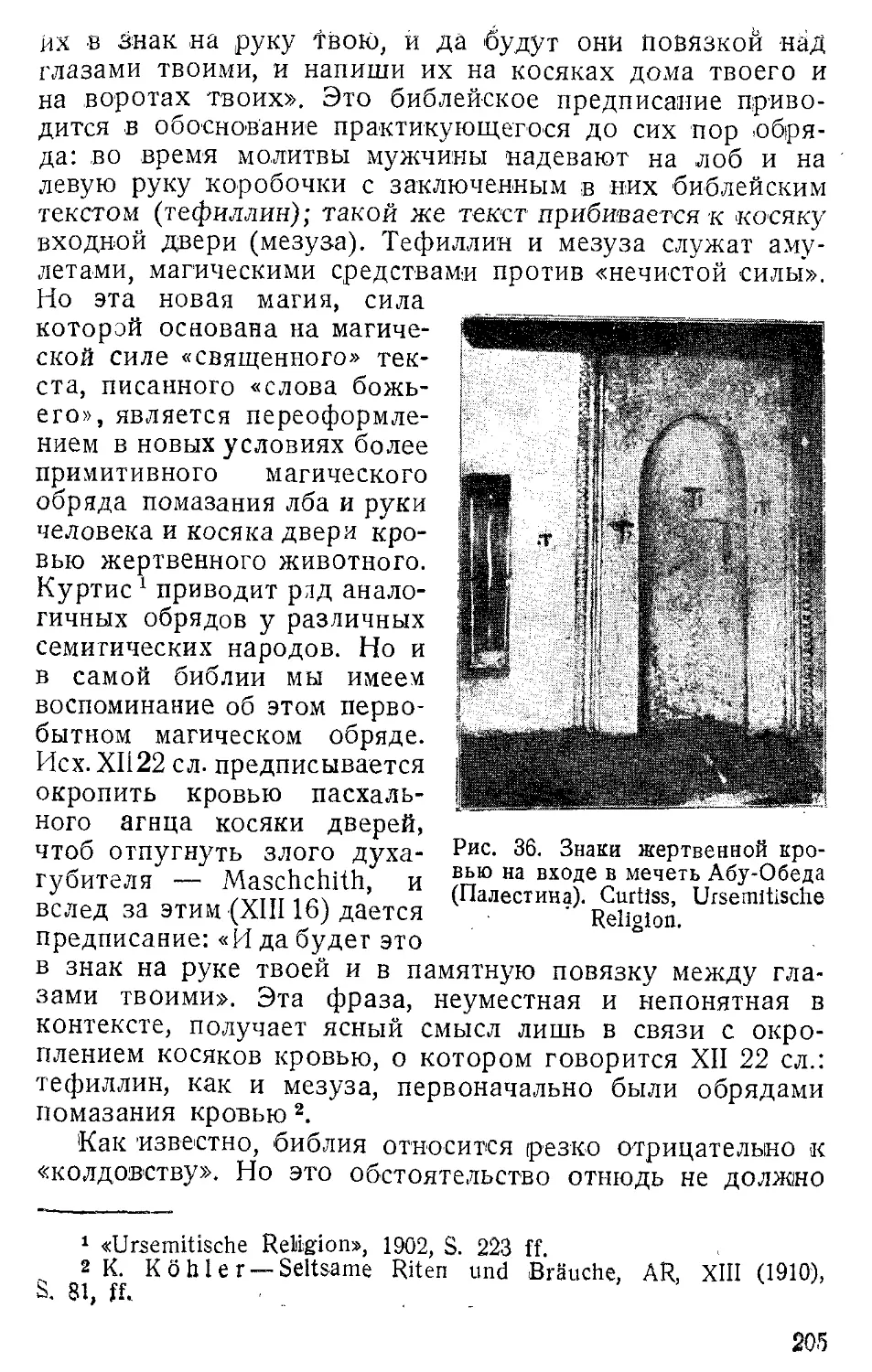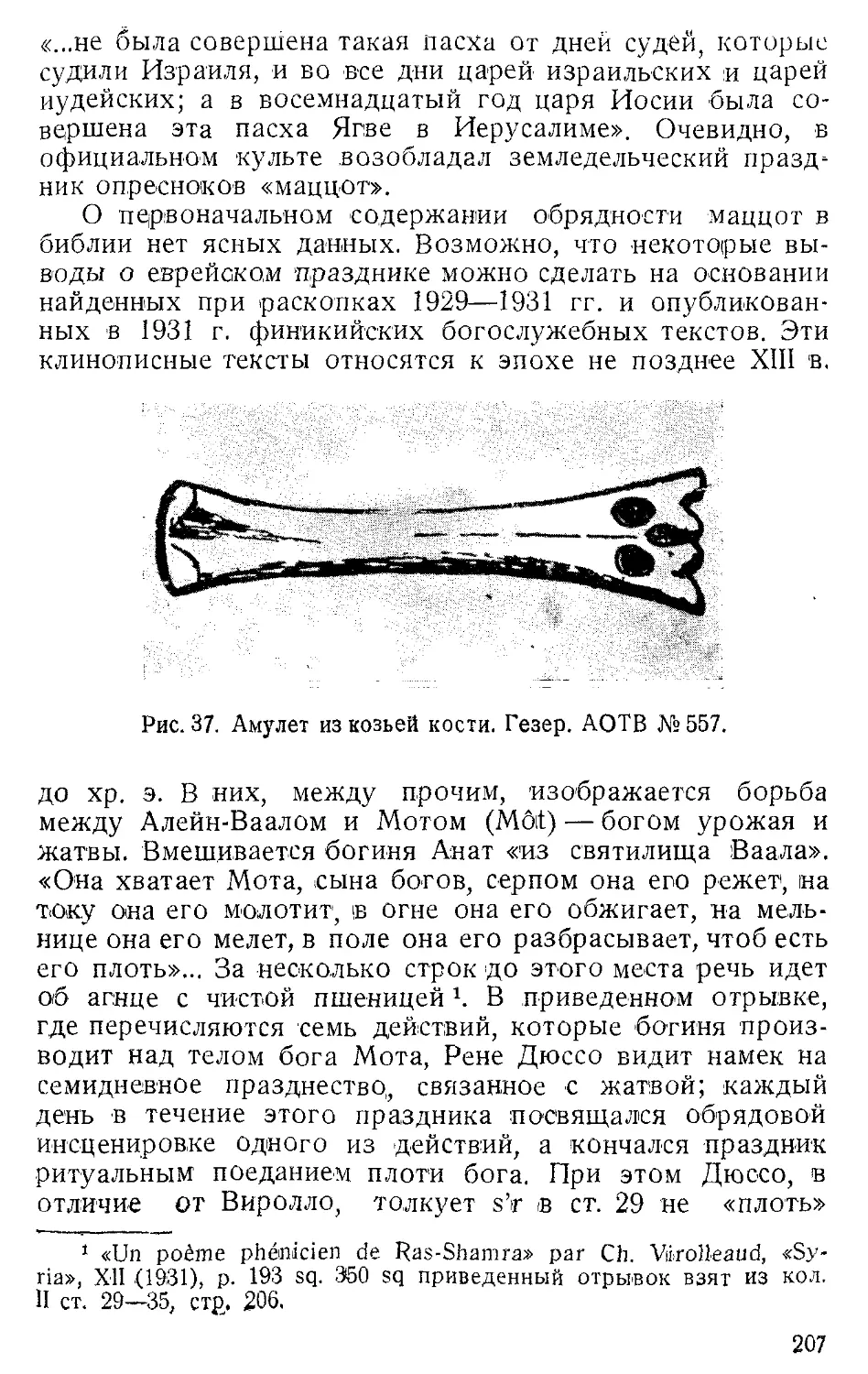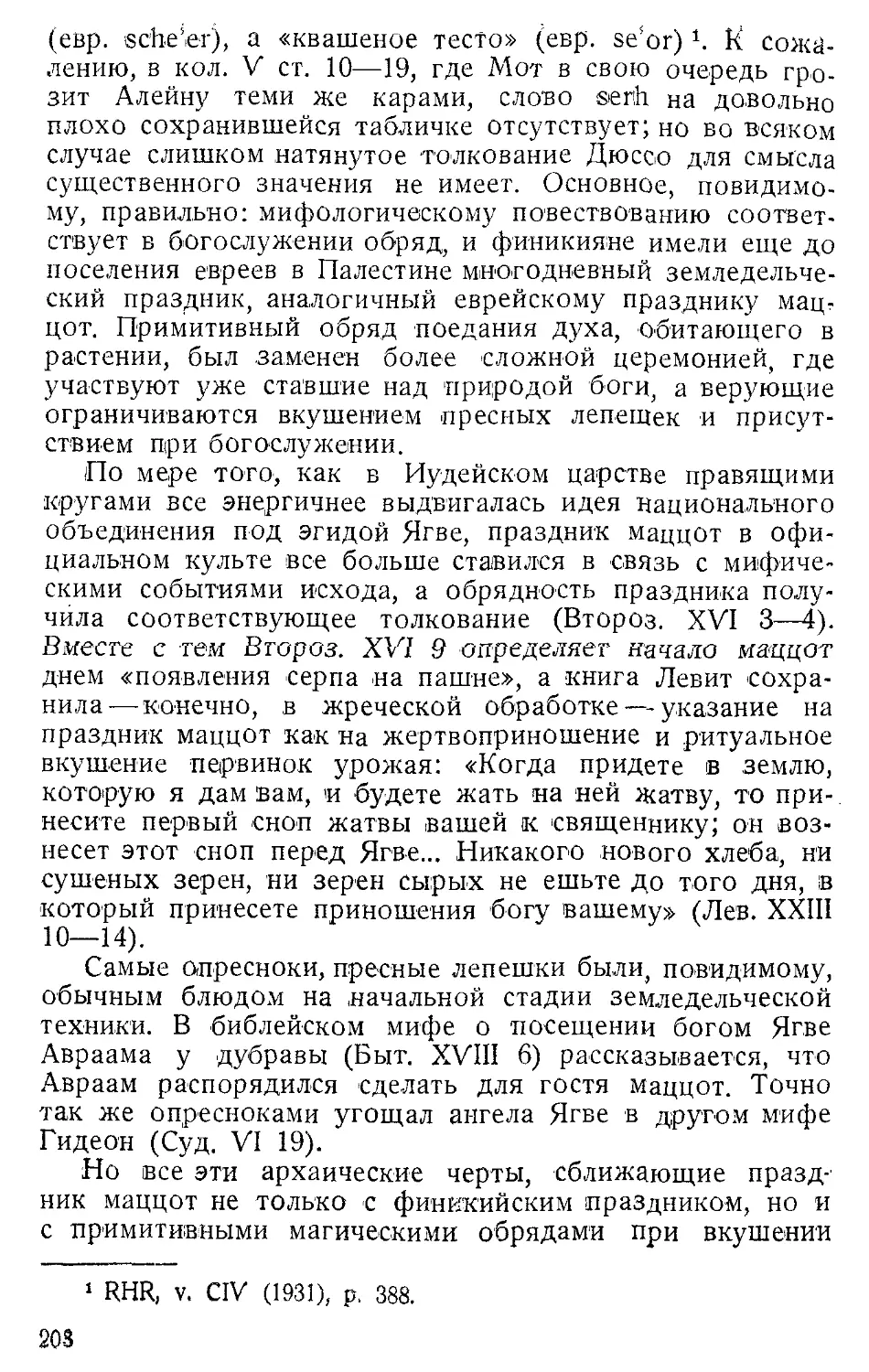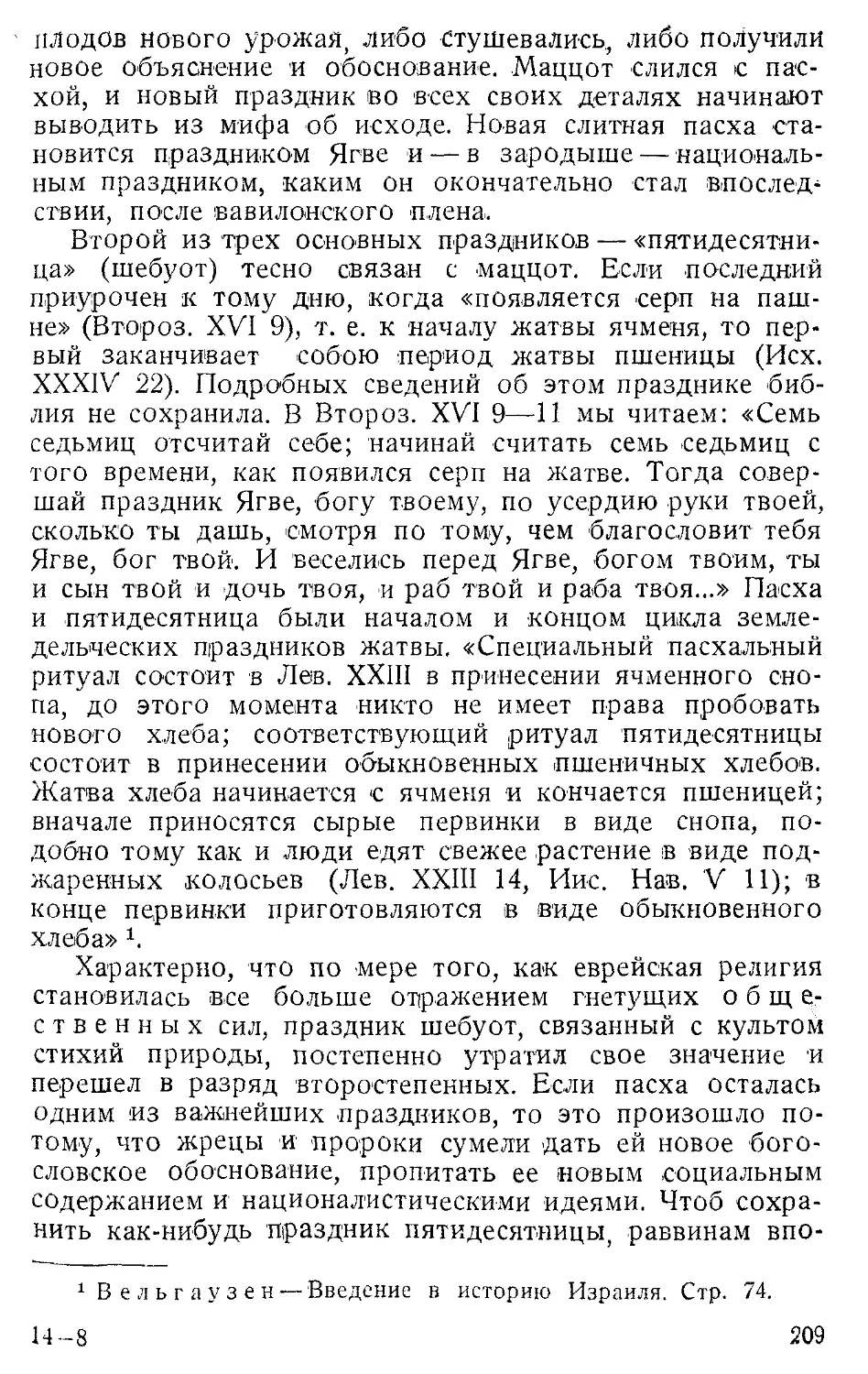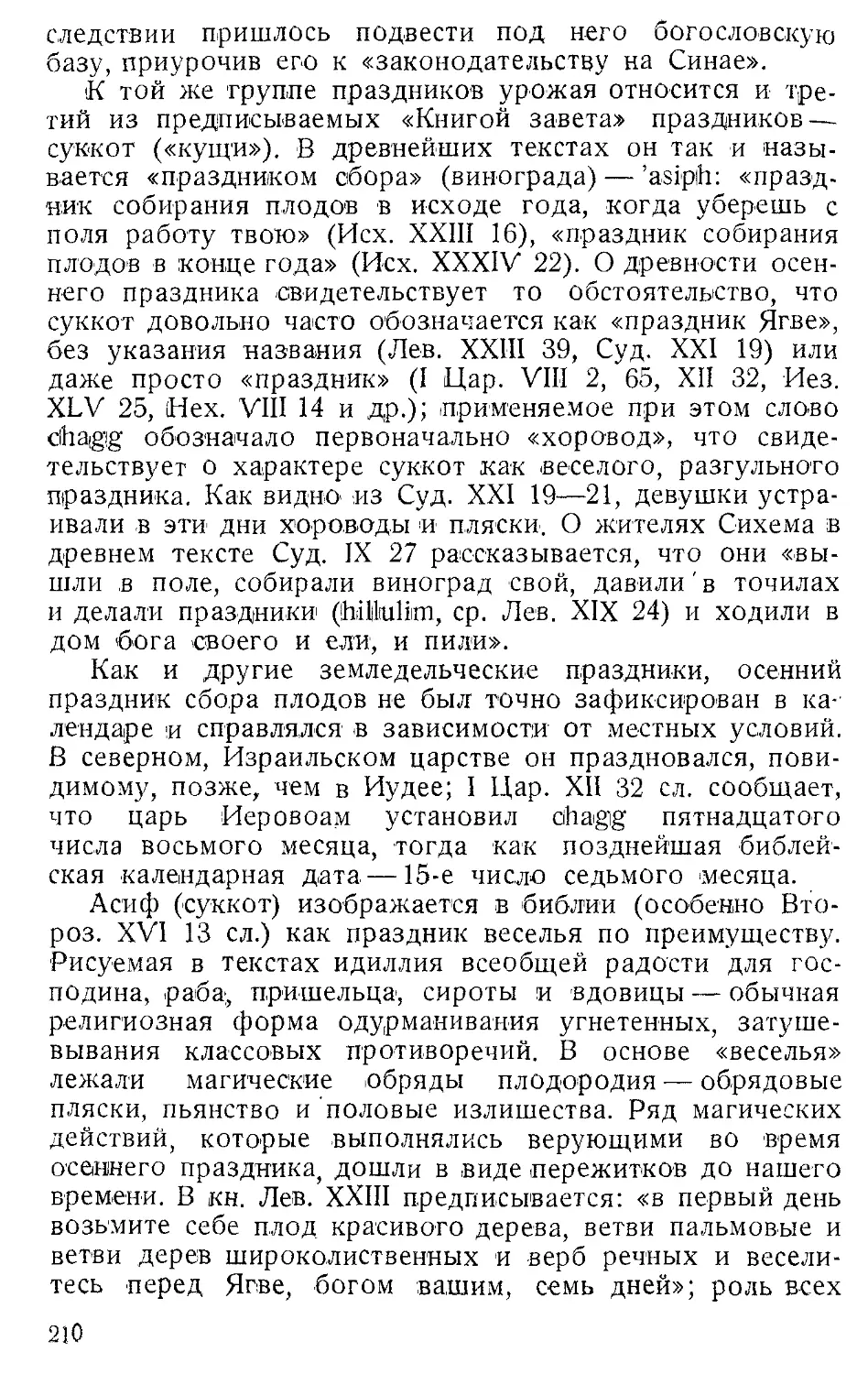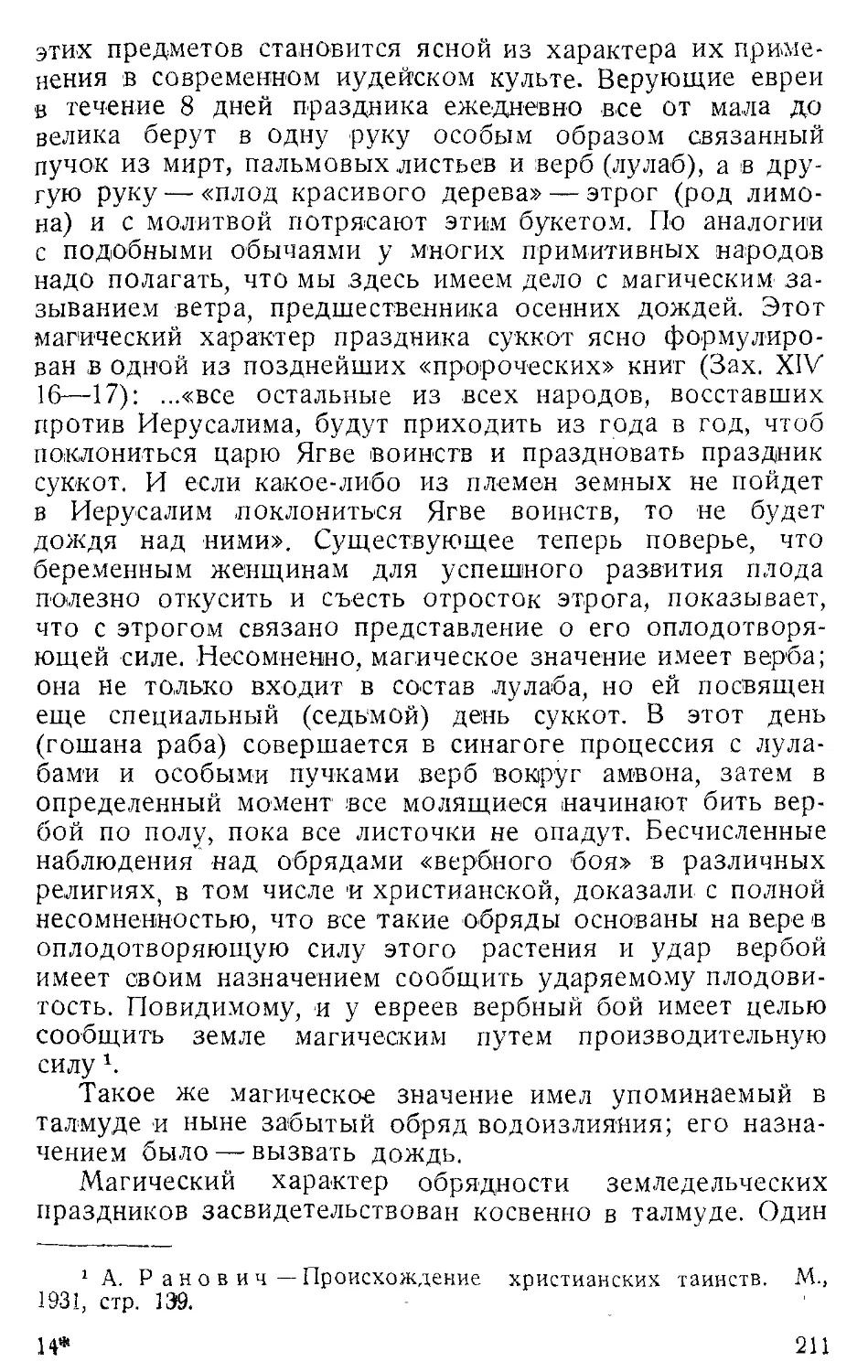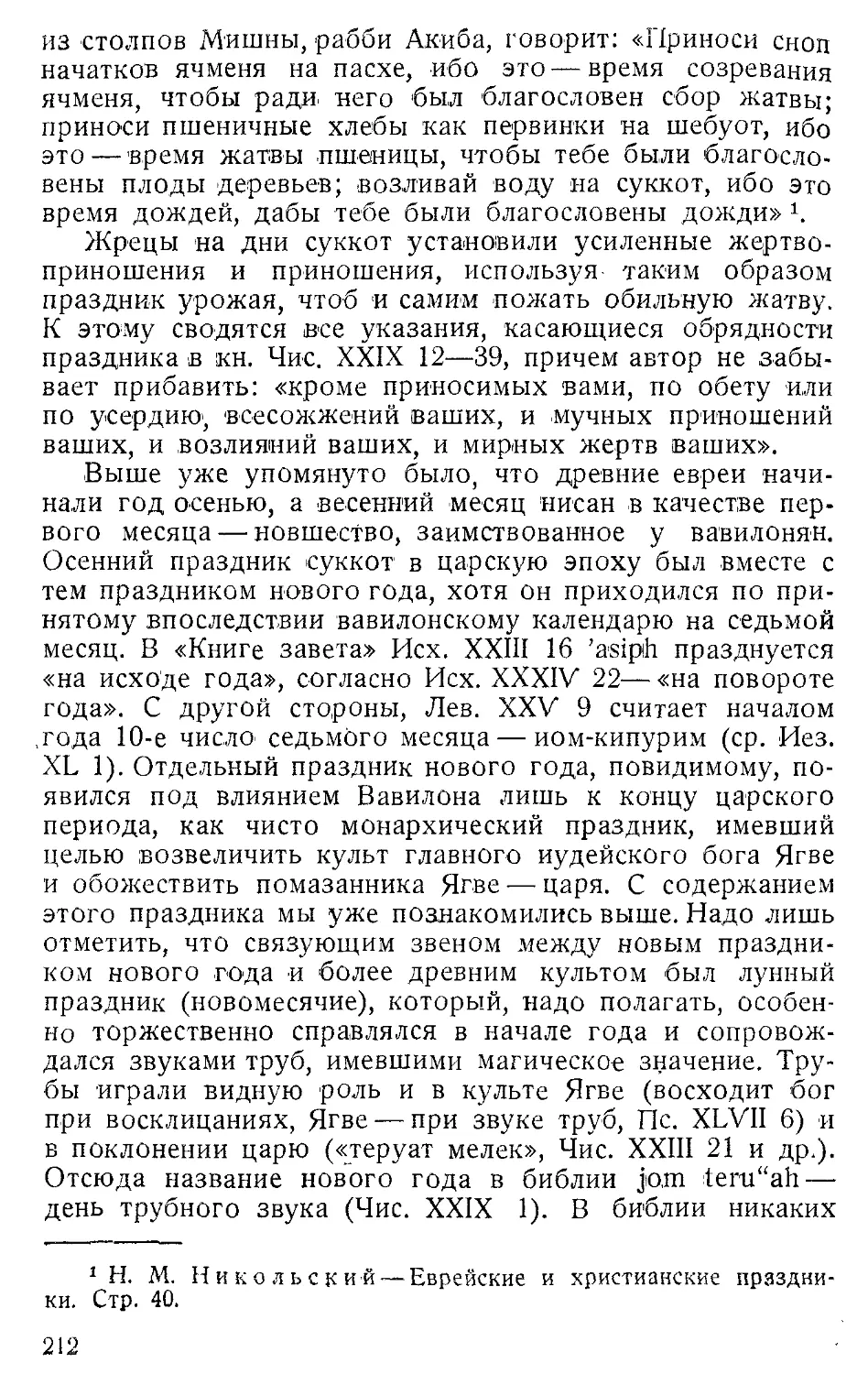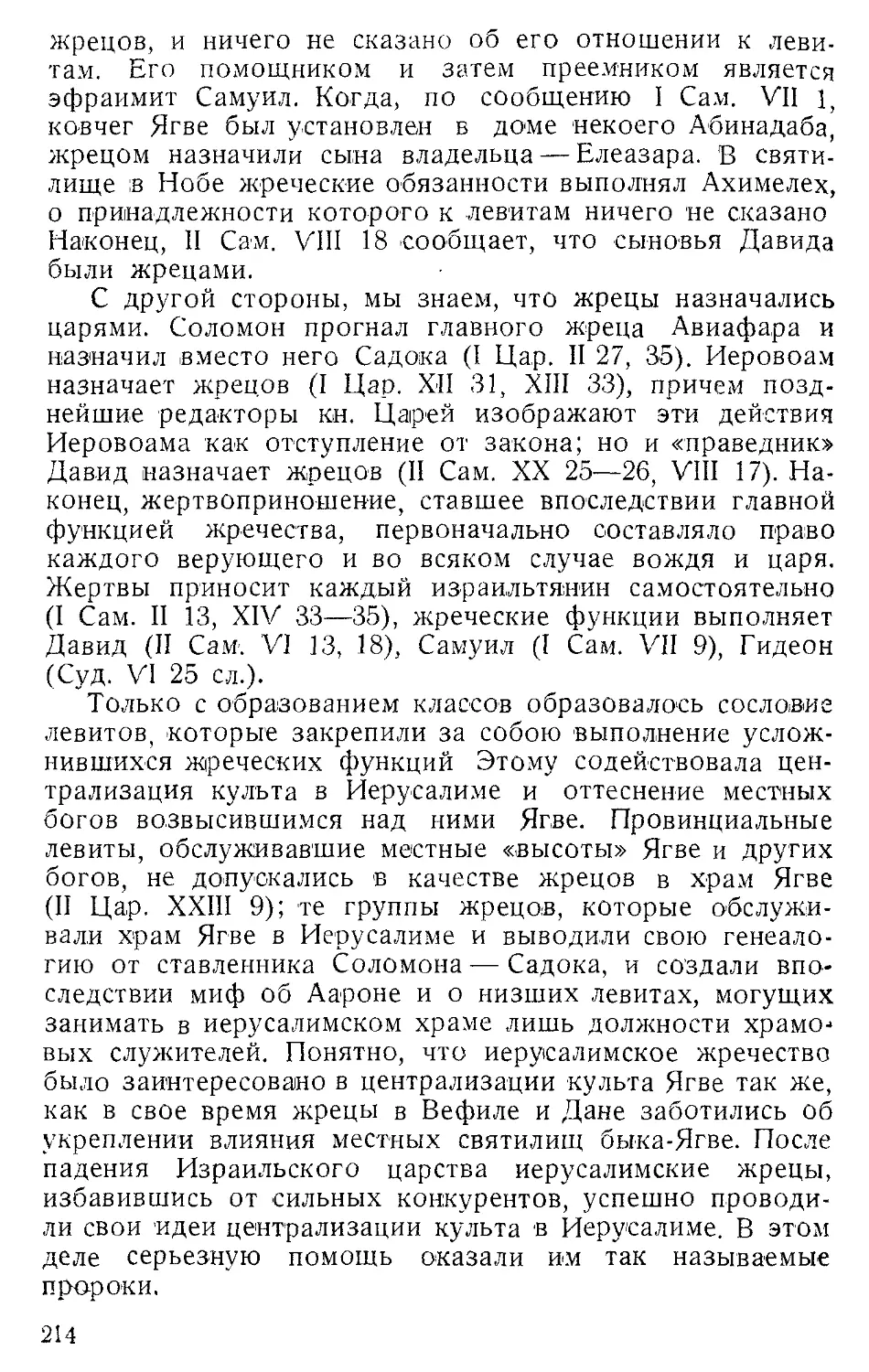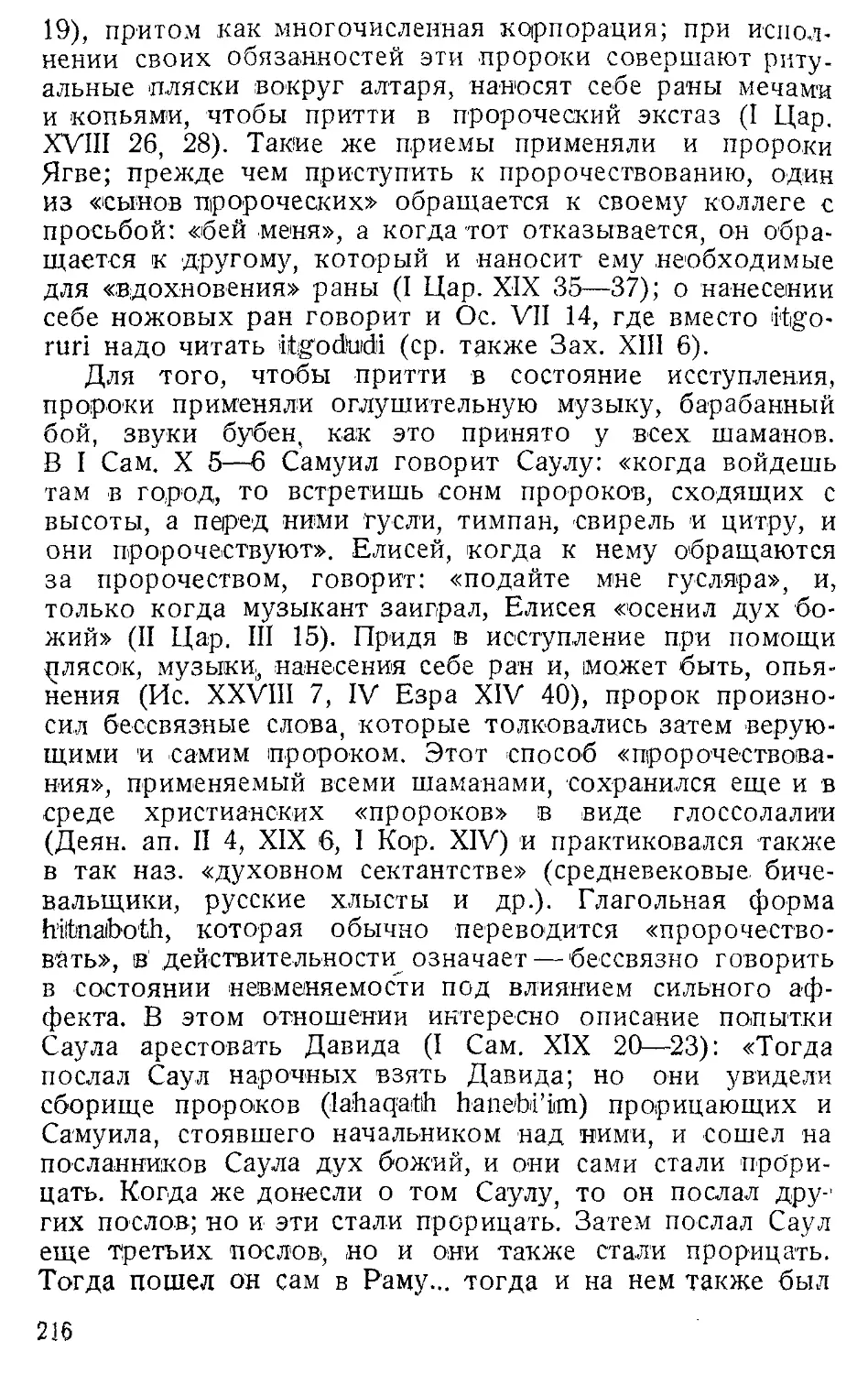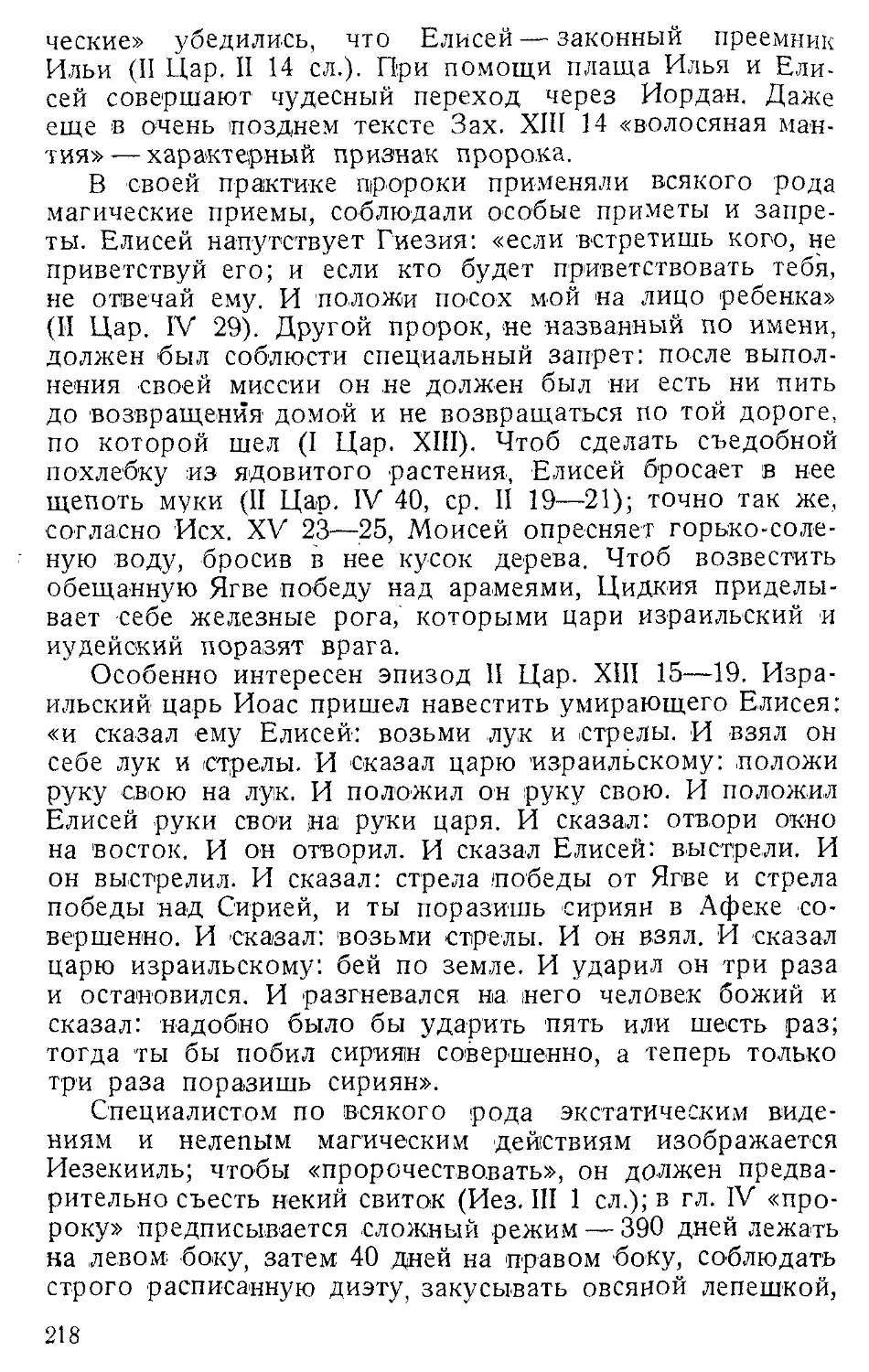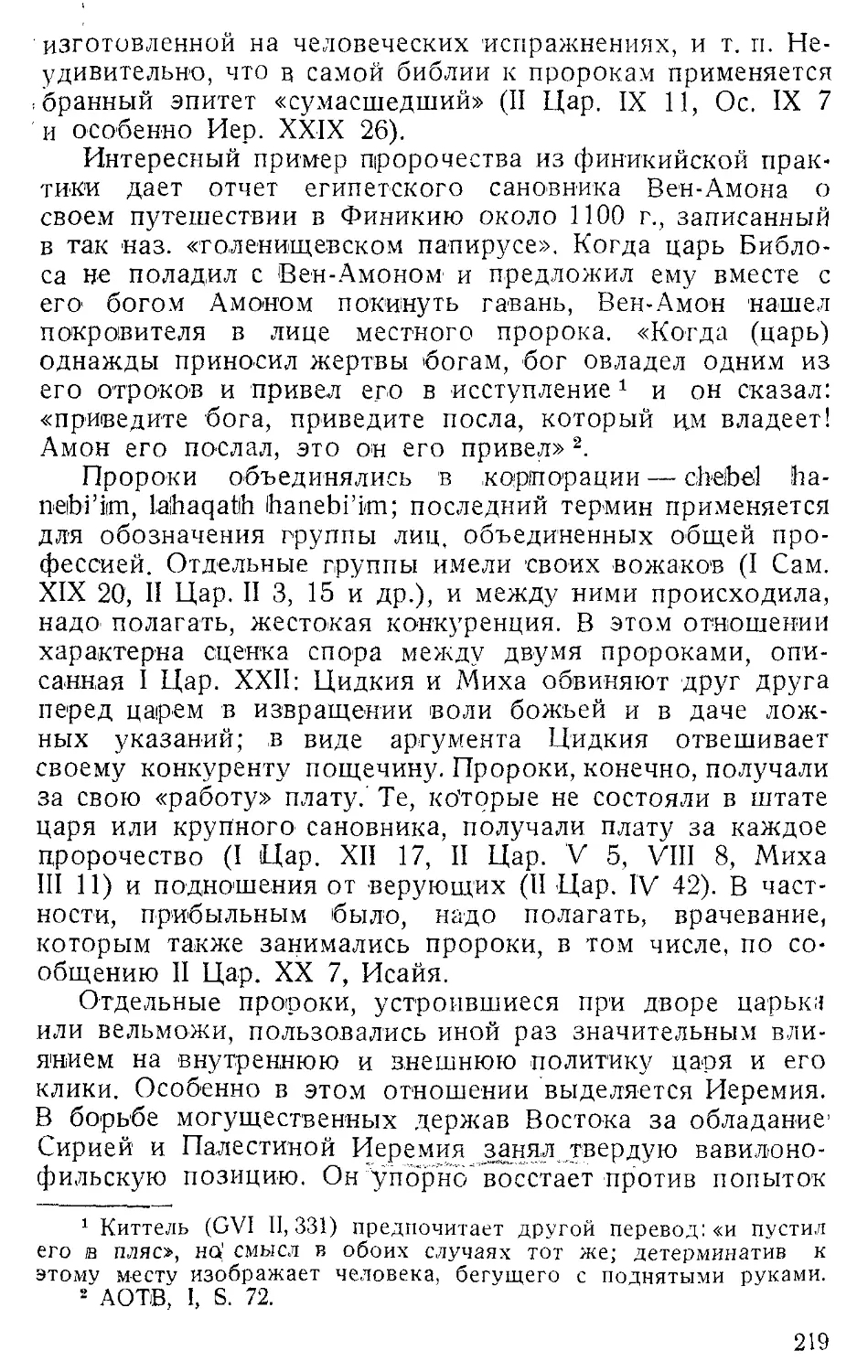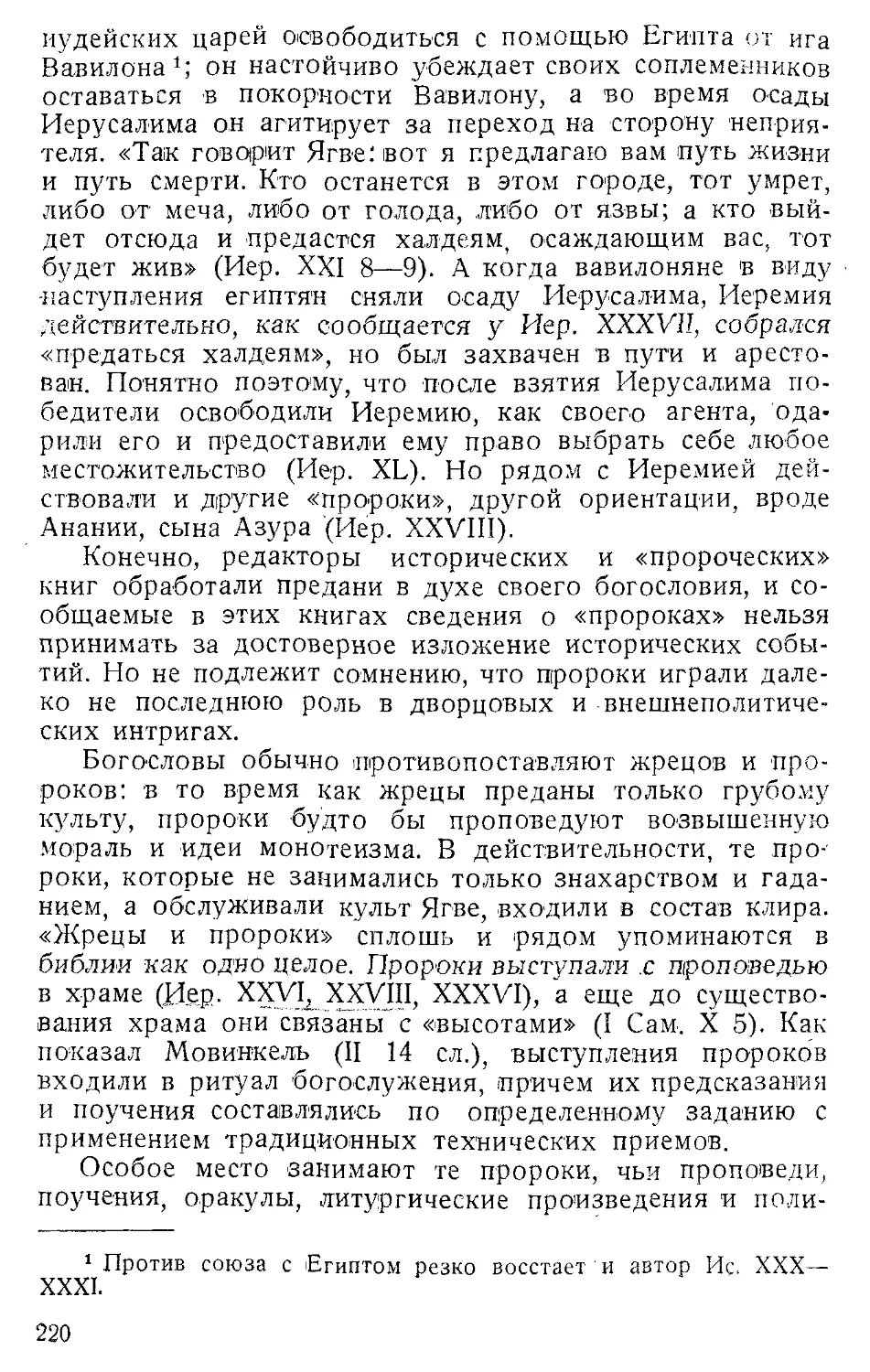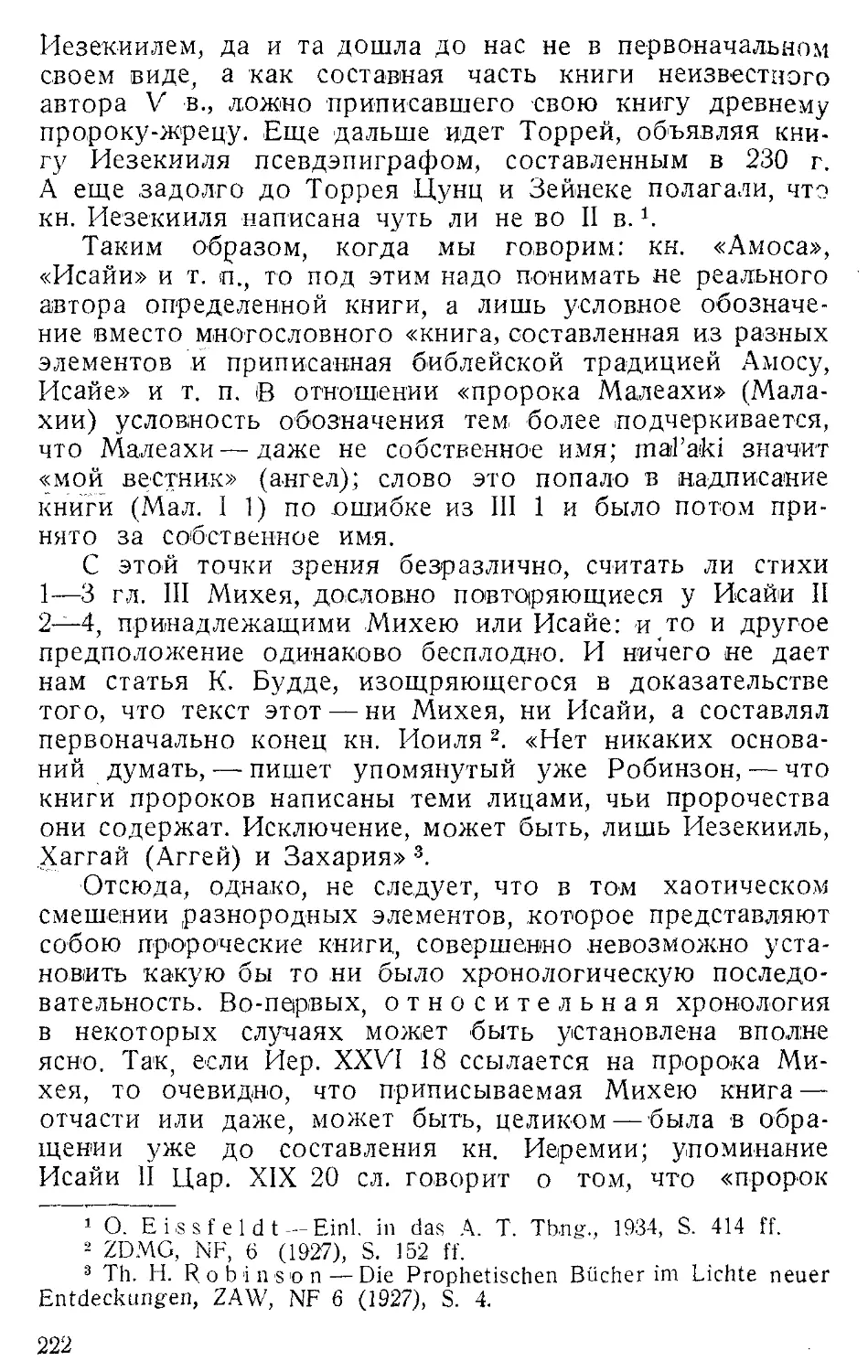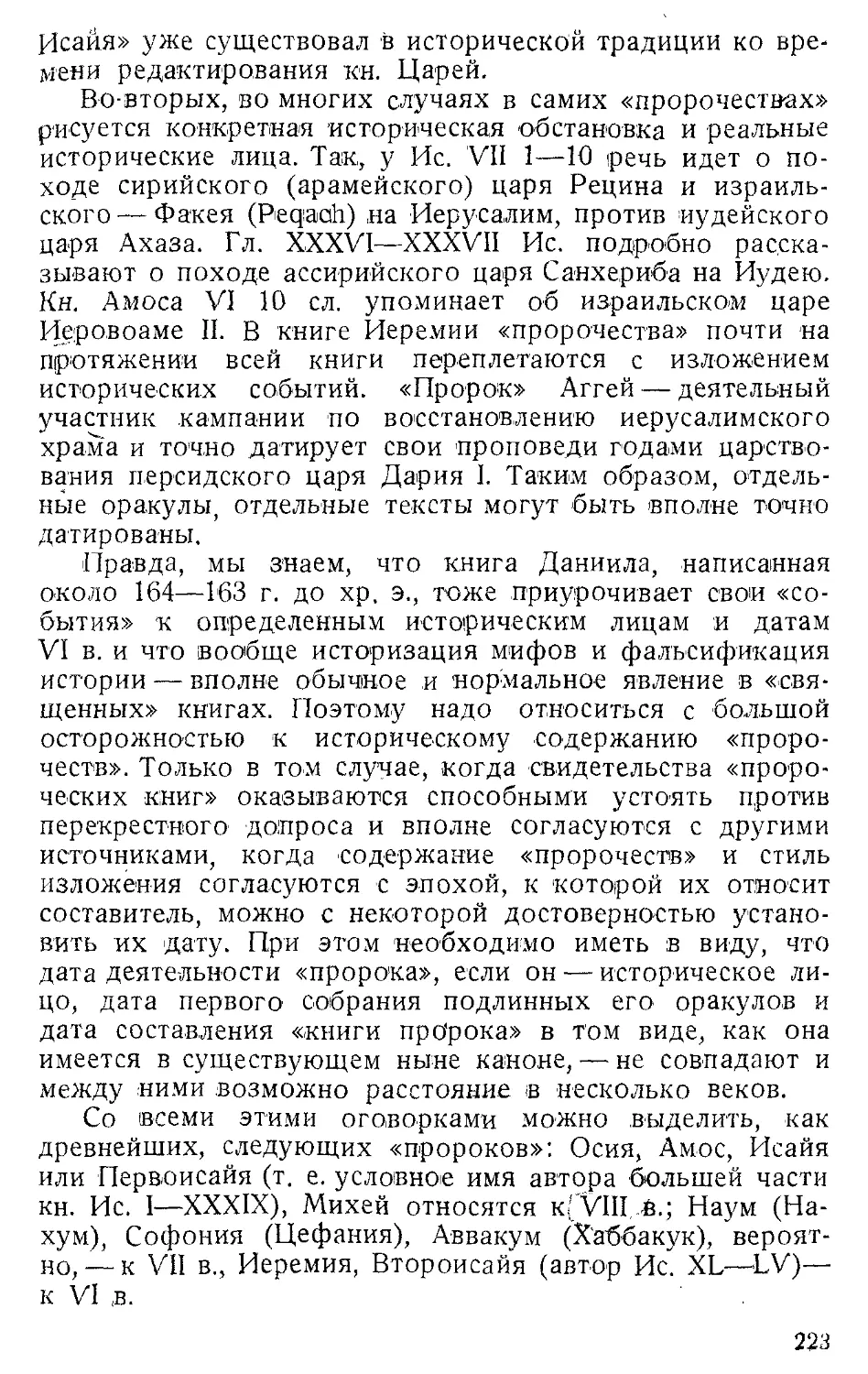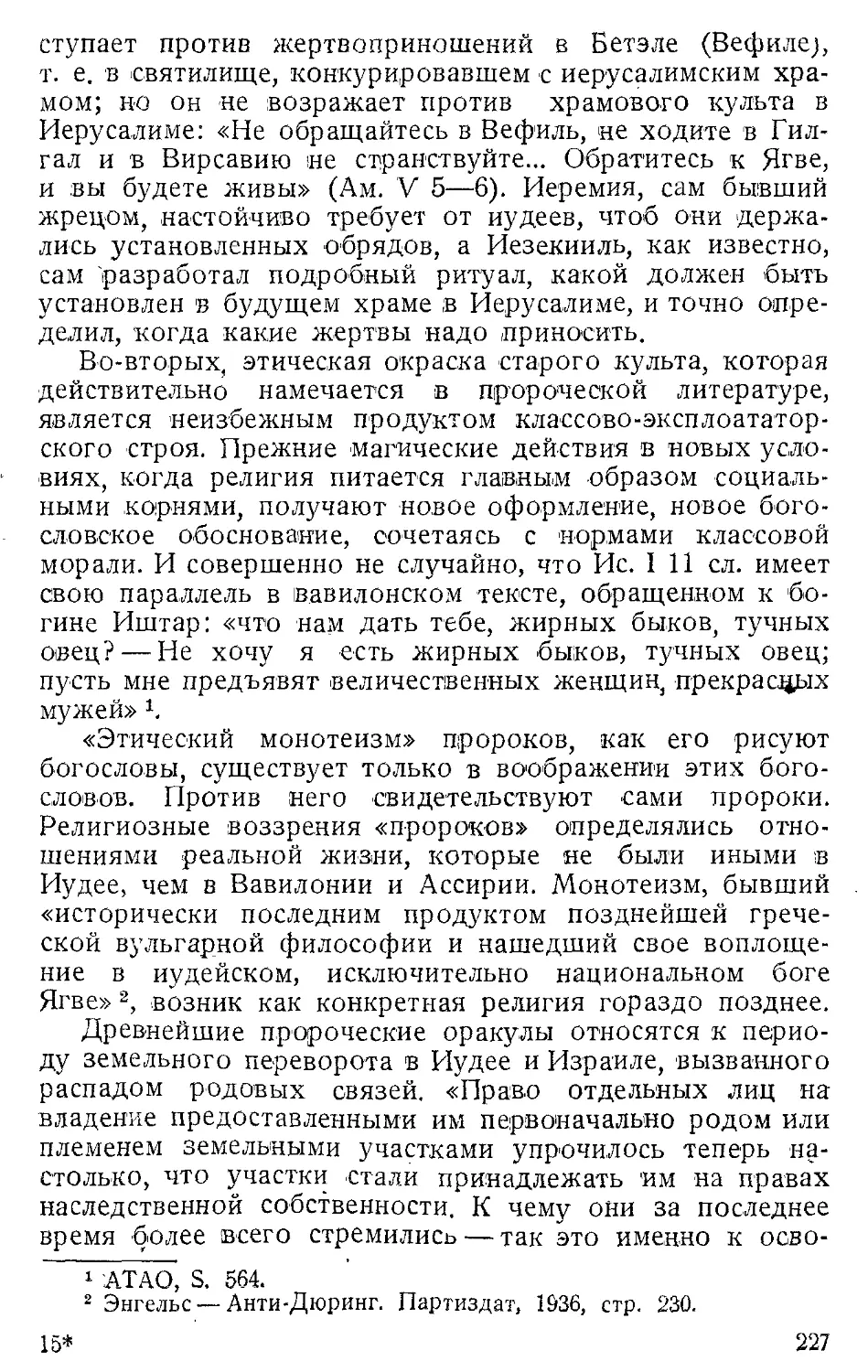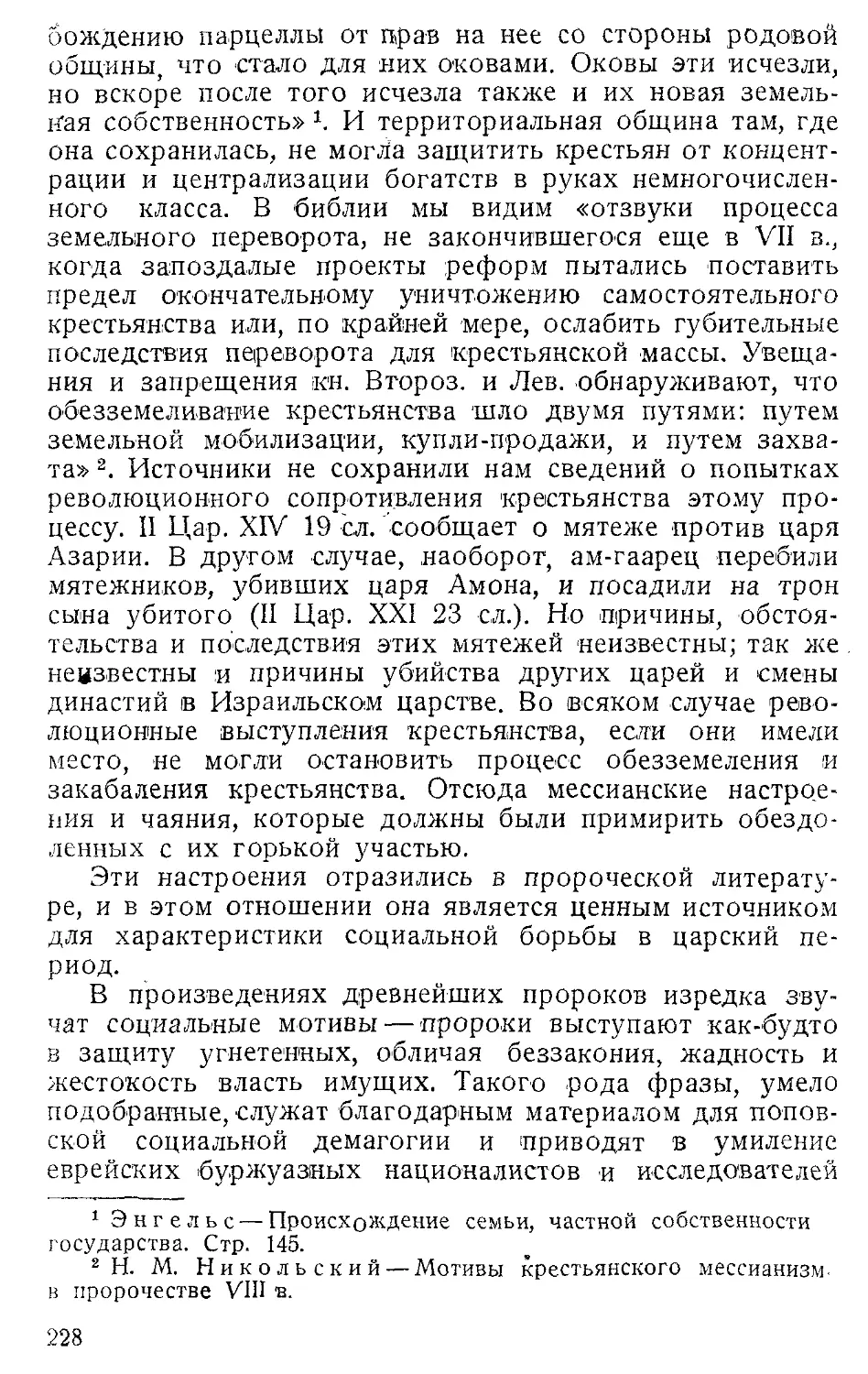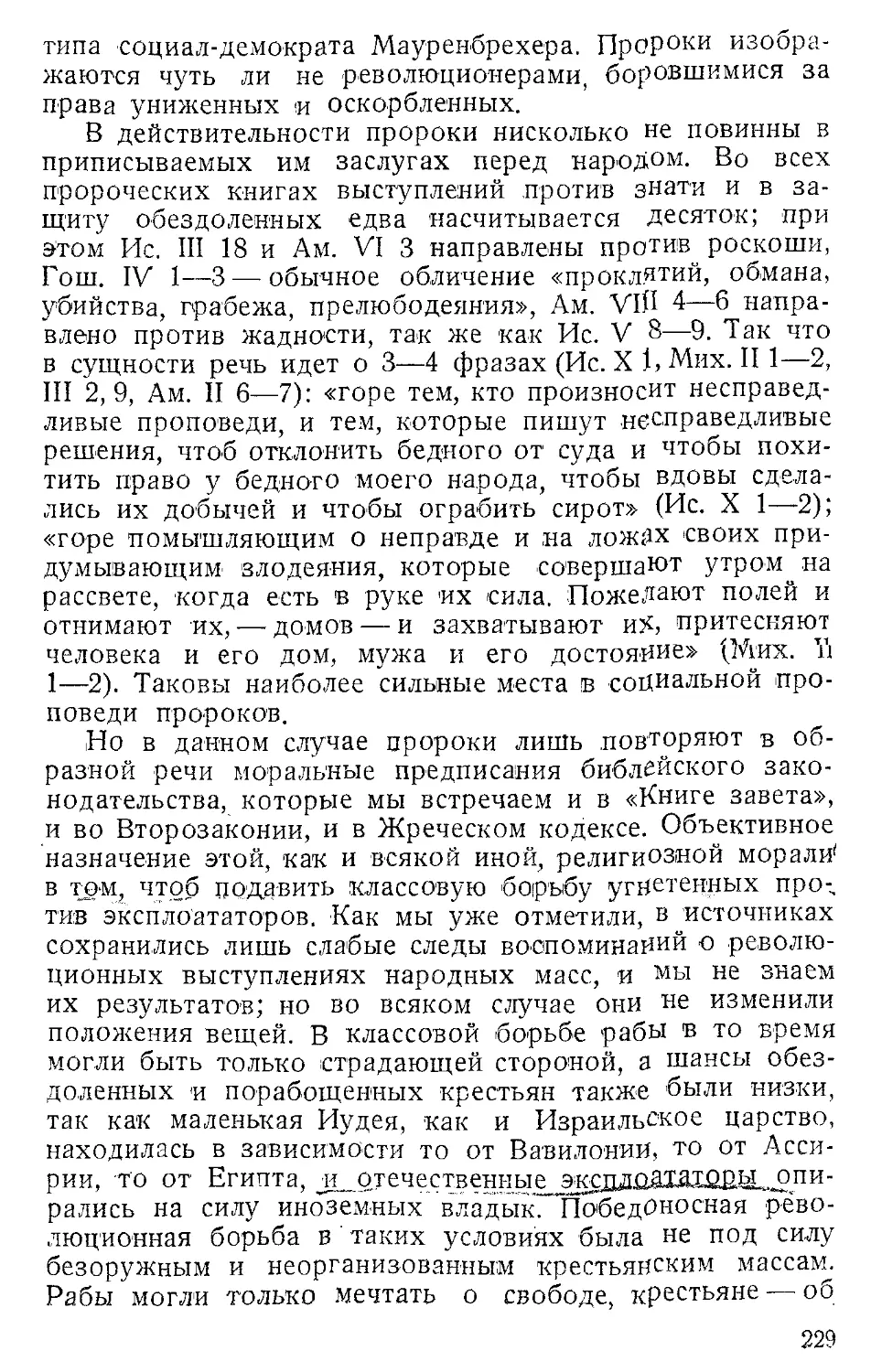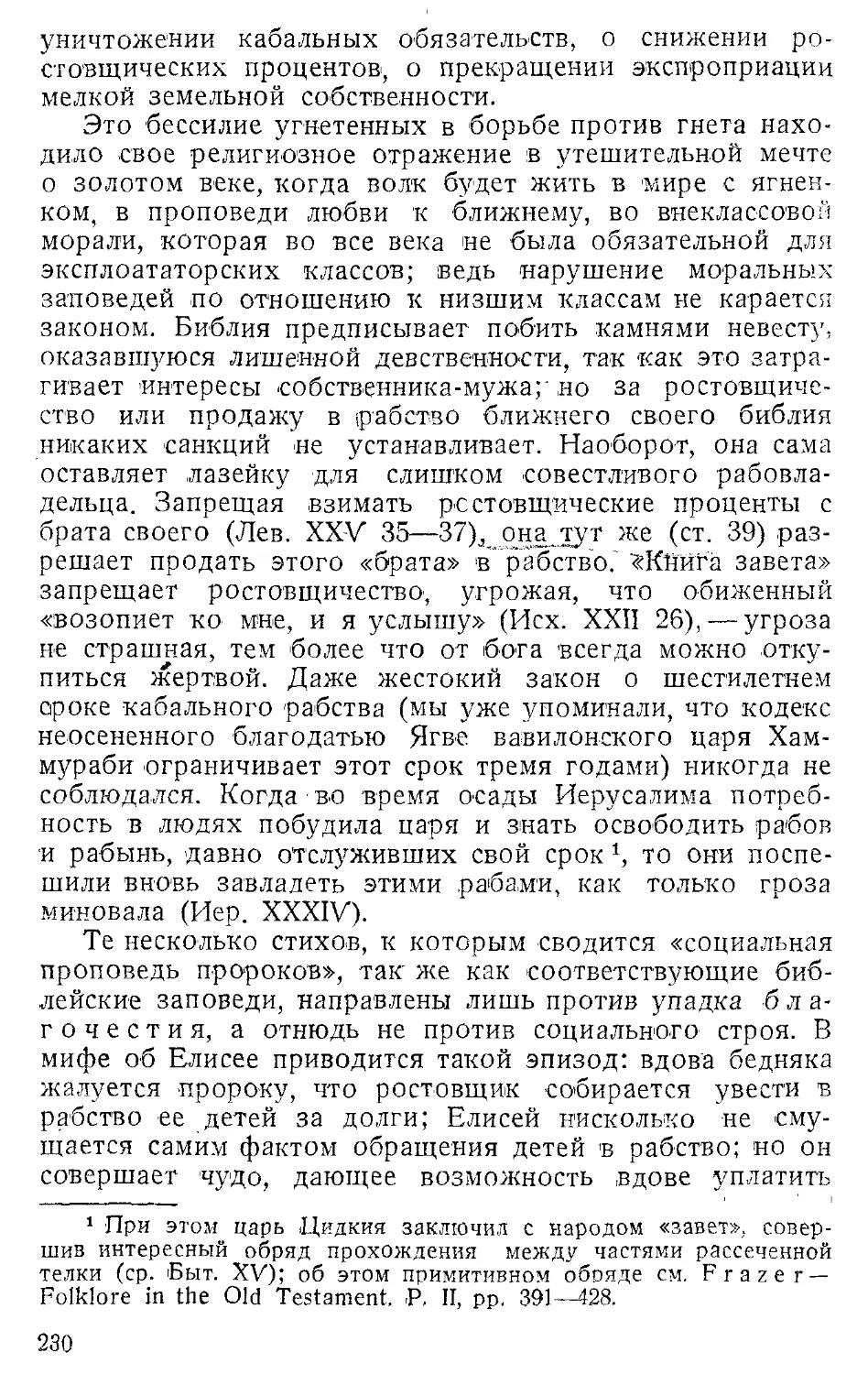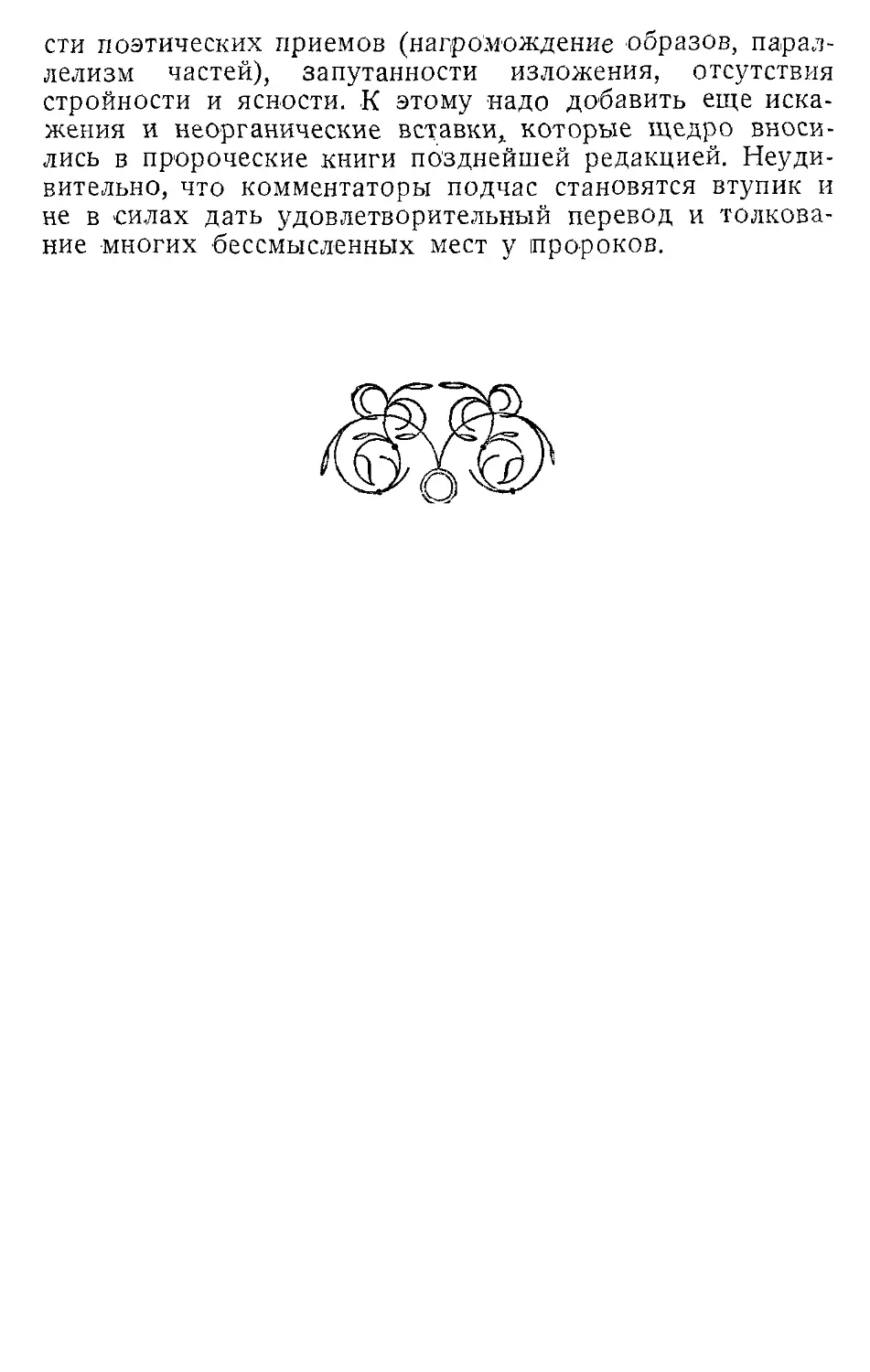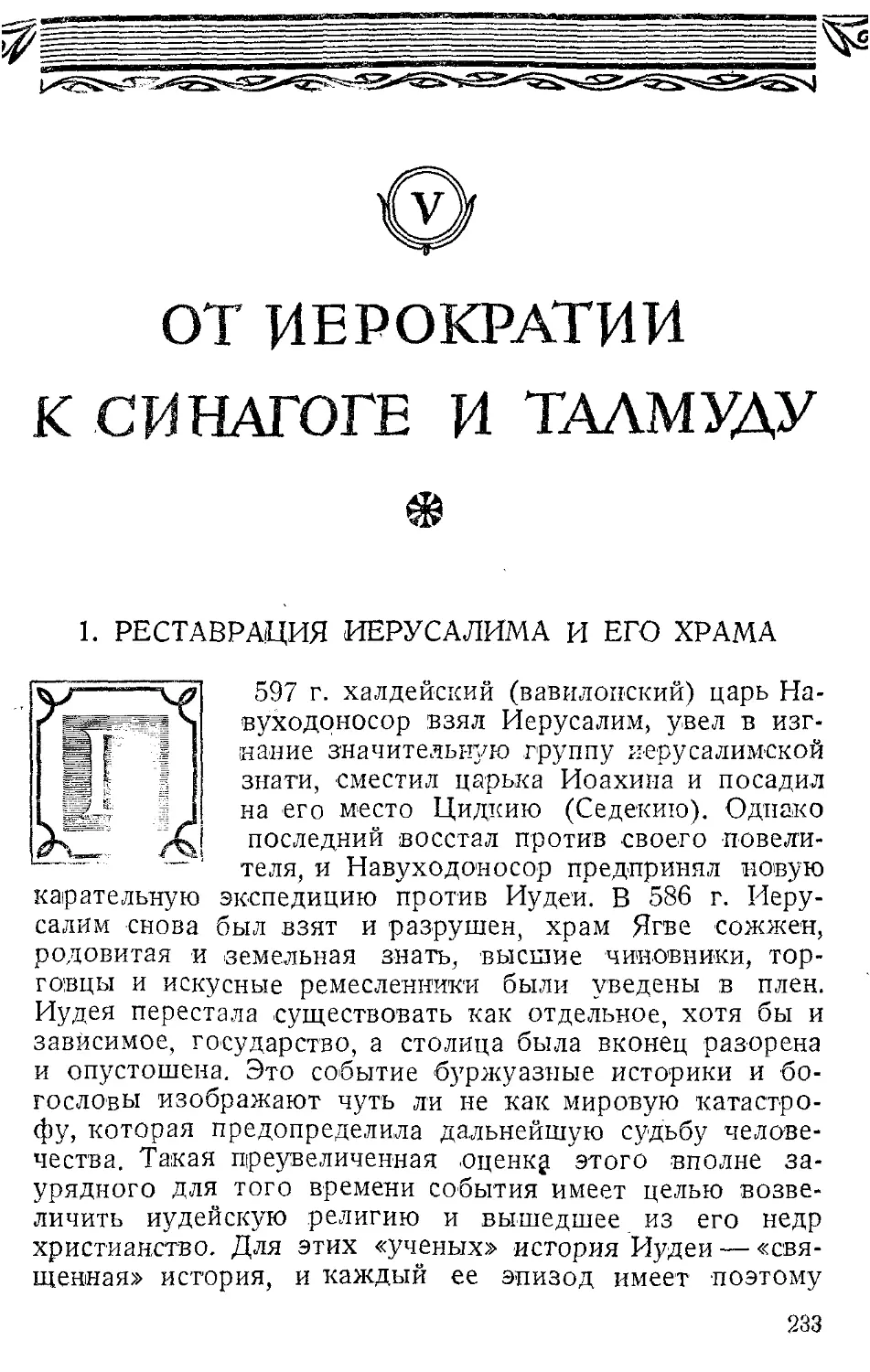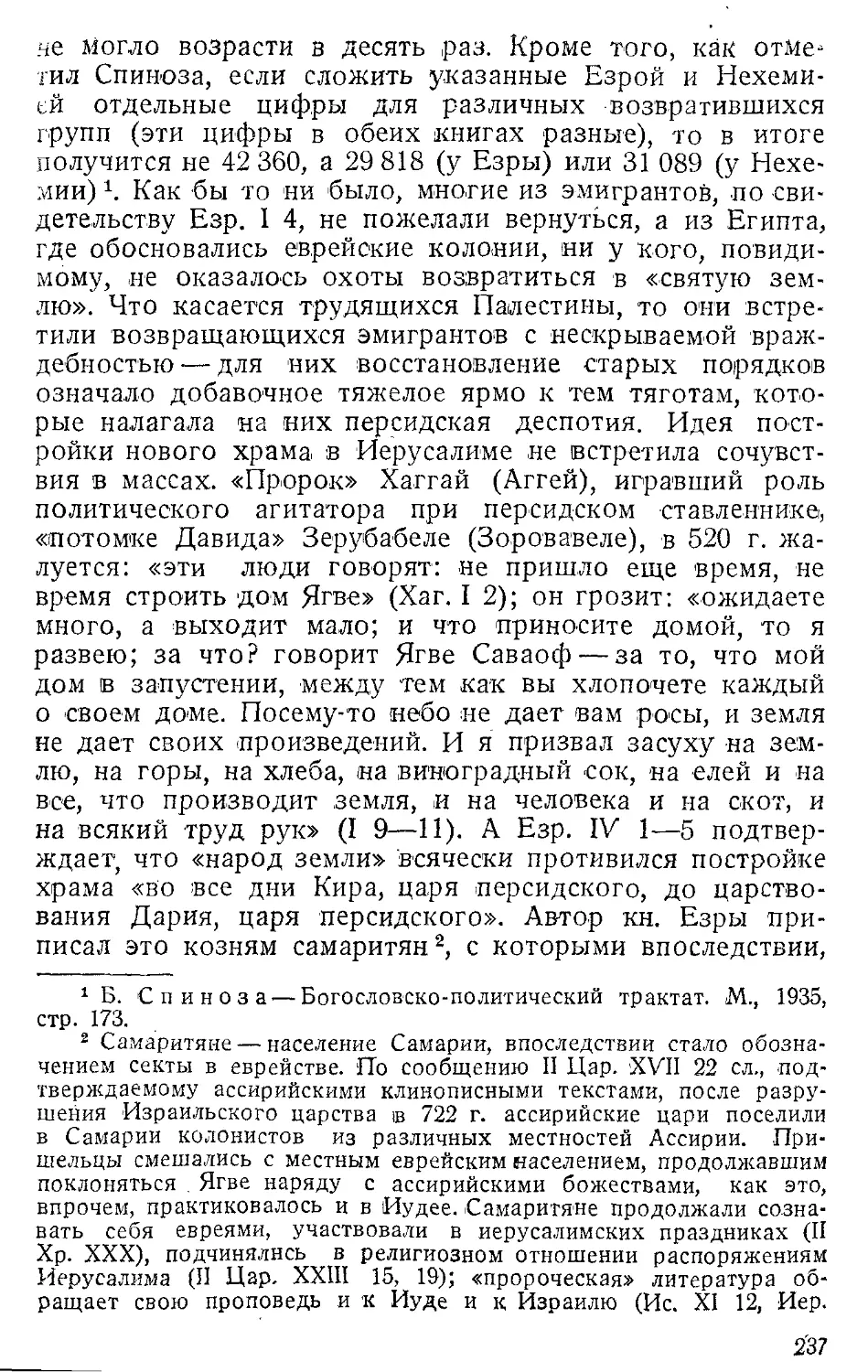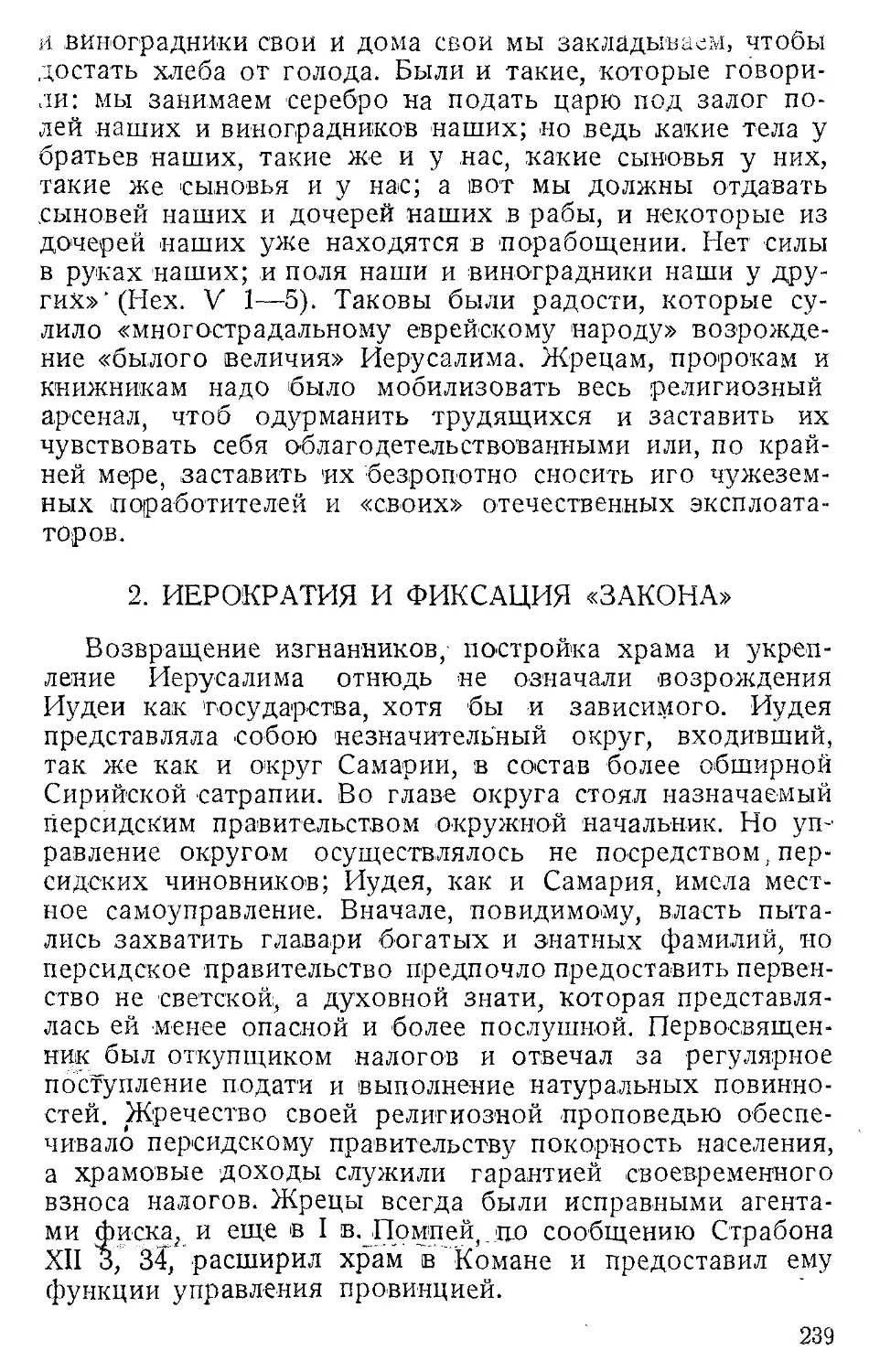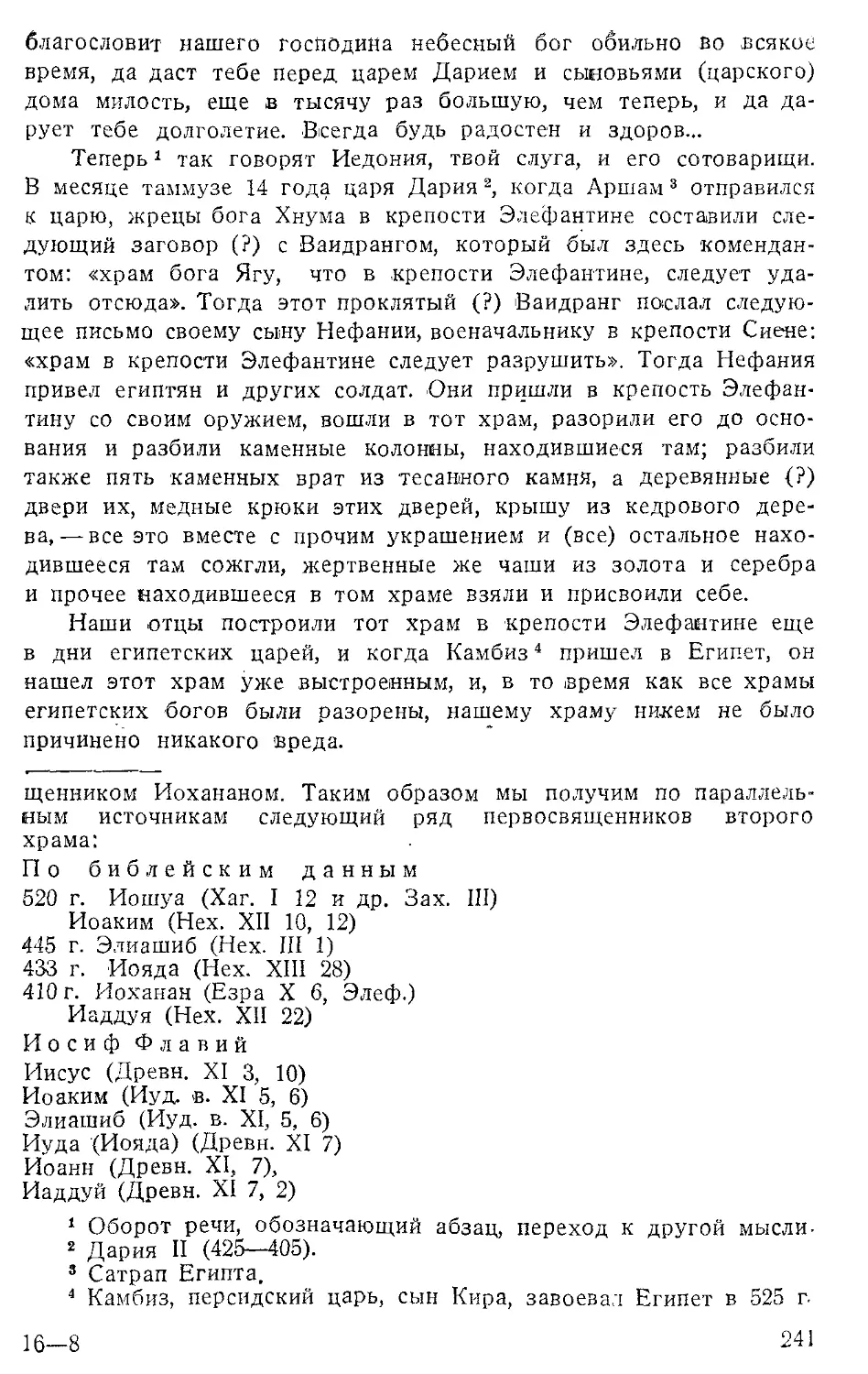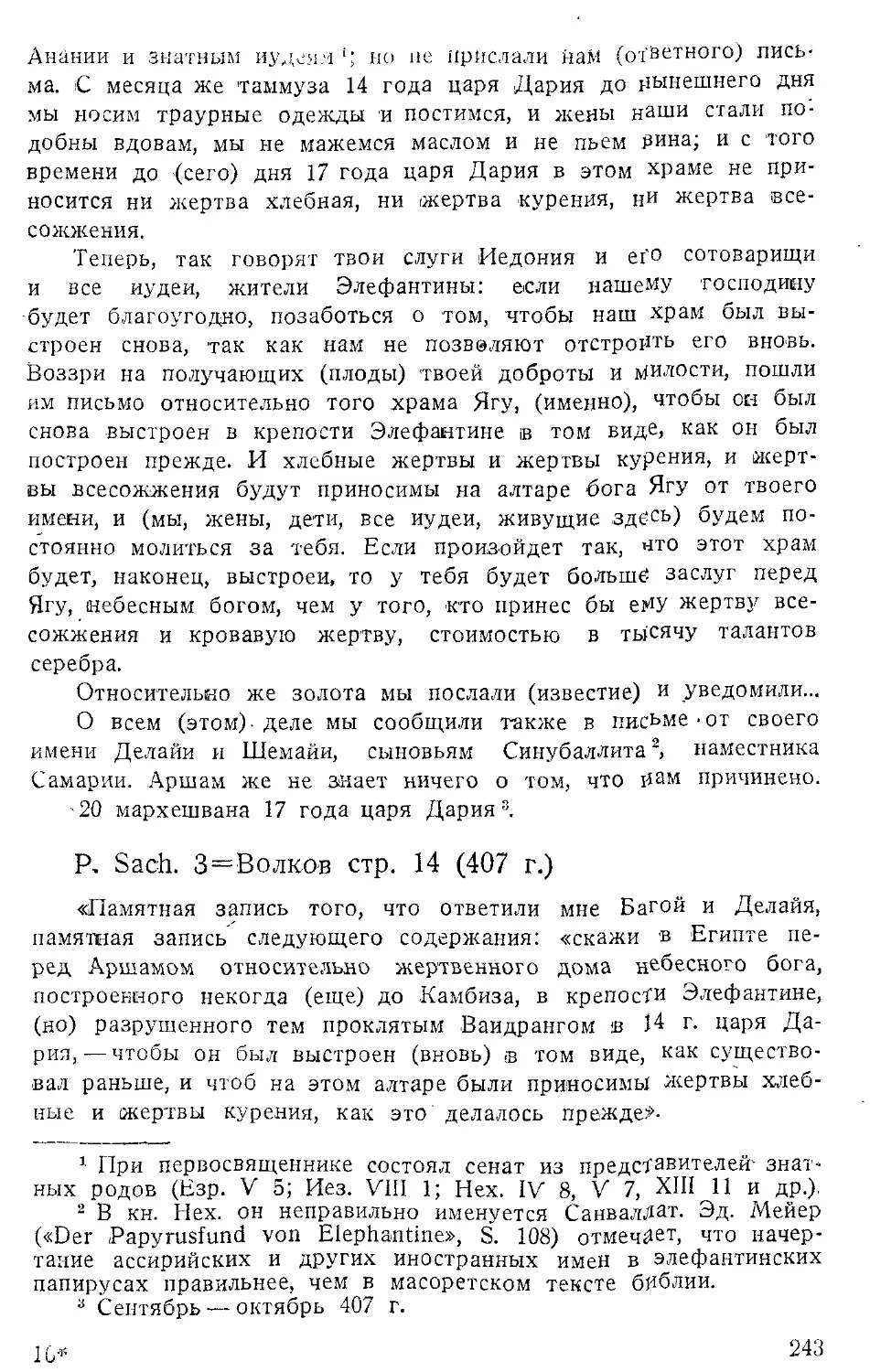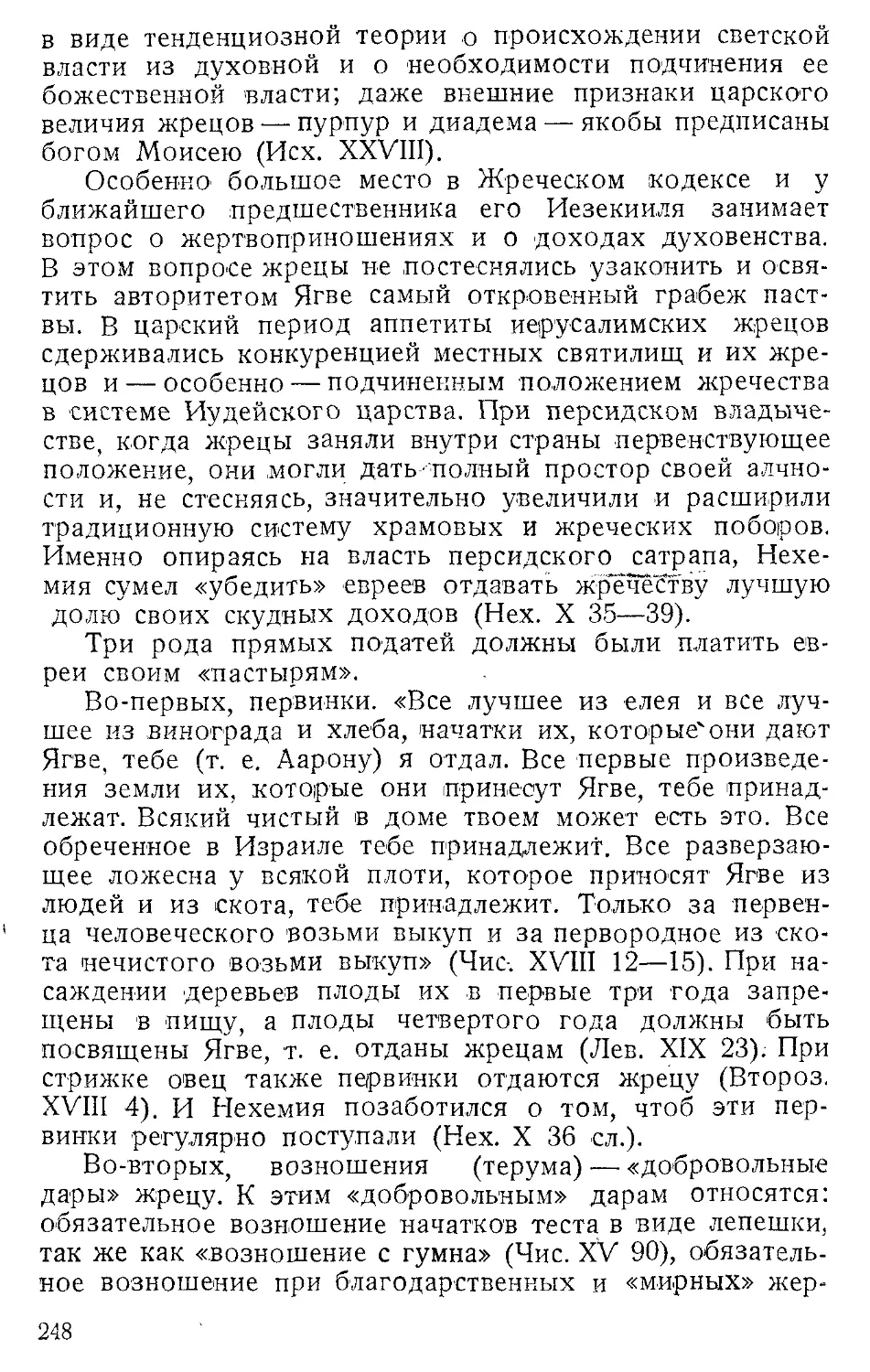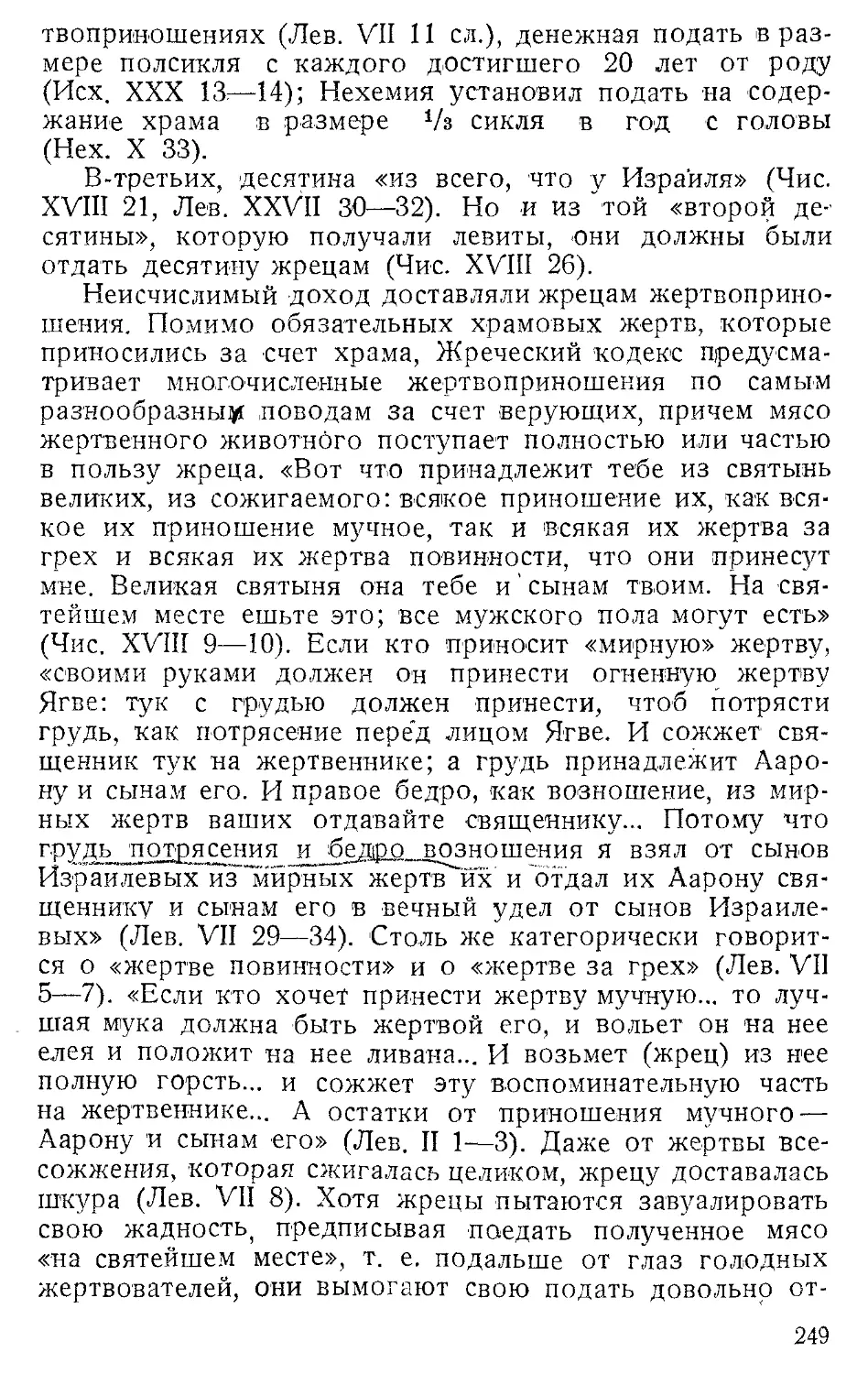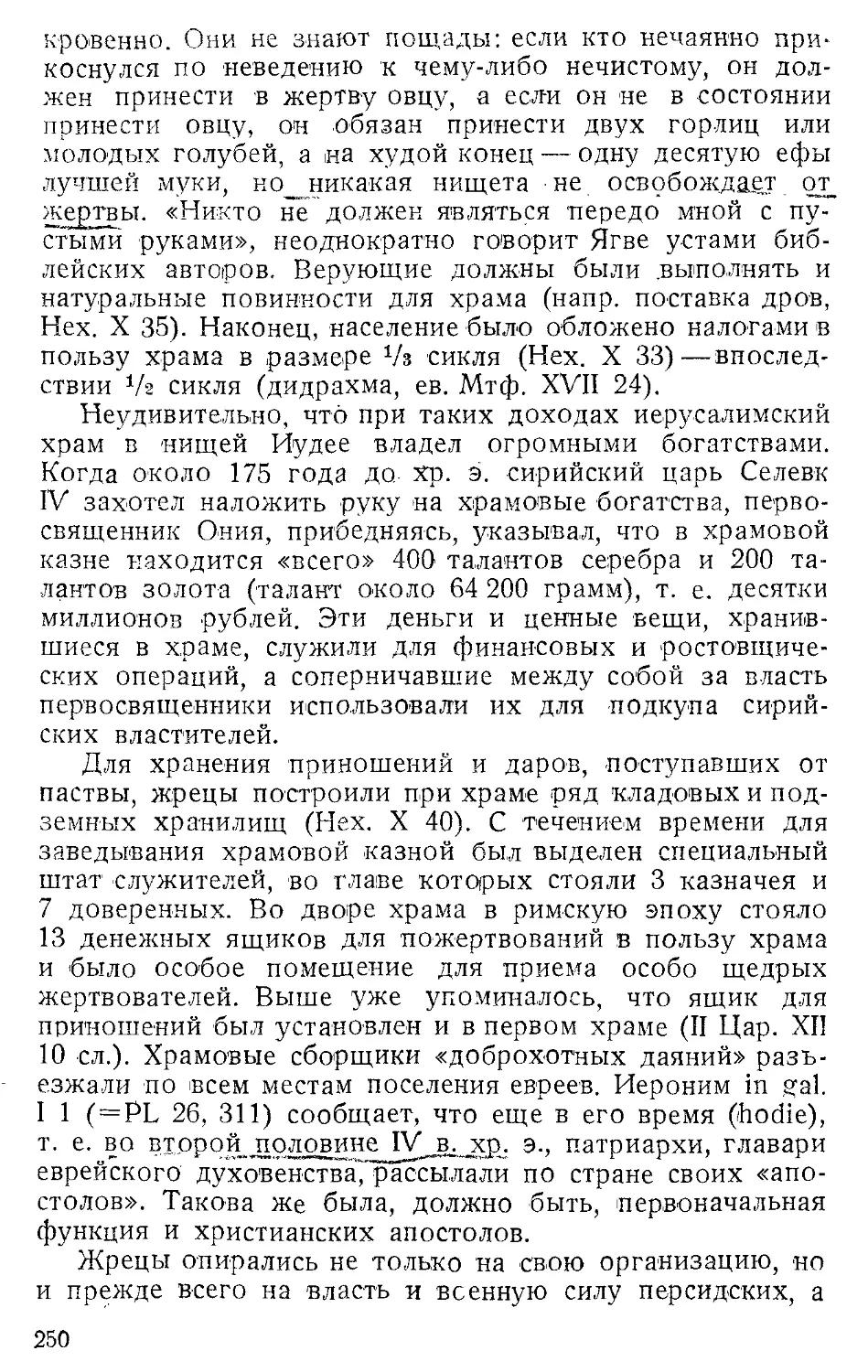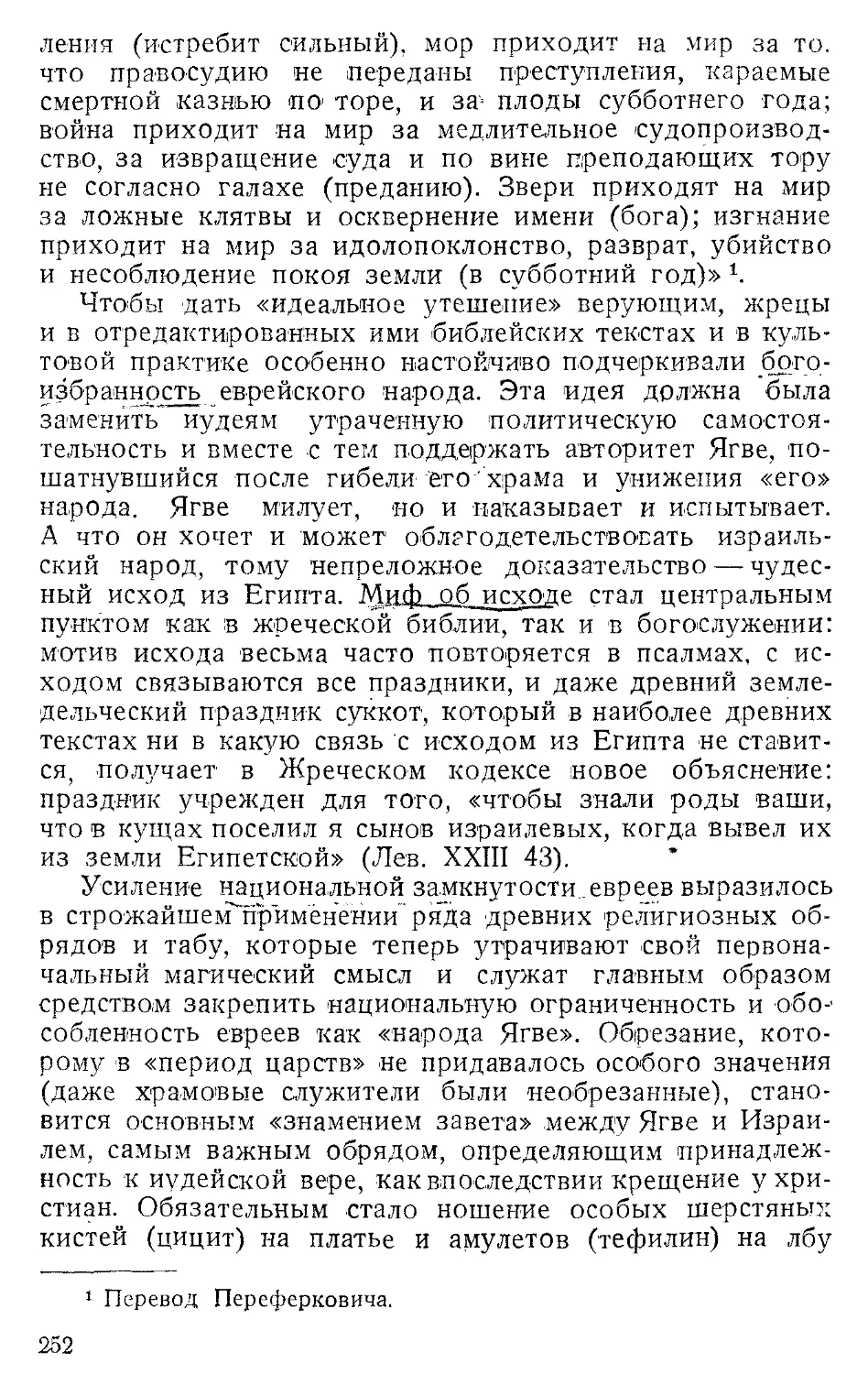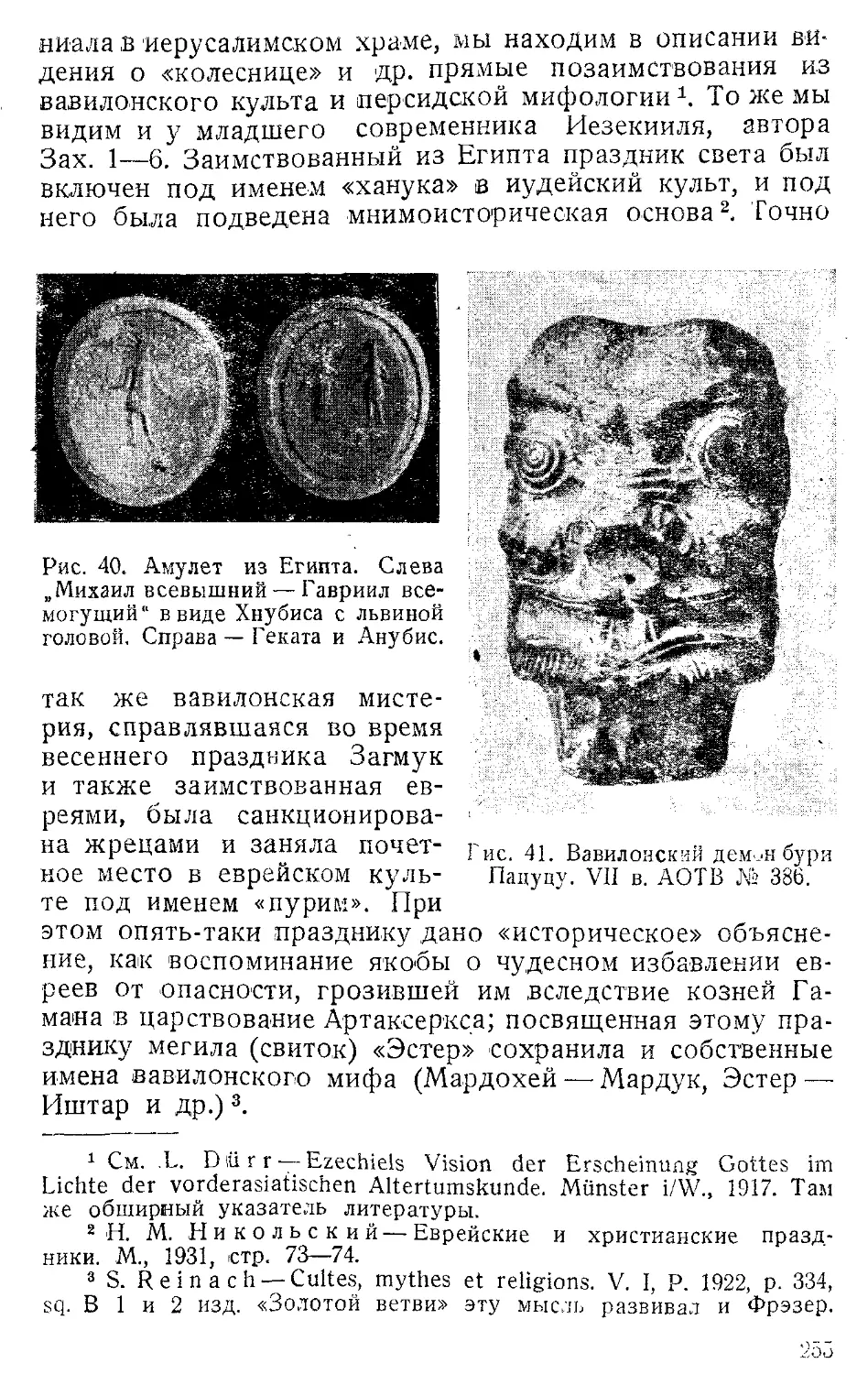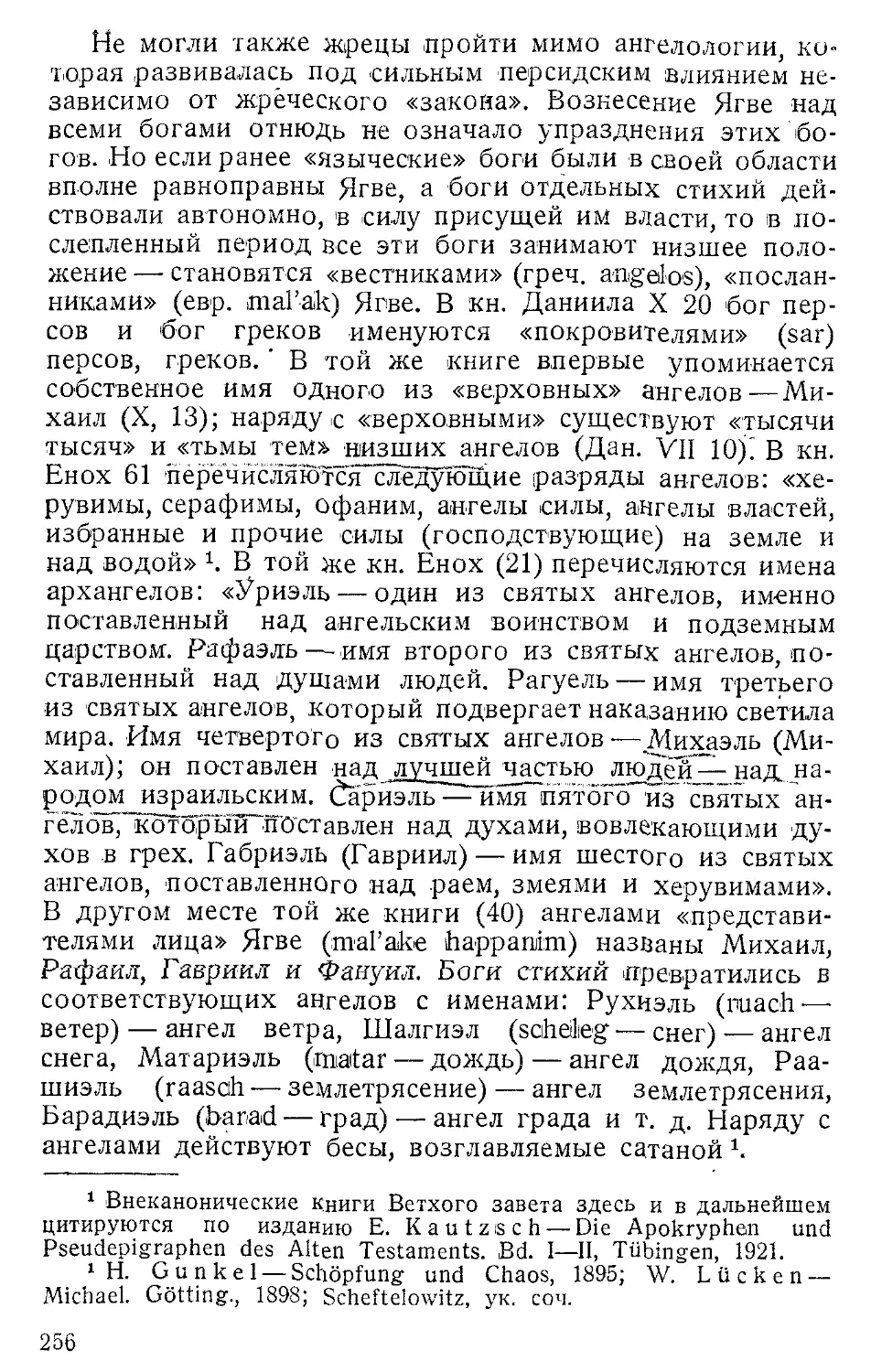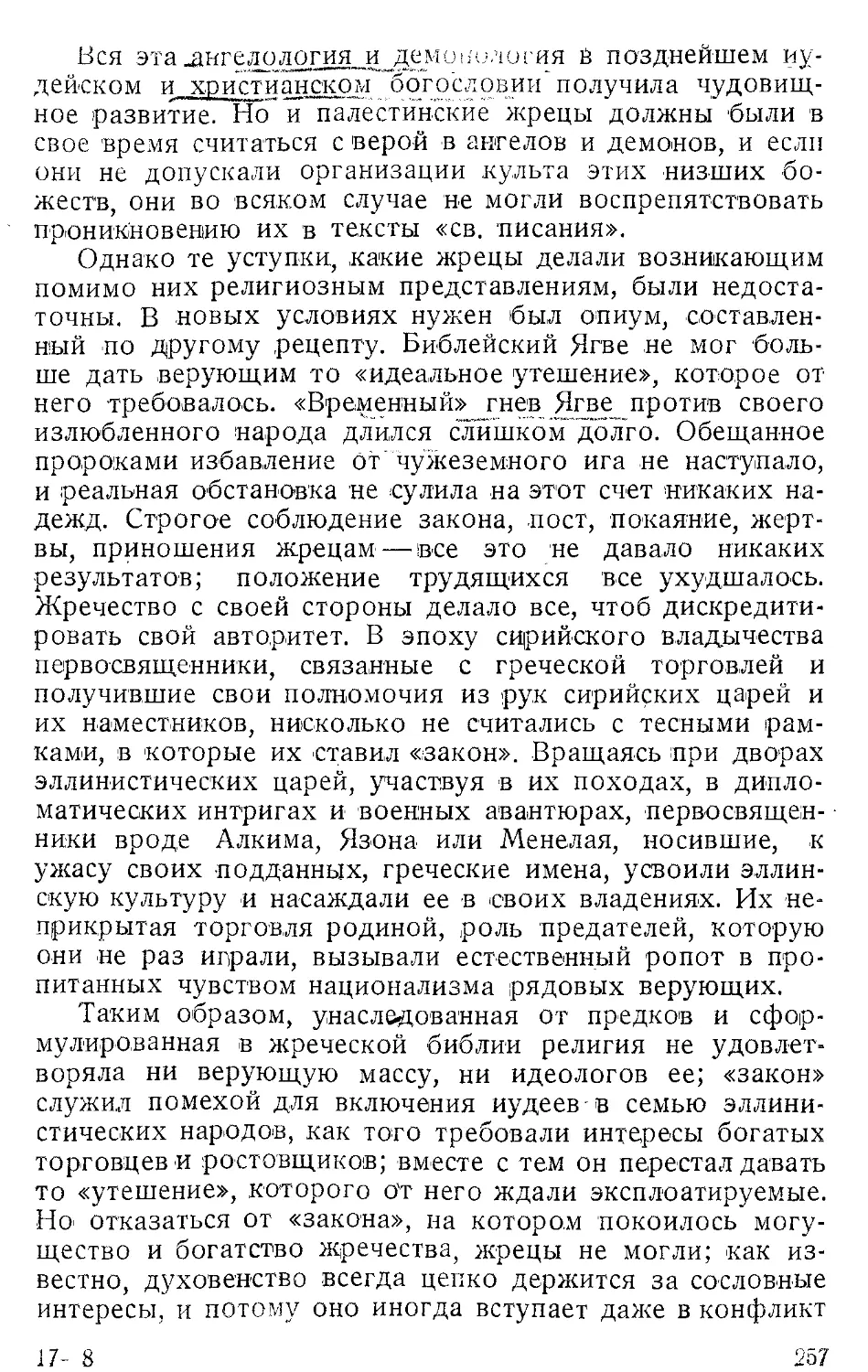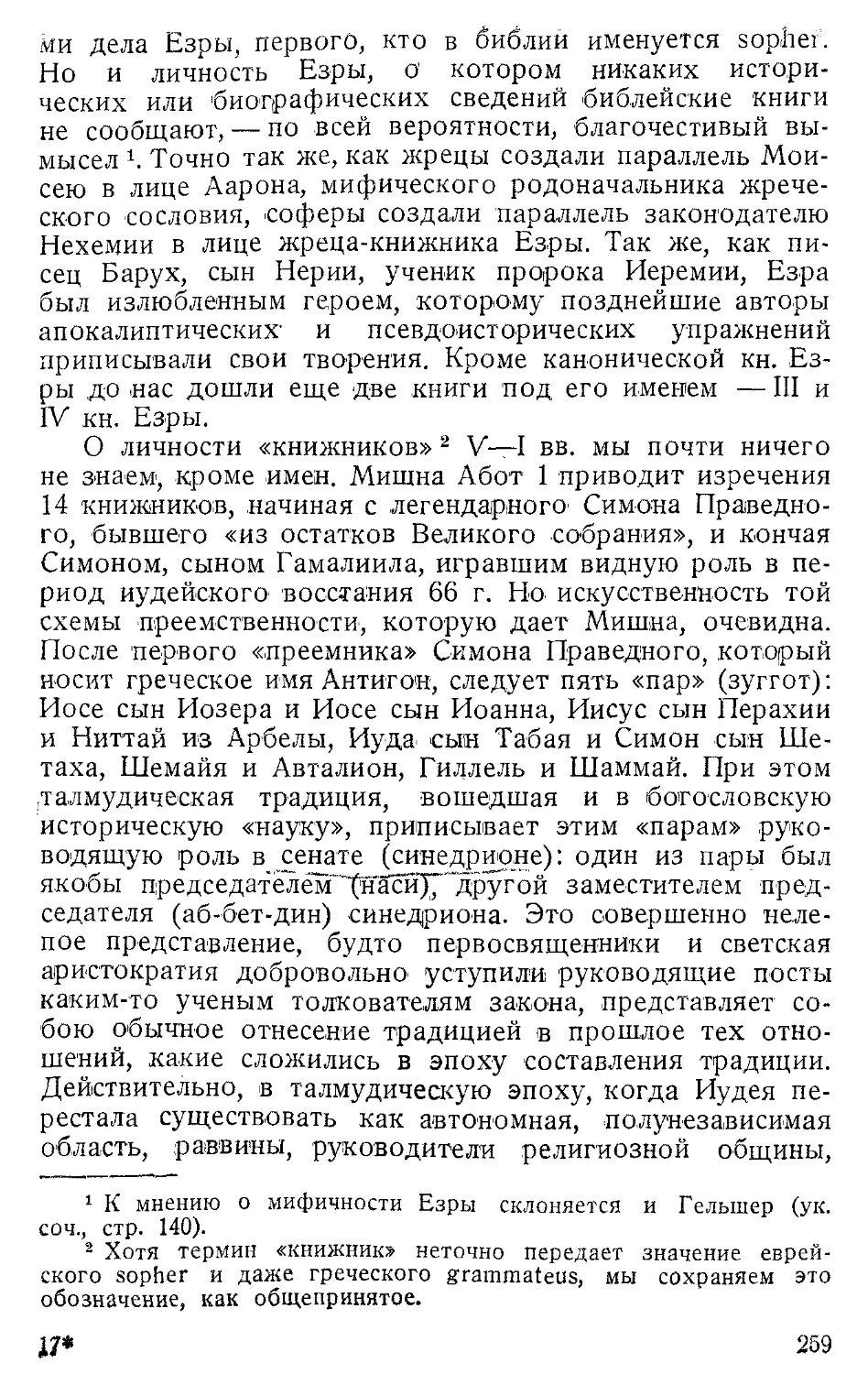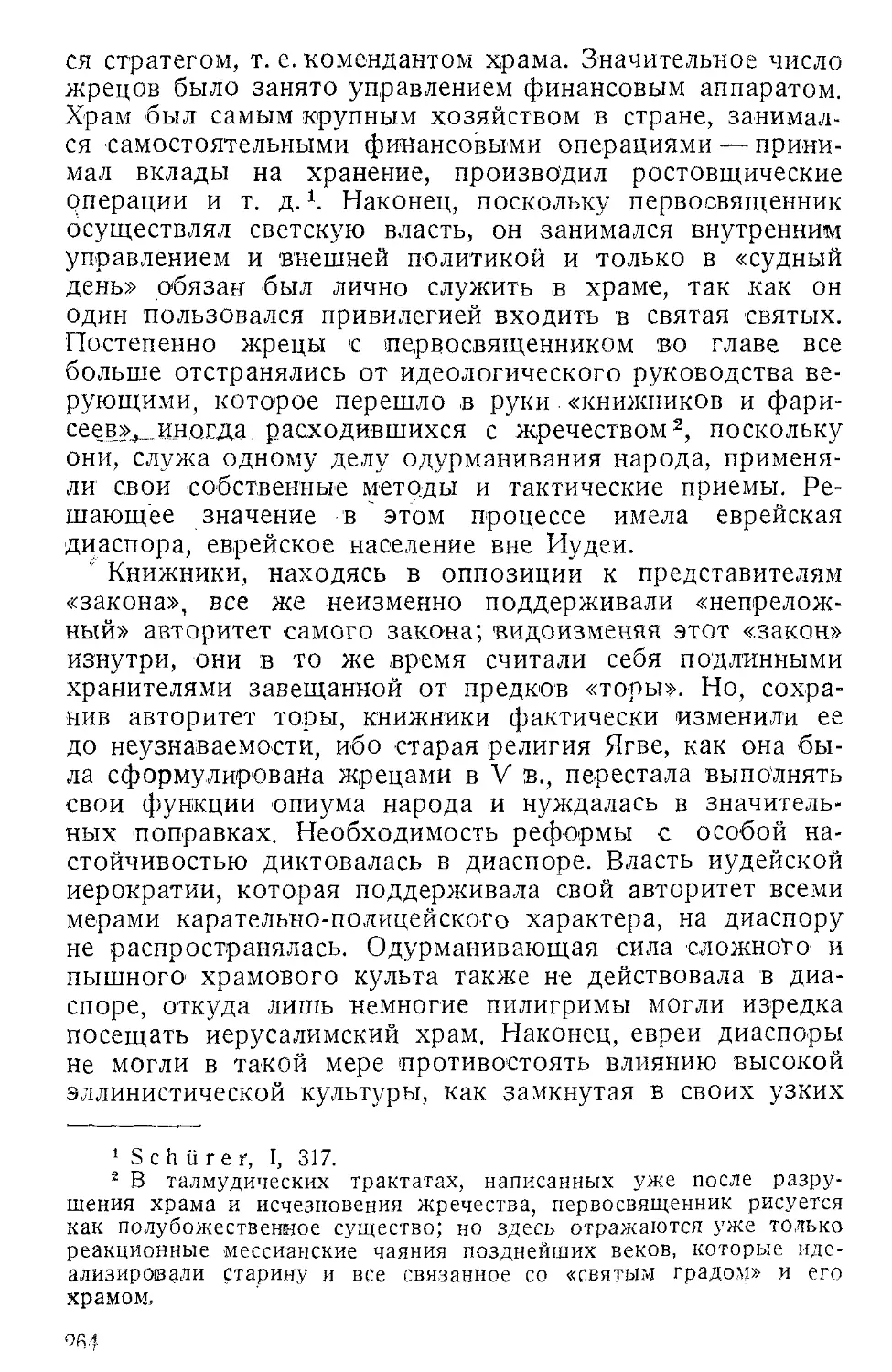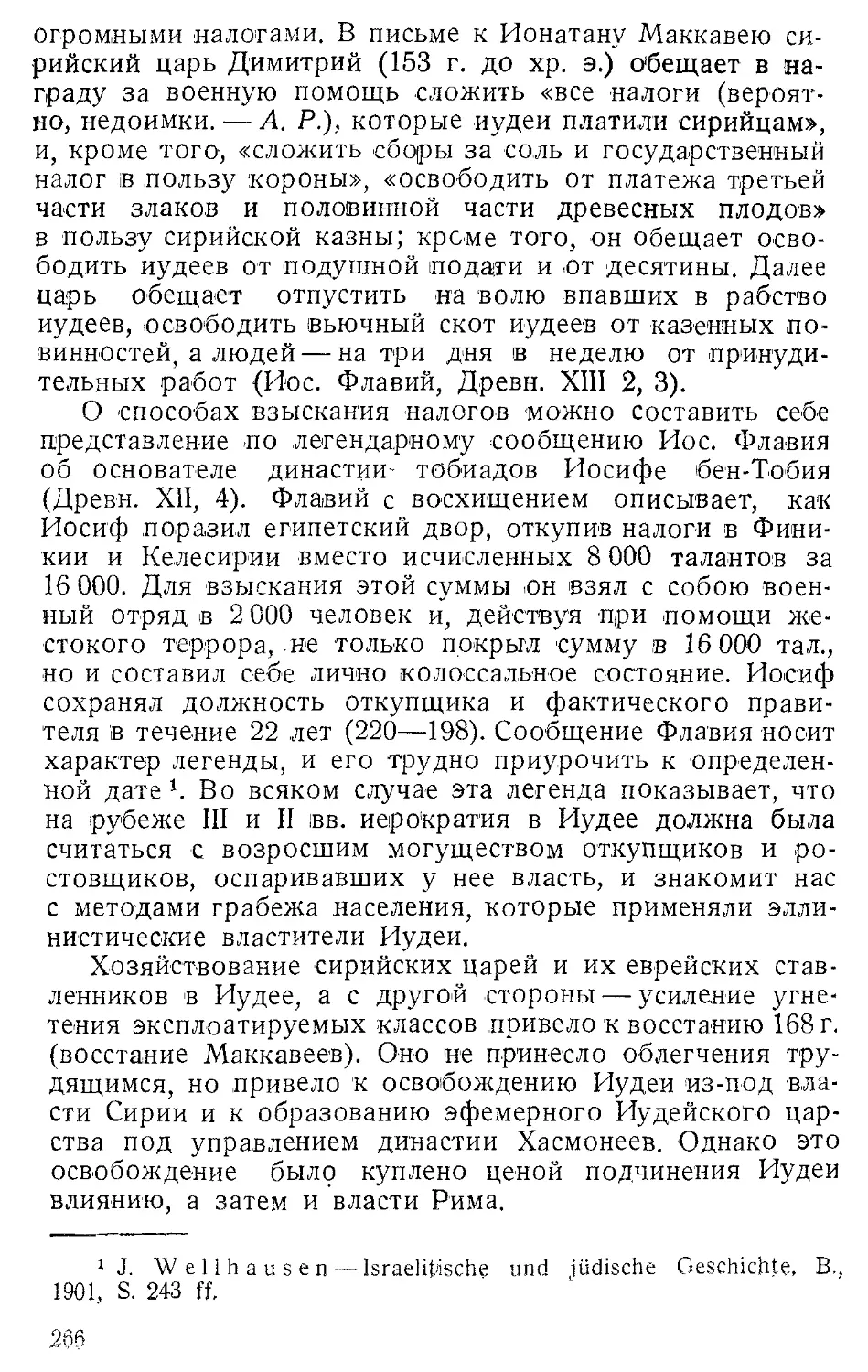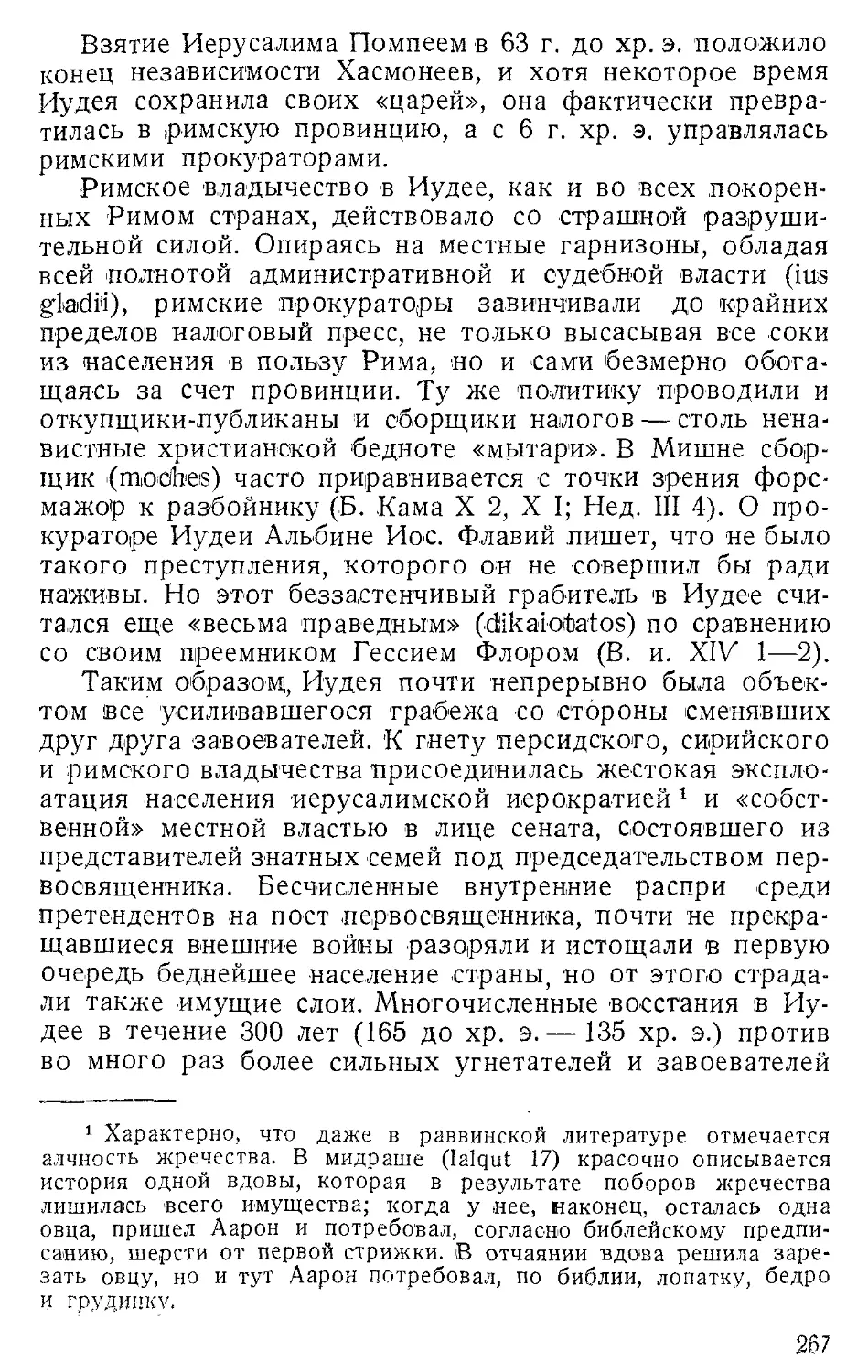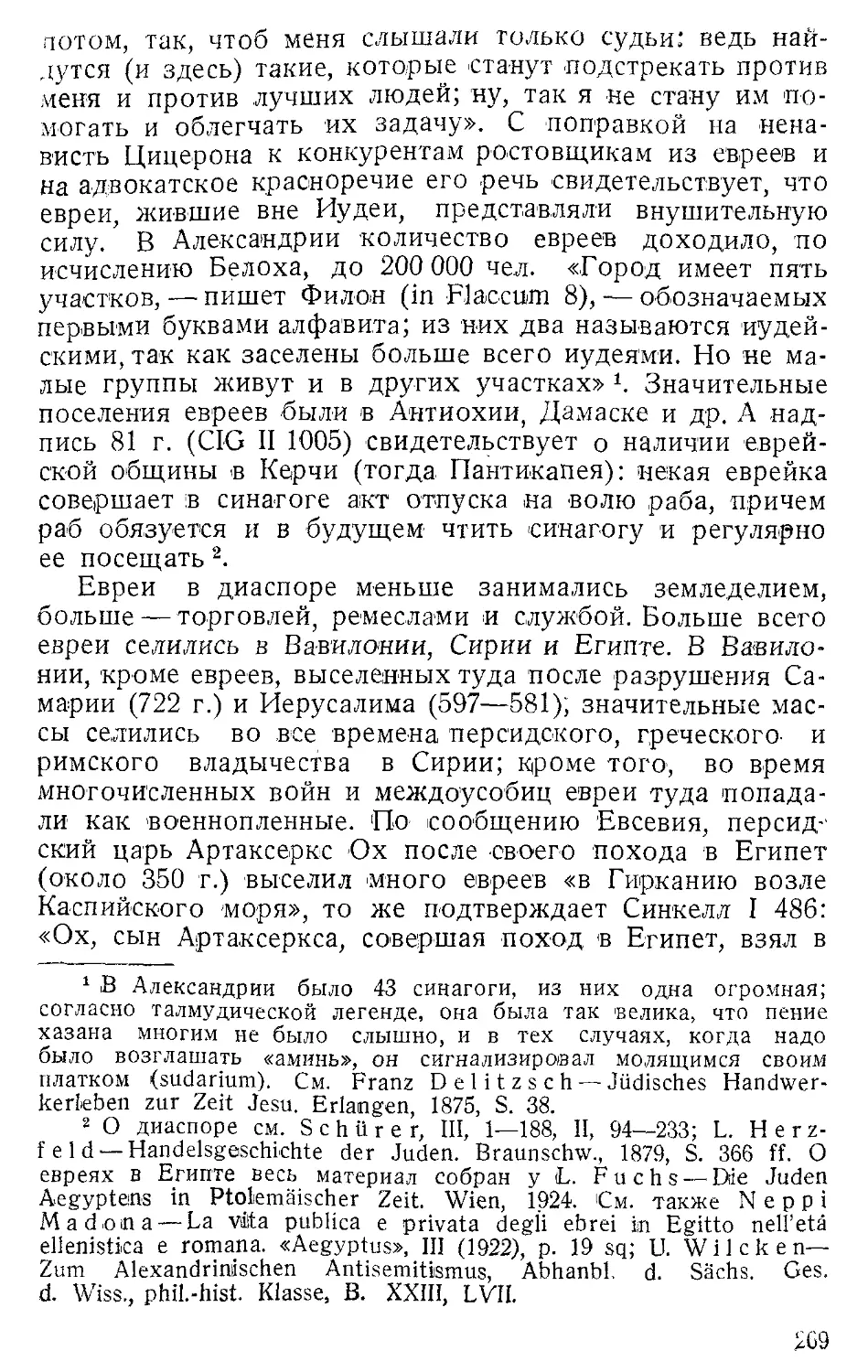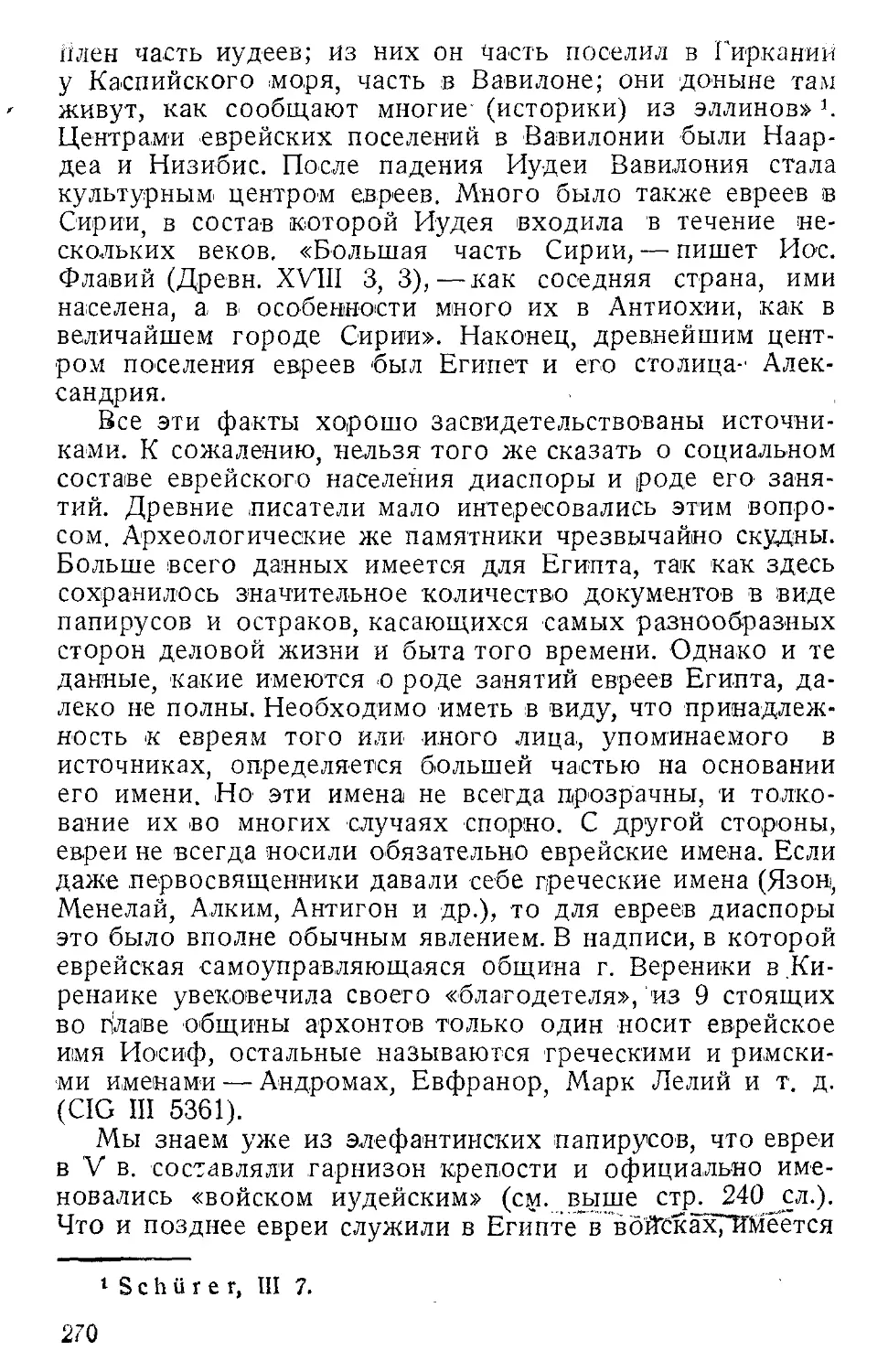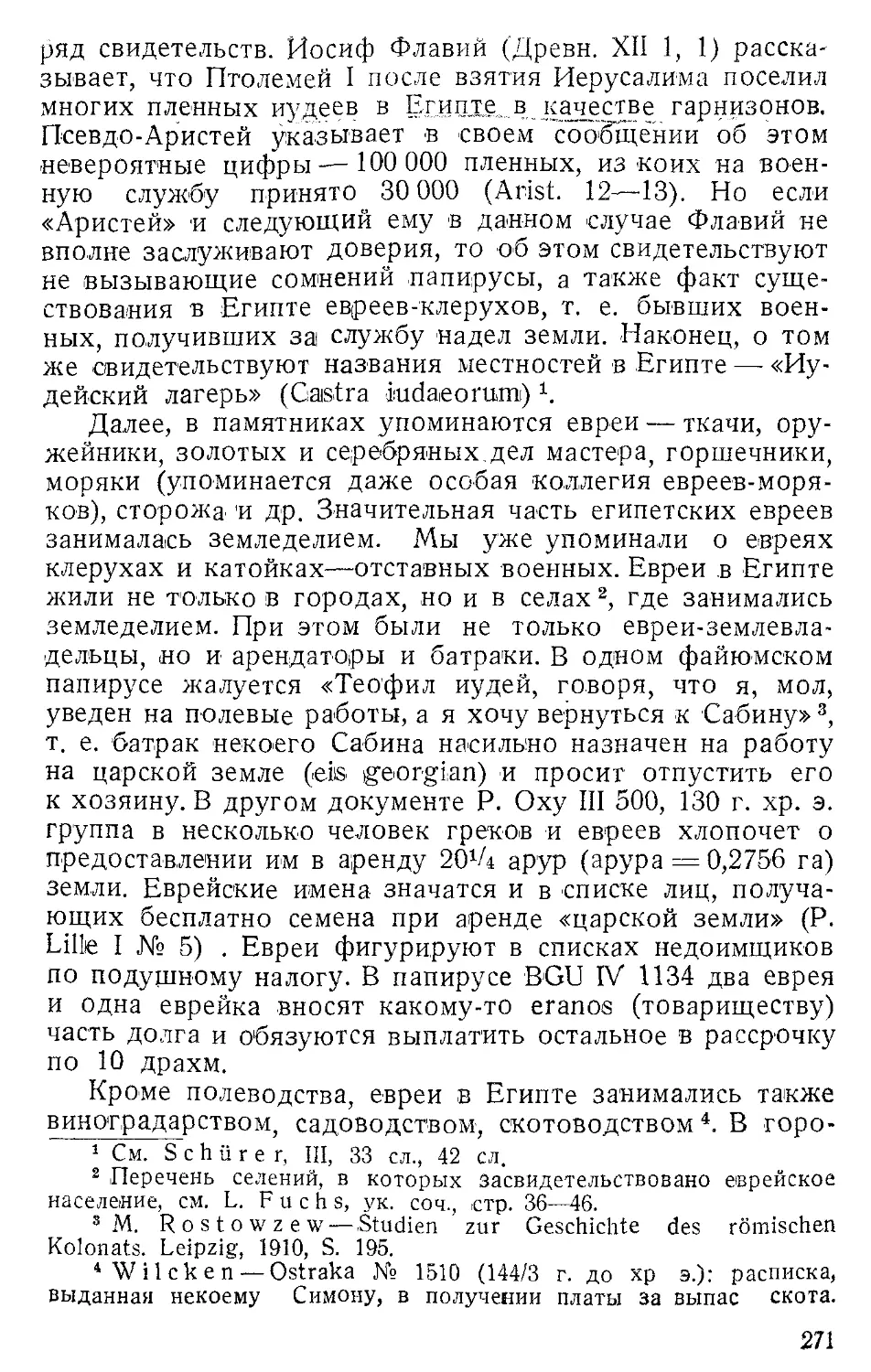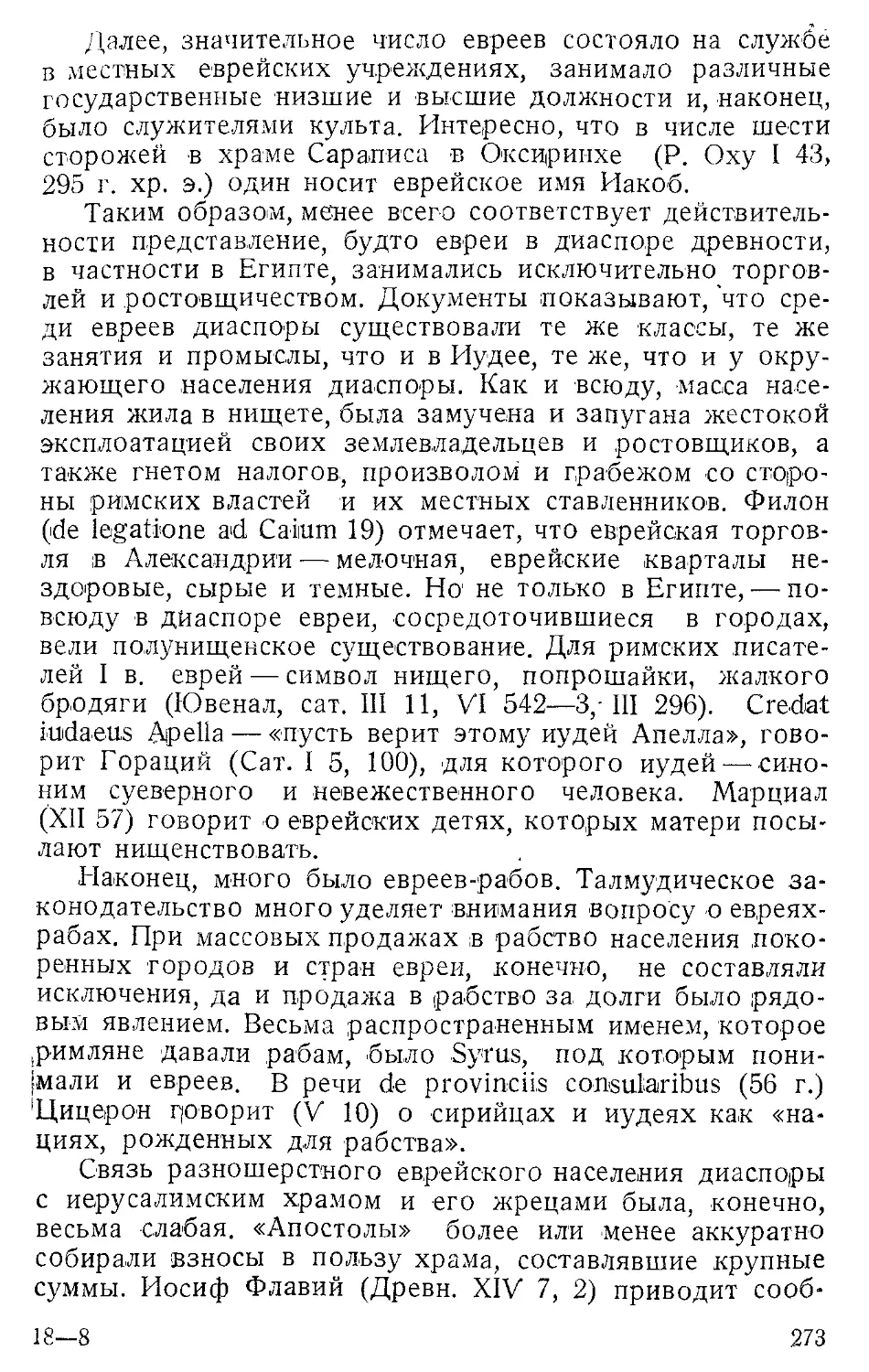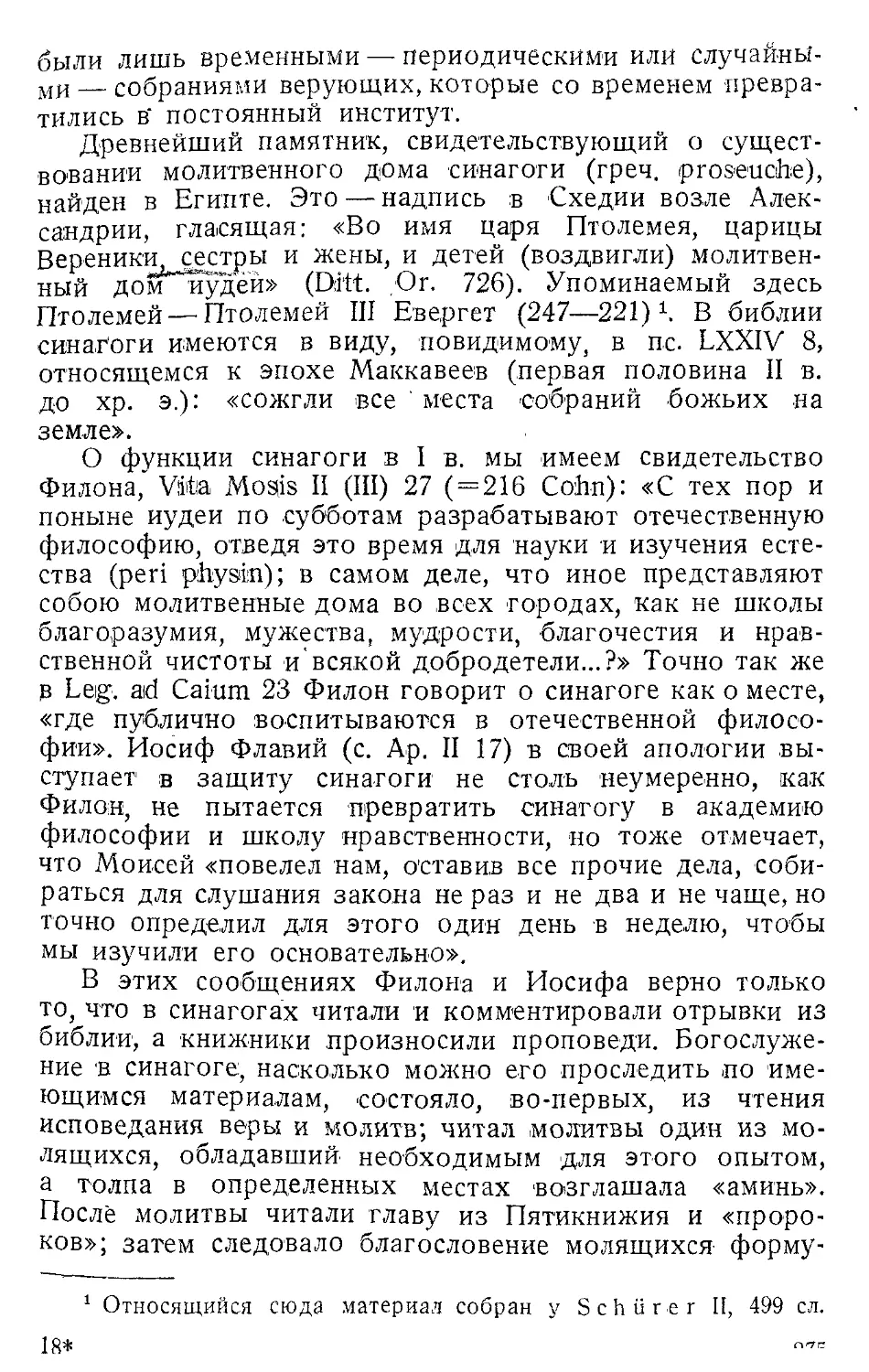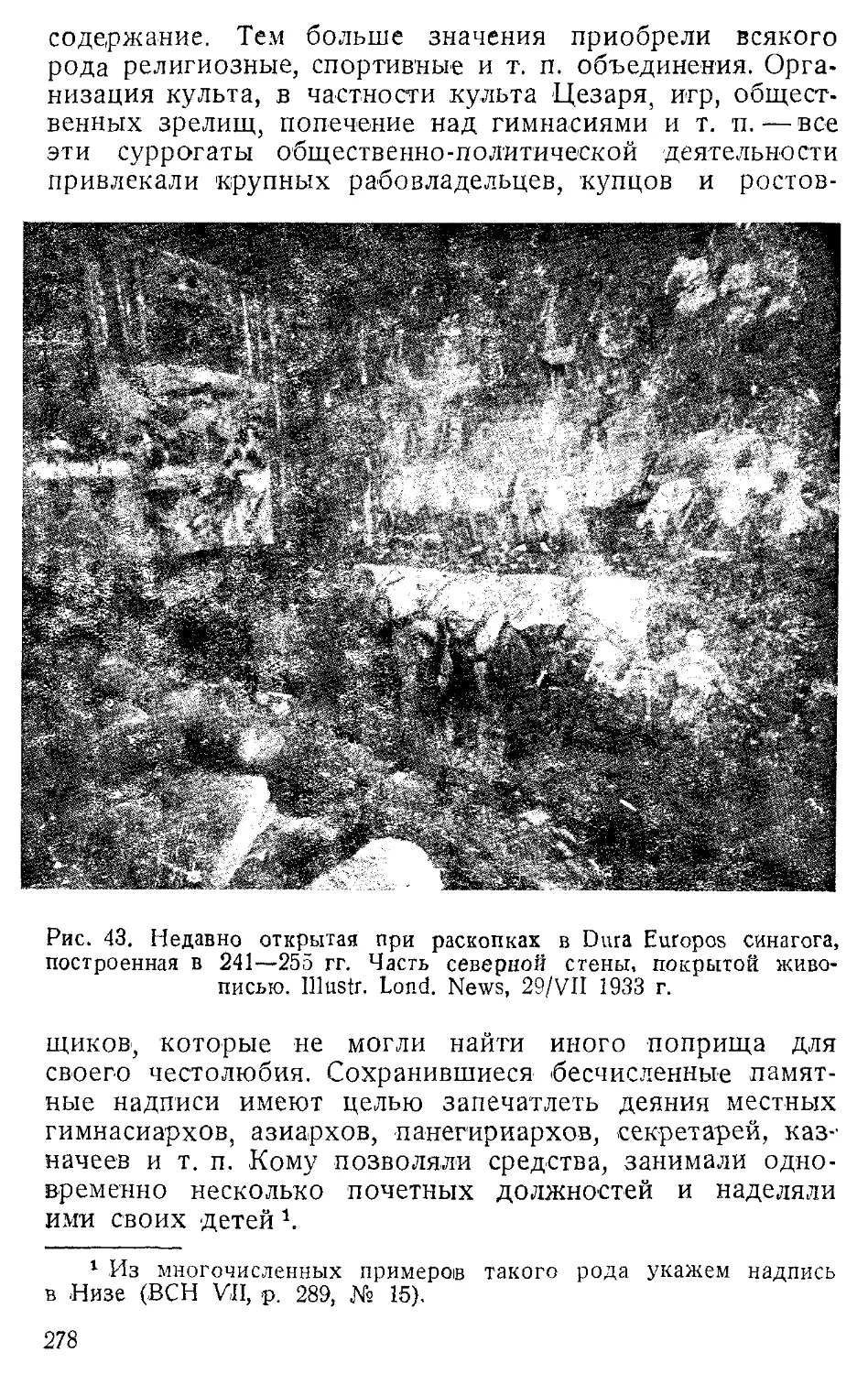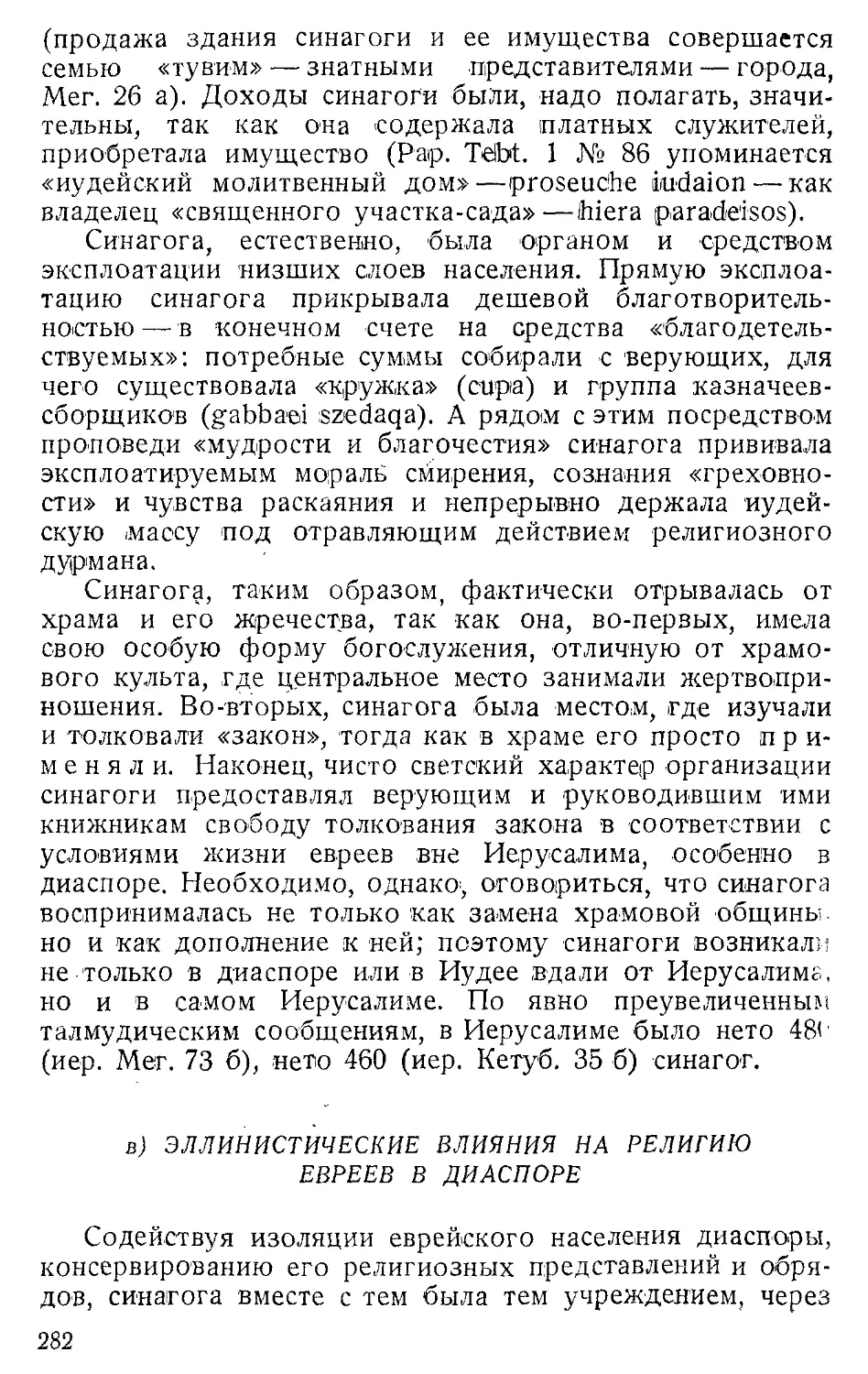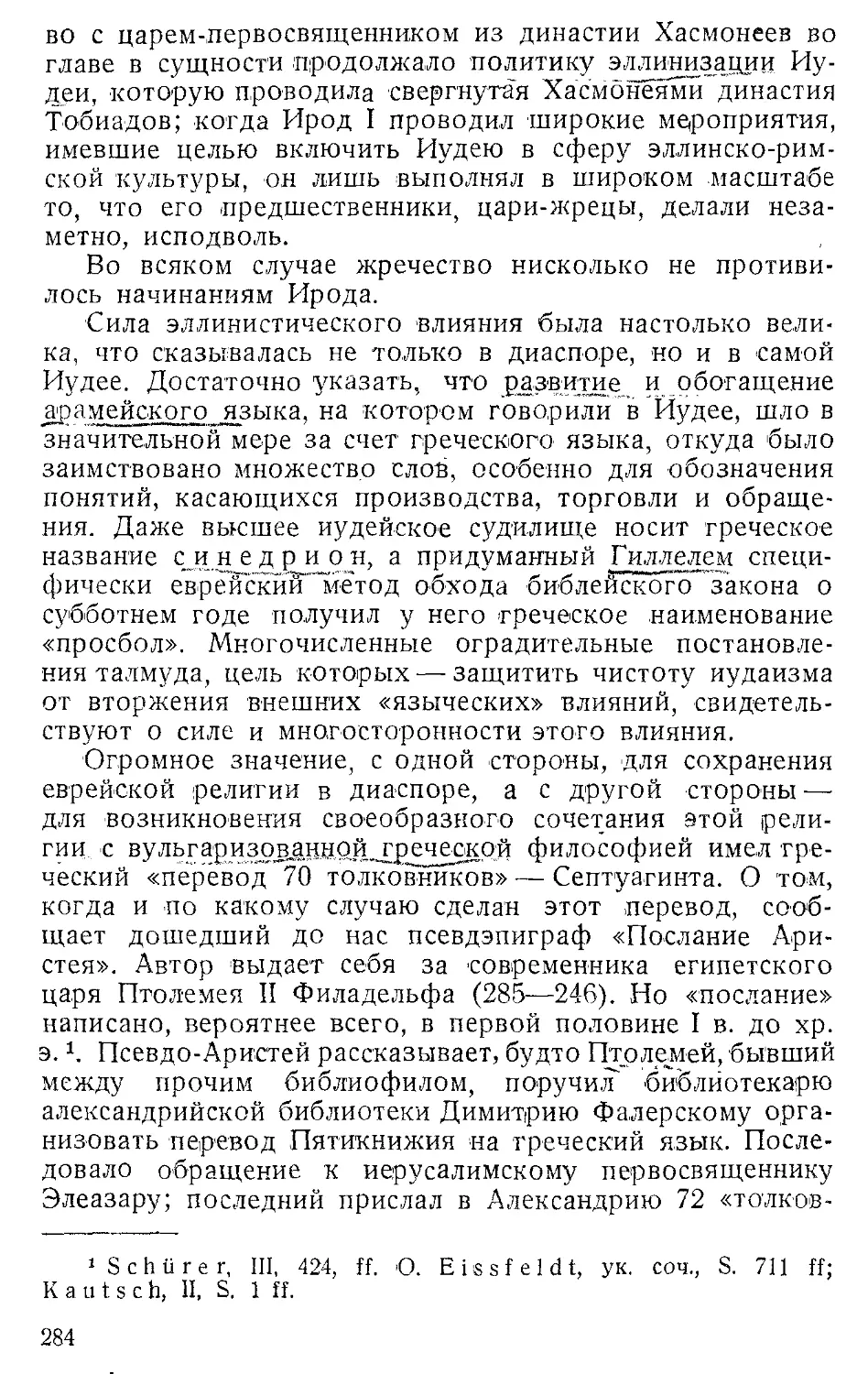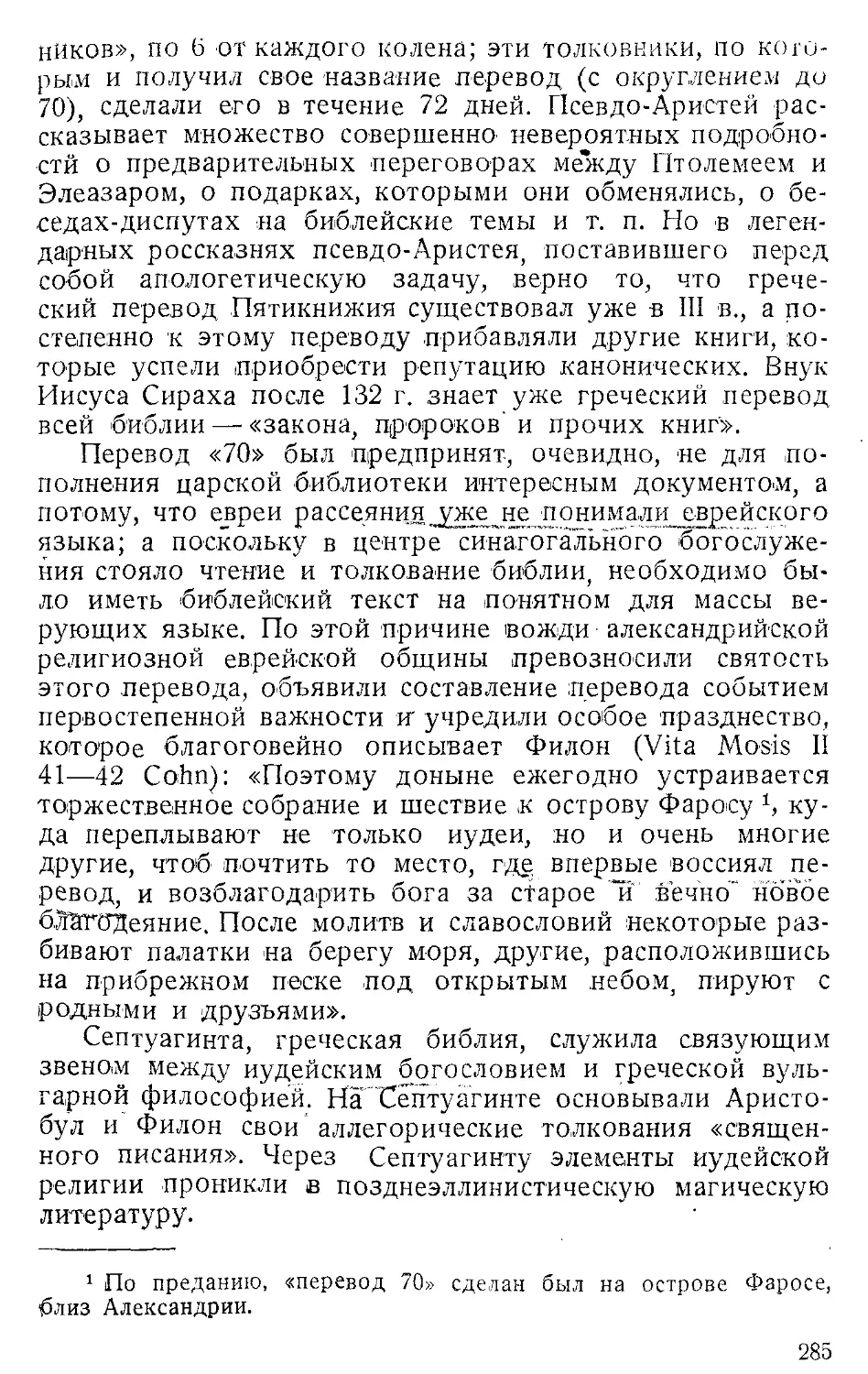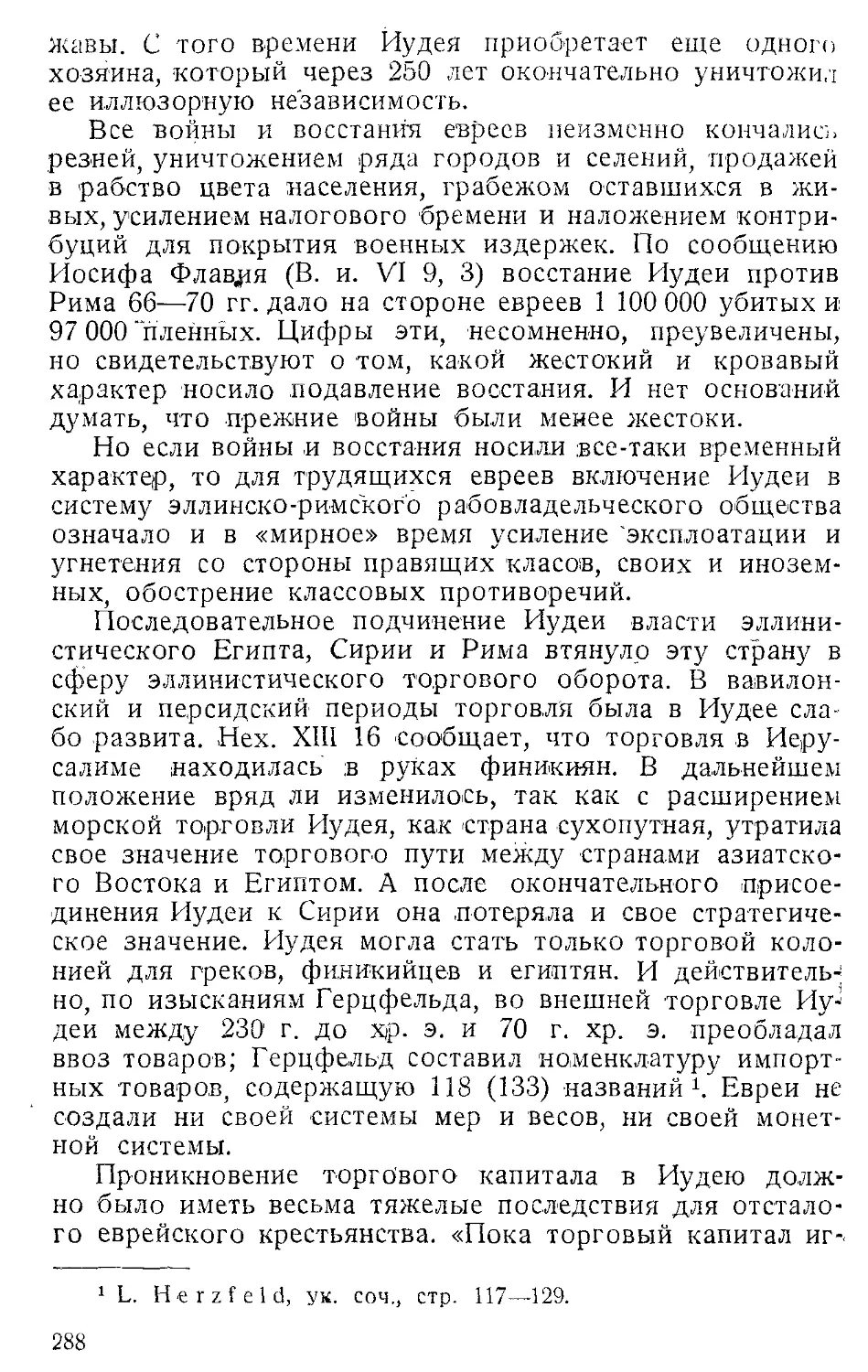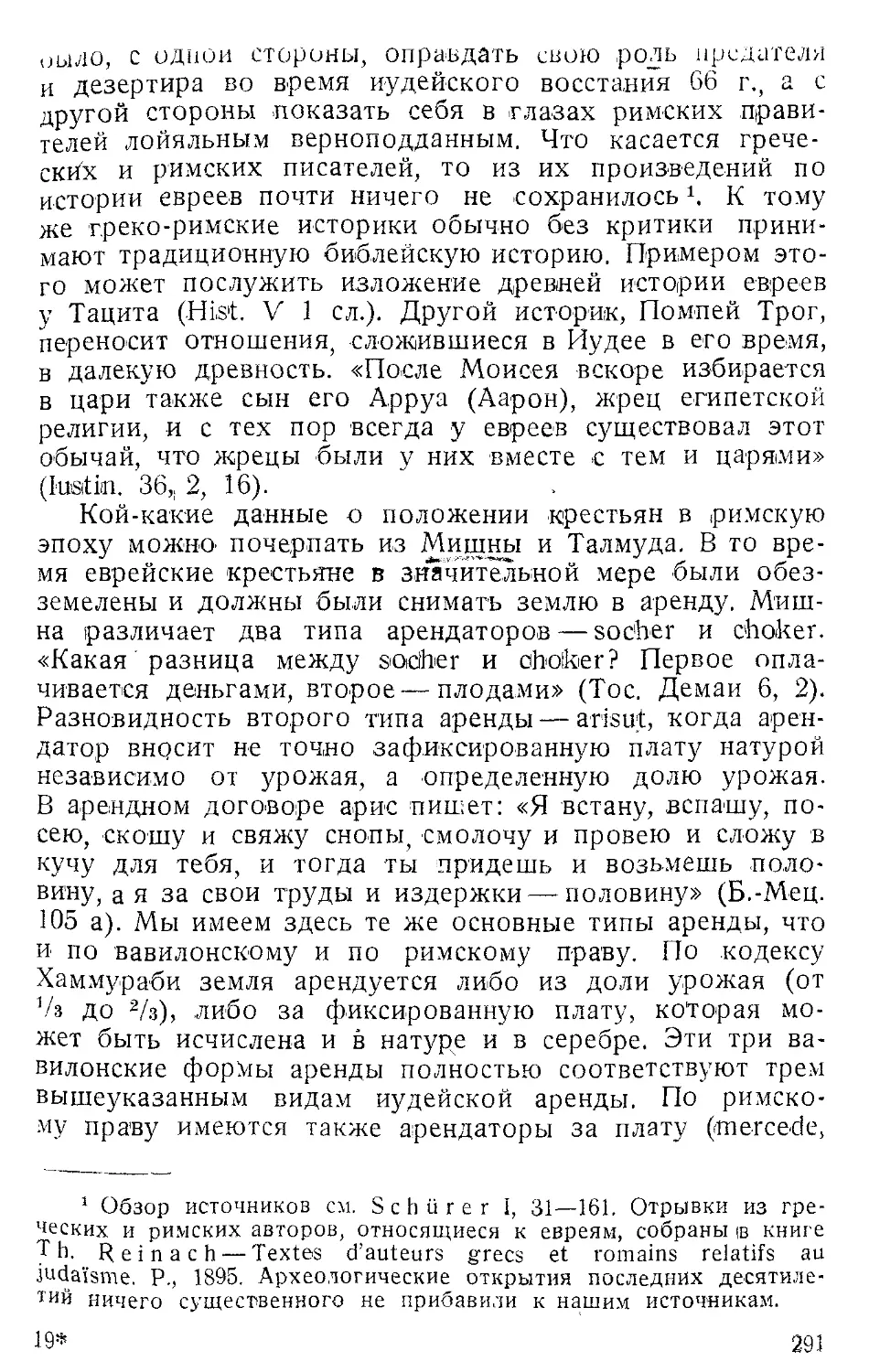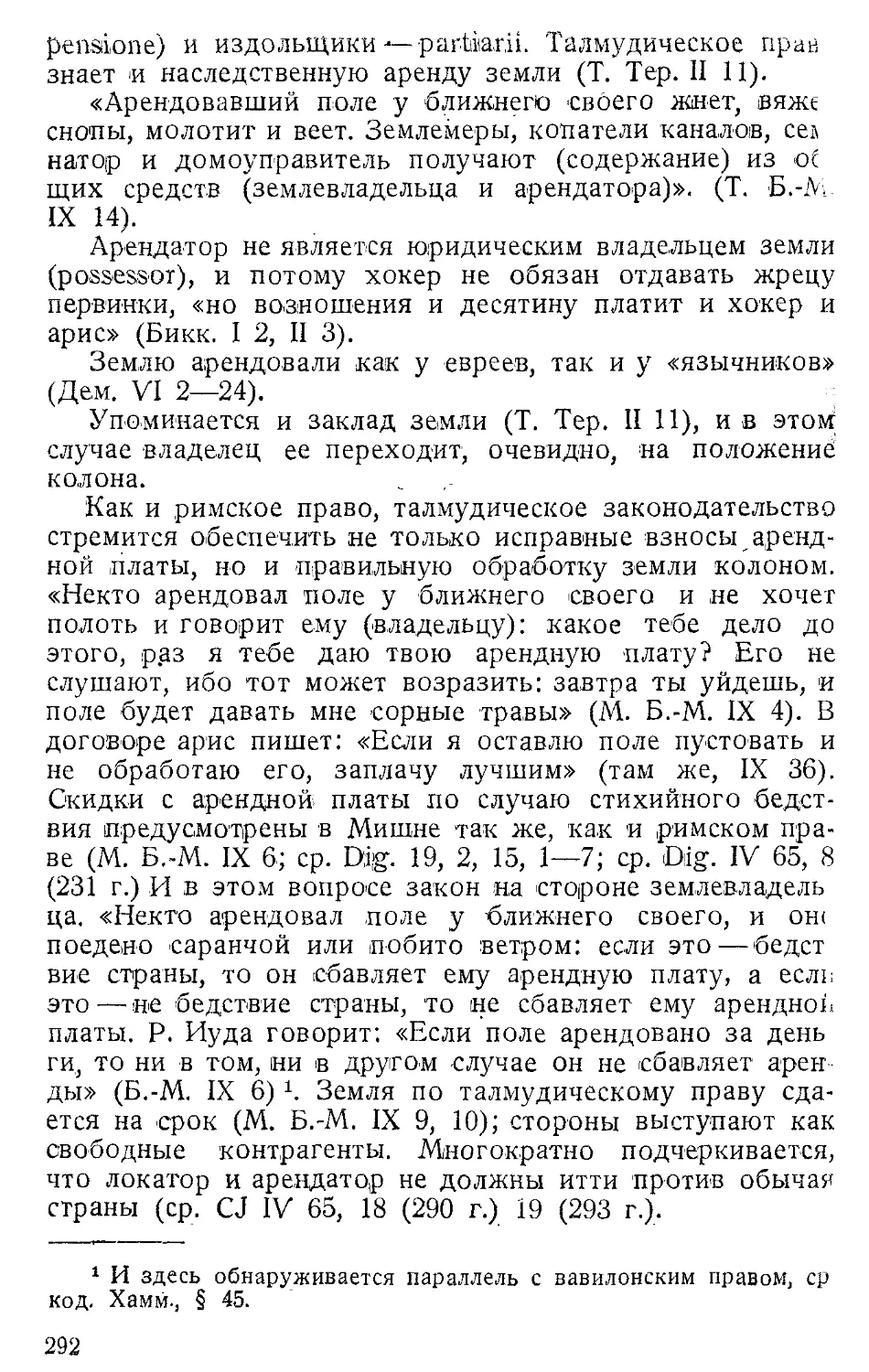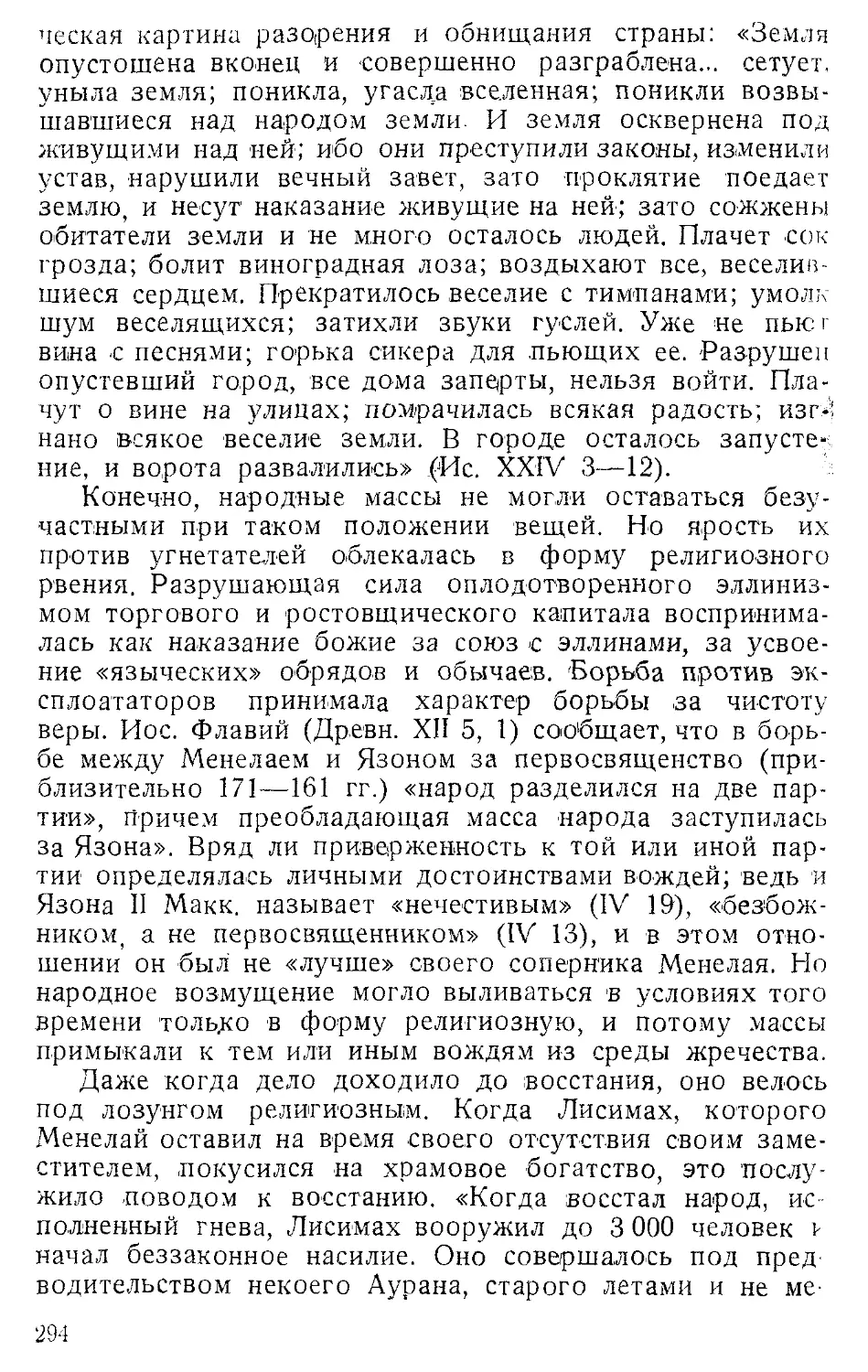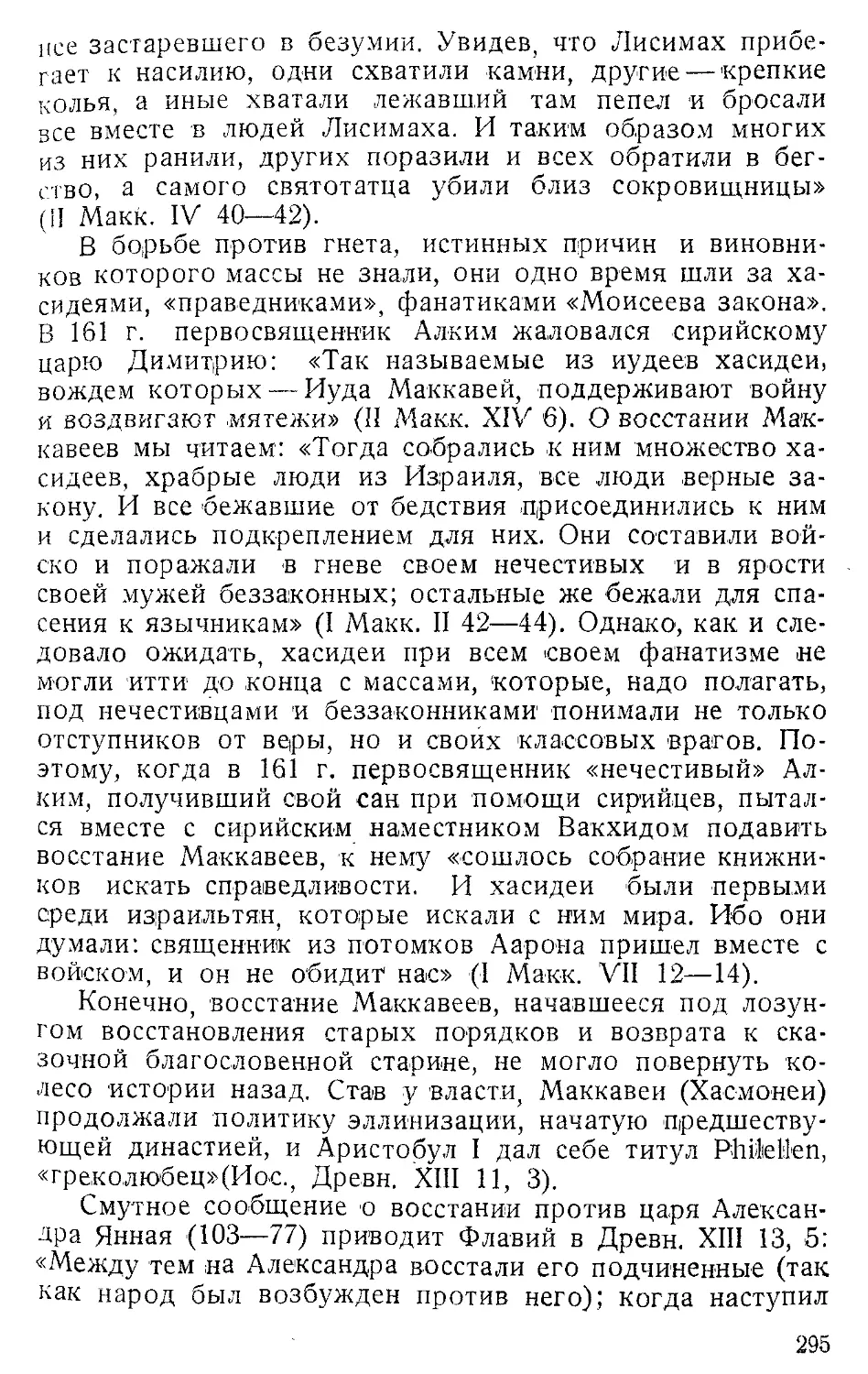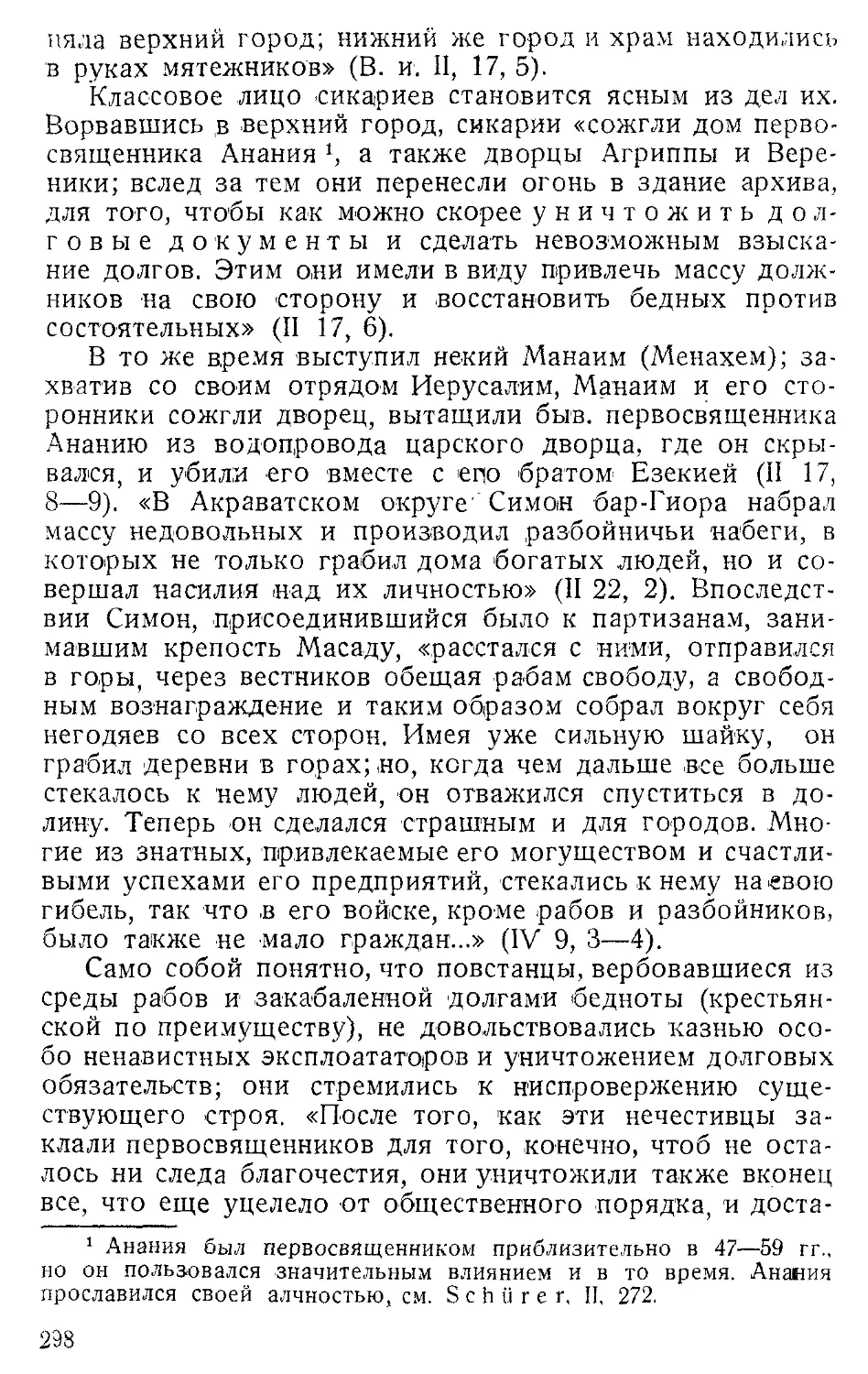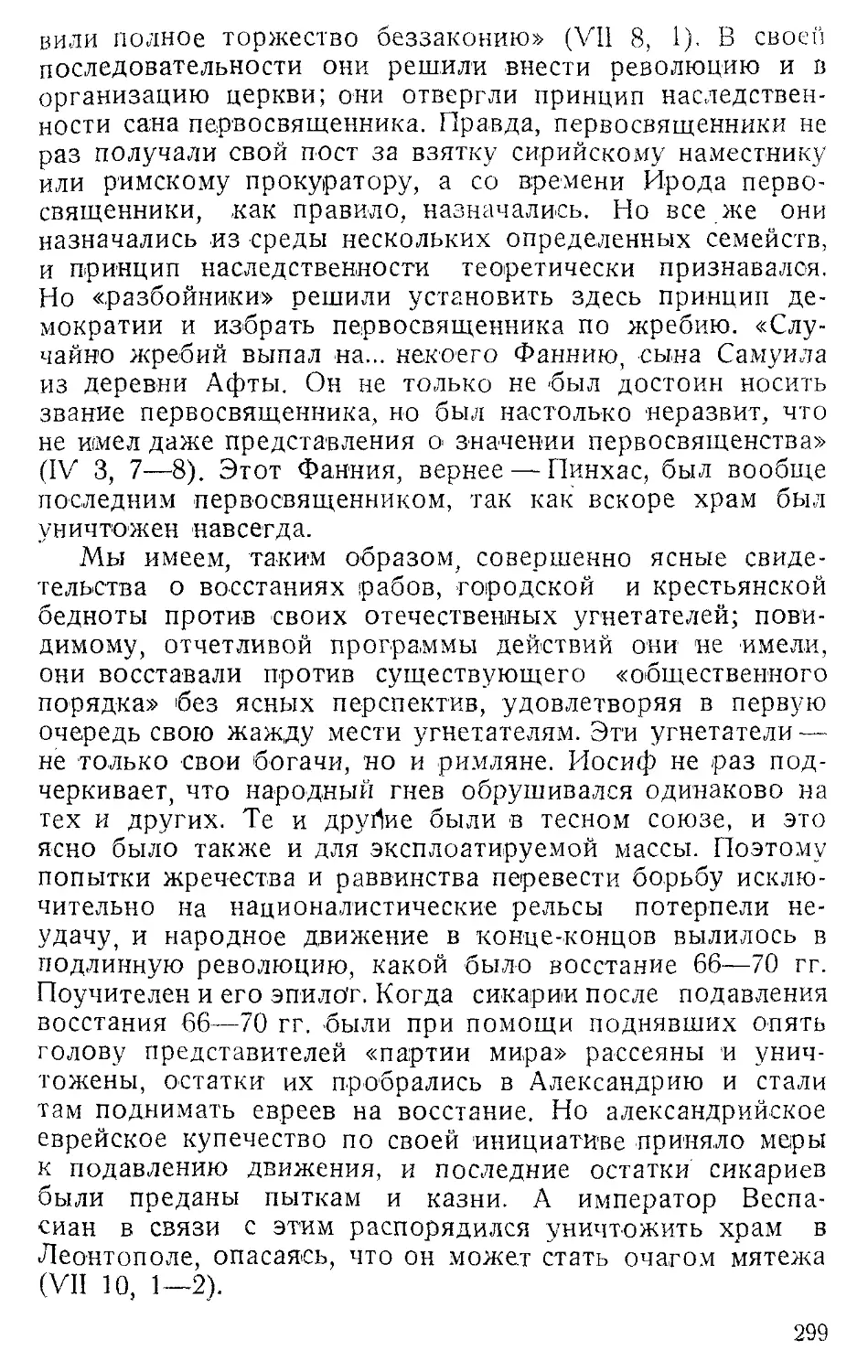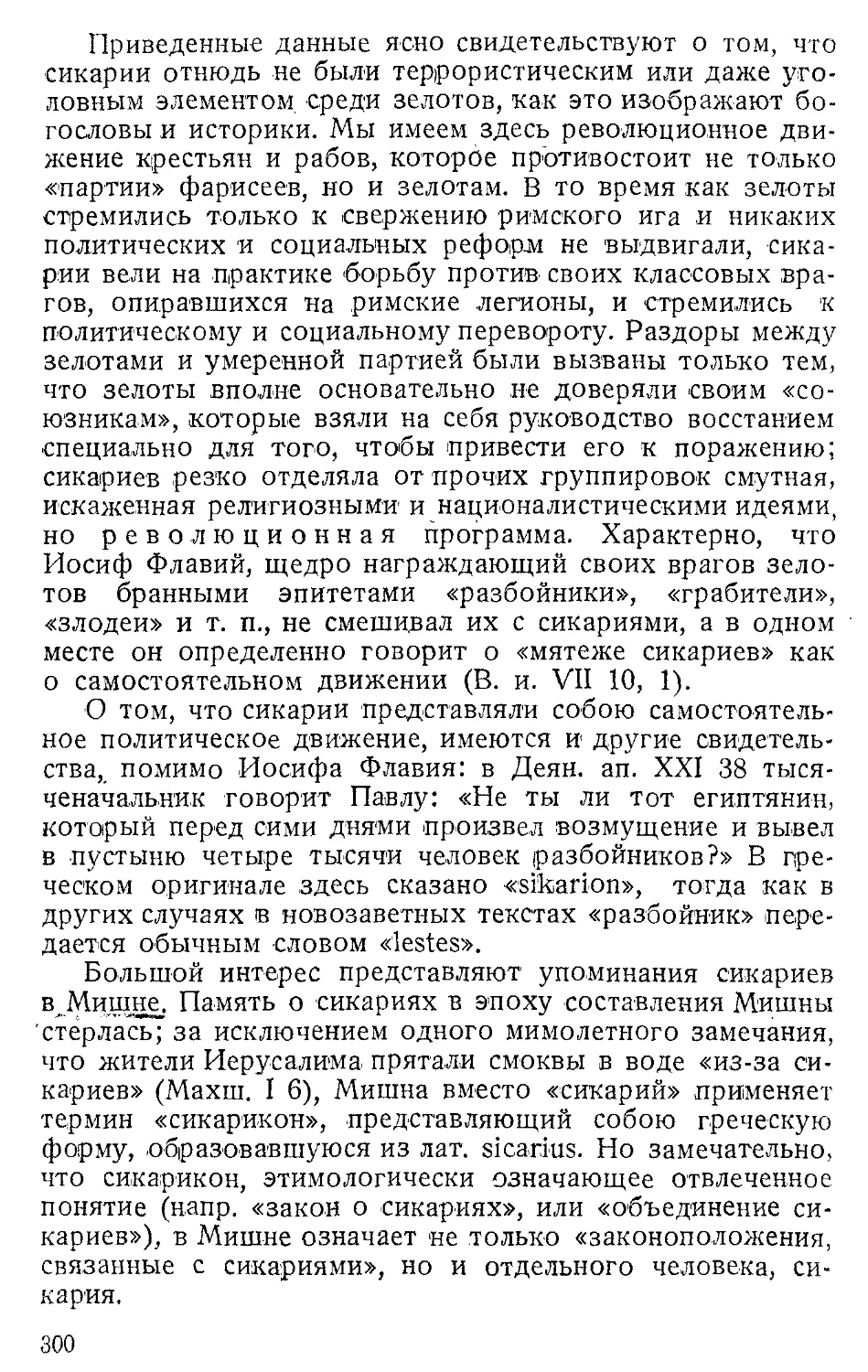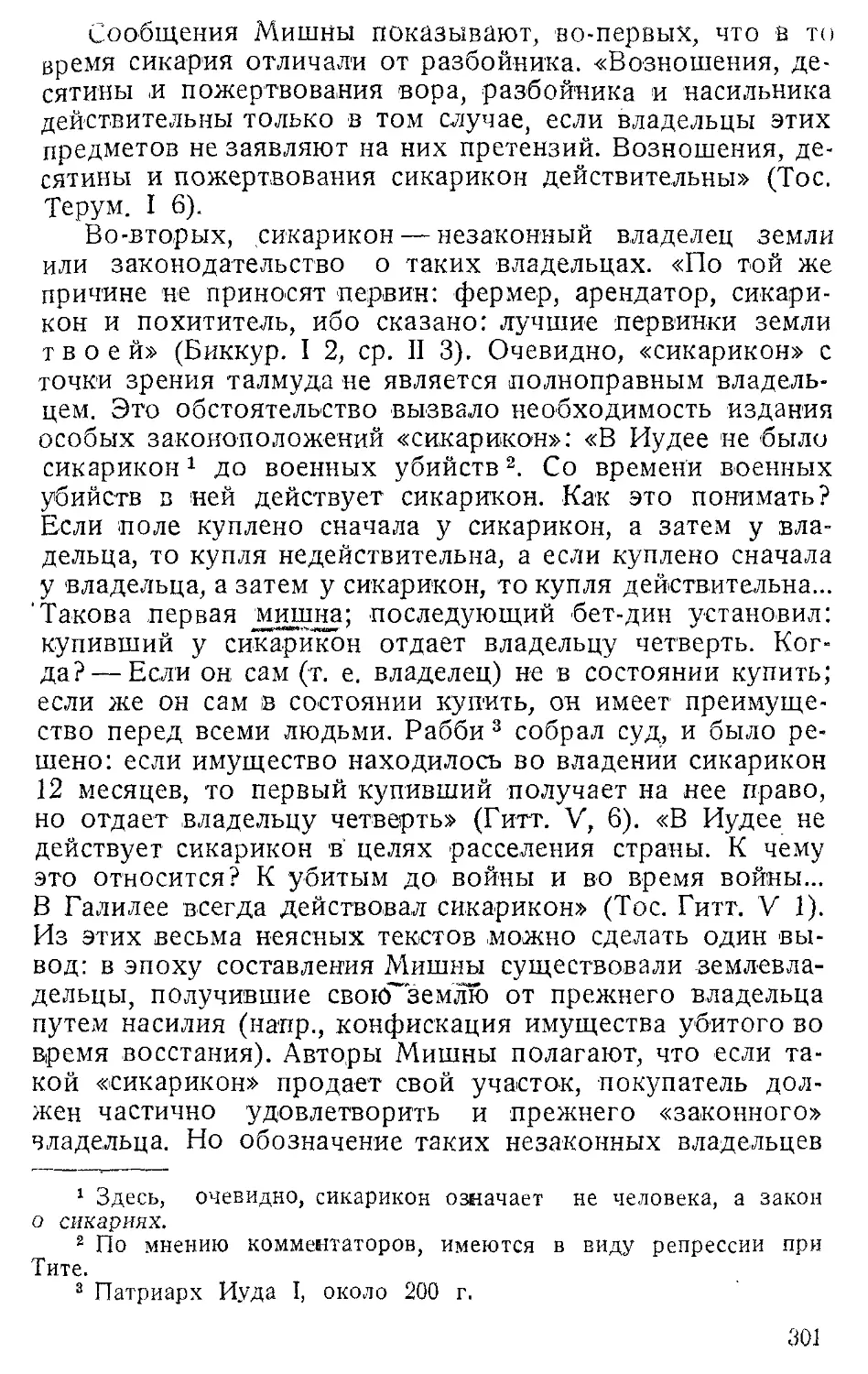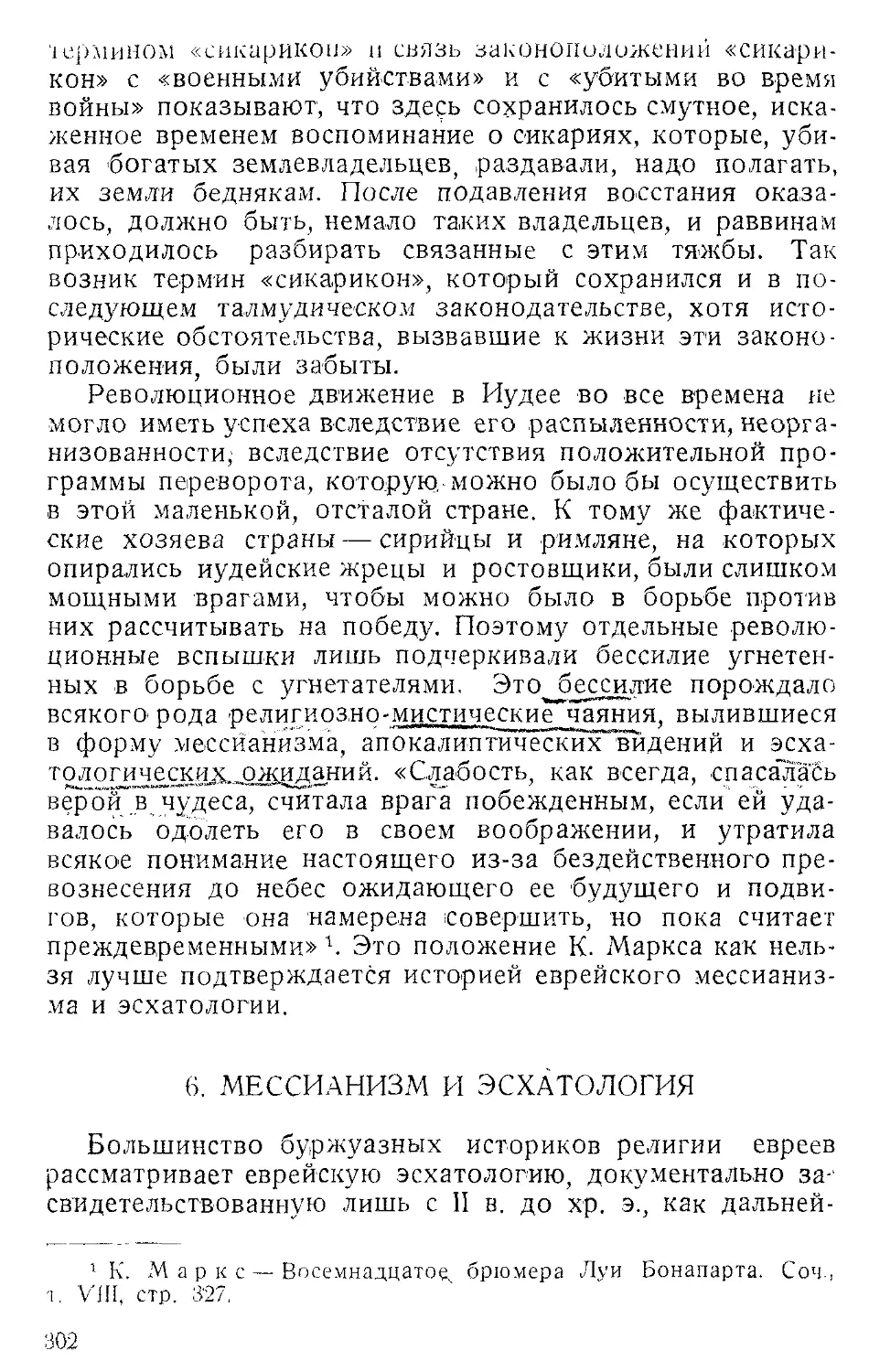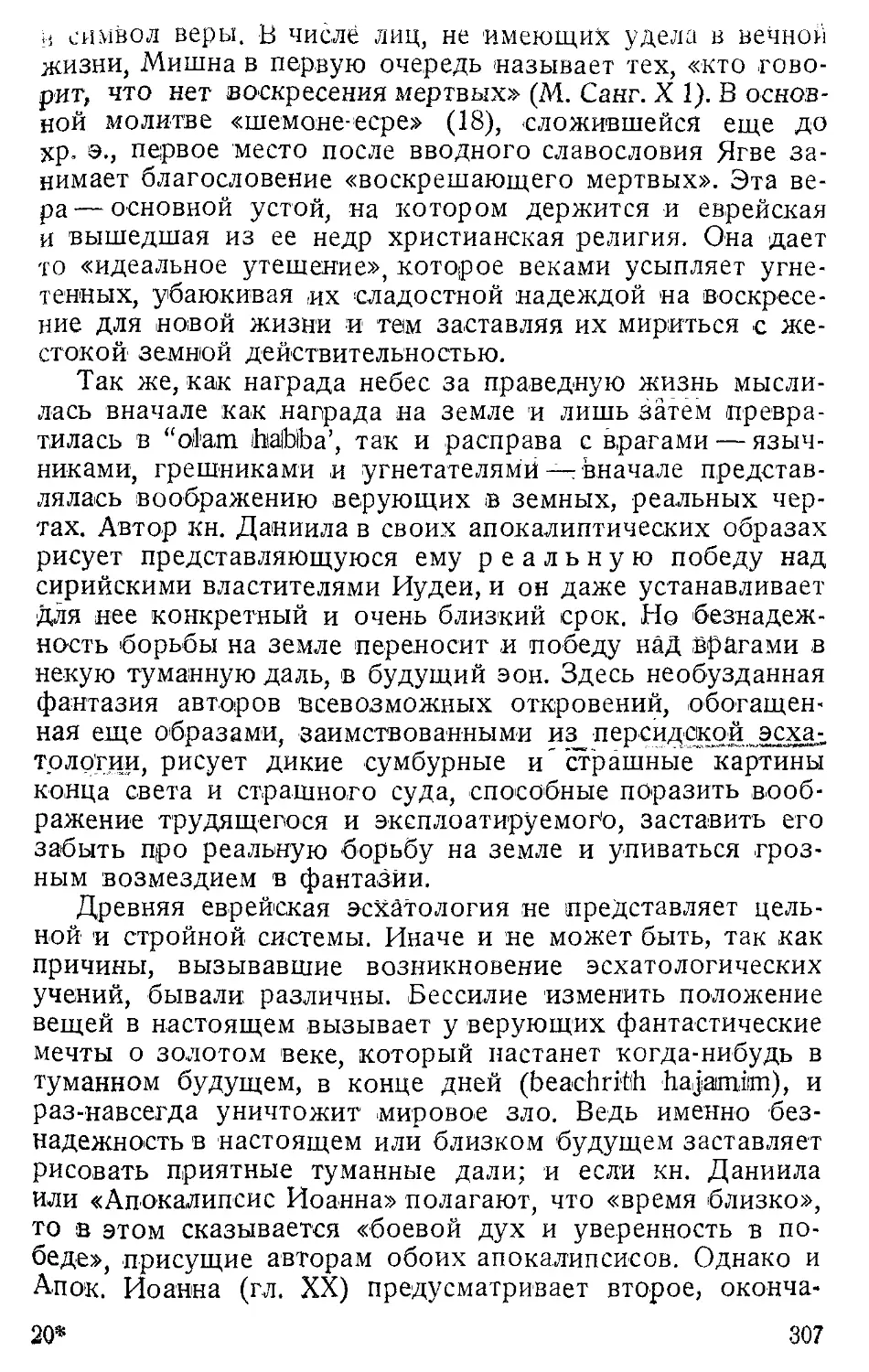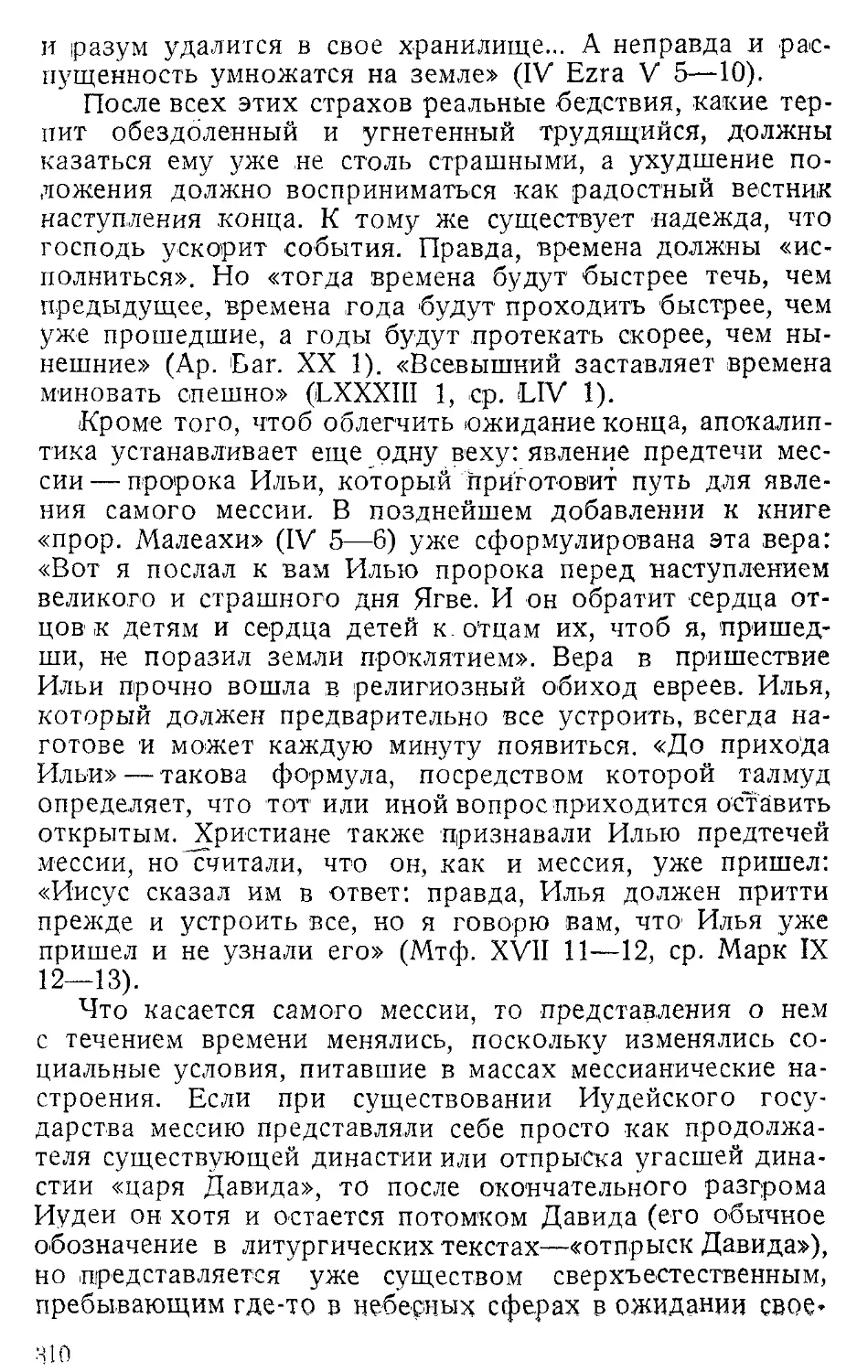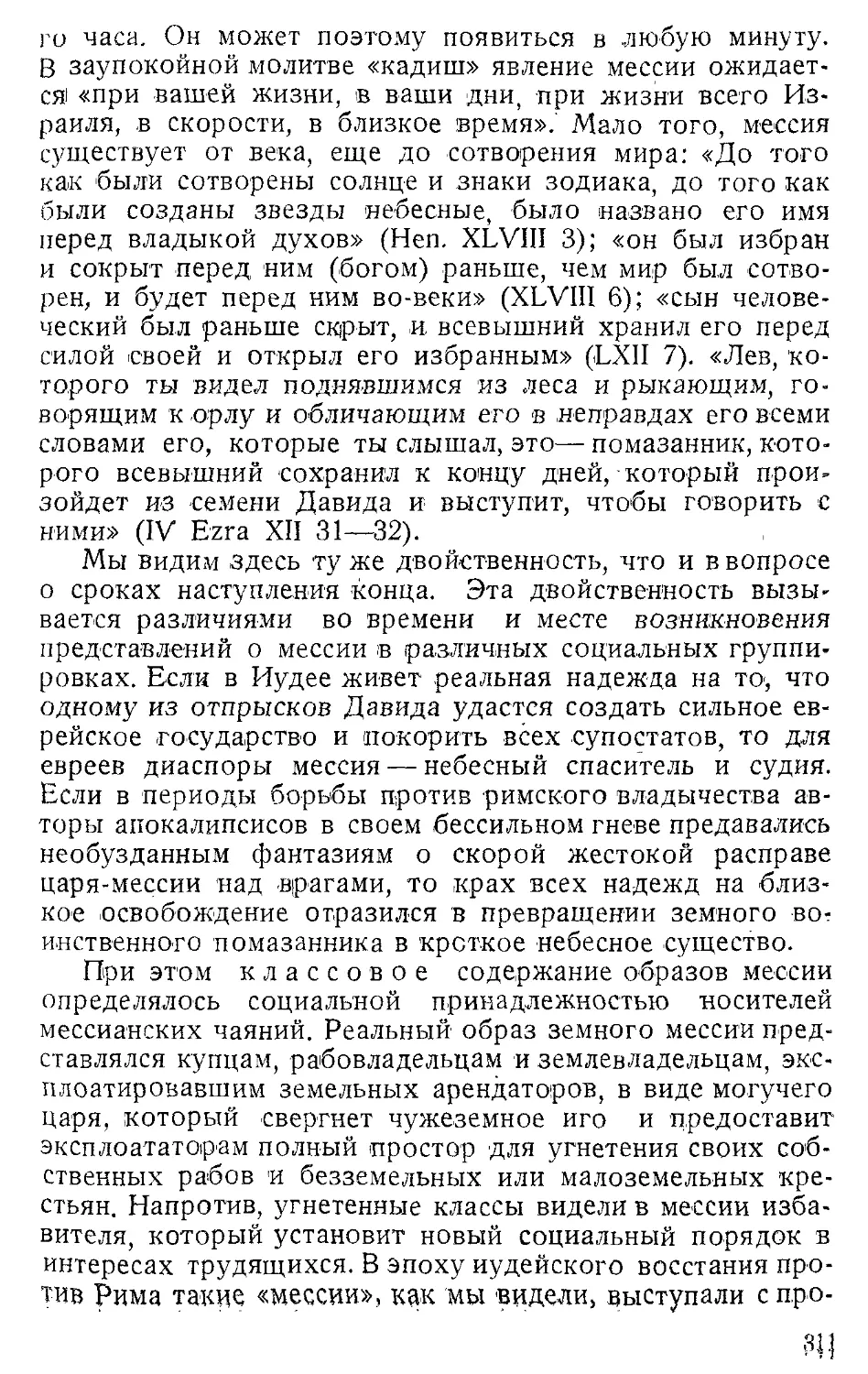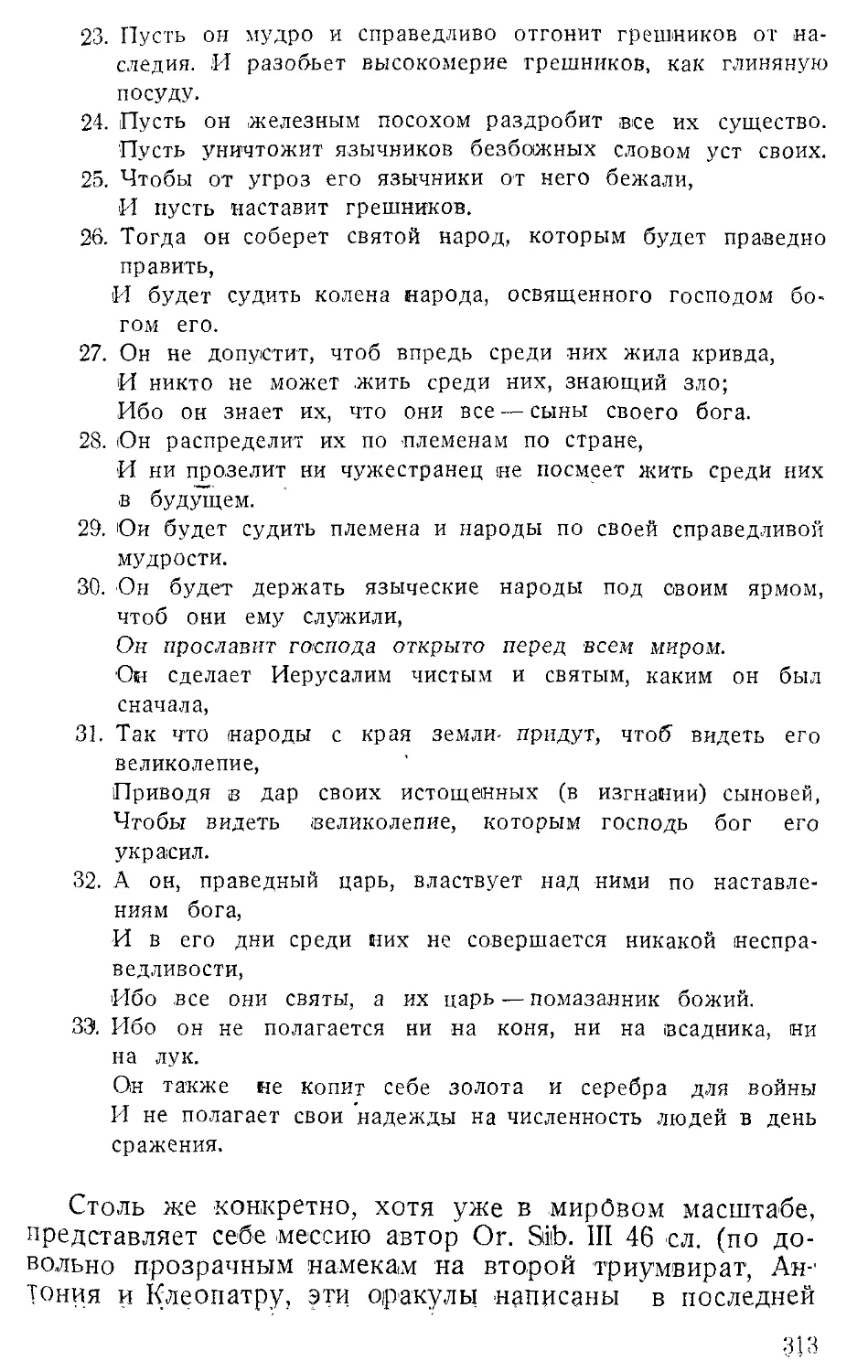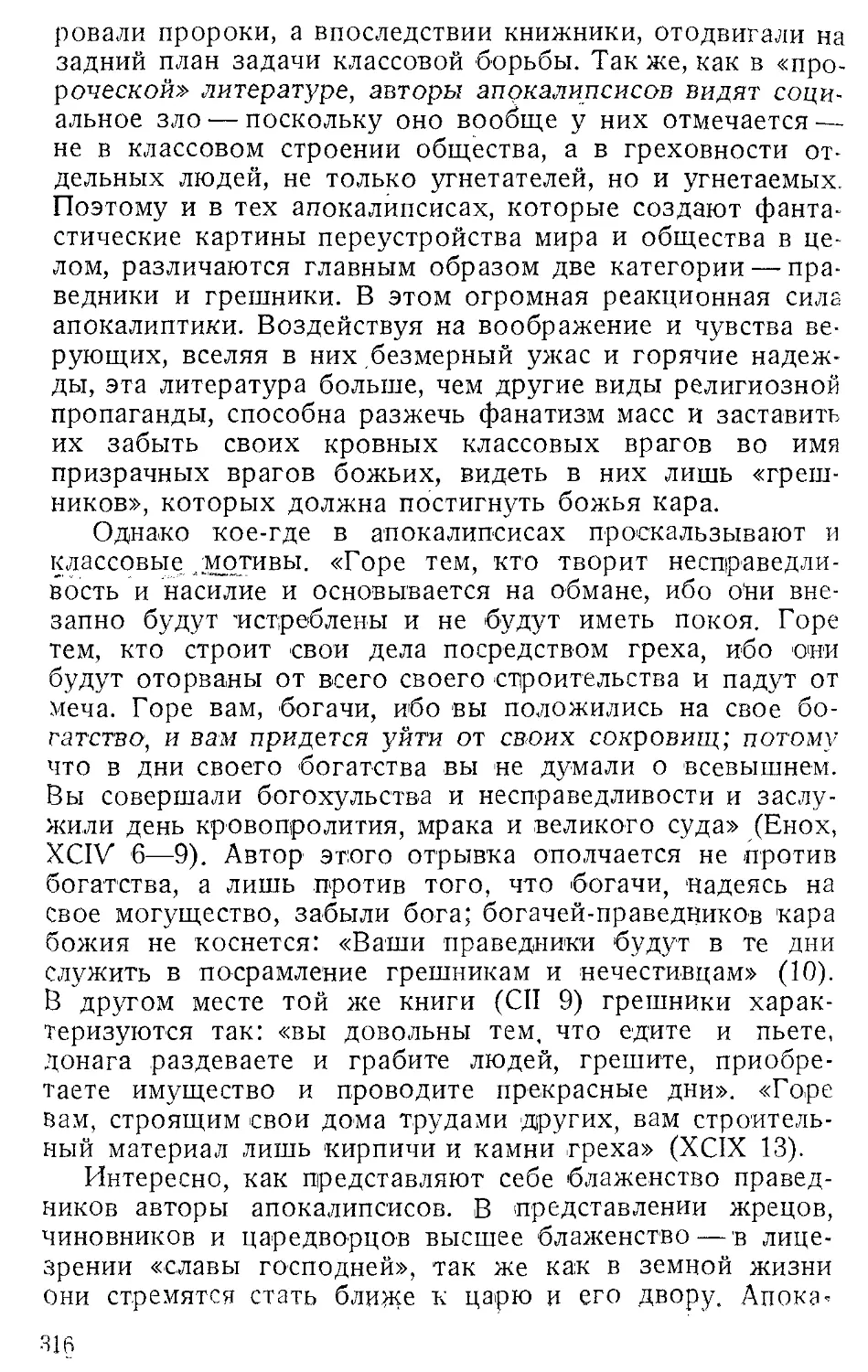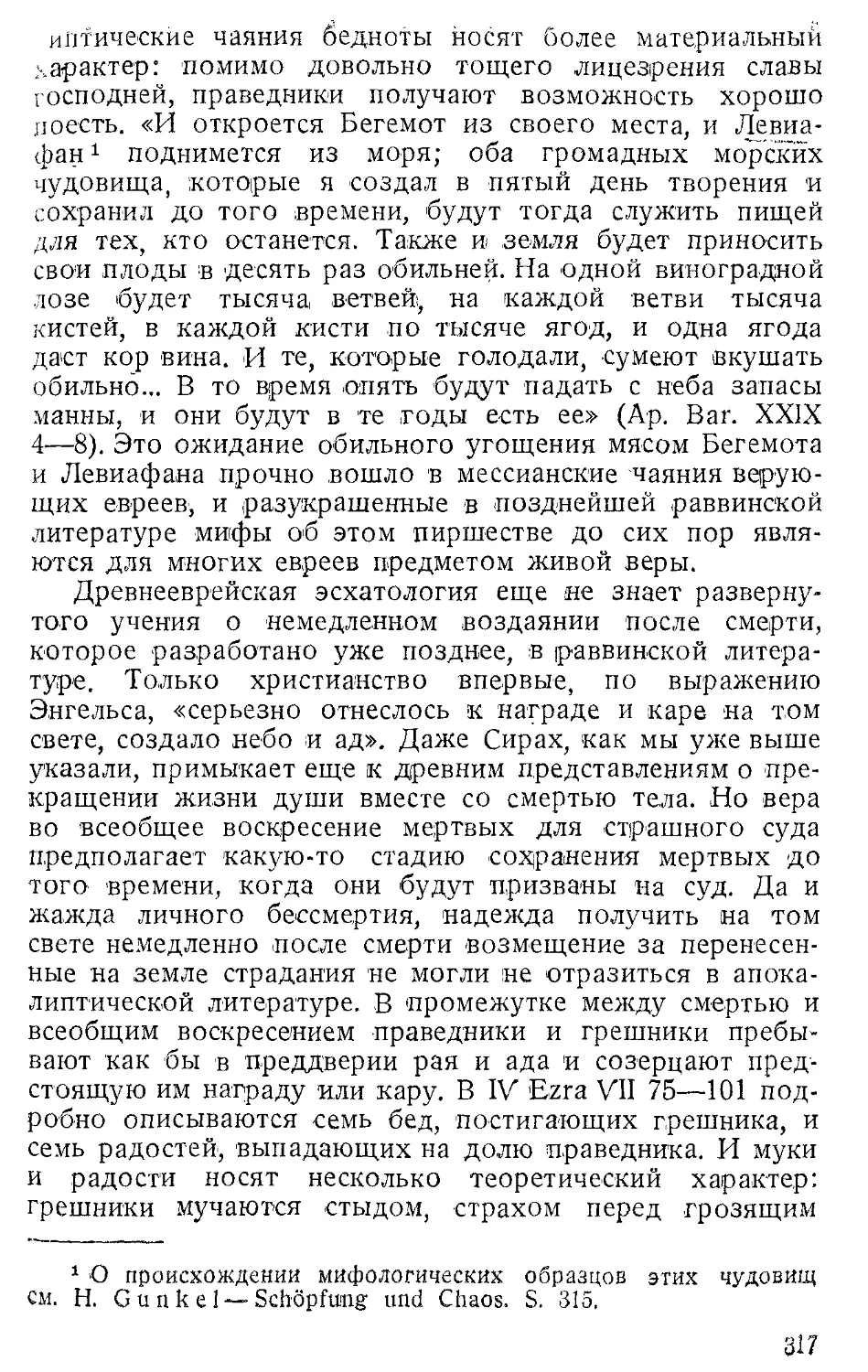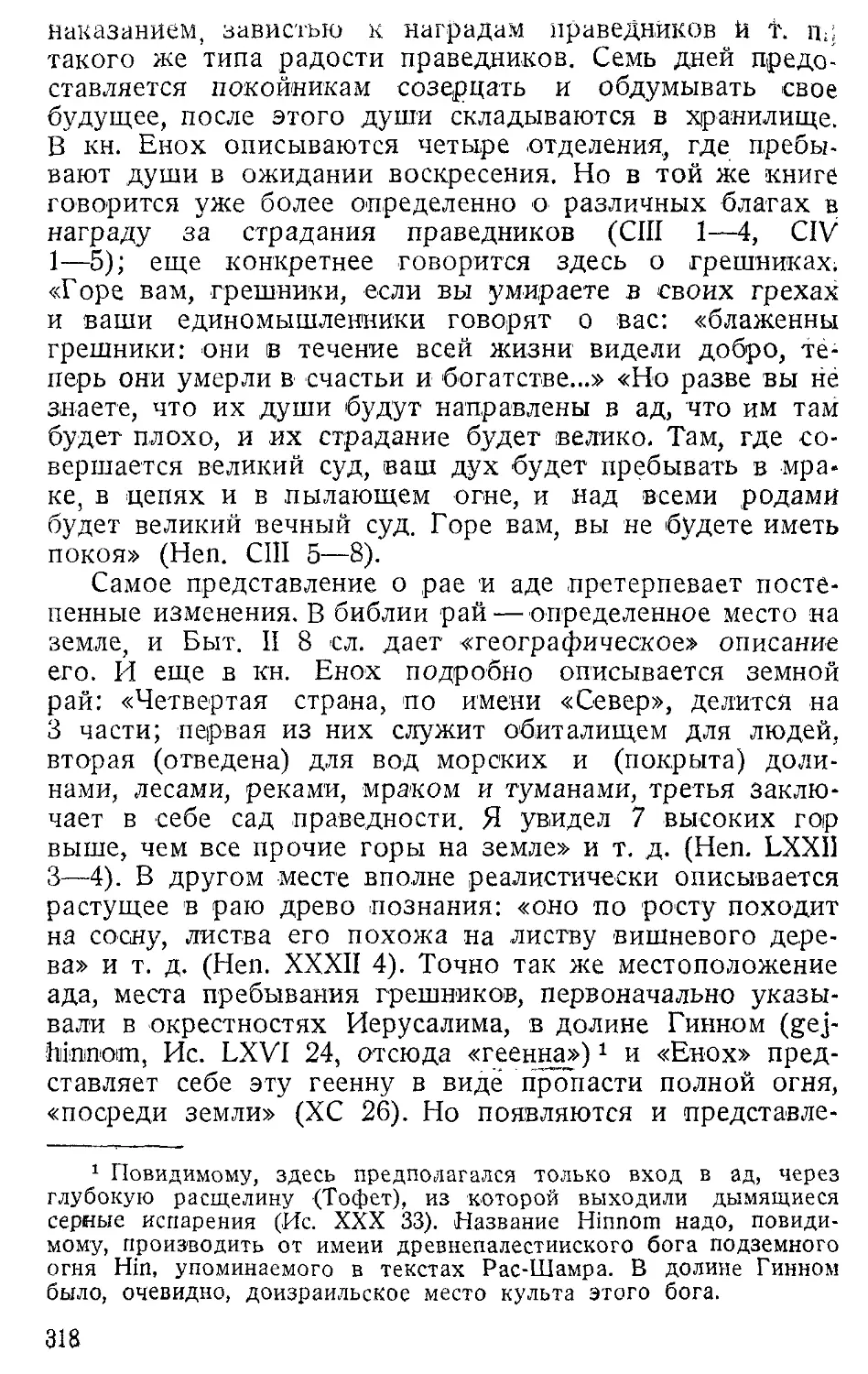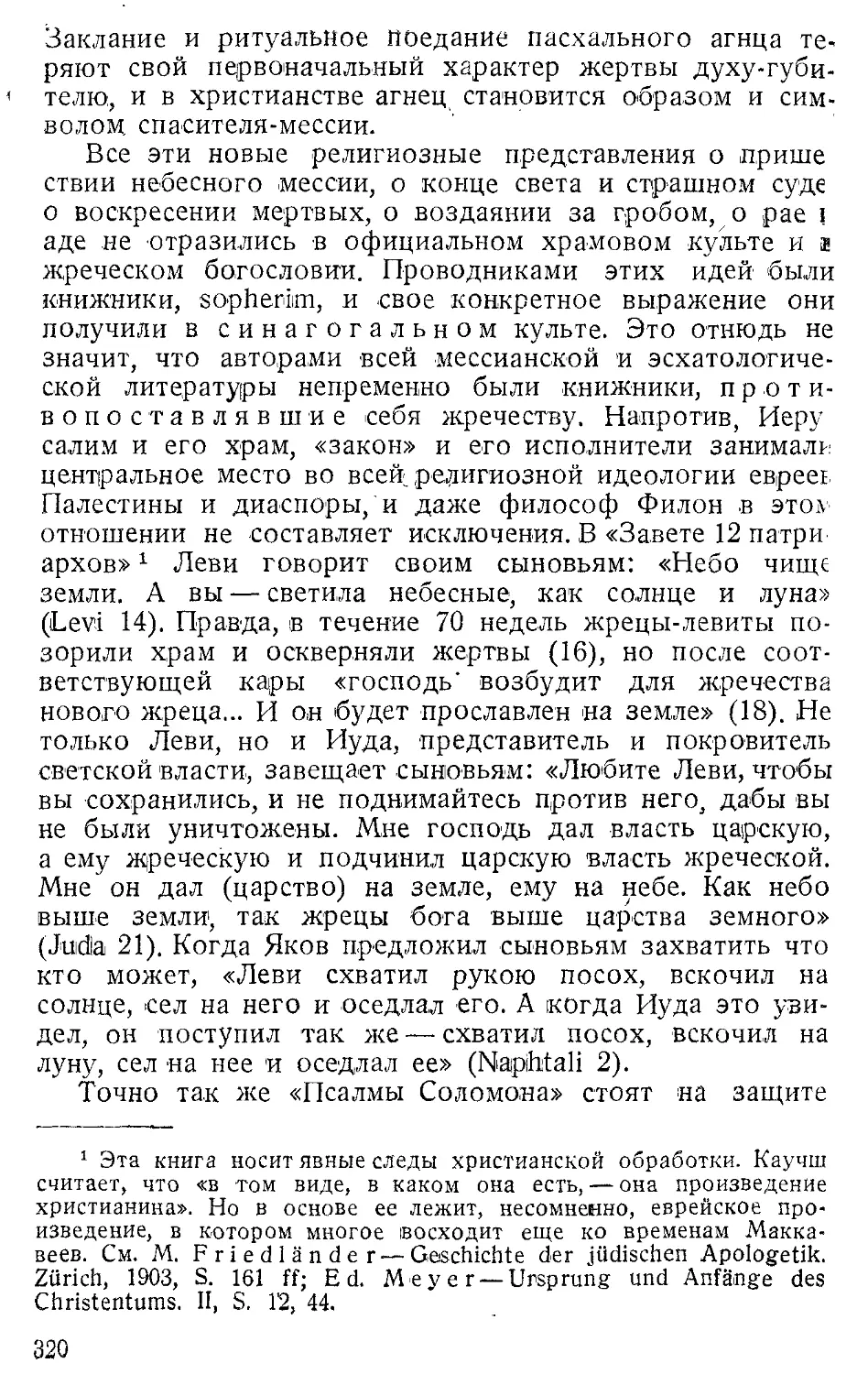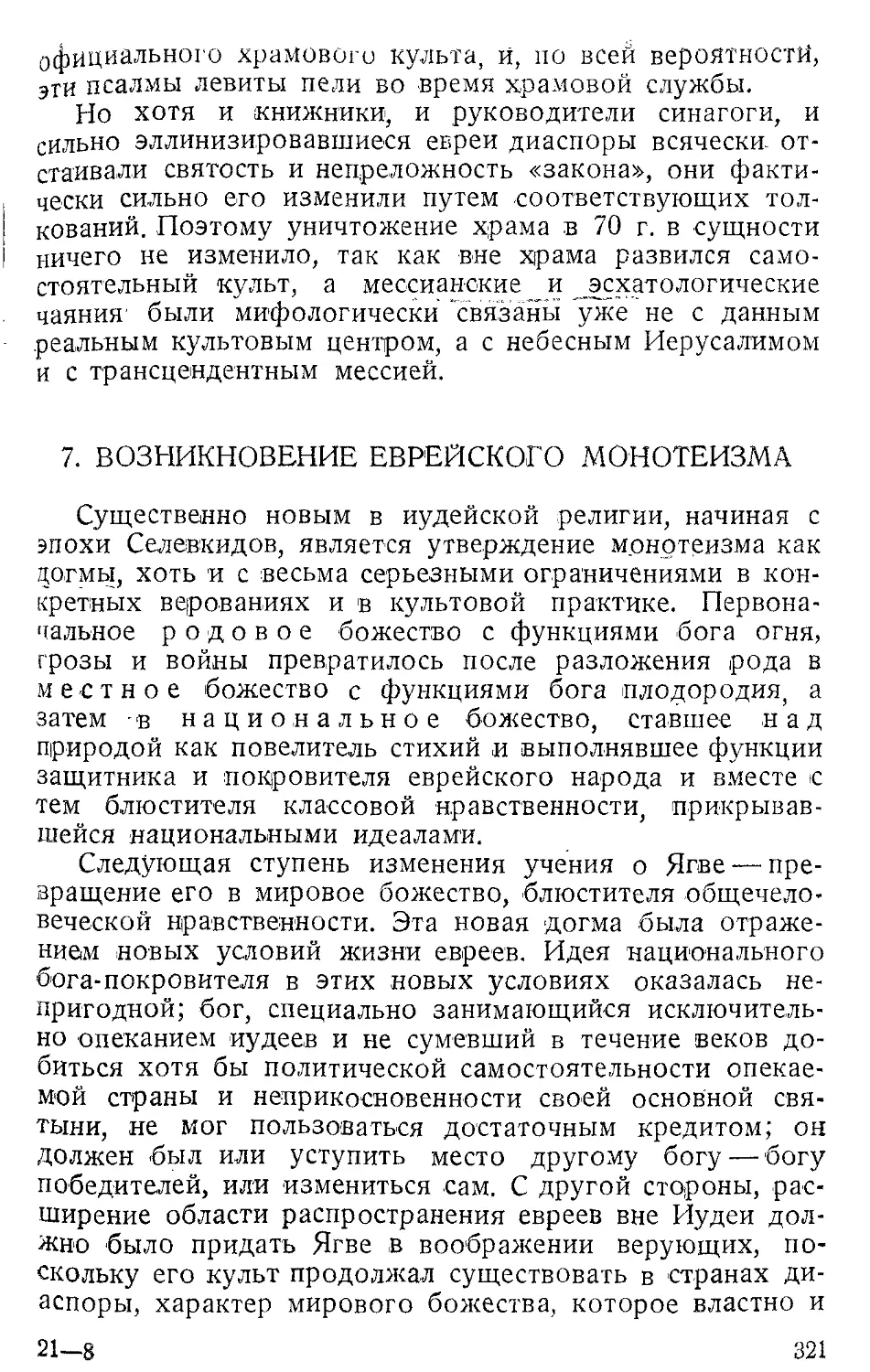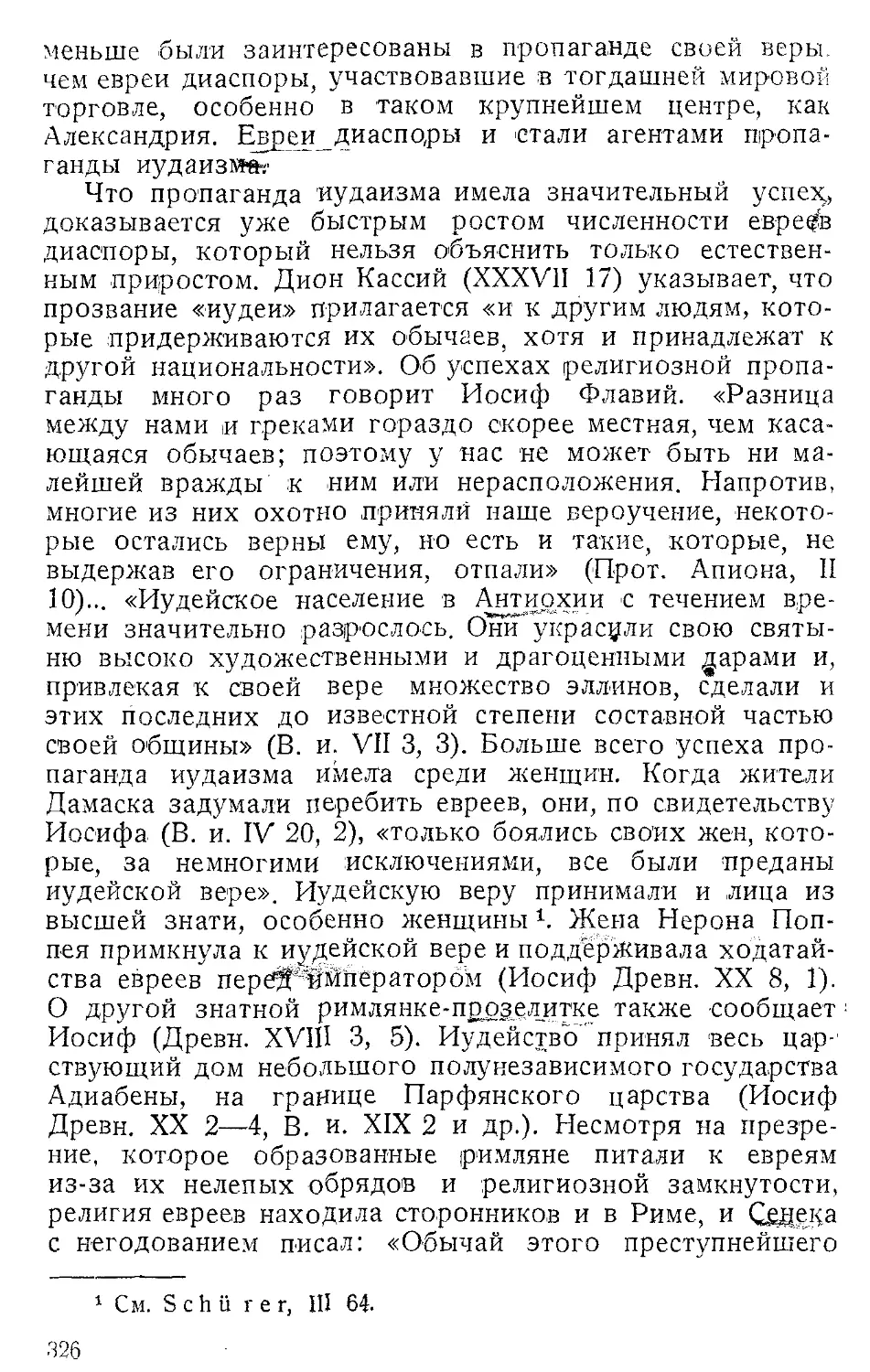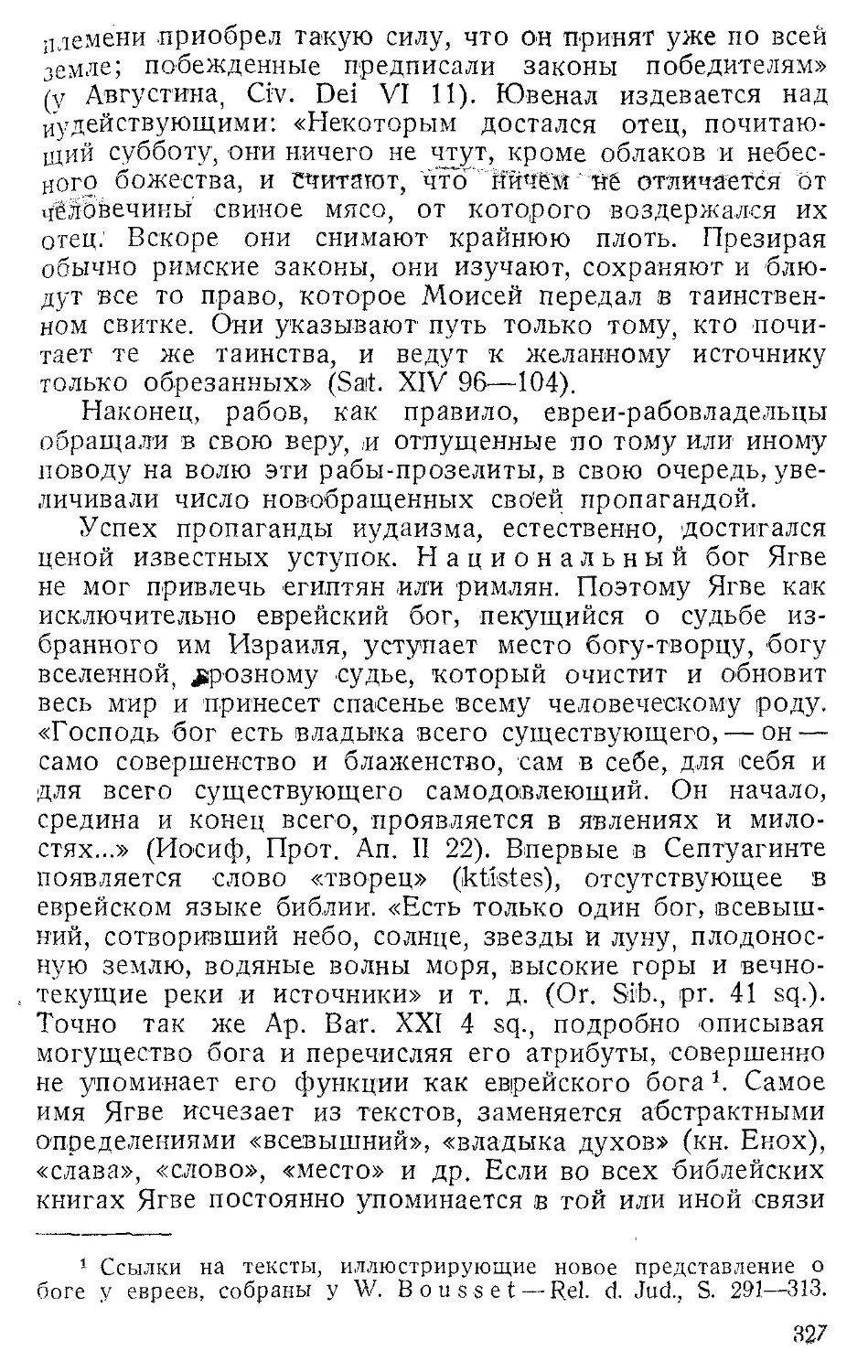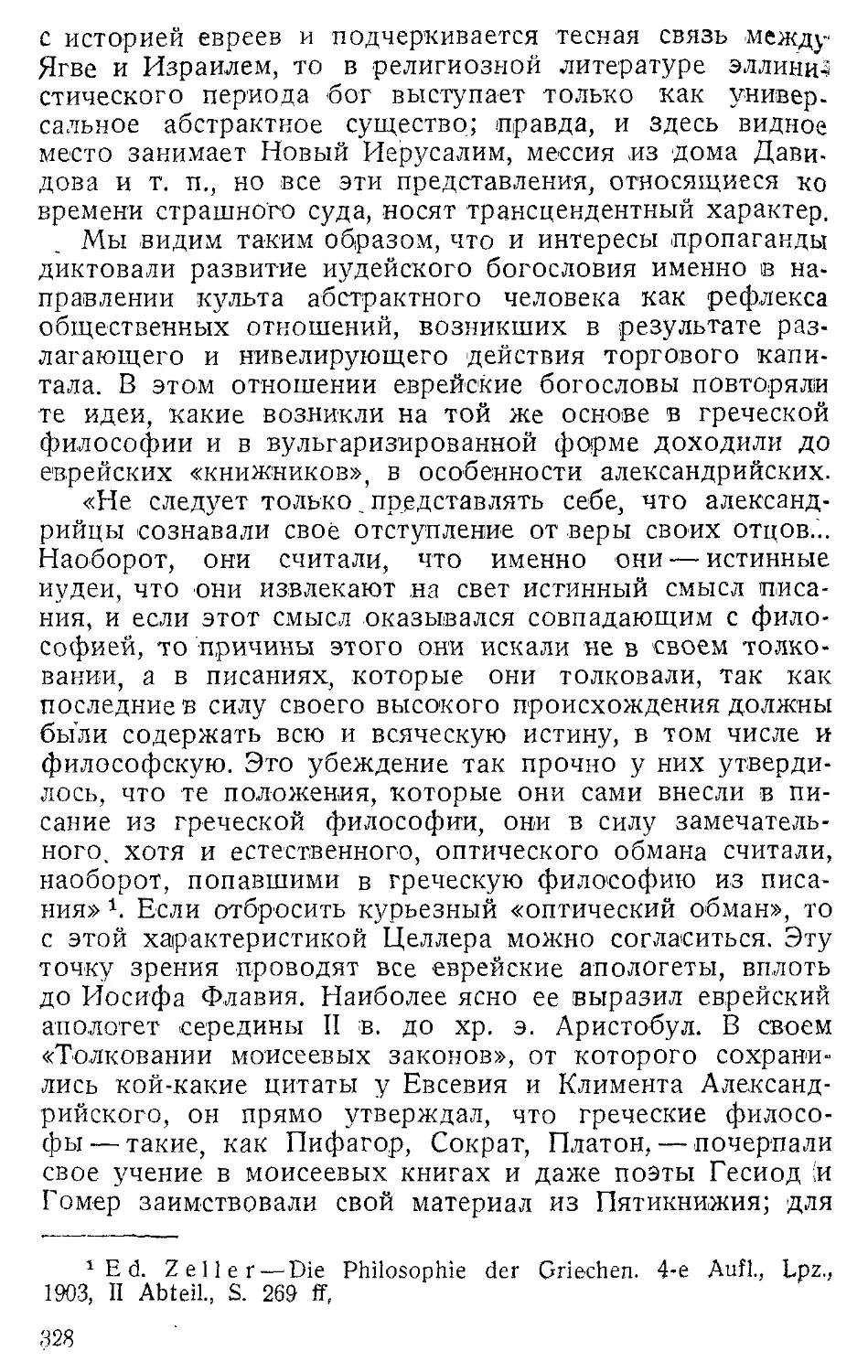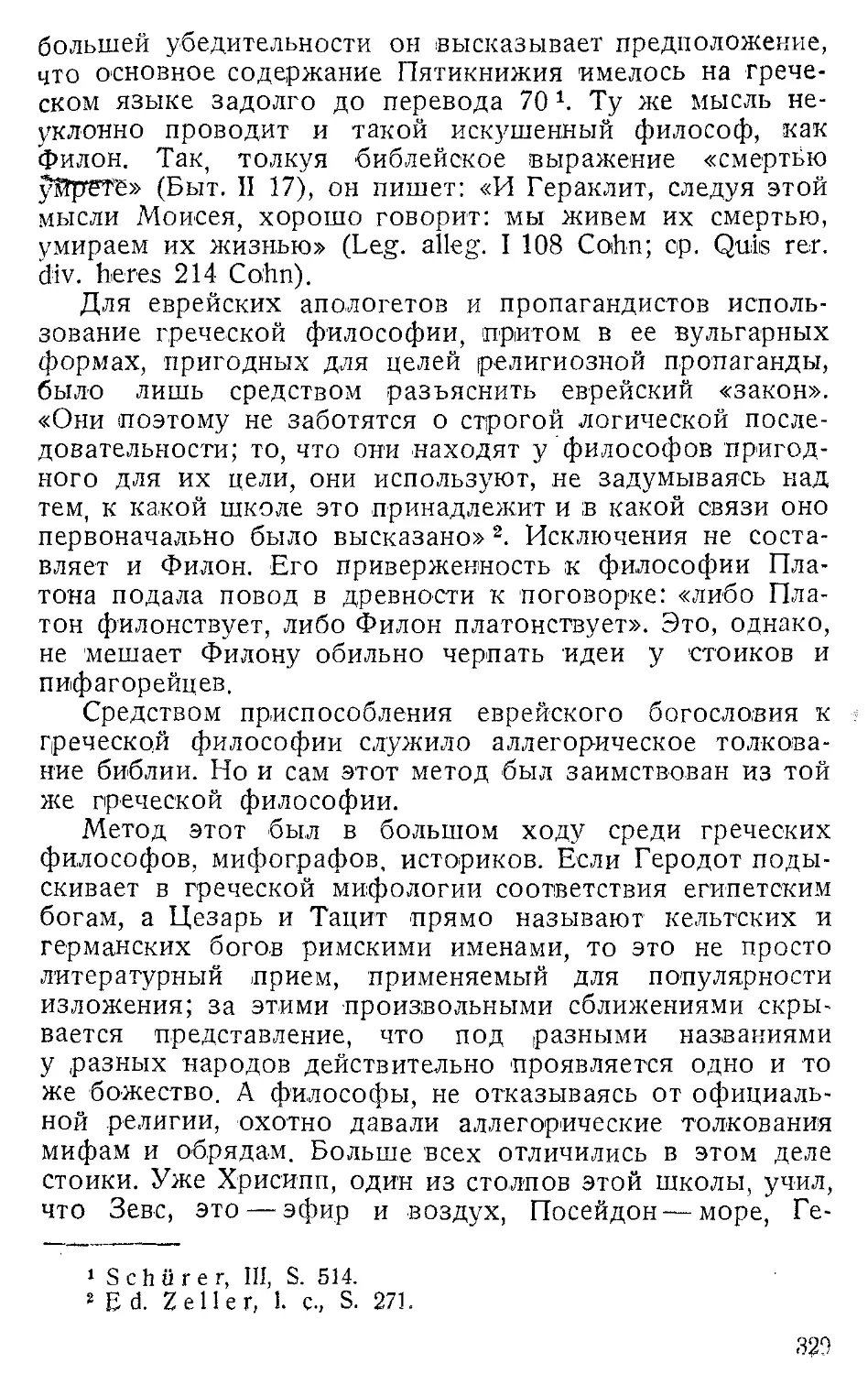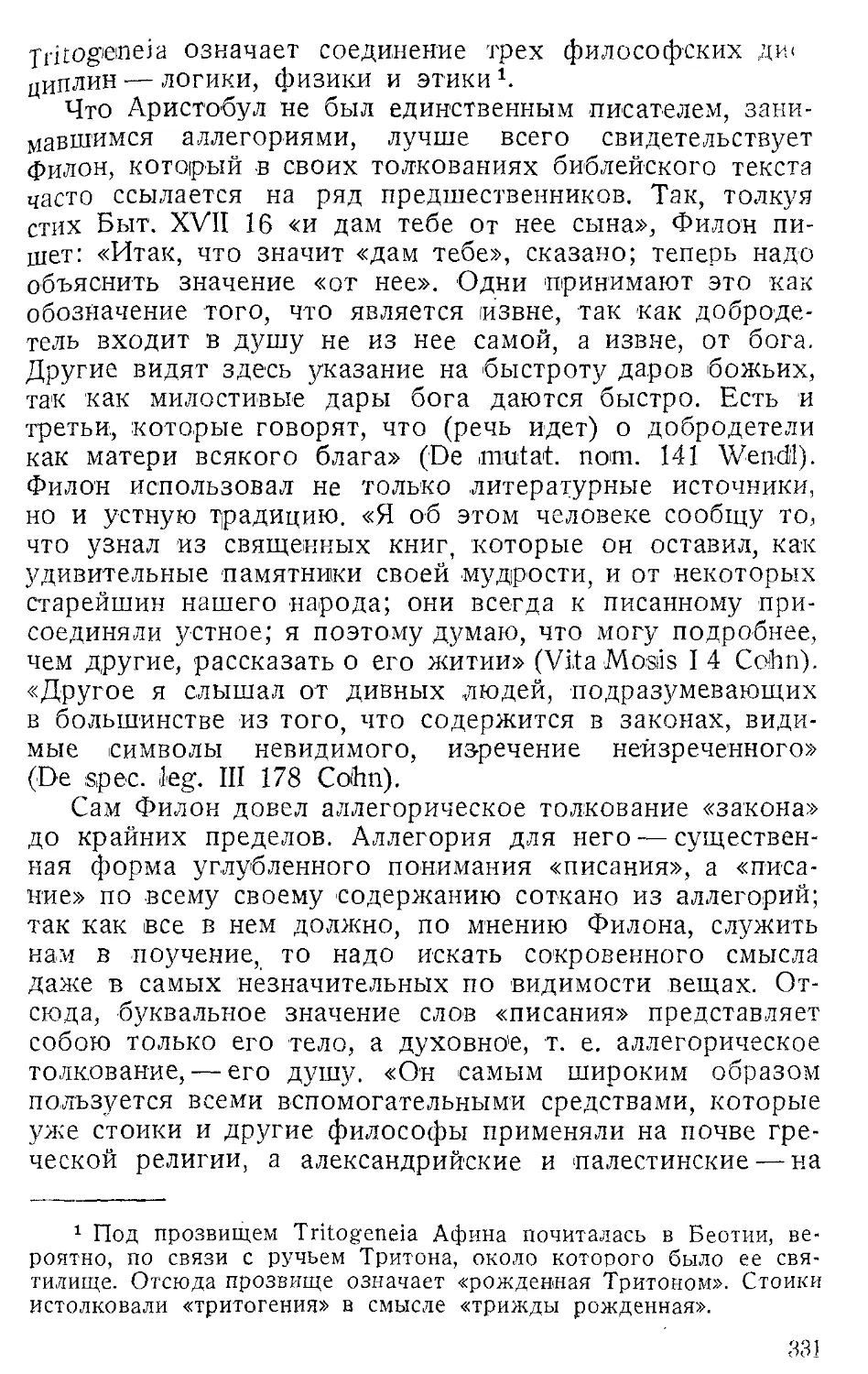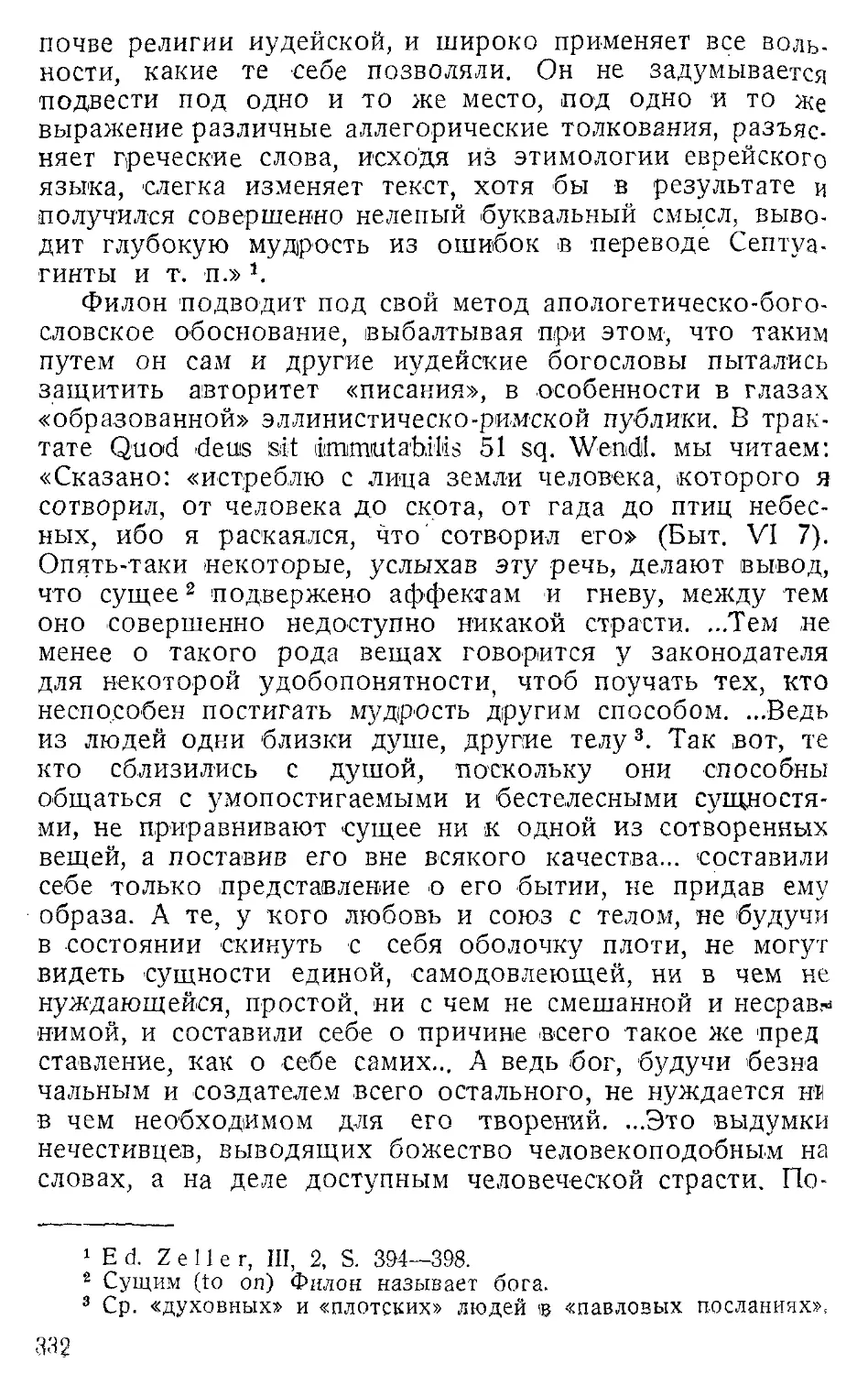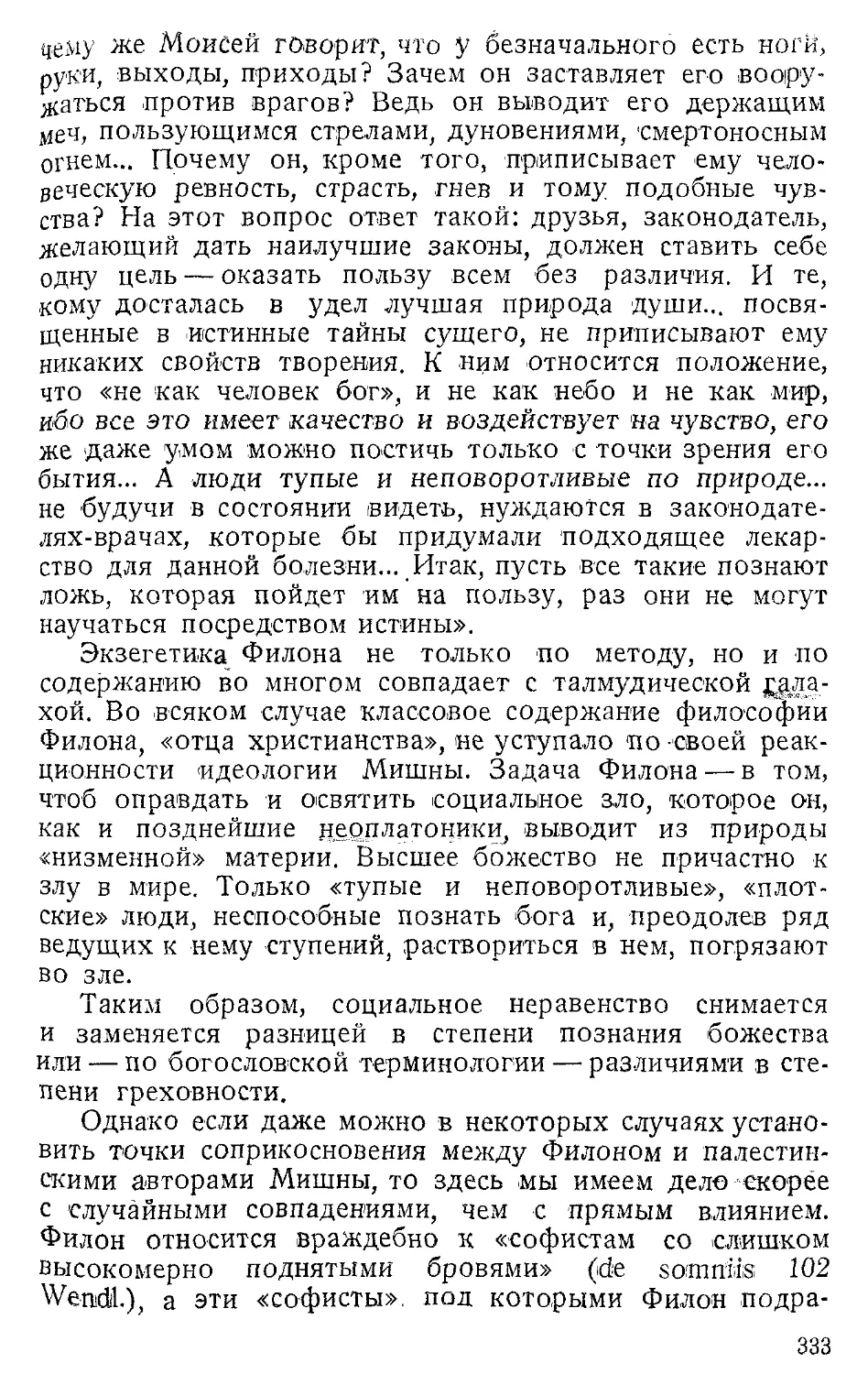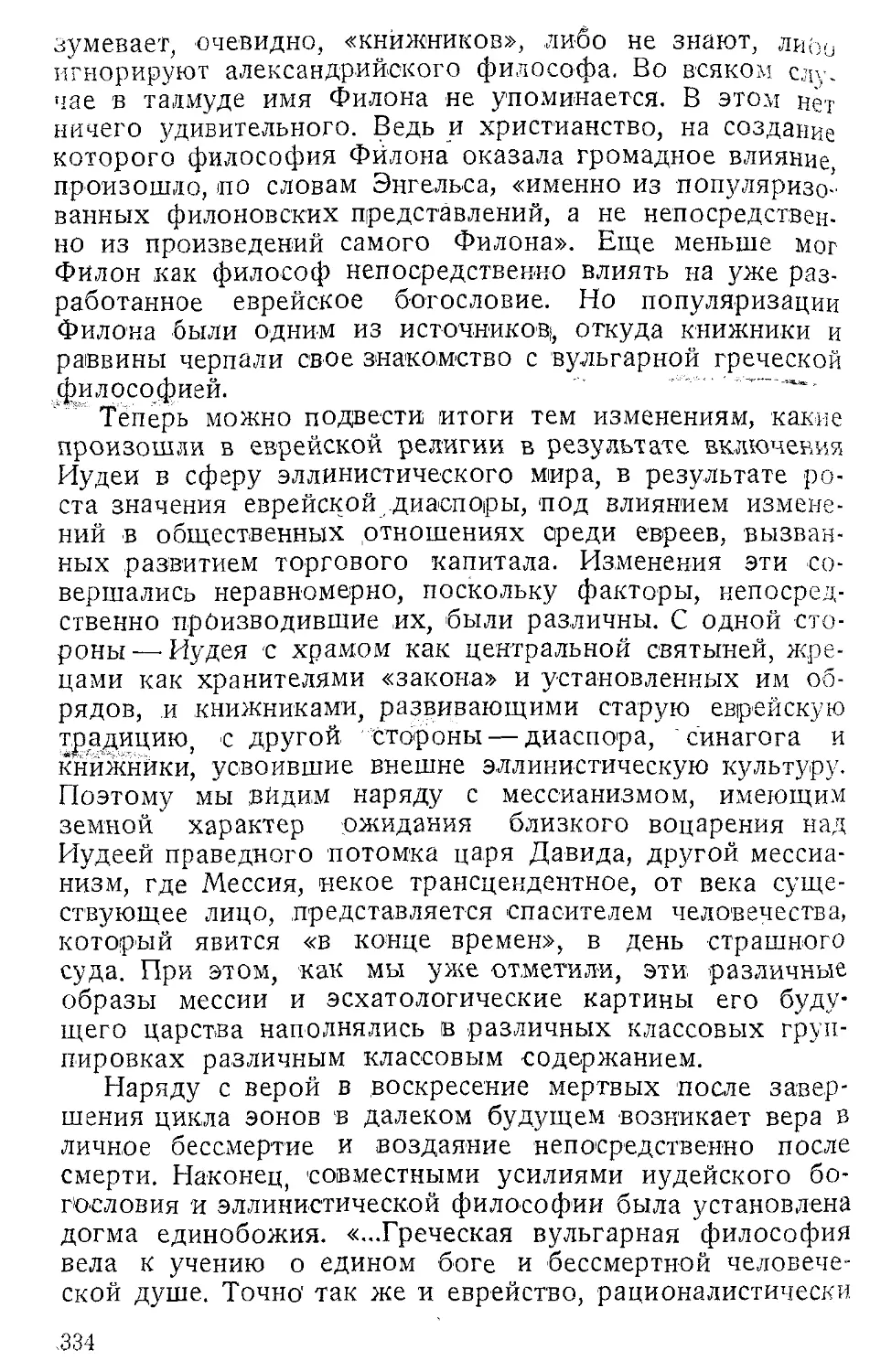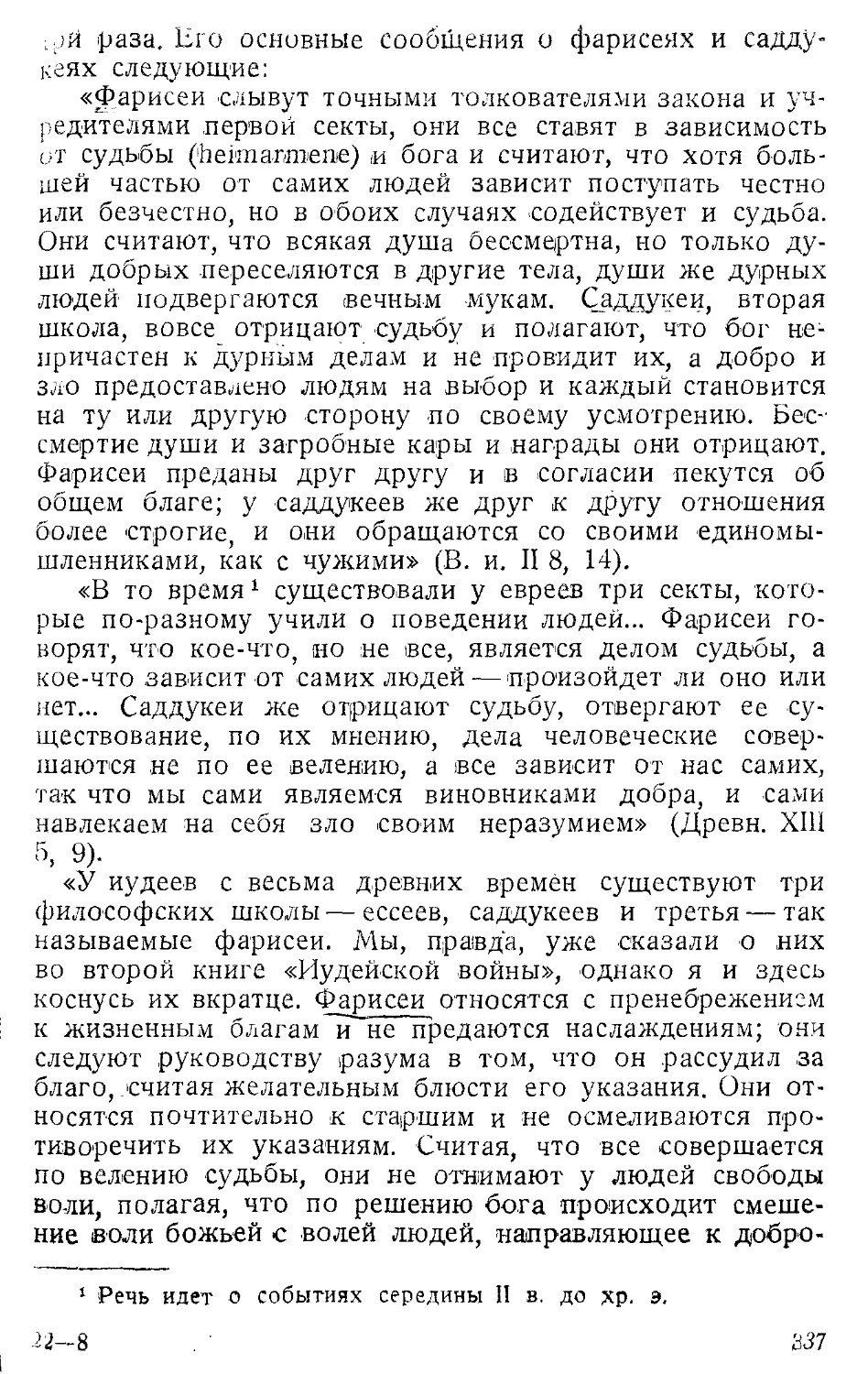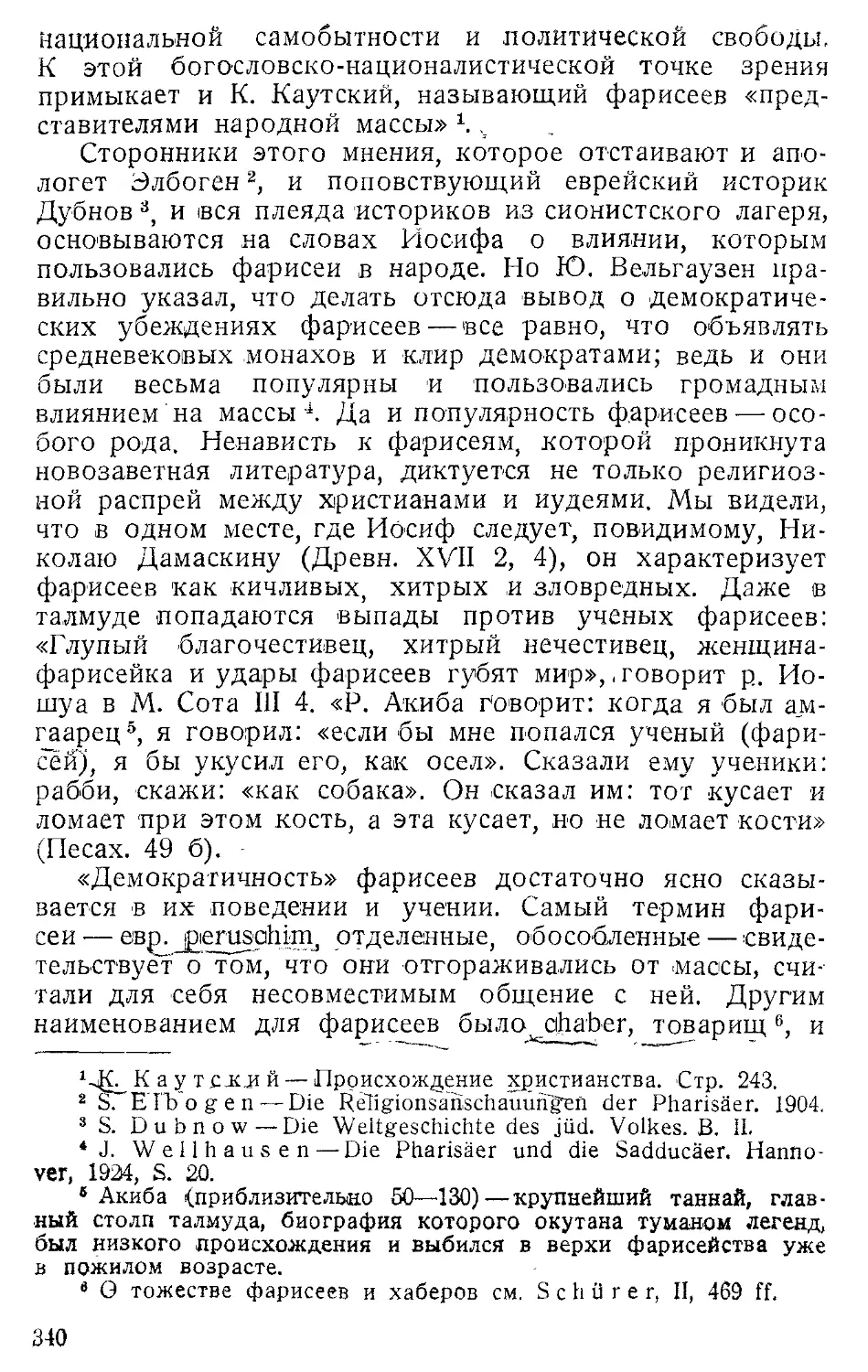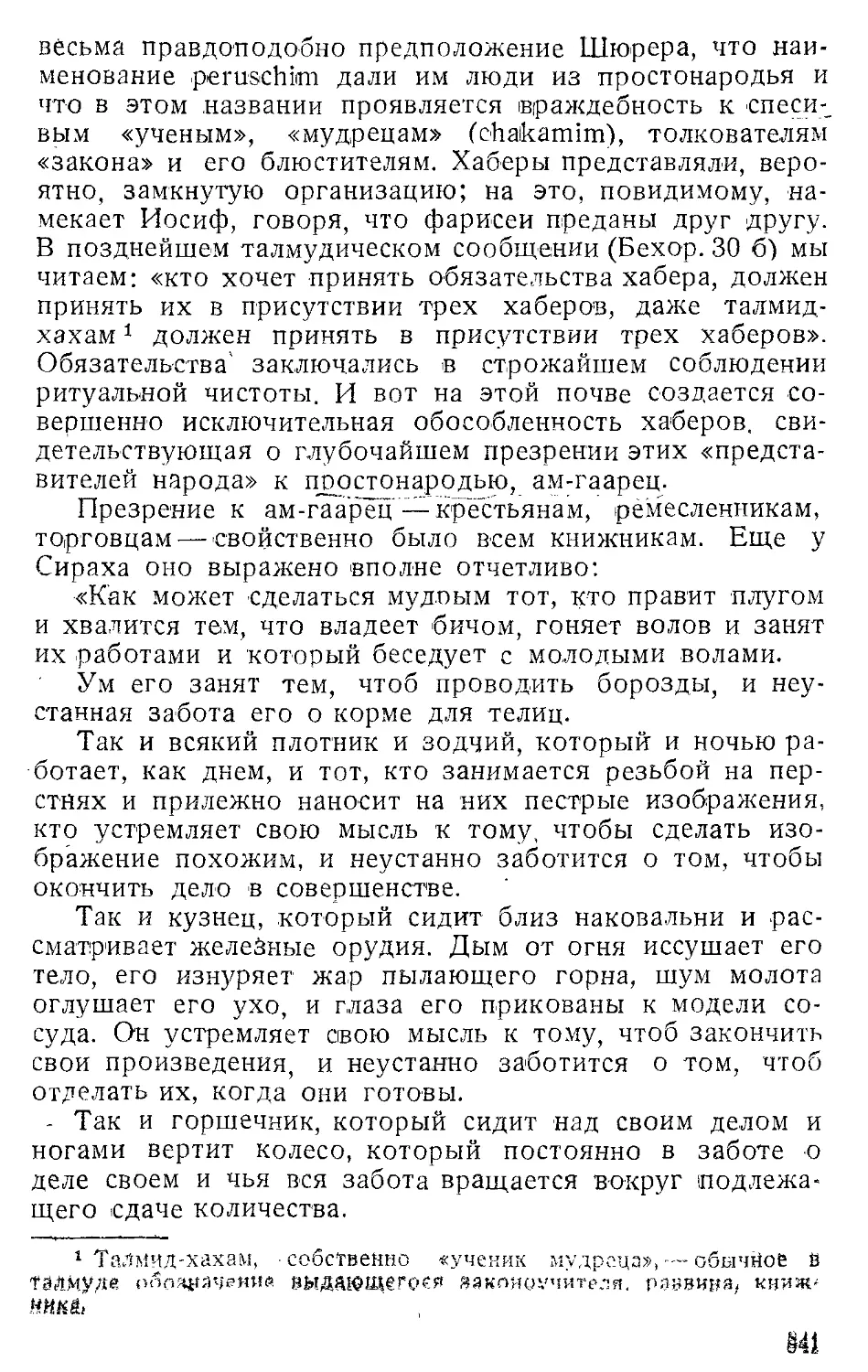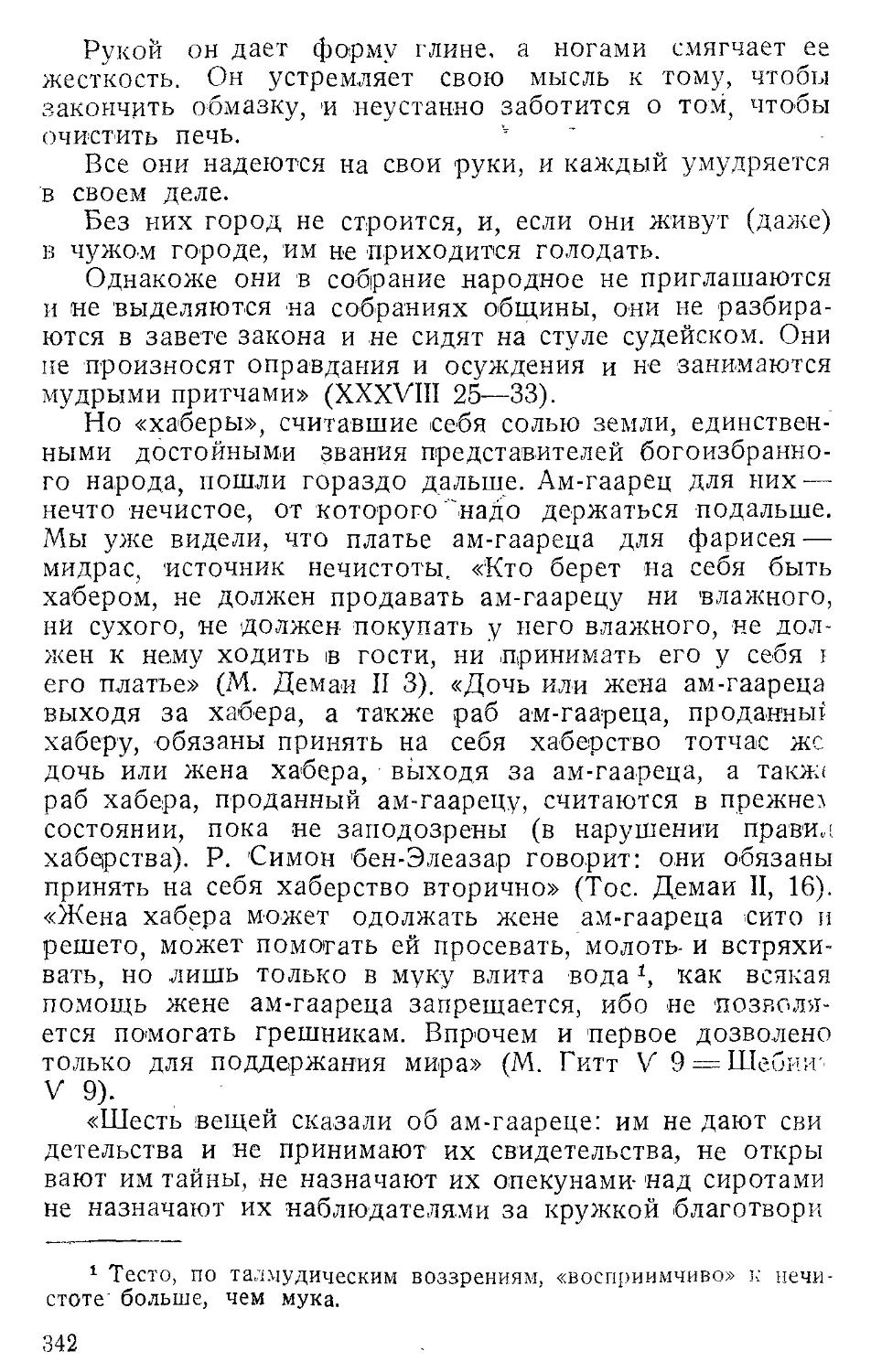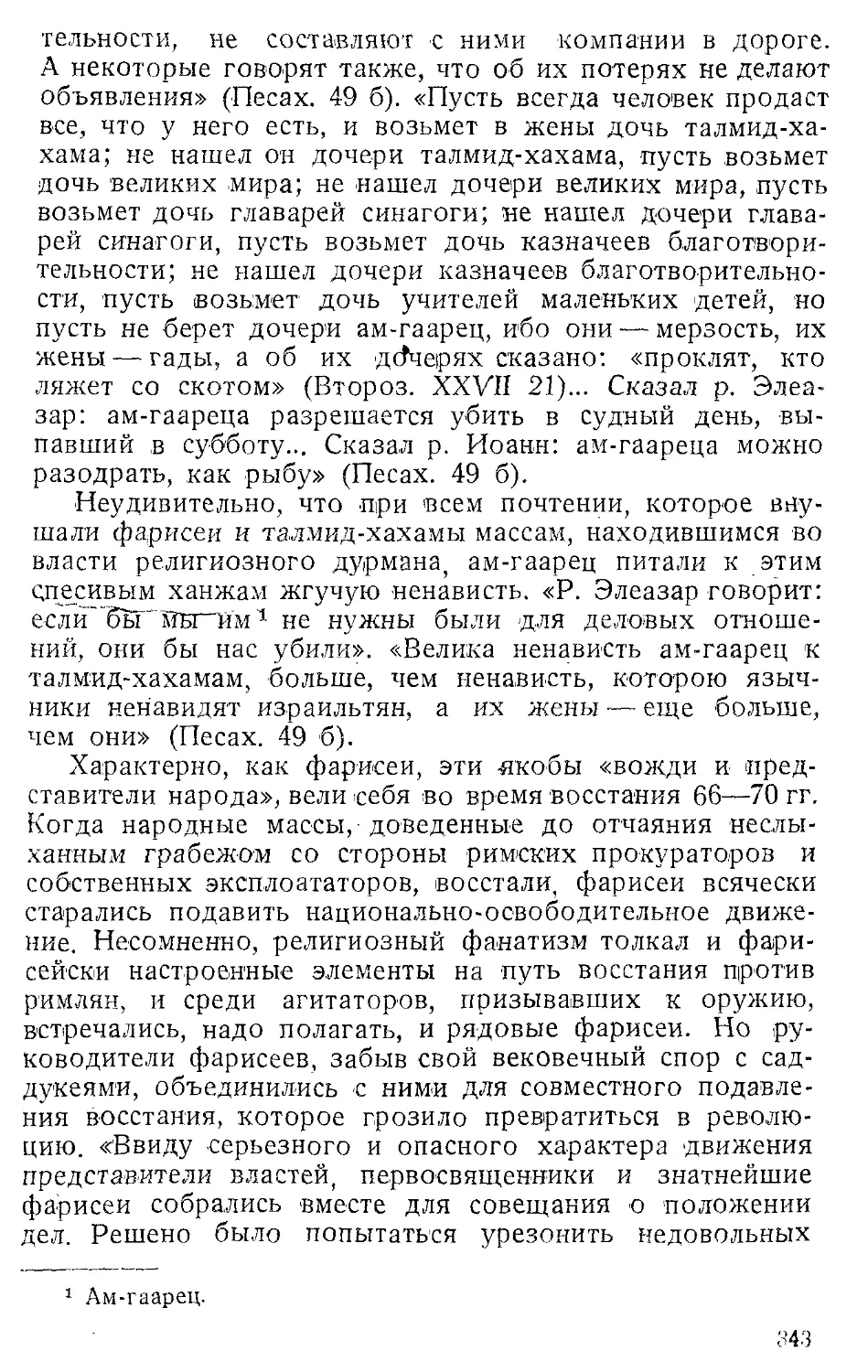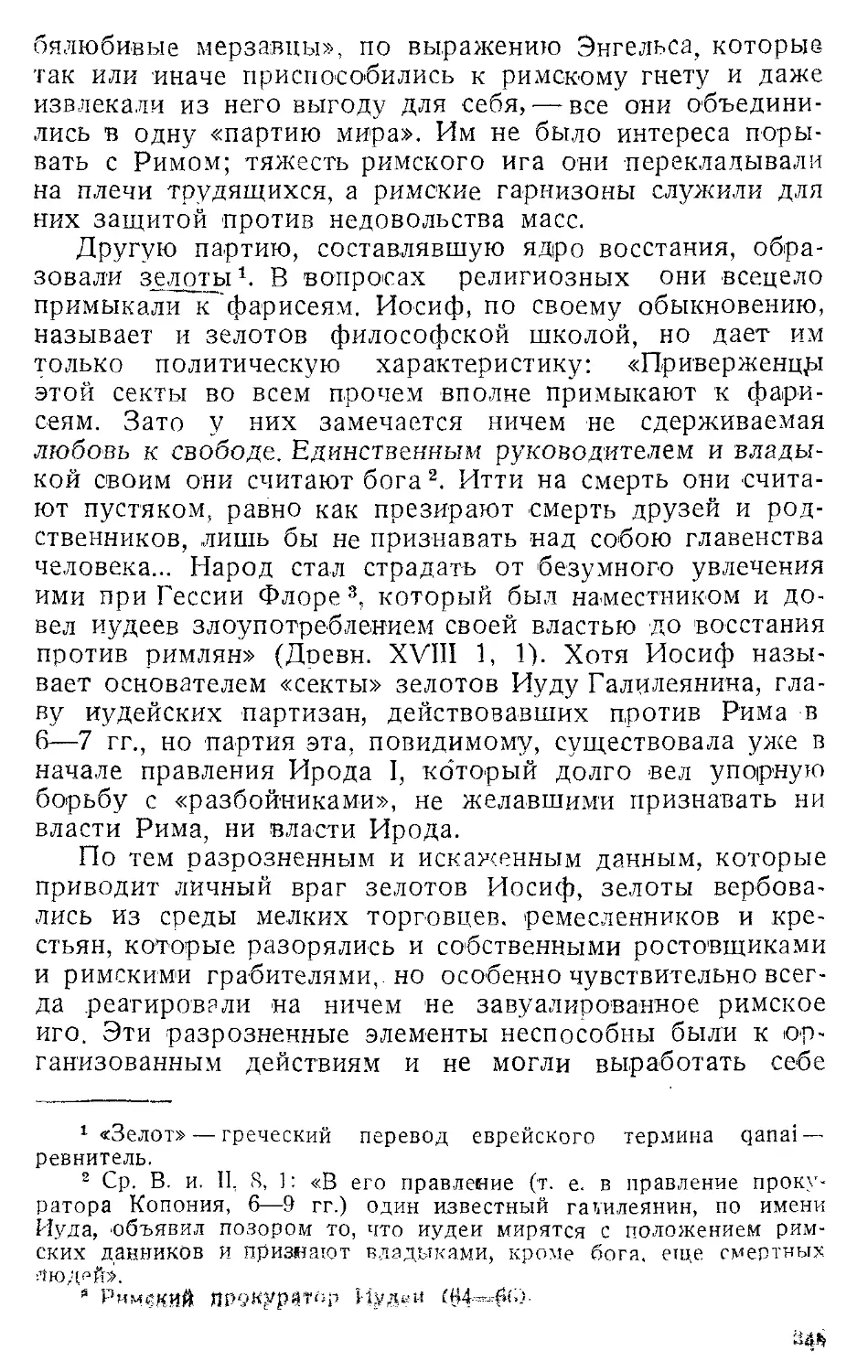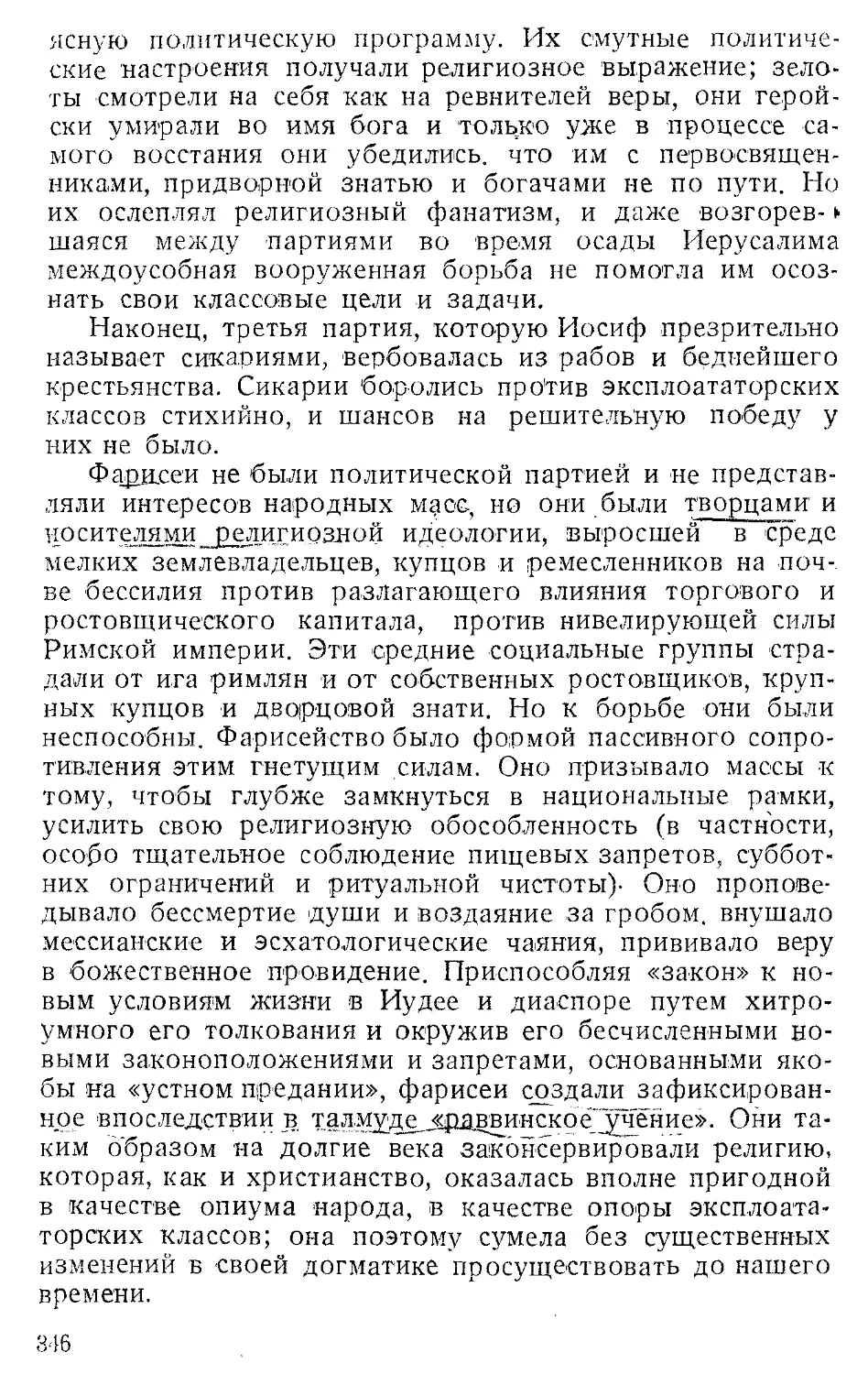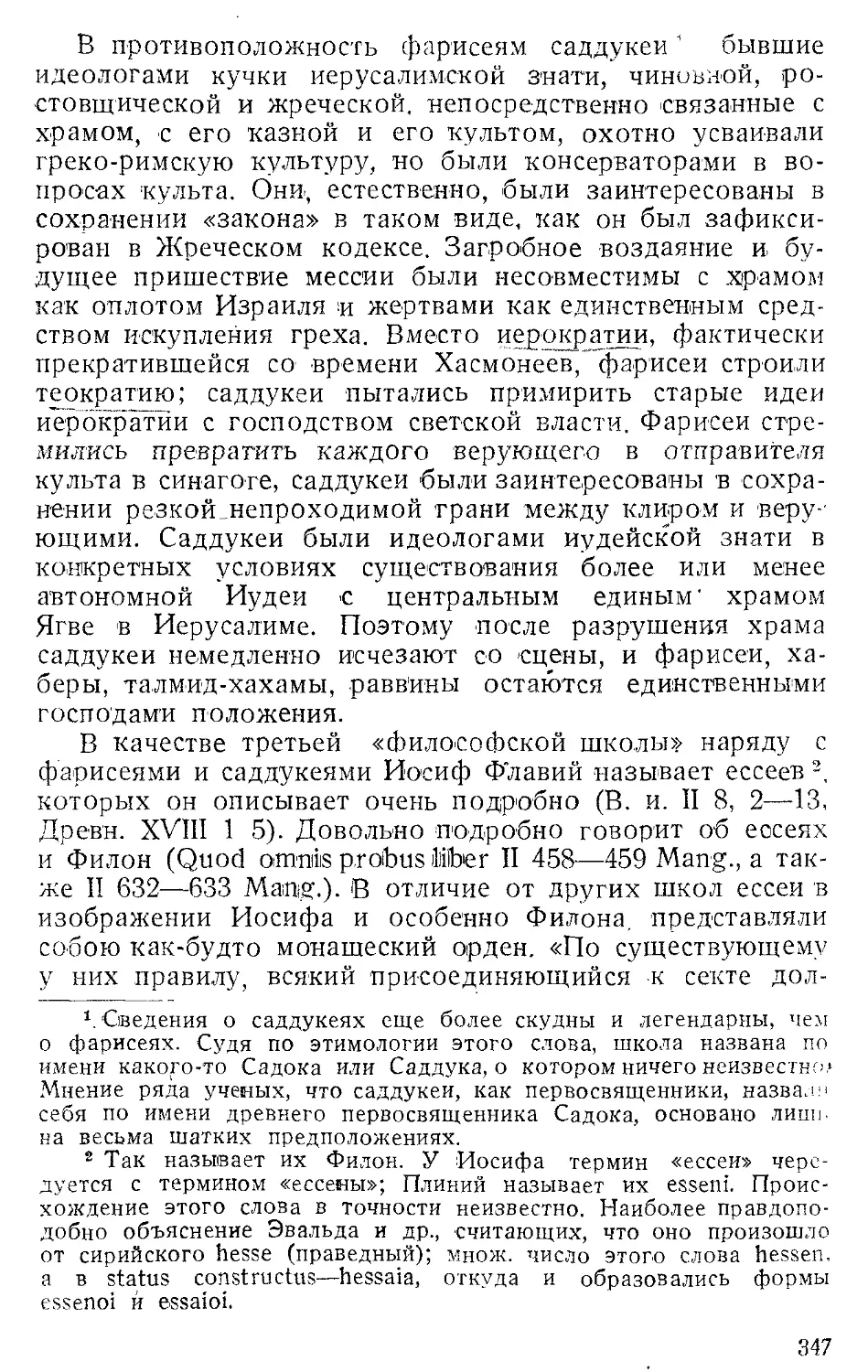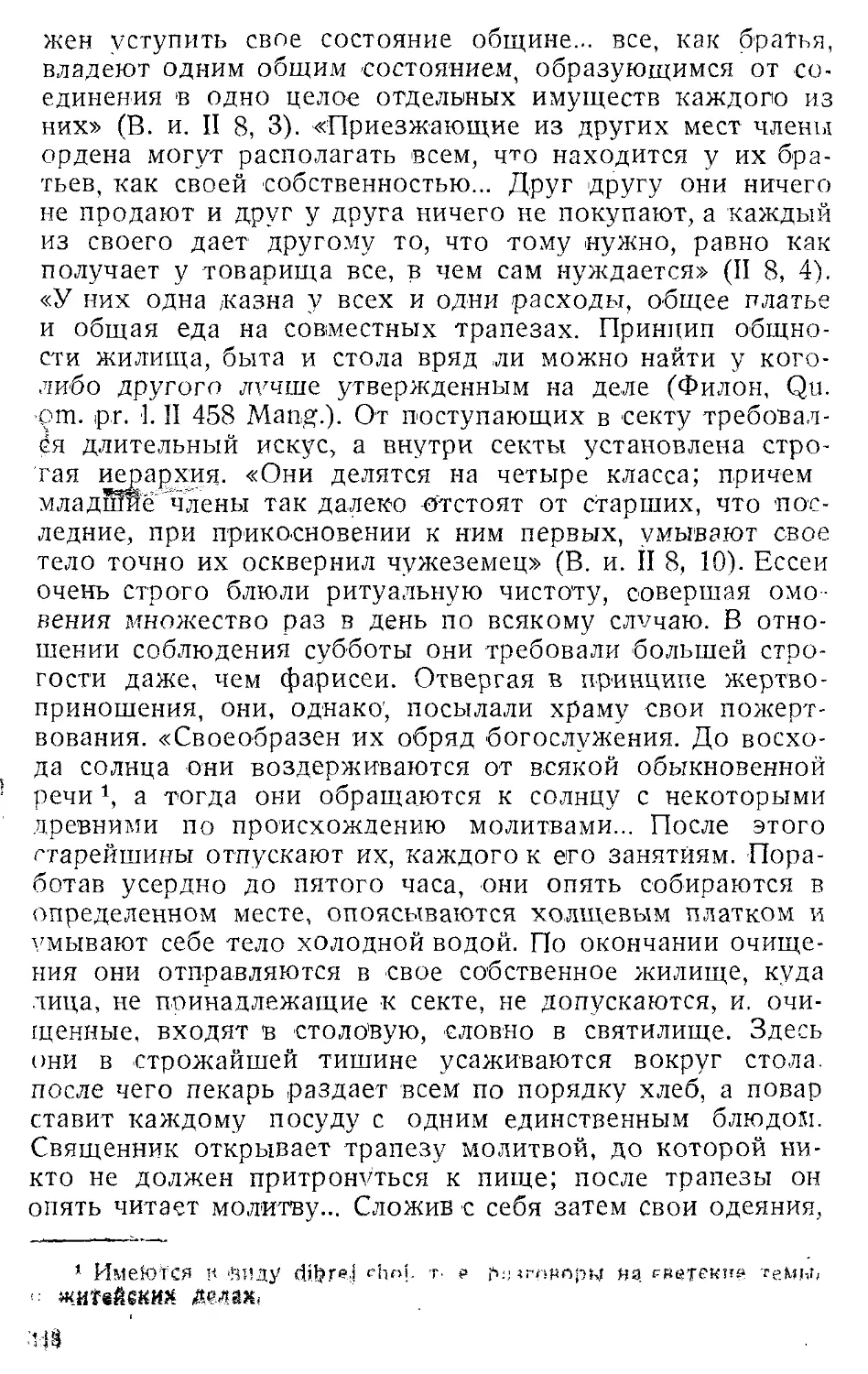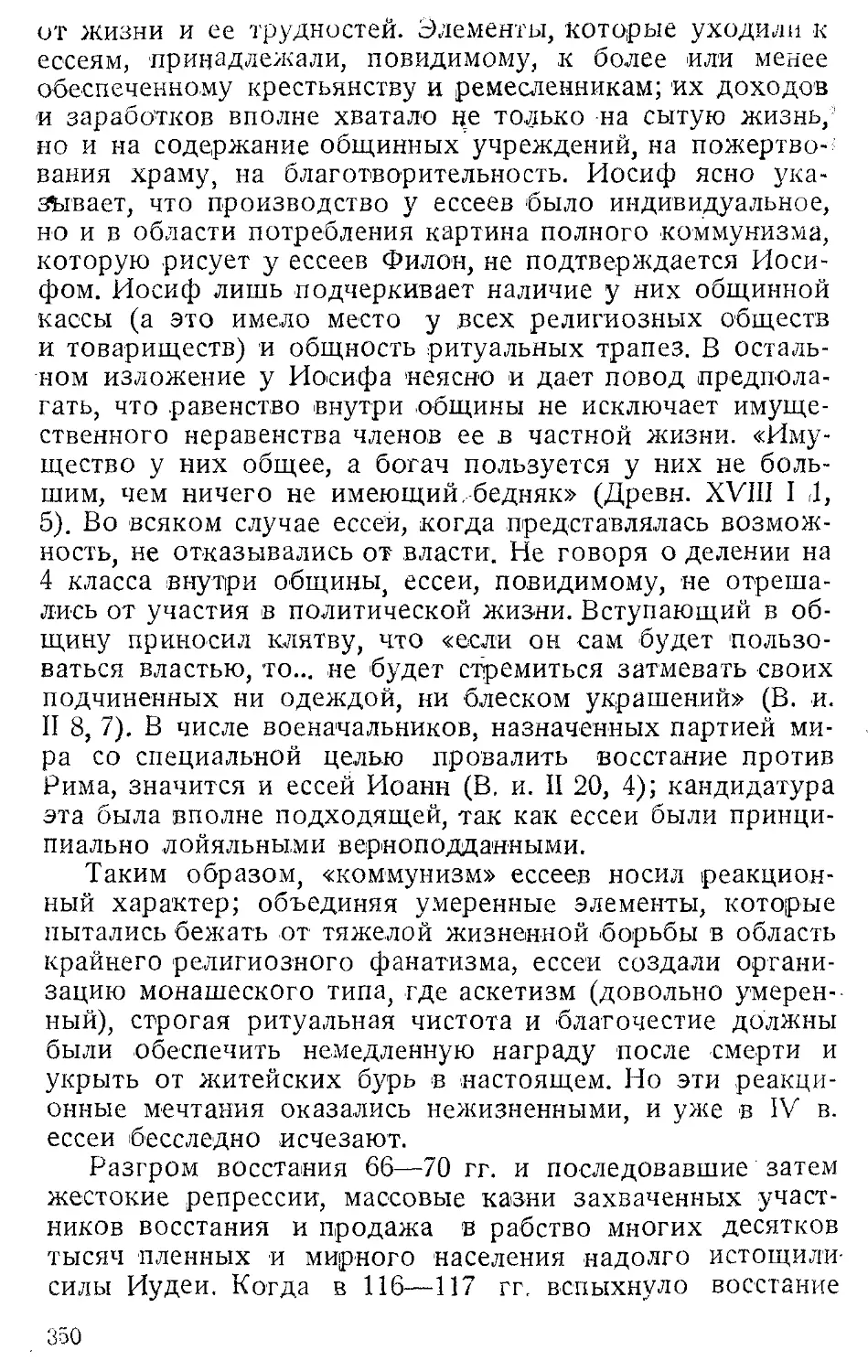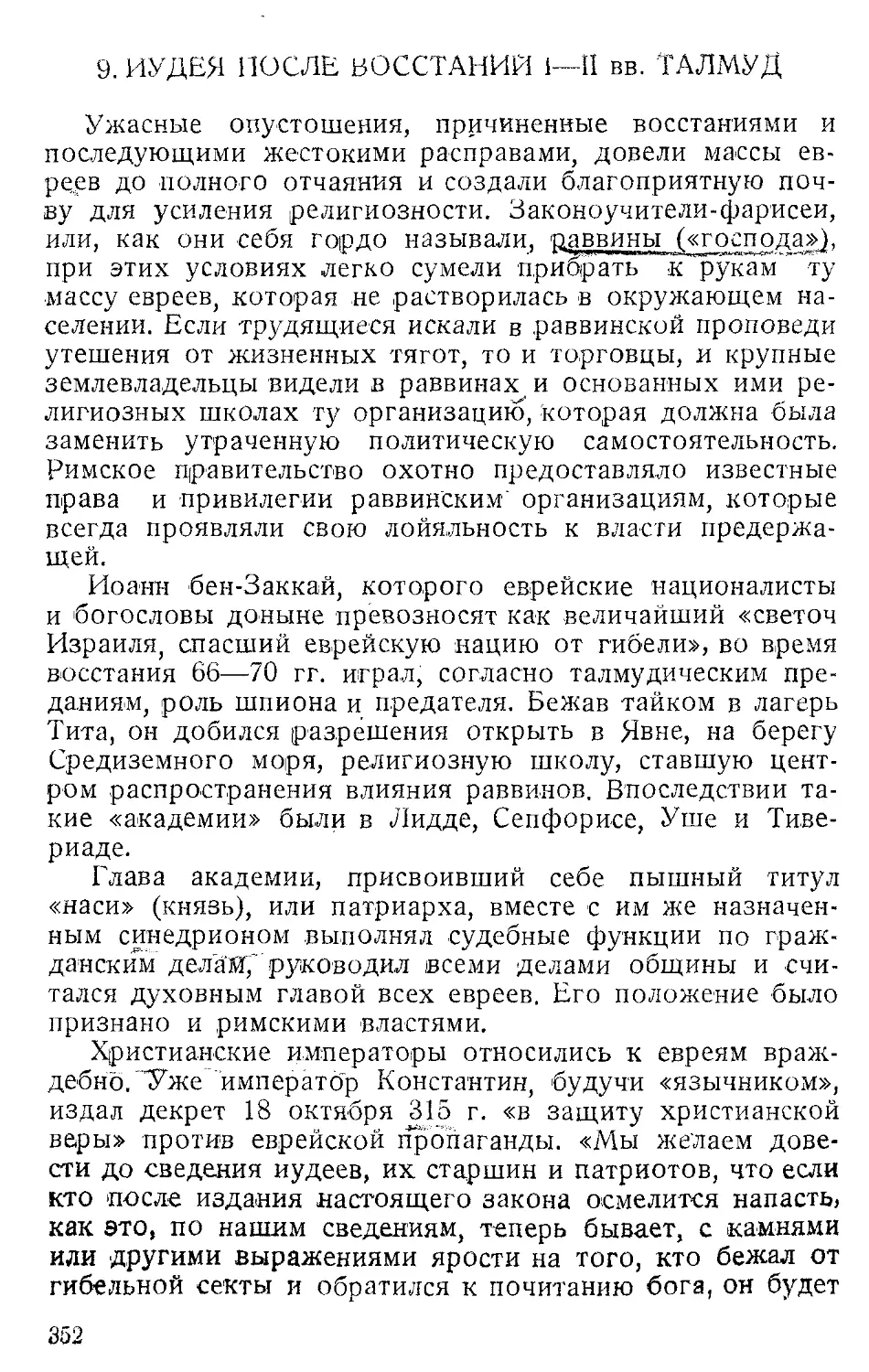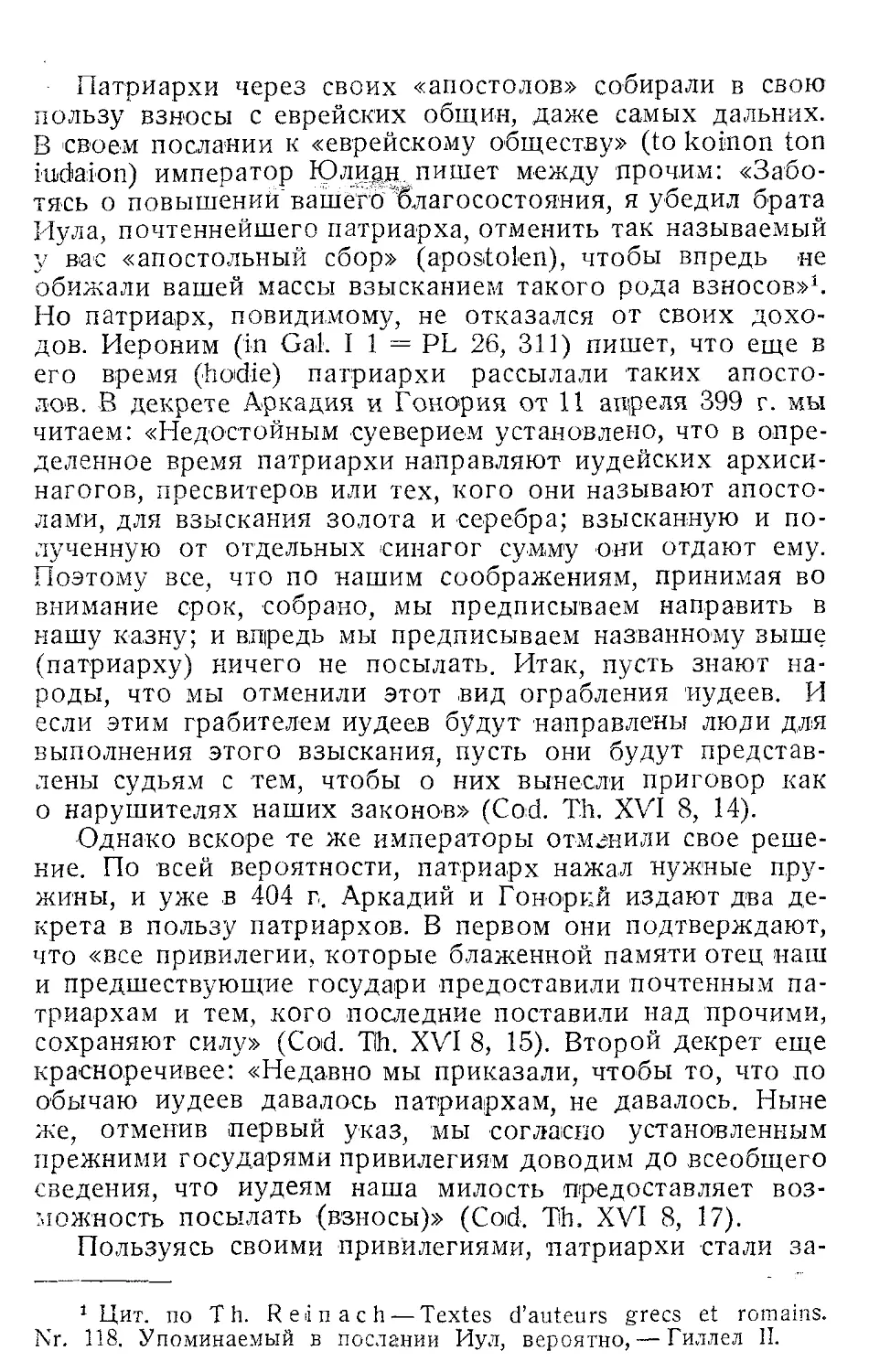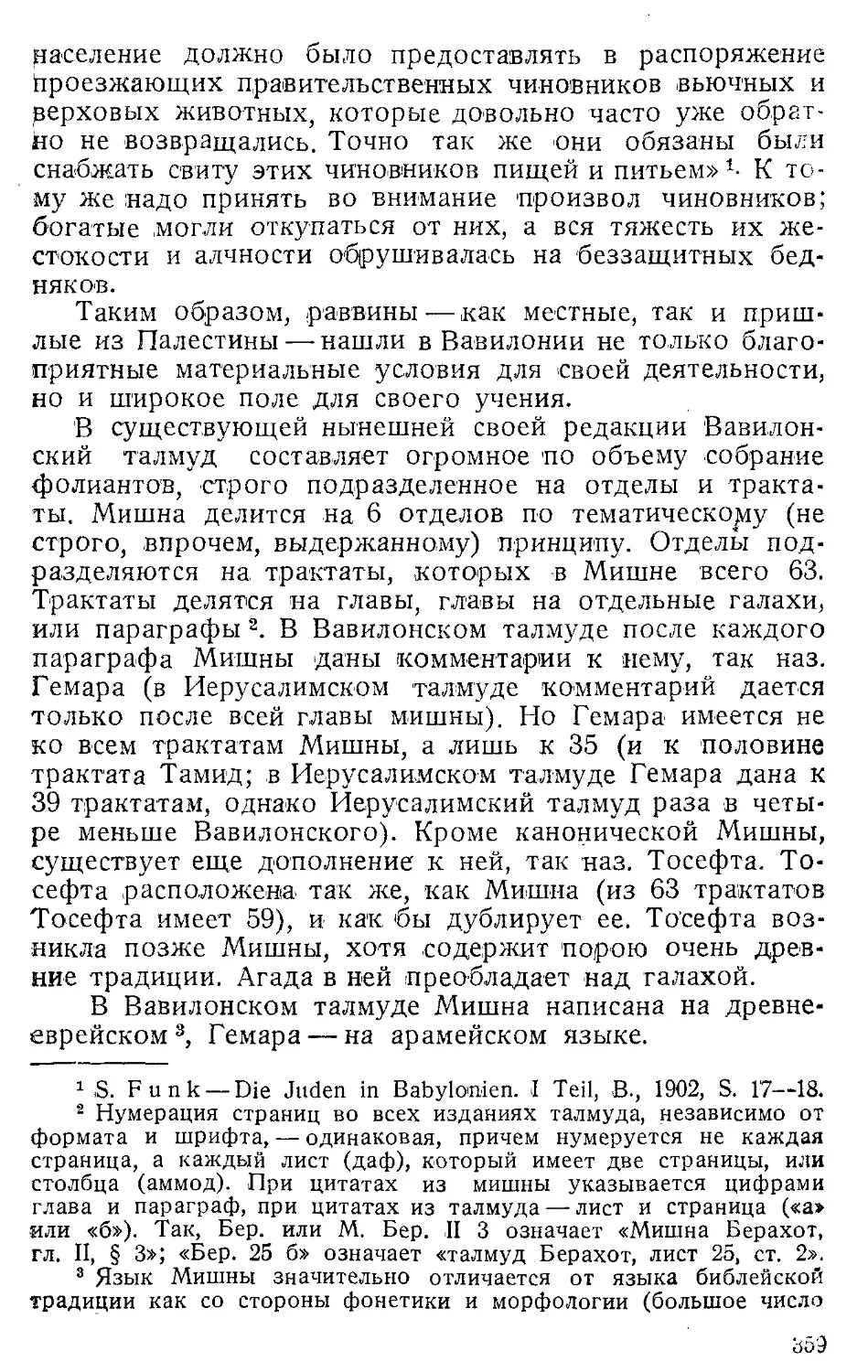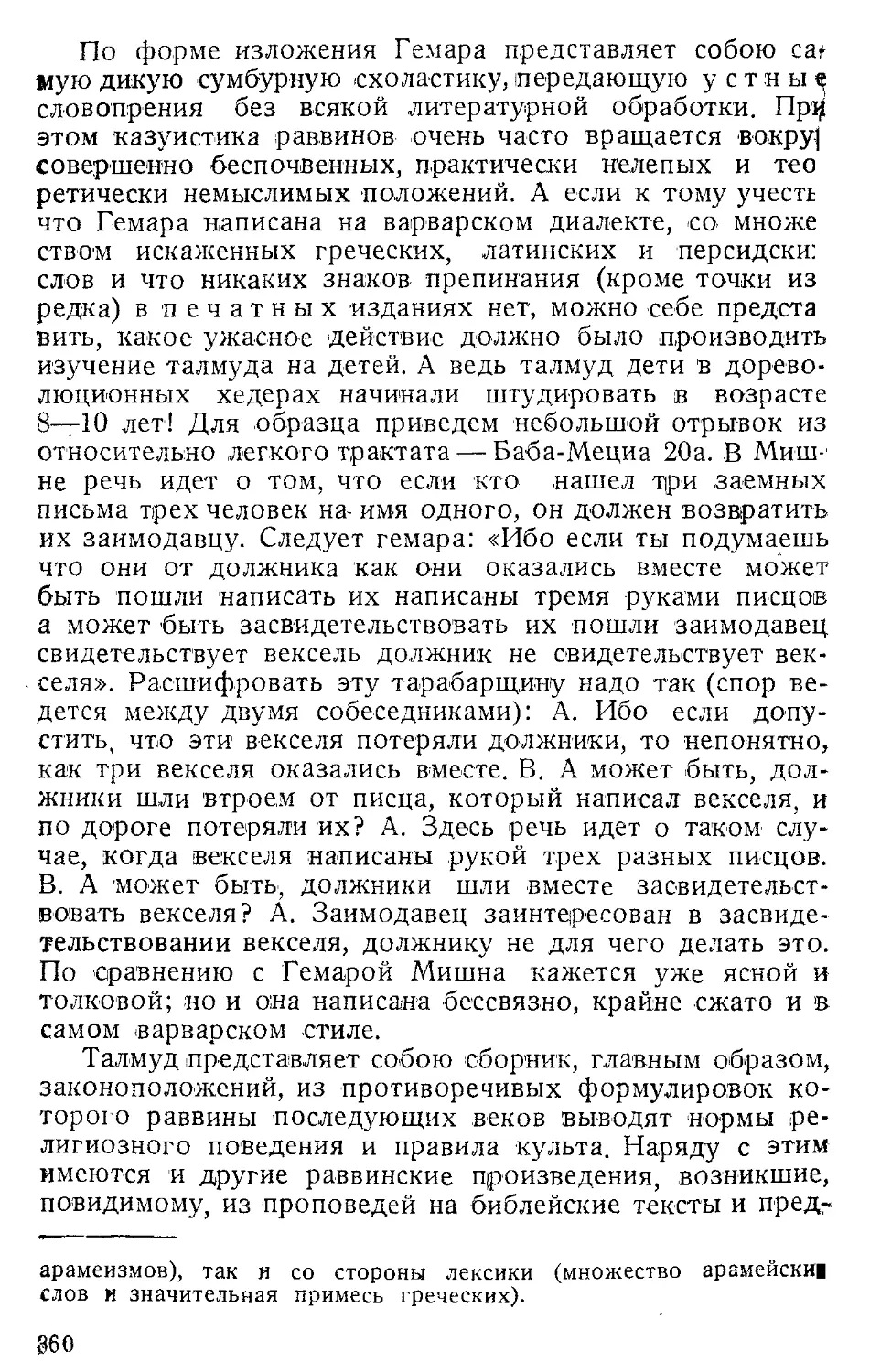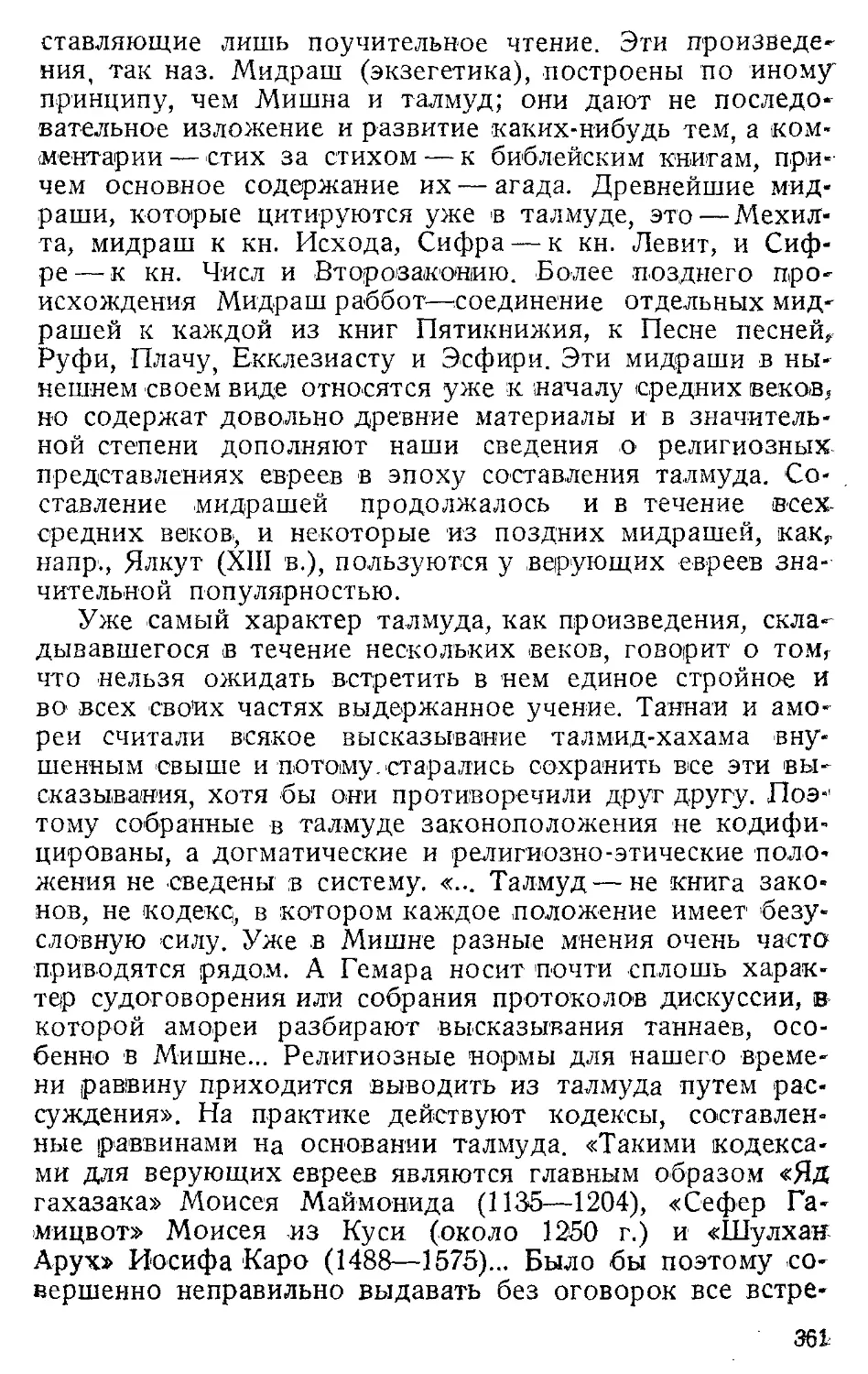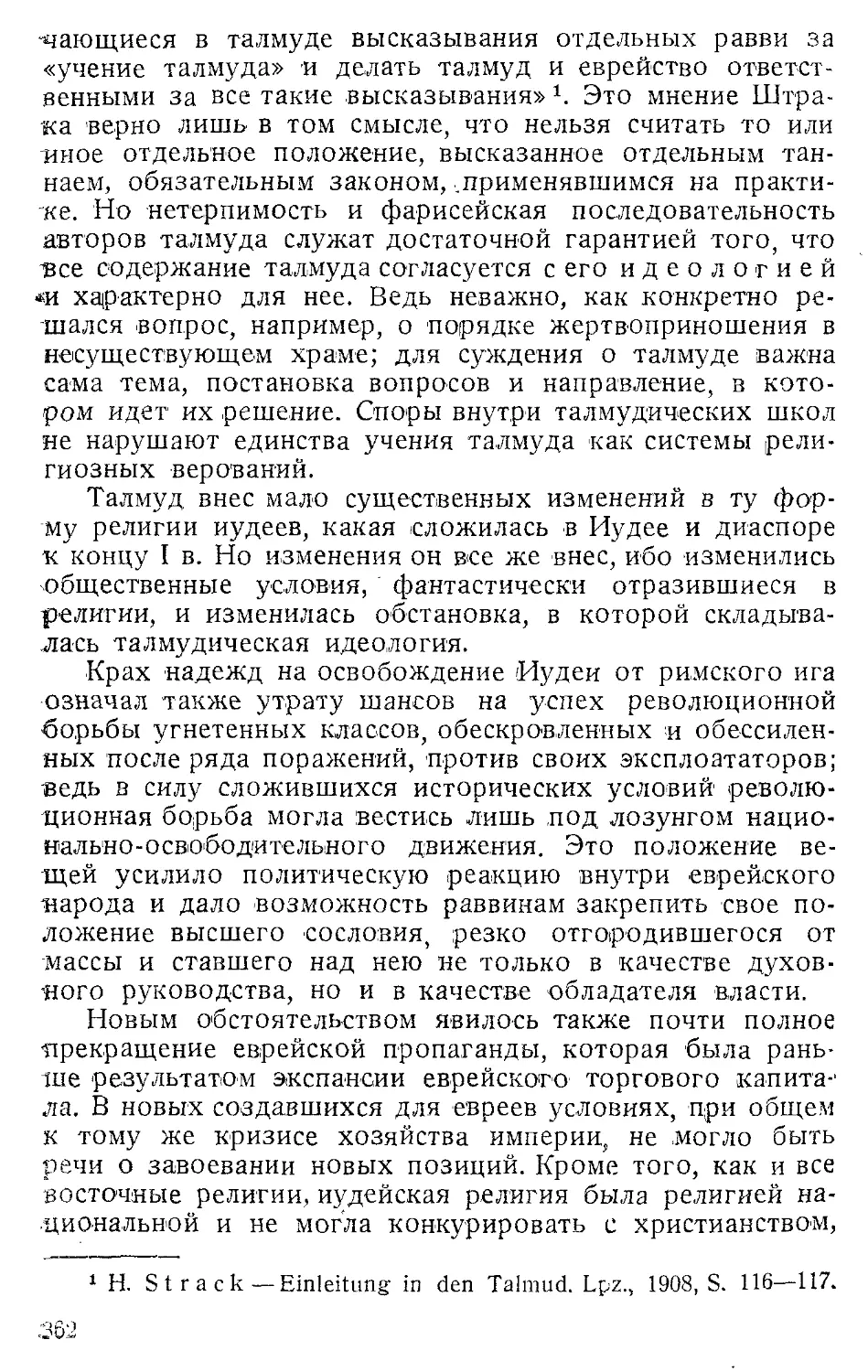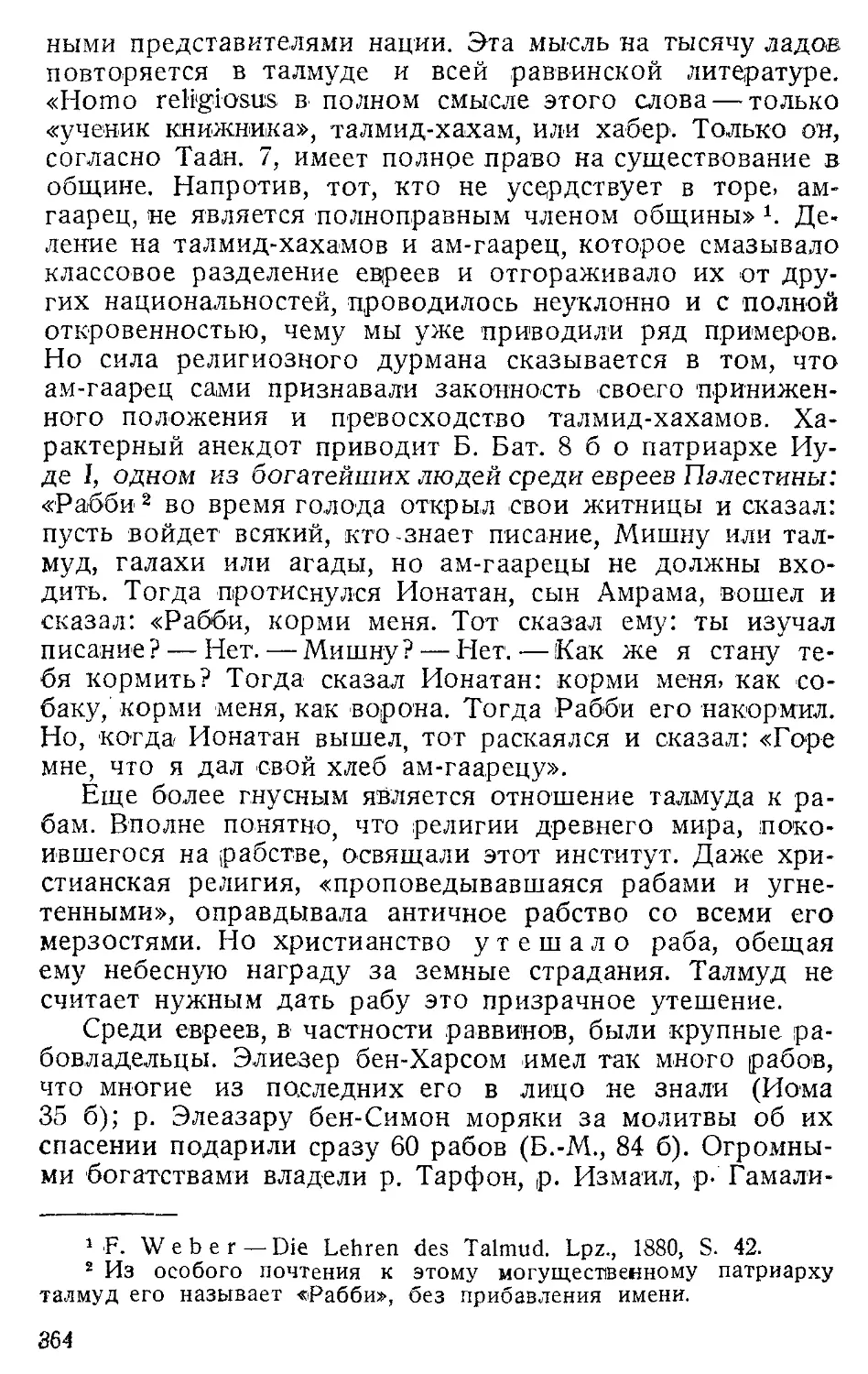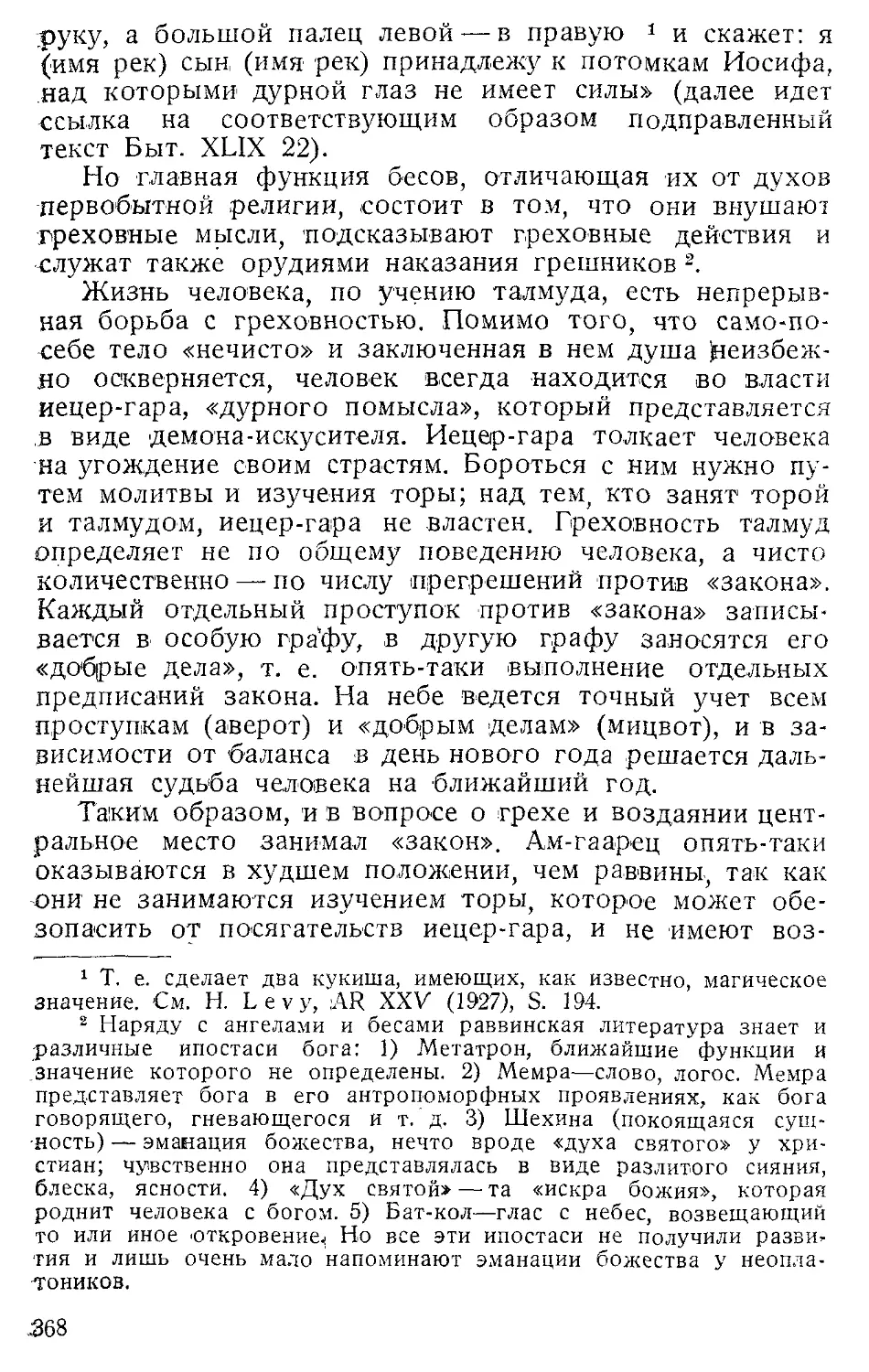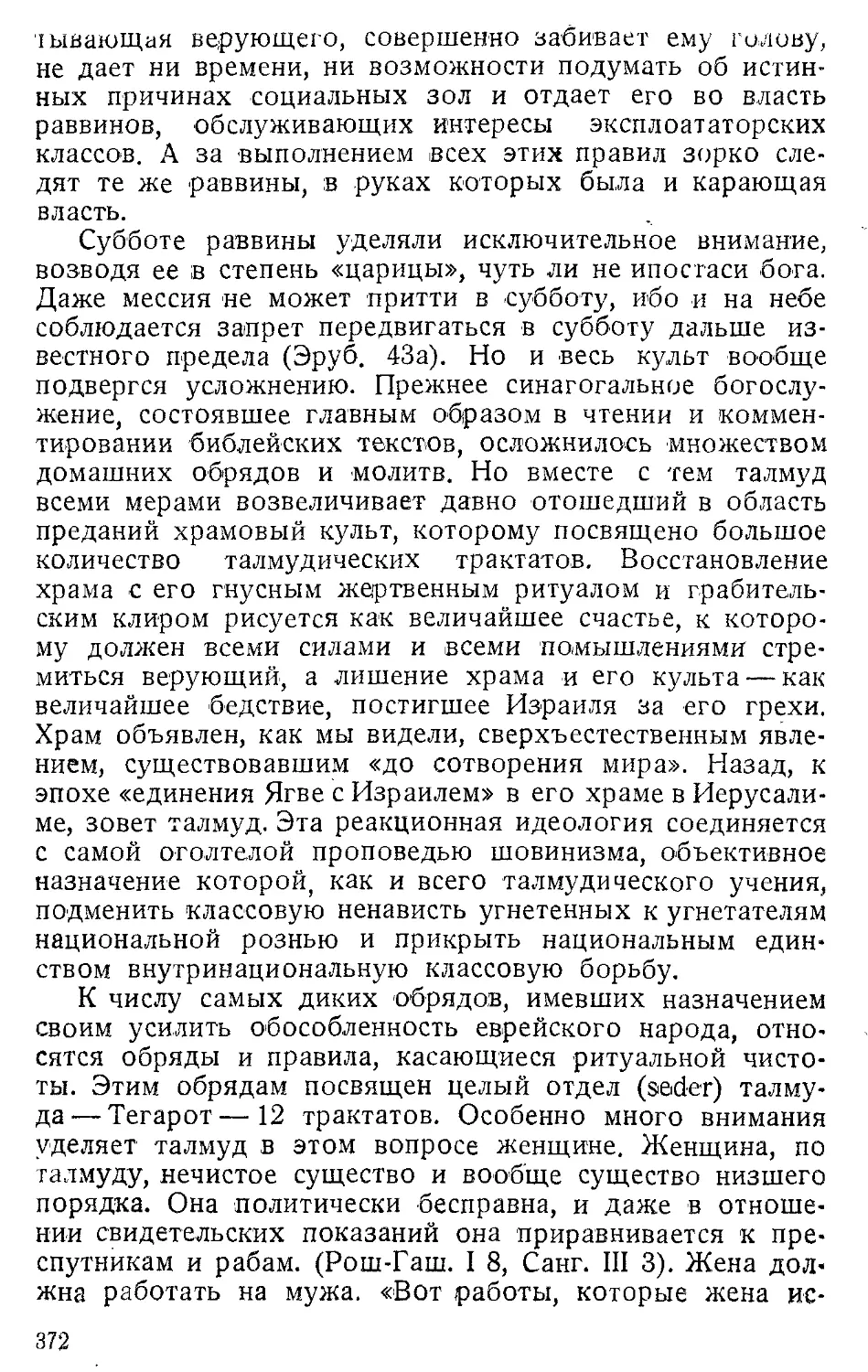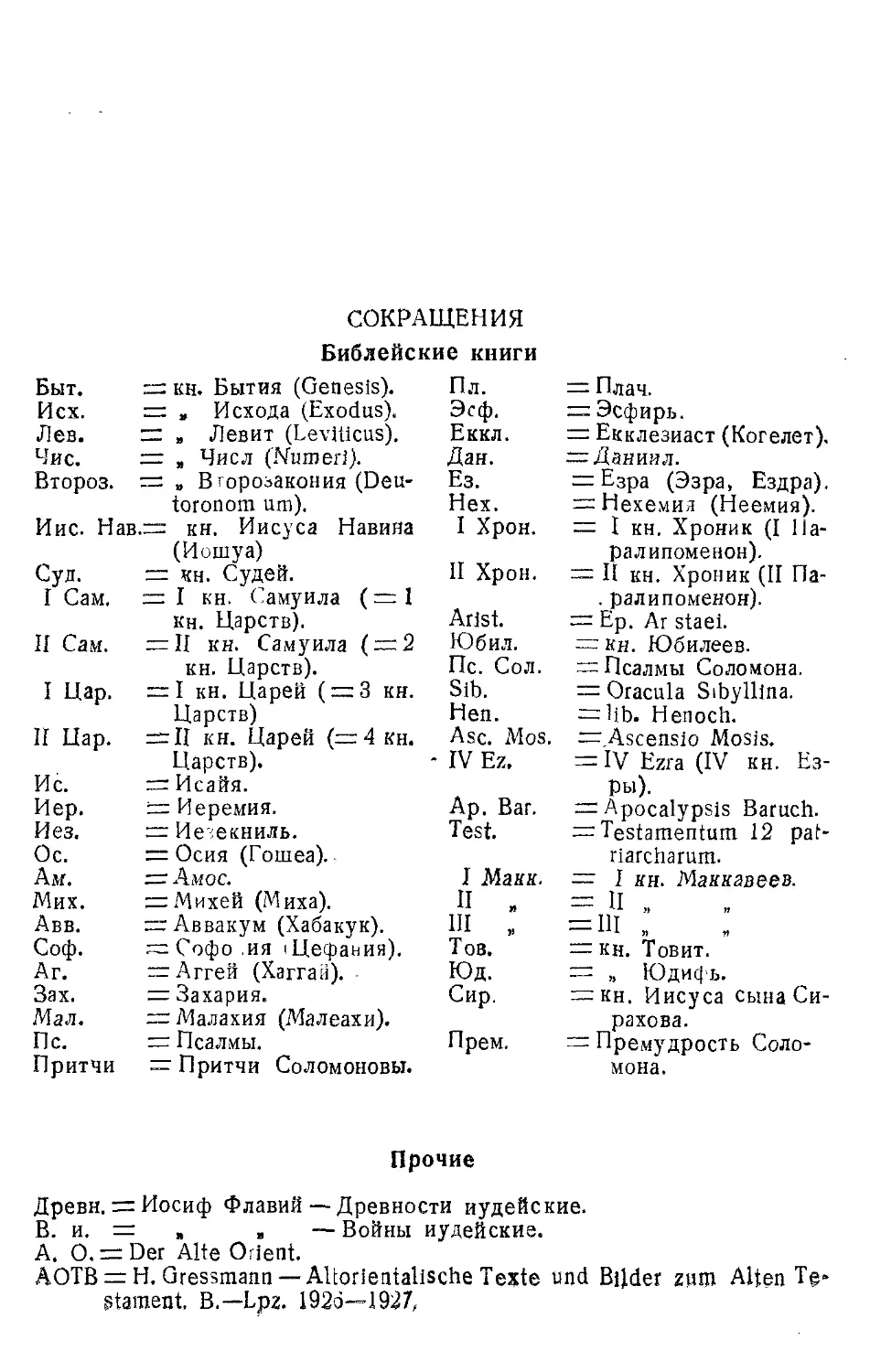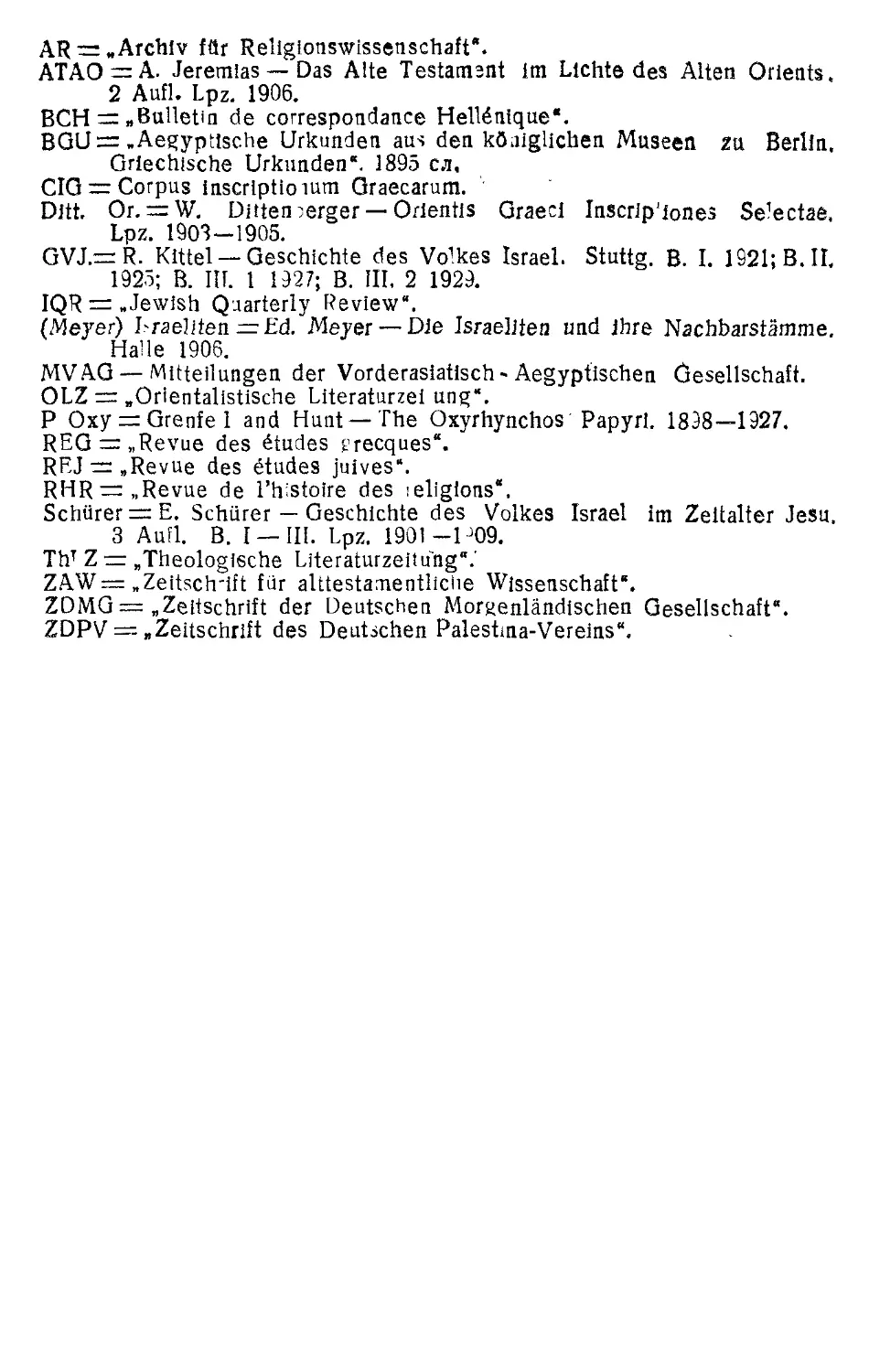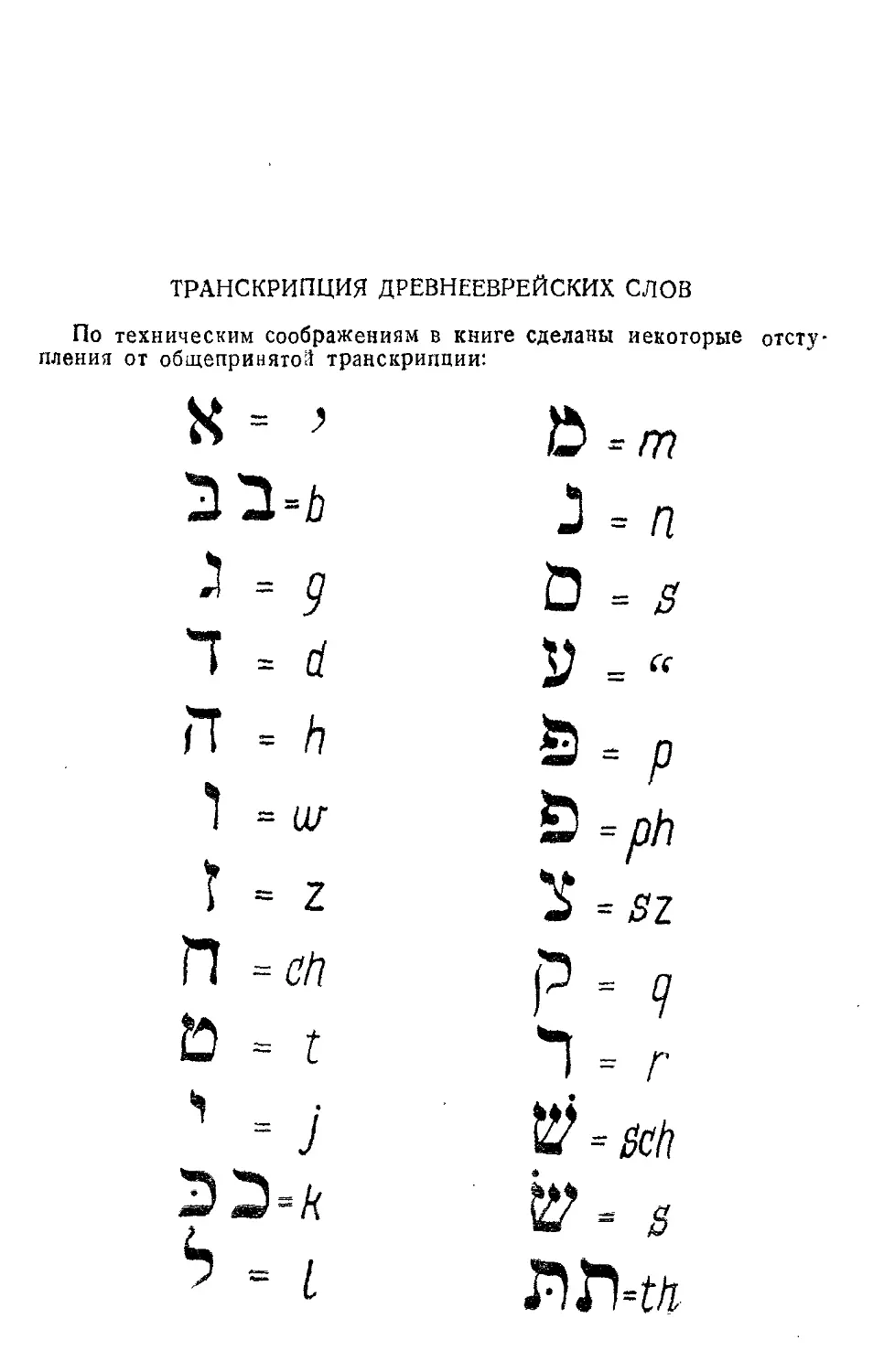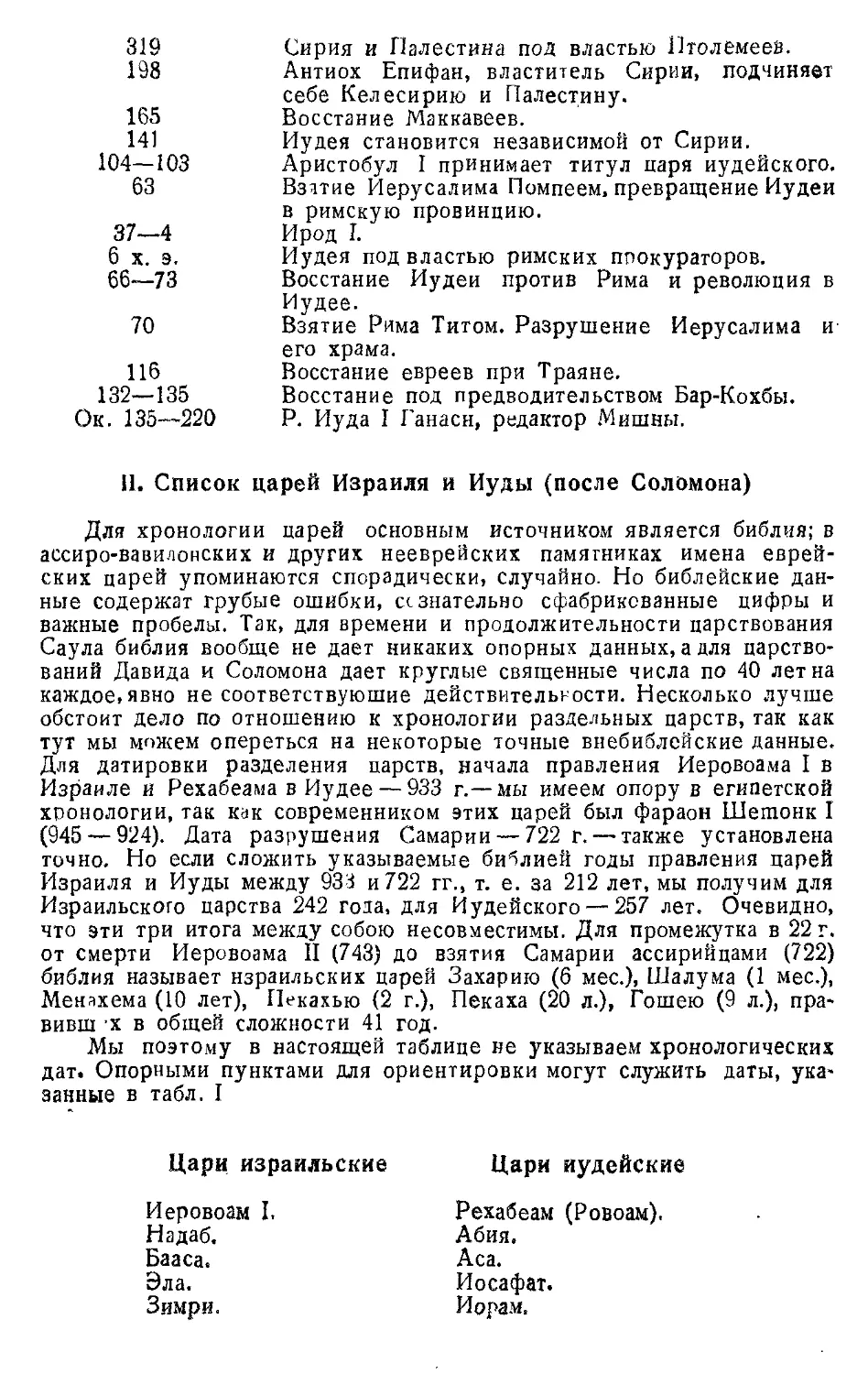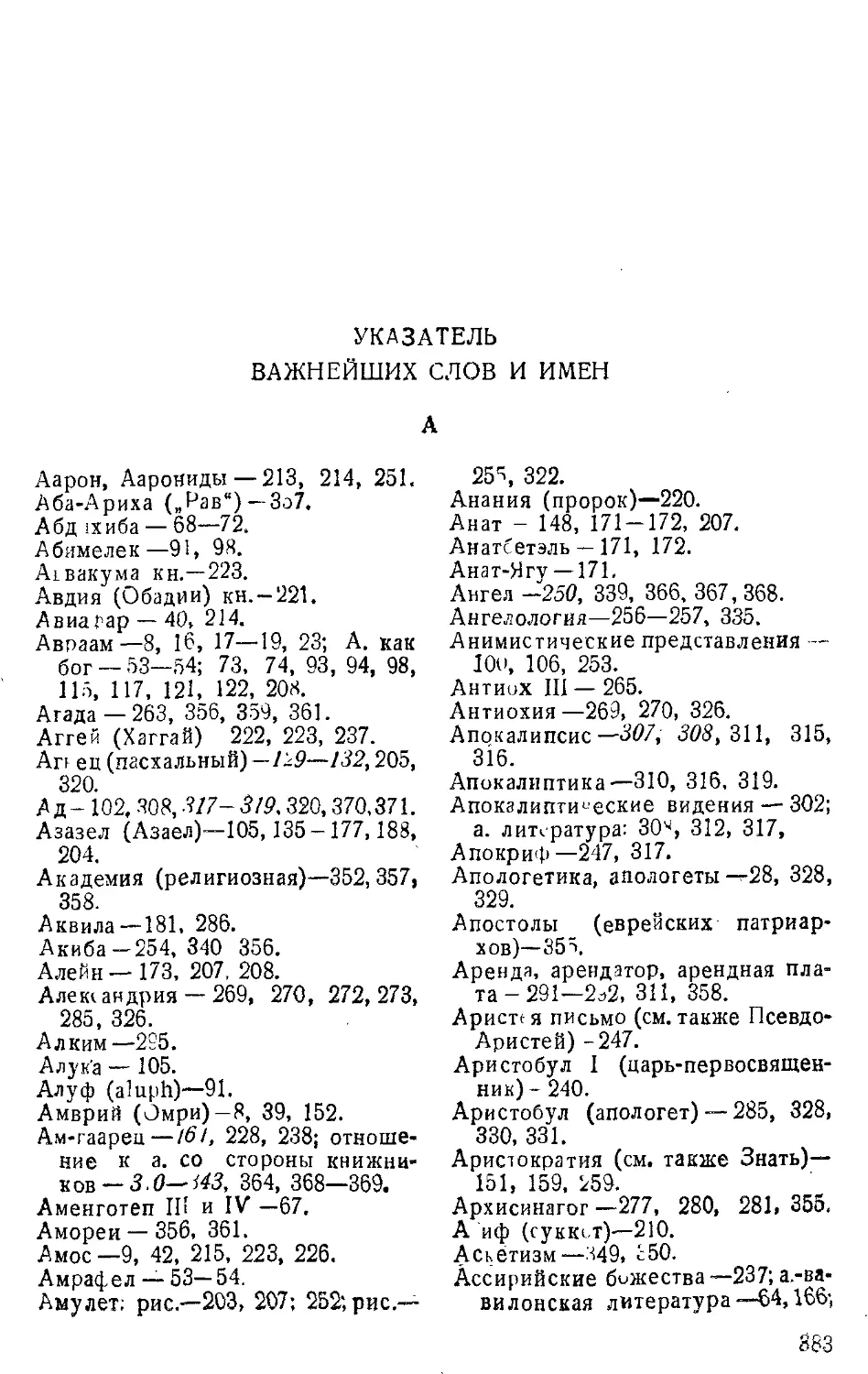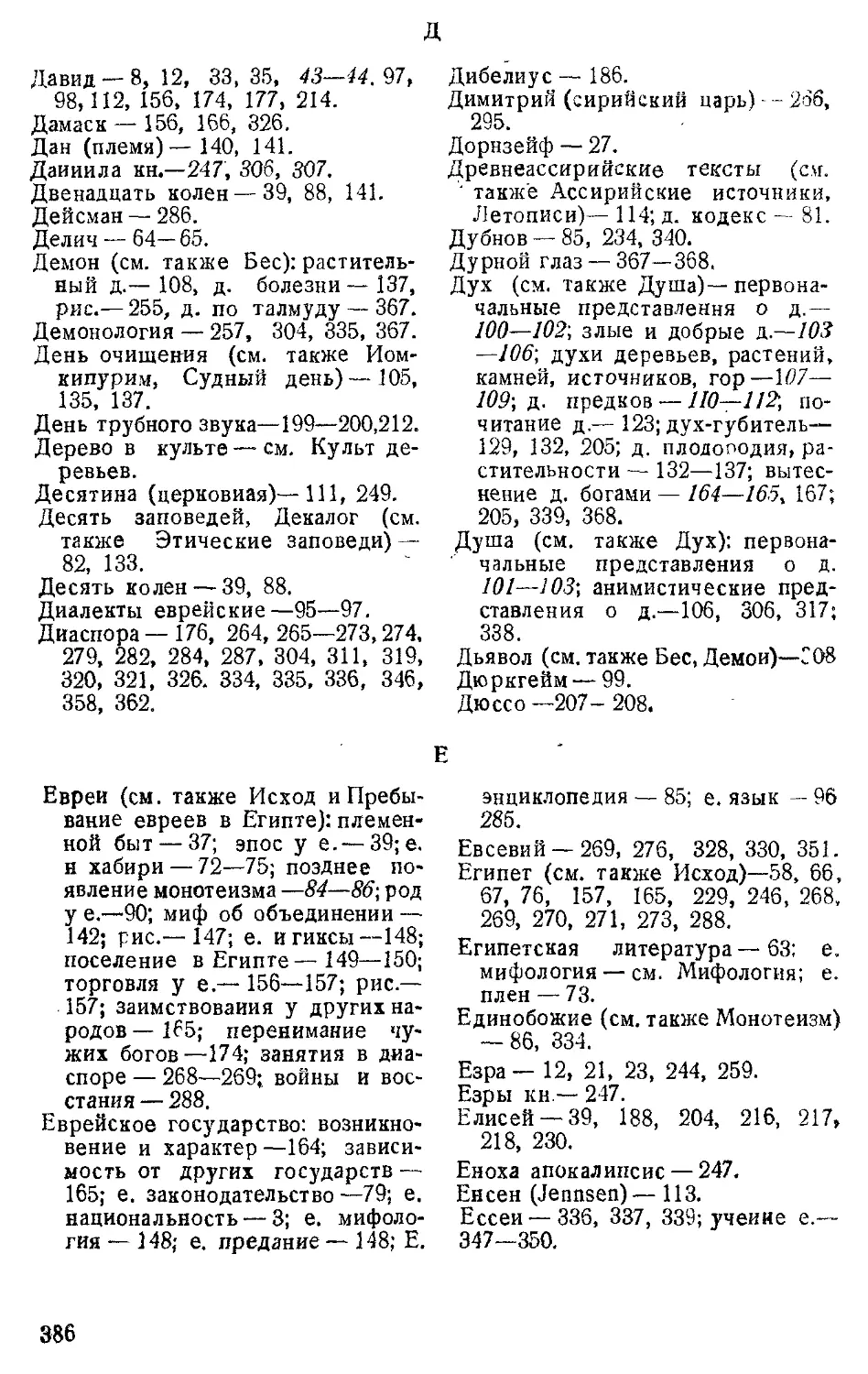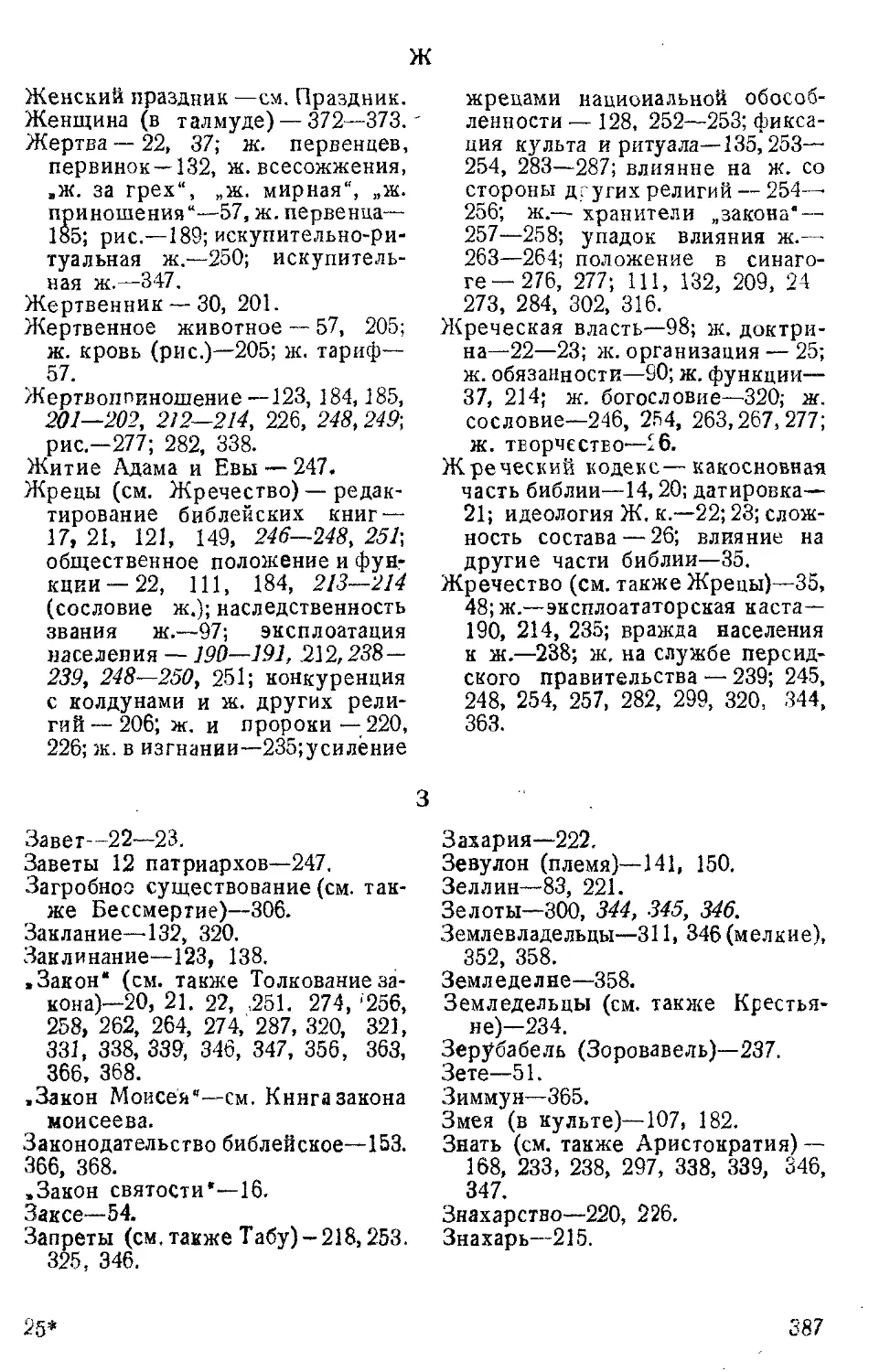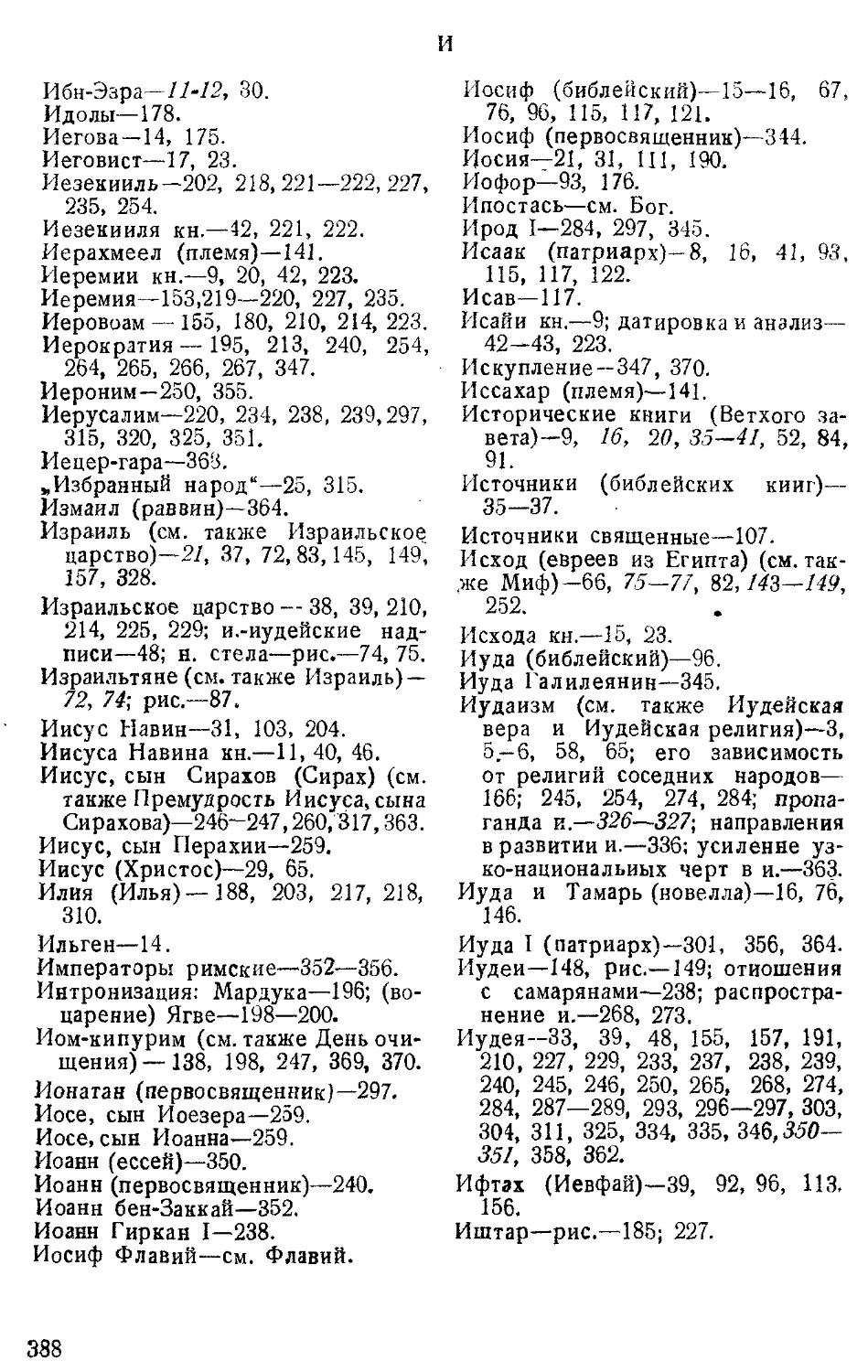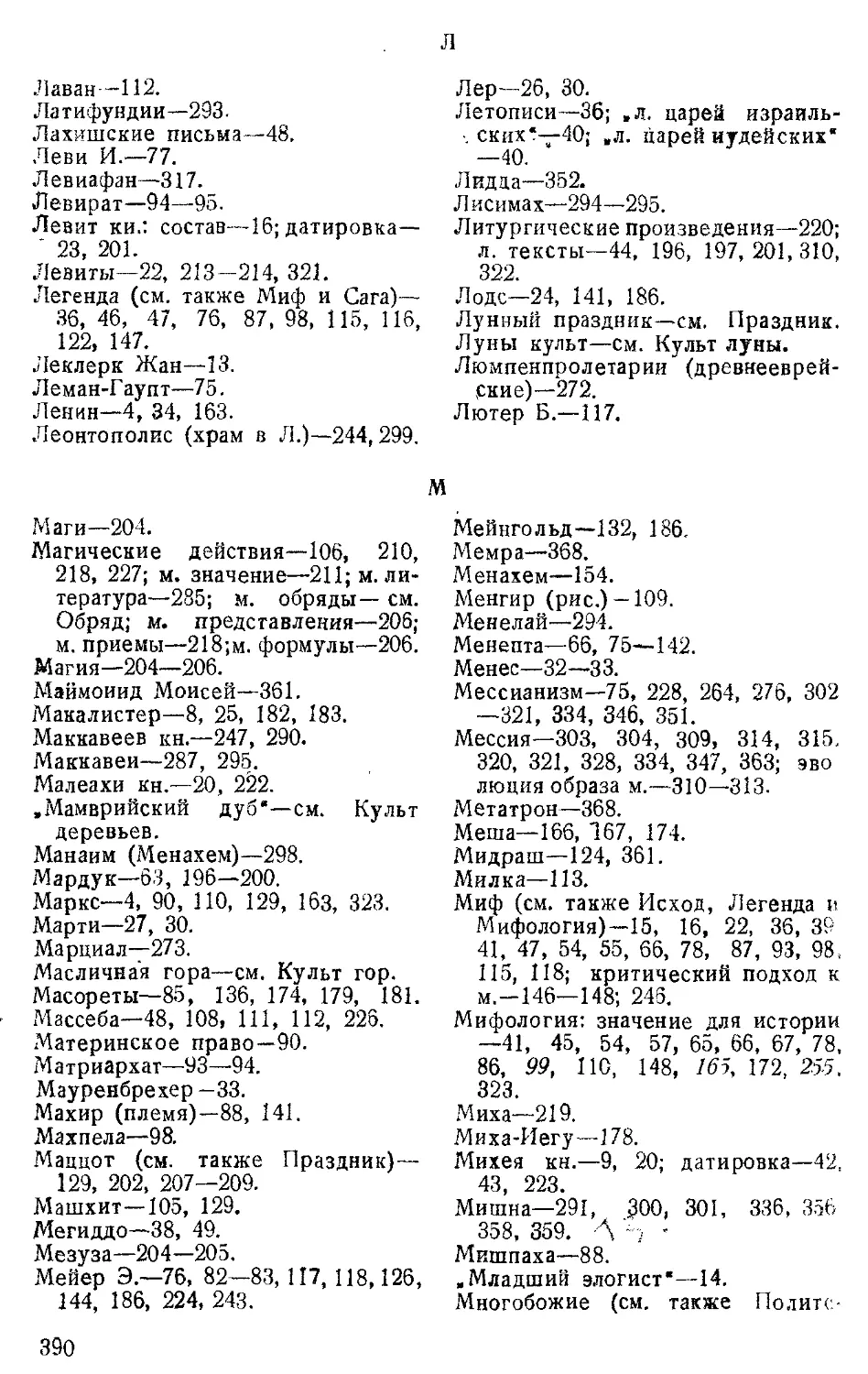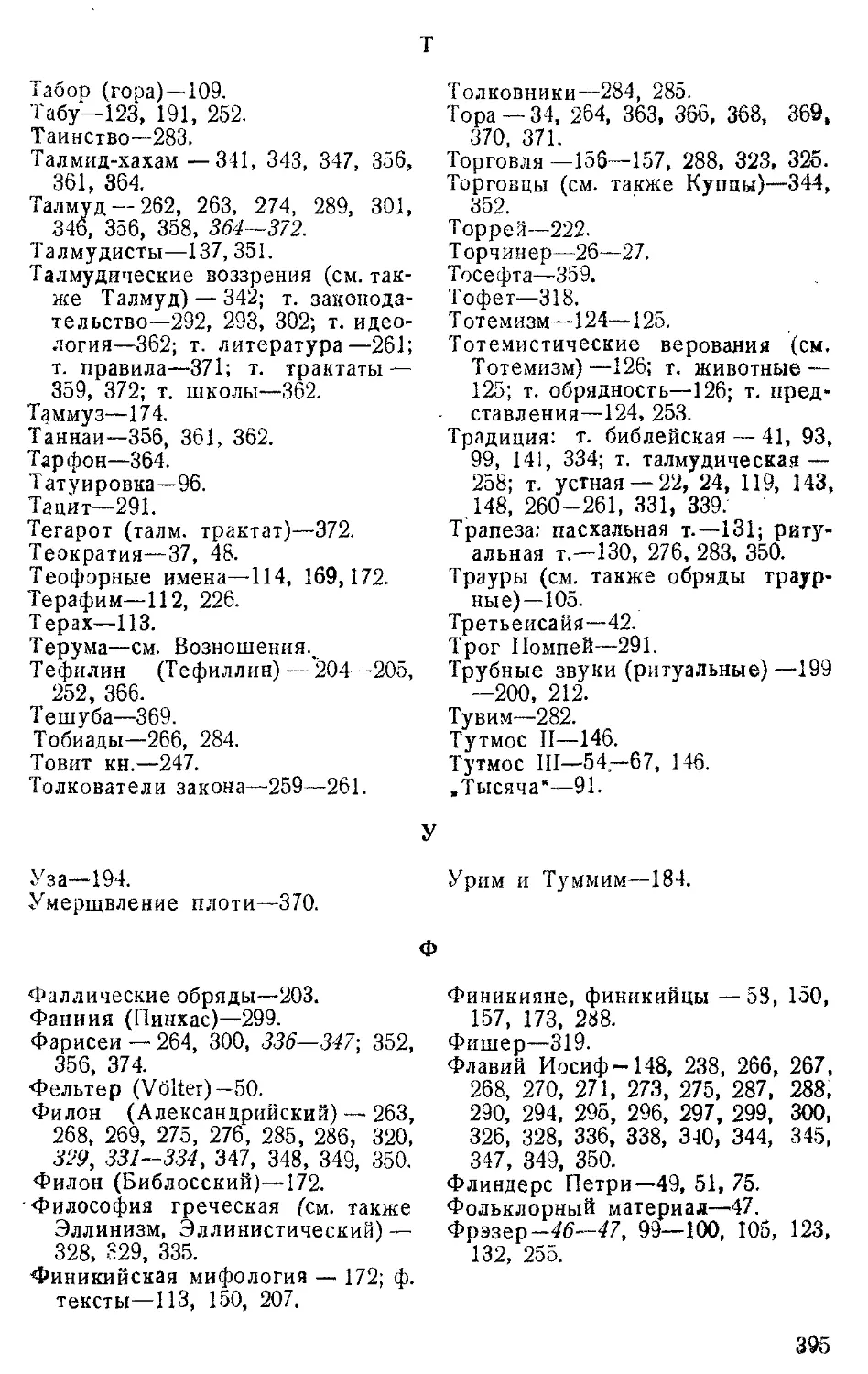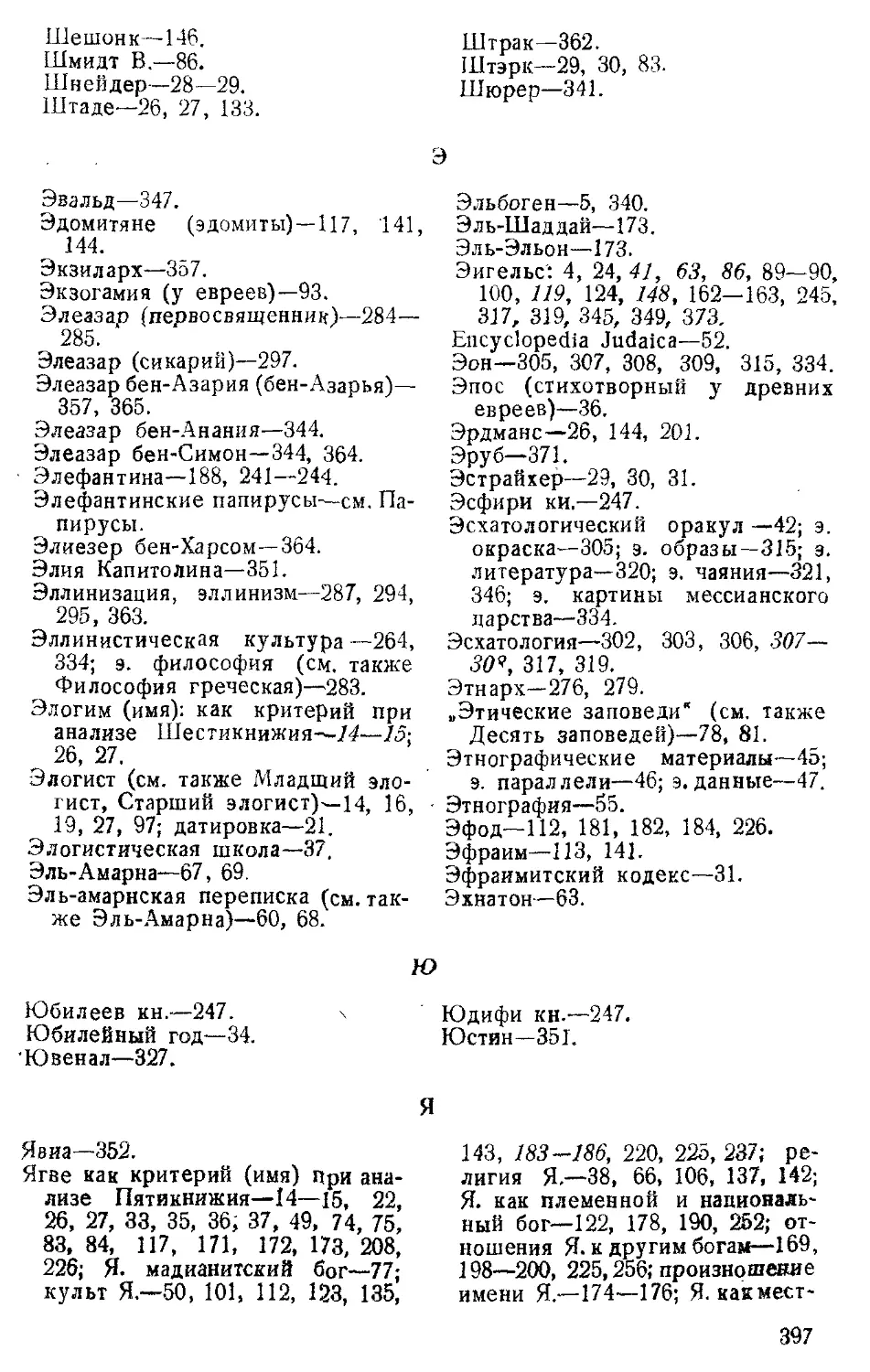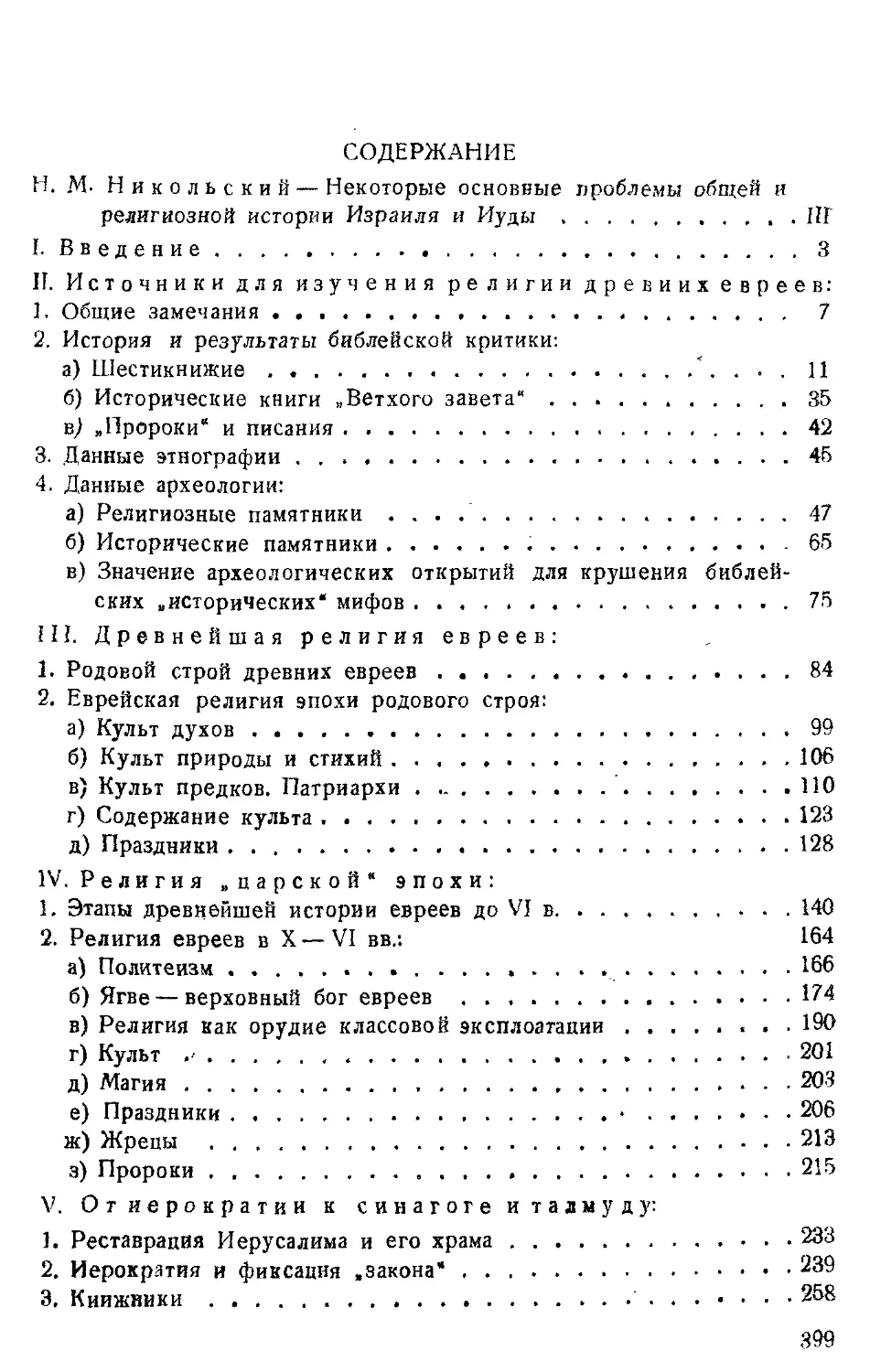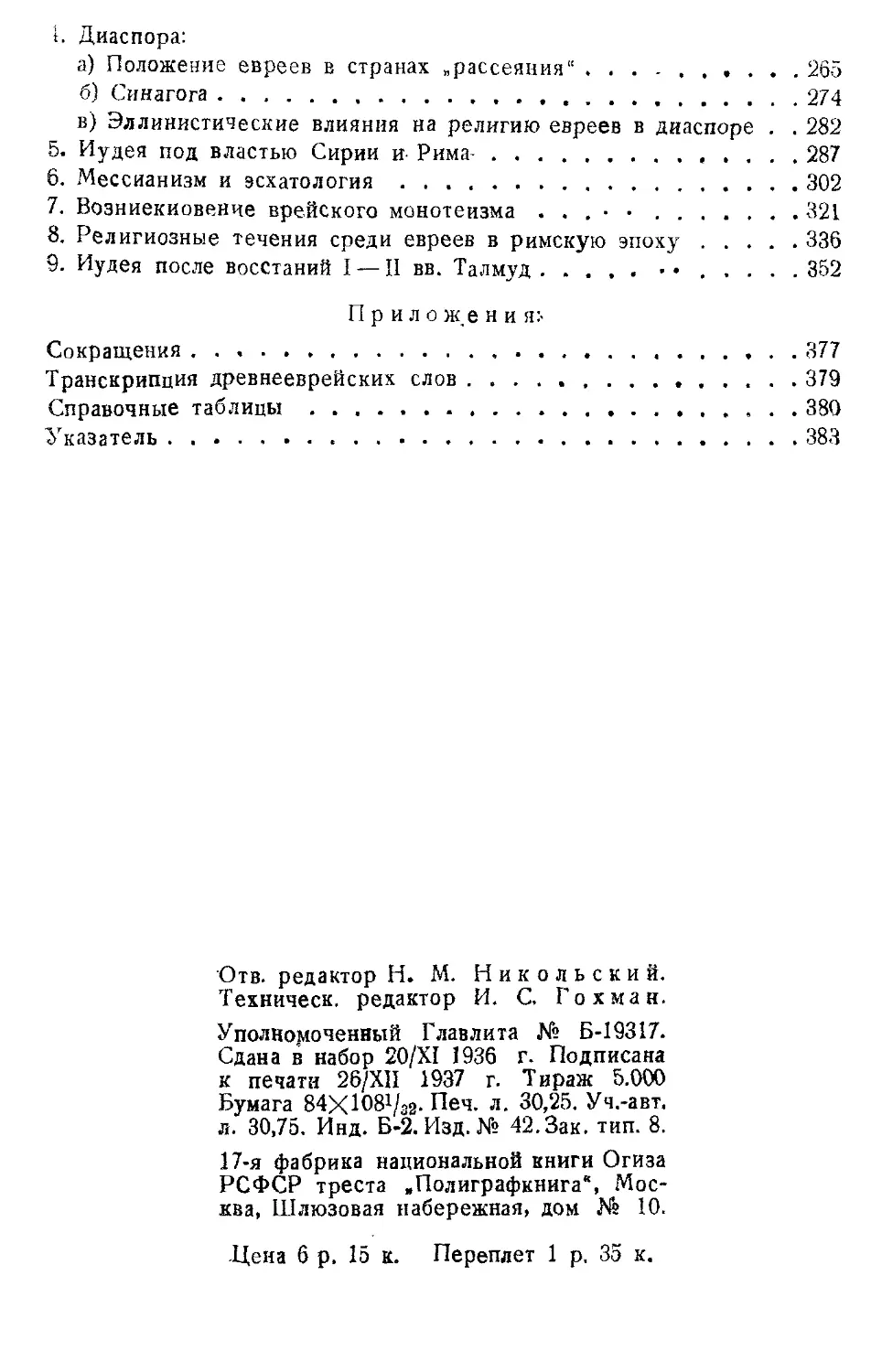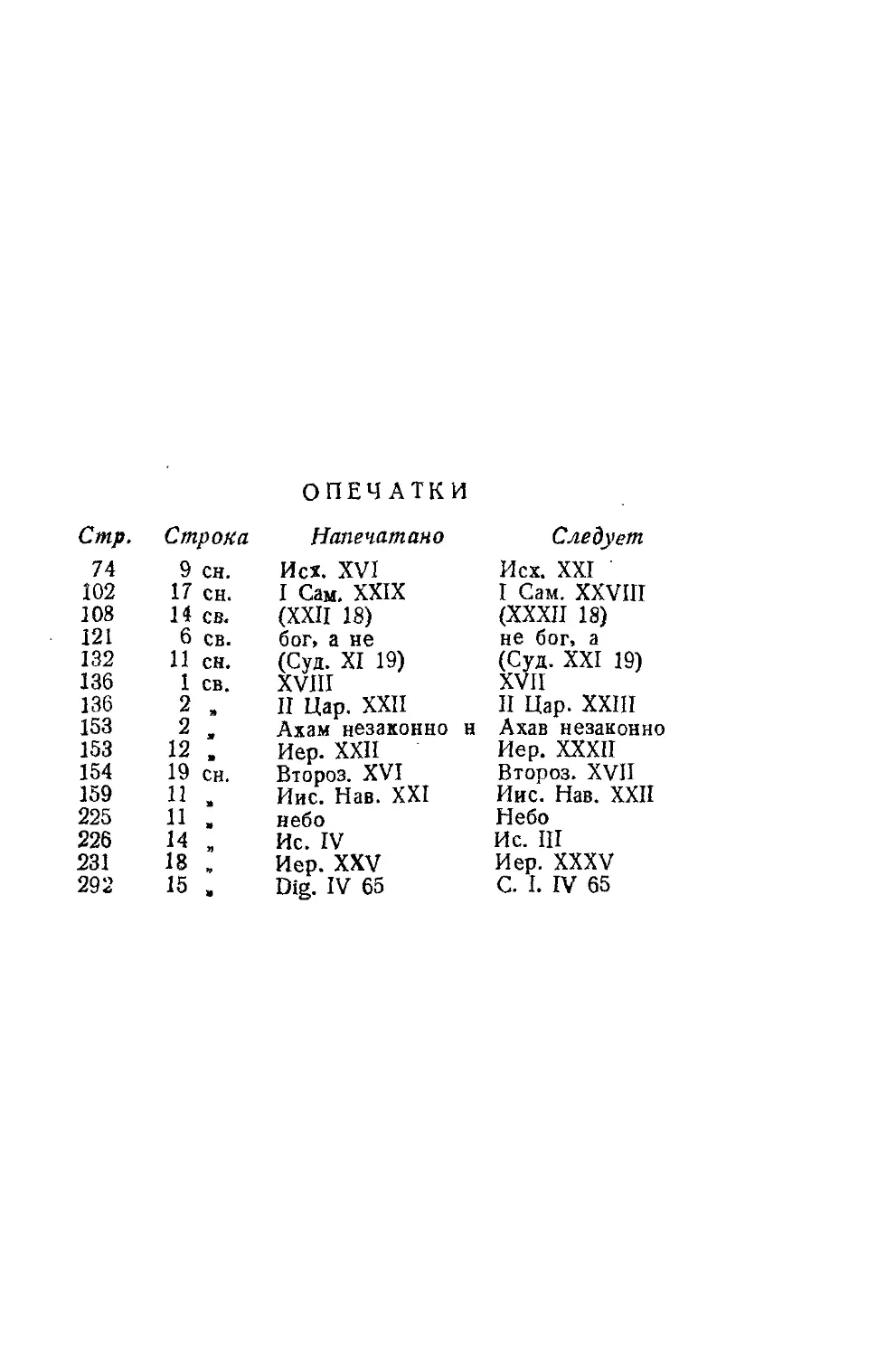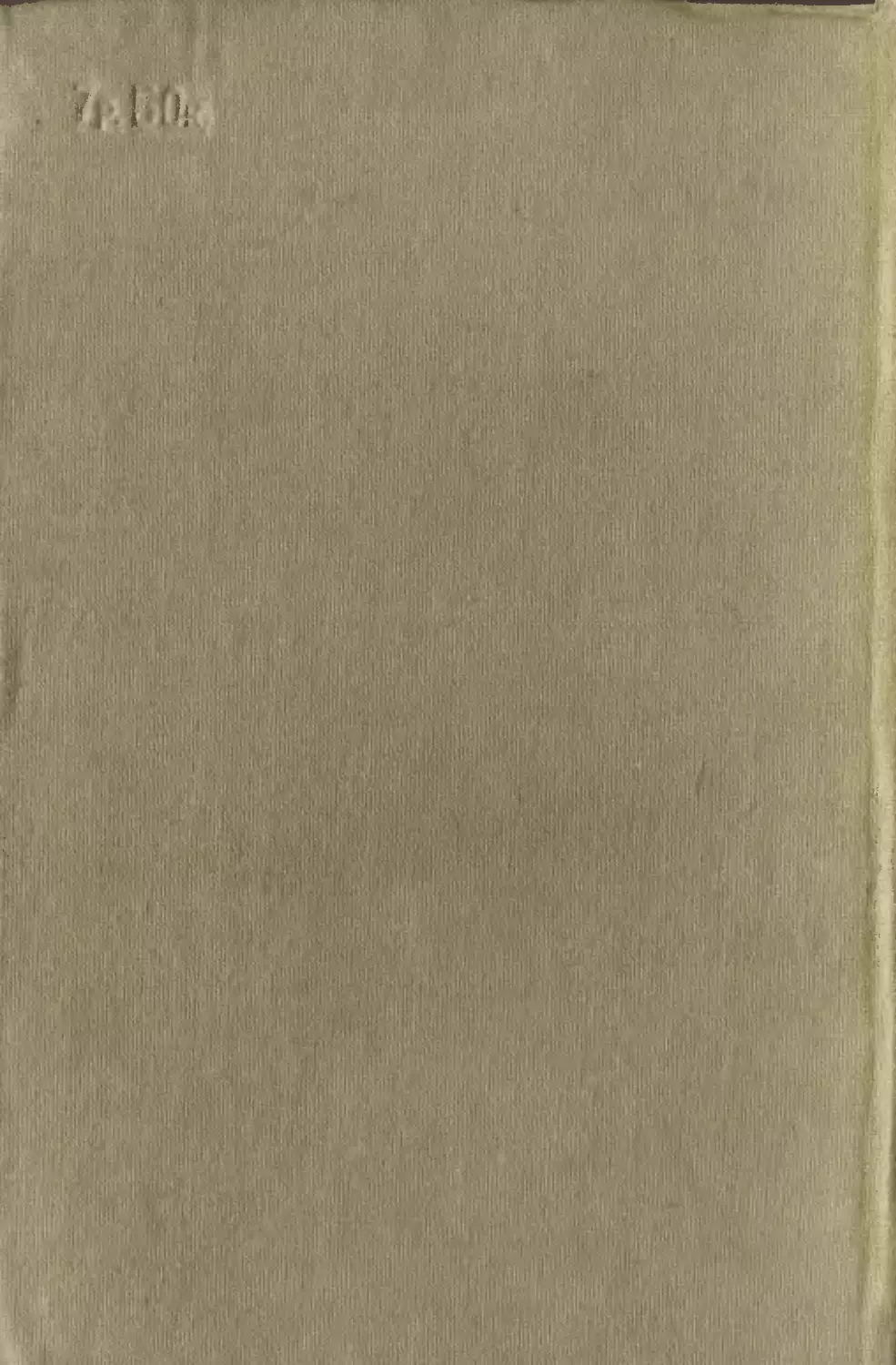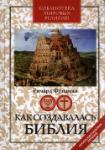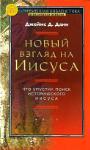Text
Л I..
}',ГЧ;( 0:
О) } {, О '.) Ь '
■'■: ■ "; ■:■:■•' ,'i ; ' . •':■." ^:-;-'.■.;■■::.- ;:\: -<.-; : ■.'■-:■;■ ■. ■.:■ ^:и ■;-:'.':; * '■..: ) ■ :.■' ■ ■;: ■ . ■■;.':..'■ i ■...■;■ .,;■;■■;■:■'
А.РА Н OB И Ч
ОЧЕРК ИСТОРИИ
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ
РЕЛИГИИ
^Вводная статья akadeutuka
Л.Микольского
огиз
Jfoeydap cm венное
АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
%Моек«а tga?
2
Р-22
На фоне истории евреев от
древнейших времен до периода
падения Римской империи
исследуются сменявшиеся в различных
социальных условиях религиозные
системы, объединяемые общим
названием «иудаизм», вплоть до той
его разновидности, которая
зафиксирована в талмуде.
Особое место уделяется разбору
источников по древней истории
евреев.
Книга предназначается для
квалифицированного
читателя-историка и
антирелигиозника-пропагандиста.
Jfkad. КММикальский
НЕКОТОРЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕЙ
И РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ
ИЗРАИЛЯ И ИУДЫ
I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Книга А. Б. Рановича является первым опытом
марксистского изложения истории древнееврейской религии.
Историки-марксисты должны обратить внимание на
весьма интересную и ценную работу т. Рановича прежде
всего потому, что она, будучи вообще одной из
немногочисленных марксистских работ по древневосточной
истории, посвящена проблеме, которая до сих пор, к
сожалению, недооценивается марксистской исторической
наукой. Мало этого, надо сказать прямо, что и
антирелигиозная работа до последнего времени не уделяла
древнееврейской религии того внимания, какого
последняя заслуживает. Между тем изучаемая т. Рановичем
область исторической науки до сих пор остается одной
из самых значительных «крепостей» буржуазной, а в
настоящее время и фашистской «науки». В истории
Израиля и Иуды и в истории израильско-иудейской религии
буржуазные историки и богословы всех мастей, начиная
от иудейских националистов и кончая
«.сверхкритическими» протестантскими богословами, довели до абсурда,
до нелепости, до самой крайней степени
идеалистическую историческую методологию и неразрывно связан-
1*
III
ную с последней фальсификацию исторической
действительности.. В эпоху победного развития и роста
капитализма буржуазные историки и библеисты имели смелость
разоблачать библию, как «великий обман», как
сознательную фальсификацию действительного «лица» израильско-
иудейской истории и религии. Но и тогда даже лучшие
представители критической школы, скованные путами
идеализма, сплошь и рядом скатывались к новой
фальсификации, одетой в «научную» маску. В настоящее время
«критическая» библеистика уже прямо объявляет борьбу
против всякого научно-критического подхода к изучению
библейских проблем. Лозунг руководящего органа
западноевропейской библеистики, «Zeitschrift fur alttestament-
liche Wissenschaft», провозглашает эту установку без
всяких обиняков: журнал «рядом с специальной
исследовательской работой (Facharbeit) должен также искать и
постоянно сохранять тесную связь (Fu'hlung)
с богословской- наукой и ц ер к о в н о-р е л и-
гиозной жизнью современности»
(подчеркнуто редакцией ZAW). Другими словами, Facharbeit в
области библеистики ставится в услужение фашизму; и
неудивительно, что критические статьи, печатающиеся теперь в
ZAW, посвящаются мелким и мельчайшим вопросам
формально-литературной критики текста, обходя всякие
мало-мальски значительные проблемы. Зато статьи по
общим вопросам посвящаются изысканиям в области
«ветхозаветного богословия», библейской «морали»,
психологии пророческих «переживаний» и т. п.
идеалистического хлама. В то же время иудейская
националистическая наука усердно продолжает борьбу против
общепризнанных выводов библейской критики, в защиту
«изначального» и притом «универсально-этического»
монотеизма. От этой «работы» веет ядовитым, смрадным
духом трупного тления, но в нем есть еще дурманящие
элементы. Так обстоит дело на капиталистическом
Западе; там «критическая» библеистика загнана в тупик; она
не только не может дать ничего нового, но приходит
порой даже к отрицанию своих же собственных
достижений.
Но и в нашем Союзе борьба на фронте идеализма
далеко еще не закончена. Традициям богословия и
иудаизма нанесен сокрушительный удар, однако они еще не
добиты окончательно. Еще имеют место вылазки
богословского и националистического характера, опираю-
IV
щиеся на установку о «богоизбранности» еврейского
народа и «абсолютном характере» еврейской религии и
морали, даже в новейших советских изданиях по
истории древнего Востока. В 1936 г. вышло новое издание
курса «Истории древнего Востока» реакционного проф.
Тураева, где сохранены в полной неприкосновенности и
без всяких оговорок такие заявления: «Религия Иеговы,
очистившись от ханаанства, сделалась наиболее высокой
верой в единого бога»; уведенный в плен иудейский
народ «не растворился среди язычников... а вышел, как
церковь, из горнила окрепшим в вере и национализме» К
В том же 1936 г. В. В. Струве в своем большом курсе
истории древнего Востока, назначенном для советских
студентов и историков, утверждает, что у евреев был только
один изначальный и святохранимый культ бога Ягве, что
евреи приходили в ужас от обрядов жертвоприношений,
практиковавшихся у финикиян и моавитян, и повторяет
апологетические оценки роли пророчества и содержания
Второзакония, обычные для националистическо-бого-
словской литературы 2. Не преодолены еще окончательно
религиозные пережитки в сознании и в быту многих
евреев-трудящихся, еще не изжиты еврейские праздники и
многие религиозно-бытовые обряды. К сожалению, наши
историки уделяют недостаточно внимания этой области.
Поэтому антирелигиозная пропаганда среди
евреев-трудящихся базировалась обычно на случайной литературе,
какую мог достать пропагандист, часто старой, полубо-
гословского содержания. Проблема происхождения и
истории еврейской религии в свете учения марксизма-
ленинизма нашими историками до сих пор мало
разрабатывалась, i I
Марксистское изучение религии исходит из известного
положения Маркса, выдвинутого им в «Немецкой
идеологии» в качестве основного тезиса материалистической
философии в противоположность основному тезису
идеалистической философии. «В полную противоположность
немецкой философии... мы исходим не из того, что люди
говорят, воображают, представляют себе и не из
словесных, мыслимых, воображаемых, представляемых людей,
чтобы от них притти к подлинным людям; мы исходим
1 Б. А. Тур а ев — История древнего Востока. Под ред.
Струве и Снегирева. Т. II, стр. 66 и 74. Ленинград.
8 «История древнего мира», т. I, стр. 340—341, 347—348, 357—
360 (изд. ГАИМК).
V
из людей действительно деятельных и выводим из их
действительного жизненного процесса также и развитие
идеологических отражений и отзвуков этого жизненного
процесса. Даже туманные образования в мозгу людей, и
те являются необходимыми сублиматами [продуктами]
их материального жизненного процесса, который может
быть установлен на опыте и который связан с
материальными предпосылками. Таким образом, мораль,
религия, метафизика и прочие виды идеологии и
соответствующие им формы сознания утрачивают видимость
самостоятельности. У них нет истории, у них нет
развития; люди, развивающие свое материальное
производство и свое материальное общение, изменяют вместе с
данной действительностью также свое мышление и
продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь,
а жизнь определяет сознание» 1.
Общеизвестно, что ни в одной области буржуазной
науки господство идеалистической методологии не
проводилось так усердно и последовательно, как в истории
религии и в особенности в истории иудаизма и
христианства. Энгельс отмечает заслуги буржуазной науки в
области критического изучения библейской традиции и
раннехристианской традиции, но он подчеркивает, что
такие ученые, как Бруно Бауэр, считаются единицами,
что направление критики, к которому принадлежал
Бруно Бауэр, «представлено только одним человеком» —
самим Бруно Бауэром. Энгельс добавляет, что главное
направление библеистики его времени, так называемая тю-
бинг-енская школа, «вычеркивает из исторического
повествования все чудеса и все противоречия, как
недопустимые», но из остального она пытается «спасти все,
что еще можно спасти», и что Ренан, опираясь на эту
школу, «спасает» еще гораздо больше2. Отметив
«ценные данные», имеющиеся в работах Бруно Бауэра и
заключающиеся в том, что Бауэр впервые расчистил
почву, на которой возможно разрешение вопроса, «откуда
происходят представления и идеи, сложившиеся в хри-
1 Map кс — Немецкая идеология. Партиздат. 1934. Стр. 16—17.
Ср. Энгельс — Людвиг Фейербах (Соч. М. и Э., т. XIV, стр. 676):
«изменения, происходящие в этом запасе представлений,
определяются классовыми, т. е. экономическими отношениями людей,
делающих эти изменения».
2 «К истории раннего христианства». Соч., т. XVI, ч, II,
стр. 414—415,
VI
стианстве в своего рода систему, и каким образом они
достигли мирового господства», Энгельс однако
указывает, что, хотя Бауэр занимался этим вопросом до конца
жизни, он все же его не разрешил. Основная причина
неудачи Бауэра — «его идеализм немецкого философа,
он мешает ему видеть ясно и формулировать четко.
Фраза заменяет у него часто в решающем месте
существо дела». Поэтому Энгельс излагает свое
«собственное понимание этого вопроса, основанное не только на
работах Бауэра, но и на самостоятельном изучении» *.
В цитированных высказываниях Маркс и Энгельс
указывают историку-марксисту единственно правильный метод
изучения вопросов истории религии. Надо брать от
буржуазных исследователей только то, что у них является
действительно критическим, но опираться в своих
выводах на самостоятельное исследование. А это
самостоятельное исследование должно исходить из положения,
что религия самостоятельной истории не имеет и что
религиозные идеологии и сопутствующие им культы
изменяются людьми вместе с «данной действительностью»,
вместе с развитием «материального производства и
материального общения» «Человек создает
религию, религия не создает человека... Но человек — не
абстрактное, вне мира витающее существо. Человек — это
мир человека, государство, общество. Это
государство, это общество создают религию, превратное
миросо знание, ибо сами они превратный
МИр»2. . ! ! | I
Отсюда А. Б. Ранович совершенно правильно
поступил, начав свою работу с критического обзора истории
библейской критики. Бесспорные результаты
критического исследования библии служат для него опорными
пунктами для его собственного изображения истории
древнееврейской религии. Методологически свою задачу
автор понял правильно. Но в своей книге он не
задавался целью исчерпать все проблемы библейской
критики. В этом отношении моя вводная статья должна
послужить как бы органическим дополнением к работе
т. Рановича. В качестве такого же дополнения я хотел
бы здесь затронуть некоторые спорные методологические
проблемы, а также некоторые новые проблемы религи-
1 «Бруно Бауэр и раннее христианство». Соч., т. XV, стр. 605.
'Маркс — К критике гегелевской философии права. Соч.
М. и Э., т. I, стр. 399.
озной истории Израиля и Иуды, проблемы, на которые
не обращала внимания западная библеистика, но
которые возникают при исследовании истории Израиля и
Иуды на основе марксистско-ленинской методологии.
П. ПРОБЛЕМЫ КРИТИКИ ТЕКСТА БИБЛИИ
Завершителем критической работы над библией и
основателем современной школы критической библеисти-
ки справедливо считается Юлиус Вельгаузен. Секрет его
успеха, победы его точки зрения, заключается в том, что
при разрешении основного вопроса о времени
происхождения так называемого «основного источника»,
получившего со времени Вельгаузена название Жреческого
кодекса, он исходил не только из формально-логических
предпосылок, но также из фактов исторической
действительности. Первая часть его «Prolegomena», посвященная
истории культа, рассматривает историю отдельных
составных элементов культа в связи с общей историей
Израиля и Иуды и показывает, как эти элементы
видоизменялись в зависимости от практических политических
требований того или иного момента путем
сознательного вмешательства определенных общественных
группировок, без всякого участия, «божественного открове-,
ния». Но над Вельгаузеном все же тяготела идеалисти-:
ческая методология, закрывавшая для него возможность
итти по правильному пути до конца. Подчиняясь
требованиям этой методологии, Вельгаузен совершил ряд
крупнейших ошибок.
Прежде всего Вельгаузен раздвоил религию, отделив
принципиально религиозную идеологию от культа в
качестве совершенно особого, определяющего
явления. В концепции Вельгаузена культ является
«естественным» явлением, связанным с природой и создаваемым
людьми для обеспечения связи с божеством.
Религиозная же идеология Вельгаузену представляется
трансцендентной. Она имеет своим источником
«откровение» и в конце-концов подчиняет своим требованиям
культ, трансформирует его и «выводит его из сферы
природы и человеческого творчества». Этот процесс
совершился якобы в эпоху общины второго храма, в
эпоху реально осуществившейся теократии, которая в
царскую эпоху существовала лишь как пророческая идея.
Для осуществления этой идеи было необходимо уничю
VIII
жение светского царства и отрыв иудейства от его
почвы в Ханаане. Когда теократия осуществилась, то культ
был выведен из области природы, его обряды
«сделались орудием божественной благодати», а культ в
целом «был превращен в панцырь супранатуралистического
монотеизма».
Мы видим, что тут Вельгаузен проводит обычную
для всякого идеалиста точку зрения, согласно которой
выходит, что «история бессознательно, но необходимо
вела к исполнению известной идеальной, заранее
поставленной цели», в форме осуществления любимых идей
каждого данного философаг. Но проводя такую точку
зрения, Вельгаузен сейчас же неминуемо вступает в
противоречие и с историческими фактами и со своими же
выводами. Изобразив блестящим образом в первых двух
частях своей книги, как основатели послепленной
теократии фальсифицировали традицию и составили от
имени Моисея новый закон, якобы данный самим
богом, Вельгаузен в третьей части оправдывает эту
гнусную фальсификацию. Ибо, по его мнению, теократия
общины второго храма лишь по внешности была шагом
назад, а в действительности была шагом вперед, формой
для сохранения «благородного содержания», для
спасения и утверждения идеи супранатуралистического
монотеизма; иудейская теокоатия «по своей сущности ближе
всего родственна древней вселенской церкви, и она
действительно была матерью последней» 2.
В этой половинчатости методологии Вельгаузена
ведущую роль играет, конечно, его идеалистическое
мировоззрение, неразрывно связанное с его богословским
образованием. Его природное критическое чутье помогло
ему уловить истинное положение дела в царскую эпоху.
Но для того чтобы учуять истинное положение дела в
эпоху общины второго храма, Вельгаузену нужно было
перестать быть идеалистом и богословом. Это было
невозможно, и из создавшегося тупика он нашел выход в
механическом рассечении религиозных явлений на сферу
культа, зависящую от природы и человека, и на сферу
идеологии, зависящую от трансцендентной «силы» и
определяющую в конечном счете собою явления
природы и человеческой жизни.
■ 1 Энгельс — Людвиг Фейербах. Соч. М. и Э., т. XIV, стр. 666.
2 «Введение в историю Израиля», стр. 373—376.
IX
Отсюда ясно, что мы, принимая основные выводы
Вельгаузена в области критического исследования
Пятикнижия (и Шестикнижия) и библейской исторической
традиции, должны пересмотреть их критически, а в
области реконструкции общей истории Израиля и истории
израильско-иудейской' религии должны проделать нашу
самостоятельную работу. Тов. Ранович идет по этому
правильному пути. Его критические экскурсы в область
истории библейской критики являются важным и
насущно необходимым делом, поскольку они помогают
преодолеть влияние идеалистических установок зарубежных
библеистов, еще иной раз чувствующееся в работах
советских ученых, -как показал пример акад. Струве, и
намечают тот путь, по которому должно итти
критическое изучение библейской традиции
марксистами-историками. Этот путь намечается вышеприведенной
установкой Маркса и Энгельса, согласно которой «мораль,
религия, метафизика и прочие виды идеологии»
определяются реальной жизнью, условиями «материального
производства и материального общения». Библейская
традиция в том виде, какой она сейчас имеет, является
не чем иным, как выражением определенной религиозной
идеологии. Ее составители переработали для этой цели
древнейшую традицию и составили ряд новых
произведений. Это общепризнано со времени Вельгаузена. Но
сделать до конца выводы из этого признания, т. е.,
другими словами, завершить критическое исследование
библии, могут только историки-марксисты, исходящие из
вышеприведенных указаний Маркса и Энгельса.
На этом пути надо разрешить две основных
проблемы: проблему критики текста и проблему литературной
критики. Первая из них почти не затронута в работе
т. Рановича. Она заключается в критическом изучении
современного еврейского текста библейских книг с целью
очищения этого текста как от случайных ошибок, так и
от сознательных редакционных поправок
многочисленных поколений и школ иудейских соферов, работавших
над библией в течение почти целого тысячелетия.
Нельзя сказать, чтобы этой задаче библеистика не
уделяла достаточного внимания. Напротив, над
современным еврейским (масоретским) текстом библии велась и
ведется огромная критическая работа. В самое последнее
время один из крупнейших современных библеистов,
Фольц, предлагает для завершения этой работы объеди-
х
нить в международном масштабе усилия ученых,
занимающихся критикой текста, а именно создать
международное общество для критики текста библии, которое
составило бы руководство для этой работы и издавало
бы журнал, который помещал бы как специальные
работы в области критики текста, так и статьи религиозно-
исторического и богословского характера, поскольку
«без критики текста не может быть познания
ветхозаветной религии»1. В актив критической работы,
проделанной над текстом библии западными библеистами, надо
поставить сверку масоретского текста библии с другими,
преимущественно переводными версиями — греческими
переводами, «семидесяти» (LXX) и другими, самарянским
Пятикнижием, арамейскими таргумами, латинской
Вульгатой и др., и проверку текста при помощи
грамматических и лингвистических критериев. При помощи этих
критериев удалось исправить целый ряд испорченных,
иной раз непонятных мест в теперешнем тексте, а также
вскрыть и устранить целый ряд позднейших
редакционных исправлений и вставок.
Но вместе с тем проделанная библеистами
критическая работа грешит коренным и неустранимым пороком,
органически связанным все с тем же идеалистическо-
богословским миросозерцанием зарубежных библеистов.
Основной метод, ими применяемый, это — метод
формально-филологический. Они учитывают сознательные
редакционные искажения текста лишь в той мере, в
какой эти последние могут быть вскрыты при сличении
масоретского текста с другими, более ранними версиями.
А в целом ряде случаев, когда ни такое сличение, ни
грамматика, ни лексика не могут помочь при
исправлении явно испорченного текста, библеисты исправляют
текст, исходя или из формально-логических соображений
или из презумпций «истории израильско-иудейской
религии и ветхозаветной теологии», т. е. из своих
идеалистических богословских спекуляций. А эти спекуляции
в свою очередь сплошь и рядом совпадают с
богословскими установками последних еврейских редакторов
библии, и таким путем получается «надежное» основание
и лишние аргументы для системы, по выражению Фоль-
1 Volz — Ein Arbeitsplan fur die Textkritik des alten Test"
ments ZAW, 1936. I—II. Стр. 100—117.
XI
ца, «чистенькой» (sauberen) ветхозаветной теологии.
Другими словами, критическое исправление текста в этих
случаях превращается в свою противоположность —
в новую фальсификацию текста библии или с протестант-
ско-богословской, или с иудейско-богословско-национа-
листской, или с католическо-ортодоксальной
точки'зрения. Также само собой понятно, что при таком методе
остаются незамеченными и неисправленными искажения и
добавления, внесенные в текст его иудейскими
редакторами с целью протащить и оправдать богословские
положения раввинов талмудической эпохи.
Примеров подобного рода «исправлений» масорет-
ского текста можно привести немало, особенно из
пророческих книг и из книги псалмов. «Исправления» текста
пророческих книг исходят обычно из положения, что
пророки были якобы проповедниками
универсально-этического монотеизма, положения, целиком измышленного
протестантскими библеистами и не находящего для
себя подтверждения в тексте. Библеисты для
доказательства этого положения или вырывают из контекста
отдельные фразы, или неправильно переводят тексты, или,
наконец, «исправляют» их, т. е. фальсифицируют в
желательную для них сторону. Ярким примером такой
новой фальсификации посредством «исправления» является,
например, манипуляция, производимая над текстом
Ис. X 5—12. Этот отрывок содержит оракул, данный
Исайей иудейскому царю Хизкии (Езекии) в тот момент,
когда после ассирийского разгрома царства Эфраима
ассирийские войска заняли северную часть Иудейского
царства и грозили Иерусалиму. Содержание оракула
просто и ясно, если его переводить без всяких презумпций,
читая то, что есть в тексте. От имени Ягве пророк
говорит: «Горе Ассуру, жезлу моего гнева... я пустил его
против распутного народа (Эфраима), но он думает не
так — хочет уничтожить и еще народы» — в том числе
«Иерусалим с его божками». В противовес такому
намерению ассирийского царя оракул предсказывает
иудейскому царю скорое избавление от опасности: «и будет,
как возведет (jebaszsza") господин мой все сооружения
свои на горе Сионе ,и в Иерусалиме, я покараю с
успехом гордыню сердца царя Ассура».
Неуклюжее построение оракула сначала от имени
пророка, подобострастно обращающегося к царю
(«господин мой»), а потом от имени Ягве («покараю»), харак-
XII
терни для подлинного Стиля пророческих оракулов; в
других случаях эта неуклюжесть была выправлена
редакторской рукой, которая в надлежащем месте вставляла
ne'um Jahwe — «слово Ягве». Что касается содержания
оракула, то ясно, что дело идет о работах по
укреплению Иерусалима (глагол basza" в форме pi"el означает
именно каменные работы, в том числе сооружение
каменных сводов и подземных ходов), по окончании
которых Иерусалим будет неприступным для ассирийской
армии. Тут нет никакого намека на
универсально-этический монотеизм; речь идет о том, что Ягве, как всякий
иной национальный или местный бог, вступится за свою
страну, за свой народ. Путем «исправления» и
неправильного перевода этого текста библеисты 1 превращают
его в пророчество, якобы проникнутое универсально-
этическим монотеизмом и мессианизмом. Они переводят:
«и будет как завершит господь дела свои На горе
Сионе и в Иерусалиме, покарает он великую гордыню царя
Ассура». Это искажение первоначального смысла оракула
было начато еще александрийскими иудейскими
богословами II в. до х. э., как это видно из греческого
перевода LXX. Встретив в своем оригинале в ст. 12 слово
'dnj без вокализации, которой тогда еще не было),
благочестивые переводчики истолковали это слово не в
смысле 'adoni («господин мой»), а в смысле 'adanaj
(«господь», т. е. Ягве), так как со своей теократической
точки зрения никак не могли допустить мысли, чтобы
пророк, рупор Ягве, мог назвать царя «своим
господином», хотя в действительности царские пророки были
такими же слугами царя, как и все "другие агенты
царского светского и жреческого аппарата. Переведя 'dnj
словом Ikyrias, «семьдесят» сейчас же запутались, дав в
дальнейшем ошибочный и совершенно невразумительный
перевод: «как покончит господь дела все на горе Сионе
и в Иерусалиме». Толкование 'dnj в этом месте в "смысле
'adonaj становится традиционным, и масореты при
вокализации консонантного текста вокализуют слово в
соответствующем смысле. Современные «критические»
богословы, собратья по «духу» своих «некритических»
предшественников в Александрии, конечно, держатся масорет-
1 Все наиболее авторитетные комментаторы Исайи—Дум, Чейн,
Гуте, за которыми плетутся остальные.
XIII
ской вокализации 'adonaj, толкуют «дела (ma"ase) на
Сионе.и в Иерусалиме» в смысле «последнего мессиани-
ческого суда Ягве над язычниками», первое лицо
«покараю» считают «конечно» (naturlicih) ошибкой переписчика
и исправляют его в третье лицо! Так создается
«неопровержимое» доказательство этического универсального
монотеизма пророка Исайи!
Другой, не менее разительный пример представляет
собой толкование оракула Ис. XXX 18—20, который
соединен составителями книги Исайи с некоторыми
другими оракулами в целое пророчество о наступлении
будущего царства всеобщего благоденствия. Оракул был дан,
повидимому, во время осады Иерусалима
Навуходоносором в 587 г. ив точном переводе гласит: A8) «И
посему жаждет Ягве послать вам милость, и посему восстает
он оказать вам милосердие, ибо бог правды Ягве—счастье
всем, надеющимся на него. A9) Ибо народ на Сионе,
живущий в Иерусалиме, не будешь ты больше плакать,
милость он пошлет тебе на голос вопля твоего; как
услышал он тебя, ответит он тебе. B0) И даст он вам
хлеб бедствия и воду нужды; и не будет больше
скрываться ранний дождь (mwrh) твой и увидят глаза твои
великое чудо (mwrh) его». Последний стих, 20-й, не был
понят греческими переводчиками, которых сбило с толку,
во-первых, слово jikkaneph — будет скрываться,
встречающееся во всей библии только в этом месте, и
во-вторых, повторение одного и того же слова mwrh; поэтому
греческий перевод этого стиха является не имеющим
смысла набором слов. Стих затруднил также и
позднейших иудейских богословов. В особенности их
затруднило дважды повторяющееся miwrh. В конце-концов ма-
сореты приняли оба mwrh за одно и то же слово,
именно за слово more в смысле «учитель, наставник», и
истолковали его в мессианическом смысле: «не будет
скрываться от тебя учитель твой и глаза твои увидят
учителя твоего». Вслед за масоретами пошли и
современные комментаторы, которые переводят more уже
.прямо «искупитель»i, подразумевая мессию и не
смущаясь тем, что такое толкование насилует смысл слова
more в значении «учитель». Однако никому из
многоученых комментаторов Исайи не пришло в голову, что
1 Erloser, cm, Duhm — Jesaja, Стр. 222.
XIV
раз дело идет об осажденном Иерусалиме и
опустошенной земле, то не мешает вспомнить, что тот же
консонантный состав miwrh имеют еще два слова, одно
в значении «ранний дождь» (также тоге), от
которого зависит урожай, и другое в значении «страшное,
великое чудо» (moraI, и что эти понятия как нельзя
лучше отвечают нуждам и желаниям осажденной
столицы и опустошенной страны, спасти которую, конечно,
могло бы только чудо. Поэтому первое mwrh надо
понимать в смысле more, «ранний дождь», а теперешнюю ма-
соретскую вокализацию второго mwrh в конце стиха
нельзя оставлять без изменений, ибо она неправильна,
продиктована богословскими презумпциями масоретских
редакторов библии. Однако современные «критические»
комментаторы находят, что текст в порядке, ибо
отвечает по смыслу их богословским установкам К
Если в двух приведенных примерах ярко
обнаруживается убожество и бессилие богословской критики
текста, проистекающее из связанности последней путами
той же богословской концепции, которая руководила
иудейскими книжниками в их фальсификаторской
«работе», то в других случаях обнаруживается другая
сторона того же явления — произвольное и насильственное
видоизменение текста для придания ему желательного с
богословской точки зрения смысла. Едва ли не самым
ярким примером такой «критики» текста являются те
манипуляции, которые проделывали над текстом псалмов
их протестантские комментаторы, кончая недавно
умершим Гункелем, считающимся в протестантских кругах
виднейшим, руководящим знатоком и комментатором
псалмов. Между тем для выяснения подлинного
характера псалмов необходимо прежде всего исправить их
чрезвычайно испорченный текст, удалив из него
«исправления» как прежних иудейских, так и в особенности
современных «критических» богословов. Эта сторона дела,
к сожалению, упущена т. Рановичем и значительно
повредила его характеристике псалмов.
Последнее слово встречается в двух формах: morah и mora';
такая вариация окончания имеет место и в других случаях.
Другие примеры см. в моих работах: «Мотивы крестьянского
мессианизма в пророчествах VIII в.» —Ученые записки Инст,
исторИИ РАНИОН, т. VII, стр. 29-30 и «Пол1тэ1зм i монотэ1зм у
яурэискай рел1гп», стр. 32—36; кроме того, Ам. 8, 14, Суд. 5, 8 и др.
XV
Несмотря на последние работы Мовинкеля и mohj,
вскрывшие и доказавшие культовое и магическое
происхождение большей части псалмов, большинство биб-
леистов, как протестантских, так и еврейских,
продолжают считать псалмы образцами «чистых молитв»,
проявлениями «смиренного, покаянного благочестия» и
других подобных «добродетельных» чувств, настроений и
качеств. Для такой оценки за основу принимаются
псалмы, составленные в позднюю эпоху теократии второго
храма, и те более ранние псалмы, которые по своему
тексту легче других могли быть обработаны и были
обработаны под стиль поздних псалмов. А такая
обработка и переработка материала книги псалмов велась
самым усердным и настойчивым образом, ибо книга
псалмов довольно рано сделалась богослужебной книгой
синагоги и в такой же роли была воспринята и
применена в христианской церкви. Поэтому текст книги
псалмов дошел до нас в чрезвычайно попорченном виде,
испещренный как ошибками многочисленных
переписчиков, так и ^<<исправительно»-редакционными усилиями
иудейских богословов. Отсюда в псалмах имеется целый
ряд мест, искаженных, непонятных, не имеющих связи с
контекстом, порой безнадежно испорченных. Работа
«критических» богословов над текстом псалмов, весьма
немалая по ее размерам, далека однако от высокого
качества. Она дала полезные результаты в тех случаях,
. когда есть возможность исправить масоретский текст по
показаниям более ранних версий, сохранивших случайно
неиспорченный текст, или когда в тексте замечается
очевидная, легко исправляемая ошибка переписчика,
грамматическая или буквенная. Но в тех случаях, когда нет
таких возможностей, когда текст испорчен одинаково и
в масоретской редакции и в более ранних версиях, или
когда ни грамматика, ни орфография не могут притти
на помощь, современные комментаторы исправляют его
«na'ch dem Sinne», по смыслу. Смысл, конечно, влагается
такой, какой соответствует традиционной концепции
псалмов, т. е, богословский; само собой понятно, что в
1 S. М о w i n с k e I — Psalmenstudien, I—VI. Kristiania 1921 —
1924; Никольский — Следы магической литературы в книге
псалмов, «Труды Белорусского гос. университета», кн. 4—5 A923)
и 12 A926), Минск; немецкое дополненное издание — Spuren magi-
scher Formeln in den Psalmen», Ciessen 1927.
XVI
гаких случаях «критические» богословы исправляют не
искажения, внесенные позднейшими редакторами, а
калечат уцелевшие от искажения части текста в их
первоначальном виде, т. е. завершают фальсификаторскую
работу иудейских богословов. Но еще хуже дело оостоит
в тех случаях, когда текст непонятен для современных
комментаторов не потому, что он безнадежно испорчен,
а потому, что он случайно уцелел в близком к оригиналу
виде, которого «критические» библеисты никак со своей
точки зрения ..не могут и не желают понять. Тогда
производится операция уже над относительно здоровым
материалом, который после такой операции получает
совершенно новое, первоначально не предполагавшееся
содержание и форму. Примеров- такой дальнейшей насиль-'
ственной фальсификации можно привести сколько
угодно. Особенно поучительна судьба пс. 141.
Этот псалом очень популярен среди верующих, так
как начало его (ст. 1—4) нашло сеое широкое
применение в богослужении православной церкви. В последней
псалом принят в греческом переводе, который в начале
псалма уже стер и обезличил некоторые первоначальные
выражения оригинала для приспосооления его текста в
качестве общей молитвы о спасении от зла и от злых
людей. Но дальнейший .текст псалма, в особенности его
середина (ст. 4 — 7) и в меньшей степени конец
(ст. 8—10), поставил богословских комментаторов вту-
пик. Греческие переводчики (LXX) — первые,
предпринявшие попытку перестройки этого псалма на
благочестивый лад, — дают в переводе стихов 4—7 набор фраз
без всякой связи и иной раз без ясного смысла;
современные библеисты считают эти стихи безнадежно
испорченными и местами даже бессмысленными. Конец псалма
переводится без «исправлений», хотя смысл его далеко
не соответствует благочестивой концепции книги псал-
гов; положение спасается при помощи пояснения, что
юследние стихи надо донимать в аллегорическом смыс-
te. I ункель, опираясь на результаты работы над текстом
псалма своих предшественников, завершил их «труды» и
окончательно «исправил» текст таким образом, что по
существу «реконструировал» почти целиком текст
псалма. Естественно, что после такой «реконструкции»
пред нами вместо пс. 141 в сущности появился новый
псалом самого Гункеля.
Прежде чем перейти к «реконструкции» Гункеля, по-
О я Библиотека кафедры]
гидромеханики МГУ
XVII
смотрим, что представляет собою псалом 141 в его
оригинальном виде. Текст его с тремя—четырьмя не
изменяющими смысла исправлениями явных ошибок по LXX
и сирийской версии гласит1:
1. Ягве, я взываю к тебе, внимай мне,
Услышь голос мой, когда я взываю к тебе!
2. Да предстанет молитва моя жертвой курения пред
лицом твоим,
Воздеяние рук моих — жертвой вечернею!
3. Поставь, ..Ягве, стражу для уст моих,
Охрану у двери губ; моих,
4. Не отдай сердце мое во власть злому слову,
Чтобы могли сделать злодейски дело преступное
Они, мужи, творящие беду,
И чтоб не вкушать мне от пищи их.
5. Пусть ударит меня праведный и пусть рассудит
меня!
Масло на голову — да не отклонится голова моя!
Ибо еще и молитва моя против злых дел. их.
6. Да низвергнутся во власть скал властители их,
Да услышат, они слова мои, ибо чаруют они.
7. Как пахарь раздробляет (комья) по земле,
Так кости их да будут рассеяны перед пастью
Шеола!
8. Ибо к тебе, Ягве, господь мой, направлены глаза
мои,
У тебя укрываюсь я, не обнажай душу мою.
9. Охрани меня от сети, что расставили они мне,
И от силков делающих злое!
10. Да падут в западню свою злодеи все до'одного,
Пока я мимо не пройду.
Анализ содержания псалма показывает, что псалом
разделяется на три части. Начало (ст. 1—4) является
молитвой к Ягве об охране уст и сердца от «злого слова»,
точнее заклинательной молитвой против вселения злых
духов через раскрытый рот и против попытки погубить
«сердце» (т. е. жизнь) посредством заговора и
заговоренной пищи. Заключение (ст. 8—10) является такой же
молитвой против заговоров в более общей форме.
Середина (ст. 5—7) является заклинанием против злых духов
1 Перевод .и подробный анализ см. в моей работе: «Следы
магической литературы в книге псалмов», II, в «Трудах
Белорусского гос. университета», кн. 12, Минск 1926. Стр. 65—75. Немец,—
«Spuren magischer Formeln...». Стр. 42—58.
XVIII
С сохранившимися следами магического ритуала. Эти три
части очень слабо связаны одна с другой, только
посредством ki (ибо) в ст. 8, и в целом псалом 141 является,
повидимому, отрывком из какого-то соорника
жреческих магических формул. Магический характер псалма
удостоверяется целым рядом его специфических образов
и деталей. Наиболее характерны следующие черты.
Курительная жертва в ст. 2 (по Лев. II 1 обязательная
составная часть вечерней жертвы) согласно Лев. X 1—15 и
Числ XVI отличается от прочих жертв особенными
свойствами: принесенная ненадлежащим образом и
непризванными лицами, она причиняет виновникам гибель,
напротив, принесенная строго по ритуалу и
правомочным лицом, она является особенно спасительной и
чудодейственной. В раввинистических комментариях к кн.
Числ имеется легенда, показывающая, что эта жертва
считалась специфической защитой от злых духов: в
легенде рассказывается, что когда Корах собрал партию
заговорщиков против Моисея, то ангел смерти Кесеф
хотел истребить всех сыновей Израиля; Моисей увидел Ке-
сефа и приказал Аарону немедленно совершить курение,
чтобы отогнать духа смерти1. В иудейско-эллинистиче-
ской магии курительная жертва считается
принудительным (anankastilkon) средством для подчинения духов
воле заклинателя 2; в вавилонской магии курительная
жертва считалась также специфическим средством для
изгнания злых духов из больного3. В ст. 3 просьбу об охране
уст надо понимать в смысле предотвращения вселения
злых духов в человека через рот; в пс. XCI 11
аналогичная просьба выражена совершенно ясно в молитве к
Ягве, чтобы он поставил перед устами молящегося своих
mal/afcim, т. е. добрых духов. Пища в ст. 4 обозначена
словом iman"amim, которое встречается в библии только
1 Baraidbar rabba 5 A45а); цитирую по S t г а с k-B i 11 е г-
beck — Kommentiar ztrm N. Т. aus Talmud u. Midrasch. Т. I,
стр. 145.
Hopfner— Griech.-agvpt. Offenbarungszauber. I, стр. 209 ел.,
*4о, 246 и др.
/Кроме текстов (Z i m m e r in — Beiti. zur Kenntniss der babyl,
Religion, стр. 93—94, и J astro w —Die Religion Babyloniens und As-
synens, т. 1, стр. 385, II, стр. 200 и др.), см. также известную
таблетку-амулет против лихорадки, изображающую больного,
окружающих его злых духов ,» жрецов-исцелителей; около больного—
сосуд с курительной жертвой (Jastrow — Bildermappe zur Religion
babyloniens und Assyrians, рис. 100).
2*
4 XIX
раз, в этом месте, и толкуется обычно в смысле
«лакомство». Но подлинное значение этого слова вддо выводить
из первоначального значения его корня па"am в
арабском, где этот корень имеет значение «быть чарующим»,
«околдовывать»; в еврейской легенде Наама — жена
демона Самдона, от кото,рой пошли злые духи и имя
которой записано в магических книгах Ч В ст. 5 описываются
три приема, обычно употребляемые для изгнания злых
духов из больного: посредством ударов по телу
больного (szaddiq —праведный, святой, очевидно жрец),
посредством смазывания священным маслом,-
употреблявшимся обычно в качестве целительного средства (Ис. I 6),
обладающего при этом магической силой z, и посредством
заклинательной молитвы. «Властители их», т. е. злых
людей, колдунов, в ст. 6 — это, конечно, злые духи, от
которых в великий день очищения избавлялись путем
магического принуждения их к вселению в козла и
посредством последующего ритуала — передачи этого
козла во власть скал посредством сбрасывания козла в
пропасть на скалы. В этом же 6-м стихе под словами
«которые чаруют» (па"еггш) разумеется магическое,
заклинание против злых духов. В ст. 7 выражается ясное
ч магическое пожелание смерти колдунам. Силки, сети и
западни, расставляемые врагами (ст. 7—8), — это
символическое обозначение козней колдунов, которое, кроме
пс. 141, встречается также не раз в других псалмах,
например пс. XXXV 7—8; 16—17; пс. LX1X 23. Особенно
ясно значение этого символа выступает в пс. XCI 3, где
к Ягве обращена просьба об избавлении «от сети
птицелова» и от «слова погибели», т. е. заговора. Этот
символ, вероятно, заимствован из вавилонских магических
текстов, где он постоянно встречается, например: «боги
неба и земли, семь богов, великие боги да разорвут
сети, заклятье разрушат», семь злых духов «на небе и
земле свирепствуют они как буря, раскрывают сеть
свою»; колдунья ■—это «ловящая ловящих, колдунья
колдуний, чья сеть раскинутой на улицах лежит»3. Нако-
'О значении na"am ср. Gesenius— Buhl — Handworterb.,
изд. 35, стр. 504. Легенда о Самдоне и Нааме—Bin Gorion — Die
Sagen der Juden von der Urzeit. Стр. 322—323.
3 Магический характер масла ясно выступает в пс. CIX 18:
проклятие должно войти в кости колдуна, как масло.
3 Z i m m e r n, ук. соч., стр. 22—23, 36—37; Jastrow — Religion,
т. I, стр. 283; Tallquist — Die Beschworungsserie Maqlu,
стр. 93—94. 63—64,
XX
нец, пожелание, чтобы западни, сети и пр., которые
готовят колдуны, стали гибелью для них самих, также
обычно и в псалмах (пс. XXXV 7, пс. LXIX, цитир.
стихи), и в вавилонских магических текстах1.
Описанные совершенно ясные, не допускающие
никаких кривотолкований черты псалма CXLI остались"
незамеченными в комментариях «критических» библеистов.
Эта слепота еще, пожалуй, неудивительна со стороны
старых библеистов, вроде Гупфельда или Бетгена; но
такое же упорное нежелание видеть обнаружили и такие
библеисты вельгаузеновской школы, как Вертолет и Гун-
кель, которые достаточно осведомлены и в общей
истории религии и специально в вавилонской религии2.
Библеисты обычно считают псалом CXLI выражением
благочестивых чувств индивидуального молящегося, за
исключением Бетгена, который ухитрился усмотреть в
этом псалме «национальную» молитву. Подводя итоги
«критической» работы над этим псалмом, Гункель
повторяет замечание о «непонятности» текста и «безнадежной»
(rettungsllos) порче стихов 5—7; однако это не мешает
ему смело и категорически причислить пс. CXLI к
разряду «индивидуальных жалобных песнопений» (Klagelieder
des Einz2lnen). Этот разряд составляет, по традиционному
мнению, энергично поддерживаемому Гункелем,
«подлинное основное ядро» (den eigentlichen Grundstock) книги
псалмов. Гункель добавляет, что -составленные
отдельными поэтами псалмы этого разряда служили тем
источником, из которого черпало «народное благочестие», и
жестоко обрушивается на Мовинкеля, считающего все
жалобные псалмы культовыми и магическими 3. Стремясь
показать, что пс. CXLI также принадлежит к разряду
жалобных псалмов, Гункель повторяет самые
произвольные манипуляции над его текстом старых протестант-
1 Например, Tallquist, стр. 72—73.
2 Bertholet — один из редакторов и составителей солидного
компендиума Lehrbuch der Religionsgeschichte и редактор серии
Heligionsgeschichtliches Lesebuch, в которой даются в немецком
переводе главнейшие тексты различных древних религий; Гунке;у
после Эб. Шрадера первый признал вавилонское влияние в био-
лии, даже в «новом завете» (Schoofung und Chaos, 1895), и занял
Деловую позицию в споре Babel-Bibei, возникшем после известной
брошюры Делича.
3 Н. Gunk el —Die Psalmen. 1926, стр. 596—597; Einleitung in
are Psalmen, 1928, стр. 175 и ел.
YYT
ских и еврейских комментаторов, добавляет свои в том
же роде и таким методом производит систематическое
«исправление» «непонятных» и «испорченных» мест этс
го псалма. Псалом после этого «исправления» получае
следующий вид («исправленные» Гункелем места — раз
редкой):
1. Ягве, я зову тебя, воззри на меня,
Услышь голос мой, когда я взываю -к тебе!
2. Да будет сочтена молитва моя фимиамом пред
тобой,
Воздеяние рук моих — вечерней мирной жертвой!
3. Положи, Ягве, стражу у уст моих,
Охрану у ворот губ моих,
4. Не допусти сердце мое склониться к злому
слову,
Творить дела, как дела преступника,
Пусть не сижу я вместе с злодеями,
И не буду вкушать их лакомств!
5. Пусть праведный ударит меня, пусть
благочестивый накажет меня,
Масло безбожника пусть не
украшает голову мою!
Ибо еще немного, и я стал бы болтать
подобно их злобствованиям,
6. Соблазн и л и - б ы меня губительные
речи губ их,
И я послушал бы слов их, ибо они
ласковы.
7. Ибо еще немного — и трещина
разорвала бы землю,
И мои кости были бы рассеяны для
пасти преисподней.
Последние три стиха (8—10) переводятся без
«исправлений», но толкуются в том смысле, что молящийся
просит спасения от козней и соблазнов, которые грозят
ему со стороны злых, преступных и грешных людей,
хотящих соблазнить его ко греху *.
Каким же способом достигается этот «исправленный
перевод» псалма CXLI? Дело начинается с толкования
1 Gunk el — Die Psalmen. Стр, 596—599 (перевод и
комментарий).
ХХП
ст. 3 и начала 4-го стиха в моральном смысле: к Ягве
обращается будто бы просьба удержать уста молящегося
от слов лжи, злобы и нечестия, а сердце его охранить
от злых желаний и помыслов. Толкование явно не
выдерживает критики. Если его принять, то окажется, что
злые мысли считаются чем-то вроде пленников,
заключенных в тюрьме, и что молящийся спасается не
изменением своих мыслей и чувств, или раскаянием, а
механическим «запором» его уст стражей, поставленной Ягве.
Упускается из виду, что как библейская религиозная
традиция, так и верования других народов пестрят мифами
о том, что любимый путь для проникновения злых духов
в человека — это рот и нос и что теми же путями, чаще
всего через нос, злые духи выходят или изгоняются из
человека *. Истолковав в моральном смысле ст. 3, Гункель,
как и его предшественники, вынужден толковать в этом
же смысле и ст. 4. Начало этого стиха с грехом
пополам удалось истолковать в нравственном смысле без
«исправлений», но дальше приходилось либо
отказываться от перевода, либо «исправлять» сообразно со
«смыслом» предшествующих стихов. Последняя операция
и проводится систематически. Глагол hith"olel (в
неопределенном наклонении) Гункель относит не к врагам
автора псалма, а к самому автору; дальше в тексте к
слову "aldlotlh (дела) он произвольно добавляет частицу
ki (как), berescha" (злодейским образом) превращает в
rascha" (злодей, преступник), слова 'eth2 'ischim po"ale
'awen (они, мужи, творящие беду) переделывает в ЬаЗ
'■escheb "im po"ale 'aiwen (пусть не сижу я вместе с
злодеями). Основание одно — «новое» чтение «лучше»
(ibesser), чем «неправдоподобный» (uinwahrscheinlicher)
текст.
Расправившись так со ст. 4, Гункель подвергает,
такой же операции ст. 5—7, почти сплошь переделывая
их текст по-своему. Начало ст. 5 буквально гласит:
«пусть ударит меня праведный милость (chesed) и пусть
рассудит меня». Слово chesed, повидимому, является
неорганической вставкой и отсутствует в сирийской
версии, поэтому в моем переводе оно опущено. Гункель
1-См. подробности в моей работе «Следы магической
литературы в книге псалмов». II, стр. 69—72 («Труды БГУ», кн. 12).
. 2 Частица 'eth здесь имеет указательное значение, ср. Gese-
ii i u s — Hebr. Grammatik, изд. 26, стр. 358—359.
XXIII
переделывает это слово в chasid (благочестивый),
уничтожает перед глаголом jokicteni («рассудит меня»)
частицу we (и), самый же глагол толкует не в
первоначальном значении «решить судебное дело», «рассудить»,
«восстановить право» — выражение, обычное в
магических вавилонских заговорах1, — а во вторичном
значении «наказывать». Далее rosch (голова) превращается
в rascha" (злодей, безбожник), правда, на этот раз на
основании текста LXX, 'al jani (да не отклонится)
переделывается в 'al jeni (да не украсит). Конец стиха 5,
переведенный мною буквально2, «критические»
комментаторы единогласно считают испорченным, «почти
совершенно непонятным». Их поставило тут втупик слово
tephillathi— молитва моя; выход они нашли в
насильственном присоединении конца стиха 5 «по смыслу»
к ст. 6, а этот последний в свою очередь присоединили
тоже «по смыслу» к ст. 7; для получения желательного
«смысла» текст конца ст. 5 и ст. 6—7 сплошь
«исправляется» самым бесцеремонным образом. Так поступает и
Гункель. При слове "od (еще) он рекомендует
подразумевать me"at (немного), отсутствующее в тексте;
tephillathi (молитва моя) он превращает в глагол
taphalthi — от позднееврейского глагола thaphal (болтать
вздор), не встречающегося в библии, а частицу be при
ra"othehem (злодейство, злоба их) заменяет частицей ki
(как, подобно). «Исправленное» "od me"at (еще немного),
по Гункелю,. относится ко всему тексту, начиная с конца
5-го и до 7-го стиха включительно, т. е. получается
периодическая речь, совершенно несвойственная древнеев-
1 В вавилонских магических текстах судебная терминология
обычно употребительна. Борьба против злых духов и колдунов
рассматривается как разбор богами своего рода тяжбы между
пострадавшим и> его магическими противниками, например: «суди тяжбу
мою, реши решение мое», «право ее (колдуньи) да будет
ниспровергнуто, а мое право да будет прямо стоять» (подробно см.
«Следы магической литературы в книге псалмов», I, стр. 36—37,
«Труды БГУ», кн. 4—5). В псалмах см., например, пс. VII 9—10: «суди
меня, Ягве, по правде моей, и по чистоте моей, да прекратится
злое дело неправедных и утверди праведного», также пс. CIX 20;
LVHI 2, 12.
2 Комментаторы становятся втупик перед выражением tephillathi
bera"othehem и не понимают, как это молитва может быть «при
злодеяниях их». Но здесь частица be имеет значение не «при», а
«против», как, например, Быт. XVI 12, «рука его bakkol» — против
всех, или II Сам. XXIV 17 — рука Ягве bi ubeth 'abi — «против
меня и дома отца моего».
XXIV
рейскому языку, особенно поэтическому. После такого
«исправления» стиха 5-го «по смыслу» начало 6-го стиха
в теперешнем виде Гункелю, конечно, представляется
«полностью бессмысленным» (vollig sinnlos), а конец —
испорченным. А посему «исправления» продолжаются.
Первая половина 6-го стиха целиком читается
по-новому: вместо niiscihmetu (да низвергнутся) Гункель читает
hischschi'uni (соблазнили бы меня), вместо bide sela" (во
власть скал)—badde bela" (соблазнительные речи), вместо
schophetim (судьи)—sip-heifehem (губы их). В 7-м стихе
«порча идет дальше», поэтому и «исправления» также
идут дальше. Слово Ikemo paleacih (как пахарь) Гункель
превращает в kkne"a.t pelaoh (еще йемного и трещина...);
выражение "aszamenu (кости наши), явно испорченное и
исправленное в моем переводе по LXX и сирийской
версии на "aszamehem (кости их), Гункель исправляет по
изобретенному им «смыслу» комплекса 5—7 стихов в
"aszamad — кости мои.
Для любого ученого и всякого непредубежденного
библеиста совершенно ясно, что таким «методом»
производится не «исправление текста», ставящее себе задачу
наибольшего приближения к первоначальному оригиналу,
а самая беззастенчивая фальсификация, заменяющая
оригинальный текст новым, сочиненным Гункелем и его
предшественниками, и „ставящая себе нескрываемую цель
подогнать текст этого (и целого ряда других псалмов)
под стиль и «проповеднические» требования
протестантской поповщиных. Переводы псалмов в комментарии
Гункеля, а также и в комментариях его
предшественников, пестрят примерами такой фальсификации, и об
этом наглом обмане можно было бы написать целую
книгу 2.
1 Комментарий Гункеля к псалмам вышел после напечатания
моей работы в «Трудах БГУ» и во время печатания ее немецкого
перевода. Поэтому я имел возможность лишь в коротком
добавлении к немецкому тексту отметить, что «исправления» Гункеля
носят насильственный (eingreifend) характер, делаются без всяких
объективных оснований исключительно «по смыслу на основании
субъективных взглядов», что в результате ст. 5—7 пгалучили
совершенно новый текст и утратилась их связь с заключительной частью
псалма («Spuren magischer Formeln...», стр. 58). Здесь я имею
возможность полностью и конкретным образом разоблачить
фальсификаторские приемы Гункеля и ему подобных.
2 Ср. здесь в разд. V текстуальные и реальные замечания к
пс. XVI. О пс. LVIII, считавшемся в значительной части «не под-
XXV
Из этого разбора приемов Гункеля и других
многочисленных, подобных ему «критиков» текста ясно, что в
значительной своей части работа
буржуазно-богословских библеистав над текстом библейских книг носит
характер сознательной фальсификации последнего. При
такой фальсификации .хвалящиеся своим «объективизмом»
буржуазно-богословские библеисты в случае надобности
без всякого колебания и зазрения совести выбрасывают
за борт такие самые объективные критерии, как правила
еврейской грамматики, установленные значения слов,
свидетельства перевода LXX и других версий. Отсюда
следует, что одной из первоочередных задач
марксистских ученых в области библеистики является задача кри<
тического пересмотра результатов
буржуазно-богословской работы над текстом библии и создание
самостоятельных исследований в этой области. К тем
объективным критериям формального, лингвистического и верси-
онного характера, какие получили право гражданства в
критике текста -любого литературного произведения
древности, марксистские ученые должны добавить самое,
основное: приемы марксистско-ленинской методологии,
вытекающие из марксистско-ленинского учения о ходе
истории и о том месте, которое в ходе и развитии
общественно-политической истории занимают различные
идеологии, в том числе и религиозные. Этот критерий
обеспечит возможность безошибочно вскрывать работу
древних фальсификаторов библейских книг и
разоблачать антинаучный характер «исправлений», вносимых
новыми фальсификаторами. На этом пути должна быть
проделана большая и ответственная работа, и только на
основе ее результатов возможно надежное и полное
разрешение проблем древнеизраильской истории и религии.
Приведенные мною примеры показывают, что при
"очищении текста библии от случайных ошибок и от
искажений в результате сознательной фальсификации можно
получить значительное количество оставшегося до сих
пор незамеченным материала для истории классовой
борьбы, для классовой диференциации пророчества, для
характеристики народной и официальной магии и для
разрешения ряда других вопросов израильско-иудейской
дающимся переводу», а также о псалмах, LIX, LXIX, XVIII, XXXV,
VII см. в моей цитированной работе о магических формулах в
псалмах.
XXVI
истории и религии. В частности и литературная критика
библейской традиции, ставящая своей задачей выяснить
состав, время происхождения и авторов библейских книг,
а также время происхождения и авторов составных
частей этих книг, не может разрешить полностью своей
задачи, если не будут правильно разрешены задачи
критики библейского текста.
Наконец, марксистское разрешение проблемы критики
библейского текста даст в распоряжение антир'елигиоз-
ников новый материал для борьбы против религиозного
дурмана. С библии будет окончательно сорвана маска
«священного писания», составленного чуть ли не под
диктовку «святого духа», и эта книга предстанет в
своем подлинном виде самой наглой фальшивки,
подделанной при ее появлении и перманентно подделываемой
вплоть до наших дней.
III. ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
БИБЛИИ
Библейская литературная критика, как мы видели,
вообще шла неправильным путем, выдвигая на первый
план формальные критерии стилистического,
лингвистического и логического характера. Только де-Ветте и
Вельгаузен, поставившие свою критику до известной
степени на историческую базу, достигли некоторых
надежных результатов, которые сделались поворотными
пунктами в развитии библейской науки. Но как мы
видели, Вельгаузен, будучи связан идеалистической
концепцией развития израильской истории и религии, не довел
своего дела до конца и допустил ряд грубых ошибок,
правильно указанных т. Рановичем. А предшественники и
последователи Вельгаузена окончательно погрязли в
тине мелких и мельчайших ухищрений так, наз. ■Q.uellenkri-
tilk—критического анализа источников отдельных книг.
В погоне за «точностью» многие доходили не только до
того, что насчитывали по три-четыре ягвиста и элогиста,
но даже и до того, что отдельные стихи разбивали на
отдельные части, нередко в составе одного-двух слов,
восходящие якобы к разным источникам. Однако в
процессе такой работы над мелочами протестантские биб-
леисты никогда не забывали своей основной установки—
концепции истории древнееврейской религии как посте-
XXVII
пенного раскрытия идеи абсолютного универсального
монотеизма. Вследствие этого их литературная критика
постоянно смыкалась с отсутствием надлежащей
критики текста и потому приводила к неправильным
результатам. Эта сторона дела очень любопытна и, к
сожалению, не затронута в работе т. Рановича.
Мы уже видели образец такого «взаимодействия»
при анализе цитат из кн. Исайи. Но самым ярким
образом эта* черта обнаруживается в критической работе
библеистов над Шестикнижием. Один из прочных
результатов этой работы заключается в том, что древнейшими
составными частями книг этого комплекса являются так
называемые ягвист (J) и элогист (Е), два произведения
преимущественно повествовательного содержания,
относящиеся к IX или VIII в. Их выделение было
произведено первоначально по (Нормальному признаку, указанному
еще Астрюком ..в XVIII в., именно по способу названия
божества: в ягвисте систематически употребляется
собственное имя бога Ягве *, в элогисте — преимущественно
нарицательное э л о г и м, т. е. бог. Библеисты XIX в.
правильно пошли дальше и предположили, что за этим
формальным различием кроется и какое-то
идеологическое различие. Кроме того, некоторые из библеистов
попытались установить место происхождения того и
другого произведения, исходя из локального их колорита.
Эти библеисты пришли к правильному выводу, что
-ягвист, в рассказах которого действие привязывается
обычно, к Хеброну, Беер-Шеба и другим пунктам
области Иуды, был составлен в южном царстве Иуды, а
элогист, особенно интересующийся мифами, связанными с
Бет-Элем (Вефилем), Шехемом (Сихемом) и фигурами
Якова и ИосисЬа, был составлен в северном- царстве
Эфраима 2. Однако эти правильные наметки не получили
надлежащего развития; напротив, идеалистическая
концепция библеистов исказила их значение и
парализовала те выводы, которые из них следовало сделать.
Дело в том, что идеологическое различие между яг-
вистом и элогистом библеисты проводили, исходя из
1 Астрюк читал это собственное имя неправильно (Иегова) и
называл источник, употоебляюший это имя. иеговистом. Название
«ягвист» было введено после установления правильного чтения,
собственного имени «Ягве» См. об этом в работе Рановича.
2 Ср. Proksch — Das nordhebraische Sagenbuch — Elohimquelle.
За ним следует значительная группа библеистов.
XXVIII
своей идеалистической концепции истории
древнееврейской религии. Вместо того чтобы искать его, исходя из
условий реальной жизни, т. е. из конкретных
политических и религиозных различий и противоположностей
между севером и югом, библеисты, упирая на общий
термин «элогим» для обозначения бога в северном
сборнике, «открыли» идеологическое различие в том, что эло-
гист якооы стоит на более высоком, «пророческом»
религиозном уровне, чем ягвист, и что автор элогиста,
употреоляя оощий термин «элогим», а не собственное
имя «>1гве», делает это якооы потому, что он усвоил
«пророческие» идей универсального трансцендентного
монотеизма. Отсюда делается и другой вывод — элогист
моложе ягвиста, должен относиться к пророческой
эпохе, т. е. к Vlii в., и следовательно, ягвист относится к
IX в. Но библеисты при этом упустили из виду самое
главное, именно, что те самые пророки, идеи которых
якооы нашли свое выражение в употреблении термина
«элогим», сами были прежде всего самыми ярыми «ягви-
стами», систематически, упорно употребляют именно имя
Ягве, а не элогим, и систематически ведут борьбу против
северного царства и тамошних культов именно в пользу
культа Ягве. Это обстоятельство должно было бы
навести на мысль, что причина появления термина «элогим»
в эфраимитском сборнике иная, что' «пристрастие» к
термину «элогим» надо объяснять не из религиозных
течении царской эпохи, когда не было и речи о
«недозволенное™» собственных имен богов, а из каких-то
других условий. Это заметил один из ярых противников
вельгаузеновской школы, Эрдмане, который правильно
говорит, что «элогистическое произведение
монотеистического направления» для допленной эпохи представляет
собою загадочное явление, и предполагает, что «здогим»
у элогиста имеет «политеистический оттенок», т. е.
первоначально обозначало «боги»1. Но Эрдмане не
развивает своего положения до конца, так как его основная
задача заключается в том, чтобы предложить взамен
вельгаузеновской схемы другую, свою систему
разделения Шестикнижия на источники и попутно доказать
«историчность» повествовательной традиции
Шестикнижия и целиком допленное его происхождение.
Между тем, совершенно ясно, что «элогим» в элоги-
1 E'e rdm a nns — Alttestamentliche Studien, I, S. 35—36.
XXIX
Сте появилось в результате позднейшей фальсификации
текста. Это видно, во-первых, из того, что элогим
выступает в мифах элогиста с такими же
антропоморфными чертами бога предка, как и Ягве. Элогим — бог
отцов, т. е. бог-предок; он является лично патриархам и
говорит с ними; мало этого, есть миф о том, как
элогим ночью боролся с Яковом один-на-один и был
побежден (Быт. XXXII 25—33). Эти черты показывают, что
религиозный уровень элогиста нисколько не выше
религиозного уровня ягвиста и что термин «элогим» ни в
каком случае не может быть признаком подъема
религиозного сознания на высшую ступень по направлению к
универсальному этическому монотеизму. Во-вторых,
фальсификация ясно видна из того, что во многих
местах элогиста редакторская рука стремилась заменить
«элогим» через «Ягве» или, по крайней мере, чередовать
эти имена. Отсюда ясно, что конечная цель редакторской
правки так наз.'"элогиста заключалась в том, чтобы
«унифицировать» божество, выступающее в легендах,
произвести на читателя такое впечатление, что повсюду в
легендах и мифах действует один и тот же Ягве. Термин
«элогим» был первым, нерешительным этапом на этом
пути. Этот обезличенный термин, очевидно, заменил
собою обозначение какого-то другого божества с
собственным именем, фигурировавшего в первоначальном
тексте элогиста. Таким могло быть только эфраимитское
божество, один из «богов земли Самарийской» (II Цар.
XVIII 34). По счастливой случайности имя этого
божества уцелело в рассказе элогиста об учреждении Яковом
святилища в Бетэле (Быт. XXXV 6—14). В Бетэле, ранее
называвшемся Лузом, говорит миф, явился Якову бог
Бетэля, назвавший себя Эль-Шаддаем; он переименовал
Якова в Израиля и обещал отдать во владение ему и
«царям, которые выйдут из чресл Якова», т. е. царям
Эфраима, всю землю, по которой Яков теперь
скитается. В другом варианте того же мифа (Быт. XXVIII10—22),
который по общему признанию переработан ягвисти-
ческим, т. е. иудейским, редактором, в рассказе
фигурирует обезличенное «элогим», но бог Бетэля, явившийся
Якову, в своем обращении к последнему называет себя
не Эль-Шаддай, а Ягве. Тенденция отождествить Эль-
Шаддая с Ягве выступает совершенно ясно.
Отсюда вытекает, что первоначальное
идеологическое различие ягвиста и элогиста было связано с поли-
XXX
тическпм соперничеством между северным и южным
царством, причем в качестве основного аргумента в
пользу права Эфраимитского царства на гегемонию
выдвигались мифы об избрании Якова богом Эль-Шаддаем,
богом Бетэля, который провозглашался также общим,
древнейшим богом Израиля, выведшим Израиля из
Египта (ср. I Цар XII 26—33). В противовес этому в
Иудейском царстве были сделаны попытки отождествить
Эль-Шаддая с Ягве, именно при объединении ягвиста и
элогиста в одно литературное целое, условно
обозначаемое названием «иеговист», Jii. Однако библеисты не
только не заметили этой фальсификации текста элогиста, но,
напротив, ухватились за нее, как за дополнительный
аргумент в пользу своей идеалистической концепции. Мало
этого, они пошли дальше и все те эпизоды традиции об
Якове, в которых последнему является Эль-Шаддай,
механически исключили из элогистического источника и
приписали их Жреческому кодексу. Основанием для
такой операции им послужило позднейшее толкование
имени Эль-Шаддай, введенное еще греческими
переводчиками, в качестве эпитета «бог всемогущий»; этот эпитет
библеистгам казался ясным признаком «дальнейшего
развития монотеистической идеи», соответствующего эпохе
Жреческого кодекса. Между тем это толкование,
усвоенное впоследствии и раввинами, не выдерживает критики
ни с лексической стороны, ни со стороны истории
текста библии. С лексической стороны глагол schadad, от
которого пытаются произвести имя ischaddaj, означает
«производить насилие над кем-нибудь, опустошать,
грабить» и употребляется обычно по отношению к
разбойникам. Слабость этого толкования очевидна для целого
ряда трезвых библеистов, тщетно ищущих другого
выхода на путях лексики1. Со стороны истории текста
показательно, что греческие переводчики в некоторых
местах пропустили это имя (напр. Быт. XVII 1; XXXV 11),
не найдя, очевидно, для него правильного перевода, или
вообще считая это имя зазорным. Кроме этого
богословского толкования нет никаких других оснований для
выделения из элогиста и присоединения к Жреческому
кодексу отрывков с именем Эль-Шаддай2. Перед нами,
1 Ср. Gesenius — Buhl— Handworterbuch, 15 изд., стр. 802.
2 Вероятно, надо сближать этого бога с доизраильским
божеством Шадидом или Садидом, аналогичным Адонису. Ср. мою
работу «Пол1тэ1зм i монотэ13м...», стр. 31—32.
XXXI
таким образом, еще один разительный пример
беспомощности идеалистической методологии, применение
которой всегда приводит к крупнейшим ошибкам, в
данном случае в области" литературной критики Шестикни-
жия.
Ьсли сторонники вельгаузеновской школы сами
ослабляют свои позиции подобными крупнейшими
методологическими ошибками, то их противники из откровенно
реакционной группы протестантских и еврейских биб-
леистов стремятся «опрокинуть» все выводы критики Ше-
стикнижия и вернуть положение к исходному пункту —-
к реставрации положения, что Пятикнижие является
древнейшей частью библии, целиком допленного и
частью «моисеева» происхождения. Атаки реакционеров
особенно усилились после войны с двадцатых годов и
приобрели несколько иное направление, чем раньше.
Ранее борьба велась реакционерами или против тезиса
Вельгаузена, что Жреческий кодекс является самой
поздней частью закона, послепленного происхождения, или
против вельгаузеновской QueMienuheorie, теории
источников Шестикнижия — оспаривалась правильность
гипотезы, что в основе Шестикнижия лежат ягвист, элогист,
Второзаконие и Жреческий кодекс. Эта борьба
достаточно хорошо обрисована в работе т. Рановича. Но в
последнее время началась борьба против краеугольного
камня всего здания библейской критики — против тезиса
де-Ветте, что Второзаконие в основном есть та книга
закона, которая была «найдена» жрецами в
иерусалимском храме на 18-м году царствования Иосии, т. е. в 621
F23?) г. до х. э. В работе т. Рановича это
выступление отмечено, отмечена и несостоятельность тех
«аргументов», при помощи которых Эстрейхер, Штэрк, Винер
и другие реакционеры пытались отодвинуть дату
Второзакония далеко вглубь израильско-иудейской истории.
Но сам т. Ранович в этом вопросе занял вряд ли
правильную позицию. Правильно оценив сущность потуг
«антиветтистов», он, однако, сам занял нерешительную
позицию в отношении «левого» антиветтиста Гельшера
(Halsoher). Этот крупный библеист, автор довольно
смелых для протестантского богослова работ о пророках
и по общей истории израильско-иудейской религии,
выступил в 1922—23 гг. с двумя большими статьями, в
которых пытался доказать, что Второзаконие ни в
целом, ни в первоначальном объеме не имеет ничего об-
XXXII
щего с книгой закона 621 г. и что оно является одной
из жреческих программ послепленной эпохи. Такая
установка увлекла своей решительностью и новизною т. Ра-
нови.ча, который усмотрел в ней, повидимому, шаг
вперед в области библейской критики. На самом деле
установка Гельшера является чисто «левацким» загибом,
который льет воду только на мельницу реакционеров и по
существу пытается разрушить «слева» исходную
позицию библейской критики. Ибо Гельшер методологически
идет назад, опять сходит с позиций исторической
критики и приглашает библеистов базироваться на чисто
литературной критике, которая, по его мнению, должна
занимать руководящее положение. Другими словами,
методологически Гельшер отбрасывает библейскую критику
назад на формальные позиции, которые последняя в
лице де-Ветте и Вельгаузена до некоторой степени начала
преодолевать. Пример Гельшера чрезвычайно
поучителен, и на нем следует остановиться подробно.
Сила позиции де-Ветте заключалась в ее историзме.
II Цар. XXII—XXIII рассказывает, что в 621 г. жрецами в
иерусалимском храме была «найдена» неизвестная до тех
пор книга закона, составленная, как это признают все
добросовестные библеисты, конечно, теми же жрецами.
На основании этой книги царь Иосия произвел реформу
культа, заключающуюся, во-первых, в очищении
иерусалимского храма от всех культов, кроме культа Ягве,
и, во-вторых, в уничтожении всех высот, т. е. местных
святилищ в царстве Иуды («от Гибеа до Беершеба», т. е.
от северного до южного края царства). Во
Второзаконии, в главах, касающихся культа (XII—XIV и XVI)
Моисей, от имени которого составлено это
законодательство, дает именно такие же предписания: уничтожить
все культы «других богов», кроме культа Ягве,
уничтожить все местные святилища и сосредоточить культ
только в одном месте, «какое изберет Ягве, чтобы там
пребывать имени его», т. е. в иерусалимском храме *.
Отсюда вытекает прямой вывод, что эти предписания
кн. Второзакония и составляли основное содержание
книги закона 621 г., до Того времени «неизвестной», ибо
ни один царь до Иосии не смущался существованием вы-
1 Ср. I Цар. VIII 12—16: иерусалимский храм есть храм, «для
имени Ягве», т. е. для самого Ягве, построенный на месте, которое
°ыло «избрано» богом Ягве еще при Давиде.
3~"§ XXXIII
сот и других местных святилищ. Совершенно ясны
были даже для буржуазных богословов и мотивы реформы}
ее провели в своих интересах иерусалимские жрецы 60s
га Ягве. Интересы эти были прежде всего материальные,
ибо реформа упраздняла жреческие коллегии других
богов, почитавшихся в Иерусалиме, и, уничтожая местные
святилища, передавала жреческую десятину
исключительно в казну иерусалимского храма (Второз. XIV 22—•
23) *. Надо при этом отметить, что рассказ 22 и 23 глав
II кн. Царей в литературном отношении производит
впечатление связного рассказа, без каких-либо противоре-i
чий и повторений. Для историка-марксиста этот эпизод
имеет особенный интерес, ибо тут библейская традиция
дает один из редких случаев приоткрыть завесу, скры-;
вающую борьбу внутри различных группировок правя-]
щей иудейской верхушки, борьбу, которая именно щ
VII в. приводила неоднократно к дворцовым переворо-;
там, к сожалению, отмеченным в II кн. Царей лишь
лаконическими .сообщениями. ■
Реакционные противники тезиса де-Ветте прибегают к
обычным жульническим установкам. Одни говорят: за-j
кон был замурован в стене или фундаменте храма гщц
со времени Соломона, а потому и не исполнялся. Дру-]
гие ухитряются «доказывать», что Второзаконие не]
только существовало со времени Моисея, но и исполняв
лось, потому что слова «в месте, какое изберет Ягве для|
пребывания имени его», надо понимать в смысле не од-i
ного места, а всякого места, избранного Ягве. Отсюда
эти последние делают вывод, что Иосия уничтожил
только святилища других богов, особенно иноземных.
Те места кн. Второзакония, которые недвусмысленно
говорят об одном месте, считаются исправлениями. Таким
образом спасается и «дело Моисея», и иерусалимское
жречество реабилитируется от обвинения в проведении
насильственной и своекорыстной централизаторской
реформы. Мы сейчас увидим, что Гельшер, искренне считая,
что он своим «открытием» двигает библейскую критику
вперед, объективно поддерживает потуги реакционеров.
Основная ошибка Гельшера заключается в том, что
для него руководящее значение имеет литературно-кри-
1 Весьма возможно, что реформа 621 г. имела также связь с
наступлением сановной верхушки иудейского общества на
крестьян-общинников; см. об этом разд. V,
x;;x:v
тический метод. Ом принципиально отвергает тог
пунекоторым шли и де-Ветте, и Вельгаузен, путь
сопоставления определенных составных частей закона с теми
историческими моментами, когда основные требования этих
частей проводились в жизнь на основании
опубликования новых «книг закона». Гельшер решительно
отвергает все попытки определить состав
первоначального ядра Второзакония, исходящие из положения: «Все
законы Второзакония, соответствующие реформам Ио-
сии, упоминаемым в 22—23 гл. кн. Царей, составляют его
первоначальное ядро (sind urdeuteronomistisah), все
другое— вторично». Напротив, выделение ядра
Второзакония из теперешней книги «есть чисто литературная
задача, которая должна производиться на основании
внутренних (mneren), чисто литературных критериев»; и
«только тогда, когда первоначальный состав
Второзакония будет установлен чисто литературным путем, без
всякого учета II Цар. XXII ел., можно будет взвесить
отношение ядра Второзакония к II Цар. XXII ел.» 1.
Гельшер и пытается «восстановить» ядро Второзакония
чисто литературным методом, привлекая на помощь Sprach-
staifcistiik (статистику характерных филологических черт),
стилистику, логику и прочий аппарат формальной
критики. Эту работу он рассматривает, как завершение и
новое подтверждение тех выводов, к которым он
пришел раньше в результате критического анализа
источников I и II кн. Царей. Произведя этот анализ таким же
«чисто литературным путем», Гельшер «выделил»
первичные и вторичные элементы в этих книгах, в том
числе в 22—23 гл. II кн. Царей. «Оказалось», что результаты
того и другого «критического» исследования
«блестящим» образом совпадают; и Гельшер торжественно
объявляет, что «господствующая теперь позиция
(датировка законодательных источников) подобна дому, из-
под которого вынут фундамент и который после этого
повис в воздухе на остове из уже подгнивших балок» 2.
Каким же способом была якобы одержана эта,
поистине Геростратова, победа, и какое же новое «здание»
воздвигнуто Гельшером на месте старого? Исходным
пунктом для Гелыпера служит произведенный им анализ
Komposition und Ursprung des Deuteronomiums, ZAW, 1922,
II—III, стр. 189—191.
2 Там же, стр. 233.
XXXV
составных источников кн. Царей. Гельшер
придерживается мнения, высказанного ранее Будде, Беицингером и
некоторыми другими библеистами, что ягвист и элогист
послужили источниками не только для Шестикнижия, но
и для исторических .книг библии. Эта гипотеза является
совершенно искусственным схематическим построением,
в пользу которого не может быть приведено ни
одного сколько-нибудь убедительного аргумента. Эта
гипотеза вообще не нужна, так как основные источники,
которыми пользовались авторы исторических книг,
указаны в тексте кн. Самуила и Царей. Это: 1) «книга
доблестного» •— повидимому, эпос военного содержания,
аналогичный Илиаде, 2) «книга дел (история) Соломона»,
3) «книга летописей царей Иуды», 4) «книга летописей
царей Израиля». Сверх того не названы, но совершенно
отчетливо выступают в качестве источников предания и
легенды о пдеменных вождях, так наз. судьях, биография
Давида, составленная при его дворе, и сборник легенд об
Илии и Елисее. Кроме этих крупных источников авторы
кн. Судей, Самуила и Царей использовали ряд мелких.
Далее, еще со времени Вельгаузена утвердилось
правильное мнение, что книги Судей, Самуила и часть кн.
Царей в своей основе были составлены еще в царскую
эпоху, но окончательное завершение и редакцию
получили в начале эпохи плена, в результате работы редак-
тора-девтерономиста. Но в 90-х годах против этих
положений о составе и времени происхождения исторических
книг началась атака со стороны «литературной критики».
Ухватившись за правильное указание Эд. Мейера, что в
Суд. I уцелел отрывок ягвист а (о начале завоевания
Ханаана Иудой), Будде выставил положение, что «самой
естественной в мире» гипотезой будет допущение, что в
основе кн. Судей и Самуила лежат те же ягвист и
элогист, что и в Шестикнижии. В 1921 г. то же самое
положение стал доказывать по отношению к кн. Царей Бен-
цингер. При этом, конечно, правильная концепция ягви-
ста и элогиста, как иудейского и эфраимитского
сборников легенд о временах до поселения в Ханаане, была
заменена другой: ягвист — это будто бы «светский
автор», сторонник царской власти, элогист, наоборот,
якобы стоял на пророческо-теократической позиции. По
вопросу о месте составления этих «обширных
исторических произведений» сторонники новой концепции
присоединились к точке зрения Сменда, который еще ранее
XXXVI
появления концепции Будде — Бенцингера отрицал эф-
раимитско-е происхождение элогиста.
Гельшер не только воспринял эту новую концепцию
объема ягвиста и элогиста, но дал ей дальнейшее
развитие. Следуя за Смендом, Гельшер также отрицает эфраи-
митское происхождение элогиста. По Гельшеру эло-
гист — это хронологически более позднее, чем ягвист,
произведение, являющееся в то же время более высокой
ступенью в развитии религиозной идеологии, ибо эло-
гист вышел якобы из пророческих кругов, в которых
зародилось и было впервые провозглашено «новое
религиозное мировоззрение» — представление о едином
мировом боге, который в своем руководстве людьми
проводит требования нравственного жизненного идеала.
Такой «элогист», по мнению Гельшера, является основным
источником книг Царей, начиная с момента распада
единого царства на два, так что, начиная с XIII гл. I кн.
Царей, текст до конца II кн. Царей, т. е. до 586 г., состоит
главным образом из элогиста и добавлений редактора.
Это положение противоречит обычной датировке
элогиста VIII веком; но Гельшер очень просто выходит из
затруднения, заявляя, что, судя по его предварительным
разысканиям, элогиста надо датировать эпохой плена, а
редактора — эпохой после плена. Между элогистом и
редактором, при общности их монотеистического
миросозерцания, было якобы и различие, заключавшееся в
том, что элогист не знает «догмы Второзакония о
незаконности высот», в то время как редактор проводит
идею централизации культа *. Что элогистическому
источнику чужда идея централизации культа, это
совершенно правильно; но Гельшер применяет это положение
к критике рассказа II кн. Царей о нахождении книги
закона и реформе Иосии совершенно неправильно. Он
попросту и без затей считает все те стихи 23-й главы, в
которых описывается уничтожение местных святилищ
и местных культов, позднейшим вымыслом редактора,
ибо, с его точки зрения, элогист, не знавший догмы о
незаконности высот, таких сведений сообщить не мог.
Таким образом, рассказ 22—23 гл. II кн. Царей
«очищается» от «позднейших наслоений», внесенных редакто-
1 С H61scher—Geschichte der fsraelitischen und {fldischen
RHiswon. .fi-f, 101— KW «Пая Rnrb Her Kfiniee, sdne Otiellen und
seine Redaktion» в сборнике «Eucharisterlon» в ЧесТь Гункеля, т. I,
стр. 202, 204, 206,
хххуп
ром-девтерономистом, и «обнаруживается», что
«действительная реформа Иосии» заключалась только в очищении
культа Ягве от давних ханаанских примесей и
завершила собою энергичные попытки в этом направлении,
предпринимавшиеся царями Асой, Иосафатом и Хизкией.
Отсюда, по Гельшеру, книга закона, на основании которой
Иосия произвел свою реформу, должна была заключать
в себе только эти последние требования, а поэтому этой
книгой не могло быть Второзаконие, так как оно в
качестве основного требования выдвигает централизацию
культа1. ! . - i
Мы видим, что в концепции Гельшера ход
израильско-иудейской истории определяется весьма
оригинально — сообразно предполагаемому миросозерцанию
расширенного элогиста. Что соответствует этому
миросозерцанию, то было, а что не соответствует, того не было.
Отсюда разрешается вопрос и об эпохе Второзакония.
Отсюда следует, что Второзакония не было в 621 г.
Отсюда выводится заключение, что «ни в первоначальных,
ни во вторичных частях Второзакония нет отрывков,
которые содержали бы намеки на его допленное
происхождение»; есть только некоторые переработанные
элементы допленного законодательства. Второзаконие — это
Zukumftsprogramim, программа реставрации, в основу
которой положена идея централизации культа, и было
составлено около 500 г. до х. э., примерно, за полвека до
составления Жреческого кодекса -. Таким образо'м,
посредством применения чисто литературного
«безошибочного» метода, путем совершенно произвольного
расширения объема элогиста до конца Иудейского царства и
еще более произвольной подмены реальных
исторических моментов идеалистическо-фантастическими
спекуляциями о миросозерцании элогиста как критерии
достоверности сообщений кн. Царей Гельшер уничтожает
одним взмахом все здание библейской критики, все ее
общепризнанные достижения и строит новое здание,—но
без всякого фундамента! Ибо таковым могут быть
только реальные отношения реальной жизни, а Гельшер
основывается только на своих субъективных формально-
идеалистических спекуляциях.
Ложность того пути, на который вступил Гельшер,
* «Das Buch der KGnigre...», стр. 207—208, 211—213.
3 «Kompos. u. Urspr. d. Deuter.», 161, 227—230; «Gescii. d. iir. u,
jfld. Religion», стр. 130—134, ср. стр. 142.
XXXVffi
отвергнув исторический метод критики и положив В
основу чисто литературный, самым ярким образом
обнаруживается из его попыток показать, что реальное
содержание Второзакония в основном отвечает не эпохе
Иосии, а эпохе конца VI в. Прежде всего, применяя свой
«безошибочный» метод, Гельшер вступает в
противоречие с самим собой. Он вынужден признать, что к
основной части Второзакония принадлежат гл. XIII и другие
отрывки, запрещающие культ небесных светил и других
богов рядом с Ягве х, т. е. отрывки, содержащие те
самые требования, которые, по мнению Гелынера,
составляли содержание книги закона 621 г. и реформы Иосии.
Отсюда с точки зрения Гелынера прямой вывод
заключался бы в том, что именно эти части Второзакония и
надо считать книгой закона Иосии; однако он этого
вывода не делает, ибо тогда рушится вся его схема.
Попытки Гельшера показать на конкретных примерах
несоответствие исторического фона и предписаний
Второзакония с реальными условиями VII в. также не
выдерживают критики. Вводные речи Моисея, произносимые
последним в пустыне на границе Ханаана (Втор. I—XI),
Гельшеру представляются «зеркальным отражением (Spie-
getbild) положения изгнанников (иудеев) в плену
(вавилонском)» 2. Но в этом «зеркальном отражении» Моисей
грозит евреям за неисполнение нового закона не
изгнанием и пленом, а гибелью от неурожая и голода в той
земле, которую даст им Ягве, т. е. в Палестине:
«воспламенится гнев Ягве на вас, и закроет он небо и не будет
дождя, и земля не даст плодов своих, и скоро погибнете
вы, с земли, которую Ягве даст вам» (XI 17). На эти
слова Гельшер случайно или сознательно не обратил
внимания; мало того, он не замечает действительного
«пророчества после события» в заключительной речи Моисея,
где за неисполнение нового закона Моисей грозит
нашествием чужеземного могучего врага, изгнанием из земли
и рассеянием среди разных народов (XXVIII 49—52, 63—
67). Даже с точки зрения излюбленного Гельшером
литературно-критического метода совершенно очевидно, что
1 Кроме гл. XIII, также XVII, 2—5; ср. «Komposition,..», стр. 192,
197—198. Аналогичные запреты во Втор. IV 15—19 Гельшер относит
к эпохе плена; постановление, запрещающее храмовую-
проституцию (ср. II Цар. XXIII 7), по стилистическим основаниям считается
«позднейшим добавлением» (стр. 212—213).
? fKomposiltion...», стр. 229,
XXXIX'
вводные и заключительные речи Моисея составлены в
разное время, что заключительные речи являются
добавлением редактора эпохи плена и что вводные речи были
составлены еще до катастрофы 587 г. Следует добавить,
что в той же XI .гл. во вводной речи Моисея имеется
еще предписание, которое также совершенно не
вяжется с предстоящим возвращением иудеев на родину: по
приходе в землю, даруемую богом Ягве, израильтяне
должны произносить благословение на горе Гаризим, а
проклятие — на горе Гебал (Втор. XI 29), т. е. на эфраи-
митских высотах, а не в Иудее, как следовало бы
ожидать, если речь Моисея подразумевает возвращение
иудеев из плена.
В попытках Гельшера показать, будто постановления
Второзакония соответствуют эпохе плена, а не эпохе Ио-
сии, главную роль играет положение, что эти
постановления носят не реальный, а «идеальный» характер,
неприменимый к жизни. Это положение при проверке
оказывается совершенно неправильным. Возьмем три
примера. Втор. XVII 14—20 рекомендует при выборе царя
выбирать такого, который не будет продавать в египетское
рабство своих подданных в обмен на коней, не будет
заводить себе огромного гарема, не будет собирать золото
и серебро в свою казну и будет усердно соблюдать
постановления «нового закона». Гельшер по поводу этого
отрывка Второзакония говорит, что царь Иосия сам
такого закона ввести не мог и что это—«идеальное
требование теоретика позднейшей эпохи»1. Гельшеру,
конечно, невдомек, что в этом «идеальном» требовании дана
самая реальная характеристика типа восточного деспота,
что грабительство и угнетение подданных со стороны
иудейских царей именно в конце VII и начале VI в.
достигло такой степени, что даже Иеремия вынужден был
проклясть за это последних иудейских царей2, и что
здесь перед нами, несомненно, демагогический лозунг
какой-то жреческо-пророческой группировки,
выдвинутый в момент одного из частых дворцовых переворотов
после смерти Иосии. Такими же «идеальными
требованиями» представляются Гельшеру так наз. военные
законы Втор. XX 1—20. В этих законах дается льгота ли-
1 «Komposition...», стр. 199—200. Тов. Ранович также не уловил
подлинного смысла этого постановления.
2 Иепем. XXII 1—7 ("общее проклятие), 10—12 (Шаллуму),
13—19 (Иоакиму), 24—30 (Иехонии); XXXIV 8—22 (Цидкии).
>;т
цам, только-что женившимся, только-что отстроившим
дом' или насадившим виноградник, рекомендуется при
осаде вражеского города сначала предлагать сдачу, а в
случае взятия силой мужчин поголовно истреблять, а
женщин и детей обращать в рабство Ч Гелыпер, повиди-
мому, не подозревает, что второе «идеальное»
требование военных законов было самым распространенным
приемом всех .древневосточных завоевателей. Что касается
первого требования, то оно находится в несомненной
связи с попытками насильственного разрушения общины,
наблюдаемыми с VIII в., и явно покровительствует
новому частному хозяйству. Установив «идеальный» характер
«царских» и «военных» законов, Гельшер в дальнейшем
уже без всяких конкретных замечаний причисляет к
разряду таких же «идеальных» требований закон об
очищении общины в случае нахождения на ее территории
убитого неизвестной рукой (Втор. XXI 1—9). Гельшер
полагает, что тут только «старейшины» заимствованы из
древнего права, но что этот закон так же, как и законы
XXI главы, «по стилю» составляет «единое целое» с
«военными» законами, а так как для Гельшера стилистические
аргументы являются решающими, то вопрос об
«идеальном» характере предписаний Второзакония XXI 1—9
он считает исчерпанным 2.
К этому методологическому убожеству и
историческому невежеству Гельшер присоединяет еще довольно
странное отношение к работе своих предшественников в
области исследования Второзакония. Его «анализ»
пестрит ядовитыми замечаниями, что-де Иосия первый не
стал бы издавать или исполнять подобные законы. Но
ведь Гельшеру прекрасно известны общепризнанные
результаты исследования Второзакония, заключающиеся в
том, что книга закона Иосии — это вовсе не
современное Второзаконие, а только его культовое
законодательство, что Второзаконие в его теперешнем виде — это
механически составленный сборник законодательных
постановлений, законодательных проектов и
«гуманитарных» увещаний, объединяемых происхождением из
одной и той же бурной эпохи конца VII — начала VI в.3.
1 «Komposition...», стр. 207—208.
2 Там же, стр. 208—209.
8 Эти результаты лучше всего суммированы в комментарии
еиегладеГя, Deuteronomium, 2 изд., 1923 г,
X Г Л
Историк-марксист к этому добавит, что проекты и
увещания носят лицемерный демагогический характер и что
весь этот конгломерат является продуктом обостренной
классовой борьбы конца VII — начала VI века1.
В результате попытка Гельшера должна быть
решительно отклонена. Гельшер не доказал и не мог
доказать правильности своей концепции, но он с усердием,
достойным лучшей участи, присоединился к
реакционной клике богословов, напрягающих все свои усилия
для дискредитации основных руководящих положений
библейской критики. Он не доказал своей концепции,
но он провозгласил, что де-Ветте направил критическое
исследование библии по ложному пути, и тем самым
осудил все дальнейшее развитие библейской критики
после де-Ветте. Надо отдать справедливость недавно
умершему выдающемуся библеисту Гуго Грессману,
который в статье, посвященной походу против положения
де-Ветте, поставил Гельшера рядом с Хорстом, Эстрейхе-
ром, Штэрком и прочими оголтелыми приспешниками
реакционной поповщины 2.
Из критического обзора результатов библейской
критики, сделанного т. Рановичем, и из сделанных выше
моих экскурсов становится ясным, какова должна быть
позиция историков-марксистов по отношению к работе
буржуазно-богословских библеистов.
Историки-марксисты должны принять все выводы библейской критики,
которые выдерживают проверку марксистской
методологии. Исходя из положения, что всякая идеология во все
времена и у всех народов является продуктом реальной
жизни, реальной деятельности людей в условиях
определенных производственных и политических отношений и
классовой борьбы, мы должны признать, как мне
представляется, следующие выводы. Шестикнижие было
составлено в окончательном виде идеологами послеплен-
ной общины второго храма. В состав его были
включены после соответствующей переработки и дополнений
следующие источники: 1) ягвист, сборник мифов,
легенд и преданий о происхождении еврейского народа и
1 Об этой борьбе см. подробно в разд! И,
8 Н. Gressmann — Josia und Deuteronomium, ZAW, 1924,
стр. 313 ел. Грессман делает, конечно, оговорки и расшаркиваетс?
перед коллегой, но, поскольку это для него возможно, правильно
критикует Гельшера,
^'Л!
его судьбах до поселения в Ханаане, составленный в
VIII в. иудейским автором с определенной целью дока-
гать первенство Иуды среди еврейских племен и его
исконное право на гегемонию; 2) элогист, такой же
сборник, составленный эфраимитским автором, с такой
же целью доказать первенство Иосифа-Эфраима среди
еврейских племен и его исконное право на гегемонию;
время происхождения элогиста спорно 1, а объединение
ягвиста и элогиста в одно целое относится, вероятно, к
VII в.; 3) сборники законодательного характера, из
которых к допленной эпохе относятся: «книга договора»
(Исх. XXI—XXIII), являющаяся записью обычного права,
не ранее конца VIII в., ритуальные и моральные
постановления кн. Левит, собранные, как полагает Эрдмане, в
один сборник также в конце VIII в., и, наконец,
Второзаконие, в составе книги закона 621 г., содержавшей
постановления о централизации культа, и ряда добавлений,
характер и происхождение которых указаны выше,
получившее окончательный вид в эпоху плена; 4) так наз.
Жреческий кодекс, середины V в., авторам которого
принадлежат «законодательство» о скинии собрания и
теократической конституции, ряд других отдельных,
главным образом ритуальных постановлений,
вкрапленных в разных местах Пятикнижия, и, наконец, все те
элементы повествовательной части, которые объединяют
пестрые, разрозненные составные элементы
первоначальных источников в одно целое посредством
хронологических, генеалогических и специально составленных
«исторических» вставок. Возможно, что авторы
Жреческого кодекса были также окончательными редакторами
Шестикнижия. Объединение Пятикнижия и кн. Иисуса
Навина в одну комплексную серию оправдывается тем,
что в кн. Иисуса Навина сохранилась заключительная
часть элогиста — рассказ о завоевании Ханаана
общеизраильским ополчением под командой эфраимитского
вождя Иисуса Навина, который после завоевания рас-
1 Обычно считают, что элогист моложе ягвиста, и относят его
к VIII в., а ягвиста — к IX в. На самом деле элогист, как эфраимит-
ский сборник, не мог быть составлен в VIII в., т. е. в эпоху
упадка северного царства. Элогиста, как мне думается, надо датировать
эпохой расцвета северного царства, т. е. IX веком; а так как
литературный анализ показал, что при компиляции рассказов ягвиста
и элогиста компилятором является ягвист, то последний должен
бь;ть моложе элогист?;,
XLII1
пределяет завоеванные земли по жребию между 12
«коленами» (племенами) и дает в Сихеме перед смертью
Законы *.
Ягвист заканчивался также рассказом о завоевании
Ханаана; отрывки этой тр-адиции сохранились в I гл. кн.
Судей, в которой говорится, что Ягве «отдает землю в
руки Иуды» и повелевает Иуде итти первому на
завоевание Ханаана, а вслед за Иудой разрозненными группами
проникают в Ханаан и остальные племена. Это
происходит без всякого участия Иисуса Навина 2.
В теперешнем Шестикнижии элогист, за
исключением кн. Иисуса Навина и повести об Иосифе, сохранился
в виде мелких разрозненных отрывков, вставленных в
ягвиста и обработанных ягвистическим редактором.
В частности от рассказа об исходе в элогистическом
варианте почти совершенно ничего не осталось, хотя
Моисей как вождь исхода и законодатель признавался и в
Эфраиме, как показывает, напр., гл. XXVII кн.
Второзакония, в которой к Моисею возводятся эфраимитские
обряды благословения и проклятия (на эфраимитских
горах Гебал и Гаризим).
О составных элементах Второзакония и их важном
значении, как источника общей и религиозной истории
Иуды в VII—VI вв., мне придется еще говорить ниже
(разд. V). Сейчас я только еще хотел бы подчеркнуть,
что историки-марксисты, принимая определенные общие
выводы библейской критики по отношению к Шестикни-
жию, обязаны также приступить и к самостоятельной
литературно-критической работе над его текстом. Они
должны пересмотреть критически предлагаемое теперь
фактическое распределение материала между
источниками Шестикнижия. Тогда окажется (как показывает мой
опыт), что, например, некоторые отрывки, приписывае-
1 О законодательстве Иисуса Начина — см гл. 24.
Первоначальный рассказ был короче: ст. 1 (собрание в Сихеме «перед лицом
богя» (элогим), ст. 2R—26 (о заключении договора и составлении
книги закона) и ст. 2Я—30 (о смерти Иисуса). Увещательные речи
Иисуса — вставка девтерономиста; ст. 25—30 редактированы также
последним.
2 Рассказ начинается словами: «после смерти Иисуса Навина»,
хотя в предшествующей книге Иисуса Навина уже рассказано о
завоевании Ханаана под предводительством Иисуса и о наделении
Иуды в числе прочих областью по жребию. Это—очень неловкая
вставка или поправка: в последнем случае В тексте первоначально
стояло: «по смерти Моисея»,
XLIV
кыё Жреческом}' кодексу, на самом деле принадлежат
ягвисту или элогисту и что диференциация этих
последних сплошь и рядом производилась неправильно,
вследствие применения стилистическо-логических
критериев и установок «ветхозаветной теологии». То же
самое приходится сказать и об остальных книгах библии,
особенно об исторических, пророческих и о книге
псалмов. По отношению к анализу исторических книг
историки-марксисты должны решительно отвергнуть
схематическую, концепцию «продолжения» в этих книгах ягвиста
и элогиста и принять за исходный пункт те конкретные
указания на источники, какие имеются в этих книгах.
Те части исторической традиции, которые не могут быть
возведены к таким источникам, подлежат новому
анализу. Гораздо сложнее обстоит дело с пророческими
книгами, которые представляют собой пестрые,
беспорядочные конгломераты оракулов и увещаний
разновременного происхождения и разной классовой окраски. Тут
в качестве исходного пункта могут быть приняты лишь
самые общие бесспорные результаты
буржуазно-богословской критики, указанные в работе т. Рановича. Вся
же остальная работа должна быть проделана заново.
На этих путях историки-марксисты дружной
коллективной работой могут достигнуть важнейших, порой может
быть неожиданных результатов. Мои разведочные
работы показывают, что в результате критического анализа
текста и содержания библейских книг, исходящего из
основных положений марксистско-ленинской
методологии, иногда открываются совершенно новые горизонты
и новые материалы для реконструкции древнееврейской
истории и религии. Отражение общинного быта в
законодательстве, даже ритуальном, диференциация
исторических оракулов, а отсюда и «пророчества» по
классовой линии, жреческие тенденции в земельном
законодательстве (тора о юбилейном годе), реконструирование
эфраимитского и иудейского пантеонов, а также
народной и официальной магии — вот те моменты, которые
вскрываются текстуальной и литературной критикой,
когда она направляется по правильному пути. Отсюда
бесспорно, что материальное основание для
марксистской истории Израиля и Иуды и израильско-иудейской
религии конкретно и полностью будет обеспечено только
тогда, когда марксистские специалисты по библии
фактически станут на свои ноги в области текстуальной и
XLV
Литературной критики библейской традиции и
окончательно разрешат основные критические проблемы.
Но марксистская история Израиля и Иуды и
израильско-иудейской религии, кроме прочного материального
основания, должна опираться на правильные, подлинно
марксистские методологические положения о характере
израильско-иудейского общества и классовой борьОы,
развертывавшейся в процессе его истории. С этой стороны
марксистская историческая наука делает только первые
свои опыты. Поэтому вопрос о правильном применени
положений марксистско-ленинской методологии к истори •.
и религии Израиля и Иуды приобретает особенно важно
значение. Поэтому ставит методологические вопрос!,!
т. Ранович; поэтому мимо них не может пройти и на
стоящая вводная статья.
IV. ВОПРОС ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА ИЗРАИЛЬСКО-ИУДЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Если религия не имеет своей самостоятельной
истории, но создается и видоизменяется людьми в связи с
изменениями материального производства и
материального общения, то правильное понимание и изображение
изменений, происходящих в данной религии, должно
опираться на правильное понимание и изображение
производственных отношений, классовой структуры и
классовой борьбы в истории данного общества. Тов. Ранович
это учитывает и предпосылает изложению истории
религиозных явлений свое определение формационного
характера израильско-иудейского общества и очерк его
социально-политической истории. По определению т. Ра-
новича израильско-иудейское общество было
рабовладельческим обществом восточной его разновидности,
причем в одном месте т. Ранович уточняет это
определение добавлением к термину «рабовладельческое
общество» характеристики «примитивное».
Так как до сих пор, к сожалению, среди историков-
марксистов еще нет единомыслия по вопросу о формуле,
которая давала бы точное, не вызывающее споров
определение формационного типа восточных обществ, то я
считаю необходимым остановиться на этом вопросе и
высказать по поводу его свои соображения. Разногла-
XLVI
сия по вопросу о формационном типе восточных
обществ возникли потому, что согласно марксистско-
ленинскому учению о восточных обществах в последних
существовала двоякого рода эксплоатация: и на основе
рабовладельческих и на основе раннекрепостнических
форм выжимания прибавочного продукта. Марксистско-
ленинское учение о восточных обществах, оправдываемое
всеми имеющимися в нашем распоряжении
документальными данными, в основных его положениях сводится к
тому, что основной производственной ячейкой
восточных бВщтатв била" сельская община, эксплоатировавшая-
ся командующей верхушкой посредством выжимания с
общинников прибавочного продукта в форме
ренты-налога и посредством выжимания прибавочного труда
общинников на принудительных работах. Сама верхушка
состояла из рабовладельцев, эксплоатировавших труд
домашних рабов; это восточное рабство «не образует прямым
образом основы производства». Ключ к пониманию этого
«восточного неба» заключается в том, что на Востоке «не
образовалось права частной собственности на землю, даже
феодальной», что в качестве «земельного собственника и
вместе с тем суверена» на Востоке выступает
государство и что частное и общинное владение и пользование
землей существует там лишь в качестве подчиненной
формы. Этот «восточный общинный строй» и основанная на
нем деспотия являются «застойными», существовавшими
«с незапамятных времен» и продержавшимися в большей
части восточных стран вплоть до внедрения там
капитализма, — ибо «первая социальная революция в Азии»
была произведена в Индии вторжением английского
капитала 1.
Таким образом, согласно учению Маркса и Энгельса,
восточные общества являются образованиями
своеобразными; в них диалектически переплетаются зачатки и
рабовладельческого и феодального способа производства.
Своеобразие восточного общественного типа у ,Маркса
подчеркивается присвоением ему в качестве баЗы
«азиатского способа производства», который Маркс ставит
1 Эти положения сформулированы главным образом в
следующих работах: М ар к с— Британское владычество в Индии (Соч.,
т. IX, ср. переписку 1853 г., т. XXI, № 253, 258, 259, 261). «Капитал»,
г. I, стр. 405—4Q6, т. III, изд. 8, стр. 569—570. Э н г е л ь с —Анти-
Дюринг. Изд..6, стр. 115, 129. «Диалектика природы». Изд. 6, стр.49.
XLVII
особняком и от античного и от феодального способа
производства в качестве первой, наименее
прогрессивной ступени в развитии классового общества Ч
Вполне понятно, что среди историков-марксистов
возникло стремление выяснить, какая из двух форм экспло-
атации в древневосточных обществах является основной,
и таким образом дать точное определение формацион-
ного типа этих обществ. Одни, опираясь на положение,
что основной производственной ячейкой была община,
полагают, что основная масса эксплоатируемых
непосредственных производителей состояла из общинников,
и поэтому первоначально предлагали считать азиатский
способ производства «восточной формой феодализма» 2.
В' противовес этому определению другая группа истори^
ков-марксистов, исходя из положения В. И. Ленина, что
первым классовым обществом было рабовладельческое
общество, и из того факта, что древнейшими
классовыми обществами были древневосточные общества,
выдвинула определение древневосточного общества в
качестве «рабовладельческого общества восточного типа»,
учитывая, повидимому, положение Энгельса о различии
по существу между восточным и античным рабством3.
Обе эти формулы страдают серьезными
недостатками.
1 К. Маркс — К критике политической экономии. Избр. соч.,-
т. I, стр. 274. Азиатский способ производства не следует понимать
как особую «азиатскую» формацию. Правильно надо понимать
его как гибридный застойный уклад, недоразвившийся ни до
сформированной рабовладельческой, ни до сформированной феодальной
формации.
2 Ср. двухтомник сочинений Маркса, т. II, стр. 525, примеч. I.
«Феодальной» формулы до 1935 г. придерживался и я, а также
придерживались и другие историки-марксисты, акад. А. И. Тюме-
нев, проф. И. М. Лурье и др.
3 Я имею здесь в виду, конечно, историков-марксистов,
исходящих из положения Маркса и Энгельса об общине, как основной
производственной ячейке восточных обществ. Что касается
концепции «рабовладельческой формации на древнем Востоке»,
аналогичной античной формации, и вытекающего отсюда объединения
древневосточных и античных обществ в одно формационное целое,
то эта концепция, выдвинутая акад. Струве и проф. Ковалевым,,
является по существу вреднейшей попыткой ревизии марксистско-
ленинского учения об общественно-экономических формациях и
антинаучной со стороны применяемых в работах Струве методов
документации. Эта концепция должна быть решительно
отвергнута.
XLVHI
«Феодальная» формула, как признают теперь ее
прежние поборники, неправильна, потому что она не
соответствует сути дела. Эта формула упускает из виду, что
на Востоке не образовалось основы феодализма в
форме феодального права собственности на землю, а формы
эксплоатации общинников, шедшие по направлению к
крепостническим, таковыми все же формально не
сделались. А в то же время, применяя термин «восточная
форма феодализма», сторонники этой формулы при
применении ее к историческому изложению не избежали
опасности уподобить общественный строй
древневосточных и восточных государств обычному феодальному
строю, как он выработался в европейских странах.
Получалось противоречивое и неправильное изображение,
при котором, между прочим, рабство отодвигалось
совершенно на задний план. Ясно, .что формула «восточная
форма феодализма» является неправильной.
Но аналогичные опасности таит в себе и
«рабовладельческая» формула. На Востоке — и древнем, и
средневековом, и новом — основной формой рабства было
домашнее рабство, которое, по определению Энгельса,
«не образует прямым образом основы производства».
Спорадические случаи расширения восточного рабства
за рамки домашнего имели, конечно, место и на древнем
и на средневековом Востоке; но тем не менее основная
масса непосредственных производителей на Востоке
«с незапамятных времен» состояла не из рабов, а из
крестьян-общинников. Между тем, применяя к
историческому изложению «рабовладельческую» формулу,
сторонники последней, подобно «феодалам», невольно
сбиваются иногда на уподобление древневосточного строя
античному строю, при котором рабский труд занимал
ведущее место в производстве. Получается так же, как
у «феодалов», противоречивое и неправильное
изображение, при котором невольно умаляется роль общины и
преувеличивается значение рабства. Сверх того, примшяя
термин «рабовладельческое общество» только к
древневосточным обществам, сторонники рабовладельческой
формулы тем самым молчаливо ставят вопрос об особой
характеристике восточных обществ средневековья и
нового времени.
Отсюда видно, что обе формулы нельзя считать
такими, которые точно и правильно определяли бы фор-
мационный характер восточных (в том числе и древне-
4-8
XLIX
восточных) обществ. Поэтому, как мне представляется,
очередная задача марксистской исторической науки
заключается в подробном теоретическом анализе и
раскрытии марксистско-ленинского учения о восточных
ооществах с одновременной документацией его
конкретным материалом первоисточников, особенно из истории
древнего Востока, и в отыскании такой формулы,
которая дала бы четкое, бесспорное определение формацион-
ного типа восточных обществ. При разрешении
последней задачи историки-марксисты должны опереться на
такую формулу, которая выдвинута кем-либо из
основоположников марксизма-ленинизма. Мне лично
представляется, что в качестве такой формулы наиболее
подходящей является формула
«полупатриархальный-полуфеодальный быт» \ которую применяет товарищ Сталин для
характеристики строя некоторых восточных народов
Союза ССР в начале нэпа.
Первая половина сталинской формулы подчеркивает
патриархальную основу восточных обществ, именно
сельскую общину, которая является элементом,
унаследованным от патриархального этапа родового строя
(«патриархальной домашней общины с совместным
владением землей и совместной обработкой»), и сохраняла
патриархальные черты еще в XIX в. не только на
Востоке, но и в царской России. Но наряду с патриархальной
общиной командующая верхушка восточных обществ
является также группировкой, не изжившей традиции
патриархального быта. Ее правовой уклад в области
семейных и внутренних производственных отношений
является чисто патриархальным, как показывают все
древневосточные кодексы, и в том числе особенно ярко
«аконодательство торы. Домашнее рабство является
формой развития также патриархального рабства со
специфическим преобладанием рабынь над рабами («рабыни
гарема»). Вторая половина сталинской формулы
подчеркивает, что основные производители,
крестьяне-общинники, уже являются объектом эксплоатации и что
выжимание из них прибавочного труда и прибавочного
продукта происходит в таких формах, которые являются
зародышевыми формами феодальной эксплоатации. Эти
общие моменты, типичные для «азиатского общества»
всех эпох, начиная с древности, в конкретных слу-
* «Марксизм я мднональио-колоыиальный вопрос», ищ, 70.1934,
L
чаях могут выступать и выступали в различных
вариантах, при которых известный перевес мог
приобретать либо первый, либо второй момент. Но в
основном восточное рабство не пошло дальше домашней
формы, а восточные формы эксплоатации общинников
не сделались формально крепостническими, как не
сложилось на Востоке и феодальное право собственности на
землю. Против применения формулы товарища Сталина
к древневосточным обществам выдвигается возражение,
что эта формула относится к отсталым народностям
бывшей царской России и не может быть применяема к
великим мировым державам древности. Но в самом этом
возражении уже заключается и его опровержение.
Отсталость восточных народностей Союза в том и
заключалась, что некоторые из них, как например оседлые
туркмены или казахи, еще в XIX в. жили в общественных
формах, аналогичных общественным формам древней
Вавилонии эпохи Хаммураби. Тут перед нами блестящее
подтверждение положения Маркса о застойном характере
восточных обществ. Не следует также забывать, что все
три древневосточные «мировые державы» были весьма
эфемерными. При общих хронологических рамках
истории Египта, Ассирии и Персии, исчисляемых тысячеле-
тями, эпоха «мирового» господства каждого из этих
государств не превышала 250—300 лет — вернейший
признак низкого уровня производительных сил и
общественного строя страны-завоевательницы. Мой личный
опыт применения сталинской формулы к историческому
изложению показывает, что ее применение обеспечивает
от тех односторонних уклонов, какие наблюдаются при
применении «феодальной» и «рабовладельческой»
формулы.
Конечно, разрешение формационной проблемы может
быть достигнуто только при коллективной работе всех
подлинных историков-марксистов, какой бы из двух
конкурирующих формул, «рабовладельческой» или
«полупатриархальной-полуфеодальной», они в данный момент
ни придерживались. Но пока соглашение не достигнул>,
чрезвычайно важным и полезным для разрешения задачи
моментом является критическая проверка применения на
практике существующих формул. С этой точки зрения
я считаю здесь необходимым указать на некоторые
отрицательные стороны .в изображении общественных
отношений Израиля и Иуды у т. Рановича, - которые, по
4*
и
моему мнению, связаны с применением термина
«рабовладельческое общество».
Тов. Ранович пишет, что «маленькие полунезависимые
еврейские государства» .представляли собою
рабовладельческие общества, в которых однако «патриархальная
система рабства» не превратилась «в рабовладельческое
хозяйство античного типа». Конкретное изображение
рабства в израильско-иудейском обществе дается т. Ранови-
чем как-будто правильное: рабыни — это
преимущественно рабыни гарема, рабы—это преимущественно
домочадцы, пастухи господских стад, и в некоторых случаях
рабы работают также на господских полях. Тов.
Ранович говорит также, что' о размерах рабовладения
имеется лишь одно сведение — о двадцати рабах у одного из
внуков Саула — и что о восстаниях рабов библия не
сохранила воспоминаний. Таким образом, перед нами
как-будто типичная картина восточного домашнего
рабства, являющегося высшей ступенью развития
патриархального рабства. В то же время т. Ранович признает,
что в израильско-иудейской деспотии существовало
«финансовое ведомство, или ведомство ограбления своего
собственного народа». В начале 5-й главы о реставрации
Иерусалима после плена т. Ранович совершенно
правильно говорит: «Вряд ли положение еврейских
земледельцев ухудшилось от замены отечественных эксплоатато-
ров (там, где они были убиты или уведены в плен)
чужеземными. Конечно, они должны были платить
земельную и, вероятно, подушную подать, но нет основания
думать, что вавилонские чиновники и персидские сатрапы
вымогали больше, чем их еврейские предшественники...
Неудивительно поэтому, что впоследствии еврейское
население Палестины противилось мероприятиям
вернувшихся эмигрантов по восстановлению храма в
Иерусалиме и старых допленных порядков и отношений». Эти
эксплоатируемые еврейские земледельцы трактуются
т. Рановичем, очевидно, как общинники, судя по его
замечанию, что «развитие рабства как прямой основы
хозяйства тормозилось слабостью торговли...
неравномерностью исторического развития, когда местами
сохранялась общинная собственность на землю и ряд институтов
родового строя».
Итак, как-будто строй израильско-иудейского
общества является типичным восточным строем, при котором
рабство не сделалось «прямой основой хозяйства» и ос>
LII
новная масса непосредственных производителей состояла
из еврейских земледельцев-общинников, которые
ограблялись отечественными эксплоататорами чрез посредство
«финансового ведомства для ограбления своего
собственного народа». Но тогда, как мы видели выше, термин
«рабовладельческое общество» является неправильным,
ибо формационный тип должен вбозначаться в
соответствии с характером основной массы эксплоатируемых
непосредственных производителей К Другими словами, в
Палестине царской эпохи перед нами не
рабовладельческий строй, а общинный строй, израильско-иудейская
разновидность полупатриархального-полуфеодального
общества.
Однако, к сожалению, следуя своей терминологии,
т. Ранович невольно попадает в плен к своему термину
и вступает в противоречие с самим собой. И поэтому
рядом с признанием того факта, что рабство не стало
«прямой основой хозяйства», т. Ранович тут же говорит,
что рабство «должно было занять важнейшее место в
общественном строе евреев», а в другом месте замечает,
что «рабы занимают очень видное место в хозяйстве».
Признавая слабость торговли и видя в этом тормоз
развития рабства, т. Ранович одновременно признает
существование в еврейских царствах на античный лад «отделения
ремесла от земледелия», «противоречия между городом и
деревней и экономического господства города над
деревней». Тов. Ранович также хорошо понимает, что
завоевание рабством «важнейшего места в общественном
строе» было бы возможно только на основе разложения
общины, и потому он заявляет, что в царский период
уже имело место широкое развитие и даже преобладание
частной собственности на землю и что от общинного
землевладения остался только ряд «пережитков». Идя
далее по «рабовладельческому» пути, т. Ранович признает
достоверность прямых указаний библии.на царскую
барщину, которую должны были нести сыны Израиля, но
оспаривает обложение крестьянского населения
«натуральным налогом и десятиной» и полагает, что главным
видом угнетения земледельцев было долговое рабство.
Таким образом, от «примитивного рабовладельческого
общества» т. Ранович незаметно переходит к некоему
подобию античного рабовладельческого общества, и пра-
1 Ср. «Капитал», т. III, изд. 8. стр, 570—-основное место.
Ш
вильные замечания о существования финансового
ведомства для ограбления собственного народа, о сохранении
общины до конца царского периода, о слабости
торговли и о том, что рабство не сделалось «прямой основой
хозяйства», повисают в воздухе.
Из этих двух противоречивых изображений
правильным может быть только одно. Я считаю, что т. Ранович
прав не тогда, когда сближает израильско-иудейский
строй с греческим, а тогда, когда он представляет его
себе, как восточный общинный строй. Надо при этом
заметить, что можно дать конкретную характеристику
израильско-иудейской общины. Об общине в царскую
и послепленную эпохи библейская традиция
сохранила настолько ясные и бесспорные указания, что даже
один из буржуазных библеистов, Буль, счел нужным
отметить существование общины в своей работе о
социальных отношениях в древнем Израиле *. Эти указания
настолько конкретны, .что они дают возможность
установить существование переделов общинной земли,
существование должностных лиц общины—ее начальника (nasi)
и жреца (левита), — говорят об обязанности
общинников выкупать из кабалы задолжавших односельчан и
упоминают о нарядах на принудительные работы по
общинам 2. Если в книге Михея (не ранее конца VIII в.)
мы читаем угрозу (II 5), что в случае «упорства народа»
его постигнет уничтожение и «не будет человека,
который протягивал бы межевую веревку при выпадении
жребия (goral, камушка)», т. е. при распределении
наделов между общинниками посредством жеребьевки, то
отсюда следует, что периодические переделы общинной
земли продолжали существовать еще в конце VIII в. и
не прекратились, конечно, вплоть до конца Иудейского
царства. Можно прибавить, что община с
периодическими переделами продолжала существовать в Палестине и
во все последующие века вплоть до начала XX в.,
причем в основном сохранилась даже древнееврейская
обрядность переделов с применением жеребьевки
посредством тех же камушков, с тем же названием goral3. Из
других функций общины упоминается обязанность
общинного схода разбирать конфликты между невольным
1 Buhl — Die socialen VerhMtnisse der Israelites Стр. 56—62.
* Неем. гл. III. Организация работ здесь, конечно, описана
традиционная. Материал по остальным пунктам см. в разд. V.
8 См. об этом подробнее в разд. V,
LIV
убийцей и «мстителем за кровь» '(Чис. XXXV 22—25}, й
также обязательство общинников производить казнь
преступника всем миром 1 и ряд сакральных функций, о
которых будет речь ниже.
Не останавливаясь больше на общинном быте, к
которому мы вернемся еще раз немного ниже, отметим,
что также нельзя признать основательными сомнения т. Ра-
новича относительно существования в царскую эпоху
ренты-налога. В замечаниях т. Рановича относительно
знаменитого «права царя» (I Сам. VIII 11 и ел.), согласно
которому царь имел право сам собирать десятину и
«давать» ее, т. е. право взимания ее, своим слугам, сквозит
несомненное стремление опорочить достоверность этого
документа. Так, повидимому, надо понимать слова т.
Рановича: «во всяком случае никаких следов и
воспоминаний о десятине в пользу царя в литературных
источниках нет». Формально т. Ранович прав — других указаний
о царской десятине нет. Но есть совершенно точные
указания на нечто более худшее и тяжкое, чем десятина.
Царь Соломон обязал своих наместников, поставленных
им над областями, доставлять «царю Соломону и всем,
кто имел право сидеть за столом царя», столько
продовольствия, «чтобы они ни в чем не нуждались». А
ежедневная потребность Соломона в продуктах исчислялась
в 30 кор лучшей муки, 60 кор обыкновенной муки,
10 откоомленных быков, 20 быков с пастбиша и 100 овец,
не считая оленей, газелей и прочей дичи (I Цар. IV 22—23).
Кооме того Соломон обязался доставлять царю Тира
Хираму в уплату за поставку кедров и кипарисов для
строительства храма и дворца ежегодно по 20 000 кор
пшеницы и 20 000 бат масла из выдавленных олив (I Цар.
IV 24—25). Это фиксированное количество
продуктов наместники выколачивали, конечно, с общинников.
Если мы учтем, что кор равнялся 364,5 литра, а бат
36,5 литра, то, даже сделав поправку на возможное
преувеличение автора кн. Царей, мы должны будем
признать, что только десятиной эти грабительские
требования,- конечно, покрыть было нельзя. В свете этих же
данных мы должны рассматривать также и надписи на
знаменитых самарийских черепках, сопроводительных
фактурах при представлении в кладовые царя Ахава ви-
1 Второз. XIII 9—10. Община названа здесь «*if»; СИ. еб
употреблении этого термина несколько ниже.
LV
на и масла. Тов. Ранович спешит и тут заметить, что эти
черепки, правда, удостоверяют существование сборов с
продуктов садоводства, «но о характере, назначении,
размерах и объектах этого обложения сведений нет».
Здесь опять-таки т. Ранович неправ. Назначение этого
обложения ясно указано в самих черепках: продукты
поступают к царю. Объекты этого обложения также в
черепках указаны. В числе местностей, из которых
доставлялись продукты, имеются местности, носящие родовые
и племенные названия, т. е. общины, сохранившие
старинные наименования, восходящие к родовой эпохе1.
Наконец, характер этого обложения может быть только
таким, каким он был при Соломоне, и который точно
определен Марксом: «Если не частные земельные
собственники, а государство непосредственно противостоит им
(общинникам — Н. Н.), как это наблюдается в Азии, в
качестве земельного собственника и вместе с тем
суверена, то рента и налог совпадают, или, точнее, тогда не
существует никакого налога, который был бы отличен
от этой формы земельной ренты»2.
Таким образом, сомнения т. Рановича в
существовании ренты-налога вытекают отчасти из его неправильной
терминологии, отчасти из недостаточной проработки
материала кн. Царей. Последнее, конечно, связано с
первым, ибо, предположив разложение общины к концу
царской эпохи, т. Ранович уже не чувствовал стимула
расследовать до конца вопрос о ренте-налоге. Свое
положение о преобладании частного землевладения в
царскую эпоху т. Ранович подкрепляет только ссылками на
существование сделок на куплю-продажу земли. Однако
несколько замечаний библейской традиции в этом
смысле говорят только о существовании частного
землевладения, но не дают никакого права говорить о
преобладании последнего. К тому же частное землевладение,
судя по данным пророческой традиции, появилось в
сколько-нибудь заметных размерах только в VIII в., на почве
случаев насильственного расхищения^ общинных земель
(Мих. 112; Ис. V8). Но это вторжение частного права в
общинный быт, сопровождавшееся появлением долгового
рабства, вызвало жестокий протест и открытое сопротив-
1 О названиях см. Noth — Das Krongut der israel. Konige u.
seine Verwaltung, ZDPV, 1927, стр. 223.
2 «Капитал», т. III, стр. 570, по изд. 8.
LVI
ление со стороны общинников; отзвуки загоревшейся
обостренной классовой борьбы сохранились в исторической и
особенно пророческой литературе. Также не имело места
какое-либо массовое обезземеление общинников. Сам
т. Ранович отмечает, что в отличие от Греции VII—VI вв.
в библейской традиции не сохранилось никаких
лозунгов о переделе земли. Несомненно, что энергичный отпор,
который встретили расхитители общинных земель со
стороны крестьянства, послужил поводом к появлению
одного из аграрных проектов Жреческого кодекса, именно
теократической торы о применении юбилея к сделкам на
землю 1. Эта тора придает всякому акту о продаже земли
характер долгосрочной аренды земли. Тора запрещает
«продавать землю Навсегда»; всякий продавец, который
из-за бедности" «продает» землю, имеет право выкупить
ее сам. лично, когда пожелает или когда найдет для
этого средства, а если не имеет средств, то землю выкупает
go'el haqqarob — «обязанный выкупать сосед его», т. е. его
однообщинник; но в год jobel во всяком случае все
проданные участки без всякого выкупа возвращаются их
владельцам (Лев. XXV 23—28). Этот запрет мотивируется
тем, что вся земля„принадлежит Ягве (ki li ha'aresz), т. е.
вся земля является собственностью",* «концентрированной
в национальном масштабе» 2.
Наконец, в органической связи с изображением
общества царской эпохи у т. Рановича находится его тезис,
будто бы в царскую эпоху уже образовалась
противоположность между городом и деревней с преобладанием
города над деревней. Тов. Ранович видит доказательство
этого тезиса в том, что библейская традиция якобы
изображает историю царской эпохи как «историю городов», и
добавляед, что самый термин «kapihar», деревня,
встречается лишь в послепленной литературе. Последнее
правильно только с формальной точки зрения, поскольку
Песнь песней и книга Хроник, где встречается kaphar,
действительно были составлены в послепленную эпоху,
1 См. мою статью «Происхождение юбилейного года». «Изв.
Отд. общ. наук АН СССР», 1931, № 9, стр. 1060—1061. В статье
выкупающие обозначены родственниками; это толкование
неправильно и было мною принято под влиянием буржуазных
комментаторов, огромное большинство которых не видит или не хочет видеть
общинного быта в древнем Израиле.
2 М а р к с — «Капитал», т. III, -изд, 8, стр. 570.
LVII
Но ив этого вовсе не следует, что слово kaphar
фактически не существовало в допленную эпоху.
Прежде всего из царской эпохи мы имеем название
одного поселения в колене Вениаминовом, Кефар Амони
(Иис. Нав. XVIII 24). Кроме того, в качестве названия
деревни kaphar в видоизмененной форме kopher встречается
в I Сам. VI- 18 в такой связи:' me"ir mibeszar we"ad
kopher happerazi, т. е. «от укрепленных городов до открытых
селений». Kopher happerazi здесь является синонимом
более распространенного выражения «"ir happerazi», или
просто "ir, в противоположность "ir mibeszar —
«укрепленному городу», т. е. поселению, обнесенному стеной и
башнями. Термин "ir, который т. Ранович вслед за немецкими
библеистами понимает только в качестве общего термина
«город», на самом деле имеет специфическое значение
города лишь в некоторых определенных случаях. Слово
"ir — очень древнее, восходящее, вероятно, еще к досе-
митскому прошлому Палестины, как показывает его
сходство с сумерийским словом tirti или eri, также
обозначающим город; оно имеет основное значение в смысле
термина для обозначения всякого поселения, подобно
ассиро-вавилонскому alu и, несомненно, также и суме-
рийскому uru-eri. Яснее всего об этом говорит сама
библейская традиция: разведчикам, посланным в землю
Ханаанскую, Моисей дает между прочим поручение
высмотреть, в каких "arim живет тамошний народ, bema-
chankn 'im bemiibeszarirn — в становищах или
укрепленных поселениях (Чис. ХШ 19). Здесь "ir обозначает
поселение вообще, a machane— становище и mibeszar —
укрепленное селение, как разновидности "ir. Отсюда ясно,
что т. Ранович, следуя формалистическому методу
толкования, применяемому буржуазными библеистами,
упустил из виду реальную семантическую историю термина
"ir и сделал совершенно неправильное заключение о
преобладании города над деревней. Сюда надо добавить, что
Песнь песней, в которой встречается термин kaphar,
является записью традиционных обрядовых свадебных
песен, которые, может быть, древнее царской эпохи, а в
I кн. Хроник (XXVII 25) термин kaphar фигурирует в
отрывке из древней традиции о сановниках дворцовой
администрации царя Давида, именно в упоминании об
Ионафане, поставленном над царскими запасами «в поле,
в городах ("arim), в деревнях (kepharim) и в башнях
(miigdoloith)». Наконец, если ,не существовало «преобладав
LVIII
ния города над деревней», то относительно торговли
правильным будет замечание т. Рановича о ее слабом
развитии. И на самом деле, внутренняя торговля в
древнееврейских царствах не выходила за пределы мелкой
базарной торговли, а более крупная транзитная
караванная торговля была в руках «ханаанеев», под
которыми, вероятнее всего, разумелись финикийские купцы. На
такой базе, конечно, не могли образоваться ни
противоположность города и деревни, ни преобладание города
над деревней.
Этот пример т. Рановича показывает, как опасна
может быть даже только терминологическая неправильность.
Тов. Ранович исходит из правильных марксистских
установок об общинной основе восточных обществ и о
крестьянстве, как эксплоатируемом классе. Но принятие
термина «рабовладельческое общество» невольно потянуло
т. Рановича к ослаблению внимания по отношению к
общине и ренте-налогу и привело к противоречиям и к
известному смешению восточного с античным. Мне
представляется, что такая опасность неизбежно связана с
применением по отношению к восточным обществам
термина «рабовладельческий». Аналогичную опасность за-
клюяаав~~а-..хе.(эе и применение термина «восточный
феодализм». Историки, применявшие его, и я сам
в том числе, невольно сбивались на
западноевропейский стандарт и забывали, что на Востоке «не
существовало частной собственности на землю, даже феодальной».
Отсюда еще и еще раз вытекает вывод, что в интересах
правильного развития марксистского востоковедения
необходимо, чтобы в самом ближайшем будущем была,
наконец, найдена точная, бесспорная формулировка фор-
мационного типа восточных обществ, в полном
соответствии с руководящими положениями и терминологией
основоположников марксизма. Наилучшей формулой мне
представляется, как показано выше, сталинская формула
«полупатриархальное-полуфеодальное общество».
V. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ
РЕЛИГИИ
В главах, посвященных истории религии родовой и
царской эпохи, т. Ранович приводит богатый и
наглядно поданный фактический материал, который обработан
LIX
им в полном соответствии с марксистско-ленинской
методологией. По отношению к родовой эпохе этот
материал можно признать исчерпывающим; тут можно было
бы пожелать только более определенной и полной
характеристики тотемизма. Вопрос этот, безусловно, очень
сложный и во многих отношениях неясный. Он к тому
же намеренно запутывается в «критической» библеисти-
ке, для которой допущение тотемистических верований
у древних евреев неприемлемо. Однако
историку-марксисту тут надо быть смелее и не бояться реконструкций
на основании пережиточных данных к археологического
материала.
В своей характеристике царской эпохи т. Ранович к
обычным рубрикам, принятым в истории
древнееврейской религии (культ, магия, праздники, жрецы, пророки),
добавляет новые разделы, требуемые
марксистско-ленинским пониманием истории религии, в особенности
древнееврейской. Прежде всего он дает специальный раздел
о политеизме, совершенно правильно и с достаточной
определенностью подчеркивающий политеистический
характер религии царской эпохи в противовес «легенде об
еврейском монотеизме». Тут возможны только
некоторые фактические добавления и частичные поправки,
поскольку разработка вопроса о политеизме царской
эпохи еще не завершена окончательнох. Вторым новым
1 Самое глазное добавление, которое следовало бы сделать в
главе о политеизме, это данные о существовании в каждом
еврейском царстве своего официального пантеона. Тов. Ранович наметил
только иудейский лантеон, в лице Ягве и его жены, богини Анат;
сюда следует еще добавить вторую жену Ягве, Ашим (Иезек. XXIII
4 и1 Ашим-бетэль элефант. папирусов), бога солнца, Хаммана, или
Шемеша (II Цар. XXIII 5; Иезек. VIII 16), бога-змея Нехуштана
и др. Существование эфраимитского пантеона засвидетельствовано
упоминанием о «богах земли Самарийской» (II Цар. XVIII 34).
Этот пантеон состоял прежде всего из Ваала Самарии,
изображавшегося в виде тельца, и его супруги Ашеры (Гош. VIII 5, I Цар.
XVIII 19), причем Ваал Самарии, несомненно, есть не кто иной, как
древний бог Бетэля, изображавшийся в виде тельца и совместивший
в себе Яков-эля, т. е. бога Якова, и доизраильского Эль-Шаддая
(см. подробно здесь в разд. III, а также в моей работе «Пол1тэ!зм...»,
стр. 29—32). Кроме этой пары, в самарийском пантеоне были еще
военные боги Саккут и Кеван (Ам. IV 26; ср. «Пол!тэ13м...», стр. 32).
Кстати надо заметить, что, по моему мнению, т. Ранович неправ,
считая, что лев был тотемным эквивалентом Ягве только в
древности и что в царскую эпоху «законным» символом Ягве стал бык.
Достаточно прочитать I Цар. XIII, которая в'связи с II Цар. XXIII
15—18 является самым лучшим аутентичным комментарием иеруса-
1.Х
и особенно важным с точки зрения
марксистско-ленинской концепции религии является весьма интересный
раздел «Религия как орудие классовой эксплоатации»,
Однако кроме этих двух проблем перед марксистской
исторической наукой встают еще и другие новые
проблемы, ожидающие своего исследования. Здесь я хотел
бы остановиться на двух таких проблемах, на которые
т. Ранович не обратил должного внимания, вероятно,
потому, что он недооценивает роль общины в
древнееврейском обществе.
Первая проблема — это проблема общинных
культов. Общинный культ яснее всего выступает в
главе IV книги Левит. Глава описывает ритуал
принесения очистительных жертв за грех «общины Израиля»
("aidat Israel) или ее начальника (nasi), или ее жреца
(kohen), или кого-либо из членов общины, названных
"am ha'aresz (ст. 27), т. е. «народ земли», земледельцы.
Обычно противники школы Ьельгаузена ссылаются на
эту главу как на доказательство моисеева
происхождения Жреческого кодекса, опираясь на термины machane
(стан, становище) для обозначения характера поселения
общины и 'oihel mo"ed (скиния собрания) для
обозначения святилища. Однако сами-по-себе эти термины
ничего не доказывают. Как уже было указано выше, термин
machane употреблялся по традиции .для обозначения
«открытых» поселений и в земледельческую эпоху, а
традиционную форму шатра использовал еще Давид при
устройстве своего царского святилища на Сионе. Тем
более вероятно, что святилища на высотах устраивались
также в форме традиционных священных шатров. С
другой стороны, глава содержит бесспорные указания на
земледельческую эпоху. Это прежде всего термин "am
ha'aresz, а затем предписание приносить в качестве
очистительной жертвы за грех жреца или общины быка,
животное, которое ,не разводилось в кочевую эпоху-и
стало играть первостепенную роль только в оседлую
земледельческую эпоху. Термины machane и 'ohel mo"ed
свидетельствуют только о том, что в основе этот обряд
лимских жрецов и к памфлету Исх. XXXII и к другим упоминаниям
о боге-тельце, как напр. Гош. IV 4—6, XIII 2, II Цар. XVII 16, чтобы
Убедиться в этом. «Телец» — это конкурирующий с Ягве «бог Бе-
тэля», т. е. телец Яков-эль; Ягве —это лев (ср. особенно I Цар.
XIII 26 —Ягве отдает на растерзание льву пророка, не
исполнившего его повеления не есть хлеба и не пить воды в Бетэле).
LXI
восходит к родовой эпохе. Равным образом
неправильно также и вельгаузенистское толкование термина "eda
в смысле после-пленной теократической общины, лишь
изображенной в «наряде» быта пустыни. Жрец общины
назван не hakkohen haggadol (верховный жрец,
первосвященник), как систематически называет главу
теократической общины Жреческий кодекс, а просто ikohen, т. е.
рядовой жрец. Таким образом термин "adath Israel здесь
надо понимать в разделительном смысле—одна, любая из
общин Израиля, a qaihal (ст. 13) — в смысле общинного
схода.-
Переходя к анализу деталей очистительного обряда
Лев. IV, прежде всего отметим, что общественный
характер жертвы за грех общины подчеркивается обрядом
возложения рук старейшин на голову жертвенного быка,
Но чрезвычайно характерно, что начальник и жрец
общины, а также и каждый член общины искупают свой
грех личными жертвами и посредством личного
возложения рук на голову жертвенного животного. Таким
образом, в этом обряде уже утратилось верование,
характерное для религии первобытно-коммунистического
общества, что за грех или вину отдельного члена общины
или кого-либо из старейшин или вождей несет
коллективную ответственность вся община, верование,
отчетливые следы которого еще сохранились в библейской
традиции 1. Жрец общины назван hakkohen hairiimaschiaah,
т. е. помазанный жрец, жрец, который поставлен на
должность посредством специального обряда посвящения.
Эта черта также указывает на классовую эпоху, когда
сложилось профессиональное сословие жрецов.
Другой обряд общинных культов — это
общеизвестный обычай жертвенных пиров. Все историки
израильско-иудейской религии согласны в том, что жертвенные
праздничные пиры были коллективные, но никто не
пытался с точностью определить состав участников этих
пиров. Между тем их состав с недвусмысленной ясностью
выступает в предписаниях о праздниках. «Пить, есть и
веселиться» перед богом должны «ты и сын твой, и дочь
твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который во
1 Ср. постановления об общественном обряде очищения в
случае убийства, совершенного неизвестным лицом, Втор. XXI 1—7;
в основе лежит представление об осквернении кровью всей «земли»
(т. е. общины), Чис XXXV 33—34.
LXII
вратах твоих, и приселенец (ger), и сирота, и вдова,
которые среди тебя» х. Все категории лиц, обозначенные
здесь, кроме «левита, вдовы и сироты», являются членами
патриархальной домашней общины; но упоминание наряду
с ними «левита, вдовы и сироты» показывает, что
обозначение членов домашней общины надо понимать здесь
в собирательном смысле, т. е. в смысле собрания членов
всех домашних общин, входящих в данную сельскую
общину, во главе с левитом и вместе с маломощными,
утратившими хозяйственную самостоятельность членами
общины. Упоминание приселенцев показывает, что община уже
утратила свой характер чисто родового коллектива и
превратилась в соседскую общину. Редакция этого
предписания во Второзаконии, выдвигающая на первый план
членов домашней патриархальной общины, показывает, что
жреческие законодатели имели здесь в виду регулировать
обрядность жертвенных пиров также и в применении к
патриархальному семейному быту городского населения.
Коллективный характер жертвенных пиров в общинах
достаточно ясно выступает и в библейской исторической
традиции. В I Сам. IX 12—13, 19—24 мы имеем
описание подобного пира, происходящего на высоте, под
председательством жреца-прозорливца Самуила. В
жертвенном пире принимает участие весь "am, народ, т. е. все
жители общины. Точнее они названы haqqeru'im,
выражением, которое обычно переводится в смысле «званые»,
«гости», т. е. в том смысле, будто в этом жертвенном
пире принимали участие только избранные, по
приглашению Самуила. На самом деле haqqeru'im надо
связывать здесь с выражением miqra qodesch, священный сход,
употребляемым в Лев. XXIII для ооозначения собраний для
оощественных праздничных жертвоприношении. Qeru'-
im — это члены imiqra qodesoh, собравшиеся для
священнодействий, а замечание 1 Сам. IX 22, что qeru'im в
комнате2 Самуила было только около 30 человек, надо по-
1 Втор. XVI 11, 14; оговорка «на месте, какое изберет Ягве»
механически пристегнута здесь к традиционной заповеди
общинного культа.
2 В тексте стоит lischka, термин, специально употребляемый,
между прочим, для ооозначения комнат для жрецов и других
должностных лиц в иерусалимском храме A1 Цар. ХХШ 11; Иерем.
XXXV 2, 4; XXXVI 10; Иезек. XL, XL1, XLI1, XLIV, XLV1 passim).
Очевидно, что на высотах были закрытые помещения, вроде
беседок или небольших флигелей, для жрецов или левитов,
аналогичные lischka иерусалимского и других храмов.
LXI1I
Нймать в смысле обозначения qerunn, имевших право
сидеть за одним столом с жрецом, т. е. общинной
верхушки — начальника, других агентов и старейшин. Надо
здесь также отметить, что оценка предписаний Втор.
XVI 11, 14, даваемая т. Рановичем («рисуемая в текстах
идиллия всеобщей радости для господина, раба,
пришельца, сироты и вдовицы — обычная религиозная
форма одурманивания угнетенных, затушевывания классовых
противоречий»), не учитывает традиционного
происхождения этой «идиллии» и не раскрывает специфики этого
средства одурманивания, с одной стороны, в рамках
общинного быта царской эпохи, с другой стороны — в
рамках городского семейного быта.
Такой же коллективный характер носили и другие
праздничные обряды. Тут следует обратить особенное
внимание на термин dhag, которым обозначаются три
основных земледельческих праздника. Еще Вельгаузен
отметил специфический характер этого термина, но не
вскрыл его по существу. Ghag значит первоначально
«хоровод». Отсюда ясно, что необходимой
принадлежностью общинно-земледельческих праздников были какие-
то коллективные обряды в форме хороводов или,
точнее, коллективных драматических обрядов, связанных с
подражательной магией. Достоверно известен такой
обряд на празднике суккот, именно коллективный, обряд
потрясания лулабом в подражание ветру, приносящему
тучи, т. е. магический обряд призывания дождя. Такие
же магические коллективные обряды, вероятно, имели
место также на праздниках маццот и шабуот, но о
характере их мы можем строить только предположения.
На их существование указывает предписание Лев. XXIII
устраивать в определенные дни этих праздников
общинные сходы для священнодействий — miqra qodesch.
Вероятно на маццот обряд chag заключался в процессии
для коллективного принесения к святилищу первого
снопа (Лев. XXIII 10), а на шабуот имела место такая же
процессия для принесения первых хлебов из первой
пшеничной муки (там же, ст. 20—21).
Эти древнеизраильские общинные обряды
драматической магии находят себе параллели в подобных же
обрядах других земледельческих народов, древних и
современных. Здесь самое важное для нас наблюдение
заключается в том, что подобные коллективные обряды
лучше всего сохраняются там, где сохранилась община,
LXIV
Гак, подобные обряды особенно долго и прочно
сохранились в дореволюционной Белоруссии, которая для
царского деспотизма по существу была объектом
колониального грабежа. В Белоруссии кроме
магического колядного цикла, уцелевшего, правда, в
сильно видоизмененной форме также в Великороссии и на
Украине, сохранялся еще в середине XIX в. весенний,
так называемый «водочебный» магический цикл,
исчезнувший в других областях царской России, Этот цикл
слагался из целого ряда драматических магических
обрядов, в сопровождении которых крестьяне производили
засев яровых и стремились обеспечить хороший урожай.
Цикл белорусских обрядов, связанных с посевом, в
древности открывался «волочебною радой», т. е. общинным
сходом для производства гаданий и, вероятно, также
для распределения функций «волочебников»,
производивших драматические обряды, между отдельными группами
общинников. Сама «волочебная рада» имела также
характер магического религиозного обряда: участники
рады изображали богов, якобы собравшихся на совет для
определения судьбы наступающего земледельческого
нового года, и своими гаданиями как бы подсказывали
богам желательные для земледельца решения К Такие же
драматические обряды, изображавшие советы богов для
определения судьбы наступающего года, встречаются и
в других земледельческих религиях. Несомненно, что
древневавилонский обряд 8-го нисана, на празднике нового
года, когда жрецы пред" статуями всех богов
производили гадания о судьбе наступающего года, был
заимствован официальной религией из аналогичного общинного
обрядаг. Такой же обряд существовал, повидимому, и в
древнеяпонской религии3. Что касается магических и
драматических процессий и хороводов, то подобные
обряды обычно переживали даже и общину и сохранялись,
правда, в сильно измененном виде в древнегреческой
религии, в обрядности Дионисий, дав начало греческой
художественной драме, и в обрядности официальных
Тесмофорий, в апрельском цикле римских магических
Ср. мою работу «М1фадопя i абрадовасць валачобных
несень», стр. 234, 237, 251—252, 263—264, 272 и добавления к этим
страницам,
"Zimmern — Das bab. Neujahrsfest. Стр. 16 и ел.
э Lehmann —Bertholet —Lehrbuch der Religionsg-eschichte.
Т. I, стр. 274.
5-8
UV
празднеств *, а также в весенних, летних и осенних
обрядах славянских и отчасти германских народов2.
Наконец, надо упомянуть также магический обряд,
которым сопровождались общинные переделы земли. На
него вскользь указывает и т. Ранович, но на нем надо
остановиться подробнее. Следы его ритуала сохранились
в псалме XVI. В теперешнем виде этот псалом искалечен
позднейшей благочестивой редакцией, стремившейся
превратить его в стандартную молитвенную формулу; но в
нем еще уцелело магическое обращение к богам,
произносившееся каждым общинником, когда выпадал его
жребий. Обращение начиналось формулой, которую
«критические» богословы считают испорченным местом и
пытаются «исправить» перестановкой слов и заменой
имеющихся в тексте слов другими. Между тем это
совершенно ясная формула (ст. 3): «К святым, чтб в земле, и к
сильным 3, во власти которых (удовлетворить) все мое
желание»... «да лягут для меня межевые верви в самых
лучших местах» (ст. 6). Между 3-м и 6-м стихами в 5-м
стихе имеется еще обращение к Ягве: «Ягве определяет4
надел мой и чашу мою, держит камушек (goral) мой».
Надо полагать, что первоначально формула была
обращена не к Ягве, а к богу, или ваалу, данной общины.
С отрывками этих древних формул чрезвычайно
интересно сопоставить современную палестинскую обрядность
передела общинной земли. Она сохранила религиозный
характер и древнюю терминологию. При переделе мешсл
с жребиями в виде тех же камушков под тем же назва
нием (современ. араб, garal) держит местный имам, заме
нивший собою, несомненно, древнего левита с чаше
(Ис. XVI 5), в которую в древности клались такие же жре
бии в виде камушков (goral). Из мешка жребий вынимае
мальчик, не достигший пятилетнего возраста, а общин
1 Богаевский— Земледельческая религия Афин. Стр. 181—202
Wissowa — Religion u. Kultus der Romer. Ctfp. 159—166.
2 Lehmann— Berthoiet, цит. соч., т. I, стр. 198—199, т. 51
стр. 544.
* 'addire —от 'addir — сильный, могучий — применяется главные
образом в качестве эпитета по отношению к богам и царям.
* В тексте manath — участие, доля; дословно: «Ягве—-доля,
жребий мой». Текст испорчен; следует, очевидно, читать вместо»
manath — топе — «определяет».
LXVI
ник, для которого вынимается жребий, при этом
восклицает: «пусть бог держит мой жребий» 1.
Приведенные нами примеры показывают, что
необходим пересмотр обычной концепции также и других
обрядов и верований древнееврейской народной религии в
связи со всем комплексом общинных культов. Здесь дело
проще всего обстоит с очистительными обрядами. Уже
библейская традиция совершенно ясно показывает, что
все очистительные обряды восходят к родо-племенной
эпохе, когда они были коллективными родовыми
обрядами. Общепризнано, что таким обрядом была пасха,
древнейшая тора о которой (Исх. XII 21) говорит именно
о пасхальной жертве рода. Но так как-тем же термином
mischpacha в царскую эпоху называлась и община, то
вполне понятно дальнейшее предписание той же торы о
помазании жертвенной кровью дверей и косяков домов
(ст. 22, 23, 27). Позднейшая тора (XII 1—14) была
вызвана развитием наряду с общиной частного хозяйства и
соответственным образом изменила прежнюю тору. Такой
же характер общинной очистительной жертвы должна
была носить и обрядность великого осеннего дня
очищения (join kipp'urim). Закрепленный в Лев. XVI обряд
великого дня очищения приспособляет в качестве после-
пленного официального обряда древний общинный
обряд, восходящий еще к родовому быту и сохранявшийся
в царскую эпоху в общинном культе, С такой же точки
зрения необходимо подвергнуть новому анализу и
толкованию все другие очистительные обряды коллективного
характера, в особенности обряды, связанные с очищением
от болезни или от нечистоты, которую причиняет общине
убийство, совершенное неизвестным преступником (ритуал
во Втор. XXI 1—8).
Далее, также необходимо пересмотреть и
существующую концепцию религии ваалов.^Общепринятое
представление о ваалах как о местных богах не учитывает
социального характера этих культов2. Обычно подчеркива-
1 Buhl — Die soc. Verhaltnisse. der Israelites 1899, стр. 56—57.
Gesenius — В u h 1 — Handworterbuch. 15 изд., стр. 875; ср.
Jaussen— Coutumes des Arabes au pays de Moab. 1908, стр. 238.
8 С этой точки зрения подлежит пересмотру также моя
прежняя феодальная концепция местных культов в царскую эпоху (в
Работе «Псштэ1зм i mohot3J3m у яурэйскай релш»). Должна быть
видоизменена концепция местных официальных культов, и должна
оыть дополнительно поставлена проблема об общинных ваалах.
5*
LXVI1
ется главным образом связь культа ваалов с земледелием.
Бесспорно, что ваалы считались покровителями
земледелия; но в качестве таковых они могли быть только
местными общинными божествами, отчасти восходящими к
прежним родовым богам. Однако остается совершенно
неразработанным вопрос о функциях этих ваалов.
Несомненно, что ваалы были не только «господами или хозяевами»
земли, но также «господами и хозяевами» отдельных
производственных процессов и отдельных
производительных сил земли. Ближайшее исследование этой
проблемы, к которому кроме библейской традиции надо
привлечь богатейший, еще не разработанный
фольклористический материал талмудов и мидрашей, несомненно,
откроет такой же земледельческий пантеон
древнееврейских сельских общин, какой, например, под маской
святых обнаруживается в белорусских волочебных песнях.
В связи с вопросом об общинных ваалах подлежит
новому исследованию также и вопрос о высотах как
местах для отправления общинного культа.
Верования, связанные с общинными культами,
базируются на основе идеологии доклассового общества, когда
бессилие дикаря перед силами природы породило веру в
чудеса и затем в духов и богов, олицетворяющих силы
природы (Ленин, т. VIII, стр. 419; Энгельс — Анти-
Дюринг, 6 изд., стр. 229). Но сельская община царской
эпохи, унаследованная от последнего этапа архаической
формации, живет уже в условиях классового общества,
когда к «доисторическому содержанию» религиозной
идеологии присоединяются новые элементы под влиянием
действия новых общественных сил, «которые противс
стоят человеку и господствуют над ним, оставаясь дл
него вначале такими же непонятными, чуждыми и обладаю
щими видимой естественной необходимостью, как и силь
природы. Фантастические образы, в которых сначала от
ражались только таинственные силы природы, теперь
приобретают общественные атрибуты и становятся пред
ставителями исторических сил» *. На этой почве господ
ствующая верхушка восточного общества строит
идеологию божественности царской власти, божественного
освящения функций жрецов и жреческого сословия в
целом, теорию греха и прочие производные элементы идеи
бога, которая «всегда усыпляла и притупляла соци-
* Энгельсам*»-Дюринг, С*ч., т. XIV, стр. 322.
LXVI1I
альные 'чувства»... «всегда связывала угнетенные
классы верой в божественность угнетателей»J.
Эта идеология, которая заключала в себе изрядную долю
сознательного религиозного обмана, была легко привита
эксплоатируемой массе общинников, целиком
находившейся в плену религиозного мировоззрения. Однако процесс
классовой борьбы, особенно обострившийся начиная с
VIII в., когда командующая верхушка пыталась начать
насильственное разрушение общины 2, привел в эту
эпоху к расщеплению религиозной идеологии, к конфликту
на религиозной почве между эксплоататорами и эксплоа-
тируемыми. Наступил один из таких моментов в истории,
на какие указывает Ленин, «когда, несмотря на такое
происхождение и такое действительное значение идеи бога,
борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы
одной религиозной идеи против другой»8.
Борьба древнееврейского общинного крестьянства против
расхищения общинных земель и закрепощения общинников
велась под религиозными лозунгами.
Этот чрезвычайно важный момент остался также
незатронутым в работе т. Рановича. Тов. Ранович полагает,
что «р^водюдионная борьба была не под силу
безоружным -и --неорганизованным крестьянским массам» и что
крестьяне могли только «мечтать об уничтожении
кабальных обязательств, о снижении ростовщических про-
центов и о прекращении экспроприации мелкой
земельной собственности». Этот скептицизм т. Рановича
целиком зависит от его рабовладельческой установки в
основном вопросе о характере израильско-иудейского
общества царской эпохи. Тов. Ранович полагает, что
израильско-иудейское крестьянство VIII—VII вв. в своем
большинстве было распыленной массой мелких
земельных собственников, между тем как в действительности
оно было объединено общинной огранизацией. Мы
знаем, что в Египте в аналогичных условиях, когда в эпоху
среднего царства на общину повела решительное насту-
1 Письма Ленина к Горькому. Партиздат. 1933. Стр. 102.
2 Аналогия, которую проводит т. Ранович между эпохой VIII —
VII вв. истории Израильского и Иудейского царств и эпохой
классовой борьбы VIII—VII вв. в Греции, исходит из его неправильной
рабовладельческой терминологии и потому также неправильна.
Отметим, что т. Ранович вынужден констатировать коренное различие
между лозунгами израильско-иудейских и греческих крестьян—
первые не требуют передела земель.
♦ Письма Ленина и Горькому, Шртйидат, ШЗ; Стр, 102.
т%
пление египетская сановная аристократия,- общинники в
конце-концов поднялись на открытую революционную
борьбу, и если их выступление одержало крупную
победу, то этим они были обязаны прежде всего наличию
общинной организации а. Отрывочные известия II кн.
Царей об участии в дворцовых переворотах «народа земли»
свидетельствуют, что крестьянство и в еврейских
царствах в своей борьбе против расхитителей общинных
земель и общинных прав также одерживало частичные
победы. Несомненно, что закон об ограничении долговой
кабалы шестилетним сроком был издан под
революционным крестьянским нажимом, и столь же несомненно, что
многочисленные так наз. «гуманитарные» проекты и
пожелания VII в., сохранившиеся во Второзаконии и в
некоторых частях кн. Левит и Числ, также возникли под
нажимом крестьянского движения. Из этих последних
проектов особенного внимания заслуживают те, которые
ограничивают право «продажи земли навсегда» и
подтверждают обязательство общины выкупать из кабалы
задолжавших общинников. Подобного рода проекты,
подтверждающие общинные права и обычаи, по всей
вероятности не остались только проектами, как это
приходится сказать о других проектах, например, о проекте
юбилейного года, этого лицемерного и казуистического
орудия дальнейшего закрепощения общинников, которое,
к счастью, вследствие халдейского завоевания не было
реализовано 2.
Таким образом, общинное крестьянство в VIII—VII вв.
вело непрерывную и упорную борьбу против наступления
на общину со стороны сановной аристократии.
Постоянным союзником последней было жречество иерусалимско-
1 См. об этом революционном движении так наз. «Речение
Ипувера», перев. В. В. Струве; тот же перевод помещен в новом
издании лекций Тураева «История древнего Востока», т. I,
стр. 236 и ел.
г Подробности см. в моей уже цитированной работе
«Происхождение юбилейного года». Надо, добавить, что выражение dallath
"am ha'aresz (II Цар. XXIV 14, XXV 12, Иерем. X 7)— низкий, под-
властный народ земли, оставленный халдейской властью в 586 г.
в Иудее в качестве пахарей и виноградарей, обозначает
свободную формально массу общинников, подвластную непосредственно
царю. Такое значение dallath ясно обнаруживается из значений
асс.-вав. dalalu — быть подвластным богу или царю — и dallu —
подвластный, обязанный работой на царя — асс.-вав. dullu (ср. Muss>
Arnolt, Assyr. Handwfirt., стр. 250. HDelitasch Ass. HandwSrt.,
стр. 219).
LXX
го храма. Ибо пропаганда культа Ягве и объяснение всех
народных бедствий проявлением гнева Ягве на народ за
упорную приверженность последнего к культу ваалов
было в области «внутренней политики» не чем иным, как
попыткой подчинить массу общинников исключительно
непосредственному религиозному руководству правящей
верхушки. А иерусалимское жречество при этом мечтало,
конечно, об обращении церковной десятины целиком в
свою пользу. Пропаганда велась через официальных
пророков, неразрывно связанных с иерусалимским
жречеством; а окончательное осуществление целей этой
пропаганды предполагалось провести посредством
уничтожения местных святилищ и местных культов и
централизации культа в Иерусалиме. Иерусалимское жречество, по-
видимому, рассчитывало при этом на союз с местными
жрецами-левитами и готово было за это даже пойти на
известную уступку, на хотя бы временное превращение
иерусалимского храма в своего рода иудейский пантеон.
Именно в этом смысле надо понимать постановление
Втор. XVIII 6—7: если левит из какого-либо селения, где
он живет, придет в Иерусалим, «то он может служить
там во имя бога своего1, как все братья его левиты,
предстоящие там пред лицом Ягве». Однако судя по тому,
что при проведении централизации царь Иосия частью
разогнал, частью перебил жрецов .высот (II Цар. XXIII
8, 20), общинное жречество не пошло на союз с,
иерусалимскими жрецами, и таким образом эта попытка
провалилась. Тут несомненно опять-таки сказывается сила
восточного общинного строя, который «восточный
деспотизм не мог сломить в течение ряда тысячелетий».
Относительно несомненной связи, существовавшей
между попыткой централизации культа в 621 г. и борьбой
против общинного землевладения и общинных прав,
сейчас можно высказать только вышеприведенные общие
соображения. Конкретное и детальное исследование этой
проблемы является одной из очередных задач
марксистской исторической науки. Гораздо яснее обстоит дело в
вопросе о тех религиозных лозунгах, под знаменем ко-
1 В теперешнем тексте стоит: «во имя Ягве, бога своего». Но
совершенно очевидно, что имя Ягве вставлено здесь послепленным
благочестивым редактором, ибо подобного рода разрешение могло
иметь смысл только в том случае, если левит и приходившие
вместе с ним общинники могли призвать и в Иерусалиме имя своего
местного бога перед изображением последнего."
I.XXf
торых шла оборонительная борьба общинников. Мною
была, сделана попытка выделить из пророческой
литературы VIII в., главным образом из книги Исайи, такие
оракулы, которые возникли несомненно в крестьянской
среде, выражают крестьянские чаяния и лишь случайно в
значительно искаженном виде попали в библейскую
пророческую традицию г.
Мы имеем здесь в виду не стандартные оракулы о
появлении праведного царя и о превращении князей из
угнетателей крестьянства в хранителей обычного
общинного права (mischpat), как например общий оракул Ис.
XXXII 1—5 или известный оракул Ис. XI 1—9 о «царе из
корня Иессея», который установит правду и благоденствие
и мир вплоть до превращения диких зверей в ручных
животных. Такие оракулы, в особенности последний,
исходят из идеологии божественности царской власти, и
потому их надо рассматривать, как своеобразную форму
применения связывающей силы этой идеологии для
парализования народной воли к борьбе против
угнетателей. Подобные оракулы, вероятно, составлялись в
Иерусалиме и спускались оттуда в народные низы; вполне
возможно, что автором оракула о царе из корня Иессея был
действительно Исайя, этот верный рупор иерусалимской
аристократии и жречества. Подобного рода попытки,
являющиеся прекрасной иллюстрацией положения, что «в
каждую эпоху мысли господствующего класса суть
господствующие мысли, т. е. тот класс, который
представляет собою господствующую материальную силу
общества, есть в то же время и его господствующая д у-
ховная сила»2, некоторое время, несомненно,
оказывала свое действие. Но в моменты обострения
революционной борьбы действие духовного гнета эксплоататоров
на эксплоатируемых обычно ослабевает в той мере, в
какой конкретный опыт классовой борьбы содействует
прояснению классового сознания эксплоатируемых.
Тогда наступает в той или иной мере расщепление между
идеологией верхов и идеологией низов, как это мы
наблюдаем в докапиталистическую эпоху в раннем
христианстве, в чешских и немецких движениях XIV—XVI вв.,
в крестьянском старообрядчестве XVII—XVIII вв. и др.
Аналогичные явления наблюдаются и в истории из-
1 Мотивы крестьянского мессианизма в поорочестве VIII в., в
«Ученых записках» Института истории РАНИОН, т. VII.
а Маркс и Энгельс — Немецкая идеология. 1934. Стр. 36.
L.XXI?
раильско-иудейской религии; сюда относятся так наз.
народные мессианические течения VIII—VII вв. до х. эры и
I в. х. эры.
Расщепление идеологии в VIII в. началось с того, что
царя-спасителя крестьянство стало ожидать не из
ненавистной династии Давида. Царь-спаситель будет без роду
без племени, из сынов крестьянства: «Ибо дитя родилось
для нас, сын дан нам;, и будет власть на плечах его, и
дадут имя ему: чудесный советник, божий богатырь, отец
достатка, князь мира». Этот крестьянский царь при помощи
Ягве не просто установит правду, но произведет
социальный переворот, сопровождающийся уничтожением
аристократии: «Ибо иго тяжкой работы его и ярмо на
плечах его, палку надсмотрщика над ним сокрушил ты, как
в дни Мидиана. Ибо всякий сапог, ступающий со
скрипом, всякий плащ, запятнанный кровью, будут сожжены,
станут пищей огню» 1. В этом» оракуле царь-избавитель
рисуется совсем не в таком свете, какой усиленно
пропагандировали сановники и жречество. Какой-то
общинный прозорливец, го'е, «человек божий», открывает, что
такой избавитель уже где-то родился, и когда он
вырастет и явится, то он уничтожит принудительные работы
и платеж дани вместе с палкой надсмотрщика, этим
символом царской- барщины и выколачивания дани,
уничтожит радикально, ибо будут сожжены сапоги и плащи,
запятнанные кровью. Эта символы аристократии: сапоги,
ввозившиеся из Ассирии, носили царь и сановники, они
же были и военные люди в окровавленных плащах. В
этом оракуле не осталось ничего от божественного права
существующей династии, и с полной ясностью выступает
сознание, что без уничтожения класса эксплоататоров не
будет ни достатка, ни мира. Другими словами, выход
здесь мыслится, как возвращение к тому золотому веку,
когда, как выражается древняя сумерийская песня,
«надсмотрщик еще не ходил кругом в своей гордыне, когда
еще не говорили: насильник притеснил Дильмун,
начальник города устроил там свое местожительство»2, т. е.
как возвращение к общинному строю доклассовой эпохи.
Не останавливаясь на оракулах, которые связывают
разгром аристократии и гибель Иерусалима с ожидав-
1 Ис. IX 1—6;-ср. «Мотивы крестьянского мессианизма», стр.
24—25. .
2Witzel — Keilinschriftl. Studien, т. I, стр. 57—59.
LXXIlf
шимся после 722 г. нашествием ассириян1, остановимся
на двух других оракулах, которые содержат дальнейшее
развитие идеологии, выраженной в оракуле о
родившемся царе без роду без племени. Это — оракулы Ис. XXXII
9—20 и XXX 18—26, на одном из которых (гл. XXX) мы
уже останавливались' в разделе II; они принадлежат к
числу наиболее трудных для толкования мест книги
Исайи. Текст оракулов испорчен двояким образом:
искажением отдельных слов и неорганическими вставками,
при помощи которых позднейшие иудейские редакторы
пытались подогнать эти оракулы.под стандартную
богословскую схему оракулов о мессианическом царстве.
Однако, если подходить к толкованию этих оракулов с
точки зрения крестьянской идеологии, то «непонятные»
места сразу становятся понятными, а для действительно
испорченных мест находятся новые надежные способы
исправления. Оракул гл. XXXII обращается к «беспечным и
беззаботным женщинам» Иерусалима и обещает им, что
через год и день придет конец их веселью и раздольной,
пьяной и сытой жизни. Царский дворец будет покинут,
шумный город опустеет; Иерусалим «станет голым2
Местом навеки, раздольем для диких ослов, пастбищем для
стад». Тогда «на нас», т. е. на крестьян-общинников,
которые останутся после уничтожения аристократии,
«изольется дух с вышины». Этот дух без всякого посредства
какого бы то ни было царя произведет чудесный
переворот в природе: «И будет тогда пустыня садом, и сад
будет, как лес»; повсюду будут воды, у которых будут
расстилаться нивы, на пастбищах будут ходить волы и
ослы на полной воле, в безопасности от лихих людей и
диких зверей; если выпадет град, он не побьет нивы,-
все беглецы, которые скрываются сейчас от разорения и
кабалы в горных лесах3, вернутся в долину-—«и будет
жить народ мой в стане мира, в безопасных жилищах и
1 «Мотивы...», стр. 28.
2 В тексте me"aroth — пещеры, что не дает смысла; обычно
исправляют ma"are — голое место.
3 Евр. текст ст. 19, где говорится о граде и возвращении
беглецов, испорчен и не дает смысла. «Критические» комментаторы
пытаются безуспешно исправить дело заменой одних слов другими
и перестановкой стиха 19 на место ст. 20. Однако почему-то на
этот раз не обращается внимания на перевод LXX, дающий, за
исключением одного слова, вполне ясный смысл: «если град будет
падать, он ие настигнет вас, и будут живущие в лесах pepoithotes
(убедившими?) в долине». Pepoithotes легко исправляется: очевидно,
в оригинале было ja"idu от корня "ид, который означает «убеж*
1ДХ1У
в спокойных местах отдыха». В этом оракуле прежде
всего бросается в глаза, что социальный переворот
происходит без всякого участия царя-мессии, и царство
благоденствия лишь условно может быть названо мессиани-
ческим. Переворот, повидимому, будет произведен
крестьянством, но с чудесной помощью богов. Со стороны
религиозной идеологии в этом оракуле самой интересной
является крестьянская теория духа. Монопольное «право»
быть вместилищем божественного духа присваивали себе
царь, жрецы и официальные пророки. Теперь крестьяне
заявляют свое право на «духа», подразумевая при этом,
что тем самым будет уничтожено божественное право
царей и жрецов и восстановится то прежнее золотое
время, когда, как говорили народные предания, каждый мог
впитать в себя частицу божества и получать «духа» на
тотемистических плясках и жертвенных пирах.
Другой оракул, гл. XXX, текст которого, как было
указано в разделе II, был искажен позднейшими
иудейскими редакторами посредством введения упоминания о
мессии, в особенности конкретно рисует будущее
плодородие Палестины после социального переворота, когда
«увидят глаза твои великое чудо». Это чудо придет «в
день великого истребления, в день падения башен».
Тогда «не будет больше скрываться ранний дождь твой... и
даст он (бог) дождь семени твоему, которым засеешь ты
землю, и хлеб, произведенный землей, будет сочен и
тучен, и будет пастись Скот твой в те дни на расширенных
лугах, и быки и ослы, обрабатывающие землю,
будут есть соленый корм из свежего зерна, которое сеется
веялкой и сеялкой. И будут на каждой высокой горе, на
каждом возвышенном холме ручьи, приносящие воду. И
будет свет месяца, как свет солнца, и свет солнца будет
в семь раз ярче». Таким образом, рисующийся здесь
будущий век благоденствия также нельзя назвать месси-
аническим царством, ибо и здесь царь отсутствует.
И здесь будущий золотой век представляется
возвращением к прежнему золотому веку, ибо чудесным образом
будут устранены не только теперешние угнетающие
социальные силы, но также и теперешние угнетающие сти-
дать», но в арабском имеет значение «возвращаться»; следы
последнего значения в еврейском яз. сохранились в значении евр. форм
pi"el и hithpa"el. При помощи данных палеографии можно без
труда выяснить, каким образом еврейский оригинал LXX был
вследствие ошибок переписчиков превращен в теперешний безграмотный
масоретский текст. См, «Мотивы,..», стр. 29—30.
дху
хинные силы. Оракул гл. XXX обещает полное
преображение климата и орошения Палестины. Он обещает,
что ручьи побегут не только с гор, но и со всякого
холма, и что ранний дождь перед посевом и дожди
после посева будут . регулярными и обильными. Но
и тут крестьянское сознание не может выйти из оков
религиозного мировоззрения. Как «проклятие» земли,
после которого она стала произрастать пахарю «терновник и
волчцы», было ниспослано богами за «грех» первых
людей (Быт. III 17—19), так и снято будет это проклятие
также божественным чудом, по божественной воле. Тем
не менее оба крестьянских оракула гл. XXX и XXXII
знаменуют огромный сдвиг в идеологии крестьянства. Они
выбрасывают лозунги не об установлении какого-то
«исправленного», «праведного» мессианического царства,
а об уничтожении царства вообще, ибо никакого другого
царства, кроме грабительской деспотии, крестьянский
опыт не видел и не знал. Царство — это орудие
угнетения и грабежа, это — палка надсмотрщика, это — ярмо
дани, это — смерть и разорение от постоянных войн.
Уничтожение царства и хищников, которые грабят
именем царства, и восстановление свободного общинного
строя, который существовал когда-то в золотом веке,—
вот лозунги этих оракулов. И если нужно последнее,
самое убедительное доказательство существования в
еврейских царствах восточного общинного строя, то оно
дается этими оракулами.
Обостренная классовая борьба, развернувшаяся в
VIII—VII вв. в связи с попытками разрушения общинного
строя, была пресечена в своем развитии ассирийским
завоеванием в царстве Эфраима и халдейским завоеванием
в царстве Иуды. И там и тут завоеватели сняли
правящую верхушку и заняли часть разооенной и
обезлюдевшей территории своими колониями. Общинный
строй, как это было не раз в истории древнего и
последующего Востока, вновь возобладал вследствие общего
упадка хозяйственной жизни и вынужденного снижения
всех общественных отношений на предшествующую
ступень 1. Этим обстоятельством надо объяснить тот факт,
•Ср. Маркс — Британское владычество в Индии. Соч. М. и Э.,
т. IX. сто. 348: на Востоке «одна разорительная война оказалась
способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ее
всякой цивилизации»; Энгельс в письме к Марксу о том же. соч.,
т. XXI, стр. 494; ср. также в «Немецкой идеологии», стр. 45.
LXXVf
что идеология классовой борьбы общинного
крестьянства в царскую эпоху не успела целиком преодолеть своей
религиозной основы. Напротив, в эпоху послепленного
иудейства в этом отношении наблюдается замечательный
прогресс. Классовая борьба народных масс Иудеи I в. х. э.
идет сначала также под религиозными лозунгами. Но на
своем заключительном героическом этапе, в эпоху
революции 66—70 гг., она уже почти совершенно
освобождается от религиозных иллюзий. Революция 66—-70 гг.
идет под реальными лозунгами реальной борьбы в этом
реальном мире.
Этот факт является центральным фактом социально-
политической и религиозной истории палестинского
иудейства послепленной эпохи. Мы видим, что
расщепление идеологии достигает здесь своей высшей точки, о
которой Маркс и Энгельс говорят в таких выражениях:
«существование революционных мыслей в определенную
эпоху предполагает уже существование революционного
класса» *. Тут перед нами ставится проблема, которая,
конечно, не затрагивается и не может быть затронута
буржуазно-богословскими историками иудейства и
которая может быть разрешена только на путях марксистско-
ленинской методологии.
Тов. Ранович в своей работе дает первый весьма
интересный и ценный опыт марксистского разрешения этой
проблемы. Задача перед ним стояла весьма трудная, так
как ему, как пионеру в этой области, пришлось работать
на почве, еще не расчищенной от целого ряда
неправильных и вредных установок буржуазно-богословской библе-
истики, и при этом не имея еще окончательно
выработанных и проверенных марксистских методологических
установок для разрешения этой трудной задачи. Поэтому я
хотел бы здесь указать на те предпосылки, которые, на
мой взгляд, являются необходимым условием для
окончательного разрешения проблемы и завершения работы,
успешно начатой т. Рановичем.
Первая предпосылка заключается в проведении
заново большой работы над источниками истории Иудеи I в.
Дело в том, что проблему революционного движения I в.
и связанных с ним сдвигов в революционной идеологии
нельзя разрешить, опираясь только на тот материал
первоисточников, какой обычно привлекается в идеалисти-
• ' Немецкая идеология, стр. 37,
LXXVJf
ческих и пропитанных богословским духом трудах
немецкой библеистики. Последняя меньше всего
интересовалась революционной борьбой и революционными
сдвигами в идеологии масс трудящихся и все свое внимание
направляла исключительно на проблему зарождения
христианства в недрах иудейской религии. Хотя т. Ранович
пересматривает критически этот материал и дает ему
новое истолкование и применение, все же этого далеко
недостаточно. Для того чтобы разрешить проблему истории
религии общины второго храма, историкам-марксистам
предстоит предварительно проделать заново огромную
научно-исследовательскую работу, в особенности в
области самостоятельного изучения мессианско-эсхатологиче-
ской литературы, мишны и тех частей талмудической
традиции, которые восходят к поколению раввинов I в. х. э.
Другой предпосылкой правильного и окончательного
разрешения этой проблемы является установление
правильных методологических исходных пунктов для
исследования. Мне представляется, что некоторые из
методологических установок т. Рановича спорны и что
возможен другой, на мой взгляд более правильный подход.
В качестве материала, какой может быть использован
при дальнейшем специальном марксистском
исследовании проблемы социального кризиса и религиозного
переворота I в., я изложу здесь свои соображения и
замечания по поводу некоторых методологических проблем,
отправляясьот установок т. Рановича.
Первая проблема — это проблема периодизации
истории иудейской общины второго храма. Тов. Ранович
совершенно правильно ставит эту проблему не как узко
хронологическую, но как методологическую. Он делит
историю послепленного палестинского иудейства на две
эпохи: на эпоху истории Иудеи под персидским
владычеством и на эпоху истории Иудеи под эллинистическо-
римским владычеством. Методологическим основанием
для такого деления для т. Рановича является, повидимому,
соображение, что со времени эллинистического
завоевания Иудея вошла «в систему эллинско-римского
рабовладельческого общества», а это в первую очередь привело
к вторжению греческого торгового капитала, которое
«должно было иметь весьма тяжелые последствия для
отсталого иудейского крестьянства». Мне представляется,
что такую периодизацию нельзя считать вполне
правильной. Против нее могут быть выдвинуты возражения как
r.xxvm
фактического, так и методологического характера. Со
стороны фактической бросается в глаза, что до второй
половины I в. до х. э., т. е. до римского завоевания,
внутренняя классовая борьба в Иудее не выходит за
рамки, так сказать, текущей борьбы, и единственное крупное
движение, глубоко всколыхнувшее Иудею, — это
национальное, так называемое Маккавейское, восстание
представляло собою обычное явление в условиях любого
восточного царства. Положение резко меняется со
времени римского завоевания. Сразу начинается быстрый
подъем классовой борьбы, сопровождающийся
огромными сдвигами в религиозной области, неизменно
нарастающий в течение 100 лет и разрешающийся
революционным взрывом 66—70 гг.
Это резкое различие фактического порядка между
римской эпохой и предшествующей, как мне
представляется, не может быть только количественным. За ним
скрываются, несомненно, моменты глубоких изменений
социального порядка, внесенных римским завоеванием.
Маркс указывает, что «при всех завоеваниях
возможен троякий исход. Народ-победитель навязывает
побежденным собственный способ производства (напр.
англичане в этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии); или
он оставляет существовать старый и довольствуется
данью (напр. турки и римляне); или имеет место
взаимодействие, из которого возникает новое, синтез (отчасти
при германских завоеваниях)» *. Надо заметить, что Маркс
здесь говорит только о римлянах, умалчивая о
греко-македонском завоевании; мы сейчас увидим, почему Маркс
так поступает. Факты показывают, что Селевкиды
и Птолемеи на восточной почве превратились в типичных
восточных царей и усвоили традиционные восточные
методы эксплоатации покоренных стран, обращая
выколачиваемый с населения прибавочный продукт в пользу
сравнительно небольшой группы сановной и военной
верхушки своего аппарата. Греческая метрополия не
только ничего не получила из завоеванных восточных
стран, но много потеряла и вступила с начала III в. в
полосу длительного экономического и политического
кризиса. Таким образом, вряд ли можно говорить о каких-
либо качественных изменениях в способе производства
на Востоке вследствие греко-македонского завоевания.
'.К критике политической экономии. Партиздат. 1935. Стр. 21.
LXXIX
Известные изменения в связи с искусственным
насаждением в некоторых пунктах рабских эргастерий остались
на поверхности и не коснулись общинной массы низов.
Иначе обстояло дело после римского завоевания.
Оно, как указывает и Маркс, в огромном
большинстве случаев также не сопровождалось насильственным
изменением способа производства в покоренных
странах; насаждение рабовладельческих латифундий имело
место только в некоторых частях Африки и Малой Азии.
Но римское завоевание всегда сопровождалось таким
беспощадным выжиманием прибавочного продукта в виде
дани и таким систематическим формальным обращением
в рабство покоренных, что в завоеванных странах в связи
с этим сейчас же развертывался процесс пролетаризации
крестьянских и городских трудящихся масс. Римские
рабовладельцы рассматривали провинции, как свою
добычу, и превращали их население в резервы рабской
рабочей силы, а доходы этого населения присваивали себе
в качестве дани, не оставляя последнему даже
прожиточного минимума. В противоположность Селевкидам и
Птолемеям, так сказать, «натурализовавшимся» на Востоке,
римские проконсулы являлись в восточные страны в
качестве агентов многотысячной хищной стаи римских
рабовладельцев всех мастей, в особенности ростовщиков,
стремившейся, кроме удовлетворения своих аппетитов,
выжать еще огромные средства для доставления «хлеба
и зрелищ» пролетариату метрополии. Кроме того
римская рабовладельческая верхушка вынуждена была также
делиться добычей со своими солдатами, набиравшимися
■ из тех же пролетариев. В результате провинции должны
были давать средства для роскошной жизни
многотысячного класса римских рабовладельцев и кормить за свой
счет миллионы свободного пролетаризированного
населения Италии. Таким образом, количественные изменения,
внесенные римским завоеванием в производственную
жизнь восточных стран, достигали таких размеров, при
которых количество уже переходит в качество.
Кроме того иерусалимское жречество, превратившись
в союзника и агента римского орла, в то же время
получило гораздо ббльшие возможности для своей
собственной хищнической эксплоатации, чем раньше. Оно
получило возможность и со своей стороны гораздо более
решительно, чем раньше, завинчивать налоговый пресс,
так кш могло теперь опираться не на евее прежнее
ОРСл.
право обращаться в случае надобности к царю за
военной поддержкой против своих подданных, но на
постоянно готовый к услугам, стоявший тут же в Иудее,
римский гарнизон. Отсюда в I в. х. э. для трудящихся
иудейских масс создалось невыносимое положение:
«римское иго» по сравнению с прежним царским игом
было не бичом, а скорпионом, и одновременно «иго
закона» также из десятилетия в десятилетие становилось
все тяжелее.
Все эти фактические моменты указаны в работе т. Ра-
новича. Но при его периодизации стирается
намечающееся качественное различие римской эпохи от
эллинистической. Оно, на мой взгляд, заключается в том,
что, не вводя своего, рабовладельческого, способа
производства, римляне тем не менее начали
разрушение общественных условий жизни в Сирии и
Палестине. Тут огромное значение имело вторжение римского
ростовщического капитала, который, действительно, стал
играть революционизирующую роль. Такой роли не мог
играть и не играл восточный, домашний,
ростовщический капитал, ибо, как говорит Маркс, «при азиатских
формах ростовщичество может существовать очень
долго, не вызывая ничего иного, кроме экономического
упадка и политической коррупции» К В эллинистическую
эпоху не имело места такое мощное вторжение
чужеземного ростовщического капитала, как в римскую эпоху; а
домашний ростовщический капитал, получив известное
количественное развитие, все же революционизирующего
влияния получить не мог. Мне представляется, что
именно указанные моменты, специфические качественные
изменения, внесенные римским завоеванием, должны
определять собою периодизацию истории послепленного
иудейства. Римская эпоха должна быть выделена в
особую эпоху, эпоху, когда, действительно, старому
азиатскому строю стала грозить опасность насильственного
разрушения, обострившая в Иудее классовую борьбу
и породившая мощное революционное движение.
Эллинистическая эпоха должна рассматриваться вместе с
персидской эпохой, и только последний этап
эллинистической эпохи, примерно с эпохи Хасмонеев,
может быть выделен в качестве переходного этапа,
поскольку со второй половины II в, до х. э., еще до
* «Капитал», т< Ш, 8-е ящ., <?тр, Ш.
4^1
шж
формального подчинения Риму, римское влияние
фактически уже начинает заметно чувствоваться во всех
областях общественно-политической жизни Сирии и
Палестины. Как признает и т. Ранович, Хасмонеи, «союзники»
Рима, фактически были римскими вассалами и, только
опираясь на Рим, могли вести свою хищническую
политику ограбления своего населения и ограбления и
истребления населения завоеванных ими областей. При такой
периодизации изображение кризиса I в. выиграет в
четкости, получив твердые методологические и
хронологические рамки.
Вторая проблема-—это проблема религиозного
переворота, революционного расщепления идеологии,
освобождения идеологии революционной части эксплоатируе-
мой массы от религиозных пут и религиозных иллюзий.
Мне представляется, что именно в исследовании этого
момента заключается основная задача марксистского
историка религии, рассматривающего изменения в
религиозной области как изменения, создаваемые людьми, в том
числе и эксплоатируемыми классами, в процессе
классовой борьбы и в непосредственной зависимости от
конкретных условий и требований последней. Это — задача
безусловно нелегкая, ибо она сталкивается с
необходимостью критического изучения и четкого анализа того
сложнейшего комплекса общественных и религиозных
течений, какой образовался в Иудее I в. х. э. Тогда, как
показано т. Рановичем, в разгоревшуюся классовую
борьбу постепенно были втянуты все группировки
палестинско-иудейского общества. Кризис задел не
только общинников, порабощавшихся и разорявшихся
непосильными поборами и долговыми обязательствами, но
также и городских ремесленников и мелких торговцев,
за исключением, быть может, иерусалимских купцов,
трактирщиков и содержателей постоялых дворов,
живших за счет массы паломников, периодически в большие
праздники наполнявших Иерусалим. Отсюда понятно
появление множества религиозно-политических течений и
группировок, искавших по-разному путей и способов
для выхода из кризиса. Отсюда и суетливая работа
соглашательских элементов, выражавшаяся в книжниче-
ских спорах, синагогальных проповедях и особенно в
пропаганде мессианско-эсхатологической идеологии. Под
знаком этой последней идеологии открыла свою борьбу
и трудящаяся иудейская масса; но логика и опыт борьбы
LXXXtl
скоро показали пустоту религиозных иллюзий, и
наиболее сознательные элементы иудейской массы стали
переходить под знамя реальной борьбы без какого бы то ни
было расчета на вмешательство потусторонних сил.
Наконец, чрезвычайно важный момент борьбы I в.
заключался в том, что она была одновременно и классовой
борьбой против своих эксплоататоров и национально-
освободительной борьбой. Трудящиеся Палестины очень
скоро поняли, что уничтожение собственных
эксплоататоров невозможно без уничтожения римского ига; с
другой стороны, иерусалимское жречество и его фарисейские
приспешники также понимали, что они смогут избежать
гибели только при помощи римского меча. В конечном
счете римский меч их не спас — церковная община
второго храма погибла вовсе не под ударами войск Веспа-
сиана и Тита, как обычно изображают
буржуазно-богословские библеисты и иудейские националисты, но под
ударами народной революции. Иерократическая община
второго храма рухнула в тот момент, когда
иерусалимский храм сделался штабом революционеров и место
сановного наследственного первосвященника занял
крестьянин Пинхас из деревни Афты. Римские легионы
разгромили революцию уже после того, как революция
разгромила своих соотечественных эксплоататоров.
Выделить из этого пестрого клубка классовых
взаимоотношений и бурного водоворота событий основное
звено, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю
цепь,— задача чрезвычайно трудная. На мой взгляд, при
теперешнем состоянии критической обработки
источников, унаследованном нами от буржуазно-богословской
библеистики, законченное разрешение этой задачи
невозможно. Тут кроме ясного методологического исходного
пункта необходима самостоятельная марксистская
работа над материалом источников. Тов. Ранович нащупал
методологический исходный пункт правильно. Он ищет
и находит передовой, наиболее сознательный отряд
революции в лице группы сикариев. Он определяет отличие
их позиции от позиции зелотов, объясняя это различным
социальным составом той и другой группы. Точка
зрения т. Рановича на сикариев — новая, оригинальная и
заслуживает всякого внимания. Но нащупав правильно
методологический исходный пункт и основную задачу,
т. Ранович, как и всякий другой на его месте,
волей-неволей вынужден был опираться главным образом на име-
LXXXIII
ющиеся сейчас результаты критического исследования
источников — иначе нам еще долго пришлось бы ждать
его ценной работы. Это — его и пока наша общая беда.
Поэтому, как мною сказано выше, изложение т. Рановича
приходится считать первым опытом пионерского
характера в изучении революционной борьбы и
революционного переворота I в. в Иудее. Поскольку оно носит такой
разведочный характер, постольку в нем т. Рановичу, быть
может, больше, чем он хотел сам, пришлось опираться
на общепринятые до сих пор рубрики. Вероятно, этим
объясняется, что в 'его изложении фактический ход общей
истории I в. дается отдельно от изображения сдвигов в
религиозной идеологии и от характеристики тех
религиозно-политических группировок, которые создались на
почве этих сдвигов. Например, характеристика
мессианизма и эсхатологии дается после рассказа о революции
66—70 гг., между тем как мессианско-эсхатологическая
идеология была характерна именно для начального этапа
революционной борьбы. Основной факт религиозной
истории — изживание религиозных иллюзий в процессе
борьбы — констатирован, но, к сожалению, не раскрыт
со всей необходимой полнотою и в его диалектическом
развитии, так как вскрыть и показать это последнее
можно только на основе новой критической проработки
прежнего материала первоисточников и привлечения
нового материала. Однако и при таком характере
изложения читатель получает ясное представление о том, что
эпоха I в. в Иудее — это революционная эпоха,
характеризующаяся огромными сдвигами в религиозной
идеологии. Надо пожелать, чтобы т. Ранович еще раз вернулся
к этой теме и подверг ее специальному исследованию.
Она требует, и заслуживает специальной монографии.
:^Ч
Шл, - ■ vv 0j
ОЧЕРК ИСТОРИИ
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ
РЕЛИГИИ
%^
ВВЕДЕНИЕ
#
числу самых прочных и самых вредных
предрассудков относится распространяемое
учеными богословами и богословствующи-
ми учеными представление, будто иудаизм, .
иудейская религия — цельное религиозное
мировоззрение, «открытое» евреям «от
века», и что евреи в силу особой божьей
милости или в силу особых исторических условий
«пронесли свою веру через века» и сохранили ее до нашего
времени. Из этого при помощи всяких ухищрений
обосновываемого «факта» делаются выводы о том, что
иудейская религия якобы неразрывно связана с еврейской
национальностью, что она якобы составляет исконное
достояние еврейского народа, не имеющее никаких
социальных или даже исторических корней, что, наконец,
она в своем отвлеченном выражении является якобы
религией общечеловеческой, надклассовой, что,
«раскрываясь», она дала высшее проявление религиозной мысли
в христианстве, и т. д.
Конечно, и буржуазные ученые я богословы
великолепно отдают себе отчет в том, что иудейская религия не
представляет единой стройной системы, что ее
содержание подвергалось на протяжении истории значительным
изменениям. Более того, в то время, когда буржуазия бы-
*
3
ла прогрессивным классом и боролась с феодализмом и
его пережитками, ее идеологи немало потрудились над
развенчанием иудейского бога., над критикой «священного
писания», над разоблачением нелепостей библейской
литературы, безнравственности, жестокости, шарлатанства
ее героев. Недаром Энгельс и Ленин настойчиво
рекомендовали переводить для массового распространения в
народе боевую атеистическую литературу конца XVIII в.
Но, придя к власти, буржуазия, как класс эксплоататор-
ский, сама стала искать в религии опору для своего
господства. Ее идеологи, даже критикуя религию и церковь,
стараются во что бы то ни стало «сохранить религию
для народа». «Почти всегда эти представители
образованной буржуазии «дополняют» свое же собственное
опроврежение религиозных предрассудков такими
рассуждениями, которые сразу разоблачают их как идейных
рабов буржуазии, как «дипломированных лакеев
поповщины» '.Ив еврейской религии буржуазные критики
стараются выделить какое-то ценное «неизменное ядро»,
которое так или иначе обнаруживается и в самых
древних и в самых новых его разновидностях.
Однако подлинно научное исследование, не
искаженное классовым интересом эксплоататоров, стремящихся
химерами национального единства, врожденных
религиозных чувств и представлений и общечеловеческих
идеалов затушевать существующие классовые противоречия,
показывает обр1атное: «туманные образования в мозгу
людей, и те являются необходимыми сублиматами
(продуктами) их материального жизненного процесса,
который может быть установлен на опыте и который связан
с материальными предпосылками»2. Как-раз изучение
иудейской религии лучше всего подтверждает мысль
Маркса и Энгельса, что у религии «нет истории», что она
«живет не небом, а землей», что она — лишь
идеологическая надстройка, которую надо понять и объяснить «из
данных отношений реальной жизни».
На различных этапах истории евреев их религия
менялась в соответствии с •изменением социально-экономичен
ского базиса. В самом деле, что общего, кроме имение
имеет изображаемый в виде тельца божок небольшого^
1 Ленин — О значении воинствующего материализма. Соч.,
т. XXVII, стр. 185.
2Маркс и Энгельс — Немецкая идеология, Партиздат!
1934, стр. 17.
4
племени скотоводов с богом современного еврейского
банкира, мессия зелотов с мессианизмом сиониста Жаботин-
ского или космогония книги Бытия с «космическим
чувством» Альб. Эйнштейна? Если можно говорить о
иудейской религии в ее историческом развитии, то лишь в
смысле преемственности традиций (в которые вкладывался,
однако, в разное время различный смысл),
консервативности обрядов (хотя я форма и содержание их менялись),
относительной устойчивости (в позднейшую эпоху)
текста «писания». Только классовый интерес буржуазии
заставляет ее ученых видеть в иудаизме и «еврействе»
какой-то единый комплекс, который может составить
предмет единой науки — «науки о еврействе». А такая «наука»
существует и даже праздновала недавно свой столетний
юбилей. Вот как формулирует ее задачи один из
наиболее выдающихся ее представителей Эльбоген: «Наука о
еврействе — целеустремленная наука (Zweakwissenschafit),
разделы которой связаны в одно целое не в силу идеи
самой науки, но лишь поскольку они содействуют разре-'
шению практических задач». А эти задачи состоят в том,
чтоб «создать науку о живом, находящемся в потоке
развития еврействе как социальном и 'историческом
единстве» 1. Здесь мы имеем откровенно классовую
характеристику «объективной» науки: ее задача — доказать
единство нации ч противоположность классовым антагонизмам,
противопоставить классовой борьбе трудящихся против
угнетателей идею классового мира внутри нации.
Призыв религии на помощь национализму для
совместного одурманивания трудящихся на пользу эксплоа-
таторам—метод, применяющийся часто. В частности, гер--
майские фашисты с этой целью возрождают древнегер-
мавский «языческий» культ Вотана, а различные
нац.-демократические группировки в СССР, враждебные
социалистическому строительству, пытались и у нас возродить
«национальные» религии. Эта сторона религиозной
идеологии,- ее способность подменять классы нацией и
создавать «надклассовые» идеи, в действительности служащие
интересам эксплоататорских классов, особенно отчетливо
проявляется на всех этапах иудейской религии, и в этом
отношении история иудаизма весьма поучительна. Она
помогает разоблачать те искусные приемы, какие пускают
'Е lb о gen — Ein Jahrhundert der Wissenschaft des Judentums.
Berlin 1922, S. 43—44.
в ход не только еврейские, но и всякие другие
церковники и буржуазные националисты, чтобы завлечь и
обмануть массы трудящихся. Она наглядно показывает те
классовые мотивы, которые диктуют буржуазным ученым
их «объективные» теории.
Кроме того, изучение различных сменявшихся в
различных социально-экономических формациях
религиозных систем, объединяемых общим названием «иудаизм»,
самым наглядным образом показывает, что религия
всегда связывала угнетенных верой в божественность
угнетателей, что она всегда была консервативной,
реакционной силой, всегда была опиумом народа.
Наконец, иудаизм заслуживает изучения также и
потому, что не только миллионы трудящихся евреев еще
находятся в сетях этой религии. В силу ряда исторических
условий иудаизм вошел как составной элемент в
«мировые религии» — христианство^ и ислам, и иудейские
«священные» книги до сих пор священны в глазах сотен
миллионов верующих этих религий- Вскрытие социальных
корней и классовой сущности иудаизма поэтому в
значительной мере содействует разоблачению и христианства
и ислама.
источники
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ
ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ
#■
1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
одлинно исторические материалы по
истории евреев мы имеем, главным образом,
лишь с эллинистическо-римской эпохи. Для
древнейшей истории Израиля объективных
исторических документов и материалов
почти нет.
Правда, с последней четверти XIX в.
Передняя Азия усиленно привлекает внимание
археологов, которые наряду с миссионерами являются скрытой
агентурой империализма в полуколониальных странах и
колониях. «Культурное проникновение» должно
подготовить почву для экономического и политического
порабощения и завоевания стран Востока. Характерно, что импе-'
раторская Германия, усиленно, хоть и безуспешно, ^стре-
мившаяся на Восток, к Багдаду, больше всех
обнаруживала рвения в изучении восточных древностей; ряд
научных обществ — «Deutsche MoirgertLandi'Sche Gesellsdhalt»,
«Vorderasiatisch-Agyptiiscihie Gesellscihaift», «Deutscher Pale-
stina-Verein», «Deutsche Orient-Gesellschait» — занимался
изучением Востока. В настоящее время особенно широко
7
развернулись работы французских и американских ар-'
хеологов, а германские общества явно выдыхаются.
Произведенные этими организациями раскопки в
Палестине, Сирии и Месопотамии дали в течение последних
50 лет огромный материал для изучения истории и
доистории Передней Азии, в частности много «ханаанского»,
доеврейского материала. Но в отношении общей истории
евреев добытые материалы, хоть и очень важные по
содержанию, совершенно ничтожны количественно.
Виднейший исследователь Палестины Макалистер «е может
скрыть своего огорчения по поводу отсутствия
археологических данных, подтверждающих традиционную
библейскую историю. «Нигде во всей стране мы не можем
обнаружить ни малейших следов Авраама, Исаака и Якова;
Самуила, Саула, Давида, Исайи. Моавитский царь
сообщает нам о величии незначительного как-будто Омри- С
другой стороны, ассирийские цари говорят о ничтожестве
Ииуя и Езекии; они третируют их как простых князьков,
которые не лучше, чем многие другие, чьи деяния они
упоминают, но о которых мы ничего не слыхали, — Шар-
лудар«, Йамани, Пади, Азиру и пр. Даже когда
предпринимается сооружение большого масштаба, вроде Силоам-
ского канала, то царь, по распоряжению которого оно
возводится, не считает нужным упомянуть о своей связи
с ним... Мы имеем фундамент стены, возведенной Нехе-
мией; но если бы нам пришлось довольствоваться тем
светом, который проливают на эту стену раскопки,
никогда бы Ездра не стоял здесь на «деревянном
возвышении» х. ...«Давид, Иоав, Авессалом, Натан, Гад и прочие
значительные и незначительные лица того времени
известны нам только по упоминаниям в библии. Ни внутри,
ни вне пределов их древней страны не найдено никаких
других упоминаний об их деятельности. Раскопки ничего
не могут сказать о пестрых событиях жизни новых
царей- Нет надобности повторять, что все эти «башни
Давида» и «колодцы Вирсавии», которые средневековые
энтузиасты открыли в Иерусалиме, столь же иллюзорны,
как и «мумия одной из тощих коров фараона», которую,
как утверждают злые языки, некий гражданин
Соединенных Штатов вывез из Египта, чтоб украсить ею свой
частный музей» 2.
1 Macalister — A century of excavation in Palestine. L. s. a.,
предисл. датировано «июль 1925 г.», стр. 149.
2 Там же, стр. 178—179,
8
Таким образом, если не считать косвенных
данных, какие можно получить на основании изучения
многочисленных вавилонских, ассирийских, египетских,
финикийских, хеттских и других исторических документов
(подробно мы их рассмотрим ниже), основным
источником для знакомства с древнейшей историей евреев
является так называемый «(Ветхий завет», т. е. еврейская
библия.
Что касается истории еврейской религии, то раскопки
дали значительное количество вещественных памятников
религиозного характера, восходящих как к доеврейской
эпохе, так и к эпохе еврейских царств. Мы имеем
фигурки и рельефы, изображающие богов, остатки святилищ и
храмов, предметы культового назначения и т. д. Этот
материал сам-по-себе недостаточен для реконструкции
древнейших форм еврейской религии, ибо объяснения для
него мы должны искать в письменном материале.
Таковым для истории древнейших форм еврейской религии
является все тот же Ветхий завет- Однако
археологический материал не только получает объяснение из библей-^
ского, но в некоторых очень важных вопросах является
основой для правильного истолкования многих
библейских мест, а также для установления степени зависимости
еврейских верований и культов царской эпохи от так наз.
ханаанской и других палестинских религий.
Таким образом, прежде всего необходимо дать
критический анализ и надлежащую оценку основного
материала — так наз. Ветхого завета.
Древнейшая история евреев, их религиозного
законодательства и культа дана в так наз. исторических книгах
Ветхого завета — кн. Судей, 1и II кн. Самуила1, I и II кн.
Царей и отчасти в I и II кн. Хроник (Паралипоменон), в
книгах «старшего поколения» пророков — Осии, Амоса,
Исайи, Михея, Иеремии, Цефании (Софонии), в псалмах
и, наконец, в —важнейшем с точки зрения верующих —
«Пятикнижии моисеевом». В течение двух тысяч лет все
эти книги принимались за совершенно достоверные
исторические документы, написанные якобы по внушению
1 В славянском и синодальном русском переводе библии,
следующем Сеппуагинте, кн. Самуила названы I и II кн. Царств, а
кн. Царей — III и IV кн. Царств. В дальнейшем библия цитируется
по еврейскому масооетскому тексту в изд. R. Kittel — Biblia
nebraica. Liipsiae, 1906.
9
божьему, теми авторами, которым их приписывает
богословская традиция. И если якобы пророк VIII в. Исайя
пишет о «помазаннике божьем», персидском царе Кире,
жившем чрез 200 лет после эпохи Исайи, или если
«Псалмы Давида» оплакивают пленных евреев «на реках
вавилонских», то эти явные несообразности нисколько
не смущают верующих: на то .Исайя или Давид и
пророки, чтобы предвидеть будущее.
(Критическое отношение к «священному писанию» было
невозможно в эпоху средневековья, миросозерцание
которого1 было «по преимуществу теологическим».
«Верховное господство богословия во всех областях умственной
деятельности было в то же время необходимым
следствием того, что церковь являлась наивысшим обобщением
и санкцией существующего феодального строя» х. Только
тогда, когда «в недрах феодализма развилась сила
буржуазии», стало возможным критическое отношение к
библии; борьба нарождавшейся и крепнувшей буржуазии
против феодализма в условиях средневековья неизбежно
должна была принять характер богословской ереси и
сомнений в непогрешимости и святости библии. «Для того,
чтобы возможно было нападать на общественные
отношения,- с них нужно было совлечь покров святости» 2. И
лишь в середине XVII в., когда буржуазия, сложившаяся
в недрах феодального общества, достаточно окрепла,
становится возможным зарождение научной критики
библейского текста. Объектом ее стали в первую очередь
самые «священные» книги Ветхого завета—так наз.
«Книги моисеевы»!, «Пятикнижие», на котором до сих пор
сосредоточено внимание критиков всех направлений.
История и результаты критики этой важнейшей части
Ветхого завета, с одной стороны, имеют огромное значение
для правильного понимания и использования в научных
целях текста Пятикнижия, а с другой стороны, весьма
показательны для разоблачения классового характера
буржуазной науки.
1 Энгельс — Крестьянская война в Германии. Собр. соч.
Маркса и Энгельса, т. VIII, стр. 128,
2 Там же-
10
2- ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ БИБЛЕЙСКОЙ КРИТИКИ
а) ШЕСТИКНИЖИЕ
Еще еврейский поэт, философ и комментатор библии
XII ш.^тшЖш^Ш^, пользующийся большим
авторитетом в раввинской литературе, высказал в очень
туманной форме мнение, что Пятикнижие не могло быть
написано Моисеем. В комментарии к гл. I, ст. I кн. Второз.
(«Вот слова, которые говорил Моисей всему Израилю за
Иорданом в пустыне») Ибн-Эзра пишет: «За Иорданом: и
если ты поймешь тайну двенадцати, также и написал
Моисей, а ханаанеи тогда (были) в стране, на горе Ягве
является, также вот одр его железный, ты познаешь
истину». Понадобилось 500 лет для того, чтобы в «Бого-
словско-политическом трактате» Спиноза расшифровал
эту криптограмму и сделал из нее далеко идущие
атеистические выводы.
По объяснению Спинозы, Ибн-Эзра здесь приводит
аргументы против авторства Моисея: 1) Выражение «за
Иорданом» показывает, что автор Второз. жил по сю
сторону Иордана; это, следовательно, был не Моисей. 2) В
гл. 27 Второз. и в кн. Иис. Нав. (Иошуа) VIII сообщается,
что «все слова закона» были написаны на камнях
жертвенника, которых, по учению раввинов, было всего
двенадцать; следовательно, то не могло быть объемистое
Пятикнижие. 3) Слова «и написал Моисей закон»
(Второз. XXXI 9) написаны, очевидно, не Моисеем, а
посторонним' лицом. 4) Слова «а ханаанеи тогда были в стра-'
не» (Быт. XII 6) могли быть написаны только тогда,
когда ханаанеи уже не были в стране, т. е. после
завоевания Палестины евреями. 5) Гора Мория могла быть
названа «горой господней» (Быт. XXII 14) только после то-'
го, как на ней был построен храм, но не во времена
Авраама или Моисея1. 6) Фраза Второз. III 11: «только
Ог, царь Васанский, оставался из остатка рефаимов.
Вот одр его, одр железный, вот он в Раббате»,
свидетельствует о том, что автор жил гораздо позже Ога и
ссылается на его «одр» как на археологический
памятник.
Взяв за исходный пункт высказанный в столь туман-
1 Ибн-Эзра и Спиноза неправильно поняли это туманное место
и переводили «На горе бог а» вместо «бог».
И
ной форме взгляд Ибн-Эзры, Спиноза развертывает
широкую критику библии. Но он не задавался целью
исследовать источники библии. Его задачей было подорвать
авторитет «св. писания», разрушить основы религиозного
мировоззрения, опровергнуть веру в пророчество, в
чудеса, в божественное откровение, в провидение и в
самого бога. Его критика библии построена на
атеистической основе, и потому его выводы в ряде случаев
предвосхитили научные достижения последующих столетий.
Весьма, простыми;, но убедительными доводами он
доказывает, что Пятикнижие Моисея написано через много
веков после той эпохи, к которой его относит
богословская традиция, что книга Иисуса Навина составляет одно
целое с Пятикнижием1, что книги __Хроник_ написаны в
эпоху Маккавеев1, что псалмы отнюдь не принадлежат
легендарному царю Давиду, а сборник их составлен в
эпоху второго храма и т.- д. Показав ряд искажений и
нелепостей в библейском тексте, анахронизмы, противоречия,
повторения и разнобой в стиле, Спиноза высказывает
предположение, что библейские книги «суть списки,
сделанные спустя много веков после совершившихся
событий», и что автором Ветхого,завета и редактором
вошедших в него разнообразных элементов был Езра. Именно
Езра собрал и записал закон, а затем «приложил
старания к тому, чтоб написать всю историю еврейской нации,
т. е. от сотворения мира до окончательного разорения
города. ...И первые пять книг ее он, может быть, назвал
именем Моисея потому, что в них главным образом
содержится его жизнь, и он взял имя от главного лица» 2.
Спиноза- имел предшественников и последователей. За
20 лет до появления «Богословско-политического
трактата», в ДбМjr.,,, Гоббс в своем «Левиафане» (кн. III, гл.
XXXIII) высказал взгляд, что «Пятикнижие Моисея»
названо так по имени главного действующего лица, но что
написано оно гораздо позднее эпохи Моисея, который —
самое большее — был редактором части библии (особенно
основного текста кн. Второз. XII—XXVI). Такого же
приблизительно мнения и Исаак де ла Пейрер (Peyrerius).
1 Эта мысль Спинозы подтвердилась критическими
исследованиями библии в XIX в., и в настоящее время общепринято говорить
не о «пятикнижии», а о «шестикнижии», включая кн. Иисуса
Навина.
2 Б. С пи н оз а —Богословско-политический трактат. М. 1935,
стр. 149.
|2
В вышедшей в 1655 г. книге «Systema itlheoiogicum ex ргаё-
aidiamiiitanuim hypothesi» он указывает, что ряд мест в
библии относится к сравнительно позднему времени и что,
следовательно, эти места не могли быть написаны
Моисеем; Моисей мог наитсатъ 'историю до своего времени и
так наз. законодательство. Но .ни Гоббс ни Пейрер не
дали той разрушительной критики библии, какую дал
Спиноза, у которого библейская критика была направлена
против религии вообще. Поэтому трактат Спинозы
вызвал не только яростные атаки со стороны богословов
и охранителей феодальных устоев, но и сопротивление со
стороны умеренных критиков библии. Против Спинозы и
в защиту божественности библии выступил Ришар Симон
(«Histaire critique diu vieux Testament», Rotterd, 1685),
признавший, однако, что Моисей не был (автором всего
Пятикнижия, а лишь законодательной части ее, и что текст
библии подвергся значительным искажениям, нарушившим
ее первоначальную стройность. Симону возразил философ
Жан Леклерк (Johannes Cleriicus). В своей работе «Senti-
raens die quelquies itlheoloigiens de Hollainde sur i'ihiistaire
critique du Viieux Testament», Amist. 1685, Леклерк совершенно
отрицает авторство' Моисея и считает, что автор
Пятикнижия жил в Халдее, куда евреи попали после
падения Израильского царства, и, следовательно, библия
написана не ранее VIII в.
Таким образом, уже у самых истоков библейской
критики наряду с направлением атеистическим наметилось
течение, ставящее себе целью «очистить» библию,
выкристаллизовать «чистое зерно» божественного учения и
спасти авторитет божественного откровения. Иначе и не
могло быть; буржуазные исследователи, выполняя социаль-
н_ый__заказ своего класса, заинтересованы лишь в том, чтоб
заменить феодальную религию более утонченной формой
ее, приемлемой для современного верующего, и тем
«сохранить религию для народа».
Современная библейская критика ведет свою
родословную от французского врача Жана Астрюка, вращавшегося
в кругу французских энциклопедистов. В 1753 г. Астрюк
выпустил в Брюсселе анонимно книгу «Conjectures sur les
memoires origimaux doot il parait que Moyse s'est servi pour
composer lie livre de la Genese». Обратив внимание на то,
что в одних частях книги «Бытия» бог именуется «£>до-
гим», а в других — «Иегова» (теперь читают «Ягве» х),
1 См. ниже стр. 175 ел.
J3
Астрюк пришел к заключению, что в данном случае мы
имеем делд...с. двумя самостоятельными источниками,
соединенными впоследствии в одно целое; отсюда
объясняются повторения, противоречия, варианты, встречающиеся
в книге Бытия на каждом шагу *.
На основе гипотезы Астрюка, развивая и углубляя
высказанные им мысли, подвергнув тщательному анализу
библейский текст, исследователи библии пришли к выво-'
ду, что Пятикнижие и кн. Иисуса Навина составлены по
одним и тем же источникам, и выделили, в конце-кон-
цов, в этом Шестикнижии 4 основных источника,
обозначаемые в современной библейской науке следующими
условными наименованиями: «Ягвист» (J), «Элогиет» (Е),
слившиеся впоследствии в одно целое (JE),
«Второзаконие» (D) и «Жреческий кодекс» (Р). За исключением 30
глав кн. Второзакония и части книги Иисуса Навина,
относящейся к D, все остальные источники до того тесно
между собой переплетаются, что выделение их
потребовало тщательной работы библеистов в течение
полутораста лет. В частности, до середины XIX в. источников
считалось только три: основной, или первоначальный,
источник, называвшийся также Элогистом, Ягвист и
Второзаконие. Только в 1853 г. Гупфельд установил, что основной
элогистический источник надо делить на два — «первого»
или «старшего элогиста» (по современной номенклатуре—
Р) и на «младшего элогиста», за которым « утвердилось
в конце-концов обозначение Е2 (Н. Cupfelid, «Die Quellen
■der Genesis und die Art iihrar Zusammensietzunig»2.
Если для кн. Бытия некоторым критерием для
разграничения источников мог служить признак обозначения
бога — «Ягве» или «Элогим»/.'то в остальных книгах этот
признак отсутствует; Р и Е избегают имени Ягве только
1 В последнее время выяснилось, что Астрюк имел
предшественника. Гильдесгеймский пастор Геннинг Бернгард Виттер
выпустил в 1711 г. комментарий к библии (вместе с еврейским текстом
и латинским переводом), где он отмечает чередование имен Иегова
и Элогим и наличие дублетов и вариантов. Это обстоятельство,
однако, не умаляет заслуги Астрюка и не опорочивает его
оригинальности, так как книга Виттера могла быть и неизвестна
Астрюку, как она была неизвестна критикам до последнего
времени. Во всяком случае дальнейшая критика библии базировалась
именно на Астрюке. См. заметку Адольфа Лодса в ZAW, 1925 г.,
S. 134.
2 Предшественником Гупфельда был в 1798 г. Карл Давид
И л ь г е н.
И
в «домоисеевых» частях библейского повествования, исхо*
дя из того положения, что, до того как бог открылся
Моисею под именем Ягве (Исх. III), это имя не могло быть
известно. Ягвист менее щепетилен и применяет всюду имя
Ягве или Ягве-Элогим. Но, начиная с Исх. III, имя Ягве
употребляют уже все источники, и этот критерий отпадает,
В кн- Бытия разграничение источников облегчается
существованием ряда параллелей, повторений, разрывов в
последовательности изложения. Так, после того, как в гл. I
рассказано о сотворении мира и человека, в гл. II 4 ел.
,дается новый рассказ о том же, значительно
отличающийся от первого' и во многом противоречащий ему;
согласно гл. I, человек создан после всего творения, а в гл. II Ягве
создает сначала человека, а уж затем животных, чтоб
человек не чувствовал себя одиноким. По первому
варианту (I 27), мужчина и женщина созданы сразу вместе,
по второму — женщина создана значительно позже
мужчины, из ребра Адама. Особенно резко отличается
богословская тенденция первого варианта мифа от
сказочного характера второго варианта-
В данном случае два разных мифа помещены рядом,
причем редактор не сумел хоть как-нибудь их связать.
В большинстве случаев, однако, разные варианты мифа
или предания сплетены в один как бы связный рассказ,
из которого, однако, без труда выделяются два рассказа.
Так, сказку о продаже Иосифа братьями (Быт. XXXVII)
легко разделить на два "самостоятельных рассказа:
J: E:
18 Ь. и прежде нежели он (Иосиф) 18а, И увидели они его издали,
приблизился к ним, они стали 19. И сказали друг другу: вот
умышлять против него, чтобы идет этот сновидец. 20. Пойдем
убить его. 21. И услышал это(Ру- теперь, убьем его и бросим его
вим 1) и избавил его от рук их, в какой-нибудь колодец и скажем:
сказав: не убьем его. 23. И вот, хищный зверь съел его, и увидим,
когда пришел Иосиф к братьям что будет из его снов. 22. И ска-
своим, они сняли с Иосифа одежду зал им Рувим: не проливайте кро-
его. 25. И сели они есть хлеб; и ви; бросьте его в этот колодец,
подняли глаза свои и увидели, и который в пустыне, а руки не на-
вот идет из Галаада караван из- лагайте на него. (Он хотел) изба-
маильтян, и верблюды их несут вить его от рук их и возвратить
стираксу, бальзам и ладан; идут его к отцу... 24. И взяли его и
они отвезти (это) в Египет. 26. И бросили в колодец, а колодец тогда
1 В варианте J Иосифа спасает Иуда B6), а не Рувим, как в
Е. Повидимому, ст. 21 является позднейшей редакторской вставкой.
J5
Сказал Иуда братьям" своим: что был пуст, воды в нем не было,
пользы, если мы убьем брата на- 28а. И проходили купцы мадиани-
шего и скроем кровь его? 27. Пой- тянские, вытянули и вытащили
дем, продадим его измаильтянам; Иосифа из колодца... и отвели
а рука наша да не будет на нем, Иосифа в Египет,
потому что он брат наш, плоть
наша. И послушались братья его.
28 Ьа. и продали Иосифа
измаильтянам за двадцать серебренников.
Еще более разительный пример представляет
обнимающий целых три главы кн. Бытия (VI—VIII) миф о
потопе. Не прибавляя и не убавляя ни одного слова, мы
получаем здесь два связных,.вполне законченных рассказа*.
А поучительное предание о том, как патриарх торговал
прелестями своей жены, рассказано даже трижды —■
дважды об Аврааме и один раз об Исааке (гл. 12, 20 и 26).
Примером разрыва изложения может служить предание
об Иуде и Тамари (Быт. XXXVIII), вставленное в миф
об Иосифе, с которым оно ни в какой мере не связано.
Выделение отдельных отрывков, принадлежащих к
различным источникам, дало возможность составить более
или менее полную характеристику этих источников •—
определить характер содержащихся в них материалов,
мировоззрение их авторов, круг их интересов, богословские
тенденции, манеру изложения, лексику, стиль.
Руководствуясь добытой эмпирическим путем характеристикой
каждого источника, библеиеты разложили на основные
элементы все Шестикнижие и проследили влияние
источников J, Е, D на исторические книги Судей, Самуила и
Царей. Но источники эти отнюдь не представляют целостных
произведений, вышедших из-под пера определенных
авторов. Внутри каждого источника имеются свои
напластования, свои источники. Так, в кн. Левит, целиком
относящейся к Р, вставлен самостоятельный кодекс,
обнимающий главы XVII—XXVI (так наз. «Закон святости») с
заключительной концовкой: «Вот уставы и определения и
законы, которые поставил Ягве между собой и сынами
израилевыми на горе Синае»; но и внутри этого «закона
святости» гл. XVIII—XX представляют самостоятельный
вариант к следующим главам- Так наз. «книга завета»
(Исх. XXI — XXIII) взята Элогистом из более древнего
источника и т. и. Поэтому под J, E, P, D разумеются не
авторы, а школы, направления, объединяющие различных
1 См. А. Рано вич — Миф о всемирном потопе. «Атеист*
№ 43.
26
авторов и редакторов. Последних обозначают Лг, J2, Da,
Dlb, Db2 и т. п. Кроме того, как уже упоминалось, J и Е
даны в библии уже в слитной редакции (J E или
Иеговист), из которой приходится реконструировать отдельно
Л и Е. Наконец, при окончательной редакции библии в
целом жрецы, конечно, наложили свою печать на все ее
части, а отдельные редакторы и переписчики вносили свои
замечания, поправки, пояснения, глоссы.
Всю эту путаницу всевозможных источников и их
редакций в течение двухсот лет распутывают представители
библейской критики. «В настоящее время,—говорит
виднейший представитель протестантской критики текста
Г. Гункель,— можно установить источники во многих слу--
чаях вплоть до стиха, в отдельных случаях — дословно,
хотя, конечно, кой-что остается еще неясным» *. Гункель
переоценивает достижения в области филологической
критики текста; здесь еще очень много неясного, многое
навеяно субъективными воззрениями критиков, много
разногласий в деталях, и восстановление (хотя бы весьма
условное) источников далеко еще не закончено.
Примером того, какой вид принимает библия при
разбивке ее на источники, может послужить гл. XXV кн.
Бытия (разбивка на источники взята по Гункелю).
1. И взял Авраам еще жену, именем Хет-
т у р у. 2. И о н а р о д и л а ему Зимрана и И о к ш а-
н ai, Me да на и М иди а на, Ишбака и Ш у а х а.
3. А И о к ш .а н р о д и л Ш е в у и Д е д а н а. А сыны Де-
дана были: ашуреи, летушеи и леумеи. 4. А сыновья
Мидиаяа: Е ф а и Е ф е р, X а н о х и А в и д а
и Е л д а г а. В с е э т о —сыны X е т т у р ы. 5. И отдал
Авраам все, что у него, Исааку. 6. А сынам
наложниц, которые были у А в р а а м а, дал
Авраам подарки и отослал их от Исаака,
сына своего, еще при жизни своей на Восток,
в землю восточную. 7. И вот дней жизни Авраамовой,
которые он прожил, было сто семьдесят пять лет.
8. И скончался Авраам и умер в старости доброй,
престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу
своему. 9. И похоронили его Исаак и Измаил, сыновья
его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хе-
теянина, которое против Мамре, 10. на поле, которое
Авраам приобрел от сыновей хеттовых- Там погребены Ав-
1 Н. Gun k el —Genesis. Auf]. 3, Oottingen, 1910, S. LXXXI.
2-8 17
раам и Сарра, жена его. 11. И вот после смерти Авраама
бог благословил Исаака, сына его. И жил Исаак при
Беер-Лехай-Рои. 12. А вот родословие Измаила, сына Ав-
раамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка,
рабыня Сарры. 13. И вот имена сынов Измайловых, по их
племенам, по их родам: первенец Измаила Наваиоф, Ке-
дар;, Адбеел и Мивеам; 14. и Мишма и Дума и Масса;
15. Хадад и Фема; Иетур, Нафиш и Кедма. 16. Это сыны
Измаила, и это «мена их, в их селениях и .кочевьях;
двенадцать князей по их племенам. 17. А таковы годы жизни
Изма«ла: сто тридцать семь лет; и скончался он и умер
и приложился к народу своему. 18. И жили они от
Хавилы до Сура, что к востоку от Египта,
как идешь к Ассирии. Он поселился перед
лицомвсехбратьев. 19. А вот родословная Исаака,
сына Авраама: Авраам родил Исаака. 20. И был Исаак
сорока лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Ва-
фуила, арамеянина из Паддан-Арама, сестру - арамеявина
Лавана. 21. И молился Исаак Ягве о жене своей, потому
что она была бесплодна; и Ягве услышал его, и зачала
Ревекка, жена его. 22. И стали толкаться сыновья в ее
утробе, и она сказала: если так, то для чего мне это? х
И пошла вопросить Ягве. 23. И Ягве ей сказал: два
племени в чреве твоем, и два народа произойдут из утробы
твоей. Народ сделается сильнее народа 3, и старший будет
служить младшему. 24. И настало время родить ей; и вот
близнецы в утробе ее. 25.И вышел первый красный, весь
как волосяная од еж да, и нарекли ему имя Исав.
26. А потом вышел брат его, держась рукой за пяту Исава;
и наречено ему имя Иаков 3. Исаак же был шестидесяти
лет, когда они родились. 27. И выросли дети, и стал Исав
человеком искусным в звероловстве, человеком
полей. А Иаков человеком правильным, живущим в
шатрах. 28. И любил Исаак Исава, потому что дичь
была ему по вкусу, а Ревекка любила Иакова. 29. И
сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля
усталый. 30. И с к аз ал Исав Иакову: н а к о р м m
1 Текст в этом месте испорчен и удовлетворительного смысла
не дает. Гункель (Genesis, S. 294) толкует: «для чего это со мш>ч
случилось?» т. е. «что это предвещает?»
2 Т. е. один народ одержит верх над другим. Оракул в стиа
хотворной форме выражается сжато, применяя излюбленную Я
древнееврейской поэзии фигуру — параллелизм. :
3 Акеб по-древнееврейски обозначает «пята»; миф пытается
объяснить происхождение имени Яков.
18
меня красным, красным этим, потому что я
устал; потому дано ему прозвание Эдом1. 31. Но
Иаков сказал: продай мне свое
первородство. 32. И сказал Исав: вот я умираю: к чему
мне первородство? 33. И сказал Иаков:
поклянись мне теперь ж е. О н поклялся ему и
продал свое первородство Иакову. 34. И
Иаков дал Исаву хлеба и похлебку из
чечевицы, и он е л, и пренебрег Исав
первородством.
В этом отрывке шестью шрифтами переданы шесть
источников:
И в з л л А в р а а м... — Jir (япвистический редактор).
А сыны Дедана... ■— глоссы и варианты.
И отдал Авраа м... — ЛЬ (дополнительные
элементы Ягвиста).
И вот дней жизни... — Р (Жреческий кодекс).
И жил Исаак...— Ja (основное ядро Ягвиста).
И сварил И а к о в... -— Е (Элогист).
Конечно, не следует думать, что каждая фраза и
каждое слово, отнесенное к тому или иному источнику,
представляет собою точную цитату из этого источника и что
путем механического соединения отдельных элементов
можно восстановить источник в его первоначальном виде.
Библия представляет собою не механическое, а, так
сказать, химическое соединение, подвергшееся бесчисленным
переработкам и обработке в устной и литературной
традиции. Кроме того, отдавая должное «усердию, остроумию
и гениальной проницательности» комментаторов библии,
приходится считаться с субъективностью и богословской
предвзятостью оценки отдельных источников у критиков
библейского текста. В частности, весьма уязвимым надо
считать критерий лингвистический и стилистический, на
основании которого довольно часто определяется
принадлежность определенного текста к тому или иному
источнику. Например, в приведенной главе ст. 5 по формальным
соображениям выделен из Jr иотнесен к Jb. Однако это
совершенно неправильно, так как ст. 5 и 6 рассказывают о
распределении наследства Авраамом в строгом
соответствии с родовым правом, согласно которому сыновья
наложниц не являлись наследниками. Точно так же очень
спорно выделение в ст. 26 и 27 из Ja образных выраже-
1 Адом по-еврейски значит «красный».
2*
19
ний и отнесение их к Е. Подобных примеров можно было
бы привести сотни из разных книг библии. Однако они
касаются чаще всего деталей; в основном же главные
положения библейской критики можно признать
бесспорными: Шестикнижие в дошедшей до нас редакции
составлено из различных источников (в основном четырех),
написанных в разное время, вышедших из различных
общественных кругов и подвергавшихся многократно
редактированию, которое, однако, не стерло своеобразного
характера отдельных источников.
Еще сложнее важнейший вопрос о времени
возникновения отдельных источников Шестикнижия.
Конечно, критики не могли не считаться с тем
обстоятельством, что в так наз. исторических книгах Ветхого завета,
в их древнейших частях, и в древнейших «пророческих»
книгах «моисеево законодательство» не только нигде не
цитируется, но даже нигде не упоминается- У Михея (VI
4), Третьеисайи (Ис. LXIII 12) и Иеремии (XV 1)
упоминается только имя Моисея, а в кв. О сии (XII 14) говорится
лишь о «пророке», выведшем евреев из Египта. «Закон
Моисея» упоминается впервые у послепленного пророка
Малеахи (Ш 22), а ссылка на «книгу закона Моисея» (Вто-
роз. XXIV 16) встречается только в II Цар. XIV 6, в
рассказе о расправе иудейского царя Амасии с убийцами его
отца Иоаса (около 797 г.). Но эта ссылка по общему
признанию авторитетнейших библеистов является вставкой
позднейшего редактора, исправлявшего и дополнявшего
первоначальный текст кв. Царей в духе идей
Второзакония. Последнее же, как будет разъяснено ниже, появилось
не ранее 621 г., и в рассказе о его появлении оно
систематически называется просто «Книгой закона» или
«Книгой договора» (II Цар. XXII 8, 11; XXIII 21).
Тем не менее под влиянием богословского
представления о том, что «закон» был дан Моисею в «откровении»
еще до поселения евреев в Ханаане и что источником
этого «закона» является не зависящая от времени и места
«воля божия», протестантские критики библии долгое
время продолжали считать, что древнейшей частью
Шестикнижия является «закон», изложенный в старшем Элоги-
сте (Жреческом кодексе). Наиболее консервативные биб-
леисты были склонны относить материал этого
источника к эпохе Моисея. Что касается остальных
источников, то раньше всего был разрешен вопрос о времени
происхождения D, т. е. Второзакония, знаменитым не-
20
мецким библеистом де-Ветте*. Исходя из того, что
основная тенденция Второзакония заключается в
централизации культа при иерусалимском храме и в борьбе со
старыми местными культами (Второз. XII, XIV 22—29,
XVI 1—17), де-Ветте отожествил его с той книгой
закона, которую первосвященник Хилкия нашел в 621 г.
в храме и на основании которой царь Иосия
произвел централизацию культа (II Цар. XXII—XXIII). Это
открытие составило целую эпоху в развитии библейской
критики, и дата 'Второзакония сделалась тем твердым
отправным пунктом, опираясь на который в 60-х—70-х гг.
библеистам удалось окончательно разрешить хронологи-'
чеокую проблему. Последняя касалась главным образом
датировки старшего Элосиста (Жреческого кодекса), так
как датировка J и Е (младшего Элогиста) не вызывала
споров.
В 60-х годах некоторых критиков заставило
призадуматься явное противоречие между «законом» и той
религиозной практикой, которая засвидетельствована тем же
Ветхим заветом для раннего периода истории евреев в
Палестине. Развивая мысли, высказанные Графом (а до
него Рейссом, Ветте и Ватке) в 1869 г.2, Ю. Вельгаузен
в своем составившем эпоху исследовании «Prolegomena
zur GesciMcMe Israels»3 разработал гипотезу о том, что
старший Элогист — самая поздняя часть Шестикнижия,
составленная в Вавилоне жрецами в эпоху «второго
храма», не ранее первой половины V в., и введенная в жизнь
под именем «Книга закона моисеева» Езрой в 444 г. Ведь-'
гаузен подчеркивает, что сложное законодательство Р,
действовавшее якобы еще тогда, когда евреи кочевали
в пустыне, было немыслимо в то время и не применялось
в царскую эпоху, зато вполне подходит к обстановке по-
слепленной эпохи. «Воздвигнутое в пустыне на
чрезвычайно широких основаниях здание религиозной общины
бесследно исчезает вместе со своим священным центром
и однообразной организацией, как только Израиль
начинает вести оседлую жизнь и становится народом- в
собственном смысле. Период судей рисуется нам как пестрый
хаос, из которого постепенно выходит связная организа-
1 D e We tt e — Dissertatio critica qua Deutoronomium a prioribus
Pentateuchi libris diversum alius cujusdam necentioris auctonis opus
esse demianstratur. Iena 1805.
2 K. H. Graf —Die sogenannte Grundschrift des Pentateuch's.
3 Т. е «Введение в историю Израиля». 1-е изд. 1878 г.
21
ция под давлением внешних обстоятельств, но совершенно
естественным образом и без всякого воспоминания о
единообразном священном строе, который когда-то
существовал на законном основании. Еврейской древности
чужды иерократические склонности; власть находится
исключительно в руках родовых и семейных старшин и в руках
царей, они же совершают богослужение и назначают и
сменяют жрецов. Влияние последних — только моральное;
закон Ягве в их руках не является документом,
обеспечивающим их собственное положение, напротив, они
поучают им других в своих речах. Закон, как и слово
пророков, имеет только божественный авторитет, его
значение — только в его добровольном признании.
Наконец, что касается литературы, которую мы имеем из
царской эпохи, то при самом сильном желании мудрено
откопать два-три двусмысленных намека на закон, значение
которых ничтожно... Чтобы довершить удивление,
остается прибавить, что в среде послепленного иудейства
скрывавшееся до сих пор дело Моисея внезапно и повсюду
является наружу. Там мы видим книгу как основание
духовной жизни, «людей закона», как говорит коран; там
мы видим святилище, жрецов и левитов в центре и народ
вокруг них в виде общины; там мы видим культ, жертвы
всесожжения и умилостивления, очищения и воздержания,
праздники и субботы, все по точному предписанию
закона, как главную задачу существования» 1.
Вельгаузен показал, что Жреческий кодекс проникнут
определенными богословскими идеями, обнаруживает не
только в содержании, но и в манере изложения
стремление утвердить определенную жреческую доктрину. В этом
отношении характерно, как Р излагает мифы в кн.
Бытия: в противоположность J, бесхитростно передающему
сохранившиеся в устной традиции мифы, Р и здесь
проводит богословскую линию; Р тщательно избегает имени
Ягве, которое, с точки зрения авторов Р, до Моисея не
могло быть известно; он всюду вводит божественную волю
как мотивировку событий; он вводит постепенность в
«откровении божьем» и устанавливает три завета: первый
завет (если не считать, так сказать, зачаточного завета с
Адамом), с очень скромными требованиями, бог
заключает с Ноем (Быт. IX 1 ел.); второй, уже более слож-
1 Ю. В ель гаузен —Введение- в историю Израиля. СПБ
1909, стр, 4.
22
ный, — с Авраамом (XVII), и таким образом
подготовляется окончательный завет с Моисеем. В
«исторической» части Р — «лишь выдержки и костяк,
составленный из родословий и хронологических исчислений, по
собственному содержанию он — закон, и притом в его
позднейшем выражении. Он является общинным и
культовым законом для нового1 Израиля, вновь возникшего
как культовая община после изгнания в VI—V вв.» 1.
Путем анализа истории еврейского религиозного
культа и древнееврейской историографии «в связи с
внутренним развитием истории Израиля, поскольку оно нам
известно на основании других не подлежащих сомнению
свидетельств» (под ними Вельгаузен разумеет так наз.
исторические книги Ветхого завета и части пророческих
книг, восходящие к царской эпохе), Вельгаузен
установил следующую хронологическую последовательность
источников Шестикнижия: 1) Иеговист (так Вельгаузен
назвал слитную редакцию J + E —JE), 2) Второзаконие
(D) и 3) Жреческий кодекс (Р). При этом Жреческий
кодекс, обнимающий всю кн. Левит, большую часть кн. Числ
и значительную часть кн. Быт. и Исх., отнесен вопреки
прежним взглядам на последнее место, к подлепленной
эпохе, и представляет собою, повидимому, ту «книгу
закона моисеева», которую, по сообщению Нехемии (гл.
VIII), Езра читал народу в 444 г.
В своей работе Вельгаузен дал новую и весьма
убедительную аргументацию в пользу установившейся до него
датировки Второзакония концом VII века, a J и Е (JE)—
двумя-тремя веками раньше. Датировка D основывалась,
как мы указывали, на исторических данных. Но для
датирования J и Е до Вельгаузена никаких вполне
определенных данных не приводилось, так как J и Е не содержат
исторических данных, по которым можно было бы
установить время их написания. На основании довольно
сомнительных намеков, особенно1 на основании сравнения
этих источников с древнейшей пророческой литературой,
критики относили J к 950—700 гг., Е— примерно к 750 г.
Вельгаузен, сравнивая религиозную идеологию и
практику JE с религиозной идеологией и практикой,
отраженной в книгах Судей, Самуила и Царей, показал, что та и
другая соответствуют друг другу и не знают принципа
1 D. К. В u d d « — Gescfiichte der alttestamentlichen Literatur.
Lpz. 1906, S. 57,
23
централизации культа, а потому должны быть древнее D.
Но во всяком случае J и Е не могут быть древнее X в.
Окончательное сведение всех 4 источников в одно целое
приходится отнести примерно к 400 г., так как Р был
опубликован в 444 г., а отделившиеся от храмовой
общины самаритяне уже имели в своем распоряжении Пяти-'
книжие в его окончательном виде Г
Анализ Шестикнижия и установление относительной
хронологии, последовательности составляющих его
источников составляют «венец» буржуазной критики библии,
оставляющей в полной неприкосновенности «очищенное»
в результате этой критики богословское учение об
откровении, и еще в 1887 г. Бриггом, основываясь на более или
менее общем признании выводов Вельгаузена, писал:
«Едва ли есть какой-либо научный вопрос, относительно
которого существовало бы большее согласие, чем
относительно этого вопроса об анализе Шестикнижия» 2.
Но это согласие оказалось призрачным. К критике
Ветхого завета вполне применима характеристика, данная
Энгельсом тюбингенской школе критики новозаветных
текстов: «она пытается «спасти все, что можно еще
спасти», и в этом очень ясно проявляется ее характер как
школы теологов» 3. И если в период расцвета капитализма,
когда буржуазия была заинтересована в развитии
техники, которому мешало' библейское мировоззрение,
критика библии заходила в .своих выводах довольно далеко,
то. по .мере загнивания капитализма буржуазные ученые
стараются '«спасти» побольше и вновь утвердиться на
давно потерянных позициях. Поэтому оппозиция против
теории Графа — Вельгаузена, дававшая о себе знать все
время, в последние годы значительно усилилась.
Вначале богословы успокоились было на том, что гипотеза
1 На конгрессе по истории религии в Париже в 1923 г. А. Лодс
поставил интересный вопрос о роли устной традиции в создании
ветхозаветных книг. Исследование этого вопроса в дальнейшем
может пролить новый свет на процесс слияния различных преданий,
получивших литературное оформление в различных редакциях
библии. Ср. A. L о d s — Le role de la tradition orale dans la
formation des recits de 1'Anoen Testament. «Actes du congres intern, d'hi-
stoire des religions». P. 1925, v. I, p. 468 sq.
2 См. М. Соловейчик — Основные проблемы библейской
науки. СПБ 1913, стр. 33. Примерно то же констатирует Гуго
Гресман в программной статье новой серии ZAW A924, S. 1 if.).
3 Энгельс — К истории раннего христианства. Соч., т. XVI,
ч. II, стр. 414—415.
24
Вельгаузена нисколько не противоречит теории
божественного откровения как основного источника библии1.
Уже цитированный нами Макалиетер так формулирует
поповскую идею о «постепенности» откровения,
примиряющую богословскую теорию с результатами
библейской 'критики: «Библия отражает постепенные успехи,
какие делал избранный народ в деле раскрытия
божественного; начав с самой грубой и суровой дикости, он
подвигался оттуда вперед в познании, пока не назрело
время для более полного откровения» 2. Теория
Вельгаузена тем1 легче поддавалась поповской обработке, что
автор ее, сам богослов, отнюдь не ставил и не мог себе
ставить задачи раскрыть земные, исторические корни
религиозных учений, отраженных в библейских книгах.
Сильная сторона егч> теории—-в том, что он сумел
подойти к библейскему тексту с исторической
меркой. Но его историзм не идет дальше понимания
исторической смены форм культа'и церковной организации.
Напротив, религиозные идеи, по Вельгауэену, возникают
независимо от времени и места, ведут самостоятельное
существование и могут иметь своим источником
божественное откровение. Он понимает, что сложный храмовый
ритуал и развитая жреческая организация несовместимы
с родовым бытом; ж> он убежден, что вера в
абстрактного единого бога могла быть внушена свыше вождю
примитивных кочевников Моисею, в' историчности
которого он не сомневается.
Порочность метода привела Вельгаузена к ряду
срывов. В частности, он не сумел вскрыть в Жреческом
кодексе ряд очень древних традиций и религиозных
предписаний. Так, обрядность «судного дня», о которой
сообщает только Р, представляет собою несомненный
пережиток примитивной эпохи, как об этом свидетельствуют
многочисленные этнографические параллели. К глубокой
древности относится предписываемый Р обряд испытания
неверной жены (Чис. V) и другие очистительные обряды.
Генеалогические таблицы, которыми пестрит Р, отражают,
несомненно, очень старую традицию3. Не пытаясь вскрыть
1 См. напр. F. Giesebriecht — Die Grundziige der israelit.
Religionsgeschichte. Lpz. — Berl. 1904; I. Meinhoid —Die biblische
Urgeschichte. Bonn 1904; R. К i 11 e 1 — Geschichte des Volkes Israel.
Gotha 1909—1912.
2 Ук. соч., стр. 267.
3 Энгельс —Письмо к Марксу. Соч., т, XXI, стр. 484.
25-
различные пласты в Жреческом кодексе и объявив его
целиком продуктом1 жреческого творчества послепленной
эпохи, Вельгаузен в известной мере задержал
критическую работу по анализу этого библейского источника.
Все же, при всей ограниченности и идеалистической
предвзятости исторического .подхода Вельгаузена к
критике библейского текста, в этом подходе заключалась
сила его теории, бывшей, несомненно, прогрессивным
явлением. Поэтому критики Вельгаузена из реакционного
лагеря не решались открыто против нее выступать. Однако
в период кризиса капитализмй ученые лакеи последнего
уже не довольствуются приспособлением поповских
теорий к данным научной критики. Все чаще появляются
попытки воссоздать старые представления о единстве
библии; взгляды буржуазной критической школы периода ее
расцвета пугают жалких эпигонов своим радикализмом.
Э. Кениг с ненавистью обрушивается на представителей
«материалистически-дарвинистской концепции», к
которым он причисляет... богослова Г. Гункеля и Б. Штаде!1
Эрдмане, еще 25 лет назад резко выступивший против
школы Вельгаузена, вновь пытается опровергнуть
выводы этой школы 2. Критика Эрдманса (в его «Atttestaim-enit-
ldche S'tudiien», 1908—1914), поскольку она направлена
против слабой стороны вельгаузенской школы, против
формального метода выделения ието1чяиков (в частности,
Эрдмане отвергает исходный пункт критики текста —
выделение источников по признаку применения термина
Ягве или Элогим), несомненно, полезна. Попытка
Эрдманса установить вместо четырех источников библии
четыре ступени развития библейского материала от
политеизма до монотеизма дала ему возможность вскрыть
пережитки примитивных культов в Р. Но в основном
Эрдмане направляет свое оружие против теории
Вельгаузена в целом, против ее прогрессивных элементов, хотя
ничего определенного взамен предложить не может.
Другой современный библеист, Макс Лёр, объявляет
все 4 источника Шестикнижия призраками 3. Торчинер пы-
1 Ed. Konig—The modern attacs an the historicity of the
religion of the patriarchs. JQR, XXXI A932), Nr. 2, p. 199 ss.
2 Eerdmans — De Godsdienst van Israel. 1930; см. О. E i s s-
f e 1 d t — Zwei Leidener Darstellungen der isr. Religionsgeschichte,
ZDCM, v. 85 A931), Б. 172.
3 Max Loehr — Zum Hexateuchproblem. OLZ, 1926, XXIX, I,
S. 4— 1Э.
26
тается спасти единство библии, выдвигая своеобразную
теорию о том, что развитие библейского законодательства,
как его рисует Велъгаузен, — фикция, что разноречия и
повторения, объясняются особой структурой библии,
построенной в виде последовательного повествов'ания* с
поэтическими вставками, и что несоответствие
законодательства реальной исторической действительности древнего
периода не говорит против его древности: оно могло быть
дано не как реальная программа, а как теоретический
проект вроде того, который имеется в кн. Иезекииля1.
Правда, эта «новая» теория была выдвинута много лет
назад Киттелем и заранее опровергнута Вельгаузеном 2. Но
для спасения единства библии можно использовать и
забытый старый аргумент. Если Торчинер весьма робко и
в прикрытой форме пытается подкопаться под Вельгау-
зена, то уж совсем без стеснения выступает Ф. Дорнзейф 3.
Расшаркиваясь перед «великим семитистом XIX в.», он
издевается над его теорией, по которой редактор
Пятикнижия «работал с ножницами! и клеем», смеется над
признанием Эло-гиста и Ягвиста; «удивительно, — иронизирует
он, — -что при анализе Гомера еще не пришло в голову
установить Парисиста и Александриста» *,— как-будто
факт существования в составе Пятикнижия различных,
легко различимых отдельных источников установлен
только на основании чередования имен Ягве и Элогим!
Совершенно игнорируя проделанную Вельгаузеном и его
школой колоссальную работу но анализу содержания
библии, Дорнзейф 'без всяких доказательств заявляет, что
Пятикнижие целик ом написано одним автором ок. 950 г.
и что все -противоречия и параллелизмы в нем
объясняются особым литературным приемом, свойственным якобы
всей древневосточной литературе; этот прием усвоил и
Гомер, у которого- Дорнзейф находит много общего с
библией, — по его .мнению, не случайно. Конечно,
покойные Штаде, Марти и Гресм-ан, имена которых по немец-
1 Н. То rczy n er — Das literarische Problem der Bibel, ZDMG
85, A931), S. 287 ел. Против такого метода восстановления
«единства» библейских текстов выступил К. 'Будде на конгрессе
ориенталистов в Вене, отстаивая более откровенную консервативную
точку зрения. См. К. В u d d e — Habbakuk, ZDMG 84, A930),
S. 139 ff.
2 «Введение в историю Израиля», стр. 323.
3 F. Do ruse if f — Antikes zum Alten Testament, ZAW, XI,
A934), '5. 57 ff.
4 Герой троянской войны Парис именуется также Александром.
27
кой традиции продолжают красоваться на обложке ZAW,.
в свое время никак не согласились бы с таким методом
«опровержения» Вельгаузена. Но теперь времена иные.
По-новому подходит к вопросу Зигмунд Ямпель 1,
ставящий* вопрос на политическую почву- Выступая против:
«гиперкритики» и возрождая из праха поповскую теорию
«вырождения» и забвения божественного откровения,
Ямпель утверждает, что картина первобытной религии,
рисуемая в кн. Судей, доказывает лишь «культурное падение
народа в те времена, когда ему нехватает вождя по
призванию», сиречь «божьей милостью»; «высокая оценка
разрушительной работы критики — знамение нашего
смутного времени»; наконец, «радикальная критика подготовила
почву для расового антисемитизма». Тут перед нами
выступает установка, уже ясно предвосхищающая методы и
«идеи» германской фашистской «науки».
Эти решительные и бесцеремонные выступления
фашиствующих и тянущихся за поповщиной библеистов
против итогов критического изучения Шестикнижия
опирались в значительной мере на тот порочный круг, в какой
должно было попасть и попало «критическое
богословие» даже в лице школы Графа — Вельгаузена. Весьма
едко отмечает бесплодность и безвыходность
«критического богословия» Г. Шнейдер, сам изучавший историю
древности с точки зрения идеалистической философии,
как «историю развития понятий». «У богословов-ветхоза-
ветников мы имеем лишь более или менее сознательную
схоластическую апологетику Ветхого завета и присвоение
монополии на исследование и критику на службе
апологетике философии истории евреев, а не современную
историческую науку. Теологическое исследование в этой
области лишь по видимости занимается вопросом о
действительном ходе развития, в действительности его задача —
апологетическая,—какие нужно сделать уступки
«разрушительным тенденциям», чтоб сохранить целое. И вполне
логично, что величайший мыслитель среди этих
схоластиков, Вельгаузен..- вместо того, чтобы добиться свободы
исследования ветхозаветной истории, вынужден был уйти
с богословского факультета, и столь же логично, что его
ученики, еще в большей мере схоластики и потому менее
опасные, остаются на факультете и им предоставляется
1 Sigm. J amp el — Die Vorgeschiichte des israetitischen Volkes
und seiner Religion. T, 1, Frankfurt a/M, 1928.
28
обезвреживать работу своего учителя кой*каиимй...
перестановками, бесчисленными специальными исследованиями
и отдельными безвредными поправками; церковная наука
оказалась на месте; никто не может ее упрекнуть, что она
не считается с неудобными для нее открытиями; жаль
только, что эти открытия никогда не могут устоять
против «тщательной проверки опытным глазом»! Работа
богословов над Ветхим заветом, это—труд Пенелопы, когда
ночью распускают ткань, сотканную днем»i. Историк-
идеалист выбалтывает секреты своего цеха и признает,
что наука о древней еврейской истории, литературе и
религии поставлена на службу церкви. Но он не замечает,
что и сам находится на поводу у поповщины, и потому
находит единую линию развития от пророка Исайи
через «рабби Иисуса» к... Спинозе!
Не довольствуясь атакой на Велъгаузена, реакционные
библеисты-богословы— и иудейские и христианские —
после войны предприняли поход также против
основоположника библейской критики XIX в. де-Ветте. Как было
сказано выше, де-Ветте еще в 1805 г. установил, что
Второзаконие появилось только в 621 г. Этот тезис прочно
утвердился в библейской науке и «дал критике Пятикнижия
ту архимедову точку опоры, благодаря которой она
сумела сорвать с петель церковную традицию» 2.
Последующее исследование уточнило тезис де-Ветте лишь в том
смысле, что и Второзаконие не является целостным
произведением, но что и в нем имеются разнороднее элементы,
которые не могли возникнуть одновременно. Теперь
обычно «ядром» Второзакония считают главы XII—XXVIII, в
которых имеются свои наслоения и позднейшие
дополнения.
Прогрессивное значение датировки основного ядра
Второзакония 621 г. заключается прежде всего- в том, что
она убедительно доказывает псевдоэпиграфичность этой
«книги Моисеевой». Не удивительно поэтому, что
реакционные представители библейской критики пытаются
теперь вновь отодвинуть дату Второзакония до эпохи
«Моисея» или во всяком случае в глубь веков.
Застрельщиками в этом деле выступили протестантские богословы
Эстрайхер, Хорст и Штэрк, еврейские богословы Винер
1 Н. Schneider — Kultur und Denken der Babylonier tind Ju-
den. Lpz. 1910, S. XIV.
20. Eissfeldt — Einleitung in das Alte Testament. Tbng.
1934, S, 128,
29
и Макс Лёр. Последний 1 прямо возводит Второзаконие к
Моисею, оказываясь, таким образом, позади даже Ибн-
Эзры. Более умеренные реакционеры, не заходя так
далеко, все же стараются датировать D ©о всяком случае
не позже эпохи J и Е. Так, Олбрайт считает, что ядро
Второзакония относится к IX в.2.
Аргументы противников де-Ветте разные. Эстрайхер
выдвигает положение, что рассказ II Цар. XXIII об
уничтожении местных святилищ является вставкой позднейшего
редактора. Хорст пытается доказать, что была найдена не
книга закона, iai -пророческая книга. Штэрк выдвигает на
первый- план несоответствие по Второзаконию между це-н-
традизаторскими постановлениями и постановлениями о
городах убежища. Винер пускается в длинные
исследования о разных типах жертвенников. Решающее значение,
конечно, мог бы иметь аргумент Эстрайхера; но
последний опирается на чисто формальный метод анализа,
являющийся в данном случае -совершенно неубедительным3-
В итоге эта атака реакционных богословов на основные
позиции библейской критики не имела успеха. Возникшая
полемика показала, что добытые критикой результаты
стали достоянием слишком широких кругов и слишком
прочно утвердились, чтобы можно было их всерьез
оспаривать, и наиболее умные представители «библейской
науки» типа К. Марта, Г. Гресмана, Г. Гункеля или
теперешнего Гемпеля предпочитали и предпочитают еще принять
и развивать теорию Вельгаузена, стараясь при этом
«спасти, что возможно».
Конечно, в деталях чисто литературный анализ Шести-
книжия, отнюдь не затрагивающий поповской теории
происхождения и развития «возвышенных идей» религии
Ягве, далеко не доведен до конца, и гипотеза Вельгаузена
в специальных частях ее иногда расширяется. Так, Кор--
ни ль, Будде, Бенцингер полагают, что к J и Е надо
отнести не только соответствующие части Шестикнижия, но и
большую часть кн. Судей, Самуила и Царей и,
следовательно, даты этих источников надо отнести к более
позднему периоду: J—примерно к эпохе царствования Хизкии,
'Max Loehr — Untersuchungen zum Hexateuchproblem, 11,
1925.
2 W. Albright — The Archaeology of Palestine and the Bible,
IQR, XXIV A934),
3 См. статью H. <G r e s s m a n n ' a — Josia und Deuteronomium,
ZAW, 1924, S. 313 ff. "
30
Е — к концу VII в. Имеются интересные попытки деловой
ревизии также и тезиса де-Ветте о дате Второзакония.
Так, Гельшер, развивая аргументы Эстрайхера, считает
рассказ кн. Царей о централизаторской реформе Иосии
позднейшей вставкой, но делает отсюда противоположный
вывод — передвигает D в послепленную эпоху (см. ниже,
стр. 188 ел.) 1. Но особенно оригинальную позицию в
вопросе о Второзаконии занял Бин-Горион.
Исходя из предположения, что наряду с иудейско-си-
найской традицией должна была существовать и эфраи-
митско-гаризимская, Бин-Горион полагает, что
Второзаконие и было этим эфраимитским кодексом; поскольку он
в противоположность «синайскому» законодательству
сложился на палестинской почве и основывался на «местных
отношениях», он прочнее утвердился, чем «моисеев
завет»; поэтому, «чтобы доставить первенство синайскому
завету, не было иного средства, как приписать Моисею и
тот завет, который был заключен Иисусом Навином»
(Иис. Нав, XXIV). Вот почему Второзаконие указывает
(гл. I) местом своего возникновения, так сказать,
нейтральную почву — не Синай или Кадеш, но и не Гари-
зим 2. В этой гипотезе наиболее ценной стороной надо
считать два момента: во-первых, предположение, что
в теперешнем1 Пятикнижии зафиксированы остатки двух
кодексов — иудейского и эфраимитскюго,
соответственно двум церквам, и, во-вторых, -новый яркий пример
бесцеремонной иудейской «унифицирующей» обработки
эфраимитското материала. Но остается недоказанным, что
Второзаконие целиком, особенно его культовые
предписания, составлено из эфраимитских правовых материалов.
Централизаторские предписания могут быть только
иудейского происхождения.
В итоге, несмотря на потуги библеистов всех лагерей,
надо подчеркнуть, что старое воззрение на библию как на
откровение божье, данное Моисею на горе Синае в
доисторические времена, как на целостное «священное
писанием сокрушено навсегда. И в этом заключается
положительное значение библейской критики от Астрюка до
наших дней. Но если протестантская критика библии в XIX—
XX ст. достигла больших результатов в смысле детально-
1 G. Holscher — {Composition und Ursprung des Deuterono-
miums, ZAW 40, A922), S. 161 ff; cp. H. G r e s s m a n n. OLZ, 1926,
S, 781.
2 M. J. Bin Gori on —Sinai und Garisim. B. 1926, S. 406.
3!
го анализа и датировки библейских источников, то по
своим задачам и условиям она ушла далеко назад по
сравнению с той критикой библии, которую дал 250 лет
назад Спиноза. Для Спинозы критика библии была
средством для разрушения веры в библейского бога-творца, в
откровение, в пророчества и чудеса. Для исследователей
типа Вельгаузена или Киттеля та же критика является
средством укрепления веры путем очищения ее от
всего того, что1 несовместимо с воззрениями
просвещенного буржуа; они охотно отбрасывают явно грязную
шелуху, чтоб тем лучше сохранить «драгоценное ядро».
Вельгаузен и его последователи анализируют библию
с точки зрения ее внутренней логики и с точки зрения
идеалистического представления о развитии и
постепенном раскрытии религиозных идей. Школа Вельгаузена
поэтому ничего не может дать для понимания религии
евреев как идеологической надстройки, для понимания ее
«светской основы», точно так же как радикальная критика
евангельских текстов так наз. мифологической школой
бессильна объяснить происхождение христианства. Иудаизм,
как и всякую религию, можно понять лишь «из данных
отношений реальной жизни», а этим как-раз протестант-'
екая критика библии не интересуется и интересоваться
не может: для этого она должна была бы перестать быть
протестантской.
Не менее бесплодны и вредны псевдомарксистские
«опыты» каутскианцев. С первого взгляда как-будто не
лишена интереса попытка А. Менеса дать «социально-
политический анализ библейской первобытной истории».
Отмечая, что источники библии принято делить лишь по
хронологическому принципу (exilisch, vorexilisclh, maoheeu-
teronoimistisoh и т.п.), Менее указывает: «При этом не
замечают, что различие воззрений может в такой же мере
быть следствием различия образа мыслей и социальной
принадлежности». Идеалы библейских авторов «всегда
являются выражением социального положения, и их
можно понять, лишь исходя из интересов тех кругов, в
которых они возникли» и. Он пытается даже выводить
отдельные явления в истории иудаизма из классовой борьбы,
которую он целомудренно называет «борьбой сословий»
(Standekampf). Но этот ученик Каутского, благополучно
1 А. М en es — Die socialpolitiische Analyse der Urgeschichte, ZAW,
N. F. 2 A925), S. 33.
•32
перекочевавший из с.-д. партии в лагерь фашизма, дает
в своих псевдонаучных изысканиях лишь самое грубое
извращение марксистской методологии. В древней Иудее он
видит те же классы, что и в современной
Германии,—буржуазию и городской пролетариат, а религия для него не
реакционная сила, закрепляющая и освящающая эксплоа-
тацию, а результат революционного движения
угнетенных, выражающийся в реформах в пользу трудящихся.
Суббота — социальная реформа в пользу герим, которых
Менее отожествляет с наемными рабочими. «Книга
завета» в вопросах уголовного и гражданского права прежде
всего защищает интересы крестьянства; Второзаконие,
написанное позднее, защищает интересы городского про-*
летариата. Второзаконие требует централизации культа,
ибо пролетариат шовинистичен (!), а буржуазия
интернациональна. Обострение классовых противоречий,
появление лишенного собственности пролетариата в результате
разорения крестьянства вызвало революцию, и
Второзаконие — выражение победы этой революции. «Книга
завета» — тоже результат революции, но еще не пролетарской,
а крестьянской, происшедшей в IX в. Такими
«открытиями» Менее начинил целую книгу1.
В цитированной выше статье Менее, анализируя миф
о Каине, которого бог прогнал в пустыню, приходит к
выводу, что Каин, как и Моисей, Измаил, Яков и Давид,
бежит в пустыню от преследований и там ему
открывается Ягве. «Ягве является, таким образом, богом пустыни и
вм-есте с тем защитником несчастных и угнетенных».
«Борьба между Ягве и ваалами... это — борьба между раз-
личНьШй "социальными слоями и результат городского
развития и вытекающего из него социального кризиса.
Носителями этого социально-революционного движения
были социально-угнетенные слои». Эту смесь богословия,,
вульгаризированного каутскианства и элементарного не-.'
вежества мы в сущности наблюдаем, хотя в более
приглаженном и внешне благообразном виде, также у социал-
демократа Мауренбрехера2, а ловкую фальшивку,
украшенную всеми доспехами ^извращенного марксизма, мы
видим у «самого» Каутского, сумевшего ловко прикрыть
ослиные уши богословия и идеализма марксистской
фразеологией.
1 A. Menes — Die vorexilischen Gesetze Israels. Giessen 1928.
2 Мауренбрехер — Пророки. II, 1919.
3^-3
33
Анализ библейского текста может быть плодотворным
и подлинно научным только тогда, когда он исходит с
позиций пролетарского атеизма, с позиций
диалектического материализма. Для правильного понимания и
использования библейских текстов необходимо постоянно
иметь в виду, что религия всегда была реакционной
силой, «одной из самых гнусных вещей, какие только есть
на свете», что идея бога «всегда связывала угнетенные
классы верой в божественность угнетателей»г
что религия — опиум народа — является фантастических
отражением в сознании людей гнетущих сил природы и
общества. А правильное понимание корней религии —
ключ к пониманию также ее литературных памятников
Вот почему Ленин так высоко ценил антирелигиозные
работы И. И. Скворцова-Степанова, в частности его
«Происхождение нашего бога» 2, вот почему «Библия для
верующих и неверующих» Ем. Ярославского, не
занимающаяся формальным анализом библии, больше дает для
освещения классовой физиономии библейских авторов,
чем томы исследований буржуазных филологов.
Задача критика-марксиста трудна; «много легче
посредством анализа найти земное ядро причудливых
религиозных представлений, чем, наоборот, из данных
отношений реальной жизни вывести соответствующие им
религиозные формы. Последний метод есть единственно
материалистический, а следовательно, научный метод» :!.
История библейской критики от Спинозы до наших дней
показывает, что только в той мере, как исследователи
приближались — пусть стихийно и непоследовательно — к
этому единственно научному методу, они давали ценные
результаты. Интересную в этом смысле попытку анализа
библейского текста Лев. XXV и XXVII дал Н. М.
Никольский. Исходя из анализа соответствующих социально-
политических отношений, Н. М. Никольский выделяет в
законодательстве о юбилейном годе три различных
«торы», возникших в VIII—VI вв. и отразивших
различные этапы классовой борьбы в Иудее 4.
1 Ленинский сб. I, стр. 159.
2 Собр. соч., XXIX, стр. 466.
3 К. Маркс — Капитал. Изд. 8-е т. I, гл. XIII, стр. 301, прим. 89.
4Н. М. Никольский — Происхождение юбилейного' года.
«Изв. Ак. наук СССР», 1931, стр. 1031 ел.
34
. 6) ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Литературный анализ так наз. исторических книг —
Судей, Самуила, Царств и Хроник (Паралипоменон)
значительно облегчается тем, что мы можем проникнуть
в мастерскую автора и видеть, как фабрикуется история
и обрабатываются источники. Дело в том, что книги
Хроник, непосредственно примыкающие к кн. Езры и Нехе-
мии и составленные около 300 г., представляют собою
совершенно очевидную переработку кн. Царей. После
генеалогических таблиц, занимающих первые девять глав
1-й кн., хронист начинает в гл. X свое повествование с
сообщения о смерти Саула (I Сам. XXXI) и доводит его,
повторяя изложение II Сам. и кн. Царей, до_разрушения
Иерусалима Навуходоносором, т. е. до того места, на
котором кончается кн. ЦарёйТ От себя он прибавляет
лишь 4 стиха, где кратко сообщает о возвращении из
вавилонского плена.
Совершенно очевидно, что основным источником для
хрониста послужили кн. Сам. и Царей. Как же он
использовал свои источники?
Сличение кн. Хроник с кн. Сам. и Царей показывает,
что хронист заботится прежде всего о том, чтоб
проводить богословские идеи своего времени, усвоенные им из
Жреческого кодекса, и к ним приспособляет свои
источники. Он поэтому игнорирует историю Израильского
царства и сосредоточивает свое внимание исключительно
на Иудейском царстве, где был центр культа Ягве с
храмом и жречеством; при этом и культ и жречество он
изображает в духе своего времени, т. е. в духе
Жреческого кодекса. Он пропускает все рассказы о гаусш>
ст^х_ц_аря_ Давида, которого ему нужно изобразить как
основоположника централизованного в Иерусалиме
культа; он бесцеремонно меняет даты, дополняет, сокращает,
переставляет там, где это ему нужно для подтверждения
своей основной тенденции, что история Иудеи —
история славы Ягве; все события царствования того или
иного царя вытекают лишь из того, в какой мере царь
был послушен воле Ягве, .выраженной через пророков;
пророки предопределяют по указанию Ягве все события,
и история — лишь проявление воли божьей. Для
хрониста основное —религиозная проповедь, для которой
'исторический материал служит лишь иллюстрацией.
Подобно тому, как хронист «обработал» кн. Сам. и
3*
35
Царей, обработали свои источники также и составители
кн. Судей, Самуила и Царей. Отдельные предания,
легенды, мифы, исторические книги, летописи,
генеалогические записи, стихотворный эпос — все те
многообразные материалы, из которых составлены древнейшие
исторические ветхозаветные книги, включены в
определенную ...богословскую схему. Для кн. Судей эху схему
формулирует сам редактор или редакторы Суд. II, II. «И
стали делать сыны изранлевы дурное в глазах Ягве и
служить ваалам. 12. И оставили Ягве, бога отцов своих,
который* вывел" их из земли Египетской, и пошли за
другими богами, из богов народов, "которые окружали их, и
стали поклоняться им и прогневили Ягве. 13. И оставили
они Ягве и служили ваалам и Астартам. 14. И воспылал
гнев Ягве на. Израиля, и он отдал их в руки грабителей,
и те грабили их, и он предал их в руки окружающих
врагов, и не могли они больше устоять против своих
врагов. 15. Куда бы они ни направились, рука Ягве была
им во зло, как говорил Ягве и как Ялве им клялся; и
притеснил он их сильно. 16. И воздвигал им Ягве судей,
и те спасали их от руки их грабителей. 17. Но и судей
своих они не слушали, они скоро уклонились от пути, по
которому шли их предки, повинуясь заповедям Ягве; они
так не делали. 18. Когда Ягве воздвигал имсуде'й, Ягве
был с судьей и спасал их от рук врагов во все дни судьи,
ибо Ягве трахался..щх^стонами от их угнетателей и
притеснителей. 19. А когда судья умирал, они снова начинали
еще хуже, чем их предки, следовать за чужими богами,
служить и поклоняться им; не отставали от дел своих и
от строптивого пути своего. 20. И воспылал гнев Ягве
на Израиля, и он сказал: за то, что народ этот престу»
пил мой завет, который я преподал их предкам, и они
не послушались голоса моего, 21. То,,и я~я£^ буду больше
искоренять для них никого из народов, которых оставил
Иисус (Навин), умирая, 22. Чтоб испытать ими Израиля,
блюдут ли они путь Ягве и идут по нему, как блюли их
предки, или нет». (Ср. X 11—16).
И вот эта схема неуклонно проводится в книге Судей:
как только евреи начинают творить злое в глазах Ягве,
они попадают под жестокое иго чужеземцев; тогда они
взывают к Ягве; тот «воздвигает» судью, который
спасает Израиля от врагов, и страна успокаивается (обычно
на 40 лет); тогда «жестоковыйные» евреи вновь забывают
Ягве, и сказка про*~бёлого бычка начинается сначала.
36
Но составители и редакторы кн. Судей не были столь
искушенными фальсификаторами, как хронист,
прошедший жреческую школу и имевший перед собой образец
богословской обработки источников в виде Жреческого
кодекса Шестикнижия. Редакция Судей шита белыми
нитками, и древний материал преданий без труда
обнаруживается под прозрачной тканью религиозного
покрова, сотканного в духе ягвистской и элогистической
школы. Вопреки стремлению показать, что еще до
образования государства Израиль выступал как единый народ,
материал кн. Судей рисует евреев в виде ряда
враждующих племен, образующих иногда непрочные,
неустойчивые союзы племен. Попытки создать непрерывную
хронологию, которая должна перекинуть мост между
окутанными мифологическим туманом событиями
древнейшей эпохи и историческими судьбами Израиля,
слишком наивны, чтоб обмануть даже неискушенного
читателя. Рисуемая в кн. Судей культовая практика самым
решительным образом опровергает навязываемую
составителями легенду, об исконности почитания единого
Ягве.
Такой же богословской обработке подверглись и кн.
,Сам. и 'кн. Царей. Достаточно сравнить имеющиеся в
I Сам. два варианта истории воцарения Саула: по одной
версии (VIII, X 17—24) Самуил жребием намечает царя,
лишь уступая требованию народа, но видит в этом зло,
хоть и неизбежное в 'данных условиях; единственным
угодным богу образом правления он считает теократию.
Другая версия изображает избрание царя более
естественным образом, на сходке народного ополчения, хотя,
конечно, по воле и указанию Ягве (IX, X I—16, XI II—
15); очевидно, ягвист, редактор этой версии, еще не
додумался до идеи теократии. Немедленно по воцарении
Саула Самуил без всякого повода, вернее — придравшись
к совершенно «законному» поступку Саула,
вынужденного лично принести жертву, не дождавшись
запоздавшего пророка,— отвергает избранного им самим и
отмеченного богом царя. Этот рассказ (Сам. XIII 8—14),
непонятный с точки зрения его внутренней логики,
приобретает смысл и мотивировку с точки зрения
позднейшей теок£атии,„когда узурпация светским властителем
йф^ческих" функций представлялась величайшим преступ-'
лением.
Даже в мелочах обнаруживается рука позднейшего
37
редактора: «И умер Самуил; и собрались все израильтяне
и оплакали 'его и похоронили в его доме в Раме»
(XXV I); «И умер Самуил, и оплакали его все
израильтяне и похоронили его в_Раме, в городе его, а Саул
уничтожил в стране волшебников и знахарей» (XXVIII 3)—
позднейший редактор заменил погребение «в доме» (т. е.
в родовой гробнице) погребением в городе и некстати
прибавил сообщение о борьбе Саула с колдовством.
Поддерживая версию о греховности самого института
царской власти и о разрыве Самуила с Саулом, автор I Сам.
XV 35 пишет: «И не видел более Самуил Саула'до дня
своей смерти, «бо горевал Самуил по поводу Саула; а
Ягве пожалел, что поставил Саула царем над Израилем».
Однако в другом источнике той же книги (XIX 24) Саул
и позднее является к Самуилу в Раму и даже
пророчествует перед ним.
Вторая книга Самуила занята историей царя Давида,
причем и здесь борются две тенденции; одна изображает
этого легендарного царя предводителем разбойничьей
шайки, сумевшим добиться царской власти путем интриг
и преступлений и показавшим себя жестоким и
развратным деспотом; другая стремится обрисовать Давида как
праведного слугу Ягве, впервые утвердившего его культ
в Иерусалиме; эта тенденция получила дальнейшее
развитие в кн. Хроник.
Дальше, в I и II кн. Царей, дано последовательное
изложение истории Израильского и Иудейского царств
вплоть до уничтожения Иудейского царства и разрушения
Иерусалима и иерусалимского храма вавилонянами в
586 г. Но хотя кн. Царей имеют в своем распоряжении
достоверные исторические материалы, подтверждаемые
ныне ассирийскими летописями и археологическими
открытиями '*, они дают не историю, даже в относительном
понимании этого термина, а религибзное поучение.
Историческое повествование служит лишь рамкой для
деятельности пророков и чудотворцев, для обработанных в
духе религии Ягве мифов и в особенности для
подтверждения религиозного законодательства, изложенного в
кн. Второзакония. История Израильского царства, обни-
1 Напр., данные I Цар. V 6 и X 28 о том, что Соломон имел
большое число коней, подтверждаются открытием A928 г.) в Ме-
гиддо вновь отстроенных Соломоном царских конюшен со стойлами
на 228 коней. Ср. W a t 7 i n g e r — Denkmaler Palestlnas, I, S. 87 ff;
ZAW, 1929, S. 149,
38
мавшего «десять колен» из «двенадцати», интересует
составителей кн. Царей лишь постольку, поскольку она
соприкасается с историей Иудеи, где сосредоточен культ
Ягве и находится его храм. А с момента разрушения
Самарии ассирийцами судьба этих «десяти колен» и вовсе
перестает занимать внимание авторов. Израильскому царю
Америк) (Омри) уделено всего несколько строк (ИДар. XVI
23—28), хотя он играл, повидимому, крупную роль, судя
по тому, что в ассирийских источниках Израильское
царство называется по его имени bit Humria; зато, например,
иудейскому царю Хизкии посвящено целых три главы
(II Цар. XVIII—XX); объясняется это тем, что Амврий
«делал зло в глазах Ягве», а Хизкия был угоден ему. Все
исторические события изображаются как исполнение того
или иного пророчества; цари лишь орудие в руках
пророков — иногда послушное, и тогда все идет хорошо,
иногда строптивое, и тогда Ягве насылает на страну
всевозможные бедствия. Зависимость кн. Царей от
Второзакония обнаруживается даже в текстуальных
совпадениях (ср. I Цар. XIV 21—24 с Второз. XII 2, 5, 8, 29, 31).
Рассмотренные до сих пор исторические книги
Ветхого завета оказываются, таким образом, отделенными от
описываемых в них событий промежутком в несколько
веков и представляют собою скорее
религиозно-назидательное чтение, чем историче-екое повествование. Отсюда,
однако, не следует, что эти книги могут служить
историческим документом только в качестве характеристики
воззрений- .тт настроений и исторической обстановки эпохи,
в которую они написаны. За исключением кн. Хроник, они
являются нашим главным источником также и для той
эпохи, о которой они повествуют. Дело в том, что
материалом для этих книг послужили, наряду с мифами
вроде мифов о Иевфае, Илии или Елисее, наряду с
устным преданием, где историческое ядро подверглось
многочисленным искажениям и видоизменениям, также
исторические документы.
Если не считать силоамской надписи и самаринских
черепков, до нас не дошло никаких подлинных
документов древнейшей эпохи Израиля — законодательных актов,
договоров, надписей и т. п.; но, несомненно, такие
документы были и могли быть использованы если не
составителями книг Ветхого завета, то их источниками.
Древние евреи имели и свой героический эпос, и мы имеем
образцы его в виде «Песни Деборы» (Суд. V) или
39
«Песни .Давида на смерть Саула и Ионатана» (II Сам. I
17 ел.), древность которых определяется по их
содержанию и архаическому стилю; в кн. Чис. XXI 27 мы имеем
прямую ссылку на поэтов (tmoselbelim), и весьма
правдоподобно предположение Будде, что непонятное название
«книга доблестного» (sfr ih'jsdhr), на которую ссылается
Иис. Нав. X 13, II Сам. I 18, правильнее читать «книга
песен» (sifr hschjr) *. Наконец, исторические книги
ссылаются на «летописи царей израильских», «летописи царей
иудейских», в существовании которых нет никаких
оснований сомневаться.
Но, помимо того, существовали, по всей вероятности,
частные хроники, которые могли быть использованы
авторами исторических книг. Попытки восстановить эти
источники делались в разное время исследователями
библии. Так, Будде считает, что история Давида
составлена была в древности жрецом, которым мог быть, по
мнению Будде,, Авиафар2. Г. М. Винер делит все
исторические книги (куда* он включает и Иисус. Нав.) на 6
первоначальных частей: 1) Иис. I — Суд. II 10; 2) Суд. II 11—
I Сам. 12; 3) I Сам. 13—1 Цар. 2; 4) I Цар. 3—11; 5) I Цар.
12—II Цар. XVII; 6) II Цар. XVIII до конца.. При этом
Винер выделяет два самостоятельных источника, из
которых один, охватывающий повествование о Давиде и
Соломоне, он обозначает N, считая условно автором его
пророка Натана; другой источник столь же условно
обозначен G по имени пророка Гада 3.
Конечно, такого рода реконструкции больше говорят
об остроумии авторов, чем о действительных, конкретных
источниках; но они показывают, что составители исто-'
рических книг компилировали более старые труды.
Поэтому со всеми оговорками, вытекающими из
характеристики исторических книг Ветхого завета, ими, кроме кн.
Хроник, можно пользоваться, как историческими
документами, тщательно отделяя факты от богословских
измышлений и мифологической традиции. При этом
сообщаемые факты, особенно касающиеся религии, тем
больше заслуживают доверия, чем меньше они
согласуются с общей теократической тенденцией, которой
проникнуты исторические книги, и чем больше они противо-
1 К. В u d d е — Geschdchte der althebr. Liter. S. 18.
2 Там же, стр. 35.
3 Harold M. Wiener —The composition of Judges II, 11 to I
Kings II, 46. Lpz. 1929.
40
речат религиозным и политическим воззрениям и
культовой практике эпохи их написания.
Но и книги Шестикнижия, которые в своей
«исторической» части представляют собою сплошь мифы и
богословские вымыслы, а в «законодательной» части
отражают преимущественно взгляды позднейшей эпохи, когда
и древнее «законодательство» подверглось обработке в
духе послепленного жречества, могут служить
историческим источником не только для эпохи J, E, D и Р, но и для
древнейшего периода. И здесь мы имеем следы древнего
эпоса (Чис. XXIII, XXIV, XXI 27, Быт. XLIX), а в одном
месте даже ссылку на «книгу войн Ягве» (Чис. XXI 14) с
архаической цитатой. . Кроме того, поскольку
мифология— это «природа и общественные формы, уже
получившие бессознательную художественную обработку в
народной фантазии»1, постольку в ее фантастических
творениях оказывается отраженной, хоть в искаженном
виде, минувшая действительность. «Иудейское так
называемое священное писание, — писал Энгельс Марксу, —
было не чем иным, как записью древнеарабских
религиозных и племенных традиций» 2, и, следовательно, в этом
«писании» можно открыть весьма древние традиции;
достаточно сослаться на пример Бахофена, который на
основании анализа греческих мифов доказал существование
матриархата в древней Греции в доисторическую эпоху.
Но пользоваться материалом мифологии для
исторических выводов надо с большой осторожностью.
Необходимо в каждом отдельном случае проследить судьбу
мифа, проделывающего подчас сложную эволюцию. Так,
традиции родового строя сохранились у древних евреев
в виде мифов о богах Аррааме, Якове и_Исааке; однако
в библейской мифологии эти боги превратились в мнимо-
исторических патриархов. Здесь, таким образом, миф,
отразивший определенные общественные отношения,
подвергся «историзации» и получил новую форму и
содержание. Чтоб извлечь из библейской мифологии какие-
либо исторические выводы, надо их проверить на
постороннем материале, на свидетельстве параллельных
источников.
1 К. Маркс — К критике политической экономии. Соч., т. XII,
ч. 1, стр. 203.
2 К. М а р к с и Ф.Энгельс — Письма. Соч., т. XXI, стр. 484.
41
в) «ПРОРОКИ» И «ПИСАНИЯ»
Другим библейским источником для древней истории
Израиля являются так наз. пророческие книги. Из них
«датированными» являются книги Исайи («во времена
Узии, Иотама, Ахаза и Хизкии, царей иудейских»), Осии
(тоже), Амоса («в дни Узии, царя иудейского и Иерово-
ама, царя израильского, перед землетрясением»), Михея
(младший современник Исайи), Софонии (Цефании),
Иеремии (период, предшествовавший падению Иудейского
царства «до изгнания Иерусалима в пятом месяце»). По
этим данным можно было бы отнести эти книги к VIII
(Осии, Амоса, Исайи, Михея), VII (Цефании, может быть
Наума, отчасти Иеремии) и VI вв. (Иеремии, Иезекииля).
Но книги «пророков», как и прочие библейские книги,
отнюдь не представляют собою произведений
определенного лица, собранных им и записанных в назидание
потомству; напротив/ они представляют компилятивные
сборники оракулов, проповедей, изречений, относящихся
к различным эпохам. Самая большая из «древнейших»
пророческих книг — кн. Исайи, как показывает самый
поверхностный анализ, никак не может быть
произведением одного, лица, так как гл. 40 и ел. говорят о
вавилонском плене и о возвращении изгнанников по указу
персидского царя Кира E38 г.). А тщательный анализ
показал, что кн. Исайи состоит в основном из трех
сборников (I—XXXIX, XL—LV, LVI^LXVI); их составителей
принято обозначать условными названиями — Перво-
исайя, Второисайя и Третьеисайя. Но и внутри этих трех
частей имеются собрания различных по содержанию и
направлению проповедей и пророчеств, из которых
некоторые относятся к послепленной эпохе, напр. гл. XIII и
XIV (о гибели Вавилона и освобождении евреев), XXIV—
XXVII, XXXIII—XXXV (поздние эсхатологические
оракулы) и др. Кн. Михея, на которую имеется ссылка у
Иеремии (XXVI 13), несмотря на свой незначительный размер,
также составлена из разных источников. Книга Иеремии,
написанная частью в первом, частью в третьем лице, сама
свидетельствует о своем компилятивном характере и
называет соавтором Варуха, сына Нириина. Очевидно,
первоначально в обращении были различные сборники,
часто безыменные, иногда выпускавшиеся от имени
какого-нибудь прославившегося «пророка». Такие
небольшие собрания речей и оракулов соединялись в более
42
обширные сборники в зависимости от цели составителя
и получали имя того «пророка», которому больше всего
симпатизировал составитель. Так, в Ис. XIII—XXIII
собраны «цророчества» против «чужих» народов; такой же
сборник мы имеем у Иер. XLVI—LI. И вполне
естественно, что мессианское пророчество Ис. II 2—4 буквально
повторяется у Мих. IV 1-—5.
Таким образом, «пророческую» литературу -надо
использовать со всеми оговорками, какие вытекают из
критического анализа текста и содержания пророческих
книг. !
Наконец, известное значение могут иметь для истории
древнейшего культа псалмы, именно те, в которых
встречаются реминисценции и пережитки религиозных
представлений и обрядов. Богословская традиция приписывает
псалмы царю Давиду, несмотря на то, что рисуемая в
«исторических» книгах Ветхого завета физиономия
кровожадного, мстительного деспота, варвара и развратника
отнюдь не подходит для автора церковной поэзии. Да и
сама «книга псалмов» свидетельствует, что во всяком
случае более древняя традиция приписывала Давиду
только первые 72 псалма (Пс. LXXII 20: «кончились
молитвы Давида, сына Иессеева»). Но мы видели, что уже
автор Хроник, следуя одному из вариантов кн. Сам.,
тщательно устраняет из легенды о Давиде все, что может его
опорочить в глазах -читателя; уже тогда, очевидно,
прочно утвердилась легенда о Давиде как о
царе-праведнике. Поэтому все псалмы, даже носящие
определенное имя автора или школы (напр., Асафа, сынов Корея),
вопреки всякой очевидности приписывали Давиду, точно
так же как всякие «притчи» приписывали Соломону,
всякое религиозное законодательство — Моисею. В
действительности «книга псалмов» прошла длинный путь
развития. Критический анализ псалмов был отстающим участ-'
ком на фронте библейской критики вследствие прочно
укоренившегося среди богословов взгляда, что псалмы —
это «молитвы», выражающие благочестивые чувства
верующих. Тем не менее сейчас уже нет споров о том, что в
«книге псалмов» есть известное число псалмов,
восходящих к царской эпохе и подвергшихся в послепленную
эпоху обезличивающей редакции. Очень значительное
число псалмов относится к эпохе второго храма, причем
включение новых псалмов в «книгу псалмов»
продолжалось вплоть до завершения библейского канона, и еще
43
в Септуагинте имеется псалом «вне числа» (сверх 150
псалмов), добавочный по сравнению с еврейским
оригиналом. Многие псалмы явно намекают на обстановку
сирийского владычества в Палестине (напр., 44, 79, 83 и
многие др. 1). Собиратели псаллюв старались приурочить
многие из них к отдельным событиям из легендарной
жизни Давида, изложенной в кн. Самуила (напр. пс. XVIII
повторяет II Сам. XXII), но искусственность и
произвольность этих сопоставлений очевидна. Неумелость
составителей «книги псалмов» сказывается между прочим в том,
что один и тот же псалом дается дважды (LIII и XIV, LX
7—14 и СVIII 7—14).
В настоящее время псалмы в религиозном обиходе
христиан и евреев представляют собою душеспасительное
чтение; отчасти они вошли в богослужение как,
литургические тексты. Такую же роль «духовных стихов» и
молитвенных песнопений они играли в древнем
синагогальном культе. В богослужении «второго
иерусалимского храма» (после вавилонского плена) псалмы
занимали видное место. Но этот характер богослужебных и
религиозно-нравственных текстов псалмы получили в
результате их обработки в послепленную эпоху. Как это
ясно показал в первую очередь Г. Гункель 2, в книге
псалмов содержатся различного типа литературные
произведения — молитвы, гимны, культовые формулы и даже
полусветская и светская лирика. Весь этот
разнообразный материал подвергся многократной редакции,
имевшей целью придать псалмам некоторое внешнее единство,
вытравить из них элементы «языческой» старины,
затушевать их первоначальный смысл и содержание.
Задача научной критики псалмов заключается поэтому
в том, чтобы под позднейшими наслоениями вскрыть их
первоначальное содержание и обнаружить в псалмах
стертые следы древнейшего культа. Гункель, оставаясь в'
пределах Gattunigsiforschonig, не сбросил с себя также пут
традиционного понимания псалмов, не справился с этой
задачей. Роль пионера в этой области выпала на долю
1 Септуагинта соединяет вместе пс. IX и X, CXIV и CXV и,
наоборот, разделяет пс. CXLVI и CXLVII; этой нумерации следует
и синодальный перевод. Мы следуем всюду еврейскому тексту.
2 «Die Konigspsalmen» («Preuss. Jahrbiicher» 1914, S. 158) и позд
нее в посмертном Н. Gunk el — Einletitng in die Psalmen. Gottin-
gen, 1928—33 (обработка Begrich'a).
44
норвежского ученого Мовинкеля 1, который показал, что
ряд псалмов содержит культовые формулы,
сопровождавшие то или иное обрядовое действие или имевшие
самостоятельное религиозно-магическое значение.
Особенно важно не только для истории еврейского культа,
но и для истории политического строя древнееврейского
царства объяснение пс. 2, 18, 20, 21, 72, 110 и др. как
культовых формул, сопровождавших обряд восшествия
на престол еврейских царей 2.
Дальнейший шаг в направлении исторического
анализа псалмов сделал Н. М. Никольский3. На разборе
некоторых псалмов (особенно 58, 91, 109) он показал, что в
них отражены примитивные верования и магические
обряды, которые впоследствии были подчищены и
подкрашены жрецами и в- новом виде включены в храмовый
ритуал. Метод исследования псалмов, примененный Мо-
винкелем и акад. Никольским, помогая понять
первоначальный смысл многих псалмов, дает вместе с тем
опорные пункты для датировки (относительной) псалмов.
3. ДАННЫЕ ЭТНОГРАФИИ
Важным подспорьем для правильного использования
библейской мифологии, древнееврейских верований и
культа служат этнографические материалы. Первой
серьезной работой, где этнография привлечена к толкованию
древнееврейской мифологии и культа, был труд В. Ро-
бертсона-Смита «Lectures on tihe rettglion of the Semites» —
лекции, читанные им в 1888—1889 гг. Используя для
своего исследования не только религии родственных
евреям семитов, преимущественно арабов, но и верования
первобытных народов, Робертсон-Смит ввел иудейскую
религию в общий круг истории религии и сделал
возможным изучение и правильное понимание первобытной
религии евреев периода родового строя.
Робертсон-Смит оказал огромное влияние на всех
1 S. М о w i n с к е 1 — Psalmenstudien. Vv. I—VI, Kristiania. 1921—
1924. Гункель резко выступил против метода Мовинкеля.
2 См. также Н. Schmidt —Die Thronfahrt Jahves. 1927. Об
этих псалмах ср. ниже, стр. 195 ел.
3 Н. М. Никольск и й— Следы магической литературы в
книге псалмов. Минск, 1923; окончание — «Труды Бел. госуд.
университета», т. XII, Минск, 1926; нем. дополнен, изд. — «Spuren magischer
Formeln in den Psalmen». Giessen 1927.
45
последующих исследователей древнееврейской религии,
которые стали в большей или меньшей степени
привлекать этнографические параллели. Особой известностью
пользуется трехтомный труд знаменитого этнографа,
ученика и последователя Робертсона-Смита—Дж. Фрэзера1.
Рассматривая в хронологическом порядке библейские
сказания (от этого порядка он, впрочем, отступает в
IV части), Фрэзер приводит множество параллелей к ним
из преданий и верований древних и современных
первобытных народов. Но материал этот в большинстве
случаев — сырой. По собственному признанию Фрэзера, он
не собирает и группирует материал по заранее
обдуманному плану, а чисто ассоциативным путем переходит от
одного факта к другому, от одной темы к другой. Он
скорее коллекционирует факты, чем исследует вопрос.
Поэтому материал владеет Фрэзером. Легенды, обычаи,
верования он сопоставляет вне связи с эпохой, вне связи
с той конкретной обстановкой, в которой они возникли.
Факты, которые он приводит, оторваны от реальной
жизни, не приведены в связь с той общей идеологией,
элемент которой они составляют. По поводу легенд о
суде Соломона (III 11), и Ионе во чреве кита (III 18),
о царице Савской (III 10) он приводит аналогичные
легенды из римского эпоса или преданий готтентотов, даже
не пытаясь связать их между собой и сделать какие-либо
выводы.
Точно так-же и количество материала в различных
главах совершенно случайно. Первые главы почти
подавляют обилием материала; так, глава о потопе (I 4)
занимает более 250 стр. и содержит более 150 различных
сказаний о потопе. Другие главы дают лишь одиночные
случайные исторические и этнографические параллели и
занимают по нескольку страниц (III 13 даже всего две
страницы). Используя материал, находящийся у него под
рукой, Фрэзер подчас упускает важное, хотя приводит
несущественное. Даже 6 и б л е й с к и й материал не
всегда у него использован вполне; так, в главе о «перс-
ходе евреев через Чермное море» (III 2) не упомянут
вариант этого мифа в кн. Иисуса Навина.
Фрэзер отнюдь не ставит себе целью дать критику
еврейской религии. Объявляя себя агностиком, он факти-
1 J. C.Frazer — Folklore in the Old Testament. 1919. Русский
перевод с сокращенного английского издания «Фольклор в ветхом
завете». М. — Л. 1931.
45
чески находится на поводу у поповщины, с которой его
связывают классовые интересы буржуа. Срывая покров
святости с книг Ветхого завета, Фрэзер спешит окутать
их поэтической дымкой, подчеркивает «чарующую
прелесть» библейских сказок, красочность их героев.
Но при всех своих пороках и недостатках труд
Фрэзера, где собрано громадное количество этнографических
параллелей к библейским мифам, преданиям и легендам,
дает в руки исследователя ценный фактический материал,
а в некоторых случаях также интересные выводы и
обобщения («печать Каина» I 3, «козленок в молоке»
IV 2).
Большое значение имеет также собирание
современного палестинского фольклорного материала, который,
при проверке, часто восходит к глубокой старине и
является нередко живым остатком религиозно-магической
идеологии и.практики библейской эпохи. Кроме
общеизвестной работы Куртисса (C.urtiss-—Urseimiltisdhe
Religion im Volksfeben des iheutigen Orients, 1903), надо
указать также довоенную работу Jenssen — Les co'utumes
dies Araibes au pays de Motflb. 1908 г., дающую также
богатый материал для характеристики родо-племенных
отношений, и послевоенные работы Schmidt und
Kaihle — Vioilikiserzalhiliunigen laus Palasitiina, 1918 (записи
крестьянских поверий, сказок и т. п.) и новейшие работы
С а п а а п' a («Damoneniglaube im Lamde der Bilbel» и др.),
в которых использованы собранные автором
фольклорные записи. Весь этот огромный и чрезвычайно важный
материал еще ждет своего исследователя.
4. ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИИ
а) РЕЛИГИОЗНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Этнографические данные могут служить лишь
подсобным материалом для толкования и объяснения
библейских книг, которые сами-по-себе даже в исторических
частях своих не могут претендовать на полную
достоверность. Тем настоятельнее потребность в документальных
археологических материалах. Однако тщательные
археологические раскопки, открывшие развалины многих
библейских городов, до сих пор не дали каких-нибудь
существенных письменных документов — ни обычных на
47
Востоке надписей, восхваляющих военные победы царей,
ни храмовых или царских анналов, ни государственных
договоров, ни правительственных указов, ни надгробных
надписей, ни частных документов. За сто с лишним лет
археология может похвалиться лишь несколькими
печатями и скарабеями с именами неизвестных'лиц, силоам-
ской надписью об окончании прорытия туннеля,
«календарем», в котором земледелец из Гезера перечисляет
сельскохозяйственные работы по месяцам/ обломками
посуды с надписью «Ягу» и опубликованными в 1924 г.
65 черепками однообразного содержания,
представляющими собою сопроводительные документы к собранным
царским сборщиком (IX в.) натуральным налогам. В
последнее время к этим памятникам прибавились еще
четыре письма, найденные в Лахише и относящиеся к
первому десятилетию после разгрома Иерусалима и
Иудейского царства .Навуходоносором 1.
Единственное собрание чрезвычайно интересных
документов— элефантинские арамейские папирусы — найдено
не в Палестине, а в Египте и относится уже к эпохе
персидского владычества.
Понятно, что трудно ожидать обильных
археологических находок литературных памятников в ничтожной
Иудее, никогда не игравшей заметной роли и бывшей
скорее объектом грабежа со стороны могущественных
держав Востока, чем величиной, способной оставить
многочисленные реальные вещественные памятники. Кроме
того, надо полагать, еврейское жречество периода
теократии с не меньшим усердием уничтожало памятники
«языческой старины», чем это впоследствии делали их
христианские коллеги.
Однако если литературные памятники удалось или
уничтожить или искалечить до неузнаваемости, то
вещественные памятники уничтожить не удалось. Крупнейшим
приобретением археологического исследования Палестины
является открытие всех аксессуаров древнего культа,
упоминаемых в библии, — массеб, ашер, фигурок Астарт и
1 Часть этих надписей в немецком переводе имеется в АОТВ,
I. Оригиналы появлялись в разных изданиях, полное издание всех
израильско-иудейских надписей царской эпохи, за исключением
только-что открытых лахишеких писем, дает Di ringer—Le
iscrizioni antico-ebraiche, Eirenze 1934 (факсимиле текста и
еврейская транскрипция, перевод, текстуальный и реальный
комментарий,, литература). О лахишеких письмах см. ZAW, 1935, II—III,
S. 192-193
43
других женских божеств, изображений богов в виде
животных и т. д. 1. При этом указанные памятники были
найдены не только в до-израильских (ханаанских), но и
в израильских слоях, в развалинах таких центров царской
эпохи, как Гезер, Таанах или Мегидд-о. Этот материал
неопровержимо свидетельствует о том, что религия царской
эпохи ничем не отличалась от других
сирийско-палестинских культов того времени, и целиком подтверждает
выводы таких ученых, как
Вельгаузен, Робертсон- ^■••%::*^..
Смит или Гельшер.
Но еврейские и хри- л:'^ - -
стианские богословы не к* ij" _ •
желают мириться с
отсутствием объективного
подтверждения величия
«богоизбранного народа» и —
главное — жаждут
противопоставить разрушительной
критике библейской
мифологии «неопровержимые
данные археологии». С
вещественными памятниками
такие богословы, как Кит-
тель, разделываются
просто: тут-де — ханаанское
«влияние», «отвратившее»
евреев от единого и
безобразного (bildlos) культа
Ягве. А по литературной ча- Рис- L СтатУя в хРаме грабит
*■ •* г г г рми титла г т/nfi ияпттмгт,тл nTwnu-
сти спешат на помощь ар
хеологи. Здесь-то и сказы
вается партийность науки, в
том числе археологии. В этом отношении чрезвычайно
поучительна история или, вернее, скандал с «синайскими
надписями».
В 1906 г. известный исследователь Египта Флиндерс
Петри опубликовал результаты своих раскопок в районе
древних рудников на Синае 2, где он обнаружил у
развалин древнего храма лежащего сфинкса с головой
женщины, одну мужскую фигуру, мужской бюст с над-
«/*•«
«в*»»*
с семитической надписью,
открытая Флиндерс Петри на Синае.
АОТВ № 677
1 См. АОТВ.
2 Flinders Р е t r i e — Researches in-Sinai. L. 1906.
4-J
49
писью ntn («дар») и 8 надписей на скалах i. Надписи Эти
вызвали живейший интерес среди археологов, так как,
написанные на семитическом наречии письменами,
служащими переходом от иероглифического к буквенному
письму, они могут иметь решающее значение в вопросе
о том, произошел ли буквенный алфавит из иероглифов
или из клинописи.. К сожалению, надписи сильно
стерлись, и разобрать можно только одно слово iba"alat
(госпожа, богиня) и отдельные буквы или их следы. Эти
надписи вызвали обширную литературу 2.
В частности,' известный семитолог Губерт Гримме в
специальной работе, посвященной этим надписям,
ухитрился некоторые из них прочесть и перевести3.
Руководствуясь тем, что сфинкс с женской головой мог
изображать только Хатшеосут, единственную женщину-
фараона A501—1480), Гримме «расшйг^ровал» надписи
№№ 353 и 349 (нумерация Петри) следующим образом:
№ 353: Горе, похоронен Иосиф...
№ 349: Я Hjtschpschw-hnm — jmn — m
Начальник рудничных рабочих...
Заяедбшагашшт храмом Мала Шш с Синая:
Возлюбленный Баалат Hjtschpschw — hnm — jmn — щ
Ты была милостива, вытянула меня из Нила
И поставила меня над храмом... М...
Который на Синае.
«Открытие» Гримме оказалось ошеломляющим: он
якобы нашел «объективное» подтверждение не только
существования культа Ягве на Синае в XVL--XV в., но и
всего библейского мифа о Моисее, которого дочь
фараона вытащила из Нила и вывела в люди. Да кстати
Гримме прихватил и Иосифа. Но Гримме хватил^ через край.
Его более осторожный коллега Volter попытался потянуть
его за фалды и призвать к благоразумию. Он вносит
поправку к чтению Гримме, предлагая вместо «Моисея» чи-
1 В настоящее время благодаря работам американских
археологов число синайских надписей доведено до 17. С;м. I. L e i b о-
vitsch — Die Petrie'scheti Sinai-Schriftdenkmaler, ZDMG 84, A930),
S. 1. ff; там же даны фотографии всех надписей.
2 F. Bissing — Zur Datierung der Petrie'schen Sinaiinschriften,
«Sitzungsbericht der Munch. Akad.» 1920; Alan H. Gardiner —
Der Aegyptische Ursprung- des semitischen Alphabets; его же —Baa-
lat, ZDMG 77 A923).
3 H. G r imm e —Althebraische Inschriften vom Sinai. 1923.
50
тать «Менасия» (Mnsoh) и вместо «вытянула из Нила» —
«вывела кз крепостного состояния»1. Грубая фальшивка
Гримме вызвала отпор также со стороны его собратьев
по перу, привыкших работать более тонкими
приемами 2. Сокрушительный удар нанес Гримме крупнейший
египтолог К. Зете3. Доказав полную теоретическую и
фактическую нелепость его толкования надписей, Зете
окончательно его осрамил, напечатав рядом две фото-
Рис. 2. Синайская надпись № 349. Слева—письмена, „обнаруженные"
благочестивой фантазией Гримме; справа — надпись, как она есть
в действительности (ZDMG 80)
графии: одна из них дает точный снимок с надписи, где
отчетливо видно только несколько знаков; другая дает,
кроме видимых на первой фотографии знаков, также
царапины и трещины, которые Гримме дополнил своей
фантазией. Гримме попытался было защищаться, и
Зете пришлось ему разъяснить, что в наше время, когда
х D. V ё 11 е г — Die althebralschen Inschriften vom Sinai und
ihr.j historische Bedeutung. Lpz. 1924.
2 G. Fur Ian i — Rivista degli studi orient aii. 1925 (X), p. 591;
Schamerger — Die angeblichen Mosaischen Inschriften vom Sinai,
«Biblica», 1925, V. 1. S. 26—49 ff.
s K. Sethe— Die wissenschaftliche Bedeutung der Petrie'schen
Sinaiinschriftan und die angeblichen Mosezeugnisse, ZDMG 80 A926),
S. 24 ff; H. Grimm e — Hjatsepsu und die Siniaischriitdenkmaler.
Там же, S. 137 ff; K. Se t h e —Nachwort. Там же, S. 151.
4* 51
говорят об упадке науки, нетактично выступать с
такими аляповатыми фальсификациями.
К тому же разряду можно отнести воспроизведенную
в Encyclopaedia iodaioa, т. 8 (s. v. Jerusalem) «надпись
царя Узии», опубликованную в иерусалимском журн.
«Тарбиц» II 3 A931 г.); не надо обладать специальными
познаниями в еврейской эпиграфике, чтобы видеть, что
надпись эта сделана современным письмом. Однако
солидная энциклопедия ограничивается сожалением, что
«место, где. обнаружена надпись, не указано».
Более искусно приспособляют археологию к библии
другие исследователи. Так, раскопки на месте
библейского Иерихона обнаружили три слоя, три древних города
(«синий», «красный» я «зеленый»), которые признали
соответственно за развалины ханаанского, затем
израильского, затем иудейского города. Но крепость «красного»
города разрушена б**ла, невидимому, около 1600 г., что
нарушает библейскую' хронологию. Поэтому Ватцингер
предлагает новую комбинацию — передвинуть даты
пластов на 500 лет назад И считать три слоя
последовательно древнеханаанским, *ювоханаанским и израильскимг.
Еще более тонко работает папа римский. Папский
библейский институт (iPontifiiCio istituto Ihilblico), задача
которого, конечно, — тормозить подлинное научное
исследование, в течение нескольких лет подготовляет
общественное мнение к «открытию» Содома и Гоморры;
производятся раскопки на берегу Мертвого моря в Тель-
Гассуле; время от времени сообщается о найденных
документах, которые отсылают в институт для изучения;
мельком появляются- В- печати сведения, что раскопки
обнаруживают на песке слой пепла, делаются
сопоставления названия городища Тель-Иктану (от катан —
«малый») с библейским «Сигор» (тоже «малый») и т. д.
Надо полагать, что, когда «открытие» созреет, оно будет
подано по всем правилам поповской науки.
При почти полном отсутствии археологических
документальных данных о древнейшем периоде истории
Израиля, при тенденциозности исторических книг Ветхого
завета, относящихся к тому же в нынешнем их виде к
VI—V вв., при компилятивном характере подложных в
1 С. W atzinger —Zur Chronologic der Schichten von Jericho,
ZDMG (NF 5), 1926, S. 131 ff. Окончательный удар «спасителям»
библейской традиции наносят последние раскопки на месте Гаи
(Аи), теперь Эт-Телль, см. «Syria», 1936, IV, 351—352.
52
подавляющем большинстве «пророческих» книг и «книги
псалмов», особенно важное значение приобретают
нееврейские документы, поскольку они проливают свет на
историю евреев.
Ассирийские летописи упоминают царя Ншппа. (Амв-
рий), обелиск Салманасара II говорит о той дани, какую
он получил от израильского царя Ииуя, «сына Нлпига»;
надпись Салманасара называет Ахав а израильского (Aha-
albu siiri'laai) и т. д. Таким образом, примерно с середины
,1Х__в. история царей Израиля, а затем и Иудеи,
изложенная в кн. Царей, получает подтверждение и известные
поправки в посторонних бесспорных источниках.
Конечно, богословы пытаются использовать эти
источники также для подтверждения историчности библейских
мифов. Так, в гл. XIV кн. Бытия рассказывается о
походе «Амрафела, царя Сенаарского, Ариоха, царя Еллаеар-
ского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Тидала, царя Го-
имского», против 5 царей и так наз. Пентаполиса. По
рассказу библии, Авраам, узнав, что в числе пострадавших
в сражении с могущественнейшими 4 царями оказался его
брат, взял своих 318 рабов, пустился в погоню за
победителями, разбил их и отнял захваченную добычу.
Нелепость этого рассказа в части, касающейся Авраама,
совершенно очевидна. С другой стороны, если отожествить
Амрафела с Хаммураби и Ариоха, царя Елласарского,—
с Eri-A'kiu, царем Ларсы, или с Iri-aigun, царем Элама, если
признать тожество Кедорлаомера с эламским царем,
упоминаемым в клинописных текстах, то рассказ Быт. XIV
приобретает характер подлинного исторического
сообщения. Но именно поэтому добросовестные комментаторы
библии считают это место, входящее в состав Р,
позднейшим мидрашем интерполятора, пожелавшего возвеличить
Авраама, приписав ему участие в таком -славном деле,
как поход «4 против 5», о котором он прочел в
вавилонской книге1. Таково, в частности, мнение Гункеля и
Будде2. Но богословы поспешили сделать Авраама
современником Хаммураби, превратив его кстати в
могущественного владыку (не при помощи же 318 воинов
разбил он союз четырех!). Однако эта фальсификация исто-
1 Мне представляется вероятным, что «Четыре царя против
пяти» (Быт. XIV 9) — заголовок популярного вавилонского
эпического произведения.
2 G u n k е 1 — Genesis. S. 288—290; К. В u d d e — Die Herkunft
Sadoqs, ZAW 1934, S. 43—44.
53
рии поставила попов в затруднительное положение,—
дело в том, что Хаммураби жил около 1950 г. до хр. э.,
и если отнести Авраама к этой эпохе, тсГнарушается вся
библейская хронология. Но и здесь ученые
богословы не, теряются. М. Th. Bonl ухватился за имя четвертого
царя, Тидала; так как в археологических памятниках
встречается имя хеттского царя Тудалиа в XIII и XIX вв.,
то Бель берет, «среднюю» дату и устанавливает тожество
Тидала с Тудалиа I, которого он относит таким образом
к 1650 г.1. Правда, остается непонятным, как Хаммураби
мог предпринять совместный поход с царем, жившим
через 300 лет после него, но для почтенного автора
важно «доказать» историчность Авраама, и потому он готов
отказаться от знатного знакомства Авраама и отвергнуть
отожествление Амрафела с Хаммураби. Того же
результата — «согласования» библейской традиции с данными
археологии — Эд. Заксе пытается добиться с другого
конца. Если Бель приближает дату «похода четырех», то
Заксе отодвигает исход из Египта к эпохе Тутмоса III2,—
все пути хороши во славу божию!
Археология_Пвредней Азии и Египта нанесла сокру-
шитёлтлГый удар библейской мифологии и в корне
подорвала доверие к той «истории» евреев, которая дана
в Шестикнижии. В настоящее время нет надобности
опровергать библейские мифы о сотворении мира, потопе,
вавилонской башне и т. п.; никакие обезьяньи процессы
не заставят верить в сотворение Адама из «праха
земного»; попы пытаются спасти авторитет божественного
откровения уже путем аллегорического толкования кн.
Бытия, а поповствующие ученые стараются оставить
лазейку для бога-творца в своих обобщениях и
философских теориях, где легче протащить идеализм и
поповщину.
Но археологические открытия не оставляют верующим
и того слабого утешения, что творцы библии
обнаружили самобытный поэтический дар и в «наивной
поэтической форме» сумели дать полудикому еврею-кочевнику
«религиозное мировоззрение». Главнейшие библейские
сказки -оказываются заимствованными из вавилонской, ас-
сирийскд^й^_еТипетской мифо^гйи',~в"артШ1тами и видо-
1 М. Th. Bohl — Tud'alia I — Zeitgenosse Abrahams um 1650
v. Chr. ZAW, NF1 A924), S. 148 ff.
2 Ее. Sachsse — Der Unsprung ties Namens Israel. «Zeitschnift
far Semitiistifo, 1925, S. 63 ff.
54
изменениями распространенных на Востоке мифов и
сказок, восходящих к II—III тысячелетию до. jxp. э.
Нет надобности останавливаться здесь на хорошо
известных вавилонских мифах о сотворении мира и
потопе и т. п., .переработкой которых является вся мифология
первых глав кн. , Бытия, часто буквально повторяющая
соответствующие вавилонские тексты *. Отметим здесь
только египетскую параллель к сказке о прекрасном
Иосифе, так как она связана с-легендой-о пребывании
евреев в Египте, являющейся исходным пунктом
библейской истории и иудейского богословия.
В египетской «сказке о двух братьях», рукопись
которой относится к XIV—XIII в., есть такой эпизод:
младший брат, работавший в поле со своим старшим братом,
является домой в город за зерном и застает жену брата
за туалетом. Выполнив поручение, он собирается уходить.
«Тогда она ему сказала:
— Сила в тебе. Каждый день смотрю я, какой ты
крепкий.
Ее сердце познало его, как познают юношу. Она
встала. Она его схватила. Она сказала ему:
— Пойдем, полежим часок. Приятно это будет и для
тебя, я же, ей-ей, сделаю тебе красивые одежды.
Юноша сделался точно южная пантера от гнева
вследствие негодных слов, которые она сказала ему. И ей
стало очень-очень страшно.
Он говорил ей так:
— Ведь, ты для меня — все-равно, что мать. Ведь,
твой муж для меня — все-равно, что отец. Ведь он
больше, чем я. Он дает мне жить. О, какое это большое rape-'
ступление, то, что (ты) мне сказала. Не говори мне снова
об этом. Я (то) не скажу этого никому. Я не позволю,
(чтобы) это сорвалось у меня с языка ни перед каким
человеком.
Он взвалил свою ношу и отправился в поле. Он дошел
до своего старшего брата. И они принялись за работу
и за свой труд.
1 Библейская мифология сопоставлена с аналогичными мифами
по данным археологии и этнографии в труде Фрэзер а — Folklore
in the Old Testament. Vv. I—III, L. 1919. Русский сокращенный
перевод «Фольклор в ветхом завете». М.—Л. 1931. Основные материалы
собраны в многочисленных трудах Г. Винклера, А. Иеремиаса
(АТАО), Эб. Шрадера («Die Keilinschriften und das Alte Testament»),
H. Gressmann CAOTB), P. Jensen"T«Das Gilg-amesch-Epos»).
55
И вот, когда наступил вечер, старший брат вернулся к
себе домой; младший (же) брат находился позади своего
скота. Он нагрузил себя всяким полевым добром и
погнал свой скот впереди себя в деревню — на ночлег в
стойла.
(Между тем) жена старшего брата испугалась своего
признания. Она взяла сала и тряпок и стала такою, как
если бы ее преступно избили. Ей хотелось сказать
своему мужу:
— Это твой младший брат избил (меня)!
Ее муж, по ежедневному обыкновению, вернулся
вечером. (И когда) он добрался до дому/ он нашел свою
жену лежащей и страдающей от злой напасти. Она не
дала воды ему на руки, как бывало всегда. Она не
засветила перед ним огня. Дом его был во мраке. И она ле>
жала — ее тошнило.
Ее муж спросил ее:
— Кто говорил с -тобою?
И вот что она отвечала ему:
— Никто не говорил со мною, исключая твоего
младшего брата. Когда он пришел взять для себя зерна и
увидел, (что) я сижу одна, он сказал мне:
— Пойдем, полежим часок, оправь свои локоны.
Так он сказал мне. Я его не слушала.
— Не твоя ли я мать, и твой старший брат для тебя
не все ли равно, что отец?
Так я говорила ему. Он испугался. Он (меня) так
избил, чтобы я не передавала тебе. И, вот, если ты дашь
ему жить, я умру, (потому что), видишь, придет он
вечером, и раз я нажаловалась на его негодные слова — он
сделает их белыми (?)»1.
Из этого отрывка видно, что библейский рассказ о
Иосифе и Потифаре представляет собою вариант сказки
«о двух братьях», которая в различных версиях была,
надо полагать, широко распространена. Новелла о
Иосифе и Потифаре, как и египетская «сказка о двух
братьях», интересна еще тем, что мотив ее вошел и в
мифологический сюжет. В хеттском мифе богиня Аширту
пытается соблазнить «великого бога». Получив отказ, она
предъявляет ему обвинение в покушении на ее целомуд-
1 В. М. Викентьев — Древнеегипетская повесть о двух
братьях. М., 1917, стр. 33—34.
56
рие. Но «великий бог» разоблачает козни Аширту перед
ее мужем *.
Из египетской литературы и мифологии заимствованы
также некоторые другие элементы библейского рассказа
об Иосифе2. Например, эпизод продажи Иосифа
братьями также не еврейский; это — широко распространенный
в Аравии, Сирии и Палестине перехожий сюжет3.
Не только в мифологии, но и -в богослужебной и
богословской литературе Ветхий завет обнаруживает явную
зависимость от соответствующей
литературы—вавилонской, ассирийской, хеттской, финикийской и т. д. 6
последнее время, после того, как прошел угар панвавилониз-
ма, теории, выставлявшей вавилонскую культуру чуть ли
не единственным источником культуры Передней Азии,
все больше обнаруживается местных, ханаанских влияний
на библейскую литературу. Раскопки последних лет
обогатили археологию памятниками хеттской и финикийской
литературы и показали, что уже в историческую эпоху
ближайшие, непосредственные соседи евреев имели
обширную богослужебную и светскую литературу,
проникавшую, конечно, и к евреям, и даже богатый ассортимент
изощренных проклятий — Лев. XXVI и Второз. XXVIII 25
ел. имеют свои прообразы в бесконечных проклятиях,
которые включались в качестве санкций в договоры
финикийских и ассирийских царей 4.
В жертвенном тарифе храма Баал-сафона, найденном
в Марсели, перечисляются те же типы жертв, что и в
Жреческом кодексе, — «жертвы за грех» (евр*. chat'atih
и «ascham), «жертва мирная» (sdhe'lsamim), «всесожжения»
("ala) и, наконец, «жертва приношения», дар (mineba).
В жертву приносятся бык или телец, баран, ягненок, птица
(петух?), мучные изделия, т. е. опять-таки то же, что
предписывает и кн. Левит. Б пользу финикийского жреца
поступают грудинка ц правое бедро жертвенного
животного, как практиковалось, согласно Жреческому кодексу,
и в иерусалимском храме.
1 G. Contenau—La civilisation des Hittites et des Mitanniens.
P. 1934, v. 183.
2 Gunkel- Genesis, S. 428 ff.
3 Там же, S. 399—400. О других заимствованиях из египетской
литературы и мифологии См. дельную справочную работу Н е у е s—
ffibel und Aegypten. 1904,
4 См. напр. F. Weidner —Der Vertrag Asarhadons mit Baal
von Tyrus. «Archiy fur Orientforschung», v. XHI, {1932).
57
Аналогичные тарифы найдены и в Карфагене Ч Это
свидетельствует о том, что еврейские цари и жрецы
заимствовали храмовый ритуал от местного ханаанского
населения или от финикиян (Карфаген был колонизован
финикиянами) 2. Далее, теперь уже не подлежит сомнению,
что те виды литературы, которые считались
специфическими для древнего иудаизма и в которых богословы
открывают «возвышенные религиозные идеи и настроения
избранного народа»,—псалмы и пророческие книги —
были широко распространены в Передней Азии и в Египте
задолго до того, как евреи выступили на историческую
арену. В процессе споров по так наз. «вопросу Библия —
Вавилон» были опубликованы многочисленные
вавилонские параллели к ветхозаветным книгам. Двух-трех
примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что еврейские
псалмопевцы и пророки черпали из вавилонских
источников.
...Слабые стали сильны, а я стал слаб,
Я качаюсь, как волна, которую поднял злой вихрь;
Мое сердце носится и трепыхает, как птица небесная.
Я плачу, как голубь, ночью и днем.
Я угнетен и плачу горестно,
Охи и вздохи терзают мою душу.
Что сделал я, мой бог и моя богиня?
Со мной происходит такое, как если б я не боялся своего
бога и своей богини.
Меня постигло горе, болезнь, пагуба и погибель,
Меня»' постигла нужда, лишение (божественного) лица,
полнота гнева,
Ярость, гнев, жестокость богов и людей.
Я вижу, госпожа моя, мрачные дни, темные месяцы, годы
несчастья;
Я вижу, госпожа моя, суд, смятение и возмущение;
Задавили меня смерть и гибель.
Я уповаю на мою владычицу, на тебя; к тебе устремлены
мои мысли.
Я умоляю тебя, да, тебя; освободи меня от проклятья!
Отпусти мою вину, мое преступление, мое злодеяние, мой
грех,
1 АОТВ I 448—450.
2 Этому вопросу посвящена работа R. Dussaud — Les origi-
nes cananeennes du sacrifice israelite. P. 1921.
58
Прости мое злодеяние, прими мою мольбу!
Как долго, владычица, ты будешь гневаться и отвращать
свое лицо?
Как долго, владычица, ты будешь негодовать и дух твой
будет полон ярости?
Поверни свою шею, которую ты отвернула; направь свои
мысли к слову милости!
Как успокоившаяся вода в потоке, успокой свой дух!
Дай мне ступать по своим врагам, как по земле,
Покори моих ненавистников, пусть падут они подо мной!
Пусть дойдет до тебя моя молитва и мольба;
Да будет надо мной твое великое милосердие!
Кто увидит меня на улице, пусть хвалит твое имя;
И я буду перед черноголовыми славить твое божественное
могущество и :силу:
«Иштар велика, Иштар царица!
«Владычица велика, владычица царица
«Арнини, дочь Сина, могучая, не имеет соперника!» \
А вот другой вавилонский псалом, который обращен
к Наннару, богу-покровителю города Ура, но который
можно было бы поместить в «книге псалмов» рядом,
скажем, с пс CXLVII:
...Владыка, твоя божественность—как далекое небо, как
отдаленное море, полное плодородия!
Который создает землю, учреждает' святилища, дает им
имена,
Отец, творящий богов и людей, который основывает
жилище, учреждает жертвы,
Вызывает царство, дарует скипетр, определяет судьбу на
далекие времена,
Первый, могучий, в чье обширное сердце ни один бог не
проникает.
...Отец, созидатель всего, взирающий на все живое...
Владыка, выносящий решения на небе и на земле, чьи
веления никто (не может отменить),
Который держит в руках огонь и воду, управляет живыми
существами,— какой бог сравнится с тобой.
В небесах кто велик? Ты один велик!
На земле кто велик? Ты один велик!
АОТВ I 259—260.
59
Раздается твое слово на земле — анунаки целуют прах.
Пронесется твое слово вверху, как гроза, — оно дает обилие
яств и питья.
Прозвучит твое слово на земле — произрастает зелень.
Твое слово утучняет двор и стадо, умножает всякое
дыхание.
По твоему слову возникают истина и справедливость, и
люди говорят правду.
Твое слово—далекое небо, недра земли, коих никто не
видит.
Твое слово-—кто его знает, кто устоит против него?1
Что такого рода литература была широко
распространена уже в XIV в., доказывается между прочим тем, что
«псалмовые» обороты речи вошли в обиходную
фразеологию, и в эль-амарнекой переписке можно
констатировать шаблонные цитаггы из ходких псалмов; так,
неоднократно повторяется в обращении к царю такая фраза:
Я посмотрел туда и сюда, но мне не стало светло:
И я взглянул на моего владыку царя, и мне стало светло.
Кирпич может поддаться под...
Но я не поддамся под ногами царя, моего владыки 2.
'Примерно так же обстоит дело и с «притчами». В
1923 г. опубликован египетский памятник конца II
тысячелетия— «Поучение Амен-ем-опе». Как известно, в составе
библии имеется аналогичная книга, приписываемая
легендарному царю. Соломону; правда, в самой книге имеются
деления, из коих видно, что она состоит из шести
сборников: [1) I—IX; 2) X—XXII 16, 3) XXII 17—XXIV, 4) XXV 1
—XXIX 27, 5) XXX, 6) XXXI], причем сборник 3-й
озаглавлен «Изречения мудрецов», 5-й — «Изречения Агура,
сына Иакеева», 6-й — «Изречения царя Лемуила»; это,
однако, не мешает церковникам считать Притчи
Соломоновы книгой, внушенной царю Соломону господом
богом. Сличение этой книги с «Поучением Амен-ем-опе»
показывает не только сходство между этими двумя
книгами, но местами и буквальное совпадение:
1 АОТВ I, 241—242.
2 A. J i r k u — Zu den Kanaanaischen Psalmenfragmenten in den
Briefen von El-Amarna. «Forschungen und Fortscbrdtte», 19Э1, Nr. 35—
36, S. 457.
60
ПРИТЧИi
АМЕН-ЕМ-ОПЕ
XXII 17. Склони ухо твое и
послушай слов моих и
обрати свое сердце к
знанию.
20. Ведь я писал тебе
тридцать в назидание и
поучение,
21. Чтобы разъяснить тебе
истину говорящего (?)'-,
Чтобы ты умел
возвратить сообщение
пославшему тебя.
22. Не грабь бедняка,
потому что он беден, не
притесняй несчастного у
ворот.
24. Не дружись с человеком
гневливым и не сообщайся
с человеком вспыльчивым,
23. Человек, искусный в
своем ремесле, будет стоять
перед царями.
ХХШ 6. Не ешь хлеба скупца и
не желай его вкусных
блюд.
7. Ибо, как гроза в груди,
таков он.
Гл. 1. Склони свое ухо, слушай,
что я скажу, обрати свое
сердце к пониманию их.
Вникни в эти тридцать
глав: в них беседа и
поучение.
Чтобы ты мог дать ответ
тому, кто их говорит (?)г,
и возвратить сообщение
тому, кто его послал.
Гл. 2. Остерегайся грабить
бедняка и проявить силу
(против) слабого.
9. Не дружись с человеком
вспыльчивым.
30. Писец, искусный в своем
ремесле, оказывается
достойным быть
придворным.
, Не желай имущества
низкого человека и не жаж-
дай его хлеба. Имущество
низкого человека — гроза
для глотки.
В «Поучении Амен-ем-опе» содержится ряд
нравственных предписаний, которые мы находим в Притч. XVII 5,
Лев. XIX 14 и др. Здесь же мы находим-и уподобление
праведника роскошному дереву у источника (Иер. XVII 5,
Пс. 1) 3. Таким образом, совершенно очевидна
зависимость Притч от Амен-ем-опе. Египетское влияние видно
между прочим и в том, что ,в Притчах несколько раз
1 Еврейский масоретский текст взят здесь с поправками Грес-
смана.
- Характерно, что испорченному тексту Амен-ем-опе
соответствует испорченное место и в «Притчах».
3 Н. Gressmam— Die neugefundene Lehre des Amen-em-ope
tmd die vorexilische Spruchweisheit Israels, ZAW 1924, S. 292 ff.
61
(XXIV 12, XVI 2, XXI 2) встречается чуждое иудаизму
чисто египетское представление о «взвешивании душ»
богом (psycriostasiia).
Постигшее богословов новое разочарование в
самобытности библейской литературы заставляет их
прибегнуть к обычной в таких случаях уловке и заявить, что и
«Соломон» и Амен-ем-опе черпали из общих источников,
перерабатывая свой материал по-своему1, и оказывали
взаимное влияние друг на друга.
Свои параллели у вавилонян имеет и «пророческая»
литература. В одном из текстов библиотеки Ассурбанипа-
ла («Qmdilforim texts» XIII 49) мы читаем:
...При завоевании (?) Вавилона
15. Строитель того дворца получит ущерб (?).
Тот князь испытает беду,
Его сердце не будет радоваться.
В его царствование
Сражения и битвы
20. Не прекратятся.
В его правление будут истреблять друг друга,
Люди своих детей
Отдадут за деньги.
Страны сразу все восстанут (?).
25. Муж покинет жену,
А жена покинет мужа;
Мать закроет дверь перед своей дочерью.
Владения Вавилона —
Субарту и...
30. Ассирии достанутся.
Царь Вавилона
Властителям Ассирии имущество своего дворца
И свои владения2...
Интересную ханаанскую параллель к пророческой
литературе дает надпись царя Закира из Хамата, около
800 г.3 Когда на него ополчились 7 царей, пишет Закир,
он воздел руки к богу своему Беелшмаин ( = евр. Ьа"а!
scnammaim;: «и сказал мне Беелшмаин через провидцев
и прорицателей... не бойся; ведь я поставил тебя царем и
1 См., например, W. О. G. Oesterley — The teaching of
Amen em ope, ZAW NF IV A927), p. 9 ff.
2 AOTB, 75—76 (I изд.).
3 AOTB, 2-е изд.. т. 1, 443—444.
62
я приду к тебе на помощь, и я спасу тебя от всех этих
царей, которые повели против тебя осаду». Ситуация даже
в деталях удивительно напоминает осаду Иерусалима Сан-
херибом, обращение царя Хизкии к Ягве и утешительный
ответ через пророка Исайю (II Цар. XIX).
Наконец, хваленый еврейский «монотеизм» (в
действительности монотеизм возник у евреев уже только в
период изгнания) тоже имеет предшественников и образцы
в вавилонской и египетской литературе. Приводимый
ниже гимн Мардуку наглядно показывает, как, по
выражению Энгельса, «вся совокупность естественных и
общественных атрибутов многих богов переносится на одного
всемогущего бога» 1:
Ту (?) — это Мардук в отношении растительности.
Лугал-акила (?)—это Мардук в отношении глубины источников.
Ниниб — это Мардук в отношении силы (?).
Нергал— это Мардук в отношении борьбы.
Замама — это Мардук в отношении боя.
Эллил — это Мардук в отношении господства и решения.
Набиум — это Мардук <в отношении владений.
Син — это Мардук как осветитель ночи.
Шамаш— это Мардук в отношении права.
'Адад — это Мардук в отношении дождя.
Ташху—это Мардук в отношении войска.
Рабу — это Мардук в отношении...
Шукамма — это Мардук в-отношении оросительных труб (?).
— это Мардук в отношении водопровода (?)г.
Или из гимна фараона Эхнатона солнцу3, где мы
находим ряд почти буквальных совпадений с пс. 104:
...Ты сотворил землю по своему сердцу, ты один,
С людьми, стадами и всеми животными.
Все, что ходит по земле на ногах,
И все, что порхает в вышине, летая на крыльях,
Страны Сирию и Нубию и страну Египет.
Ты назначил каждому его место,
Ты создал то, в чем они нуждаются,
Всякий имеет свое пропитание, и ему отмерен срок жизни.
1 Энгельс — Анти-Дюринг. Партиздат 1936. Стр. 230.
2 АОТВ, I, 329.
3 AOTR, I, 17.
63
Их речь различна вследствие различия в языке,
А также (различна) их внешность,
Различна также их окраска кожи, —
Да, ты различаешь народы.
Ты сотворил Нил под землею
И направляешь его по своему желанию,
Чтоб сохранить жизнь людей,
Как ты создал их, ты владыка их всех...
Когда Фридрих Делич выступил с получившим
огромную популярность докладом «Вавилон и Библия» *, он ее
учел, что сопоставление библии с ассиро-вавилонской
литературой наносит сильнейший удар по самому
чувствительному месту богословия — по учению об откровении.
Его более благоразумные коллеги предпочли либо молчать
по вопросу «Babel—Bibel», как Ю. Вельгаузен, либо
разрабатывать проблемы в своем узком кругу, в специальных
журналах и в ученых исследованиях, недоступных
широким массам читателей; они укоряли своего пылкого
собрата, что он внес смуту в умы верующих и создал для
них соблазн.
Конечно, Делич -нисколько не думал делать из своего
доклада какие-либо вольнодумные выводы; свою книгу
он заканчивает вполне благочестивой тирадой: «Видя, с
каким рвением, даже с робким трепетом и страхом
передовые умы Вавилова стремятся познать бога и истину,
можно только радоваться тому, что евангелист признает
вавилонских мудрецов первыми, принесшими к колыбели
христианства свое поклонение». Но он оказался логичнее
и последовательнее своих коллег, старающихся защитить
божественный авторитет Ветхого завета туманными
фразами о том, что древние евреи (внесли в вавилонские
источники «новый дух», «искру божества» и т. п. чепуху.
В получившей скандальную известность книге «Die igrosse
Tauscbunig» Делич, чтоб спасти христианство,
отмежевывается от Ветхого завета и, предвосхищая практику
современных германских фашистов, делает из библейской
критики вывод о необходимости беспощадной борьбы с
«еврейским влиянием». «Исследование древнееврейской
письменности не должно больше составлять раздела
христианского богословия, а должно лучше быть
предоставлено восточной филологии и всеобщей истории религии.
1 «Babel und Bibel», I Aufl. 1902.
64
Подход к ней как к «данному в откровении слову
божьему», как к «священному писанию» уже теперь грозит
неприятными последствиями, так как мыслящие миряне,
которых вполне справедливо отталкивали многочисленные
безнравственные рассказы, неправды, преувеличения,
измышления и противоречия в Ветхом завете, переносят
это свое отвращение на новозаветную литературу и в
конце-концов даже на религию вообще. Христианская
церковь и вместе с тем христианская семья могут
обойтись без так наз. Ветхого завета» *. Преемственности
между христианством и иудаизмом нет никакой, а что
касается Иисуса, то он ведь — галилеянин, а в Галилее евреи
как нация исчезли уже при завоевании Израильского
царства Тиглатпилассаром; Иисус поэтому не был иудеем, он
был только прозелитом (греч. seibomenos) -и, пожалуй,
арийцем2. Эти выводы усвоены и проводятся в жизнь
германскими фашистами. Пастор Фогель опубликовал 65
тезисов («Unter den Zeien» 1933, вып. 3), где он между
прочим отвергает Ветхий завет, как сборник еврейских
мифов. Новая немецкая церковная организация «Deuitsche
Christen» развивает тезис Делича об арийском
происхождении Иисуса и по его же совету ищет корней
христианства в древнегерманской «народной» религии. Это
вызвало даже «конфликт» (дружеский, впрочем) между
католической и протестантской церковью в Германии, с
одной стороны, и правительством, с другой.
Либеральное протестантское богословие в свое время
не поддержало Делича; оно предпочитало и предпочитает
пользоваться для одурманивания масс испытанными
старыми приемами и не подрывать авторитетов,
непреложность которых оно веками отстаивало. Но вся история
вопроса «Babel—Bilbe.1» чрезвычайно показательна для
характеристики «беспристрастия» не только богословия,
но и «объективной» буржуазной науки.
б) ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Открытие вавилонско-египетских источников и
прообразов библейской мифологии и богослужебных текстов
1 F. D elitsch-— Die grosse Tauschung. I. Teil, Lorch, 1924,
S. 97.
2 Там же, S. 96, 121; II, S. 59. Мысль об арийском
происхождении Иисуса П. Гаупт высказал еще в 1909 г. (P. H a u p t — The *
aryan ancestry of Jesu, «The open court», v. XXIII, Nr. 635).
5-8
J3
не внесло по существу ничего нового по сравнению с тем,
что дала литературная критика библии. Зато исторические
памятники Передней Азии и Египта нанесли
ощутительный удар той схеме развития истории евреев, которая
дана в библии и которая, с теми, или иными поправками
господствует во всех трудах по историй Израиля. Удаляя
из библейских мифов все элементы: чудесного,
буржуазные историки принимают получающийся остаток за
подлинную историю, хотя и разукрашенную фантазией
хранителей традиции и подвергавшуюся некоторой
религиозной обработке. «Известное ядро традиционного
материала', свободного от противоречий, несомненно1, может быть
выделено из всего многообразия библейских повествова-
ний», — пишет Р. Киттелъ *.
Путем рационализации ,мифа создается примерно такая
схема древнейшей истории Израиля. Кочевые пастушеские
еврейские племена, движимые голодом, поселяются в
Египте, в стране Гошев, где подвергаются жестоким
притеснениям со стороны фараона Рамзеса II A292—1225);
при его' преемнике Менепта (.1225—1Т215) евреи под
водительством Моисея уходят из Египта и пребывают
некоторое время в Кадете, где Моисей преподает евреям
основы: религии Ягве и религиозного законодательства,
изложенные в «Книге завета». Из Кадета евреи вторглись
в Ханаан, частью его завоевали, частью сами попали под
власть туземных князьков. После двухсотлетнего периода
постепенного оседания в Палестине;, в течение которого
евреи «отпали» понемногу от данной Моисеем в
откровении, монотеистической религии, они объединились в одно
царство, выбрав, по указанию Самуила, в цари Саула,
уступившего вскоре место династии Давида; с ближайших
преемников Давида начинается уже собственно
исторический период Израиля1, засвидетельствованный в еврейских
и нееврейских исторических памятниках.
Эта схема в трудах буржуазных историков допускает
различные варианты. Некоторые отрицают историчность
предания о патриархах, рассматривая их как продукт
астральной мифологии, другие отрицают историчность
легенд, об обстоятельствах пребывания евреев в Египте и
исхода .оттуда, отрицают даже самый факт пребывания
евреев в Египте, пбдве'ргаГОТТГОмненйю и критике отдель-
ныё-собьТтая и персонажи «эпохи судей», — но все это
1 «История еврейского народа», изд. «Мир», т. I, 1917, стр, 126,
66
делается для того, чтоб тем незыблемее утвердить истин)
о божественном откровении, данном Моисею и заложив
шем- начало иудейскому, а затем и христианскому мо
нотеизму.
Поэтому богословы нисколько не были обескуражены,
когда была обнаружена мумия Менепты, утонувшего, по
мнению богословов, в Чермном море при преследовании
евреев: они легко отказываются от библейских чудес, чтоб
• придать больше правдоподобия основной схеме. Но
археологические раскопки все 'больше дают материалов, кото»
рые ставят под серьезный удар не частности, не то или
иное «чудо», а всю схему_в целом, и это заставляет
богословов и буржуазных историков биться над головоломной
задачей сочетания исторических данных с «очищенными»
показаниями 'библии.
В числе городов и местностей, завоеванных фараоном
Тутмосом III в Палестине, перечисленных в надписи на
пилонах храма в Карнаке (около 1470 г.), значится (под
№ 102) J'q'b'r, что, по общему признанию египтологов,
означает^акоб-эл, и J-s-p-т (№781), что, по всей
вероятности, -равнозначно Иосиф-эл1. 'Неза'Висимо от того,
правилен ли делаемый отсюда вывод, что Яков и Иосиф —
имена богов;, очевидно, что уже в XV в. в Палестине
существовали местности, названные по имени героев
библейской мифологии; таким образом, рушится вся
до-ханаанская библейская хронология, и еврейские племена
оказываются жителями' Палестины уже задолго до того,
как они проникли туда под предводительством Иисуса
Навинщ, как об этом сообщает библия.
Еще более серьезное, значение -имели знаменитые
находки в Эль-Амарна, в Египте, где в течение 1887—1892 гг.
найдено около 360 глиняных табличек, исписанных вави--
лонско-ассирийской клинописью и содержащих часть
архива фараонов Амевготепа III и IV (конец XV — начало
XIV вв. до хр. э.). В этих табличках содержатся
преимущественно письма и донесения фараонам от их
наместников в подвластных Египту областях Передней Азии,
переписка с властителями Вавилона и др.; попадаются и
копии писем, отправленных фараоном своим
корреспондентам в Азии. Язык всех таблиц —вавилонский, бывший в
1 См. «Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft».
1907.
то время языком международных сношений; изредка да
ны «в скобках» пояснения на местном языке К
Эль-амарнская переписка имеет огромное значение для
изучения истории Востока, в особенности для освещения
истории Палестины и Сирии в доизраильскую эпоху. В
частности, в ней сохранились письма к фараону от его
«офицера» Абдихибы из Иерусалима, представляющие
огромный интерес (переводГи примечания по Knudtzon'y
№ 286—290).
№ 286. К царю, моему господину, так говорил Абдихиба, твой
слуга: к обеим ногам моего господина царя припадаю я
семикратно и семикратно. Что сделал я царю, моему господину? На меня
клевещут пред царем господином: «Абдихиба отпал от царя,
господина своего». (Но) ведь меня не отец мой и не мать моя
посадили на это место: мощная рука царя ввела меня в дом моего
отца. Отчего бы мне (в таком случае) творить преступное
против царя, господина? Пока царь, мой господин, будет жить, я буду
говорить наместнику царя, моего господина: «почему вы любите
хабиру, а правителей2 вы ненавидите?» А (именно) за это на
меня клевещут перед царем, моим господином. Оттого что я
говорю: «погибают земли царя, моего господина», за это на меня
клевещут перед царем, моим господином. Но пусть знает царь, мой
господин: после того как царь, мой господин, поставил здесь
гарнизон, их всех забрал Энхаму... Египет... царя, господина; нет здесь
гарнизона. Так пусть царь позаботится о своей стране. Пусть царь
позаботится о своей стране. Отпали страны царя, господина, все
вместе. Илимилку3 губит всю страну царя. Так пусть позаботится
царь, господин, о своей стране. Я говорю: «Я явлюсь перед царем,
моим господином, и взгляну в очи царя, моего господина». Но
враги ополчились против меня, и я не могу явиться к царю, моему
господину. Так пусть царь благоволит послать гарнизон, чтоб я
явился и видел глаза царя, моего господина. Пока царь, мой господин,
жив, пока прибывают наместники, я буду говорить: «погибают
земли царя». Вы не обращаете на меня внимания. Отпадают все
правители; ни одного правителя не остается у царя, моего госпо-
1 См. I. A. Knudtzon — Die El-Amarna Tafeln («Vorderasia-
tische Bibliothek»). Leipzig, 1907—1912.
2 hazianu — подвластный Египту туземный царек. Абдихиба в
другом письме (№ 285)—вероятно, из смирения — говорит, что он
не hazianu, a uiu — «офицер». Представителями Египта были rabis—
«наместники».
3 Илимилку, или Милкилу, был hazianu; сохранились также и
его письма к фараону (№№ 267—271 Knudtzon).
68
дина. Пусть царь обратит свой взор на войска, так, чтоб
выступали войска царя, моего господина. Не остается земель у царя.
Хабиру грабят все земли царя. Если войска будут здесь в этом
году, сохранятся владения царя, моего господина; но если войск
здесь не будет, тогда владения царя, моего господина, будут
потеряны... Писцу царя, моего господина, так (говорит) Абдихиба,
твой слуга1: передай слова, прекрасные (слова) царю, моему
господину; погибают все владения царя, моего господина.
№ 287. Царю, моему господину, так говорит Абдихиба, твой
слуга. К ногам моего господина припадаю я семикратно и
семикратно. Я выслушал все слова, которые царь, мой господин, мне
передал... Смотри, какое дело совершил... медь... он привез в город
Келти2. Пусть знает царь,—все владения гибнут, мне (все)
враждебно. Так пусть позаботится царь о своей стране. Ведь страна
Газри, страна Аскалуна2 и Лахиш давали им продовольствие, масло
и все, что требуется. Так пусть царь позаботится о войсках! Пусть
посылает он войска против тех людей, которые ведут себя
преступно в отношении царя, моего господина. Если в этом году
войска здесь будут, тогда земли и правитель будут 'принадлежать
царю, моему господину; а если войск не будет, тогда и земли и
правители не останутся у царя. Ведь эту область Урусалим2 не
отец мой и не мать моя дали мне; мощная рука царя мне (ее)
дала. Смотри, это дело — дело Милкили и дело сыновей Лабайи",
которые отдали страну царя Хабиру. Смотри, о царь, я прав в
отношении Каши. Пусть царь спросит наместников, очень ли
могущественен этот дом. Да, они замыслили тяжелое, великое
преступление; они взяли свои орудия, и устранены владельцы коней... и
пусть пошлет в страну... слуги, пусть позаботится царь о них...
страна в их руках, и пусть потребует царь для них много
провианта, много масла, много платьев, пока прибудет Пауру, наместник
царя, в страну Урусалим. Ушел Адайя с гарнизоном офицера,
которого дал царь. Пусть знает царь, что Адайя мне сказал: «Смотри,
дай мне уйти, а ты не покидай (города)». В этом году пошли мне
людей в гарнизон и пришли наместника, о царь. Мы также... я
1 Частная приписка на имя царского секретаря с просьбой
надлежащим образом доложить дело фараону.
2 Kelti отожествляют с упоминаемым в библии городом qe'ila;
как видно из письма Шу.вардаты (№ 279), город этот был отнят
у него Абдихибой, на что жаловался Шувардата фараону, требуя
от него помощи. Газри — библ. Гезер; Аскалуна = Аскалон.
Урусалим = Иерусалим.
8 Лабайа, от которого в архиве Эль-Амарна также сохранились
письма B52—254), был непокорным вассалом, чье имя стало как бы
нарицательным,
т
слал царю, моему господину... людей, 5 тысяч... [3 cotJhh [1] 81
носильщиков для караванов царя; они захвачены в окрестностях
Ялуна. Пусть знает царь, мой господин, что я яе могу послать
каравана царю, моему господину. Это к твоему сведению. Ведь царь
утвердил свое имя в стране Ур.усалим навеки. Поэтому он не
может оставить без внимания страну Урусалим.
Писцу царя, моего господина, так говорит Абдихиба, ивой
слуга: к ногам я припадаю; я твой слуга; передай хорошие речи
царю, моему господину. Я офицер царя( я тебе... злое дело
совершили против меня люди Каши. Я едва не был убит, людьми
Каши в моем доме. Пусть царь предъявит требование к ним!
Семикратно и семикратно я прав, о царь, мой господин.
№ 288. Царю, моему господину, моему солнцу, так говорит
Абдихиба, твой слуга. К ногам царя, моего господина, я припадаю
семикратно и семикратно. Ведь царь, мой господин, утвердил Свое
имя на восходе солнца и на заходе солнца. Смотри, как бесчестно
они со мной поступили. Ведь я не правитель, я офицер царю, моему
господину. Ведь я — пастух- царя, я — человек, несущий дань царю.
Не мой отец, не моя мать, но мощная рука царя утвердила меня
в доме моего отца... явился ко мне... Я дал 10 слуг на руки. Шута,
наместник царя, явился ко мне. 21 девушку и 80... людей дал я в
руки Шуте в качестве подарка царю, моему господину. Пусть
позаботится царь о своей стране! Гибнут владения царя, Все у меня
отнимают; ко мне вражда. Вплоть до стран Шеери2 и.до Гинтикир-
мил2 все правители теряют владения, а мне вражда. Я одно
время... достал и я не вижу очей царя, моего господина, ибо меня
угнетает вражда. В другой раз я спустил корабль на море, и
мощная рука царя взяла Нахриму2 и Капаси2. Но теперь хабиру
забирают города царя. Не остается ни одного правителя у царя,
моего господина; все потеряны. Вот Турбазу 3 убит у ворот города
Зилу; царь не принял мер. Вот Зимрида из Лакиса4, его принесли
в жертву слуги, примкнувшие к Хабири. Иаптих-Адда убит у
городских ворот Зилу2; царь не принял мер и не притянул к от-
1 В тексте видна только одна буква из слова «триста» и цифра
8; однако Knudtzon смело дополнил цифры, чтоб получить цифру
318 и сопоставить с библейским рассказом о 318 рабах Авраама.
(Быт. XIV 14),
2 Шеери = библ. Сеир; Гинтикирмил = Гат на горе Кармел;
этим Абдихиба обозначает южную и северную границы
распространения хабиру. Нахрима = Митани. Где находились Капаси и
Зилу— неизвестно.
3 Об убийстве Турбазу и Иаптих-Адда сохранилось в амарнской
переписке донесение в письме № Э35.
4 От лахишского князя Зимрида сохранилось письмо к царю
(№ 329).
70
вету. Так пусть царь позаботится о своей стране, и пусть царь
обратит свое лицо к войскам для (платящей) дань страны. Ибо
если войск не будет здесь в этом году, тогда потеряны владения
царя, моего господина. /Пусть же не говорят перед царем, моим
господином, что владения царя, моего господина, потеряны, что
все правители потеряны. Если войск в этом году не будет здесь,
то пусть царь пришлет представителя, чтоб он взял меня к себе1
вместе с братьями, и мы умрем у царя, нашего господина
(следует обычная приписка для секретаря).
№ 289. Царю, моему господину, так говорит Абдихиба, твой
слуга. К «огам моего господина припадаю я семикратно .и семикратно.
Вот Милкилим не уступает сыновьям Лабайи или сыновьям Арзайи
в смысле желаиия (отобрать) себе владения царя. Правителя,
совершающего такое деяние, почему царь не привлекает к ответу?
Деяние же, которое совершили Милкилим и Таги2, вот оно: после
того как они взяли Рубуда3, они теперь домогаются Урусалима.
Если эта область принадлежит царю, то зачем на этом
остановиться, останется ли Гази в распоряжении царя? i Вот ведь область
Гинтикирмил стала принадлежать Таги, а люди из Гинти служат
в гарнизоне в Бетшане3, и с нами будет то же, когда Лабайя 5 и
область Шакми отдаст хабири. Милкилим писал Таги и (его)
сыновьям: «Конечно 2 наших... дайте людям Килти все, что они
хотят». Неужели мы должны упустить Урусалим? Воинов, которых ггы
послал через Хайю, сына Миаре/Адайя забрал и поместил в своем
доме в Хазати 3, а 20 человек он отослал в Египет. Пусть же знает
царь, что у меня нет царского гарнизона. При таких
обстоятельствах, клянусь жизнью царя, Пуури, конечно, свой... Он от меия
уехал и находится в Хазати. Пусть же царь поставит ему (это) на
вид, и пусть царь пришлет 50 воинов для защиты страны. Вея
страна отпала от царя. Пришли Иенхаму, и пусть он позаботится
о владениях царя. (Следует приписка на имя секретаря).
№ 292. Царю, моему господину, так говорит Абдихиба, твой слуга.
К Е-югам царя, моего господина, я припадаю семикратно и
семикратно. Смотри, какое злодеяние совершили Милкилу и Шуардату,
в отношении владений царя, моего господина. Они принудили
служить себе Газри, людей Гимти и людей Килти. Они завоевали
область города Рубуда. Отпали владения царя к Хабиру, и теперь
1 Описка, вместо «к тебе».
а Тесть Милкилима, от которого сохранились письма к cpapaoHV
(№№ 264—265).
3 Рубуда = библ. Гаравва; Бетшан = Бет-шеан; Хазати = Газа.
4 Смысл: если они не побоялись забрать принадлежащую царю
Рубуду, то что их заставит отказаться и от Иерусалима?
5 Лабайя здесь употреблено как напииательное имя—
«бунтовщик»,
VI
к тому город из области Урусалима, имя которому Бет-Ниниб',
город царя, отошел туда, где находятся люди Килти. Пусть
внемлет царь Абдихиба, твоему слуге, и пошлет войска, чтоб вновь
приобрести для царя страну царя. А если войск не будет,
владения царя отойдут к хабири. Эта судьба страны...
Все приведенные тексты говорят об одном: на рубеже
XV и XIV вв. хабири представляли собою значительную
силу, не только покорявшую мелких палестинских царьков,
но оспаривавшую, и притом с успехом, власть у самого
египетского фараона, завладевшую обширной территорией
от Едома на юге до Кармела на севере. Но, по общему
признанию египтологов и семитологов, хабири—евреи, и,
следовательно, приходится признать, что евреи начали
овладение Палестиной за двести лет до мнимого
«исхода из Египта». Поэтому протестантские историки
стремятся доказать, что библейский Израиль и евреи—разные
вещи, как это сформулировал Бель (ВбМ): «все
израильтяне — е^вреи, но не все евреи — израильтяне». Эта теория
ка1к-6удто подтверждается дальнейшими открытиями. В
течение XX в. опубликованы еще тексты о хабири. Так,
около 1450 г. касситский властитель жалуется в письме к
ассирийцу, что тот вступил в изменнический союз с cha-
birai (евреем.) «Хабиршипаком». В договорах хеттских
царей, найденных в раскопках в Богац-тсое, в числе богов,
призываемых в свидетели и охранители договора,
называется и liilani Baibiri,-Hani НааЦЬдй, ilani Habiriaascih и т. п.
А если считать , тожественным с хабири также название
народа, обозначаемого идеограммой SA GAZ2, то
количество упоминаний о евреях сильно возрастает и — глав-
1 Местонахождение этого города точно неизвестно.
3 Предположение о равнозначности SA GAZ и chabiru,
оспариваемое между прочим Эд. Мейером, основано на том, что по
содержанию сообщений о них в клинописных текстах в обоих
случаях речь идет об одном и том же. Так, в эль-амарнской переписке,
где SA GAZ упоминается около 30 раз, мы, например, читаем
следующее письмо Милкили (№ 271 Knudtzon): «К царю, моему
господину, моим богам, моему солнцу, так говорит Милкили, твой
слуга, прах твоих ног: к ногам царя, моего господина, моих богов,
моего солнца, я припадаю семикратно и семикратно. Да знает царь,
мой господин, что сильна стала вражда против меня и против Шу-
вардаты. Так пусть спасает царь свою страну от рук SA GAZ.
А если нет, пусть царь, мой господин, пошлет колесницы, чтоб нас
забрать, чтоб нас не убили наши слуги. И дальше пусть царь
запросит Иенхаму, своего слугу о том, что совершается в этой
стране» (ср. письмо Абдихиба № 288),
72
ное — восходит до III тысячелетия; отсюда делается
вывод, что хабири и SA GA.Z — более широкое понятие, чем
еврейские племена, о которых говорит библия, и что
поэтому продвижение хабири в Палестину в XV в. не
противоречит «факту» их пребывания в египетском плену.
Правда, такая точка зрения не мешает, напр., Jinku
утверждать, что «еврей Авраам», участвовавший столь
блистательно в походе «четырех против пяти» (Быт. XIV), есть
хабири и что упоминаемые при Рамзесе II, Рамзесе III и
Рамзесе IV «рг» обозначают (хоть и с запозданием, ибо
Рамзес IV царствовал в 1167—1161 гг.) евреев,
находящихся в египетском плену; другими словами, хабири —
евреи, когда это соответствует библейскому
повествованию, и не означает евреев, когда это противоречит
библии. Последовательнее поступает Кениг, вовсе
отрицающий тожество между хабири и евреями г.
Но, как бы ни были интересны и ценны изыскания о
древности хабири и SA GAZ, для вопроса о достоверности
библейских повествований решающее значение имеет
употребление термина «евреи» в библии. Здесь,
во-первых, указывают на генеалогическую таблицу Быт. X 21
ел., где от родоначальника Евера произошли не только
Авраам и его потомки, но и другие арабские племена. Но,
не говоря уже о том, что в варианте той же таблицы уР
(XI 10 ел.) дана лишь прямая родословная от Евера до
Авраама, без боковых отпрысков, эта генеалогическая
таблица народов ведь никоим образом не является
историческим документом. Гункель правильно отмечает, что
в этой таблице фигурируют даже не мифические предки,
а города и страны, и она создает такое впечатление, как
если бы кто-нибудь сказал: «Сыновья Германа —
Германия, Англия, Скандинавия; Германия родила Саксонию,
Швабию, Франконию и Баварию; Саксония родила
Ганновер, Брауншвейг и Гамбург»2. Основное — в том, кого
библия понимает под термином «евреи»; по этому
вопросу указывают на то, что термин «еврей»
употребляется в библии лишь в устах чужеземца или в разговоре с
чужеземцем; мало того, евреи даже противопоставляются
израильтянам; при этом ссылаются на I Сам. XIII 5 ел.:
1 A. Jirku — Die Wanderangen der Hebraer dm HI und II Vor-
chr-iistlichen Jahrtausend. Leipzig 1924 (АО 24, 4); St. Langdon-
Semitic Mythology. Boston 1931; Ed. К б n i g —Chabiru, ZAW, NF
A928), S. 199 ff.
2 «Genesis», S, 65.
1 й
«Филистимляне же собрались воевать против Израиля...
И израильтяне увидели, что им туго приходится, что
народ пал духом ,и попрятался народ в пещерах, в
кустарниках, в скалах, в подземельях и пещерах. И евреи
перешли через Иордан, в землю Гада и Гилеада». Только
желание доказать, что хабири-евреи — не израильтяне, мюжет
заставить видеть здесь в евреях какой-то чужой народ;
ведь тогда было бы
непонятно, что они делали в
в израильском стане и как
они туда попали; да и
грамматически такое
толкование неправильно, ибо в
тексте сказано «ibrim» без
члена, т. е. «иные из евреев»,
как дает русский перевод
библейского общества, а
не «ha"ibrim», как
следовало бы писать в том
случае, если бы речь шла об
определенной группе
неизраильтян.
Что касается I Сам.
XIV 21, то здесь
упоминаются именно те
отдельные евреи, о которых
сказано в XIII 7, и потому мы
читаем «ha"ibrim», с
определенным членом.
Независимо от этого, мы
имеем в библии ряд случаев,
когда именем «еврей» обо-
Рис. 3. ..Израильская стела". АОТВ значается именно израиль-
№ 109 тянин; не говоря уже об
«Аврааме еврее» (Быт. XIV
13), мы встречаем в «Книге завета» (Исх. XVI 2)
предписание о рабе-еврее, а в кн. Второз. XV 12 прямо сказано:
«если продастся тебе брат твой еврей или еврейка»; и
уж никаких сомнений не "оставляет текст Йер. XXX IV 9:
«чтобы каждый отпустил своего раба и каждый свою
рабыню, еврея или еврейку, на волю, чтоб не держать
в рабстве _иудея, брата своего».
Наконец, то обстоятельство, что при всей ревности к
идее исключительности бога Ягве как бога израильского,
бога Авраама, Исаака и Якова, библейские авторы
вкладывают в уста Моисея в его переговорах с фараоном
систематически «Ягве, бог евреев», доказывает, что «евреи»
для библейских авторов и их источников равнозначно
«народу израильскому».
Таким образом, попытки отмежевать библейских
израильтян или иудеев от евреев-хабири диктуется лишь
желанием отстоять библейскую схему развития истории
евреев.
Мифичность «исторических» повествований Шестикни-
жия получила подтверждение в открытой в 1896 Флиндерс
Петри так наз. «Israel-stele» — стелы фараона Менепта.
Перечисляя ib надписи на стеле свои военные подвиги,
фараон говорит: «Враги повергнуты в прах и молят о
пощаде. Никто из вражеских племен не поднимает головы.
Ливия разорена, страна хеттов1 умиротворена, Ханаан
опустошен go всей его злобой, в плен уведен Аскалон, Гезер
взят, Иеноад! уничтожен, Уздаадь * — людей его мало,
семени его не стало больше. Хару'(Сирия) стала вдовой для
Тамери (Египта). Все страны объединены в мире. Скован
всякий, кто бродил» 2. Эта надпись делает несомненным
(для всех, кроме таких твердолобых, как Леман-Гаупт,
который в своей книге «Israel» пытается опорочить делаемые
отсюда выводы) тот факт, что в эпоху мифического
исхода из Египта Израиль уже обитал в Палестине. А
сообщение надписи о победах Мён'ёЯт^Г¥'';ст:ра;не'''Израиля
подтверждается тем, что, как. указал Каличе, упоминаемый в
кн. Иисуса Нав. XV 9, источник «>mei naiphtoach» означает
источник Menepirrtalh3.
в) ЗНАЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ ДЛЯ
КРУШЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ» МИФОВ
Приведенный выше археологический материал
показывает, что .исходL евреев т..Египта^..играющий столь
большую роль и в древнееврейском богословии, и в
пророческих проповедях, и в мессианских -чаяниях, и в современ-
1 Иероглифические знаки, которыми обозначено слово
«Израиль», сопровождаются детерминативом, показывающим, что речь
идет о людях (а не о местности).
* См. В. Ш п и г е л ь б е р г — Пребывание евреев в Палестине
в свете египетских источников. СПБ 1908.
s С а 1 i с е — OLZ, 1903, S 224.
ной пропаганде религиозно-националистических идей
иудаизма, и, наконец, в антисоветской агитации еврейского
духовенства, противоречит исторической
действительности, несовместим с ней. Беспристрастные
исторические документы подтверждают вывод, вытекающий из
правильного анализа библейского повествования об
исходе. В самой библии наряду с переполненной чисто
сказочными мотивами легендой об исходе имеется и другая
традиция, не знающая о пребывании евреев в Египте. Так,
вставленный без всякой связи с контекстом в легенду об
Иосифе рассказ о похождениях Иуды и Тамари (Быт.
XXXVIII) не знает, очевидно, о переселении патриархов в
Египет; завоевание Сихема (Быт. XXXIV) также
предполагает существование традиции о постепенном проникнове-
.нии евреев в Палестину,, минуя египетский цикл легенд1.
Библейское сообщение о пребывании в Египте и исходе
оттуда имеет не больше исторической достоверности, чем
предание римлян об исходе их предков под
водительством Энея из Трои. И совершенно правильно Эд. Мейер
в те годы, когда он еще не попал окончательно в болото
поповщины, писал, что он считает «всякую попытку...
превратить, согласно излюбленной манере, израильскую
легенду в историю с точки зрения науки извращенной и не
подлежащей обсуждению (обычно даже историки, не
отдавая себе отчёта об авантюристском характере этого
предприятия, смело перескакивают через полтысячелетия
и просто разбирают древнейшее доступное нам
повествование, несмотря на его позднее происхождение,
предварительно дав ему рационалистическое толкование, и даже
видят в нем непоколебимую основу национальности и
религии Израиля)» 2.
То обстоятельство, что в сказках о Иосифе и
легендах об исходе обнаруживается знакомство с Египтом и
египетской литературой, свидетельствует лишь о том, что
авторы этих библейских текстов имели сведения о
Египте своего времени, в чем, конечно, нет ничего уди-
1 См. В. Luther, у Ed. M ey e r —Israelites S. 108, 200; С. Я.
Лурье — Библейский рассказ о пребывании евреев в Египте.
«Евр. мысль», 1926. Традиция о пребывании евреев в Кадете
также, по мнению весьма авторитетных ученых, ничего не знает о
пребывании евреев в Египте. Ср. напр. Н. Wi n с к 1 е г —- Geschichte
Israels. I, S. 12—59.
2 Ed. Meyer — Israelites S. 50. О попытках обосновать миф об
исходе на египетском документальном материале см. ниже стр. 144-
71
вительного; впрочем авторы больше заботятся об
обстоятельности и красочности изложения в духе
занимательного рассказа, чем об исторических подробностях 1.
Крушение мифа об исходе из Египта поставило под
угрозу историчность центральной фигуры иудейской
религии, «законодателя и вождя» Моисея. Как известно, все,
что сообщается в библии о Моисее, представляет собою
сплошь сказки и мифы. Рождение Моисея повторяет
широко распространенный мифологический и сказочный
мотив о чудесном избавлении героя-младенца от грозящей
ему по проискам соперника (чаще всего царя) смерти и
о выполнении им впоследствии предначертанной ему
судьбы героя. Интересно, что в библии м«ф о чудесном
спасении Моисея дан без всякой связи с его дальнейшими
деяниями и представляет собою, по всей вероятности,
простое перенесение на личность ветхозаветного героя
циркулировавшего на Востоке мифа о рождении вавилонского
царя Саргона I (около 2600 г. до хр. э.), где мы имеем
буквальные совпадения с текстом кн. Исхода:
«Я—Саргон, могучий царь, царь Аккада. Моя мать была
бедна (?), моего отца я не знал, брат моего отца живет в
горах. Мой город — Азупирану, расположенный на берегу
Евфрата. Зачала меня моя бедная (?) мать, втайне родила
она меня, поместила меня в ящик из тростника, заделала
1 См. Н. G u n k е 1 — Genesis, S. 398, где автор, признавая иа
вежливости голый факт исхода, тем не менее категорически
возражает против попыток историзации легенды.
Для упадка буржуазнои~науки характерно, что, в то время как
наиболее умные богословы вроде Гункеля или И. Леви
соглашаются признать легендарность исхода, находятся профессора, которые
пытаются спасти легенду, признать ее целиком историчной с тем
только ограничением, что элемент чудесного либо исключается,
либо получает рационалистическое толкование. Так, Г. Грессман
считает возможным признать историчность даже чудесного перехода
евреев через Чермное море! Библейская сказка в его толковании
принимает следующий вид. Под влиянием голода евреи покидают
Негеб и «пустыню Иуды» и переселяются в Египет, в Гошен.
Фараон Рамзес II A292—1225) привлекает их к тяжелым работам по
постройке Питома и Рамзеса. Тогда евреи под водительством
Моисея бегут из Египта. При заливе Акаба их настигают египтяне.
Но вследствие кстати приключившегося землетрясения волны
залива захлестывают египетские полчища. Это «чудо» заставляет
евреев уверовать в местного мидианитского бога Ягве, и Моисей
объявляет его богом Израиля. (Н. Gressmann — Mose und seine
Zeit. 1913. S. 444 ff.>.
Другие профессора пытаются примирить библейскую сказку с
историческими фактами, более искусно; отвергая пребывание всех
77
дверцу .асфальтом (ср. Исх. II 3) и пустила меня по
течению, которое было не сильно (Р)»1.
К той же категории относится все, что рассказывается
о Моисее, — сплошь мифы и сказки, мотивы которых
заимствованы в значительной степени из египетских
сказок 2. Историки и просвещенные богословы отвергают
все это, оставляя за Моисеем лишь законодательство,
вернее — его «древнейшее ядро», выраженное в
«этических десяти заповедях» (Исх. XX I—17) и в «Книге
завета» (Исх. XXI—XXIII). Однако и здесь для защитников
авторитета библии утешительного мало. Им прежде всего
указывают, что «Книга завета» знает оседлое
земледельческое хозяйство и денежные отношения' и что поэтому
Моисей ни в коем случае не мог быть ее составителем.
Далее, доказано, что «Книга завета» является одним из
многих аналогичных ..восточных кодексов и испытала на
себе значительное влияние со стороны последних. В
1901—02 гг. при раскопках в Сузах найдена стела с
изображением царя Хаммураби (ок. 1950 г.),
получающего законы от бога Шамаша, и с полным тексто'м этих
законов. Законы Хаммураби в течение долгого времени
были на всем Востоке образцом уголовного и
гражданского кодекса, каким было, например, римское право,
доныне изучаемое: в буржуазных странах как
совершенный образец. Отрывки кодекса Хаммураби имеются и от
VIII—VII вв.; это свидетельствует о том, что этот свод
евреев в Египте, они допускают достоверность предания в
отношении части израильских племен. Так, лейденский профессор
Бель допускает лишь, что были отдельные еврейские племена и
группы, которые не были с прочими в Египте и1 не проделали
вместе с ними исхода, приняв участие в завоевании Ханаана под
водительством Иисуса лишь «во вторую очередь» (Ft. М. Т. Boh 1—
Das Zeitalter Abrahams. Lpzg. 1930, S. 8). Бель следует здесь
своему американскому коллеге Куку, писавшему: «Не все евреи или
израильтяне ушли в Египет; оставшиеся в стране имели, надо
полагать, предания о поселении (в Ханаане), отличные от преданий
тех, кто участвовал в исходе; в кн. Бытия сохранились отрывки
втих преданий» (S. A. Cook — The Cambridge Ancient history, v. II,
1924, p. 360). Таким путем эти почтенные профессора хотят
примирить библейскую мифологию с данными исторических
памятников и сгладить противоречия и нелепости внутри библейского
повествования. Однако их доводы ни для кого не убедительны,
так как в обоснование своей теории они не могут привести
никаких фактов, а лишь благочестивое желание выгородить
авторитет библии.
1 АОТВ, I, 234.
2 Ср. Н. Gressm ann — Mos.e und seine Ze.it, S. 407 ff.
законов был в обращении через 12—13 веков после его
составления и мог послужить образцом и для еврейского
законодательства. И действительно1, при сравнении текста
кодекса Хаммураби и «Книги завета» мы встречаем
текстуальные совпадения, свидетельствующие о
заимствовании из кодекса Хаммураби:
КОДЕКС ХАММУРАБИ 1
§ 21. Установлено: если кто
вломился в дом, его убивают на
месте взлома...
§ 117. Установлено: если
кто-нибудь попал в долговое
обязательство и он потому отдал за деньги
жену или сына, или дочь или
отдал в кабалу, они должны 3 года
оставаться в услужении в доме
покупателя или кредитора; на 4
год они должны быть отпущены
на волю.
§ 124. Установлено: если кто
передал другому при свидетелях на
сохранение серебро, золото или
что-нибудь другое и потом
отрекся от этого, то пусть он
соответствующего человека уличит; тогда
этот должен отдать то, от чего он
отрекся, вдвойне.
§ 126. Установлено: если у кого-
либо нечто, принадлежащее ему,
не пропало, а он все же объявил
«нечто, принадлежащее мне,
пропало» (и) с своей стороны
неправомерным образом заявил об
убытке, то сообразно тому, что нечто,
принадлежащее ему, не пропало,
пусть он точно назовет перед
богом свою (мнимую) пропажу.
Тогда пусть он отдаст в ущерб себе
то, что он рекламировал, вдвойне.
.КНИГА ЗАВЕТА"
И с х. XXII, 1. Если вор захвачен
при подкопе и его ударили, и он
умер, нет крови на нем.
И с х. XXI 2. Если купишь раба
еврея, пусть служит он шесть лет,
а на седьмой год пусть выйдет на
волю даром... 7. А если кто
продаст дочь свою в рабыни...
Исх. XXII 6. Если отдаст кто
серебро или вещи ближнему на
сохранение, а они украдены будут
из дома этого человека, то, если
вор будет обнаружен, пусть он
заплатит вдвоЧне. 7. Если вор не
будет обнаружен, пусть хозяин
дома явится к богу 2 и покажет,
что он не простер руки на
собственность ближнего своего... 9.
Если кто даст ближнему своему
осла или вола, или всякий (другой)
скот на хранение и он умрет или
будет поврежден или увезен и
нет очевидца, то клятва Ягве да
будет между ними, что он не
простер руки к собственности
ближнего.
1 АОТВ I, 380—410.
3 В русском переводе вместо «явится к богу» сказано «к
судье>; в подлиннике сказано «к элогим>, так же как у Хамму-
Ваби.
79
§ 200. Установлено: если кто
выбил зубы липу, равному ему, то
ему выбьют зубы.
§ 206. Установлено: если кто во
время драки ударил другого и при
этом нанес ему повреждение, то
пусть виновный поклянется:
«сознательно я его не ударил»; он
должен также удовлетворить врача.
И с х.
зуб...
XXI 24. Око за око, зуб за
18. Если ссорятся люди и ударит
один другого камнем или кулаком
и тот не умрет, но сляжет в
постель, 19. то, если встанет и будет
выходить с палкой, ударивший не
повинен, но пусть заплатит за
простой и пусть лечит его.
Такого же типа законодательные кодексы известны и
по другим источникам. Так, в 1922 г. опубликован
хеттский свод законов1, относящийся прибл. к 1300 г. до
хр. э., представляющий собою переработку более древнего
кодекса, как это явствует из самого текста, где часто
указывается, какое наказание полагалось за то или иное
преступление «раньше» и какое «теперь». Интересно, что
и здесь находятся кой-какие совпадения с библейскими
предписаниями:
ХЕТТСКИЙ КОДЕКС
II 6. Если кто разведет огонь на
своем поле и пустит его на поле
другого, покрытое посевом, и
зажжет его, то тот, кто зажег,
должен забрать сожженное поле и
дать владельцу поля хорошее
поле...
II 83. Если мужчина овладел
женщиной в горах, (то только)
мужчина считается преступником и
должен умереть; но если он овладел
ею в доме, то (и) женщина
согрешила, женщина (тоже) должна
умереть. Если муж захватил и
убил обоих, то против него
уголовное преследование не
возбуждается.
И с х. XXII 4. Если кто потравил
поле или виноградник, пустив
скот свой травить чужое поле, то
пусть платит лучшим из поля
своего и лучшим из
виноградника своего... 5. Если огонь выйдет
и найдет тернии и выжжет копны
или жатву или поле, то должен
заплатить, кто зажег пожар.
В т о р о з. XXII23. Если будет
молодая девушка обручена мужу и кто-
нибудь встретит ее в городе и
ляжет с нею, 24. то обоих выведите
к воротам того города и побейте
их камнями до смерти... 25. Если
же кто в поле встретит
обрученную отроковицу и, схватив ее,
ляжет с нею, то должно предать
смерти только мужчину,
лежавшего с нею.
1 «Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv von, Boghazkoi».
Unter Mitwirkung von Joh. Friedrich 'fibers, von Heinrich Zimmern.
Lpzg. 1922 (АО 23, 2). Более полный и лучший перевод в АОТВ,
I. S. 423—431. Русский перевод Захарова неудовлетворителен.
80
Кроме того, из хеттского кодекса заимствованы также
постановления Исх. XXII 9—12 (= хеттский I 76), XXI 37
и XXII (из хетт'ск. I 58—71) и др. *.
Кодекс Хаммураби и хеттский кодекс были не
первыми и не последними восточными кодексами. Еще в
1915 и 1919 гг. были опубликованы отрывки из сумер-
ского кодекса, относящегося, вероятно, к эпохе III
династии Ура (XXIII в.J. В 1922 г. был опубликован также
д(ревнеассир,ийский кодекс, относящийся приблизительно
кЧЮО г.8.
Таким образом, и до «Моисеевой» эпохи и после нее
В' Передней Азии были в обращении законодательные
своды, в которых еврейские законодатели нашли готовые
образцы для письменного оформления обычного права и
судебной практики своего времени, не нуждаясь в
творчестве «богооткровенного пророка», и при этом
заимствовали оттуда ряд постановлений. То обстоятельство, что
«Книга завета» предполагает оседлое земледелие и
уделяет значительное место денежным отношениям, •—
явления, совершенно несовместимые с бытом кочующих в
пустыне скотоводов, — показывает, что «Книга завета» не
могла появиться ранее IX—VIII вв.
Что касается «этических заповедей», то они имеют
свою аналогию в тех «списках грехов», какие
существовали: у вавилонян.
Приведем небольшой отрывок из такого списка.
Из серии «Шурпу» (заклинания против напасти,
сопровождаемые сжиганием цветов!, фруктов, шерсти и т. д.).
Молящийся перечисляет возможные грехи, в которых
он, может быть, повинен.
...Оскорбил ли он бога, презрел богиню?
Против бога его грехи, против богини его злодеяния?
Оскорбление..., ненависть к старшему брату?
Обидел он отца и мать, оскорбил старшую сестру?
Давал ли он в малом, а в большом отвергнул?
Говорил он вместо «нет» «да»«?
Говорил ли он вместо «да» «нет»?
Говорил ли он скверное, совершил неподобное?
1 Ср. Н. М. Никольский — Хеттские законы и их влияние
на законодательство Пятикнижия. «Еврейская старина», 1928, XII,
стр. 232 ел.
2 Перевод в АОТВ, I, 410—412.
3 Ein altassyrisches Rechtbuch, libers, von H. Ehelolf, В., 1922.
6-8 8i
Сказал ли он дурное...?
Применял ли он неверные весы и не применял весы верные?
Принимал ли он неправедные деньги, а правильных денег не
взял?
Отверг ли он законного сына и утвердил сына незаконного?
Нарушил ли он межу, владение и границу?
Вторгся ли он в дом своего друга?
Приблизился ли он к жене друга своего?
Пролил ли он кровь ближнего своего?
Забрал ли он одежду ближнего своего?
Не отпустил ли он сам (?) на волю человека?
Увел ли он честного человека из его семьи?
Распустил ли он собравшихся сожителей?
Противился ли он старшему над собой?
Были ли его уста прямы, а сердце неверно?
Было ли обещание у негр на,устах и отказ в сердце?1 и т. д.
Но, кроме того, десять заповедей также предполагают
оседлую жизнь и частную собственность (Исх. XX, 14, так
наз. десятая заповедь) и борются против местных
культов. А это соответствует VIII—VII вв., эпохе, когда
развернулась ожесточенная классовая борьба и когда шла
жреческая кампания за централизацию культа.
Таким образом, «биография» Моисея состоит сплошь
из сказочных чудес; организованный им исход из Египта
оказывается фикцией, а законодательство «на Синае» —
позднейшей кодификацией норм обычного, религиозного
и уголовного права разной древности, для которой
имелись готовые юридические образцы и где личность
«законодателя» ни в какой степени не отражается.
Что же остается от личности Моисея? Ровно ничего.
Он остается лишь мифическим родоначальником
легендарного «колена» жрецов-левитов, освящавших его
авторитетом свои привилегии; он —герой того же типа, что
и мифический учредитель элевсинских мистерий Евмолп
или первопредок жрецов Афродиты на о. Пафосе Кинир.
К такому выводу пришел в свое время и Эд. Мейер:
«Тот Моисей, которого мы знаем, — писал Эд. Мейер,—
предок жрецов Кадеша, т. е. фигура из генеалогического
предания, стоящая в связи с культом, а не историческая
личность. Ведь из тех, кто разбирал его историческую
фигуру, никто (если не считать таких, которые
принимают традицию без разбору за историческую истину) не
1 АОТВ, I. 324-325.
42
сумел наполнить ее каким-нибудь содержанием,
представить его как конкретную индивидуальность или указать
хоть что-нибудь, что он создал и что явилось бы его
историческим трудом. А что он якобы выдвинул
положение, что Ягве—бог Израиля (причем1 даже не
утверждают, что он открыл этого Ягве, а лишь что он его
где-то позаимствовал), это — бессодержательная фраза»1.
Очевидно, руководствуясь этими указаниями Эд. Мейера,
виднейшие ветхозаветники и историки Штэрк, Зеллин и
др. стараются найти в «деятельности» Моисея
какие-нибудь индивидуальные черты, в которых бы проявилась
его личное т ь. Путем бесцеремонного насилия над
текстом библии и еврейской грамматикой они хотят
установить по каким-то им одним понятным намекам в Чис.
XXV, Ос. IX 7—14, XII 15—XIII 1, что Моисей был убит
сторонниками культа Баал-Пеора 2. На худой конец и это
может сойти за «индивидуальную черту», но сработано
оно чересчур топорно и лишь подчеркивает общую черту
буржуазной библейской науки как служанки богословия.
1 Ed. Meyer— lsraeliten. S. 451, Прим. 1.
2 W. К asp a ri — Neuere Versuche Geschichtwissenschaftlicher
vereewisserung- tiber Mose. ZAW, 1924, S. 297 ff.
ДРЕВНЕЙШАЯ РЕЛИГИЯ
ЕВРЕЕВ
w
1. РОДОВОЙ СТРОЙ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ
же разбор библейского текста и данных
археологии разрушает богословскую
фикцию о «законе, данном Моисею в
пустыне». Мы видели, что Вельгаузен показал
несовместимость изложенного в
Жреческом1 кодексе культа Ягве с древними
верованиями евреев, как они показаны в
«исторических книгах» Ветхого завета. Знакомство с
религией народов Передней Азии, стоявших на более
высокой ступени общественного развития, чем евреи, опять-
таки подтвердило невозможность существования у евреев
во II тысячелетии той религии, которую богословы
конструируют по поздним библейским данным.
Буржуазные историки поэтому вынуждены искусственно
воссоздавать схему какой-то отвлеченной, лишенной конкретного
содержания, витающей где-то в междумировом
пространстве «моисеевой религии», для которой они не
могут указать ни конкретного носителя, ни конкретной
формы. «Религия Моисея, — пишет Киттель, — видит в
божестве не только властелина, но в то же время и
источник жизни; она видит в Ягве бога особого рода,
исключающего всех остальных богов... она видит в бо-
34
жестее источник права и судью, в высоте его заповедей
и правосудия она видит меру его святости и верности,
она сознает его внечувственную, духовную сущность и
тем самым становится в противоположность по
отношению к господствующим в эту эпоху типам религии» 1. И
если история застает тем не менее евреев отнюдь не
приверженными этой религии монотеизма, то это
объясняется деградацией их в результате смешения культа Ягве
со старинными ханаанскими культами2. «Историк»
Дубнов, признавая, что ничего о Моисее не знает, заменяет
изложение исторической действительности поэтическими
тирадами о «могучей религиозной санкции порыву
народа», о «великом деле, совершенном одним из
величайших людей». «Мы не знаем, — пишет он, — как это
совершилось, но !мы видим огромные исторические результаты
совершенного дела»3. И опять-таки — деградация под
влиянием ханаанеян.
Апологетическую обработку источников начали еще
раввины и масореты, бесцеремонно обращавшиеся со
своими «священными» книгами, когда нужно было
выправить слишком неудобный для них прямой смысл текста..
Фальсификация текста масоретами местами настолько
грубо выпирает, что критика ее без труда обнаруживает
(примеры этому мы мимоходом приводим). Но
фальсификация источников, как мы видели, не прекращается
«во славу божию» и в наше время. Образцом искажения
исторической перспективы ради «доказательства»
исконности еврейского монотеизма мы имеем в
соответствующих статьях «Еврейской энциклопедии», которая, к
сожалению, пользуется у нас некоторым кредитом. Авторы
и редакторы упорно объявляют все многочисленные
«языческие» культы древних евреев ханаанскими
явлениями, к которым евреи непричастны. Евреи ещевКадеше
были будто бы осенены божественной благодатью,
уверовали в единого бога и таким образом внесли
«бесценный» вклад в человеческую культуру.
Достаточно сопоставить подобные выспренние тирады
о «возвышенной» религии древнего Израиля с реальным
представлением о кочующем племени бедуинов, не
вышедших еще из состояния варварства, чтоб почувство-
1 «История еврейского народа», изд. «Мир», М., 1917, стр. 173.
2 Там же, стр. 225.
3 Дубнов —Всеобщая история евреев. Кн. I, СПБ, 1910, стр. 9.
Я5
вать всю нелепость представления о «моисеевом законе».
Но ведь буржуазная наука имеет свои партийные
задания, и гае только католические богословы школы
В. Шмидта <и В. iKonnepca, -но и светские ученые вроде
К. Т. Прейеса совершенно серьезно', с невозмутимым
видом доказывают наличие веры в единого бога у самых
отсталых народов на земле — бушменов, африканских
пигмеев, огнеземельцев, семангов и др. Логика и факты
подчиняются классовым интересам буржуазии, которой
теперь больше чем когда бы то ни было необходимо
поддержать веру в народе и отстоять извечность
божественного откровения.
Объективное изучение материала о древнейших
верованиях евреев, поскольку они отразились в источниках,
показывает, как мы это увидим в дальнейшем,, что моно-
тежетижская религия у евреев — продукт поздней эпохи,
выросший в диаспоре. Для выработки монотеистической
религии у евреев конца II и начала I тысячелетия до
х;р. э. было гораздо меньше предпосылок, чем у
окружающих народов, достигших более высокого
общественного развития. В одном из ранних писем к Марксу
A8 декабря 1846 г.) Энгельс писал, что «единый бог
никогда не был бы осуществлен без единого царя» и что
«единство бога, контролирующего многочисленные
явления природы, объединяющего противоположные силы
природы... есть только копия единого восточного
деспота, который видимо или действительно объединяет
сталкивающихся в своих интересах людей» 1. Религии древних
народов Передней Азии, в том числе и евреев, наилучшим
образом подтверждают и иллюстрируют правильность
этого положения.
В тот период истории евреев, для которого ;мы
впервые имеем вполне достоверные исторические сообщения,
они образовали уже классовое рабовладельческое
общество восточной его разновидности2. Но родовые
институты к тому времени (IX в.) не исчезли. Длительный
период разложения рода и образования классового
государства оставил (Многочисленные следы не только в
мифологии и историческом предании, но и в политических
отношениях царской эпохи; и даже еще автор кн. Хро-
1 Энгельс — Письма к Марксу. Соч., т. XXI, стр. 45.
2 Эта формулировка формационного типа древнееврейского
общества является спорной. Прим. ред.
86
ник заполняет многочисленные страницы генеалогиями
различных родов. А те смутные предания, легенды, мифы
и исторические реминисценции, которые были
обработаны составителями и редакторами кн. Судей я Самуила,
знают еще расцвет родового строя.
Евреи тогда находились на высшей ступени
варварства. Наряду с бронзой применяется уже в широких
размерах железо. Барзилай («Железняк») как собственное
Рис. 4. Израильтяне (?). Живопись на черепке из Мегиддо,
VIII-VH вв.
имя встречается у различных родов (И Сам. XVII 27,
XXI 8). «Второе крупное разделение труда» — отделение
ремесла от земледелия было еще явлением сравнительно
недавним; еще сохранилось воспоминание о том времени,
когда «во всей земле израильской нельзя было найти
кузнеца... И ходили все израильтяне к филистимлянам
ковать свои сошники и свои заступы, топоры свои и
серпы свои» (I Сам. XIII 19—20). Наконец, в ходу были
деньги, что было совершенно неизбежно в окружении
народов, столь далеко шагнувших вперед в деле
цивилизации, как вавилоняне, у которых обмен на деньги и
денежные единицы существовал задолго до поселения
еврейских бедуинов в Палестине. Это окружение
ускоряло процесс разложения родового строя у евреев, де-
87
формировало и искажало родовые институты, и о роде
у евреев в чистом виде мы можем судить главным
образом по его пережиткам в позднейшую эпоху.
Что род основан на кровном родстве, прочно
сознавалось евреями; во всяком случае, даже в Жреческом
кодексе (Чис. XXVII) члены одного рода (rnistohpacha)
считаются близкими родственниками по «плоти». Обычай
кровной мести требовал от рода в целом
наказания убийц Ыг, даже если он принадлежал к тому же
роду; таков смысл рассказа II Сам, XIV 6—7. Род владел
землей сообща. Первоначальная общинная собственность
кой-где сохранилась еще к концу царского периода. В кн.
Михея пророк грозит (II 5): «не будут у тебя веревкой
размеривать землю по жребию», а о пророке Иеремии
сообщается, что он отправился из Иерусалима в землю
вениаминову, чтобы получить там свою долю при
разделе (Иер. XXXVII 12). В inc. XVI 5—6 сохранилась, пови-
димому, древняя формула, которую произносил каждый
общинник при отводе ему его доли. Воспоминание о
распределении земли по жребию имеется также, может
быть, в Притч. I 14. В кн. Иис. Нав. земля распределяется
по жребию между племенами по родам; точно так же в
Чис. ХХХШ 54 предписывается разделить землю по
жребию по родам. Если латинское слово familia (семья)
произошло от famulus (раб) и означало первоначально
«совокупность принадлежащих одному человеку рабов»,
то древнееврейское слово «шипха» (scn-p-ah-h), «рабыня»,
явная модификация слова «мишпаха» (rn-sch-p-ch-h),
«род», может служить косвенным свидетельством об
общем владении рода рабами 1.
Прочной хозяйственной и политической единицей
являлось племя. Традиционное число 12 «колен», как
'обычно переводят слово sdrvepjet,. представляет собою
богословскую спекуляцию, так же как 12 колен эдомитов
(Быт. XXXVI 10—14J. В древнейшей «Песне Деборы»
(Суд. V) названы только десять колен, причем там не
упоминаются Симеон, Леви, Иуда, Манассия и Гад, зато
упоминаются Махир и Гилеад, не встречающиеся в
позднейшей литературе, где Махир фигурирует как род из
племени Манассии. С другой стороны, Дан, обычно счи-
1 Самый корень sen,—p^h. _,(s—р—ch) — изливать (sc. semen)
означает «род» также в финикийском языке.
2 См. Ed. Meyer — Israelites S. 346.
88
тающийся коленом, в одном месте (Суд. XVIII 11)
называется родом. Мы имеем здесь, таким образом, следы
образования новых родов и племен. •
Родовая организация, как она рисуется в библии,
состояла из племени, рода, патриархальной семьи (ibet
фоЬЪ,-— «отцов дом»). Так, в кн. Иис. Нэв. VII 16 ел. мы
читаем: «16. И встал Иисус рано поутру и велел
подходить Израилю по коленам его — и указано было колено
Иудино. 17. И велел подходить племени1 Иудину — и
указан был род Зераха; и велел подходить роду Зераха по
семьям 2—и указано было (семейство) Завдиево. 18. И велел
подходить его семейству по одному человеку — и указан
был Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зераха из
племени Иуды». Точно так же при избрании Саула на
царство Самуил произвел жеребьевку: «И подвел Самуил
все колена израилевы, и вышло (по жребию) колено
Веньямина; и подвел он колено Веньямина по родам, и
вышел род Матриев; и вышел Саул, сын Киса» (I Сам.
X 20—21).
Энгельс, в согласии с Морганом, указывает следующие
характерные обычаи в материнском роде у ирокезов:
1) Род выбирает своего «сахема» (представителя в
мирное время) и предводителя (военачальника).
2) Род по своему усмотрению сменяет сахема и
военачальника.
3) Никто из членов рода не может брать жену внутри
рода.
4) Имущество умерших переходит к остальным
сородичам, оно должно оставаться в роде.
5) Сородичи должны были помогать друг другу,
оказывать защиту и, в частности, содействовать мести
за оскорбление чужими.
6) Род имеет определенные имена или ряд имен,
пользоваться которыми во всем племени мог
только он один.
7) Род может усыновлять посторонних и этим
принимать их в состав всего племени.
8) Религиозные церемонии более или менее связаны
с родом.
9) Род имеет общее кладбище.
1 В тексте ошибочно сказано «роду».
2 В тексте явная описка (диттография из ст. 18): lagebarim (по
одному человеку) вместо labbatim (по семьям).
89
10) Род имеет совет, демократическое собрание всех
взрослых членов рода, мужчин и женщин,
располагающих равным правом голоса.
Индейское племя имеет:
1) Свою область и особое имя.
2) Особое свойственное лишь этому племени
наречие.
3) Право торжественно вводить в должность
избранных родами сахемов и военачальников.
4) Право смещать их.
5) Общие религиозные представления (мифологию) и
религиозные обряды.
6) Племенной совет для обсуждения общих дел.
Ирокезы стояли еще на низшей ступени варварства.
Евреи, насколько источники позволяют проследить их
древнейшую историю, стояли на высшей ступени
варварства, и материнское право должно было уступить место
бтцовскому. Поэтому род у древних евреев был ближе
к греческому. Но Маркс отметил, что «из-за греческого
рода неоспоримо выглядывает дикарь (например,
ирокез)» *. Не удивительно, что в организации рода у евреев
можно открыть те же черты, что и у ирокезов, с теми
существенными изменениями, какие повлекло за собой
появление частной собственности и отцовского права.
Для греческого рода, который во многих отношениях
аналогичен еврейскому, Энгельс отмечает следующие
типические черты:
1) Общие религиозные празднества и исключительное
право отправлять жреческие обязанности в честь
определенного бога, предполагаемого
родоначальника рода.
2) Общее кладбище.
3) Право взаимного наследования.
4) Взаимная обязанность оказывать друг другу в
случае насилия помощь, защиту и поддержку.
5) Взаимное право и обязанность в известных случаях,
когда дело касалось девушек-сирот или наследниц,
вступать в брак внутри рода.
6) Обладание, по крайней мере в некоторых случаях,
общим имуществом с собственным архонтом
(старшиной) и казначеем.
1 Энгельс — Происхождение семьи, частной собственности
и государства. М., 1934, отр. 93. >
90
7) Происхождение по отцу.
8) Запрещение браков внутри рода, кроме как с
наследницами.
9) Право усыновления родом.
10) Право избирать и смещать старшин *.
Почти все эти черты в той или иной форме мы
находим и в еврейском роде, хотя в искаженном библейской
традицией виде и чаще в туманных намеках и случайных
замечаниях, чем в прямых высказываниях.
Авторы и редакторы библейских книг не были уже
свидетелями господства родового строя. Они застали
пережитки этого института уже деформированными з
условиях существования классового' общества, и именно
с этой точки зрения, искажающей историческую
перспективу, они передают традиции о древнем родовом строе.
Поэтому даже в «Песне Деборы», принадлежащей к
древнейшим частям; библии, мы встречаем слово 'eleph,
первоначально означавшее «род», уже_ в значении «тысячи»
(Суд. V 8), т. е. чисто военного деления, возникшего
тогда, когда роды уже перемешались на дайной
территории и когда военное дело стало уже не только
обязанностью каждого члена рода, но и привилегией имущих,
как мы это видим в соответствующих условиях в
древней Элладе. Родовладыка, вождь племени, патриарх,
князь, царь — все эти термины часто путаются в
исторических книгах Ветхого завета. Все же кой-какие черты
древнего быта можно уловить и в туманном, путанном и
тенденциозном изложении древних преданий у
библейских авторов.
Мы узнаем, что во главе племенных подразделений
оседлой поры стоит вождь, именуемый, zaqen, qaszin, rostih,
а у Иуды и Едома также 'alupih, вождь. Из этих терминов
zaqien (старейшина) и 'ailuph восходят, несомненно, к
родовой эпохе2.
Zaqen, родовой старейшина, надо полагать, избирался
всеми членами рода. Так, в кн. Суд. IX 1—3
рассказывается, что сын Гидеона, Абимелек, направился в Сихем к
братьям своей матери и добился того, что в с е жители
1 Энгельс — Происхождение семьи, частной собственности
и государства. Стр. 81 ел., 92 ел.
2 Ср. Ам. V 3; I Сам. XXIX 2; II Сам. XVIII 1; интересно, что
eleph так же, как 'aluph (родовладыка), означает также «рюгатый
скот*. Дальнейшая модификация значения слова 'eleph — «тысяча»
как число.
91
Сихема (в данном случае, как видно из текста, члены
одного рода) избрали его своим вождем. При этом Аби-
мелек сослался на то, что он — их кровный родственник
(по матери; родство по материнской линии не было
еще оттеснено родством по отцу) Ч
В Суд. XI 5—11 старейшины Гилеада приглашают
Ифтаха (Иевфая) быть у них вождем, и, когда он дает
свое согласие, «народ сделал его своим главой и вождем»
(ст. 11). «Вплоть до конца периода варварства всегда
надо предполагать отсутствие строгой наследственности,
совершенно несовместимой с порядком, при котором
богатые и бедные внутри рода пользовались полным
равноправием» 2. То, что в греческом роде должность бази-
левса обычно переходила от отца к сыну, «доказывает
лишь, что сыновья могли рассчитывать на наследование
в силу народного избрания, но отнюдь не служит
доказательством наследования помимо^. такого избрания»3.
Нечто в этом роде мы имеем II Цар. XXI 23—24 (ср.
II Сам. II 8—9).
Традиция выборности вождей утвердилась у
израильтян прочно, и даже цари, по сообщению библейских
авторов, избираются — по крайней мере per acclamationem
(II Сам. II 4; I Цар. XII 1; I Сам. X 24).
Общие дела племени обсуждались в совете,
состоявшем из старейшин (zeqenim); что касается родового
совета, то, судя по обстановке, описываемой в кн. Руфь
IV 9—И, на совете рода присутствовали все взрослые
члены рода — «весь народ». Институт совета старейшин
прочно вошел в обиход и в различных формах
существовал в течение всего библейского 'периода.
Поскольку члены рода сознают свое кровное родство,
они считают брак внутри рода недопустимым. Автор
предания Суд. XVIII—XIX считает само собою разумеющимся,
что если израильтяне клятвенно постановили не давать
своих дочерей замуж за вениаминитов, то тем самым
вениаминиты обречены на вымирание; очевидно, брак
1 «Переход от материнского права к отцовскому мог
совершиться у них (германцев. — А. Р.) лишь незадолго перед тем, так
как брат матери—ближайший сородич мужского пола по
материнскому праву — признавался еще у них чуть ли не более близким
родственником, чем собственный отец» (Энгельс —
Происхождение семьи, частной собственности и государства. Стр. 67).
8 Там же, стр. 93,
3 Там же, стр. 97.
92
внутри племени (автор этой новеллы уже смешивает род
с племенем) совершенно исключается; израильтяне
поэтому вышли из затруднения лишь тем, что разрешили вени-
аминитам насильственно похищать дочерей других родов.
О «судье» Ибеане (Ееевоне) мы читаем, что «у него было
тридцать сыновей, и тридцать дочерей он выдал во вне,
и тридцать снох взял со стороны за сыновей своих»
(Суд. XII 9).
С первого взгляда экзогамия у евреев как-будто
опровергается тем, что Авраам женит сына своего Исаака на
своей родне, на внучке брата своего, а Исаак в свою]
очередь предлагает сыну Якову женитьбу на своей двою-f
родной сестре. Но, во-первых, в данном случае
благочестивый автор хочет подчеркнуть, что даже в те времена!
когда выбор был чрезвычайно ограничен, патриархи не
желали смешиваться с ханаанским населением. Авраам
заклинает Элиезера: «ты не возьмешь моему сыну жены
из дочерей ханаанеян, среди которых я живу, а пойдешь
в мою страну, мою родину и возьмешь жену сыну моему
Исааку» (Быт. XXIV 3—4). Ту же мотивировку дает и
Исаак Якову (Быт. XXVIII 1). Во-вторых, Авраам, Исаак
и Яков — не просто члены родовой организации; они —
древние божества, и в мифах о «их отразились,
возможно, еще более древние традиции первобытных времен,
когда, по выражению -Маркса, «сестра б ы л а женой и
это было нравственно».
В библейских текстах сохранился еще ряд
воспоминаний о матриархате. Так, имя детям нарекает мать (Быт.
XXIX 32—XXX 24), сыну Руфи имя дают соседки (Руфь IV
17). Жена остается и в замужестве в своем роде; Исаак,
женившись на Ревекке, «ввел ее... в шатер Сарры, матери
своей» (Быт. XXIV 67); Рахиль я Лия имеют свои шатры
(Быт. XXI 33); из Суд. XV—XVI видно, что жена остается
в своей семье; точно так же, согласно Исх. XVIII 2—6
жена и дети Моисея остаются при Иофоре, причем детр
именуются детьми матери.
Следы матриархата сохранились и в таких языковых
метафорах, как щАет^^щ^а) в смысле «потомство»
(А'м. I 11) или в обозначении крупного города как
«матери» (И Сам. XX 19), в обозначении рабыни Чшита от
'em;—«мать» или применении эпитета «мать» к народу
(Ос. II 4).
Не удивительно поэтому, что древнее предание не
видело ничего зазорного в том, что Амрам женится на
93
тетке, Авраам—на сестре «по отцу, но не по матери»
(Быт. XX 12), а Тамарь предлагает своему брату по отцу
жениться на ней (II Сам. XIII).
Но все это отдельные 'Незначительные следы былого
матриархата; родство по отцу стало господствующим уже
в доисторическую эпоху, и слово "am—«дядя по отцу»
стало обозначать «народ» 1.
Члены рода взаимно наследуют друг другу; имущество
«должно оставаться в роде». Этот родовой институт
сохранился у евреев довольно прочно даже в то время,
когда род как общественный институт потерял свое
значение. В Чис. XXVII (Р) предписывается:
«Если кто умрет, не имея у себя сына, то переводите
удел его дочери его. Если же нет у него дочери, то
передавайте удел его братьям его. Если же нет у него
братьев, то передавайте удел его братьям отца его. Если
же нет братьев у отца его, то передайте удел его
ближайшему родственнику его из рода его» (8—11). А в
другом месте дается и мотивировка: «всякая дочь,
наследующая удел в коленах сынов израилевых, должна стать
женой кого-либо из рода племени отца. И пусть не
переходит удел из колена в другое колено» (Чис. XXXVI
8—9).
Этой же цели служил и левират — обычай, по
которому в случае смерти женатого, мужчины, не оставившего
детей, брат умершего обязан жениться на вдове (хотя,
согласно Лев. XX 20—21, такой брак считался вообще
кровосмесительным) и старший сын, родившийся от этого
брака, наследует имущество покойного (Второз. XXV
5—10). Левират — явление чрезвычайно распространенное
и встречается всюду, где сохранился родовой строй или
его пережитки2. У евреев в настоящее время левират не
осуществляется и заменяется символическим обрядом
«халицы», но на Востоке, где еще сильны пережитки
родового строя,, левират существует и поныне. Ф. Гоитейн
приводит случай из практики последних лет, когда ие-
1 A. Lods — Israel des origines au miiieu du VJII-e siecle. P.
1932, p. 218, ss.
2 Cm. Fr aze r —Folklore in the Old Testament. L. 1919, v.
11, ch. VI; обширную библиографию о левирате дает Бриффолт
(R. Brief fault—The Mothers. L. — N-Y. s. а., предисловие
датировано 1926 г., v. I, p. 767—772), который выводит левират из
полиандрии. Но какова бы ни была доистория левирата, в родовом
обществе его назначение — сохранить имущество в роде.
94
менский раввин вызвал члена своей общины из
Иерусалима, чтобы тот женился на вдове умершего брата; брак
этот считается как бы автоматическим, так что невеста
не дает выкупа, обычного у йеменских евреев. Левират-
ный брак осуществляется и в том случае, если деверь уже
женат. Сохранить имущество внутри рода требуется во
что (бы то ни стало *.
С распадом родовых отношений под разлагающим
влиянием частной собственности функции левирата
становятся принципиально иными: из средства сохранить
родовую собственность на имущество умершего
сородича он становится своеобразной формой выражения
частной собственности на жену умершего. В 1926 г.
в английской колони» Наталь в Южной Африке
английский суд разбирал оригинальное дело: в семье туземца
умер бездетный третий сын; вдова должна была перейти
к старшему брату по закону левирата (Ukangena); но
второй брат с согласия вдовы похитил ее и женился на ней;
тогда старший предъявил иск в коронном суде. Он не
столько жаждал жениться на вдове, сколько получить за
нее ilolboda — выкуп (скотом). Суд признал иск
правильным и предложил молодожену внести выкуп; так как тот
не мог дать полагающееся количество скота, то судьи-
англичане, считающие у себя многоженство грехом, а
брак с женой брата кровосмесительным и восхваляющие
в литературе брак по любви, постановили, что молодую
надлежит отослать к свекрови, где она будет оставаться,
пока -ее возлюбленный не добудет выкупа2. Приговор
этот продиктован преклонением перед собственностью,
даже перед «дикарским» правом собственности на жену
брата.
Еврейские роды имели, как и всюду, свои родовые
отличия. В I кн. Хрон. I—IX в генеалогических списках
по родам и племенам случаи повторения одних и тех же
имен в разных родах и племенах чрезвычайно редки. А
ведь к тому времени, когда составлялись книги Хроник,
роды уже давно успели перемешаться. Интересно, что
среди бесчисленных имен, встречающихся в библии, име-
1 F. Goitein—2ur heutigen Praxis der Leviratehe bei onienta-
lischen Juden. «Journ. of the Palestine Or. society», v XIII,
1933, S. 159 ff.
2 Viktor L ebzelter — Ueber das Levirat (Ukangena-Heirat)
bei den Eingeborenen in Sudnatal (Sud-Afrika). «Anthropos» XXIX,
1934, S. 209—210.
95
на патриархов Авраама, Исаака и т. д., а также Моисея
и Аарона никогда не попадаются; очевидно, имена эти
никогда не были именами личными. Единственное
исключение— «Якоба» (I Хрон. IV 36).
Но не только именами различались роды; запрещение
«делать надрезы на теле и не накалывать на себе
письмен» (Лев. XIX 28) свидетельствует о том, что у евреев
была принята татуировка; «печать Каина» — также, пови-
димому, воспоминание о татуировке, которую применяли
кениты.
В походе если не роды, то во всяком случае племена
выступали со своими знаменами, на которых, надо
полагать, были изображены отличительные знаки —
возможно, изображения тотемов; во всяком случае, многие роды
назывались именами животных (Калеб — собака, Шафан —
кролик, Тола — червь и многие др.), а в «Благословении
Якова» (Быт. XLIX) и «Благословении Моисея» (Второз.
XXXIII) «колена» израильские изображаются с чертами
льва, быка, осла, змеи и других животных.
Особенно ясно выражены тотемистические черты
Иуды и Иосифа. В «Благословении Якова», относящемся,
по всей вероятности, к X в., о Иуде говорится: «твоя
рука — на хребте врагов твоих... молодой лев Иуда; с
добычи, сын мой, ты поднялся. Преклонился он и лег, как
лев и как львица: кто поднимет его?» (Быт. XLIX 8—9).
Не менее отчетливы черты быка — Иосифа в
«Благословении Моисея» (Второз. XXXIII 17): «Как у первородного
быка —великолепие его, и рога буйвола — рога его; ими
он бодает народы»...
Каковы были диалекты, на которых говорили
отдельные еврейские племена, сейчас установить невозможно.
Библейская литература подвергалась в течение многих
веков столько, раз переработке и редактированию, что
диалектические различия в языке сгладились; имеющиеся
древнееврейские надписи слишком скудны, чтобы по ним
составить себе суждение о диалектах еврейского языка
(единственное дошедшее до нас значительное собрание
еврейских документов — элефантинские папирусы —
написано на арамейском яз.). Но что у отдельных племен
существовали особые наречия еврейского языка, не
подлежит сомнению. В известном эпизоде борьбы Ифтаха с
ефремитами (Суд. XII) ефремитов узнают по тому, что
они слово «шибболет» произносят «сибболет».
Представители царя Хизкии просят ассирийского посла не гово-
90
пить при всем народе «по-иудейски», т. е. на наречии
Иуды. Диалектические различия сохранились в виде
встречающихся в библии вариантов Jiszohak и Jischchak,
daath и dea, iganab и gonelb и т. п. Различия в лексике и
стиле Ягвиста и Элогиста также, вероятно, в значительной
степени объясняются различием племенных диалектов.
Восстановление древнееврейских диалектов — задача,
пока еще не разрешенная семитологами; изучение
собственных имен, менее подверженных изменениям, чем другие
слова, должно сыграть в этом деле решающую роль.
Избрание верховного военачальника племени
производится народным собранием. Описание переговоров
между «всем собранием израильтян» и иудейским царем
Рехабеамом (Ровоамом) в I Цар. XII 3 ел. или подобные
же переговоры Гидеона и его сына с израильтянами
напоминают сцены народных собраний в гомеровском
эпосе. Однако функции этих собраний и характер их проце--
дуры уже и в библейском тексте неясны.
Основным органом власти был совет старейшин,
zeqeniim, рода и племени. Старейшины племени Иуды
получают от Давида долю военной добычи для раздачи
сородичам (I Сам. XXX 26). Они же по требованию
Давида «ходатайствуют» о его возвращении после
подавления бунта Авессалома (II Сам.. XIX 12). Старейшины
Гилеада выбирают военачальника (Суд. XI 11). Собрание
(или выборные) старейшин «всего Израиля» требует от
Самуила, чтоб он выбрал царя (I Сам. VIII 4; ср. II
Сам. III 17, V 3). В кн. Иис. Нав. все важнейшие вопросы
решают Иошуа ,и «старейшины Израиля» (VII 6, VIII 10 и
др.). Еще Второз. XXXI 28 знает «старейшин племен
Израиля». Тот же орган власти знают библейские авторы
у моавитян (Чис. XXII 7), у мадианитян (Чис. XXII 4, 7),
в финикийском Гебале (греч. Библос) (Иезек. XXVII 9) и
приписывают сохранение этого института даже
египтянам (Быт. L 7, Пс. CV 22). По мере разложения
родового строя термин «старейшины» был перенесен на
правителей городов: «старейшины города» (Иис. Нав. IX 11,
Второз. XIX 12, Руфь IV 2 и др.). Позднейшие редакторы
библии понимают термин «старейшины» как «правители
города» даже для эпохи Судей (Суд. VIII 14);
«старейшины жрецов» (II Цар. XIX 2, Исх. XXXVII 2, Иер. XIX 1),
возможно, сохранили еще и в позднюю эпоху своё
родовое значение, поскольку звание жреца было
наследственным в роде; подобное явление мы наблюдаем и в древней
7—8 97
Греции, где роды евмолпидов или бранхидов сохранили
привилегии обслуживания определенных культов.
Наконец военачальник, который именовался судьей
(шофет) или царем (мелек), избирался всем племенем;
ему принадлежали, кроме чисто военных функций, также
функции жреческие, по крайней мере такой вывод можно
сделать из рассказа Суд. VIII 24—28 о Гидеоне.
Впоследствии жреческие редакторы библии, отстаивавшие
первенство жреческой власти над светской и решительно
отвергавшие право царей на вмешательство в дела
культа, вытравили из библии все указания на роль царей в
делах культа или изображали ее как греховное
отступление от заповедей ,Ягве (Саул, Иеровоам, Гидеон). Власть
царя не была наследственной, но, как свидетельствует
рассказ о воцарении Абимелека, сына Гидеона (Суд. IX),
царь, глава могущественного и богатого рода, мог
рассчитывать, что после его смерти преемником будет
избран его сын.
Еврейские роды имели, невидимому, и свои родовые
празднества: Давид говорит Ионатану, что он не выйдет
к столу, и, если Саул справится о нем, советует ответить,
что «Давид отпросился у меня сбегать в свой город
Вифлеем, так как там у всего рода годовое
жертвоприношение» (I Сам. XX 6). Были также у родов и свой
кладбища. Так, о Самуиле сообщается, что его похоронили в
Раме в родовой могиле (I Сам. XXV" 1). То
обстоятельство, что Жреческий кодекс для обоснования законных
прав евреев на Ханаан создал новеллу о покупке Авраа-
MOiM у хеттов пещеры Махпелы именно для фамильного
кладбища, показывает, что родовое кладбище было
непременным достоянием рода в местах его оседлости.
Таким образом, те данные, какие можно извлечь из-
под религиозного мусора библейских легенд, преданий и
мифов, рисуют нам картину родового быта евреев как-
раз в ту эпоху, когда евреи якобы под водительством
Моисея странствовали в пустыне и выработали сложную
систему богословия и ягвиетского культа. Евреи вряд ли
существенно отличались тогда от других варваров и
являлись «не чем иным, как мелким племенем бедуинов,
которое вступило в конфликт с другими бедуинами лишь в
силу местных условий, земледелия и т. д.»1. Религия их в
1 Энг ель с—Письмо к Марксу (май 1853 г.), Соч., т. XXI,
стр. 483.
98
основном не могла быть поэтому иной, чем религия
других известных нам племен, не вышедших еще из стадии
родового общества.
2. ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ ЭПОХИ РОДОВОГО СТРОЯ
а) КУЛЬТ ДУХОВ
Исследованием древнейшей религии евреев, в связи
с родовым строем, впервые всерьез занялся английский
ученый В. Робертсон-Смит в 80-х годах XIX в. Он вполне
правильно отметил, что для сравнительного изучения
религиозных верований и обрядов древних семитов надо
привлекать не наиболее древние, а наиболее примитивные
народы, а «в такого рода вещах «древний» и
«примитивный» не равнозначны»х. Он поэтому объектом своего
исследования сделал арабские племена, родственные
евреям, и пытался вывести древнейшие культы семитов,
в том числе евреев, из родовых отношений. Но
Робертсон-Смит исходил из неправильной предпосылки, что
«древние религии не имели никакого исповедания веры;
они состояли всецело из установлений и обрядов», что
«во всех древних религиях мифология занимает место
догмы» и что «при изучении древних религий мы должны
начать не с мифа,,, а с ритуала я освященного традицией
обычая» 2. Другими словами, для Робертсон-Смита
религия прежде всего —культ; это согласуется с другим его
воззрением, в котором он, предвосхищая Дюркгейма,
усматривает, что «религия существовала не для спасения
душ, но для сохранения и благосостояния общества;
каждый обязан был принимать участие во всем необходимом
для этого или же порвать с хозяйственной и
политической общиной, к которой он принадлежал» 3. При таких
неправильных установках Робертсон-Смит не мог цритти
к правильным выводам, и основная тема его лекций —
вопрос о происхождении жертвоприношения — освещена
им во многих отношениях неверно. Но его заслуга во
всяком случае в том, что его исследования и труды его
последователей, к которым причисляет себя и Дж. Фрэ-
' W. Robertson Smith — Lectures on the Religion of the
Semites. L. 1907, p. 13.
2 Там же, стр. 16—20.
3 Там же, стр. 29.
»
99
зер, вскрыли в библейских источниках систему
примитивной религии, элементы которой получают—в свете
сравнительно-этнографического изучения их — простое и
ясное истолкование. Мы имеем теперь возможность
восстановить примитивные верования евреев,
соответствующие отношениям родового общества.
«Родовой строй в его высшей форме, как мы
наблюдали его в Америке, — писал Энгельс, — предполагал
крайне неразвитое производство, следовательно крайне
редкое население на обширном пространстве,
следовательно почти полное подчинение человека чуждой
противостоящей ему непонятной внешней природе, что
и отражается в младенческих религиозных
представлениях. Племя оставалось границей человека как по
отношению к чужаку из другого племени, так и в отношении
самого себя: племя, род и их учреждения были священны
и неприкосновенны, являлись высшей силой, данной от
природы, которой отдельная личность оставалась
безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и
поступках» 1. Здесь сказывалась еще та связанность всех
отношений людей друг к другу и к природе, которая, по
словам Маркса, «отражается идеально в древних
естественных и народных религиях» -. Религия евреев в эпоху
родового строя, насколько она .известна по
сохранившимся в библии многочисленным указаниям,
представляла собою веру во всякого рода духов, но уже отмирало
представление о духах, непосредственно связанных с
телами природы и в них обитающих. Первобытные
анимистические представления в условиях довольно сложного
уже хозяйства на высшей ступени варварства
усложнились и (развились в веру в особых могущественных
духов, добрых и злых. Представления о душе как о духе,
обитающем в теле, также стали принимать более
отвлеченный характер, что создало неясность и путаницу в
терминологии наших источников.
Для обозначения души в еврейском яз. существуют
три слова — нешама, нефеш и руах. Последнее
обозначение души как чего-то существующего самостоятельно
встречается только в Жреческом кодексе; более древние
тексты знают только nephesoh, которая, будучи оживляю-
1 «Происхождение семьи, частной собственности и государств.!
1934, стр. 91.
2 «Капитал», т. I, изд. 8-е, стф. 37.
iOO
щим началом, имеет вместе с тем как оы телесную
сущность Такие выражения, как «пусть умрет моя nepibeseh»
(Чис. XXIII 10, Суд. XVI 30) или (когда Иезавель угрожает
Илье смертью): «завтра я сделаю с твоей душой, как с
душой каждого из них» (I Цар. XIX 2), свидетельствуют о
том что когда-то слово mephesch, обычно понимаемое как
«дыхание»1, понималось еще довольно материально.
Л Дюрр2, ' сопоставляя слово nepiheseh с аккадийским
napisdhtu, достаточно убедительно доказывает, что даже
еще у пророков и в псалмах слово nephesch обозначает
«глотку» (особенно Ис. V 14, III 20, Пс. LXIX 2 и др.).
Столь же материально понимается и редко
встречающееся слово «nesclhamia» — «дыхание». Такое понимание
души, свойственное всем примитивным народам, нисколько
не устраняет дуализма души и тела, фантастичности и
сверхъестественности представления о ней; но только на
этой стадии нелепость, двойственность представлений io
душе и духах проявляются грубо, ощутительно.
Пребывает душа, по воззрениям древних евреев, в
различных органах и частях тела — в сердце, во
внутренностях, в чреслах, в печени 3, в нутряном сале, в груди, в
крови. Волосы также считались связанными с душой;
об этом можно заключать из мифа о чудесной силе,
заключенной в волосах Самсона, из предписания назирам
не стричь волос, из ряда обрядов, с которыми мы
встретимся в дальнейшем. На если в библейской литературе
отожествление души с сердцем или внутренностями имеет
уже характер скорее словесной метафоры, то о крови как
месте пребывания души сохранялась еще живая вера,
нашедшая отражение и в позднейшем культе Ягве: «не
ешьте крови ни из какого тела, потому что душа
всякого тела есть кровь его» (Лев. XVII 14); «душа тела в
крови» (Лев. XVII 11); «душа тела есть кровь его» (Лев.
XVII 14); «кровь есть душа; и не ешь души вместе с
мясом» (Второз. XII 23) и др. Предписание сжигать тук,
почки жертвенных животных показывает, что и в них
видели некогда обиталище души.
1 Современное палестинское обозначение души nafs происходит
также от nafas — дыхание. Canaan — Damonenglaube im Lande
der Bibel. S. 43.
2 L. Durr, заметка в ZAW 1925, S. 262 ff.
3 «Плач» II И; в других текстах (Пс. II 6, XLIX 6, XVI и др.)
ставшее уже непонятным в таком контексте слово kabed (печень)
заменено словом kabod (честь, слава).
101
Со смертью тела nephesoh от него отделяется (Быт^
XXXV 18), но может в него возвратиться (I Цар. XVII 21)|
она скорбит о покинутом теле (Иов XIV 22). Это пред-'
ставление впоследствии, в эпоху классового общества,
получило дальнейшее развитие в связи с представления-
ми о загробном возмездии. В мидраше «Танхума» к'
Лев. VIII рассказывается, что душа нечестивца бродит, не:
находя себе покоя: «Что делает она? Она уходит и
возвращается, все время оставаясь вблизи могилы, и тяжко,
ей видеть, что тело погребено и черви его едят».
Согласно Берешит Раба 100, душа в течение трех дней
носится вокруг могилы, думая, что она еще вернется в
тело *.
В древнейшее время представлений о рае и аде не;
было; души мертвых продолжают вести существование —
подобие земного — где-то в глубине земли, в шеоле.
Волшебница, вызвавшая по просьбе Саула тень
Самуила, говорит ему: «Я вижу элогим, выходящих из земли.
Он спросил ее": какой он видом? отвечала: выходит!
старый человек, и он одет в мантию» (I Сам. XXVIIl!
13—14).
Даже еще в пророческой и «исторической»
библейской литературе отсутствуют отчетливые представления о;
рае и аде. Души мертвых в виде теней пребывают все
вместе. Тень пророка Самуила предсказывает отступнику
Саулу близкую смерть в бою: «Завтра ты и твои сыновья
будете со мной» (I Сам. XXIX 19). Только к концу
царской эпох», в VI в., сложилось представление, что
царство мертвых — это «снимок» с царства живых. Описание
царства теней в XIV гл. кн. Исайи (около 537 г.) вполне
напоминает описание обители мертвых у Гомера (Од, XI).
Как и в Одиссее и вообще у Гомера, у автора Ис. XIV
существует представление, что тени мертвых-—«ре-
фаим» — и после смерти тела сохраняют свои земные
атрибуты, свой ранг и положение в обществе; умер царь
Вавилона, и «шеол внизу пришел в движение ради тебя,
чтоб встретить приход твой; для тебя возбудил рефаим,
всех вождей земли, поднял с престолов всех царей
народов. Все они начнут говорить тебе: и ты сделался
немощным подобно нам, сравнился с нами» и т!. д. (Ис. XIV
9 ел.). Еще интереснее изображение сошествия в царство
1 С. Griin ei sen — Der Ahnenkultus und die Urreligicv
Israels, Halle 1900, S. 57.
102
теней ассирийского царя в кн. Иезекииля: «Шумом
падения его"я приведу в трепет народы, когда низведу его в
шеол с отошедшими в могилу, и утешатся в преисподней
стране все деревья Едема, отборные и самые лучшие
ливанские все, напояемые водой. Ибо и они сойдут с ним
в шеол'к павшим от меча, равно как и поспешники его,
живущие под тенью его среди народов» (Иез. XXXI
16—17).
Место пребывания душ, царство теней, называется
шеол. Так как это слово всегда употребляется без члена,
то оно, очевидно, означает собственное имя; но
установить происхождение и значение этого слова на
основании наших источников невозможно. Гельшер'
высказывает предположение, что Шеол — имя богини
преисподней х.
Как бы то ни было, шеол — представление позднейшее.
В родовую эпоху господствовало представление о том,
что душа покойника обитает поблизости от трупа, и этим
объясняется обряд погребения; это (прежде всего —
защита живых от козней злобного духа, а потом и
средство привязать к определенному месту доброго духа. Что
именно в этом — смысл погребения, доказывается не толь-'
ко достаточно хорошо изученными обрядами погребения
у всех народов всех времен, начиная с неандертальца, но
и прямыми указаниями в библии. Второз. XXI 22—23
предписывает: «Если в ком найдется преступление,
достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь
его на дереве, то труп его не должен ночевать на дереве,
но погреби его в тот же день». Здесь, конечно, не забота
о чести преступника, я" страх перед его душой. Иисус
Навин, повесив взятого в плен царя, распорядился к
вечеру труп снять и насыпать над ним курган (Иис. Нав. VIII
29, ср. X 26—27). Впоследствии, вместе с усложнением
представлений о загробной жизни и вместе с появлением
культа мертвых и предков, изменилось и то значение,
которое придавали погребению: оно предназначалось уже
не для того, чтоб обезопасить живых от козней мертвых,
а для того, чтоб обеспечить «покой» духам умерших;
1 G. Holscher— Geschichte der israelitiechen und jiidischen
Religion. 1922, S. 34; очевидно, гипотеза Гелынера основывается на
Ис. XIX 14, где Шеол и Мавет (смерть) стоят без члена и где
автор обращается к ним, как к живым существам. Ср. Н. М.
Никольский— Следы магической литературы в книге псалмов. Стр.
103
остаться без погребения «в пищу птицам небесным»
считается величайшим несчастьем, фигурирующим в числе
проклятий отступникам (Второз. XXVIII 26; ср. Иер. XXV
33, VII 33, Иез. XXXI 14 и др.). В кн. Иезекииля (XXXII
23) говорится о знатных витязях, которые погребаются в
полном вооружении, с мечом под головой. Это
сообщение библейской традиции дополняется археологическим
материалом. Раскопки показывают, что, начиная от древ-
неханаанских и кончая позднеизраильскими слоями, в
могильниках неизменно встречаются блюда, кувшины,
чашки с остатками растительной пищи и костей
животных *.
Страх, внушаемый духом умершего, заставляет
принимать всевозможные меры защиты против него. Помимо
погребения, у евреев, как и у других народов, этой цели
служили траурные обычаи.
Эти обычаи и обряды имеют целью изменить
внешность оставшихся в живых родственников и близких
покойника, оградить их от опасного соприкосновения с
духом смерти и с душой умершего. В основном траурные
обряды описаны у Иез. XXIV 17 ел. и Иер. XLVIII 37.
Они сводятся к тому, что бреют, вырывают или
распускают волосы, татуируются "(Второз. XIV 1 прямо
запрещает «делать надрезы на теле по умершем»), закрывают
бороду и усы, снимают обувь, надевают на чресла мешок.
Разувание, разрывание одежды, замена ее мешком,
воспринимавшиеся позднее как выражение горя,
первоначально, надо полагать, имели своим назначением изменить
внешность до неузнаваемости, чтоб ускользнуть от
опасного духа; возможно также, что здесь — рудимент об-'
нажения, играющего, как известно, важную роль в
примитивных религиях как апотропеическое средство,
отвращающее опасные демонические силы 2. Во всяком случае,
то обстоятельство, что при входе в святое место также
требуется снять обувь (напр., Иие. Нав. V 15), доказывает,
что здесь речь идет не о выражении горя, а о страхе
перед опасным (впоследствии святым) демоном. А что
укутывание бороды и усов, обнажение, стрижка волос
имеют целью защититься от злых духов, доказывается
тем, что в кн. Левит предписывается п р о к а ж е н н ом у
1Benzinger — Hebraiche . Archaoiogie. Ill Aufl., 1927,
S. 133—134.
2 J. Heckenbach —De nuditate sacra sacrisque vinculis. Gies-
sen 1911.
101
закрыть усы и бороду, разодрать одежды, распустить
волосы (XIII 45) или сбрить их (XIV 8—9 и др.).
Интересно указание кн. Иезекииля (XXIV 17, 23), что при трауре
полагается есть хлеб у чужих. Еда в доме покойника
опасна. Фрэзер описывает многочисленные верования
подобного рода у разных примитивных народов 1.
«Траур» соблюдается не только по близком человеке;
ведь всякий покойник может приносить вред; и до сих
пор верующие евреи, уходя с кладбища, совершают
ритуальное омовение рук, чтоб очиститься от «скверны».
А в библии труп человека или животного—главный
источник ритуальной нечистоты, от которой надо
немедленно очиститься. «Кто прикоснется к мертвому телу
какого-либо человека, нечист будет семь дней... Если
человек умрет в шатре, всякий, кто придет в шатер, и все,
что в шатре, нечисто будет семь дней... Всякий, кто
прикоснется в поле к убитому мечом или к умершему, или
к кости человеческой, или к могиле, нечист будет семь
дней» (Чис. XIX 11—16). «И когда умрет какой-либо скот,
который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся
к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть
мертвечину его, должен смыть одежды свои и нечист
будет до вечера» (Лев. XI 39—40).. Из того, как строго
Жреческий кодекс относится к трупному осквернению, мы
можем заключить, как силен был страх перед духом
(покойника и духом смерти.
Помимо духов, связанных со смертью, евреи верили
во множество всяких других духов, особенно
проявлявших свои опасные силы при всяких переходных и
переломных моментах в жизни человека: при рождении, браке
и т. п. Из числа этих опасных духов древнейшая
традиция о пасхе называет духа-«губителя» (imas'dhchkh),
весеннего духа, который поражает .молодых животных и
детей (Исх. XII 23) (см. об этом ниже, стр. 129). Кроме того,
библейская традиция называет злого духа пустыни Аза-
зела (см. ниже, стр. 135 ел.) и духа-кровопийцу Алука
("aluqa) с двумя дочерьми (Притчи XXX 15), вера в
которого до сих пор живет в среде палестинских арабов2.
Кроме пасхи и дня очищения, мы не имеем сведений о
тех rites de passage3, которые существовали в связи с
1 J. G. Frazer —The Golden Bough, v. Ill
2 Canaan, ук. соч., стр. 39.
' Обряды перехода, т. е. обряды, совершаемые в переломные
моменты жизни,—' при рождении, наступлении половой зрелости,
105
подобными верованиями у евреев в эпоху родового
строя; но мелочные и подробные предписания
относительно «нечистоты» роженицы и менструирующей
женщины, какие имеются в библии, свидетельствуют о том, что
примитивные rites de passage, связанные с верою в злых
духов, крепко укоренились в религиозном быту и были
восприняты — наиной основе — жрецами Ягве.
б) КУЛЬТ ПРИРОДЫ И СТИХИЙ
В период расцвета родового строя, задолго до того,
как евреи окончательно осели в Ханаане, еще
достаточно живы были первобытные анимистические
представления, согласно которым душу имеют и животные, и
деревья, и неодушевленные предметы. В религиозной
практике древнейшие представления о всякого рода духах
выражались прежде всего в магических действиях и в
культе природы" и стихий; многочисленные пережитки
этой практики, осложненные и затемненные позднейшими
верованиями, засвидетельствованы в библейских текстах.
Второз. XII 2 предписывает истребить ханаанейские места
культа «на высоких горах, на холмах и под всяким
зеленеющим деревом» (ар-. I Цар. XIV 23, Иер. II 20).
В библии сохранились вместе с тем многочисленные
упоминания о священных деревьях, культ которых не
считался противоречащим религии Ягве, — таковы
священные дубы и ■ тёребинтные деревья (Быт. XII 6, XXXV 4,
XIII 38, XVIII 1 и др.), тамариск (Быт. XXI 33, I Сам. XXII
16), пальма (Суд. IV 5), гранатовое дерево (I Сам. XIV 2).
Ягвистское богословие примиряло эти древние культы с
культом Ягве путем самого наивного синкретизма: «мам-
врийский дуб» становится святыней, у которой Ягве
«явился» Аврааму (Быт. XVIII 1); точно так же под
священным дубом в Офре вестник Ягве является Гидеону
(Суд. VI 11). Однако мы имеем и близкое к
действительности описание культа деревьев: «На вершинах гор они
приносят жертвы и на холмах кадят под дубом, тополем
и теребинтом... Оттого любодействуют ваши. дочери и
невестки ваши прелюбодействуют. Неужели я не буду
взыскивать с дочерей ваших, когда любодействуют, и с
менструации у женщин и т. п. Термин этот введен Ван-Женнепом.
См. Van Gentiep — Rites de passage.
106
невесток ваших, когда прелюоодействуют, когда они
отделяются вместе с блудницами и приносят жертвы
вместе с священными проститутками?» (Ос. IV 13—14).
Очевидно, в царский период древней истории Израиля культ
деревьев носил оргиастический характер, и главное место
занимали в нем магические обряды плодородия, какие
известны у всех первобытных народов. Весьма
правдоподобным является' предположение1, что библейское
предписание не дожинать края нивы и не забирать
покинутого, забытого в тюле снопа (Лев. XXIII 22, Второз.
XXIV 19) является рудиментом (получившим новое
обоснование) древнего верования, весьма распространенного
и у современных примитивных племен, — именно, что дух
растительности остается в последних колосьях; на этом
основании «дожинному» или «отжинному» снопу
воздаются особые почести, его хранят как святыню и не
употребляют в пищу *.
Если Авраам связан с мамврийским дубом, то Исаак
учредил культ «святого» колодца Беер-Шеба, а Яков
освятил камень Бетэля. Священные источники: «источник
солнца» (Иис. Нав. XV 7), «источник суда» (Быт. XIV 7),
источник Агари Лахай-Рои (Быт. XVI 14) и др., были
предметами культа; во всяком случае, по сообщению
I Цар. I 13, Адония «заколол овец и волов у камня Зо-
хелет. что возле источника Рогел»; очевидно, этот
источник был местом и предметом культа. Интересно, что в
культе в данном случае вода сочетается с змеей: «Зохе-
лет» значит «пресмыкающийся»; в кн. Нехем. II 13
упоминается «эйн танин», т. е. «источник змея».
К растительным культам относится также культ
«ашер», о котором так часто упоминается в библии.
«Ашера» часто встречается в связи с ваалом (II Цар.
XXIII 4, I Цар. XVIII 19, Суд, III 7 и др); в одном месте
говорится об «ашере» даже на жертвеннике Ваала (Суд.
VI 28), наконец; «ашеры», как и ваалы, имели своих
пророков (I Цар. XVIII 19). Отсюда можно заключить, что в
царскую эпоху «ашера» воспринималась как божество
'Holscher, ук. соч., стр. 35; Киттель — История
еврейского народа. Изд. «Мио», 1917, стр. 123—124.
2 См. Ранович — Происхождение христианских таинств. М.
1931, стр. 40—41. В недавнем прошлом соответствующие верования и
культы еще существовали у белорусских крестьян. См. Hi ко л ь-
CKi — М1фолопя i абразовасць валачобных песень. 1931, стр.
224—225.
107
плодородия 1. Но не подлежит сомнению, что во всяком
случае первоначально «ашера» была воплощенным в
дереве растительным духом. Изображение «ашеры»—
деревянный столб, украшенный всевозможными
украшениями и помещенный, быть может, иной раз в особом
«шатре» (И Цар. ХХШ 7). Культ этого растительного
демона прочно держался в религиозном обиходе, и даже
еще Второз. в одном месте просит лишь не ставить
«ашеры» рядом с алтарем Ягве (XVI 21).
Культ камней был, надо полагать, весьма популярен,
и выражение Szur Israel—«Скала Израиля» по отношению
к богу не всегда понималось как поэтический образ. Об
этом свидетельствуют имена EH-szuir, Szuri-sclhaddaj,
Pedah-szur, и еще Второз. (XXII 18) упрекает израильтян:
«Скалу, родившую тебя, ты забыл».
Раскопки в Палестине обнаружили значительное
количество массеб, о «греховном» культе которых не раз
говорится в библии. Массебы— каменные столбы,
восходящие еще к 'менгирам каменного века. Массебы, чаще всего
конической формы, иногда имеют определенно
выраженные фаллические признаки. Массеба была весьма
распространенным видом фетишей, в которых воплощались
различные духи и божества.
Даже еще в Соломоновом храме Ягве были поставлены,
по сообщению I Цар. VII 21, два медных столба, получив-'
ших собственные имена — Иахин и Воаз2. Библейские
авторы, кроме редакторов Второзакония, не видели в мас-
себах ничего предосудительного с точки зрения ягвист-
ской религии. Яков устанавливает массебу в Бетэле (Быт.
XXVIII 18, XXXV 14), Моисей на Синае — целых
двенадцать (Исх. XXIV 4), Иисус Навин воздвигает «большой
камень» (Иис. Нав. XXIV 26). Наряду с этими более или
менее искусственными фетишами существовали и
естественные святыни вроде «большого камня» в Бет-Шемеше
(I Сам. VI 14) и Гаваоне (И Сам. XX 8) или каменного
круга «гилгал» (I Сам. XI 14—15 и др.).
Особым почитанием пользовались некоторые отдель-
1 Этому вопросу посвящено новое сравнительно-историческое
исследование Magani— L'arbre sacre et le rite de ГаШапсе chez
les ancienns Semites. Paris 1935. «Ашера в Ханаане — прежде всего
богиня-мать», дерево ашера было ее символом (стр. 33 ел.).
2 Имя Bo"az, у LXX передаваемое Balaz, соответствует имени
одного из финикийских богов, упоминаемых в текстах Рас-Шамра,
именно Ba"al-oz. См. ZAW 1933, II, S. 87.
108
ные горы — Кармель, где разыгрывается сцена из мифа
об Илье, Масличная гора (II Сам. XV 30—32), гора Мория
(Быт. XXII); как показал Эйсфельдт, гора Табор
пользовалась культом не только у евреев (Ос. V 1), но, под
именем Atabyrion, и у финикиян, которые создали
впоследствии синкретическое божество Zeus Atabyrios x.
Наибольшим почитанием
пользовалась «гора Ягве», которая
в библии именуется то
Синай, то Хорив, причем уже
библейским авторам
местоположение этих гор было
неизвестно2, как оно,
впрочем, неизвестно и теперь.
Синайский полуостров, как
это в свое время доказали
еще Винклер и Вельгаузен,
ничего общего с «горой
Ягве» не имеет.
Большинство исследователей
склонны искать эту горудз
области мадиянитян 3.
О почитании луны
свидетельствуют лунные
праздники, к которым мы.
вернемся ниже, а в песне
Деборы звезды сражаются с
Сисерой (Суд. V 20).
Духи мертвых, духи
деревьев, источников, камней
представляли собой
наследие более примитивной
эпохи. Но наряду с ними и на смену им еще в родовую
эпоху появляются новые, уже не безличные божества,
хотя и не имеющие отчетливых функций, но имеющие свою
индивидуальность и большею частью собственное имя.
Начинает складываться многобожие, которое получит
свое завершение впоследствии, когда, с образованием
Рис. 5. Менгир из el-Mreghat,
пользующийся до сих пор почитанием у
арабов, кай_массеРа. АОТВ №428
'О. Edssfeldt — Der Gott Tabor und seine Verbreitung-. AR.
XXXI, A934). S. 14 ff.
2 Ad. L о d s — Israel. P. 206—207.
3 Ed. Meyer— Istraeliten. S. 60, 67 ff. Winkler — Geschichte
Israels. S. 12—59.
109
классов и государства, религиозному отражению будут
подвергаться во все большей мере общественные силы,
гнетущие человека.
в) КУЛЬТ ПРЕДКОВ
ПАТРИАРХИ
Большое место в мифологии эпохи родового строя
занимают родовые и племенные божества.
Известно, как много места занимают в библии
всякого рода генеалогии, в которых находило свое
отражение сознание кровного родства членов рода. Родовитая
знать продолжала хранить и развивать свои родословия
еще и тогда, когда род давно успел разложиться. Тем
больше значения генеалогия имела в период расцвета
рода. «Родовое имя,-—констатирует Маркс, — создало
родословную, наряду с которой представлялась лишенной
значения родословная отдельной семьи. Это родовое имя
теперь свидетельствовало о факте общего происхождения
его носителей; но родословная рода уходила так далеко
в глубь времен, что его члены не могли уже точно
устанавливать степень действительного своего родства... Само
родовое имя являлось доказательством общего
происхождения». Это, конечно, не значит, что родословные
действительно давали историческую последовательность
поколений; «...цепь ■поколений, в особенности с
возникновением моногамии, теряется в глубине времен, и минувшая
действительность оказывается отраженной в
фантастических творениях мифологии...»* Культ мифического иер-
вопредка, основавшего род и положившего ему строгие
законы, фантастически отражал реальную связанность
отношений людей внутри рода, А по мере разложения рода,
по мере того;, как появляются «знатные» роды и знать
внутри рода, культ мифического родоначальника
приобретает новое значение; он оправдывает и освящает власть
патриарха и родовладыки, притеснение сильными родами
слабых, вождями и старейшинами — менее сильных своих
сородичей. Мифические первопредки, которые через
вождей и патриархов продолжают руководить судьбой
своих потомков, это — либр божества, либо герои, нахо-
1 Энгельс — Происхождение семьи, частной собственности и
государства. 1934, стр. 95.
ПО
аившиеся в интимной близости с могущественными
духами и божествами, встречавшиеся с ними «лицом к лицу».
Особенно далеко идущие выводы делали впоследствии
жрецы из своего родства с мифическим предком аарони-
дов Моисеем.
Прямое указание на культ предков мы имеем,
возможно в Суд. XVIII 19: «Лучше ли тебе быть жрецом в
доме одного человека или быть жрецом в племени и роде
израилевом?» Третьеисайя порицает тех, кто «сидят на
могилах и ночуют в склепах» (Ис. LXV 4). Эндорская
волшебница называет тень вызванного Самуила богом (Эло-
гим). В молитве, которую рекомендует Второз. XXVI 13—
15 упоминается в числе прочих добродетелей также и
то', что молящийся не отдавал от церковной десятины на
жертву мертвых. Могилы выдающихся мифических
предков были местом паломничества и отмечались
посадкой священного дерева, постановкой массебы. Так, под
священным дубом похоронена кормилица Ревекки Дебора
(Быт. XXXV 8), и под деревом Деборы (в данном случае не,
дубом, а пальмой) «судила» пророчица Дебора (Суд. IV'5j.
На могиле Рахили Яков поставил масеебу (Быт. XXXV
20). По сообщению II Цар. XXIII 16—18, царь Иосия,
ревнуя о славе Ягве, распорядился вырыть из могил и сжечь
кости служителей святилища в Бетэле, а затем спросил:
«А что это за памятник, который я вижу? И сказали ему
жители города: это могила человека божия, который
приходил из Иудеи и провозгласил о тех делах, которые
ты совершил над жертвенником Бетэля. И сказал он:
оставьте его в покое, никто да не трогает костей его».
Пророк (I Цар. XIII 31), похоронив «человека божьего»,
сказал своим сыновьям: «Когда я умру, похороните меня в
могиле, в которой похоронен божий человек, возле его
костей положите мои кости».
Духи предков являются представителями и
защитниками своих потомков. Типичным выражением этого
представления может служить Иер. XXXI 15—16: «ГОлос
в Раме слышен, вопль и горькое рыдание — Рахиль
оплакивает сыновей своих и не хочет утешиться о своих
Детях, ибо не стало их. Так говорит Ягве: удержи голос
твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда
За труд твой, изрек Ягве, и возвратятся они из вражьей
страны» (ср. Иер. XV 1, Ис. LI 2). Но дух предка имеет силу
лишь поблизости от своей могилы. Поэтому и древним
евреям был знаком обычай перенесения «мощей» мифиче-
111
ских предков, как и перенесение мощей героев у
древних эллинов, святых — у христиан. В Иис. Нав. XXIV 3i
сообщается, что мощи Иосифа были перенесены из Ег№
та и похоронены в Сихеме. Когда в Иудее три года под.
ряд свирепствовал голод, царь Давид перевез кости Саул^
и его сына Ионатана в область Вениамина и похоронщ
в родовой могиле: тогда «бог умилостивился над зем>
лей» (II Сам. XXI 12—14).
Если благодетельный дух могущественного предки
привязан к могиле, то понятно, что могилу одного и
того же мифического предка показывают в разных местах]
так же как и христианские святые имеют часто по
нескольку могил и других конкурирующих между собой
святынь. Могила Рахили находилась, согласно Быт. XXXV
19, в Вифлееме, а по Иер. XXXI 15—в Раме; могилу
Аарона показывали на горе Ор (Чис. XXII 20) н в Мосере4
(Второз. X 6).
Дух предка: овеществлялся в терафим х — домашнем
божке, который, повндимому, имелся в каждом доме.;
Когда Рахиль бежала, согласно библейскому мифу, из
дома своего отца с Яковом, она захватила с собой
терафим, который она спрятала под седлом (Быт. ХХХГ
19 ел.). Аналогичный обычай сообщают об алтайцах: у
них есть своего рода «терафим» — тряпичная кукла,
именуемая эмэгэндэр; «если муж уводит молодую жену в
очень дальний улус, она берет с собой эмэгэндэр В|Месте
с приданым»2. Когда Давид, как сообщает I Сам. XIX 11
ел., спасаясь от гнева Саула, бежал из дома, жена его
положила в постели вместо него, чтоб обмануть стражу,
терафим. Что терафим — божество, подтверждает и
библейский текст: Лаван, нагнав Якова, упрекает его, что он^
украл его бога (Быт. XXXI 30).
Культ терафим удержался и после утверждения
культа Ягве. Во всяком случае в кн. Осии III 4 пророк грозит
израильтянам, что они долго будут сидеть «без царя, без
повелителя, без жертвы, без маесебь), без эфода и (
терафим». Позднее ТТрафйЯ"'применяли для гадан
(Иезек. XXI 26), и жрецы видели в них греховное чар
действо (I Сам. XV 23).
Дух предка, домовой, домашний бог обитал, повид
1 Термин употребляется в значении единственного числа—пр
док и множественного — предки.
1 Сборник «Религиозные верования народов СССР», Т. I, 1931,
стр. 191.
112
,д.
ыот в дверном косяке: раоа, не желающего уйти на
вода'' библия предписывает привести к богу (в русском
переводе стыдливо сфальсифицировано: «к судье»),
[поставить к двери или к косяку и проколоть его ухо
шилом.
Центральное место среди богов-предков занимают так
наз библейские патриархи. Насчет некоторых «з них
сомнений нет. Открытия вавилонских памятников привели
в конце XIX в. к созданию школы панвавилонистов;
наиболее видные представители этой школы Гуго Винклер
и А. Иеремиас толковали все библейские мифологические
и некоторые исторические фигуры в качестве астральных
божеств1. Увлечение панвавилонизмом и астрализмом
прошло, но некоторые выводы и результаты, к которым
пришли представители этой школы, прочно утвердились
в науке. В частности, большинство исследователей
согласны, что Сара и Милка—иудаизирюванные вавилонские
Sdharratu («княгиня») — богиня Харрана и Malikatu
(«царица») — богиня Иштар. Выше уже упоминалось, что
Рахиль пользовалась божескими почестями во все периоды
истории Израиля. Акад. Н. М. Никольский ссылается еще
для доказательства культа Рахили на I Сам. X 2; он же,
основываясь на Иер. XXXI 18, считает установленным, что
Эфраим почитался как бог2. Гад прямо назван богом у
Ис. LXV 11. Это подтверждается и наличием собственного
имени Гадиил (Чис. XIII 10). В легенде об Ифтахе (Иев-
фае) фигура самого героя носит явно мифические
черты, а параллельное имя Ифтах-эль показывает, что
«историческая» легенда перенесена на божество, принявшее в
позднейшей литературе человеческий облик. В
некоторых случаях к роли патриархов и эпонимов низведены
Древние боги, бывшие у евреев общими с другими
семитическими народностями или заимствованные евреями
уже в Палестине от местного населения. Так, в недавно
найденных при раскопках в Рас-Шамра, в Сирии,
финикийских текстах упоминается северофиникийский бог
1 До абсурда довел этот метод P. J e n n s e п, который в
обширном труде («Das Gilgamesch-Epos». Strassb., 1906) выводит чуть
ли не всю ветхозаветную и новозаветную литературу из эпоса о
Гильгамеше.
2 Н. М. Ншольсш— Полггэ1зм i монотэ1зм у яурэйскай рэлигп.
Минск 1932, стр. 19—20. Ссылка на стр. 20 на I Сам. X 12,
—очевидно, опечатка.
8-8
113
Terachl, несомненно тожественный с одноименным от
цом Авраама. Вновь открытые древнеассирийские тексть
из Кюльтепе свидетельствуют о существовании ок. 1980 г
до хр. э. города Нахур, имя которого совпадает с име'
нем брата Авраама Нахора; а что имена городов чаете]
совпадают с именем богов, известно. Прямым
подтверждением божественности имени Нахора может служить]
призывание его имени (Nachar) на карфагенской прокли-
нательной табличке2. Другой брат Авраама именуется в
библии Наг г an; в тех же древнеассирийских текстах
упоминается город Нагап; Наггап был, надо полагать, муж-j
ским божеством, женская пара которого называлась Наг-!
ranaitum; упоминается ее жреЦ'—Кшпсга iSuha-Harranatuim.;
Наконец древнеассирийские теофорные имена, где имя
бога звучит Laban, показывают, что и тесть Якова Laban
носит имя божества, что подтверждается и
существованием родственного названия горы Лебанон (ЛиванK.
Религиозное отражение родового строя в культе
предков очень наглядно обнаруживается в теофорных именах,
в которые составной частью входят имена божеств. Если
впоследствии этой частью имени являлось имя Ягве (Него,
Ио, Ягу) или Эл, то наряду с этим сохранились имена,
где имени бога соответствует 'Ab[i] (отец), 'Ach[;i] (брат),
"Amfi] (дядя). С этой точки зрения весьма поучительно
сопоставить ряд однородных имен, различающихся лишь
входящим в них именем бога:
Abibaal^Abiel
Abi asaf
Abi-da"
Abi-hud
Abi-tub
Abi-tal
Abi-melek
Abinadab
Abin"oam
Abi-ezer
Abi-schu"a
Achj-el
Achl-asaf
Achi-hud
Achi-tub
Achi-melek
Achinadab
Achino"am
Achiezer
"Ami-el
"Ami-hud
"Aminadab
Eli-el
El-j-asaf
El-jada"
Elimelek
Eliezer
Elischu'a
Jo-el
Jeho-sef
Jeho-jada"
J ehotal5
Gadmelek9
Jehonadab
Joezer
Jeho-schu"a
1 R. D u s s a u d. RHR 1933, p. 14—15.
2 Ad. Lods — (Israel. P. 183.
3 L Levy—Les textes paleo-assyriens et l'ancien testament. RHR
CX A934), p. 42—49.
4 В самаритянских остраках.
5 В элефантинских папирусах.
6 На печати, Lods, 149.
114
Ablram
Abi'am
Achi-ram
A chiqam
Achi'ara
Ach-ab
"Amram
"Amizabad
Rechab-"am
Jeqam-"am
Jerab-"am
Jiljaqim
Elzabad
Eli-ab
Jehofaffi
Jeho-jaqim
Jeho-zabad
Rechab-jahu
Jeqam^ja
Jo-ab
Jerub-baal
Abi-(j) aim Achi (j) a
Аналогичное явление — 'ach и 'ab как теофарные
элементы — встречается и в других семитических языках,
свидетельствуя о пережитках веры в божественность
мифического первопредка. Так, в эккадийском языке
чередуются имена:
Abi-u-bani Ahi-u-bani Jlubanl (Jlu = евр. El)
Abi-u-nuri Ahi-u-tiuri Jlunuri
Abi-u-duri Ahi-u-duri и т. д.1.
Представление о боге как о предке или сородиче было,
судя по этим данным, весьма распространенным явлением;
•и если в Чис. XXI 29 моавитяне названы сыновьями бога
Кемоша, а в Мал. II 11 иноземные женщины названы
дочерьми чужого бога, то эти метафоры некогда выражали
предмет живой веры.
Больше всего споров вызывают патриархи Авраам,
Исаак, Яков, Иосиф — центральные фигуры, вокруг
которых вращается весь мифологический цикл книги Бытия.
Только упадком буржуазной науки, готовой на все, чтоб
как-нибудь поддержать авторитет «священного писания»,
можно объяснить попытку упомянутого уже Беля
доказать историчность Авраама. Просвещенные богословы
уже давно отказались от мысли прямо утверждать
историчность патриархов; они прибегают к обходному
движению: соглашаются, что библейские сказания о
патриархах— мифы и легенды, но настаивают, что под ними все
же есть какой-то исторический субстрат. Образцом такого
рода маневрирования служит опять-таки труд Киттеля.
'Martin Noth — Die israelitischen Personennamen im Rah-
men der gemeinsemdtischen Namengebung. Stuttg. 1928; его же —
Gemeinsemitische Erscheinungen in der isr. Namengebung. ZDMG,
NF. 6 A927) S. 1—45; E. D h о r m e—Le dieu parent et le dieu maitre
dans la religion des Hebreux, RHR CV 2—3 A932), p. 229 sq.
S:;:
115
«Сохранившееся у более поздних израильских поколений
предание, согласно которому предки их некогда владели
уже частями обетованной земли, куда они пришли из
далекого арамейского востока... основано на верном в
основных своих'чертах народном воспоминании. Иной
совершенно вопрос, правильно ли передают рассказы книги
Бытия эти воспоминания или же в прикрашенном виде.
Здесь, разумеется, приходится различать содержание от
формы, буквальный текст от его исторического
субстрата. И прежде всего не следует забывать, что мы имеем
дело с народным преданием, облеченным в форму
легенды... Не подлежит сомнению, что наши источники не
являются историческими памятниками в строгом смысле
этого слова. Это источники, свидетельствующие о давно
минувших временах в.-форме легенды, племенной родовой
или религиозной саги. Но к легенда не есть обязательно
вымысел; она перемешана с элементами поэтического
творчества, или, лучше сказать, поэтический вымысел есть
та форма, в которую облекается легенда, но она и в этой
форме может отражать подлинные исторические
воспоминания... Таким образом, будет в корне неправильной
дилемма, согласно которой история патриархов есть
либо подлинная история, либо легенда; древнейшее
повествование библии может быть историей, являясь
одновременно .и легендой» 1.
Мы привели длинную выписку из Киттеля потому, что
такого рода концепция способна ввести в заблуждение
читателя и исследователя своей видимой
«объективностью». Конечно, верно, что минувшая действительность
находит свое отражение в мифологии. Но Киттель под
этим предлогом хочет объявить историческими
конкретные фигур ы патриархов. Греческая Орестия, как
это было доказано Бахофеном, отражает историческую
борьбу между гибнущим матриархатом и возникающим
отцовским правом; но было бы нелепо делать отсюда
вывод, об историчности Ореста и эринний.
На не столь определенной, но по существу
богословской позиции стоит Макс Вебер. Он отмечает, что
«некоторые рассказы о патриархах основаны на неисторических
предпосылках, как например то, что фараон дарит Авраа-
1 «История еврейского народа», изд. «Мир», стр. 132—133. Ср.
также Eerdmans — Alttest. Studien. II—III, где автор пытается
доказать историчность рассказов о патриархах и исходе.
116
му верблюдов, — ведь верблюд тогда еще не был известен
в Египте»; но тем самым Вебер, отвергая «некоторые»
детали рассказа, как не соответствующие «тогдашнему»
положению вещей, принимает, невидимому, рассказы в
целом за исторические. Единственное, что он решается
утверждать категорически, — это, что связь между
патриархами и Ягве — продукт позднего творчества1.
Радикальную позицию в вопросе о патриархах занял
Эд. Мейер. Вначале, в своей «Истории древности», он
считал Исаака, Якова и др. героями, бывшими первоначально
богами. Открытие на стеле Тутмоса III имен Якоб-эль и
Иосиф-эль, представляющих названия местностей,
заставило Мейера отказаться от первоначального взгляда
и признать, что ;патр^гархи_-—персонифицированные
угасшие племена; функции божествгГМейер сохраняет только
за Авраамом. Однако более внимательное изучение проб-'
лемы и дискуссия с Б. Лютером привели Эд, Мейера к
заключению, что правильна была именно его первая точка
зрения, что чисто мифологические черты Якова и Исаака
не позволяют толковать патриархов как героев-эпонимов,
т. е. персонификации отдельных племен, судьбы которых
перенесены на фиктивного предка. Это тем более
неправильно, что борьба между Израилем и эдомитянами не
могла, как думают иные комментаторы, послужить канвой
для легенды о борьбе между Яковом и Исавом: ведь
имена этих мнимых эпонимов не совпадают с именами
соответствующих племен; точно так же соперником Израиля
является Исав, т. е. опять-таки носитель не-этнического
имени. Эд. Мейер приходит .к такому выводу: «подлинные
мифы и первоначальные сказания о богах, какие
сохранились почти в чистом виде в рассказе о борьбе Якова с
богом, превратились в генеалогическо-этнографические
рассказы, в которых отражаются судьбы соответствующих
племен, в которых наряду с чисто генеалогическими
фигурами, как Трои и Ил, Египет и Данай, Эллен, Дор, Ион
и их сыновья, стоят гораздо более древние, иного
характера имена, как Приам и Эней, Даная и Персей, Девкалион
и Эрехтей. Отсюда следует, что и у евреев так же, как и у
греков, миф и развившаяся из него героическая сага
древнее, чем генеалогическая поэзия». Эд, Мейер резко
восстает против попыток иутем дешевого рационализма тол-
' Max Weber— Gesamm. Aufsatze zur Religionssoziologie.
В. Ill, Tubingen 1921, S. 58—6Г.
П7
ковать все библейское предание о патриархах, как своего
рода опоэтизированную подлинную историю народов 1.
Герм. Гункель соглашается в общем с Эд. Мейером,
что нельзя просто переводить на язык истории и
этнографии все предания о патриархах, но избегает прямого
вывода о том, что патриархи — боги. Он довольствуется
указанием, что «материалы сказаний, вошедшие в
сказания о патриархах, в целом не исторического и не
этиологического характерам Многие рассказы или материалы для
рассказов существовали, должно быть, еще до того, как
они получили этот новый смысл в устах Израиля. В виде
занимательных историй они были, должно быть, в
обращении издавна и по происхождению своему были
чистыми творениями фантазии» 2. Но Гункель не решается
ставить точки над i, он предпочитает говорить о сказочном
мотиве, но не о мифе.
Гункель настаивает на том, что предания о патриархах
Израиль принес в Ханаан с собой, что «сказания о
патриархах в основном древнееврейского
происхождения с некоторыми вставками из исторической эпохи
Израиля» 3. В противоположность этому Раймонд Вейлль
утверждает, что «патриархи в том виде, как их восприняла
традиция, стали израильтянами лишь в результате
приспособления к.израильской стадии, а первоначально были
фигурами из ханаанейского предания, связанными с опреде-'
ленными местностями в Палестине» 4. Вейлль очень
радикален, он признает мифичность патриархов, он довольно
остроумным анализом текстов кн. Бытия доказывает
наличие культа различных богов в тех местах, где Яков,
Авраам и Исаак основали святыни Ялве. Но этот
радикализм Вейлля имеет в основе апологетическую тенденцию:
отвергнуть мифичность патриархов, отрицать их
божественную природу нельзя; но можно объявить патриархов
х а н а анс к им и богами, в которых евреи не повинны и
которые были лишь заимствованы поселившимися в
Ханаане евреями, и тем самым спасти начальное откровение;
ведь и библия не отрицает, что 'еврей не раз «отпадали»
от «исконного» культа единого Ягве.
Вейлль отмечает, что в легендах о патриархах сплелись
1 Ed. Meyer — Israeliten, S. 251.
2 H. Gunkel-Genesis. S. XXVI.
3 Там же, стр. LIX—LXI.
4 Raymond Weill e — ^installation des Israelites en Palestine.
RHR, v. XXXVI A923), p. 71.
118
различные мотивы и различные стадии одного и того же
мотива; так, «Яков» в глубокой древности обозначало, и
притом без сомнения одновременно, имя племени, имя
бога и имя этого самого бога в качестве предка племени;
при "этом невозможно с достоверностью установить,
какое из этих проявлений предшествовало другому» *. В
таком же роде высказывается и Г. Гелыпер: «Ядро
сказаний— повествовательные мотивы, возникшие из сказки.
Эти чисто поэтические мотивы связались в локальных, иле-'
менных и культурных сказаниях с 'представлениями о
местных демонах, мифических племенных предках и гер.оях
культуры, в героических сагах — с элементами ранних
родовых воспоминаний. Из этих разнородных материалов
генеалогическое поэтическое творчество создало —
сначала в устной, а затем в литературной
традиции:—отдельные венки легенд, а затем связало их в целую систему
легендарной истории народа; этим путем предки Израиля
были приведены в связь с предками соседних народов и,
наконец, всего человечества, и их ряд был доведен до
начала вселенной» 2.
Энгельс еще задолго до всех .археологических
открытий, заставивших библиологов и историков критически
пересмотреть все библейское предание, в 1853 г. писал
Марксу: «Иудейское так называемое священное писание
было не чем иным, как записью древнеарабских
религиозных и племенных традиций, несколько~видоизмененных
ранним отделением иудеев от соплеменных им, но еще
кочующих соседей... Главное содержание (еврейских
религиозных традиций.—А. Р.) было арабского или, вернее,
.общесемитического характера, как еще у нас Эдда или
немецкий героический эпос» 3.
Это замечание Энгельса находит для себя блестящее
подтверждение при исследовании вопроса о патриархах
как богах. Так, в дошедших до нас египетских скарабеях
некий царек носит терфорное имя Jaqob-her, где Jaqob,
очевидно, имя божества 4. Яков сохранил еще в библии,
несмотря на все исправления, внесенные в древнюю тра-
1 Raymond Weill, ук. соч., стр. 87.
2 Н 6 1 s с h ё г, ук. соч., стр. Э8.
8 К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. XXI, стр. 484.
4 Ed. М е у е г-—Israeliten. S. 282. Возражения Вейлля (ук. соч.,
стр. 93—94), что наряду с Jaqob-her встречается, и притом чаще,
просто Jakob или Jakeb-el, не меняет того обстоятельства, что
Jaqob мог быть частью теофорного имени в эпоху гиксов в Египте.
119
дицию библейскими авторами, явные следы древнего ми!
фологического предания о нем как о божестве. Яко*
вращается в кругу богов (Быт. XXXII 2) и вступает с бо<
гом в единоборство, из которого выходит победителем]
Сохранившийся в библии скудный отрывок из мифа с
борьбе Якова с божеством представляет большой интерес
с точки зрения истории библейского текста и тех мето^
дов, при помощи которых библейские редакторы приспо^
собляли древние, крепко державшиеся в устной традиций
мифы к позднейшей религии Ягве. В нынешнем виде текст
гласит (Быт. XXXII 25—32): «И остался Яков один. И бо-'
ролся некто с ним до наступления зари. И, увидев, что
не одолевает его, коснулся сустава бедра его;- и
вывихнулся сустав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И
сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. (Тот) ответил: не
отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И сказал
ему: как имя твое? Он сказал: Яков. И сказал: не Яков
будет называться отныне имя твое, но Израиль; потому
что ты боролся -с богом и с людьми и одолел. И спросил
Яков, говоря: скажи имя твое. Он сказал: зачем ты
спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек
Яков имя месту Пенуел — потому что я видел бога лицом,
к лицу и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда
он проходил Пенуел; и хромал он на бедро свое». Здесь;
редактор, желая как-нибудь сгладить неудобство
допущения борьбы патриарха с богом, наивно заменил в ст. 25
имя бога словом «некто» ('isch, «человек»), не подумав,
что в дальнейшем речь идет явно о боге. Столь же
нелепа попытка спасти авторитет бога путем внесения весьма
прозрачной поправки в изложение исхода
борьбы—победителем, вопреки ст. 29, оказывается бог. История текста
станет ясна, если выделить отдельные параллельные
редакции J и Е:
J Е "
25. И остался Иаков один. И
боролся некто с ним до появления
зари. 26а. И увидев, что не
одолевает его, (Яков) поразил его в
сустав бедра. 27. Тот сказал:
отпусти меня, ибо взошлз заря. (Яков)
сказал: не отпущу тебя, пока ты
не благословишь меня. 30. И
спросил Яков, говоря: скажи имя твое.
26Ь. и вывихнулся сустав бедра
Якова, когда он боролся с ним.
28. И сказал ему (бог); как имя
твое? Он сказал: Яков. 29. И
сказал: не Яков будет называться
отныне имя твое, но Израиль;
потому что ты боролся с богом и
людьми и одолел. 31. И нарек Яков
имя месту Пенуел, потому что я
120
Он сказал: зачем ты спрашиваешь
об имени моем? и благословил его
там. 32. И взошло солнце.
видел бога лицом к лицу и
сохранилась душа моя. 32Ь. Когда он
проходил Пенуел, хромал он на
бедро свое.
J 21
Как видноиз сопоставления, по Е, в
противоположность J, {КогГ"а"[нОЯков поражен в бедро, и не Яков, как
победитель, требует от побежденного бога, чтоб тот
открыл ему свое имя, а, наоборот, бог спрашивает Якова
об его имени. Повидимому, ближе к J та версия, которая
была известна автору Ос. XII 4—5: «...возмужав, (Яков)
боролся с богом; он боролся с ангелом и одолел, (тот)
плакал и молился...»
0 Якове как божестве имеются и другие свидетельства.
Еще Нельдеке обратил внимание на то, . что* в так «аз.
«Благословении Якова» (Быт. XLIX) Яков именуется богом-
тельцом. Насколько можно восстановить сильно
испорченный здесь древний текст, ст. 24—25, относящийся к
Иосифу, надо читать так: «...от рук тельца Якова, от... пастыря
камня Израиля, от бога отца твоего, да поможет он тебе,
и Эль-Шаддай да благословит он тебя». Во всех четырех
случаях здесь речь идет об одном и том же боге Якове,
изображенном в виде тельца и имеющем святилище в
виде камня (в Бетэле) *.
Мифы об Исааке в библии не сохранились в
первоначальном виде; то немногое, что о нем рассказывается,
отчасти повторяет легенду об Аврааме (Быт. XXVI 1—14—
почти буквальное повторение Быт. XX; как и Авраам,
Исаак основывает святилище у водоема Беер-Шеба). Культ
Исаака имел центром Беер-Шебу, и, проезжая мимо, Яков
приносит ему жертвы (Быт. XLVI 1). «Страх Исаака»
(pachad Iszdhak, Быт. XXXI 42, 53) — таков полный титул
этого бога.
Божественность «патриарха» Иосифа также не
подлежит сомнению. Отмеченное выше в надписи Тутмоса III
название Иосиф-эль (Иосиф-бог), а также звериный образ
Иосифа-быка (Быт. XLIX 22 2, Второз. XXXIII 17)
свидетельствуют о том, что бык-Иосиф принадлежит к
древнейшим племенным богам евреев.
Жрецы и пророки, составлявшие и редактировавшие
библейские книги, делали все зависящее, чтоб по возмож-
1 Ed. Meyer — Israeliten. S. 281—282.
3 Bn prt — масоретское чтение этого испорченного текста
представляет сознательное искажение bn prh — «сын коровы».
ности завуалировать роль патриархов как богов-предков
и изобразить Ягве как исконного единого бога Израиля.
Это достигалось двумя путями. С одной стороны, из
библии изъято все, что касается родословной и похождений
Ягве. Сохранив множество антропоморфических черт Ягве
(он гуляет по саду, чтоб подышать свежим воздухом, он
шьет Адаму и Еве рубашки, он показывает Моисею свой
зад и т. д.), библия молчит о происхождении Ягве, о его
женах и детях, о его бранных подвигах (хотя
упоминается «Книга войн Ягве»). Только случайно, благодаря
находке элефантинских папирусов, мы узнаем имя одной из
жен Ягве — Анат-ягу (Заепаи 32), намеки на которую
сохранились кой-где и в библииг. Сейчас нельзя
установить, были ли сыны божьи (Быт. VI 4), сходившиеся с
земными женщинами, сыновьями Ягве, но к Аврааму Ягве
является в сопровождении двух спутников (Быт. XVIII
2 ел.); возможно, что Ягве был тем богом, которого
поборол Яков (поэтому, надо полагать, в кн. Оси и XII 5 бог
заменен ангелом, вопреки ст. 4); участие Ягве в зачатии
Сарры и в рождении Исаака (Быт. XXI 1—2) понималось,
возможно, в древнем -мифе более конкретно; чрезвычайно
интересный эпизод нападения Ягве на Моисея дан (Исх.
IV 24—26) столь скупо и с такими искажениями, что
установить реальное содержание мифа уже очень трудно.
Словом, «биография»' Ягве сведена в библии к минимуму.
С другой стороны, мифы о других богах постепенно
наполнялись «человеческим» содержанием, боги
превращаются в патриархов, приобретают чисто человеческие
черты, на них переносятся обращавшиеся в устном предании
легенды и сказки, и большинство богов-предков
превращается в генеалогические фигуры, сохранившие лишь имя.
В тех случаях, когда святилище того или иного бога было
слишком популярно, чтоб его можно было просто
упразднить, оно объявляется святилищем Ягве, а почитаемый
там бог превращается в служителя Ягве, в основателя его
культа. Так, Авраам «учредил» культ Ягве в Хевроне,
Исаак — в Беер-Шебе, Яков — в Бетэле.
Таким образом, смешение черт божественных,
героических и человеческих в образах патриархов — результат
последовательного превращения богов-предков в
легендарных героев и мирных патриархов. Аналогичное
явление мы имеем в древнегреческой и римской религии, где
1 См. Н. М. Никольский, ук. соч., стр. 37—38.
122
нС попавшие на Олимп древние родовые божества
превратились либо в героев, либо в основателей городов, в
учредителей культов, в любимцев или служителей того или
иного бога.
г) СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТА
0 характере культа в эпоху родового строя у евреев
прямых данных не сохранилось. На основании пережитков
в позднейшем культе и по аналогии с тем, что нам
известно о культе у других первобытных народов, можно
заключить, что почитание духов, находящихся уже в
стадии превращения в богов, выражалось в угощении их или
совместном с ними пиршестве, в призывах к ним и
заклинаниях, в жертвоприношениях, в разного рода магических
обрядах, имевших целью задобрить добрых и отпугнуть
злых духов и добиться при посредстве духов
благополучия, плодородия, удачи в походах и т. п.
Различного рода табу (в частности пищевые запреты),
сильно видоизмененные и получившие новое богословское
обоснование, сохранились не только в библейском
законодательстве, но и в ритуальной практике современного
иудаизма. Особенно поучителен запрет «варить козленка в
молоке его матери» (Исх. XXIII 19, XXXIV 26, Второз. XIV
21), Толкуя запрет распространительно, талмудисты
отсюда вывели запрещение есть мясо всякого
млекопитающего вместе с молочным продуктом; в дальнейшем раввины
нагородили вокруг этого темного и им самим
непонятного предписания столько дополнительных разъяснений, что
изучение их составляло чуть ли не главную специальность
раввина, и вопросы о «мясном и молочном», наряду с
вопросами о «кошерном и трефном», занимали главное
место в практике (платной, конечно) раввинов. В основе
этого запрета, как убедительно доказал Фрэзер, лежит
наблюдающееся у многих первобытных скотоводов
представление, что кипячение молока вредно отражается на
скоте; поэтому разного рода запреты, касающиеся
молочных продуктов, наблюдаются в различных местах, и Фрэ-'
зер приводит многочисленные примеры таких запретов,
особенно у африканских племен х.
1 J. F raz er — Folklore in the Old Testament. L. 1919, y. Ill,
V- 164 sq. Русский сокращенный перевод — «Библейские сказания».
123
Повидимому, теми же магическими представлениям
объясняется и запрещение резать в один день корову
или овцу вместе с приплодом (Лев. XXII 28) или брать и|
гнезда птицу вместе с птенцами (Второз. XXII 6—7); п!
примитивным представлениям, здесь есть опасность ока|
зать гибельное влияние на размножение скота и дичи. ]
Спорным до сих пор является вопрос о наличии следов
тотемизма в древней религии евреев. Обращает на себя
внимание обилие собственных имен, заимствованных из
мира животных, — собака, волк, овца, кролик, коршун,
газель, блоха, голубь, червь и т. д.;. таких имен насчитав
вают до 160; при этом имена животных служат также для
названия родов.—род змеи (Чис. XXVI 39), льва (там же,
ст. 17), собаки (I Сам. XXV 3) и др. Однако это обстоя^
тельство само-по-себе не может иметь решающего
значения, так как животные имена и фамилии довольно
распространены и в наше время. Не следует также преувеличи-?
вать значение того факта, что в так наз. «Благословений
Якова» (Быт. XLIX) и «Благословении Моисея» (Второз']
ХХХШ) различные колена охарактеризованы теми или
иными животными чертами и что эти черты под влиянием;
мидрашей и раввинской литературы проникли и в
позднейшую религиозную символику. Как бы далеко в глубь
веков ни отодвигать время составления этих
«Благословений», они во всяком случае написаны не ранее IX—VIII в.,
когда евреи были, по периодизации Энгельса, уже в
стадии цивилизации и образовали свое государство в
Палестине: база для тотемизма исчезла за много веков до это--
го. Поэтому именования!, например, Иуды, а в другом
месте Дана львом столь же мало свидетельствовали бы о
живых остатках тотемизма, как.и геральдические
животные на дворянских гербах.
Но не значащие сами-по-себе обстоятельства
'приобретают иной смысл в связи с другими пережитками, где
сохранились следы тотемистических религиозных
представлений.
«Книга завета» (Исх. XXI 28) предписывает побивать
камнями вола, забодавшего человека на-смерть; его мясо
запрещено употреблять в пищу; таким образом, животное
рассматривается здесь как существо, близкое человеку,
способное совершить преступление, стать греховным и
потому нечистым. То же представление сохранилось в
виде рудимента в предписании покрывать землей кровь
убитого животного (Лев. XVII 13, ср. Ос. II 20, Быт. IX 5)
124
Членские авторы вкладывали сюда, конечно, уже иное
держание, но здесь еще проглядывает древнее
представшие о родстве человека с животными.
Еще большее значение имеет совершенно
немотивированное запрещение употреблять в пищу мясо различных
животных. Авторы библейских текстов пытались внести
некоторую систему в перечень запретных животных, но
придумать какое-нибудь объяснение для этого табу они
и не пытались; это показывает, что пищевые запреты
восходят к очень глубокой древности и первоначально
относились к тотемным животным отдельных племен. Как
известно, тотемное животное в эпоху развитого
тотемизма было запретно для членов соответствующей тоте-
мической группы; но в особых случаях ритуальное
вкушение мяса тотема вменялось в религиозную обязанность. О
таких ритуальных трапезах со вкушением запретных
«нечистых» животных говорит кн. Исайи: «те, которые
освящают и очищают себя для служения в идольских садах и,
стоя посредине их, один подле другого, едят свиное мясо
и гадов и мышей» (LXVI 17); «сидит на гробах, проводит
ночи в пещерах, ест свиное мясо» (LXV 4). Свинья была
священным (или, что то же самое, «нечистым»,
табулированным) животным и у вавилонян, где она была
посвящена Ниниб, и у ассирийцев, которые ее посвятили Таммузу;
месяц Тамуз называется Heziiroiu (ctazir— свинья); о роли
свиньи как нечистого и вместе с тем священного
животного у египтян сообщает Геродот II 47—48 1. Конечно, не
следует думать, что ритуальное вкушение запретных
животных у евреев VI в. является обрядом, близким к
австралийскому интичиума; религиозные представления
периода тотемизма потеряли всякую почву и были давно
и основательно забыты; но первобытная религиозная
практика оставила, в силу ее консервативности, следы в
обрядности последующих эпох, которая обросла новым
содержанием, получила иное оформление и иное
богословское обоснование. То же относится и к сообщению
Иезекииля о нарисованных на стене храма изображениях
«пресмыкающихся и поганых животных», перед
которыми старейшины Израиля воскуривали фимиам (Иезек. VIII
И); здесь было бы смешно видеть тотемиам, и насмешли-
1 Археологические находки в Палестине сосудов с
изображением головы вепря, а также наименование левитского рода Хезир
(от chazir — вепрь) I Хрон. 24, 15 и Нехем. 10, 21 позволяют думать,
что вепрь был тотемом и у древних евреев,
125
вые возражения Эд. Мейера i вполне резонны. Однако я
здесь изжитые тотемистические верования сохранились щ
иной форме и сделали возможным благоговейное отноше-'
ние к животным. ,
Другим пережитком тотемистической обрядности яа|
ляется обрезание. Глубокая древность этого обряда дока!
зывается, между прочим, тем, что еще в историческук]
эпоху сохранилось воспоминание о производстве этой
операции при помощи каменного орудия (Исх. IV 25;
Иис. Нав. V 2). Вопрос об исконности этого обряда у
евреев остается спорным. С одной стороны, обрезание при'
менялось всеми арабскими племенами, и было бы странно!
если бы евреи составляли в этом смысле исключение. Пра]
ктиковалось оно и в Ханаане, и библия никогда не назьН
вает ханаанеян «необрезанными». С другой стороны, древ*
няя традиция, передаваемая Геродотом, сообщает, что
обрезание заимствовано евреями из Египта. В библии
имеется несколько версий легенды об установлении этого
обряда; по одной из них, .обрезание было заповедано
впервые Аврааму (Быт. XVII 10 ел.); по другой.— оно еще не
было известно Моисею (Исх. IV 25—26); по третьей—■
обрезание введено уже в Палестине Иисусом Навином (V
2—10), причем приводится и мотив — устранить повод для
насмешек со стороны египтян (именно так надлежит
понимать ст. 9). Эд. Мейер поэтому считает установленным,
что обрезание заимствовано евреями у египтян2. Однако
мало вероятно, чтобы египтяне, хотя и простиравшие в
течение долгого времени свою власть на Переднюю Азию,
но осуществлявшие эту власть лишь через покоренных
местных князей и незначительные гарнизоны, навязали свои
обряды кочевникам пустыни. Библейские сообщения —
лишь этиологические предания и мифы, а часто
выражаемые в библии ненависть и презрение к «необрезанным»
свидетельствуют скорее об исконности этого обряда. Но
когда бы ни было усвоено обрезание евреями, его
происхождение относится к периоду существования
'половозрастной коммуны, когда переход юношей в старшую
возрастную группу сопровождался разного рода магическими
обрядами, среди которых видное 'место занимают i •' или
иные мучительные операции — выбивание зубов,
различные другие телесные повреждения и обрезание; о том, что
1 «Israeliten». S. 309—310.
2 Там же, S. 449.
126
обрезание связано с переходом в-высшую брачную
возрастную группу, сохранились кой-какие следы и в
библейской мифологии.
В Исх. IV 24—26 мы читаем: «По дороге на ночлеге
встретил его (Моисея) Ягве и хотел умертвить его. Тогда
Сепфора (жена Моисея) взяла камень и обрезала
крайнюю плоть сына своего и бросила ее в половой орган1
его (Ягве) и "сказала: ведь ты мне жених крови. Тогда
он (Ягве) отступил от него (Моисея)». Здесь совершенно
очевидно, что обрезание связано с брачной церемонией,
где существенную роль играет и бог или демон Ягве, на
которого перенесены атрибуты более древних демонов и
духов.
В легенде о Сихеме и Дине (Быт. XXXIV), где Симеон
и Лени требуют от Сихема, чтоб он подвергся обрезанию,
прежде чем жениться на Дине, также отразилось
воспоминание об этом обряде, как о rite ide passage, обряде
перехода в старшую возрастную группу.
Понятно, что в историческую эпоху обрезание
получило новое объяснение; оно стало «знамением завета»,
отличительным признаком и доказательством
принадлежности к «истинной» религии Ягве. Особенно возросло
это его значение в эпоху изгнания, когда жрецы
всячески старались сохранить и закрепить национальную и
религиозную обособленность евреев. Но исторически
обрезание восходит к примитивным обрядам доклассового
общества и, несомненно, было связано с тотемистическими
обрядами.
Существенное место в древнейшем еврейском ритуале
занимали пляски, которые перешли затем и в культ Ягве.
Так, при перевозке ковчега «Давид и весь дом израилев
играли (т. е. плясали) перед Ягве, со множеством
кипарисовых ветвей, с цитрами, гуслями, тимпанами, бубнами и
кимвалами»... «И скакал Давид из всей силы перед Ягве...
Когда же ковчег Ягве вступил в город Давидов, то Мел-
хола! (Михал), дочь Саула, смотрела в окно и видела,
как прыгал и скакал Давид перед Ягве, и она презрела
его в сердце своем» (II Сам. VI 5, 14—16). Соорудив
1 В тексте сказано «к его ногам», но комментаторы библии
признают, что это — эвфемистическая поправка к слишком
непристойному тексту. Что «его» относится к Ягве, вытекает из общего
смысла всего этого места. Мнение Киттеля (GV1 I 256), что здесь
имеется в виду Моисей, объясняется тем, что Киттель видит здесь
не миф, а исторический рассказ, хотя и «искаженный в предании».
127
Золотого тельца, израильтяне плясали перед ним (Ис>.
XXXII 6). Навстречу возвращающемуся герою Ифтах.
(Иевфаю) вышла дочь его с обрядовой, очевидно, пляско.ч
(Суд. XI 34). Об ежегодном хороводе (chagg) в чест-
Ягве в Шило сообщает Суд. XXI 19 и т. д.1.
Специальных служителей культа в древнейшую эпох;,
не было. Еще I Сам. II 13 показывает, что жертву прино
сил верующий сам даже уже при наличии жрецов,
обслуживающих овятилище бога и его алтарь. Сложные
торжественные церемонии совершались под руководством
старейшины или вождя. Впоследствии жрецы,
монополизировавшие отправление культа, объявили величайшим
грехом выполнение культовых обрядов светским лицом.
Разрыв между Самуилом и Саулом, согласно I Сам. XIII,
произошел потому, что Саул, не дождавшись
запоздавшего пророка, вынужден был принести жертву сам. Но
еще вплоть до разрушения иерусалимского храма в 70 г.
(а у самаритян еще и теперь) пасхальную жертву
приносит каждый домохозяин сам.
Ю ПРАЗДНИКИ
Сохранившиеся в библейских праздничных ритуалах
древние пережитки дают возможность восстановить ряд
праздничных обрядов, совершавшихся еврейскими родами
еще в то время, когда они вели полукочевой образ жизни
в аравийских степях.
Первое место среди праздников занимала пасха.
Смысл самого термина «пасха» был уже непонятен
составителям библии. Толкование, какое дается Исх. XII 27, не
выдерживает никакой критики; оно столь же наивно, как
и все бесчисленные имеющиеся в библии толкования имен
в духе так наз. народной этимологии.
Не только значение слова «пасха», но и самый смысл
праздника в библии искажен, так как последний путем
всевозможных натяжек приводится в связь с никогда не
происходившим исходом из Египта.
То же самое желание—приурочить древнейшие и
популярнейшие праздники к «событиям» исхода — привело
к смешению и переплетанию праздника пасхи с праздни-
1 Подробно см. W. О. Е. О est e r ley — The sacred dance.
Cambridge 192Э.
128
ком маццот, хотя эти два праздника возникли в разное
время на разных основах. На это имеются указания и в
библии. Так, Лев. XXIII 5—6 мы читаем: «в первый месяц,
в четырнадцатый день месяца, к вечеру пасха Ягве. И в
пятнадцатый день того же месяца праздник маццот
Ягве»; здесь, очевидно, речь идет о двух различных
праздниках. Перечисление трех главных праздников,
когда требуется паломничество в Иерусалим, сводится к
земледельческим праздникам — маццот, пятидесятница и
суккот (Второз. XVT 16), а пасха не упоминается.
Пасха — древнейший праздник, восходящий еще к
эпохе кочевого или полукочевого быта пастушеских племен
евреев; он сохранялся "в Иудее, где—в южных .районах—
скотоводство всегда занимало важное место в хозяйстве *,
и был, надо полагать, забыт в земледельческих по
преимуществу районах оседлости евреев в Палестине. Это
обстоятельство нашло отражение в сообщении II Цар.
XXIII 21—23: «И повелел царь всему народу, сказав:
«совершите пасху. Ягве богу вашему, как написано в этой
книге завета; потому что не была совершена такая пасха
от дней судей, (Которые судили Израиля, и во все дни
царей израильских и царей иудейских; а в
восемнадцатый год царя Иосии была совершена эта пасха Ягве в
Иерусалиме». Какова же была эта древнейшая пасха?
Об этом кой-какие данные сохранились в библии: «И
созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им:
выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим
и заколите пасху. И возьмите пучок иссопа и обмочите в
кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину ,и оба
косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не
выходите за двери дома своего до утра. И пройдет Ягве...
и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках двери,
и пройдет Ягве чмимо дверей и не попустит губителю 2
войти в дома ваши для поражения» (Исх. XII 21—23).
В той же главе даны и другие интересные указания
D2—46); «вот устав пасхи: никакой иноплеменник не дол-
1 «У всех восточных народов,— писал Маркс Энгельсу,— ...мож*
но установить общее взаимоотношение между оседлостью одной
части этих племен и продолжающимся кочевничеством другой
части». Соч., т. XXI, стр. 488.
2 Это неожиданное появление вместо Ягве какого-то
духа-губителя (машхит) показывает, что здесь сохранилось воспоминание
о Древнейшем магическом обряде, не связанном с культом Ягве.
Назначение обряда было умилостивить злого духа. См. выше
стр. 105.
9-8
129
жен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда
обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не
должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выноси!
мяса вон из дома, и кости ее не сокрушайте».
Наконец, в более позднем отрывке той же гл. XII кн.
Исх. (8—11) даны кой-какие важные подробности: «пусть
съедят мясо в ту же ночь, испеченное на огне; с опресно-.
ками и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте
сырым или сваренным в воде, но спеченным на огне с
головою, ногами и внутренностями. Не оставляйте от него
до утра; но оставшееся от него к утру сожгите на огне.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши (препоясаны,
обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках
ваших, и ешьте его с поспешностью».
Это описание целиком совпадает с описанием
аналогичного обряда, отмеченного отшельником Нилом в
начале V в. у сарацин: до рассвета они по особому ритуалу
закалывали верблюда и всем племенем съедали его
целиком, с кожей и внутренностями, в сыром виде; обряд этот
обязательно должен был кончаться до восхода солнца Ч
Невидимому, и пасхальный агнец поедался сырым; только
этим и "можно объяснить, что автор вышеприведенного
текста запрещает евреям, не евшим тогда уже, конечно,
сырого мяса, есть пасхального агнца сырым (в русском
переводе церковники нашли для себя удобнее заменить
слово «сырой» словом «недопеченный»).
Такого рода ритуальные трапезы, в которых вкушается
мясо животного воплощения божества, или в которых,
по крайней мере, незримо участвует божество,
наблюдаются почти у всех без исключения народов,
находящихся в стадии родового общества. В несколько
измененном виде это примитивное богоедство сохранилось до
сих пор в христианской литургии, где священник,
вырезая из просфоры «агнца», «причащается плоти бога»
путем вкушения этого куска хлеба, ;в котором, по учению
церкви, воплотился бог Иисус.
Обряд поедания бога или совместного с богом
вкушения ритуального мяса применялся в особо важных слу-)
чаях, когда требовалось «единение» с божеством.
Церемонию заклания и поедания верблюда сарацины
совершали после длительного голода, рассчитывая путем единения
с богом иметь больше удачи в добывании пищи. А древ-
1 W. Robertson-Smith, ук. соч., стр. 172.
130
ние евреи-кочевники, у которых основным занятием было
скотоводство, устраивали свою пасху весною, когда
получался первый приплод от скота и когда важно было
заручиться благоволением добрых богов и отпугнуть
жертвенной кровью «губителя». В древнейших частях
библии поэтому даже не фиксирована дата пасхи; она,
повидимому, праздновалась неопределенно, по сезону.
Только Жреческий кодекс, вообще придерживающийся
правила давать «точные» цифры, вплоть до размеров
Ноева ковчега, устанавливает дату пасхи—14-й день 1-го
месяца (нисана). Предписание есть пасхального агнца
препоясавшись и с посохом в руке — воспоминание об
обычном внешнем облике кочевника, а запрещение
«поселенцам и наемникам» участвовать в обряде пасхи
свидетельствует о том, что он возник в эпоху родового
строя, когда чужак, конечно, не мог быть допущен к
участию в празднестве. Рабу разрешается участвовать в
пасхальной трапезе, поскольку раб теряет связь со своим
родом и вступает в ifaimilia рабовладельца.
Время и порядок совершения пасхального обряда,
при отсутствии календаря и зафиксированного в
официальном документе церемониала, определялись и
диктовались главой рода, находившимся в близких отношениях к
духам, получавшим от них прямые указания. Таким
образом, пасха не только, отражала бессилие кочевников и
пастухов перед стихиями природы, от которых зависело
благополучие стада, и не только закрепляла это
бессилие; она была также и фантастическим выражением
связанности отношений между людьми внутри рода|,
освящала авторитет старейшин и родовладык, а в период
разложения рода — освящала и оправдывала
появившиеся зачатки эксплоатации. Для консервативности
религиозного культа' характерно, что пасха продержалась
(с соответствующими изменениями, в которых отразились
изменения общественного бытия) вплоть до разрушения
иерусалимского храма Титом, в символической форме
пасхальный агнец фигурирует в пасхальной трапезе
современных евреев, а у самаритян пасхальная жертва
приносится и ныне по старому ритуалу1.
1 В 1931 г. канун пасхи пришелся в пятницу: чтобы не нарушить
субботы, самаритяне заклали пасху засветло, что дало возможность
И- Иеремиасу сделать ряд снимков (I. 1 е г е m i a s — Die Passach-
feier der Samaritaner und ihre Bedeutung fur die Verstandniss der
Passachuberlieferung, Giessen 1932). Иеремиас находит в ритуале
9*
131
Наряду с ритуальным закланием и поеданием пасхаль-*
ного агнца практиковалось и принесение в жертву
первенцев богу-предку или тому же духу-губителю. Тако^
смысл предписания, сохранившегося в Исх. XIII 2: «По-;
святи мне каждого первенца, разверзающего всякие
ложесна среди сынов израилевых, от человека до скота;
мои они». В дальнейшем библейский автор (ст. 12—13)
смягчает это предписание, допуская выкуп человеческого
первенца или первенца «нечистого» животного (осла);
вместе с тем 'и этот обряд приводится в связь с
«Исходом» (ст. 14 ел.).
Там, где еврейские племена занимались земледелием,
существовало, несомненно, ритуальное вкушение
початков и жертва духу растительности первинок урожая.
Фрэзер собрал огромный материал об обрядах,
связанных с вкушением плодов нового урожая у первобытных
народов всех стран и, сохранившихся в виде пережитков
или на новой основе в религиозном быту современных
культурных народов 1.
Эти обряды сводятся к тому, что первинки урожая
несут к жрецу, шаману или вождю, который их
«освящает», после чего совершается ритуальное вкушение
необычным образом изготовленного зерна и др. и
приносится жертва богу или духу плодородия; только после
этого разрешается невозбранно есть плоды нового
урожая. У древних евреев подобные обряды также
существовали (ср. Лев. XXIII 10); в царскую эпоху они подверглись
сильному влиянию ханаанских культов и превратились в
праздник маццот, к рассмотрению которого мы еще
вернемся.
Особые праздничные обряды, в которых участвовали
все члены рода, были связаны со стрижкой овец (II Сам.
XIII 23—28). Праздник с жертвоприношением совершался
периодически (вероятно, раз в год—Суд. XI 19) в честь
родового божества (I Сам. XX 6). Какой-то специальный
женский праздник траура справлялся ежегодно в честь
дочери Ифтаха, бога-предка, этиологический миф о
котором, повидимому, служил объяснением происхождения
этого четырехдневного праздника (Суд. IX 40).
В 1904 г, Мейнгольд (ZAW) впервые (отчасти это
самаритянской пасхи черты, восходящие к времени до составления
кн. Второзакония. См. «Journ. of the Palestine Orient. Soc», v. XIII
(Г933).
1 J. G. Frazer-The Golden Bough. VIII, 4S sq.
132
уже имел в виду Штаде) обратил внимание на
то, что к древнейшим еврейским праздникам относится
суббота, которая первоначально не была недельным
праздником, связанным с запрещением работы. В
библейских текстах, которые относятся к древнейшим
составным частям библии, суббота (шаббат) упоминается рядом
с праздником новолуния (ходеш); так, Ос. II 13 мы
читаем: «и прекращу у нее всякое веселие, ее праздники,
новомесячия ее и субботы ее»; Ис. I 13: «курения —
мерзость предо мною; новомесячия и субботы... нестерпимы
мне»; Ам. VIII 5: «Вы, которые говорите: когда пройдет
новолуние, мы станем продавать хлеб и после субботы
откроем житницы»; II Цар. IV 23: «зачем тебе
отправляться к нему? сегодня не новомесячие и не суббота». Такое
упоминание «новомесячия» рядом с субботой говорит о
внутренней связи между ними, о том, что это — лунные
праздники. Правда, в таком же сочетании эти два
праздника встречаются и у Третьеисайи (Ис. LXVI 23), т. е. в
подлепленную эпоху, когда суббота уже была недельным
праздником, но отсюда отнюдь не следует заключить, как
это делает Киттель 1, что и в приведенных выше текстах
не сохранились следы более древнего значения термина
«шаббат». Об этом свидетельствует и то, что в декалогах
(десятисловиях) Исх. XX 9—11, Второз. V 12—16
приводится подробная (хотя и различная) мотивировка запове-'
ди о соблюдении субботы как праздника недельного;
очевидно, новое значение субботы нуждалось в особой
рекомендации и специальном разъяснении, чтобы
вытеснить более древние представления и обычаи, связанные
с этим праздником. Ничем не мотивировано запрещение
зажигать огонь в субботу (Исх. XXXV 3); здесь, повиди-
мому, речь шла о каком-то древнем магическом обряде.
Наконец, и в древневавилонском календаре 15-й день
лунного месяца был «днем покоя», так как в этот день
луна после полнолуния «отдыхает», прежде чем пойти «а
убыль. День этот назывался schalbattu, что соответствует
еврейскому «шаббат» 2.
Совокупность всех этих данных позволяет с
достаточной степенью достоверности утверждать, что и еврейская
суббота была в древнейшее время праздником полнолу-
1 GVI. I, S. 655—656.
2 Fr. Ieremias — Semitische Volker in Vorderasien. «Lehrbuch
der Religionsgeschichte» von A. Bertholet und E. Lehmann. Tubing1.,
1925, B. I, S. 578.
133
ния наряду с «ходеш», праздником нсщрлуния. О
характере обрядности этого праздника можно судить по
аналогии с лунными праздниками современных примитивных
народов и на основании кой-каких отзвуков в
библейских текстах. По всей вероятности, главное место в
субботней обрядности занимали магические трубные звуки и
барабанный бой как средство отпугнуть злых духов *.
В то время как праздник новолуния сохранился в
иудейском культе до сих пор, от праздника полнолуния
остался лишь обряд «обновления луны» (хиддуш лебана),
выполняемый верующими евреями с наступлением второй
четверти. Интересно1, что и теперь этот обряд
сопровождается магическими жестами и заклинаниями; верующке
прыгают против луны, произнося при этом следующую
формулу: «как я прыгаю против тебя и не могу до тебя
достать, так пусть мои враги не сумеют до меня
добраться, чтобы причинить мне зло». Затем молятся богу, чтоб
он соизволил «восполнить ущерб луны, чтобы в ней не
было никакой недостачи».
Как показывают вышеприведенные цитаты из Амс;
са, Осии и кн. Царей, первоначальный характер суббот:;
сохранялся еще в VIII в. Однако в дальнейшем под име
нем субботы в библии фигурирует уже не этот лунный
праздник, а иной, возникший гораздо позднее в иных
условиях. Что суббота стала праздноваться каждые семь
дней, произошло под влиянием Вавилона, где 7-е, 14-е, 21-f
28-е каждого месяца (и 49-е, т. е. 19-е число следующег,
месяца) считались несчастливыми днями. На вавилонско •':
календарной таблице читаем: «Седьмой день. Праздни
Меродаха и Зарпанит, день посвящения. Дурной день
Властитель великих народов не должен есть мяса pinti,
ни зрелых фиников, не сменять одежду своего тела, не
ступать по чистым (?) местам, не приносить жертв. Царь
не должен (входить) на колесницу» и т. д. Этот день
обозначается schaibattUi, причем в столбце разъяснений
слово schalbattu поясняется как йтп nuh lilbibi — «день
отдыха сердца» 2.
Повидимому, к тому периоду, когда евреи еще
кочевали в 'аравийских степях, относится магический обряд,
1 См. Н. М. Никольский — Еврейские и христианские
праздники. М., 1931, стр. 31—ЗЭ.
2 Е b. Schrader — Die Keilinschriften und das Alte Testament.
2 Aufl., Giessen, 1883, S. 18—20. Чтение schabattu — ср. 3-е изд. той
же работы, стр. 592.
134
вошедший впоследствии в обрядность «дня очищения»,
или «судного дня». О нем мы узнаем из Лев. XVI: «5. И
от общества сынов израилевых пусть возьмет двух
козлов В жертву за грех... 7. И возьмет двух козлов и
поставит их перед лицом Ягве у двери скинии собрания.
8. И бросит Аарон об обоих козлах жребий: один
жребий для Ягве, а другой жребий для Азазела. 9. И
приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Ягве, и
принесет его в жертву за грех. 10. А козла, «а которого
вышел жребий для Азазела, поставит живым перед богом,
чтоб совершить над ним очищение и отослать его к Аза-
зелу в пустыню... 20... и приведет живого козла. 21. И
возложит Аарон обе руки на голову живого козла и
исповедает над ним все беззакония сынов израилевых и
все преступления их, во всех грехах их, и возложит их
на голову козла и отошлет с нарочным человеком в
пустыню. 22. И понесет козел на себе все беззакония их в
землю непроходимую; и пустит он козла в пустыню».
Обряд этот описывается и др<едписывается только в
Жреческом кодексе; ни J, ни Е его не упоминают. Пови-
димому, жрецы, не будучи в состоянии искоренить
древний магический обряд, против которого не нашли
нужным бороться более древние религиозные кодексы, сочли
за благо включить его в культ Ягве; тем самым они
фактически устраняли конкуренцию со стороны не-ягвистских
культов и вместе с тем создавали новый источник
доходов для себя и славы -для Ягве. Но именно то
обстоятельство, что даже Жреческий кодекс не сумел вытравить
из обряда с козлом Азазела его архаические черты,
доказывает глубокую древность обряда.
В русской библии «козел Азазела» переводится «козел
отпущения»; переводчики хотят таким образом устранить
бога Азазела, компрометирующего идею библейского
монотеизма. Но уже в еврейском масоретском тексте
сделана попытка замазать существо этого божества путем
искажения его имени. "Aza'zel, с точки зрения
еврейского языка,—невозможное сочетание; комментаторы
поэтому предлагают читать "Azaz'el, что должно означать
«Могуч Эл». Но и эта поправка в свою очередь имеет
целью скрасить имя примитивного божества. В
действительности имя это надо читать "Az'e]_ или "Aza'el, т. е.
«козел-бог». Это доказывается не только" ~*гем,~что в
жертву ему приносится козел, но и тем, что культ козла
засвидетельствован и другими источниками. Так, в Лев.
135
XVIII 7 мы читаем: «Чтобы они впредь не приносили
'закланий своих козлам (сеирим)»; во II Цар. XXII 8: «(Иосия)
разрушил высоты сеирим *, что у входа в ворота Иошуи
градоначальника»; 2 Хр. XI 15: .«И поставил у себя
жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он
сделал». В кн. Ис. XXXIV 14 автор, рисуя будущее
запустение, пишет: «szijjiiirii будут встречаться с 'ijjiim, и сайр будет
перекликаться с другим»: Точное значение szijjim и 'i'jjim
неизвестно, но во всяком случае они означают животных
пустыни, и, следовательно1, сайр (единственное число от
сеирим) тоже обозначает духа пустыни; то же самое мы
имеем и в Ис. XIII 21, где по такому же поводу для
живописания дикости и запустения говорится о том, что «там
будут скакать сеирим». Таким образом, есть все основания
считать, что "Az'el находится в тесной связи с этими
сеирим, 'И что занимающий центральное место в обряде
козел (сайр) первоначально воплощал в себе само
божество. - ■■■
Но если "Az'el — козлообразный бог пустыни, то и
культ его, притом настолько прочный, что сохранился
вплоть до разрушения иерусалимского храма в 70 г.,
должен был возникнуть в кочевой период истории
Израиля.
Что касается первоначального содержания обряда
очищения, то оно имеет многочисленные параллели в
культовой практике примитивных племен. Так, обряд
очищения у индейцев-ирокезов, согласно описанию
Кларка, наблюдавшего этот обряд в 1841 г., заключался
в следующем: после ряда предварительных церемоний
мужчины в фантастических одеяниях ходили по деревне,
собирая «грехи» населения. После этого вывели двух
белых собак, раскрашенных и изукрашенных перьями и
лентами. Собак задушили и повесили, поднялся вой,
началась пальба из ружей. Затем трупы собак взяли в
доац, где на них перенесли все грехи людей. После этого
трупы сожгли.
У кафрских племен, когда никакими средствами не
удается вылечить больного, к нему приводят козла, все
население деревни исповедует над ним грехи, затем козла
окропляют несколькими каплями кроен больного и уго-
1 В масоретском тексте вместо слова seirim читается
бессмысленное schearim (ворота); в критических изданиях библейского
текста восстанавливается правильное чтение.
135
няют его в пустыню, куда, как в этом уверены кафры, он
уносит с собою и демона болезни Ч
Предписываемый Лев. XVI обряд с козлом Азаела был
уже непонятен талмудистам и раввинам, которые вообще
умели довольно ловко приспособлять к религии Ягве все
пережитки архаических религий. Мидраш Ieilarradenu к
Хуккат (Чис. XIX ел.) § 7 пишет: «Насчет четырех темных
предписаний торы сатана задает вопросы (чтоб смутить
верующих): о левиратном браке, о sahaatnez2, о козле
Азазела и о красной телице» 3. Неудивительно, что
талмудисты не понимали смысла этих магических обрядов и
табу, так как они возникли еще в доисторическое время
и даже после приспособления к религии Ягве сохранили
еще ярко выраженные черты примитивных верований,
которых никакие богословские ухищрения не могут
превратить в заповеди монотеистической «возвышенной»
религии.
Позднее, уже в развитом классовом обществе, когда
представление о зловредных духах, от которых надо
очиститься путем магических обрядов, сменилось
представлением о «грехе», от которого надо очищаться путем
поста и покаяния, день очищения, иом-кипурим, получил
новое богословское обоснование. Он превратился в
«судный день», когда господь решает участь каждого
человека в зависимости от его праведности, т. е. в
зависимости от того, как покорно и смиренно он сносил иго
эксплоатации и соблюдал продиктованные эксплоататор-
скими классами правила морали и религиозного «закона».
В древнейшее время, однако, иом-кипурим отнюдь не
был связан с какими-либо покаянными обрядами.
Напротив, очищение от злых духов, вероятно, сопровождалось
разгульным пиршеством. Во всяком случае об этом мы
1 Множество других примеров см. J. G. Frazer — The Golden
Bouo-h. L., 1919—1925, v. IX. «The Scapegoat».
2 Ткань из смеси льна и шерсти; такую ткань запрещено
употреблять для одежды. Лев. XIX 19, Второз. XXII И.
3 В кн. Чис. XIX предписывается заклать «красную телицу без
порока, у которой нет повреждения, на которой не было ярма»,
сжечь ее целиком, с кожей и «нечистотою», бросить в пламя иссоп,
кедровое дерево и нить из червленной шерсти, затем собрать
полученный пепел, который должен служить магическим зельем для
приготовления очистительной воды. О магическом значении
отдельных элементов этого обряда см. A. Jirku—Die Damonen
und ihre Abwehr im Alten Testament. Lpze\, 1912, S. 5 ff; S с h e-f-
telowitz—Opfer der roten Kuh, ZAW 39 A921), S. 113 ff.
137
имеем воспоминание в Мишне. «Сказал р. Симон бен-
Гамалиил: не было таких праздников для Израиля, как
15 аба и иом-кипурим. В эти дни девушки иерусалимские
выходили в белых одеждах, одолженных, чтобы не было
стыдно тем, которые не имеют собственных нарядов...
Девушки иерусалимские выходили и плясали в
виноградниках. А что они говорили? — «Юноша, подыми глаза
свои и смотри, кого ты выбираешь; не смотри на
красоту, а смотри на род» и т. д.». (М. Таанит IV 8).
Конечно, эти обряды стали несовместимы с днем
«покаяния», были вытеснены из обрядности иом-кипурим и
перенесены на 15 аба, для празднования которого
источники не могут привести удовлетворительного объяснения.
Интересно, что и обычай надевать чужое платье,
которому мишна дает моральное объяснение, имеет
магическое происхождение. Вельгаузен * указывает, что
паломник в Мекке должен обежать каабу или в чужом
одеянии, или голым.
Расшифрованные в последние десятилетия хеттские
клинописные памятники II тысячелетия до хр. э. дают нам
возможность близко ознакомиться с аналогичным
обрядом у хеттов; в этих памятниках вполне отчетливо
выступают магические черты, аналогичные чертам иом-
кипурим. Табличка I «Hiittite texts dm cuneiform character
from tablets in the British Museum», L. 1920 содержит
магический обряд заклинания моровой язвы. Речь
ведется от лица жреца: «Я поступаю так. Когда день сменяется
вечером, то все военачальники, сколько их есть в стане,
приготовляют каждый одного барана. А должны ли
бараны быть белыми или черными, о том нет никакого
предписания. Затем я сплетаю нить из белой шерсти, из
красной шерсти и из желтоватой шерсти, и он2 их
соединяет вместе. Тотда я прикрепляю шейную цепь и одно
железное кольцо с ...камнем и привязываю баранам на
шею и рога. Ночью их привязывают перед шатрами и
при этом говорят следующее: «Какой бог отворачивается
(от нас)? Бог. вызвавший этот мор, смотри, я привязал
к тебе этих баранов; так удовлетворись». А на
следующее утро я их выгоняю на волю. Тогда доставляют на
каждого барана по 1 кувшину хмельного напитка, 1
хлебу и 1 большому... сосуду, а перед шатром царя он2
1 «Reste arabischen Heidentums», S. 110.
2 Подразумевается «каждый начальник».
138
усаживает разукрашенную женщину и ставит при ней
блюдо с хмельным напиткам и 3 хлеба. Затем начальники
становища возлагают свои руки на баранов и говорят
при этом следующее: «Какой бог вызвал этот мор,
смотри, теперь здесь стоят бараны, они, их кишки, их
внутренности и бедра очень жирны. Так пусть впредь
человеческое мясо будет ему ненавистно и пусть он
довольствуется этими баранами». Далее препоручают
начальников стана баранам, а царя препоручают
разукрашенной женщине1. Затем баранов и разукрашенную
женщину, хлеб и хмельной напиток проводят через
становище и угоняют их на волю. И они уходят и убегают
в страну неприятельскую, они не попадают ни на какое
место в нашей стране. А при этом опять говорят: «Вот
все, что было злого у людей, скота, овец, лошадей,
мулов и. ослов этого стана, эти бараны и женщины унесли
из стана» 2.
В древневавилонском обряде очищения повар
обезглавливает козла; жрец берет тело козла и мажет им
подлежащую очищению часовню под звуки читаемых
жрецами заклинаний. Затем козла спускают в реку; жрец,
производивший церемонию, и повар, отрубивший голову
козлу, немедленно уходят в степь, где они находятся в
течение 7 дней; они считаются нечистыми и не смеют до
окончания всего многодневного празднества вернуться в
Вавилон3.
^ЩТ
1 Т. е. с начальников нечисть переносится на баранов, с царя
на женщину.
2 Johannes Fried rich—Aus dem hetitischen Schrifttum.
Lpz., 1925 (= АО 25,2), S. 11—12.
3 H. Zimmern—Das babylonische Neujahrsfest. Leipzig, 1926,
S. 10—11 (= АО, 25,3).
)®1
РЕЛИГИЯ „ЦАРСКОЙ"
ЭПОХИ
1. ЭТАПЫ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ ДО VI в.
стория, насколько ее можно восстановить
на основании скудных, искаженных
богословски-тенденциозной редакцией данных
кн. Судей, Самуила и Царей, застает
еврейские племена в Палестине, где они в
течение веков ведут упорную борьбу с
местным ханаанским населением и с
родственными евреям племенами, устремляющимися в ту же
Палестину. Вопреки стараниям позднейших редакторов
представить дело завоевания Ханаана кратковременной
операцией, приведшей к искоренению туземного
населения, в кн. Судей и Иис. Навина сохранились следы более
близкой к действительности традиции. В гл. I Судей
рассказывается о том, как отдельные еврейские племена |
на свой риск и страх завоевывали себе небольшие
территории, причем, как правило, сообщается, что то или иное
колено «не изгнало жителей» и «превратило их в
данников». Даже победоносное иудейское племя не сумело
совладать с жителями долины, «потому что у них были
железные колесницы». Племя Дан, поселившееся было в
области эморитов, было оттеснено ими впоследствии в
горы. Племя Рувим в историческую эпоху уже не сущест-
ч^г——\4
140
вовалО, хотя, СуДя по названию города «Камень Богана —
сына Рувима» (Иис. Нав. XVIII, 17), это племя завоевало
этот город до того, как он достался племени Вениамина.
В так наз. «Благословении Якова» (Быт. XLIX),
написанном в период существования иудейского царства (ст. 8),
племя Симеона уже не существует (ст. 5—7); а в
«Благословении Моисея», написанном на столетие позже, колено
Симеона уже даже -не упоминается. Племя Иссахар, по
свидетельству Быт. XLIX, не только не покорило ханаа-
иеян, но само было порабощено. Племя Дан, как это
вытекает из Суд. V 17, оказалось в положении «геров»,
чужестранцев, в стране своего поселения *. Следы этой
традиции о полном превратностей ходе оседания евреев
в Палестине имеются также в кн. Иис. Нав. "IX 7, XVII 13,
XIII 13 и др.
Союз племен — такова была форма организации,
случайной и непрочной, которая объединяла еврейские
«колена» для борьбы с общим внешним врагом.
Древнейший засвидетельствованный . в письменности пример
такого союза описан в «Песне Деборы» (Суд. V),
представляющей, по общему мнению исследователей библии,
самый древний элемент ее. В этой «Песне» упоминаются
в качестве союзников племена Эфраим, Веньямин, Зеву-
лон, Нафтали, Иссахар; Рувим, Дан, Ашер отказались
участвовать в совместной операции. Но помимо этих
племен, входящих в состав традиционных «12 колен»,
упоминаются еще Махир и Галаад, которые в. числе
«двенадцати» не фигурируют. С другой стороны, племена
эдомитов Калеб и Иерахмеел (потомки Кеназа, Быт.
XXXVI 11) и нееврейское племя номадов-кенитов входят
в состав иудеев и включаются в их генеалогии (ср. I Сам.
XXVII 10, XXX 14, 29 с I Хр. II 18—27, 55, Чис. XIII 6,
Иер. XXXV 6 ел.).
Таким образом, рассеянные в ветхозаветных книгах
разрозненные данные опровергают сказку, которую с
теми или иными оговорками поддерживает ряд
«историков» 2, будто объединение еврейских племен в один
1 Согл. толкованию Ed. Meyer — Israelites S. 494.
2 Даже такой либеральный историк, как Ад. Лодс, не
удержался от искушения сохранить библейскую традицию и,
отделываясь от прямого ответа ссылкой на скудость источников,
высказывает после ряда оговорок догадку, «о которой можно было бы
Думать»: «Весьма вероятно, что среди упоминаемых в амарнской
переписке хабиру были некоторые еврейские племена, которые
141
народ (с единой религией Ягве) произошло еще в
кочевой период Израиля. Напротив, данные самой библии
показывают, что проникшие в Палестину еврейские
племена частью погибли, частью растворились в местном
населении, частью включили в свои союзы местные и
пришлые нееврейские племена. При всей условности и
проблематичности библейской «статистики»
знаменательно все же, что если в «Песне Деборы» количество
израильтян, способных носить оружие, 'исчисляется в 40 000,
оно при Давиде (II Сам. XXIV 9) исчисляется в 1 300 000;
здесь, конечно, об естественном приросте населения не
может быть речи; мы имеем дело с разрастанием
еврейских племен за счет местного населения и соседей.
История возникновения еврейского народа и
еврейских государственных образований на почве Палестины
совершенно несовиместима с традиционной историей
евреев. В первые века своего пребывания в Палестине евреи
дальше образования союза племен ие пошли и не (могли
пойти, так как для этого не было еще никаких
предпосылок в экономике.
Излюбленная либеральными богословами и
благочестивыми «историками» версия о том, что в Кадеше евреи
объединились в народ под водительством Моисея,
совершенно беспочвенна. Это в сущности миф, тесно
связанный с мифом об исходе из Египта!, который был
разработан пророками и библейскими авторами лишь в эпоху
царств. В действительности, насколько можно судить по
сохранившимся в библейских текстах историческим
воспоминаниям, Кадеш (на южной границе Иудеи, ныне —
Am KdejiS) был местом кочевья некоторых еврейских
племен (Иуда, Калеб). Искусственность соединения
исторического предания о Кадеше (Иош. XV 23, Быт. XIV 7, Пс.
впоследствии вошли в израильскую федерацию. В самом деле,
согласно этим текстам, хабиру стали, повидимому, подлинными
хозяевами Lapaya, т. е. области Сихема, с другой стороны, они
совершили нападение на иерусалимскую область. И вот, как-раз
внутренняя критика еврейской традиции дает основание думать, что
Симеон и Леви временно занимали Сихем (Быт. XXXIV; XLIX
5—7), а Рувим — территорию, соседнюю с Иерусалимом. Эти
первые волны еврейского прилива должны были затем отхлынуть.
Симеон и Леви погибли, Рувим эмигрировал. Масса евреев тогда
кочевала в районе Беер-Шеба и Кадета. Некоторые из них попали
в Египет и там угнетал их Рамзес II или его преемники. Затем
они оттуда ушли и расположились при Кадеше, где и соединились
с другими племенами в израильский народ. О нем-то и говорит
Мернепта» («Israel», p. 214).
142
XXIX 8 и др.) с мифом о пребывании евреев в Египте
ясно видна из таких текстов, как Суд. XI 16, Второз. I 19.
Выше, при разборе библейских текстов, уже были
приведены те основные объективные исторические
свидетельства,, которые опровергают библейскую традицию
об исходе из Египта. Да и в самой библии наряду с этой
традицией существует и другая, не знающая пребывания
евреев в Египте и исхода оттуда. (Основная тенденция
мифов о патриархах состоит как-раз в том, чтоб
доказать исконные права израильтян на Ханаан; патриархи,
говорит легенда, законным путем приобрели права на
занятые земли либо путем покупки (Быт. XXIII), либо в
силу давности; они являются постоянными жителями
страны, которую заняли с незапамятных времен и
никогда не покидали.
Понятно, что с течением времени, когда еврейские
племена уже прочно осели в Палестине, эта традиция, не
знающая еще легенды о пребывании в Египте, потеряла
свое значение и легко уступила первенство новой
концепции, которая проникнута совершенно иной тенденцией:
миф об исходе должен был отнести в глубь веков
единство еврейского народа, подчеркнуть значение Ягве как
общенационального бога, избравшего свой излюбленный
народ еще до его поселения в Ханаане.
Этот миф не мог возникнуть ранее образования
централизованных монархических государств и возобладания
Bi силу этого культа Ягве. Между тем легенды и мифы о
патриархах питались традициями еще родового строя и
разрабатывались в устном предании задолго до
превращения непрочных союзов племен в единый народ;
поэтому в эпоху царств патриархи не только заняли
подчиненное положение, но и вызывали порою весьма
пренебрежительное отношение к себе со стороны пророков.
Гошеа (Осия) XII 4—5 явно издевается, над Яковом;
насмешку над Яковом позволяет себе в игре слов и автор
кн. Иеремии (IX 3) 1.
Мифы о патриархах стали соединяться библейскими
авторами с мифом об исходе, занявшим центральное
место в религиозной проповеди, начиная, повидимому, с
IX в. При этом авторы не очень беспокоились о том,
чтоб придать своим писаниям характер исторической
1 См. Kurt Galling—Die Erwahlungstradition Israels. Gies-
sen, 1928.
143
правдоподобности; они преподносят читателю почти
сплошь чудеса и народные сказки и не пытаются связать
излагаемые «события» с какими-нибудь конкретными
историческими датами. Характерно, что столь щедрая на
всякие имена библия не называет имени ни одного
фараона эпохи «пребывания в Египте». А те бытовые
сведения о Египте, какие в библейском рассказе имеются,
относятся, по единогласному мнению египтологов, к
позднему периоду, периоду написания книг Бытия и
Исхода.
Защитники историчности исхода (хотя бы только в
смысле некоего смутного воспоминания, содержащего
лишь зерно истины) ссылаются на свидетельства
папирусов (Pap. Anastasi VI), где сообщается о разрешении эдо-
митам и другим бедуинам временно пребывать со своими
стадами на территории Египта. Кроме того, сейчас
начинает возрождаться давно похороненная гипотеза
французского египтолога~ Шаба (Ghabas), который в 1862 г.
(«Melanges egyptol.», p. 42—52) пытался отожествить
египетский термин "рт, встречающийся в Лейденском
папирусе и папирусе Гаррис, с евреями, хотя он обычно
обозначает рабочих людей или матросов. Наиболее
авторитетные египтологи — Эд. Мейер, Видеман, Бругш, Брэ-
стед, Бурхардт— опрокинули эту гипотезу, как не
выдерживающую критики ни с филологической, ни с
исторической точки зрения. Однако в начале 900-х годов
гипотезу Шаба попытались возродить Эрдмане и Гейес
(Heyes), но эта попытка была настолько неудачна, что не
только Грессман *, но даже и реакционный Киттель2
вынуждены были призвать, что гипотезу Шаба при всей
ее привлекательности можно принять только пренебрегши
бесспорными хронологическими возражениями. К
сожалению, приходится отметить, что в последнее время эта
провалившаяся гипотеза нащла себе защитника в лице
советского египтолога, теперь академика, В. В. Струве..
В 1920 г. он выпустил брошюру «Израиль в Египте», где
ставит себе задачей, в противовес «современной
исторической критике», отрицающей достоверность «традиции
св. писания» «о бедствиях избранного богом народа в
Египте, о мести грозного Ягве стране фараона и о
бегстве Израиля со своим великим вождем», подтвердить
1 «Mose und seine Zeit», S. 405.
2 GVI, I, S. 453—454.
144
сведения кн. Бытия и Исход египетскими текстами *.
Признавая, что отрицательная оценка «остроумной догадки»
Шаба «считается теперь последним и решительным
словом науки» 2, В. В. Струве все же возвращается к ней и
путем целого ряда казуистических и произвольных
толкований отрывков из разных египетских текстов не
только пытается реконструировать «историю» пребывания
евреев в Египте и их исхода, но даже «отыскивает» в
египетских текстах и сказочного Иосифа! О том же
В. В. Струве в 1924 г. напечатал статью в «Еврейской
старине» т. XI («К истории пребывания Израиля в
Египте»). К сожалению, акад. В. В. Струве еще до сих пор не
отмежевался печатно от этих ошибок.
Мало того, в. вышедшей в 1936 г. «Истории древнего
мира» (т. I—«Древний Восток») акад. В. В. Струве не
только повторяет свои старые ошибки, но делает
дальнейшие уступки поповщине; он не только отстаивает —
совершенно голословно — историчность исхода, но даже
решается по собственным, решительно ни на чем не
основанным догадкам датировать мифические события
прибытия всего Израиля в Египет, исхода и даже годы
странствования в пустыне! Вообще вся глава «Израиль и
Иуда» написана под влиянием традиционной «истории
ветхого завета»3. ■ ■
Что касается данных папируса Анастаси, то
шаткость извлекаемой из его данных аргументации очевидна
даже для неискушенного читателя. Ведь нельзя же на
основании одного исторического события заключать о
другом конкретном факте; ведь если в
папирусе Harris упоминается, что Рамзес III нанес около
1180 г. тем же эдомитам жестокое поражение, то отсюда
никто не станет делать вывод, что и евреи или, скажем,
моавитяне понесли такое же поражение. Из папируса
Anasitasl мбжно сделать лишь тот вывод, что пребывание
некоторых еврейских родов со своим скотом в течение
одного-двух сезонов в Египте — вещь возможная. Но для
того, чтобы эта возможность стала
действительностью, недостаточно благочестивого желания тех или
иных историков. А поскольку в данном случае
достоверные исторические факты говорят против допущения
1 В. Струве — Израиль ■ в Египте, стр. Г.
2 Там же, стр. 8—9.
3 См. мою рецензию в журнале «Антирелигиозник» № 2 за
1937 г. '
ДО -8
145
историчности пребывания евреев в Египте, приходится
возможность этого события, вытекающую из папируса
Anastasi, признать исключенной.
Да и в самой библии сохранились предания,
отвергающие пребывание в Египте. В кн. Бытия XXIV
рассказывается о покорении Сихема, города в «земле
обетованной», еще до египетской эпопеи. В гл. XXXVIII новелла
(о Иуде и Тамари предполагает, что ни до, ни после
описываемых в этой главе событий евреи никуда из Ханаана
не уходили. Не знает Египта и так наз. «Благословение
Якова» (Быт. XLIX), хотя в частности Иосифу там
отведено целых 5 стихов.
Характерно, что одновременно с разработкой мифа
о пребывании евреев в Египте библейские авторы
тщательно вытравили из использованных ими преданий
всякое воспоминание о подлинно историческом
пребывании египтян в Палестине. В течение нескольких
веков Палестина находилась в подчинении у Египта. Ряд
фараонов, начиная с Тутмоса II (около 1490 г.) и кончая
Рамзесом III A198—1167), совершали множество походов
в Сирию и Палестину и увековечили в памятниках свои
победы. Но в библии ни одно имя египетского фараона
не упоминается; впервые встречается упоминание о era-'
петском фараоне конца X в. Шешонке I Цар. XI 40.
Очевидно, миф об исходе казался авторам библии
несовместимым не только «исторически», но и по
идеологическим мотивам с фактом господства египтян в Передней
Азии, и они, понятно, сочли за благо вытравить
исторические воспоминания, чтоб сохранить нужную им
легенду.
Но если пребывание евреев в Египте и исход оттуда —•
миф, то откуда он возник? Каким образом в него
проникли если не исторические, то географические имена —•
пусть даже неверные? Как и почему он принял черты
мнимо-исторической легенды? Понятно, нечего искать
исторических данных, легших в основу мифов об
Аполлоне, Ягве или Адаме; но библейское повествование об
исходе имеет как-будто, характер предания, в котором
наряду с явными вымыслами имеется, может быть, какое-
то историческое ядро; так нельзя ли это ядро вылущить?
На все эти вопросы богословы требуют исчерпывающего
ответа. Если из библейского рассказа об исходе, говорят
они, исключить явно сказочный элемент (всевозможные
чудеса и сообщения о мифических патриархах), то полу-
246
ценный остаток сводится к весьма хотя скудному, но
довольно правдоподобному рассказу о прибытии евреев
со своим скотом :в Египет по случаю голода в местах их
постоянного кочевья, о притеснении их египтянами и об
уходе из Египта. Вот этот-то остаток просвещенные
богословы и признают за историческое зерно.
Рис.6. Евреи-пленники на победной стеле фараона Шешонка (945—924);
в тексте на стеле упоминается в числе завоеванных местностей likrl-
ibrim— „область Авраама". АОТВ № 22
Этот прием методологически порочен; с таким же
успехом можно выделить «историческое зерно» из любой
сказки или любого мифа. Нельзя механически разделять
миф на составные части и одни объявить действительно
мифом, другие — историческим материалом. Для того,
чтоб иметь право поступать таким образом, надо
предварительно доказать на основании бесспорно
исторических документов, что в даннови
случае в мифе, сказке или легенде обработан исторический
материал. Но в случае с исходом,, как мы видели, никаких
исторических данных; независимых от библии, нет; мало
iO*
17
того, исторические документы несовместимы с
библейскими рассказами. Поэтому нет никаких оснований искать
здесь отражение конкретных событий, приуроченных к
определенному времени и месту и к определенным
участникам их. ;
Наконец, усиленная религиозная пропаганда в течение
тысячелетий мифа об исходе, столь прочно утвердившая
его в иудейском и христианском богословии и в
традиционной историографии, отнюдь не должна нас заставить
думать, что мы имеем здесь дело с национальным
еврейским преданием.
В письме к Марксу Энгельс указал, что иудейское свя-
щеное писание «было не чем иным, как записью древне-
арабских религиозных и племенных традиций, несколько
видоизмененных ранним отделением иудеев от
соплеменных им, но еще кочующих соседей»; «...главное
содержание было арабского или, вернее, общесемитического
характера» 1. Таким образом, источники еврейской
мифологии надо искать за пределами еврейских племен.
Раскопки последних лет блестяще подтверждают правильность
указания Энгельса и для данного конкретного случая.
Как известно, в древности греческие писатели часто
отожествляли евреев с гиксами, долгое время
владевшими Египтом и давшими Египту пятнадцатую и
шестнадцатую династии фараонов. В частности, этот взгляд,
несомненно навеянный библией, поддерживает и Иосиф
Флавий в своей книге «О древности иудейского народа.
Против Апиона». Иосиф при этом ссылается без
достаточных оснований на египетского историка Ш в. до хр. э.
Манефопа.
Конечно, гиксы не были евреями, как это думал
Иосиф Флавий, но они были семитами; это
предположение, отвергнутое одно время ориенталистами, вновь
приобретает теперь характер достоверности. Так, новые
данные устанавливают, что культ богини "Anta,
тожественной с еврейской богиней "Anat, введен в Египте гиксами.
На двух стелах Рамзеса И, открытых на Суэцком
перешейке, имеются посвящения богам, причем троице Анта-
Сет-Сопед, на одной стеле соответствует Анта-Ваал-Сопед
на другой, из чего следует, что Сет = Ваал. Если к тому
же учесть давно известные уже гиксовские имена Якэб-
эль и Анат-эль,, то можно считать весьма правдоподоб-
'Маркс и Энгельс, соч.л т. XXI, стр. 484.
118
ньш, что гиксы были семитами, почитавшими богов по
имени Эль, Анат, Ваал и, возможно, Яков. С другой
стороны, последние раскопки в Нузи (Nuzi) дали интересный
материал о Hurri (библейские хорреи), тесно связанных
с гиксами; в их .мифологии имеется ряд элементов,
сходных с библейскими сказаниями о Якове *.
У гиксов, несомненно, должно было сохраниться
множество преданий о пребывании в Египте. Эти или иные
подобные предания в сочетании с чисто сказочными
мотивами, вроде сказки о Иосифе и Пентефрии, с
генеалогическими преданиями и с мифами о патриархах и
Рис. 7. Иудеи (?) на сосуде из могилы в Бет-
Шемеше VIII в. Вид спереди и сбоку. АОТВ
Ш 25
дали в обработке жрецов и «пророков» ту форму мифа,
которая засвидетельствована в библии.
Таким образом, вместе с мифом об «исходе» падает и
концепция «единого Израиля» в кочевую эпоху и эпоху
переселения. Близкой к действительности надо признать
ту схему общественного устройства древнего
Израиля, которую можно восстановить по историческим
воспоминаниям, сохранившимся под богословскими на-
1 Е. A. Sp e is e r — Ethnic movements in the near East in the
second Millienary b. С «Annual of the Amer. schools of oriental
research», XIII A933); R. Dussaud — Quelques'precisions touchant les
Kyxos». RHR, СЩ, 1934, p. 119 sq; Theol. Lit.-Zeit., 1934, Nr. 15/16.
149
слоениями в кн. Судей и других так наз. «исторических»
книгах Ветхого завета. Евреи пришли в Ханаан не как
единый народ, а как отдельные племена или группы
племен, действующих на свой риск и страх, как мы видел*
выше из «Песни Деборы» (Суд. V). Об этом
свидетельствует и недавно открытый при раскопках 1929—1931 гг
в Рас-Шамра финикийский текст XIV в.; здесь
упоминаются два еврейских племени — Ашер и Зевулон, причел*
первое в качестве союзника финикиян, второе — в каче
стве их врага1. Для защиты от общего врага племенг
вступали в более или менее длительный союз, с общин*
военачальником. Такими были упоминаемые в «Песщ
Деборы» Яил (его не надо смешивать с женщиной
Яилыо, упоминаемой в той же главе кн. Судей), Шамгар,
Варак, Гидеон и др. «судьи».
Постепенно завоевывая Ханаан, еврейские бедуины
частью сохранили и на новой территории старый
пастушеский быт (I Сам. XXV, Суд. V 16, II Цар. III 4), частью
перешли к оседлому земледелию. Что касается
покоренного местного населения, то по тем данным!, какие
сохранились в библии (а других данных нет), трудно составить
себе ясное представление о его судьбе. Об обращении
ханаанеян в рабство нет никаких указаний. Обычно
библейские источники говорят, что израильтяне «сделали их
данниками». Применяемый при этом термин mas
действительно означает «дань», «оброк», «подать» и в
переносном смысле «данник» («Плач» I 1 о Иерусалиме). В
царский период существовала особая должность заведыва-
ющего mas (И Сам. XX 24, I Цар. IV 6, V 28, XII 8, II
Хр. X 18). Mas встречается и в значении подневольного
труда; так, I Цар. V 27—28 читаем: «И взял царь mas от
всего Израиля, и составил mas тридцать тысяч человек,
и посылал их на Ливан, по десяти тысяч в месяц
попеременно; месяц они были на Ливане, а два месяца в доме
своем. Адонирам же распоряжался mas». В другом месте
(I Цар. IX 15—22) библейский редактор, шокированный
привлечением израильтян на принудительные работы в
качестве подневольных рабов, разъясняет, что те
ханаанские племена, которых Соломону не удалось
истребить, он обратил в «оброчных работников» (mas "oibed),
1 RHR, v. CIX A934), p. 122—123. Ашер в Палестине до «исхода»
упоминается также в списках фараонов Сети I и Рамзеса И, см. Е<1.
Meyer — Israeliten. S. 540; GVI I, 425,-
159
«а из сынов Израилевых Соломон не сделал раба».
Последний термин mas "oibed означает уже не данника,
обязанного денежной или натуральной податью, а лично
несвободного, .возможно' даже — государственного раба.
Тот же термин встречается у Иис. Нав. XVII 10 в
отношении ханаанеян и Быт. XLIX 15 в отношении еврейского
племени Иссахара. В том же значении слово mas
употреблено в Исх. I 11, где iSare mi-ssiim, очевидно, означает
надсмотрщиков над несвободными работниками.
Таким образом, правильно будет предположить, что
покоренное население Ханаана находилось в положении
спартанских илотов. Но, надо полагать, такое положение
было не везде и не всегда. Во многих случаях
завоеватели, отобрав себе лучшие земли, ограничивались
взиманием подати с покоренного населения, сохранившего
личную свободу. С другой стороны, с разложением
родового строя и образованием классового государства
свободные еврейские земледельцы попадали в личную
кабальную зависимость от крупной земельной и
денежной аристократии. «Свободная» масса израильтян
(вопреки приведенному выше полемическому замечанию I Цар.
IX 22) не была освобождена и от принудительного труда;
в I Цар. XV 21 сообщается: «Царь Аса созвал всех
иудеев, никого не исключая, и вынесли они камни Рамы
и дерева ее, которые Вааса употребил для строения. И
выстроил из них царь Аса Геву Вениаминову и Массифу».
Наконец, из Иез. XLIV 9 мы узнаем, что в
иерусалимском храме были «необрезанные рабы»; повидимому, из
неханаанских военнопленных (ханаанеи были
обрезанными) набирались храмовые рабы. Но в то время рабство
было уже обычным явлением и среди самих израильтян,
и ряды рабов пополнялись не только из военнопленных
и покоренных иноплеменников.
Можно поэтому утверждать, что с образованием
классов и государства прежние племенные и национальные
различия стерлись перед классовыми различиями. Во
всяком случае, для позднего периода (VII—VI вв.)
библейские тексты уже не знают ханаанеян как отдельную
народность, находящуюся в особых социальных условиях
по сравнению с евреями.
Уже на почве Палестины долгое время продолжали
еще существовать институты родового строя. Но
разложение родового строя началось задолго до того.
Частная собственность на скот, а затем и на рабов существо-'
351
вяла уже в пастушеский период истории израильских
племен. «Трудно сказать, являлся ли в глазах автора так
называемой первой книги Моисея патриарх Авраам
владельцем своих стад в силу собственного права, как глава
семейной общины, или же в силу своего положения
фактически наследственного главы рода. Несомненно
лишь то, что мы не должны представлять его себе
собственником в современном смысле этого слова. Столь же
несомненно, далее, что в самом начале достоверной
истории мы всюду находим стада в обособленном
владении глав семейств, совершенно так же, как и
произведения искусства варварской эпохи, металлическую утварь,
предметы роскоши и наконец людской скот — рабов» *
У древних евреев мы в «царский период» имеем уже
широкое развитие частной собственности на землю.
В кн. Иис. Нав. XV— XXI
завоеванные земл'г
распределяются между коленами пс
jK^ejSgjOj а слово cheleq или
chelqa означает «доля»,
«земельный участок», «поле» и
вместе с тем «жребий»2.
Это — восдо«наанля,,об об-,
щлщшй собственности на
землю. Выше (стр. 88) мы
отметили ряд пережитков
общинного землевладения
в практике царской и даже
послеплекной эпохи
(левират). Но к концу царского пе-^
риода цв свидетельству биб-'.
лии, часттта"я собственность
на землю была широко
распространена и была, быть
может, даже преобладяющеи.
Земля приобретается
путем noKvnKH (Быт. XXIII
Лев. XXV 14 ел, XXVII 24, II Сям. XXIV 2\ ел.
■ царь Омри покупает ?смлю для построй-
Рис. 8. „Земледельческий
календарь" из Гезера, ок. IX в. По
Diriuaer, Iscrizio'ni antico-ebraiche.
- АОТВ № 609
9—18,
и др.).
LI3,
Даж!
1 Энгельс — Происхождение
государства. Стр. 56—57.
2 См. G e s e n i u s-B u h 1 — Hebrai
terbuch. Lpz., 1921, s. v. II, 2, III.
семьи, частной соостз'иности и
hes unci aramnisches Hanchvor-
152
ки города у частного лица A Цар. XVI 24). Когда царь
Ахам незаконно и конфисковал землю Набота, это было
расценено как преступление, заслуживающее гнез Ягве
(I Цар. XXI). Даже термин dhelqia утрачивает свое
первоначальное значение и применяется просто к земельному
участку, который покупается за деньги (Быт. ХХХШ 19,
Иош. XXIV 33). Иеремия во время осады Иерусалима,
желая внушить народу утешительную надежду, что еще
не все потеряно, покупает за 17 сиклей у своего родича
участок земли и велит сохранить купчую в назидание
потомству, ибо «еще будут покупать дома, поля и
виноградники в этой стране» (Иер. XXII 6—15). Интересно,
что автор Быт. XLVII 19—20 представляет себе, что
царская земля в Египте образовалась путем скупки земли
у частных владельцев.
Однако конкретных сведений о размерах земельных
владений, о способе обработки земли, об условиях
продажи и аренды земли наши источники не дают.
В одном случае, где речь идет, правда, о
скотоводческом частном хозяйстве (I Сам. XXV), работники
обозначены словом па"аг, которое имеет различное значение
(основное — «юноша»), в том числе и «слуга» и «раб»
(как греческое pais). Быт. XIV 14—15, 24 прямо
подтверждает тожество п.а"аг с рабом. Надо полагать, что и в
крупных земледельческих хозяйствах были заняты глав<
ным образом рабы. II Сам. IX 10 определенно говорит об
обработке земли наследника Саула рабами. Но земля
сдавалась и в аренду на кабальных условиях, которые
приводили к тому, что арендатор оказывался вскоре
вынужденным продать в рабство своих детей, а затем и
самого себя. Библейское законодательство регламентирует
кабальное рабство и продажу детей (Исх. XXI 2—11, Вто-
роз. XV 12—17), причем закон здесь гораздо более
жесток, чем кодекс Хасимураби: последний ограничивает
срок кабального рабства тремя годами (§ 177), тогда как
библия устанавливает срок в шесть лет.
Наряду с сохранившейся местами территориальной
общиной, наряду с частной земельной собственностью
существовала и царская земля —- как лично принадлежащая
царю, так и коронная1. О ней мы имеем следующее
сообщение (I Сам. VIII 11 ел.): «...вот какое право будет,у царя,
1 Согл. Иез. XLVI 16—18 царь имеет личные имения, которыми
распоряжается, как всякий частный владелец.
153
который будет царствовать над вами: сыновей ваших
возьмет и поместит у себя при колесницах своих и при
конях своих, и бегать будут они пред колесницей его. И
одних поставит у себя тысяченачальниками и
пятидесятниками, а других, чтоб распахивали пашню его, и жали
жатву его, ,и делали ему воинское оружие и приборы для
всадников его. А дочерей ваших возьмет в мироварницы,
ив поварихи, и в хлебницы. И самые лучшие поля ваши
Лийоградники ваши, и масличные рощи ваши возьмет
раздаст слугам своим. И из посевов ваших и из
виноградных садов ваших будет брать десятую часть и
отдавать царедворцам и слугам своим. И лучших рабов
^аших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и
ослов ваших возьмет и станет употреблять на свои дела.
Из овец ваших возьмет десятую часть; да и сами вы
будете ему рабами». Таким образом, если считать, что в
основе этого текста лежит, помимо красочного описания
деспотического произвола царя, достоверное историческое
предание, царская земля обрабатывалась либо
государственными рабами либо лично свободными крестьянами на
началах принудительной аренды, а общинная и
частновладельческая земля была обложена натуральным
налогом-десятиной.
Однако эта столь красочно изложенная конституция
вряд ли имеет много больше исторической ценности, чем
«конституция» Второз. XVI. Во всяком случае никаких
следов и воспоминаний о десятине в пользу царя в
литературных источниках нет. Самарянские остраки
позволяют заключить о сборах с продуктов садоводства
(вино' и масло), но о характере, назначении, размерах и
объектах этого обложения сведений нет.
В библии сообщается о двух случаях
экстраординарного налога на уплату военной контрибуции. Израильский
царь Менахем разложил наложенную на него
ассирийцами дань в размере 1 000 талантов серебра и 100 талантов
золота на всех крупных владельцев (igibborej chajil) no
50 сиклей (И Цар. XV 19—20). Царь Иоаким переложил
наложенную фараоном контрибуцию A00 талантов
серебра и I талант золота) на всю страну: «от каждого по
оценке он взыскивал серебро и золото с народа земли»
(II Цар. XXIII 35) !.
1 Н. М. Никольский в своей статье «Происхождение
юбилейного года» («Изв. Акад. наук ССОР» 19Э1 г., стр. 1039) переводит
это место, следуя некоторым комментаторам, таким образом, что
X
154
Больше вероятия имеет предположение о
существовании натуральных повинностей. Помимо
вышеприведенного сообщения о rnias — повинности, налагаемой иногда
и на свободное еврейское население, мы имеем сообщение
I Цар. XI 28 о том., что царь Соломон назначил Иеровоа-i
ма начальником «на весь seibel дома Иосифа»; sebel вооб-/
ще означает «тяжесть», а здесь в переносном смысле «по/
винности». Тому, кто победит Голиафа, народная молвк
сулит наряду с богатством и рукой царской дочери та^-
же иммунитет (I Сам. XVII 25). Облегчения тяжелых
повинностей, наложенных Соломоном, требует народ от его
сына Ровоама (I Цар. XII). Неясно, что имеется в виду
под «царским покосом»' (Ам. VII 1).
«Второе крупное разделение труда» — отделение ре--'
месла от зехмледелия 'завершилось в Палестине
сравнительно поздно. Воспоминание о том времени, когда евреи
еще не имели своих специалистов-ремесленников", 'с'охра
нилось в сравнительно позднем рассказе I Сам. XIII 19—
•—21: «Между тем во всей земле Израильской нельзя
было найти кузнеца, так как филистимляне сговорились,
чтобы евреи не сделали себе ни меча, ни копья. И
ходили все евреи к филистимлянам ковать свои сошники и
свои заступы, топоры свои и серпы свои. Они могли
только точить острие у сошников и заступов,
трезубцев и топоров и поправлять рогатины». Слово charasch и
впоследствии еще было общим названием для всякого
ремесленника. Но для периода царств мы видим уже
сосредоточенное в городах весьма развитое* ремесло; в
библии упоминаются горшечники (Иер. XVIII 2—4, Ис.
XXIX 16 и др.), ткачи (I Сам. XVII 7, Исх. XXVIII 32, I Хр.
IV 21), слесари и ювелиры (И Цар. XXIV 14, Иер. XXIV 1,
XXIX 2), граверы (Исх. XXVIII 1), брадобреи (Иез. V 1),
парфюмеры (I Сам. VIII 13); валяльщики занимали
особый район — «поле валяльщиков» (Ис. VII 3, XXXVI 2,
царь возложил уплату дани только на крупных землевладельцев,
а эти последние, в свою очередь, на крестьян: «и каждый
выколачивал по оценке золото и серебро с народа земли». Это
толкование, предполагающее чисто феодальную конституцию Иудеи,
неправильно. Мы имеем в тексте, вполне в духе древнееврейского
языка, двойной винительный падеж как дополнение к глаголу
nagasch, «взыскал», к которому подлежащим служит «Иоаким».
Надо, следовательно, переводить не «и (?) каждый выколачивал»,
а «с каждого он (Иоаким) взыскивал». Кроме того, при
толковании, предлагаемом Н. М. Никольским, ничем не разъясненное 'isch
(кяждьпт) было бы совершенно .непонятно,
Ш
II Цар. XVIII 1.7), а пекари — особую улицу в Иерусалиме
(Иер. XXXVII 21). Керамическое производство было
поставлено на широкую ногу. Раскопки обнаружили
значительное количество фрагментов больших кувшинов, на
ручках которых имеется одно и то же клеймо; оно
имеет вид скарабея или крылатого диска с
надписью: Imilik, «(принадлежит) царю»; внизу указано место
производства — Хеброн, Зиф, Сохо и Мареша. По всей
вероятности, мы имеем здесь дело с царскими
мастерскими по производству кувшинов для сбора натурой масла
и вина; об этом свидетельствуют так наз. «самаринские
черепки» Ч
«Третье крупное разделение труда» — выделение
класса купцов — завершилось в Ханаане задолго до
поселения евреев в Палестине, и слово «ханаанеин» в библии
кое-где встречается в значении нарицательного имени
«торговец» (Соф. I 11, Ис. XXIII 8); «страна Ханаан»—•
для Иезекииля (XVII 4) синоним «города торговцев».
Евреям осталось только перенять торговые навыки ханаане-
ян. Разбой__как средство обогащения, практиковавшийся
согласно библейским повествованиям Давидом или Ифта-
хом, уступает место_ торговле, где объектом грабежа
становятся уже в первую очередь собственные родичи
купцов. Красноречиво свидетельствуют о_грабительских
методах торговли Ам. VIII 5—6 и Мих. VI 10 ел. Но и
внешняя торговля, совершавшаяся, с одной стороны, морем
через Финикию, с другой стороны — по двум основным
караванным путям к Петре и к Персидскому заливу 2,
получила некоторое развитие. Из I Цар. XX 34 мы узнаем,
что израильские купцы имели в сирийской столице
Дамаске свои торговые улицы, а сирийцы, в свою очередь, в
Иерусалиме. О иудейском царе Иосафате сообщается
I Цар. XXII 49 ел., что он «сделал корабли таршишекие,
чтобы пойти в Офир за золотом, но не дошел, потому
что корабли разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал
Охозия, сын Ахава, Иосафату: пусть мои рабы пойдут
с твоими рабами на кораблях. Но Иосафат не согласился»
(ср. I Цар. IX 26). В кн. Иез. подробно перечисляется но-
1 Н. Vincent — Canaan d'apres l'exploration reccente. P., 1907.
p. 358—360; R. Dussaud — Samarie au temps d'Ahab». «Syria» VI
A925), p. 314 sq.
г L. Herzfeld — Handdsgeschichte der Juden im Altertum.
Braunschw., 1879, S. 22—23. Книга эта до сих пор не устарела по
материалу,
156
3^*|
менклатура внешней торговли Тира, в том числе с Иудеей
и Израилем: «Иудея и земля Израилева торговали с
тобою; за твои товары давали тебе в уплату пшеницу из
Минита, сладости, мед,
масло и бальзам»
(XXVII 17). , ___ _w
Необходимо, однако,
учесть, что еврейские
купцы должны были
выдержать конкуренцию с
такими опытными
торговцами, как финикияне,
которые, поводимому,
играли значительную
роль и во внутренней
торговле маленьких
еврейских государств,
живя здесь в качестве
поселенцев—«герим»
(вроде греческих метэков).
Кроме того, еврейские
государства из_5 веков
своей историибыли
самостоятельными лишь два
века, а затем почти
беспрерывно находились в
зависимости
попеременно от Египта, Ассирии и
Вавилонии. Иудейское
царство к тому же по
временам было еще в
зависимости от
израильских царей; после
уничтожения
самостоятельности Израиля в 722 г.
Иудея фактически
переходила из рук в руки,
пока окончательно не
перестала существовать
как отдельное
государство после разрушения
Рис. 9. Обелиск Салмаассара III, царя
ассирийского (858—824), изображающий
в числе прочих его победу над
израильским царем Ииуем. Во втором ряду
сверху евреи приносят дань
победителю. АОТВ № 121.
Иерусалима "Навуходоносором (Небукаднецаром) в 586 г.
Поэтому вряд ля торговля достигла у евреев пышного
расцвета.
V.T
Другим источником накопления богатств и разорения
неимущих было ростовщичество; особенно разорительны
были для крестьянства ссуды зерном. По вавилонским
законам, для таких ссуд нормальным процентом было
33V3%, причем ссуда к .моменту сева, когда хлеб дорог,
исчислялась в денежной стоимости, а при взыскании
ссуды после урожая, когда хлеб был дешев, денежная
стоимость ее вновь переводилась на зерно; в результате
получалась значительная разница в пользу кредитора х. Та-
ковы были, надо полагать, «нормы» и в еврейских
государствах; они были, вероятно, даже выше, чем в
Вавилоне, так как кредит был у евреев менее развит и
деньги дороже, чем в более богатой и в финансовом
отношении более развитой Вавилонии.
~~Все эти новые отношения — возникновение
производства для обмена, частной земельной собственности, от-
деление__ремесла от земледелия и образование различных
разновидностей в ремесле, появление особого класса
купцов — привели к распаду родовых связей и отношений.
«Наряду с разделением на свободных и рабов,
появляется различие между богатыми и бедными —
обусловленное новым разделением труда новое разделение
общества на классы. Имущественные различия между
отдельными главами семей разрушают древнюю
коммунистическую домашнюю общину везде, где она еще
сохранилась; вместе с тем исчезает и совместная обработка
земли за счет этой общины. Пахотная земля
предоставляется в пользование отдельных семей сперва на
определенное время, потом раз навсегда, переход к полной
^частной собственности совершается постепенно...
Возрастающая плотность населения вынуждает к
более тесному сплочению как внутри, так и во-вне. Союз
родственных племен становится повсюду
необходимостью, а вскоре затем такой же необходимостью
становится уже их слияние, а тем самым слияние
раздельных племенных территорий в единую общую территорию
всего народа. Военачальник народа—rex, ibasileus, thiiu-
dans — становится необходимым, постоянным
должностным лицом... Так органы родового строя постепенно
отрываются от своих корней в народе, в роде, в фратрии,
в племени, а все родовое общественное устройство прев-
1 Schwenzner — Zum altbabylonischen Wirtschaftsleben. Lpzg,,
1913, S. 33.
153
ращается у _ свою противоположность: из организации
племен для заведывания своими собственными делами оно
превращается в организацию для грабежа и угнетения
соседей, и соответственно этому его органы из орудий
народной воли превращаются" в самостоятельные органы
господства и угнетения против собственного народа.
...Вместе с расширением торговли, с деньгами и
денежным ростовщичеством, земельной собственностью и
ипотекой быстро стали совершаться концентрация и
централизация богатств в руках немногочисленного класса,
а наряду с этим усиливалось обеднение масс и
возрастала масса бедных. Новая имущественная аристократия,
поскольку она уже с самого начала не совпадала со
старой племенной знатью, окончательно оттеснила
последнюю на задний план... И рядом с этим разделением
свободных на классы в зависимости от богатства имело
место, особенно в Греции, громадное увеличение числа
рабов, принудительный труд которых представлял собою
основание, на котором возвышалась надстройка всего
общества» 1.
Процесс ликвидации органов родового строя древних
евреев находит свое выражение в замене деления по
родам и племенам на территориальные деления, что, между
прочим, привело к терминологической пу_танице в
библейских текстах. «Старейшины города» занимают место
старейшин рода. Наряду с еще сохраняющимися
старыми генеалогиями вводится деление народа на «тысячи»,
«сотни», «пятидесятки» и «десятки». Это чисто военное
деление (Ам. V 3: «город, выставлявший тысячу,
останется только с сотней, и выставлявший сотню останется
с десятком») стало делением административным, и если
Суд. VI 15 слово «тысяча» еще понимается как деление
внутри племени Манассии (ср. также Чис. I 16 и,
особенно, Иис. Нав. XXI 14), то чисто территориальное
значение имеет «тысяча» в кн. Мих. V I: «А ты, Вифлеем Еф<
ратов, мало тебе быть наряду с тысячами иудиньши»;
здесь «тысяча» применяется в обращении к городу
(ср. I Сам. XXIII 23). Старая племенная знать, «могучие»
('асМшчп Суд. V 13), «знатные» (chorim) уступает место
новой, имущественной знати; gibbo-re chajil, «мощные
владельцы», богатые собственники вытесняют родовую
аристократию, и автор I Сам. IX 1, характеризуя канди-
1 Энгельс—Происхождение семьи, частной собственности и
государства. Партиздат 1934. Стр. 142—145.
JR1
Дата в цари — Саула, считает нужным отметить, что его
отец — гиббор хайл. Уже во Второзаконии
«старейшина», как греч. geron, стало обозначать титул
должностного лица.
Остальная масса свободного населения именуется - в
библии "am ihaaresz; это, несомненно, классовое
обозначение не поддается точному определению, так как у
библейских авторов нет единства в применении этого
термина. Так, II Цар. XXV 19 (=Иер. LII 25) мы читаем: «и из
города взял одного придворного, который был
начальствующим над людьми военными, и пять человек,
предстоявших лицу цареву, которые находились в городе, и
писца главного в войске, записывавшего в войско народ
земли (ам-гаарец), и шестьдесят человек из ам-гаарец,
находившихся в городе». Здесь ам-гаарец в первом
случае означает вообще непривилегированное население; во
втором случае, повйдимому, сельское население. Обычно,
однако, «ам-гаарец» и просто «ам» означает «народ»,,
противопоставляемый царю, имущественной и чиновной
знати и жречеству. В кн. Иезек. XXII 26—29
перечисляются все категории населения: жрецы, пророки,
вельможи и ам-гаарец; у Иер. XXXIV 19 названы «вельможи
иудейские, вельможи иерусалимские, придворные, жрецы
и весь ам-гаарец». В тексте (позднего происхождения)
Ис. XXIV 2 перечисляются такие категории: народ и
жрец, раб и его господин, рабыня и ее госпожа,
продавец и покупатель, должник и заимодавец, берущий
деньги в рост и ростовщик.
Поскольку «ам-гаарец» обнимает недиференцирован-
ную группу, куда входят и земледельцы, и
ремесленники, и мелкие торговцы, и, должно быть, герим
(поселенцы-чужестранцы), мы встречаем особый термин для
обозначения беднейшей, неимущей части населения. По
сообщению II Цар. XXIV 14, Навуходоносор увел в изгнание
весь Иерусалим, всех вельмож, всех могучих владельцев
(гибборей хайл)... всех мастеров и слесарей; осталась
лишь «далат ам-гаарец» (беднота из ам-гаарец). (Ср. XXV
12, Иер. LII 16) К
Наконец, вавилонский термин «мушкену», в эпоху
Хаммураби обозначавший какую-то категорию свобод-
1 Об ам-гаарец см. Schiirer II, 468—469; Kurt Galling —
Die israelitische Staatsverfassung in ihrer Vorderasiatischen Umwelt.
Lpz., 1929, S. 27 ff.
160
ijbix людей, а первоначально обозначавший, поводимому,
людей, попавших за долги в кабалу *, мы встречаем в
редком слове misken— «бедный» (Еккл. IV 13, IX 15) и
miskenuth^—«нищета» (Второз. VIII 9).
Противоречие между городом и деревней и
экономическое господство города над деревней находят свое
выражение в библейских текстах в том, что вся история
Израиля представляется как история городов;
«старейшины городов», т. е. городские сенаты или герусии,
творят суд и решают все важнейшие дела; обычное
обозначение внегородских поселений — «дочери»
соответствующего города (Чис. XXI 25, XXVII 42, Иис. Нав. XVII 1,
XIII 73 и др.). Характерно, что^слрво kaphar—
«деревня» — встречается только в «Песне песней»," написанной
уже_ в__эллинистическую эпоху. ~""" ~
О" размерах рабовладения источники сведений не
дают. Об одном из внуков Саула — Сиве — сообщается, что
у него было 15 сыновей и 20 рабов (И Сам. IX 10). Но
это сообщение — единичное. Больше сведений мы
имеем о роли и характере рабского труда. Если женщины-
рабыни трактуются в библейских текстах
преимущественно как «рабыни гарема», то рабы занимают очень
видное место ""в"'хозяйстве. Работники в крупном хозяйстве
скотовода Набала C 000 овец и 1 000 коз) обозначаются
словом ne"arim (I Сам. XXV), которое в таких случаях,
как мы уже указывали, означает «раб». Что тга"аг
означает во многих случаях раба, видно из Быт. XIV 15, 24,
где рабы Авраама обозначаются то обычным "eibed, то
гаа"аг. В кн. Иов I 13—17 !пе"ап)пт— здесь, очевидно,
рабы — работают в поле и пасут скот, в то время как
сыновья Иова пируют в доме старшего брата. Автор
легенды об исходе представляет себе, что в поле
работают рабы— в ожидании обещанного Ягве града
богобоязненные египтяне спешат забрать с поля в дома скот
и рабов (Исх. IX 19—20). Рабы заняты и на лееорубках
(I Цар. V 20).
Рабы составляют один из главных элементов
богатства. «И был у него мелкий и крупный скот и ослы, рабы
и рабыни, ослицы и верблюды» (Быт. XII 16); «И Ягве
благословил весьма моего господина, и он сделался ве-
1Meissner — Babylonien und Assyrien. В. I, S. 374. Муш-
Кену-—■ «зависимые, подвластные люди»; сопоставление с та-
schkanu — «залог» — указывает на связь зависимости с долговым
правом. — Прим. ред.
П-8
161
' ликим: дал ему мелкий и крупный скот, и серебро и
золото, и рабов и рабынь, и верблюдов и ослов» (Быт.
XXIV 35; ср. XX 14, XXX 43). Совокупность рабов
обозначается словом "abuda, причем в обоих случаях, где это
слово встречается, "abuda определяется как «большая»
(Быт. XXVI 14), «очень большая» (Иов I 3).
Кроме военнопленных, рабы бывают «рожденные в
доме» (Быт. XVI 43) и купленные за деньги (Быт. XVII
13, Лев. XXV 44 ел.). Все виды рабов, кроме кабальных,
рассчитывавших с течением времени получить свободу,
обычно трактуются в библии наравне со скотом. Хотя
убийство раба наказуемо (наказание, впрочем;"
неопределенное: «должно отомстить ему»), но если агония
раненого раба длится день, то рабовладелец считается
наказанным уже тем, что понес убыток (Исх. XXI 20—21).
Лишь у послепленного «пророка» Иоиля мы находим
идею б у д у щ е"г о "равенства рабов и господ пере д
богом: «а также на рабов и рабынь я в те дни изолью
дух свой» (III 2).
0 каких-либо восстаниях рабов библия не сохранила
воспоминаний. Возможно, что намек на рабское
восстание мы имеем I Сам. XXV 10; Набал говорит посланцам
Давида: «много ныне таких рабов, которые отринулись
(mit'parszkn) от своих господ». Беглые рабы были рядо
вым явлением (Второз. XXIII 16, I Цар. II 39).
Таким образом, в X—"W вв., т. е. в тот период, к
которому относится первая редакция Шестикнижия и важней
ших книг Ветхого завета и для которого сохранились и
некоторые независимые от библии исторические и
археологические материалы, маленькие полунезависимые еврей-
ские государства представляли собою рабовладельческое
обществох, в котором, однако, «патриархальная система
рабства» не превратилась в рабовладельческое хозяйство
1 Здесь нелишне напомнить, что основоположники марксизма
считают первым делением на классы деление на рабовладельцев
и рабов, первой формой классовой эксплоатации—рабскую.
В «Коммунистическом манифесте» в исторической
последовательности перечисляются «свободный и раб, патриций и плебей, барон
и крепостной» (М. и Э., т. V, стр. 484) и т. д. В «Анти-Дюринге» мы
читаем (Партиздат, 1936, стр. 129): «Рабство было найдено. Оно
скоро сделалось господствующей формой производства у всех
народов, переросших старый общинный быт»... «В азиатской и классиче
ской древности преобладающей формой классового угнетения был >
рабство» (Э н г е л ь с—Предислов. к америк. изд. «Положение рабочег
класса в Англии», стр. 48). «Из первого крупного общественного
разделения труда возникло и первое крупное разделение обществ :
162
античного типа. Здесь не было «коллективной частной
собственности активных граждан». Рабы, за исключением
храмовых рабов, находились в частном владении.
Торговля и ремесло не достигли такого развития, которое,
например, в Афинах привело к тому, что «люди стали
более просвещенными. Вместо того, чтобы по-старому
жестоким образом эксплоатировать собственных
сограждан, стали теперь эксплоатировать преимущественно
рабов и покупателей не-афинян» *.
Вместе с тем Палестина отличалась и от соседних
стран Востока. Дело в своеобразном исходном пункте
развития классового общества и образования
государства у евреев. Евреи-кочевники, сохранившие еще родовой
строй, вступили в Палестину в качестве завоевателей, и
отношения господства и подчинения внутри общества
складывались в процессе этого завоевания, протекавшего,
как мы видели, не везде и не всегда успешно. На
завоеванной территории евреи присваивали производительные
силы, какие застали на месте, и почти ничего не сделали
для их развития. В частности, Палестина под
владычеством евреев не знала тех больших, ведущихся в
государственном масштабе оросительных работ, которым Маркс
■д Энгельс придавали большое значение, как «первейшей
обязанности» всех деспотий. Из трех отраслей~~управле-
ния, которые Маркс2 отмечает в Азии «с незапамятных
времен», здесь существовали преимущественно первые
две: «финансовое ведомство, или ведомство ограбления
на два класса—господ и рабов, эксплоататоров и эксплоатируемых»
(«Происхождение семьи, частной собственности и государства»,
стр. 140). Ленин считает «первой формой деления на классы»
деление на рабовладельцев и рабов: «вначале мы имеем общество
без классов — первоначальное патриархальное, первобытное
общество, в котором не было аристократов; затем....-—общество
рабовладельческое. Через это прошла вся современная цивилизованная
Европа — рабство было вполне господствующим две тысячи лет
тому назад. Через это прошло громадное большинство народов
остальных частей света... Рабовладельцы и рабы — первое
крупное -деление на классы». «Лишь когда появилась первая форма
деления общества на классы, когда появилось рабство...
(необходимо было, чтобы явилось государство. И оно явилось —
государство рабовладельческое» (т. XXIV, стр. 366—369. Лекция «О
государстве»). Наконец, т. Сталин в своем выступлении на I съезде
колхозников-ударников первой формой эксплоататорского строя
называет строй рабовладельческий.
'Энгельс — Происхождение семьи, частной собственности и
государства. Стр. 105.
2 «Британское владычество в Индии». Соч., т. IX, стр, 347. Ср.
Энг ель с —Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, стр, 182,
П* 163
коего собственного народа, военное, или ведомство по
. граблению других народов»; «ведомство публичных
работ» роли не играло. Еврейское государство было, таким
образом, неприкрытым аппаратом насилия, возникшим
первоначально на основе перерастания органов
родового строя в орган господства, «превращения слуги в
господина». Тем больше значения приобретало для
сохранения и оправдания классового господства эксплоататоров
закрепление власти над, завоеванной территорией и
покоренным и порабощенным местным населением. Рабство—
особенно при переходе в таких условиях завоевателей-
кочевников к оседлому земледелию — должно было
поэтому занять важнейшее место в общественном строе
евреев. Однако развитие рабства как прямой основы
хозяйства тормозилось слабостью торговли, подчинением ев-
реиских царств сильным воГТОТным соседям,
неравномерностью исторического развития, когда местами
сохранялась общинная собственность на землю и ряд институтов
родового строя.
2. РЕЛИГИЯ ЕВРЕЕВ В X—VI ВВ.
Разложение .первобытно-коммунистического общества и
родового строя у евреев, приведшее к возникновению
классового общества и образованию еврейских
государств, дало новое фантастическое отражение
общественного бытия в виде иудейской религии так наз.
царского периода. Перемена в религиозных верованиях
древних евреев выразилась прежде всего в том, что
религиозному отражению все в большей степени стали
подвергаться гнетущие общественные силы. Иудейская религия
все больше срастается с моральным учением,
выражающим интересы господствующего эксплоататорского
класса. Появляется богословие как система оправдания и
освящения социального неравенства и социальных зол.
Разрабатывается учение_о грехе и возд_аянии, о
провидении и божественном " пр6мь1слеТ"Боги, оттесняющие на
задний план прежних многочисленных духов,
приобретают двойственный характер, так как «фантастические
образы, в которых сначала отражались только
таинственные силы природы, теперь приобретают общественные
атрибуты». 1 По мере того, как в новых условиях роды
1 Энгель с —Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, стр. 322.
164
перемешиваются и узы кровного родства теряют свое
общественное значение, боги и духи также утрачивают
свою непосредственную кровную связь с родом и
становятся местными богами, родовые культы уступают
место культам богов, либо приуроченных к
определенному месту, либо наделенных особой функцией, не
ограниченной условиями времени и места. Наконец, слияние
отдельных племен в более или менее устойчивые
народности получает свое фантастическое религиозное
отражение в представлениях об общем национальном
боге.
Проследить во всех подробностях этот процесс
видоизменения иудейской религии при состоянии наших
источников невозможно. Но библейские данные и те
археологические материалы, какими в настоящее время
располагает наука, позволяют дать правильную картину
древней иудейской религии в период ее расцвета в IX —
VI вв., когда были окончательно средактированы
древнейшие библейские источники и когда появилась так наз.
пророческая литература.
Необходимо, конечно, учесть, что еврейская религия
этой эпохи, во-первых, сохранила многочисленные
пережитки более древних религиозных представлений; во-
вторых, религиозные верования евреев подверглись
сильному влиянию религий покоренных ханаанеян и
могущественных соседей Израиля—ассирийцев, вавилонян,
египтян, финикийцев, хеттов. Все эти народы гораздо
дальше ушли в своем развитии, чем евреи, которые заимст-
вовали_от них многое. Мы видели, что библейская
мифология содержит в себе ряд вариантов ассиро-вавилон-
ской„.и»,египетской, что «пророческая» литература",""
притчи и псал^ШЛШштали на себе несомненное влияние
Вавилонии и Египта. Из Вавилонии заимствованы
некоторые праздники (суббота, новый „год). Вавилонский и хетт*
, ский кодексы послужили образцом и источником для
; кодификации, еврейского обычного права и
законодательства. Земледельческую технику, новые ремесла,
календарь, письмо — все это евреи заимствовали в готовом
виде на местах своего поселения в Палестине.
Сменявшие друг друга на всем протяжении древней истории
евреев иноземные завоеватели приносили в маленькие
еврейские государства свои нравы и обычаи, свою
литературу, свои товары, своих чиновников и своих богов.
С другой стороны, евреи в качестве солдат, военноплен-
- 165
ных, рабов, купцов бывали и в чужих странах и даже
поселялись в них на постоянное жительство.
Ассирийский источник сообщает о продаже в 645 г. еврея Гошей
с 2 женами и 1"деть-
ми за 3 мины. На
ассирийской купчей 709 г. в
_^.^— г- - числе подписей имеются
- '' '•?/* • .: подписи Ахирама, На-
"'■ V,*'/*' . дабиагу, Пекаха, причем
^г-' .' t"l *.^1ч.- последний из этих обла-
j^ - '*^е*['**' дателей еврейского име-
. j3^ л*? V" . ;| ни занимает должность
&С&лЛ правителя города. На
.-*=?!:
*. *■
J другой купчей, 692 г., зна-
-V • '^"""* * * чится в числе свидетелей
■ **ч. £*r ViVTV*-1 • Zidqa (= СедекияI. Вы-
" - ■'' ~sfc'* "л^Р."U '" , ' ше мы Уже упомянули о
j ■• j. iijemr-i • ^-.-у^ - .; торговых улицах еврей-
". '*•* .vT*" "• . " ^ ' \ ских купцов в Дамаске.
•*?\ ~-*';--* .'". Д Было бы совершенно не-
■• {\л " Ч'',**"' * " , ■ \ постижимо, если бы едва
"-•' *.-*'V"*" • ' . .' ■ *^ вышедшие из стадии
f ,"■ ', .■:'*« '- ■ - •' 4? варварства евреи не под-
:.'?' .*■>«""• '""!#£ЭШмЙ пали под культурное вли-
"'"' h'1^^ '"-^ ' •' .'"^"^Мй яние своих цивилизован-
* &Сзе1 ^*" ' ных соседей: следует
удивляться не тому, что
археологические откры-
Рис 10 Надпись моабигского царя тия обнаружили ЗЭВИСИ-
Меши (ок. 850 г.). АОТВ № i2o мость библейской
литературы от
ассиро-вавилонской, а тому, что до этих открытий вопрос этот
серьезно не ставился и что и после них находятся «ученые»,
которые упрямо продолжают отстаивать самобытность и
оригинальность иудаизма.
а) ПОЛИТЕИЗМ1
Уже в эпоху родового строя религия евреев
представляла собою переход к многобожию. Разложение ро-
1 А. Н. Say се — Babylonian and assvrian life and customs. L. —
N.-Y., 1901, p. 79, 80, 124.
2 Специально этой теме посвящена цитированная выше работа
акад. Н. М. Никольского — no.iiTsisM i монотэ13м..,
166
/■'
i
iJ"*
a
дового строя привело к тому, что кулы природы л
стихий, а затем к богов-предков, принял новую форму,
получил новое содержание. Ослабление
естественно-родовых связей, возрастание гнетущей -силы общественных
отношений привели к тому, 'что духи Щ_бс^и_тодц_алисъ
от рода.. Яков
превратился в культового
героя, учредителя мест-
нош дультаЯгве в
Бетэле, *" Авраам — в
учредителя такого же
культа "в"Хевроне и
Сихеме, Исаак—в Беер-
Шебе. Если в боле^
древнюю эпоху даниты
учреждают племенной
культ и племенную
святыню (Суд. XVIIJ 19:
«разве лучше тебе
быть жрецом в доме
одного человека, чем
быть жрецом у
племени и рода в Израиле?»),
то Гидеон (Суд. VIII27)
учреждает местный,
внеродовой культ в
Офре. О местных богах
Дана и Беер-Шебы
говорит также Ам. VII114 2.
Не лишено
правдоподобия объяснение
библейского автора, что
Иероваам придал^офи-
циальный характер традиционным местным культам в
Бетэле и Дане, чтобы отвлечь иудеев от династии Давида
с ее новым храмом в Иерусалиме. Вероятно, постройка
города Самарии царем Омри (I Цар. XVI 24) также имела
1 «Жив бог твой, Дан; да процветает твой бог, Беер-Шеба».
В масоретском тексте во втором случае читается drk, что
переводят «путь», но, согласно общепринятой поправке Г. Гофмана,
здесь надо читать ddk в соответствии с Септуагинтой (ho theos
sou). Что dod означает божество, подтверждается найденной в
1868'г..надписью моабитского царя Меши (середина IX в. до хр. э.),
где между прочим царь сообщает, что он увез из Атарота алтарь
его бога (dodo).
Рис. 11. Женское божество из Таанахп,
ок. 800 г. АОТВ-№ 280
167
целью ослабить значение родовой знати, которая,
конечно, в новом городе, не связанном ни с какими
родовыми традициями, не могла опираться на свое влияние
внутри рода. Самария имела и свой местный культ,,
который Ам. VIII 14 называет 'aschmat Schomron, что
обычно переводится «грех Самарийский», хотя здесь,
очевидно, умышленное искажение имени божества
'AsGhima, известного раньше как божество гор. Хамат
(II Цар. XVII 30); в настоящее время, после открытия
элефантинских папирусов, известно, что 'Asohima
(Asciham) было еврейским божеством.
Рис. 12. Оттиск печати на глиняном полуцилиндре, най-
'денный в Гезере. На печати — ряд изображений', козел,
^бык, рыба, птица, скорпион, змея, лунный серп,
солнечный диск и др. Печатьотносят к XV—XIV в. АОТВ № 597
Но боги не только утратили связь с родом, они
оторвались и от природы; они стали над нею и приобрели
общественные атрибуты. Бог —покровитель земледелия в
отличие от духа, обитающего в отдельном растении или
в поле, не только вызывает созревание данного растения,
содействует урожаю с данного участка, он — податель
урожая вообще и его благоволение надо заслужить
молитвами, жертвами, выделением десятины в пользу
жрецов, выполнением всех заповедей, которые направлены к
оправданию и освящению эксплоататорского строя
классового общества. Боги приобретают специфические
функции, выполнение которых в пользу людей уже не
зависит от родства с ними. Эти боги имели у евреев, как
и ханаанеян и финикиян, общее название ваалов, и культ
168
их занимал в религии евреев царского периода первое
место, как об этом свидетельствует библия на каждом
шагу.
Каковы были функции отдельных ваалов, об этом
библия не сохранила нам данных; ведь впоследствии
функции всех богов были перенесены на Ягве, и
редакторы библии строго проводят эту тенденцию.
Сохранилось лишь указание, что Баал-зевув был
богом-целителем. (II Цар. I 2—ЗI, а Баал-берит — хранителем клятв,
вроде греческого Zeus tiorkios (Суд. VIII 33, IX 4).
Библейские авторы и современные богословы считают
культ ваалов временным помрачением, «отпадением» от
религии Ягве. Факты, однако, говорят о другом.
Во-первых, как мы уже указывали, согласно свидетельству
библии, культ ваалов не прекращался в течение веков и
носил повсеместный характер, так что здесь не может быть
речи о случайном и временном явлении. Во-вторых,
несмотря на то, что библейские авторы либо устраняли
теофорные имена с ba".ail, либо искажали их, заменяя
слово ba"ail словом iboscfoet (срам), как в имени сына Саула
Isctobosciheit (II Сам. XXI 8) и сына Ионатана (И Сам. IV 4)
MepMbosohet, однако в библии теофорные имена с ba"al
сохранились: 'Esch!ba"al, сын Саула (I Хр. VIII 33, IX 39);
Ba"a;l-cihanan (параллельно с El-chanan) I Хр. XXVII 28;
Ieru-iba"al, Суд. VII 1 и др.; Be"eliiadla", сын Давида, I Хр.
XIV 7, который в параллельном тексте II Сам. V 16
назван El-jada", наконец, встречается даже синкретическое
имя Ba"al-]aih —I Хр. XII 6.
Но если в библии такие имена редки, то во внебиблей-
ских источниках .они встречаются очень часто. В 1924 г.
опубликованы найденные при раскопках 1908—10 гг. в
Самарии 65 остраков (черепков), представляющих собою
акты приёмки натуральной подати. Текст каждого ост-
рака гласит примерно так: «В... году (подразумевается
«царствования» —- повидимому, Ахава). Дело NN. (имя
заведывающего поступлением подати) из NN (название
города). Один кувшин старого вина... чистого масла сдан
NN (имя сборщика)». По археологическим данным,
находки относятся к середине IX в., что подтвердилось
найденным обломком вазы с именем фараона Осоркона II
1 В текстах Рас-Шамра встречается хтоиическое божество
плодородия Zbl-b"l, соответствующее iBeelzebul. Это открытие ставит
вопрос о пересмотре всех прежних толкований имени Вельзевул.
См. ZAW 1933, S. 81.
16
(874—853). Таким образом, самаринские остракй относятся
к периоду расцвета Израильского царства. И вот в числе
упоминаемых здесь собственных имен встречаются Abi-
ba"al, Ba"aiizamaT, Meriiba"al, Ba"aila, Ba"aizakar, Ba"al-
meonii*.
В библии встречается также много географических
названий, сложных с Jba"al: Ва"а<йпеоп, Ba"ai-dhamon и
Рис. 13. Терракотовая фигура богини („Астарты") из Бет-Шемеша
(XIV в.). Слева—модель трона. АОТВ № 290
т. п.2. При этом нельзя думать, что мы здесь имеем дело
с унаследованными от ханаанеян именами, так как среди
них встречаются несомненно еврейские имена Ba"ale-Iehu-
da (II Сам. VI 2), Ba"al-ta,mar (Суд. XX 33), Ba"al-gad
(Иис. Нав. XI 17) и др.
Кроме ваалов, о которых библия упоминает без
индивидуального имени и без обозначения их функций
(исключение — Ba">al-Ziebub, Ba"al-pe"or и Ba"al-berith с
параллельным 'El-berith — Суд. IX 46), мы имеем сведения и
1 См. ZAW, N. F. 2 A925), S. 148—149; R. D us s a u d — Samarie
аи temps d'Ahab. «Syria». VI A925), p. 314.
2 Cesenius-Buhl — Handw., s. v. Ba"al, I. 6.
170
о других древнееврейских богах *. Из них отметим прем-
де всего богиню Анат, пользовавшуюся почитанием и у
других семитических народов. Из библии имя этой
богини тщательно вытравлено; оно сохранилось лишь в виде
собственного имени «судьи» Schamgar ben " Anat (Суд.
Ш 31, V бJ, названия жреческого города "Anatot (Иис.
Нав. XXI 18 и др.) и
мужского имени "Anatot (I Хр.
VII 8, Hex. X 20). Но
в арамейских папирусах
из Элефантины V в. до
хр. э. члены еврейской
колонии в египетской Эле-
фантине,
поддерживавшие постоянные связи с
иерусалимскими
жрецами, клянутся именем
богини " Anatjahu. В
денежном отчете о сборе на
содержание культа имеется
такая запись:
«Серебро,
находившееся в этот день в руках
Иедоньи бар-Гемария в
месяце Фаменот:
серебра 31 кереш 8 сиклей,
в том числе для Ягу 12
кереш 6 сиклей, для 'schm-
oetel 7, для "Anatbetel 12».
Таким образом, не
остается сомнений, что
Анат была официальным
еврейским божеством .
Имя Анат-ягу и название жреческого города Анатот
под Иерусалимом дают право полагать, что Анат
считалась женой Ягве 4.
1 Н. М. Н i к о л ь с к i — Пол1тэ13м i монотэ!зм У яурэйскай
рэл1гп, Минск, 1931 г., стр. 25—42.
2 В имени Шамгар, вероятно, мы имеем также имя божества,
которое встречается в элефантинских папирусах в виде Sm-bethel.
3 См. В о л к о в — Арамейские документы иудейской колонии
на Элефантине. М-, 1915, стр. 10, 54; Ed. Meve r—Der Papyrusfund
von Elephantine. Lpz., 1912, S. 57.
4 В текстах Рас-Шамра Анат появляется в паре с Алейном,
соответствующим библейскому Эльон. Но Эль-Эльон был доизра-
Рис. 14. Кадеш (наверху в центре),
Решеф (наверху справа) и Анат
(внизу слева). Барельеф. АОТВ № 270
171
Другое божество, существование которого вызвало
много споров, •— Бетэль. Обычно это имя переводится
«дом божий», когда оно обозначает название города
(ныне развалины Betin). Но в некоторых случаях Бетэль,
несомненно, означает имя бога. Так, Быт. XXXI 13 мы
читаем: «я-1-бог Бетэль»; толкование «я — бог (города)
Бетэля» неприемлемо, так как в еврейском тексте сказано
hael Bet'el, с определенным членом, что исключает
понимание 'el как status constructus. В кн. Иер. XLVI1I 13
сказано: «и осрамится Моаб за Кемоша, как дом Израилев
посрамлен был за Бетэля, надежду свою»; здесь,
совершенно очевидно, Бетэль — параллель к моабитскому богу
Кемошу. Но если библейские свидетельства, быть может,
недостаточны, то мы имеем бесспорные данные внебиблей-
ские. Филон Библосский сообщает, что согласно
финикийской мифологии Уран (небо) и Гея (земля) породили
четырех богов — Эл (Кронос), Бэтил (Baitylos), Дагон и
Атлант *. В клинописных памятниках VII—VI вв. встречаются
довольно часто теофорные имена, где имя божества —
Бетэль (Baiti-ili, Bati-il, Baiati-ili). В тексте договора Ас-
саргадона с Ваалом Тирским призывается в свидетели Ва-
iti-ilu2, а ниппурская надпись, где перед собственным
именем Bitili-nuri поставлен знак Ли (бог), который
непременно пишут перед именем божества, доказывает с полной
несомненностью, что Бетэль и у ассирийцев был
божеством 3. Наконец, теофорное имя Бетэль-шаресер
упоминается в библии (Зах. VII 2).
Окончательное подтверждение существования
еврейского божества Бетэль дали опять-таки элефантинские
папирусы. Здесь мы не только встречаем теофорные
имена Бетэль-надан, Бетэль-натан, Бетэль-нури и др., но здесь
и прямо названы боги Херембетэль, Анатбетэль и Ашим-
бетэль; а что бетэль означает в этих случаях имя
отдельного божества, доказывается тем, что имя "Anat-betel
чередуется с "Anat-jahu, и очевидно, что имя Beth'el
аналогично имени Иагу, т. е. Ягве. Имя Ашимбетэль встре-
ильским богом Иерусалима (Быт. XIV 18), который в израильскую
эпоху соединился с Ягве; а вместе с тем Ягве, очевидно,
унаследовал и богиню Анат в качестве жены. См. Virolleaud — La
deesse Anat. Poeme de Rac Shamra, «Syria» 1936, IV; H. Нгкольсю,
Полйтэ13м... стр. 36—38.
1 M ii 11 e г — Fragm. Hist. Graec. P. 567, 14.
2 «Archiv fur Orientforschung», VIII A932); S. 33.
3 A. J i r k u — Neues keilinschriftMche Material zum A. T. ZAW
39 A921), S. 158.
172
чается также в греческой надписи, открытой в 1892 г. в
Сирии; здесь в числе «отечественных богов» названы
Seiirriiios и Symbetylos 1.
Бог Бетэль изображался в виде камня, часто даже
необработанного, как показывают поздние изображения
«бэтилов» на греческих монетах.
Рис. 15. Слева—печать „Элишамы, сына Гедалии";
между двумя пальмами на троне мужская фигура
(ср. пс. XXIX 10). VIII—VI вв. Иерусалим. АОТВ
№ 598. Справа—печать „Асафа", сер. VIII в., с
египетским рисунком. АОТВ № 599
В кн. Быт. упоминаются также наименования Эль-Шад-
дай и Эль-Эльон. Ягвистическая редакция пыталась
превратить эти имена в эпитеты Ягве, и за ней послушно
идет большинство библеистое и даже Гельшер. Однако
возможно, что это — имена самостоятельных богов. Эль-
Эльон («бог всевышний», по толкованию богословов)
обнаруживает родство с финикийским растительным богом
Элиуном, или, по текстам Рас-Шамра, Алейном, а Эль-
Шаддай — с другим растительным финикийским богом
Шадидом или Садидом, от sade — поле. Эти божества
могли быть усвоены евреями от ханаанеян или
финикиян 2.
1 См. О. Eissfeldt—Der Gott Bethel, AR, XXVIII A930), S.
1—30.
2 Cp. H. M. H i к о л ь с к i — Политэ!зм i монотэ1зм... стр.
30—31, 36—37.
173
Кроме богов собственного пантеона, древние евр|
царского периода почитали также иноземных богов, при'
том не только Таммуза, Астарту/ Молоха, «Царицу небес-;
ную» и других великих
восточных богов, но и таких
незначительных, как Сиккут и
Кавун (Ам. V 26)'. По
распространенному на Востоке
воззрению, бог побежденного
народа разделяет судьбу этого
народа — он покоряется и
уступает первенство богу
победителя. В частности, моабитский
царь Меша в своей надписи
сообщает, что он вывез из
взятого им еврейского города Ата-
рот алтарь местного бога. В свою
очередь Давид увозит богов взя-
Рис. 16." Сфинкс с таблетки ™го им филистимского города
из слоновой кости, Самария, Баалперусим (II Сам. V 20). При
По Watzinger, Denkmaler Pale- таких условиях понятно, что за-
stmasl. воеватели устанавливали в
еврейских вассальных
государствах культы своих богов; евреи принимали это как должное
тем более, что существенной разницы в культе от
перемены богов не замечали.
б) ЯГВЕ—ВЕРХОВНЫЙ БОГ ЕВРЕЕВ
Главное место в еврейском .пантеоне занимал Ягве.
Это — древний иудейский бог, упоминаемый уже в
древнейшем библейском тексте Суд. V («Песнь Деборы»). В
библии это имя изображается четырьмя согласными Jhwh.
Так как произнесение имени бога, по весьма
распространенному у верующих «представлению, вызывает магическое
действие и может стать опасным, то имя Jhwh в послеп-
ленную эпоху стали произносить Adonai («господи»), а
затем масореты вставили в имя Jhwh гласные слова adonai
или Elohim, поэтому в масоретском тексте имя Jhwh имеет
огласовку Iehowaih или, реже, Iehowiih. В произношении же
1 Их ассирийские начертания соответственно Sakktit и Ka-ai-
va-nu. Eb. Schrader, КАТ 2, S. 442.
174
верующие до сих пор читают «адонай». Лишь с XIV в.
начинает появляться произношение ч Иегова — конечно,
лишь в светской нееврейской литературе. И только в
XIX в. было установлено правильное чтение Iatoweh.
Правильность этого чтения подтверждается, во-первых,
транскрипцией имени Jhwh у греческих писателей Феодо-
рита (Iaibe, Iao), Оригена (Iao), Климента Алекс. (Iaoue,
Iauai) и др. Во-вторых, lahweh'—единственно возможная
грамматическая форма, из которой к тому же можно
Рис. 17. Ручка кувшина из"!
Иерихона с именем Jhw, по
Diringer'y.
Рис. 18. Ручка
кувшина из Иерихона
с именем Jhw, по
Diringer'y.
вывести существующие сокращенные формы Jabu и Jan
(в конце составного собственного имени) и Jeho или Jo
(в начале теофорного имени). Мнение некоторых библеи-
стов (в частности, "Фр. Делича), что основное имя — Ягу
или Яго, а Ягве (Jhwh) — расширенное Jhw, основывается
на том, что в элефантинских папирусах встречается
начертание Jhw и как самостоятельное слово, не только как
составная часть теофорного имени; в таком же виде оно
попадается и на ручках кувшинов V—IV вв., найденных
в Иерихоне и в Иерусалиме. С другой стороны, однако,
мы имеем в элефантинских папирусах и начертание ttiih,
что свидетельствует о сокращении имени Jhwh, а не о
расширении Jhw; кроме того, в кревнейшпй надписи
Мети (IX в.) имя Ягве изображено Jhwh. Наконец, если из
175
Jhwih можно грамматически вывести усеченные формы
J'hw, то обратное невозможно. Поэтому правильным надо
считать чтение «Ягве» (Ialxweh)*.
Что касается значения этого имени, вопрос этот до сих
пор остается открытым. То объяснение, которое дает
библейский автор (Исх. III 14) — «я есть, кто я есть»,
имеет не большую цену, чем все библейские разъяснения
всякого рода терминов, не поднимающиеся выше так наз.
«народной этимологии». Объяснение «я есть, кто я
есть» в лучшем случае означает уклонение от ответа
путем тавтологии, так же как «и ходили куда ходили»
(I Сам. XXIII 13). Попытки библеистов объяснить имя Ягве,
исходя из корня ihwih или hjh, не могут дать
удовлетворительного результата, так как нелепо ожидать, чтоб имя
этого древнего божества содержало смысл,
удовлетворяющий современного богослова; а именно такого смысла
добиваются богословы и филологи. Во всяком случае
установить смысл слова.,«Ягве» на. основе еврейского
языка невозможно, так как Ягве вряд ли был с самого начала
исключительно еврейским богом. Клинописные памятники
приводят нееврейские имена сложные с Iau, что
соответствует еврейскому Jihwh; это доказывается транскрипцией
еврейского' имени Iehoachaz через Iau-hazi. Царек гор. Ха-
мат именуется в надписи VIII в. Iau-lhidi, причем перед
этим именем имеется детерминатив dihi (богJ.
Мифологическое предание о том, что Ягве впервые
открылся Моисею в области мадианитоз (Исх. Ш) и что
мадианитский жрец Иофор был почитателем Ягве и
наставлял Моисея (Исх. XVIII), также является, может быть,
воспоминанием о культе Ягве и у нееврейских племен.
Об этом же свидетельствуют минейские надписи, по
которым можно установить, что левиты, жрецы Ягве, — ми-
нейского происхождения.
Главным еврейским богом Ягве стал в силу ряда
условий, о которых речь будет ниже, лишь тогда, когда после
разгрома ассирийцами северного царства в 722 г.
претензии верховного бога Иудеи на звание главного бога
еврейского народа получили для себя реальную почву.
Единственным же национальным богом Ягве стал
позднее, уже в диаспоре.
1 «G es en i us-Buhl — к слову Ihwh; M. Noth — Isr. Personen-
namen, S. 105 ff.
2 Cm. T. R. Driver — The original form of the name of Jahweh,
ZAW, NE V A928), p. 7 sq.
176
В древнейшее время культовой центр Ягве
представляли себе где-то на неведомом Синае или, по другой
версии, на Хориве. Там он живет; чтоб оказать военную
помощь евреям, он специально «выходит от Сеира» и «идет
с поля Едомского» (Суд. V 4). «Ягве от Синая пришел»,
пишет автор «Благословения Моисея» (Второз. XXXIII 2).
С другой стороны, в мифе об Илье-пророке, когда Илье
понадобилось иметь беседу с Ягве, он идет к нему сорок
дней и сорок ночей на гору Хорив (I Цар. XIX 8—9).
Еще и в позднейшее время прочно держалось
представление, что Ягве имеет силу только на территории
Палестины и в отдельных культовых центрах. «Пророк» Иона
бежит от Ягве в Фарсис (Иона I 3). Авессалом, чтоб
послужить Ягве,
направляется в Хеброн (II Сам.
7—9). Давид,
вынужденный вследствие
преследований со стороны
Саула покинуть родную
страну, жалуется, что его
лишили участия в наследии
Ягве и заставляют
служить другим богам AСам.
XXVI19); очевидно —
служить Ягве вне Палестины
нельзя.Интересносообще- Рис_ 19_ БрОН30Вая фигурка тельца
ниеН Цар.\П7;,арамейский из Рас-Шамры.' „Syria", 1935, И.
военачальник Нааман,
исцеленный «пророком Елисеем», решил включить Ягве в
число своих богов; а чтоб иметь возможность у себя
дома поклоняться Ягве, он просит дать ему с собой
«земли, сколько снесут два лошака» — для поклонения
Ягве нужно хотя бы немного принадлежащей ему земли.
В библии еще сохранились следы представлений о Ягве
как о жестоком, буйном демоне пустыни: его нападение
на Моисея (Исх. IV 24 ел.), его роль «губителя» в мифе
об исходе (Исх. XI 23), его борьба с Яковом. Но обычно
он представляется /богом вулканическим либо грозовым,
проявляющимся в огне и буре; таков не только
поэтический образ Ягве в библейских текстах (напр., Суд. V 4,
I Цар. XIX 9—13, Ис. XXX 27—31), но и в мифологии и
богословии. В виде огня Ягве является Моисею (Исх. III 2),
дым и пламя, гром и молния сопровождают
законодательство на Синае, в виде огня ночью и дыма днем Ягве схо-
12- 8
177
дит на «скинию» (Чис. IX 15 ел.), а во Второз. IV 24,
IX 3 Ягве прямо называется «огонь пожирающий».
В процессе исторического развития культ Ягве фанта-'.
стически отражает изменение общественных отношений.',
Из духа или демона пустыни Ягве превращается в бога*
колена Иуды, затем бога страны Израиля, из бога
природы и стихий он стано-
"~~ '* ~~ ' "■"■ ' вится распорядителем
судеб «избранного» им на-
."- - .. " рода; из слепой силы,
веления которой можнер
узнать лишь путем raj
дания, помощи которой
можно добиться лишь
путем магических действий,
Ягве становится судьей,
то грозным, то
милостивым, чье благоволение
достигается
покорностью, жертвами и
молитвами. Наконец Ягве
отбрасывает свой
звериный образ и принимает
образ человеческий.
В эпоху теократии
после вавилонского
плена евреи действительно
не. знали изображений
богов, но в эпоху царств
положение было иное.
«Десятисловие»
запрещает изготовление
литых изображений Ягве,
но отнюдь не запрещает
иных изображений.
Новелла Суд. XVII—XVIII
показывает, что культовая практика знала и литые идолы
Ягве: Миха-иегу—судя по имени, почитатель
Ягве'—посвящает «тысячу сто серебра» Ягве и в согласии с
матерью своей, тоже поклонницей Ягве, заказывает у
плавильщика идол своего бога; его вначале обслуживает сын
владельца, а затем приглашенный на службу бродячий
левит, профессиональный жрец. Когда святилище Миха-
иегу перешло к данитам, к нему был приставлен Иего-
Рис. 20. Стела из Тахпанхеса с
изображением семитического бога, стоящего
на льве (Ягве?). Персидская эпоха. Haas,
Bilderatlas
т
наган, потомок Моисея. Таким образом, автор Суд. XVII—
XVIII считает нормальным существование святилища Ягве
с, литым изображением его. Впоследствии масореты "нашл*-
неудобным", что жрецом при «идоле» состоит потомок
Моисея, и они в слове Msclhh (Моисей) вставили после
буквы «М», вернее над нею, маленькую букву «п», и
получилось MnscMi, что можно читать «Менаше» (Манассия).
В таком виде, т. е. с маленьким «н» над строкой, это
слово до нашего времени дается во всех еврейских
изданиях библии.
Рис. 21. Алтарь с рогами. Барельеф эллинистическо-римской эпохщ
'ЮТВ № 459
Каково же было изображение Ягве? По всем данным,
Ягве изображался в_виде быка. Древнейшим его
изображением был, вероятно, лев. О связи Ягве со львом можно
заключить прежде всего из того, что Иуда, чьим богом
был Ягве, отожествляется, как мы видели, со лывом.
Далее, лев фигурирует в описании орнамента «Соломонова
храма» (I Цар. VII 29, 36). Керубы, эмблемы Ягве,
«сидящего на керубах» (I Сам. IV 4 и др.), были изображены
на фризе храма с лицом человека и льва (Иез. XLI 19);
это подтверждается археологическими данными.
Собственное имя 'Ari-el (лев-бог) встречается у Езр. VIII 16.
Слово 'ar(i)el в раз^шчных вариантах встречается в не
поддающихся ясному толкованию текстах II Сам. XXIII 20,
I Хр. XI 22, Ис. XXIX 1, XXXIII 7 в связи с культом,
однако Иез. XLIII 15—16 применяет это слово
недвусмысленно в' значении «жертвенник». В том же смысле оно, пови-
12*
179
димому, употреблено в надписи Мещи, где моавигский
царь похваляется, что вывез из израильского города Ата-
рот 'ar'el tck>dlh'—жертвенник бога. Повидимому, связь
Ягве со львом, восходящая еще к тотемистическим
представлениям, с течением времени стерлась и была
вытеснена другим животным образом-—быка. На почве
Палестины первенствующая роль принадлежала богу плодородия,
почитаемому на севере под видом быка. Выдвижение Ягве
на место главного бога могло привести к тому, что на
него были перенесены не только функции и мифы, но и
образы других богов, что вызвало сопротивление со
стороны «пророков». Жреческие редакторы библии
представляют поклонение быку или, как они его презрительно
■«-..
Рис. 22. Бронзовые змеи из Гезера, 1100—900 г. АОТВ
№ 398
называют, «тельцу» ("si. эгел) величайшим грехом,
вызывавшим гнев и ярость Ягве. У нас нет данных для того,
чтоб проследить возникновение образа Ягве-быка. Однако
для беспристрастного читателя ясно, что в Исх. XXXII мы
имеем искаженную жрецами традицию о «тельце» как
изображении Ягве. Во всяком случае Иербвоам,
установивший в Бетэле и Дане золотых тельцов (I Цар. XII 28),
был, повидимому, ревностным поклонником Ягве: ведь,
согласно традиции, он был выдвинут в кандидаты на
царство против «отступника» Соломона «пророком Ягве».
Иеровоам II дает своему сыну теофорное Ихмя 'Abijah. Жрец
святилища в Бетэле при Иеровоаме II носит имя 'Aimaez-
jalh (Am. VII 10 ел.). Мы имеем поэтому право считать, что
установленные Иеровоамом тельцы были «законными»
.изображениями Ягве. Если Чис. XXIII 22, XXIV 8
приписывает Ягве «рога единорога» (в русском
переводе — «сила»), то это отнюдь не метафора. Рога были
неотъемлемой принадлежностью алтаря Ягве; они окропля-
180
лись жертвенной кровью; спасающийся от преследования
беглец считает себя в безопасности, ухватившись за рога
алтаря (I Цар. I 50, II 28). В колеснице Иезекииля (Иез.
I Ю) фигурируют лев и бык. В сообщении Исх. XXXIV 29,
35, что лицо Моисея qaran, слово qaran переводится
обычно без всякого основания «сияло». Но qrn означает
только рог, а глагол qrn может означать здесь только,
что лицо Моисея было^кра11^ж^)огами, как это
наблюдается у шаманов пастушеских народов и в настоящее
время. Аквила и
латинская вульгата так и пе- " З^ГЗа^ТХГ ЙОГ»!?
реводят слово qaran. Ша- ,ч '• л ->V^'• Сv .>
ман при
священнодействии воплощает своего
бога-быка и наряжается
в его маску. В орнаменте
и композиции священной
утвари в Соломоновом
храме фигурируют быки
(I Цар. VI/ 25, 29, 44).
Бык изображен на
найденной при раскопках
печати некоего Шемайи'.
Наконец эпитет «бык» —
'abbir — применяется к
Ягве в Быт. XLIX 24,
где совершенно ясно речь
идет о Ягве, а также у
Ис. I 24, XLIX 26, X 16, Пс. СХХХП 2, 5, причем и здесь
масореты внесли легкое изменение в орфографию слова
('aibLr), чтоб затемнить точный смысл слова.
Наконец, мы не можем точно установить, что за
изображение Ягве скрывается под загадочным словом эфод,
которое вообще означает часть жреческой одежды (пояс—
обычно льняной с карманами для хранения жребиев для
гадания), но в некоторых текстах имеет иное значение.
Согласно Суд. VIII 26 ел., Гидеон, собрав с народа 1 700 сиклей
золота, изготовил из него эфод, который он поставил в
Офре; ясно, что здесь дело идет о золотой статуе. В Суд.
XVII 5 эфод означает предмет культа, рядом с терафим,
в I Сам. XXI 10 меч Голиафа хранится «позади эфодз»,, а
XVIII 18 прямо говорится о peed ha'eplhod (статуя эфода).
Рис. 23. Керубы Соломонова храма
Реконструкция Н. М. Никольского.
См. рис. 33, № 3.
181
Эти и подобные им тексты говорят о том, что здесь
редакторы библии -словом «эфод» заменили неудобное для
них слово, указывавшее на характер изображения Ягве.
Из попыток расшифровать, что скрывается здесь под
«эфодом», отметим мнение К. Будде, что в этих случаях
надо читать «'aibibir» (быкI.
Что касается изображений прочих богов, библия не
сохранила нам о них сведений, за исключением сообщения
II Цар. XVIII 4 о «медном
змие, который сотворил
Моисей» и которому
воздавали культ в
иерусалимском храме под
именем «Нехуштан» 2. Но об
изображениях еврейских
богов можно составить
себе представление на
основе статуэток
женских божеств,
обнаруженных при раскопках в
Гезере, Таанахе, Лахише.
Иерихоне, Бет1Шемеше.
Вот как описывает Мака-
листер статуэтки,
найденные в Гезере:
...«В земле внутри и
вокруг высоты в Гезере
найдено большое
количество фаллических
эмблем». Очень часто «здесь
"~" находят терракотовые
г, „. п , - плитки, на одной стороне
Рис. 24. Сосуд с изображением змеи ' ^ .. v ,
из святилища в Бет-Шемеш. Эпоха которых даны барельеф-
Аменхотепов. Watzinger, Denkraaler ные изображения
восточной богини-матери; эти
изображения неизменно выполнены безобразно и
грубо». «Отталкивающий характер (статуэтки) сам-по-себе
должен был привести к деградации представления о
божестве. Богиня всегда обнажена, если не считать
парика египетского типа и — иногда — ожерелья и
я
1 К. Budde— Ephod und Lade, ZAW 39 A922), S. 1—39.
2 Медные змейки были найдены в израильских слоях Гезера,
см. рис. 22.
182
браслетов; видно, что нагота здесь имеет специальное
назначение дать возможность подчеркнуть те части тела,
которые связаны с функциями материнства» *. Конечно, с
точки зрения Макалистера, признающего первоначальное
божественное откровение, эти статуэтки означают
деградацию. В действительности, как показывают находки,
стиль и техника изображений еврейских богинь совершен-
Рис. 25. Женское божество из Ге-
зера, 1400—1000 г. Парик и
корона обнаруживают египетское
члияние. АОТВ № 381
Рис. 26. Женское
божество из Лахиша (ок. 1200 г.)
с звериной головой.
АОТВ № 289.
ствовались. Статуэтки хеттского стиля, найденные в Таа-
нахе, сохраняя сексуальные мотивы, сделаны с
художественной стороны гораздо лучше гезерских2.
Культ Ягве ничем не отличался от культа других бо-
1 Macalister — A century of excavation in Palestine. P.
278—279.
2 Наиболее типичный образец найден в 19 экземплярах. Ср.
рис. 28.
183
гов; поэтому данные библейской традиции о культе Ягве
имеют для нас более широкий характер. Первоначально
сношения верующих с Ягве, как и с другими богами,
сводились преимущественно к «вопрошанию», к испрашиеа-
нию оракула. Жрецы Ягве носили особое одеяние (пояс)
с карманами — эфод, где хранились жребии («урим и тум-
мим»). «Носитель эфода»—синоним жреца (I Сам. XXII
18). Согласно Жреческому кодексу, урим и туммим
помещались в нагруднике (chosdien) первосвященника по
аналогии с вавилонскими «табличками судеб»,.о которых
известно по вавилонскому мифу о сотворении мира.
Типичный образец получения оракула Ягве дает I Сам. XXIII
9—12: «Давид, узнав, что Саул замышляет против него та-
кое зло, сказал Авиатару священнику: принеси эфод. За
тем сказал Давиду: Ягве, бог Израиля! Слышал раб твой,
что Саул собирается притти в Кеилу, чтоб истребить го
род ради меня. Предадут ли меня жители Кеилы в рукг
его? Придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Ягве
бог Израиля! скажи как рабу твоему. И сказал Ягве:
придет; Еще спросил Давид: предадут ли жители Кеилы меня
и людей моих в руки Саула? И сказал Ягве: предадут»,
Очевидно, вопросы задавались так, чтоб можно было
получить по жребию ответ «да» или «нет». По всей
вероятности, от этого метания жребия (jrh) и произошло слово
«тора» (trh), которое впоследствии получило новое
значение— «учение», «наставление», «закон»1.
Испрашивание оракулов составляло сначала основную
функцию жрецов, Ягве 2. Жрец является также хранителем
статуи Ягве. Жертвоприношение на первых порах еще
не составляло привилегии жрецов; еще продолжали
действовать традиции родового строя, где ближайшим к богу
лицом является его родич — глава рода. Поэтому Саул
(I Сам. XIII 9—10), Давид (II Сам. VI 13, 18), Соломон
(I Цар. VIII 63) сами приносят жертвы и выполняют
жреческие функции. Лишь в эпоху теократии жрецы усмотрели
в этом отступление от закона. В ходу были в древнейшее
время человеческие жертвоприношения; таково
принесение в жертву Самуилом Агага «перед лицом Ягве» (I Сам.
XV 33), убийство сыновей Саула (II Сам. XXI 9). О
человеческих жертвоприношениях сообщают II Цар. XVI 3,
1 См. Вельгаузен—Введение в историю Израиля. Стр. 350—
351; A. Lods — Israel, p. 344.
2 Ср. в 1 Цар. XVIII 19—26 пророков Ваала и пророков Ашеры,
которые были одновременно и жрецами.
184
XXI 6, XXIII 10. Очень интересен эпизод II Цар. III 27; мо-
абитекий царь, теснимый войсками Израиля, решается на
последнее средство: он приносит в жертву своему богу
своего первенца, «и был гнев большой над израильтянами;
и они отступили от него и возвратились в свою землю».
Очевидно, автор этого текста убежден, что даже принесе-
Рис. 28. Женское божество
из Таанаха A000—800 г.).
Корона обнаруживает хеттское
влияние. АОТВ № 282
ние «я з ы ч н и к о м» в жертву своего сына «я з ы ч е-
с к о м у» богу неизбежно должно даровать ему победу.
Жертвоприношение первенца составляет одно из
основных требований религии Ягве. В древнейшем декалоге
Исх. XXXIV 19—20 предписывается: «Все, разверзающее
утробу,— мне... Разверзающее утробу из ослов заменяй
агнцем, а если не заменишь, то сокруши ему шею. Всех
первенцев из сынов твоих выкупай». В другом, более
позднем тексте Исх. XIII 2 мы читаем: «Освяти мне каждого
Рис. 27.
Вавилонская Иштар. АОТВ
№ 248
185
первенца, разверзающего всякие ложесна, между сынами
Израилевыми, от человека до скота: мои они» (ср. Чис.
III 12—13). Еще позже Жреческий кодекс (Чис. XVIII 15—
17) устанавливает уже как правило, что человеческий
первенец не приносится в жертву; жертва заменяется выкупом
в пользу жреца; выкупом заменяется и жертва первенца
«нечистого» животного. Обряд выкупа человеческого
первенца соблюдается верующими евреями до сих пор
(pidjon habben).
Переселившись с неведомого Синая или Хорива в
Палестину, Ягве долгое время остается прикрепленным лишь
к местам своего культа. Даже еще Второзаконию чуждо
представление о вездесущем Ягве, и авторы этого кодекса
считают невозможным культ Ягве вне Иерусалима, где
находится его святилище. В более древних текстах Ягве
тесно связан с «ковчегом» 1, с которым он иногда прямо
отожествляется (Чис. X 35—36, I Сам. IV 5—8 и др.). Но
окончательное установление монархических государств по
образцу восточных деспотий фантастически отражается
в Иудейском царстве в возвеличении былого племенного
божка, провозглашенного теперь верховным богом
Израиля. Ягве получает обитель в небесах; он уже не прямо
сносится со своими почитателями, а через ангела своего,
tnal'ak Iahweih. Наподобие земного царя Ягве — «бог
воинств», окруженный свитой из богов различного ранга.
«Я видел Ягве сидящим на престоле своем и все небесное
воинство стояло при нем, по правую и по левую руку от
него. И сказал Ягве: кто бы увлек Ахава, чтоб он пошел
и пал в Рамот-Гилеад? И один говорил так, другой
говорил иначе. И выступил дух и стал перед лицом Ягве и
1 В период царств ковчег, повидимому, уже утратил свое
значение основной святыни, поскольку Ягве принял черты
небесного бога, хотя исключительно еврейского, но уже не связанного
непосредственно с тем или иным конкретным фетишем. Что
представлял собою «ковчег», в точности неизвестно; описание его Исх.
XXXVII—■ позднейший вымысел. Гункель, Мейнгольд и Дибелиус
считают, что ковчег — трон, на котором восседал Ягве. Г. Грес-
сман (Die Lade ilahwes) полагает, что в ковчеге помещались
статуи Ягве в виде тельца и его жены Анат-ягу и что именно это
обстоятельство пытается скрыть автор I Цар. VIII 9 наивным
приемом: «нет ничего в ковчеге, лишь каменные скрижали». Эд, Мей-
ер полагает, что в ковчеге находились священные камни вроде
мусульманской каабы (Israeliten, 214; Papyrusfund v. Eleph., S. 47).
Гораздо более правдоподобно мнение И. (Бенцигера (Hebr. Archaol.),
что ковчег сам-по-себе был фетишем, сам содержал в себе numen
praesens. Того же мнения и Ад. Лодс (Israel p. 490).
186
сказал: я его увлеку. И сказал ему Ягве: чем?.» и т. д. 'Гак
рисует заседание богов под председательством Ягве
«пророк» Миха I Цар. XXII 19 ел. Подобную картину рисует
и кн. Иова I 6 ел.
На Ягве начинают переносить постепенно атрибуты
прочих богов. Он становится и подателем урожая, и'за-
Рис. 29. Женское божество из Ге-
зера. АОТВ № 291
Рис. 30. Женское божество из
Таанаха, обнаруживающее
египетское и хеттское влияние.
АОТВ № 287
щитником на войне, и наставником в ремесле (Исх. XXVI
30 ел.), и покровителем торговли. Прочие боги стали в
подчинение к нему и превратились в служителей его. В
богословии жрецов и пророков племенные божества
превращаются в патриархов, учредителей тех или иных
местных культов Ягве, заключают с ним «заветы». Солнечное
божество Самсон (о его солнечном характере
свидетельствует его имя Schmstih-on; sohmech — солнце) теряет свои
187
божественные черты и становится сказочным богатырем
«Козел-бог» Азаел в позднейших текстах становится с
подчиненное положение по отношению к Ягве, которому
теперь приносится очистительная жертва и который
перенял от Азаела функцию очищения от «грехов». Функции
Баал-Зебула как целителя переносятся также на Ягве (II
Цар. I 16). Древнее божество Илья ■—единственное
божество, миф о котором в значительной степени сохранился
в библии в своем первоначальном виде, — стал
«пророком» Ягве и ревнителем его культа. Такую же роль играет
в библии .дублер Ильи — Елисей. Наконец, местные
разновидности Ягве после падения Израильского царства в
722 г. постепенно упраздняются, и усиливается тенденция
к централизации культа его в Иерусалиме. Сообщение II
Цар. XXIII об уничтожении «высот» в разных городах
Иудеи,, о мобилизации всех провинциальных жрецов Ягве,
хотя и без права «восходить на жертвенник Ягве в
Иерусалиме», — отзвук постепенного превращения Ягве в
главного, а зател_единствелного' бога евреев. Процесс этот не
завершился до вавилонского плена. Элефантинские
папирусы V в. еще стоят прочно на точке зрения многобожия.
а самое существование храма в Элефантине говорит " о
том, что и в то время строгая централизация культа еще
не была проведена.
Те богословы и историки, которые продолжают
вопреки фактам отстаивать древность.„едрейского монотеизма,
ссылаются на книгу Второзакония, которую обычно oto.i
жествляют с «найденной» в иерусалимском храме при царе
Иосии «Книгой закона». (II Цар. XXII 8 ел.I. Однако пщ
кто не отрицает, что в нынешнем своем виде кн. Второ-.,
закония подверглась окончательной обработке в эпоху
изгнания в духе тогдашнего богословия; не подлежит
также сомнению, что и в тех частях Второзакония,
которые большинство относит к эпохе Иосии (точнее —к
621 г.), отражено не только религиозное
законодательство, но и богословская теория, часто существенным
образом расходившаяся с культовой практикой. Там, где речь
идет о политике, это положение становится совершенно
1 В. В. Струве, некритически восприняв эту точку зрения,
ссылается в своей датировке элефантинских папирусов между прочим
на то, что, мол, после Второзакония учреждение храма Ягве в
Элефантине было бы невозможно («Изв. Ак. наук СССР», 1925).
Мы знаем, однако, что храмы Ягве основывались вне Иерусалима
вплоть до II в.
188
ясным. Никто, напр., не примет всерьез гл. XVII 14 ел. о
правилах поведения царя и не станет делать отсюда
вывод, что цари были какие-то праведники, не
помышлявшие о конях и женах, о золоте и серебре и
проводившие свою жизнь над изучением торы (эта глава вообще
могла быть написана лишь в период изгнания, когда царя
не было). Но столь же неправильно было бы заключить
Рис. 31. Сосуд с "трупом младенца, Рис. 32. Погребение ребенка под
принесенного в жертву и погребен- стеной Мегиддо. АОТВ № 225.
ного в магических целях под
фундаментом стены крепости Мегиддо.
(Ср. Иисус Нав VI 26, I Цар.
XVI 34). АОТВ № 229
из Второзакония, что в VII в. действительно были
упразднены ашеры, высоты и т. д., что иерусалимский культ
Ягве действительно вытеснил не только культ всех
прочих богов, но даже провинциальные святилища самого
Ягве. Явное несоответствие между предписаниями
Второзакония и практикой VII—VI'вв. (это несоответствие
засвидетельствовано данными кн. Царей и пророков), а
также попадающиеся в книге некоторые намеки на
падение Иудейского царства побудили Гельшера отнести и
«ядро» Второзакония примерно к 500 г.1.
5 С. Holscher —KompositionundUrsprung des Deuteronomium,
189
в) РЕЛИГИЯ КАК ОРУДИЕ КЛАССОВОЙ ЭКСПЛОАТАЦИИ
Другим фантастическим отражением гнетущей силы
новых общественных отношений является
провозглашение Ягве национальным богом. Образование классового
государства не только для эксплоатации порабощенного
ханаанского населения и рабов, но и как средства
угнетения имущими классами своих бывших сородичей связано
с возникновением нового религиозного представления о
боге как покровителе не отдельных племен или отдель
ных городов, а всего народа в целом. В этом—cmhcj
проповеди иудейских жрецов и пророков, начиная с
середины VIII в. Классовые различия затушевываются перед
идеей национального единства всех- классов перед лицом
Ягве. Классовым противоречиям внутри нации жрецы и
пророки противопоставляют общенародную
легендарную историю, общенародные интересы перед лицом
внешнего врага, общенародного бога, перед которым
все равны, который" печется о всех своих сынах.
Занесенная из аравийских кочевий легенда об исходе из Египта
разрастается до размеров мирового события, сыгравшего
решающую роль в жизни всего народа. «Исход»
становится в центре культа; он служит в богослужении и
культе наиболее ярким проявлением мощи Ягве и залогом
спасения избранного им народа Израиля в будущем.
Наиболее густой концентрации этот националистическо-рели-
гиозный опиум достигает позднее в послепленную эпоху,
но уже древнейшие библейские тексты проникнуты этим
духом.
Тенденция к централизации культа, которая
завершилась лишь в послепленную эпоху, привела к консолидации
иерусалимского жречества. Оно превратилось в замкнутое
сословие, жившее паразитически за счет трудового насе-
ZAW 40 A922), S. 161. Ту же точку зрения он приводит в своей
Gesch. d. isr. u. jud. Religion. Взгляд Гельшера развил на основе,
главным образом, истопико-литературных данных Fr. Н о г s t —
Die Kultreform des Konigs Iosia, ZDMG, NF 7. №2, 1923, S 221.
Хотя теория Гельшера вызвала резкую реакцию со стороны
защитников выдвинутого еще де Ветте и упрочившегося среди биб-
леистов мнения, что Второзаконие опубликовано царем Иосией в
621 г., однако им также приходится считаться с аргументами
Гельшера и вносить коррективы в свою теорию. См. Н. Gressmann—
Iosia und das Deuteronoraium, ZAW, Г924, S. 313; W. Nowack-
Deuteronomium und Regum, «Karl Marti zum 70 Geburtstag». S. 221
ff.; Neutestamentliche Religion, AR, XXXI A934), S. 293.
J90
ления и оставившее в этом отношении далеко позади себя
паразитические жреческие коллегии других храмов.
Помимо жертв и десятины, иерусалимский храм, т. е.
фактически жрецы, получал и значительные денежные взносы —
«серебро, посвящаемое, которое приносят в дни Ягве,
серебро ходячее, серебро за каждую душу по оценке, все
серебро, сколько кому приходит на сердце принести в
дом господень» (II Цар. XII 5). Возле жертвенника стоял
ящик с отверстием для доброхотных даяний (И Цар.
XII 20).
Храм владел значительным количеством рабов,
богатой утварью и крупными денежными средствами. По
сообщению I Цар. XIV 25 ел., в царствование Ровоама фараон
Шешонк совершил поход на Иерусалим и захватил «все
сокровища дома Ягве». Но уже через 20 лет в храме снова
накопились серебро и золото, которым царь Аса купил
помощь арамейцев против израильского царя (I Цар. XV
18). Царь Иоас откупился от нашествия арамейцев опять-
таки золотом, «находившимся в сокровищнице дома Ягве»
(II Цар. XII 19). Ту же картину мы видим во II Цар.
XVI 8. Царь Хизкия для уплаты колоссальной
контрибуции ассирийскому царю Санхерибу — 300 талантов серебра
и 30 талантов золота — взял «все деньги, находившиеся в
доме Ягве и в сокровищнице царского дома» (II Цар. XVIII
14—15). И даже Навуходоносор при взятии Иерусалима
еще нашел в разоренной стране «сокровища дома Ягве»
(II Цар. XXIV 13).
Если учесть, что наряду с иерусалимским храмом
существовали и местные святилища и святыни, обслуживаемые
своими жрецами, можно представить себе,-до каких
чудовищных размеров доходила эксплоатация населения
жречеством. Неудивительно поэтому, что впоследствии
население Иудеи упорно противилось восстановлению
разрушенного Навуходоносором иерусалимского храма.
Классово-эксплоататорский характер государства
отражается и на отношении верующего к божеству. Все
больше места начинает занимать молитва и раболепное
преклонение. Обычно молящийся называет себя рабом бога,
на. милость.которого он всецело себя отдает.
Многочисленные старые табу получают новое, социальное
содержание. Правда, новое понятие ритуальной чистоты еще по
существу совпадает со старым представлением о
демонически опасном. Предписав перебить всех пленных мадиа-
нитов, кроме женщин, библейский автор продолжает (Чис.
№
1. Скарабей из камня с изображением льва. Таанах, конец II
тысячелетия. АОТВ № 580.
2. Печать VIII—VI вв. Надпись „Кемошиеги" (Кемош—моабитский
бог). АОТВ № 581.
3. Печать „Шемаиагу, сына Азариагу", ок. VIII в. На печати
изображение быка. АОТВ № 582.
4. Печать из Иерусалима. VIII—VI вв. Надпись „Хананиагу, сын
Азариагу". АОТВ № 583.
5. Печать-скарабей „Баалнатана*. VIII—VI вв. АОТВ № 584.
6. Печать „Нетаниагу, сына Обадиагу" с изображением двух
козлов. V111—VI вв. АОТВ № 585.
7. Печать „Иегоазара, сына Обадиагу" с изображением каменного
барана. АОТВ №586. ""
8. Печать „Хананиагу, сына Акбора". Иерусалим, VIII-VI вв. АОТВ
№ 587.
9. Печать „Шебаниагу". VIII—VI вв. На одной
стороне—полуобнаженная безбородая фигура с посохом, украшенным лунным
серпом. Рядом звезда. На другой стороне между крылатыми
солнечными дисками надпись: „Шебаниагу, сын Узиагу'. АОТВ № 588.
10. Печать „Иахмолиагу, сына Маасеиагу", с изображением
крылатого змея. VIII—VI вв. АОТВ № 589."
11. Печать „Иорама, сына Зимрииагу", с изображением змея и
символа жизни (крест с ручкой crux ansata) V1II-VI вв. АОТВ
№ 590.
12. Печать „Эльсигебб, дочери Элишамы" с изображением двух
животных. VIII—VI вв. АОТВ № 561.
13. Печать „Абииагу, раба Узиагу". VIII—VI вв. Над цсетком
лотоса—коленопреклоненный младенец Гор, увенчанный солнечным
диском и рогами. VIII—VI вв. АОТВ № 592.
14. Печать „Заккура, сына Гошей* с изображением грифа. VIII—
VI вв. АОТВ № 593.
15. Печать „Менахемет, жены Гадимелек". Между двумя
молящимися божество в крылатом солнечном диске. Иерусалим, V—
IV вв. АОТВ № 594.
16—17. Два оттиска печатей на глиняной таблетке. Печати
принадлежат Мардук риба и Абу-риба, заключившим сделку о
продаже имущества. На № 16 между двумя молящимися крылатый
диск и crux ansata. На № 17 стилизованное дерево с 7 ветвями.
-ШИШ
}.<«
ilnpim" in mi |
■i>. ■-.
, - <- • .ч -v- ''
::■&■*£&.
• -_.У
=Wj. '
Л'-
/ V'.
ft"'.:
Нвй&ш
Рис. 33. Еврейские печати и скарабеи
(Объяснения см. стр. 292)
13-8
XXXI 19—20): «И пробудьте вне стана семь дней; всякий,
убивший человека и прикоснувшийся к убитому,
очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и п л е н н ы е
в а щи; и все одежды, и все кожаные вещи, и все вещи
из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите».
Ясно, что здесь «нечистое» означает демонически
опасное, и потому очищению подлежат и пленные и вещи.
Когда ковчег Ягве, .захваченный было в плен
филистимлянами, возвращался в стан израильтян, жившие в поле
жители Бет-Шемеша посмотрели на ковчег и
«возрадовались, видя его». Но за то, что посмотрели на святыню,
Ягве «убил из них 70 500 человек» (I Сам. VI 13, 19). Узу,
схватившегося за ковчег, чтоб удержать его от падения,
Ягве немедленно сразил смертью (II Сам. VI 6—7). Здесь1
«святыня» означает еще демонически опасное. В этом
смысле «чистое» и «нечистое» совпадают. Одно и то же
слово «нидда» означает «нечистую» менетруирующук
женщину и очистительную воду, изготовленную из пеплй
сожженной для этой цели красной телицы. А самое изго1
товление этой воды чрезвычайно характерно для пред
ставления о ритуальной чистоте. В кн. Чис. XIX 9 мы чи>
таем: «и кто-нибудь чист ый пусть соберет пепел телиць
и положит вне стана на чистом месте, и будет он coxpaj
няться для общества сынов израилевых для воды очисти'
тельной». Но эта «чистая» вода оскверняет тех, кто к не?
прикасается: «21... и кропивший очистительной водо!
пусть вымоет свои одежды; и прикоснувшийся к очисти
тельной воде нечист будет до вечера». Жрец, заня
тый в этом обряде, «пусть вымоет одежды и омоет тел<
свое водою и потом войдет в стан, и нечист будет свя
щенник до вечера».
Но понятие ритуальной чистоты и нечистоты в бого
словии жрецов Ягве начинает переплетаться с понятием
О1 грехе. Библейский язык знает несколько слов для
обозначения греха — 'asclham, clhat'ath (chef), pescha", "awwon.
Первый из этих терминов ближе всего к магическому
представлению о грехе как приставшей к человеку «нечи-'
сти»; ашам —-не вина, а скорее несчастье. Перечень слу-:
чаев, когда считается, что человек подпал под ашам {§
должен принести соответствующую жертву (она тож
называется «ашам»), касается нечаянных проступко!
по неведению. Это же представление сохранилось и
слове ahat', dhat'atih, clhaita'ha. Глагол oht' означает не тол!
ко «грешить», но и «очищать», a mej chat'ath означае
1Е4
очистительную воду. Но слово pesciha" с этими древними
представлениями уже не связано; оно означает
«отступничество», «измену» и применяется в этом смысле для
обозначения политической измены; соответствующее
арабское слово означает-, «преступать границу». Наконец, «ав-
вон» — от корня "wih «уклоняться», «блуждать» ■ также
уже понятие нового порядка. «Грех лежит у дверей; он
стремится к тебе, но ты можешь господствовать над ним»
(Быт. IV 7) — такова новая проблема, которая ставится
перед верующим. Ему внушается мысль о постоянной
борьбе с подстерегающим его грехом. Греховность — вот
причина всех социальных зол. Эта мораль должна
оправдать и укрепить"власть эксплоататоров, разрядить
возмущение угнетенных классов. Позднее, уже ij
талмудическом и раввинском богословии, учение о грехе и
греховности заняло центральное место, но основы ^Го заложены
еще авторами библейских текстов.
Освящение классово-эксплоататорекого строя
выразилось также в обожествлении царской власти. Процесс этот
совершался в двух направлениях. Во-первых, царь
провозглашается лицом, близким к богу; царская власть объ-
являегся усгашвленн&й бого-м (Вгор&з. XVH ы ел.; I Сам.
VIII—XII). Правда, жреческая редакция библии эпохи: иерю-
кратии представляет дело так, что царь дан богом лишь
в виде уступки требованиям народа и что настоящая
угодная богу власть осуществляется не царем, а пророком. Но
вся библейская литература говорит о царе ка.к об
избраннике и «помазаннике Ягве». Автор I Сам. XXVI 9
вкладывает в уста Давиду, спасающемуся от преследований
Саула, следующие слова: «не губи его_ (Саула), иЗо кхолюжет
безнаказанно поднять руку на помазанника Ягве* (СР- *
Сам. XXIV 11). «Бойся, сын мой, Ягве и царя и не
общайся с мятежниками», поучают «Притчи Соломона» (XXIV
21). «Светлое лицо царя — жизнь, и благоволение его —
как облако с~вёсенним дождем» читаем мы ]3 Другом
месте (Притчи XVI 15). Царь_лриравнивается к богу (Ис.
VIII 20)/~перед ним так же простираются ниц как и
перед богом' (II Сам. XIV 4, I Цар. I 16/23).
Но особенно ярко тенденция к обожествлению царя
обнаруживается в псалмах, составленных в связи с
религиозной обрядностью «царских дней». Пс. XLy
представляет собою свадебную песнь в честь царя. Псалмы II, XXI,
LXXII, СХ представляют собою храмовые песнопения при
короновании царя. В этих религиозных гимнах царю
pais*
195
сточаются божественные эпитеты, его власть
изображается как власть, исходящая от Ягве. В пс. XVIII Ягве
пускает в ход все стихии природы, чтоб сообщить своему
избраннику исполинскую силу для победы над врагами
(ср. также пс. XX, CXLIX, CXXXII, CXLIV) *.
С другой стороны, Ягве приравнивается к царю. Эпитет
rrjjelek (царь) так прочно привился к Ягве2, что в теофор-
"ных именах имя Ягве заменяется словом melek; мы имеем:
"E'bedmeteik рядом с "Glbadjalhu, 'Abi-imcleik и 'Abi-ia, Gad-;
melek и Gadi-eil, Ma!lKi-sohu"a и Jeho-schu"a. В литургиче-'
ских текстах на все лады вариируется термин «царь»,
«царствовать» в применении к Ягве. Ряд псалмов имеют:
своим содержанием гимны в честь воцарения Ягве.
«Воцарился Ягве над народами, бог сел на свой святой трон»
(пс. XLVII 9). «Велик Ягве и достославен, страшен он
больше, чем все боги» (XCVI 4). «Ягве воцарился, да
торжествует земля, да веселятся (Многочисленные острова... Да
постыдятся все служащие идолам, похваляющиеся
истуканами, поклонитесь ему, все боги» (XCVII 1, 7). «Ягве
великий. 6oxjh Д а р ь над в с е ми бога м и» (XCV 3). Эти
и подобные им псалмы (ХСШ, XCVIII, XCIX и др.),
несомненно, сопровождали собою определенное культовое
действие, о котором прямых указаний в библии нет; но его
можно восстановить по аналогии с соответствующим
ритуалом вавилонским, который подробно описывается в
клинописных текстах.
Наиболее полное описание имеется для эпохи
Навуходоносора. Обряд интронизации бога Мардука совершался
в праздник нового года, справлявшийся в начале месяца
нисан (евреи справляют новый год в начале осеннего ме-'
сяца тишри, хотя они заимствовали календарь от
вавилонян и тоже считают весенний месяц нисан первым
месяцем).
2 нисана первосвященник за два часа до рассвета
вступал в святая-святых и, став перед завесой (= евр. fcappo-
ret), скрывающей статую Мардука, читал следующий
псалом:
Владыка, который в гневе не имеет себе равного!
Владыка, милостивый царь, властитель земель,
'О. Eissfeldt — Einleitung in das Alte Testament. Tubingen,
1934, S. 108—114.
2 Cm. O. Eissfeldt-Jahwe als Konig, ZAW NF, v., A928) S.
81 ff.
190
Который дарует благо великим богам,
Владыка, который взглядом своим повергает могучих!
Владыка царей, свет людей, распределяющий жребий!
О господи, Вавилон — твое местопребывание, Борсиппа1--
твоя корона,
А дальние небеса — совокупность внутренности твоего тела!
О господи, своими глазами ты взираешь на все..,
Своими руками ты хватаешь могучих...
Своим взором ты даешь им милость,
Даешь им видеть свет, чтоб они возвещали твои деяния.
Властитель земель, свет игиги2, изрекающий благословение!
Кто «е стал бы возвещать твои деяния,
Рассказывать о твоей возвышенности, славить твое господство?
Властитель земель, живущий в E-ud-ul, подающий руку
упавшим,
Прояви милосердие своему городу Вавилову,
К Эсагила, своему храму, обрати свой лик,
Жителям Вавилона, покровительствуемым тобой, дай свободу.
Аналогичная церемония 'С пением псалма, прославля-'
ющего мощь Мардука, исполнялась и 3 нисана. На
следующий день, 4 нисана, на литургии читали «Епшпа-
elislh» — миф о сотворении мира, о победе Мардука над
хаосом Тиамат и о вознесении Мардука над прочими
богами. По всей вероятности, чтение сопровождалось
соответствующим драматическим действием.
5 нисана совершался обряд очищения храма (fcuppuru),
о котором мы уже упоминали (стр. 139), и очень
интересный обряд карнавальный.
6 нисана в город вступают ставшие в подчиненное
положение по отношению к Мардуку Небо, Ану, Энлил и
другие боги, чтобы «взять руки» Мардука. Очевидно,
«взять руки» Мардука означало получить от него
полномочия и право на божественное признание.
8 и 11 нисана происходит определение судьбы мира и
людей на предстоящий год. Мардук сидит на троне в
окружении почтительно1 приветствующих его прочих богов
и выносит свои решения. Эта картина полно воспроизво-1
дится в еврейском новогоднем литургическом тексте «Ун-
сане токеф»: «...Ты — судья и уличитель и всеведущий
свидетель, ты пишешь и подписываешь, ты вспоминаешь
'Барсиппа — город против Вавилона на противоположном
берегу Евфрата.
2 Игиги — низшие боги равилонского пантеона-
197
все забытое, открываешь книгу записей, и из нее читают,
в ней подписи всех людей. Раздается звук мощного рога,
и слышен голос тонкой тишины. Ангелы суетятся, их
охватывает робость и дрожь, они говорят: настал день суда...
В рош-гашана записывается, а в иом-кипур подписывается,
сколько погибнет, сколько родится, «то будет жить, кто
умрет, кто своей смертью, кто не своей смертью, кто от
воды, кто от огня, кто от меча, кто от зверя, кто от
голода, кто от жажды, кто от бури, кто от чумы, кто будет
удавлен, а кто побит камнями... кто разбогатеет, а кто'
обеднеет, кто будет возвышен, а кто унижен».
Того же 8-го числа происходит самая торжественная
часть новогоднего празднества—процессия Мардука.
Раскрываются ворота храма, и бог выходит из храма в
сопровождении прочих богов, причем процессией
руководит царь. Здесь совершается церемония облечения царя
божественной властью:—царь «берет руки» Мардука.
Процессия направляется к реке и некоторое расстояние
проезжает на барке по Евфрату; затем процессия
возвращается в Эсагила; при входе во врата храма исполняется
следующий гимн:
Господи, при твоем вступлении в дом пусть скажет тебе твой
дом: упокойся господи.
Сильный, господи, Мардук, при твоем вступлении в дом пусть
скажет тебе дом твой: упокойся, господи.
Пусть Эсагила, твой господский дом, скажет тебе: упокойся,
господи.
Вавилону, городу твоей радости, не дай пребывать (безлюдным)!
Воззри на дом свой, воззри на свой город Вавилон и Эсагила!
Пусть боги неба и земли скажут тебе: упокойся, господи.
Аналогичные обряды совершались в Эреке в честь
Ану и в других городах в честь местных богов *.
При свете этих вавилонских текстов становится ясным
смысл упомянутых еврейских псалмов: они сопровождали
культовое действие, изображавшее победу Ягве над
прочими богами и освящавшее божественной благодатью
власть земного царя._
На оаюШшии. анализа ряда псалмов с привлечением
других библейских текстов Мовинкель 2 реконструировал
1 Н. Zimmern —Das babvlonische Neujahrsfest. Lpz., 192ft
(=A0 25, 3).
2 S. Mo win ckel —Psalmenstudien, II, Kristiania, 1922,
198
древнееврейский праздник нового года, в котором он
открыл те же основные элементы, что и ib вавилонском
празднике. Формула «воцарился Япве над народами, бог
воссел на своем святом троне» (пс. XLVII 9), формулы
«Ягве воцарился», как заголовок пс. ХСШ, XCVII,
означают, что соответствующие псалмы исполнялись на
празднике воцарения Ягве. По этому случаю ему поется
«новый гимн» (пс. XCVI 1, XCVIII 1). «Пойте Ягве, вся
земля, пойте Ягве, благословляйте имя его, возвещайте
со дня на день его спасение, возвещайте в народах его
славу, .во всех племенах — его чудеса. Ибо велик Ягве и
очень прославлен, страшен он больше, всех богов. Ведь
все боги народов — ничто, а Ягве небеса создал. Слава 'и
величие перед лицом его, сила и красота в его
святилище. Воздайте Ягве, племена народов, воздайте Ягве
честь и славу. Воздайте Япве честь его имени, принесите
дар и идите во дворы его. Поклонитесь Ягве в
благоговении, трепещи перед ним вся земля. Скажите среди
народов: «Ягве воцарился». Вселенная утверждена, чтоб она
не колебалась; он будет судить народы праведно. Да
возвеселятся небеса и возрадуется земля, да плещет море и
то, что наполняет его. Да скачет поле и все, что на нем,
пусть ликуют тогда все деревья лесные перед Ягве,
который пришел судить землю. Он будет судить вселенную
правдой ^на/роды — верностью своей».
В одном этом пс. XCVI мы имеем гимн Ягве,
возвещение его победы над другими богами, воспоминание о
сотворении мира, указание, что в этот день Ягве решает
судьбу мира и людей. Другими словами — в этом псалме
даны все элементы, из которых, как мы видели,
складывался соответствующий вавилонский праздник. Но мы
встречаем их ив других псалмах. В частности., пс. CXLVIII
сильно напоминает приведенный выше гимн Мардуку.
О победе Ягве над другими богам» мы уже привели
соответствующие тексты. Сюда еще можно прибавить
Hex. XV 11 («кто, как ты, среди богов, Ягве?»).
\Так же, как Мардук, сидя на троне в окружении
низших богов, определяет судьбу предстоящего года, Ягве
«стал в сонме богов, среди богов произносит суд», т. е.
приговор о судьбе будущего года (пс. LXXXII 1; ср.
LXXV).
О процессии Ягве, в которой он торжественно
вступает в храм, прямо говорит пс. XLVII, в частности ст. 7:
«восходит бог при ликовании (teru"aj, Ягве — при звуке
199
трубном». Именно процессия со статуей «ли символами
Ягве делает понятным не. XXIV 7—10: «Возвысьте, врата,
верхи ваши и возвысьтесь, двери вечности, и да входит
царь славы. Кто это —царь славы? Ягве крепкий и
сильный, Ягве сильный в брани. Возвысьте, врата, верхи
ваши, и возвысьтесь, двери вечности, и да входит царь
славы. Кто это — царь славы? Ягве Саваоф — он царь
славы» 1.
О процессии вокруг Сиона мы читаем и в псалме
XLVIII 13 («идите вокруг Сиона и обойдите его»). В пс.
СХХХИ, где в рудиментарной форме сохранились
указания на религиозно-драматическое действо (вроде
процессии с ковчегом в II Сам. VI), группа участников
процессии восклицает: «встань, Ягве, на месте покоя твоего, ты
и ковчег могущества твоего» (ст. 9).
О празднике восшествия на престол царя прямое
указание дает Гошеа VII 5 («день нашего царя»J.
Специальные псалмы (II, XVIII, XX, XXI, XXII, СХ и др.)
посвящены этому дню, восхваляя божественное величие
царя. А что царский праздник тесно связан с днем
восшествия Ягве на трон, показывает проделанный Мовин-
келем анализ пс. СХХХП; здесь центральное место
занимает царь, выступающий в процессии в роли «Давида»,
т. е. божественного предка; «помазанник божий» является
здесь посредником, олицетворяющим для народа
божественную власть, через него благодать изливается на его
подданных (особенно' ст. 10—12, 17—18).
Конечно, после падения Иудейского царства обряд
1 Ср. гимн Мардуку:
В небесах кто всемогущ? Ты один всемогущ!
На земле кто всемогущ? Ты один всемогущ!
Ф. Делич — Библия и Вавилон. СПБ, 1912, стр. 94.
2 Мовинкель видит указание на этот праздник в тексте Иер.
XXVII: Bereschith mamlechuth Iehojaqim, что обычно переводится:
«в начале царствования Иоакима», но Мовинкель, сопоставляя этот
термин с вавилонским irasch schanuti, полагает, что он означает
«день вступления на царство»; этому соответствует и содержание
гл. XXVI, где пророк выступает на праздничном собрании в
храме. Мовинкель не ссылается на такое же начало главы XXVII,
и особенно XXVIII, где обычный перевод «в начале царствования»
никак не подходит. В самом деле, текст гласит: «В том году
bereschith mamleketh Цидкии, в четвертый год, в пятом месяце...»
Очевидно, что речь идет о каком-то дне в году, притом отнюдь
не в начале царствования Цидкии (четвертый г о д). Но здесь
этот день, если текст считать правильным, не совпадает с
осенним праздником (пятый месяц, а не седьмой),
?00
воцарения бога и обожествления царя перестали
исполнять, и Жреческий кодекс библии уже его не упоминает,
но в храмовом богослужении, в псалмах и в современных
синагогальных литургических текстах от него
сохранились явственные следы.
Г) КУЛЬТ
0 содержании культа в так наз. царский период мы
имеем мало прямых данных. Жреческий кодекс
изображает под видом культа «эпохи Моисея» тот культ,
который практиковался после вавилонского плена, в период
персидского владычества над
Иудеей. Бесспорно, что в составе
Жреческого кодекса есть целый
ряд элементов, восходящих к
царской эпохе \ однако в
большинстве случаев они даются уже
в видоизмененной форме, и нужна
большая работа, чтобы
восстановить их в первоначальной
форме. Точно так же описание
богослужения в кн. Иез. XL—XLVII
представляет собой не только
реконструкцию старого, , но и
программу будущего культа.
Приходится поэтому
восстанавливать содержание культа этой
эпохи на основании разрозненных
данных, рассеянных в различных
библейских текстах.
Главное место в культе
царской эпохи занимали
жертвоприношения, возлияния и
воскурения. Qatter — «курить», «возносить жертвенный дым» —
употребляется в библии в значении «служить» богу.
Жертвенники устраивались «на всяком высоком холме и
под всяким тенистым деревом» (I Цар. XIV 23, Иер. II 20,
И1 6 и др.). Фактически централизовать культ при иеру-
1 Ее rdm anns — Alttest. Studien IV, S. 143—144 считает книгу
Левит жреческим кодексом эпохи Хизкии, обработанным в эпоху
плена. Основания для такой точной датировки слабые, но в
основном гипотеза Эрдманса заслуживает внимания.
tn-W
Рис. 34. Глиняная жаровня
для курения из святилища
Аи. .Syria", 1935.
201
салимском храме жрецам удалось лишь после
вавилонского плена.
Кроме обычных жертвоприношений, применялось
обрядовое печенье. Помимо опресноков, игравших видную
роль в обрядности праздника маццот, мы встречаем в
библии «хлебы предложения» (Исх. XXV 30 и др.), хлеб
tamimid (Чис. IV 7). По особому рецепту Ягве Иезекииль
выпекает лепешки (IV 9 ел.). Эмигрировавшие после
586 г. в Египет евреи говорят «пророку»: «мы непременно
будем поступать по всем словам, исходящим из уст
наших, чтобы кадить царице небесной и совершать в ее
честь возлияния, как делали мы и отцы наши, цари наши
и вельможи наши в городах иудейских и на улицах
Иерусалима... Разве без ведома наших мужей мы
приготовляем в ее честь пироги, представляя на них ее
изображения и делаем ей возлияния?» (Иер. XLIV 17, 19). О
ритуальном печеньи упоминается и в Иер. VII 18.
Большое место в культе занимали ритуальные
омовения и очищения, которые особенно распространились и
осложнились впоследствии под персидским влиянием.
Омовениям приписывалась также магически-целебная сила
(И Цар. V 10—14). О ночевке в святилище бога для
получения вещих снов свидетельствует I Сам. III и I Цар. III
4—15.
Храмовую проституцию нельзя считать
заимствованным из Вавилона обычаем; оргиастические' мистерии
были, повидимому, законным явлением в еврейском
культе так же, как разгульные пляски и игры, отголоски
которых сохранились еще в талмудический период в
празднествах 15 аба и в «симхат бет гашоеба». О
храмовых женщинах при святилище в Шило сообщает I Сам.
II 22. Невестка Иуды (Быт. XXXVIII) — «священная»
проститутка, ее эмблема — покрывало1. Само слово
«проститутка»—..qedesdha— от основы qdisdh — «святой». «Бет-
микдаш» означает «храм» и «публичный дом».
Проституция — мужская и женская — процветала в течение всего
царского периода (I Цар. XIV 24, XXII 47, XV 22; II Цар.
XXIII 7; Ос. IV 14 и др.). Что она практиковалась и в
иерусалимском храме, показывает Второз. XXIII 18—19, где
этот обряд запрещается, так же как. получение храмом
1 A. Ieremias — Das Alte Testament im Lichte des Alien
Orient. 2 Aufl. Lpz., 1906, S. 381—382; Ed. M ey e r—Israelites
S. 177, ff.
2Q2
доходов от священной проституции, унаследованной от
доисторической эпохи.
О каких-то фаллических обрядах сообщает Иез. VJ1I
17 (zemora) и, возможно, ХХШ 20, где вместо zrmih ком-
Рис. 35. Амулеты из Мегиддо. АОТВ № 555.
ментаторы предлагают читать ztnrih. Найденные в
Мегиддо небольшие каменные фаллы, относящиеся к VIII веку *,
вероятно, закапывались в пашню для обеспечения
плодородия земли.
Л) МАГИЯ
Как и всякая религиозная обрядность, еврейский культ
царской эпохи был проникнут всевозможными
магическими представлениями и церемониями, унаследованными
от доисторической эпохи. Амулетами (lac has oh, nresziia)
украшались не только люди, особенно женщины (Ис. III
20), но и животные (Суд. VIII 21 ел.; ар. Зах. XIV 20).
Чтоб (вызвать дождь, Илья-пророк наклоняется до земли
1 Ср. N\ а у — Material Remains of -the Megiddo Cults. Chicago
1935, стр. 25 "и табл. XXL
и прячет лицо между коленями (I Цар. XIX 42). Чтоб
оздоровить плохую воду, Елисей требует, чтоб ему
подали новую чашу с солью, которую бросает в реку
(II Цар. II 19—21); точно так же Моисей превращает
горькую воду в сладкую, бросив в нее дерево (Исх. XV 23—
25). Чтоб одержать победу над городом Гаи, Иисус На-
вин «простер над ним свое копье и не опускал руки
своей, которую простер с копьем, пока не истребил всех
жителей Гая» (Иис. VIII IS, 26). А Моисей, согл. Исх. XVII
11—12, обеспечил победу над амалекитянами, держа руки
поднятыми вверх. Магический обряд дождевания имеется
в виду у I Сам;. VII 6. Рассказ о Валааме и Валаке (Чис.
XXII—XXIV) свидетельствует о глубокой вере в
магическую силу слова. Такую же магическую силу имеет
писанное слово (Чис. V 23—24). Древние магические
представления выражены в обряде с козлом Азаела, с красной
телицей (Чис. XIX), обряде умилостивления духа
неведомо кем убитого человека (Второз. XXI), обряде
испытания неверной жены (Чис. V) и др. Библейские тексты
часто упоминают о чарах 'ob и id"onii, точное значение
которых остается еще спорным г. Само обилие слов,
означающих колдуна или мага, свидетельствует о
распространенности магии.
Выше мы привели много примеров магических
приемов, при помощи которых древние евреи этой эпохи
пытались воздействовать на гнетущие их внешние силы.
Эти магические приемы и обряды были унаследованы от
периода родового строя, и по ним мы реконструировали
древнейшую религию евреев. Но в царскую эпоху
древняя первобытная магия, получив новое оформление,
обросла новым содержанием и органически включилась
в новый культ. Интересный пример оживания древнего
магического пережитка на новой основе представляют
обряды, относящиеся к «тефиллин» и «мезуза». Второз. VI
8—9 предписывает хранить заповеди господни: «и навяжи
1 Обычно 'ob толкуют как «дух» (мертвого), которым одержим
чародей или которым он, наоборот, владеет (ba"lat 'ob I Сам.
XXVIII 7); id"on;ii переводят «ведун», «знахарь». Но эти объяснения
не вполне пригодны для всех случаев применения этих слов в
библии. Ганс Шмидт (Vom Alten Testament. «Karl Marti zum 70 Ge-
burtstag», Giessen 1925, S. 253—261), ссылаясь на текст Ис. VIII 19,
где 'ob и id"onii названы свистящими и гудящими, и на довольно
веские другие соображения, высказал остроумное предположение,
что речь идет о барабанах, бубнах или аналогичиых инструментах,
применяемых шаманами.
2СН
их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над
глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих». Это библейское предписание
приводится в обоснование практикующегося до сих пор
обряда: во время молитвы мужчины надевают на лоб и на
левую руку коробочки с заключенным в них библейским
текстом (тефшглин); такой же текст прибивается к косяку
входной двери (мезуза). Тефиллин и мезуза служат
амулетами, магическими средствами против «нечистой силы».
Но эта новая магия, сила
которой основана на
магической силе «священного»
текста, писанного «слова
божьего», является
переоформлением в новых условиях более
примитивного магического
обряда помазания лба и руки
человека и косяка двери
кровью жертвенного животного.
Куртисх приводит ряд
аналогичных обрядов у различных
семитических народов. Но и
в самой библии мы имеем
воспоминание об этом
первобытном магическом обряде.
Исх. XI122 ел. предписывается
окропить кровью
пасхального агнца косяки дверей,
чтоб отпугнуть злого духа- Рис- 36- Знаки жертвенной кро-
губителя — Maschchith, и Х„на BXOfr м<;ЧетьАбу-Обеда
/vTiiim (Палестина). Curtiss, Ursermtische
вслед за этим (XIII16) дается RelMon.
предписание: «И да будет это
в знак на руке твоей и в памятную повязку между
глазами твоими». Эта фраза, неуместная и непонятная в
контексте, получает ясный смысл лишь в связи с
окроплением косяков кровью, о котором говорится XII 22 ел.:
тефиллин, как и мезуза, первоначально были обрядами
помазания кровью 2.
Как известно, библия относится резко отрицательно к
«колдовству». Но это обстоятельство отнюдь не должно
1 «Ursemitische Religion», 1902, S. 223 ff.
2 К. Kobler — Seltsame Riten und Brauche, AR, XIII A910),
S. SI, ff.
205
ввести нас в заблуждение. Ведь представители каждой
религии объявляют колдовством те обряды, которые не
включены в ее систему, служат источником дохода не
для е е жрецов, не включаются в культ е е богов.
Римляне строго запрещали гадание через частных или
иноверных волхвов, хотя гадание входило как важный
элемент в официальный культ и составляло привилегию и
обязанность высших магистратов. Христиане считали
римскую и эллинскую религию бесовской, колдовской, а
римляне) в свою очередь, считали опасными магами и
чародеями христиан. Протестанты называют язычниками
и колдунами католиков, католики — «еретиков» и т. д.
Всякая церковь протестует против «суеверий»,
колдовства, совершающегося вне церкви и без ее
благословения, но охотно принимает «магию» в свой репертуар.
Изгнание бесов знахарем — колдовство, но заклинание
того же беса попом — важный элемент «таинства»
крещения. Заговаривать болезнь — грех, но когда поповский
синклит заговаривает умирающего, обставив его свечами
и пачкая его деревянным маслом, то это — «таинство»
соборования. Молебен с водосвятием — богослужение, а,
скажем, опахивание поля — колдовство. Так было и в
древнееврейской официальной религии: жрецы
преследовали народных колдунов и запрещали их обрядность, но
одновременно организовали систему официальной магии.
Как показали Мовинкель и Никольский, многие псалмы в
их первоначальном виде были не чем иным, как
официальными магическими формулами царской эпохи.
Древними магическими представлениями проникнуты
и праздники царского периода, хотя они наполнились в
новых условиях новым содержанием и получили новое
богословское обоснование.
е) ПРАЗДНИКИ
Праздник пасхи, праздник. кочевников-скотоводов,
утратил свое значение в условиях оседлого земледелия.
Основными праздниками становятся «праздник
опресноков, праздник жатвы и праздник урожая»; их
предписывает «Книга завета» (Исх. XXIII 14—16) и «Книга малого
завета» (Исх. XXXIV* 18—23); пасха здесь как основной
праздник не упоминается, и, надо полагать, известная
доля правды имеется в сообщении II Цар. XXIII 22—23;
?03
«...не была совершена такая пасха от дней судей, которые
судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей
иудейских; а в восемнадцатый год царя Иосии была
совершена эта пасха Ягве в Иерусалиме». Очевидно, в
официальном культе возобладал земледельческий празД'
ник опресноков «маццот».
О первоначальном содержании обрядности маццот в
библии нет ясных данных. Возможно, что некоторые
выводы о еврейском 'празднике можно сделать на основании
найденных при раскопках 1929—1931 гг. и
опубликованных в 1931 г. финикийских богослужебных текстов. Эти
клинописные тексты относятся к эпохе не позднее XIII в.
Рис. 37. Амулет из козьей кости. Гезер. АОТВ № 557.
до хр. э. В них, между прочим, изображается борьба
между Алейн-Ваалом и Мотом (Moit) — богом урожая и
жатвы. Вмешивается богиня Анат «из святилища Ваала».
«Она хватает Мота, сына богов, серпом она его режет, на
току она его молотит, в огне она его обжигает, на
мельнице она его мелет, в поле она его разбрасывает, чтоб есть
его плоть»... За несколько строк до этого места речь идет
об агнце с чистой пшеницейг. В приведенном отрывке,
где перечисляются семь действий, которые богиня
производит над телом бога Мота, Рене Дюссо видит намек на
семидневное празднество;, связанное с жатвой; каждый
день в течение этого праздника посвящался обрядовой
инсценировке одного из действий, а кончался праздник
ритуальным поеданием плоти бога. При этом Дюссо, в
отличие от ВироллО;, толкует sV в ст. 29 не «плоть»
1 «Un роете phemicien de Ras-Shamra» par Ch. ViiroWeaud,
«Syria», XII A931), p. 193 sq. 360 sq приведенный отрывок взят из кол.
II ст. 29—35, ст£« 206.
207
(евр. sche'er), а «квашеное тесто» (евр. se'orI. К
сожалению, в кол. V ст. 10—19, где Мот в свою очередь
грозит Алейну теми же карами, слово senh на довольно
плохо сохранившейся табличке отсутствует; но во всяком
случае слишком натянутое толкование Дюсоо для смысла
существенного значения не имеет. Основное, повидимо-
му, правильно: мифологическому повествованию
соответствует в богослужении обряд, и финикияне имели еще до
поселения евреев в Палестине многодневный
земледельческий праздник, аналогичный еврейскому празднику мац^
цот. Примитивный обряд поедания духа, обитающего в
растении, был заменен более сложной церемонией, где
участвуют уже ставшие над природой боги, а верующие
ограничиваются вкушением пресных лепещек и
присутствием при богослужении.
По мере того, как в Иудейском царстве правящими
кругами все энергичнее выдвигалась идея национального
объединения под эгидой Ягве, праздник маццот в
официальном культе все больше ставился в связь с
мифическими событиями исхода, а обрядность праздника
получила соответствующее толкование (Второз. XVI 3—4).
Вместе с тем Второз. XVI 9 определяет начало маодот
днем «появления серпа на пашне», а книга Левит
сохранила— конечно, в жреческой обработке — указание на
праздник маццот как на жертвоприношение и ритуальное
вкушение первинок урожая: «Когда придете в землю,
которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то
принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он
вознесет этот сноп перед Ягве... Никакого нового хлеба,, ни
сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в
который принесете приношения богу вашему» (Лев. XXIII
10—14).
Самые опресноки, пресные лепешки были, поводимому,,
обычным блюдом на начальной стадии земледельческой
техники. В библейском мифе о посещении богом Ягве
Авраама у дубравы (Быт. XVIII 6) рассказывается, что
Авраам распорядился сделать для гостя маццот. Точно
так же опресноками угощал ангела Ягве в другом мифе
Гидеон (Суд. VI 19).
Но все эти архаические черты, сближающие празд-'
ник маццот не только с финикийским праздником, но и
с примитивными магическими обрядами при вкушении
» RHR, v. CIV A931), р, 388.
203
плодов нового урожая, либо стушевались, либо получили
новое объяснение и обоснование. Маццот слился с
пасхой, и новый праздник во всех своих деталях начинают
выводить из мифа об исходе. Новая слитная пасха
становится праздником Ягве и — в зародыше —
национальным праздником, каким он окончательно стал
впоследствии, после вавилонского плена;
Второй из трех основных праздников —
«пятидесятница» (шебуот) тесно связан с маццот. Если последний
приурочен к тому дню, когда «появляется серп на
пашне» (Второз. XVI 9), т. е. к началу жатвы ячменя, то
первый заканчивает собою период жатвы пшеницы (Исх.
XXXIV 22). Подробных сведений об этом празднике
библия не сохранила. В Второз. XVI 9—11 мы читаем: «Семь
седьмиц отсчитай себе; начинай считать семь седьмиц с
того времени, как появился серп на жатве. Тогда
совершай праздник Ягве, богу твоему, по усердию руки твоей,
сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя
Ягве, бог твой. И веселись перед Ягве, богом твоим, ты
и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя...» Пасха
и пятидесятница были началом и концом цикла
земледельческих праздников жатвы. «Специальный пасхальный
ритуал состоит в Лев. XXIII в принесении ячменного
снопа, до этого момента никто не имеет права пробовать
нового хлеба; соответствующий ритуал пятидесятницы
состоит в принесении обыкновенных -пшеничных хлебов.
Жатва хлеба начинается с ячменя и кончается пшеницей;
вначале приносятся сырые первинки в виде снопа,
подобно тому как и люди едят свежее растение в виде
поджаренных колосьев (Лев. XXIII 14, Иис. Нав. V 11); в
конце первинки приготовляются в виде обыкновенного
хлеба» *.
Характерно, что по мере того, как еврейская религия
становилась все больше отражением гнетущих
общественных сил, праздник шебуот, связанный с культом
стихий природы, постепенно утратил свое значение и
перешел в разряд второстепенных. Если пасха осталась
одним из важнейших праздников, то это произошло
потому, что жрецы и пророки сумели дать ей новое
богословское обоснование, пропитать ее новым социальным
содержанием и националистическими идеями. Чтоб
сохранить как-нибудь праздник пятидесятницы, раввинам впо-
1 В е л ь г а у з е н — Введение в историю Израиля. Стр. 74.
14-8
209
следствии пришлось подвести под него богословскую
базу, приурочив его к «законодательству на Синае».
К той же группе праздников урожая относится и
третий из предписываемых «Книгой завета» праздников—.
суккот («кущи»). В древнейших текстах он так и
называется «праздником: сбора» (винограда) — 'asipih:
«праздник собирания плодов в исходе года, когда уберешь с
поля работу твою» (Исх. XXIII 16), «праздник собирания
плодов в конце года» (Исх. XXXIV 22). О древности
осеннего праздника свидетельствует то обстоятельство, что
суккот довольно часто обозначается как «праздник Ягве»,
без указания названия (Лев. XXIII 39, Суд. XXI 19) или
даже просто «праздник» (I Цар. VIII 2, 65, XII 32, Иез.
XLV 25, (Hex. VIII 14 и др.); применяемое при этом слово
cihaigg обозначало первоначально «хоровод», что
свидетельствует о характере суккот как веселого, разгульного
праздника. Как видно из Суд. XXI 19—21, девушки
устраивали в эти; дни хороводы и пляски. О жителях Сихема в
древнем тексте Суд. IX 27 рассказывается, что они
«вышли в поле, собирали виноград свой, давили'в точилах
и делали праздники (billiuliim, ср. Лев. XIX 24) и ходили в
дом бога своего и ели, и пили».
Как и другие земледельческие праздники, осенний
праздник сбора плодов не был точно зафиксирован в
календаре ;и справлялся в зависимости от местных условий.
В северном, Израильском царстве он праздновался, пови-
димому, позже, чем в Иудее; I Цар. XII 32 ел. сообщает,
что царь Иеровоам установил cihagig пятнадцатого
числа восьмого месяца, тогда как позднейшая
библейская календарная дата—15-е число седьмого месяца.
Асиф (суккот) изображается в библии (особенно Вто-
роз. XVI 13 ел.) как праздник веселья по преимуществу.
Рисуемая в текстах идиллия всеобщей радости для
господина, раба;, пришельца, сироты и вдовицы — обычная
религиозная форма одурманивания угнетенных,
затушевывания классовых противоречий, В основе «веселья»
лежали магические обряды плодородия — обрядовые
пляски, пьянство и половые излишества. Ряд магических
действий, которые выполнялись верующими во время
осеннего праздника, дошли в виде пережитков до нашего
времени. В кн. Лев. XXIII предписывается: «в первый день
возьмите себе плод красивого дерева, ветви пальмовые и
ветви дерев широколиственных и верб речных и
веселитесь перед Ягве, богом вашим, семь дней»; роль всех
210
этих предметов становится ясной из характера их
применения в современном иудейском культе. Верующие евреи
в течение 8 дней праздника ежедневно все от мала до
велика берут в одну руку особым образом связанный
пучок из мирт, пальмовых листьев и верб (лулаб), а в
другую руку — «плод красивого дерева» — этрог (род
лимона) и с молитвой потрясают этим букетом. По аналогии
с подобными обычаями у многих примитивных народов
надо полагать, что мы здесь имеем дело с магическим
зазыванием ветра, предшественника осенних дождей. Этот
магический характер праздника суккот ясно
формулирован iB одной из позднейших «пророческих» книг (Зах. XIV
16—17): ...«все остальные из всех народов, восставших
против Иерусалима, будут приходить из года в год, чтоб
поклониться царю Ягве воинств и праздновать праздник
суккот. И если какое-либо из племен земных не пойдет
в Иерусалим поклониться Ягве воинств, то не будет
дождя над ними». Существующее теперь поверье, что
беременным женщинам для успешного развития плода
полезно откусить и съесть отросток этрога, показывает,
что с этрогом связано представление о его
оплодотворяющей силе. Несомненно, магическое значение имеет верба;
она не только входит в состав лулаба, но ей посвящен
еще специальный (седьмой) день суккот. В этот день
(гошана раба) совершается в синагоге процессия с лула-
бами и особыми пучками верб вокруг амвона, затем в
определенный момент все молящиеся начинают бить
вербой по полу, пока все листочки не опадут. Бесчисленные
наблюдения над обрядами «вербного боя» в различных
религиях, в том числе и христианской, доказали с полной
несомненностью, что все такие обряды основаны на вере в
оплодотворяющую силу этого растения и удар вербой
имеет своим назначением сообщить ударяемому
плодовитость. Повидимому, и у евреев вербный бой имеет целью
сообщить земле магическим путем производительную
силу Ч
Такое же магическое значение имел упоминаемый в
талмуде и ныне забытый обряд водоизлияйия; его
назначением было — вызвать дождь.
Магический характер обрядности земледельческих
праздников засвидетельствован косвенно в талмуде. Один
1 А. Рано вич — Происхождение христианских таинств. М.,
1931, стр. 1Э9. -..:,.:
14*
211
из столпов Мишны, рабби Акиба, говорит: «Приноси сноп
начатков ячменя на пасхе, ибо это — время созревания
ячменя, чтобы ради него был благословен сбор жатвы;
приноси пшеничные хлебы как первинки на шебуот, ибо
это—время жатвы пшеницы, чтобы тебе были благоело-
вены плоды деревьев; возливай воду на суккот, ибо это
время дождей, дабы тебе были благословены дожди» 1.
Жрецы на дни суккот установили усиленные
жертвоприношения и приношения, используя таким образом
праздник урожая, чтоб и самим пожать обильную жатву.
К этому сводятся все указания, касающиеся обрядности
праздника в кн. Чис. XXIX 12—39, причем автор не
забывает прибавить: «кроме приносимых вами, по обету или
по усердию-, всесожжении ваших, и мучных приношений
ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших».
|Выше уже упомянуто было, что древние евреи
начинали год осенью, а весенний месяц нисан в качестве
первого месяца — новшество, заимствованное у вавилонян.
Осенний праздник суккот в царскую эпоху был вместе с
тем праздником нового года, хотя он приходился по
принятому впоследствии вавилонскому календарю на седьмой
месяц. В «Книге завета» Исх. XXIII 16 'asiph празднуется
«на исходе года», согласно Исх. XXXIV 22— «на повороте
года». С другой стороны, Лев. XXV 9 считает началом
.года 10-е число> седьмого месяца — иом-кипурим (ср. Иез.
XL 1). Отдельный праздник нового года, повидимому,
появился под влиянием Вавилона лишь к концу царского
периода, как чисто монархический праздник, имевший
целью возвеличить культ главного иудейского бога Ягве
и обожествить помазанника Ягве — царя. С содержанием
этого праздника мы уже познакомились выше. Надо лишь
отметить, что связующим звеном между новым
праздником нового года и более древним культом был лунный
праздник (новомесячие), который, надо полагать,
особенно торжественно справлялся в начале года и
сопровождался звуками труб, имевшими магическое значение.
Трубы играли видную роль и в культе Ягве (восходит бог
при восклицаниях, Ягве — при звуке труб, Пс. XLVII 6) и
в поклонении царю («теруат мелек», Чис. XXIII 21 и др.).
Отсюда название нового года в библии join tera"ah —
день трубного звука (Чис. XXIX 1). В библии никаких
1 Н. М. Никольский — Еврейские и христианские
праздники. Стр. 40.
212
других указаний на характер праздника нет. А в эпоху
после плена, когда он получил название рош-гашана
(новый год), он получил уже совершенно новое "содержание.
ж) ЖРЕЦЫ
Жрецы, обслуживавшие культ, вначале не были
организованным сословием, каким они стали впоследствии.
Наследственность жреческого достоинства внутри
сословия «ааронидов», рядом с которым существует сословие
низших храмовых служителей — левитов, является
выражением иерократии, установившейся в период персид-,
ского владычества в Палестине после V в. Авторы
Жреческого кодекса создали миф об Аароне, брате Моисея,
чтобы закрепить свои привилегии авторитетом старины
и освятить именем Ягве. В течение царского периода
аарониды неизвестны, а левитов как низшего жреческого
сословия не существует. В кн. Иезекииля (XLIV 6—16),
где дана программа жреческого статута для будущего
храма Ягве и критика порядков, существовавших при
первом храме, вполне ясно оказано, что роль храмовых
служителей выполняли «необрезанные» храмовые рабы, а
левиты выполняли жреческие функции, притом
выполняли их, по мнению автора, нечестиво. Он рекомендует
впредь закрепить жреческие привилегии за
иерусалимскими левитами, потомками Садока, назначенного на пост
верховного жреца царем Соломоном. Таким образом,
написанная уже в эпоху плена кн. Иезекииля еще не
знает того порядка, который Жреческий кодекс
впоследствии зафиксировал в библии, отнеся его фиктивно к
«эпохе Моисея» *.
Те сведения, какие сохранились в исторических
библейских книгах, показывают, что каждое святилище
имело своего жреца, на обязанности которого лежала
охрана святыни и испрашивание оракулов. Этим жрецом
был владелец святыни или лицо, им назначенное. Миха
сначала поручает заведывание основанным им
святилищем своему сыну, а затем поручает дело случайно
подвернувшемуся специалисту-левиту. Заведывавший
святыней Ягве в Силоме Или не принадлежал к сословию
1 См. В е ль г а узе н —Введение в историю Израиля. Стр.
103 ел.
213
жрецов, и ничего не сказано об его отношении к
левитам. Его помощником и затем преемником является
эфраимит Самуил. Когда, по сообщению I Сам. VII 1,
ковчег Ягве был установлен в доме некоего Лбина даба,
жрецом назначили сына владельца — Елеазара. В
святилище IB Нобе жреческие обязанности выполнял Ахимелех,
о принадлежности которого к левитам ничего не сказано.
Наконец, II Сам. VIII 18 сообщает, что сыновья Давида
были жрецами.
С другой стороны, мы знаем, что жрецы назначались
царями. Соломон прогнал главного жреца Авиафара и
назначил вместо него Сад ока (I Цар. II 27, 35). Иеровоам
назначает жрецов (I Цар. XII 31, XIII 33), причем
позднейшие редакторы кн. Царей изображают эти действия
Иеровоама как отступление от закона; но и «праведник»
Давид назначает жрецов (II Сам. XX 25—26, VIII 17).
Наконец, жертвоприношение, ставшее впоследствии главной
функцией жречества, первоначально составляло право
каждого верующего и во всяком случае вождя и царя.
Жертвы приносит каждый израильтянин самостоятельно
(I Сам. II 13, XIV 33—35), жреческие функции выполняет
Давид (II Сам. VI 13, 18), Самуил (I Сам. VII 9), Гидеон
(Суд. VI 25 ел.).
Только с образованием классов образовалось сословие
левитов, которые закрепили за собою выполнение
усложнившихся жреческих функций. Этому содействовала
централизация культа в Иерусалиме и оттеснение местных
богов возвысившимся над ними Ягве. Провинциальные
левиты, обслуживавшие местные «высоты» Ягве и других
богов, не допускались в качестве жрецов в храм Ягве
(II Цар. XXIII 9); те группы жрецов, которые
обслуживали храм Ягве в Иерусалиме и выводили свою
генеалогию от ставленника Соломона — Садока, и создали
впоследствии миф об Аароне и о низших левитах, могущих
занимать в иерусалимском храме лишь должности храмо--
вых служителей. Понятно, что иерусалимское жречество
было заинтересовано в централизации культа Ягве так же,
как в свое время жрецы в Вефиле и Дане заботились об
укреплении влияния местных святилищ быка-Ягве. После
падения Израильского царства иерусалимские жрецы,
избавившись от сильных конкурентов, успешно
проводили свои идеи централизации культа в Иерусалиме. В этом
деле серьезную помощь оказали им так называемые
пророки.
214
з) ПРОРОКИ
Под именем пророков обычно объединяют различные
категории проповедников, юродивых, «одержимых»,
знахарей, medicine men и авторов так «аз. пророческих книг.
Наиболее распространенное обозначение пророка — nabi'
от семитической основы вЬ', означающей «сообщать»,
«восклицать»», «рычать», «лаять». Но в I Сам. IX 9 дается
такая справка: «Прежде у Израиля, когда кто шел
вопросить бога, то он так говорил: давайте пойдем к
прозорливцу; ибо что ныне пророк, то в старину назывался
прозорливцем». Словом .«прозорливец» здесь переводится
го'е, «видящий». Этот термин применяется к Самуилу
(I Сам. IX 11, 18, I Хр. IX 22, XXVI 28, XXIX 29) и к Ха-
нани (II Хр. XVI 7, 10). Другим обозначением пророка
было choze— «имеющий видения»; это слово
применялось к пророкам иногда как порицание; «и устыдятся
chozim и посрамлены будут гадатели *, и закроют уста
свои все они; так как не будет ответа от бога» (Мих. III
7); в кн. Амоса VII 12 жрец святилища в Вефиле, враг
Амоса, Амасья, требует от Амоса прекращения
проповеди: «cihoze, уходи и уберись в землю иудину — там
кормись и там пророчествуй».
Гельшер 2 полагает, что го'е был гадателем,
наблюдавшим приметы и по ним предсказывавший будущее, как
римский ашрех или греческий oionoskopos.
Этимологически такое толкование вполне правдоподобно, и в этом
случае то'е в прямом смысле означало «наблюдатель». Но,
повидимому, специалистом гадателем был и choze,
получавший свои «видения» во сне и толковавший «вещие
сновидения»; о сновидении- как источнике «поорочества»
говорит Второз. XIII 2, 4, 6, Иер, XXIII 25 и Йоиль III 1,
где сновидец упоминается параллельно с choze. Такие
профессионалы состояли при свите царя (II Сам. XXIV 11:
«пророк Гад, cihoze Давида»; I Хр. XXV 5: «Еман,
царский choze»; ср. I Хр. XXI 10, XXIX 29).
Пророки не были, как мы видели, исключительно
еврейским институтом, а у евреев — исключительно
институтом Ягве. В библии упоминаются пророки Ваала (I Цар.
XVIII 19, 40, II Цар. X 19) и пророки Ашеры (I Цар. XVIII
1 В тексте «qosmim» — термин, применяемый в библии главным
образом к «языческим» гадателям.
2 G. Hols cher —Die Propheten. Lpzg., 1914, S. 125—126.
215
19), притом как многочисленная корпорация; при
исполнении своих обязанностей эти пророки совершают
ритуальные пляски вокруг алтаря, наносят себе раны мечами
и копьями, чтобы притти в пророческий экстаз (I Цар.
XVIII 26, 28). Такие же приемы применяли и пророки
Ягве; прежде чем приступить к пророчествованию, один
из «сынов пророческих» обращается к своему коллеге с
просьбой: «бей меня», а когда тот отказывается, он
обращается к другому, который и наносит ему необходимые
для «вдохновения» раны (I Цар. XIX 85—37); о нанесении
себе ножовых ран говорит и Ос. VII 14, где вместо itgo-
ruri надо читать itgrjduidii (ср. также Зах. XIII 6).
Для того, чтобы притти в состояние исступления,
пророки применяли оглушительную музыку, барабанный
бой, звуки бубен, как это принято у всех шаманов.
В I Сам. X 5—6 Самуил говорит Саулу: «когда войдешь
там в город, то встретишь сонм пророков, сходящих с
высоты, а перед ними гусли, тимпан, свирель и цитру, и
они пророчествуют». Елисей, когда к нему обращаются
за пророчеством, говорит: «подайте мне гусляра», и,
только когда музыкант заиграл, Елисея «осенил дух
божий» (II Цар. III 15). Придя в исступление при помощи
плясок, музыки, нанесения себе ран и, может быть,
опьянения (Ис. XXVIII 7, IV Езра XIV 40), пророк
произносил бессвязные слова, которые толковались затем
верующими и самим пророком. Этот способ «пророчествова-
ния», применяемый всеми шаманами, сохранился еще и в
среде христианских «пророков» в виде глоссолалии
(Деян. ап. II 4, XIX 6, I Кор. XIV) и практиковался также
в так наз. «духовном сектантстве» (средневековые биче-
валыцики, русские хлысты и др.). Глагольная форма
h'itaaiboth, которая обычно переводится
«пророчествовать», в действительности^ означает — бессвязно говорить
в состоянии невменяемости под влиянием сильного
аффекта. В этом отношении интересно описание попытки
Саула арестовать Давида (I Сам. XIX 20—23): «Тогда
послал Саул нарочных взять Давида; но они увидели
сборище пророков (lahaqatih hane'bi'im) прорицающих и
Самуила, стоявшего начальником над ними, и сошел на
посланников Саула дух божий, и они сами стали
прорицать. Когда же донесли о том Саулу, то он послал дру-'
гих послов; но и эти стали прорицать. Затем послал Саул
еще третьих послов», но и они также стали прорицать.
Тогда пошел он сам в Раму... тогда и на нем также был
216
дух божий, так что, продолжая свой путь, и он
прорицал, пока не пришел в Набст»... Особенно характерно
применение термина fbiitnlaibotih I Сам. XVIII 10: «На
другой же день случилось, что напал злой дух божий на
Саула и он пришел в исступление»; здесь wajitnabe'
означает просто состояние ярости.
Рис.38. „Вывеска" египетского
пророка-снотолкователя эпохи Птолемеев. Греческая надпись
гласит: „толкую сновидения по указанию бога.
В добрый час. Толкователь—критянин".
Festschrift fur I. Vahlen. В. 1900.
В состоянии «пророческого» исступления пророки
обнажались, совершая при этом непристойные
телодвижения (I Сам. XIX 24),
Непременным атрибутом пророка был плащ ('adereth).
В мифе об Илье плащ играет видную роль; Елисея Илья
посвящает в пророки, бросив ему свой плащ (I Цар. XIX
19); когда Илья, гласит миф, вознесся на небо, он оставил
Елисею свой плащ, и на этом основании «сыны проро-
2i7
ческие» убедились, что Елисей — законный преемник
Ильи (II Цар. II 14 ел.). При помощи плаща Илья и
Елисей совершают чудесный переход через Иордан. Даже
еще в очень позднем тексте Зах. XIII 14 «волосяная
мантия»-— характерный признак пророка.
В своей практике пророки применяли всякого рода
магические приемы, соблюдали особые приметы и
запреты. Елисей напутствует Гиезия: «если встретишь кого, не
приветствуй его; и если кто будет приветствовать тебя,
не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка»
(И Цар. IV 29). Другой пророк, не названный по имени,
должен был соблюсти специальный запрет: после
выполнения своей миссии он не должен был ни есть ни пить
до возвращения домой и не возвращаться по той дороге,
по которой шел (I Цар. XIII). Чтоб сделать съедобной
похлебку из ядовитого растения, Елисей бросает в нее
щепоть муки (II Цар. IV 40, ср. II 19—21); точно так же,
согласно Исх. XV 23—25, Моисей опресняет
горько-соленую воду, бросив в нее кусок дерева. Чтоб возвестить
обещанную Ягве победу над арамеями, Цидкия
приделывает себе железные рога, которыми цари израильский и
иудейский поразят врага.
Особенно интересен эпизод II Цар. XIII 15—19.
Израильский царь Иоас пришел навестить умирающего Елисея:
«и сказал ему Елисей: возьми лук и .стрелы. И взял он
себе лук и стрелы. И сказал царю 'израильскому: положи
руку свою на лук. И положил он руку свою. И положил
Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно
на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И
он выстрелил. И сказал: стрела победы от Ягве и стрела
победы над Сирией, и ты поразишь сириян в Афеке
совершенно. И сказал: возьми стрелы. И он взял. И сказал
царю израильскому: бей по земле. И ударил он три раза
и остановился. И разгневался на. него человек божий и
сказал: надобно было бы ударить пять или шесть раз;
тогда ты бы побил сириян совершенно, а теперь только
три раза поразишь сириян».
Специалистом по всякого рода экстатическим
видениям и нелепым магическим действиям изображается
Иезекииль; чтобы «пророчествовать», он должен
предварительно съесть некий свиток (Иез. III 1 ел.); в гл. IV
«пророку» предписывается сложный режим — 390 дней лежать
на левом; боку, затем: 40 дней на правом боку, соблюдать
строго расписанную диэту, закусывать овсяной лепешкой,
218
изготовленной на человеческих испражнениях, и т. п.
Неудивительно, что в самой библии к пророкам применяется
.бранный эпитет «сумасшедший» (II Цар. IX 11, Ос. IX 7
и особенно Иер. XXIX 26).
Интересный пример пророчества из финикийской
практики дает отчет египетского сановника Вен-Амона о
своем путешествии в Финикию около 1100 г., записанный
в так наз. «голенищевском папирусе». Когда царь Библо-
са не поладил с Вен-Амоном и предложил ему вместе с
его богом Амо«ом покинуть гавань, Вен-Амон нашел
покровителя в лице местного пророка. «Когда (царь)
однажды приносил жертвы богам, бог овладел одним из
его отроков и привел его в исступление 1 и он сказал:
«приведите бога, приведите посла, который и,м владеет!
Амон его послал, это он его привел» 2.
Пророки объединялись в корпорации — chelbel ha-
neibi'iim, lalhaqatlh Ihanebi'im; последний термин применяется
для обозначения группы лиц, объединенных общей
профессией. Отдельные группы имели своих вожаков (I Сам.
XIX 20, II Цар. II 3, 15 и др.), и между ними происходила,
надо полагать, жестокая конкуренция. В этом отношении
характерна сценка спора между двумя пророками,
описанная I Цар. XXII: Цидкия и Миха обвиняют друг друга
перед царем в извращении воли божьей и в даче
ложных указаний; в виде аргумента Цидкия отвешивает
своему конкуренту пощечину. Пророки, конечно, получали
за свою «работу» плату.' Те, ко'тррые не состояли в штате
царя или крупного сановника, получали плату за каждое
пророчество (I Цар. XII 17, II Цар. V 5, VIII 8, Миха
III 11) и подношения от верующих (II Цар. IV 42). В
частности, прибыльным было, надо полагать, врачевание,
которым также занимались пророки, в том числе, по
сообщению II Цар. XX 7, Исайя.
Отдельные пророки, устроившиеся при дворе царью!
или вельможи, пользовались иной раз значительным
влиянием на внутреннюю и внешнюю политику царя и его
клики. Особенно в этом отношении выделяется Иеремия.
В борьбе могущественных держав Востока за обладание1
Сирией и Палестиной Иеремия занял твердую вавилоно-
фильскую позицию. Он упорно" восстает против попыток
1 Киттель (GVI 11,331) предпочитает другой перевод: «и пустил
его в пляо, hoJ смысл в обоих случаях тот же; детерминатив к
этому месту изображает человека, бегущего с поднятыми руками.
2 АОТВ, 1, S. 72.
219
иудейских царей освободиться с помощью Египта от ига
Вавилона1; он настойчиво убеждает своих соплеменников
оставаться в покорности Вавилону, а во время осады
Иерусалима он агитирует за переход на сторону
неприятеля. «Так говорит Ягв«!вот я предлагаю вам путь жизни
и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет,
либо от меча, либо от голода, либо от язвы; а кто
выйдет отсюда и предастся халдеям, осаждающим вас, тот
будет жив» (Иер. XXI 8—9). А когда вавилоняне в виду
•наступления египтян сняли осаду Иерусалима, Иеремия
действительно, как сообщается у Иер. XXXVII, собрался
«предаться халдеям», но был захвачен в пути и
арестован. Понятно поэтому, что после взятия Иерусалима
победители освободили Иеремию, как своего агента,
одарили его и предоставили ему право выбрать себе любое
местожительство (Иер. XL). Но рядом с Иеремией
действовали и другие «пророки», другой ориентации, вроде
Анании, сына Азура (Иер. XXVIII).
Конечно, редакторы исторических и «пророческих»
книг обработали предани в духе своего богословия, и
сообщаемые в этих книгах сведения о «пророках» нельзя
принимать за достоверное изложение исторических
событий. Но не подлежит сомнению, что пророки играли
далеко не последнюю роль в дворцовых и
внешнеполитических интригах.
Богословы обычно противопоставляют жрецов и
пророков: в ТО' время как жрецы преданы только грубому
культу, пророки будто бы проповедуют возвышенную
мораль и идеи монотеизма. В действительности, те
пророки, которые не занимались только знахарством и
гаданием, а обслуживали культ Ягве, входили в состав клира.
«Жрецы и пророки» сплошь и рядом упоминаются в
библии как одно целое. Пророки выступали с проповедью
в храме (Иер. XXVL, XXVIII, XXXVI), а еще до
существования храма они связаны с «высотами» (I Сам. X 5). Как
показал Мовинкель (II 14 ел.), выступления пророков
входили в ритуал богослужения, причем их предсказания
и поучения составлялись по определенному заданию с
применением традиционных технических приемов.
Особое место занимают те пророки, чьи проповеди,
поучения, оракулы, литургические произведения и поли-
1 Против союза с Египтом резко восстает и автор Ис. XXX—
XXXI.
220
тические выступления были зафиксированы в разное
время и дошли до нас в виде «пророческих книг». Таких
Scihriftpropihetien библейская традиция сохранила 15-—
Исайя, Иеремия, Иезекииль и так наз. «двенадцать», или
«малые пророки». Как мы видели, критика библейского
текста давно установила, что книги пророков отюдь не
представляют цельных произведений, вышедших из-под
пера одного лица, и что даже имя того «пророка»,
которому приписывается та или иная книга, большей частью
связано с ней случайно, по прихоти редактора и
составителя ее. Выделение из каждой книги ее основного ядра
и позднейших наслоений — большей частью совершенно
неразрешимая задача, тем более- что во многих случаях
и ядра никакого нет, а есть лишь механическое
соединение разнородных элементов. Совершенно гадательяа
также датировка «пророческих книг». Для примера
достаточно указать, что даже крошечная «книга» Обадии
(Авдия), содержащая всего 21 стих, состоит, по мнению
Робинзона 1, из 7 частей, представляющих собою обрывки
произнесенных в разное время разными лицами рропо-
ведей против Едома. А дата «Обадии» колеблется у
разных исследователей от IX в. (Зеллин) до V в. (Вельгау-
зея)! Даже в тех случаях, когда пророческая проповедь
переплетается с изложением исторических событий или с
намеками на них, это не всегда помогает установить
дату их написания, так как «пророки», конечно, дают
^aticindoim ex eventu, т. е. «пророчествуют» о
прошедших событиях. Поэтому если, например, Мих. I 6
«предсказывает» опустошение Самарии, то это никак не может
служить доказательством того, что этот текст написан до
разрушения Самарии в 722 G21) г.; напротив, отсюда
надо.. делать вывод, что текст написан после гибели
Самарии; но в таком случае дата становится совершенно
неопределенной. Естественно, что критики обнаруживают
резкие расхождения между собою даже в анализе и
датировке таких, казалось бы, «датированных» книг, как кн.
Иезекииля. В то время как большинство библеистов
считают автором основного текста книги пророка
Иезекииля, уведенного в изгнание в 598 г. в Вавилон, Гельшер 2
считает, что лишь незначительная часть книги напи:ана
1 Th. H. Robinson —The Structure of the book Obadiah.
«Journal of Theological studies», 17 A916), p. 402—403.
! G. Holsc her —Hesekiel, der Prophet und das Buch. 1924;
«Geschichte der Israel, und jiid. Religion», 1922.
221
Иезекиилем, да и та дошла до нас не в первоначальном
своем виде, а как составная часть книги неизвестного
автора V в., ложно приписавшего свою книгу древнему
пророку-жрецу. Еще дальше идет Торрей, объявляя
книгу Иезекииля псевдэпиграфом, составленным в 230 г.
А еще задолго до Торрея Цунц и Зейнеке полагали, что
кн. Иезекииля написана чуть ли не во II в. *.
Таким образом, когда мы говорим: кн. «Амоса»,
«Исайи» и т. п., то под этим надо понимать не реального
автора определенной книги, а лишь условное
обозначение вместо многословного «книга, составленная из разных
элементов и приписанная библейской традицией Амосу,
Исайе» и т. п. В отношении «пророка Малеахи» (Мала-
хии) условность обозначения тем- более подчеркивается,
что Малеахи — даже не собственное имя; mffll'aki значит
«мой вестник» (ангел); слово это попало в надписание
книги (Мал. I 1) по ошибке из III 1 и было потом
принято за собственное имя.
С этой точки зрения безразлично, считать ли стихи
1—3 гл. III Михея, дословно повторяющиеся у Исайи II
2—4, принадлежащими Михею или Исайе: и то и другое
предположение одинаково бесплодно. И ничего не дает
нам статья К. Будде, изощряющегося в доказательстве
того, что текст этот — ни Михея, ни Исайи, а составлял
первоначально конец кн. Иоиля2. «Нет никаких
оснований думать, — пишет упомянутый уже Робинзон, — что
книги пророков написаны теми лицами, чьи пророчества
они содержат. Исключение, может быть, лишь Иезекииль,
Хаггай (Аггей) и Захария» 3.
Отсюда, однако, не следует, что в том хаотическом
смешении разнородных элементов, которое представляют
собою пророческие книги, совершенно невозможно
установить какую бы то ни было хронологическую
последовательность. Во-первых, относительная хронология
в некоторых случаях может быть установлена вполне
ясно. Так, если Иер. XXVI 18 ссылается на пророка
Михея, то очевидно, что приписываемая Михею книга —
отчасти или даже, может быть, целиком — была в
обращении уже до составления кн. Иеремии; упоминание
Исайи II Цар. XIX 20 ел. говорит о том, что «пророк
1 О. Eissf eldt —Einl. in das A. T. Tbng., 1934, S. 414 ff.
2 ZDMG, NF, 6 A927), S. 152 ff.
3 Th. H. Robinson — Die Prophetischen Biicher im Lichte neuer
Entdeckungen, ZAW, NF 6 A927), S. 4.
222
Исайя» уже существовал в исторической традиции ко
времени редактирования кн. Царей.
Во-вторых, во многих случаях в самих «пророчествах»
рисуется конкретная историческая обстановка и реальные
исторические лица. Так, у Ис. VII 1—10 речь идет о
походе сирийского (арамейского) царя Рецина и
израильского — Ф'акея (Peqaah) яа Иерусалим, против иудейского
царя Ахаза. Гл. XXXVI—XXXVII Ис. подробно
рассказывают о походе ассирийского царя Санхериба на Иудею.
Кн. Амоса VI 10 ел. упоминает об израильском царе
Иеровоаме II. В книге Иеремии «пророчества» почти яа
протяжении всей книги переплетаются с изложением
исторических событий. «Пророк» Аггей — деятельный
участник кампании по восстановлению иерусалимского
храма и точно датирует свои проповеди годами
царствования персидского царя Дария I. Таким образом,
отдельные оракулы, отдельные тексты могут быть вполне точно
датированы.
Правда, мы знаем, что книга Даниила, написанная
около 164—163 г. до хр. э., тоже приурочивает свои
«события» к определенным историческим лицам и датам
VI в. и что вообще историзация мифов и фальсификация
истории — вполне обычное и нормальное явление в
«священных» книгах. Поэтому надо относиться с большой
осторожностью к историческому содержанию
«пророчеств». Только в том случае, когда свидетельства
«пророческих книг» оказываются способными устоять против
перекрестного допроса и вполне согласуются с другими
источниками, когда содержание «пророчеств» и стиль
изложения согласуются с эпохой, к которой их относит
составитель, можно с некоторой достоверностью
установить их дату. При этом необходимо иметь в виду, что
дата деятельности «пророка», если он — историческое
лицо, дата первого собрания подлинных его оракулов и
дата составления «книги пророка» в том виде, как она
имеется в существующем ныне каноне, — не совпадают и
между ними возможно расстояние ..в несколько веков.
Со всеми этими оговорками можно выделить, как
древнейших, следующих «пророков»: Осия, Амос, Исайя
или Первоисайя (т. е. условное имя автора большей части
кн. Ис. I—XXXIX), Михей относятся кП/Ш в.; Наум (На-
хум), Софония (Цефания), Аввакум (Хаббакук),
вероятно, — к VII в., Иеремия, Второисайя (автор Ис. XL—LV)—
к VI в.
223
Обращаясь к содержанию пророческих книг,
поскольку в них можно выделить действительно древнее ядро,
необходимо прежде всего снова подчеркнуть, что этот
род литературы отнюдь не специфически еврейский.
Образцами для них послужили соответствующие
финикийские, вавилонские, ассирийские и египетские «пророки»
Выше мы уже приводили кой-какие параллели к проро
ческой литературе из вавилонских текстов. Эд. Мейер
особенно подчеркивает зависимость древнееврейской про
роческой литературы от египетской. Последняя, по
Эд. Мейеру, следовала такой схеме: «Сначала
наступит пора ужасного бедствия, которое поставит в
Египте все вверх дном — чужеземцы совершают
нашествие на страну, рабы превращаются в господ, знатные
люди погибают, их жен обращают в рабство, рушится
весь социальный строй, храмы разграблены и
осквернены, мистерии профанируются, а сам царь уводится в плен
или вынужден спасаться бегством в чужую страну. Затем
следует эпоха, когда боги снова обращают свою милость
на страну египетскую, праведный, угодный богам
властитель из семени Ре прогоняет врагов, восстанавливает
культ и старый порядок, покоряет соседние страны и
долго царствует безмятежно». Эту схему Эд. Мейер
видит и в книгах древнейших иудейских пророков:
«Сначала — период тяжелых бедствий, гибель государственной
власти, опустошение страны и ее святынь, а затем —
великолепие мессианского царства под эгидой праведного,
угодного богу царя из древнего законного рода, кото-;
рому подчиняются все народы» 1.
Набросанная Эд. Мейером схема слишком обща, чтоб
ею можно было объяснить содержание пророческих
книг. С другой стороны, при всей условности египетской
«пророческой» литературы она содержит в себе смутное
отражение реальной классовой борьбы, происходившей в
Египте; в поучении Ипувера, на которое ссылается
Эд. Мейер, несомненно, картины ниспровержения всех
устоев классового государства навеяны восстанием
беднейшего крестьянства и рабов против крупных
землевладельцев— жрецов и рабовладельцев. Но схема Мейера
верна в том смысле:, что «пророчества» еврейских
пророков нельзя принимать за чистую монету; весьма многое
в содержании «пророческих книг» — результат следования
1 «Israeliten», S. 451.
221
установившимся литературным образцам, определенному
шаблону. Автор кн. Амоса в период наивысшего
могущества Израильского царства рисует столь же грозные
картины близкой гибели Самарии, как и «пророки» эпохи
падения Иудей, ибо таково формальное требование,
предъявляемое к «пророку»: он должен обличать, затем
угрожать и, наконец, утешать повергнутых"!'"трепет
слушателей.
Основное идейное содержание пророческих книг —
пропаганда культа Ягве. Все бедствия народные ■—
прошлые, настоящие и будущие — проявления гнева Ягве
против греховного забвения его заветов, против «блуда»
с другими богами. Этот мотив в бесчисленных вариациях
с утомительным и нудным постоянством проходит во всех
пророческих книгах. При этом пророки нигде не
выступают против культа других бегов вообще; в своих
многочисленных грозных проповедях против египтян,
вавилонян, финикиян, ассирийцев и других народов они не
ставят им в вину греха «язычества»; они принимают как
должное то обстоятельство, что каждый народ
поклоняется своему богу; но они требуют, чтобы евреи также
почитали верховным богом иудейского Ягве. Мало того,
не видно, чтобы пророки выступали против культа
низших божеств, подчиненных Ягвех. Мнимый монотеизм
древних пророков ничем не отличается от монотеизма
вавилонского или египетского, и Бэнч, старающийся из
Btex сил найти в еврейском монотеизме «более
возвышенные» черты, чем в монотеизме других народов того
времени, ни на какие аргументы не может опереться,
кроме хвоего благочестивого желания 2. Древневосточный
монотеизм «есть только копия единого восточного
деспота» 3, и, поскольку власть этого деспота ограничена
территорией его царства, власть единого бога простирается
лишь на его страну. «Полагайся на небо, не полагайся на
другого бога. Мардук наказал за вторжение чужеземных
богов в его город разрушением халдейского царства4.
Если подставить в эту надпись Ададнирари III (812—783)
вместо имени Небо имя Ягве, то мы получим кредо ев-
1 Подробно см. Н. М. Школьскгй— Полгшзм..., стр. 43
ел., 51 ел.
2 В. Bantscsh— Altorientalischer und israelitischer Monotheis-
mus. Tbng., 1906.
3 Энгельс, письмо к Марксу, соч., т. XXI, стр. 45.
4 Ad. L о ds — Israel. P. 363.
15-8
225
рейских пророков. Они заложили лишь основы культа
национального исключительно еврейского бога Ягве, и
мы имеем здесь фантастическое религиозное отражение
образования классового государства, в котором роль
.религии как опиума народа выражается между прочим
в том, что она замазывает классовое неравенство и
выдвигает на .первый план национальное единство и
религиозную исключительность.
В своей проповеди религии верховного еврейского бога
Ягве пророки (т. е. Sahriftpropheten) продолжали и
развивали богословие иерусалимских.,жрецовг к сословию
которых некоторые ..пророки'ТГёами принадлежали.
Естественно, что они отнюдь не восставали против обрядовой
практики — не только храмового культа, но и гаданий,
знахарства и других суеверий; они требовали лишь
соблюдения верности по отношению к Ягве, его храму, его жрецам
и пророкам. Богословы, обычно приписывают пророкам
более отвлеченные представления о божестве, чем рисуется
Bi библии, и более «возвышенные» требования к культу.
Ссылаясь на Ис. I, 11 ел., богословы и восторженные
историки-идеалисты превозносят «высокие идеалы» пророков,
требовавших не жертв и всесожжении, а нравственной
чистоты и социальных добродетелей. Оставляя в стороне
оценку того или иного рецепта религиозного опиума как
более высокого или более низменного, надо отметить,
вО-первых, что указанный текст Исайи не характерен не
только для пророков вообще, но и для самого Исайи.
В той части Ис. I—XXXIX, которая приписывается Перво-
исайе, пророк нигде больше не высказывается против
жертвоприношений; напротив, рисуя мрачную картину
будущего разорения и гибели страны (Ис. IV 1 ел.), он
отмечает также как несчастье отсутствие гадателей и
знающих чары (nebon laahasch). Современник Первоисайи,
Гошеа- (Осия), грозит израильтянам, что «долгое время
сыны Израиля будут сидеть без царя, без повелителя,
без жертвы, без массебы, без эфода, без терафим»
(Гош. III 4). "Он" возмущается не «грубым» соде р ж а-'
ни ем культа, а лишь тем, что объектом культа
служит не Ягве: «народ мой вопрошает свое дерево, и
жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в
заблуждение и, блудодействуя, они отступили от бога своего.
На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах
совершают каждение под дубом, тополем и теребинтом»
(Гош. IV 12—13). Другой пророк VIII в. Амос также вы-
226
ступает против жертвоприношений в Бетэле (Вефиле),
т. е. в святилище, конкурировавшем с иерусалимским
храмом; но он не возражает против храмового культа в
Иерусалиме: «Не обращайтесь в Вефиль, не ходите в Гил-
гал и в Вирсавию не странствуйте... Обратитесь к Ягве,
и вы будете живы» (Ам. V 5—6). Иеремия, сам бывший
жрецом, настойчиво требует от иудеев, чтоб они
держались установленных обрядов, а Иезекииль, как известно,
сам разработал подробный ритуал, какой должен быть
установлен в будущем храме в Иерусалиме, и точно
определил, когда какие жертвы надо приносить.
Во-вторых, этическая окраска старого культа, которая
действительно намечается в пророческой литературе,
является неизбежным продуктом клаееово-эксплоататор-
ского строя. Прежние магические действия в новых
условиях, когда религия питается главным образом
социальными корнями, получают новое оформление, новое
богословское обоснование, сочетаясь с нормами классовой
морали. И совершенно не случайно, что Ис. I 11 ел. имеет
свою параллель в вавилонском тексте, обращенном к
богине Иштар: «что нам дать тебе, жирных быков, тучных
овец? — Не хочу я есть жирных быков, тучных овец;
пусть мне предъявят величественных женщин, -прекрасных
мужей»!.
«Этический монотеизм» пророков, как его рисуют
богословы, существует только в воображении этих
богословов. Против него свидетельствуют сами пророки.
Религиозные воззрения «пророков» определялись
отношениями реальной жизни, которые не были иными в
Иудее, чем в Вавилонии и Ассирии. Монотеизм, бывший
«исторически последним продуктом позднейшей
греческой вульгарной философии и нашедший свое
воплощение в иудейском, исключительно национальном боге
Ягве» 2, возник как конкретная религия гораздо позднее.
Древнейшие пророческие оракулы относятся к
периоду земельного переворота в Иудее и Израиле, вызванного
распадом родовых связей. «Право отдельных лиц на
владение предоставленными им первоначально родом или
племенем земельными участками упрочилось теперь
настолько, что участки стали принадлежать им на правах
наследственной собственности. К чему они за последнее
время более всего стремились — так это именно к осво-
! АТАО, S. 564.
2 Энгельс —Анти-Дюринг. Партиздат, 1936, стр. 230.
15*
227
бождению парцеллы от прав на нее со стороны родовой
общины, что стало для них оковами. Оковы эти исчезли,
но вскоре после того исчезла также и их новая
земельная собственность» 1. И территориальная община там, где
она сохранилась, не могла защитить крестьян от
концентрации и централизации богатств в руках
немногочисленного класса. В библии мы видим «отзвуки процесса
земельного переворота, не закончившегося еще в VII з.,
когда запоздалые проекты реформ пытались поставить
предел окончательному уничтожению самостоятельного
крестьянства или, по крайней мере, ослабить губительные
последствия переворота для крестьянской массы.
Увещания и запрещения кн. Второз. и Лев. обнаруживают, что
обезземеливание крестьянства шло двумя путями: путем
земельной мобилизации, купли-продажи, и путем
захвата» 2. Источники не сохранили нам сведений о попытках
революционного сопротивления крестьянства этому
процессу. II Цар. XIV 19 ел. сообщает о мятеже против царя
Азарии. В другом случае, наоборот, ам-гаарец перебили
мятежников, убивших царя Амона, и посадили на трон
сына убитого (II Цар. XXI 23 ел.). Но причины,
обстоятельства и последствия этих мятежей неизвестны; так же
неизвестны и причины убийства других царей и смены
династий в Израильском царстве. Во всяком случае
революционные выступления крестьянства, если они имели
место, не могли остановить процесс обезземеления и
закабаления крестьянства. Отсюда мессианские
настроения и чаяния, которые должны были примирить
обездоленных с их горькой участью.
Эти настроения отразились в пророческой
литературе, и в этом отношении она является ценным источником
для характеристики социальной борьбы в царский
период.
В произведениях древнейших пророков изредка
звучат социальные мотивы — пророки выступают как-будто
в защиту угнетенных, обличая беззакония, жадность и
жестокость власть имущих. Такого рода фразы, умело
подобранные, служат благодарным материалом для
поповской социальной демагогии и приводят в умиление
еврейских буржуазных националистов и исследователей
'Энгельс — Происхождение семьи, частной собственности
государства. Стр. 145.
2 Н. М. Никольский — Мотивы крестьянского мессианизм
в пророчестве VIII в.
228
типа социал-демократа Мауренбрехера. Пророки
изображаются чуть ли не революционерами, боровшимися за
права униженных и оскорбленных.
В действительности пророки нисколько не повинны в
приписываемых им заслугах перед народом. Во всех
пророческих книгах выступлений против энати и в
защиту обездоленных едва насчитывается десяток; при
этом Ис. III 18 и Ам. VI 3 направлены против^ роскоши,
Гош. IV 1—3 — обычное обличение «проклятий, обмана,
убийства, грабежа, прелюбодеяния», Ам. УШ 4—б
направлено против жадности, так же как Ис. V 8—9. Так что
в сущности речь идет о 3—4 фразах (Ис. X \, Мих. II 1—2,
III 2,9, Ам. II 6—7): «горе тем, кто произносит
несправедливые проповеди, и тем, которые пишут несправедливые
решения, чтоб отклонить бедного от суда и чтобы
похитить право у бедного моего народа, чтобы вдовы
сделались их добычей и чтобы ограбить сирот» (Ис. X 1—-2);
«горе помышляющим о неправде и на лож^х своих
придумывающим: злодеяния, которые совершают утром^на
рассвете, когда есть в руке их сила. Пожелают полей и
отнимают их, — домов — и захватывают и£, притесняют
человека и его дом, мужа и его достояние» (№их. Vi
1—2). Таковы наиболее сильные места в социальной
проповеди пророков.
Но в данном случае пророки лишь повторяют в
образной речи моральные предписания библейского
законодательства, которые мы встречаем и в «Книге завета»,
и во Второзаконии, и в Жреческом кодексе. Объективное
назначение этой, как и всякой иной, религиозной морали'
в тем, чтоб подавить классовую борьбу угнетенных про-,
ти:в эксплуататоров. Как мы уже отметили, в источниках
сохранились лишь слабые следы воспоминаний о
революционных выступлениях народных масс, и мы не знаем
их результатов; но во всяком случае они не изменили
положения вещей. В классовой борьбе рабы в то время
могли быть только страдающей стороной, а шансы
обездоленных и порабощенных крестьян также были низки,
так как маленькая Иудея, как и Израильское царство,
находилась в зависимости то от Вавилонии, то от
Ассирии, то от Египта, ^отечестаен^
рались на силу-иноземных владык. Победоносная
революционная борьба в ' таких условиях была не под силу
безоружным и неорганизованным крестьянским массам.
Рабы могли только мечтать о свободе, крестьяне — об
229
уничтожении кабальных обязательств, о . снижении
ростовщических процентов, о прекращении экспроприации
мелкой земельной собственности.
Это бессилие угнетенных в борьбе против гнета
находило свое религиозное отражение в утешительной мечте
о золотом веке, когда волк будет жить в мире с
ягненком, в проповеди любви к ближнему, во внеклассовой
морали, которая во все века не была обязательной для
эксплоататорских классов; ведь нарушение моральных
заповедей по отношению к низшим классам не карается
законом. Библия предписывает побить камнями невесту,
оказавшуюся лишенной девственности, так как это
затрагивает интересы собственника-мужа," но за
ростовщичество или продажу в (рабство ближнего своего библия
никаких санкций не устанавливает. Наоборот, она сама
оставляет лазейку для слишком совестливого
рабовладельца. Запрещая взимать ростовщические проценты с
брата своего (Лев. ХХУ 35—37)^ она^тут же (ст. 39)
разрешает продать этого «брата» в рабство. 1еКНйга завета»
запрещает ростовщичество', угрожая, что обиженный
«возопиет ко; мне, и я услышу» (Исх. XXII 26), — угроза
не страшная, тем более что от бота всегда можно
откупиться жертвой. Даже жестокий закон о шестилетнем
сроке кабального рабства (мы уже упоминали, что кодекс
неосененного благодатью Ягве вавилонского царя Хам-
мураби ограничивает этот срок тремя годами) никогда не
соблюдался. Когда во время осады Иерусалима
потребность в людях побудила царя и знать освободить рабов
и рабынь, давно отслуживших свой срок 1, то они
поспешили вновь завладеть этими рабами, как только гроза
миновала (Иер. XXXIV).
Те несколько стихов, к которым сводится «социальная
проповедь пророков», так же как соответствующие
библейские заповеди, направлены лишь против упадка б л а-
г о ч е с т и я, а отнюдь не против социального строя. В
мифе об Елисее приводится такой эпизод: вдова бедняка
жалуется пророку, что ростовщик собирается увести в
рабство ее детей за долги; Елисей нисколько не
смущается самим фактом обращения детей в рабство; но он
совершает чудо, дающее возможность |Вдове уплатить
1 При этом царь Цидкия заключил с народом «завет»,
совершив интересный обряд прохождения между частями рассеченной
телки (ср. Быт. XV); об этом примитивном обояде см. Frazer—
Folklore in the Old Testament. P, II, pp. 391—428.
230
долг (II Цар. IV 1—8). Первоисайя, ближайший друг и
советник царя, не представляет себе иного социального
строя, -чем существовавший в то время; нарушение
существующих порядков— величайшее бедствие, какое рисует
себе его фантазия: «Вот господь, Ягве_Саваоф, отнимет
от Иерусалима и от Иудеи подкрепление и помощь,
всякое подкрепление хлебом и подкрепление водой,
храброго и воина, судью и пророка, гадателя и старейшину,
пятидесятника и знатного, советника, мудрого мастера и
понимающего чары... Юноша будет дерзок перед старцем
и незнатный перед знатным» (Ис. III 1—5).
Обличительные проповеди пророков, как и все такие поповские
проШтееди во все времена, направлены не против
социальных зол, а против греховности людей перед богом; в
эту сторону они направляют внимание угнетенных и
эксплоатируемых. Нигде...нет у них речи о переделе
земли, об уничтожении кабальных записей, об отмене
долговых обязательств, как мы это видим в аналогичных
условиях в древней Греции VII —VI вв.
Если пророки иной раз выражают недовольство
существующим строем, то с позиций реакционных, в смысле
идеализации старины, восхваления примитивной простоты
нравов в давно прошедшие времена. Сюда относятся
выступления пророков против роскоши и всякого рода
новшеств или недовольство Гошей (VIII 14) тем, что
Израиль строит дворцы и укрепленные города. Но и эта
черта встречается лишь у пророков VIII в. Иер. XXV
сообщает о секте рекабитов: «Ионадаб, сын Рекаба, отец
каш, завещал нам, сказав: не шейте вина, ни вы, ни детц
Ыши, во веки; и домов не стройте, и семян не сейте', и
[иноградников не возводите, и не имейте их; но живите
шатрах во все дни жизни вашей». Автор хвалит река-
итов и ставит их в пример иудеям, но лишь как образец
послушания и повиновения заветам предков; само же
учение рекабитов у него сочувствия не встречает.
>К весьма распространенным заблуждениям надо
отнести преувеличенное представление о формальном
мастерстве пророков как писателей или ораторов. Это
представление—результат благоговейного отношения верующих
к тексту «священного» писания. Но достаточно читать
пророческие книги без всякой предвзятости, чтобы
убедиться в том, что их несомненные художественные
достоинства сильно преувеличены. Образность речи и ее —
подчас — взволнованность много теряет от примитивно-
231
сти поэтических приемов (нагромождение образов,
параллелизм частей), запутанности изложения, отсутствия
стройности и ясности. К этому надо добавить еще
искажения и неорганические вставки^ которые щедро
вносились в пророческие книги позднейшей редакцией.
Неудивительно, что комментаторы подчас становятся втупик и
не в силах дать удовлетворительный перевод и
толкование многих бессмысленных мест у пророков.
ОТИЕРОКРАТИИ
К СИНАГОГЕ И ТАЛМУДУ
$
1. РЕСТАВРАЦИЯ ИЕРУСАЛИМА И ЕГО ХРАМА
597 г. халдейский (вавилонский) царь
Навуходоносор взял Иерусалим, увел в
изгнание значительную группу иерусалимской
знати, сместил царька Иоахина и посадил
на его место Цидкию (Седекию). Однако
последний восстал против своего
повелителя,, и Навуходоносор предпринял новую
карательную экспедицию против Иудеи. В 586 г.
Иерусалим снова был взят и разрушен, храм Ягве сожжен,
родовитая и земельная знать, высшие чиновники,
торговцы и искусные ремесленники были уведены в плен.
Иудея перестала существовать как отдельное, хотя бы и
зависимое, государство, а столица была вконец разорена
и опустошена. Это событие буржуазные историки и
богословы изображают чуть ли не как мировую
катастрофу, которая предопределила дальнейшую судьбу
человечества. Такая преувеличенная оценка этого вполне
заурядного для того времени события имеет целью
возвеличить иудейскую религию и вышедшее из его недр
христианство. Для этих «ученых» история Иудеи —
«священная» история, и каждый ее эпизод имеет поэтому
233
мировое значение. Известный буржуазный историк
евреев С. Дубнов озаглавил свой последний многотомный
труд «Die Weltgeschidhte des jtodiscihen Volkes». Правда,
этот заголовок не совсем грамотен; следовало бы
сказать— Дубнову на это было указшо — Geschichte des
judiiscben VO'llkes im Rathmen der Weltgeschkhte. Но
Дубнов, оказывается, умышленно дал своей книге столь
странное заглавие. Он считает, что -история евреев —
мировая история1.
В действительности падение Иерусалима и
вавилонское пленение не только не было крупным событием той
эпохи, но и мало что изменило в положении
большинства трудящихся самой Иудеи.
По сообщению Иер. LII 28—30 в Вавилонию было
уведено в плен в три приема всего 4 600 человек, а
именно: «В седьмом году (царствования Навуходоносора, 597 г.
до хр. э.) три тысячи двадцать три иудея; в
восемнадцатом году Навуходоносора E86) переселил он из
Иерусалима восемьсот тридцать две души; в двадцать третьем
году Навуходоносора E81) Навузардан, начальник
телохранителей, переселил семьсот сорок пять душ из
иудеев». Кроме того, после убийства Гедалии,
поставленного вавилонянами наместником над Иудеей, некоторые
оставшиеся в стране военачальники с «женами, детьми и
евнухами» эмигрировали в Египет, опасаясь гнева
вавилонян. «Бедных же из народа, которые ничего не имели,
Навузардан, начальник телохранителей, оставил в земле
Иудейской и дал им тогда же виноградники и поля»
(Йер. XXXIX 10, ср. LII 16, II Цар. XXV 12). Это было в
порядке вещей, так как завоеватели были
заинтересованы в том, чтоб земля не пустовала. Эту политику
наделения крестьян землей на кабальных условиях —■ иногда
в принудительном порядке — проводили также преемники
вавилонских и персидских царей — Селевкиды и
Птолемеи, а затем и римляне.
Вряд ли положение еврейских земледельцев
ухудшилось от замены отечественных эксплоататоров (там, где
они были забиты или уведены в плен) чужеземными.
Конечно, они должны были платить зем-ельную и, вероятно,
подушную подать, но нет оснований думать, что
вавилонские чиновники и персидские сатрапы вымогали
1 S. D u b n о w — Die Weltgeschichte des jiiidischen Volkes, В., s.
а. (предисловие к I т. датировано мартом 1925 г.). В. 1, S. XIII,
234
больше, чем их еврейские предшественники. И уж во
всяком случае долговые обязательства по отношению |к
изгнанникам сами собой отпали. Неудивительно поэтому,
что [впоследствии еврейское население Палестины
противилось мероприятиям вернувшихся эмигрантов по
восстановлению храма в Иерусалиме и старых допленных
порядков и отношений.
■ Ушедшие в изгнание сумели быстро приспособиться
к новым условиям жизни. Большинство сохранило
старые торговые, политические и личные связи с
вавилонянами, многие сумели захватить с собой имущество и
рабов. В вавилонских и ассирийских памятниках VI в., в
частности в архивах крупнейших вавилонских банкиров
Эгиби и Мурашу, часто упоминаются, судя по именам,
евреи дельцы и государственные чиновники.
Но невольные эмигранты, конечно, не все ^сумели
устроиться на новом месте. Многим, надо полагать,
довольно солоно пришлось, когда они лишились своих земель,
торговых предприятий и государственной службы и
должны были искать на чужбине случайных заработков.
Особенно туго пришлось, надо думать, оказавшимся в
изгнании жрецам. Мы не имеем прямых указаний на то,
что и жрецы были уведены в плен; в числе категорий
лиц, подвергшихся изгнанию, жрецы не упоминаются.
Hoi, несомненно, верхушка иерусалимского жречества,
непосредственно связанная с храмом и с царским дво-'
ром, разделила участь своих хозяев. Во всяком случае, по
сообщению библии, Иеремия ушел в Египет вместе с
последней партией изгнанников и беженцев, а «прорбчест-.
вовавший» в Вавилоне Иезекииль был жрецом.
В этой среде непристроивщихся эмигрантов и
оставшихся не у дел жрецов не угасала мечта о возвращении
на родину, где они могли бы при поддержке
вавилонских, а затем персидских властей полрежнему угнетать
«излюбленный народ Ягве». В ожидании лучших времен
они на досуге разрабатывали программу будущего
храмового богослужения (Иезекииль) и развивали
богословские идеи, заимствованные у более искушенных,
выросших в стране более высокой культуры вавилонских
жрецов (Второисайя).
Буржуазные историки и богословы, игнорируя
оставшиеся в Иудее трудящиеся массы и отожествляя
еврейскую нацию с кучкой уведенных в плен рабовладельцев,
ростовщиков и жрецов, изображают «эпоху плена» как
235
период особого «напряжения еврейского духа», когда
«выковывалась мировая религия иудаизма», был создан
«этический монотеизм» и тому подобная чепуха. Этому
поповскому хору вторит и 'Каутский. «Оно (иудейство),—
пишет он, ■— продолжало существовать в изгнании как
нация, но как нация без крестьян, как..надйя,..£0'стря,щая
исключительно из горожан». «Национальное горе
доставляло развившемуся уму более благородные объекты для
размышления, чем личная выгода... Социальное чувство,
этический пафос становились интенсивнее, и они
стимулировали иудейский ум к глубочайшим размышлениям
о причинах несчастий, преследовавших нацию, и о
средствах, при помощи которых ее можно было бы
возродить». В результате этих «глубочайших размышлений»,
«когда евреи вновь вернулись., на родину, в Иерусалим,
религия их настолько развилась и одухотворилась, что
грубые представления и обычаи культа отсталых
иудейских крестьян должны были производить на них
отталкивающее впечатление»1. В этой концепции Каутского
дана квинт-эссенция того настоенного на национализме
религиозного опиума, которым еврейские и христианские
попы опаивают трудящихся: здесь и эксплоататорская
клика в роли единственных представителей еврейской
нации («отсталые иудейские крестьяне» и рабы у
Каутского в счет не идут), и религия как основа «социального
чувства» и «этического пафоса», здесь и «национальное
горе» и «иудейский ум», которые оказываются стимулом
и средством для «глубочайших размышлений о
благородных объектах», и возвышенная и одухотворенная
религия, которой рабовладельцы и ростовщики
благодетельствуют коснеющую в грубом невежестве чернь.
Эту концепцию, которую в столь неприкровенном виде
стесняются проводить даже некоторые буржуазные
историки религии (например Гелыпер), опровергает само
«священное писание». Когда после падения Вавилона в
538 г. новый владыка Востока персидский царь Кир
разрешил восстановить иерусалимский храм, нашлось, по
сообщению Нехемии VII 66 и Езры II 64, 42 360 человек,
пожелавших вернуться на родину. Изгнанники привели с
собой 7 337 рабов. Цифра «возвращенцев» явно
преувеличена, так как за пятьдесят лет количество изгнанников
'К. Каутский — Происхождение христианства. М—Л., 1930,
стр. 188, 189, 192.
236
не могло возрасти в десять раз. Кроме того, как
отметил Спиноза, если сложить указанные Езрой и Нехеми-
ей отдельные цифры для различных возвратившихся
групп (эти цифры в обеих книгах разные), то в итоге
получится не 42 360, а 29 818 (у Езры) или 31 089 (у Нехе-
мии) Ч Как бы то ни было, многие из эмигрантов, по
свидетельству Езр. I 4, не пожелали вернуться, а из Египта,
где обосновались еврейские колонии, ни у кого, повиди-
мому, не оказалось охоты возвратиться в «святую
землю». Что касается трудящихся Палестины, то они
встретили, возвращающихся эмигрантов с нескрываемой
враждебностью — для них восстановление старых порядков
означало добавочное тяжелое ярмо к тем тяготам,
которые налагала на них персидская деспотия. Идея
постройки нового храма в Иерусалиме не встретила
сочувствия в массах. «Пророк» Хаггай (Аггей), игравший роль
политического агитатора при персидском ставленники,
«потомке Давида» Зерубабеле (Зоровавеле), в 520 г.
жалуется: «эти люди говорят: не пришло еще время, не
время строить дом Ягве» (Хаг. 12); он грозит: «ожидаете
много, а выходит мало; и что приносите домой, то я
развею; за что? говорит Ягве Саваоф —за то, что мой
дом в запустении, между тем как вы хлопочете каждый
о своем доме. Посему-то небо «е дает вам росы, и земля
не дает своих произведений. И я призвал засуху на
землю, на горы, на хлеба, на виноградный сок, на елей и на
все, что производит земля, и на человека и на скот, и
на всякий труд рук» (I 9—11). А Езр. IV 1—5
подтверждает, что «народ земли» всячески противился постройке
храма «во все дни Кира, царя персидского, до
царствования Дария, царя персидского». Автор кн. Езры
приписал это козням самаритян2, с которыми впоследствии,
1 Б. Спиноза — Богословско-политический трактат. М., 1935,
стр. 173.
2 Самаритяне — население Самарии, впоследствии стало
обозначением секты в еврействе. По сообщению II Цар. XVII'22 ел.,
подтверждаемому ассирийскими клинописными текстами, после
разрушения Израильского царства в 722 г. ассирийские цари поселили
в Самарии колонистов из различных местностей Ассирии.
Пришельцы смешались с местным еврейским населением, продолжавшим
поклоняться . Ягве наряду с ассирийскими божествами, как это,
впрочем, практиковалось и в Иудее. Самаритяне продолжали
сознавать себя евреями, участвовали в иерусалимских праздниках (II
Хр. XXX), подчинялись в религиозном отношении распоряжениям
Иерусалима (И Цар. XXIII 15, 19); «пророческая» литература
обращает свою проповедь и к Иуде и к Израилю (Ис. XI 12, Иер.
2'37
в эпоху написания кн. Езры (II в. до хр. э.), у иудеев
были враждебные отношения; но в то время, к которому
относятся описываемые события, оснований и поводов
для вражды между самаритянами и иудеями не было;
напротив, судя «о намекам библии, подтверждаемым эле-
фантинскими папирусами, жрецы и рабовладельческая
знать, как иудеи, так и самаритяне, действовали
солидарно, и столь же солидарно, повидимому, выступали
против них ам-гаарец, «народ земли».
Когда в 446 г. Артаксеркс I решил из стратегических
соображений вновь укрепить Иерусалим и возвести
вокруг города стену и когда состоявший при его дворе
евнух Нехемия взялся выполнить это задание, масса
населения Иудеи отнеслась к этой затее враждебно, ибо
укрепление города означало усиление власти жречества и
рабовладельческой клики,, управлявших -своими
единоверцами от имени персидских властей. Само собой
разумеется, что «великое дело» восстановления «священного»
города Нехемия и его соратники выполняли за счет
трудящихся, на которых была возложена в принудительном
порядке обязанность возводить своими средствами
постройки. «И сделался, — пишет Нехемия, — большой ропот
в пароде и у жен его «а братьев своих иудеев. Были
такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей
наших много; и мы желали бы достать хлеба и
кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои
111 18, Иез. XXXVII .15, Зах. X 6 и многие др.). В VI и V вв.
вопреки сообщению кн. Нехемии, где автор переносит в прошлое
существовавший в его время раскол между иудеями и
самаритянами, обе группы жили мирно, роднились между собой и, вероятно,
сообща построили иерусалимский храм. Впоследствии, по
сообщению Иосифа Флавия, в конце IV в. самаритяне отделились от
иерусалимской общины и построили собственный храм на горе Гери-
зим. Отсюда возникла жестокая вражда иерусалимских жрецов к
конкурирующему святилищу и его жречеству. Жрецы всячески
разжигали взаимную вражду. В конце II в. иудейский
царь—первосвященник Иоанн Гиркан^ разрушил Самарию и уничтожил храм
на горе Геризим. С I в. самаритяне выступают уже как отдельная
секта, резко враждебная иудеям. В настоящее время самаритян
насчитывается всего около 100 чел. Самаритяне имеют свою
еврейскую библию, несколько отличающуюся от масоретского текста.
Киттель насчитывает в самаритянском пятикнижии около 600
отступлений от масоретского текста; время его возникновения так же
спорно, как и время отделения самаритян от иудеев, которое
традиция относит к середине V в., а некоторые исследователи—к
середине I в. (см. С Holscher — Gesch. der isr. u. jiid. Religion,
S. 170—173).
238
л виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы
достать хлеба от голода. Были и такие, которые
говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог
полей наших и виноградников наших; но ведь какие тела у
братьев наших, такие же и у нас, какие сыновья у них,
такие же -сыновья и у нас; а вот мы должны отдавать
.сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из
дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет силы
в руках наших; и поля наши и виноградники наши у
других»'(Hex. V 1—5). Таковы были радости, которые
сулило «многострадальному еврейскому народу»
возрождение «былого величия» Иерусалима. Жрецам, пророкам и
книжникам надо было мобилизовать весь религиозный
арсенал, чтоб одурманить трудящихся и заставить их
чувствовать себя облагодетельствованными или, по
крайней мере, заставить их 'безропотно сносить иго
чужеземных поработителей и «своих» отечественных эксплоата-
торов.
2. ИЕРОКРАТИЯ И ФИКСАЦИЯ «ЗАКОНА»
Возвращение изгнанников, постройка храма и
укрепление Иерусалима отнюдь не означали возрождения
Иудеи как 'государства, хотя бы и зависимого. Иудея
представляла собою незначительный округ, входивший,
так же как и округ Самарии, в состав более обширной
Сирийской сатрапии. Во главе округа стоял назначаемый
персидским правительством окружной начальник. Но
управление округом осуществлялось не посредством,
персидских чиновников; Иудея, как и Самария, имела
местное самоуправление. Вначале, повидимому, власть
пытались захватить главари богатых и знатных фамилий, но
персидское правительство предпочло предоставить
первенство не светской, а духовной знати, которая
представлялась ей менее опасной и более послушной.
Первосвященник был откупщиком налогов и отвечал за регулярное
поступление подати и выполнение натуральных
повинностей. Жречество своей религиозной проповедью
обеспечивало персидскому правительству покорность населения,
а храмовые доходы служили гарантией своевременного
взноса налогов. Жрецы всегда были исправными
агентами фисками еще в I в. Помпеи,_ло сообщению Страбона
XII 3, 34, расширил храм в Комане и предоставил ему
функции управления провинцией.
239
аким образом, в Иудее фактически установилась ие-
рократия, и вплоть до римской эпохи первосвященник
осуществлял политическую власть н-ад своими
единоверцами. Даже в кратковременный период призрачной
независимости Иудеи, после победы маккавейского восстания,
цари из династии Хасмонеев титулуют себя на монетах
первосвященниками.
Те скудные данные, которые имеются об истории
Иудеи V—II вв., рисуют жреческих властителей Иудеи как
гнусных, развратных, кровавых деспотов, с которыми
могут сравниться лишь римские папы. Первосвященник
Иоанн убил в храме своего брата Иисуса, в котором он
видел себе соперника. Царь-первосвященник Аристобул I
уморил свою мать голодом в темнице, убил брата
своего Антигона, а прочих братьев заточил в темницу.
Александр Яннай начал свое правление с того, что казнил
своего брата; он устроил кровавую баню своим
подданным, перебив до 6 000 человек за неуважение к его
особе; умер этот пресвятой царь от пьянства. Последний из
Хасмонеев Антигон распорядился отрезать уши своему
дяде Гиркану, чтоб сделать его непригодным для сана
первосвященника, которым по библейским предписаниям
не может быть человек увечный. Вся история
первосвященников, даже в изложении патриота Иосифа Флавия,
представляет собою цепь предательств, убийств, насилий,
междоусобных войн, грабежей. Религия в этих условиях
служила для ее представителей и служителей прямым
орудием угнетения народных масс.
К сожалению, период формирования и укрепления
иерократии очень мало освещен в источниках. V—III вв.—
наиболее темные в истории евреев. Поэтому
исключительный интерес представляют уже упоминавшиеся не раз
элефантинские папирусы. Для истории религии евреев
важны папирусы 1, 2, 3 и 6 по нумерации Захау, которые
мы приводим здесь по изданию Волкова.
P. Saah. 6 = Волков стр. 10—11 D19 г.)
«Нашему господину Багою', наместнику Иудеи, твои слуги
Иедония и его сотоварищи, священники в крепости Элефантине. Да
1 Б а г о й — персидский наместник Иудеи. Если этот Багой
тожествен с Багоем, о котором сообщает Иосиф Флавий (Древн.
XI 7, 1), как чиновнике при царе Артаксерксе II, тогда и
первосвященника Иоанна, о котором там же пишет Иосиф, надо
отожествить с упоминаемым ниже в том же папирусе первосвя-
240
благословит нашего господина небесный бог обильно во всякое
время, да даст тебе перед царем Дарием и сыновьями (царского)
дома милость, еще в тысячу раз большую, чем теперь, и да
дарует тебе долголетие. Всегда будь радостен и здоров...
Теперь1 так говорят Иедония, твой слуга, и его сотоварищи.
В месяце таммузе 14 года царя Дария2, когда Аршам 3 отправился
к царю, жрецы бога Хнума в крепости Элефантине составили
следующий заговор (?) с Ваидрангом, который был здесь
комендантом: «храм бога Ягу, что в крепости Элефантине, следует
удалить отсюда». Тогда этот проклятый (?) Ваидранг послал
следующее письмо своему сыну Нефании, военачальнику в крепости Сиене:
«храм в крепости Элефантине следует разрушить». Тогда Нефания
привел египтян и других солдат. Они пришли в крепость Элефан-
тину со своим оружием, вошли в тот храм, разорили его до
основания и разбили каменные колонеы, находившиеся там; разбили
также пять каменных врат из тесанного камня, а деревянные (?)
двери их, медные крюки этих дверей, крышу из кедрового
дерева,— все это вместе с прочим украшением и (все) остальное
находившееся там сожгли, жертвенные же чаши из золота и серебра
и прочее находившееся В том храме взяли и присвоили себе.
Наши отцы построили тот храм в крепости Элефантине еще
в дни египетских царей, и когда Камбиз4 пришел в Египет, он
нашел этот храм уже выстроенным, и, в то 1время как все храмы
египетских богов были разорены, нашему храму никем не было
причинено никакого вреда.
щенником Иохананом. Таким образом мы получим по
параллельным источникам следующий ряд первосвященников второго
храма:
По библейским данным
520 г. Иошуа (Хаг. I 12 я др. Зах. III)
Иоаким (Hex. XII 10, 12)
445 г. Элиашиб (Hex. Ill 1)
433 г. Иояда (Hex. XIII 28)
410 г. Иоханан (Езра X 6, Элеф.)
Иаддуя (Hex. XII 22)
Иосиф Флавий
Иисус (Древн. XI 3, 10)
Иоаким (Иуд. е. XI 5, 6)
Элиашиб (Иуд. в. XI, 5, 6)
Иуда (Иояда) (Древн. XI 7)
Иоанн (Древн. XI, 7),
Иаддуй (Древн. XI 7, 2)
1 Оборот речи, обозначающий абзац, переход к другой мысли,
2 Дария II D25—405).
3 Сатрап Египта.
4 Камбиз, персидский царь, сын Кира, завоевал Египет в 525 г-
16—8
241
С того времени, как с нами поступили таким образом, мы с
женами и детьми иосим траурные одежды, постимся и молимса
Ягу, небесному богу, пославшему нам такую весть об этом псе <?
Ваидранге: «с его ног содрали цепи (?), все сокровища, при
\:\>} -?.->** .-iM/yr 4Ч*# "'""
( • "
*
Рис. 39. Элефантинский папирус с ответом
Багоя и Делайи. По Волкову.
обретенные им, погибли, и все люди, пытавшиеся причинить зле
тому храму, умерщвлены», и мы радовались их гибели. .
(Еще) и раньше, в то время когда нам было причинено эт<
зло, мы писали нашему господину \ первосвященнику Иоханат
и его сотоварищам, священникам в Иерусалиме, Остану, брату
1 Еврейский оборот для выражения почтения = Вам, нем. lhnen.
942
Анании и знатным иудеям1; но не прислали нам (ответного)
письма. С месяца же таммуза 14 года царя Дария до нынешнего дня
мы носим траурные одежды и постимся, и жены наши стали
подобны вдовам, мы не мажемся маслом и не пьем вина; и с того
времени до (сего) дня 17 года царя Дария в этом храме не
приносится ни жертва хлебная, ни жертва курения, ни жертва iBce-
сожжения.
Теперь, так говорят твои слуги Иедония и ei'O сотоварищи
и все иудеи, жители Элефантины: если нашему господину
будет благоугодно, позаботься о том, чтобы наш храм был
выстроен снова, так как нам не позволяют отстроить его вновь.
Воззри на получающих (плоды) твоей доброты и милости, пошли
им письмо относительно того храма Ягу, (именно), чтобы он был
снова выстроен в крепости Элефантине аэ том виде, как он был
построен прежде. И хлебные жертвы и жертвы курения, и
жертвы всесожжения будут приносимы на алтаре бога Ягу от твоего
имени, и (мы, жены, дети, все иудеи, живущие здесь) будем
постоянно молиться за тебя. Если произойдет так, «то этот храм
будет, наконец, выстроен, то у тебя будет больше заслуг перед
Ягу, небесным богом, чем у того, кто принес бы еМУ жертву
всесожжения и кровавую жертву, стоимостью в тысячу талантов
серебра.
Относительно же золота мы послали (известие) и уведомили...
0 всем (этом)-деле мы сообщили также в письме-от своего
имени Делайи и Шемайи, сыновьям Синубаллита2, наместника
Самарии. Аршам же не знает ничего о том, что йам причинено.
20 мархешвана 17 года царя Дария3.
Р, Sach. 3=Волков стр. 14 D07 г.)
«Памятная запись того, что ответили мне Багой и Делайя,
памятная запись следующего содержания: «скажи в Египте
перед Аршамом относительно жертвенного дома небесного бога,
построенного некогда (еще) до Камбиза, в крепости Элефантине,
(но) разрушенного тем проклятым Ваидрангом в И г. царя
Дария,—чтобы он был выстроен (вновь) ,в том виде, как
существовал раньше, и чтоб на этом алтаре были приносимы жертвы
хлебные и (жертвы курения, как это делалось прежде*-
1 При первосвященнике состоял сенат из представителей-
знатных родов (Езр. V 5; Иез. VIII 1; Hex. IV 8, V 7, XIII 11 и др.).
2 В кн. Hex. он неправильно именуется СанвалЛат. Эд. Мейер
(«Der iPapyrusfund von Elephantine», S. 108) отмечает, что
начертание ассирийских и других иностранных имен в элефантинских
папирусах правильнее, чем в масоретском тексте библии.
в Сентябрь — октябрь 407 г.
16*
243
В другом документе (P. Saeh. 5 = Волков 15) от того
же 407 г. автор письма обещает неизвестному нам
адресату взятку за восстановление храма.
P. Sach. 6 = Волков стр. 10—11 D19 г.)
«[Моим братьям (?)] Иедонии и его сотоварищам, иудейскому
войску, ваш брат Ханания К Да благословит бог моих братьев...
Теперь, в этом году, 5 году царя Дария, от царя отправлена
весть Аршаму... Теперь, считайте так: [отсчитайте четырнадцать
дней нисана (?)] и от 15 до 21 [нисана ешьте опресноки (?)]:'
Будьте чисты (?) и воздержны, [не] работайте, ... не пейте и [не'
ешьте ничего], в чем есть квасное тесто, [от] захода солнца [14
нисана] до 21 нисана [до захода солнца; и не] вносите в свои
жилища и запритесь (?) между днями...
Моим братьям Иедонии и его -сотоварищам, иудейскому
войску, ваш брат Ханания».
Из приведенных папирусов мы узнаем, что святилища
Ягве — а выше мы видели, что в Элефантине чтили не
одного Ягве, — вне Иерусалима не противоречили
религиозной практике иерусалимских жрецов конца V в. Из
Езр. VIII 15—20 мы узнаем, что Езра, нуждаясь в.
священнослужителях для иерусалимского храма, выписал их
из вавилонского святилища в Касифьи (Kasiphja ham-
ffliaqom), функционировавшего после разрушения
иерусалимского храма в 586 г. И еще автор II Макк. VI 1
одинаково скорбит об осквернении храмов в Иерусалиме' и
на Геризиме. Мы не знаем, воспользовались ли элефан-
тинцы разрешением построить новый храм вместо
разрушенного. Но построенный впоследствии (около середины
II в.) в Египте, в Леонтополисе, храм Ягве не вызывал
нареканий со стороны жрецов и талмудистов и
просуществовал до 73 г. хр. э., когда был разрушен Веспасианом.
Далее, интересно', что не только элефантйнские жрецы,
но и их иерусалимские коллеги титулуют Ягве «богом
небесным». Титул этот, встречающийся довольно часто в
богослужебной и «пророческой» послепленной литературе
(Пс. XVIII 14; XI 4; Второз. XXXIII 26; Ис. LXVI 1; Hex. 1
4, 5; II 4/20 и многие др.), свидетельствует о завершении
процесса превращения родового, а затем местного бога
1 Это лицо по библейским данным неизвестно; не исключена
возможность, что то был брат Нехемии (Hex. I 1) или начальник
крепости иерусалимской при нем (Hex. VII 2); во всяком случае
хронологических препятствий к такому допущению нет.
JX1J.
Ягве в бога небесного и даже бога вселенной. К этому
\ богословию, типичному для классового общества
древности, идеологи иудаизма пришли в значительной степени
под влиянием богословия вавилонского и персидского.
.Пресловутый «этический монотеизм» Второисайи,
умиляющий К. Каутского, представляет собою лишь
перенесение на еврейскую почву эпитетов, прилагаемых к богам
в вавилонских богослужебных текстах, и фразеологии
последних. Достаточно познакомиться с гимнами Сину и
Шамашу *, чтоб увидеть источник той «одухотворенной»
религии, которую «иудейский ум» пророков изгнания
выработал «на реках Вавилонских» 2.
Но были и другие причины, изменившие
первоначальное представление о Ягве. Выше уже отмечено было, что
с образованием первого классового общества и
появлением государства боги-предки утрачивают кровную связь
с верующими, а боги природы отрываются от природы,
становясь над нею в качестве повелителей стихий. В
дальнейшем происходит перенесение функций различных
богов на одного главного бога, который, однако,
продолжает оставаться лишь местным высшим божеством,
наряду с которым существуют чужие боги. Так возник
«иудейский исключительно национальный бог Ягве», как
его называет Энгельс3. Но все такие национальные
божества тесно связаны с судьбой нации. «Коль скоро
национальные божества не могут уже более защищать
независимость и самостоятельность своей нации, они и сами
гибнут. Так бывало везде (за исключением крестьян,
особенно в горах)»4. Иудейские крестьяне сохранили веру
отцов, а после частичной реставрации Иудеи как
самоуправляющейся провинции, а затем и отдельного государства
жречеству нетрудно было утвердить культ Ягве. Но факт
его поражения, пусть временного, должен был получить
какое-то богословское объяснение и оправдание.
Отсюда — новые богословские спекуляции о Ягве как
всемогущем божестве, повелителе вселенной; евреи—не
единственный, но избранный его народ, от которого он времен-
1 См. Н. Zimraern — Babylonische Hyrjmen und Gebete, Giessen,
1911—1913.
2 Подробный анализ мнимого «этического монотеизма»
пророков см. в цитированной книге :Н. М. Никольского, стр. 51 ел.
3 Энгельс — Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, стр. 323.
4 Энгельс — Бруно Бауэр и раннее христианство. Соч.,
т. XV, стр. 608.
245
но отвернулся, и потому постигла его беда; но Ягве снова
обратит к «ему свое 'благоволение, и тогда он займет
первенствующее место на земле. Эта утешительная мечта
была фантастическим отражением бессилия маленькой
Иудеи перед лицом ее могущественных угнетателей.
Наконец, образование значительных еврейских колоний
вдали от Иудеи — в Вавилонии, Египте, М. Азии и др., рас-!
ширило сферу власти Ягве, оторвало его от почвы
Палестины, сделало его исключительно национальным ботом;,,
не связанным с тем или иным местом культа, и тем
подготовило почву для возникновения ■— конечно, не в куль-,
товой практике, а в богословской спекуляции — идей
монотеизма. • :
-"""После вавилонского плена жрецы развили усиленную
законодательную и литературную деятельность, чтоб
закрепить данную им от персидских сатрапов власть и
обеспечить себе солидные доходы. Был~составлен Жреческий
кодекс, где старые предания и мифы были обработаны
в соответствии с новым богословием; в Жреческом
кодексе до мельчайших подробностей разработан и
регламентирован храмовый ритуал, сложившийся в основных
чертах еще в период царств, приведены в систему, допол-'
нены и зафиксированы разнообразные и обильные
источники доходов для жреческого сословия. Находившиеся
в обращении более древние кодексы JE были кой-как
присоединены вместе с D к Жреческому кодексу и
образовали тот непреложный «закон», которому евреи
должны были неуклонно следовать под страхом тягчайших
наказаний. Пророческие оракулы, исторические книги,
богослужебные тексты, «мудрые изречения» — все это
было без особого порядка, но в соответствии с иерокра-
тическими тенденциями, подправлено, собрано и
закреплено в определенных книгах, составивших в общем
каноническое «священное писание», сыгравшее немалую
роль в закреплении авторитета жрецов и книжников и в
деле сохранения и пропаганды еврейской религии.
Относящиеся, вероятно, к III в. до хр. э. греческий и
самаритянский переводы Пятикнижия сделаны уже с
канонического текста. Иисус сын Сирахов в начале II в. знает
книги Исайи, Иеремий, Йезекииля и «двенадцати».
Очевидно, к тому времени эти «пророки» успели
окончательно войти в установившийся канон, и написанная около
164 г. книга «пророка Даниила» уже не могла найти
места в отделе «пророков» и вошла в отдел «писаний».
246
Этот последний раздел существовал уже в 117 г. до хр. э.:
о нем упоминает внук Иисуса Сирахова в предисловии
к дошедшему до нас греческому переводу произведения
его деда. Но каково было в то время содержание
этого раздела, неизвестно; во всяком случае, по
сообщениям талмуда, еще в эпоху составления Мишны велись
споры по вопросу о включении некоторых книг в канон.
Окончательно канон установлен около 100 г. хр. э. и все
невошедшие в этот канон книги считаются апокрифами
и псевдэпиграфами i. Сюда относятся: IV кн. Езры, I, II,
III и IV кн. Маккавеев, кн. Товит, Юдифь, Юбилеев,
Молитва Манассии, добавления к кн. Даниил и Эсфирь,
Апокалипсисы Варуха и Еноха, Послание Иеремии,
Премудрость Иисуса сына Сирахова, Премудрость
Соломонова, Письмо Аристея, Вознесение Исайи, Псалмы
Соломона, Сивиллины книги, Вознесение Моисея, Заветы
12 патриархов, Житие Адама и Евы. Некоторые из этих
книг — Товит, Иисуса Сирахова Премудрость Соломона,
Юдифь и др. пользуются почитанием и у христиан, i
принявших эти книги в свой ветхозаветный библейский
канон.
В своей переработке ранее существовавших
библейских текстов и в сфабрикованных новых текстах жрецы
и книжники старались изобразить все введенные ими
обряды и законоположения как существующие искони, со
времен мифического Моисея, устами которого от имени
Ягве диктуются все подробности ритуала. Конечно, в
основном жрецы второго храма не создавали обряды
заново, а использовали традиции культа в первом
иерусалимском храме, а также ряд (подчас весьма древних)
верований, магических обрядов и праздников, крепко
державшихся в народе, иногда не только не связанных с
культом Ягве, но и противоречивших ему (напр. иом-
кипурим). Но жрецы привели весь этот разнородный
материал в некоторую систему, спаяли общей идеологией и
полученный продукт ретроспективно отнесли назад, в
глубь времен. Сложная обрядность, введенная в
богослужении в храме, рисуется в Жреческом кодексе как копия
богослужения, учрежденного якобы Моисеем в «скинии
завета». Притязания первосвященника на верховную
светскую власть неуклонно проводятся во всем Ветхом завете
1 См. О. Eissfeldt — Einleitung- in das Alte Testament. Tbng.,
1934, S. 614 ff.
247
в виде тенденциозной теории о происхождении светской
власти из духовной и о необходимости подчинения ее
божественной власти; даже, внешние признаки царского
величия жрецов — пурпур и диадема — якобы предписаны
богом Моисею (Исх. XXVIII).
Особенно большое место в Жреческом кодексе и у
ближайшего предшественника его Иезекииля занимает
вопрос о жертвоприношениях и о доходах духовенства.
В этом вопросе жрецы не постеснялись узаконить и
освятить авторитетом Ягве самый откровенный грабеж
паствы. В царский период аппетиты иерусалимских жрецов
сдерживались конкуренцией местных святилищ и их
жрецов и — особенно — подчиненным положением жречества
в системе Иудейского царства. При персидском
владычестве, когда жрецы заняли внутри страны первенствующее
положение, они ;МОгли. датьтюлпый простор своей
алчности и, не стесняясь, значительно увеличили и расширили
традиционную систему храмовых и жреческих поборов.
Именно опираясь на власть персидского сатрапа, Нехе-
мия сумел «убедить» евреев отдавать жречеству лучшую
долю своих скудных доходов (Hex. X 35—39).
Три рода прямых податей должны были платить
евреи своим «пастырям».
Во-первых, первинки. «Все лучшее из елея и все
лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые^они дают
Ягве, тебе (т. е. Аарону) я отдал. Все первые
произведения земли их, которые они принесут Ягве, тебе
принадлежат. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все
обреченное в Израиле тебе принадлежит. Все
разверзающее ложесна у всякой плоти, которое приносят Ягве из
людей и из скота, тебе принадлежит. Только за
первенца человеческого возьми выкуп и за первородное из
скота нечистого возьми выкуп» (Чис-. XVIII 12—15). При
насаждении деревьев плоды их в первые три года
запрещены в пищу, а плоды четвертого года должны быть
посвящены Ягве, т. е. отданы жрецам (Лев. XIX 23). При
стрижке овец также первинки отдаются жрецу (Второз.
XVIII 4). И Нехемия позаботился о том, чтоб эти
первинки регулярно поступали (Hex. X 36 ел.).
Во-вторых, возношения (терума) — «добровольные
дары» жрецу. К этим «добровольным» дарам относятся:
обязательное возношение начатков теста в виде лепешки,
так же как «возношение с гумна» (Чис. XV 90),
обязательное возношение при благодарственных и «мирных» жер-
248
твоприношениях (Лев. VII 11 ел.), денежная подать в
размере полсикля с каждого достигшего 20 лет от роду
(Исх. XXX 13:—14); Нехемия установил подать на
содержание храма в размере i/s сикля в год с головы
(Hex. X 33).
В-третьих, десятина «из всего, что v Израиля» (Чис.
XVIII 21, Лев. XXVII 30—32). Но и из "той «второй
десятины», которую получали левиты, они должны были
отдать десятину жрецам (Чис. XVIII 26).
Неисчислимый доход доставляли жрецам
жертвоприношения. Помимо обязательных храмовых жертв, которые
приносились за счет храма, Жреческий кодекс
предусматривает многочисленные жертвоприношения по самым
разнообразны^ поводам за счет верующих, причем мясо
жертвенного животного поступает полностью или частью
в пользу жреца. «Вот что принадлежит тебе из святынь
великих, из сожигаемого: всякое приношение их, как
всякое их приношение мучное, так и всякая их жертва за
грех и всякая их жертва повинности, что они принесут
мне. Великая святыня она тебе и' сынам твоим. На
святейшем месте ешьте это; все мужского пола могут есть»
(Чис. XVIII 9—10). Если кто приносит «мирную» жертву,
«своими руками должен он принести огненную жертву
Ягве: тук с грудью должен принести, чтоб потрясти
грудь, как потрясение пере'д лицом Ягве. И сожжет
священник тук на жертвеннике; а грудь принадлежит
Аарону и сынам его. И правое бедро, как возношение, из
мирных жертв ваших отдавайте священнику... Потому что
грудь потрясения j^Jjeapo возношения я взял от сынов
Йзраилевых из"~мйрных жертв их и отдал их Аарону
священнику и сынам его в вечный удел от сынов
Йзраилевых» (Лев. VII 29—34). Столь же категорически
говорится о «жертве повинности» и о «жертве за грех» (Лев. VII
5—7). «Если кто хочет принести жертву мучную... то
лучшая мука должна быть жертвой его, и вольет он на нее
елея и положит на нее ливана... И возьмет (жрец) из нее
полную горсть... и сожжет эту воопоминательную часть
на жертвеннике... А остатки от приношения мучного —
Аарону и сынам его» (Лев. II 1—3). Даже от жертвы
всесожжения, которая сжигалась целиком, жрецу доставалась
шкура (Лев. VII 8). Хотя жрецы пытаются завуалировать
свою жадность, предписывая поедать полученное мясо
«на святейшем месте», т. е. подальше от глаз голодных
жертвователей, они вымогают свою подать довольно от-
249
кровенно. Они не знают пощады: если кто нечаянно при-
коснулся по неведению к чему-либо нечистому, он
должен принести в жертву овцу, а если он не в состоянии
принести овцу, он обязан принести двух горлиц или
молодых голубей, а на худой конец — одну десятую ефы
лучшей муки, но__ никакая нищета не освобождает от_
жертвы. «Никто не должен являться передо мной с
пустыми руками», неоднократно говорит Ягве устами
библейских авторов. Верующие должны были .выполнять и
натуральные повинности для храма (напр. поставка дров,
Hex. X 35). Наконец, население было обложено налогами в
пользу храма в размере Vs сикля (Hex. X 33)
—впоследствии V2 сикля (дидрахма, ев. Мтф. XVII 24).
Неудивительно, что при таких доходах иерусалимский
храм в нищей Иудее владел огромными богатствами.
Когда около 175 года до хр. э. сирийский царь Селевк
IV захотел наложить руку на храмовые богатства,
первосвященник Ония, прибедняясь, указывал, что в храмовой
казне находится «всего» 400 талантов серебра и 200
талантов золота (талант около 64 200 грамм), т. е. десятки
миллионов рублей. Эти деньги и ценные вещи,
хранившиеся в храме, служили для финансовых и
ростовщических операций, а соперничавшие между собой за власть
первосвященники использовали их для подкупа
сирийских властителей.
Для хранения приношений и даров, поступавших от
паствы, жрецы построили при храме ряд кладовых и
подземных хранилищ (Hex. X 40). С течением времени для
заведования храмовой казной был выделен специальный
штат служителей, во главе которых стояли 3 казначея и
7 доверенных. Во дворе храма в римскую эпоху стояло
13 денежных ящиков для пожертвований в пользу храма
и было особое помещение для приема особо щедрых
жертвователей. Выше уже упоминалось, что ящик для
приношений был установлен и в первом храме (II Цар. XII
10 ел.). Храмовые сборщики «доброхотных даяний»
разъезжали по всем местам поселения евреев. Иероним in gal.
11 ( = PL 26, 311) сообщает, что еще в его время (hodie),
т. е. во .втррой,дюловине IV B.jxp. э., патриархи, главари
еврейского духовенства, рассылали по стране своих
«апостолов». Такова же была, должно быть, первоначальная
функция и христианских апостолов.
Жрецы опирались не только на свою организацию, но
и прежде всего на власть и военную силу персидских, а
250
затеи сирийских царей, от которых они получали свои
полномочия. В приведенном выше элефантинском
папирусе Sadh. 6 иерусалимские жрецы посылают своим
собратьям в Египте указ Дария о праздновании пасхи. Но
жрецы сумели обосновать свою власть также доводами
«от писания». Они для этого создали в качестве
параллели к упрочившемуся в фольклоре и библейских
преданиях эпическому герою Моисею мифический образ брата
Моисея Аарона. Последний, согласно жреческому мифу,
был братом Моисея, участвовал во всех его подвигах и
получил от него в удел функции жречества. Отныне
жрецы, вопреки традиции исторических библейских книг,
совершенно не знающих Аарона и его мнимых потомков,
стали именовать себя ааронидами,. сынами Аарона,
преемниками и наследниками его. Тот же прием применили
впоследствии римские епископы, обосновывая свои
притязания на первенство в христианском мире мифом о
£кам«е»Щетре)_, на котором Иисус оенщал..свою церковь;
еще" позднее римские папы, чтоб доказать свое право на
светскую власть, сфабриковали знаменитый
«Константинов дар», подложность которого была доказана лишь в
эпоху Возрождения.
К концу V в. до хр. э. обработка Пятикнижия в его
жреческой редакции была закончена. Отныне «закон»,
продиктованный жрецами Ягве, должен был стать
руководящей нормой поведения для «подданных»
первосвященника. «Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам,
и не убавляйте от того, соблюдая заповеди Ягве, бога
вашего» (Второз. IV 2). Строгое соблюдение буквы
«закона», точное выполнение ритуала, аккуратные взносы
податей жрецам и щедрые дары на нужды культа — все
это проповедуется'как основные добродетели,
обеспечивающие верующим милость бога; за нарушение
библейских заповедей виновного постигает не только судебная
и административная репрессия, но и кара божья. В этом
отношении характерен текст Мишны Абот V 8—9: «Семь
родов наказаний приходят в мир за семь важных
прегрешений: если одни отделяют десятины, а другие не
отделяют, то приходит голод от смуты и засухи, так что
одни голодают, а другие сыты; если никто не отделяет
десятин, то приходит голод от смуты и засухи; а если
никто не берет халлы *, то приходит голод истреб-'
1 Т. е. не «возносит» — не отдает жрецам — начатков теста
(Чис. XV 18—21).
251
ления (истребит сильный), мор приходит на мир за то.
что правосудию не переданы преступления, караемые
смертной казнью по торе, и за- плоды субботнего года;
война приходит на мир за медлительное
судопроизводство, за извращение суда и по вине преподающих тору
не согласно галахе (преданию). Звери приходят на мир
за ложные клятвы и осквернение имени (бога); изгнание
приходит на мир за идолопоклонство, разврат, убийство
и несоблюдение покоя земли (в субботний год)» 1.
Чтобы дать «идеальное утешение» верующим, жрецы
и в отредактированных ими библейских текстах и в
культовой практике особенно настойчиво подчеркивали боого-
избранность еврейского народа. Эта идея должна была
заменить иудеям утраченную политическую
самостоятельность и вместе с тем поддержать авторитет Ягве,
пошатнувшийся после гибели его'храма и унижения «его»
народа. Ягве милует, но и наказывает и испытывает.
А что он хочет и может облагодетельствовать
израильский народ, тому непреложное доказательство —
чудесный исход из Египта. Ми4!_Дй_исходе стал центральным
пунктом как в жреческой библии, так и в богослужении:
мотив исхода весьма часто повторяется в псалмах, с
исходом связываются все праздники, и даже древний
земледельческий праздник суккот, который в наиболее древних
текстах ни в какую связь с исходом из Египта не
ставится, получает в Жреческом кодексе новое объяснение:
праздник учрежден для того, «чтобы знали роды ваши,
что в кущах поселил я сынов израилевых, когда вывел их
из земли Египетской» (Лев. XXIII 43).
Усиление национальной замкнутости.,евреев выразилось
в строжайшем^примёнении'ряда древних рел'игиозных
обрядов и табу, которые теперь утрачивают свой
первоначальный магический смысл и служат главным образом
средством закрепить национальную ограниченность и
обособленность евреев как «народа Ягве». Обрезание,
которому в «период царств» не придавалось особого значения
(даже храмовые служители были необрезанные),
становится основным «знамением завета» между Ягве и
Израилем, самым важным обрядом, определяющим
принадлежность к иудейской вере, как впоследствии крещение у
христиан. Обязательным стало ношение особых шерстяных
кистей (цицит) на платье и амулетов (тефилин) на лбу
1 Перевод Переферковича.
252
и на левой руке. Усилились строгости в отношении
субботнего «отдыха». Нехемия запретил не только
производство какой-либо работы в субботу, но % торговлю и
перевозку товаров. Он распорядился запирать ворота
Иерусалима в сумерки перед субботой и не отпирать их
до утра после субботы. Торговцы и крестьяне,
привозившие в Иерусалим товары для продажи, проводили две
ночи за городом в ожидании открытия ворот, а когда
Нехемия пригрозил им оружием, они и во%(Се перестали
приезжать в субботу (Hex. XIII 15—21).
Традиционные предписания о^<чистто_^од_влиянием
п^рсидской„р.едигии_, были развиты в сложную "систему
правил ритуальной чистоты, которой в кн. Левит
отведено много места. Эти правила способствовали
обособленности евреев от окружающих народов, которые в свою
очередь, отгораживались от них стеною своИх правил и
запретов. «...На Востоке свирепствовала система
религиозных запретов, которая не мало способствовала упадку,
в конце-концов наступившему. Люди двух равных религий
(египтяне, персы, евреи, халдеи) не могут вместе ни пить
ни есть, не могут сделать совместно canIOf-0 обыден-
йтот\? делу, едчУс? w&rysr ipasriS&apxsarfr ду^т с другою }.
Пищевые запреты, коренившиеся в древних
анимистических и тотемистических представлениях', были точно
регламентированы. При этом' жрецы опять,.хаки
следовали восточным образцам. Во всяком случа^ брахманам
так же, как и евреям, запрещается употреблять в пищу
одноколытных животных, свиней, хищных птиц и рыбу,
не имеющую чешуи 2.
Логическим следствием этой национальной
обособленности было запрещение смешанных браксж которые в
царскую эпоху практиковались довольно час:т0 (I Цар. VII
14; XI 1; II Сам. III 3, XI 3 и др.). Нехемия (Hex. XIII)
повел решительную борьбу против браков с Иноземками, и
хотя сообщение Нехемии, что и браки с самаритянами
были запрещены, надо считать анахронизмов однако круг
родственных племен и народов, с которыми.'браки
допускались, был, надо полагать, сильно ограничен. Конечно,
запреты относились к заключению «законных» браков.
Связи с рабынями-иноземками не запрещались, так как
1 Энгельс — Бруно Бауэр и раннее христи^нство Соч т.
XV, стр. 609.
2 i. S chef t el о wit z — Die altpersische Region und das
Judentum. Giessen, 1920, S. 45.
253
акие связи считались конкуоинатом и не признавались
od брак. Второзаконие, катеГОр"ически запрещающее
смешанные браки (Второз. VII 3), допускает их в отношении
военнопленных женщин (XXI 10 ел.).
Фиксацией «закона» в Жреческом кодексе и
Пятикнижии, выработкой храмового ритуала, установлением
повинностей населения в пользу жреческого сословия и его
храма, усилением и закреплением национальной
обособленности евреев под, эгидой Ягве ограничилась роль по-
слепленного жречества в разработке идеологии
иудаизма. В дальнейшем —во всяком случае, начиная с IV" в.,—
функция идеологов иудаизма переходит к «книжникам»—■
soipherim — и раввинам.
«Закон», созданный жрецами, вполне удовлетворял его
авторов; дополняя и развивая его в деталях
применительно к конкретным требованиям храмового культа, они
отстаивали его непреложность в целом. Торговое
население Иерусалима, которое так или иначе обслуживало
разнообразные нужды храма и кормилось доходами от
прибывавших в Иерусалим паломников, тоже, надо
полагать, не'чувствовало потребности в изменении религии и
культа. Что касается крестьянской массы Иудеи и рабов,
то независимо^ от их отношения к «закону» они
подчинялись ему под угрозой жестокой кары за малейшее
уклонение от него. Ведь иудейская религия была
обязательной государственной религией в стране, где к тому
же была установлена иерократия. Если даже признать,
что те жестокие кары за малейшее нарушение буквы
«закона», которые зафиксированы впоследствии в
талмудических трактатах «Сангедрин», «Маккот» и др., в
значительной степени представляют собою плод чисто
теоретической казуистики, невозможно сомневаться в
реальности наказаний за уклонение от исполнения «закона». Даже
после уничтожения иерусалимского храма и упразднения
жречества р. Акиба оштрафовал на огромную сумму :в
400 зуз еврея, «который оголил голову одной женщине
на улице» (М. Баба Кама VIII 6).
Однако и «жреческий закон» при всей своей
консервативности воспринимал и усваивал религиозные верования,
представления и культы, возникавшие стихийно под
влиянием религий окружающих народов или как пережитки
более древней «языческой» религии. Еще у Иезекииля,
жреца, наметившего в вавилонском плену программу
будущей организации жречества.и богослужебного церемо-
254
шала в иерусалимском храме, мы находим в описании
видения о «колеснице» и др. прямые позаимствования из
вавилонского культа и персидской мифологии1. То же мы
видим и у младшего современника Иезекииля, автора
Зах. 1—6. Заимствованный из Египта праздник света был
включен под именем «ханука» в иудейский культ, и под
него была подведена мнимоисторическая основа2. Точно
Рис. 40. Амулет из Египта. Слева
„Михаил всевышний — Гавриил
всемогущий" в виде Хнубиса с львиной
головой. Справа — Геката и Анубис.
так же вавилонская,
мистерия, справлявшаяся во время
весеннего праздника Загмук
и также заимствованная
евреями, была
санкционирована жрецами И заняла почет- Гис. 41. Вавилонский демон бури
ное место в еврейском куль- Пацуцу. VII в. АОТВ № 386.
те под именем «пурим». При
этом опять-таки празднику дано «историческое»
объяснение, как воспоминание якобы о чудесном избавлении
евреев от опасности, грозившей им вследствие козней
Гамака в царствование Артаксеркса; посвященная этому
празднику мегила (свиток) «Эстер» сохранила и собственные
имена вавилонского мифа (Мардохей — Мардук, Эстер —
Иштар и др.K.
1 См. .L. D iii r r — Ezechiels Vision der Erscheinung Gottes im
Lichte der vorderasiatischen Altertumskunde. Minister i/W., 1917. Там
же обширный указатель литературы.
2 Н. М. Никольский — Еврейские и христианские
праздники. М., 1931, стр. 73—74.
3 S. Rein ach — Cultes, mythes et religions. V. I, P. 1922, p. 334,
sq. В 1 и 2 изд. «Золотой ветви» эту мысль развивал и Фрэзер.
2оо
Не могли также жрецы пройти мимо ангелологии,
которая развивалась под сильным персидским влиянием
независимо от жреческого «закона». Вознесение Ягве над
всеми богами отнюдь не означало упразднения этих
богов. Но если ранее «языческие» боги были в своей области
вполне равноправны Ягве, а боги отдельных стихий
действовали автономно, в силу присущей им власти, то в по-
слепленный период все эти боги занимают низшее
положение—становятся «вестниками» (греч. angeilos),
«посланниками» (евр. ииГак) Ягве. В кн. Даниила X 20 бог
персов и бог греков именуются «покровителями» (sar)
персов, греков.' В той же книге впервые упоминается
собственное имя одного из «верховных»
ангелов—Михаил (X, 13); наряду с «верховными» существуют «тысячи
тысяч» и «тьмы тем* низших ангелов (Дан. VII 10)Г В кн.
Енох 61 перечисляются следутощие разряды ангелов:
«херувимы, серафимы, офаним, ангелы силы, ангелы властей,
избранные и прочие силы (господствующие) на земле и
над водой» 1. В той же кн. Енох B1) перечисляются имена
архангелов: «Ариэль — один из святых ангелов, именно
поставленный над ангельским воинством и подземным
царством. Рафаэль — имя второго из святых ангелов,
поставленный над душами людей. Рагуель — имя третьего
из святых ангелов, который подвергает наказанию светила
мира. Имя четвертого из святых ангелов — Л1ихаэль
(Михаил); он поставлен над jr^4jme^j^Tbro^o!^S^:_Ha(ZL.Ha-
родоммнзраильским. Сариэль — имя пятого из святых
ангелов, которь1и~ЯО"ставлен над духами, вовлекающими
духов в грех. Габриэль (Гавриил) — имя шестого из святых
ангелов, поставленного над раем, змеями и херувимами».
В другом месте той же книги D0) ангелами
«представителями лица» Ягве (тпаГаке happaniim) названы Михаил,
Рафаил, Гавриил и Фануил. Боги стихий превратились в
соответствующих ангелов с именами: Рухиэль (ruach —
ветер) — ангел ветра, Шалгиэл (scihellieg — снег) •— ангел
снега, Матариэль (rmaitar — дождь) — ангел дождя, Раа-
шиэль (raasah — землетрясение) — ангел землетрясения,
Барадиэль (barad — Град) — ангел града и т. д. Наряду с
ангелами действуют бесы, возглавляемые сатаной *.
1 Внеканонические книги Ветхого завета здесь и в дальнейшем
цитируются по изданию Е. К a u t zs с h — Die Apokryphen und
Pseudepigraphen des Alten Testaments. ,Bd. I—II, Tubingen, 1921.
1 H. G и n k e 1 — Schopf ung und Chaos, 1895; W. Liicken —
Michael. Getting., 1898; Scheftelowitz, ук. соч.
256
Вся эта^нгело_логия_и_де__мо1!илогия й позднейшем
иудейском и христианском богословии получила
чудовищное развитие. Но и палестинские жрецы должны были в
свое время считаться с верой в ангелов и демонов, и если
они не допускали организации культа этих низших
божеств, они во всяком случае не могли воспрепятствовать
проникновению их в тексты «св. писания».
Однако те уступки, какие жрецы делали возникающим
помимо них религиозным представлениям, были
недостаточны. В новых условиях нужен был опиум,
составленный по другому рецепту. Библейский Ягве не мог
больше дать верующим то «идеальное утешение», которое от
него требовалось. «Временный» гнев Ягве_ против своего
излюбленного народа длился слишком долго. Обещанное
пророками, избавление "от' чужеземного ига не наступало,
и реальная обстановка не сулила на этот счет никаких
надежд. Строгое соблюдение закона, пост, покаяние,
жертвы, приношения жрецам—все это не давало никаких
результатов; положение трудящихся все ухудшалось.
Жречество с своей стороны делало все, чтоб
дискредитировать свой авторитет. В эпоху сирийского владычества
первосвященники, связанные с греческой торговлей и
получившие свои полномочия из рук сирийских царей и
их наместников, нисколько не считались с тесными
рамками, в которые их ставил «закон». Вращаясь при дворах
эллинистических царей, участвуя в их походах, в
дипломатических интригах и военных авантюрах,
первосвященники вроде Алкима, Язона или Менелая, носившие, к
ужасу своих подданных, греческие имена, усвоили
эллинскую культуру и насаждали ее в своих владениях. Их
неприкрытая торговля родиной, роль предателей, которую
они не раз играли, вызывали естественный ропот в
пропитанных чувством национализма рядовых верующих.
Таким образом, унаследованная от предков и
сформулированная в жреческой библии религия не
удовлетворяла ни верующую массу, ни идеологов ее; «закон»
служил помехой для включения иудеев в семью
эллинистических народов, как того требовали интересы богатых
торговцев и ростовщиков; вместе с тем он перестал давать
то «утешение», которого от него ждали эксплоатируемые.
Но' отказаться от «закона», на котором покоилось
могущество и богатство жречества, жрецы не могли; как
известно, духовенство всегда цепко держится за сословные
интересы, и потому оно иногда вступает даже в конфликт
17- 8
257
с эксплоататорским классом, которому оно призвано
служить. Отсюда в ^эллинистическую эпоху обнаруживаются
тенденции и попытки реформирования религии «закона».
В данном случае роль реформаторов взяли на себя
идеологи диаспоры и не принадлежавшие к жреческому
сословию «книжники» (греч. gramimateis, евр. sopiherim).
3. КНИЖНИКИ
Термин «софер» собственно означает не «книжник»,
а «писец». Так, повидимому, обозначали тех преемников
жрецов и пророков;, которые в Вавилоне, куда они были
насильственно выселены после разрушения Иерусалима в
586 г., занимались записью и перепиской находившихся
уже тогда в обращении «священных» книг, псалмов,
пророческих оракулов. Эти специалисты и поставляли из
своей среды редакторов, компиляторов и
фальсификаторов, которые под контролем жрецов составили основную
часть библейского канона, а затем дополняли его своими
произведениями и следили за сохранением его текста в
его окончательной редакции. В талмудической традиции
преемниками пророков были «мужи великого собрания».
Однако никаких сведений о составе, прерогативах и
функциях этого «великого собрания» не существует.
Самый тип такого рода организации не имеет примеров ни
в предшествующей:, ни в последующей истории евреев и
вообще Востока. То единственное место, где приводится
в талмуде изречение от имени «мужей великого
собрания» (Абот I 1: «будьте медлительны в суждении,
поставляйте побольше учеников и делайте ограду торе»),
говорит лишь об обычном безыменном «мудром» изречении,
а не о постановлении или догмате, установленном
определенной организацией. «Великое собрание» — фикция,
основанная на сообщении Hex. VIII—X о великом
собрании всего народа для заключения завета о принятии
«закона» (ср. Езр. III 1 ел.I. Историческая достоверность
этого собрания не выше, чем достоверность мифического
собора апостолов, о котором сообщают Деян. ап.
«Великое собрание» было той благочестивой легендой,
которая должна была придать вес и авторитет последующим
поколениями книжников. Они считали себя продолжателя-
1 См. S с h ii г е г, II, стр. 418—419.
258
ми дела Езры, первого, кто в библии именуется sophei.
Но и личность Езры, о котором никаких
исторических или биографических сведений библейские книги
не сообщают, — по всей вероятности, благочестивый
вымысел *. Точно так же, как жрецы создали параллель
Моисею в лице Аарона, мифического родоначальника
жреческого сословия, соферы создали параллель законодателю
Нехемии в лице жреца-книжника Езры. Так же, как
писец Барух, сын Нерии, ученик пророка Иеремии, Езра
был излюбленным героем, которому позднейшие авторы
апокалиптических- и псевдоисторических упражнений
приписывали свои творения. Кроме канонической кн.
Езры до нас дошли еще две книги под его именем —III и
IV кн. Езры.
О личности «книжников» 2 V—I вв. мы почти ничего
не знаем*, кроме имен. Мищна Абот 1 приводит изречения
14 книжников, начиная с легендарного1 Симона Праведно-
го, бывшего «из остатков Великого собрания», и кончая
Симоном, сыном Гамалиила, игравшим видную роль в
период иудейского восстания 66 г. Но искусственность той
схемы преемственности, которую дает Мишна, очевидна.
После первого «преемника» Симона Праведного, который
носит греческое имя Антигон, следует пять «пар» (зуггот):
Иосе сын Иозера и Иосе сын Иоанна, Иисус сын Перахии
и Ниттай из Арбелы, Иуда' сын Табая и Симон сын Ше-
таха, Шемайя и Авталион, Гиллель и Шаммай. При этом
.талмудическая традиция, вошедшая и в богословскую
историческую «науку», приписывает этим «парам»
руководящую роль в £енате (синедрионе): один из пары был
якобы председателе11~1^нЖ1?O^РУгой заместителем
председателя (аб-бет-дин) -синедриона. Это совершенно
нелепое представление, будто первосвященники и светская
аристократия добровольно' уступили руководящие посты
каким-то ученым толкователям закона, представляет
собою обычное отнесение традицией в прошлое тех
отношений, какие сложились в эпоху составления традиции.
Действительно, в талмудическую эпоху, когда Иудея
перестала существовать как автономная, полунезависимая
область, раввины, руководители религиозной общины,
1 К мнению о мифичности Езры склоняется и Гельшер (ук.
соч., стр. 140).
2 Хотя термин «книжник» неточно передает значение
еврейского sopher и даже греческого grammateus, мы сохраняем это
обозначение, как общепринятое.
17*
259
осуществляли судебные функции по гражданским делам
пад своими единоверцами, а порой им предоставлялась и
некоторая административная власть. Отсюда возникла
легенда о «парах» и их руководящей роли а государстве
Иисус Сирах в начале II в. до хр. э. посвящает
специальную главу восхвалению призвания соферов,
противопоставляя им грубых крестьян, ремесленников и деловых
людей. Этот книжник так изображает своих коллег:
«Мудрость ученого создается при благоприятном
досуге, и, кто не занят делом, станет мудрым...
Напротив, кто направил свой ум и помышления на
закон всевышнего, тот исследует мудрость
предшественника и занимается мудрыми изречениями.
Он почитает рассуждения славных мужей, и, когда
обмениваются изречениями, он тоже получает доступ
(к ним).
Он старается раскрыть скрытый смысл притч, он
занимается загадками изречений.
В кругу великих несет он службу и появляется перед
государем.
В странах чужих народов путешествует он, ибо он
стремится узнать добро и зло среди людей»... (Иис. Сир.
XXXVIII 24, XXXIX 1—4).
Соферы были в первую очередь толкователями
«закона», его применения к житейской практике. В этом
отношении их деятельность напоминает работу римских
юристов классического периода1. Толкования
«книжников» приобретали силу, поскольку они получали санкцию
властей и утверждались в устной традиции. Книжники
также являлись хранителями этой традиции и, в
частности, применяли и развивали ее в судебной практике.
Книжники были и преподавателями «закона»,, проповеды-
вавшими и разъяснявшими его в синагогах и
специальных школах (Иис. Сир. LI, 23). Книжники заложили
начало теории и практике фиксации библейского текста и
были родоначальниками будущих масоретов. Наконец
послебиблейская литература, до талмуда включительно, в
массе своей является творением книжников.
Поскольку книжники формально" считались лишь тол-
1 При чтении Дигест поражаешься, до какой степени
казуистика римских юристов сходна с талмудической: те же
формальные доводы, та же ссылка на авторитет, как на последнюю
инстанцию, та же манера оперировать гипотетическими случаями,
совершенно невероятными в жизни.
2С0
кователями незыблемого закона, они внешне всегда
основывали свои взгляды и законоположения (галахи) на
традиции хотя бы и не выраженной в «законе», но
переданной «устно» по преемству от Моисея. Эта «устная тора»
была объявлена имеющей такую же силу, как и «тора
писанная». Формулой «галаха Моисею от Синая» подтвер-
ждали они авторитетность своих высказываний.
В талмудической литературе эта формальная
приверженность традиции приняла совершенно нелепые формы.
По вопросу о том, можно ли в субботу, если на нее
пришелся канун пасхи, принести пасхальную жертву, Гиллель
приводит ряд аргументов, но все они кажутся
слушателям неубедительными. Тогда Гиллель восклицает: «на мою
голову! Так я принял по традиции от Шемайи и Авталио-
на», и этот «аргумент» уже не вызывает возражений *.
Любопытный эпизод приводит трактат вав. Баба-Мециа
59 б. В споре «Р. Элиезер привел всевозможные
аргументы, но (спорящие) не принимали (их) от него. Он сказал
им: если галаха по моему, пусть это дерево докажет.
Дерево сорвалось с своего места на 100 локтей, другие
говорят — на 400 локтей. Ему сказали: нельзя ссылаться
на дерево. Он опять сказал им>: если галаха по моему,
пусть поток воды докажет. Поток воды, повернул вспять.
Сказали ему: нельзя ссылаться на поток воды. Он опять
сказал им: если галаха по моему, пусть стены бет-гамид-
раша докажут. Стены бет-гамидраша нагнулись, (грозя)
упасть. Тогда прикрикнул на них р. Иошуа и сказал им:
когда ученые спорят друг с другом, из-за галахи, вы
зачем вмешиваетесь? {Стены) не упали из уважения к р. Ио-'
шуа, но и не встали на место из уважения к р. Элиезеру
и еще стоят наклонившись. Он опять сказал им: если
галаха по моему, то с неба пусть будет дано
доказательство. Явился фас с неба (бат-кол) и сказал: что вы
(спорите) с р. Элиезером? Галаха—по его во всех случаях. Р.
Иошуа встал на ноги и сказал: это не на небе. Что зна-'
чит: «это не на небе?». Сказал р. Иеремия: давно дана
тора на Синае; мы не обращаем внимания на глас с неба,
ибо давно написано на Синае в торе: уклоняться за
большинством» (Исх. XXIII 2).: Даж^е «глас с неба» не может,
оказывается, поколебать авторитет книжника.
Однако при доходящем до абсурда формальном
благоговении перед традицией книжники под давлением об-
1 I. From me г — Der Talmud, в., 1930. S, 49—50.
261
стоятельств фактически в течение веков изменяли и
дополняли «закон», принявший в талмуде после этой
переработки существенно новую форму и содержание.
Книжники, призванные первоначально в помощь жрецам в
разработке и поддержании храмового культа (Нехемия в
помощь жрецам назначил в числе прочих также софера
Садока — XIII 13), распространили свою деятельность
также в общинах диаспоры, лишенных храмового культа, и
таким образом постепенно подготовили отмену этого
культа. Когда в 70 г. иерусалимский храм был уничтожен,
это не отразилось существенно на религии тогдашних
евреев; ибо трудами «книжников» заранее была уже
выработана не нуждающаяся в храме и жречестве форма
синагогального культа, особая организация церкви,
богословие и религиозное законодательство. И еще задолго
до падения Иерусалима культ, по выражению Буссета, «не
был больше основой и опорой благочестия, а, наоборот,
легальное благочестие с своей стороны поддерживало
культ»1. Мало того, в произведениях книжников порой
проступает открытая враждебность к храму и его
служителям. Товит, предвещая сыну своему будущее
разрушение первого храма], возвращение из плена и постройку
нового храма, отмечает при этом, что новый храм не
таков, как прежний (Тов. XIV 5). Автор III кн. Езр.,
рассказывая, как народ ликуя приступил к постройке второго
храма, продолжает: «Однако из жрецов, левитов и
родовых старейшин старики, видевшие прежний храм,
приступили к постройке этого (второго) со стенанием и громким
плачем» (III Езр. V 61). Автор «Вознесения Моисея»,
написанного, повидимому, вскоре после смерти Ирода I,
прямо выступает против первосвященников: «Тогда над ними
восстанут цари, которые будут властвовать и будут
призваны как первосвященники господа. (Но) они будут
творить нечестивое в святая святых» (Ass. Mos. VI 1). В
талмуде (Песах. 57) Абба Саул бен-Батнит передает от
имени Абба Иосе (Иосиф) бен-Ханин, «книжника» середины
I в. хр. э., следующее изречение о первосвященниках того
времени: «Горе мне от дома Боэтуса, горе мне от их
дубин! горе мне от дома Анны (Ханана), горе от его
змеиного шипения! Горе мне от дома Кантеры, горе от его
перьев! Горе мне от дома Измаила бен-Фиаби, горе от его
- ' W. Bousset — Die Religion des Judentums im neutestament-
lichen Zeitalter. B„ 1903, S. 99.
9Ш
кулаков! Они — первосвященники, сыновья их — казначеи,
зятья — amarikel'in г, а рабы их бьют народ палками» 2.
Деятельность «книжников» сосредоточилась на первых
порах в Иудее и в ее центре — Иерусалиме. Но ремесло
книжника как, юриста, проповедника, руководителя школы,
законника и литератора нашло вскоре широкое
применение и в диаспоре. Завершение многовекового толкования
и расширения «закона», собрание многочисленных галах
и агад, передававшихся в устной традиции, было
осуществлено в Вавилонии, а философское обоснование
еврейская -религия того времени получила в Александрии.
Сам Филон облек свои философские труды в форму
толкования библии, по образцу всех книжников.
Между тем сфера деятельности жречества была
ограничена иерусалимским храмом; при жалком размере
Иудеи вскоре после плена центральное святилище в
Иерусалиме могло «обслуживать» непосредственно все население
страны. Но по мере расширения области Иудеи при
династии Хасмонеев жречество потеряло непосредственную
связь с верующими. Агентура жречества в провинции
выполняла, надо полагать, исключительно функции
сборщиков десятины и других налогов. Сосредоточение культа
в иерусалимском храме, очень выгодное для укрепления
жреческой монополии, лишало жрецов возможности и
поводов для непосредственного идеологического
воздействия на массы вне Иерусалима. Таким образом, с
течением времени жречество застыло на выработанной им
догме, и изменения в религиозной идеологии,
происходившие на почве изменения общественных условий жизни
евреев, совершались помимо жрецов, иногда и вопреки
им. Далее, управление храмом, организация жреческого
сословия и руководство им, разработка сложного
ритуала— все это вполне поглощало внимание жрецов. Как
многочисленны, сложны и подробны были правила
культа, видно из того, что в талмуде, впоследствии
зафиксировавшем задним числом эти правила, им посвящено
около 30 трактатов из 63. Большое количество жрецов было
занято' административными и полицейскими функциями.
Заместитель первосвященника, segan, по-гречески именует-
1 Термин обозначает чиновников, служивших при храмовой
казне.
2 Все эти лица были первосвященниками в период между 25 г.
до хр. э. и 59 г. хр. э. Вариант приведенного изречения Абба
Саула имеется в Тос. Менах. ХЩ 21.
?т
ся стратегом, т. е. комендантом храма. Значительное число
жрецов было занято управлением финансовым аппаратом.
Храм был самым крупным хозяйством в стране,
занимался самостоятельными финансовыми операциями —
принимал вклады на хранение, производил ростовщические
рперации и т. д.1. Наконец, поскольку первосвященник
осуществлял светскую власть, он занимался внутренним
управлением и внешней политикой и только в «судный
день» обязан был лично служить в храме, так как он
один пользовался привилегией входить в святая святых.
Постепенно жрецы с первосвященником во главе все
больше отстранялись от идеологического руководства
верующими, которое перешло в руки. «книжников и фари-
сеев>>^иногда, расходившихся с жречеством2, поскольку
они, служа одному делу одурманивания народа,
применяли свои собственные методы и тактические приемы.
Решающее значение в этом процессе имела еврейская
диаспора, еврейское население вне Иудеи.
" Книжники, находясь в оппозиции к представителям
«закона», все же неизменно поддерживали
«непреложный» авторитет самого закона; видоизменяя этот «закон»
изнутри, они в то же время считали себя подлинными
хранителями завещанной от предков «топы». Но,
сохранив авторитет торы, книжники фактически изменили ее
до неузнаваемости, ибо старая религия Ягве, как она
была сформулирована жрецами в V в., перестала выполнять
свои функции опиума народа и нуждалась в
значительных поправках. Необходимость реформы с особой
настойчивостью диктовалась в диаспоре. Власть иудейской
иерократии, которая поддерживала свой авторитет всеми
мерами карательно-полицейского характера, на диаспору
не распространялась. Одурманивающая сила сложного и
пышного1 храмового культа также не действовала в
диаспоре, откуда лишь немногие пилигримы могли изредка
посещать иерусалимский храм. Наконец, евреи диаспоры
не могли в такой мере противостоять влиянию высокой
эллинистической культуры, как замкнутая в своих узких
1 Schurer, I, 317.
2 В талмудических трактатах, написанных уже после
разрушения храма и исчезновения жречества, первосвященник рисуется
как полубожественное существо; но здесь отражаются уже только
реакционные мессианские чаяния позднейших веков, которые
идеализировали старину и все связанное со «святым градом» и его
храмом.
964
границах Иудея. Поэтому если книжники были
проводниками новых идей в еврейском богословии и культе, то
поставщиками этих идей была в первую очередь
диаспора,
4. ДИАСПОРА
а) ПОЛОЖЕНИЕ ШРЗЕВ В СТРАНАХ „РАССЕЯНИЯ"
«Рассеяние» евреев началось еще в глубокой древности.
Первое крупное рассеяние евреев вне Палестины
произошло, надо полагать, в VIII в., после завоевания
Израильского царства Ассирией, и мы видели, что уже в VII—VI вв.
в ассирийских и вавилонских текстах часто встречаются
еврейские имена. После вавилонского плена много евреев
Осело в Вавилонии и Египте. Восстановление Иудеи как
отдельной провинции, а затем в II—I вв.—'Как
полунезависимого государства нисколько не приостановило
«рассеяния» евреев, так как положение массы евреев в этот
период ухудшилось. Еврейские источники, умиленные
«благодеяниями» персидских царей, восстановивших
Иерусалим и его храм, ничего не говорят о характере
персидского господства над Иудеей, о произволе персидских
сатрапов, О' гнете налогов,, о тех опустошениях, какие
приносили с собою постоянные войны (особенно войны
за обладание Египтом), о том, как отразился на Иудее
мучительный процесс распада монархии Дария. Намеки
на этот счет у «пророков» этой эпохи слишком
туманны. Но во всяком случае персидское иго вряд ли было
тяжелее, чем иго вавилонян или ассирийцев.
Гораздо сильнее чувствовался гнет сирийского
владычества над Иудеей. После смерти Александра
Македонского, покорившего вместе с Персией также Палестину,
Иудея досталась Птолемеям, у которых ее, оспаривали
сирийские Селевкиды. Обе стороны, особенно Птолемеи,
стремились опереться на сочувствие самих евреев и
потому не очень сильно их притесняли. Положение
изменилось, когда Антиох III в 198 г. хр. э. окончательно
закрепил Иудею за Сирией. Сирийские властители
стремились уничтожить призрачную самостоятельность Иудеи,
присвоить себе монопольное право эксплоатации ее
населения, не желая делиться с местной иерократией.
Сирийцы обложили Иудею, помимо частых контрибуций,
огромными налогами. В письме к Ионатану Маккавею
сирийский царь Димитрий A53 г. до хр. э.) обещает в
награду за военную помощь сложить «все налоги
(вероятно, недоимки. — А. Р.), которые иудеи платили сирийцам»,
и, кроме того, «сложить сборы за соль и государственный
налог iB пользу короны», «освободить от платежа третьей
части злаков и половинной части древесных плодов»
в пользу сирийской казны; креме того, он обещает
освободить иудеев от подушной подати и от десятины. Далее
царь обещает отпустить на волю впавших в рабство
иудеев, освободить вьючный скот иудеев от казенных
повинностей, а людей— натри дня в неделю от
принудительных работ (Иос. Флавий, Древн. XIII 2, 3).
О способах взыскания налогов можно составить себе
представление по легендарному сообщению Иос. Флавия
об основателе династии- тобиадов Иосифе бен-Тобия
(Древн. XII, 4). Флавий с восхищением описывает, как
Иосиф поразил египетский двор, откупив налоги в
Финикии и Келесирии вместо исчисленных 8 000 талантов за
16 000. Для взыскания этой суммы он взял с собою
военный отряд в 2 000 человек и, действуя при помощи
жестокого террора, не только покрыл сумму в 16 000 тал.,
но и составил себе лично колоссальное состояние. Иосиф
сохранял должность откупщика и фактического
правителя в течение 22 лет B20—198). Сообщение Флавия носит
характер легенды, и его трудно приурочить к
определенной дате 1. Во всяком случае эта легенда показывает, что
на рубеже III и II вв. иерократия в Иудее должна была
считаться с возросшим могуществом откупщиков и
ростовщиков, оспаривавших у нее власть, и знакомит нас
с методами грабежа населения, которые применяли
эллинистические властители Иудеи.
Хозяйствование сирийских царей и их еврейских
ставленников в Иудее, а с другой стороны — усиление
угнетения эксплоатируемых классов привело к восстанию 168 г.
(восстание Маккавеев). Оно не принесло облегчения
трудящимся, но привело к освобождению Иудеи из-под
власти Сирии и к образованию эфемерного Иудейского
царства под управлением династии Хасмонеев. Однако это
освобождение было куплено ценой подчинения Иудеи
влиянию, а затем и власти Рима.
1 J. Wellhausen — Israelitische unci iudische Geschichte, В.,
1901, S. 243 ff.
266
Взятие Иерусалима Помпеем в 63 г. до хр. э. положило
конец независимости Хасмонеев, и хотя некоторое время
Иудея сохранила своих «царей», она фактически
превратилась в римскую провинцию, а с 6 г. хр. э. управлялась
римскими прокураторами.
Римское владычество в Иудее, как и во всех
покоренных Римом странах, действовало со страшной
разрушительной силой. Опираясь на местные гарнизоны, обладая
всей полнотой административной и судебной власти (ius
gladii), римские прокураторы завинчивали до крайних
пределов налоговый пресс, не только высасывая все соки
из населения в пользу Рима, но и сами безмерно
обогащаясь за счет провинции. Ту же политику проводили и
откупщики-публиканы и сборщики налогов — столь
ненавистные христианской бедноте «мытари». В Мишне
сборщик (rnotihcs) часто приравнивается с точки зрения форс-
мажор к разбойнику (Б. Кама X 2, X I; Нед. III 4). О
прокураторе Иудеи Альбине Иос Флавий пишет, что не было
такого преступления, которого он не совершил бы ради
наживы. Но этот беззастенчивый грабитель в Иудее
считался еще «весьма праведным» (dikaioitatos) по сравнению
со своим преемником Гессием Флором (В. и. XIV 1—2).
Таким образом,, Иудея почти непрерывно была
объектом все усиливавшегося грабежа со -стороны 'сменявших
друг друга завоевателей. К гнету персидского, сирийского
и римского владычества присоединилась жестокая экспло-
атация населения иерусалимской иерократией* и
«собственной» местной властью в лице сената, состоявшего из
представителей знатных семей под председательством
первосвященника. Бесчисленные внутренние распри среди
претендентов на пост первосвященника, почти не
прекращавшиеся внешние войны разоряли и истощали в первую
очередь беднейшее население страны, но от этого
страдали также имущие слои. Многочисленные восстания в
Иудее в течение 300 лет A65 до хр. э. — 135 хр. э.) против
во много раз более сильных угнетателей и завоевателей
1 Характерно, что даже в раввинской литературе отмечается
алчность жречества. В мидраше (Ialqut 17) красочно описывается
история одной вдовы, которая в результате поборов жречества
лишилась всего имущества; когда у еее, наконец, осталась одна
овца, пришел Аарон и потребовал, согласно библейскому
предписанию, шерсти от первой стрижки. В отчаянии вдова решила
зарезать овцу, но и тут Аарон потребовал, по библии, лопатку, бедро
и грудинку.
267
свидетельствуют о глубине отчаяния, которое охватывало
народные массы; иудейские власти использовали это
настроение, чтоб одурманивать трудящихся
националистическим: угаром и вовлекать их в кровавые авантюры, за
которые расплачиваться приходилось, конечно, тем же
трудящимся. Иной раз, правда, разжигаемый в массах
религиозный фанатизм и шовинизм обращались против самих
подстрекателей, а иудейское восстание 66—70 гг. под
религиозными лозунгами вылилось в революционное
восстание против собственных эксплоататоров; но независимо
от исхода той или иной войны или восстания трудящиеся
в конечном счете терпели в них поражение.
Неудивительно поэтому, что Иудея отнюдь не была
притягательным центром для евреев. Напротив,
непрерывно шла эмиграция из Иудеи, и диаспора непрерывно
росла как за счет добровольных эмигрантов, так и за счет
уведенных насильственно военнопленных.
В I в. до хр. э., согласно приведенному у Иосифа
Флавия (Древн. XIV 7, 2) сообщению Страбона, иудеи
«проникли уже во все города, и не легко найти такое место
на земле, где не нашлось бы это племя и которое не было
бы занято им». Филон приводит письмо Агриппы к
императору Гаю (Калигуле), где следующим образом
описываются места поселения евреев в то время: «Иерусалим—•
столица не только Иудеи, но и очень многих стран; ибо
он при соответствующих условиях основал колонии в
пограничных странах—•Египте, Финикии, Сирии, Келесирии,
в более отдаленных Памфилии и Киликии, в большинстве
областей Азии вплоть до Вифинии и в отдаленнейших
уголках Понта; точно так же в Европе—в Фессалии,
Беотии, Македонии, Этолии, Аттике, Аргосе, Коринфе и в
очень многих прекраснейших местах Пелопоннеса. И не
только материк изобилует еврейскими поселениями, но и
наиболее значительные острова — Эвбея, Кипр, Крит. Я уж
не говорю о странах за Евфратом: все они, за немногими
исключениями, — Вавилон и те сатрапии, которые
охватывают окружающую плодородную землю, — имеют
еврейских поселенцев» (Rhilo, Leg. aid Oaium 36). В другом
месте (in Массшп 37) Филон отмечает, что евреи не только
являются давними жителями большинства городов
Европы и Азии, но и участвовали в их основании. А за сто лет
до Филона Цицерон (pro Filacco 28) говорит о иудеях:
«Известно, что это за сила, какое у них единодушие,'как
велико их значение на собраниях. Я буду говорить що
268
потом, так, чтоб меня слышали только судьи: ведь
найдутся (и здесь) такие, которые станут подстрекать против
меня и против лучших людей; ну, так я не стану им.
помогать и облегчать их задачу». С поправкой на
ненависть Цицерона к конкурентам ростовщикам из евреев и
на адвокатское красноречие его речь свидетельствует, что
евреи, жившие вне Иудеи, представляли внушительную
силу.' В Александрии количество евреев доходило, по
исчислению Белоха, до 200 000 чел. «Город имеет пять
участков, — пишет Филон (in Flaccum 8), — обозначаемых
первыми буквами алфавита; из них два называются
иудейскими, так как заселены больше всего иудеями. Но не
малые группы живут и в других участках» *. Значительные
поселения евреев были в Антиохии, Дамаске и др. А
надпись 81 г. (СЮ II 1005) свидетельствует о наличии
еврейской общины в Карчи (тогда Пантикапея): некая еврейка
совершает в синагоге акт отпуска на волю раба, причем
раб обязуется и в будущем чтить синагогу и регулярно
ее посещать2.
Евреи в диаспоре меньше занимались земледелием,
больше — торговлей, ремеслами и службой. Больше всего
евреи селились в Вавилонии, Сирии и Египте. В
Вавилонии, кроме евреев, выселенных туда после разрушения
Самарии G22 г.) и Иерусалима E97—581); значительные
массы селились во все времена персидского, греческого- и
римского владычества в Сирии; кроме того, во время
многочисленных войн и междоусобиц евреи туда
попадали как военнопленные. По сообщению Евсевия, персид-'
ский царь Артаксеркс Ох после своего похода в Египет
(около 350 г.) выселил умного евреев «в Гирканию возле
Каспийского эдоря», то же подтверждает Синкелл I 486:
«Ох, сын Артаксеркса, совершая поход в Египет, взял в
1 В Александрии было 43 синагоги, из них одна огромная;
согласно талмудической легенде, она была так велика, что пение
хазана многим не было слышно, и в тех случаях, когда надо
было возглашать «аминь», он сигнализиро(вал молящимся своим
платком (sudarium). См. Franz D е 1 i t z s c h — Judisches Handwer-
kerteben zur Zeit Jesu. Erlangen, 1875, S. 38.
2 О диаспоре см. Schflrer, III, 1—188, II, 94—233; L. Herz-
feld —Handelsgeschkhte der Juden. Braunschw., 1879, S. 366 ff. О
евреях в Египте весь материал собран у L. Fuchs — Me Juden
Aegyptans in Ptolemaischer Zeit. Wien, 1924. См. также N e p p i
M adorn a —La vita publica e privata degli ebrei in Egitto nell'eta
ellenistka e romana. «Aegyptus», III A922), p. 19 sq; U. Wilcken—
Zum Alexandrinischen Antisemitismus, Abhanbl, d. Sachs. Ges.
d. Wiss., phil.-hist. Klasse, B. XXIII, LVII.
JG9
плен часть иудеев; из них он часть поселил в Гиркании
у Каспийского моря, часть в Вавилоне; они доныне там
живут, как сообщают многие- (историки) из эллинов» i.
Центрами еврейских поселений в Вавилонии были Наар-
деа и Низибис. После падения Иудеи Вавилония стала
культурным! центром евреев. Много было также евреев в
Сирии, в состав которой Иудея входила в течение
нескольких веков. «Большая часть Сирии, — пишет Ио-с.
Флавий (Древн. XVIII 3, 3),—как соседняя страна, ими
населена, а в особенности много их в Антиохии, как в
величайшем городе Сирии». Наконец, древнейшим
центром поселения евреев был Египет и его столица-'
Александрия.
Все эти факты хорошо засвидетельствованы
источниками. К сожалению, нельзя того же сказать о социальном
составе еврейского населения диаспоры и роде его
занятий. Древние лисатели мало интересовались этим
вопросом. Археологические же памятники чрезвычайно скудны.
Больше всего данных имеется для Египта, так как здесь
сохранилось значительное количество документов в виде
папирусов и остраков, касающихся самых разнообразных
сторон деловой жизни и быта того времени. Однако и те
данные, какие имеются о роде занятий евреев Египта,
далеко не полны. Необходимо иметь в виду, что
принадлежность к евреям того или иного лица, упоминаемого в
источниках, определяется большей частью на основании
его имени. Но эти имена не всегда прозрачны, я
толкование их во многих случаях спорно. С другой стороны,
евреи не всегда носили обязательно еврейские имена. Если
даже первосвященники давали себе греческие имена (Язои,
Менелай, Алким, Антигон и др.), то для евреев диаспоры
это было вполне обычным явлением. В надписи, в которой
еврейская самоуправляющаяся община г. Вереники в.Ки-
ренаике увековечила своего «благодетеля», из 9 стоящих
во плаве общины архонтов только один носит еврейское
имя Иосиф, остальные называются греческими и
римскими именами — Андромах, Евфранор, Марк Лелий и т. д.
(СЮ III 5361).
Мы знаем уже из элефантинских папирусов, что евреи
в V в. составляли гарнизон крепости и официально
именовались «войском иудейским» (см. выше стр. 240^сл.).
Что и позднее евреи служили в Египте""в^'"вбйтка^ТШеется
1 S с h u r e г, III 7.
270
ряд свидетельств. Иосиф Флавий (Древн. XII 1, 1)
рассказывает, что Птолемей I после взятия Иерусалима поселил
многих пленных иудеев в Египте, в качестве гарнизонов.
Псевдо-Аристей указывает в своем сообщении об этом
невероятные цифры —100 000 пленных, из коих на
военную службу принято 30 000 (Arist. 12—13). Но если
«Аристей» и следующий ему в данном случае Флавий не
вполне заслуживают доверия, то об этом свидетельствуют
не вызывающие сомнений папирусы, а также факт
существования в Египте евреев-клерухов, т. е. бывших
военных, получивших за службу надел земли. Наконец, о том
же свидетельствуют названия местностей в Египте —
«Иудейский лагерь» (Gastra iudaeorumi) *.
Далее, в памятниках упоминаются евреи — ткачи,
оружейники, золотых и серебряных дел мастера, горшечники,
моряки (упоминается даже особая 'коллегия
евреев-моряков), сторожа и др. Значительная часть египетских евреев
занималась земледелием. Мы уже упоминали о евреях
клерухах и катойках—отставных военных. Евреи в Египте
жили не только в городах, но и в селах2, где занимались
земледелием. При этом были не только
евреи-землевладельцы, но и арендаторы и батраки. В одном файюмском
папирусе жалуется «Теофил иудей, говоря, что я, мол,
уведен на полевые работы, а я хочу вернуться к Сабину»3,
т. е. батрак некоего Сабина насильно назначен на работу
на царской земле (eis georgian) и просит отпустить его
к хозяину. В другом документе Р. Оху III 500, 130 г. хр. э.
группа в несколько человек греков и евреев хлопочет о
предоставлении им в аренду 20^4 арур (арура = 0,2756 га)
земли. Еврейские имена значатся и в списке лиц,
получающих бесплатно семена при аренде «царской земли» (Р.
Lille I № 5) . Евреи фигурируют в списках недоимщиков
по подушному налогу. В папирусе BGU IV 1134 два еврея
и одна еврейка вносят какому-то eranos (товариществу)
часть долга и обязуются выплатить остальное в рассрочку
по 10 драхм.
Кроме полеводства, евреи в Египте занимались также
виноградарством, садоводством, скотоводством4. В горо-
1 См. S с h й г е г, III, 33 ел., 42 ел.
2 Перечень селений, в которых засвидетельствовано еврейское
население, см. L. F u с h s, ук. соч., стр. 36—46.
3 М. Rostowzew — Studien zur Geschichte des romischen
Kolonats. Leipzig, 1910, S. 195.
* Wilcken — Ostraka № 1510 A44/3 г. до хр. э.): расписка,
выданная некоему Симону, в получении платы за выпас скота.
271
дах евреи занимались ремеслами^.торговлей и
ростовщичеством. Выброшенные из производства еврейские лгом-
пенпролетарии жили нищенством: Крупных торговых фирм
еврейских наши источники не знают, но надо априори
полагать, что евреи, составляя почти половину населения
крупнейшего торгового центра — Александрии —
занимали видное место в ее торговле. Несомненно, взаимная
грызня евреев и александрийцев в I в. хр. э. была вызвана
жестокой торговой конкуренцией, и александрийские
погромы того времени имели в общем ту же подоплеку, что
и^по4^ом!^_в_царской России.
- ' Евреи занимались также отю£пом_дмпгов *, выступали
как менялы, посредники и заимодавцы. Как известно,
основные кадры ростовщиков в римских провинциях
поставлялись римскими всадниками,. Римские гражданские и
военные власти «сперва ^отнимали у покоренных их
сокровища, а потом давали им их опять взаймы за
ростовщические проценты, чтобы тем дать им возможность
выплачивать новые поборы» 2. Местным ростовщикам
оставалась на долю более мелкая и более трудная добыча.
Наряду с прочими занимались ростовщичеством и евреи,
причем и здесь конкуренция выразилась в национальной
розни. В разгар кровавых распрей между иудейским и
греческим населением Александрии (Иос, Древн. XIX 5, 2),
4 августа 41 г., некий Серапион в письме к другу или,
родственнику Гераклиду (BGU IV 1079) советует ему
ежедневно умолять своего кредитора Птолариона, чтоб он его
не лишил крова —может быть, он и сжалится; «если же
нет, то ты (все-таки) тоже, как и все, остерегайся иудеев 3.
Лучше угоди ему 4, и ты сумеешь с ним соетисьТ^Г Этот
документ свидетельствует о вражде к
евреям-ростовщикам, которую, конечно, их конкуренты-александрийцы
всячески раздували во вражду к евреям вообще.
1 См. U. Wilcken — Griechische Ostr.aka aus Nubien und
Aegypten. Leipzig —Berlin, 1899, I, S. 523—524. Из приведенных
здесь 25 случаев, где приемщиком налога является лицо с
еврейским именем, бесспорны: «Иосиф, сын Авдия», «Симон, сын Иаза-
ра» (два случая) и другие Симоны (в одном случае Симон — сын
человека с чисто греческим именем Гермий) и несколько лиц,
носящих имя Sambataios в разных вариантах.
2 Энгельс — К истории раннего христианства. Соч., т. XVI,
ч. И, стр. 423.
3 Т. е. «не вздумай прибегнуть к займу».
4 Т. е. Птолариану.
5 Archiv fur Papyrusforschung IV. S. 567.
272
Далее, значительное число евреев состояло на службе
в местных еврейских учреждениях, занимало различные
государственные низшие и высшие должности и, наконец,
было служителями культа. Интересно, что в числе шести
сторожей в храме Сар аписа, в Оксиринхе (Р. Оху I 43,
295 г. хр. э.) один, носит еврейское имя Иакоб.
Таким образом, менее всего соответствует
действительности представление, будто евреи в диаспоре древности,
в частности в Египте, занимались исключительно
торговлей и ростовщичеством. Документы показывают, 'что
среди евреев диаспоры существовали те же классы, те же
занятия и промыслы, что и в Иудее, те же, что и у
окружающего населения диаспоры. Как и всюду, масса
населения жила в нищете, была замучена и запугана жестокой
эксшгоатац'ией своих землевладельцев и ростовщиков, а
также гнетом налогов., произволом и грабежом со
стороны римских властей и их местных ставленников. Филон
(de legatione ad Caiium 19) отмечает, что еврейская
торговля в Александрии — мелочная, еврейские кварталы
нездоровые, сырые и темные. Но не только в Египте, —
повсюду в диаспоре евреи, сосредоточившиеся в городах,
вели полунищенское существование. Для римских
писателей I в. еврей — символ нищего, попрошайки, жалкого
бродяги (Ювенал, сат. III 11, VI 542—3,-III 296). Credat
iudaeus Apella — «пусть верит этому иудей Апелла»,
говорит Гораций (Сат. I 5, 100), для которого иудей —
синоним суеверного и невежественного человека. Марциал
(XII 57) говорит о еврейских детях, которых матери
посылают нищенствовать.
Наконец, много было евреев-рабов. Талмудическое
законодательство много уделяет внимания вопросу о евреях-
рабах. При массовых продажах в рабство населения
.покоренных городов и стран евреи, конечно, не составляли
исключения, да и продажа в рабство за, долги было
рядовым явлением. Весьма распространенным именем, которое
римляне давали рабам, было Syrus, под которым
понижали и евреев. В речи de provinciis consularibus E6 г.)
Цицерон грворит (V 10) о сирийцах и иудеях как
«нациях, рожденных для рабства».
Связь разношерстного еврейского населения диаспоры
с иерусалимским храмом и его жрецами была, конечно,
весьма слабая. «Апостолы» более или менее аккуратно
собирали взносы в пользу храма, составлявшие крупные
суммы. Иосиф Флавий (Древн. XIV 7, 2) приводит сооб-
18—8
273
щение Страбона, что, «послав ка (остров) Кос, Митрйда';
велел взять ценности, спрятанные там царицей Клеопат
рой, а также восемьсот талантов иудеев». Цицерон
сообщает, что ежегодно1 из Италии и всех провинций
вывозится золото в Иерусалим, и одобряет действия
наместника Азии Флакка, запретившего вывоз золота из его
провинции (Cic. pro Flacco 28). Но сборщики податей,
конечно, не осуществляли идеологического руководства.
Общим у евреев диаспоры с евреями Палестины был
писанный «закон», но основным содержанием последнего был
храмовый культ, т. е. для евреев диаспоры нечто
отвлеченное. Паломничество в Иерусалим трижды в год,
предписываемое библией, фактически было невозможно для
большинства евреев диаспоры, особенно для жителей дальних
стран. При всем почтении к иерусалимскому храму, какое
выказывали евреи диаспоры, они не могли соблюдать те
библейские предписания, которые объявляют Иерусалим
единственным местом почитания Ягве. Централизация
культа никогда не была осуществлена на лраетйке^даже
в самой Иудее. Тем^ менее могла итти речь об этом в
диаспоре.
Поэтому религия и культ евреев диаспоры должны
были принять иные формы, которые в виду численности
и значения евреев диаспоры оказали серьезное влияние на
старую, закрепленную в «законе» веру и привели к
образованию той разновид:ностл_иуааиз>ма, которая
зафиксирована в талмуде. Именно стремление проводить строгую
централизацию культа в Иерусалиме в период иерокра-
тии привело к возникновению особой своеобразной
формы религиозной общины с местным религиозным
центром в виде синагоги.
б) СИНАГОГА
Синагога была не только культовым учреждением;
самое название symagoge (греч. «сборище») или бет-гакне-'
сет (еврейское «община») показывает, что речь идет не
о молитвенном доме, а об организации верующих.
Синагога была той легальной формой, в которой могли
создаваться еврейские национальные организации там, где
евреи составляли меньшинство населения. В римскую
эпоху синагога рассматривалась как религиозная
коллегия, и в этом выражалась юридическая форма ее
существования. По всей вероятности, первоначально синагоги
274
были лишь временными — периодическими или
случайными — собраниями верующих, которые со временем
превратились в" постоянный институт.
Древнейший памятник, свидетельствующий о
существовании молитвенного дома синагоги (греч. proseuche),
найден в Египте. Это — надпись в Схедии возле
Александрии, гласящая: «Во имя царя Птолемея, царицы
Вереник'^сестры и жены, и детей (воздвигли)
молитвенный дом 'иудей» (Dirt. .Or. 726). Упоминаемый здесь
Птолемей — Птолемей III Евергет B47—221) К В библии
синагоги имеются в виду, повидимому, в пс. LXXIV 8,
относящемся к эпохе Маккавеев (первая половина II в.
до хр. э.): «сожгли все ' места собраний божьих на
земле».
О функции синагоги в I в. мы имеем свидетельство
Филона, Vita- Mosjs II (HI) 27 ( = 216 Colin): «С тех пор и
поныне иудеи по субботам разрабатывают отечественную
философию, отведя это время для науки и изучения
естества (peri physin); в самом деле, что иное представляют
собою молитвенные дома во всех городах, как не школы
благоразумия, мужества, мудрости, благочестия и
нравственной чистоты и всякой добродетели...?» Точно так же
в Leg. aid Caium 23 Филон говорит о синагоге как о месте,
«где публично воспитываются в отечественной
философии». Иосиф Флавий (с. Ар. II 17) в своей апологии
выступает в защиту синагоги не столь неумеренно, как
Филон, не пытается превратить синагогу в академию
философии и школу нравственности, но тоже отмечает,
что Моисей «повелел нам, оставив все прочие дела,
собираться для слушания закона не раз и не два и не чаще, но
точно определил для этого один день в неделю, чтобы
мы изучили его основательно».
В этих сообщениях Филона и Иосифа верно только
то, что в синагогах читали и комментировали отрывки из
библии, а книжники произносили проповеди.
Богослужение в синагоге, насколько можно его проследить по
имеющимся материалам, состояло, во-первых, из чтения
исповедания^ веры и молитв; читал молитвы один из
молящихся, обладавший необходимым для этого опытом,
а толпа в определенных местах возглашала «аминь».
После молитвы читали главу из Пятикнижия и
«пророков»; затем следовало благословение молящихся- форму-
1 Относящийся сюда материал собран у Schiirer II, 499 ел.
18*
лой, установленной в библии (Чис. VI 24—26) и прим,
няемой в синагогах и поныне. Затем следовал пер-ет
прочитанного отрывка из библии, —■ если ее читали п
еврейски, — на местный язык и проповедь на тему о пр
читанных текстах *. Молитвенные собрания устраивались
не только по субботам, «о и в праздники, а также в дни
новомесячия.
Кроме обычных богослужений, существовали и
совместные ритуальные трапезы. Об этом свидетельствуют
декреты Цезаря, которые приводит Иосиф (Древн. XIV
10, 2—8); в числе привилегий, дарованных иудеям за
помощь, оказанную римлянам Гирканом И, этнархом и
первосвященником, в походе против Египта и Митридата,
значится также разрешение устраивать совместные
пиршества (syndeipna), «собираться сообразно их
установлениям и вместе пиршествовать (foestiiasithai)». Эти
ритуальные трапезы, которые первоначально, надо полагать,
заменяли жертвенные пиры при иерусалимском храме,
должны были со временем, под влиянием эллинских
мистерий, положить начало христианскому таинству
причащения. Молитвы в синагоге также, по всей
вероятности, вначале воспроизводили храмовый культ, потом
получили новое, собственное, главным образом мессиани-
ческое содержание. Языком богослужения в Палестине,
отчасти Сирии и Вавилонии был арамейский, во всей
остальной диаспоре — греческий2; на этом же языке
читали и библию.
Строились синагоги, за исключением особо
роскошных, вроде александрийской, по одному шаблону; охотно
строили их возле моря или реки. Интересно, что, как
показали раскопки в Галилее, синагоги там
ориентированы не на восток и не на юг (по направлению к
Иерусалиму), а на север: повидимому, это связано с каким-то
местным культом 3. Вопреки прямому библейскому
запрещению синагоги украшались пластическими
изображениями, среди которых фигурируют дельфин, лев, ягненок,,
орел; обычными эмблемами, украшавшими синагоги, слу-;
1 Филон уЕвсевия Praep. ev. VIII7, 12—13: «...они собираются
и сидят вместе; большинство (сидит) молча, кроме тех случаев,
когда принято возгласить что-нибудь по поводу читанного;
присутствующий здесь кто-нибудь из жрецов или старейшин читает
им священные законы и подробно их толкует почти до позднего
вечера».
2 S с h ii r e r III, S. 140.
3 S. К г a u s s — Die Galilaischen Synag-ogenruinen. Lpz. A912 г.).
276
Ufa — "'-*•"
V -¥■■
L,
I*.
У?!
V*-
к
жили семисвечник, виноградная кисть, гранатовое яблоко
и др. Раскопки последних лет в Dura-Europos иа Евфрате
обнаружили синагогу, основанную в 244—245 г. хр. э.
с обильной стенной живописью1. Таким образом, не
только в чисто эллинистических районах, но и в Галилее
и на Востоке сказывалось влияние эллинизма в такой
консервативной области, как культ,
притом такой замкнутый и обособленный,
как культ иудейский.
Во главе синагоги стоял
архисинагог — светское лицо. Под его началом
были казначеи, ведавшие «кружкой», и
низшие служители. Лица жреческого
сословия пользовались некоторыми
привилегиями в синагоге — им
предоставлялось преимущественное право
благословлять молящихся и читать вслух
назначенную на данный день главу из библии.
Но в организации синагоги жрецы как
таковые не участвовали и на ход
богослужения влияния не имели. При рас- "]РисЛ42. |Мозаика~с
пределении мест в синагоге почетные пола ; синагоги в
места (proedria) предоставлялись не
жрецам, а знатным и богатым прихожанам.
В то время как все молящиеся сидели
лицом к «святыне», «старейшины сидят
лицом к народу и спиной к святыне»
(Тос. Мег. IV). Этот порядок сохраняется
в синагогах и в настоящее время: вдоль
почетной восточной стены «спиной к
святыне» (лицом к западу) сидят
наиболее богатые прихожане и раввины, прочие сидят лицом
к востоку.
Синагога не была просто молитвенным собранием.
Она осуществляла также известные функции управления,
особенно в городах с незначительным еврейским
населением, которое не было объединено в гражданскую
общину (кошпоп). В римскую эпоху в провинциях были
уничтожены местные политические учреждения, не
соответствовавшие духу римского управления. Местные герусии,
оуле и народные собрания потеряли всякое Политическое
m,r! RHR A934)> Р- 103; «Illustr- London News», 1933 о 188—191;
KHR, 1935. Nr. 2, p. 110 sq. '
■ --':t
» -j.'■'.-' f ■
Ьет-Альфа. В центре
— -солнце на
колеснице, окруженное
знаками зодиака с
гениями времен года
По углам. Наверху
ковчег в окружении
львой и птиц. Внизу
жертвоприношение
Исаака
277
содержание. Тем больше значения приобрели всякого
рода религиозные, спортивные и т. п. объединения.
Организация культа, в частности культа Цезаря, игр,
общественных зрелищ, попечение над гимнасиями и т. п. — все
эти суррогаты общественно-политической деятельности
привлекали крупных рабовладельцев, купцов и ростов-
Рис. 43. Недавно открытая при раскопках в Dura Europos синагога,
построенная в 241—255 гг. Часть северной стены, покрытой
живописью. Illustr. Lond. News, 29/VII 1933 г.
щикоВ', которые не могли найти иного поприща для
своего честолюбия. Сохранившиеся бесчисленные
памятные надписи имеют целью запечатлеть деяния местных
гимнасиархов, азиархов, панегириархов, секретарей,
казначеев и т. п. Кому позволяли средства, занимали
одновременно несколько почетных должностей и наделяли
ими своих детей 1.
1 Из многочисленных примеров такого рода укажем надпись
в Низе (ВСН VII, р. 289, № 15).
278
Такой же процесс совершался и в еврейских общинах
в диаспоре. Если в эллинистических городах с
компактным еврейским населением (напр., Апамея) евреи
рассматривались как самоуправляющаяся этническая
единица — etihnos ton liiudaion* и имели своего этнарха, то
римляне свели это самоуправление на-нет. Соответственно
Рис. 44. Раскрашенные черепицы потолка
синагоги в Dura Europos. Наверху греческая яад-
пись: „Самуил сын Иддея, пресвитер евреев"
возросла роль синагоги, где сосредоточилась вся
общественная жизнь евреев. Синагога была представительным
органом общины и выступала от ее имени. В
посвятительных надписях на воздвигнутых евреями памятниках
1 S. Reinach — REJ, VI, р. 161; W, R a m s а у —Cities and
Bishoprics, 11, p. 668 sq.
279
в честь того или" иного царя, императора или
общественного деятеля обычная формула вступления гласит:
...«синагога почтила NN...»;. «синагога» здесь заменяет
формулу «he iboule k;ai ho demos» (совет и народ) на
соответствующих нееврейских надписях.
Ps:c. 45 Сцена из книги Иезекииля: бог поднимает пророка за
волосы. Деталь рис. 43
Так же, как христианская церковная организация,
синагога фактически осуществляла юрисдикцию над
своими членами, применяя весьма чувствительное в то
время наказание — отлучение (cherem); стать
отверженным— aposynaigoigos -—было для непокорного серьезной
угрозой. Богачи-архисинагоги приобретали таким
образом реальную власть над паствой, притом не только в
делах культа, но и в гражданских делах и тяжбах, кото-
280
рые евреи, как и христиане, избегали передавать
римскому суду.
Должности архисинагога и других заправил
закреплялись за кучкой богачей, иной раз на всю жизнь. В над-
(.'.*:•
Ь
Г
ш
\ЙР*_ j
***«
Рис. 46. „Пророк". Живопись на стене
синагоги Dura Europos. Изображение близко
по типу к раннехристианским,
изображениям Иисуса
писи из Апамеи (эпохи Нерона) упоминается Гай Тир-
роний Клад, «ho dia bion arehisynagogos» — пожизненный
архисинагог.
Само собою разумеется, что синагогальные верхи
ведали финансами общины и синагогальным имуществом
281
(продажа здания синагоги и ее имущества совершается
семью «тувим» — знатными представителями — города,
Мег. 26 а). Доходы синагоги были, надо полагать,
значительны, так как она содержала платных служителей,
приобретала имущество (Pap. Telbt. 1 № 86 упоминается
«иудейский молитвенный дом»—proseuche ktdaion — как
владелец «священного участка-сада»—Ihiera parade'isos).
Синагога, естественно, была органом и средством
эксплоатации низших слоев населения. Прямую эксплоа-
тацию синагога прикрывала дешевой
благотворительностью— в конечном счете на средства
«благодетельствуемых»: потребные суммы собирали с верующих, для
чего существовала «кружка» (сира) и группа казначеев-
сборщиков (gabbaei szedaqa). А рядом с этим посредством
проповеди «мудрости и благочестия» синагога прививала
эксплоатируемым морали смирения, сознания
«греховности» и чувства раскаяния и непрерывно держала
иудейскую массу под отравляющим действием религиозного
дурмана.
Синагога, таким образом, фактически отрывалась от
храма и его жречества, так как она, во-первых, имела
свою особую форму богослужения, отличную от
храмового культа, где центральное место занимали
жертвоприношения. Во-вторых, синагога была местом, где изучали
и толковали «закон», тогда как в храме его просто пр и-
меняли. Наконец, чисто светский характер организации
синагоги предоставлял верующим и руководившим ими
книжникам свободу толкования закона в соответствии с
условиями жизни евреев вне Иерусалима, особенно в
диаспоре. Необходимо, однако*, оговориться, что синагога
воспринималась не только как замена храмовой общины
но и как дополнение к ней; поэтому синагоги возникали
не только в диаспоре или в Иудее вдали от Иерусалиме,
но и в самом Иерусалиме. По явно преувеличенным
талмудическим сообщениям, в Иерусалиме было нето 48<
(иер. Мег. 73 б), нето 460 (иер. Кетуб. 35 б) синагог.
в) ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ НА РЕЛИГИЮ
ЕВРЕЕВ В ДИАСПОРЕ
Содействуя изоляции еврейского населения диаспоры,
консервированию его религиозных представлений и
обрядов, синагога вместе с тем была тем учреждением, через
282
которое Э£линцстические_культь1 оказывали свое влияние
на еврейскую культовую практику и особенно ш
религиозную идеологию. Мы уже упомянули о ритуальных
трапезах, какие практиковались, повидимому, в синагоге
под влиянием эллинистических мистерий; возможно, что
и обычай строить синагоги поблизости от воды связан с
элевсинскими .мистериями Деметры. Несомненный
характер таинства получило у евреев крещениех прозелитов.
Крещение, т. е. погружение в воду, стало наряду с
обрезанием непременным условием приема «язызнша»^,в
еврейскую общину. Что здесь речь идет не о простом
ритуальном очищении, которому и евреи подвергались
при всяком «осквернении», свидетельствует то значение,
которое источники придают этому акту. Интересно, как
говорит о крещении у евреев Арриан: говоря о том, что
истинный философ — лишь тот, кто проводит свои
философские взгляды в жизнь, Арриан для наглядности
приводит в пример иудеев: «Когда мы видим какого-нибудь
колеблющегося, мы обычно говорим: он не иудей, а
притворяется. Но если он усвоит образ жизни
крещенного1 (ibeibamimenou) и избранного, тогда он действительно
является и называется иудеем» (Diss. Epict. II 9). Ясно
также, что то крещение, о котором говорится в
евангельских мифах о Иоанне-крестителе, означает не просто
ритуальное „дмовение.
Конечно, храмовые жрецы были слишком кровно
заинтересованы в строгом соблюдении установленного
храмового ритуала, чтоб допускать проникновение извне
каких-либо новых обрядов; потому изменения в культе
совершались медленно, с трудом. Что же касается
богословия, то, надо полагать, жрецы довольствовались той
догмой, какая была вложена ими в жреческую редакцию
библии, и предоставили книжникам разрабатывать
богословские темы. А здесь влШШй~е~зллйнистического бого/
словия и философии было неизбежно.
Войны 168—163 гг. против сирийского владычества,
которые велись под лозунгом защиты иудейской веры от
посягательств «язычников» и их сообщников внутри
Иудеи, привели в конце-концов к созданию эфемерного
Иудейского царства A40—63). Но это «независимое» царст-'
1 |Русское слово «крещение» (от слова «крест») не передает
греческого слова baptjsmos, означающего, как и еврейское tebila,
<<!}2Г,ЕУже.ВЯ£_„§.--.UQMiV, основной греческий термин сохранился в
слове «баптисты» и т. п.
283
во с царем-первосвященником из династии Хасмонеев во
главе в сущности продолжало политику эллинизадии
Иудеи, которую проводила свергнутая Хасмонеями династия
Тобиадов; когда Ирод I проводил широкие мероприятия,
имевшие целью включить Иудею в сферу эллинско-рим-
ской культуры, о;н лишь выполнял в широком масштабе
то, что его предшественники, цари-жрецы, делали
незаметно, исподволь. ,
Во всяком случае жречество нисколько не
противилось начинаниям Ирода.
Сила эллинистического влияния была настолько
велика, что сказывалась не только в диаспоре, но и в самой
Иудее. Достаточно указать, что р^зщтие и обогащение
арамейского языка, на котором говорили в Иудее, шло в
значительной мере за счет греческого языка, откуда было
заимствовано множество слой, особенно для обозначения
понятий, касающихся производства, торговли и
обращения. Даже высшее иудейское судилище носит греческое
название cj н ед р и о н, а придуманный Гиллелем
специфически еврейЪкТш'Тйётод обхода библейского закона о
субботнем годе получил у него греческое наименование
«просбол». Многочисленные оградительные
постановления талмуда, цель которых — защитить чистоту иудаизма
от вторжения внешних «языческих» влияний,
свидетельствуют о силе и многосторонности этого влияния.
Огромное значение, с одной стороны, для сохранения
еврейской религии в диаспоре, а с другой стороны —
для возникновения своеобразного сочетания этой
религии с вульгариз^|йаной^рече0кр;й философией имел
греческий «перевод 70 толкоштеков» — Септуагинта. О том,
когда и по какому случаю сделан этот перевод,
сообщает дошедший до нас псевдэпиграф «Послание Ари-
стея». Автор выдает себя за современника египетского
царя Птолемея II Филадельфа B85—246). Но «послание»
написано, вероятнее всего, в первой половине I в. до хр.
э. *. Псевдо-Аристей рассказывает, будто Птолемей, бывший
между прочим библиофилом, поручил" библиотекарю
александрийской библиотеки Димитрию Фалерскому
организовать перевод Пятикнижия на греческий язык.
Последовало обращение к иерусалимскому первосвященнику
Элеазару; последний прислал в Александрию 72 «то'лков-
'Schurer, III, 424, ff. О. Eissfeldt, ук. соч., S. 711 ff;
Kautsch, II, S. 1 ff.
284
нйков», по 6 от каждого колена; эти толковники, по
которым и получил свое название перевод (с округлением до
70), сделали его в течение 72 дней. Псевдо-Аристей
рассказывает множество совершенно невероятных
подробности о предварительных переговорах между Птолемеем и
Элеазаром, о подарках, которыми они обменялись, о
беседах-диспутах на библейские темы и т. п. Но в
легендарных россказнях псевдо-Аристея, поставившего перед
собой апологетическую задачу, верно то, что
греческий перевод Пятикнижия существовал уже в III в., а
постепенно к этому переводу прибавляли другие книги,
которые успели приобрести репутацию канонических. Внук
Иисуса Сираха после 132 г. знает уже греческий перевод
всей библии — «закона, пророков' и прочих книг».
Перевод «70» был предпринят, очевидно, не для
пополнения царской библиотеки интересным документом, а
потому, что евреи рассеядил^ж^не^понимал^1_^щейскрго
языка; а поскольку в центре синагогального
богослужения стояло чтение и толкование библии, необходимо
было иметь библейский текст на понятном для массы
верующих языке. По этой причине вожди александрийской
религиозной еврейской общины превозносили святость
этого перевода, объявили составление перевода событием
первостепенной важности и учредили особое празднество,
которое благоговейно описывает Филон (Vita Mos-is II
41—42 Cohn): «Поэтому доныне ежегодно устраивается
торжественное собрание и шествие к острову Фароеу *,
куда переплывают не только иудеи, но и очень многие
другие, чтоб почтить то место, где впервые воссиял
перевод, и возблагодарить бога за старое "и вечно""новое
благодеяние. После молитв и славословий некоторые
разбивают палатки на берегу моря, другие, расположившись
на прибрежном песке под открытым небом, пируют с
родными и друзьями».
Септуагинта, греческая библия, служила связующим
звеном между иудейским богословием и греческой
вульгарной философией. На Сёптуагинте основывали Аристо-
бу'л и Филон свои аллегорические толкования
«священного писания». Через Септуагинту элементы иудейской
религии проникли в позднеэллинистическую магическую
литературу.
1 По преданию, «перевод 70» сделан был на острове Фаросе,
близ Александрии.
285
Но уже самый перевод был в некоторой степени
переработкой библии. Известный богослов Ад. Дейсман в
патетической речи на всемирном.конгрессе ориенталистов
в Гамбурге 8 сентября 1902 г. заявил, что, «эллинизация
Ветхого завета—гэто эллинизация семитического
монотеизма. Без Септуагинты немыслимо было бы шествие
бога с Сиона в Александрию, Ефес, Афины, Рим, Трир.
Без Септуагинты не было бы Филона
Александрийского» *. Если (выветрить из этой речи ее .поповский дух,
остается правильное указание на тот факт, что уже
самый перевод «70 толковников» заключает в себе нечто
новое, чего нет в оригинале. Характерно, что Септуагин-
та нигде~нТТ1рнв^дит~собственного имени Ягве, заменяя
его всюду нарицательным" КупоТ— господь 2. Здесь мы
видим конкретное выражение" йдейТГОТГОтеизма, которой
еще не знает еврейская... библия до III в. Эд. Мейер
обращает внимание на та, что в кн. Иис. Нав. XXIV 15
замена «Ягве» термином «господь» придает тексту
противоположный смысл. Иисус говорит: «... изберите себе ныне,
кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши...
или богам аморрейским, на земле которых вы живете; а
я и дом мой будет служить Ягве». Здесь Ягве — один из
богов, наряду с аморрейскими, тогда как в переводе
«70» единый безличный «господь» противопоставляется
прочим богам 3. Точно так же имя Ягве Себаот (Саваоф)
заменяется термином «бог воинств».~"В""ряде -случаев
конкретные понятия, в обозначении которых сквозят еще
пережитки первобытной религии, заменяются более
отвлеченными понятиями. Переводчики- учитывают роль
греческой библии для пропаганды веры среди
«язычников» и потому кое-где смягчают неудобные выражения
еврейского текста4. Вопреки мнению Филона, что Септу-
агинта в точности передает еврейский текст (Vita Mosis
1 Ad. Deissmann — Die Hellenisierung des semitischen Mono-
theismuis. Lpzg., 1903, S. 176 A6) ff.
2 В греческом переводе библии, сделанном в II в. хр. э.
Аквилон, переводчик, старавшийся дать буквальный перевод, даже в
ущерб грамотности и понятности, не желая все же передать
собственное имя Ягве, просто заменил четыре еврейских буквы,
которыми пишется это имя, похожими на них буквами греческого
алфавита, и получилось нелепое начертание П I П I.
3Ed. Meyer — Ursprung und Anfange des Christentums. В.,
1921, В. ill, S. 21.
4 Доклад Г. Бертрама на конгрессе ориенталистов в 1926 г.
См. ZDMG, N. F. 6 A927).
286
И 40 Cohn), она отражает иную стадию религии евреев,
чем та, которая выражена в еврейском «законе» '.
Мы рассмотрели три фактора, содействовавшие
видоизменению той религии, которая зафиксирована в
жреческой редакции библии. Наряду с унаследованным от
предков еврейским законом, наряду с центральной
святыней в Иерусалиме и жрецами как хранителями
традиции, служителями строго фиксированного культа, мы
видим синагогу как новую форму организации религиозной
общины, книжников, соферим, как толкователей
«закона», и эллинизм, приспособляющий узкое национальное
ограниченное иудейское богословие к условиям
■распространившейся по всему шщ£_диаспоры. Но все эти новые
явления, способствовавшие изменению еврейской религии,
были вместе с тем и сами продуктом этого изменения, в
основе которого лежало изменение тех общественных
условий, в которых еврейская религия оформилась.
5. ИУДЕЯ ПОД ВЛАСТЬЮ СИРИИ И РИМА
Завоевание Палестины___Александром Македонским
привело к значительным переменам'"в'"ТЗГдШё Иудеи.
После смерти Александра Иудея в течение ста слишком лет
была ареной борьбы между "преемниками Александра —
египетскими^ Птолемеями и сирийскими Селевкидами.
А когда в 195~г. "Иудея окончательно отошла к Сирии, к
почти непрерывным внешним войнам присоединились
войны внутренние. По поводу войны между Антиохом и
Птолемеем Филопатором Иосиф Флавий замечает: «На
долю евреев выпадало страдать одинаково как в случаях
его победы, так и в случаях его поражения, так что они
вполне уподоблялись тогда кораблю во время бури,
когда он страдает с обеих сторон от волн: они находились,
так сказать, посредине между удачами и неудачами Ан-
тиоха» (Древн. XII 3, 3). А в разгар 'восстания против
Сирии Иуда^ Маккавей в 164 г. отправил посольство в Рим,
добиваясь покровительства могущественной мировой дер-
1 Следует отметить, однако, что LXX является важным
документом для исправления традиционного еврейского текста.
Последний получил окончательную редакцию около 700 г. хр. э. и потому
содержит целый ряд более поздних вариантов и испорченных мест
сравнительно с LXX. Септуагинта дает возможность в ряде случаев
восстанавливать первоначальный еврейский текст.
287
Жавы. С того времени Иудея приобретает еще одного
хозяина, который через 250 лет окончательно уничтожил
ее иллюзорную независимость.
Все войны и восстания евреев неизменно кончались
резней, уничтожением ряда городов и селений, продажей
в рабство цвета населения, грабежом оставшихся в
живых, усилением налогового бремени и наложением
контрибуций для покрытия военных издержек. По сообщению
Иосифа Флавия (В. и. VI 9, 3) восстание Иудеи против
Рима 66—70 гг. дало на стороне евреев 1 100 000 убитых и
97 000 "пленных. Цифры эти, несомненно, преувеличены,
но свидетельствуют о том, какой жестокий и кровавый
характер носило подавление восстания. И нет оснований
думать, что прежние войны были менее жестоки.
Но если войны и восстания носили все-таки временный
характер, то для трудящихся евреев включение Иудеи в
систему эллинско-римског'о рабовладельческого общества
означало и в «мирное» время усиление "эксплоатации и
угнетения со стороны правящих класов, своих и
иноземных, обострение классовых противоречий.
Последовательное подчинение Иудеи власти
эллинистического Египта, Сирии и Рима втянуло эту страну в
сферу эллинистического торгового оборота. В
вавилонский и персидский периоды торговля была в Иудее
слабо развита. Hex. XIII 16 сообщает, что торговля в
Иерусалиме находилась в руках финикиян. В дальнейшем
положение вряд ли изменилось, так как с расширением
морской торговли Иудея, как страна сухопутная, утратила
свое значение торгового пути между странами
азиатского Востока и Египтом. А после окончательного
присоединения Иудеи к Сирии она потеряла и свое
стратегическое значение. Иудея могла стать только торговой
колонией для греков, финикийцев и египтян. И
действительно, по изысканиям Герцфельда, во внешней торговле Иу-'
деи между 230 г. до хр. э. и 70 г. хр. э. преобладал
ввоз товаров; Герцфельд составил номенклатуру
импортных товаров, содержащую 118 A33) названий1. Евреи не
создали ни своей системы мер и весов, ни своей
монетной системы.
Проникновение торгового, капитала в Иудею
должно было иметь весьма тяжелые последствия для
отсталого еврейского крестьянства. «Пока торговый капитал иг-.
1 L. H e r z f е 1 d, ук. соч., стр. 117—129.
288
рает роль посредника при обмене продуктов неразвитых
стран, торговая прибыль не только представляется
результатом обсчета и обмана, но по большей части и
действительно из них происходит. Помимо того, что
торговый капитал утилизирует разницу между ценами
производства различных стран..., указанные способы
производства приводят к тому, что купеческий капитал
присваивает себе подавляющую долю прибавочного продукта,—
отчасти в качестве посредника между обществами,
производство которых в существенном еще имеет в виду
потребительную стоимость..., отчасти потому, что при
указанных прежних способах производства главные
владельцы прибавочного продукта, с которыми, имеет дело
купец, — рабовладелец, феодальный сеньор, государство
(например, в лице восточного деспота), — являются
представителями потребляющего богатства, которому
расставляет сети купец... Итак, торговый капитал, когда ему
принадлежит преобладающее господство, повсюду
представляет систему грабежа, и не даром его развитие у
торговых народов как древнего, так и нового времени
непосредственно [связано с насильническим грабежом,
морским разбоем, похищением рабов, порабощением
колоний» 1. К тому систематическому грабежу, которому
непрерывно подвергалась Иудея со стороны торговых
хищников, присоединялась жестокая истощающая сила
капитала ростовщического.
Войны, подкупы египетских, сирийских и римских
властей, практиковавшиеся претендентами на пост
первосвященника, возведение крепостей, постройка дворцов,
содержание «двора», возведение крупных общественных
сооружений — все это требовало от иудейских
первосвященников и царьков огромных денег. В экстренных
случаях выручала храмовая казна, где накапливались, как
мы видели, большие денежные богатства; храм был, надо
полагать, самым крупным ростовщиком. Безумные
траты «помазанников божьих» покрывались, конечно, за
счет трудящихся мелких производителей, крестьян и
ремесленников. Все усиливающийся гнет налогов также
вызывал все возрастающую нужду в деньгах и создавал
благодатную почву для деятельности ростовщиков.
Многочисленные предписания в библии и талмуде,
направленные против ростовщичества, свидетельствуют о распро-
1 К. Маркс —Капитал. Изд. 8-е, М., 1932, т. III, стр. 296.
1С> - 8 289
страненности этого явления; о том, как жеетокибыли
последствия для лиц, попадавших в лапы ростовщика,
красноречиво говорит талмудическое правило, что надо в
случае нужды раньше продать-дочь, а уж потом
обращаться к ростовщику '. «Ростовщический капитал в той
' его форме, в которой он действительно присваивает себе
весь прибавочный труд непосредственных производителей,,
не изменяя однако самого способа производства; в
которой существенной его предпосылкой является право
собственности или владения производителя на условия
его труда и соответствующее этому мелкое
раздробленное производство; в которой капитал, следовательно, не
подчиняет себе труд непосредственно и потому не
противостоит ему как промышленный капитал, — такой
ростовщический капитал приводит к пауперизации данного
способа производства, ослабляет производительные силы
вместо того, чтобы развивать их, и в то же время
увековечивает эти злосчастные отношения... Ростовщичество
не изменяет способа производства, но присасывается к
нему, как паразит, и истощает его до полного упадка.
Оно высасывает его соки, обескровливает его и
заставляет воспроизводство совершаться при все более жалких
условиях. Отсюда народная ненависть к ростовщикам,
особенно интенсивная в античном мире, где собственность
производителя на условия его производства являлась в
то же время базисом политических отношений,
политической самостоятельности граждан» 2.
К сожалению, существующие литературные источники
по истории рассматриваемого периода совершенно не
интересуются, как и большинство древних памятников,
экономикой, а история классовой борьбы тенденциозно
искажается. «Кн. Маккавеев» недаром приняты в
христианский библейский канон: поповско-националистиче-
ская тенденция в них преобладает над историческим
изложением. Что касается Иосифа Флавия, то помимо его бес-.
помощности как историка и неумения отличить
исторические факты от легенды, его исторические произведения
преследуют задачу апологетическую — прославить
еврейский народ и очистить его от обвинений, которые
выдвигали против него противники евреев. Кроме того,
Иосиф старался реабилитировать себя лично; ему нужна
1 S. К г a uss—-Talmudische Archaologie II, S. 83, 491.
2 К. Маркс — Капитал, III, стр. 527.
230
иыло, с одной стороны, оправдать свою роль предателя
и дезертира во время иудейского восстания 66 г., а с
другой стороны показать себя в глазах римских
правителей лойяльным верноподданным. Что касается
греческих и римских писателей, то из их произведений по
истории евреев почти ничего не сохранилось1. К тому
же греко-римские историки обычно без критики
принимают традиционную библейскую историю. Примером
этого может послужить изложение древней истории евреев
у Тацита (Hist. V 1 ел.). Другой историк, Помпеи Трог,
переносит отношения, сложившиеся в Иудее в его время,
в далекую древность. «После Моисея вскоре избирается
в цари также сын его Арруа (Аарон), жрец египетской
религии, и с тех пор всегда у евреев существовал этот
обычай, что жрецы были у них вместе с тем и царями»
(Justin. 36, 2, 16).
Кой-какие данные о положении крестьян в римскую
эпоху можно- почерпать из Мищны и Талмуда. В то
время еврейские крестьяне в значительной мере были
обезземелены и должны были снимать землю В: аренду. Миш-
на различает два типа арендаторов — soeher и choker.
«Какая разница между sodier и aboiker? Первое
оплачивается деньгами, второе — плодами» (Тос. Демаи 6, 2).
Разновидность второго типа аренды — arisut, когда
арендатор вносит не точно зафиксированную плату натурой
независимо от урожая, а определенную долю урожая.
В арендном договоре арис пишет: «Я встану, вспашу,
посею, скошу и свяжу снопы, смолочу и провею и сложу в
кучу для тебя, и тогда ты придешь и возьмешь
половину, а я за свои труды и издержки — половину» (Б.-Мец.
105 а). Мы имеем здесь те же основные типы аренды, что
и по вавилонскому и по римскому праву. По кодексу
Хаммураби земля арендуется либо из доли урожая (от
1/з до 2/з), либо за фиксированную плату, которая
может быть исчислена и в натуре и в серебре. Эти три
вавилонские формы аренды полностью соответствуют трем
вышеуказанным видам иудейской аренды. По
римскому праву имеются также арендаторы за плату (mercede,
1 Обзор источников см. S с h u г е г I, 31—161. Отрывки из
греческих и римских авторов, относящиеся к евреям, собраны в книге
Т h. Reinach — Textes d'auteurs grecs et remains relatifs au
iudaisme. P., 1895. Археологические открытия последних
десятилетий ничего существенного не прибавили к нашим источникам.
19*
291
pensione) и издольщики --partdiarii. Талмудическое пран
знает и наследственную аренду земли (Т. Тер. II 11).
«Арендовавший поле у ближнего своего жнет, вяже
снопы, молотит и веет. Землемеры, копатели каналов, cei
натор и домоуцравитель получают (содержание) из >о(
щих средств (землевладельца и арендатора)». (Т. Б.-М.
IX 14).
Арендатор не является юридическим владельцем земли
(possessor), и потому хокер не обязан отдавать жрецу
первинки, «но возношения и десятину платит и хокер и
арис» (Бикк. I 2, II 3).
Землю арендовали как у евреев, так и у «язычников»
(Дем. VI 2—24).
Упоминается и заклад земли (Т. Тер. II 11), ив этом
случае владелец ее переходит, очевидно, на положение
колона.
Как и римское право, талмудическое законодательство
стремится обеспечить не только исправные взносы
арендной платы, но и правильную обработку земли колоном.
«Некто арендовал поле у ближнего своего и не хочет
полоть и говорит ему (владельцу): какое тебе дело до
этого, раз я тебе даю твою арендную плату? Его не
слушают, ибо тот может возразить: завтра ты уйдешь, и
поле будет давать мне сорные травы» (М. Б.-М. IX 4). В
договоре арис пишет: «Если я оставлю поле пустовать и
не обработаю его, заплачу лучшим» (там же, IX 36).
Скидки с арендной платы по случаю стихийного
бедствия предусмотрены в Мишне так же, как и римском
праве (М. Б.-М. IX 6; ср. Dig. 19, 2, 15, 1—7; ср. (Dig. IV 65, 8
B31 г.) И в этом вопросе закон на стороне землевладель
ца. «Некто арендовал поле у ближнего своего, и он<
поедено саранчой или побито ветром: если это — бедст
вне страны, то он сбавляет ему арендную плату, а еслп
это — не бедствие страны, то не сбавляет ему арендное
платы. Р. Иуда говорит: «Если поле арендовано за день
ги, то ни в том, ни в другом случае он не сбавляет арен
ды» (Б.-М. IX 6) 1. Земля по талмудическому праву
сдается на срок (М. Б.-М. IX 9, 10); стороны выступают как
свободные контрагенты. Многократно подчеркивается,
что локатор и арендатор не должны итти против обычая
страны (ср. CJ IV 65, 18 B90 г.) 19 B93 г.).
1 И здесь обнаруживается параллель с вавилонским правом, ср
код. Хамм., § 45.
292
Талмудическое законодательство еще в большей
мере, чем Дигесты, имеет казуистический характер. Однако
оно дает нам право с уверенностью заключить, что в
Палестине к III в. арендатор был юридически свободным
лицом и его взаимоотношения с землевладельцем
определялись договором и местным обычаем.
Когда колоны превратились в зависимых
земледельцев прикрепленных к земле, новое положение вещей
было распространено законодательным путем и на Палестину.
Указ Феодосия и Аркадия (ок. 386 г.) гласит: «Так как в
прочих провинциях, находящихся иод властью нашей
светлости, установленный -предками закон связывает
колонов некиим принципом вечности (quodam laeternitatis
jure), так что им не разрешается уйти -с тех мест, пло-'
дами которых они пользуются, и покинуть те земли,
которые они взялись обрабатывать, тогда как посессорам в
провинции Палестины не дано это преимущество, — мы
постановляем, чтобы и в Палестине ни один из колонов
не наслаждался полноправием (suo iure), пользуясь
правом передвижения и свободой, но, по примеру прочих
провинций, был закреплен (teneatur) за имением хозяина
и не мог уйти, не подвергаясь (за это) наказанию. Прибавь
к этому, что хозяину владения дается полная власть
востребовать его обратно» (С. J. XI 51 E0).
О частных латифундиях в Палестине имеются
определенные сведения для III в. до хр. э. в так наз. «зенонов-
ских папирусах»: Зенон — управитель египетского
сановника Аполлония, владевшего в равнине El-Battof
обширным имением, для работы на котором он вывез из
Египта своих слуг и рабов1. В талмуде приводится в
значительной мере фантастическое сообщение об огромных
имениях р. Элиезера бен-Харсом, на которых работали
рабы (Иома 356).
Имеющиеся материалы скудны и неконкретны. Для
знакомства с перипетиями классовой борьбы в древней
Иудее приходится использовать отдельные намеки,
попадающиеся кое-где в. литературе; лишь для периода
восстания I в. имеются более точные данные.
В эсхатологической вставке в кн. Исайи (эту вставку
относят приблизительно к 200 г. до хр. э.) дана поэти-
1 AR XXXII A935), S. 270. Об императорских имениях в Галилее
см .Ros t о wzew —The social and economic life of the Roman
empire. 1926, p. 248, 568.
293
ческая картина разорения и обнищания страны: «Земля
опустошена вконец и совершенно разграблена... сетует,
уныла земля; поникла, угасла вселенная; поникли
возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под
живущими над ней; ибо они преступили законы, изменили
устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает
землю, и несут наказание живущие на ней; зато сожжены
обитатели земли и не много осталось людей. Плачет -сок
грозда; болит виноградная лоза; воздыхают все,
веселившиеся сердцем. Прекратилось веселие с тимпанами; умолк
шум веселящихся; затихли звуки гуслей. Уже не пью г
вина с песнями; горька сикера для пьющих ее. Разрушен
опустевший город, все дома заперты, нельзя войти.
Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изг-'!
нано всякое веселие земли. В городе осталось
запустение, и ворота развалились» (Ис. XXIV 3—12).
Конечно, народные массы не могли оставаться
безучастными при таком положении вещей. Но ярость их
против угнетателей облекалась в форму религиозного
рвения. Разрушающая сила оплодотворенного
эллинизмом торгового и ростовщического капитала
воспринималась как наказание божие за союз с эллинами, за
усвоение «языческих» обрядов и обычаев. Борьба против эк-
сплоататоров принимала характер борьбы за чистоту
веры. Иос. Флавий (Древн. XII 5, 1) сообщает, что в
борьбе между Менелаем и Язоном за первосвященство
(приблизительно 171—161 гг.) «народ разделился на две
партии», причем преобладающая масса народа заступилась
за Язона». Вряд ли приверженность к той или иной
партии определялась личными достоинствами вождей; ведь и
Язона II Макк. называет «нечестивым» (IV 19),
«безбожником, а не первосвященником» (IV 13), и в этом
отношении он был не «лучше» своего соперника Менелая. Но
народное возмущение могло выливаться в условиях того
зремени только в форму религиозную, и потому массы
примыкали к тем или иным вождям из среды жречества.
Даже когда дело доходило до ;восстания, оно велось
под лозунгом религиозным. Когда Лисимах, которого
Менелай оставил на время своего отсутствия своим
заместителем, покусился на храмовое богатство, это
послужило поводом к восстанию. «Когда восстал народ,
исполненный гнева, Лисимах вооружил до 3 000 человек v
начал беззаконное насилие. Оно совершалось под пред;
водительством некоего Аурана, старого летами и не ме-
294
нее застаревшего в безумии. Увидев, что Лисимах
прибегает к насилию, одни схватили камни, другие — крепкие
колья, а иные хватали лежавший там пепел и бросали
see вместе в людей Лисимаха. И таким образом многих
из них ранили, других поразили и всех обратили в
бегство, а самого святотатца убили близ сокровищницы»
(II Макк. IV 40—42).
В борьбе против гнета, истинных причин и
виновников которого массы не знали, они одно время шли за ха-
сидеями, «праведниками», фанатиками «Моисеева закона»,
В 161 г. первосвященник Алким жаловался сирийскому
царю Димитрию: «Так называемые из иудеев хасидеи,
вождем которых — Иуда Маккавей, поддерживают войну
и воздвигают мятежи» (II Макк. XIV 6). О восстании
Маккавеев мы читаем1: «Тогда собрались к ним множество ха-
сидеев, храбрые люди из Израиля, все люди верные
закону. И все бежавшие от бедствия присоединились к ним
и сделались подкреплением для них. Они составили
войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости
своей мужей беззаконных; остальные же бежали для
спасения к язычникам» (I Макк. II 42—44). Однако1, как и
следовало ожидать, хасидеи при всем; своем фанатизме не
могли итти до конца с массами, которые, надо полагать,
под нечестивцами -и беззаконниками понимали не только
отступников от веры, но и своих классовых врагов.
Поэтому, когда в 161 г. первосвященник «нечестивый»
Алким, получивший свой сан при помощи сирийцев,
пытался вместе с сирийским наместником Вакхидом подавить
восстание Маккавеев, к нему «сошлось собрание
книжников искать справедливости. И хасидеи были первыми
среди израильтян, которые искали с ним мира. Ибо они
думали: священник из потомков Аарона пришел, вместе с
войском, и он не обидит нас» (I Макк. VII 12—14).
Конечно, восстание Маккавеев, начавшееся под
лозунгом восстановления старых порядков и возврата к
сказочной благословенной старине, не могло повернуть
колесо истории назад. Став у власти, Маккавеи (Хасмонеи)
продолжали политику эллинизации, начатую
предшествующей династией, и Аристобул I дал себе титул Philelfen,
«греколюбец»(Иос, Древн. XIII 11, 3).
Смутное сообщение о восстании против царя
Александра Янная A03—77) приводит Флавий в Древн. XIII 13, 5:
«Между тем яа Александра восстали его подчиненные (так
как народ был возбужден против него); когда наступил
295
праздник и Александр приблизился к алтарю, чтобы
принести жертву, они стали кидать в него лимонами; дело в
том, что... у иудеев был обычай в праздник кущей
держать в руках ветки финиковых пальм и лимонных
деревьев. Кроме того, народ стал поносить его, что он
родился от военнопленных родителей и потому не может
быть признан достойным чести совершать
жертвоприношения. Рассердившись на это, Александр велел перебить
до1 шести тысяч человек и, кроме того, распорядился
отделить деревянной перегородкой алтарь и часть храма
вплоть до того места, куда имели право доступа лишь
первосвященники. Этим он оградил себя от оскорблений
толпы».
Гораздо яснее картина классовой борьбы,
разгоревшейся в Иудее в начале христианской эры. Флавий, свидетель
и участник событий того времени, приводит много
ценных сообщений о внутренних отношениях между
различными группами евреев, поднявших восстание против Рима
в 66 г. Необходимо, однако, иметь в виду, что Флавий
всячески старается опорочить наиболее последовательные
группы повстанцев, чтоб, во-первых, оправдать свое
собственное предательство, во-вторых, представить в глазах
римлян «крайности» восстания делом отщепенцев,
подонков общества.
Но факты, которые приводит Флавий, достаточно
красноречивы сами по себе.
Незадолго до восстания, в правление прокуратора
Феликса E2—60), в Иудее, по свидетельству Флавия, шла
непрерывная внутренняя война. Движение эксплоатируе-
мых направлялось прежде всего по прежней линии — под
религиозными лозунгам», обвеянными туманом
религиозной фантастики. Иосиф рассказывает, что при Феликсе
явился из Египта какой-то «пророк», который
«действительно прослыл за небесного посланника. Он собрал
вокруг себя 30 000 заблудших, выступил с ними из пустыни
на так наз. Масличную гору, откуда он намеревался
насильно вторгнуться в Иерусалим. Римский прокуратор
Феликс вынужден был дать форменное сражение этому
пророку. Едва погашена была эта вспышка, как
появилась другая, точно в больном организме воспаление
переходит с одной части на другую. Обманщики и разбойники
соединились на общее дело... Разделившись на группы,
они рассеялись по всей стране, грабили дома богатых, а
их самих убивали и сжигали целые деревни» СВ. и. II 13,
296
5—6). Таким образом нараставшая в течение почти
целого столетия классовая борьба в это время начала уже
перерастать старые религиозные рамки и переходить на
путь прямой, реальной, вооруженной борьбы класса
против класса. Иосиф говорит, что при Феликсе страна
кишела разбойничьими шайками; что под разбойниками
довольно! часто разумеются бунтовщики и революционеры,
доказывается хотя бы тем, что захваченный и казненный
Иродом I (еще до того как он завладел троном) атаман
разбойников Езекия в талмудической литературе
считается мучеником (Шабб. 12 а и др.). Однако, помимо этих
«разбойников», Флавий описывает и другие виды
мятежников: ...«в Иерусалиме образовалась другого рода шайка
разбойников, получивших название сикариев *. Они
убивали людей среди белого дня и в самом городе;
преимущественно в праздничные дни они смешивались с толпой
и скрытыми под платьем кинжалами закалывали своих
врагов. Как только жертва падала, убийцы наравне с другими
начинали возмущаться происходившим и благодаря
такому притворству оставались скрытыми. Первый, который
таким образом был заколот, был первосвященник Иона-
тан» 2 (В. и. II 13, 3). Но этой характеристике резко
противоречит та оценка, которую сам Флавий дает сика-'
риям в другом месте. В речах, которые он вкладывает в
уста вождя сикариев Элеазара (В. и. VII 8, 6—7), этот
«тиран» и «злодей», как он его обычно называет,
выступает в качестве великого героя, для которого интересы
его дела, честь и доблесть выше всего, выше жизни.
Впрочем Флавий понимает, где причина тех «злодеяний»,
которыми была переполнена Иудея: «Этой порчей нравов
была заражена как общественная, так и частная жизнь.
Все наперерыв старались перещеголять друг друга в
нечестивых поступках перед богом и в несправедливостях
против ближних. Сильные угнетали простой народ, а
масса стремилась изводить сильных; те алкали власти, а
эти насилий и ограбления зажиточных» (В. и. VII, 8, I).
Неудивительно, что во время осады Иерусалима
римлянами вражда и военные действия между различными
группировками среди осажденных не прекращались. Их
разделяла классовая ненависть. «Иерусалимская знать с
первосвященником и миролюбивой частью населения за-
1 Т. е. «поножовщиков», от. лат. sica, кинжал.
- Вернее — бывший первосвященник C6—37)'.
297
пяла верхний город; нижний же город и храм находились
в руках мятежников» (В. и. II, 17, 5).
классовое лицо еикариев становится ясным из дел их.
Ворвавшись ,в верхний город, сикарии «сожгли дом
первосвященника Анания 1, а также дворцы Агриппы и Вере-
ники; вслед за тем они перенесли огонь в здание архива,
для того, чтобы как можно скорее уничтожить дол-
говые документы и сделать невозможным
взыскание долгов. Этим они имели в виду привлечь массу
должников на свою сторону и восстановить бедных против
состоятельных» (И 17, 6).
В то же время выступил некий Манаим (Менахем);
захватив со своим отрядом Иерусалим, Манаим и его
сторонники сожгли дворец, вытащили быв. первосвященника
Ананию из водопровода царского дворца, где он
скрывался, и убили его вместе с егю брат о М' Езекией (II 17,
8—9). «В Акраватском округе' Симон бар-Гиора набрал
массу недовольных и производил разбойничьи набеги, в
которых не только грабил дома богатых людей, но и
совершал насилия над их личностью» (II 22, 2).
Впоследствии Симон, присоединившийся было к партизанам,
занимавшим крепость Масаду, «расстался с ними, отправился
в горы, через вестников обещая рабам свободу, а
свободным вознаграждение и таким образом собрал вокруг себя
негодяев со всех сторон. Имея уже сильную шайку, он
грабил деревни в горах; но, когда чем дальше все больше
стекалось к нему людей, он отважился спуститься в
долину. Теперь он сделался страшным и для городов.
Многие из знатных, привлекаемые его могуществом и
счастливыми успехами его предприятий, стекались к нему на «вою
гибель, так что в его войске, кроме рабов и разбойников,
было также не мало граждан...» (IV 9, 3—4).
Само собой понятно, что повстанцы, вербовавшиеся из
среды рабов и закабаленной долгами бедноты
(крестьянской по преимуществу), не довольствовались казнью
особо ненавистных эксплоататоров и уничтожением долговых
обязательств; они стремились к ниспровержению
существующего строя. «После того, как эти нечестивцы
заклали первосвященников для того, конечно, чтоб не
осталось ни следа благочестия, они уничтожили также вконец
все, что еще уцелело от общественного порядка, и доста-
1 Анания был первосвященником приблизительно в 47—59 гг.,
но он пользовался значительным влиянием и в то время. Анания
прославился своей алчностью, см. S с h u г е г, II, 272.
298
вили полное торжество беззаконию» (VII 8, 1). В своей
последовательности они решили внести революцию и в
организацию церкви; они отвергли принцип
наследственности сана первосвященника. Правда, первосвященники не
раз получали свой пост за взятку сирийскому наместнику
или римскому прокуратору, а со времени Ирода
первосвященники, как правило, назначались. Но все же они
назначались из среды нескольких определенных семейств,
и принцип наследственности теоретически признавался.
Но «разбойники» решили установить здесь принцип
демократии и избрать первосвященника по жребию.
«Случайно жребий выпал на... некоего Фаннию, сына Самуила
из деревни Афты. Он не только не был достоин носить
звание первосвященника, но был настолько неразвит, что
не имел даже представления о значении первосвященства»
(IV 3, 7—8). Этот Фанния, вернее — Пинхас, был вообще
последним первосвященником, так как вскоре храм был
уничтожен навсегда.
Мы имеем, таким образом, совершенно ясные
свидетельства о восстаниях рабов, городской и крестьянской
бедноты против своих отечественных угнетателей;
поводимому, отчетливой программы действий они не имели,
они восставали против существующего «общественного
порядка» без ясных перспектив, удовлетворяя в первую
очередь свою жажду мести угнетателям. Эти угнетатели —
не только свои богачи, но и римляне. Иосиф не раз
подчеркивает, что народный гнев обрушивался одинаково на
тех и других. Те и другие были в тесном союзе, и это
ясно было также и для эксплоатируемой массы. Поэтому
попытки жречества и раввинства перевести борьбу
исключительно на националистические рельсы потерпели
неудачу, и народное движение в конце-концов вылилось в
подлинную революцию, какой было восстание 66—70 гг.
Поучителен и его эпилог. Когда сикарии после подавления
восстания 66—70 гг. были при помощи поднявших опять
голову представителей «партии мира» рассеяны и
уничтожены, остатки их пробрались в Александрию и стали
там поднимать евреев на восстание. Но александрийское
еврейское купечество по своей инициативе приняло меры
к подавлению движения, и последние остатки сикариев
были преданы пыткам и казни. А император Веспа-
сиан в связи с этим распорядился уничтожить храм в
Леонтополе, опасаясь, что он может стать очагом мятежа
(VII 10, 1—2).
299
Приведенные данные ясно свидетельствуют о том, что
сикарии отнюдь не были террористическим или даже
уголовным элементом среди зелотов, как это изображают
богословы и историки. Мы имеем здесь революционное
движение крестьян и рабов, которбе противостоит не только
«партии» фарисеев, но и зелотам. В то время как зелоты
стремились только к свержению римского ига и никаких
политических и социальных реформ не выдвигали,
сикарии вели на практике борьбу против своих классовых
врагов, опиравшихся на римские легионы, и стремились к
политическому и социальному перевороту. Раздоры между
зелотами и умеренной партией были вызваны только тем,
что зелоты вполне основательно не доверяли своим
«союзникам», которые взяли на себя руководство восстанием
специально для того, чтобы привести его к поражению;
сикариев резко отделяла от прочих группировок смутная,
искаженная религиозными и националистическими идеями,
но революционная программа. Характерно, что
Иосиф Флавий, щедро награждающий своих врагов
зелотов бранными эпитетами «разбойники», «грабители»,
«злодеи» и т. п., не смешивал их с сикариями, а в одном
месте он определенно говорит о «мятеже сикариев» как
о самостоятельном движении (В. и. VII 10, 1).
О том, что сикарии представляли собою
самостоятельное политическое движение, имеются и другие
свидетельства, помимо Иосифа Флавия: в Деян. ап. XXI 38 тыся-
ченачальник говорит Павлу: «Не ты ли тот египтянин,
который перед сими днями произвел возмущение и вывел
в пустыню четыре тысячи человек (разбойников?» В
греческом оригинале здесь сказано «srkarion», тогда как в
других случаях в новозаветных текстах «разбойник»
передается обычным словом «lestes».
Большой интерес представляют упоминания сикариев
в Мишне. Память о сикариях в эпоху составления Мишны
стерлась; за исключением одного мимолетного замечания,
что жители Иерусалима прятали смоквы в воде «из-за
сикариев» (Махш. I 6), Мишна вместо «сикарии» применяет
термин «сикарикон», представляющий собою греческую
форму, образовавшуюся из лат. sicarius. Но замечательно,
что сикарикон, этимологически означающее отвлеченное
понятие (напр. «закон о сикариях», или «объединение
сикариев»), в Мишне означает не только «законоположения,
связанные с сикариями», но и отдельного человека, си-
кария.
300
Сообщения Мишны показывают, во-первых, что а то
время сикария отличали от разбойника. «Возношения,
десятины и пожертвования вора, разбойника и насильника
действительны только в том случае, если владельцы этих
предметов не заявляют на них претензий. Возношения,
десятины и пожертвования сикарикон действительны» (Тос.
Терум. I 6).
Во-вторых, сикарикон — незаконный владелец земли
или законодательство о таких владельцах. «По той же
причине не приносят первин: фермер, арендатор,
сикарикон и похититель, ибо сказано: лучшие первинки земли
твоей» (Биккур. I 2, ср. II 3). Очевидно, «сикарикон» с
точки зрения талмуда не является полноправным
владельцем. Это обстоятельство вызвало необходимость издания
особых законоположений «сикарикон»: «В Иудее не было
сикарикон* до военных убийств2. Со времени военных
убийств в ней действует сикарикон. Как это понимать?
Если иоле куплено сначала у сикарикон, а затем у
владельца, то купля недействительна, а если куплено сначала
у владельца, а затем у сикарикон, то купля действительна...
'Такова первая Ш£пша; последующий бет-дин установил:
купивший у сикарикон отдает владельцу четверть.
Когда?— Если он сам (т. е. владелец) не в состоянии купить;
если же он сам в состоянии купить, он имеет
преимущество перед всеми людьми. Рабби 3 собрал суд, и было
решено: если имущество находилось во владении сикарикон
12 месяцев, то первый купивший получает на нее право,
но отдает владельцу четверть» (Гитт. V, 6). «В Иудее не
действует сикарикон в" целях расселения страны. К чему
это относится? К убитым до войны и во время войны...
В Галилее всегда действовал сикарикон» (Тос. Гитт. V 1).
Из этих весьма неясных текстов можно сделать один
вывод: в эпоху составления Мишны существовали
землевладельцы, получившие свою~землю от прежнего владельца
путем насилия (напр., конфискация имущества убитого во
время восстания). Авторы Мишны полагают, что если
такой «сикарикон» продает свой участок, покупатель
должен частично удовлетворить и прежнего «законного»
владельца. Но обозначение таких незаконных владельцев
1 Здесь, очевидно, сикарикон означает не человека, а закон
о сикариях.
2 По мнению комментаторов, имеются в виду репрессии при
Тите.
3 Патриарх Иуда I, около 200 г.
301
термином «сикарикон» и связь законоположений «сикари-
кон» с «военными убийствами» и с «убитыми во время
войны» показывают, что здесь сохранилось смутное,
искаженное временем воспоминание о сикариях, которые,
убивая богатых землевладельцев, раздавали, надо полагать,
их земли беднякам. После подавления восстания
оказалось, должно быть, немало таких владельцев, и раввинам
приходилось разбирать связанные с этим тяжбы. Так
возник термин «сикарикон», который сохранился и в
последующем талмудическом законодательстве, хотя
исторические обстоятельства, вызвавшие к жизни эти
законоположения, были забыты.
Революционное движение в Иудее во все времена не
могло иметь успеха вследствие его распыленности,
неорганизованности, вследствие отсутствия положительной
программы переворота, которую, можно было бы осуществить
в этой маленькой, отсталой стране. К тому же
фактические хозяева страны — сирийцы и римляне, на которых
опирались иудейские жрецы и ростовщики, были слишком
мощными врагами, чтобы можно было в борьбе против
них рассчитывать на победу. Поэтому отдельные
революционные вспышки лишь подчеркивали бессилие
угнетенных в борьбе с угнетателями. Это бессилие порождало
всякого-рода религиоз,но-мистиче£К{^|^чаяния. вылившиеся
в форму мессианизма, апокалиптических видений и эсха-
т(мошч^жи^,,02щдтий. «Слабость, как всегда, спаса"ла*бь
верой в чудеса, считала врага побежденным, если ей
удавалось одолеть его в своем воображении, и утратила
всякое понимание настоящего из-за бездейственного
превознесения до небес ожидающего ее будущего и
подвигов, которые она намерена совершить, но пока считает
преждевременными» Ч Это положение К. Маркса как
нельзя лучше подтверждается историей еврейского
мессианизма и эсхатологии.
6. МЕССИАНИЗМ И ЭСХАТОЛОГИЯ
Большинство буржуазных историков религии евреев
рассматривает еврейскую эсхатологию, документально за-1
свидетельствованную лишь с И в. до хр. э., как дальней-
1 К. Маркс — Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Соч.,
т. VIII, стр. 327,
302
шее развитие тех идей, которые заложены якобы уже <s
древнейшей «пророческой литературе». Но эта
идеалистическая теория выводит новые религиозные идеи из
предшествующих религиозных идей, без всякого понимания
и учета тех материальных условий, которые порождают
религиозную идеологию. В действительности, для
развернутой эсхатологии в Иудее до эпохи эллинизма не было
почвы. Это понял Гельшер, который правильно указывает,
что «древнеизраильская эсхатология и ожидание
спасителя... существуют лишь в фантазии некоторых
современных ученых» 1. Точку зрения исконности этих идей
поддерживало всегда ортодоксальное христианское
богословие, искавшее в пророческих книгах предвозвещения
мессии Иисуса.
В библейских книгах Ветхого завета мессия 2 означает
вполне реальное лицо, подвергшееся, магическому обряду
помазания «елеем». Поэтому титул «мессия» (помазанник)
присвоен царям (Саулу —1 Сам. XII 3, 5, XXVI 9 и др.;
Давиду —II Сам. XIX 22; Соломону —II Хр. VI 42) и
первосвященнику (Лев. IV 3 ел.). В этом смысле Ис. XLV 1
применяет термин «мессия» к персидскому царю Киру. Те
обетования мессии, которые встречаются в пророческой
лйтературТ," остаются в пределах реально ожидаемого
будущего— конечно, «с божьей помощью». Образцом
такого рода мечтаний, где обещаемые пророком блага
мыслятся как реально осуществимые через естественных
агентов, может служить Иер. XXXIII 14—18: «Вот
наступят дни, говорит Ягве, когда я выполню то доброе
слово, которое я изрек о доме израилевом и о доме иуди-
ном. В те дни и в то время возращу Давиду отрасль
праведную, и будет творить суд и правду^на^емле. В те дни
Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно;
и нарекут имя ему: «Ягве наше оправдание». Ибо так
говорит Ягве: не прекратится у Давида муж, сидящий на
престоле дома израилева, и у священников левитов не
прекратится муж перед лицом моим, во все дни
возносящий всесожжение и сожигающий приношение и
совершающий жертвы». Здесь религиозное утешение
преподносится в земном плане. Будущие цари из дома Давидова
рисуются не как небесные спасители, а просто как про-
1 G. Holschner, ук. соч., стр. 154.
2 По-древнееврейски это словно звучит maschiach; слово
«мессия» передает не еврейское, а арамейское слово meschicha.
303
должатели династии Давида, которые в отличие от своих
предшественников будут вести праведную жизнь и
правильную политику. Носящий более сказочный характер
оракул Ис. XI о будущем золотом веке, когда волк будет
жить в мире с ягненком, излагает лишь в поэтической
форме надежды на лучшую жизнь здесь на земле, в
Палестине, под скипетром отпрыска из дома Иессеева. Этот
оракул не мог восприниматься слушателями иначе как
пленительная мечта.
Надежда на лучшее будущее, которое сулят пророки,
,_ецд£_не. стала предметом _вер_ы; в Жреческом кодексе, как
и в~других источийказГШестикнижия, никаких намеков на
эту веру нет. Вера в мессию как посланца неба, который
установит на земле царство небесное, уничтожив навсегда
зло, невозможна без той или иной веры в воскресение из
мертвых, в страшный суд и воздаяние, в бога как творца
и владыки вселенной. Но все эти представления были
чужды евреям, насколько можно проследить по
существующим источникам, вплоть до конца Ш в. до хр. э.
Несомненно, все эти .представления "просачивались в
еврейское богословие изг^О!д^щ1Х_^е^юваний и
вавилонской религиозной .литературы. Мы видели, что Второ-
йсайя "применяет к Ягве эпитеты, подавшие повод
современным богословам говорить об «этическом монотеизме»
этого неизвестного «пророка», что автор кн. Захарии V—
VIII пользуется персидскими апокалиптическими образами.
Но эти религиозные идеи оформились в подлинную веру
лишь во II в., когда для этого была подготовлена почва
в общественных условиях Иудеи.
Крах надежд «а восстановление могущественного
царства под эгидой национального бога Ягве привел к вере
в создание «в конце времен» мессианского царства, в
котором проявится могущество мирового, универсального
бога Ягве. Усиление эксплоатации народных масс в
результате включения Иудеи в систему эллинистического
рабовладельческого общества, обострение классовых
противоречий под разлагающим влиянием торгового и
ростовщического капитала, процесс приспособления евреев
диаспоры к новым условиям жизни и к новой иноземной
культуре — все это получило свое фантастическое
отражение в развитии демонологии, в эсхатологических
чаяниях, в вере в личное бессмертие и в посмертное
воздаяние.
Особенно тяжко было, как мы уже отмечали, иго рим
304
,1нн, которые во всех покоренных странах не только
уничтожали политическую самостоятельность их и
насильственно навязывали им римский правопорядок, но грабили
провинции самым беззастенчивым образом. Процесс Вер-
реса, дотла разграбившего Сицилию, может служить
примером того, как управлялись провинции. А Веррес не был
исключением; грабеж провинций был системой,
«благородный римлянин» Брут нисколько не был лучше Верре-
са. «Если при империи в интересах государства старались
по возможности положить предел неистовой жажде
наместников провинций обогащаться, то на место этого
появились все сильнее действующие и все туже
завинчиваемые тиски налога в пользу государственной казны —
высасывание средств, которое действовало страшно
разрушительно» Ч Поэтому именно в I в. еврейский мессианизм
получает ярко выраженную эсхатологическую окраску, и
укрепляется и расширяется вера в загробное воздаяние.
Отчаявшись в наступлении лучших вр"ём1н*'здёТь^а~зёмле,
люди стали искать выхода в ином мире, в "olam tabba',
т. е. в «грядущем веке», или «грядущем мире», в котором
«праведнику» обеспечено вечное блаженство.
Вера в "oiliaim ihalbiba' стала впоследствии одним из
основных догматов иудейской религии. «Весь Израиль имеет
удел в будущем мире», говорит Мишна (Санг._Х__1), и в
дальнейшем подробно 'перечисляются категории лиц,
которые этого удела лишены. Само собой разумеется, что
этот «удел в будущем мире», или зоне, имеет смысл лишь
при условии индивидуального бессмертия и воскресения
из мертвых для новой жизни в новом эоне. Но эти
представления возникли позже.
В римскую эпоху верования в загробную жизнь и
воскресение из мертвых получили широкое распространение.
«Дальнейшее существование души после смерти тела
постепенно вошло везде в римском мире в
общепринятый символ веры. Точно так же все более и более
общепризнанным становилось то, что умершие души ждет
некая награда или кара за их поступки на земле.
Впрочем, насчет награды дело было не совсем надежно;
древние были слишком стихийно материалистичны, чтобы не
ценить земную жизнь бесконечно выше царства теней» 2.
1 Энге ль с —Бруно Бауэр и раннее христианство. Соч., т. XV,
стр. 605—606.
г Энгельс —К истории раннего христианства. Соч., т. XVI,
ч. II, стр. 423.
20-8
305
Древние еврейские представления о прекращений
существования души вместе со смертью тела и о загробном.}
существовании как жалком подобии и продолжении зем-;
вой жизни сохранялись до Ив. до хр. э. и в некоторых';
кругах сохранились еще в раннехристианскую эпоху.,
«Глубоко смири свою душу: ведь конечная участь всех-
людей — черви» (Иис. Сир. IX 17I. «Когда человек умер,
его уделом становятся моль, звери и черви» (X 11). «В под
земном мире нельзя найти утехи» (XIV 16). «Кто в подзем
ном мире будет хвалить всевышнего вместо тех, кто жи
вет и прославляет его? От мертвого, который не суще
ствует, прославление прекращается» (XVII 27—28; ср. пс
CXV 17: «Не мертвые восхвалят Ягве и не нисходящие ъ
могилу»). В книге Юбилеев, написанной, по всей
вероятности, в конце II в. до хр. э., хотя имеется уже подробно
разработанная эсхатология, нет еще речи о воскресении,
из мертвых. «Бог тогда исцелит своих рабов, они
возвысятся и будут" наслаждаться вечным миром; они
прогонят своих врагов, а праведники будут взирать и
благодарить и радоваться во-веки... А их останки будут
покоиться в земле»... (Юбил. XXIII 30—31). Впервые ясно
сформулированную веру в воскресение мы встречаем в кн.
Даниила: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся —
одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и
посрамление» (XII 2). Здесь, правда, еще нет представления
о в се об щ ем воскресении; его нет также еще и у
автора II Макк. VII 9 ел. Всеобщее воскресение связано с
представлением о страшном суде: «И отдаст земля тех,
которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней
обитают, а хранилища отдадут вверенные им души» (IV
Ezra VII 32); «Тогда сам бог снова придаст форму костям
и праху людей и вновь восстановит смертных такими,
какими они были раньше, и тогда настанет суд, где судить
будет сам бог... Всех, согрешивших нечестивостью, снова
покроет земляная насыпь» (Or. Silb. IV 180—184).
С течением времени воскресение из мертвых стало
одним из основных догматов еврейской религии, входящим
1 По Каучшу (К a u tzsch — Apokr. и. Pseudep.), который
дает перевод с еврейского текста Иис. Сир. В греческом тексте
здесь христианская интерполяция, а в русском синодальном
переводе вторая часть стиха вовсе опущена. Ср. М. Абб. 4 «Р. Ле-
витес из Ямнии говорит: очень глубоко смири свою душу, ибо
будущее человека —черви»; здесь Мишна, очевидно, цитирует
Сираха.
306
,; символ веры. В числе лиц, не имеющих удела в вечной
жизни, Мишна в первую очередь называет тех, «кто
говорит, что нет воскресения мертвых» (М. Санг. X 1). В
основной молитве «шемоне-есре» A8), сложившейся еще до
хр, э., первое место после вводного славословия Ягве
занимает благословение «воскрешающего мертвых». Эта
вера— основной устой, на котором держится и еврейская
и вышедшая из ее недр христианская религия. Она дает
то «идеальное утешение», которое веками усыпляет
угнетенных, убаюкивая их сладостной надеждой на
воскресение для новой жизни и там заставляя их мириться с
жестокой земной действительностью.
Так же, как награда небес за праведную жизнь
мыслилась вначале как награда на земле и лишь затем
превратилась в "oiram ihtalbiba', так и расправа с врагами —
язычниками, грешниками и угнетателями —вначале
представлялась воображению верующих в земных, реальных
чертах. Автор кн. Даниила в своих апокалиптических образах
рисует представляющуюся ему реальную победу над
сирийскими властителями Иудеи, и он даже устанавливает
для нее конкретный и очень близкий срок. Но
безнадежность борьбы на земле переносит и победу над врагами в
некую туманную даль, в будущий зон. Здесь необузданная
фантазия авторов всевозможных откровений,
обогащенная еще образами, заимствованными из_персидс1К0й_эсхал.
трлогии, рисует дикие сумбурные и" страшные картины
конца света и страшного суда, способные поразить
воображение трудящегося и эксплоатируемог'о, заставить его
забыть про реальную борьбу на земле и упиваться
грозным возмездием в фантазии.
Древняя еврейская эсхатология не представляет
цельной и стройной системы. Иначе и не может быть, так как
причины, вызывавшие возникновение эсхатологических
учений, бывали: различны. Бессилие изменить положение
вещей в настоящем вызывает у верующих фантастические
мечты о золотом веке, который настанет когда-нибудь в
туманном будущем, в конце дней (beachritli hajaimiim), и
раз-навсегда уничтожит мировое зло. Ведь именно
безнадежность в настоящем или близком будущем заставляет
рисовать приятные туманные дали; и если кн. Даниила
или «Апокалипсис Иоанна» полагают, что «время близко»,
то в этом сказывается «боевой дух и уверенность в
победе», присущие авторам обоих апокалипсисов. Однако и
Атгок. Иоанна (гл. XX) предусматривает второе, оконча-
20*
307
тельное воскресение, окончательную победу над
дьяволом через тысячу лет.
Но неудовлетворенная жажда мести угнетателям и
поиски религиозного утешения в бедствиях земных
должны были найти выход более близкий, чем в «конце
дней». Поскольку в тогдашних условиях выход мог быть
найден лишь в религиозной форме, все больше
становилась популярной вера в воздаяние немедленно после
смерти каждому лицу в отдёйьноети. Вера в.^ай и ад,
бывшая одним из факторов, содействовавших быстрому
успеху христианства, заняла заметное место и в еврейской
религии того времени, хоть и не стала центральной, как
в христианстве. Поэтому в еврейской, как и в
христианской эсхатологии вера в далекий конец света сочетается
с близким воздаянием в раю или в аду как
предварительным приговором, который получит окончательное
утверждение в день страШного суда.
Понятно, и Stot последний суд живо интересовал
верующих; они хотели знать, когда именно настанет эта
мировая катастрофа, которая положит конец страданиям на
земле: «я ответил и спросил: как долго еще, когда должно
это произойти? Ведь наша жизнь так коротка и несчастна»
(IV Ezra IV 33). «Никто не знает числа вещей, которые
прошли, ни тех, какие предстоят в будущем. Ведь вот и
я знаю, конечно1, то, что с нами произошло, но того, что
случится с нашими врагами, я не знаю, если даже ты свои
действия наметил» (Ар, Ваг. XXIV 3—4). И
апокалиптическая литература дает на этот законный1 вопрос тот или
иной ответ. В некоторых редких случаях срок
указывается чисто хронологически. В кн. Енох XVIII16 эта «дата»—
10 000 лет от сотворения мира (ср. XXI 6). В Ass. <Mos. XI
Моисей говорит Иисусу Навину: «от моей смерти до его
явления пройдет 250 времен» (вероятно семилетий). «Мир
утратил свою юность, времена близятся к старости. Ведь
.эон разделен на двенадцать частей: он дошел уже до
десятой, до половины десятой, остается еще сверх половины
десятой две (части)» (IV Ezra XIV 10—12). Менее
определенно выражается IV Ezra XI 44: «И тогда посмотрел
всевышний на свои времена, вот они пришли к концу, на
свои зоны—они исполнились». Обычно авторы
апокалипсисов довольствуются характеристикой того периода,
1 Вполне практически ставит вопрос IV Ezra V 1: «думаешь ли
ты, что я доживу до тех дней?»
308
когда приблизятся «последние времена». «Когда
исполнится число праведников», говорит IV Ezra IV 35; а это
господу богу ведомо: «ведь он на весах взвесил зон, мерой
измерил часы и числом сосчитал времена» (IV 36—37).
Обычно «знамения времени» указываются грозные; земля
преисполнена неправды, весь мир угасает, чаша греха и
страданий переполнена. «Всемогущий приведет на землю,
на ее жителей и на ее правителей смятение ума и душу
раздирающий страх. Они будут ненавидеть друг друга и
подстрекать друг друга к войне. Низкие будут властвовать
над почтенными, ничтожные возвысятся над славными.
Масса будет отдана во власть немногих, и, кто был
ничем, овладеет властью над могучими. Бедные получат
преимущество над богатыми, преступники возвысятся над
героями. Мудрецы будут молчать, а глупцы будут
говорить. Ничто из того, что люди думают,: не осуществится.
Надежда тех, кто надеется, не осуществится...» (Ар. Ваг.
LXX 2—6). «В те времена друзья будут нападать друг на
друга, как враги, так что земля и ее жители содрогнутся»
(IV Ezra VI 24). Сама природа придет в смятение: «Вихри
пыли понесутся с неба на всю землю, блеск солнца
исчезнет с неба посреди дня, и лучи луны станут видны и снова
будут падать на землю. Кровавые капли из скал дадут вам
знамение. В облаке вы увидите борьбу пеших с конными,
а также охоту на диких зверей,-подобных туманам» (Or.
Silb. Ill 800—805)*. «С деревьев будет капать кровь, камни
будут кричать. Народы придут в смятение... Птицы улетят.
Содомское море извергнет рыб... Во многих местах
раскроется бездна, и долгое время будет вырываться пламя.
Дикие звери тогда покинут логовище. Женщины будут
рожать чудовища. В пресной воде окажется соленая.
Друзья ополчатся друг против друга. Тогда скроется ум
1 В позднейшей, повидимому, вставке в Мишну Сота IX 15
время перед пришествием мессии описывается следующим
образом: «Дерзость увеличится, и дороговизна даст себя знать; лоза
будет давать плод свой, а вино вздорожает, империя примет ми-
нейспво, и никто не будет усовещевать, дом собрания будет
служить для блуда; Галилея будет разрушена, Гавлан опустошен,
жители провинций будут ходить из города в город, и никто не
сжалится; мудрость книжников испортится; богобоязненные будут
в презрении; истина будет ограничена; юноши заставят бледнеть
старцев; старики будут вставать перед молодыми; «сын позорит
отца, дочь восстанет против матери, невестка против свекрови
своей, враги человеку — его домашние» (Мих. VII 6); лицо
поколения как лицо собаки; сын не стыдится отца своего. На кого нам
опереться? На отца нашего, нто в небесах». Ср. Schiirer, II, 610.
■ТО
и разум удалится в свое хранилище... А неправда и
распущенность умножатся на земле» (IV Ezra V 5—10).
После всех этих страхов реальные бедствия, какие
терпит обездоленный и угнетенный трудящийся, должны
казаться ему уже не столь страшными, а ухудшение
положения должно восприниматься как радостный вестник
наступления конца. К тому же существует надежда, что
господь ускорит события. Правда, времена должны
«исполниться». Но «тогда времена будут быстрее течь, чем
предыдущее, времена года -будут проходить быстрее, чем
уже прошедшие, а годы будут протекать скорее, чем
нынешние» (Ар. !Баг. XX 1). «Всевышний заставляет времена
миновать спешно» (LXXXIII 1, ср. LIV 1).
Кроме того, чтоб облегчить ожидание конца, апокалип-
тика устанавливает еще одну веху: явление предтечи
мессии — пророка Ильи, который приготовит путь для
явления самого мессии. В позднейшем добавлении к книге
«прор. Малеахи» (IV 5—6) уже сформулирована эта вера:
«Вот я послал к вам Илью пророка перед наступлением
великого и страшного дня Ягве. И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к. о'тцам их, чтоб я, пришед-
ши, не поразил земли проклятием». Вера в пришествие
Ильи прочно вошла в религиозный обиход евреев. Илья,
который должен предварительно все устроить, всегда
наготове и может каждую минуту появиться. «До прихода
Ильи» — такова формула, посредством которой талмуд
определяет, что тот или иной вопрос приходится оставить
открытым. Христиане также признавали Илью предтечей
мессии, но считали, что он, как и мессия, уже пришел:
«Иисус сказал им в ответ: правда, Илья должен притти
прежде и устроить все, но я говорю вам, что' Илья уже
пришел и не узнали его» (Мтф. XVII 11—12, ср. Марк IX
12—13).
Что касается самого мессии, то представления о нем
с течением времени менялись, поскольку изменялись
социальные условия, питавшие в массах мессианические
настроения. Если при существовании Иудейского
государства мессию представляли себе просто как
продолжателя существующей династии или отпрыска угасшей
династии «царя Давида», то после окончательного разгрома
Иудеи он хотя и остается потомком Давида (его обычное
обозначение в литургических текстах—«отпрыск Давида»),
но представляется уже существом сверхъестественным,
пребывающим где-то в небесных сферах в ожидании свое/
т
го часа. Он может поэтому появиться в любую минуту.
В заупокойной молитве «кадиш» явление мессии
ожидается! «при вашей жизни, в ваши дни, при жизни всего
Израиля, в скорости, в близкое время».' Мало того, мессия
существует от века, еще до сотворения мира: «До того
как были сотворены солнце и знаки зодиака, до того как
были созданы звезды небесные, было названо его имя
перед владыкой духов» (Hen. XLVIII 3); «он был избран
и сокрыт перед ним (богом) раньше, чем мир был
сотворен, и будет перед ним во-веки» (XLVIII 6); «сын
человеческий был раньше скрыт, и всевышний хранил его перед
силой -своей и открыл его избранным» (LXII 7). «Лев,
которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим,
говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми
словами его, которые ты слышал, это— помазанник,
которого всевышний сохранил к концу дней, который
произойдет из семени Давида и выступит, чтобы говорить с
ними» (IV Ezra XII 31—32).
Мы видим здесь ту же двойственность, что и в вопросе
о сроках наступления конца. Эта двойственность вызы*
вается различиями во времени и месте возникновения
представлений о мессии в различных социальных группи-
ровках. Если в Иудее живет реальная надежда на то, что
одному из отпрысков Давида удастся создать сильное
еврейское государство и покорить всех супостатов, то для
евреев диаспоры мессия — небесный спаситель и судия.
Если в периоды борьбы против римского владычества
авторы апокалипсисов в своем бессильном гневе предавались
необузданным фантазиям о скорой жестокой расправе
царя-мессии над врагами, то крах всех надежд на
близкое освобождение отразился в превращении земного во?
инственного помазанника в кроткое небесное существо.
При этом классовое содержание образов мессии
определялось социальной принадлежностью носителей
мессианских чаяний. Реальный образ земного мессии
представлялся купцам, рабовладельцам и землевладельцам, экс-
плоатировавшим земельных арендаторов, в виде могучего
царя, который свергнет чужеземное иго и предоставит
эксшюататорам полный простор для угнетения своих
собственных рабов и безземельных или малоземельных
крестьян. Напротив, угнетенные классы видели в мессии
избавителя, который установит новый социальный порядок в
интересах трудящихся. В эпоху иудейского восстания
против Рима такие «мессии», как мы видели, выступали с про-
Щ]
граммой социального переворота — отмены рабства,
передела земли и т. д.
Точно так же в трансцендентном, сверхъестественном;
мессии, который, по мысли связанных с эксплоататорски-
ми верхами богословов, должен был утвердить власть
еврейского царя-мессии над всеми народами земли, экспло-
атируемые видели чудесного героя, который устранит все;
социальные неурядицы на земле. Установить здесь,
строгую хронологическую последовательность или точное
разграничение места появления и развития тех или иных
мессианских идей в их различных классовых выражениях
совершенно невозможно. Еврейская апокалиптическая
литература рассматриваемого периода охватывает четыре
столетия: II в. до хр. э.—II в. хр. э., причем вся эта
литература представляет собою пеёвдэпиграфьг, где лишь,
по случайным намекам можно иной раз установить
приблизительную дату той или иной книги. Но и
относительная датировка ветхозаветных апокрифов и псевдэпигра-
фов весьма проблематична, так как они в большинстве
случаев представляют собою компиляции, в которых иод-
час и основного ядра нет никакого. Примером такого
памятника могут служить «Оракулы Сивиллы». Из
сохранившихся 12 книг «Сивиллин» (I—VIII, XI^-XIV) часть —
эллинских, часть — христианских, часть — еврейских
(главным образом кн. III—V). Собрание оракулов охватывает
примерно 400 лет, причем самый тип этого рода
литературы легко допускает сочетание «пророчеств» самых
разнообразных по характеру и по времени возникновения..
Все же намеченные нами два течения можно проследить
во всей апокалиптической литературе. Это относится и
к «программе» страшного суда и конца света и к роли
мессии в установлении «царства божьего» на земле.
В «Псалмах Соломона», написанных, но всей
вероятности, непосредственно после взятия Иерусалима Пом-
пеем в 63 г. до хр. э., дан образ мессии земного и даже
чисто местного, иерусалимского:
Пс. XVII:
21. Воззри, господь, и пусть восстанет у них царь, сын Давида.
В тот час, который ты, боже, уже избрал, чтоб он
царствовал над родом твоим Израилем.
22. Опояши его силой, чтоб он уничтожил неправедных
властителей. Очисти Иерусалим от язычников, безжалостна
его топчущих.
312'
23. Пусть он мудро и справедливо отгонит грешников от
наследия. И разобьет высокомерие грешников, как глиняную
посуду.
24. Пусть он железным посохом раздробит все их существо.
Пусть уничтожит язычников безбожных словом уст своих.
25. Чтобы от угроз его язычники от него бежали,
И пусть наставит грешников.
26. Тогда он соберет святой народ, которым будет праведно
править,
И будет судить колена народа, освященного господом бо^
гом его.
27. Он не допустит, чтоб впредь среди них жила кривда,
И никто не может жить среди них, знающий зло;
Ибо он знает их, что они все — сыны своего бога.
28. Он распределит их по племенам по стране,
И ни прозелит ни чужестранец не посмеет жить среди них
в будущем.
29. Он будет судить племена и народы по своей справедливой
мудрости.
30. Он будет держать языческие народы под своим ярмом,
чтоб они ему служили,
Он прославит господа открыто перед всем миром.
Он сделает Иерусалим чистым и святым, каким он был
сначала,
31. Так что народы с края земли- придут, чтоб видеть его
великолепие,
Приводя iB дар своих истощенных (в изгнании) сыновей,
Чтобы видеть (великолепие, которым господь бог его
украсил.
32. А он, праведный царь, властвует над ними по
наставлениям бога,
И в его дни среди них не совершается никакой
несправедливости,
Ибо все они святы, а их царь — помазанник божий.
33. Ибо он не полагается ни на коня, ни на (всадника, ни
на лук.
Он также не копит себе золота и серебра для войны
И не полагает свои надежды на численность людей в день
сражения.
Столь же конкретно, хотя уже в мировом масштабе,
представляет себе мессию автор Or. Siib. Ill 46 ел. (по
довольно прозрачным намекам на второй триумвират, Ая-'
тония и Клеопатру, эта оракулы написаны в последней
четверти I в. до хр. э.). «А когда Рим будет властвовать
и над Египтом... тогда людям явится величайшее царство
бессмертного' царя. Придет святой владыка, которому
будет принадлежать скипетр над всей землей на все века
текущего времени. Тогда неумолимый гнев прольется на
мужей латинских- Трое погубят Рим в его жалкой участи.
Все люди погибнут в их собственных домах, когда с неба
хлынет огненный поток».
Иную картину рисует кн. Енох LXII: «Властитель духов
посадил его на трон великолепия. Дух справедливости
излился на него, речи уст его умертвили всех грешников,
а все нечестивцы погибли перед лицом его. Все цари,
могучие, высокие и владеющие землей в тот день
поднимутся, увидят и познают его... Ими овладеет страх, они
опустят взор свой, горе охватит их, когда они увидят того
сына человеческого восседающим на троне великолепия...
Они будут славить, хвалить и превозносить того, кто был
скрыт. Ибо сын человеческий был сокрыт до этого... Все
цари, могучие, высокие и владеющие землей падут перед
его лицом и будут молить его и просить его о милосердии.
Тот властитель духов будет их теснить, чтоб они
возможно скорее удалились от лица его. Их лица покроются
стыдом, и тьма соберется на их лице. Карающие ангелы
схватят их, чтоб им отомстить за насилия их над его детьми
и избранными». Енох LXIX 27 ел.: «Он сел на трон своего
великолепия, и ему, сыну человеческому, передан весь суд,
и он заставляет грешников и тех, кто ввел мир в соблазн,
исчезнуть с поверхности земли и погибнуть. Их связывают
цепями и заключают в месте уничтожения. Все их
творения исчезают с лица земли».
Здесь речь идет уже не о Иудее и не об ее царе —
переворот совершается на всей земле и даже во всей
природе. «Все рождающая земля в те дни потрясена будет
бессмертной рукой, рыбы в море и все звери земные,
бесчисленные виды птиц и все души людей и все море
содрогнутся перед бессмертным ликом, и будет страх.
Крутые горные вершины и огромные горы он разметет, и
только черная тьма будет видна всем. Туманные пропасти
в высоких горах будут полны трупов. Скалы будут
истекать кровью, и каждый поток зальет долину. И бог будет
судить всех войной и мечом и огнем и затопляющим
дождем, с неба пойдет сера, к тому же буря и град, обильный
и твердый. 'Смерть постигнет скот... Стоны и крики
борьбы раздадутся на бесконечной земле, так как люди будут
зн
гибнуть, и потоки будут течь кровью» (Or. Sib. Ill 675—
696). «Я изменю небо, сделаю его вечным благословением
и светом. Я изменю землю, сделаю ее благословением и
поселю на ней моих избранных» (Енох XLV 4—5). «Первое
небо исчезнет и прейдет; новое небо появится, и все силы
неба вечно будут светить семикратно» (Ен. XCI 16). «И
обратится мир в древнее молчание на семь дней подобно
тому, как было прежде, так что не останется никого. А
после семи дней усыпленный эон пробудится» (IV Ezra
VII 30—31).
Не только мессия принимает в апокалипсисах
сверхъестественный характер; таким же сверхъестественным, от
века существующим, становится город Иерусалим. «Не
этот город, постройки которого перед тобою, есть
будущий, который у меня (уж? теперь) дан в откровении и
здесь вперед уготован, с того времени, как я принял
решение создать рай. И я показал его Адаму до того, как
он согрешил. Когда он преступил закон, (Иерусалим) был
отнят у него так же, как и рай» (Ар. Ваг. IV 3).
Непосредственным поводом, вдохновлявшим авторов
апокалипсисов, служили обычно выдающиеся
политические события в жизни Иудеи и диаспоры. «С тех пор как
для народа Израиля наступили в этом мире тяжелые
времена, — начиная с дани ассирийцам и вавилонянам,
разрушения обоих царств, Израиля и Иудеи, и вплоть до
селевкидского порабощения, следовательно, от Исайи до
Даниила, — всякий раз во время бедствия
предсказывается появление спасителя. Уже у Даниила, гл. XII,
ст. 1—3, мы находим предсказание о сошествии Михаила,
ангела-хранителя Иудеи, который спасет их от великого
бедствия; йз""мертвых~'многие воскреснут, произойдет
своего рода страшный суд, и учителя, наставлявшие
народ на правый путь, будут вечно сиять, как звезды» *.
Именно в такого типа апокалипсисах, которые возникали
и после кн. Даниила, «время близко», мессия-—иудейский
царь из дома Давидова, все эсхатологические^ образы
концентрируются вокруг Иудейки ее столицы Иерусалима,
а страшный суд касается конкретных врагов иудейского
народа. Это было неизбежным следствием того
обстоятельства ,что в религиозном отражении действительности
доминировала идея единства избранного богом
израильского народа, а национальные задачи, как их формули-
1 Энгельс — К истории .раннего христианства. Соч., т. XVI,
Ч. Ц, дтр. 425-426.
815
ровали пророки, а впоследствии книжники, отодвигали на
задний план задачи классовой борьбы. Так же, как в
«пророческой» литературе, авторы апокалипсисов видят
социальное зло — поскольку оно вообще у них отмечается —•
не в классовом строении общества, а в греховности
отдельных людей, не только угнетателей, но и угнетаемых.
Поэтому и в тех апокалипсисах, которые создают
фантастические картины переустройства мира и общества в
целом, различаются главным образом две категории —
праведники и грешники. В этом огромная реакционная сила
апокалиптики. Воздействуя на воображение и чувства
верующих, вселяя в них безмерный ужас и горячие
надежды, эта литература больше, чем другие виды религиозной
пропаганды, способна разжечь фанатизм масс и заставить
их забыть своих кровных классовых врагов во имя
призрачных врагов божьих, видеть в них лишь
«грешников», которых должна постигнуть божья кара.
Однако кое-где в апокалипсисах проскальзывают и
классовые ^мотивы. «Горе тем, кто творит
несправедливость и насилие и основывается на обмане, ибо они
внезапно будут -истреблены и не будут иметь покоя. Горе
тем, кто строит свои дела посредством греха, ибо они
будут оторваны от всего своего строительства и падут от
меча. Горе вам, богачи, ибо вы положились на свое
богатство; и вам придется уйти от своих сокровищ; потому
что в дни своего богатства вы не думали о всевышнем.
Вы совершали богохульства и несправедливости и
заслужили день кровопролития, мрака и великого суда» (Енох,
XCIV 6—9). Автор этого отрывка ополчается не против
богатства, а лишь против того, что богачи, надеясь на
свое могущество, забыли бога; богачей-праведников кара
божия не коснется: «Ваши праведники будут в те дни
служить в посрамление грешникам и нечестивцам» A0).
В другом месте той же книги (СП 9) грешники
характеризуются так: «вы довольны тем, что едите и пьете,
донага раздеваете и грабите людей, грешите,
приобретаете имущество и проводите прекрасные дни». «Горе
вам, строящим свои дома трудами других, вам
строительный материал лишь кирпичи и камни греха» (XCIX 13).
Интересно, как представляют себе блаженство
праведников авторы апокалипсисов. В представлении жрецов,
чиновников и царедворцов высшее блаженство—в
лицезрении «славы господней», так же как в земной жизни
они стремятся стать ближе к царю и его двору. Апока.'
316
иптичёские чаяния бедноты носят более материальный
характер: помимо довольно тощего лицезрения славы
господней, праведники получают возможность хорошо
поесть. «И откроется Бегемот из своего места, и
Левиафан 1 поднимется из моря; оба громадных морских
чудовища, которые я создал в. пятый день творения и
сохранил до того времени, будут тогда служить пищей
для тех, кто останется. Также и земля будет приносить
свои плоды в десять раз обильней. На одной виноградной
лозе будет тысяча, ветвей, на каждой ветви тысяча
кистей, в каждой кисти по тысяче ягод, и одна ягода
даст кор вина. И те, которые голодали, сумеют вкушать
обильно... В то время опять будут падать с неба запасы
манны, и они будут в те годы есть ее» (Ар. Bar. XX1X
4—8). Это ожидание обильного угощения мясом Бегемота
и Левиафана прочно вошло в мессианские чаяния
верующих евреев, и разукрашенные в позднейшей раввинской
литературе мифы об этом пиршестве до сих пор
являются для многих евреев предметом живой веры.
Древнееврейская эсхатология еще не знает
развернутого учения о немедленном воздаянии после смерти,
которое разработано уже позднее, в раввинской
литературе. Только христианство впервые, по выражению
Энгельса, «серьезно отнеслось к награде и каре на том
свете, создало небо и ад». Даже Сирах, как мы уже выше
указали, примыкает еще к древним представлениям о
прекращении жизни души вместе со смертью тела. Но вера
во всеобщее воскресение мертвых для страшного суда
предполагает какую-то стадию сохранения мертвых до
того времени, когда они будут призваны на суд. Да и
жажда личного бессмертия, надежда получить на том
свете немедленно после смерти возмещение за
перенесенные на земле страдания не могли не отразиться в
апокалиптической литературе. В промежутке между смертью и
всеобщим воскресением праведники и грешники
пребывают как бы в преддверии рая и ада и созерцают
предстоящую им награду или кару. В IV Ezra VII 75—101
подробно описываются семь бед, постигающих грешника, и
семь радостей, выпадающих на долю праведника. И муки
и радости носят несколько теоретический характер:
грешники мучаются стыдом, страхом перед грозящим
1 О происхождении мифологических образцов этих чудовищ
см. Н. G u n k е 1 — Schopfumg und Chaos. S. 315.
317
наказанием, завистью к наградам .праведников И т. щ
такого же типа радости праведников. Семь дней
предоставляется покойникам созерцать и обдумывать свое
будущее, после этого души складываются в хранилище.
В кн. Енох описываются четыре отделения., где
пребывают души в ожидании воскресения. Но в той же книге
говорится уже более определенно о различных благах в
награду за страдания праведников (СШ 1—4, CIV
1—5); еще конкретнее говорится здесь о грешниках.
«Горе вам, грешники, если вы умираете в своих грехах
и ваши единомышленники говорят о вас: «блаженны
грешники: они в течение всей жизни: видели добро, те-
перь они умерли в счастьи и богатстве...» «Но разве вы не
знаете, что их души будут направлены в ад, что им там
будет плохо, и их страдание будет велико. Там, где
совершается великий суд, ваш дух будет пребывать в
мраке, в цепях и в пылающем огне, и над всеми родами
будет великий вечный суд. Горе вам, вы не будете иметь
покоя» (Hen. СШ 5—8).
Самое представление о рае и аде претерпевает
постепенные изменения. В библии рай—определенное место на
земле, и Быт. II 8 ел. дает «географическое» описание
его. И еще в кн. Енох подробно описывается земной
рай: «Четвертая страна, по имени «Север», делится на
3 части; первая из них служит обиталищем для людей,
вторая (отведена) для вод морских и (покрыта)
долинами, лесами, реками, мраком и туманами, третья
заключает в себе сад праведности. Я увидел 7 высоких гор
выше, чем все прочие горы на земле» и т. д. (Hen. LXXI1
3—4). В другом месте вполне реалистически описывается
растущее в раю древо познания: «оно по росту походит
на сосну, листва его похожа на листву вишневого
дерева» и т. д. (Hen. XXXII 4). Точно так же местоположение
ада, места пребывания грешников, первоначально
указывали в окрестностях Иерусалима, в долине Гинном (gej-
hiimmoim, Ис. LXVI 24, отсюда «геенна») 1 и «Енох»
представляет себе эту геенну в виде пропасти полной огня,
«посреди земли» (ХС 26). Но появляются и представле-
1 Повидимому, здесь предполагался только вход в ад, через
глубокую расщелину (Тофет), из которой выходили дымящиеся
серные испарения (Ис. XXX 33). Название Hinnom надо,
повидимому, производить от имени древнепалестинского бога подземного
огня Hin, упоминаемого в текстах Рас-Шамра. В долине Гинном
было, очевидно, доизраильское место культа этого бога.
318
Ш1Я о сверхъестественном, of века существующем рае н
аде. Только на страшном суде «появится яма мучений, а
напротив— место наслаждения, откроется печь геенны, а
напротив — рай блаженства» (IV Ezra VII 36). Согласно
Ар. Bar. LI 10, праведники живут в небесных сферах. Но
в еврейской апокалиптике и в талмуде представления о
рае и аде не получили подробного развития. В еврейской
эсхатологии идея мессианизма, идея конечной победы
^гве и его избранного Израиля над «язычниками»
преобладают над верой в личную награду и кару после смерти.
И еще у христианского автора «Откровения Иоанна»*,
как отмечает Энгельс, «небесный рай не открывается для
верующих прямо со смертью».
Вера в мессию и ожидание его пришествия прочно
вошли в культ. В заупокойной молитве «кадиш»,
послужившей, по общепринятому мнению, образцом для
христианской «господней» молитвы («Отче наш»), выражается
надежда на «приближение мессии в скорости, в близкое
время». Мессианизм занял видное место в пасхальной
обрядности. Чин (седер) этого праздника,
вырабатывавшийся преимущественно в диаспоре, где пасха стала
синагогальным и домашним праздником, заполнен рядом
обрядов и обычаев, связанных с пришествием мессии и
era предтечи Ильи. Миф об исходе из Египта, вокруг
которого концентрируется пасхальная идеология,
пропитывается |Мессианизмом, становится как бы в
подчиненное положение по отношению к мессианским идеям.
Иудейский «исход» становится залогом и прообразом
столь же чудесного спасения при посредстве мессии.
1 Протестантская богословская критика «Откровения Иоанна»
склонна видеть в нем чисто еврейское произведение с
христианскими «вставками». Такова, например, точка зрения Фишера, к
которой примыкает и Гарнак (Е. Vischer — Die Offenbarung
fohannis в «Texte und Untersuchumgen», II, 3). Объясняется это тем,
что эти «критики» исходят из поповской предпосылки, что
христианская догма целиком дана в откровении и потому
«откровение Ио.», в котором нет еще «ни догматики, ей этики позднейшего
христианства» (Энгельс), нельзя отнести к христианской
литературе. В своем анализе «Откр. Ио.» Энгельс указывает, что видения
автора построены «исключительно из еврейско-дохристианского
материала», но вместе с тем эта книга «гораздо важнее для
установления того, чем было в действительности первоначальное
христианство, чем весь остальной Новый завет», ведь «христианство
того времени, еще не сознавшее себя таковым, было, как небо от
земли, далеко от позднейшей, закрепленной в догматах, мировой
религии Никейского собора».
319
Заклание и ритуальное поедание пасхального агнца те^
ряют свой первоначальный характер жертвы духу-губи-
< телю:, и в христианстве агнец становится образом и
символом, спасителя-мессии.
Все эти новые религиозные представления о прише
ствии небесного мессии, о конце света и страшном суде
о воскресении мертвых, о воздаянии за гробом, о рае i
аде не отразились s официальном храмовом культе и $
жреческом богословии. Проводниками этих идей были
книжники, sopheram, и свое конкретное выражение они
получили в синагогальном культе. Это отнюдь не
значит, что авторами всей мессианской и
эсхатологической литературы непременно были книжники,
противопоставлявшие себя жречеству. Напротив,
Иерусалим и его храм, «закон» и его исполнители занимала
центральное место во всей религиозной идеологии евреев
Палестины и диаспоры/'и даже философ Филон в этом
отношении не составляет исключения. В «Завете 12
патриархов» * Леви говорит своим сыновьям: «Небо чище
земли. А вы — светила небесные, как солнце и луна»
(Levi 14). Правда, в течение 70 недель жрецы-левиты
позорили храм и оскверняли жертвы A6), но после
соответствующей кары «господь' возбудит для жречества
нового жреца... И он будет прославлен на земле» A8). Не
только Леви, но и Иуда, представитель и покровитель
светской власти, завещает сыновьям: «Любите Леви, чтобы
вы сохранились, и не поднимайтесь против него, дабы вы
не были уничтожены. Мне господь дал власть царскую,
а ему жреческую и подчинил царскую власть жреческой.
Мне он дал (царство) на земле, ему на небе. Как небо
выше земли, так жрецы бога выше царства земного»
(Juidla 21). Когда Яков предложил сыновьям захватить что
кто может, «Леви схватил рукою посох, вскочил на
солнце, сел на него и оседлал его. А когда Иуда это
увидел, он поступил так же — схватил посох, вскочил на
луну, сел на нее и оседлал ее» (Napihtali 2).
Точно так же «Псалмы Соломона» стоят на защите
1 Эта книга носит явные следы христианской обработки. Каучш
считает, что «в том виде, в каком она есть, — она произведение
христианина». Но в основе ее лежит, несомненно, еврейское
произведение, в котором многое восходит еще ко временам
Маккавеев. См. М. Friedlander—Geschichte der jttdischen Apologetik.
Zurich, 1903, S. 161 ff; Ed. Meyer — Ureprung und Anfange des
Christentums. II, S. 12, 44.
320
официального храмового культа, и, по всей вероятности,
эти псалмы левиты пели во время храмовой службы.
Но хотя и книжники, и руководители синагоги, и
сильно эллинизировавшиеся евреи диаспоры всячески-
отстаивали святость и непреложность «закона», они
фактически сильно его изменили путем соответствующих
толкований. Поэтому уничтожение храма в 7Q г. в сущности
ничего не изменило, так как вне храма развился
самостоятельный культ, а мессианские и эсхатологические
чаяния были мифологически "связаны уже не с данным
реальным культовым центром, а с небесным Иерусалимом
и с трансцендентным мессией.
7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО МОНОТЕИЗМА
Существенно новым в иудейской религии, начиная с
эпохи Селевкидов, является утверждение монотеизма как
догмы, хоть и с весьма серьезными ограничениями в
конкретных верованиях и в культовой практике.
Первоначальное родовое божество с функциями бога огня,
грозы и войны превратилось после разложения рода в
местное божество с функциями бога плодородия, а
затем в национальное божество, ставшее над
природой как повелитель стихий и выполнявшее функции
защитника и покровителя еврейского народа и вместе с
тем блюстителя классовой нравственности,
прикрывавшейся национальными идеалами.
Следующая ступень изменения учения о Ягве —
превращение его в мировое божество, блюстителя
общечеловеческой нравственности. Эта новая догма была
отражением новых условий жизни евреев. Идея национального
бога-покровителя в этих новых условиях оказалась
непригодной; бог, специально занимающийся
исключительно спеканием иудеев и не сумевший в течение веков
добиться хотя бы политической самостоятельности
опекаемой страны и неприкосновенности своей основной
святыни, не мог пользоваться достаточным кредитом; он
должен был или уступить место другому богу — богу
победителей, или измениться сам. С другой стороны,
расширение области распространения евреев вне Иудеи
должно было придать Ягве в воображении верующих,
поскольку его культ продолжал существовать в странах
диаспоры, характер мирового божества, которое властно и
21-8
321
над «язычниками», среди которых жили его
подзащитные. И действительно, мы уже видели, что богословские
спекуляции в этом направлении появляются в библейской
литературе после вавилонского плена и проникают в
литургические тексты — псалмы. Но эти новые идеи не
пошли бы дальше узкого круга богословов и заглохли бы
вместе с ними, если бы для монотеизма не оказадоа
серьезных корней в общественных отношениях еврее!
того времени.
Рис. 47. Амулет из Египта. Слева— Рис.48. Амулет
Анубис,^справа—Гавриил. Haas, Bil- Египта с имен
deratlas Iao. Haas, Bilcif
atlas.
Единый всемогущий бог — «отражение абстрактного
человека»1. Но культ абстрактного человека возможен
лишь как фантастический религиозный рефлекс
определенной исторической ступени общественно-экономиче
ского развития. «Для общества товаропроизводителей,
характерное общественно-производственное отношение
которого состоит в том, что продукты труда являются
здесь для них товарами, т. е. стоимостями, и что от^
ные частные работы приравниваются здесь друг к д
в этой вещной форме как одинаковый человечен
труд, — для такого общества наиболее подходя
формой религии является христианство с его кул!
абстрактного человека... При древне-азиатских, анти1
и т. д. способах производства превращение продук'
товар, а следовательно, и бытие людей как
товаропроизводителей играют подчиненную роль, которая, однако,
становится тем значительнее, чем далее зашел упадок
общинного уклада жизни»2. Поэтому монотеизм в его аб
1 Эн г ел ь с—Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, стр. 323.
2 К. Маркс — Капитал. Изд. 8-е, кн. I, сто. 40.
322
страктной форме не мог стать в эпоху эллинизма
массовой религией, хотя условия общественной жизни
содержали уже предпосылки для возникновения
монотеистических учений.
Расцвет мировой торговли эллинских государств х
привел на одном полюсе к возникновению
материалистической и атеистической философии, на другом—к
непрекращающимся попыткам создать мировую религию с
единым богом. Лозунгу Протагора «человек —мера'всех
вещей» соответствовала в области религиозной тенденция
перенесения центра внимания богословов и богословству-
ющих философов с вопросов космогонии и мифологии
на вопросы этики. Соответственно этому из пантеона
выделяется тот или иной бог, который становится
единственным руководителем вселенной, наставником и
блюстителем нравственности. Уже для Эсхила Зевс —
божество вообще (Agam. 60). Появляются попытки создать
синкретические божества — Зевс-Асклепий, Зевс-Гелиос,
Аполлон-Гелиос-Дионис2 и т. п. В эллинистическую эпоху
функции единого верховного божества охотно
возлагаются на одного из восточных богов. В молитве, обра^
щенной к Изиде, Люций у Апулея (Метам. XI 25) придает
этой богине характер единой владычицы вселенной:
«О святейшая человеческого рода вечная заступница,
смертных постоянная охранительница... Ни 'день, ни ночь
одна, ни минута какая краткая не протекает твоих
благодеяний праздная. На море и на суше ты людям
покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу
спасительную, которой развязываешь неразрешимые узы
рока, судьбы ты ослабляешь гонения, зловещих звезд
отводишь движение. Ты кружишь мир, зажигаешь солнце,
управляешь вселенной, пожираешь тартар. Перед тобой
ответственны звезды, благодаря тебе наступает чредова-
1 Конечно, абсолютные размеры этой торговли были невелики:
«В противоположность прежним взглядам, когда размеры и
значение азиатской, античной и средневековой торговли ставились
слишком низко, теперь вошло в моду чрезвычайно переоценивать
их. Всего лучше можно освободиться от такого представления,
если рассмотреть английский ввоз и вывоз к началу XVIII
столетия и сравнить с современным. И однако он был
несравненно более значителен, чем у какого бы то ни было торгового
народа . прежнего времени» (К. Маркс — Капитал, III, стр. 298,
прим. 50).
2Gercke — Norden—Einl. in die AJtertumswissenschaft.
Lpz. — Berlin, 1912. В. П. S. 180.
21*
323
ние времен, радуются небожители, стихии — твои служи*
тели. Мановением твоим огонь разгорается, тучи
сгущаются, поля осеменяются, посевы поднимаются. Силы
твоей страшатся птицы, в небе 'летающие, звери, в горах
скитающиеся, змеи, по земле ползущие, киты, в океанах
плавающие». Столь же всеобъемлющи функции вседер-
жительницы Изиды в надписи из Иона, составленной
через сто лет после Апулея1.
Египетский бог Сарапис, культ которого Птолемеи
пытались превратить в культ Зевса-Сараписа как един- ■
ственного эллинско-греческого бога, в римскую эпоху
тоже становится универсальным богом. Ему
присваиваются функции Диониса, Цереры, Аполлона, Зевса; он
превращается в Гелиосераписа, в «единого Зевса», на ряде
надписей он именуется «Зевс Гелиос, великий Серапис».
Тенденцию к превращению в единого бога обнаруживают
и Аполлон, и Гермес, и Великая матерь, и другие
эллинские и восточные боги. Учению стоиков об iheimarmene,
о роке, стоящем над природой и над богами, в
религиозной спекуляции соответствует вера в Фортуну, греческую
Тихе, которой также придается универсальное значение.
Плиний Старший характеризует ее для своего времени
следующим образом: «Во всем мире, во всех местах, во
все часы, во все голоса призывают и зовут одну только
Фортуну, ее одну обвиняют, ее одну привлекают к
ответу, только о ней думают, только ее хвалят, только ее
винят... Мы до такой степени подвержены случаю, что
случай сам стал,вместо бога» (N. Н. II 22J. Культ
египетских эллинистических царей и римских императоров
также отнюдь не был только навязан подданным
капризом Птолемеев и сумасбродных римских императоров, но
опирался на прочную восточную традицию,
видоизмененную в соответствии с требованием эпохи. Если Горация
можно подозревать в подхалимстве, то культ императора,
провозглашаемый Виргилием, несомненно, отражает его
искреннее убеждение. В поисках «спасителя» угнетенные
лассы обращали свои взоры и к «гению императора».
1 А. РановиЧ'—Первоисточники по истории раннего
христианства. М., 1933, стр. 122. Интересный 1вариант этого гимна Изиде
(надпись из Магнезия на Мэандре) опубликован в REG A929),
р. 138—139. Здесь особенно подчеркиваются общественные
атрибуты богини (ср. ВСН, LI, 1917, р. 378 sq.).
2 P. Wen dl and — Die hellenistisch-romische Kultur in ihren
Beziehungen zum Judentum und Christentum. Tubingen, 1907. S. 60.
324
Понятно, культ того или иного.бога распространялся
путем усердной пропаганды. В частности, восточные
боги, претендовавшие на первенство в Римской империи,
имели ревностных пропагандистов в лице торговцев,
солдат и рабов. «Промышленное и торговое Превосходство
Востока очевидно: именно там находились главные
центры производства и внешней торговли. Оживленные
сношения с Левантом создали в Италии, Галлии,
Дунайских странах, Африке и Испании поселения купцов,
которые в отдельных городах образовали настоящие
колонии. Особенно сильно представлены среди иммигрантов
сирийцы. Ловкие, хитрые и прилежные, они появлялись
всюду, где можно было рассчитывать на Какую-нибудь
прибыль, и поселения их, раскинувшиеся вплоть до
севера Галлии, служили опорным пунктом для религиозной
пропаганды... Италия покупает в Египте не Только... хлеб,
она ввозит и людей для обработки опустошенных полей,
она добывает рабов из Фригии, Каппадокци и Сирии;
для домашних услуг в своих дворцах она опять-таки
привлекает сирийцев и александрийцев» *.
Пришельцы на новых местах сохраняли старую
религию, которую старались распространить и среди местного
населения. Для торговли это было совершенно
необходимо. Религиозная система запретов, обычных в религиях
Востока, делала невозможными-и, во всяком Случае, сильно
затрудняла регулярные деловые отношения" с людьми
другой национальности и другой веры. В гэтом
отношении евреи находились в особо трудном положении, так
как в смысле национальной и религиозной замкнутости
они занимали исключительное место.
Мы уже отмечали, что в самой Иудее торговля не
получила развития среди евреев. Крупнейшее
эллинистические города Палестины, несмотря на то, что все они в.
то или иное время политически находились под властью
Иудеи, не стали еврейскими. Еврейские ж;е города, за
исключением Иерусалима, главного центра
потребления, заметной роли не играли. Характерно, что
иудейский округ Галилея имел своим
административным центром эллинистич еский город Сепфо-
р и с или Тивериаду2. Поэтому палестинские евреи
1 F. Cumont — Die orientalischen Religionen im romischen Hei-
dentum. Lpz.—Berlin, 1910, S. 28—29.
s См. о городах Палестины S с h й г е г, И, 95—535.
325
меньше были заинтересованы в пропаганде своей веры,
чем евреи диаспоры, участвовавшие в тогдашней мировой
торговле, особенно в таком крупнейшем центре, как
Александрия. Евреи диаспоры и стали агентами
пропаганды иудаизм»;'
Что пропаганда иудаизма имела значительный успех,
доказывается уже быстрым ростом численности евреев
диаспоры, который нельзя объяснить только
естественным приростом. Дион Кассий (XXXVII 17) указывает, что
прозвание «иудеи» прилагается «и к другим людям,
которые придерживаются их обычаев, хотя и принадлежат к
другой национальности». Об успехах религиозной
пропаганды много раз говорит Иосиф Флавий. «Разница
между нами и греками гораздо скорее местная, чем
касающаяся обычаев; поэтому у нас не может быть ни
малейшей вражды к ним или нерасположения. Напротив,
многие из них охотно приняли наше вероучение,
некоторые остались верны ему, но есть и такие, которые, не
выдержав его ограничения, отпали» (Прот. Апиона, II
10)... «Иудейское население в Антиохии с течением
времени значительно разрослось. Они украсили свою
святыню высоко художественными и драгоценными дарами и,
привлекая к своей вере множество эллинов, сделали и
этих последних до известной степени составной частью
своей общины» (В. й. VII 3, 3). Больше всего успеха
пропаганда иудаизма имела среди женщин. Когда жители
Дамаска задумали перебить евреев, они, по свидетельству
Иосифа (В. и. IV 20, 2), «только боялись своих жен,
которые, за немногими исключениями, все были преданы
иудейской вере». Иудейскую веру принимали и лица из
высшей знати, особенно женщиных. Жена Нерона Поп-
пея примкнула к иудейской вере и поддерживала
ходатайства евреев пере^вйператорок (Иосиф Древн. XX 8, 1).
О другой знатной римлянке-прозелитке также сообщает;
Иосиф (Древн. XVIII 3, 5). Иудейство "принял весь
царствующий дом небольшого полунезависимого государства
Адиабены, на границе Парфянского царства (Иосиф
Древн. XX 2—4, В. и. XIX 2 и др.). Несмотря на
презрение, которое образованные римляне питали к евреям
из-за их нелепых обрядов и религиозной замкнутости,
религия евреев находила сторонников и в Риме, и Сщекд
с негодованием писал: «Обычай этого преступнейшего
1 См. Schii re r, III 64.
326
племени приобрел такую силу, что он принят уже по всей
земле; побежденные предписали законы победителям»
(у Августина, Civ. Dei VI 11). Ювенал издевается над
иудействующими: «Некоторым достался отец,
почитающий субботу, они ничего не чтут, кроме облаков и
небесного божества, и 'Считают,' чтЪ' ШШШ Ш оттчттся от
человечины свиное мясо, от которого воздержался их
отец. Вскоре они снимают крайнюю плоть. Презирая
обычно римские законы, они изучают, сохраняют и
блюдут все то право, которое Моисей передал в
таинственном свитке. Они указывают путь только тому, кто
почитает те же таинства,, и ведут к желанному источнику
только обрезанных» (Sat. XIV 96—104).
Наконец, рабов, как правило, евреи-рабовладельцы
обращали в свою веру, и отпущенные по тому или иному
поводу на волю эти рабы-прозелиты, в свою очередь,
увеличивали число новообращенных сво'ей пропагандой.
Успех пропаганды иудаизма, естественно, достигался
ценой известных уступок. Национальный бог Ягве
не мог привлечь египтян или римлян. Поэтому Ягве как
исключительно еврейский бог, пекущийся о судьбе
избранного им Израиля, уступает место богу-творцу, богу
вселенной, грозному судье, который очистит и обновит
весь мир и принесет спасенье всему человеческому роду.
«Господь бог есть владыка всего существующего, — он —
само совершенство и блаженство, сам в себе, для себя и
для всего существующего самодовлеющий. Он начало,
средина и конец всего, проявляется в явлениях и
милостях...» (Иосиф, Прот. Ал. II 22). Впервые в Септуагинте
появляется слово «творец» (ktistes), отсутствующее в
еврейском языке библии. «Есть только один бог,
всевышний, сотворивший небо, солнце, звезды и луну,
плодоносную землю, водяные волны моря, высокие горы и вечно-
текущие реки и источники» и т. д. (Or. Sib., pr. 41 sq.).
Точно так же Ар. Ват. XXI 4 sq., подробно описывая
могущество бога и перечисляя его атрибуты, совершенно
не упоминает его функции как еврейского бога *. Самое
имя Ягве исчезает из текстов, заменяется абстрактными
определениями «всевышний», «владыка духов» (кн. Енох),
«слава», «слово», «место» и др. Если во всех библейских
книгах Ягве постоянно упоминается в той или иной связи
1 Ссылки на тексты, иллюстрирующие новое представление о
боге у евреев, собраны у W. Bousset — Rel. d. Jud., S. 291—313.
327
с историей евреев и подчеркивается тесная связь между
Ягве и Израилем, то в религиозной литературе эллини-3
стического периода бог выступает только как
универсальное абстрактное существо; правда, и здесь видное
место занимает Новый Иерусалим, мессия из дома
Давидова и т. п., но все эти представления, относящиеся ко
времени страшного суда, носят трансцендентный характер.
Мы видим таким образом, что и интересы .пропаганды
диктовали развитие иудейского богословия именно в
направлении культа абстрактного человека как рефлекса
общественных отношений, возникших в результате
разлагающего и нивелирующего действия торгового
капитала. В этом отношении еврейские богословы повторяли
те идеи, какие возникли на той же основе в греческой
философии и в вульгаризированной форме доходили до
еврейских «книжников», в особенности александрийских.
«Не следует только,представлять себе, что
александрийцы сознавали свое отступление от веры своих отцов...
Наоборот, они считали, что именно они — истинные
иудеи, что они извлекают на свет истинный смысл
писания, и если этот смысл оказывался совпадающим с
философией, то '-причины этого они искали не в своем
толковании, а в писаниях, которые они толковали, так как
последние в силу своего высокого происхождения должны
были содержать всю и всяческую истину, в том числе и
философскую. Это убеждение так прочно у них
утвердилось, что те положения, которые они сами внесли в
писание из греческой философии, они в силу
замечательного, хотя и естественного, оптического обмана считали,
наоборот, попавшими в греческую философию из
писания» *. Если отбросить курьезный «оптический обман», то
с этой характеристикой Целлера можно согласиться. Эту
точку зрения проводят все еврейские апологеты, вплоть
до Иосифа Флавия. Наиболее ясно ее выразил еврейский
апологет середины II в. до хр. э. Аристобул. В своем
«Толковании моисеевых законов», от которого
сохранились кой-какие цитаты у Евсевия и Климента
Александрийского, он прямо утверждал, что греческие
философы— такие, как Пифагор, Сократ, Платон, — почерпали
свое учение в моисеевых книгах и даже поэты Гесиод ;и
Гомер заимствовали свой материал из Пятикнижия; для
1 Е d. Zeller — Die Philosophie der Grieehen. 4-e Aufl., Lpz.,
1903, II Abteil., S. 269 ff,
Щ
большей убедительности он высказывает предположение,
что основное содержание Пятикнижия имелось на
греческом языке задолго до перевода 70 *. Ту же мысль
неуклонно проводит и такой искушенный философ, как
Филон. Так, толкуя 'библейское выражение «смертью
уЙреТе» (Быт. II 17), он пишет: «И Гераклит, следуя этой
мысли Моисея, хорошо говорит: мы живем их смертью,
умираем их жизнью» (Leg. alleg. I 108 Colin; op. Quis rer.
div. heres 214 Coh-n).
Для еврейских апологетов и пропагандистов
использование греческой философии, притом в ее вульгарных
формах, пригодных для целей религиозной пропаганды,
было лишь средством разъяснить еврейский «закон».
«Они поэтому не заботятся о строгой логической
последовательности; то, что они находят у философов
пригодного для их цели, они используют, не задумываясь над
тем, к какой школе это принадлежит и в какой связи оно
первоначально было высказано» 2. Исключения не
составляет и Филон. Его приверженность к философии
Платона -подала повод в древности к поговорке: «либо
Платон филонствует, либо Филон платонствует». Это, однако,
не мешает Филону обильно черпать идеи у стоиков и
пифагорейцев.
Средством приспособления еврейского богословия к
греческой философии служило аллегорическое
толкование библии. Но и сам этот метод был заимствован из той
же греческой философии.
Метод этот был в большом ходу среди греческих
философов, мифографов, историков. Если Геродот
подыскивает в греческой мифологии соответствия египетским
богам, а Цезарь и Тацит прямо называют кельтских и
германских богов римскими именами, то это не просто
литературный прием, применяемый для популярности
изложения; за этими произвольными сближениями
скрывается представление, что под разными названиями
у разных народов действительно проявляется одно и то
же божество. А философы, не отказываясь от
официальной религии, охотно давали аллегорические толкования
мифам и обрядам. Больше всех отличились в этом деле
стоики. Уже Хрисипп, один из столпов этой школы, учил,
что Зевс, это — эфир и воздух, Посейдон — море, Ге-
1 S с h й г е г, III, S. 514.
* Ed. Zeller, 1. с, S. 271.
329
фест — огонь и т. д. В этом духе он толковал и древних
поэтов. Цицерон над ним иронизирует. «Вот это он
говорит в первой книге «О природе богов», а во второй он
пытается согласовать сказки -Орфея, Музея, Гесиода и
Гомера с тем, что он сам сказал о бессмертных богах в
первой книге. Оказывается, что даже древнейшие поэты,
сами этого не подозревая, были стоиками» (Nat. Deor.
I 15,41; ср. Plhilodemi de pietate с. 13, H. Diels, Doxograplhi
graeci, p. 547). После Хрисиппа стоики пошли еще
дальше. Они сами шли навстречу вульгаризаторам стоической
философии, видя в этом путь к широкому
распространению своего учения. Они поэтому включили в свою
систему, путем аллегорических толкований, астрологию,
мантику и все вообще самые грубые примитивные
верования. Для подтверждения своих спекуляций они
применяли самые .нелепые этимологические,, выкрутасы: Гера
равнозначно аег (воздух), Зевс ■— с zen (жить), а
винительный падеж от Zeus — Dia — с предлогом dia (Dia
diekein dia panton—«Зевс проникает через все») *.
Таким образом, в вульгарной греческой философии
еврейские книжники и «философы» находили не только
готовый материал для еконструирования единого
божества, но и метод для превращения в такое божество
национального бога Ягве. По тем фрагментам, какие
Евсевий и Климент сохранили от еврейского «философа»
середины II в. до хр. э. Аристобула, видно, что он хорошо
усвоил приемы греческих авторов. По словам Климента
(Strom. V 14, 97), Аристобул поставил себе задачей
доказать, что философия перипатетиков зависит «от
Моисеева закона и от нрочих^рор'оков». Но и «Го-мер и Гесиод
позаимствовали из наших книг», и «Пифагор многое взял
у нас для своего учения», и «Платон последовал нашим
законам». А чтоб привести в соответствие библейскую
мифологию с греческой философией, Аристобул дает
свое толкование библейскому тексту: если в библии
сказано: «и сказал бог: да будет свет», то это надо понимать
в том смысле, что сила (dynamis) божия творит все.
Всякие упоминания о деснице, персте, лице и других органах
тела бога Аристобул толкует символически. И это было
в порядке вещей: ведь утверждали же стоики, что Афина
1 См. Gercke—Norden, 1. с, II, S. 345; P. Wen dl and, ук.
соч., S. Б4 сд.
830
Tritogeineia означает соединение трех философских
дисциплин — логики, физики и этики1.
Что Аристобул не был единственным писателем,
занимавшимся аллегориями, лучше всего свидетельствует
филон, который в своих толкованиях библейского текста
часто ссылается на ряд предшественников. Так, толкуя
стих Быт. XVII 16 «и дам тебе от нее сына», Филон
пишет: «Итак, что значит «дам тебе», сказано; теперь надо
объяснить значение «от нее». Одни принимают это как
обозначение того, что является извне, так как
добродетель входит в душу не из нее самой, а извне, от бога.
Другие видят здесь указание на быстроту даров божьих,
так как милостивые дары бога даются быстро. Есть и
третьи, которые говорят, что (речь идет) о добродетели
как матери всякого блага» (De mutat. noun. 141 Wendl).
Филон использовал не только литературные источники,
но и устную традицию. «Я об этом человеке сообщу то,
что узнал из священных книг, которые он оставил, как
удивительные памятники своей мудрости, и от некоторых
старейшин нашего народа; они всегда к писанному
присоединяли устное; я поэтому думаю, что могу подробнее,
чем другие, рассказать о его житии» (Vita Mosiis I 4 Co'hn).
«Другое я слышал от дивных людей, подразумевающих
в большинстве из того, что содержится в законах,
видимые символы невидимого, из-речение неизреченного»
(De spec. leg. Ill 178 Cohn).
Сам Филон довел аллегорическое толкование «закона»
до крайних пределов. Аллегория для него —
существенная форма углубленного понимания «писания», а
«писание» по всему своему содержанию соткано из аллегорий;
так как все в нем должно, по мнению Филона, служить
нам в поучение, то надо искать сокровенного смысла
даже в самых незначительных по видимости вещах.
Отсюда, буквальное значение слов «писания» представляет
собою только его тело, а духовное, т. е. аллегорическое
толкование,—его душу. «Он самым широким образом
пользуется всеми вспомогательными средствами, которые
уже стоики и другие философы применяли на почве
греческой религии, а александрийские и палестинские — на
1 Под прозвищем Tritogeneia Афина почиталась в Беотии,
вероятно, по связи с ручьем Тритона, около которого было ее
святилище. Отсюда прозвище означает «рожденная Тритоном». Стоики
истолковали «тритогения» в смысле «трижды рожденная».
т
почве религии иудейской, и широко применяет все
вольности, какие те себе позволяли. Он не задумывается
подвести под одно и то же место, под одно и то же
выражение различные аллегорические толкования,
разъясняет греческие слова, исходя из этимологии еврейского
языка, слегка изменяет текст, хотя бы в результате ц
получился совершенно нелепый буквальный смысл,
выводит глубокую мудрость из ошибок в переводе Септуа-
гинты и т. п.» 1.
Филон -подводит под свой метод апологетическо-бого-
словское обоснование, выбалтывая при этом, что таким
путем он сам и другие иудейские богословы пытались
защитить авторитет «писания», в особенности в глазах
«образованной» эллинистическо-римской публики. В
трактате Quod deus sit ikriitrmtabife 51 sq. Wendil. мы читаем:
«Сказано: «истреблю с лица земли человека, которого я
сотворил, от человека до скота, от гада до птиц
небесных, ибо я раскаялся, что' сотворил его» (Быт. VI 7).
Опять-таки некоторые, услыхав эту речь, делают вывод,
что сущее2 подвержено аффектам и гневу, между тем
оно совершенно недоступно никакой страсти. ...Тем не
менее о такого рода вещах говорится у законодателя
для некоторой удобопонятности, чтоб поучать тех, кто
неспособен постигать мудрость другим способом. ...Ведь
из людей одни близки душе, другие телу3. Так вот, те
кто сблизились с душой, поскольку они способны
общаться с умопостигаемыми и бестелесными
сущностями, не приравнивают сущее ни к одной из сотворенных
вещей, а поставив его вне всякого качества... составили
себе только представление о его бытии, не придав ему
образа. А те, у кого любовь и союз с телом, не будучи
в состоянии скинуть с себя оболочку плоти, не могут
видеть сущности единой, самодовлеющей, ни в чем не
нуждающейся, простой, ни с чем не смешанной и несрав,-
нимой, и составили себе о причине всего такое же пред
ставление, как о себе самих... А ведь бог, будучи безна
чальным и создателем всего остального, не нуждается ни
в чем необходимом для его творений. ...Это выдумки
нечестивцев, выводящих божество человекоподобным на
словах, а на деле доступным человеческой страсти. По-
1 Е d. Z е 11 е г, III, 2, S. 394—398.
2 Сущим (to ол) Филон называет бога.
3 Ср. «духовных» и «плотских» людей \в «Павловых посланиях»,
за?
чему же Моисей говорит, что у безначального есть ноги,
руки, выходы, приходы? Зачем он заставляет его
вооружаться против врагов? Ведь он выводит его держащим
Меч, пользующимся стрелами, дуновениями, смертоносным
огнем... Почему он, кроме того, приписывает ему
человеческую ревность, страсть, гнев и тому подобные
чувства? На этот вопрос ответ такой: друзья, законодатель,
желающий дать наилучшие законы, должен ставить себе
одну цель — оказать пользу всем без различия. И те,
кому досталась в удел лучшая природа души...
посвященные в истинные тайны сущего, не приписывают ему
никаких свойств творения. К ним относится положение,
что «не как человек бог», и не как небо и не как мир,
ибо все это имеет качество и воздействует на чувство, его
же даже умом можно постичь только с точки зрения его
бытия... А люди тупые и неповоротливые по природе...
не будучи в состоянии видеть, нуждаются в
законодателях-врачах, которые бы придумали подходящее
лекарство для данной болезни... Итак, пусть все такие познают
ложь, которая пойдет им на пользу, раз они не могут
научаться посредством истины».
Экзегетика Филона не только по методу, но и по
содержанию во многом совпадает с талмудической щш-
хой. Во всяком случае классовое содержание философии
Филона, «отца христианства», не уступало по -своей
реакционности идеологии Мишны. Задача Филона — в том,
чтоб. оправдать и освятить 'социальное зло, которое он,
как и позднейшие неоплатоники, выводит из природы
«низменной» материи. Высшее божество не причастно к
злу в мире. Только «тупые и неповоротливые»,
«плотские» люди, неспособные познать бога и, преодолев ряд
ведущих к нему ступений, раствориться в нем, погрязают
во зле.
Таким образом, социальное неравенство снимается
и заменяется разницей в степени познания божества
или—по богословской терминологии — различиями в
степени греховности.
Однако если даже можно в некоторых случаях
установить точки соприкосновения между Филоном и
палестинскими авторами Мишны, то здесь мы имеем дело скорее
с случайными совпадениями, чем с прямым влиянием.
Филон относится враждебно к «софистам со слишком
высокомерно поднятыми бровями» (de somran's 102
Wenidil.), а эти «софисты», под которыми Филон подра-
333
зумевает, очевидно, «книжников», либо не знают, ди;H
игнорируют александрийского философа. Во всяком
случае в талмуде имя Филона не упоминается. В этом нет
ничего удивительного. Ведь и христианство, на создание
которого философия Филона оказала громадное влияние,
произошло, но словам Энгельса, «именно из
популяризованных филоновских представлений, а не
непосредственно из произведений самого Филона». Еще меньше мог
Филон как философ непосредственно влиять на уже
разработанное еврейское богословие. Но популяризации
Филона были одним из источников!, откуда книжники и
раввины черпали свое знакомство с вульгарной греческой
философией. """" ■-■"•--■•■•■■■——«.,
""""" Теперь можно подвести итоги тем изменениям, какие
произошли в еврейской религии в результате включения
Иудеи в сферу эллинистического мира, в результате
роста значения еврейской .диаспоры, под влиянием
изменений :в общественных .отношениях среди евреев,
вызванных развитием торгового капитала. Изменения эти
совершались неравномерно, поскольку факторы,
непосредственно производившие их, были различны. С одной
стороны—-Иудея с храмом как центральной святыней,
жрецами как хранителями «закона» и установленных им
обрядов, и книжниками, развивающими старую еврейскую
традицию, с другой 'Стороны — диаспора, синагога и
книжники, усвоившие внешне эллинистическую культуру.
Поэтому мы видим наряду с мессианизмом, имеющим
земной характер ожидания близкого воцарения над
Иудеей праведного потомка царя Давида, другой
мессианизм, где Мессия, некое трансцендентное, от века
существующее лицо, представляется спасителем человечества,
который явится «в конце времен», в день страшного
суда. При этом, как мы уже отметили, эти различные
образы мессии и эсхатологические картины его
будущего царства наполнялись в различных классовых
группировках различным классовым содержанием.
Наряду с верой в воскресение мертвых после
завершения цикла эонов в далеком будущем возникает вера в
личное бессмертие и воздаяние непосредственно после
смерти. Наконец, совместными усилиями иудейского
богословия и эллинистической философии была установлена
догма единобожия. «...Греческая вульгарная философия
вела к учению о едином боге и бессмертной
человеческой душе. Точно так же и еврейство, рационалистически
.334
вульгаризированное благодаря смешению и общению с
чужаками и полуевреями, дошло до пренебрежения
ритуальными обрядами, до превращения прежнего,
исключительно еврейского национального бога Ягве в
единственно истинного бога, творца неба и земли, и до
признания первоначально чуждого еврейству бессмертия души.
Таким"бтЗр11зТ)й, монотеистическая вульгарная философия
встретилась с вульгарной религией, которая преподнесла
ей единого бога в совершенно готовом виде» 1. «Так
возник монотеизм, бывший исторически последним
продуктом позднейшей греческой вульгарной философии и
нашедший свое воплощение в иудейском, исключительно
национальном боге Ягве» 2.
Но утвердившийся в религии евреев монотеизм
оставался несколько абстрактной догмой. «Чтобы стать
религией, монотеизм испокон века должен был делать
уступки политеизму, начиная уже с Зендавесты»3. Не
довольствуясь введением штата небесных придворных,
по образцу персидского, еврейские книжники все шире
разрабатывали ангелологию и демонологию, населив не
только небо, но и'землю и преиспбдню'ю^есчисленнными
сонмами ангелов и бесов, унаследованных и христианами.
Самый характер формирования иудейской религии
эллинистическо-римской эпохи, многообразие и
противоречивость тех факторов, которые участвовали в ее
созидании, различие в положении евреев в Иудее и в
диаспоре — все это не могло, конечно, содействовать
выработке единой стройной религиозной системы. Конечно,
характер религиозности, конкретные верования и культы
были различны в различных классах и группах населения.
Как это всегда бывает, забитые, бесправные, угнетелные
рабы, безземельные и закабаленные крестьяне в гораздо
большей степени сохранили пережитки древних культов,
выполняли гораздо больше магических обрядов и гораздо
больше надежд возлагали на помощь богОв, чем экс-
плоататорские группы. Последние в значительной мере
прониклись вульгаризированными идеями греческой
философии и легко поступались теми или иными
обрядовыми формальностями, особенно, когда это требовалось
для поддержания деловых отношений с римлянами.
1 Энгельс — Бруно Бауэр и первоначальное христианство.
Соч., XV, стр. 604.
2 Энге лье—Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, стр. 323.
3 Энгельс — К истории раннего христианства. Соч., т. XVI,
ч. II, стр. 429.
335
Но наряду с этим получались и догматические
различия в религии евреев. Несомненно, можно выделить два
основных направления, по которым шло развитие
иудаизма.
Одно из них, представленное по преимуществу
палестинскими книжниками, углубляло «закон», «ограждало»
его рядом новых обрядов и законоположений,
опиравшихся якобы на устное предание, поддерживало веру в
национального мессию и в божественную миссию
богоизбранного Израиля, подчеркивало в едином боге Ягве
его старые черты исключительно национального,
еврейского бога. Наряду с этим существовала, преимущественно
в диаспоре, тенденция к тому, чтобы смягчить строгость
«закона», упростить его обряды, объявить мессию
божественным спасителем всего человечества, нести проповедь
религии Ягве ко всем народам. В то время как первое
течение, закрепляя замкнутость и обособленность евреев
и их религии, тем самым сделало пропаганду веры в
условиях Римской империи безуспешной, из второго вы-,
росло христианство, которое своей победой обязано
было в значительной степени отказу от национальной
замкнутости и традиционных религиозных обрядов и
запретов.
Наиболее последовательными проводниками теории
обособленности еврейского народа и исключительности
его религии были фарисеи, которых источники в
отношении догматики противопоставляют саддукеям. .
8. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СРЕДИ ЕВРЕЕВ
В РИМСКУЮ ЭПОХУ
Основной источник наших сведений и о фарисеях и
саддукеях — Иосиф Флавий, который и сам примкнул к
фарисеям, как он об этом сообщает в своей
автобиографии (Vita 2). Что касается талмуда, то, если сведениям,
содержащимся в MjjnjHe, можно придавать некоторую
веру, сообщения ге"мары носят совершенно легендарный
характер.
Иосиф довольно подробно описывает три
«философские школы» иудеев: «одну образуют фарисеи, другую —
саддукеи, третью—те, которые, видно, преследуют
особенную святость, так называемые ессеи» (В. и. II 8, 2).
Эти три школы или «секты» (ihaireseis) Иосиф описывает
336
; ,)й раза. Его основные сообщения о фарисеях и
саддукеях следующие:
«Фарисеи слывут точными толкователями закона и
учредителями первой секты, они все ставят в зависимость
от судьбы (sheimarroenie) и бога и считают, что хотя боль-
щей частью от самих людей зависит поступать честно
или безчестно, но в обоих случаях содействует и судьба.
Они считают, что всякая душа бессмертна, но только
души добрых переселяются в другие тела, души же дурных
людей подвергаются (вечным мукам. Саддукеи, вторая
школа, вовсе отрицают судьбу и полагают, что бог
непричастен к дурным делам и не провидит их, а добро и
зло предоставлено людям на выбор и каждый становится
на ту или другую сторону по своему усмотрению. Бес-'
смертие души и загробные кары и награды они отрицают.
Фарисеи преданы друг другу и в согласии пекутся об
общем благе; у саддукеев же друг к другу отношения
более строгие, и они обращаются со своими
единомышленниками, как с чужими» (В. и. II 8, 14).
«В то времях существовали у евреев три секты,
которые по-разному учили о поведении людей... Фарисеи
говорят, что кое-что, но не все, является делом судьбы, а
кое-что зависит от самих людей — произойдет ли оно или
нет... Саддукеи же отрицают судьбу, отвергают ее
существование, по их мнению, дела человеческие
совершаются не по ее велению, а все зависит от нас самих,
так что мы сами являемся виновниками добра, и сами
навлекаем на себя зло своим неразумием» (Древн. XIII
5, 9).
«У иудеев с весьма древних времен существуют три
философских школы — ессеев, саддукеев и третья — так
называемые фарисеи. Мы, правда, уже сказали о них
во второй книге «Иудейской войны», однако я и здесь
коснусь их вкратце. Фарисеи относятся с пренебрежением
к жизненным благам и не предаются наслаждениям; они
следуют руководству разума в том, что он рассудил за
благо, считая желательным блюсти его указания. Они
относятся почтительно к старшим и не осмеливаются
противоречить их указаниям. Считая, что все совершается
по велению судьбы, они не отнимают у людей свободы
воли, полагая, что по решению бога происходит
смешение води божьей с волей людей, направляющее к добро-
1 Речь идет о событиях середины II в. до хр. э.
22-8 337
детели или к пороку. Они верят, что, души обладают сь
лой бессмертия, что под землей происходит суд и ра
плата за добродетель или порок, которым предавались
при жизни, — одни подвергаются вечному заточению,
другим достается возможность воскреснуть. Поэтому они
пользуются очень большим влиянием в народе, и все
священнодействия, касающиеся молитв и
жертвоприношений, совершаются согласно их толкованию. До такой
степени городские общины засвидетельствовали их
добродетель, их стремление к наилучшему в своем образе
жизни и в своем учении. По учению саддукеев, душа
уничтожается вместе с телом, они не признают ничего
лучшего кроме соблюдения законов. Они считают
похвальным, спорить против учителей мудрости, которс»
сами следуют. Это учение имеет мало сторонников -
правда, принадлежащих к высшей знати, и влияние ei
ничтожно. Поэтому, когда они занимают правительстве:
ные должности, они невольно и по необходимости пр;
соединяются к мнению фарисеев, иначе они были бы н
приемлемы для массы» (Древн. XVIII 1, 2—4).
Этим восторженным отзывам Иосифа о фарисеях пр<
тиворечит, однако, другое высказывание (Древн. XV
2, 4): «Была некая группа иудеев, которая кичилась то
ным соблюдением отечественного закона, и женская и
ловина была обольщена ими, надеясь угодить богу. Э'.
группа называется фарисеями. Они, будучи хитрыми, м
гут оказывать сильное противодействие царю и явно г
товы нападать и вредить. Когда все иудеи клятвеш
подтвердили свою верность цезарю и повиновение пост
новлениям царя, эти лица, в числе более шести тысяч ч-
ловек, отказались от присяги».
Сообщения Мишны касаются почти исключителы
разногласий между саддукеями и фарисеями в толков,* -
нии закона. Только Хаг. II 7 выделяет фарисеев как груп-
•пу, стоящую выше простого народа (ам-гаарец). Речь
идет об осквернении путем прикосновения к платью
нечистого или менее чистого: «Платье ам-гаареца — мидрас
(источник осквернения) для фарисеев; платье фарисеев —
мидрас для тех, кто ест подношение (теруму); платье
последних— мидрас для тех, кто ест святое; последние-—
мидрас для кропящих воду очистительную».
Характерные признаки школы фарисеев, отличающие
ее от школы саддукеев, сводятся, таким образом,
согласно сообщениям Иосифа, во-первых, к вере в бессмер-
338
тие_души ц загробное воздаяние. В этом вопросе точка
зрения фарисеев была точкой зрения официальной; в М.
Санг. X 1 лица, говорящие, что «нет воскресения
мертвых, не имеют удела в будущем мире», т. е. считаются
отщепенцами и приравниваются в этом смысле к
«жителям Содома». Во-вторых, фарисеи ограничивают свободу
воли человеческой, считая, что значительную роль в
поведении человека играет судьба. Между тем саддукеи
считают человеческую волю совершенно свободной.
В-третьих, фарисеи представляют собою спаянную
организацию, тогда как саддукеи враждуют между собою и
не признают авторитетов. Далее, фарисеи считали устную
традицию равноценной «закону»; саддукеи больше
придерживались буквы «закона». Фарисеи пользуются
влиянием в массах, и их толкования закона считаются
единственно правильными; -саддукеи принадлежат _к высшей
знати и в вопросах толкования закона авторитетом не
пользуются. Наконец, согласно более позднему
сообщению Деян. an. XXIII 8, саддукеи говорят, что нет
воскресения, ни ангелов, ни духа, а фарисеи признают и то
и другое.
Таюм образом, за исижлмжъетй пртаадй'гжАОС'ш
саддукеев к высшей знати, вся характеристика обеих школ
сводится к.тем или иным пунктам их религиозного
учения. При этом надо отметить, что, несмотря на
принадлежность саддукеев к знати, последние, как указывает
Иосиф, став у власти, должны были примыкать к
воззрениям более популярных в народе фарисеев.
Иосиф пытается подвести различные школы в
иудействе под ту или иную философскую школу; фарисеев он
причисдяех_к_ст£икам^ а ессеев к^ пифагорейцам (Древн.
XVТ6, ; Vita 2). Да и в ~ изложёншГучения~ фарисеев он
приписывает им веру в itieimarmene стоиков, под которой
в данном случае надо понимать, очевидно, божественное
провидение. Но это лишь литературный прием Иосифа и
отнюдь не означает, что мы имеем дело действительно с
философскими школами. Большинство буржуазных
историков, в особенности же еврейские богословы и
националисты, трактуют саддукеев и фарисеев как две
политические партии — аристократическую и демократическую.
Фарисеи, создавшие и — пока это было в их власти —
поддерживавшие жестокими мерами самую- ^шщионную
идеологию .мракобесия, объявляются истинными
друзьями народа, носителями его идeaлoвf защитниками его
22*
339
национальной самобытности и политической свободы.
К этой богословско-националистической точке зрения
примыкает и К. Каутский, называющий фарисеев
«представителями народной массы» 1.,_
Сторонники этого мнения, которое отстаивают и
апологет Элбоген2, и поповствующий еврейский историк
Дубнов3, и вся плеяда историков из сионистского лагеря,
основываются на словах Иосифа о влиянии, которым
пользовались фарисеи в народе. Но Ю. Вельгаузен
правильно указал, что делать отсюда вывод о
демократических убеждениях фарисеев — все равно, что объявлять
средневековых монахов и клир демократами; ведь и они
были весьма популярны и пользовались громадным
влиянием на массы4. Да и популярность фарисеев —
особого рода. Ненависть к фарисеям, которой проникнута
новозаветная литература, диктуется не только
религиозной распрей между христианами и иудеями. Мы видели,
что в одном месте, где Иосиф следует, поводимому,
Николаю Дамаскину (Древн. XVII 2, 4), он характеризует
фарисеев как кичливых, хитрых и зловредных. Даже в
талмуде попадаются выпады против ученых фарисеев:
«Глупый благочестивей,, хитрый нечестивец, женщина-
фарисейка и удары фарисеев губят мир»,.говорит р. Ио-
шуа в М. Сота III 4. «Р. Акиба говорит: когда я был а.м-
гаарец5, я говорил: «если бы мне попался ученый
(фарисей), я бы укусил его, как осел». Сказали ему ученики:
рабби, скажи: «как собака». Он сказал им: тот кусает и
ломает при этом кость, а эта кусает, но не ломает кости»
(Песах. 49 б). -
«Демократичность» фарисеев достаточно ясно
сказывается в их поведении и учении. Самый термин
фарисеи — евггjjerusohim, отделенные, обособленные —
свидетельствует о том, что они отгораживались от массы,
считали для себя несовместимым общение с ней. Другим
наименованием для фарисеев было cihaber, товарищ6, и
Х4£^К а у T.ci£jri й — Происхождение христианства. Стр. 243.
2 S. ЕТЪ о g е п — Die Religionsafischauunjen der Pharisaer. 1904.
3 S. Dubnow—Die Weitgeschichte des jiid. Volkes. B. II.
* J. Wellhausen — Die Pharisaer und die Sadducaer.
Hannover, 1924, S. 20.
s Акиба (приблизительно 50—130)—крупнейший таннай,
главный столп талмуда, биография которого окутана туманом легенд,
был низкого происхождения и выбился в верхи фарисейства уже
в пожилом возрасте.
8 О тожестве фарисеев и хаберов см. S с h ii г е г, II, 469 ff.
340
весьма правдоподобно предположение Шюрера, что
наименование peruschiim дали им люди из простонародья и
что в этом названии проявляется враждебность к спеси-^
вым. «ученым», «мудрецам» (ehaikamim), толкователям
«закона» и его блюстителям. Хаберы представляли,
вероятно, замкнутую организацию; на это, повидимому,
намекает Иосиф, говоря, что фарисеи преданы друг другу.
В позднейшем талмудическом сообщении (Бехор. 30 б) мы
читаем: «кто хочет принять обязательства хабера, должен
принять их в присутствии трех хаберов, даже талмид-
хахам1 должен принять в присутствии трех хаберов».
Обязательства4 заключались в строжайшем соблюдении
ритуальной чистоты. И вот на этой почве создается
совершенно исключительная обособленность хаберов,
свидетельствующая о глубочайшем презрении этих
«представителей народа» к простонародью, ам-гаарец.
Презрение к ам-гаа'рёц — крестьянам, ремесленникам,
торговцам—свойственно было всем книжникам. Еще у
Сираха оно выражено вполне отчетливо:
«Как может сделаться мудоым тот, кто правит плугом
и хвалится тем, что владеет бичом, гоняет волов и занят
их работами и который беседует с молодыми волами.
Ум его занят тем, чтоб проводить борозды, и
неустанная забота его о корме для телиц.
Так и всякий плотник и зодчий, который и ночью
работает, как днем, и тот, кто занимается резьбой на
перстнях и прилежно наносит на них пестрые изображения,
кто устремляет свою мысль к тому, чтобы сделать
изображение похожим, и неустанно заботится о том, чтобы
окончить дело в совершенстве.
Так и кузнец, который сидит близ наковальни и
рассматривает железные орудия. Дым от огня иссушает его
тело, его изнуряет жар пылающего горна, шум молота
оглушает его ухо, и глаза его прикованы к модели
сосуда. Он устремляет свою мысль к тому, чтоб закончить
свои произведения, и неустанно заботится о том, чтоб
отделать их, когда они готовы.
- Так и горшечник, который сидит над своим делом и
ногами вертит колесо, который постоянно в заботе о
деле своем и чья вся забота вращается вокруг
подлежащего сдаче количества.
1 Талмид-хахам, собственно «ученик мудреца», — обичйое В
талмуде ополячение выдающегося законоучителя, рзивина, книж'
НИМ,
§41
Рукой он дает форму глине, а ногами смягчает ее
жесткость. Он устремляет свою мысль к тому, чтобы
закончить обмазку, и неустанно заботится о том, чтобы
очистить печь.
Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется
в своем деле.
Без них город не строится, и, если они живут (даже)
в чужом городе, им не приходится голодать.
Однакоже они в собрание народное не приглашаются
и не выделяются на собраниях общины, они не
разбираются в завете закона и не сидят на стуле судейском. Они
не произносят оправдания и осуждения и не занимаются
мудрыми притчами» (XXXVIII 25—33).
Но «хаберы», считавшие себя солью земли,
единственными достойными звания представителей
богоизбранного народа, пошли гораздо дальше. Ам-гаарец для них —
нечто нечистое, от которого ""надо держаться подальше.
Мы уже видели, что платье ам-гаареца для фарисея —
мидрас, источник нечистоты, «Кто берет на себя быть
хабером, не должен продавать ам-гаарецу ни влажного,
ни сухого, не должен покупать у него влажного, не
должен к нему ходить в гости, ни принимать его у себя г
его платье» (М. Деман II 3). «Дочь или жена ам-гаареца
выходя за хабера, а также раб ам-гаареца, проданньп;
хаберу, обязаны принять на себя хаберство тотчас же
дочь или жена хабера, выходя за ам-гаареца, а также
раб хабера, проданный ам-гаарецу, считаются в прежнее
состоянии, пока не заподозрены (в нарушении правил
хаберства). Р. Симон бен-Элеазар говорит: они обязаны
принять на себя хаберство вторично» (Тос. Демаи II, 16).
«Жена хабера может одолжать жене ам-гаареца сито и
решето, может помогать ей просевать, молоть- и
встряхивать, но лишь только в муку влита вода1, как всякая
помощь жене ам-гаареца запрещается, ибо не
позволяется помогать грешникам. Впрочем и первое дозволено
только для поддержания мира» (М. Гитт V 9 = Шебиил
V 9).
«Шесть вещей сказали об ам-гаареце: им не дают сви
детельства и не принимают их свидетельства, не откры
вают им тайны, не назначают их опекунами- над сиротами
не назначают их наблюдателями за кружкой благотвори
1 Тесто, по талмудическим воззрениям, «восприимчиво» к
нечистоте' больше, чем мука.
342
тедьности, не составляют с ними компании в дороге.
А некоторые говорят также, что об их потерях не делают
объявления» (Песах. 49 б). «Пусть всегда человек продаст
все, что у него есть, и возьмет в жены дочь талмид-ха-
хама; не нашел он дочери талмид-хахама, пусть возьмет
дочь великих мира; не нашел дочери великих мира, пусть
возьмет дочь главарей синагоги; не нашел дочери
главарей синагоги, пусть возьмет дочь казначеев
благотворительности; не нашел дочери казначеев
благотворительности, пусть возьмет дочь учителей маленьких детей, но
пусть не берет дочери ам-гаарец, ибо они — мерзость, их
жены — гады, а об их до*черях сказано: «проклят, кто
ляжет со скотом» (Второз. XXVII 21)... Сказал р. Элеа-
зар: ам-гаареца разрешается убить в судный день,
выпавший в субботу... Сказал р. Иоанн: ам-гаареца можно
разодрать, как рыбу» (Песах. 49 б).
Неудивительно, что при всем почтении, которое
внушали фарисеи и талмид-хахамы массам, находившимся во
власти религиозного дурмана, ам-гаарец питали к этим
спесивым ханжам жгучую ненависть. «Р. Элеазар говорит:
если"бьТ НБПш ■* не нужны были для деловых
отношений, они бы нас убили». «Велика ненависть ам-гаарец к
талмид-хахамам, больше, чем ненависть, которою
язычники ненавидят израильтян, а их жены — еще больше,
чем они» (Песах. 49 б).
Характерно, как фарисеи, эти якобы «вожди и
представители народа», вели себя во время восстания 66—70 гг.
Когда народные массы, доведенные до отчаяния
неслыханным грабежом со стороны римских прокураторов и
собственных эксплоататоров, восстали, фарисеи всячески
старались подавить национально-освободительное
движение. Несомненно, религиозный фанатизм толкал и
фарисейски настроенные элементы на путь восстания против
римлян, и среди агитаторов, призывавших к оружию,
встречались, надо полагать, и рядовые фарисеи. Но
руководители фарисеев, забыв свой вековечный спор с
саддукеями, объединились с ними для совместного
подавления восстания, которое грозило превратиться в
революцию. «Ввиду серьезного и опасного характера движения
представители властей, первосвященники и знатнейшие
фарисеи собрались вместе для совещания о положении
дел. Решено было попытаться урезонить недовольных
1 Ам-гаарец.
Ь'43
добрыми словами» (Иосиф, В. и. II 17, 3). Фарисеи, столь
ревностно оберегавшие свою святость, поступились по
этому случаю своими принципами и стали доказывать
законность принесения жертвы за- императора и приема
храмом даров от язычников. А когда восстание все-таки
началось и повстанцы «заставили перейти-на свою
сторону находившихся еще в городе римских друзей»,
коалиция из саддукеев, фарисеев и римских ставленников
умышленно назначила полководцами для ведения войны
таких людей, которые Способны были только провалить
дело. В числе их оказался и фарисей Иосиф Флавий,
который предал порученное ему дело и перешел на сторону
римлян. Зато в полководцы вовсе не попал фактический
вождь восстания Элеазар бен-Симон, а один из
инициаторов восстания Элеазар бен-Анания был удален из
Иерусалима под благовидным предлогом назначения его
на пост военачальника незначительной провинции Иду-;
меи (В. и. II 20, 3).
Когда положением овладели фанатичные «ревнители»,
зелоты, а сикарии, занявшие укрепленную позицию в
Иерусалиме, превратили восстание в гражданскую войну,
фарисеи вступили в фактический союз со своими врагами
саддукеями. «Влиятельнейшие мужи», во главе с
знаменитым фарисеем, одним из столпов талмуда, Симоном
бен-Гамлиил, «разжигали народ в собраниях и речах,
обращенных к определенным личностям, и побуждали их
наказать, наконец, губителей свободы и очистить
святилище от кровопийц. И самые уважаемые из
первосвященников, Иосиф, сын Гамалы, и Анан, сын Анапа,
открыто упрекали народ в бездеятельности и подстрекали
его против зелотов» (Иосиф, В. и. IV 3, 10). Фарисеи вели
себя так же, как их предшественники хасидеи во время
маккавейского восстания: почуяв, что восстание грозит
превратиться в социальную революцию, они без
колебаний перешли на сторону язычников, «врагов Ягве и ос-
квеонителей его храма».
Когда дело дошло до классовых битв, деление пошло
не по религиозному принципу. В эпоху восстания 66—
70 гг. распри между фарисеями и саддукеями были
забыты, партии образовались по классовому признаку.
Таких партий можно, по данным Иосифа, выделить три.
Высшие чиновники, богатые рабовладельцы и торговцы,
первосвященники и с ними все жречество, фарисеи—■
руководители ешпд-нтна и главари синагог, ш% те <?св*
544
бялюбивые мерзавцы», по выражению Энгельса, которые-
так или иначе приспособились к римскому гнету и даже
извлекали из него выгоду для себя, — все они
объединились в одну «партию мира». Им не было интереса
порывать с Римом; тяжесть римского ига они перекладывали
на плечи трудящихся, а римские гарнизоны служили для
них защитой против недовольства масс.
Другую партию, составлявшую ядро восстания,
образовали зелоты *. В вопросах религиозных они всецело
примыкали к "фарисеям. Иосиф, по своему обыкновению,
называет и зелотов философской школой, но дает им
только политическую характеристику: «Приверженць1
этой секты во всем прочем вполне примыкают к
фарисеям. Зато у них замечается ничем не сдерживаемая
любовь к свободе. Единственным руководителем и
владыкой своим они считают бога 2. Итти на смерть они
считают пустяком, равно как презирают смерть друзей и
родственников, лишь бы не признавать над собою главенства
человека... Народ стал страдать от безумного увлечения
ими при Гессии Флоре 3, который был наместником и
Довел иудеев злоупотреблением своей властью до восстания
против римлян» (Доевн. XVIII 1, 1). Хотя Иосиф
называет основателем «секты» зелотов Иуду Галилеянина,
главу иудейских партизан, действовавших против Рима в
6—7 гг., но партия эта, невидимому, существовала уже в
начале правления Ирода I, который долго вел упорную
борьбу с «разбойниками», не желавшими признавать ни
власти Рима, ни власти Ирода.
По тем разрозненным и искаженным данным, которые
приводит личный враг зелотов Иосиф, зелоты
вербовались из среды мелких торговцев, ремесленников и
крестьян, которые разорялись и собственными ростовщиками
и римскими грабителями,, но особенно чувствительно
всегда реагировали на ничем не завуалированное римское
иго. Эти разрозненные элементы неспособны были к
организованным действиям и не могли выработать себе
1 «Зелот» — греческий перевод еврейского термина qanai —
ревнитель.
2 Ср. В. и. II, S, 1: «В его правлееие (т. е. в правление проку,
ратора Колония, 6—9 гг.) один известный гагалеянин, по имени
Иуда, объявил позором то, что иудеи мирятся с положением
римских данников и признают владыками, кроме бога, еще смертных
людей».
&&Ц
ясную политическую программу. Их смутные
политические настроения получали религиозное выражение;
зелоты смотрели на себя как на ревнителей веры, они
геройски умирали во имя бога и только уже в процессе
самого восстания они убедились, что им с
первосвященниками, придворной знатью и богачами не по пути. Но
их ослеплял религиозный фанатизм, и даже возгорев- ►
шаяся между партиями во время осады Иерусалима
междоусобная вооруженная борьба не помогла им
осознать свои классовые цели и задачи.
Наконец, третья партия, которую Иосиф презрительно
называет сикариями, вербовалась из рабов и беднейшего
крестьянства. Сикарии боролись против эксплоататорских
классов стихийно, и шансов на решительную победу у
них не было.
Фарисеи не были политической партией и не
представляли интересов народных масс, но они были творцами и
досите^щ^_р_елигиозной идеологии, выросшей в среде
мелких землевладельцев, купцов и ремесленников на
почве бессилия против разлагающего влияния торгового и
ростовщического капитала, против нивелирующей силы
Римской империи. Эти средние социальные группы
страдали от ига римлян и от собственных ростовщиков,
крупных купцов и дворцовой знати. Но к борьбе они были
неспособны. Фарисейство было формой пассивного
сопротивления этим гнетущим силам. Оно призывало массы к
тому, чтобы глубже замкнуться в национальные рамки,
усилить свою религиозную обособленность (в частности,
особо тщательное соблюдение пищевых запретов,
субботних ограничений и ритуальной чистоты)- Оно пропове-
дывало бессмертие души и воздаяние за гробом, внушало
мессианские и эсхатологические чаяния, прививало веру
в божественное провидение. Приспособляя «закон» к
новым условиям жизни в Иудее и диаспоре путем
хитроумного его толкования и окружив его бесчисленными
новыми законоположениями и запретами, основанными
якобы на «устном предании», фарисеи создали
зафиксированное; 'впоследствии в. тал^д^фаёмиское^чёнйе». Они
таким образом на долгие века законсервировали религию,
которая, как и христианство, оказалась вполне пригодной
в качестве опиума народа, в качестве опоры
эксплоататорских классов; она поэтому сумела без существенных
изменений в своей догматике просуществовать до нашего
времени.
346
В противоположность фарисеям саддукеи1 бывшие
идеологами кучки иерусалимской знати, чиновной,
ростовщической и жреческой, непосредственно связанные с
храмом, с. его казной и его культом, охотно усваивали
греко-римскую культуру, но были консерваторами в
вопросах культа. Он», естественно, были заинтересованы в
сохранении «закона» в таком виде, как он был
зафиксирован в Жреческом кодексе. Загробное воздаяние и
будущее пришествие мессии были несовместимы с храмом
как оплотом Израиля и жертвами как единственным
средством искупления греха. Вместо иерократии, фактически
прекратившейся со времени Хасмонеев, фарисеи строили
теократию; саддукеи пытались примирить старые идеи
иерократии с господством светской власти. Фарисеи
стремились превратить каждого верующего в отправителя
культа в синагоге, саддукеи были заинтересованы в
сохранении резкой лепроходимой грани между клиром и веру--
ющими. Саддукеи были идеологами иудейской знати в
конкретных условиях существования более или менее
автономной Иудеи с центральным единым' храмом
Ягве в Иерусалиме. Поэтому после разрушения храма
саддукеи немедленно исчезают со сцены, и фарисеи, ха-
беры, талмид-хахамы, раввины остаются единственными
господами положения.
В качестве третьей «философской школы» наряду с
фарисеями и саддукеями Иосиф Флавий называет ессеев 2,
которых он описывает очень подробно (В. и. II 8, 2—13,
Древн. XVIII 1 5). Довольно подробно говорит об еосеях
и Филон (Quod otmniiis probus lilber II 458—459 Mang., а
также II 632—633 Маше:.). 'В отличие от других школ ессеи в
изображении Иосифа и особенно Филона, представляли
собою как-будто монашеский орден. «По существующему
у них правилу, всякий присоединяющийся к секте дол-
*. Сведения о саддукеях еще более скудны и легендарны, чем
о фарисеях. Судя по этимологии этого слова, школа названа по
имени какого-то Садока или Саддука, о котором ничего неизвестно.'
Мнение ряда ученых, что саддукеи, как первосвященники, назвали
себя по имени древнего первосвященника Садока, основано лини
на весьма шатких предположениях.
2 Так называет их Филон. У Иосифа термин «ессеи»
чередуется с термином «ессеиы»; Плиний называет их esseni.
Происхождение этого слова в точности неизвестно. Наиболее
правдоподобно объяснение Эвальда и др., считающих, что оно произошло
от сирийского hesse (праведный); множ. число этого слова hessen.
а в status constructus—hessaia, откуда и образовались формы
essenoi и essaioi.
347
жен уступить свое состояние общине... все, как братья,
владеют одним общим состоянием, образующимся от
соединения в одно целое отдельных имуществ каждого из
них» (В. и. II 8, 3). «Приезжающие из других мест члены
ордена могут располагать всем, что находится у их
братьев, как своей собственностью... Друг другу они ничего
не продают и друг у друга ничего не покупают, а каждый
из своего дает другому то, что тому нужно, равно как
получает у товарища все, в чем сам нуждается» (И 8, 4).
«У них одна казна у всех и одни расходы, общее платье
и общая еда на сов!местных трапезах. Принцип
общности жилища, быта и стола вряд ли можно найти у кого-
либо другого лучше утвержденным на деле (Филон, Qu.
•от. р,г. 1. II 458 Mang.). От поступающих в секту
требовался длительный искус, а внутри секты установлена
строгая иерархия. «Они делятся на четыре класса; причем
младЗЯё 'члены так далеко отстоят от старших, что
последние, при прикосновении к ним первых, умывают свое
тело точно их осквернил чужеземец» (В. и. Й 8, 10). Ессеи
очень строго блюли ритуальную чистоту, совершая
омовения множество раз в день по всякому случаю. В
отношении соблюдения субботы они требовали большей
строгости даже, чем фарисеи. Отвергая в принципе
жертвоприношения, они, однако, посылали храму свои
пожертвования. «Своеобразен их обряд богослужения. До
восхода солнца они воздерживаются от всякой обыкновенной
речи *, а тогда они обращаются к солнцу с некоторыми
древними по происхождению молитвами... После этого
старейшины отпускают их, каждого к его занятиям.
Поработав усердно до пятого часа, они опять собираются в
определенном месте, опоясываются холщевьш платком и
умывают себе тело холодной водой. По окончании
очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда
лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и.
очищенные, входят в столо'вую, словно в святилище. Здесь
они в строжайшей тишине усаживаются вокруг стола,
после чего пекарь раздает всем по порядку хлеб, а повар
ставит каждому посуду с одним единственным блюдом.
Священник открывает трапезу молитвой, до которой
никто не должен притронуться к пище; после трапезы он
опять читает молитву... Сложив с себя затем свои одеяния,
* ЙмеЮт'СЯ к йяду dihr<?.i dml, t, р Гчмгоипры на светекпр теМьь
■■ ЖИГбЙёКИК МЛШ,
т
как священные, они снова направляются на работу, где
остаются до сумерек; тогда они опять возвращаются и
едят тем же порядком» (В. и. П 8, 5). Ессеи верили в
бессмертие души; «они считают его средством для
поощрения к добродетели и предостережения от порока» (В. и.
II 8, 21). «Вступающий в общину давал клятву верности
общине и в особенности правительству, так как всякая
власть исходит от бога» (II 8, 7). Не ясно отношение
ессеев к браку. И Филон, и Иосиф, и Плиний (N. Н. V 17:
sine u#a famine) говорят о полном безбрачии ессеев.
Однако в одном месте (В. и. II 8, 13) Иосиф говорит об
одной ветви ессеев, которые признавали брак, так как иначе
«все человечество- вымерло бы в самое короткое время».
Но они «испытывают своих невест в течение трех лет, и,
если после трехкратного очищения убеждаются в их
плодородности, они женятся на них». Такие «испытания»
предполагают некоторый промискуитет. Такое сочетание
аскетизма с половой распуЩШгю;стью, по замечанию
Энгельса, — «явление, общее всем эпохам глубоких
потрясений, а именно, что нараду со всеми другими
преградами расшатываются и традиционные узы половых
связей» Ч
Занимались ессеи земледелием, ремеслами, но не
торговлей. Рабов они не держали. По сообщению Филона
(II 457 Mang.), они жили в деревнях, избегали городов; но
в другом месте (II 632 Mang.) он утверждает, что они
«живут во многих городах Иудеи». Иосиф пишет: «они не
имеют своего отдельного рода, а живут (везде большими
общинами» (В. и. II 8, 4), а в Иерусалиме существовали
«ессенские ворота» (В. и. V 2, 4). Филон насчитывает для
своего времени 4 000 ессеев (II 457 Mang.), а эту цифру
повторяет за ним Иосиф (Древн. XVIII 1, 5).
Иосиф, по своему обыкновению, подводит и ессеев под
греческую философскую школу — он считает их
пифагорейцами (Древн. XVIII 1, 4). Гораздо ближе к пониманию
сущности религиозной секты ессеев Плиний, который в
своем случайном упоминании о них говорит: «Каждый
день одинаково восстанавливается (естественная убыль
секты) благодаря притоку новообращенных, так как к ним
широкой волной вливаются люди, которых толкает к их
карьере усталость от жизни и превратность судьбы» (N.
Н. V 17). Уходе монашеский орден был средством бегства
1 К истории раннего христианства. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 421.
349
от жизни и ее трудностей. Элементы, которые уходили к
ессеям, принадлежали, невидимому, к более или менее
обеспеченному крестьянству и ремесленникам; их доходов
и заработков вполне хватало не только на сытую жизнь,
но и на содержание общинных учреждений, на
пожертвования храму, на благотворительность. Иосиф ясно
указывает, что производство у ессеев было индивидуальное,,
но и в области потребления картина полного коммунизма,
которую рисует у ессеев Филон, не подтверждается
Иосифом. Иосиф лишь подчеркивает наличие у них общинной
кассы (а это имело место у всех религиозных обществ
и товариществ) и общность ритуальных трапез. В
остальном изложение у Иосифа неясно и дает повод
предполагать, что равенство внутри общины не исключает
имущественного неравенства членов ее в частной жизни.
«Имущество у них общее, а богач пользуется у них не
большим, чем ничего не имеющий,бедняк» (Древн. XVIII I ,1,
5). Во всяком случае ессеи, когда представлялась
возможность, не отказывались от власти. Не говоря о делении на
4 класса внутри общины, ессеи, повидимому, не
отрешались от участия в политической жизни. Вступающий в
общину приносил клятву, что «если он сам будет
пользоваться властью, то... не будет стремиться затмевать своих
подчиненных ни одеждой, ни блеском украшений» (В. и.
II 8, 7). В числе военачальников, назначенных партией
мира со специальной целью провалить восстание против
Рима, значится и ессей Иоанн (В. и. II 20, 4); кандидатура
эта была вполне подходящей, так как ессеи были
принципиально лойяльными верноподданными.
Таким образом, «коммунизм» ессеев носил
реакционный характер; объединяя умеренные элементы, которые
пытались бежать от тяжелой жизненной борьбы в область
крайнего религиозного фанатизма, ессеи создали
организацию монашеского типа, где аскетизм (довольно
умеренный), строгая ритуальная чистота и благочестие должны
были обеспечить немедленную награду после смерти и
укрыть от житейских бурь в настоящем. Но эти
реакционные мечтания оказались нежизненными, и уже в IV в.
ессеи бесследно исчезают.
Разгром восстания 66—70 гг. и последовавшие затем
жестокие репрессии, массовые казни захваченных
участников восстания и продажа в рабство многих десятков
тысяч пленных и мирного населения надолго истощили-
силы Иудеи. Когда в 116—117 гг. вспыхнуло восстание
350
евреев 6 Вавилонии, Ливии, Египте, Кирене и на Кипре,
Иудея активного участия не приняла в нем. Восстание это.
в котором обе стороны проявили неслыханную
ожесточенность (по словам Диона Кассия, обе стороны понесли
сотни тысяч жертв), кончилось поражением и чуть не
поголовным истреблением повстанцев. Наконец, восстание в
Иудее 132—135 гг. под предводительством Бар-Кохбы,
оживившее было надежды на восстановление
независимости Иудеи, было последней серьезной вспышкой,
показавшей беспочвенность мечтаний о свержении
римского ига.
О восстании под предводительством' Симона
Бар-Кохбы (=«Сын звезды», прозвище, переделанное из Бар-
Козибы, что впоследствии стали толковать как «сын лжи»)
у нас имеется мало надежных данных. Талмудисты и
христианские отцы церкви окружили это восстание сетью
легенд, й которых трудно отделить истину от лжи, а
историки (особенно Дион Кассий и Аппиан) сообщают о нем
чрезвычайно мало. Восстание носило национальный
характер с чертами мессианизма. Монеты, выпущенные
Бар-Кохбой, имеют надпись «К свободе Израиля» или «К
свободе Иерусалима». Христиане, проповедывавшие
отказ от борьбы на земде~"в'"«Шйнйи благ небесных, к
восстанию не примкнули и, по сообщениям Юстина (Апол.
I 31), Евсевия (Хрон. 2, 158) и других церковников,
подверглись за это преследованиям со -стороны Бар-
Кохбы.
Вначале восстание шло успешно, и римский
полководец Руф потерпел ряд поражений. Восстание с трудом
было подавлено вызванным из Британии Юлием
Севером. Последнее убежище Бар-Кохбы — Бетер — было
взято после упорного сопротивления, повстанцы, в том числе
их вождь, были перебиты. Место, на котором стоял
иерусалимский храм, было перепахано (символ унижения), а
сам Иерусалим превращен в римскую колонию под
названием Элия Капитолина (это название сохранилось на
монетах). Страна была подвергнута систематическому
разорению. По сообщению Диона Кассия (LXIX 14), было
уничтожено 50 крепостей и 985 селений. В боях, от голода и
болезней погибла значительная часть населения Иудеи (по
явно преувеличенным сообщениям Диона Кассия было
убито 580 тысяч чел.). В рабство было продано столько
пленных, что цена их резко упала и многих пришлось
отправить для продажи на рынки Финикии и Египта.
35!
9. ИУДЕЯ ПОСЛЕ ВОССТАНИЙ 1—II вв. ТАЛМУД
Ужасные опустошения, причиненные восстаниями и
последующими жестокими расправами, довели массы
евреев до полного отчаяния и создали благоприятную
почву для усиления религиозности. Законоучители-фарисеи,
или, как они себя гордо называли, щввины _("«господа»),
при этих условиях легко сумели прибрать к рукам ту
массу евреев, которая не растворилась в окружающем
населении. Если трудящиеся искали в раввинской проповеди
утешения от жизненных тягот, то и торговцы, и крупные
землевладельцы видели в раввинах и основанных ими
религиозных школах ту организацию, которая должна была
заменить утраченную политическую самостоятельность.
Римское правительство охотно предоставляло известные
права и привилегии раввинским" организациям, которые
всегда проявляли свою лойяльность к власти
предержащей.
Иоанн бен-Заккай, которого еврейские националисты
и богословы доныне превозносят как величайший «светоч
Израиля, спасший еврейскую нацию от гибели», во время
восстания 66—70 гг. играл, согласно талмудическим
преданиям, роль шпиона и предателя. Бежав тайком в лагерь
Тита, он добился разрешения открыть в Явне, на берегу
Средиземного моря, религиозную школу, ставшую
центром распространения влияния раввинов. Впоследствии
такие «академии» были в Лидде, Сепфорисе, Уше и Тиве-
риаде.
Глава академии, присвоивший себе пышный титул
«наси» (князь), или патриарха, вместе с им же
назначенным синедрионом выполнял судебные функции по
гражданским делаЖ™ руководил всеми делами общины и
считался духовным главой всех евреев. Его положение было
признано и римскими властями.
Христианские императоры относились к евреям
враждебно. "Уже император Константин, будучи «язычником»,
издал декрет 18 октября 315 г. «в защиту христианской
веры» против еврейской пропаганды. «Мы желаем
довести до сведения иудеев, их старшин и патриотов, что если
кто после издания настоящего закона осмелится напасть,
как это, по нашим сведениям, теперь бывает, с камнями
или другими выражениями ярости на того, кто бежал от
гибельной секты и обратился к почитанию бога, он будет
352
немедленно предан огню и сожжен вместе со всеми
своими сообщниками. А если кто из .народа примкнет к их
нечестивой секте и вступит в их общины, он подвергнется
вместе с ними заслуженной каре» (Cod. Theod. XVI 8, 1;
ср. Cod. Th. XVI 8, 5, 6, 7, 18). Евреи были лишены права
занимать должности в армии (Cod. Tih. XVI 8, 24). У
синагог было отнято право убежища (Cod. lust. I, 9, 4).
Евреям было запрещено иметь рабов христиан (Cod. Tih.
XVI 9, Cod. lust. I 10), запрещено жениться на христианках
(Cadi Tih. XVI 8, 6). Однако христианские императоры
признавали еврейскую религию законной. В декрете от 29
сент. 393 г. императоры Феодосии, Аркадий и Гонорий
пишут: «Известно, что секта иудеев никаким законом не
запрещена. Мы поэтому сильно огорчены, что в
некоторых местах их общины запрещены» (Cod. Tih. XVI 8, 9).
Так как ретивые чиновники, попы и монахи, разжигая
национальную и религиозную рознь, сжигали синагоги,
конфисковали их имущество и громили еврейские общины,
императоры издавали указы, запрещающие сжигать
синагоги и требующие возвращения отнятого имущества,,
если оно тем временем не обращено в пользу церкви (Cod.'
Tih. XVI 8, 25, 21). Мало того, декреты императоров
считаются с празднованием субботы и предписывают в суб-'
боту не вызывать евреев в официальные учреждения, не
обращаться к ним со взысканиями, так как «для этого
достаточно остальных дней недели» (Cod. lust. I 9,, 13;
Cod. Th. II 8, 26; VIII 8, 8; XVI 8', 20)-
Но если иудейскую религию римское правительство
только терпело, не скрывая своего враждебного
отношения к ней, то к еврейскому клиру оно проявляло особую
заботливость и почтение. Классовые интересы эксплоята-
торов, которые охраняло римское правительство,
диктовали ему союз с еврейским духовенством, также
служившим опорой эксплоатации. Декрет императора
Константина от 29 ноября 330 г. гласит: «Кто в набожности своей
всецело отдались работе патриарха или пресвитера
синагоги иудеев и, пребывая в упомянутой секте, руководят
самим законом, пусть остаются свободными от всех, как
личных, так и общественных, повинностей. Пусть те,
которые случайно уже декурионы, ни в каком случае не
назначаются на какие бы то ни было передвижения, так как
такого рода люди никоим образом не должны быть
принуждаемы удаляться из того места, где они находятся.
А те, которые не принадлежат к куриалам, пусть будут
23-&
353
всегда свободны от декурионата» * (Cod. Th. XVI 8, 2;
ст. 3). В следующем году Константин снова предписал,
«чтобы священники, архисинагоги и старосты (patres)
синагог и прочие служащие синагоги были свободны от
всякой личной повинности» (God. Th. XVI 8, 4). Императоры
Аркадий и Гонорий декретом от 1 июня 397 г.
устанавливают: «Пусть евреи остаются верны своим обрядам: мы
между тем в вопросе о соблюдении их привилегий
последуем примеру наших предшественников, решениями
которых определено, чтобы тем, кто находится под началом
превосходительных патриархов, •— архисинагогам,
патриархам, пресвитерам и прочим священнослужителям этой
религии—были оставлены в силу нашей божественной
воли (nuttt noistri 1штмш) те привилегии, которые
распространяются в силу святости на высших клириков
достопочтенной христианской веры. Это ведь -по божественному
внушению установили божественные (dim) государи
Константин и Констанций, Валентиниан и Валент. Пусть они
будут также свободны от несения должности куриалов и
повинуются своим законам» (Cod. Tin. XVI 8, 13). В 404 г,
эти императоры вновь подтвердили свой декрет (Cod. Th.
XVI 8, 15). Оскорбление патриарха признано было
государственным преступлением: «Если кто осмелится
публично сделать оскорбительное замечание о
превосходительных патриархах, пусть.ой будет подвергнут карательному
приговору» (Cod. Tin. XVI 8, И). Закон признавал и
юрисдикцию патриархов по гражданским делам евреев. «Евреи,,
живущие на основании общего римского права, должны
по всем делам, касающимся как их суеверия, так и
форума 2, законов и прав, обращаться в обычном порядке
к суду и предъявлять и возбуждать иски по римским
законам. Но если кто из них по взаимному соглашению
найдут нужным дждть^я •—только по гражданскому делу —
перед арбитрами иудеев 3, то пусть им не будет
запрещено принимать их решение- Пусть судьи также выполняют
их приговоры, как если бы они были вынесены
официальным судьей» (Cod. lust. I 9, 8; ср. Cod. Th. II 1, 10).
1 Выполнение государственных или муниципальных функций в
должности декуриона или куриала было в Римской империи того
времени повинностью и притом довольно тяжелой.
2 В кодексе Феодосия редакция изменена: «Не столько их
суеверия, сколько...»
' В кодексе Феодосия прибавлено: «или патриархами, по
соглашению сторон».
Ь54
Патриархи через своих «апостолов» собирали в свою
пользу взносы с еврейских общин, даже самых дальних.
В своем послании к «еврейскому обществу» (to koino.n ton
iuidaion) император Юлиан., пишет между прочим:
«Заботясь о повышений вашего "благосостояния, я убедил брата
Иула, почтеннейшего патриарха, отменить так называемый
у вас «апостольный сбор» (apostolen), чтобы впредь не
обижали вашей массы взысканием такого рода взносов»1.
Но патриарх, повидимому, не отказался от своих
доходов. Иероним (in Gal. I 1 = PL 26, 311) пишет, что еще в
его время (hodie) патриархи рассылали таких
апостолов. В декрете Аркадия и Гонория от 11 апреля 399 г. мы
читаем: «Недостойным суеверием установлено, что в
определенное время патриархи направляют иудейских архиси-
нагогов, пресвитеров или тех, кого они называют
апостолами, для взыскания золота и серебра; взысканную и
полученную от отдельных синагог сумму они отдают ему.
Поэтому все, что по нашим соображениям, принимая во
внимание срок, собрано, мы предписываем направить в
нашу казну; и впредь мы предписываем названному выше
(патриарху) ничего не посылать. Итак, пусть знают
народы, что мы отменили этот вид ограбления иудеев. И
если этим грабителем иудеев будут направлены люди для
выполнения этого взыскания, пусть они будут
представлены судьям с тем, чтобы о них вынесли приговор как
о нарушителях наших законов» (Cod. Th. XVI 8, 14).
-Однако вскоре те же императоры отменили свое
решение. По всей вероятности, патриарх нажал нужные
пружины, и уже в 404 г.. Аркадий и Гоноркй издают два
декрета в пользу патриархов. В первом они подтверждают,
что «все привилегии, которые блаженной памяти отец наш
и предшествующие государи предоставили почтенным
патриархам и тем, кого последние поставили над прочими,
сохраняют силу» (Cod. Th. XVI 8, 15). Второй декрет еще
красноречивее: «Недавно мы приказали, чтобы то, что по
обычаю иудеев давалось патриархам, не давалось. Ныне
же, отменив первый указ, мы согласно установленным
прежними государями привилегиям доводим до всеобщего
сведения, что иудеям наша милость предоставляет
возможность посылать (взносы)» (Cad. Th. XVI 8, 17).
Пользуясь своими привилегиями, патриархи стали за-
1 Цит. по Th. ReJnach — Textes d'auteurs grecs et remains.
Nr. 118. Упоминаемый в послании Иул, вероятно, — Гиллел П.
рываться; патриарх Гамалиил VI, занимая, помимо патри-
"архата,* еще государственную должность префекта,
злоупотребил своим положением. Указом императоров Го-
нория и Феодосия от 20 октября 415 г. Гамалиил был
смещен, возвращен в то состояние, «в каком был до
префектуры», и ограничен в правах. После Гамалиила патриархи
в Палестине больше не назначались. Но это не освободило
евреев от взноса в их пользу. Указом 30 мая 429 г.
императоры Феодосии и Валентиниан распорядились, чтобы
сбор в пользу патриархов продолжал неуклонно
взыскиваться ежегодно в прежнем размере и чтобы главари
иудеев под свою ответственность вносили полученные
деньги в казну (Cod. lust. I 9, |17; ■Cad. 'flh. XVI 8, 29).
Звание патриарха было наследственным внутри
нескольких семейств, которые так или иначе возводили свой
род не более и не менее как «к царю Давиду».
В академиях, которые возглавляли патриархи,
продолжалось то же толкование" «закона*-, которое практиковали
до того книжники и фарисеи в синагогах и школах. Здесь
«талмид-хахамы» комментировали и развивали ранее
установленные «галахи»* и создавали новые. Здесь же
началась работа по приведению галах в систему.
Долгое время галах не записывали, а сохранялись они
путем устной традиции. Одним из древнейших сводов
галах был сборник р. Акибы, упоминаемый у Епифания
(Наег. 33, 9; 15). Составление того свода галах, который
дошел до нас под имёнед^Щиишы» («повторение»
закона, греч. deuterosiis), приписывается патриарху Иуде
(начало III в.). Однако Мишна подвергалась изменениям и
дополнениям и после смерти Иуды. В основном датой ее
составления можно считать прибл. 220.Г.
Мишна вскоре стала в свою очередь таким же
предметом толкования, каким для нее самой был «Моисеев
закон». Толкования на мишну получили название «Гемара».
Авторы мишны называются «таннаи», авторы Гемары —•
«амореи».
Соединение Мишны и Гемары, т. е. галах и их
позднейших толкований, составляет Талмуд.
Палестинский талмуд в нынешней его редакции был
закончен в начале V в. Но первое место как религиозно-
>аконодательный кодекс занял талмуд вавилонский?"
1 «Галаха» означает «законоположение» в отличие от «агады»,
означающей просто толкование текста, чисто экзегетическое.
356
О положении евреев в Вавилонии после
восстановления иерусалимского храма в VI в. до хр. э. сведений нет,
если не считать средневековой хроники «Seder olam zuta»,
где дана легендарная генеалогия еврейских «князей» в
Вавилонии от иудейского царя Иоахина (II Цар. XXV 27 ел.)
до некоего Хацуба, накануне арабского периода. Впервые
достоверные сведения о еврейских «князьях изгнания»,
или экзилархах, как их принято называть, имеются для
конца II в. — начала III в.: Рав-Гуна I, экзиларх
вавилонский, был современником и соперником палестинского
патриарха Иуды I.
Экзиларх был светским и духовным главой
вавилонских евреев. Выводя свой род путем нехитрых
комбинаций прямо от царя Давида по мужской линии, они
претендовали на первенство перед палестинскими патриархами,
которые хотя и тоже были «потомками Давида», но по
женской линии. Экзилархи считались высокими
сановниками в Персии, имели пышные дворцы, вели широкий
образ жизни, имели «придворный», штат и т. д. Раввины
воздавали им царские почести, их указы были для
вавилонских евреев законом. Экзиларх и его чиновники
осуществляли над своими единоверцами судебные функции,
регулировали торговое и имущественное право, заведывали
благоустройством городских поселений евреев,
руководили синагогами и были законодателями в вопросах культа.
Власть экзилархов основывалась на том, что они были
посредниками по взиманию податей с еврейского
населения в пользу государственной казны. Персидские
правители во все времена охотно поручали местным
национальным и религиозным организациям взыскание налогов с
покоренных народов'.
Пока существовало Иудейское государство с храмом
Ягве в Иерусалиме, вавилонские евреи, надо полагать,
признавали Иерусалим своим духовным центром. Когда
в конце II в. все шансы и надежды на Восстановление
иерусалимского храма и «трона давидова» были
окончательно потеряны, а положение оставшихся в Римской империи
евреев ухудшилось, палестинские раввины устремились в
Вавилонию, где обстановка была для них более
благоприятна. «Бели нет муки (хлеба), нет торы», сказал р. Эле-
азар бен-Азария (Абб. III 17), а в Вавилонии можно было
рассчитывать на муку при блестящем дворе экзиларха.
Около 220 г. Аба-Ариха, которого за ученость прозвали
нросто «Рав», учредил «академию» в Суре; соратник Ра-
357
ва, Самуил, становится во главе такой же академии в
резиденции экзиларха Негардее, позднее возникает школа
в Пумбедите. В этих академиях в течение нескольких
веков разрабатывалось толкование Мишны, собранное
затем в «Вавилонском талмуде».
Вавилонские евреи не пережили тех жестоких
потрясений, какие достались на долю их соплеменников в Иудее
и римской диаспоре. Н.о положение 'массы евреев в
Вавилонии было достаточно тяжело. Основным занятием их
было земледелие, виноградарство, разведение оливок и
пальм. «У кого нет лашни, тот не человек», гласит
поговорка, приведенная в талмуде. Однако еврей-крестьянин
редко достигал такого благосостояния, чтобы обладать
собственным полем. Подавляющее большинство получало
землю в аренду от крупных владельцев, которые владели
также оросительными каналами. Условия аренды были
чрезвычайно тяжелые. Мелкий арендатор должен был
отдавать землевладельцу от 2/з до 3А урожая, в
зависимости от того, сколько раз поле брало воду из канала.
Кроме того, крестьянин должен был отдавать и солому.
Поэтому, несмотря на благоустроенную систему орошения,
благодатный климат и плодородие почвы, безземельные
крестьяне, снимавшие землю в аренду, систематически
голодали и должны были обращаться к общественной
благотворительности. Не лучше было и положение крестьян,
владевших землей на правах собственности. «Прежде всего
они должны были платить подушную подать и
поземельный налог, который до царствования Хозроя Аношарвана
E31) колебался между одной третью и одной шестой
урожая и взыскивался со всей строгостью. Персидское
правительство рассматривало себя, как собственника всей
земли, а крестьян — как арендаторов. И если крестьянин
к концу года не вносил налога, у него отнимали землю и
отдавали ее более платежеспособному арендатору. А
налоги были столь велики, что жители часто были
вынуждены бросить арендованный участок и спасаться от
налоговых чиновников бегством. Еще строже взыскивалась
подушная подать. Часто имущество неплательщика
продавалось за недоимки... Несостоятельный недоимщик,
который не в состоянии был уплатить подушную подать,
объявлялся вне закона, и первый встречный, уплативший
за него подать, имел право обращать его на
принудительные работы, как раба. Кроме этих регулярных налогов,
существовали еще и другие поборы, например angaria:
358
население должно было предоставлять в распоряжение
Проезжающих правительственных чиновников вьючных и
рерховых животных, которые довольно часто уже
обратно не возвращались. Точно так же они обязаны были
снабжать свиту этих чиновников пищей и питьем»1- К
тому же надо принять во внимание произвол чиновников;
богатые .могли откупаться от них, а вся тяжесть их
жестокости и алчности обрушивалась на беззащитных
бедняков.
Таким образом, раввины — как местные, так и
пришлые из Палестины—-нашли в Вавилонии не только
благоприятные материальные условия для своей деятельности,
но и широкое поле для своего учения.
В существующей нынешней своей редакции
Вавилонский талмуд составляет огромное по объему собрание
фолиантов, строго подразделенное на отделы и
трактаты. Мишна делится на 6 отделов по тематическому (не
строго, впрочем, выдержанному) принципу. Отделы
подразделяются на трактаты, которых в Мищне всего 63.
Трактаты делятся на главы, главы на отдельные галахи,
или параграфы 2. В Вавилонском талмуде после каждого
параграфа Мишны даны комментарии: к нему, так наз.
Гемара (в Иерусалимском талмуде комментарий дается
только после всей главы мишны). Но Гемара имеется не
ко всем трактатам Мишны, а лишь к 35 (и к половине
трактата Тамид; в Иерусалимском талмуде Гемара дана к
39 трактатам, однако Иерусалимский талмуд раза в
четыре меньше Вавилонского). Кроме канонической Мишны,
существует еще дополнение к ней, так наз. Тосефта. То-
сефта расположена так же, как Мишна (из 63 трактатов
Тосефта имеет 59), и как бы дублирует ее. Тосефта
возникла позже Мишны, хотя содержит порою очень
древние традиции. Агада в ней преобладает над галахой.
В Вавилонском талмуде Мишна написана на
древнееврейском 3, Гемара — на арамейском языке.
1 S. Funk —Die Juden in Babylanien. I Teil, В., 1902, S. 17—18.
2 Нумерация страниц во всех изданиях талмуда, независимо от
формата и шрифта, — одинаковая, причем нумеруется не каждая
страница, а каждый лист (даф), который имеет две страницы, или
столбца (аммод). При цитатах из мишны указывается цифрами
глава и параграф, при цитатах из талмуда — лист и страница («а»
или «б»). Так, Бер. или М. Бер. II 3 означает «Мишна Берахот,
гл. II, § 3»; «Бер. 25 б» означает «талмуд Берахот, лист 25, ст. 2».
3 Язык Мишны значительно отличается от языка библейской
традиции как со стороны фонетики и морфологии (большое число
Й5Э
По форме изложения Гемара представляет собою caf
мую дикую сумбурную схоластику, передающую устны^
словопрения без всякой литературной обработки. Прт^
этом казуистика раввинов очень часто вращается вокруг
совершенно беспочвенных, практически нелепых и тео
ретически немыслимых положений. А если к тому учеста
что Гемара написана на варварском диалекте, со множе
ством искаженных греческих, латинских и персидски:
слов и что никаких знаков препинания (кроме точки из
редка) в печатных изданиях нет, можно себе предста
вить, какое ужасное действие должно было производить
изучение талмуда на детей. А ведь талмуд дети в
дореволюционных хедерах начинали штудировать в возрасте
8—10 лет! Для образца приведем небольшой отрывок из
относительно легкого трактата — Баба-Медиа 20а. В Миш-
не речь идет о том, что если кто нашел три заемных
письма трех человек на- имя одного, он должен возвратить
их заимодавцу. Следует гемара: «Ибо если ты подумаешь
что они от должника как они оказались вместе может
быть пошли написать их написаны тремя руками писцов
а может быть засвидетельствовать их пошли заимодавец
свидетельствует вексель должник не свидетельствует
векселя». Расшифровать эту тарабарщину надо так (спор
ведется между двумя собеседниками): А. Ибо если
допустить, что эти векселя потеряли должники, то непонятно,
как три векселя оказались вместе. В. А может быть,
должники шли втроем от писца, который написал векселя, и
по дороге потеряли их? А. Здесь речь идет о таком
случае, когда векселя написаны рукой трех разных писцов.
В. А может быть, должники шли вместе
засвидетельствовать векселя? А. Заимодавец заинтересован в
засвидетельствовании векселя, должнику не для чего делать это.
По сравнению с Гемарой Мишна кажется уже ясной и
толковой; ной она написана бессвязно, крайне сжато и в
самом варварском стиле.
Талмуд представляет собою сборник, главным образом,
законоположений, из противоречивых формулировок
которого раввины последующих веков выводят нормы
религиозного поведения и правила культа. Наряду с этим
имеются и другие раввинские произведения, возникшие,
повидимому, из проповедей на библейские тексты и пред-
арамеизмов), так и со стороны лексики (множество арамейски|
слов и значительная примесь греческих).
360
ставляющие лишь поучительное чтение. Эти
произведения, так наз. Мидраш (экзегетика), построены по иному
принципу, чем Мишна и талмуд; они дают не
последовательное изложение и развитие каких-нибудь тем, а
комментарии — стих за стихом ■— к библейским книгам,
причем основное содержание их — агада. Древнейшие мид-
раши, которые цитируются уже в талмуде, это—Мехил-
та, мидраш к кн. Исхода, Сифра — к кн. Левит, и Сиф-
ре—к кн. Числ и Второзаконию. Более позднего
происхождения Мидраш раббот—соединение отдельных мид-
рашей к каждой из книг Пятикнижия, к Песне песней?
Руфи, Плачу, Екклезиасту и Эсфири. Эти мидраши в
нынешнем своем виде относятся уже к началу средних веков,
но содержат довольно древние материалы и в
значительной степени дополняют наши сведения о религиозных-
представлениях евреев в эпоху составления талмуда.
Составление мидрашей продолжалось и в течение всех-
средних веков., и некоторые из поздних мидрашей, как,,
напр., Ялкут (XIII в.), пользуются у верующих евреев
значительной популярностью.
Уже самый характер талмуда, как произведения,
складывавшегося в течение нескольких веков, говорит о том,
что нельзя ожидать встретить в нем единое стройное и
во всех своих частях выдержанное учение. Тайная и амо-
реи считали всякое высказывание талмид-хахама
внушенным свыше и потому.старались сохранить все эти вы-
оказывания, хотя бы они противоречили друг другу. Поэ-'
тому собранные в талмуде законоположения не
кодифицированы, а догматические и религиозно-этические
положения не сведены в систему. «... Талмуд—не книга
законов, не кодекс, в котором каждое положение имеет
безусловную силу. Уже в Мишне разные мнения очень часто
приводятся рядом. А Гемара носит почти сплошь
характер судоговорения или собрания протоколов дискуссии, в-
которой амореи разбирают высказывания таннаев,
особенно в Мишне... Религиозные нормы для нашего
времени раввину приходится выводить из талмуда путем
рассуждения». На практике действуют кодексы,
составленные раввинами на основании талмуда. «Такими
кодексами для верующих евреев являются главным образом «Яд
гахазака» Моисея Маймонида A135—1204), «Сефер Га-
мицвот» Моисея из Куси (около 1250 г.) и «Шулхан
Арух» Иосифа Каро A488—1575)... Было бы поэтому
совершенно неправильно выдавать без оговорок все встре-
361
•чающиеся в талмуде высказывания отдельных равви за
«учение талмуда» и делать талмуд и еврейство
ответственными за все такие высказывания» *. Это мнение Штра-
ка верно лишь в том смысле, что нельзя считать то или
иное отдельное положение, высказанное отдельным тан-
наем, обязательным законом, .применявшимся на
практике. Но нетерпимость и фарисейская последовательность
авторов талмуда служат достаточной гарантией того, что
-все содержание талмуда согласуется с его идеологией
*и характерно для нее. Ведь неважно, как конкретно
решался вопрос, например, о порядке жертвоприношения в
несуществующем храме; для суждения о талмуде важна
сама тема, постановка вопросов и направление, в
котором идет их решение. Споры внутри талмудических школ
не нарушают единства учения талмуда как системы
религиозных верований.
Талмуд внес мало существенных изменений в ту
форму религии иудеев, какая сложилась в Иудее и диаспоре
-к концу I в. Но изменения.он все же внес, ибо изменились
■общественные условия, фантастически отразившиеся в
религии, и изменилась обстановка, в которой
складывалась талмудическая идеология.
Крах надежд на освобождение 'Иудеи от римского ига
означал также утрату шансов на успех революционной
борьбы угнетенных классов, обескровленных и
обессиленных после ряда поражений, против своих эксплоататоров;
ведь в силу сложившихся исторических условий
революционная борьба могла вестись лишь лод лозунгом
национально-освободительного движения. Это положение
вещей усилило политическую реакцию внутри еврейского
народа и дало возможность раввинам закрепить свое
положение высшего сословия, резко отгородившегося от
массы и ставшего над нею не только в качестве
духовного руководства, но и в качестве обладателя власти.
Новым обстоятельством явилось также почти полное
•прекращение еврейской пропаганды, которая была
раньше результатом экспансии еврейского торгового калига-'
ла. В новых создавшихся для евреев условиях, при общем
к тому же кризисе хозяйства империи, не дгогло быть
речи о завоевании новых позиций. Кроме того, как и все
восточные религии, иудейская религия была религией
национальной и не могла конкурировать с христианством,
1 Н. St rack— Einleitung in den Talmud. Lpz., 1908, S. 116—117.
которое не знало национальных перегородок,
обращалось мо всем без различия, отрицало почти всякую
обрядность, обещало спасение и искупление через уже
явившегося мессию, единородного сына божьего. А после
победы христианства пропаганда иудаизма была
запрещена в Римской империи императорскими указами. Эти
указы (Cod Т.п. XVI 8, 1, 6, 7, 26, 28; Cod. lust. I 9, 3; I 7,
1; I 9, 16) касаются, правда, лишь «совращения»
христиан в иудейство, но христианские чиновники
толковали их, конечно, распространительно. А указ Гонория и
Феодосия от 8 июня 423 г. ограничивает вообще
распространение иудейской веры: «Наши недавние
постановления о иудеях и синагогах их пусть остаются
незыблемыми — т. е. чтоб им никогда не дозволено было строить
новые синагоги и чтобы вместе с тем они не опасались,
что у них отнимут старые» (Cod. Th. XVI 8, 27). Так как
рабы принимали религию рабовладельца, то евреям было
запрещено иметь рабов христиан (Cod. lust. I 10, 1—2;
Cod. Th. XVI 9)- Прекращение пропаганды—во всяком
случае резкое сокращение ее размеров—усиливало
религиозную и национальную замкнутость евреев и порвало ту
связь с эллинизмом, которая еще в I в., как мы видели,
сильно влияла на иудейское богословие, догматику и
культ.
Уже во II—Ш вв. следы сближения с вульгарной
греческой философией исчезают в иудаизме. Вместе с тем
исчезают и те его черты, в которых получали свое
искаженное отражение земные чаяния близкого
освобождения, в течение веков толкавшие массу на восстания
против чужеземных и своих угнетателей. Ягве-Адонай
снова становится по преимуществу национальным
еврейским богом; усиливается и усложняется обрядность;
ожидание -мессии и окончательного суда и воздаяния
переносится в далекое будущее, которого нужно заслужить в
настоящем строгим соблюдением закона, смирением и
покаянием. Религиозная проповедь классового, единства
внутри нации все больше концентрируется вокруг торы.
Мы видели, что эту тенденцию книжники проводили еще
в период Хасмонеев, и Иис. Сирах достаточно ясно ее
формулировал. Но эта тенденция умерялась, с одной
стороны, наличием храмового культа с могущественным и
богатым жречеством, с другой стороны — влиянием
эллинизма. Теперь тора становится единственной «опорой
Израиля», а ее толкователи — единственными и достой-
363
ными представителями нации. Эта мысль на тысячу ладов
повторяется в талмуде и всей раввинской литературе.
«Homo reli'giosus в полном смысле этого слова — только
«ученик книжника», талмид-хахам, или хабер. Только он,
согласно Таан. 7, имеет полное право на существование в
общине. Напротив, тот, кто не усердствует в торе, ам-
гаарец, не является полноправным членом общины» *.
Деление на талмид-хахамов и ам-гаарец, которое смазывало
классовое разделение евреев и отгораживало их от
других национальностей, проводилось неуклонно и с полной
откровенностью, чему мы уже приводили ряд примеров.
Но сила религиозного дурмана сказывается в том, что
ам-гаарец сами признавали законность своего
приниженного положения и превосходство талмид-хахамов.
Характерный анекдот приводит Б. Бат. 8 б о патриархе
Иуде I, одном из богатейших людей среди евреев Пзлесшны:
«Рабби2 во время голода открыл свои житницы и сказал:
пусть войдет всякий, кто-знает писание, Мишну или
талмуд, галахи или агады, но ам-гаарецы не должны
входить. Тогда протиснулся Ионатан, сын Амрама, вошел и
сказал: «Рабби, корми меня. Тот сказал ему: ты изучал
писание? — Нет. — Мишну? — Нет.—Как же я стану
тебя кормить? Тогда сказал Ионатан: корми меня, как
собаку, корми меня, как ворона. Тогда Рабби его накормил.
Но, когда Ионатан вышел, тот раскаялся и сказал: «Горе
мне, что я дал свой хлеб ам-гаарецу».
Еще более гнусным является отношение талмуда к
рабам. Вполне понятно, что религии древнего мира,
покоившегося на (рабстве, освящали этот институт. Даже
христианская религия, «проповедывавшаяся рабами и
угнетенными», оправдывала античное рабство со всеми его
мерзостями. Но христианство утешало раба, обещая
ему небесную награду за земные страдания. Талмуд не
считает нужным дать рабу это призрачное утешение.
Среди евреев, в частности раввинов, были крупные
рабовладельцы. Элиезер бен-Харсом имел так много рабов,
что многие из последних его в лицо не знали (Иома
35 б); р. Элеазару бен-Симон моряки за молитвы об их
спасении подарили сразу 60 рабов (Б.-М., 84 б).
Огромными богатствами владели р. Тарфон, р. Измаил, р- Гамали-
1 F. W e b е г — Die Lehren des Talmud. Lpz., 1880, S. 42.
2 Из особого почтения к этому могущественному патриарху
талмуд его называет «Рабби», без прибавления имени.
364
ил И, р. Элеазар бен-Азарья, Нехунья и др. Обладание хотя
бы одним рабом:, по воззрениям талмуда, входит в
обязательный минимум собственности даже бедняка. Но
евреи-рабы попадали к евреям-рабовладельцам редко-; евреи-
рабовладельцы предпочитали рабов-чужеземцев, на
которых не распространялись установленные библией льготы.
С другой стороны, основная масса рабов-евреев из
военнопленных или из числа проданных за недоимки и
долги попадала к не-евреям- Это обстоятельство избавляло
раввинов от необходимости считаться с рабами даже
хотя бы в том смысле, чтоб заботиться о «спасении их
души». Раб-еврей вообще не признается полноправным
членом религиозной общины. Так. если трое ели
вместе, они обязаны совершить определенную затрапезную
молитву (зиммун); но раба не принимают в зиммун (Бер.
VII 2; Т. Бер. 5, 17).
Талмуд неоднократно повторяет, что раб подобен
скоту. «Некто выменял корову на осла, и она отелилась, или
продал свою рабыню, и она родила; один говорит: (это
случилось) «до того как я продал», а другой говорит:
«после того, как я купил»: они должны разделить
(прибыль) пополам» (Б.-М. VIII 4). Богобоязненные евреи не
стесняются вступать в интимные сношения с женами в
присутствии рабов и рабынь (Нидда 17 а). «У рабов нет
стыда», и потому им удовлетворение не дается (Б.-К- VIII
3). Рабам приписываются всевозможные пороки, но
особенно подчеркивается их нерадивость и лень; как тяжело
ни трудится раб, его господину все мало. «Ханаан
завещал детям: любите друг друга, любите воровство и
распутство, ненавидьте хозяев и не говорите им правды»
(Пес- 113 б). Б.-М. V 2 предписывает: «Если кто дал
взаймы ближнему своему, то он не должен жить в его дворе
даром и не должен нанимать у него (помещенье) по
пониженной цене, ибо это — рост»; к этой мишне в Гемаре
приводится между прочим такое разъяснение: «Р. Иосиф
сын Хамы взял раба человека, которому дал взаймы
деньги, и поставил его на работу; сказал ему Раба: На
каком основании ты так поступил? Тот сказал: Я такого
мнения, как р. Нахман, ибо р. Нахман сказал: «Раб не
стоит своего пропитания»... Схвативший раба ближнего
своего и использовавший его для работы свободен, «ибо
ему (владельцу раба) выгодно, чтоб раб его не изленился»
(Б.-М. 64 б—65 а). Поэтому талмуд одобряет все
жестокости режима, которые применяли к рабам. В талмуде
365
любовно описывается ряд орудий пытки для рабов:
палка, ремень, розги, плети, кнут (mrgmn, греч. maragna),
maiglab—палка, снабженная утыканным гвоздями кольцом,
цепи, ошейник *.
Политическая реакция, на многие века
приостановившая открытую революционную борьбу трудящихся евреев,
породила и усилила реакцию и в области религиозной
идеологии, довела до крайности националистические идеи
и укрепила позицию «закона» и его толкователей. По
учению талмуда, тора, закон, превыше всего, и даже сам
бог, который опять мыслится как исключительно
еврейский бог, руководствуется ее предписаниями. Вся жизнь
и деятельность бога естественно определяется торой.
«Ради нее он создал мир, ради нее он его
поддерживает; где она, там и он; царство торы ■— его последняя
воля... Он сам подчинился._решениям закона, он даже
подчинил себя авторитету раввинов и их решениям... Он
выполняет предписанную евреям обрядность, надевает
филактерии (тефилин) на голову и. на руку... На Синае он
облачился в талес». В Мидраше Песикта 53 б—54 а
р. Ошайя сообщает: если суд внизу2 принял решение и
сказал: сегодня новый год, тогда святой (т. е. бог) говорит
услужающим ангелам: сегодня новый год, поставьте
судейский трон, назначьте защитника и писцов, ибо суд
внизу принял решение и сказал: сегодня новый год. Если
свидетели запоздали, или если бет-дин решил перенести
этот день на завтра, тогда святой приказывает ангелам
снова все убрать, ибо бет-дин внизу решил и сказал, что
новый год—завтра... Затем все услужающие ангелы
приступают к святому и говорят: владыка вселенной, когда
новый год? А он им говорит: Вы меня спрашиваете? И я
и вы запросим суд внизу» 3. Бог подвержен человеческим
страстям, он гневается, радуется, смеется, плачет. В
частности, он сокрушается и плачет об участи Израиля; две
его слезы падают в море, и падение их слышно во всех
концах земли; отсюда происходят землетрясения-
1 К г a u s s — Talmudische Archaologie. II, S. 95.
2 Бет-дин — судебное учреждение при патриархе или
раввине— предста1Вляло, по учению раввинов, копию суда небесного.
Между прочим, ввиду отсутствия календаря бет-дин или патриарх
устанавливали день, на который выпадает тот или иной праздник,
и сообщали об этом через особых посланцев всем общинам. Дата
устанавливалась на основании показания свидетелей,
удостоверявших, что видели восход месяца в определенный день и час,
3 F. Weber, ук. соч., стр. 154 ел.
366
Ограничив функции Ягве как единого абстрактного
бога вселенной и возвратив ему древние черты
национального личного бога, раввины значительно
ограничили и принцип монотеизма. Они окончательно
легализовали и ввели в небесный штат ангелов и бесов. Ангелы не
только вестники бога, стоящие вокруг его трона и
выполняющие его поручения, но и отдельные божества,,
имеющие определенные функции. Рахаб — владыка моря,
Ридия — ангел дождя, Михаил распоряжается снегом,-
Гавриил — огнем и т. д. Ангелы человекоподобны, как и
сам Ягве, и подвержены даже человеческим слабостям.
Они, например, понимают только по-древнееврейски, и-
поэтому они не могут передать богу молитву,
произнесенную на арамейском языке (Шабб. 12 б).
Бесы или демоны •— отчасти из падших ангелов,
отчасти самостоятельные создания — в значительной мере
представляют собою пережитки глубочайшей древности,-
когда религия евреев представляла собою веру в духов.
Под влиянием развитой персидской демонологии эти*
древние пережитки, для которых имелась питательная
почва в бессилии перед природой, забитости, невежестве
и угнетенности масс, оформились в довольно стройную
систему. Талмуд не только признает существование
бесчисленных демонов обоего пола, дневных и ночных,
земных, водяных и т. д., но и дает наставления и рецепты»
как бороться с зловредными бесами. Приведем один-два
примера. «Никто не должен мочью пить воду; кто это
делает, подвергает себя смертельной опасности... следует
опасаться Шаберири, который может ослепить человека'
Что же делать, если ночью пить хочется? Надо
поступить таким образом. Если в той же комнате есть еще
кто-нибудь, надо разбудить его и сказать ему: мне пить
хочется. Если же человек один, то надо ударить
крышкой кувшина по кувшину и сказать себе самому, ты, NN
сын NN, твоя мать предостерегала тебя и сказала тебе:
берегись Шаберири, Берири, Рири, Ри, который
находится здесь в белых кубках. После этого можно пить,
ничего не боясь» (Аб. Зара 12 б) 1.
В трактате Берахот 55 б после ряда советов и
указаний насчет толкования сновидений дается рецепт против
дурного глаза: «Кто вступает в город и боится дурного
глаза, пусть возьмет большой палец правой руки в левую
1 F. Web er, ук. соч., стр. 247 ел.
367
руку, а большой палец левой-—в правую * и скажет: я
(имя рек) сын (имя рек) принадлежу к потомкам Иосифа,
над которыми дурной глаз не имеет силы» (далее идет
ссылка на соответствующим образом подправленный
текст Быт. XLIX 22).
Но главная функция бесов, отличающая их от духов
первобытной религии, состоит в том, что они внушают
греховные мысли, подсказывают греховные, действия и
служат также орудиями наказания грешников 2.
Жизнь человека, по учению талмуда, есть
непрерывная борьба с греховностью. Помимо того, что само-по-
себе тело «нечисто» и заключенная в нем душа ]неизбеж-
яо оскверняется, человек всегда находится во власти
иецер-гара, «дурного помысла», который представляется
в виде демона-искусителя. Иецер-гара толкает человека
на угождение своим страстям. Бороться с ним нужно
путем молитвы и изучения торы; над тем, кто занят торой
и талмудом, иецер-гара не властен. Греховность талмуд
определяет не по общему поведению человека, а чисто
.количественно — по числу прегрешений против «закона».
Каждый отдельный проступок против «закона»
записывается в особую гра*фу, в другую графу заносятся его
«добрые дела», т. е. опять-таки выполнение отдельных
предписаний закона. На небе ведется точный учет всем
проступкам (аверот) и «добрым делам» (мицвот), и в
зависимости от баланса в день нового года решается
дальнейшая судьба человека на ближайший год.
Таким образом, и в вопросе о грехе и воздаянии
центральное место занимал «закон». А,м-гаарец опять-таки
оказываются в худшем положении, чем рав-вины, так как
-они не занимаются изучением торы, которое может
обезопасить от посягательств иецер-гара, и не имеют воз-
1 Т. е. сделает два кукиша, имеющих, как известно, магическое
значение. См. Н. Levy, AR XXV A927), S. 194.
2 Наряду с ангелами и бесами раввинская литература знает и
различные ипостаси бога: 1) Метатрон, ближайшие функции и
значение которого не определены. 2) Мемра—слово, логос. Мемра
представляет бога в его антропоморфных проявлениях, как бога
говорящего, гневающегося и т. д. 3) Шехина (покоящаяся
сущность) — эманация божества, нечто вроде «духа святого» у
христиан; чувственно она представлялась в виде разлитого сияния,
блеска, ясности. 4) «Дух святой»—та «искра божия», которая
роднит человека с богом. 5) Бат-кол—глас с небес, возвещающий
то или иное <откровение< Но все эти ипостаси не получили
развития и лишь очень мало напоминают эманации божества у
неоплатоников.
.368
можности накоплять мицвот. Они должны рассчитывать на
заступничество «праведников», т. е. опять-таки раввинов,
и их зависимость от раввинов не прекращается и «на том
свете».
Что касается богатых ам-гаарец, то для них имеется
удобный выход из положения — они могут купить
царство небесное и вместе с тем смягчить классовую
ненависть бедноты путем благотворительности.
Но и для ам-гаарец путь к небесному блаженству не
заказан: наряду с изучением торы и
благотворительностью, которые ам-гаарецу из бедноты недоступны, есть
еще один столп, на котором зиждется спасение, —
покаяние.
Покаяние играет видную роль в учении талмуда. В
числе семи вещей, -существовавших до сотворения мира,
раввины считают и покаяние (напр. Нед. 39а: тора,
покаяние, сад эдемский, геенна, трон величия, святилище,
мессия). «Покаяние (тешуба — «возвращение» в лоно торы),
молитва и благотворительность отводят дурной
приговор». Исповедание греха, смирение, самобичевание и
раскаяние—таковы элементы «возвращения». Но есть ряд
градаций в грехах и соответственно этому в действии
покаяния. Одно дело, например, упущение в выполнении
какой-нибудь заповеди, другое дело — совершение
действия, запрещенного торой. Большое значение имеет
также количество грехов. В основном талмуд различает
три категории людей: «Сказал р. Иоанн: три книги
раскрываются в день рош-гашана — одна для совершенных
грешников, одна для совершенных праведников, одна для
средних. Совершенных праведников записывают и
припечатывают немедленно на жизнь, совершенных
грешников записывают и припечатывают немедленно на смерть,
средние остаются в неопределенном положении («вися-'
щими») от рош-гашана до иом-кипура: удостоятся —
записываются на жизнь, не удостоятся — записываются на
смерть... Школа Шаммая говорит: три группы есть в день
суда: одна — совершенные праведники, одна —
совершенные грешники, одна — средние. Совершенные праведники
записываются и припечатываются на жизнь вечную,
совершенные грешники записываются и припечатываются
навсегда в геенну, средние сходят в геенну, пищат и
восходят» (Рош-Гаш. 166).
В соответствии с различными категориями грешников
имеются и различные виды покаяния. Для небольших
24-8
369
прегрешений достаточно простого покаяния, для более
серьезных случаев необходимо уже коллективное
покаяние в день иом-кипура, еще более серьезные грехи
покрываются только смертью; но и смерть не смывает всех
грехов, а нужны посмертные муки в аду. Некоторые
грешники ■— израильтяне и «язычники» — подвергаются
судебной каре в течение 12 месяцев; «после 12 месяцев их
тело гибнет, а душа сжигается и развевается под пяту
праведников... Но мины (еретики), доносчики и
эпикурейцы, отрицавшие тору, отрицавшие воскресение из
мертвых... сходят в геенну и караются там во-веки-вечные;
геенна кончится, а они не кончатся» (Рош-Гаш. 17а).
Одним из наиболее действительных средств покаяния
служит пост и умерщвление плоти. Чтоб помочь
кающимся в их подвиге, бог идет им навстречу и посылает на
них болезни и бедность. Поэтому бедность — прямой путь
к «спасению», и надо принимать ее с радостью и
благодарностью. Но бедность не освобождает от занятия
торой; в Иома 356 приводится агада: «Бедняк, богач и
нечестивец приходят на суд; бедняку говорят: почему ты
не занимался торой? Если он ссылается на
необходимость снискивать себе пропитание, ему указывают на
пример Гиллеля. Богач ссылается на то, что он занят
своими предприятиями, но ему указывают на пример р.
Элеазара бен-Харсом, которому отец оставил в
наследство «тысячу имений и тысячу кораблей», и т. д.
Таким образом, и в учении о грехе и искуплении
талмуд проповедует примирение с нищетою и страданиями
на земле и подчеркивает значение «закона» и его
служителей для обретения «спасения».
В соответствии с этим центральное место среди
праздников, наряду с мессианской пасхой, занимает иом-кипур,
к которому новый год (рош-гашана) становится как бы
преддверием. Покаяние и умерщвление плоти вытесняют
древнюю обрядность иом-кипура. «Смиряйте души
ваши» (Лев. XXIII 27) — таков основной лозунг этого дня.
Верующим, и в первую очередь трудящимся, внушается,
что все равны перед богом, что самим господом
предуказано, кому гнуть спину и кому жить от чужих
трудов, что лишь «праведной жизнью» можно
достигнуть блаженства, притом блаженства потустороннего,
вечного.
В награду за перенесенные на земле бедствия талмуд
обещает блаженство в раю, а грешникам грозит адскими
370
муками. Представления о рае и аде в талмуде — те же,
что и в апокалиптической литературе.
Кое-что новое внес талмуд и в представления о
мессии. Усвоив знакомый нам уже из эсхатологической
литературы образ предвечно существующего мессии,
который будет судить народы и установит царство свое над.
землей, талмуд лишил его, однако, черт вселенского
спасителя. Так же, как раввины вновь вернули Ягве
черты еврейского бога, они и мессию рисуют в образе
праведного еврея, строго следующего предписаниям торы,,
изучающего и толкующего ее положения. А его
предтеча, пророк Илья, как заправский раввин, разрешает все
спорные вопросы галахи. Мессианский век в талмуде
мыслится в неопределенно далеком будущем, для
которого настоящее служит лишь преддверием. «Приготовься
в прихожей, чтоб вступить затем в триклиний
(пиршественный зал)». «Приготовления» требовали от верующих
отдаться всецело исполнению бесчисленных правил,
которыми сочли нужным «оградить тору» еще книжники
«Великого собрания» (Абб. I 1).
Трудно дать ясное представление о том чудовищном
количестве нелепейших обрядов, которыми раввины
«оградили» тору. Приведем лишь один пример. Заботясь
об .усилении религиозной и национальной замкнутости
евреев, раввины особенно много занимались
регламентацией субботнего «покоя», фактически превратив этот
день в день мучительного безделья, где буквально
каждый шаг находится под запретом. В частности, в субботу
запрещалось переносить что бы то ни было, хотя бы
самый незначительный предмет, из дома в дом или на
улицу. И поныне еще набожные евреи не носят при себе
в кармане носового платка в субботу, а повязывают его
себе на шею, якобы для тепла, думая таким образом
обмануть бога. Но, так как это правило крайне
стеснительно, раввины придумали обход его: если улица или район
населен сплошь евреями, его ограждают проволокой и
путем некоторых обрядовых комбинаций объявляют его
одним общим частным владением; а внутри частного
владения некоторые вещи переносить можно. Этот метод
обхода закона, называемый «эруб», составляет тему
специального большого трактата «Эрубин». Правила
обхода одного только из многочисленных субботних запретов
занимают, таким образом, целый трактат!
Понятно, что густая сеть талмудических правил, олу-
24*
371
тывающая верующего, совершенно забивает ему голову,
не дает ни времени, ни возможности подумать об
истинных причинах социальных зол и отдает его во власть
раввинов, обслуживающих интересы эксплоататорских
классов. А за выполнением всех этих правил зорко
следят те же раввины, в руках которых была и карающая
власть.
Субботе раввины уделяли исключительное внимание,
возводя ее в степень «царицы», чуть ли не ипостаси бога.
Даже мессия не может притти в субботу, ибо и на небе
соблюдается запрет передвигаться в субботу дальше
известного предела (Эруб. 43а). Но и весь культ вообще
подвергся усложнению. Прежнее синагогальное
богослужение, состоявшее главным образом в чтении и
комментировании библейских текстов, осложнилось множеством
домашних обрядов и молитв. Но вместе с тем талмуд
всеми мерами возвеличивает давно отошедший в область
преданий храмовый культ, которому посвящено большое
количество талмудических трактатов. Восстановление
храма с его гнусным жертвенным ритуалом и грабитель-.
ским клиром рисуется как величайшее счастье, к
которому должен всеми силами и всеми помышлениями
стремиться верующий, а лишение храма и его культа — как
величайшее бедствие, постигшее Израиля за его грехи.
Храм объявлен, как мы видели, сверхъестественным
явлением, существовавшим «до сотворения мира». Назад, к
эпохе «единения Ягве с Израилем» в его храме в
Иерусалиме, зовет талмуд. Эта реакционная идеология соединяется
с самой оголтелой проповедью шовинизма, объективное
назначение которой, как и всего талмудического учения,
подменить классовую ненависть угнетенных к угнетателям
национальной рознью и прикрыть национальным
единством внутринациональную классовую борьбу.
К числу самых диких обрядов, имевших назначением
своим усилить обособленность еврейского народа,
относятся обряды и правила, касающиеся ритуальной
чистоты. Этим обрядам посвящен целый отдел (seder)
талмуда— Тегарот—12 трактатов. Особенно много внимания
уделяет талмуд в этом вопросе женщине. Женщина, по
талмуду, нечистое существо и вообще существо низшего
порядка. Она политически бесправна, и даже в
отношении свидетельских показаний она приравнивается к пре-
спутникам и рабам. (Рош-Гаш. I 8, Санг. III 3). Жена
должна работать на мужа. «Вот работы, которые жена ис-
372
цолняет для мужа своего: она мелет зерно, печет,
стирает белье, варит, кормит грудью своего ребенка, стелет
постель и обрабатывает шерсть. Если она принесла ему
(в приданое) одну рабыню, то она не мелет, не печет и
не стирает; если двух рабынь, то она не варит и не
кормит грудью своего ребенка, если трех—-не стелет для
него постели и не обрабатывает шерсти, а если
четырех— она садится на кафедру. Р. Элиезер говорит: хотя
бы она принесла ему сто рабынь, он может заставить ее
обрабатывать шерсть, ибо праздность ведет к разврату»
(Кетуб. V 5). Жена — лишь орудие для удовлетворения
похоти мужа. «Все, что человек хочет делать с женой, он
делает, — вроде как мясо, полученное с бойни: хочет
есть с солью — ест; (хочет есть) жареным, — ест;
вареным, — ест» (Недар. 206). Муж волен дать развод жене,
когда ему угодно. Достаточным поводом для этого мо:
жет быть подгоревшее жаркое; а р. Акиба считает
достаточным основанием для развода, если мужу
приглянулась более красивая женщина1. Женщина даже
недостойна быть религиозной и изучать тору, ибо она по
природе распутна. «Р. Элиезер говорит: кто преподает
дочери своей тору, как бы преподает ей распутство.
Р. Иисус говорит: женщина предпочитает один каб (хлеба)
с распутством, нежели девять каб с воздержанием» (Со-
та III 4). Женщина поэтому—-один из основных
источников нечистоты. «Если воры вощли в дом, то нечисто
лишь место ног воров2. А что они оскверняют? Яства,
напитки и открытые глиняные сосуды, — но... глиняные
сосуды, надлежаще закупоренные, чисты; если среди них
язычник или женщина, то все нечисто» (Тегар. VII 6).
В бесчисленных предписаниях, касающихся
ритуальной нечистоты женщины, сказываются не только
пережитки первобытной магии, связанной с критическими
периодами в жизни женщин. «Первая противоположность
классов, проявляющаяся в истории, совпадает с
развитием антагонизма мужа и жены в индивидуальном браке,
а первое классовое угнетение — в порабощении женского
пола мужским» 3. Это порабощение получает свое
отражение и в религиозной идеологии, и талмуд в этом от-
1 K-rauss— Talm. Arch., II, S. 50.
a Так как неизвестные воры могли быть нечисты, то место,
до которого они проникли в доме («место ног»), нечисто.
3 Э н г е л ь с—Происхождение семьи, частной собственности и
государства. Стр. (уЪ.
т
ношении проповедует реакционную и для своего времени
идеологию, уводящую в эпоху возникновения
патриархальной семьи.
Иудейская религия, как она сложилась в I в. хр. э. и
отображена в своем дальнейшем развитии в
талмудической литературе, имеет далеко идущие исторические
корни. Она не только использовала весь реквизит
«библейской эпохи», но сохранила множество пережитков
первобытной магии и первобытных религиозных
представлений. Но в новых условиях существования распыленного
народа, лишенного политической самостоятельности,
когда в классовой борьбе шансы трудящихся были
ничтожны, унаследованное историческое содержание иудейской
религии получило новое оформление и пропиталось
новым содержанием. То же мы видели на всем протяжении
истории евреев. Их религия — вернее, религии —
всегда оказывались «рефлексом, реального мира». При этом
религия во все времена была реакционной силой,
порожденной бессилием в борьбе против природы и гнетущих
общественных сил и закреплявшей это бессилие. В
моменты революционного подъема масс она обессиливала
трудящихся в их борьбе, затемняя их классовые задачи и
цели, подменяя их целями национально-религиозными.
Поражение трудящихся после ряда неудачных восстаний
против Рима привело к созданию «книжниками и
фарисеями» особой номократической религиозной системы,
которая в течение многих' веков тяжелым гнетом лежала
(и еще сейчас лежит в странах капитала) на спинах
трудящихся евреев. Будучи порождением исторически
сложившихся общественных отношений, эта система в
течение средних веков и нового времени давила на
экономику евреев и породила, в свою очередь, ряд новых
уродливых явлений в области идеологии. Но этот
процесс должен стать предметом особого исследования.
■<1\
ПРИЛОЖЕНИЯ
СОКРАЩЕНИЯ
Быт.
Исх.
Лев.
Чис.
Второз.
Иис. Hai
Суд.
I Сам.
II Сам.
I Цар.
II Цар.
И с.
Иер.
Иез.
Ос.
Ам.
Мих.
Авв.
Соф.
Аг.
Зах.
Мал.
Пс.
Притчи
— кн. Бытия (Genesis).
=: , Исхода (Exodus).
zz , Левит (Leviticus).
= , Числ (Humeri).
— „ Вгороьакония (Deu-
toronora um).
i.= кн. Иисуса Навина
(Иошуа)
= «н. Судей.
= I кн. Самуила (= 1
кн. Царств).
= 11 кн. Самуила ( = 2
кн. Царств).
= 1 кн. Царей ( = 3 кн.
Царств)
= 11 кн. Царей (=4 кн.
Царств).
= Исайя.
— Иеремия.
:= Иезекииль.
:= Осия (Гошеа).
г=г Амос.
= Михей (Миха).
= Аввакум (Хабакук).
~ Софо ,ия (Цефания),
— Аггей (Хагтай). .
= Захария.
= Малахия (Малеахи).
— Псалмы.
= Притчи Соломоновы.
Библейские книги
Пл.
Эсф.
Еккл.
Дан.
Ез.
Hex.
I Хрон.
II Хрон.
Arist.
Юбил.
Пс. Сол.
Sib.
Hen.
Asc. Mos.
IV Ez.
Ар. Bar.
Test.
I Макк.
II .
Ш ,
Тов.
Юд.
Сир.
Прем.
= Плач.
= Эсфирь.
= Екклезиаст (Когелет).
= Даниил.
= Езра (Эзра, Ездра).
= Нехемил (Неемия).
= I кн. Хроник (I Па-
ралипоменон).
= II кн. Хроник (II Па-
. ралипоменон).
= Ер. Ar staei.
= кн. Юбилеев.
= Псалмы Соломона.
= Oracula Sibyllina.
= 1ib. Henoch.
=.Ascensio Mosis.
= IV Ezra (IV кн. Ез-
ры).
= Apocalypsis Baruch.
= Testamentum 12 paf-
riarcharum.
= 1 кн. Маккавеев.
= П ,,
= 1П .
= кн. Товит.
= » Юдифь.
= кн. Иисуса сына Си-
рахова.
= Премудрость
Соломона.
Прочие
Древн. = Иосиф Флавий—Древности иудейские.
В. и. = » , —Войны иудейские.
A. 0. = Der Alte Orient.
АОТВ = Н. Qressmann —Altorientalische Texte und Bilder zurn Alien Те»
staraent, B.-Lpz. 192d—1927,
AR = »Archiv fflr Religtonswissenschaft*.
ATAO — A. Jeremias — Das Alte Testamsnt 1m Llchte des Alten Orients,
2 Aufl. Lpz. 1906.
BCH =:»Bulletin de correspondence Hellenique".
BGU = -Aegypttsche Urkunden am den kOaiglichen Museen zu Berlin.
Griechische Urkunden". 1895 ел.
CIQ = Corpus inscrlptioiura Graecarum.
Ditt. Or. = W. Diiten merger —Orientis Graecl Inscrlp'iones Se'ectae.
Lpz. 1904-1905.
GVJ.= R. Kittel — Geschichte des Volkes Israel. Stuttg. B. I. 1921; B. II.
1925; В. Ш. 1 1927; B. III. 2 1929.
IQR = .Jewish Quarterly Review".
(Meyer) hraeliten=Ed. Meyer —Die Israeliien und jhre Nachbarstamme.
Halle 1906.
MVAG —Mitteilungen der Vorderasiatisch - Aegyptischen Gesellschaft.
OLZ = „Orientalistische Literaturzei ung".
P Oxy = Grenfe'l and Hunt —The Oxyrhynchos Papyri. 1838—1Э27.
REG =: „Revue des etudes grecques".
REJ — „Revue des etudes juives".
RHR=: „Revue de l'histoire des !eliglons".
Schurer = E. Schurer — Geschichte des Volkes Israel im Zeltalter Jesu.
3 Aufl. B. I —III. Lpz. 1901-1J09.
TW Z r= „Theologlsche Literaturzeitung".'
ZAW= „Zeitsclrift far alttestamentliche Wissenschaft".
ZDMG= „Zeltschrift der Deutschen Moraenlandischen Gesellschaft".
ZDPV = „Zeitschrift des Deutichen Palestina-Vereins".
ТРАНСКРИПЦИЯ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ СЛОВ
По техническим соображениям в книге сделаны некоторые
отступления от общепринятой транскрипции:
х= >
Э3=й
1.9
1 • й
ГТ = h
1 -ш
Г - Z
П =сл
а -1
" -j
я» яш ~ А
ft- т
J-л
D = я
У -«
'3 = р
£ *ph
*$=sz
р. 9
-!-г
# - йй
В>- в
Т\Т\-т
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
1412-1375
1. Хронология важнейших событий
Ок. 1470 до х. э. Надпись Тутмоса III с упоминанием племен Якоб-
эль и Иосиф-эль в Палестине.
Фараон Аменхотеп Ш} Эль.Амарнская переписка
1225—1215 Фараон Менепта. ..Израильская стела".
Ок. 1000 Образование царства Саула в Палестине.
945—924 Фараон Шешонк I, современник Иеровоама, царя
израильского, и Ровоама, царя иудейского.
883—877 Амврий (Омри), царь израильский.
876—854 Ахав
Ок. 850 Надпись Меши, царя Моава. „Самарянские ост
раки".
842 Ииуй (Иегу), царь израильский— данник царя
ассирийского Салманассара III.
738 Менахем, царь израильский — данник Тиглатпала-
сара IV.
725 Поход Салманассара V против изр. царя Гошей.
722 Взятие Самарии Саргоном II. Конец Израильского
царства.
702—701 Поход ассирийского царя Синахериба против
Иудеи при царе Хизкии (Езекии).
680—66Э Ассаргаддон, царь ассирийский. Иудейский царь
Манассия изъявляет ему покорность.
621 „Открытие" книги закона (Второзаконие) при
царе Иосии.
608 Поражение и смерть Иосии в битве при Мегиддо
против фараона Нехо II.
597 Первый поход вавилонского царя Небукаднецара
(Навуходоносора) против Иерусалима.
586 Второй поход Навуходоносора. Взятие
Иерусалима. Разрушение храма. Вавилонский плен.
538 Персидский царь Кир, покоривший Вавилон,
разрешает изгнанникам возвратиться в Иерусалим.
525 Покорение Египта Камбизом, сыном Кира.
Ок. 500 Составление „Жреческого кодекса".
444 Опубликование .Пятикнижия".
425—405 Дарий II, царь персидский. Элефантинские
папирусы.
333 Завоевание Палестины Александром Македонским.
380
319 Сирия и Палестина под властью Птолемеев.
198 Антиох Епифан, властитель Сирии, подчиняет
себе Келесирию и Палестину.
165 Восстание Маккавеев.
141 Иудея становится независимой от Сирии.
104—103 Аристобул I принимает титул царя иудейского.
63 Взятие Иерусалима Помпеем, превращение Иудеи
в римскую провинцию.
37—4 Ирод I.
6 х. э. Иудея под властью римских ппокураторов.
66—73 Восстание Иудеи против Рима и революция в
Иудее.
70 Взятие Рима Титом. Разрушение Иерусалима и
его храма.
116 Восстание евреев при Траяне.
132—135 Восстание под предводительством Бар-Кохбы.
Ок. 135—220 Р. Иуда I Ганаси, редактор Мишны.
II. Список царей Израиля и Иуды (после Соломона)
Для хронологии царей основным источником является библия; в
ассиро-вавилонских и других нееврейских памятниках имена
еврейских царей упоминаются спорадически, случайно. Но библейские
данные содержат грубые ошибки, сознательно сфабрикованные цифры и
важные пробелы. Так, для времени и продолжительности царствования
Саула библия вообще не дает никаких опорных данных, а для
царствований Давида и Соломона дает круглые священные числа по 40 лет на
каждое,явно несоответствующие действительности. Несколько лучше
обстоит дело по отношению к хронологии раздельных царств, так как
тут мы можем опереться на некоторые точные внебиблейские данные.
Для датировки разделения царств, начала правления Иеровоама I в
Израиле и Рехабеама в Иудее — 933 г.— мы имеем опору в египетской
хронологии, так как современником этих царей был фараон Шешонк I
(945 — 924). Дата разрушения Самарии — 722 г. — также установлена
точно. Но если сложить указываемые библией годы правления царей
Израиля и Иуды между 933 и 722 гг., т. е, за 212 лет, мы получим для
Израильского царства 242 года, для Иудейского — 257 лет. Очевидно,
что эти три итога между собою несовместимы. Для промежутка в 22 г.
от смерти Иеровоама II G43) до взятия Самарии ассирийцами G22)
библия называет израильских царей Захарию F мес), Шалума A мес),
Менахема A0 лет), Пекахью B г.), Пекаха B0 л.), Гошею (9 л.),
правивших в общей сложности 41 год.
Мы поэтому в настоящей таблице не указываем хронологических
дат. Опорными пунктами для ориентировки могут служить даты,
указанные в табл. I
Цари израильские Цари иудейские
Иеровоам I. Рехабеам (Ровоам),
Надаб. Абия.
Бааса. Аса.
Эла. Иосафат.
Зимри. Иорам,
Омри.
Ахав.
Охозья,
Иордм.
Ииуй
Иоахаз.
Иоас.
Иеровоам И.
Захарья.
Шалум.
Менахем.
Пекахья.
Пеках (Факей).
Гошеа.
Охозья.
Аталия(Гофолия, царица)
Иоас.
Амасья.
Азарья (Уззия).
Йотам.
А хаз.
Хизкия (Езекия).
Манассия.
Амон.
Иосия.
Иоахаз.
Иоаким.
Иоахин.
Цидкия (Седекия).
Ш. Династии Хасмонеев и Ирода
Иуда Маккавей 165—161 Аристобул II
Ионатан „ 161— '43 Гиркан II
Симон „ 142—135 Антиюн
Иоанн Гиркан I 135—104 Ирод I
Аристобул I Ю4—103 Архелай 4 до х. э,
Александр Яннай 105—76 Агриппа I
Александра-Саломея 76—67 Агриппа II
67-63
63-40
40-37
37—4
—6 х. э.
41-44
50-100
IV. Прокураторы Иудеи
16-9 Колоний.
19-12 Амбибул.
12—15 Анней Руф.
15-26 Валерий Грат.
26—36 Понтий Пилат.
36—37 Мариелл.
37—41 Марулд.
D1—44 .царь" Агриппа I).
44—47 Куспий Фад.
48 Тиберий Александр.
48—52 Кентидии Куман.
52—60 Феликс.
60—62 Порций Фест.
62—64 Альбин.
64—66 Гкссий Флор.
УКАЗАТЕЛЬ
ВАЖНЕЙШИХ СЛОВ И ИМЕН
А
Аарон, Аарояиды —213, 214, 251.
Аба-Ариха („Рав") — Зо7.
А6д1хиба-68—72.
Абимелек—91, 98.
А1вакума кн.—223.
Авдия (Обадии) кн.-221.
Авиарар — ЛО, 214.
Авраам—8, 16, 17—19, 23; А. как
бог — 53—54; 73, 74, 93, 94, 98,
115, 117, 121, 122, 208.
Агада —263, 356, 359, 361.
Аггей (Хаггай) 222, 223, 237.
An ец (пасхальный)—/iP—132,205,
320.
Ад- 102,308, 317- 319,320,370,371.
Азазел (Азаел)—105,135-177,188,
204.
Академия (религиозная)—352, 357,
358.
Аквила—181. 286.
Акиба-254, 340 356.
Алейн—173, 207,208.
Алей андрия —269, 270, 272,273,
285, 326.
А л ким— 295.
Алук'а — 105.
Алуф (aluph)—91.
Амврий (Омри)-8, 39, 152.
Ам-гааред—161, 228, 238;
отношение к а. со стороны
книжников— 3.0—143, 364, 368—369.
Аменготеп III и IV —67.
Амореи —356, 361.
Амос—9, 42, 215, 223, 226.
Амрафел — 53—54.
Амулет; рис.—203, 207; 252;рис—
255, 322.
Анания (пророк)—220.
Анат - 148, 171-172, 207.
Анатсетэль-171, 172.
Анзт-Ягу—171.
Ангел -250, 339, 366, 367, 368.
Ангелология—256—257, 335.
Анимистические представления —
Юн, 106, 253.
Антиох III — 265.
Антиохия—269, 270, 326.
Апокалипсис— 307, 308, 311, 315,
316.
Апокалиптика—310, 316, 319.
Апокалиптические видения — 302;
а. литература: 30ч, 312, 317,
Апокриф—247, 317.
Апологетика, апологеты -^-28, 328,
329.
Апостолы (еврейских
патриархов)—355,
Аренда, арендатор, арендная
плата -291— 2^2, 311, 358.
Аристея письмо (см.также Псевдо-
Аристей) -247.
Аристову л I
(царь-первосвященник)-240.
Аристобул (апологет) — 285, 328,
330, 331.
Аристократия (см. также Знать)—
151 159 259
Архисинагог —277, 280, 281, 355.
А'иф.(гуккьт)—210.
Аскетизм—349, с50.
Ассирийские божества —237; а.-ва-
ви донская литература—64,166;
883
а. кодекс —81; а. летописи —38,
53.
Ассирия — 157, 229, 237.
Астарта —48, 174.
Астрализм —ИЗ.
Астральные божества—113.
Астрюк —13—14, 31.
Б
Баал-берит —169.
Баал-зевув —169.
Баал-Пеор —83, 170.
Баал Сафон — 57.
Багой —240, 242, 243.
Бар-Кохба —351.
Бат-кол —36-'.
Бахофен —41, 116.
Бегемот (апокалиптический)—317.
Белох —269.
Бель (Bihl)—54, 72, 78, 115.
Бендингер-30, 1*6.
Бес (см. также Демон)—256, 335,
36/, 368.
Бессмертие (личное) — 304, 305,
317, 334, 338, 346.
Бет-дин — 366.
„Бет-микдаш"— 202.
Бетэль (бог)—172-173.
Библейские авторы—167, 169,176;
б. законодательство—27; б.
канон (см. также Канон)—43; б. 1
книги — 91; б. критика (см.
также Критика библии) — 11—44; ]
б. литература—62, 96, 322.
„Библия-Вавилон"—58. I
БинГорион—31. 1
Бог (богиня, божество) единый I
б. — 86; б.-предок — 113, 122,123, ]
132; отрыв идеи б. от преде
явления рода—164—165, 167—168; ]
отрыв идеи б. от представления
природы —168; еврейские б.,
кроме Ягве—171—174;
финикийские б.—173; переход племен-
Ваал —107, 168—170; пророки В.—
2i5.
Вавилон- 21, 42, 212, 220, 236.
Вавилония—165, 246, 270,357,359,
Вавилонский кодекс — 165; в.
литература (см. также
ассиро-вавилонская литература, Вавилон,
Ахав — 152—153, 169.
Ашам —194.
Ашамбетэль—171,172.
Ашер (племя)—141. 150.
Ашера—48, 107, 103, 189, 215.
Ащима—168.
Аширту —56—57.
ного б. в национального—180,
190; изображения 6.— 182—183;
отдаление и возвышение б.
над людьми —191; б. царь —
201; превращение родового б. в
единого национального б. и б.
вселенной — 244—246; переход
низших б. в ангелов—256;
общий ход эволюции идеи о б.—
321 - 324, 3 7, 328; б. у
Филона— 332—333; отношения
между б. и торой — 366; частичное
возвращение к идее националь
ного б.— 367; ипостаси б.—368-
Богоедство —130.
Богоизбранность —952.
Богословие (древнееврейское)—
75, 164, 245—246, 283, 287, 304,
3i2; раввинское б.—1F5; б.
иерусалимских жрецов—226; б.
жреческое—320; 329, 334.
Богослужебные тексты — 65,245,
246.
Богослужение —201, 208, 235,275,
276.
Брак —349, 373.
Бриггом — 24.
Бриффолт — 94.
Бругш — 144.
Брэстэд —144.
Будде - 23, 27, 30, 40,53,182, 222.
Бурхардт—144,
Буссет — 262.
Бэнч—225.
Бытия кн.—14—17, 22, 23, 41.
Вавилония) — 63, 304; в.
мифология — см. Мифож гия; в.
памятники — 235; в. плен —42; в.
тексты — 198, 227, 265.
Вавилоняне (см. таьже Вавилон,
Вавилония)—165,212.
Ван-Женнеп —106.
В
384
Варух — 42.
Варуха апокалипсис —247.
Ватке —21.
Ватцингер — 52.
Вебер М.—116, 117.
Вейлль — 118, 119.
„Великое собрание"—258—259.
Вельгаузен — 21—30, 32, 49, 64,
84, 109, 221, 340.
Веспасиан — 244, 299.
Ветте, де — 21, 29, 30, 31, 190.
Ветхий завет (см. также Библия,
Писание, Исторические книп;,
Пророческие книги) — 21, 47;
65.
Ветхозаветные книги (см. также
Ветхий завет) — 58.
„ Взвешивание душ" (psychosta-
sia) — 62.
Видеман — 144.
Винер — 29, 30, 40.
Винклер—109.
Виролло — 207.
Гад—8, 40,
Гадание, гадатель — 215, 226.
Галаха —261, 263, 356, 359.
Галилея —276, 277, 325.
Гамалиил II — 356.
Гамалиил IV — 364—365.
Гарнак—319.
Геенна-318,369,370.
Гезер —48, 49, 182.
Гейес—144.
Гелыпер — 31, 49, 103, 119, 173,
189, 190, 215, 221, 236, 259, 303.
Гемара — 336, 356, 359—361.
Гемпель — 30.
Генеалогические записи — 36; г.
предания — 149; г. списки — 95;
г. таблицы — 73.
Генеалогия — 87, 110, 357.
Геризим (Гаризим) —31, 23«, 244.
Герим (геры) - 33, 141, 157, 160.
Герцфельд — 288.
Гиббор хайл (gibbor chail) — 159—
160.
Гидеон —91, 97, 98, 167, 181, 208,
214.
Гиксы 148—149.
Гиллель —259, 261, 284.
.Гилгал"—108.
25-8
Виттер—14.
Вода (в культе) — 107.
Воздаяние (за гробом) —304, 308,
317, 320, 333, 346, 347, 363.
Возлияния — 201.
Вознесение Исайи—247.
Вознесение Моисея — 247.
Возношения (терума)—248.
Воскресение (из мертвых) — 304,
305, 306, 307, 308, 317, 318, 320,
334, 339.
Воскурения — 201.
Восстания (евреев против Рима)—
296, 343-345, 350, 351, 352.
Второзаконие как элемент Шести-
книжия—14; датировка — 20,
21, 23, 29, 30; место
возникновения—31; социальный
характер — 33; влияние на Книгу
царей —39; позднейшая обработка
—188.
Второисайя—42, 223; зависимость
от вавилонской культуры — 245.
Гилеад (племя)-88, 92, 97, 141.
Гильгамеш —123.
Гимн —44, 324,
Гиркан II—276.
Гоббс —13.
Гоитейн — 94.
Гораций —273.
Гор культ — см. Культ гор.
Гошеа (Осия) —226, 231.
Гошен — 66, 77.
Граф —21, 24, 28.
Гресман (Грессман) — 24, 27, 30,
61, 77, 144, 186.
Грех, греховность — связь с
ритуальной нечистотой —194;
талмудическое учение о г.— 368—370.
Гримме — 50—51.
Гункель —17, 18, 26, 30,44,53,
73, 77, 118, 186.
Гупфельд — 14.
385
д
Давид-8, 12, 33,35, 43—44.97, 1
98,112, 156, 174, 177, 214. /
Дамаск —156, 166, 326.
Дан (племя)— 140, 141. I
Даниила кн.—247, 306, 307. J.
Двенадцать колен —39, 88, 141.
Дейсман — 286.
Делич — 64— 65. }
Демон (см. также Бес): раститель- }
ный д.— 108, д. болезни — 137, j
рис.— 255, д. по талмуду — 367.
Демонология — 257, 304, 335, 367.
День очищения (см. также Иом-
кипурим, Судный день)—105,
135, 137.
День трубного звука—199—200,212.
Дерево в культе — см. Культ
деревьев.
Десятина (церковная)—111, 249.
Десять заповедей, Декалог (см.
также Этические заповеди) —
82, 133.
Десять колен — 39, 88.
Диалекты еврейские—95—97.
Диаспора—176, 264,265—273,274,
279, 282, 284, 287, 304, 311, 319,
320, 321, 326. 334, 335, 336, 346,
358, 362.
Евреи (см. также Исход и
Пребывание евреев в Египте):
племенной быт — 37; эпос у е.—39;е.
и хабнри — 72-^75; позднее
появление монотеизма —84—86; род
у е.—90; миф об объединении —
142; рис.—147; е. игиксы—148;
поселение в Египте—149—150;
торговля у е.— 156—157; рис.—
157; заимствования у других
народов —165; перенимание
чужих богов—174; занятия в
диаспоре — 268—269; войны и
восстания— 288.
Еврейское государство:
возникновение и характер —164;
зависимость от других государств —
165; е. законодательство—79; е.
национальность — 3; е.
мифология — 148; е. предание — 148; Е.
Дибелиус — 186.
Димитрий (сирийский царь)--266,
295.
Дорнзейф — 27.
Древнеассирийекие тексты (см.
' также Ассирийские источники,
Летописи)—114;д. кодекс—81.
Дубнов — 85, 234, 340.
Дурной глаз — 367—368.
Дух (см. также
Душа)—первоначальные представления о д.—
100—102; злые и добрые д.—103
—106; духи деревьев, растений,
камней, источников, гор—107—
109; д. предков — ПО—112;
почитание д.— 123; дух-губитель—
129, 132, 205; д. плодородия,
растительности — 132—137;
вытеснение д. богами — 164—165, 167;
205, 339, 368.
Душа (см. также Дух):
первоначальные представления о д.
101—103; анимистические
представления о д.—106, 306, 317;
338.
Дьявол (см. также Бес, Демон)—С08
Дюркгейм — 99.
Дюссо —207-208.
энциклопедия — 85; е. язык — 96
285.
Евсевий —269, 276, 328, 330, 351.
Египет (см. также Исход)—58, 66,
67, 76, 157, 165, 229, 246, 268,
269, 270, 271, 273, 288.
Египетская литература — 63: е.
мифология — см. Мифология; е.
плен — 73.
Единобожие (см. также Монотеизм)
— 86, 334.
Езра—12, 21, 23, 244, 259.
Езры кн.—247.
Елисей —39, 188, 204, 216, 217,
218, 230.
Еноха апокалипсис — 247.
Енсен (Jennsen)—113.
Ессеи —336, 337, 339; учение е.—
347—350.
Е
386
ж
Женский праздник —см. Праздник.
Женщина (в талмуде) —372—373. -
Жертва — 22, 37; ж. первенцев,
первинок—132, ж. всесожжения,
„ж. за грех", „ж. мирная", „ж.
приношения"—57, ж. первенца—
185; рис.—189;
искупительно-ритуальная ж.—250;
искупительная ж.—347.
Жертвенник —30, 201.
Жертвенное животное — 57, 205;
ж. кровь (рис.)—205; ж. тариф—
57.
Жертвоппиношение —123,184,185,
201—202, 212—214, 226, 248,249;
рис-277; 282, 338.
Житие Адама и Евы — 247.
Жрецы (см. Жречество) —
редактирование библейских книг —
17, 21, 121, 149, 246—248, 251\
общественное положение и
функции—22, 111, 184, 213—214
(сословие ж.); наследственность
звания ж.—97; эксплоатация
населения —190—191, 212,238-
239, 248—250, 251; конкуренция
с колдунами и ж. других
религий— 206; ж. и пророки—220,
226; ж. в изгнании—235;усилёние
Завет—22—23.
Заветы 12 патриархов—247.
Загробноо существование (см.
также Бессмертие)—306.
Заклание—132, 320.
Заклинание—123, 138.
.Закон" (см. также Толкование
закона)—20, 21. 22, ,251. 274, '256,
258, 262, 264, 274, 287, 320, 321,
331, 338, 339, 346, 347, 356, 363,
366, 368.
• Закон Моисея"-—см. Книга закона
моисеева.
Законодательство библейское—153.
366, 368.
.Закон святости*—16.
Заксе—54.
Запреты (см,также Табу)-218,253.
325, 346.
жрецами национальной
обособленности —128, 252—253;
фиксация культа и ритуала—135,253—
254, 283—287; влияние на ж. со
стороны других религий — 254—
256; ж.— хранители „закона" —
257—258; упадок влияния ж.—
263—264; положение в
синагоге—276, 277; 111, 132, 209, 24
273, 284, 302, 316.
Жреческая власть—98; ж.
доктрина—22—23; ж. организация — 25;
ж. обязанности—90; ж. функции—
37, 214; ж. богословие—320; ж.
сословие—246, 254, 263,267,277;
ж. творчестЕО—16.
Жреческий кодекс—какосновна-я
часть библии—14,20; датировка—
21; идеология Ж. к.—22; 23;
сложность состава — 26; влияние на
другие части библии—35.
Жречество (см. также Жрецы)—35,
48; ж.—эксплоататорская каста—
190, 214, 235; вражда населения
к ж.—238; ж. на службе
персидского правительства — 239; 245,
248, 254, 257, 282, 299, 320, 344,
363.
Захария—222.
Зевулон (племя)—141, 150.
Зеллин—83, 221.
Зелоты—300, 344, 345, 346.
Землевладельцы—311, 346 (мелкие),
352, 358.
Земледелие—358.
Земледельцы (см. также Крестья-
не)-234.
Зерубабель (Зоровавель)—237.
Зете—51.
Зиммун—365.
Змея (в культе)—107, 182.
Знать (см. также Аристократия) —
168, 233, 238, 297, 338, 339, 346,
347.
Знахарство—220, 226.
Знахарь—215.
3
25*
387
и
Ибн-Эзра—/7-/2, 30.
Идолы—178.
Иегова—14, 175.
Иеговист—17, 23.
Иезекииль—202, 218,221—222,227,
235 254
Иезекииля кн.—42, 221, 222.
Иерахмеел (племя)—141.
Иеремии кн.—9, 20, 42, 223.
Иеремия—153,219-220, 227, 235.
Иеровоам — 155, 180, 210, 214, 223.
Иерократия —195, 213, 240, 254,
264, 265, 266, 267, 347.
Иероним—250, 355.
Иерусалим—220, 234, 238, 239,297,
315, 320, 325, 351.
Иецер-гара—36!3.
«Избранный народ"—25, 315.
Измаил (раввин)—364.
Израиль (см. также Израильское
царство)—21, 37, 72, 83,145, 149,
157, 328.
Израильское царство — 38, 39, 210,
214, 225, 229; и.-иудейские
надписи—48; и. стела—рис.—74, 75.
Израильтяне (см. также Израиль) —
72, 74; рис.—87.
Иисус Навин—31, 103, 204.
Иисуса Навина кн.—11, 40, 46.
Иисус, сын Сирахов (Сирах) (см.
также Премудрость Иисуса, сына
Сирахова)—246-247,260,317,363.
Иисус, сын Перахии—259.
Иисус (Христос)—29, 65.
Илия (Илья)—188, 203, 217, 218,
310.
Ильген—14.
Императоры римские—352—356.
Интронизация: Мардука—196;
(воцарение) Ягве—198—200.
Иом-кипурим (см. также День
очищения)—138, 198, 247, 369, 370.
Ионатан (первосвященник)—297.
Иосе, сын Иоезера—259.
Иосе, сын Иоанна—259.
Иоанн (ессей)—350.
Иоанн (первосвященник)—240.
Иоанн бен-Заккай—352.
Иоанн Гиркан 1—238.
Иосиф Флавий—см. Флавий.
Иосиф (библейский)—15—16, 67,
76, 96, 115, 117, 121.
Иосиф (первосвященник)—344.
Иосия—21, 31, 111, 190.
Йофор—93, 176.
Ипостась—см. Бог.
Ирод 1—284, 297, 345.
Исаак (пагриаох)-8, 16, 41, 93,
115, 117, 122.'
Исав—117.
Исайи кн.—9; датировка и анализ—
42-43, 223.
Искупление-347, 370.
Иссахар (племя)—141.
Исторические книги (Ветхого
завета)-^ 16, 20, 35-41, 52, 84,
91.
Источники (библейских книг)--
35—37.
Источники священные—107.
Исход (евреев из Египта) (см. так-
,же Миф)-66, 75—77, 82,143—149,
252.
Исхода кн.—15, 23.
Иуда (библейский)—96.
Иуда Галилеянин—345.
Иудаизм (см. также Иудейская
вера и Иудейская религия)—3,
5—6, 58, 65; его зависимость
от религий соседних народов—
166; 245, 254, 274, 284;
пропаганда и.—326—327; направления
в развитии и.—336; усиление
узко-национальных черт в и.—363.
Иуда и Тамарь (новелла)—16, 76,
146.
Иуда I (патриарх)-ЗОЬ 356, 364.
Иудеи—148, рис.—149; отношения
с самарянами—238;
распространение и.—268, 273.
Иудея-33, 39, 48, 155, 157, 191,
210, 227, 229, 233, 237, 238, 239,
240, 245, 246, 250, 265, 268, 274,
284, 287—289, 293, 296—297, 303,
304, 311, 325, 334, 335, 346,350—
351, 358, 362.
Ифтзх (Иевфай)-ЗЭ, 92, 96, 113.
156.
Иштар—рис.—185; 227.
388
к
Кадет—31, 66, 76, 82, 85, 142.
„Кадит"—311, 319.
Каин—33.
Калеб-96, 141.
Каличе—75.
Камней культ—см. Культ камней.
Канаан (Canaan)—47.
Канон (см. также Книги
исторические и Книги пророческие)—
223, 246—247, 258.
Капитал: к. ростовщический—290,
294, 304, 346; к. торговый—288,
289, 294, 304, 334, 346.
Кармел—72, 109.
Каро Иосиф—361.
Карфаген—58.
Каутский-32, 236, 340.
Каучш—306, 320.
Кемош—172.
Кениг—26, 73.
Кениты—141,
Керубы—179, рис.—181.
Кир—10, 42, 236.
Киттель—27, 32, 49, 66,84,115,116,
127, 133, 144, 219, 238.
Климент Александрийский — 328,
330.
Клинописные памятники—172; к.
тексты—207, 237.
.Книга войн Ягве"—41, 122.
„Книга доблестного"—40.
„Книга завета"—16, 33, 78—79, 81.
Книжники—239, 247, 254;
деятельно аь-258—265, 320; 275, 282,
287, 316, 320, 328; влияние на
к. греческой философии—330,
334; влияние персидской
религии—335; направления среди к.
—334, 336, 341, 356, 374.
Кнудтзон (Knudtzon)—68.
Ковчег (завета)—186, 194.
„Козел Азазела"—см. Азазел.
„Козленок в молоке"—47, 123.
Колдовство—38; отношение
религии к к.—205—206.
Колдун—204.
Колено (племя)—88—89, 94, 141,
152.
Колоны—293.
Комментаторы (библии)—135, 232,
Конец света—320.
Копперс—86.
Корн иль—30.
Кочевники (завоевание Палестины)
—163—164.
.Кошерное и трефное" —123.
Крестьяне (см. также
Земледельцы)—229, 234, 245; положение
к. в римскую эпоху—2 91;
революционное движение к. —300, 345;
311, 335; положение в
Вавилонии—358.
Крестьянство (еврейское) (см.
также Крестьяне)—288, 346, 350.
Крещение—283.
Критика библейского текста (см.
также Библейская критика)—11
—45, 221.
.Критическое богословие"—28; к
школа—26.
Кровная месть—88; к. родстве—110.
Кукиш (магическое значение)—368,
Культ: централизация к.—21, 24,
82, 190, 201, 214, 274; 22, 23, 35,
45, 48, 99, 131, 278, 283, 287, 335
360; эволюция к.—25, 26,44,265
274, 321; к. Ягве (см. также
Ягве)—39, 50, 84, 85; к. деревьеь—-
106—107; к. камней—108; к. гор—
109; к. луны—109; к. предков—
110—111; характер к. в родовую
эпоху—114—123; монополизация
к. жрецами—128; к. козла—135—
196; к. красной телицы—136, 137;
смена родового к. культом
местных богов—165; смена к.
природы и предков к. местных богов—
167; содержание к.—201—202;
заимствования из чужих к.—254—
255; к. низших божеств—225, 257;
храмовый к.—262, 263, 264, 274,
276, 320, 321, 347, 363, 372;
влияние эллинской культуры—277,
283; синагогальный к.—284, 320;
к. царей и императоров—324;
распространение восточных к.—
325; усложнение к,—372.
Культовое действие —198; к.
община—23; к. практика—37, 246,
252, 283; к. формула —44, 45.
Купцы: появление класса к.—156—
157; 278, 311, 325, 346.
Куртисс (Куртис)—47, 205.
389
л
Лаван—112.
Латифундии—293.
Лахишские письма—48.
Леви И.—77.
Левиафан—317.
Левират—94—95.
Левит кн.: состав—16; датировка—
23 201.
Левиты—22, 213-214, 321.
Легенда (см. также Миф и Сага)—
36, 46, 47, 76, 87, 98, 115, 116,
122, 147.
Лекяерк Жан—13.
Леман-Гаупт—75.
Ленин—4, 34, 163.
Леонтополис (храм в Л.)—244,299.
Маги—204.
Магические действия—106, 210,
218, 227; м. значение—211; м.
литература—285; м. обряды— см.
Обряд; м. представления—206;
м. приемы—218;м. формулы—206.
Магия—204—206.
Маймонид Моисей—361.
Макалистер—8, 25, 182, 183.
Маккавеев кн.—247, 290.
Маккавеи—287, 295.
Малеахи кн.—20, 222.
„Мамврийский дуб*—см. Культ
деревьев.
Манаим (Менахем)—298.
Мардук—63, 196—200.
Маркс—4, 90, ПО, 129, 163, 323.
Марти—27, 30.
Марциал—273.
Масличная гора—см. Культ гор.
Масореты—85, 136, 174, 179, 181.
Массеба—48, 108, 111, 112, 226.
Материнское право—90.
Матриархат—93—94.
Мауренбрехер —33.
Махир (племя)—88, 141.
Махпела—98.
Маццот (см. также Праздник)—
129, 202, 207—209.
Машхит-105, 129.
Мегиддо—38, 49.
Мезуза—204—205.
Мейер Э.—76, 82—83, 117, 118,126,
144, 186, 224, 243.
Лер—26, 30.
Летописи—36; »л. царей израиль-
•, ских*—40; „л. царей иудейских"
—40.
Лидаа—352.
Лисимах—294—295.
Литургические произведения—220;
л. тексты—44, 196, 197, 201, 310,
322.
Л оде—24, 141, 186.
Лунный праздник—см. Праздник.
Луны культ—см. Культ луны.
Люмпешгролетарии
(древнееврейские)—272.
Лютер Б.—117.
Мейнгольд—132, 186.
Мемра—368.
Менахем—154.
Менгир (рис.)--109.
Менелай—294.
Менепта—66, 75—142.
Менее—32—33.
Мессианизм—75, 228, 264, 276, 302
—321, 334, 346, 351.
Мессия—303, 304, 309, 314, 315,
320, 321, 328, 334, 347, 363; эво
люция образа м.—310—313.
Метатрон—368.
Меша—166, 167, 174.
Мидраш—124, 361.
Милка—113.
Миф (см. также Исход, Легенда и
Мифология)—15, 16, 22, 36, 39
41, 47, 54, 55, 66, 78, 87, 93, 98,
115, 118; критический подход к
M.-146—148; 245.
Мифология: значение для истории
—41, 45, 54, 57, 65, 66, 67, 78,
86, 99, ПО, 148, 765, 172, 255,
323.
Миха—219.
Миха-Иегу—178.
Михея кн.—9, 20; датировка—42.
43 223.
Миш'на—291, 300, 301, 336, 356:
358, 359. ЛЪ •
Мишпаха—88.
.Младший элогист"—14.
Многобожие (см. также Полите-
М
390
.i3m): возникновение—109;
переход к м.—166.
Мовинкель— 45, 193, 200, 206, 220.
.Моисеев завег"—31; „М.закон"—
29э; М. книги—см. „Книги М.";
„М. религия"—84.
Моисеи — полемика относительно
составления им Пятикнижия—
11—13; 20, 22, 23, 25, 30, 31, 33,
43, 50; рационализация мифа о
нем—66; опровержение его
исторического существования—77
—78, 82, 93, 204.
Молитвы—275, 368, 339.
Молитва Манассии—247.
Навуходоносор—160, 191, 233.
Надписи синайские—49—52; 96,
275, 278.
Налоги: в пользу храма —250, 265,
289, 358; участие духовенства
в их Взимании—8, 23, 266, 357,
Наси-352.
Натан—8, 40.
Наума (Нахума) кн.—42, 228.
Нахор—114.
Негардея—358.
Нельдеке—121.
Нефеш (nephesch)—100—102.
Нехемия-8,23,238, 248, 253.
Нехемйи кн.—23, 35.
Об и ид'они—204.
Обрезание—126—127, 252.
Обряд: испытания неверной жены
—25; магические о.— 45,107, 123,
126, 129, 133, 134, 138, 205, 210,
247, 303, 335; о. погребения —
103—104; траурные о.—104; о.
перехода (.rites de passage) —
105—106, 127; о. обновления луны
—134; о. с козлом Азазела—135,
137; о. очищения —25, 136, 139;
о. с красной телицей—137, 194,
204; о. вавилонские—197—198;
ритуальные о.—335;
талмудические о.—371—372; 200—204,208,
230, 252, 336.
Обрядность (см. также Обряд) —
203, 206, 20*, 247.
Обрядовое действие (см. также Об-
Молцтвенное собрание—276.
Молох—174.
Монотеизм (см. также Единобожие)
—26, 63,85,135,188, 220; ложность
представления о м. древних
евреев— 225; „этический м."— 227,
245; социальные условия
возникновения м,— 246; утверждение
м —32/-ЗЛ?; 335, 367.
Монотеистическая религия—86; и.
философия—335,
Мория—11, 109.
Мот—207—208.
„Мытари"—267.
Мушкену—160.
Нехунья—365;
Нехуштан—182.
„Нечистое"—194.
Нечистота ритуальная: 105,373;,н",
роженицы—106.
Нешама (neschama)—100, 101.
„Нидда"—194.
Николай Дамаскич—340.
Никольский Н. М. — 34, 45, 113,
154, 155, 206.
Нового года праздник—см.
Праздник.
Новолуния праздник —см.
Праздник.
Нон—22.
ряд, Обрядность)—45; о. печенье
—202; о. пляски-210; о.
практика—226.
Община: о. территориальная—228;
о. религиозная-—21, 238, 274; о.
храмовая—24, 282.
Общинная собственность (на
землю)—88, 152, 164.
Олбрайт—40.
Омовение ритуальное—105, 348.
Ония—250.
Опресноки—202, 208.
Оракул-42, 184, 220, 227,246,304,
312.
Осии кн.—9, датировка—42,223.
Остраки (самарянские) — 169, 270.
Откровение—20, 22, 24, 25, 67.
„Откровение Иоацна" (Апокалин-
сис)-307-319.
Н
О
391
п
Палестина—44, 48, 67, 72, 73, 75,
76, 87, 140, 142,143,146, 155,163,
186, 219, 237, 246, 274, 287, 293,
320, 325.
Паломники, Паломничество—129,
254, 274.
Панвавилонизм—57, 113.
Папирусы: Анастаси п.—145, 146;
арамейские п.—48; Гаррис
(Harris) п.—144,145; Лейденский п.—
144; Элефантинские п.— 48,96,
114, 168, 172, 175, 188, 238, 240,
рис.—242; 251, 270.
Паралипоменон (см. также Хроник
кн.)—35.
Паска—105, 128; происхождение
праздника п.—129, 131;
историческая эволюция праздника п.—
206, 209.
Патриархи (ветхозаветные) — 91,
93,110; п. как боги-предки—113,
115, 146; мифичность п.—Ив—
118.
Патриархи (христианской эпохи)—
250, 352-357.
Первенца жертвоприношение —
185—186.
Первинки: ритуальное вкушение
п.—208; п. как подать—248.
Первоисайя —42; датировка—223;
231.
Первопредок—110, 115.
Первосвященник — 239, 240, 242,
243, 247, 257, 259, 262—264, 267,
270, 276, 284, 289, 299, 343, 346.
Перевод (библии) (см. также Септу-
агинта)—284—286.
Передняя Азия-58, 67, 81, 84, 86,
146.
Перейр, дела—12—13.
Персидские верования—304; п.
правители—357; п. цари (в библии)—
265; п. сатрапы—234.
Перушим (см. Фарисеи)—340, 341.
„Песня Давида на смерть Саула и
Ионатана"—40.
.Песня Деборы"—39, 88, 91.
„Печать Каина"—47, £6.
Плащ (его роль у пророков) —
217—218.
Племя —27, 66, 67, 89, 91, 92, 93,
96, 165, 140—143, 150;
исчезновение племенного строя—158—159.
Плен (вавилонский)—233 ел.
Плиний—347, 349.
Пляски (в культе)—127, 210.
Повинности (см. также Подати и
Налоги)—155, 254.
Подати (см. также Повинности и
Налоги)—234, 248-249, 251, 357,
358.
Покаяние—363, 369, 370.
Политеизм (см. также Многобожие)
—26, 166—174.
.Помазанник божий"-—10, 200, 289,.
313.
Послание Иеремии—247.
Пост—370.
Потоп: миф о п.—16", 46.
„Поучение Амен-ем-опе"—60—61.
Поучение Ипувера—224.
Праздник (см. также Маццот,
Пасха, Празднества, Пятидесятница,
Суккот): п. траура (женский п.)
—132; п. полнолуния — 133—134;
гаимствования п. из Вавилонии
и Египта (новый год, суббота,
ханука, пурим)—165, 255; п.
нового года—196,198,199,212—213;
п. восшествия на престол — 200;
важнейшие праздники
(происхождение, характер, эволюция)—
пасха, пятидесятница, суккот,
земледельческие п., п. нового
года— 206—213; 247; 370.
Пребывание евреев в Египте—145
-146.
Предания — 16, 24, 36, 37, 46, 47,
87, 91, 98, 118, 148, 246.
Предтеча (мессии)—310.
Прейсс—86.
Премудрость Соломона—247.
Притчи—60; влияние на п. со
стороны Вавилонии и Египта —165.
.Прозорливец"—215.
Пропаганда (еврейской веры) —
362—363.
Пророки (см. также Пророческие
книги, Пророчества) — роль п. в
кн. Хроник—35; 37, 38, 149, 316;
характер авторства п.—42—43,
121, 220—223; зависимость от
вавилонских источников—58; яеы-
ческие п.—107; п, и патриархи—
143; характер деятельности п.—
214—220, 239; содержание и ха-
392
рактер проповеди п.—190, 209,
220, 224—231; литературная
оценка п.—231—232; рис.—280,
рис.—281.
Пророческие книги (см. также
Пророки, Пророчества)—20, 42—43,
53, 58, 165, 221—225, 227—228,
303.
Пророчества (см. также Пророки)
42, 43, 219, 223.
Проституция храмовая—202.
Псалмы: „П. Давида"—10;
критический анализ характера п.—
43—45, 322; влияние Вавилонии
и Египта-58-59,165, 195—201.
Рабы (см. также Рабовладение,
Рабство): р. у евреев и появление
частной собственности на них—
150—152; р. на земледельческих
работах—153; увеличение числа
р.—159; роль р. в хозяйстве—161
—163; ISO, 229, 273,311,327,335;
подчинение „закону"—254;
революционное движение среди
р. — 298, 300, 346; отношение
талмуда к р.—364—366.
Рабовладельцы—162, 163, 278, 311,
327, 344, 364, 365.
Рабовладельческое государство—
163; р. общество—86, 162—304;
р. хозяйство—162.
Рабовладение (см. также Рабы,
Рабство)—161.
Рабство (см. также Рабы,
Рабовладельцы, Рабовладение) —153,
162, 164; продажа в р. за долги—
153, 230, 273.
Раввинская литература—124, 267,
317, 364, 368; р. произведения—
360; „р. учение"—346.
Раввины, 1-аввинство—85, 123, 137,
209, 254, 259, 299, 334, 352, 357,
359, 360, 362, 365—369, 371, 372.
Рав-Гуна—357.
Рай—317; эволюция, идеи р.—318—
319; 320, 370, 371.
Рамзес 11-66, 73, 77, 142.
Рамзес III—73, 145, 146.
Рамзес IV—73.
Раскопки-8, 47, 49, 52, 67, 72, 78,
108, 148, 207, 276, 277.
Рас-Шамра—108, 318.
„Псалмы Соломона'—312,320—321 ..
Псевдо-Аристей (см. также Арис-
тея письмо.—271, 284—285.
Псевдэпиграфы—222, 247, 312.
Птолемей-234, 265, 271, 284, 285,.
287.
Пумбедита—358.
„Пурим"—см. Праздник.
Пятидесятница (см. также
Праздник)—129.
Пятикнижие (см. также Библия,
Ветхий завет) —11—13, 24, 27,
31, 251; самаритянский и другие
переводы—238, 246.
■ Рахиль—112, ИЗ.
: Редакторы (библии) (см. также-
Редакция)—17, 38, 150, 180, 214,
220, 258.
I Редакция (библейского текста) (см.
' также Редакторы)—140,173, 195,,
287.
■ Рейсе—21.
i Рекабиты—231.
э Ремесло, ремесленники—155, 345,,
346, 350.
, Рехабеам (Ровоам)—97, 155.
„Рефаим"—102.
- Рим, римляне—234, 266, 267, 287,
!; " 288, 302, 326, 345, 374.
Римские императоры—см. Импе-
[, раторы; Р. империя—346, 357;
р. правительство—353.
- Ритуал-25, 45, 58, 99, 127, 128,
?, 220, 246, 251, 254, 263, 283.
Ритуальное вкушение—132; р.
нечистота—см. Нечистота ритуаль-
', ная; р. омовения и очищения—
202, 283; р. поедание—320; р.
чистота—191, 194, 253, 346, 372.
', Робертсон-Смит-45—46, 49, 99.
', Робинзон—221, 222.
?. Род—86, 89—96, 97, 100, 110, 159,
184; характер религии в р.—
131—132; разложение р.—164—
165, 167.
Родовое божество—132; р. быт—
98; р. знать—см. Знать; р.
институт—88, 94; р. имя—110; р. клад-
3, бище—98; р. общество—99, 130;
р. отношения—95, 99, 158; р.
право —19; р. совет — 92; р.
Р
393
строй—84—99, 100, 114, 131,151
158, 159, 164, 166—167, 184; р,
эпоха—91. ,
Родовладыка (см. также Род)—91,
ПО, 131.
Родословие (см, также
Генеалогия)—23.
Родословная (см. также
Генеалогия)—ПО.
Сага—116, 119.
Саддукеи—336—339, 343—344, 347.
Садок—212, 347.
Самарянские остраки (черепки)—
39, 154, 156, 170.
Самаритяне (самаряне)—24, 128,
131, 237—238; 253; пасха у с—
132
Самария—39, 168, 237—238, 239.
Самсон—187.
Самуил (глава религиозной
академии)—358.
Самуил (пророк)-8, 37, 38, 97, 98,
102, 214, 216.
Самуила кн.—16, 23, 43, 44;
датировка—30;
литературно-исторический анализ— 35—38; деление
на составные части—40.
Сара (богиня)—113.
Саргон—77.
Сатана—256.
-Саул—8, 35, 37, 38, 39, 98, 102,
216—217.
Себаот—286.
Седекия—см. Цидкия..
Се дер—319.
Селевк, Селевкиды—234, 250, 26о,
287.
Сенека—326.
Септуагинта—44, 284—287.
Сепфорис—352.
Сивиллины книги—247.
Сикарии—297—302, 344, 346.
Силоамская надпись—39, 48; С.
канал—8.
Симеон (племя)—141.
Симеон Праведный—269.
Симон Ришар—13.
Симон бар-Гиора—298.
Симон бен-Гамлиил—344.
Симон, сын Шетаха—259.
- Синагога —274—277, 279, 281, 334,
344, 353—355, 356.
Ростовщики (см. также
Ростовщичество)—289, 290, 302, 345, 346.
Ростовщичество (см. также
Ростовщики)—158, 229, 289, 290.
Рош-гашана (см. также Праздник
нового года)—198, 213, 369, 370.
Руах-110.
Рувим (племя)—140—141.
Синай—16, 31, 49, 50, 109, 186.
„Синайский завет"—31; „с*
законодательство—31.
Синедрион-259, 284, 344,352.
Синкретизм—106.
Сирийская сатрапия —239, с. цари
257.
Сирия — 8, 219, 265, 268, 270, 287,
288.
-Сихем—76, 91, 92, 142, 146, 210.
„Сказка о двух братьях"—55—56.
Скворцов-Степанов—34.
Сны; Сновидения (вещие) —202,
215, рис.—217, 367.
Соломон —46, 155, 214;
приписываемая ему литература (см.
также Притчи и Псалмы)—40,60,62.
„Софер"— 258, 260.
Софонии кн.—см. Цефании кн.
Спиноза — 11—13, 29,32, 34, 65,237.
Сталин—163.
Старейшина, Старшина—22,91—92,
97, 128, 131, 159-160, 161, 276.
„Старший элогист" (см. также Эло-
гист)—14, 20.
Стоики-329, 339.
Страшный суд—304, 307, 308, 317,
319, 320 (суд)-363.
Струве—144—145, 188.
Суббота: начальный характер с. и
его изменения —13i—134; 165;
усиление строгостей в
соблюдении с.—253, 346; с. у есеев—
348; декреты римских
императоров о с—353; с. в талмуде —
371-372.
Судей кн.—16,23, 28; датировка —
30; литературно-исторический
анализ—35—37, 40.
Судный день (см. также День
очищения, Иом-кипур)—25.
Суккот—129, 210—211, 259.
Сумерский кодекс—81.
С
394
т
Табор (гора)—109.
Табу—123, 191, 252.
Таинство—283.
Талмид-хахам —341, 343, 347, 356,
361, 364.
Талмуд —262, 263, 274, 289, 301,
346, 356, 358, 364—372.
Талмудисты—137, 351.
Талмудические воззрения (см.
также Талмуд) — 342; т.
законодательство—292, 293, 302; т.
идеология—362; т. литература—261;
т. правила—371; т. трактаты —
359, 372; т. школы—362.
Таммуз—174.
Таннаи—356, 361, 362.
Тар фон—364.
Татуировка—96.
Тацит—291.
Тегарот (талм. трактат)—372.
Теократия—37, 48.
Теофорные имена—114, 169,172.
Терафим—112, 226.
Терах—113.
Терума—см. Возношения.,
Тефилин (Тефиллин) — 204—205,
252, 366.
Тешуба—369.
Тобиады—266, 284.
Товит кн.—247.
Толкователи закона—259—261.
Фаллические обряды—203.
Фанния (Пинхас)—299.
Фарисеи — 264, 300, 336—347; 352,
356, 374.
Фельтер (Volter) — 50.
Филон (Александрийский) — 263,
268, 269, 275, 276, 285, 286, 320,
329, 331-334, 347, 348, 349, 350.
Филон (Библосский)—172.
"Философия греческая (см. также
Эллинизм, Эллинистический) —
328, 329, 335.
•Финикийская мифология — 172; ф.
тексты—113, 150, 207.
Толковники—284, 285.
Тора — 34, 264, 363, 366, 368, 369,
370, 371.
Торговля —156—157, 288, 323, 32о.
Торговцы (см. также Купцы)—344,
352.
Торрей—222.
Торчинер—26—27.
Тосефта—359.
Тофет—318.
Тотемизм—124—125.
Тотемистические верования (см.
Тотемизм)—126; т. животные —
125; т. обрядность—126; т.
представления—124, 253.
Традиция: т. библейская — 41, 93,
99, 141, 334; т. талмудическая —
258; т. устная —22, 24, 119, 143,
.148, 260-261, 331, 339.
Трапеза: пасхальная т.—131;
ритуальная т.—130, 276, 283, 350.
Трауры (см. также обряды
траурные)—105.
Третьеисайя—42.
Трог Помпеи—291.
Трубные звуки (ритуальные) —199
—200, 212.
Тувим—282.
Тутмос II—146.
Тутмос III—54-67, 146.
.Тысяча"—91.
Финикияне, финикийцы — 58, 150,
157, 173, 288.
Фишер—319.
Флавий Иосиф-148, 238, 266, 267,
268, 270, 271, 273, 275, 287, 288,
290, 294, 295, 296, 297, 299, 300,
326, 328, 336, 338, 340, 344, 345,
347, 34Э, 350.
Флиндерс Петри—49, 51, 75.
Фольклорный матерная—47.
Фрэзер -46—47, 99—100, 105, 123,
132, 255.
Уза—194. Урим и Туммим—184.
Умерщвление плоти—370.
Ф
395
X
Хабер—340—342, 347, 364.
Хабири (Хабиру)-70, 72— 75, 141 —
142.
„Хаяица*—94.
Хаммураби—53—54.
Хаммураби кодекс—78—79,81,153,
291 292.
Ханаан —20, 140, 149, 150, 151,
156.
Ханаанеяне—85, 93, 150, 165, 173.
Ханаанские влияния—57; х.
культы—85; х. население—93, 190.
Ханука—см. Праздник.
Харан—114.
Хасидеи—295.
Хасмонеи (см. также Маккавеи)—
240, 266, 284, 295, 347, 363.
Херембетэль—172.
Хеттское влияние: рис.^187; х.
кодекс—80—81, 165; х.
памятники—138; х. цари—72.
Хетты—138, 165.
Хизкия—30, 39, 96.
Хилкия-21, 191.
Хорив—109, 186.
Хорреи—149.
Xopcr (Horsf)—29, 30, 190.
Храм —35, 108, 191, 235, 244, 282,
289, 347, 348, 372; разрушение
х.— 233; богатства х.— 250; его
влияние и деятельность —
262—264, 273-274; упадок
влияния х.— 321; х. и синагога —
334.
Храмовая община — см. Община;
х. проституция—202; х. доходы—
239; х. казна—289.
Христиане—310, 351, 353, 363.
Христианство —308, 317, 320, 322,
334, 336, 362, 363, 364.
Хроник кн. (см. также Паралипо-
менон)—12, 38, 40, 43, 86-87;
литературно-исторический ана-
"лиз— 35.
Хронист—35, 37.
Хронология (библейская)—37, 52,
54, 67.
Ц
Царей кн.: влияние на них более
"древних частей библии^-16, 20,
23, 31, 35, 37;
литературно-исторический анализ—38—39.
„Царица небесная"—174.
Царская власть (обожествление)—
195.
Царь—22, 37, 39, 91, 92, 97, 98,
153—154, 189, 284;
обожествление п.—195, 198, 201; отношения
с жрецами—214.
Цел л ер—328,
Церемониал богослужебный —254
-255.
Церковная десятина—см.
Десятина церковная; д. организация—
25.
Цефании (Софонии) кн.—9;
датировка— 42, 223.
Цидкия (пророк)—219.
Цидкия (Седекия) (царь)—230,233.
Цицерон—268, 269, 273, 274, 330.
Цицит—252.
Частная собственность (на зем- Числ кн.—23, 40, 41.
лю)-152—153. „Чистое'—194.
„Четыре царя против пяти" (эпос)
—53.
Ш
Шаба—144—145.
Шамак-204, 216.
Шаммая школа—369.
, Шемоне-есре"—307.
Шеол-102-103.
Шестикнижие—12, 28, 37, 75;
источники Ш.—14, 16, 20, 21, 30,
41; датировка его частей—23,
24, 30.
Шехина—368.
396
Шешонк—146.
Шмидт В.—86.
Шнейдер—28—29.
Штаде— 26, 27, 133.
Штрак—362.
Штэрк—29, 30, 83.
Шюрер—341.
Э
Эвальд—347.
Эдомитяне (эдомиты) —117, 141,
144.
Экзиларх—357.
Экзогамия (у евреев)—93.
Элеазар (первосвященник)—284—
285.
Элеазар (сикарий)—297.
Элеазар бен-Азария (бен-Азарья)—
357, 365.
Элеазар бен-Анания—344.
Элеазар бен-Симон—344, 364.
Элефантина—188, 241—244.
Элефантинские папирусы—см.
Папирусы.
Элиезер бен-Харсом—364.
Элия Капитолина—351.
Эллинизация, эллинизм—287, 294,
295, 363.
Эллинистическая культура —264,
334; э. философия (см. также
Философия греческая)—283.
Элогим (имя): как критерий при
анализе Шестикнижия—14—15:
26, 27.
Элогист (см. также Младший эло-
гист, Старший элогист)—14, 16,
19, 27, 97; датировка—21.
Элогистическая школа—37.
Эль-Амарна—67, 69.
Эль-амарнская переписка (см.
также Эль-Амарна)—60, 68.
Эльбоген—5, 340.
Эль-Шаддай—173.
Эль-Эльон—173.
Энгельс: 4, 24, 41, 63, 86, 89—90,
100, 119, 124, 148, 162—163, 245,
3J7, 319, 345, 349, 373.
Encyclopedia Judaica—52.
Эон—305, 307, 308, 309, 315, 334.
Эпос (стихотворный у древних
евреев)—36.
Эрдмане—26, 144, 201.
Эруб—371.
Эстрайхер—29, 30, 31.
Эсфири кн.—247.
Эсхатологический оракул —42; э.
окраска—305; э. образы—315; э.
литература—320; э. чаяния—321,
346; э. картины мессианского
царства—334.
Эсхатология—302, 303, 306, 307-
30", 317, 319.
Этнарх-276, 279.
„Этические заповеди" (см. также
Десять заповедей)—78, 81.
Этнографические материалы—45;
э. параллели—46; э. данные—47.
Этнография—65.
Эфод—112, 181, 182, 184, 226.
Эфраим—113, 141.
Эфраимитский кодекс—31.
Эхнатон—63.
Ю
Юбилеев кн.—247.
Юбилейный год—34.
Ювенал—327.
Юдифи кн.—247.
Юстин—351.
Явна—352.
Ягве как критерий (имя) при
анализе Пятикнижия—14—15, 22,
26, 27, 33, 35, 36, 37, 49, 74, 75,
83, 84, 117, 171, 172, 173, 208,
226; Я. мадианитскии бог—77:
культ Я,—50, 101, 112, 123, 135,
143, 183-186, 220, 225, 237;
религия Я.—38, 66, 106, 137, 142;
Я. как племенной и
национальный бог—122, 178, 190, 252;
отношения Я. к другим богам—169,
198—200, 225,256; произношение
имени Я.—174—176; Я. кагмест-
397
ный бог—177; Я. как бог
стихий—177; изображения Я-—178—
1S2; Я. как единый бог—186—
189; Я.—царь—196; праздники
Я.—209-210; святилища Я.—244;
превращение Я. во вселенского
бога—245—246; падение
авторитета Я.—257, 264; Я. в Септуа-
гинте—286; Я. как мировой бог—
304, 321, 327, 330, 335; обратное
превращение Я. в
национального бога--363, 366.
Ягвист—14, 19, 27, 39, 97.
„Ягу"—48.
Язон (первосвященник)—294.
Ягвистская школа (см. также
Ягвист)—37; я. богословие—106; я.
редакция—173.
Яков-8, 18—19, 33,112,115; Я. как
патриарх—41; Я. как божество—
67, 93, 119—122; Я. как эпоним—
117.
Яннай Александр—240, 295—296,
Ярославский—34.
398-
СОДЕРЖАНИЕ
Н. М- Никольский — Некоторые основные проблемы общей и
религиозной истории Израиля и Иуды ПГ
I. Введение 3
II. Источники для изучения религии древних евреев:
1. Общие замечания 7
2. История и результаты библейской критики:
а) Шестикнижие *. . . . 11
б) Исторические книги „Ветхого завета" . . . 35
BJ „Пророки" и писания 42
3. Данные этнографии 46
4. Данные археологии:
а) Религиозные памятники 47
б) Исторические памятники 65
в) Значение археологических открытий для крушения
библейских „исторических* мифов 75
III. Древнейшая религия евреев:
1. Родовой строй древних евреев . . . 84
2. Еврейская религия эпохи родового строя:
а) Культ духов 99
б) Культ природы и стихий 106
в) Культ предков. Патриархи НО
г) Содержание культа • 123
д) Праздники 128
IV. Религия „царской" эпохи:
1. Этапы древнейшей истории евреев до VI в 140
2. Религия евреев в X — VI вв.: 164
а) Политеизм 166
б) Ягве — верховный бог евреев 174
в) Религия как орудие классовой эксплоатапии ■ 190
г) Культ 201
д) Магия 203
е) Праздники • 206
ж) Жрецы 21Э
з) Пророки 215
V. Отиерократии к синагоге и талмуду:
1. Реставрация Иерусалима и его храма 233
2. Иерократия и фиксация „закона* 239
3. Книжники 258
399
1. Диаспора:
а) Положение евреев в странах „рассеяния" . . . , 265
б) Синагога 274
в) Эллинистические влияния на религию евреев в диаспоре . . 282
5. Иудея под властью Сирии и- Рима- 287
6. Мессианизм и эсхатология 302
7. Возниекновенче врейского монотеизма . . . • • 321
8. Религиозные течения среди евреев в римскую эпоху 336
9. Иудея после восстаний I — II вв. Талмуд 352
Прялож.ення;
Сокращения 377
Транскрипция древнееврейских слов 379
Справочные таблицы 380
Указатель 383
Отв. редактор Н. М. Никольский.
Техническ. редактор И. С. Гохман.
Уполномоченный Главлита № Б-19317.
Сдана в набор 20/XI 1936 г. Подписана
к печати 26/ХИ 1937 г. Тираж 5.000
Бумага 84ХЮ81/з2- Печ. л. 30,25. Уч.-авт.
л. 30,75. Инд. Б-2.Изд.№ 42.3ак. тип. 8.
17-я фабрика национальной книги Огиза
РСФСР треста „Полиграфкнига",
Москва, Шлюзовая набережная, дом № 10.
Цена 6 р. 15 к. Переплет 1 р. 35 к.
ОПЕЧАТКИ
Строка Напечатано
9 сн.
17 сн.
14 св.
6 св.
11
1
2
2
12
19
11
11
14
18
15
сн.
св.
сн.
Исх. XVI
I Сам. XXIX
(XXII 18)
бог, а не
(Суд. XI 19)
XVIII
II Цар. XXII
Ахам незаконно и
Иер. XXII
Второз. XVI
Иис. Нав. XXI
небо
Ис. IV
Иер. XXV
Dig. IV 65
Следует
Исх. XXI
I Сам. XXVIII
(XXXII 18)
не бог, а
(Суд. XXI 19)
XVII
II Цар. ХХШ
Ахав незаконно
Иер. XXXII
Второз. XVII
Иис. Нав. XXII
Небо
Ис. III
Иер. XXXV
С. I. IV 65