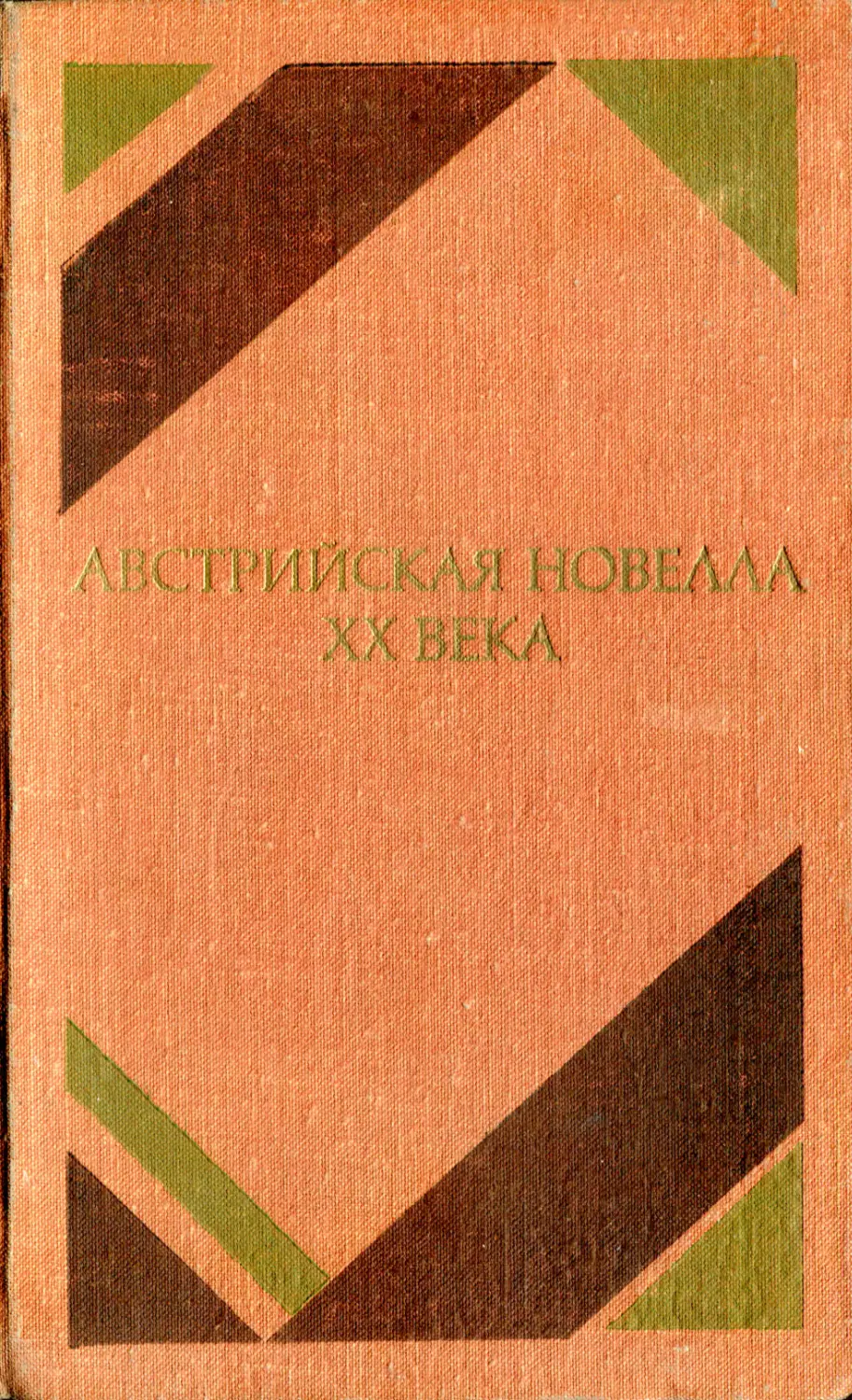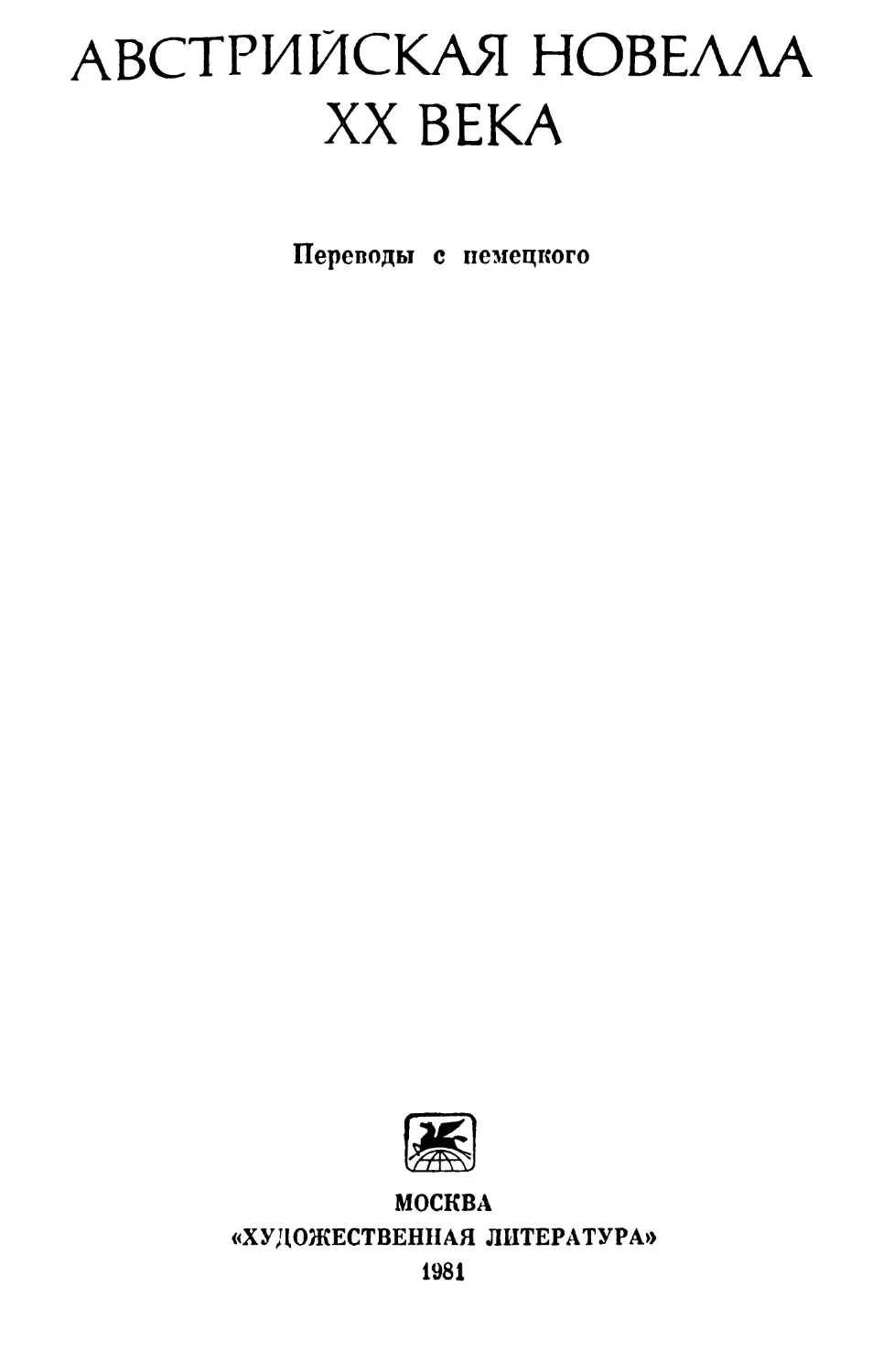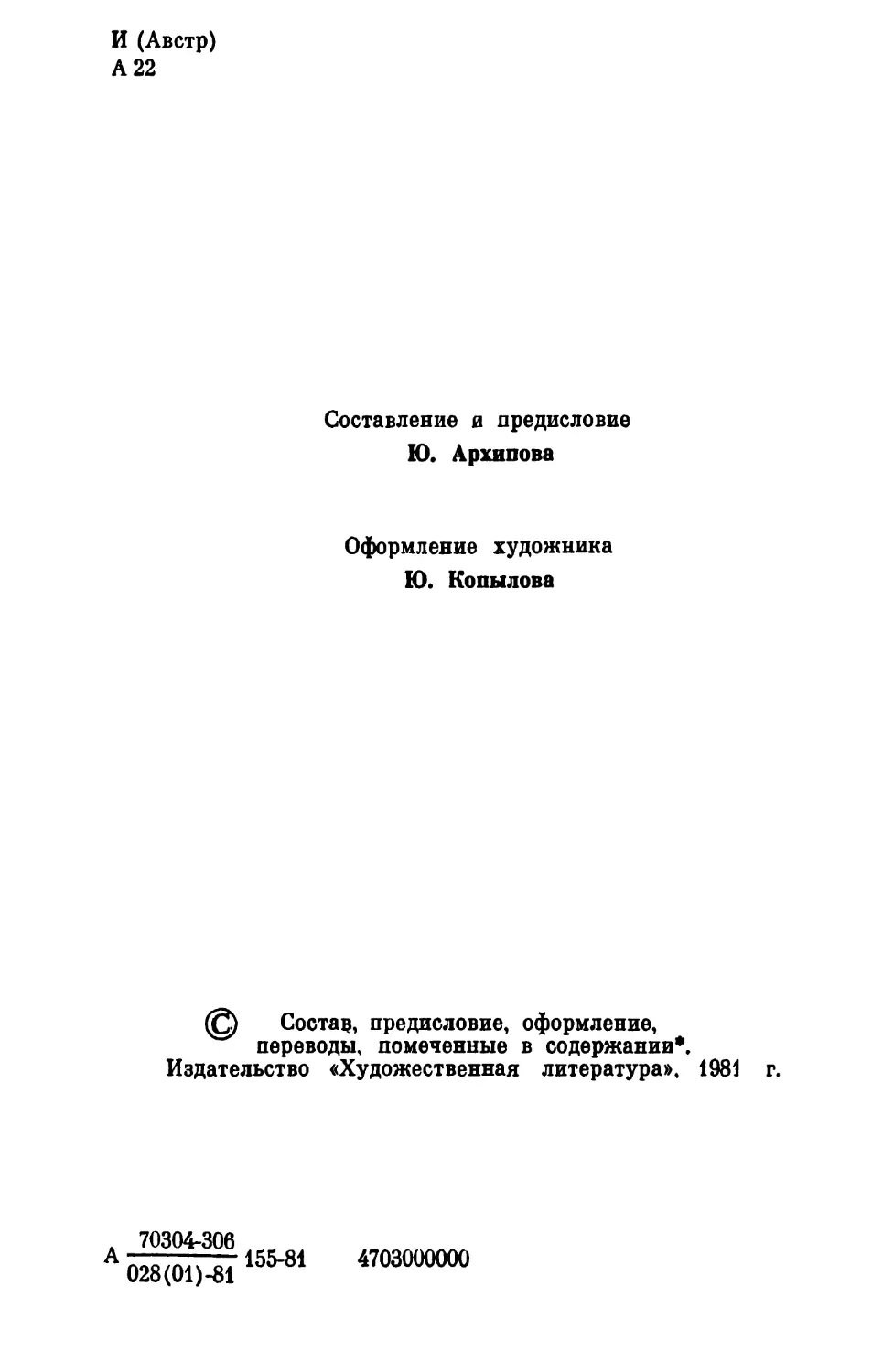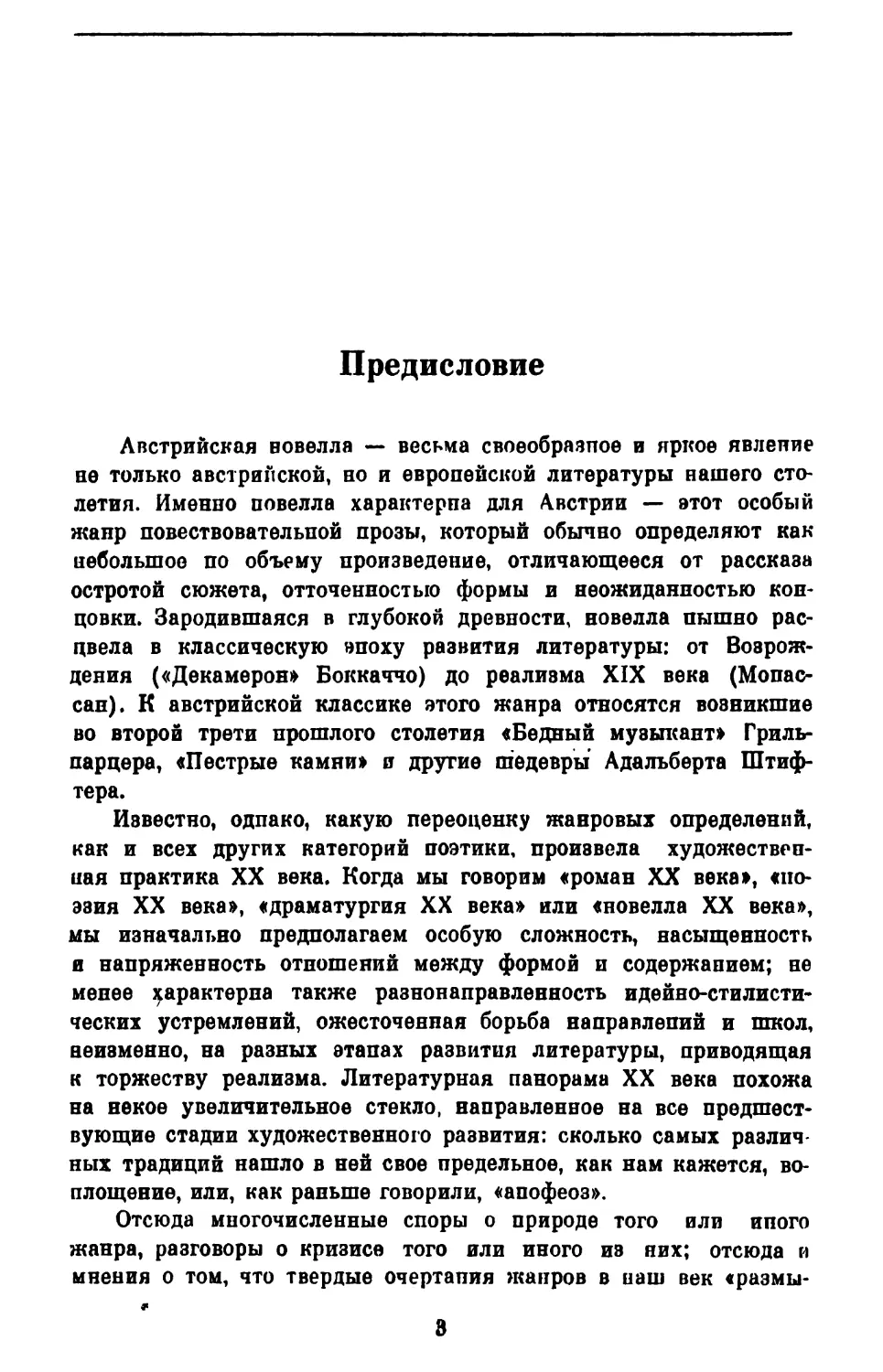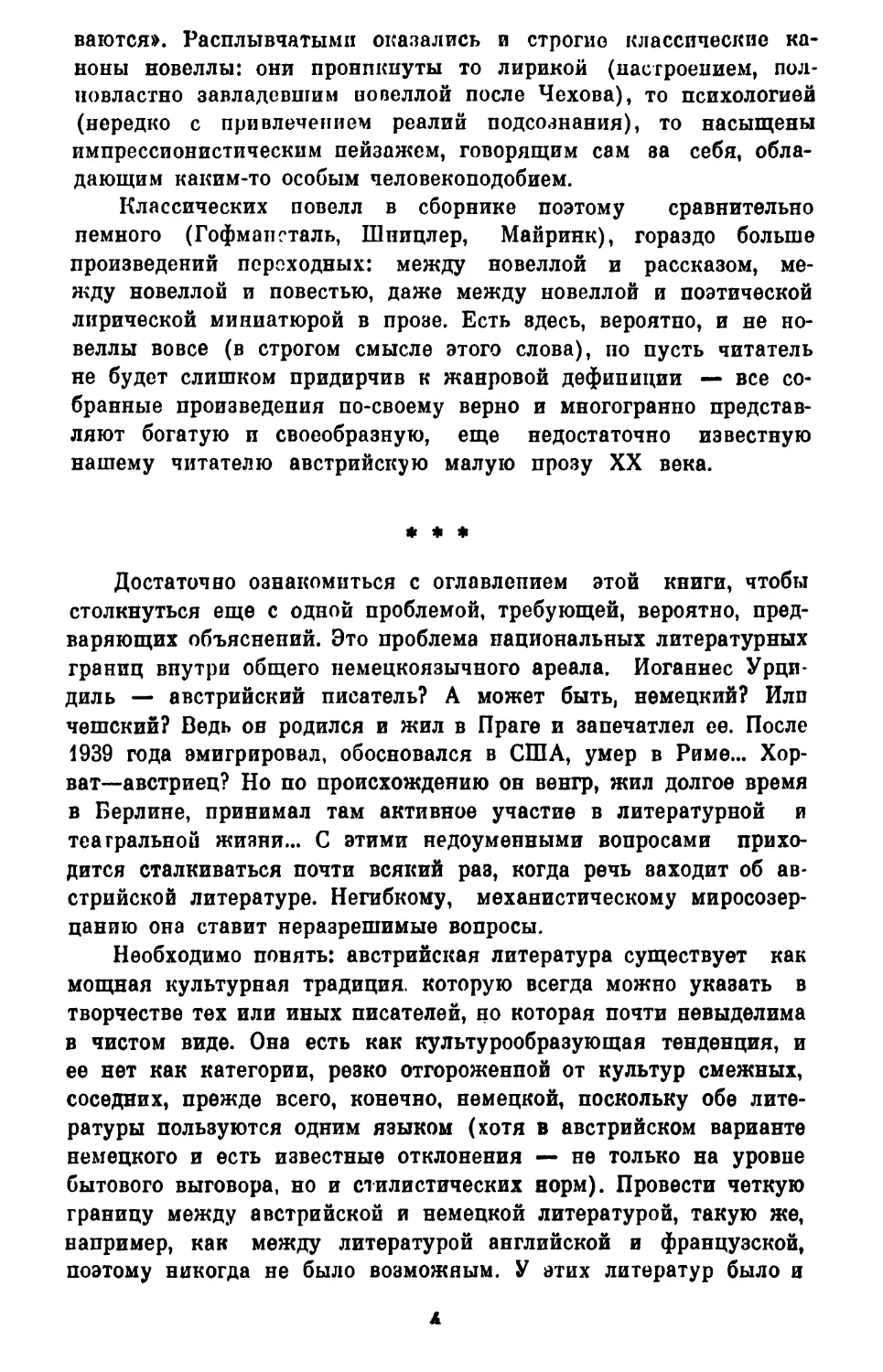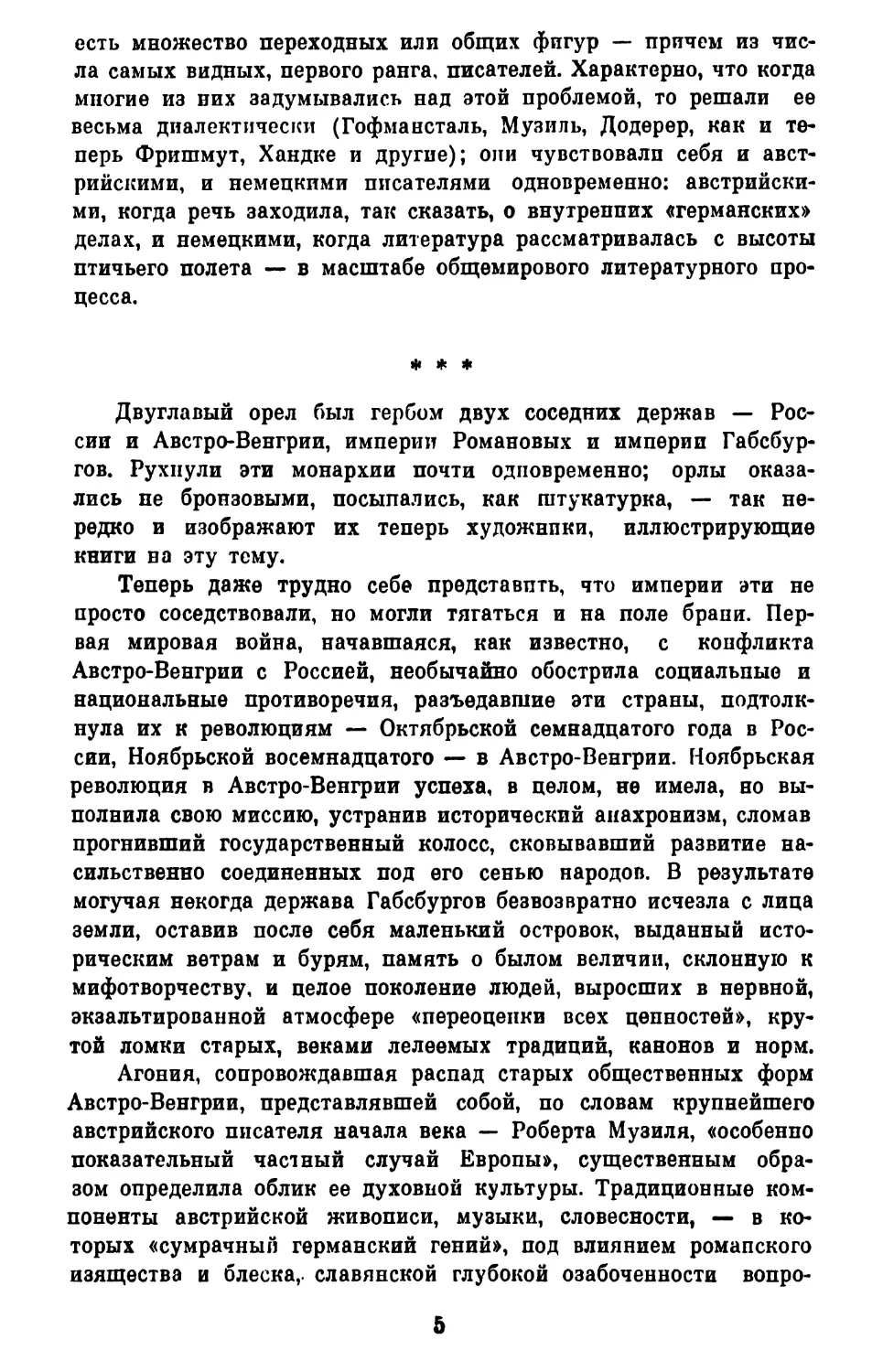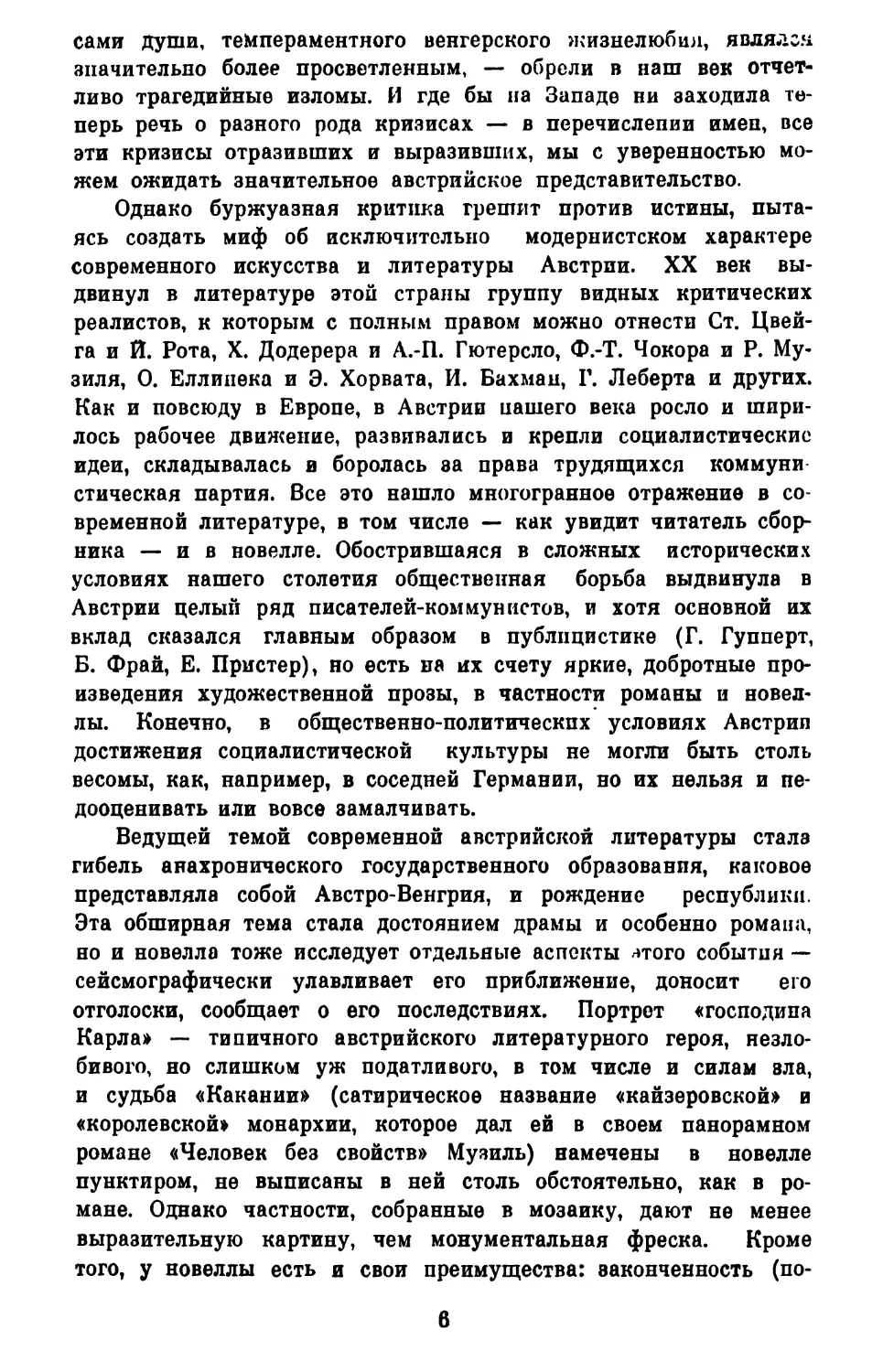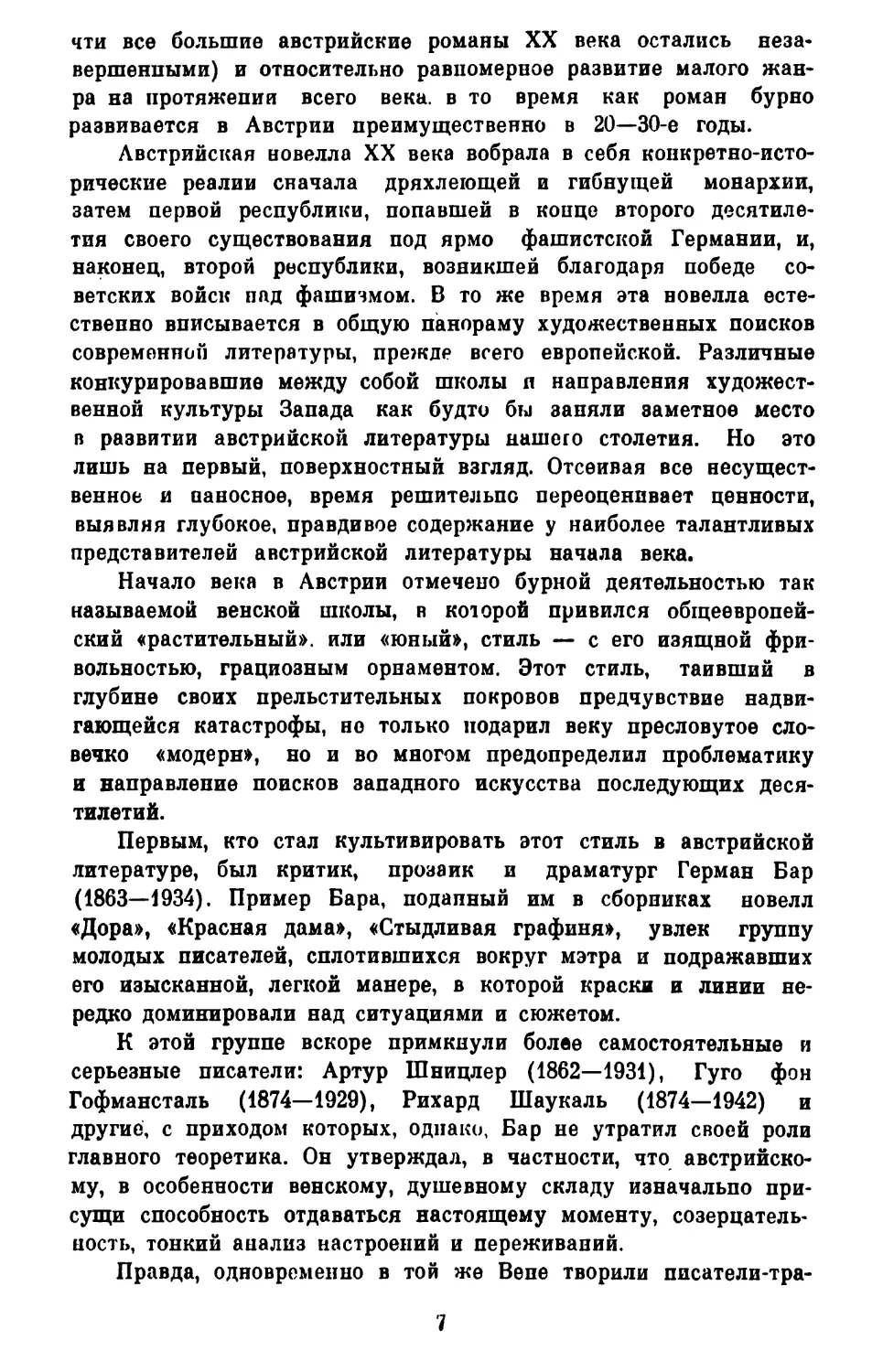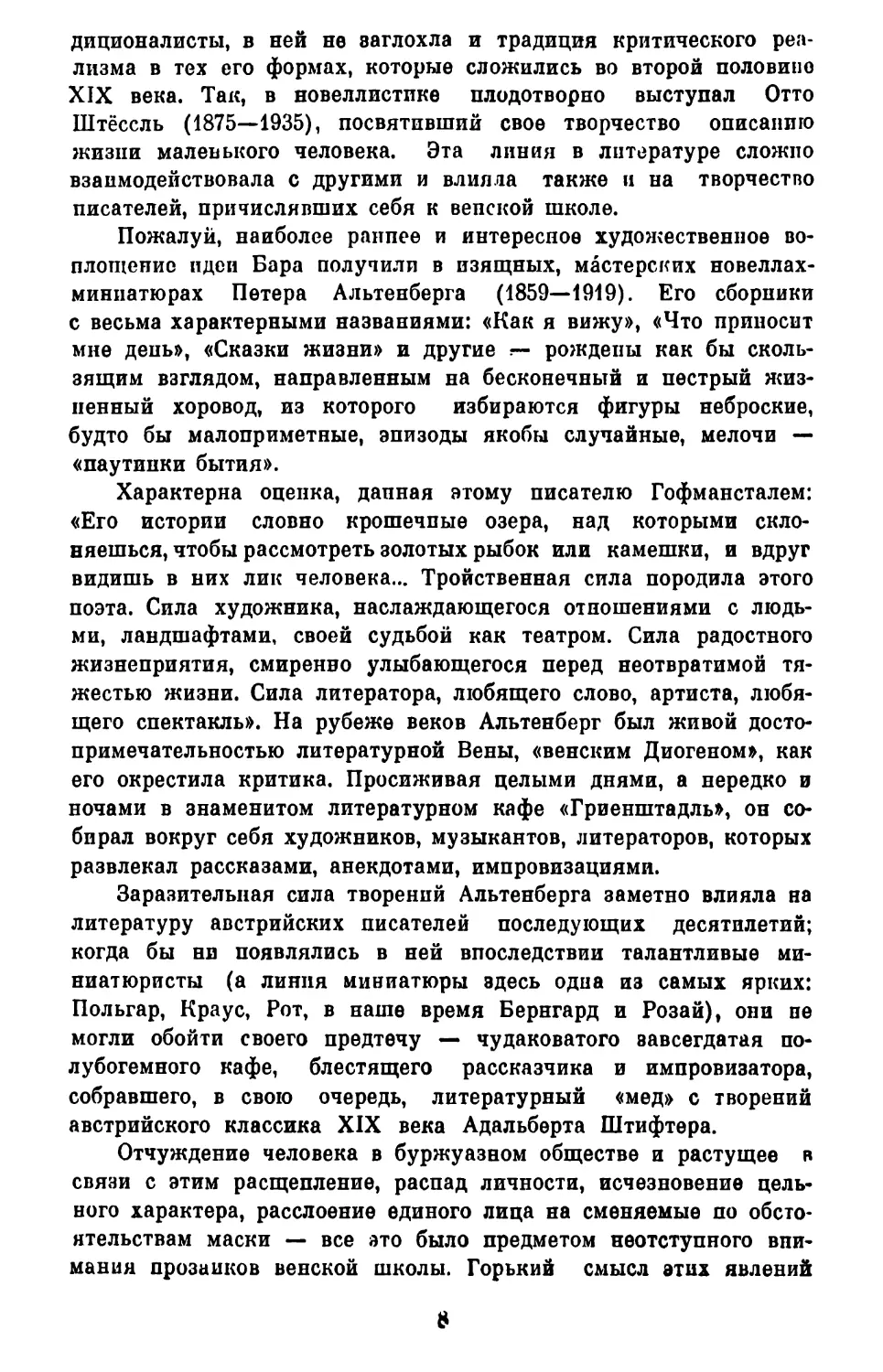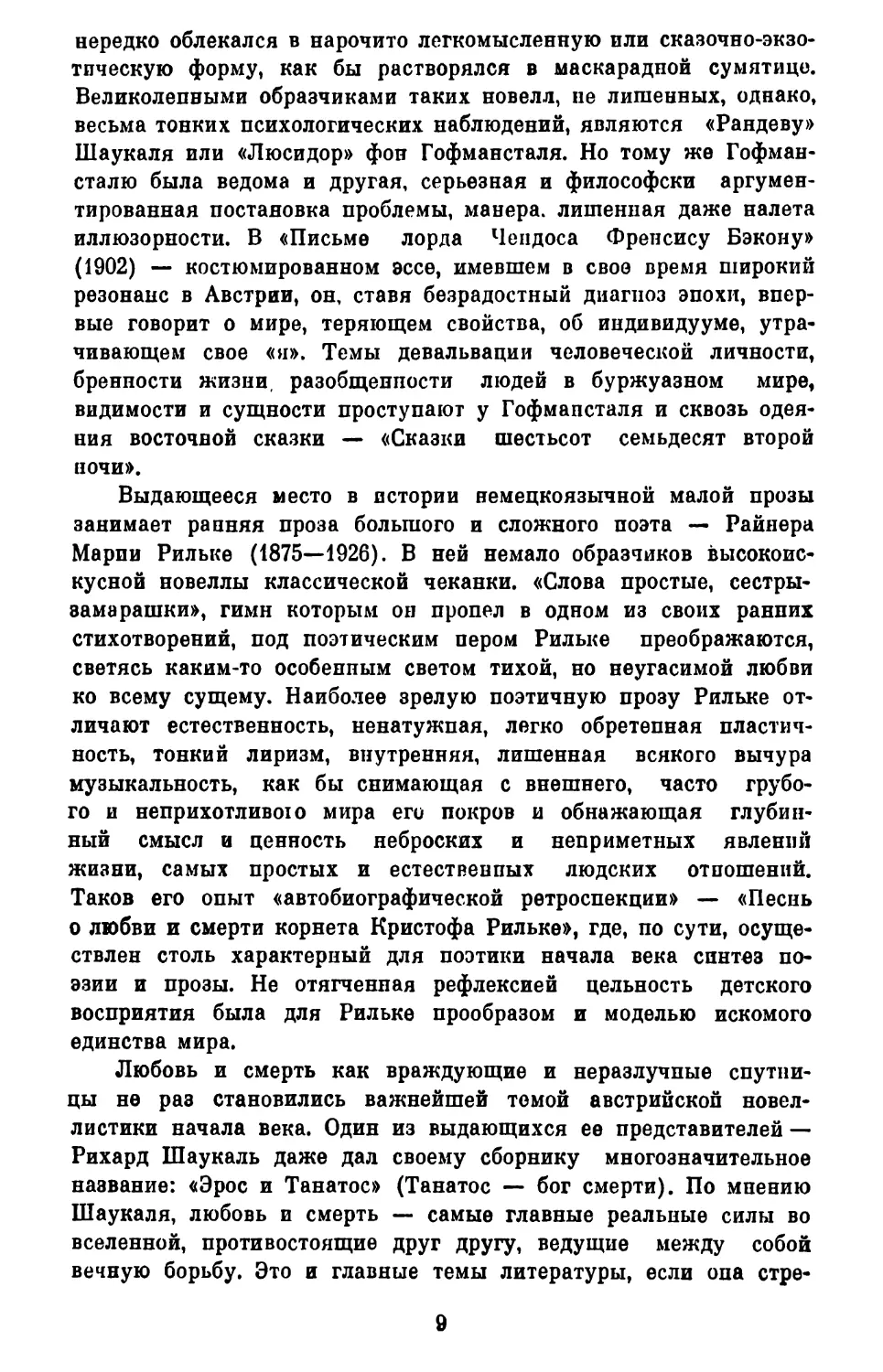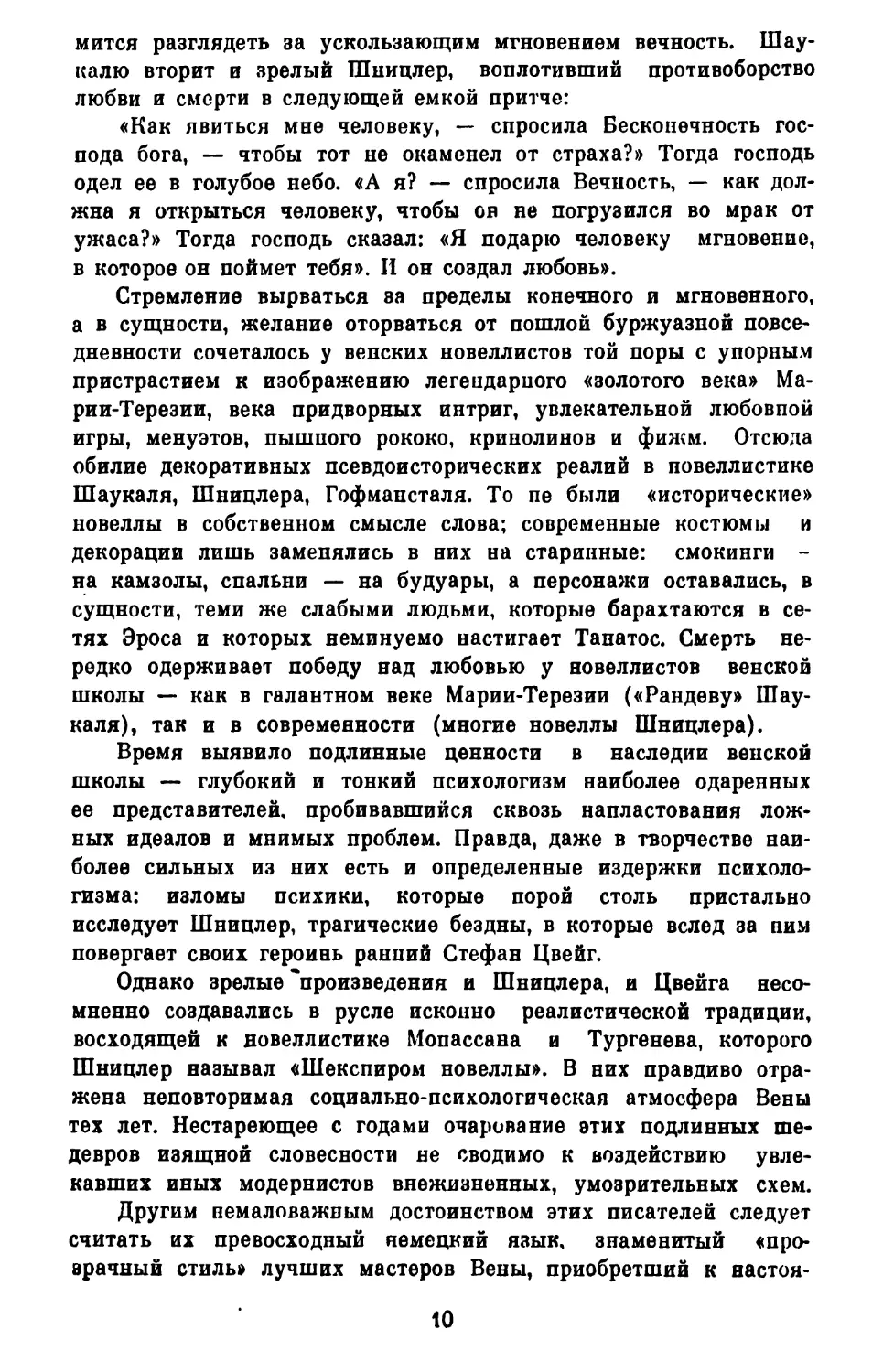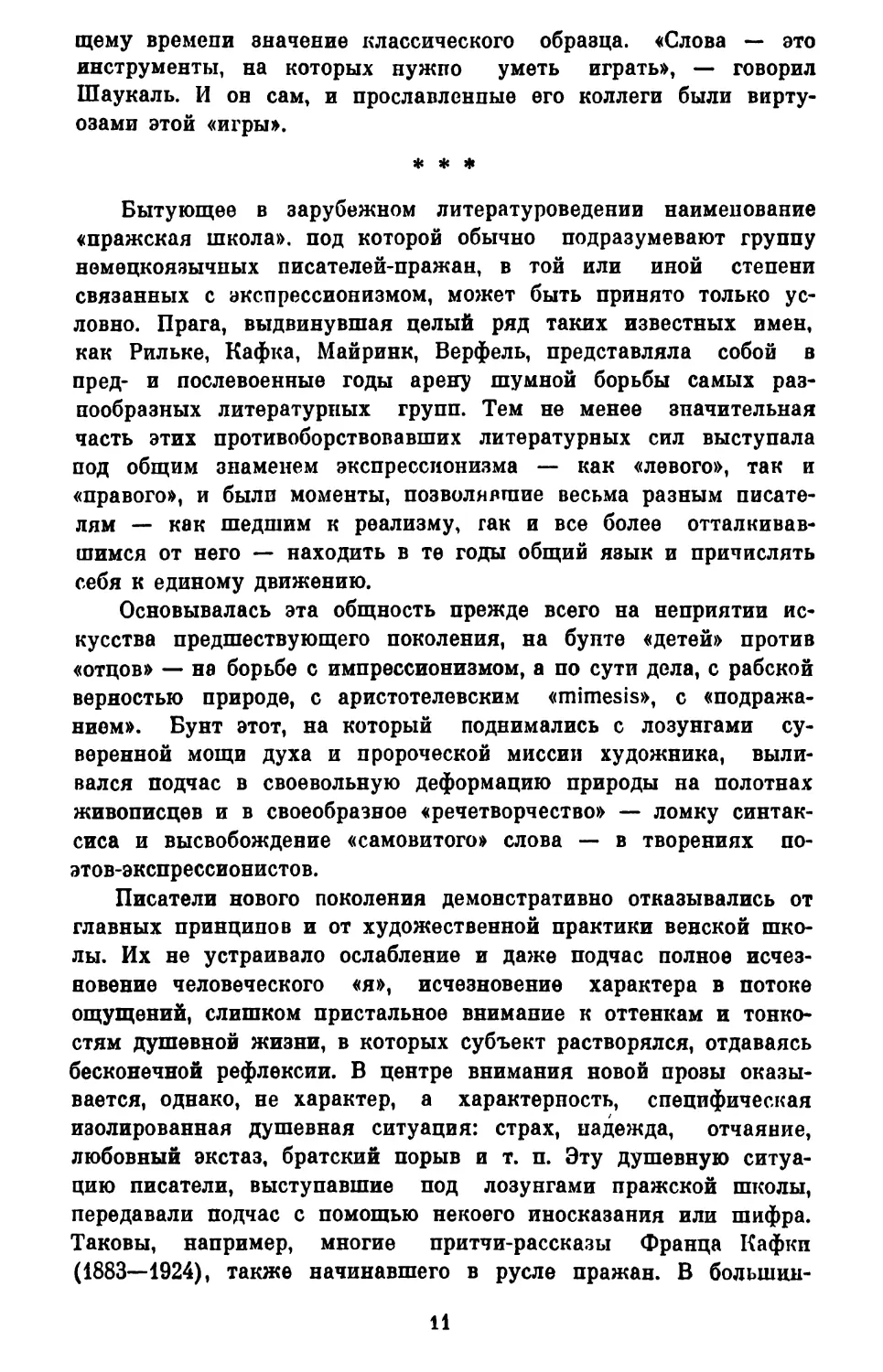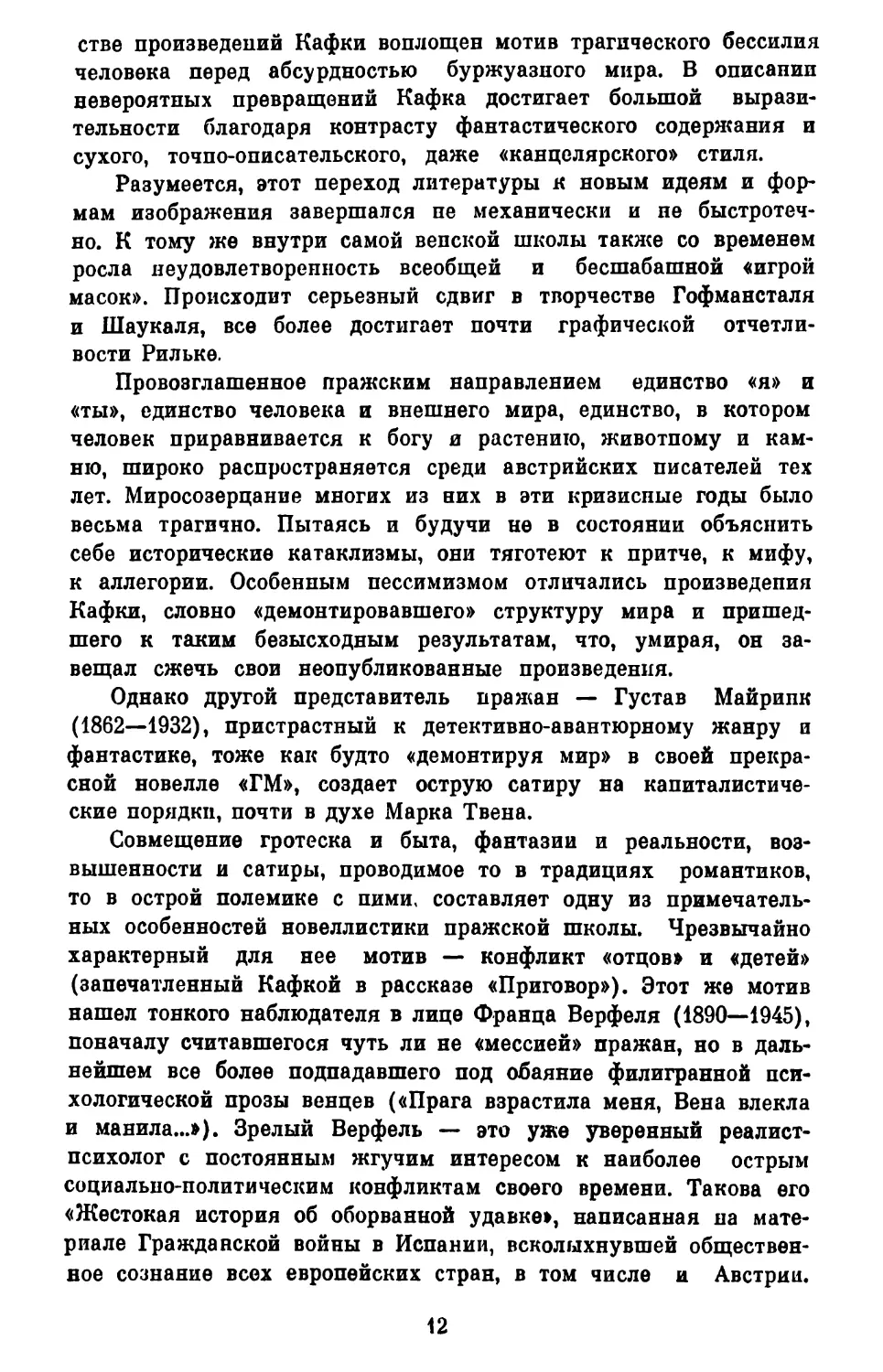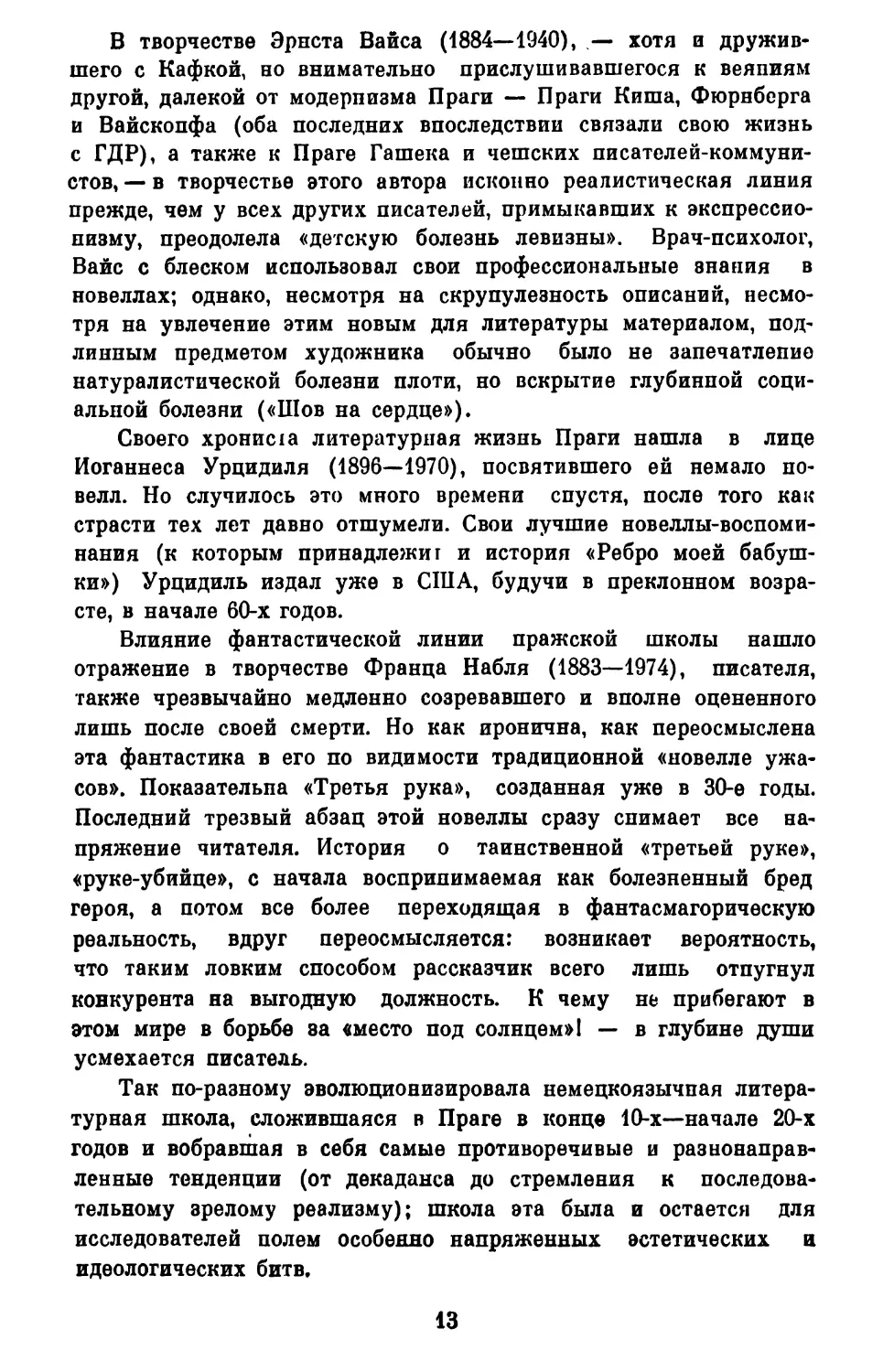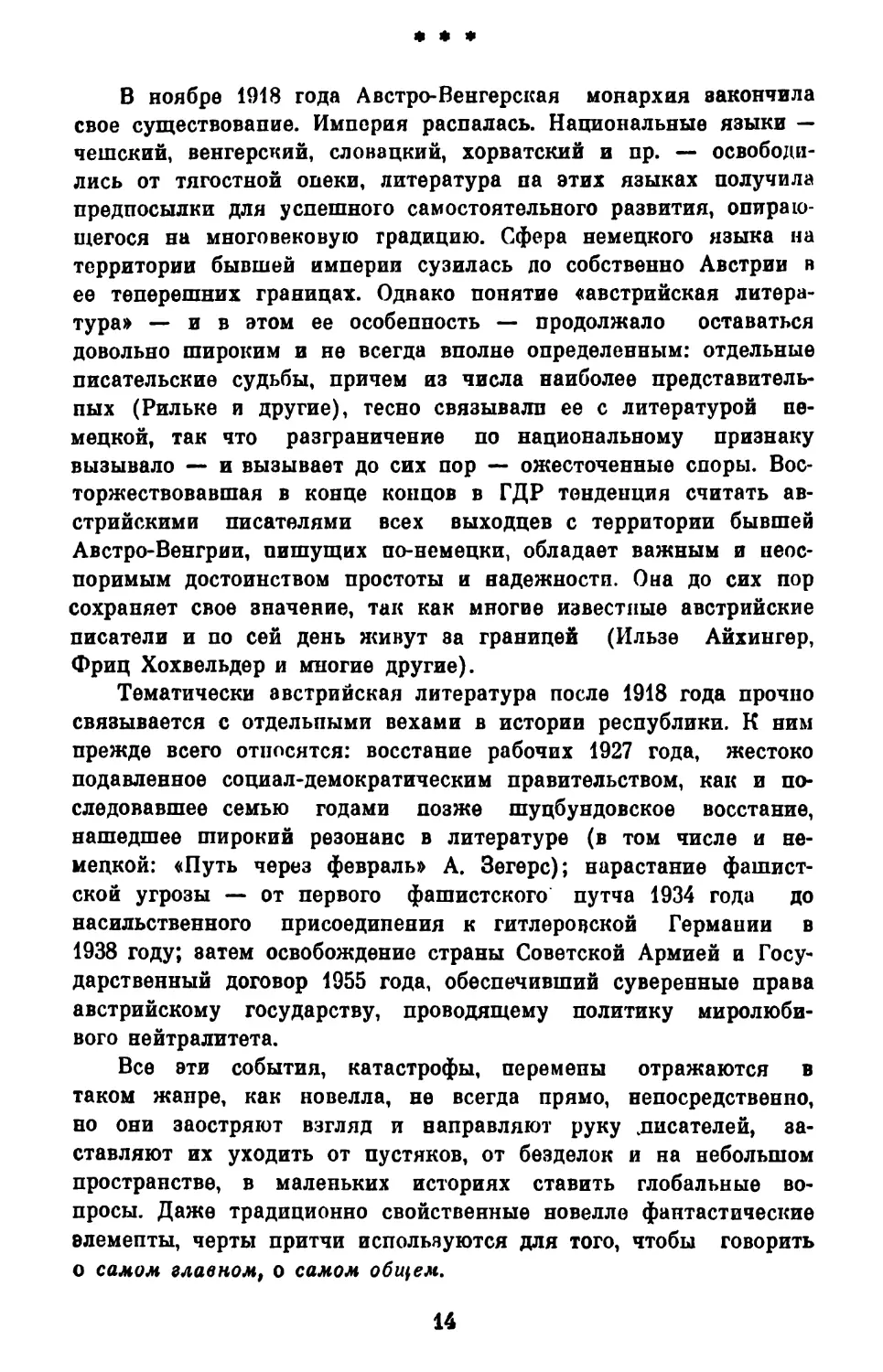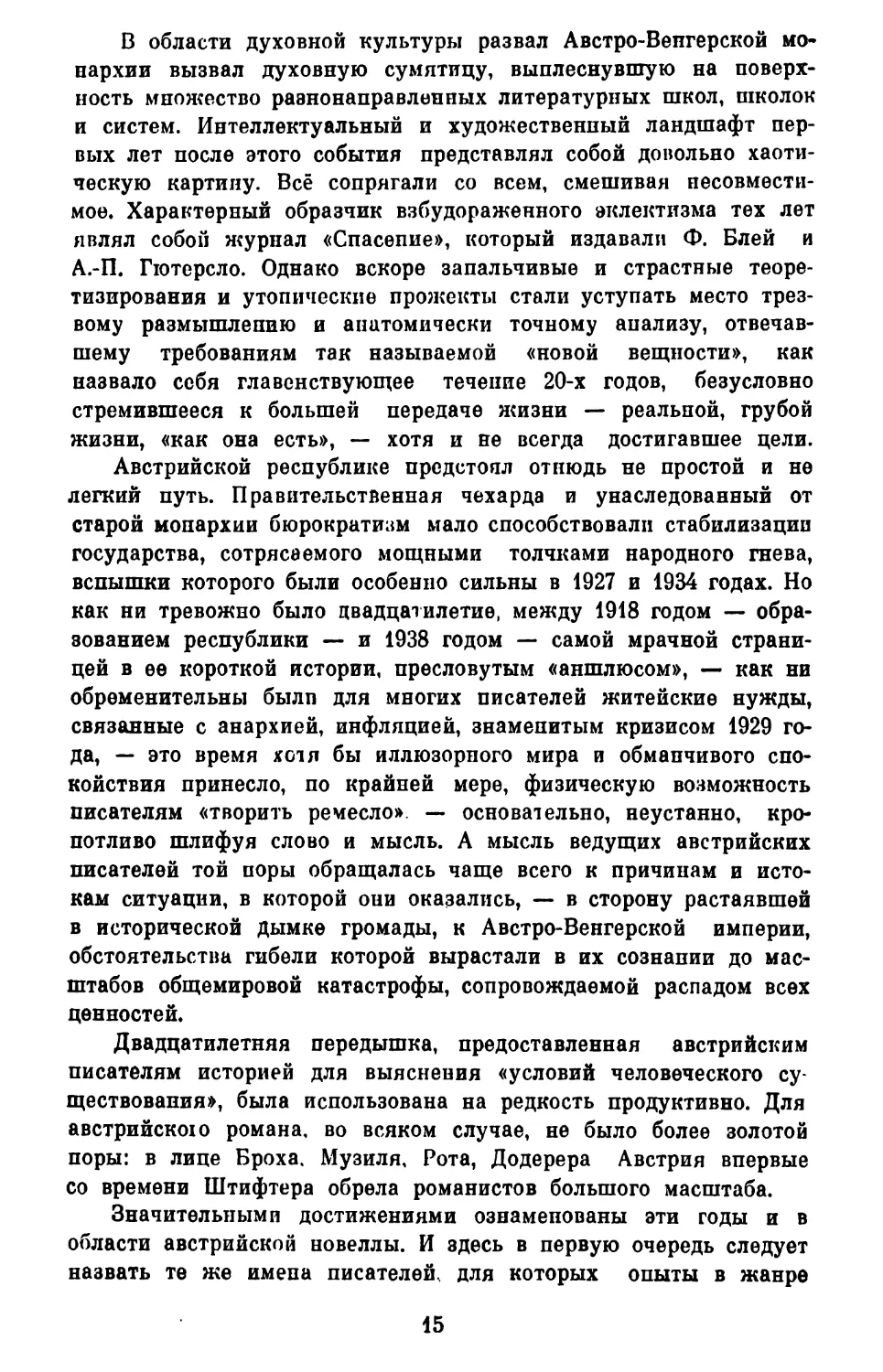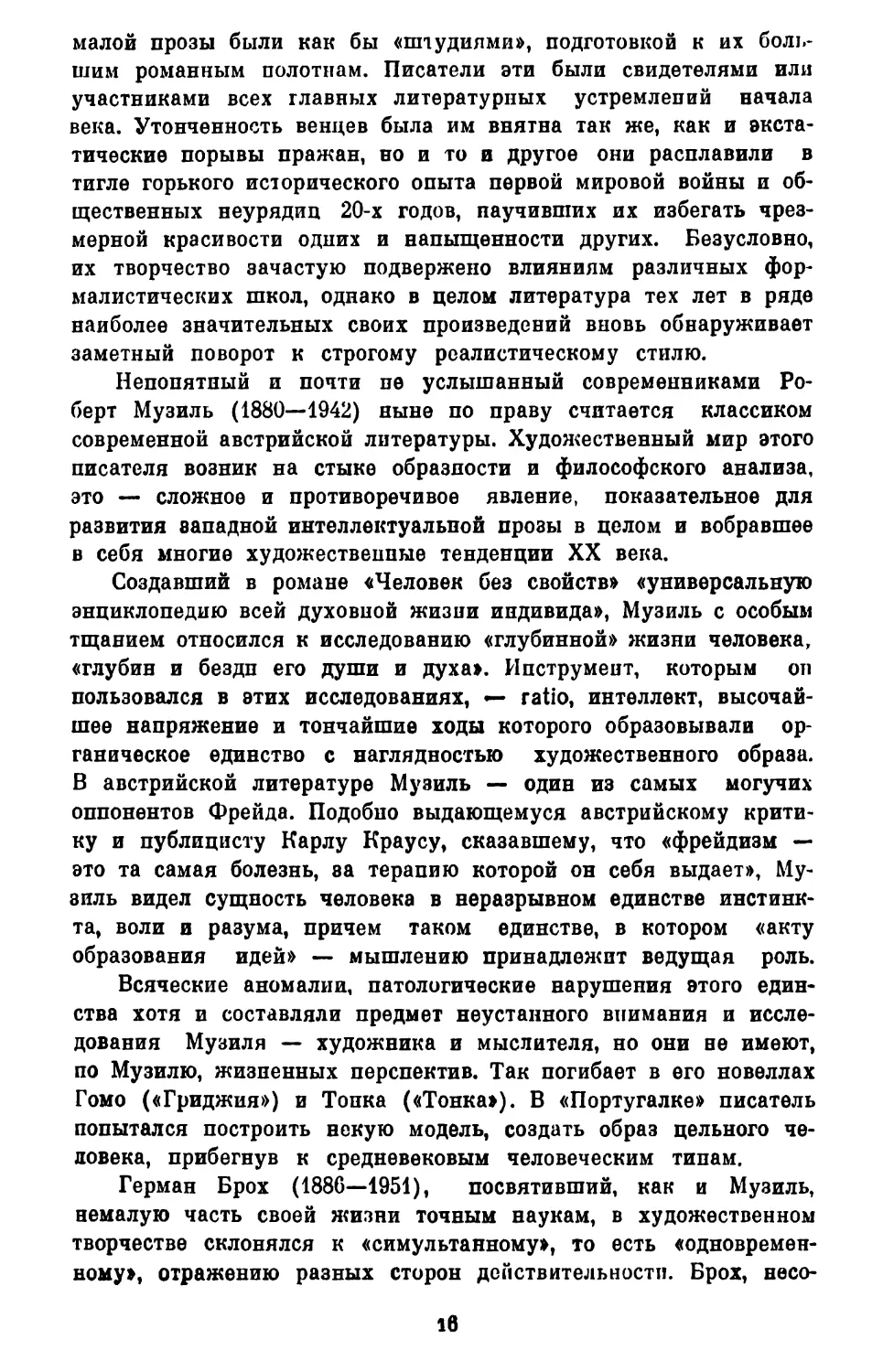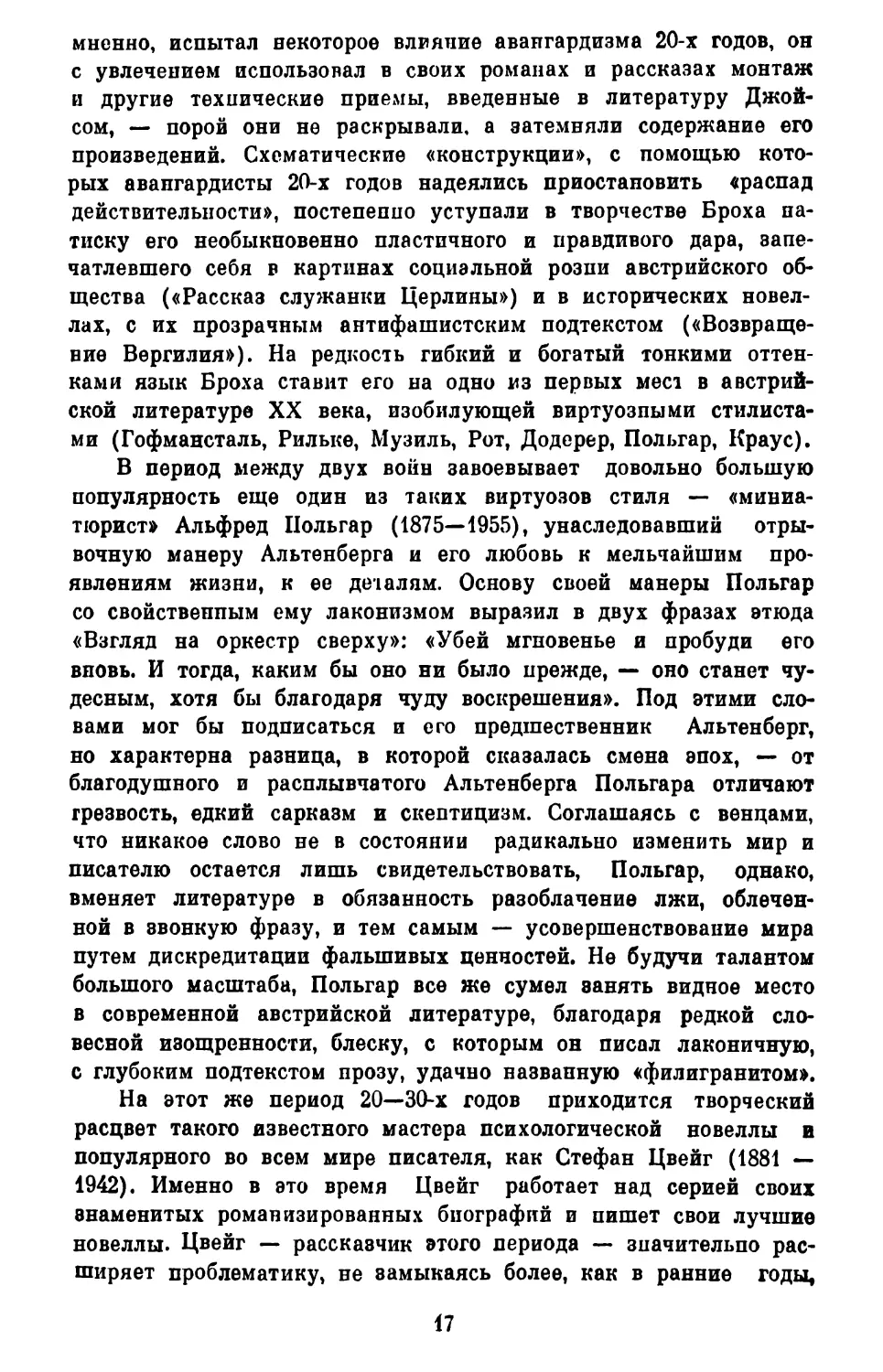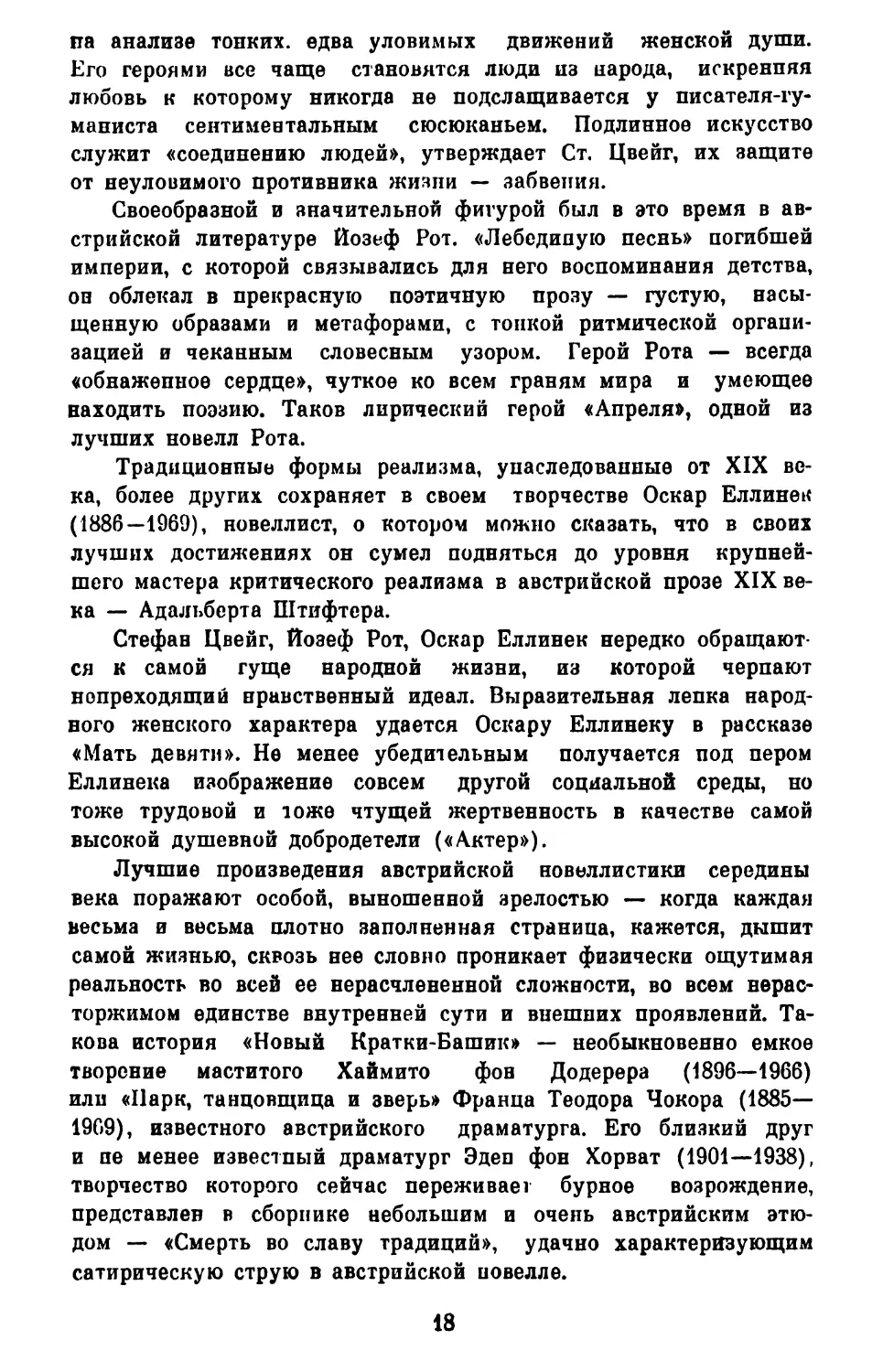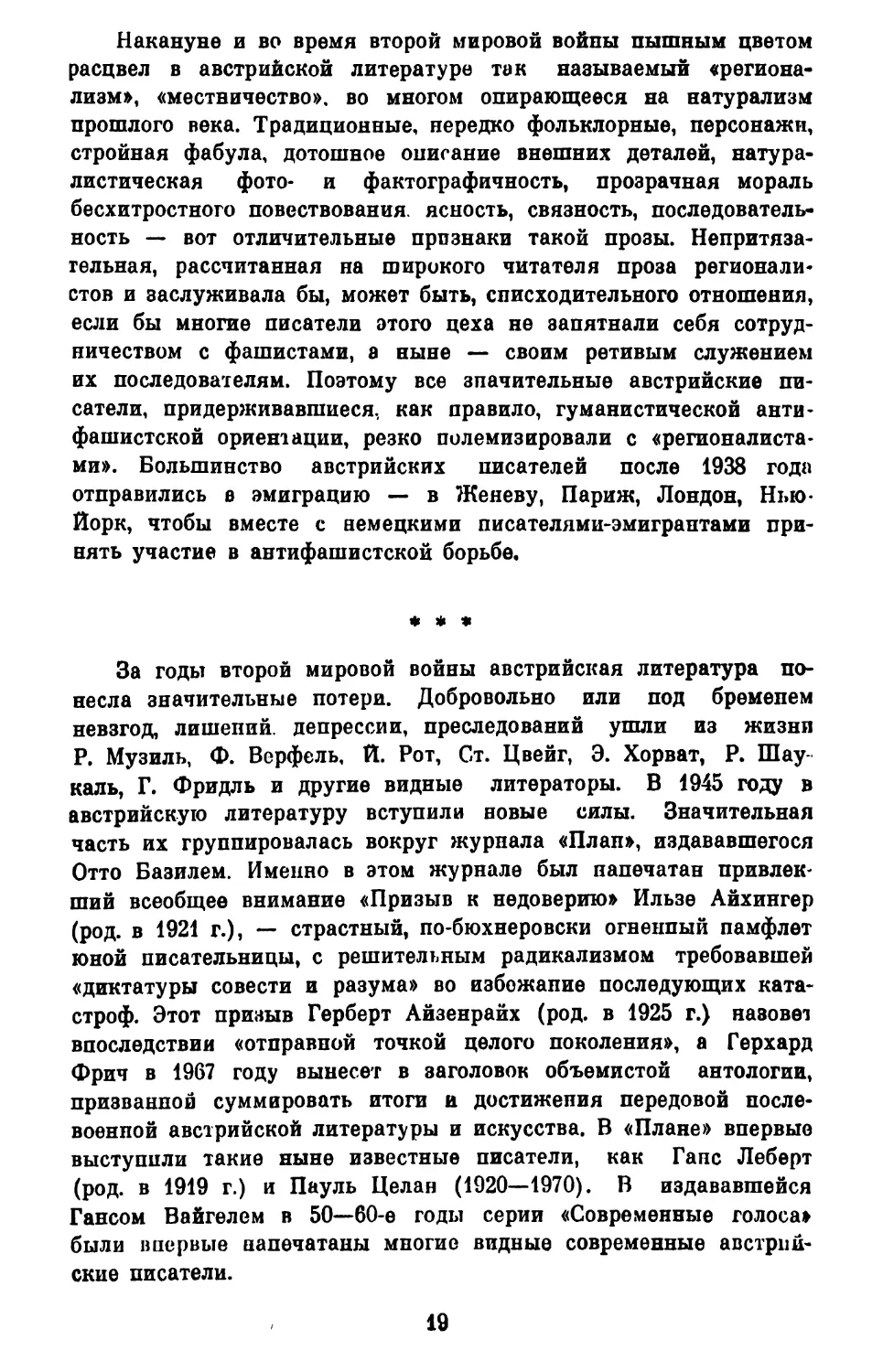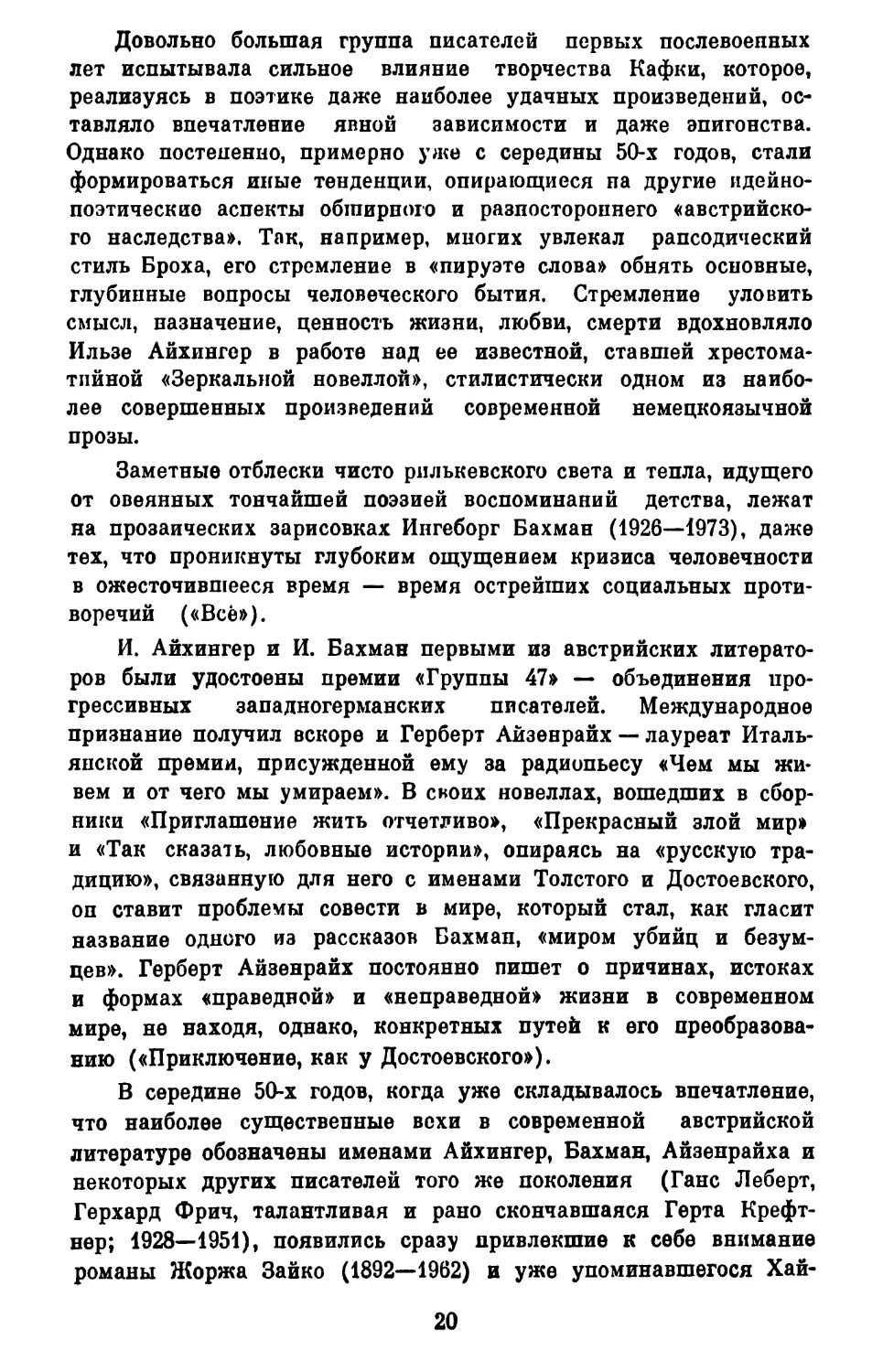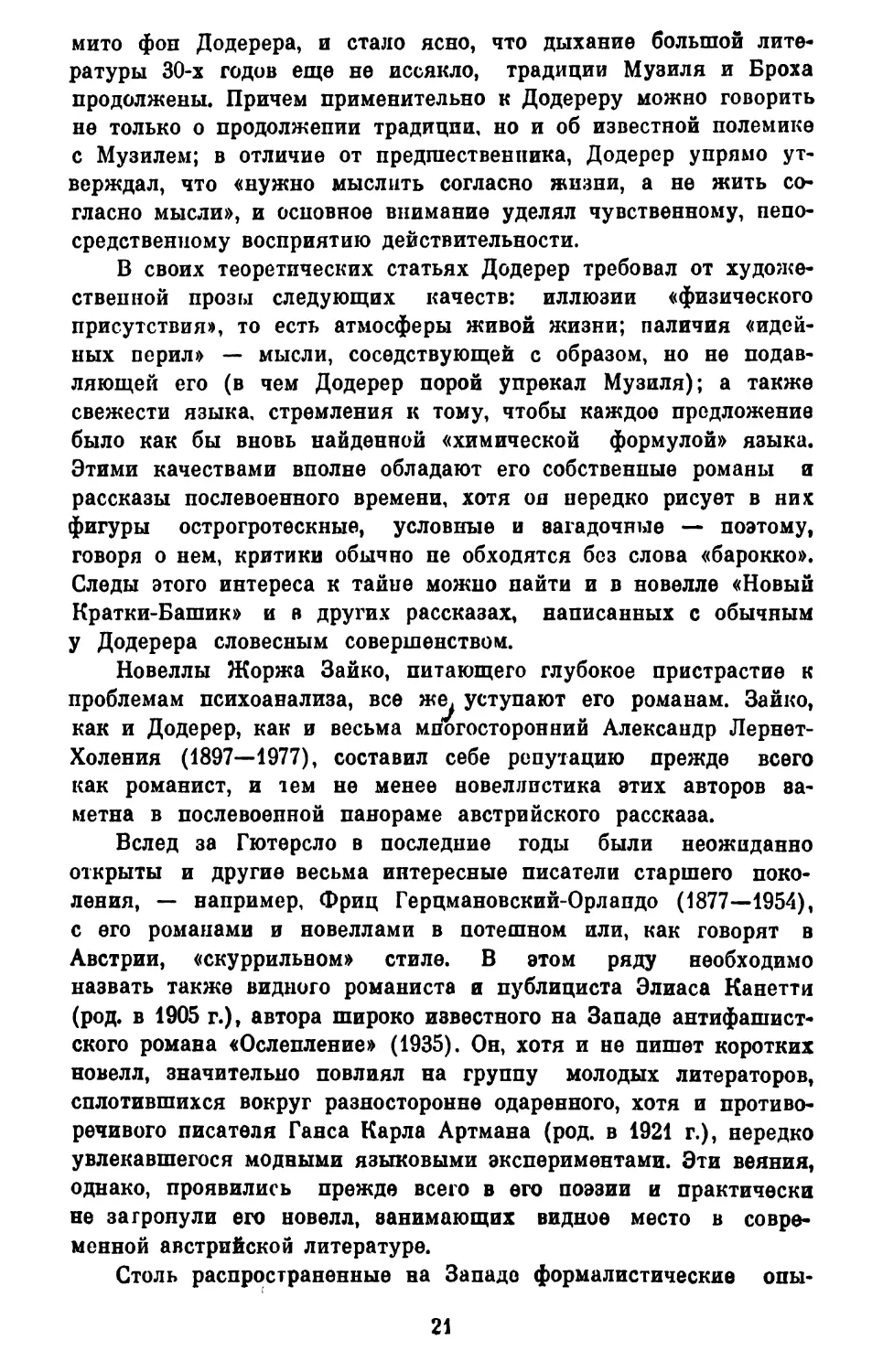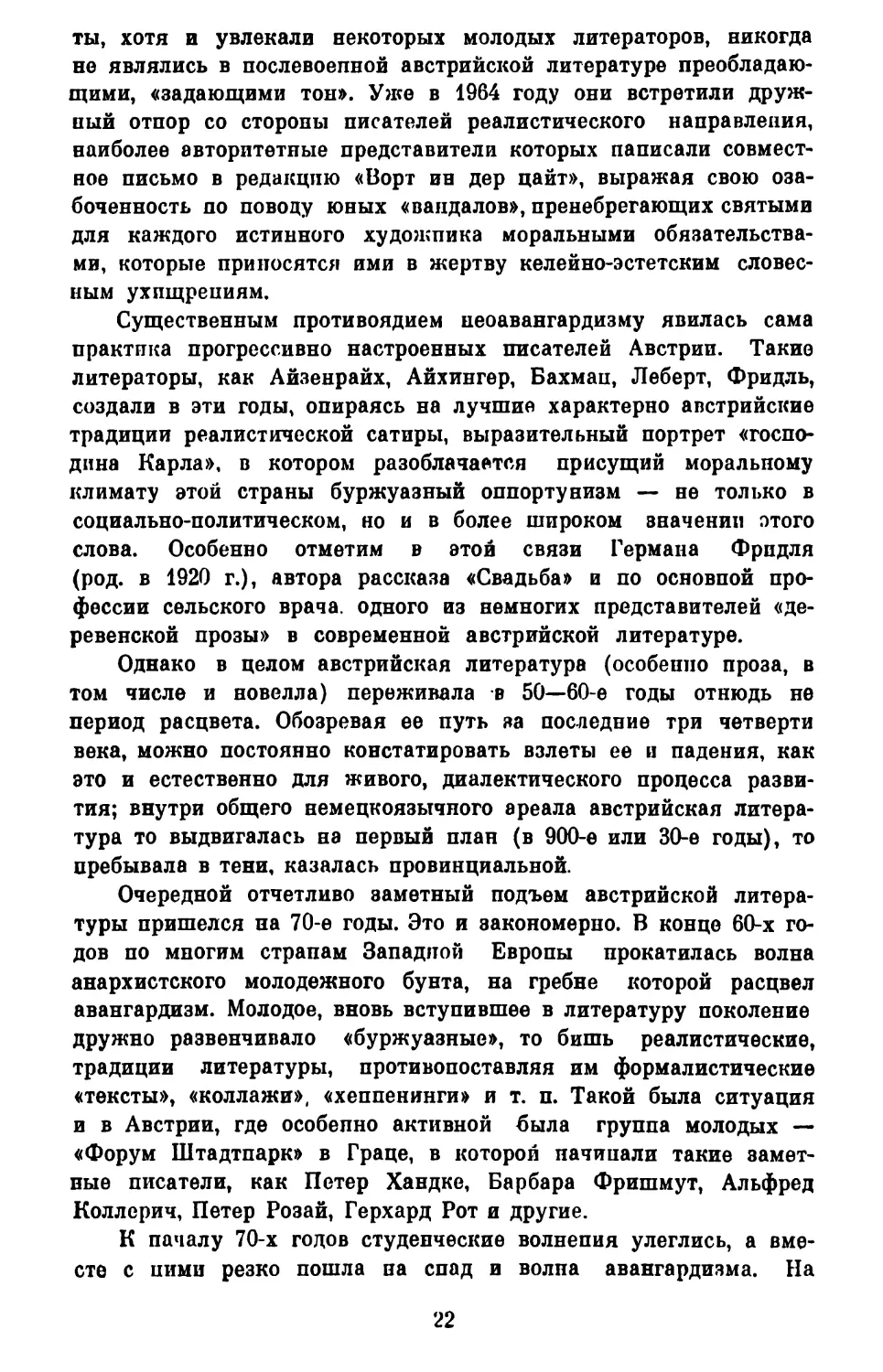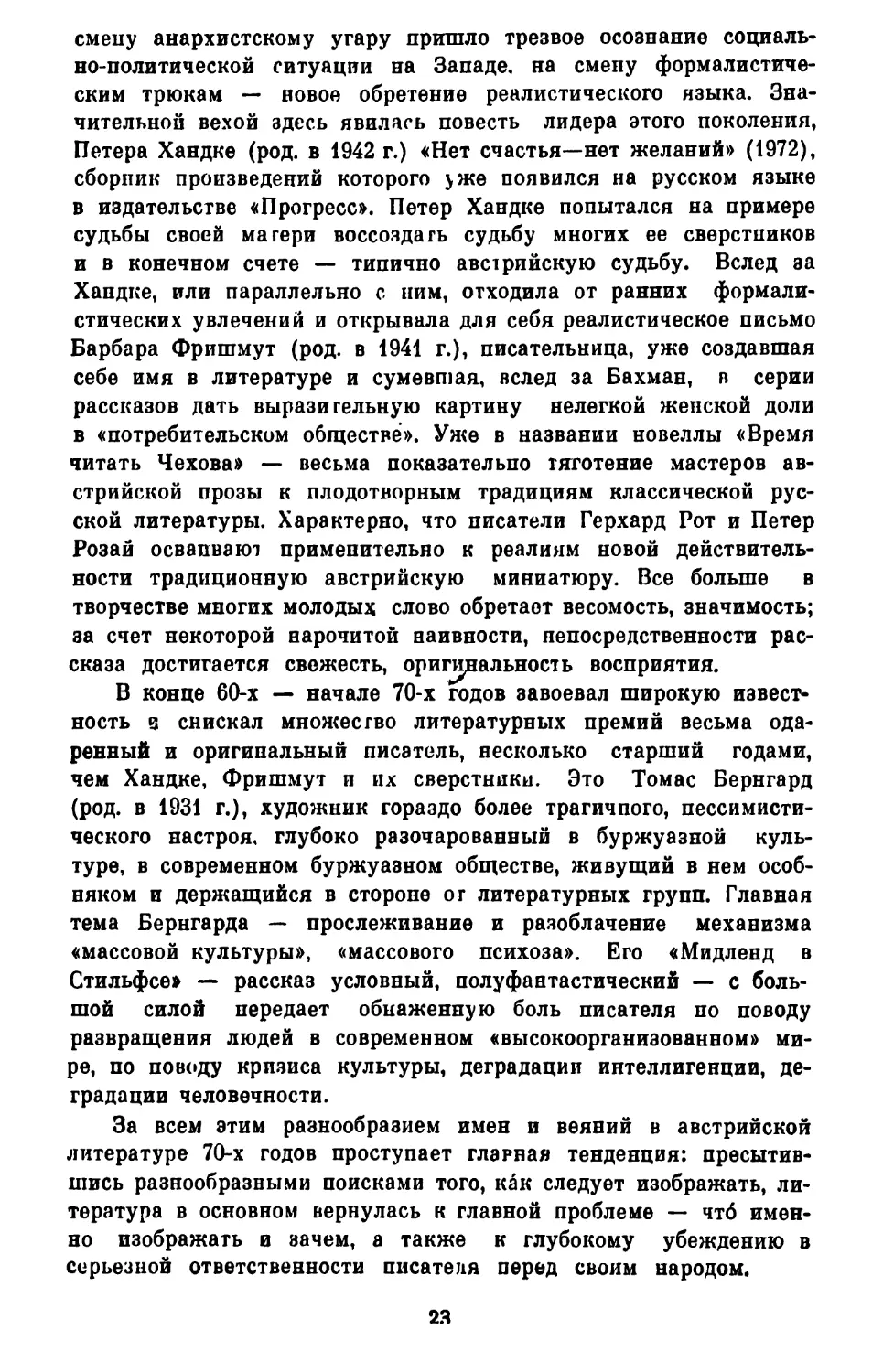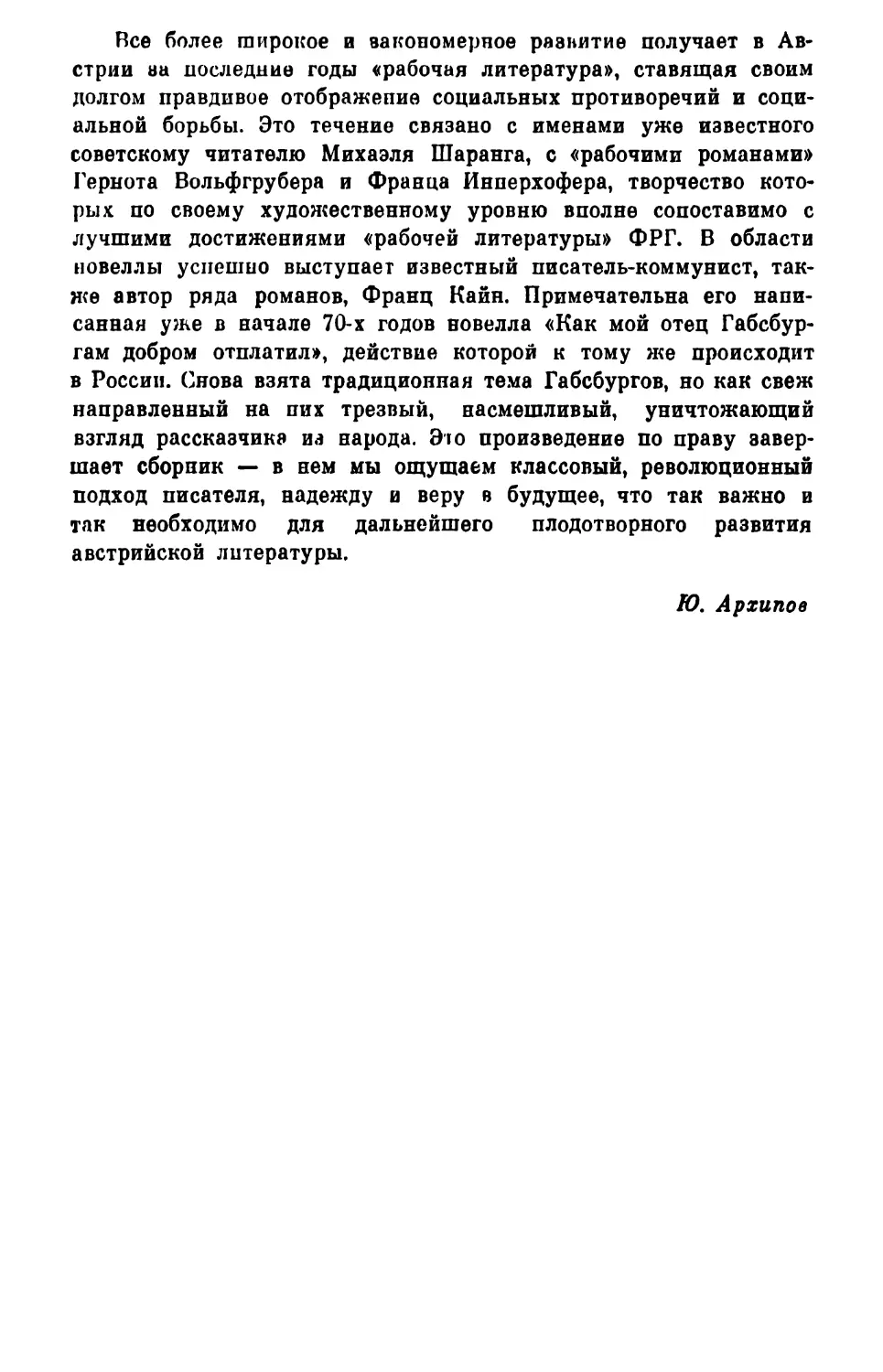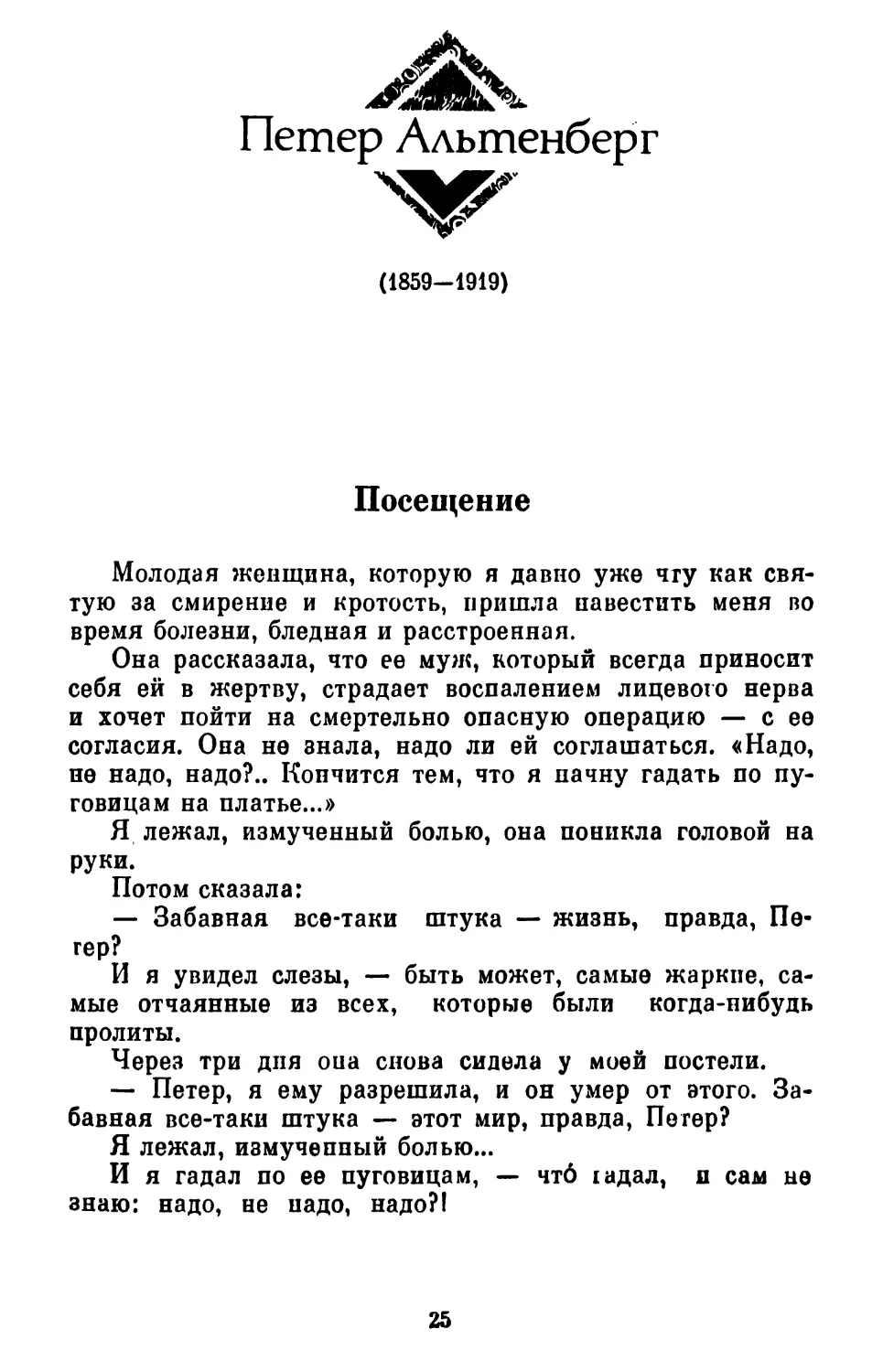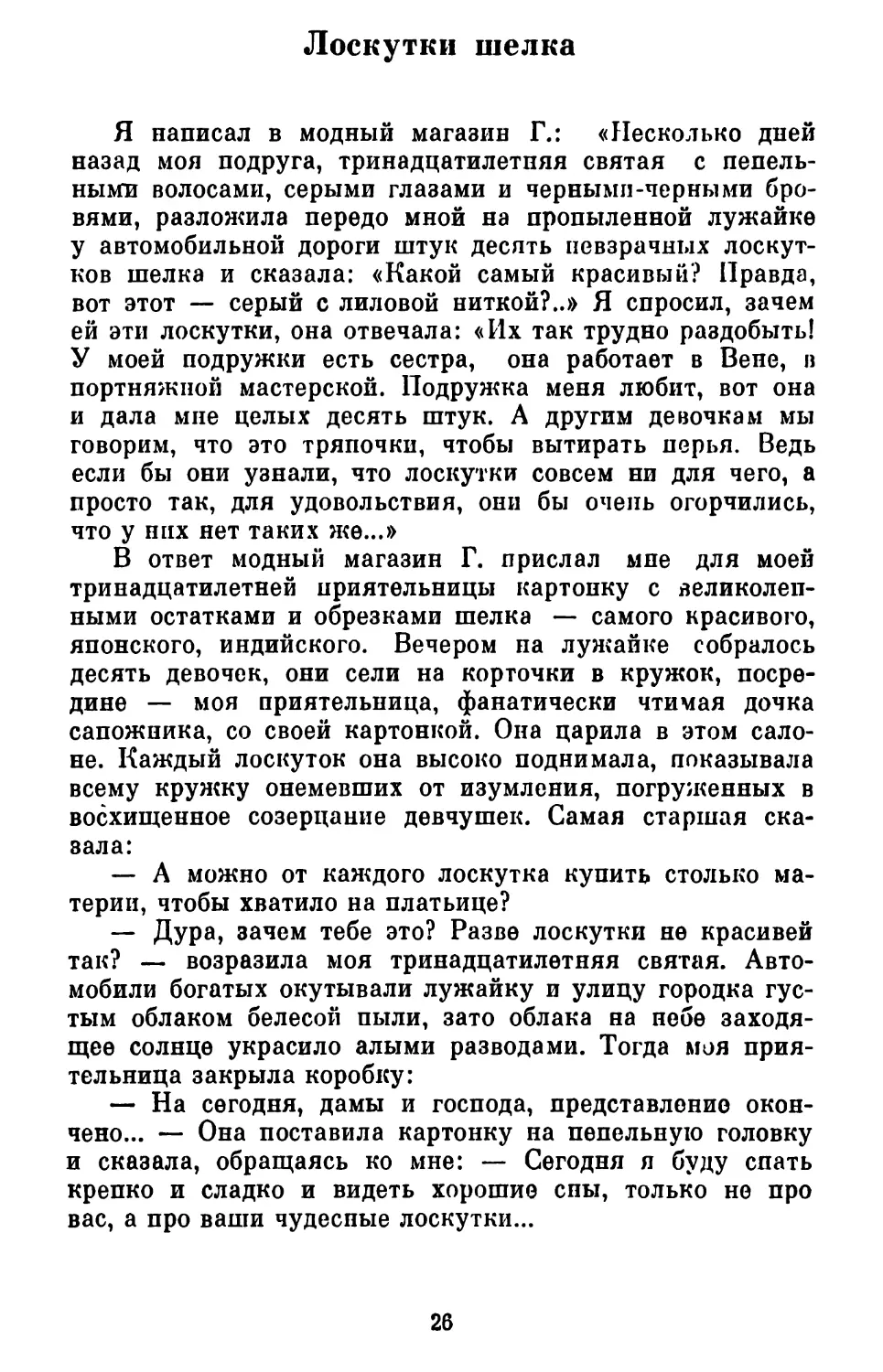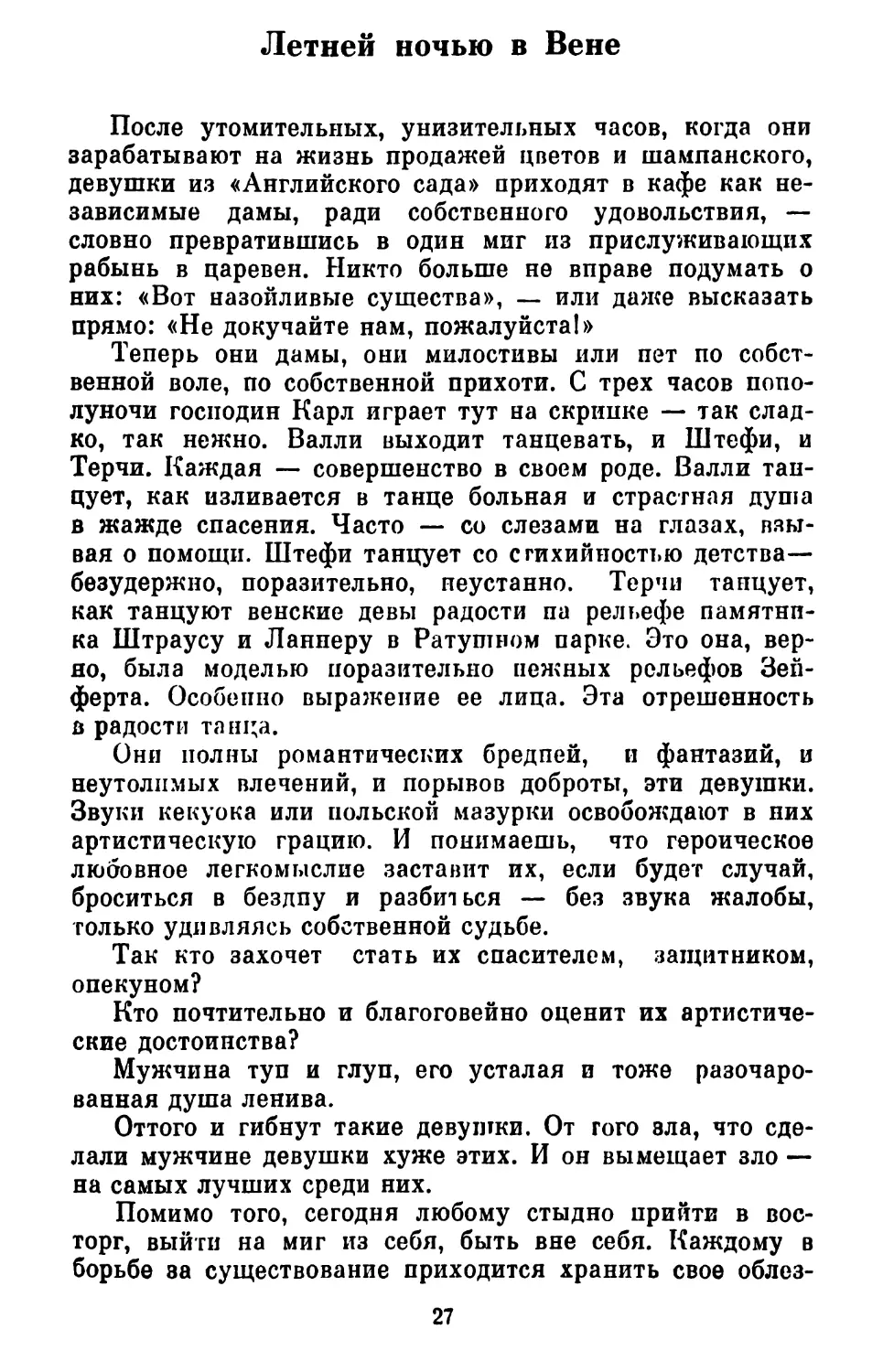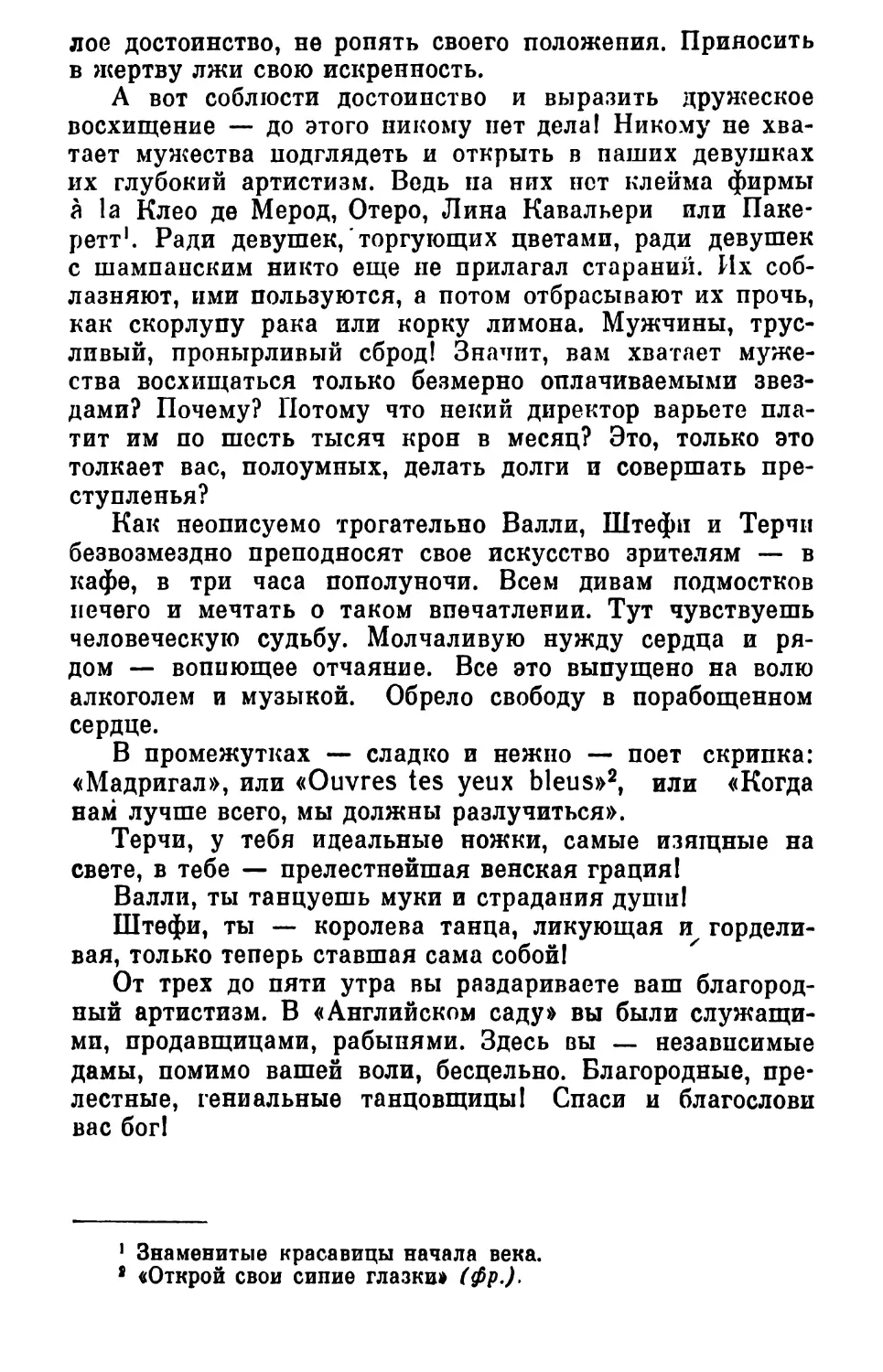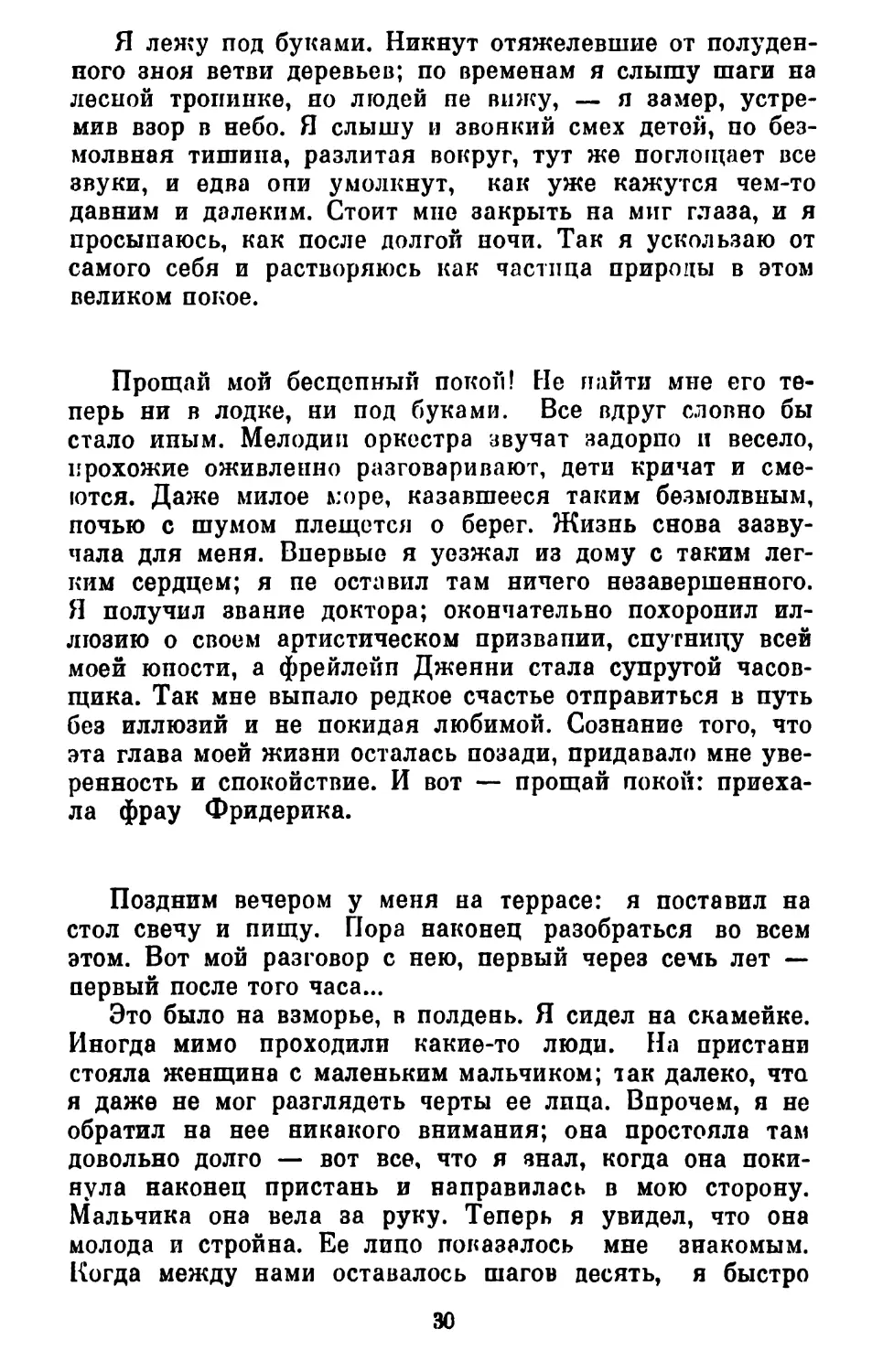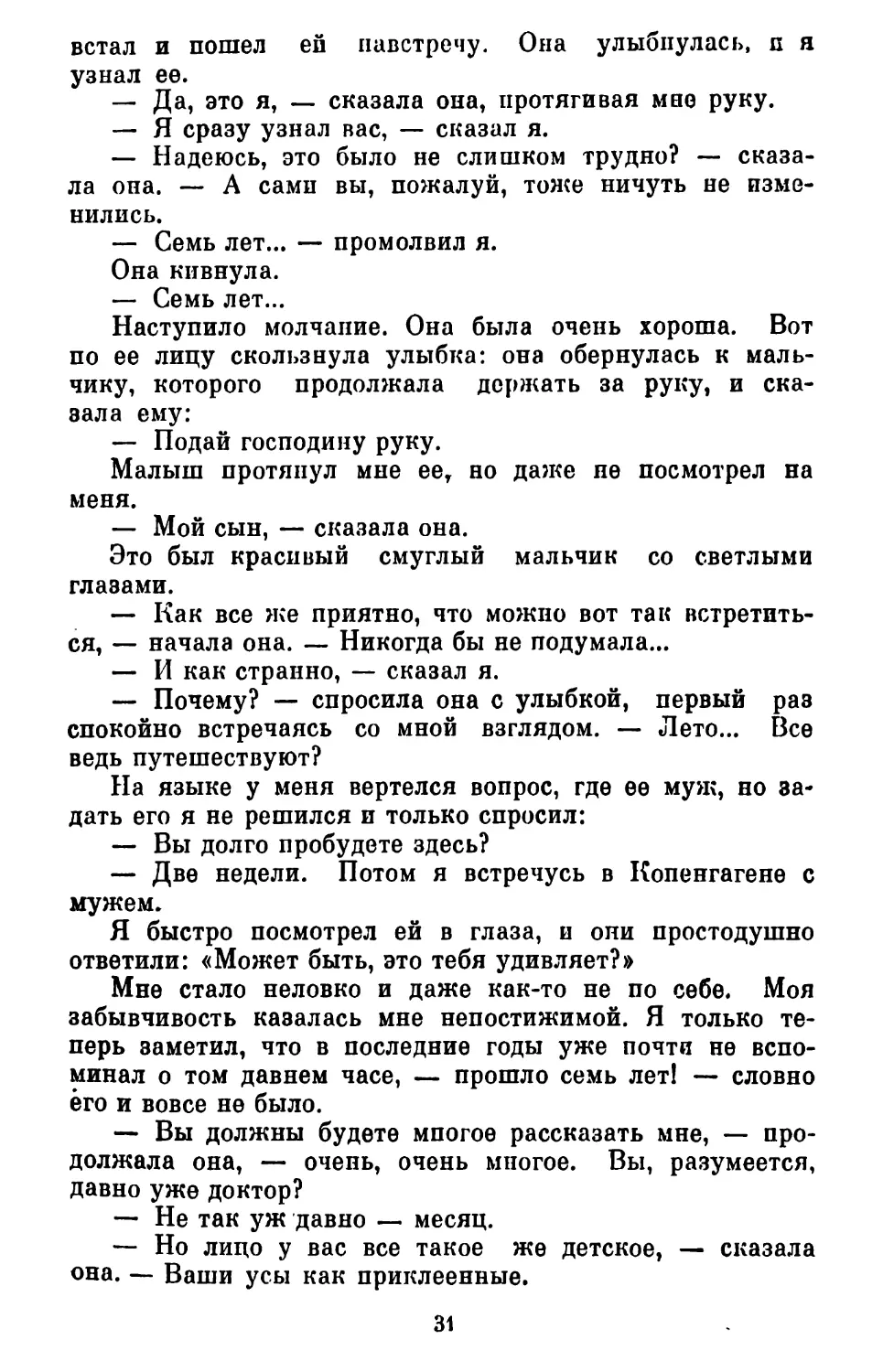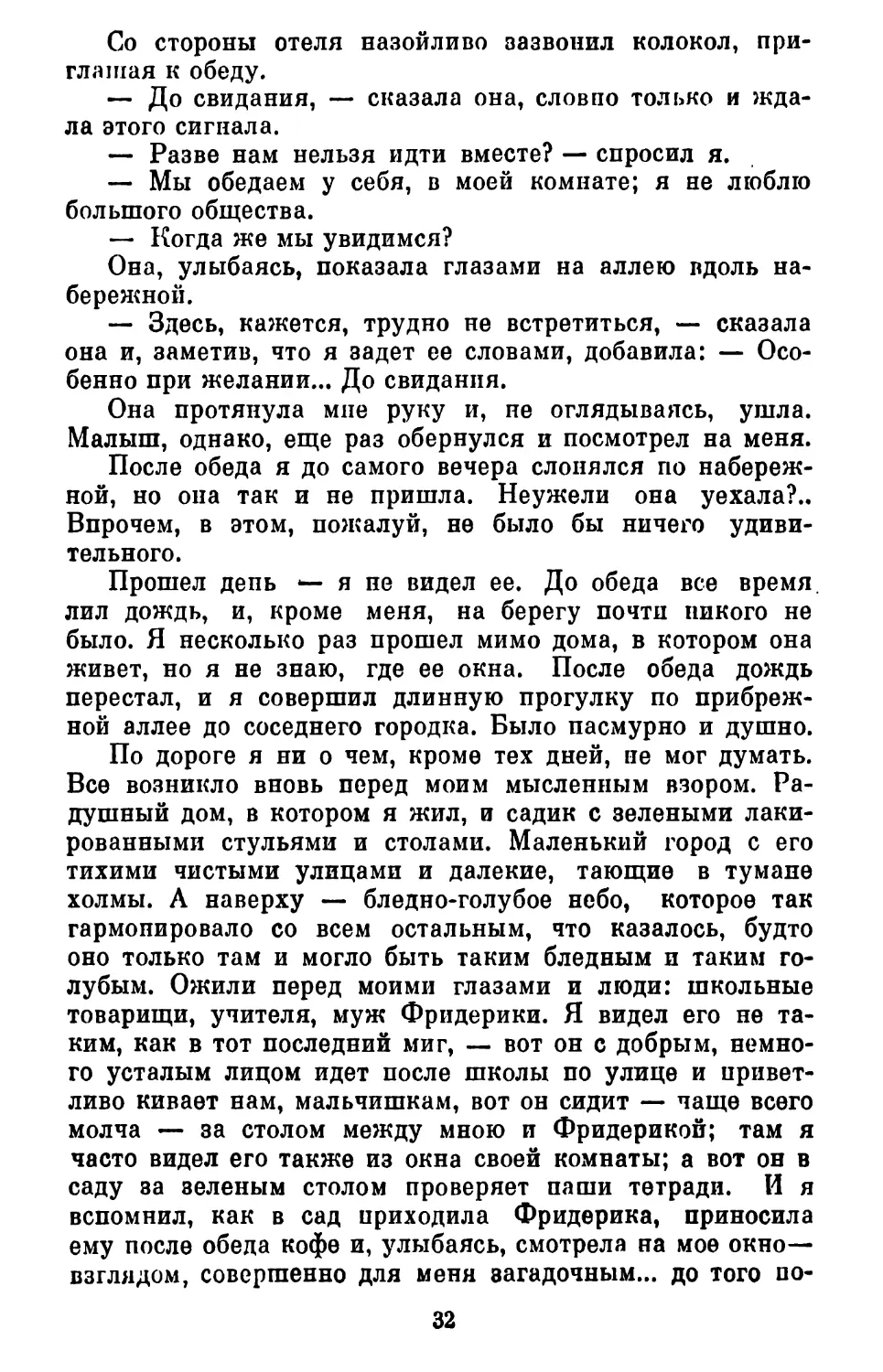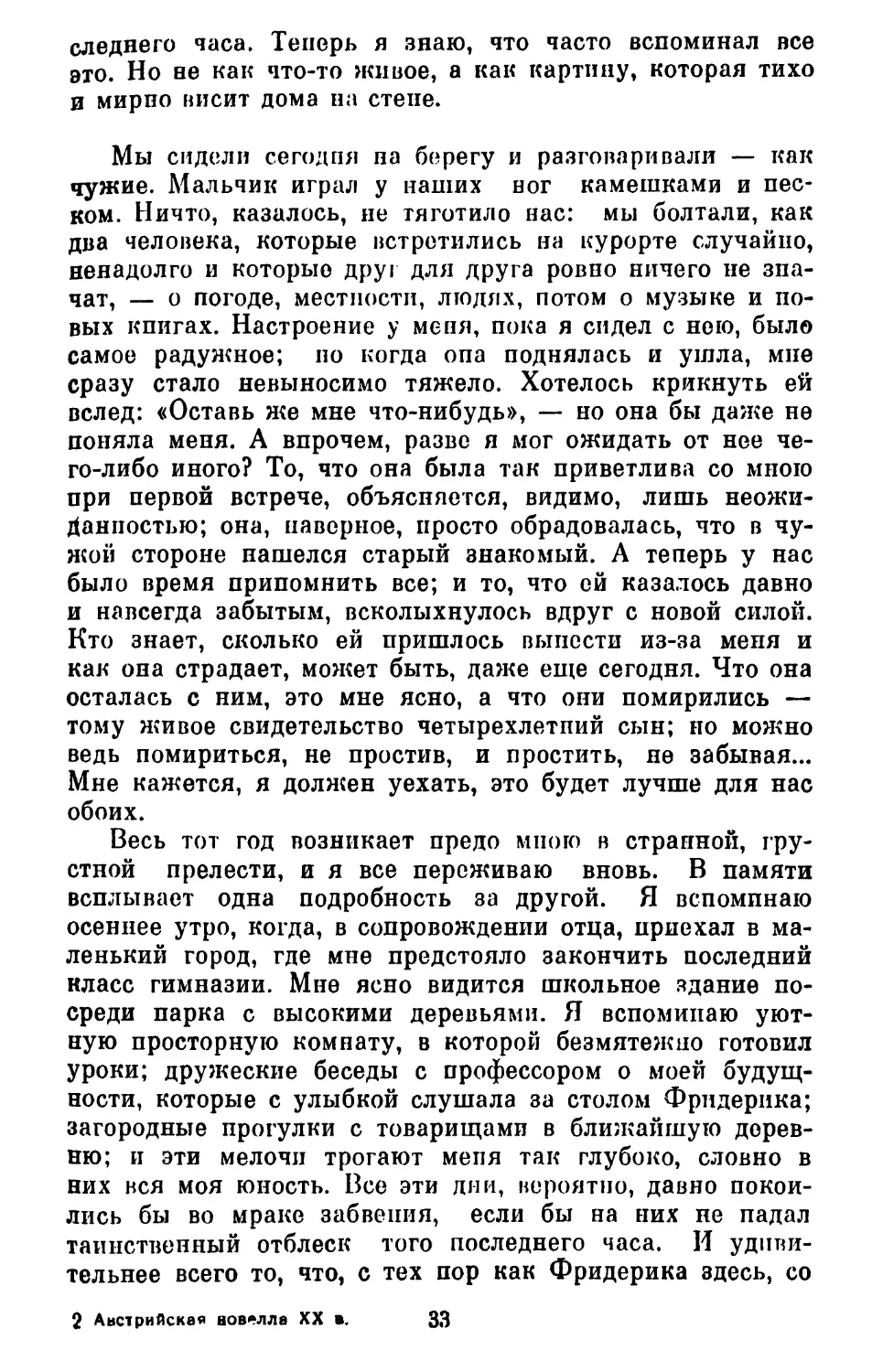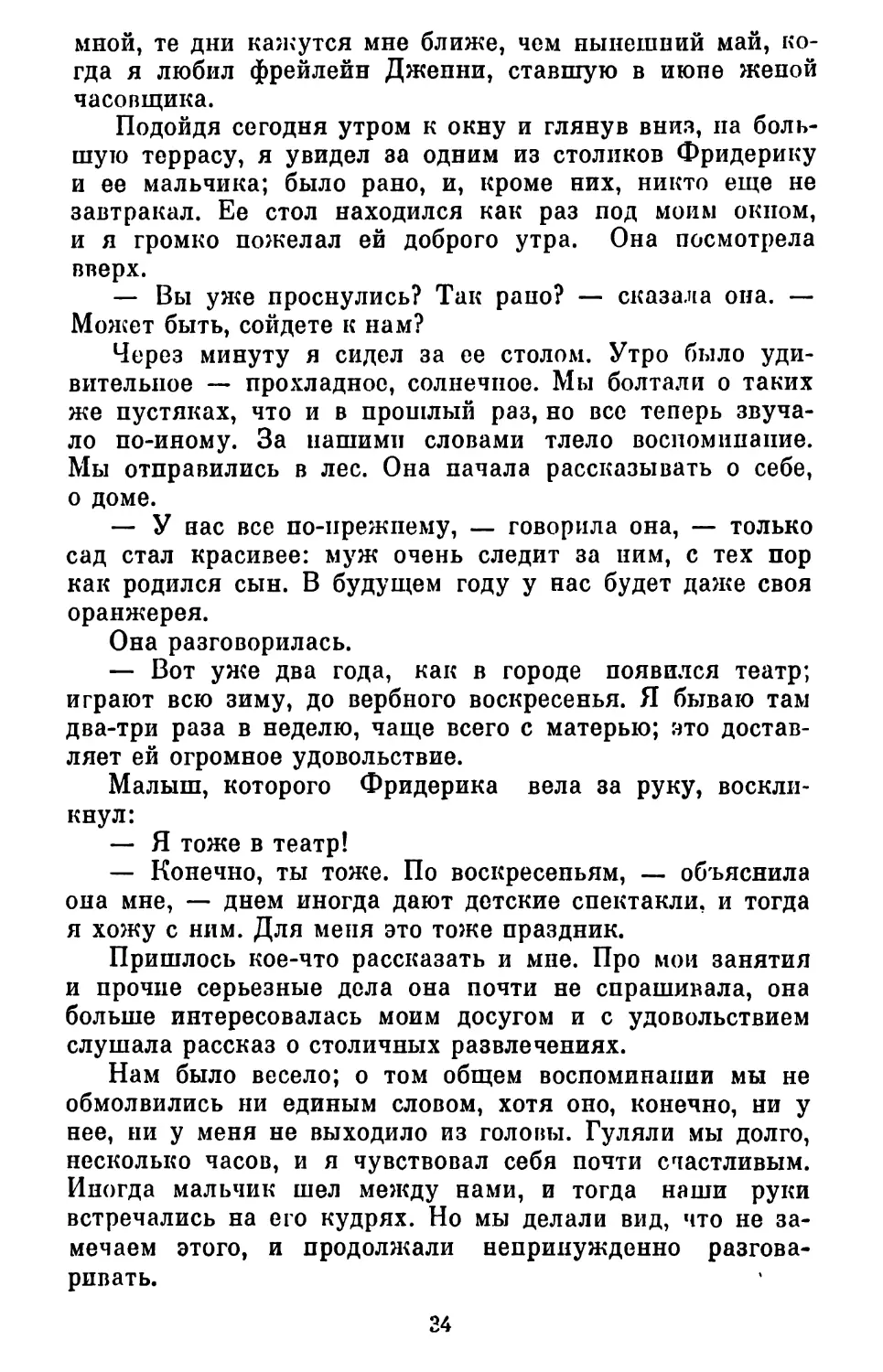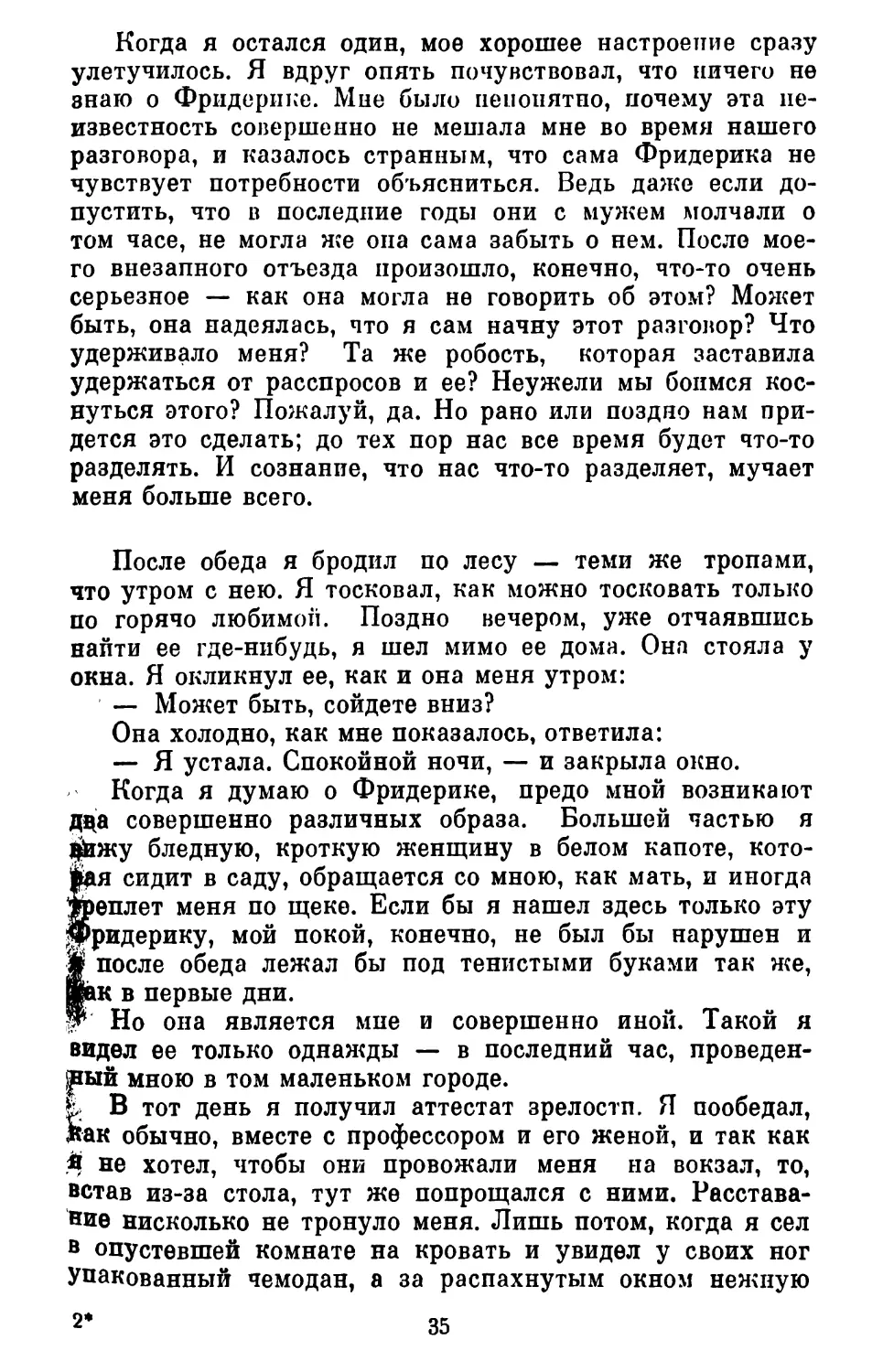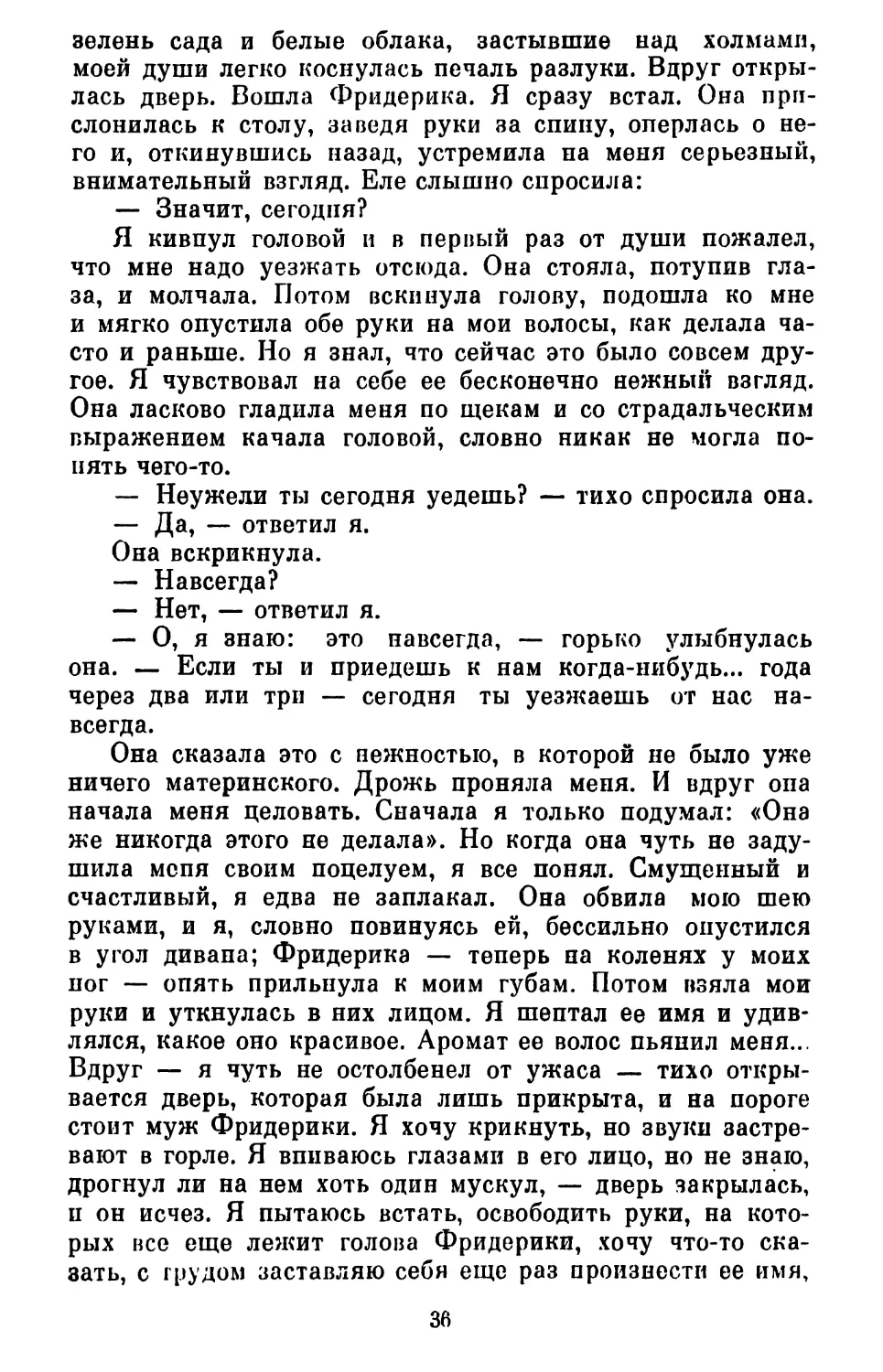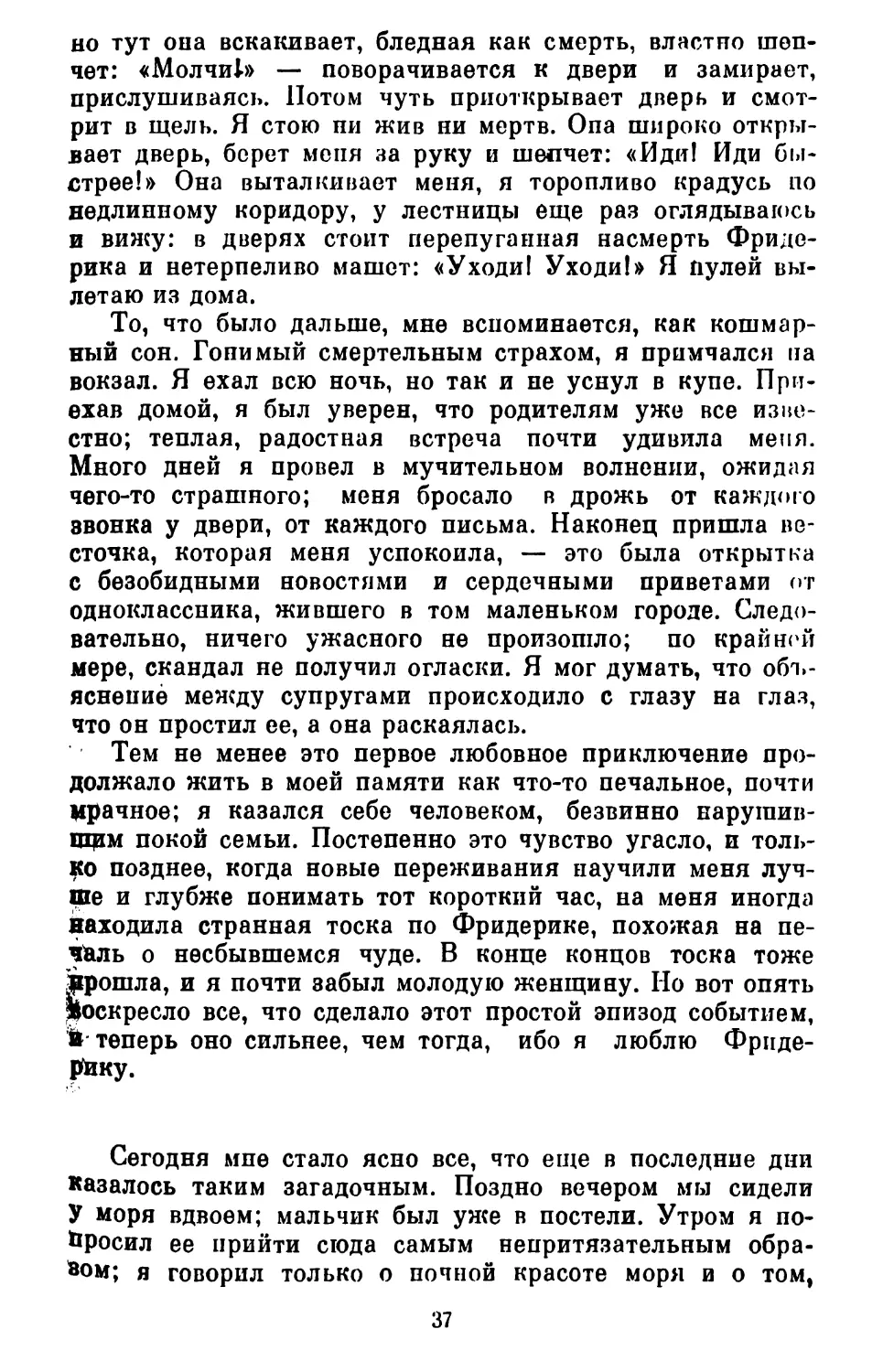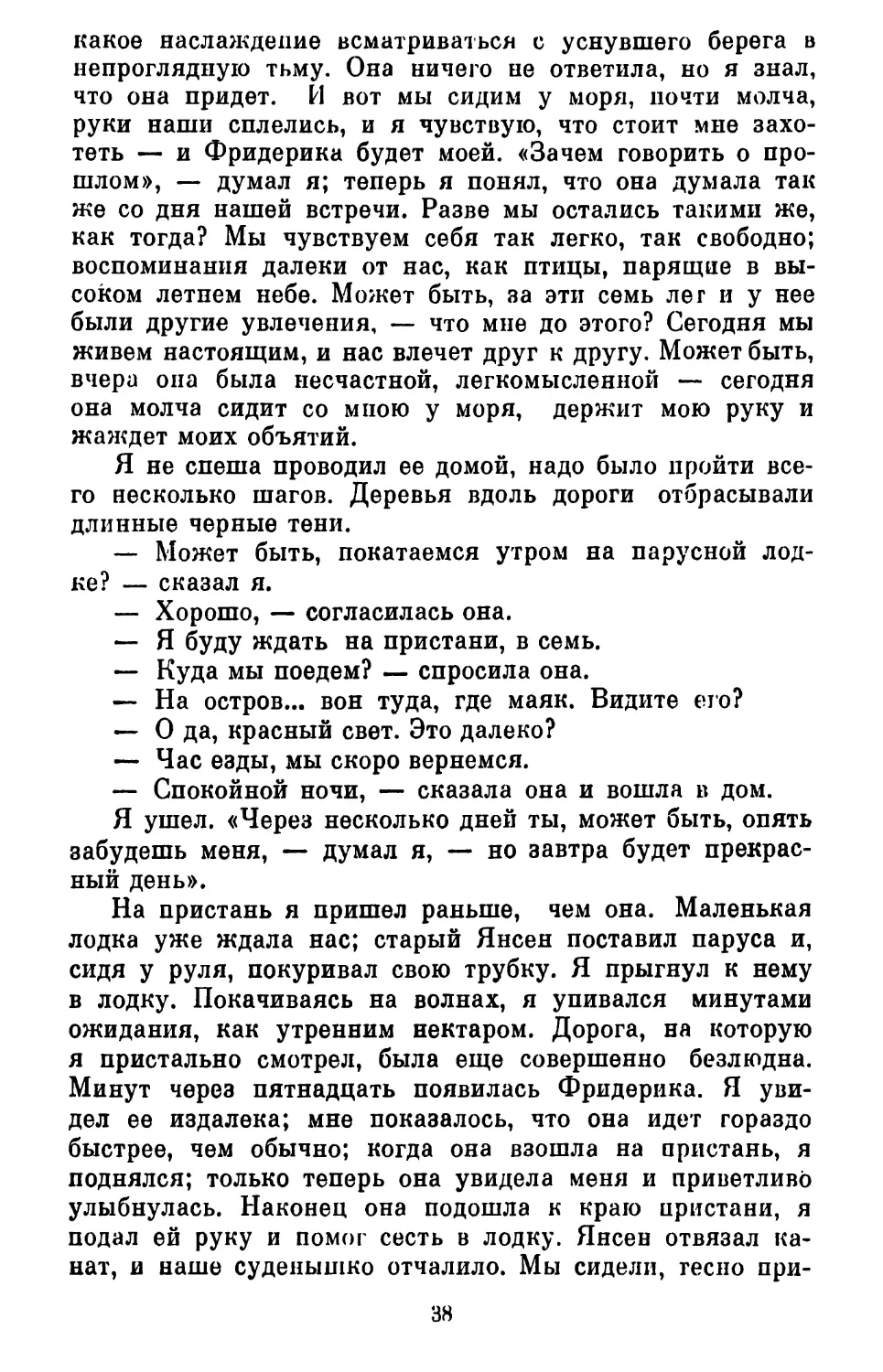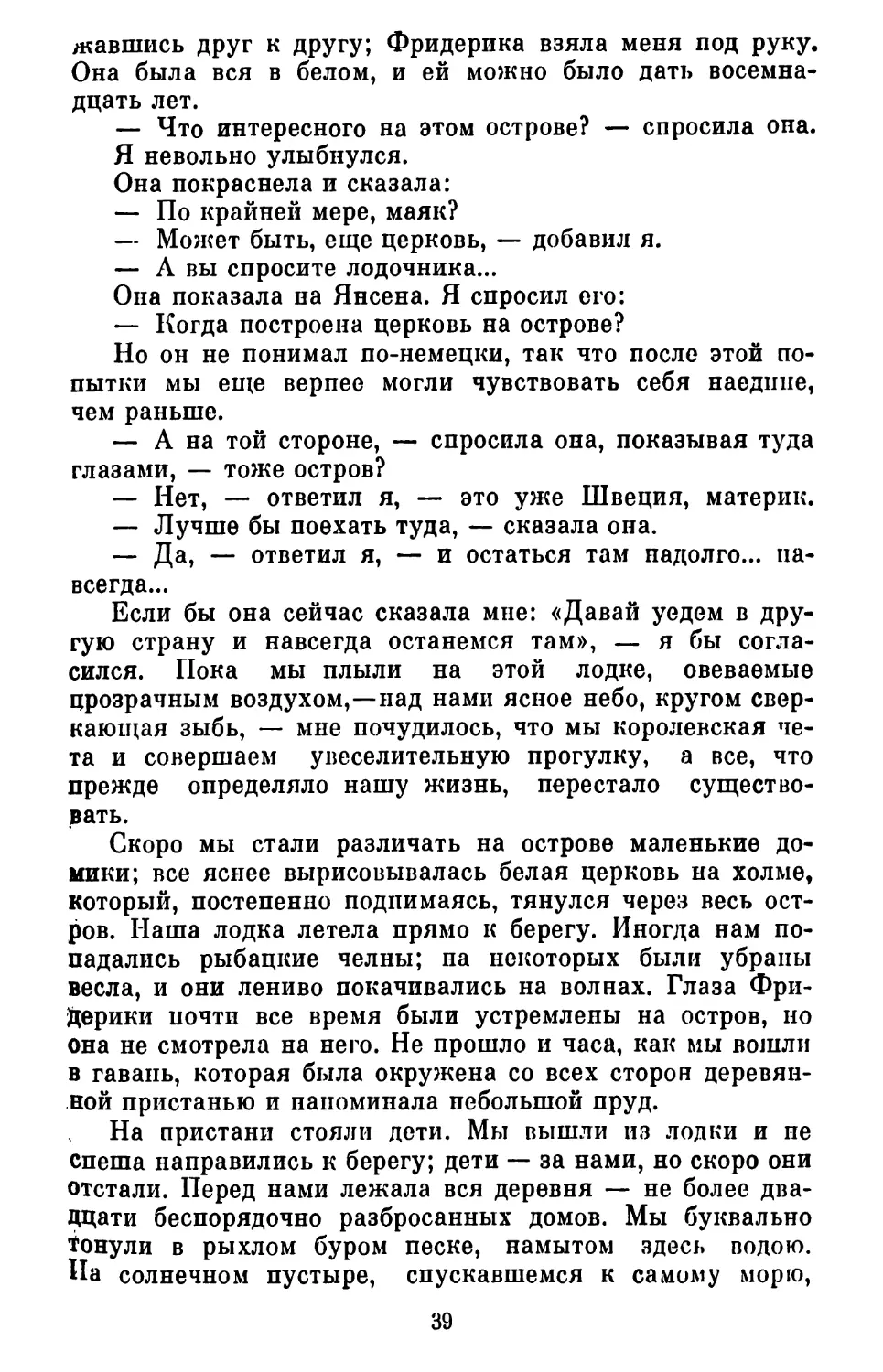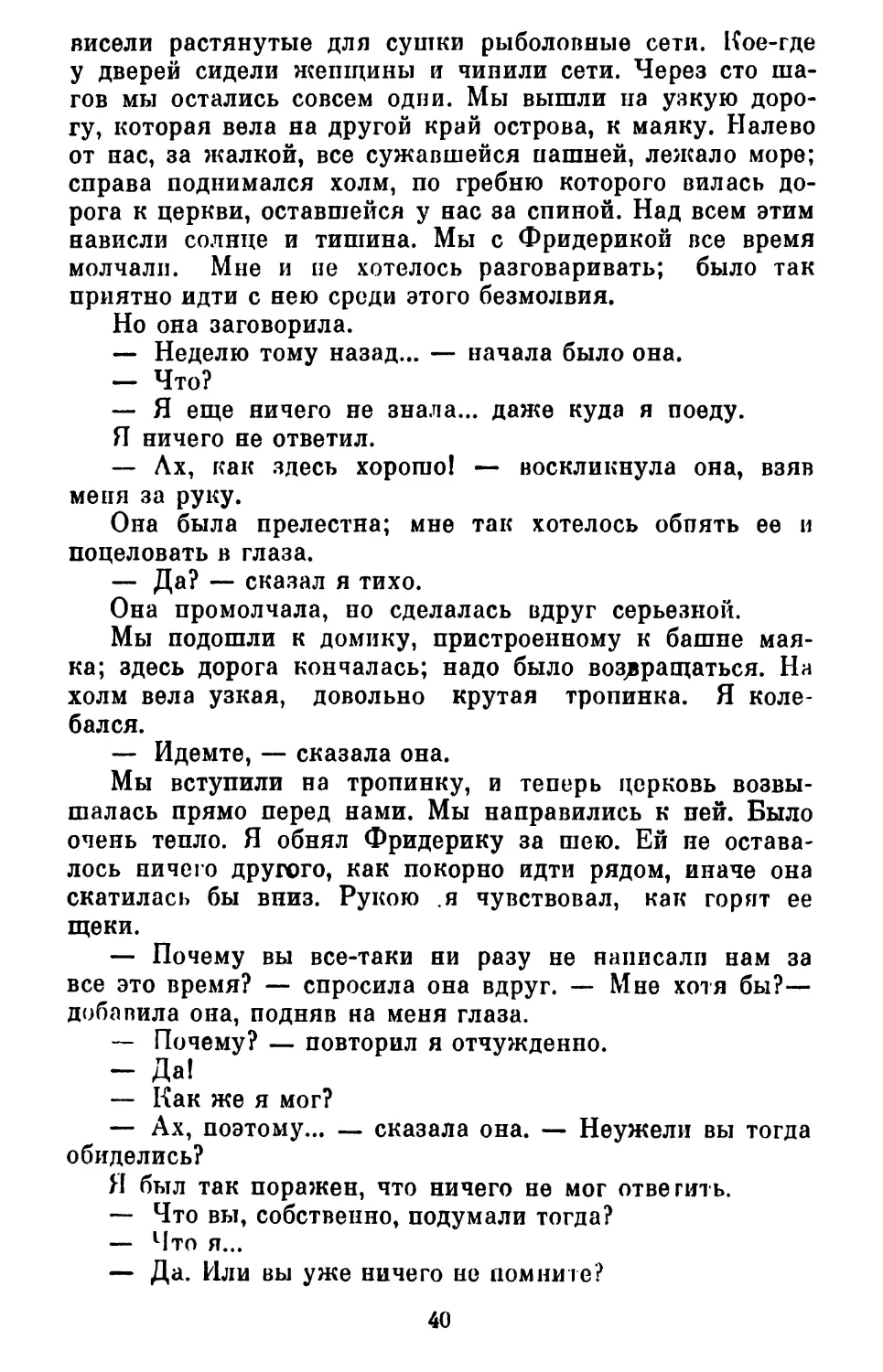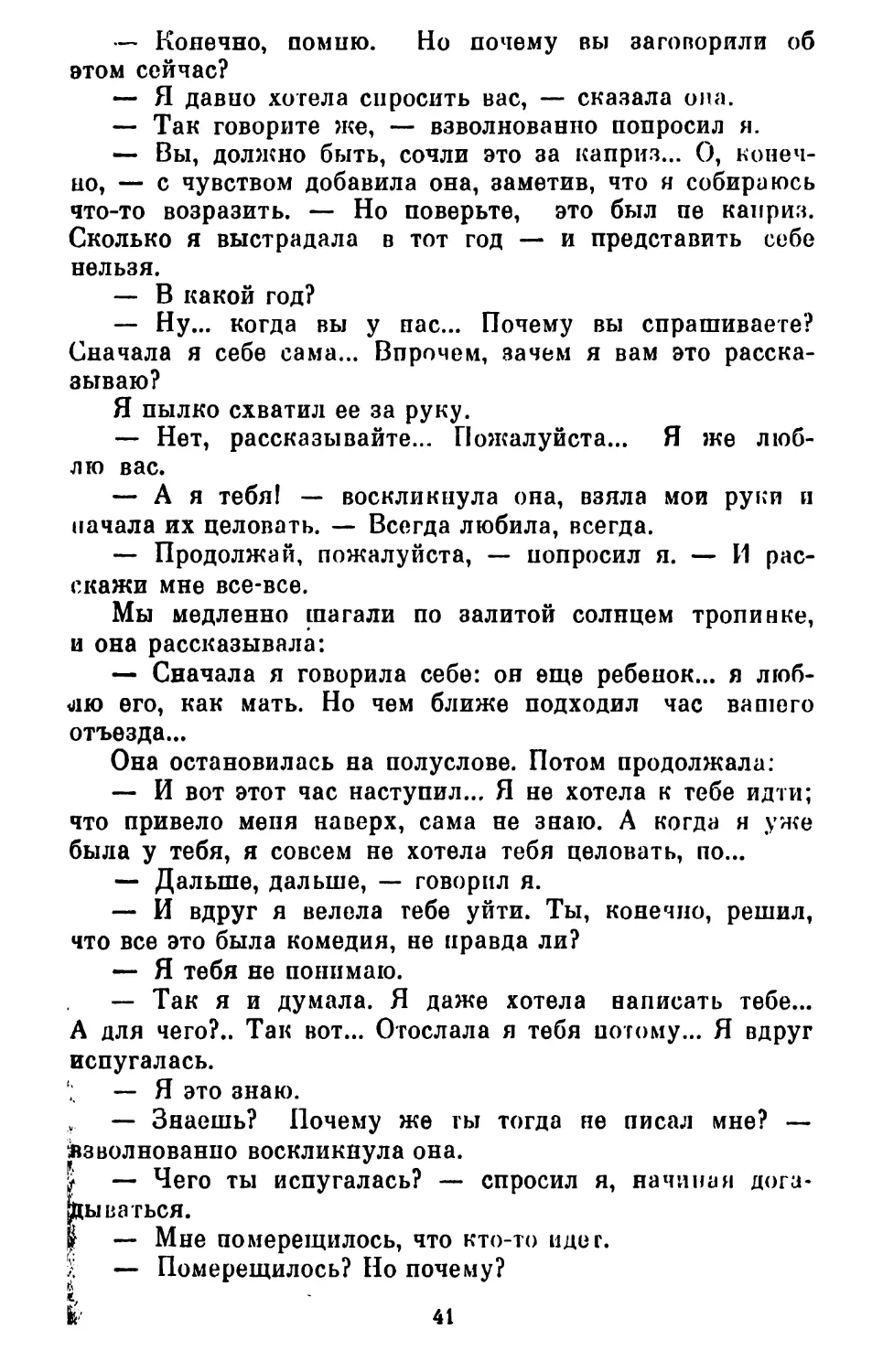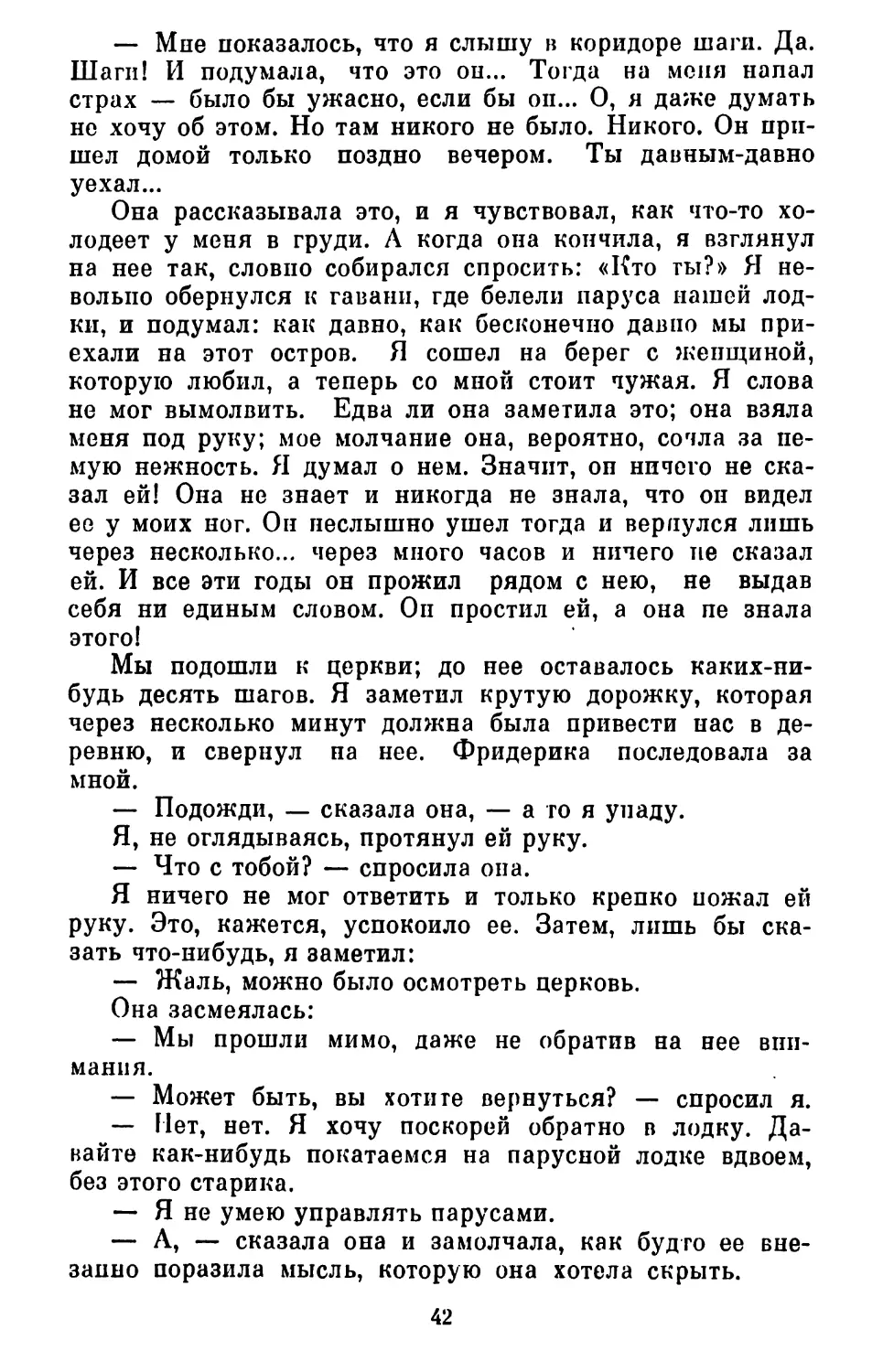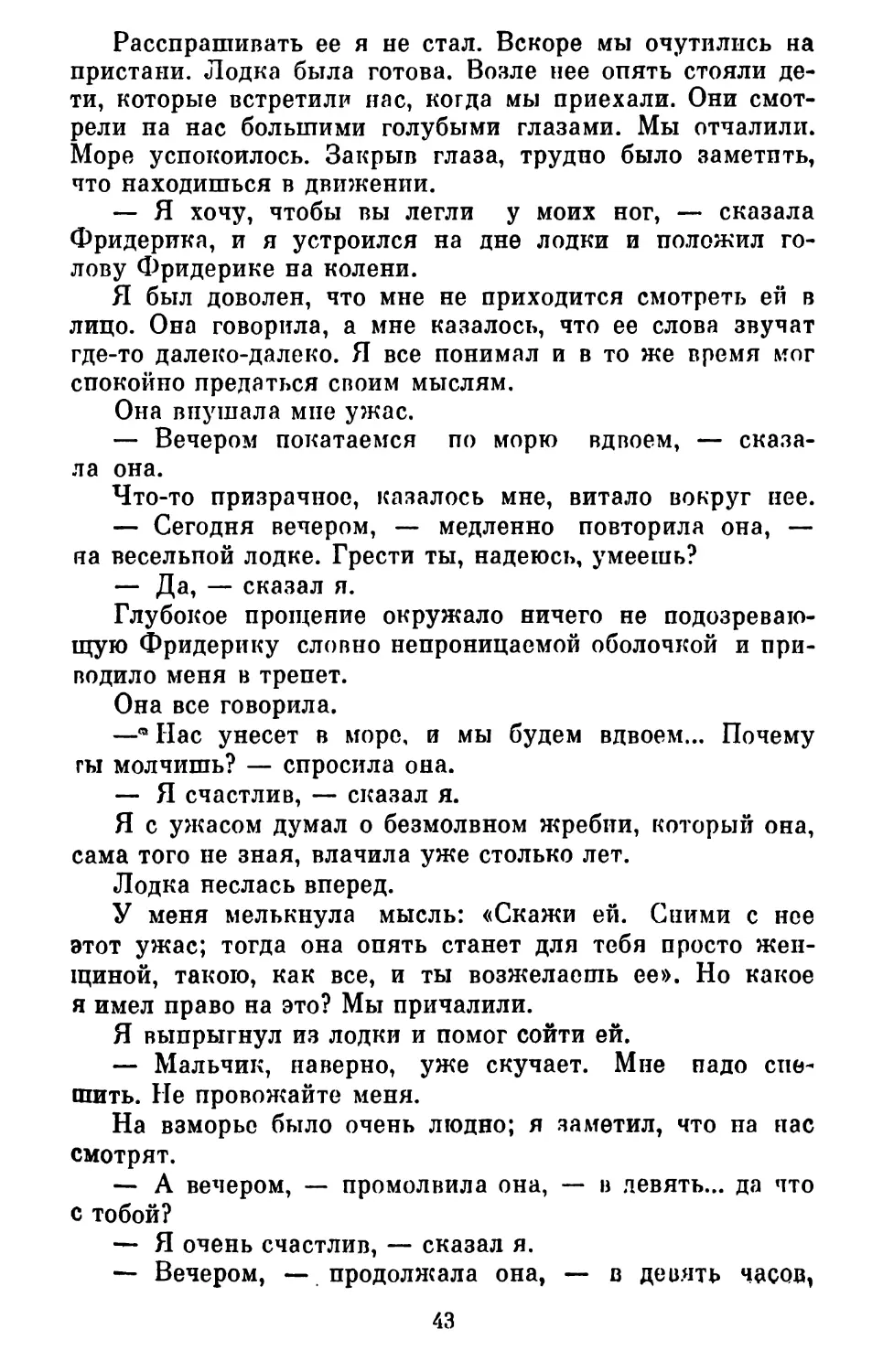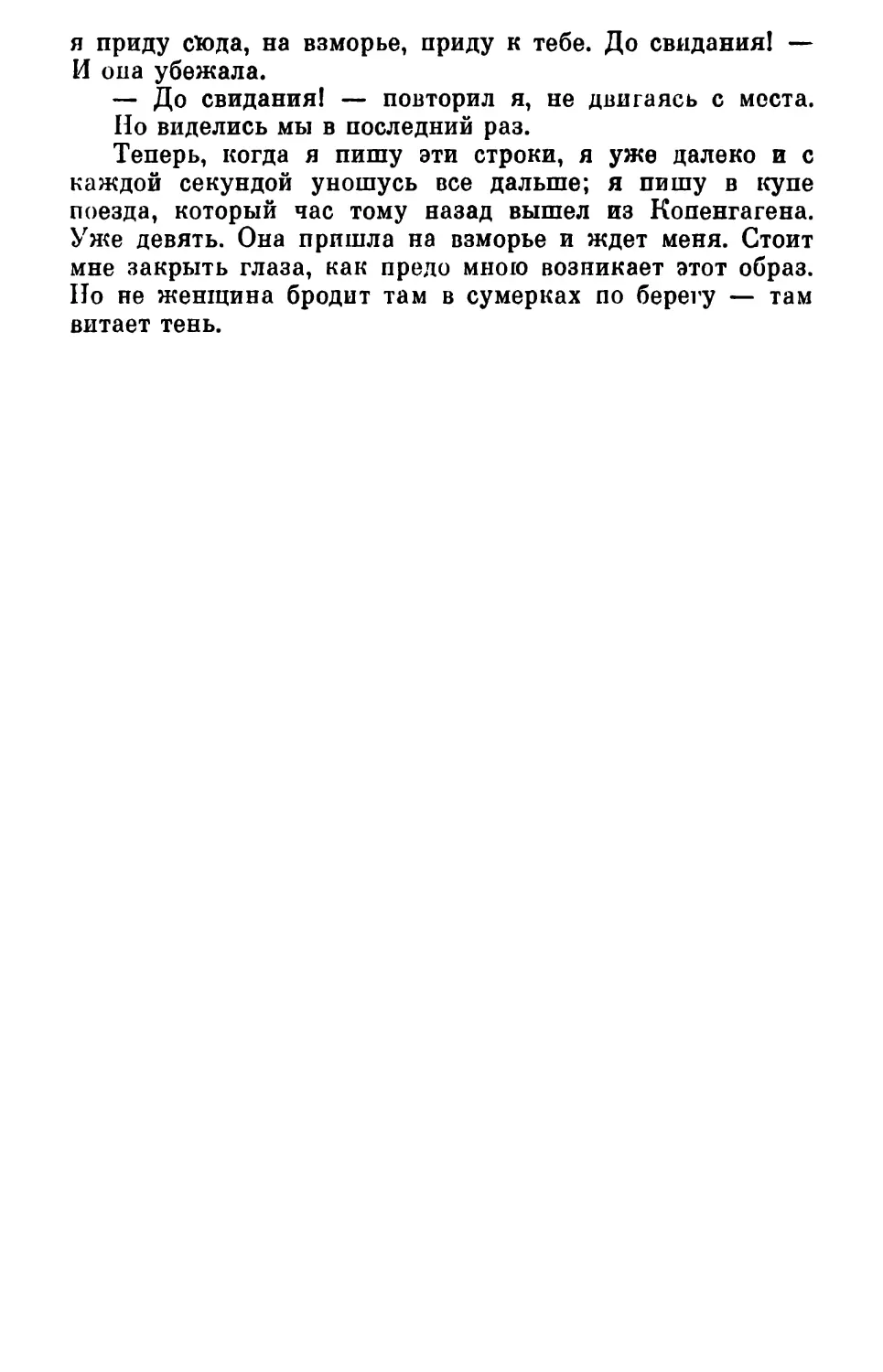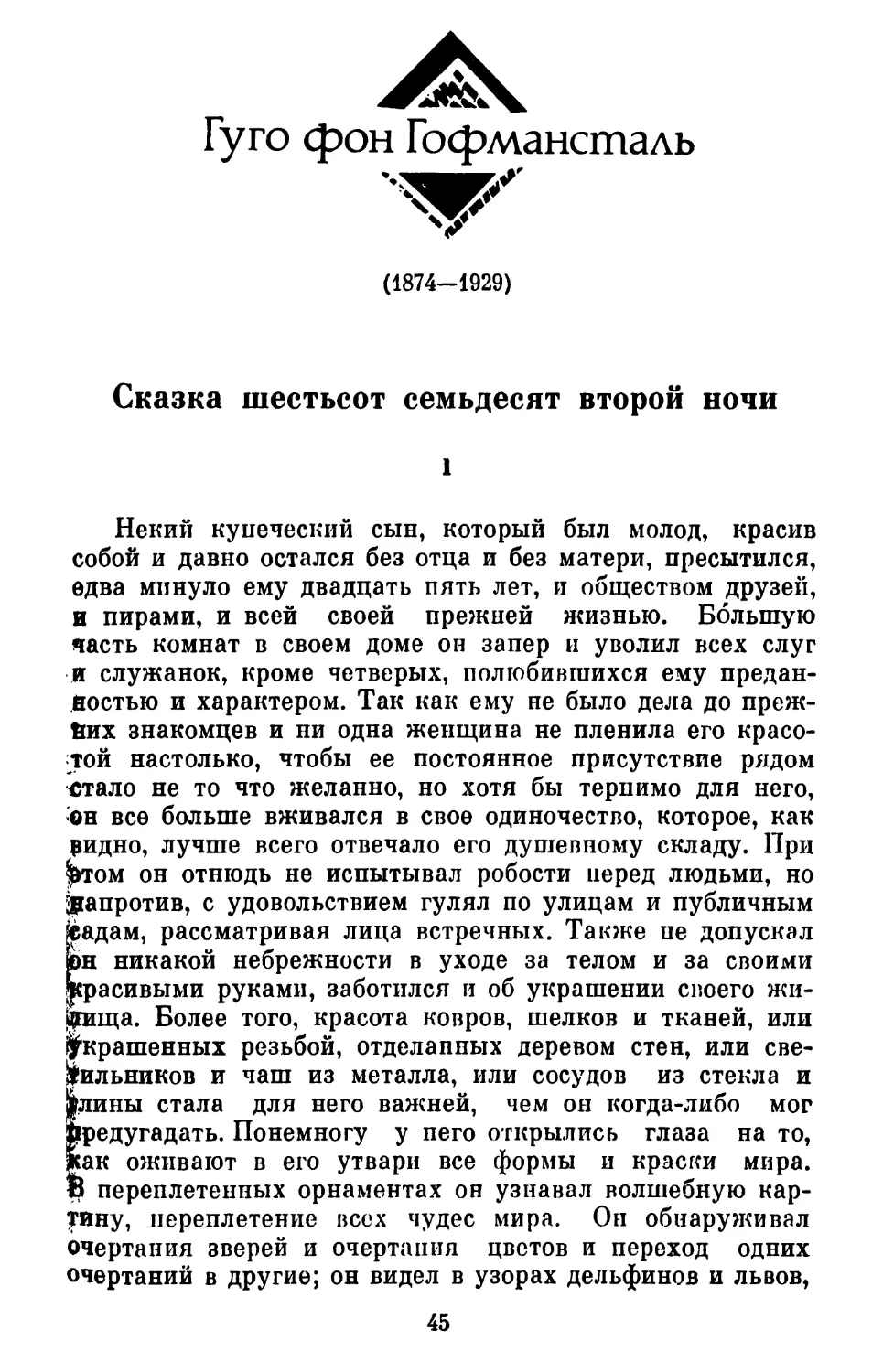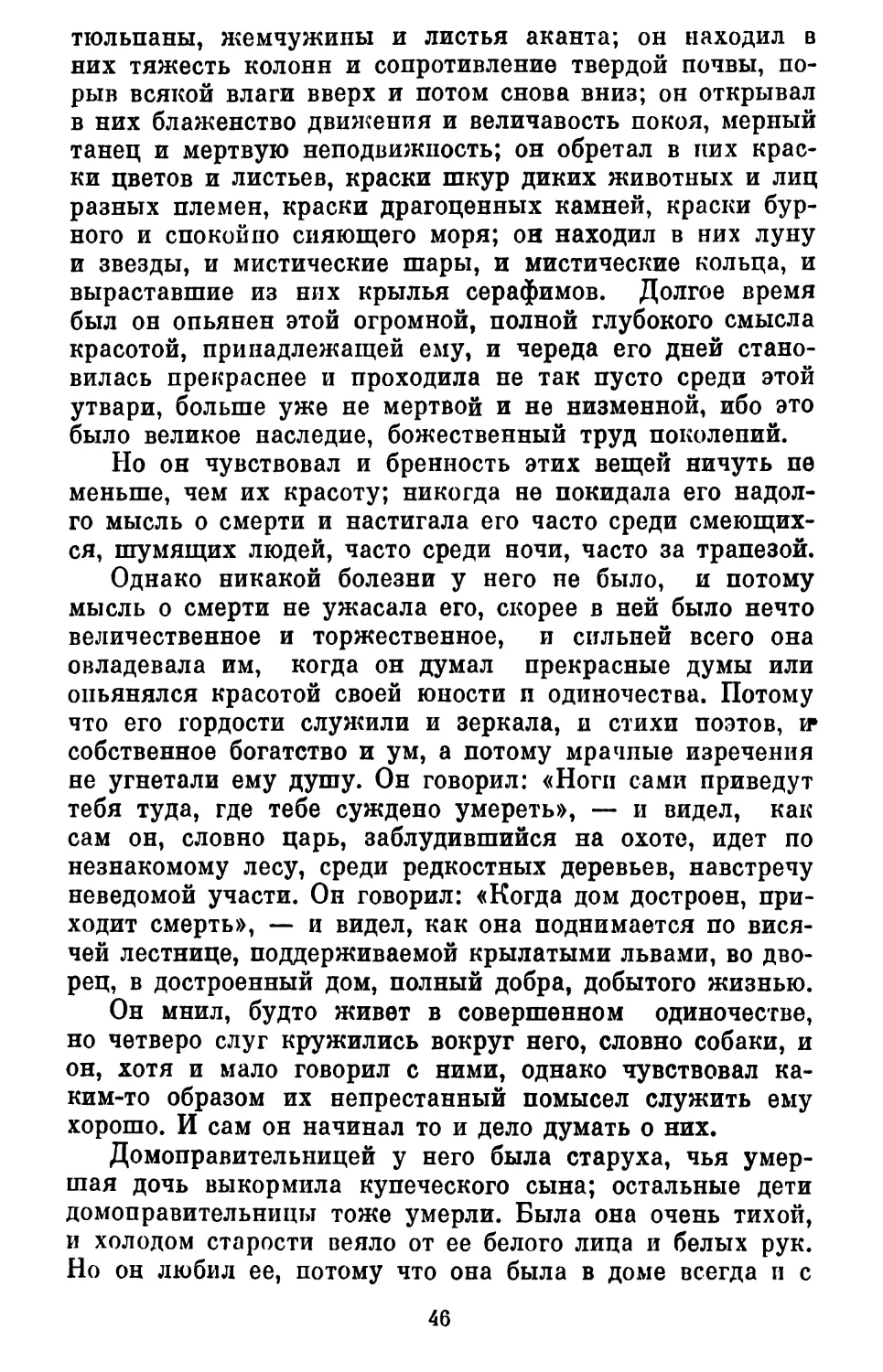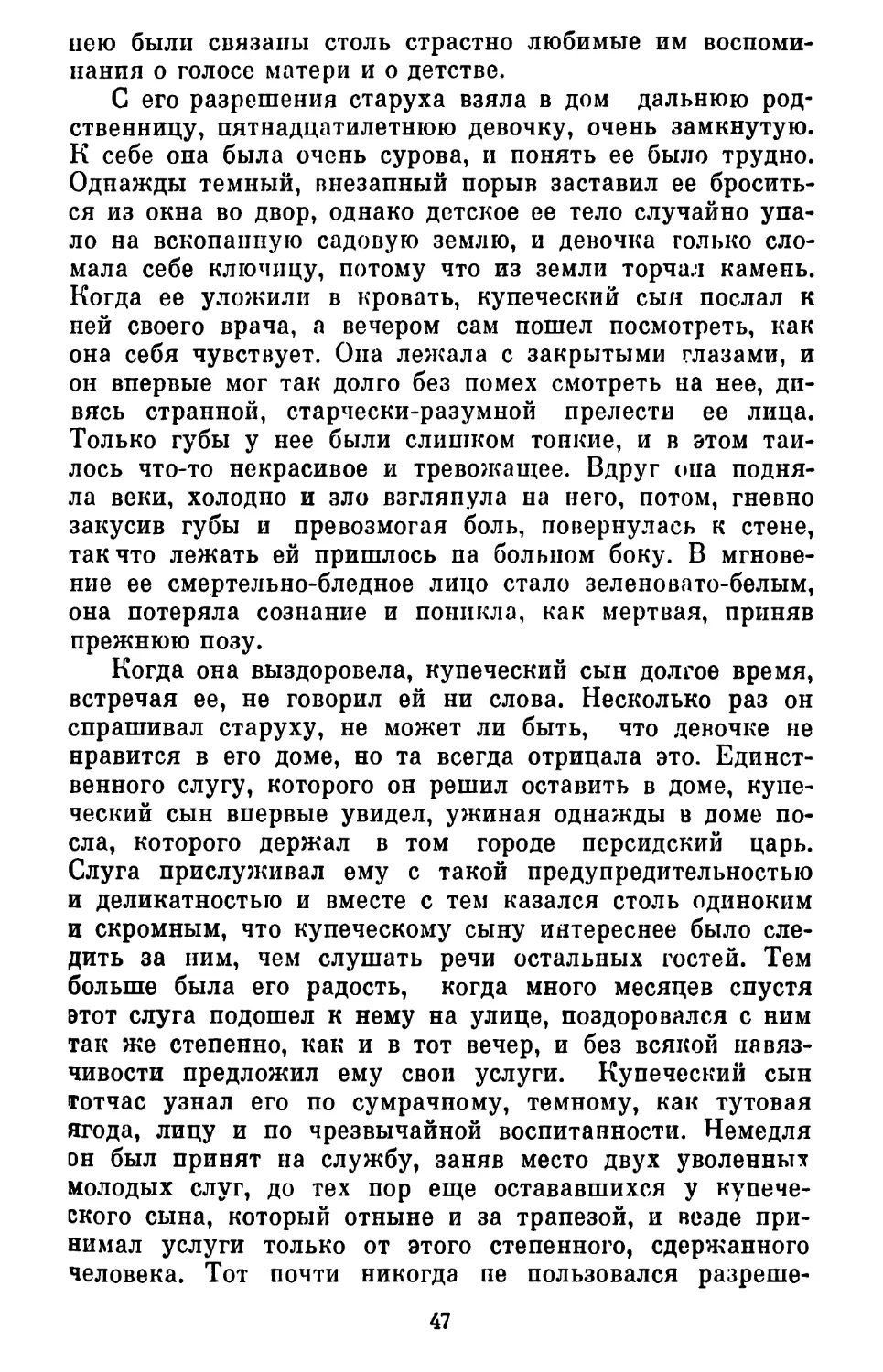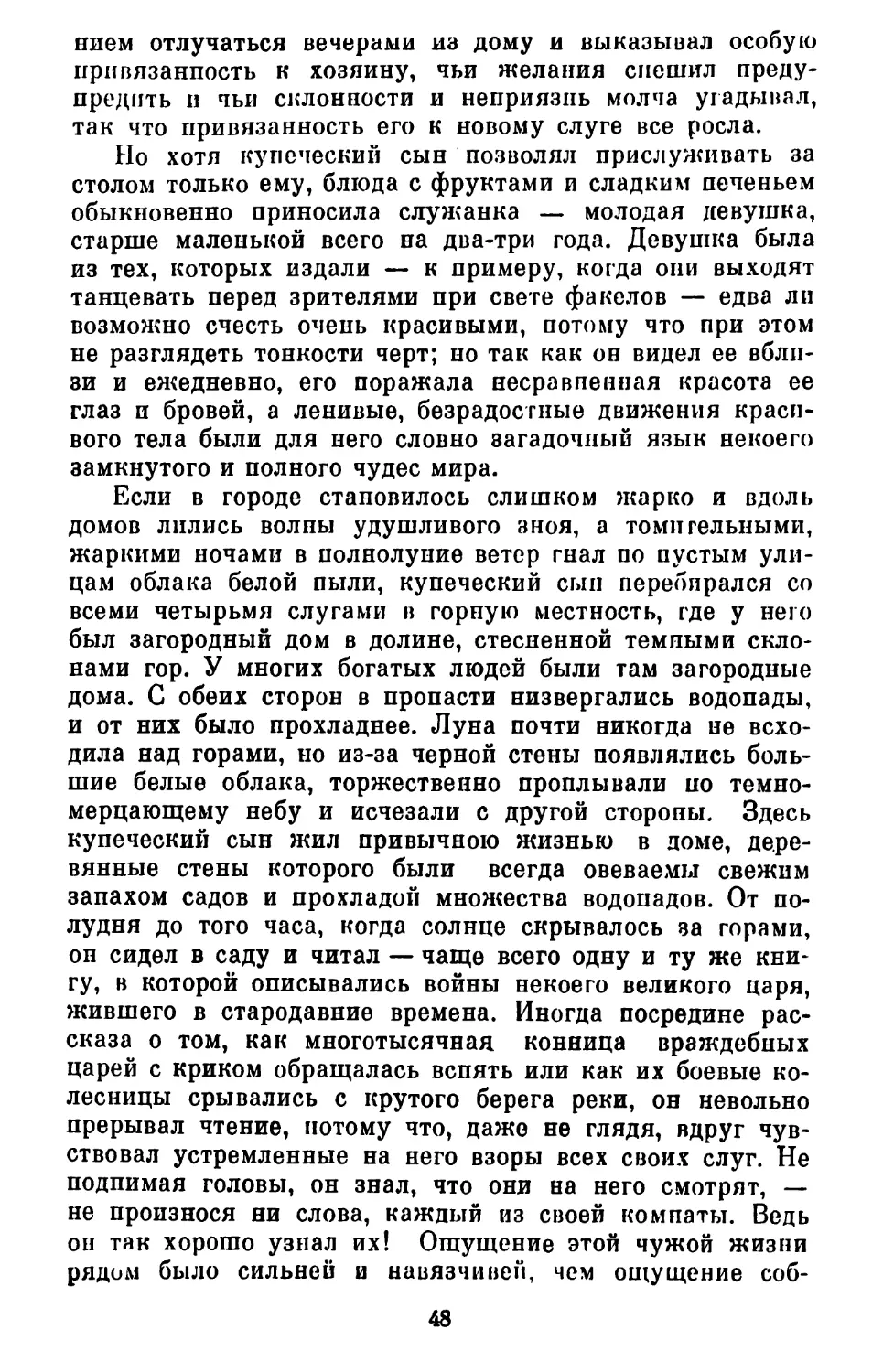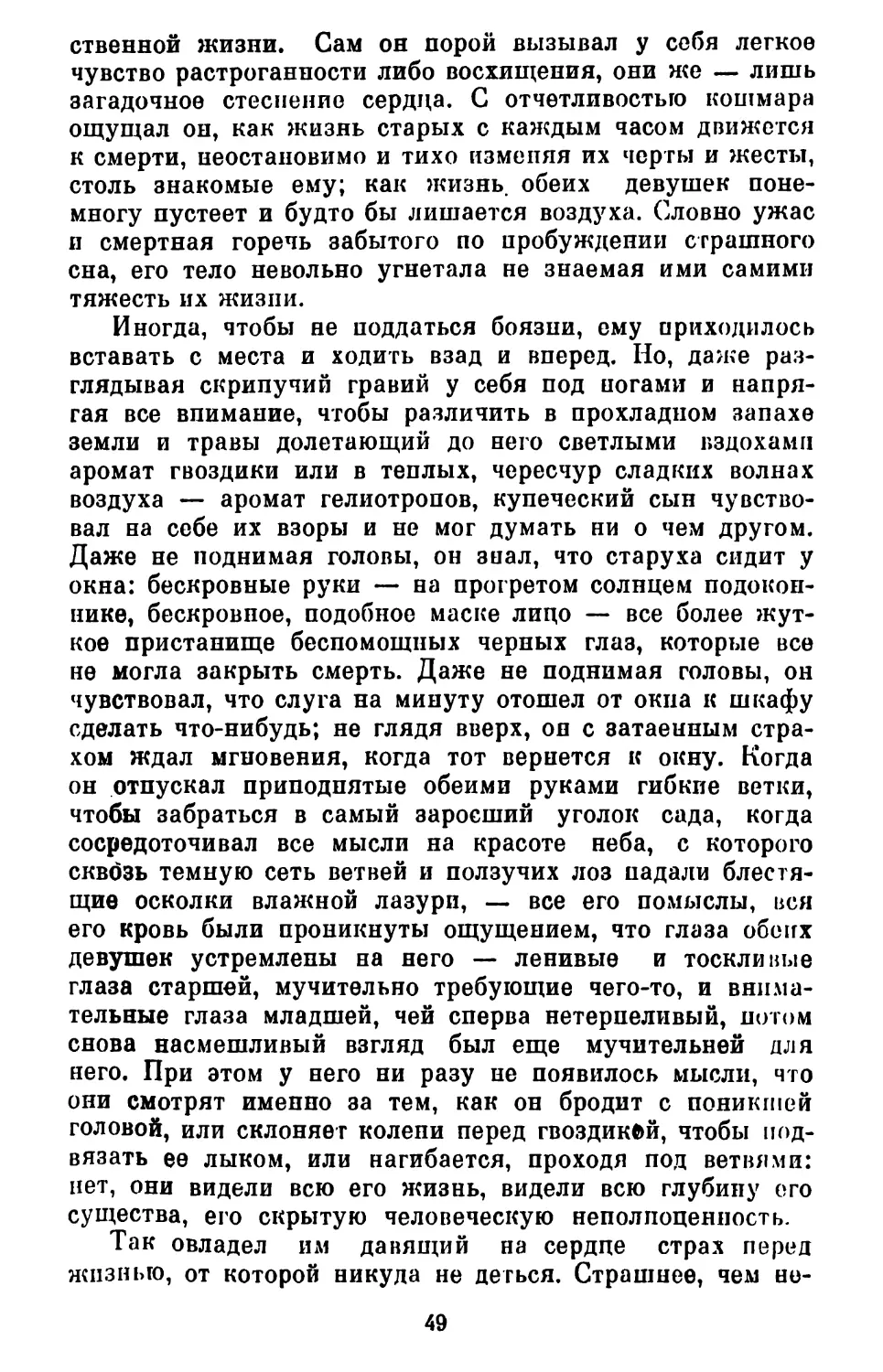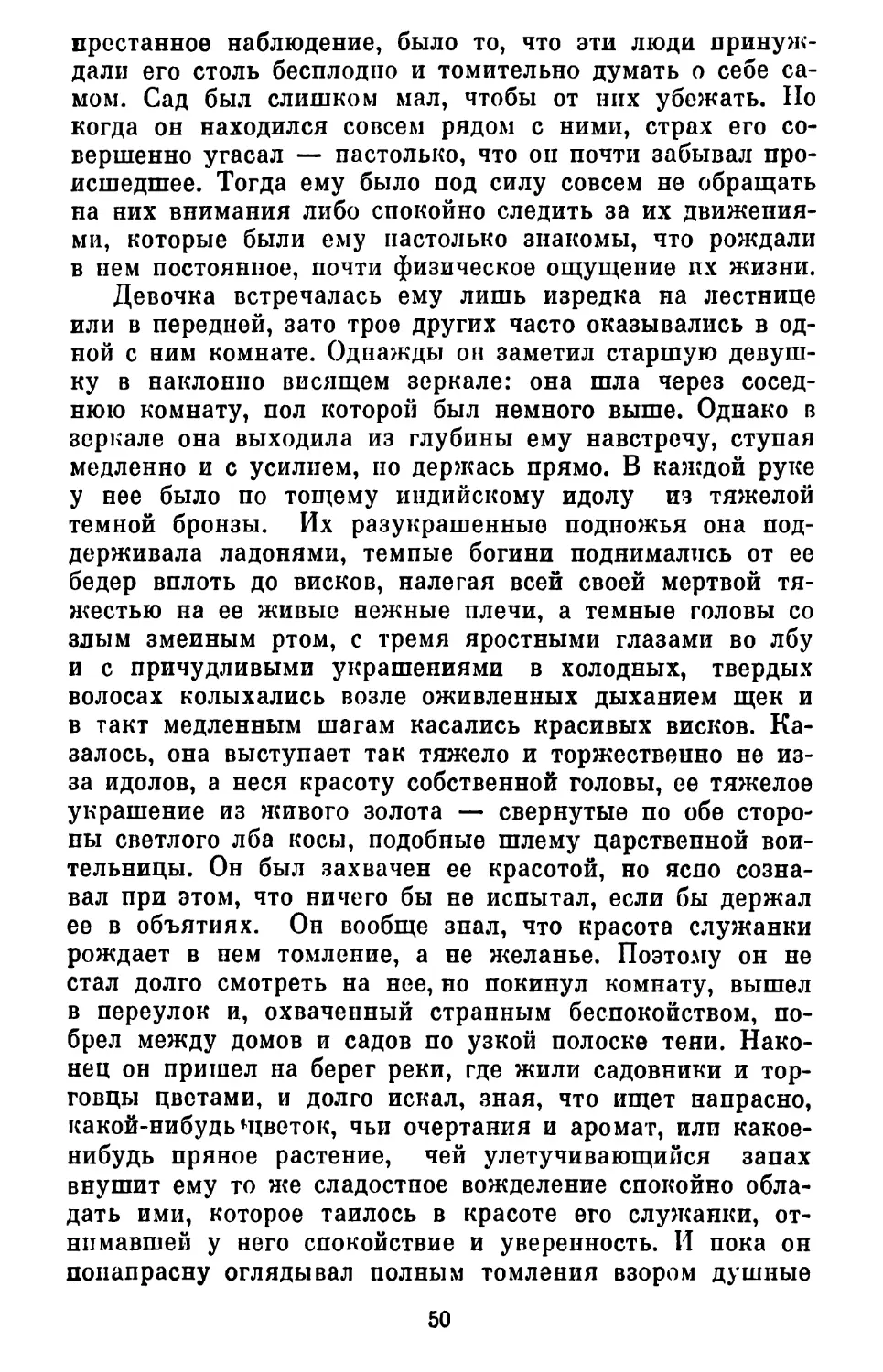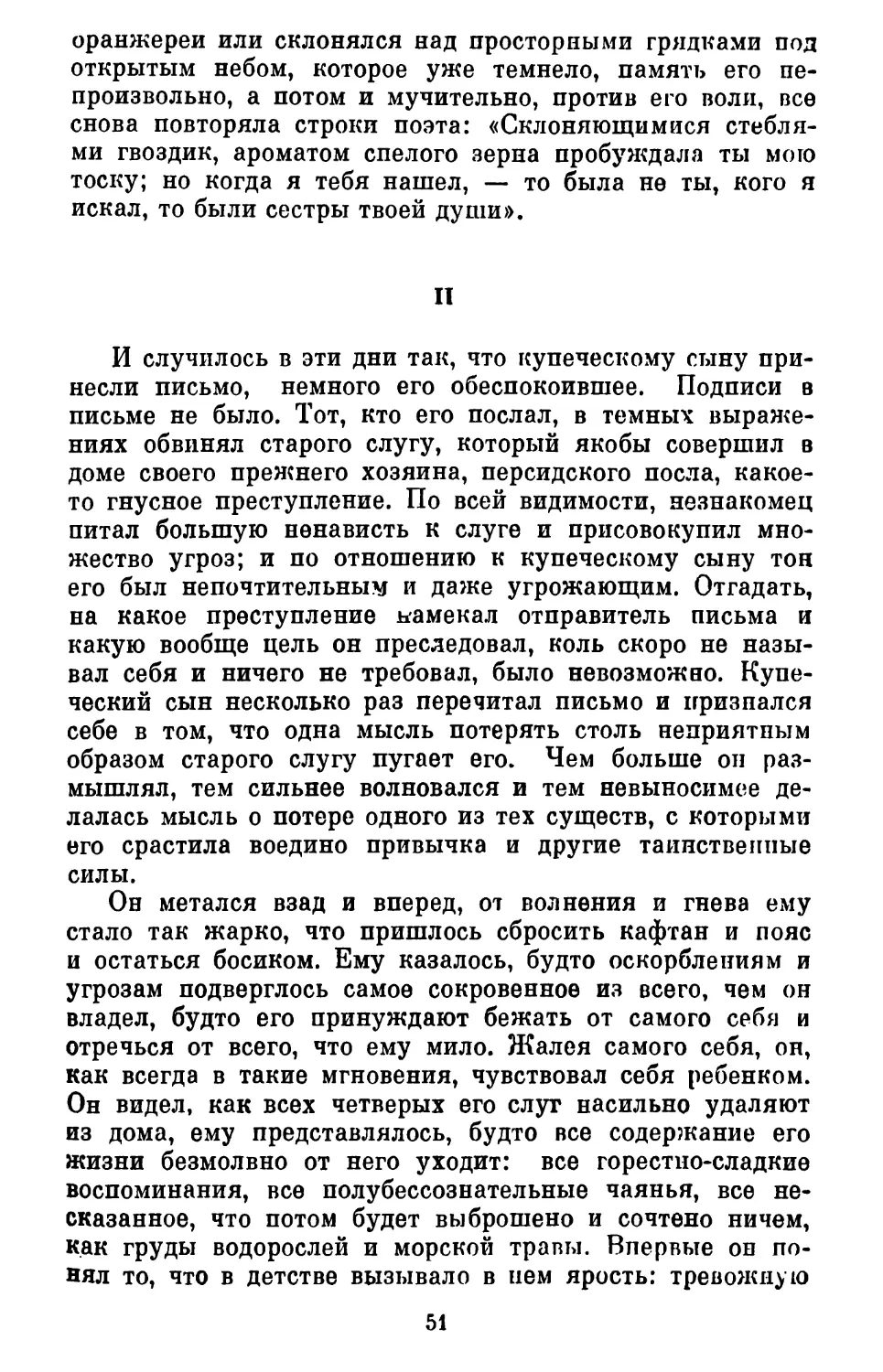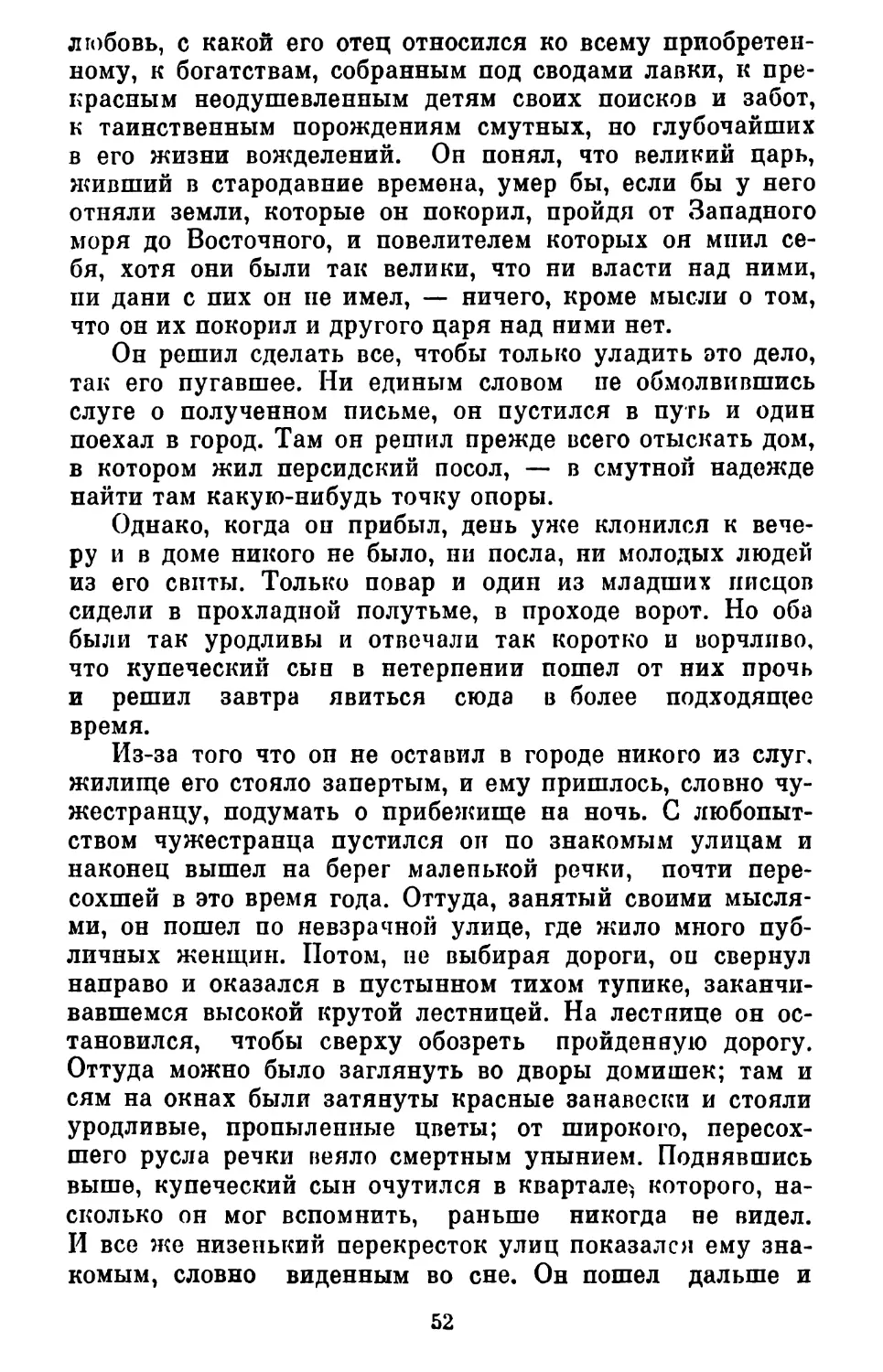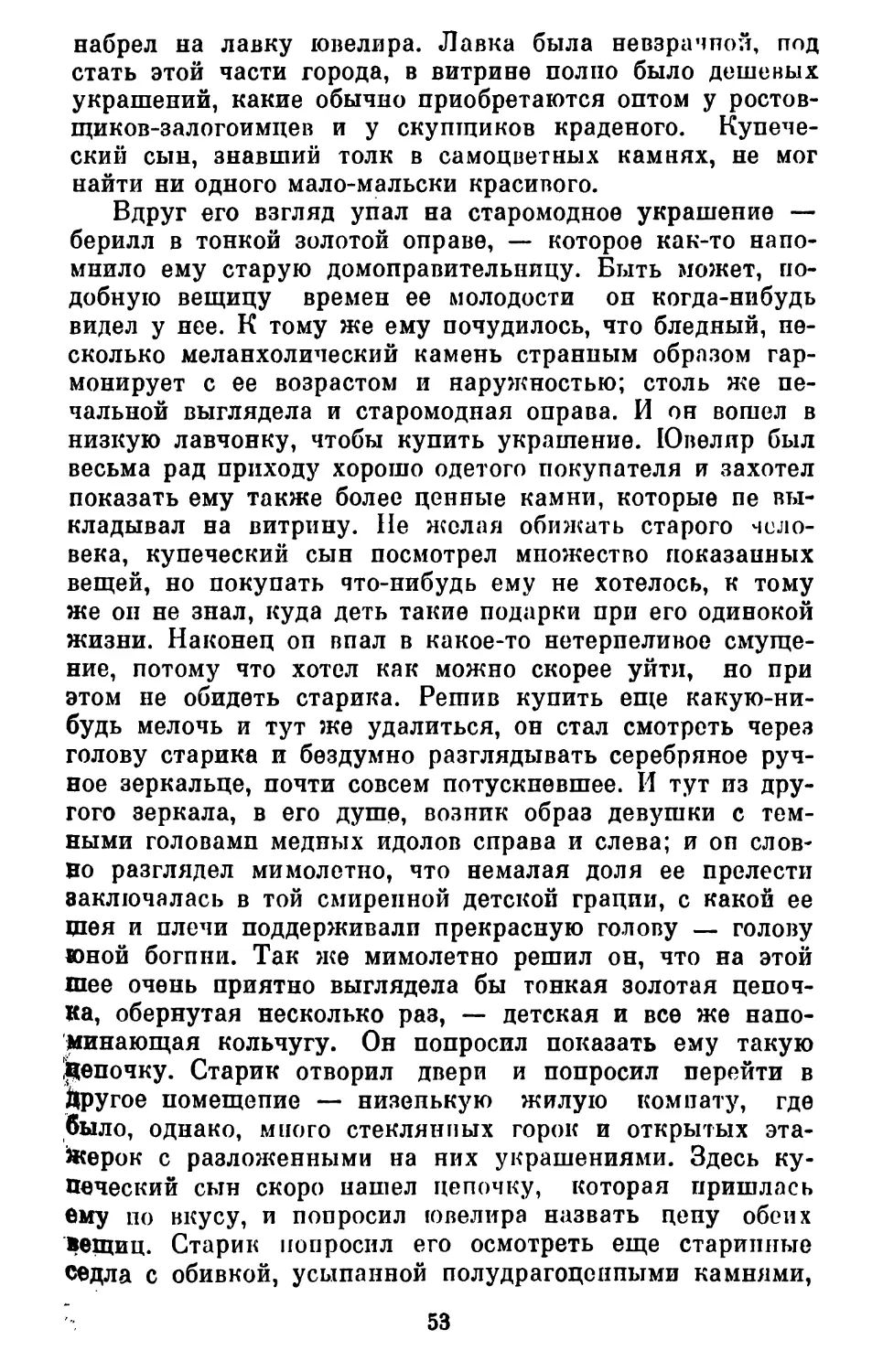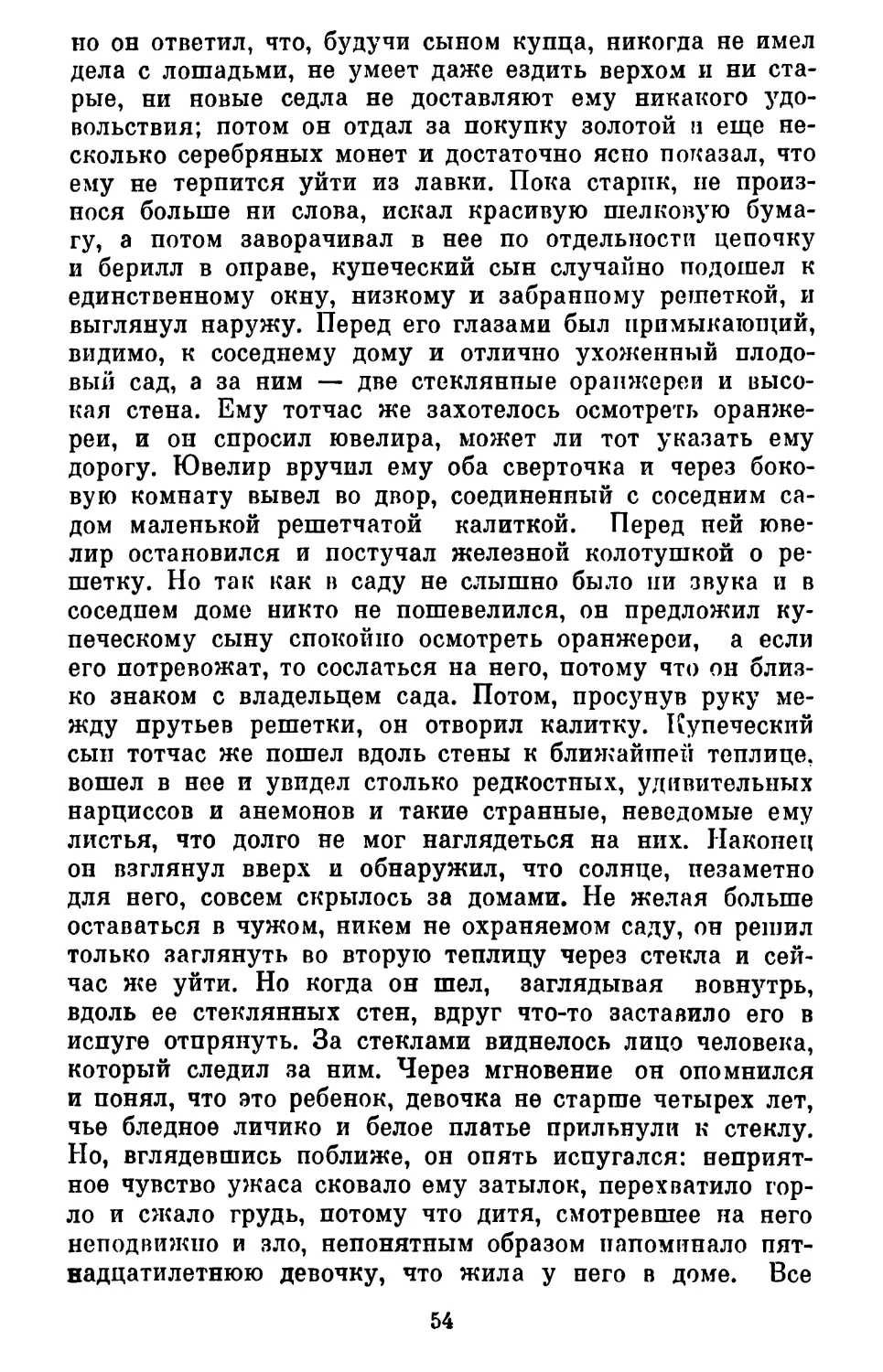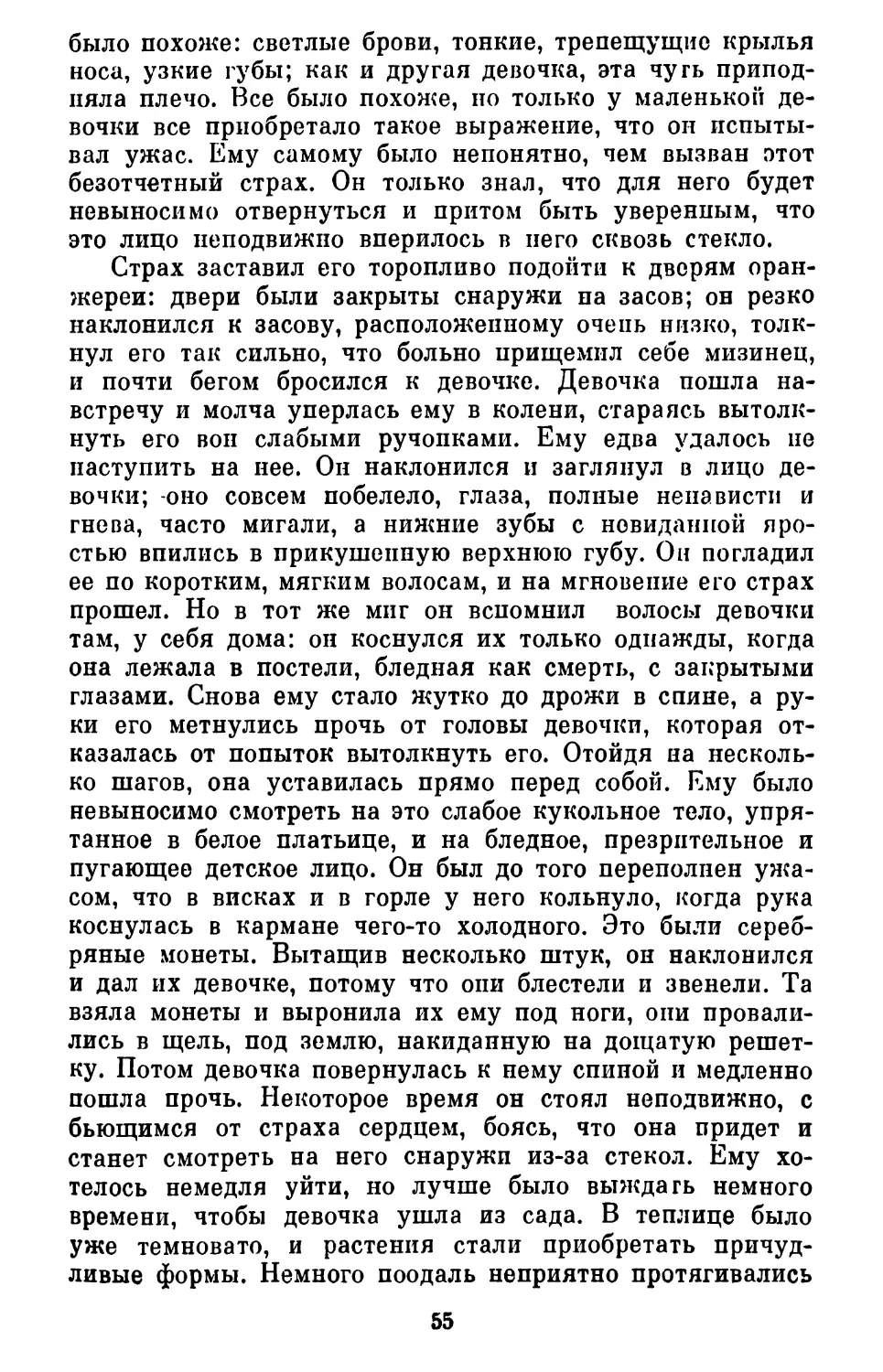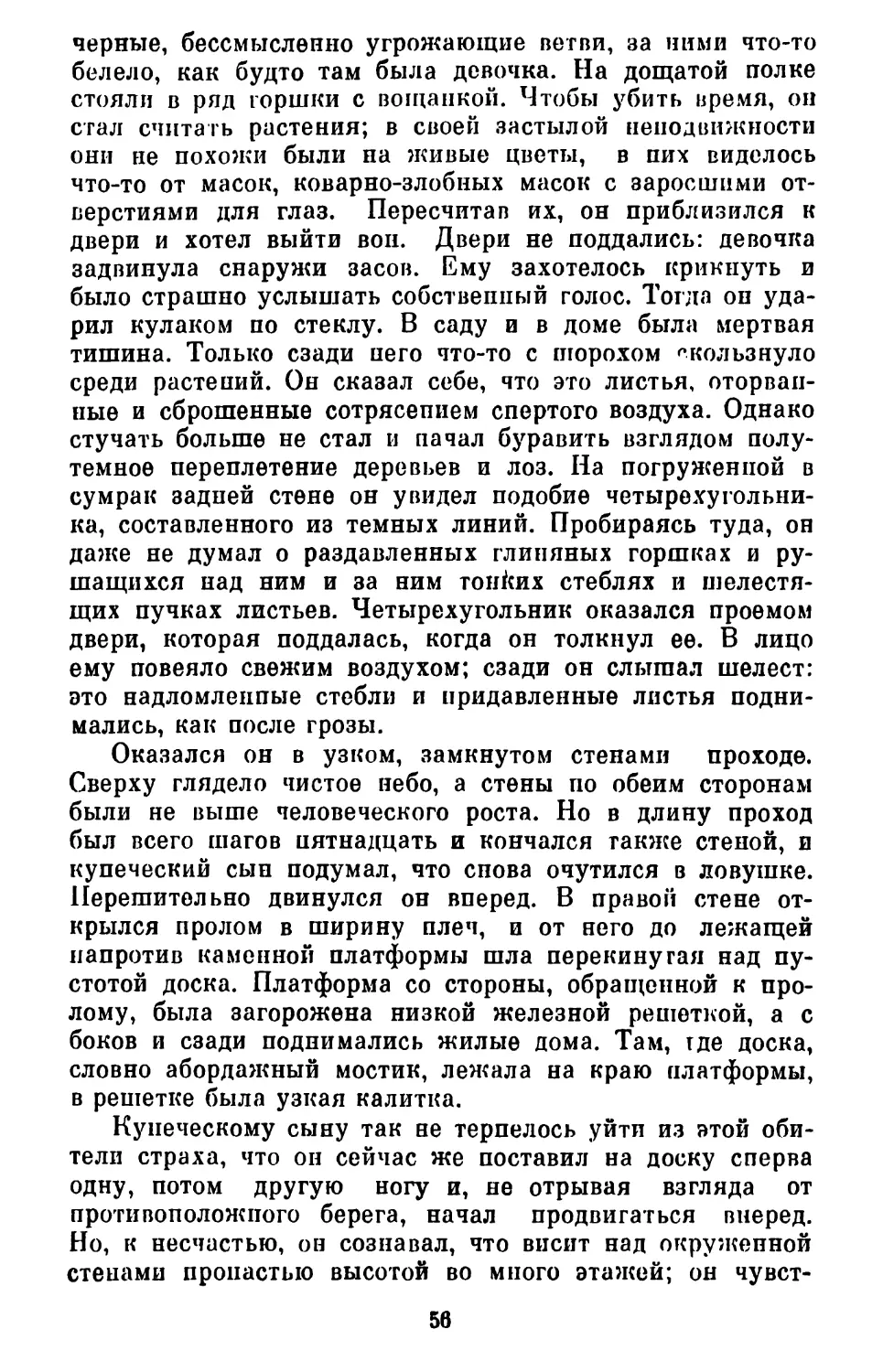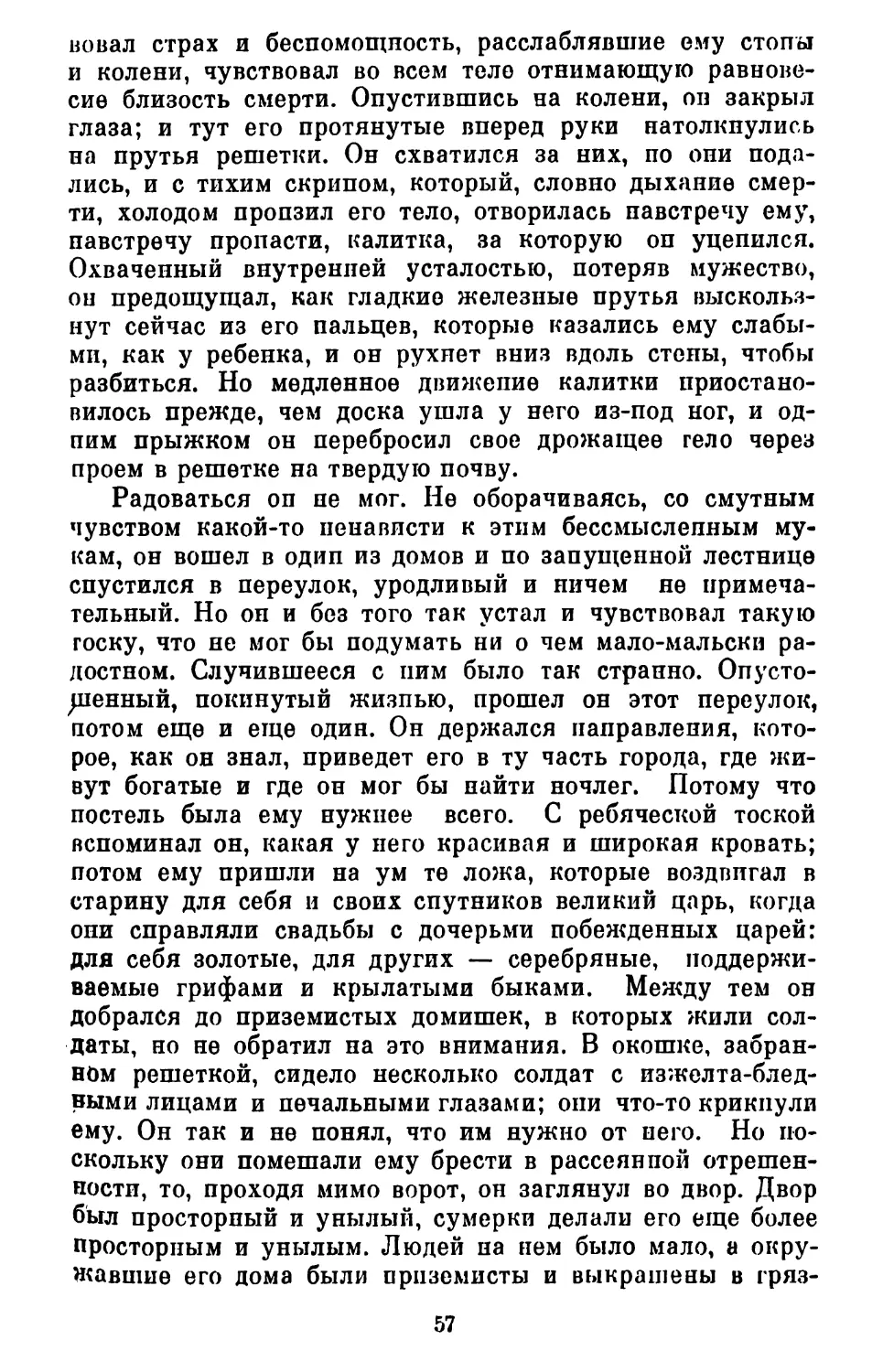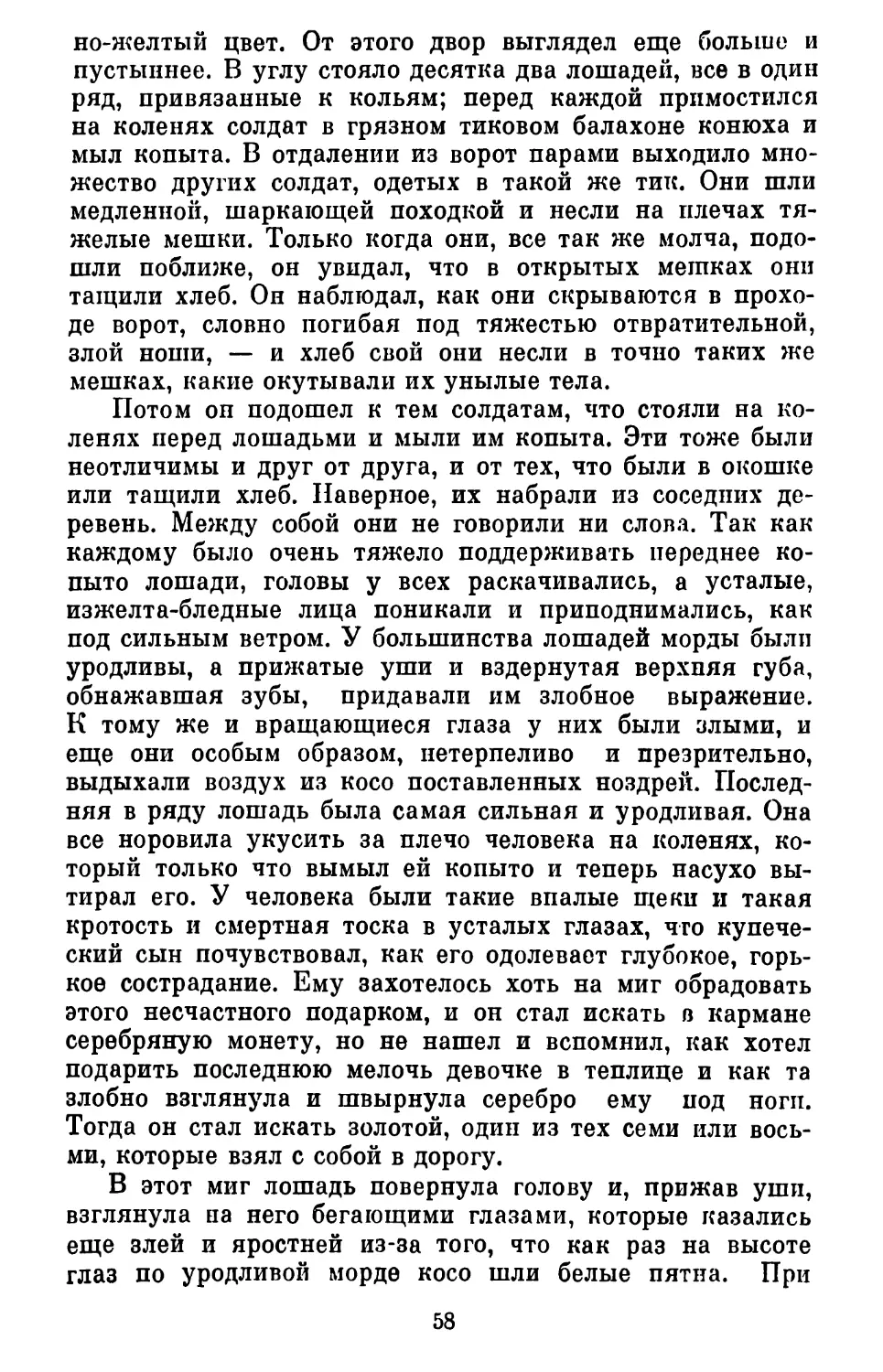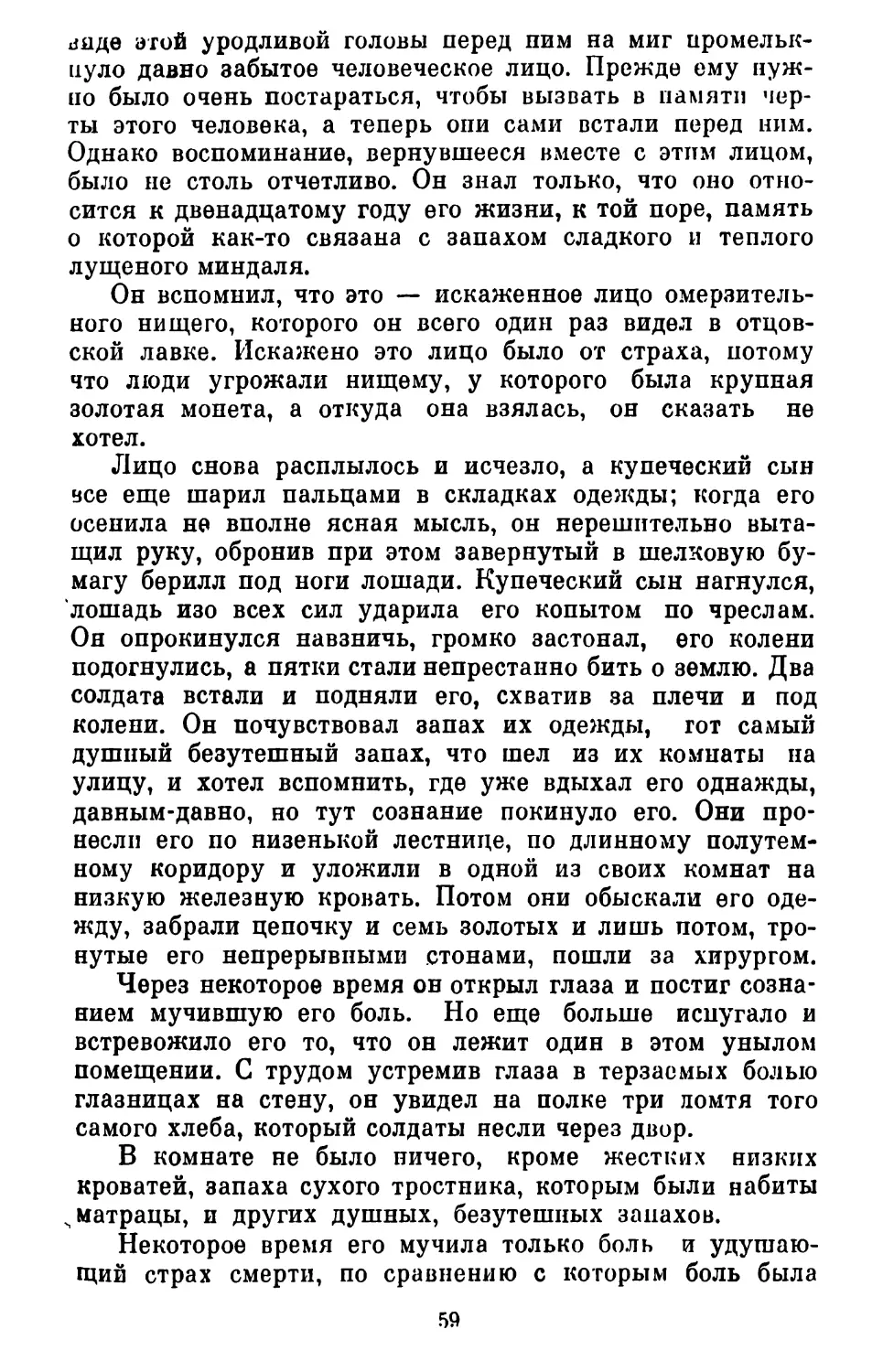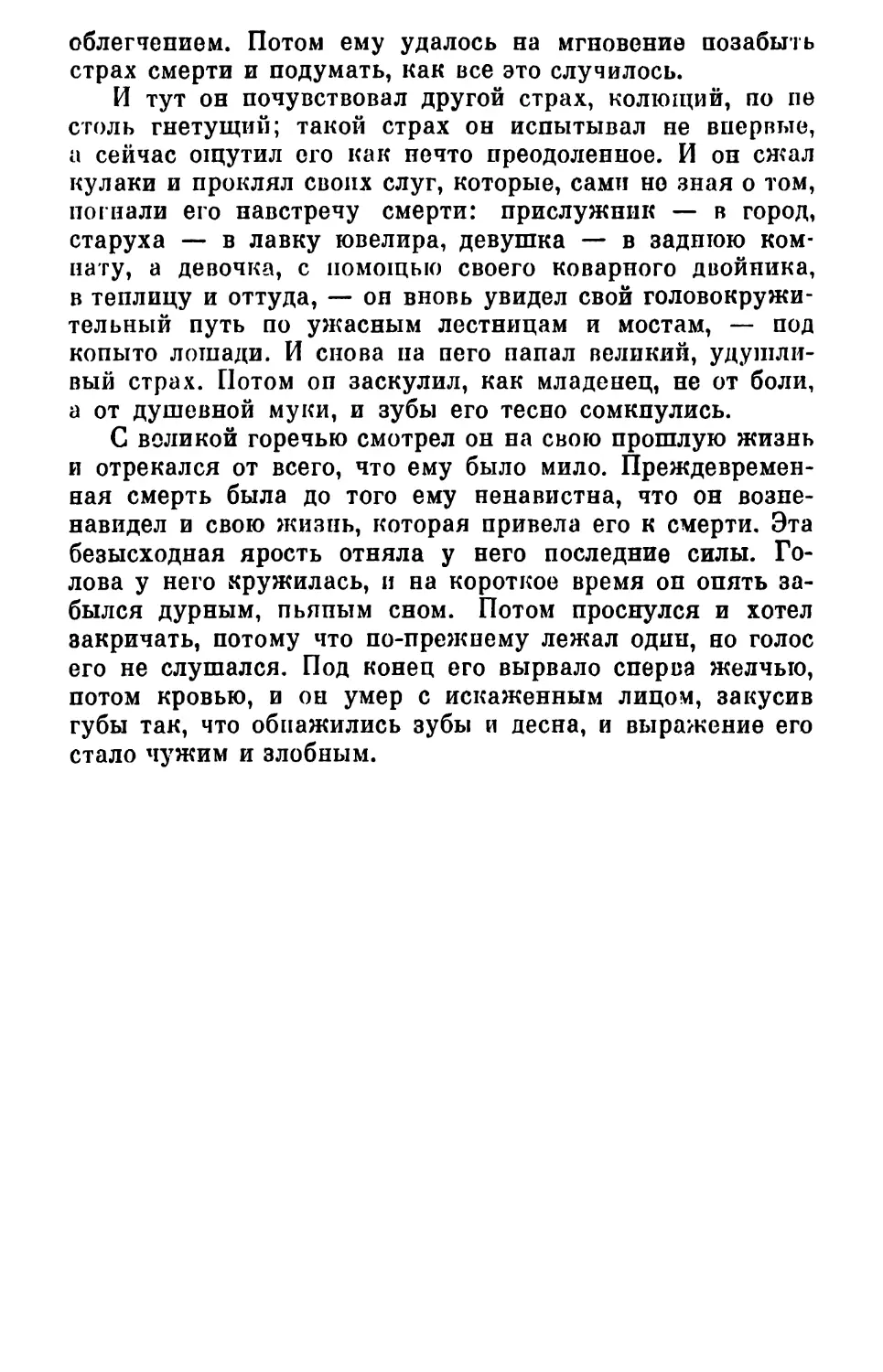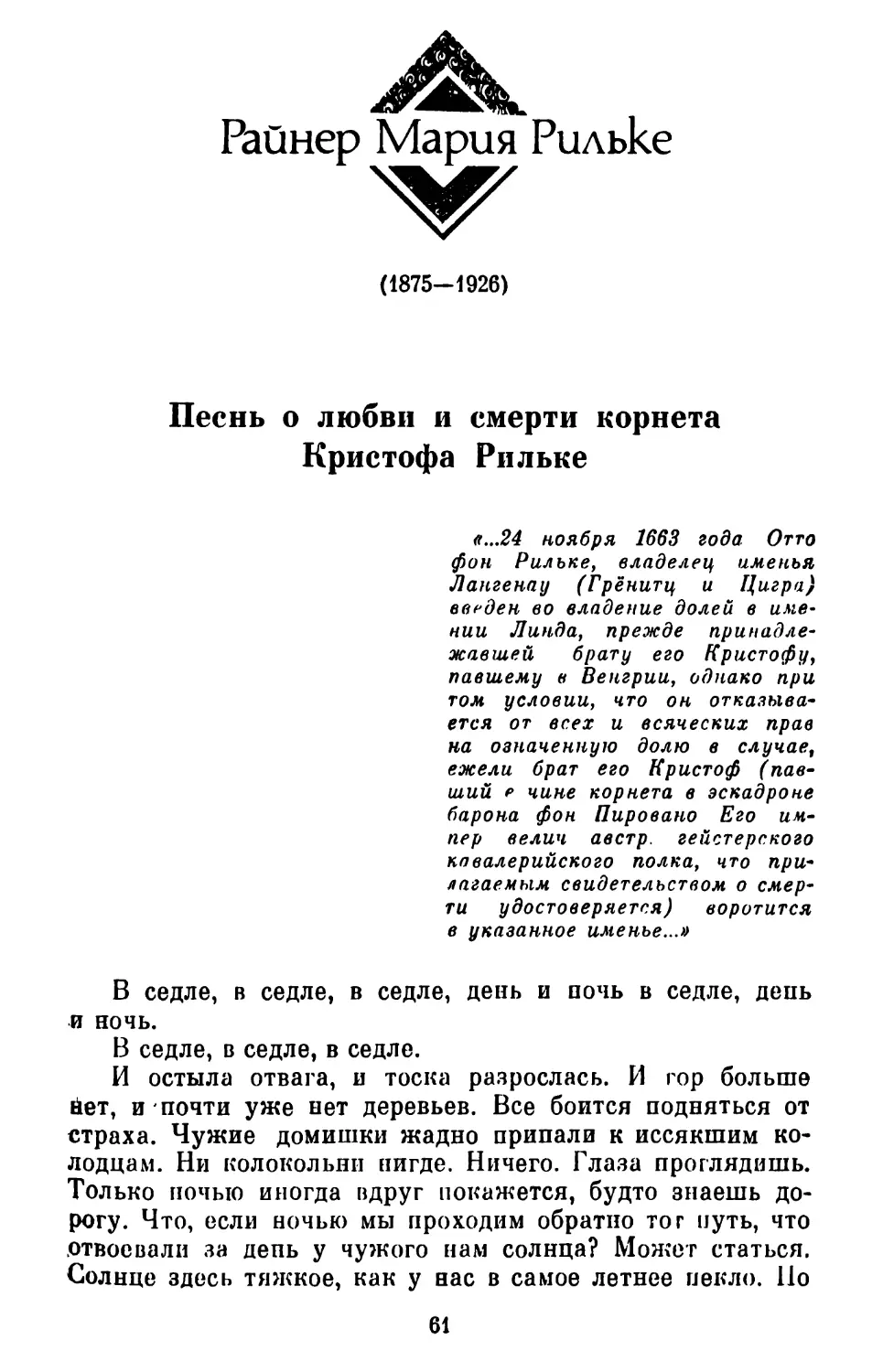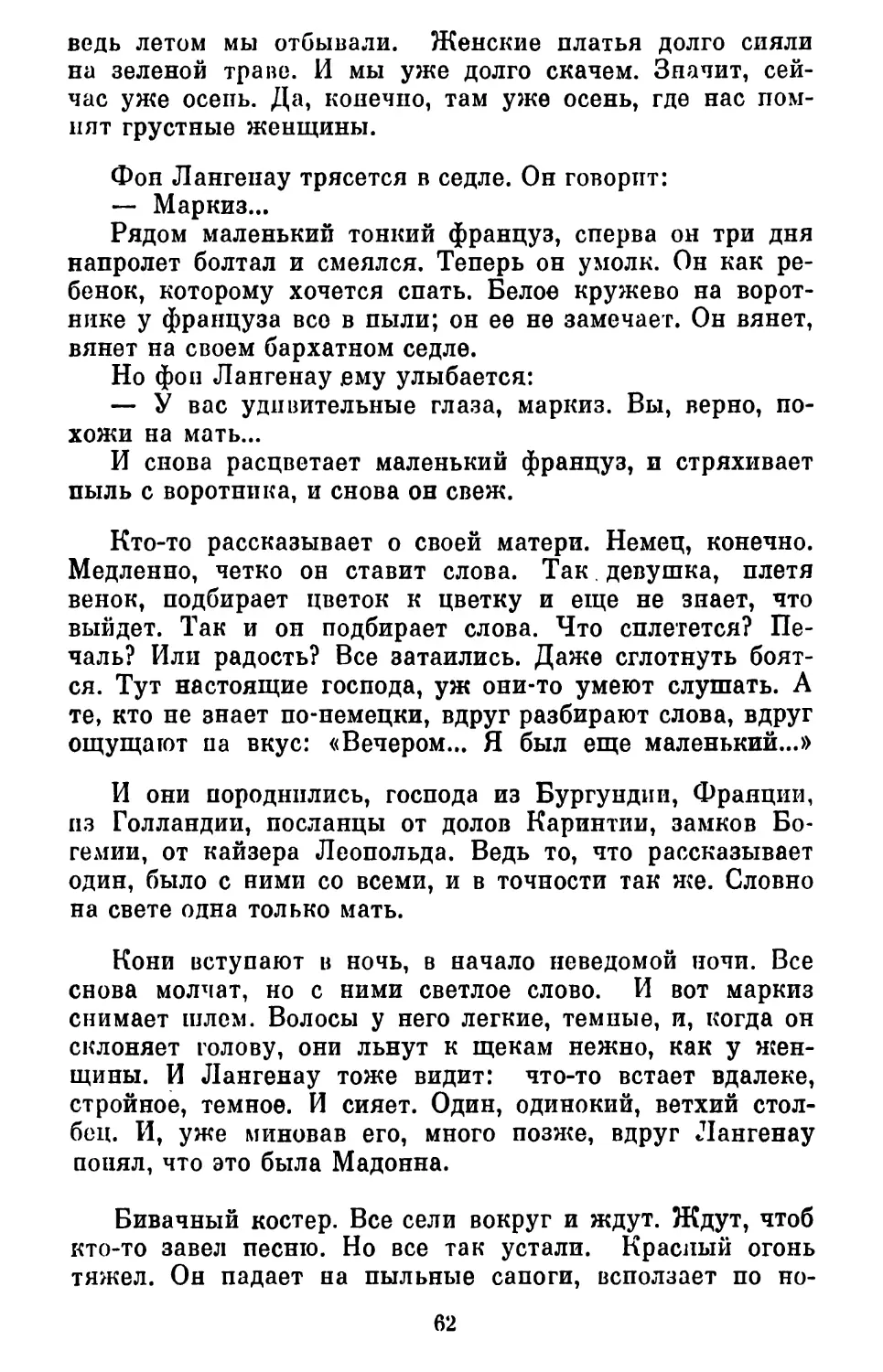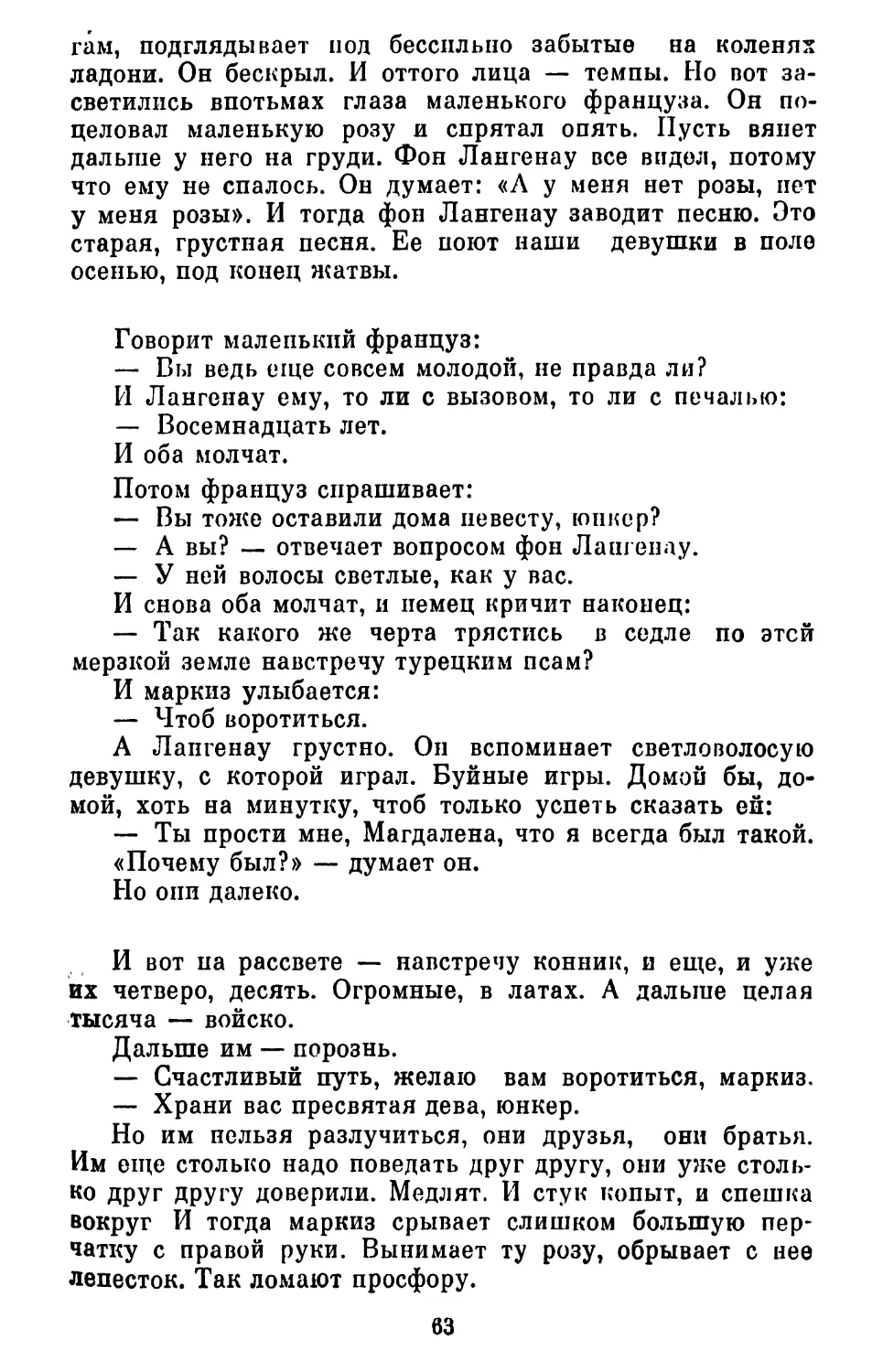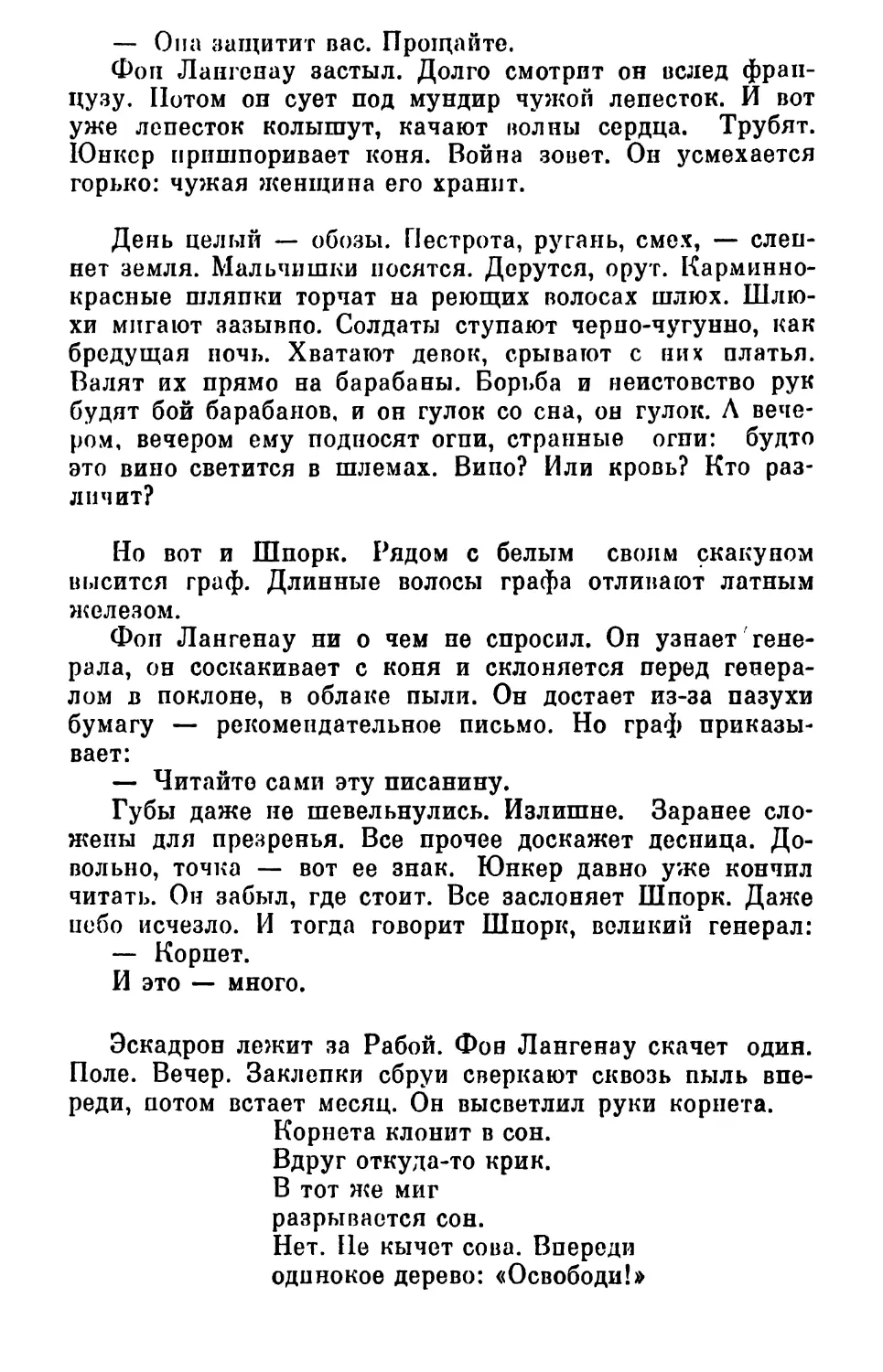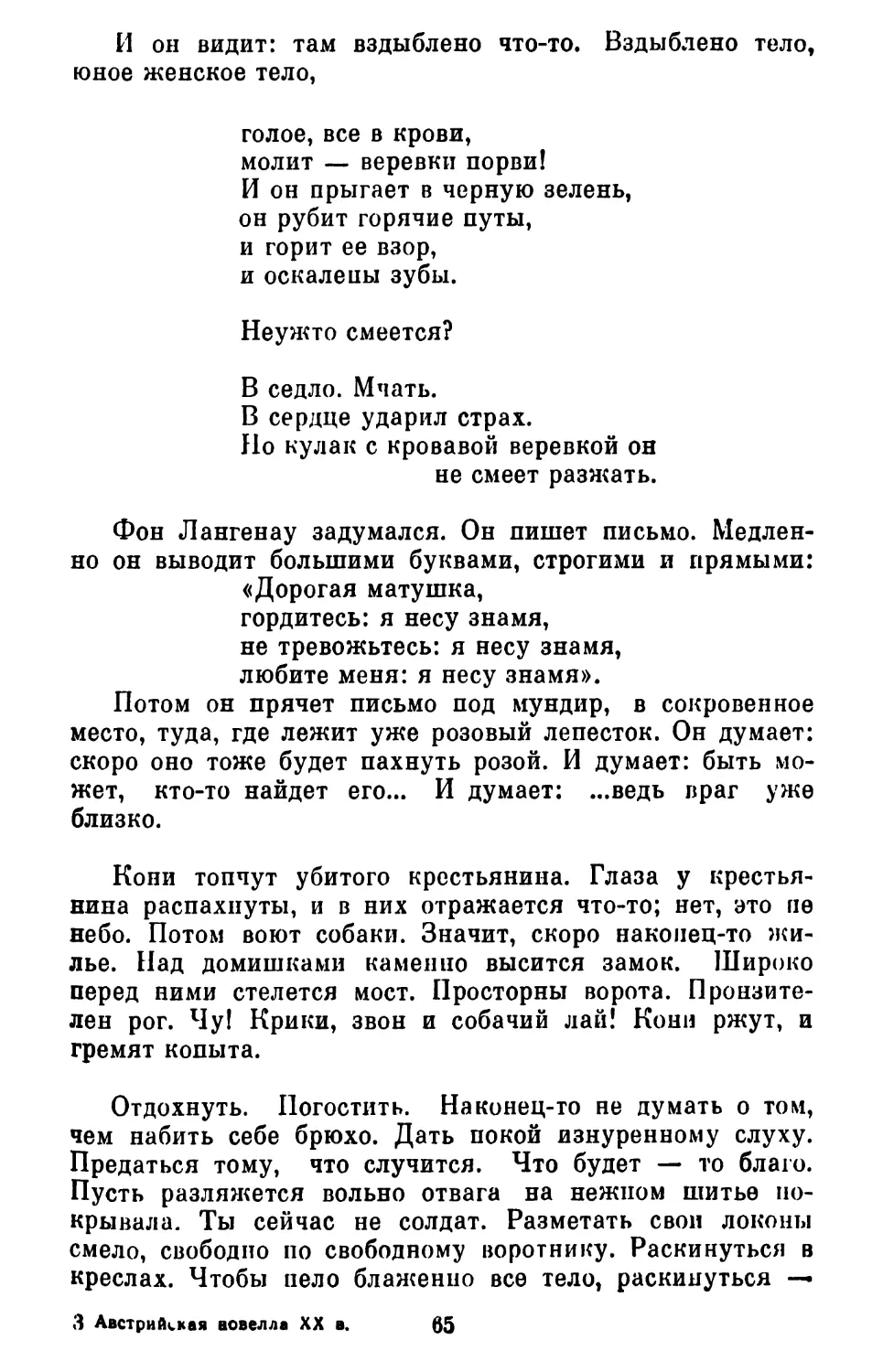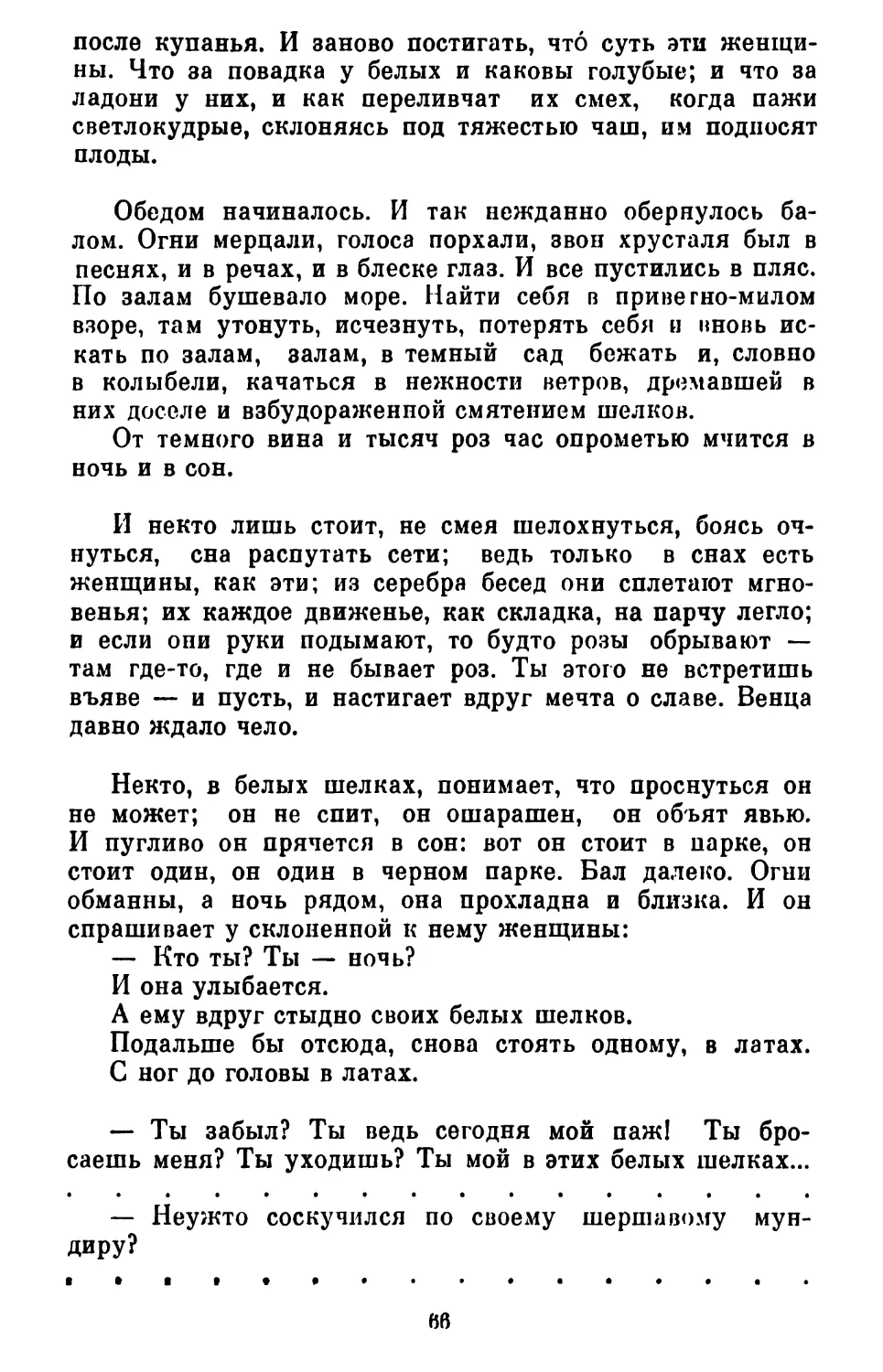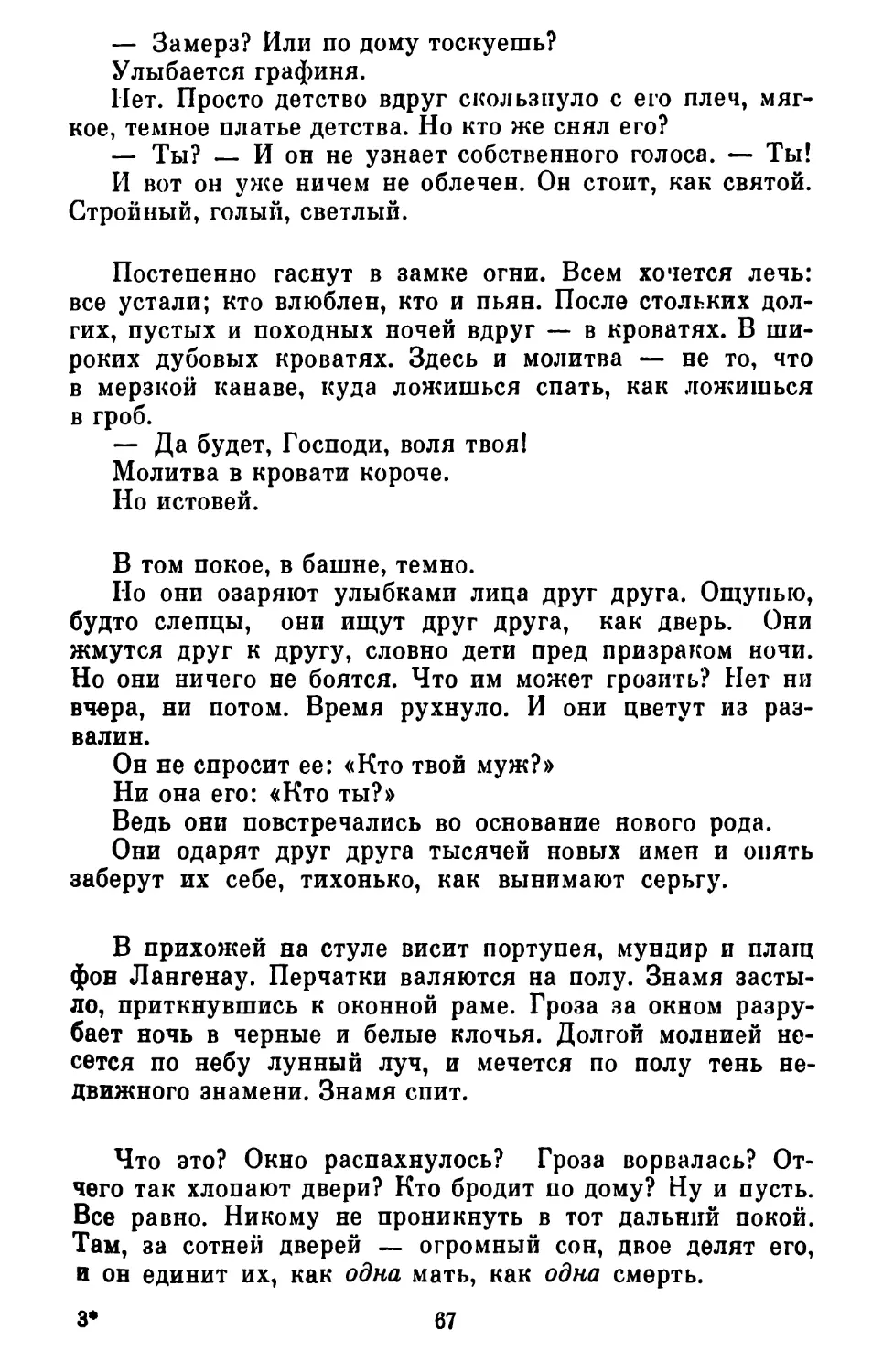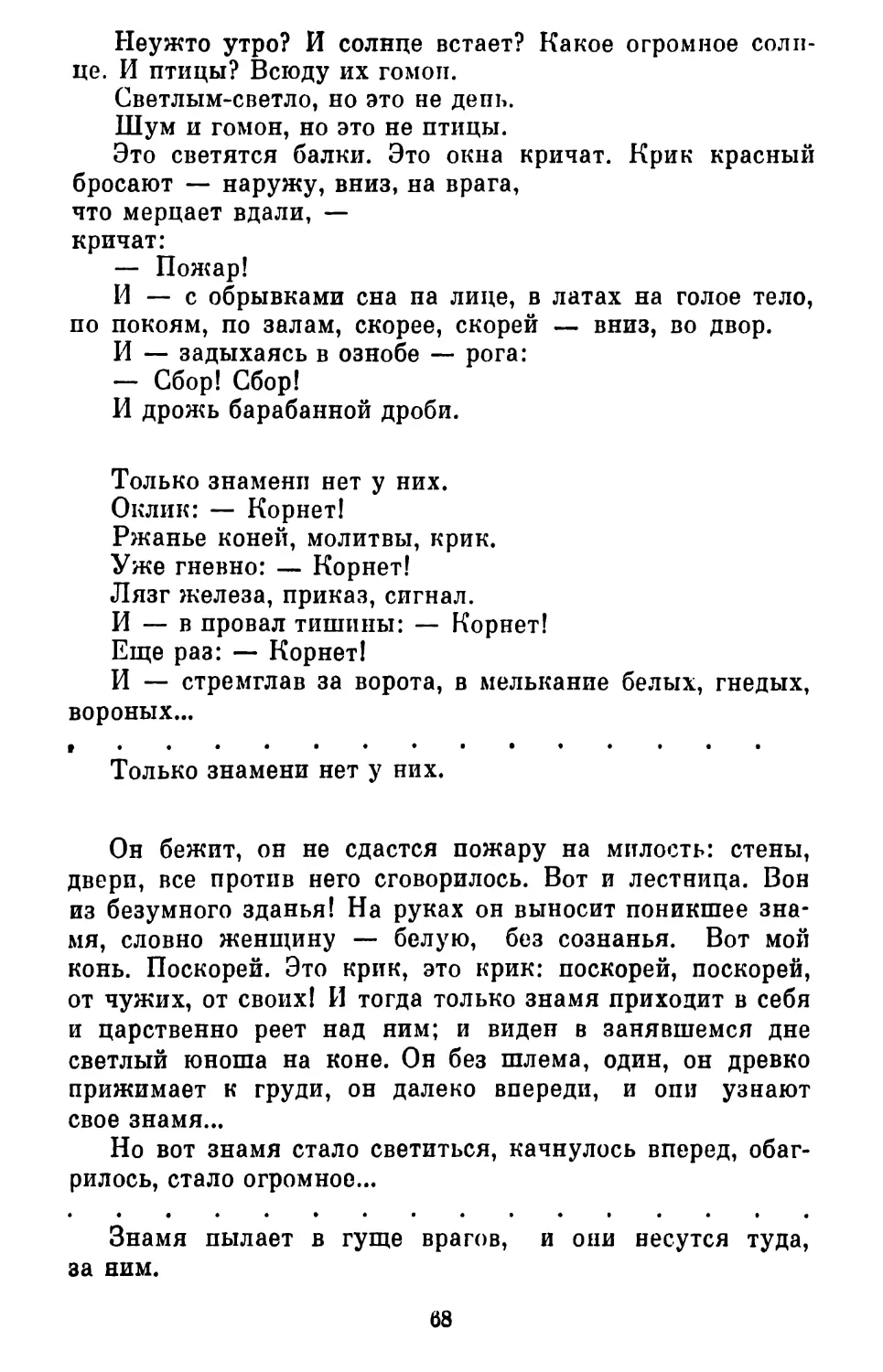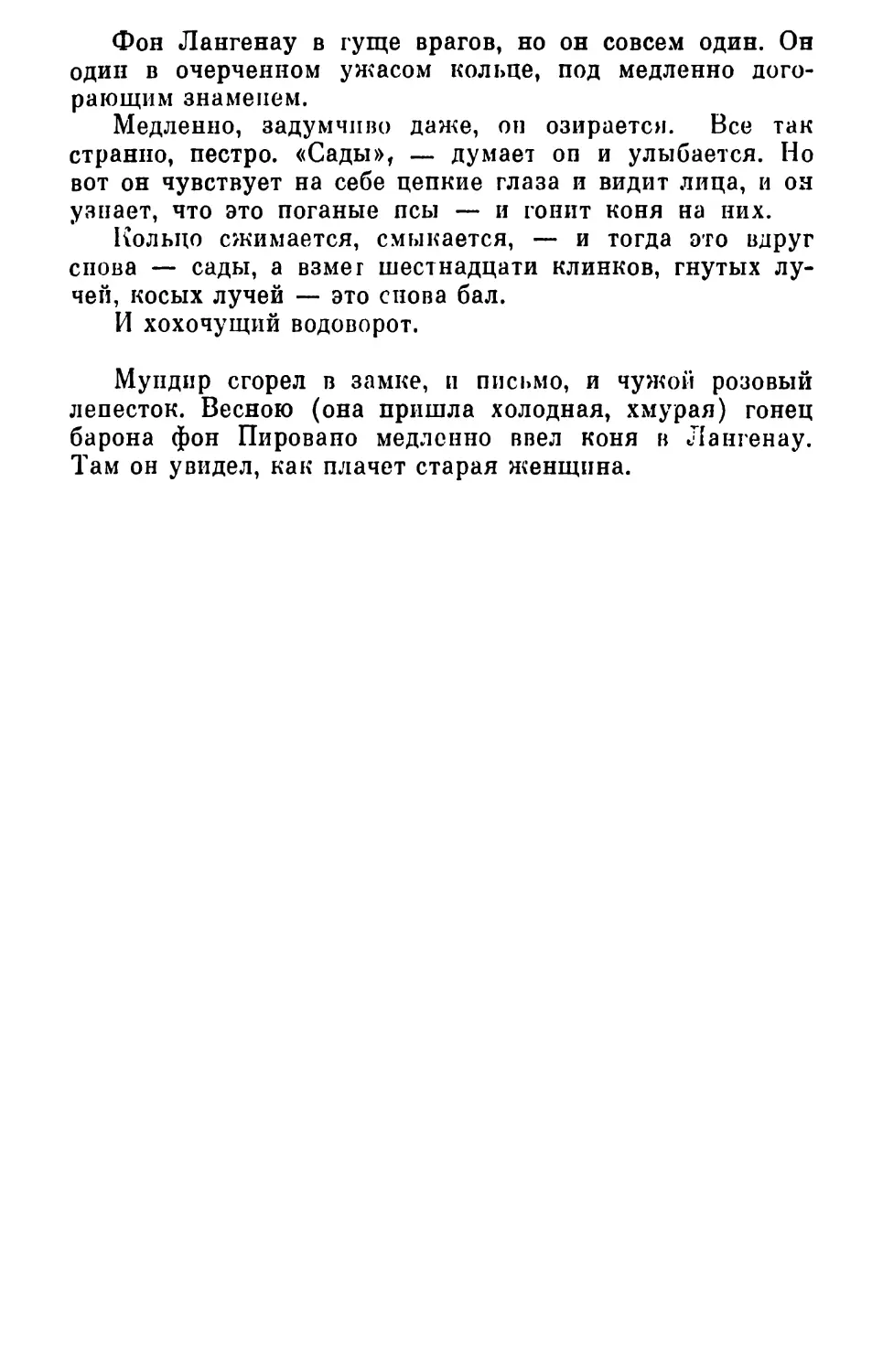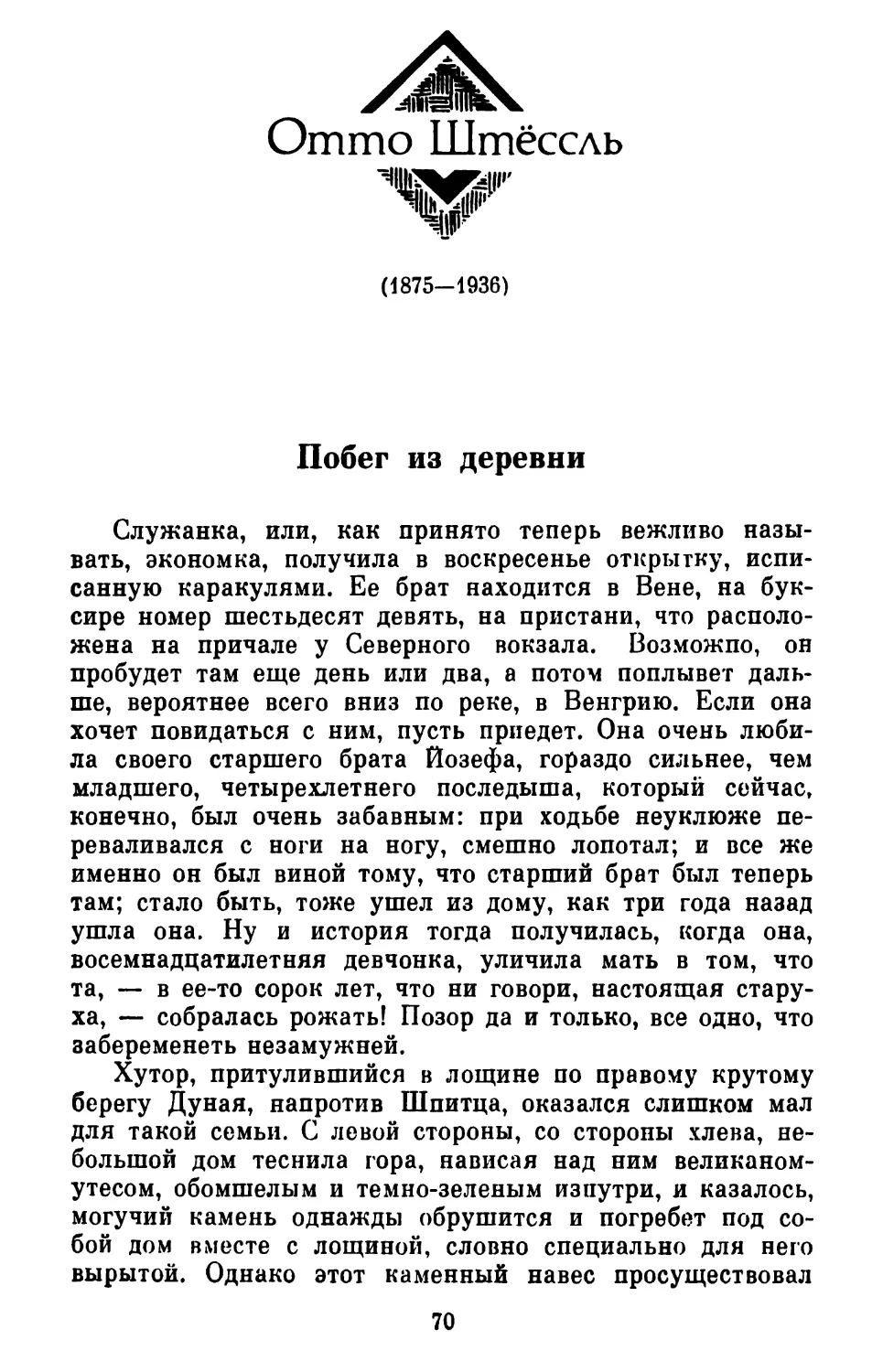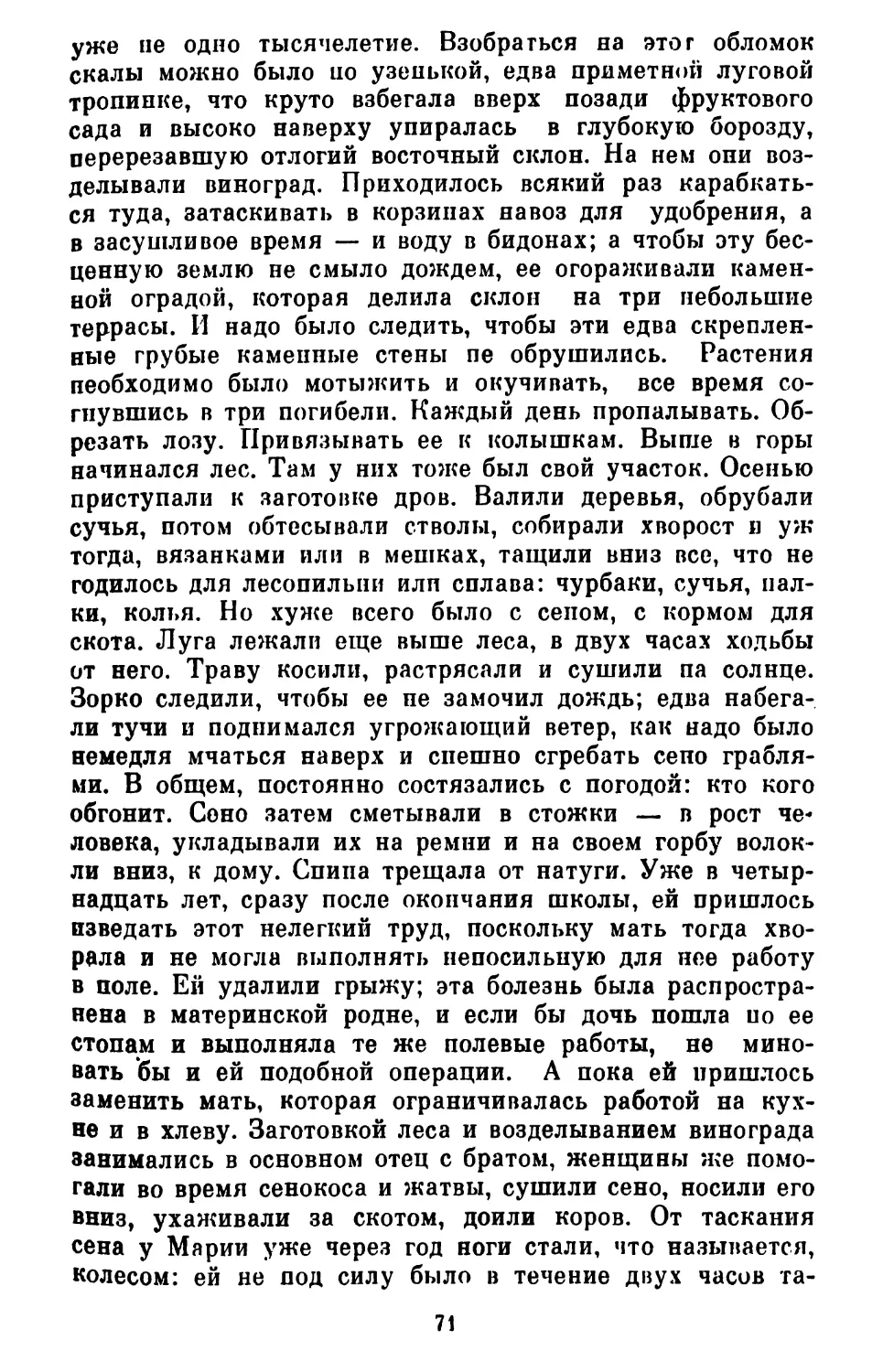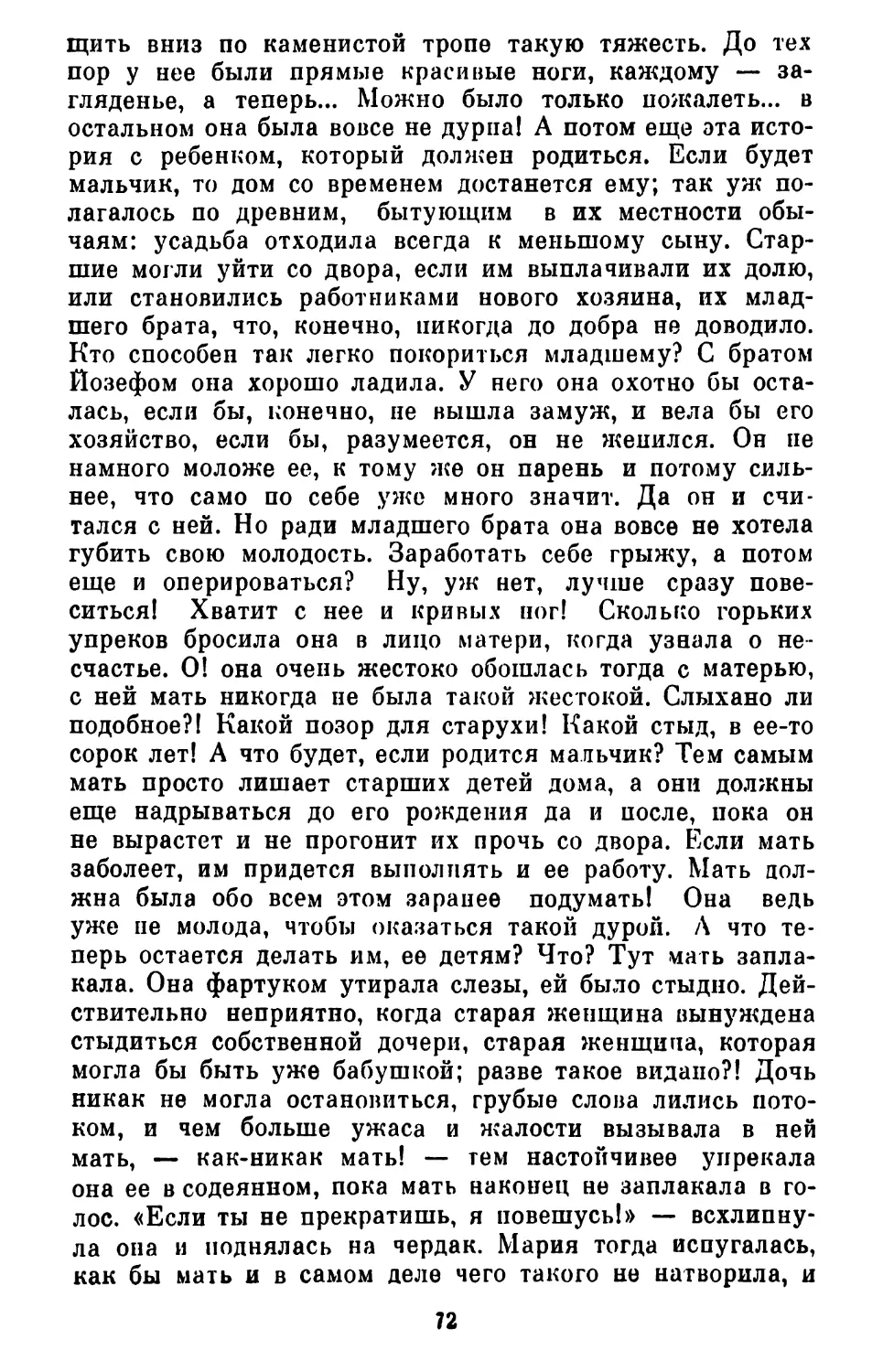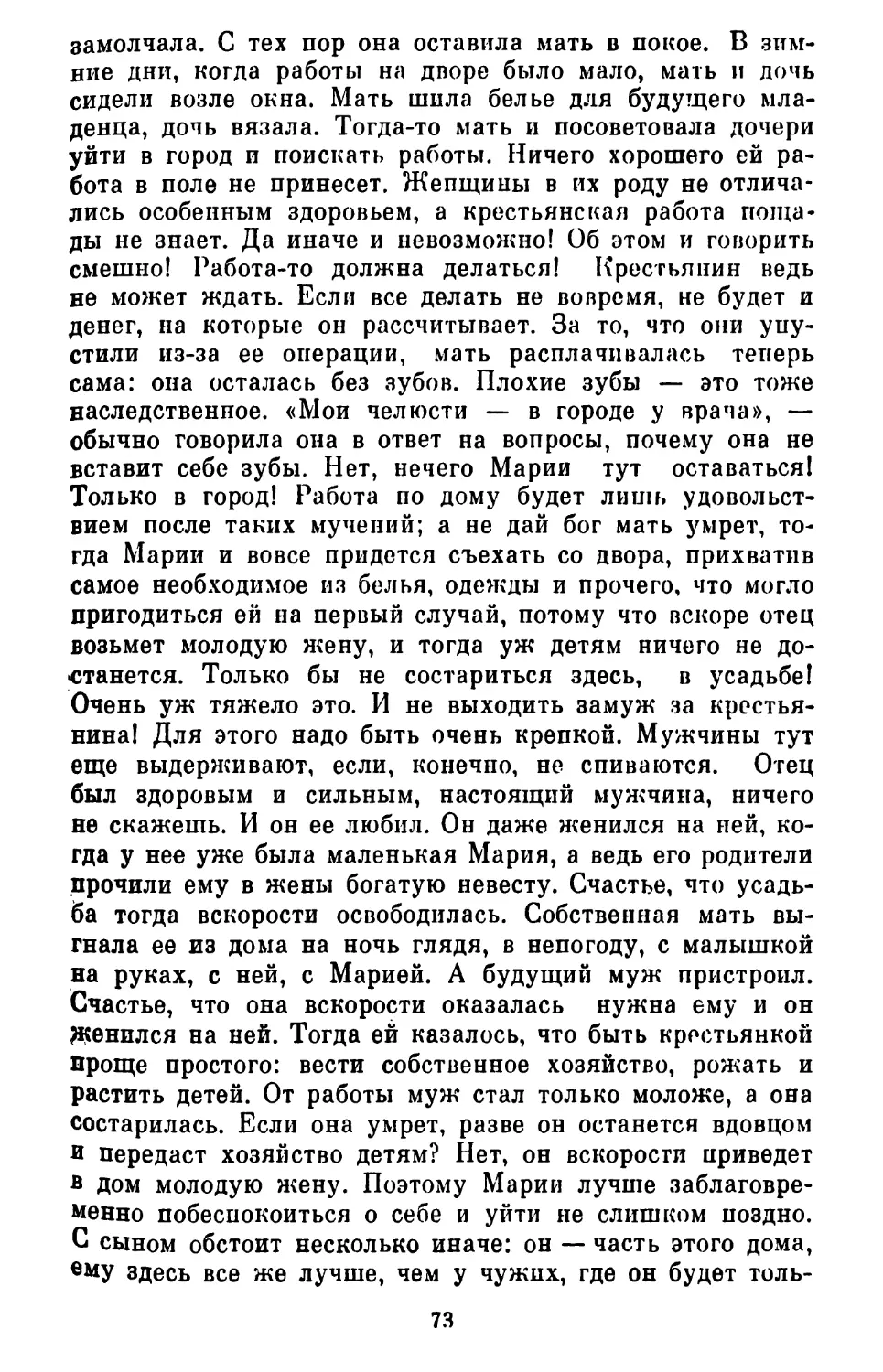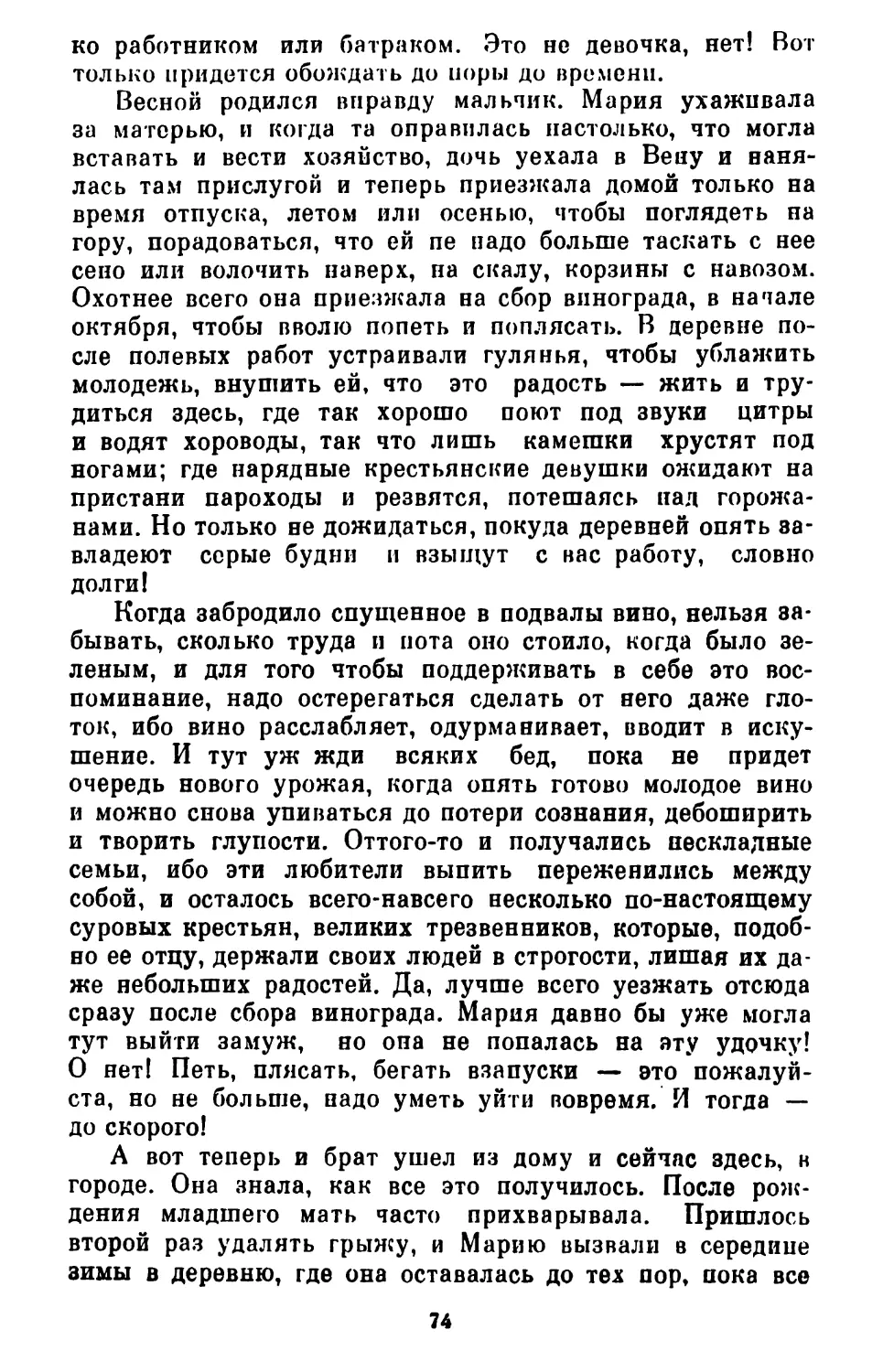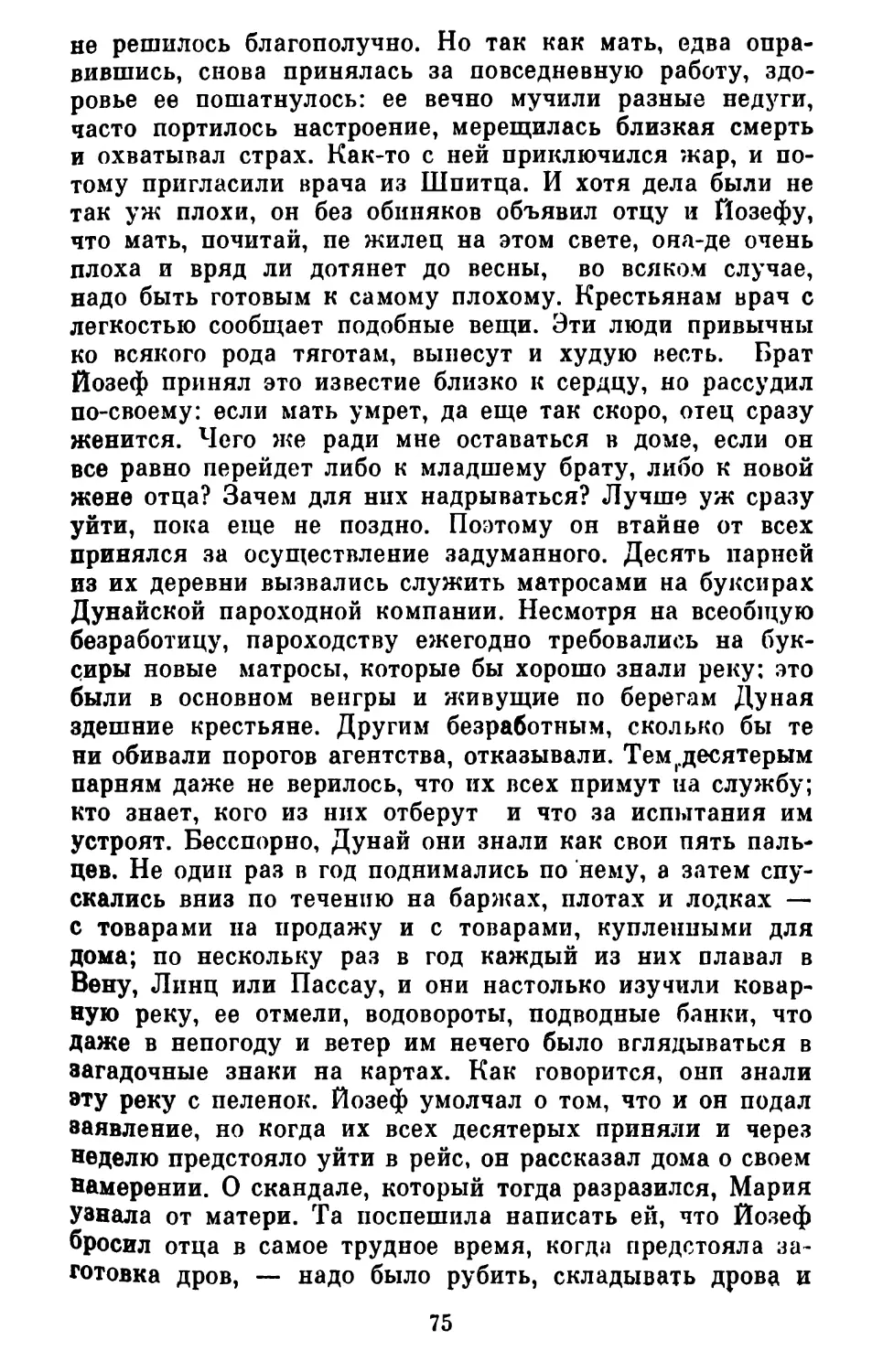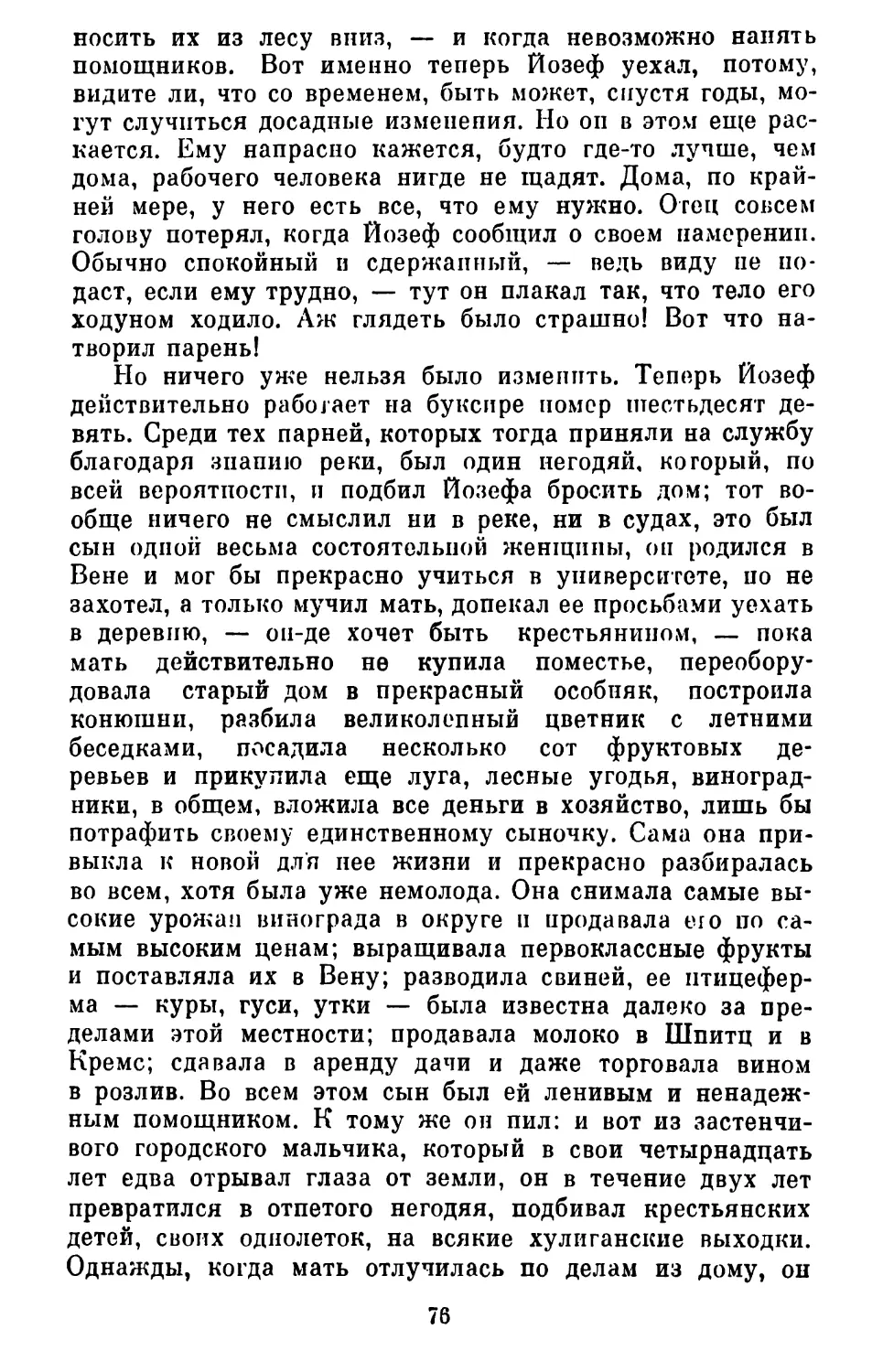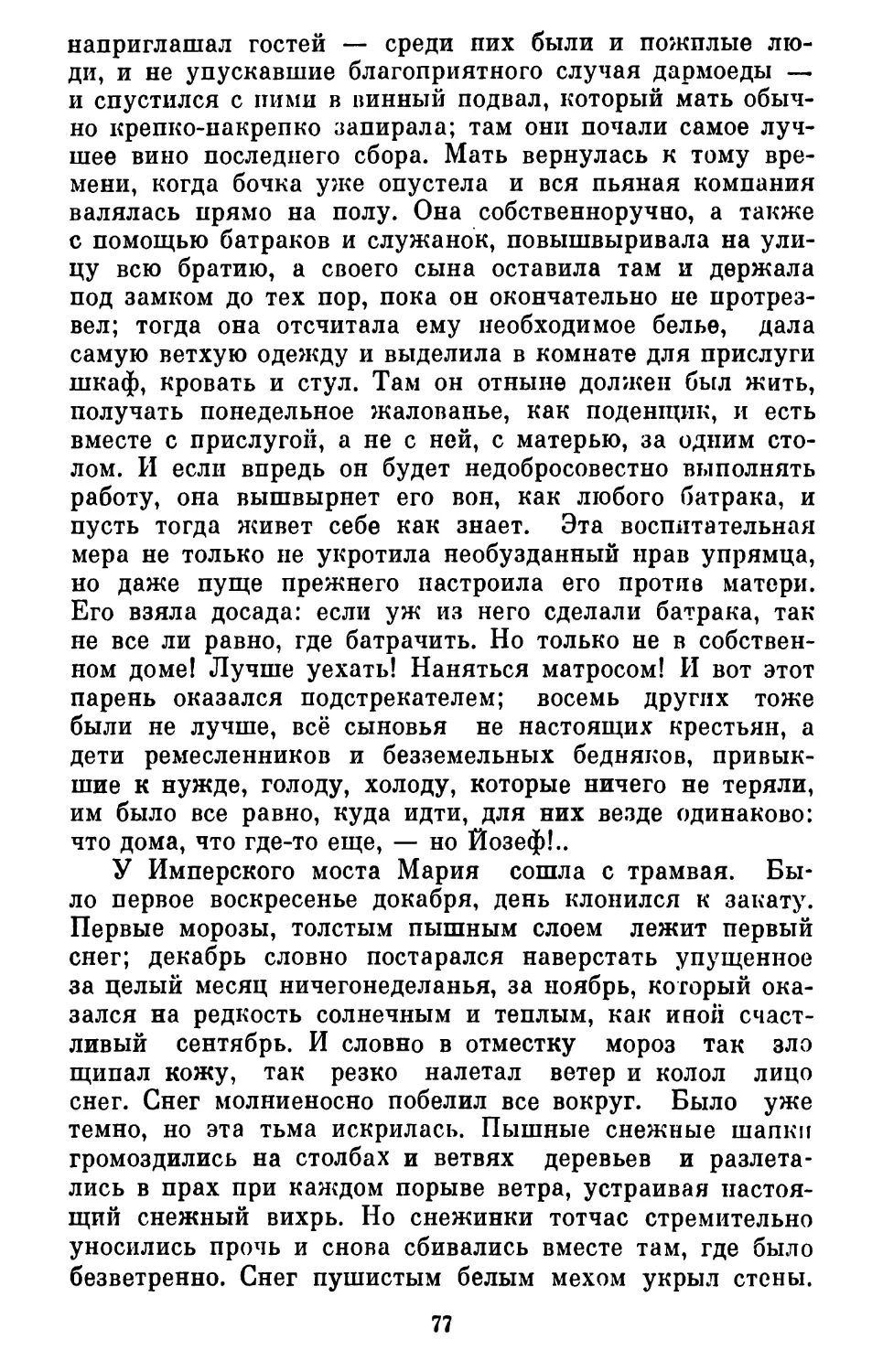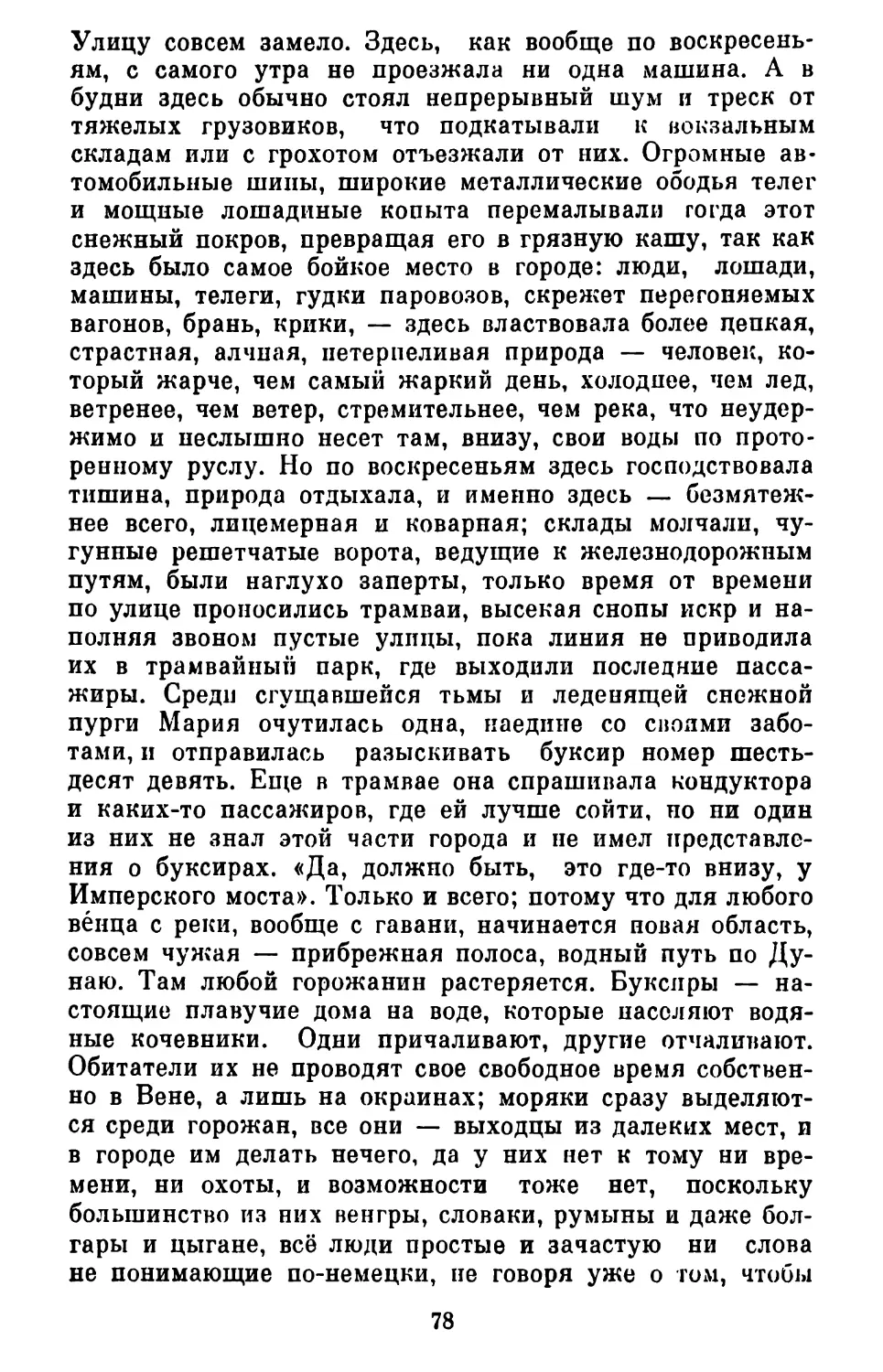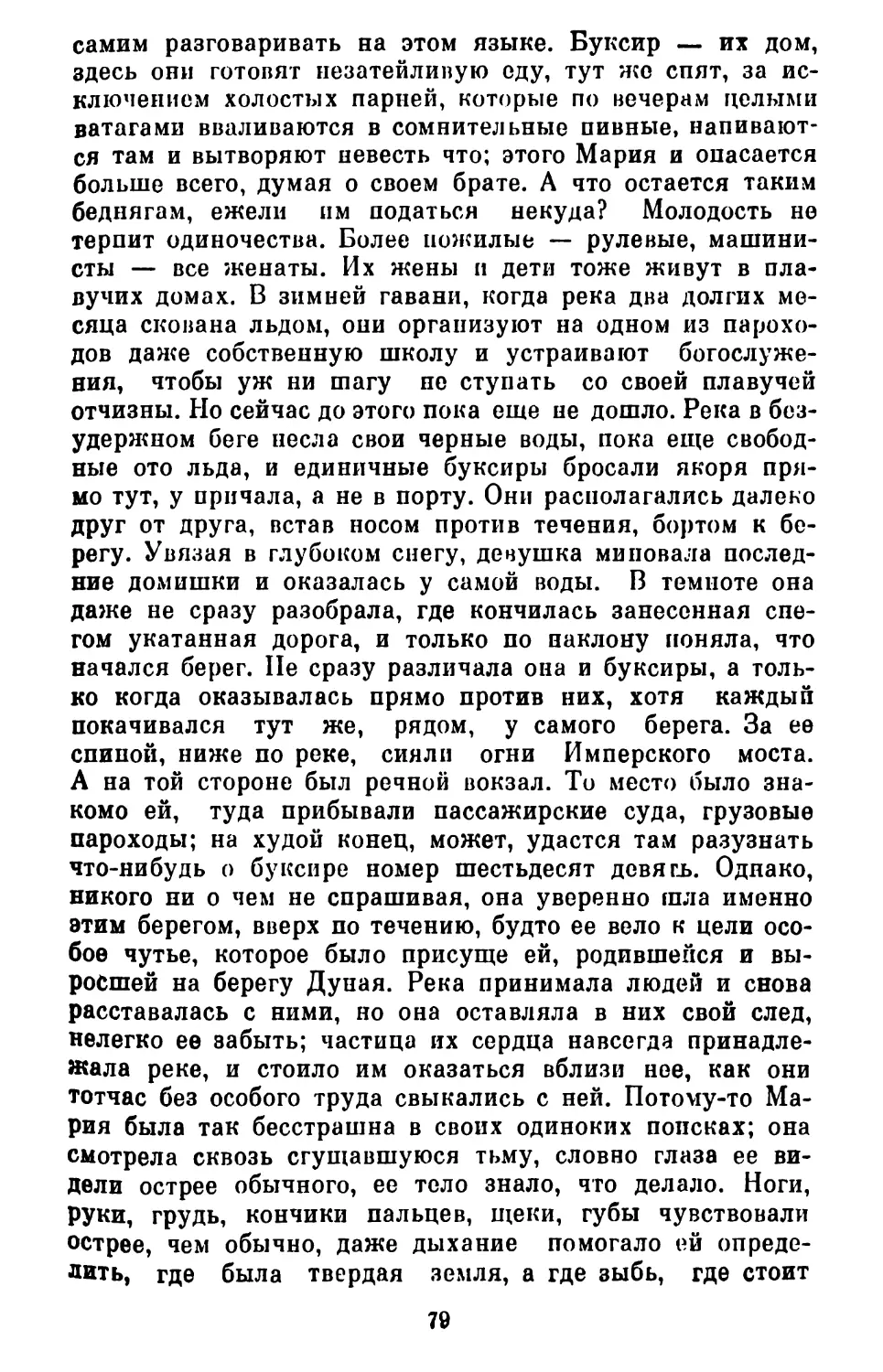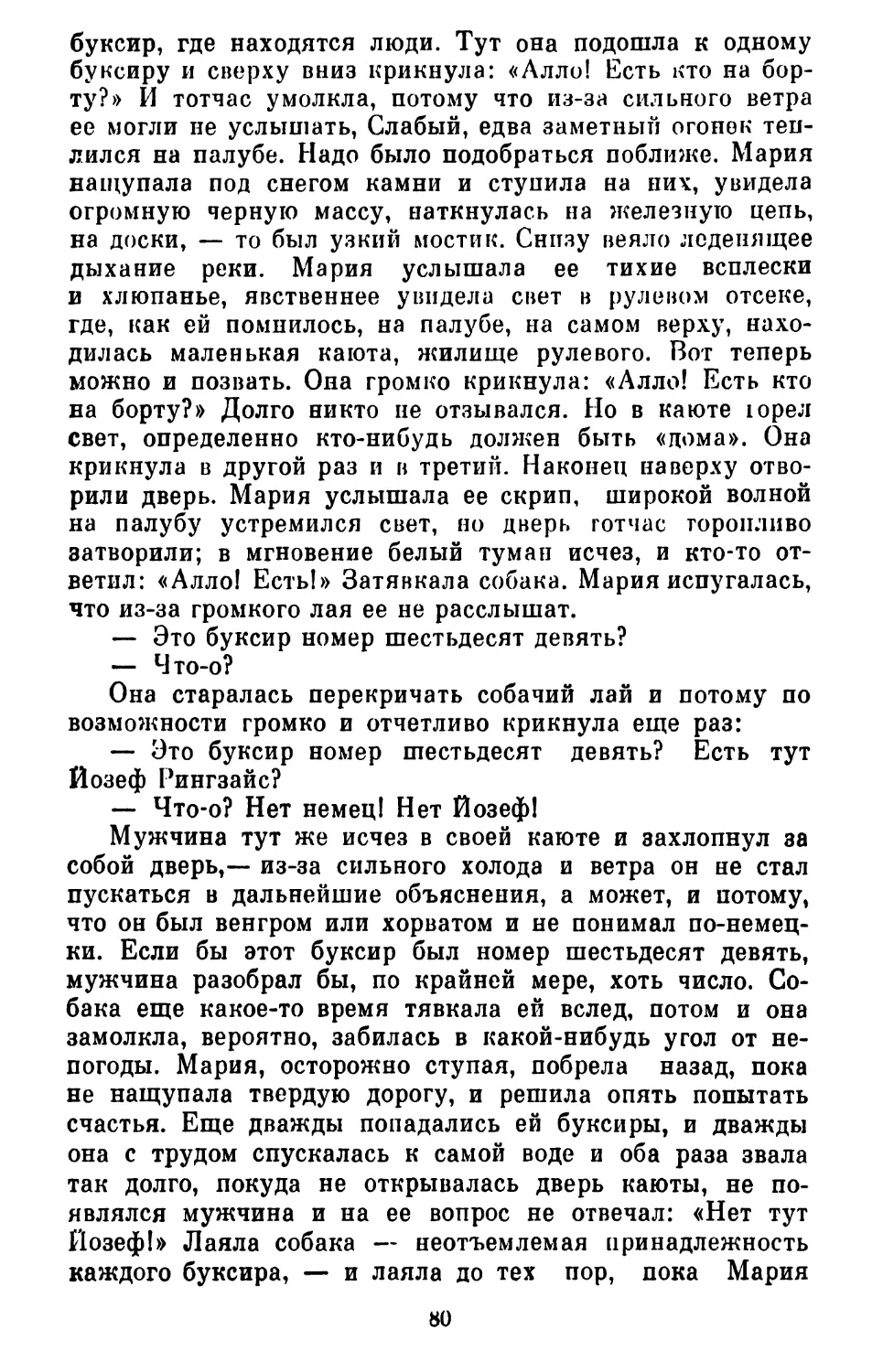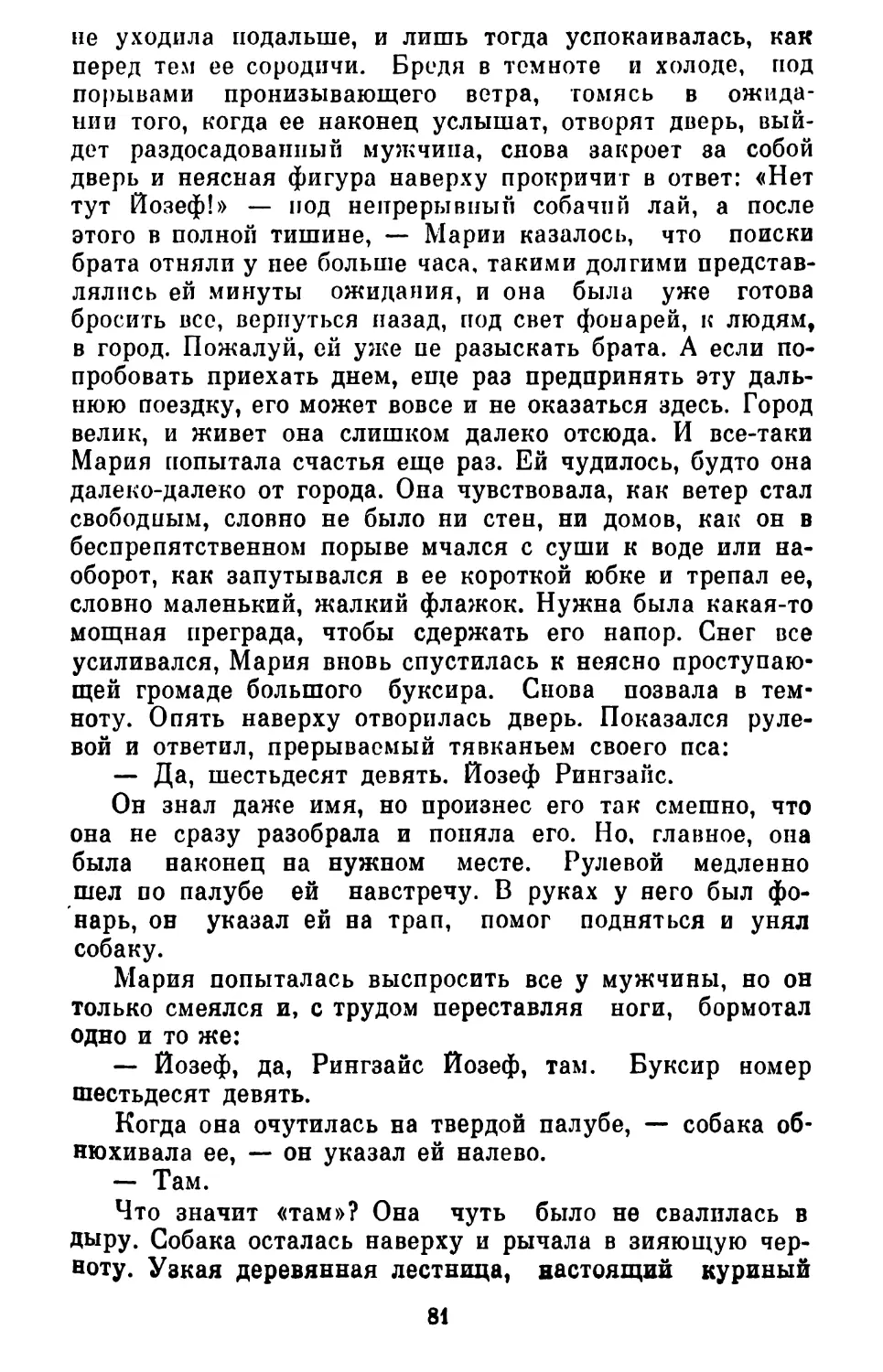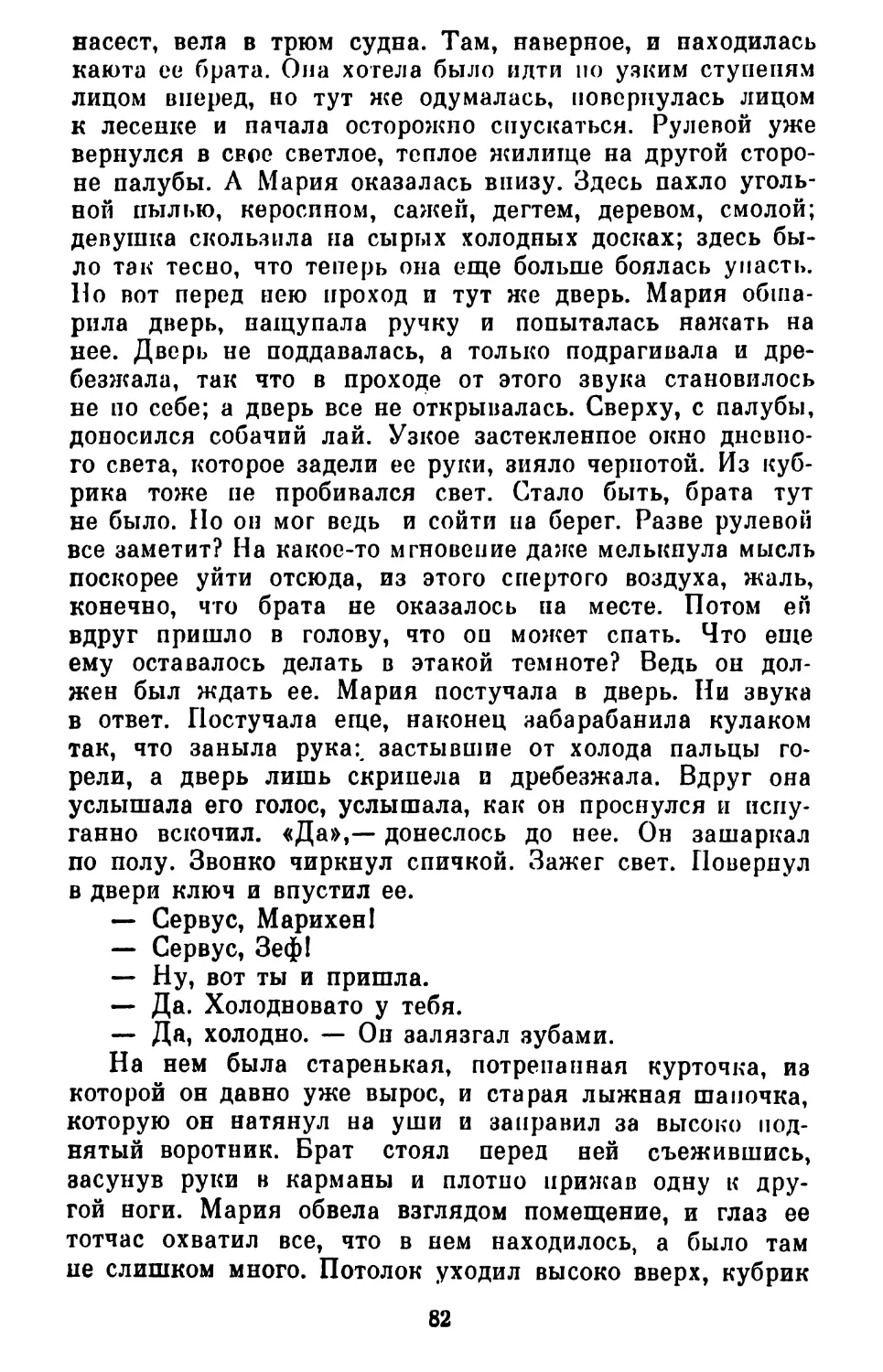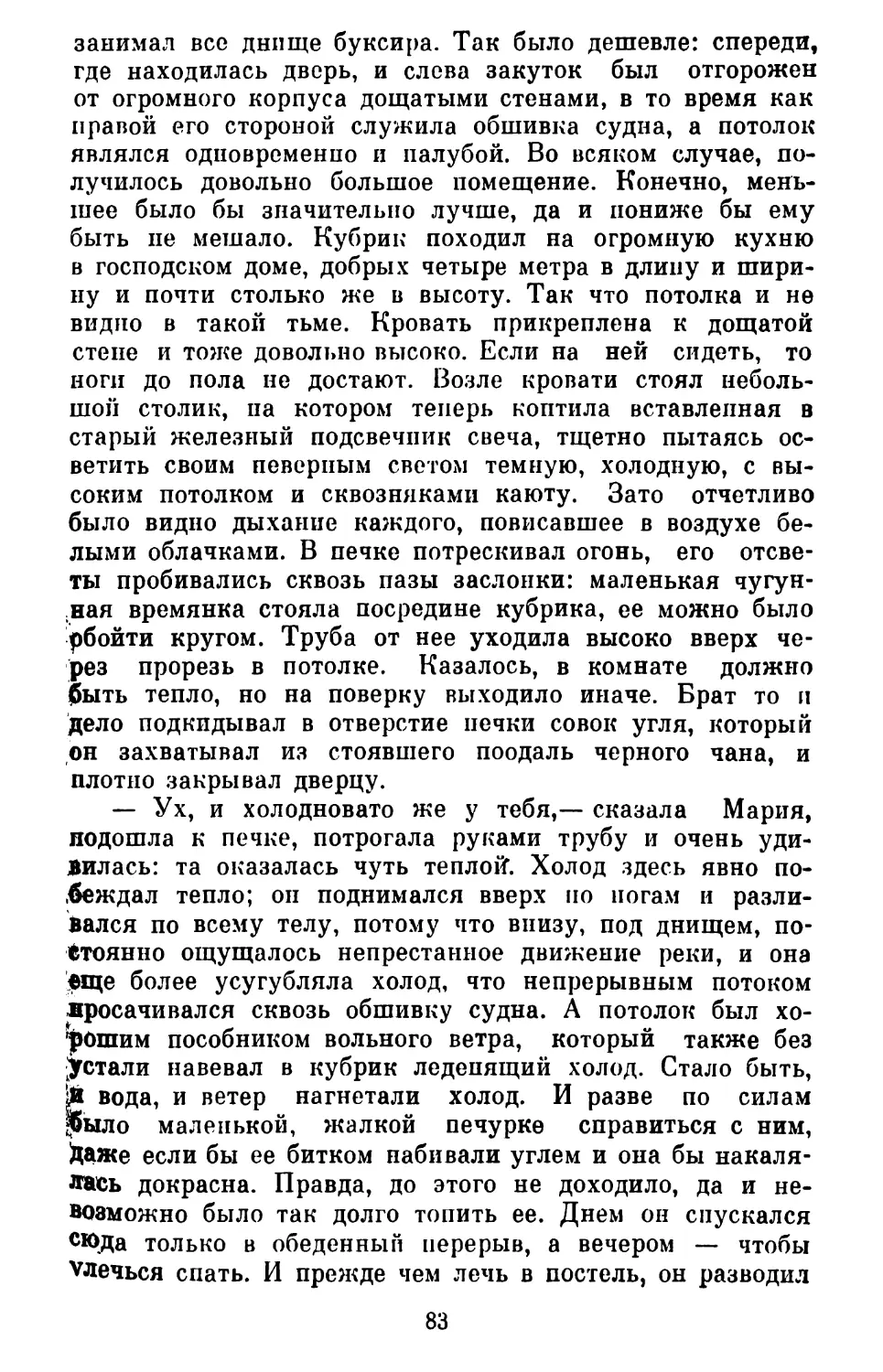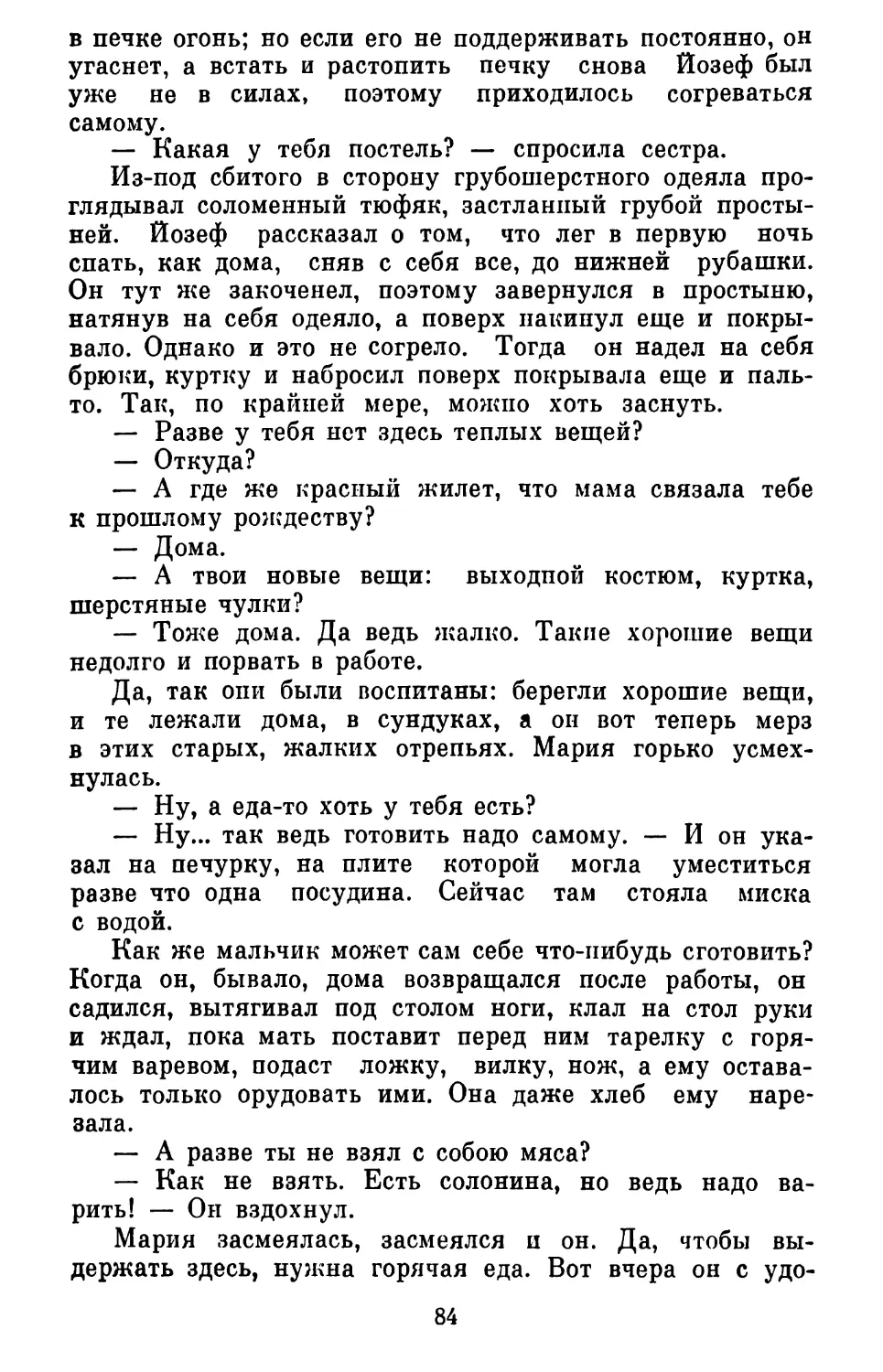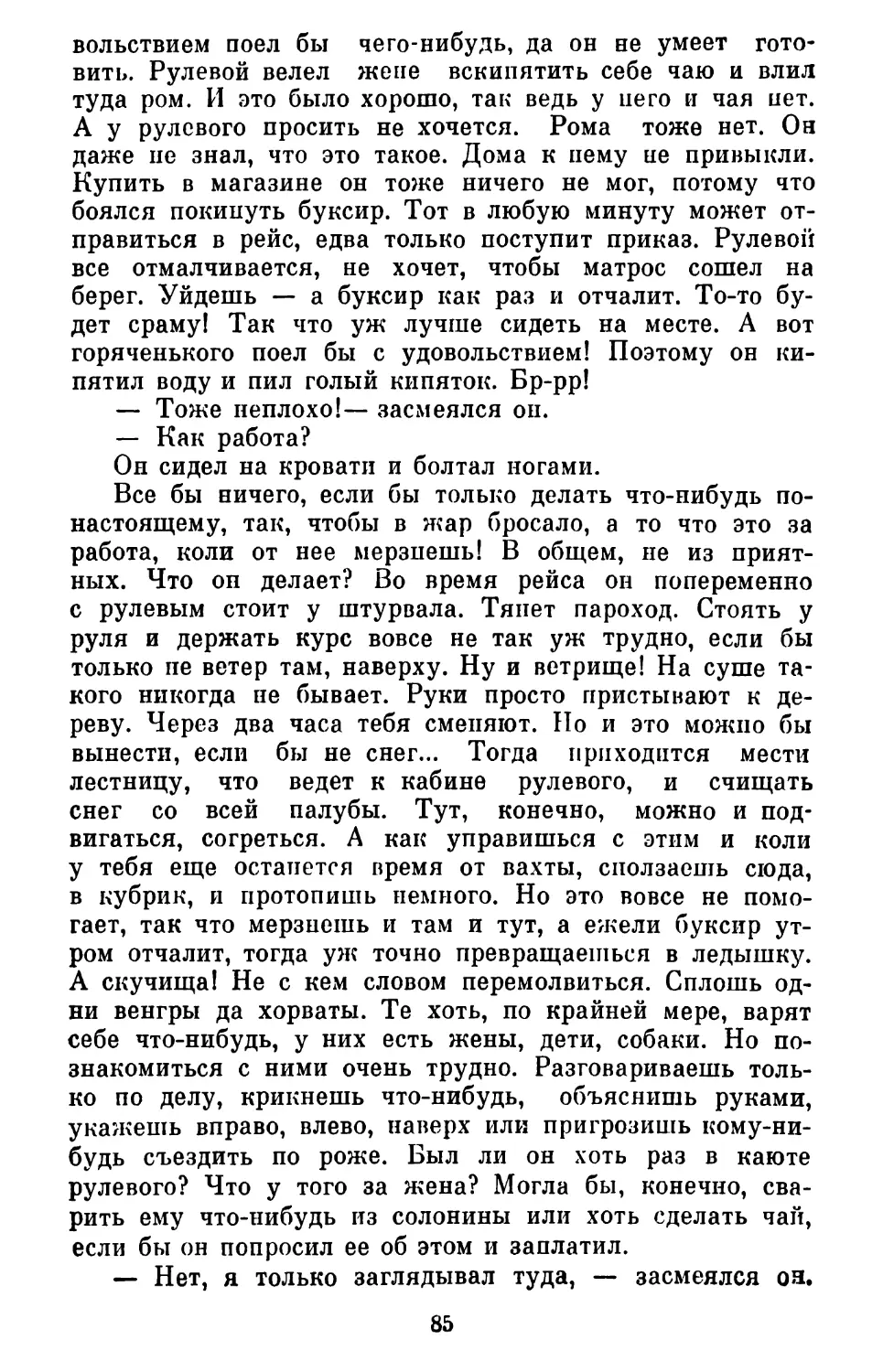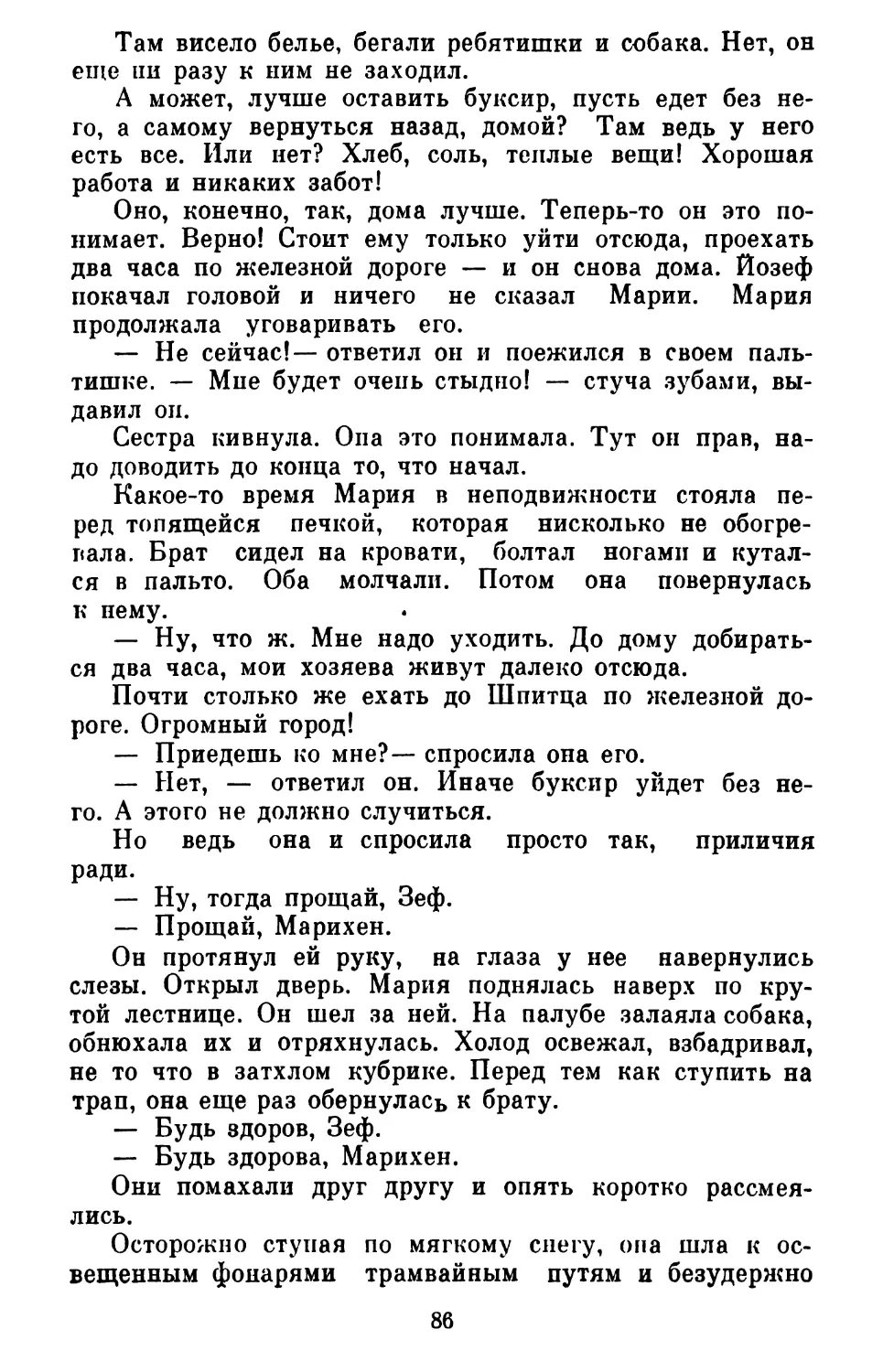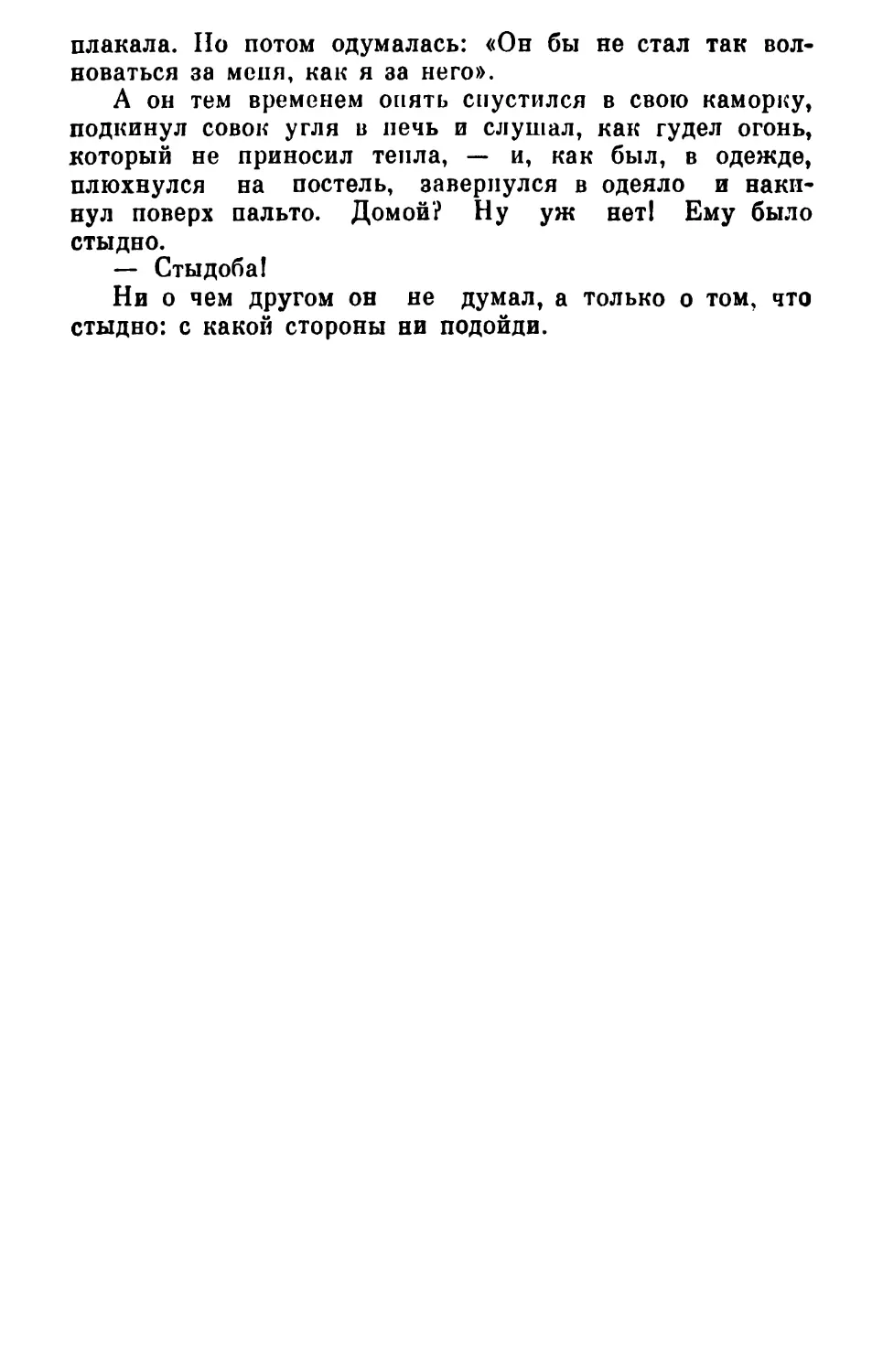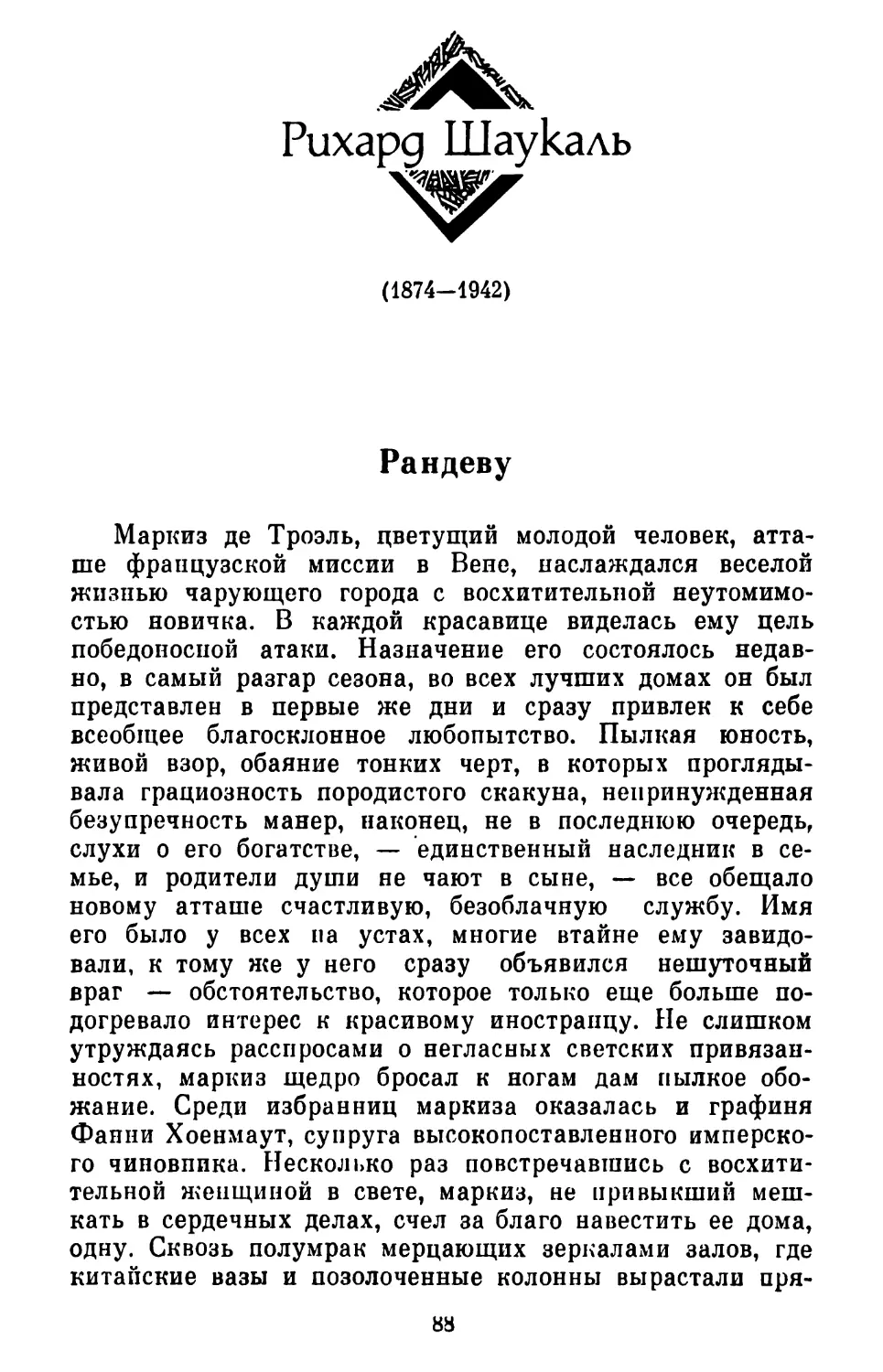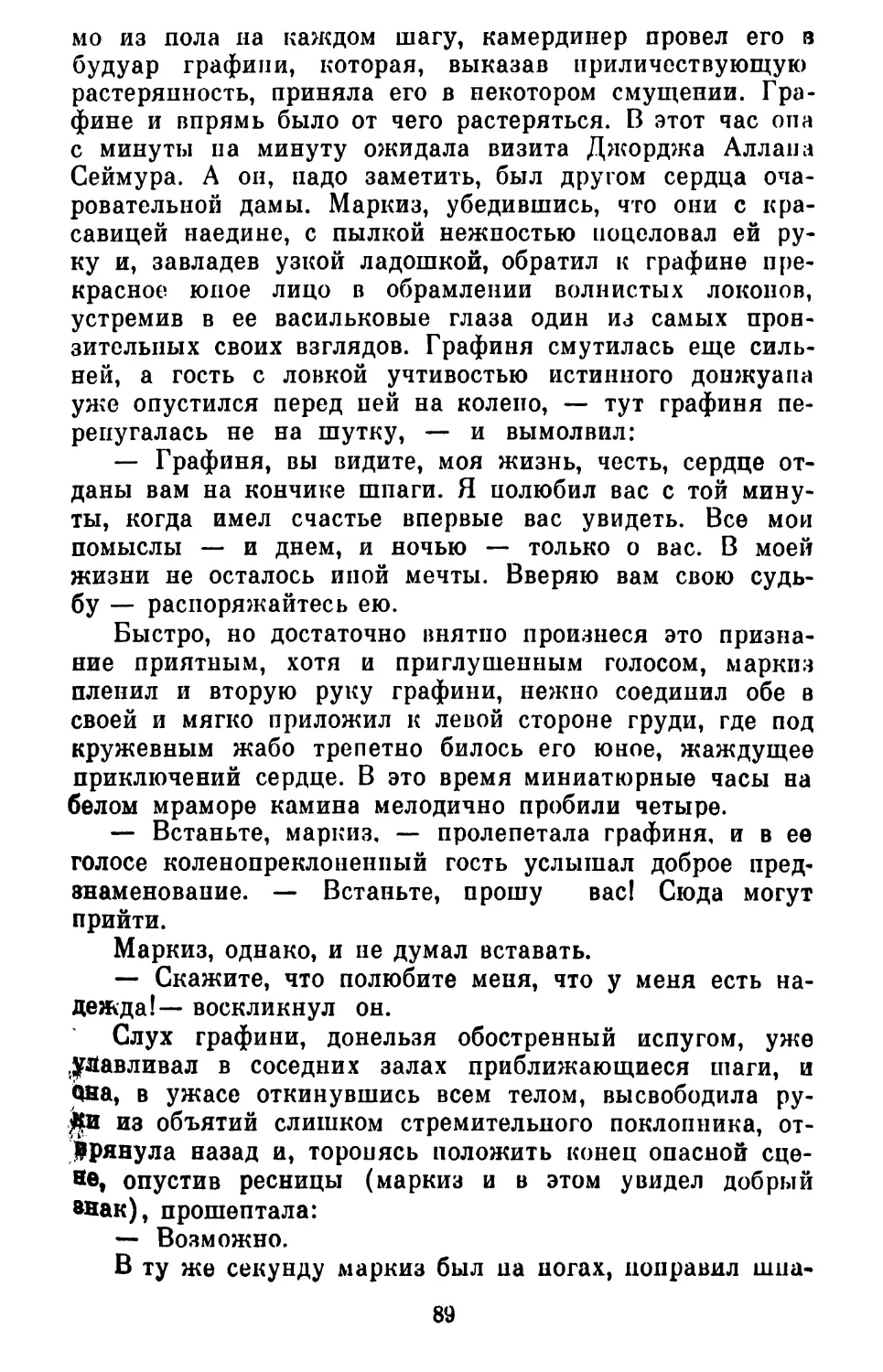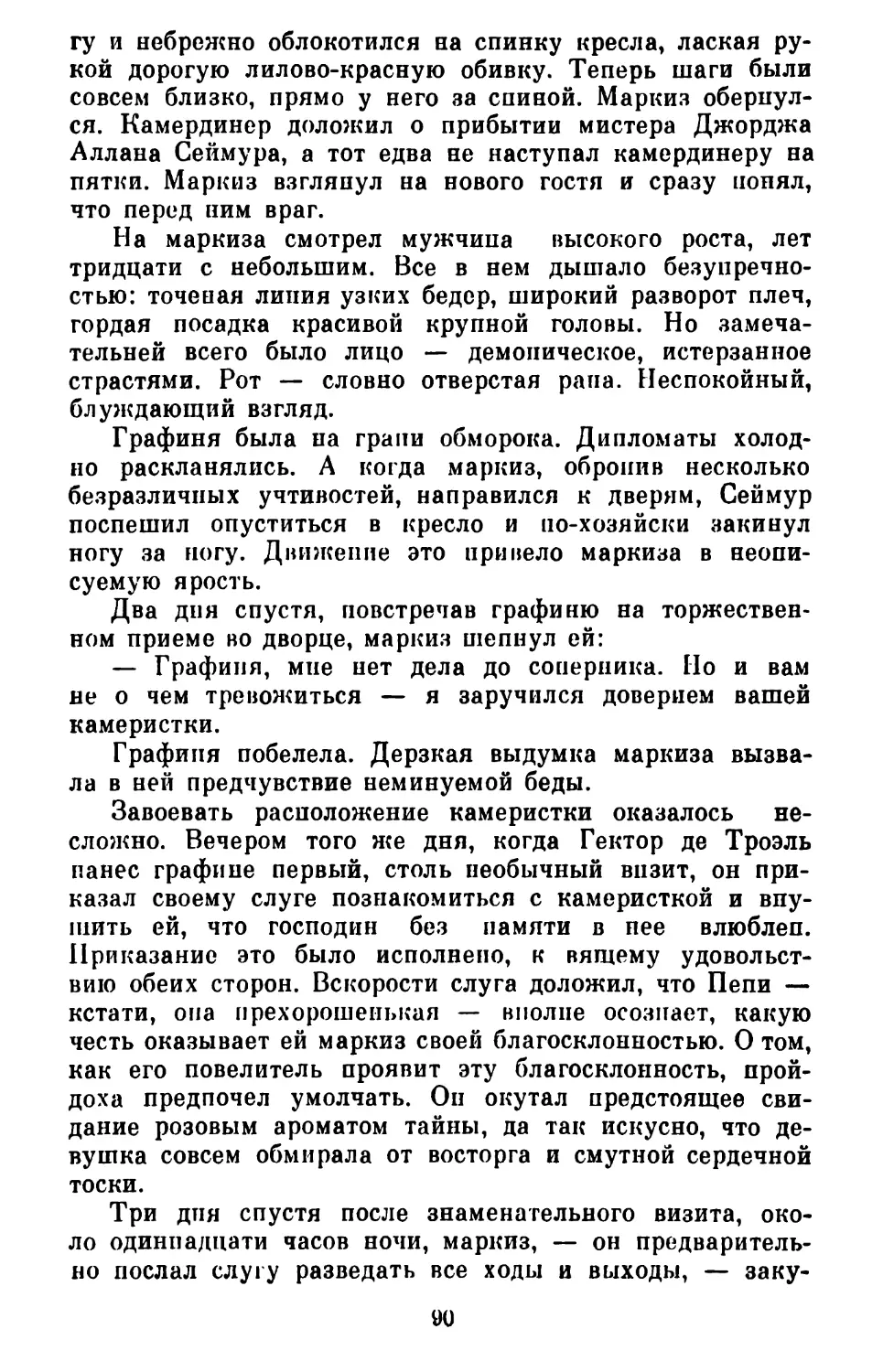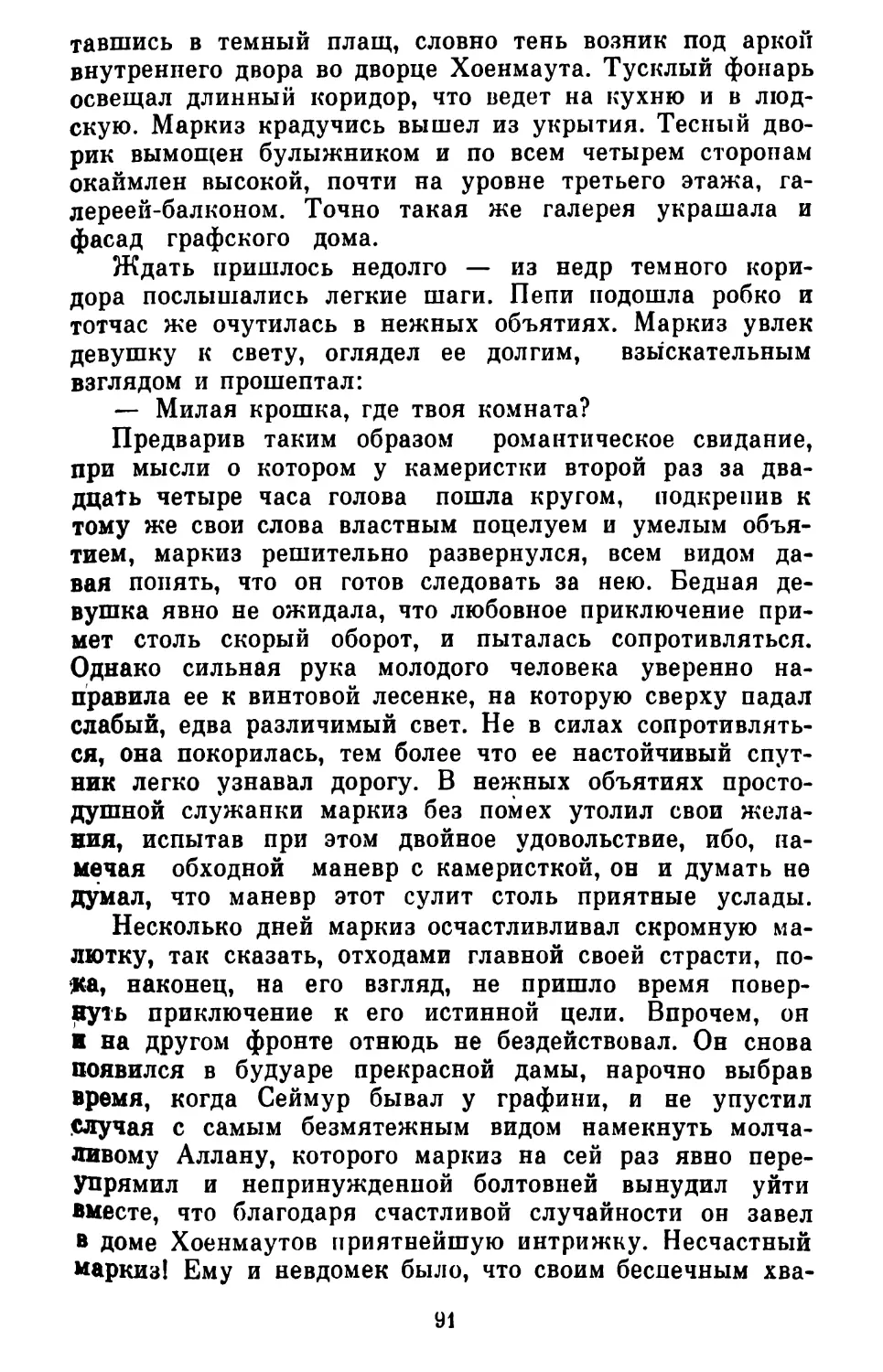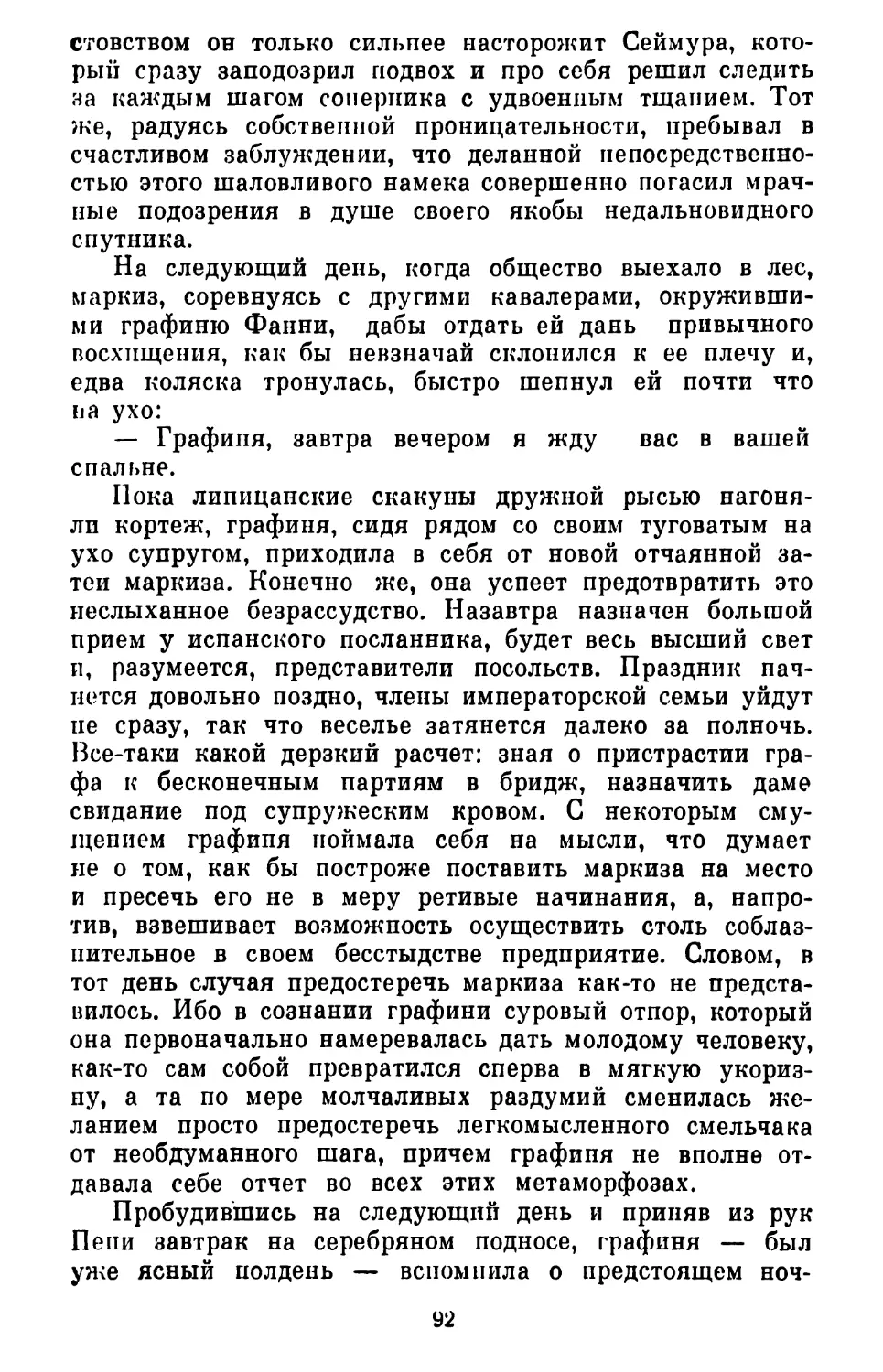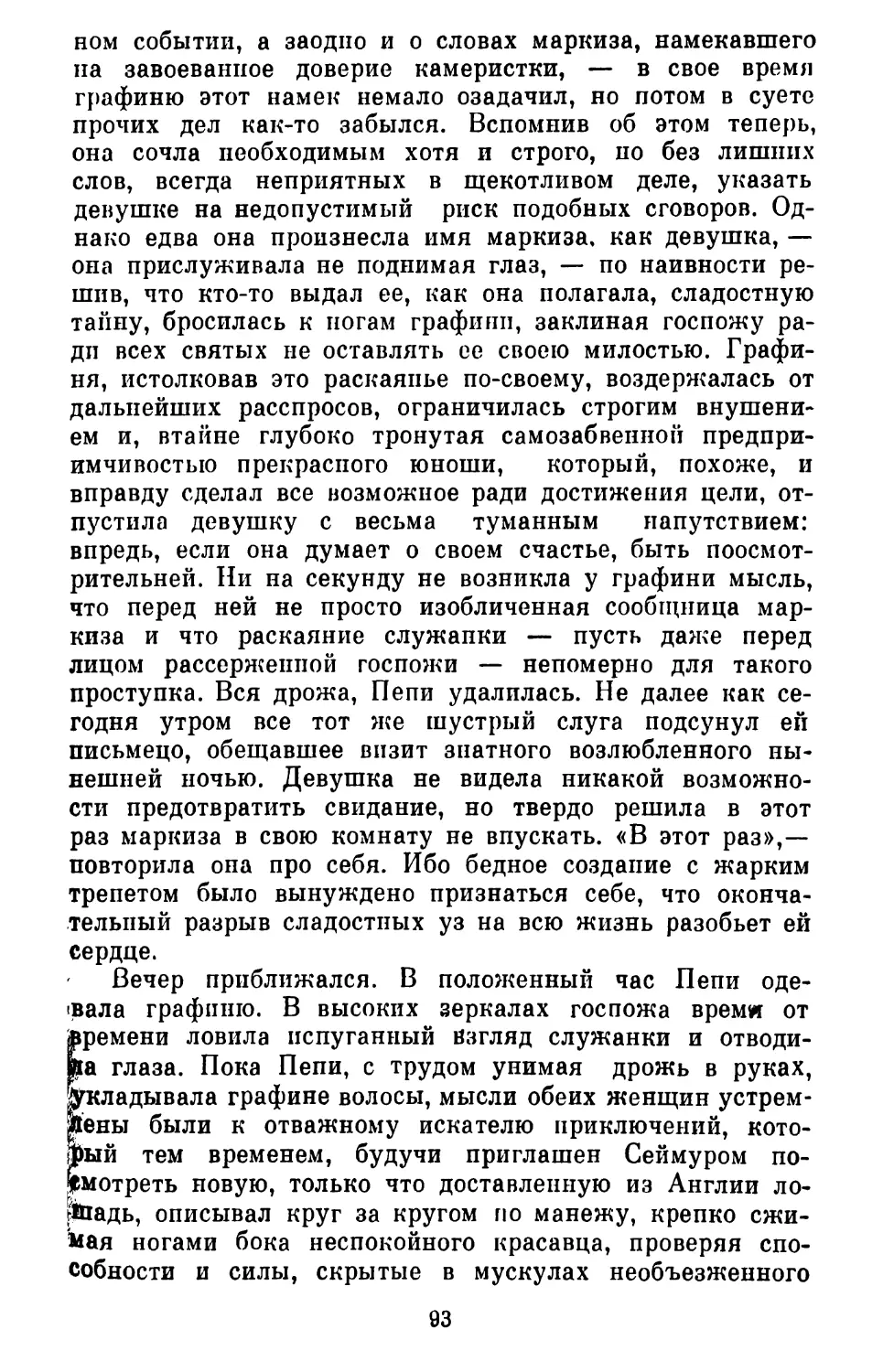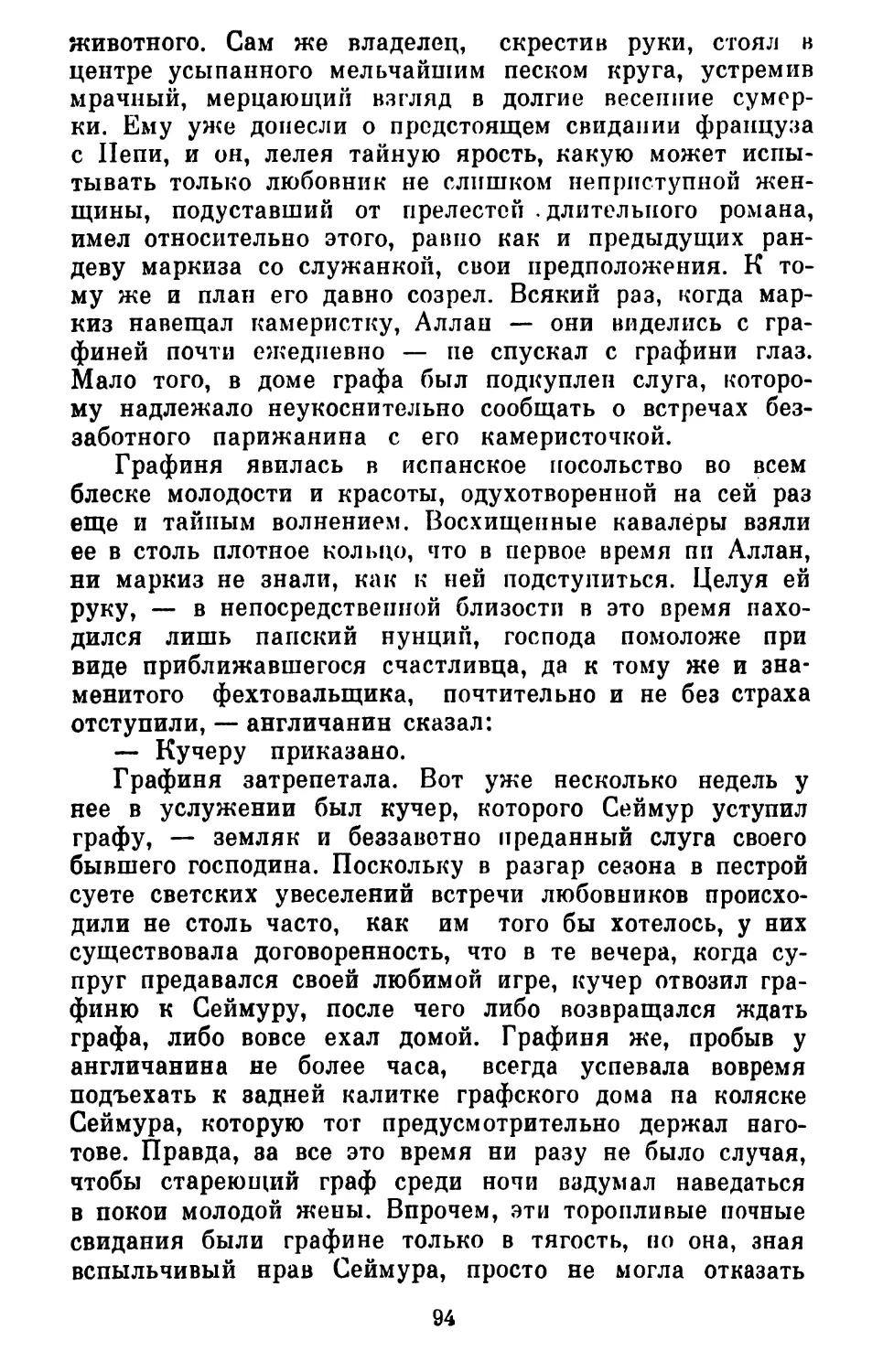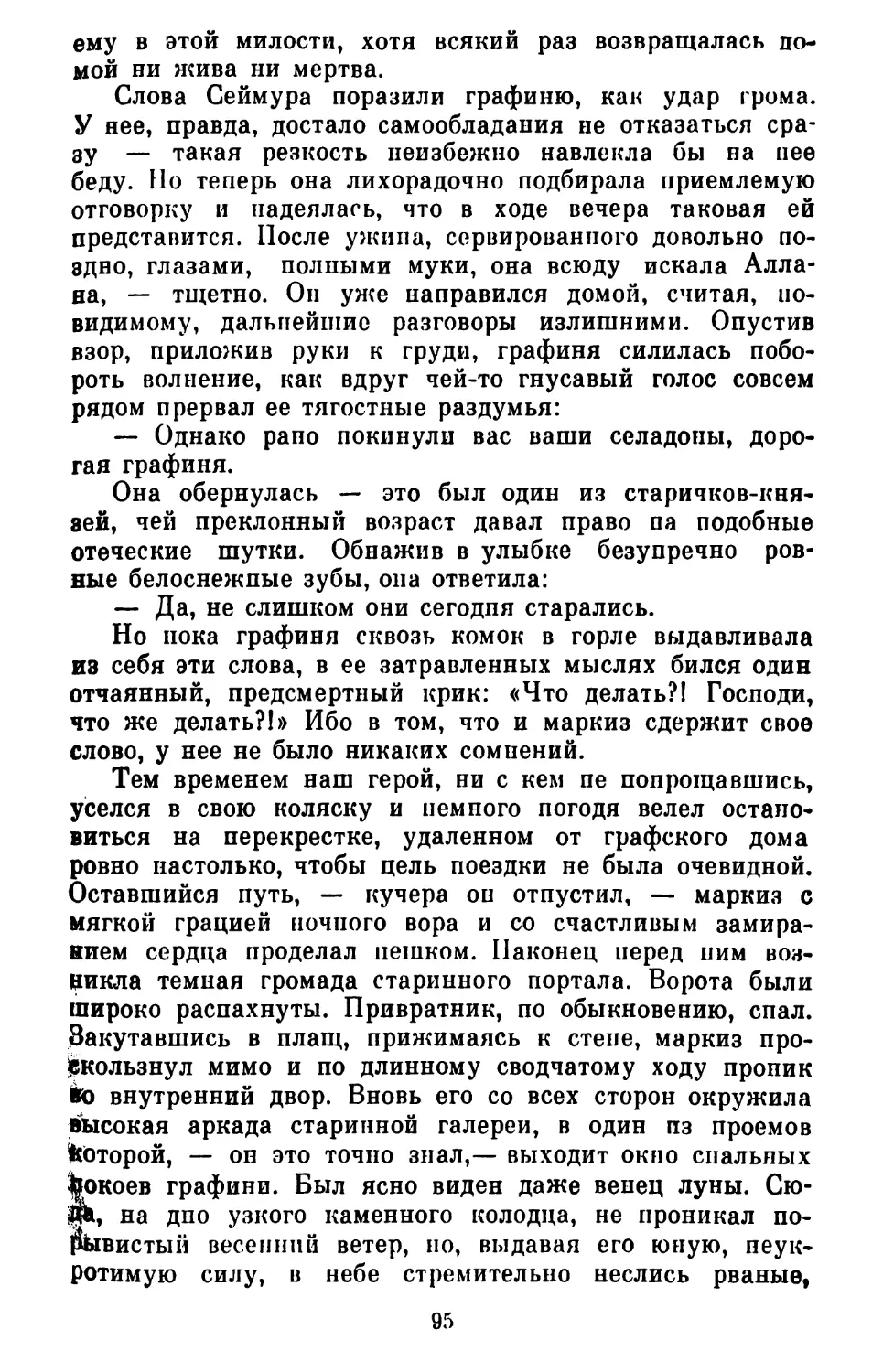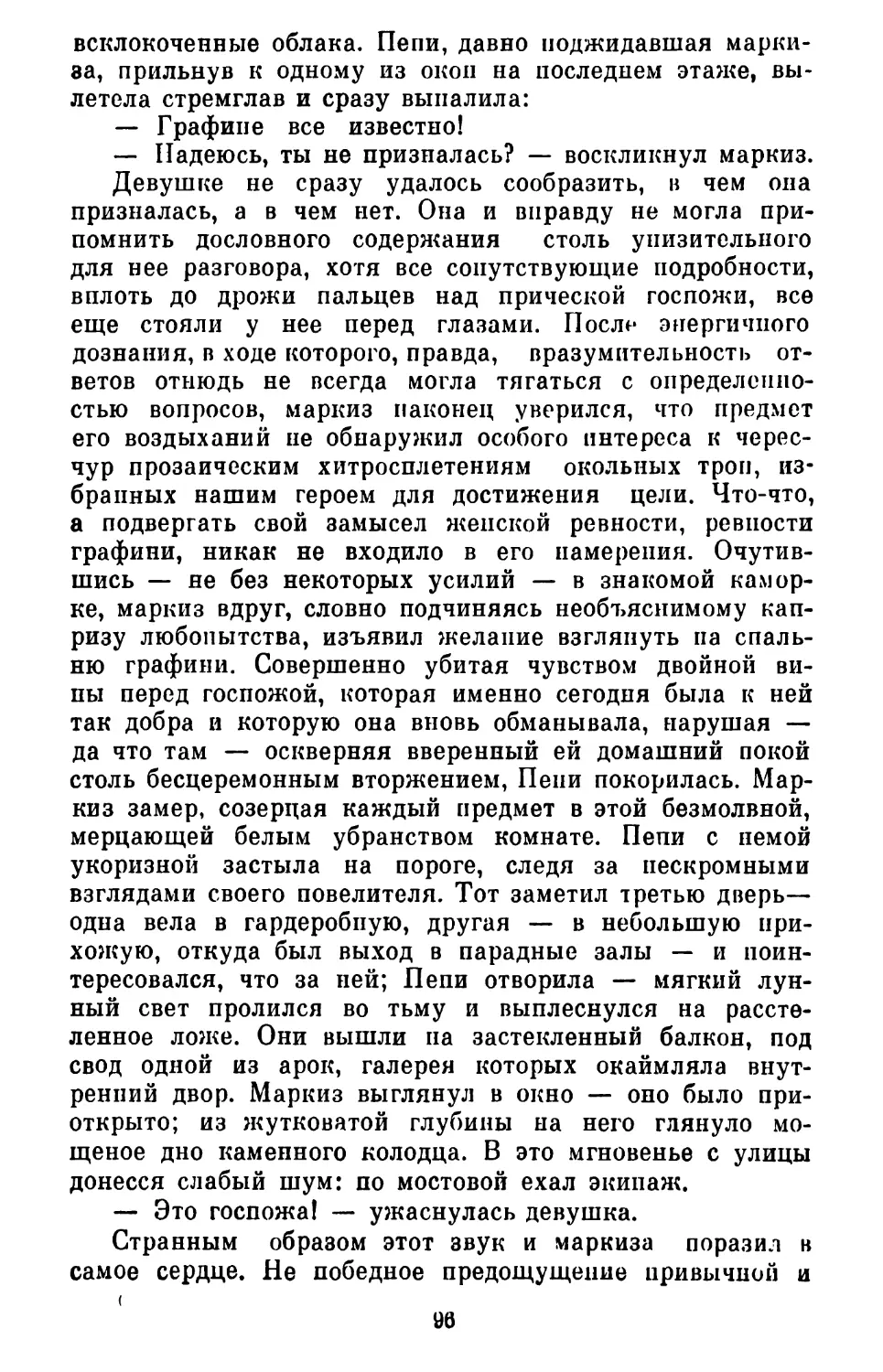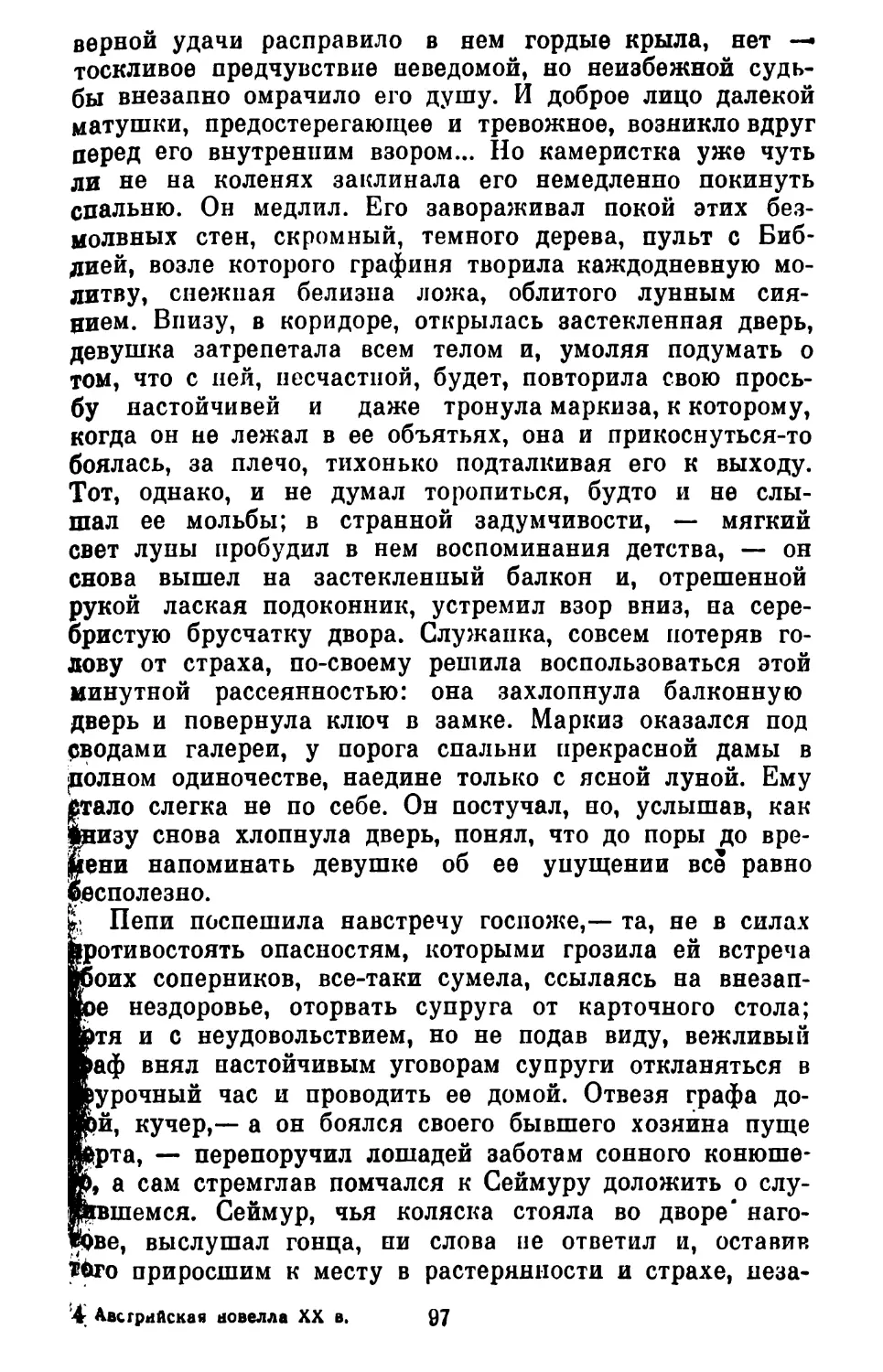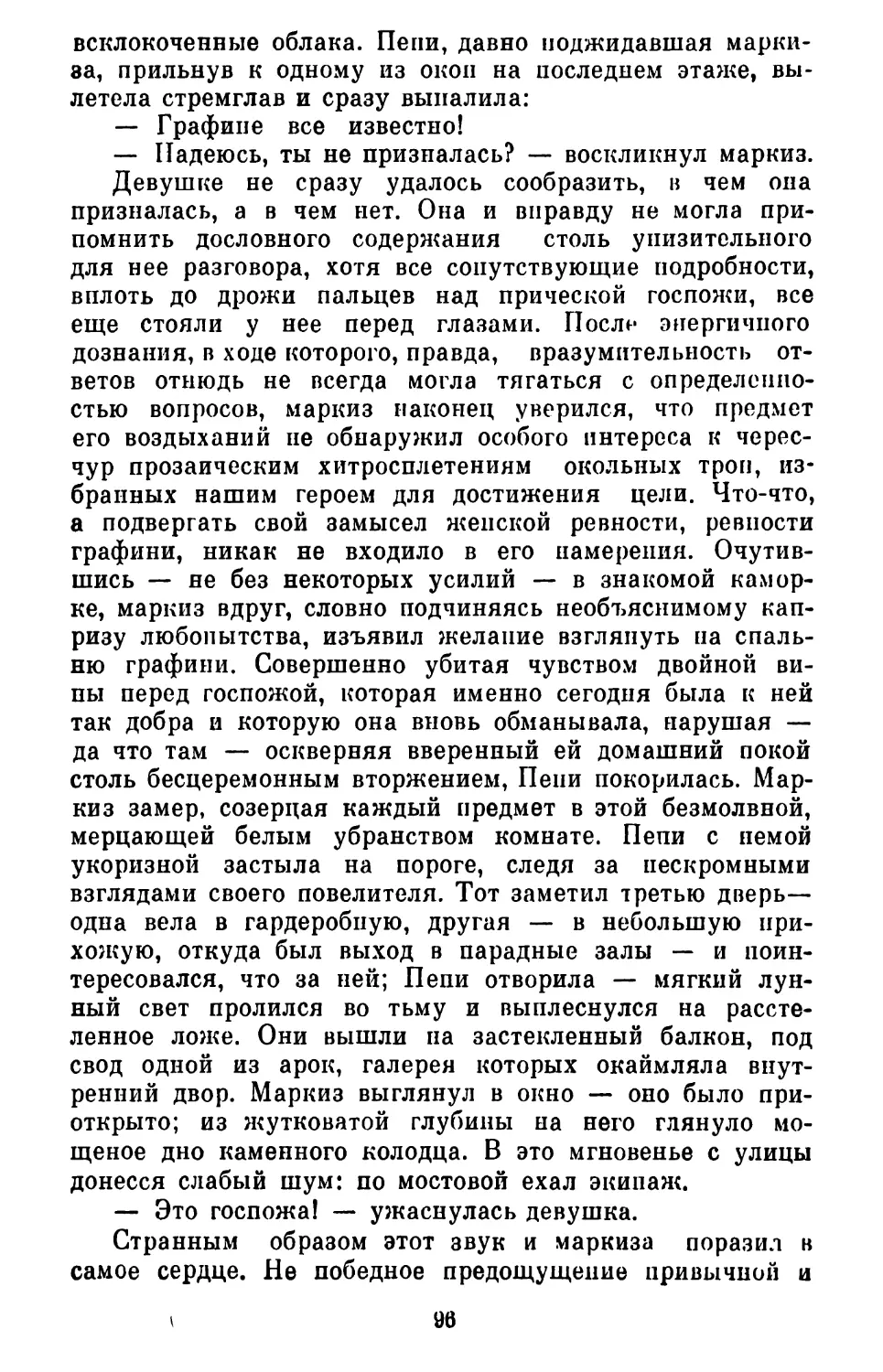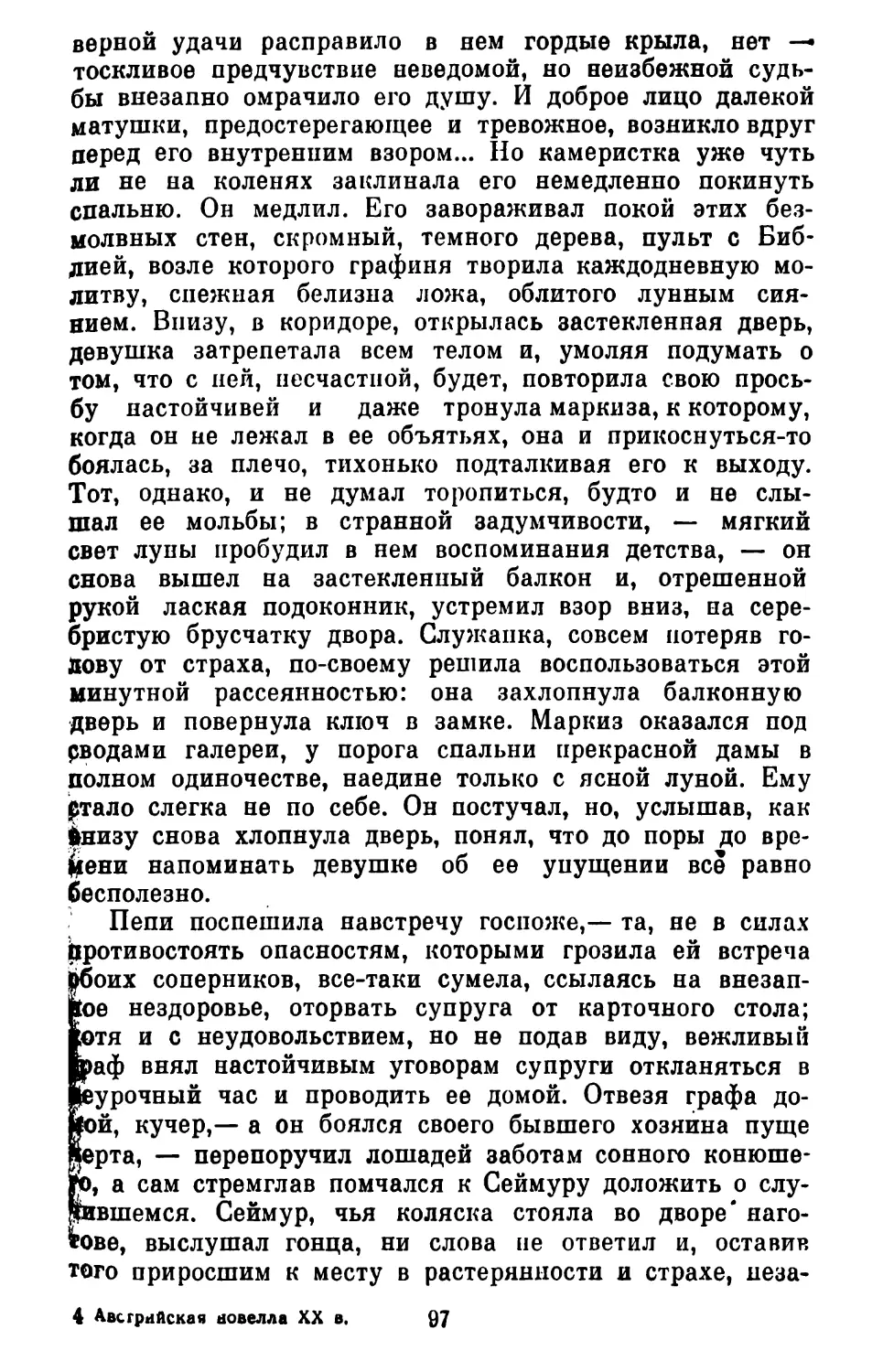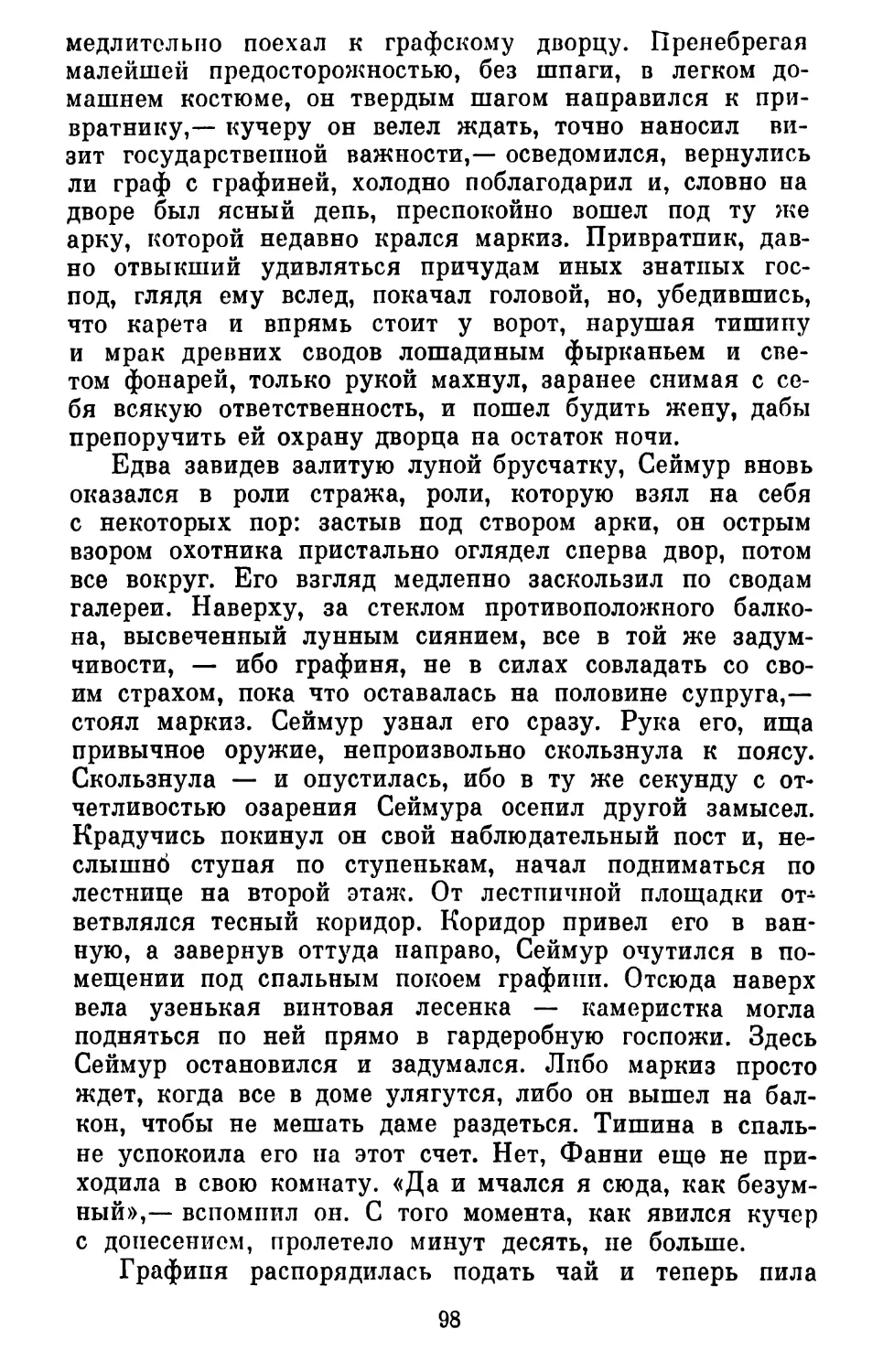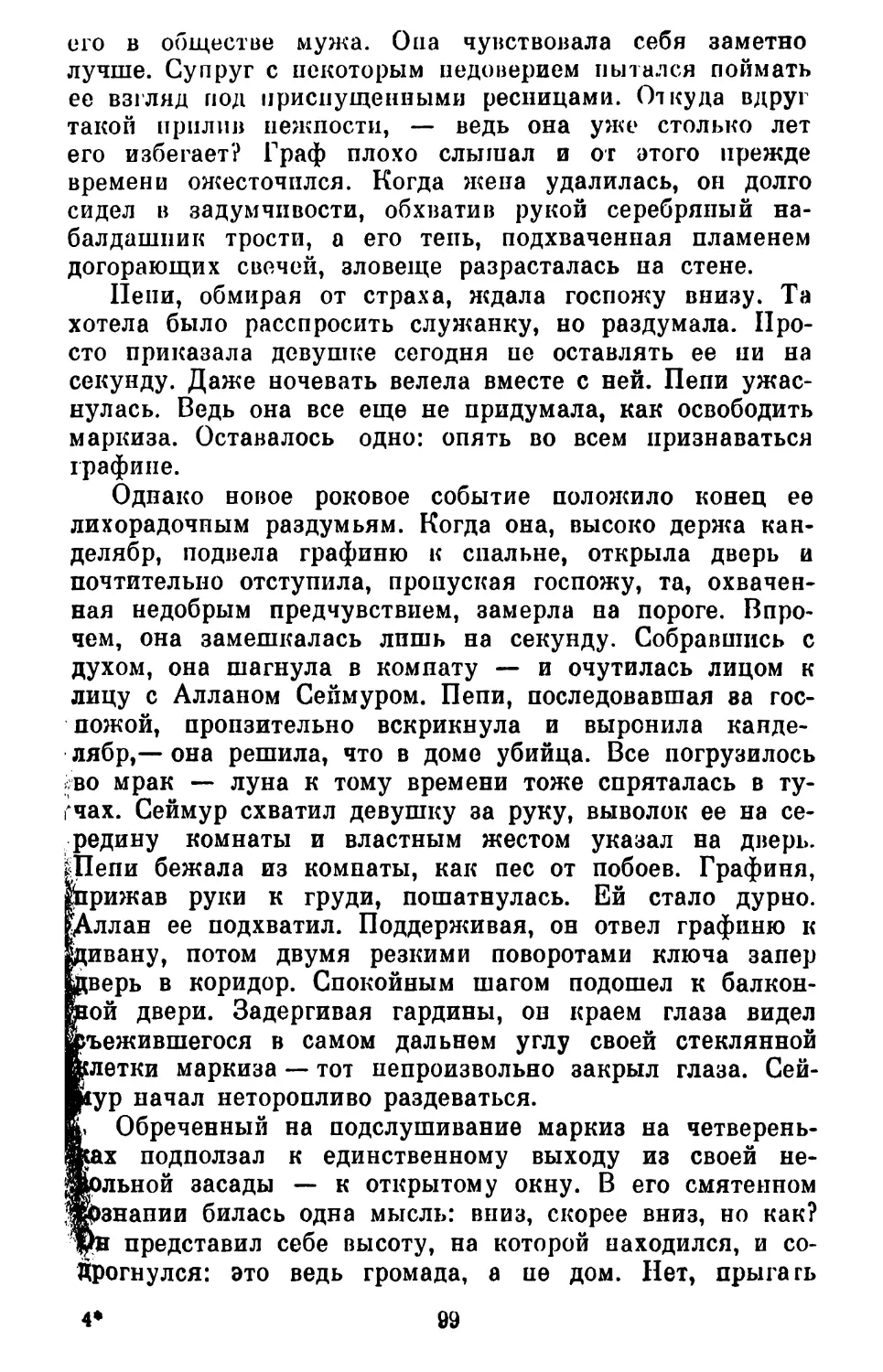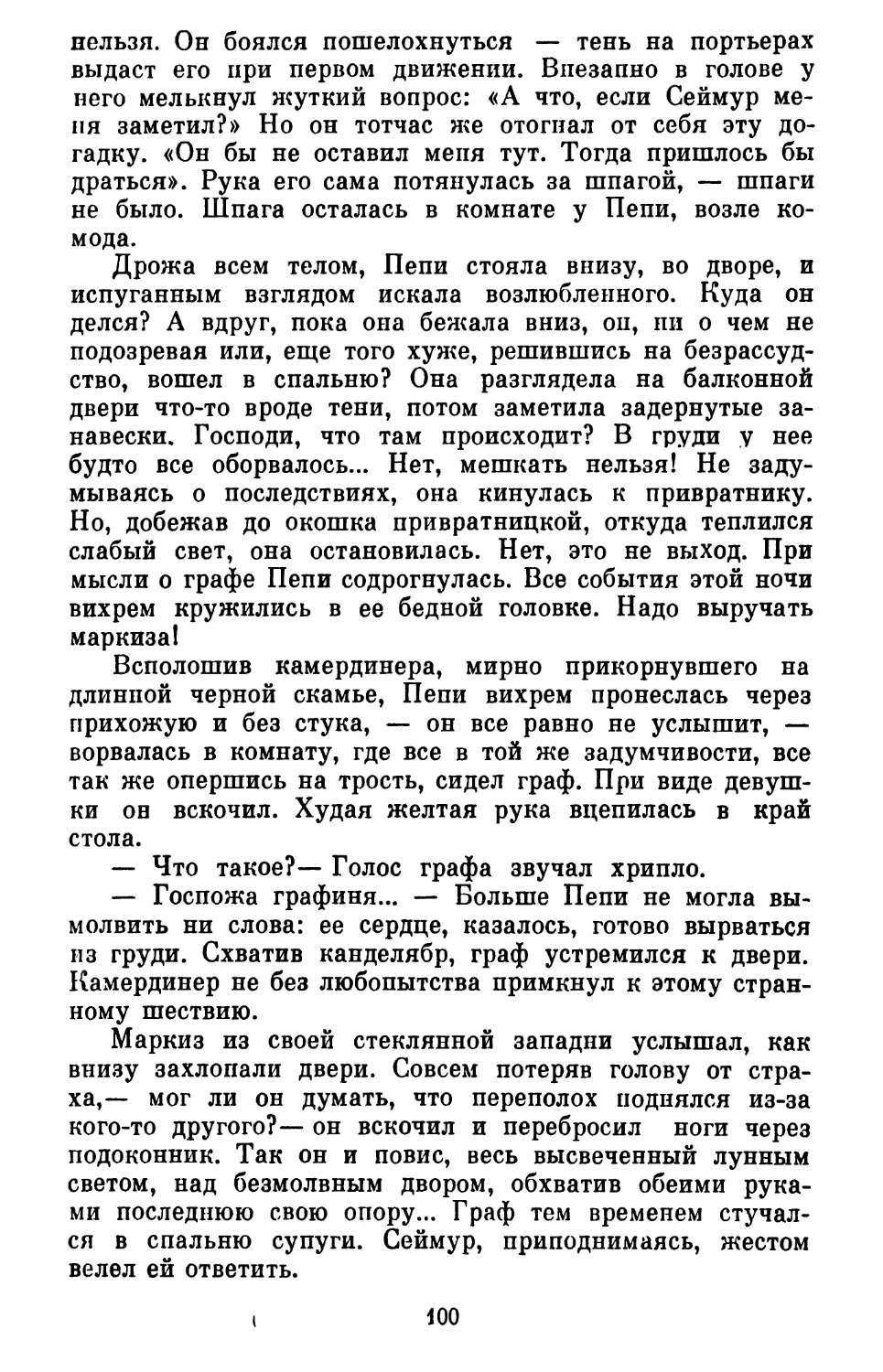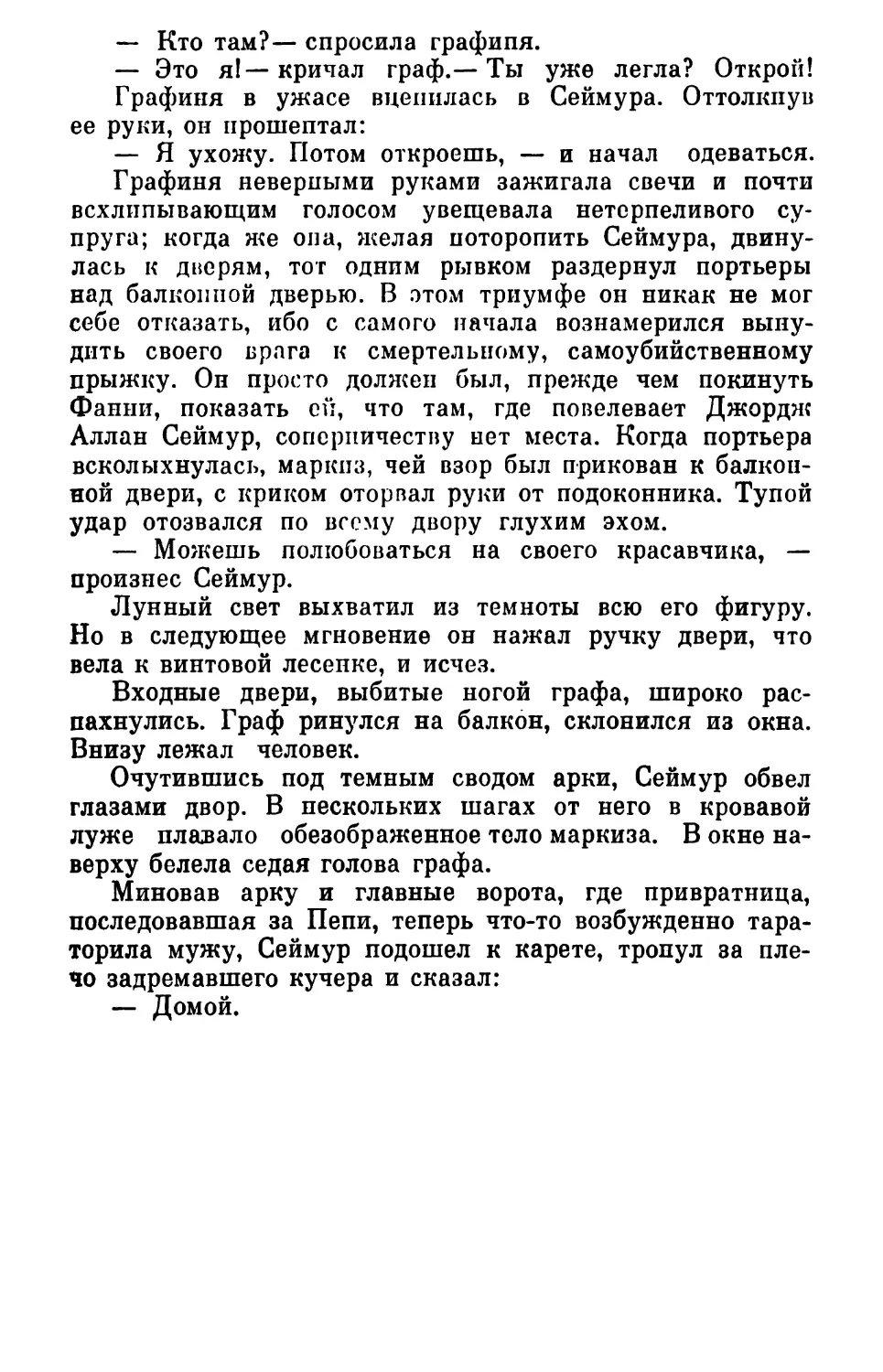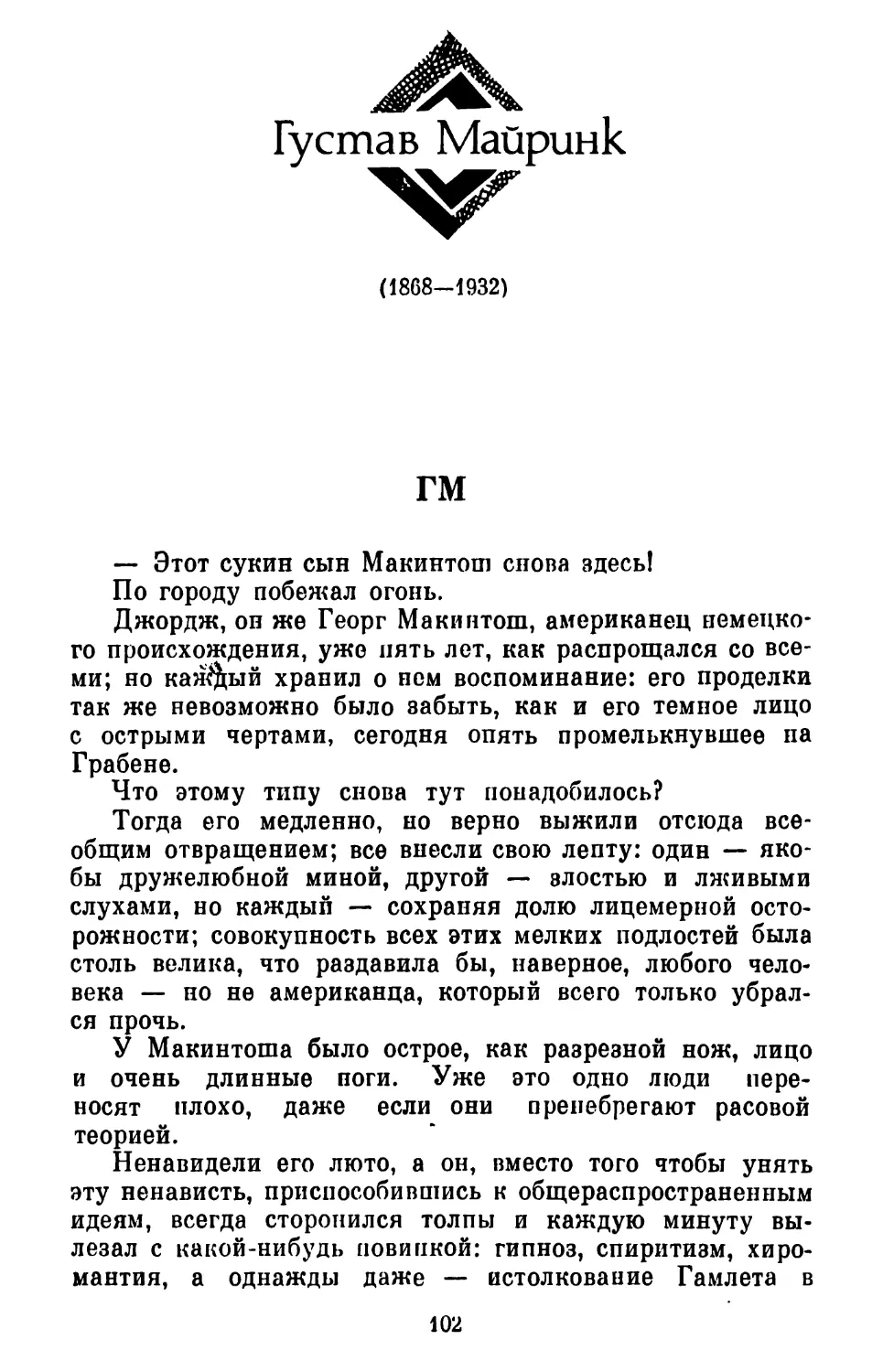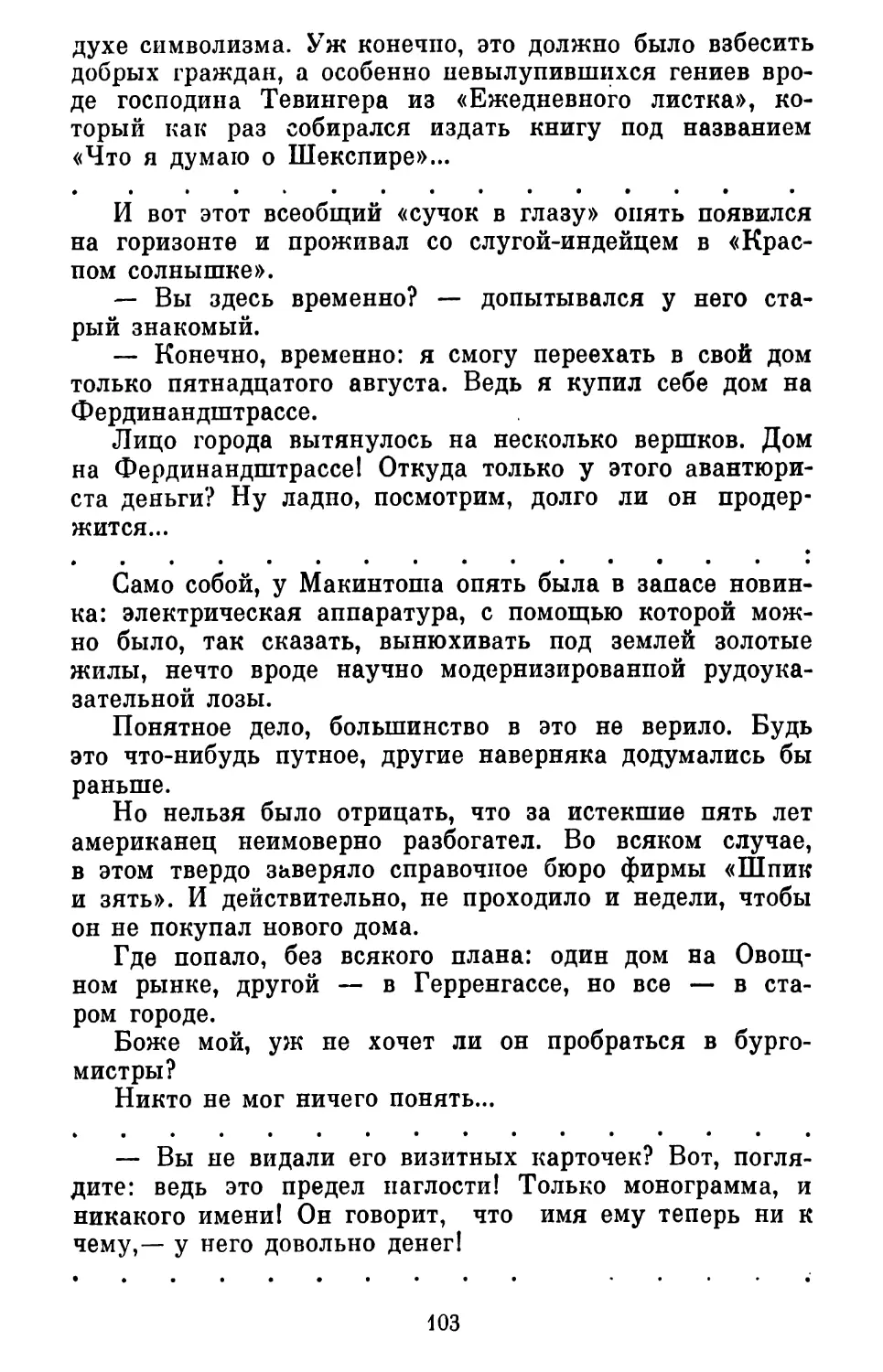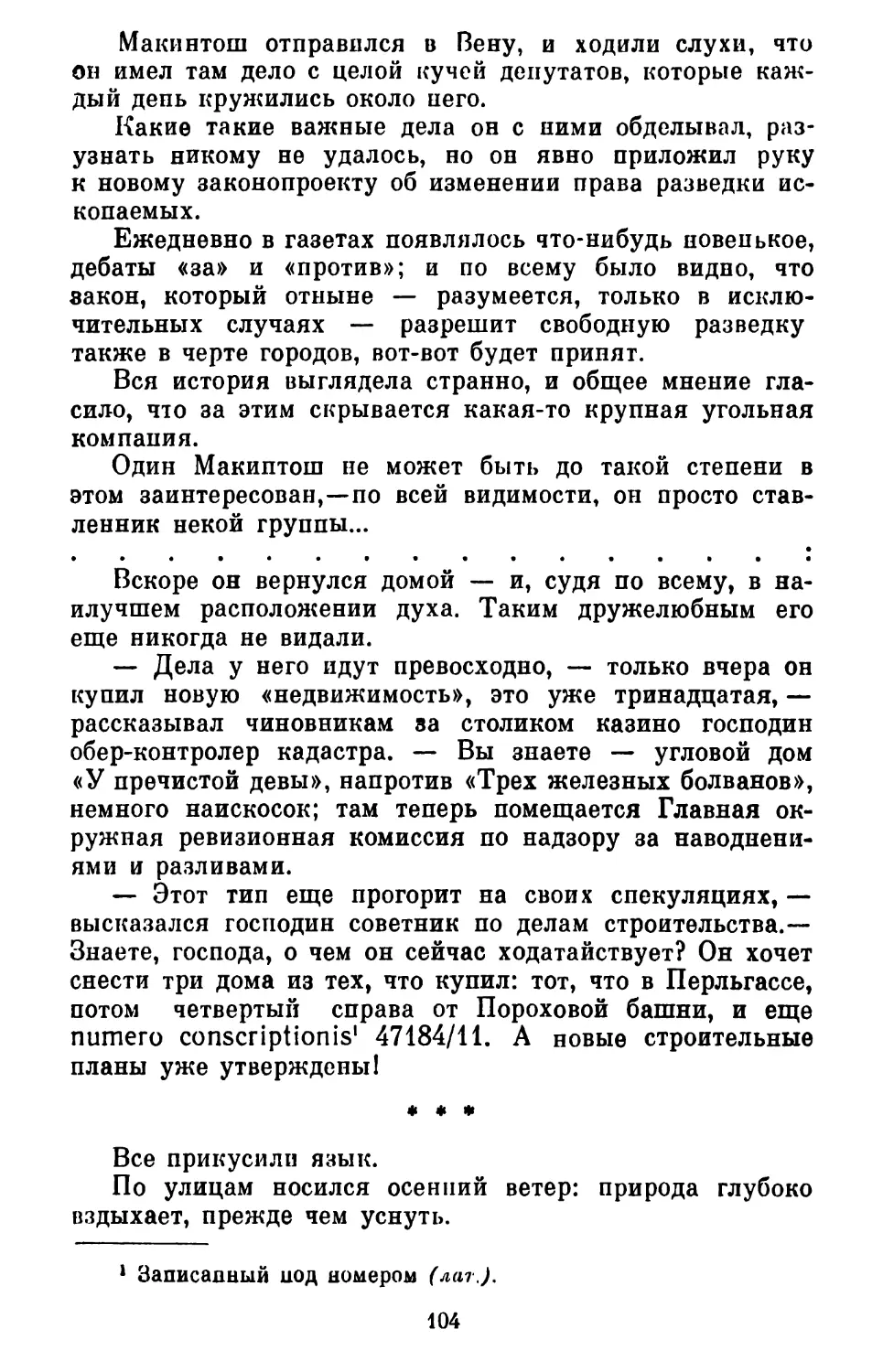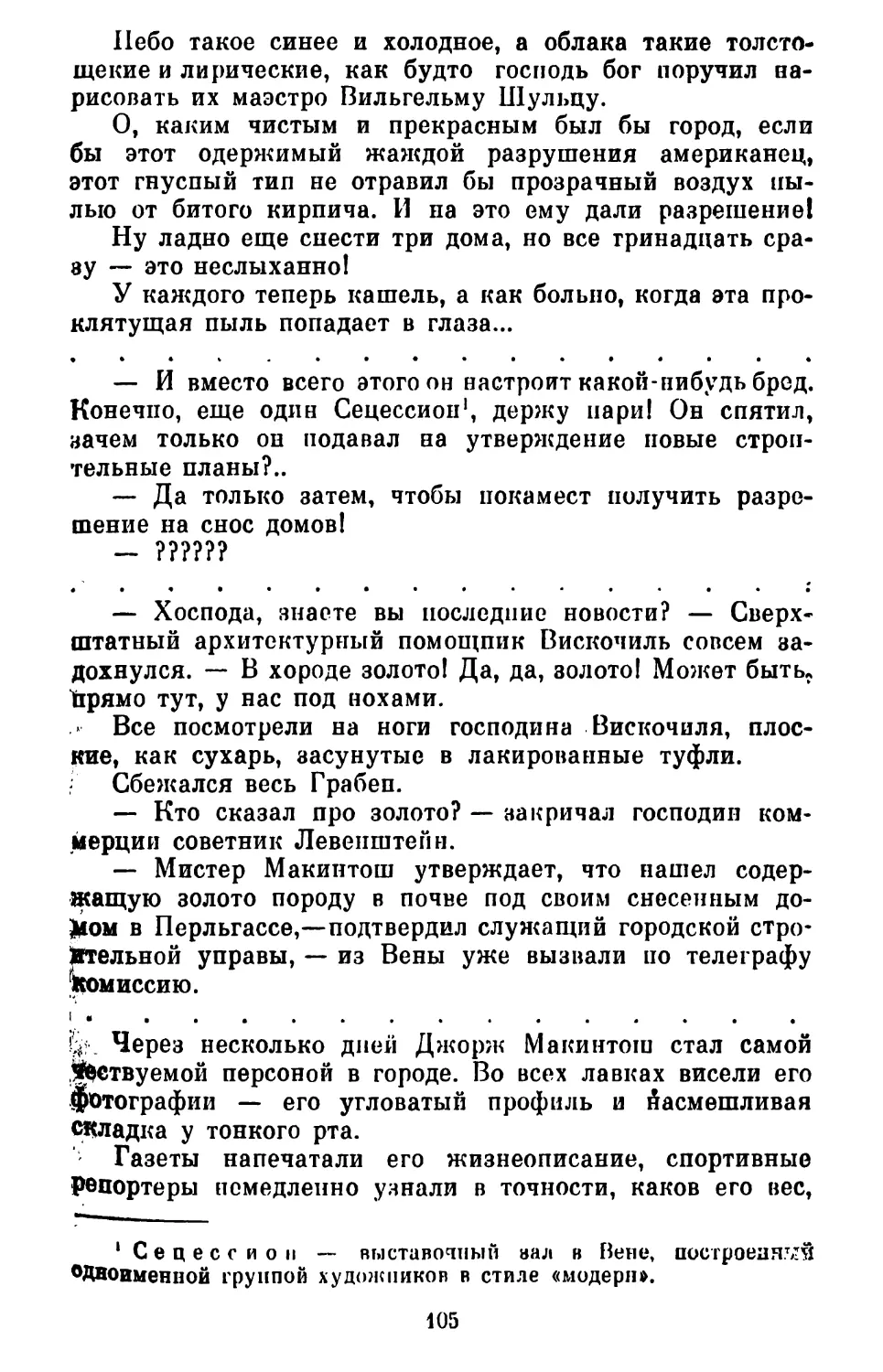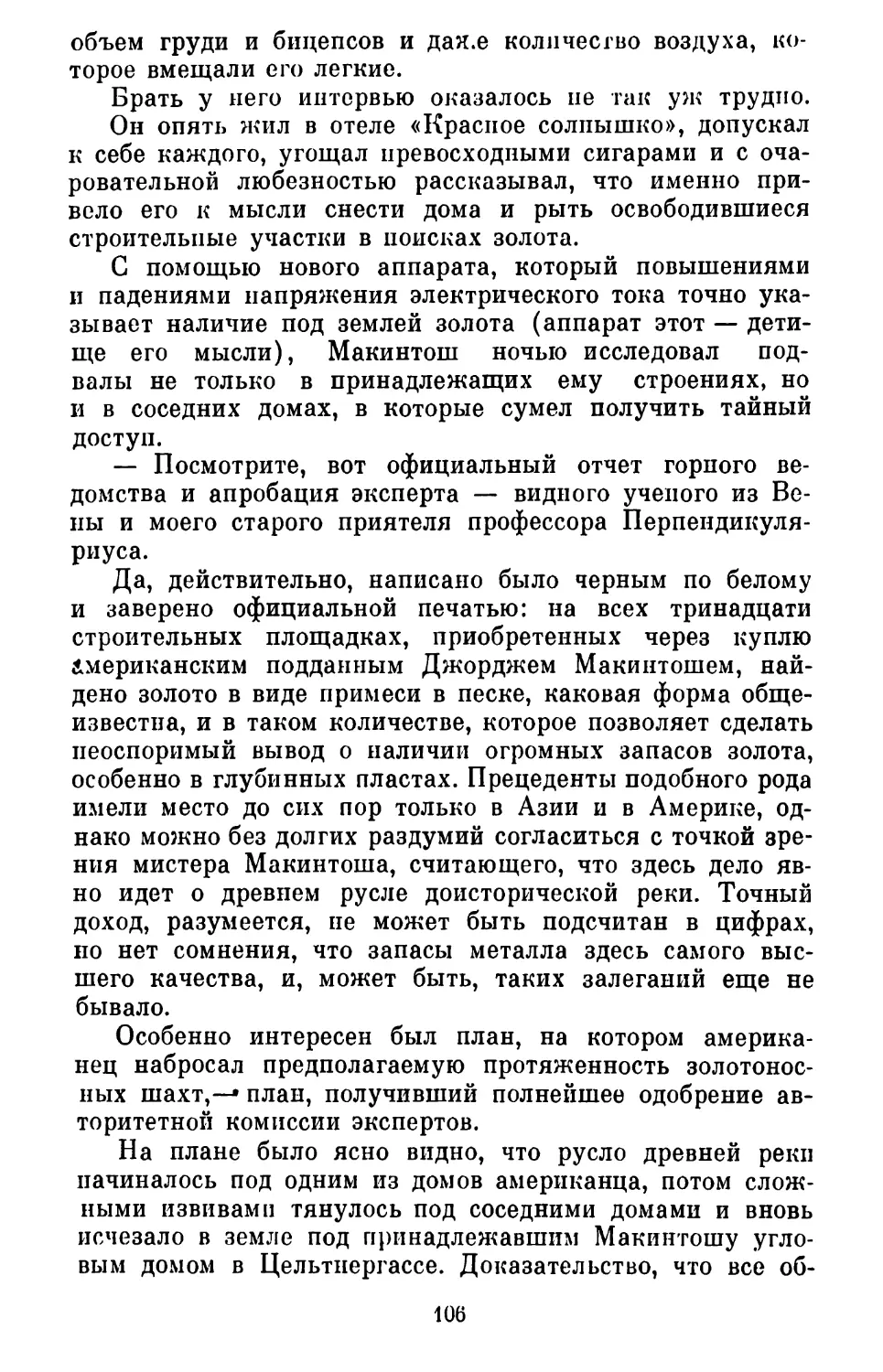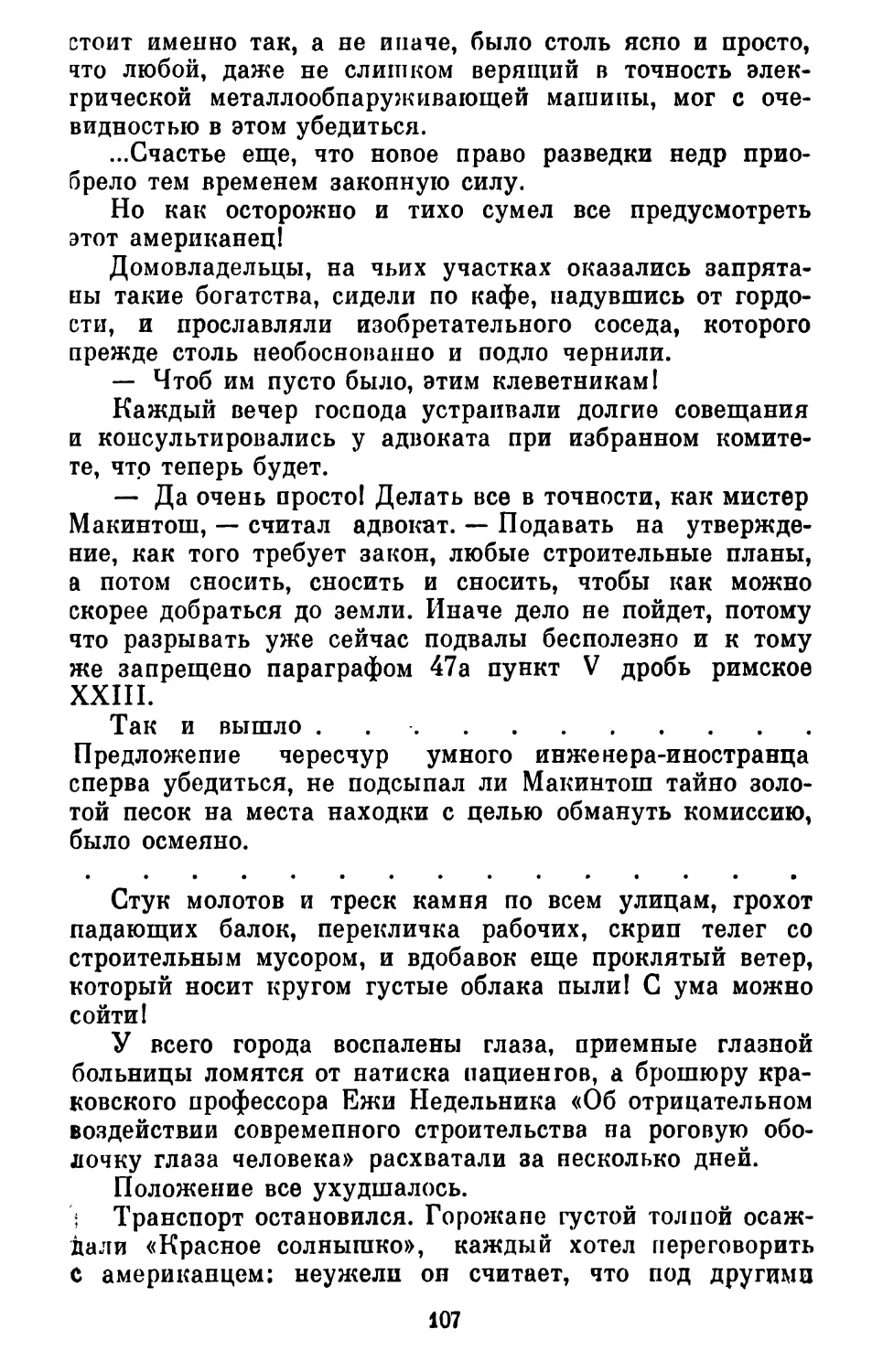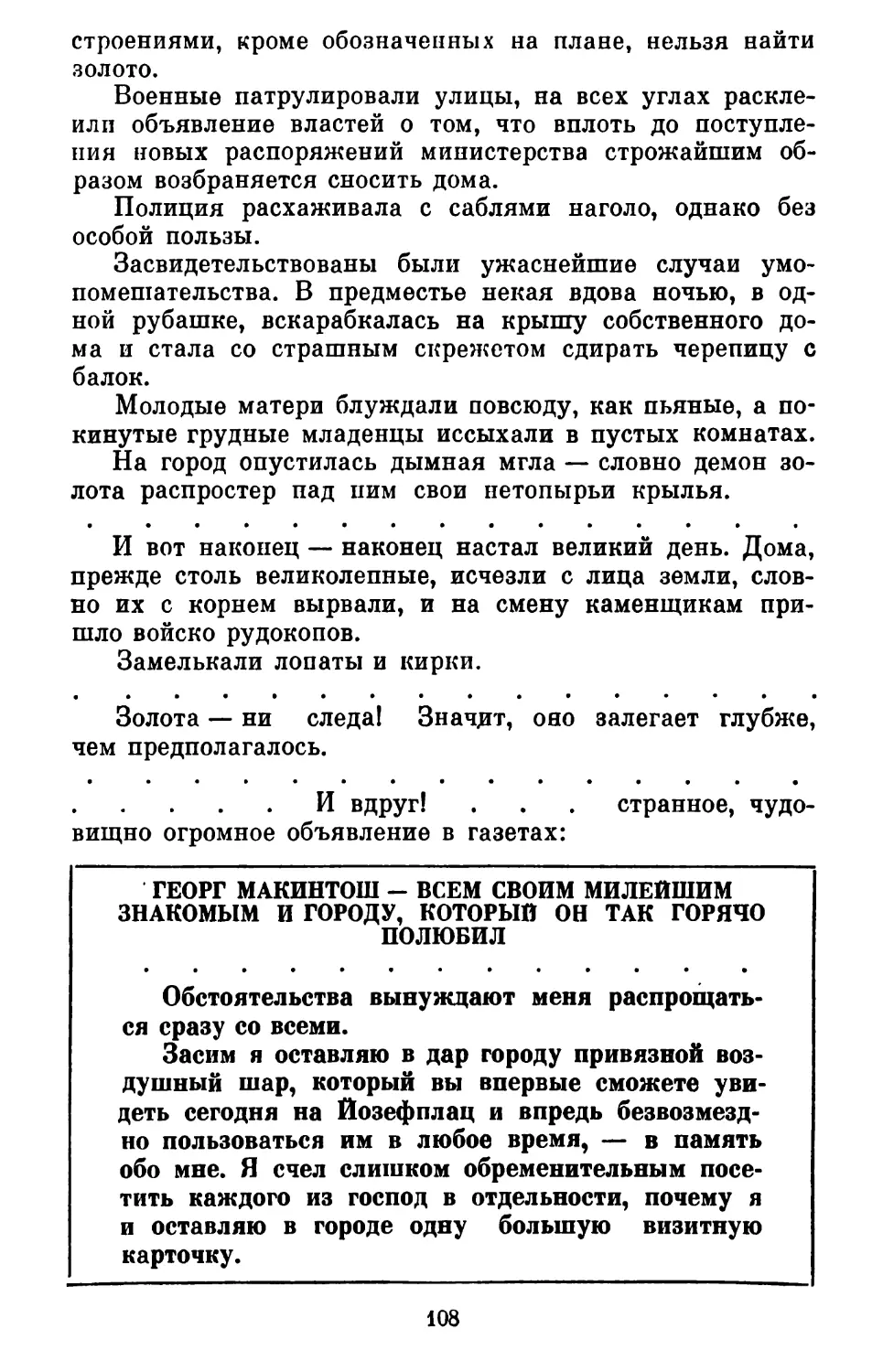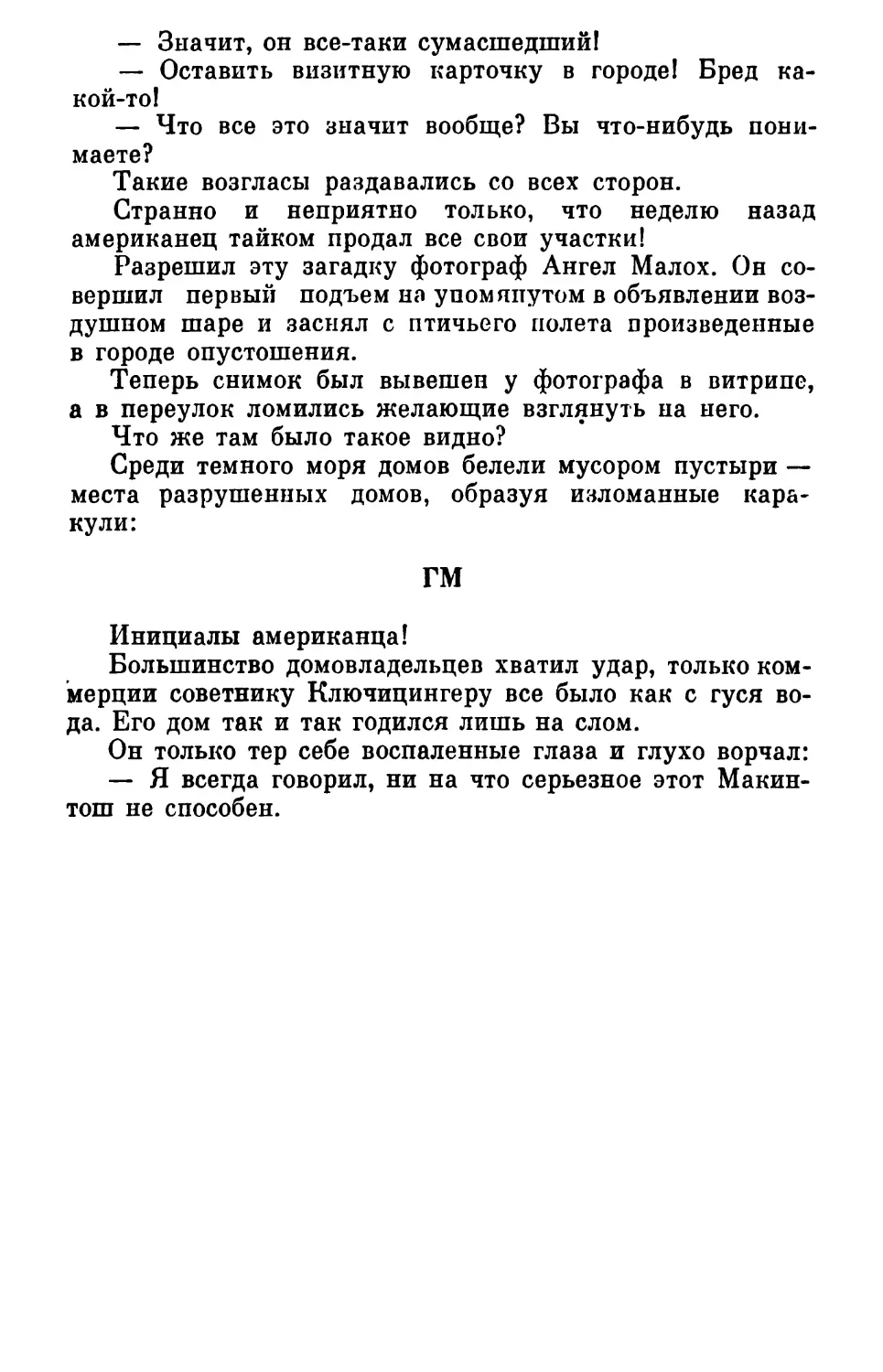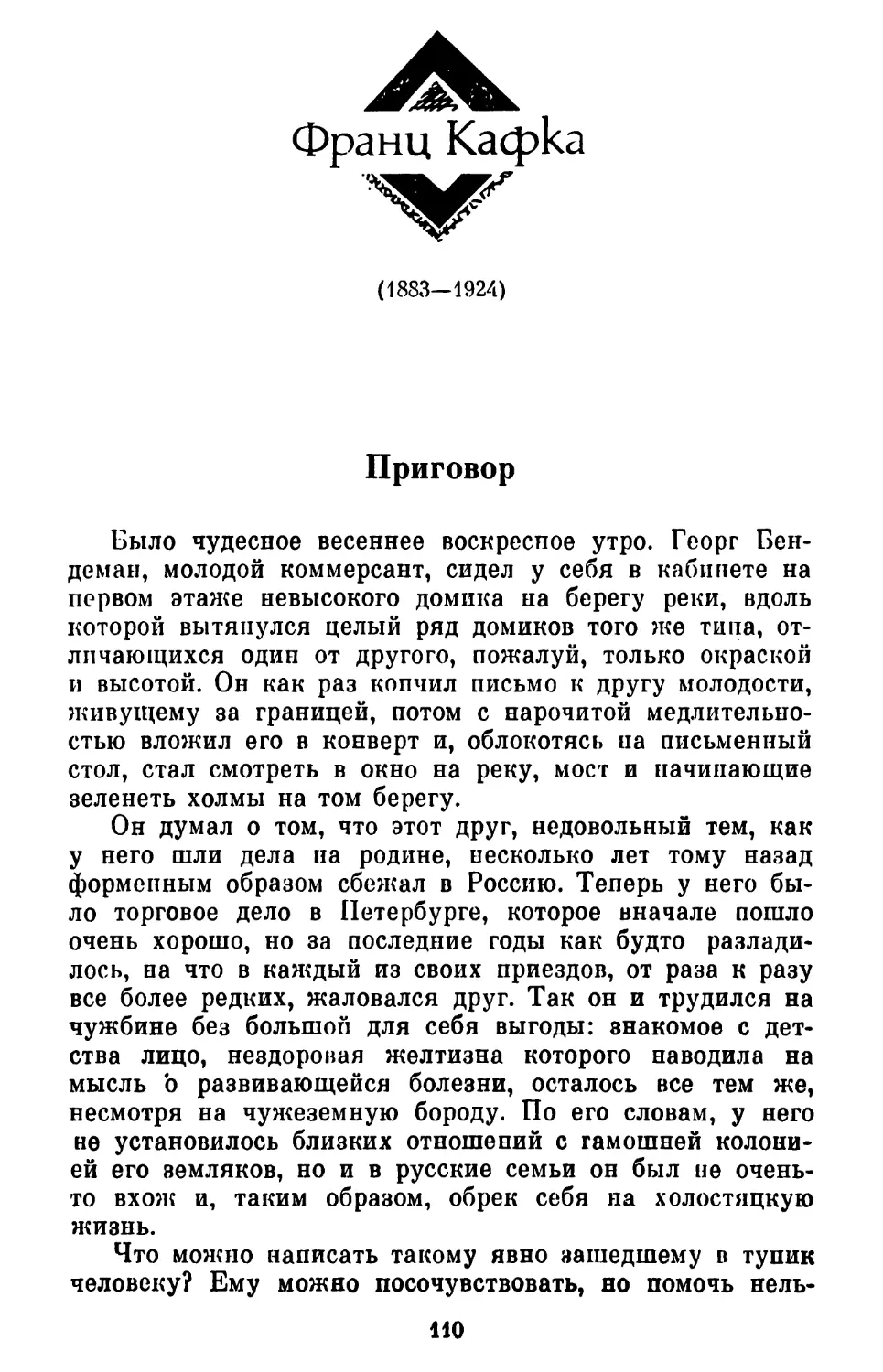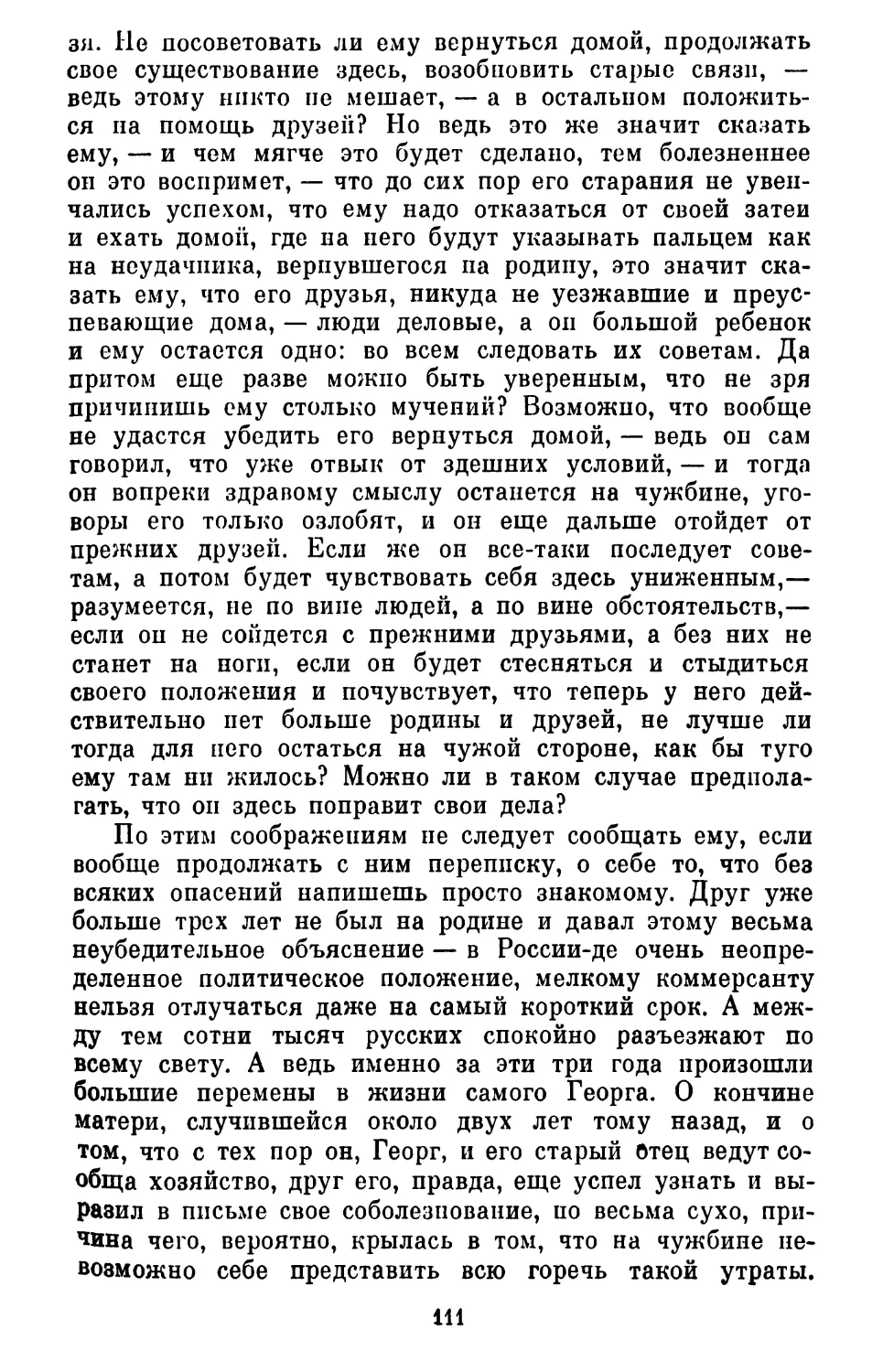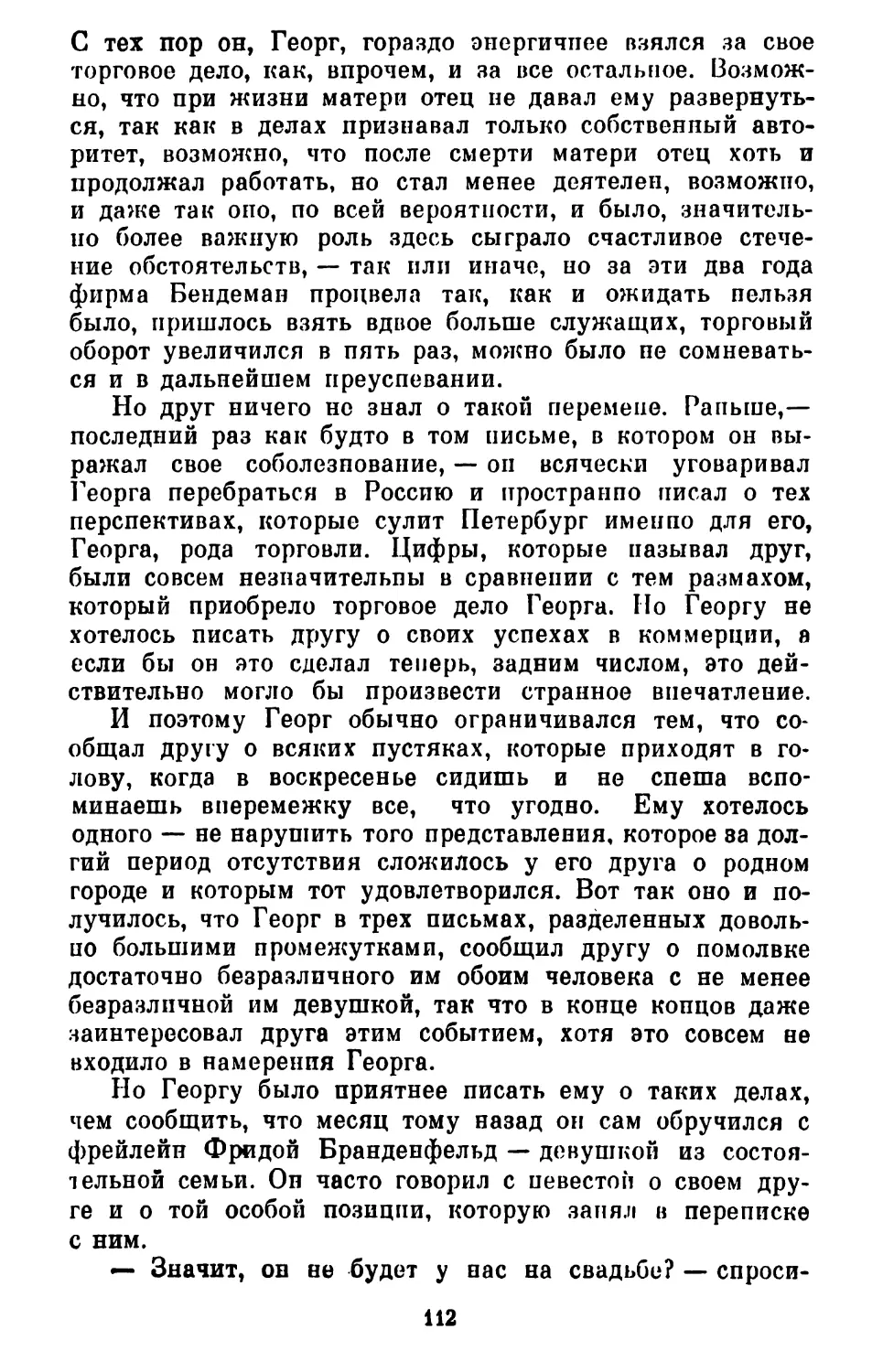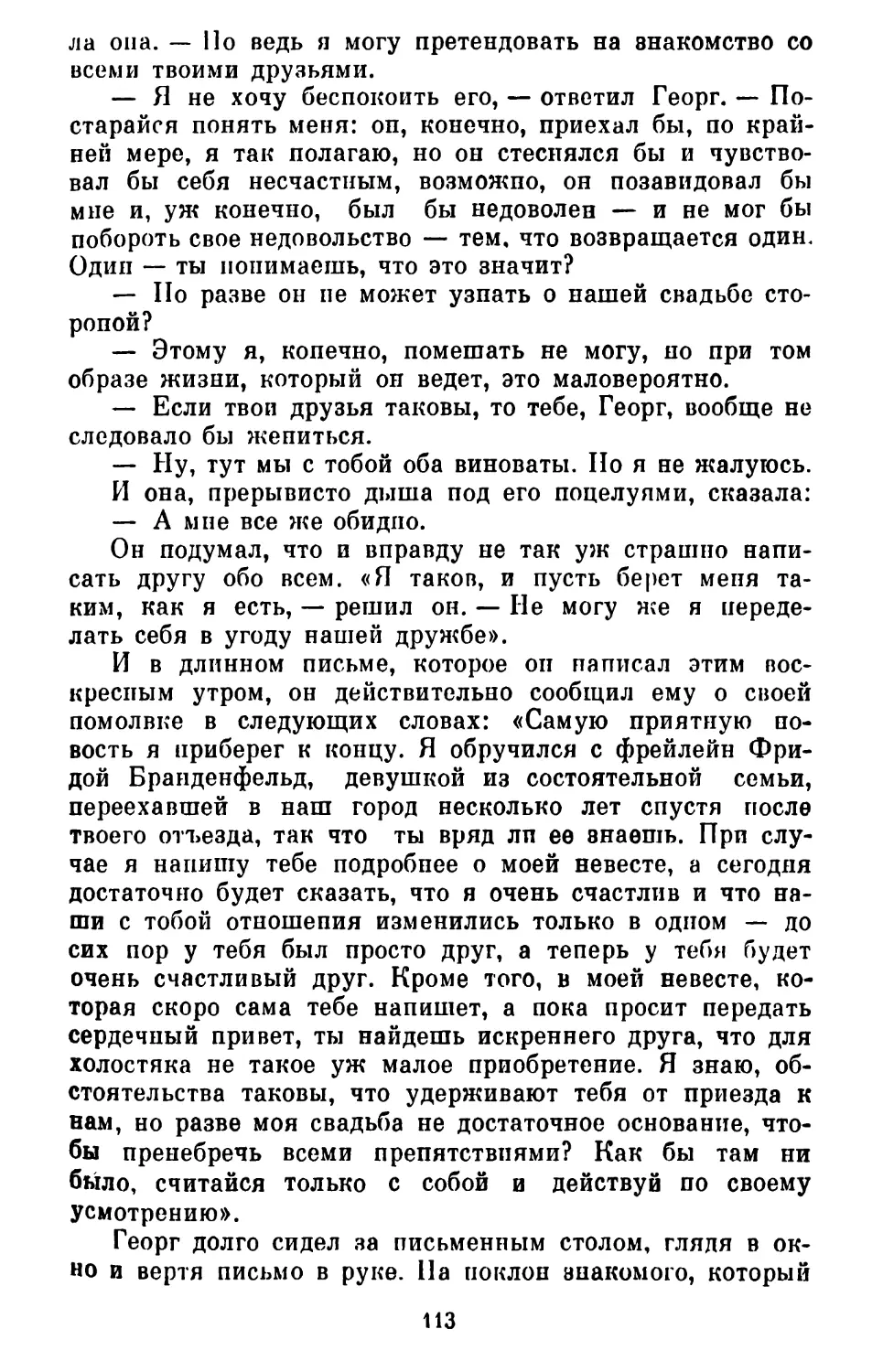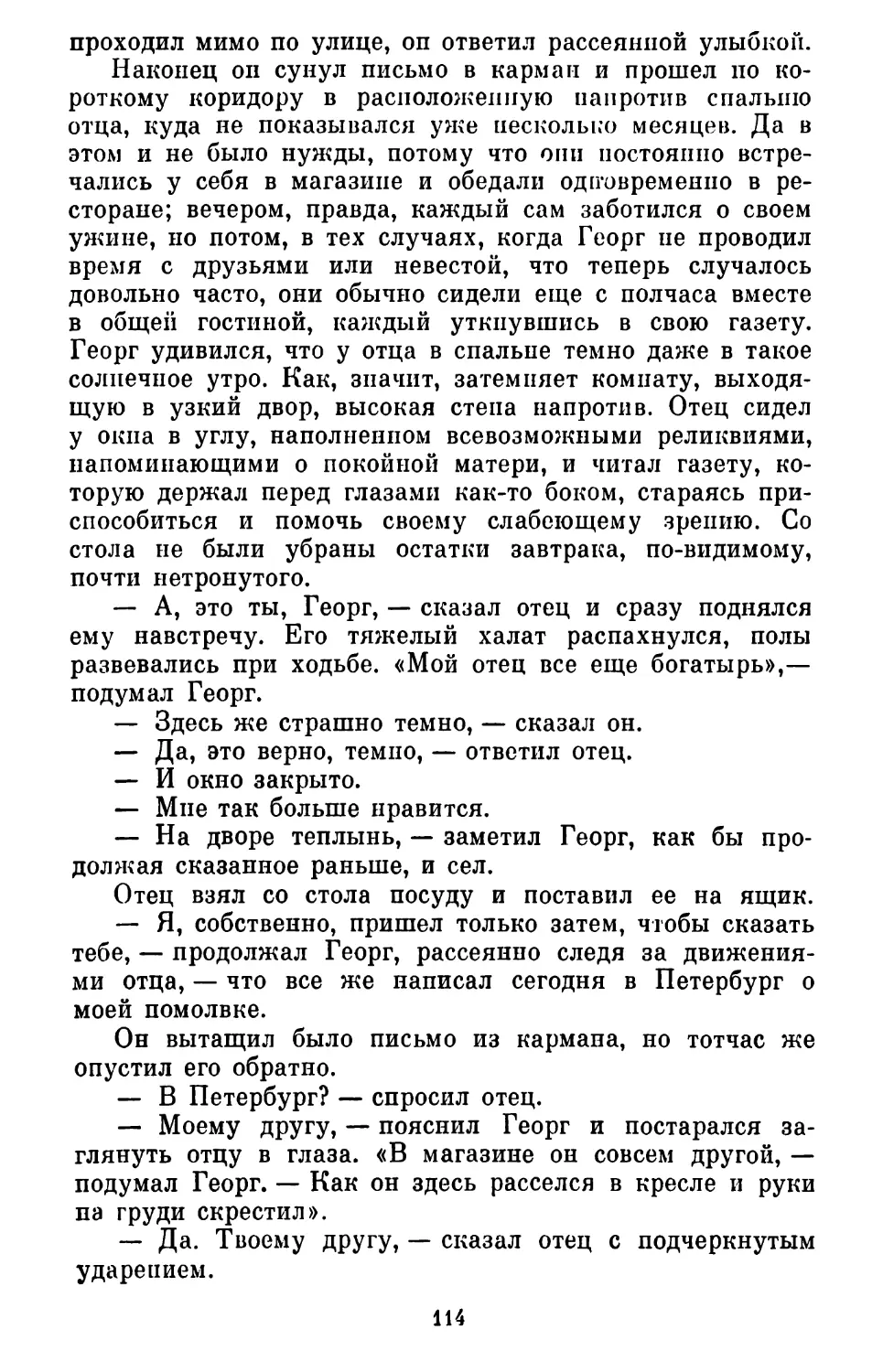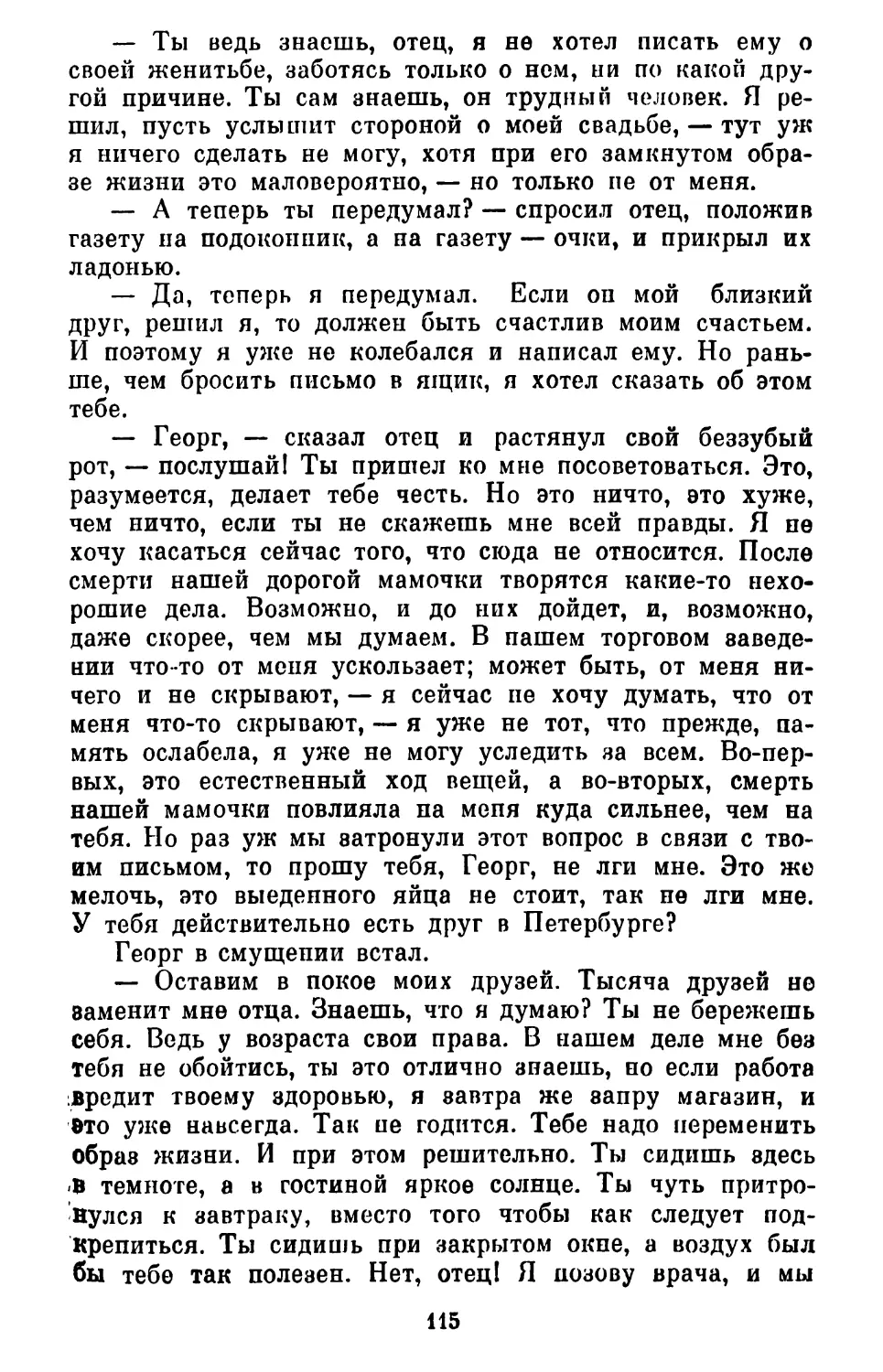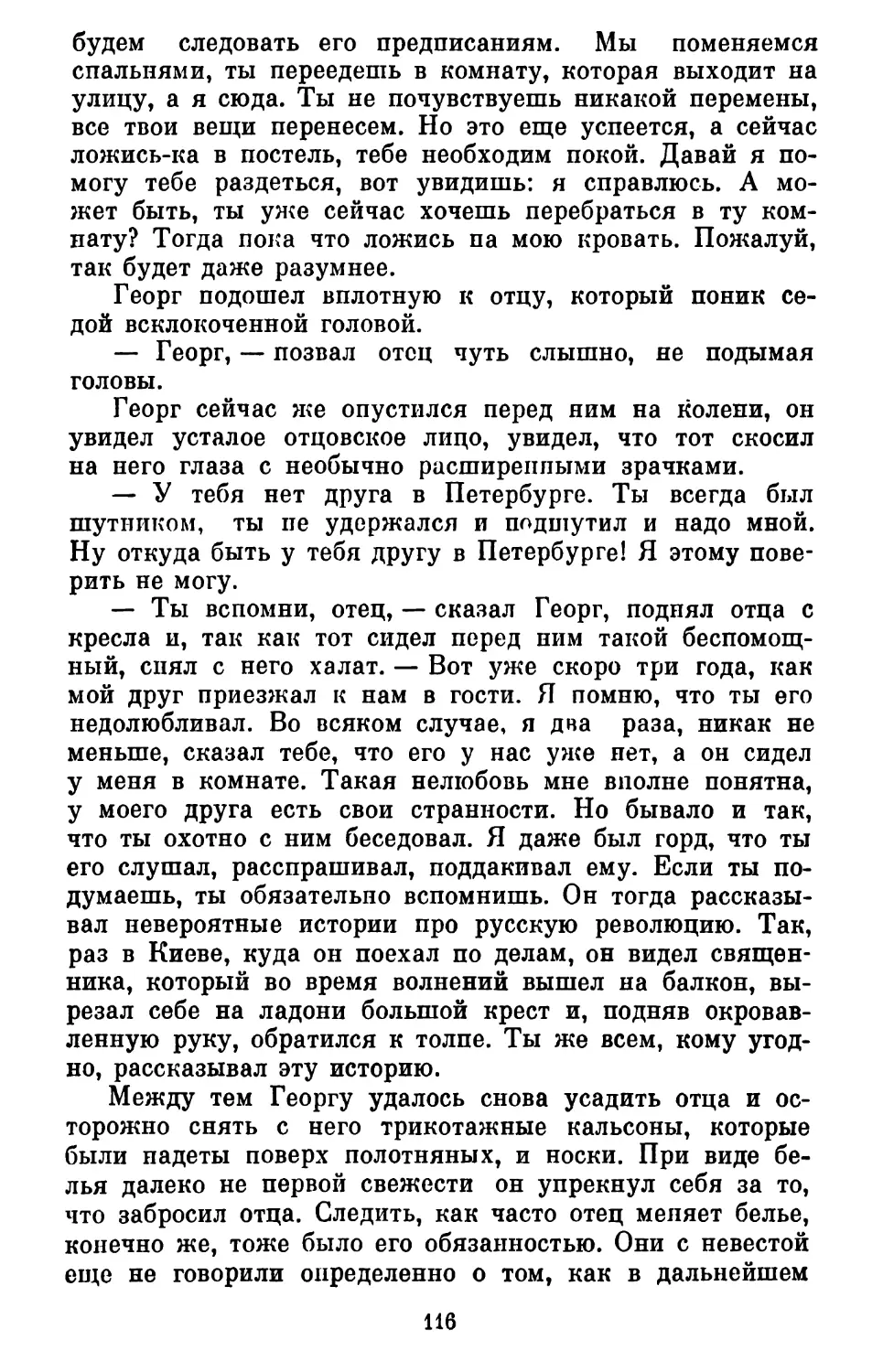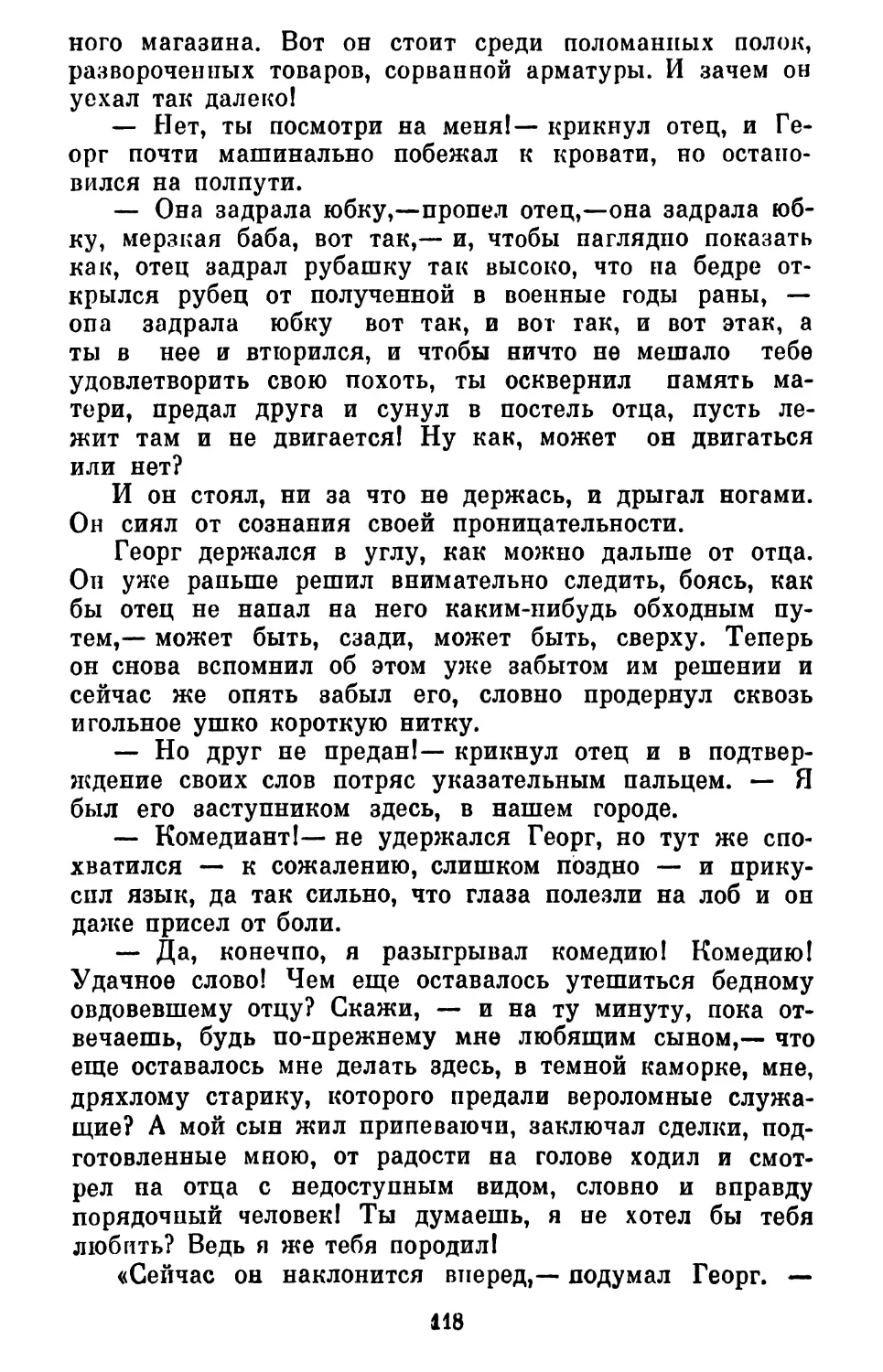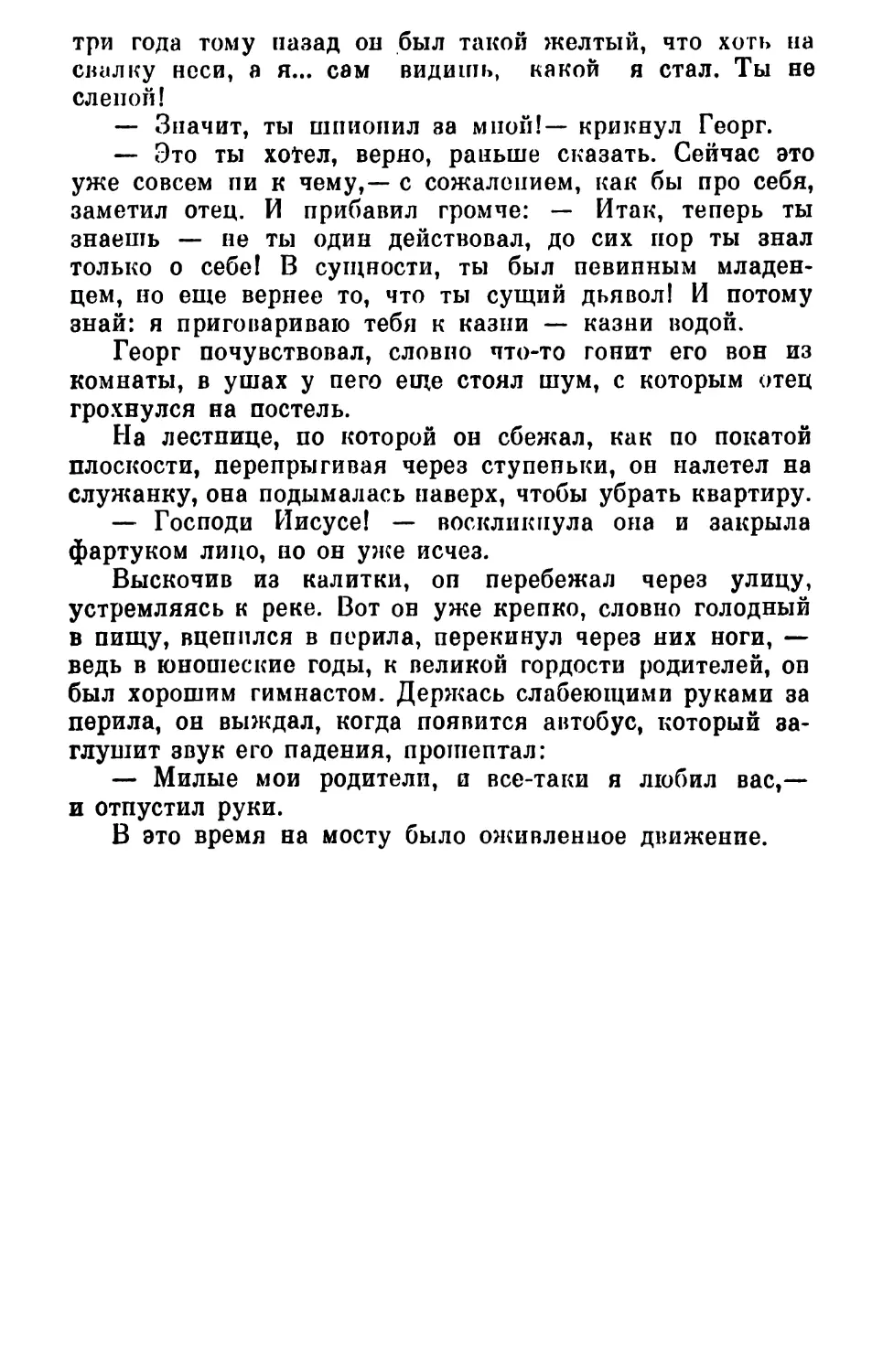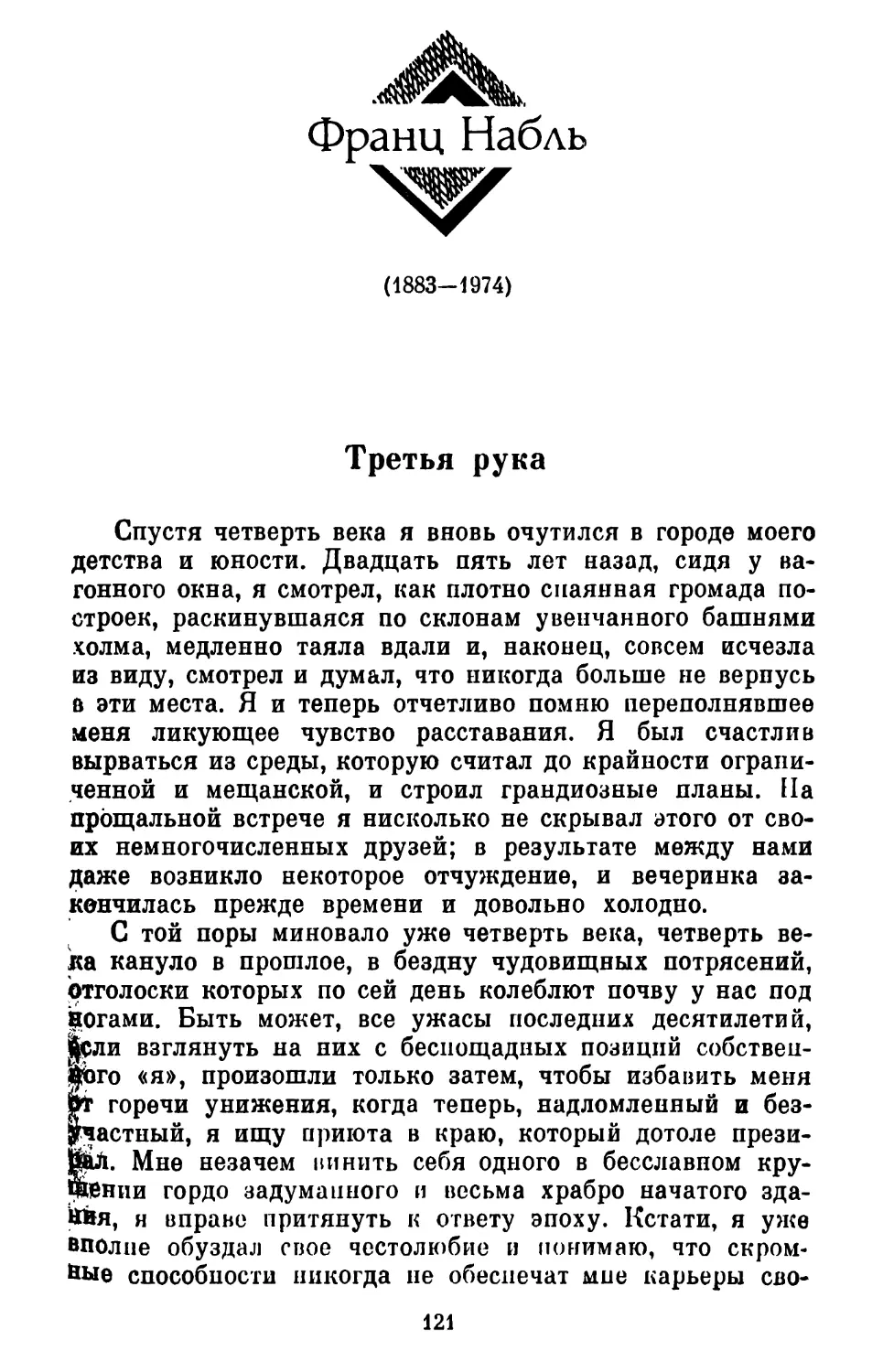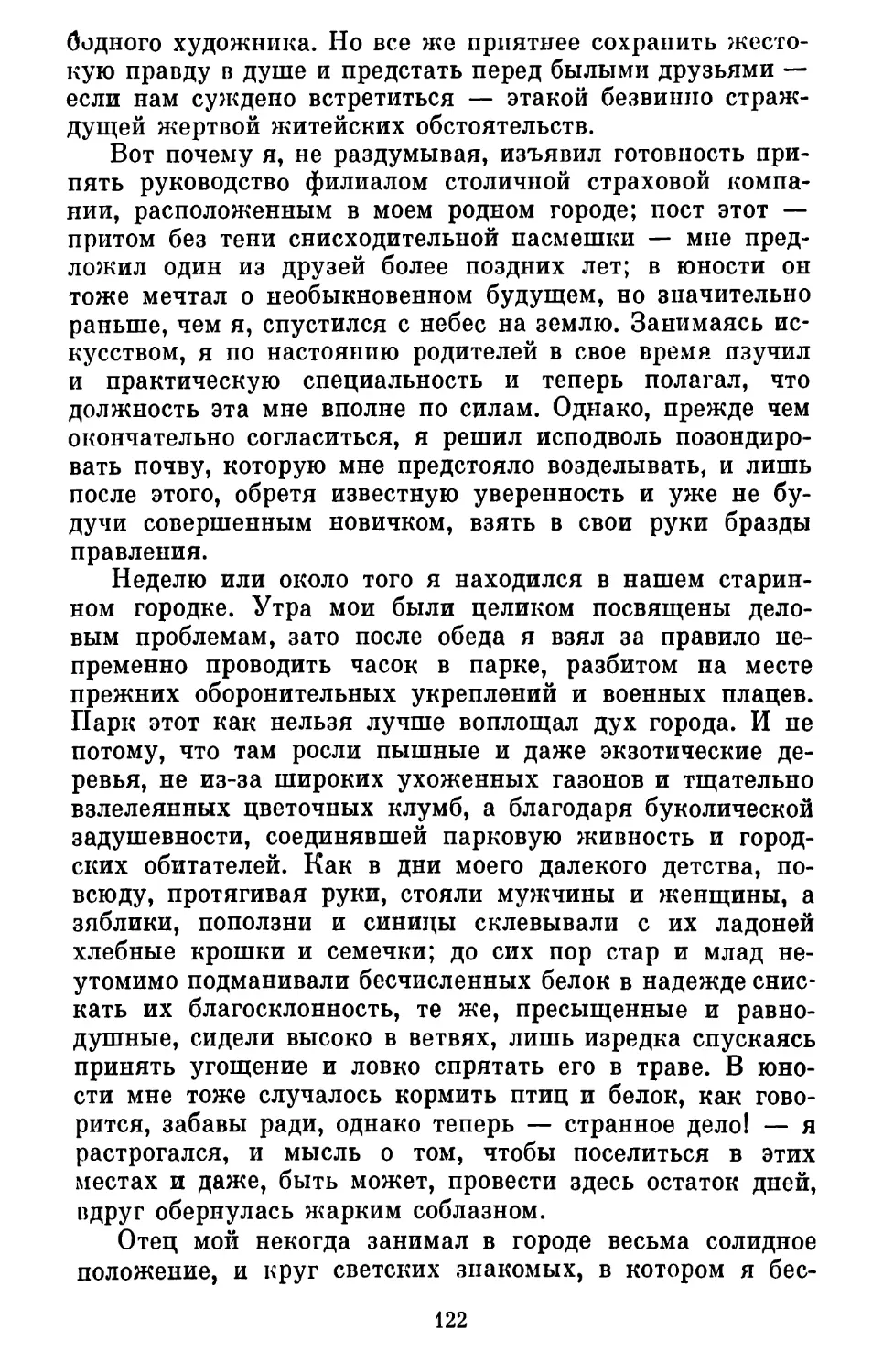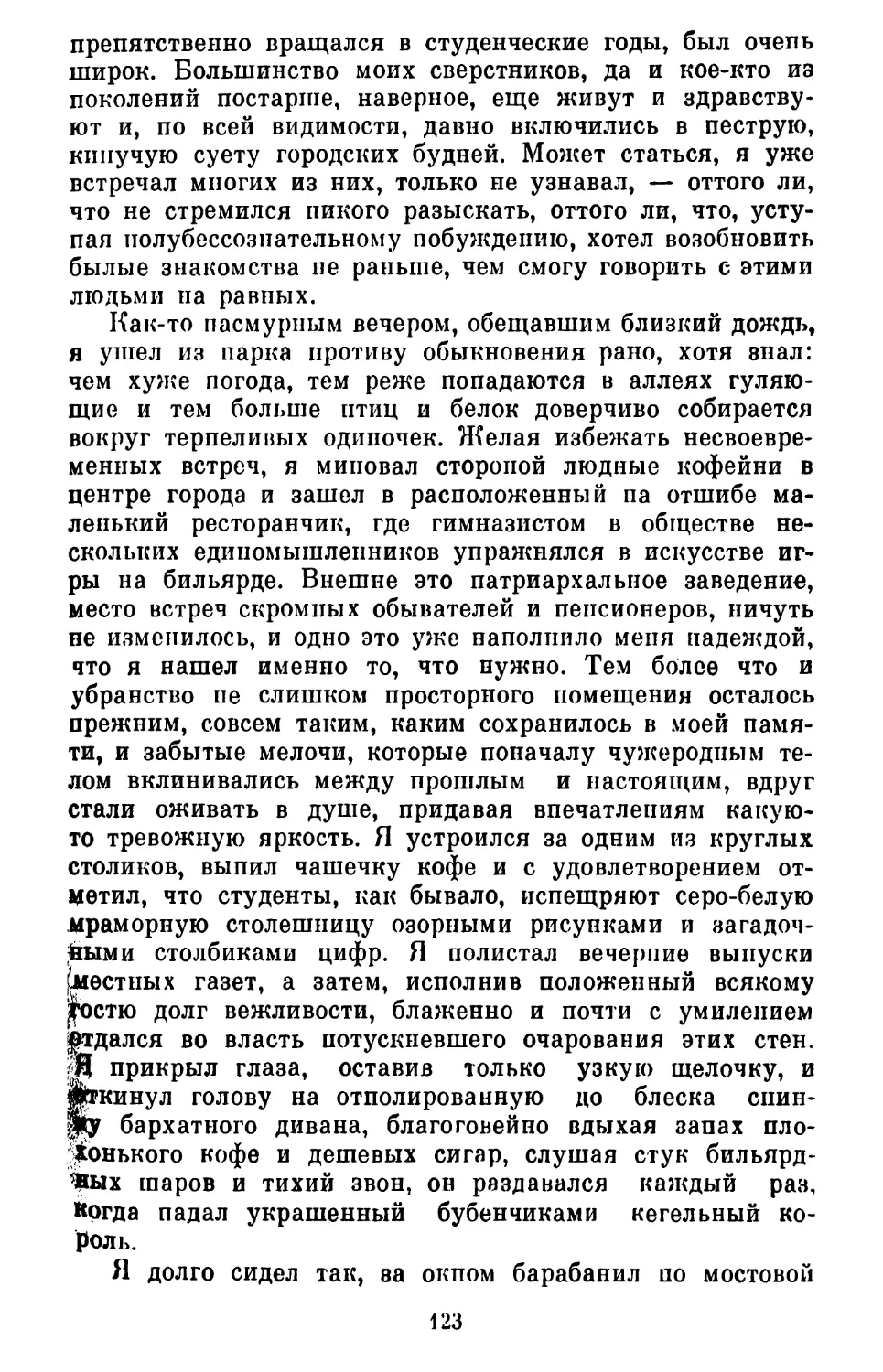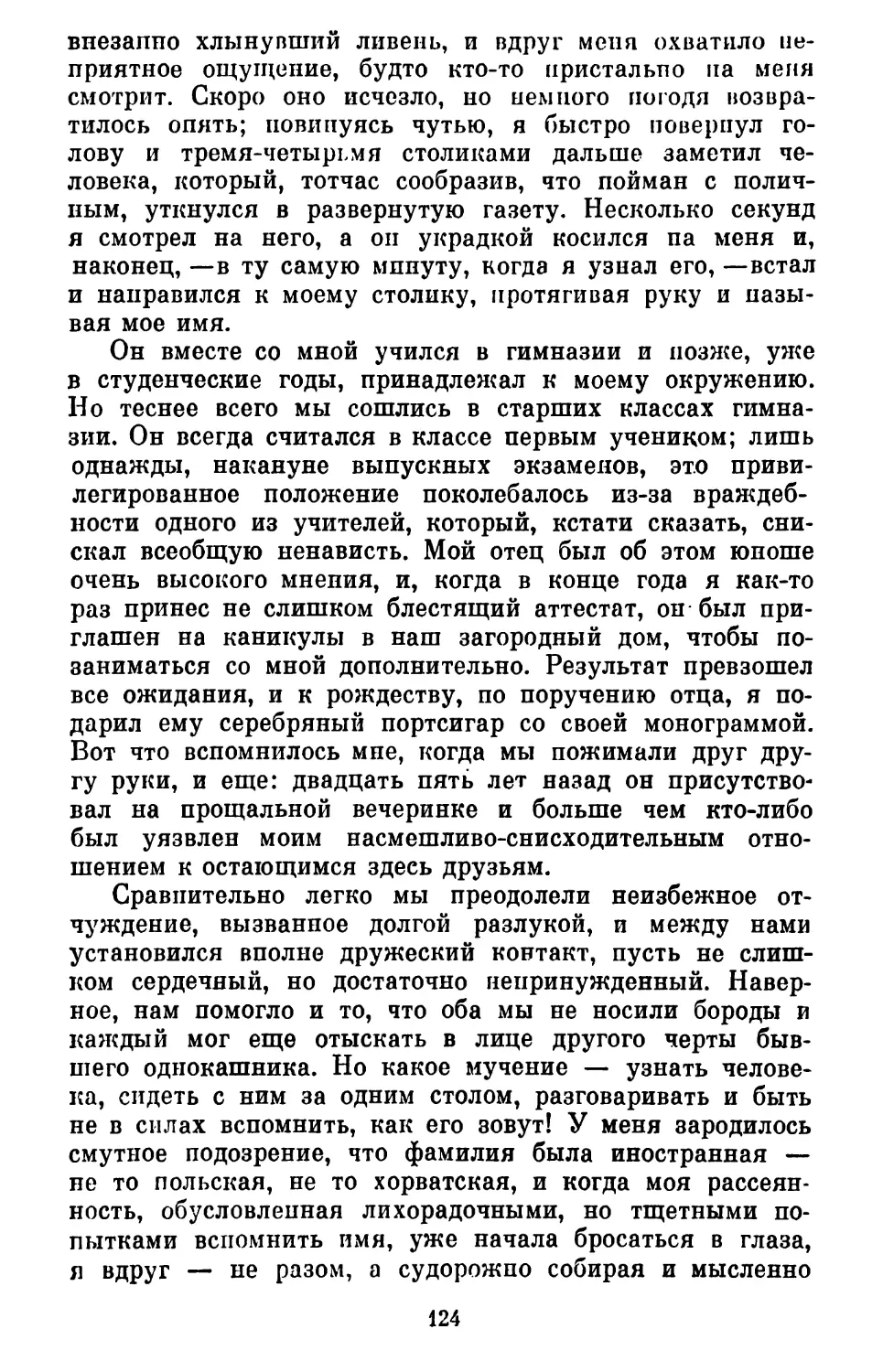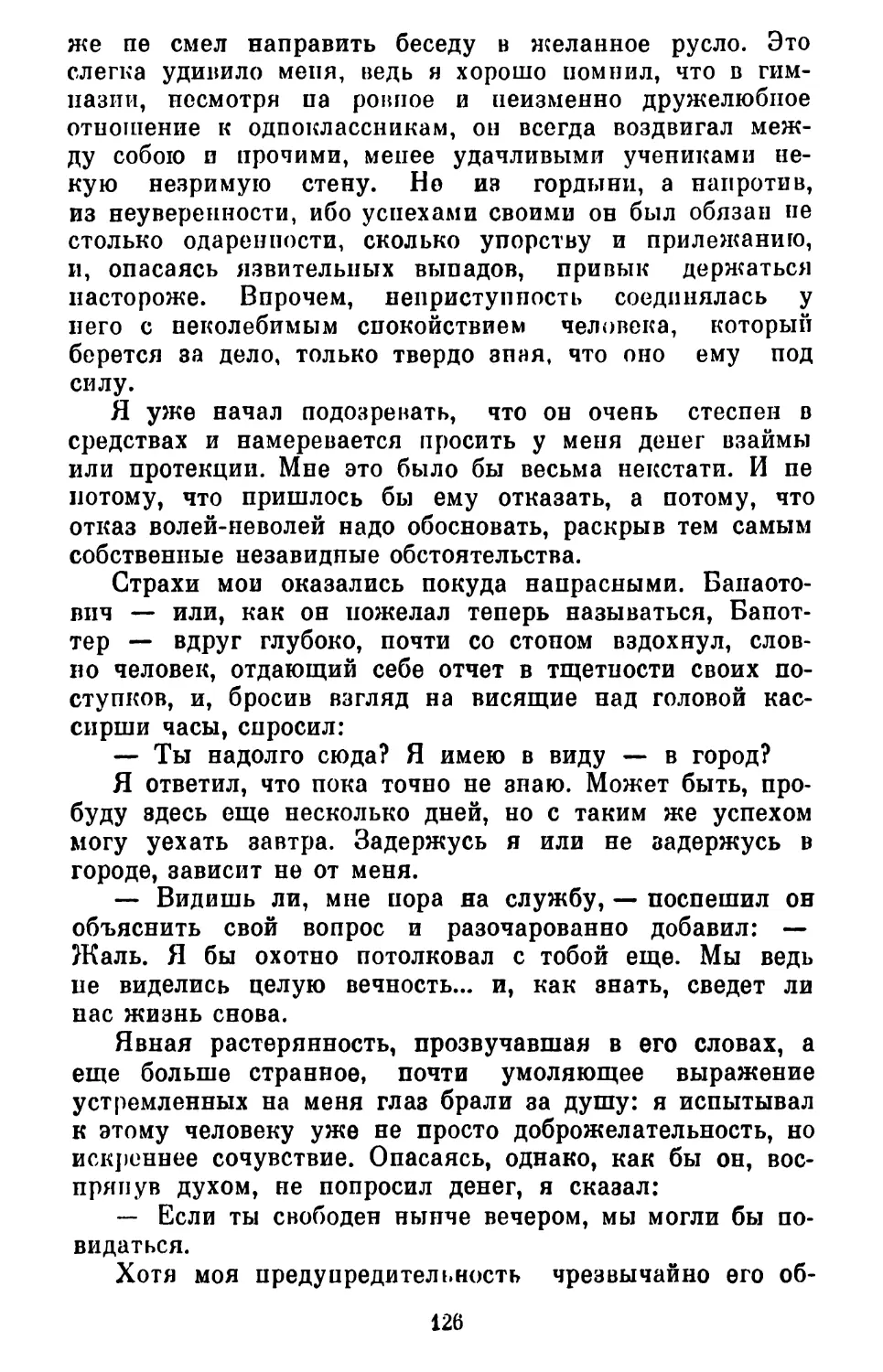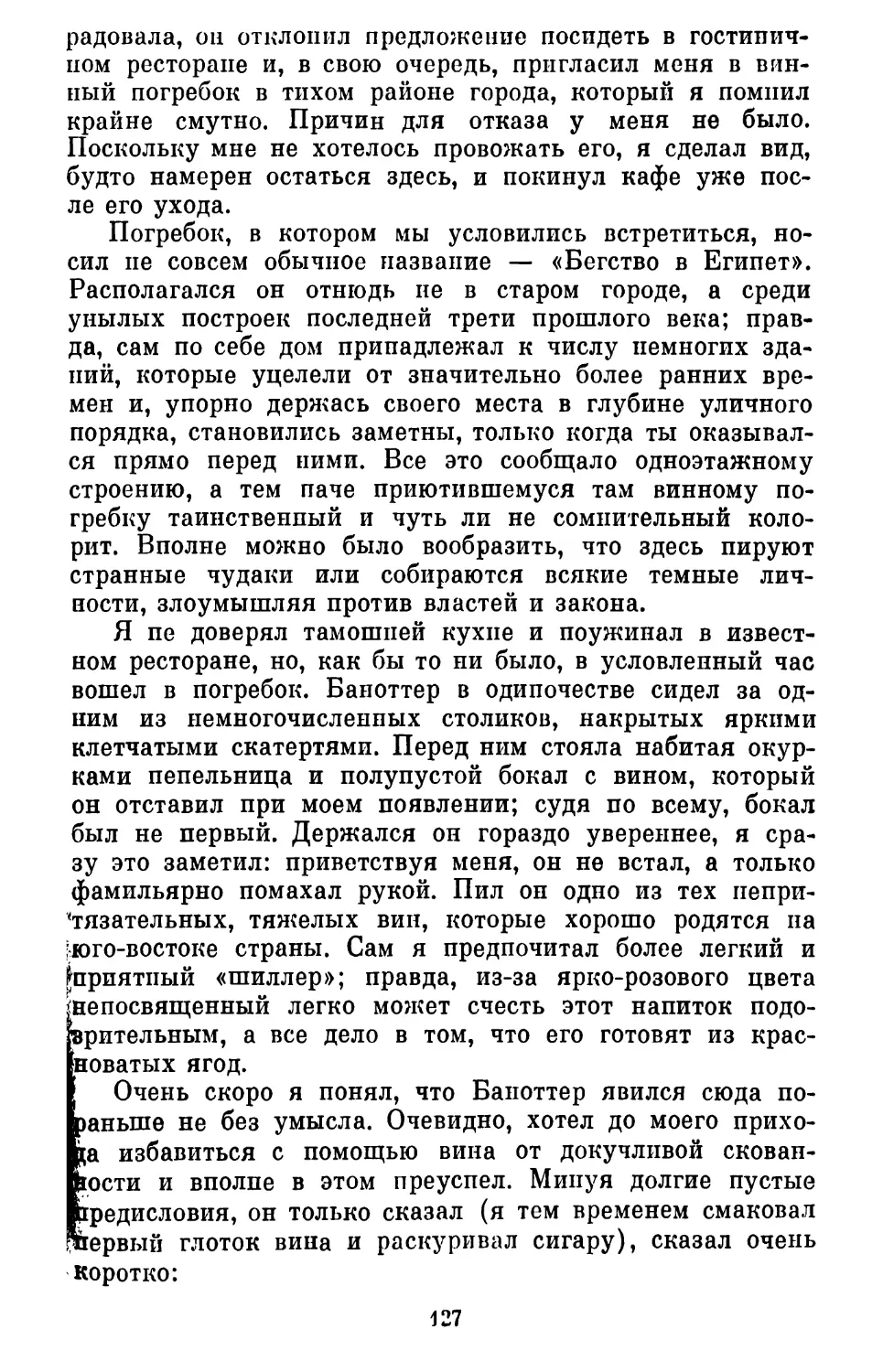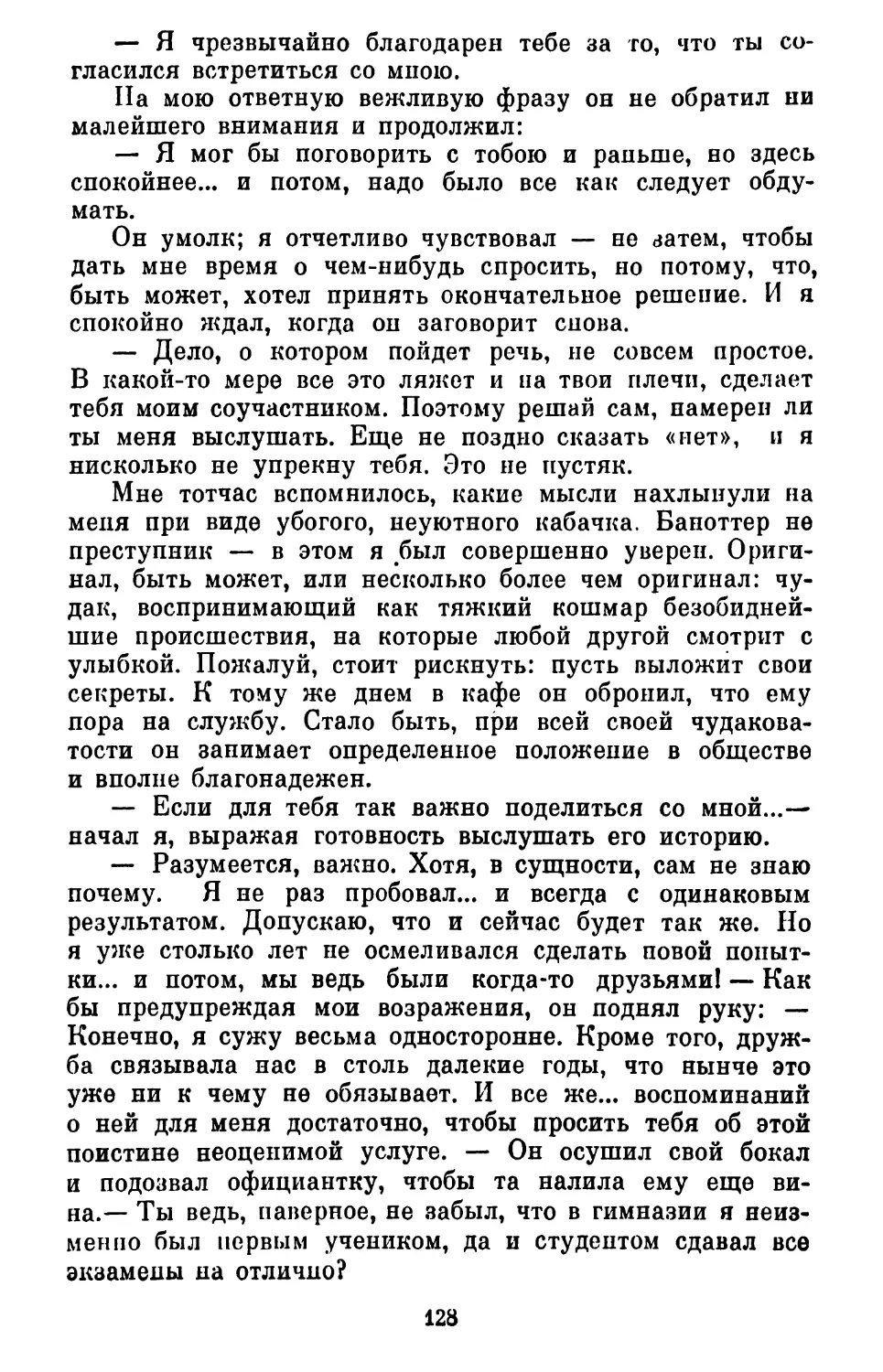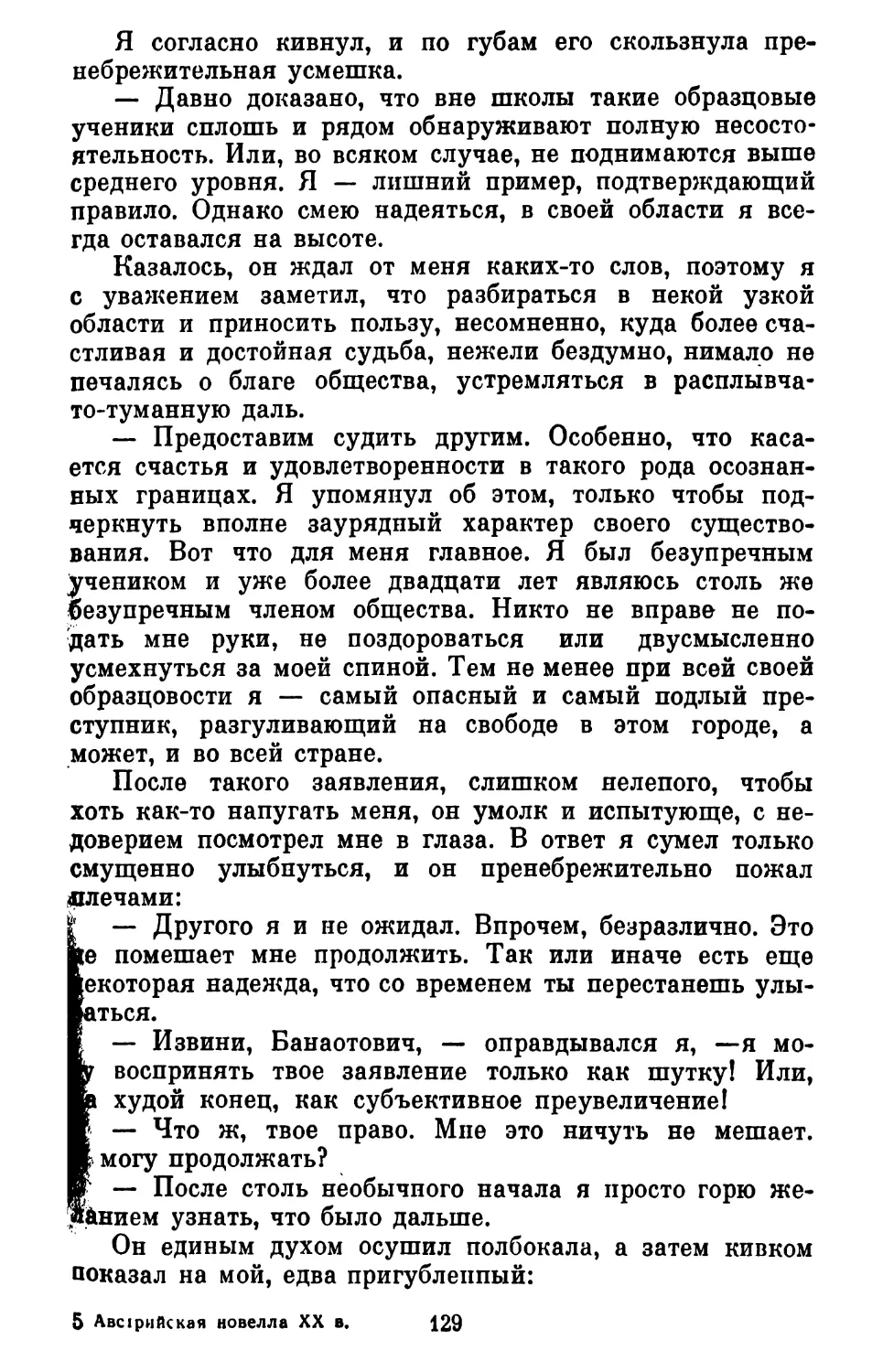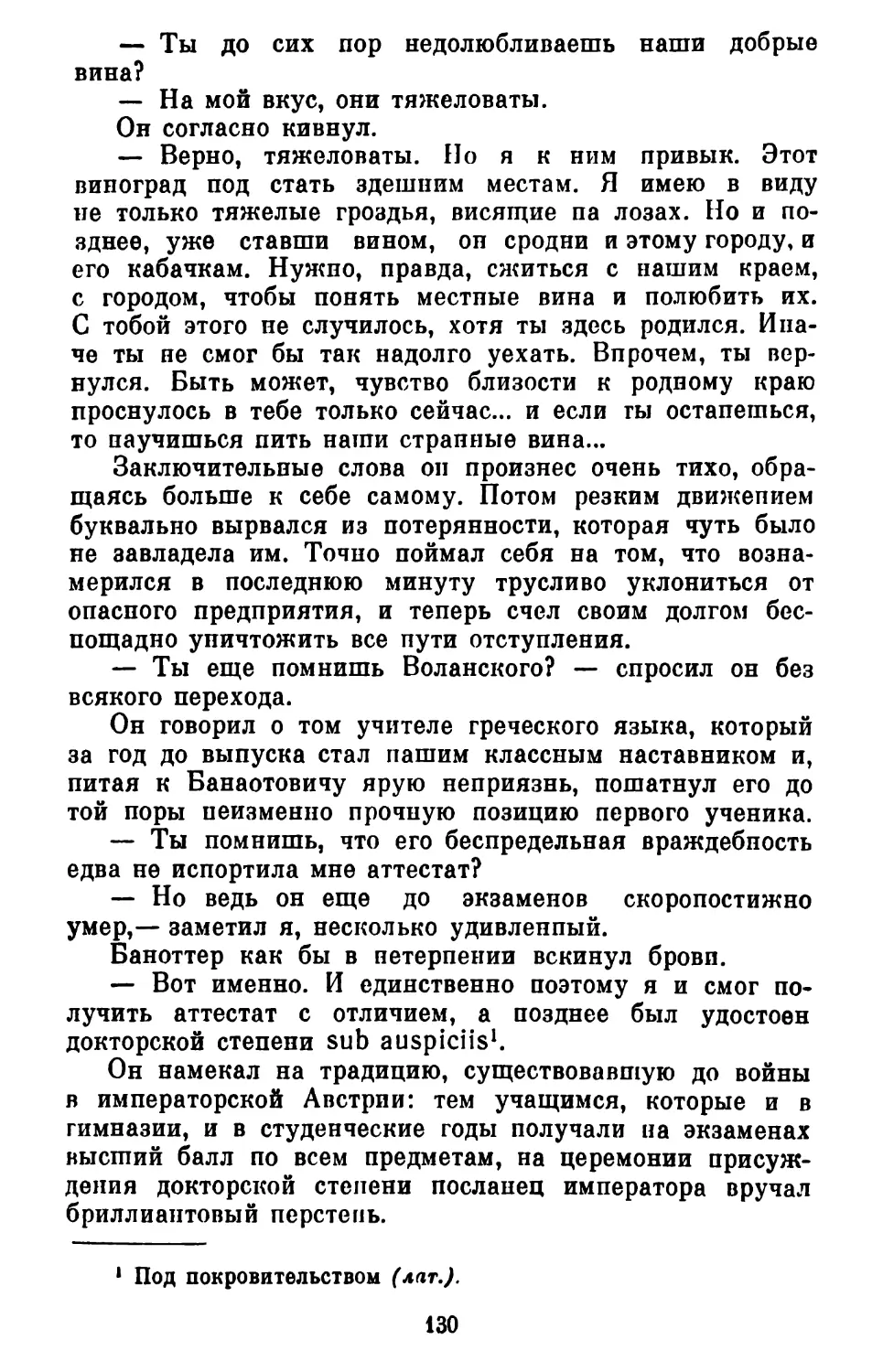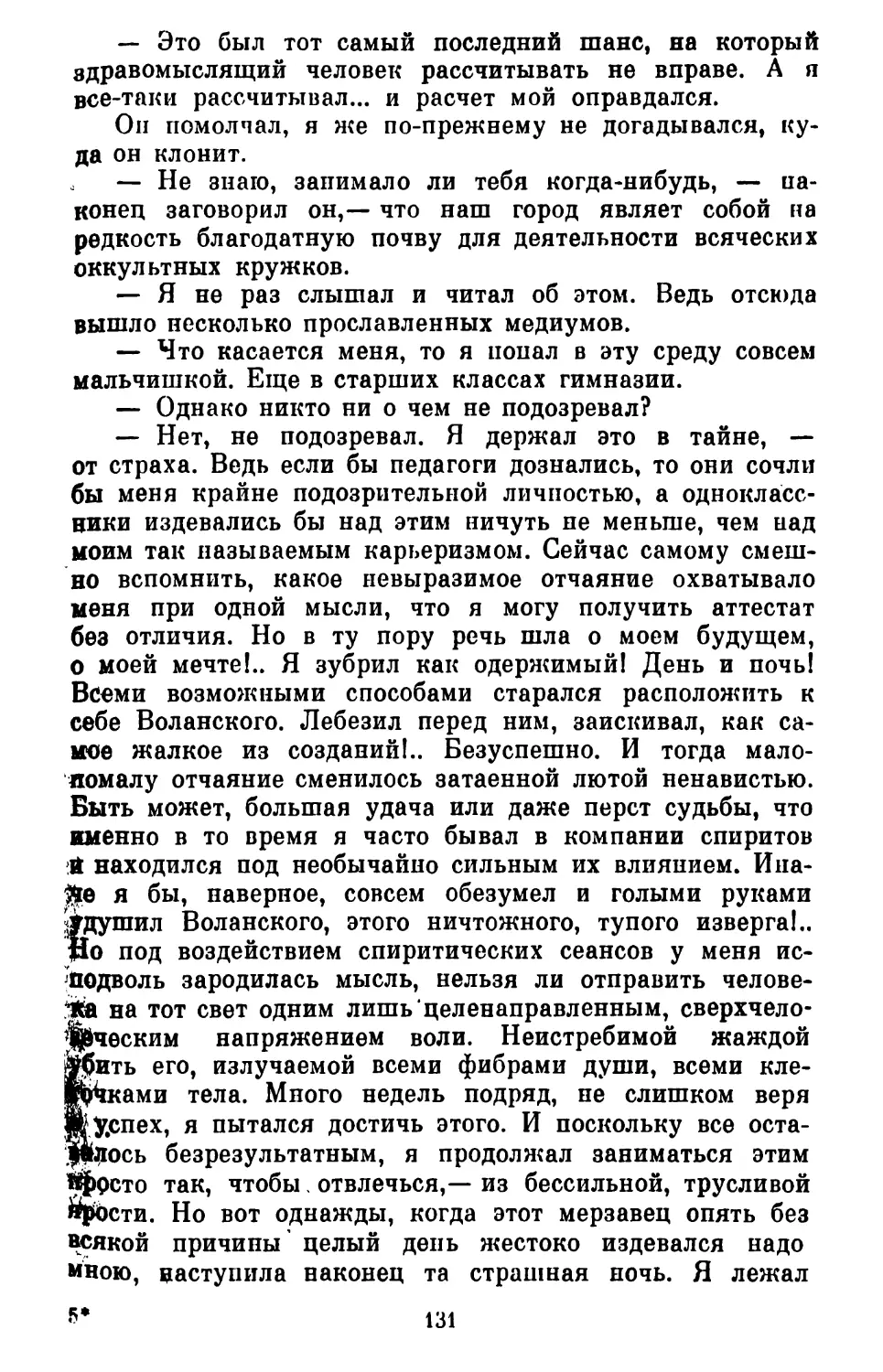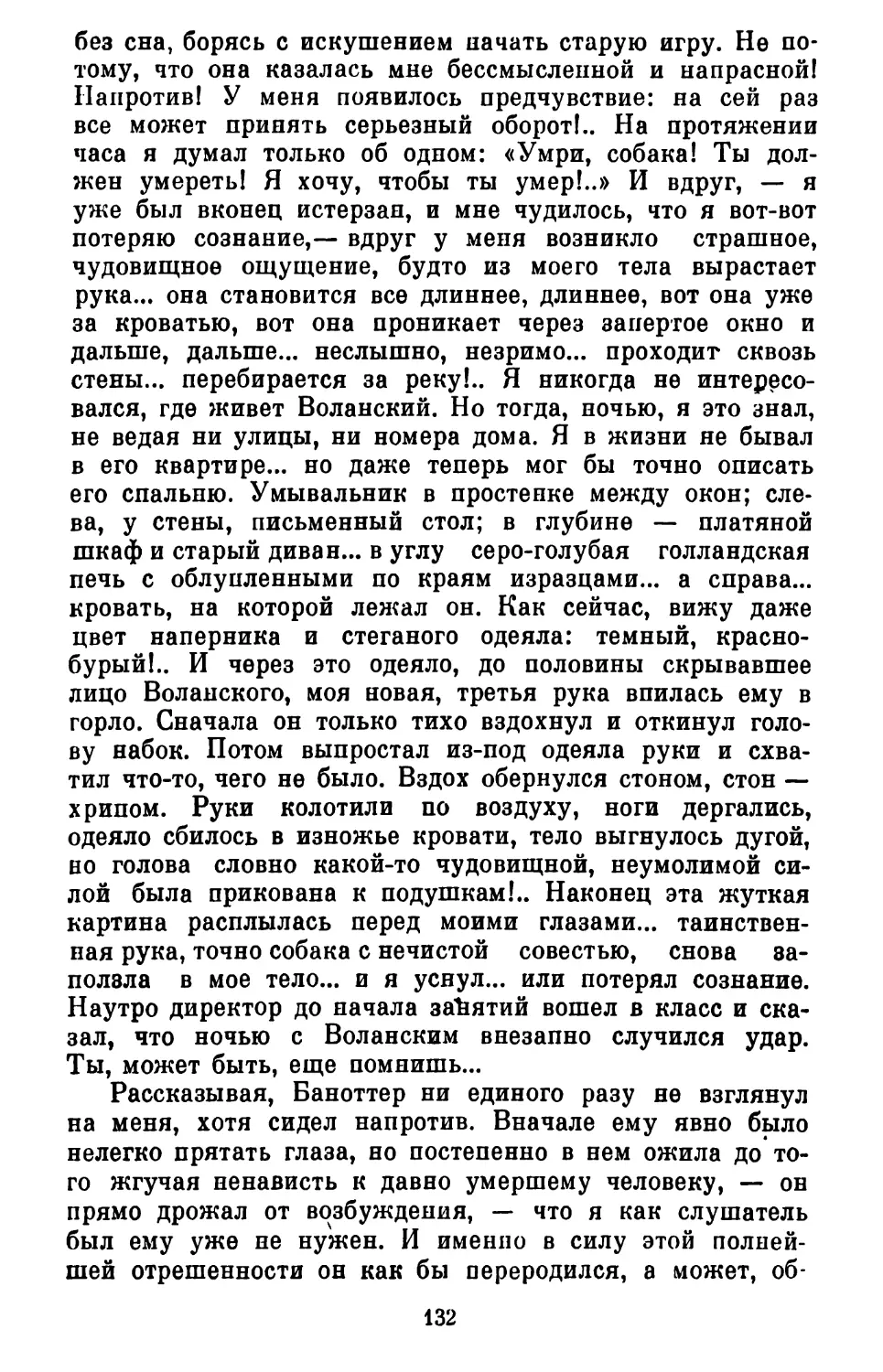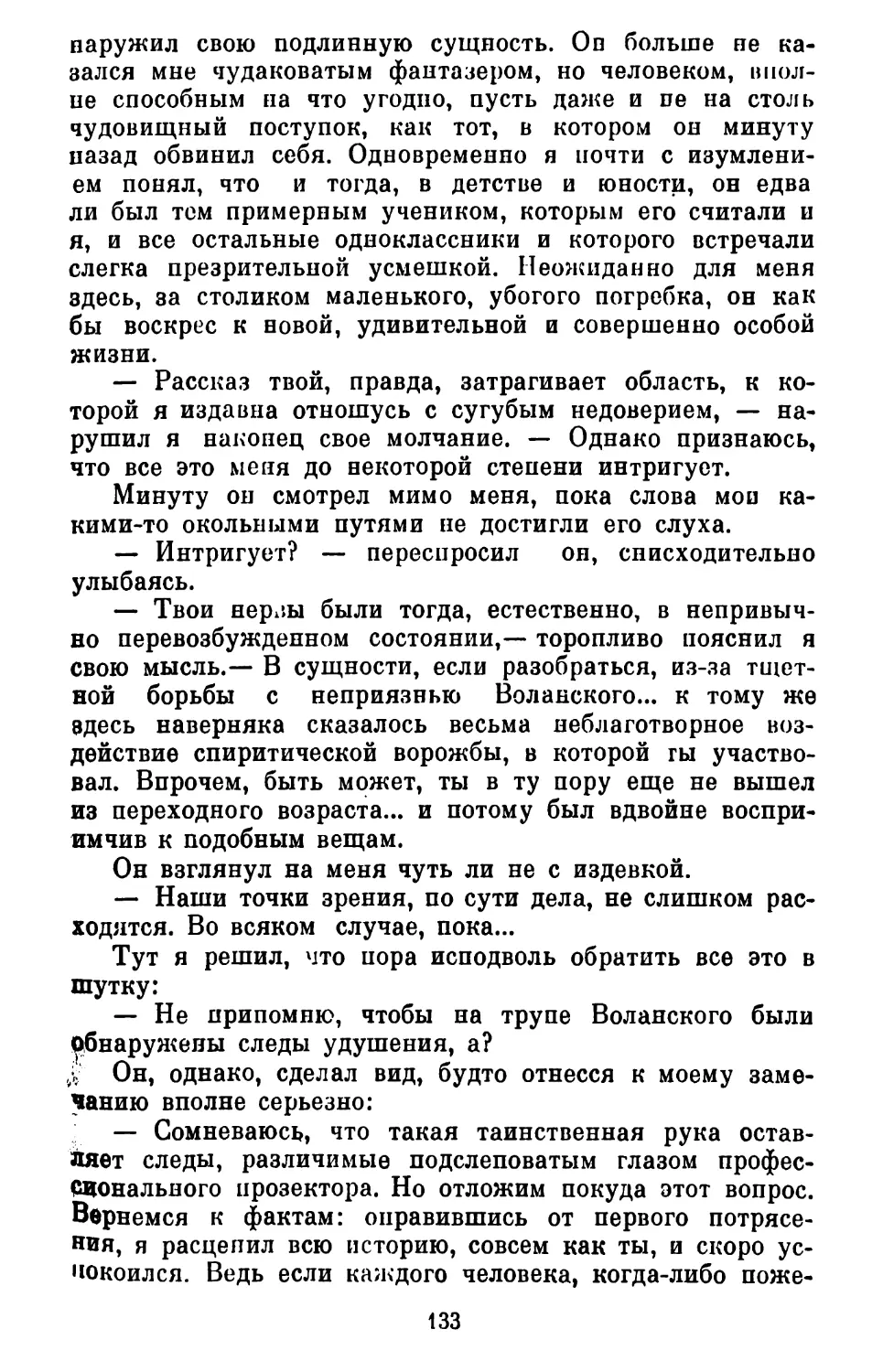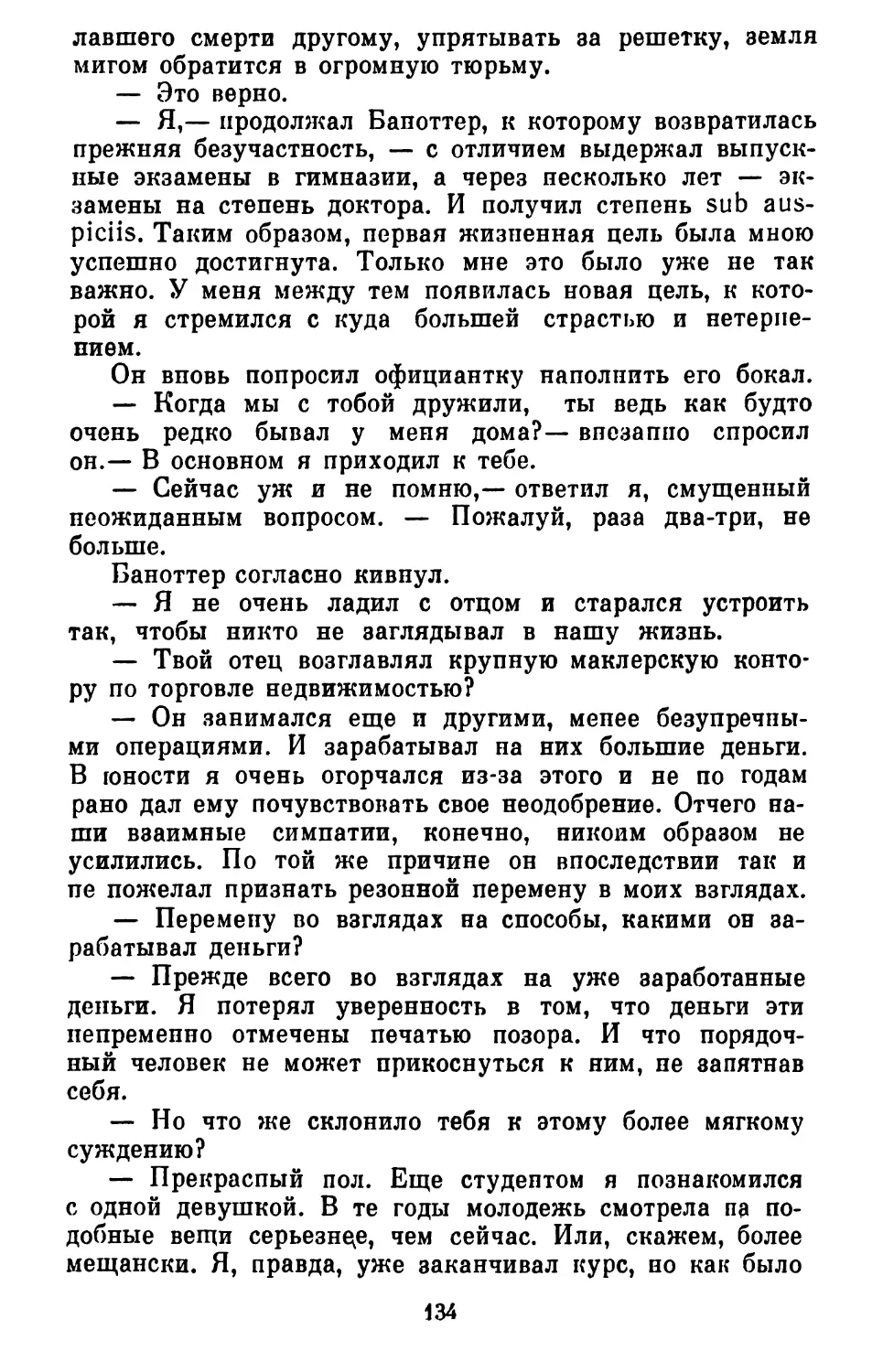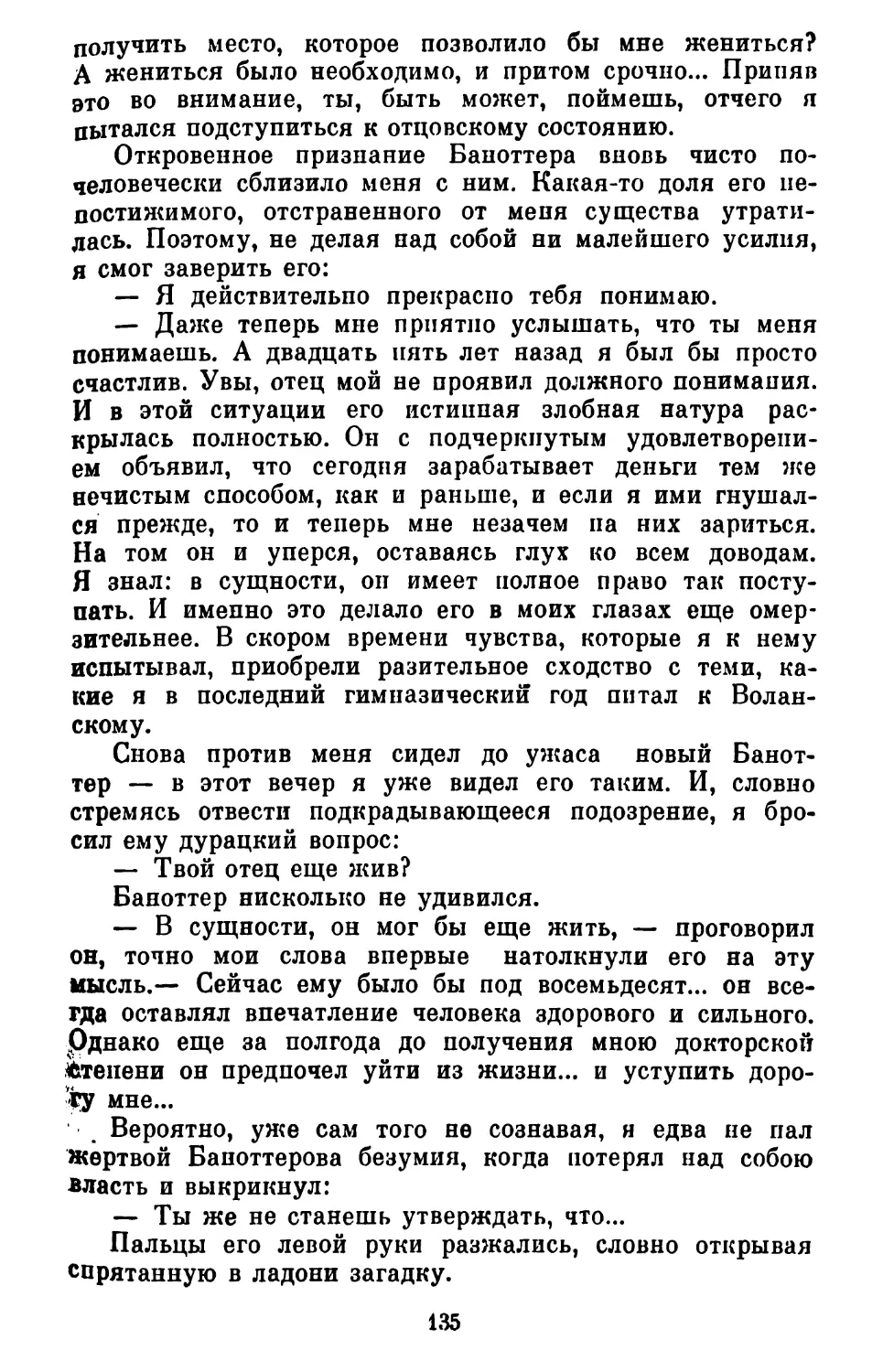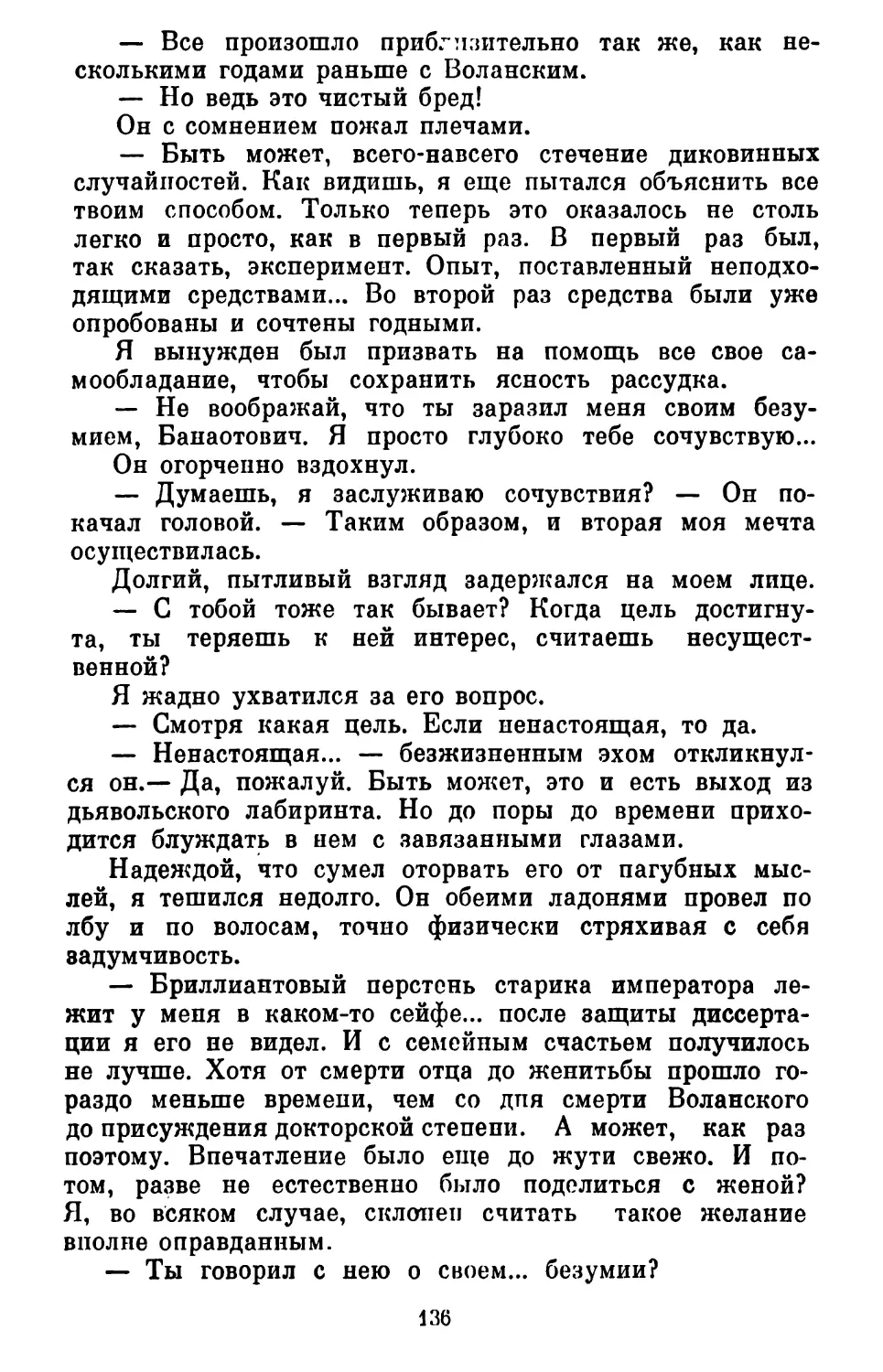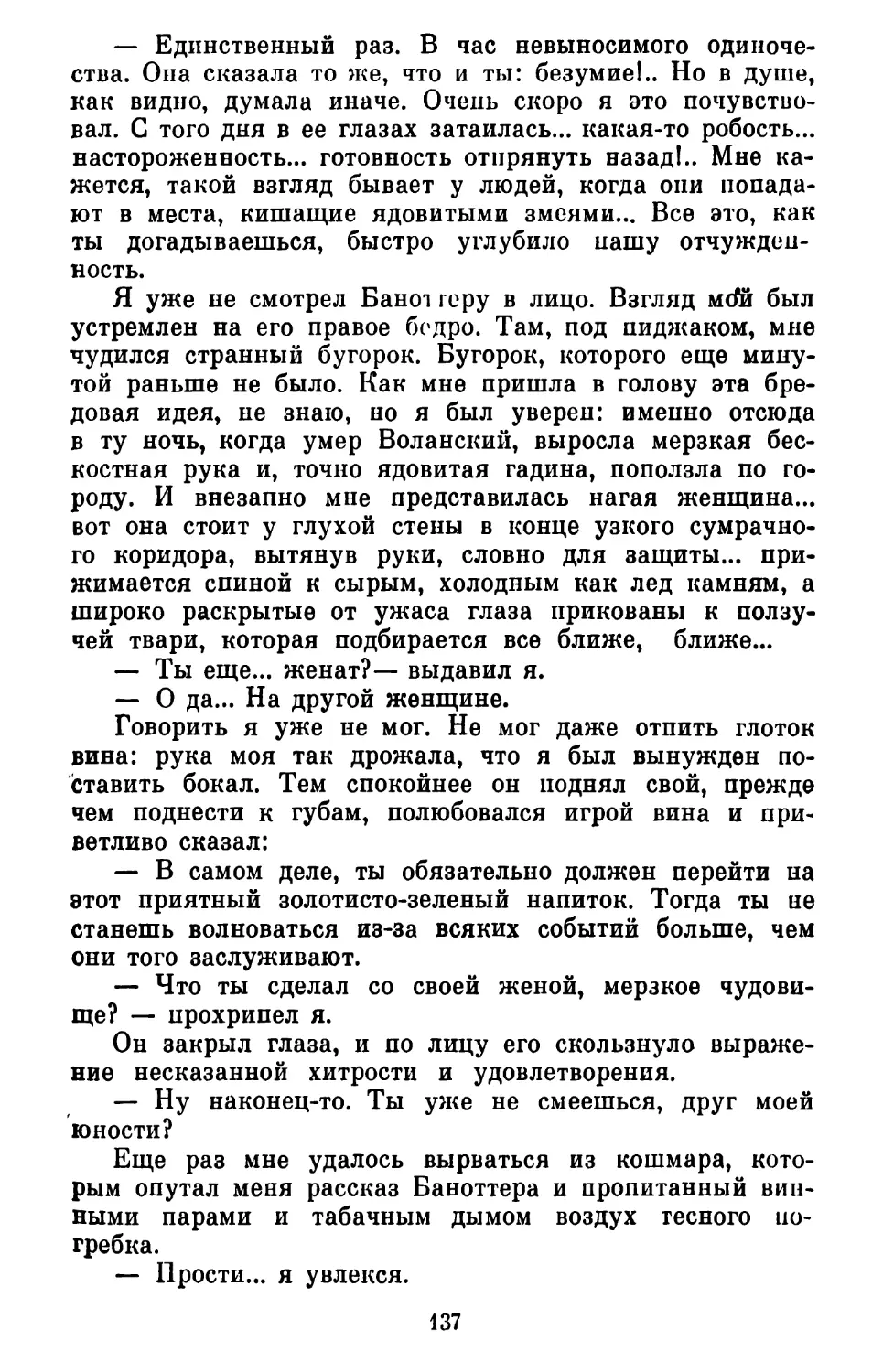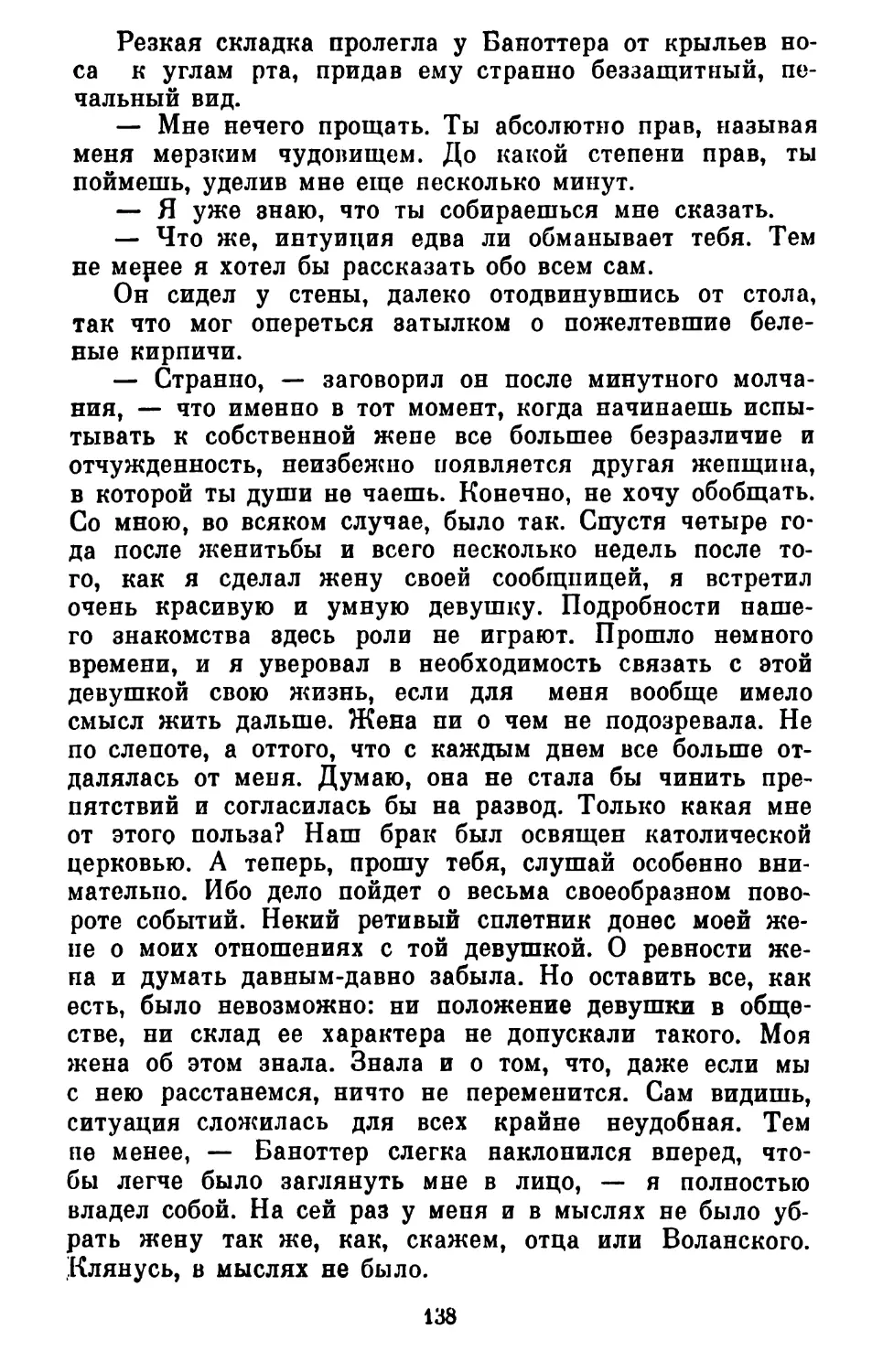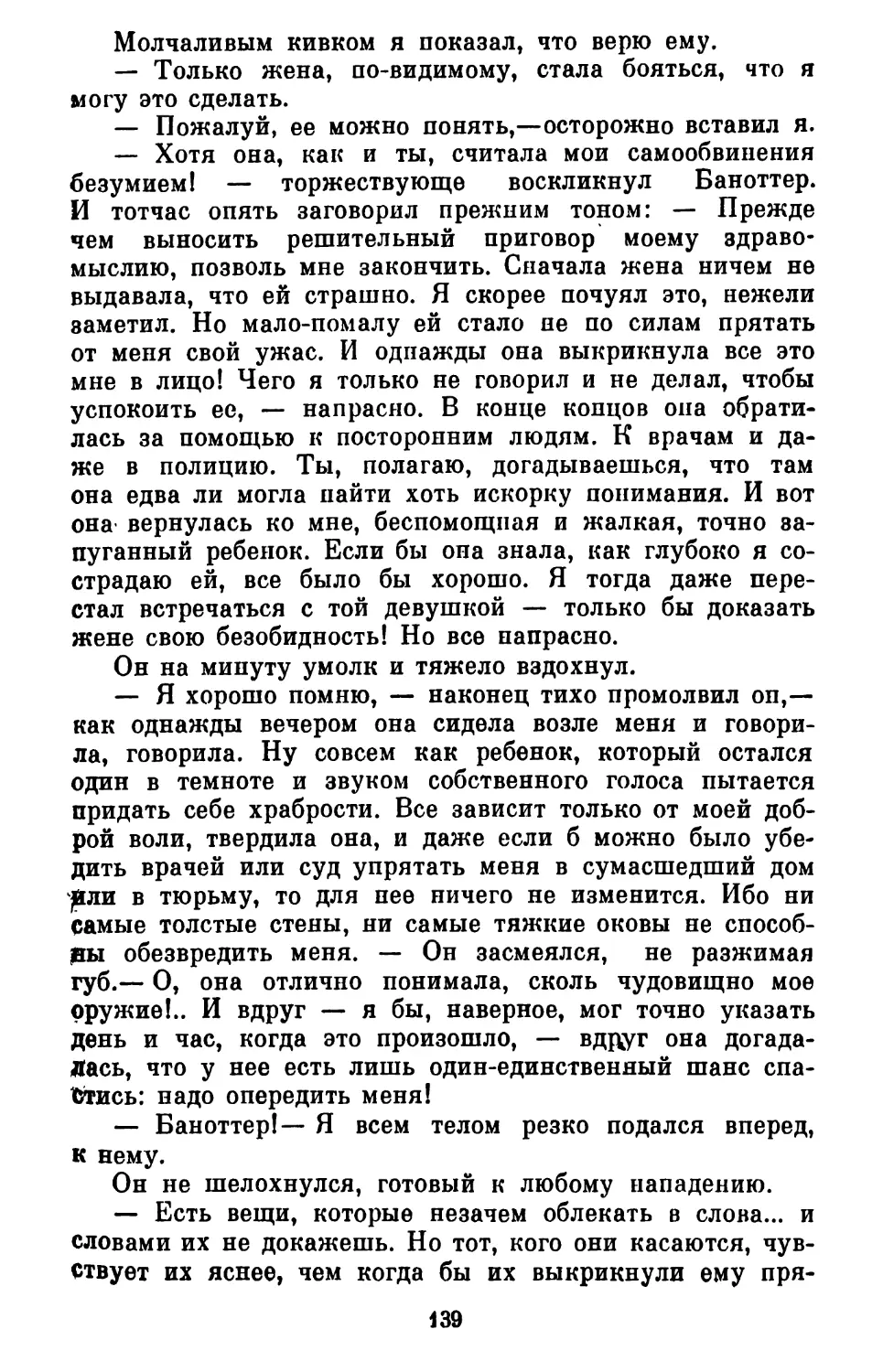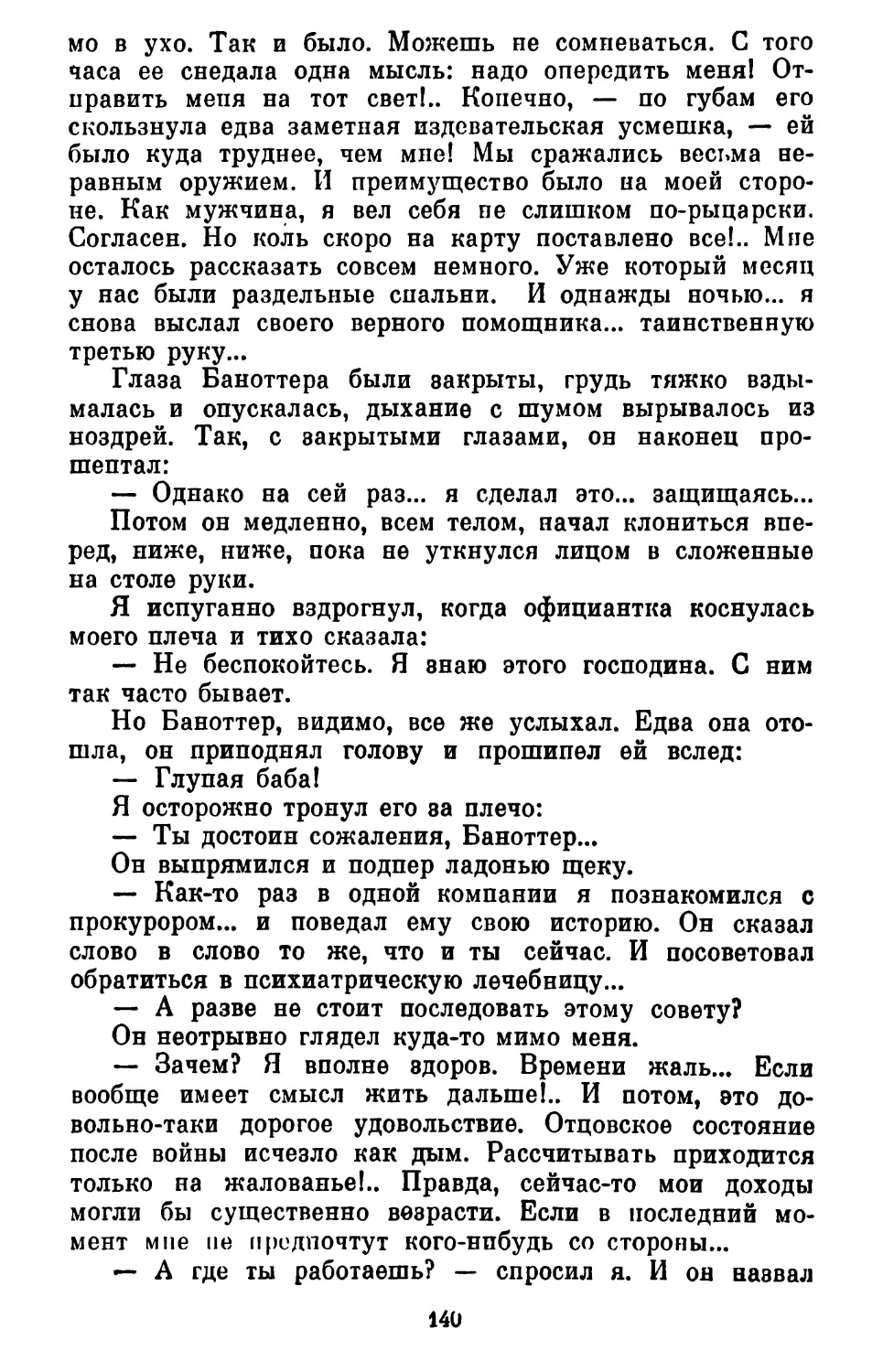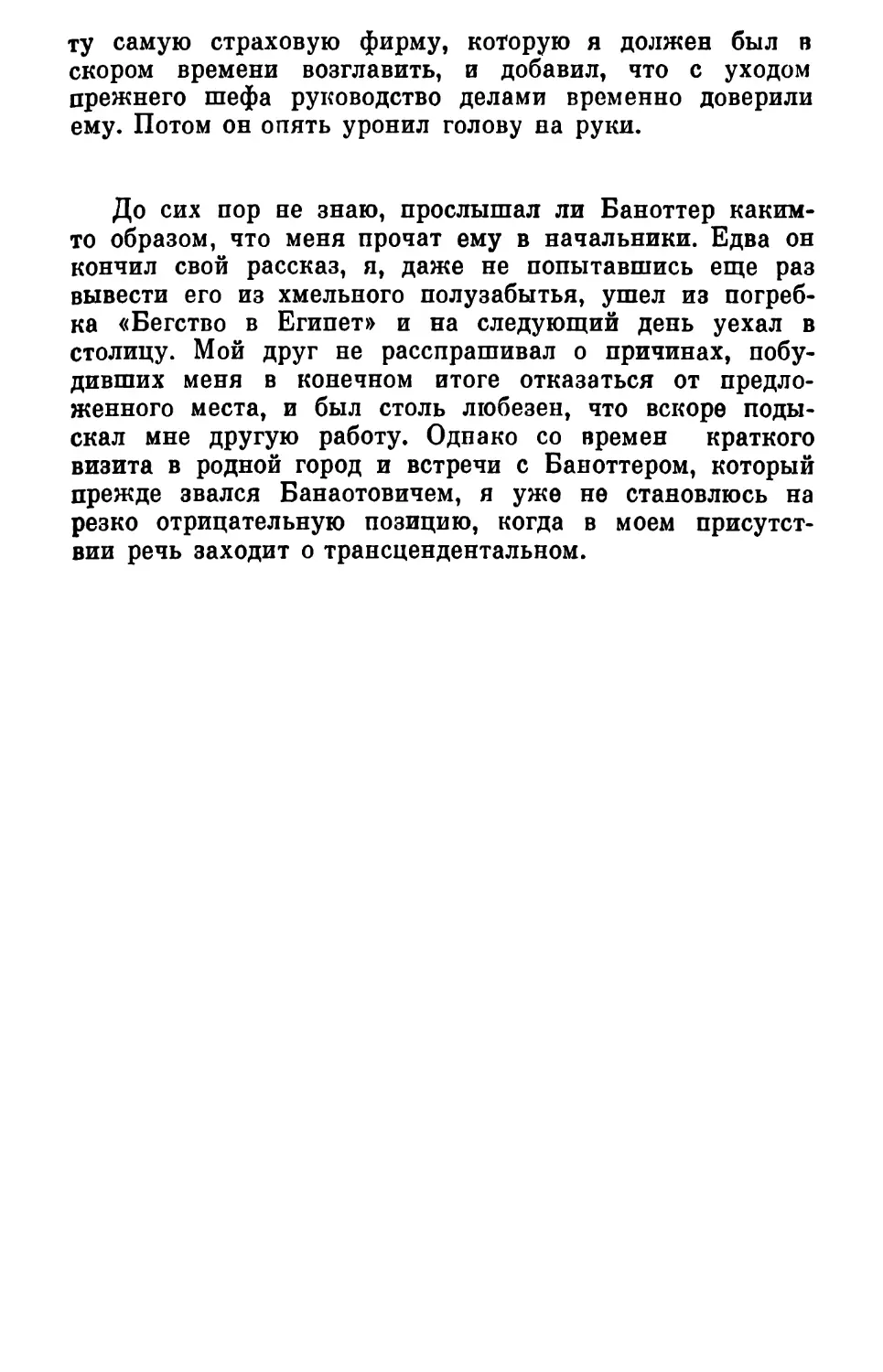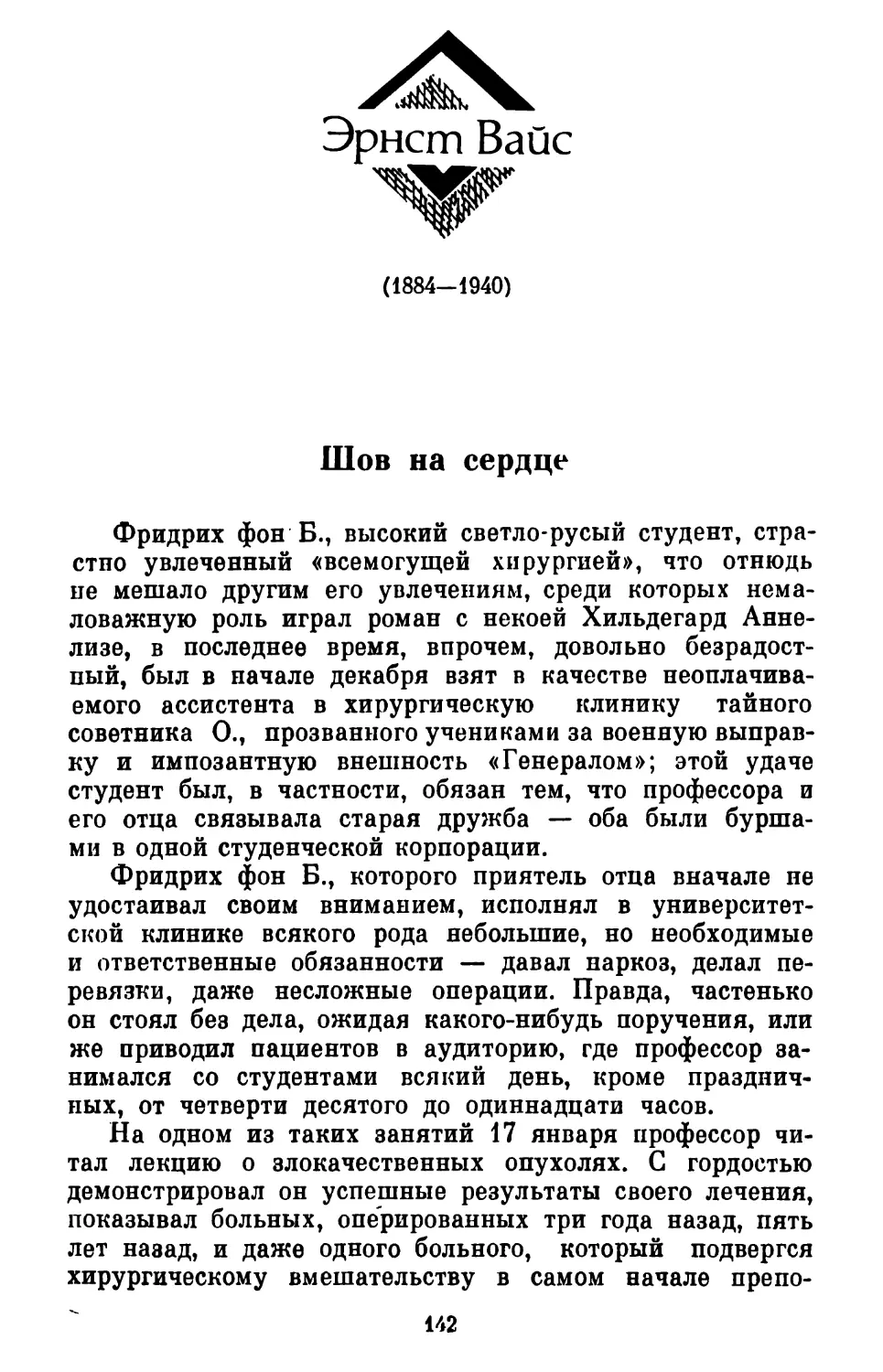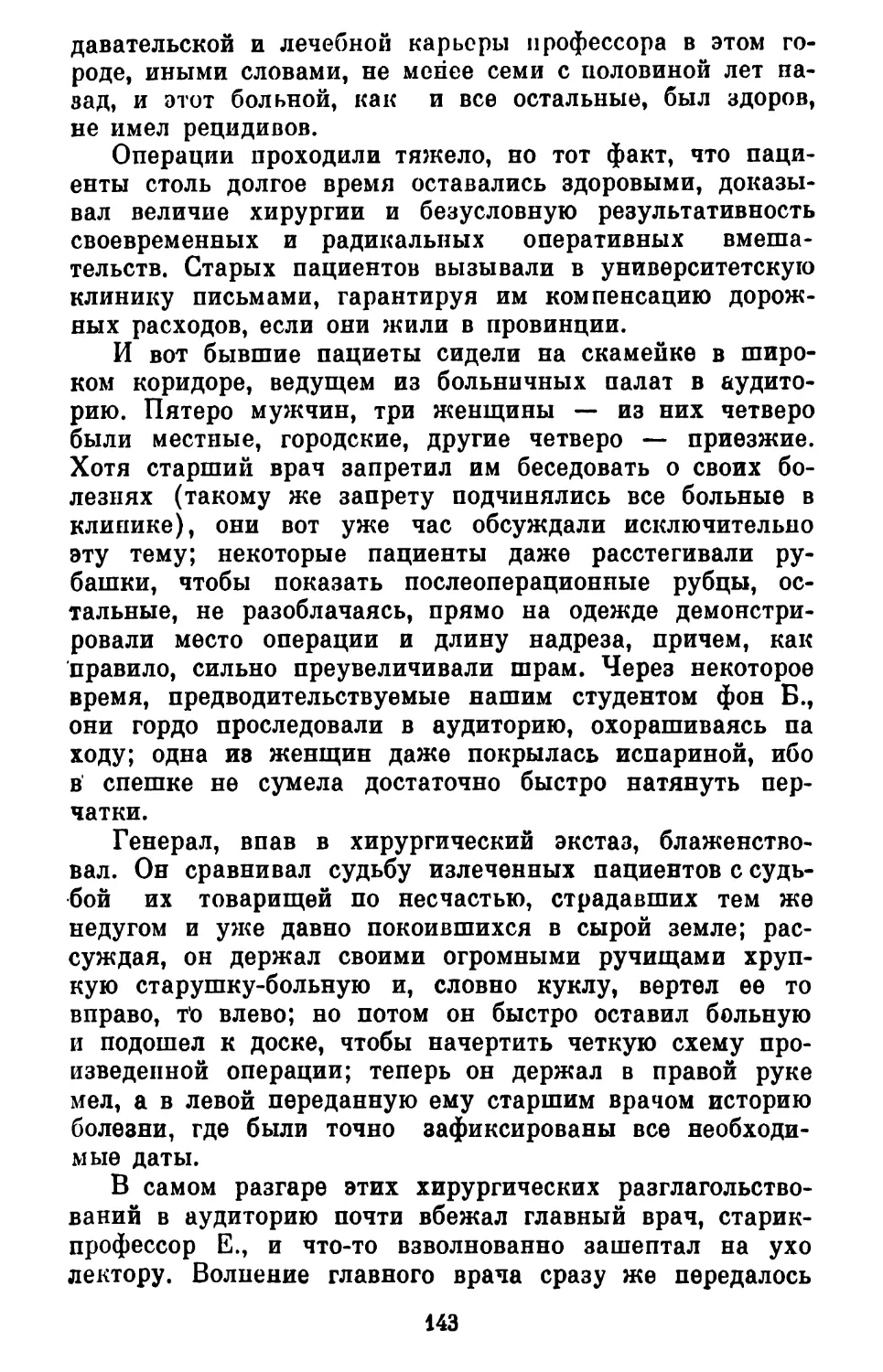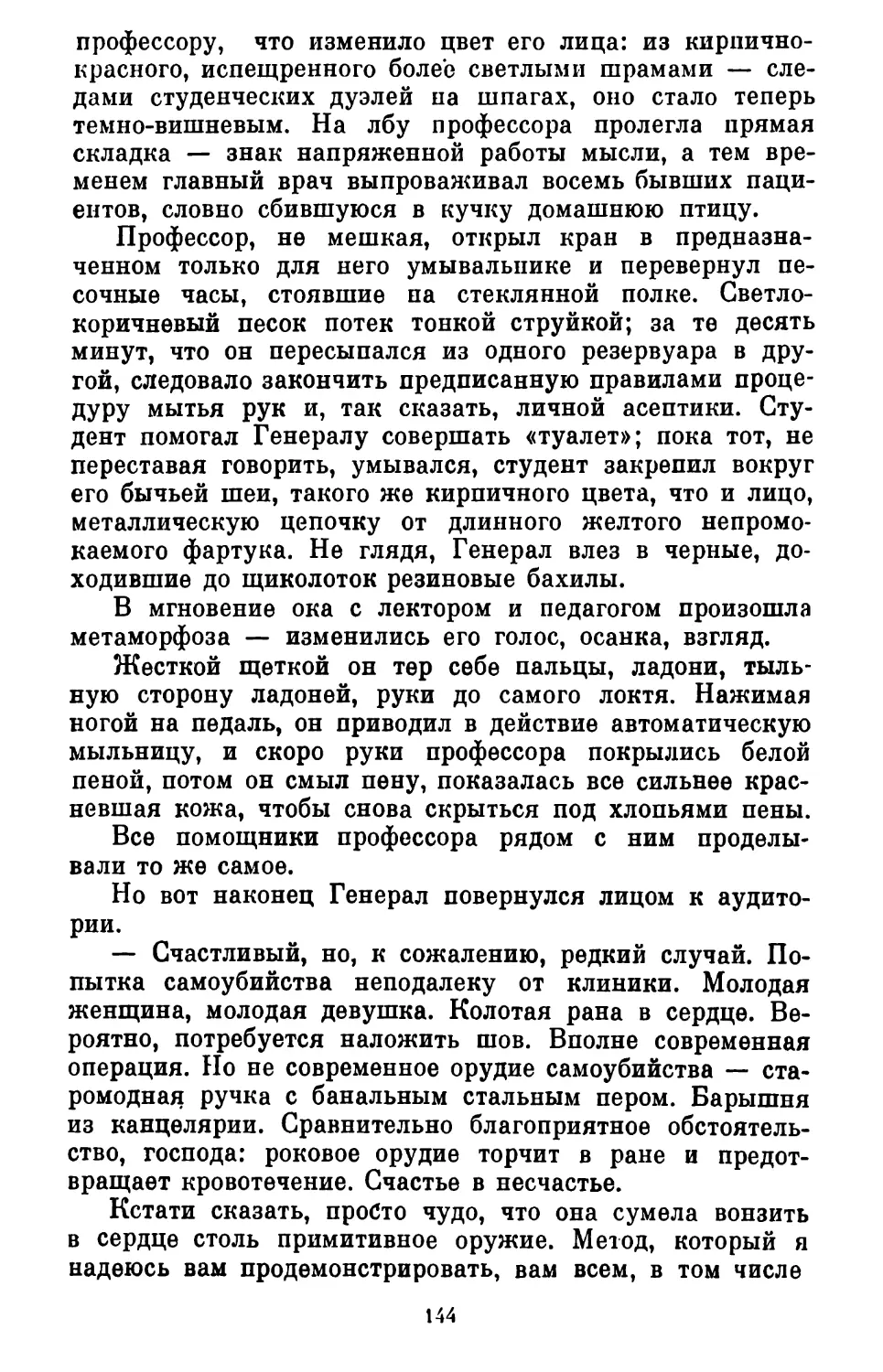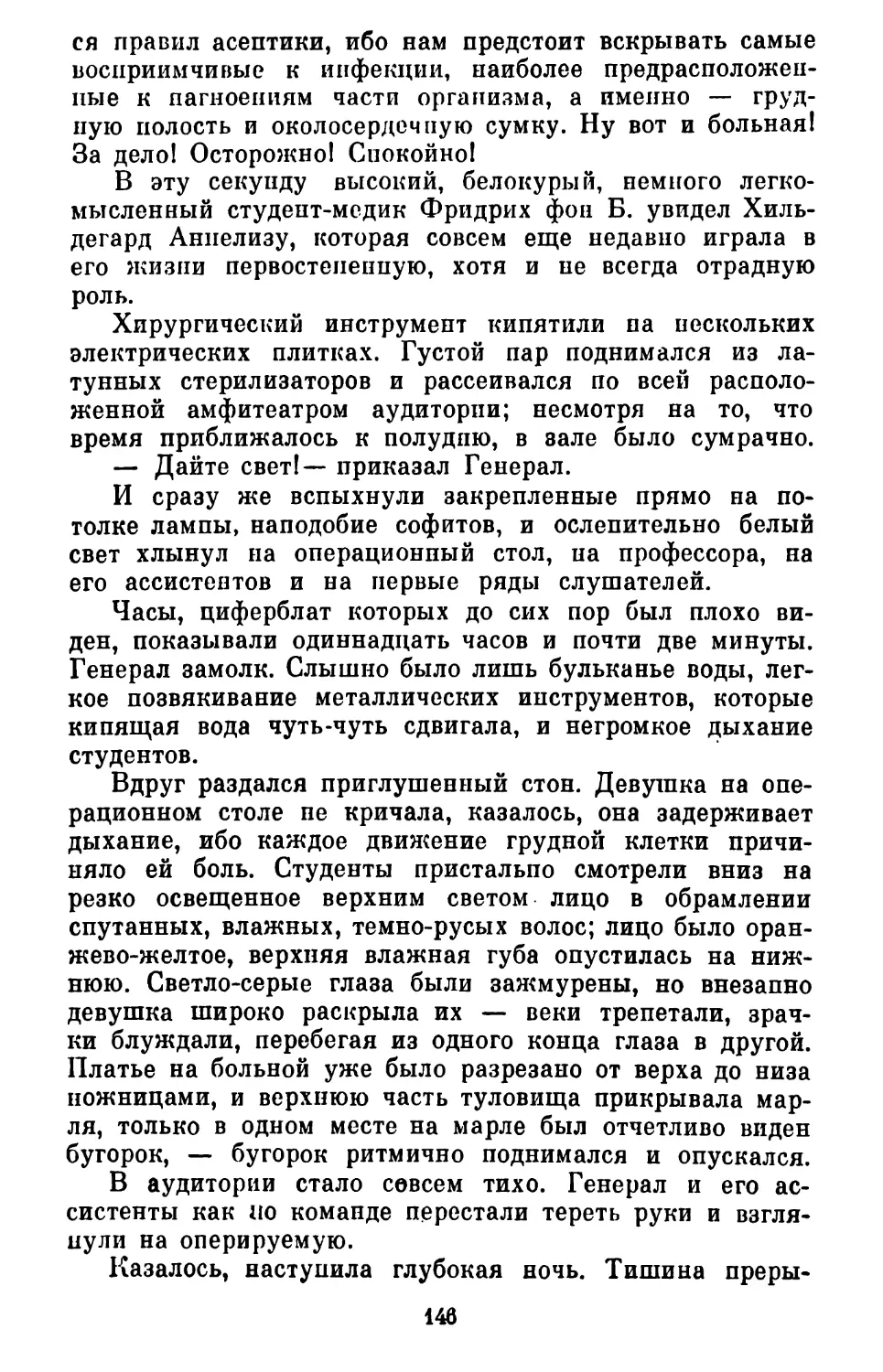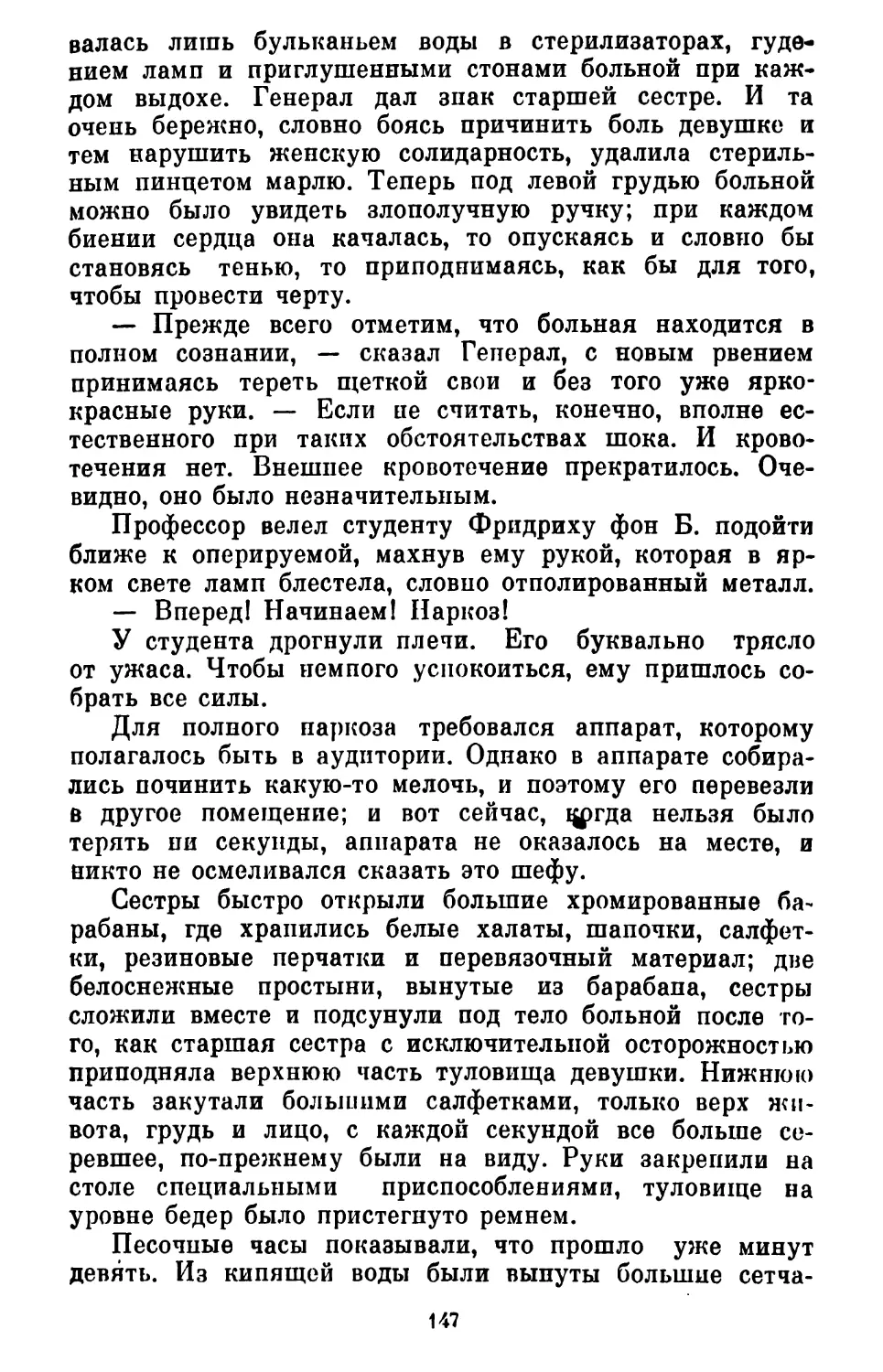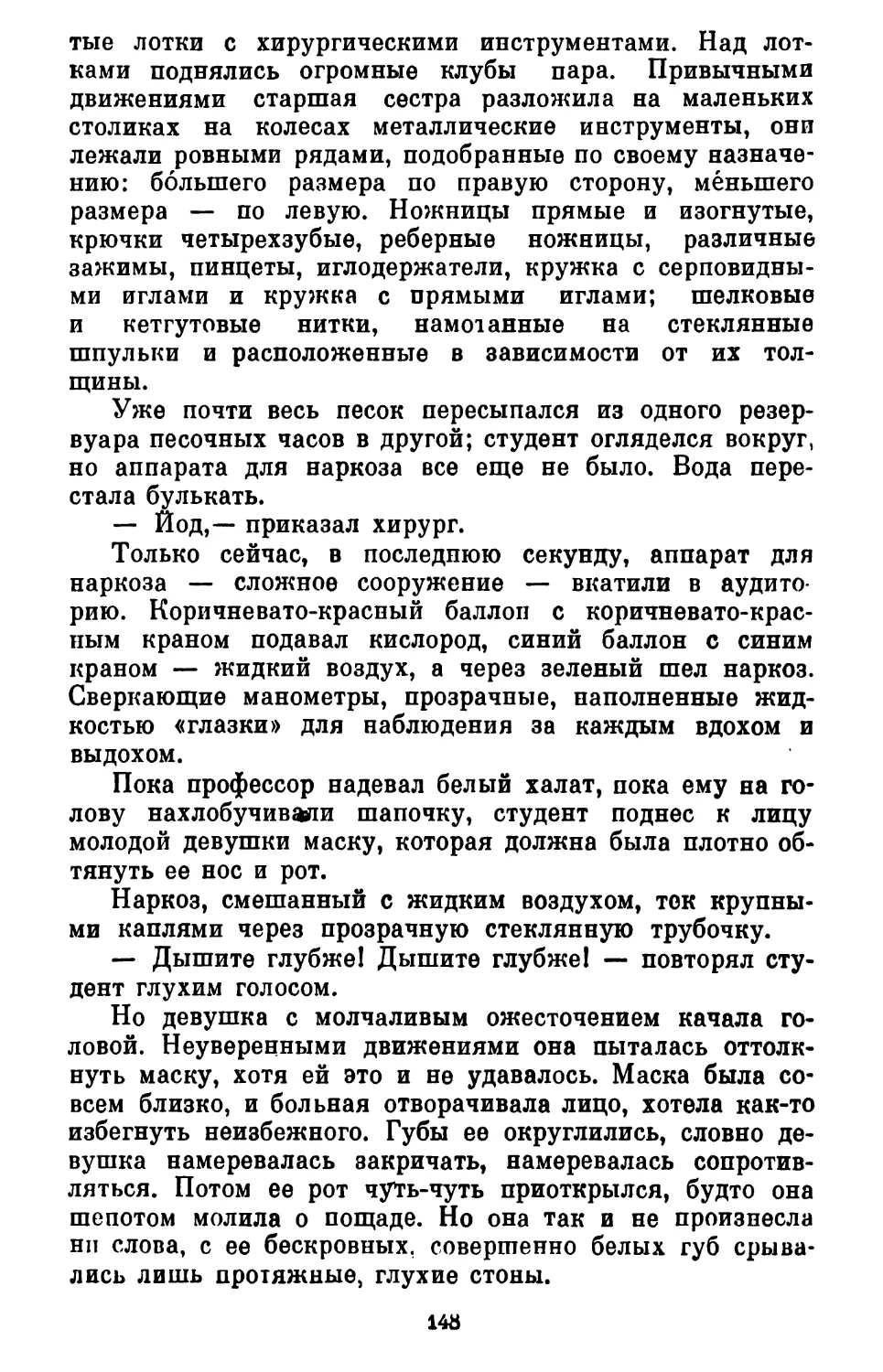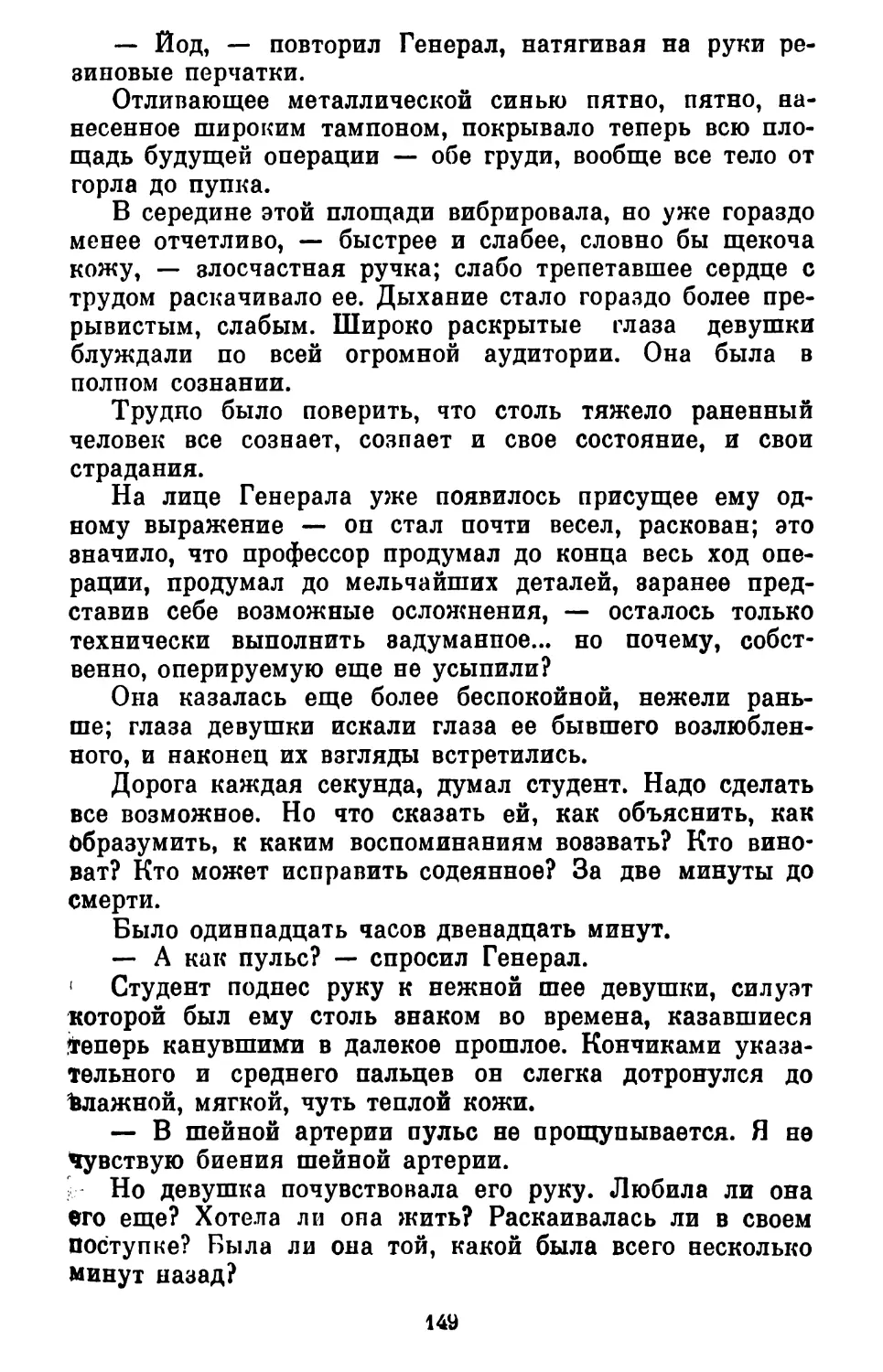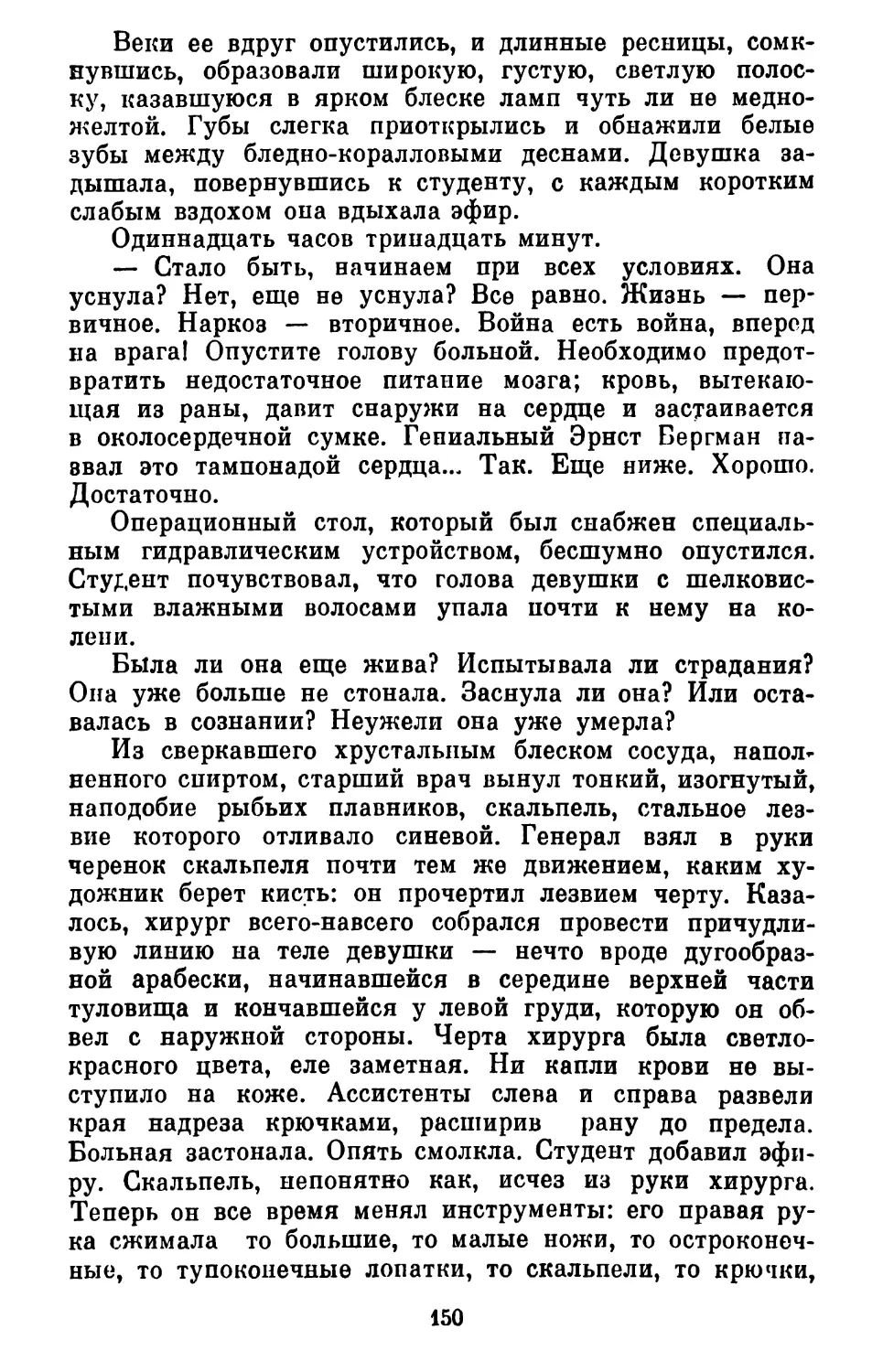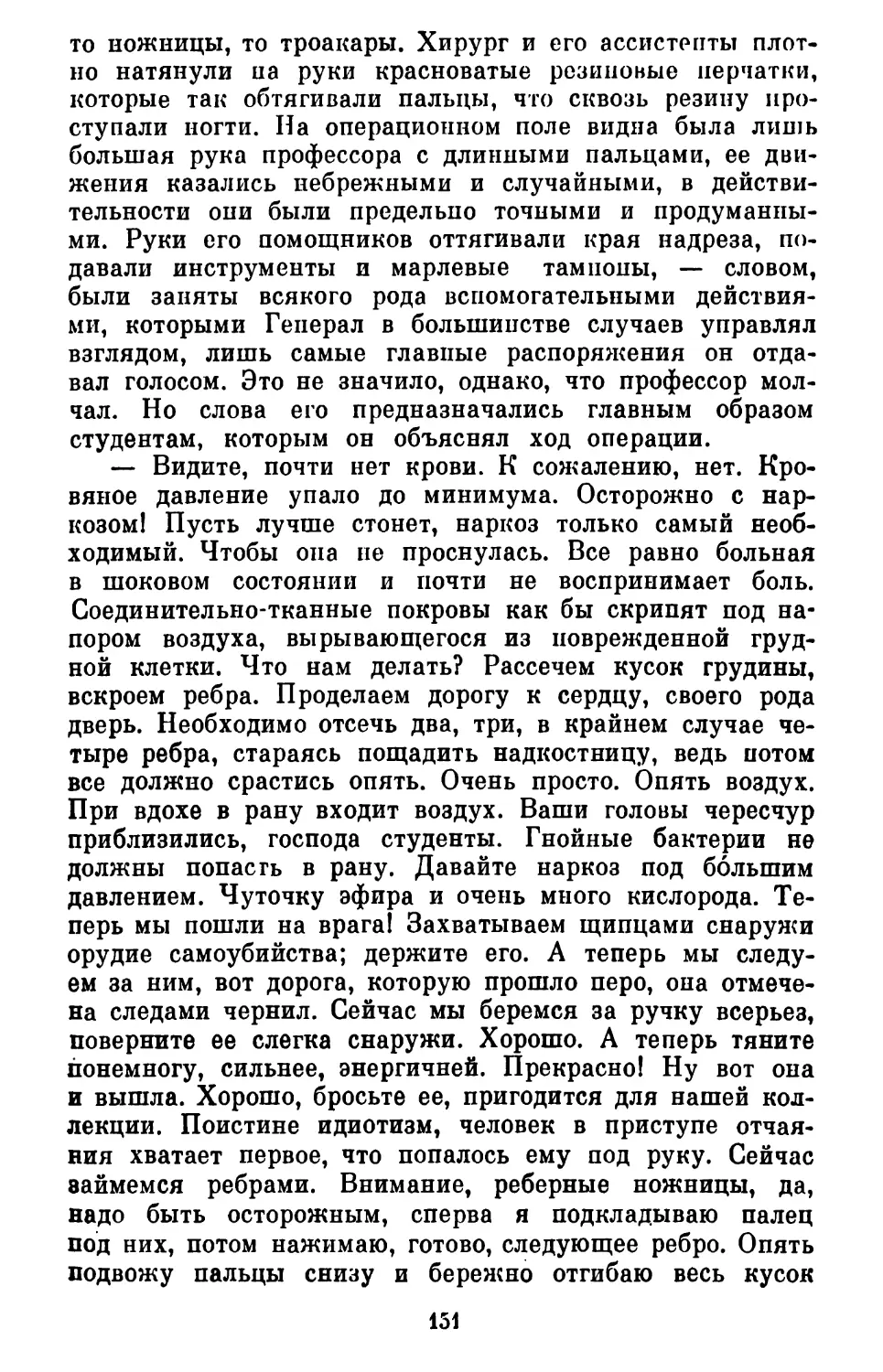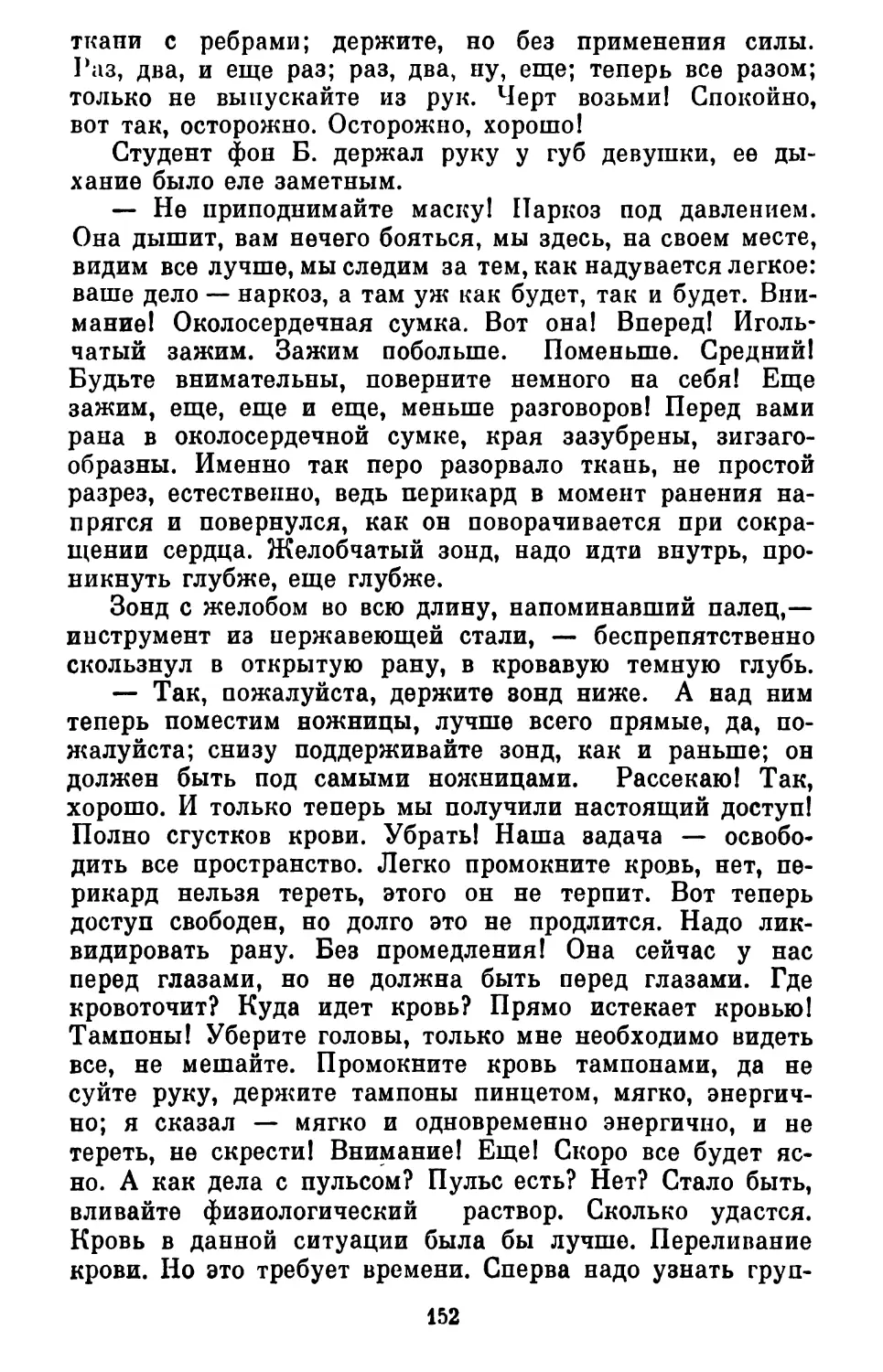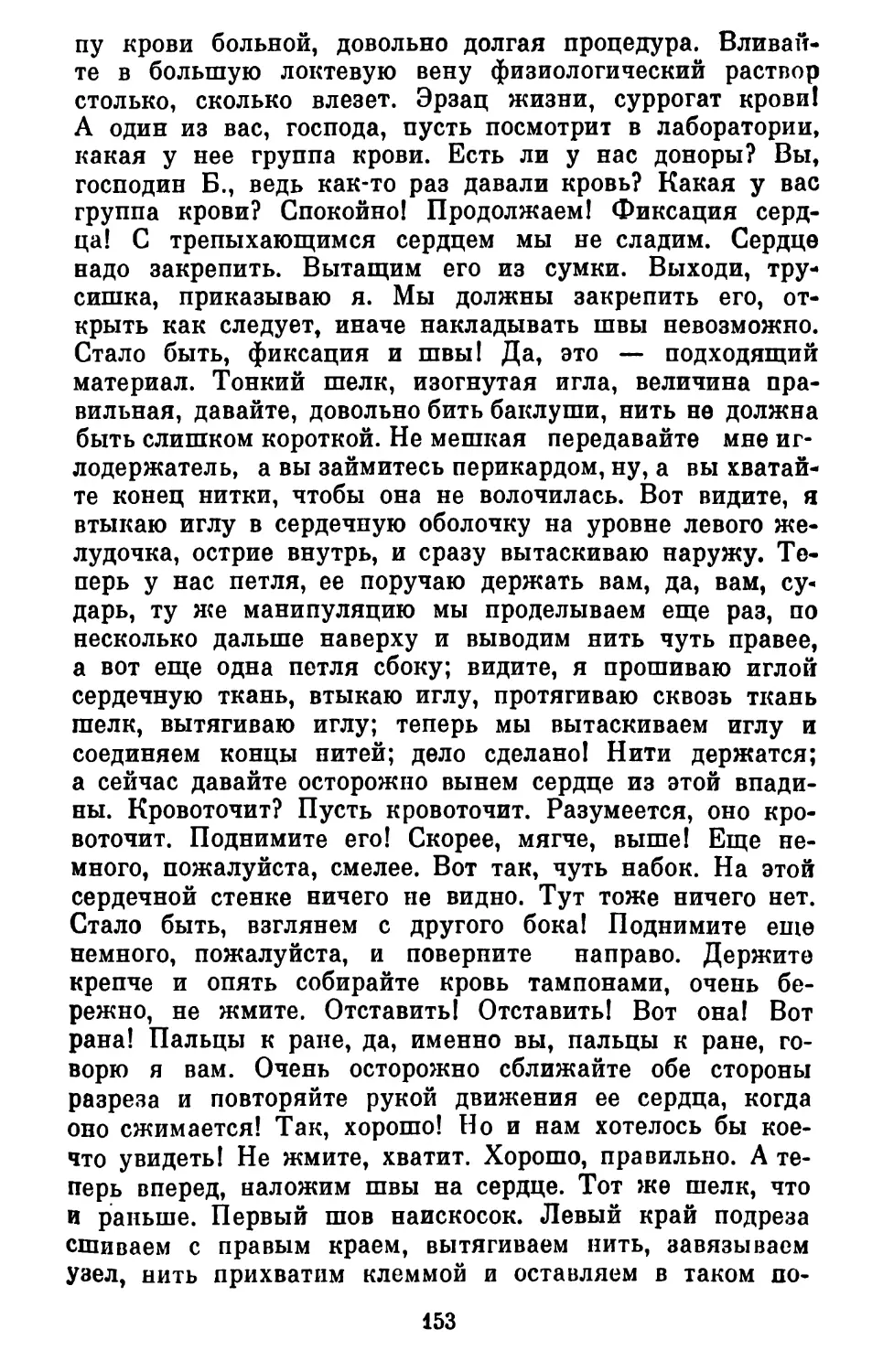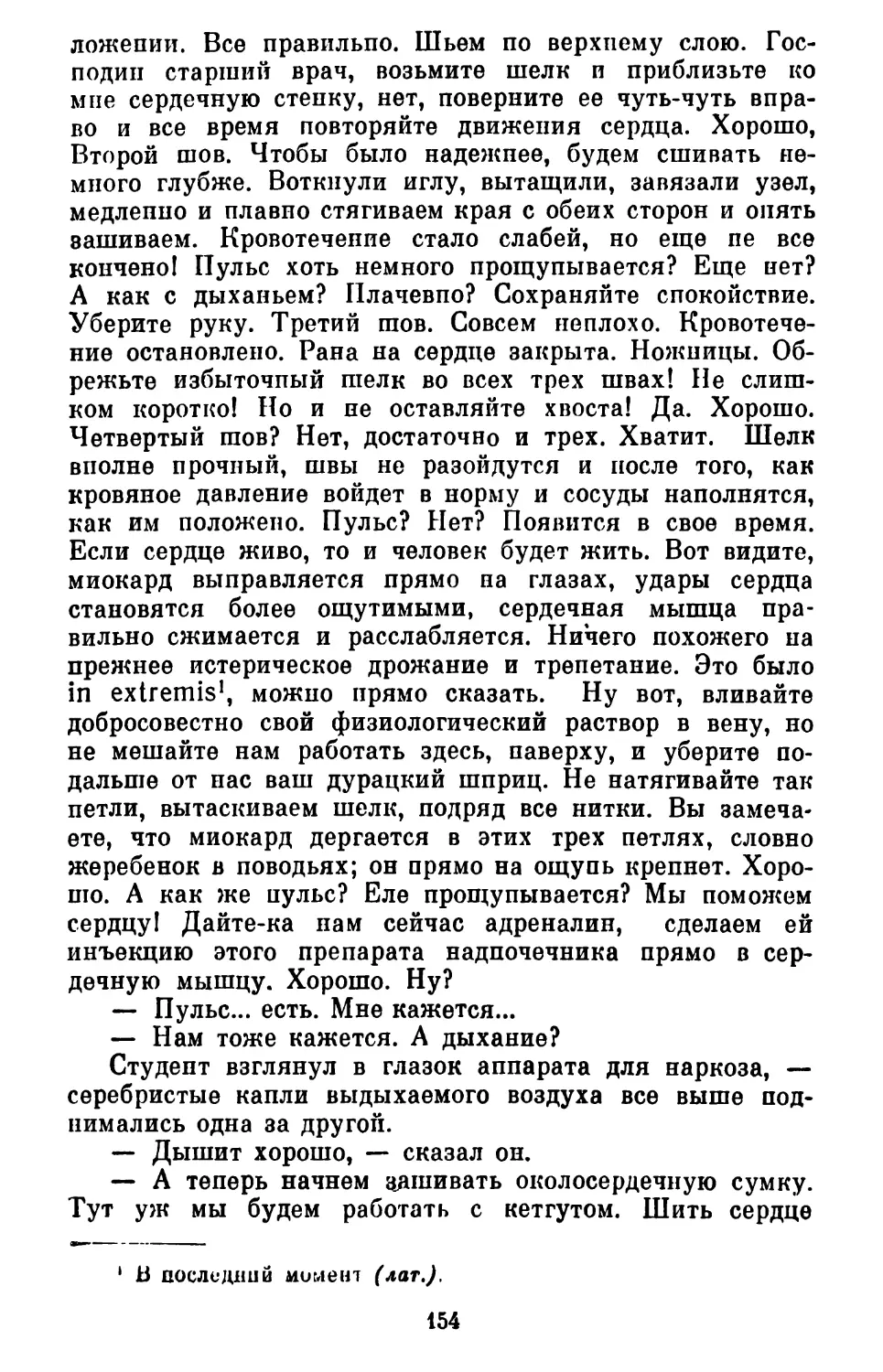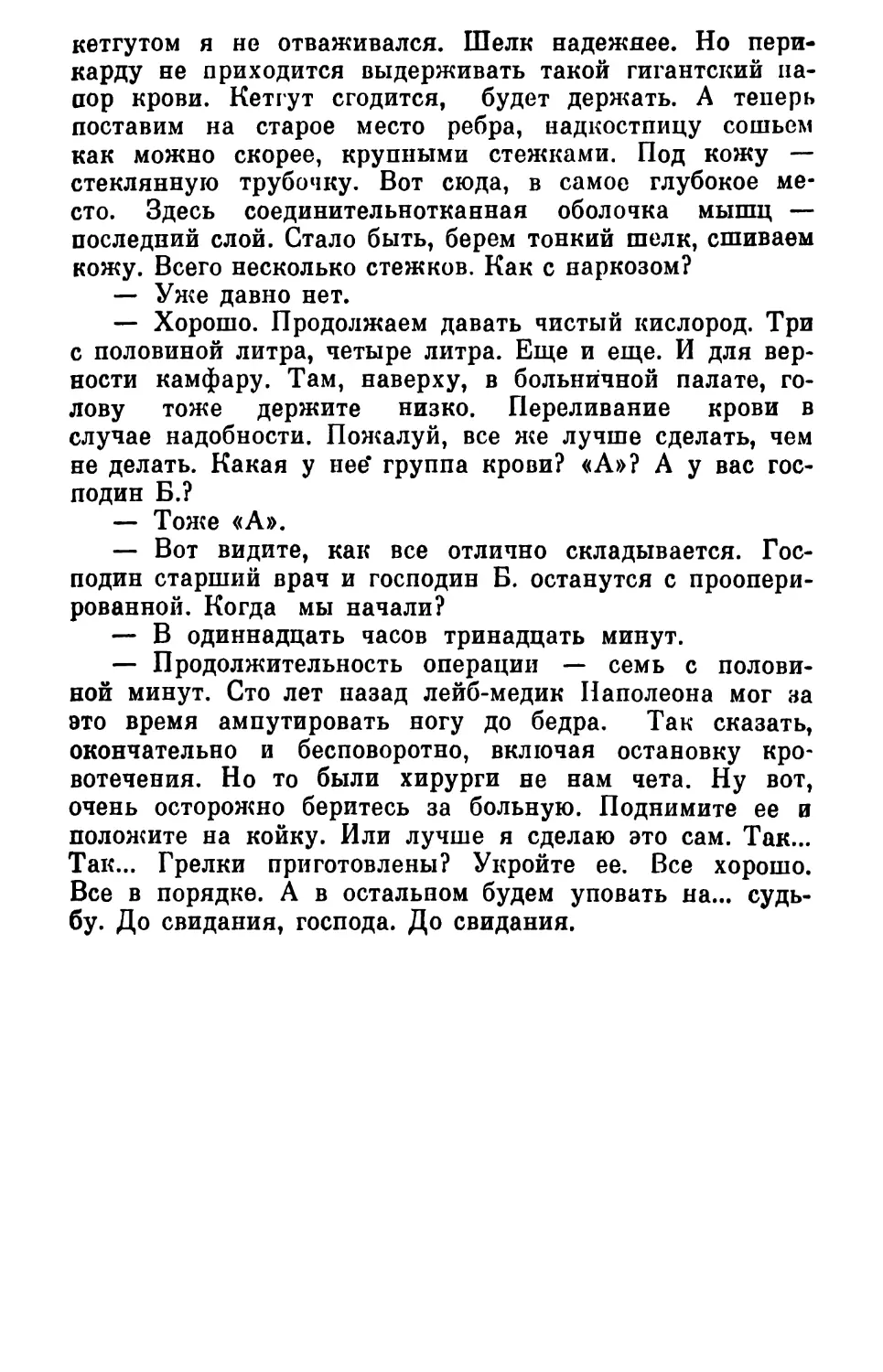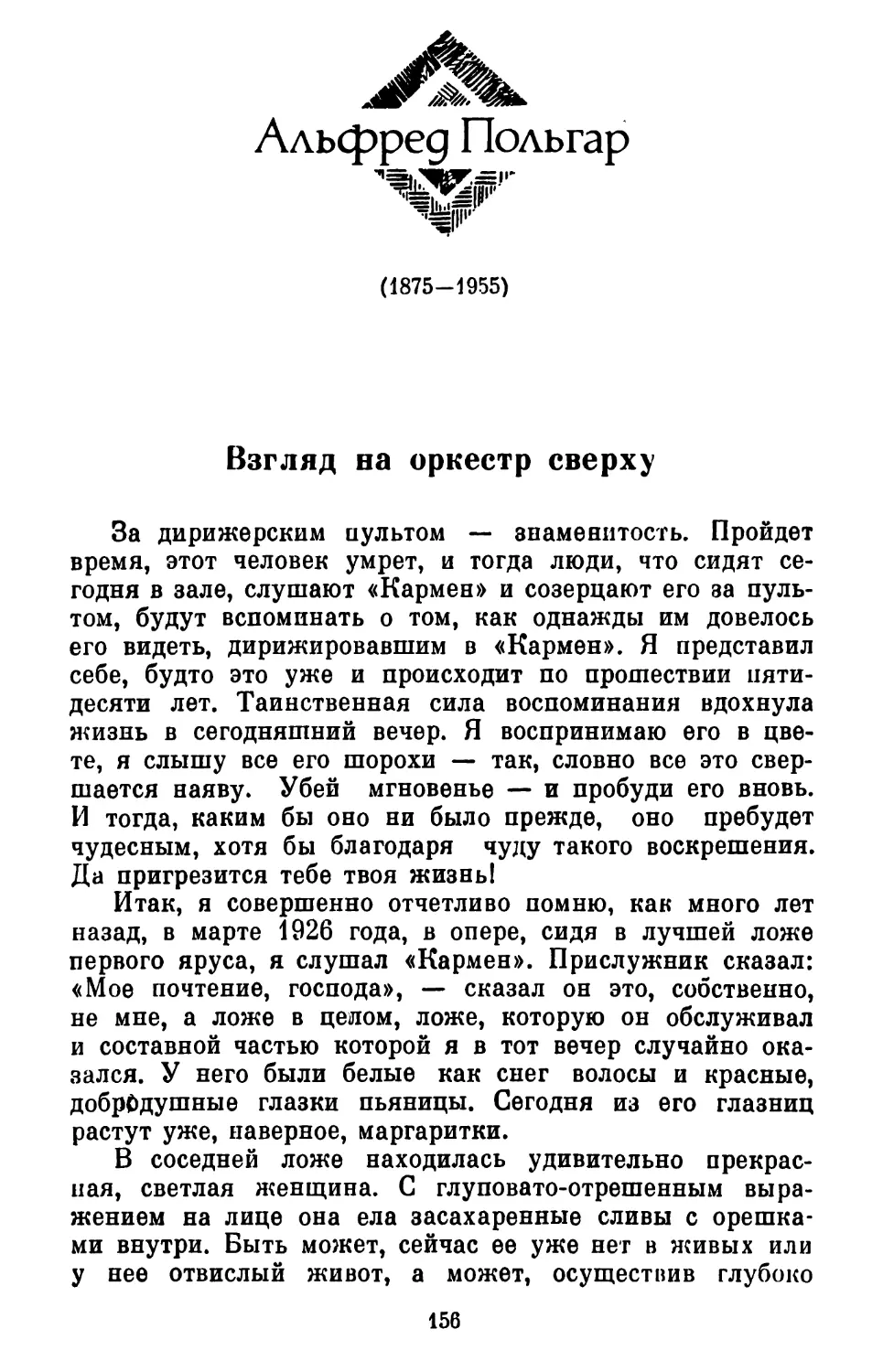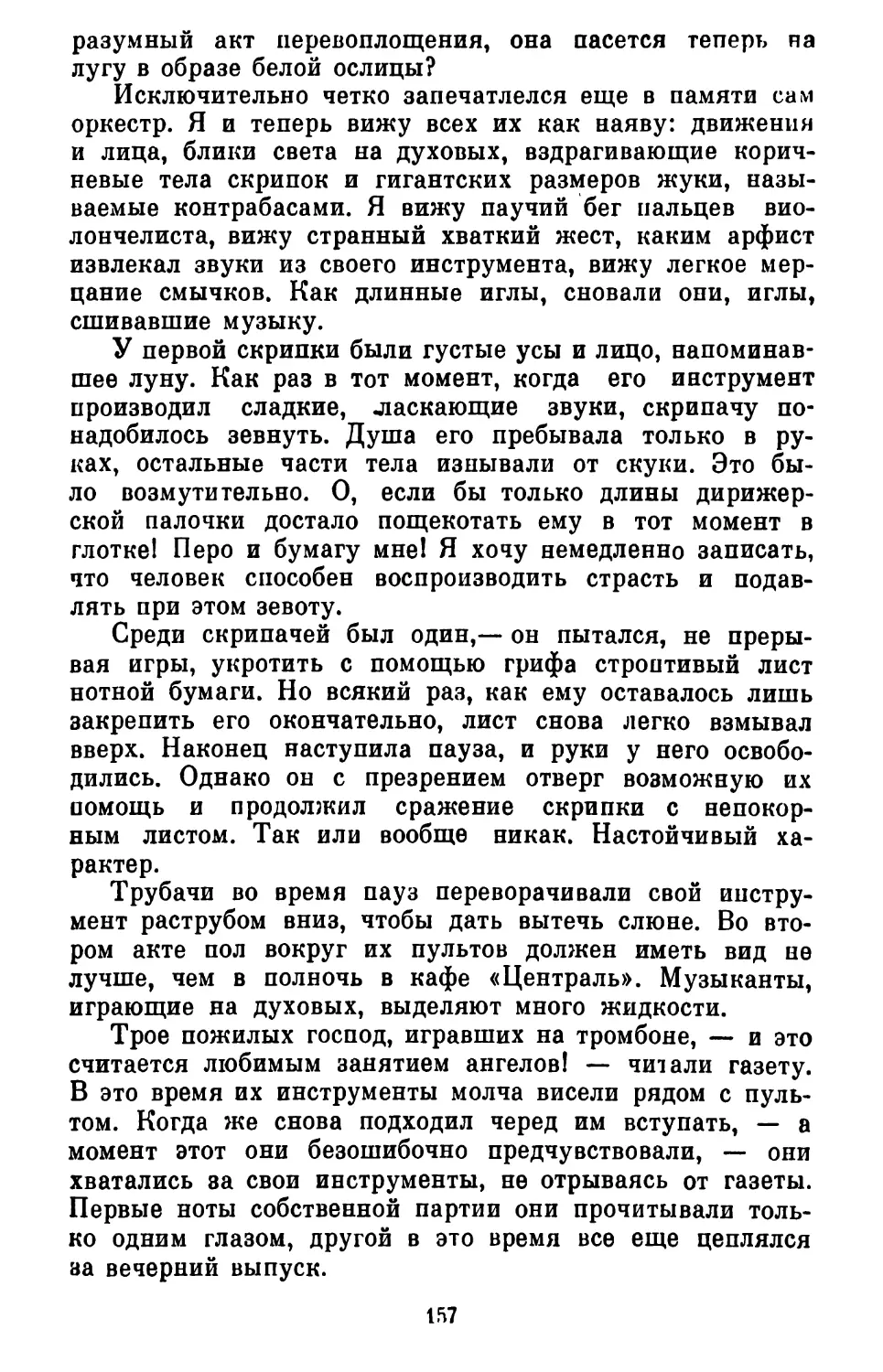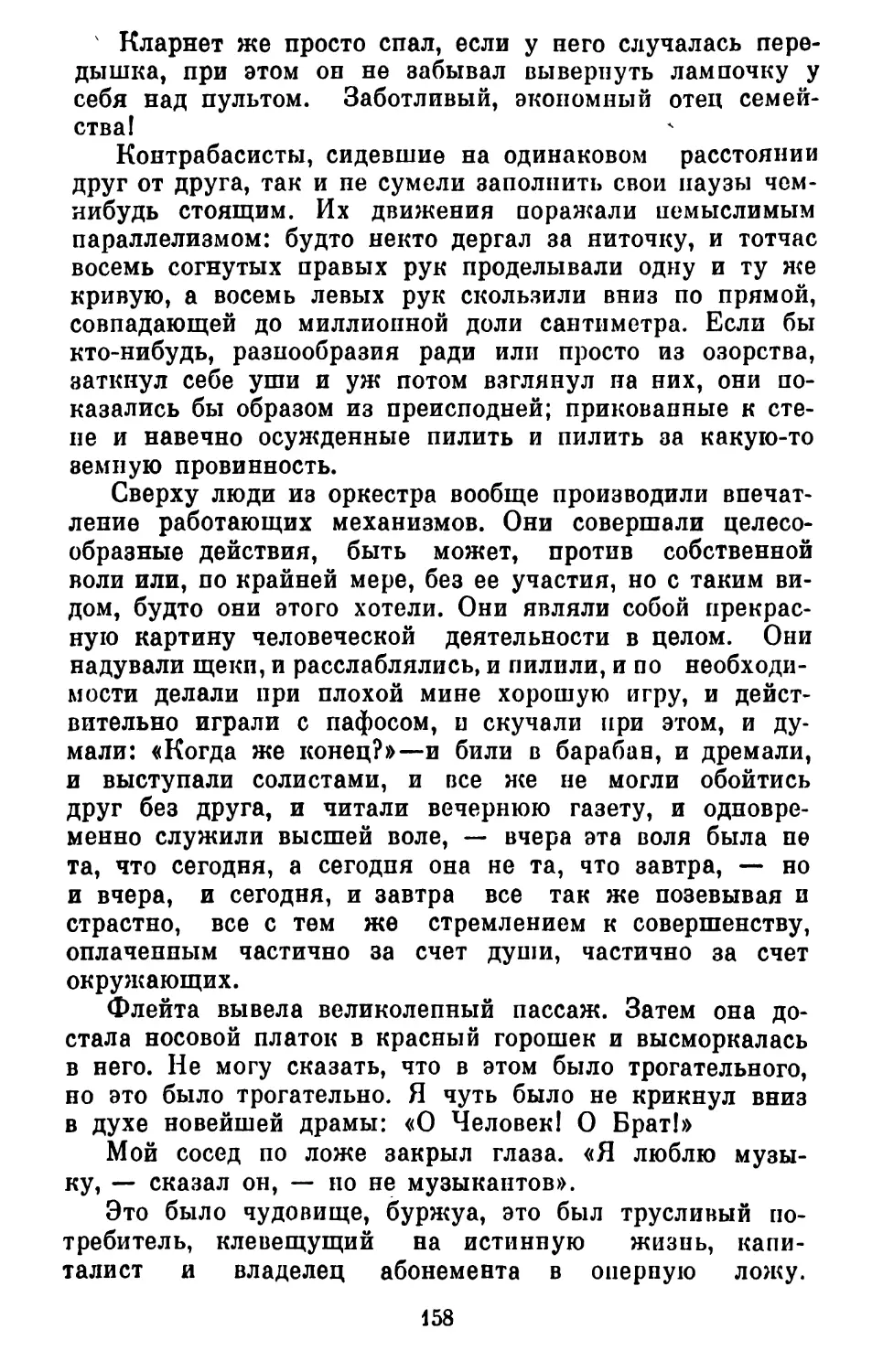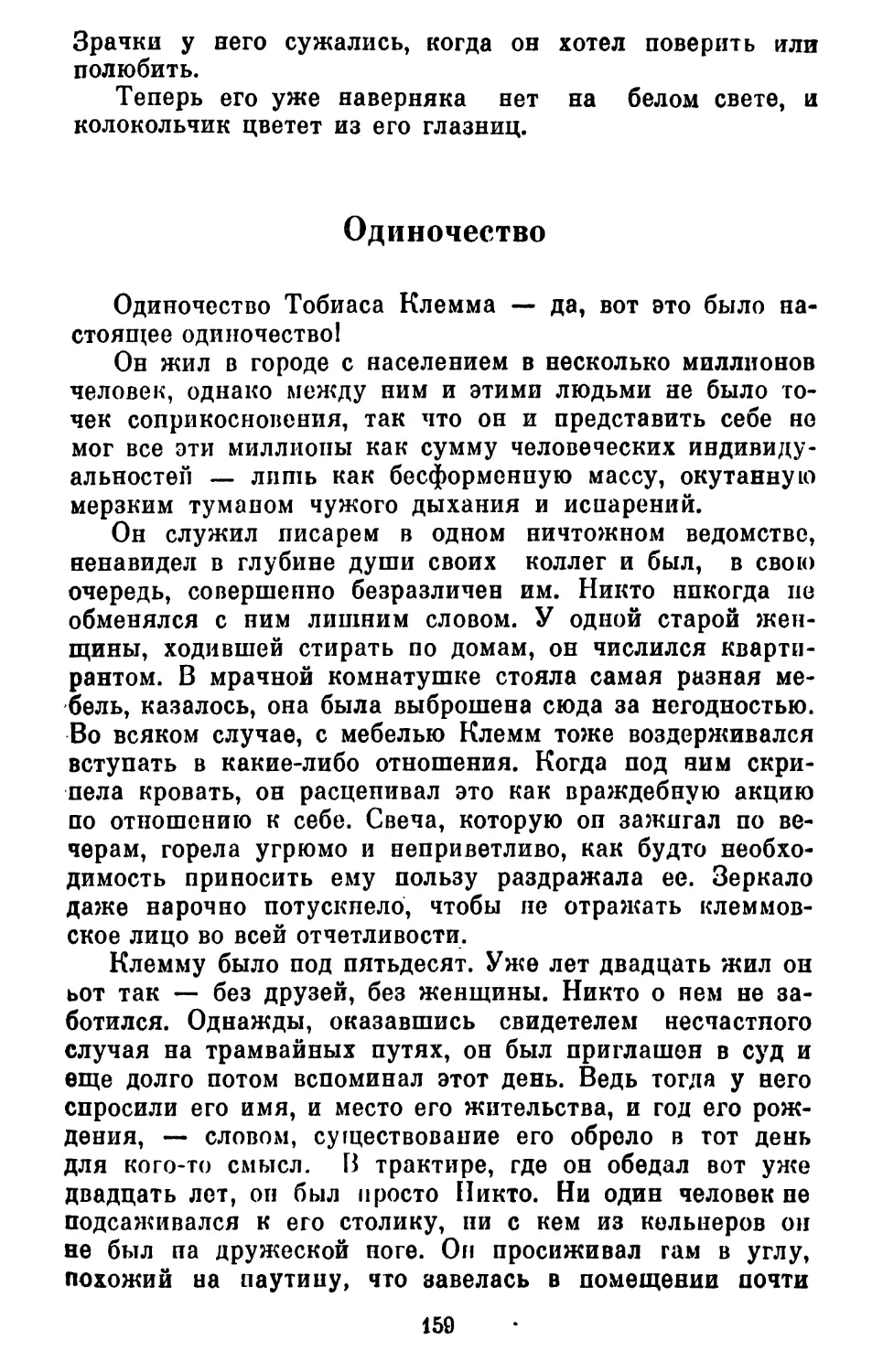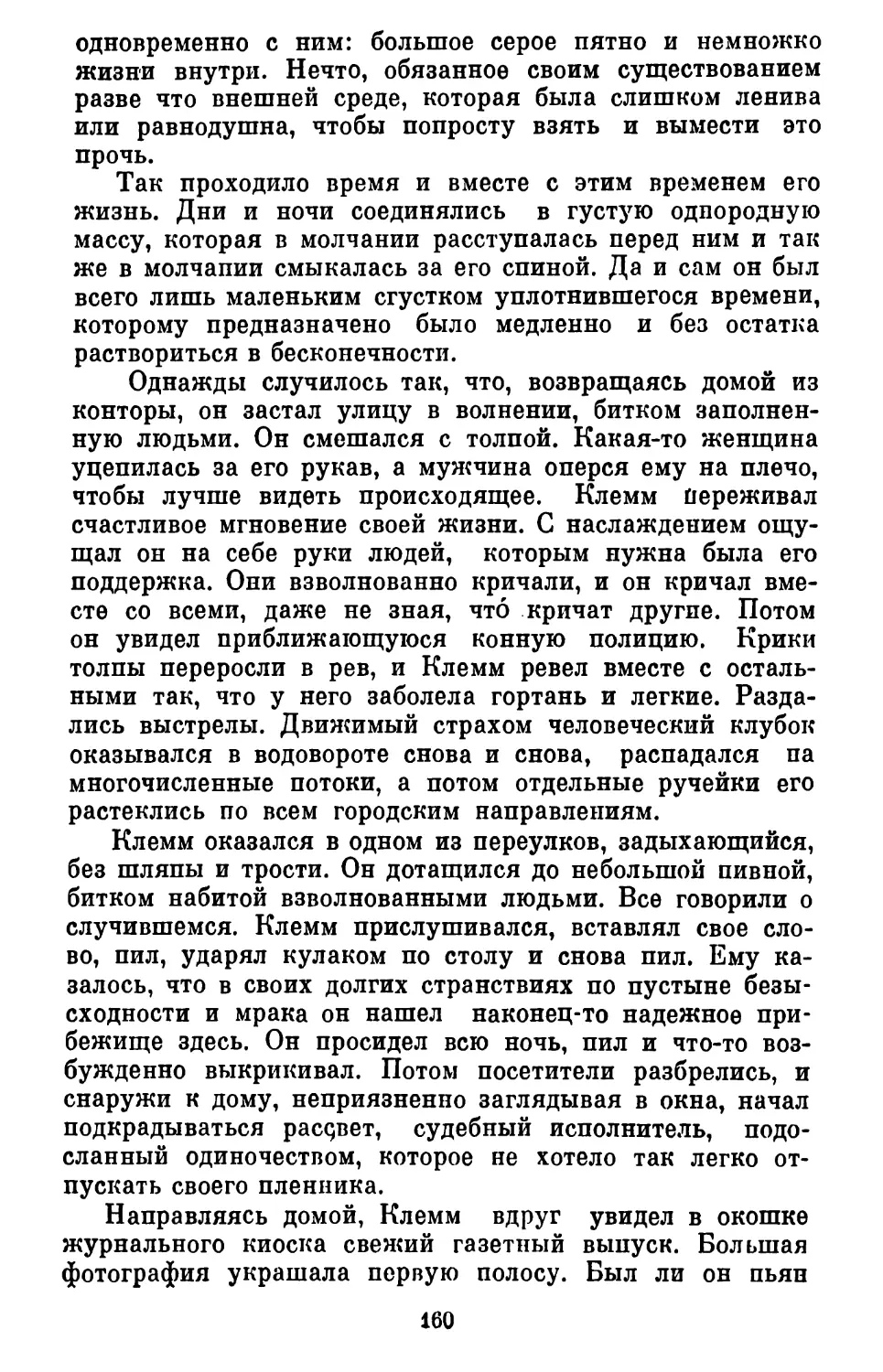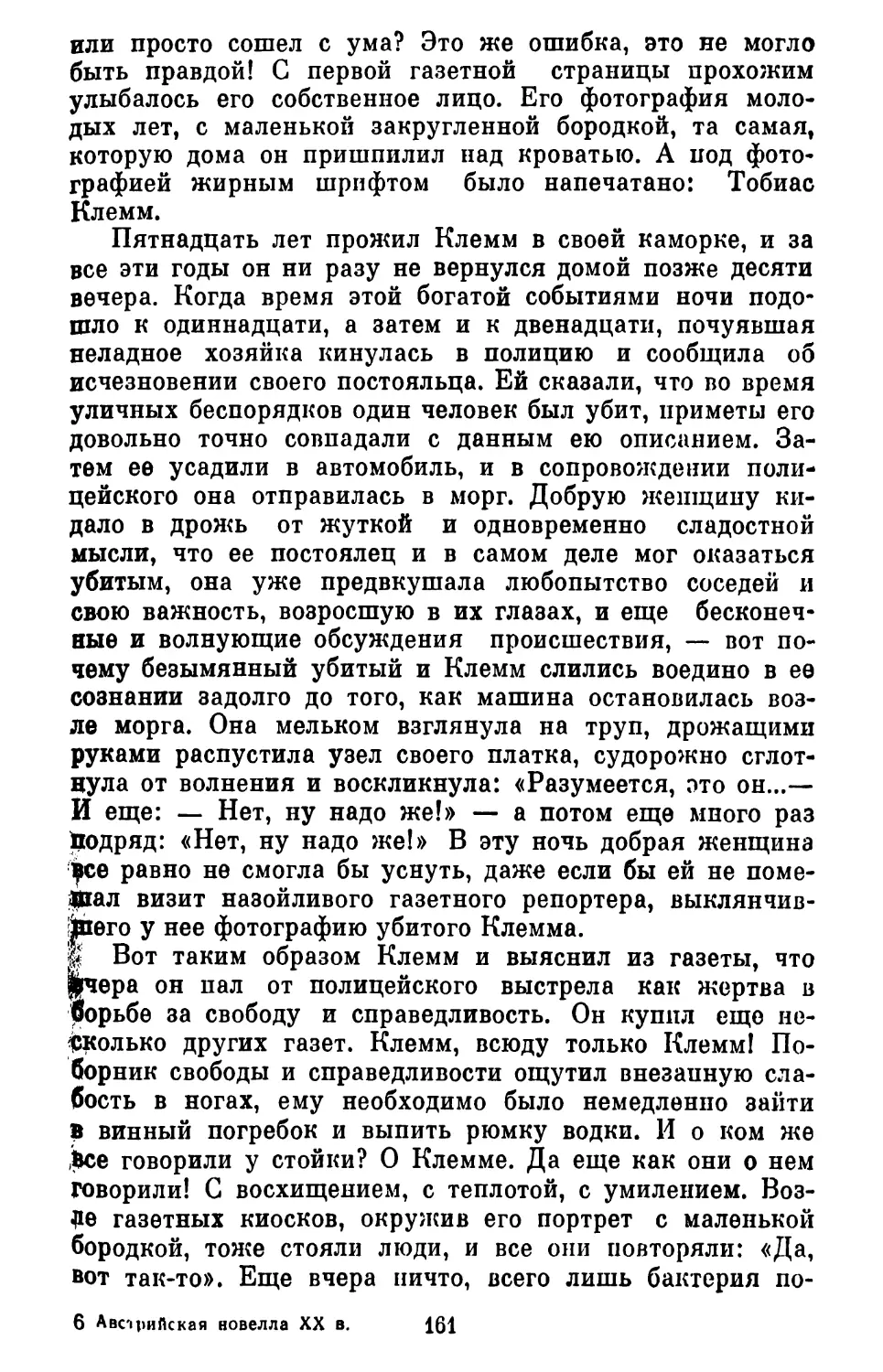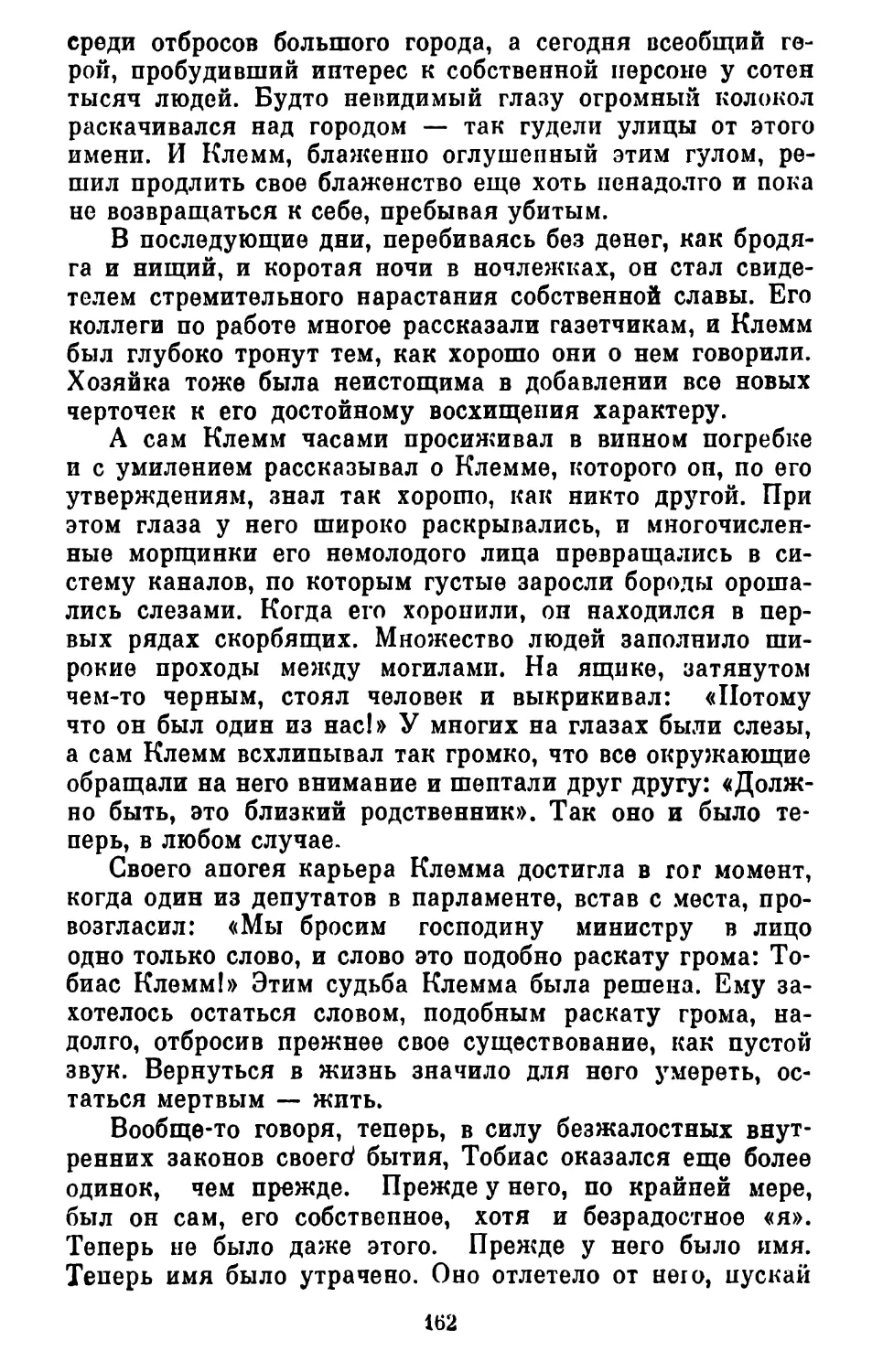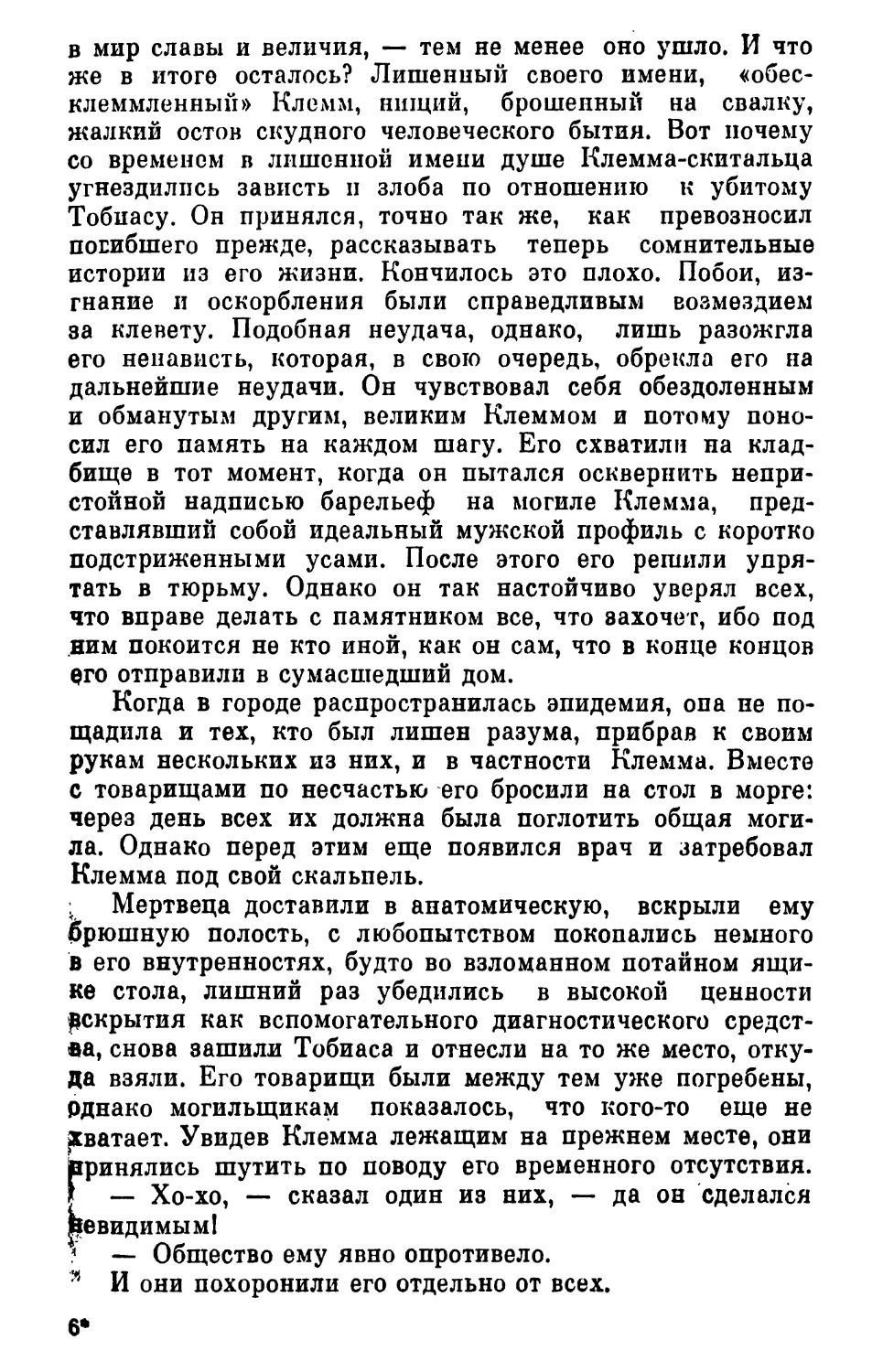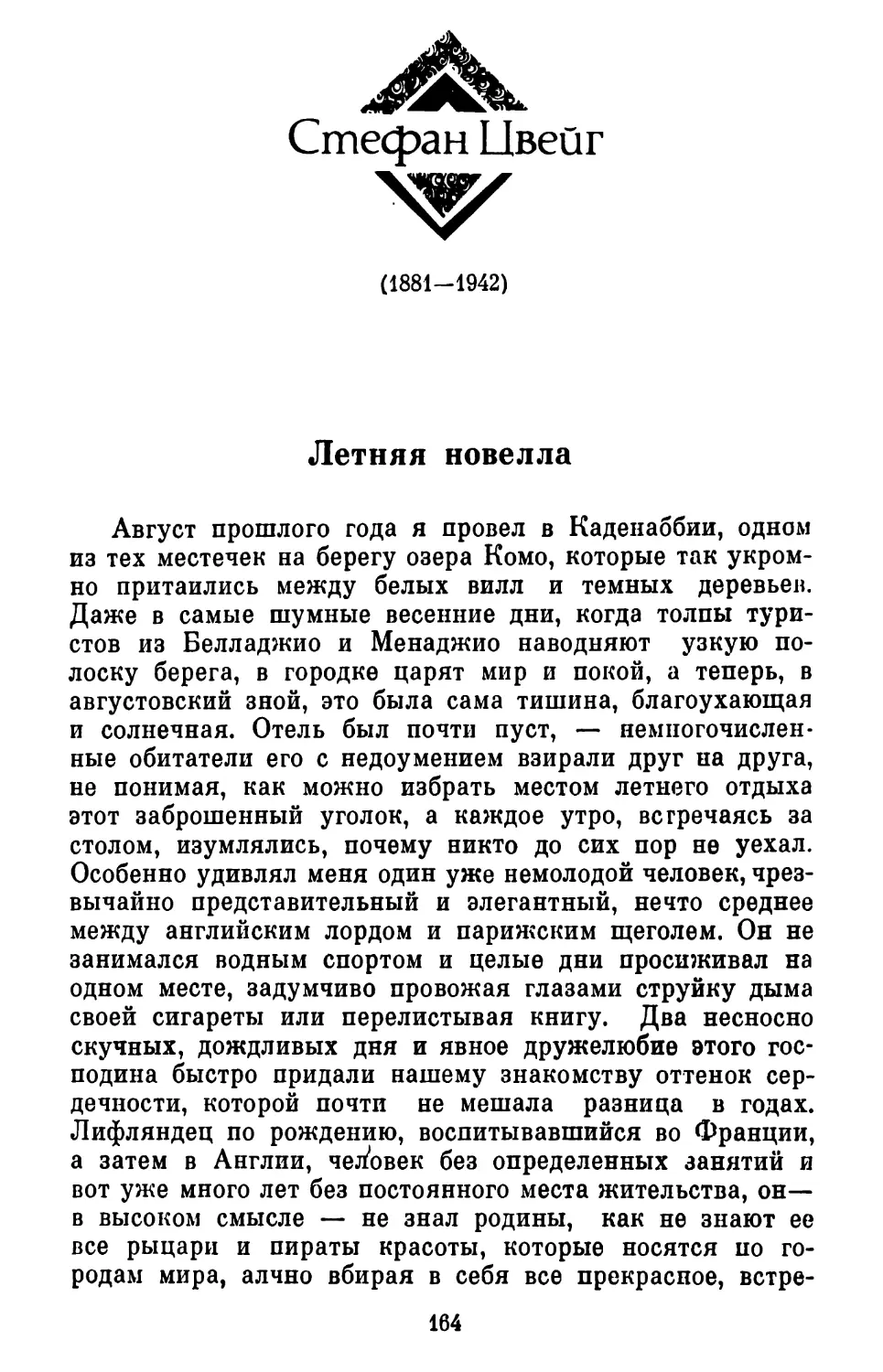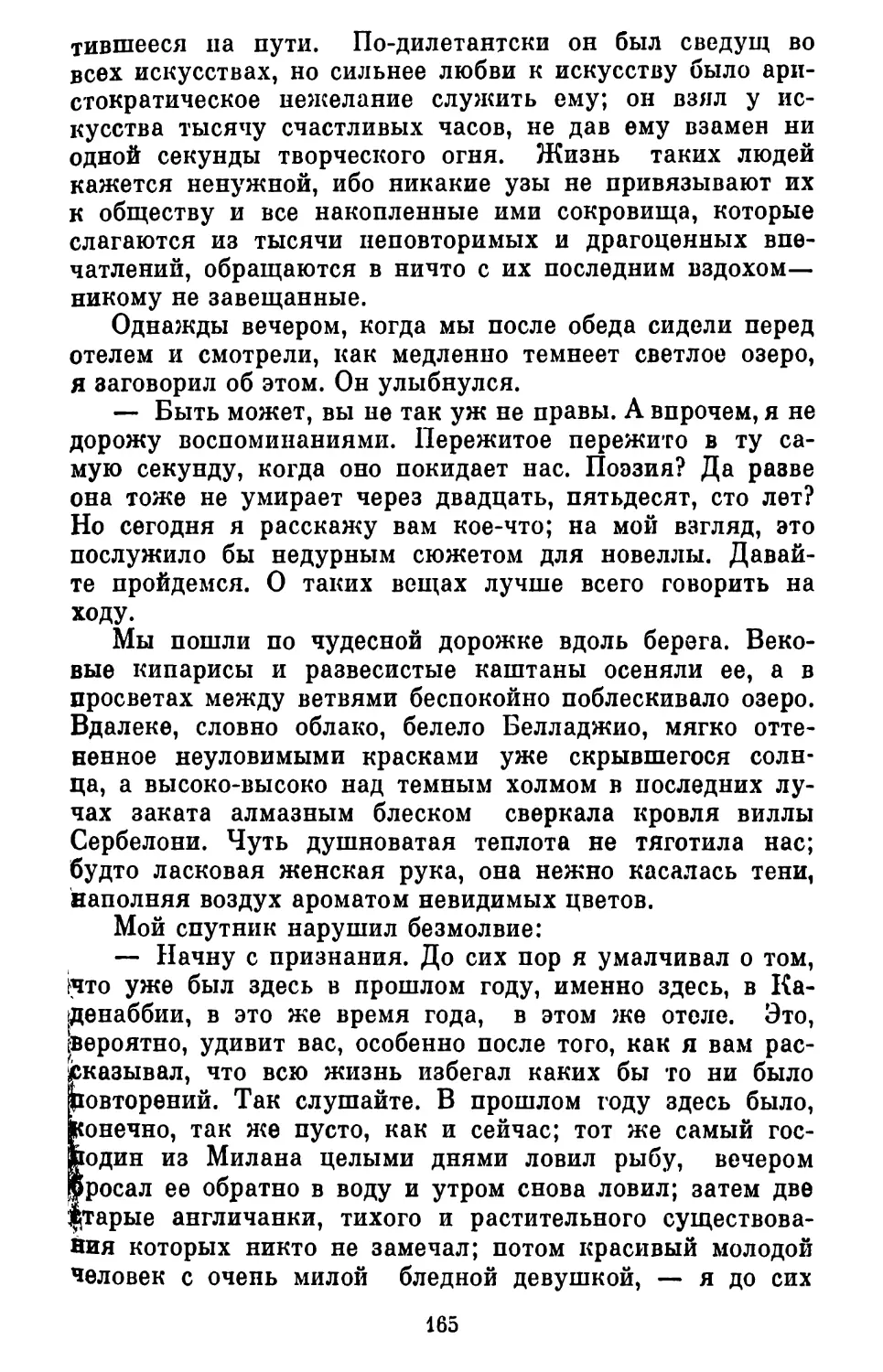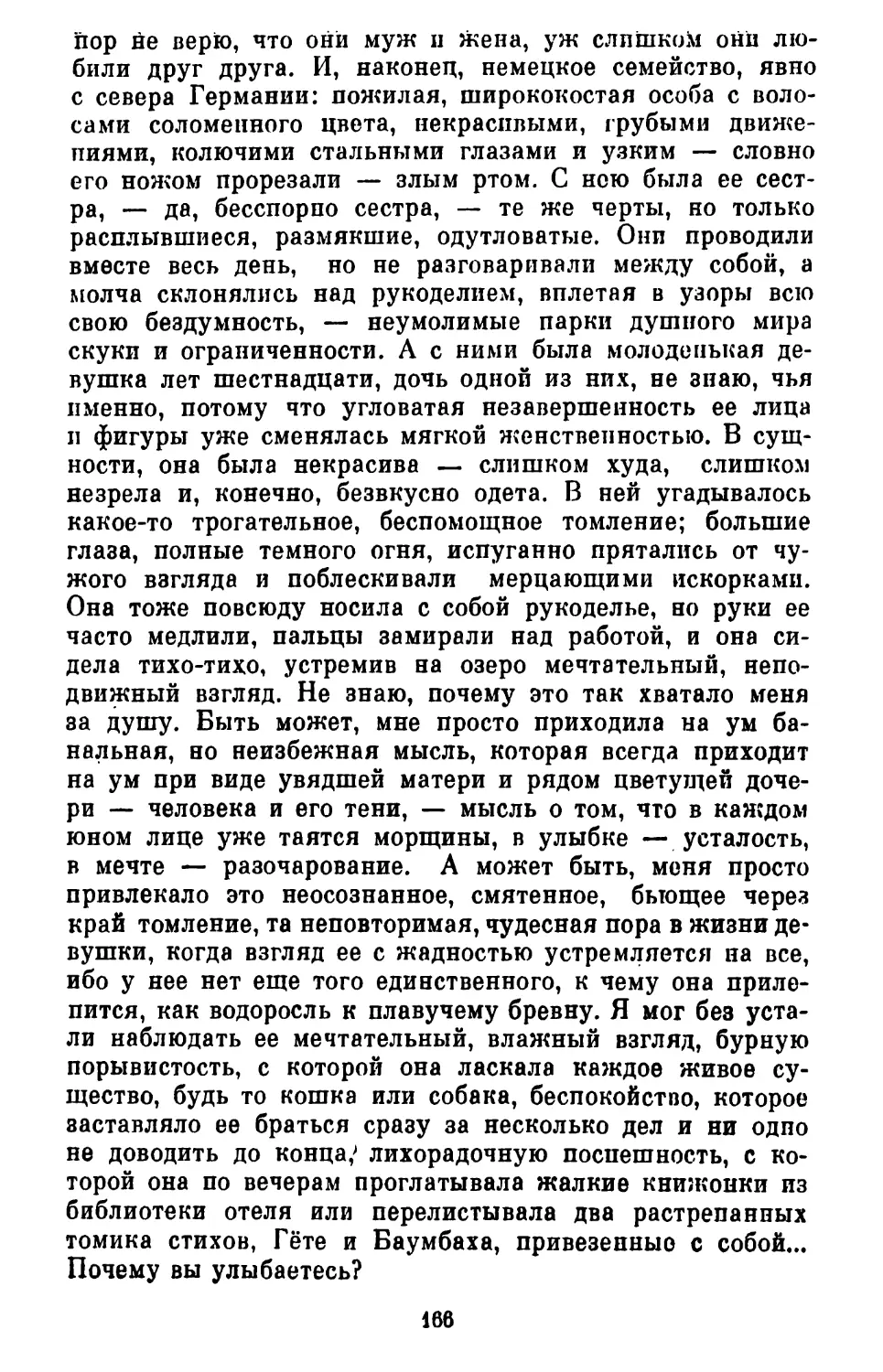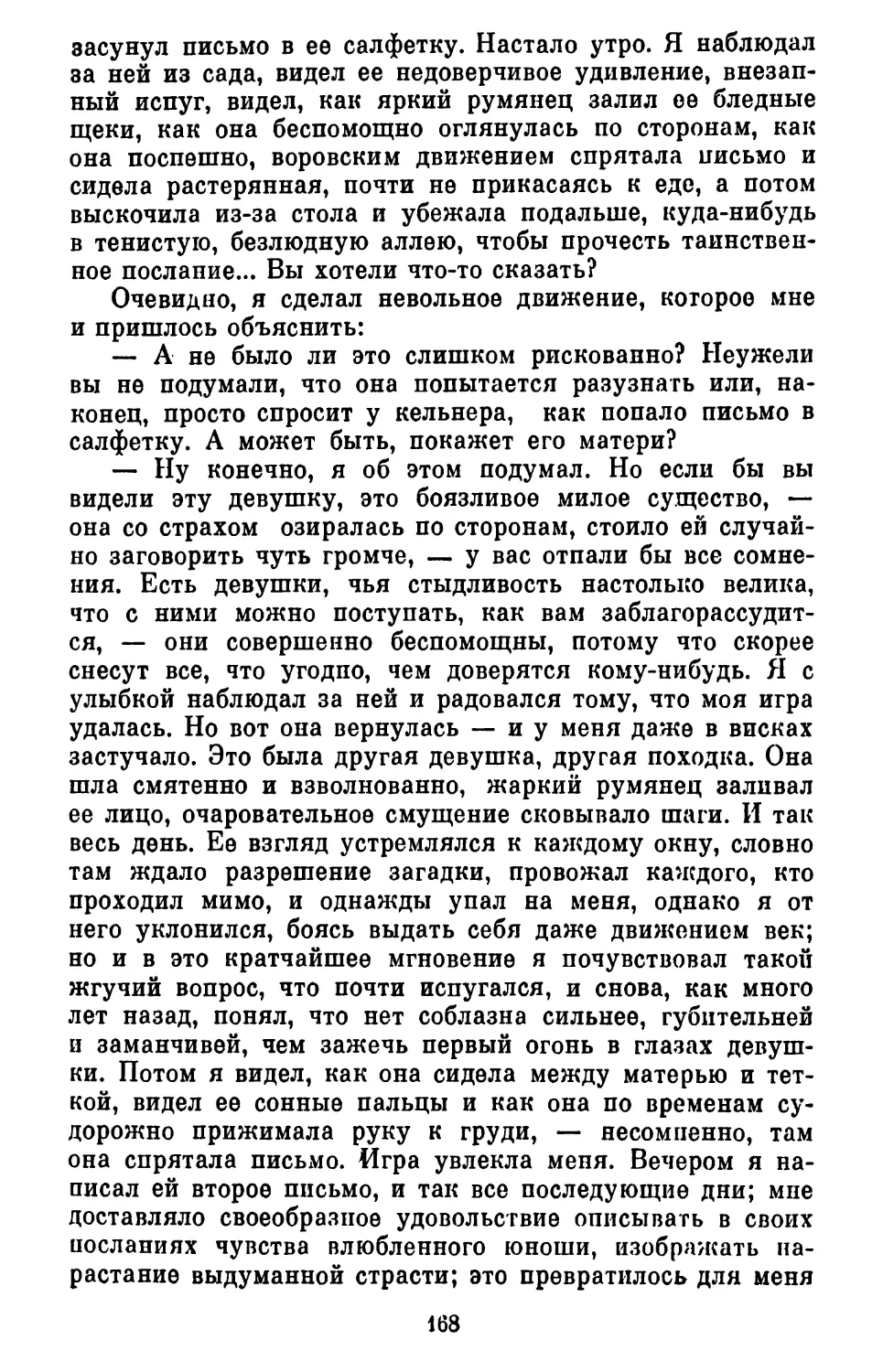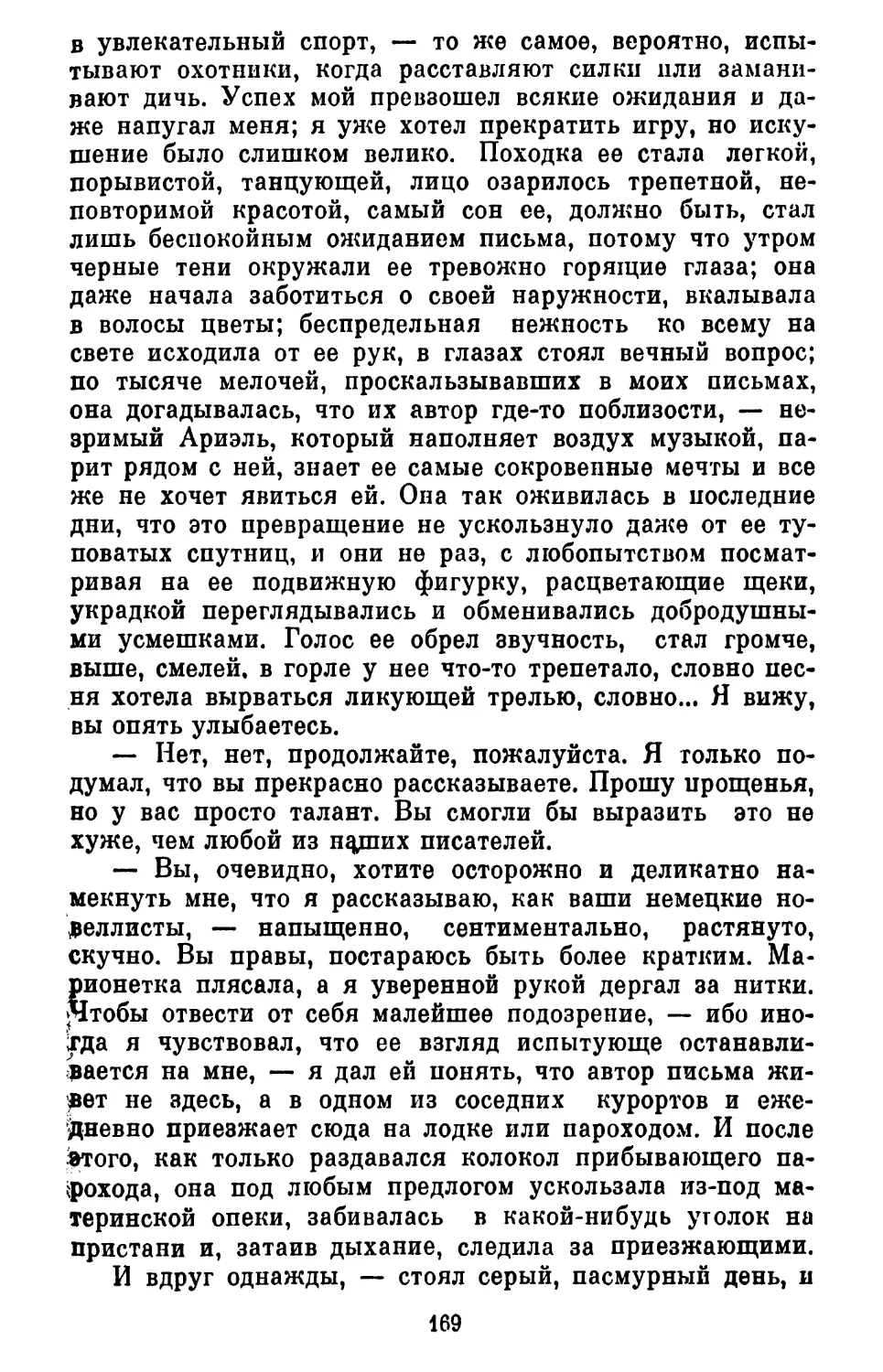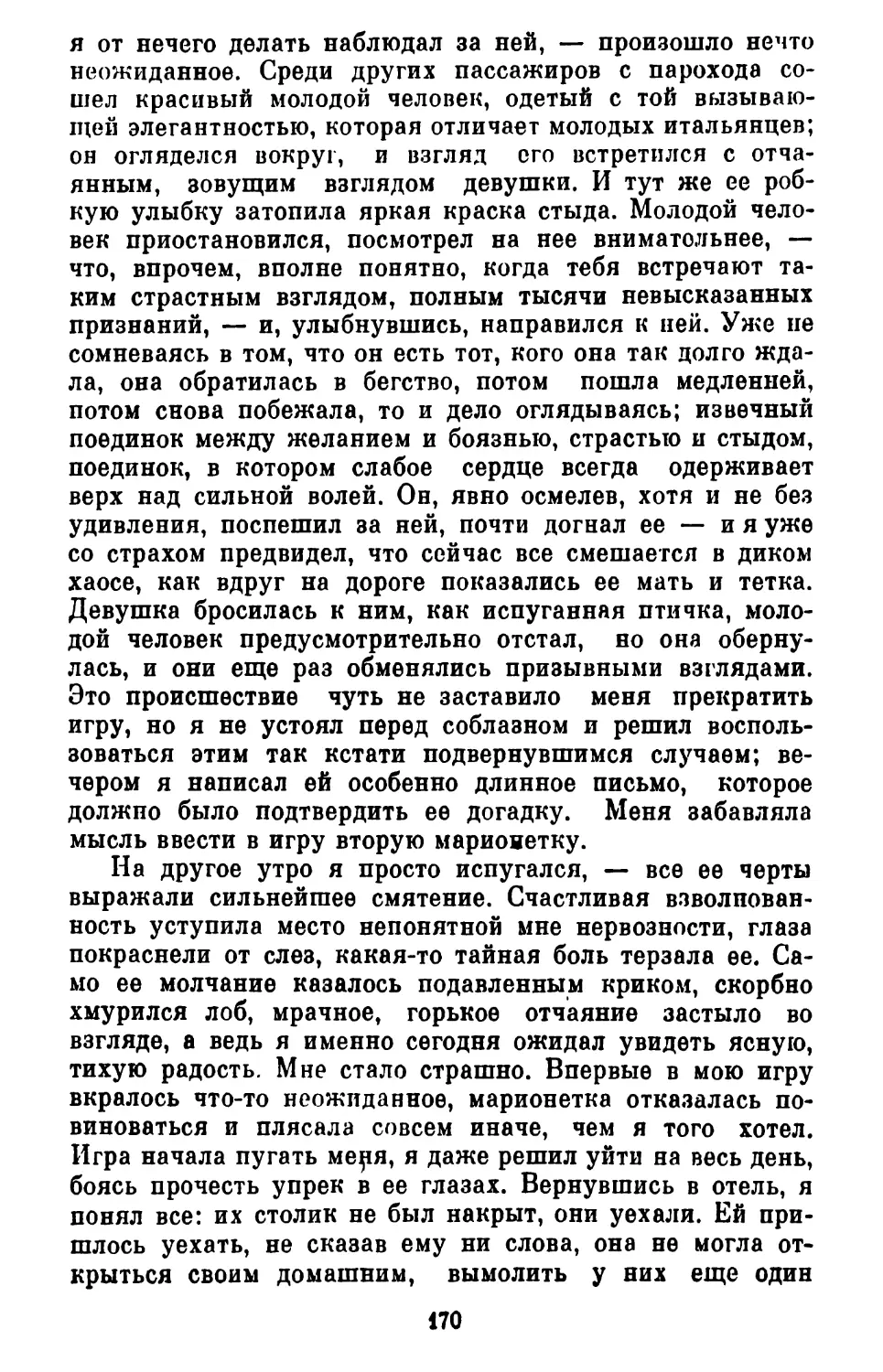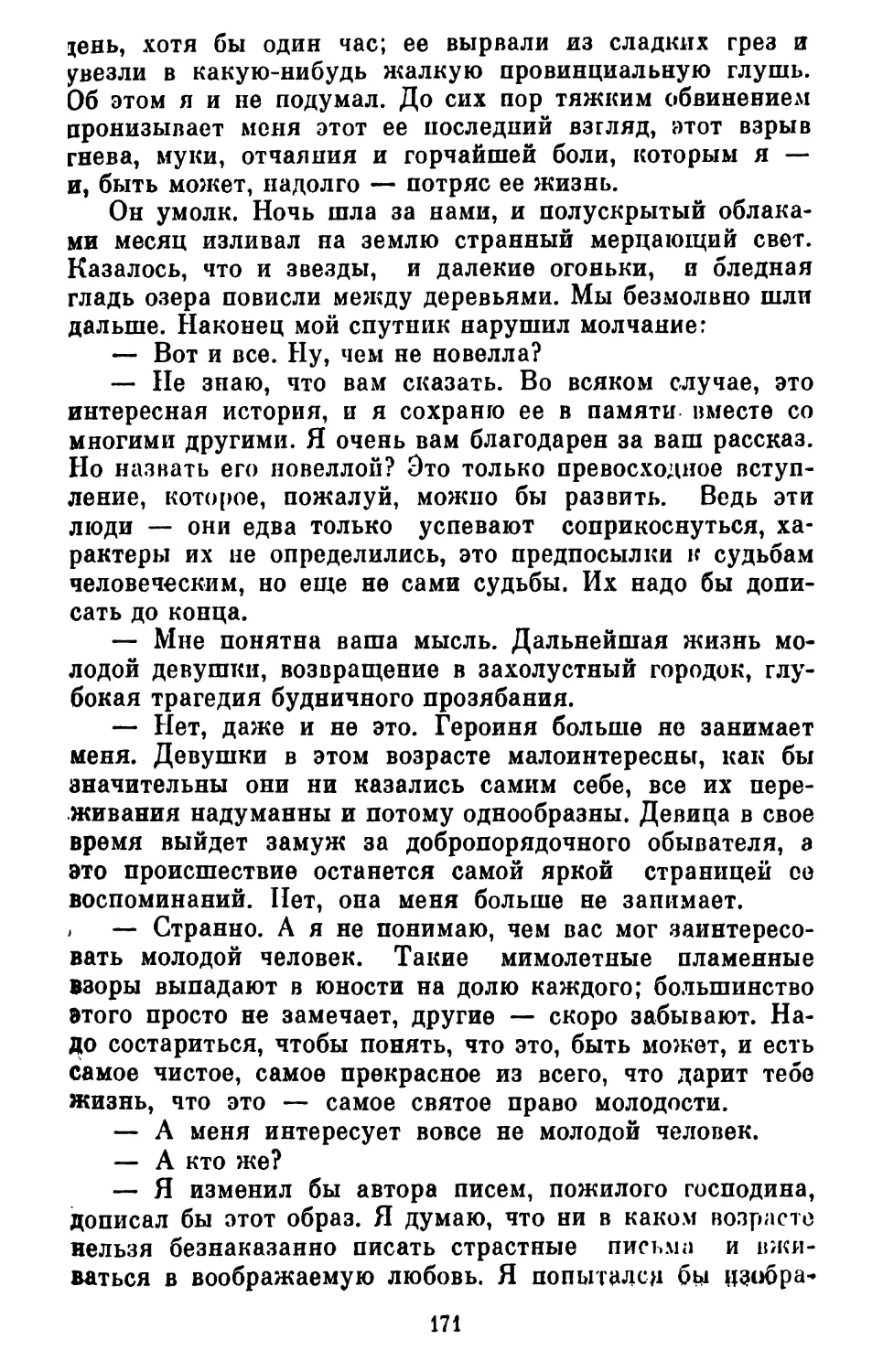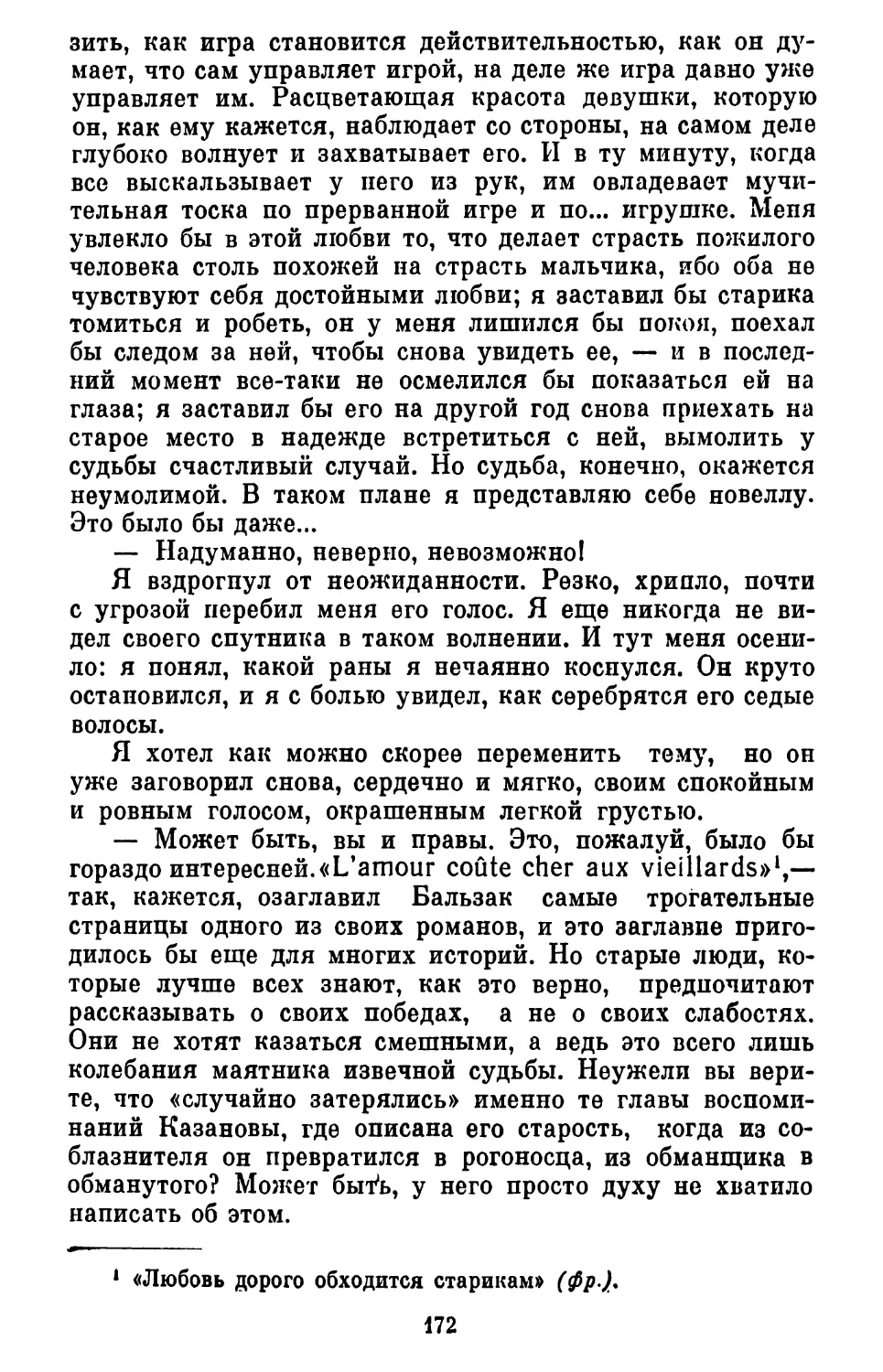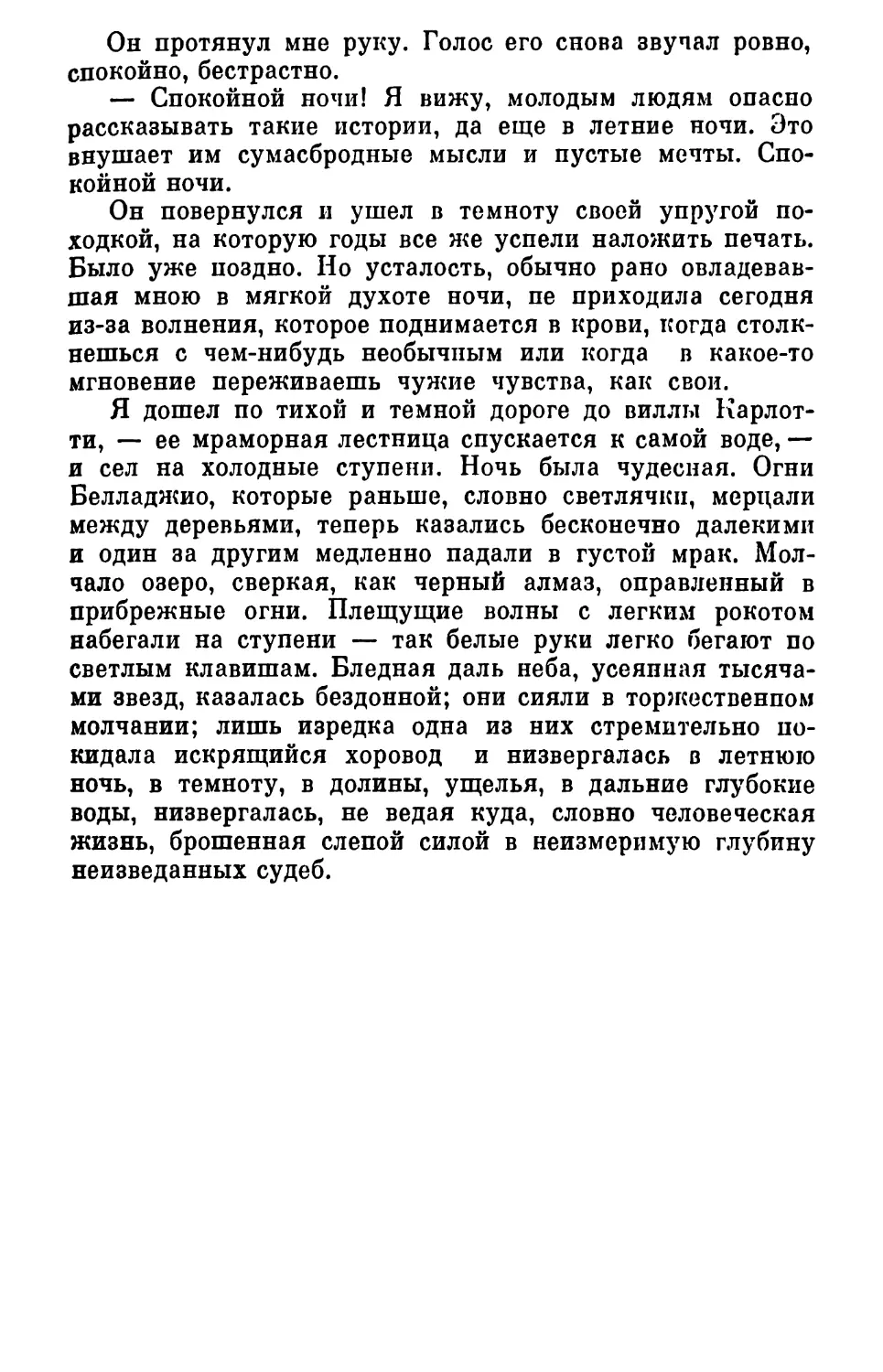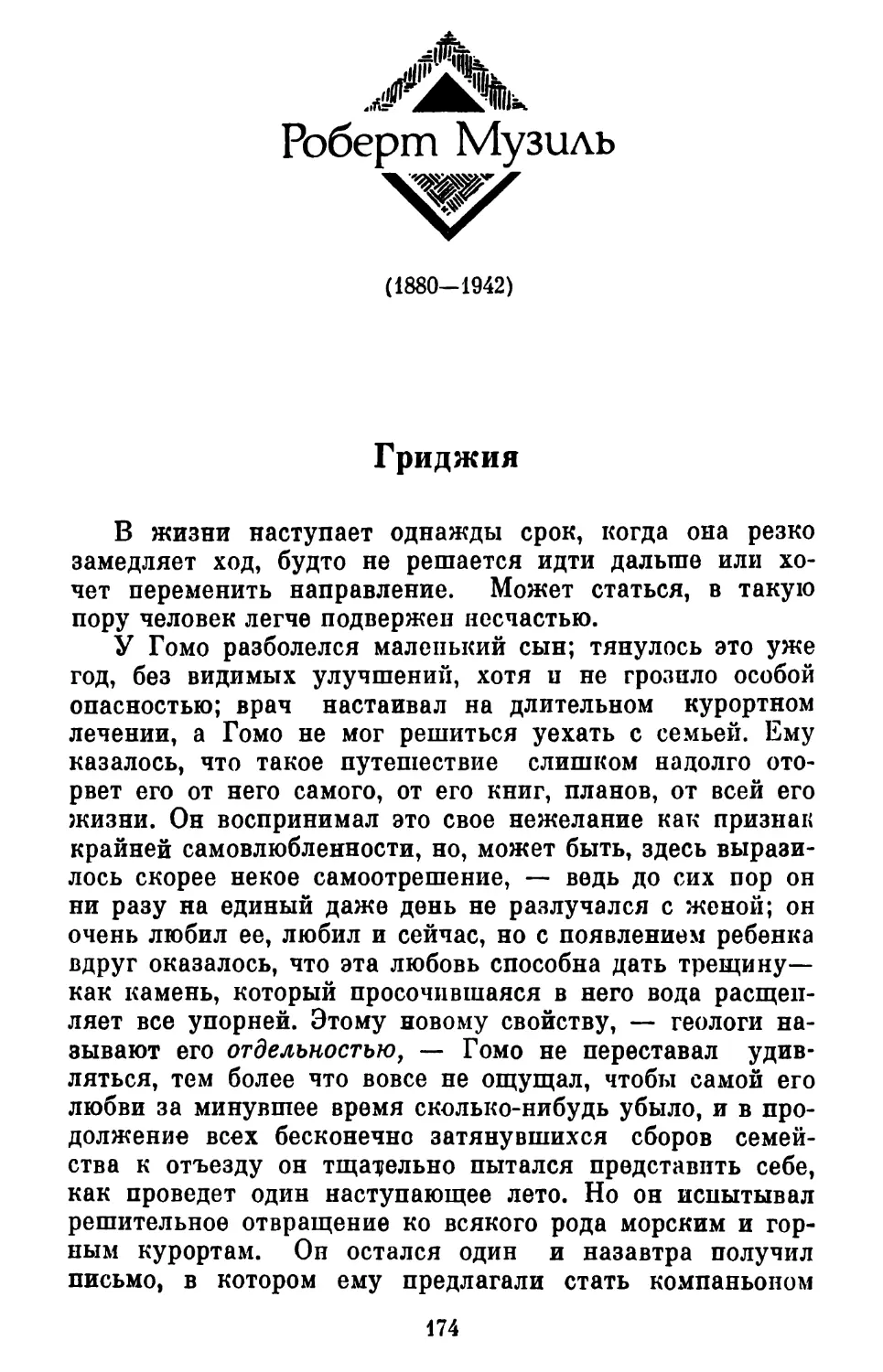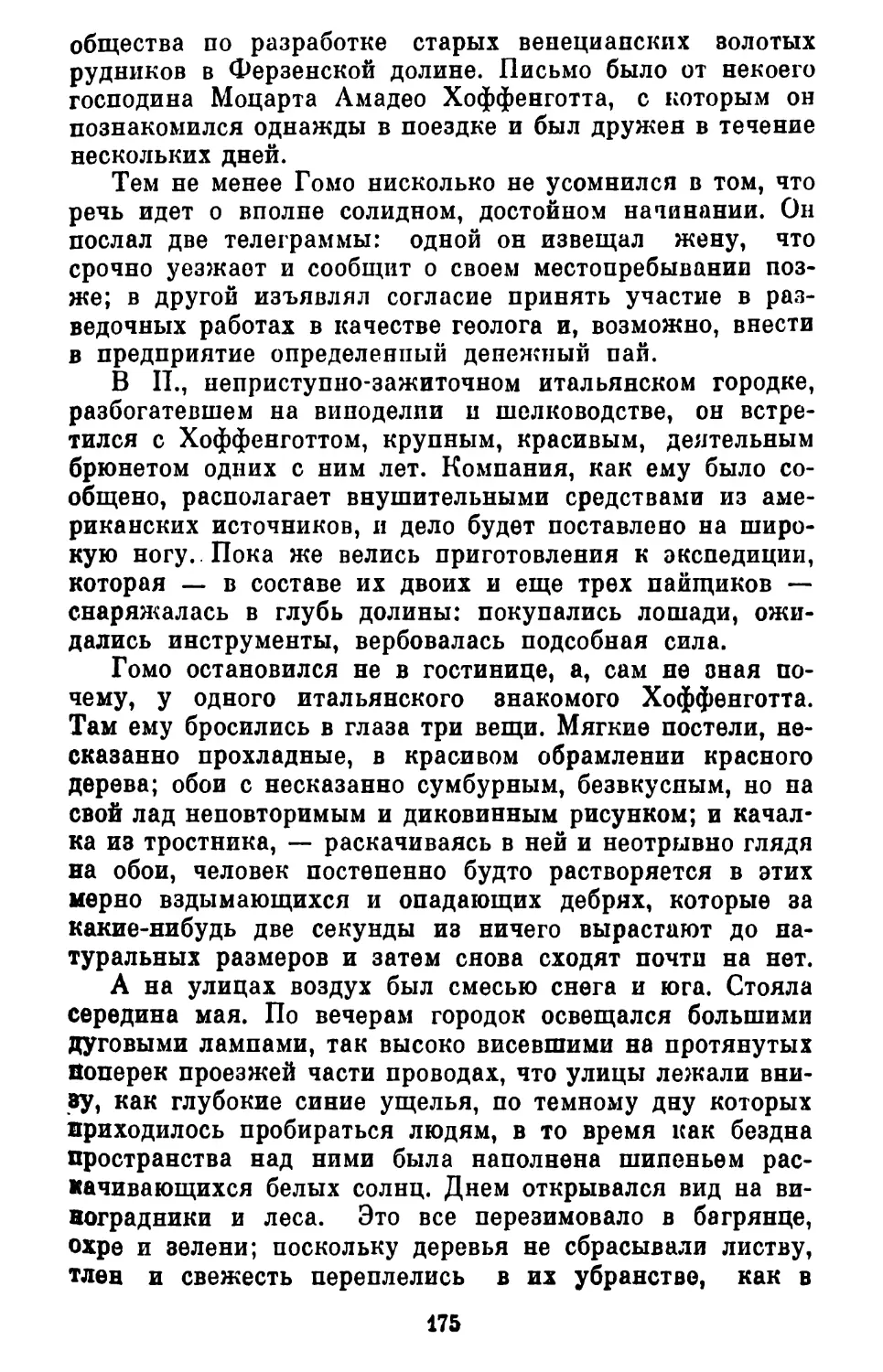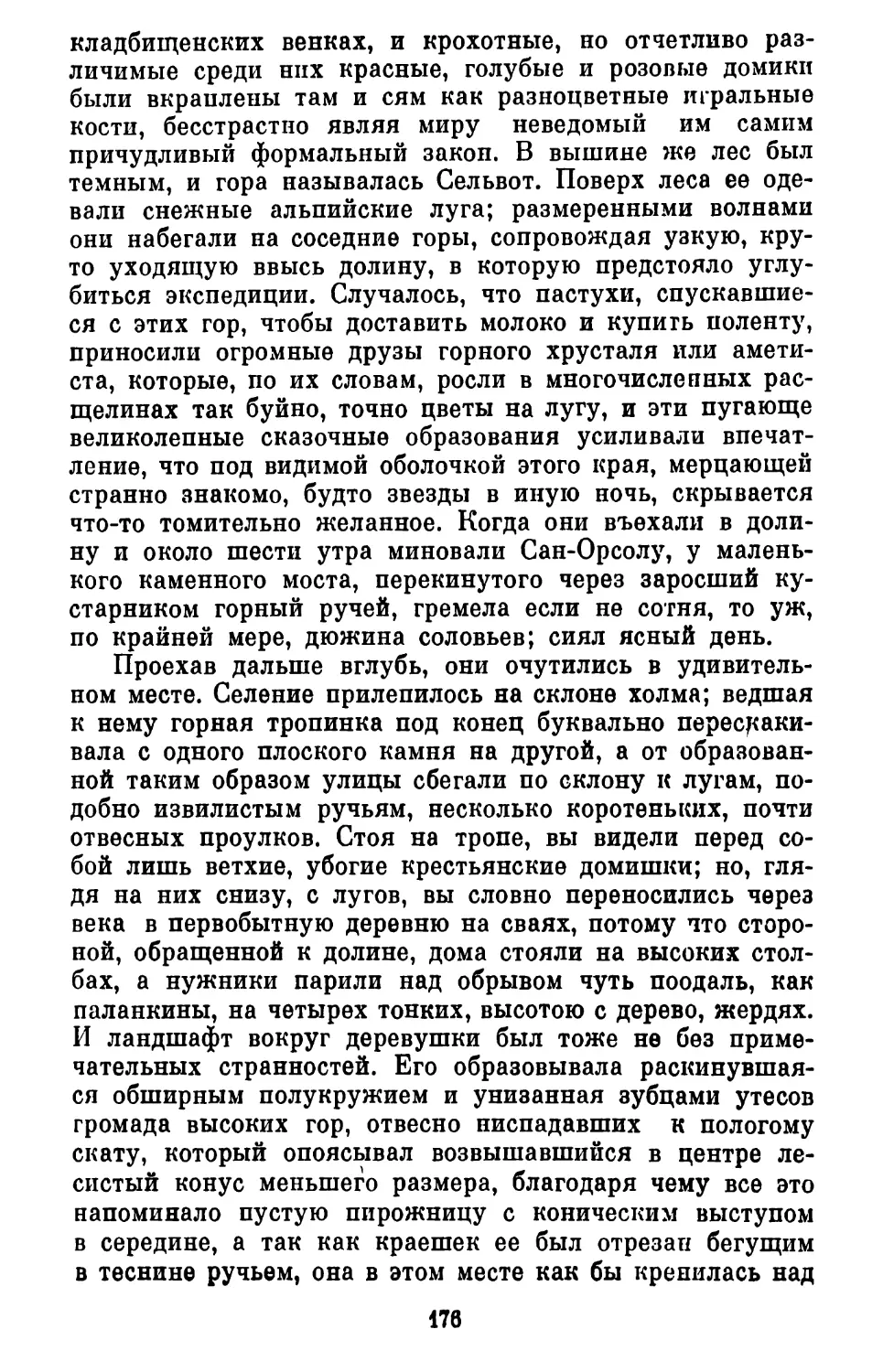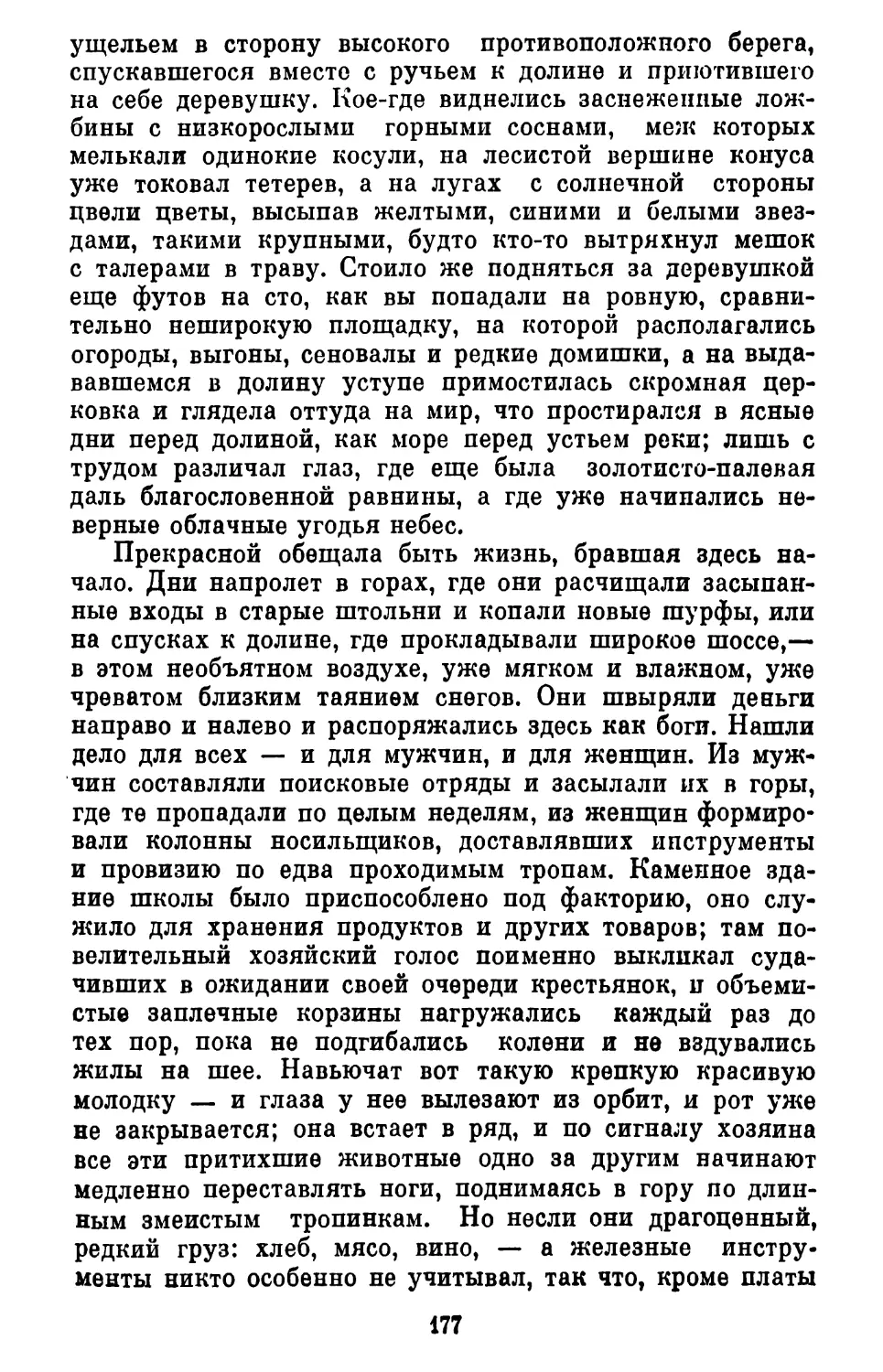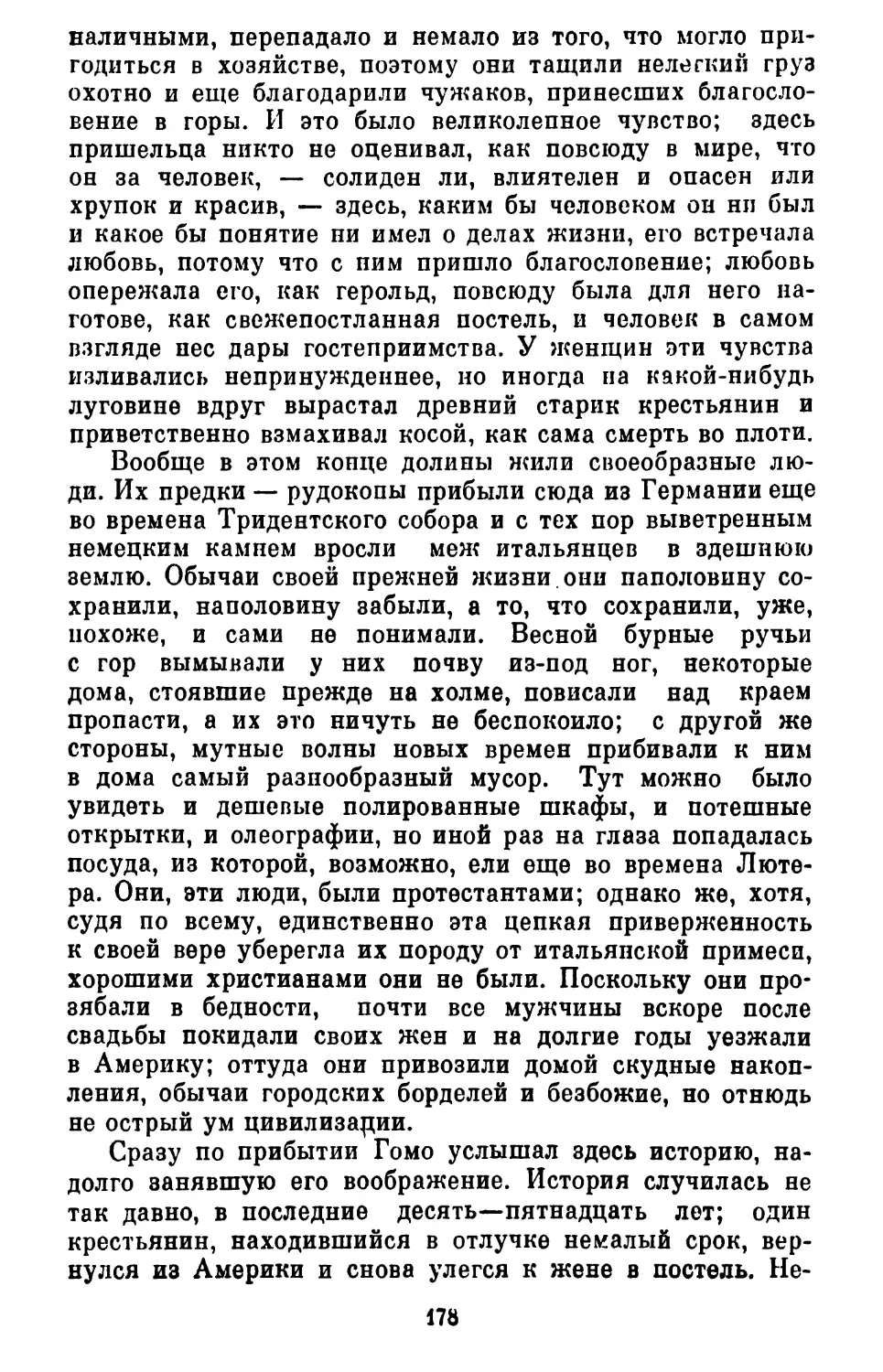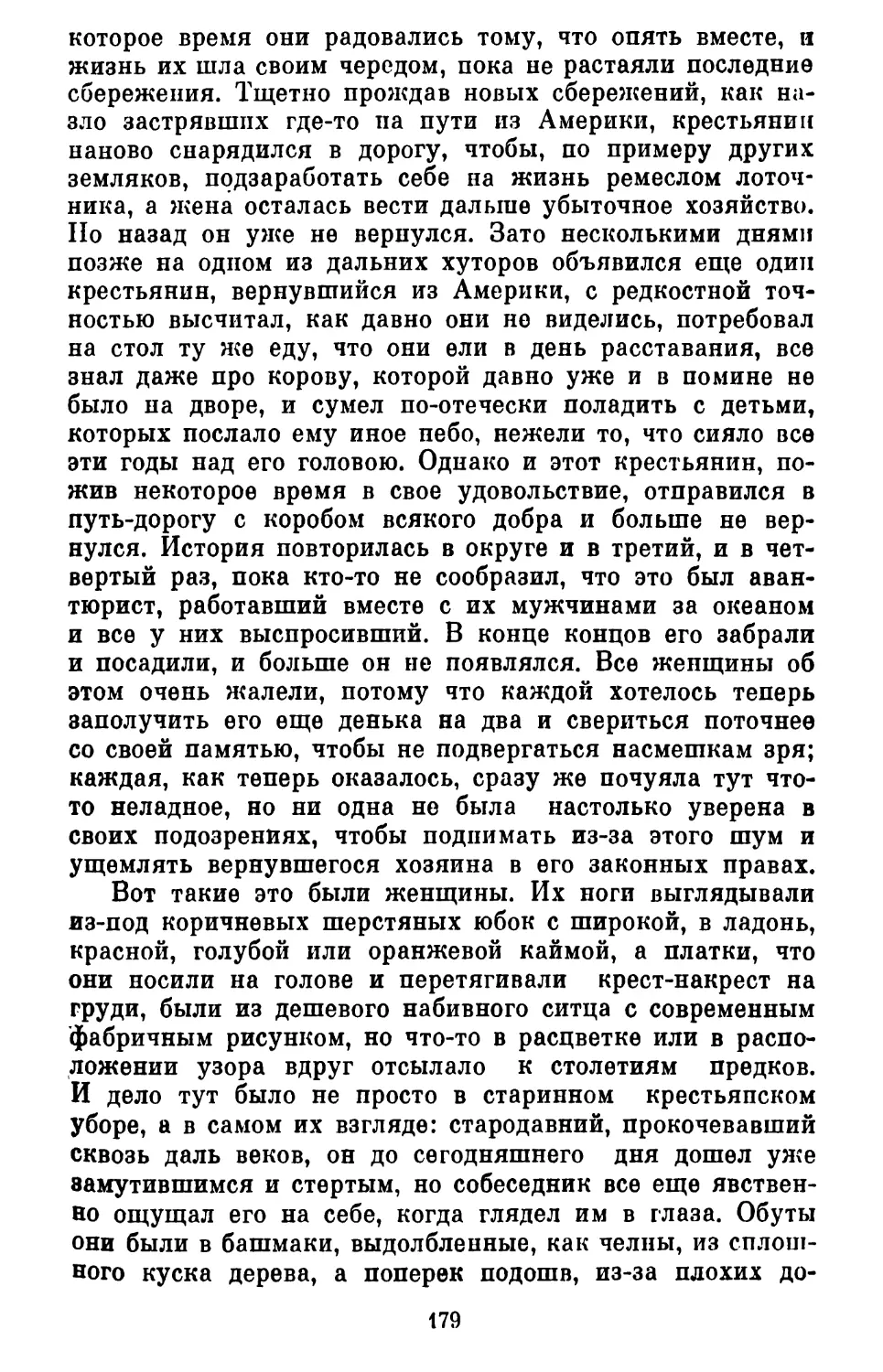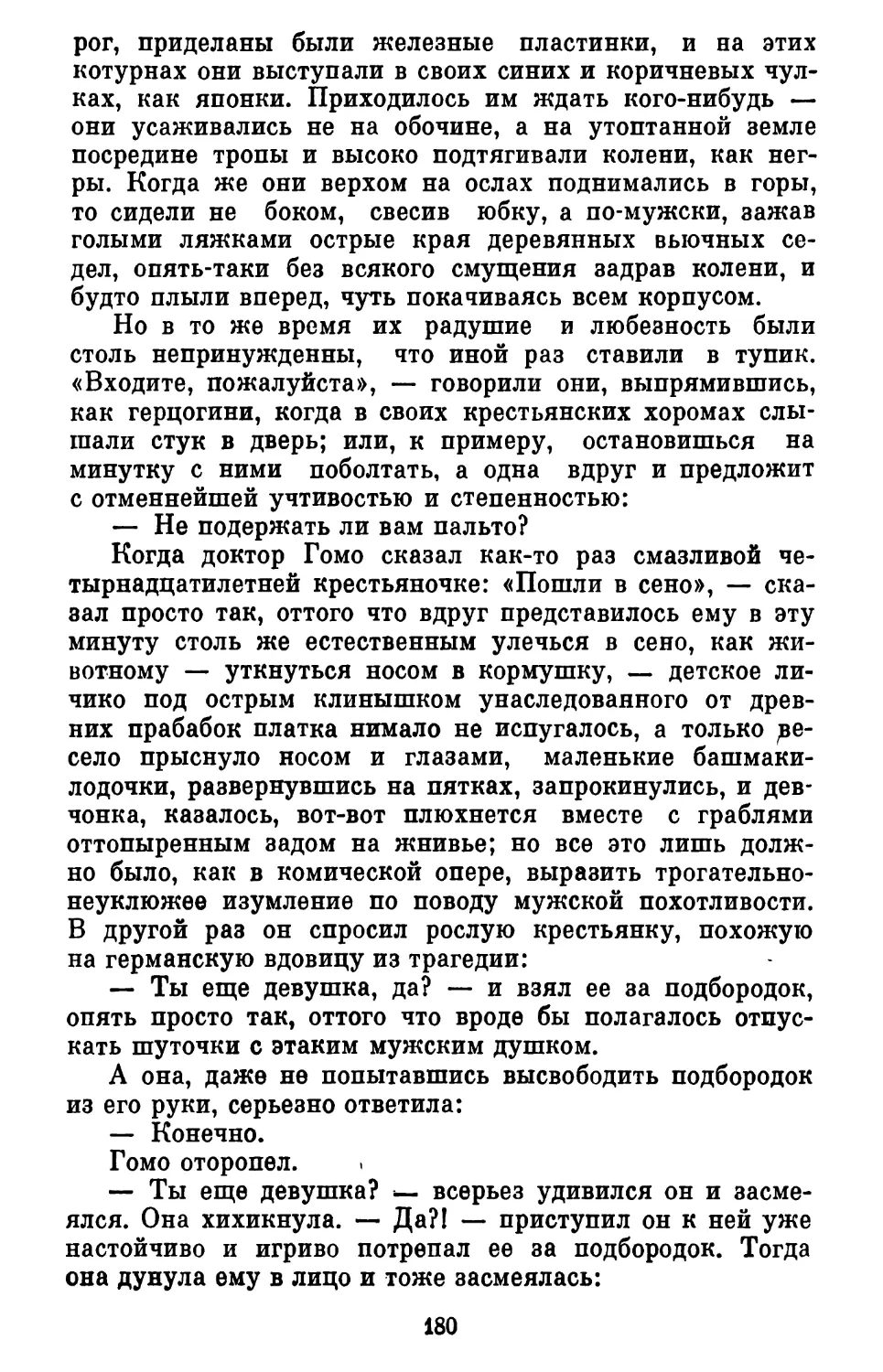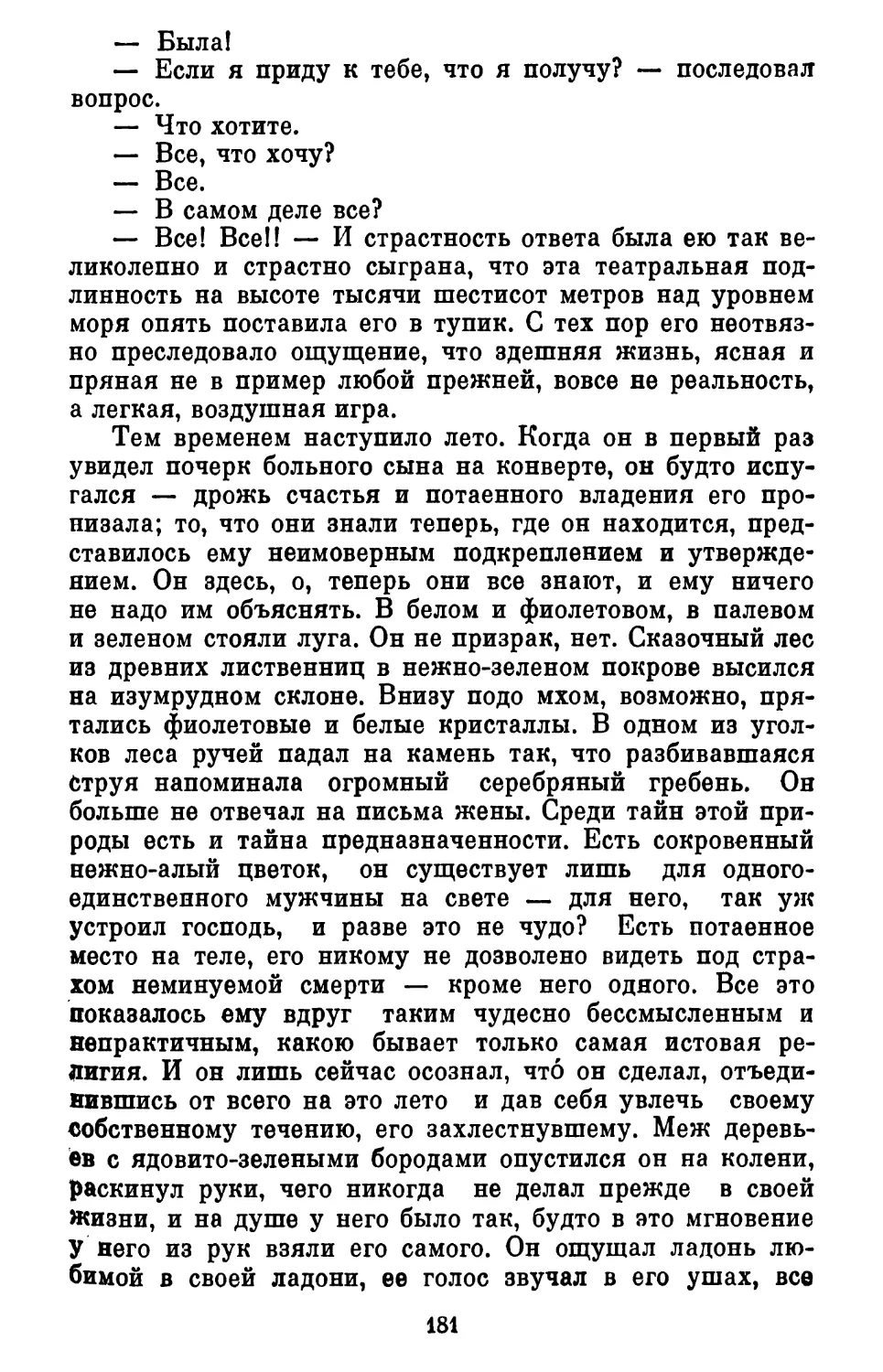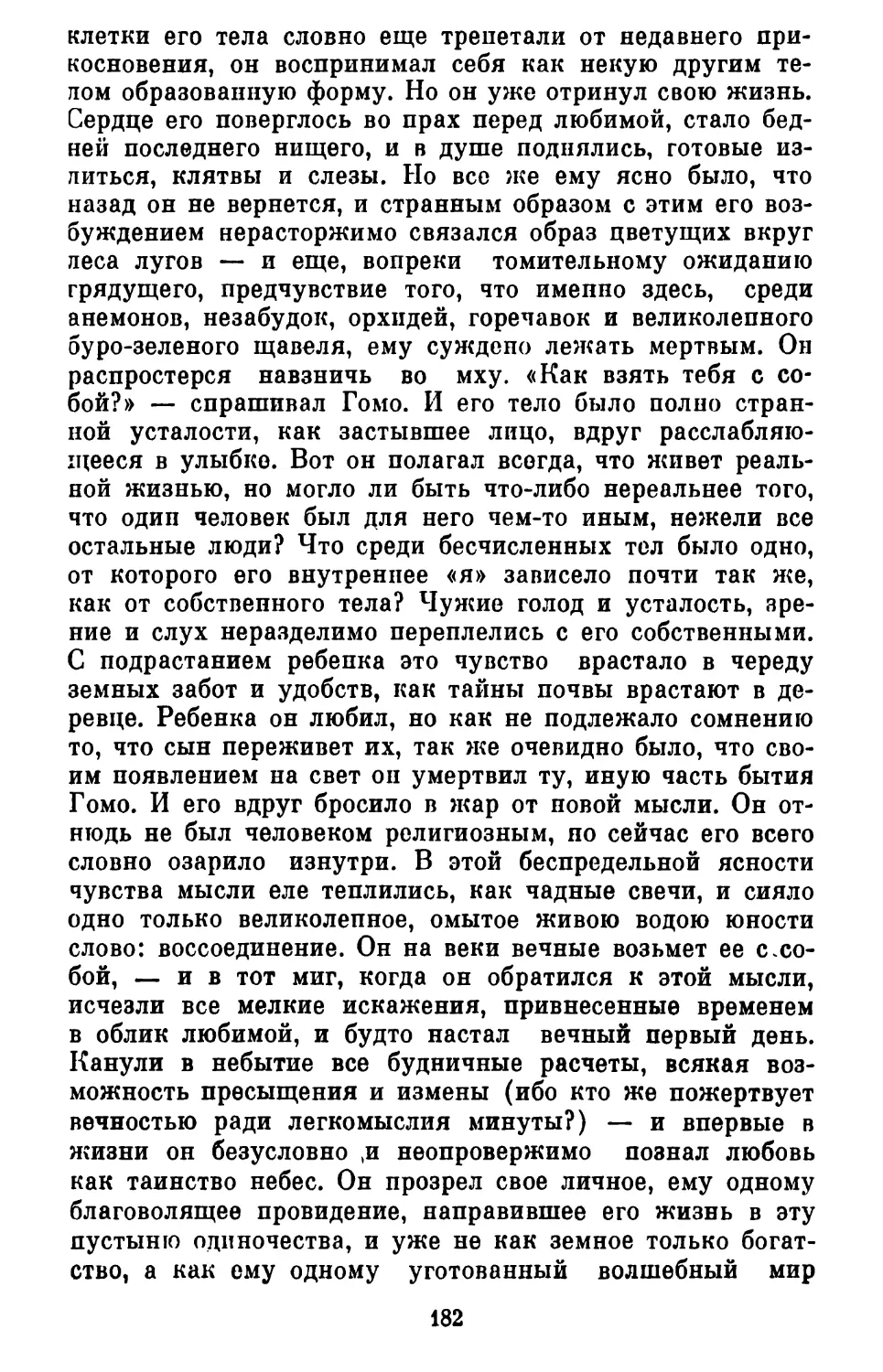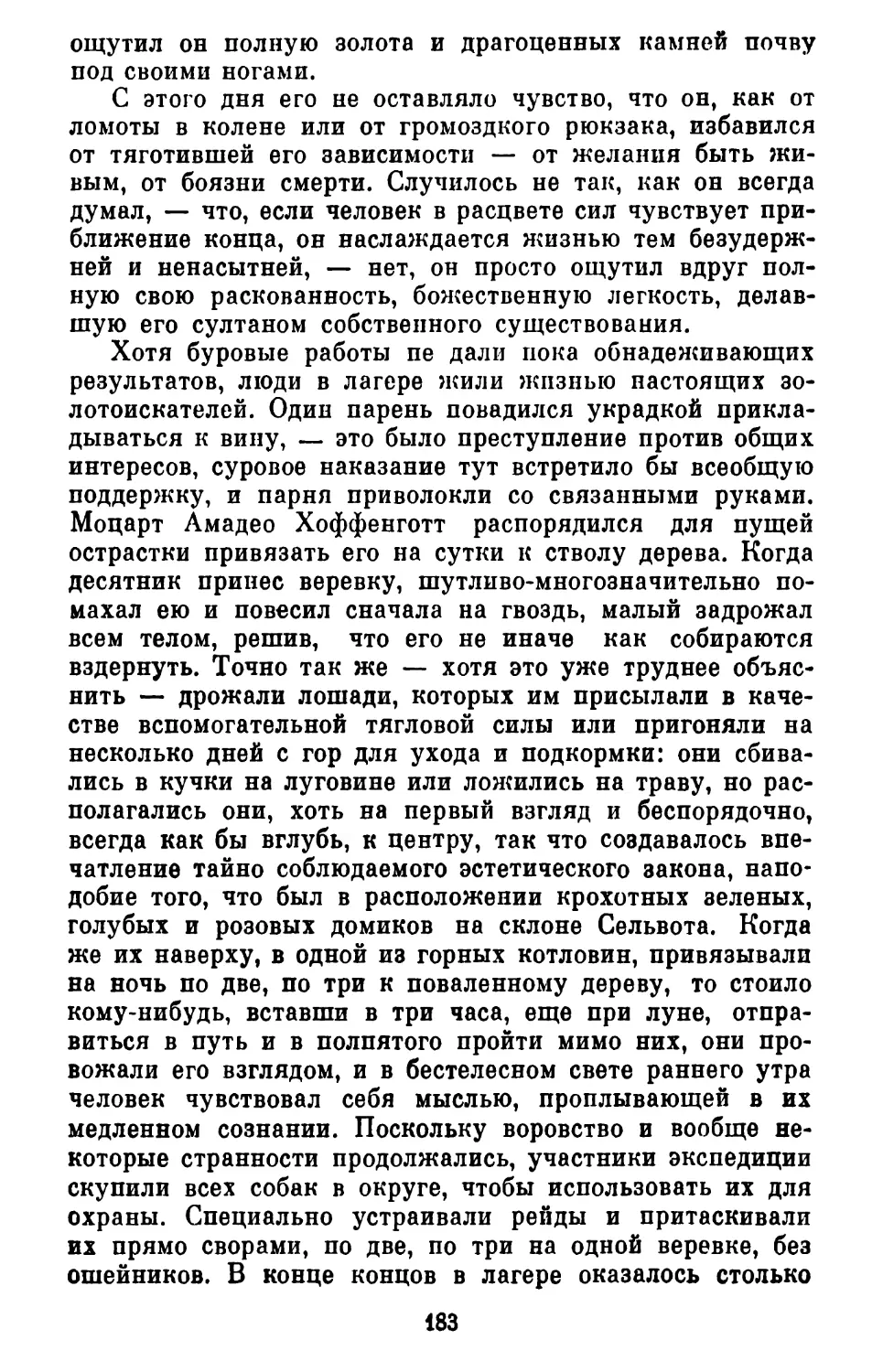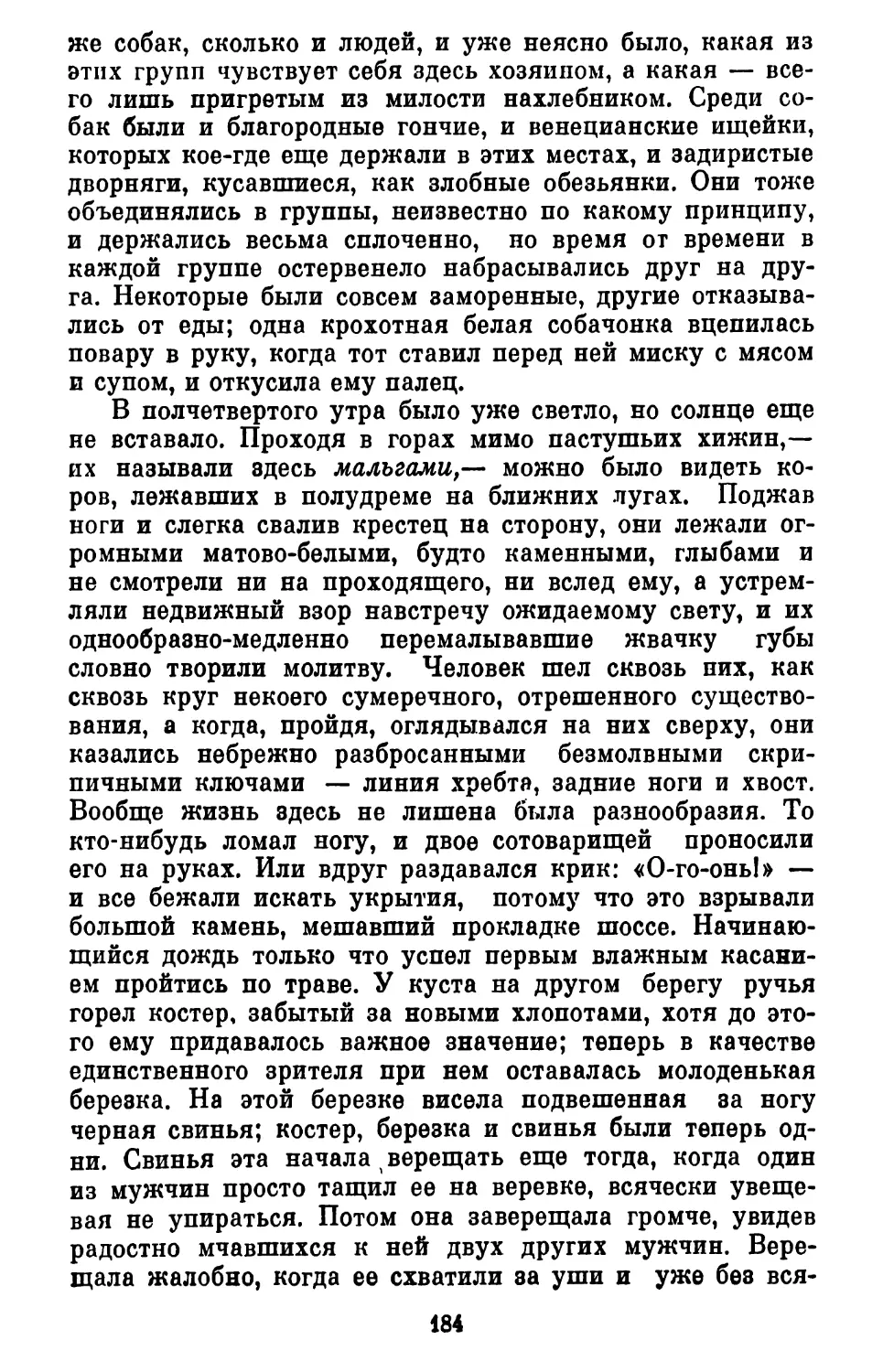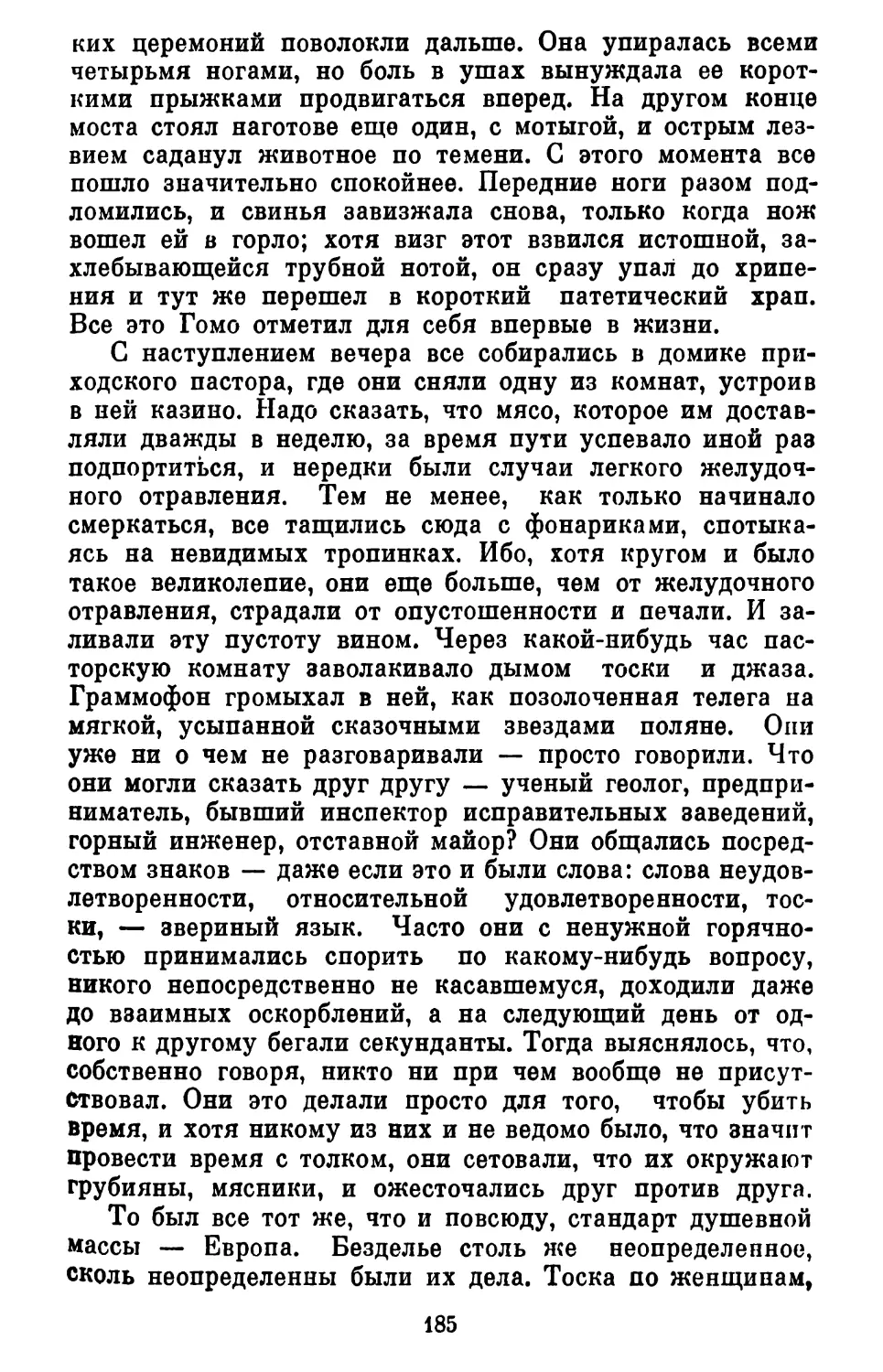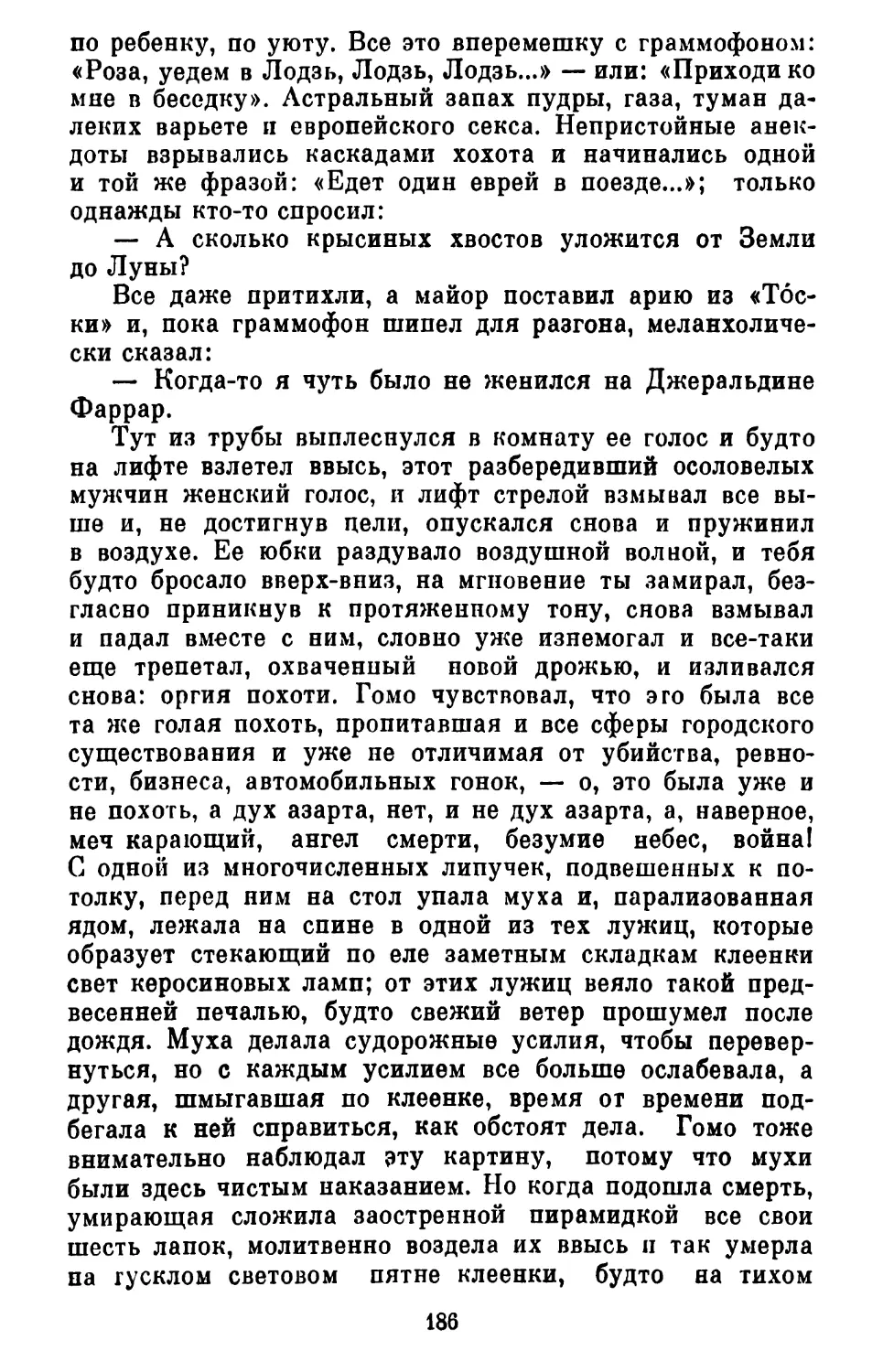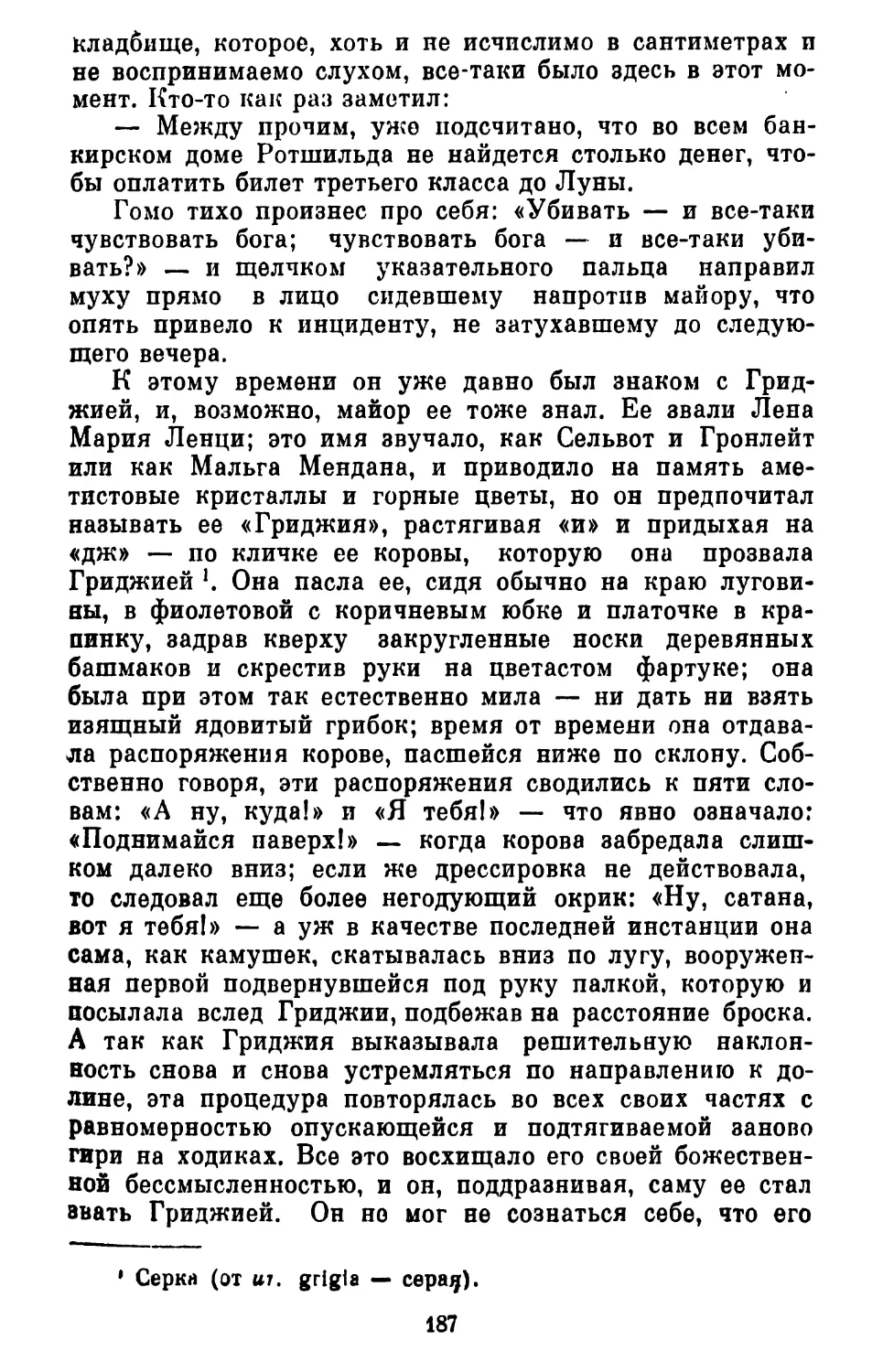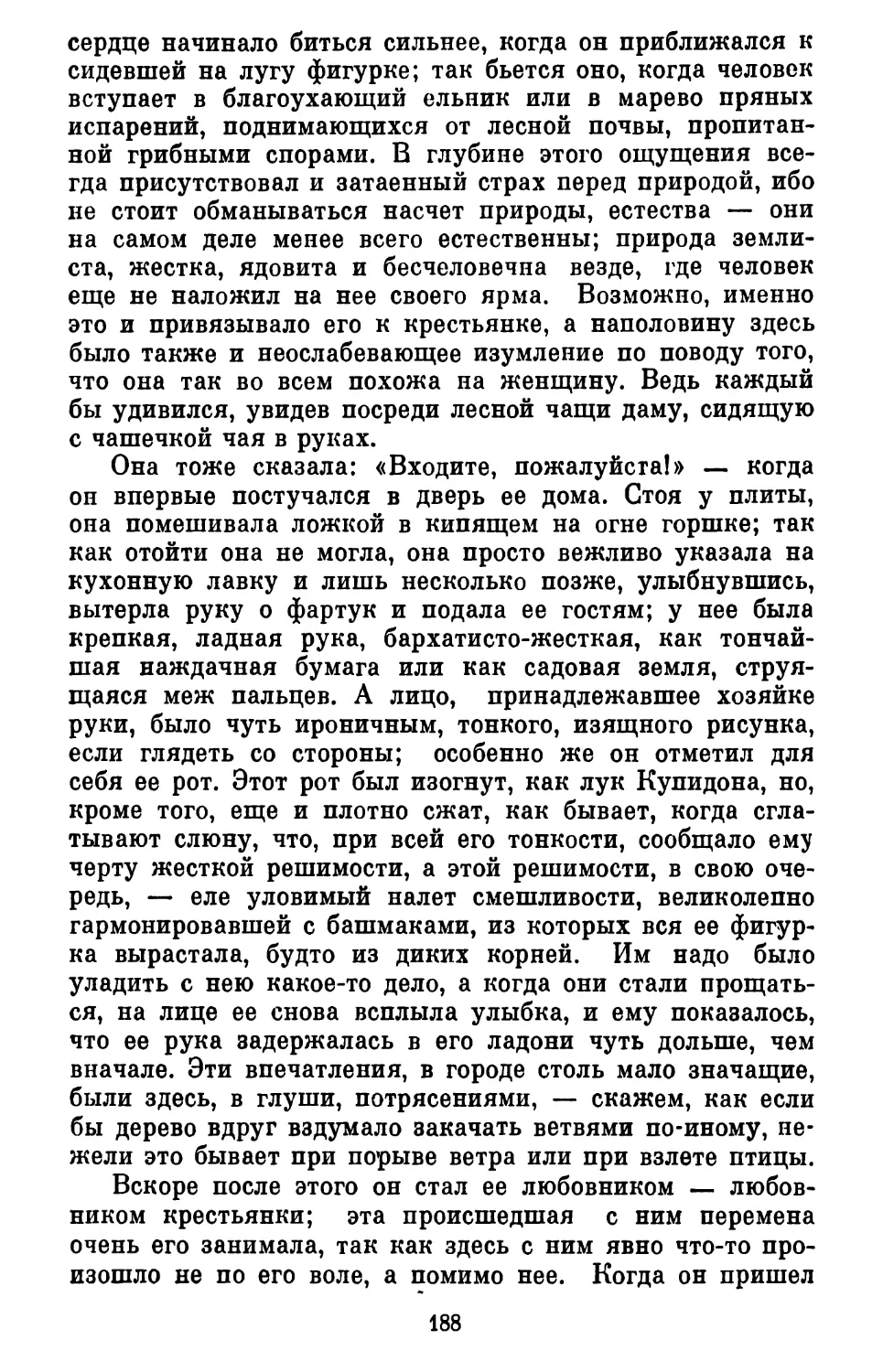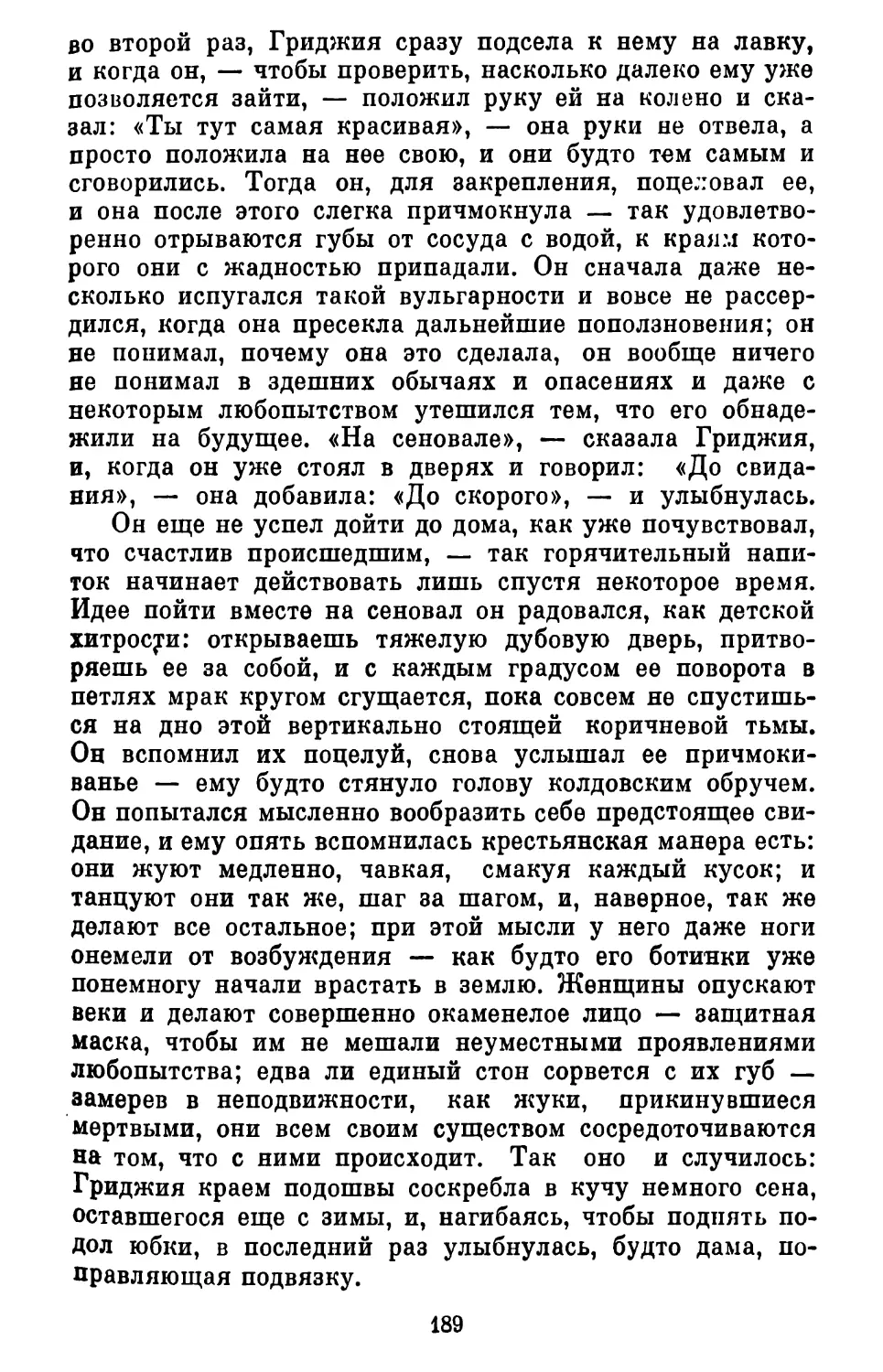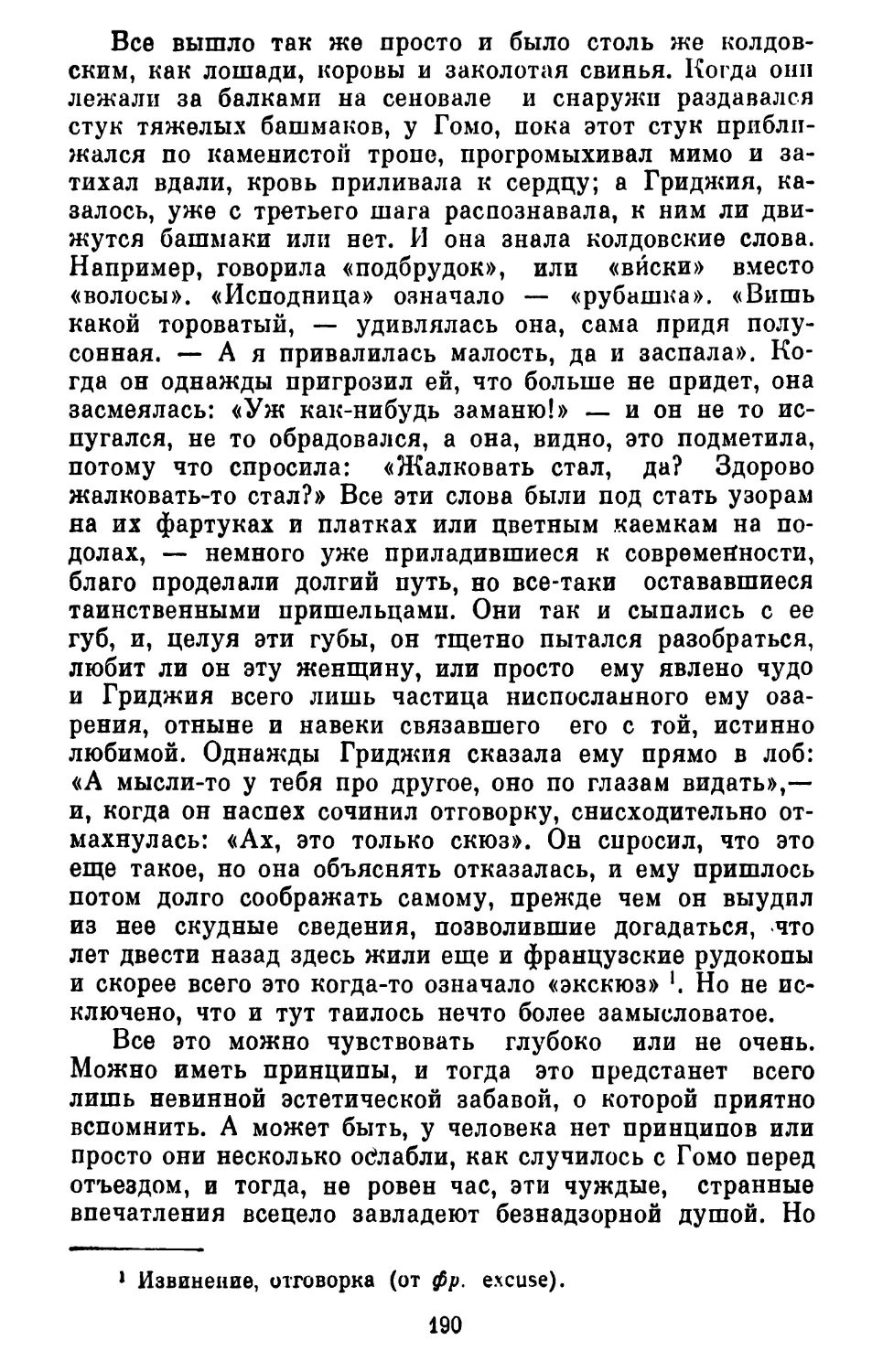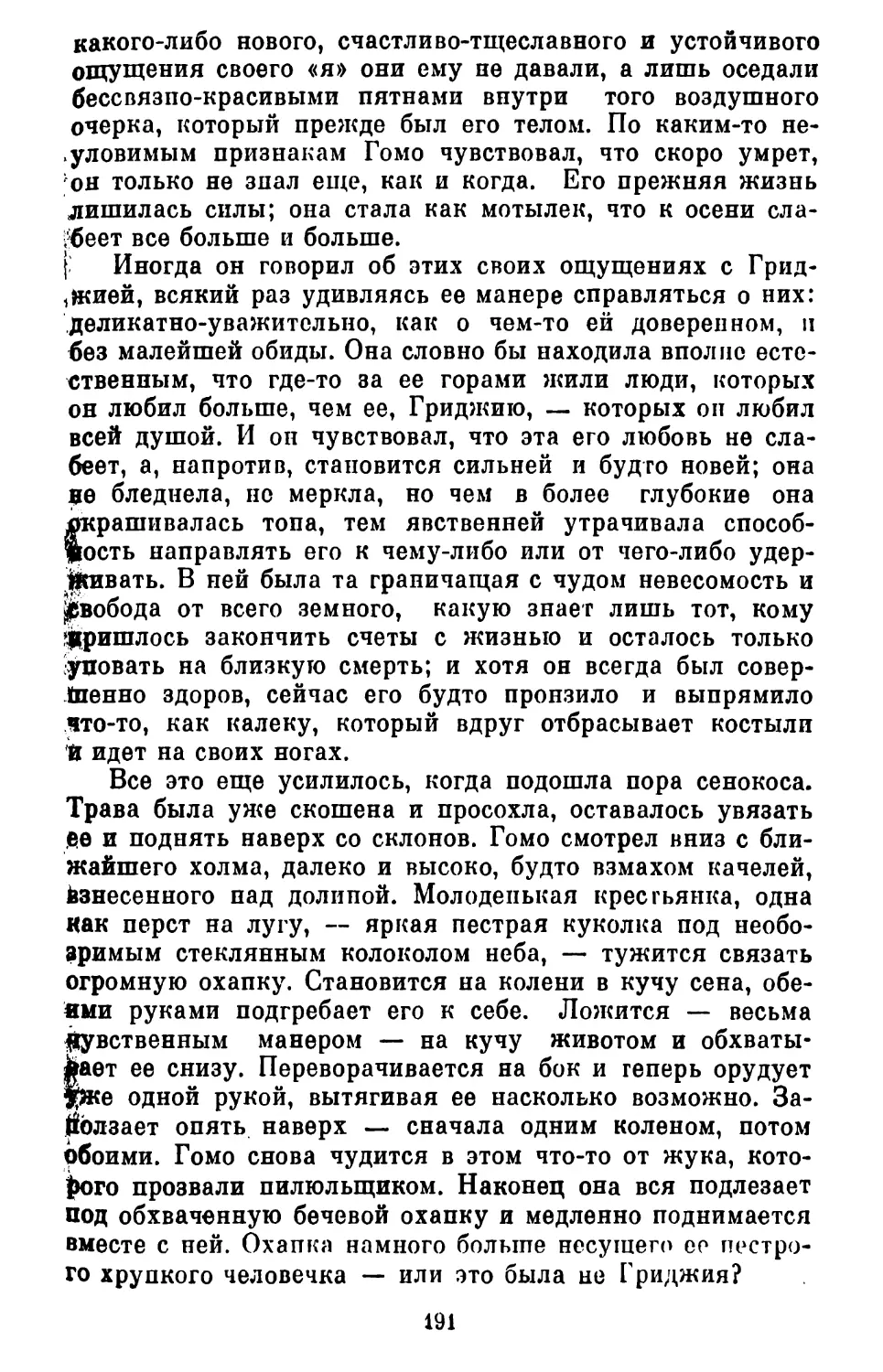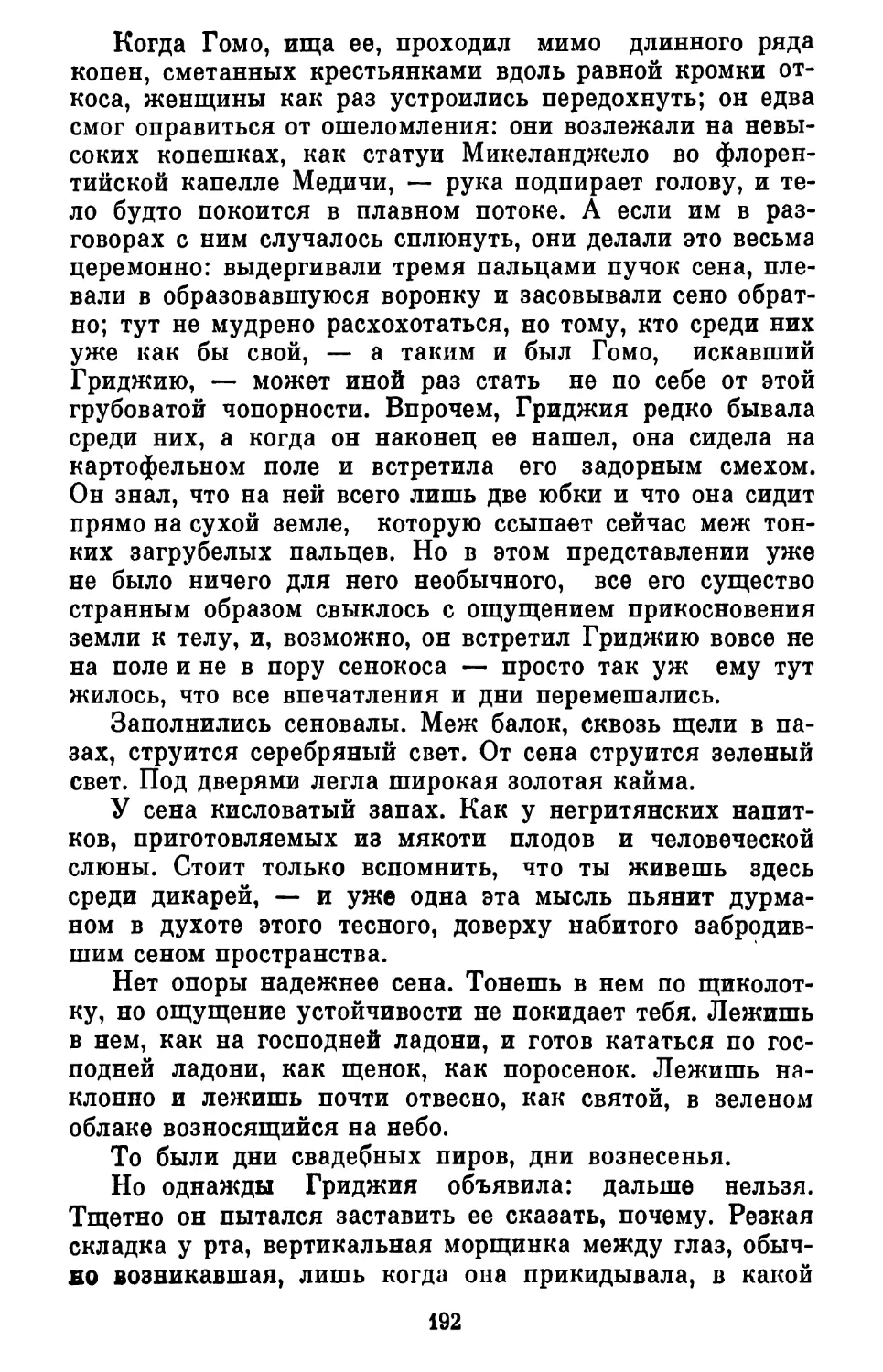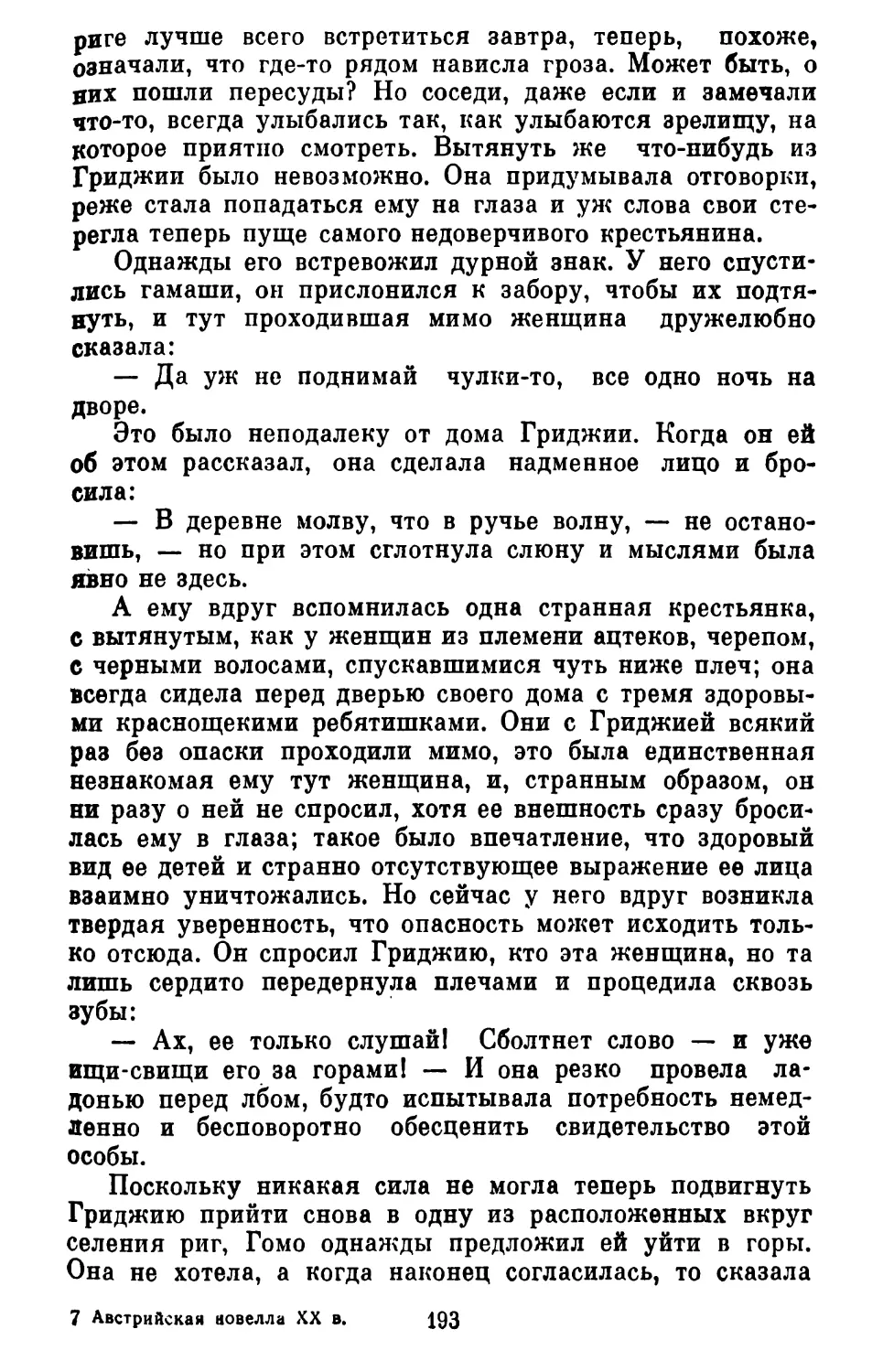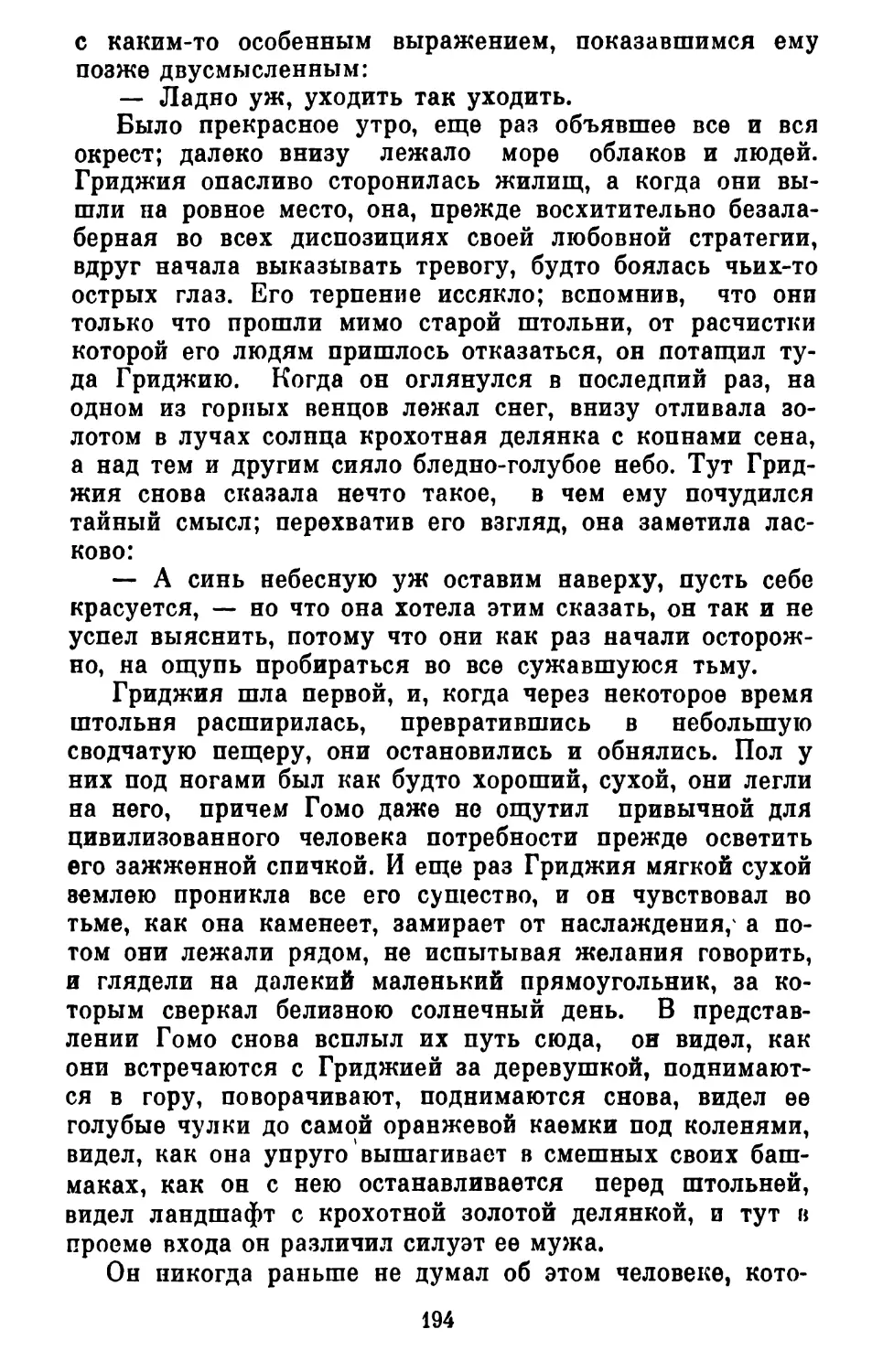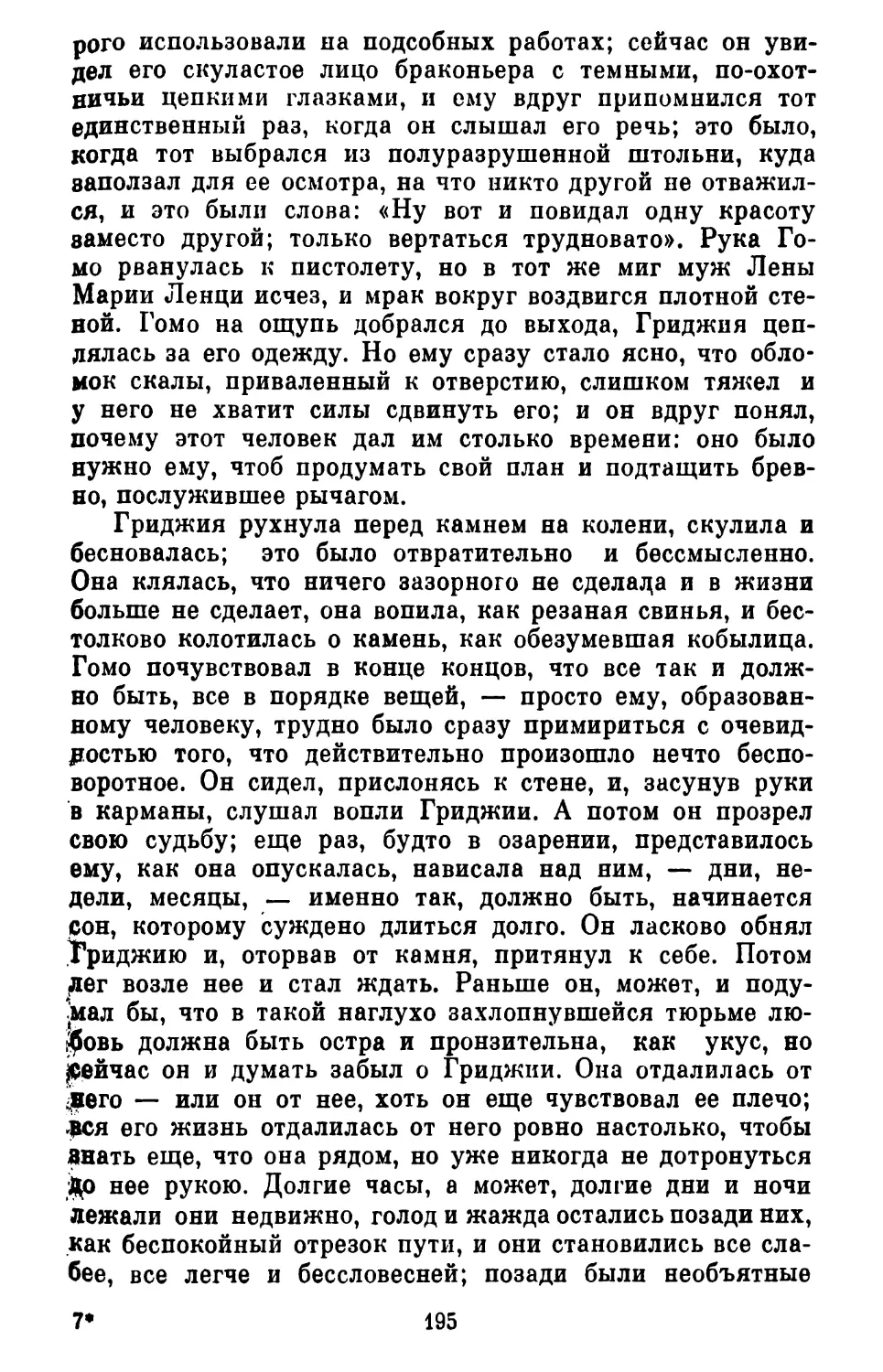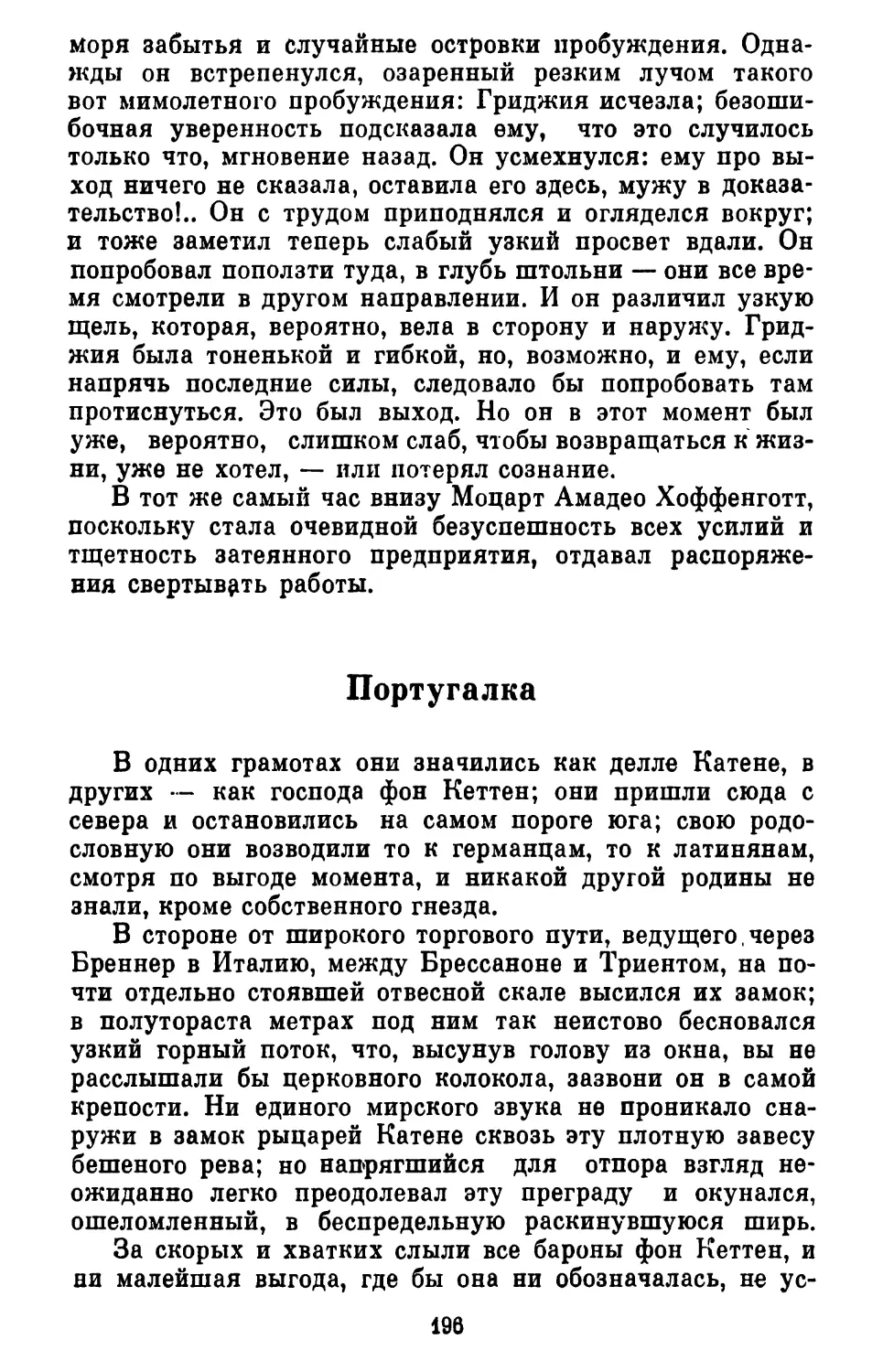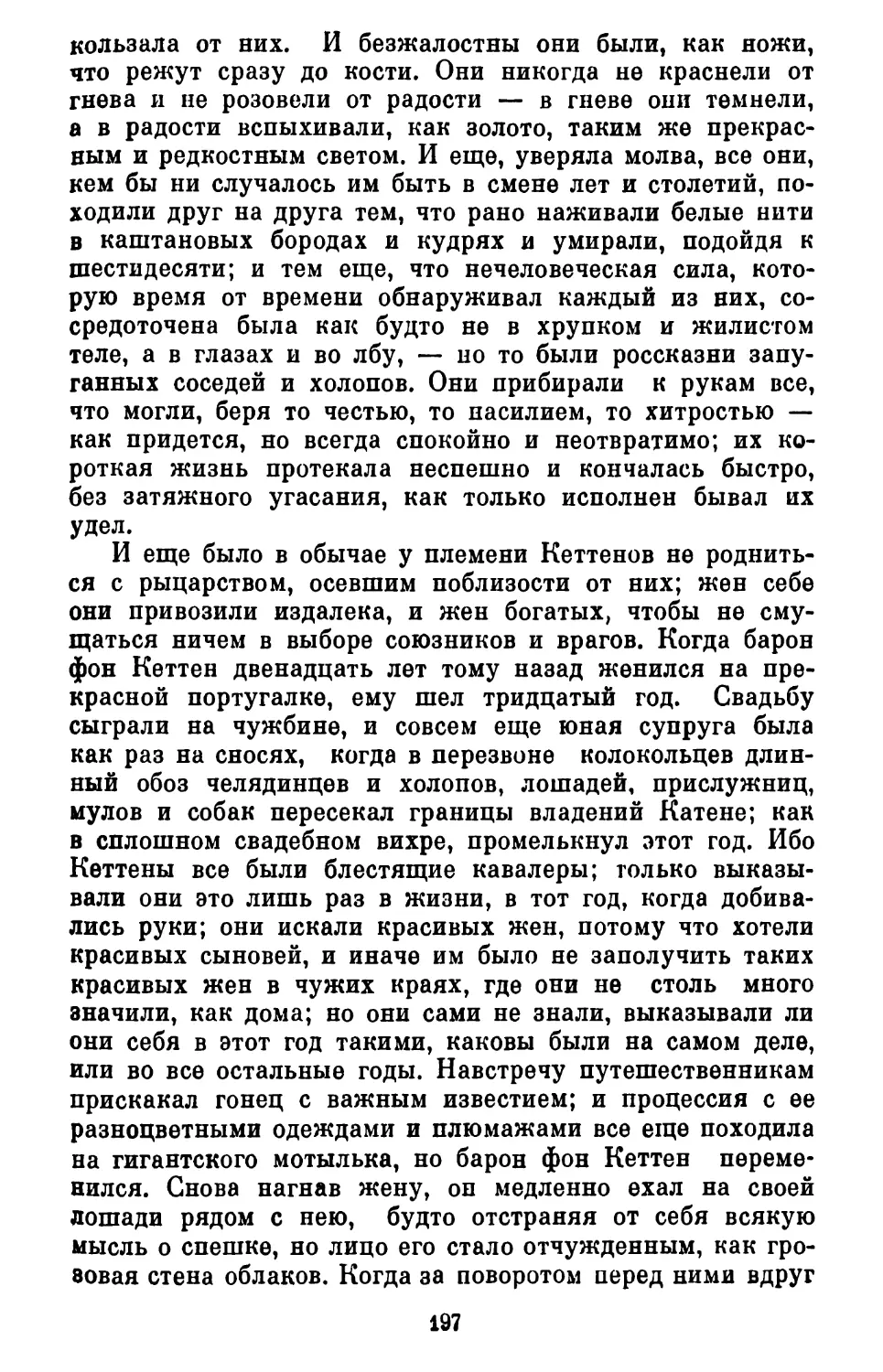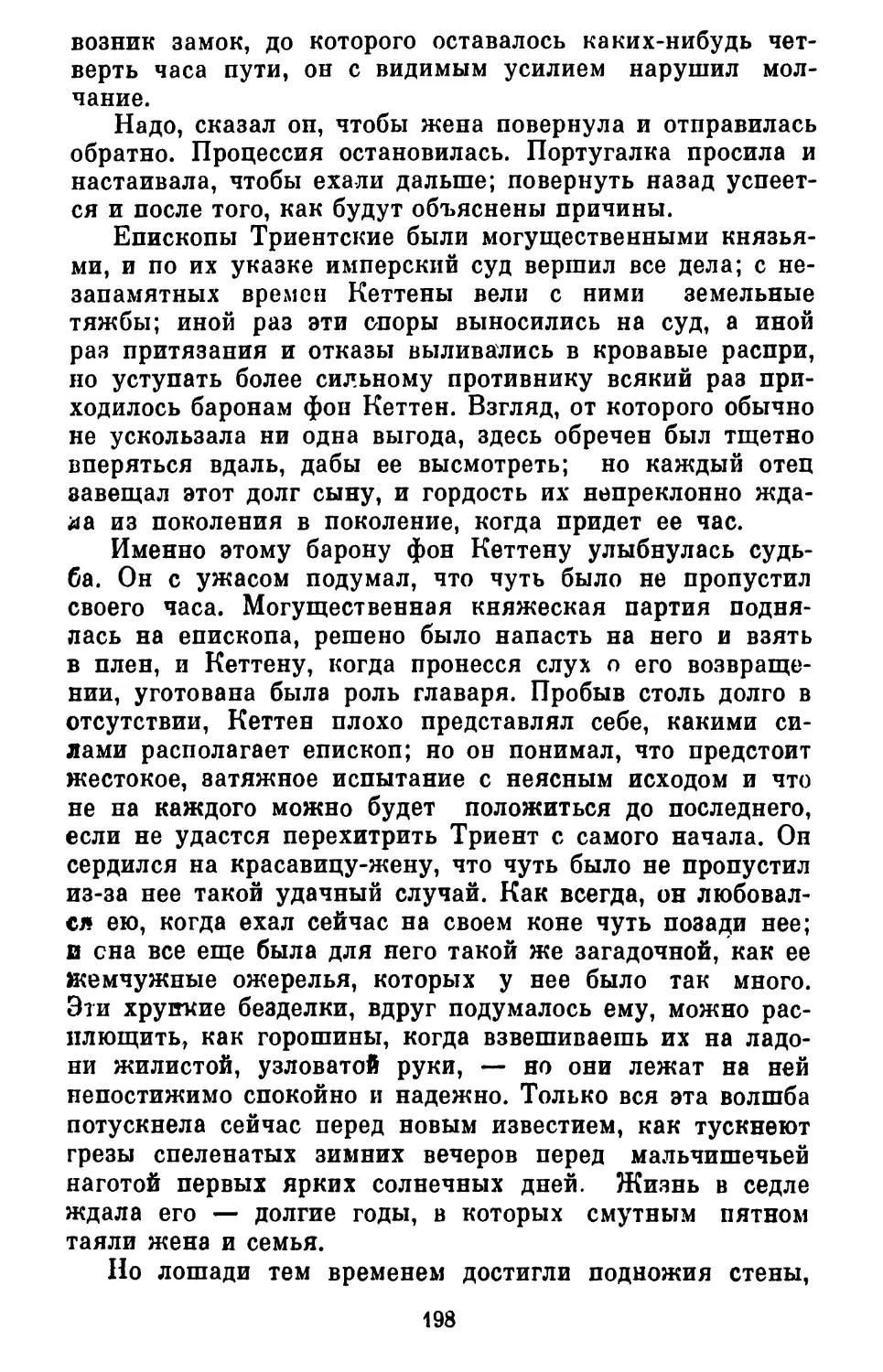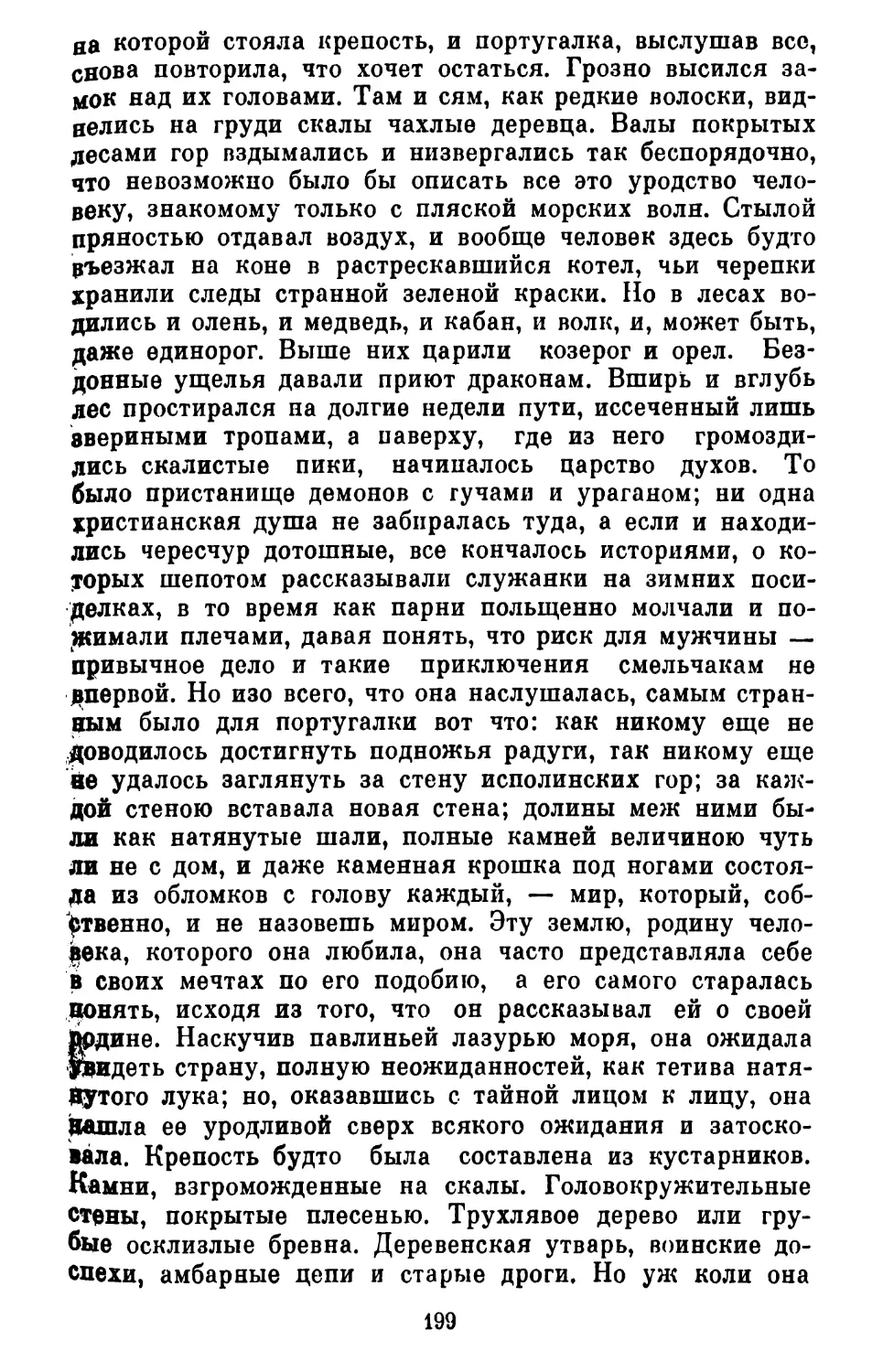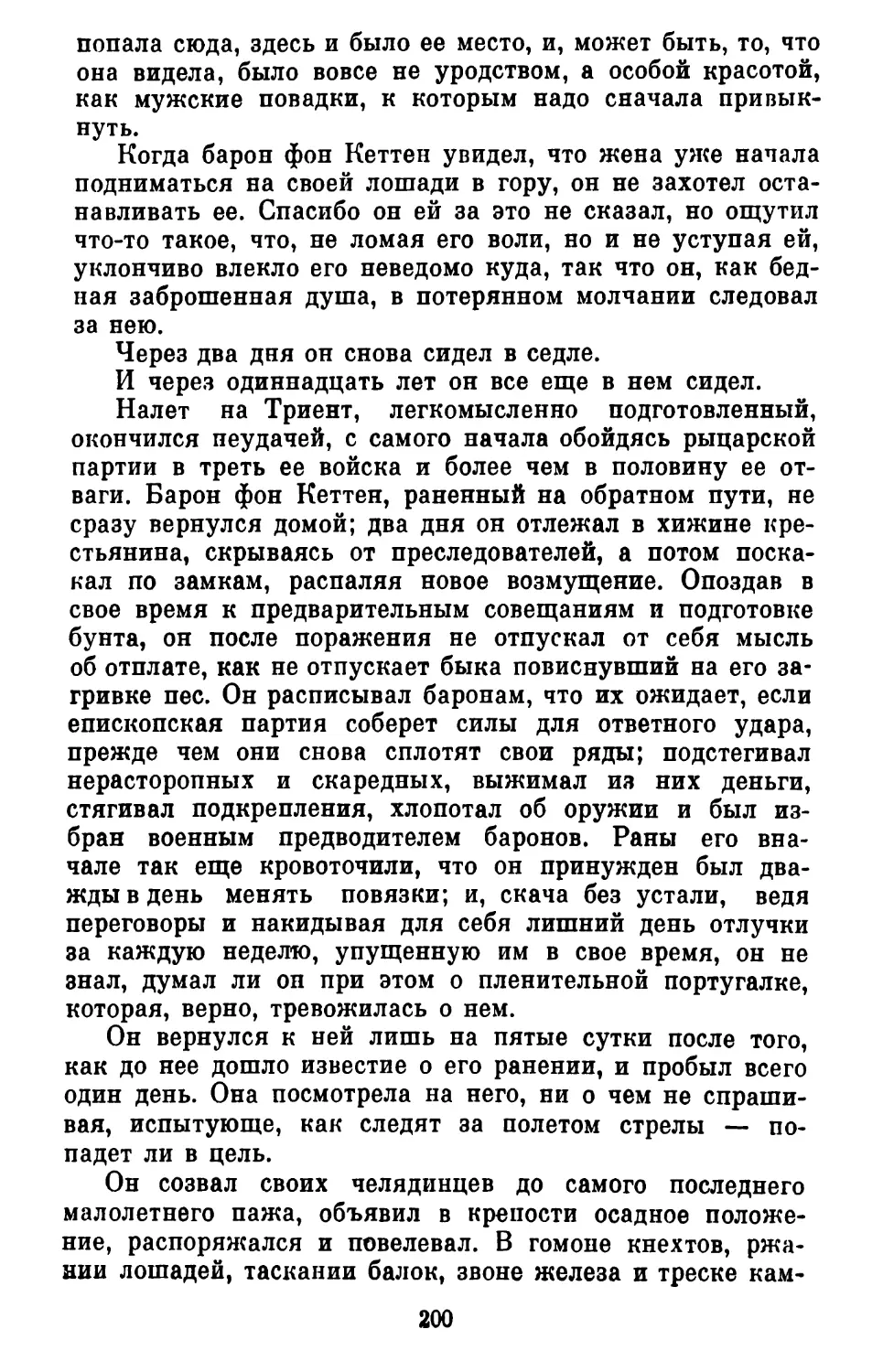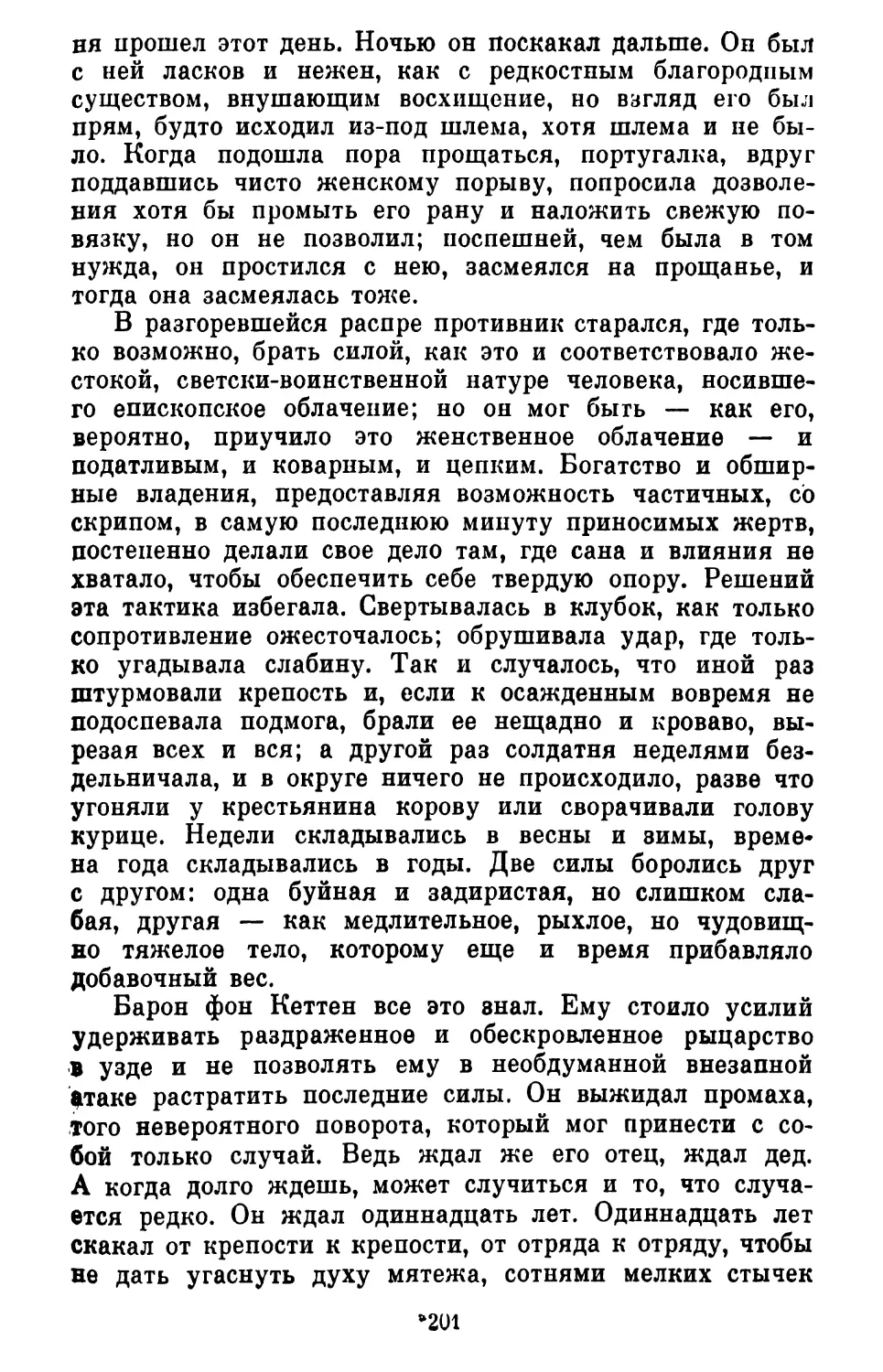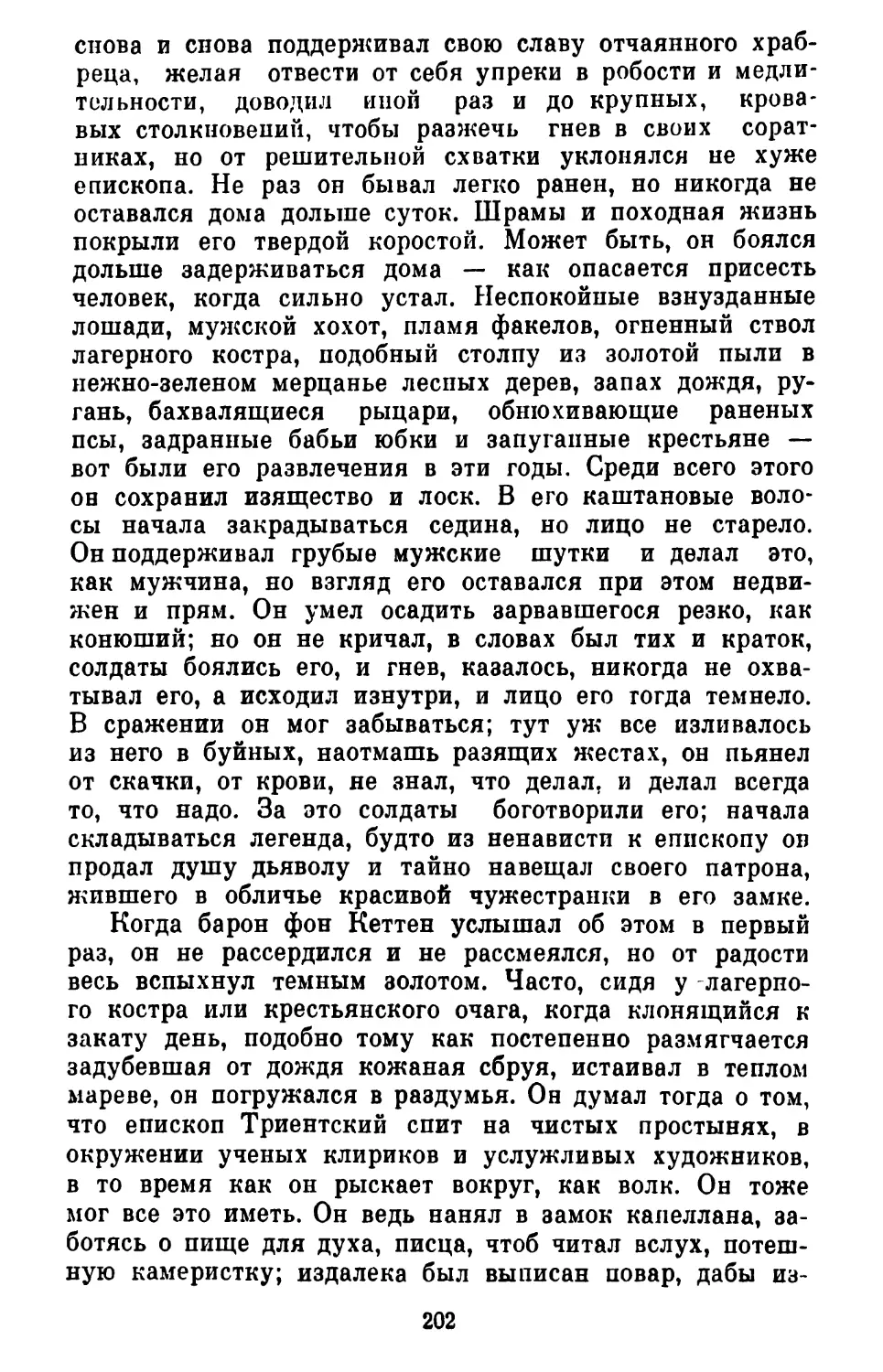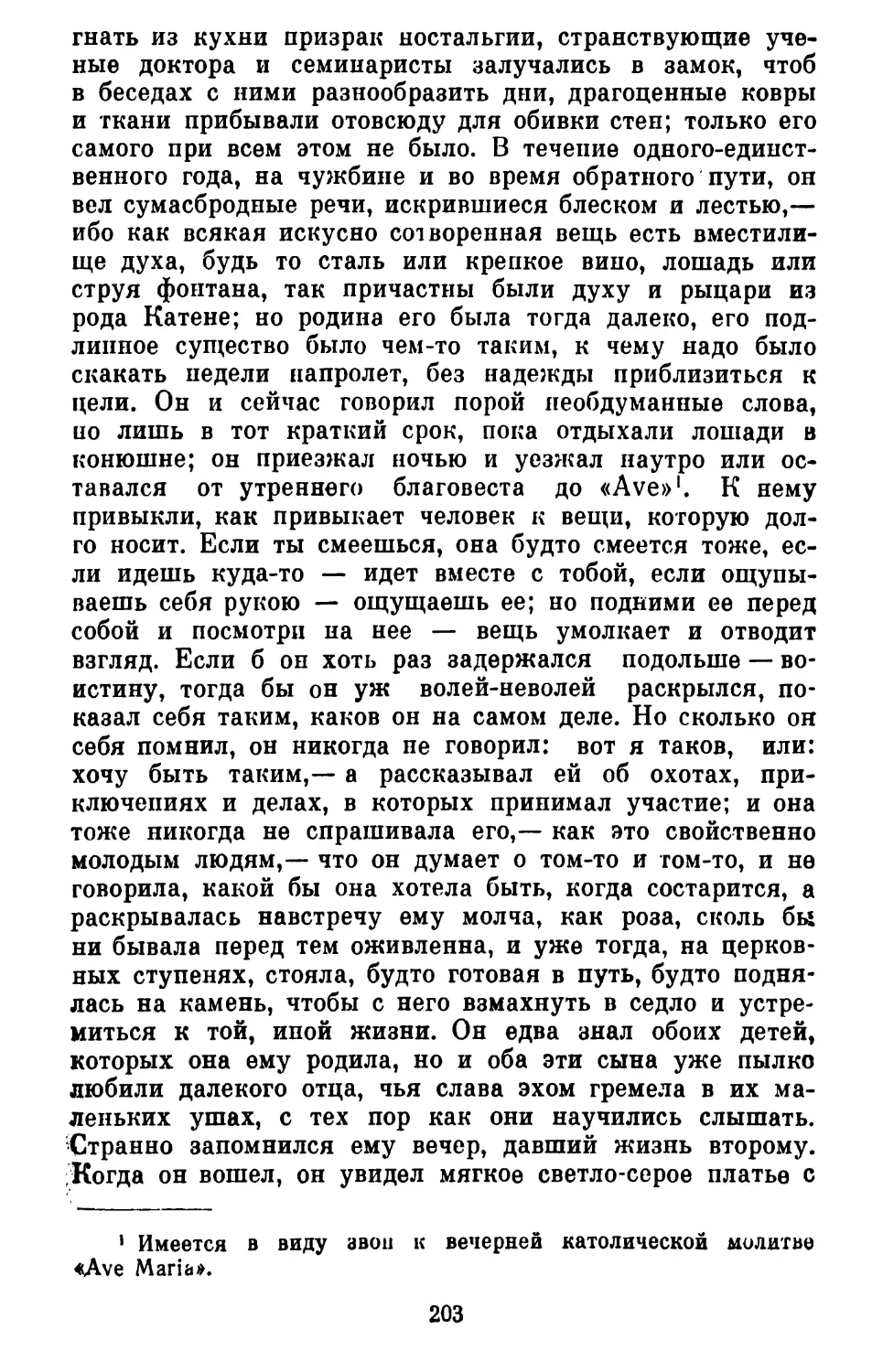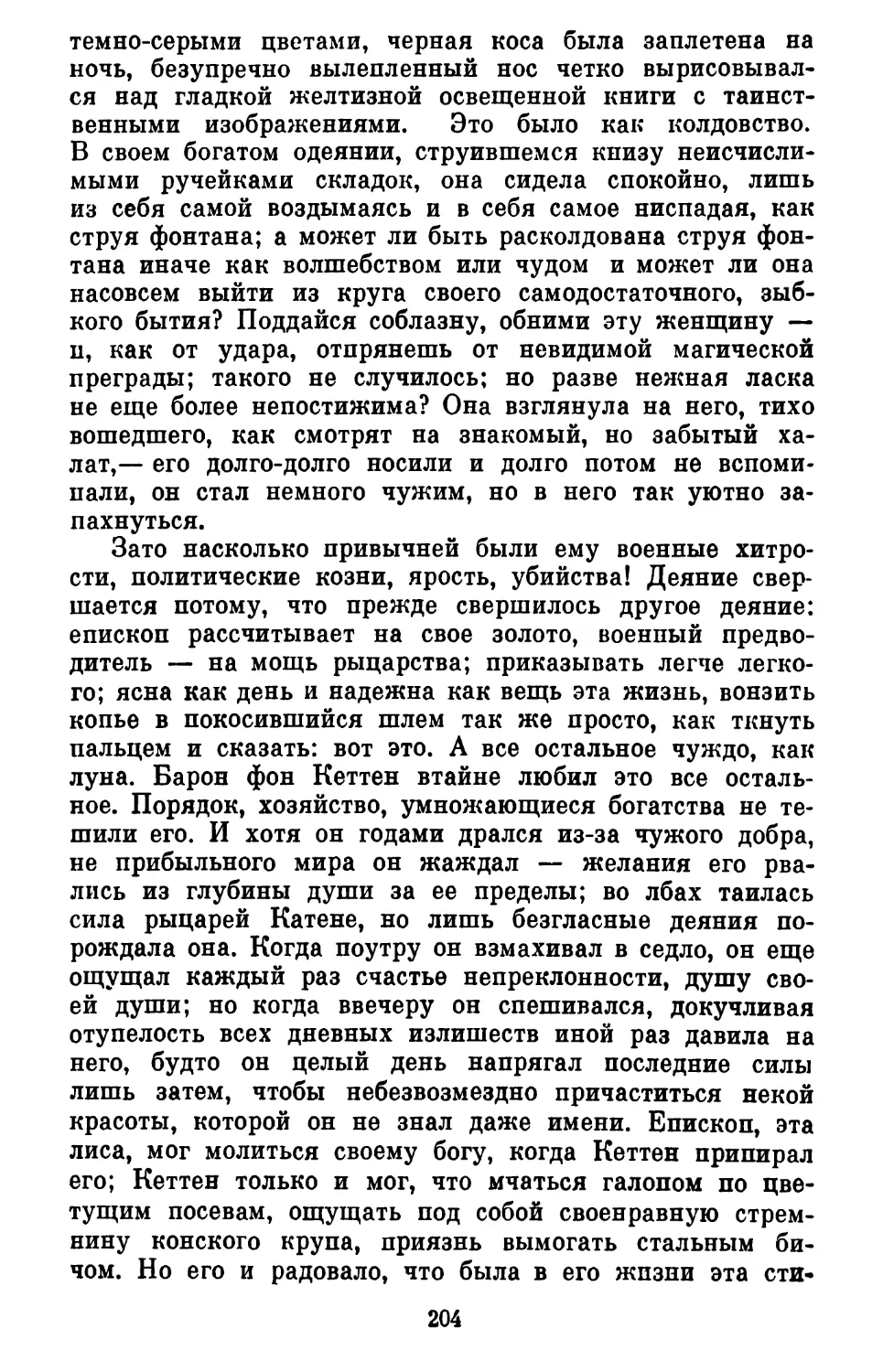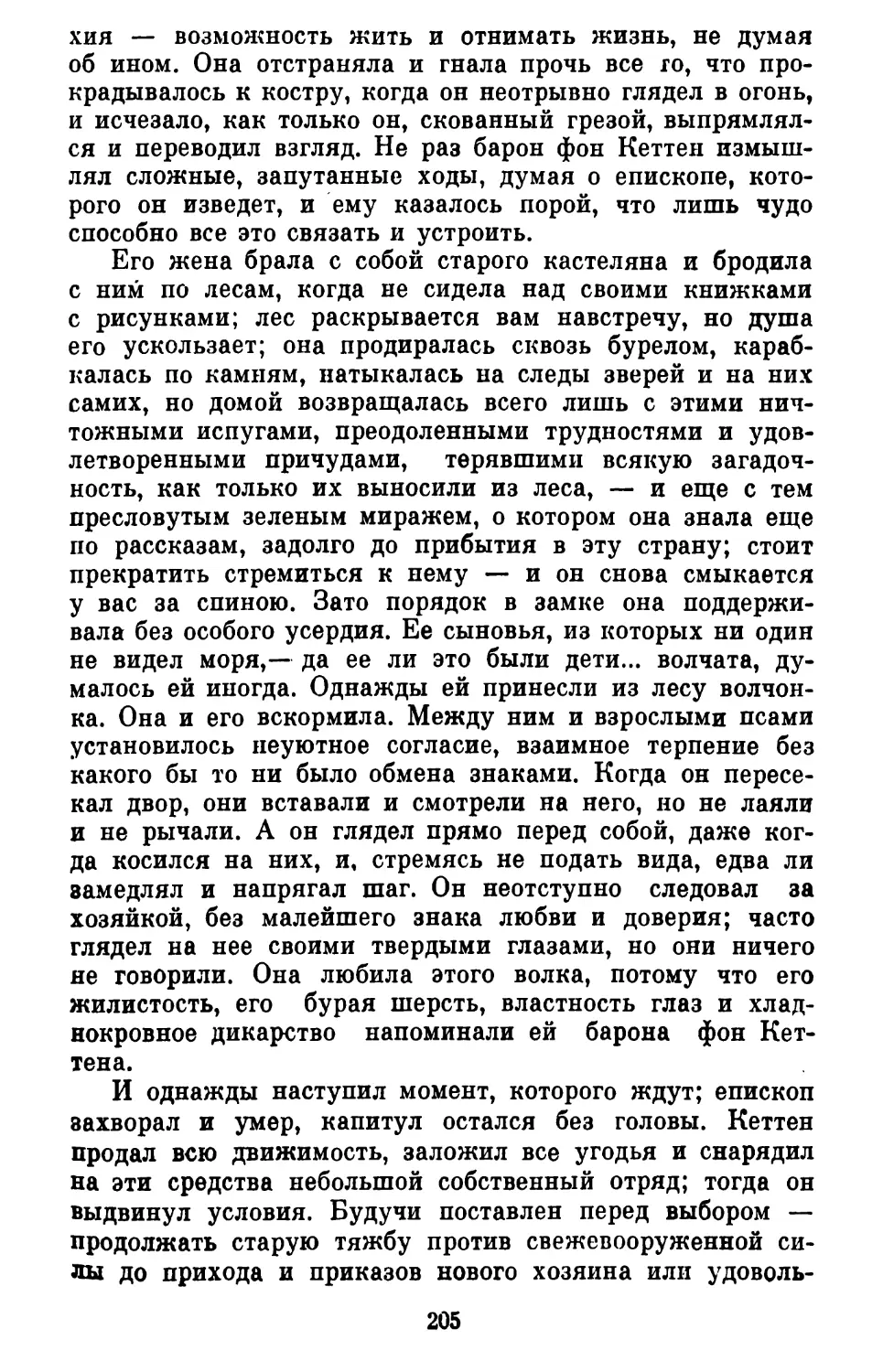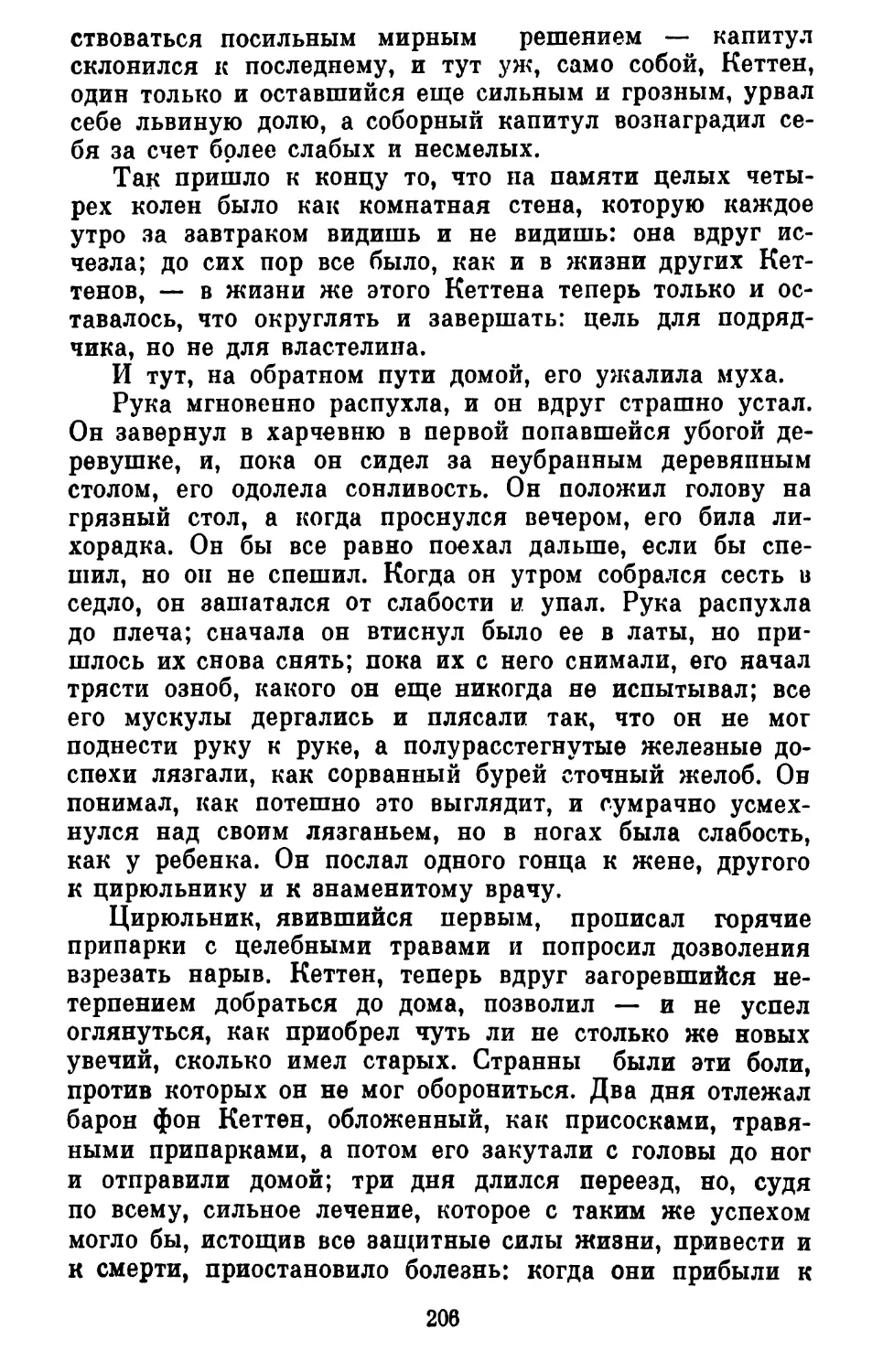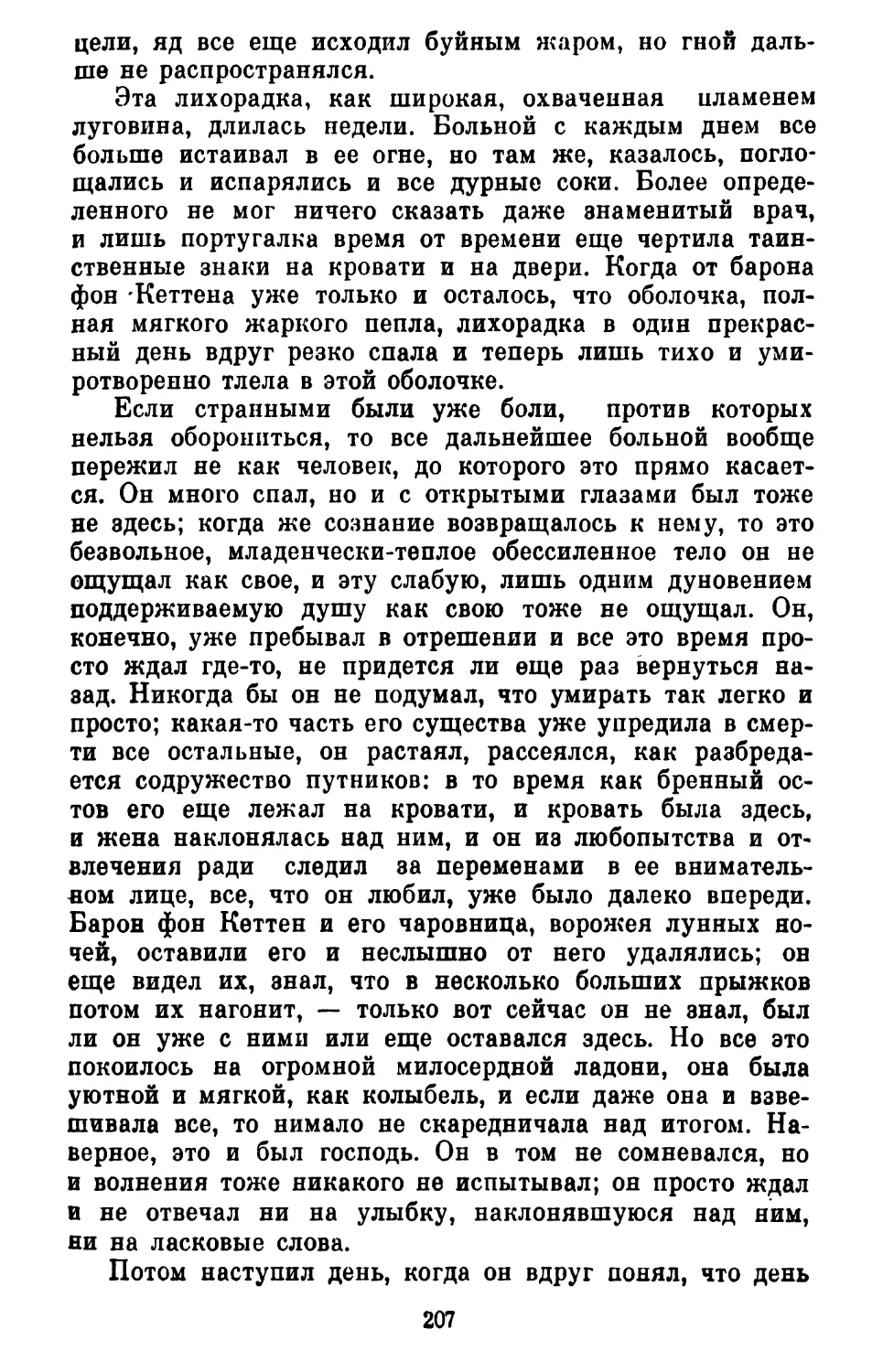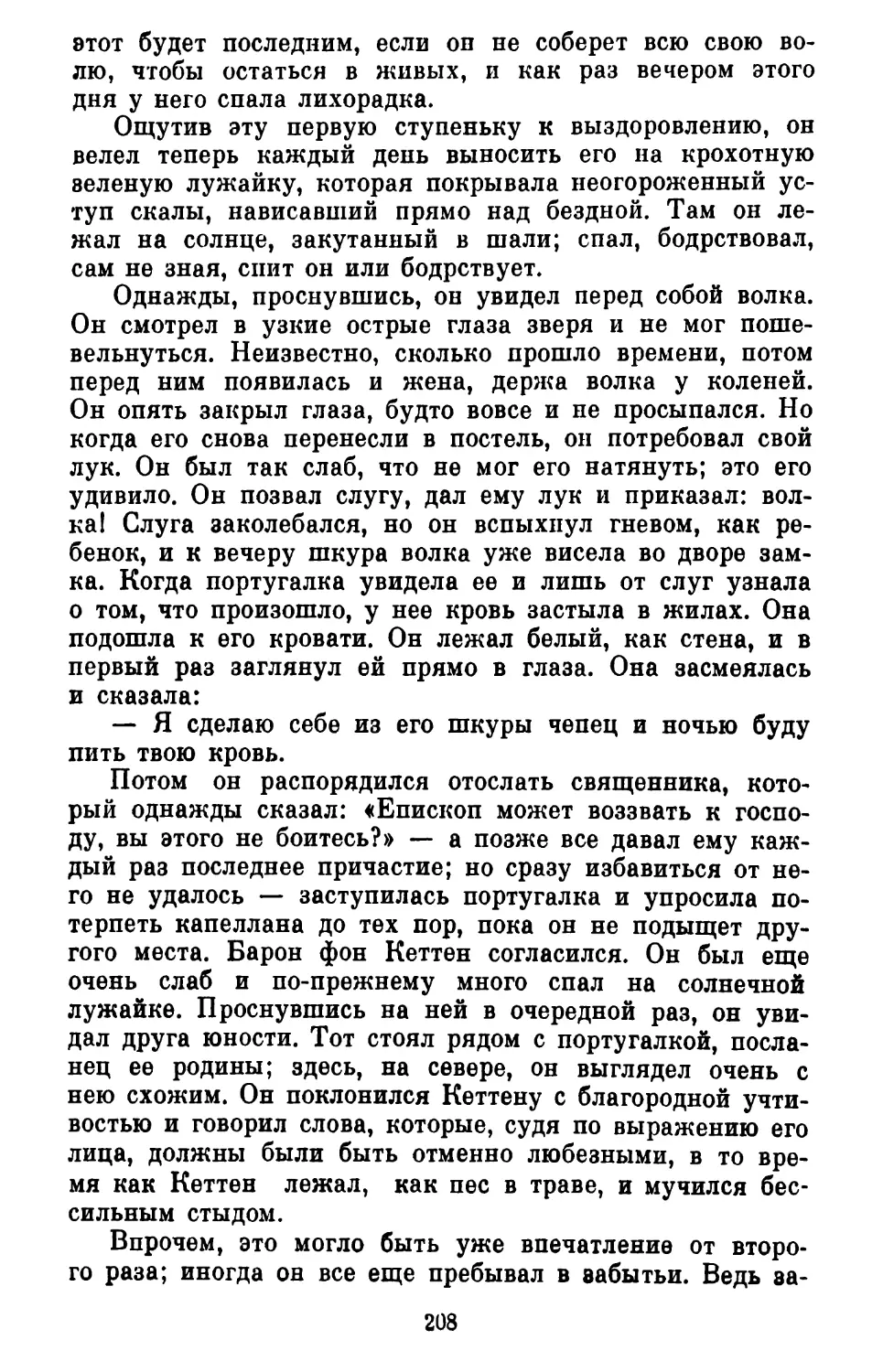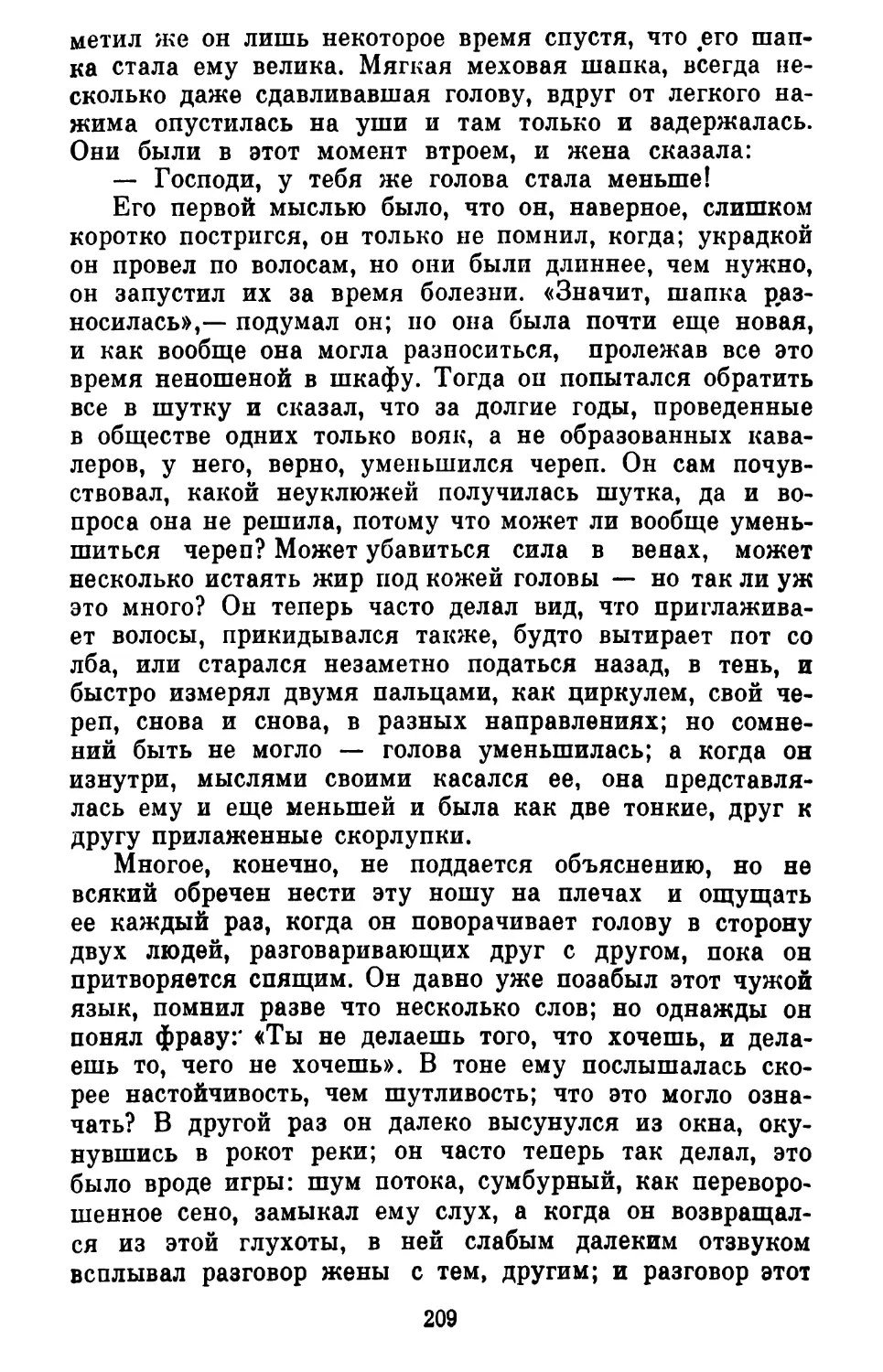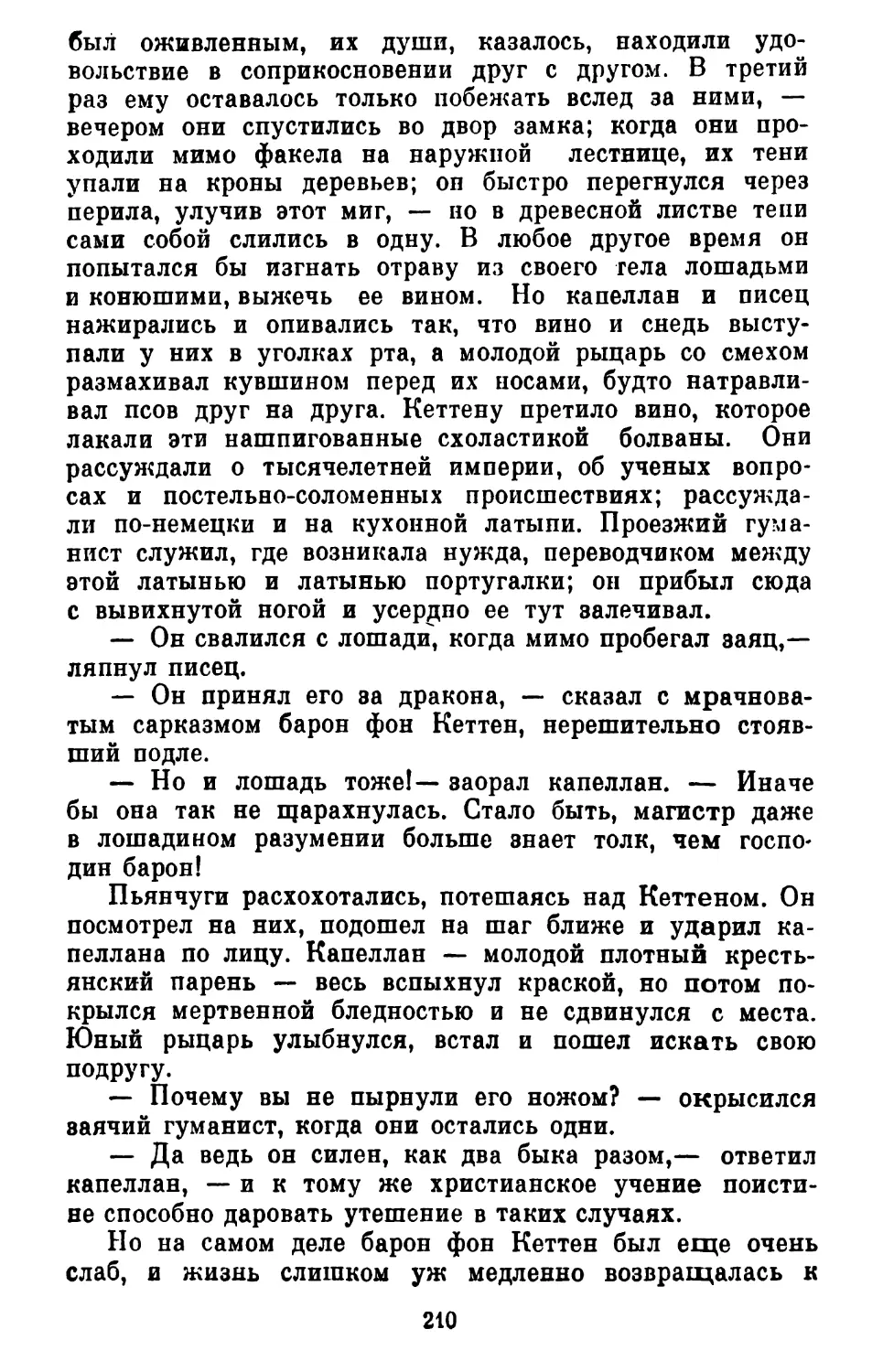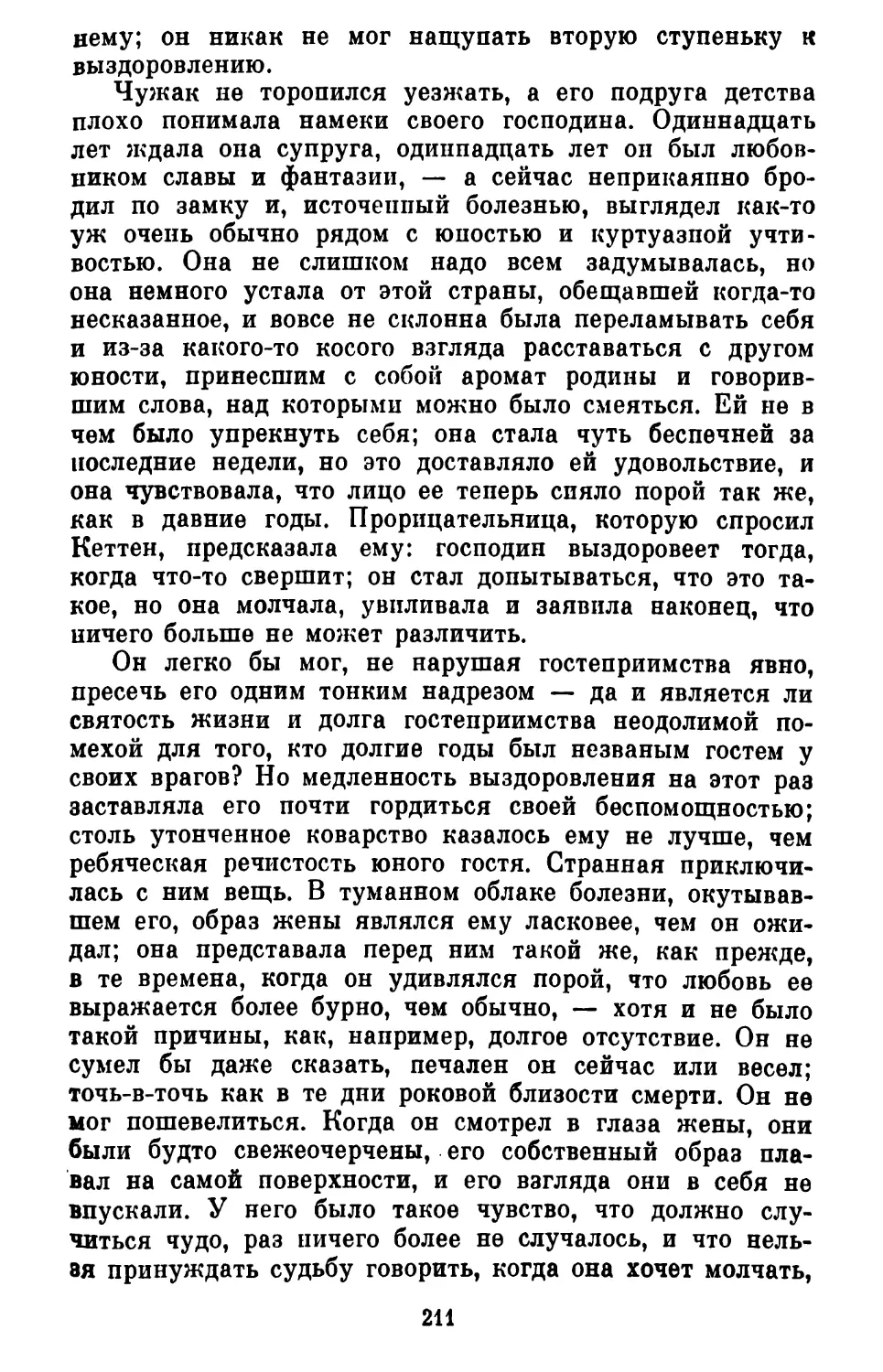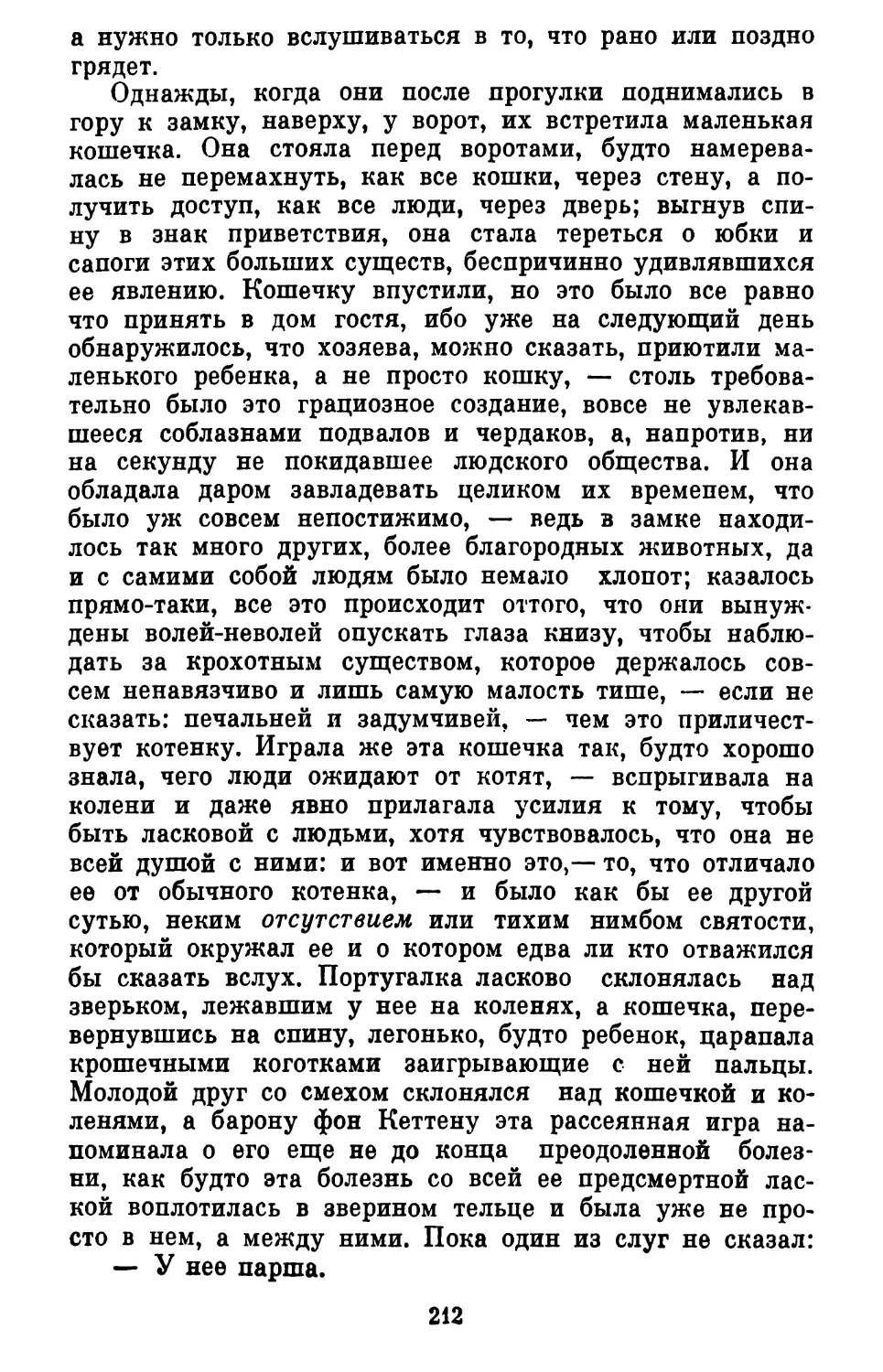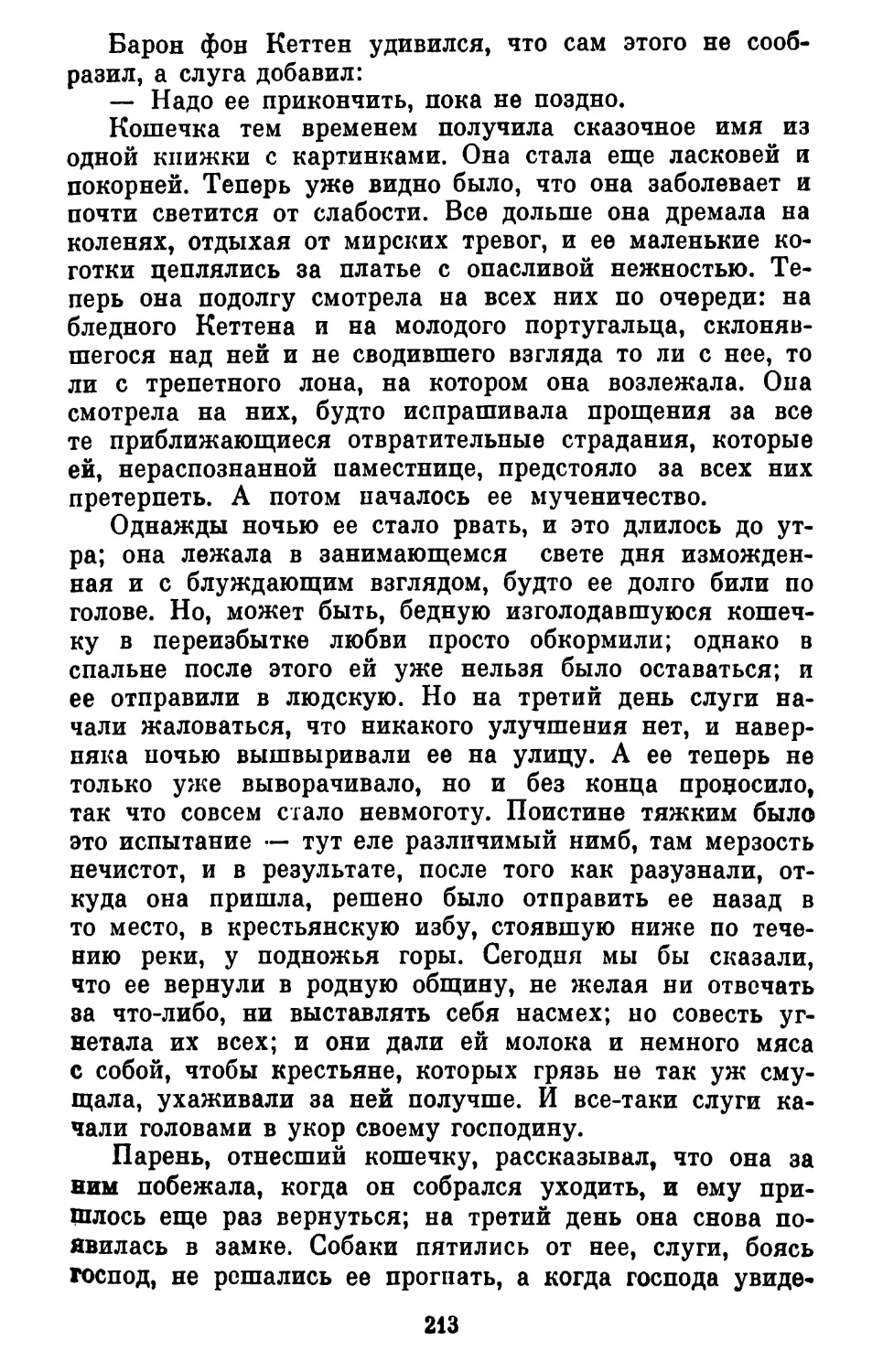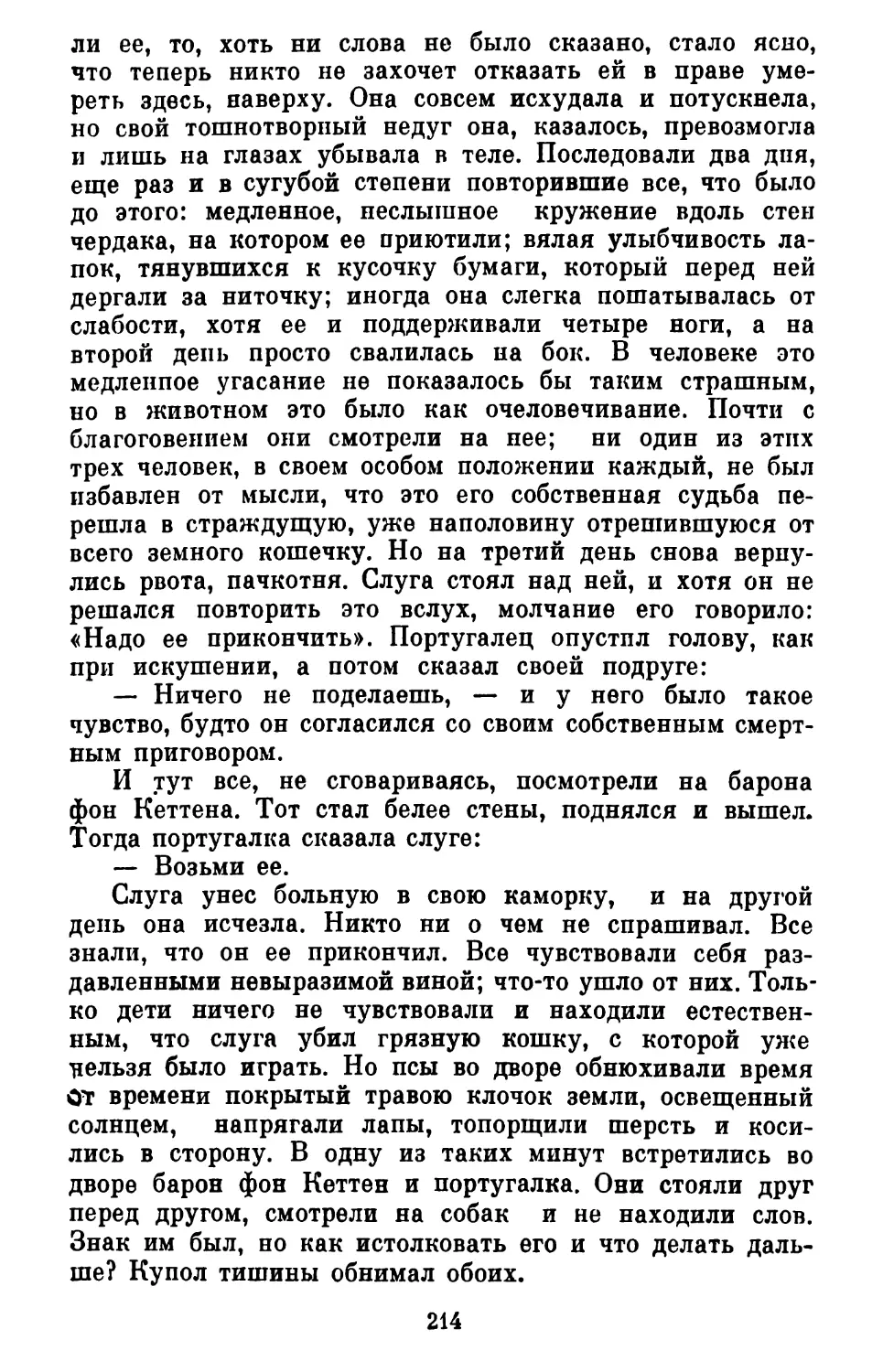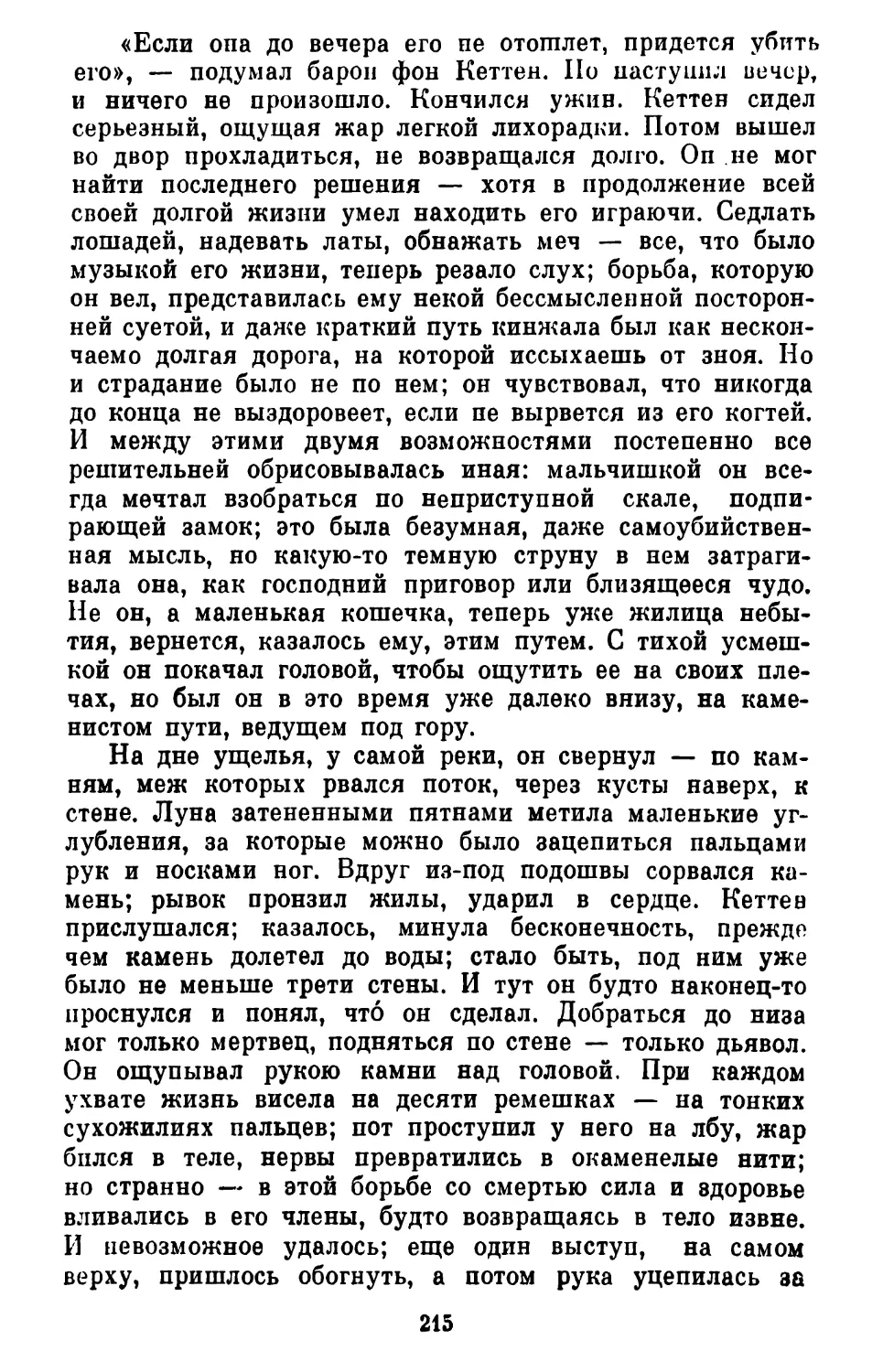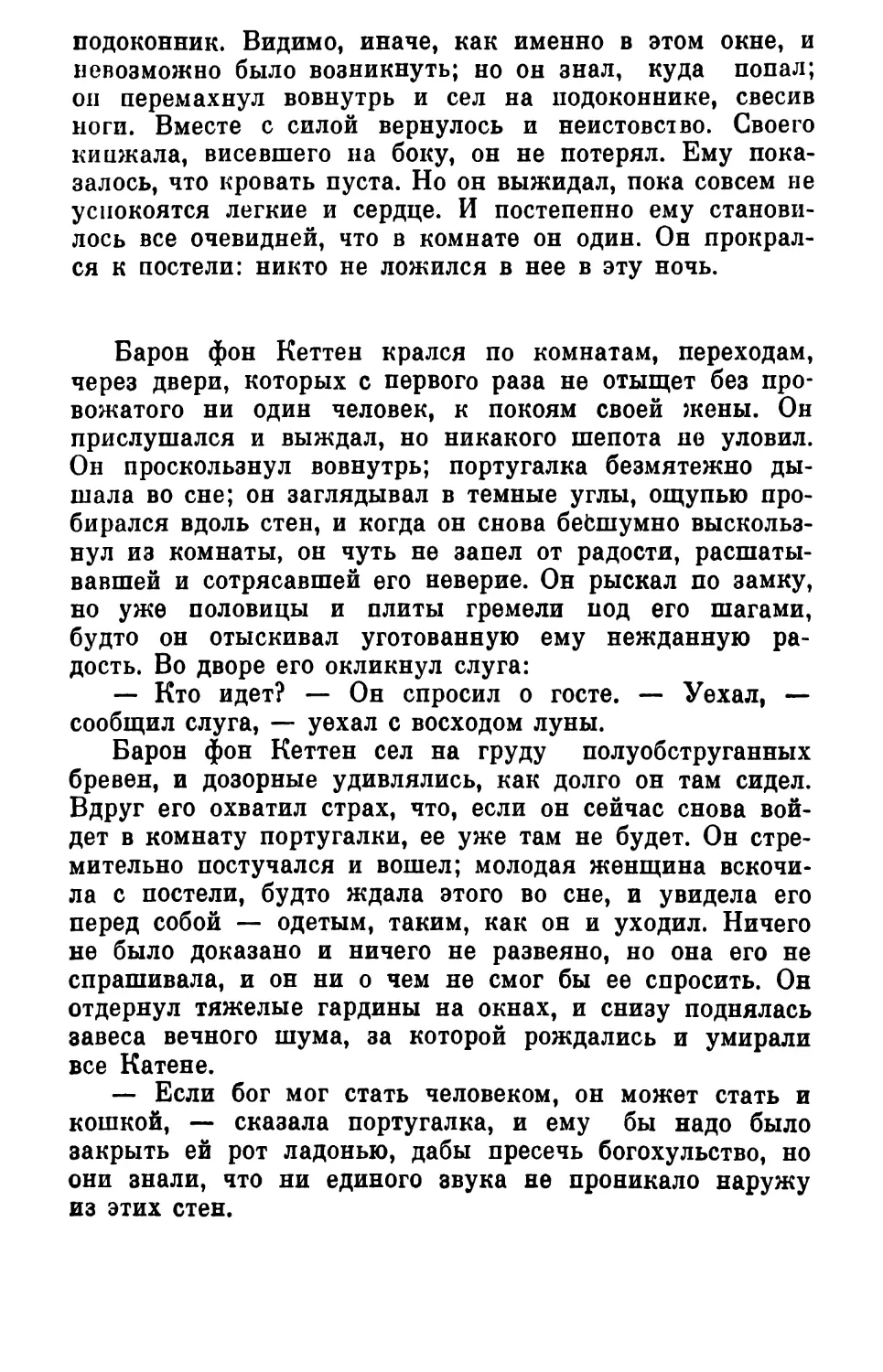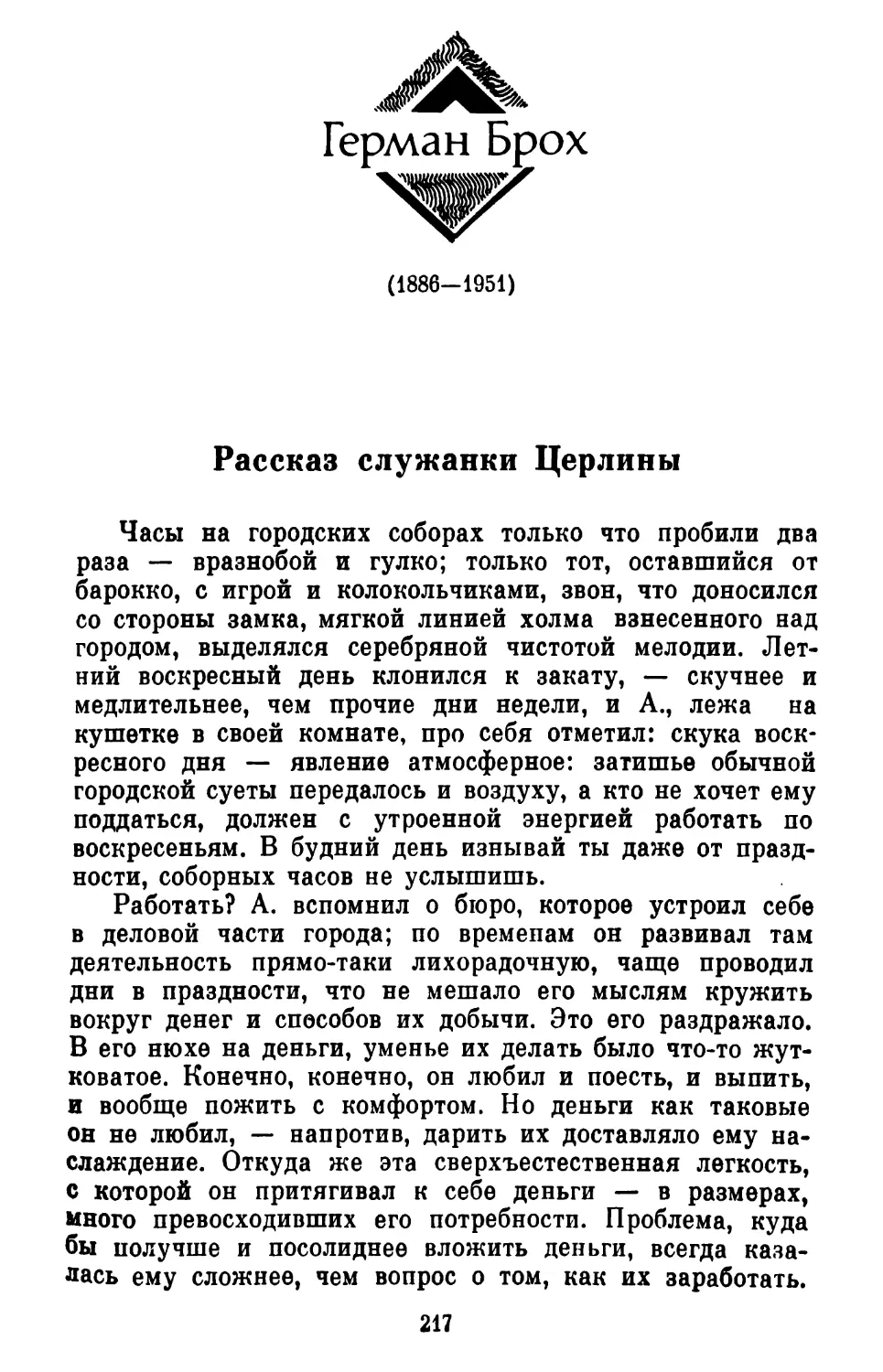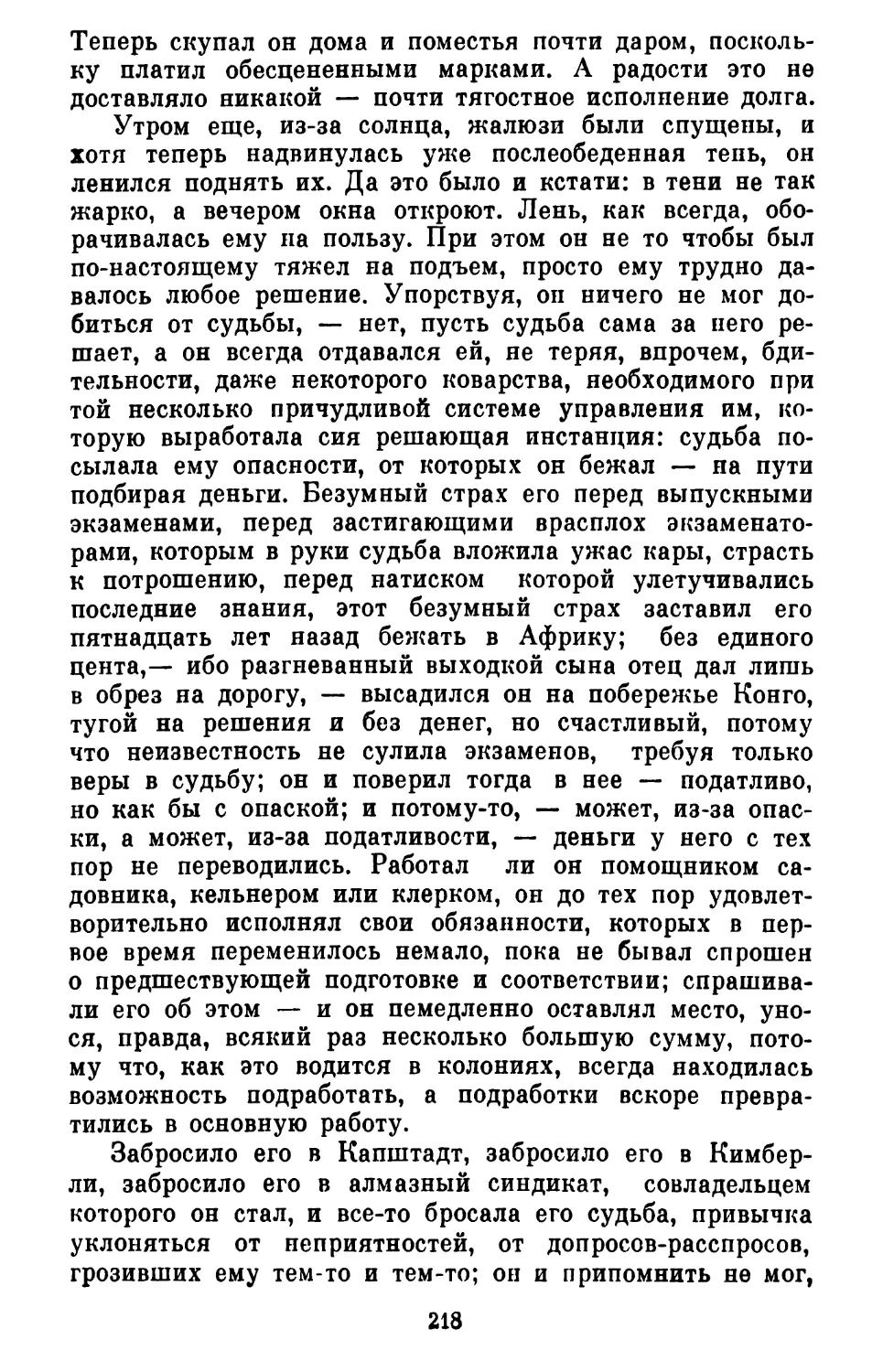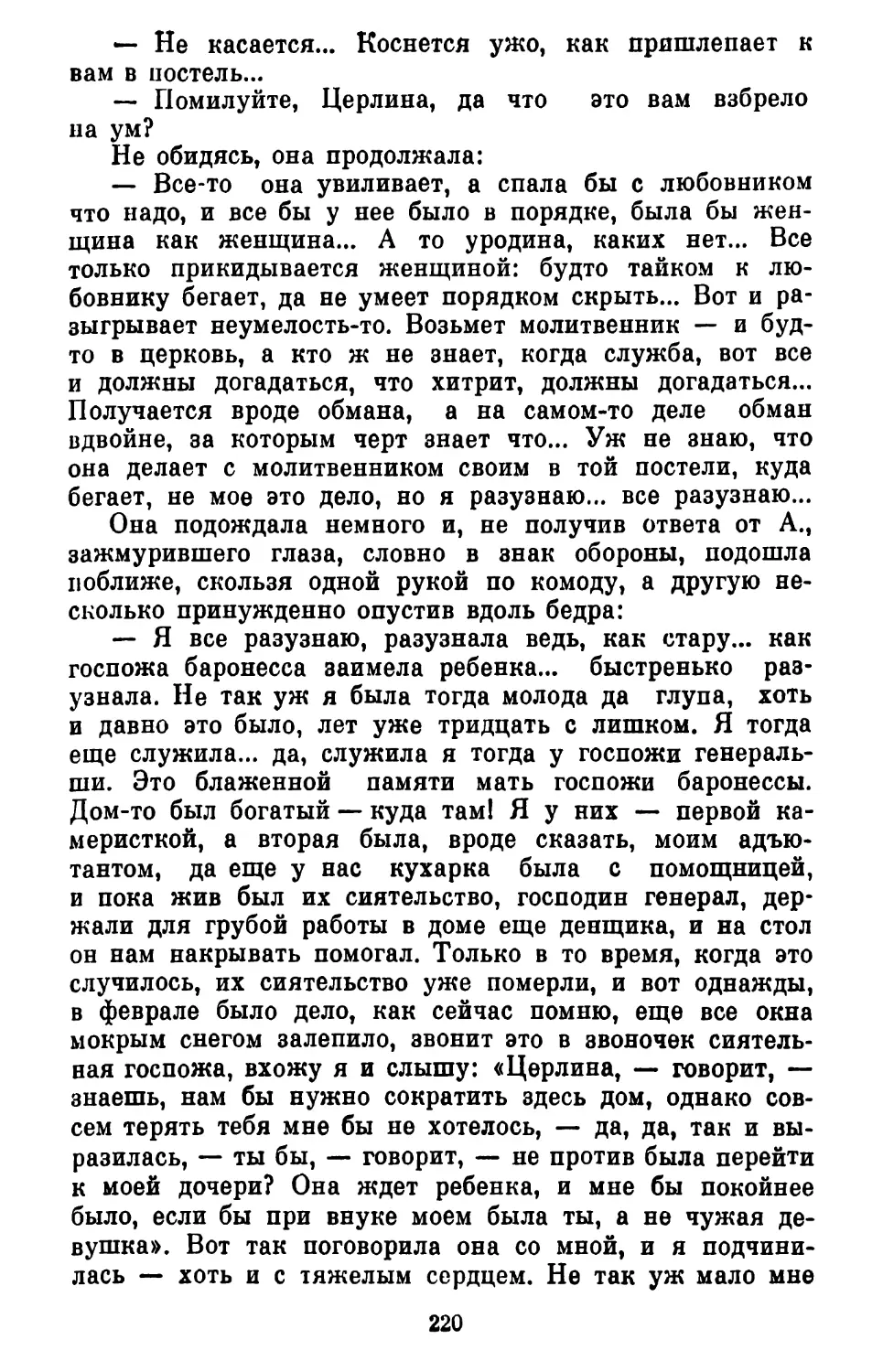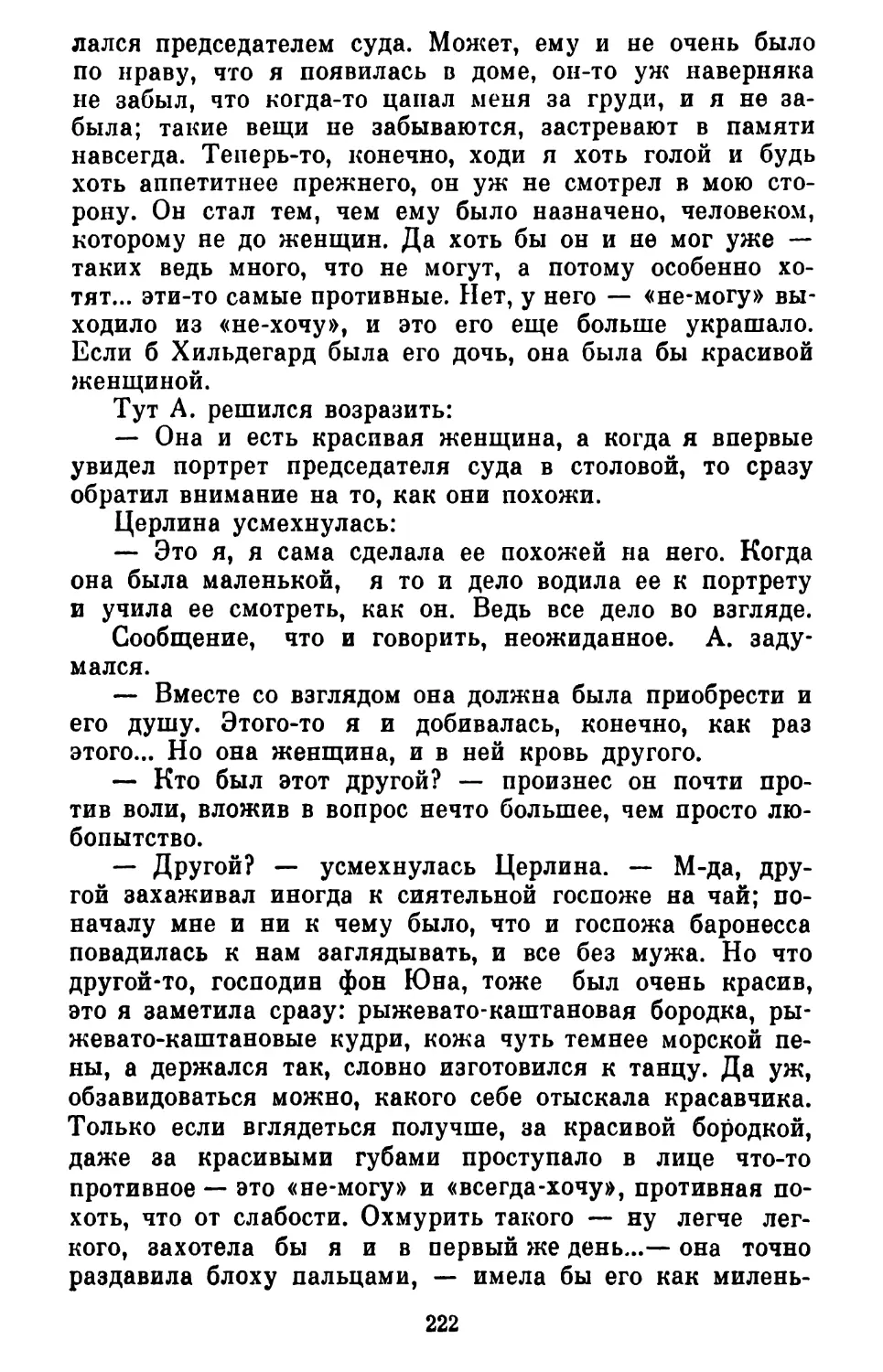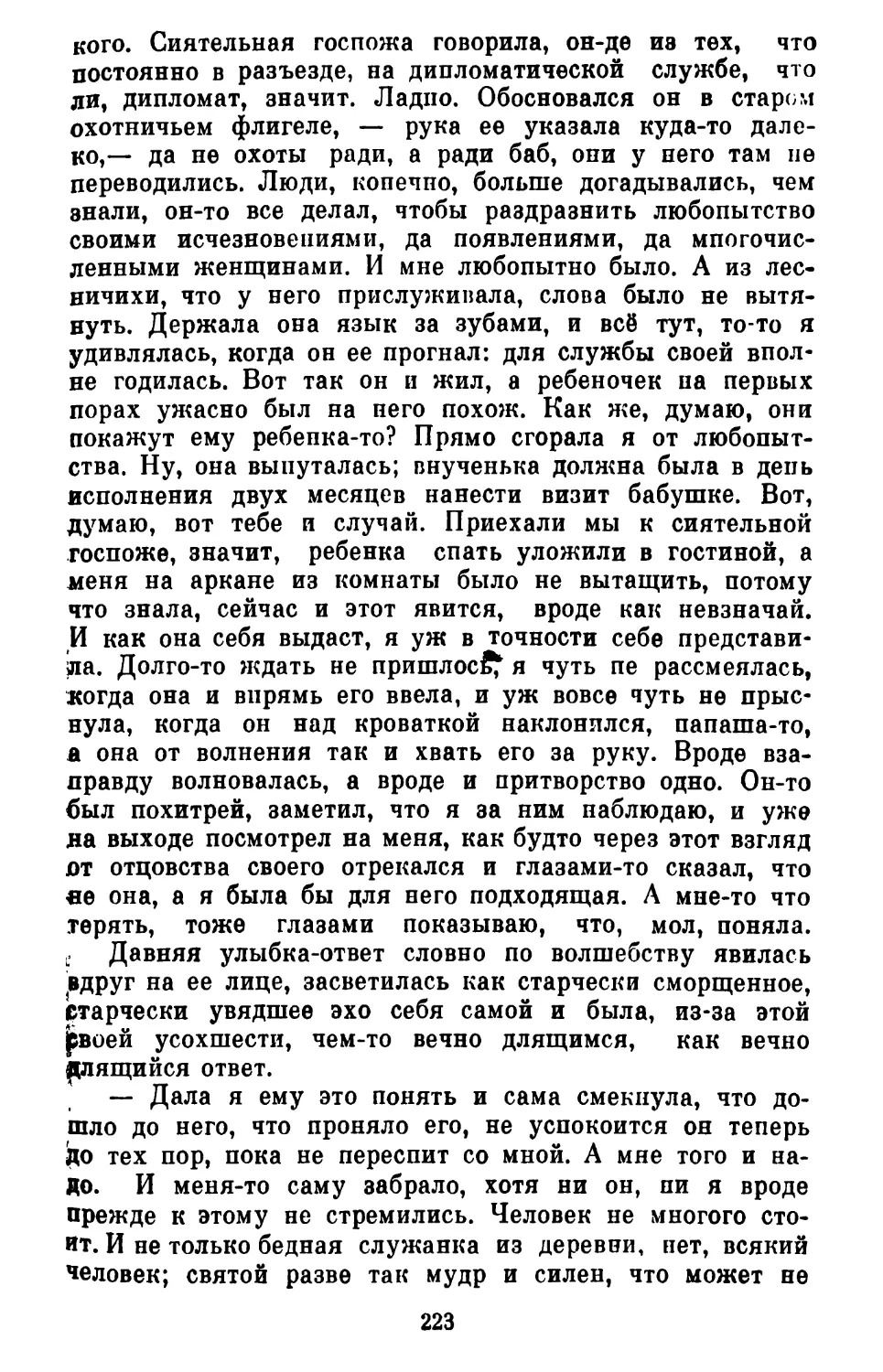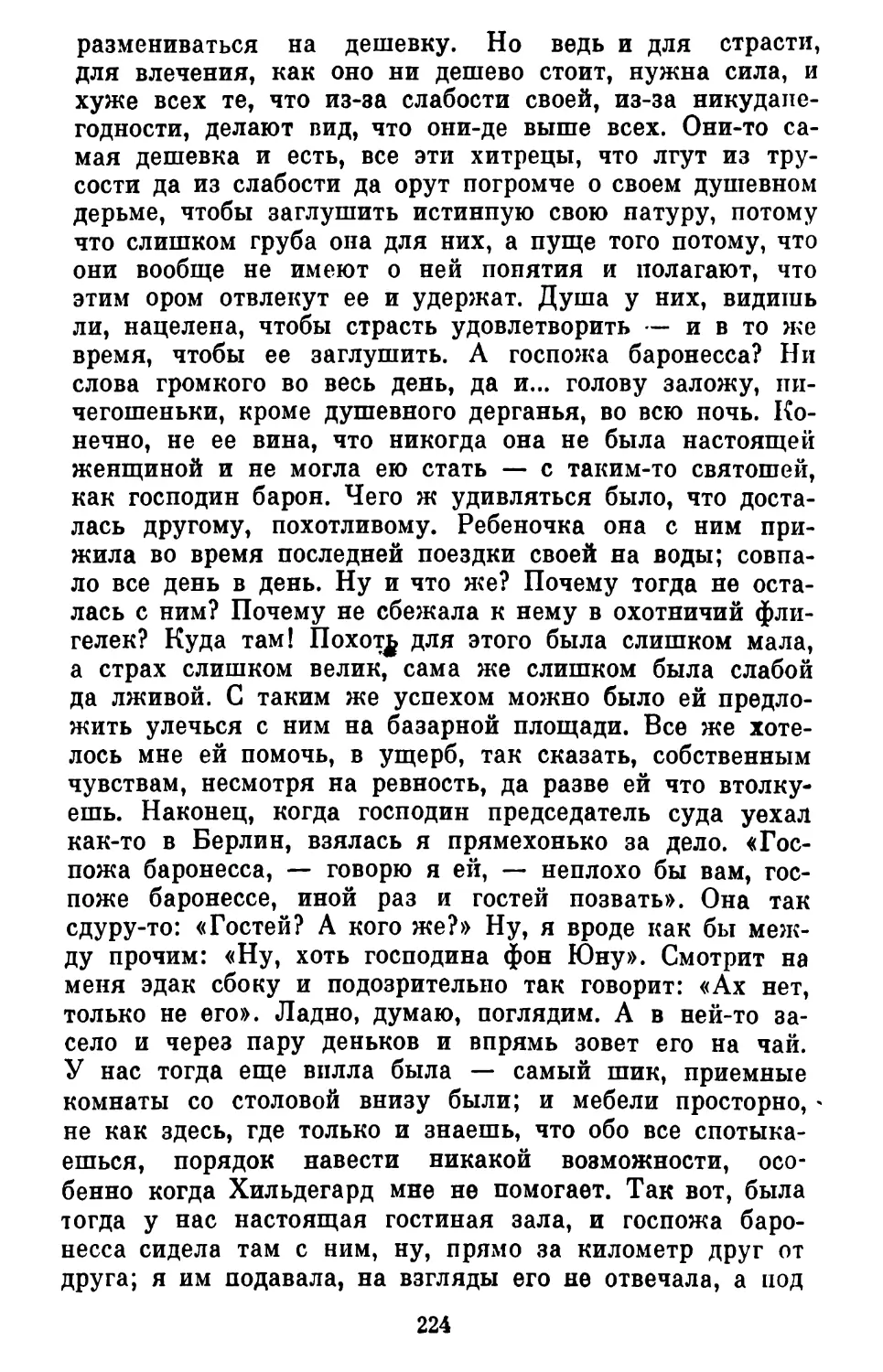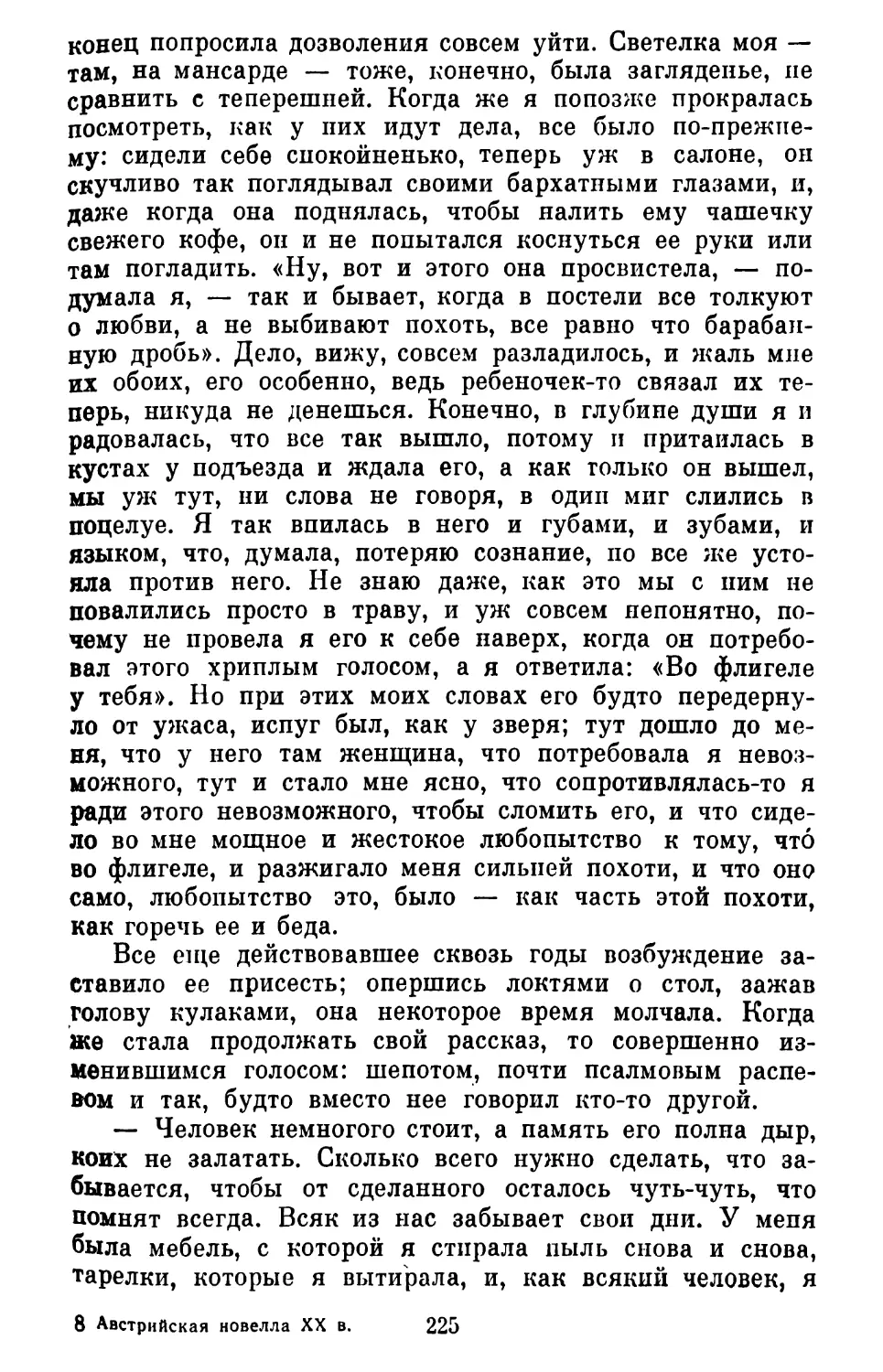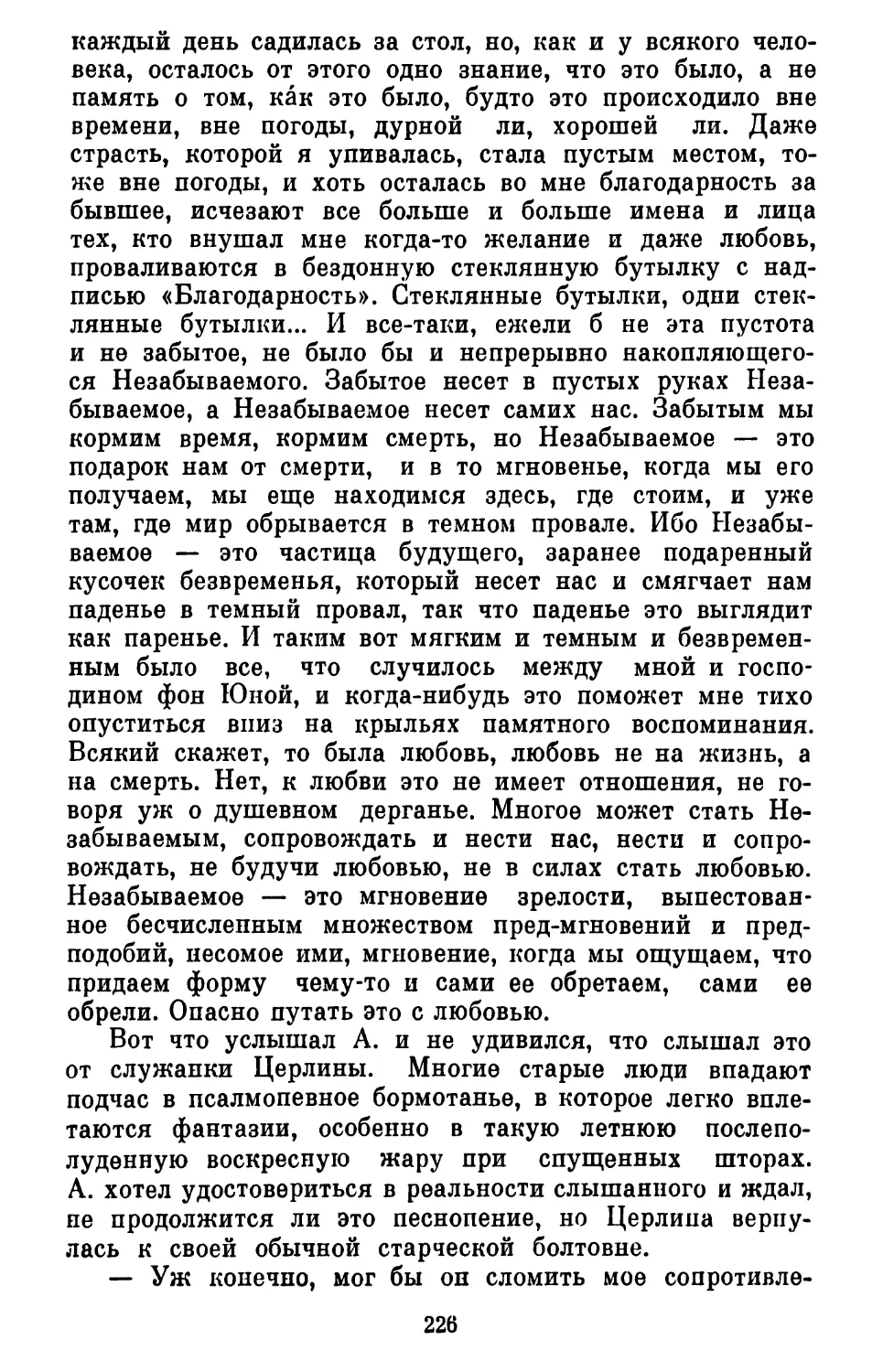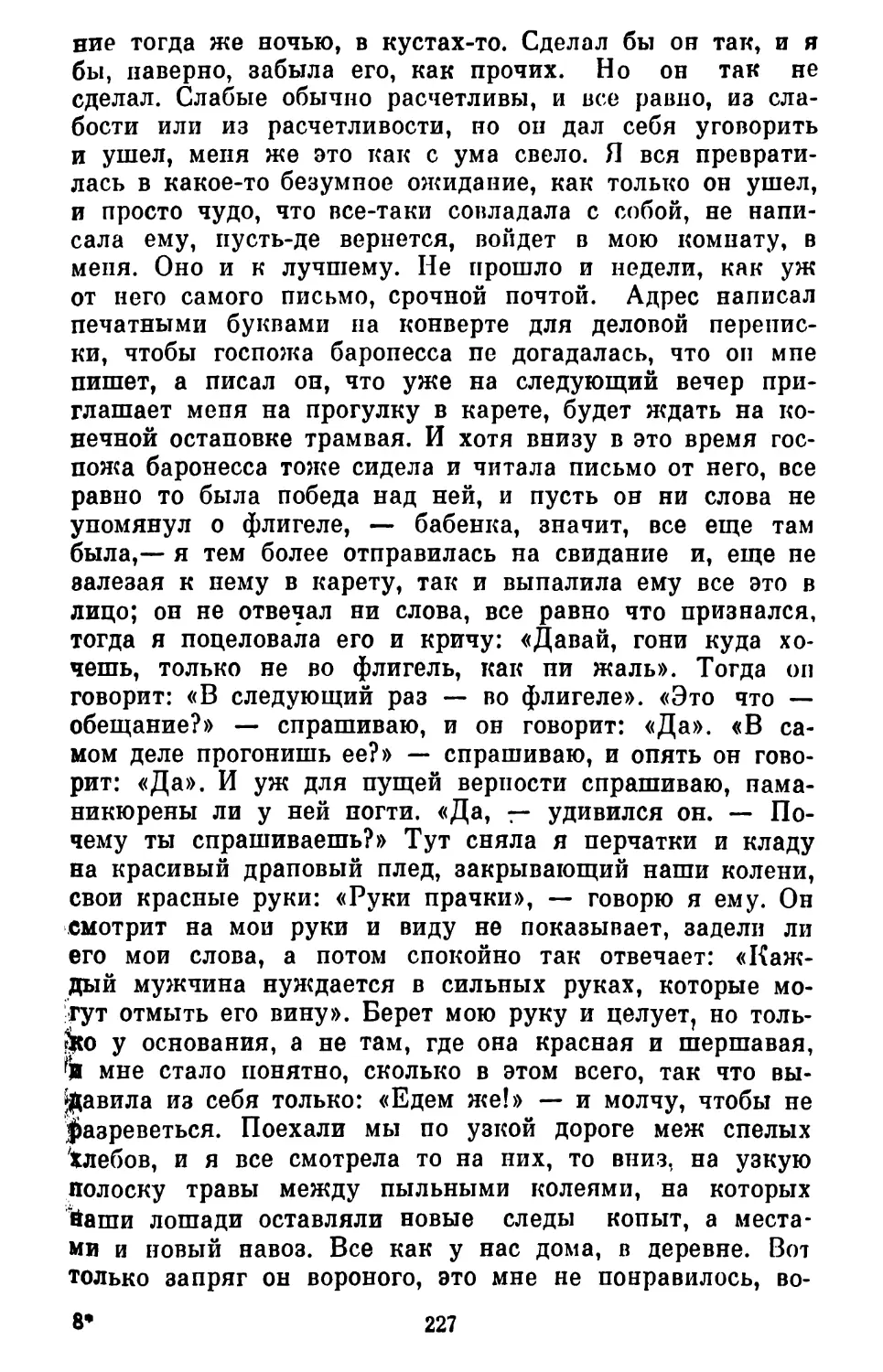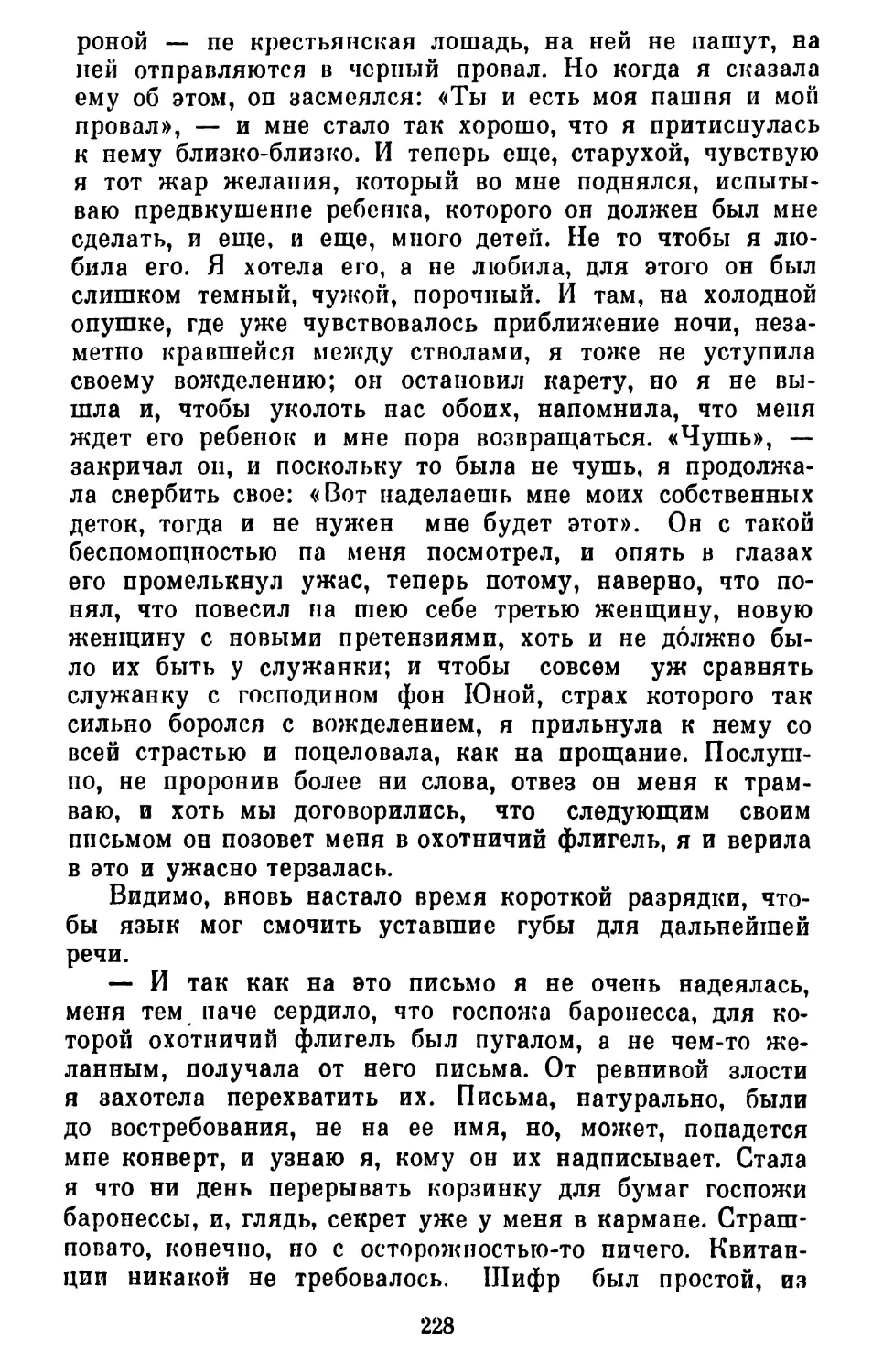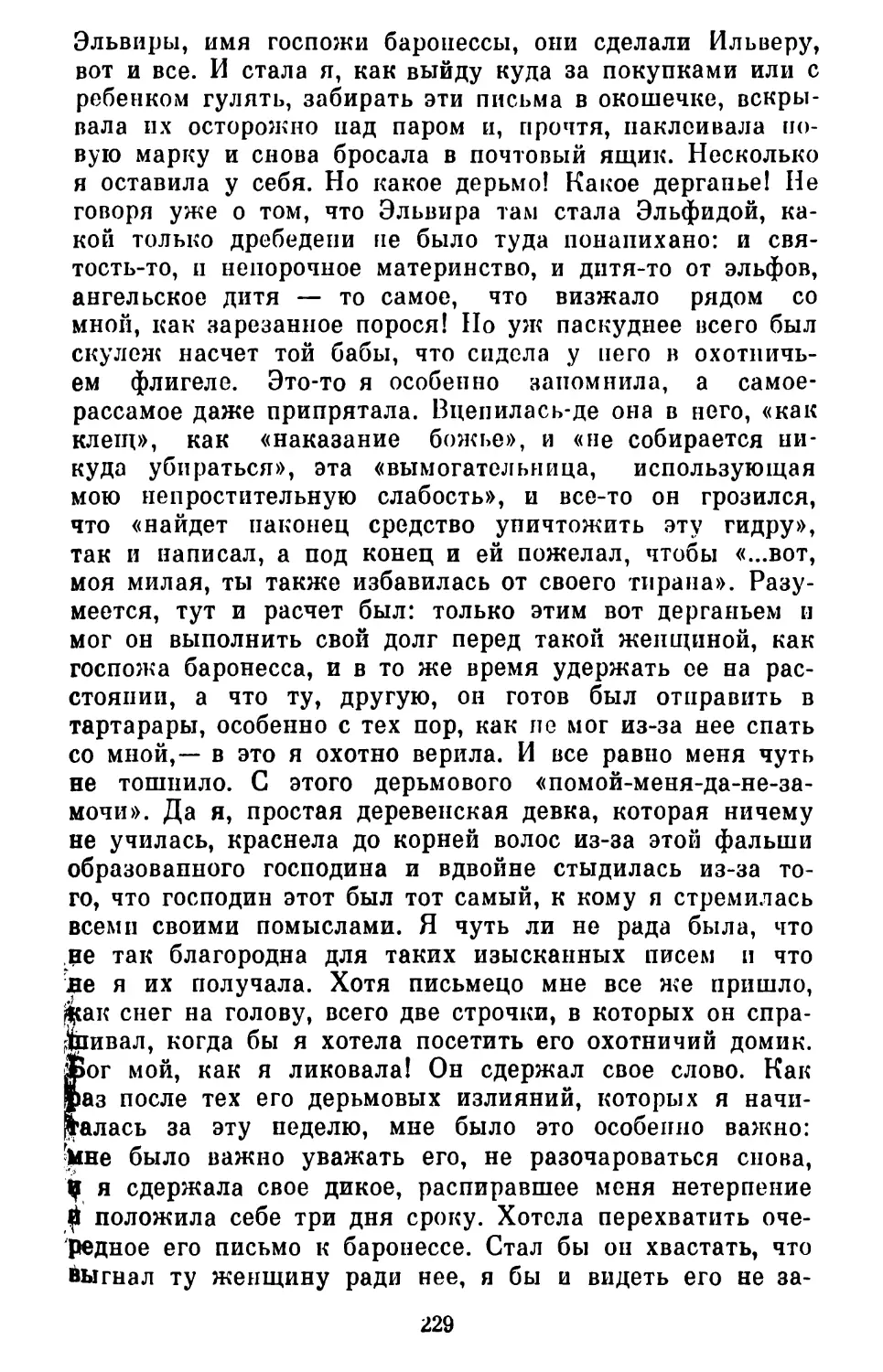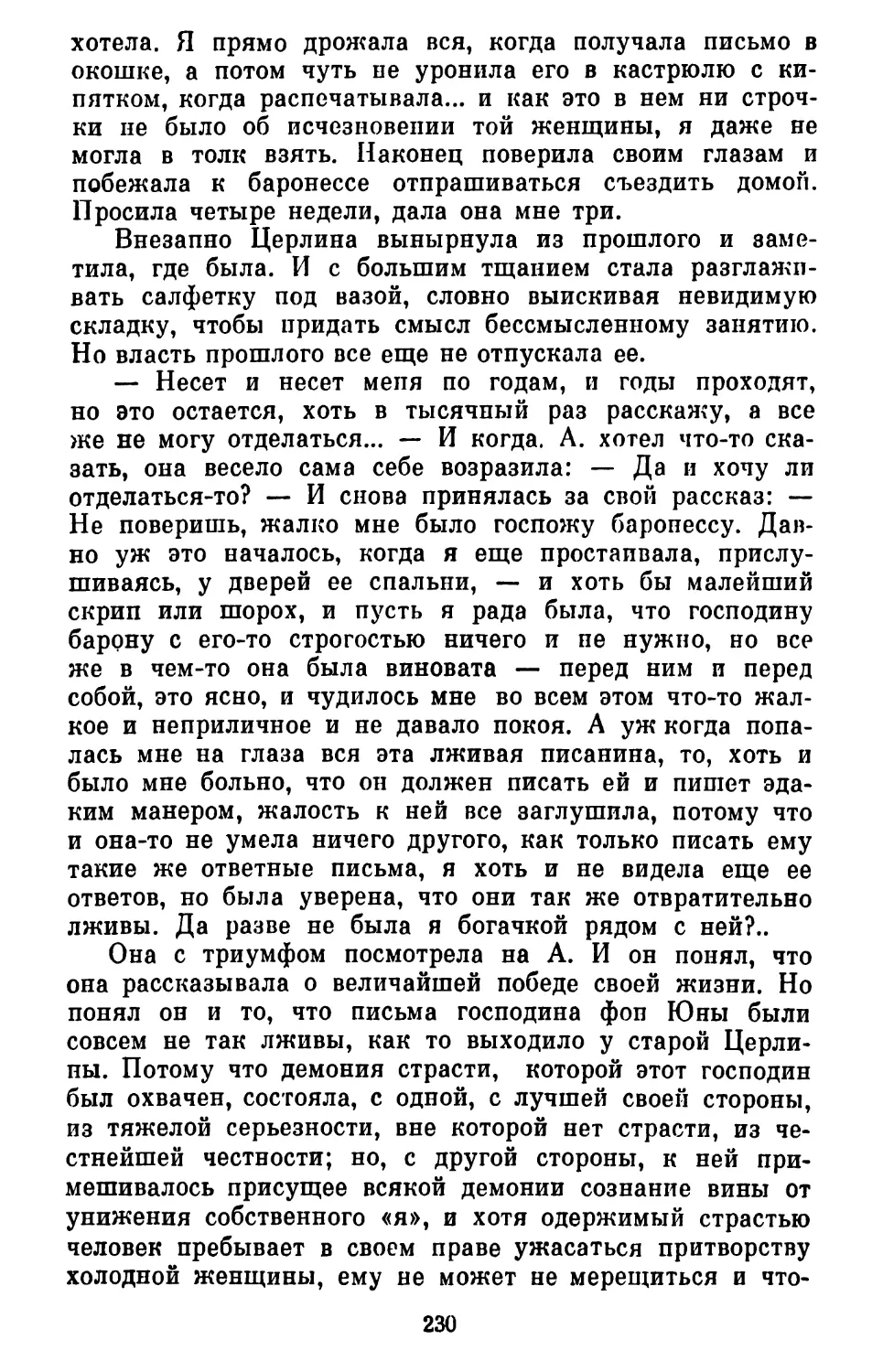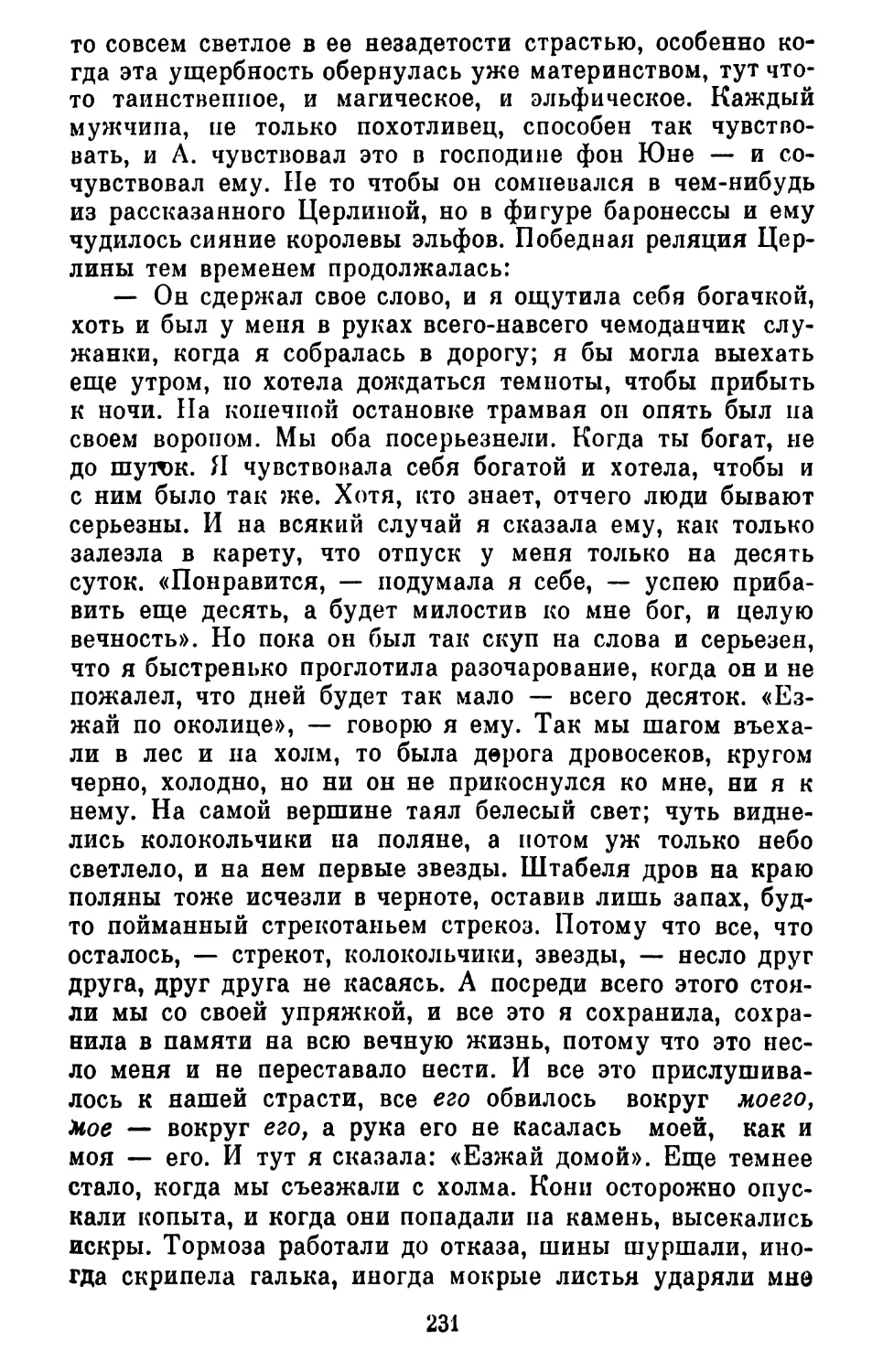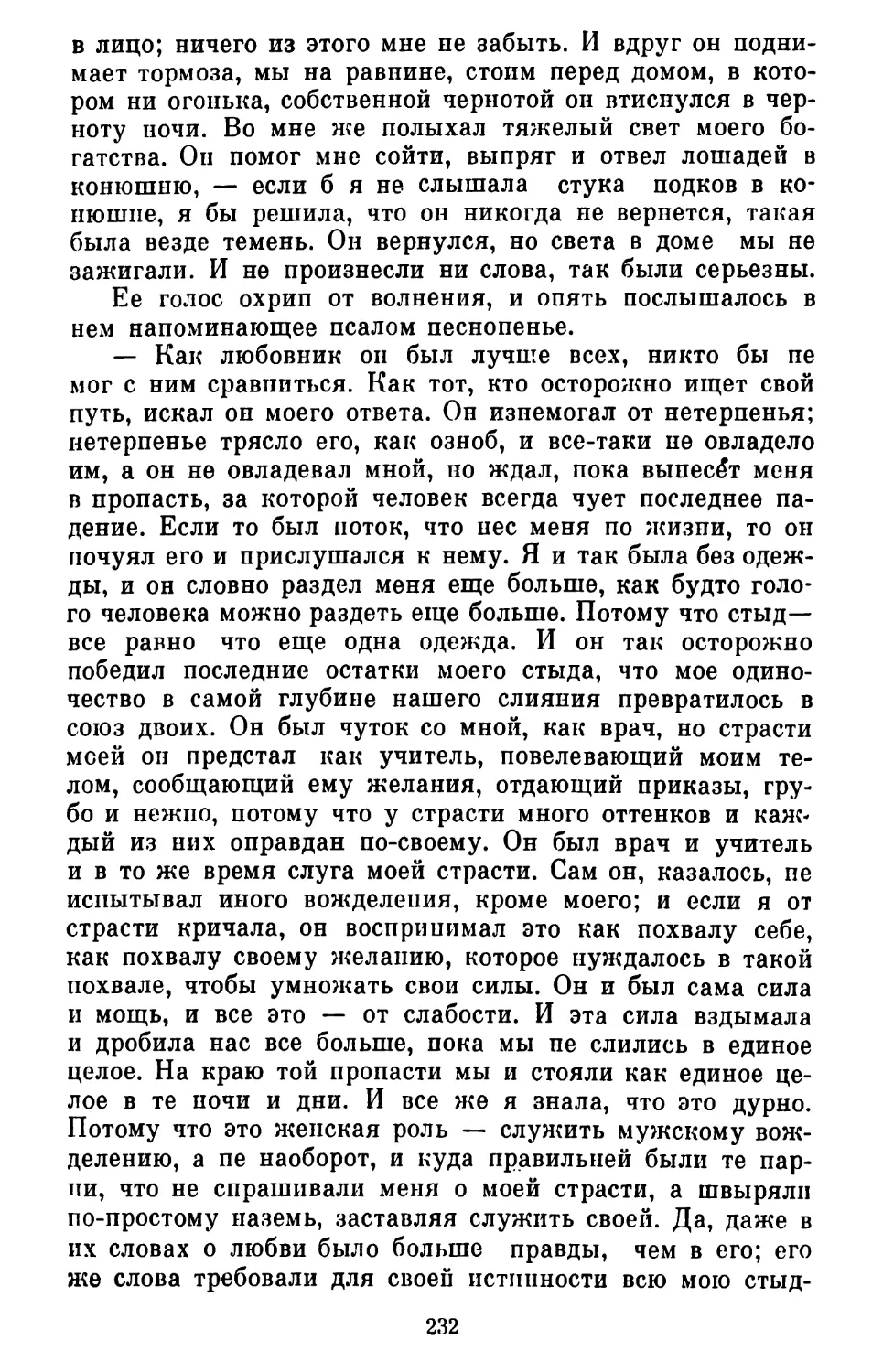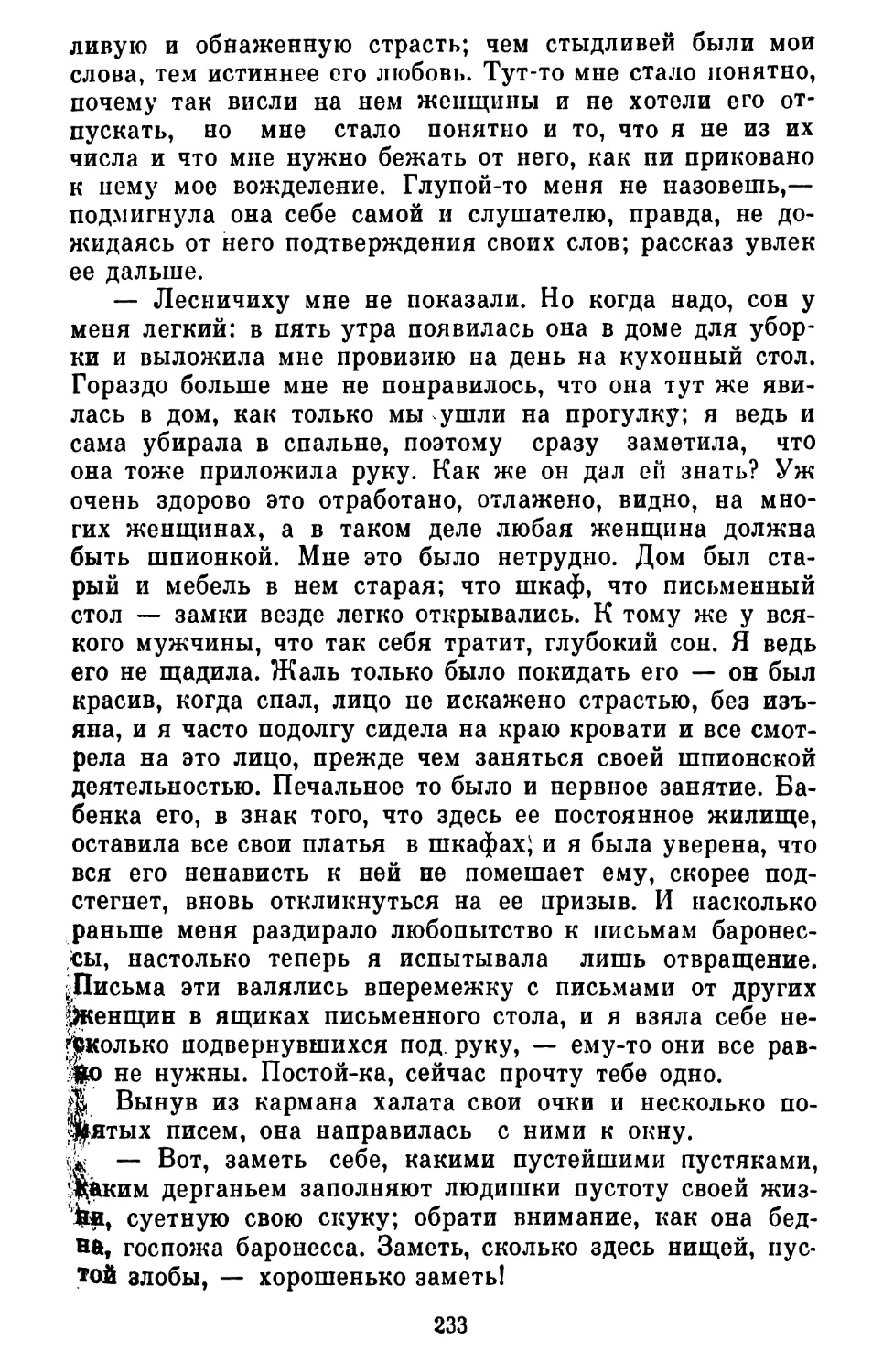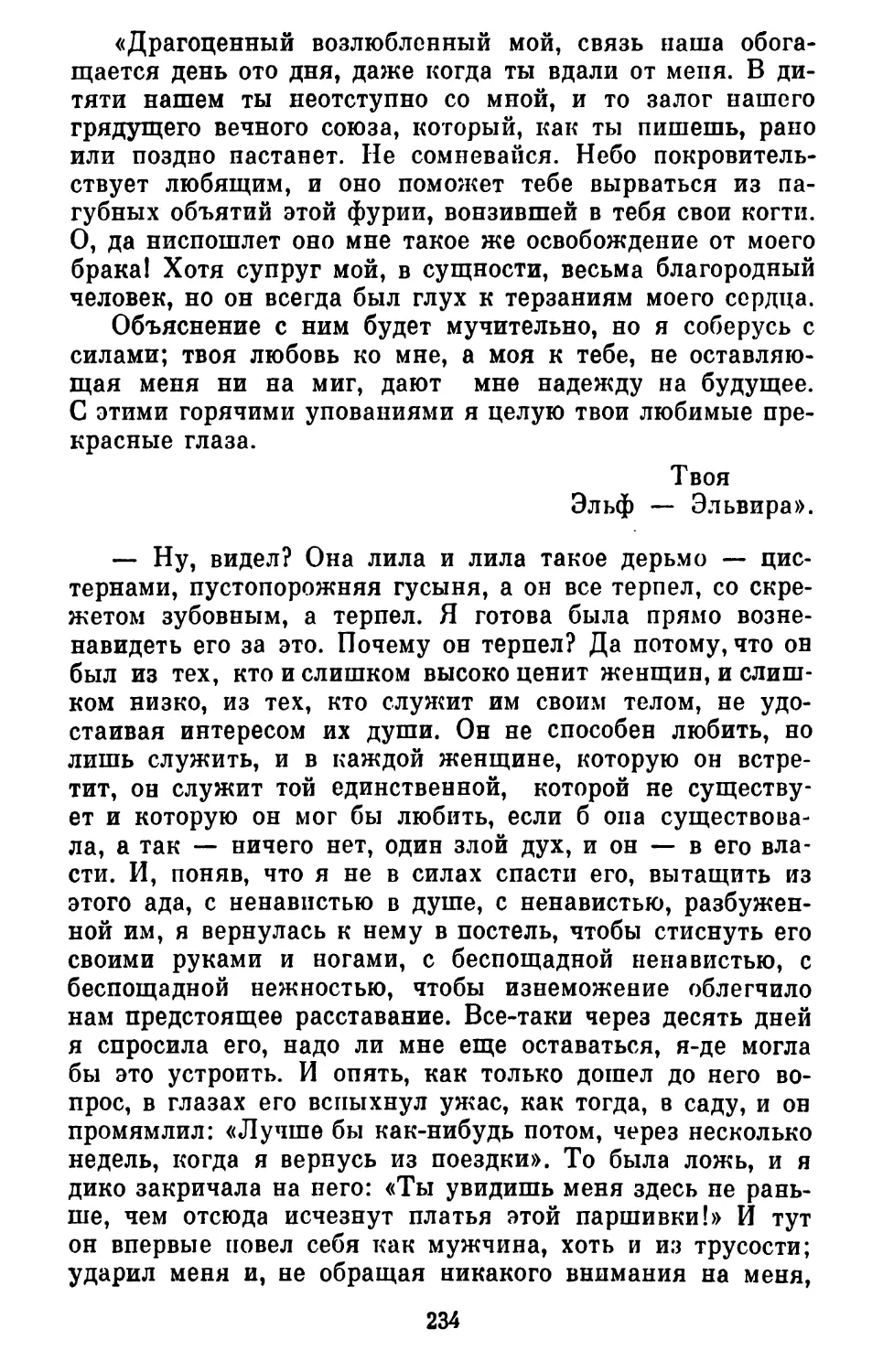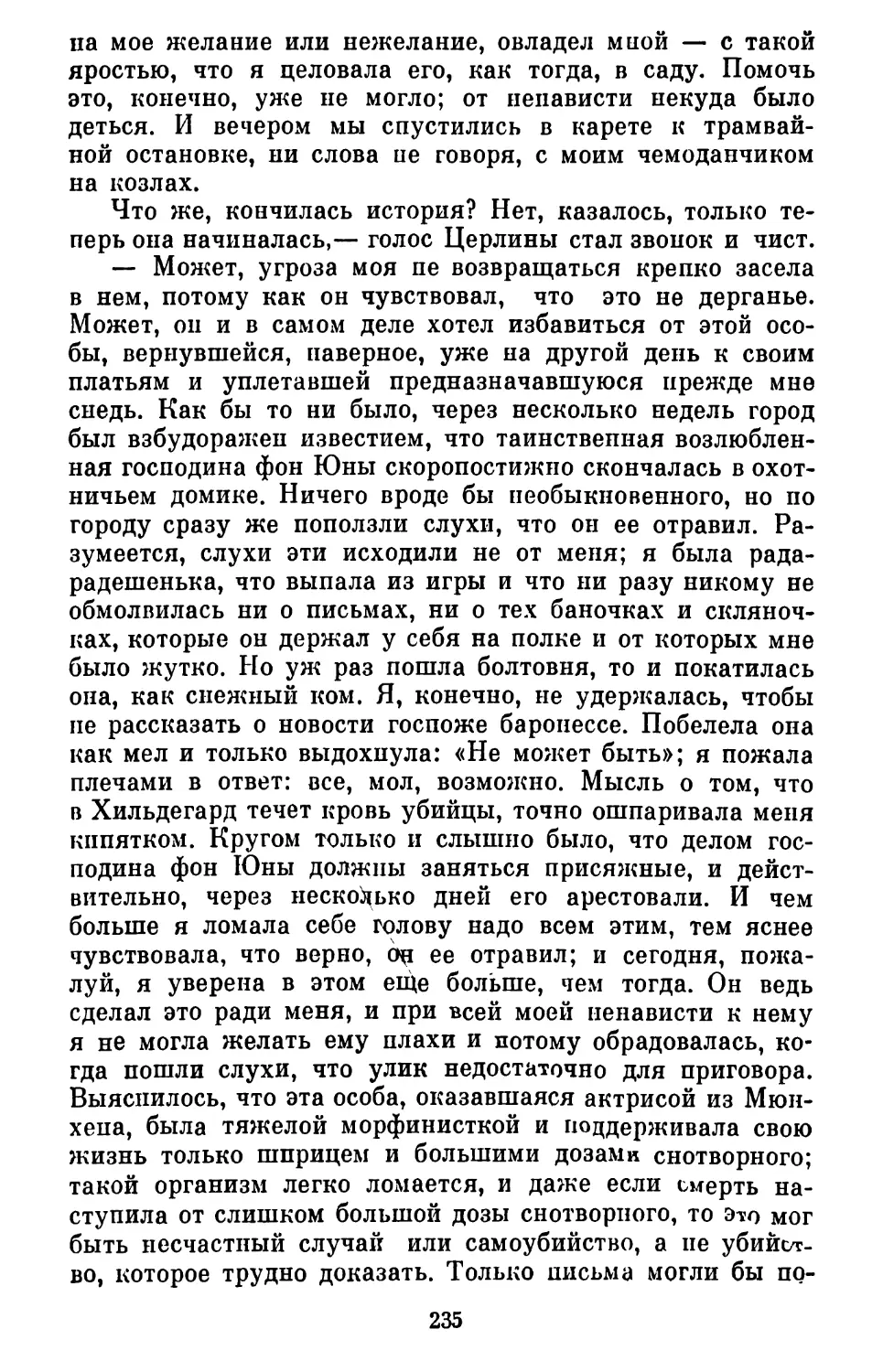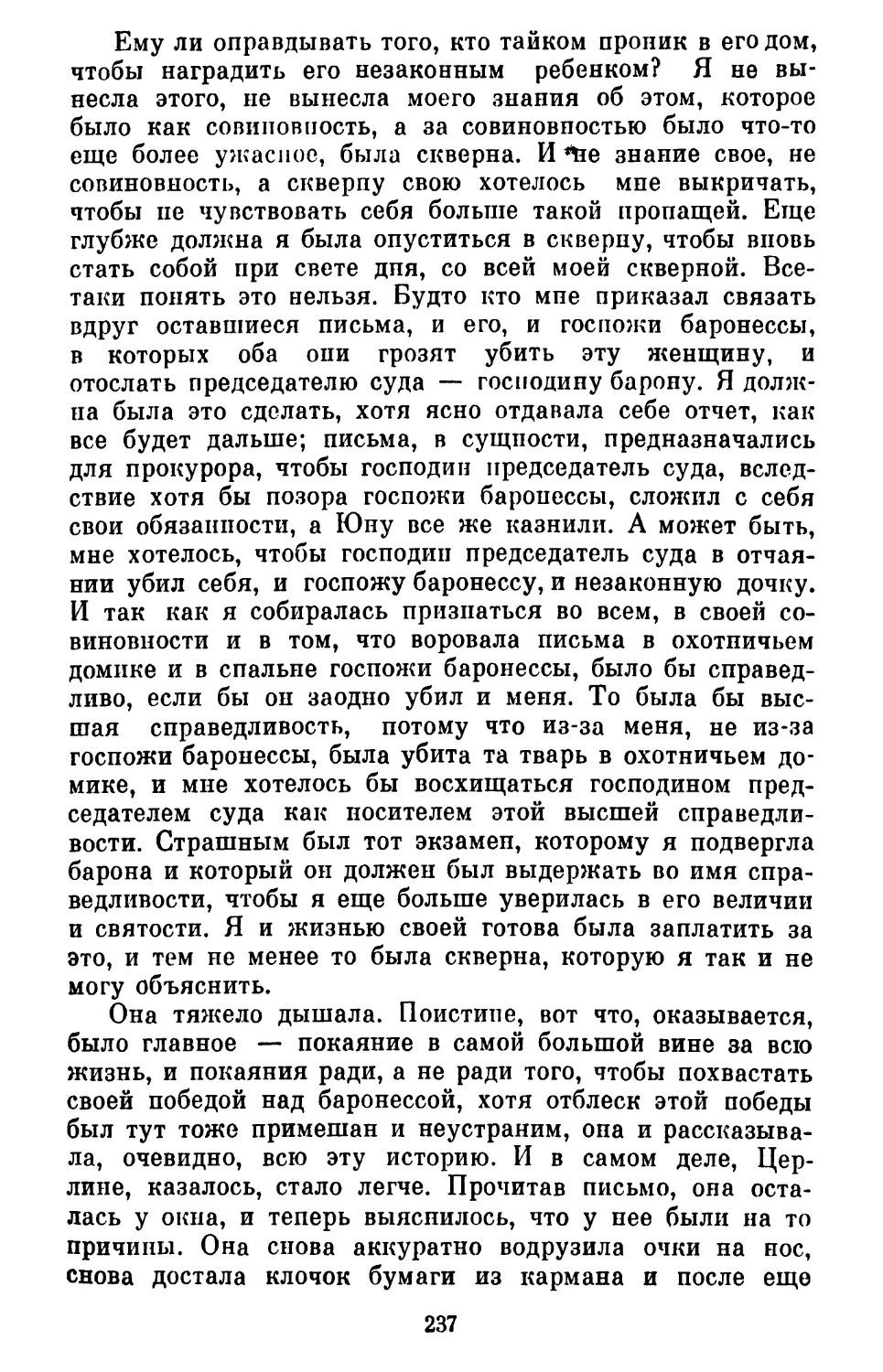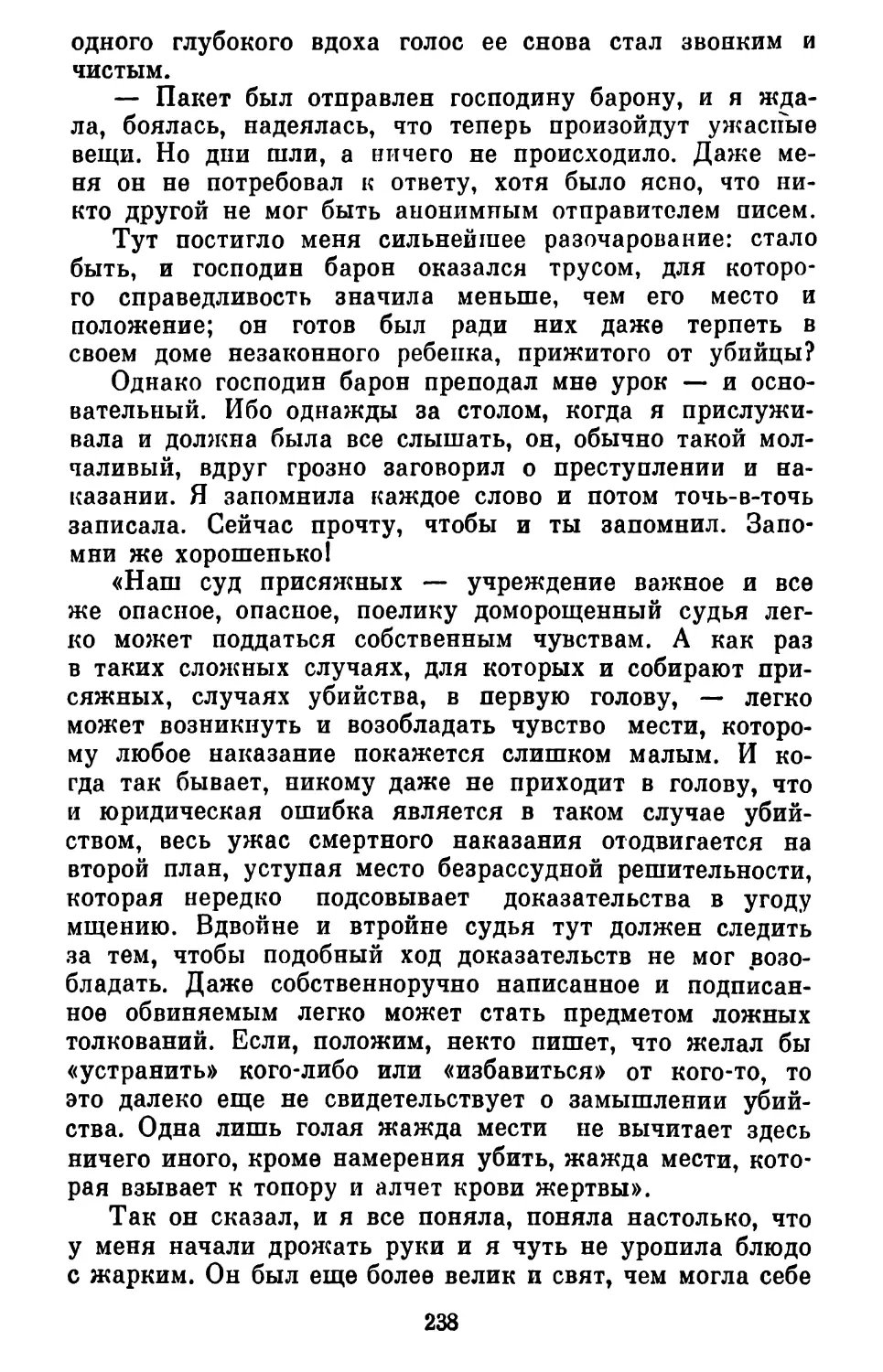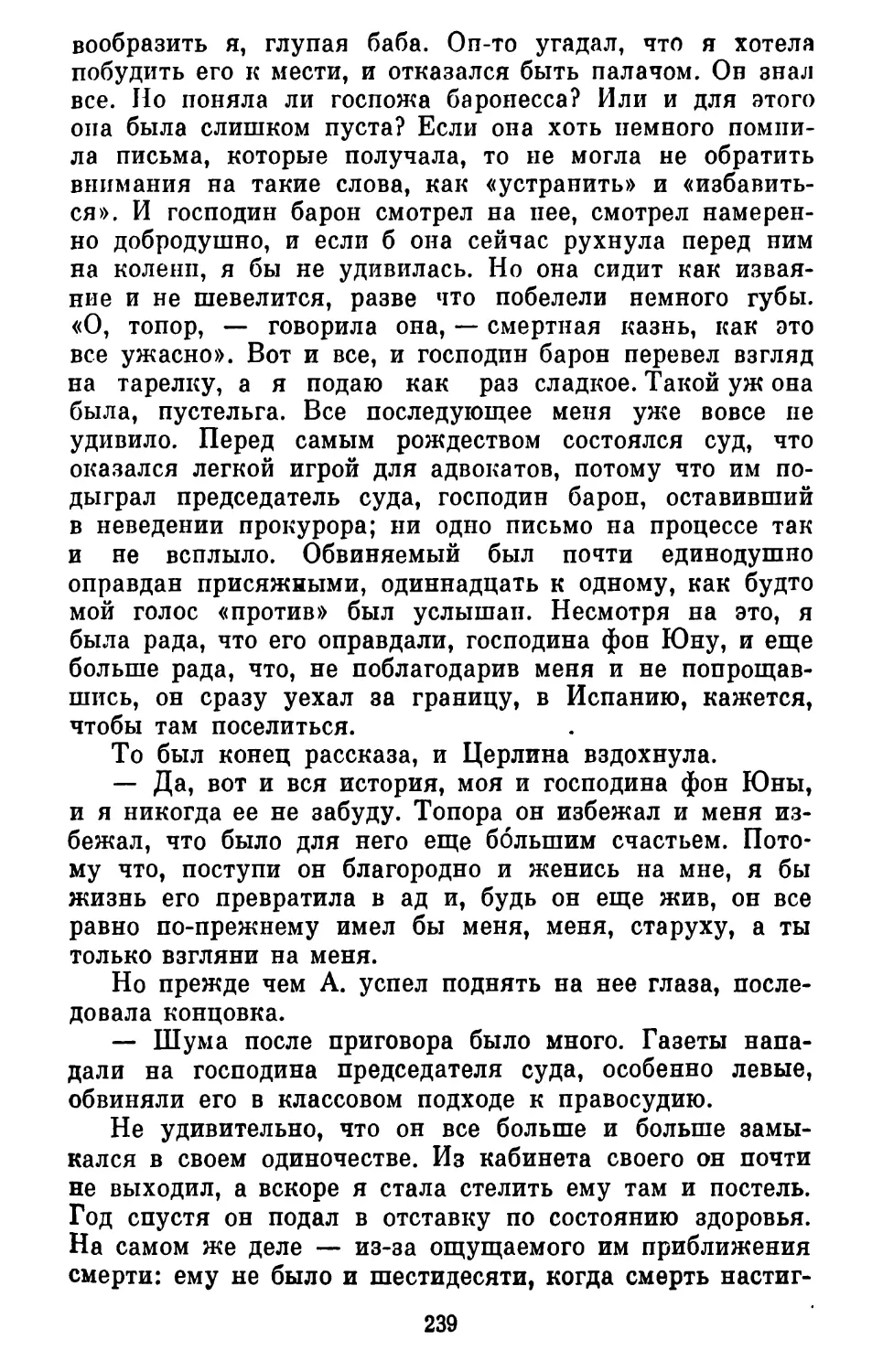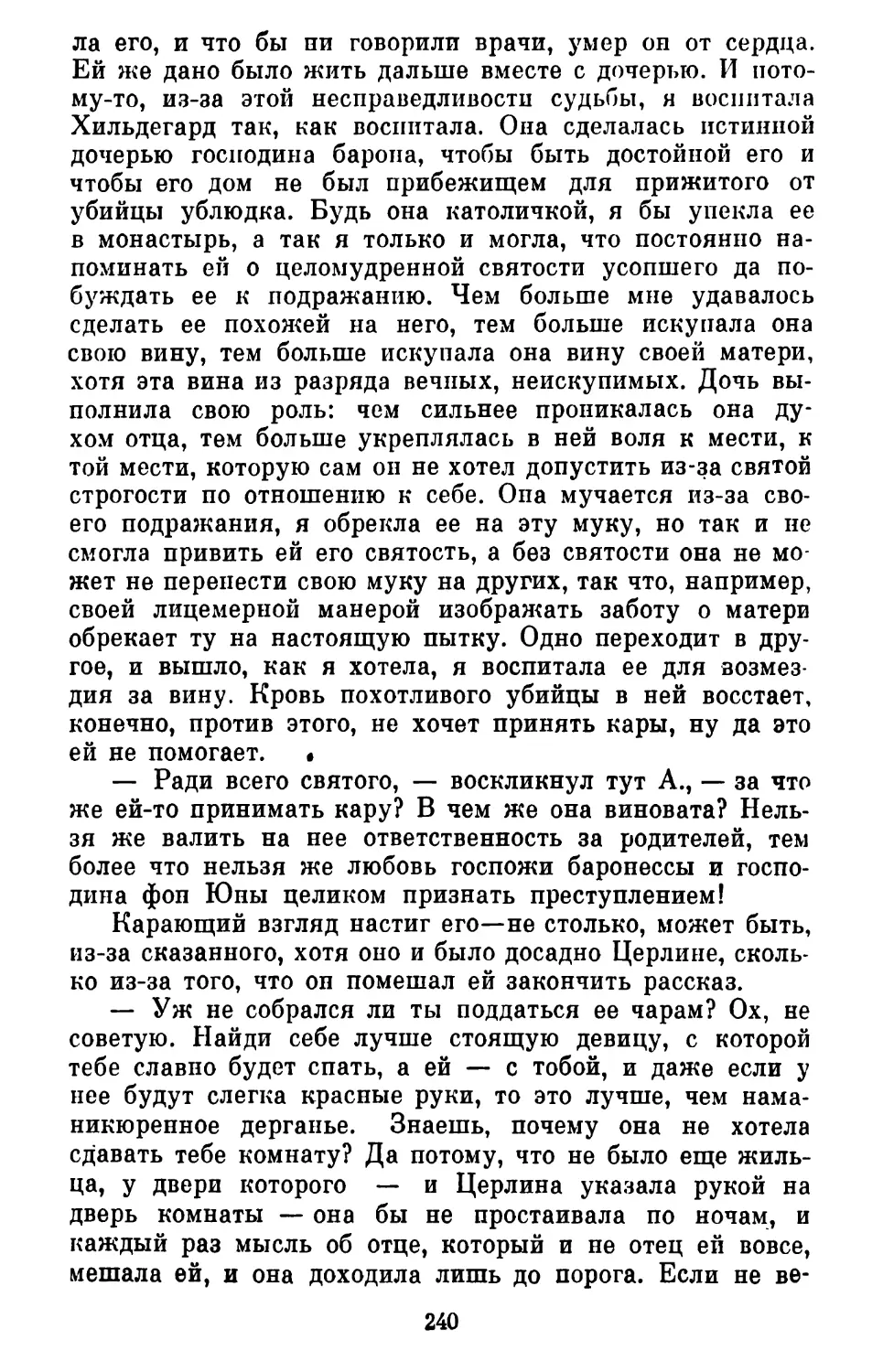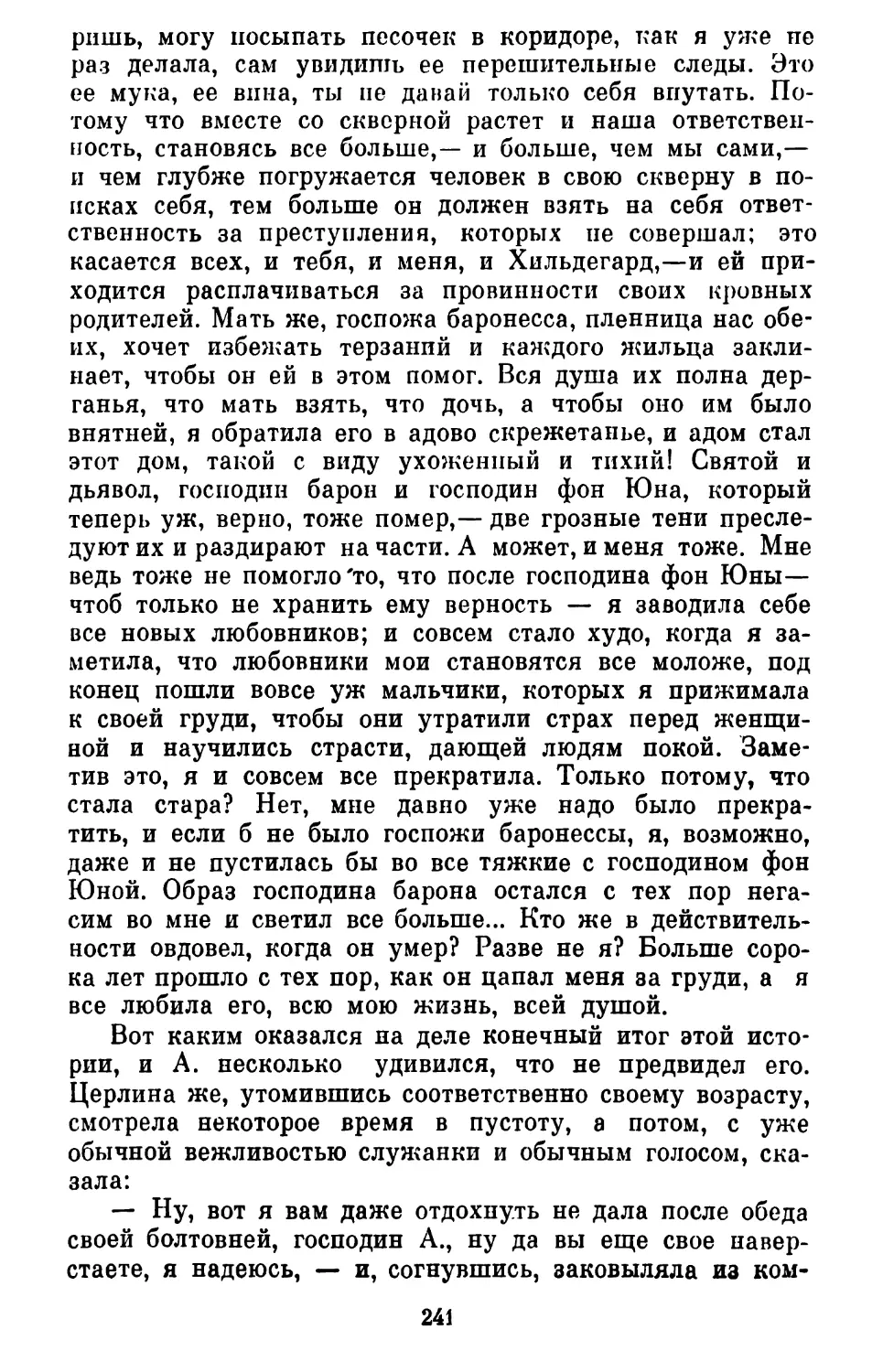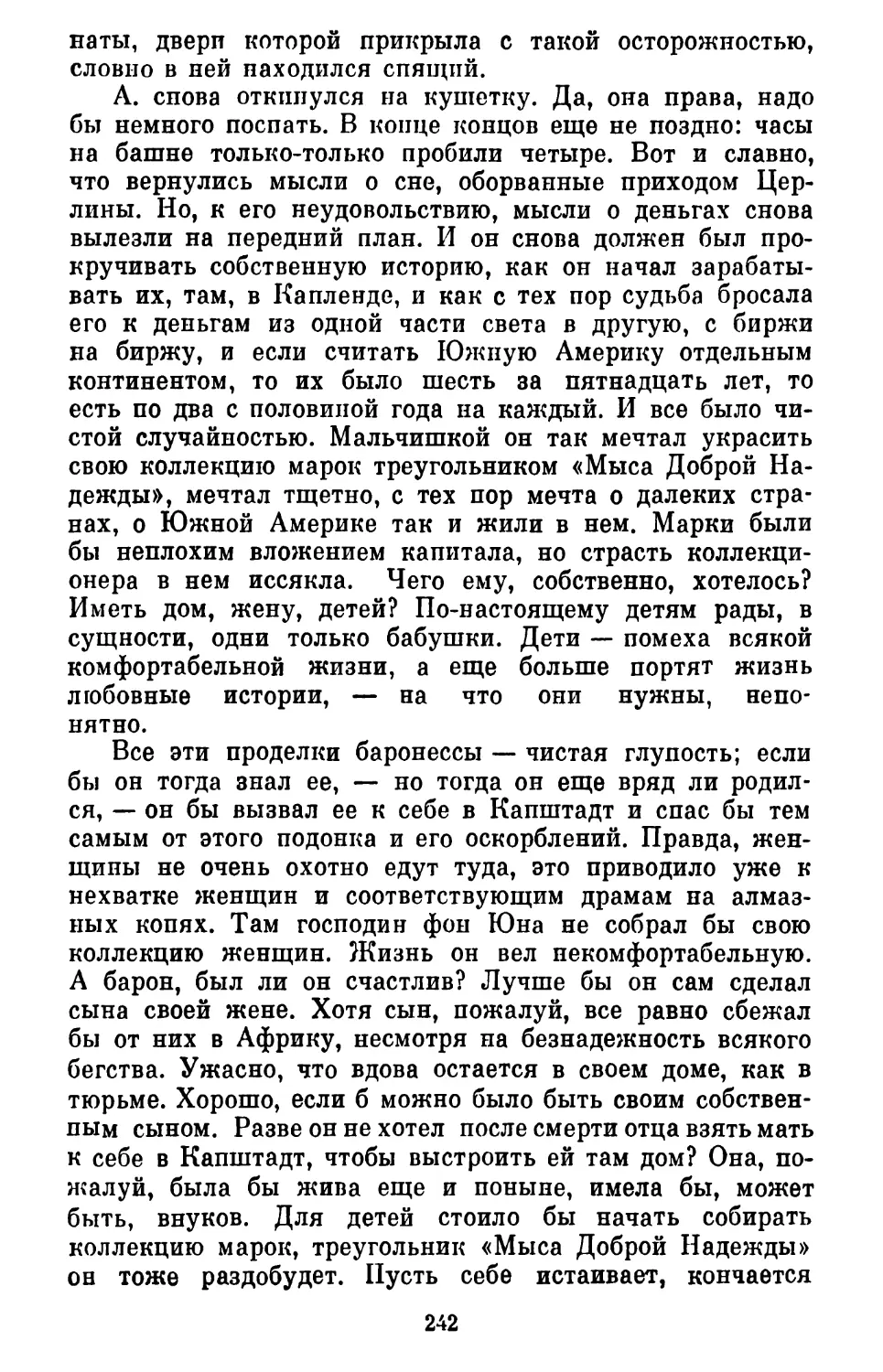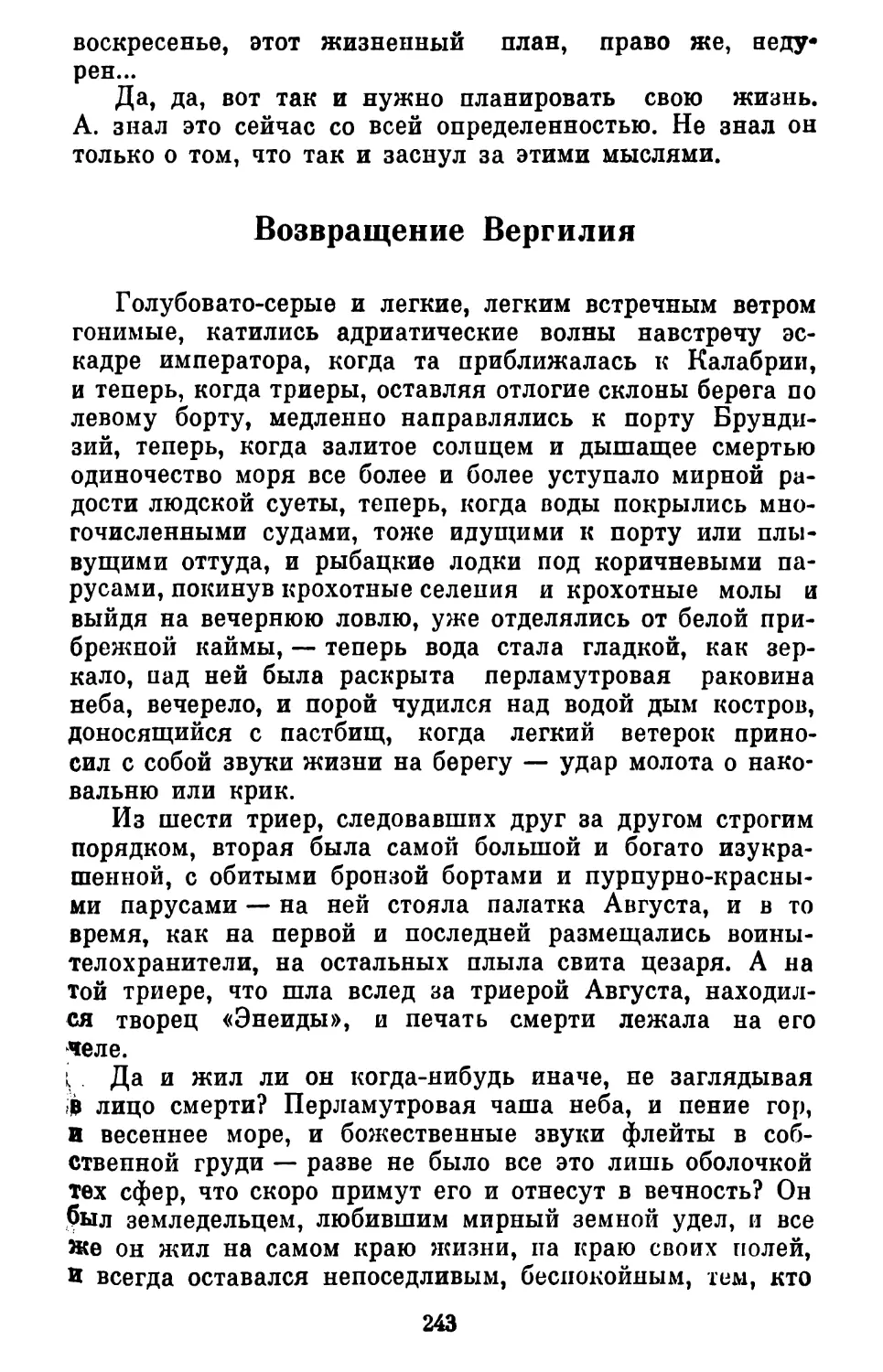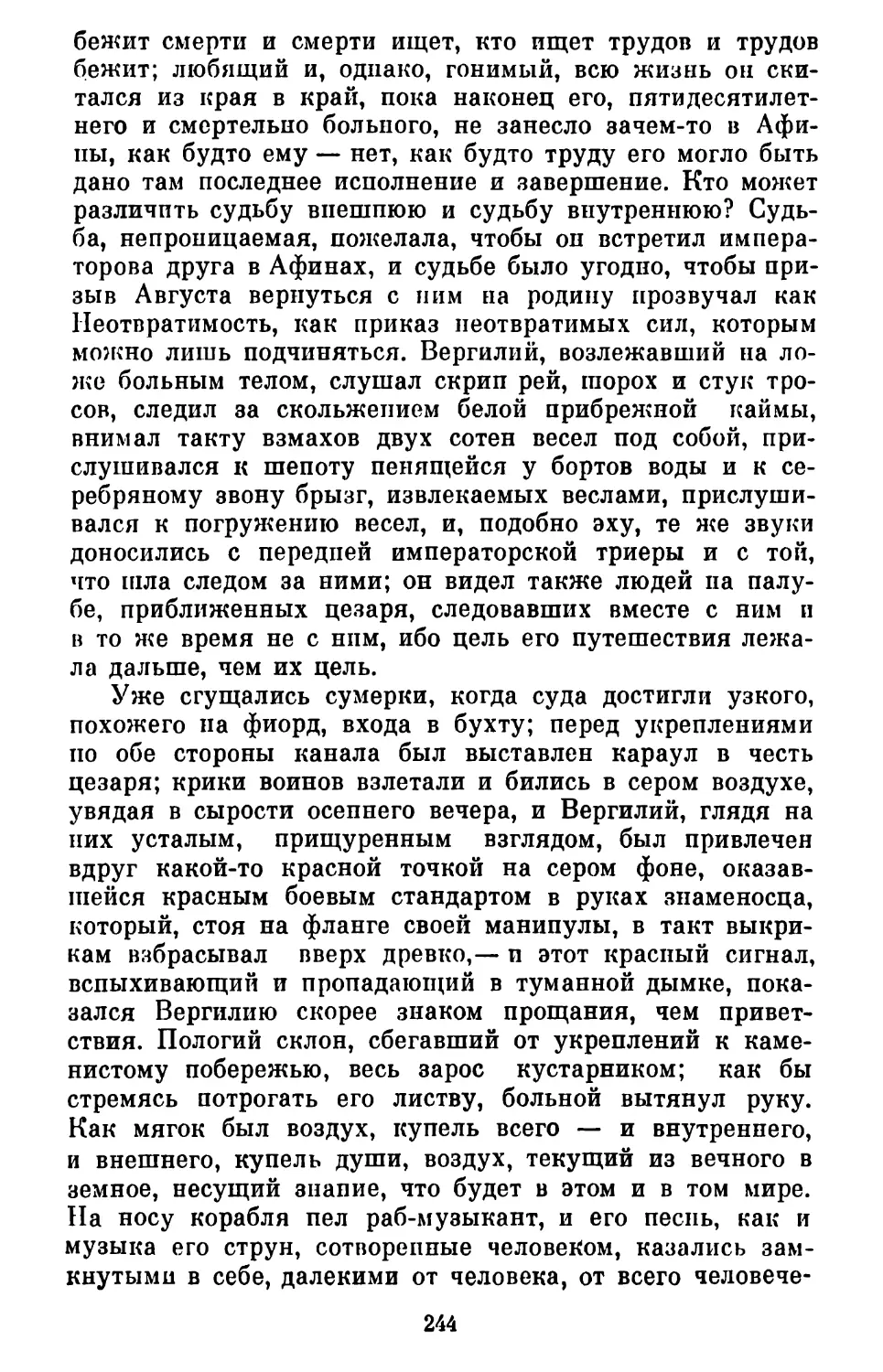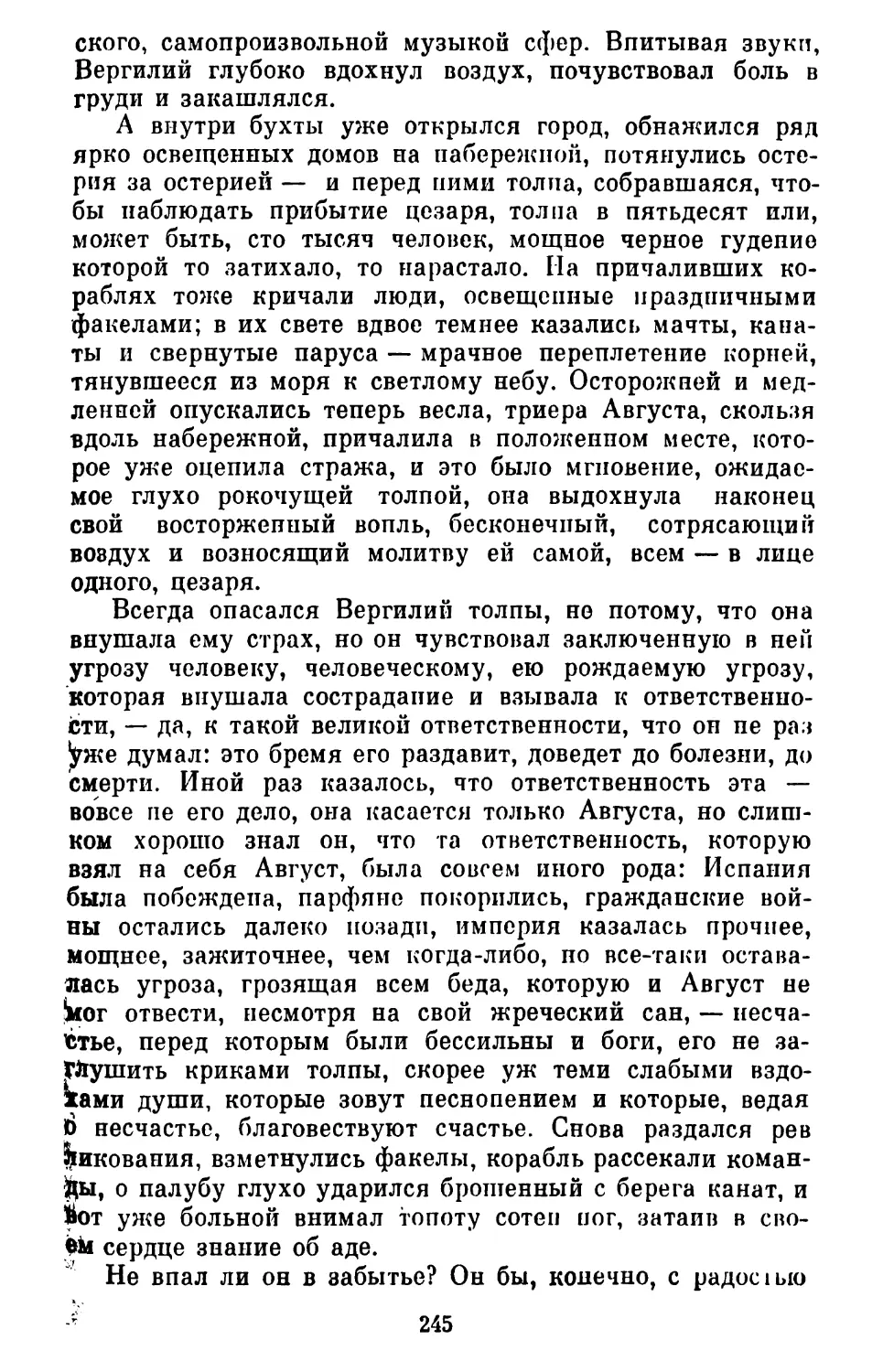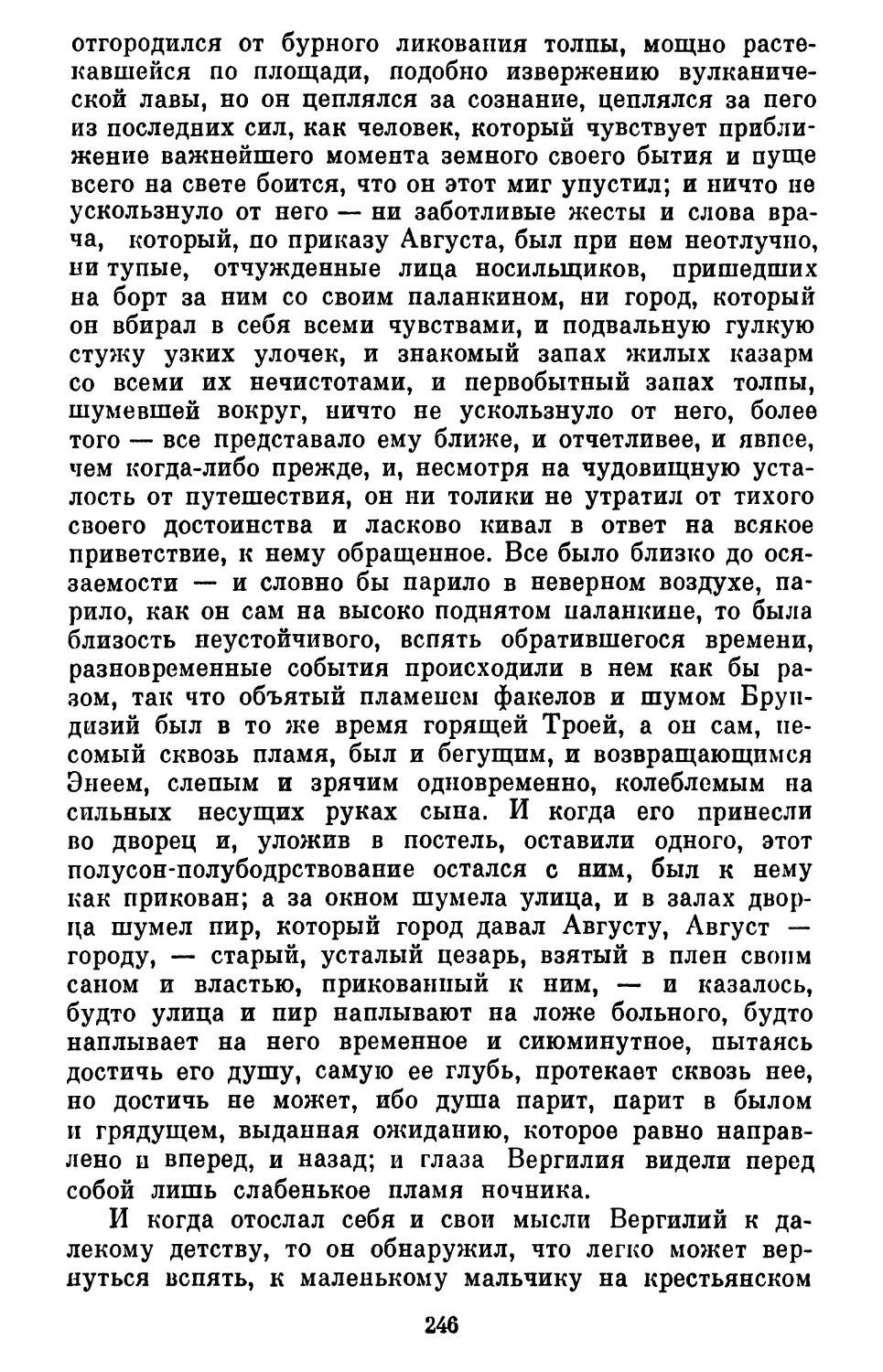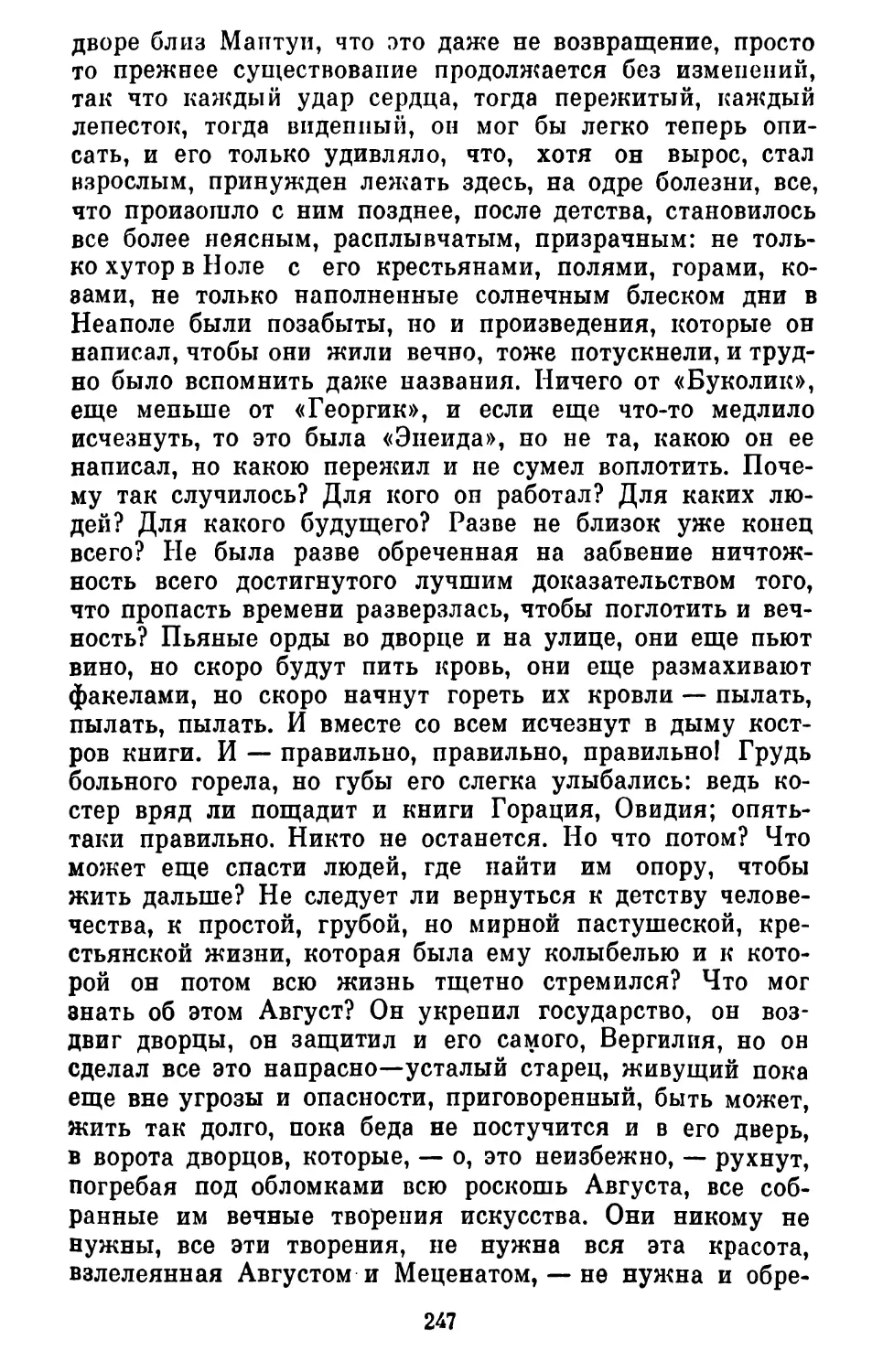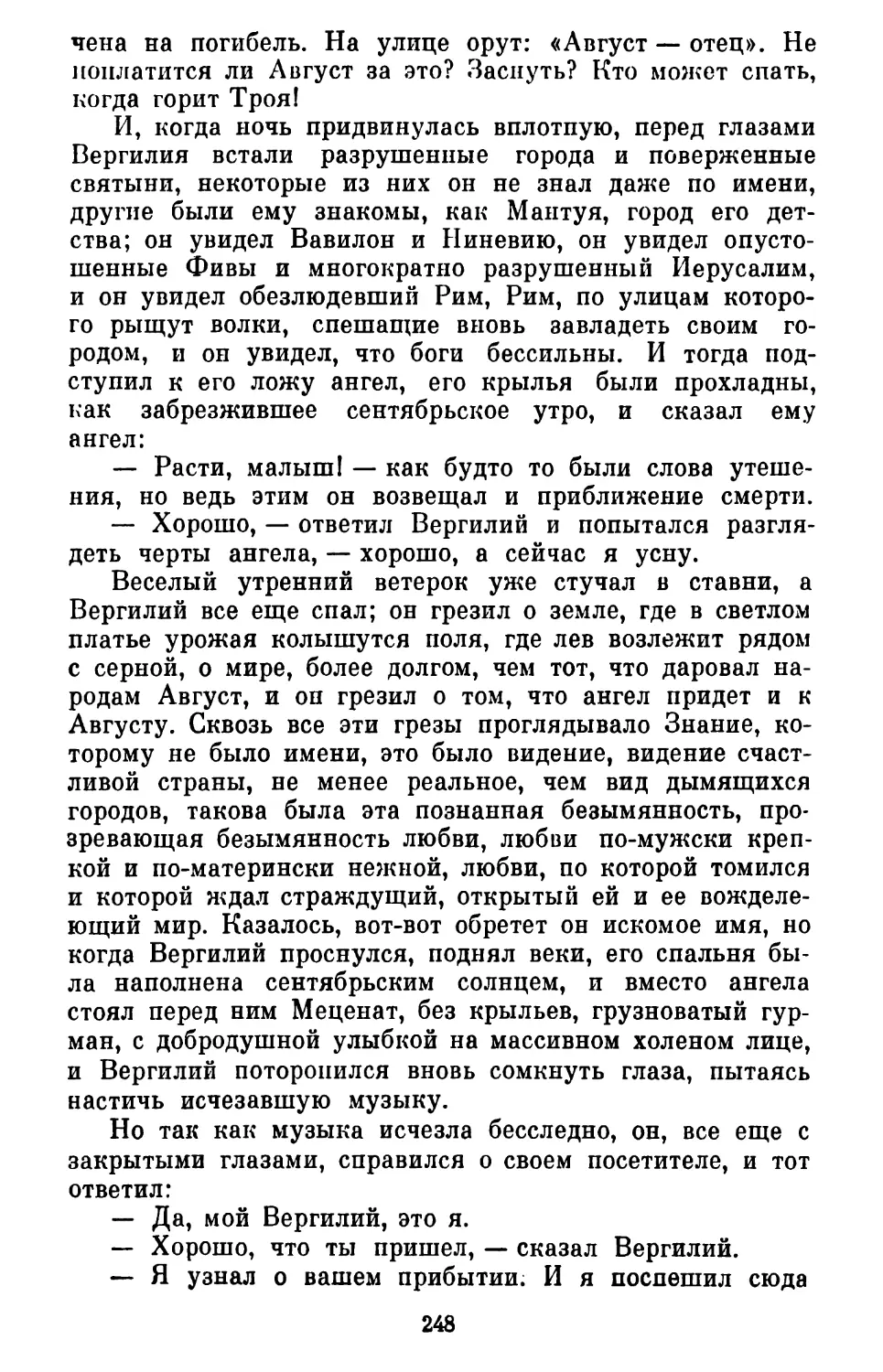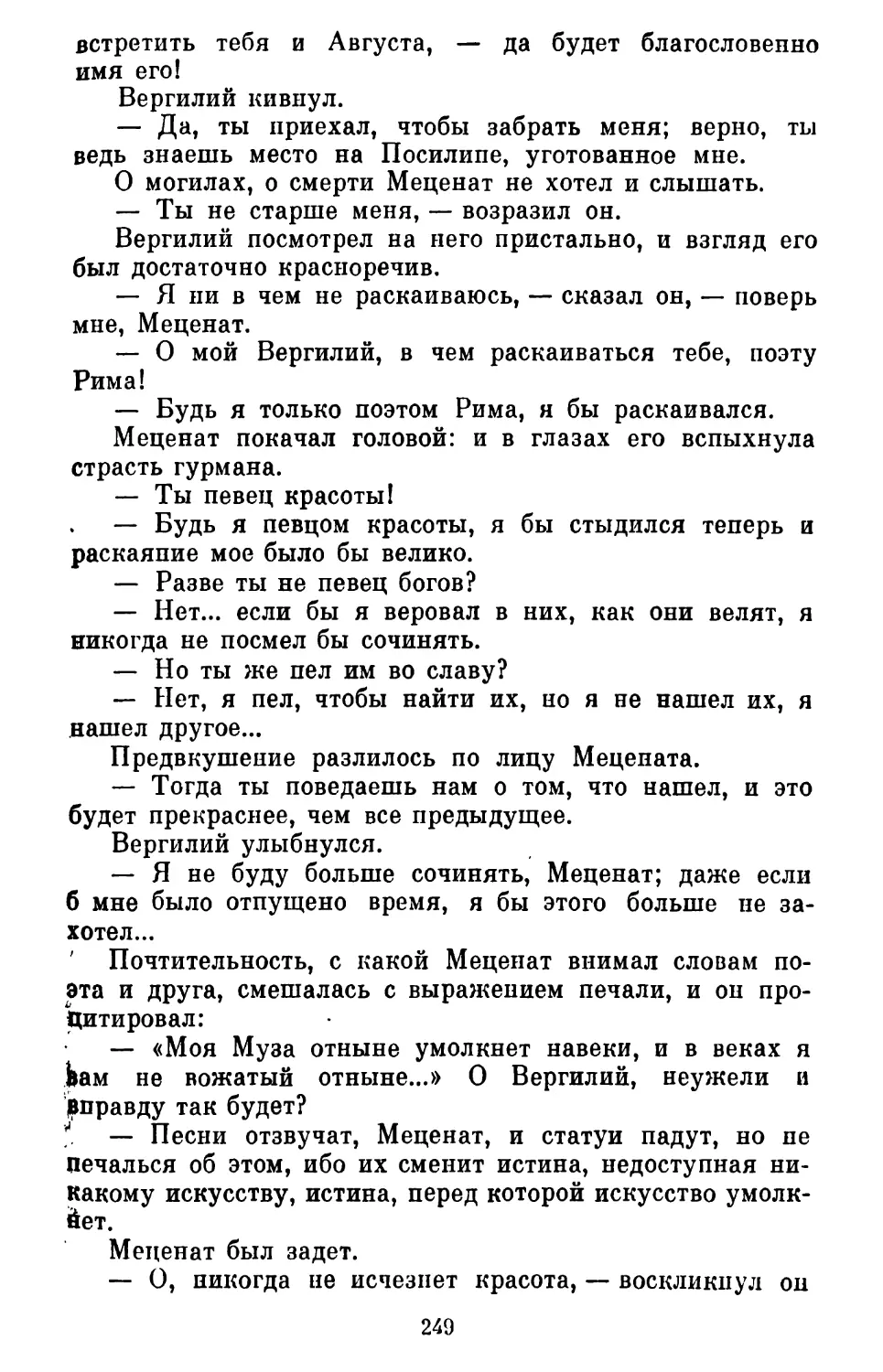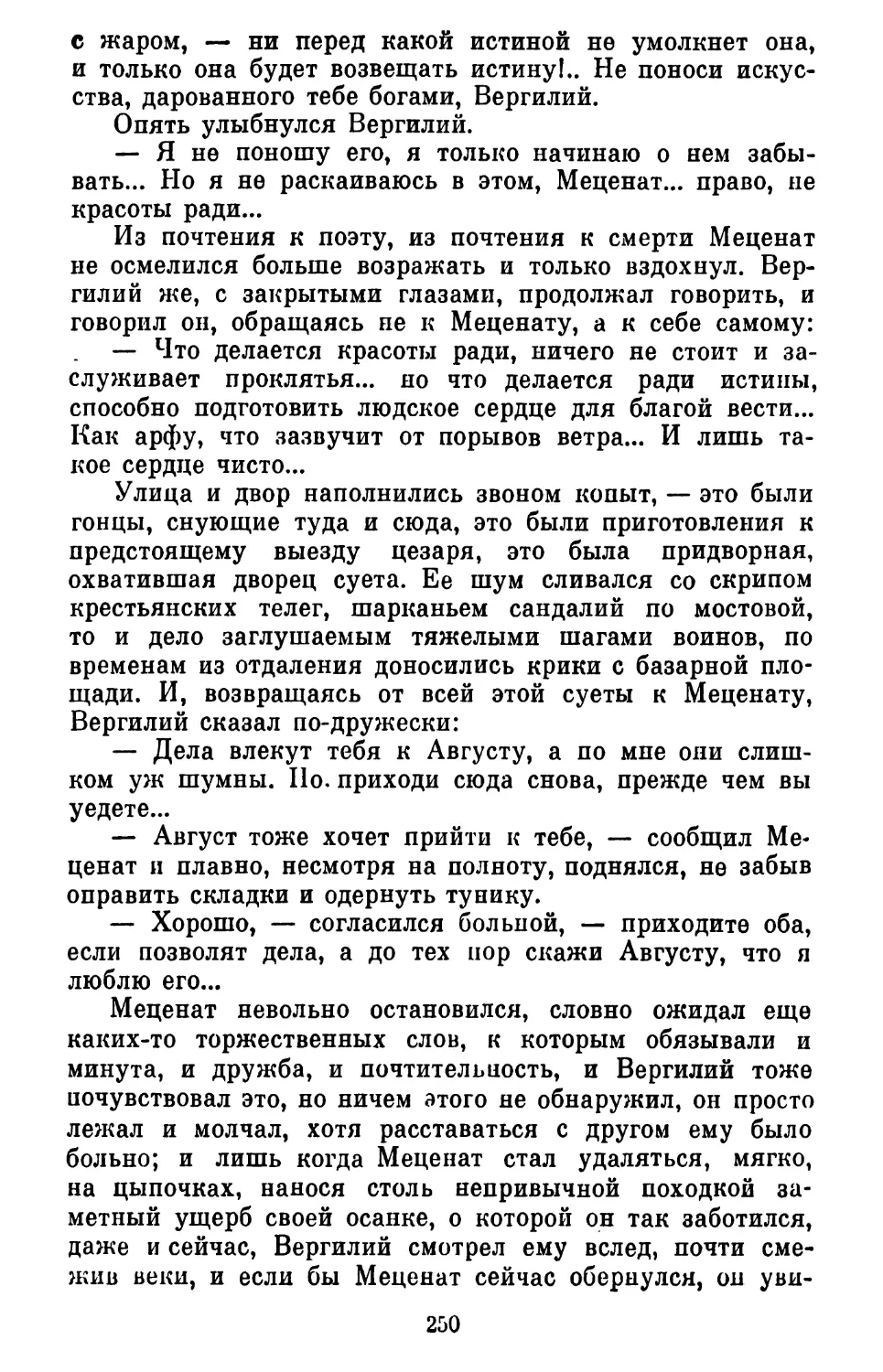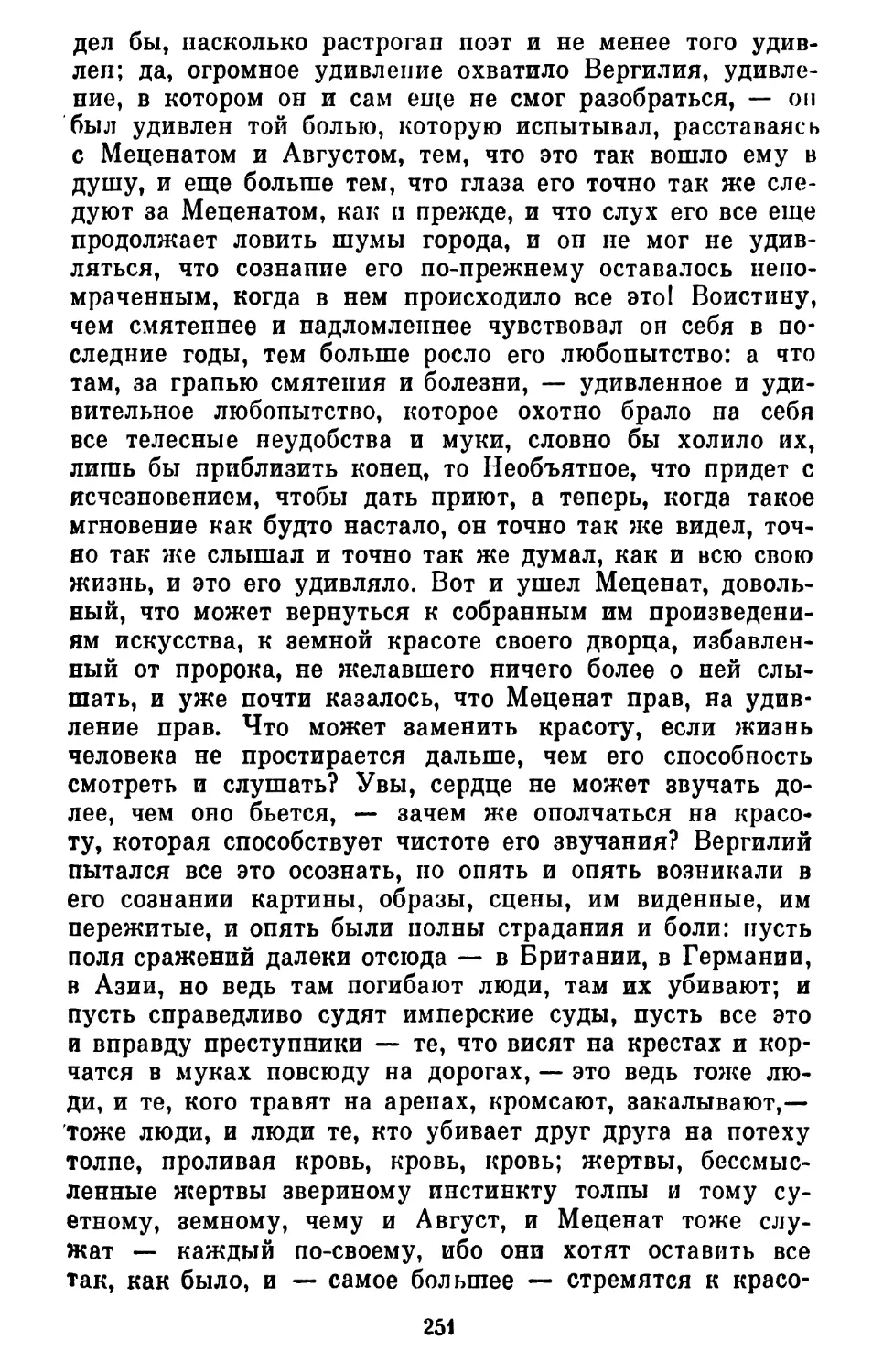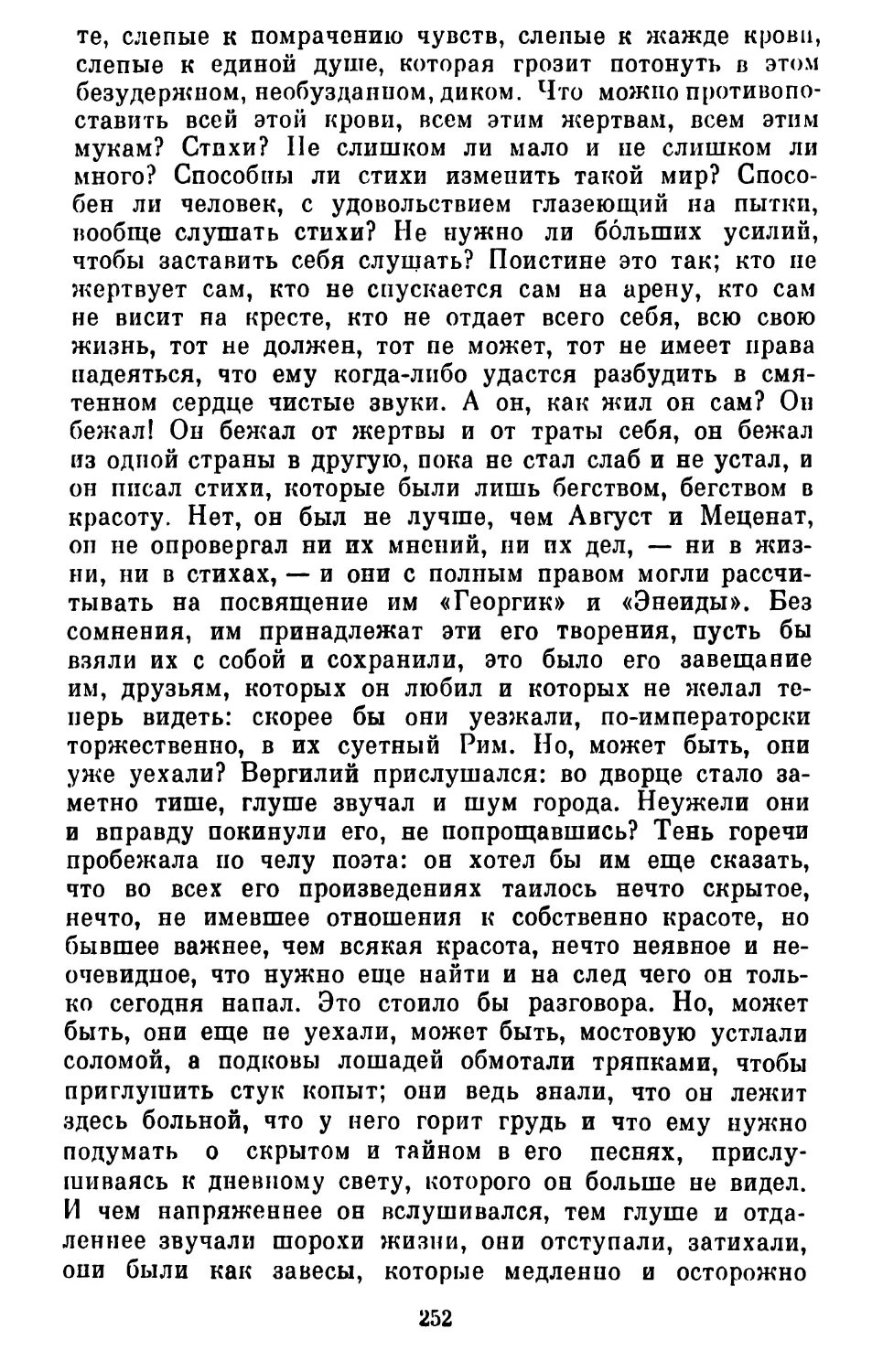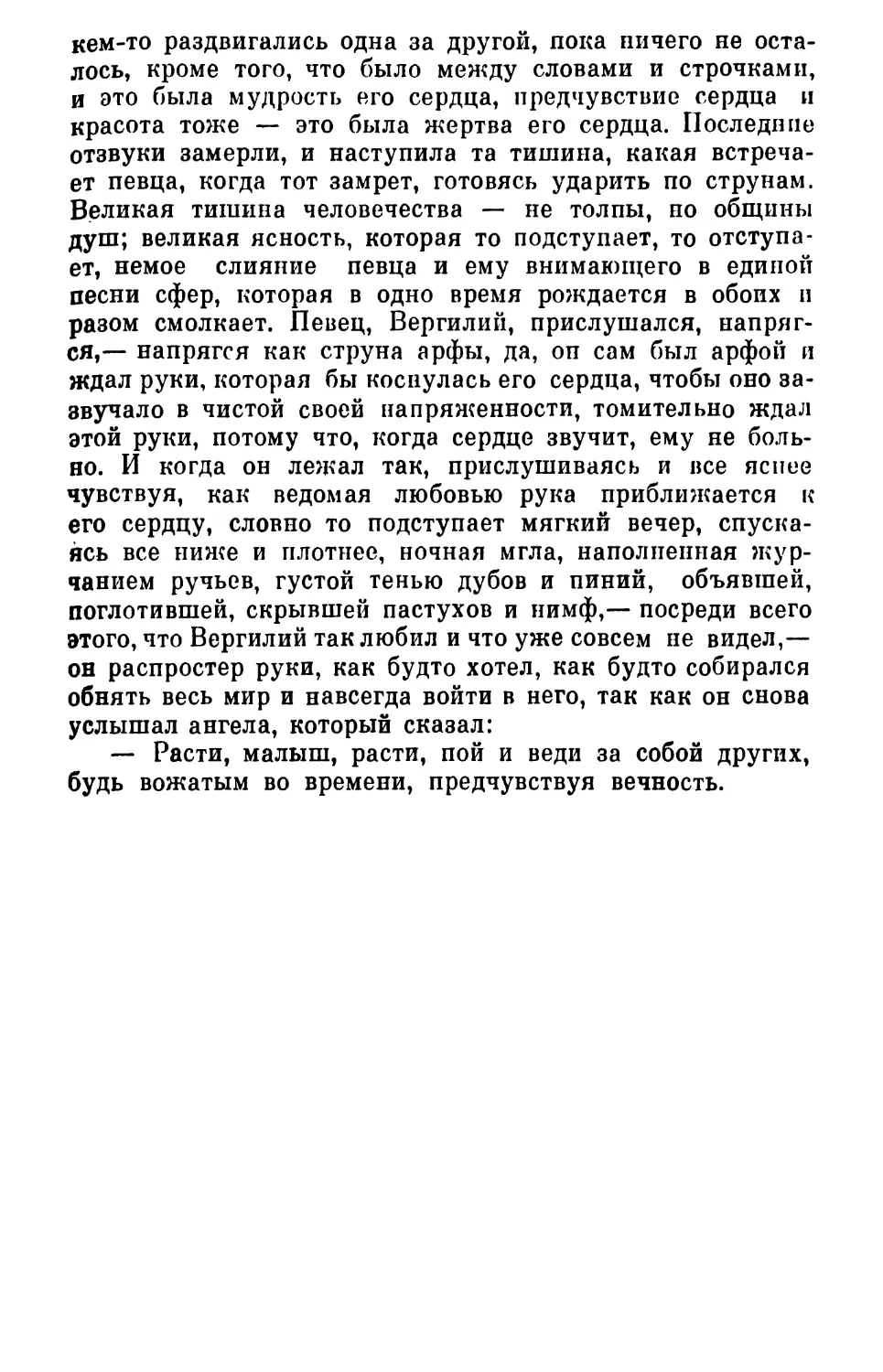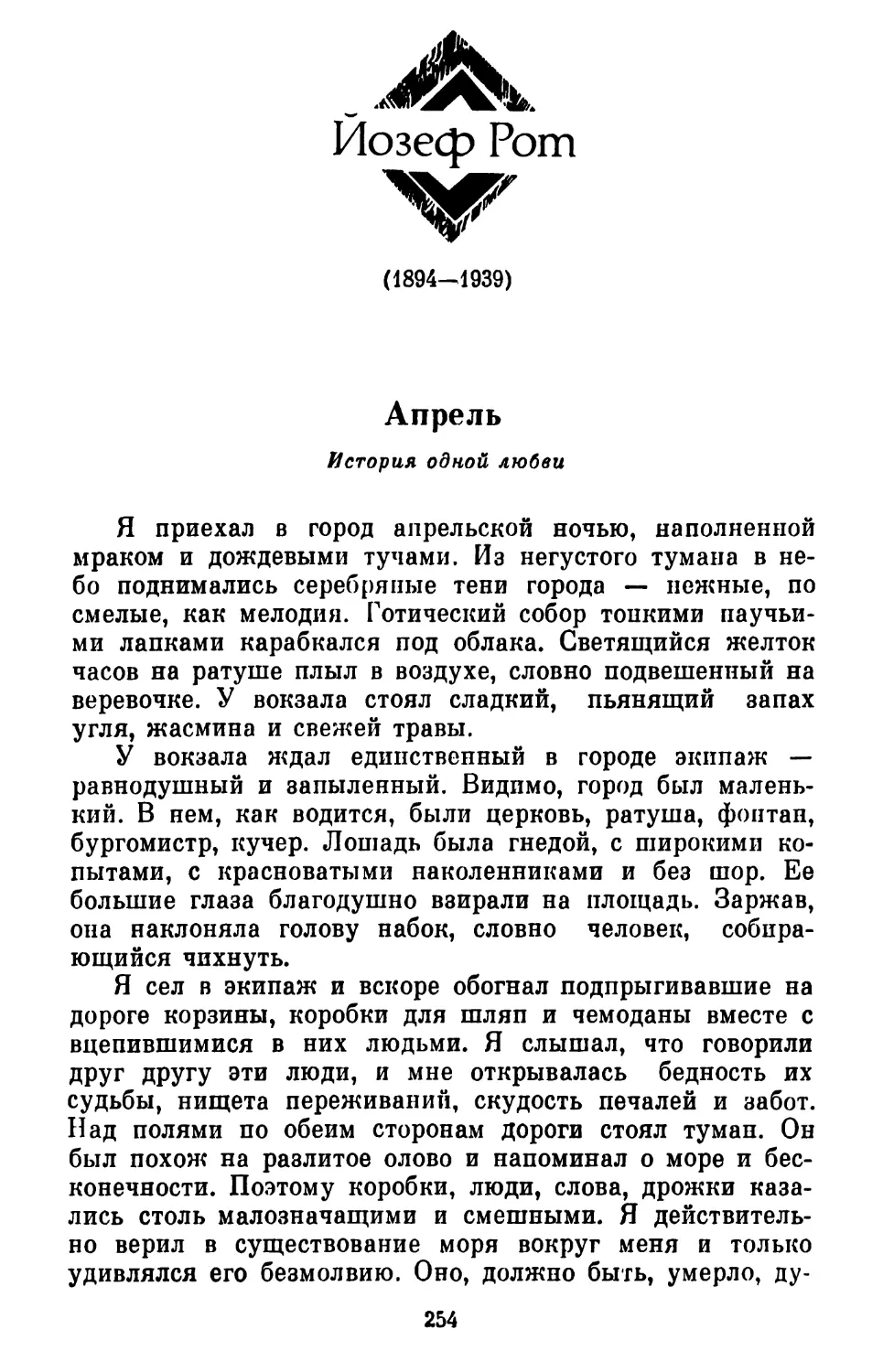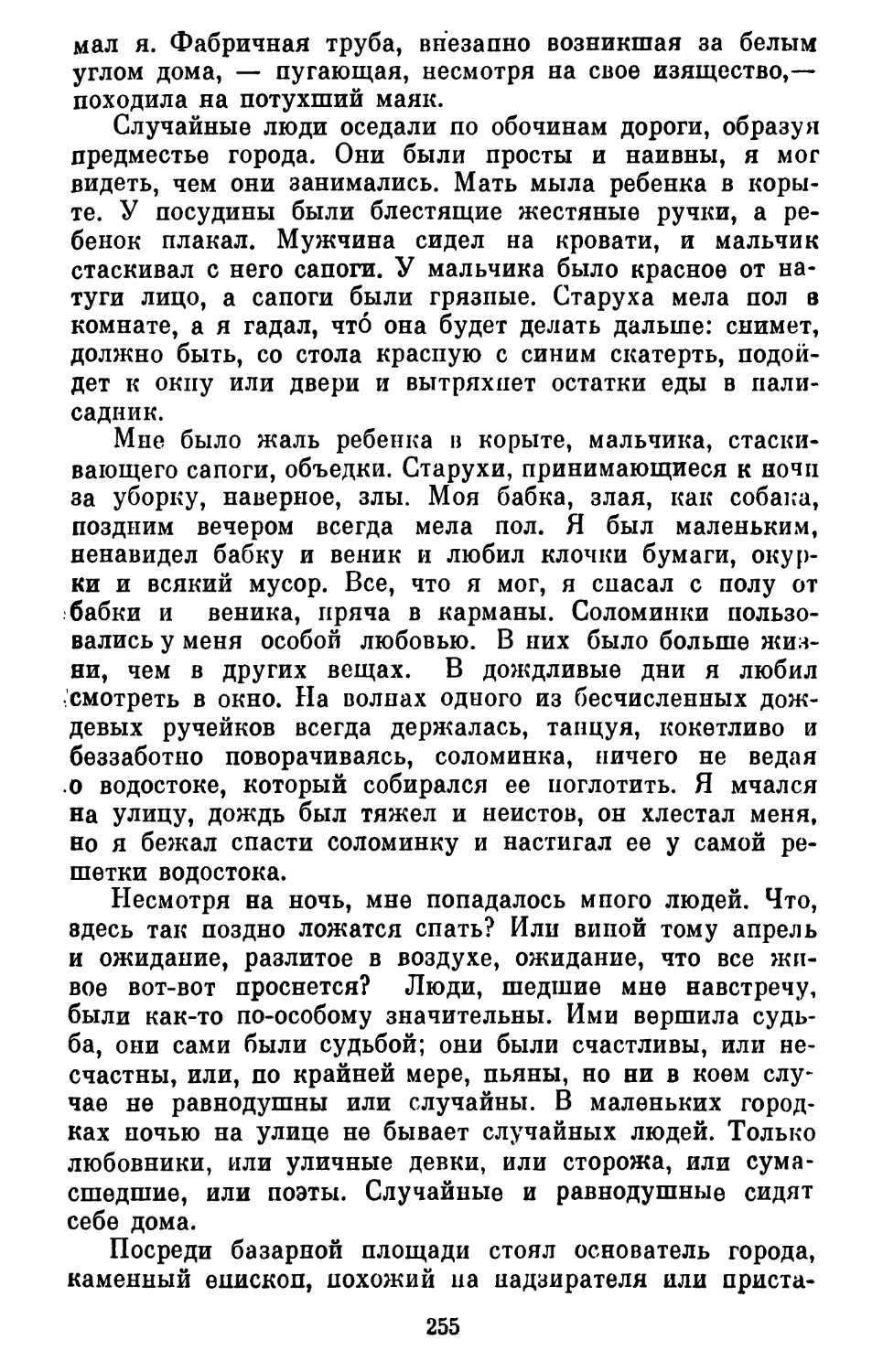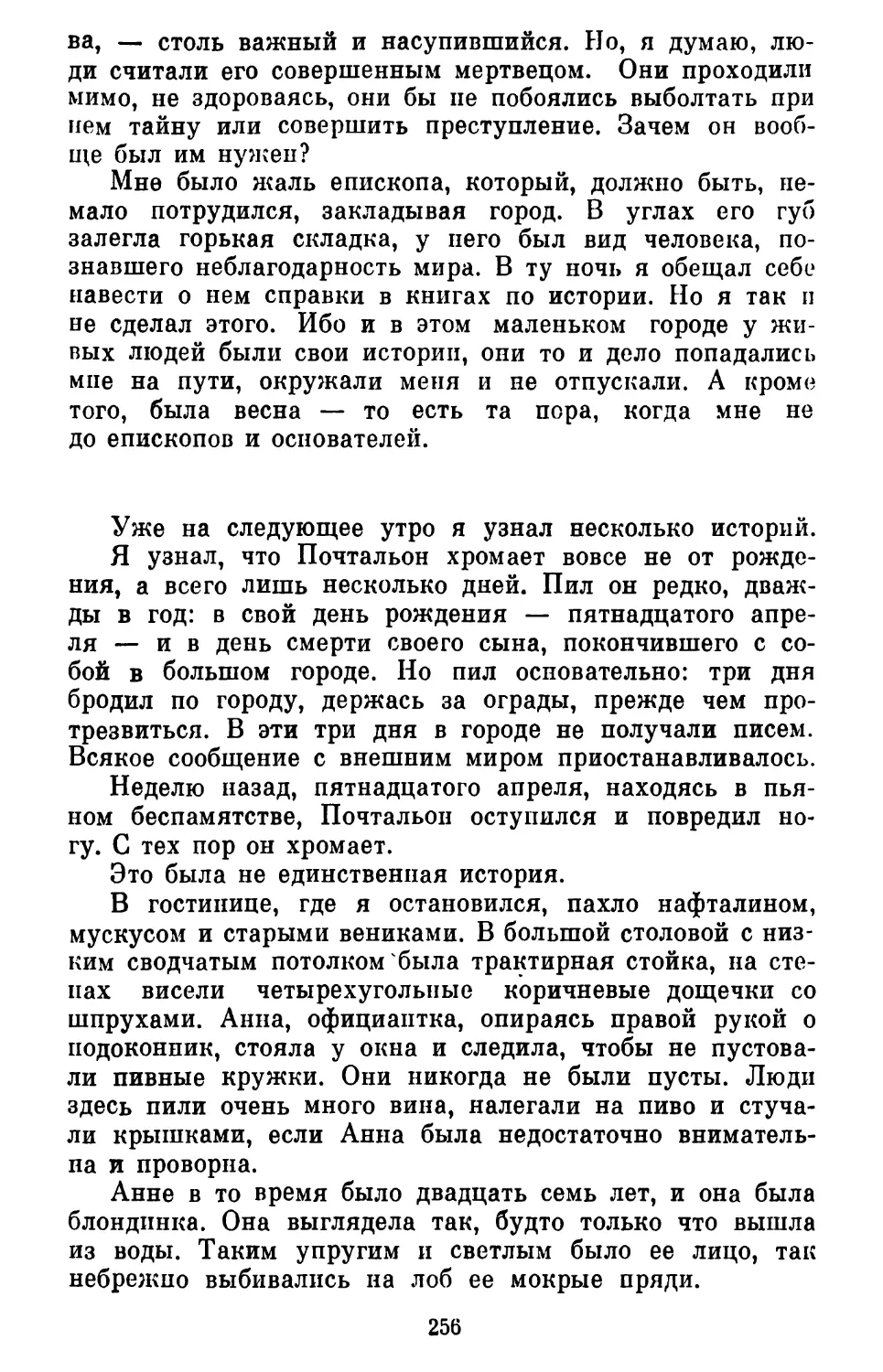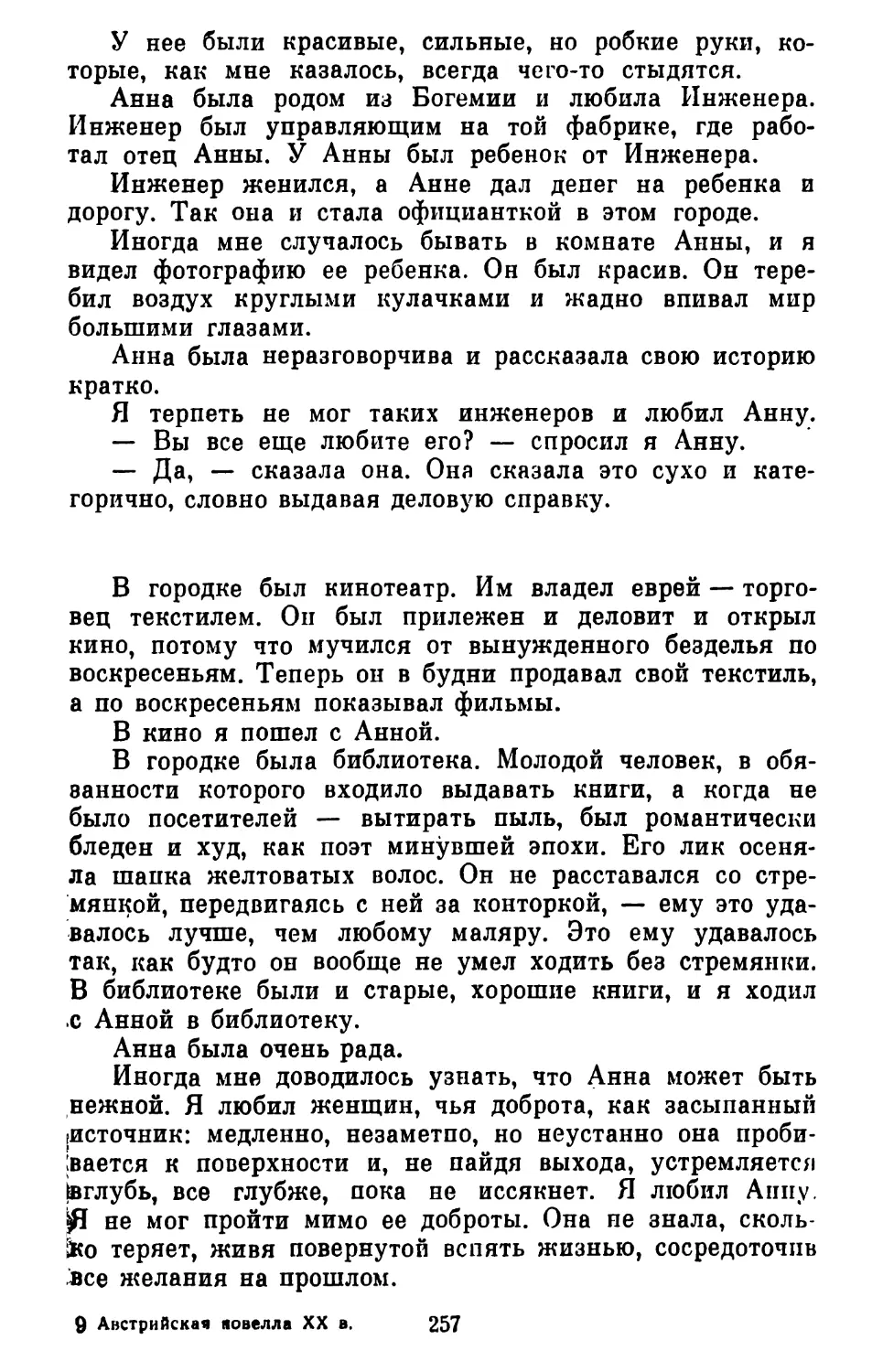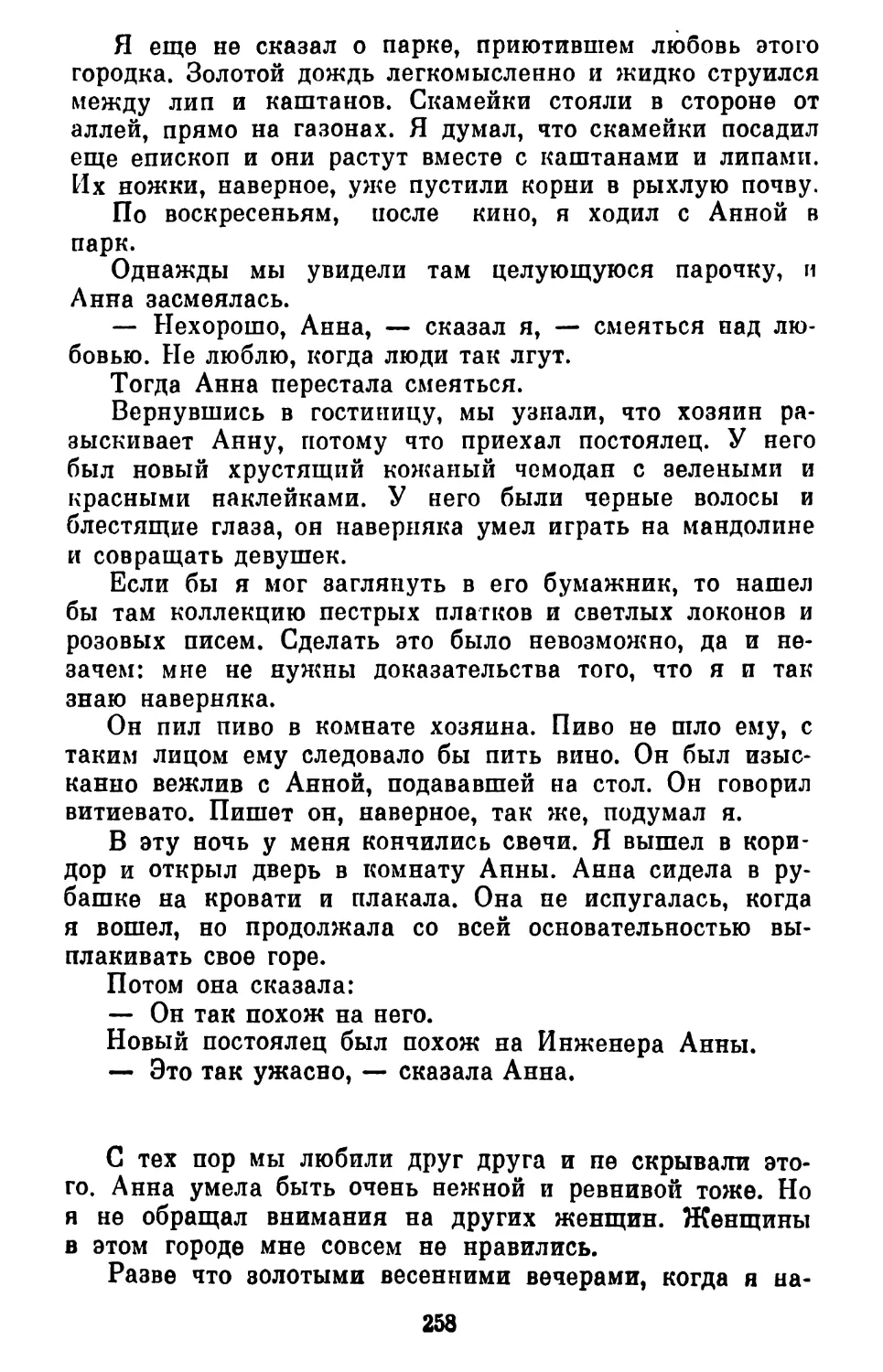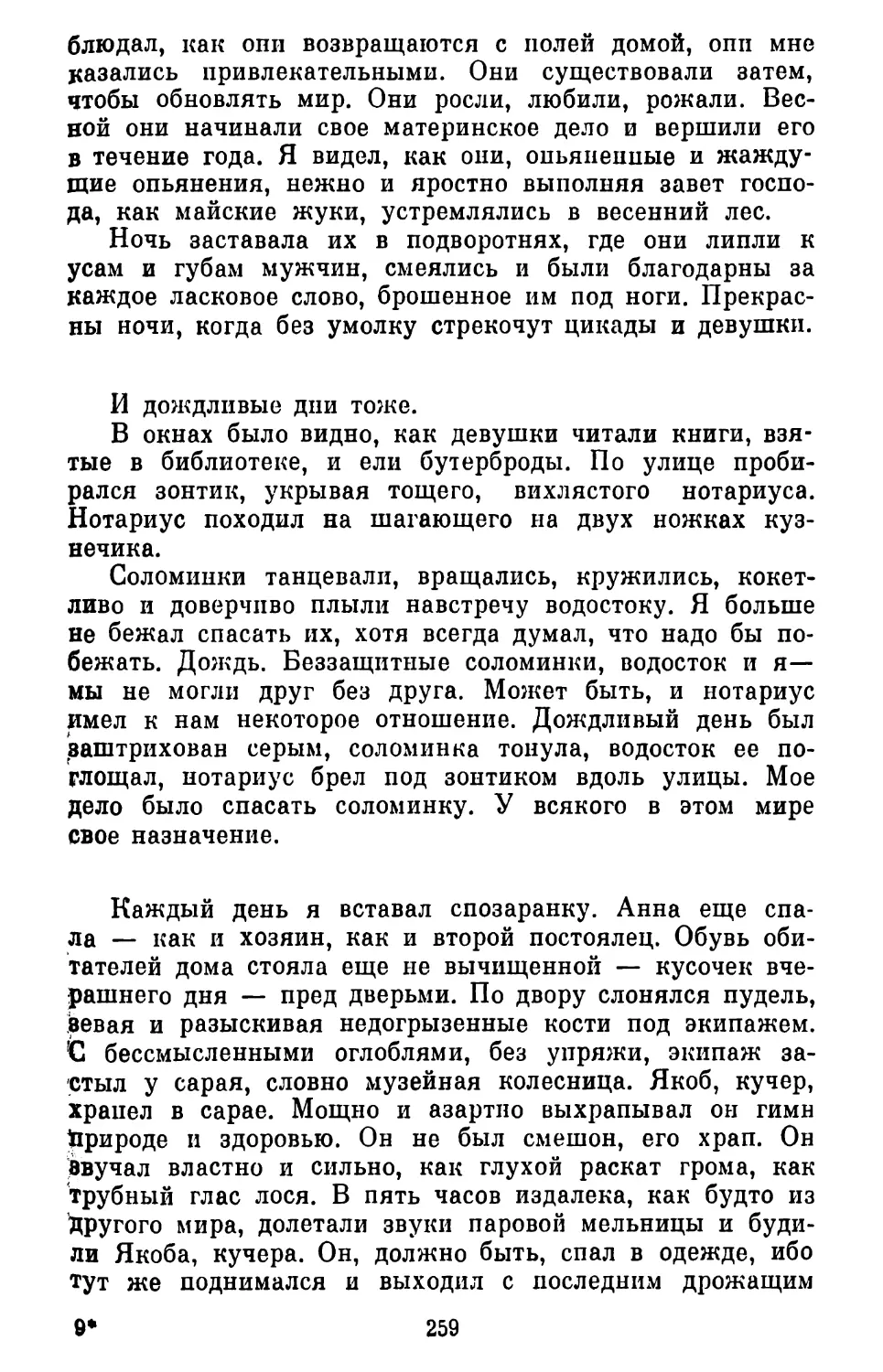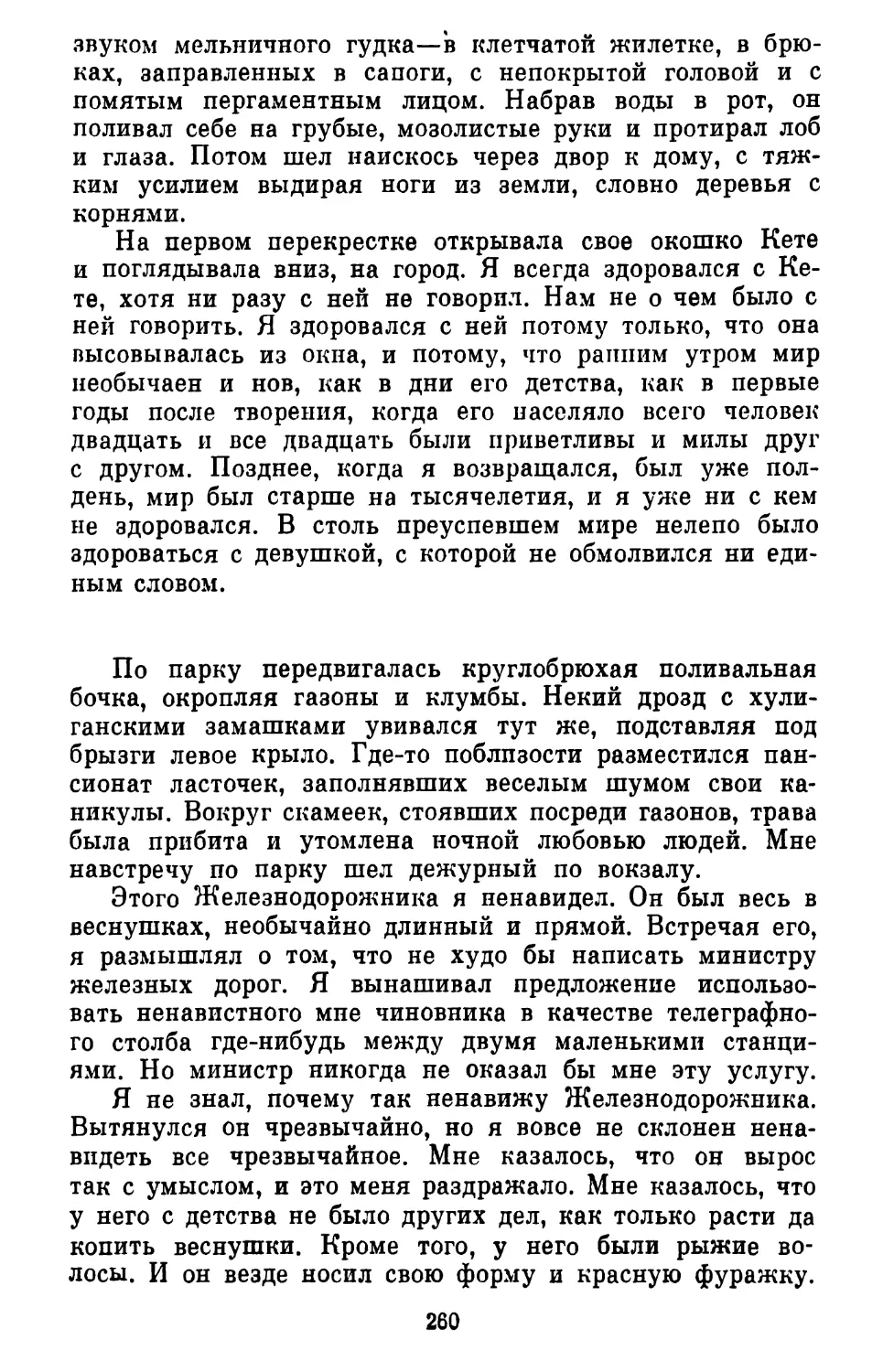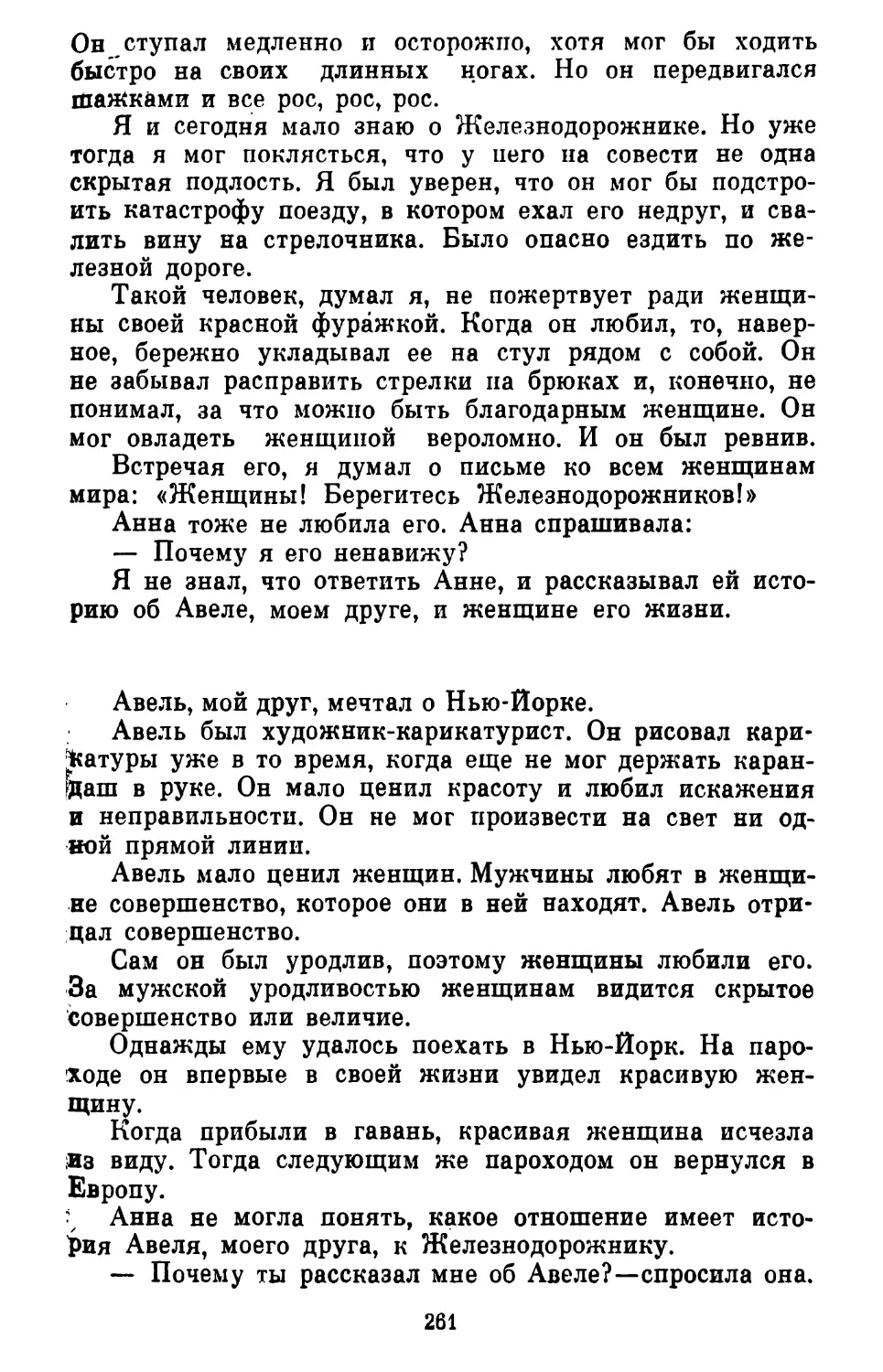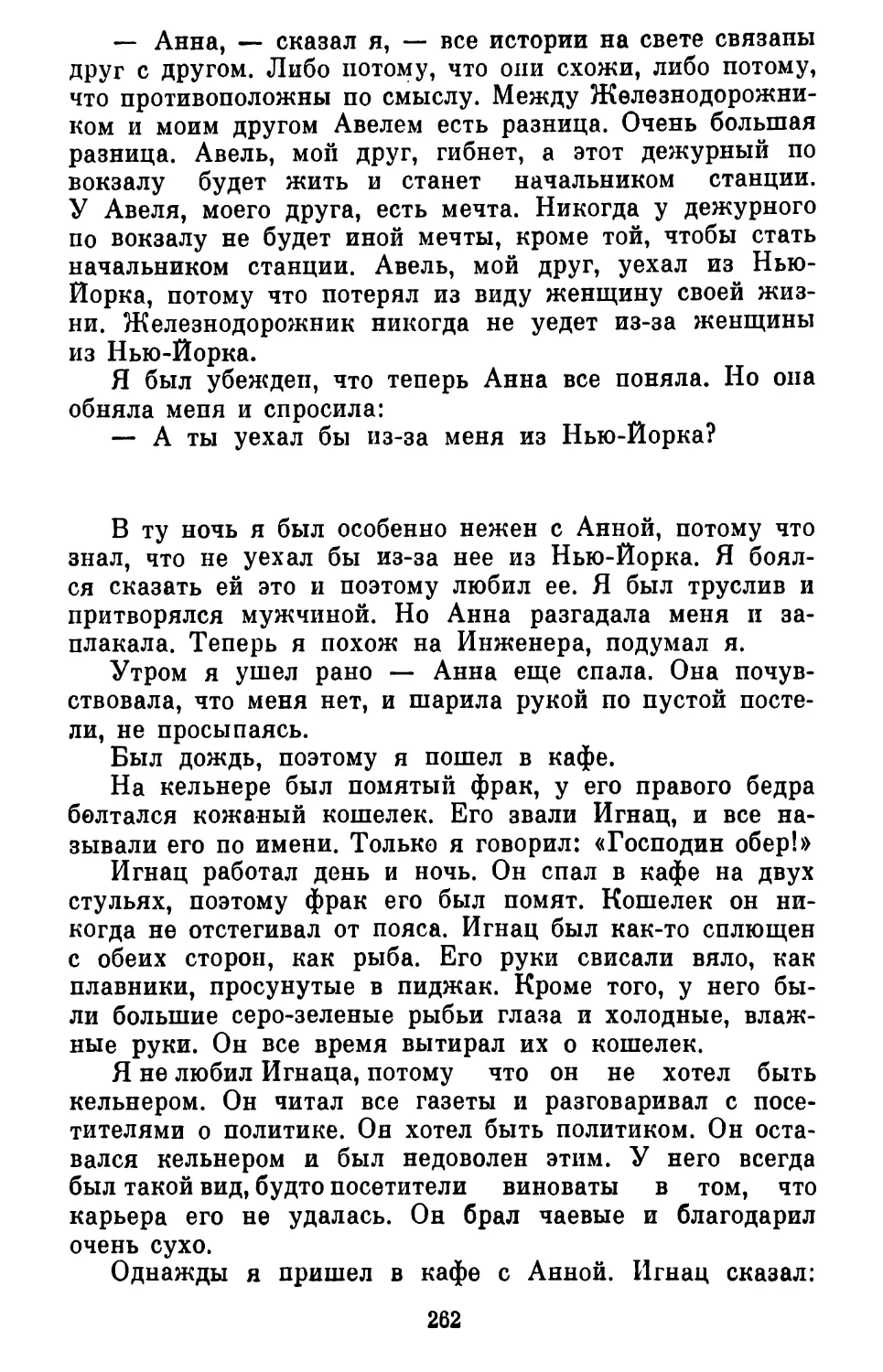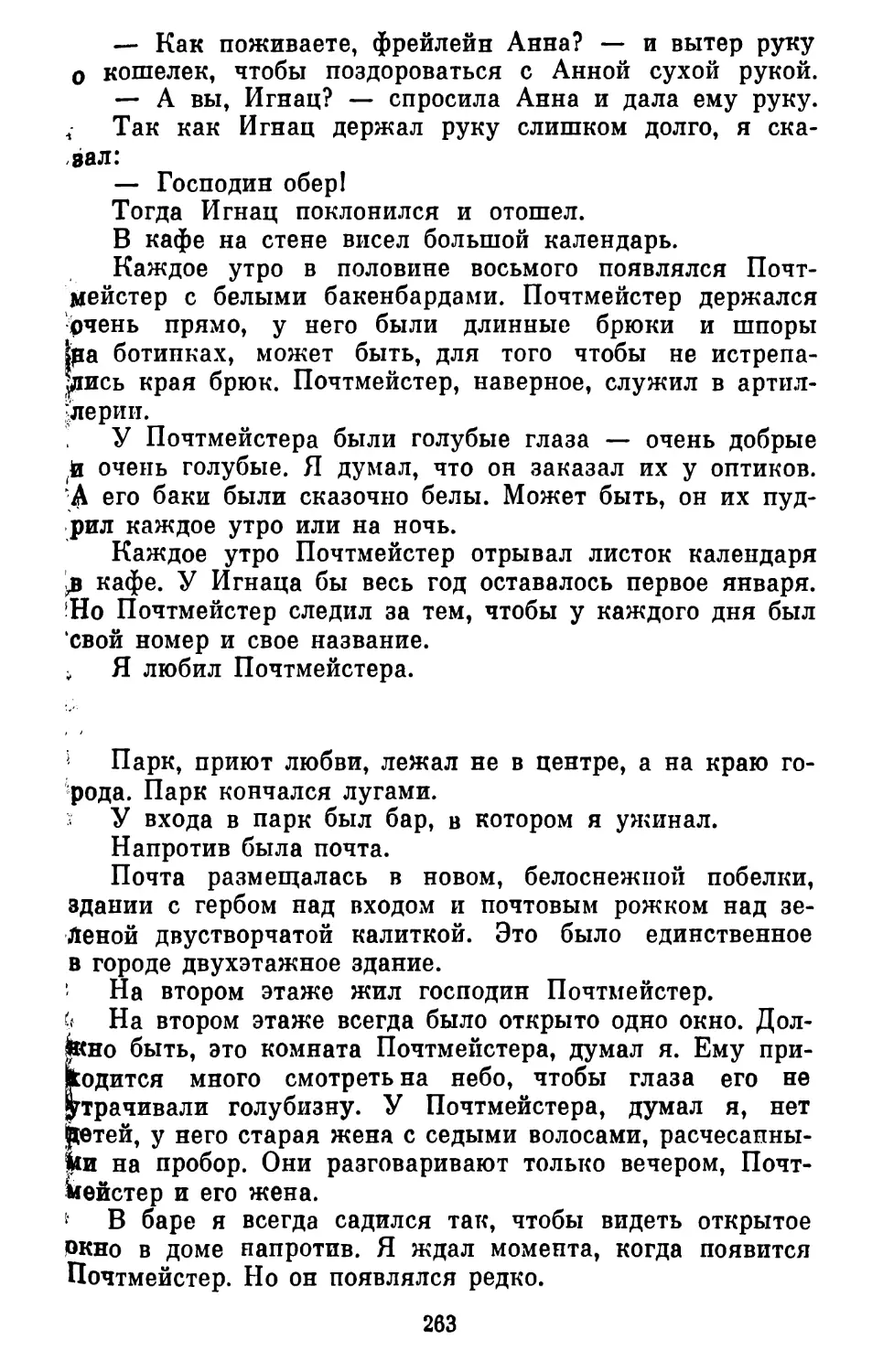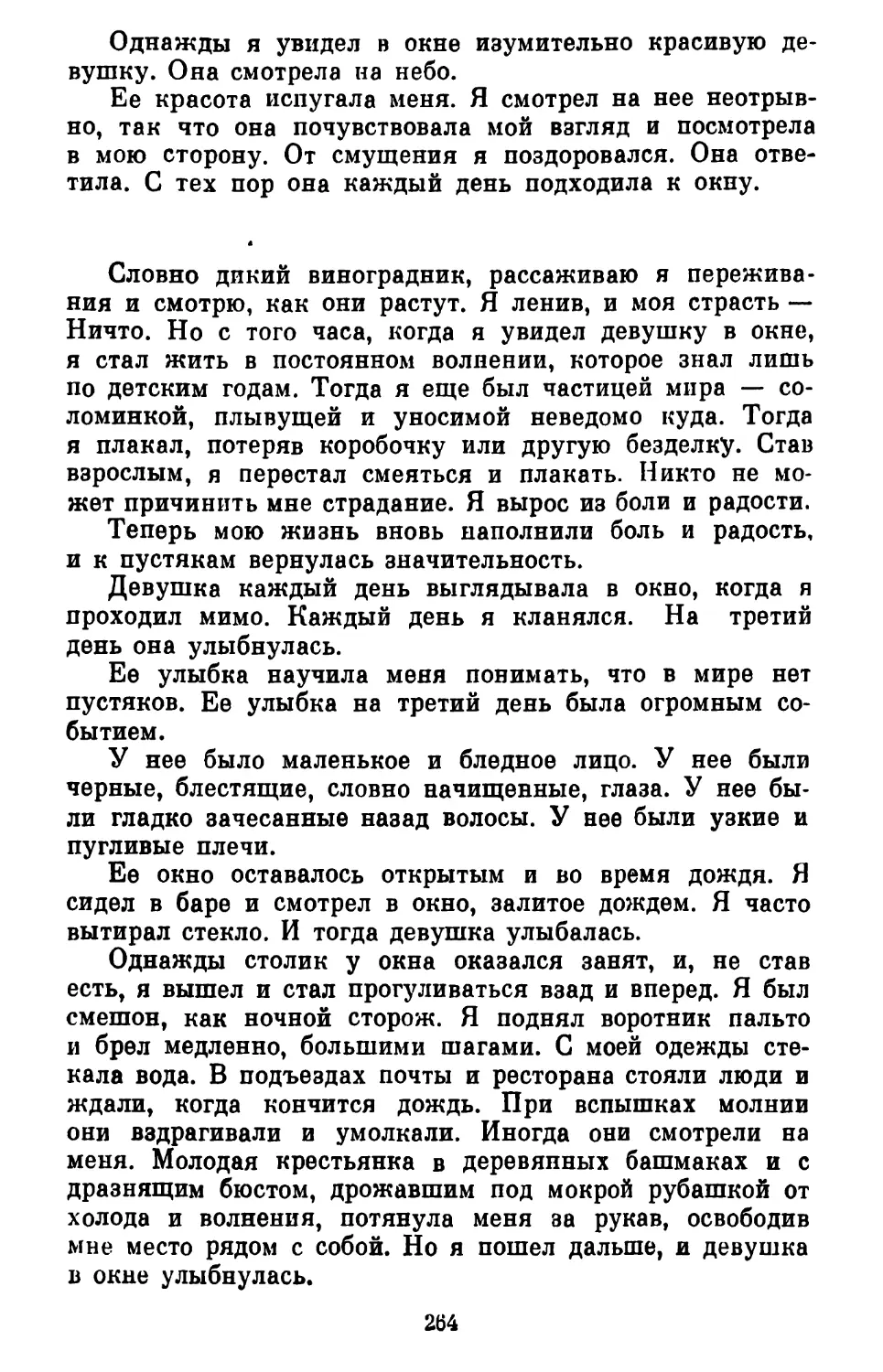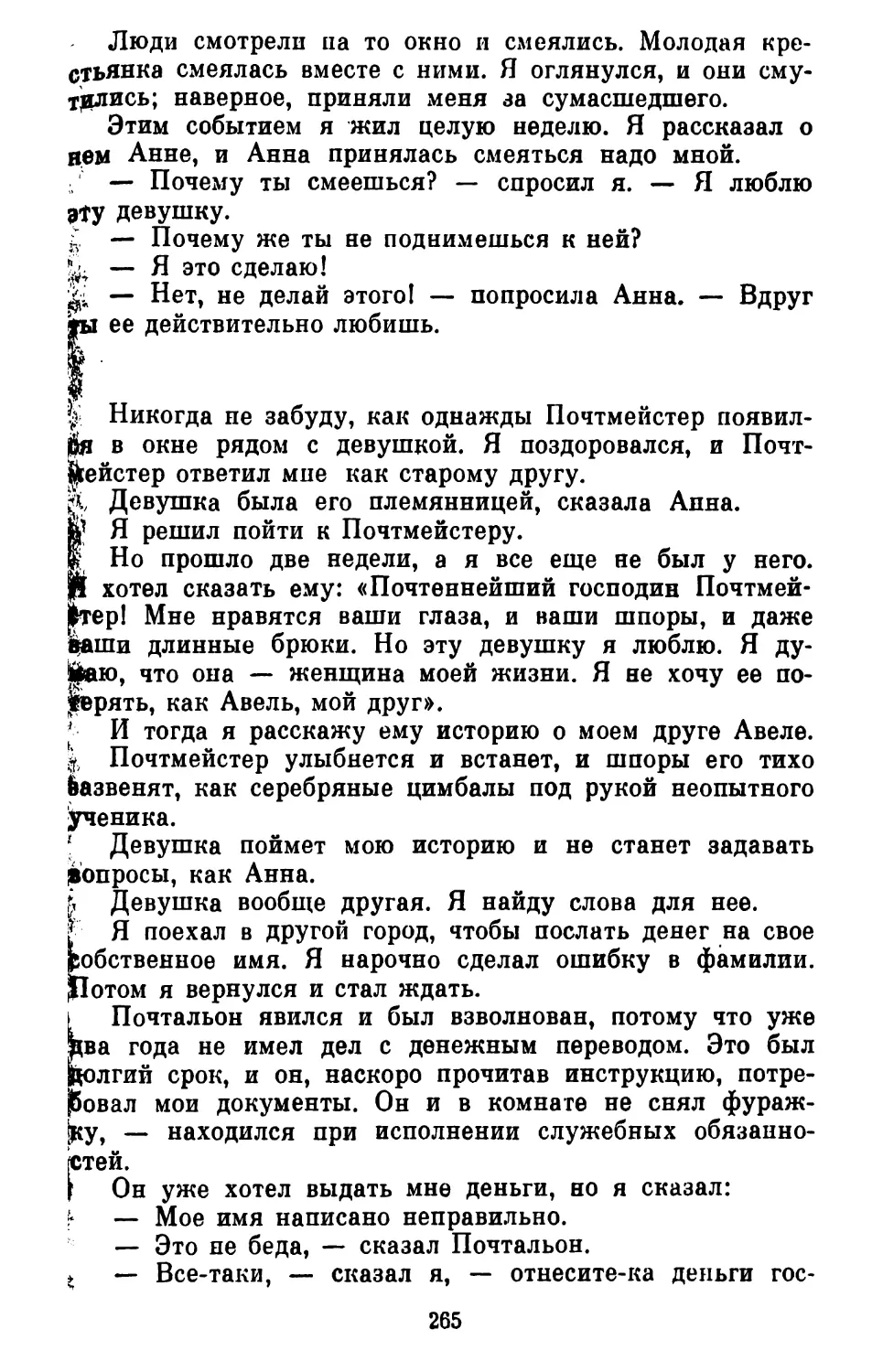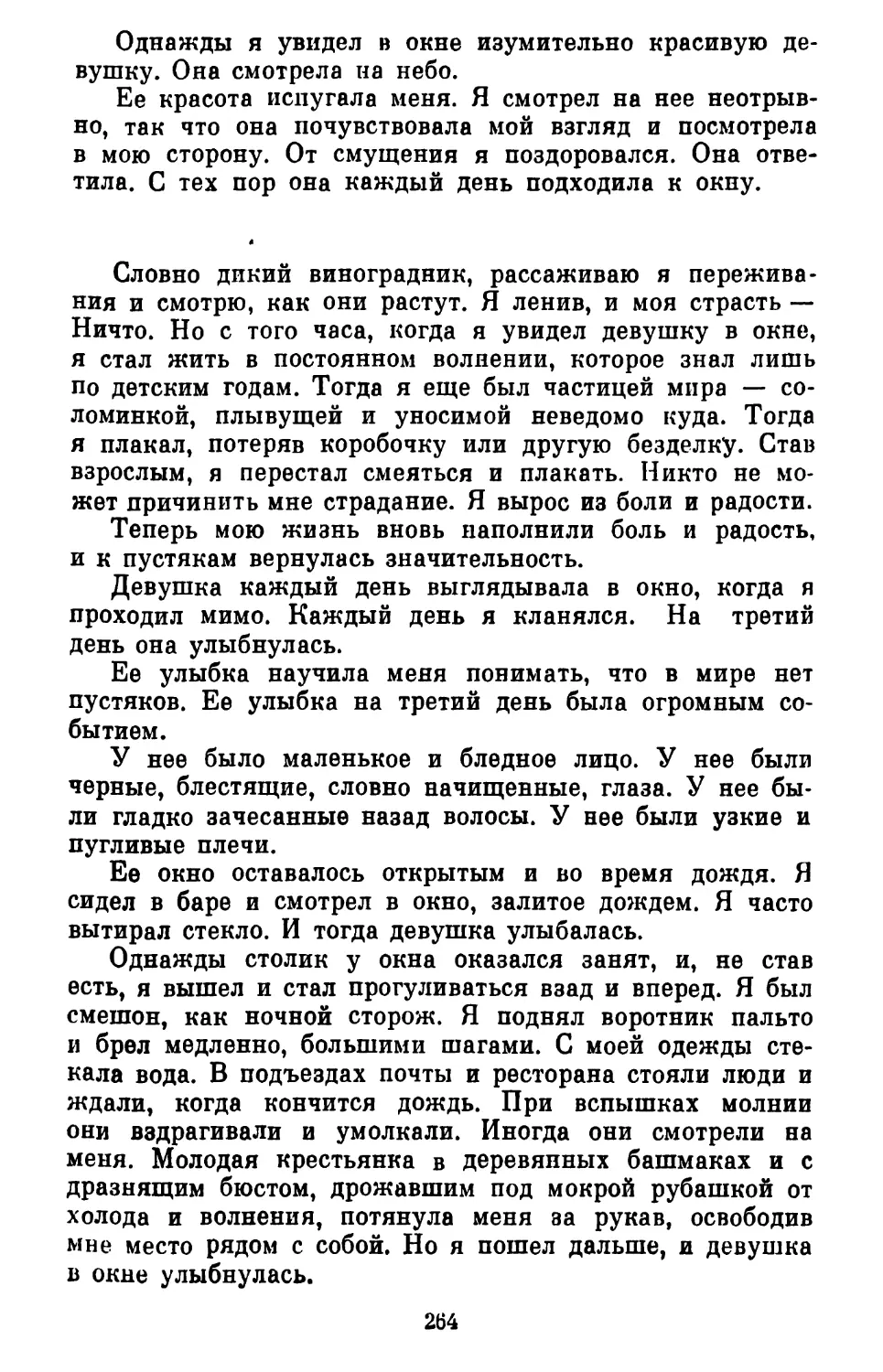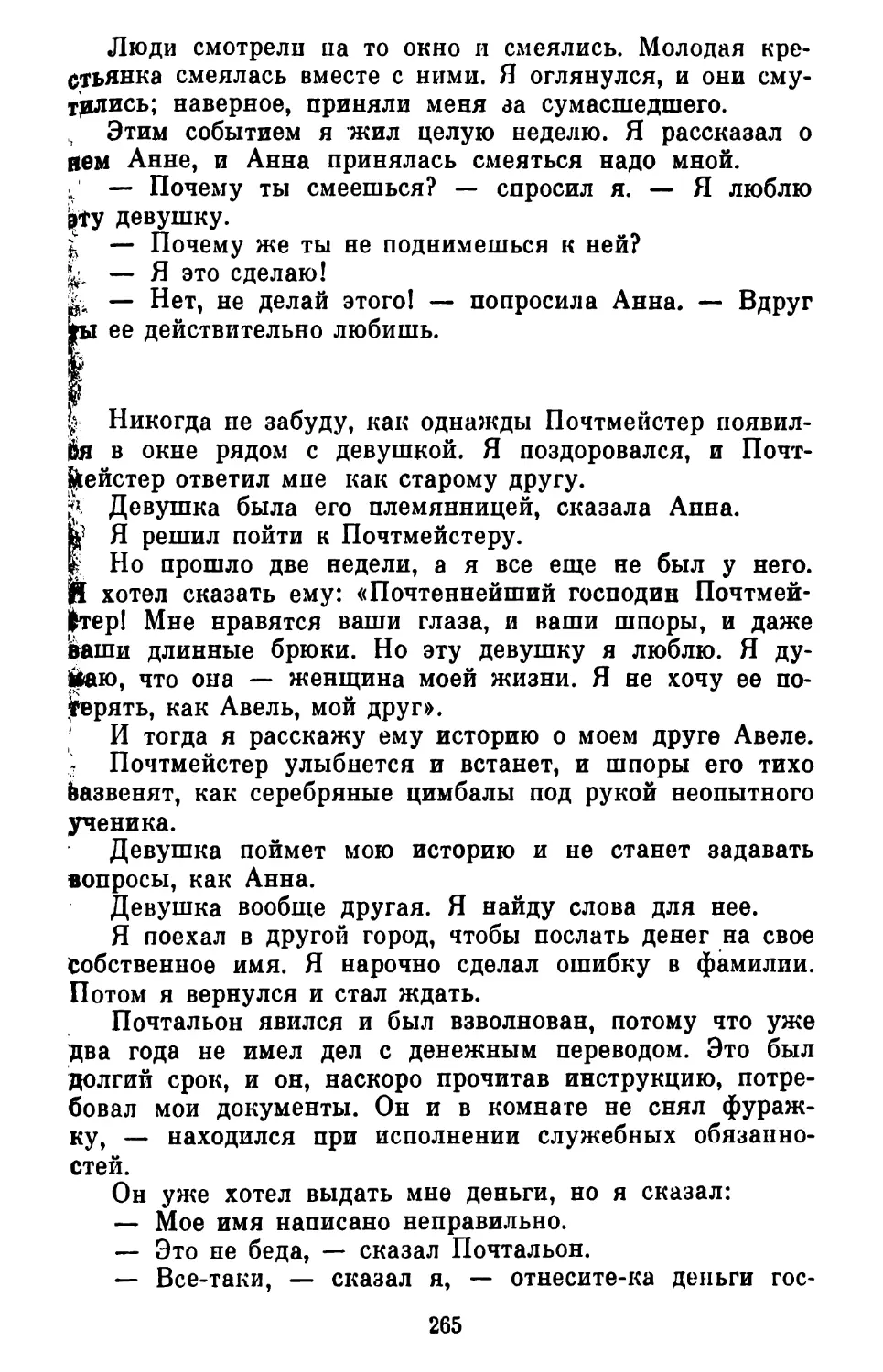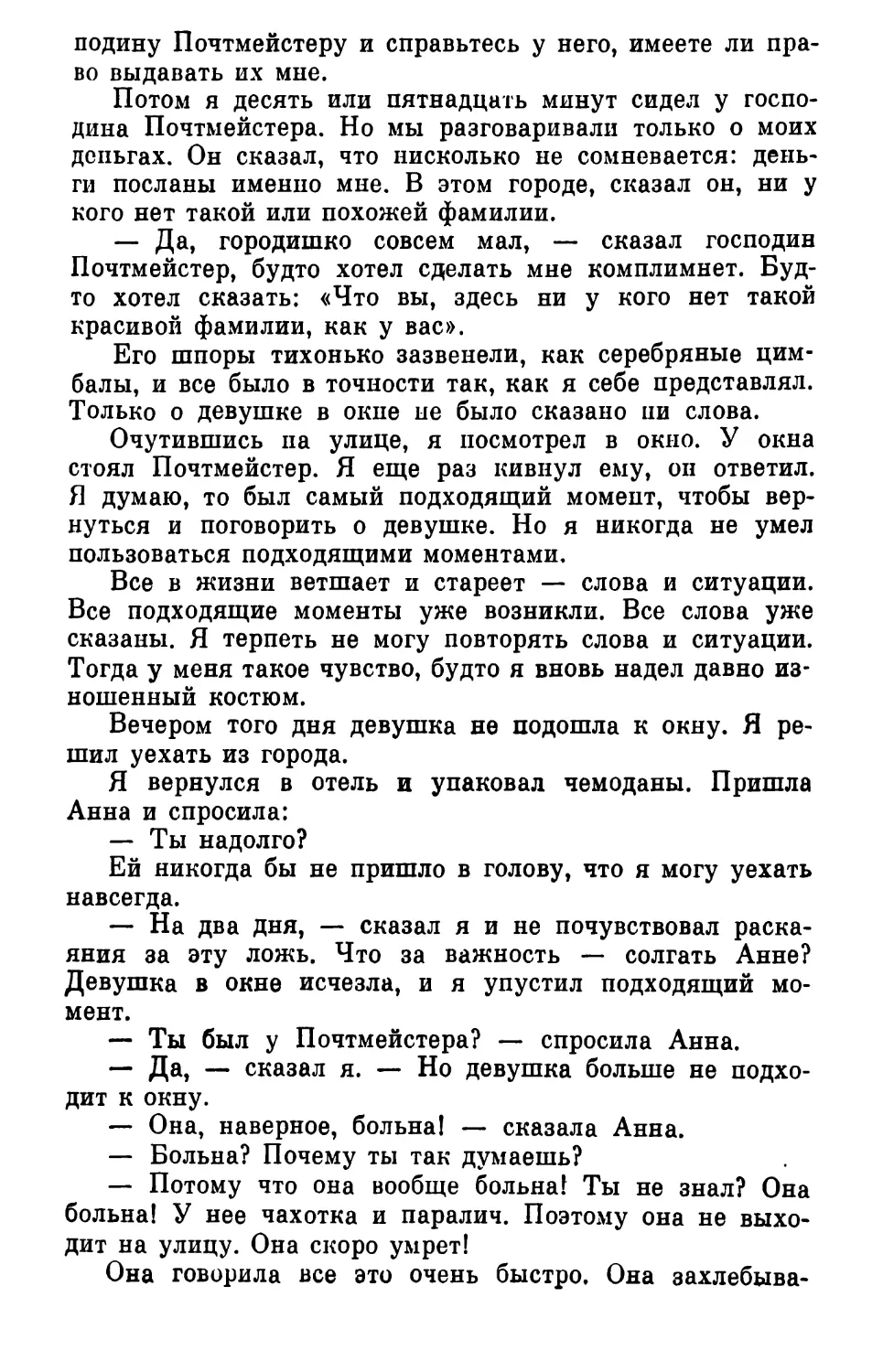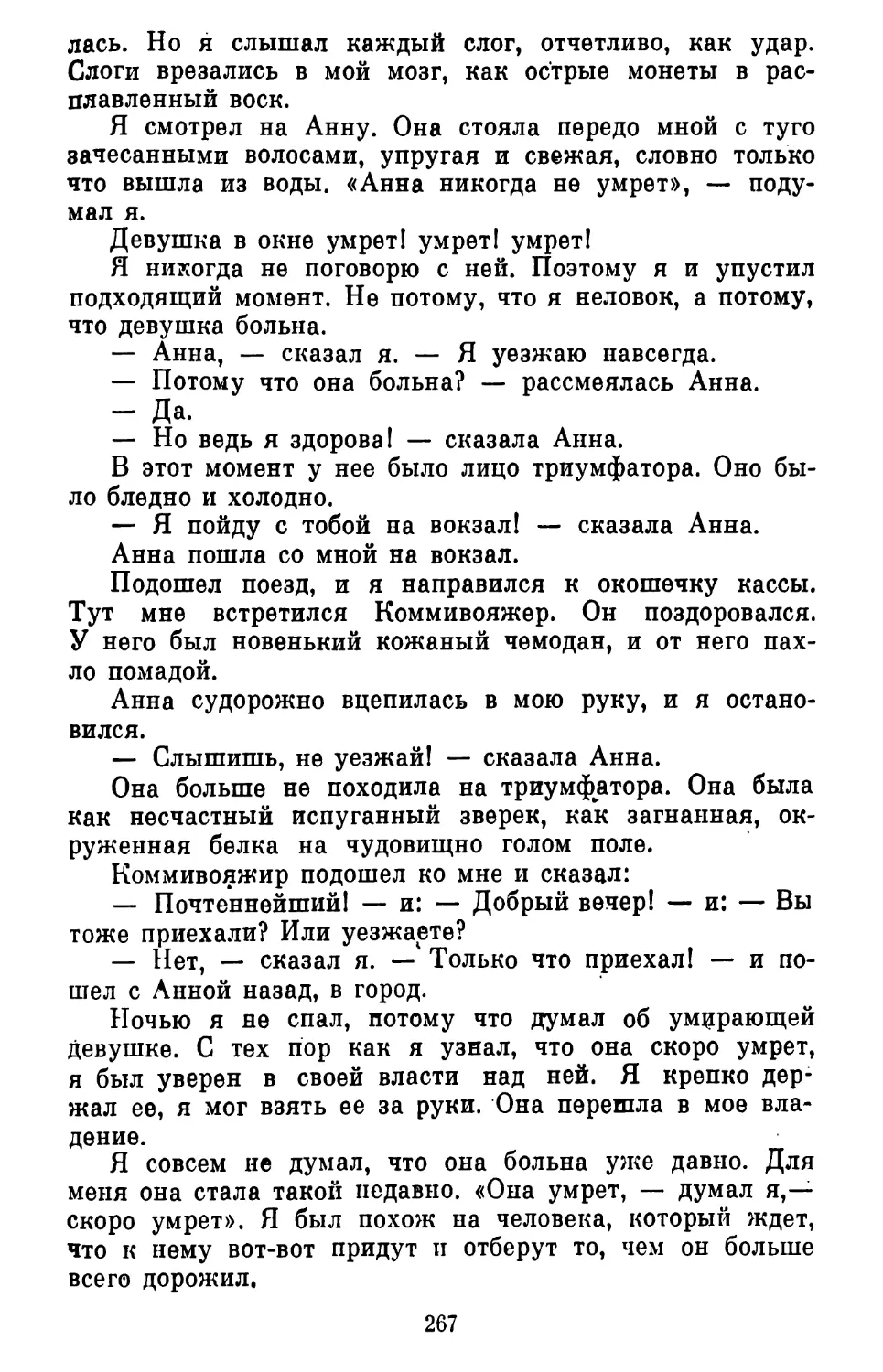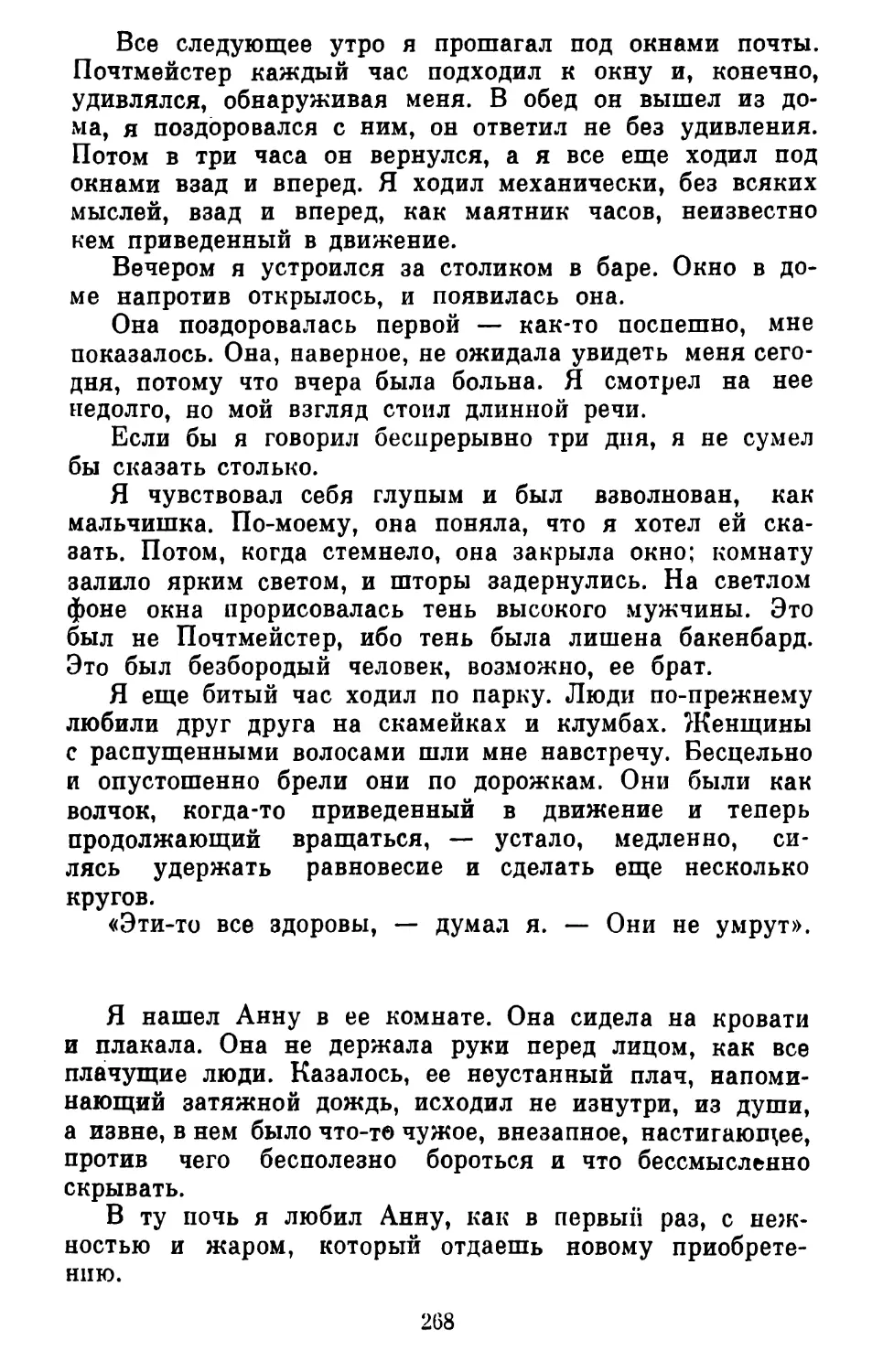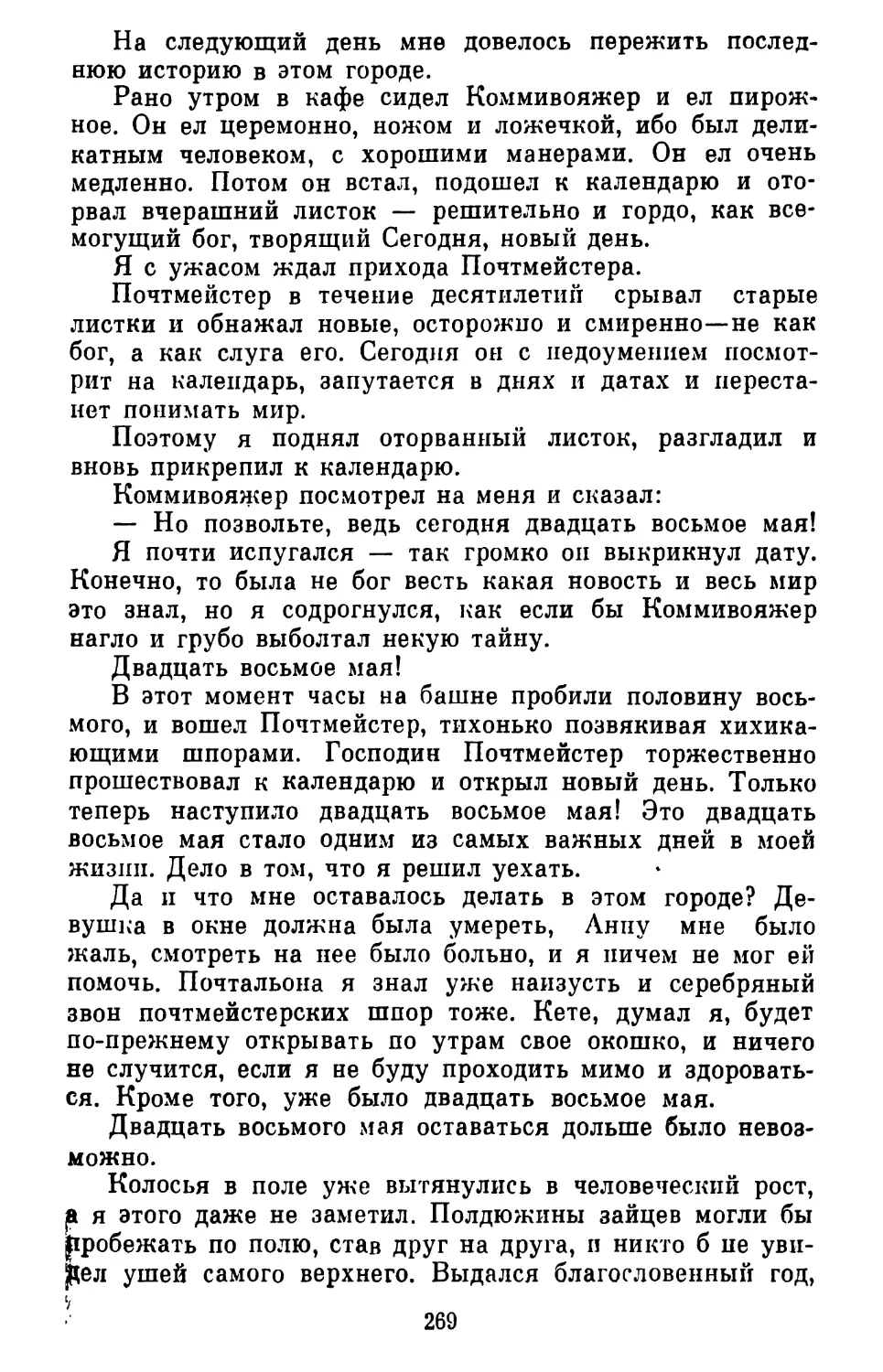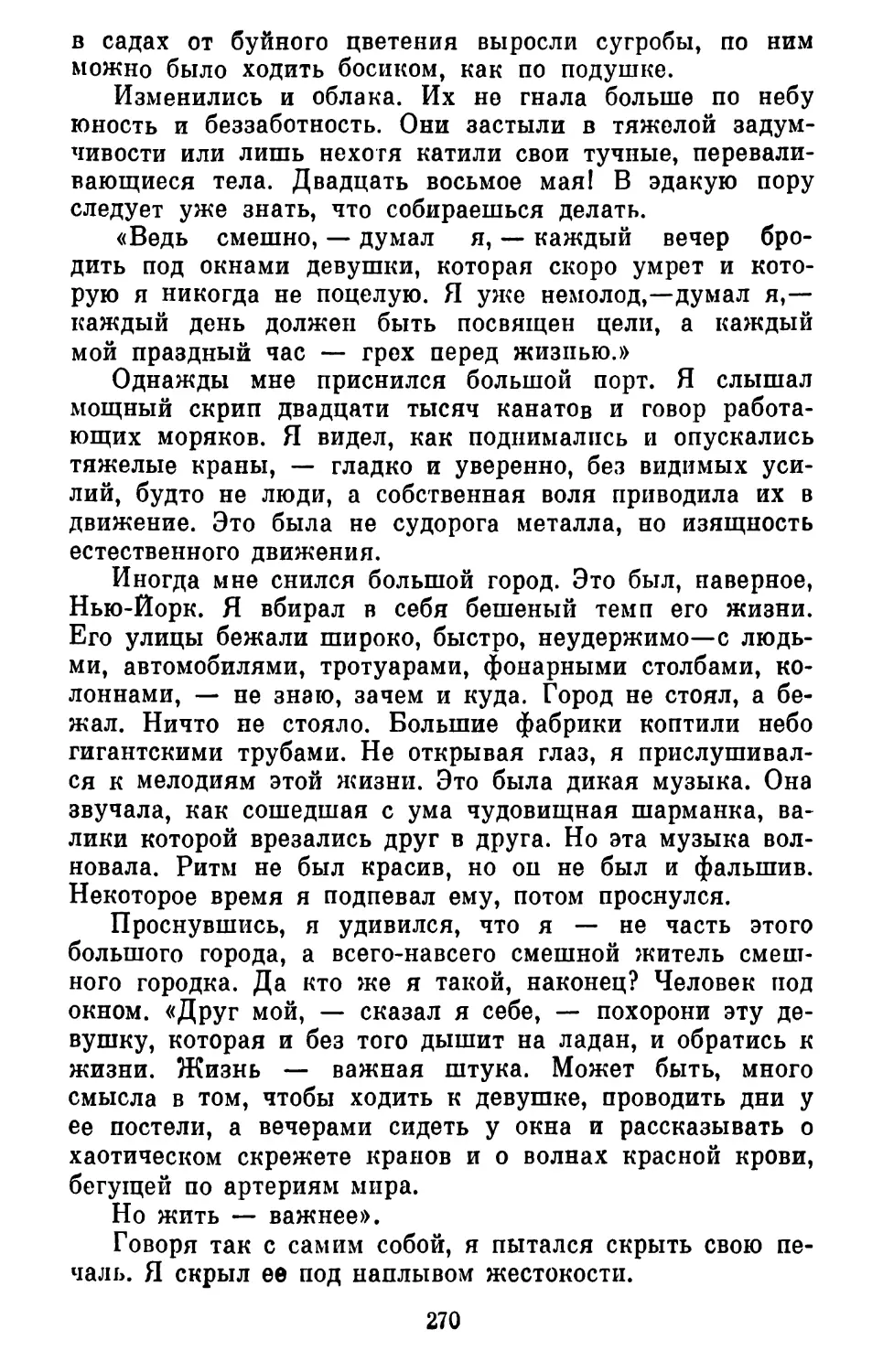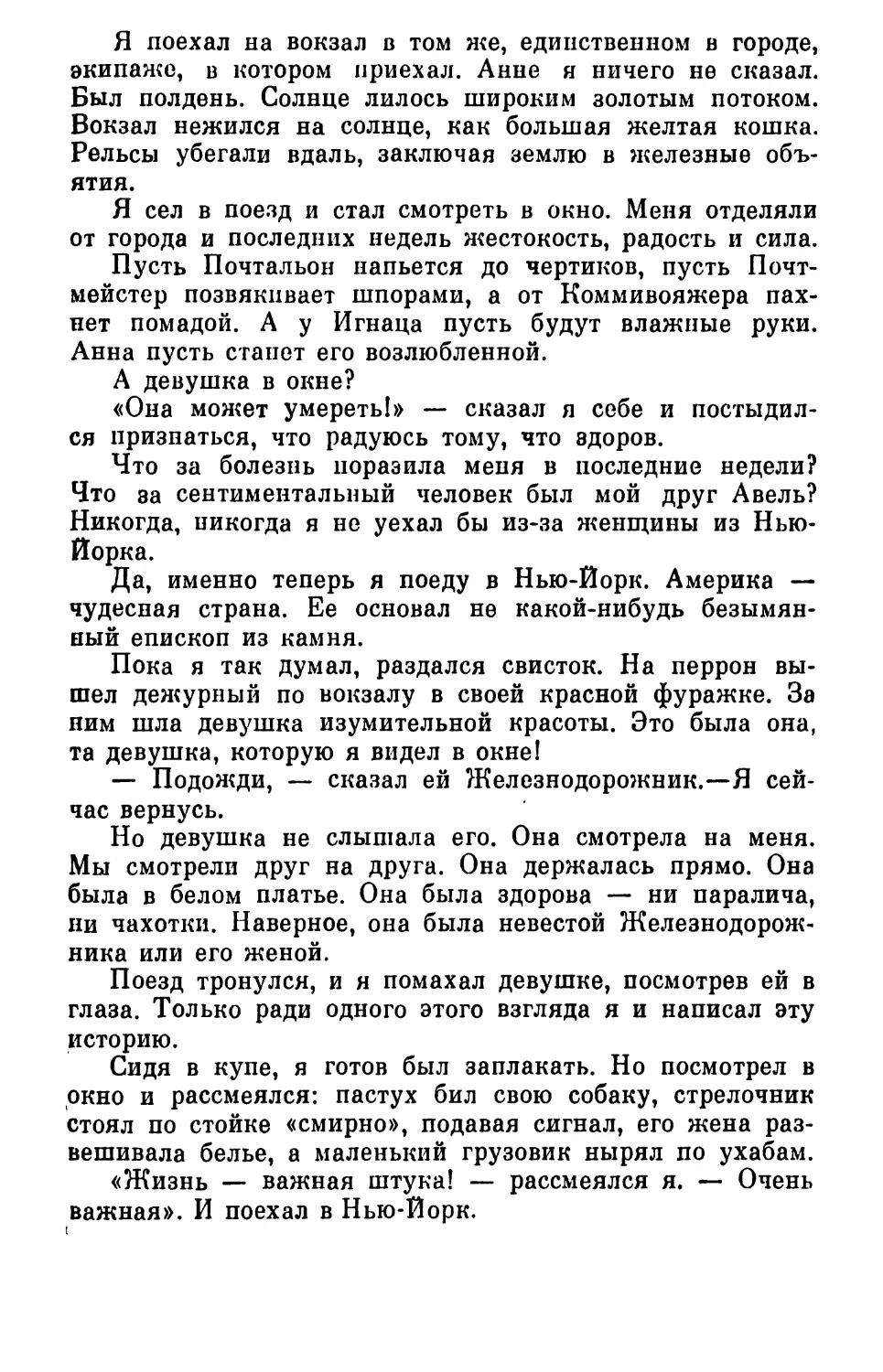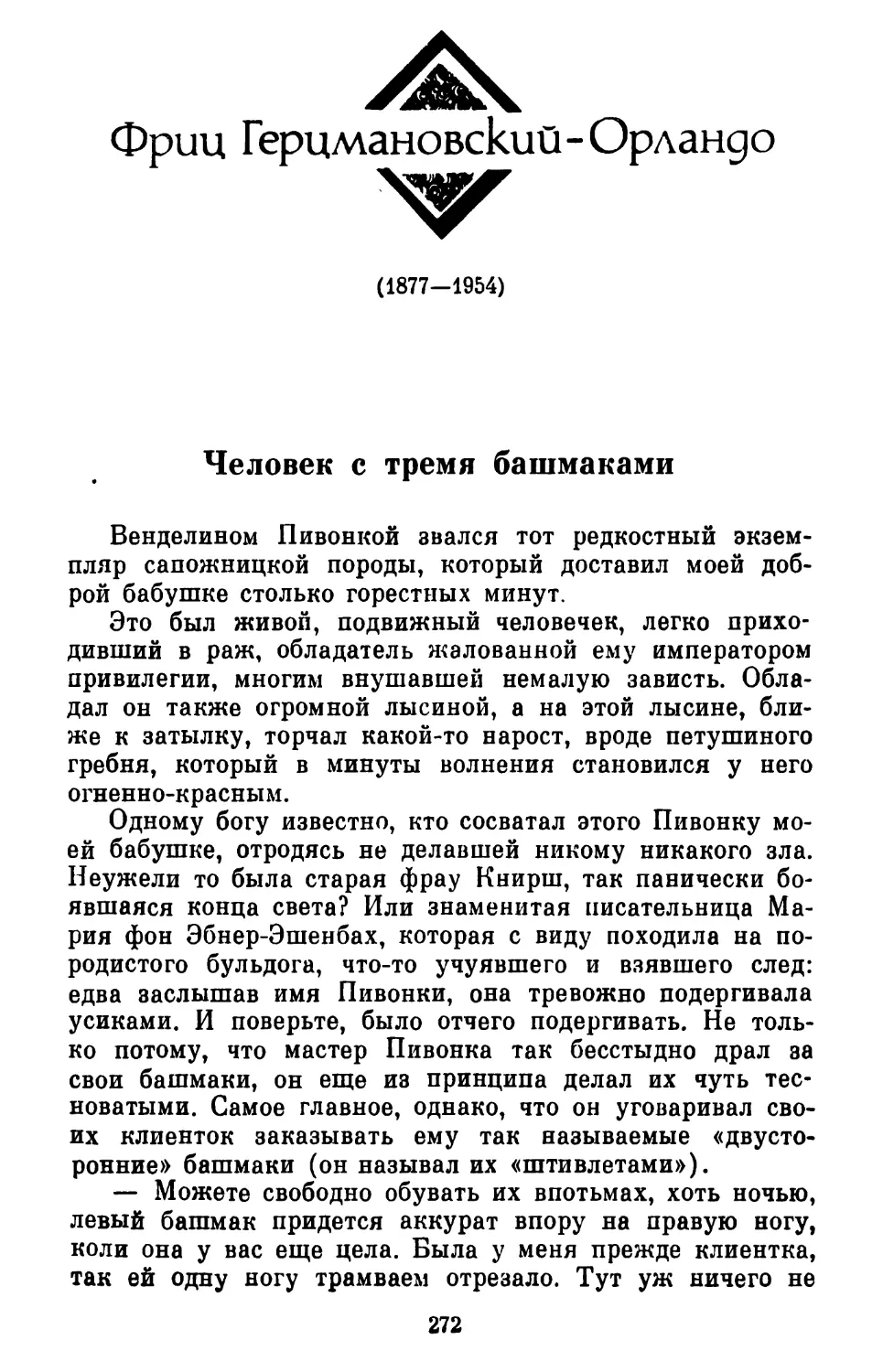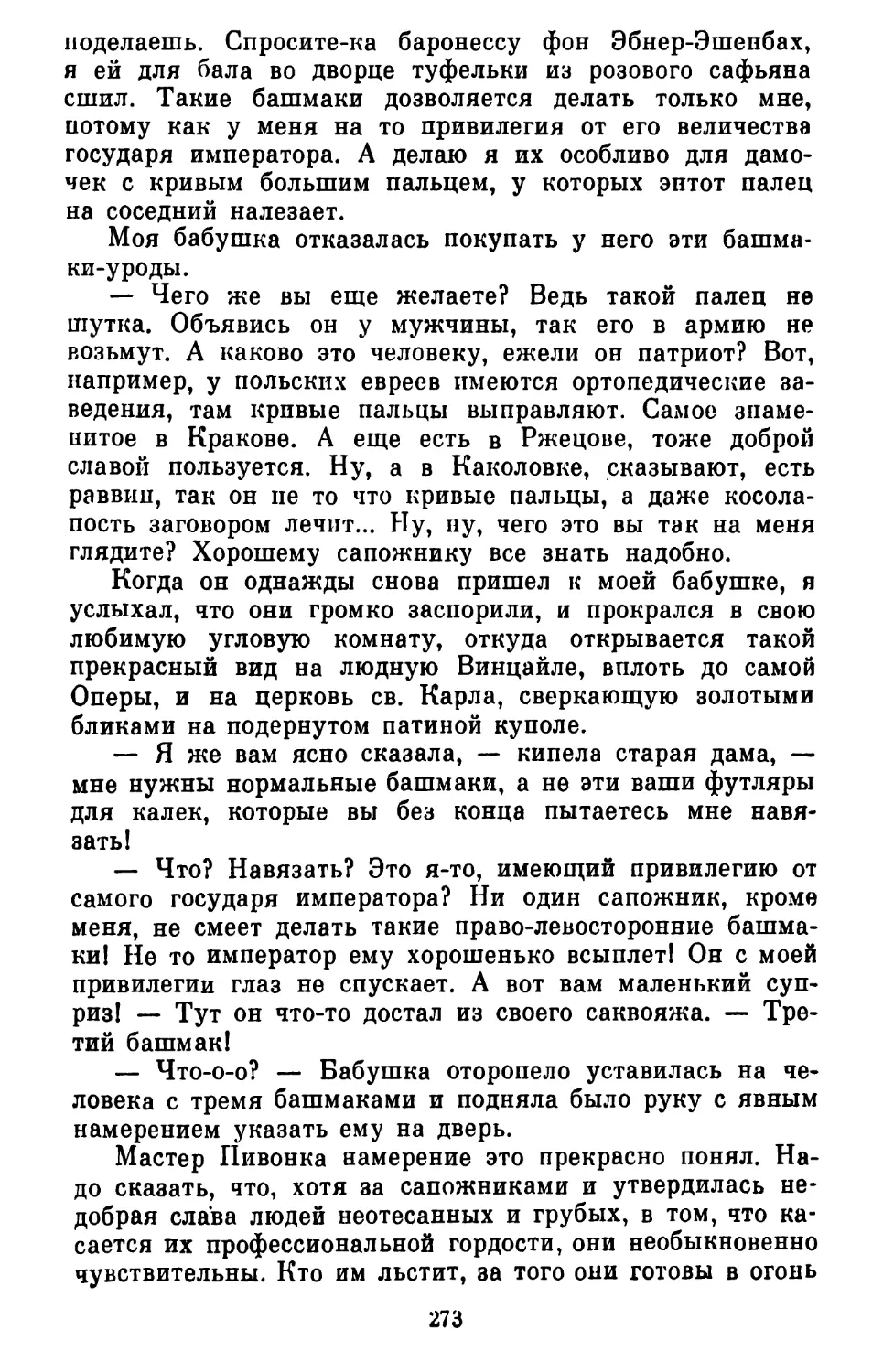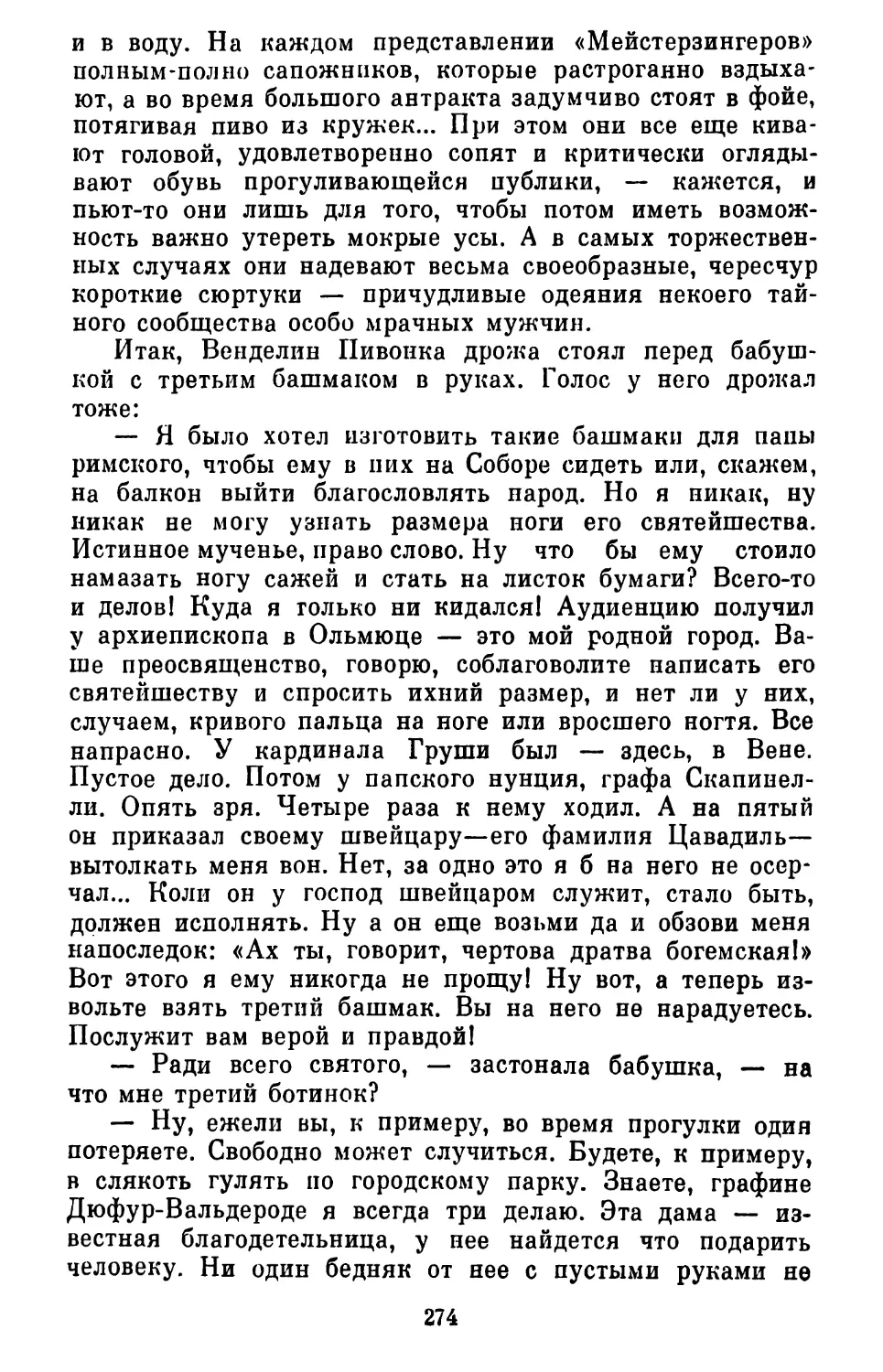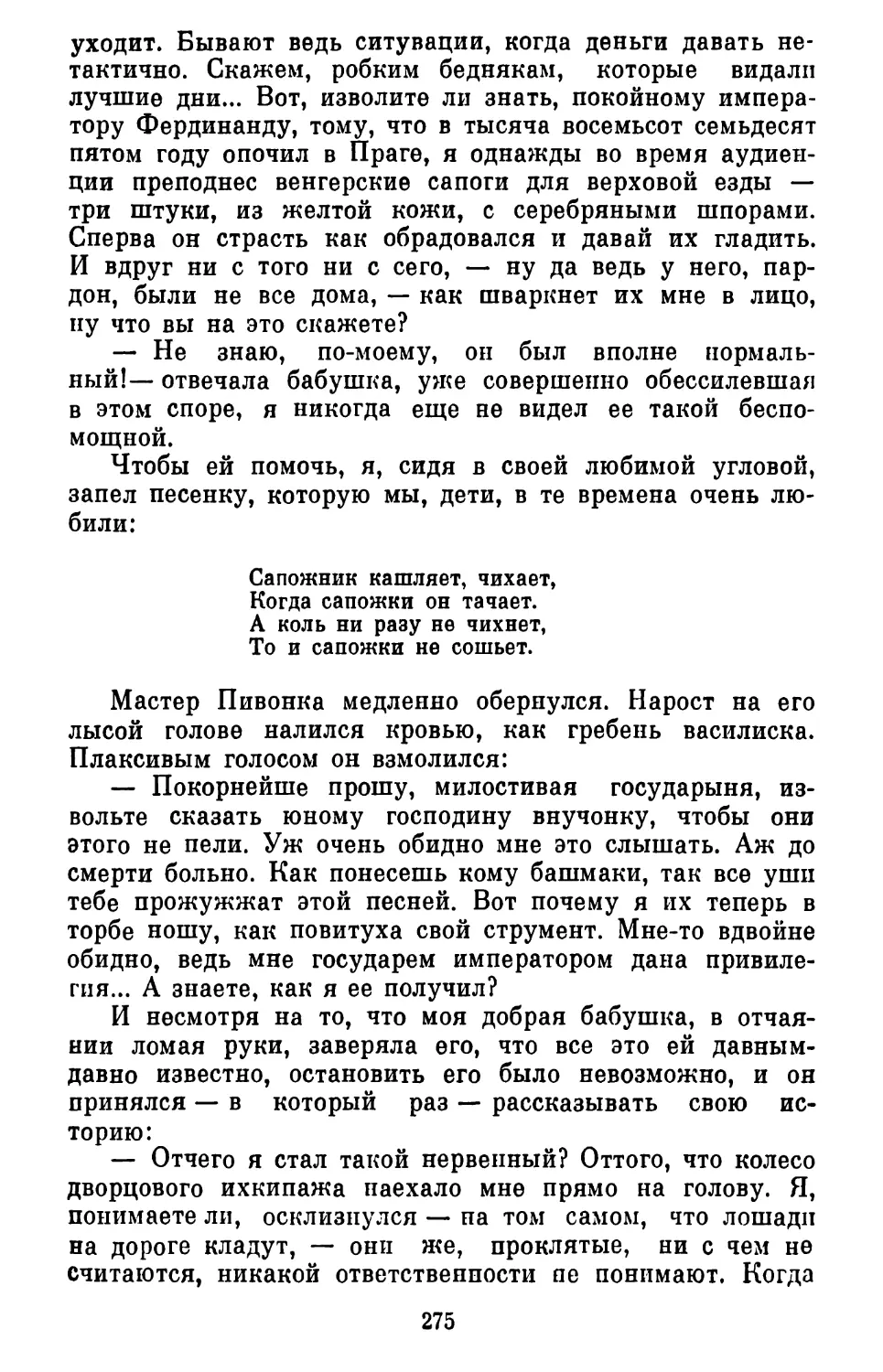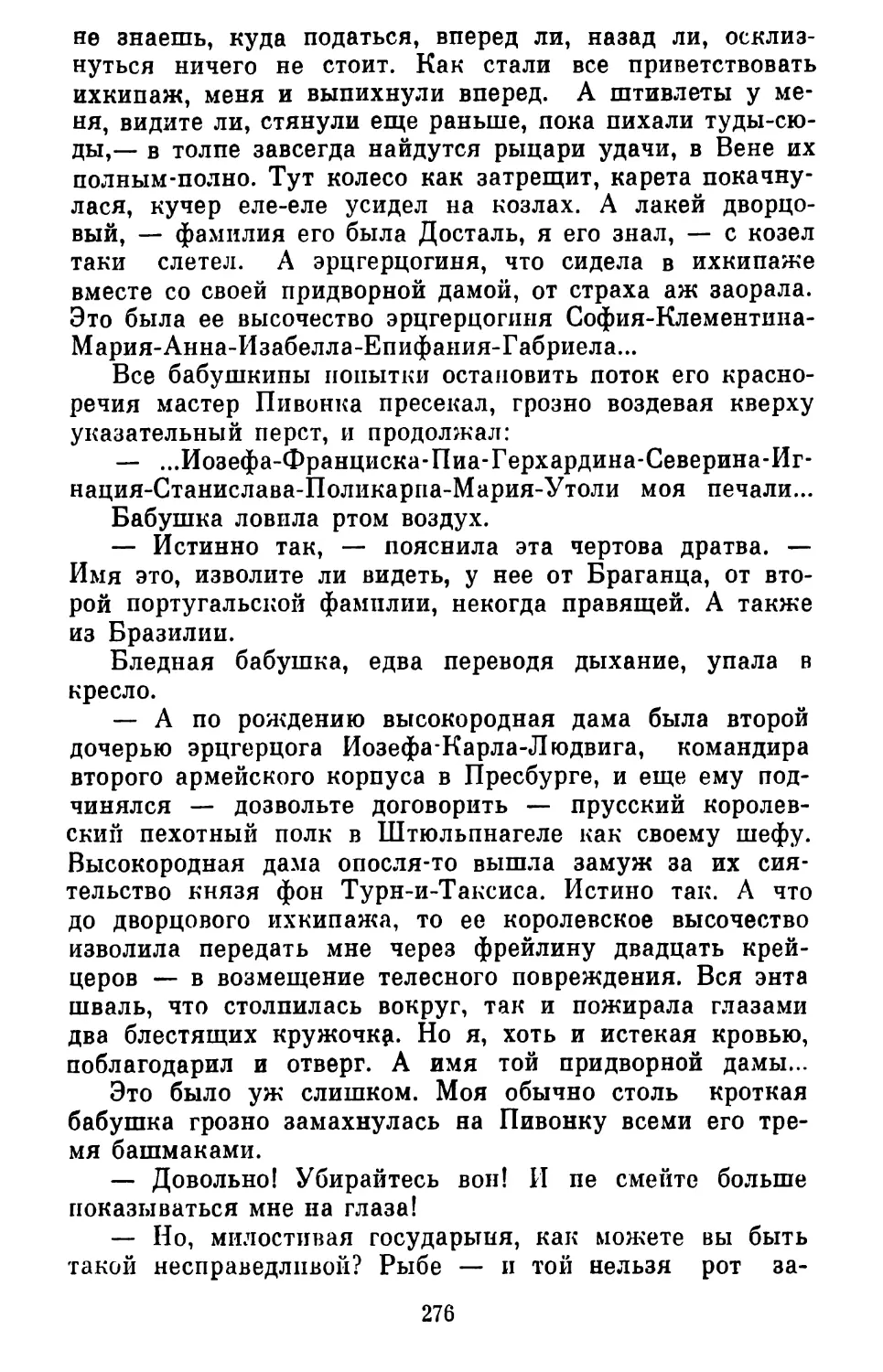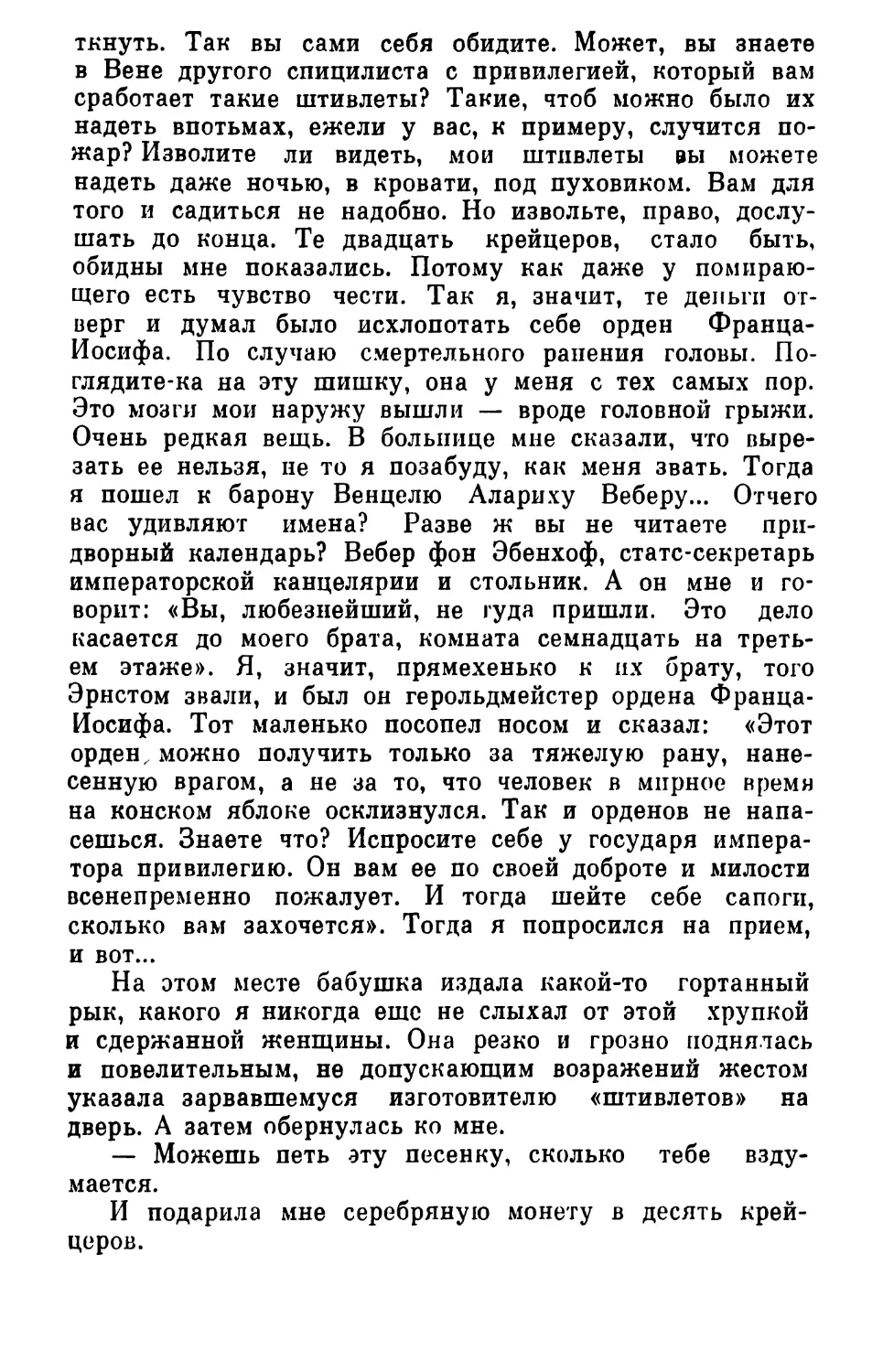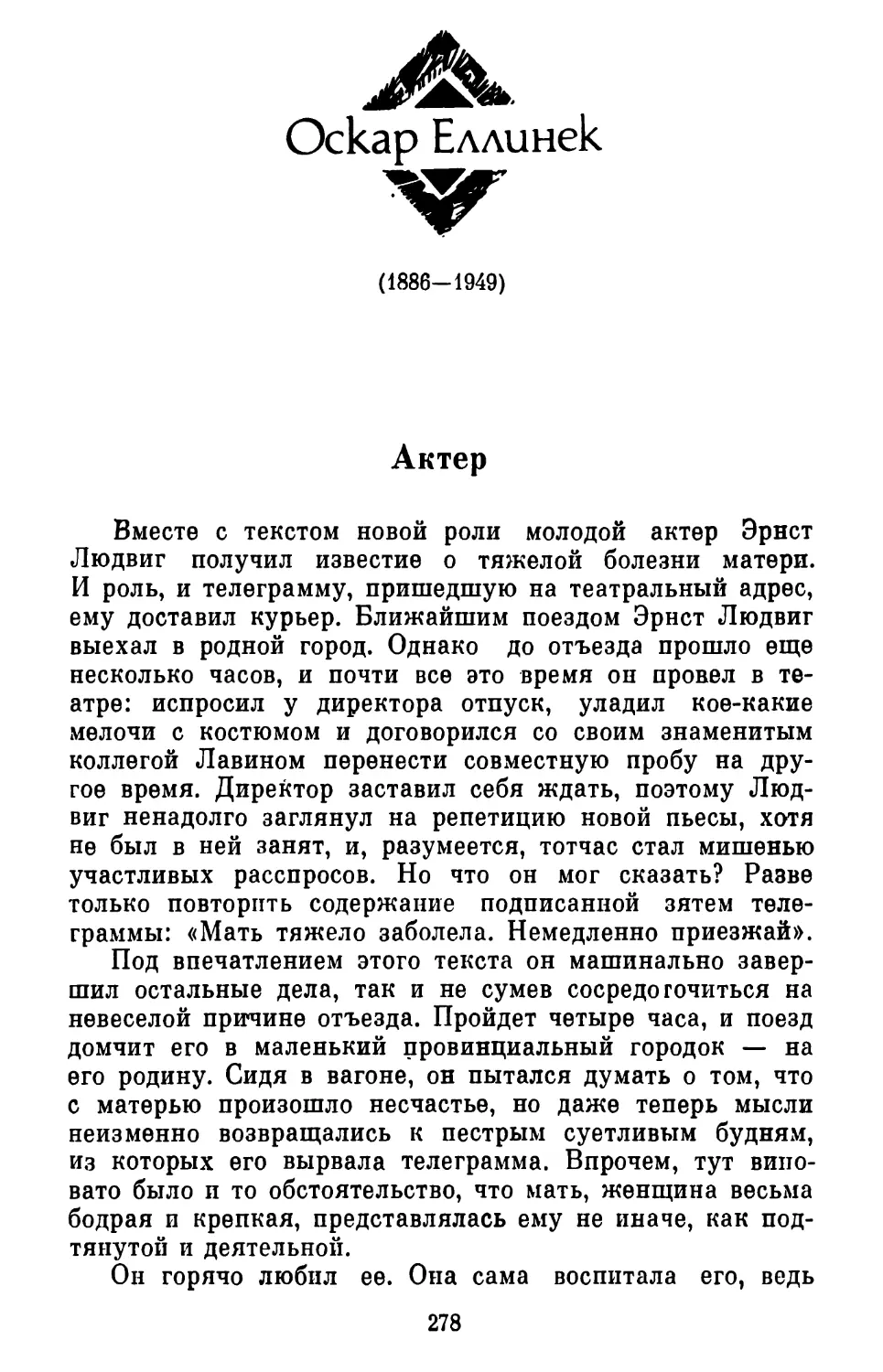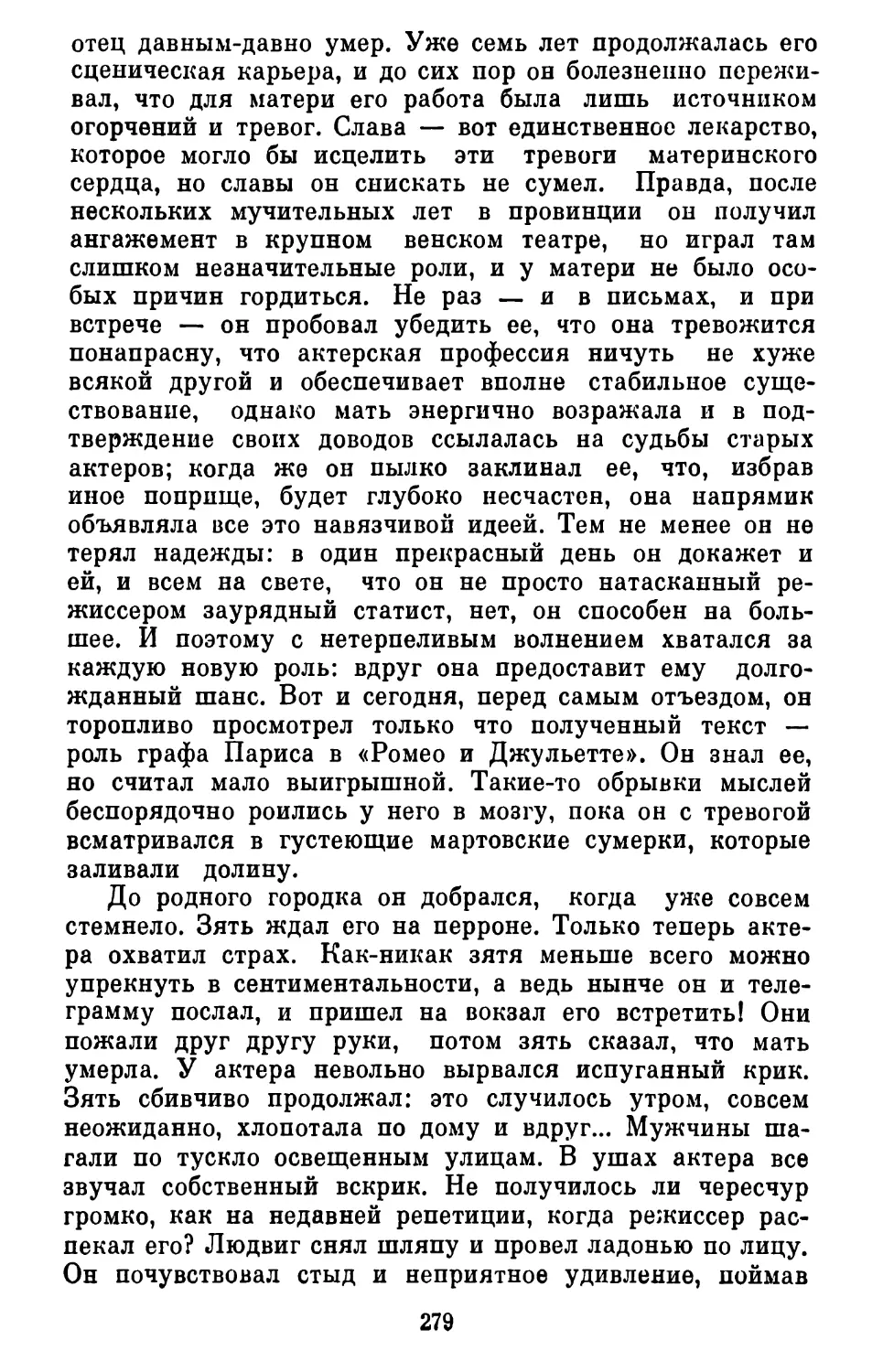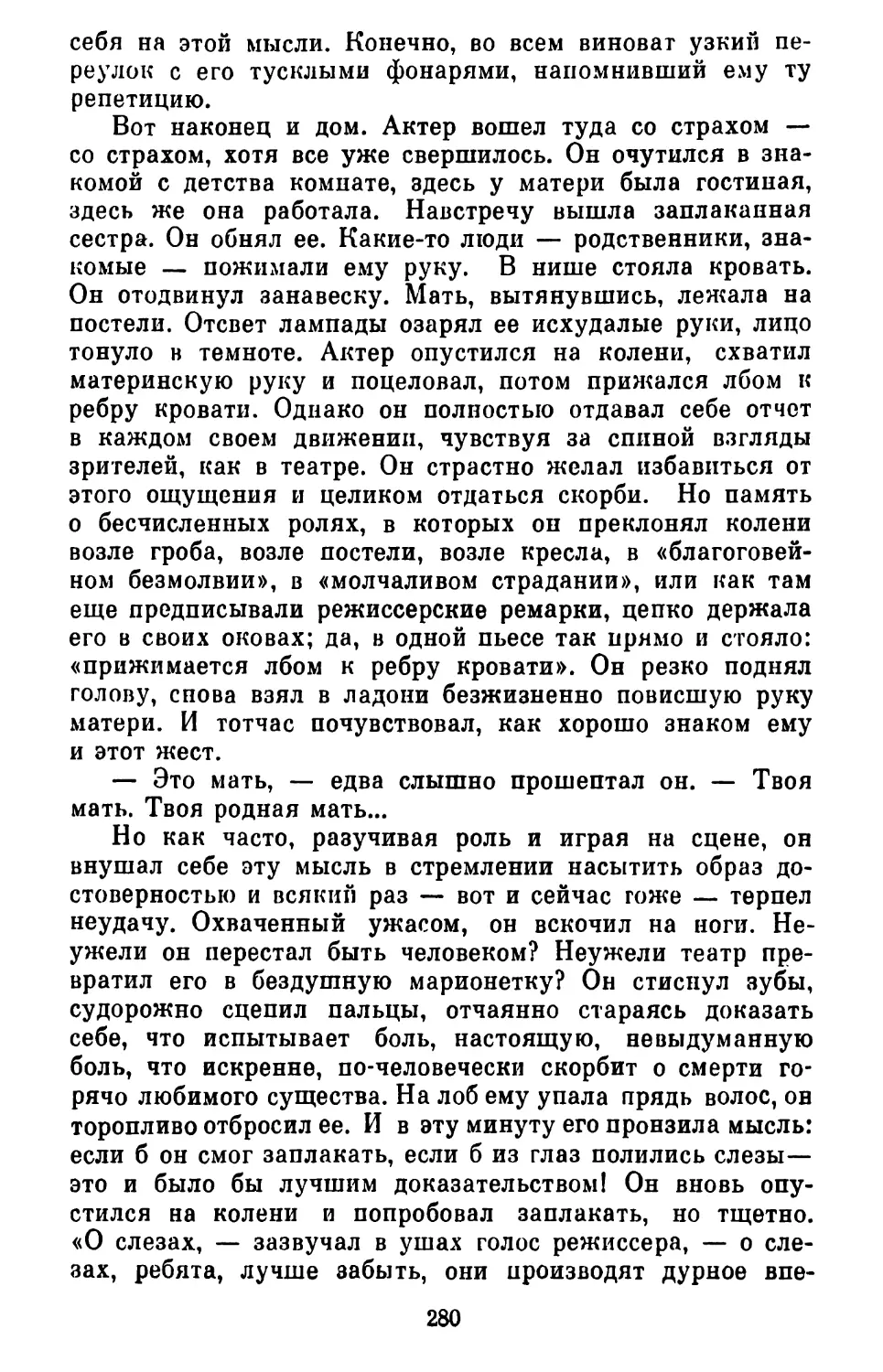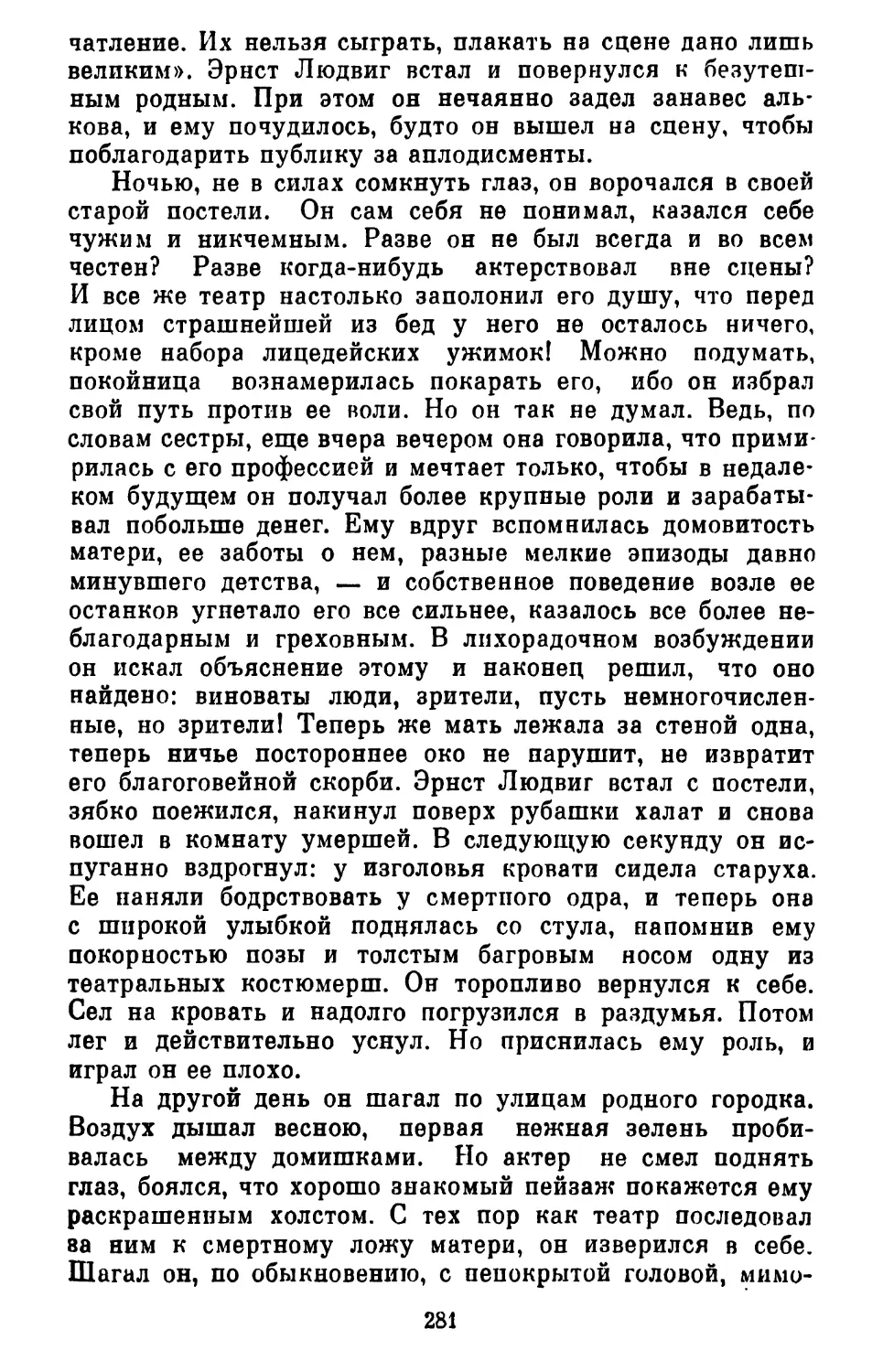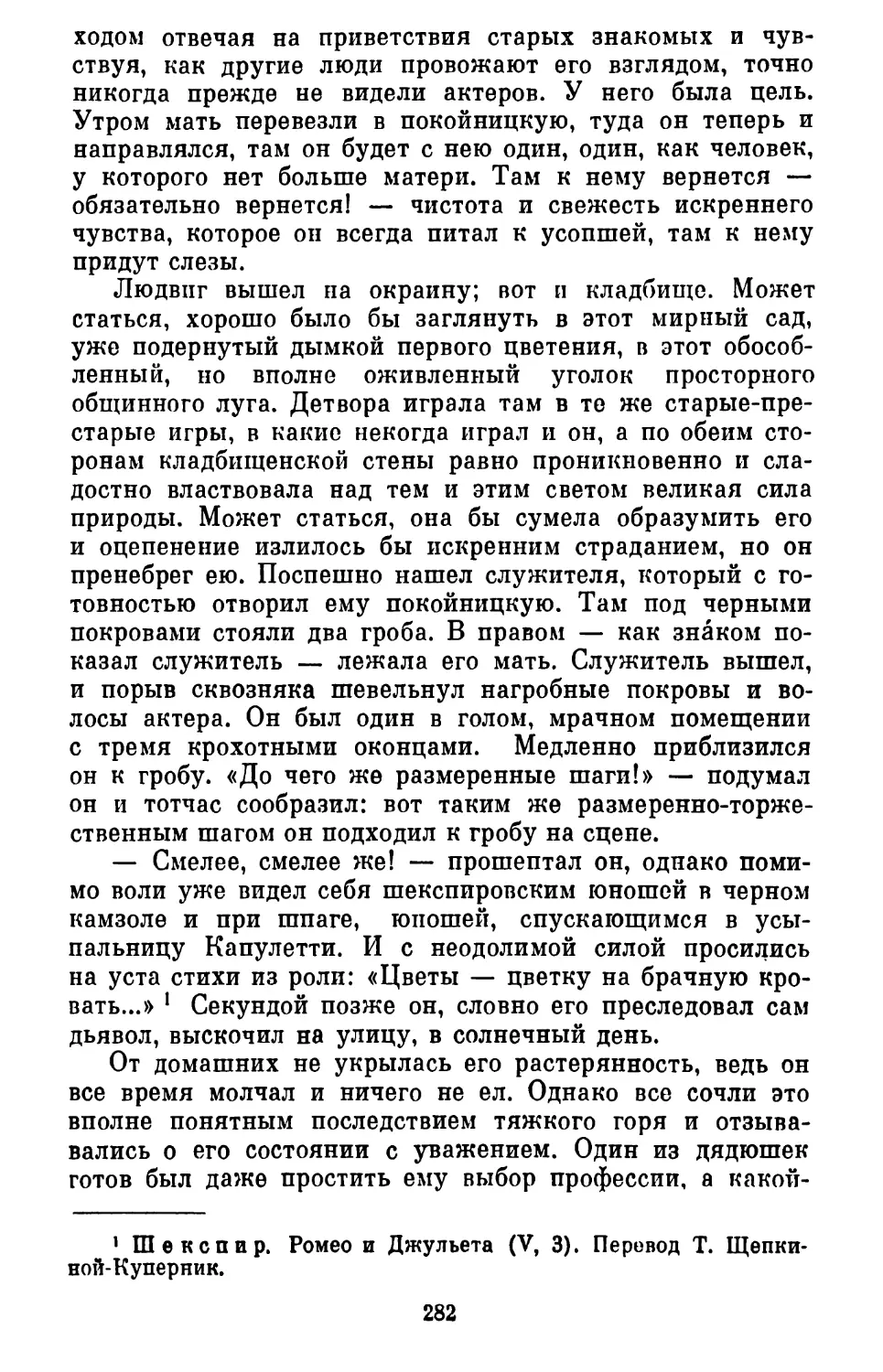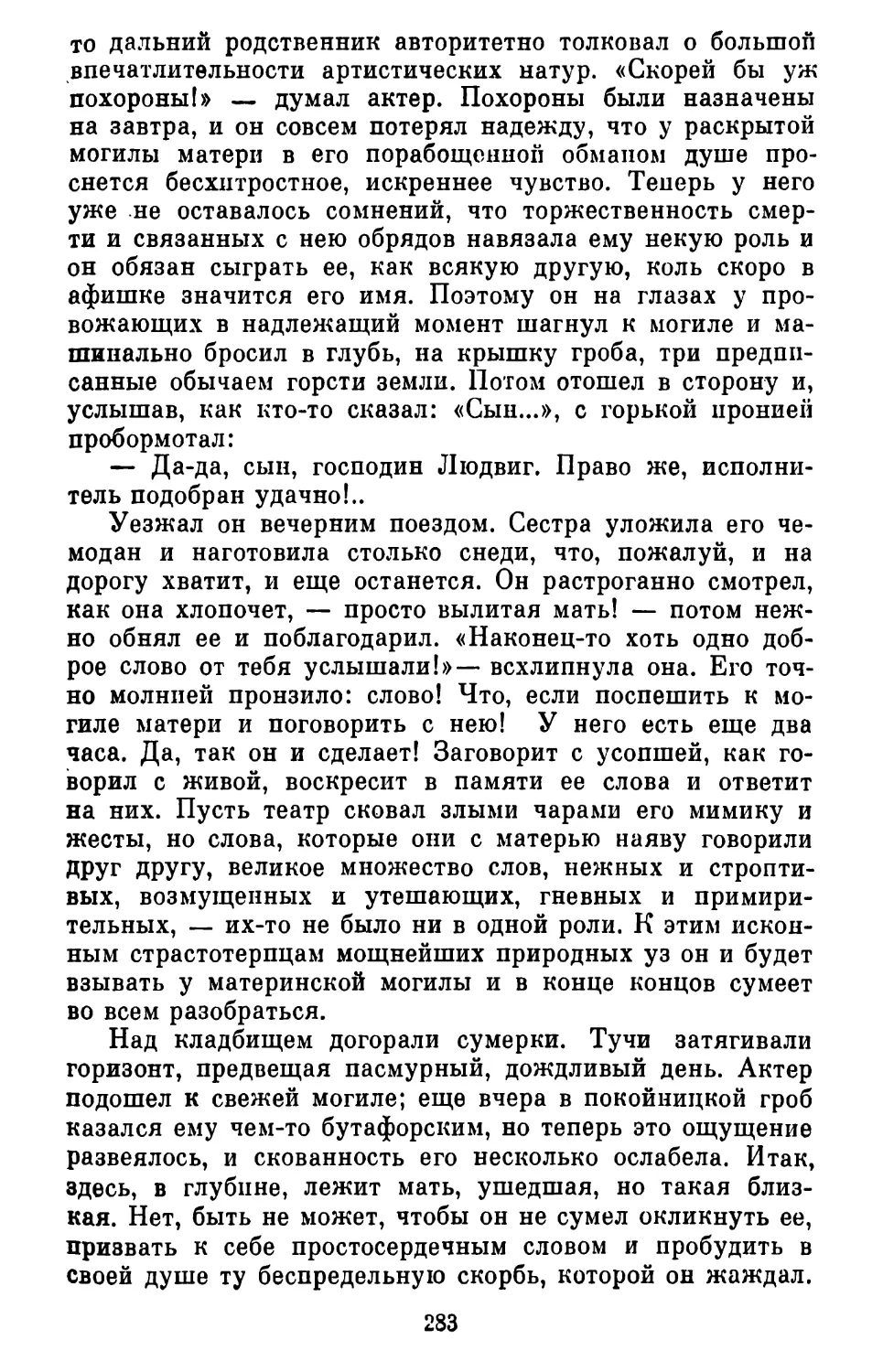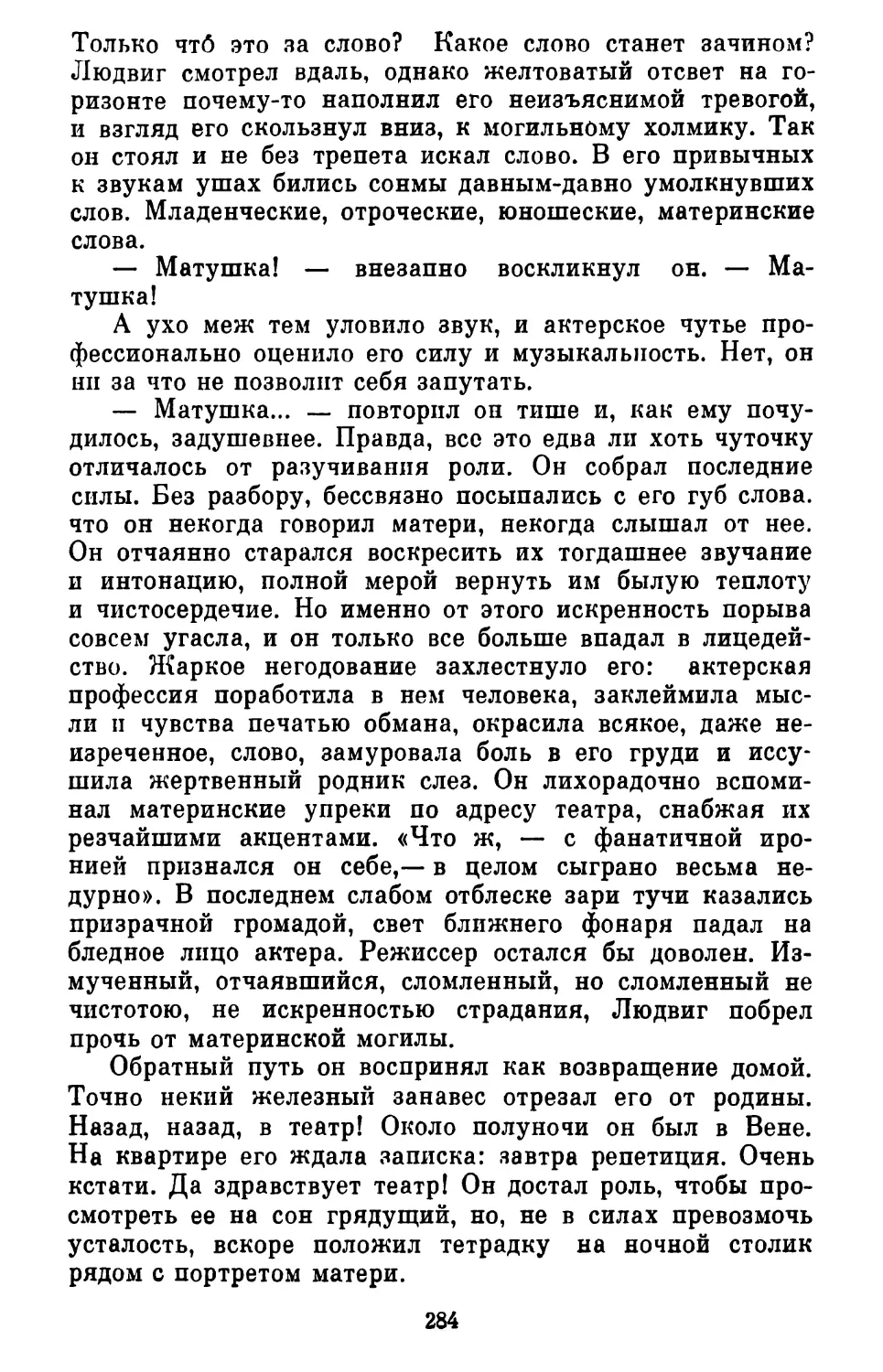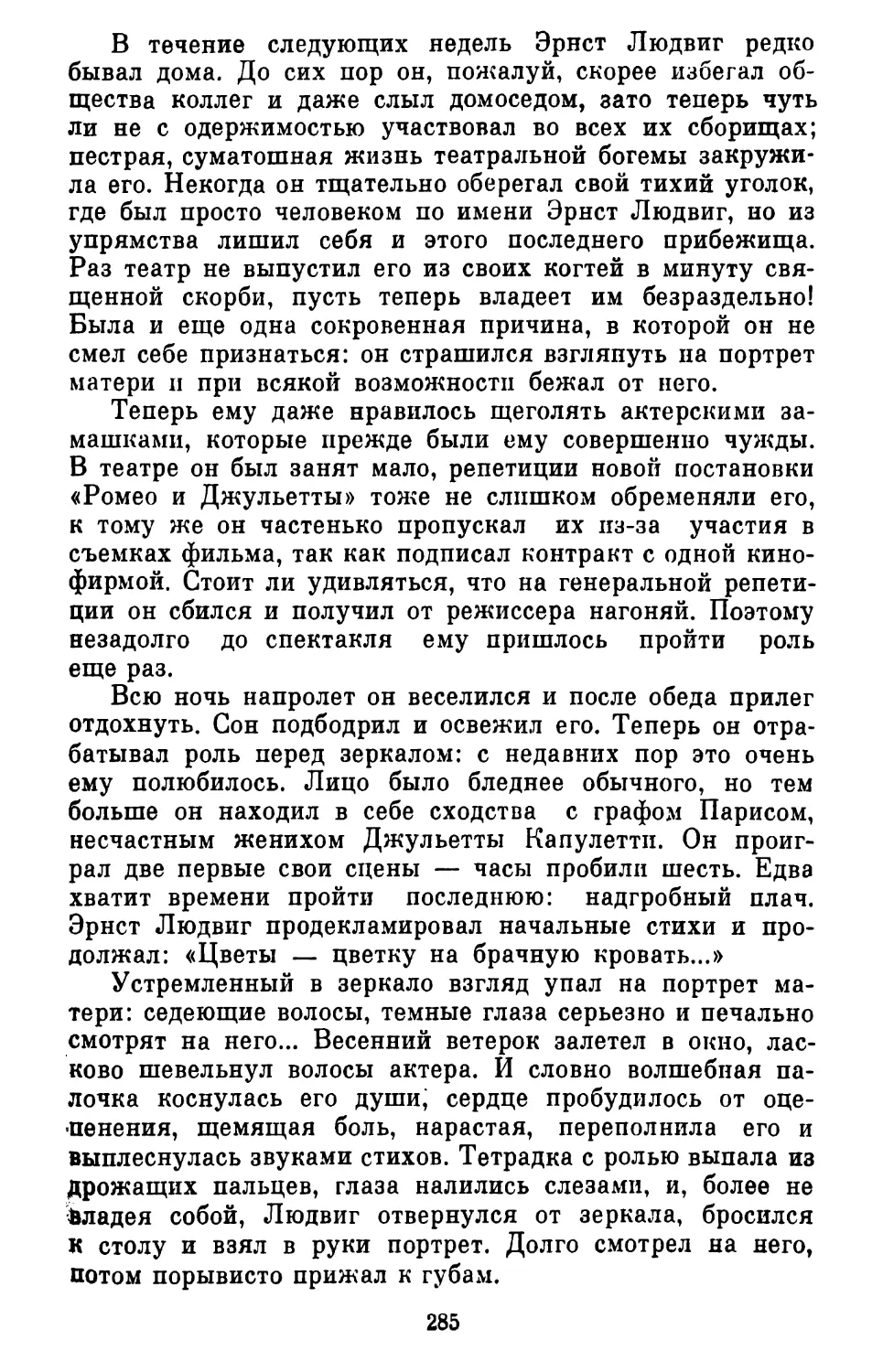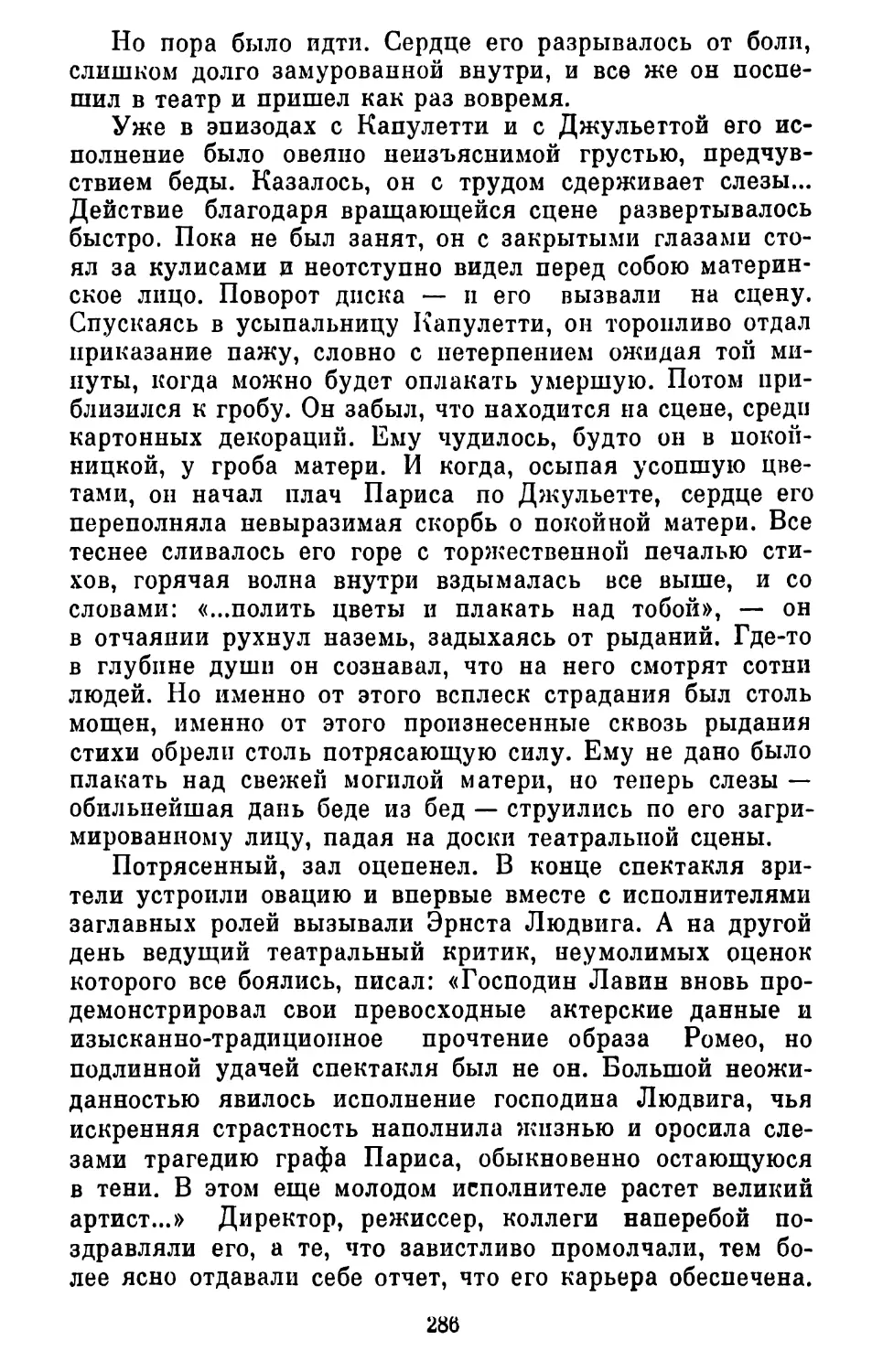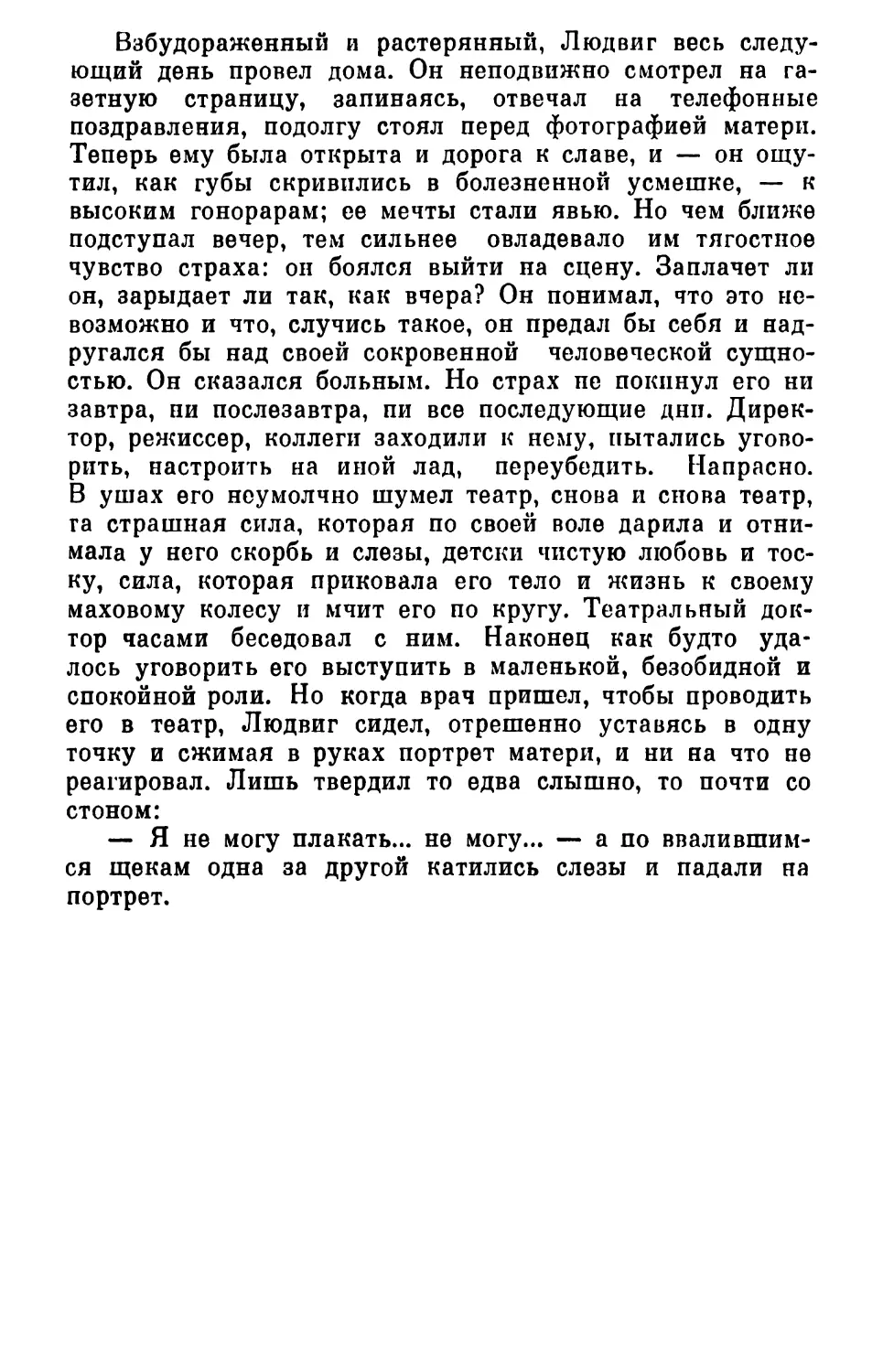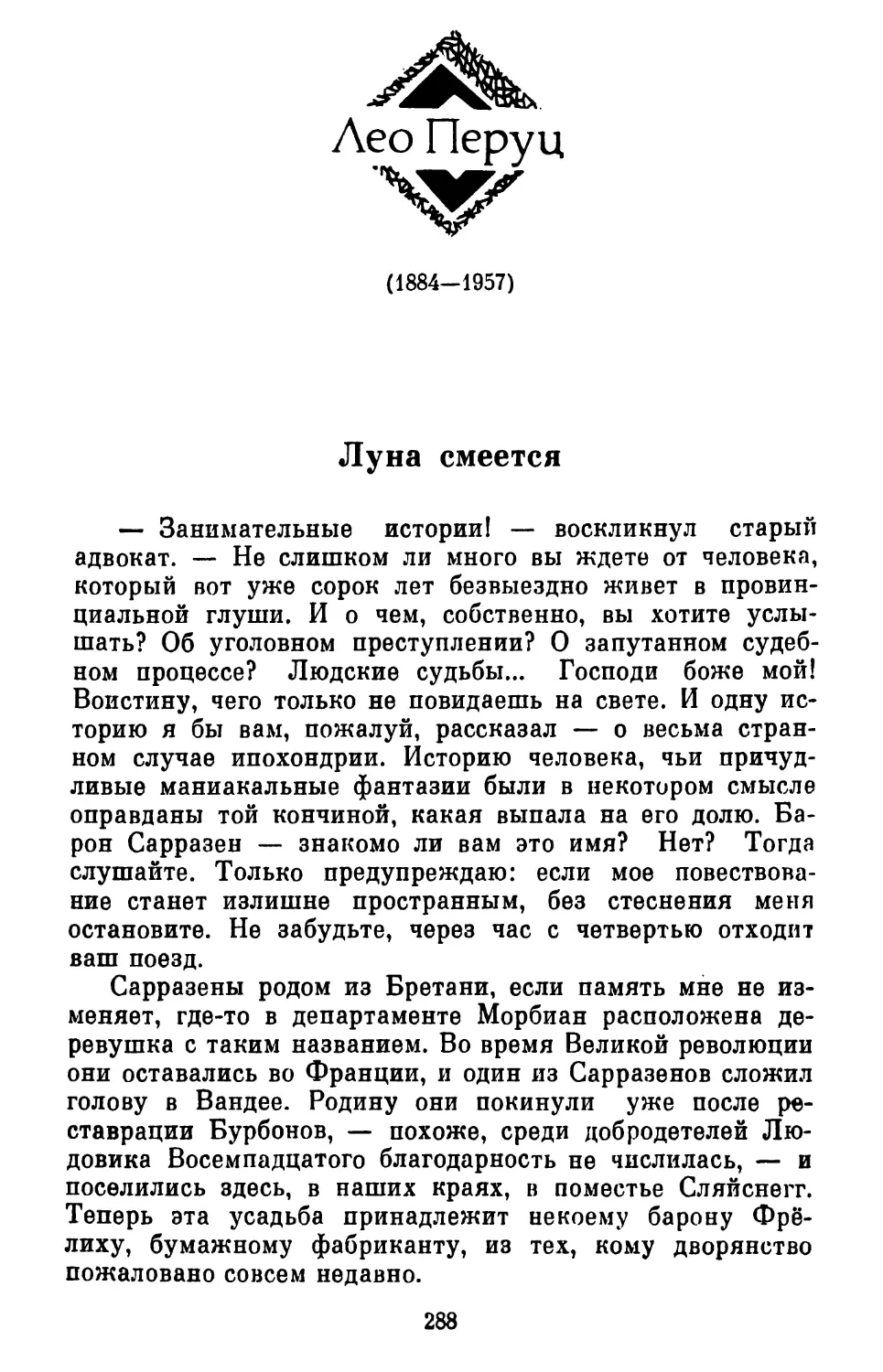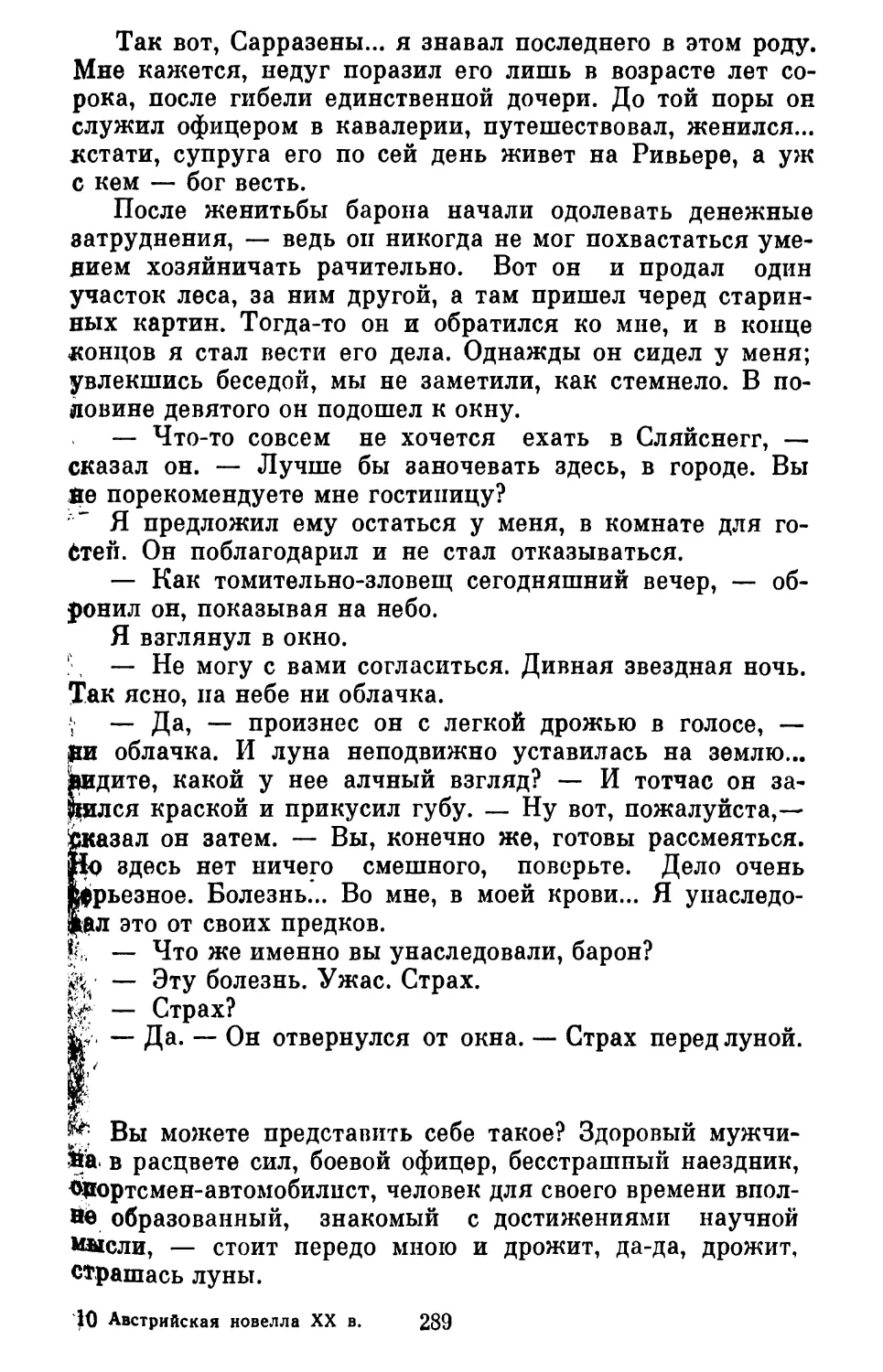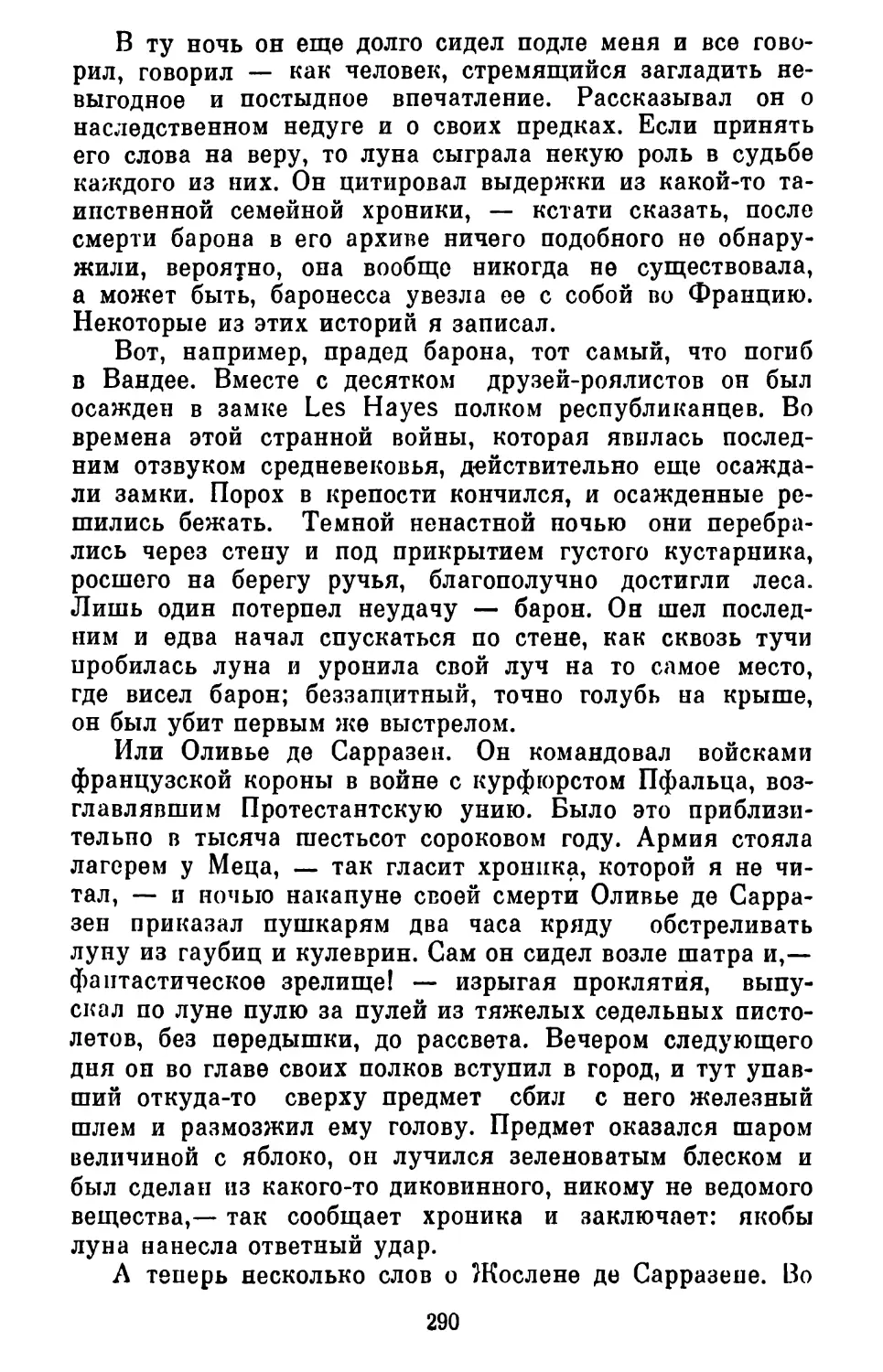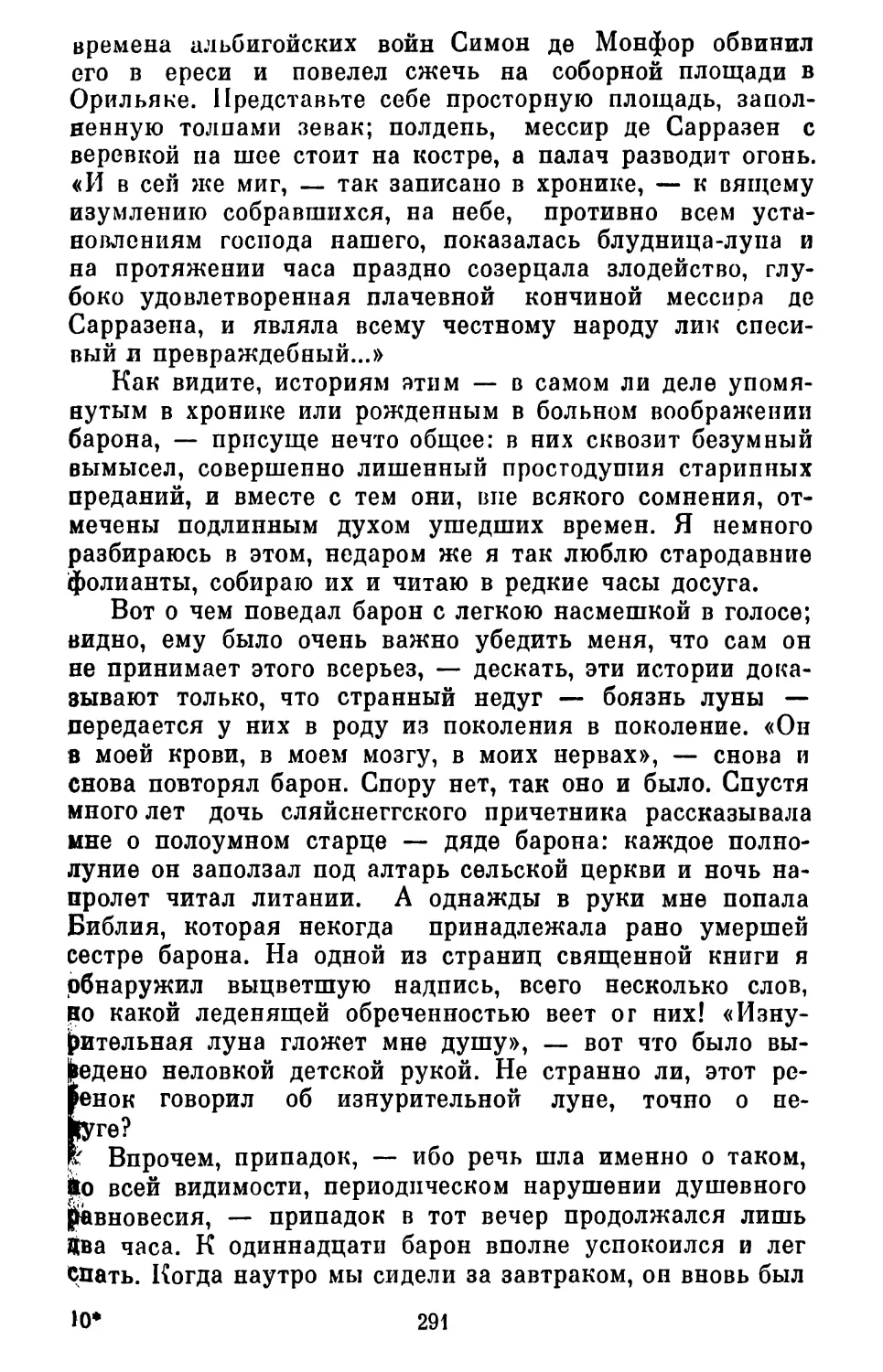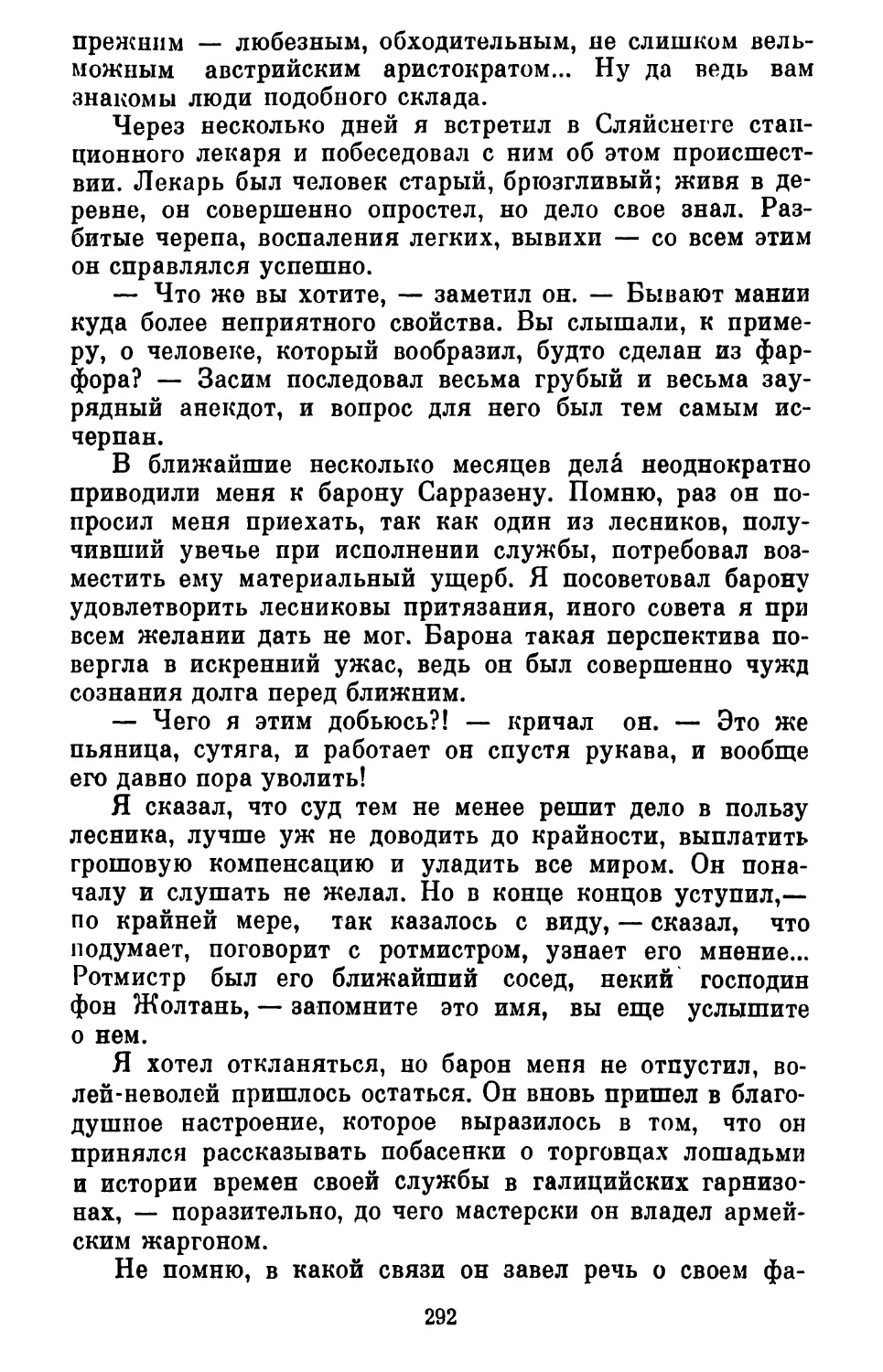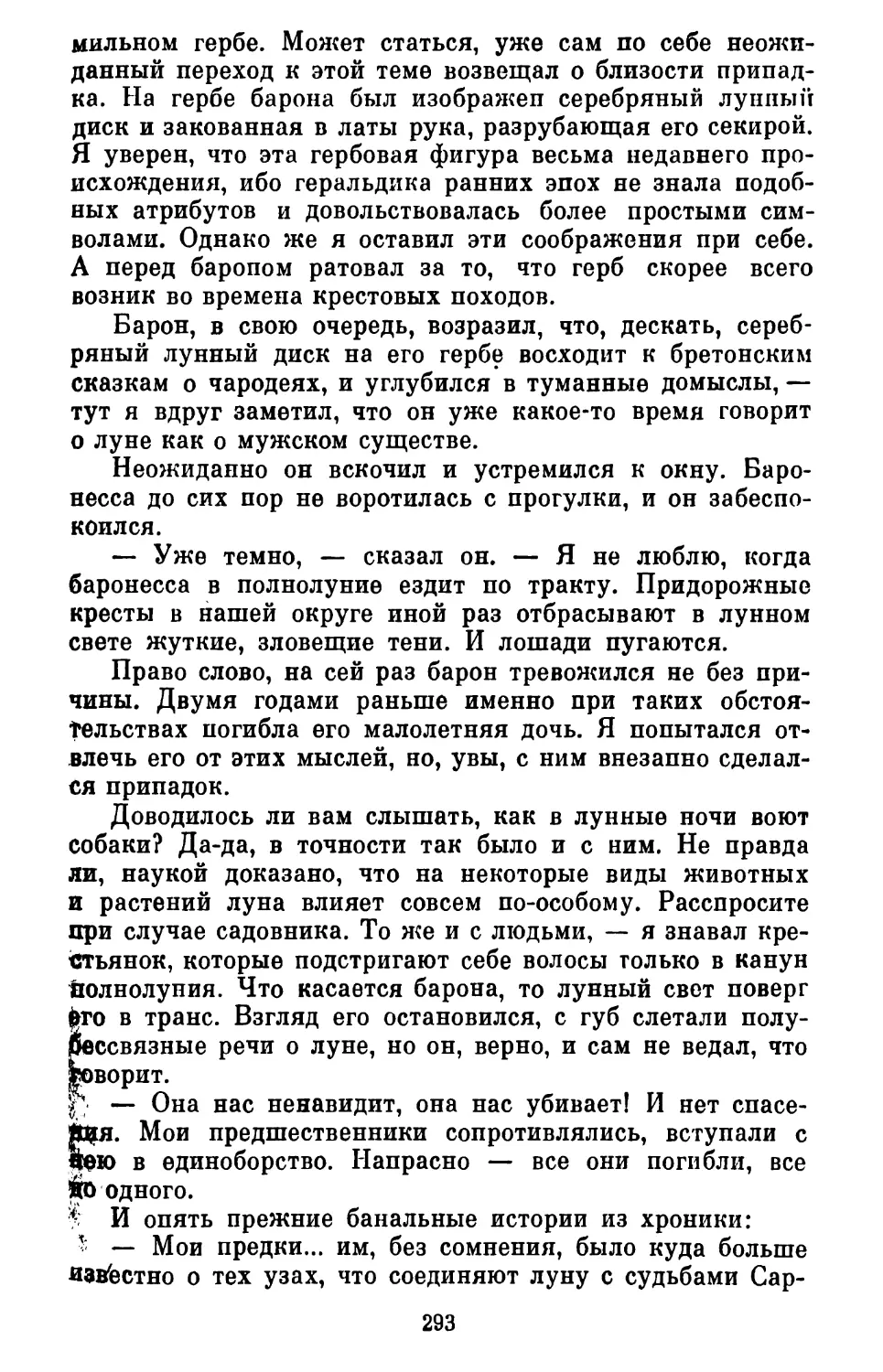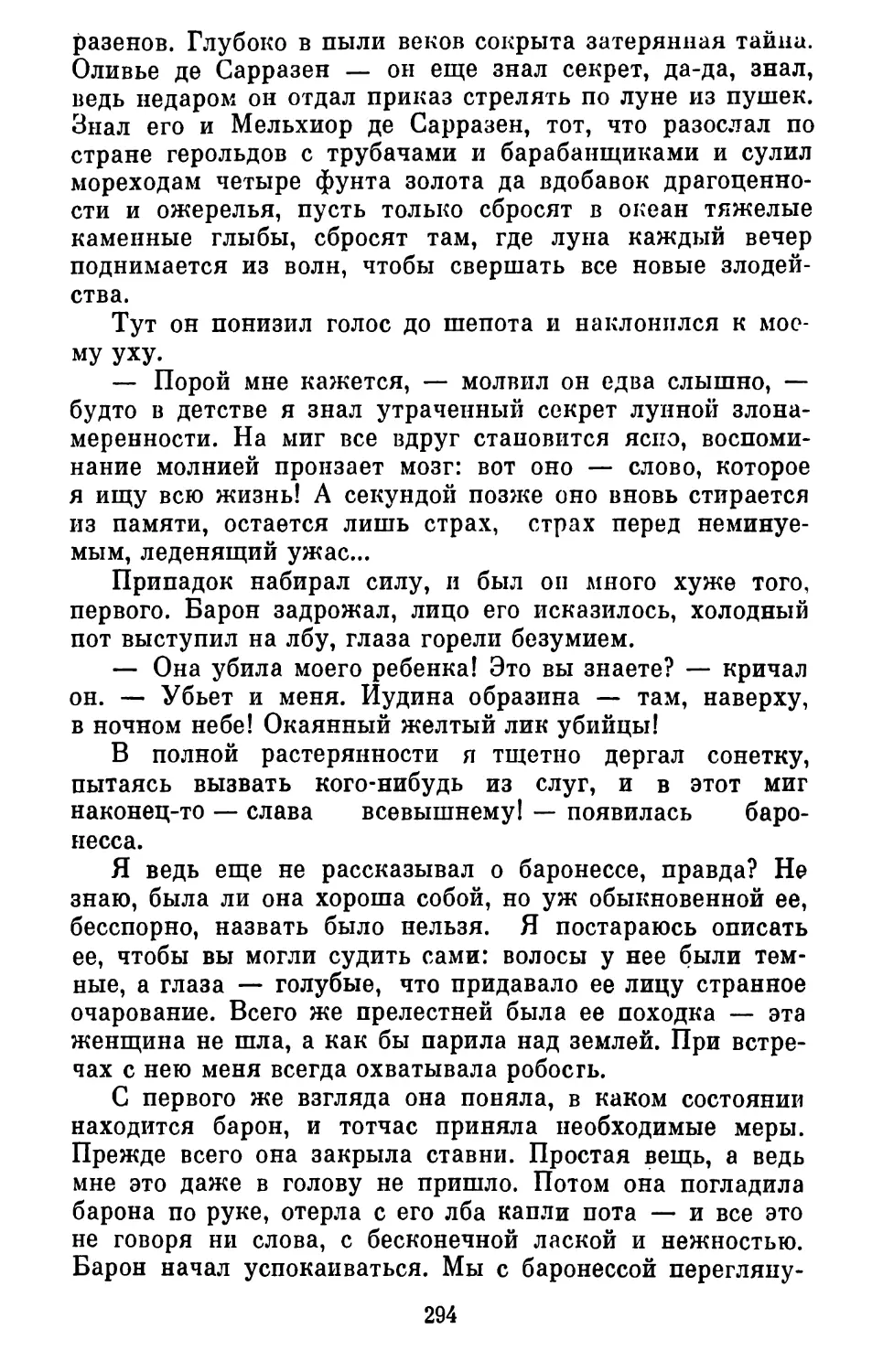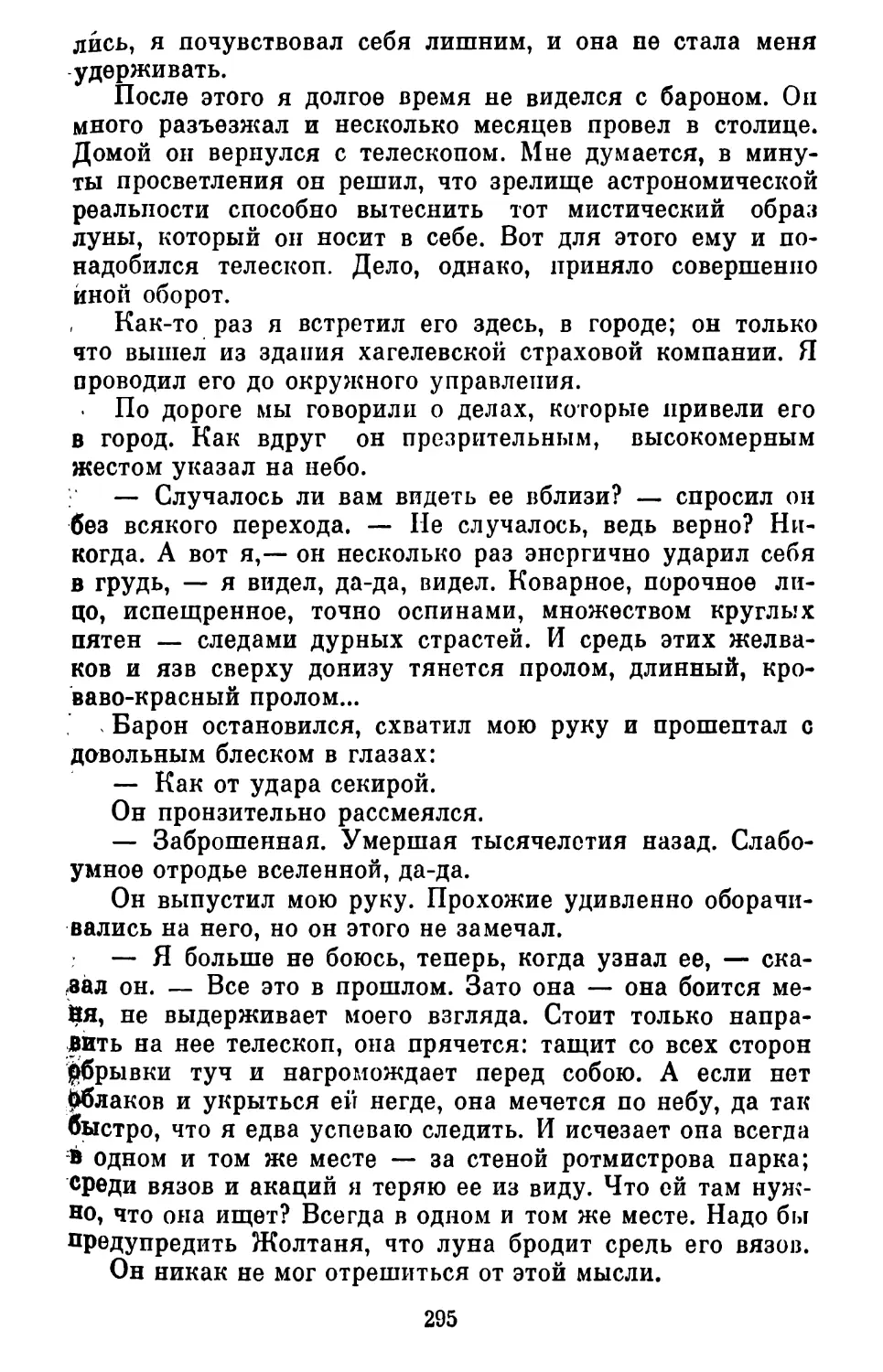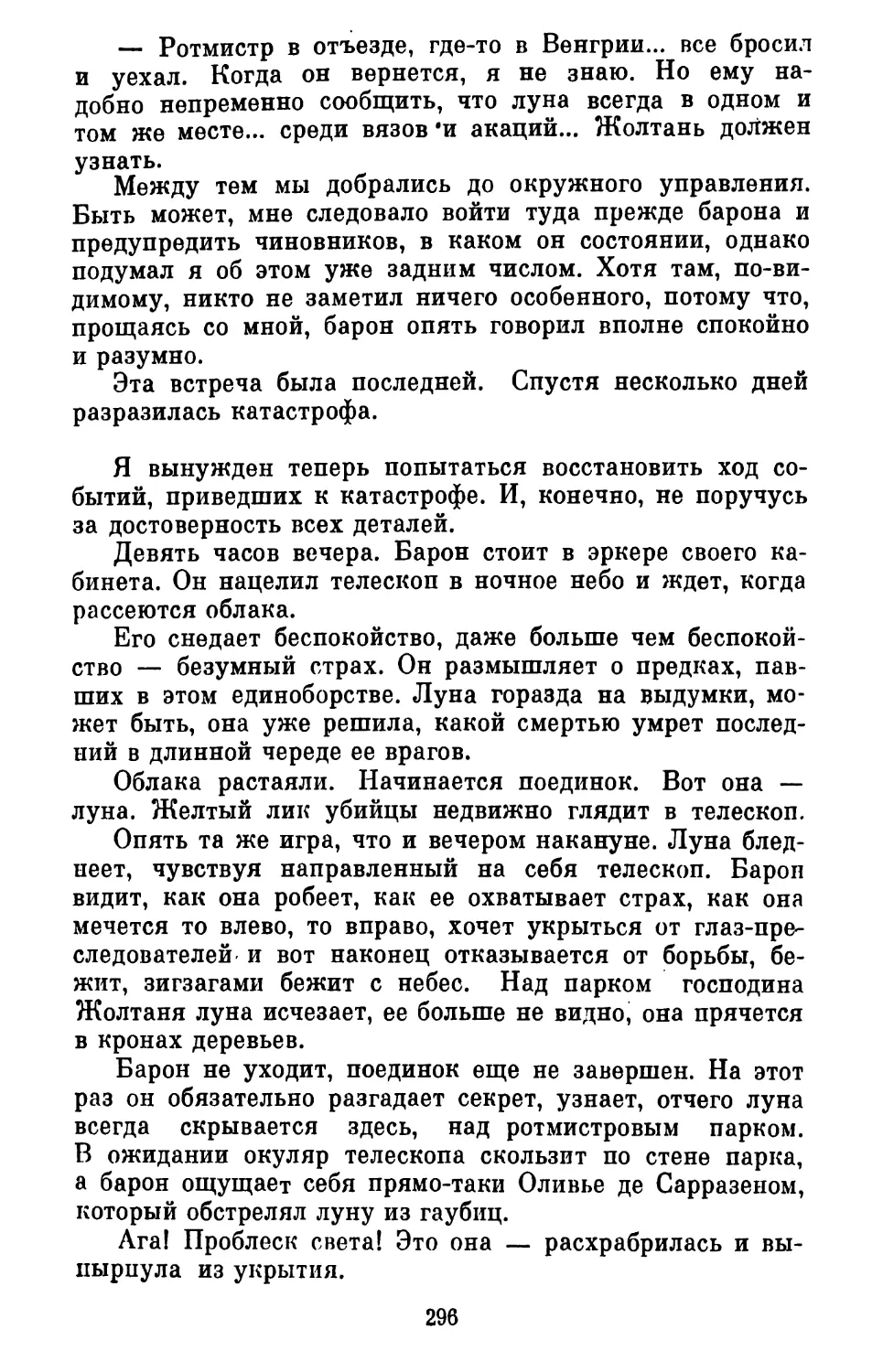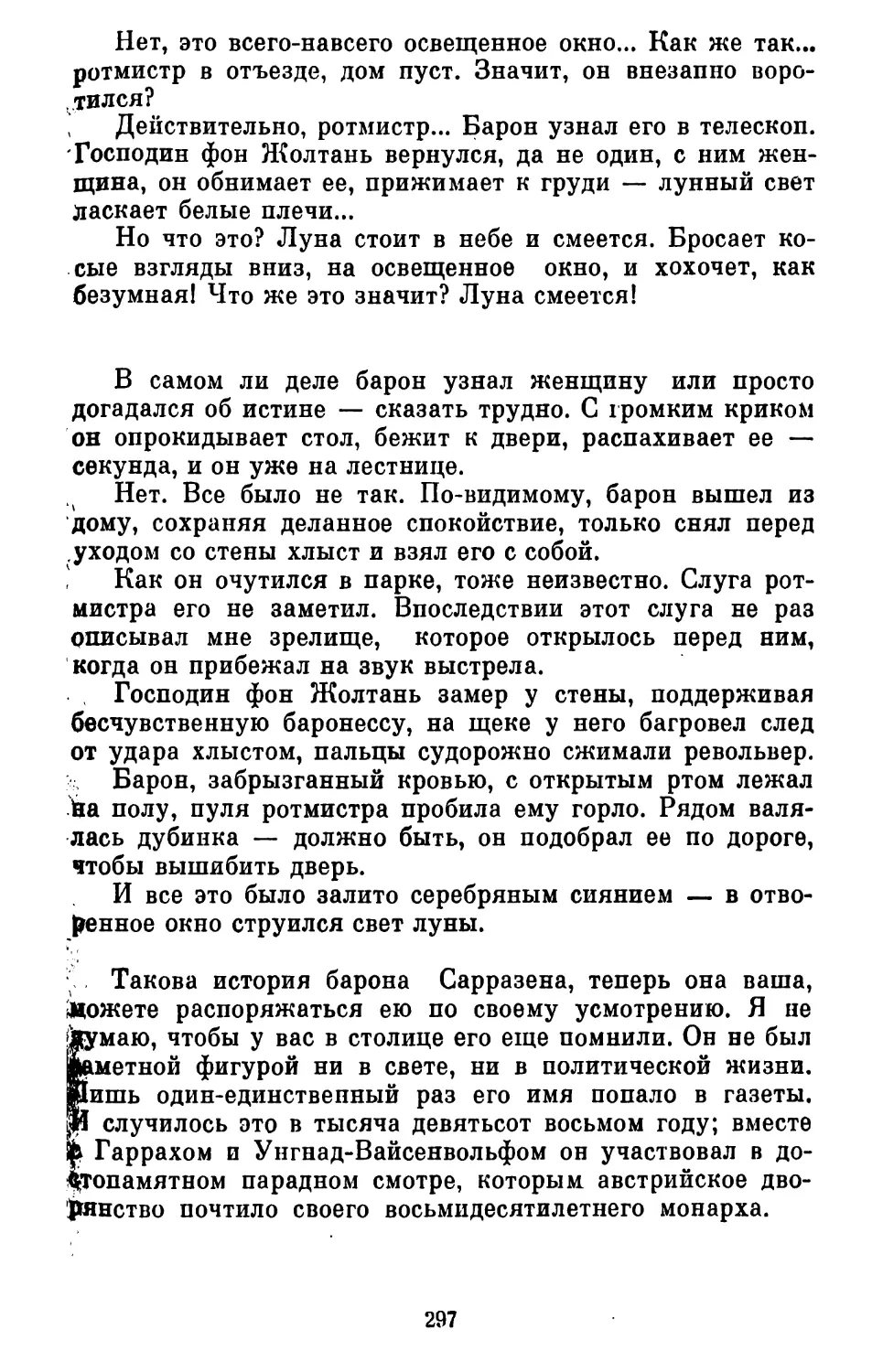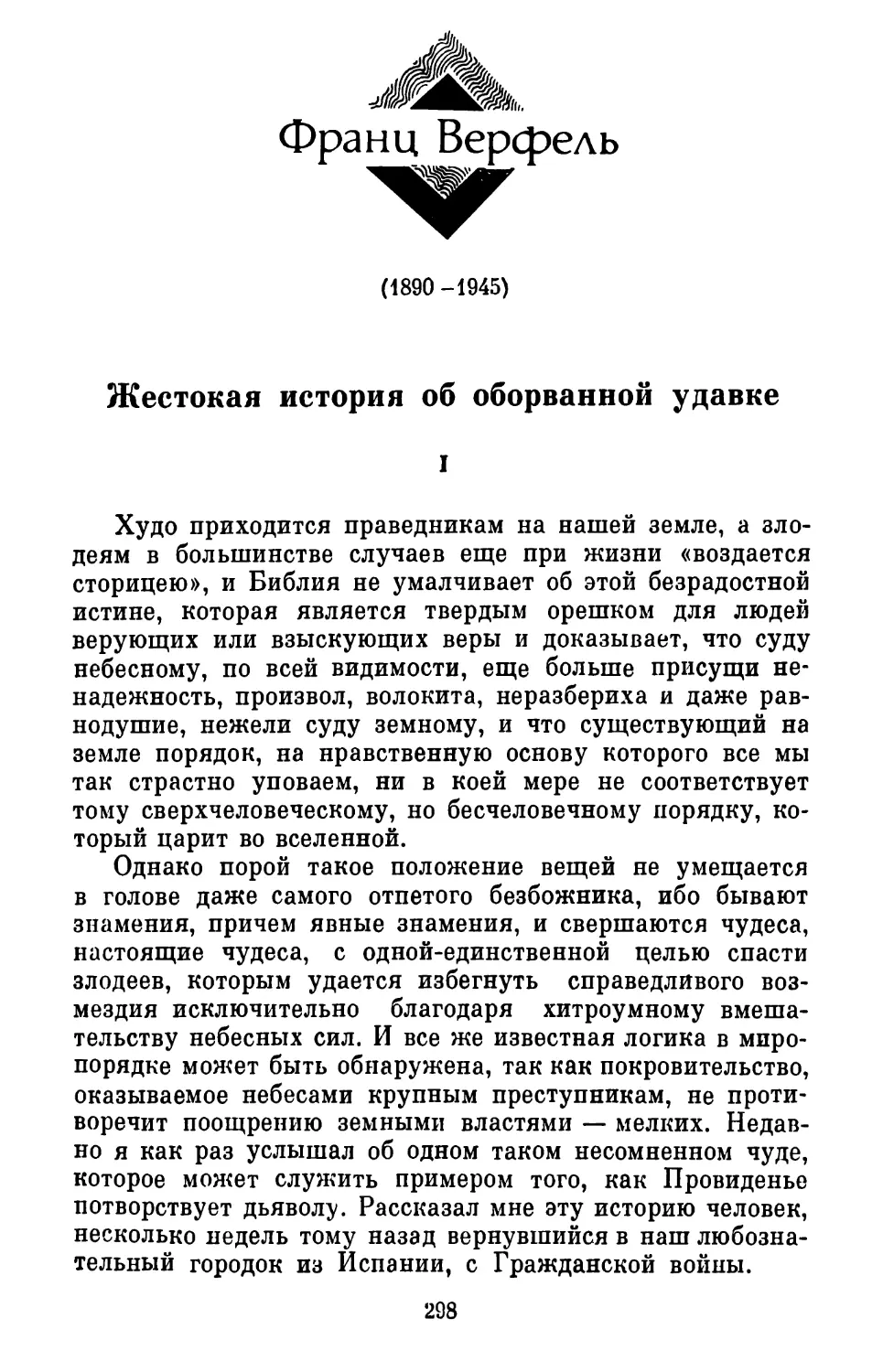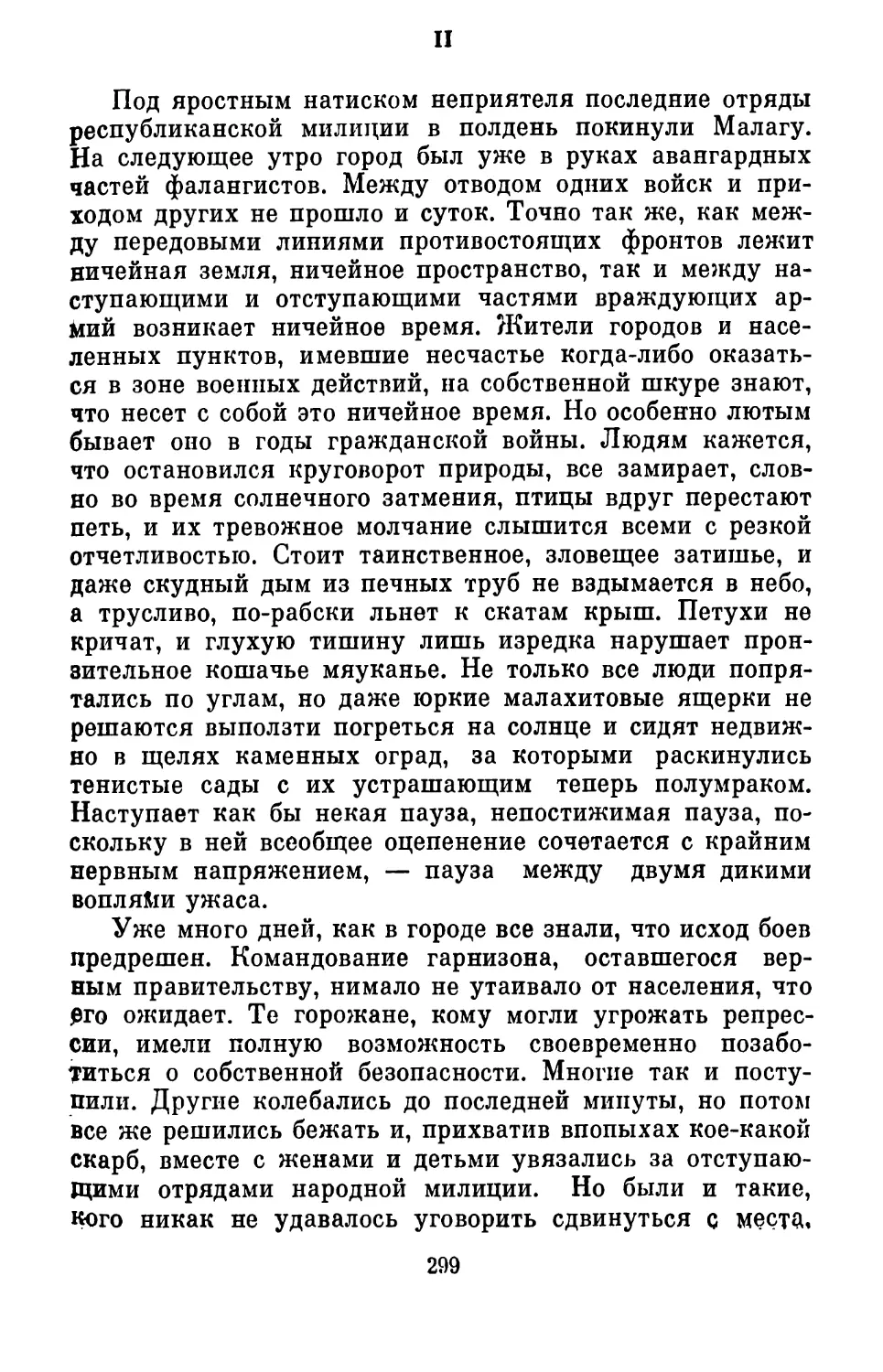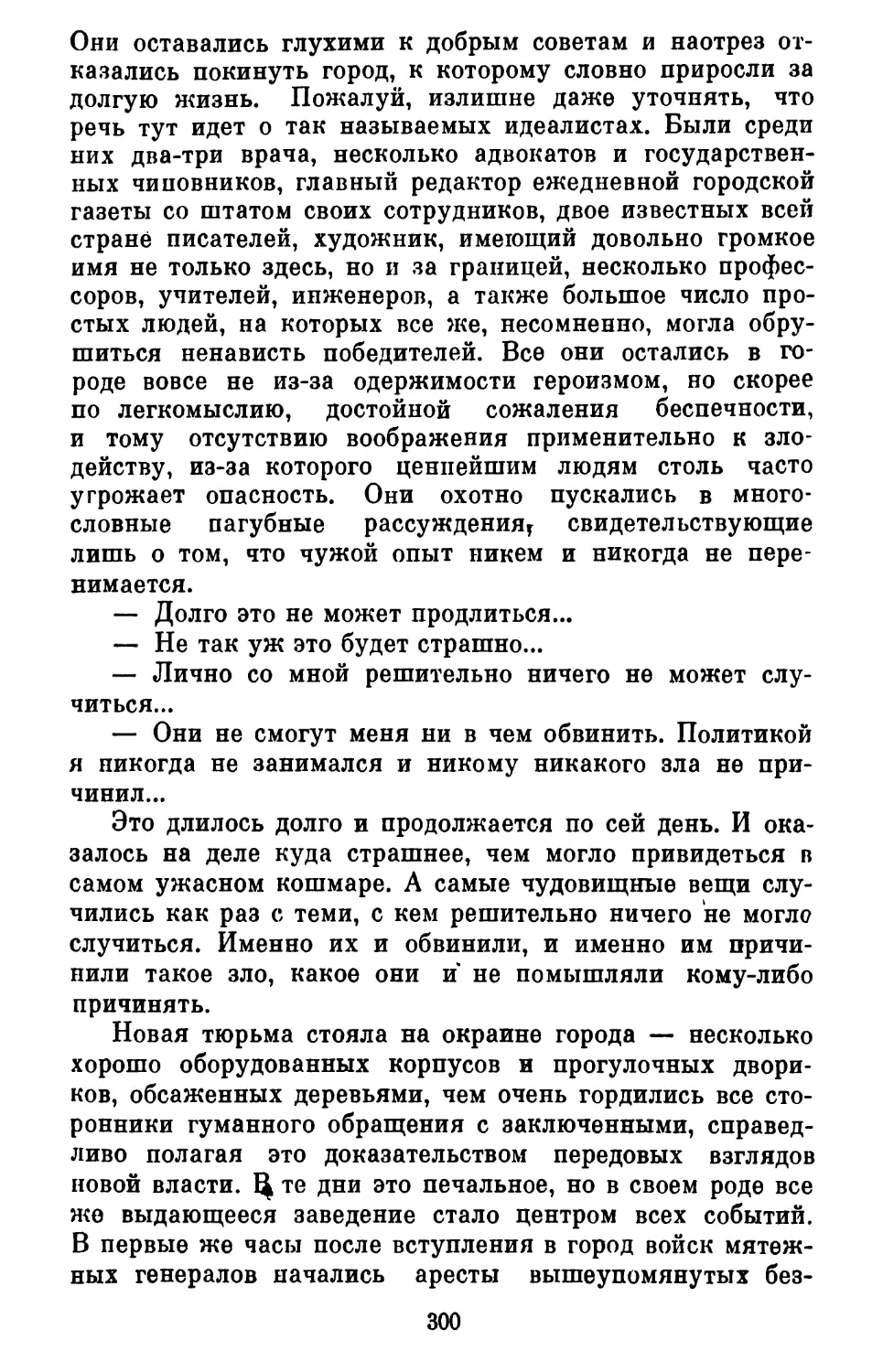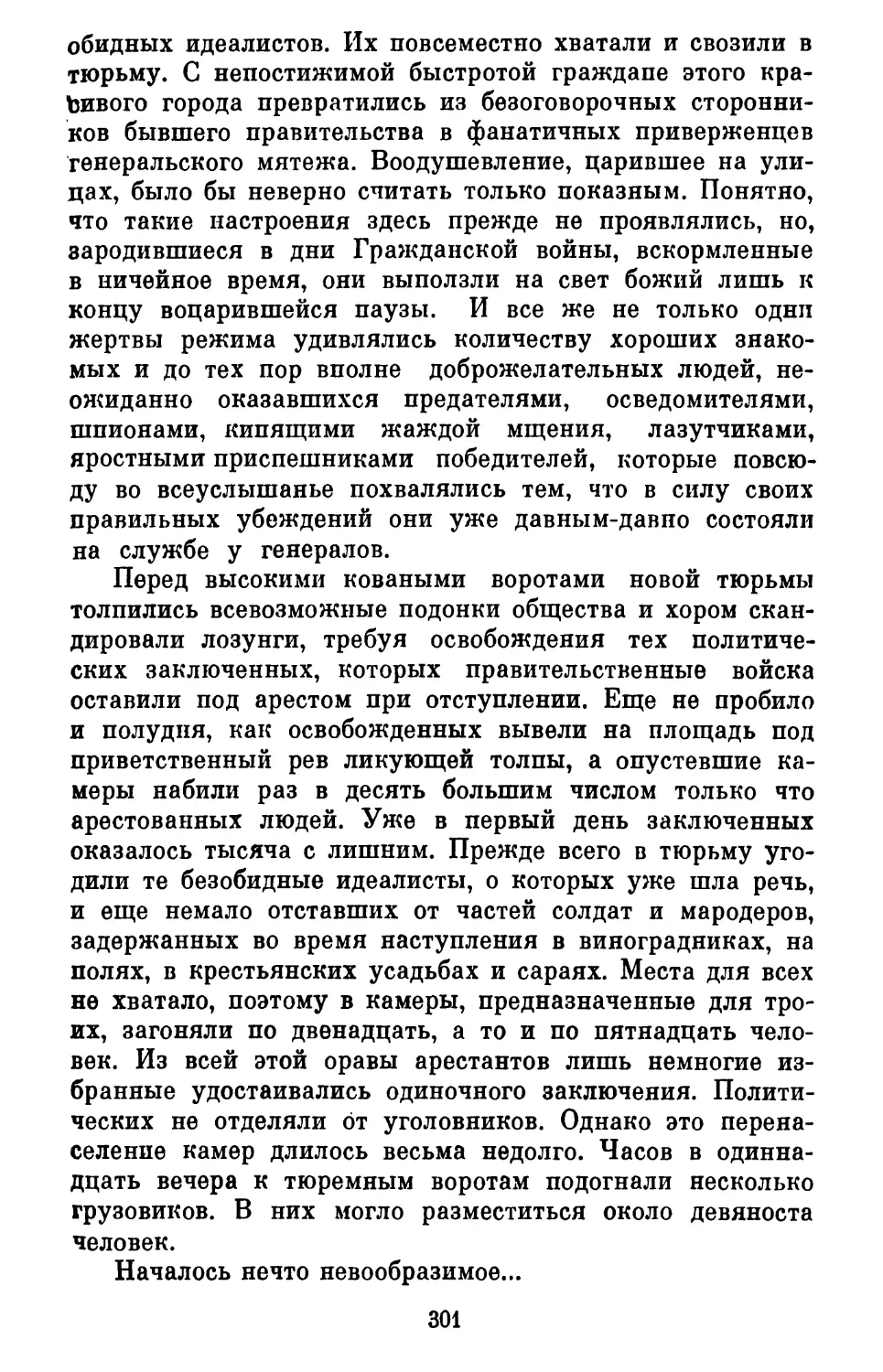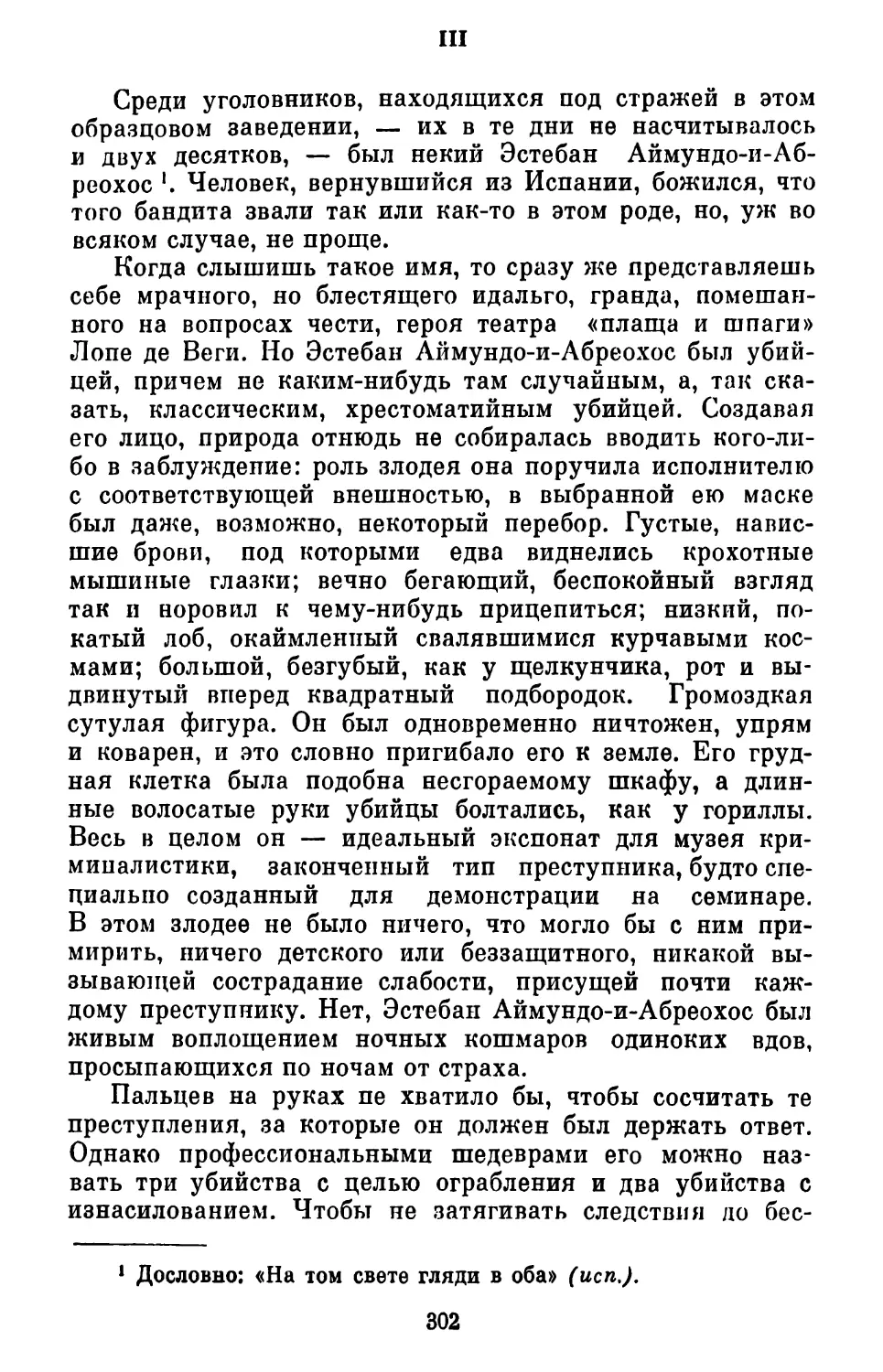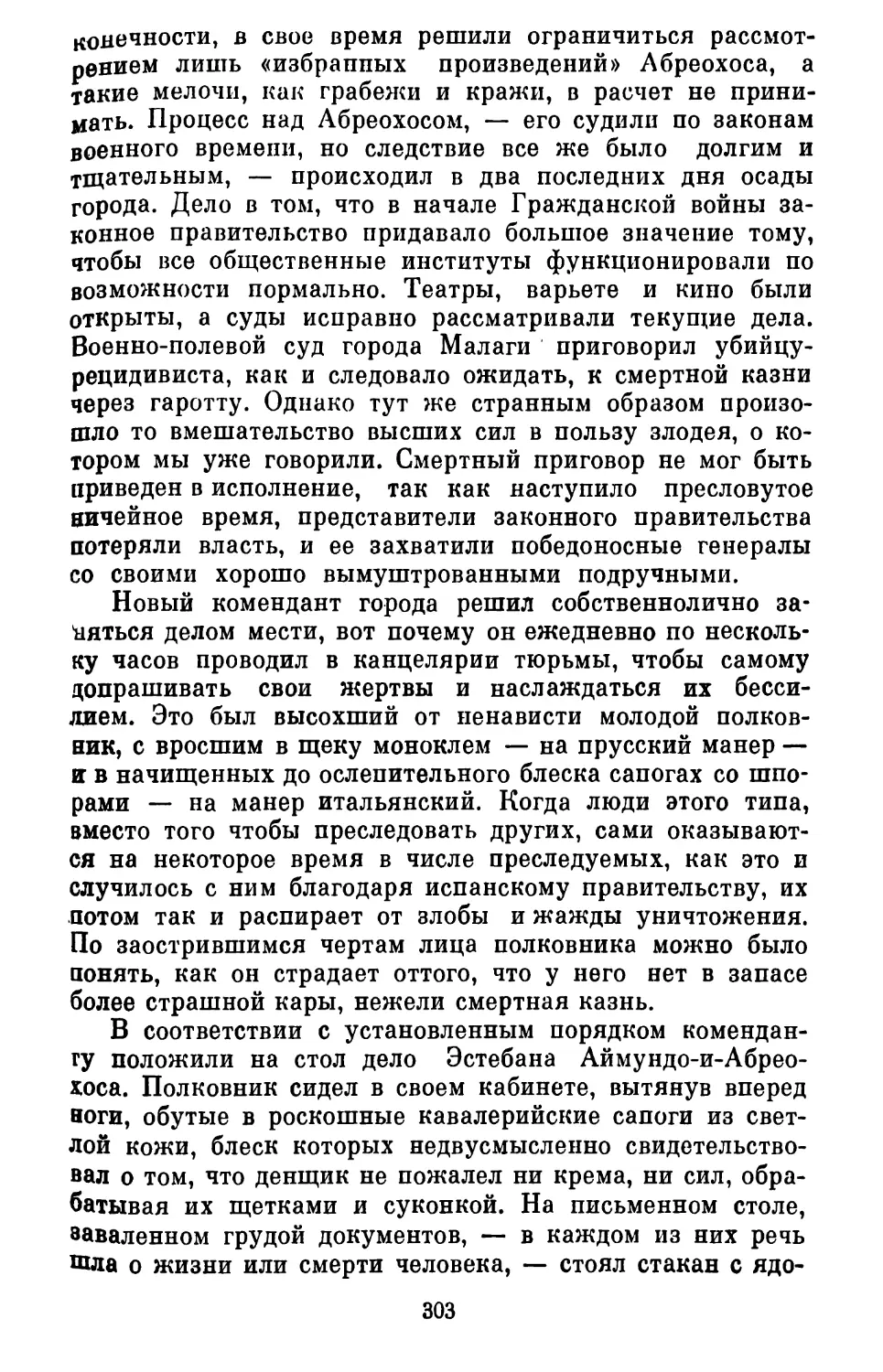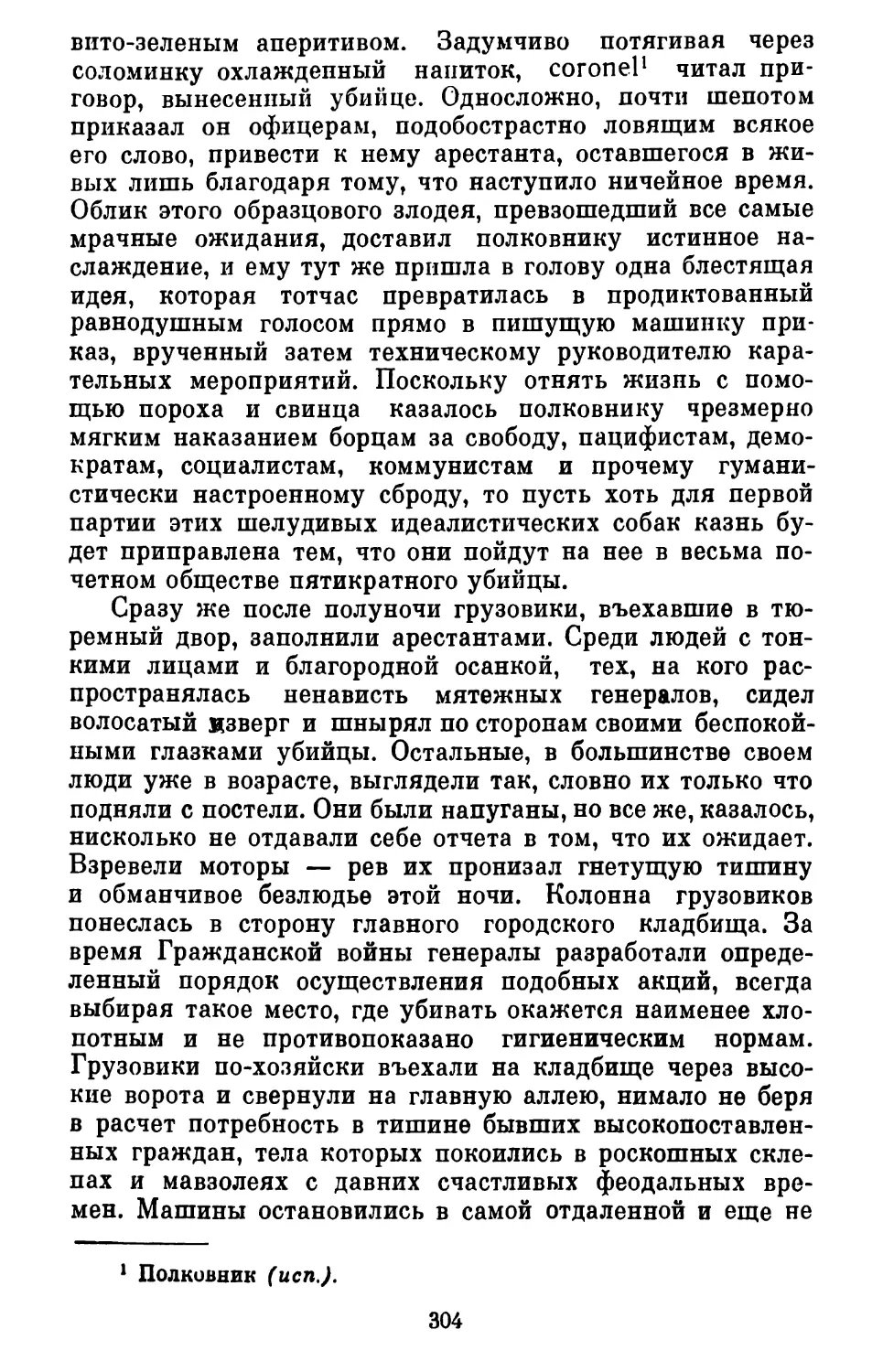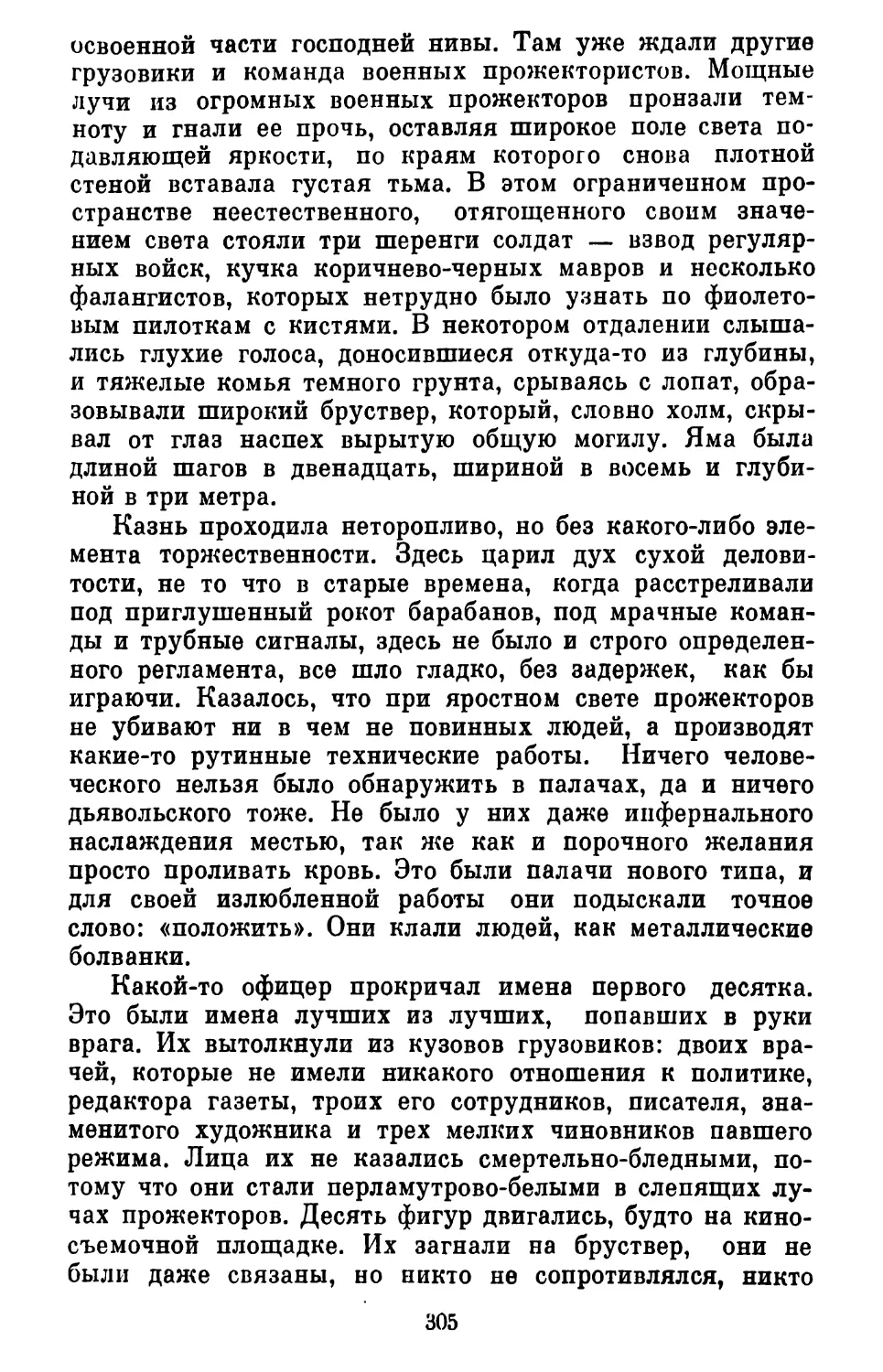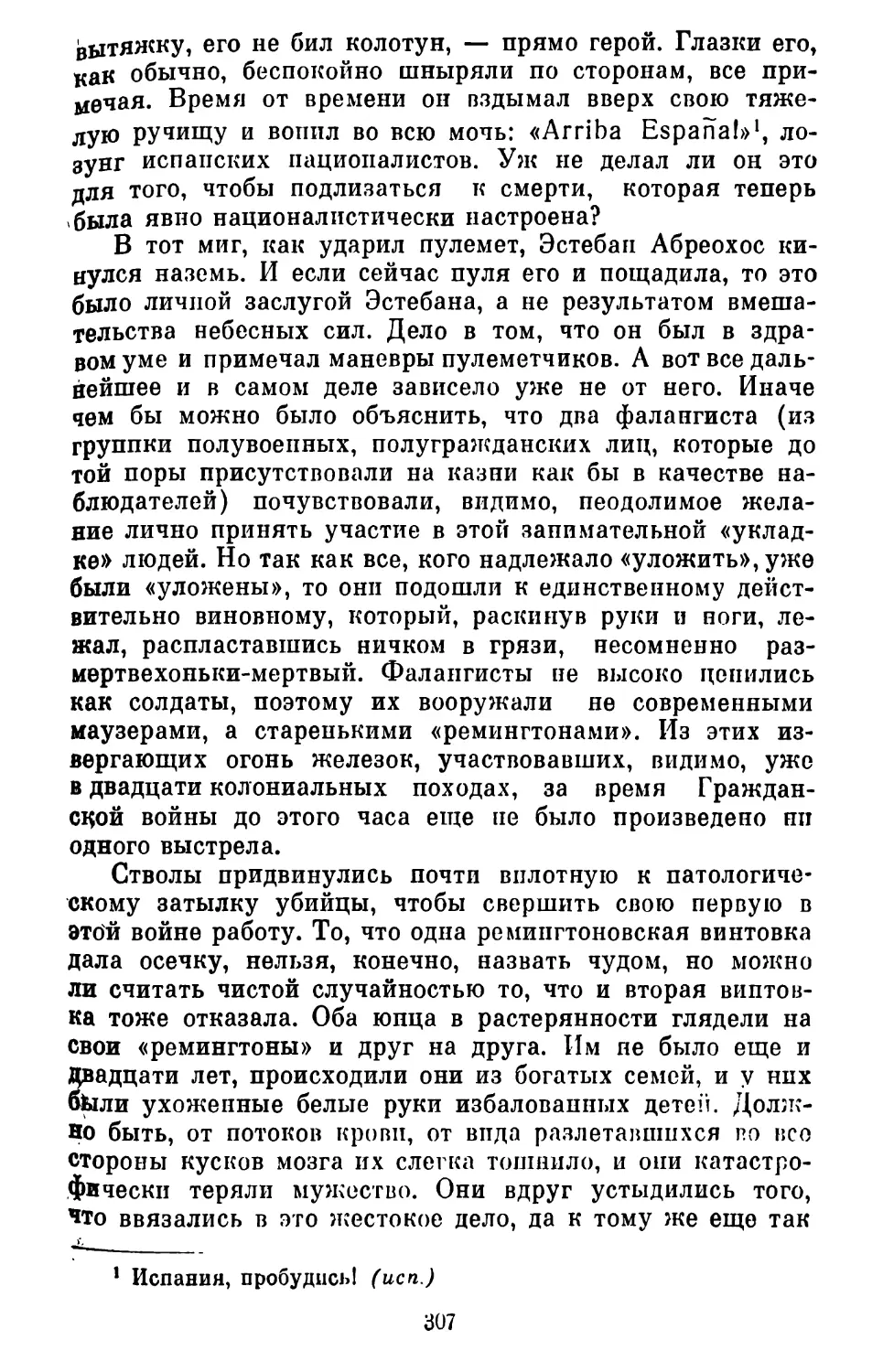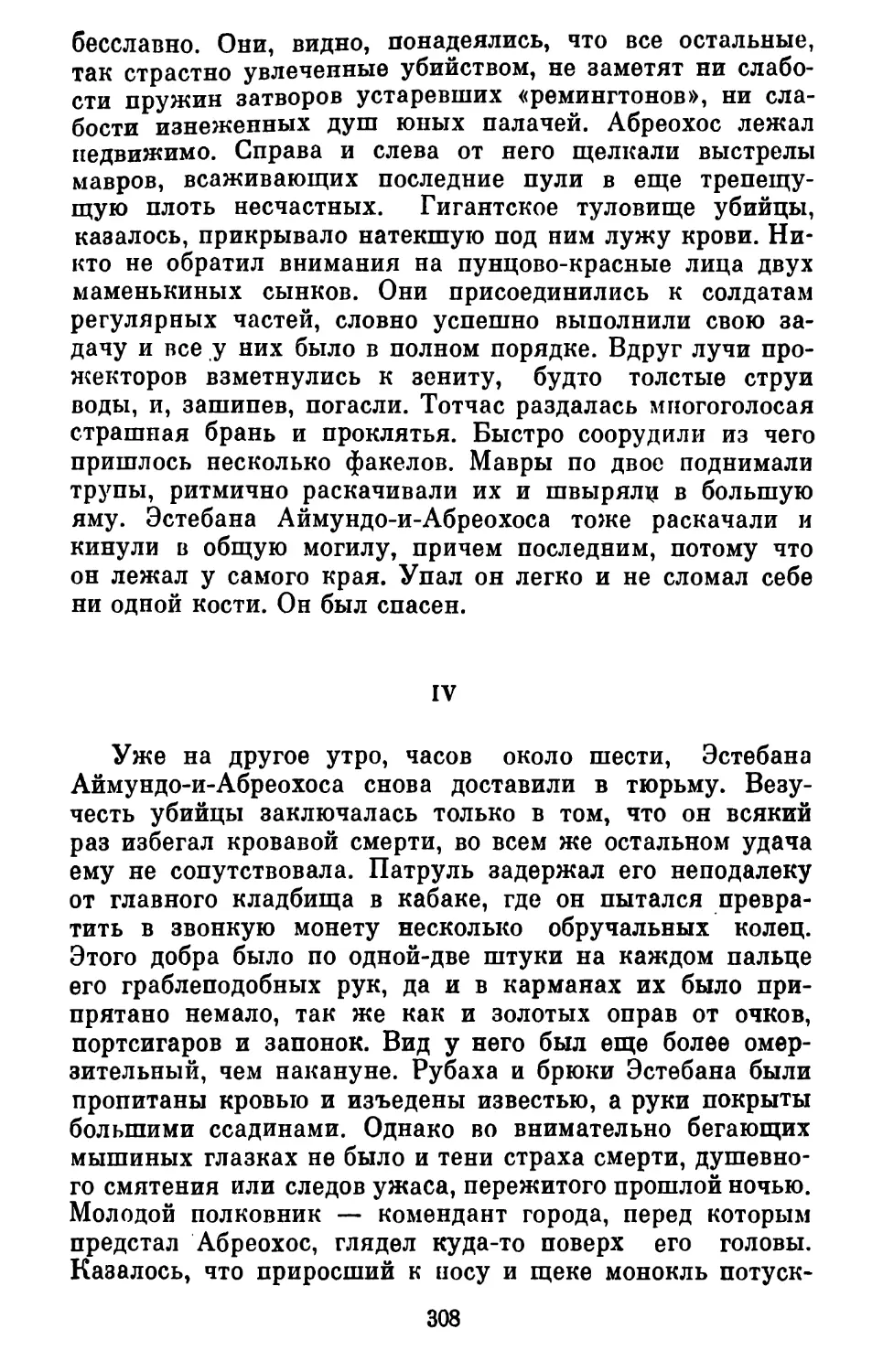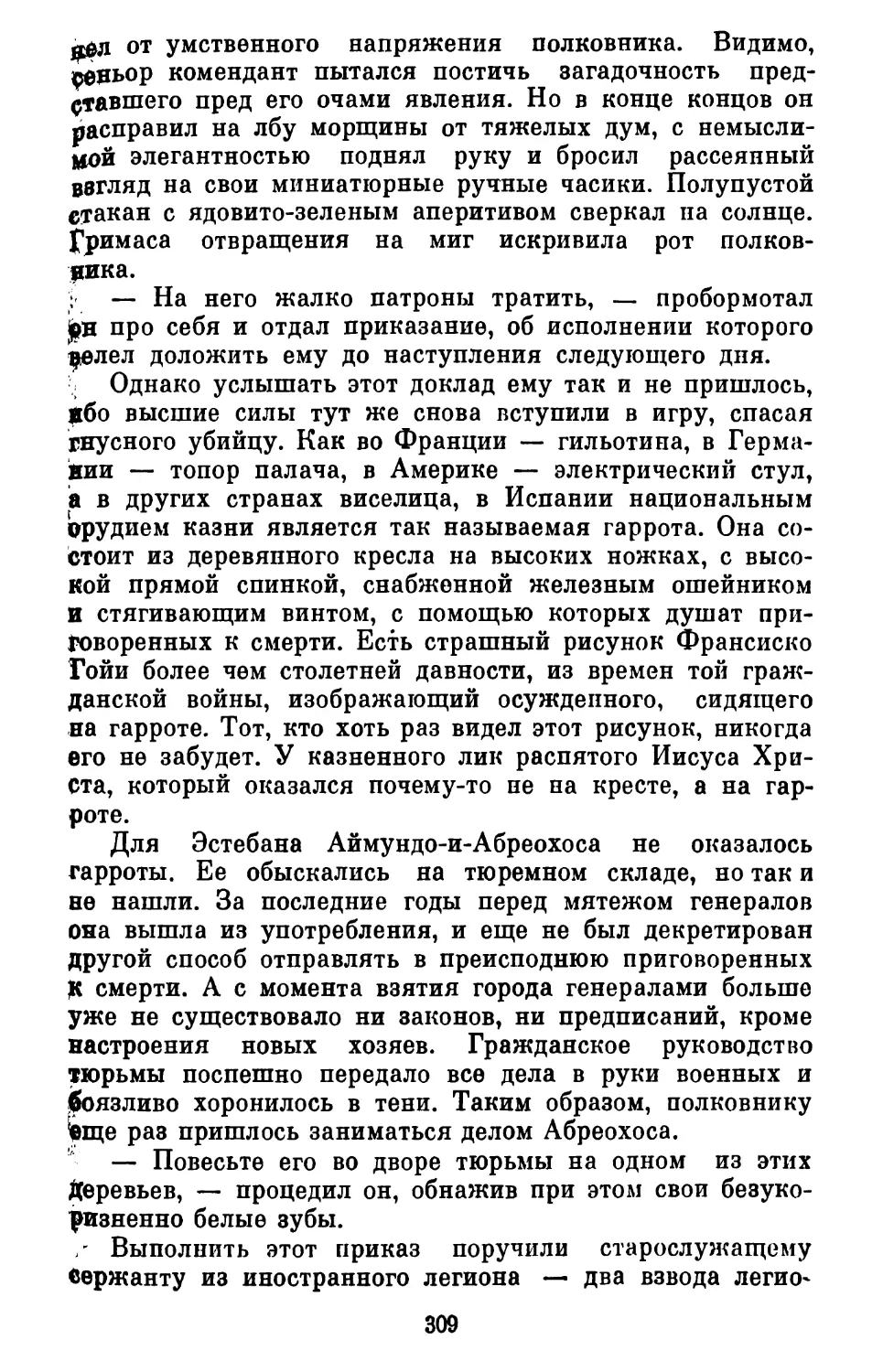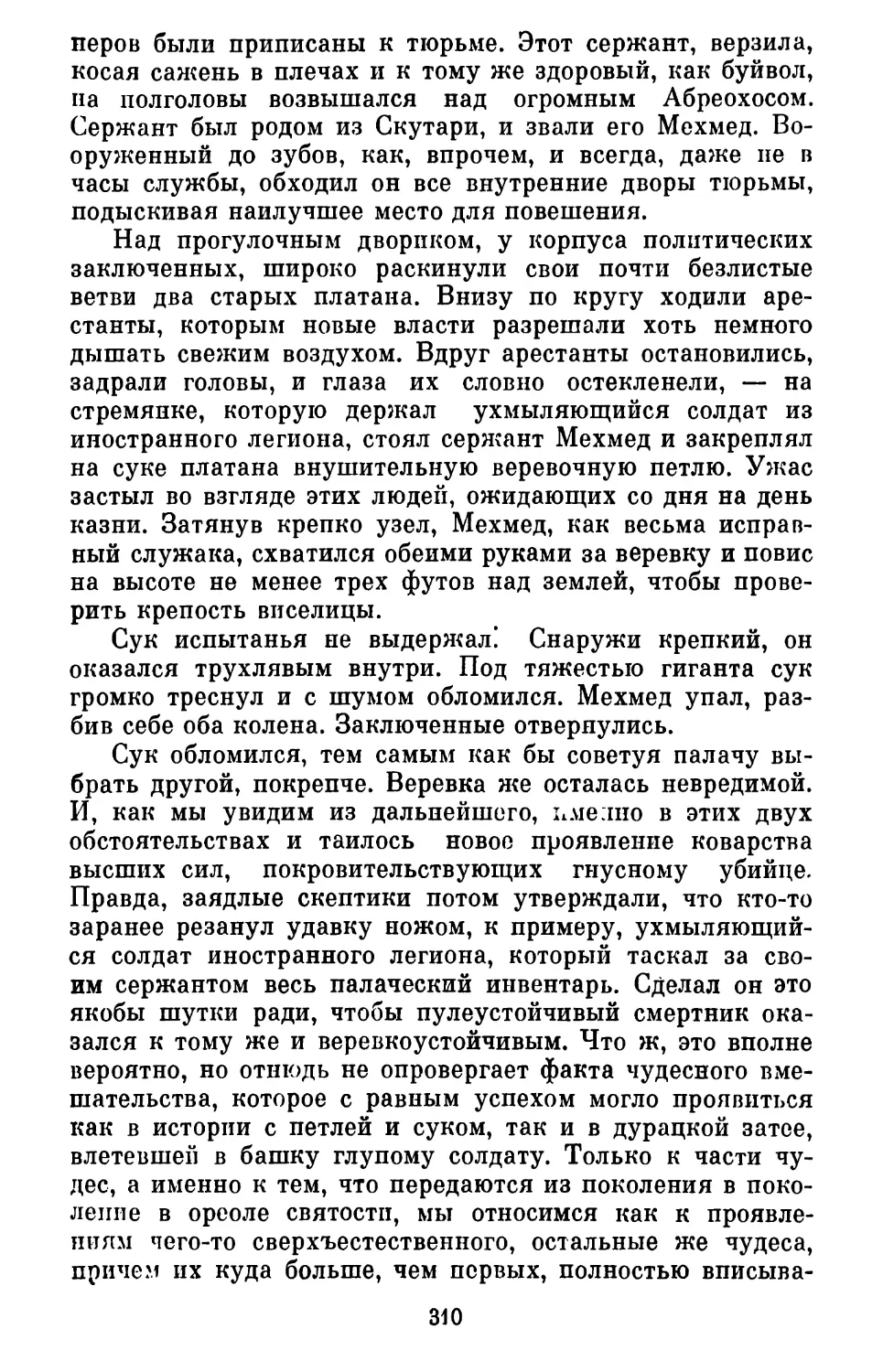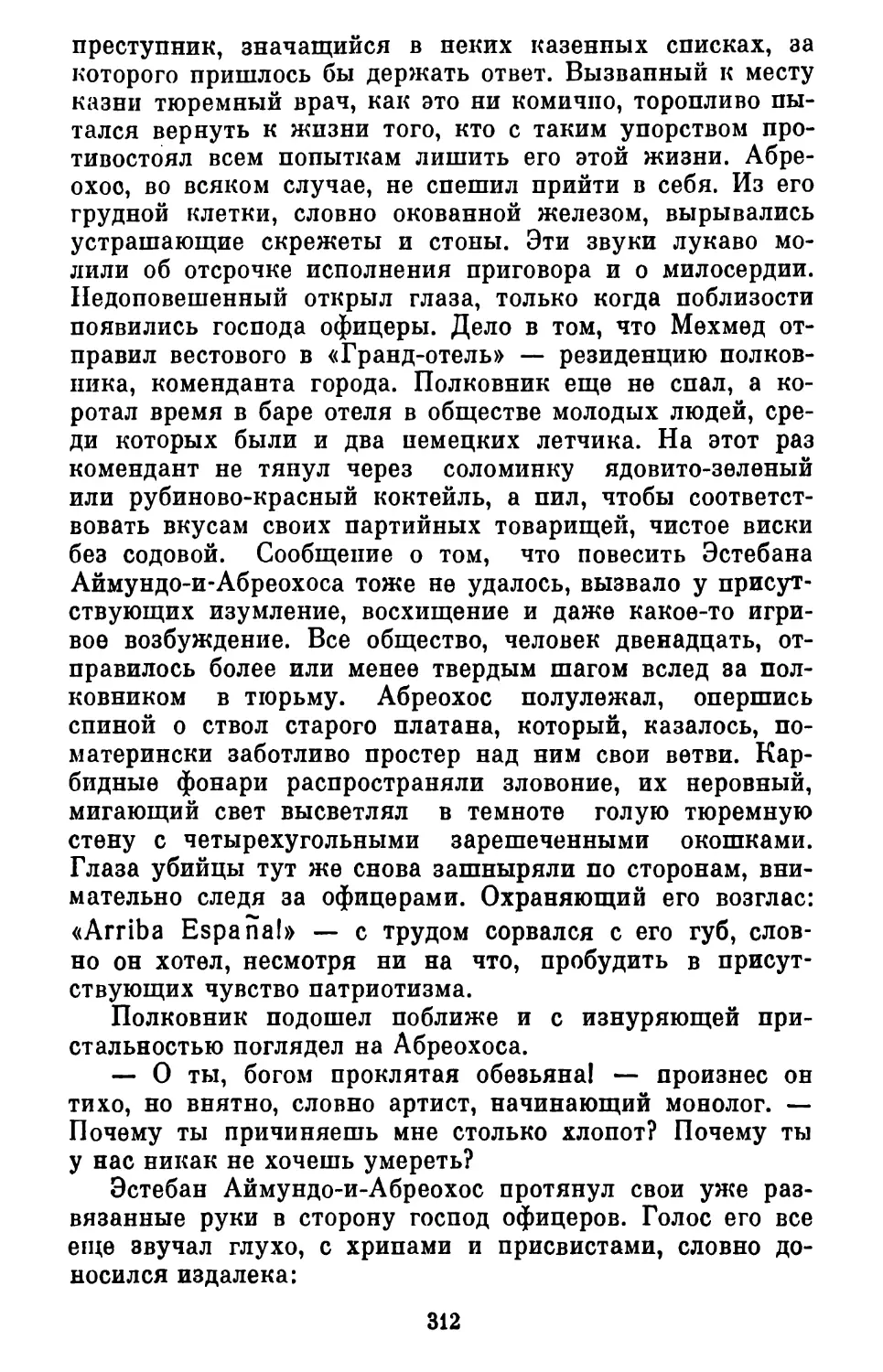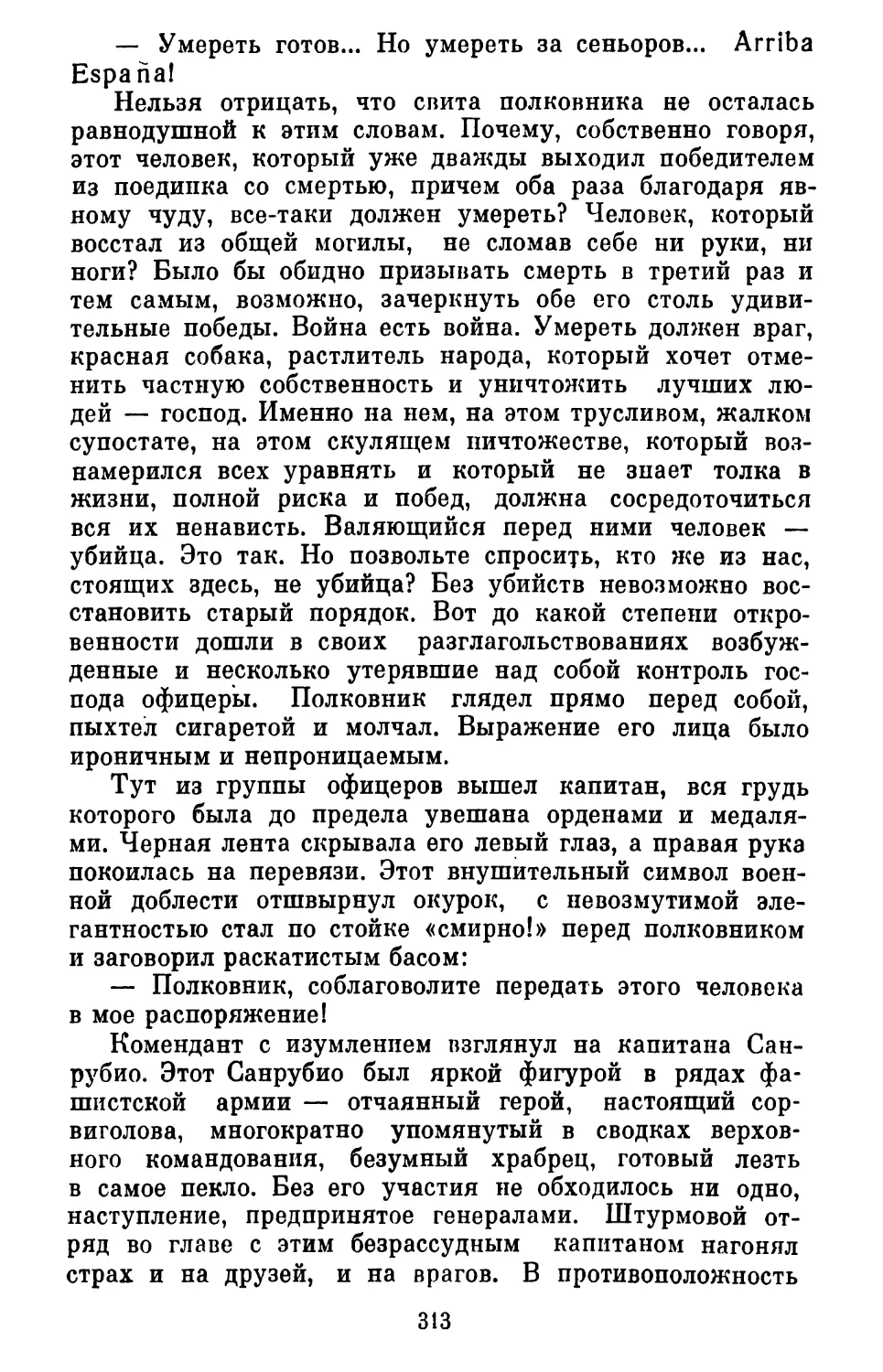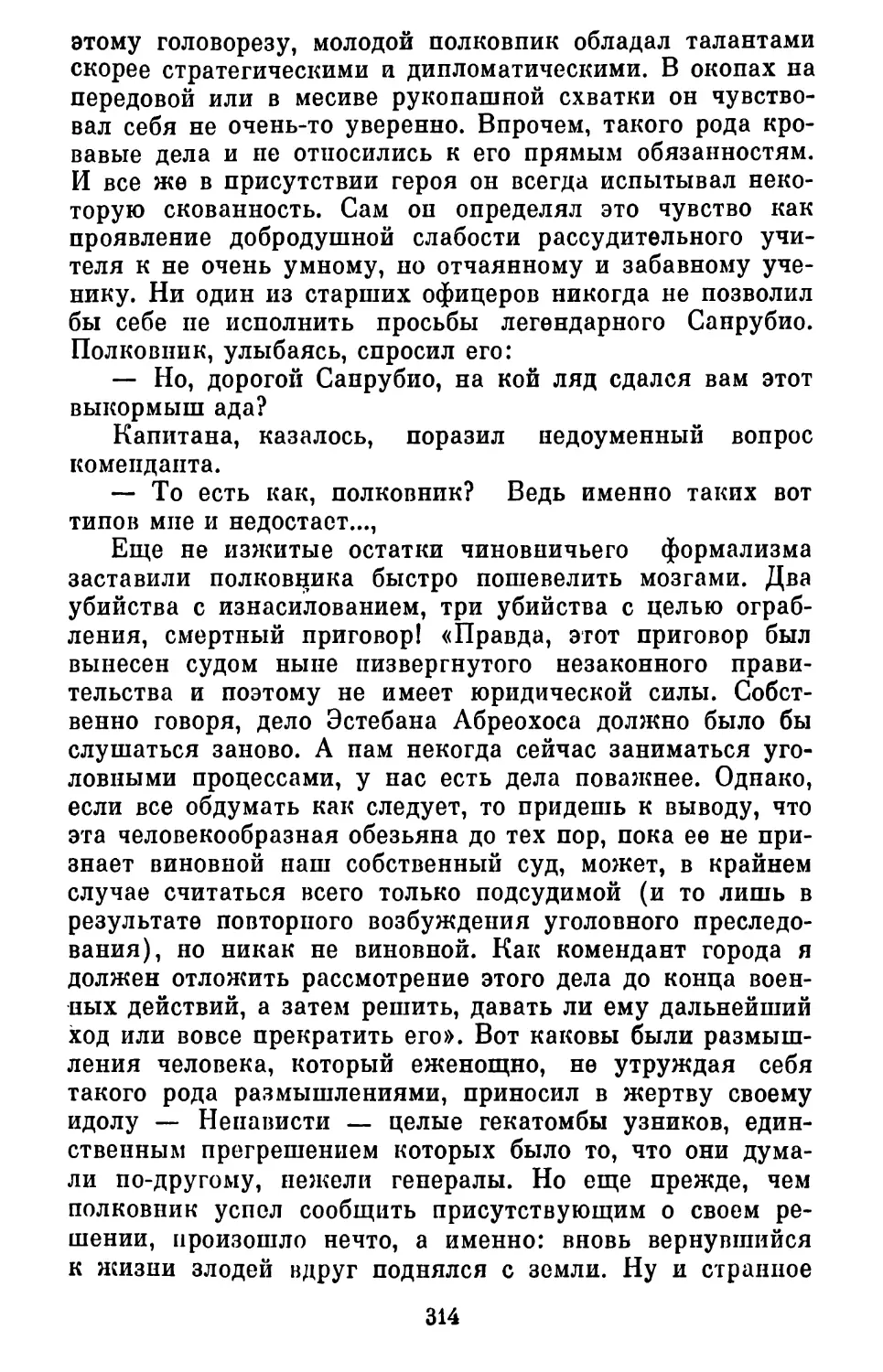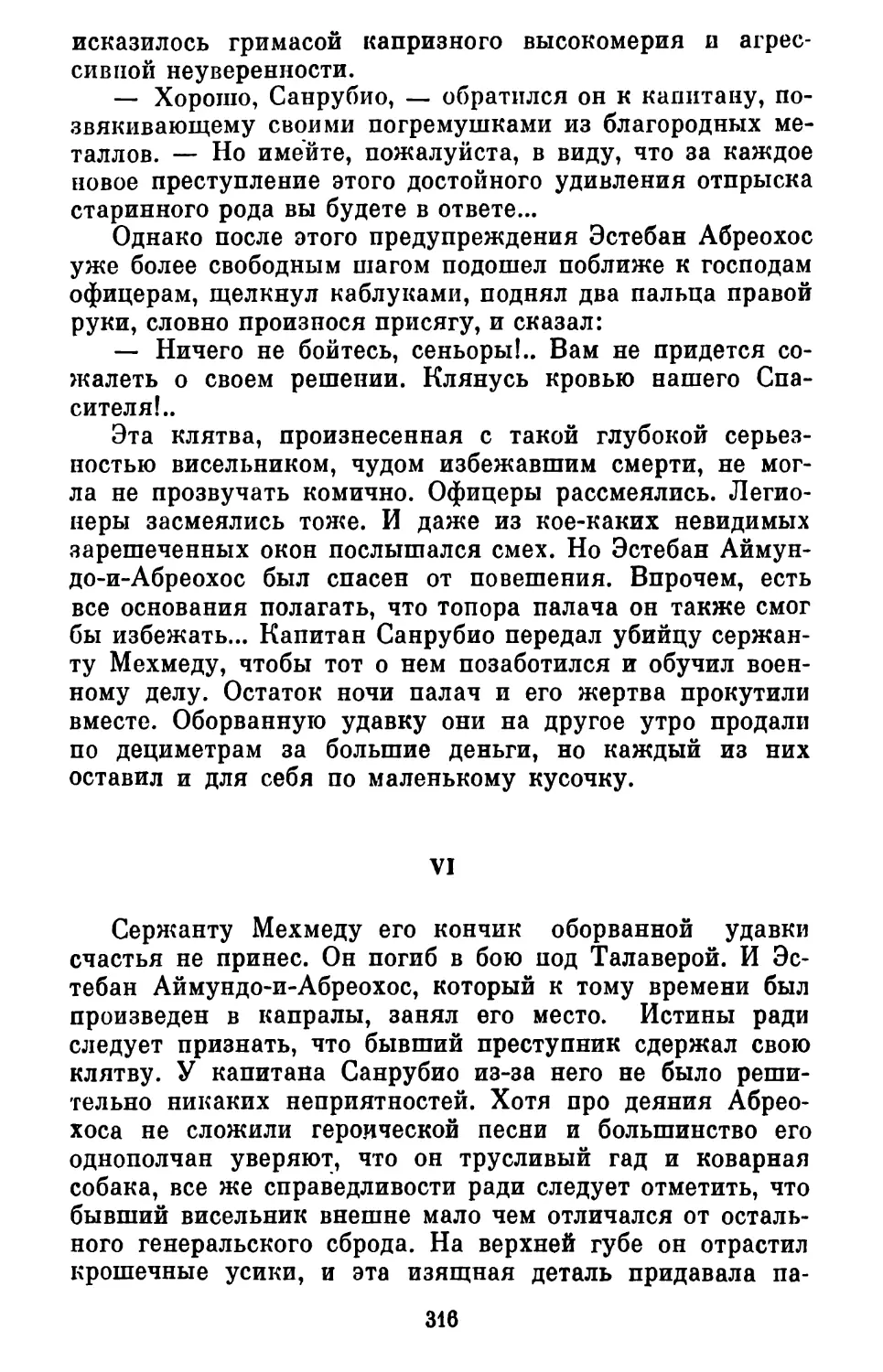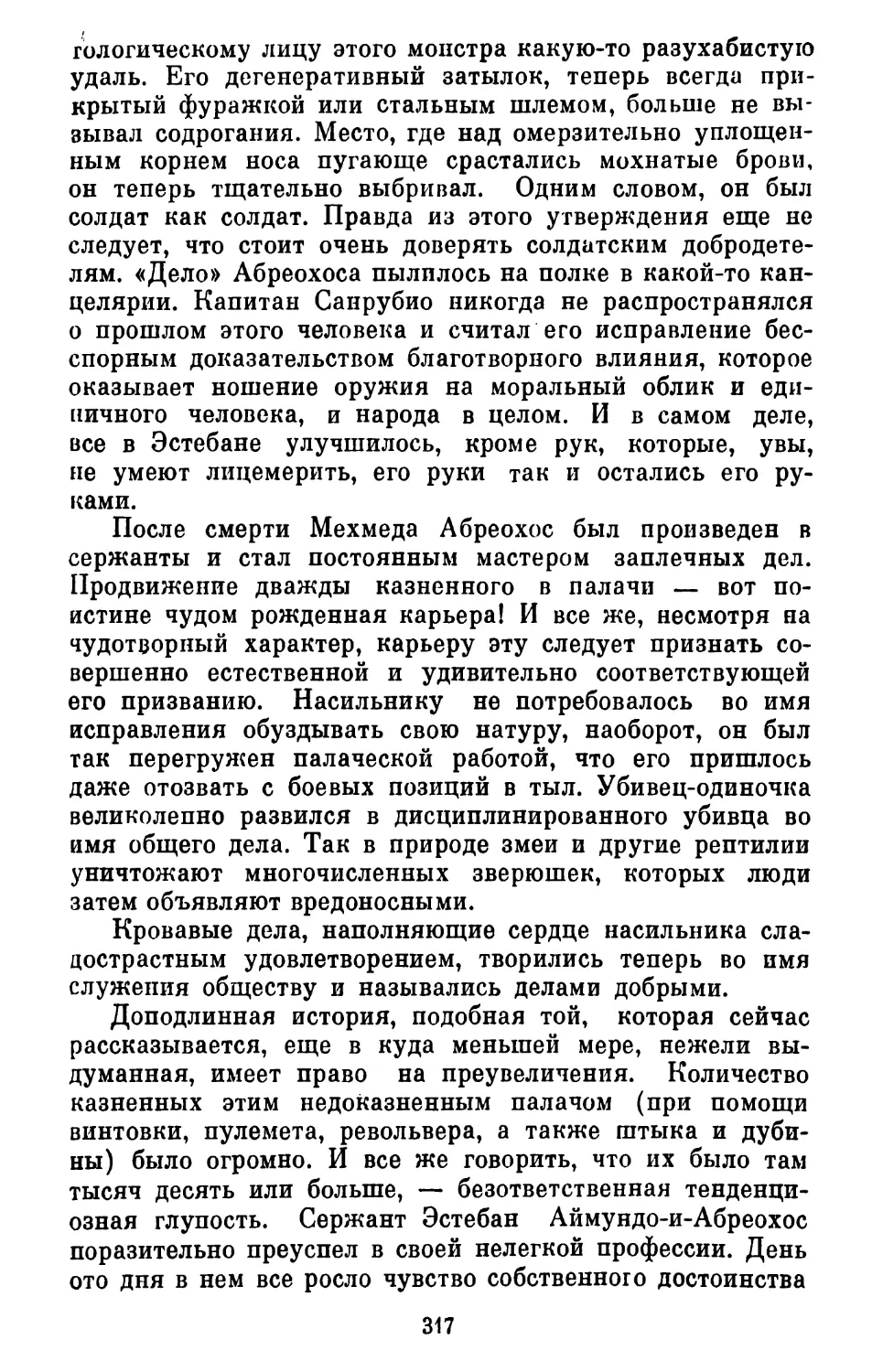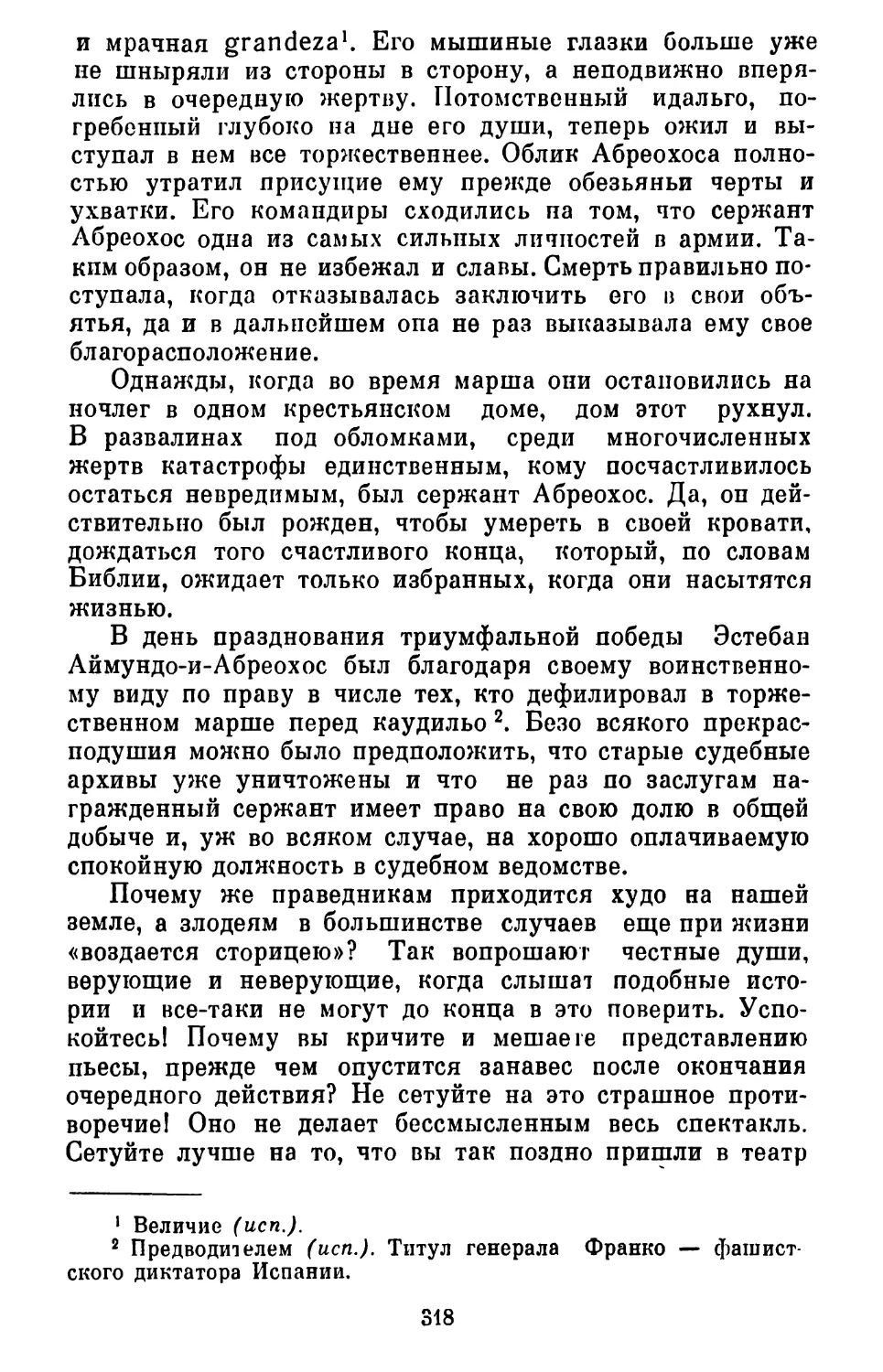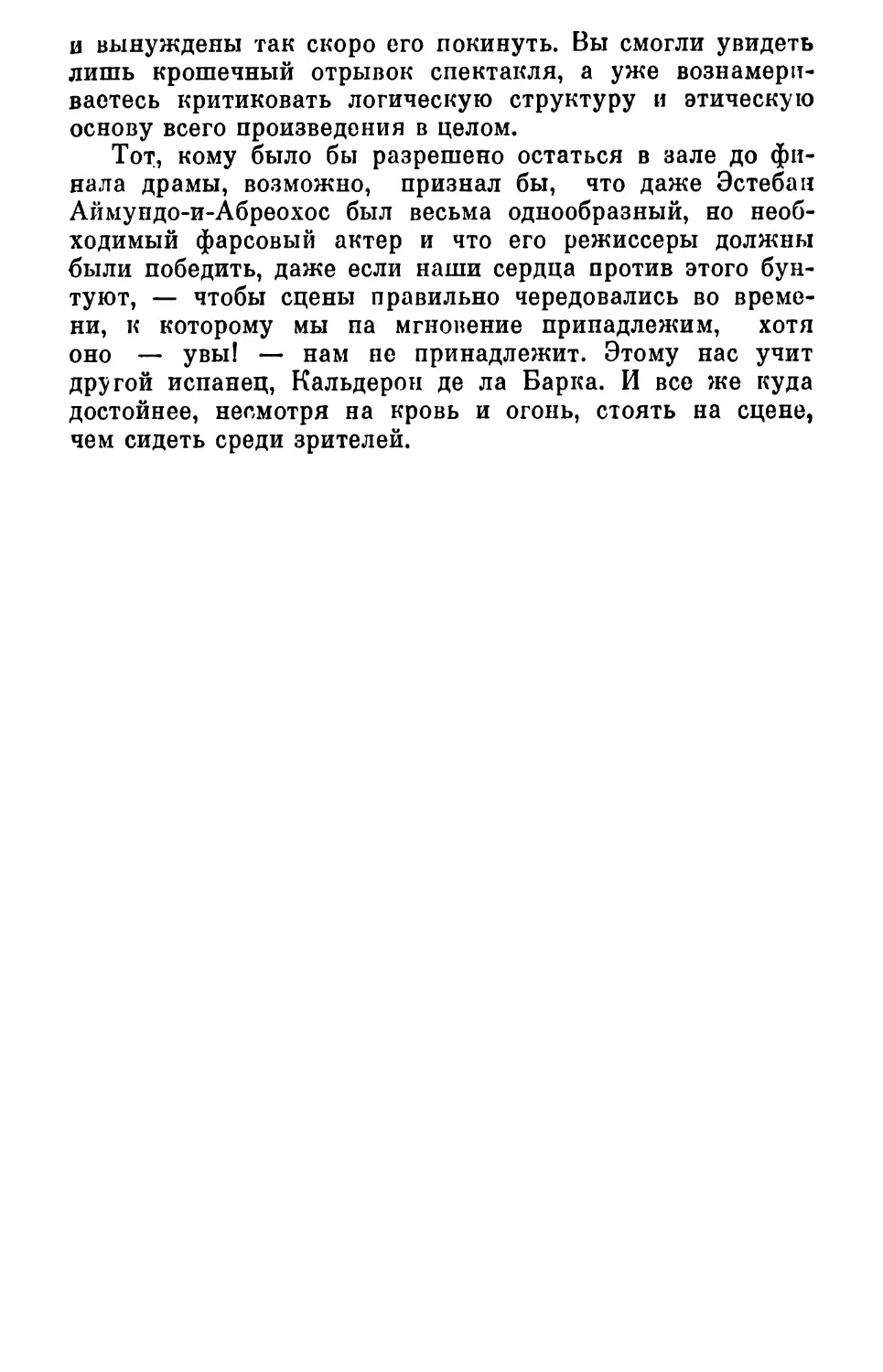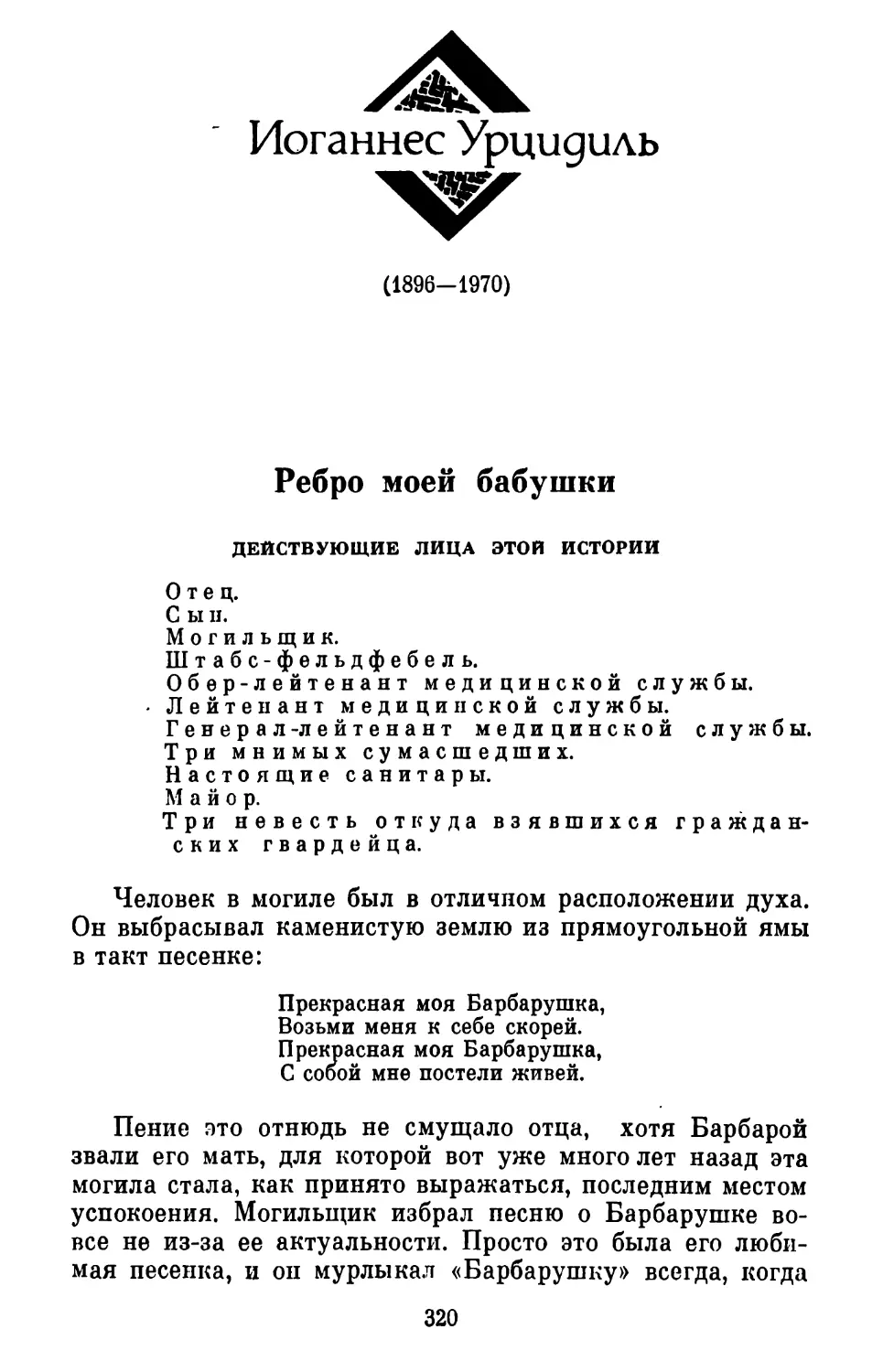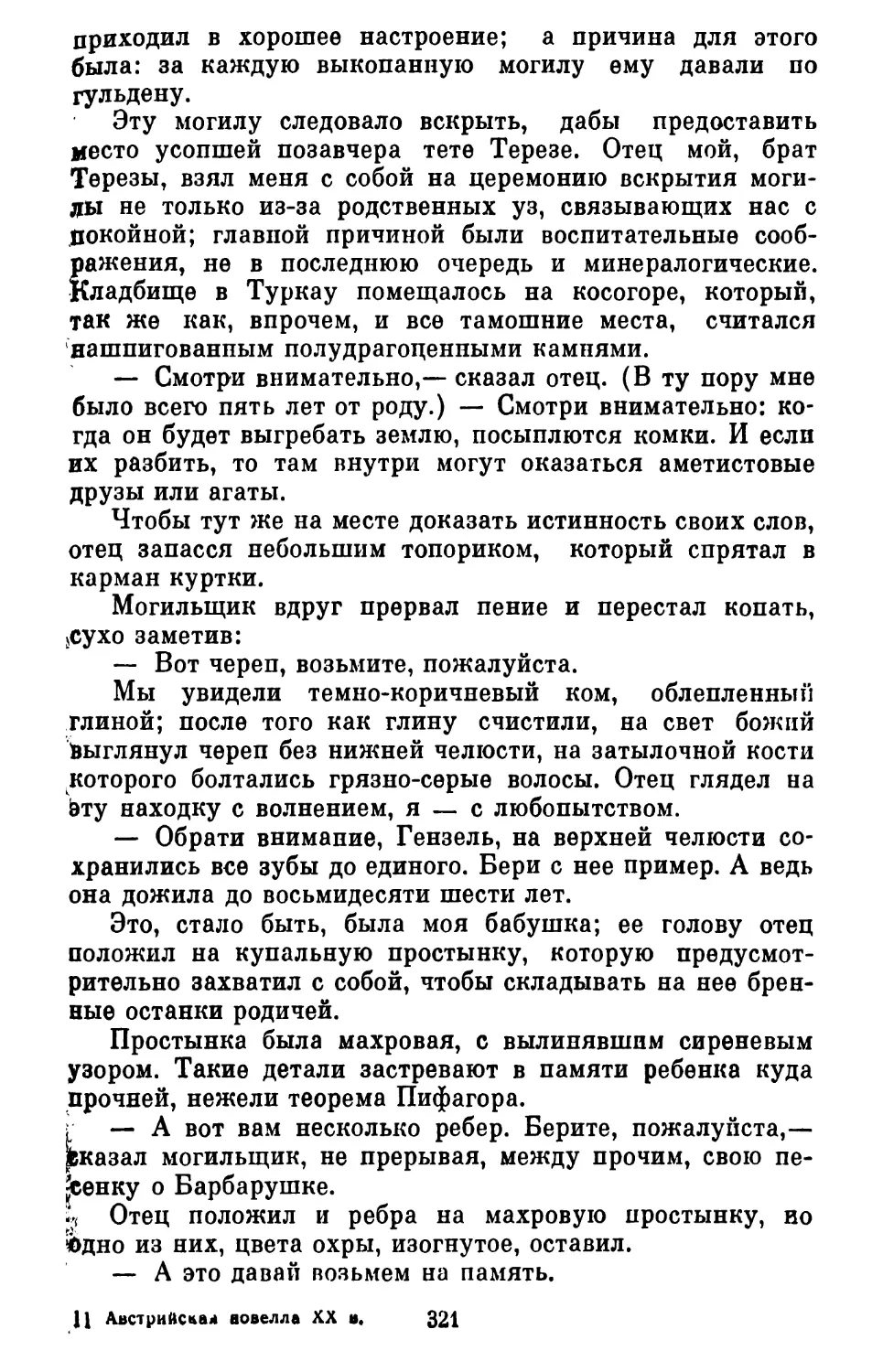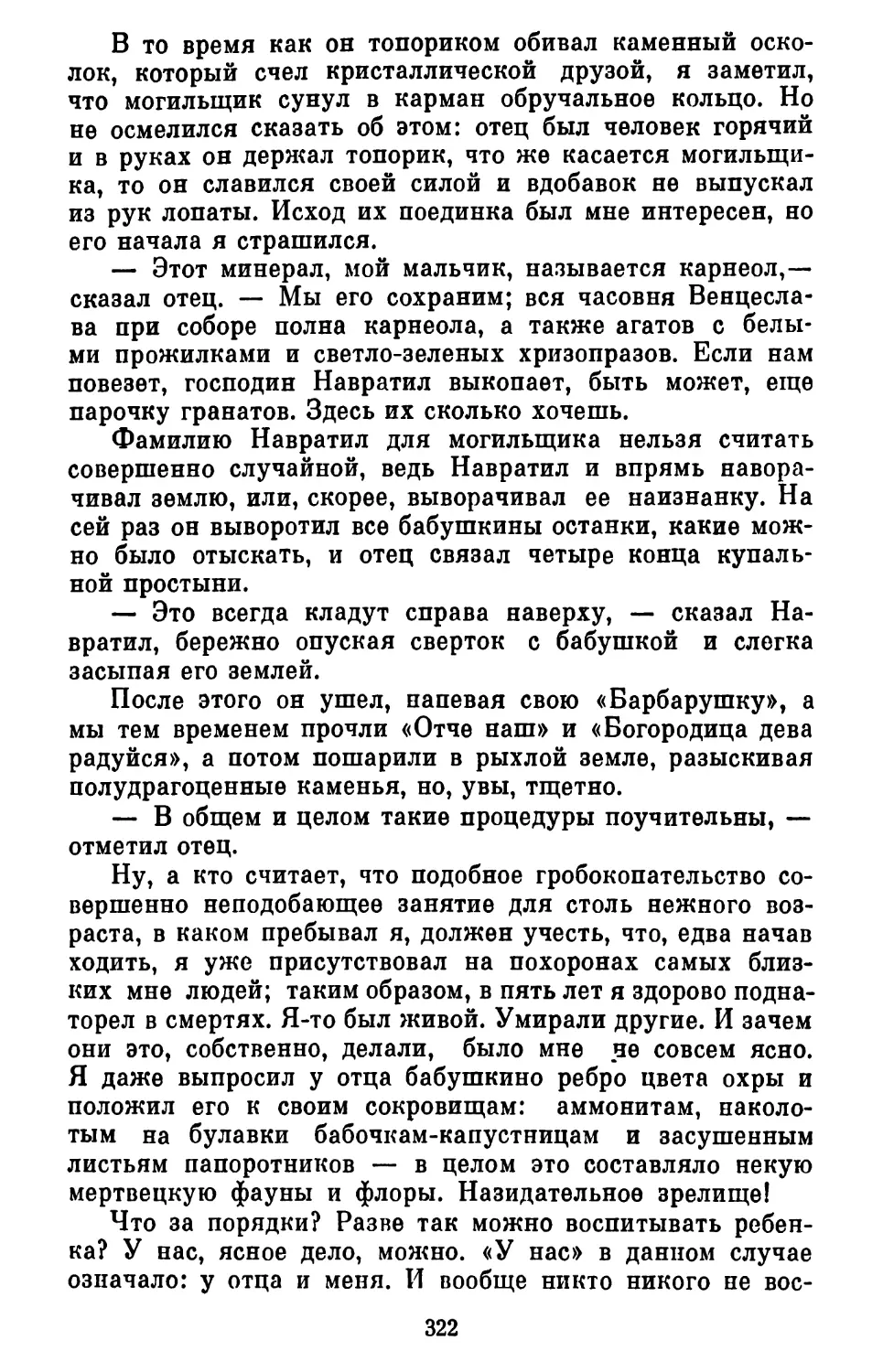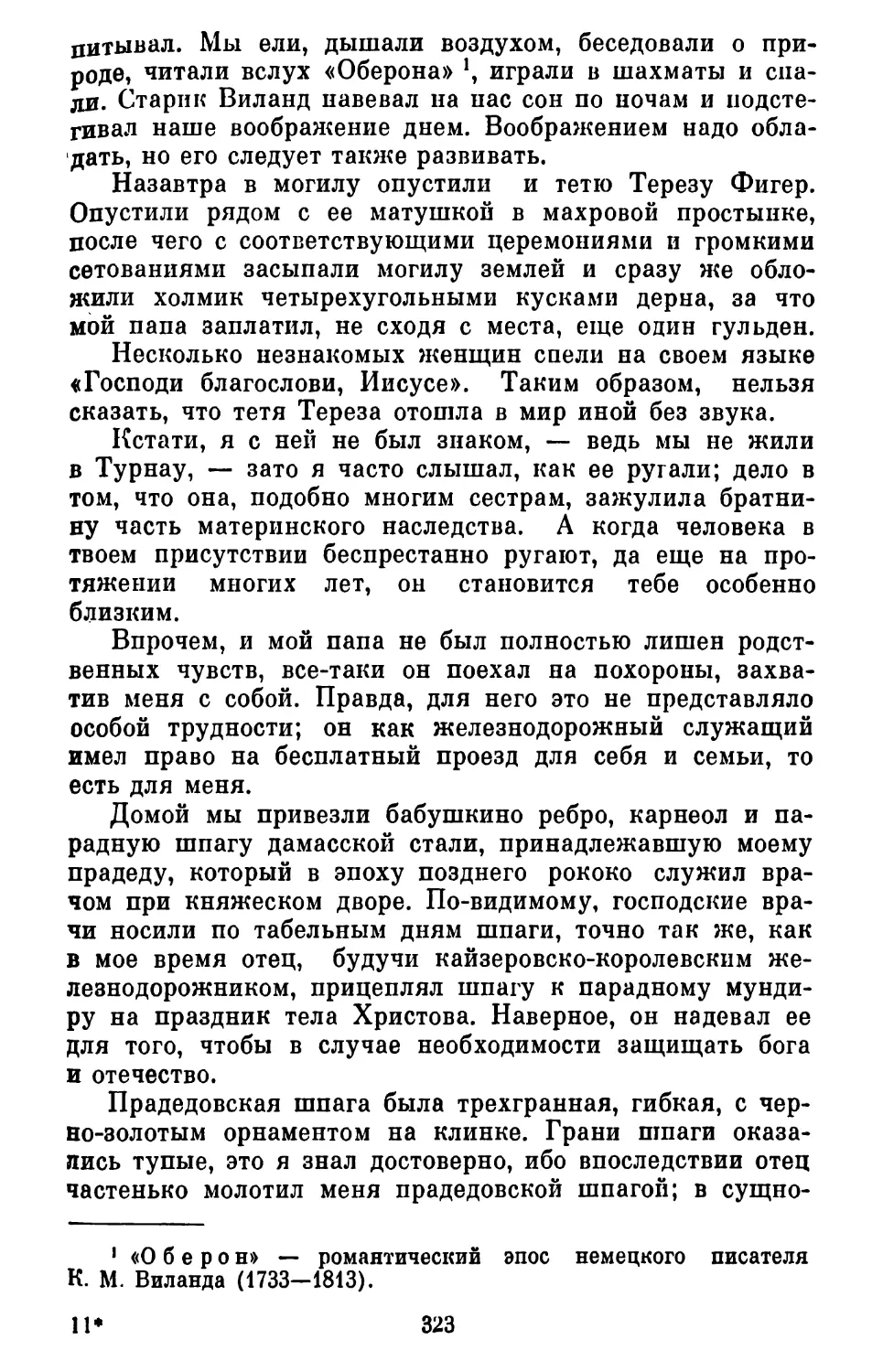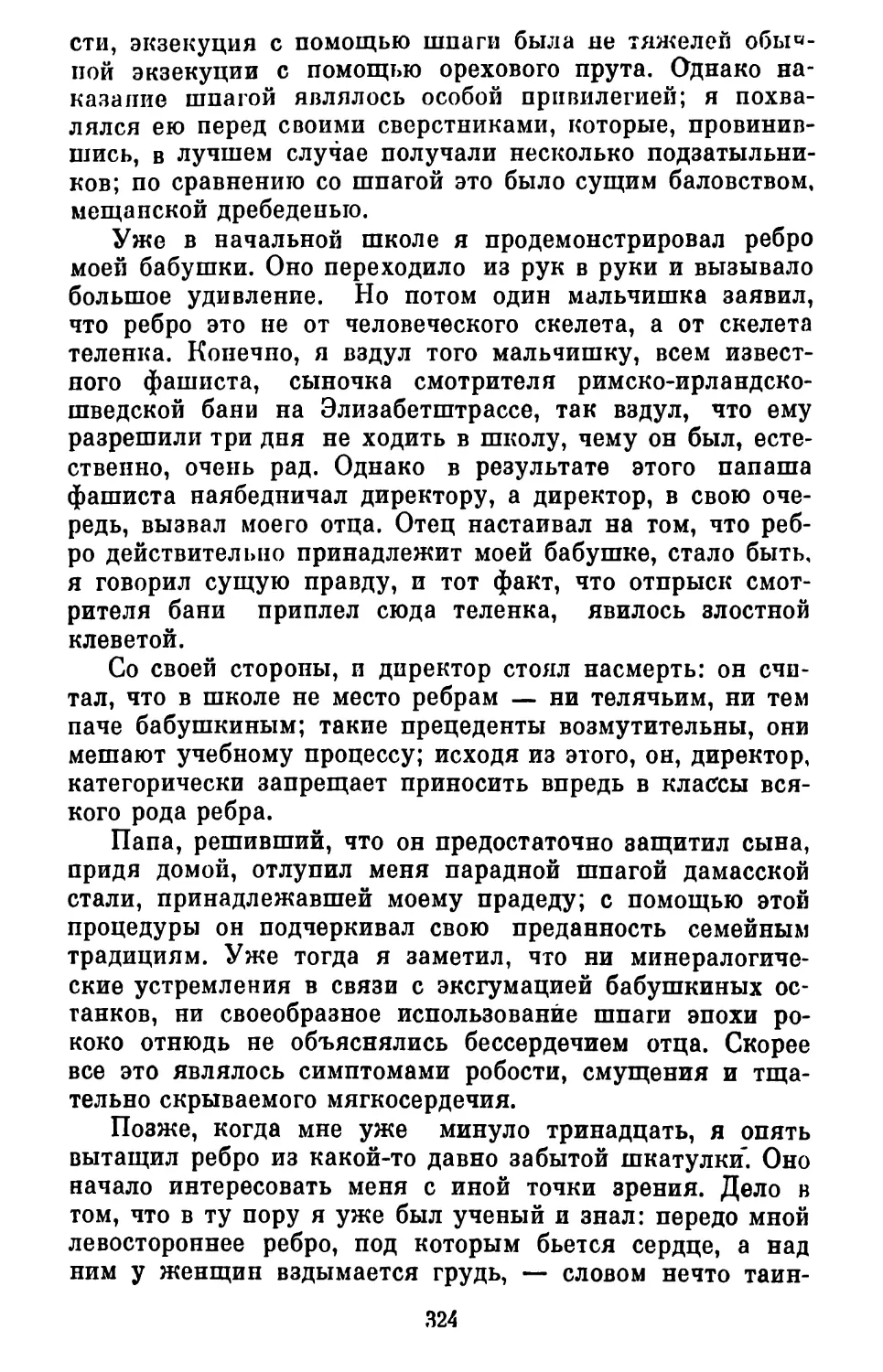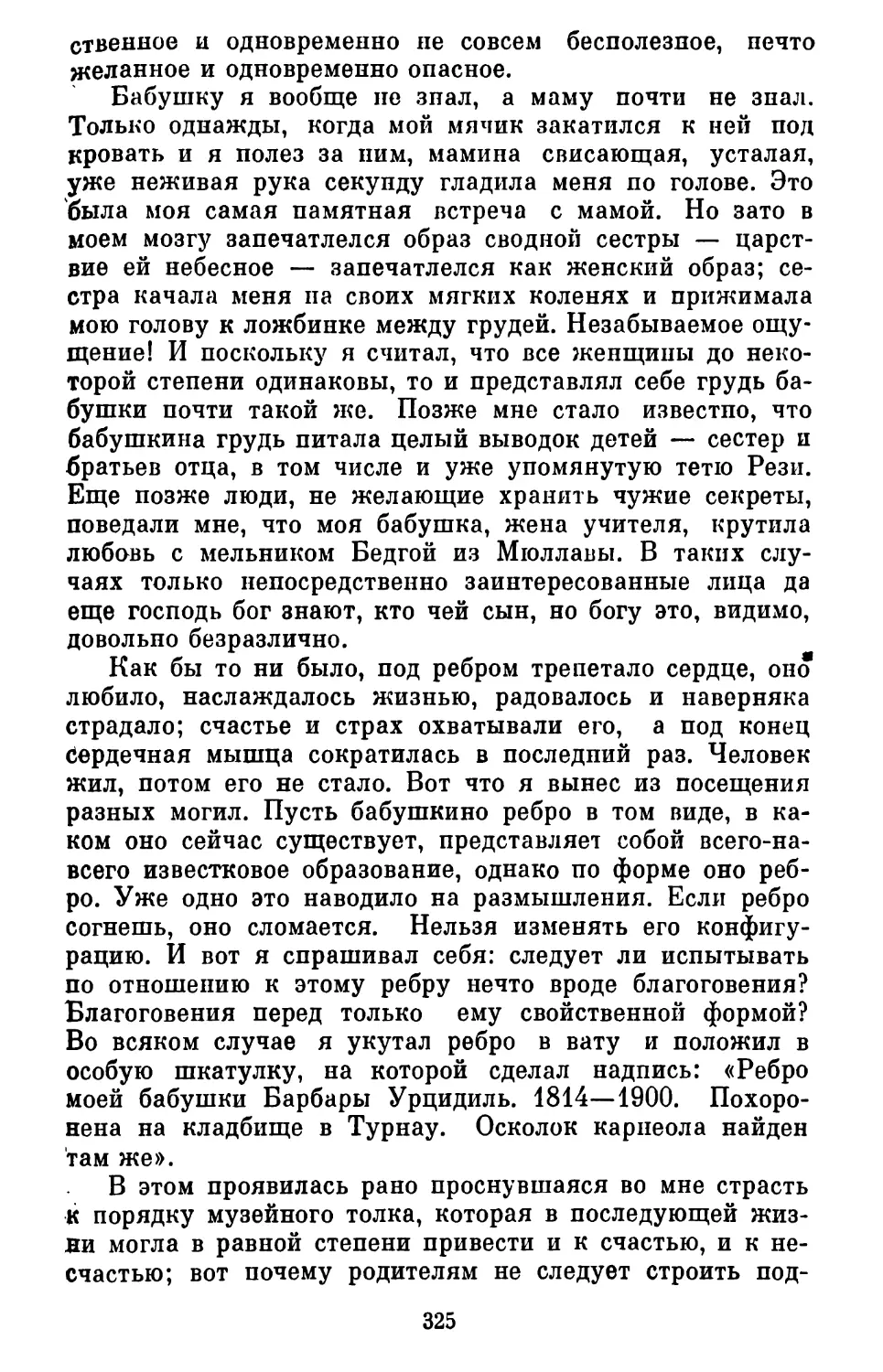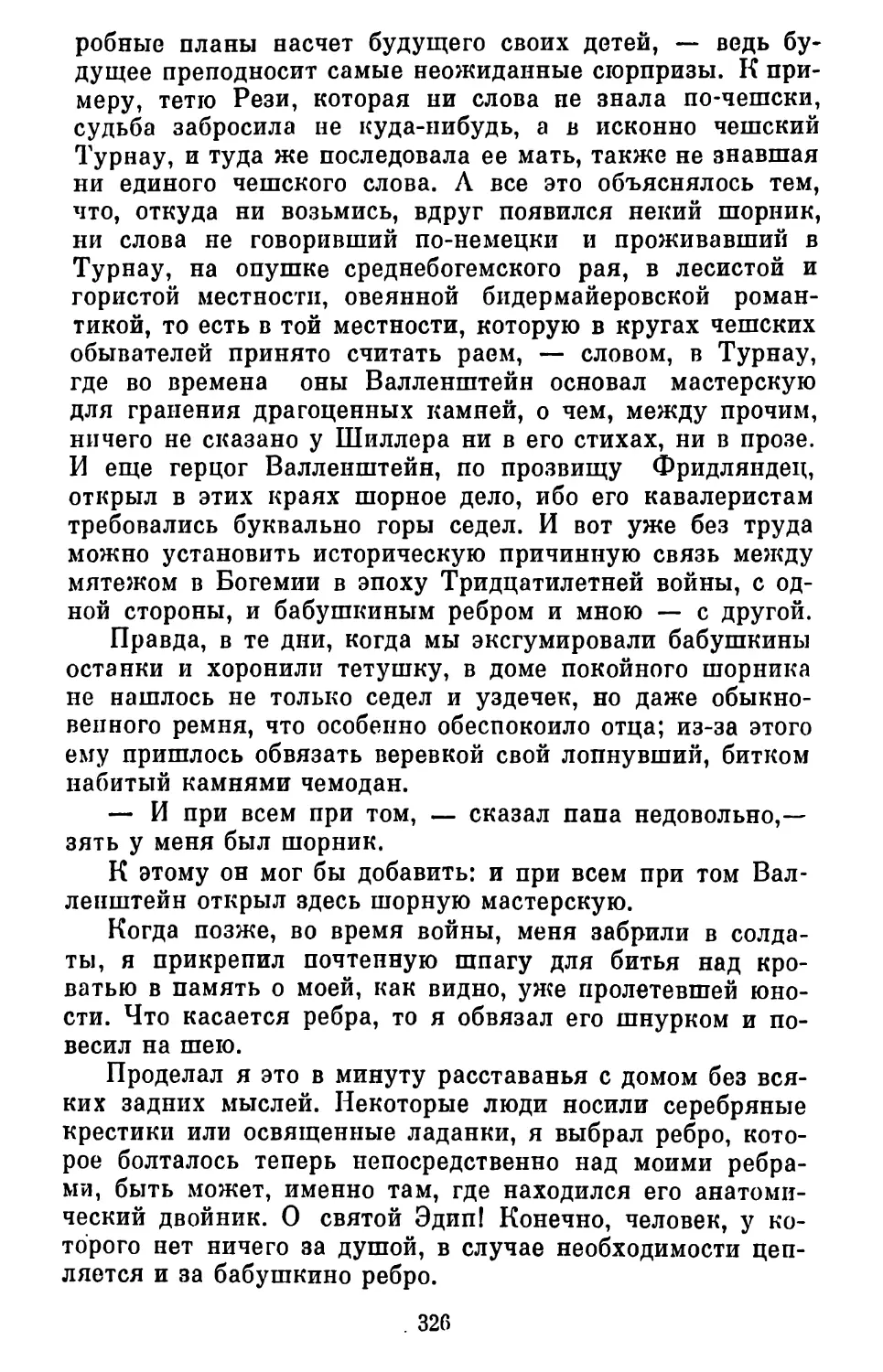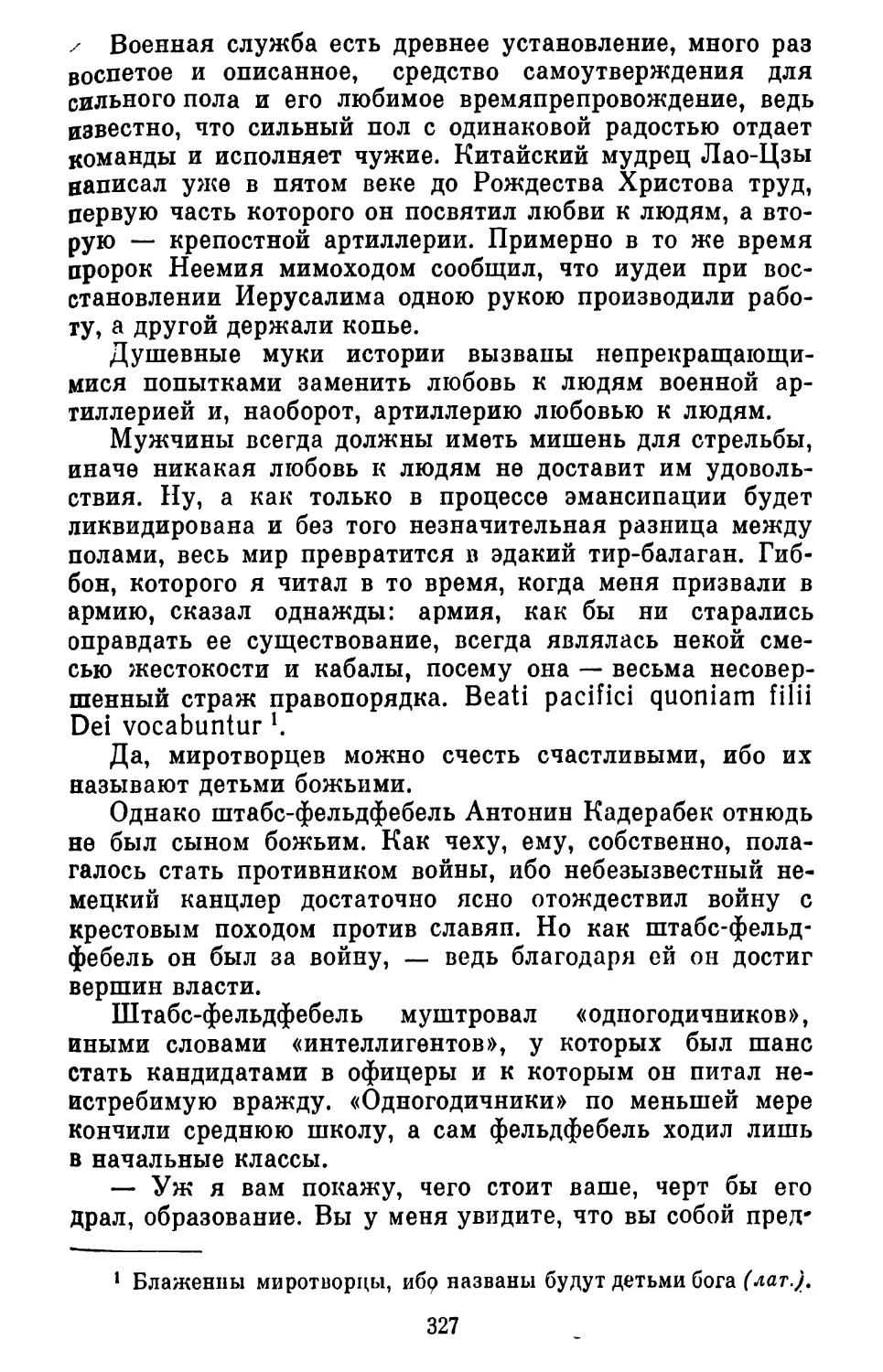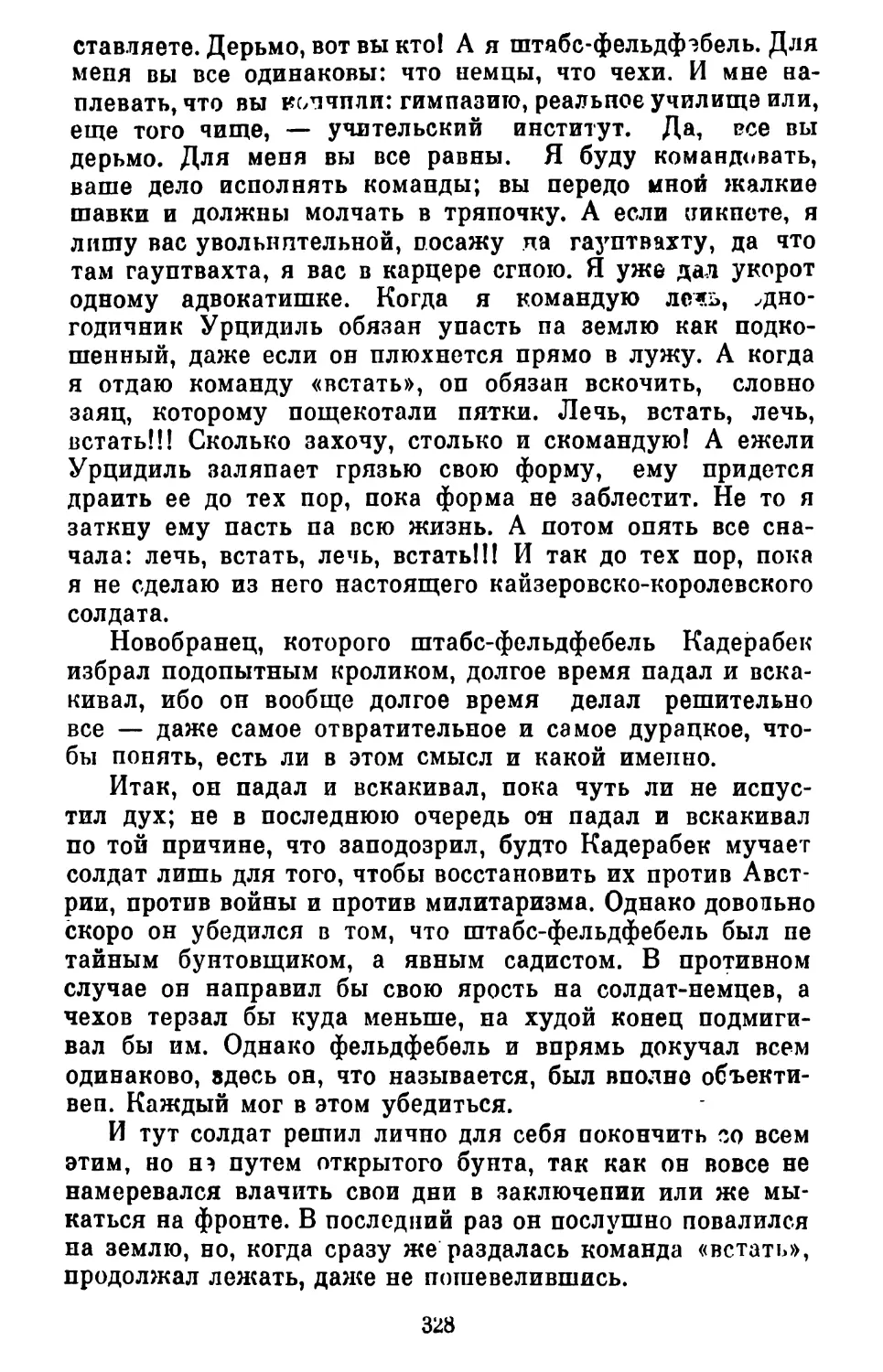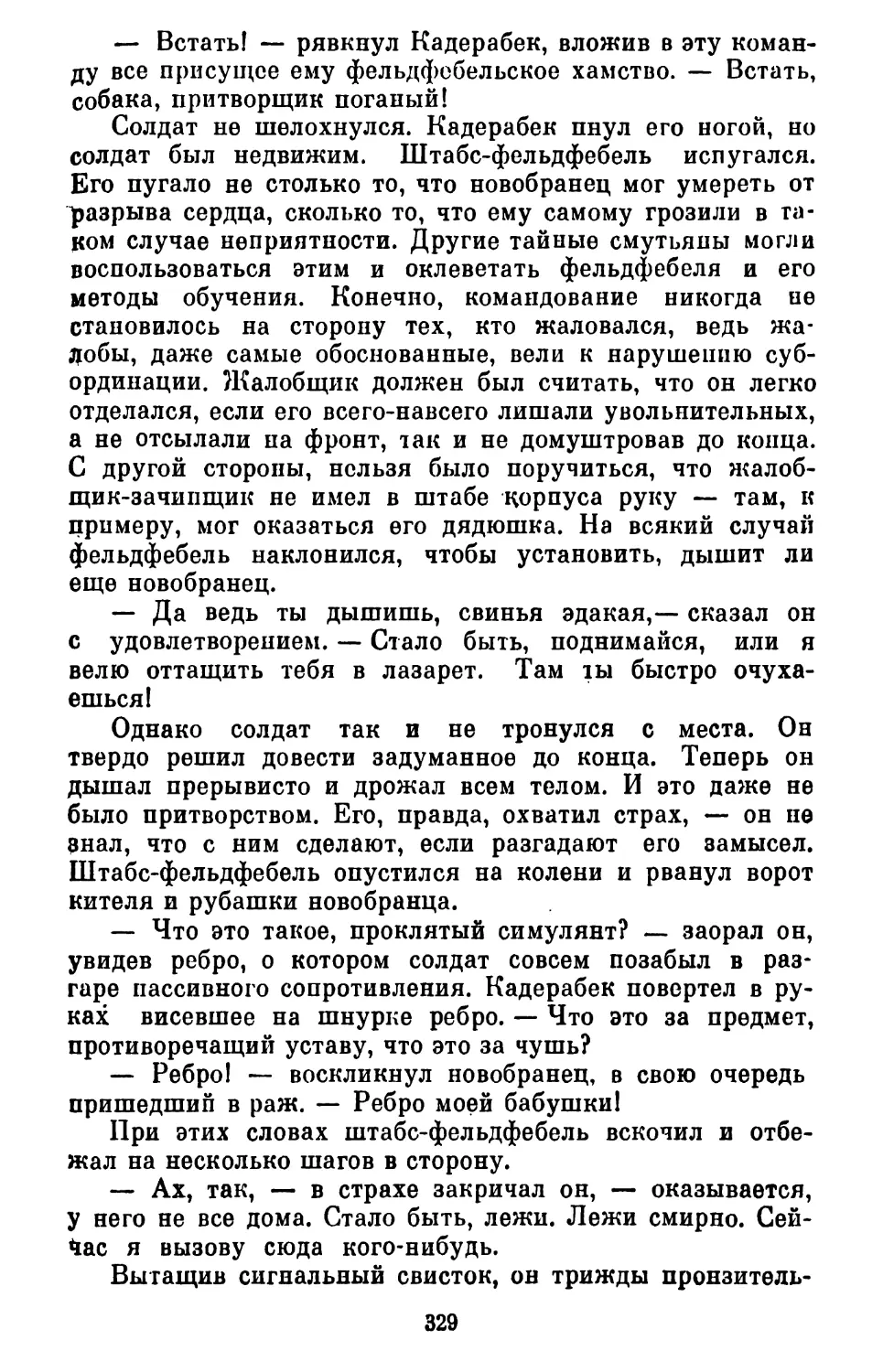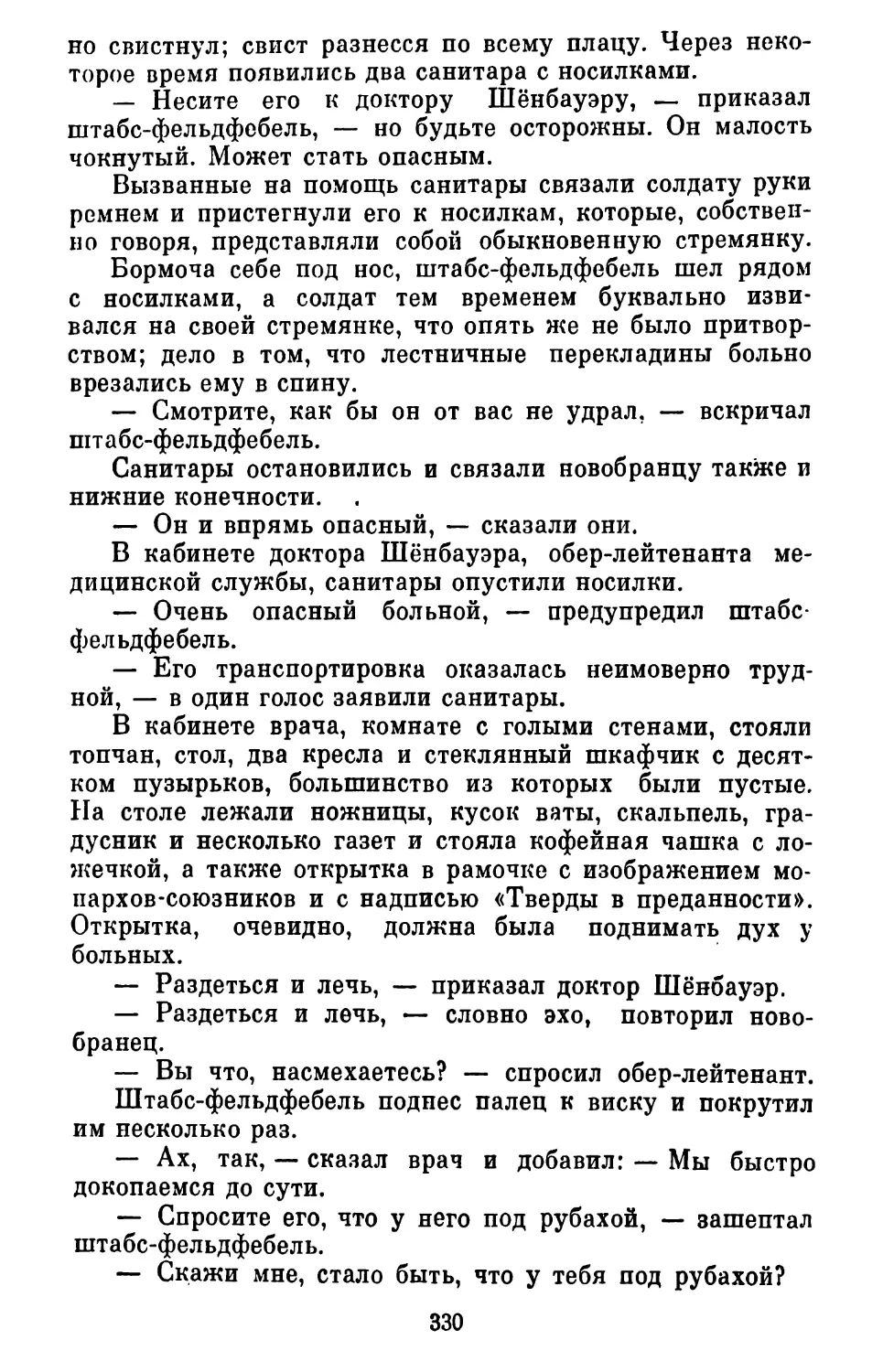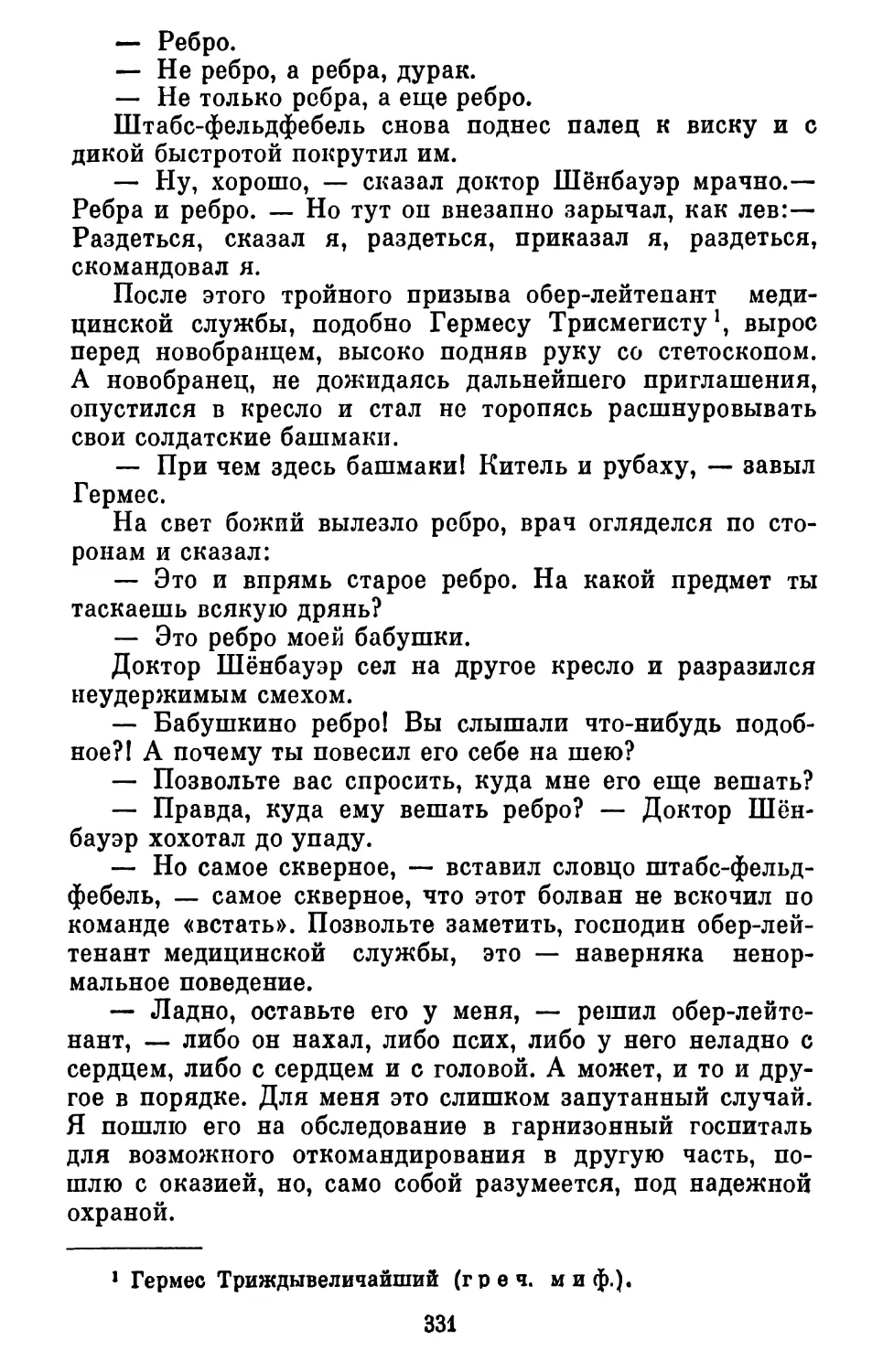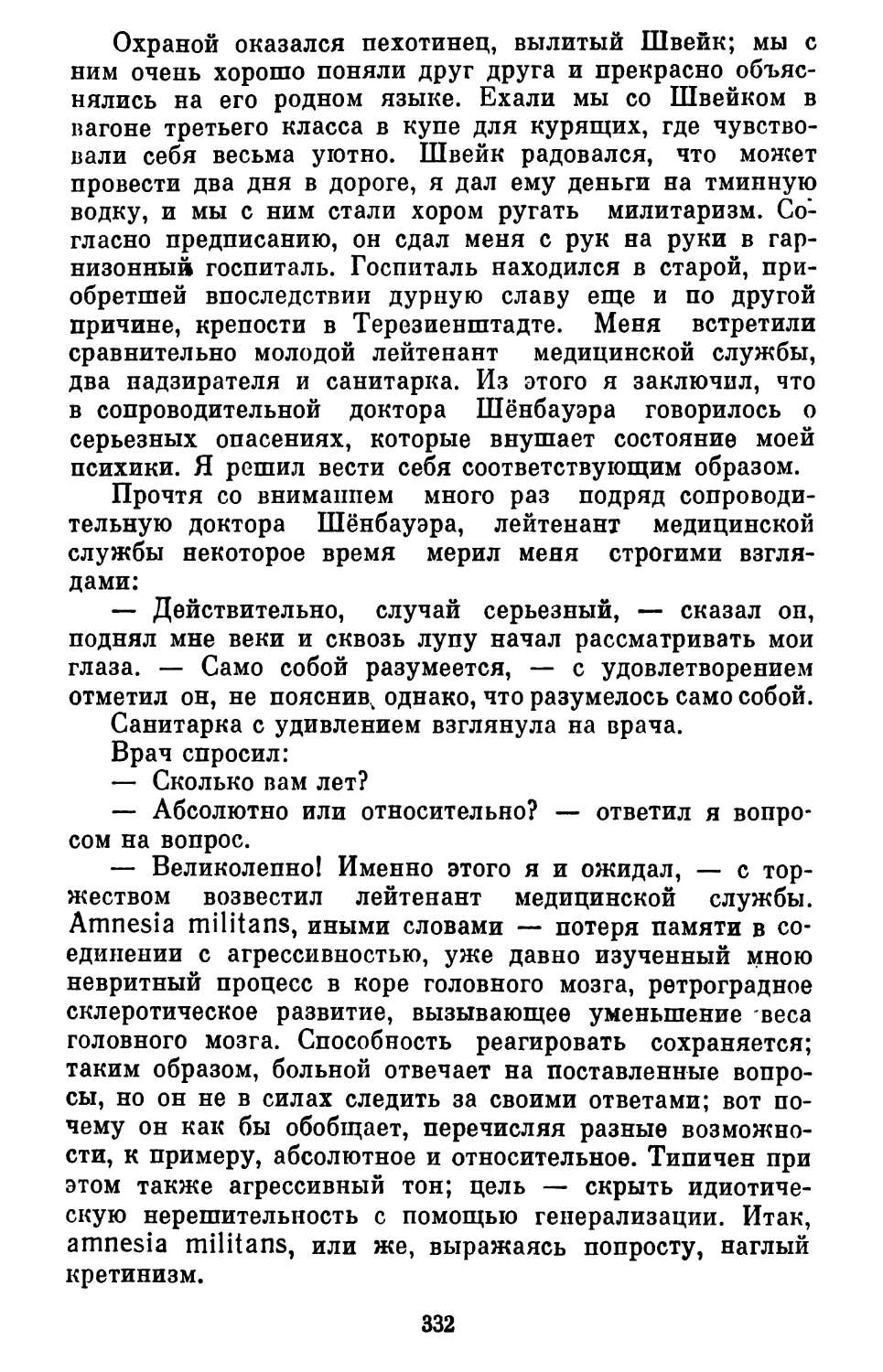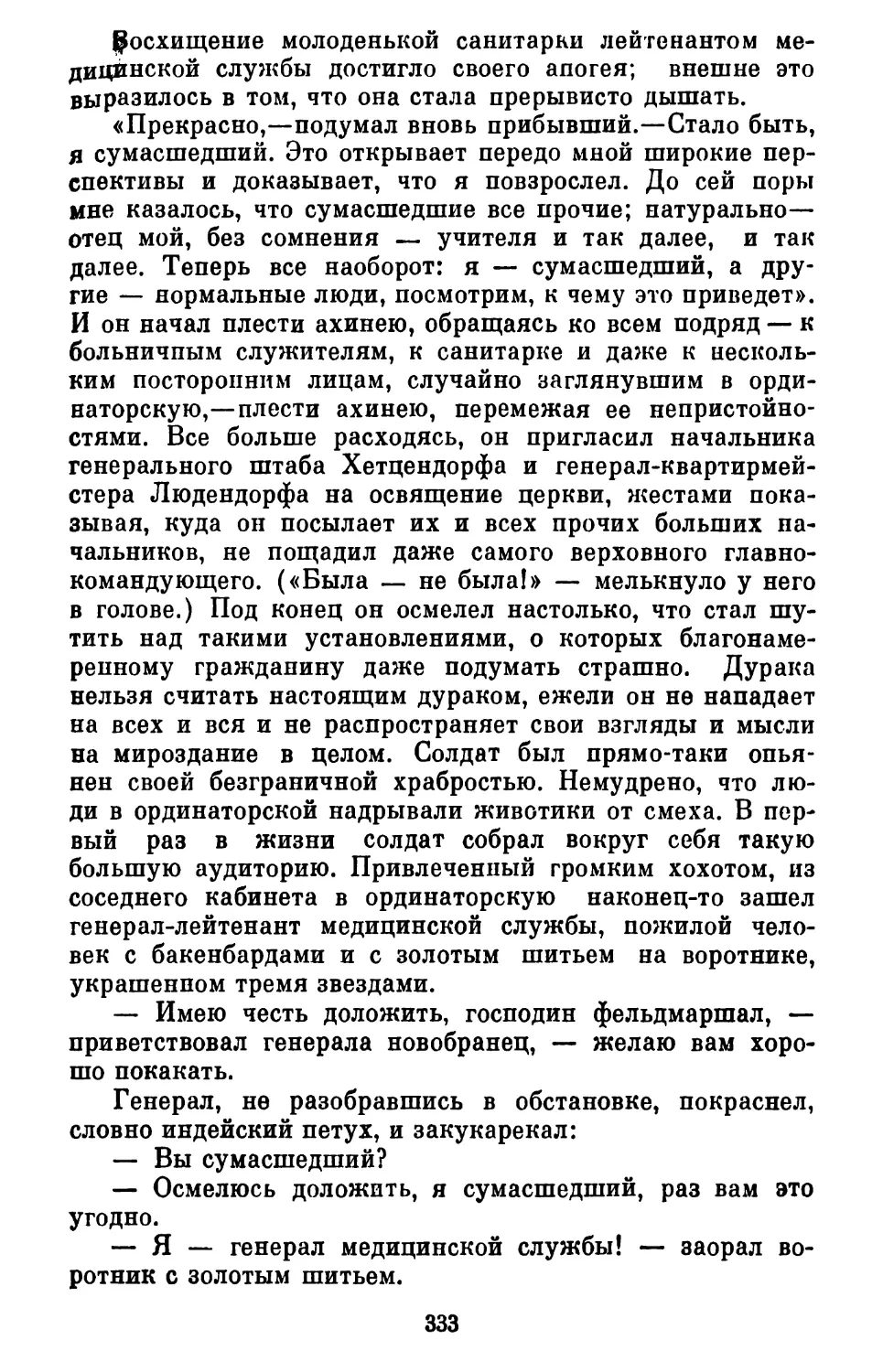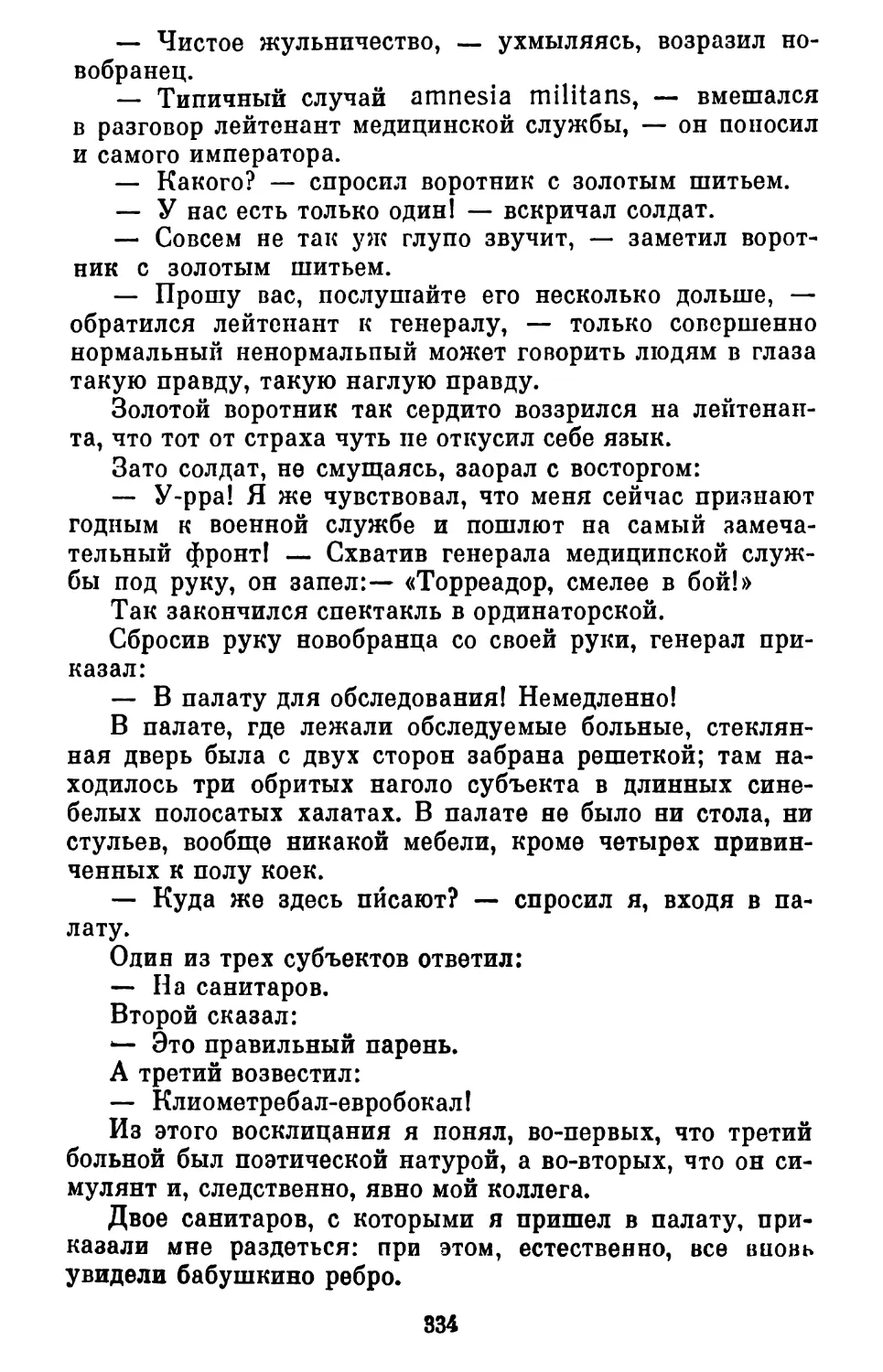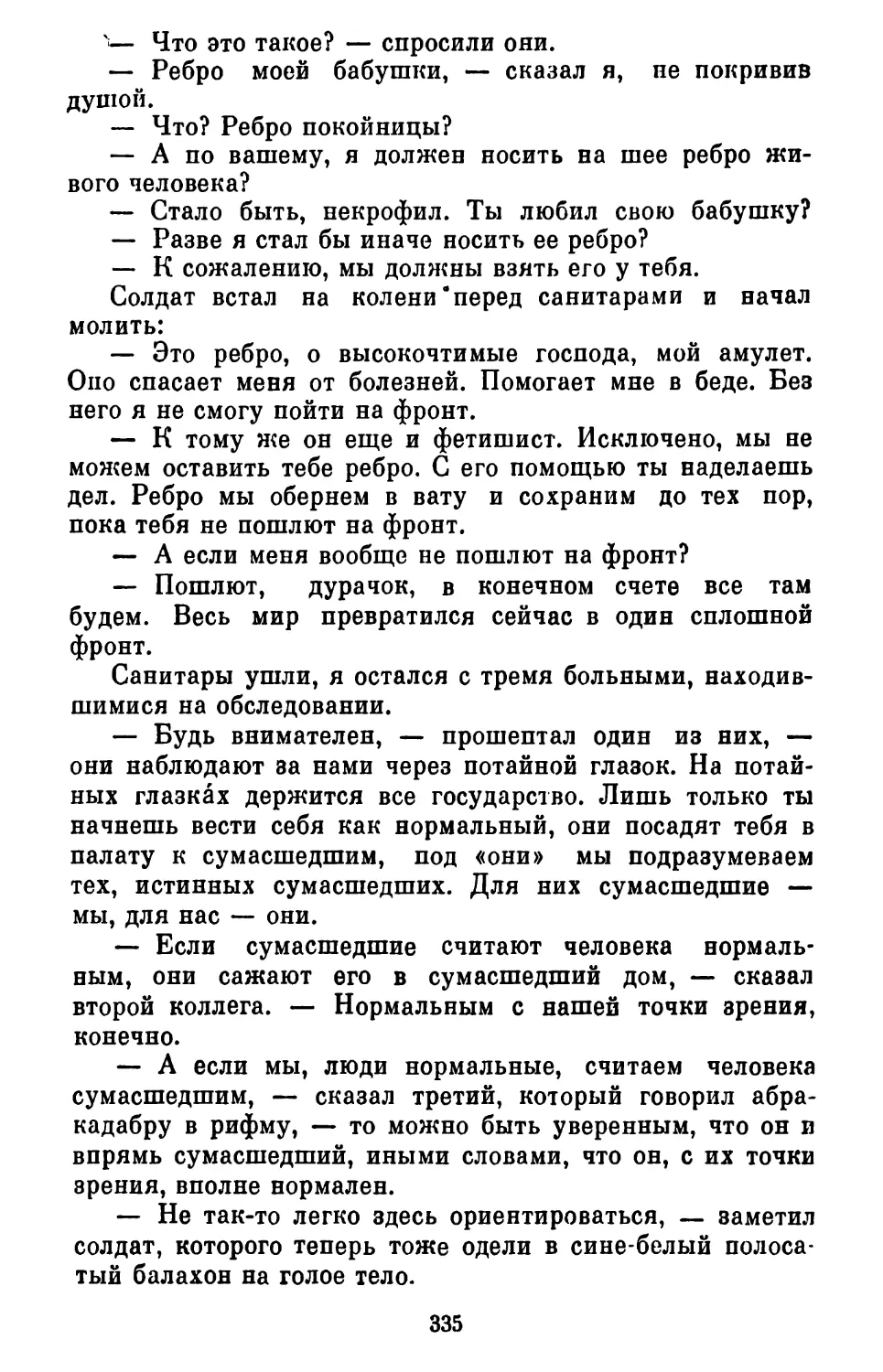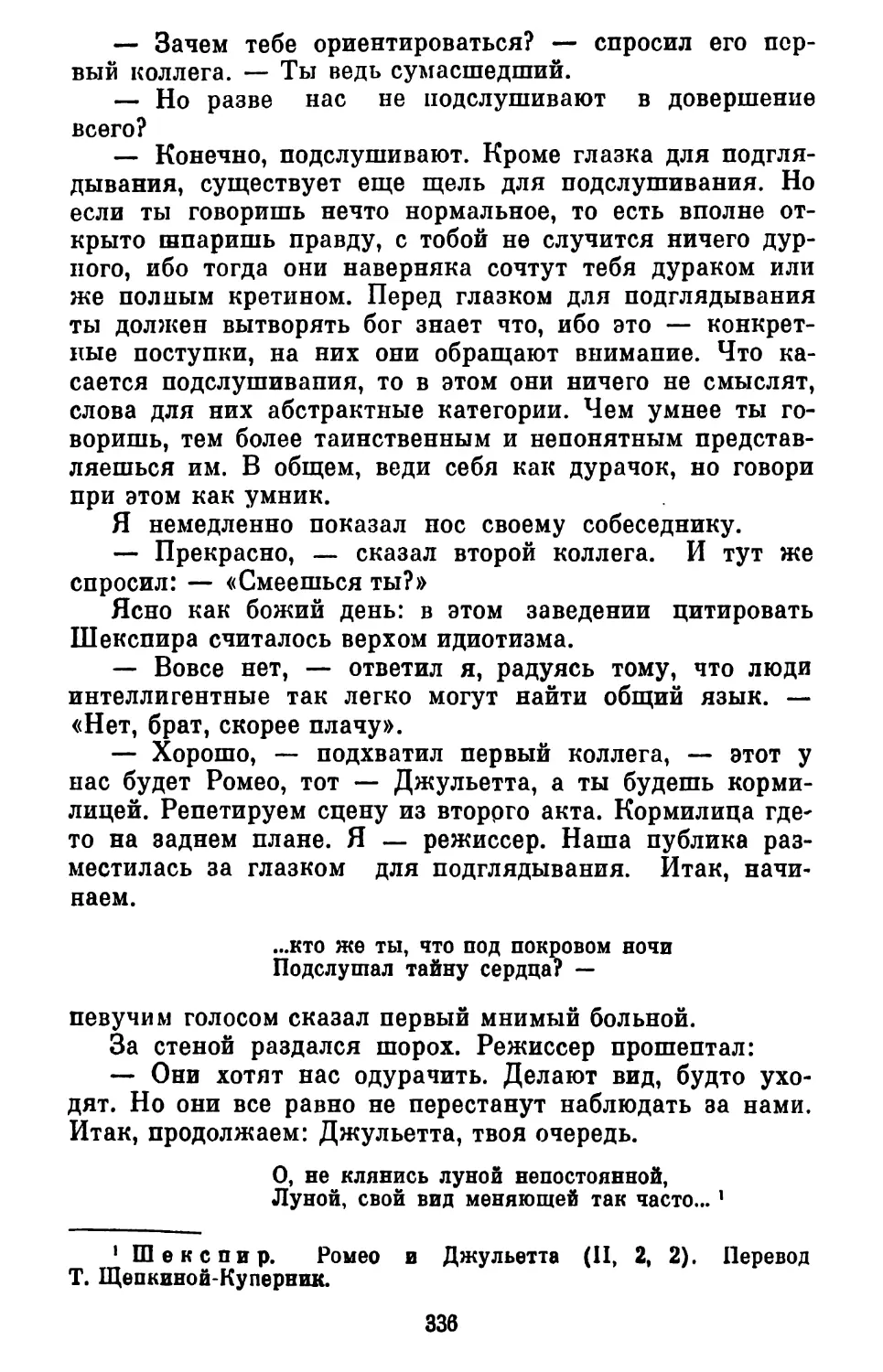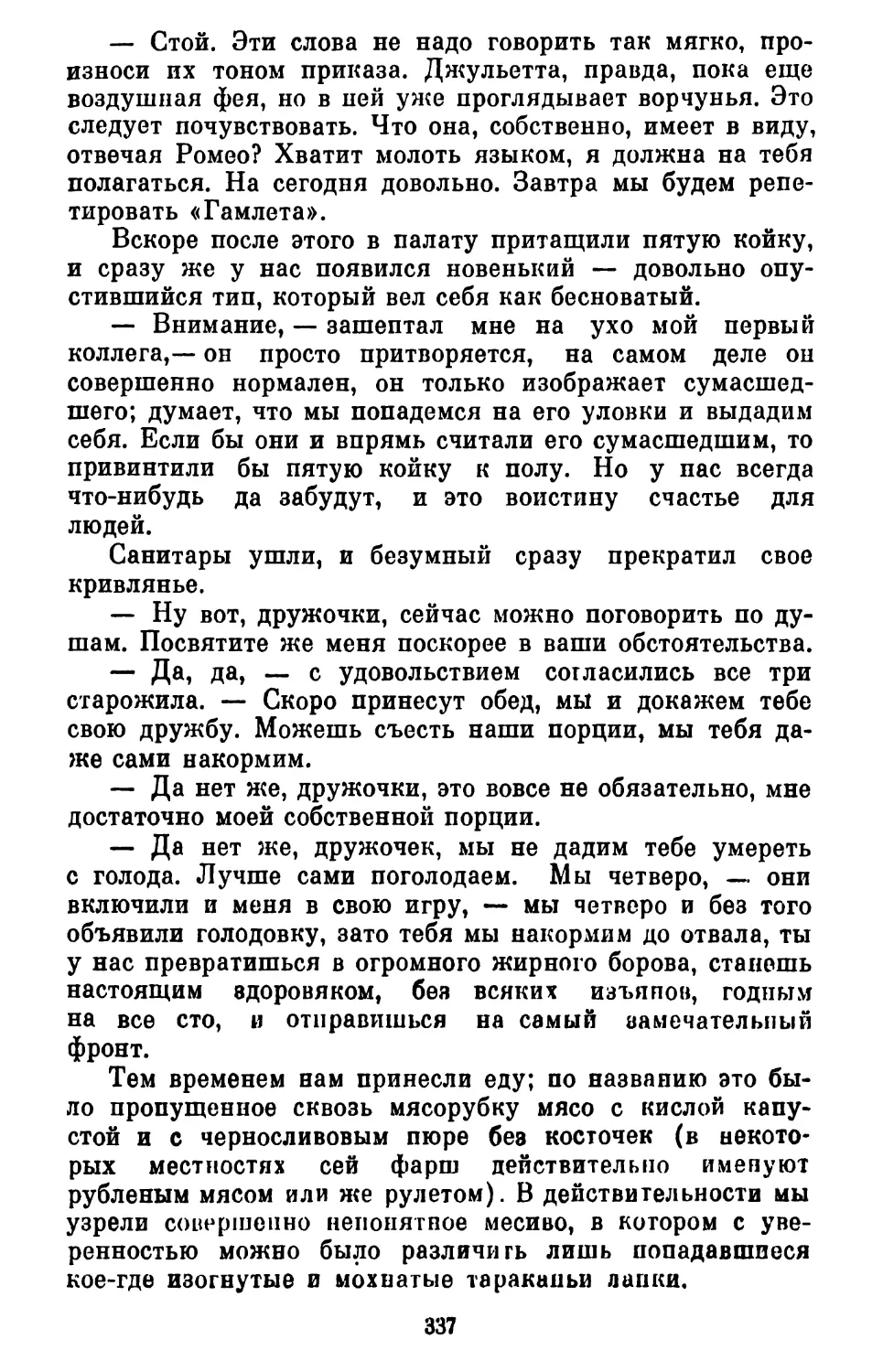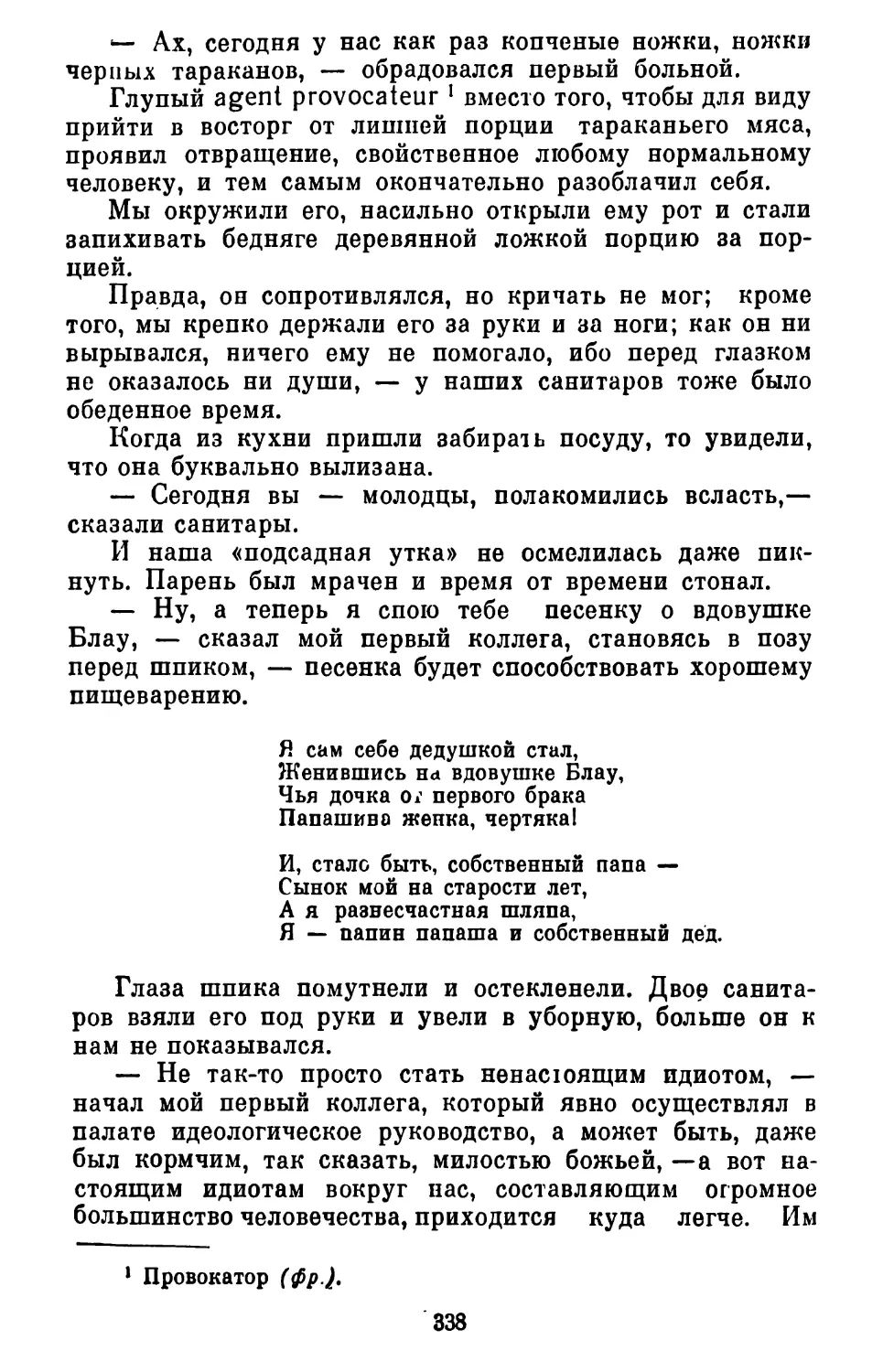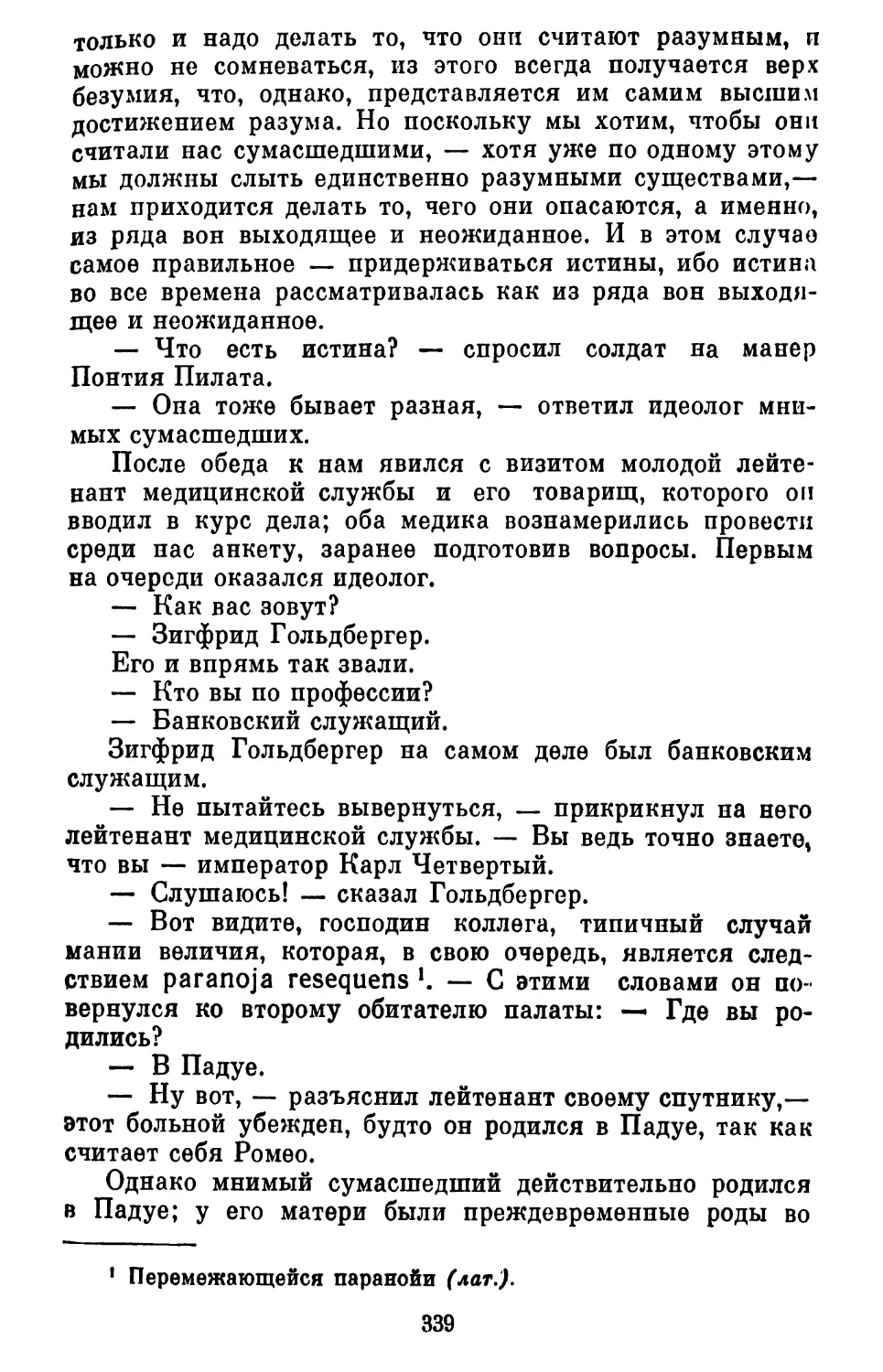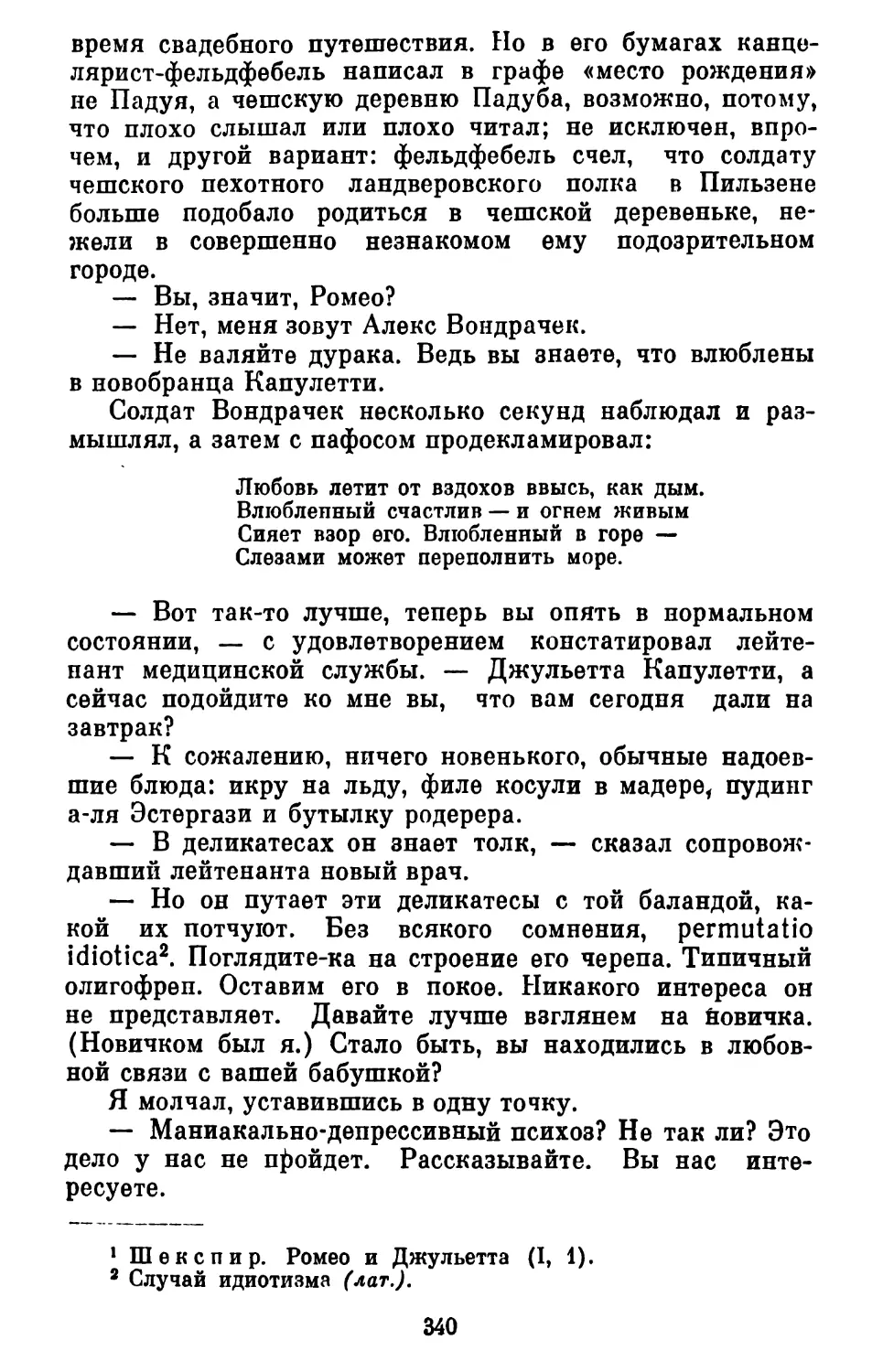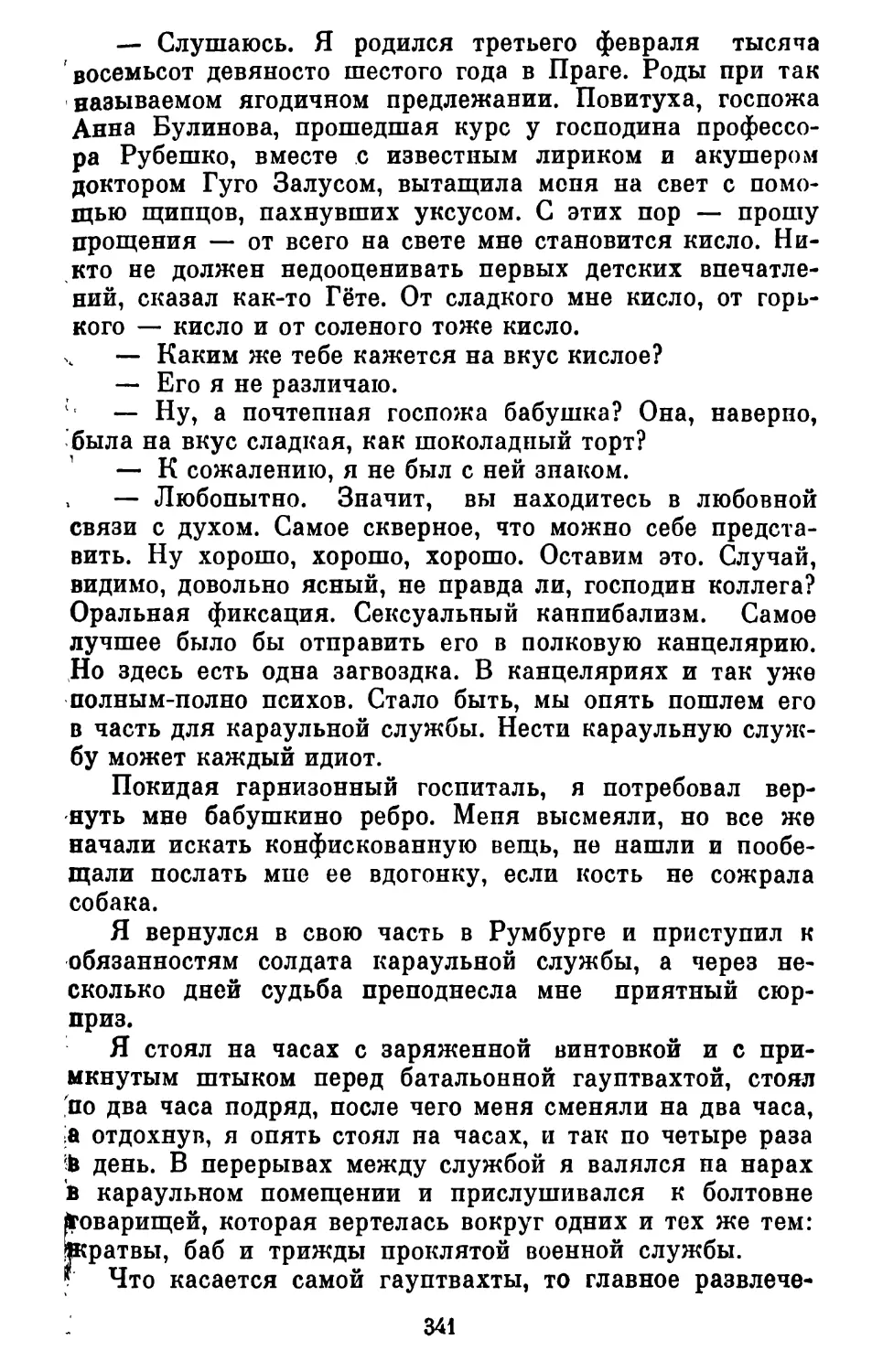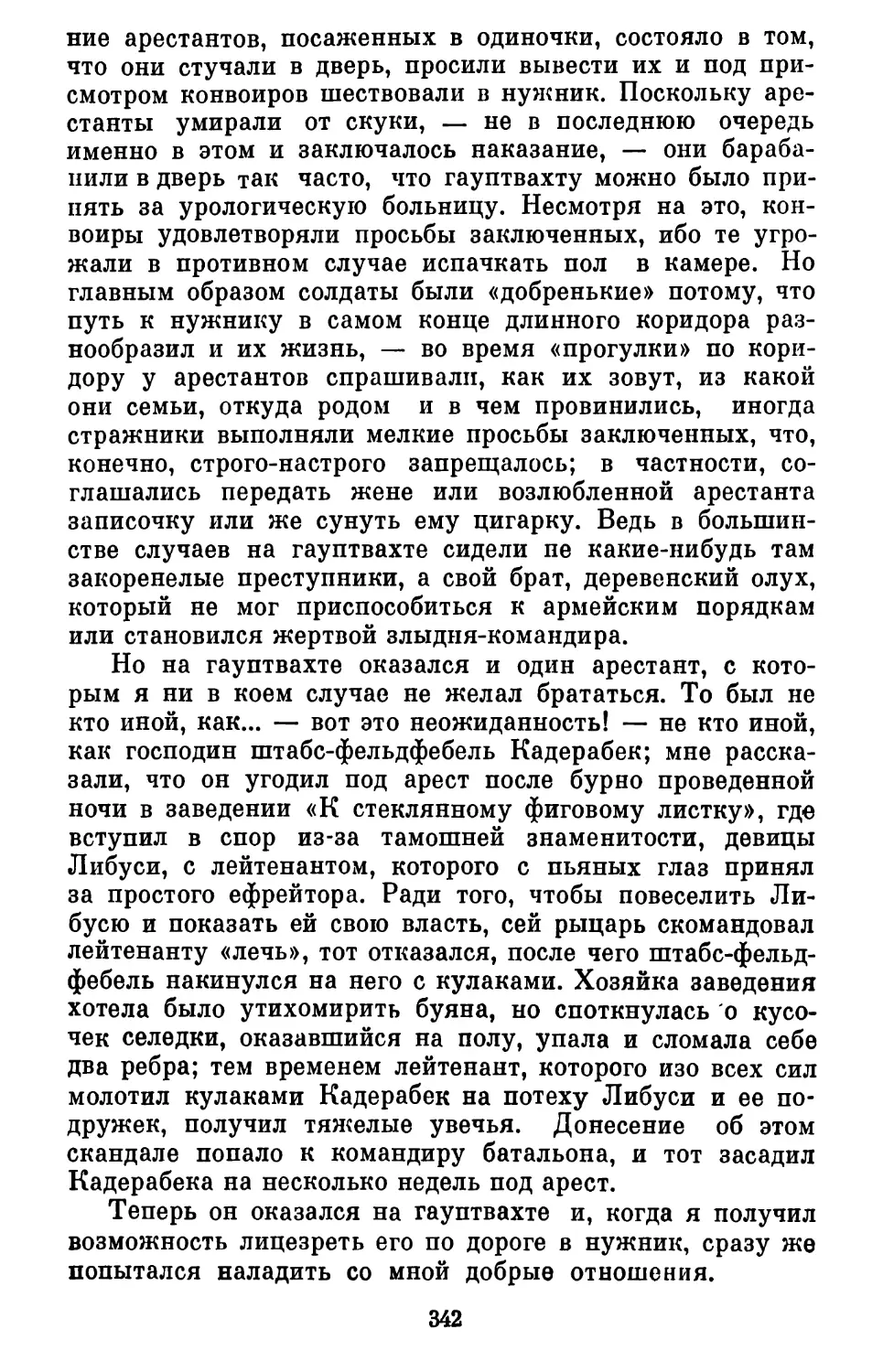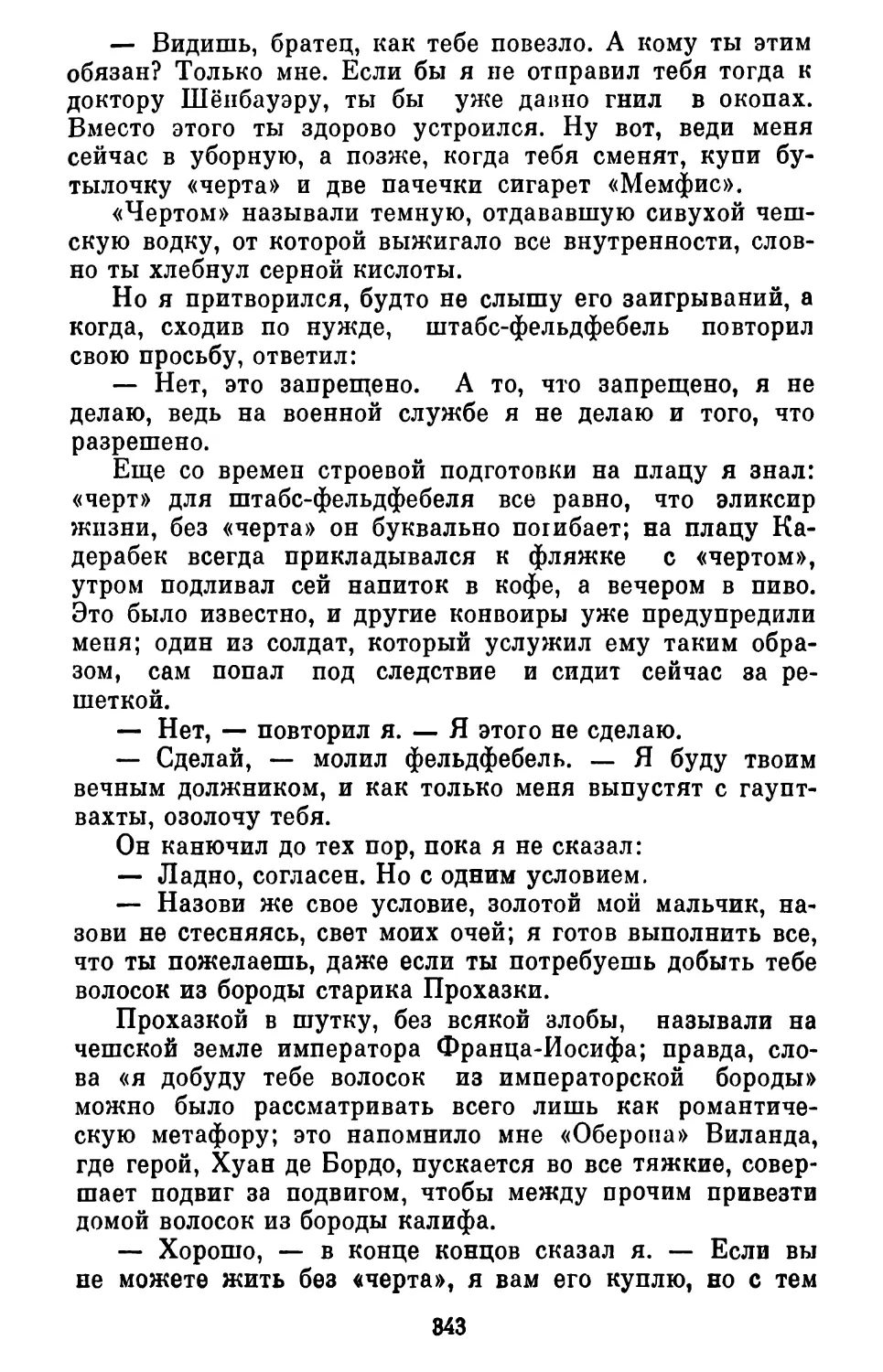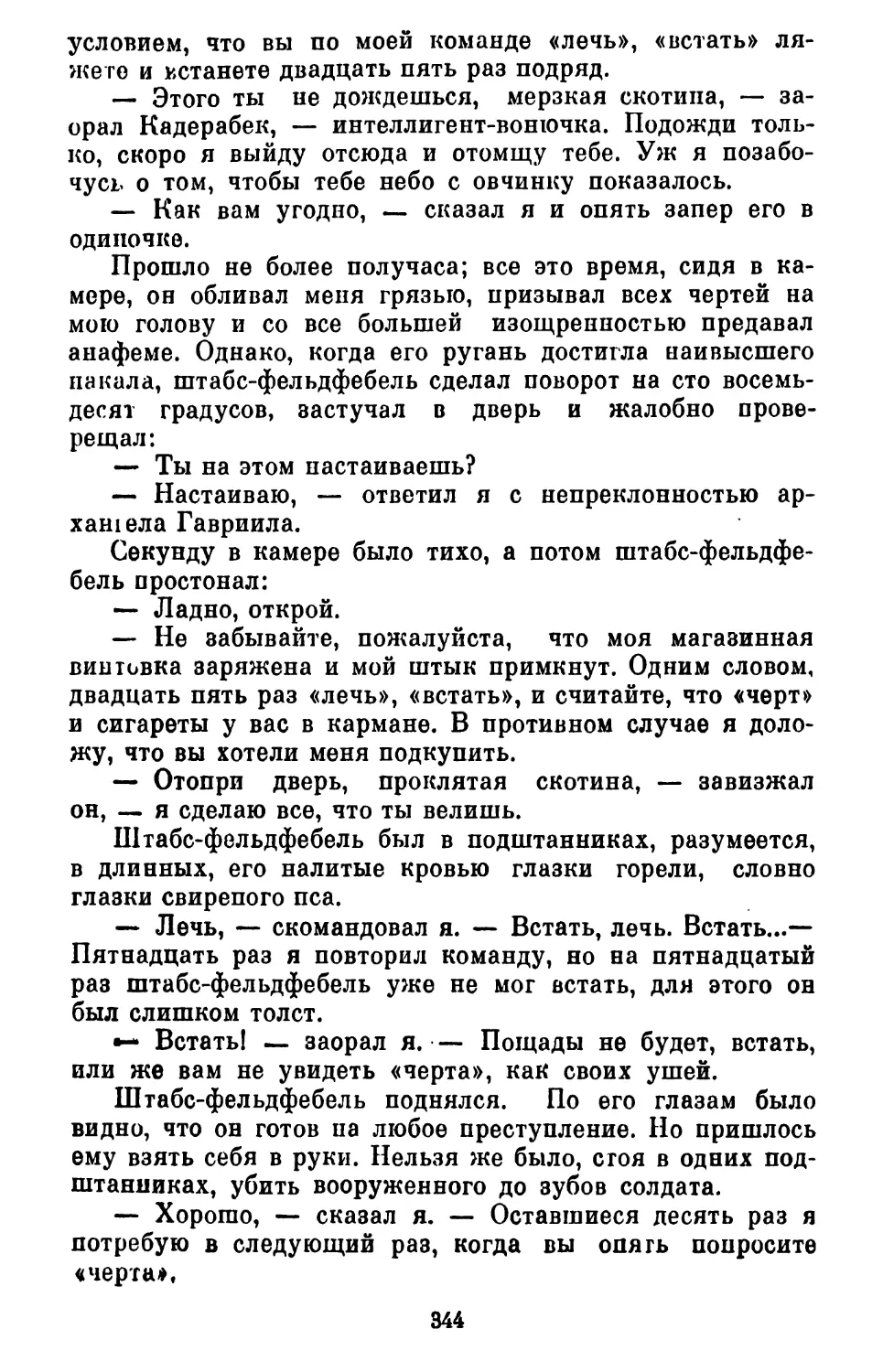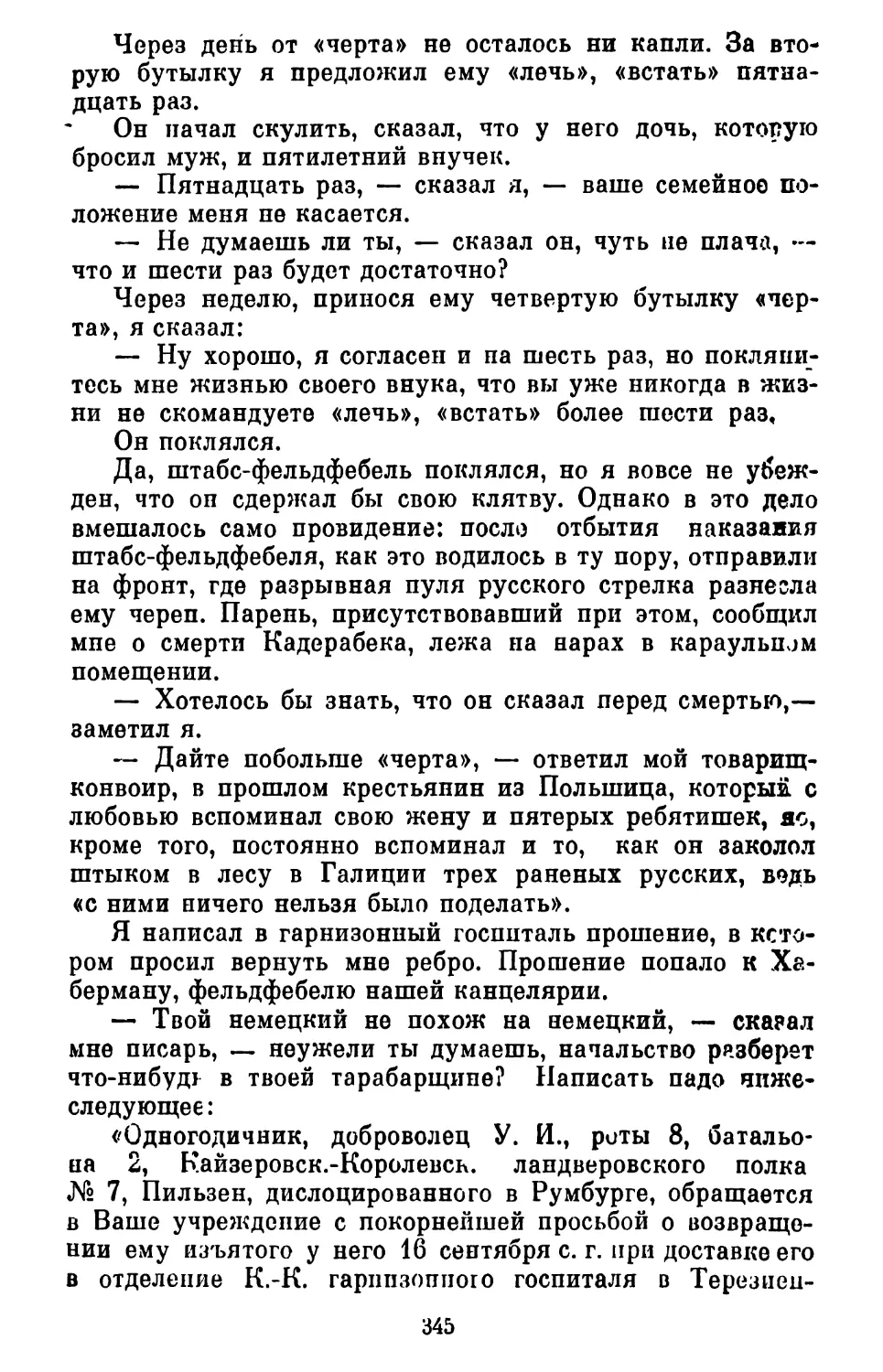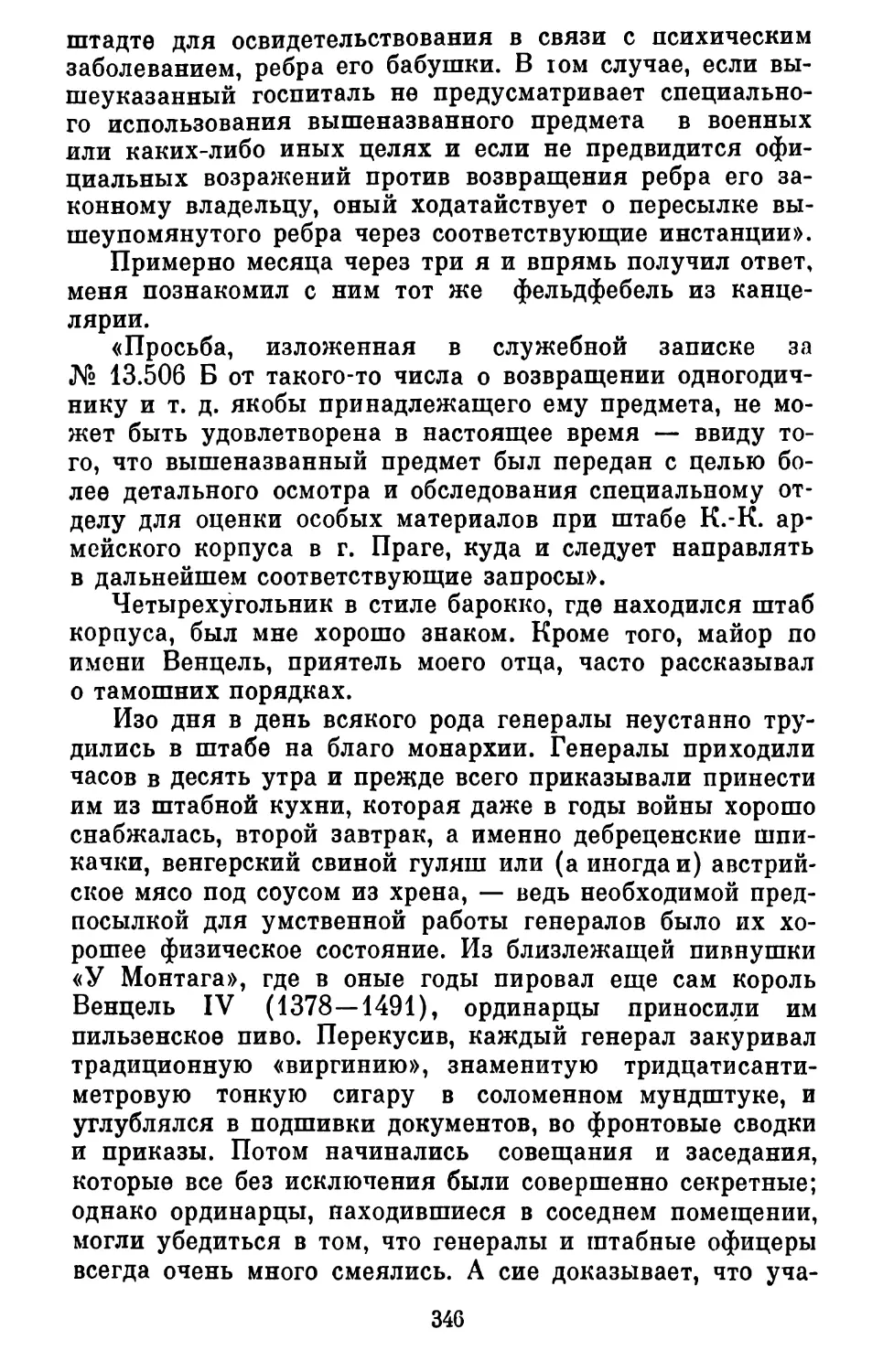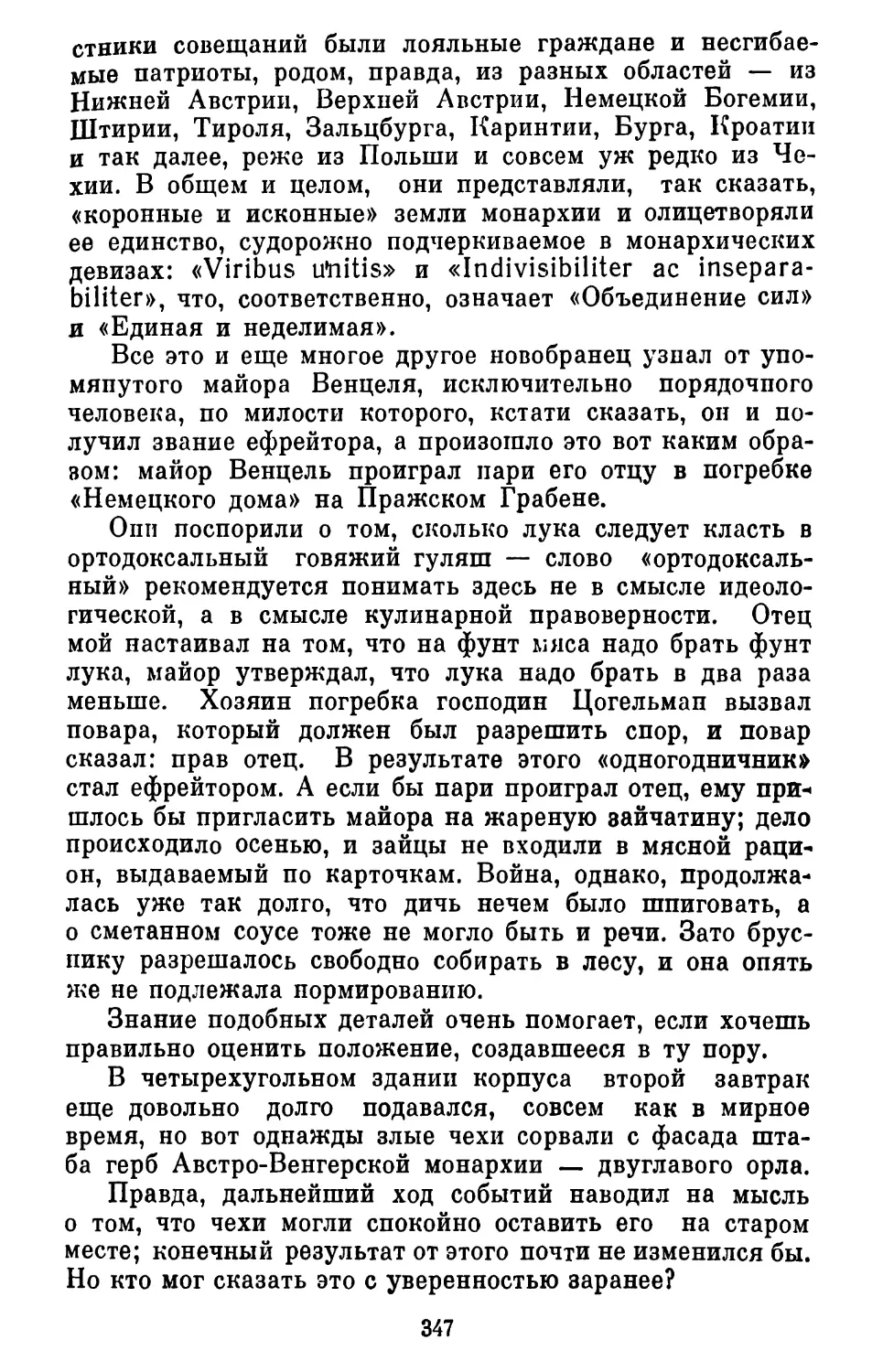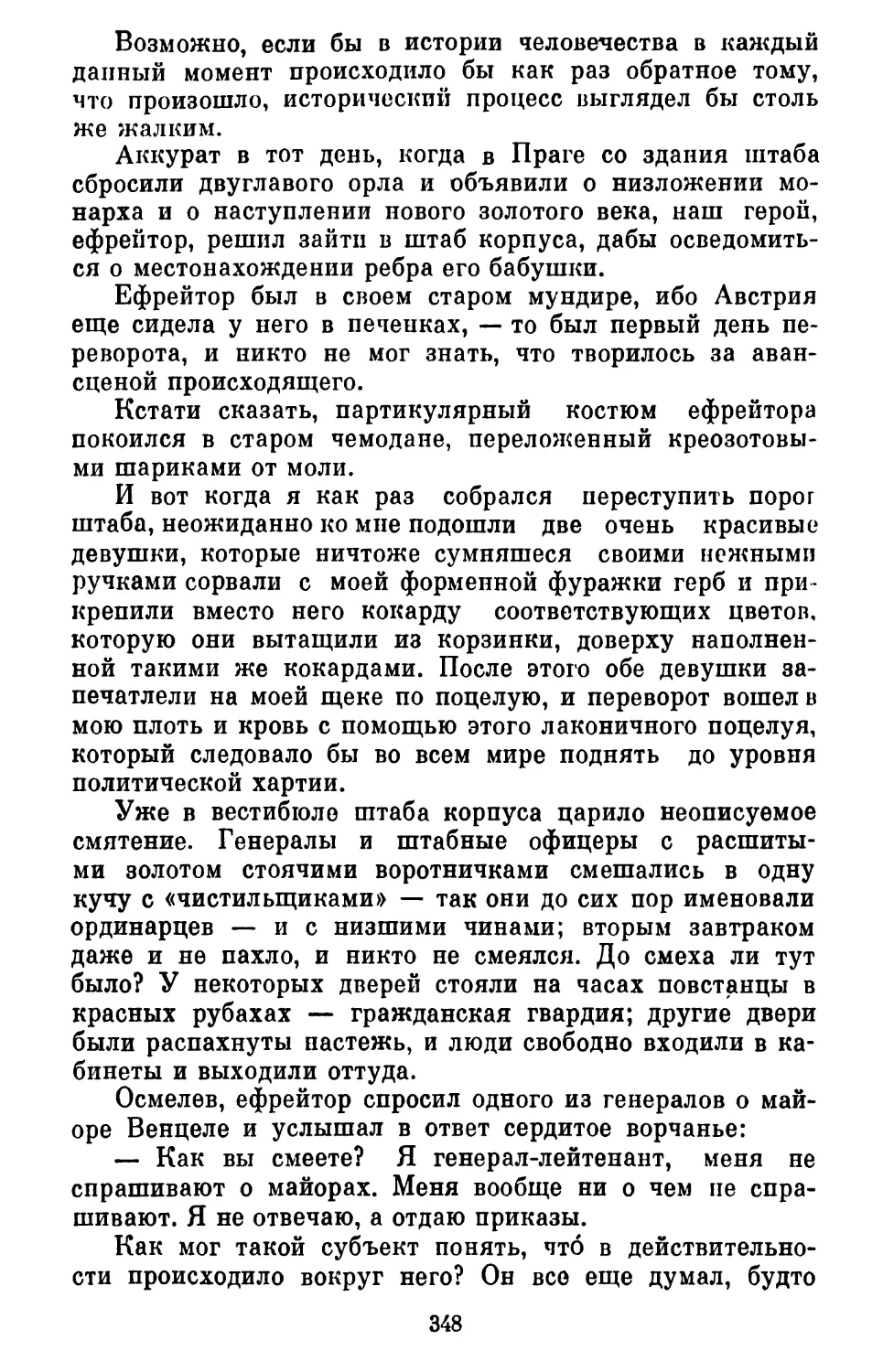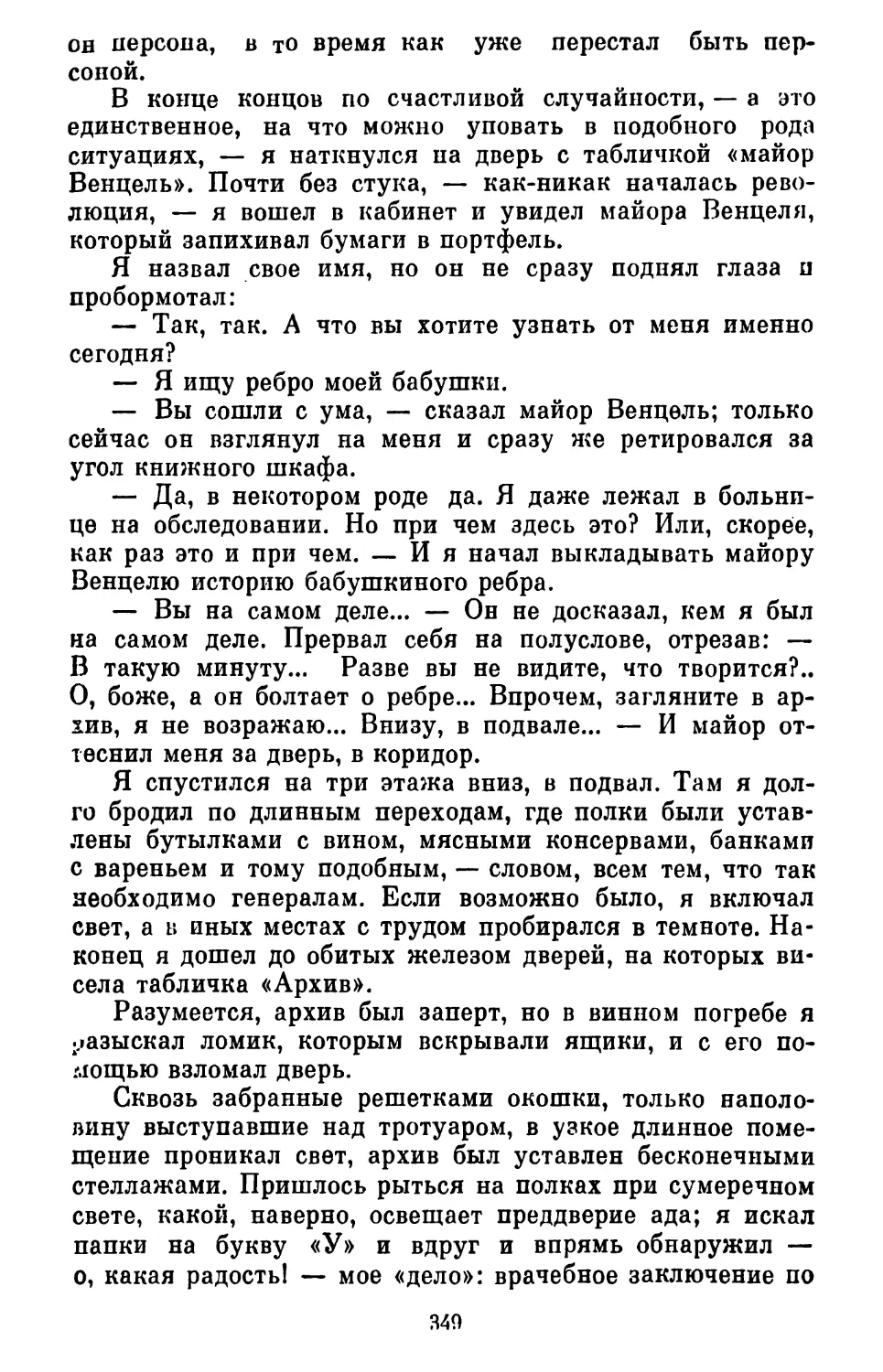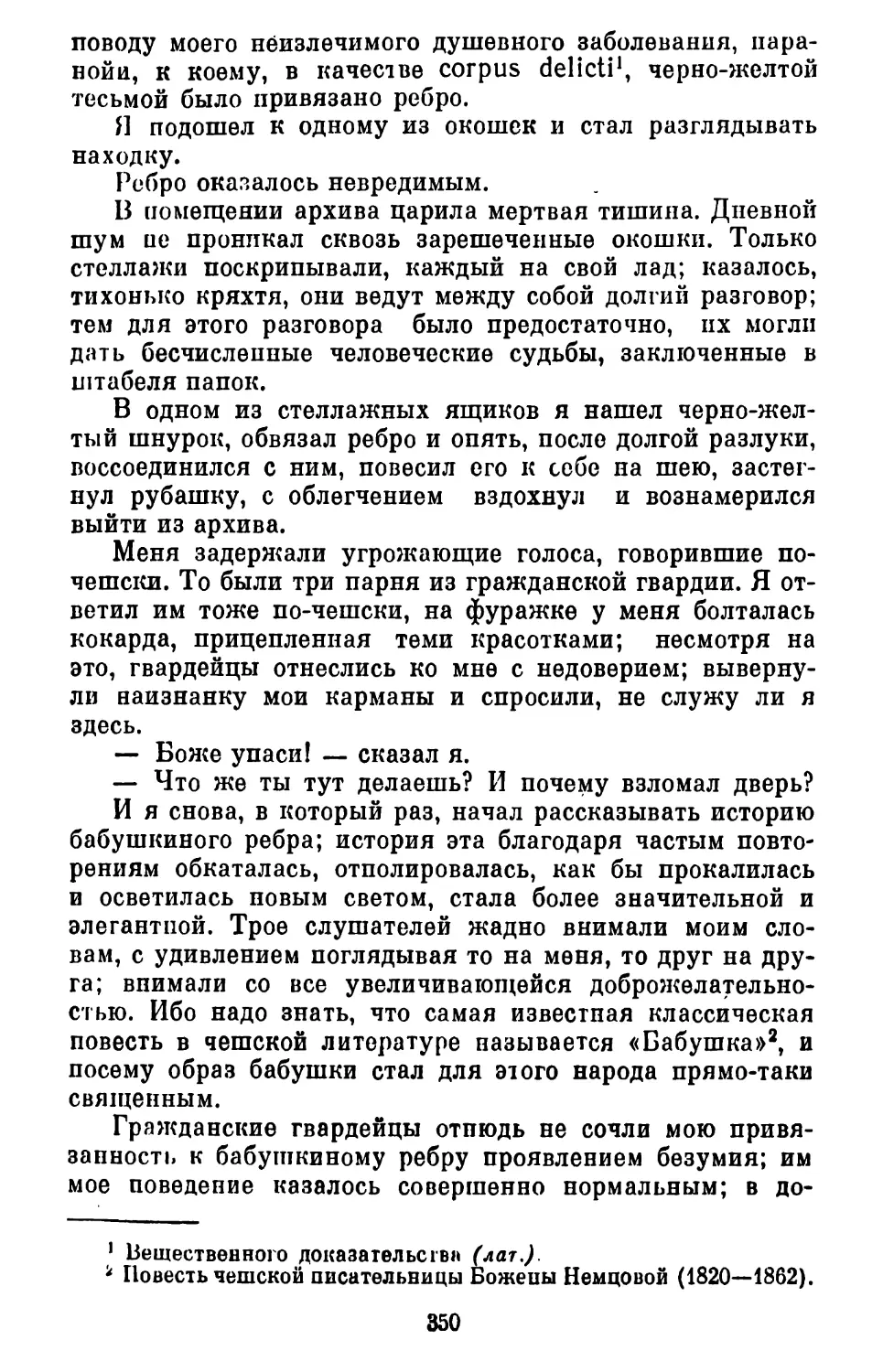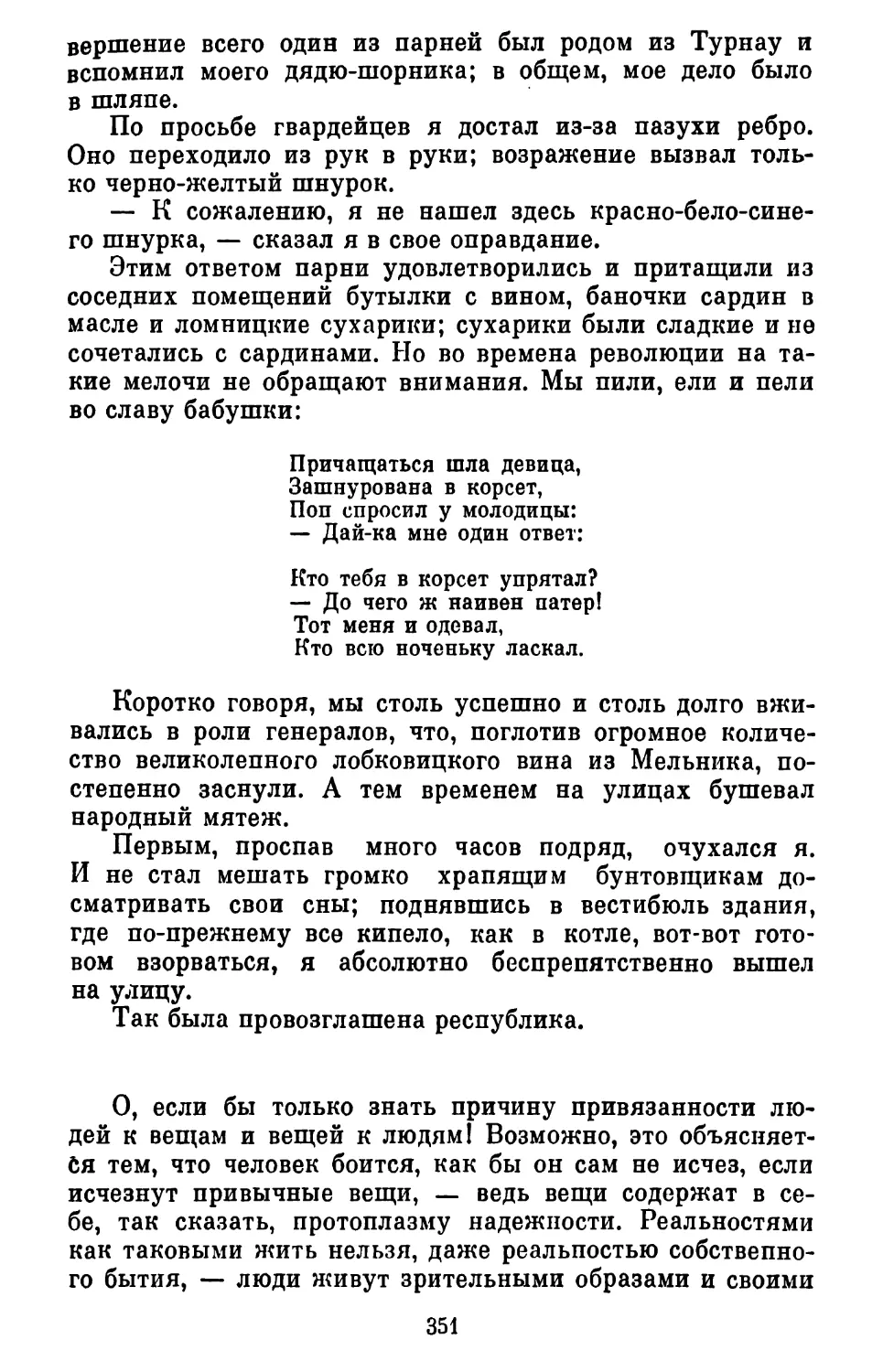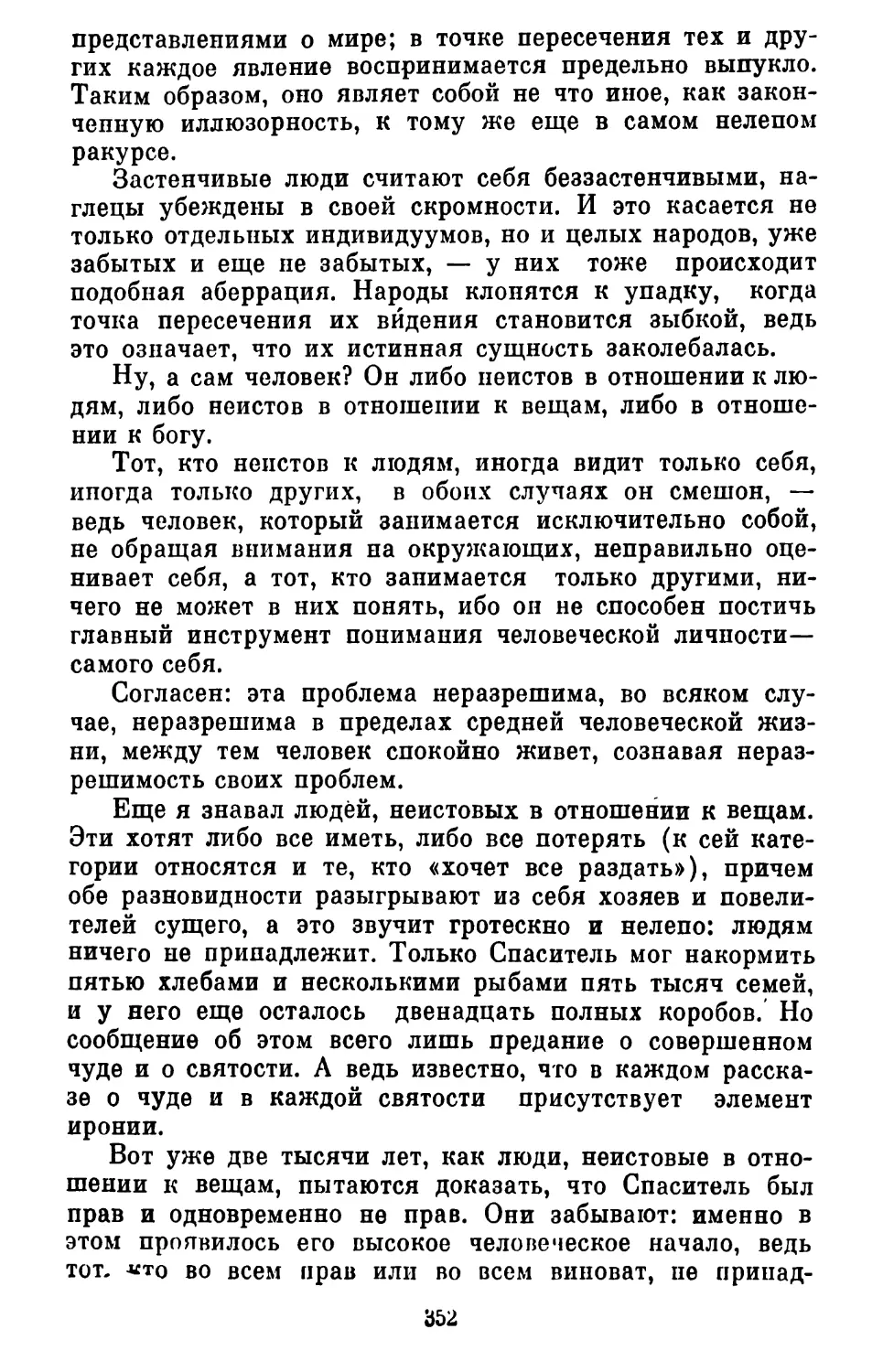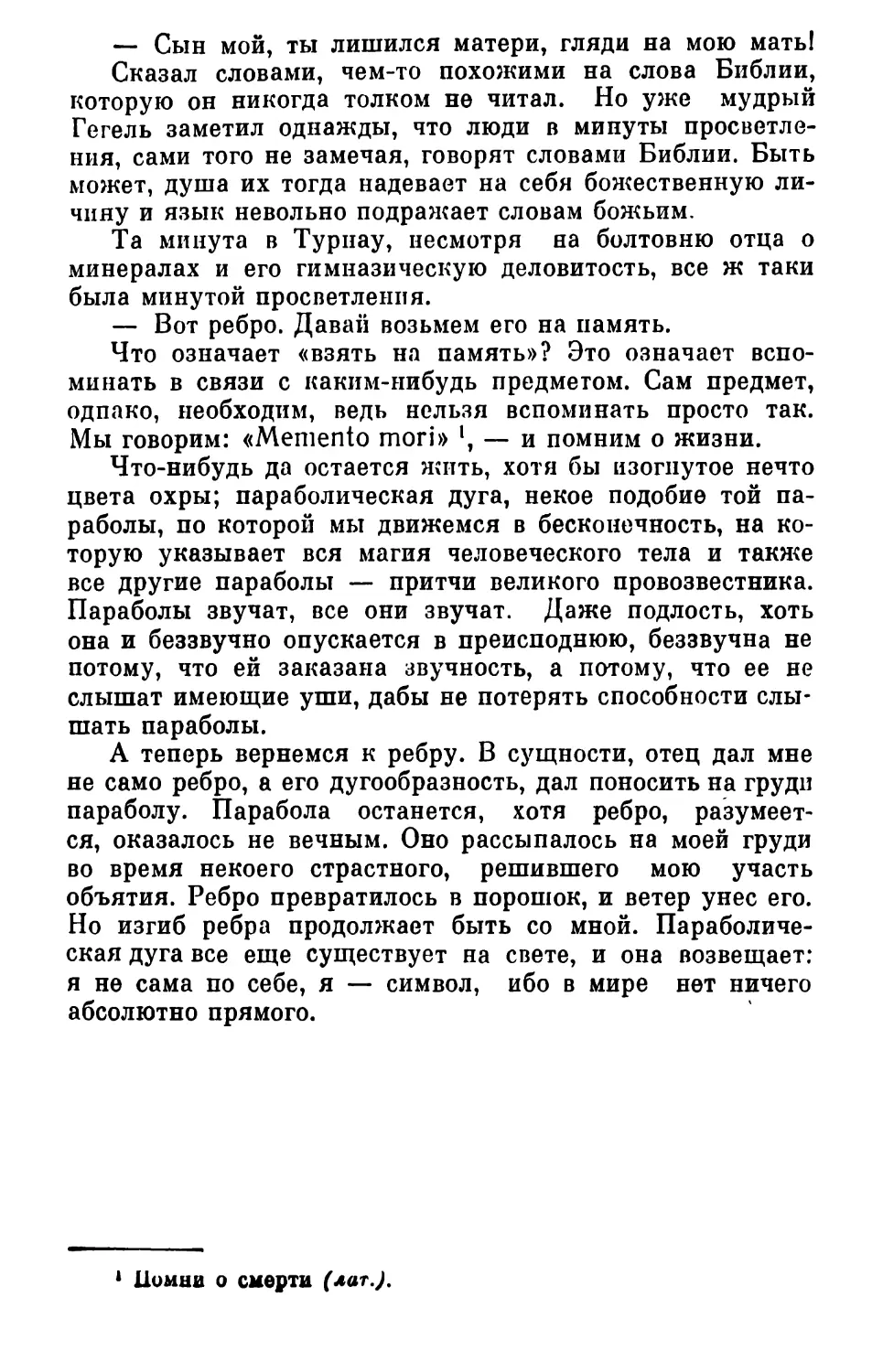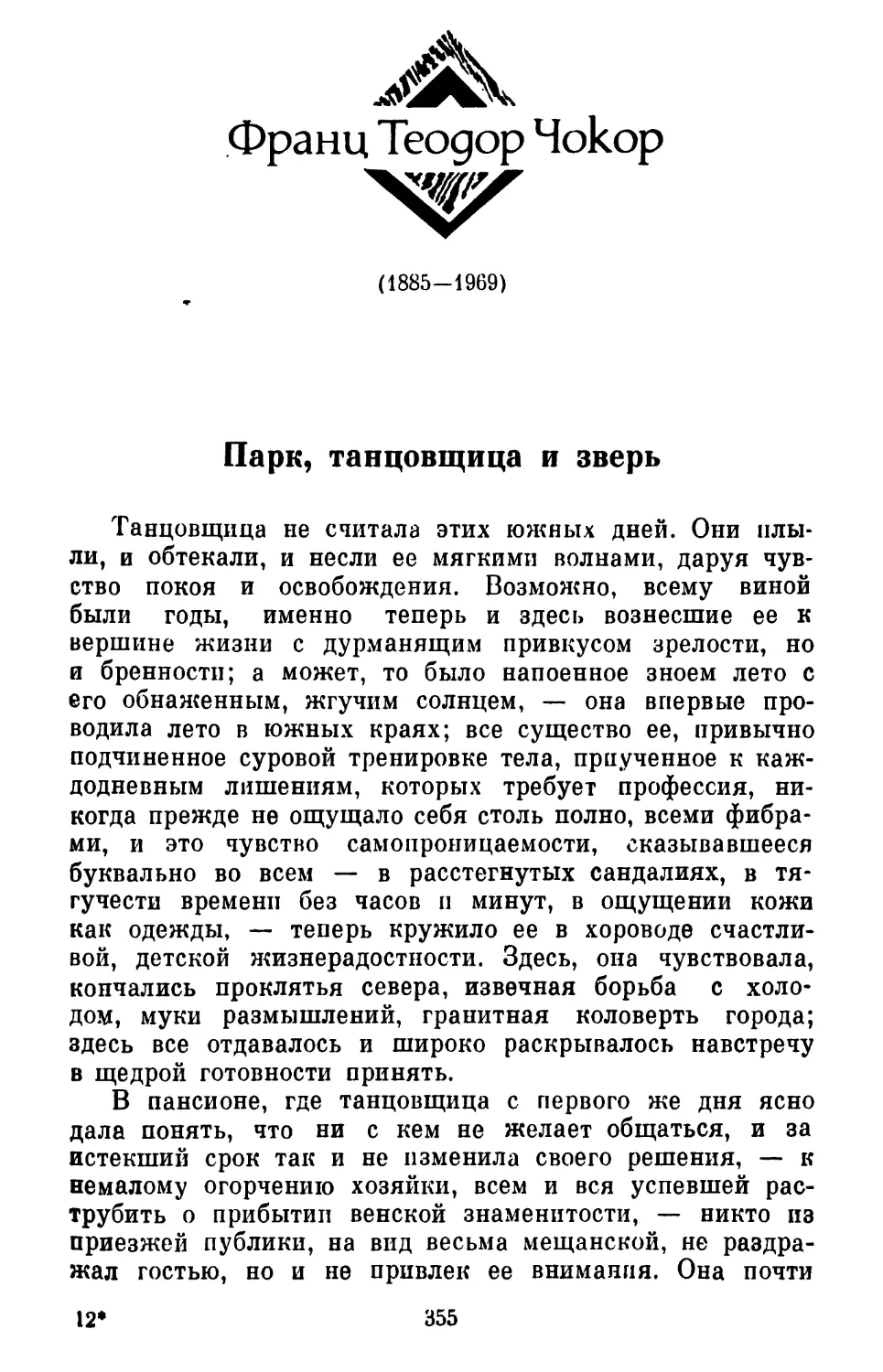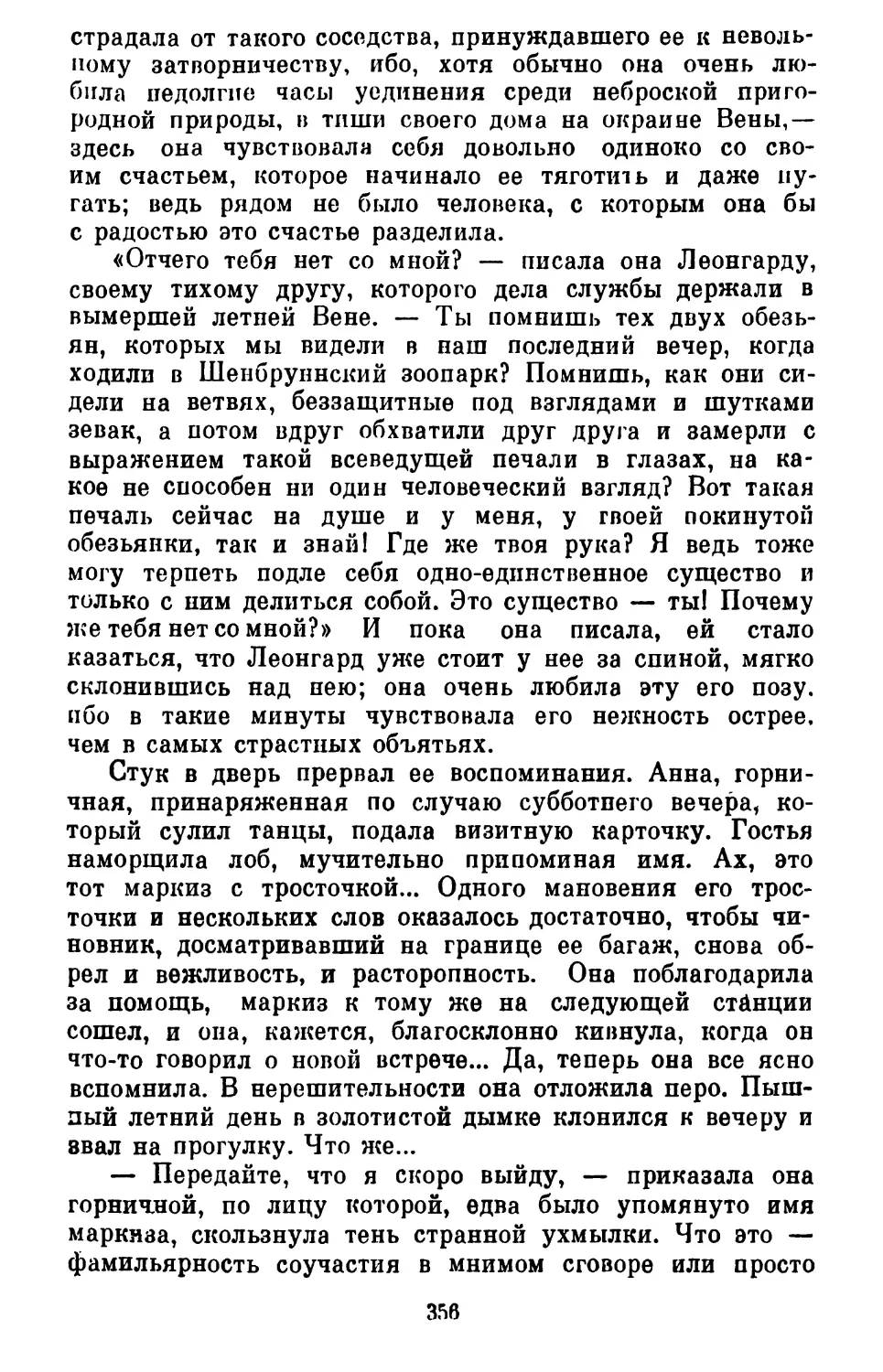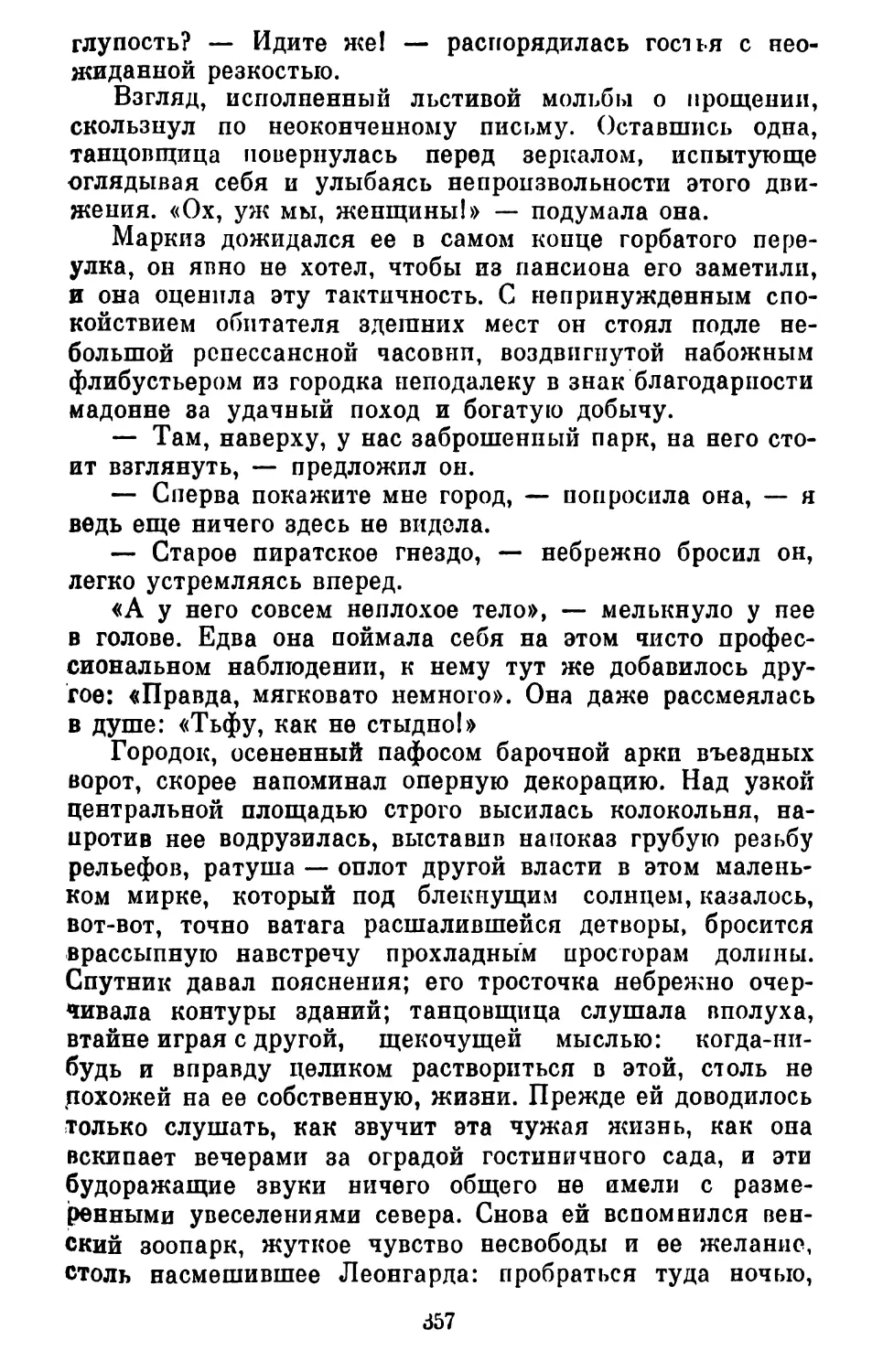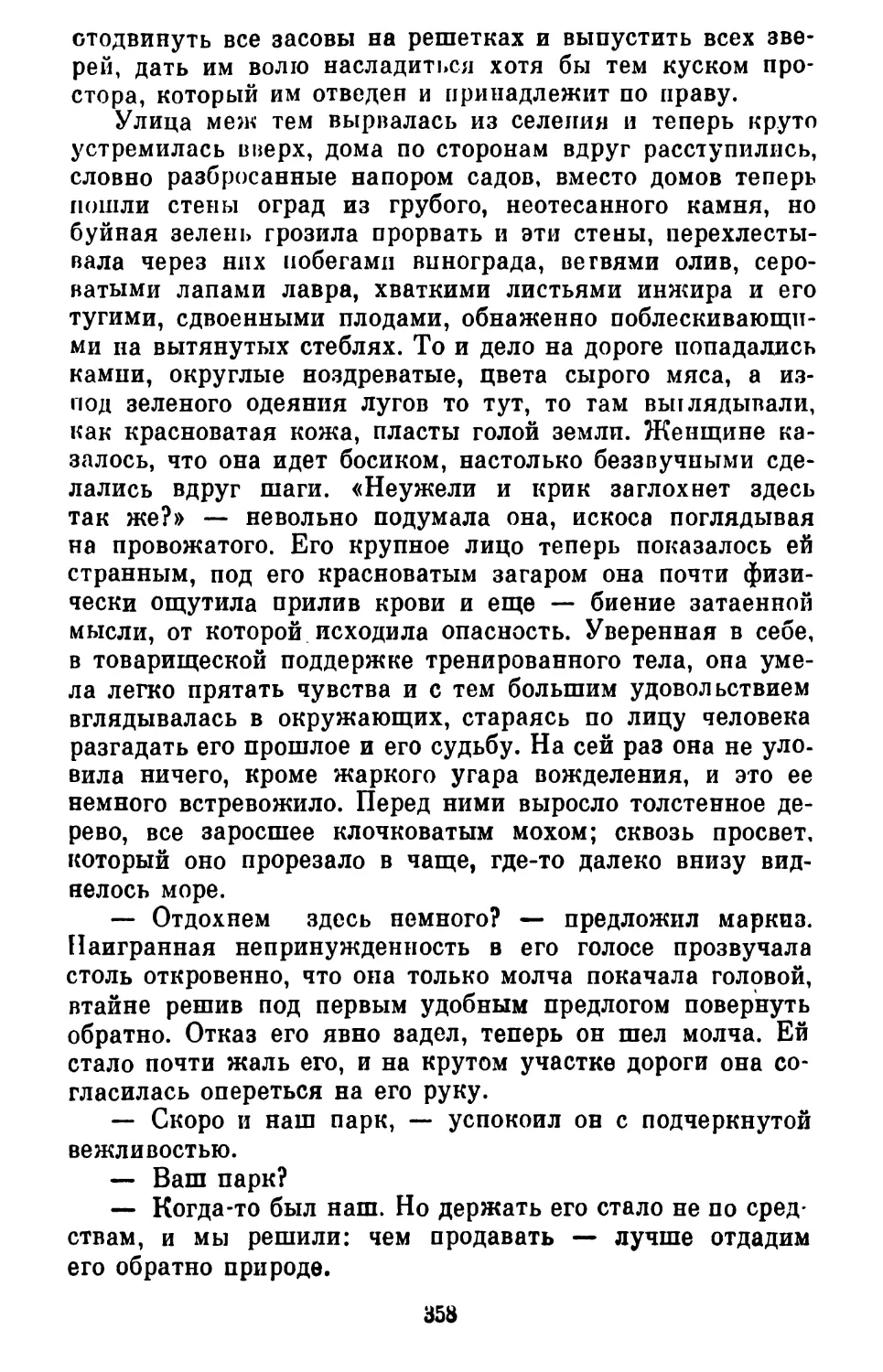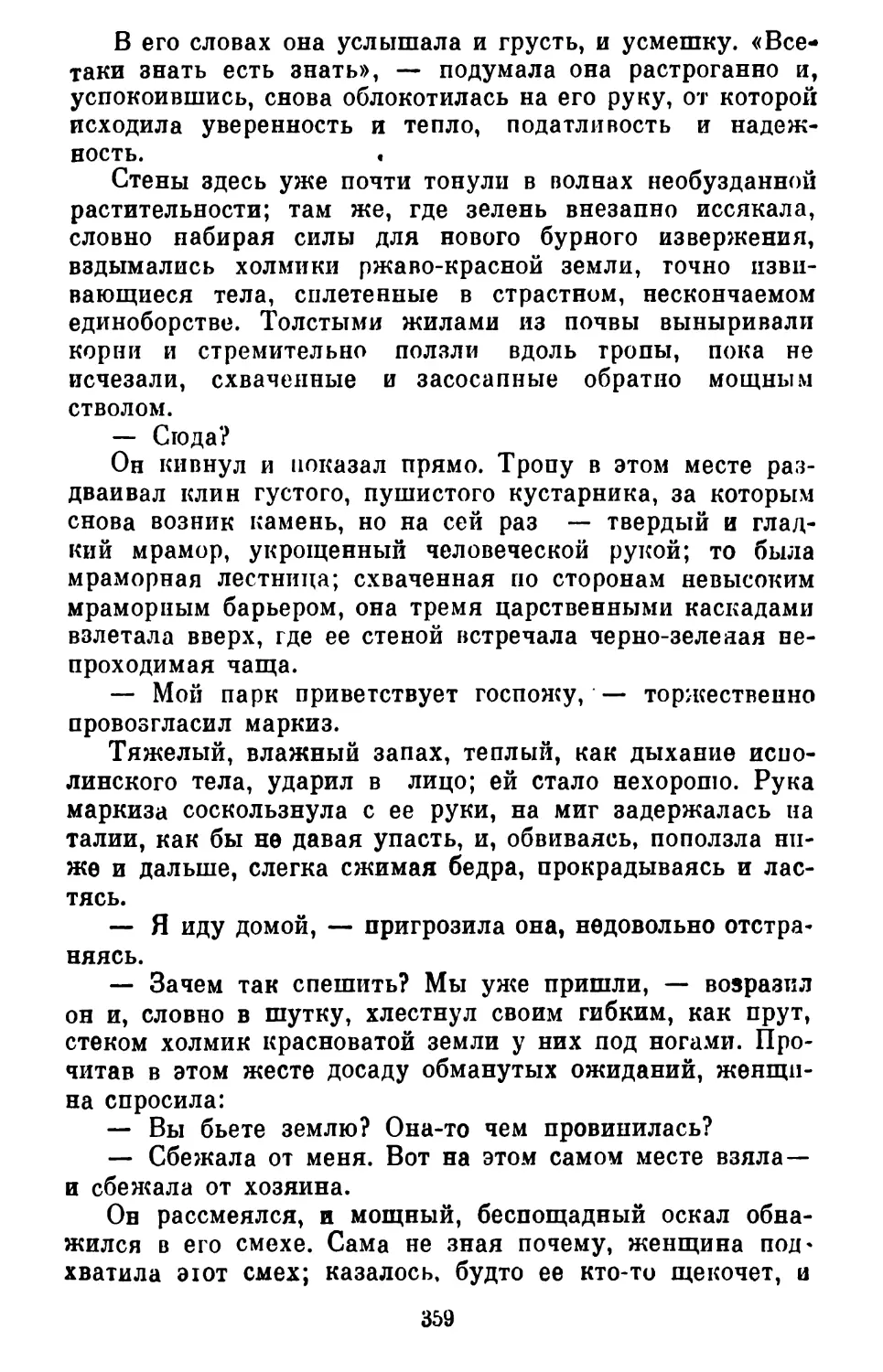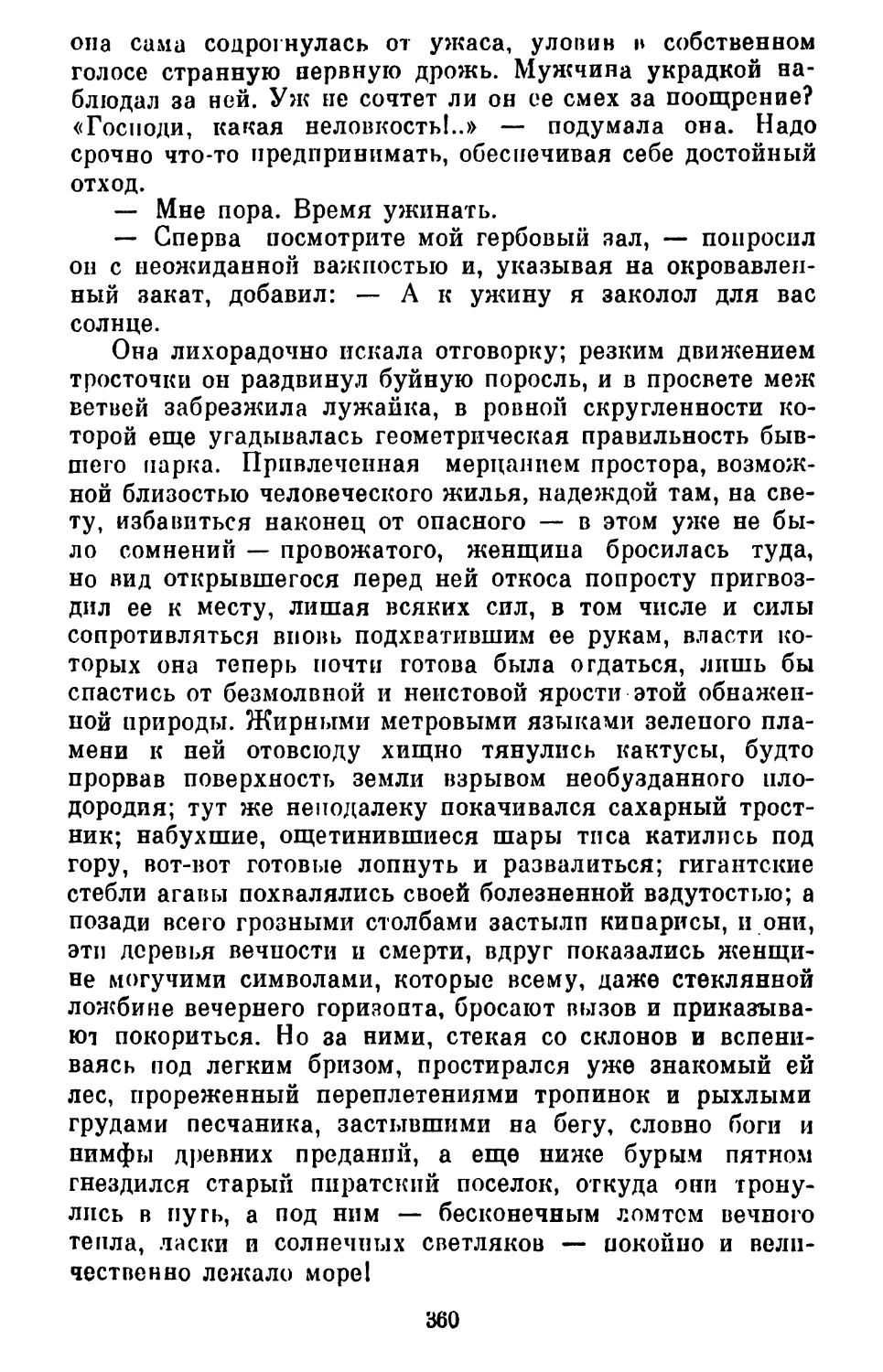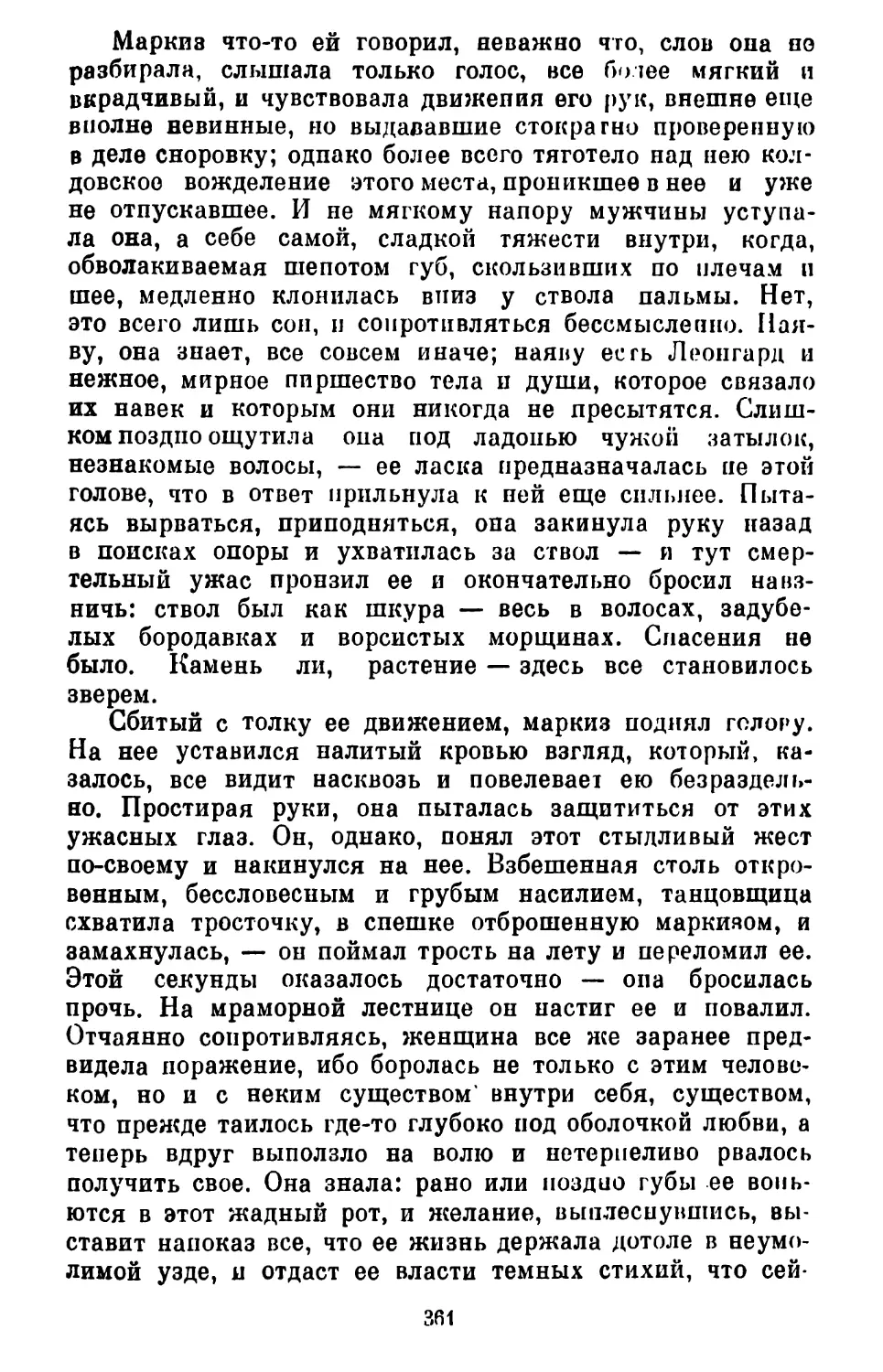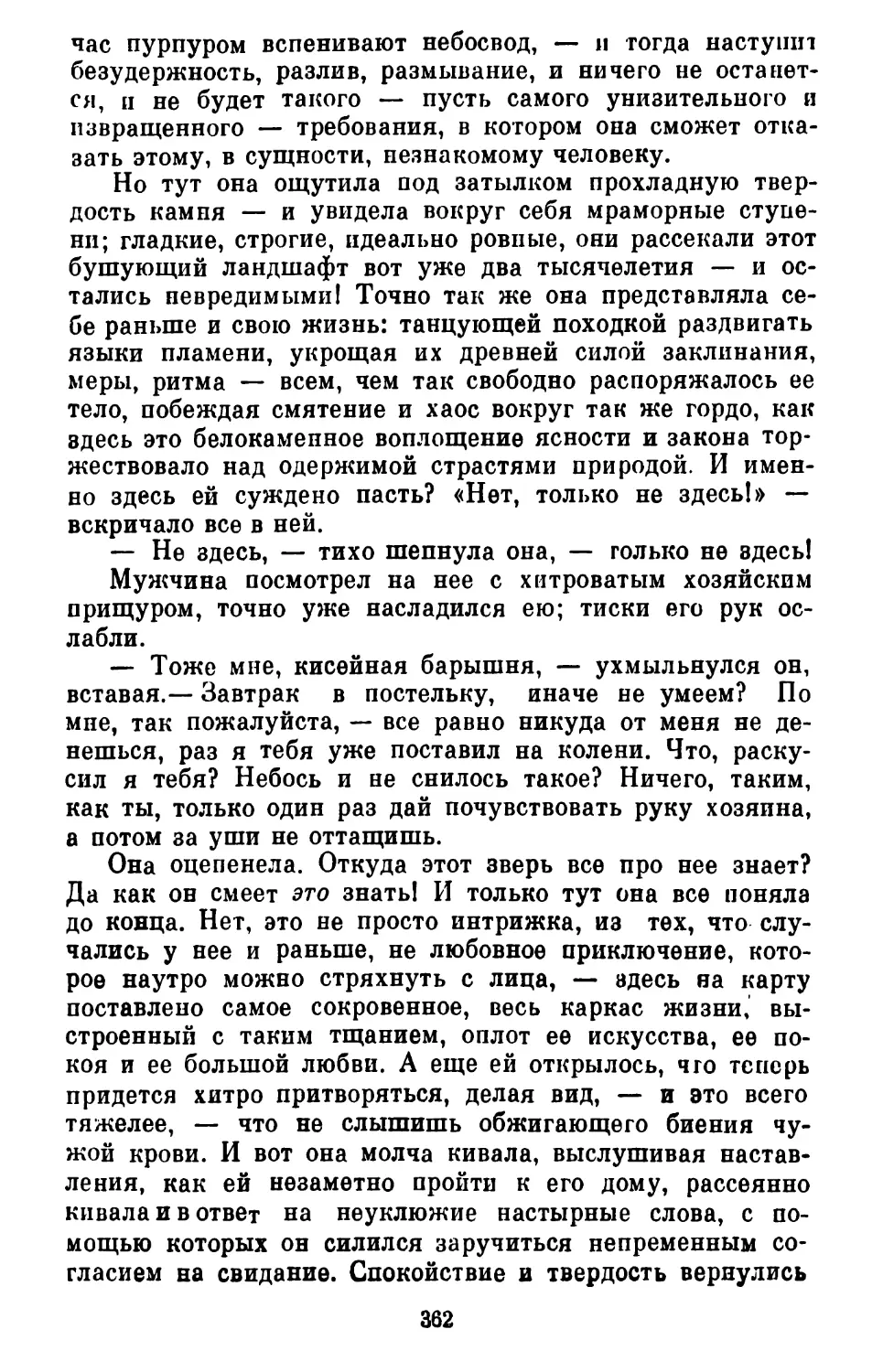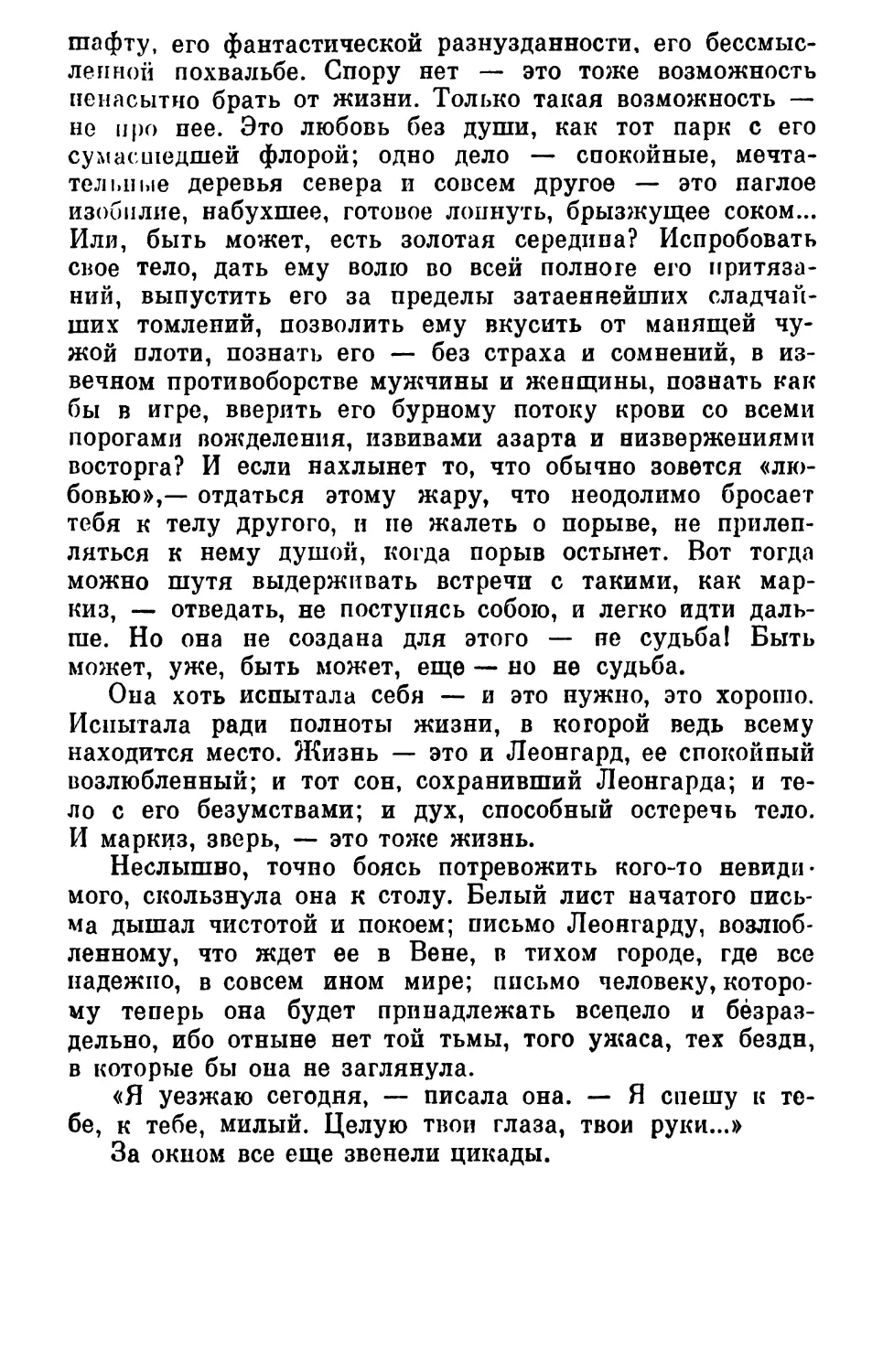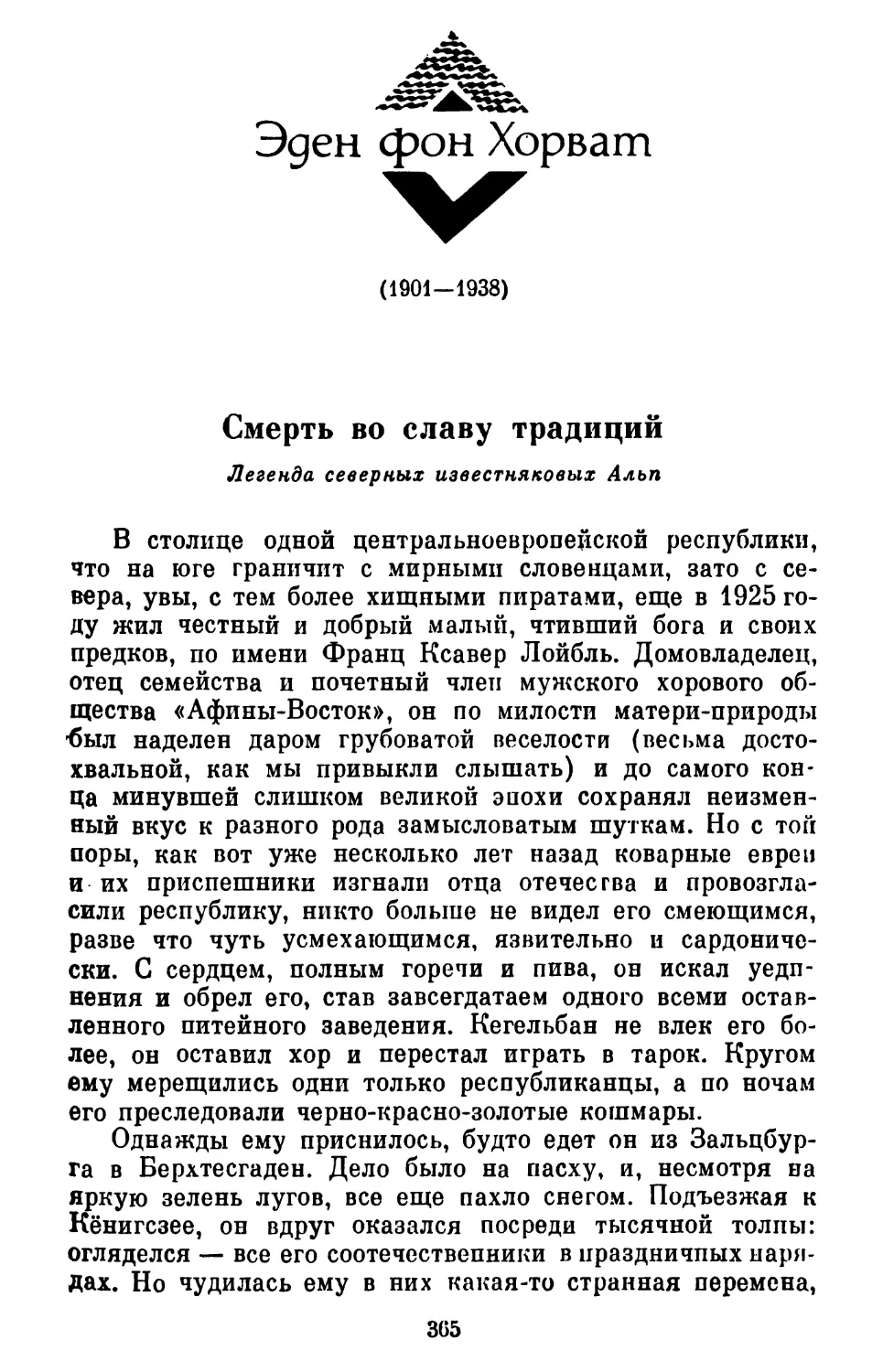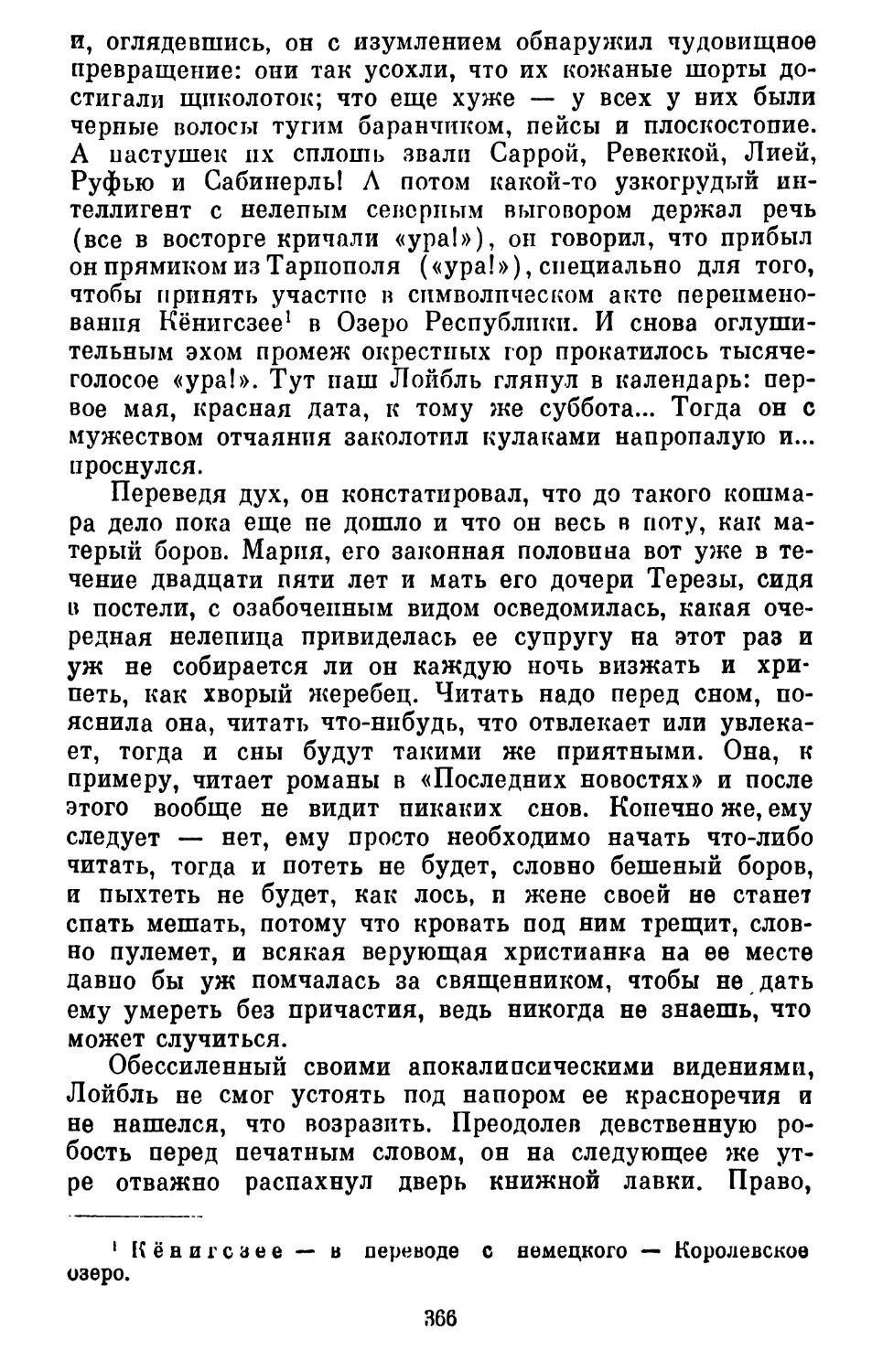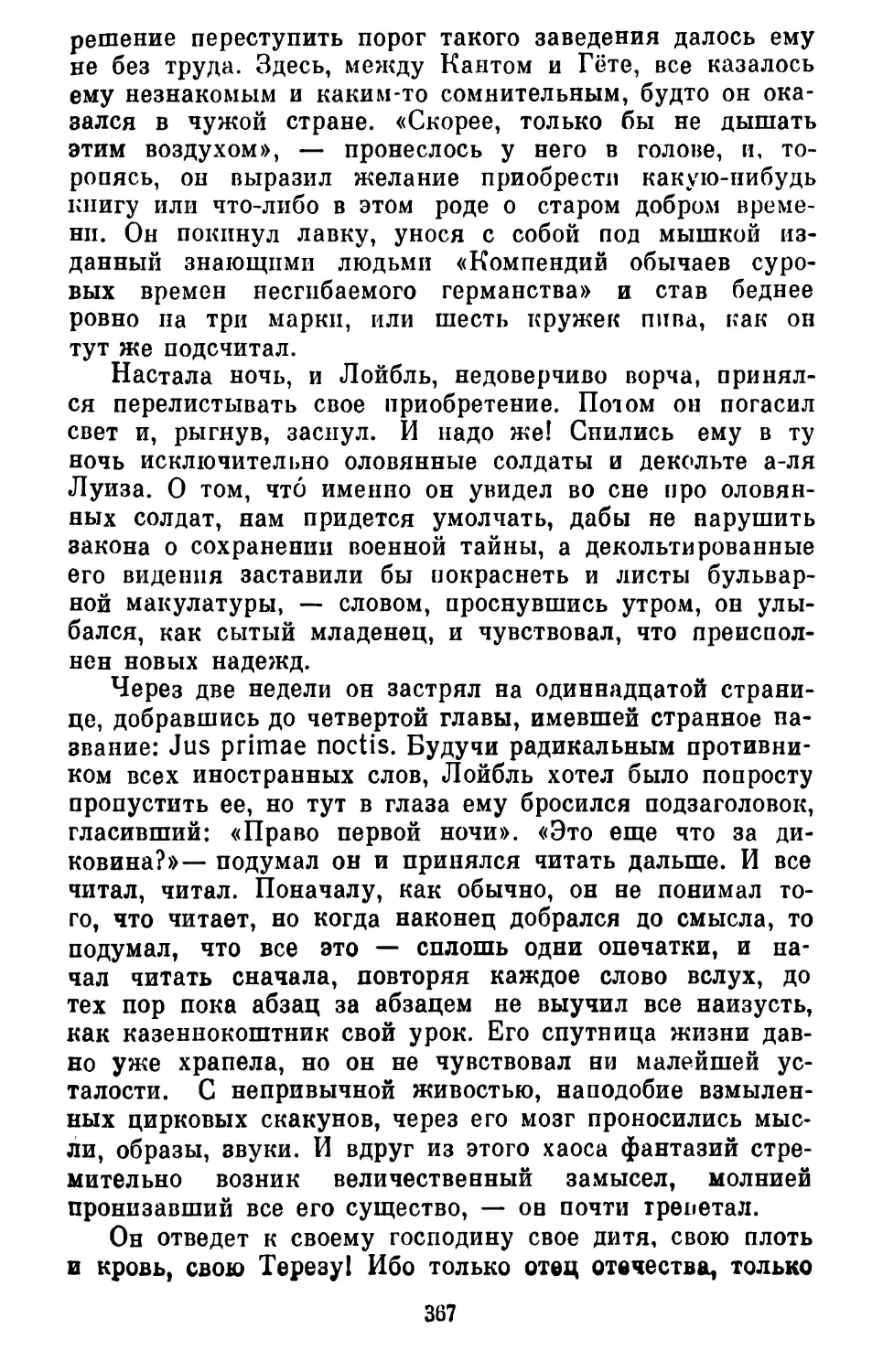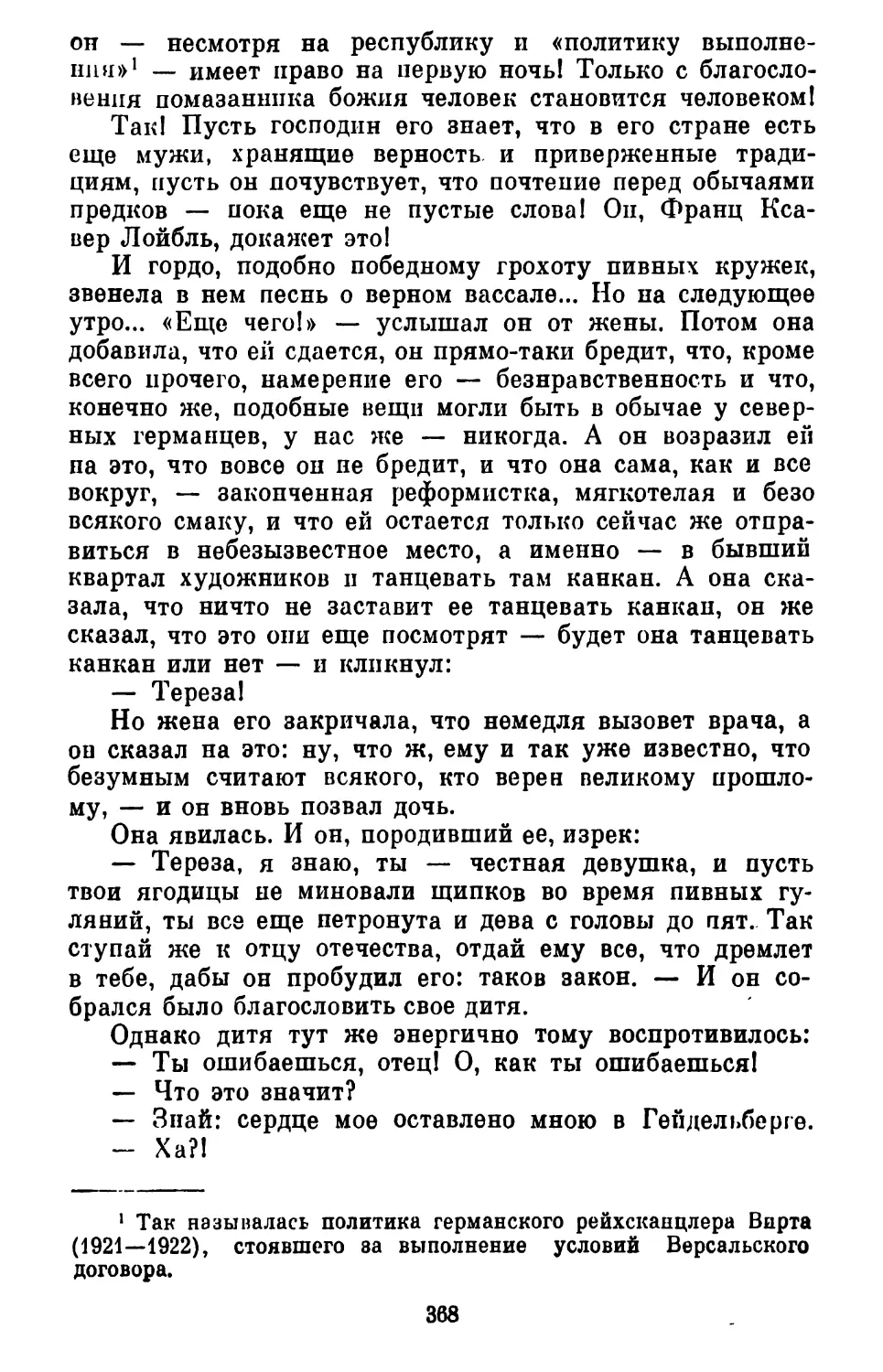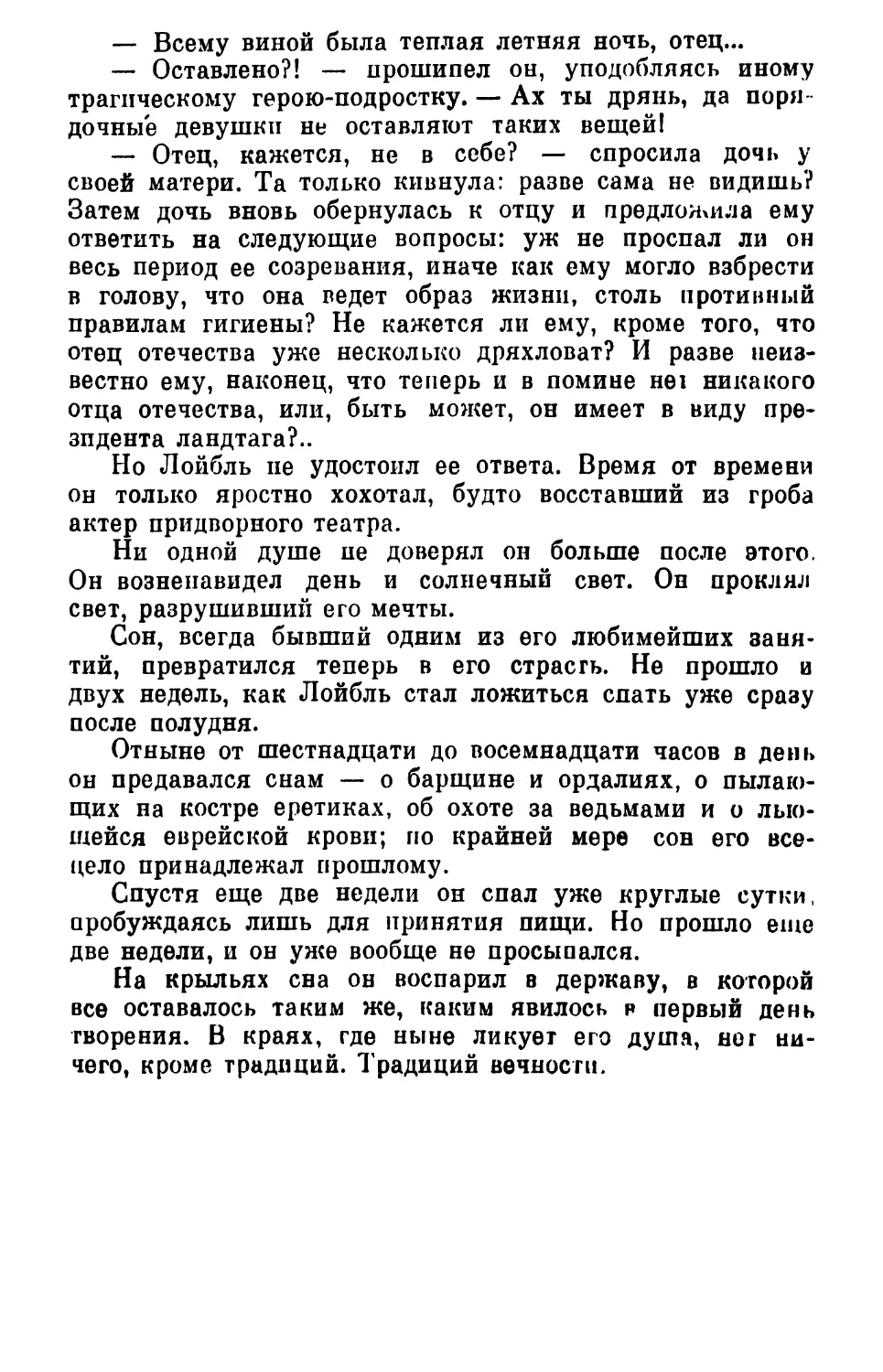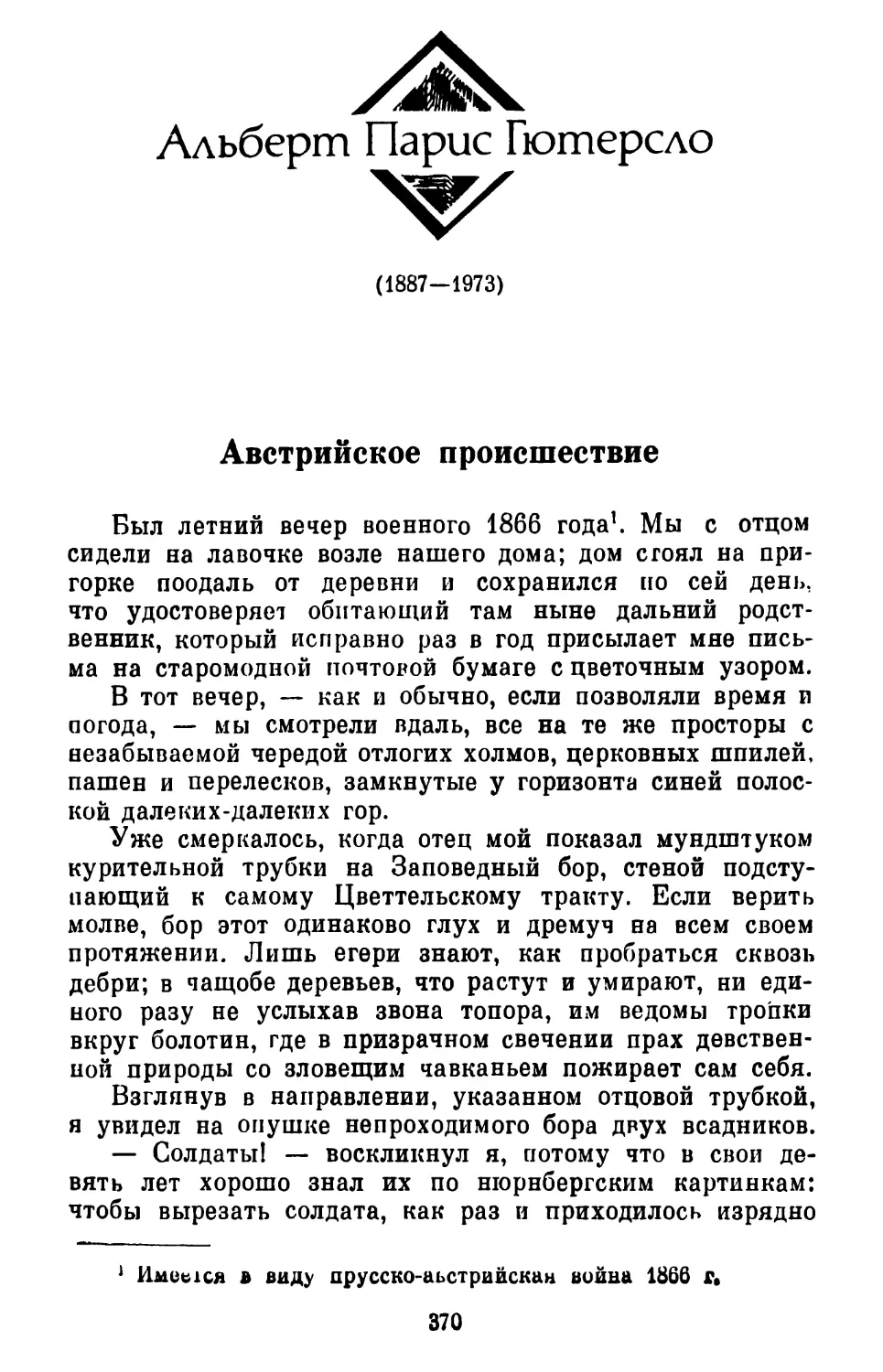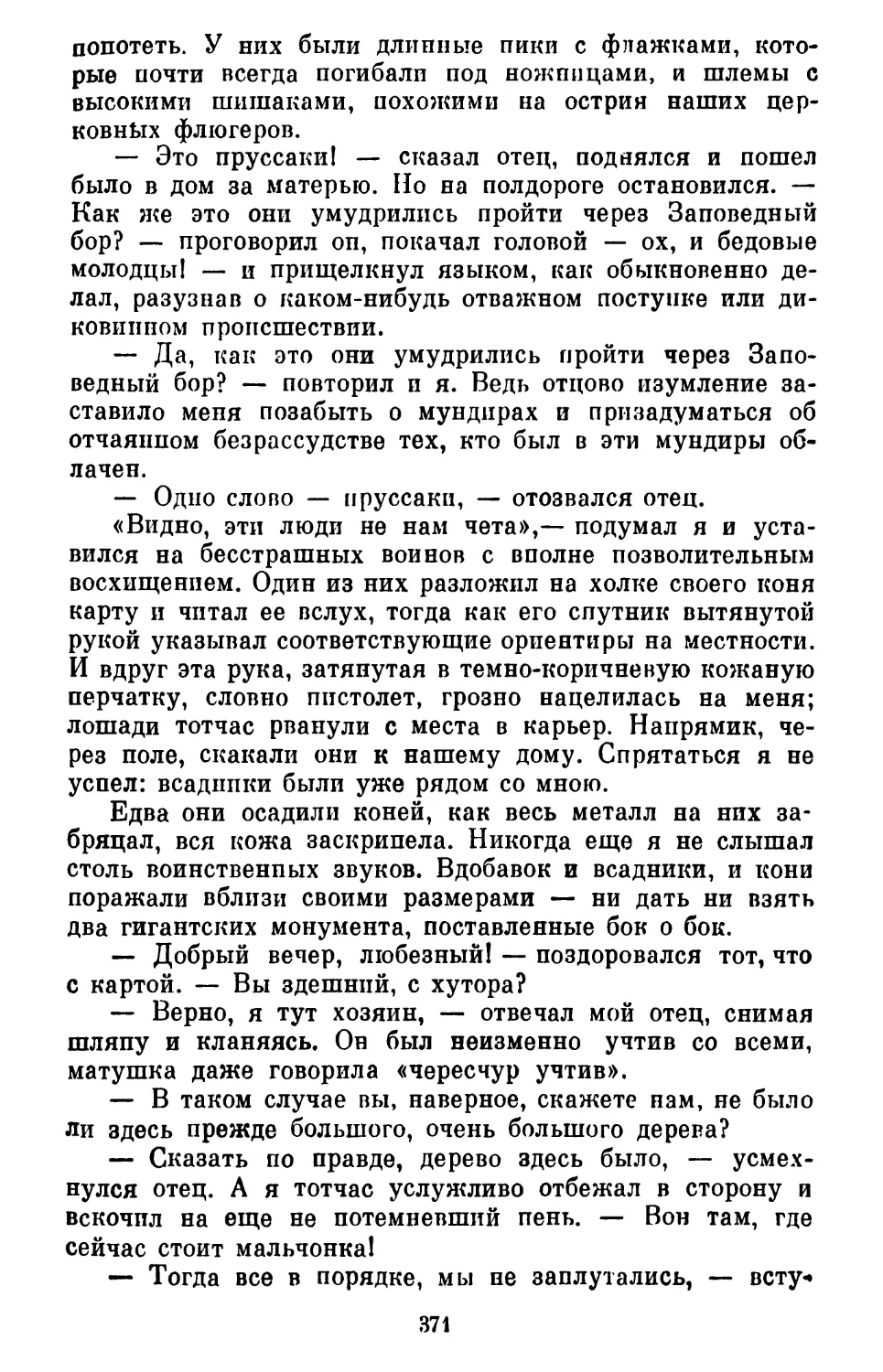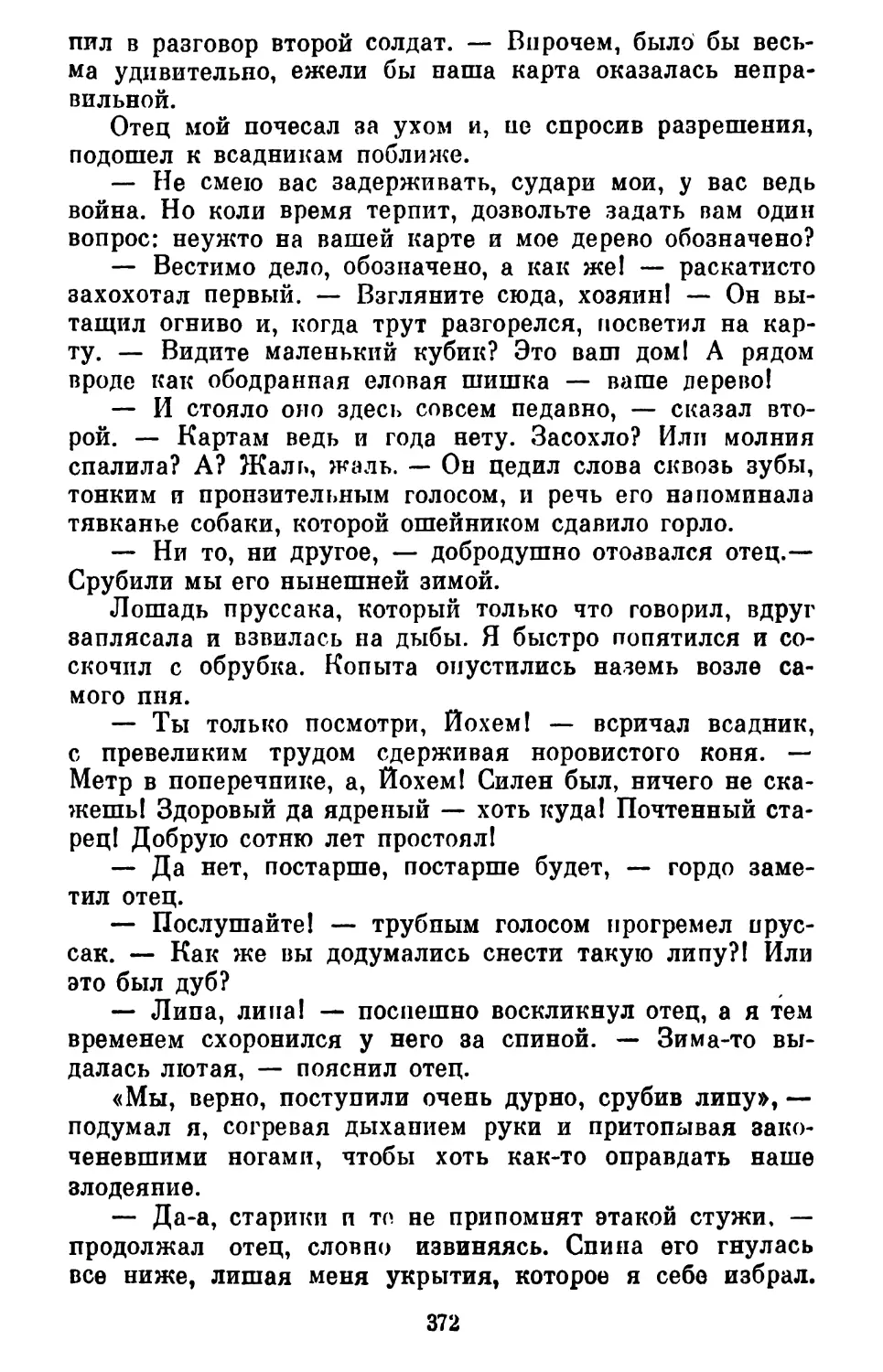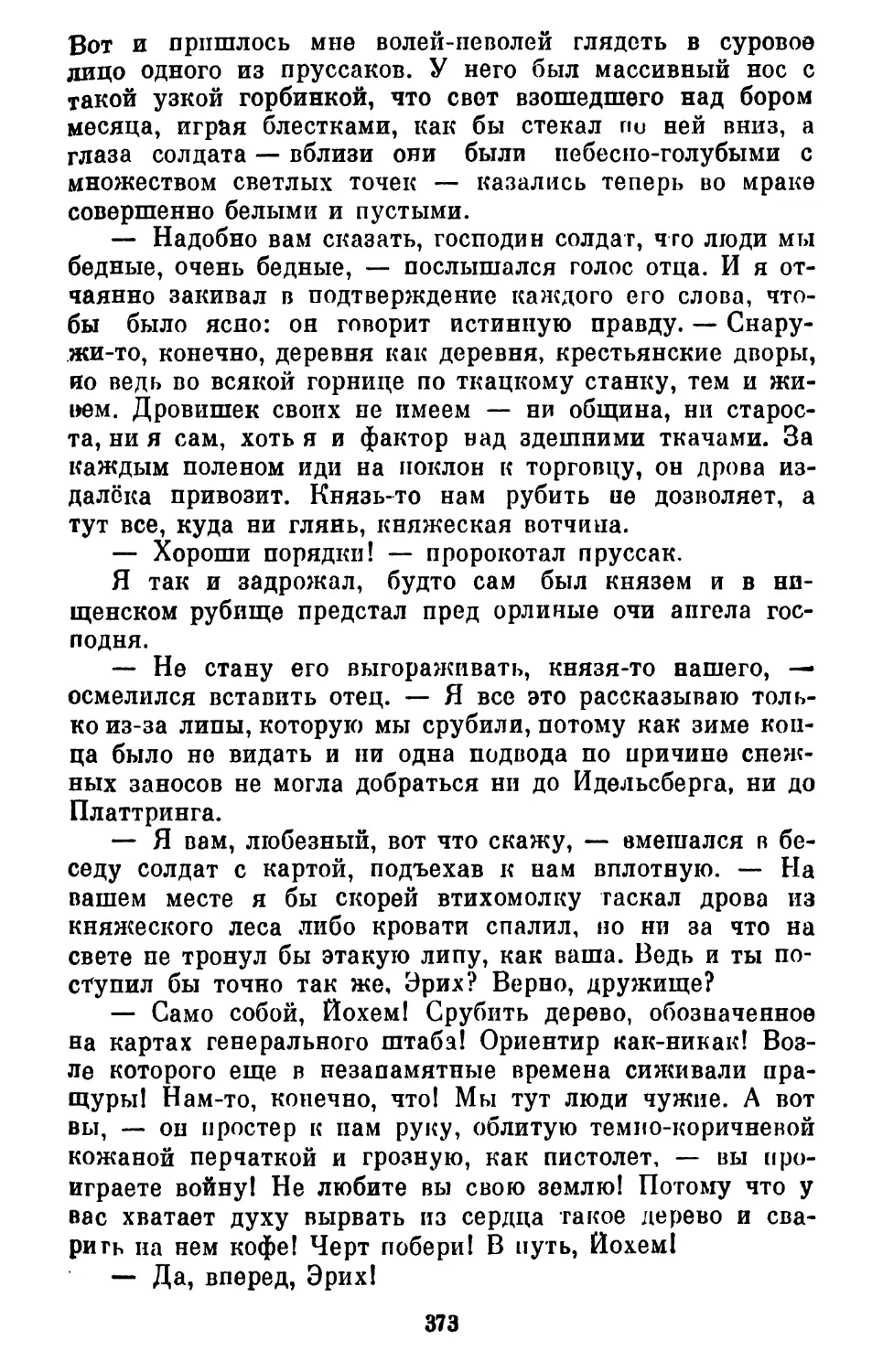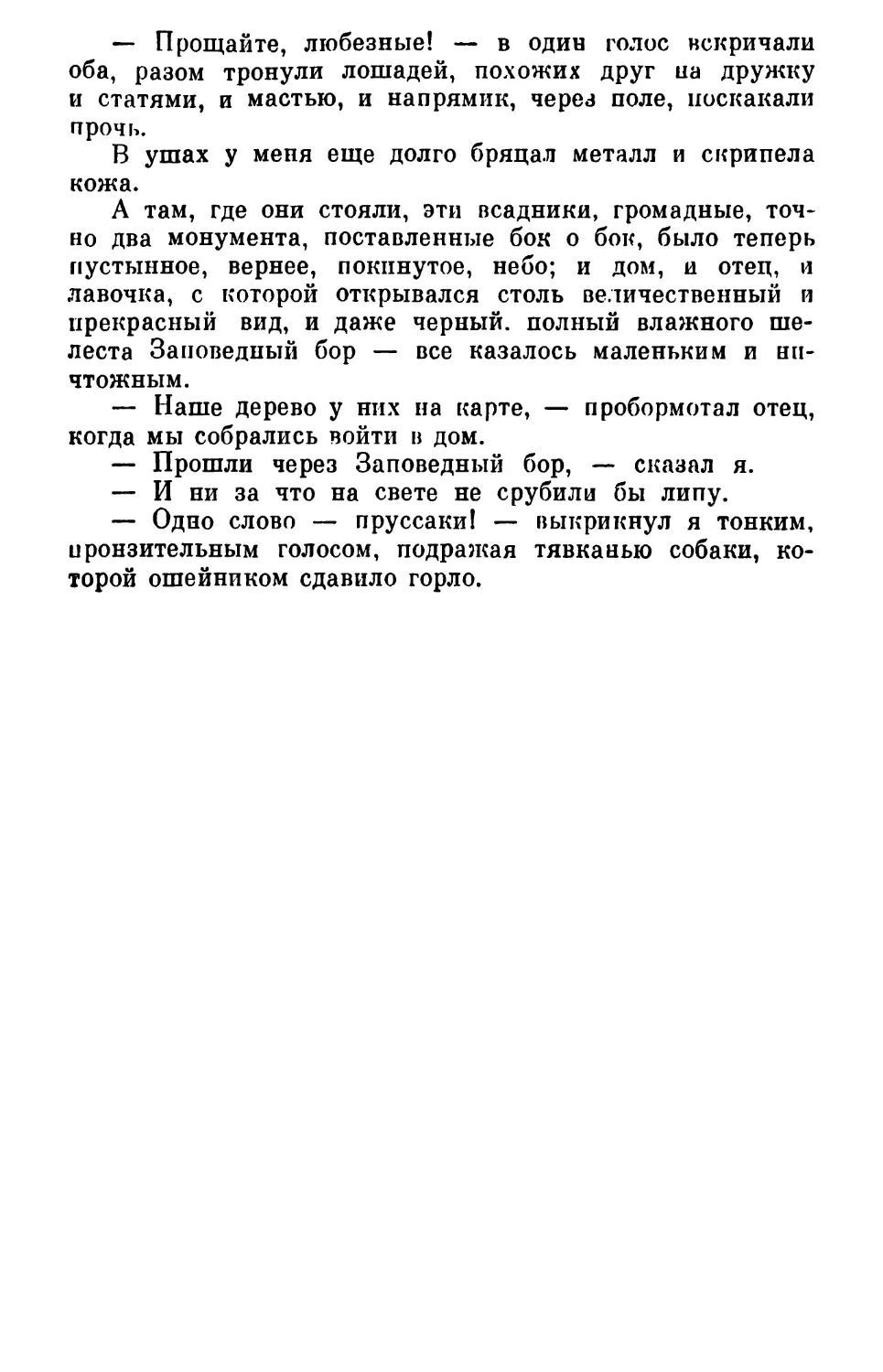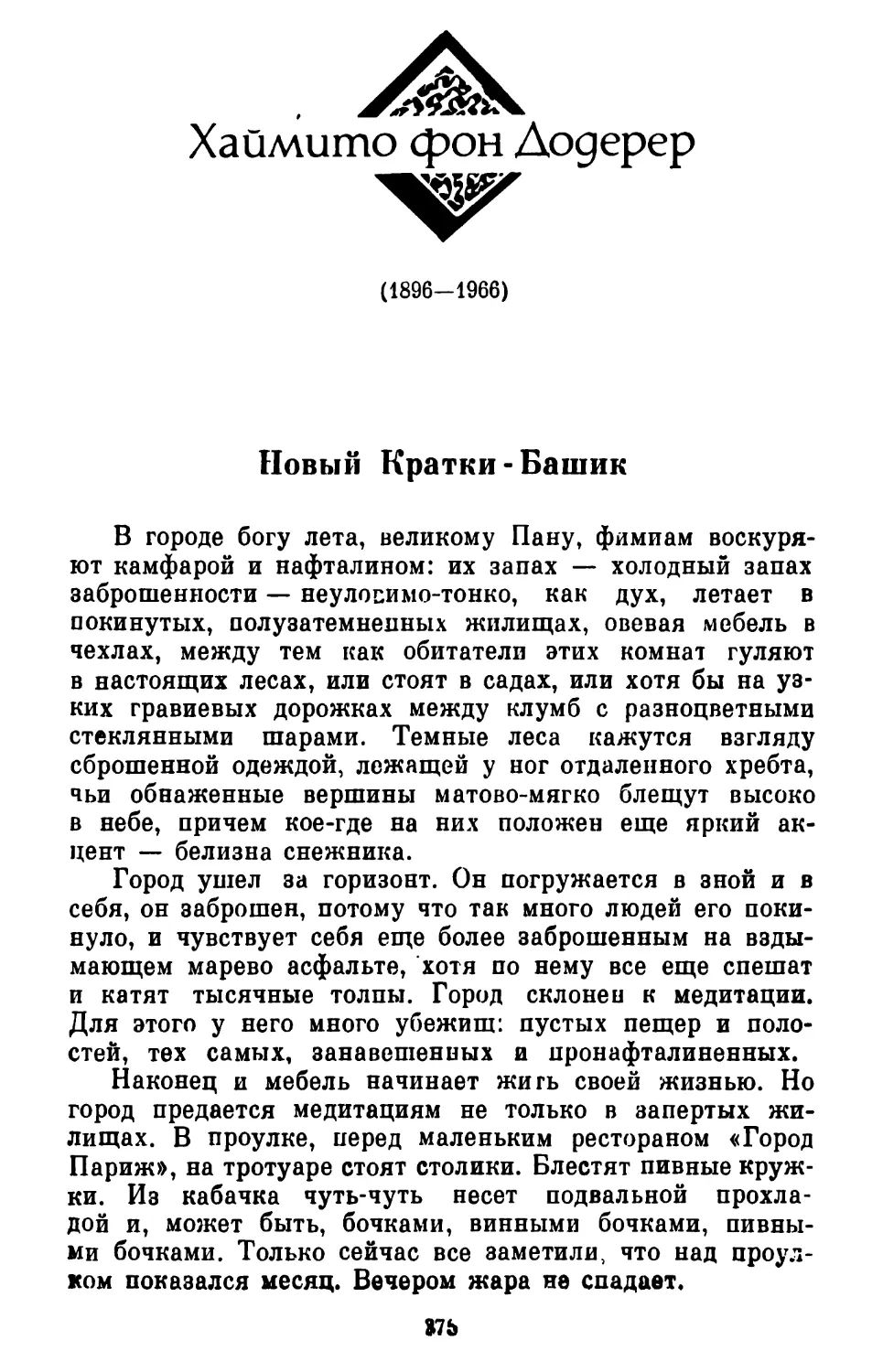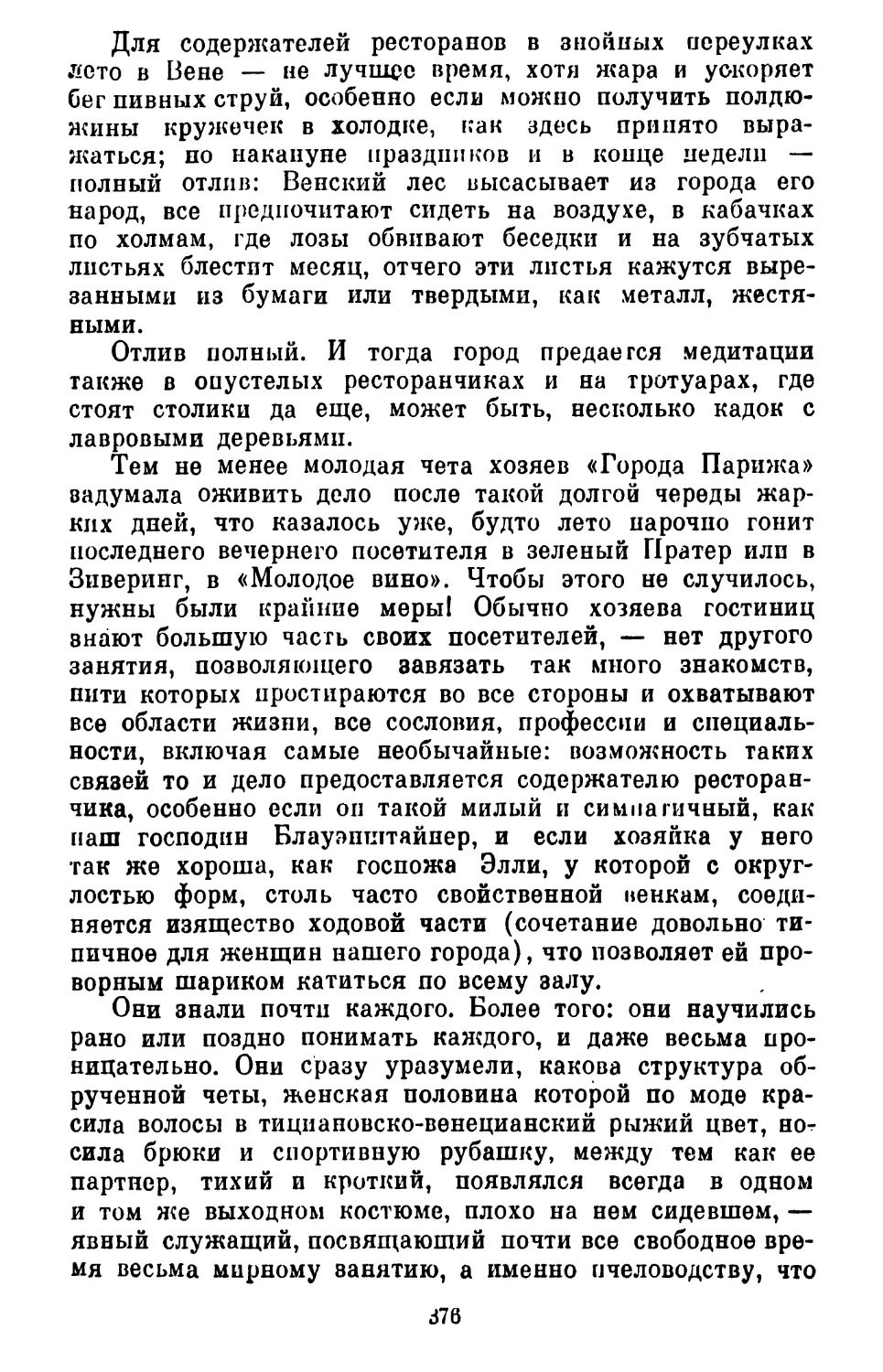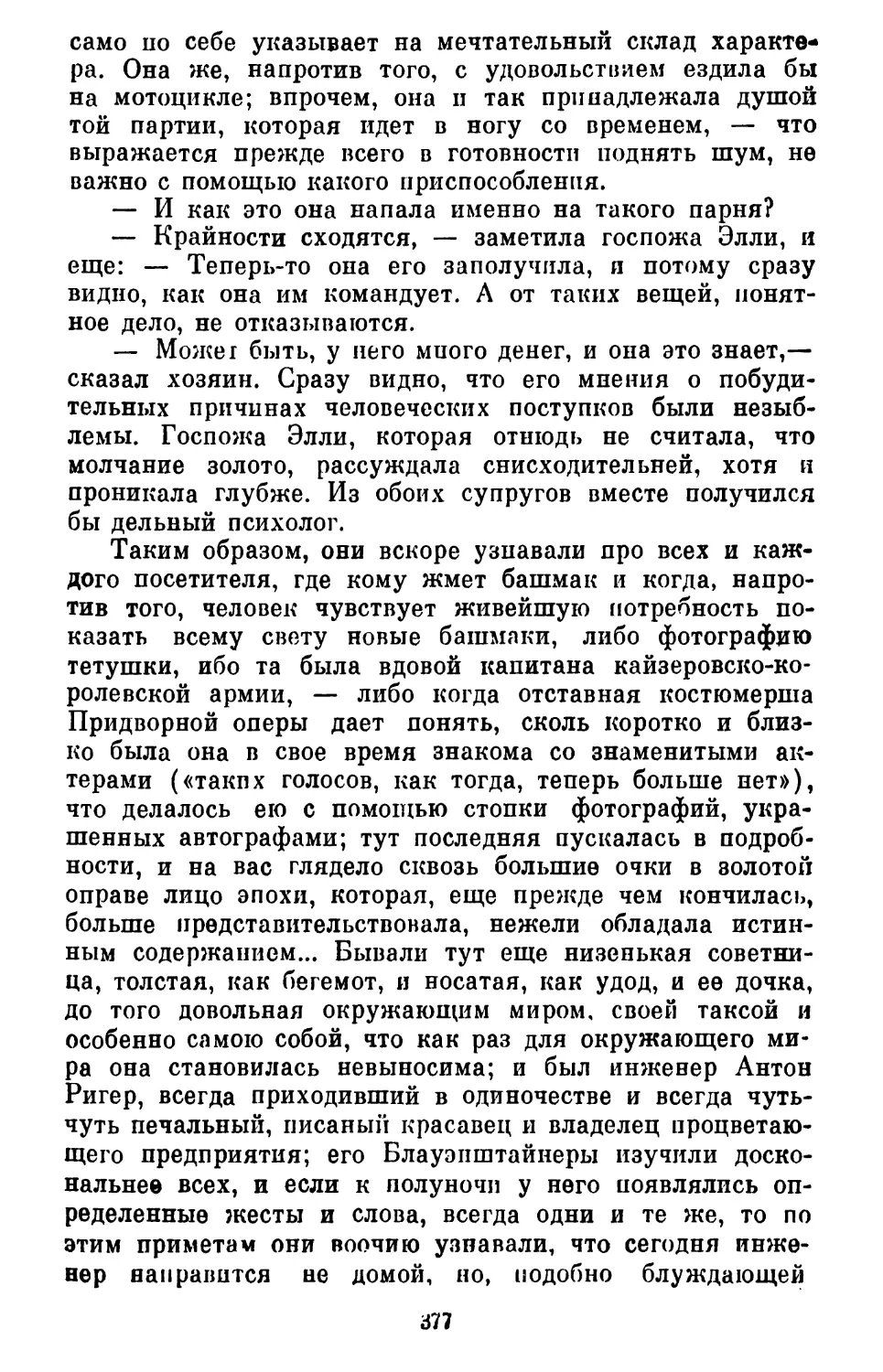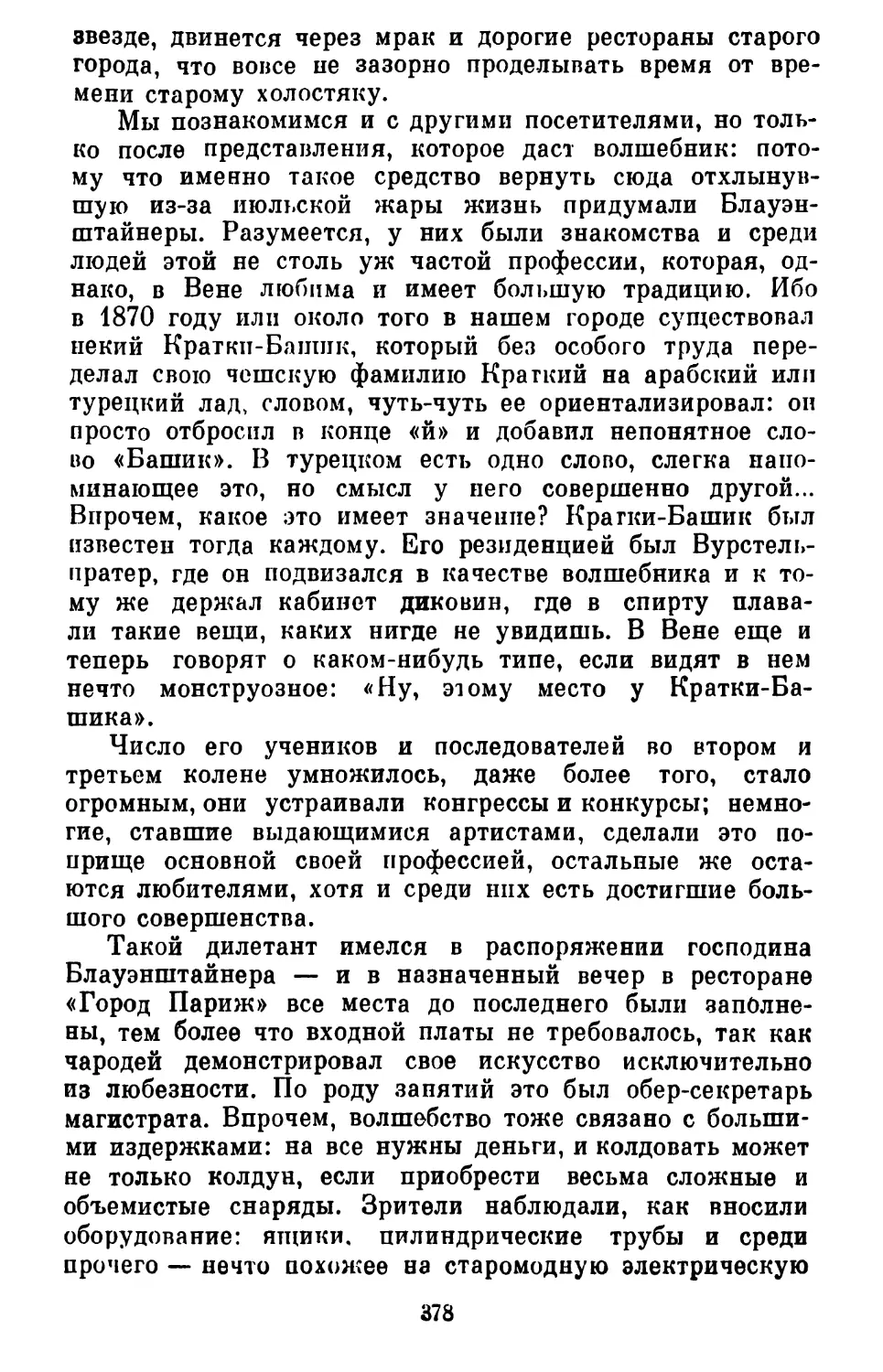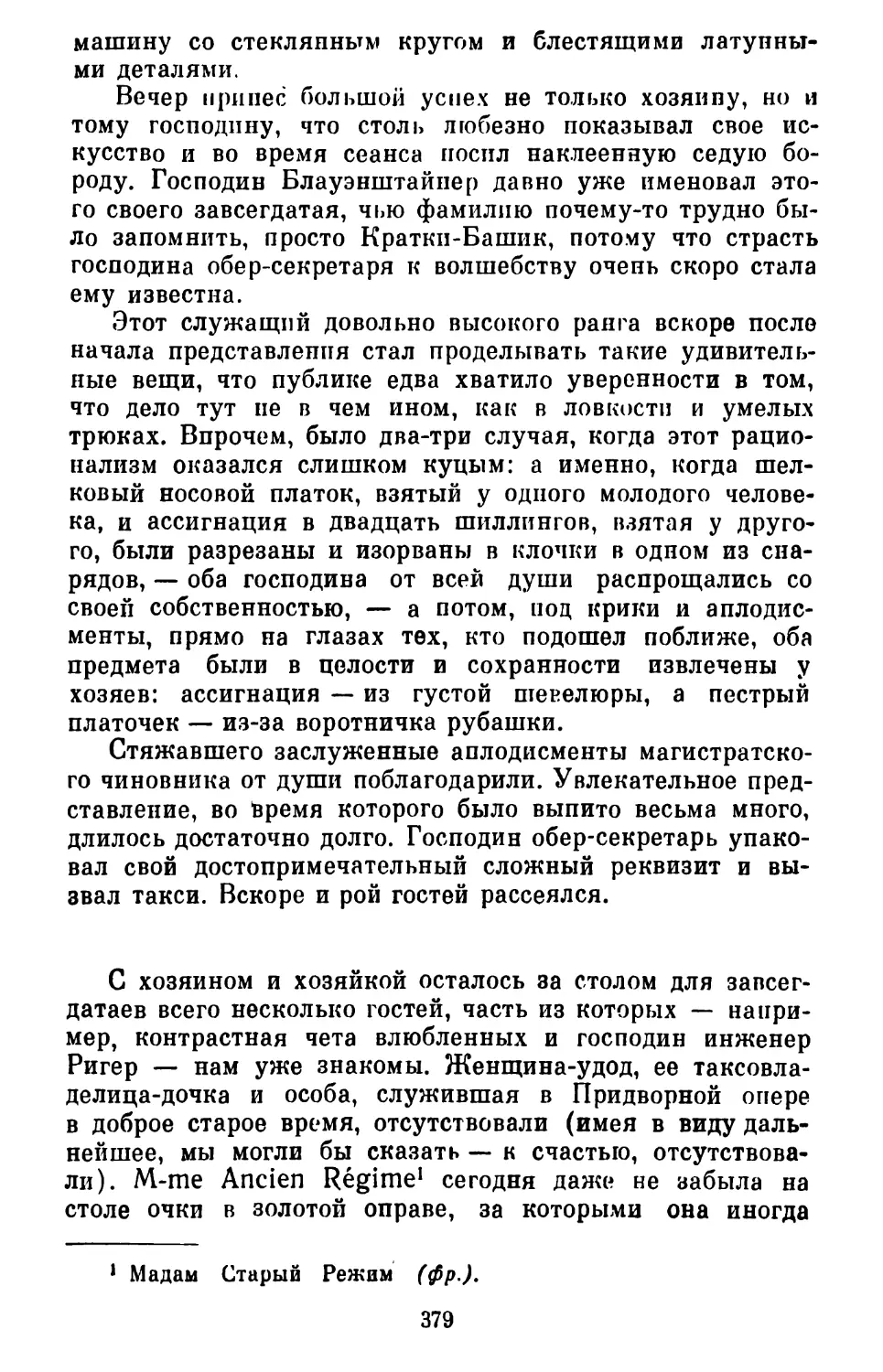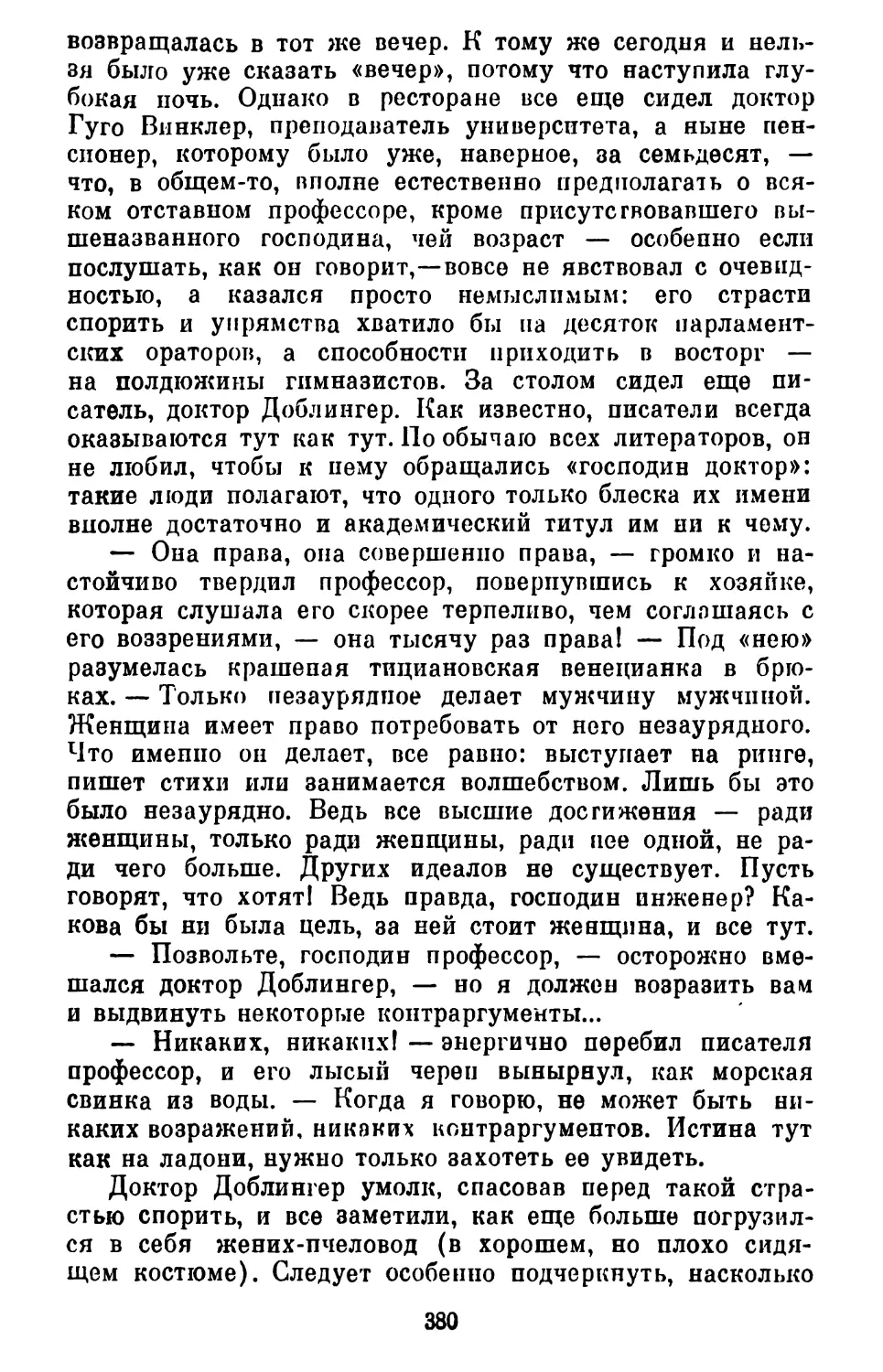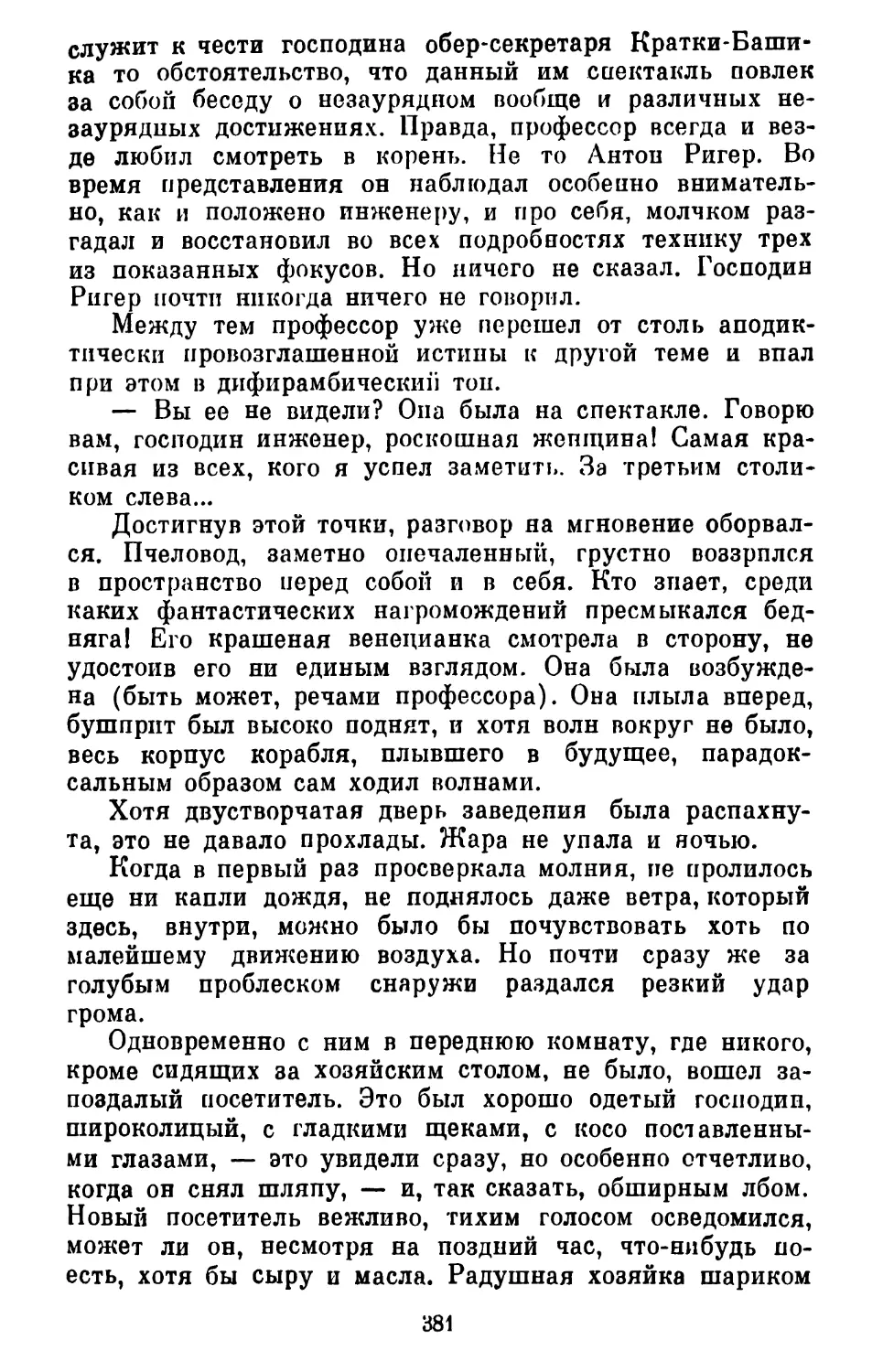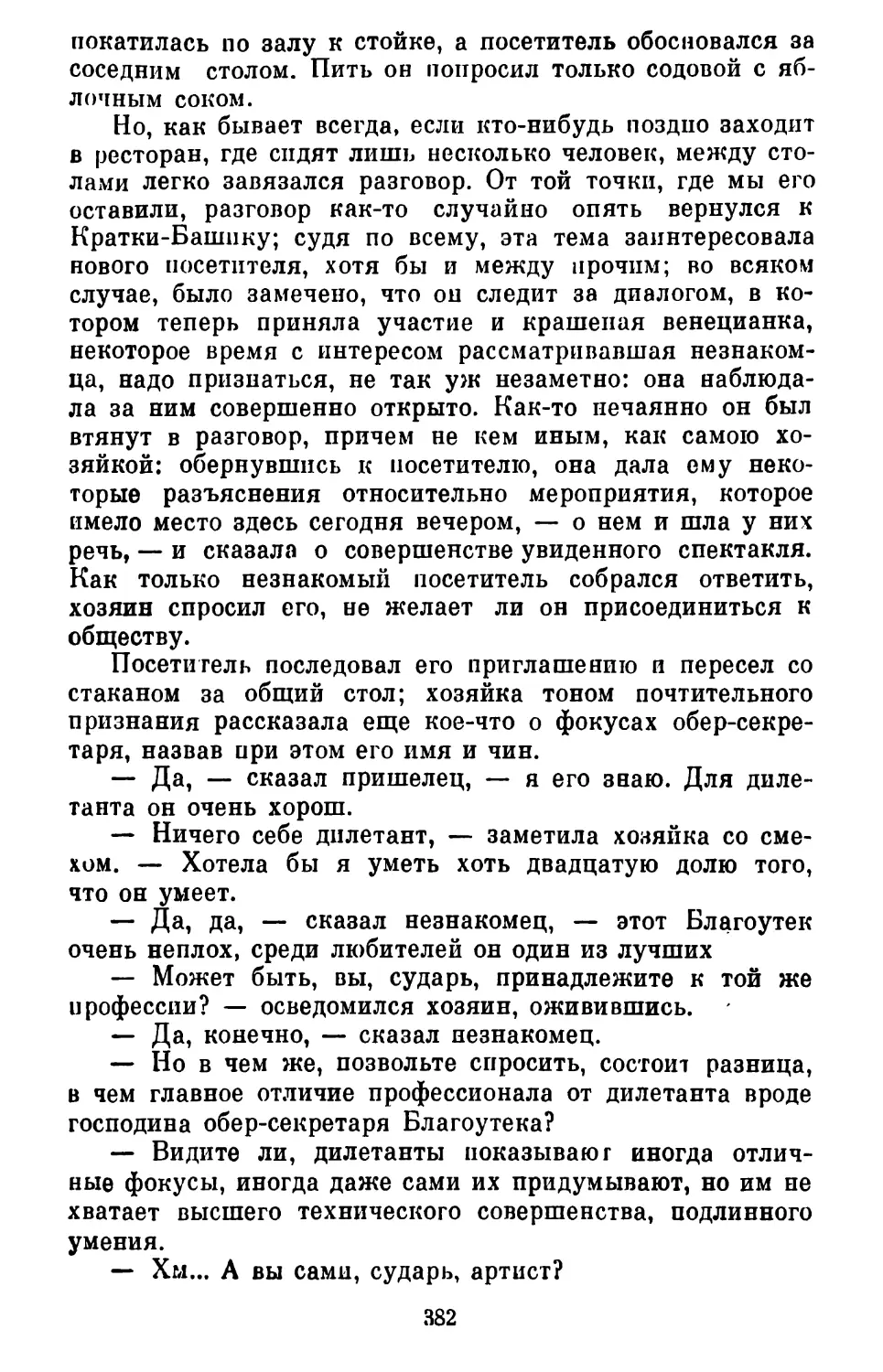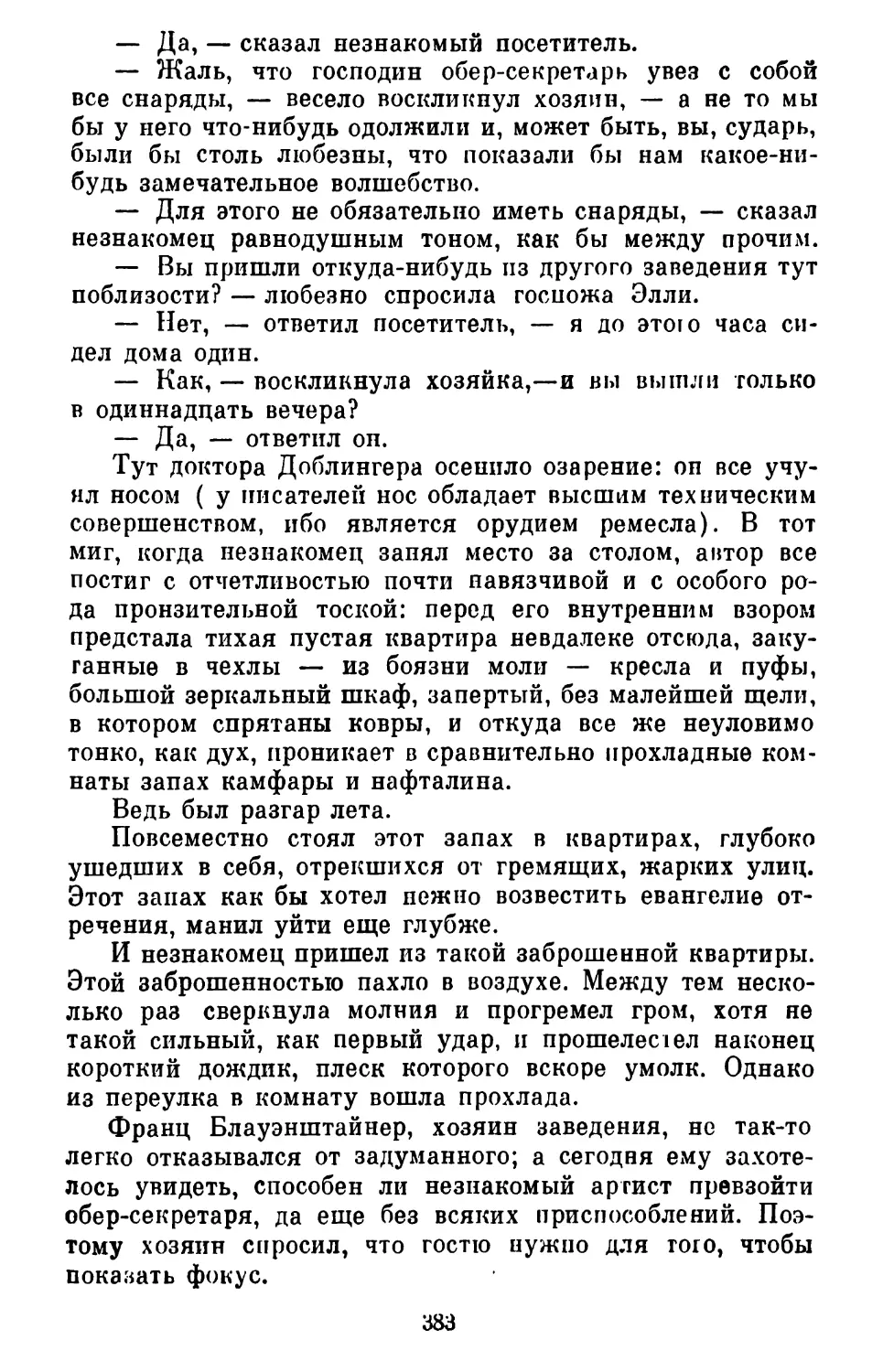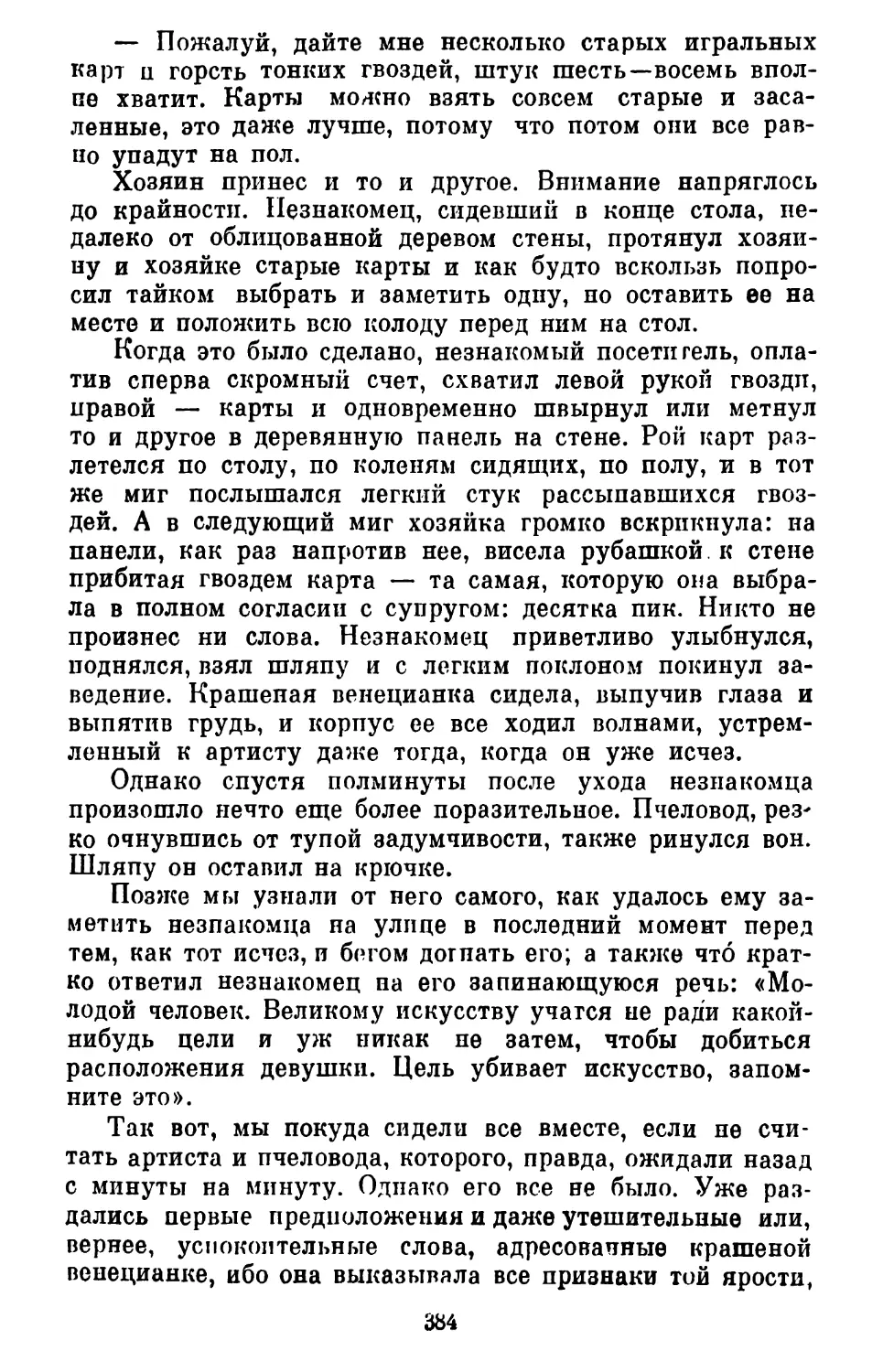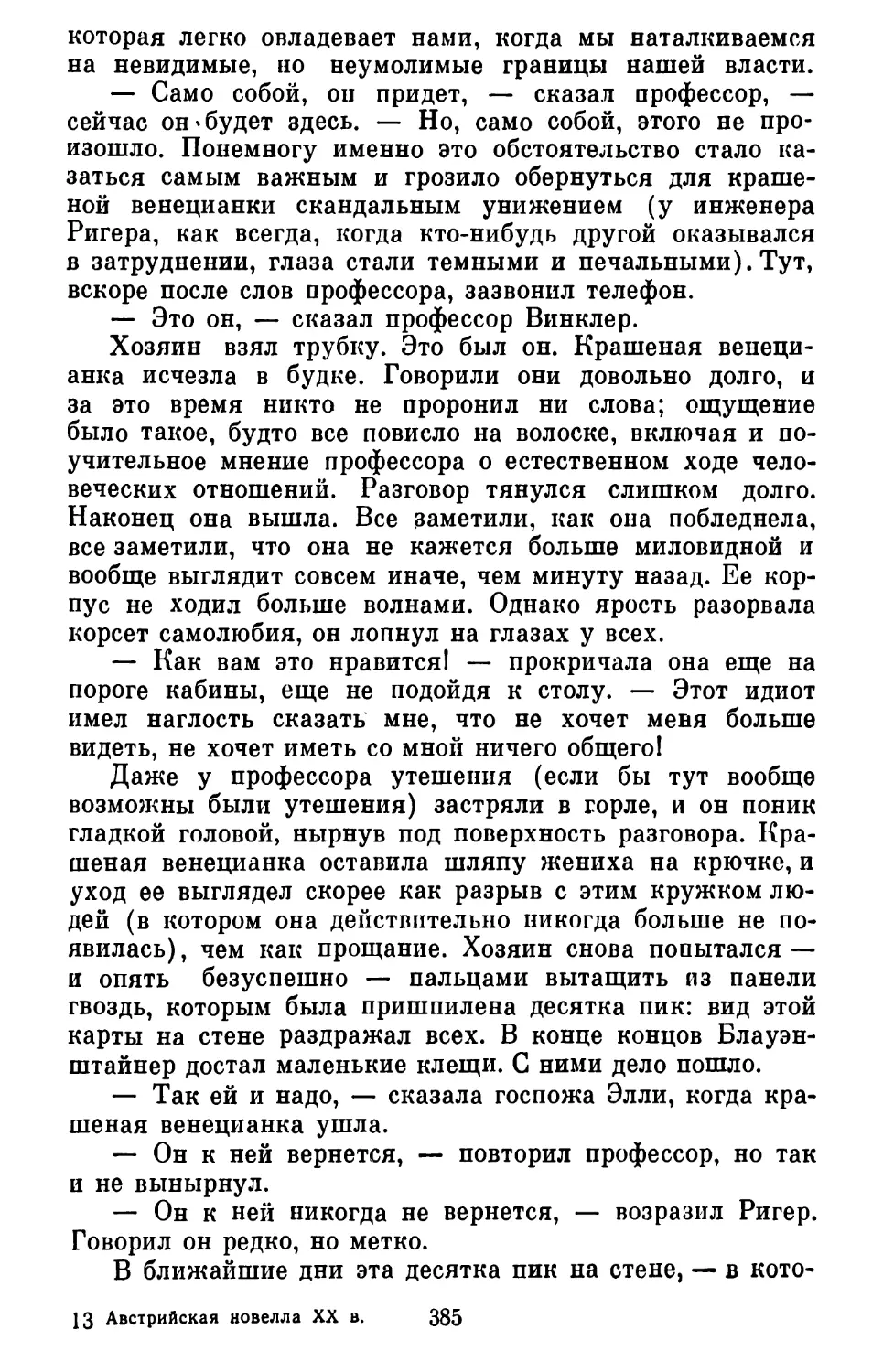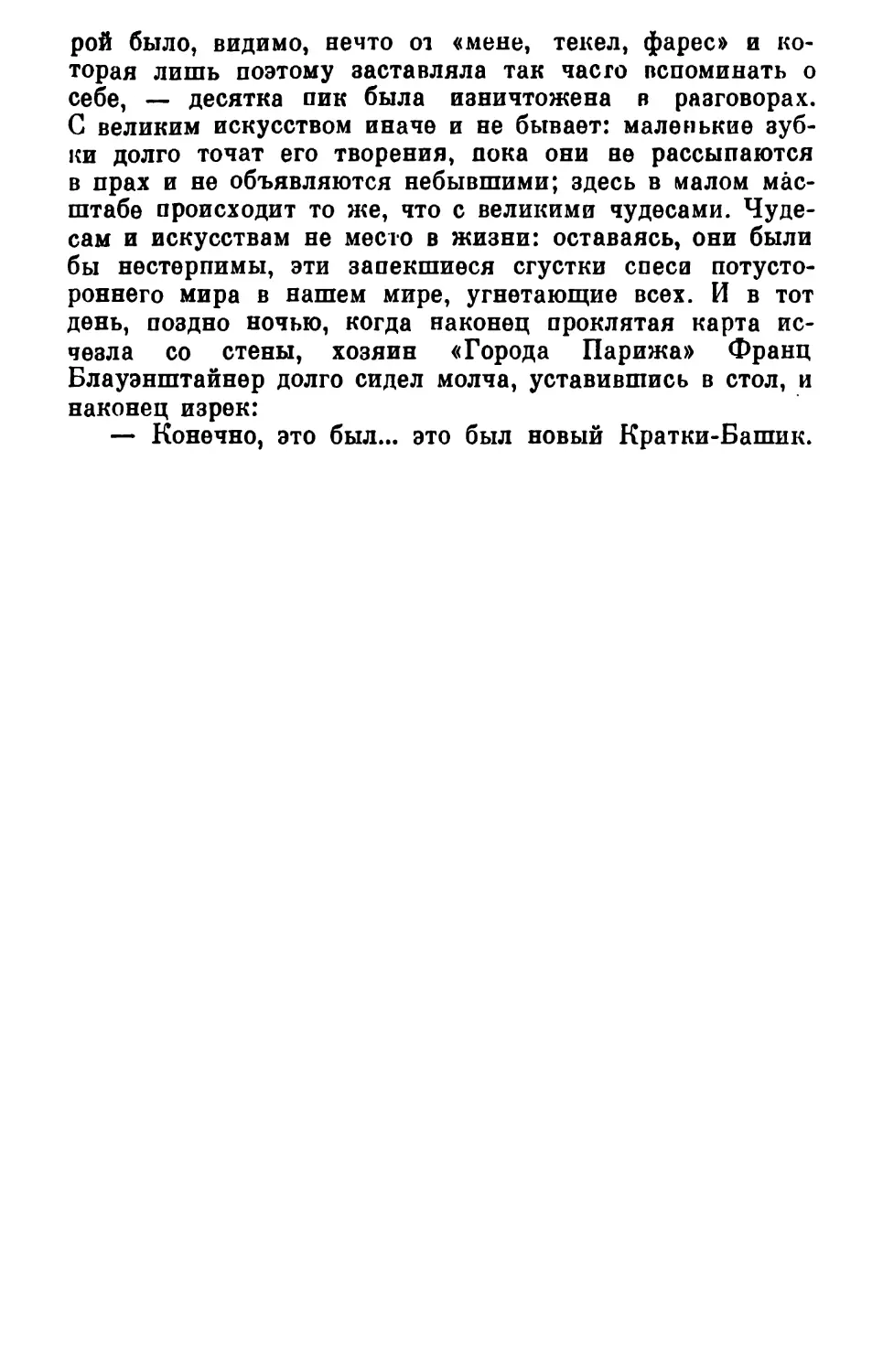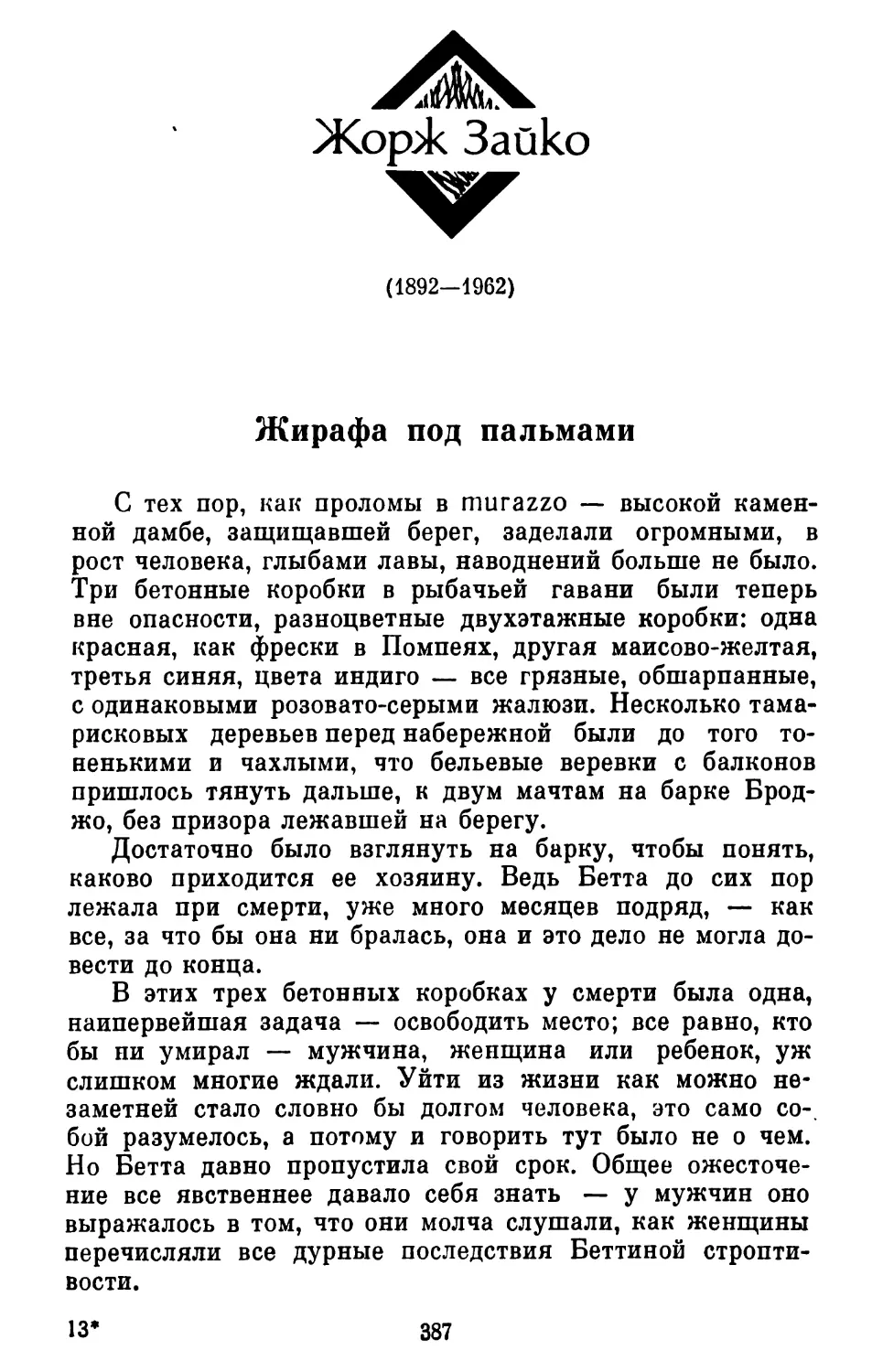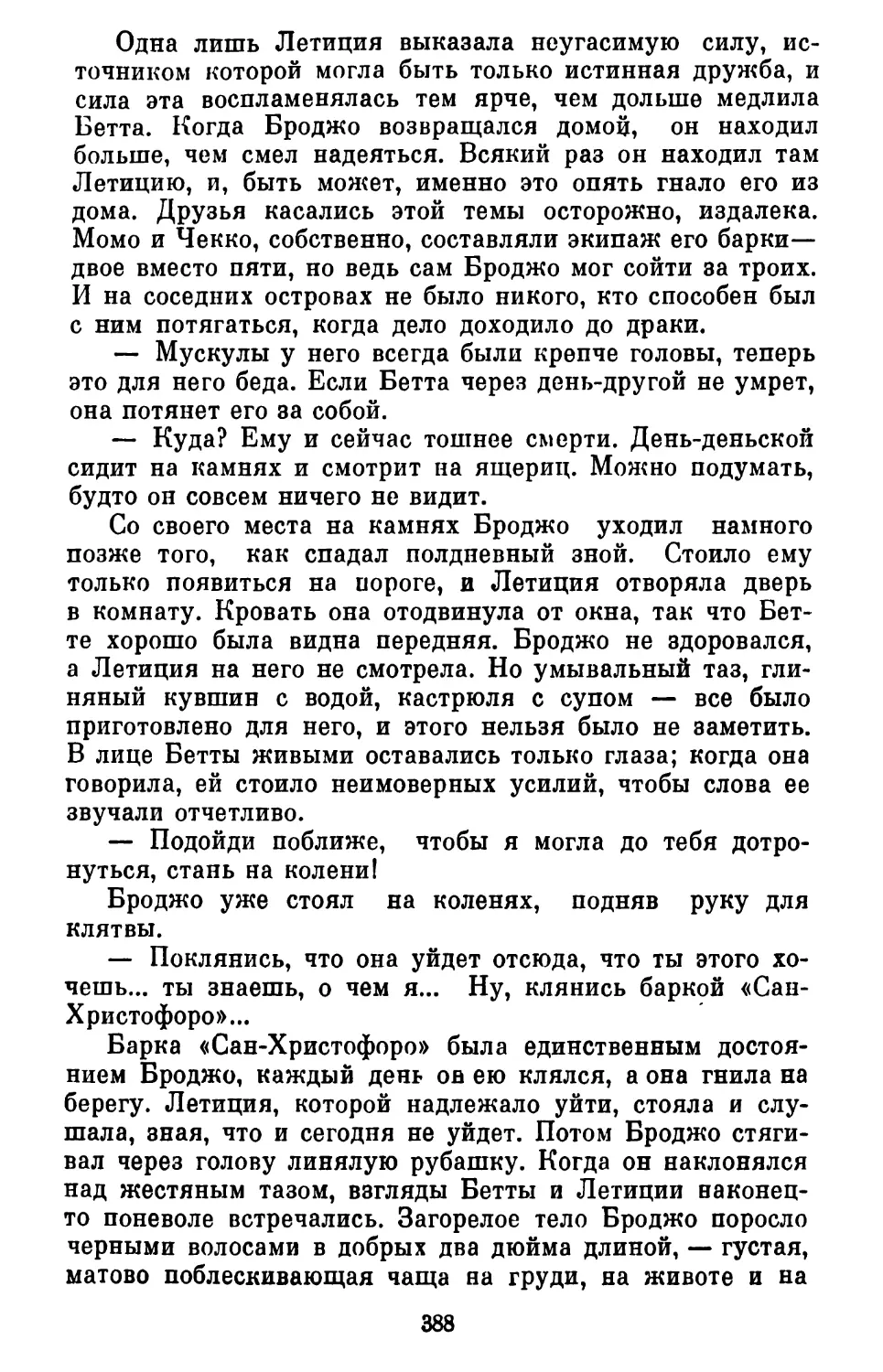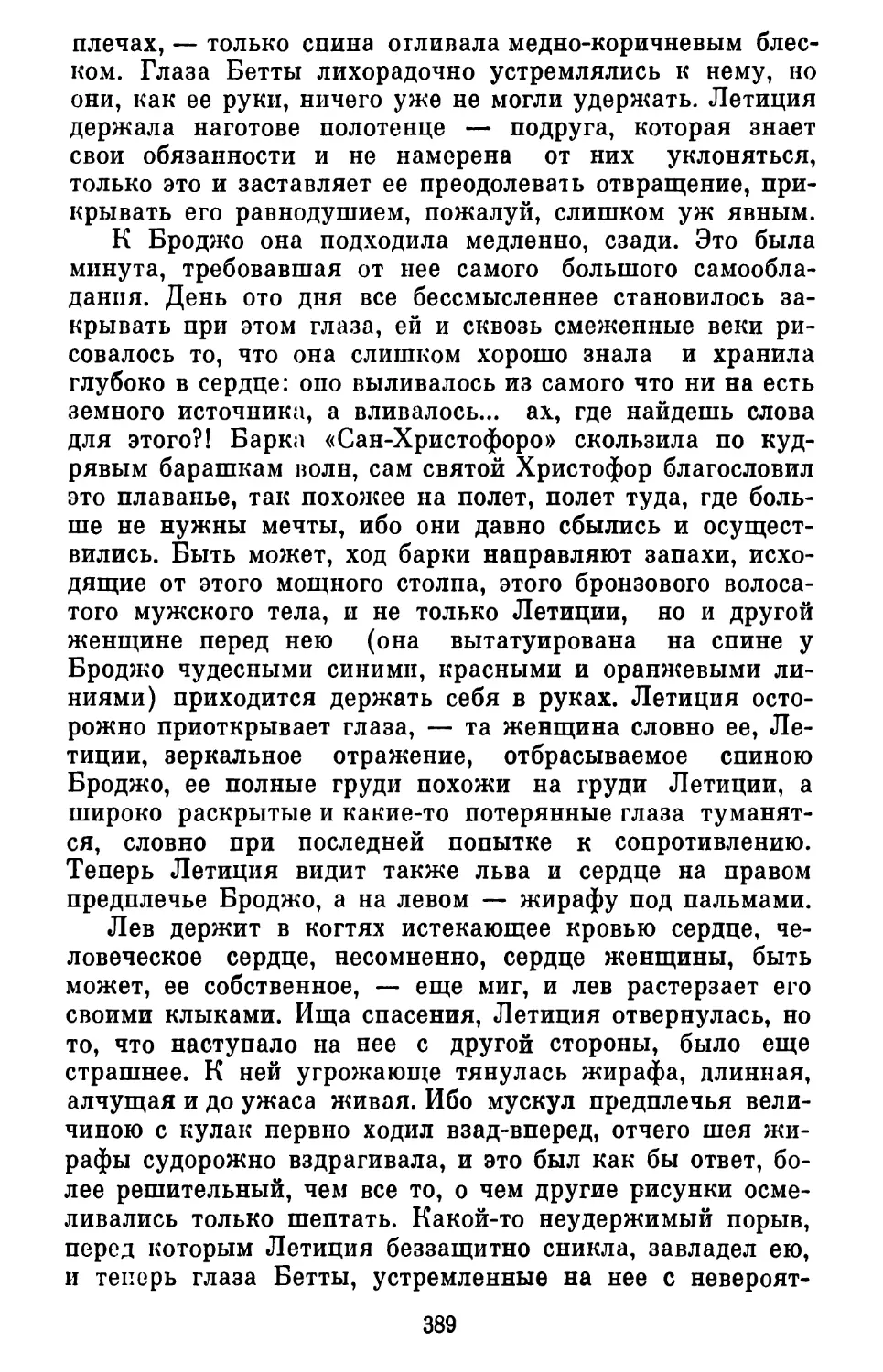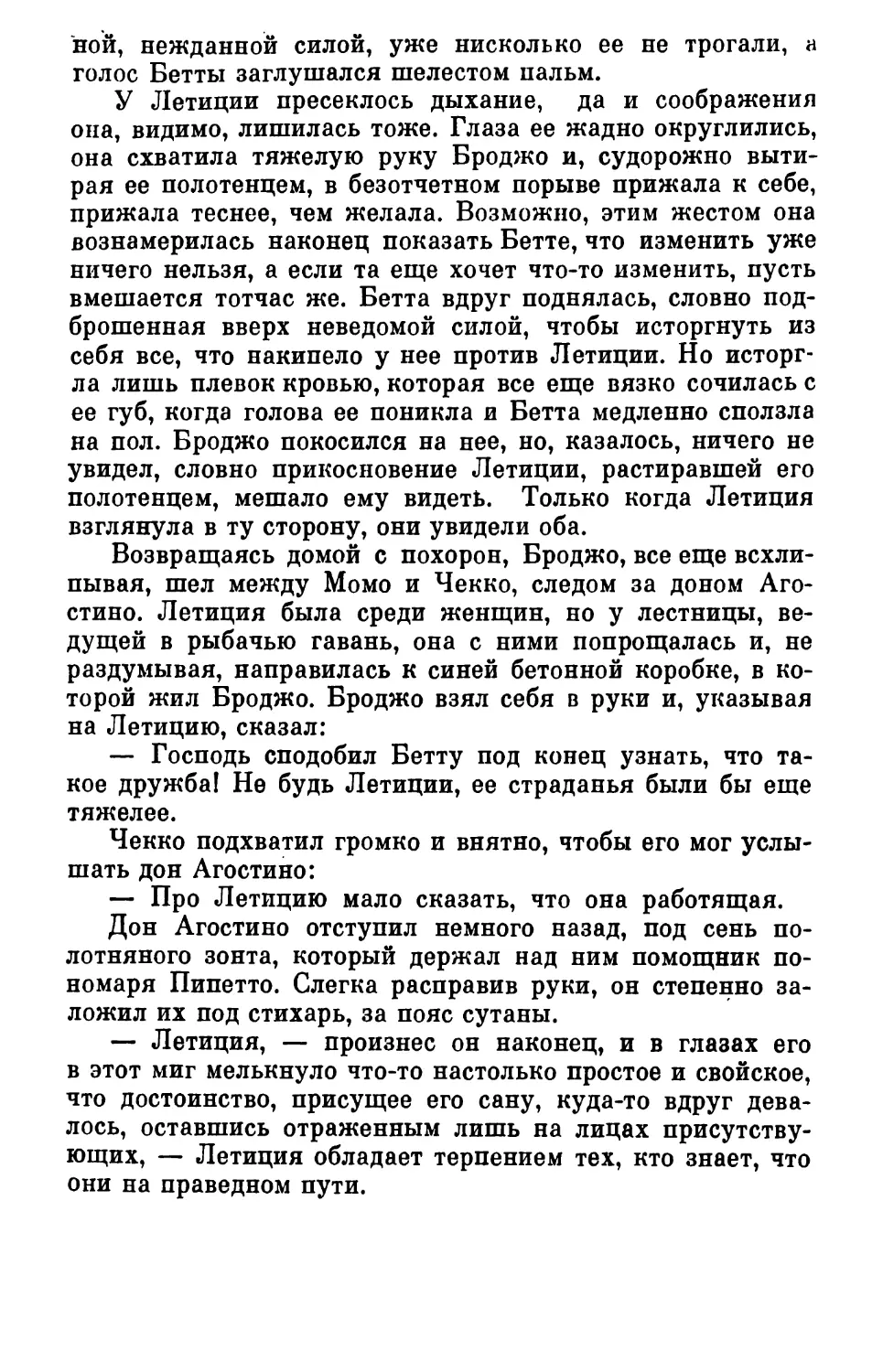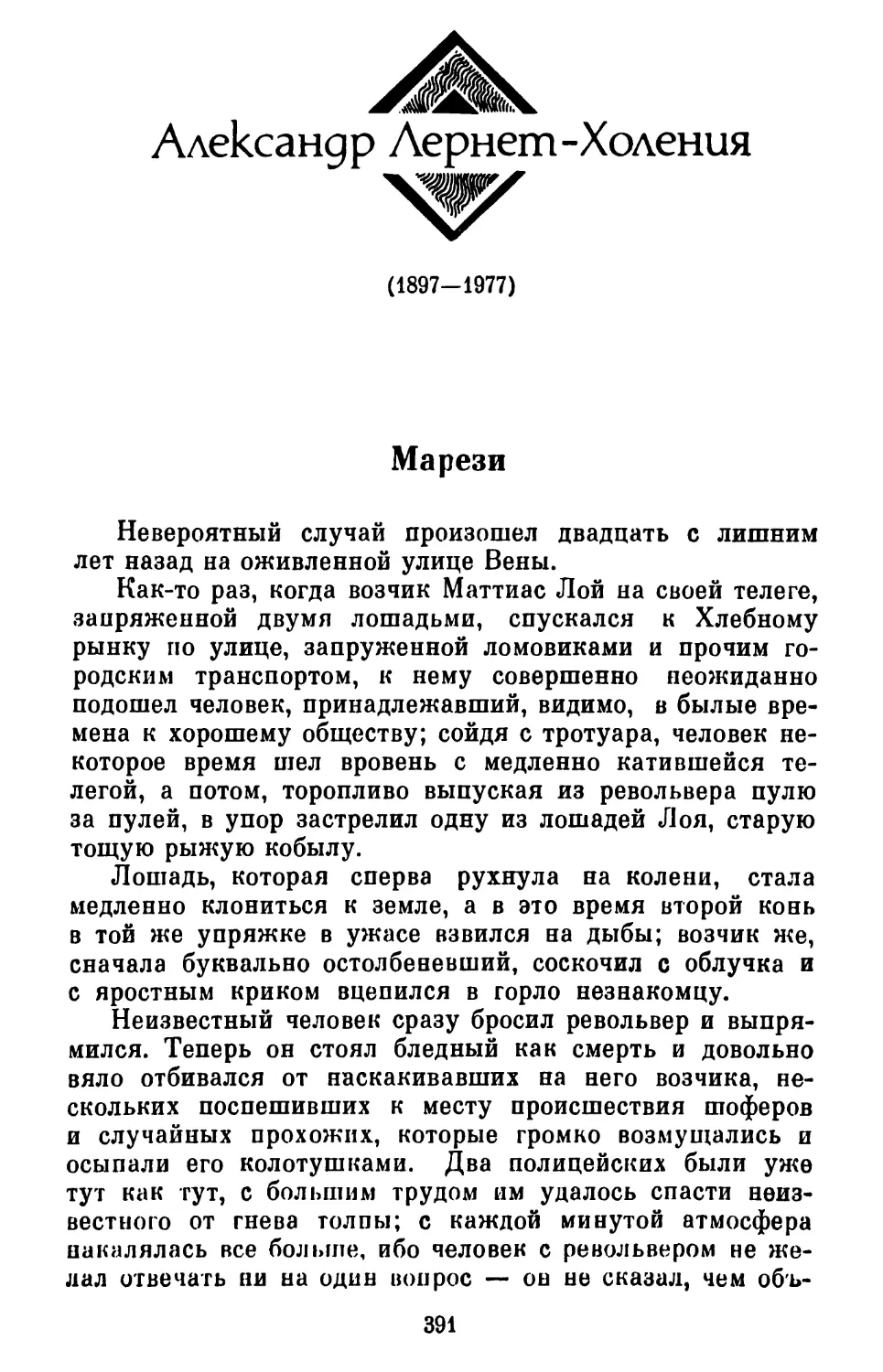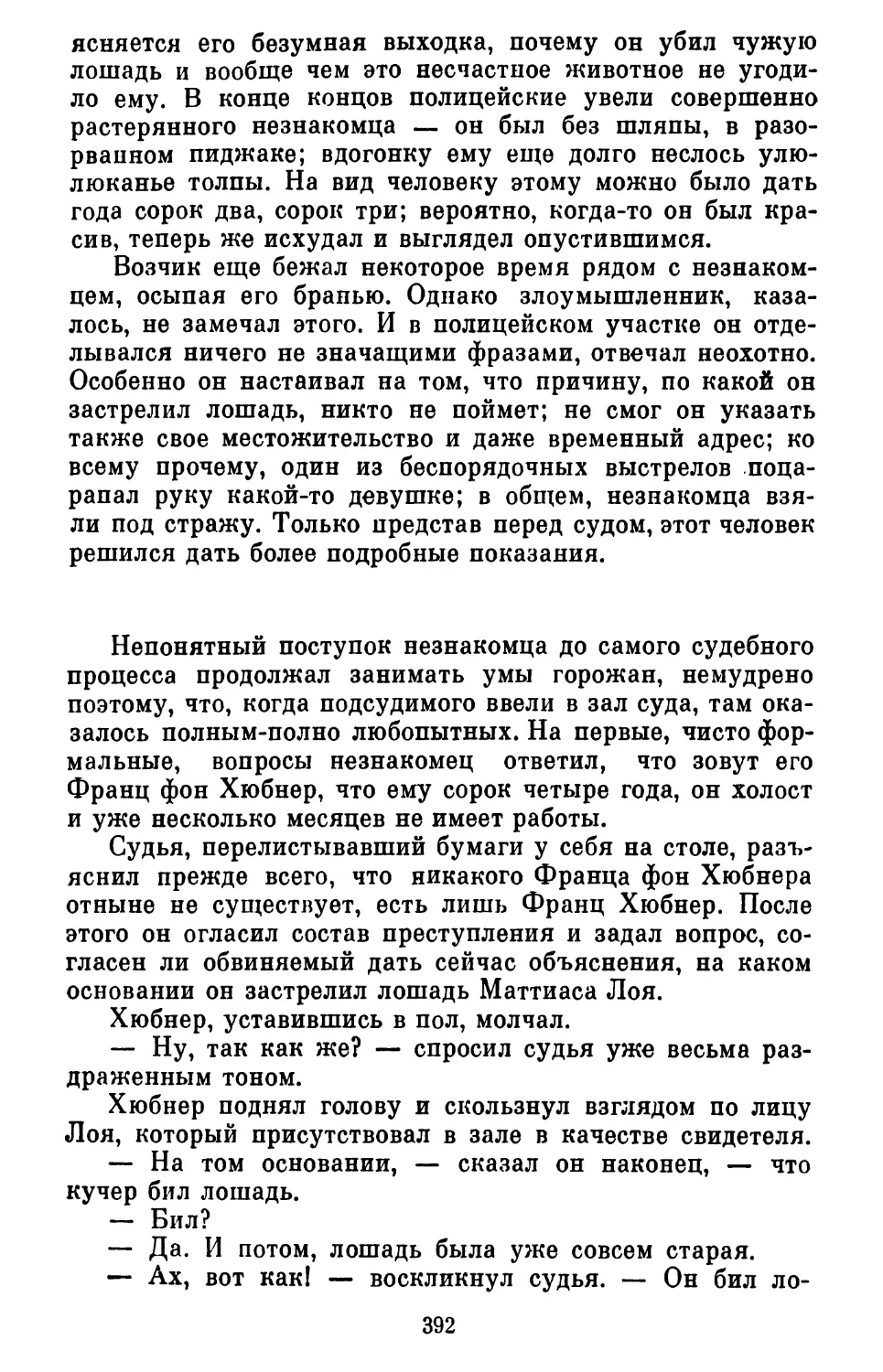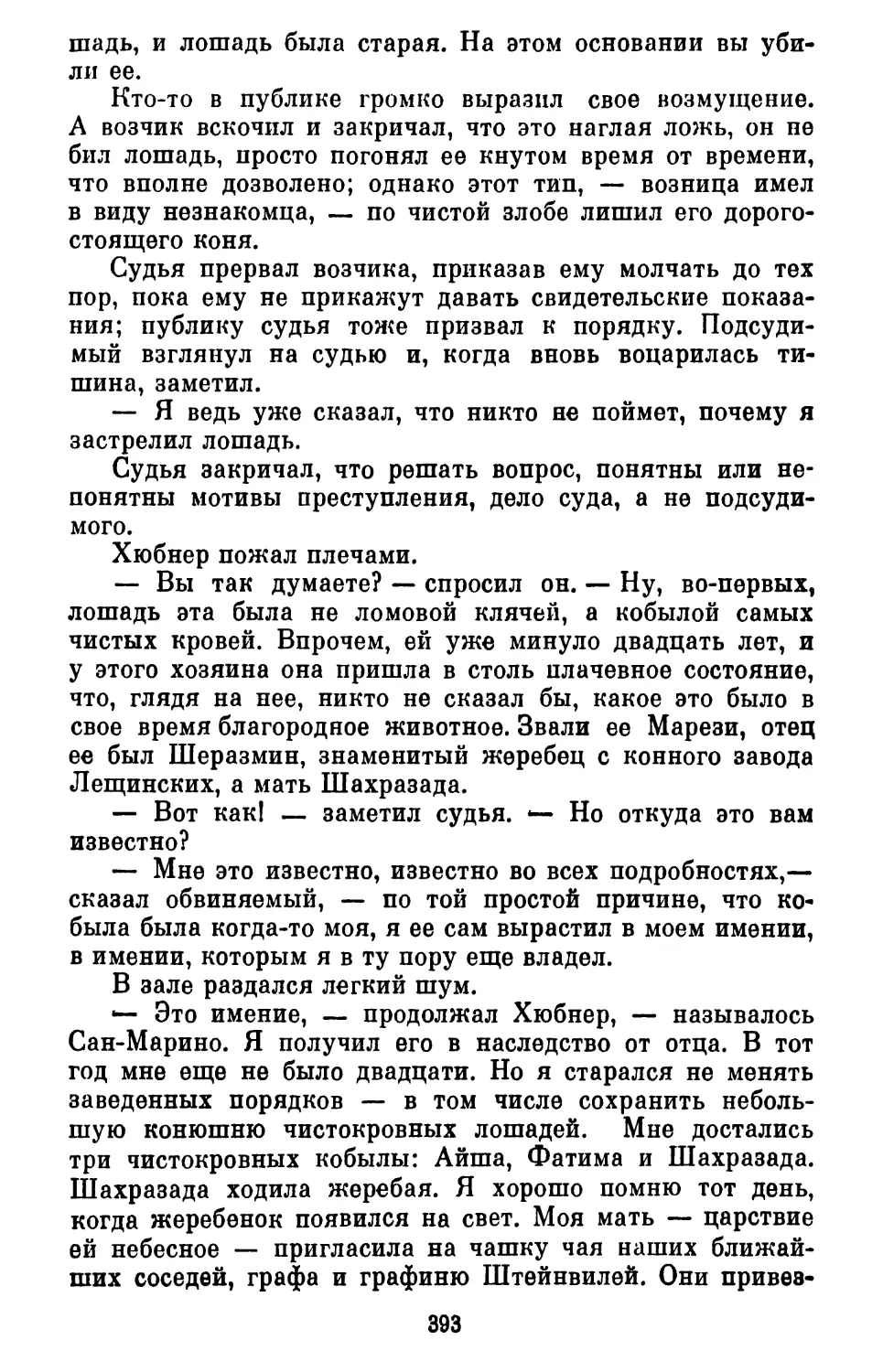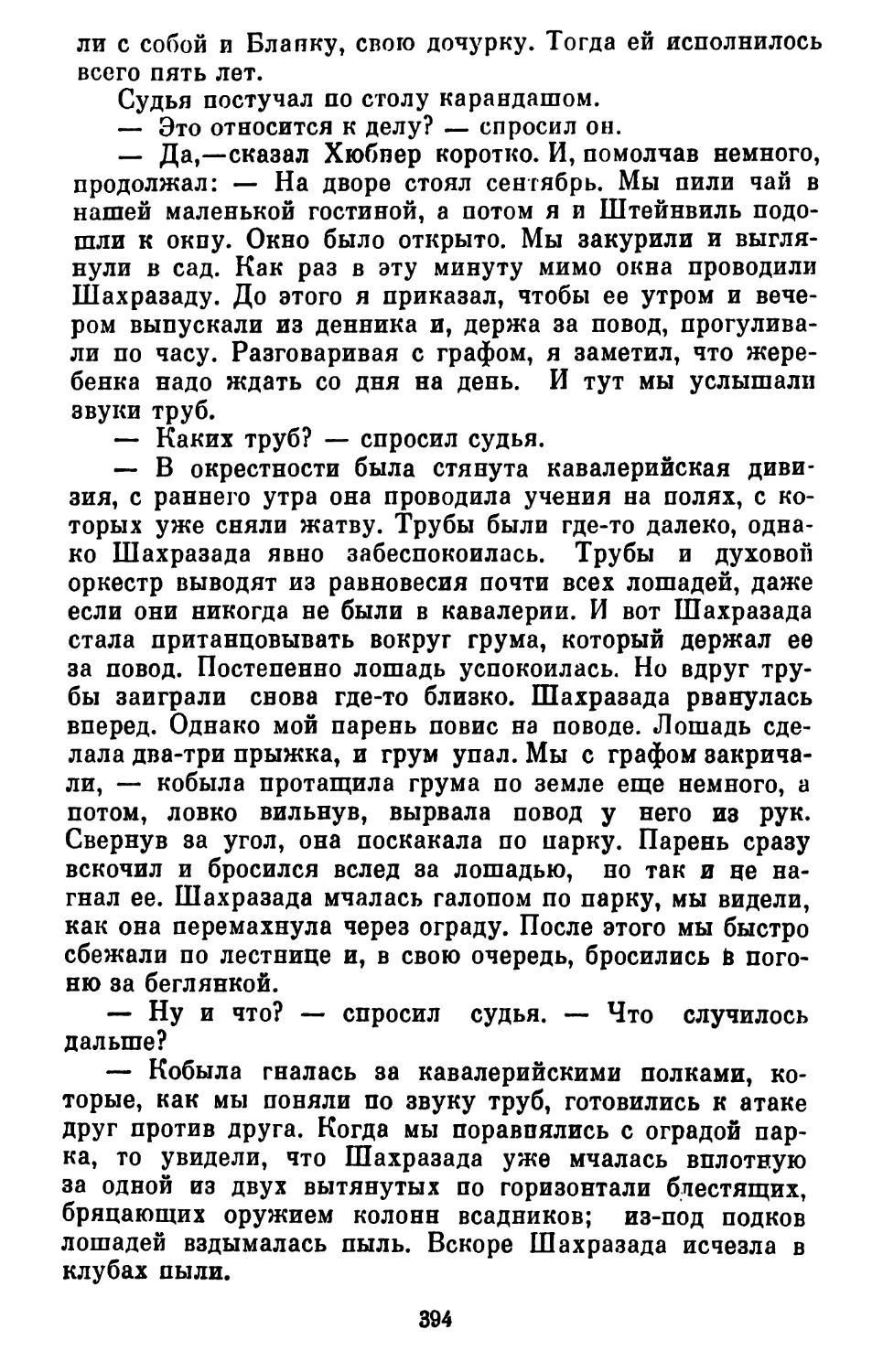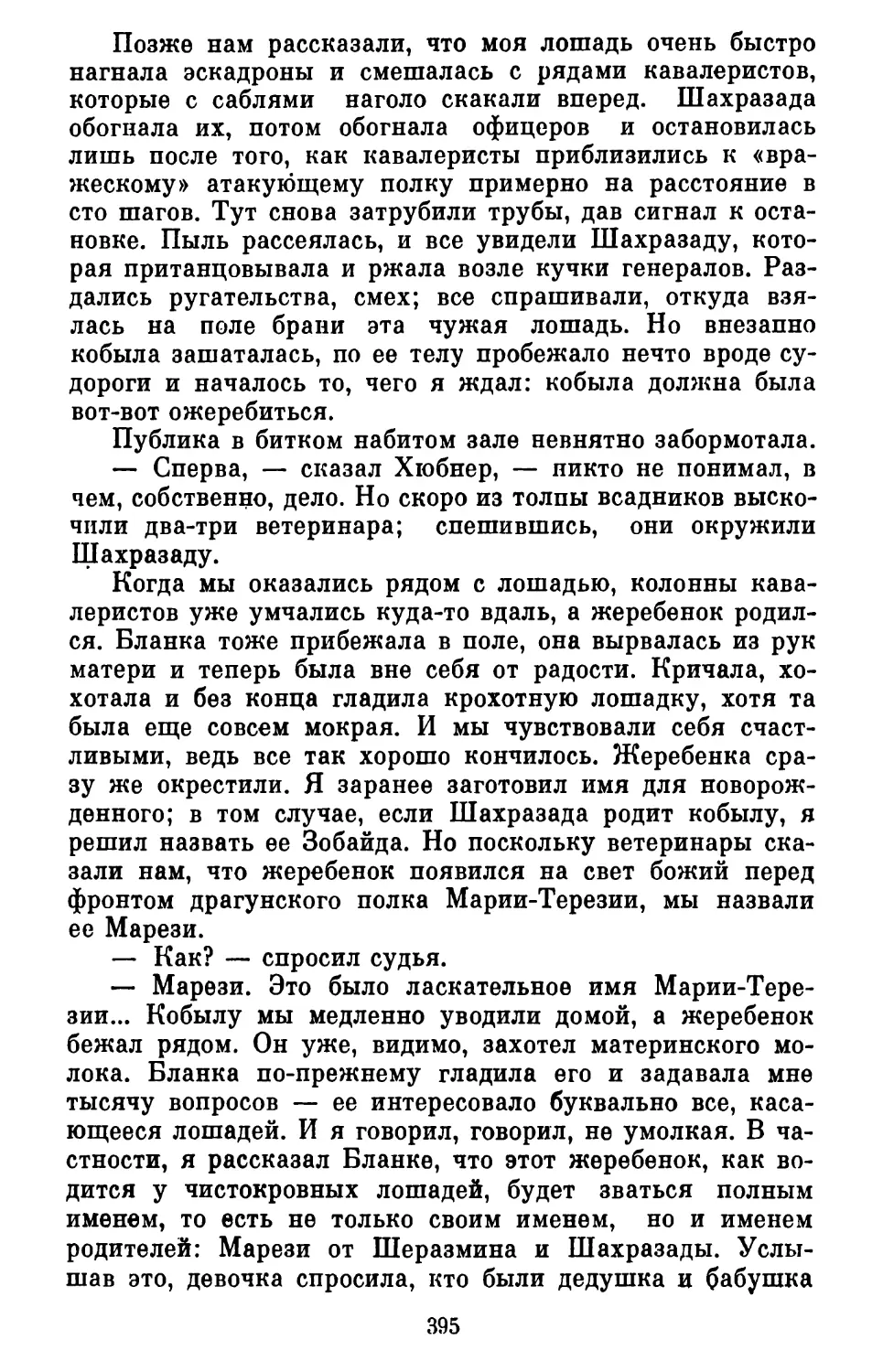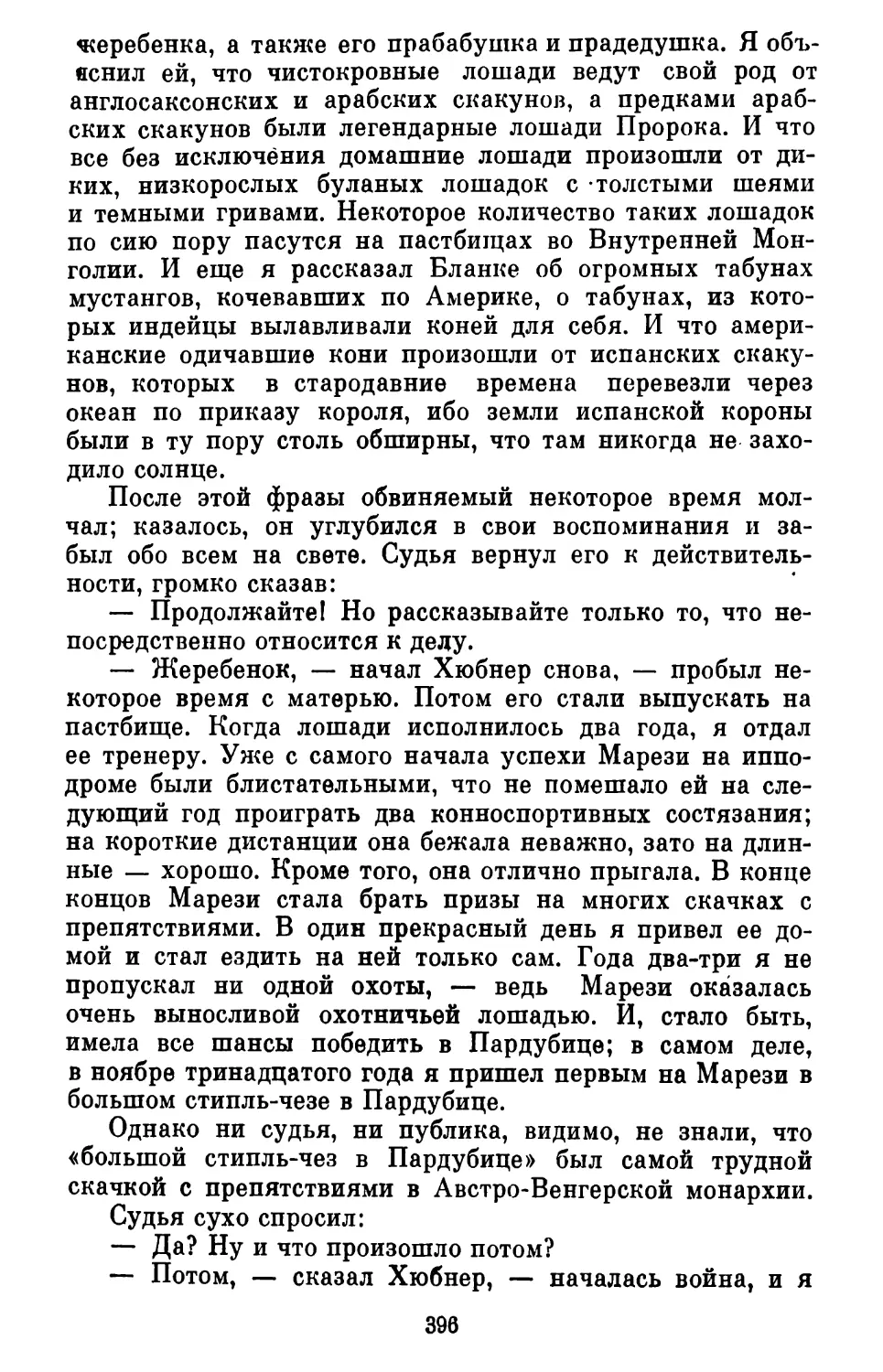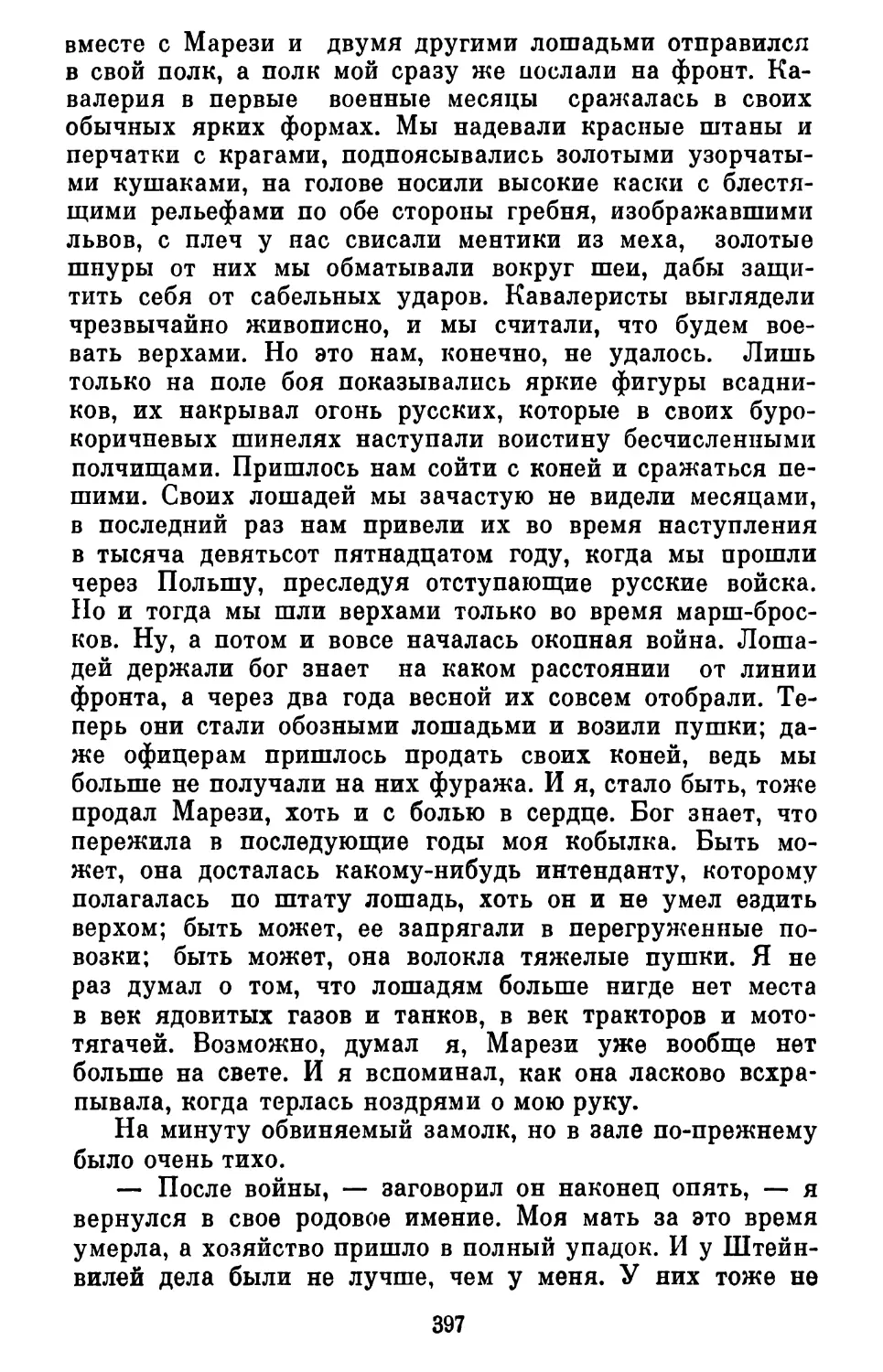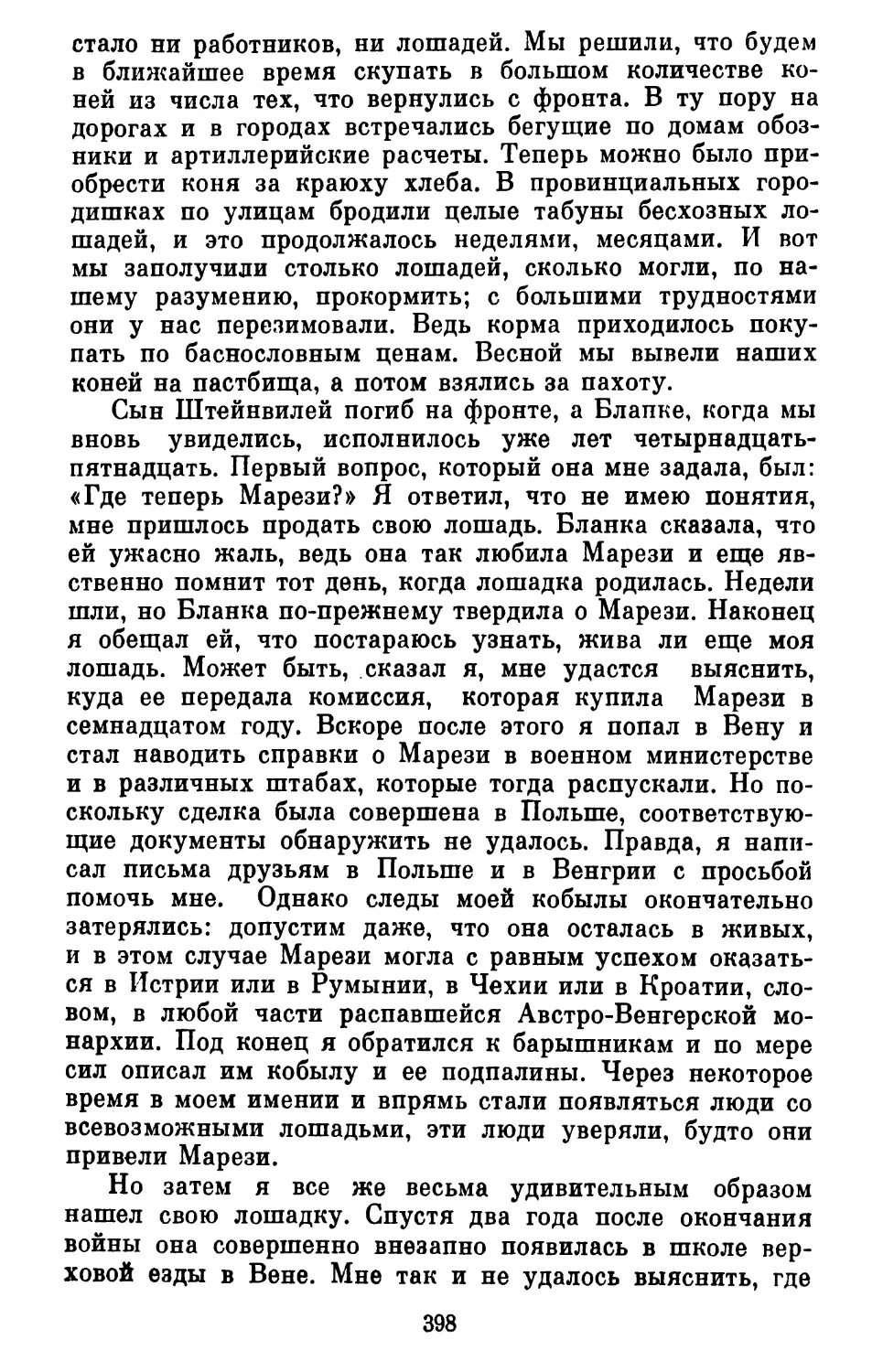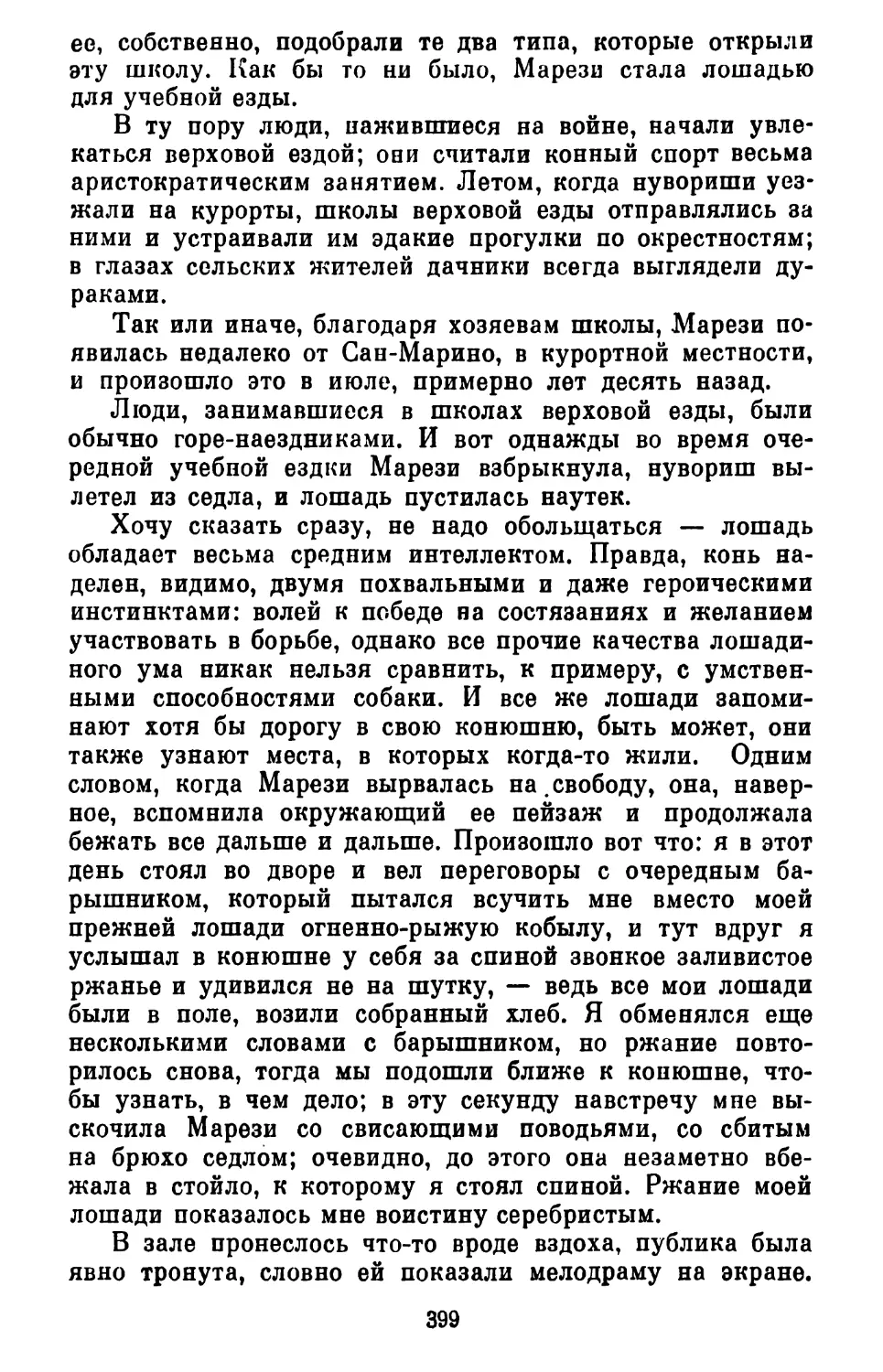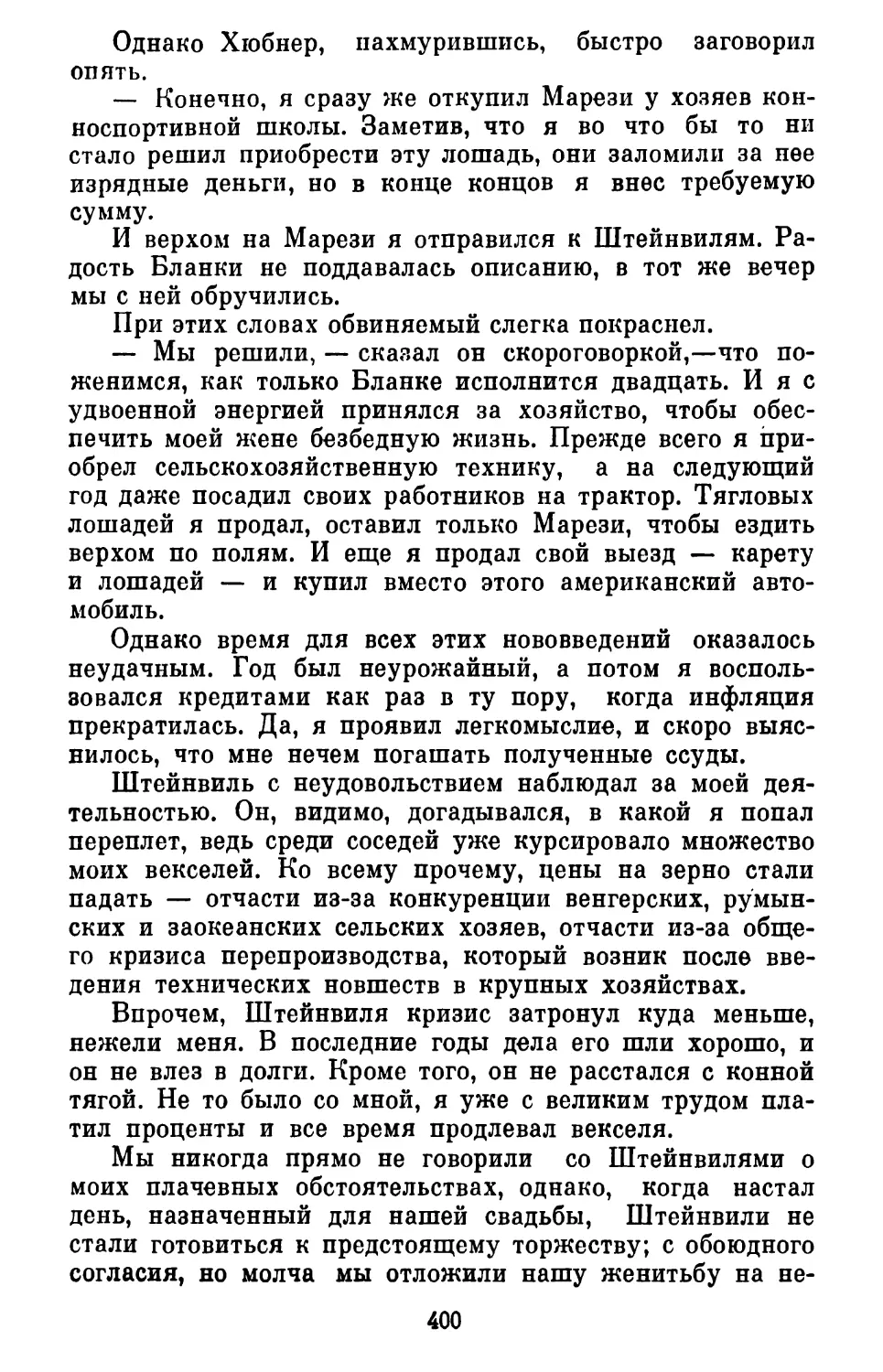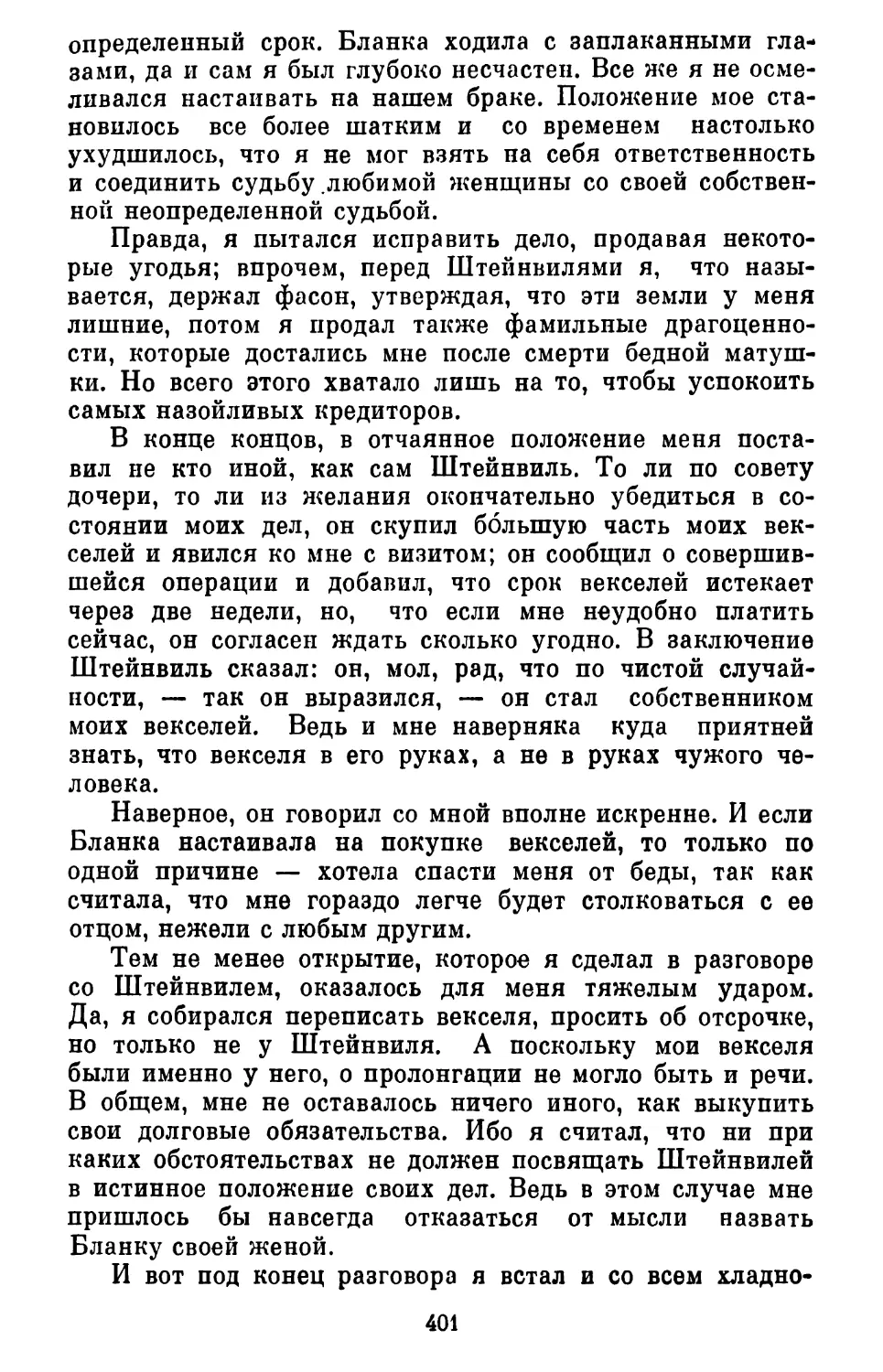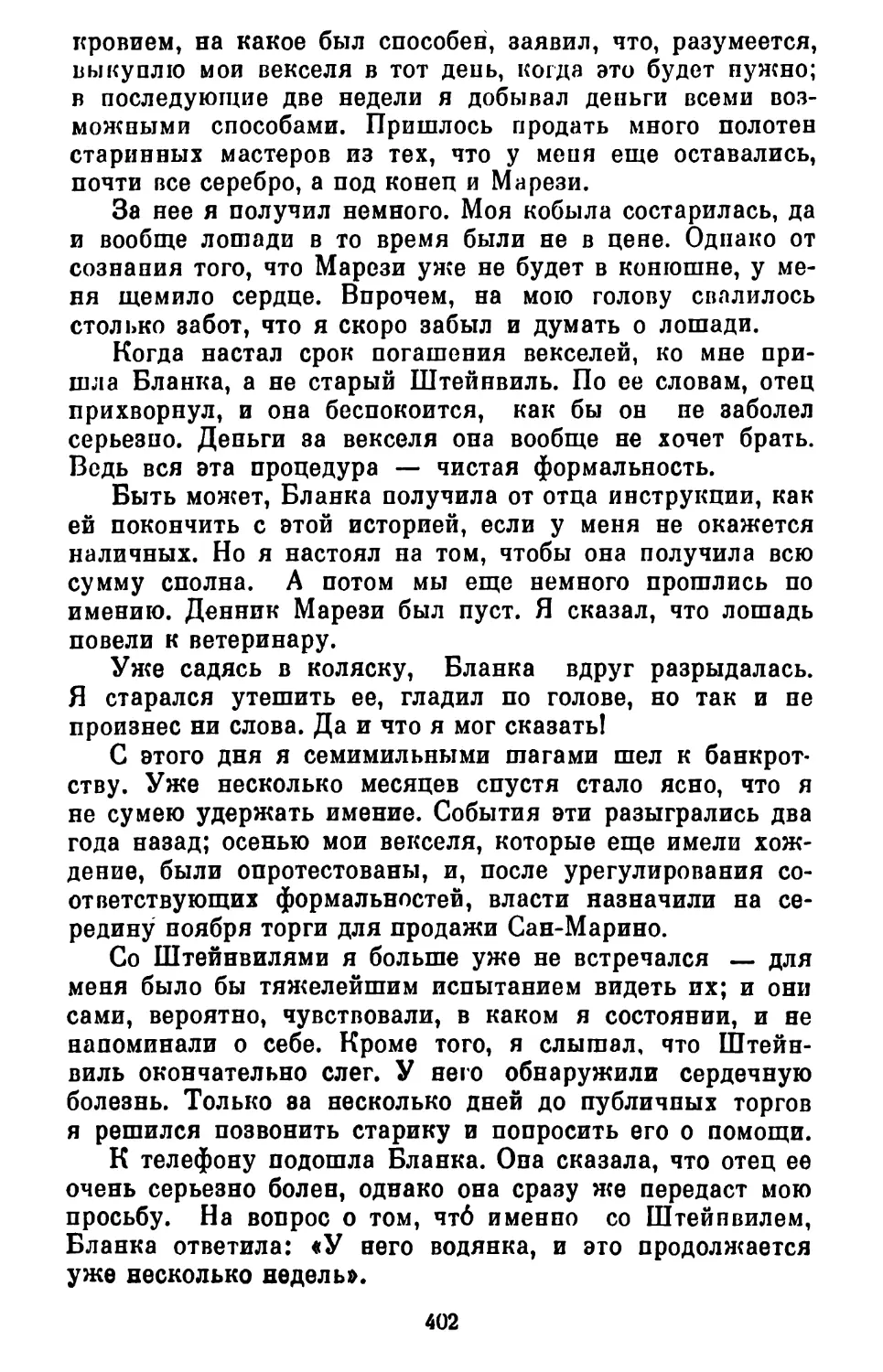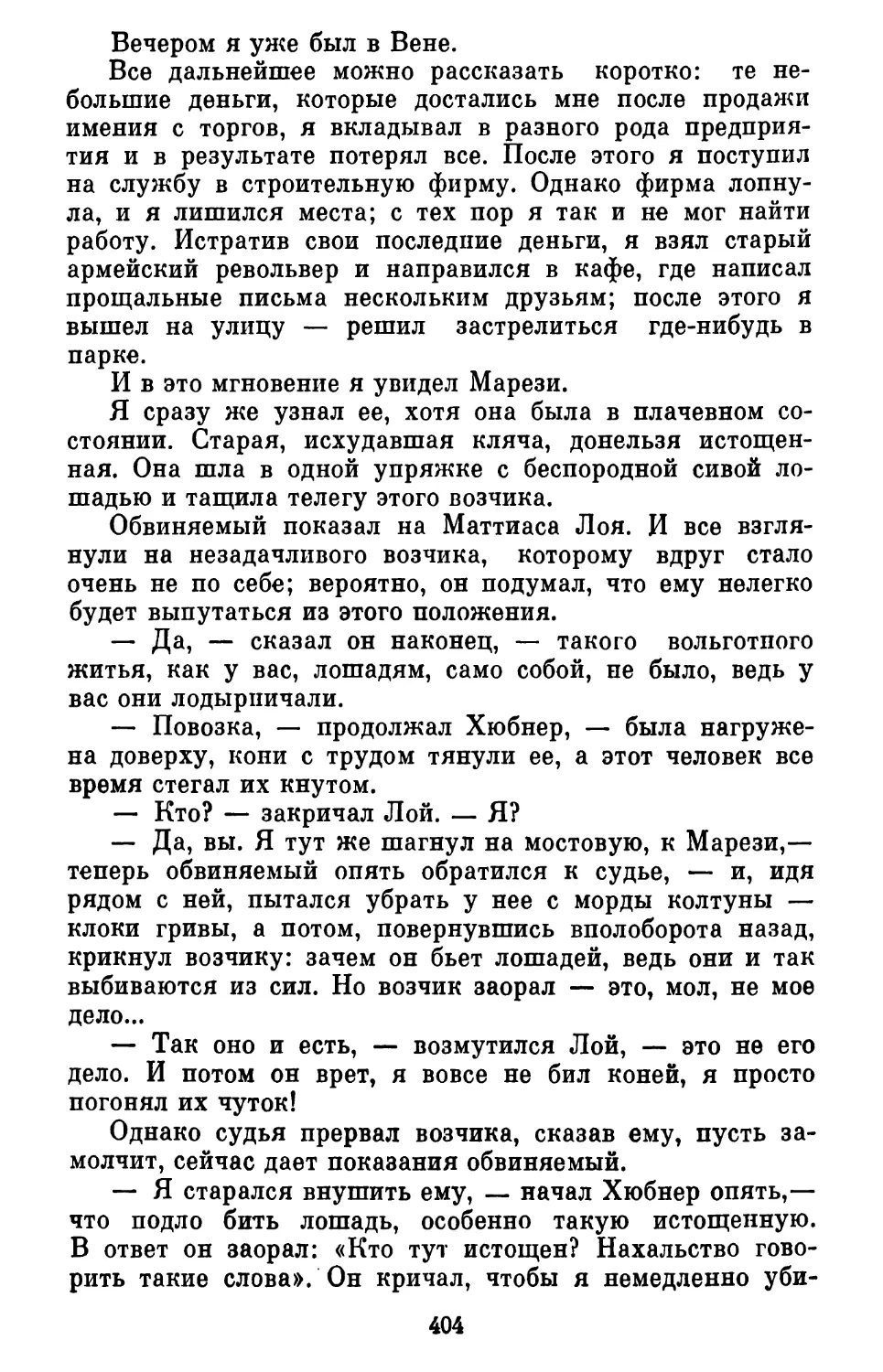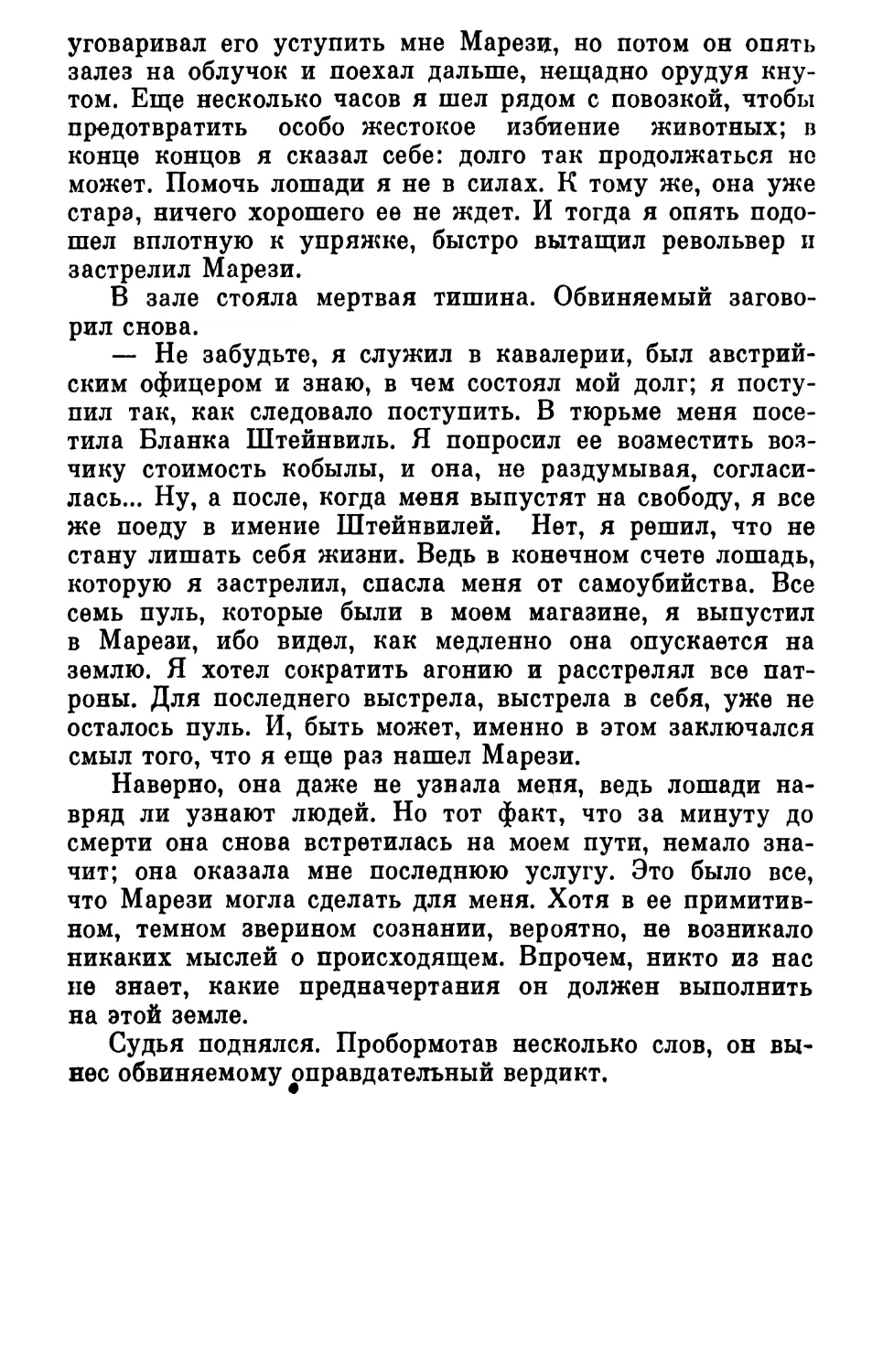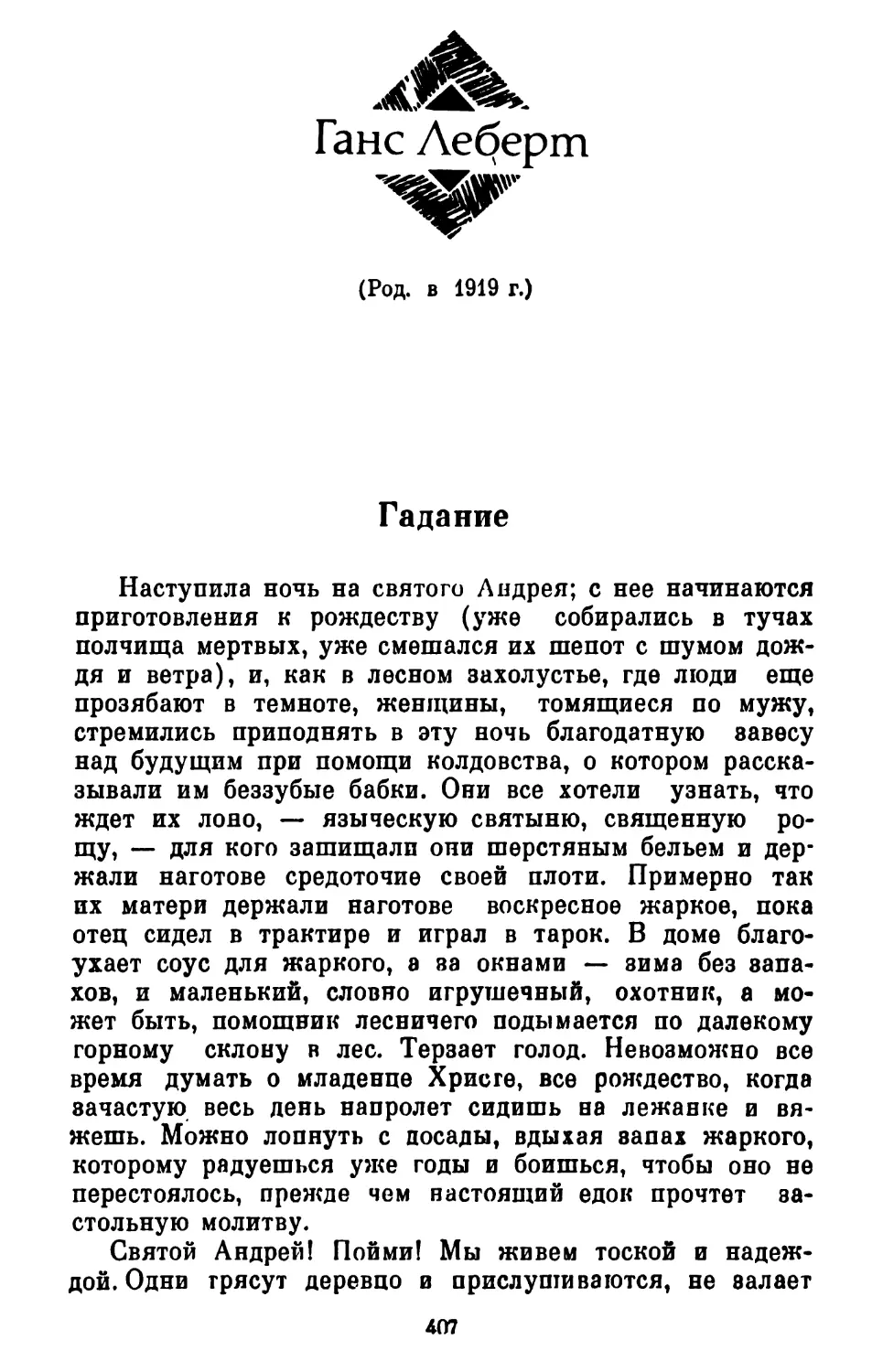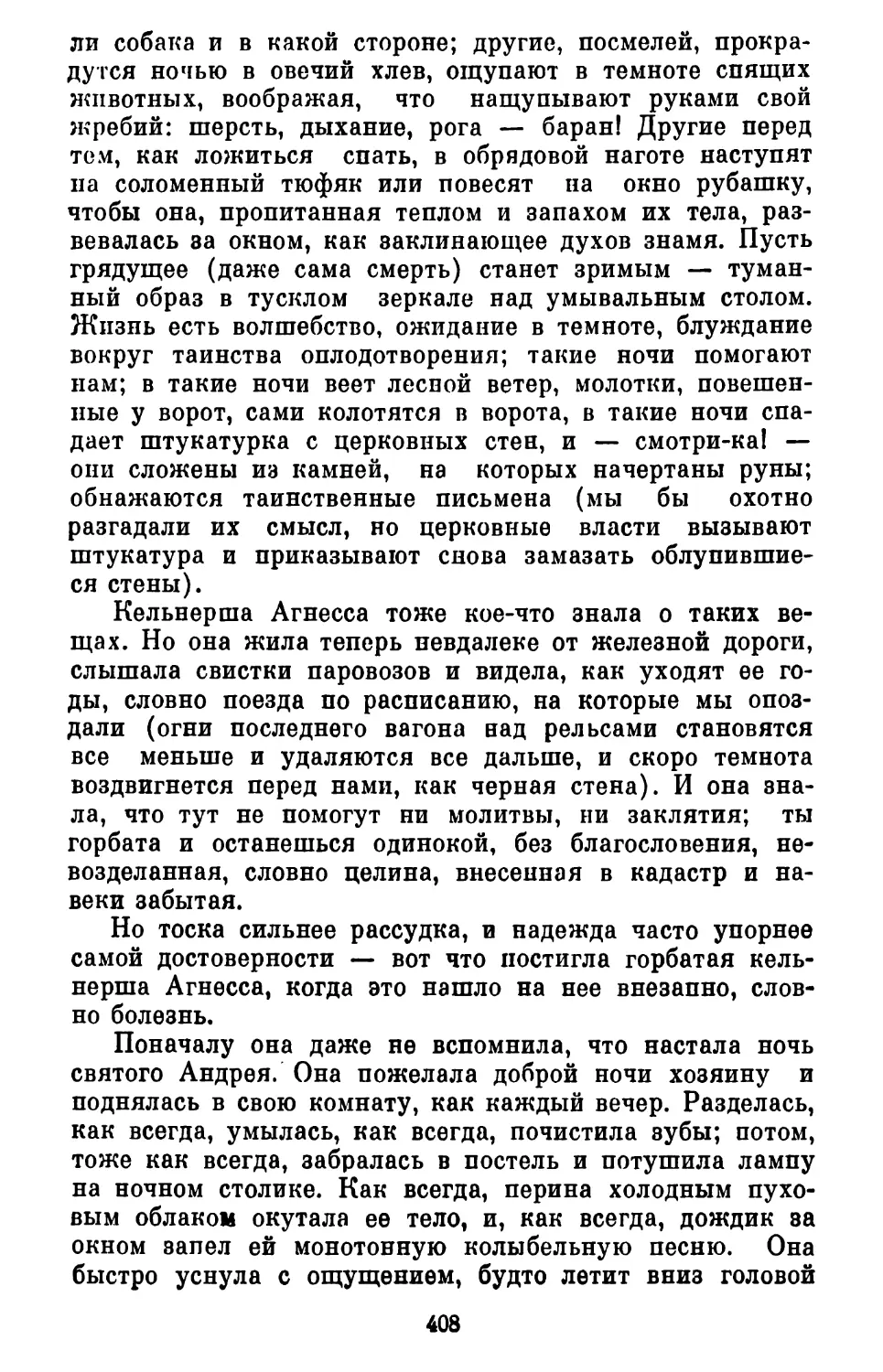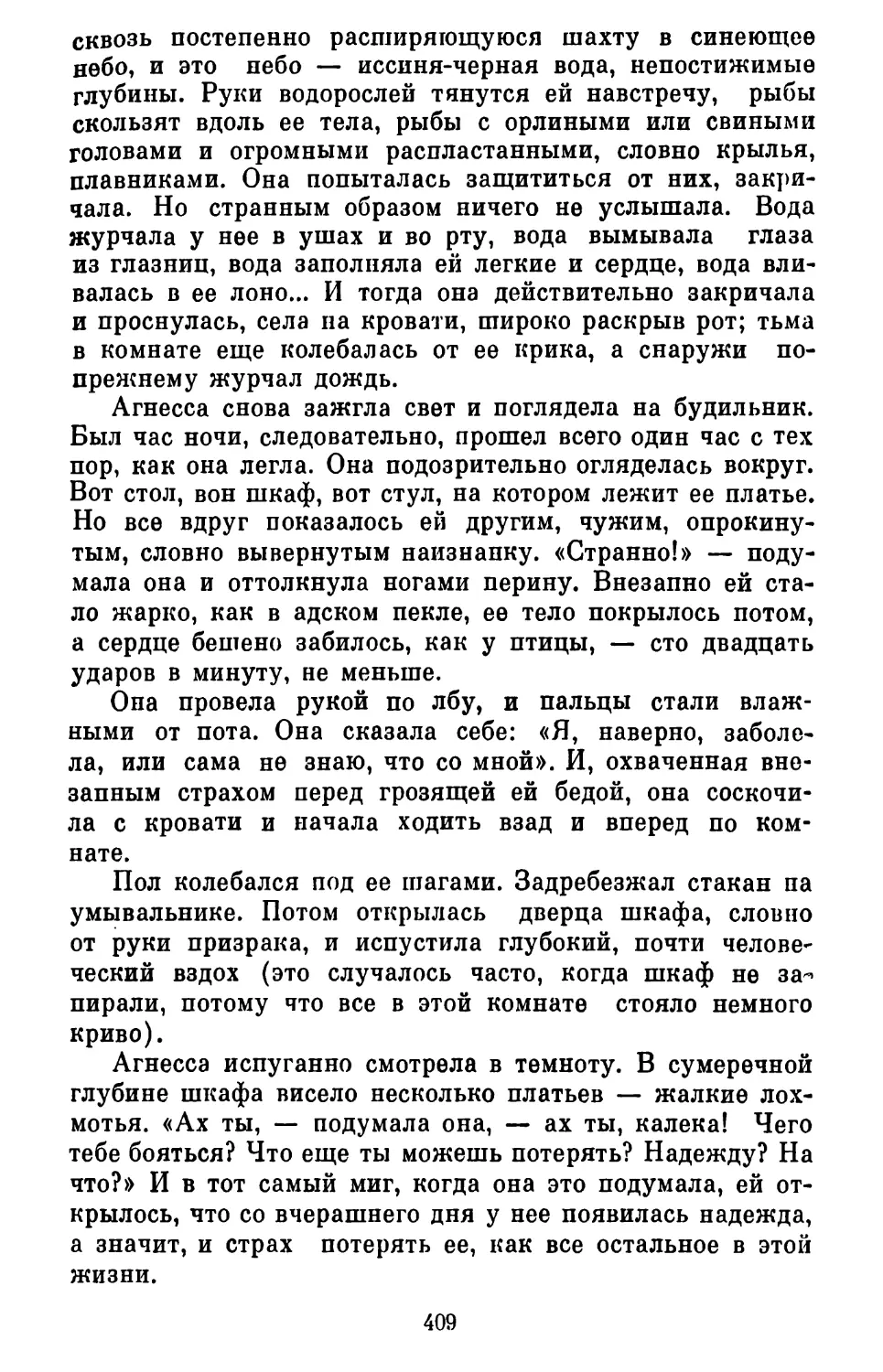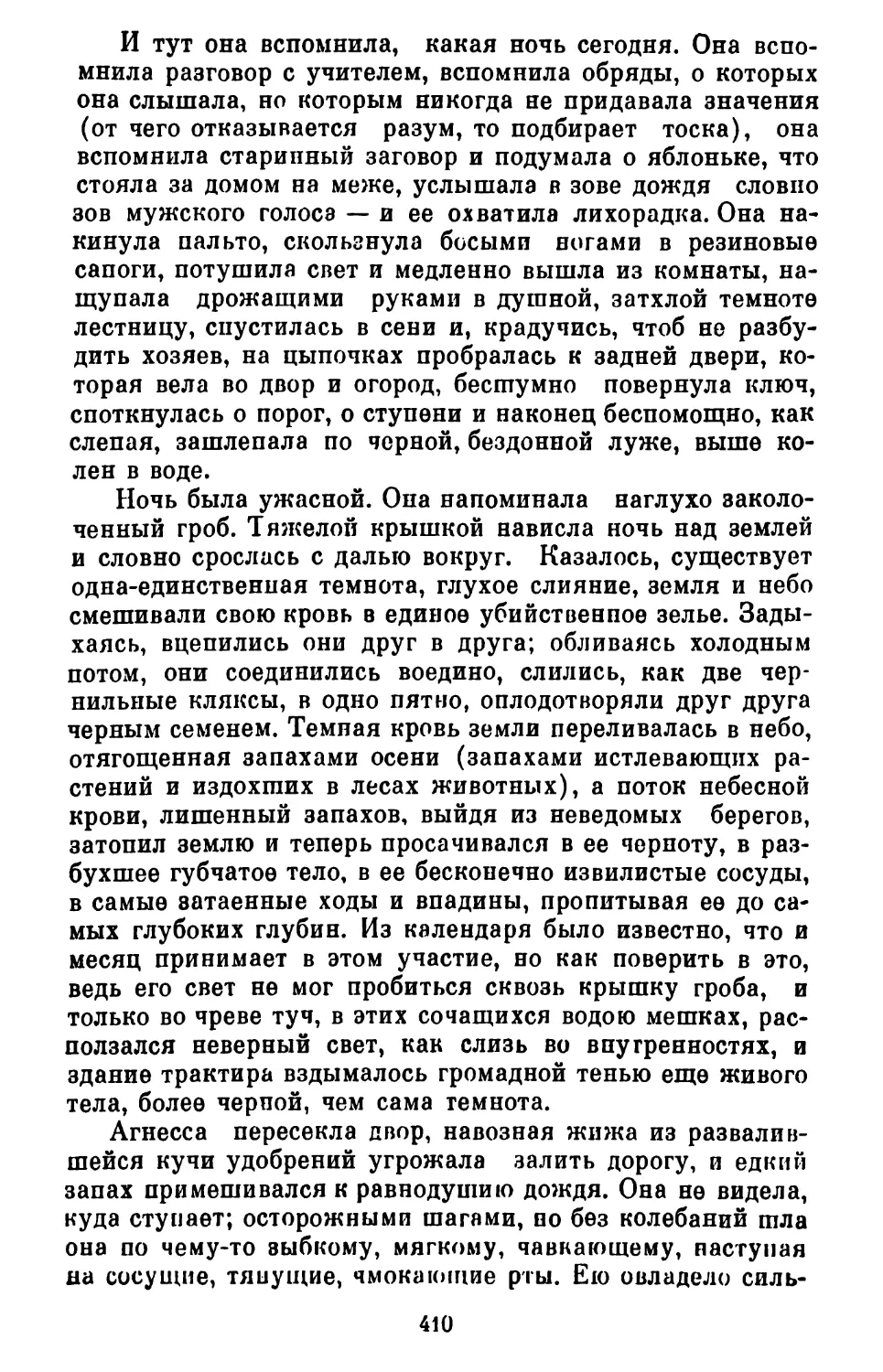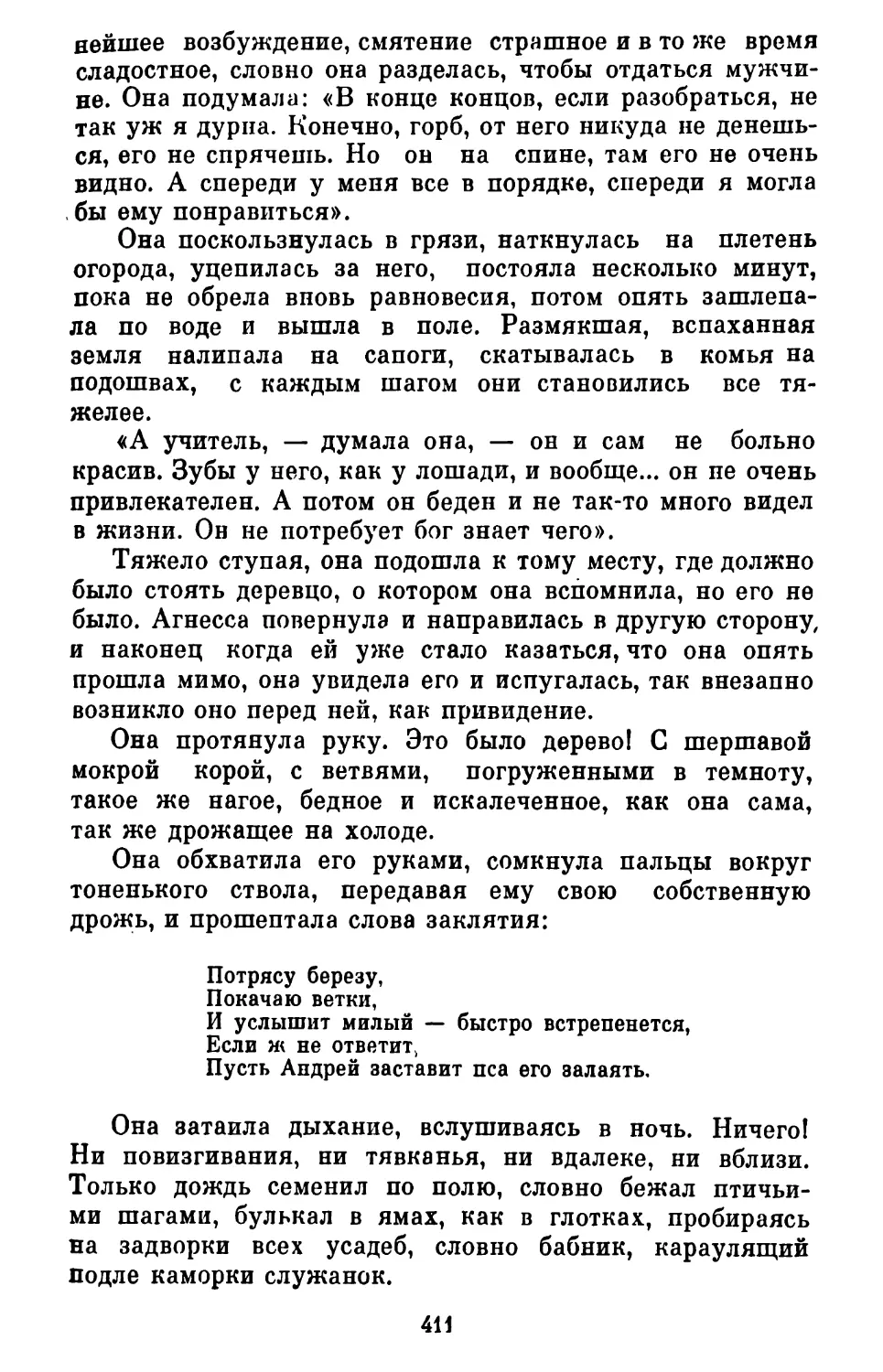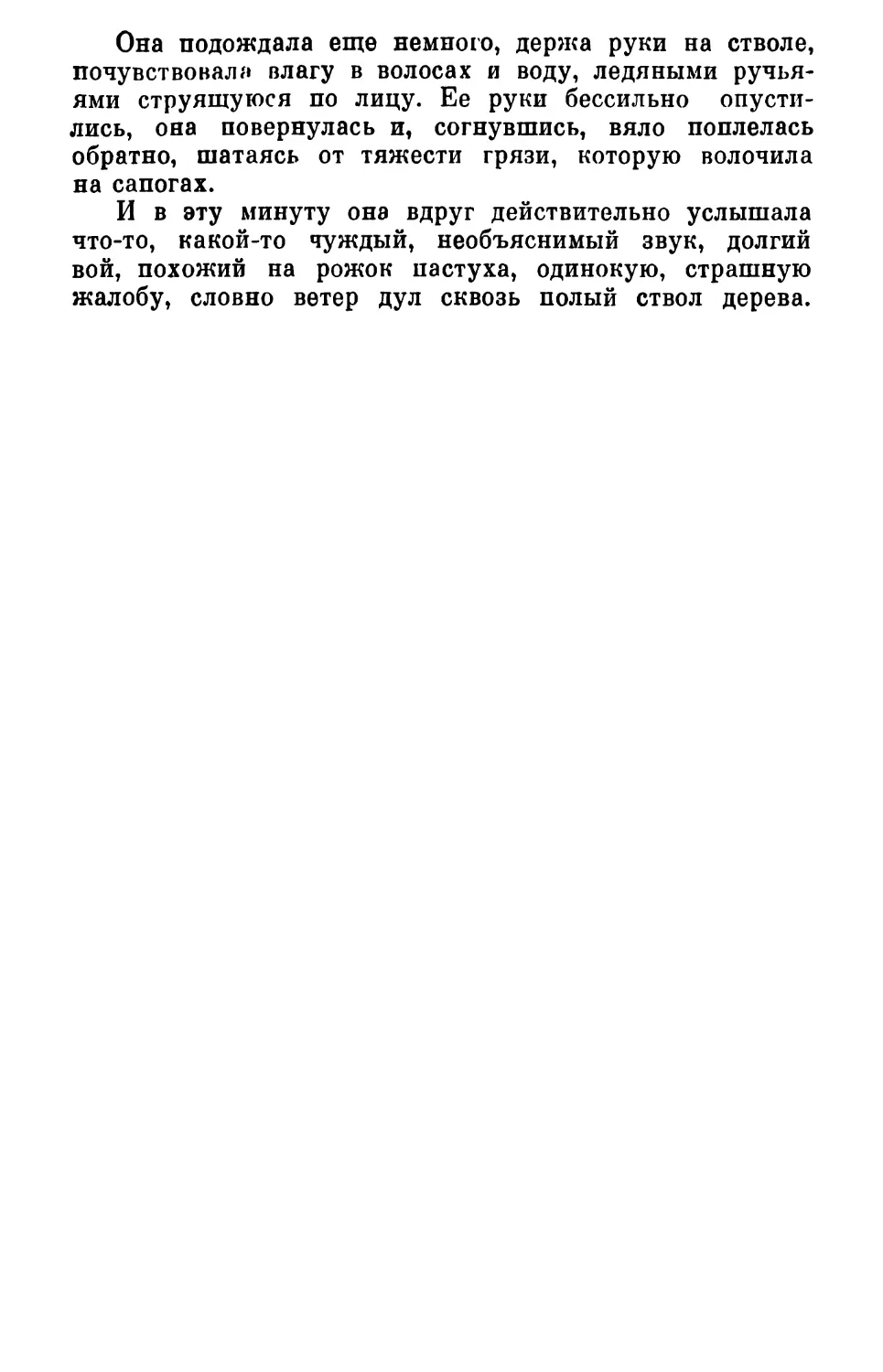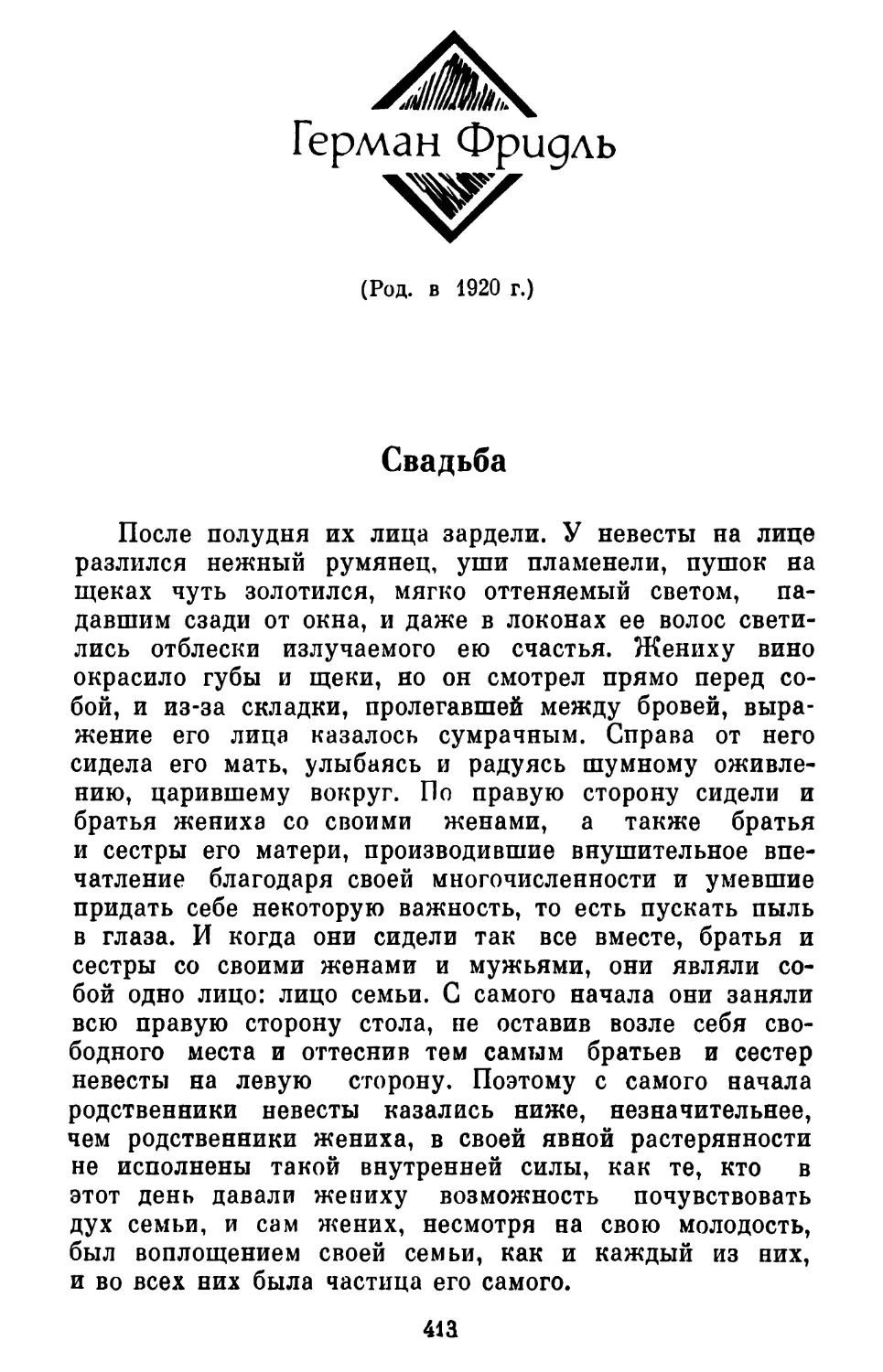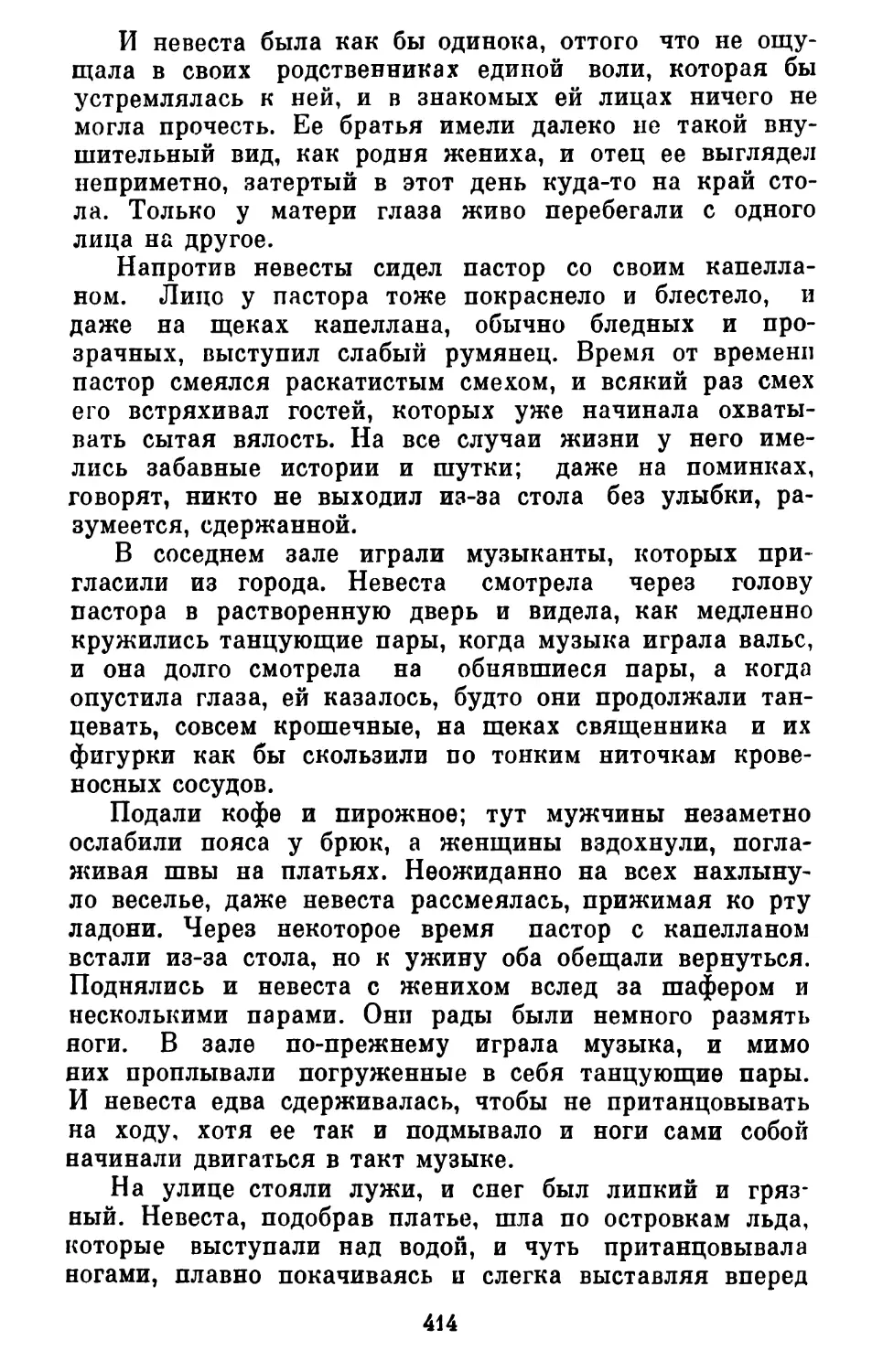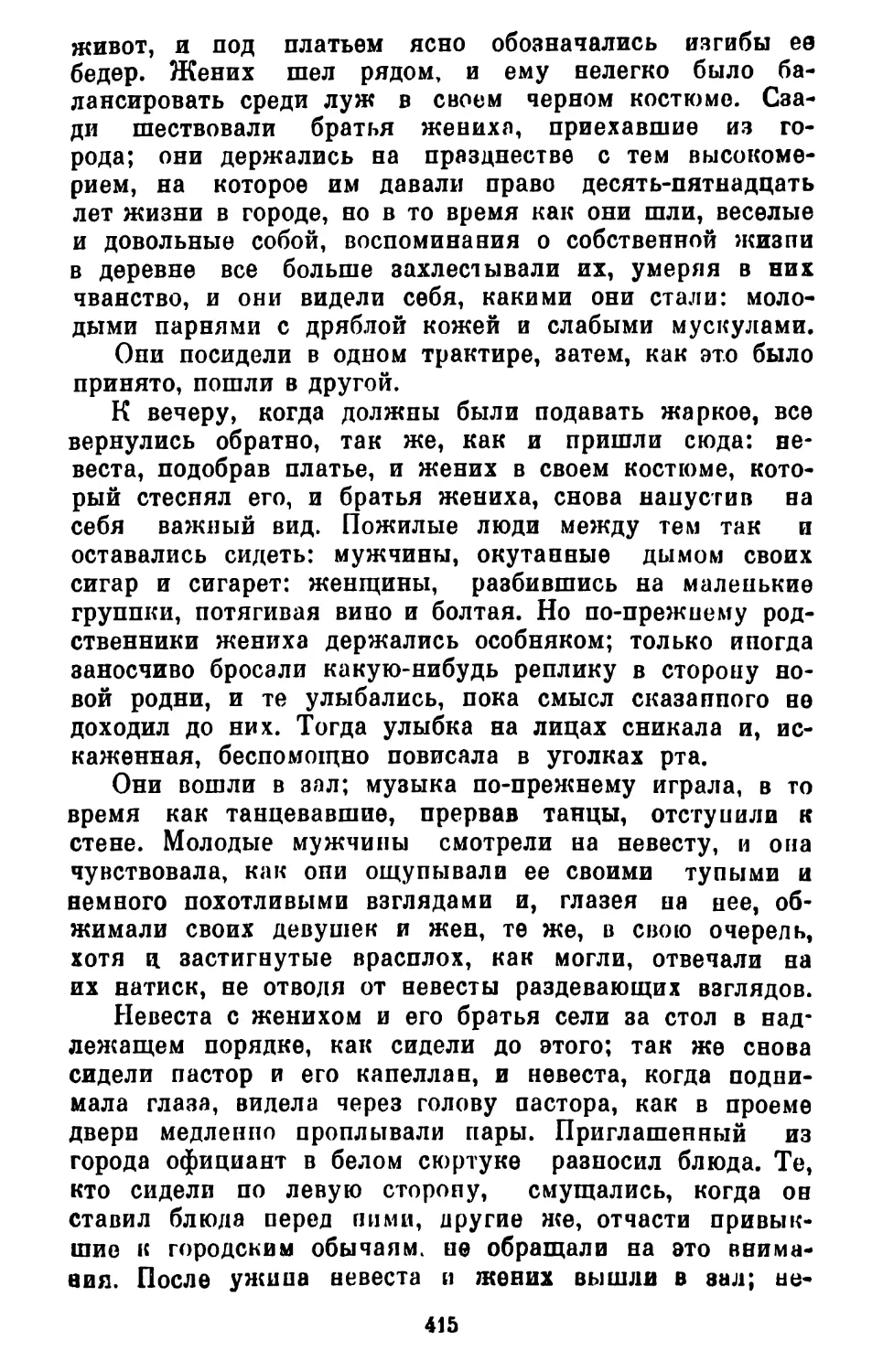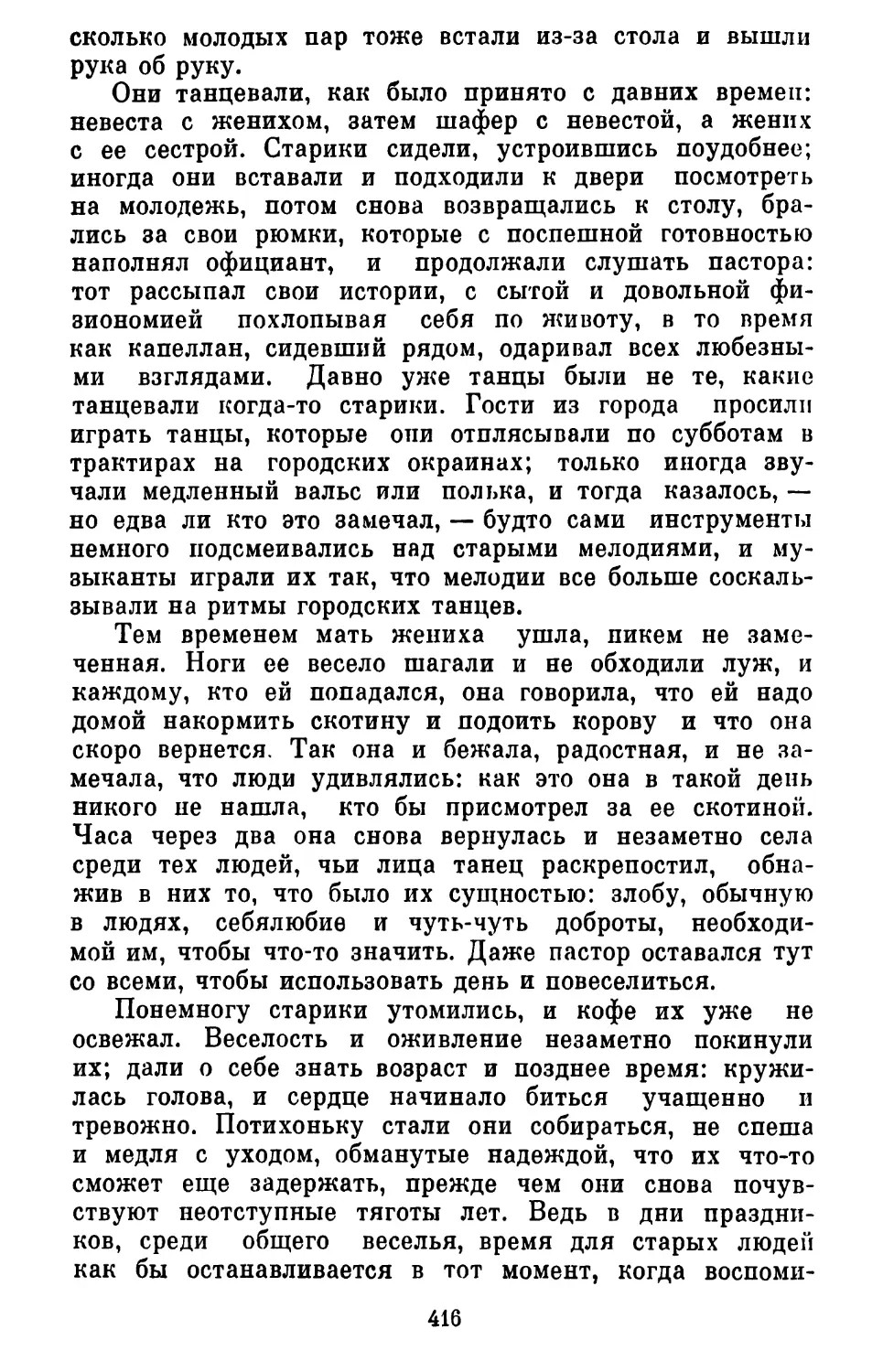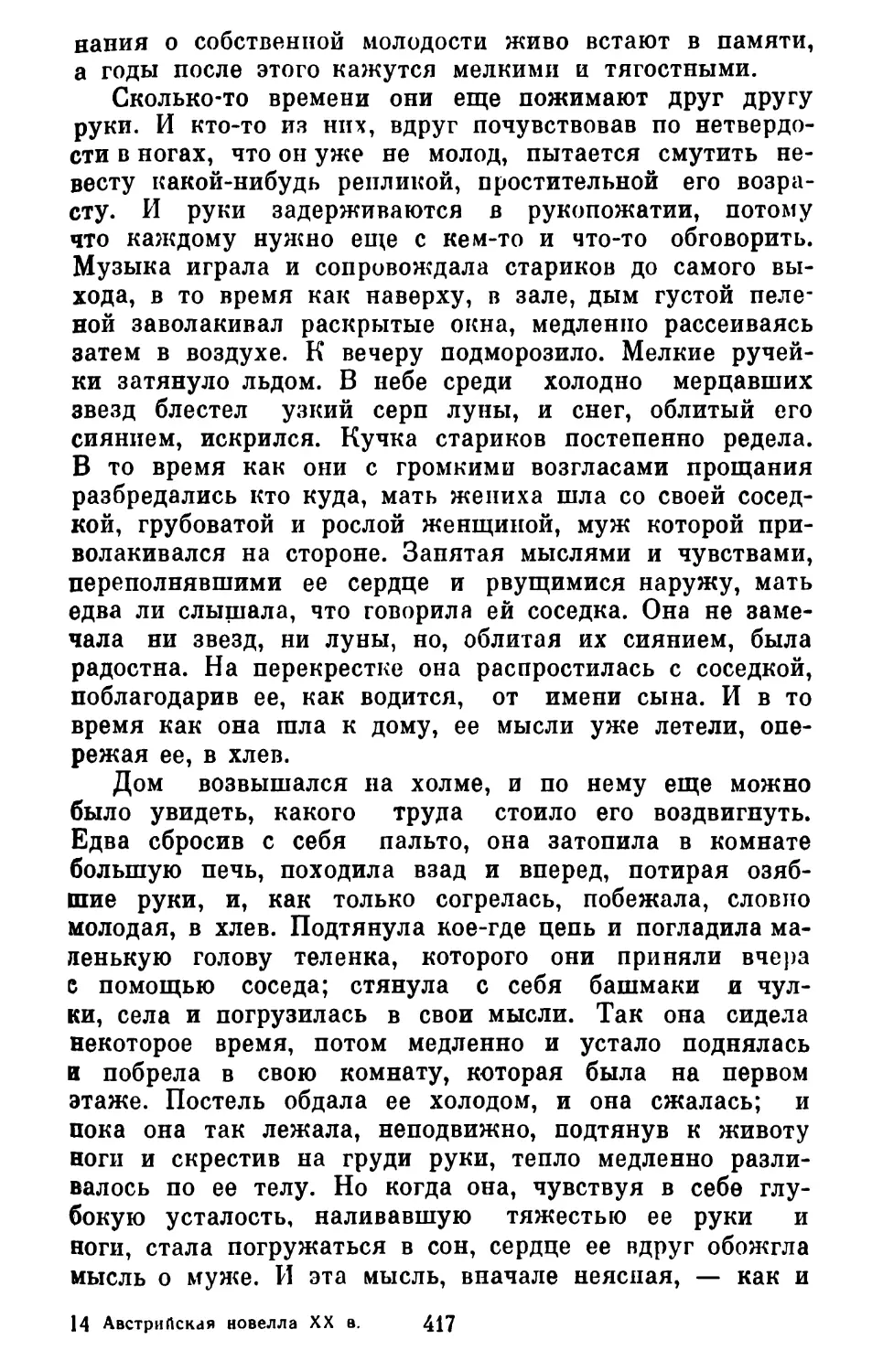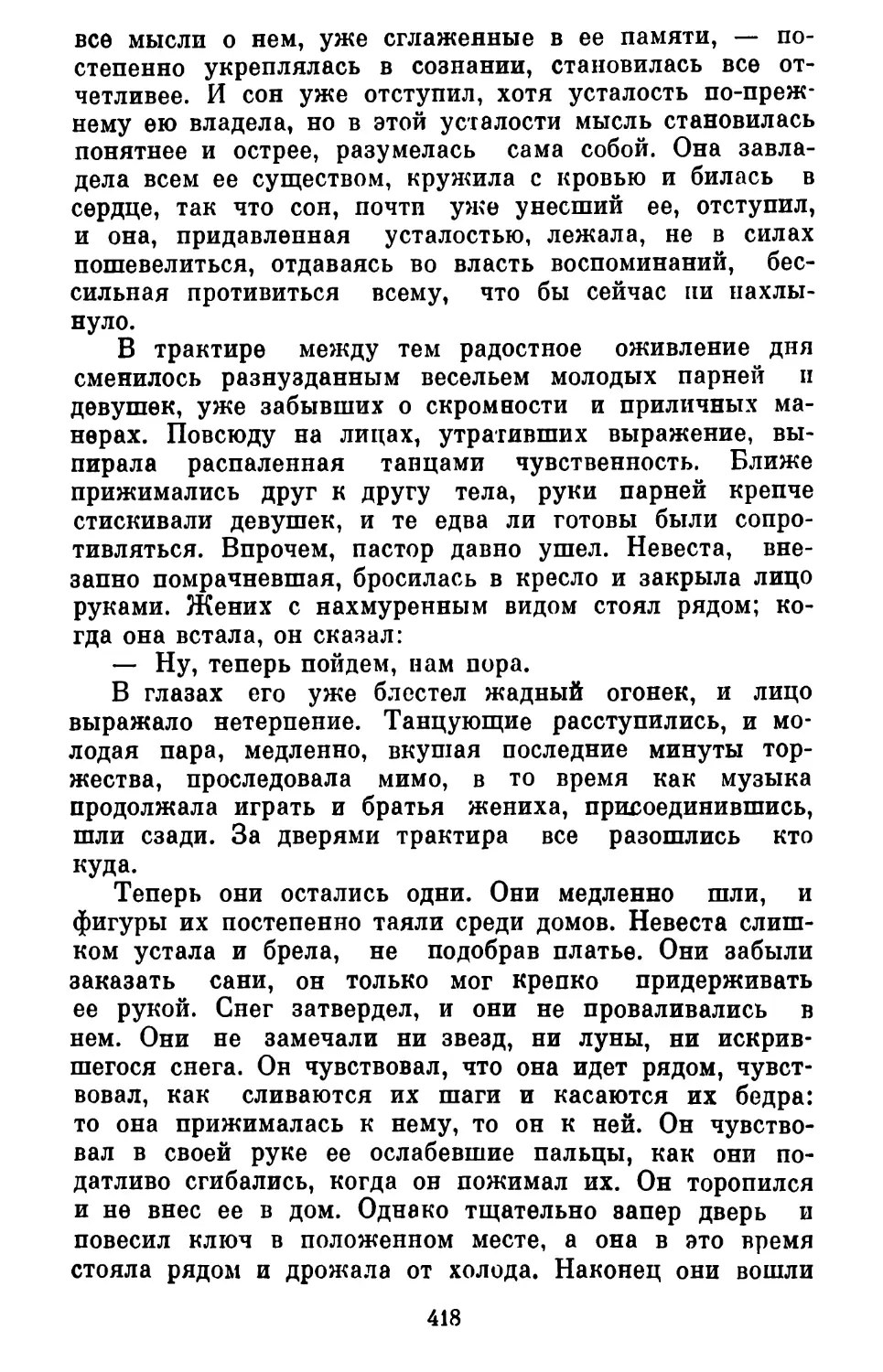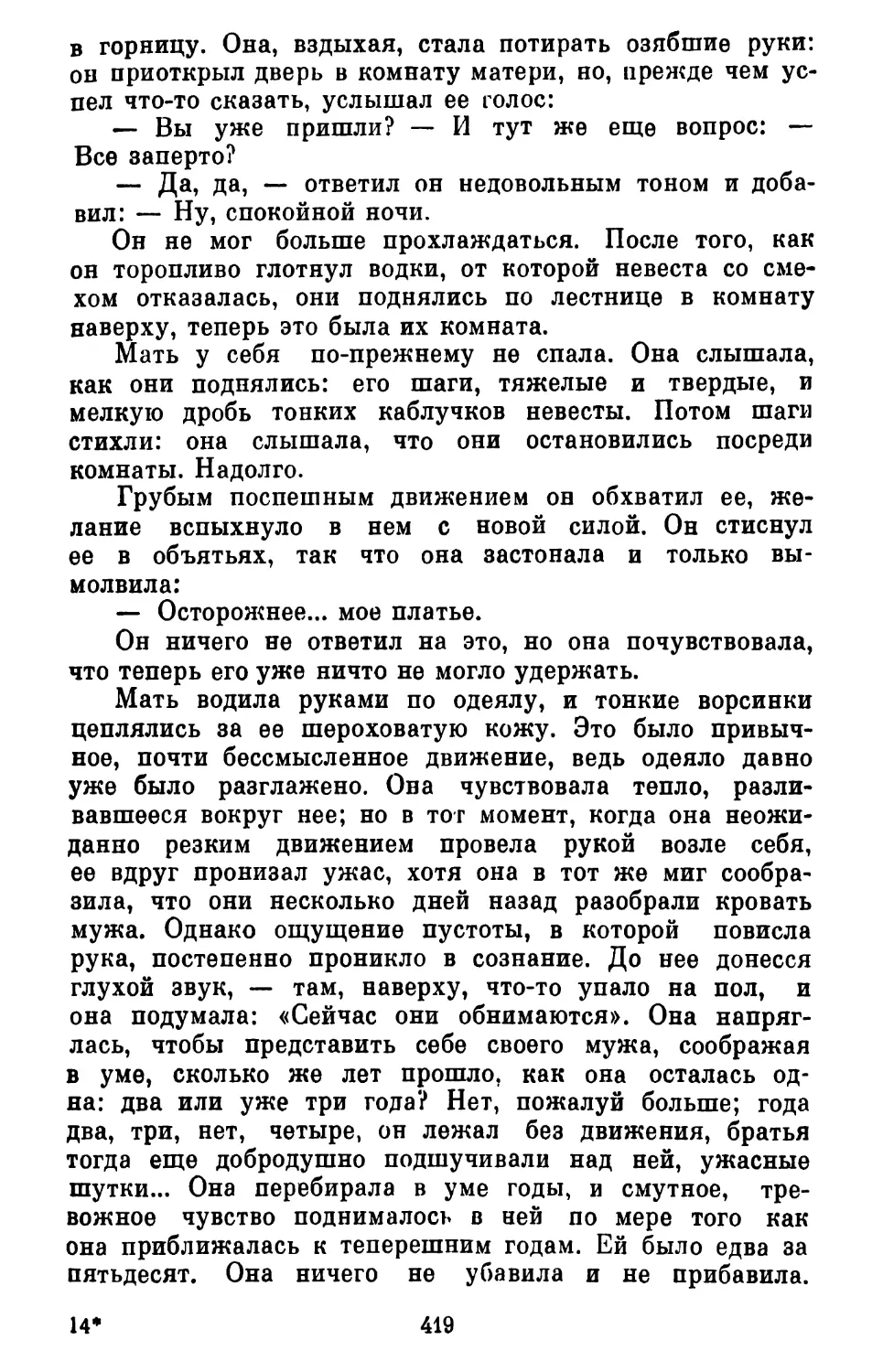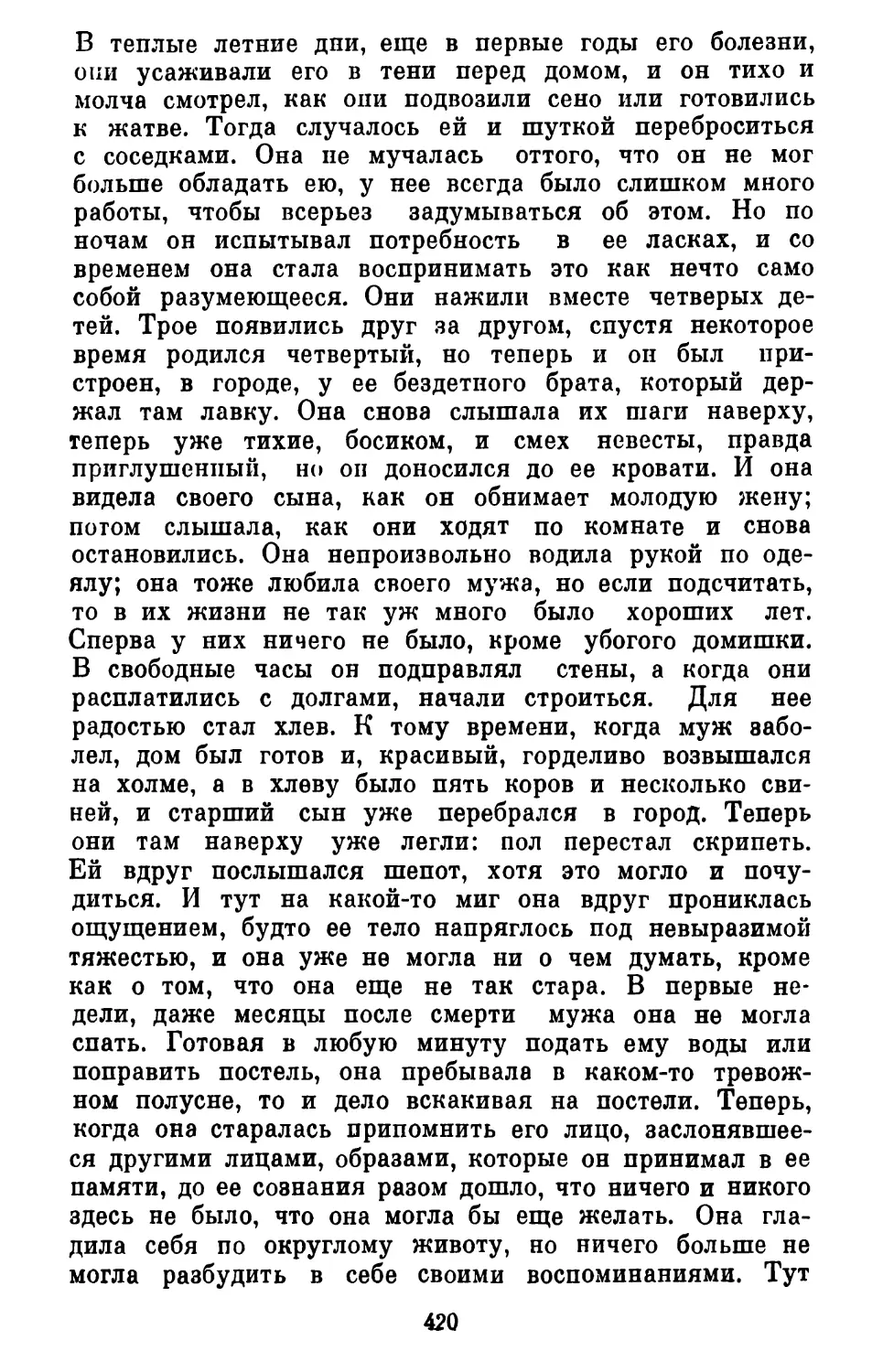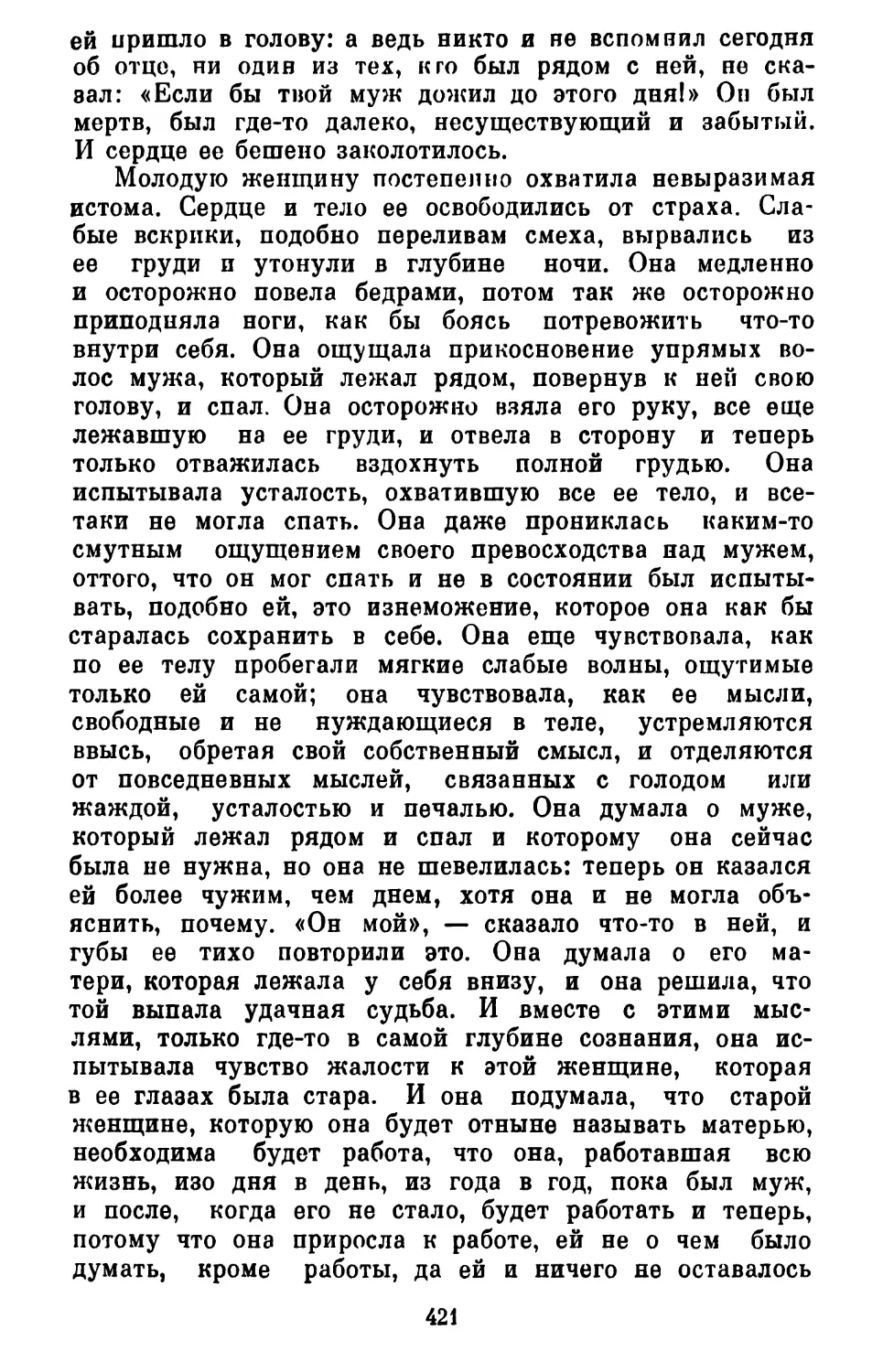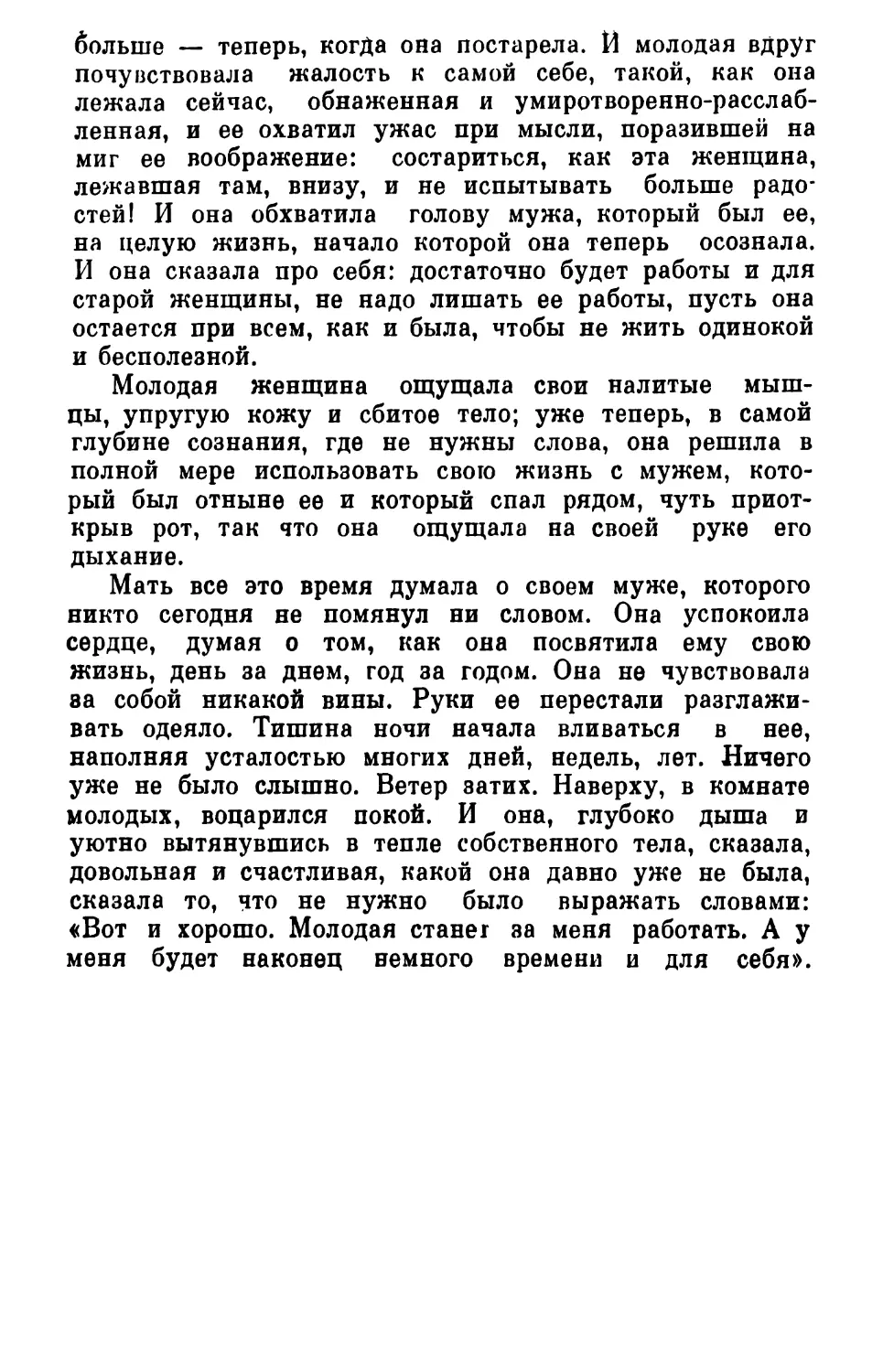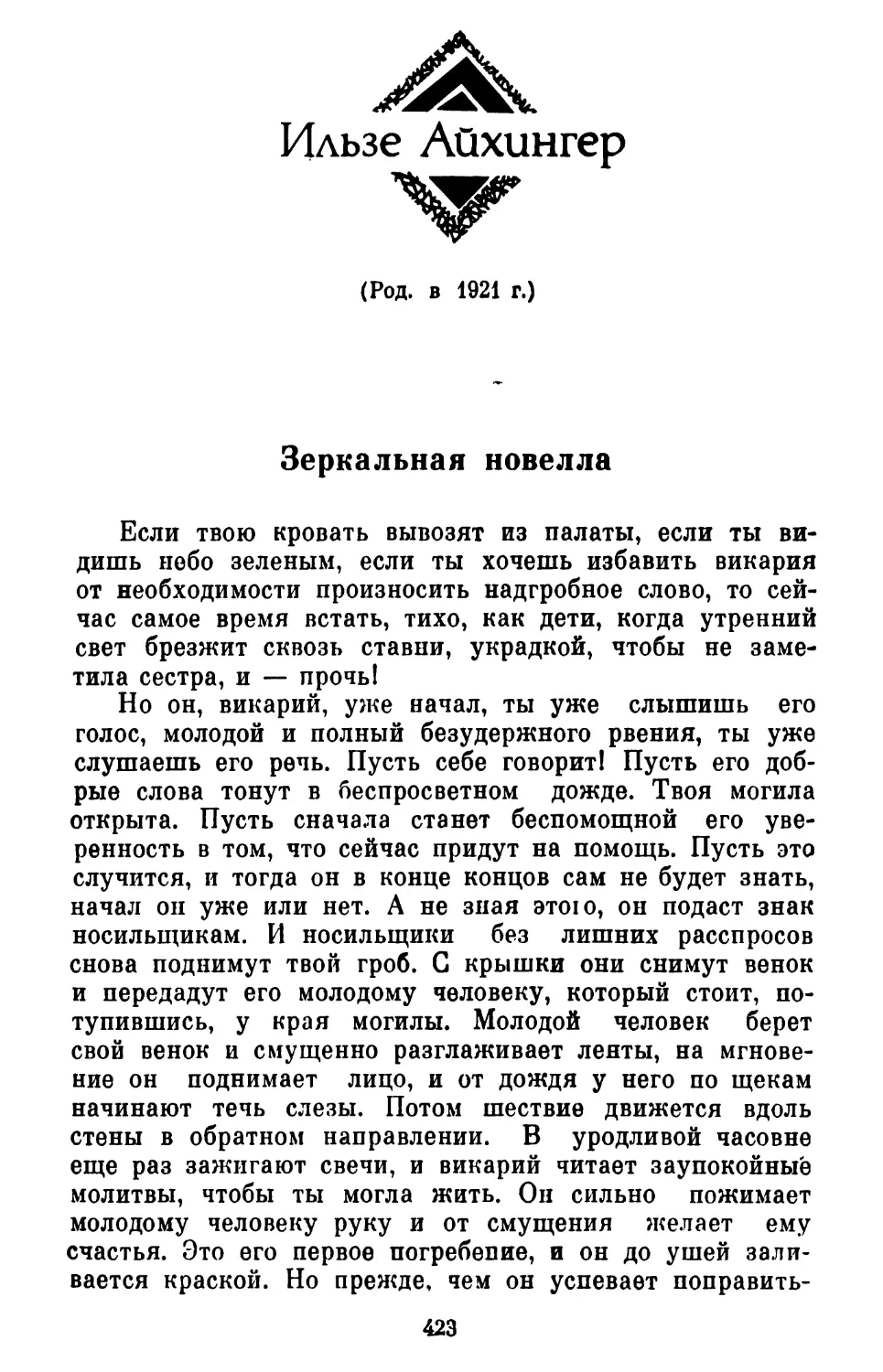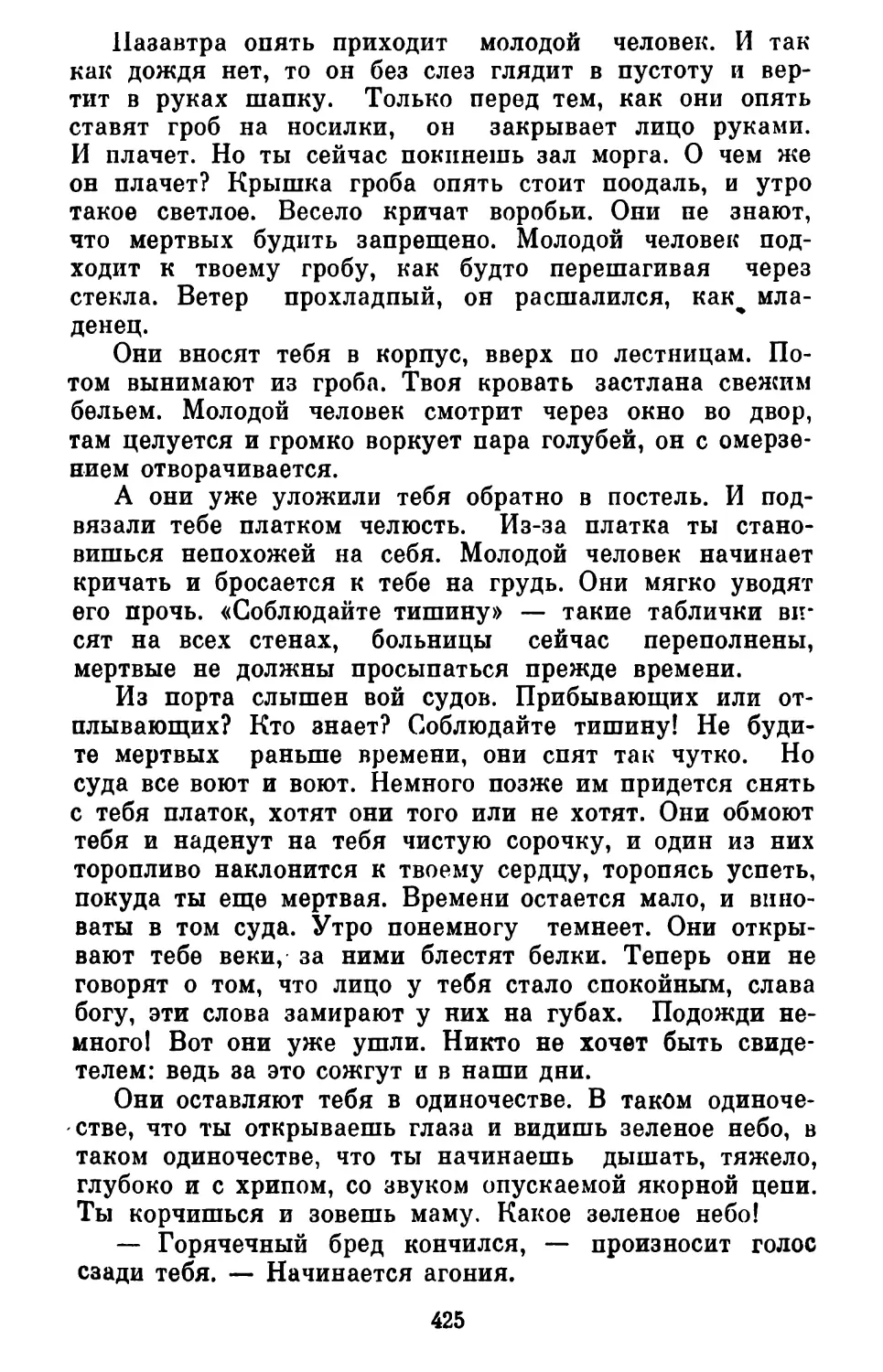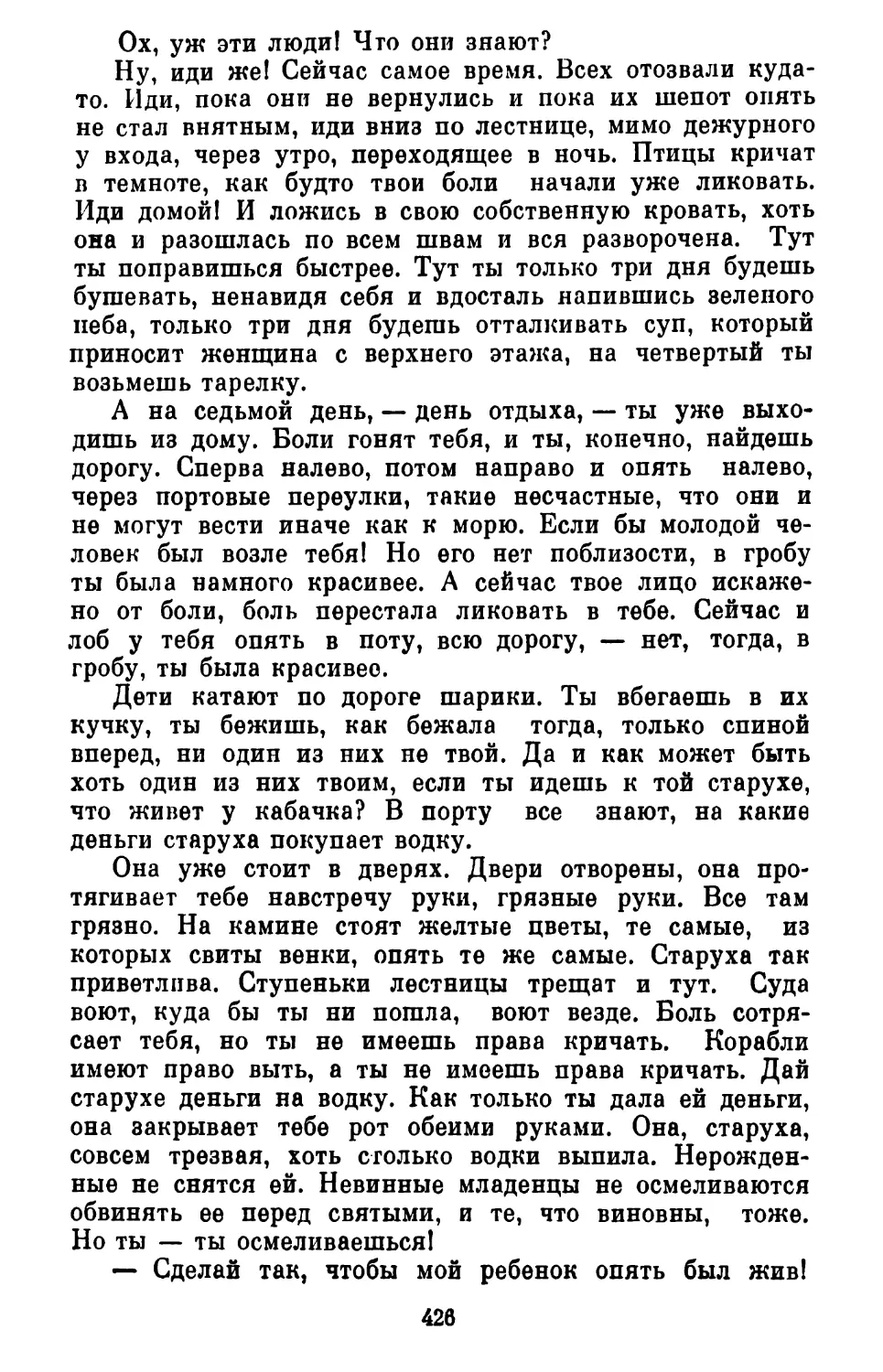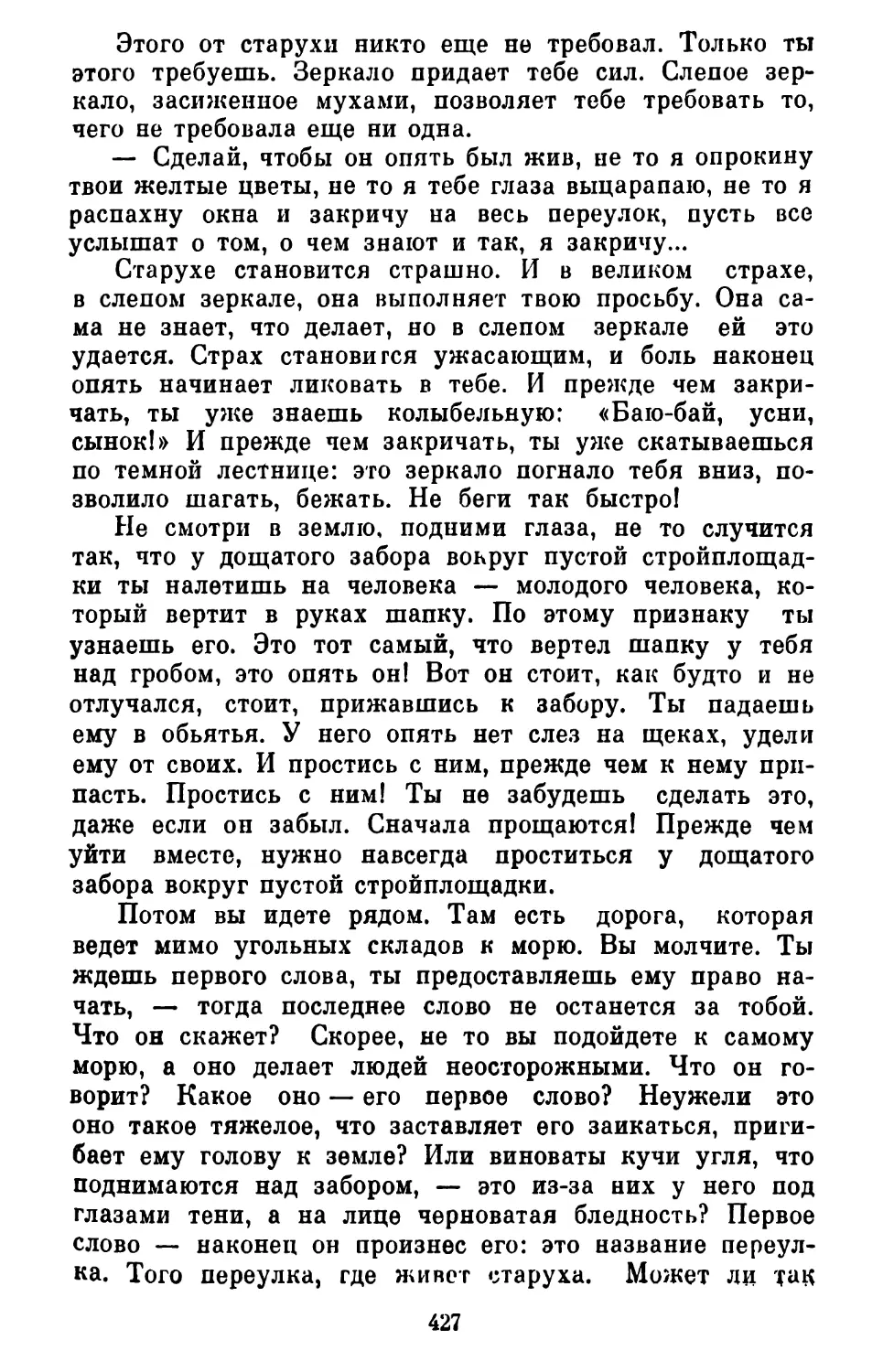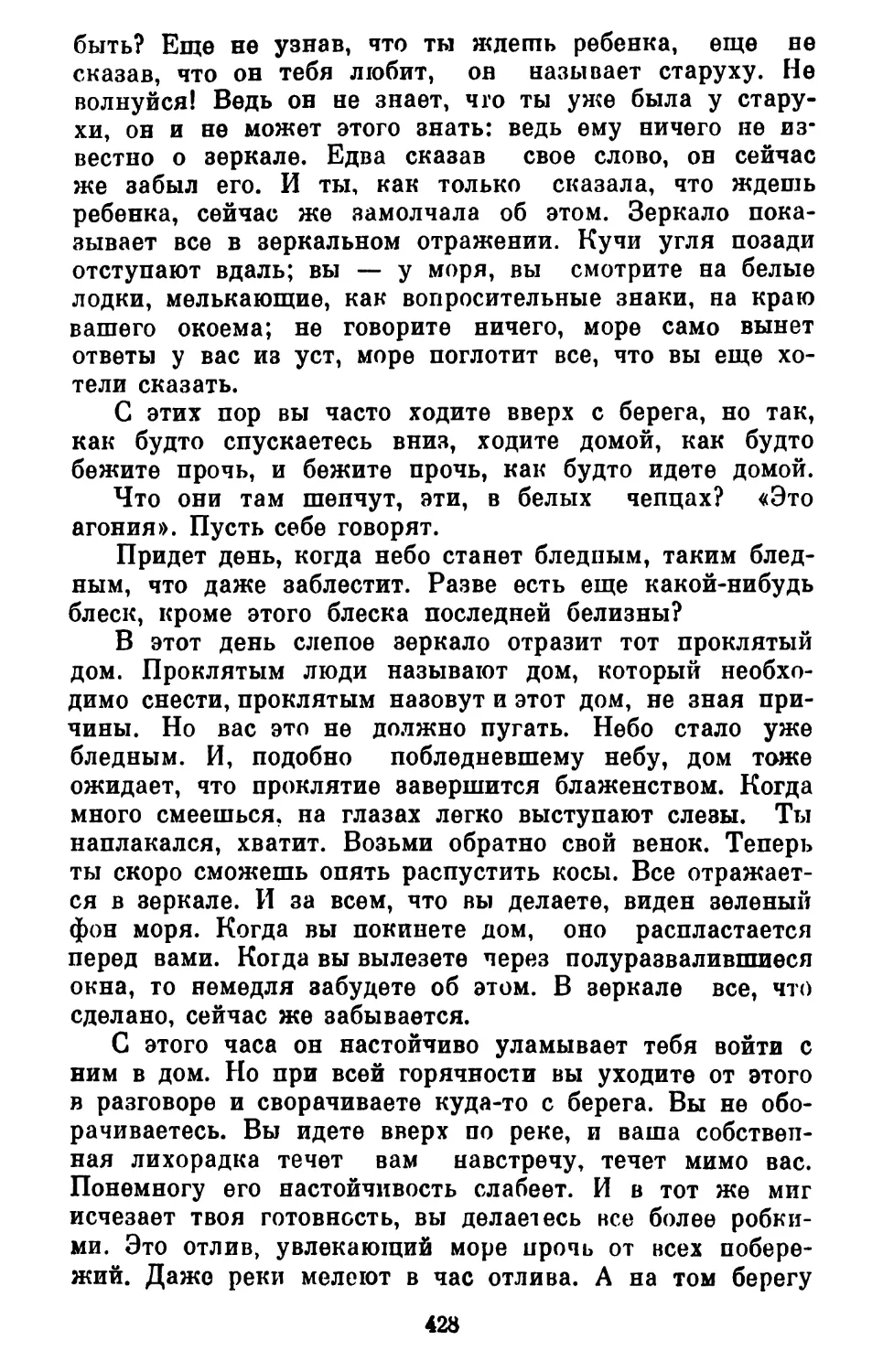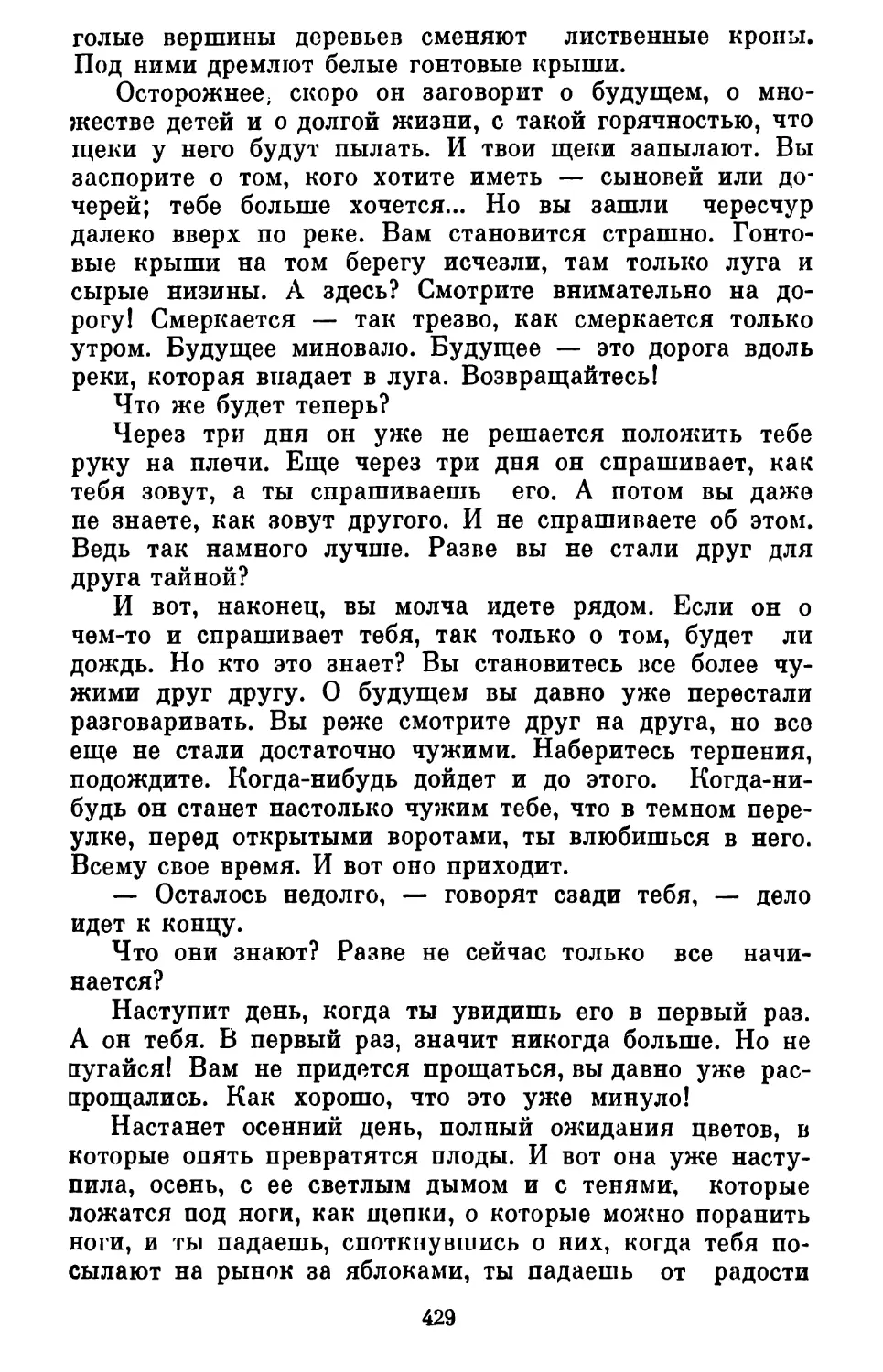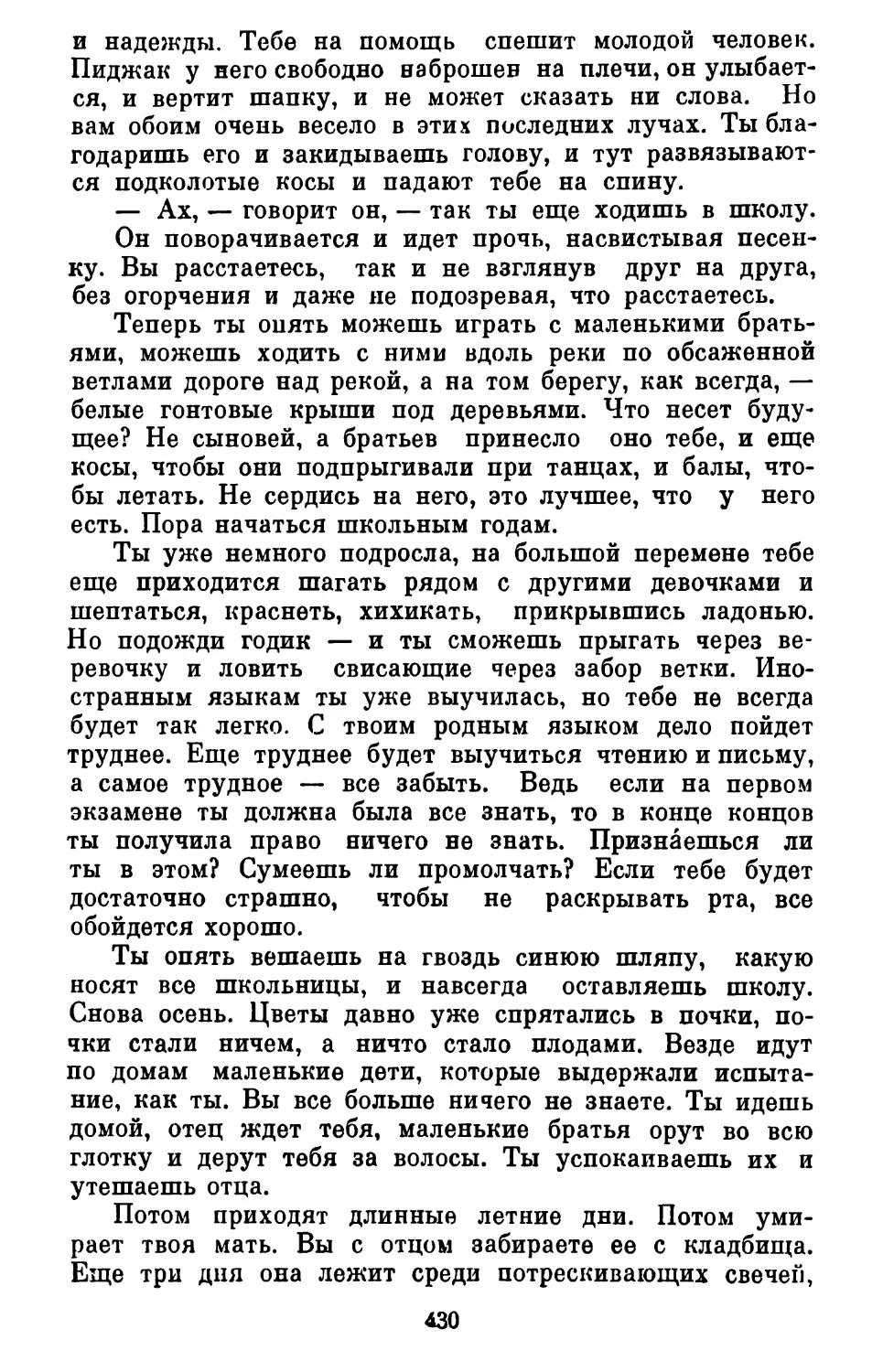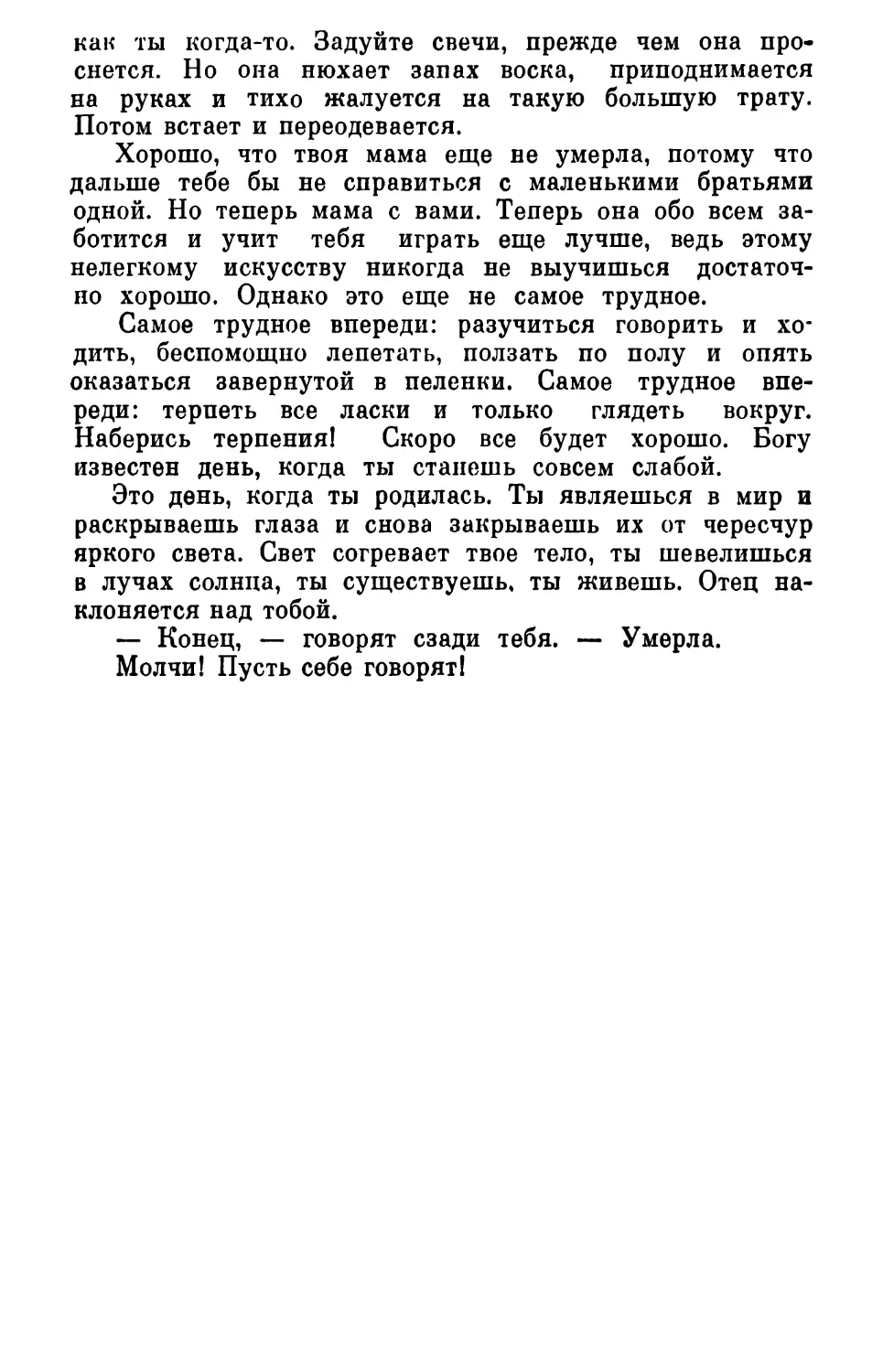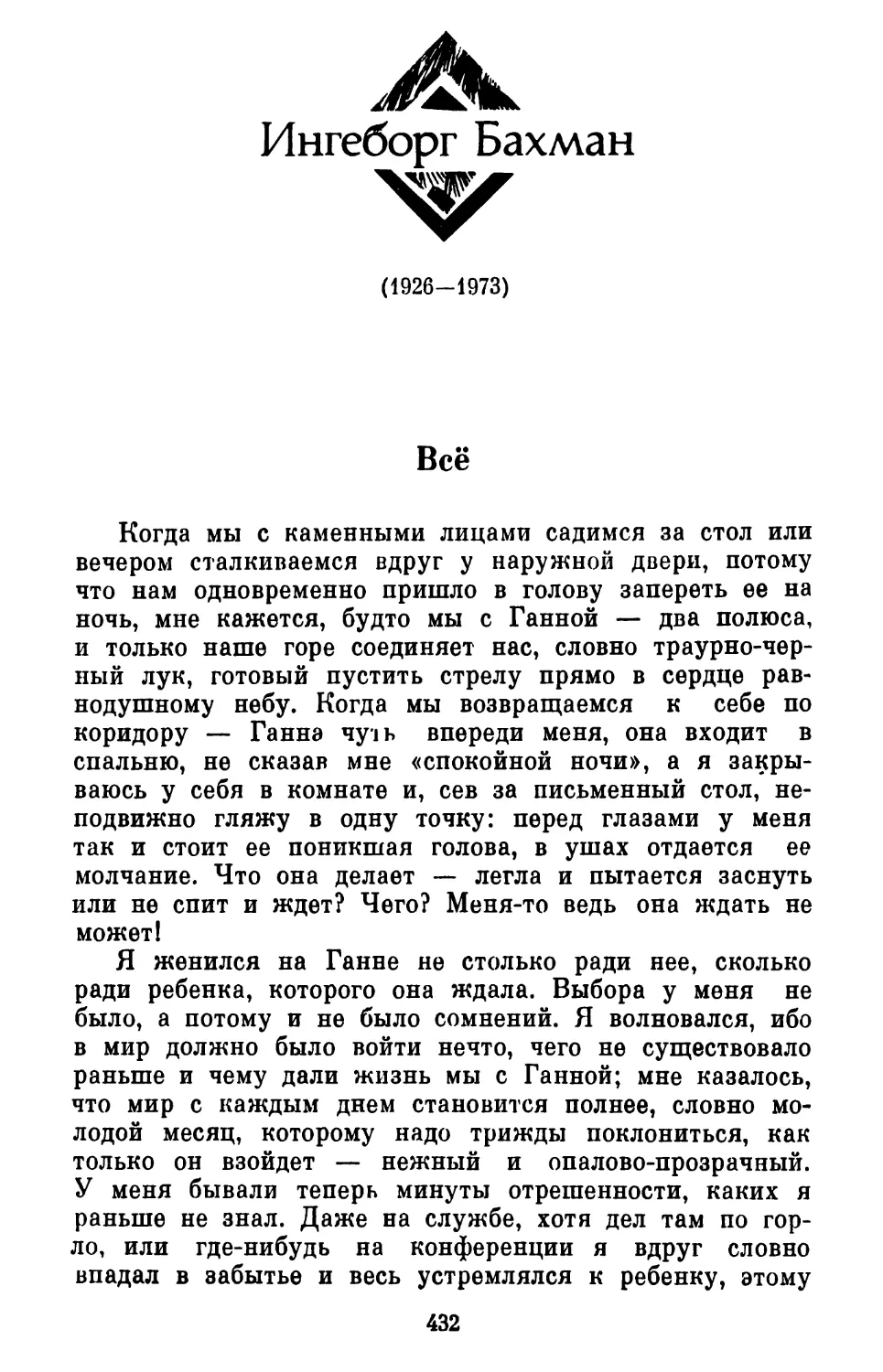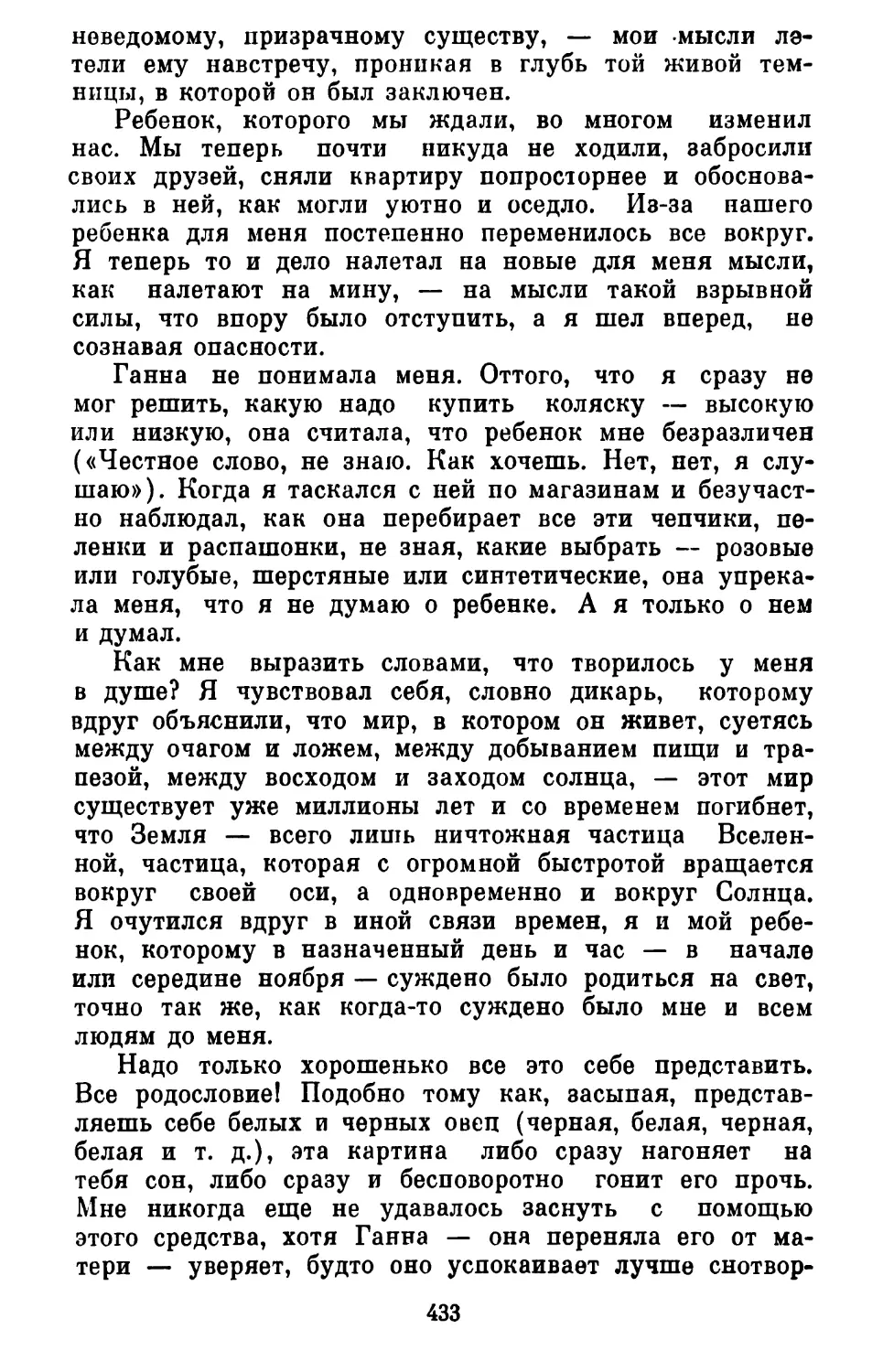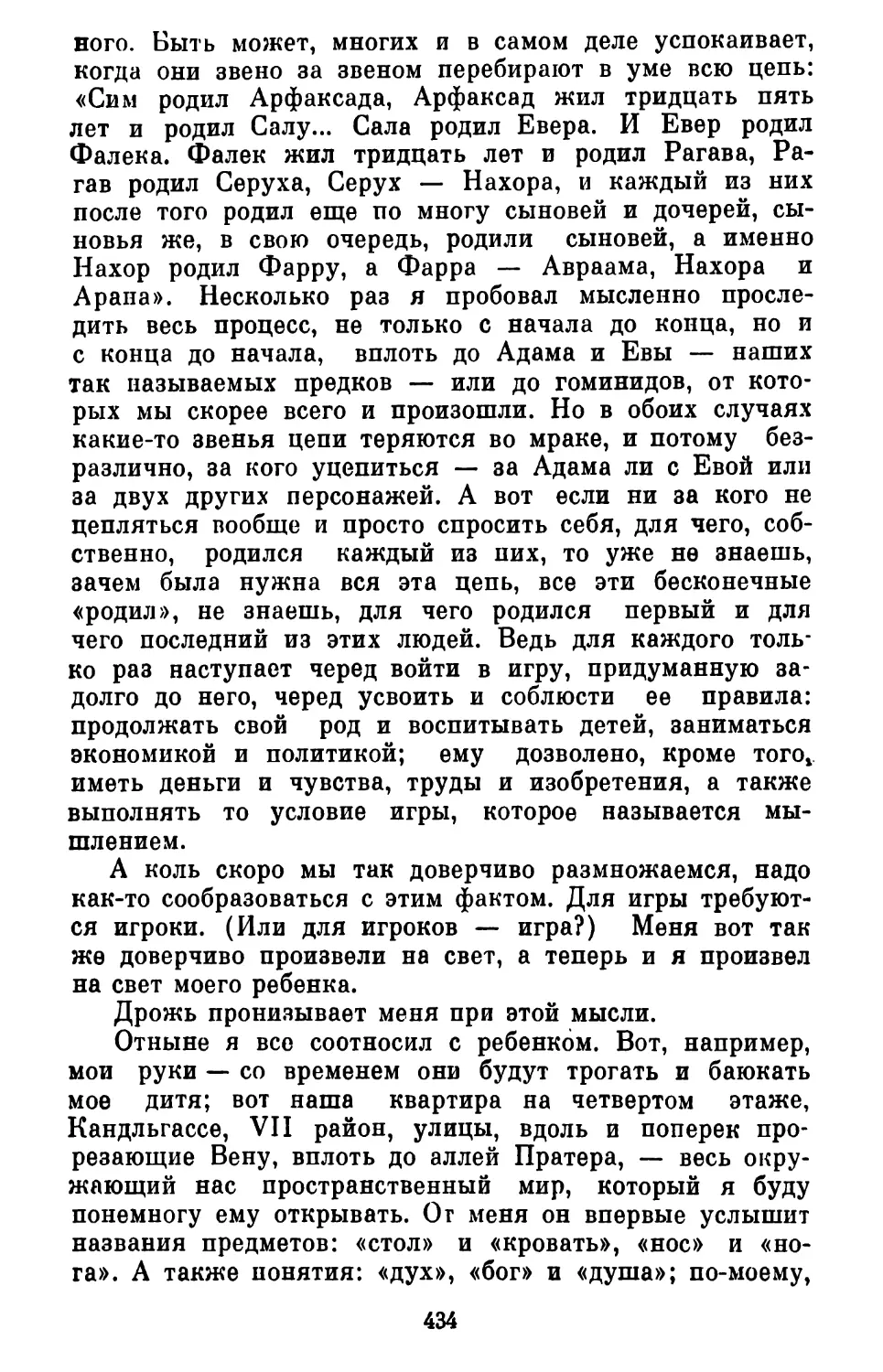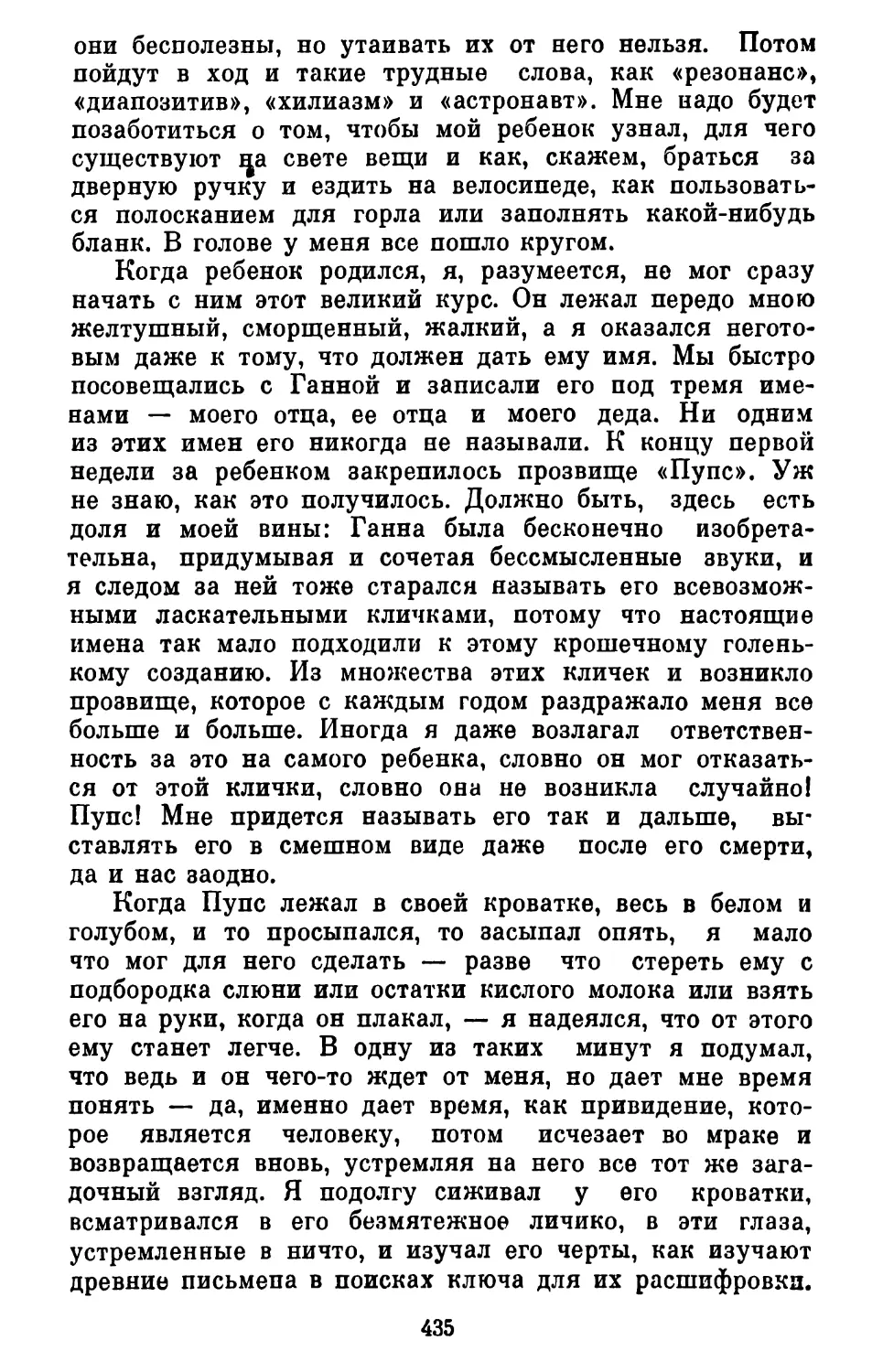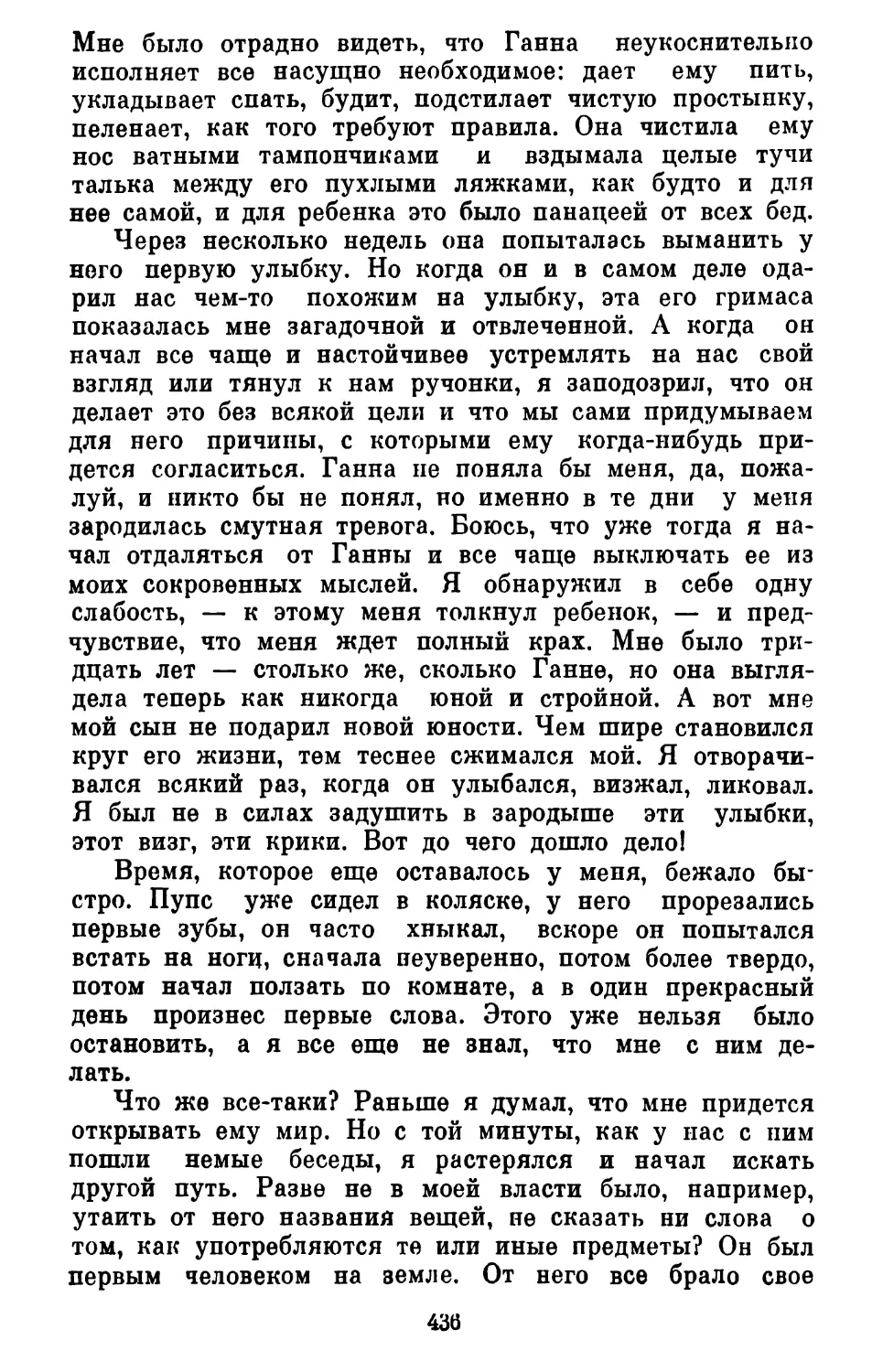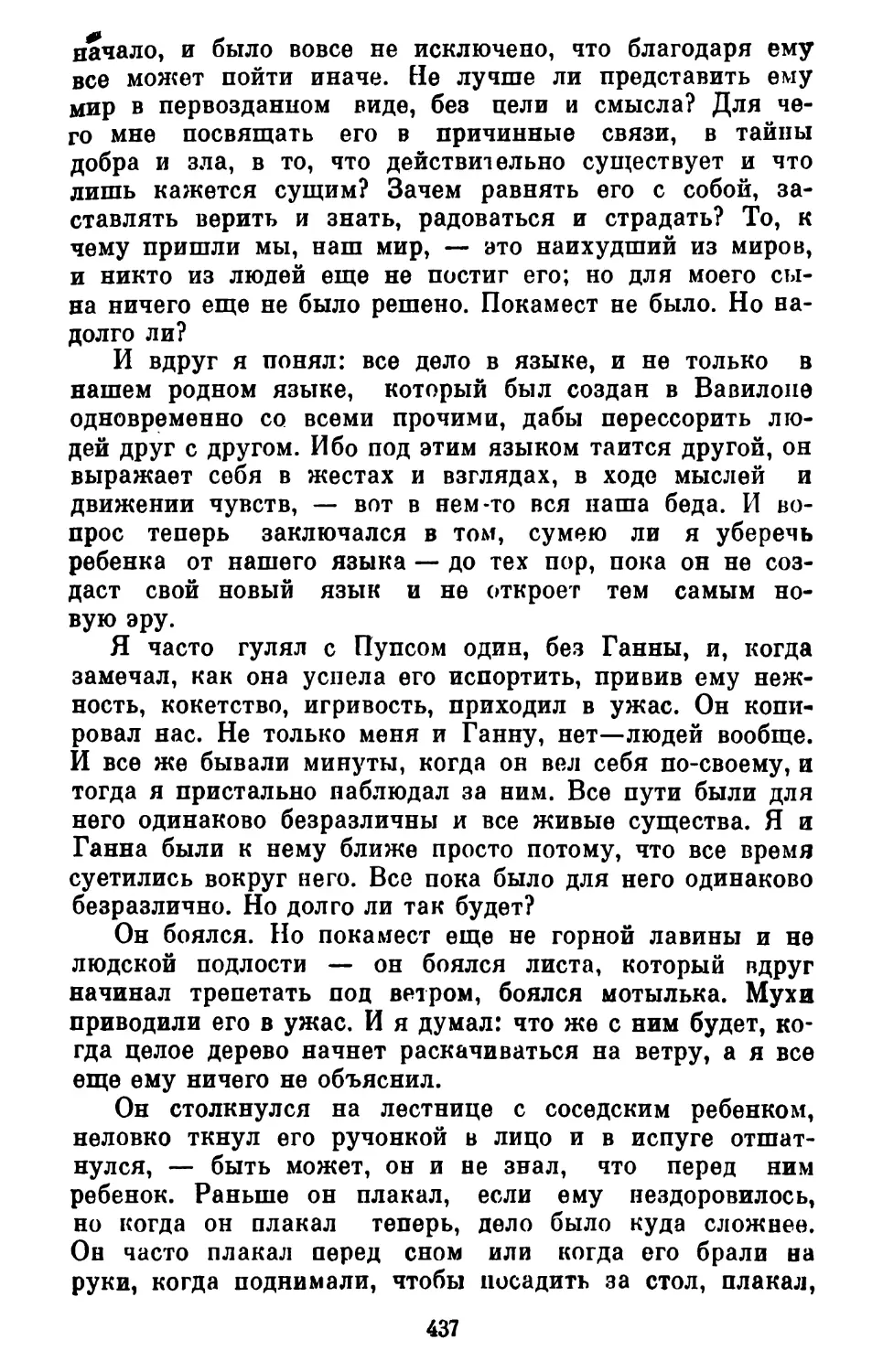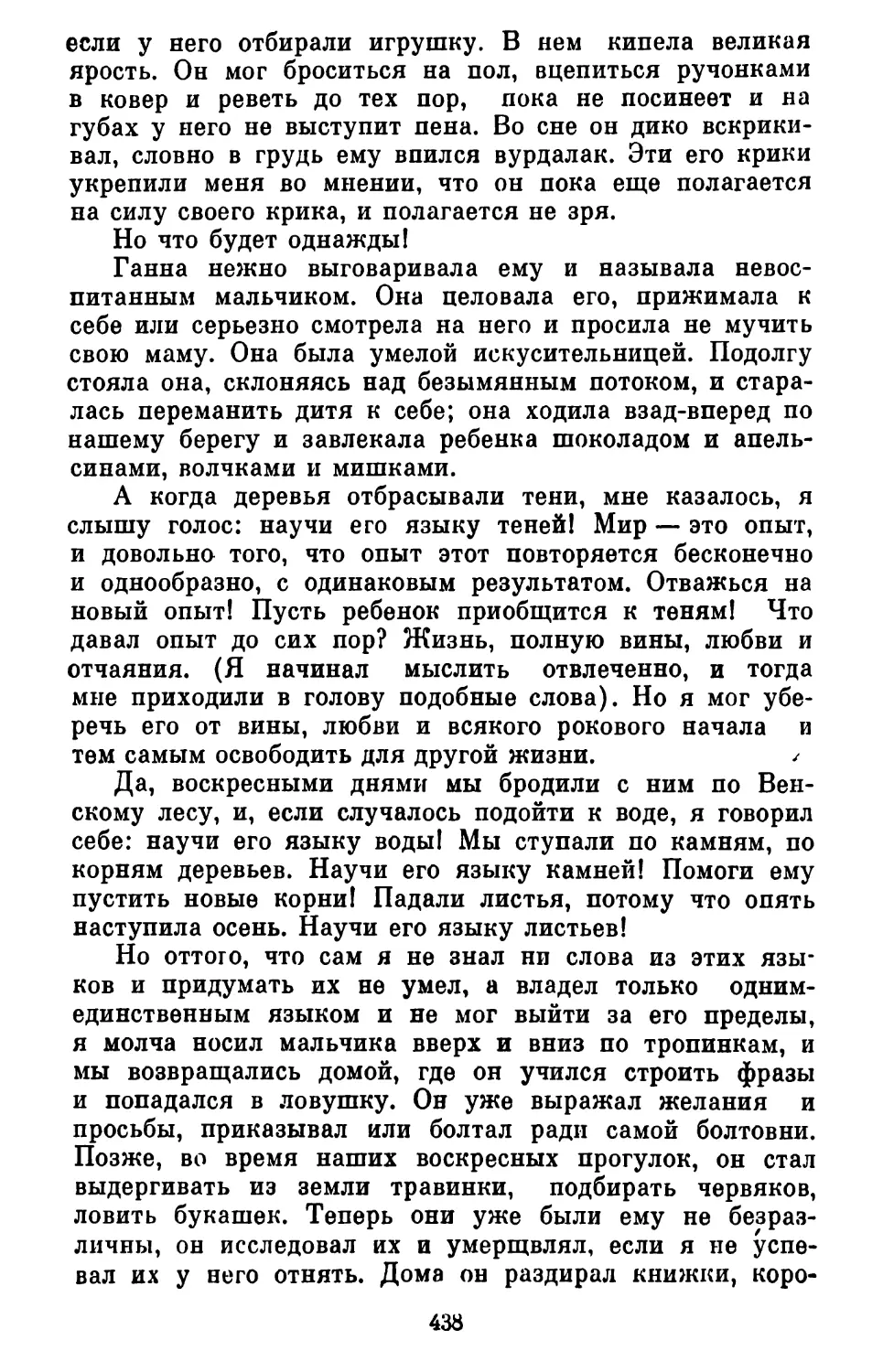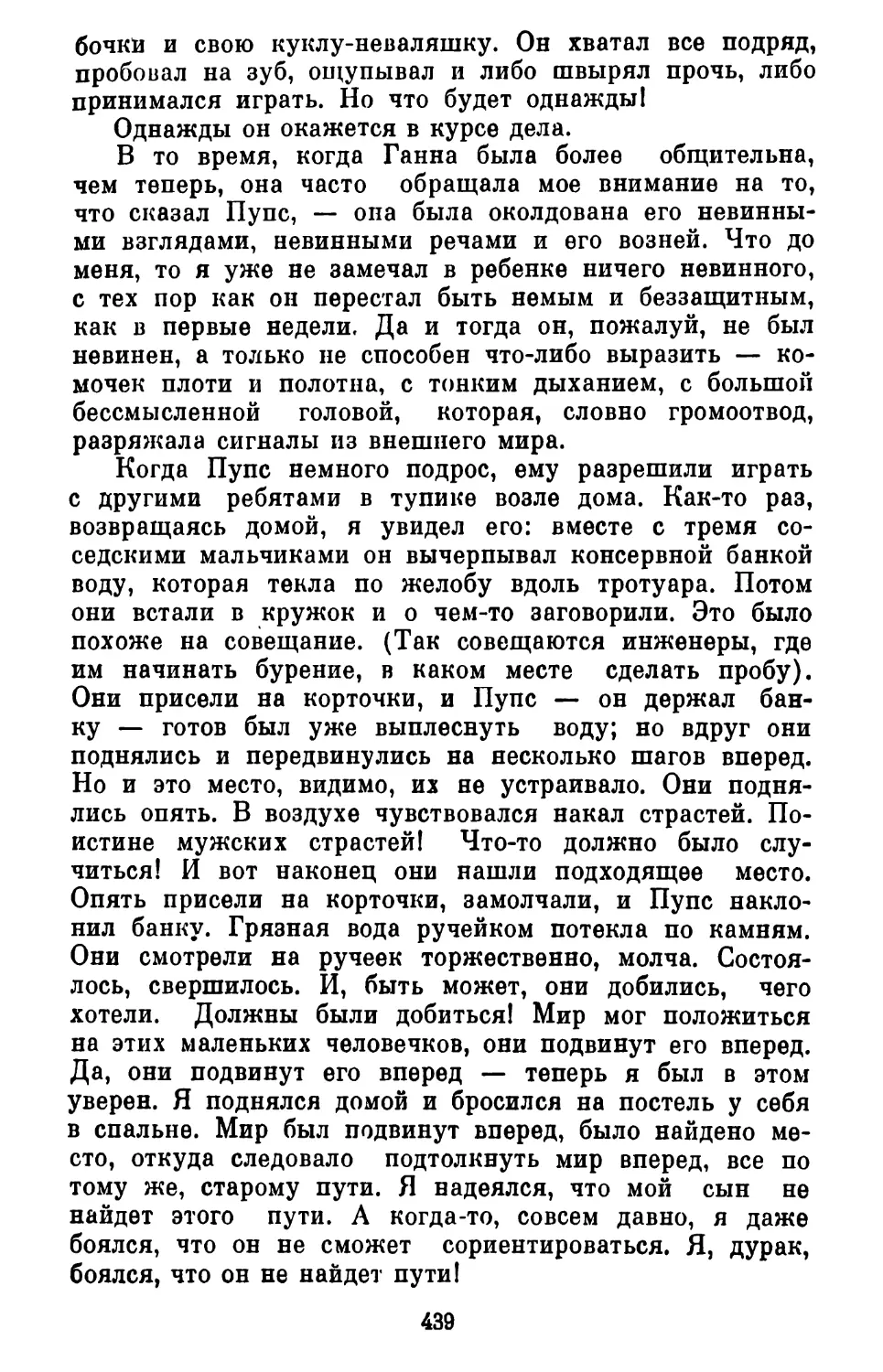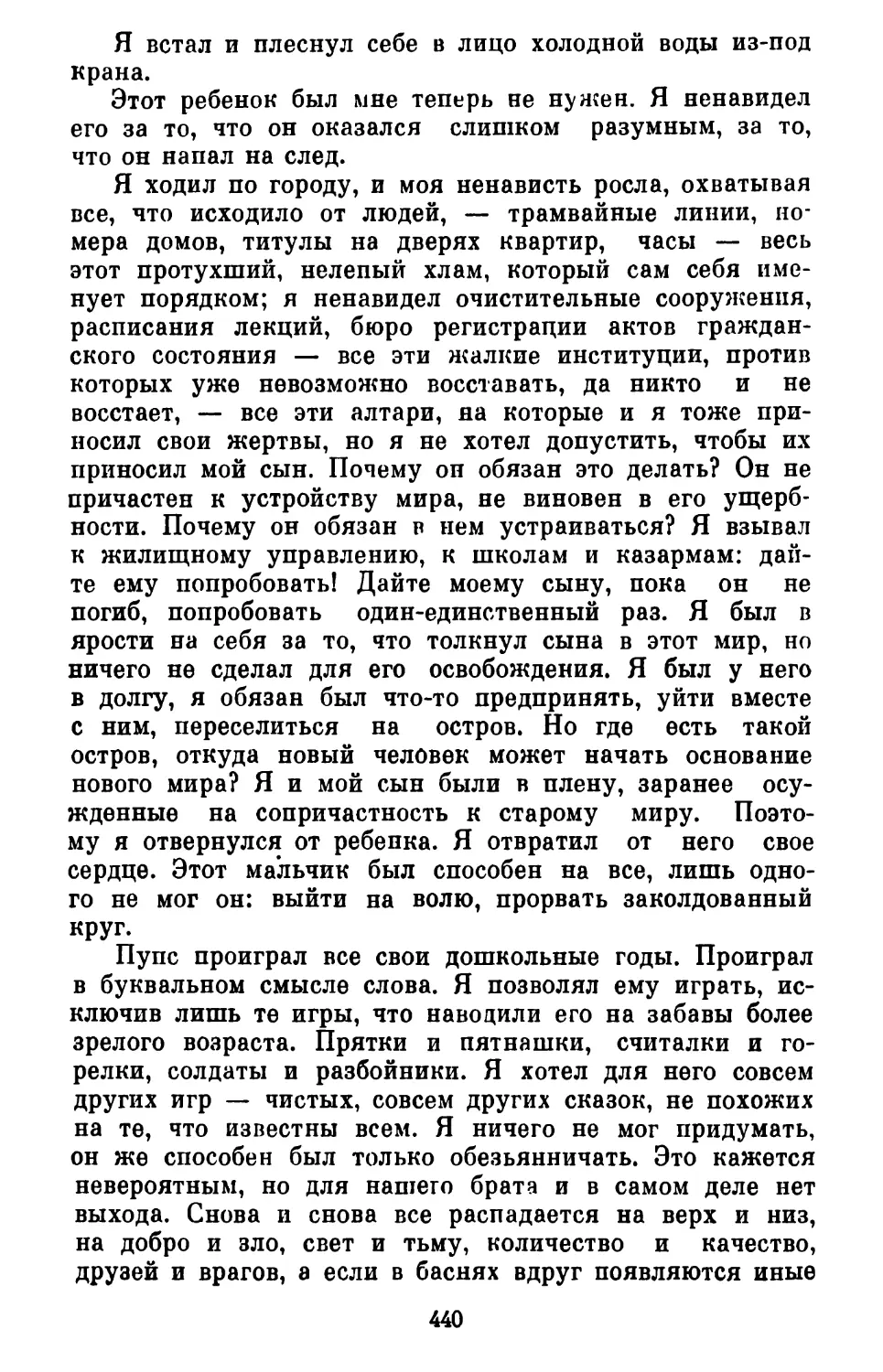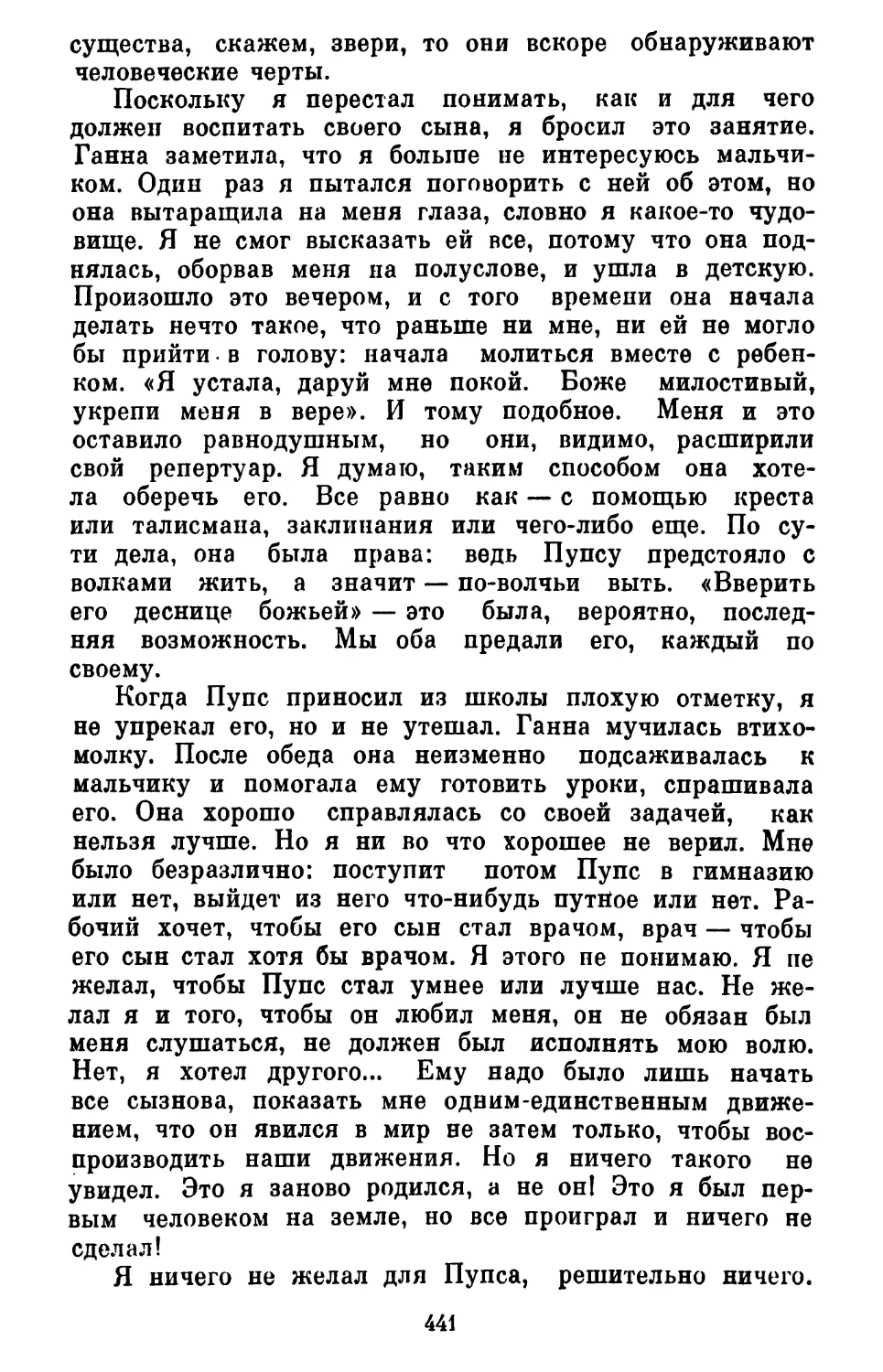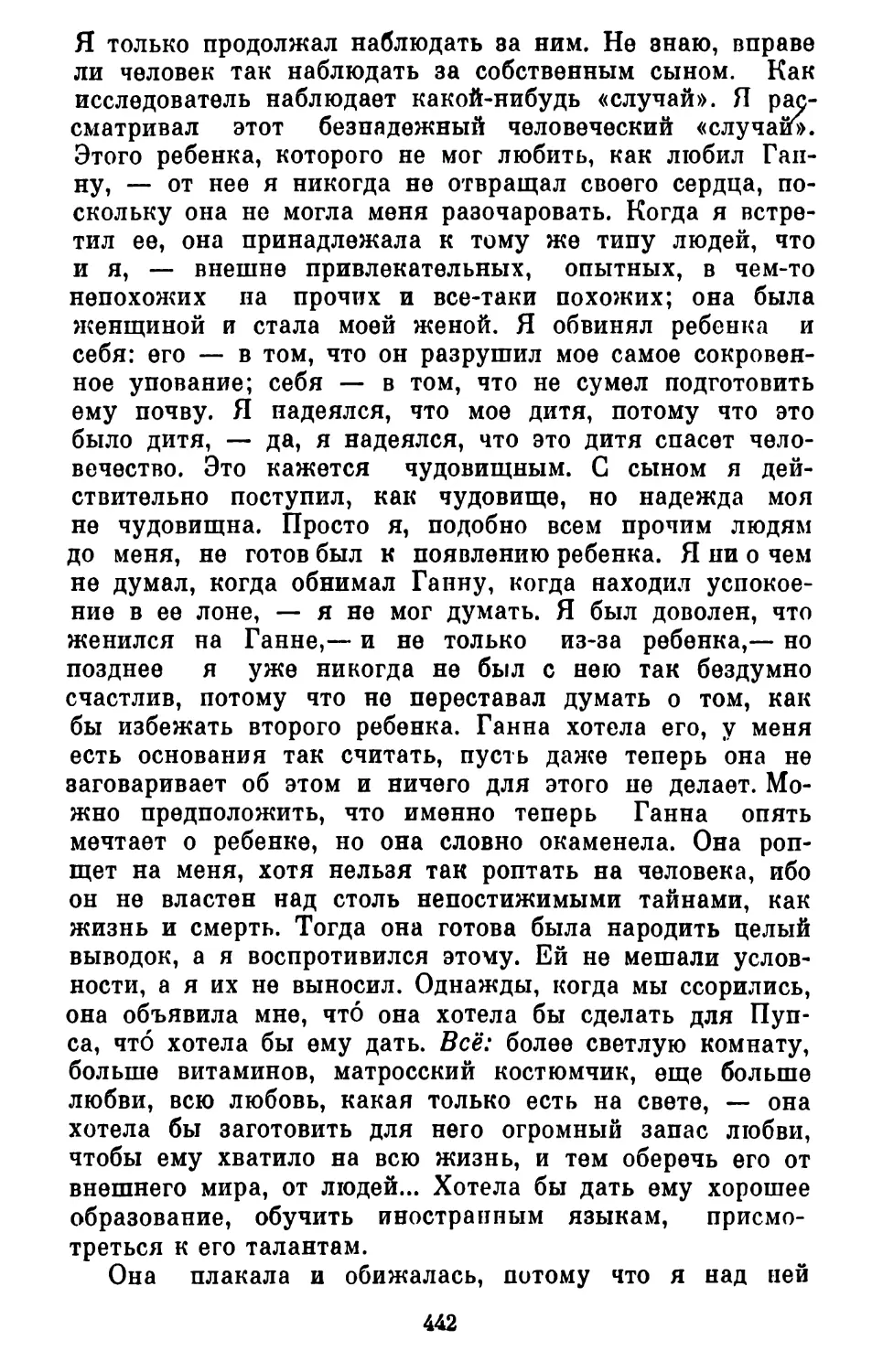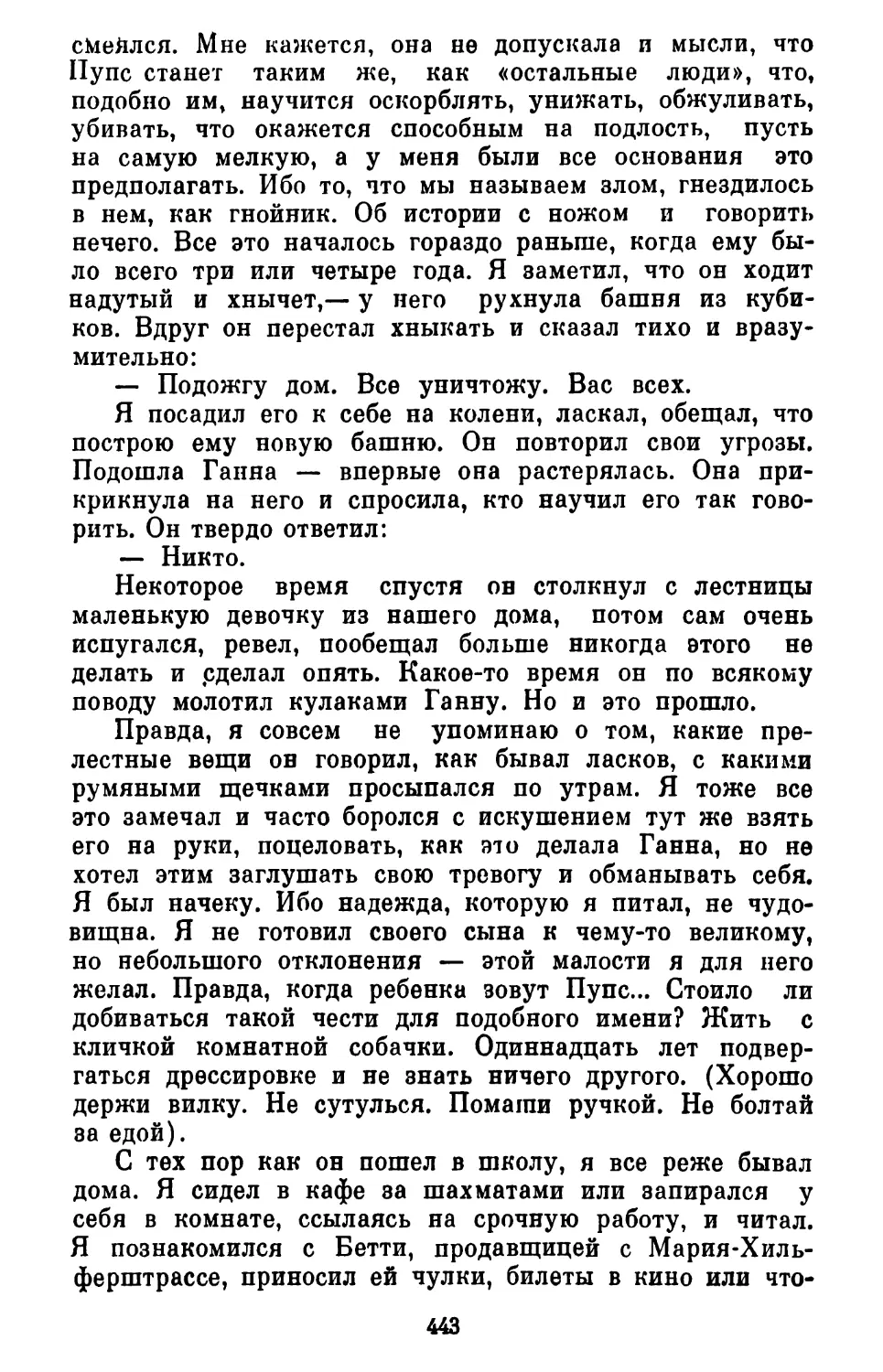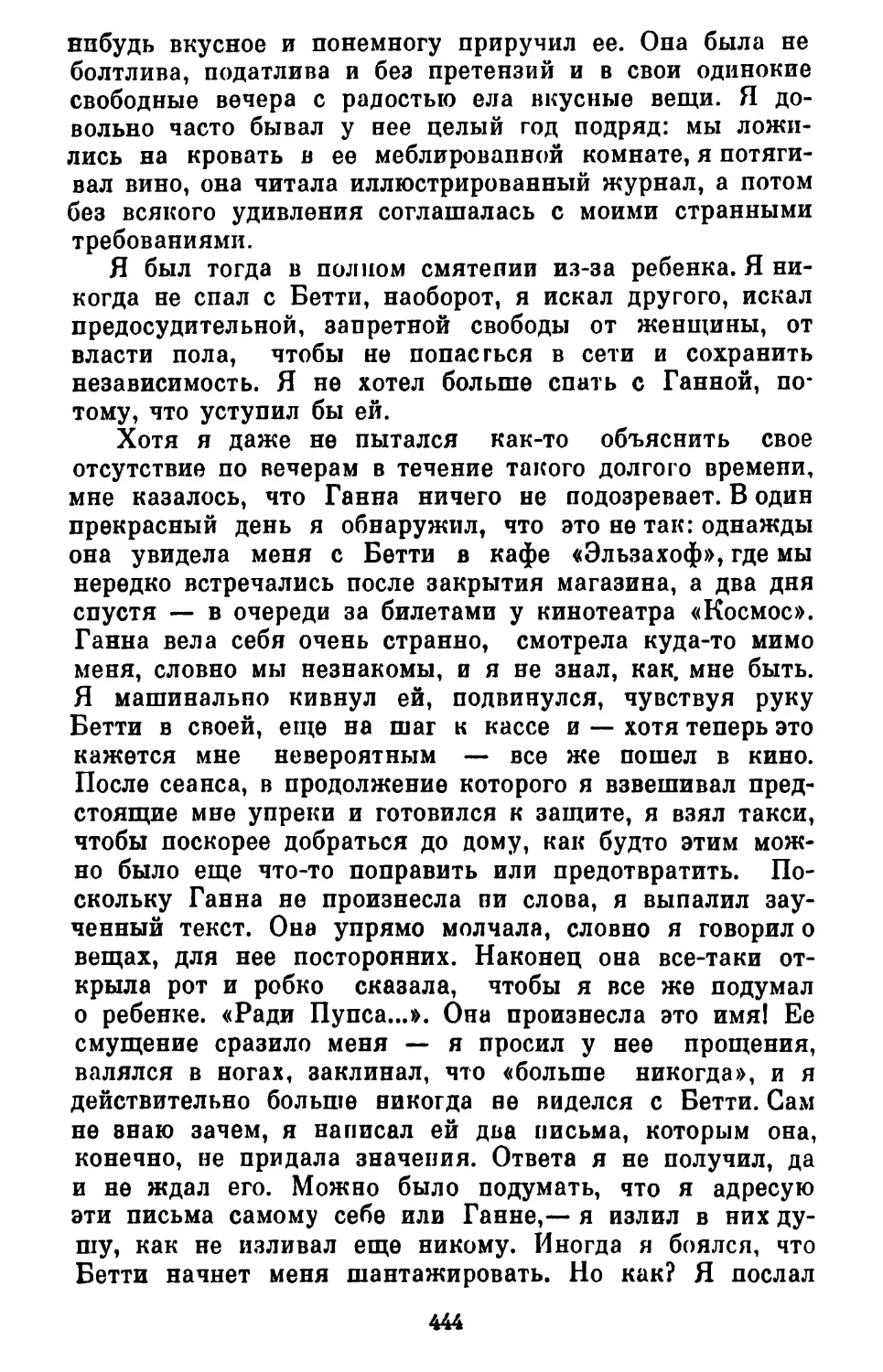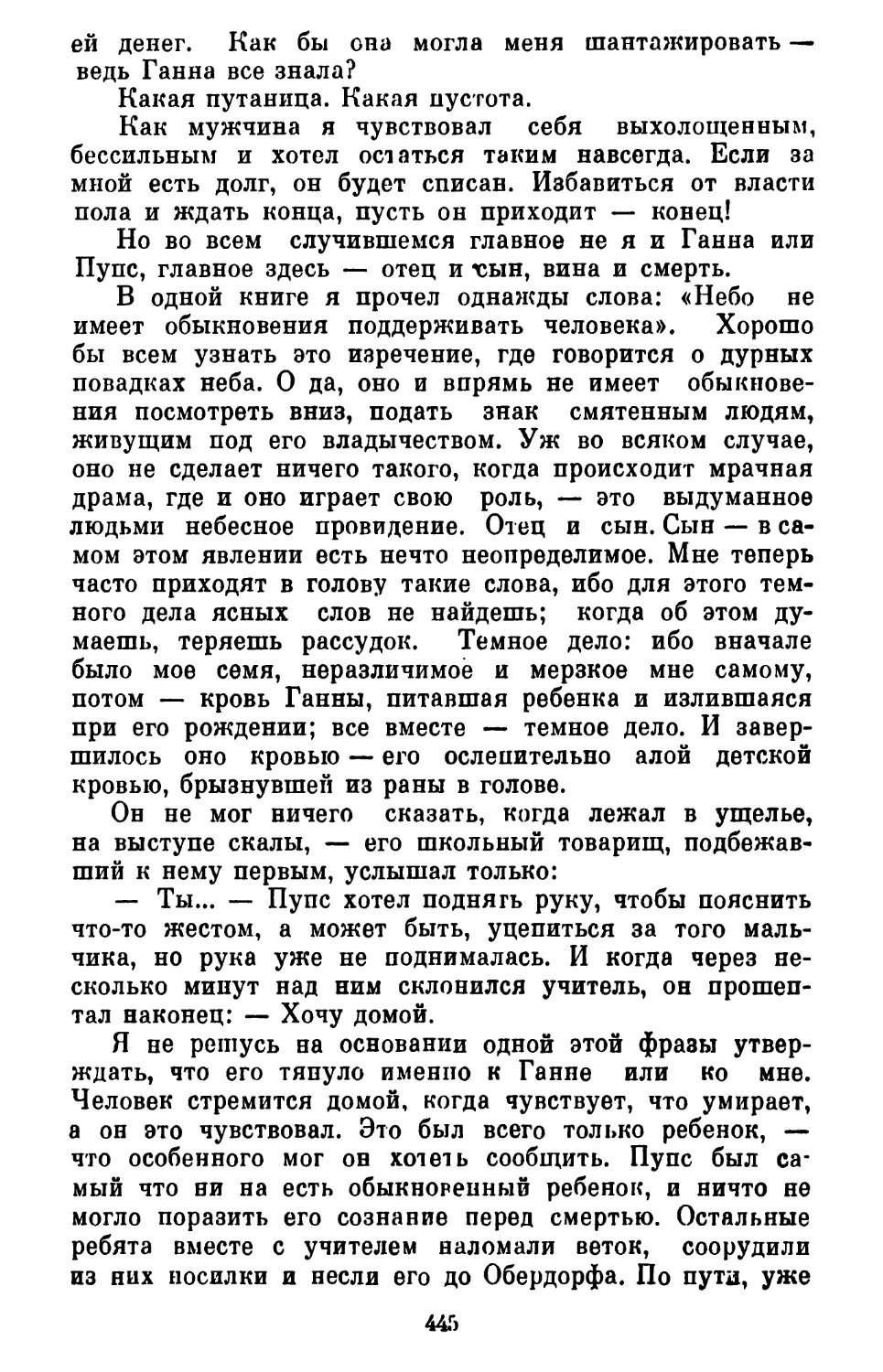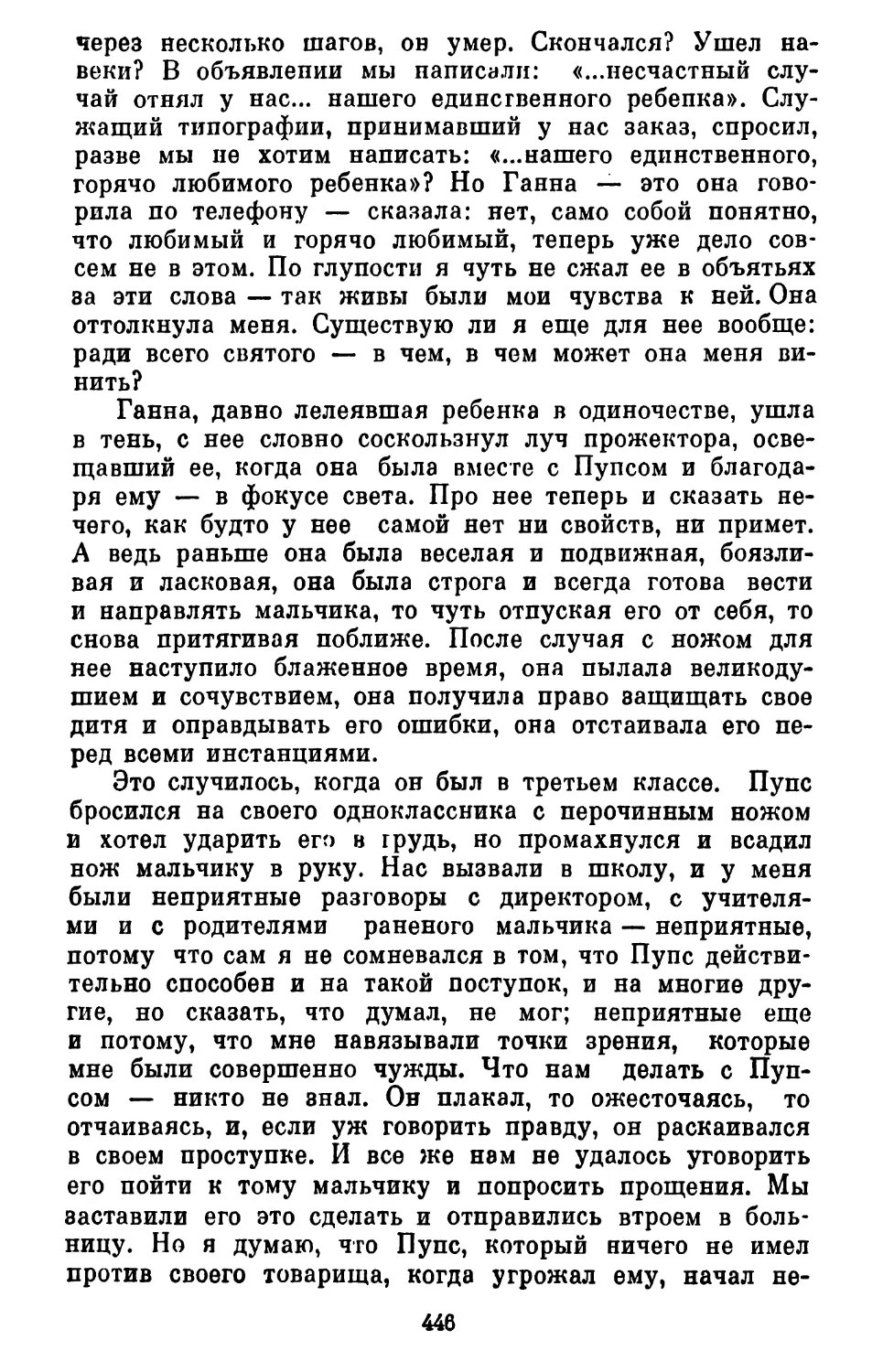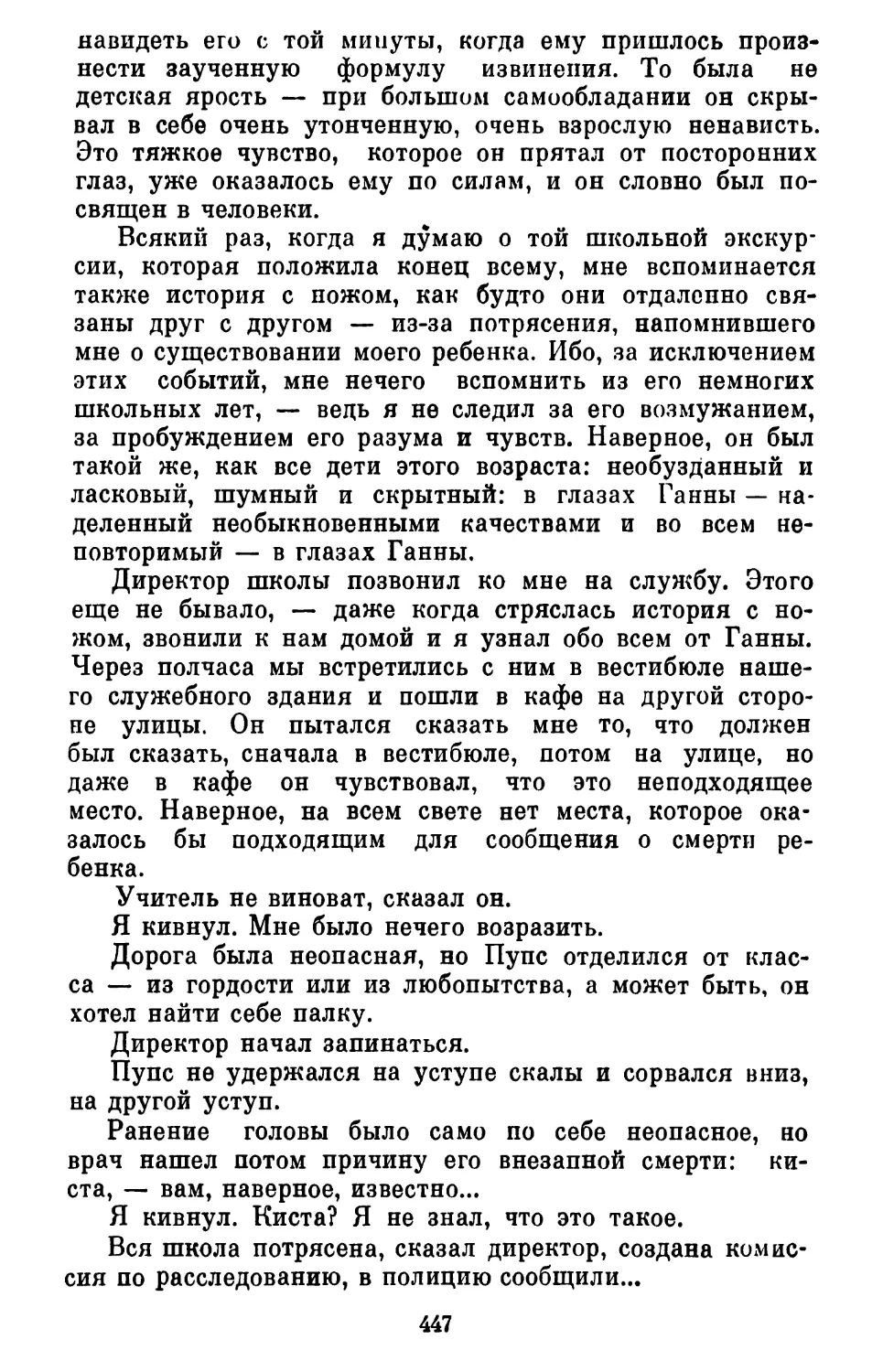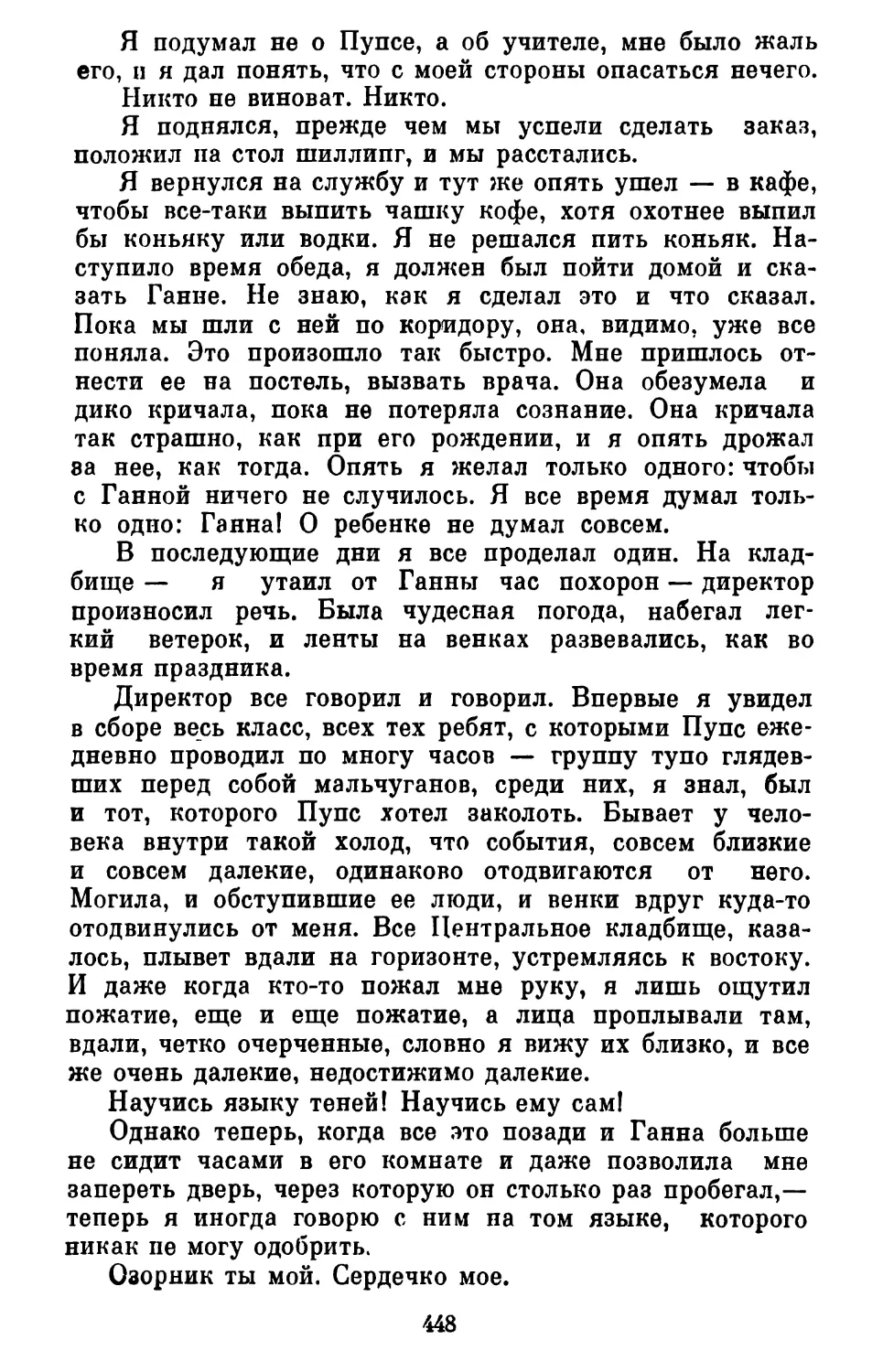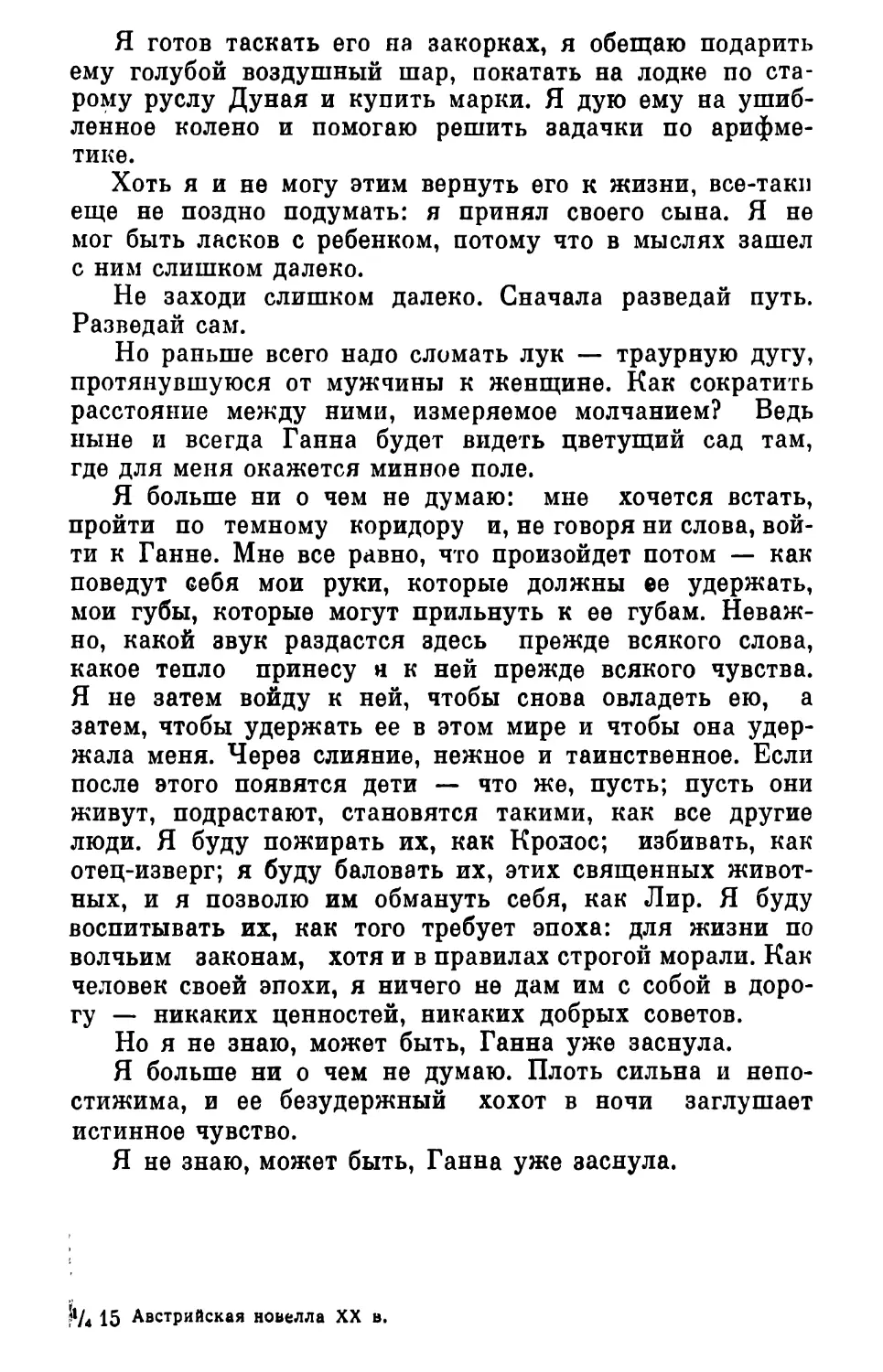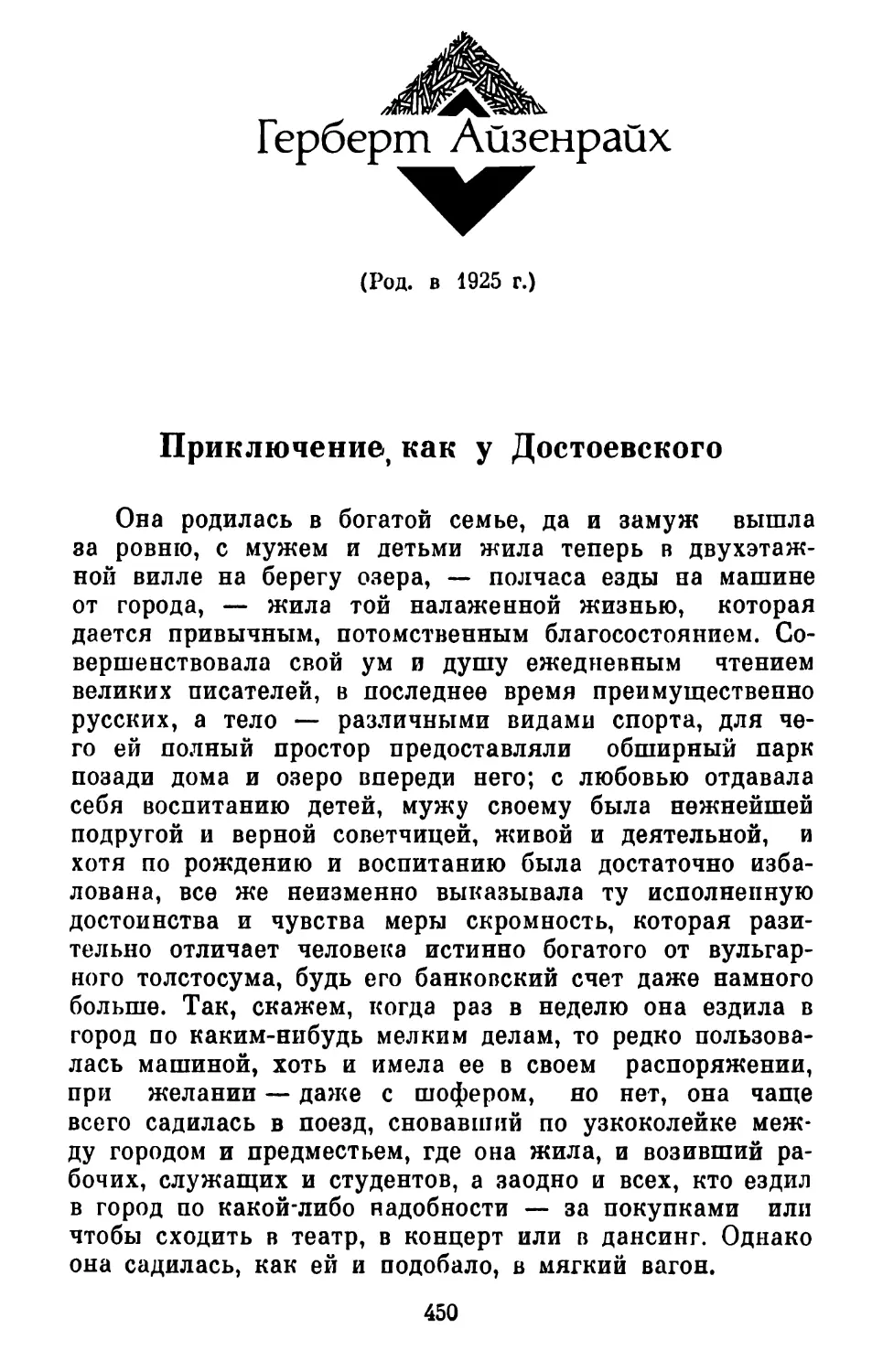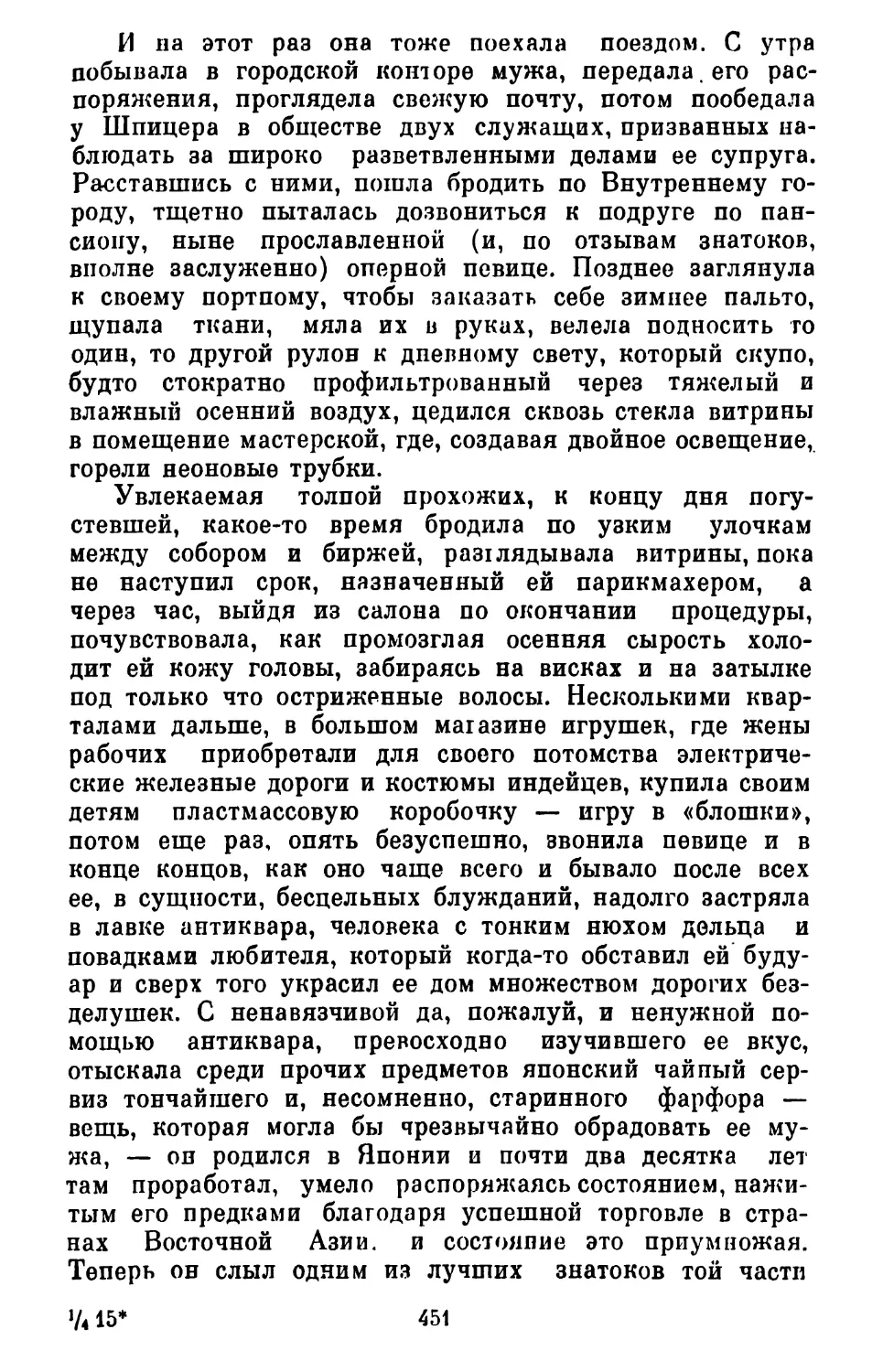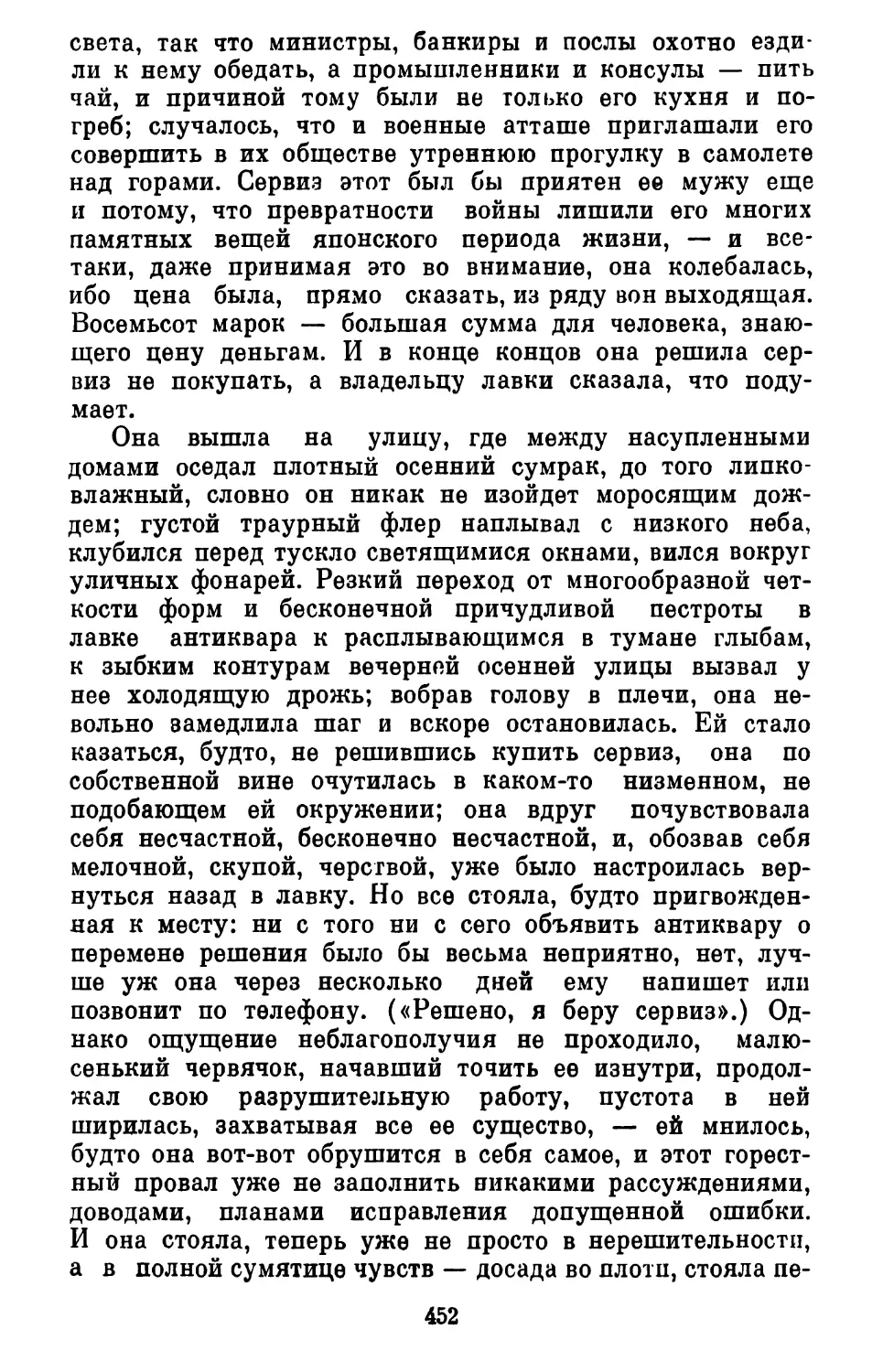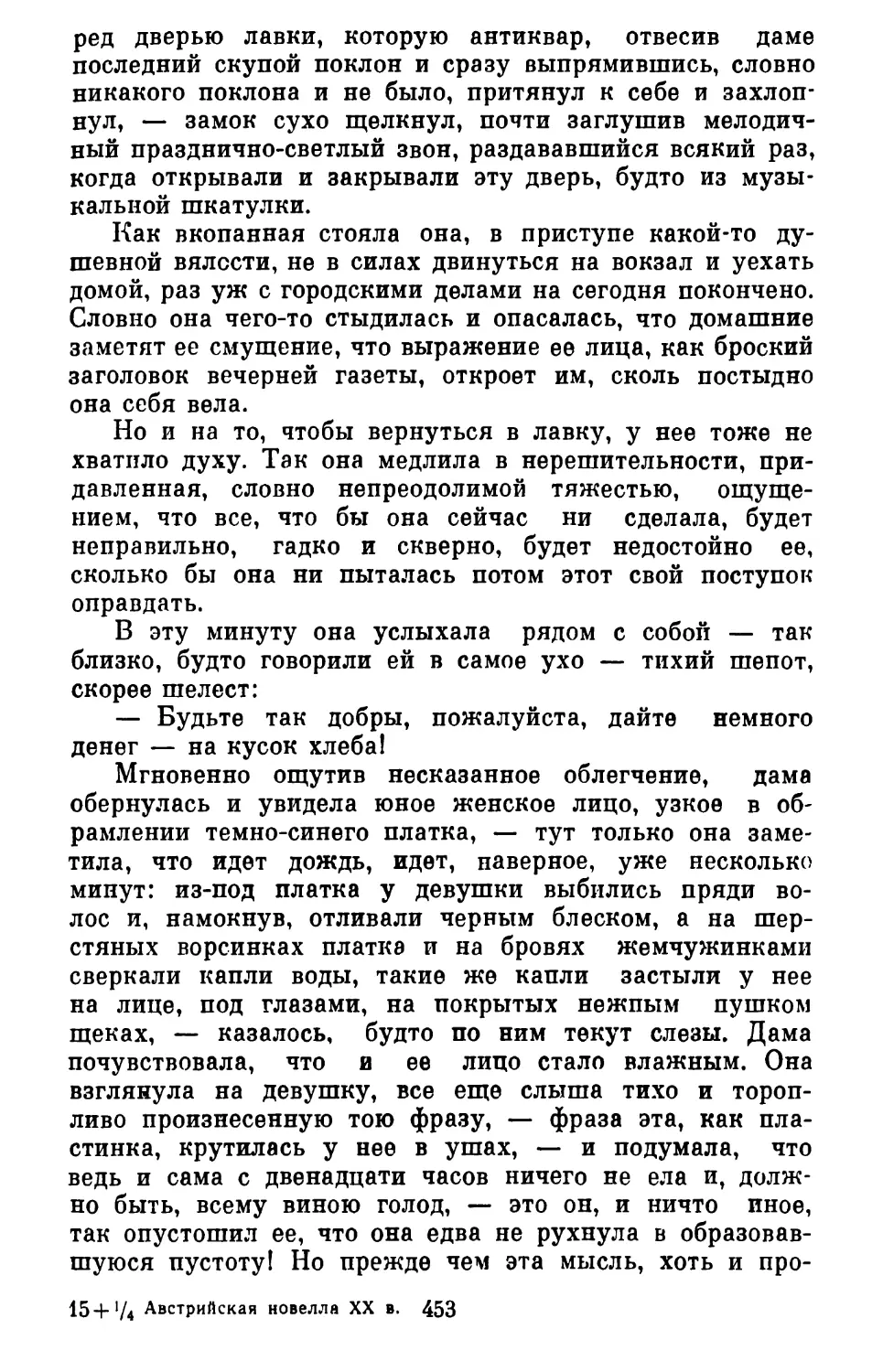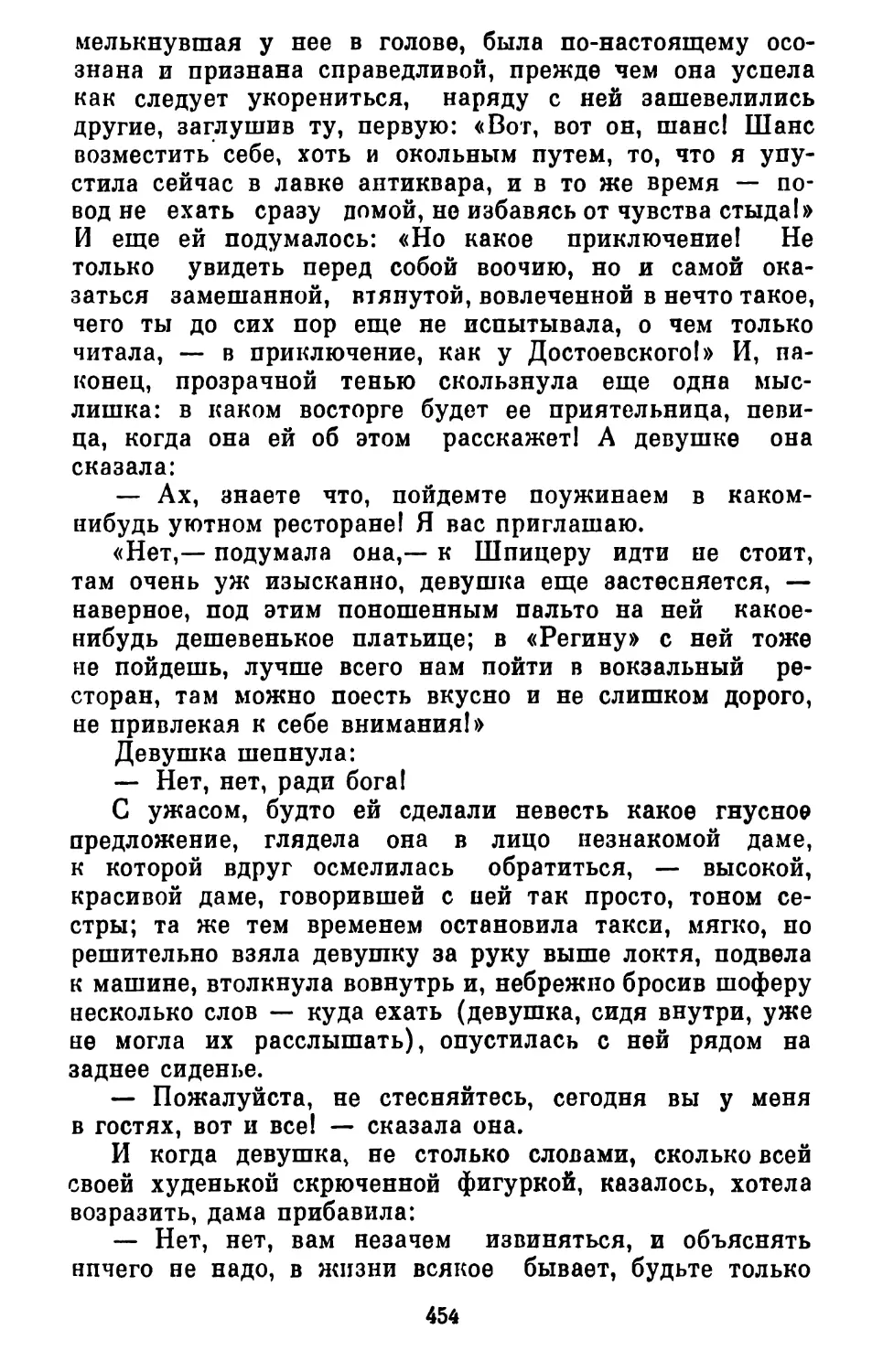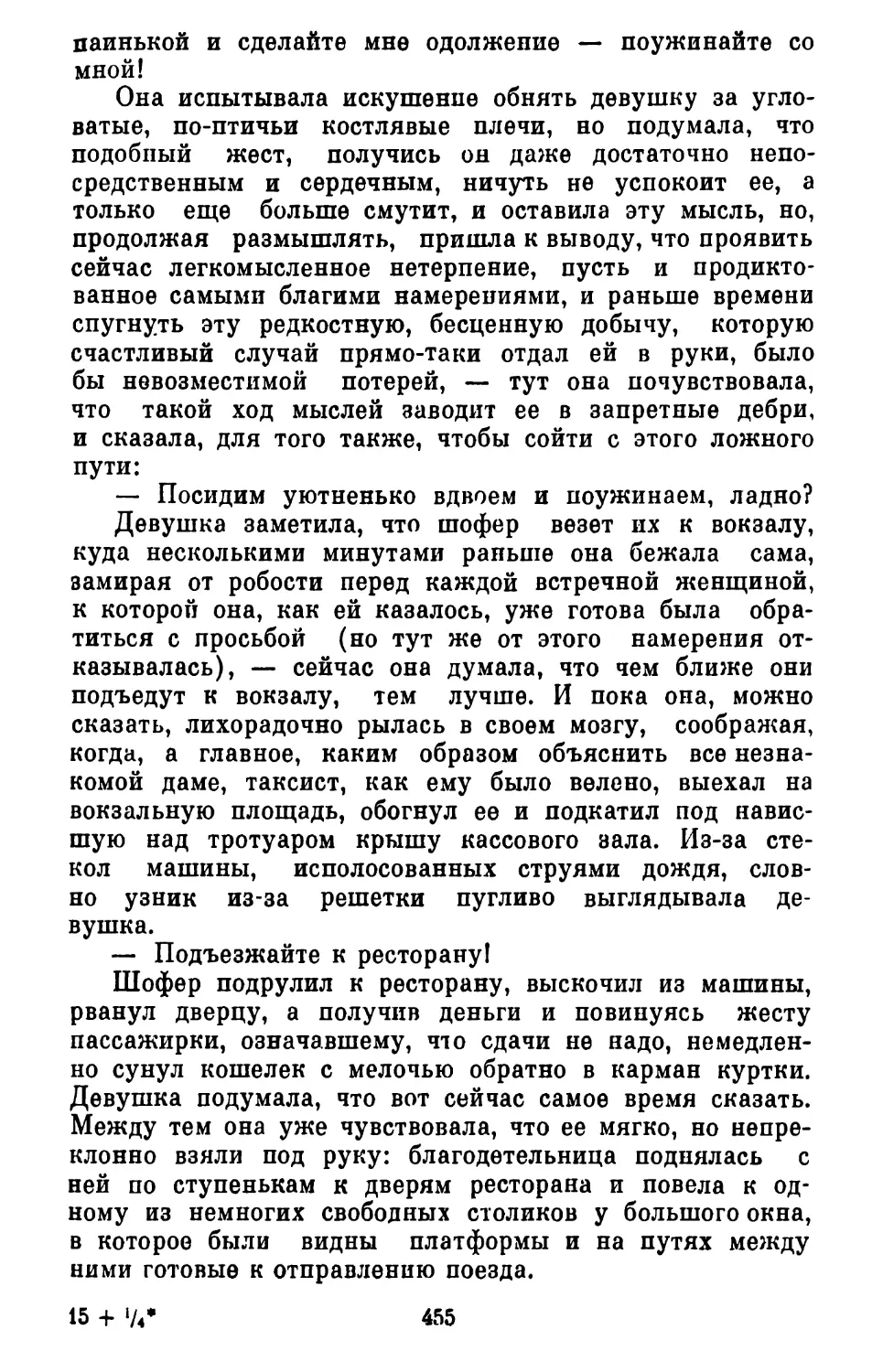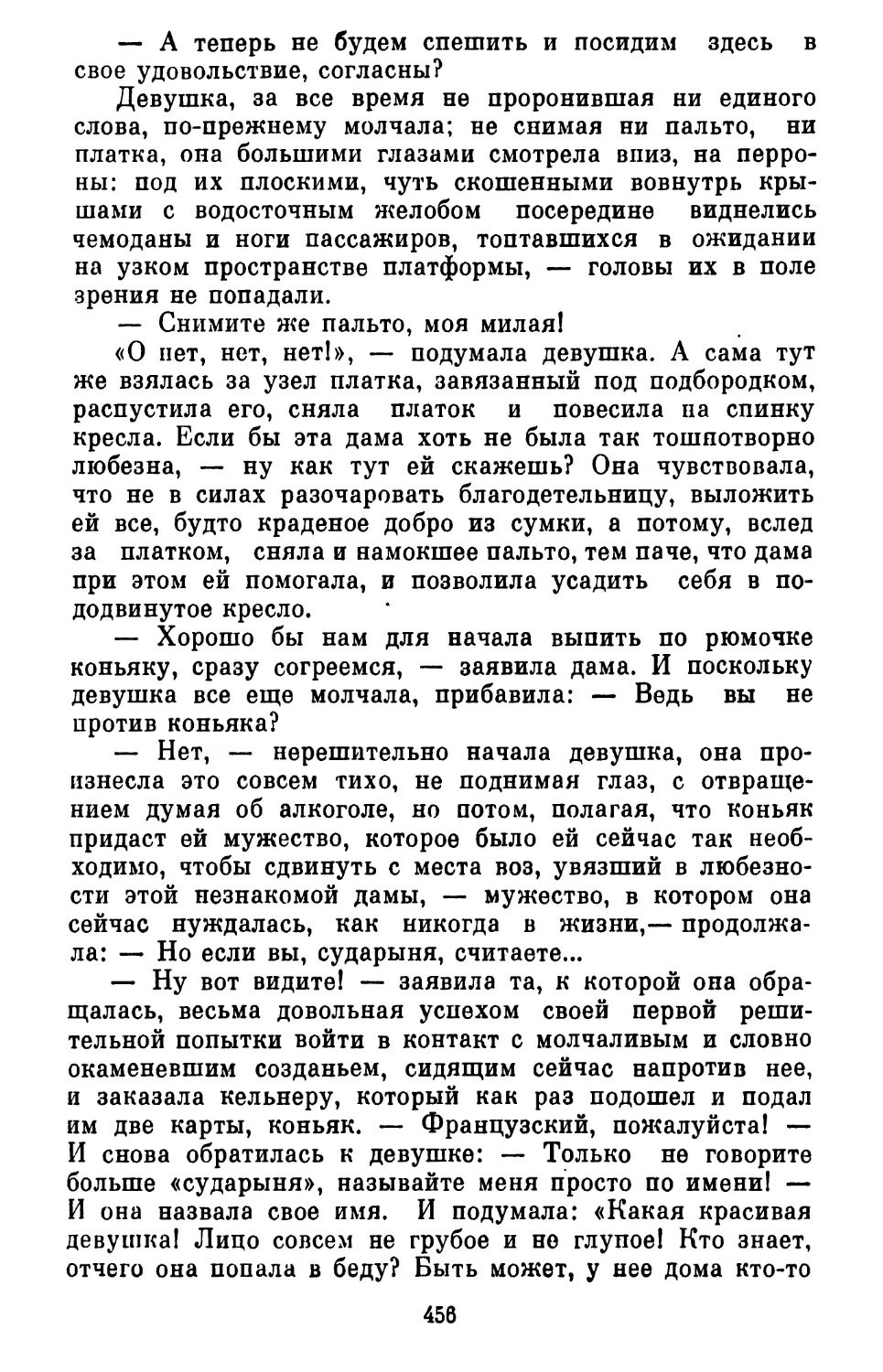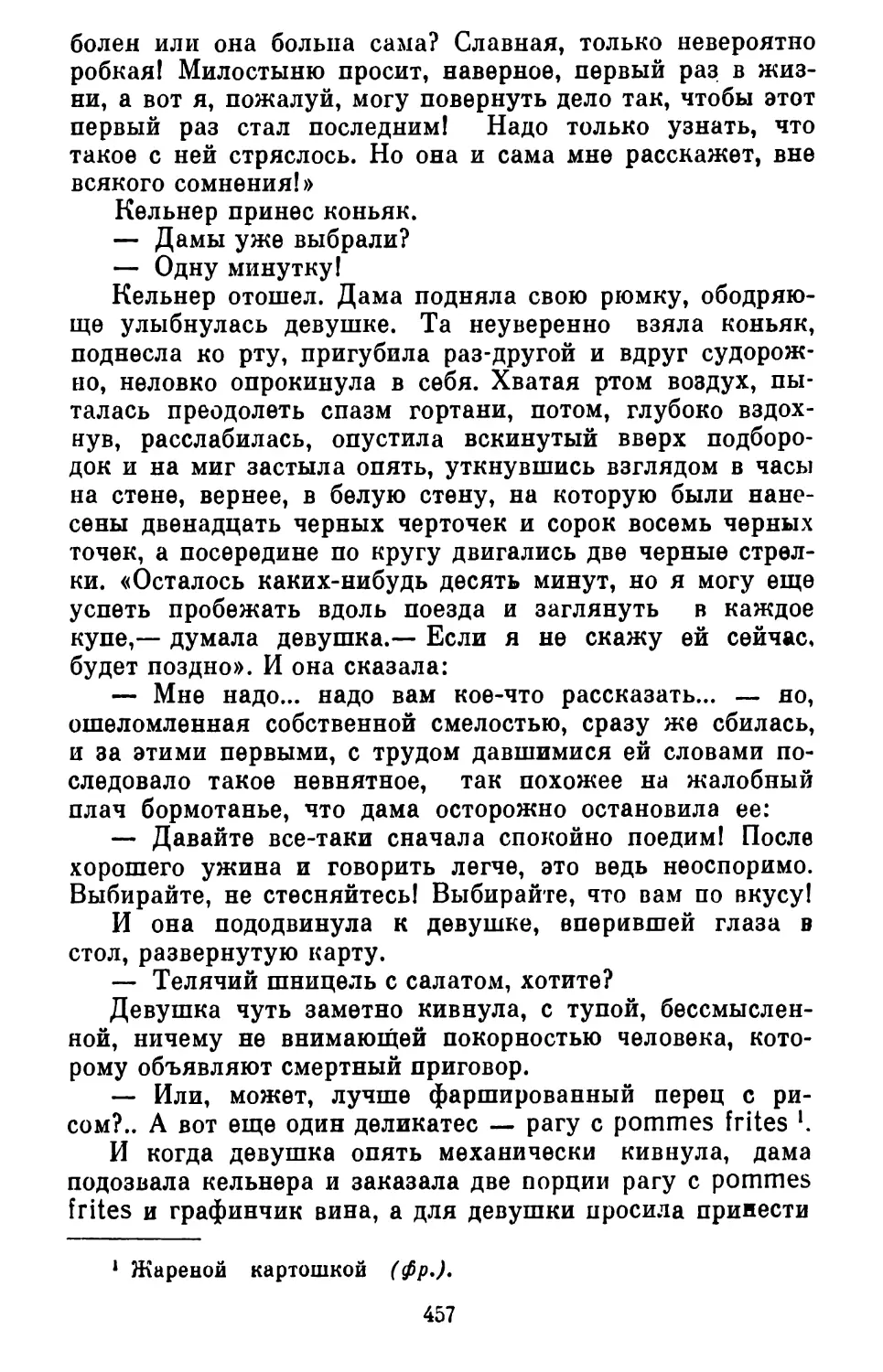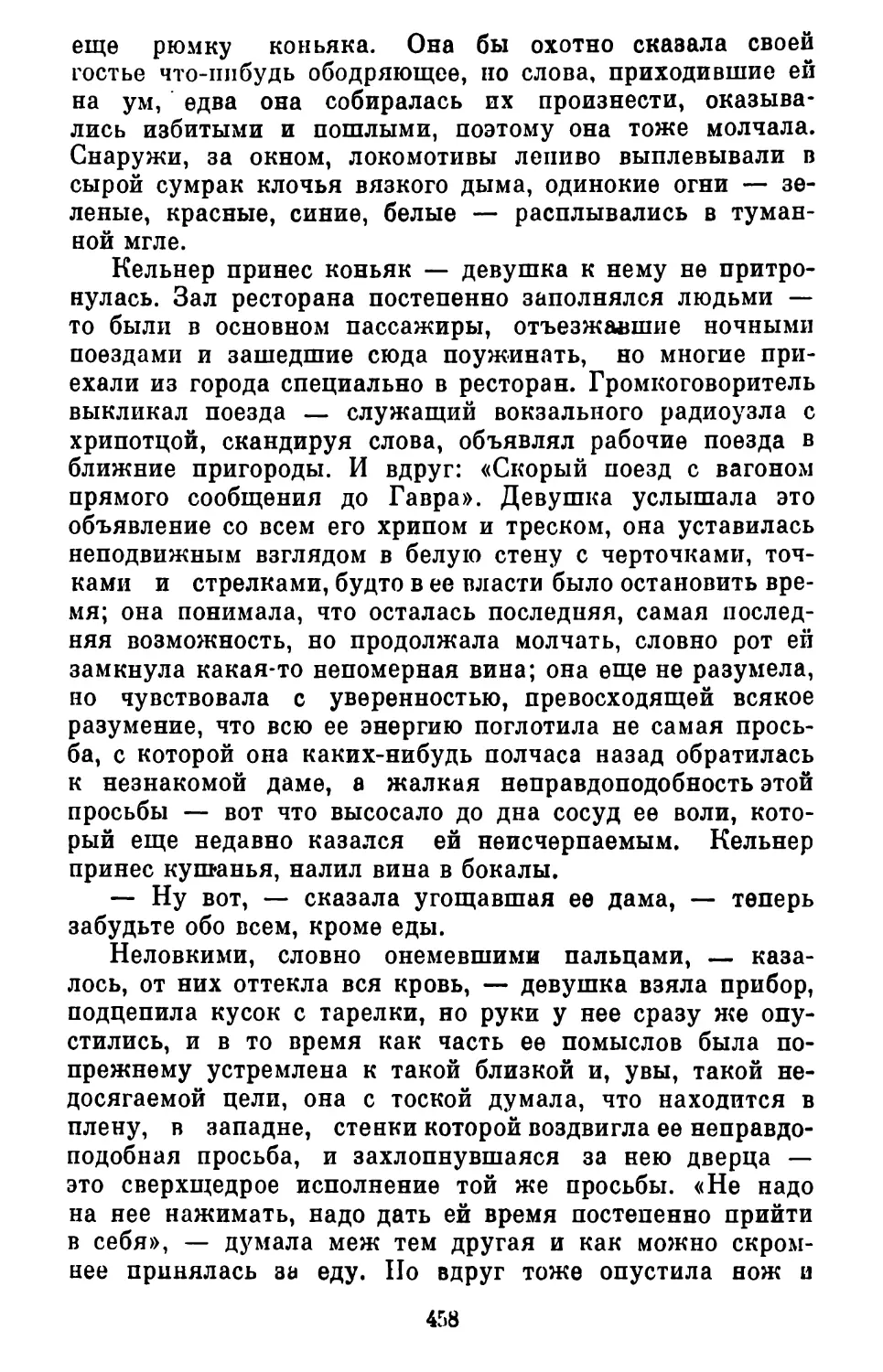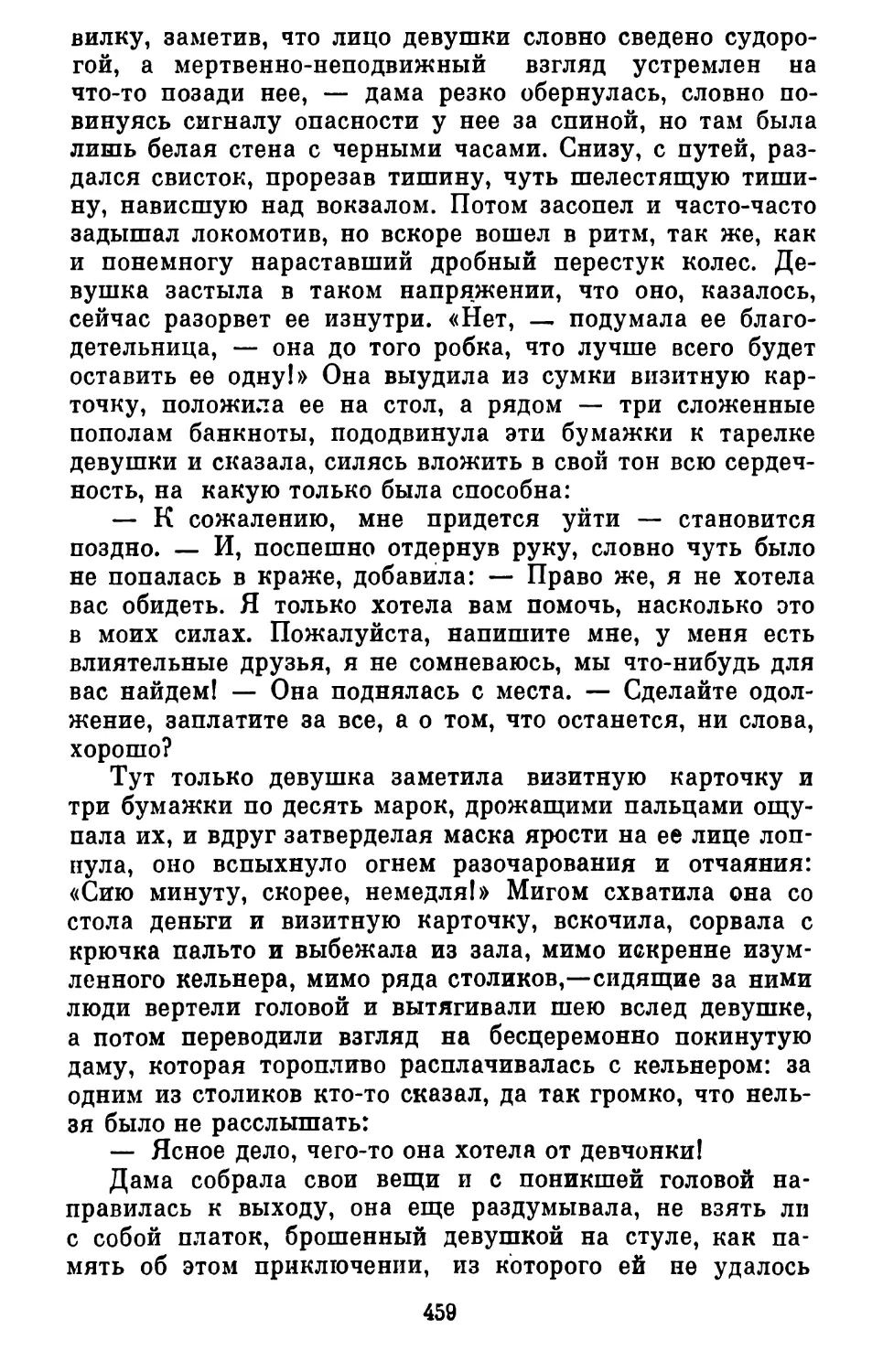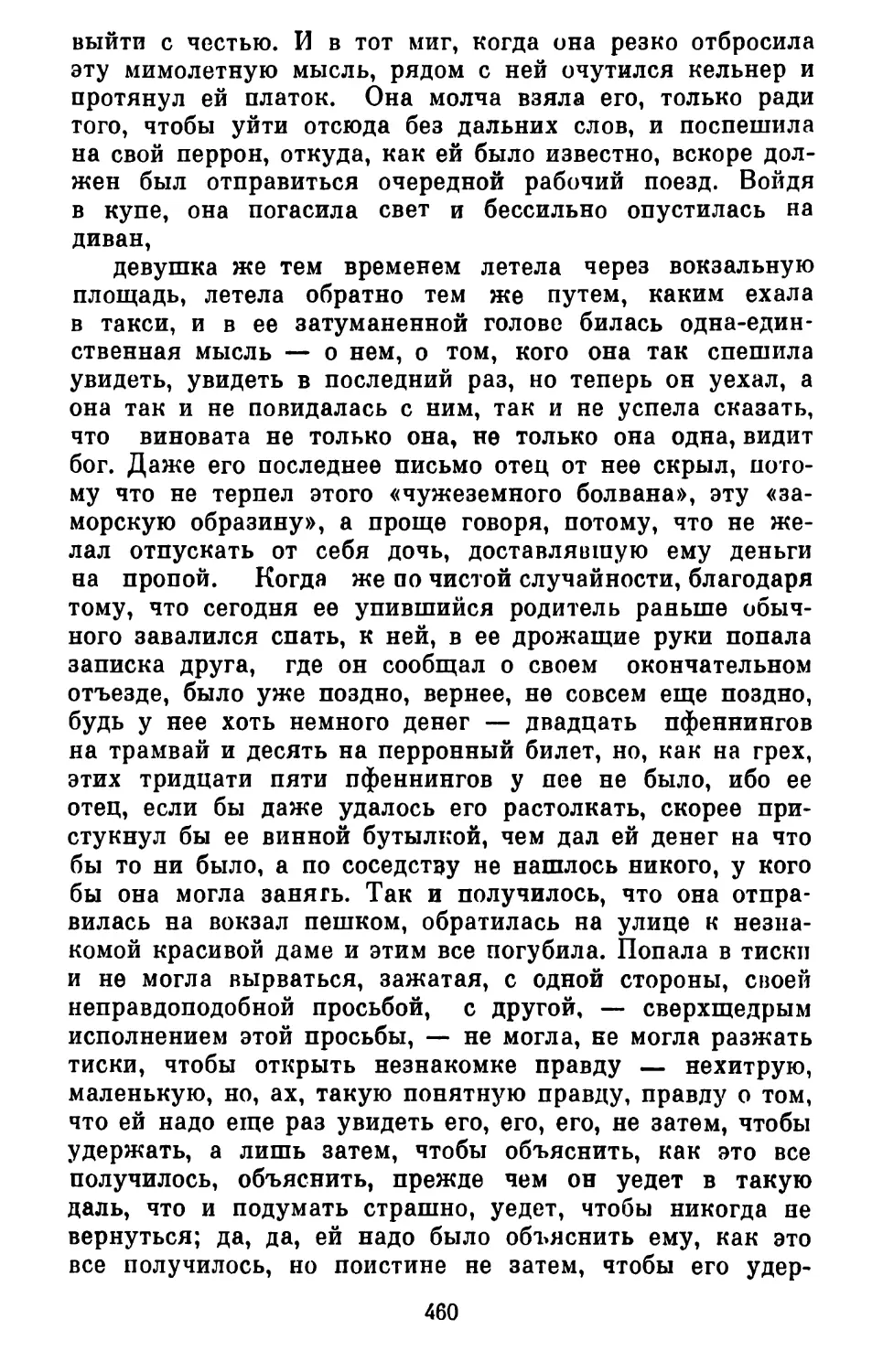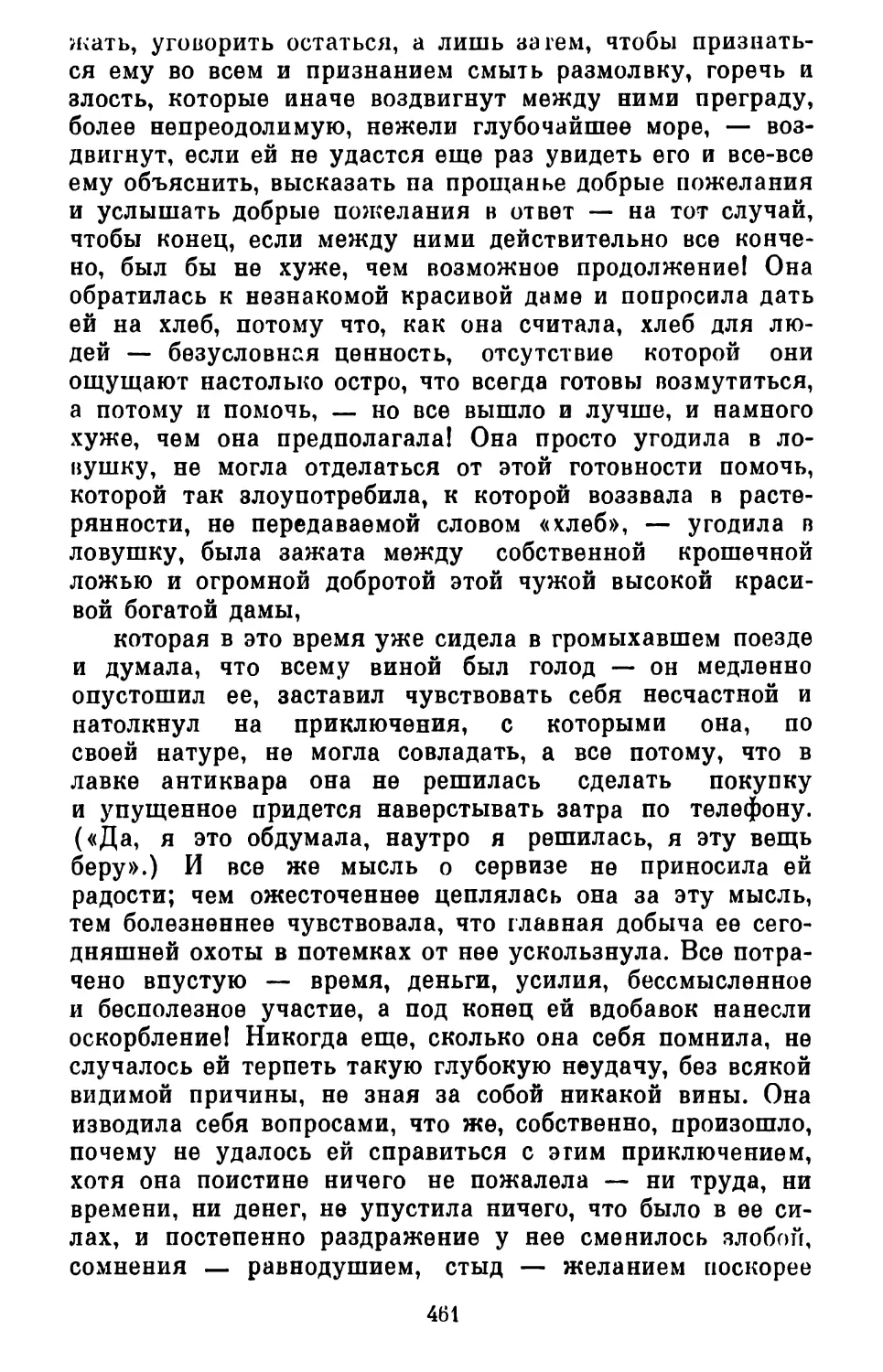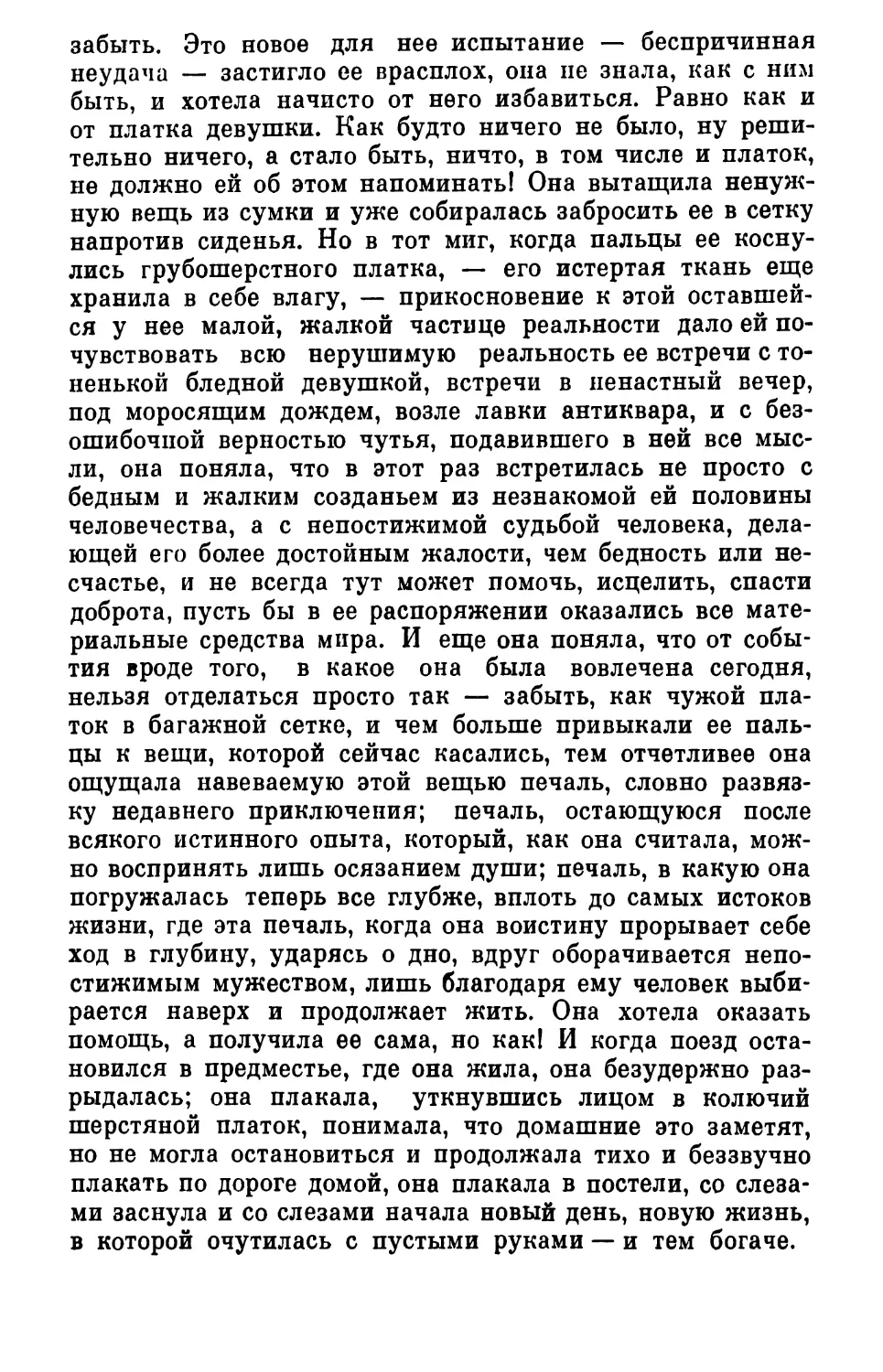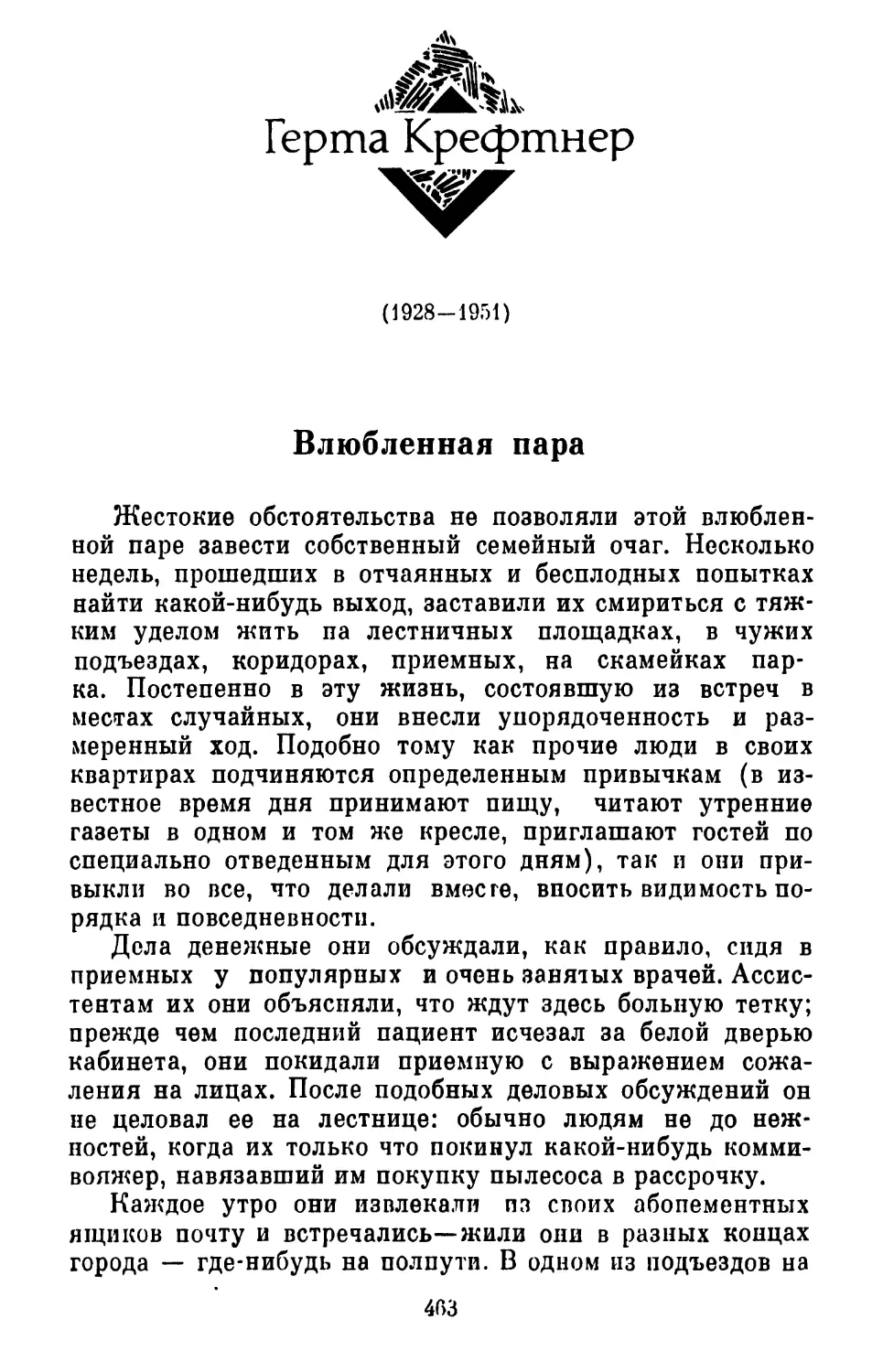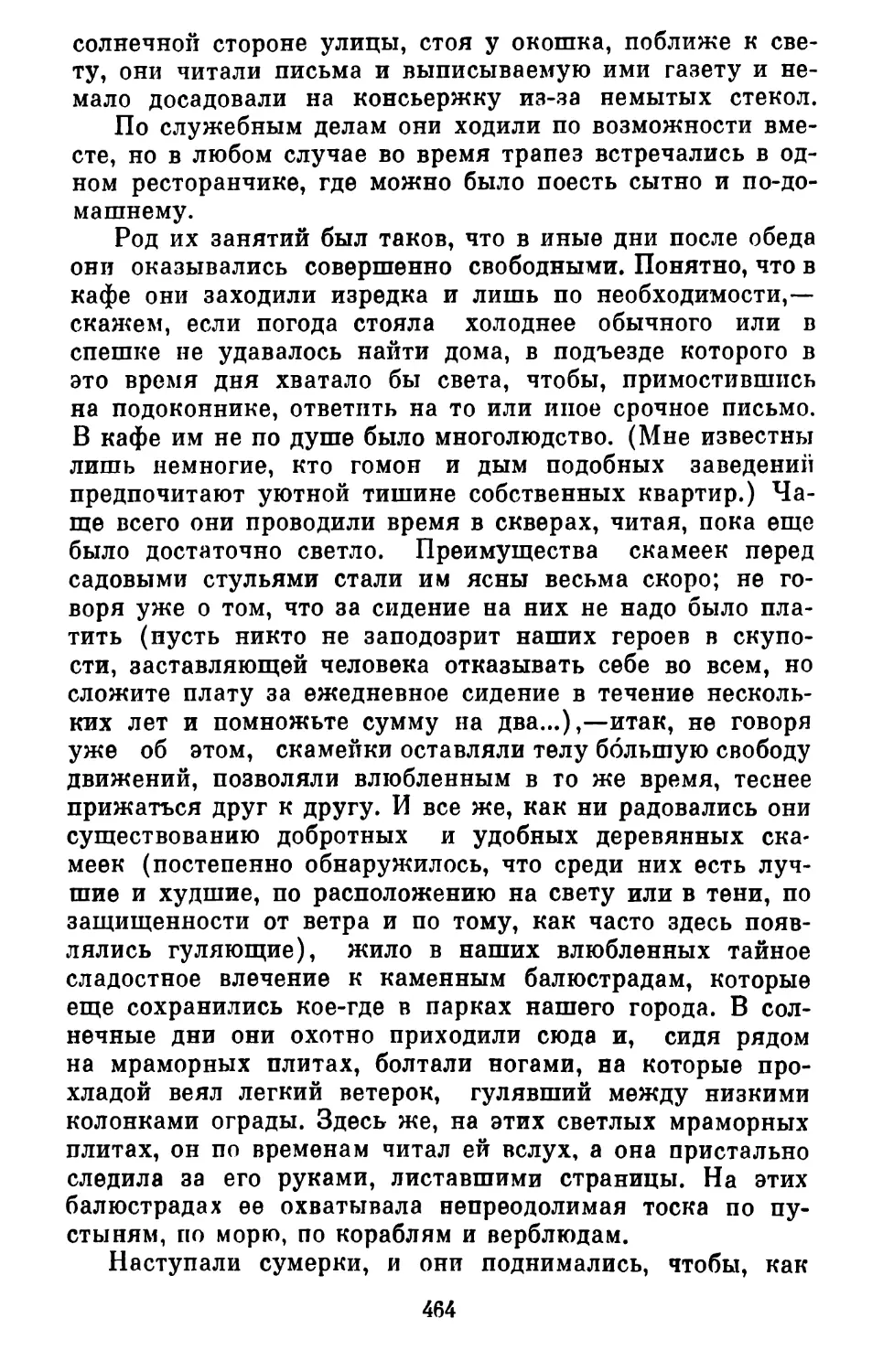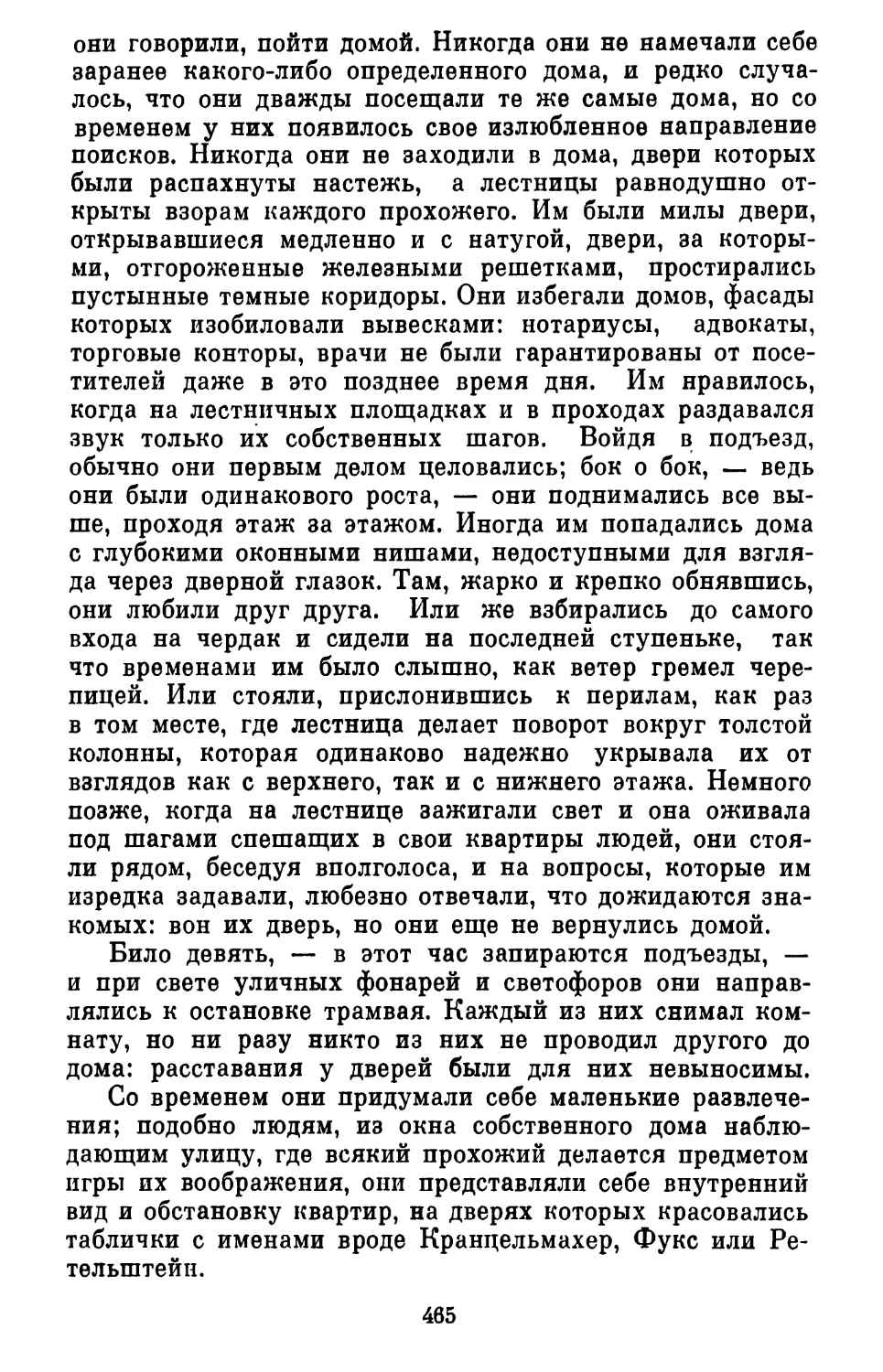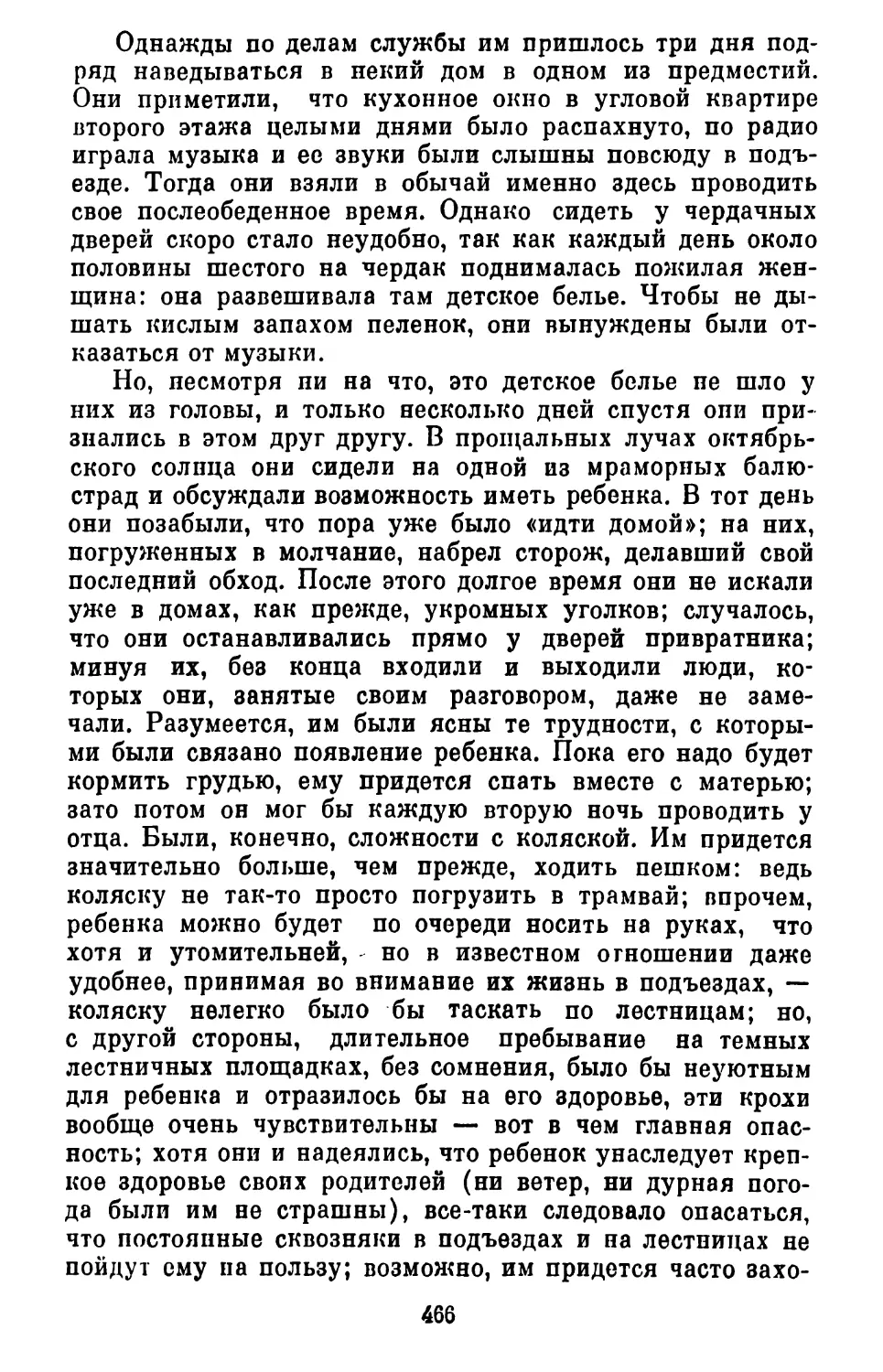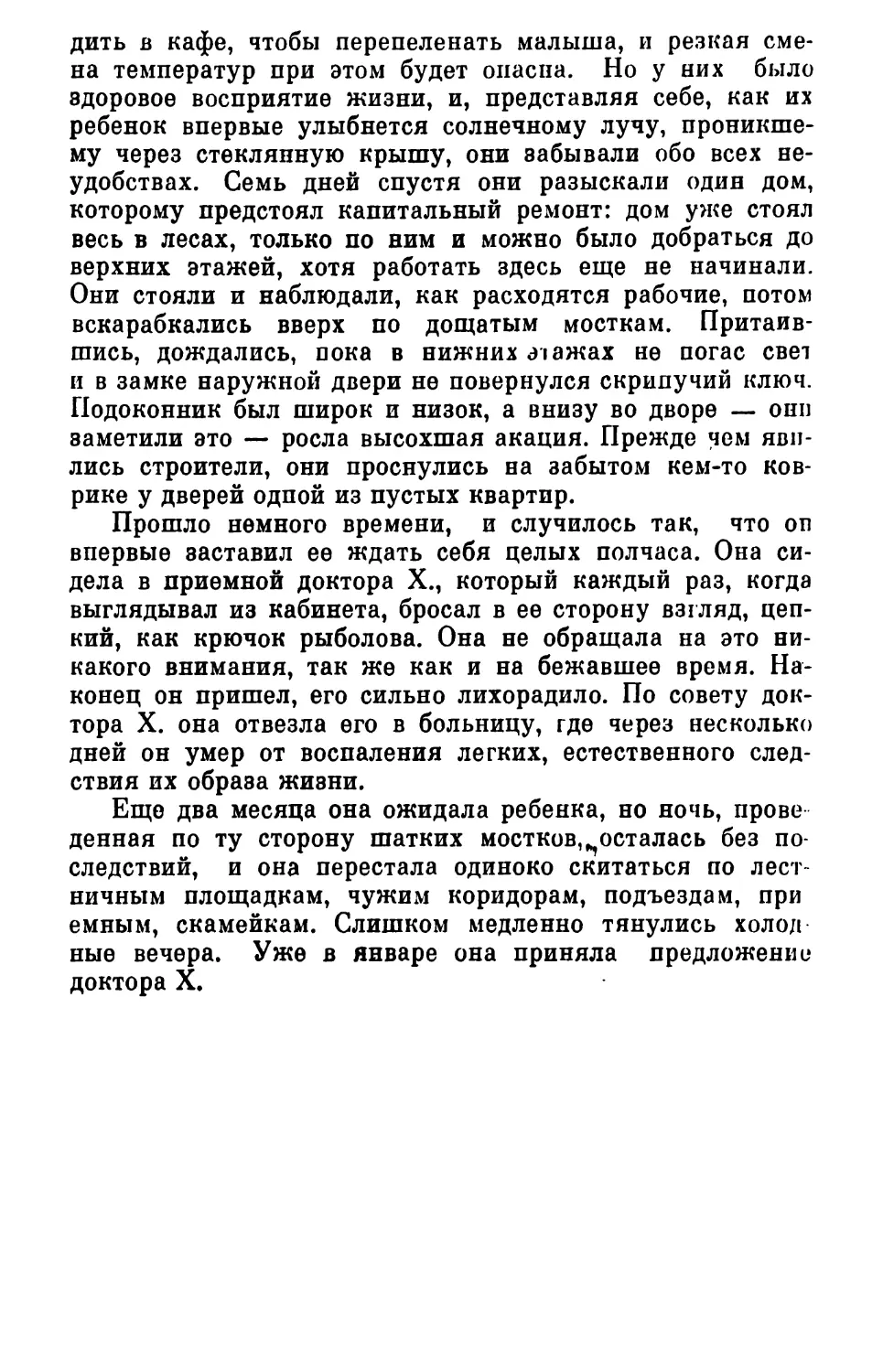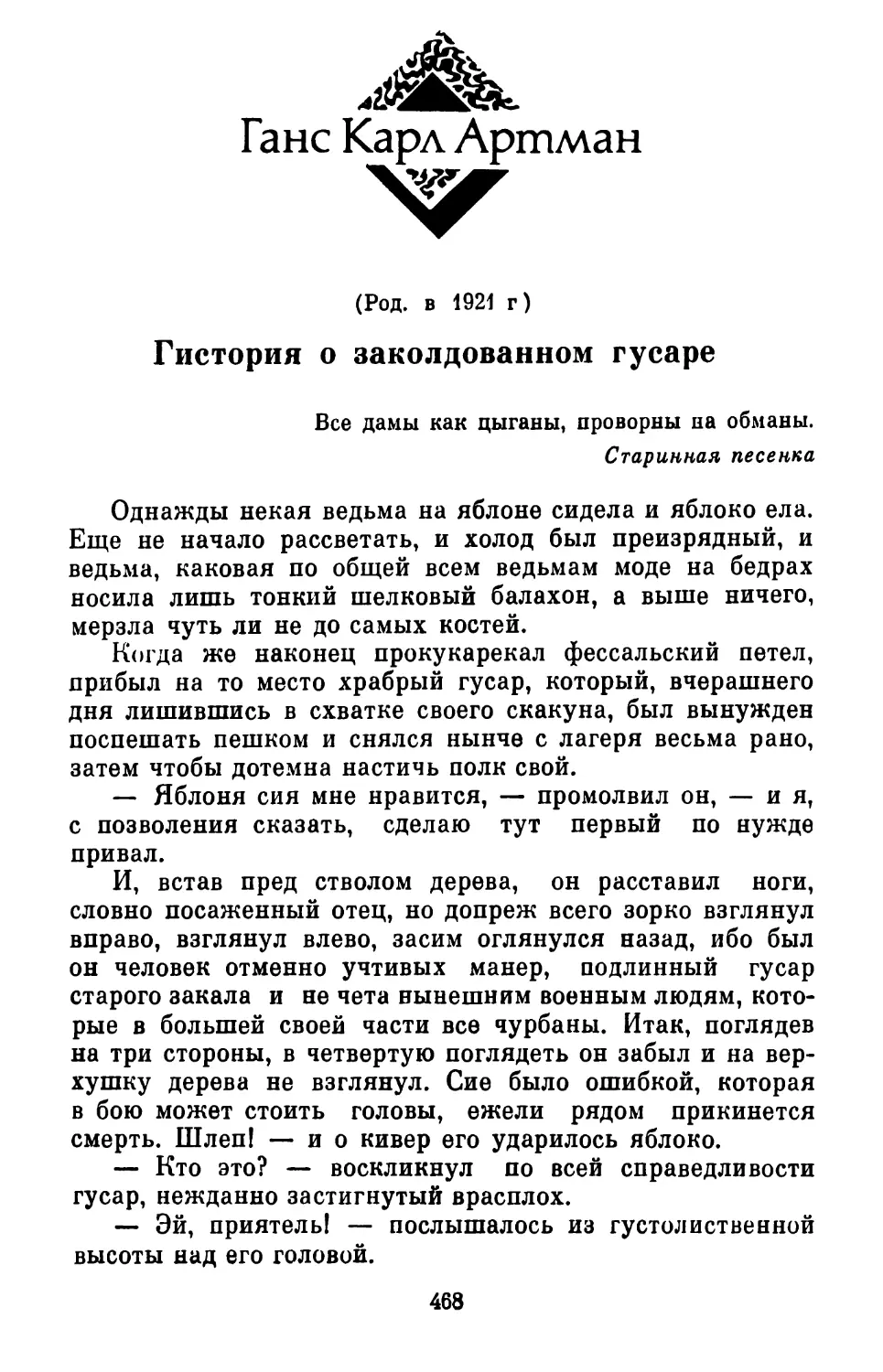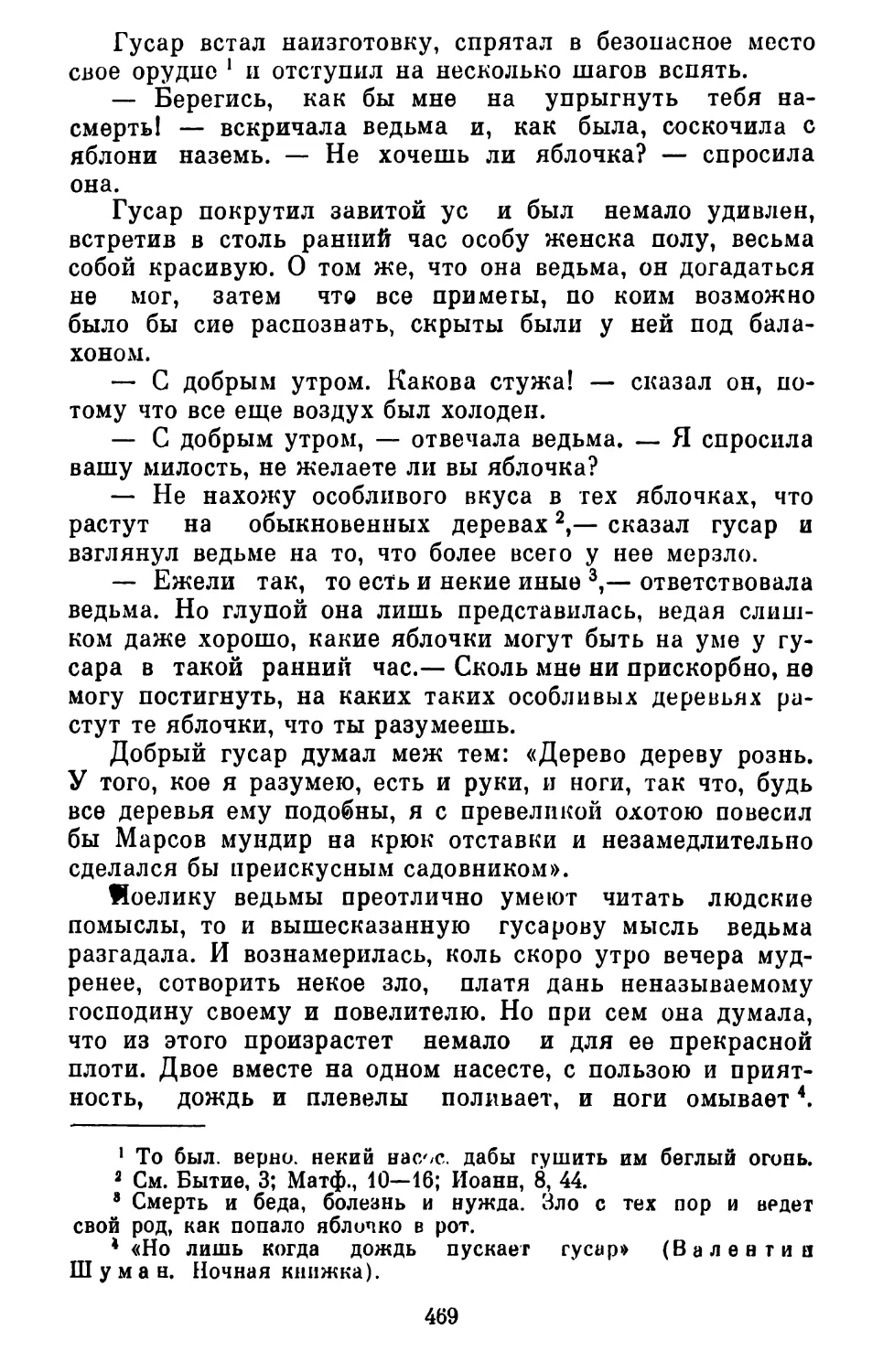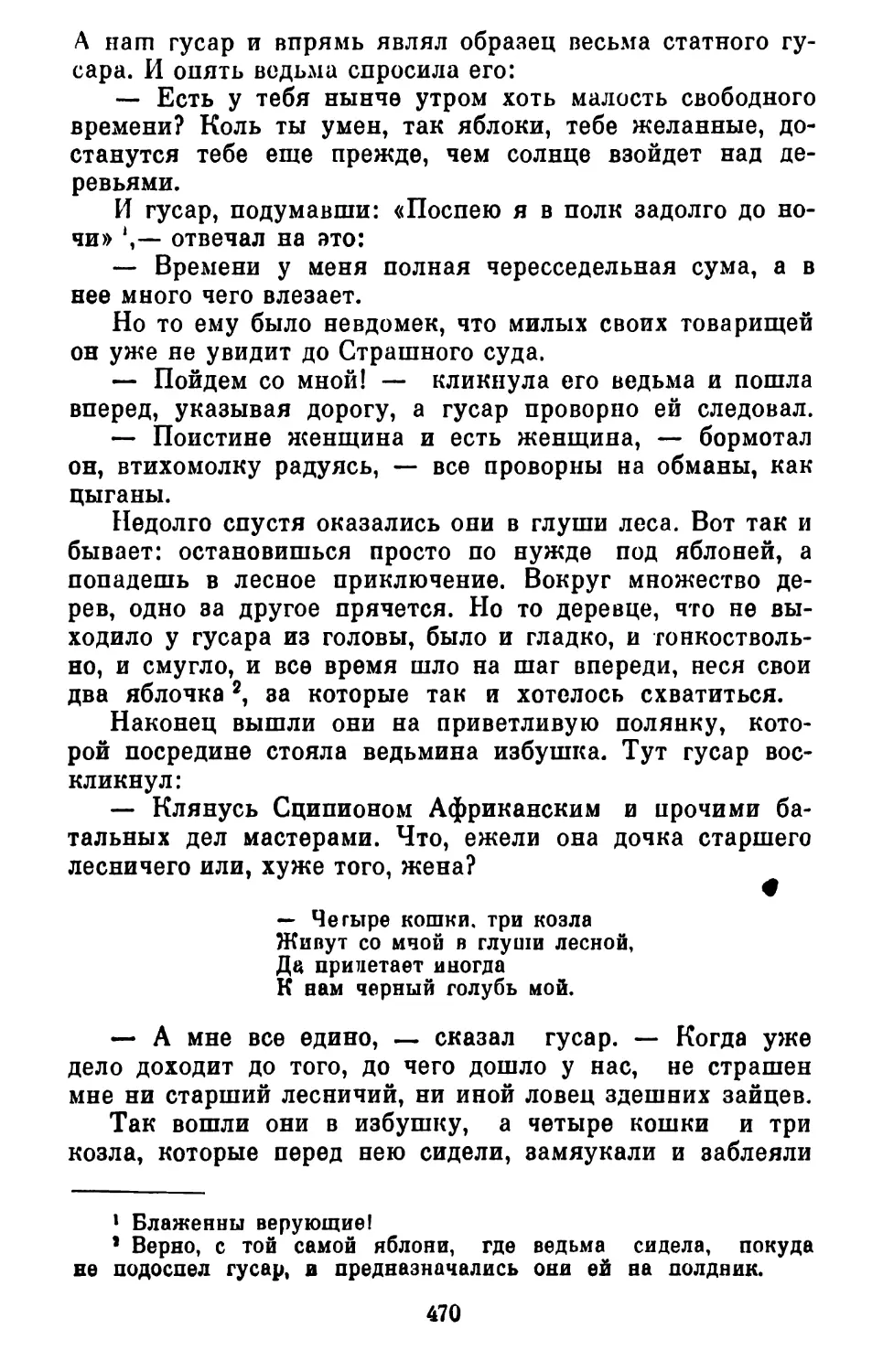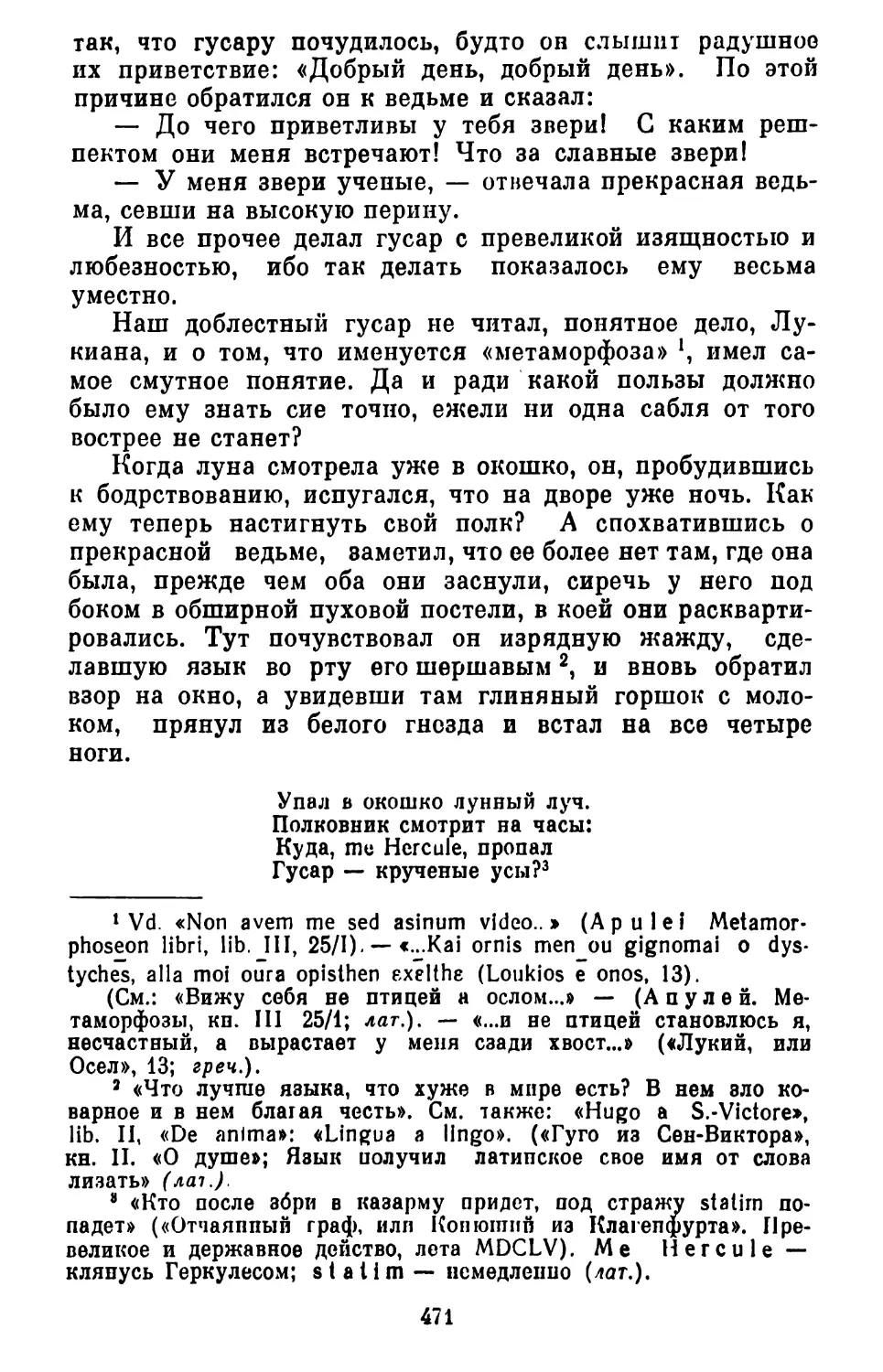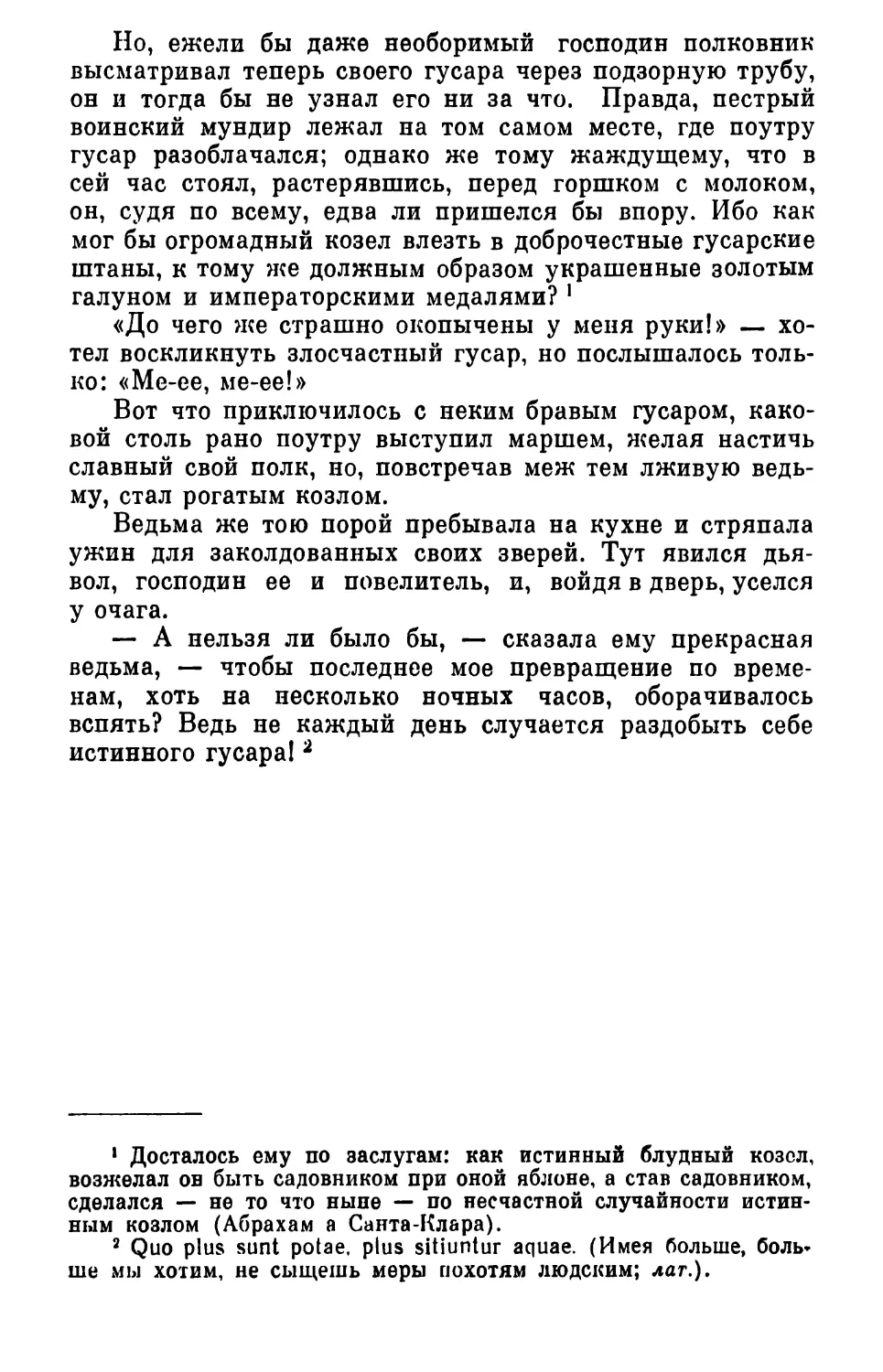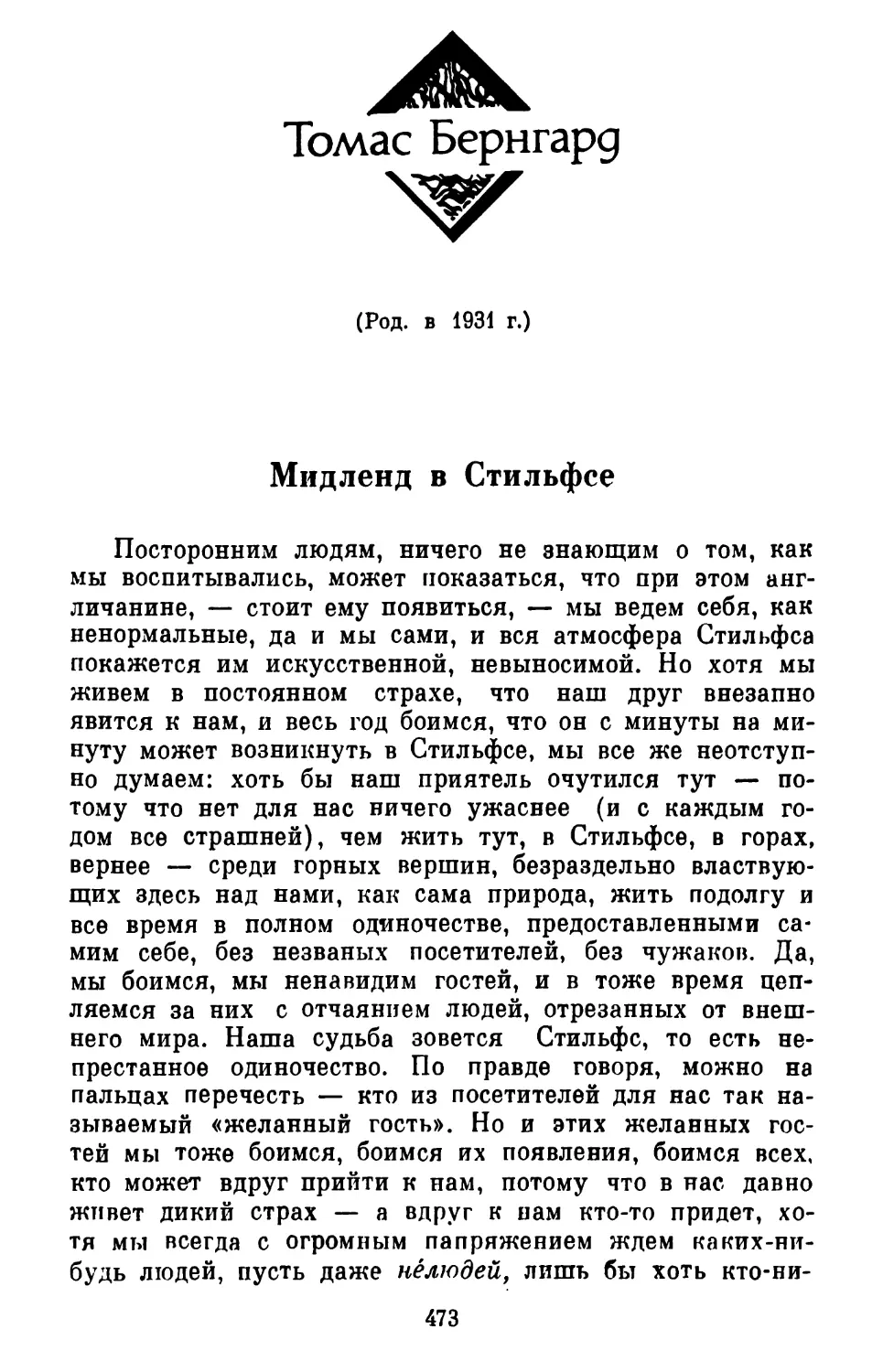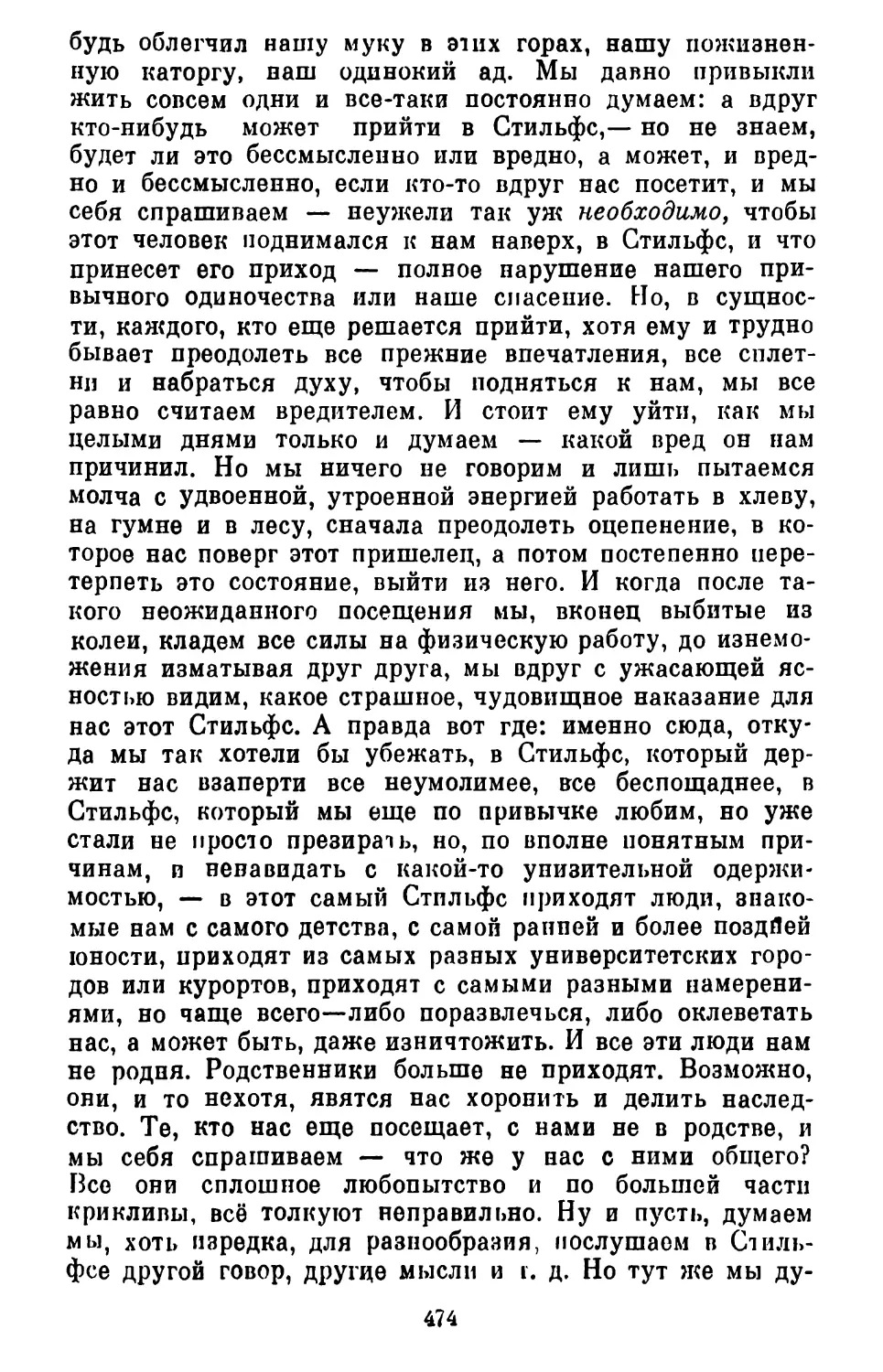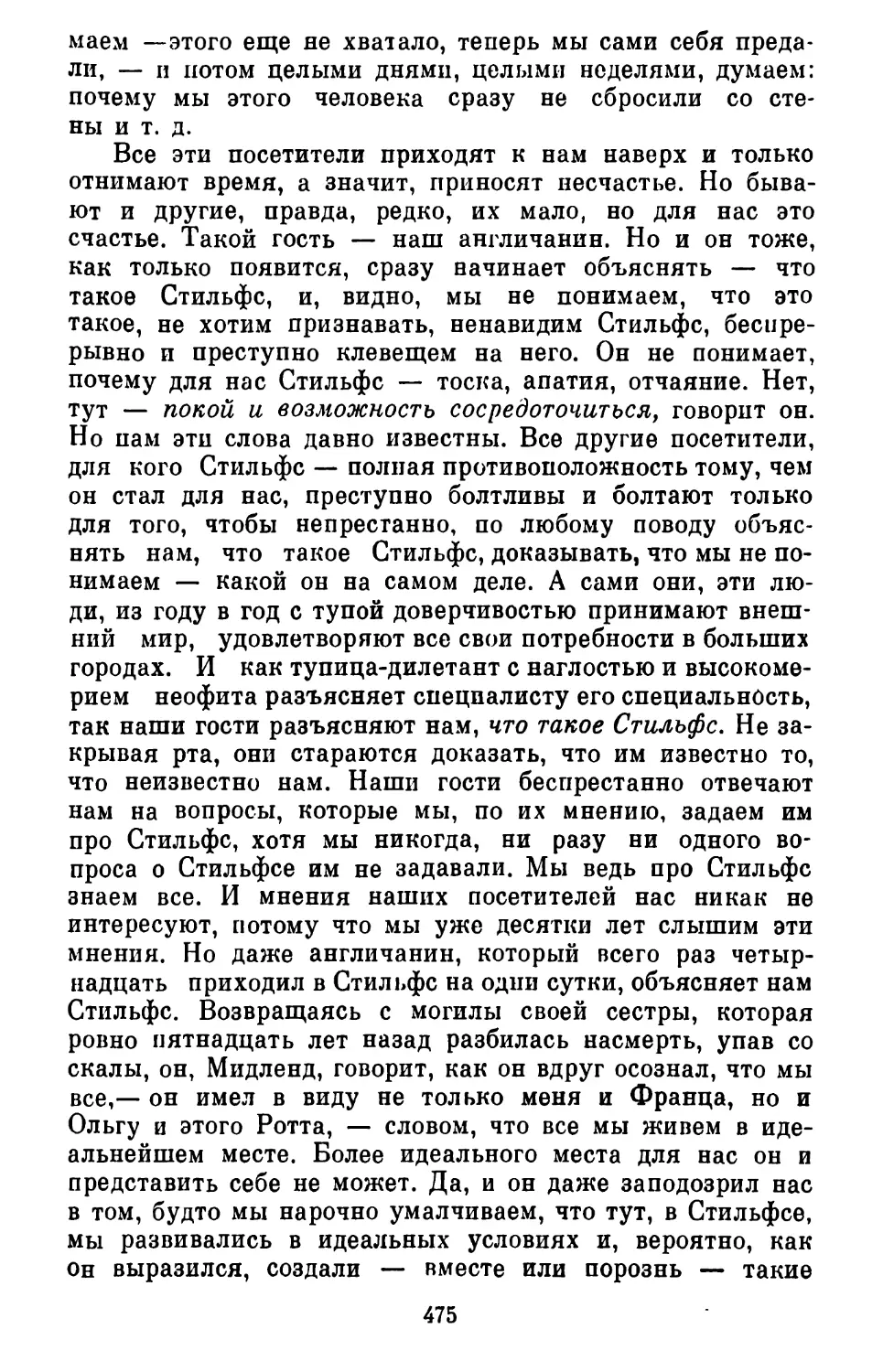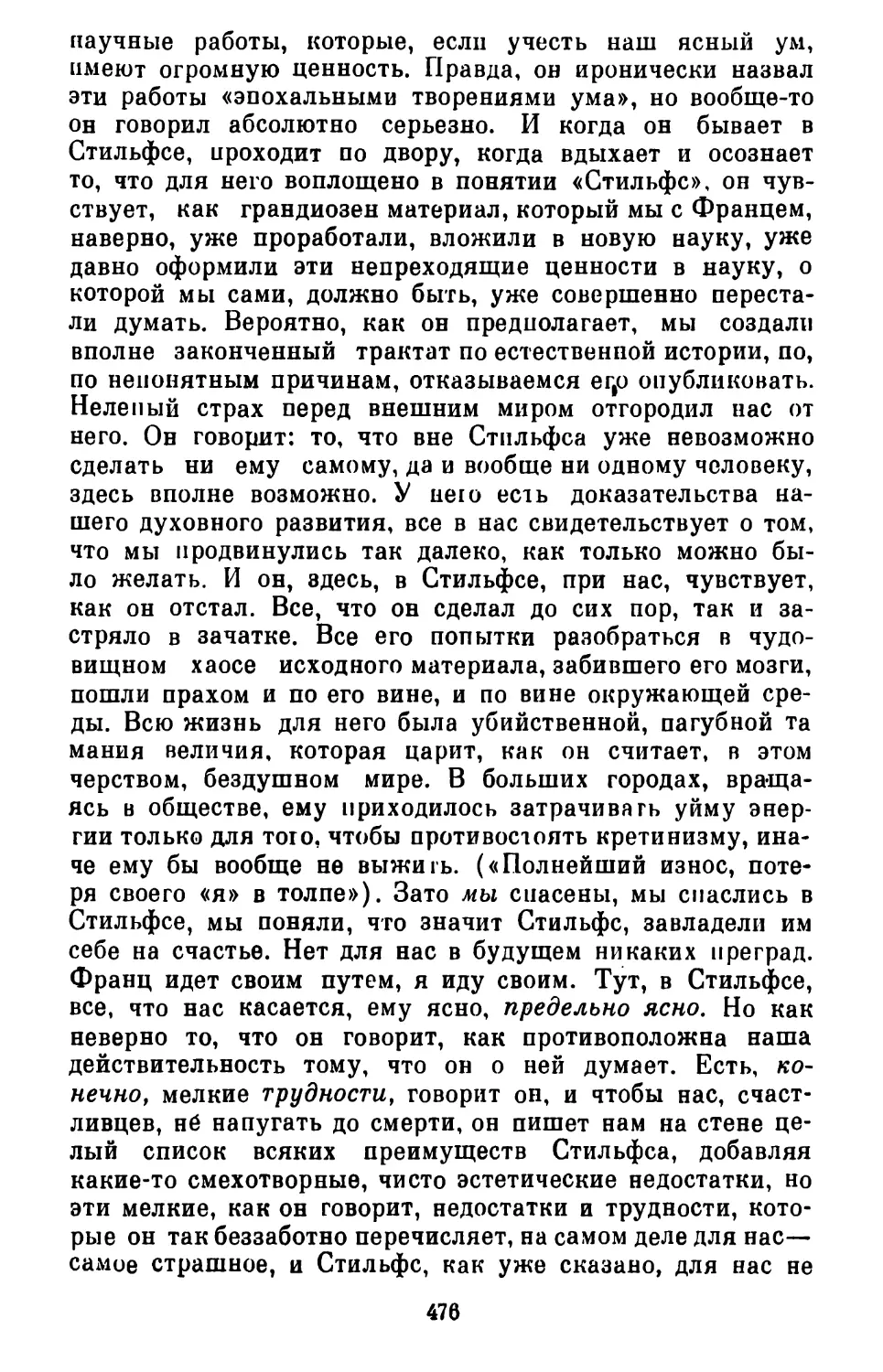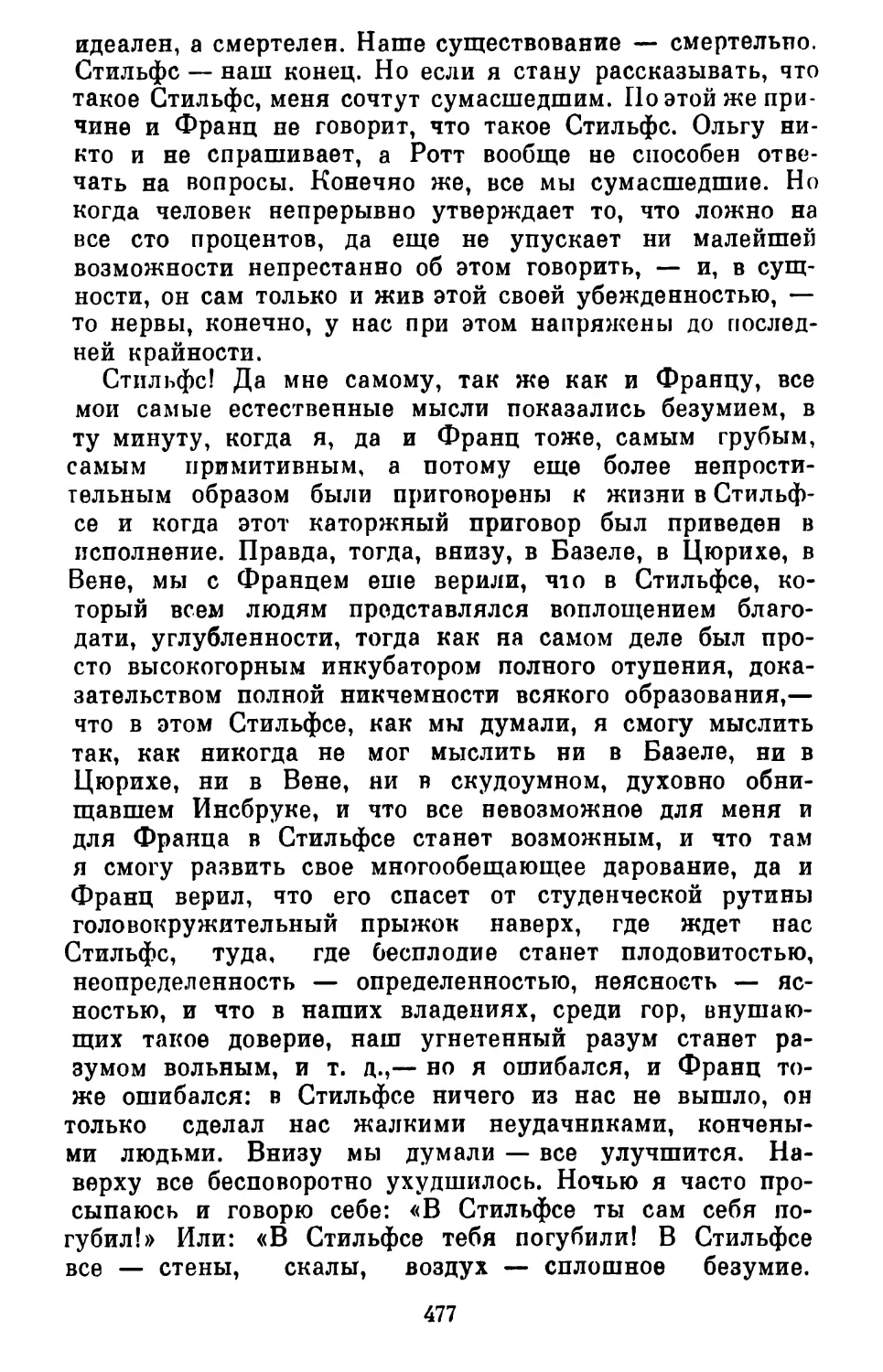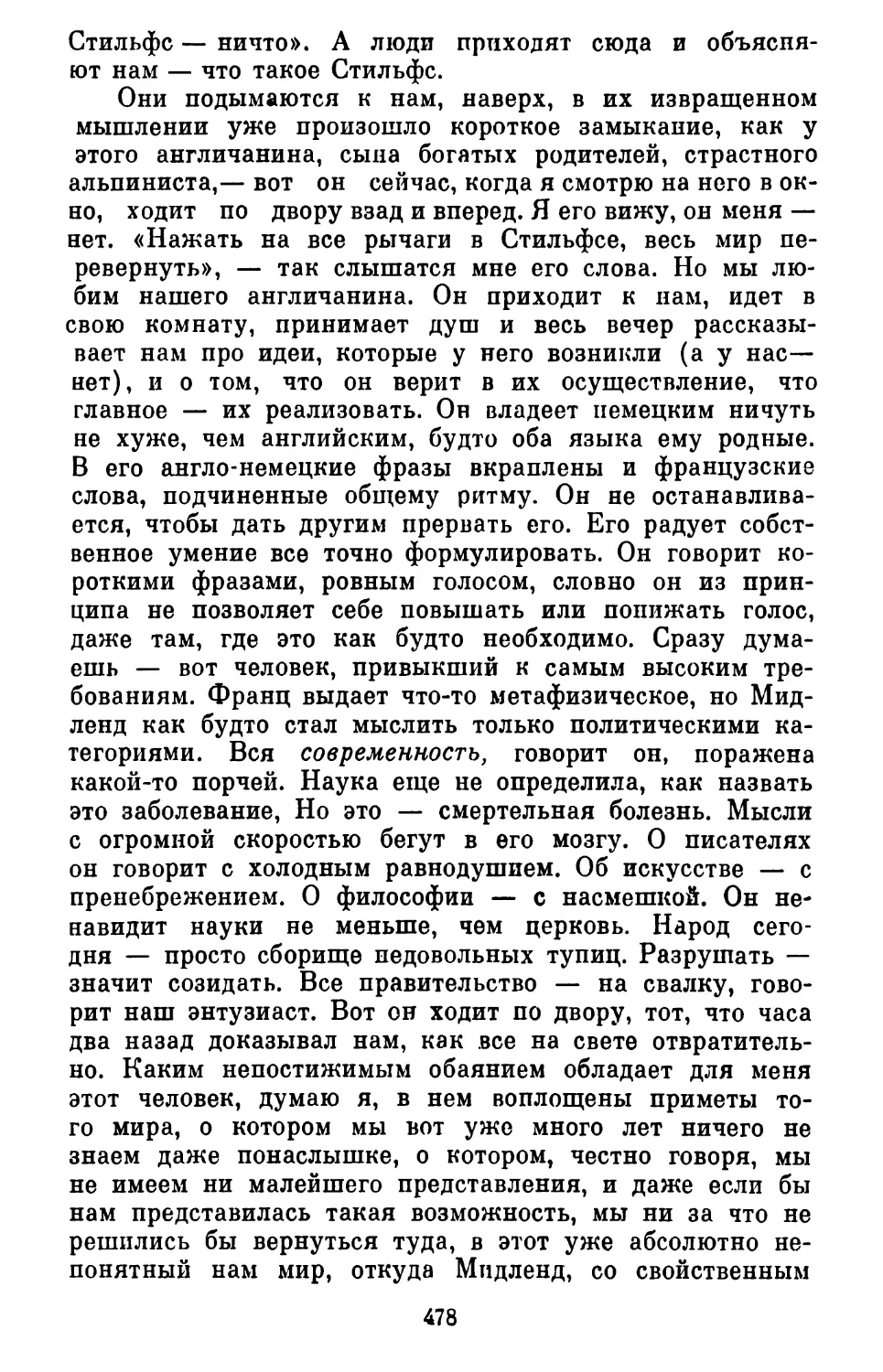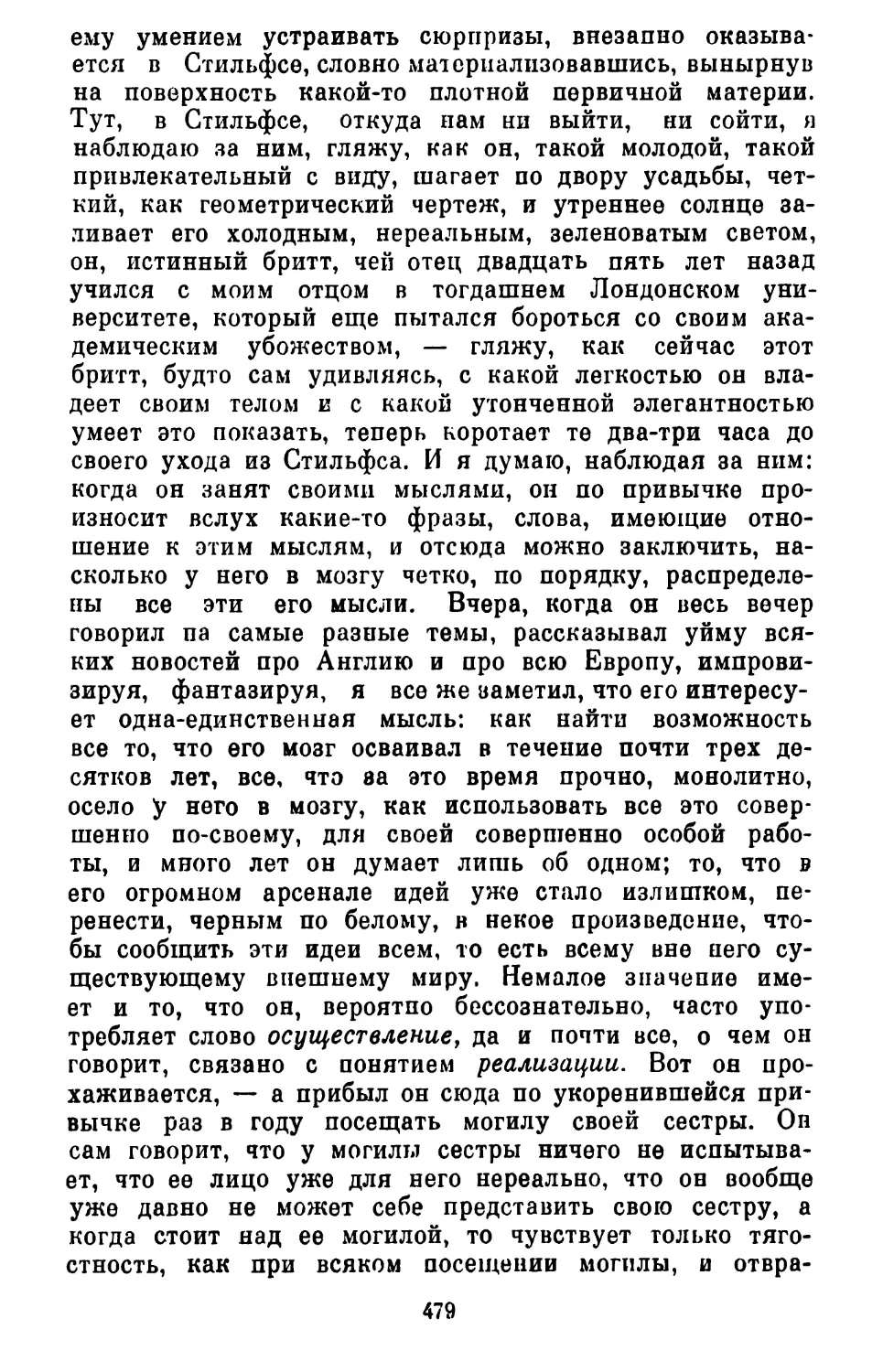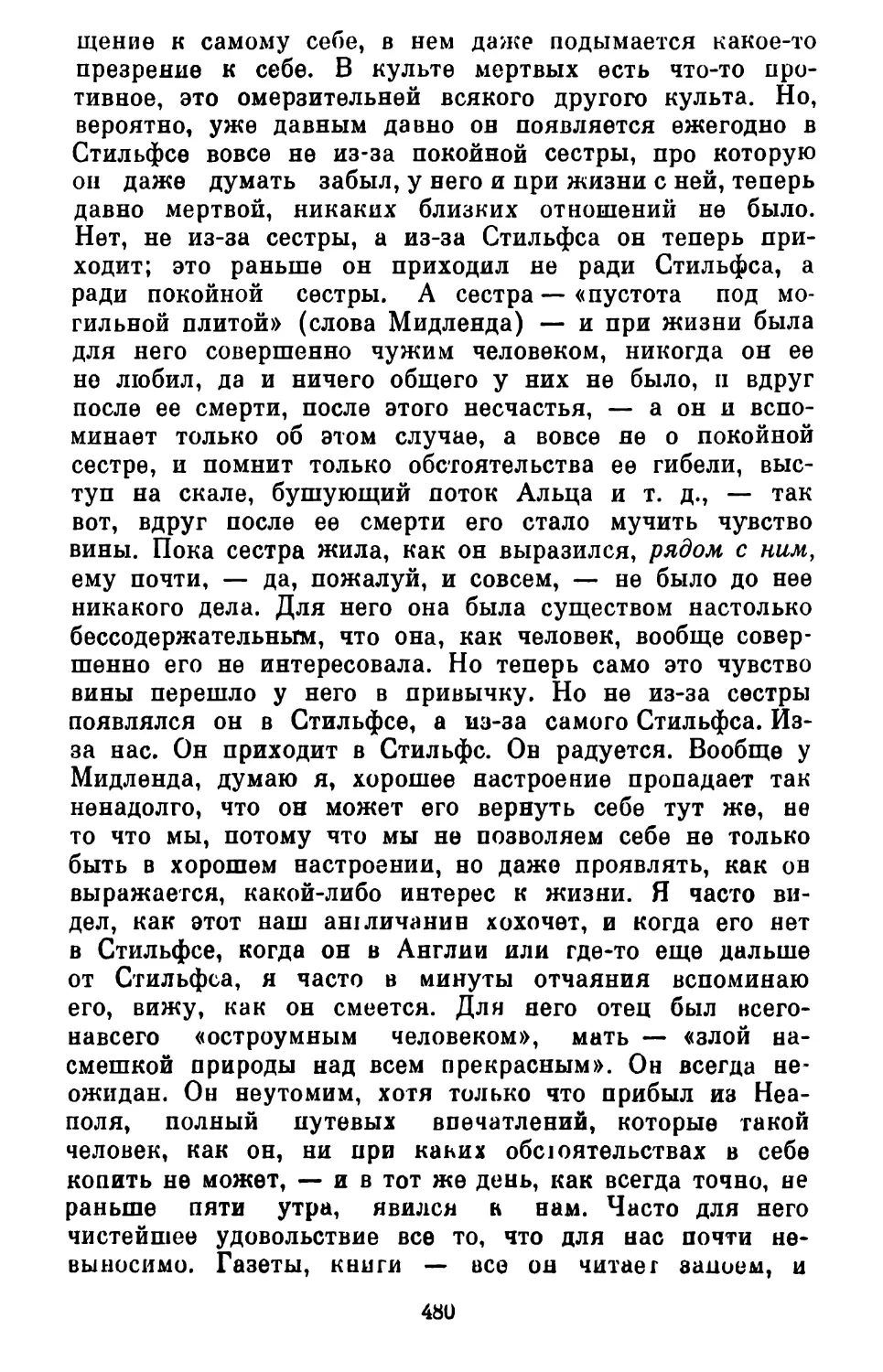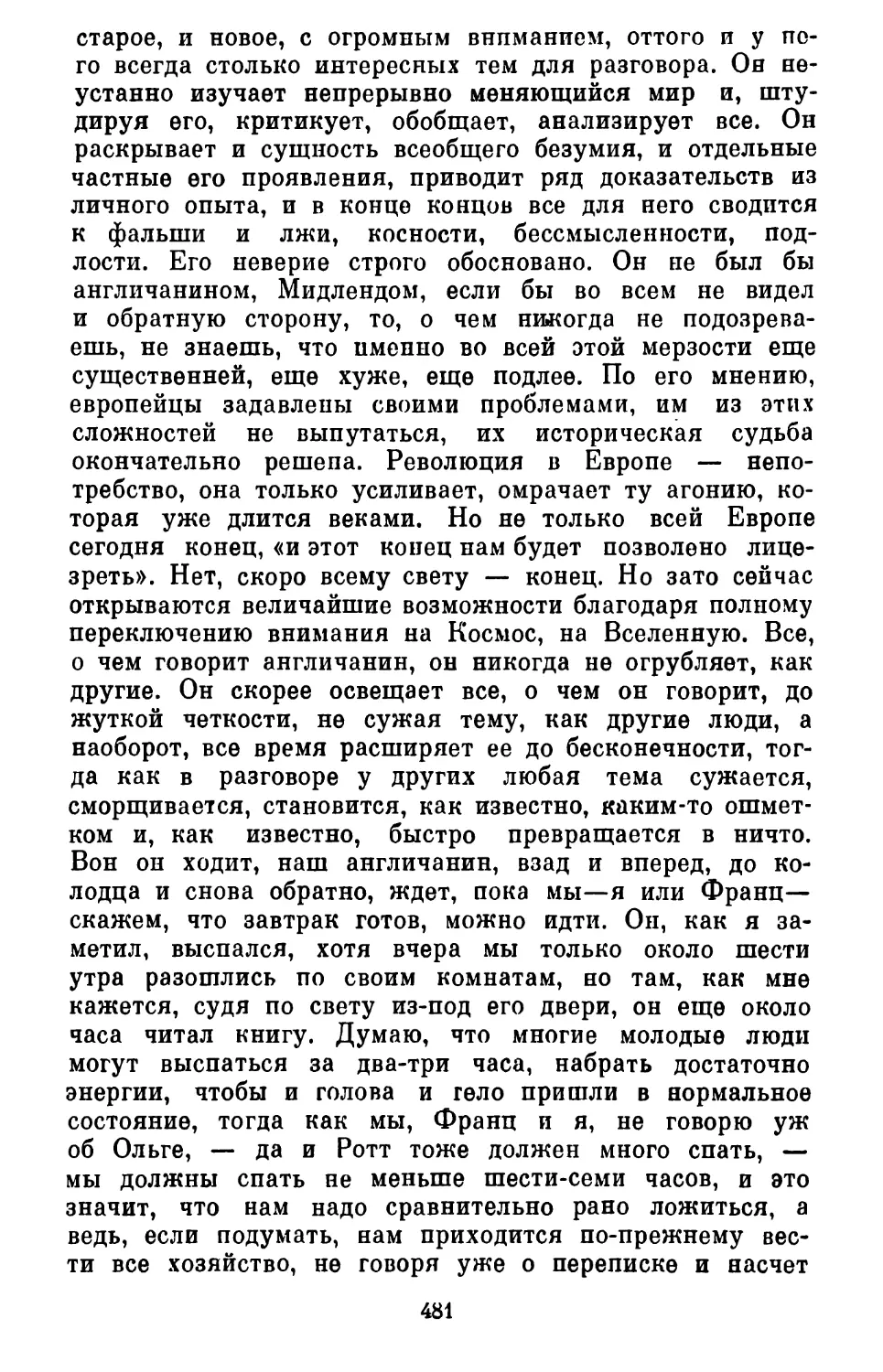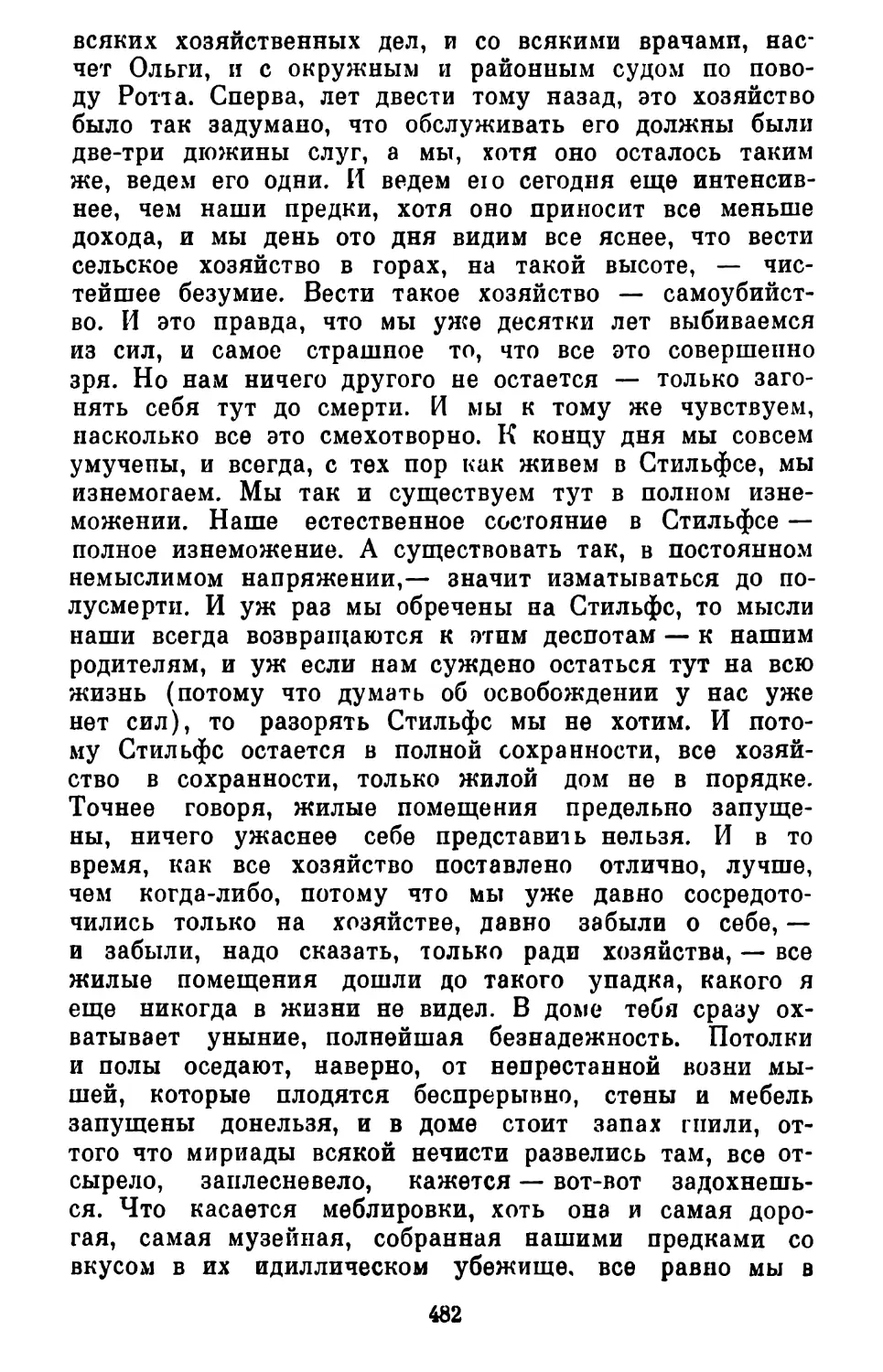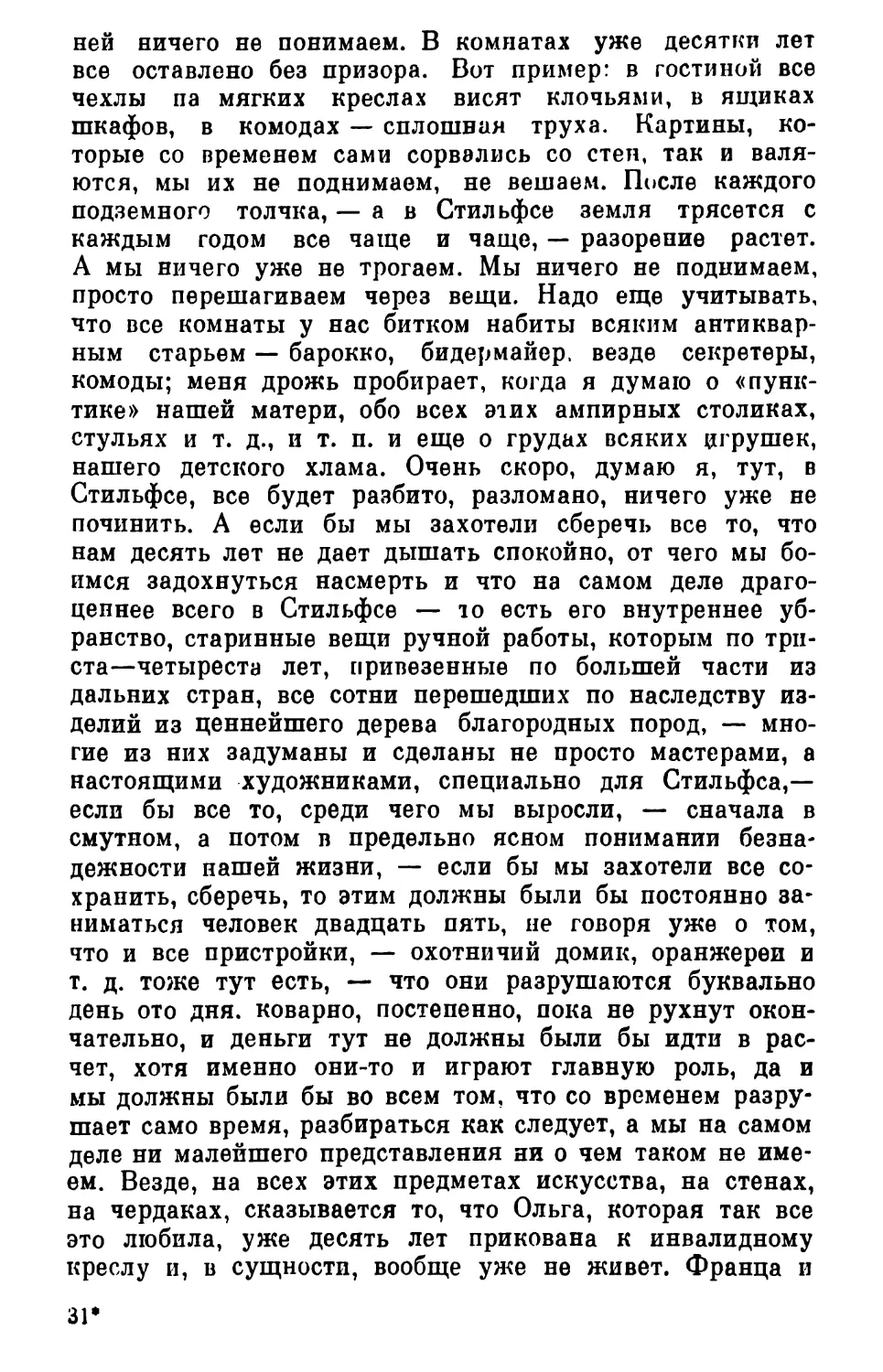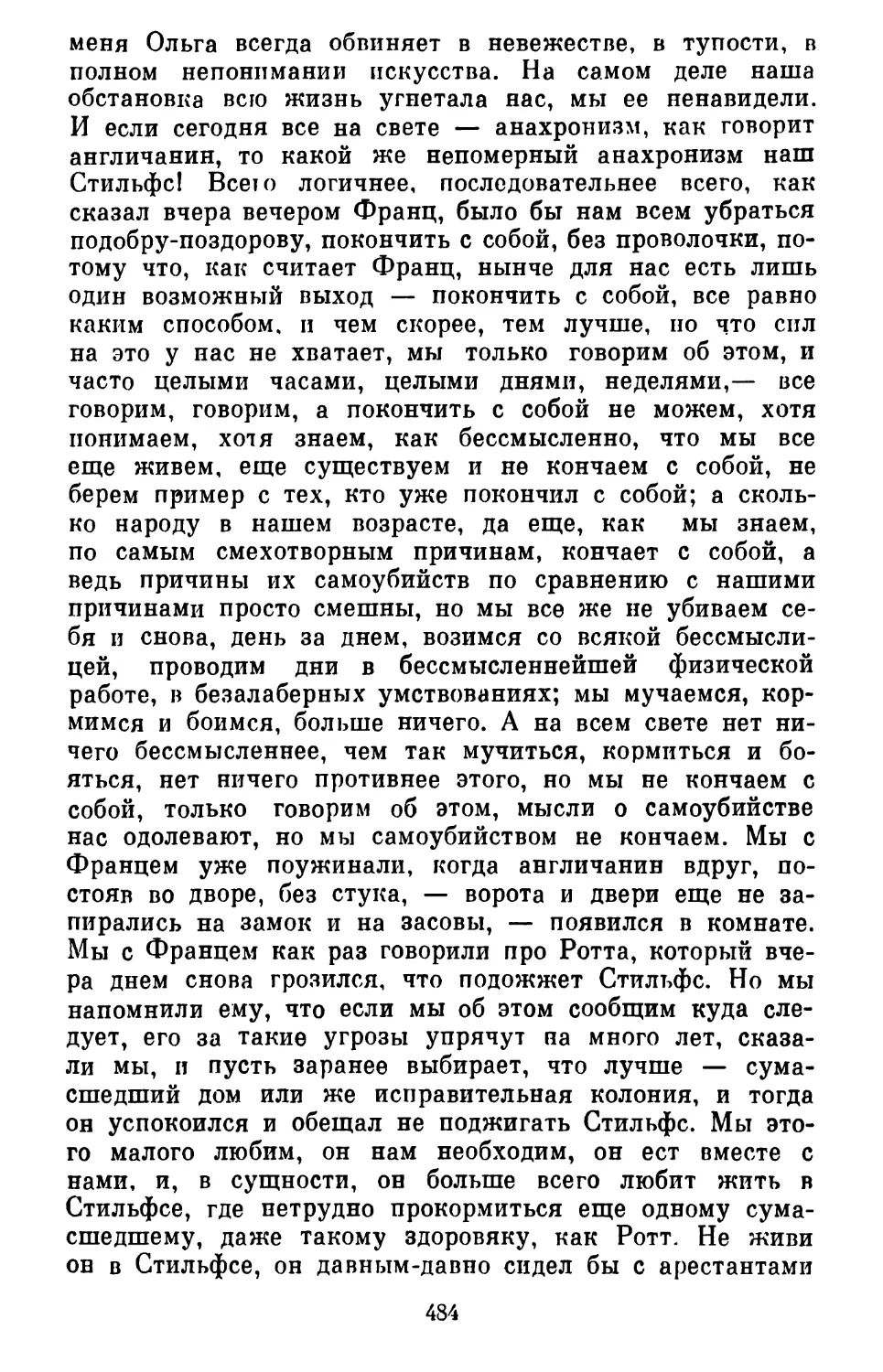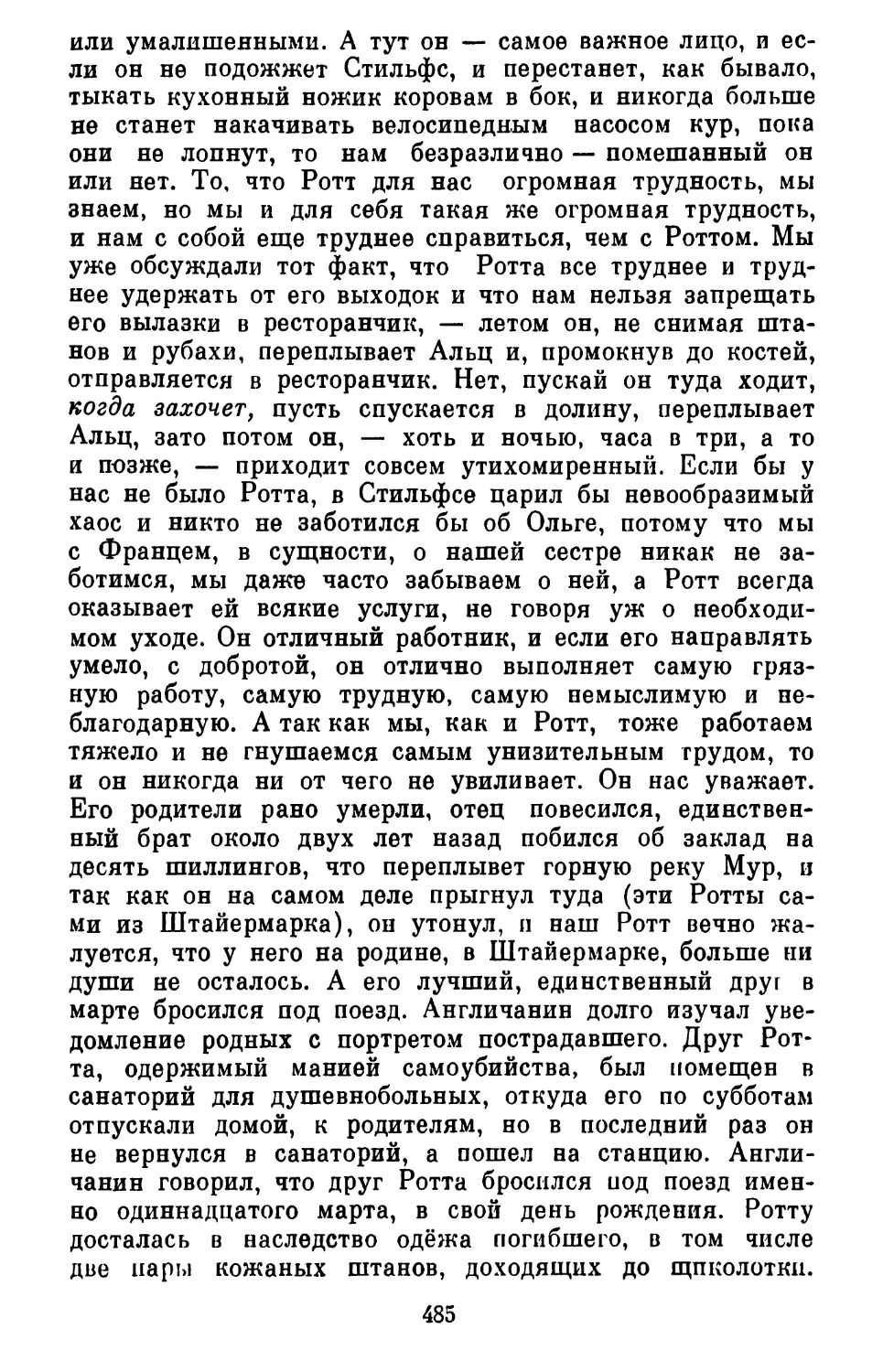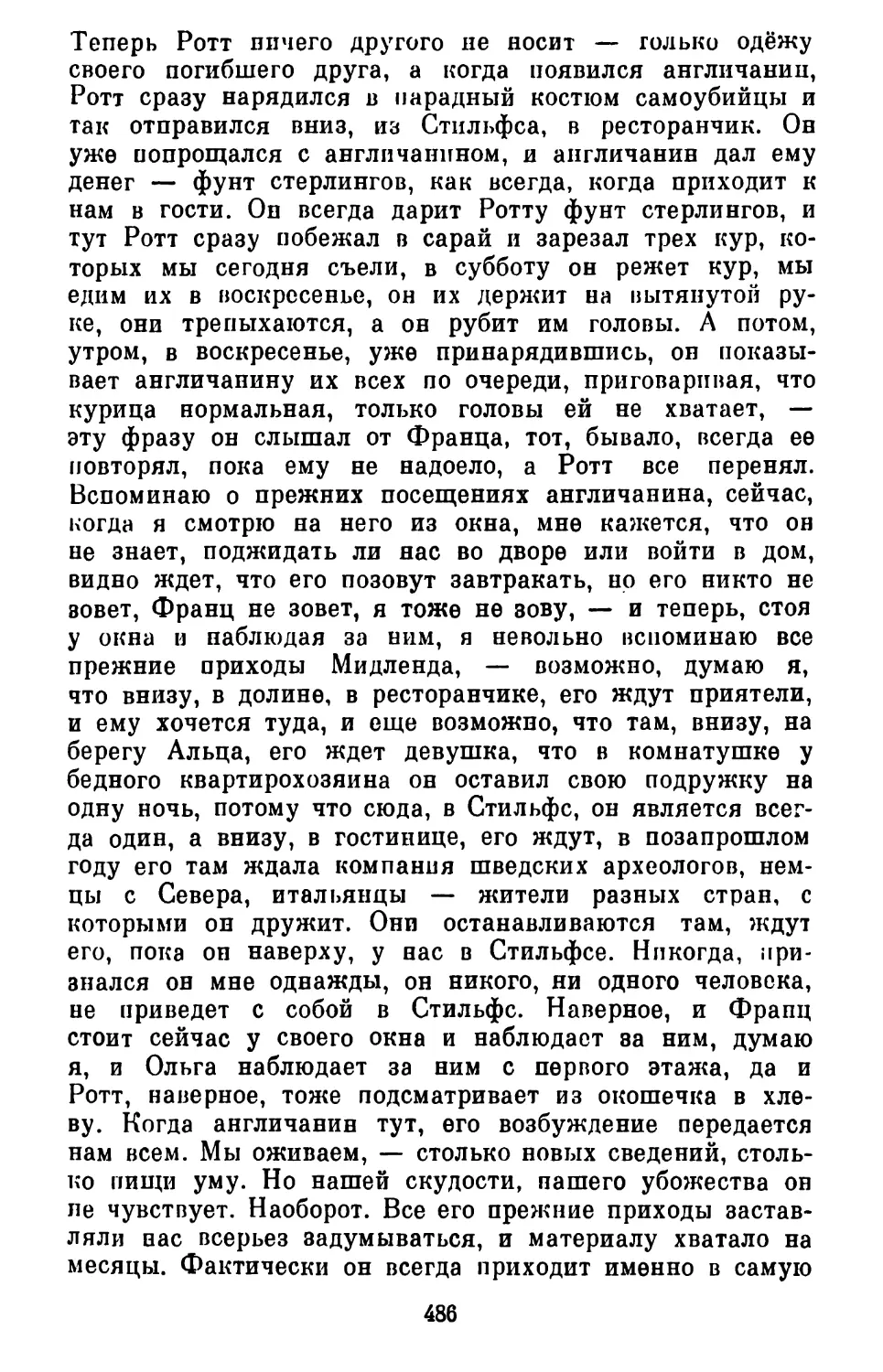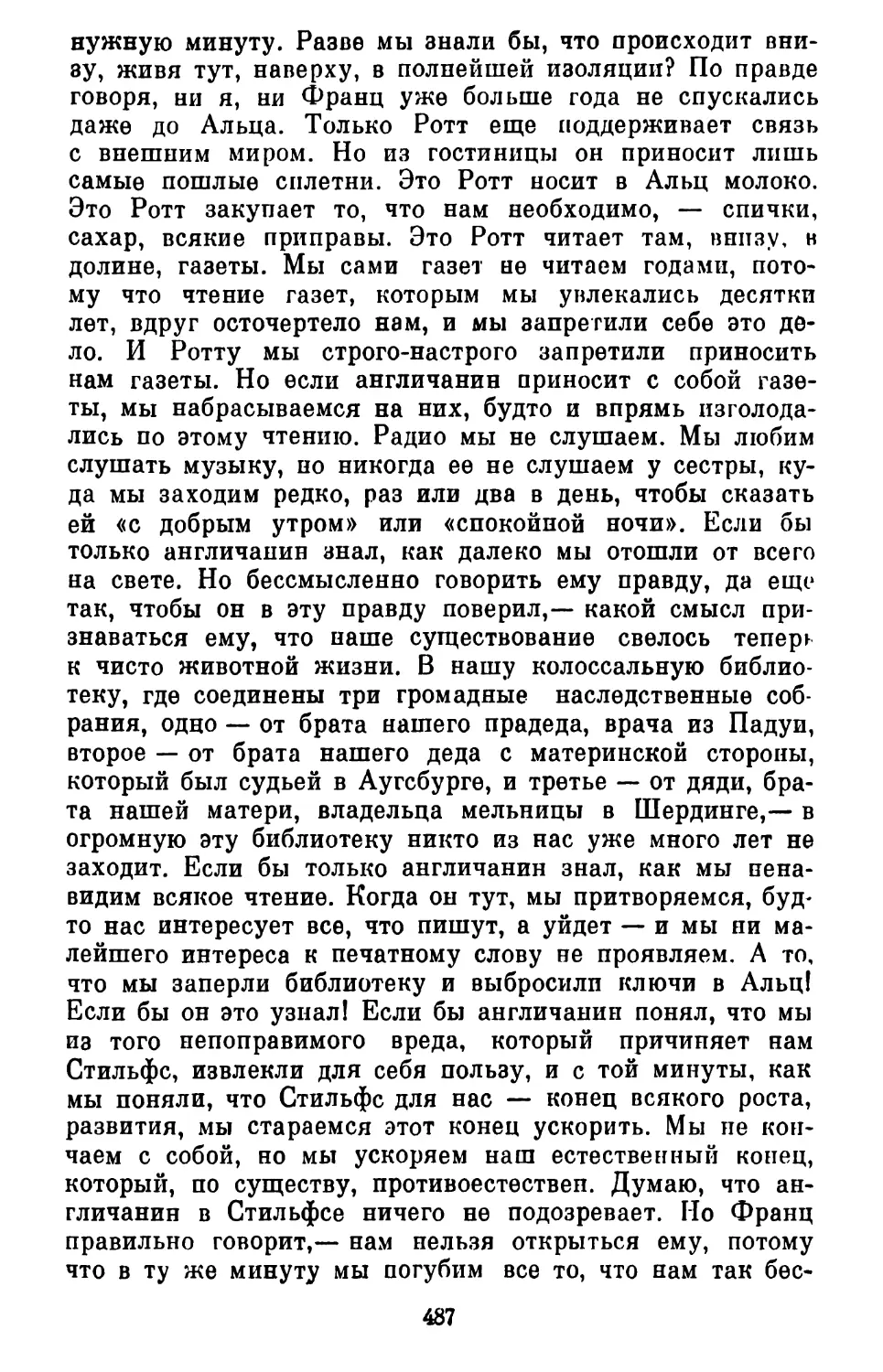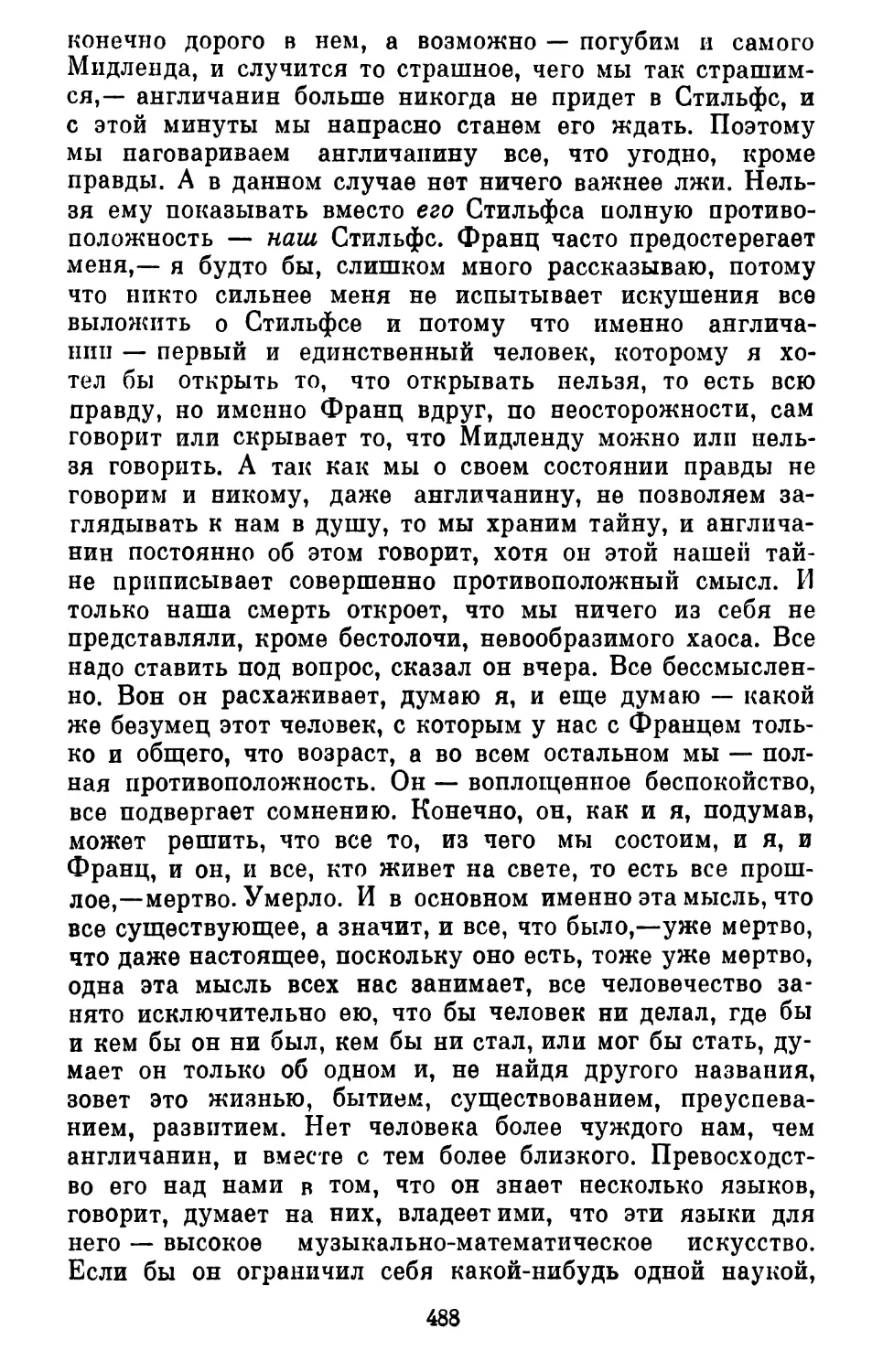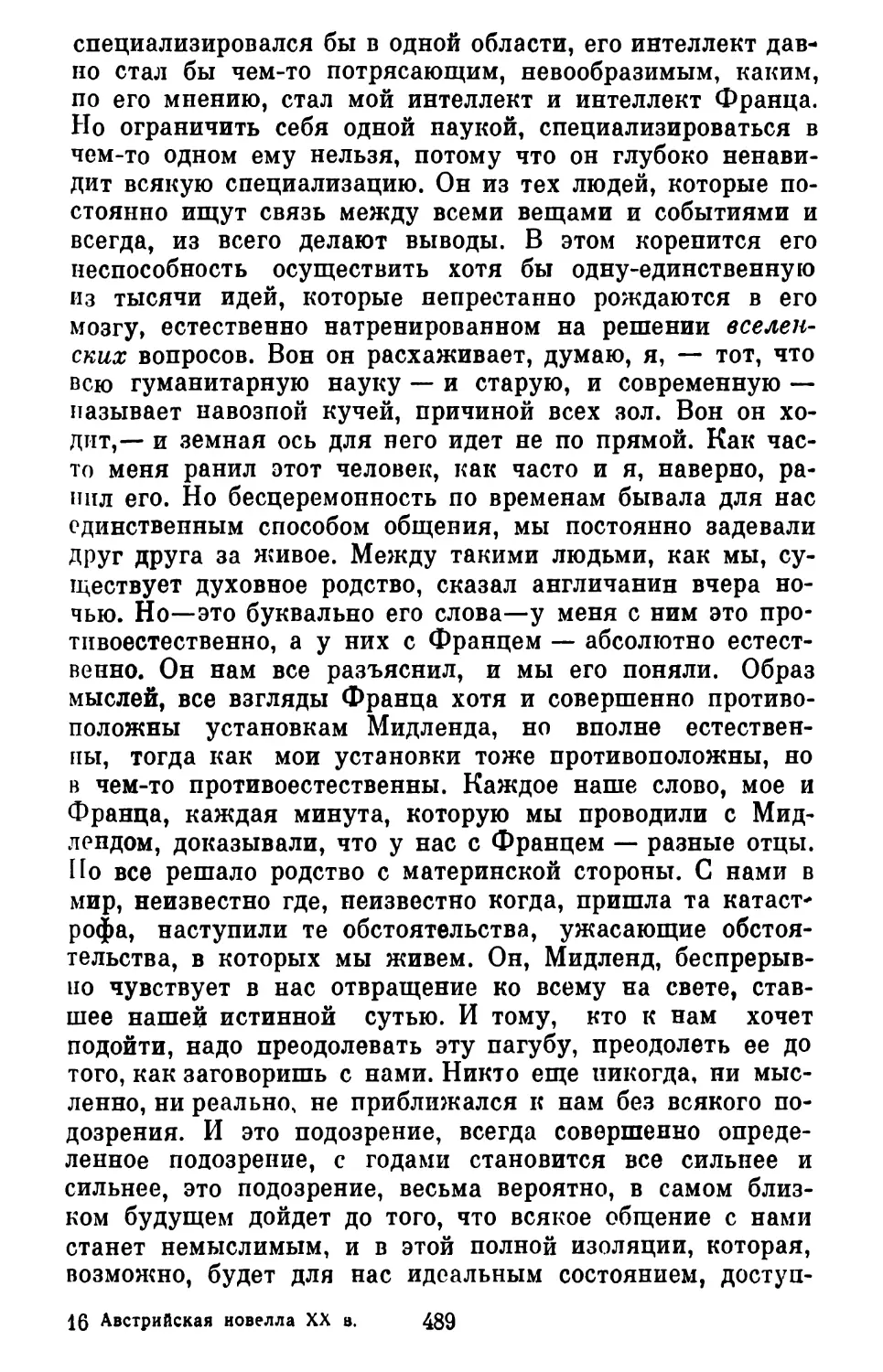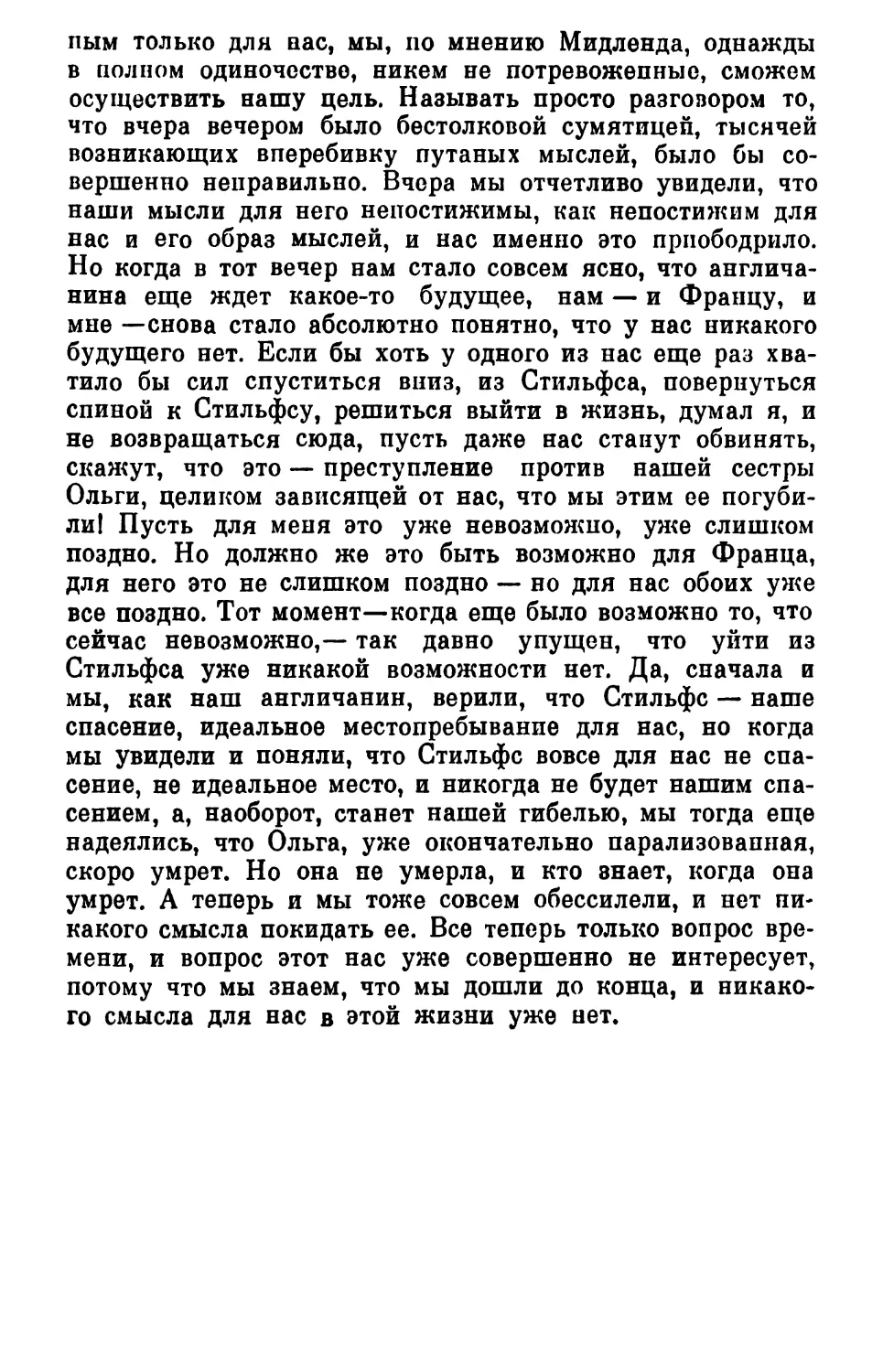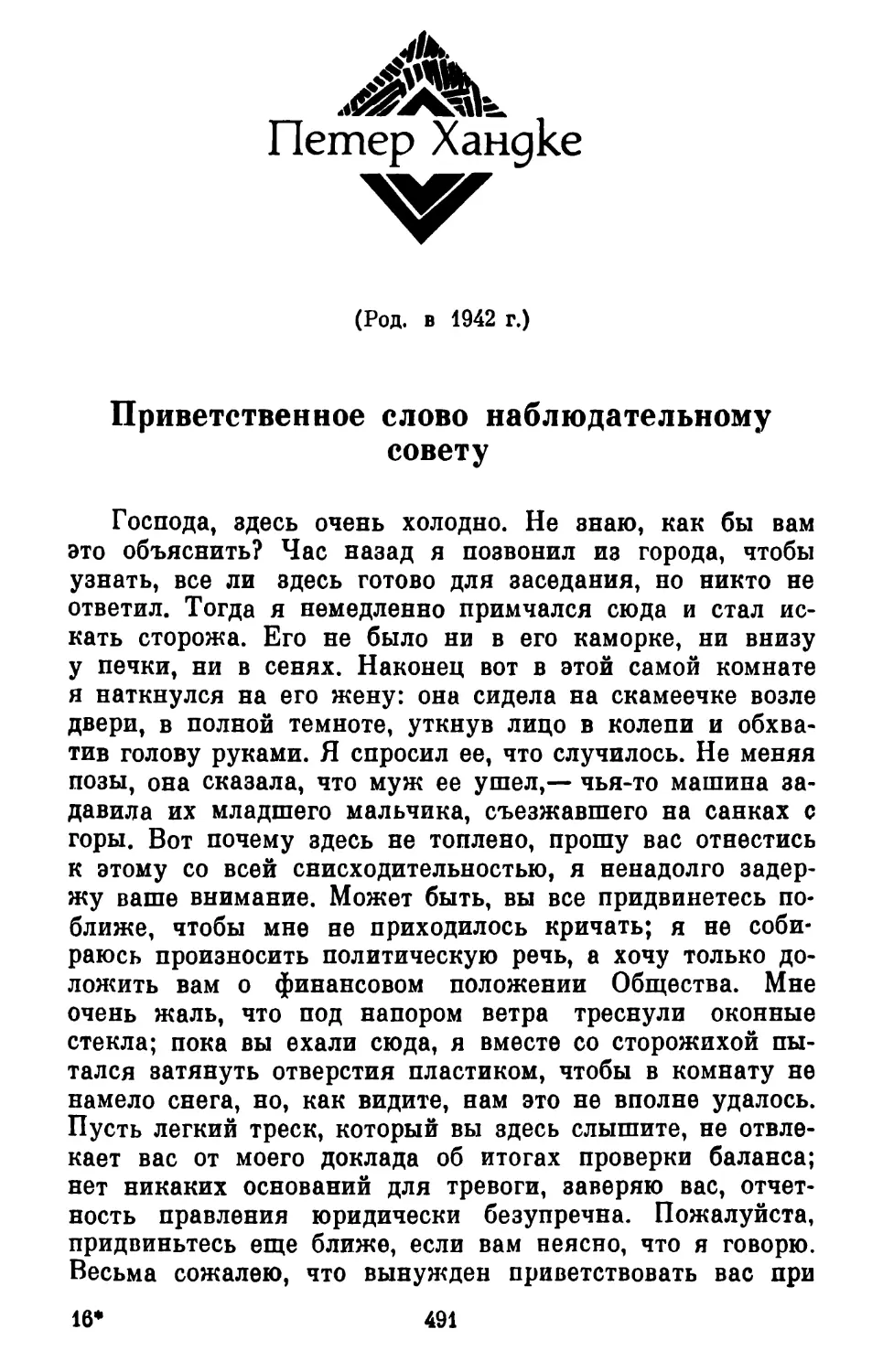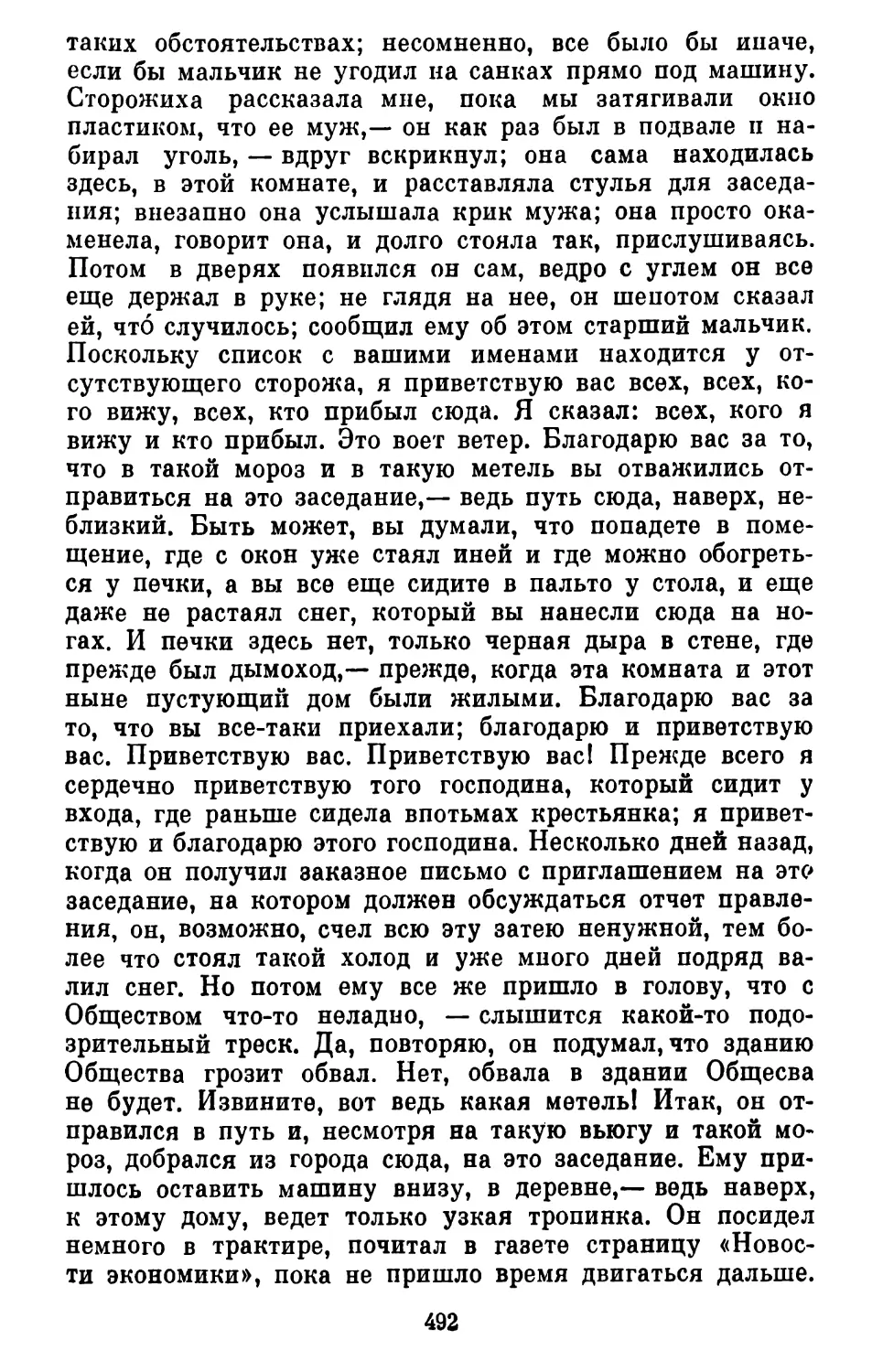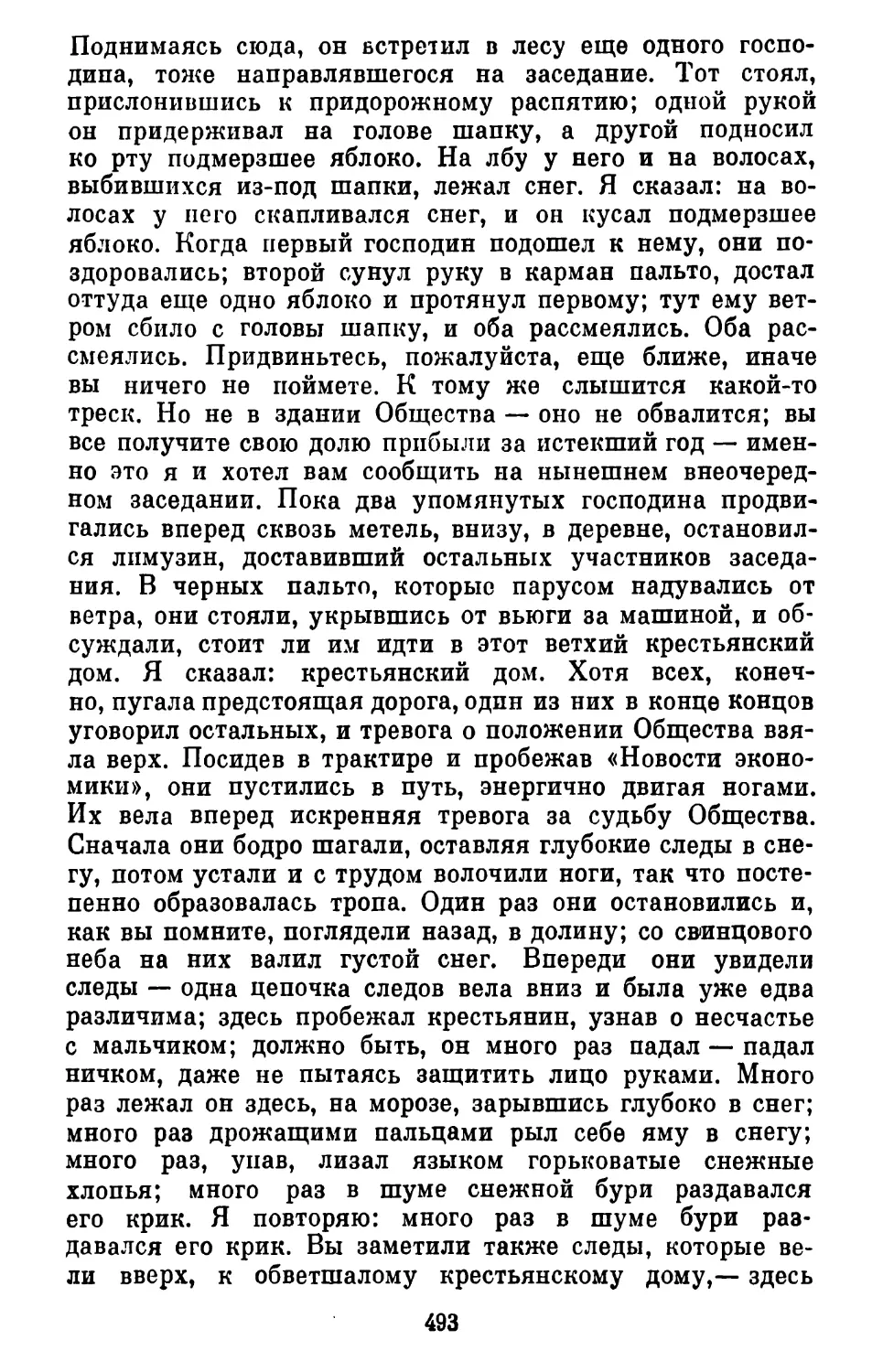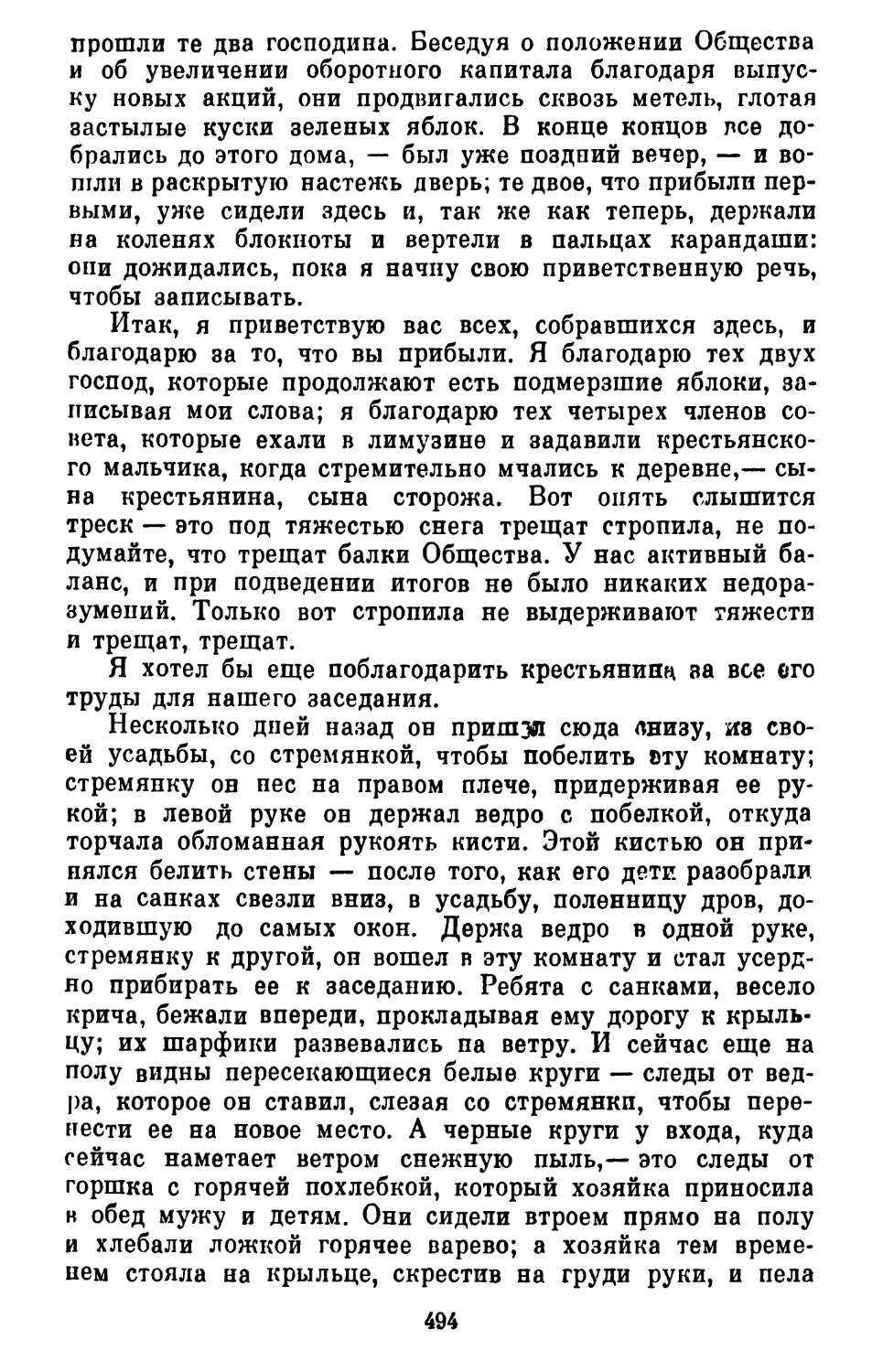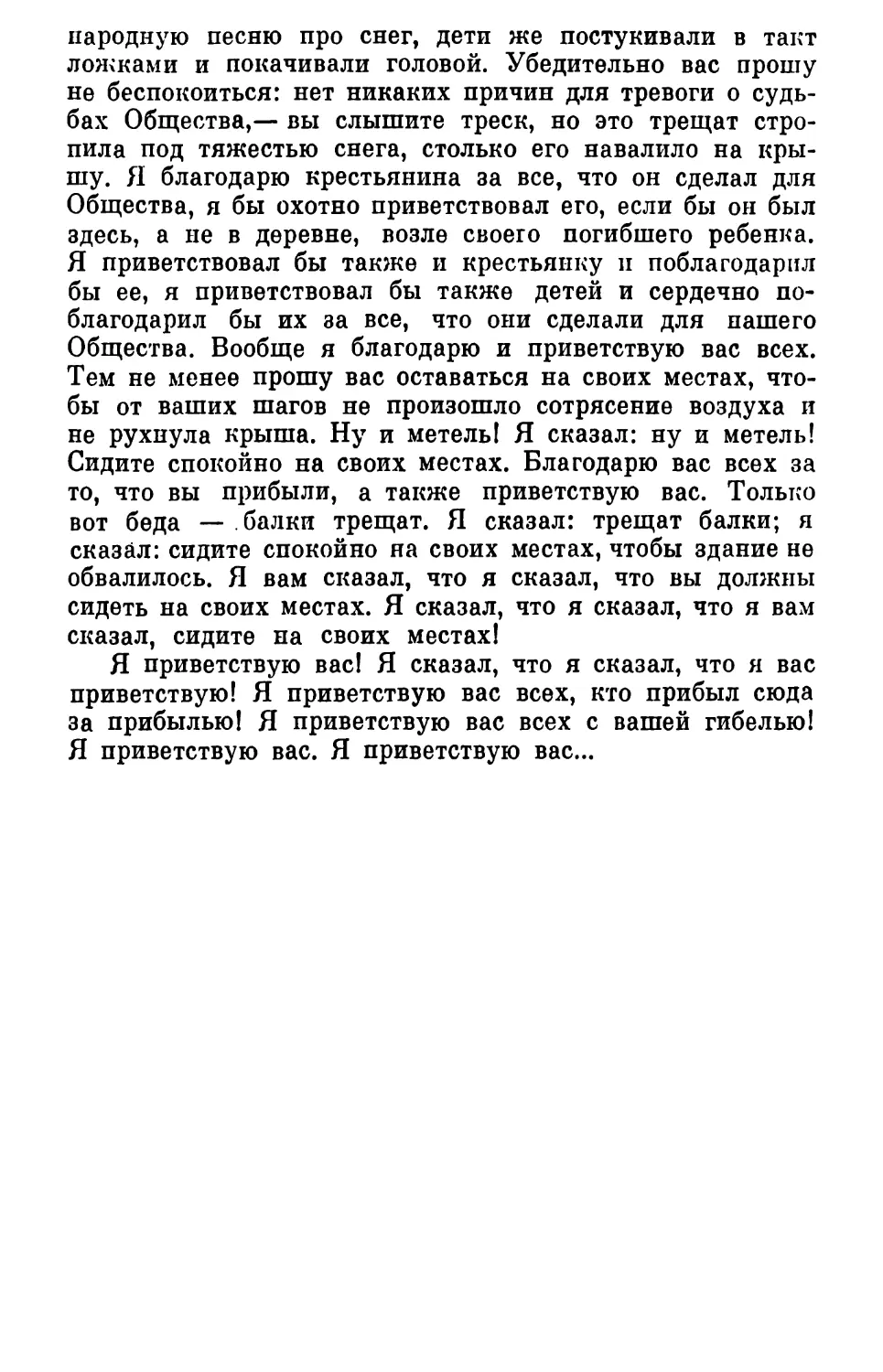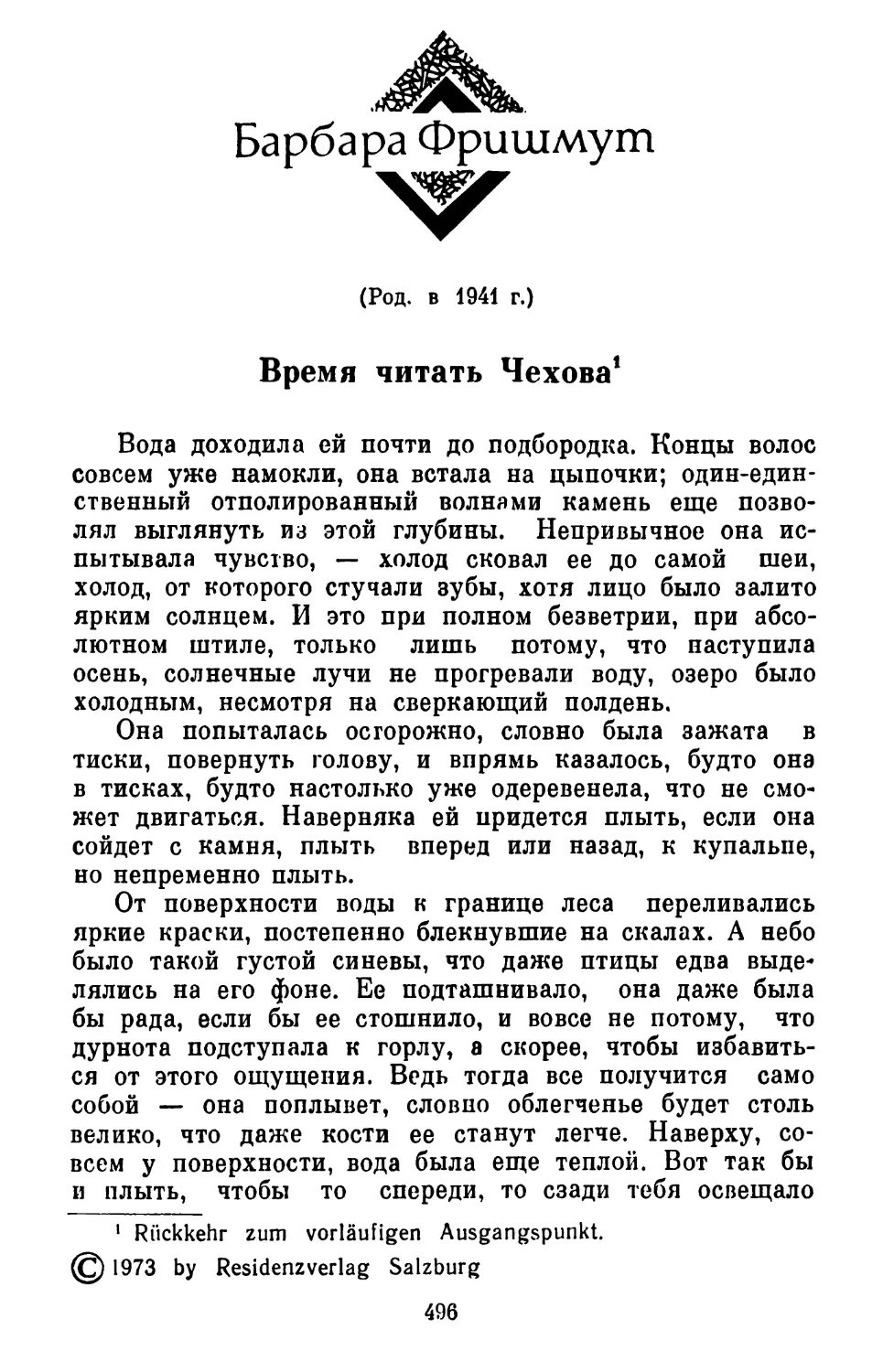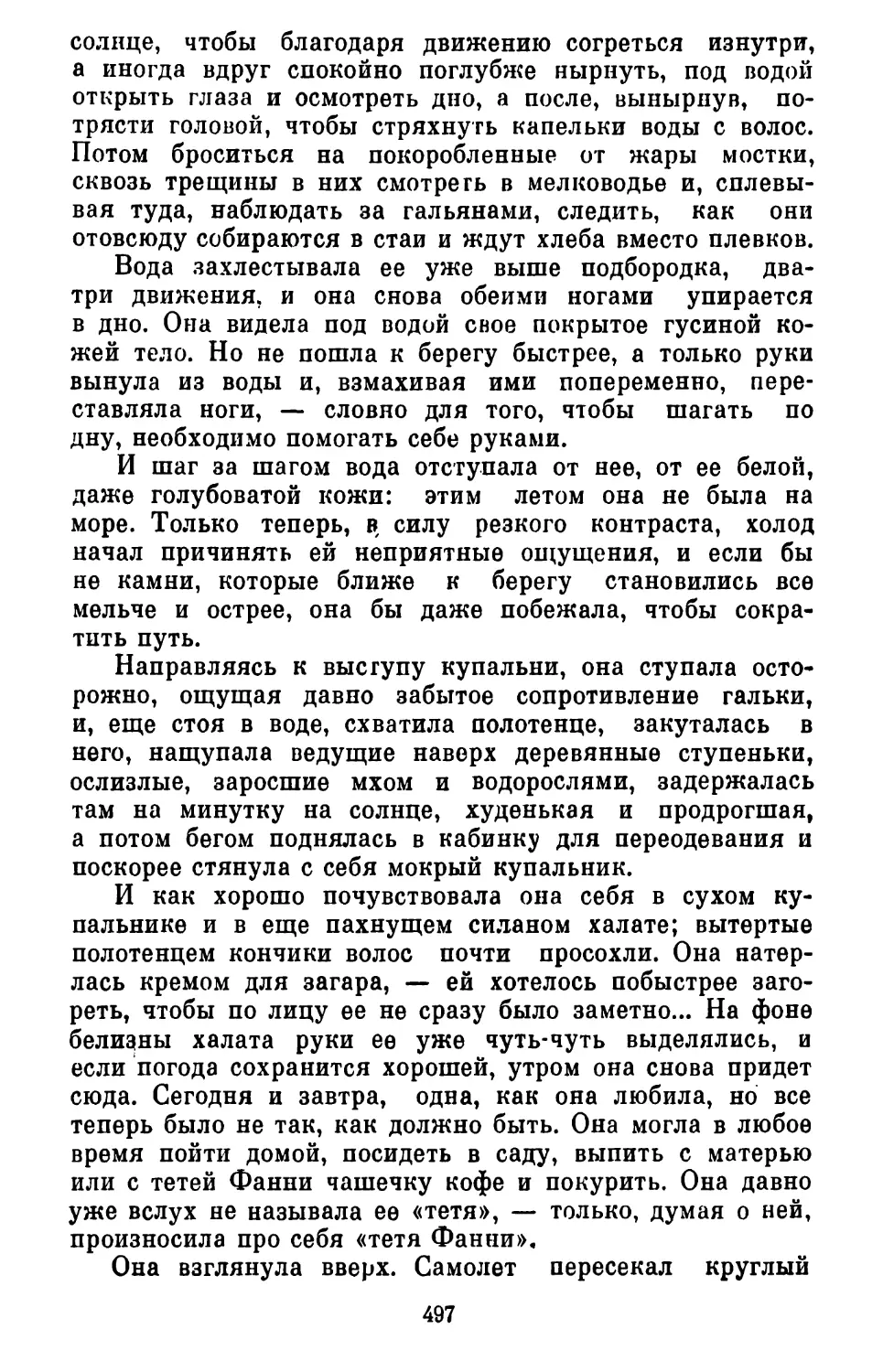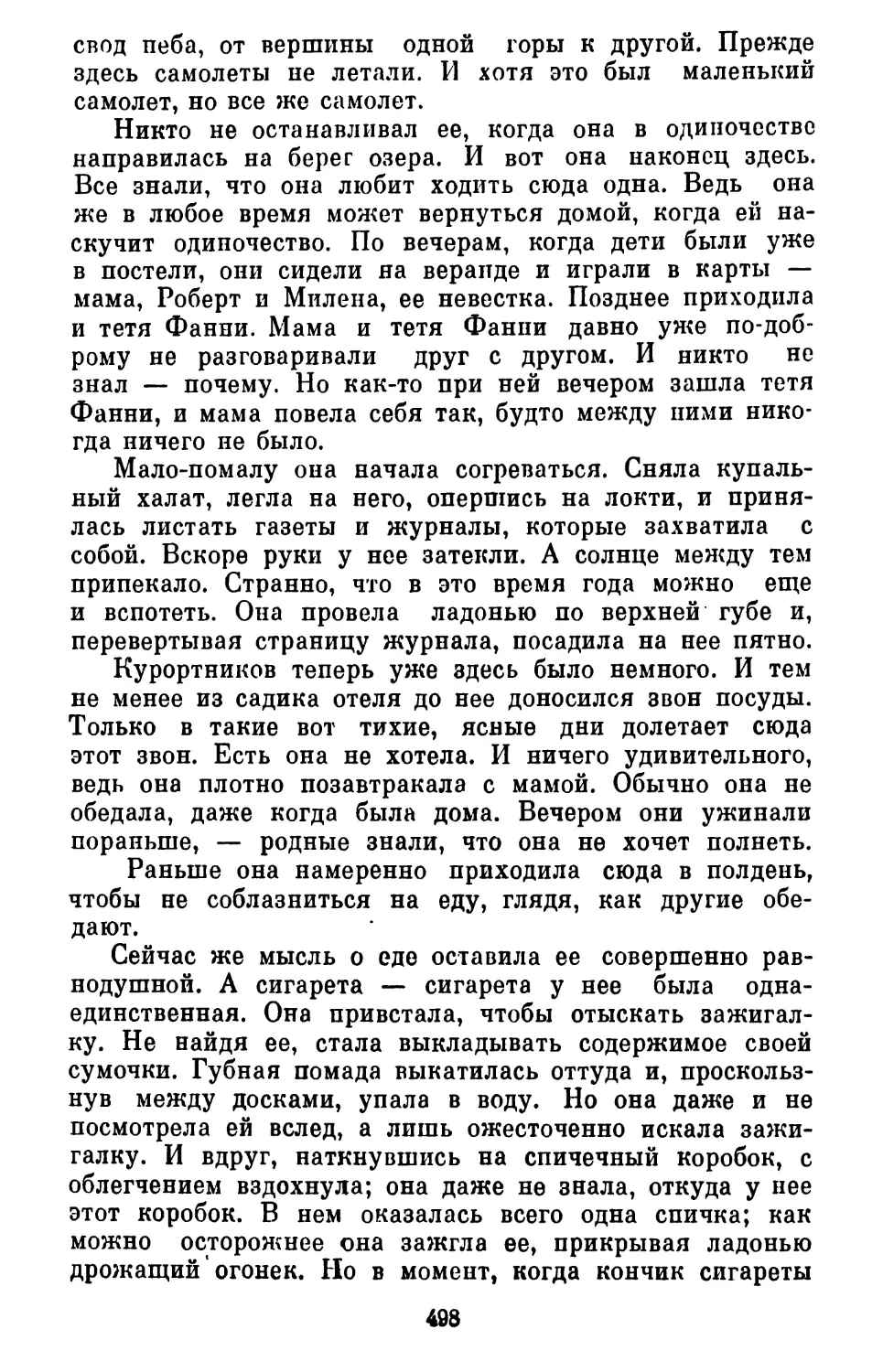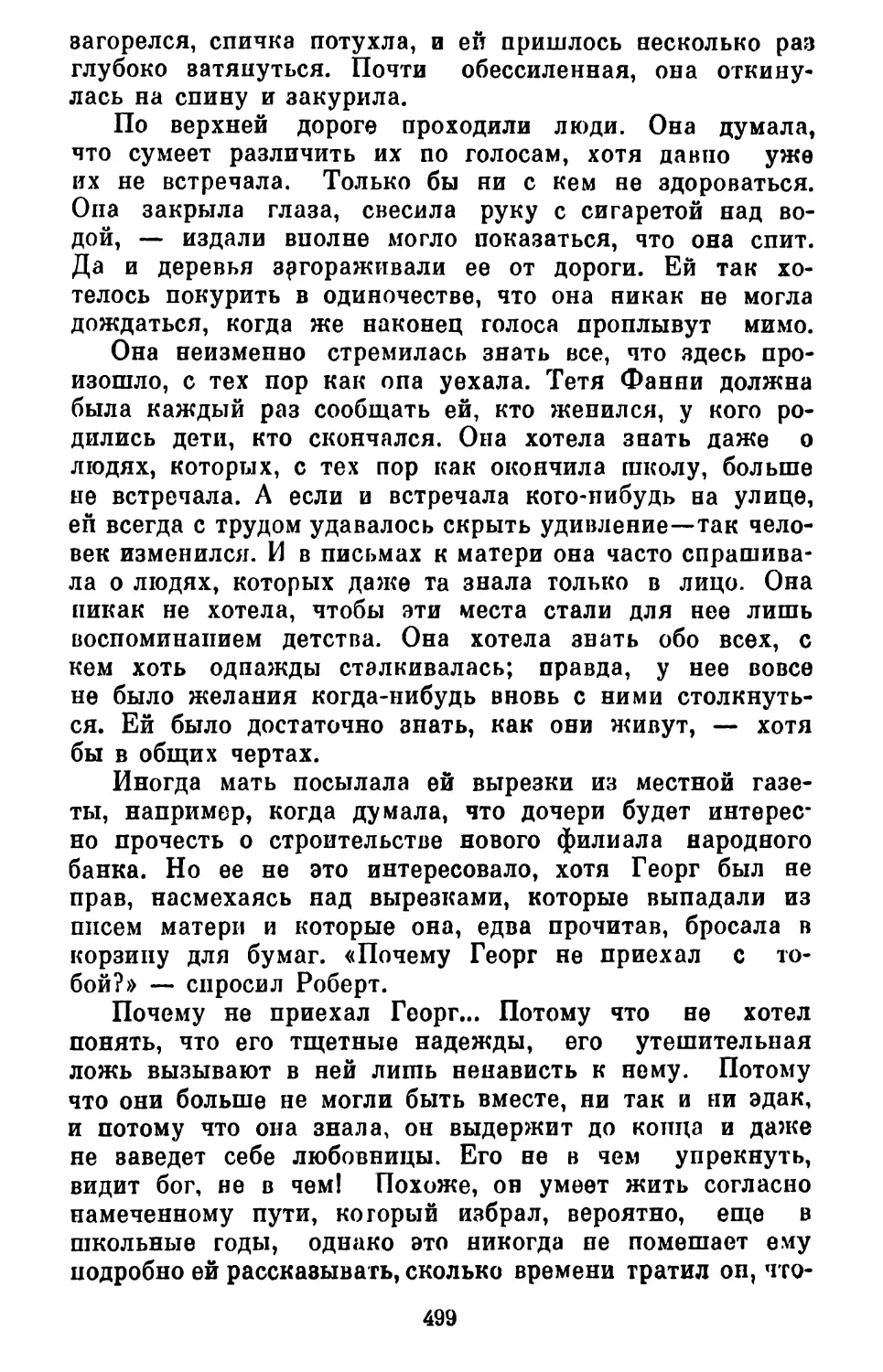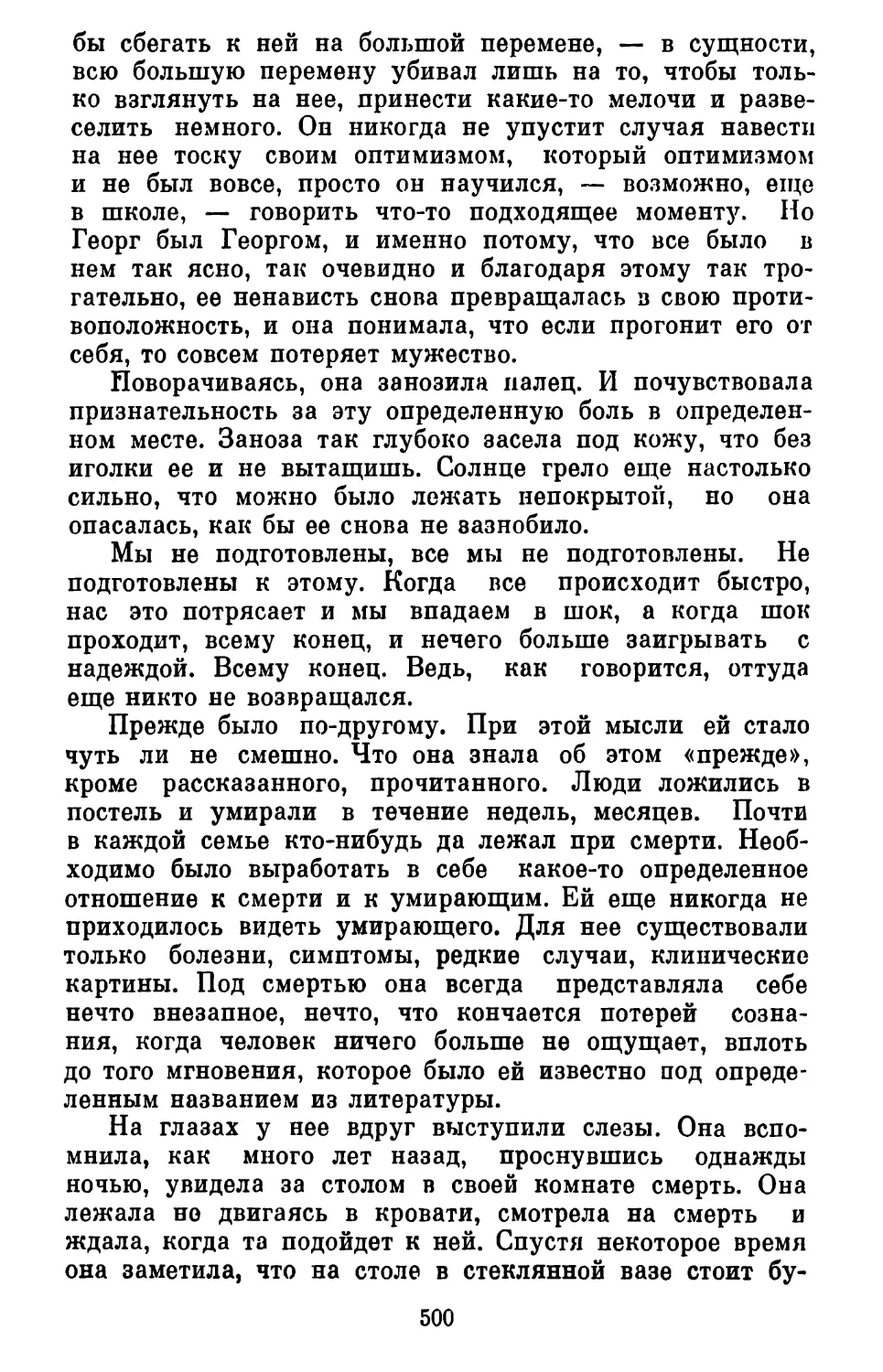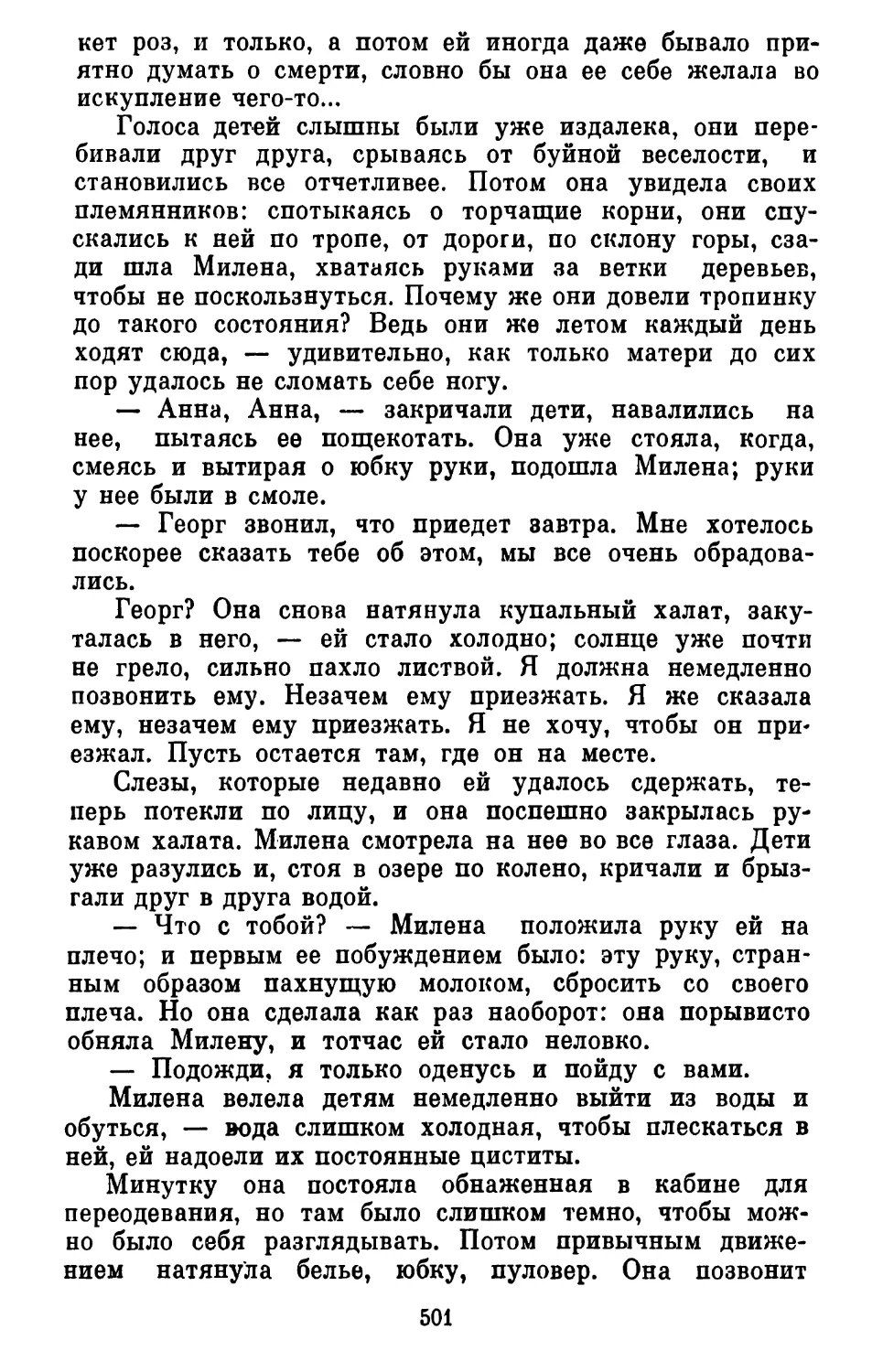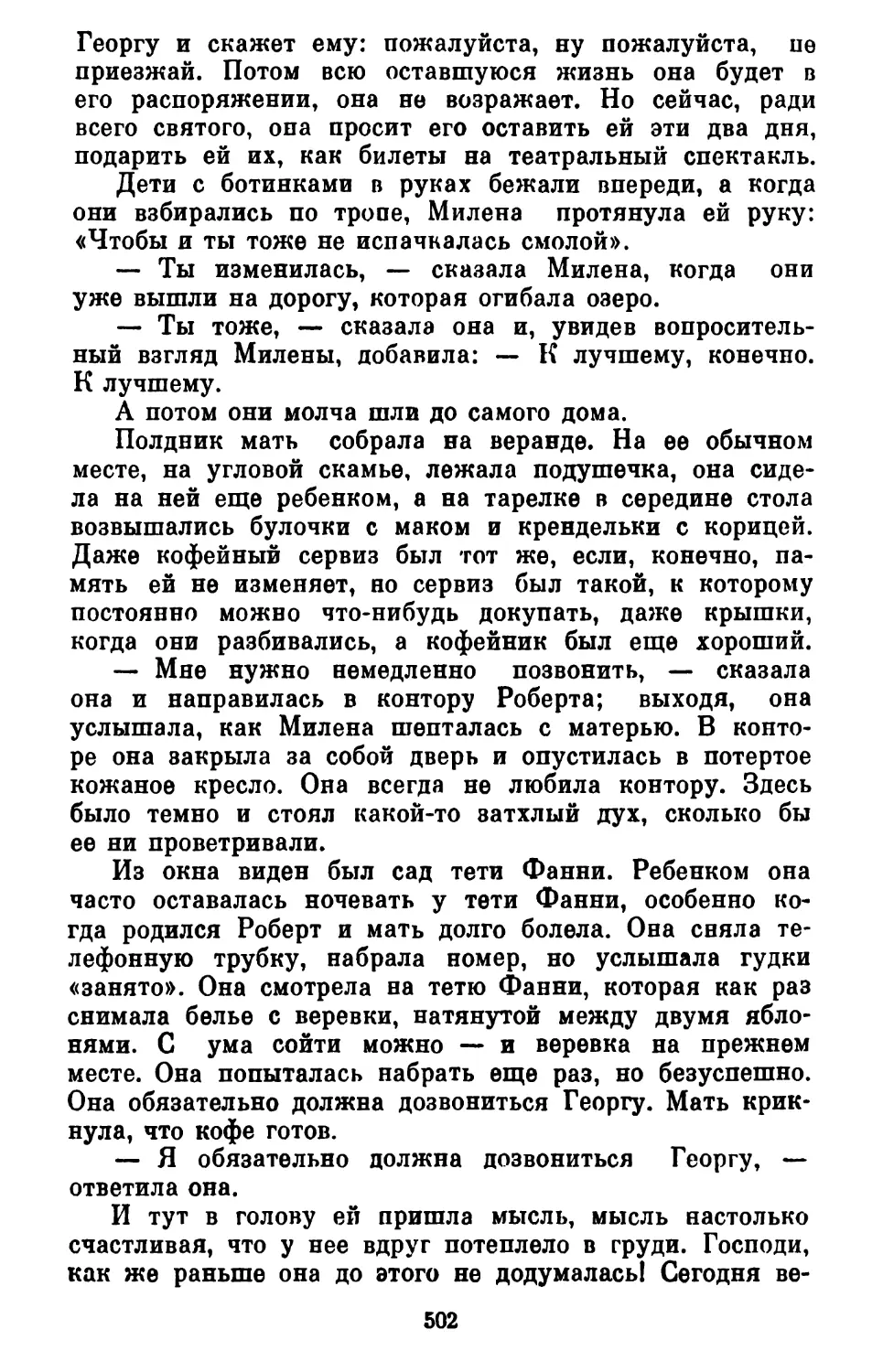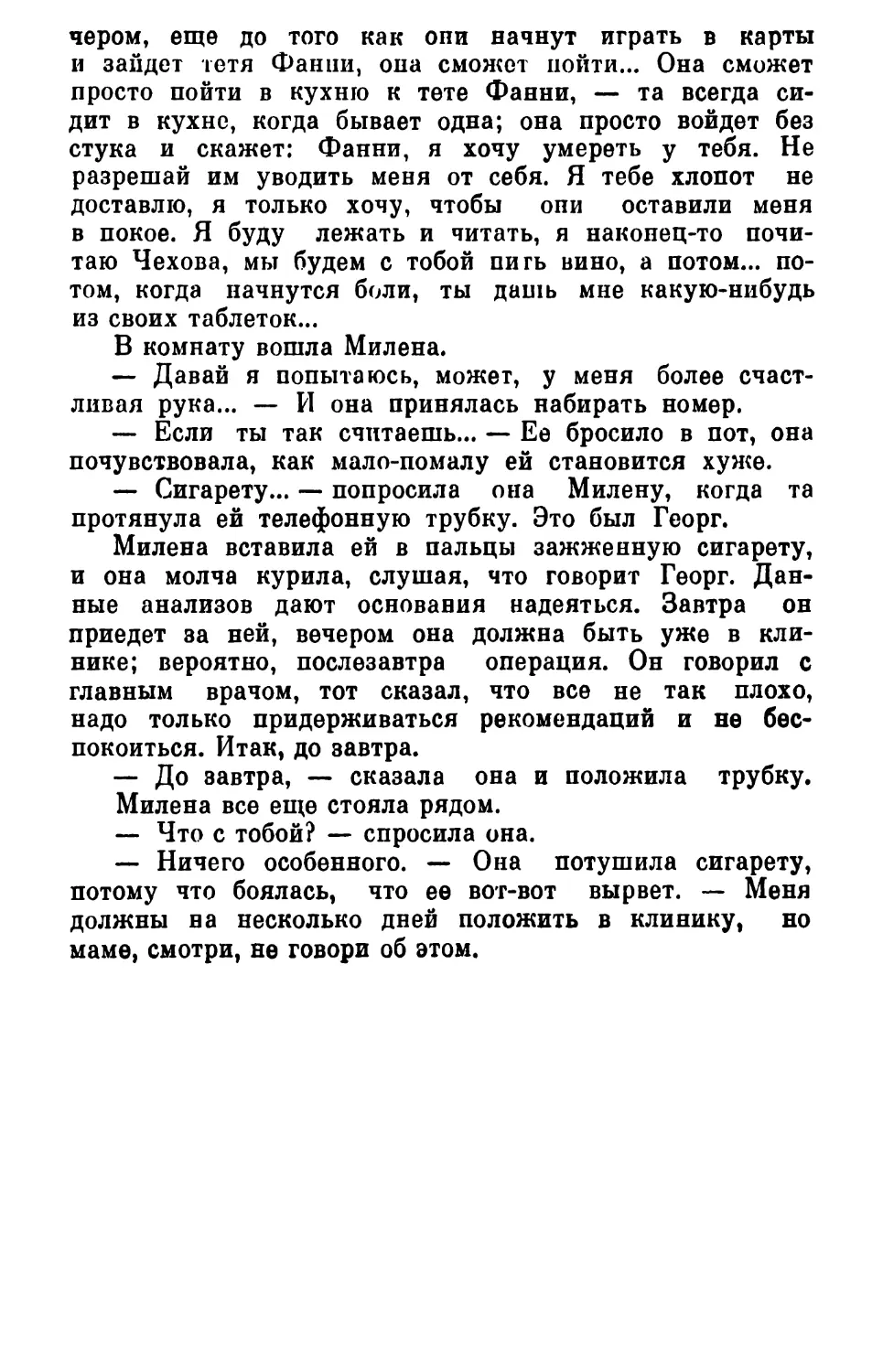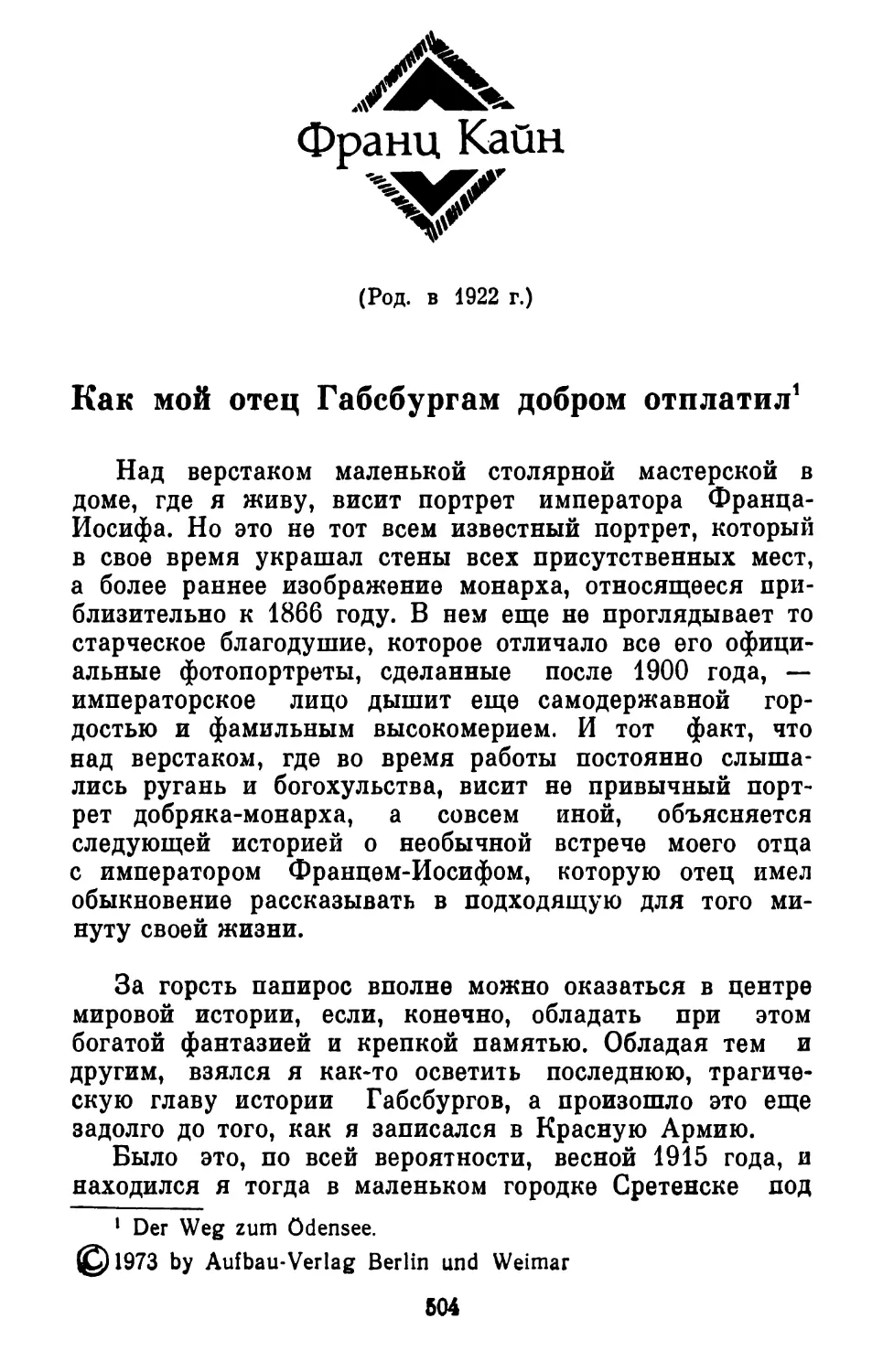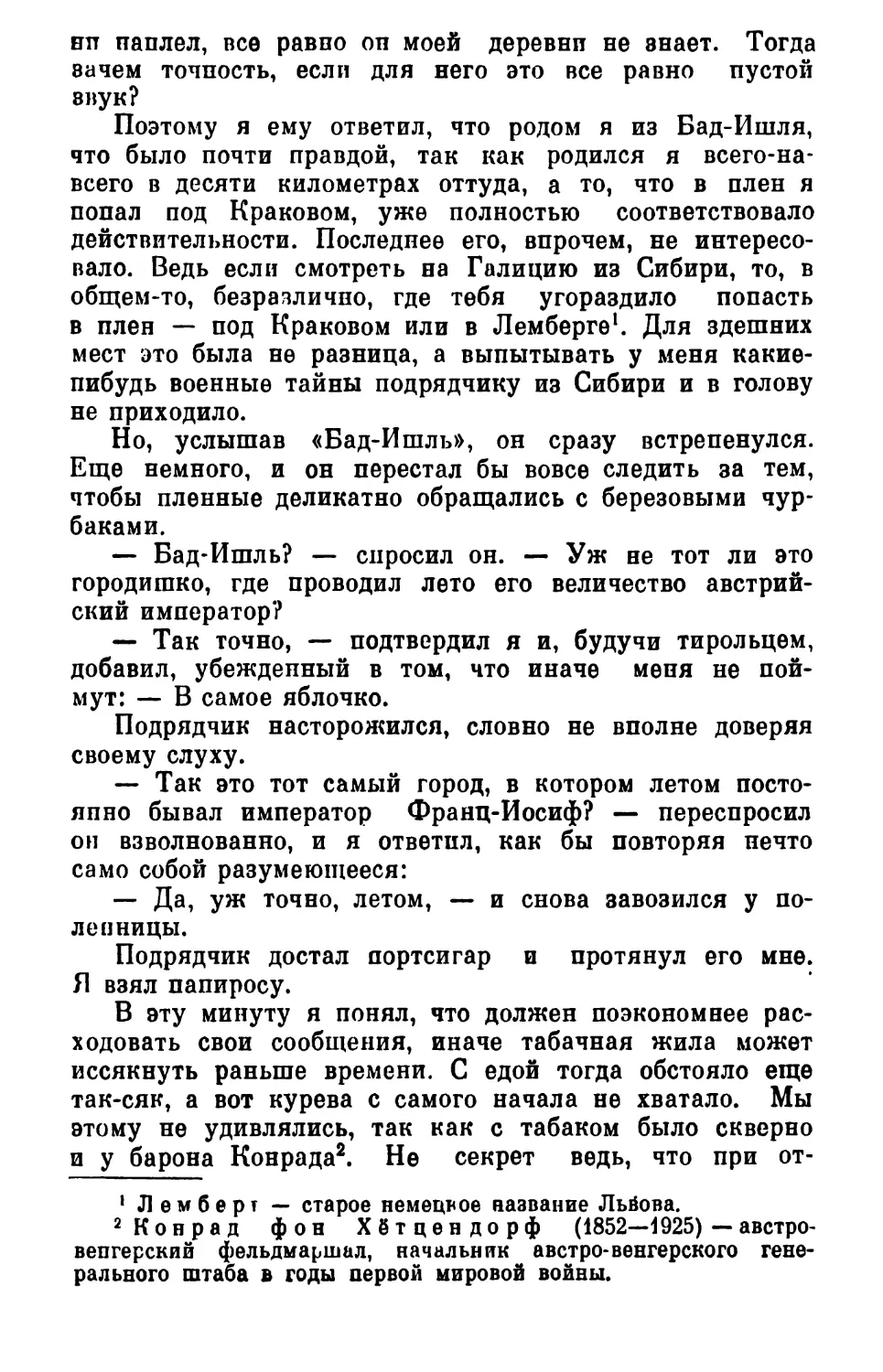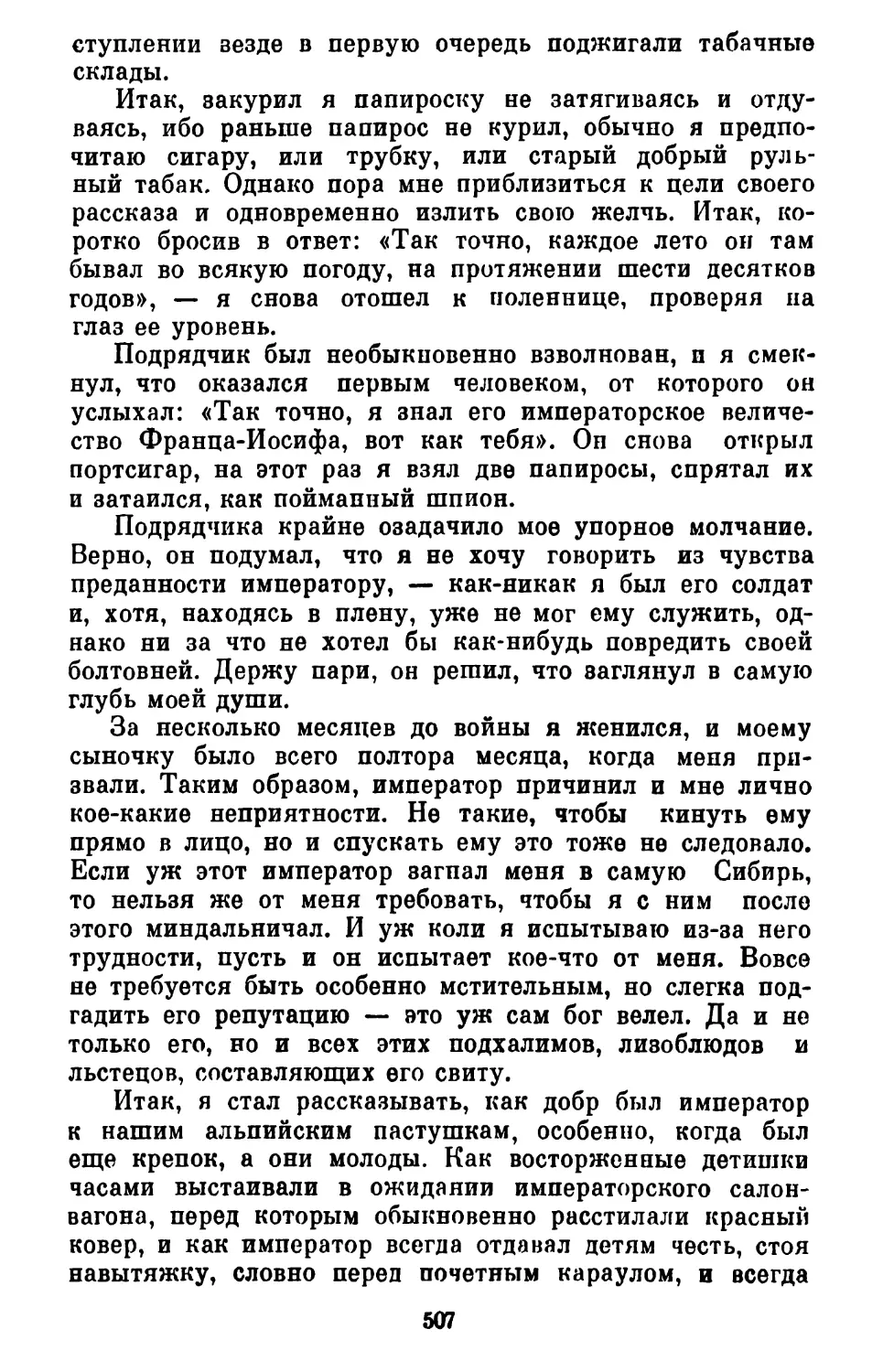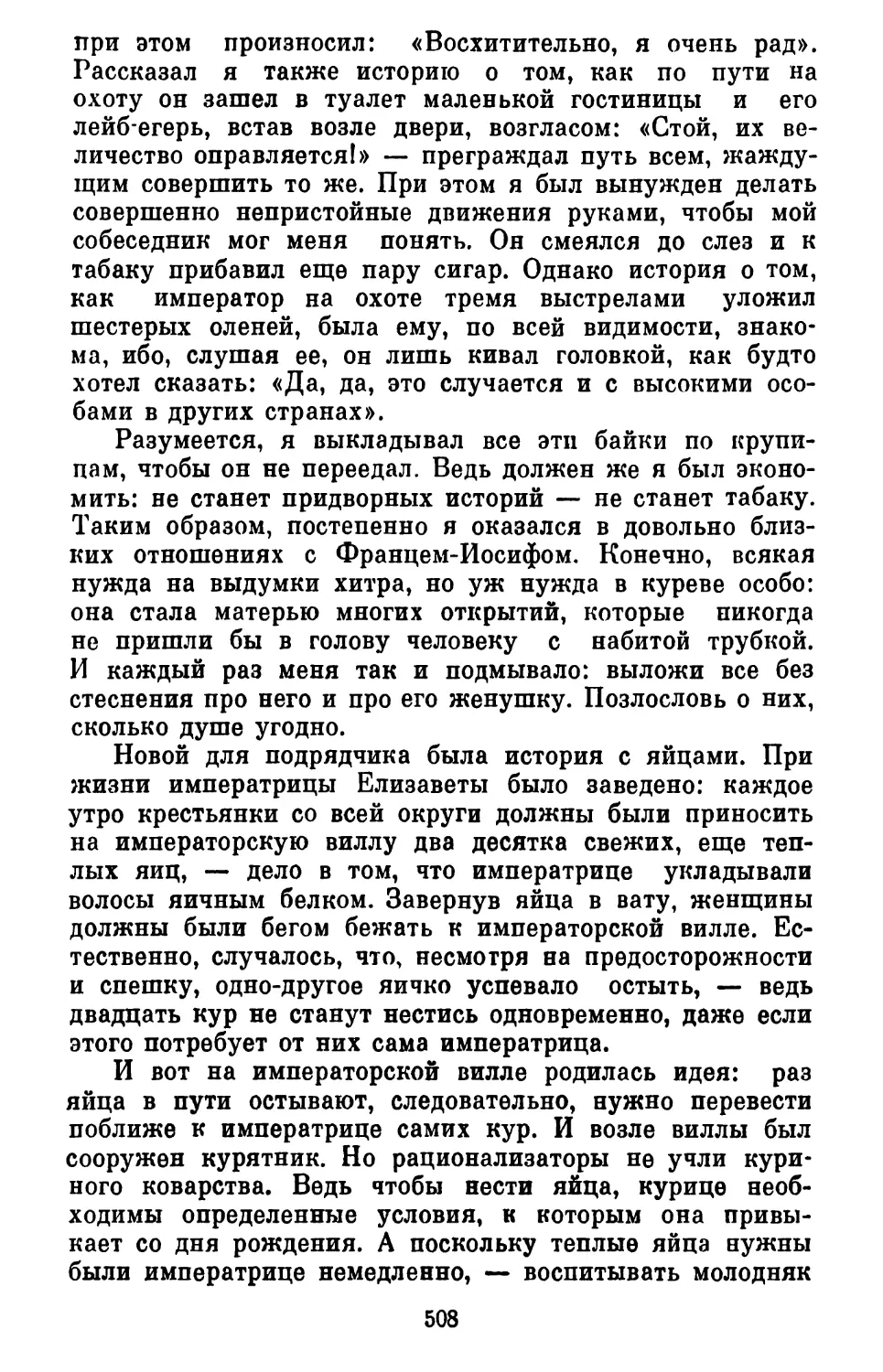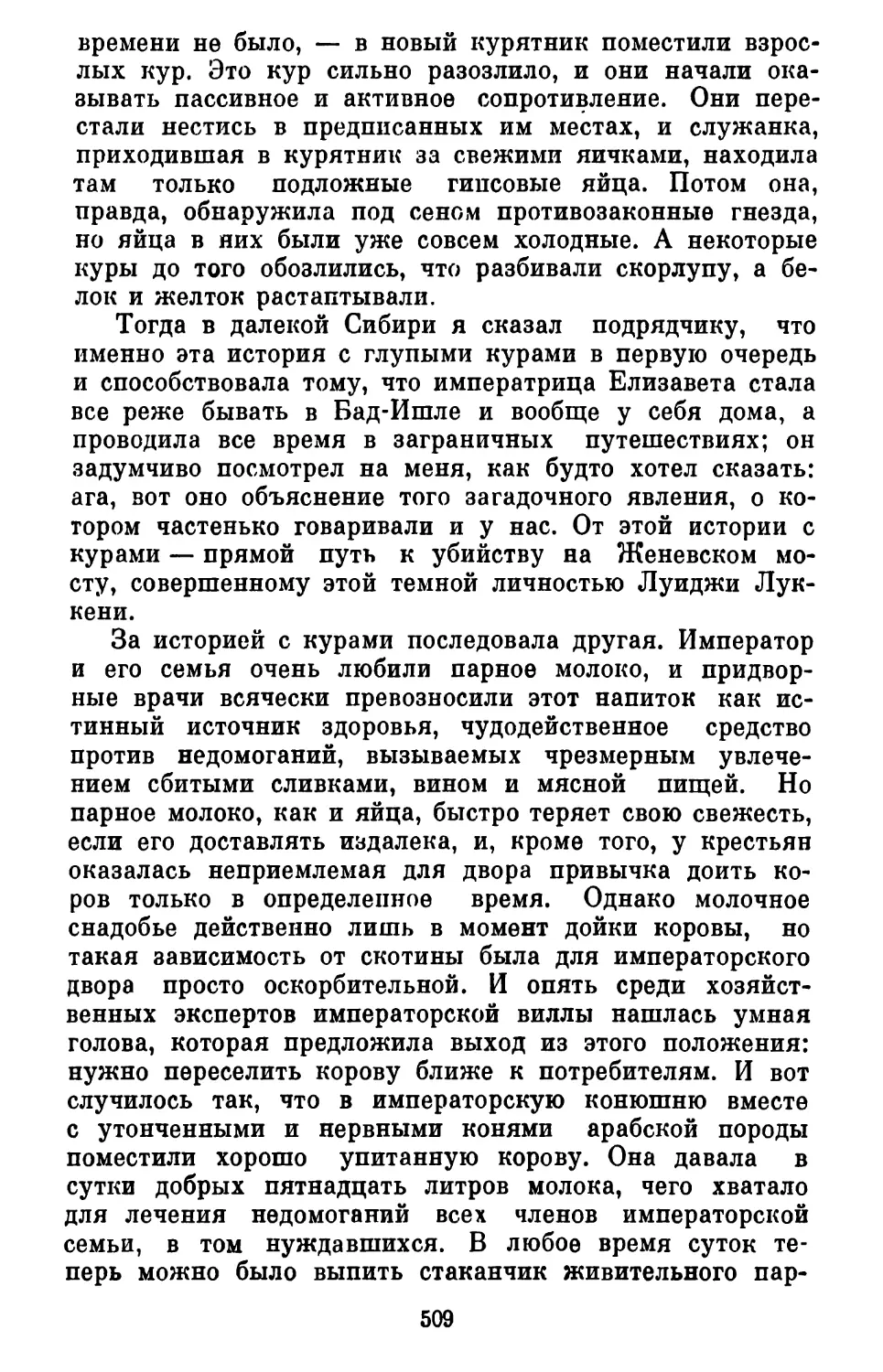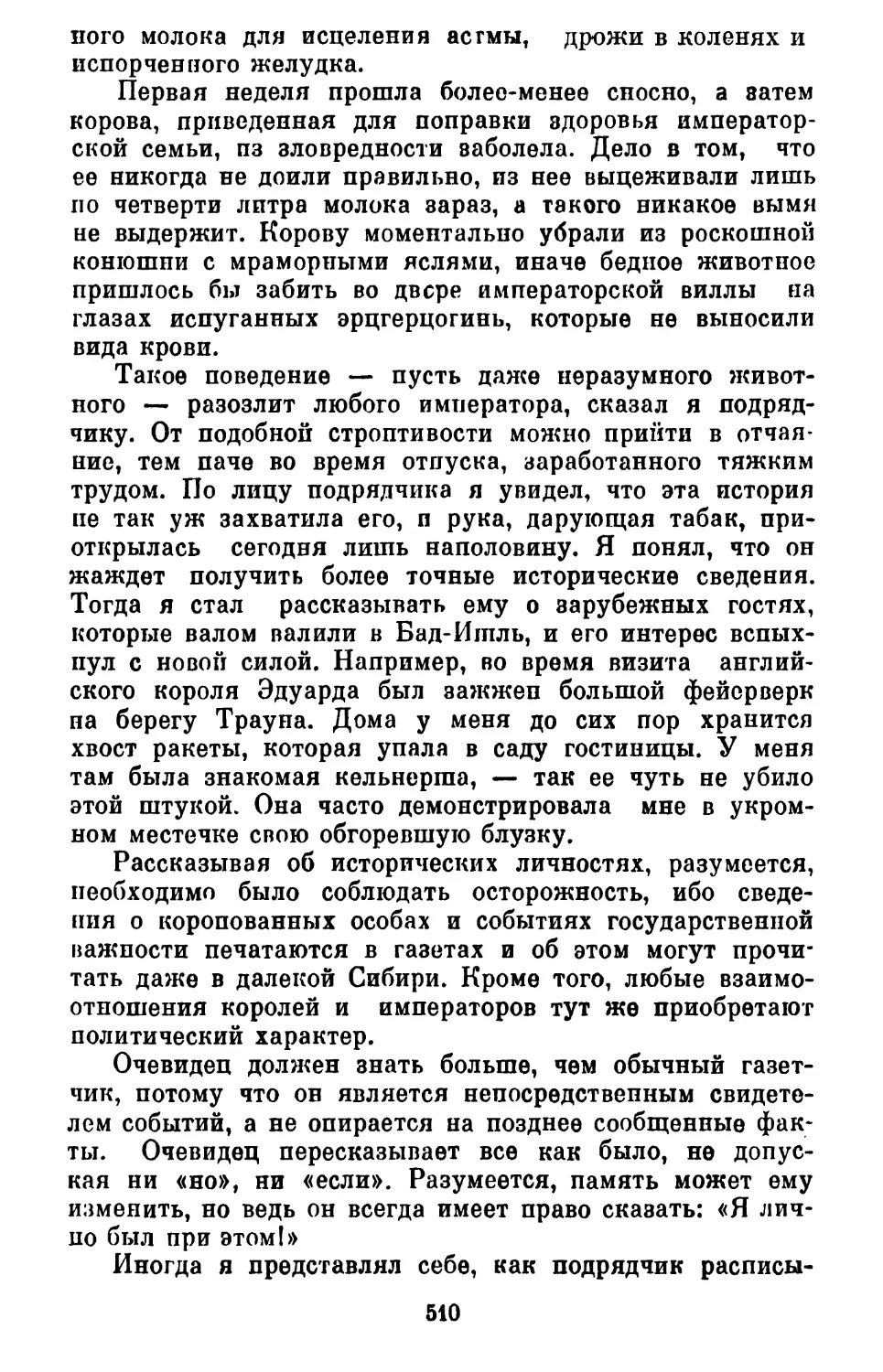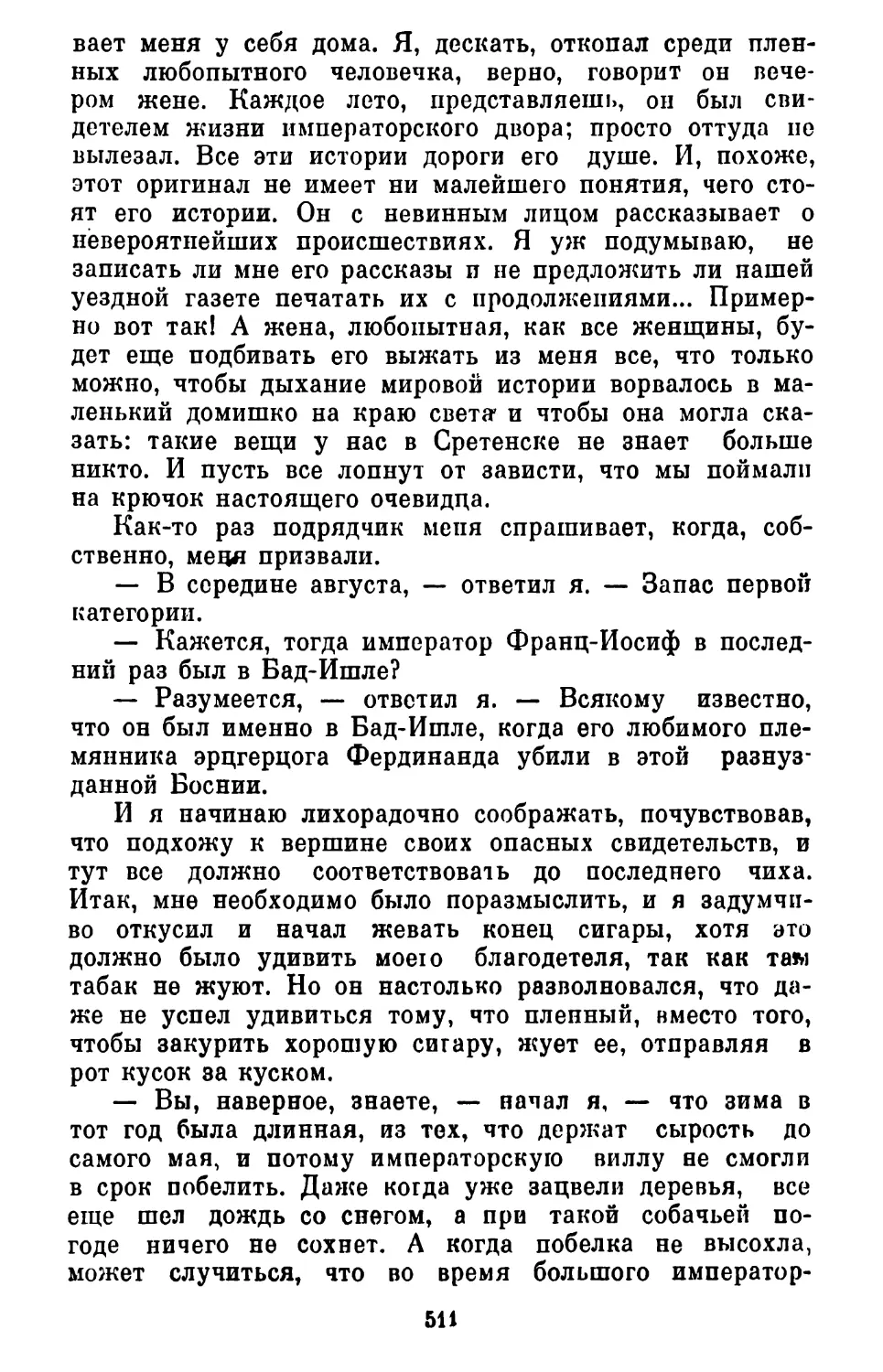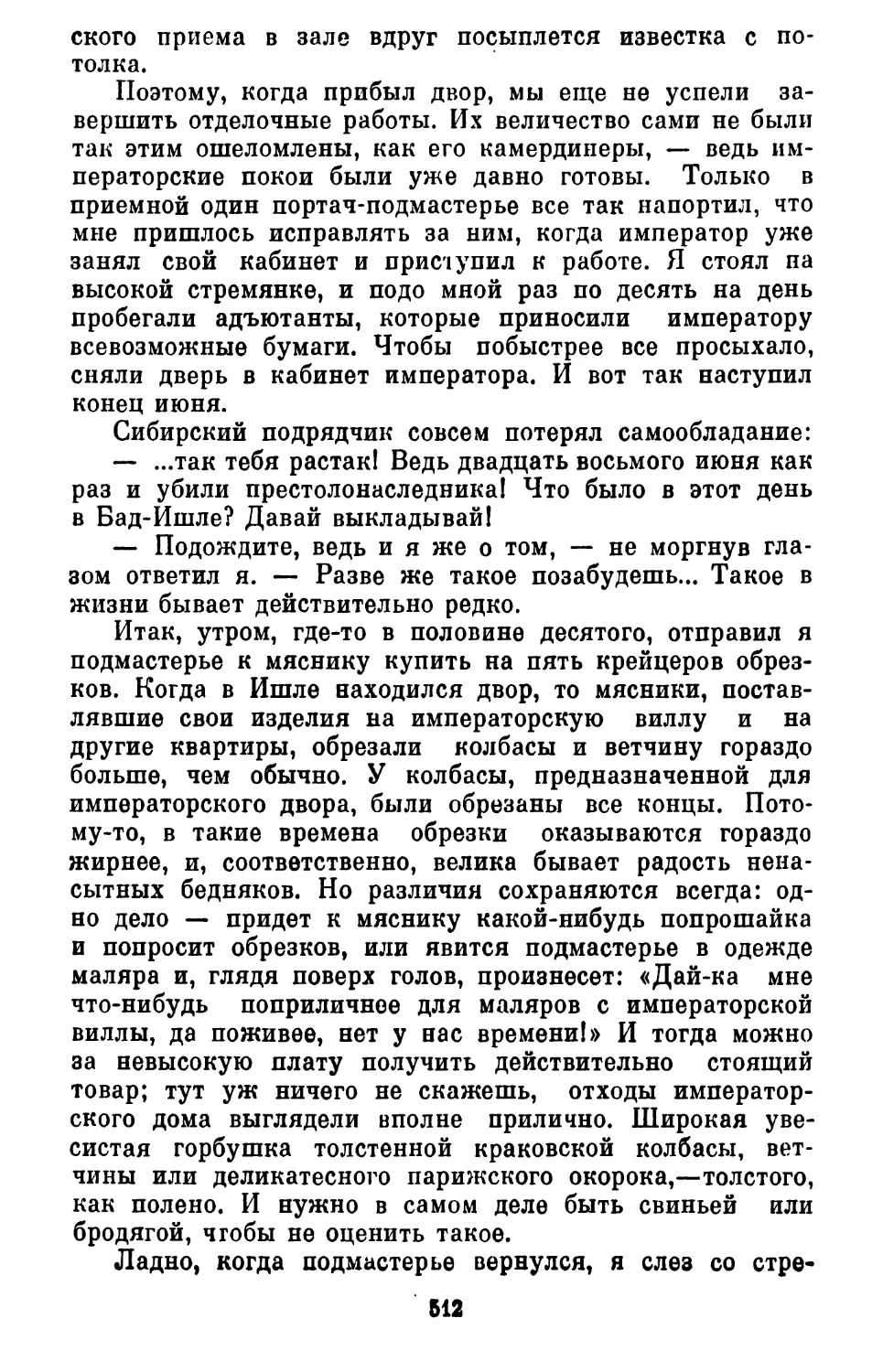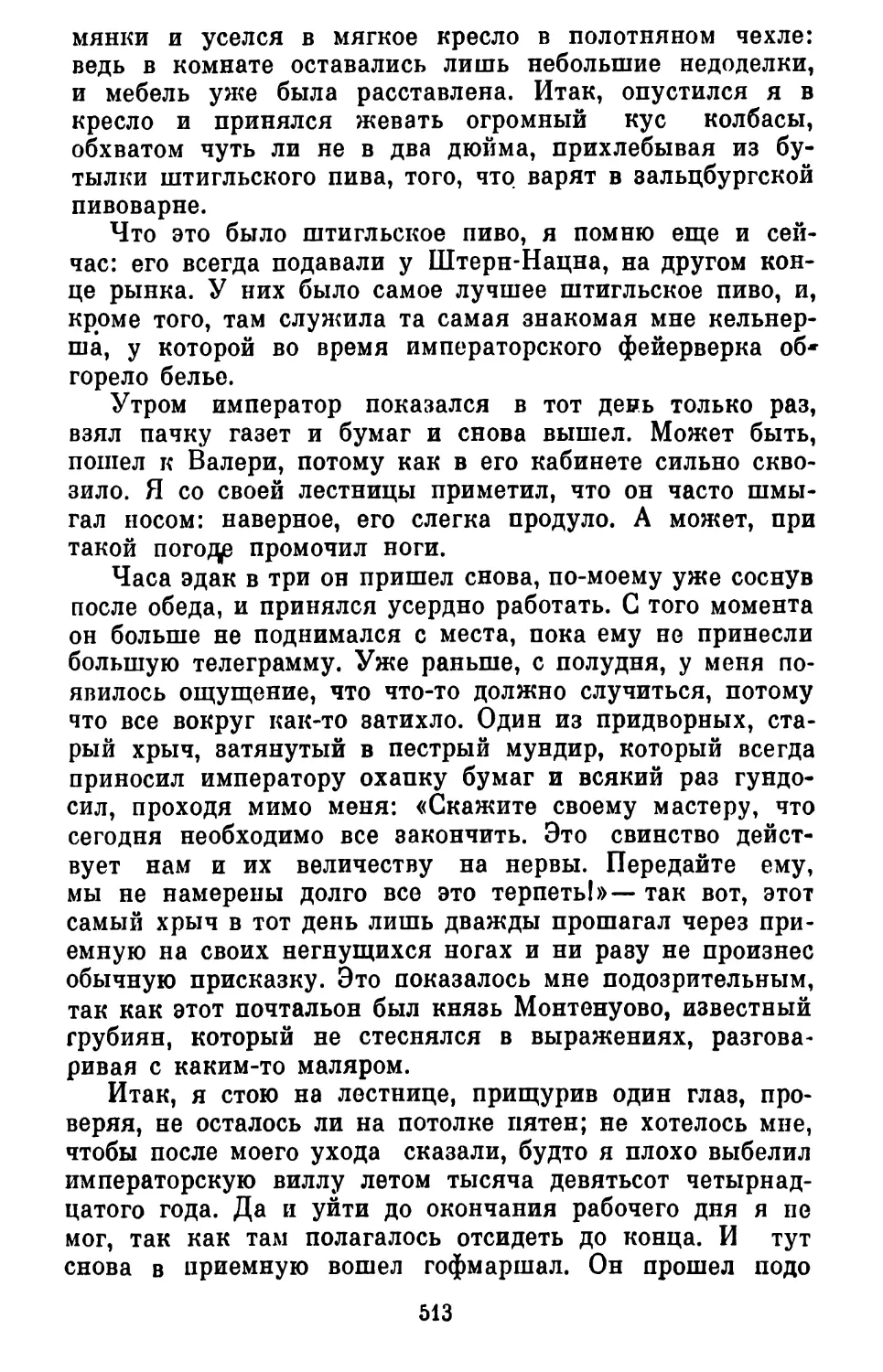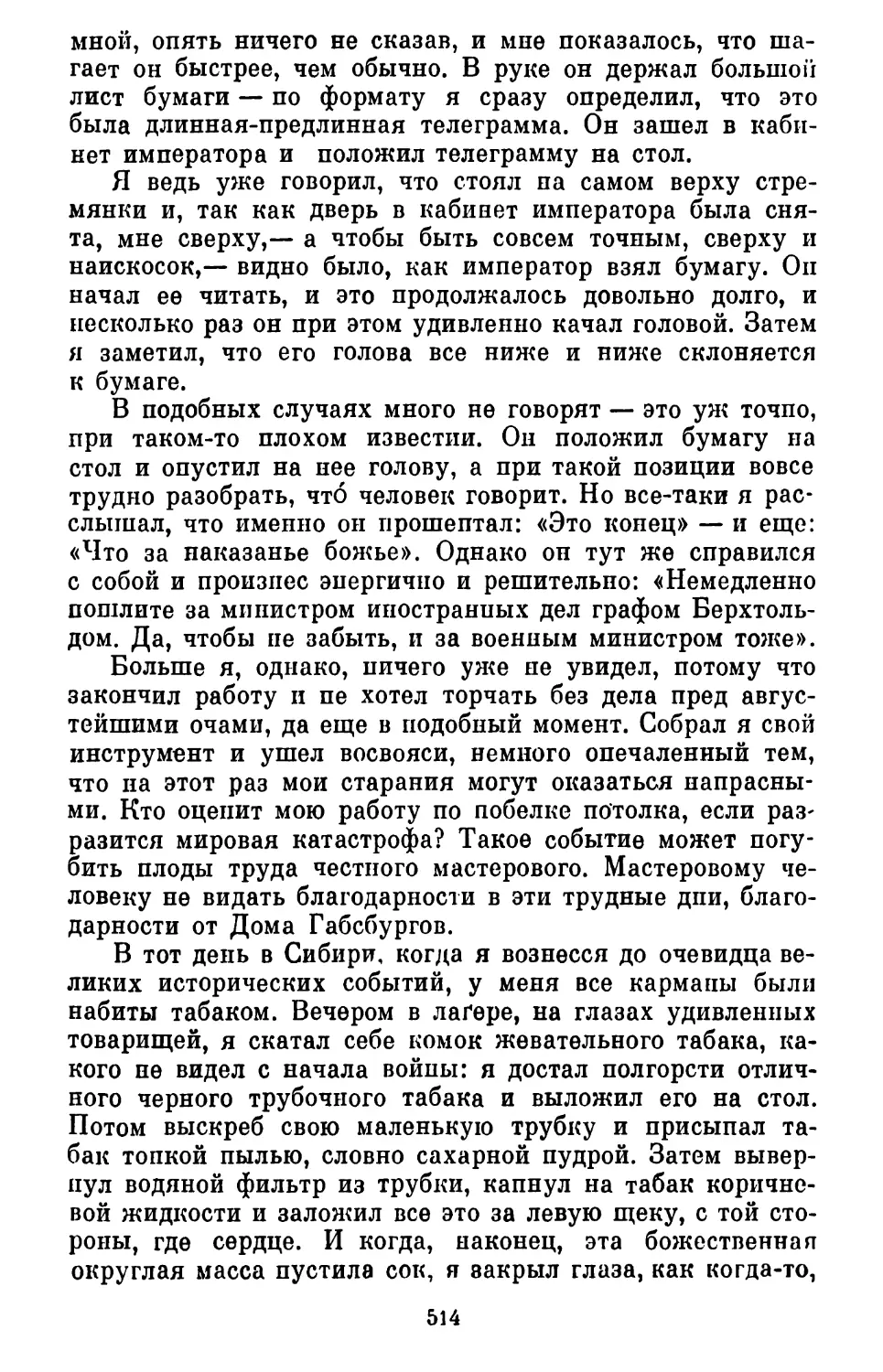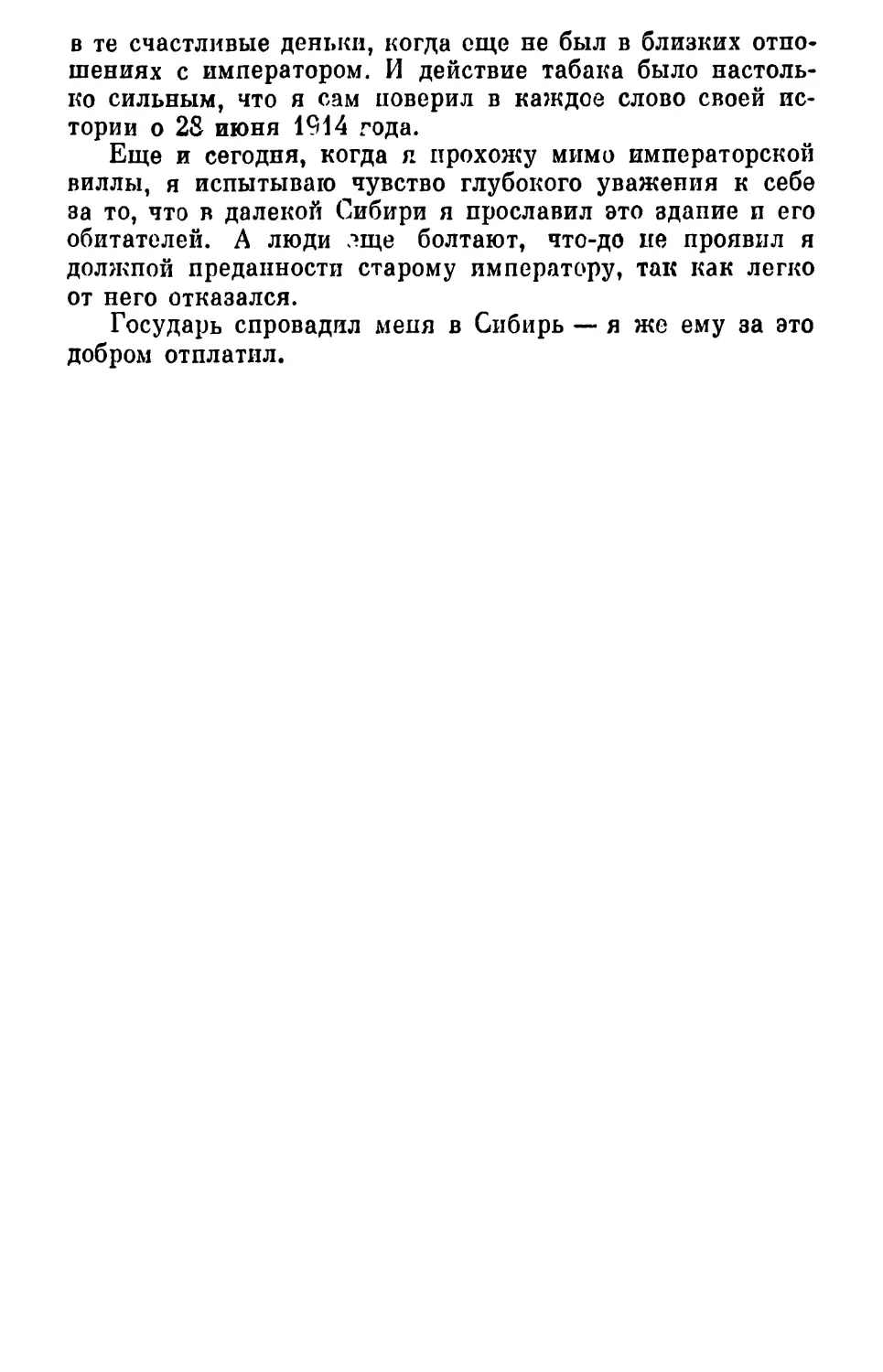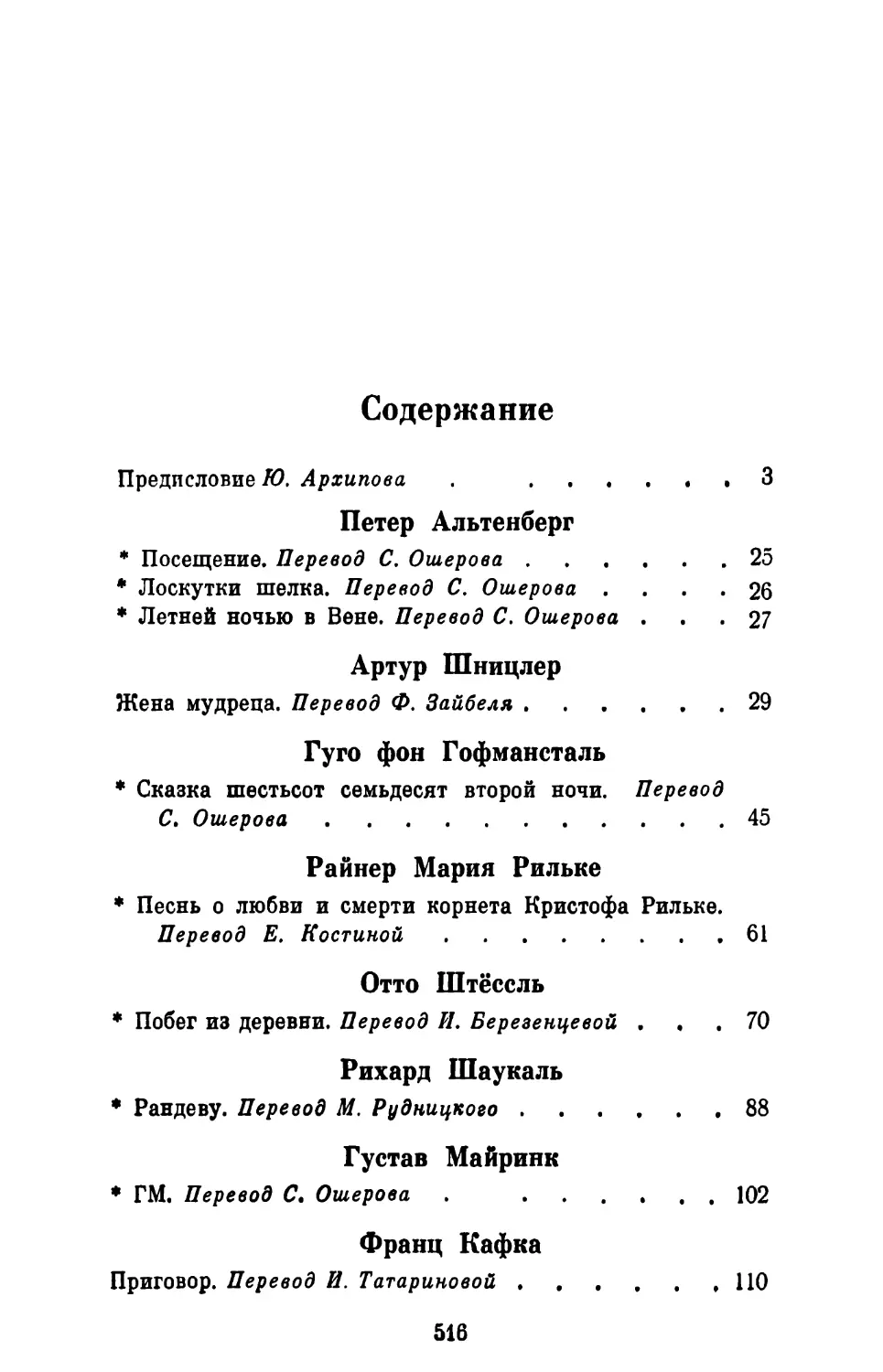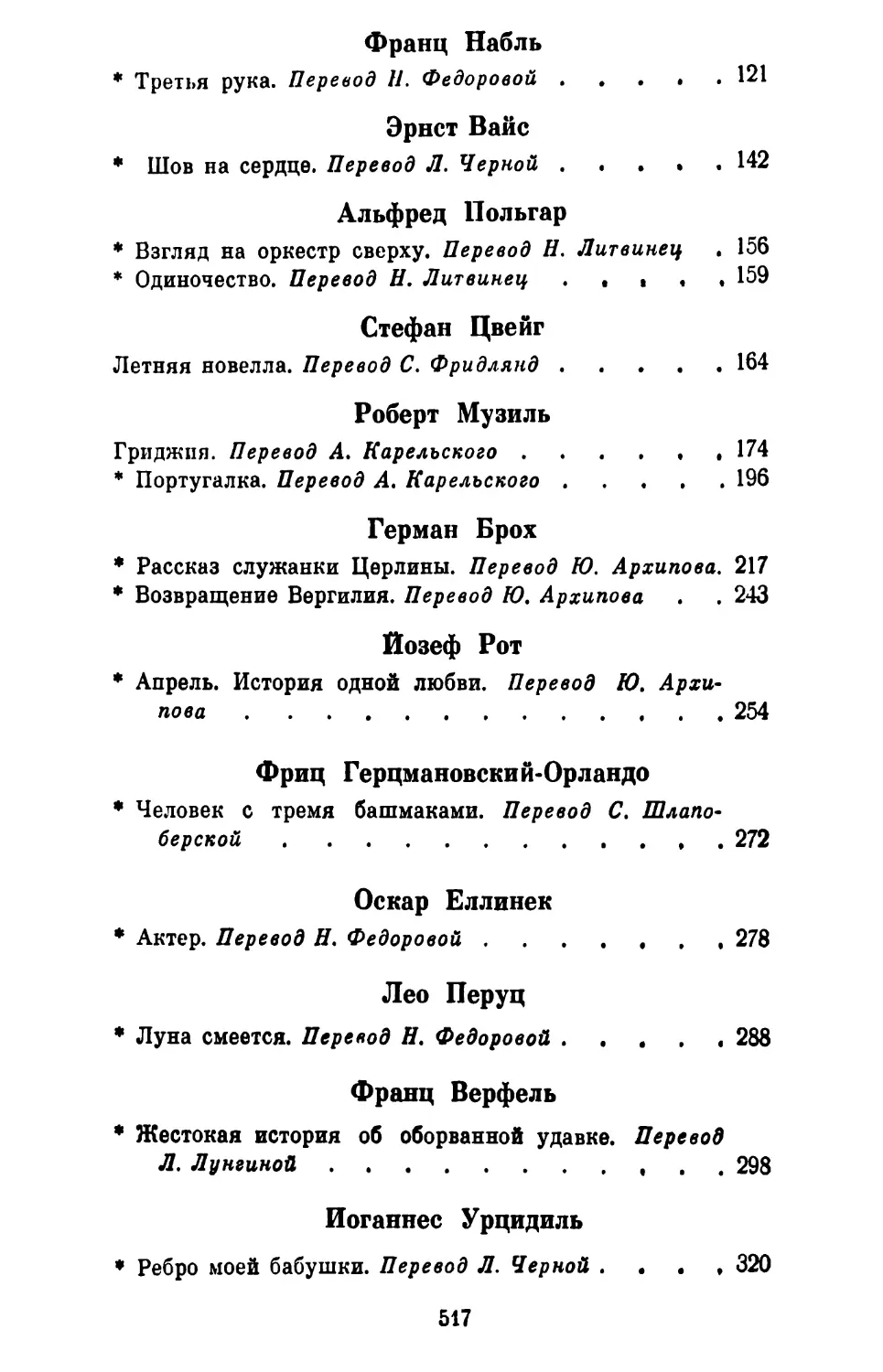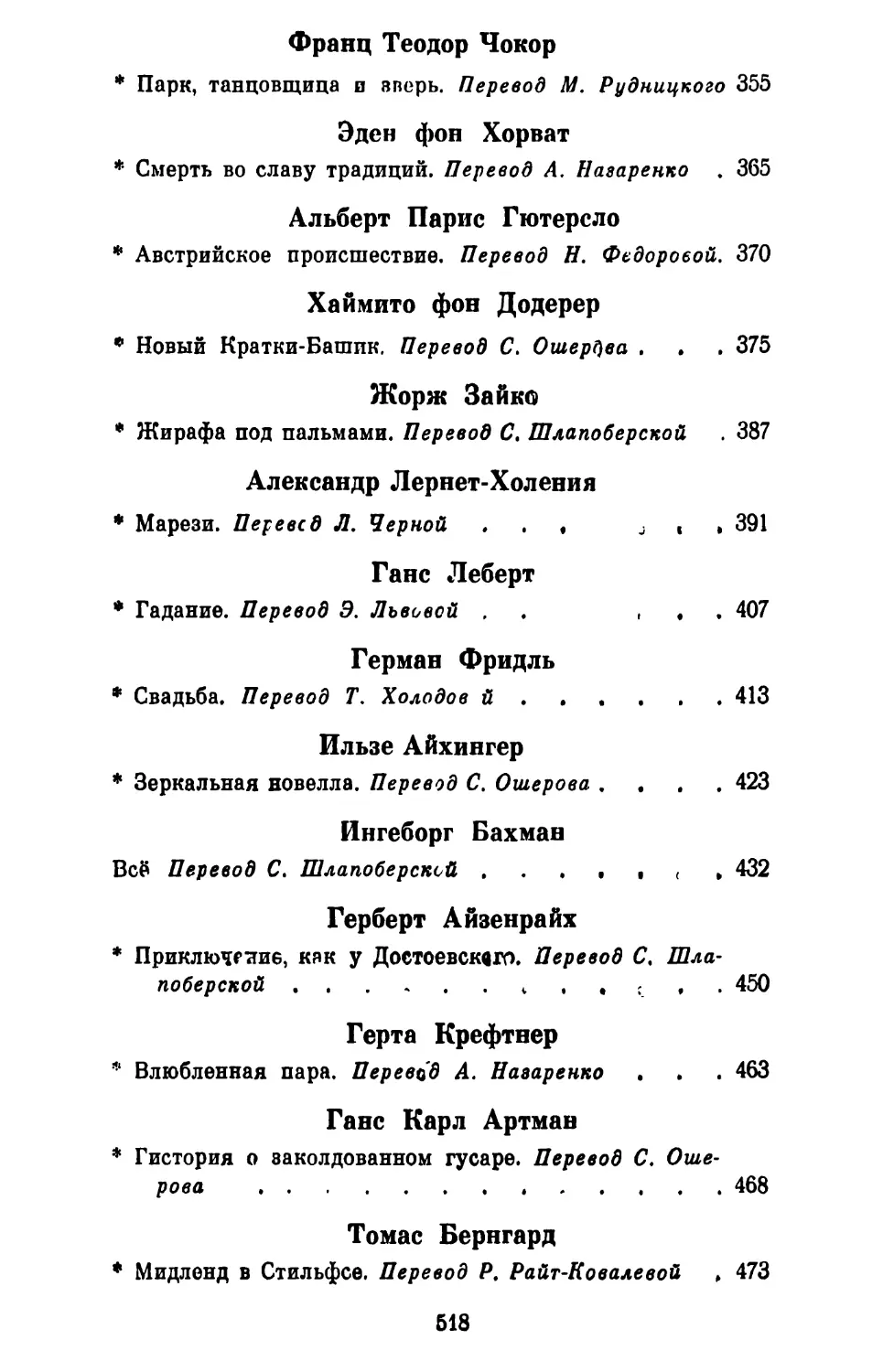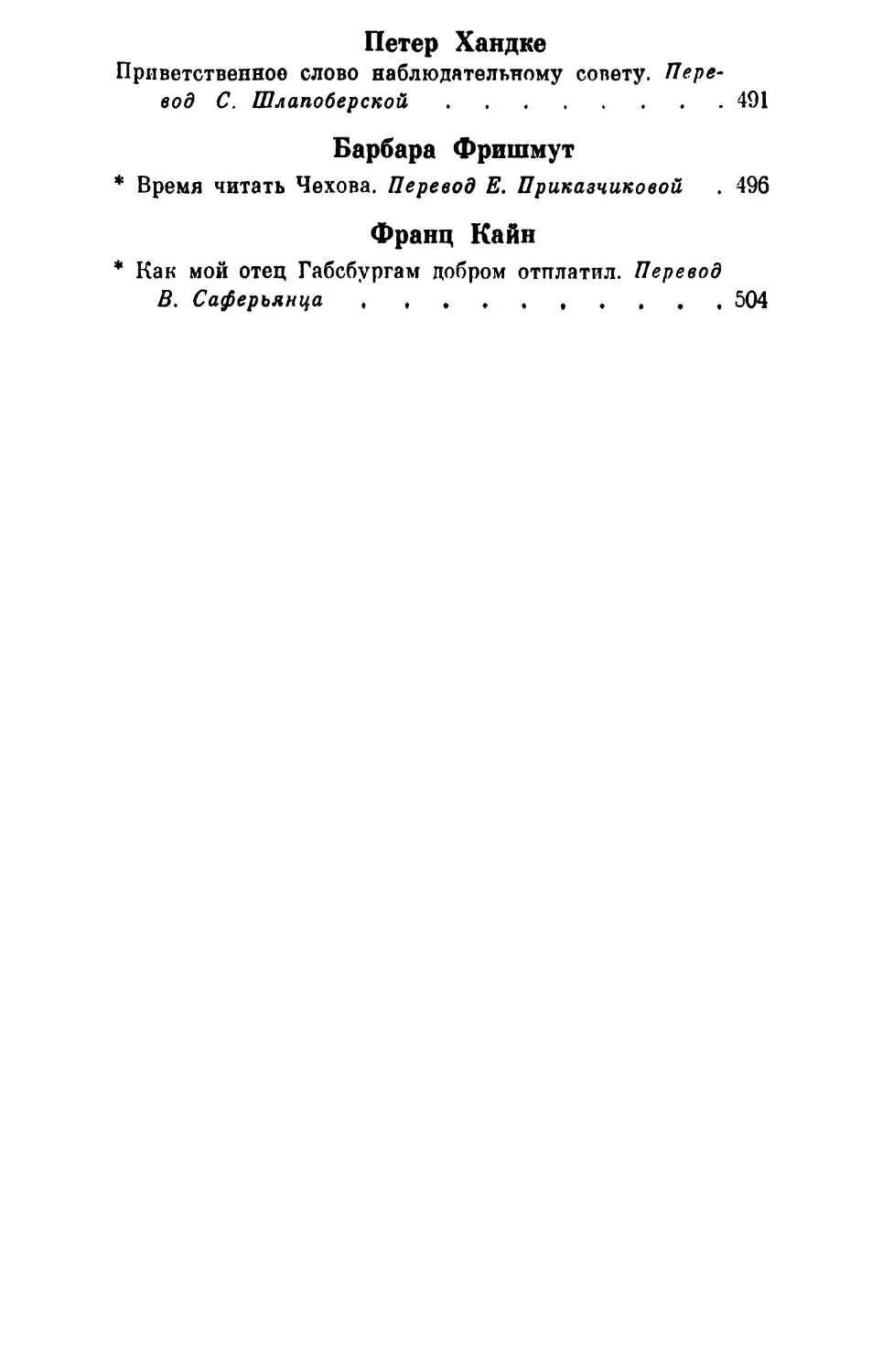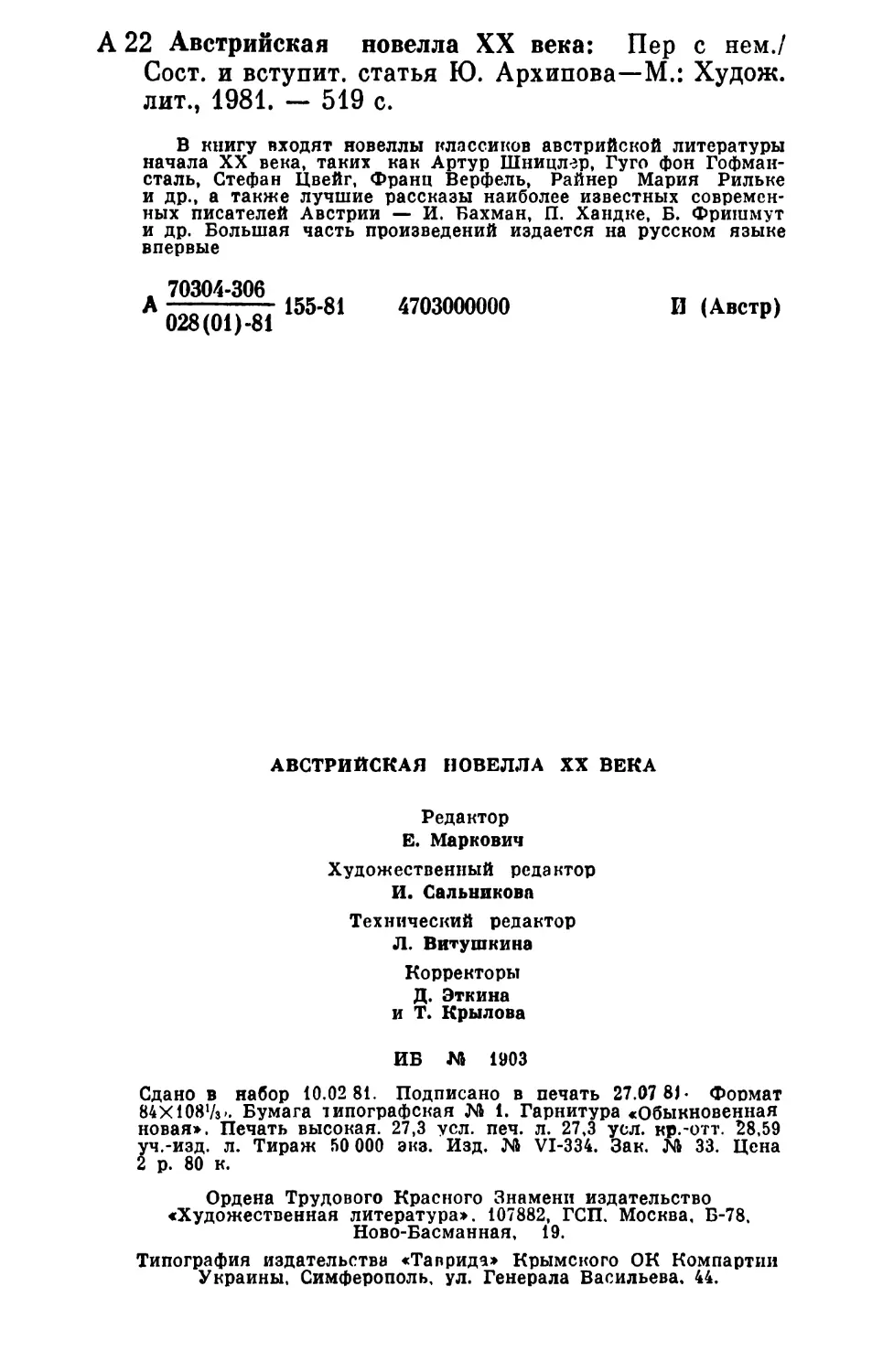Text
австрийская новелаа
XX ВЕКА
Переводы с немецкого
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981
И (Австр)
А 22
Составление а предисловие
Ю. Архипова
Оформление художника
Ю. Копылова
(£) Состав, предисловие, оформление,
переводы, помеченные в содержании*.
Издательство «Художественная литература», 1981 г.
А 70304-306
AöiÄT155-81 47030ü0000
Предисловие
Австрийская новелла — весьма своеобразное и яркое явление
не только австрийской, но и европейской литературы нашего сто-
летия. Именно новелла характерна для Австрии — этот особый
жанр повествовательной прозы, который обычно определяют как
небольшое по объему произведение, отличающееся от рассказа
остротой сюжета, отточенностью формы и неожиданностью кон-
цовки. Зародившаяся в глубокой древности, новелла пышно рас-
цвела в классическую эпоху развития литературы: от Возрож-
дения («Декамерон» Боккаччо) до реализма XIX века (Мопас-
сан). К австрийской классике этого жанра относятся возникшие
во второй трети прошлого столетия «Бедный музыкант» Гриль-
парцера, «Пестрые камни» и другие шедевры Адальберта Штиф-
тера.
Известно, одпако, какую переоценку жанровых определений,
как и всех других категорий поэтики, произвела художествен-
ная практика XX века. Когда мы говорим «роман XX века», «по-
эзия XX века», «драматургия XX века» или «новелла XX века»,
мы изначально предполагаем особую сложность, насыщенность
и напряженность отношений между формой и содержанием; не
менее характерна также разнонаправленность идейно-стилисти-
ческих устремлений, ожесточенная борьба направлений и школ,
неизменно, на разных этапах развития литературы, приводящая
к торжеству реализма. Литературная панорама XX века похожа
на некое увеличительное стекло, направленное на все предшест-
вующие стадии художественного развития: сколько самых различ
ных традиций нашло в ней свое предельное, как нам кажется, во-
площение, или, как раньше говорили, «апофеоз».
Отсюда многочисленные споры о природе того или ипого
жанра, разговоры о кризисе того или иного из них; отсюда и
мнения о том, что твердые очертапия жанров в наш век «размы-
*
8
ваются». Расплывчатыми оказались и строгие классические ка-
ноны новеллы: они пронпкиуты то лирикой (настроением, пол-
новластно завладевшим новеллой после Чехова), то психологией
(нередко с привлечением реалий подсознания), то насыщены
импрессионистическим пейзажем, говорящим сам за себя, обла-
дающим каким-то особым человекоподобием.
Классических повелл в сборнике поэтому сравнительно
пемного (Гофмансталь, Шницлер, Майринк), гораздо больше
произведений переходных: между новеллой и рассказом, ме-
жду новеллой и повестью, даже между новеллой и поэтической
лирической миниатюрой в прозе. Есть вдесь, вероятно, и не но-
веллы вовсе (в строгом смысле этого слова), но пусть читатель
не будет слишком придирчив к жанровой дефиниции — все со-
бранные произведения по-своему верно и многогранпо представ-
ляют богатую и своеобразную, еще недостаточно известную
нашему читателю австрийскую малую прозу XX века.
* * *
Достаточно ознакомиться с оглавлепием этой книги, чтобы
столкнуться еще с одной проблемой, требующей, вероятно, пред-
варяющих объяснений. Это проблема национальных литературных
границ внутри общего немецкоязычного ареала. Иоганнес Урци-
диль — австрийский писатель? А может быть, немецкий? Илп
чешский? Ведь он родился и жил в Праге и запечатлел ее. После
1939 года эмигрировал, обосновался в США, умер в Риме... Хор-
ват—австриец? Но по происхождению он венгр, жил долгое время
в Берлине, принимал там активное участие в литературной и
театральной жизни... С этими недоуменными вопросами прихо-
дится сталкиваться почти всякий раз, когда речь ваходит об ав-
стрийской литературе. Негибкому, механистическому миросозер-
цанию она ставит неразрешимые вопросы.
Необходимо понять: австрийская литература существует как
мощная культурная традиция, которую всегда можно указать в
творчестве тех или иных писателей, но которая почти невыделима
в чистом виде. Она есть как культурообразующая тенденция, и
ее нет как категории, резко отгороженпой от культур смежных,
соседних, прежде всего, конечно, немецкой, поскольку обе лите-
ратуры пользуются одним языком (хотя в австрийском варианте
немецкого и есть известные отклонения — не только на уровне
бытового выговора, но и стилистических норм). Провести четкую
границу между австрийской и немецкой литературой, такую же,
например, как между литературой английской и французской,
поэтому никогда не было возможным. У этих литератур было и
л
есть множество переходных или общих фигур — причем из чис-
ла самых видных, первого ранга, писателей. Характерно, что когда
многие из них задумывались над этой проблемой, то решали ее
весьма диалектически (Гофмансталь, Музиль, Додерер, как и те-
перь Фришмут, Хандке и другие); они чувствовали себя и авст-
рийскими, и немецкими писателями одновременно: австрийски-
ми, когда речь заходила, так сказать, о внутренних «германских»
делах, и немецкими, когда литература рассматривалась с высоты
птичьего полета — в масштабе общемирового литературного про-
цесса.
# * *
Двуглавый орел был гербом двух соседних держав — Рос-
сии и Австро-Венгрии, империи Романовых и империи Габсбур-
гов. Рухнули эти монархии почти одновременно; орлы оказа-
лись не бронзовыми, посыпались, как штукатурка, — так не-
редко и изображают их теперь художники, иллюстрирующие
книги на эту тему.
Теперь даже трудно себе представить, что империи эти не
просто соседствовали, но могли тягаться и на поле брани. Пер-
вая мировая война, начавшаяся, как известно, с конфликта
Австро-Венгрии с Россией, необычайно обострила социальные и
национальные противоречия, разъедавшие эти страны, подтолк-
нула их к революциям — Октябрьской семнадцатого года в Рос-
сии, Ноябрьской восемнадцатого — в Австро-Венгрии. Ноябрьская
революция в Австро-Венгрии успеха, в целом, не имела, но вы-
полнила свою миссию, устрапив исторический анахронизм, сломав
прогнивший государственный колосс, сковывавший развитие на-
сильственно соединенных под его сенью народов. В результате
могучая некогда держава Габсбургов безвозвратно исчезла с лица
земли, оставив после себя маленький островок, выданный исто-
рическим ветрам и бурям, память о былом величии, склонную к
мифотворчеству, и целое поколение людей, выросших в нервной,
экзальтированной атмосфере «переоценки всех ценностей», кру-
той ломки старых, веками лелеемых традиций, канонов и норм.
Агония, сопровождавшая распад старых общественных форм
Австро-Венгрии, представлявшей собой, по словам крупнейшего
австрийского писателя начала века — Роберта M узил я, «особенно
показательный частный случай Европы», существенным обра-
аом определила облик ее духовной культуры. Традиционные ком-
поненты австрийской живописи, музыки, словесности, — в ко-
торых «сумрачнып германский гений», под влиянием ромапского
изящества и блеска,, славянской глубокой озабоченности вопро-
ô
сами Души, темпераментного венгерского жизнелюбии, являлс.ч
значительно более просветленным, — обрели в наш век отчет-
ливо трагедийные изломы. И где бы на Западе ни заходила те-
перь речь о разного рода кризисах — в перечислении имен, все
эти кризисы отразивших и выразивших, мы с уверенностью мо-
жем ожидать значительное австрийское представительство.
Однако буржуазная критика грешит против истины, пыта-
ясь создать миф об исключительно модернистском характере
современного искусства и литературы Австрии. XX век вы-
двинул в литературе этой страны группу видных критических
реалистов, к которым с полным правом можно отнести Ст. Цвей-
га и Й. Рота, X. Додерера и А.-Г1. Гютерсло, Ф.-Т. Чокора и Р. Му-
зиля, О. Еллипека и Э. Хорвата, И. Бахман, Г. Леберта и других.
Как и повсюду в Европе, в Австрии пашего века росло и шири-
лось рабочее движение, развивались и крепли социалистические
идеи, складывалась в боролась за права трудящихся коммуни
стическая партия. Все это нашло многогранное отражение в со-
временной литературе, в том числе — как увидит читатель сбор-
ника — и в новелле. Обострившаяся в сложных исторических
условиях нашего столетия общественная борьба выдвинула в
Австрии целый ряд писателей-коммунистов, и хотя основной их
вклад сказался главным образом в публицистике (Г. Гупперт,
Б. Фрай, Е. Пристер), но есть на их счету яркие, добротные про-
изведения художественной прозы, в частности романы и новел*
лы. Конечно, в общественно-политических условиях Австрии
достижения социалистической культуры не могли быть столь
весомы, как, например, в соседней Германии, но их нельзя и не-
дооценивать или вовсе замалчивать.
Ведущей темой современной австрийской литературы стала
гибель анахронического государственного образования, каковое
представляла собой Австро-Венгрия, и рождение республики.
Эта обширная тема стала достоянием драмы и особенно романа,
но и новелла тоже исследует отдельные аспекты лтого события —
сейсмографически улавливает его приближение, доносит его
отголоски, сообщает о его последствиях. Портрет «господина
Карла» —- типичного австрийского литературного героя, незло-
бивого, но слишком уж податливого, в том числе и силам зла,
и судьба «Какании» (сатирическое название «кайзеровской» и
«королевской» монархии, которое дал ей в своем панорамном
романе «Человек без свойств» Музиль) намечены в новелле
пунктиром, не выписаны в ней столь обстоятельно, как в ро-
мане. Однако частности, собранные в мозаику, дают не менее
выразительную картину, чем монументальная фреска. Кроме
того, у новеллы есть и свои преимущества: законченность (по-
6
чти все большие австрийские романы XX века остались неза-
вершенными) и относительно равномерное развитие малого жан-
ра на протяжения всего века, в то время как роман бурно
развивается в Австрии преимущественно в 20—30-е годы.
Австрийская новелла XX века вобрала в себя конкретно-исто-
рические реалии сначала дряхлеющей и гибнущей монархии,
затем первой республики, попавшей в конце второго десятиле-
тия своего существования под ярмо фашистской Германии, и,
наконец, второй республики, возникшей благодаря победе со-
ветских войск пад фашизмом. В то же время эта новелла есте-
ственно вписывается в общую панораму художественных поисков
современной литературы, прежде всего европейской. Различные
конкурировавшие между собой школы п направления художест-
венной культуры Запада как будто бы заняли заметное место
п развитии австрийской литературы нашего столетия. Но это
лишь на первый, поверхностный взгляд. Отсеивая все несущест-
венное и наносное, время решительно переоценивает ценности,
выявляя глубокое, правдивое содержание у наиболее талантливых
представителей австрийской литературы начала века.
Начало века в Австрии отмечено бурной деятельностью так
называемой венской школы, в которой привился общеевропей-
ский «растительный», или «юный», стиль — с его изящной фри-
вольностью, грациозным орнаментом. Этот стиль, таивший в
глубине своих прельстительных покровов предчувствие надви-
гающейся катастрофы, но только подарил веку пресловутое сло-
вечко «модерн», но и во многом предопределил проблематику
и направление поисков западного искусства последующих деся-
тилетий.
Первым, кто стал культивировать этот стиль в австрийской
литературе, был критик, прозаик и драматург Герман Бар
(1863—1934). Пример Бара, подапный им в сборниках новелл
«Дора», «Красная дама», «Стыдливая графиня», увлек группу
молодых писателей, сплотившихся вокруг мэтра и подражавших
его изысканной, легкой манере, в которой краски и линии не-
редко доминировали над ситуациями и сюжетом.
К этой группе вскоре примкнули более самостоятельные и
серьезные писатели: Артур Шницлер (1862—1931), Гуго фон
Гофмансталь (1874—1929), Рихард Шаукаль (1874—1942) и
другие, с приходом которых, однако, Бар не утратил своей роли
главного теоретика. Он утверждал, в частности, что австрийско-
му, в особенности венскому, душевному складу изначальпо при-
сущи способность отдаваться настоящему моменту, созерцатель-
ность, тонкий анализ настроений и переживаний.
Правда, одновременно в той же Вене творили писатели-тра-
1
диционалисты, в ней не заглохла и традиция критического реа-
лизма в тех его формах, которые сложились во второй половино
XIX века. Так, в новеллистике плодотворно выступал Отто
Штёссль (1875—1935), посвятивший свое творчество описанию
жизни маленького человека. Эта линия в литературе сложно
взаимодействовала с другими и влияла также и на творчество
писателей, причислявших себя к вепской школе.
Пожалуй, наиболее ранпее и интересное художественное во-
площение идеи Бара получили в изящных, мастерских новеллах-
миниатюрах Петера Альтенберга (1859—1919). Его сборники
с весьма характерными названиями: «Как я вижу», «Что приносит
мне день», «Сказки жизни» и другие ?— рождены как бы сколь-
зящим взглядом, направленным на бесконечный и пестрый жиз-
ненный хоровод, из которого избираются фигуры неброские,
будто бы малоприметные, эпизоды якобы случайные, мелочи —
«паутипки бытия».
Характерна оценка, дапная этому писателю Гофмансталем:
«Его истории словно крошечные озера, над которыми скло-
няешься, чтобы рассмотреть золотых рыбок или камешки, и вдруг
видишь в них лик человека... Тройственная сила породила этого
поэта. Сила художника, наслаждающегося отношениями с людь-
ми, ландшафтами, своей судьбой как театром. Сила радостного
жизнеприятия, смиренно улыбающегося перед неотвратимой тя-
жестью жизни. Сила литератора, любящего слово, артиста, любя-
щего спектакль». На рубеже веков Альтенберг был живой досто-
примечательностью литературной Вены, «венским Диогеном», как
его окрестила критика. Просиживая целыми днями, а нередко е
ночами в знаменитом литературном кафе «Гриенштадль», он со-
бирал вокруг себя художников, музыкантов, литераторов, которых
развлекал рассказами, анекдотами, импровизациями.
Заразительная сила творений Альтенберга заметно влияла на
литературу австрийских писателей последующих десятилетий;
когда бы ни появлялись в ней впоследствии талантливые ми-
ниатюристы (а линия миниатюры здесь одна из самых ярких:
Польгар, Краус, Рот, в наше время Бернгард и Розай), они не
могли обойти своего предтечу — чудаковатого завсегдатая по-
лубогемного кафе, блестящего рассказчика и импровизатора,
собравшего, в свою очередь, литературный «мед» с творений
австрийского классика XIX века Адальберта Штифтера.
Отчуждение человека в буржуазном обществе и растущее в
связи с этим расщепление, распад личности, исчезновение цель-
ного характера, расслоение единого лица на сменяемые по обсто-
ятельствам маски — все это было предметом неотступного вни-
мания прозаиков венской школы. Горький смысл этих явлений
»
нередко облекался в нарочито легкомысленную или сказочно-экзо-
тическую форму, как бы растворялся в маскарадной сумятице.
Великолепными образчиками таких новелл, не лишенных, однако,
весьма тонких психологических наблюдений, являются «Рандеву»
Шаукаля или «Люсидор» фон Гофмансталя. Но тому же Гофман-
сталю была ведома и другая, серьезная и философски аргумен-
тированная постановка проблемы, манера, лишенная даже налета
иллюзорности. В «Письме лорда Чендоса Френсису Бэкону»
(1902) — костюмированном эссе, имевшем в свое время широкий
резонанс в Австрии, он, ставя безрадостный диагноз эпохи, впер-
вые говорит о мире, теряющем свойства, об индивидууме, утра-
чивающем свое «я». Темы девальвации человеческой личности,
бренности жизни, разобщенности людей в буржуазном мире,
видимости и сущности проступают у Гофмапсталя и сквозь одея-
ния восточной сказки — «Сказки шестьсот семьдесят второй
ночи».
Выдающееся место в истории немецкоязычной малой прозы
занимает ранняя проза большого и сложного поэта — Райнера
Марии Рильке (1875—1926). В ней немало образчиков высокоис-
кусной новеллы классической чеканки. «Слова простые, сестры-
зама рашки», гимн которым он пропел в одном из своих ранних
стихотворений, под поэтическим пером Рильке преображаются,
светясь каким-то особенным светом тихой, но неугасимой любви
ко всему сущему. Наиболее зрелую поэтичную прозу Рильке от-
личают естественность, ненатужпая, легко обретенная пластич-
ность, тонкий лиризм, внутренняя, лишенная всякого вычура
музыкальность, как бы снимающая с внешнего, часто грубо-
го и неприхотливою мира его покров и обнажающая глубин-
ный смысл и ценность неброских и неприметных явлений
жизни, самых простых и естественных людских отношений.
Таков его опыт «автобиографической ретроспекции» — «Песнь
о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», где, по сути, осуще-
ствлен столь характерный для поэтики начала века синтез по-
эзии и прозы. Не отягченная рефлексией цельность детского
восприятия была для Рильке прообразом и моделью искомого
единства мира.
Любовь и смерть как враждующие и неразлучные спутни-
цы не раз становились важнейшей темой австрийской новел-
листики начала века. Один из выдающихся ее представителей —
Рихард Шаукаль даже дал своему сборнику многозначительное
название: «Эрос и Танатос» (Танатос — бог смерти). По мнению
Шаукаля, любовь и смерть — самые главные реальные силы во
вселенной, противостоящие друг другу, ведущие между собой
вечную борьбу. Это и главные темы литературы, если опа стре-
9
мится разглядеть за ускользающим мгновением вечность. Шау-
кал ю вторит и зрелый Шницлер, воплотивший противоборство
любви и смерти в следующей емкой притче:
«Как явиться мне человеку, — спросила Бесконечность гос-
пода бога, — чтобы тот не окаменел от страха?» Тогда господь
одел ее в голубое небо. «А я? — спросила Вечность, — как дол-
жна я открыться человеку, чтобы он не погрузился во мрак от
ужаса?» Тогда господь сказал: «Я подарю человеку мгновение,
в которое он поймет тебя». И он создал любовь».
Стремление вырваться sa пределы конечного и мгновенного,
а в сущности, желание оторваться от пошлой буржуазной повсе-
дневности сочеталось у венских новеллистов той поры с упорным
пристрастием к изображению легендарного «золотого века» Ма-
рии-Терезии, века придворных интриг, увлекательной любовпой
игры, менуэтов, пышпого рококо, кринолинов и фижм. Отсюда
обилие декоративных псевдоисторических реалий в повеллистике
Шаукаля, Шницлера, Гофмансталя. То пе были «исторические»
новеллы в собственном смысле слова; современные костюмы и
декорации лишь заменялись в них на старинные: смокинги -
на камзолы, спальни — на будуары, а персонажи оставались, в
сущности, теми же слабыми людьми, которые барахтаются в се-
тях Эроса и которых неминуемо настигает Танатос. Смерть не-
редко одерживает победу над любовью у новеллистов венской
школы — как в галантном веке Марии-Терезии («Рандеву» Шау-
каля), так и в современности (многие новеллы Шницлера).
Время выявило подлинные ценности в наследии венской
школы — глубокий и тонкий психологизм наиболее одаренных
ее представителей, пробивавшийся сквозь напластования лож-
ных идеалов и мнимых проблем. Правда, даже в творчестве наи-
более сильных из них есть и определенные издержки психоло-
гизма: изломы психики, которые порой столь пристально
исследует Шницлер, трагические бездны, в которые вслед sa ним
повергает своих героинь ранний Стефан Цвейг.
Однако зрелые "произведения и Шницлера, и Цвейга несо-
мненно создавались в русле исконно реалистической традиции,
восходящей к новеллистике Мопассана и Тургенева, которого
Шницлер называл «Шекспиром новеллы». В них правдиво отра-
жена неповторимая социально-психологическая атмосфера Вены
тех лет. Нестареющее с годами очарование этих подлинных ше-
девров изящной словесности не сводимо к воздействию увле-
кавших иных модернистов внежизненных, умозрительных схем.
Другим немаловажным достоинством этих писателей следует
считать их превосходный немецкий язык, знаменитый «про-
зрачный стиль» лучших мастеров Вены, приобретший к настоя-
10
щему времени значение классического образца. «Слова — это
инструменты, на которых нужпо уметь играть», — говорил
Шаукаль. И он сам, и прославленные его коллеги были вирту-
озами этой «игры».
* * *
Бытующее в зарубежном литературоведении наименование
«пражская школа», под которой обычно подразумевают группу
немецкоязычных писателей-пражан, в той или иной степени
связанных с экспрессионизмом, может быть принято только ус-
ловно. Прага, выдвинувшая целый ряд таких известных имен,
как Рильке, Кафка, Майринк, Верфель, представляла собой в
пред- и послевоенные годы арену шумной борьбы самых раз-
нообразных литературных групп. Тем не менее значительная
часть этих противоборствовавших литературных сил выступала
под общим знаменем экспрессионизма — как «левого», так и
«правого», и были моменты, позволявшие весьма разным писате-
лям — как шедшим к реализму, гак и все более отталкивав-
шимся от него — находить в те годы общий язык и причислять
себя к единому движению.
Основывалась эта общность прежде всего на неприятии ис-
кусства предшествующего поколения, на бупте «детей» против
«отцов» — на борьбе с импрессионизмом, а по сути дела, с рабской
верностью природе, с аристотелевским «mimesis», с «подража-
нием». Бунт этот, на который поднимались с лозунгами су-
веренной мощи духа и пророческой миссии художника, выли-
вался подчас в своевольную деформацию природы на полотнах
живописцев и в своеобразное «речетворчество» — ломку синтак-
сиса и высвобождение «самовитого» слова — в творениях по-
этов-экспрессионистов.
Писатели нового поколения демонстративно отказывались от
главных принципов и от художественной практики венской шко-
лы. Их не устраивало ослабление и даже подчас полное исчез-
новение человеческого «я», исчезновение характера в потоке
ощущений, слишком пристальное внимание к оттенкам и тонко-
стям душевной жизни, в которых субъект растворялся, отдаваясь
бесконечной рефлексии. В центре внимания новой прозы оказы-
вается, однако, не характер, а характерность, специфическая
изолированная душевная ситуация: страх, надежда, отчаяние,
любовный экстаз, братский порыв и т. п. Эту душевную ситуа-
цию писатели, выступавшие под лозунгами пражской школы,
передавали подчас с помощью некоего иносказания или шифра.
Таковы, например, многие притчи-рассказы Франца Кафки
(1883—1924), также начинавшего в русле пражан. В большин-
И
стве произведений Кафки воплощен мотив трагического бессилия
человека перед абсурдностью буржуазного мира. В описании
невероятных превращений Кафка достигает большой вырази-
тельности благодаря контрасту фантастического содержания и
сухого, точпо-описательского, даже «канцелярского» стиля.
Разумеется, этот переход литературы к новым идеям и фор-
мам изображения завершался не механически и не быстротеч-
но. К тому же внутри самой венской школы также со временем
росла неудовлетворенность всеобщей и бесшабашной «игрой
масок». Происходит серьезный сдвиг в творчестве Гофмансталя
и Шаукаля, все более достигает почти графической отчетли-
вости Рильке.
Провозглашенное пражским направлением единство «я» и
«ты», единство человека и внешнего мира, единство, в котором
человек приравнивается к богу и растению, животному и кам-
ню, широко распространяется среди австрийских писателей тех
лет. Миросозерцание многих из них в эти кризисные годы было
весьма трагично. Пытаясь и будучи не в состоянии объяснить
себе исторические катаклизмы, они тяготеют к притче, к мифу,
к аллегории. Особенным пессимизмом отличались произведепия
Кафки, словно «демонтировавшего» структуру мира и пришед-
шего к таким безысходным результатам, что, умирая, он за-
вещал сжечь свои неопубликованные произведения.
Однако другой представитель пражан — Густав Майрипк
(1862—1932), пристрастный к детективно-авантюрному жанру и
фантастике, тоже как будто «демонтируя мир» в своей прекра-
сной новелле «ГМ», создает острую сатиру на капиталистиче-
ские порядки, почти в духе Марка Твена.
Совмещение гротеска и быта, фантазии и реальности, воз-
вышенности и сатиры, проводимое то в традициях романтиков,
то в острой полемике с ними, составляет одну из примечатель-
ных особенностей новеллистики пражской школы. Чрезвычайно
характерный для нее мотив — конфликт «отцов» и «детей»
(запечатленный Кафкой в рассказе «Приговор»). Этот же мотив
нашел тонкого наблюдателя в лице Франца Верфеля (1890—1945),
поначалу считавшегося чуть ли не «мессией» пражан, но в даль-
нейшем все более подпадавшего под обаяние филигранной пси-
хологической прозы венцев («Прага взрастила меня, Вена влекла
и манила...»). Зрелый Верфель — это уже уверенный реалист-
психолог с постоянным жгучим интересом к наиболее острым
социально-политическим конфликтам своего времени. Такова его
«Жестокая история об оборванной удавке», написанная на мате-
риале Гражданской войны в Испании, всколыхнувшей обществен-
ное сознание всех европейских стран, в том числе и Австрии.
12
В творчестве Эрнста Вайса (1884—1940), — хотя и дружив-
шего с Кафкой, но внимательно прислушивавшегося к веяпиям
другой, далекой от модерпизма Праги — Праги Киша, Фюрнберга
и Вайскопфа (оба последних впоследствии связали свою жизнь
с ГДР), а также к Праге Гашека и чешских писателей-коммуни-
стов, — в творчестве этого автора исконно реалистическая линия
прежде, чем у всех других писателей, примыкавших к экспрессио-
низму, преодолела «детскую болезнь левизны». Врач-психолог,
Вайс с блеском использовал свои профессиональные знания в
новеллах; однако, несмотря на скрупулезность описаний, несмо-
тря на увлечение этим новым для литературы материалом, под-
линным предметом художника обычно было не запечатлепие
натуралистической болезни плоти, но вскрытие глубинной соци-
альной болезни («Шов на сердце»).
Своего хронист литературная жизнь Праги нашла в лице
Иоганнеса Урцидиля (1896—1970), посвятившего ей немало но-
велл. Но случилось это много времени спустя, после того как
страсти тех лет давно отшумели. Свои лучшие новеллы-воспоми-
нания (к которым принадлежит и история «Ребро моей бабуш-
ки») Урцидиль издал уже в США, будучи в преклонном возра-
сте, в начале 60-х годов.
Влияние фантастической линии пражской школы нашло
отражение в творчестве Франца Набля (1883—1974), писателя,
также чрезвычайно медленно созревавшего и вполне оцененного
лишь после своей смерти. Но как иронична, как переосмыслена
эта фантастика в его по видимости традиционной «новелле ужа-
сов». Показательна «Третья рука», созданная уже в 30-е годы.
Последний трезвый абзац этой новеллы сразу снимает все на-
пряжение читателя. История о таинственной «третьей руке»,
«руке-убийце», с начала воспринимаемая как болезненный бред
героя, а потом все более переходящая в фантасмагорическую
реальность, вдруг переосмысляется: возникает вероятность,
что таким ловким способом рассказчик всего лишь отпугнул
конкурента на выгодную должность. К чему не прибегают в
этом мире в борьбе 8а «место под солнцем»! — в глубине души
усмехается писатель.
Так по-разному эволюционизировала немецкоязычная литера-
турная школа, сложившаяся в Праге в конце 10-х—начале 20-х
годов и вобравшая в себя самые противоречивые и разнонаправ-
ленные тенденции (от декаданса до стремления к последова-
тельному зрелому реализму); школа эта была и остается для
исследователей полем особенно напряженных эстетических а
идеологических битв.
13
* * *
В ноябре 1918 года Австро-Венгерская монархия закончила
свое существование. Империя распалась. Национальные языки —
чешский, венгерский, словацкий, хорватский и пр. — освободи-
лись от тягостной опеки, литература па этих языках получила
предпосылки для успешного самостоятельного развития, опираю-
щегося на многовековую традицию. Сфера немецкого языка на
территории бывшей империи сузилась ло собственно Австрии в
ее теперешних границах. Однако понятие «австрийская литера-
тура» — и в этом ее особенность — продолжало оставаться
довольно широким и не всегда вполне определенным: отдельные
писательские судьбы, причем из числа наиболее представитель-
пых (Рильке и другие), тесно связывали ее с литературой не-
мецкой, так что разграничение по национальному признаку
вызывало — и вызывает до сих пор — ожесточенные споры. Вос-
торжествовавшая в конце концов в ГДР тенденция считать ав-
стрийскими писателями всех выходцев с территории бывшей
Австро-Венгрии, пишущих по-немецки, обладает важным и неос-
поримым достоинством простоты и надежности. Она до сих пор
сохраняет свое значение, так как многое известные австрийские
писатели и по сей день живут sa границей (Ильзе Айхингер,
Фриц Хохвельдер и многие другие).
Тематически австрийская литература после 1918 года прочно
связывается с отдельпыми вехами в истории республики. К ним
прежде всего относятся: восстание рабочих 1927 года, жестоко
подавленное социал-демократическим правительством, как и по-
следовавшее семью годами позже шуцбундовское восстание,
нашедшее широкий резонанс в литературе (в том числе и не-
мецкой: «Путь через февраль» А. Зегерс); нарастание фашист-
ской угрозы — от первого фашистского путча 1934 года до
насильственного присоединения к гитлеровской Германии в
1938 году; затем освобождение страны Советской Армией и Госу-
дарственный договор 1955 года, обеспечивший суверенные права
австрийскому государству, проводящему политику миролюби-
вого нейтралитета.
Все эти события, катастрофы, перемены отражаются в
таком жапре, как новелла, не всегда прямо, непосредственно,
но они заостряют взгляд и направляют руку .писателей, за-
ставляют их уходить от пустяков, от безделок и на небольшом
пространстве, в маленьких историях ставить глобальные во-
просы. Даже традиционно свойственные новелле фантастические
влемепты, черты притчи используются для того, чтобы говорить
о самом главном, о самом общем.
14
В области духовной культуры развал Австро-Венгерской мо-
нархии вызвал духовную сумятицу, выплеснувшую на поверх-
ность множество разнонаправленных литературных школ, школок
и систем. Интеллектуальный и художественный ландшафт пер-
вых лет после этого события представлял собой довольно хаоти-
ческую картину. Всё сопрягали со всем, смешивая несовмести-
мое. Характерный образчик взбудораженного эклектизма тех лет
являл собой журнал «Спасепие», который издавали Ф. Блей и
А.-П. Гютерсло. Однако вскоре запальчивые и страстные теоре-
тизирования и утопические прожекты стали уступать место трез-
вому размышлению и анатомически точному анализу, отвечав-
шему требованиям так называемой «новой вещности», как
назвало себя главенствующее течение 20-х годов, безусловно
стремившееся к большей передаче жизни — реальной, грубой
жизни, «как она есть», — хотя и не всегда достигавшее цели.
Австрийской республике предстоял отнюдь не простой и не
легкий путь. Правительственная чехарда и унаследованный от
старой монархии бюрократизм мало способствовали стабилизации
государства, сотрясаемого мощными толчками народного гнева,
вспышки которого были особенно сильны в 1927 и 1934 годах. Но
как ни тревожно было двадцатилетие, между 1918 годом — обра-
зованием республики — и 1938 годом — самой мрачной страни-
цей в ее короткой истории, пресловутым «аншлюсом», — как ни
обременительны былп для многих писателей житейские нужды,
связанные с анархией, инфляцией, знаменитым кризисом 1929 го-
да, — это время хотя бы иллюзорного мира и обманчивого спо-
койствия принесло, по крайней мере, физическую возможность
писателям «творить ремесло» — основательно, неустанно, кро-
потливо шлифуя слово и мысль. А мысль ведущих австрийских
писателей той поры обращалась чаще всего к причинам и исто-
кам ситуации, в которой они оказались, — в сторону растаявшей
в исторической дымке громады, к Австро-Венгерской империи,
обстоятельства гибели которой вырастали в их сознании до мас-
штабов общемировой катастрофы, сопровождаемой распадом всех
ценностей.
Двадцатилетняя передышка, предоставленная австрийским
писателям историей для выяснения «условий человеческого су-
ществования», была использована на редкость продуктивно. Для
австрийскою романа, во всяком случае, не было более золотой
поры: в лице Броха. Музиля, Рота, Додерера Австрия впервые
со времени Штифтера обрела романистов большого масштаба.
Значительными достижениями ознаменованы эти годы а в
области австрийской новеллы. И здесь в первую очередь следует
назвать те же имена писателей, для которых опыты в жанре
15
малой прозы были как бы «ппудилми», подготовкой к их боль-
шим романным полотнам. Писатели эти были свидетелями или
участниками всех главных литературных устремлений начала
века. Утонченность венцев была им внятна так же, как и экста-
тические порывы пражан, но и то и другое они расплавили в
тигле горького исторического опыта первой мировой войны и об-
щественных неурядиц 20-х годов, научивших их избегать чрез-
мерной красивости одних и напыщенности других. Безусловно,
их творчество зачастую подвержено влияниям различных фор-
малистических школ, однако в целом литература тех лет в ряде
наиболее значительных своих произведений вновь обнаруживает
заметный поворот к строгому реалистическому стилю.
Непопятный и почти не услышанный современниками Ро-
берт Музиль (1880—1942) ныне по праву считается классиком
современной австрийской литературы. Художественный мир этого
писателя возник на стыке образности и философского анализа,
это — сложное и противоречивое явление, показательное для
развития вападной интеллектуальной прозы в целом и вобравшее
в себя многие художественные тенденции XX века.
Создавший в романе «Человек без свойств» «универсальную
энциклопедию всей духовной жизни индивида», Музиль с особым
тщанием относился к исследованию «глубинной» жизни человека,
«глубин и бездн его души и духа». Инструмент, которым on
пользовался в этих исследованиях, — ratio, интеллект, высочай-
шее напряжение и тончайшие ходы которого образовывали ор-
ганическое единство с наглядностью художественного образа.
В австрийской литературе Музиль — один из самых могучих
оппонентов Фрейда. Подобно выдающемуся австрийскому крити-
ку и публицисту Карлу Краусу, сказавшему, что «фрейдизм —
это та самая болезнь, sa терапию которой он себя выдает», Му-
зиль видел сущность человека в неразрывном единстве инстинк-
та, воли и разума, причем таком единстве, в котором «акту
образования идей» — мышлению принадлежит ведущая роль.
Всяческие аномалии, патологические нарушения этого един-
ства хотя и составляли предмет неустанного внимания и иссле-
дования Музиля — художника и мыслителя, но они не имеют,
по Музилю, жизненных перспектив. Так погибает в его новеллах
Гомо («Гриджия») и Топка («Тонка»). В «Португалке» писатель
попытался построить некую модель, создать образ цельного че-
ловека, прибегнув к средневековым человеческим типам.
Герман Брох (1886—1951), посвятивший, как и Музиль,
немалую часть своей жизни точным наукам, в художественном
творчестве склонялся к «симультанному», то есть «одновремен-
ному», отражению разных сторон действительности. Брох, несо-
16
мненно, испытал некоторое влияние авангардизма 20-х годов, он
с увлечением использовал в своих романах и рассказах монтаж
и другие технические приемы, введенные в литературу Джой-
сом, — порой они не раскрывали, а затемняли содержание его
произведений. Схематические «конструкции», с помощью кото-
рых авангардисты 20-х годов надеялись приостановить «распад
действительности», постепенно уступали в творчестве Броха на-
тиску его необыкновенно пластичного и правдивого дара, запе-
чатлевшего себя в картинах социальной розни австрийского об-
щества («Рассказ служанки Церлины») и в исторических новел-
лах, с их прозрачным антифашистским подтекстом («Возвраще-
ние Вергилия»). На редкость гибкий и богатый тонкими оттен-
ками язык Броха ставит его на одно из первых Meci в австрий-
ской литературе XX века, изобилующей виртуозпыми стилиста-
ми (Гофмансталь, Рильке, Музиль, Рот, Додерер, Польгар, Краус).
В период между двух войн завоевывает довольно большую
популярность еще один из таких виртуозов стиля — «миниа-
тюрист» Альфред Польгар (1875—1955), унаследовавший отры-
вочную манеру Альтенберга и его любовь к мельчайшим про-
явлениям жизни, к ее печалям. Основу своей манеры Польгар
со свойственным ему лаконизмом выразил в двух фразах этюда
«Взгляд на оркестр сверху»: «Убей мгновенье и пробуди его
вновь. И тогда, каким бы оно ни было прежде, — оно станет чу-
десным, хотя бы благодаря чуду воскрешения». Под этими сло-
вами мог бы подписаться и его предшественник Альтенберг,
но характерна разница, в которой сказалась смена эпох, — от
благодушного и расплывчатого Альтенберга Польгара отличают
трезвость, едкий сарказм и скептицизм. Соглашаясь с венцами,
что никакое слово не в состоянии радикально изменить мир и
писателю остается лишь свидетельствовать, Польгар, однако,
вменяет литературе в обязанность разоблачение лжи, облечен-
ной в звонкую фразу, и тем самым — усовершенствование мира
путем дискредитации фальшивых ценностей. Не будучи талантом
большого масштаба, Польгар все же сумел занять видное место
в современной австрийской литературе, благодаря редкой сло-
весной изощренности, блеску, с которым он писал лаконичную,
с глубоким подтекстом прозу, удачно названную «филигранитом».
На этот же период 20—30-х годов приходится творческий
расцвет такого известного мастера психологической новеллы в
популярного во всем мире писателя, как Стефан Цвейг (1881 —
1942). Именно в это время Цвейг работает над серией своих
знаменитых романизированных биографий и пишет свои лучшие
новеллы. Цвейг — рассказчик этого периода — значительно рас-
ширяет проблематику, не замыкаясь более, как в ранние годы,
17
па анализе тонких, едва уловимых движений женской души.
Его героями все чаще становятся люди из народа, искренняя
любовь к которому никогда не подслащивается у писателя-гу-
маниста сентиментальным сюсюканьем. Подлинное искусство
служит «соединению людей», утверждает Ст. Цвейг, их защите
от неуловимого противника жизни — забвения.
Своеобразной в значительной фигурой был в это время в ав-
стрийской литературе Йозеф Рот. «Лебединую песнь» погибшей
империи, с которой связывались для него воспоминания детства,
он облекал в прекрасную поэтичную прозу — густую, насы-
щенную образами и метафорами, с тонкой ритмической органи-
зацией и чеканным словесным узором. Герой Рота — всегда
«обнаженное сердце», чуткое ко всем граням мира и умеющее
находить поэзию. Таков лирический герой «Апреля», одной из
лучших новелл Рота.
Традиционные формы реализма, унаследованные от XIX ве-
ка, более других сохраняет в своем творчестве Оскар Еллинек
(1886—1969), новеллист, о котором можно сказать, что в своих
лучших достижениях он сумел подняться до уровня крупней-
шего мастера критического реализма в австрийской прозе XIX ве-
ка — Адальберта Штифтера.
Стефан Цвейг, Йозеф Рот, Оскар Еллинек нередко обращают-
ся к самой гуще народной жизни, из которой черпают
непреходящий нравственный идеал. Выразительная лепка народ-
ного женского характера удается Оскару Еллинеку в рассказе
«Мать девяти». Не менее убедительным получается под пером
Еллинека изображение совсем другой социальной среды, но
тоже трудовой и тоже чтущей жертвенность в качестве самой
высокой душевной добродетели («Актер»).
Лучшие произведения австрийской новеллистики середины
века поражают особой, выношенной зрелостью — когда каждая
весьма в весьма плотно заполненная страница, кажется, дышит
самой жизнью, сквозь нее словно проникает физически ощутимая
реальность во всей ее нерасчлененной сложности, во всем нерас-
торжимом единстве внутренней сути и внешних проявлений. Та-
кова история «Новый Кратки-Башик» — необыкновенно емкое
творение маститого Хаймито фон Додерера (1896—1966)
или «Парк, танцовщица и зверь» Франца Теодора Чокора (1885—
19G9), известного австрийского драматурга. Его близкий друг
и не менее известный драматург Эдеп фон Хорват (1901—1938),
творчество которого сейчас переживает бурное возрождение,
представлен в сборнике небольшим и очень австрийским этю-
дом — «Смерть во славу традиций», удачно характеризующим
сатирическую струю в австрийской и о вел л е.
18
Накануне и во время второй мировой войны пышным цветом
расцвел в австрийской литературе так называемый «региона-
лизм», «местничество», во многом опирающееся на натурализм
прошлого века. Традиционные, нередко фольклорные, персонажи,
стройная фабула, дотошное описание внешних деталей, натура-
листическая фото- и фактографичность, прозрачная мораль
бесхитростного повествования, ясность, связность, последователь-
ность — вот отличительные признаки такой прозы. Непритяза-
тельная, рассчитанная на широкого читателя проза региона ли-
стов и заслуживала бы, может быть, снисходительного отношения,
если бы многие писатели этого цеха не запятнали себя сотруд-
ничеством с фашистами, а ныне — своим ретивым служением
их последователям. Поэтому все зпачительные австрийские пи-
сатели, придерживавшиеся, как правило, гуманистической анти-
фашистской ориешации, резко полемизировали с «регионалиста-
ми». Большинство австрийских писателей после 1938 года
отправились в эмиграцию — в Женеву, Париж, Лондон, Нью-
Йорк, чтобы вместе с немецкими писателями-эмигрантами при-
нять участие в антифашистской борьбе,
* * *
За годы второй мировой войны австрийская литература по-
несла значительные потери. Добровольно или под бремепем
невзгод, лишений, депрессии, преследований ушли из жизни
Р. Музиль, Ф. Верфель, Й. Рот, Ст. Цвейг, Э. Хорват, Р. Шау
каль, Г. Фридль и другие видные литераторы. В 1945 году в
австрийскую литературу вступили новые силы. Значительная
часть их группировалась вокруг журнала «План», издававшегося
Отто Базилем. Именно в этом журнале был напечатан привлек-
ший всеобщее внимание «Призыв к недоверию» Ильзе Айхингер
(род. в 1921 г.), — страстный, по-бюхнеровски огненный памфлет
юной писательницы, с решительным радикализмом требовавшей
«диктатуры совести и разума» во избожание последующих ката-
строф. Этот призыв Герберт Айзенрайх (род. в 1925 г.) назове*]
впоследствии «отправной точкой целого поколения», а Герхард
Фрич в 1967 году вынесет в заголовок объемистой антологии,
призванной суммировать итоги и достижения передовой после-
военной австрийской литературы и искусства. В «Плане» впервые
выступили такие ныне известные писатели, как Ганс Леберт
(род. в 1919 г.) и Пауль Целан (1920—1970). В издававшейся
Гансом Вайгелем в 50—60-е годы серии «Современные голоса»
были »первые напечатаны многие видные современные австрий-
ские писатели.
19
Довольно большая группа писателей первых послевоенных
лет испытывала сильное влияние творчества Кафки, которое,
реализуясь в поэтике даже наиболее удачных произведений, ос-
тавляло впечатление явной зависимости и даже эпигонства.
Однако постепенно, примерно уже с середины 50-х годов, стали
формироваться иные тенденции, опирающиеся па другие идейно-
поэтические аспекты обширного и разностороннего «австрийско-
го наследства». Так, например, многих увлекал рапсодический
стиль Броха, его стремление в «пируэте слова» обнять основные,
глубинные вопросы человеческого бытия. Стремление уловить
смысл, назначение, ценность жизни, любви, смерти вдохновляло
Ильзе Айхингер в работе над ее известной, ставшей хрестома-
тийной «Зеркальной новеллой», стилистически одном из наибо-
лее совершенных произведений современной немецкоязычной
прозы.
Заметные отблески чисто рилькевского света и тепла, идущего
от овеянных тончайшей поэзией воспоминаний детства, лежат
на прозаических зарисовках Ингеборг Бахман (1926—1973), даже
тех, что проникнуты глубоким ощущением кризиса человечности
в ожесточившееся время — время острейших социальных проти-
воречий («Всё»).
И. Айхингер и И. Бахман первыми из австрийских литерато-
ров были удостоены премии «Группы 47» — объединения про-
грессивных западногерманских писателей. Международное
признание получил вскоре и Герберт Айзенрайх — лауреат Италь-
янской премии, присужденной ему за радиопьесу «Чем мы жи-
вем и от чего мы умираем». В своих новеллах, вошедших в сбор-
ники «Приглашение жить отчетливо», «Прекрасный злой мир»
и «Так сказать, любовные истории», опираясь на «русскую тра-
дицию», связанную для него с именами Толстого и Достоевского,
он ставит проблемы совести в мире, который стал, как гласит
название одного из рассказов Бахмап, «миром убийц и безум-
цев». Герберт Айзенрайх постоянно пишет о причинах, истоках
и формах «праведной» и «неправедной» жизни в современном
мире, не находя, однако, конкретных путей к его преобразова-
нию («Приключение, как у Достоевского»).
В середине 50-х годов, когда уже складывалось впечатление,
что наиболее существенные вехи в современной австрийской
литературе обозначены именами Айхингер, Бахман, Айзепрайха и
некоторых других писателей того же поколения (Ганс Леберт,
Герхард Фрич, талантливая и рано скончавшаяся Герта Крефт-
нер; 1928—1951), появились сразу привлекшие к себе внимание
романы Жоржа Зайко (1892—1962) и уже упоминавшегося Хай-
20
мито фон Додерера, и стало ясно, что дыхание большой лите-
ратуры 30-х годов еще не иссякло, традиции Музиля и Броха
продолжены. Причем применительно к Додереру можно говорить
не только о продолжении традиции, но и об известной полемике
с Музилем; в отличие от предшественника, Додерер упрямо ут-
верждал, что «нужно мыслить согласно жизни, а не жить со-
гласно мысли», и основное внимание уделял чувственному, непо-
средственному восприятию действительности.
В своих теоретических статьях Додерер требовал от художе-
ственной прозы следующих качеств: иллюзии «физического
присутствия», то есть атмосферы живой жизни; паличия «идей-
ных перил» — мысли, соседствующей с образом, но не подав-
ляющей его (в чем Додерер порой упрекал Музиля); а также
свежести языка, стремления к тому, чтобы каждое предложение
было как бы вновь найденной «химической формулой» языка.
Этими качествами вполне обладают его собственные романы и
рассказы послевоенного времени, хотя он нередко рисует в них
фигуры острогротескные, условные и загадочные — поэтому,
говоря о нем, критики обычно не обходятся без слова «барокко».
Следы этого интереса к тайые можно найти и в новелле «Новый
Кратки-Башик» и в других рассказах, написанных с обычным
у Додерера словесным совершенством.
Новеллы Жоржа Зайко, питающего глубокое пристрастие к
проблемам психоанализа, все же, уступают его романам. Зайко,
как и Додерер, как и весьма многосторонний Александр Лернет-
Холения (1897—1977), составил себе репутацию прежде всего
как романист, и тем не менее новеллистика этих авторов за-
метна в послевоенной панораме австрийского рассказа.
Вслед за Гютерсло в последние годы были неожиданно
открыты и другие весьма интересные писатели старшего поко-
ления, — например, Фриц Герцмановский-Орлапдо (1877—1954),
с его романами и новеллами в потешном или, как говорят в
Австрии, «скуррильном» стиле. В этом ряду необходимо
назвать также видного романиста о публициста Элиаса Канетти
(род. в 1905 г.), автора широко известного на Западе антифашист-
ского романа «Ослепление» (1935). Он, хотя и не пишет коротких
новелл, значительно повлиял на группу молодых литераторов,
сплотившихся вокруг разносторонне одаренного, хотя и противо-
речивого писателя Ганса Карла Артмана (род. в 1921 г.), нередко
увлекавшегося модными языковыми экспериментами. Эти веяния,
однако, проявились прежде всего в его поэзии и практически
не загропули его новелл, занимающих видное место в совре-
менной австрийской литературе.
Столь распространенные на Западе формалистические опы-
21
ты, хотя и увлекали некоторых молодых литераторов, никогда
не являлись в послевоепной австрийской литературе преобладаю-
щими, «задающими тон». Уже в 1964 году они встретили друж-
ный отпор со стороны писателей реалистического направления,
наиболее авторитетные представители которых паписали совмест-
ное письмо в редакцию «Борт ин дер цайт», выражая свою оза-
боченность по поводу юных «вандалов», пренебрегающих святыми
для каждого истинного художника моральными обязательства-
ми, которые приносятся ими в жертву келейно-эстетским словес-
ным ухищрениям.
Существенным противоядием неоавангардизму явилась сама
практика прогрессивно настроенных писателей Австрии. Такие
литераторы, как Айзенрайх, Айхингер, Бахмап, Леберт, Фридль,
создали в эти годы, опираясь на лучшие характерно австрийские
традиции реалистической сатиры, выразительный портрет «госпо-
дина Карла», в котором разоблачается присущий моральному
климату этой страны буржуазный оппортунизм — не только в
социально-политическом, но и в более широком значении отого
слова. Особенно отметим в этой связи Германа Фрпдля
(род. в 1920 г.), автора рассказа «Свадьба» и по основной про-
фессии сельского врача, одного из немногих представителей «де-
ревенской прозы» в современной австрийской литературе.
Однако в целом австрийская литература (особенно проза, в
том числе и новелла) переживала в 50—60-е годы отнюдь не
период расцвета. Обозревая ее путь за последние три четверти
века, можно постоянно констатировать взлеты ее и падения, как
это и естественно для живого, диалектического процесса разви-
тия; внутри общего немецкоязычного ареала австрийская литера-
тура то выдвигалась на первый план (в 900-е или 30-е годы), то
пребывала в тени, казалась провинциальной.
Очередной отчетливо заметный подъем австрийской литера-
туры пришелся на 70-е годы. Это и закономерно. В конце 60-х го-
дов по многим странам Западной Европы прокатилась волна
анархистского молодежного бунта, на гребне которой расцвел
авангардизм. Молодое, вновь вступившее в литературу поколение
дружно развенчивало «буржуазные», то бишь реалистические,
традиции литературы, противопоставляя им формалистические
«тексты», «коллажи», «хеппенинги» и т. п. Такой была ситуация
и в Австрии, где особенно активной была группа молодых —
«Форум Штадтпарк» в Граце, в которой начинали такие замет-
ные писатели, как Петер Хандке, Барбара Фришмут, Альфред
Коллерич, Петер Розай, Герхард Рот и другие.
К пачалу 70-х годов студенческие волнения улеглись, а вме-
сте с ними резко пошла на спад и волна авангардизма. На
22
смену анархистскому угару пришло трезвое осознание социаль-
но-политической ситуации на Западе, на смепу формалистиче-
ским трюкам — новое обретение реалистического языка. Зна-
чительной вехой здесь явилась повесть лидера этого поколения,
Петера Хандке (род. в 1942 г.) «Нет счастья—нет желаний» (1972),
сборник произведений которого уже появился на русском языке
в издательстве «Прогресс». Петер Хандке попытался на примере
судьбы своей магери воссоздать судьбу многих ее сверстников
и в конечном счете — типично австрийскую судьбу. Вслед за
Хандке, или параллельно с ним, отходила от ранних формали-
стических увлечений и открывала для себя реалистическое письмо
Барбара Фришмут (род. в 1941 г.), писательница, уже создавшая
себе имя в литературе и сумевшая, вслед за Бахман, в серии
рассказов дать выразительную картину нелегкой женской доли
в «потребительском обществе». Уже в названии новеллы «Время
читать Чехова» — весьма показательно тяготение мастеров ав-
стрийской прозы к плодотворным традициям классической рус-
ской литературы. Характерно, что писатели Герхард Рот и Петер
Розай освапвакл применительно к реалиям новой действитель-
ности традиционную австрийскую миниатюру. Все больше в
творчестве многих молодых, слово обретает весомость, значимость;
за счет некоторой нарочитой наивности, непосредственности рас-
сказа достигается свежесть, оригинальность восприятия.
В конце 60-х — начале 70-х годов завоевал широкую извест-
ность s снискал множество литературных премий весьма ода-
ренный и оригинальный писатель, несколько старший годами,
чем Хандке, Фришмут и их сверстники. Это Томас Бернгард
(род. в 1931 г.), художник гораздо более трагичпого, пессимисти-
ческого настроя, глубоко разочарованный в буржуазной куль-
туре, в современном буржуазном обществе, живущий в нем особ-
няком и держащийся в стороне от литературных групп. Главная
тема Бернгарда — прослеживание и разоблачение механизма
«массовой культуры», «массового психоза». Его «Мидленд в
Стильфсе» — рассказ условный, полуфантастический — с боль-
шой силой передает обнаженную боль писателя по поводу
развращения людей в современном «высокоорганизованном» ми-
ре, по поводу кризиса культуры, деградации интеллигенции, де-
градации человечности.
За всем этим разнообразием имен и веяний в австрийской
литературе 70-х годов проступает гларная тенденция: пресытив-
шись разнообразными поисками того, как следует изображать, ли-
тература в основном вернулась к главной проблеме — что имен-
но изображать и зачем, а также к глубокому убеждению в
серьезной ответственности писателя перед своим народом.
23
Все более широкое и закономерное развитие получает в Ав-
стрии аа последние годы «рабочая литература», ставящая своим
долгом правдивое отображение социальных противоречий и соци-
альной борьбы. Это течение связано с именами уже известного
советскому читателю Михаэля Шаранга, с «рабочими романами»
Гернота Вольфгрубера и Франца Инперхофера, творчество кото-
рых по своему художественному уровню вполне сопоставимо с
лучшими достижениями «рабочей литературы» ФРГ. В области
новеллы успешно выступает известный писатель-коммунист, так-
же автор ряда романов, Франц Каин. Примечательна его напи-
санная уже в начале 70-х годов новелла «Как мой отец Габсбур-
гам добром отплатил», действие которой к тому же происходит
в России. Снова взята традиционная тема Габсбургов, но как свеж
направленный на них трезвый, насмешливый, уничтожающий
взгляд рассказчика ид народа. Это произведение по праву завер-
шает сборник — в нем мы ощущаем классовый, революционный
подход писателя, надежду и веру в будущее, что так важно и
так необходимо для дальнейшего плодотворного развития
австрийской литературы.
Ю. Архипов
Петер Альтенберг
"W
(1859-1919)
Посещение
Молодая женщина, которую я давно уже чту как свя-
тую за смирение и кротость, пришла навестить меня во
время болезни, бледная и расстроенная.
Она рассказала, что ее муж, который всегда приносит
себя ей в жертву, страдает воспалением лицевою нерва
и хочет пойти на смертельно опасную операцию — с ее
согласия. Она не знала, надо ли ей соглашаться. «Надо,
не надо, надо?.. Кончится тем, что я начну гадать по пу-
говицам на платье...»
Я лежал, измученный болью, она поникла головой на
руки.
Потом сказала:
— Забавная все-таки штука — жизнь, правда, Пе-
гер?
И я увидел слезы, — быть может, самые жаркие, са-
мые отчаянные из всех, которые были когда-нибудь
пролиты.
Через три дня опа снова сидела у моей постели.
— Петер, я ему разрешила, и он умер от этого. За-
бавная все-таки штука — этот мир, правда, Петер?
Я лежал, измученный болью...
И я гадал по ее пуговицам, — что 1адал, п сам не
знаю: надо, не надо, надо?!
25
Лоскутки шелка
Я написал в модный магазин Г.: «Несколько дней
назад моя подруга, тринадцатилетняя святая с пепель-
ными волосами, серыми глазами и черными-черными бро-
вями, разложила передо мной на пропыленной лужайке
у автомобильной дороги штук десять невзрачных лоскут-
ков шелка и сказала: «Какой самый красивый? Правда,
вот этот — серый с лиловой ниткой?..» Я спросил, зачем
ей эти лоскутки, она отвечала: «Их так трудно раздобыть!
У моей подружки есть сестра, она работает в Вене, в
портняжной мастерской. Подружка меня любит, вот она
и дала мне целых десять штук. А другим девочкам мы
говорим, что это тряпочки, чтобы вытирать перья. Ведь
если бы они узнали, что лоскутки совсем ни для чего, а
просто так, для удовольствия, они бы очень огорчились,
что у них нет таких же...»
В ответ модный магазин Г. прислал мне для моей
тринадцатилетней приятельницы картонку с яеликолеп-
ными остатками и обрезками шелка — самого красивого,
японского, индийского. Вечером па лужайке собралось
десять девочек, они сели на корточки в кружок, посре-
дине — моя приятельница, фанатически чтимая дочка
сапожника, со своей картонкой. Она царила в этом сало-
не. Каждый лоскуток она высоко поднимала, показывала
всему кружку онемевших от изумления, погруженных в
восхищенное созерцание девчушек. Самая старшая ска-
зала:
— А можно от каждого лоскутка купить столько ма-
терии, чтобы хватило на платьице?
— Дура, зачем тебе это? Разве лоскутки не красивей
так? — возразила моя тринадцатилетняя святая. Авто-
мобили богатых окутывали лужайку и улицу городка гус-
тым облаком белесой пыли, зато облака на небе заходя-
щее солнце украсило алыми разводами. Тогда моя прия-
тельница закрыла коробку:
— На сегодня, дамы и господа, представление окон-
чено... — Она поставила картонку на пепельную головку
и сказала, обращаясь ко мне: — Сегодня я буду спать
крепко и сладко и видеть хорошие спы, только не про
вас, а про ваши чудеспые лоскутки...
26
Летней ночью в Вене
После утомительных, унизительных часов, когда они
зарабатывают на жизнь продажей цветов и шампанского,
девушки из «Английского сада» приходят в кафе как не-
зависимые дамы, ради собственного удовольствия, —
словно превратившись в один миг из прислуживающих
рабынь в царевен. Никто больше не вправе подумать о
них: «Вот назойливые существа», — или даже высказать
прямо: «Не докучайте нам, пожалуйста!»
Теперь они дамы, они милостивы или пет по собст-
венной воле, по собственной прихоти. С трех часов попо-
луночи господин Карл играет тут на скрипке — так слад-
ко, так нежно. Валли выходит танцевать, и Штефи, и
Терчи. Каждая — совершенство в своем роде. Валли тан-
цует, как изливается в танце больная и страстная душа
в жажде спасения. Часто — со слезами на глазах, взы-
вая о помощи. Штефи танцует со стихийностью детства—
безудержно, поразительно, неустанно. Терчи танцует,
как танцуют венские девы радости па рельефе памятни-
ка Штраусу и Ланнеру в Ратуптиом парке. Это она, вер-
но, была моделью поразительно нежных рельефов Зей-
ферта. Особенно выражение ее лица. Эта отрешенность
в радости танца.
Они полны романтических бредпей, и фантазий, и
неутолимых влечений, и порывов доброты, эти девушки.
Звуки кекуока или польской мазурки освобождают в них
артистическую грацию. И понимаешь, что героическое
любовное легкомыслие заставит их, если будет случай,
броситься в бездпу и разбиться — без звука жалобы,
только удивляясь собственной судьбе.
Так кто захочет стать их спасителем, защитником,
опекуном?
Кто почтительно и благоговейно оценит их артистиче-
ские достоинства?
Мужчина туп и глуп, его усталая и тоже разочаро-
ванная душа ленива.
Оттого и гибнут такие девушки. От гого зла, что сде-
лали мужчине девушки хуже этих. И он вымещает зло —
на самых лучших среди них.
Помимо того, сегодня любому стыдно прийти в вос-
торг, выйти на миг из себя, быть вне себя. Каждому в
борьбе за существование приходится хранить свое облез-
27
лое достоинство, не ропять своего положения. Приносить
в жертву лжи свою искренность.
А вот соблюсти достоинство и выразить дружеское
восхищение — до этого никому пет дела! Никому не хва-
тает мужества подглядеть и открыть в паших девушках
их глубокий артистизм. Ведь па них нет клейма фирмы
à la Клео де Мерод, Отеро, Лина Кавальери или Паке-
ретт1. Ради девушек, торгующих цветами, ради девушек
с шампанским никто еще не прилагал стараний. Их соб-
лазняют, ими пользуются, а потом отбрасывают их прочь,
как скорлупу рака или корку лимона. Мужчины, трус-
ливый, пронырливый сброд! Значит, вам хватает муже-
ства восхищаться только безмерно оплачиваемыми звез-
дами? Почему? Потому что некий директор варьете пла-
тит им по шесть тысяч крон в месяц? Это, только это
толкает вас, полоумных, делать долги и совершать пре-
ступленья?
Как неописуемо трогательно Валли, Штефи и Терчи
безвозмездно преподносят свое искусство зрителям — в
кафе, в три часа пополуночи. Всем дивам подмостков
нечего и мечтать о таком впечатлении. Тут чувствуешь
человеческую судьбу. Молчаливую нужду сердца и ря-
дом — вопиющее отчаяние. Все это выпущено на волю
алкоголем и музыкой. Обрело свободу в порабощенном
сердце.
В промежутках — сладко и нежно — поет скрипка:
«Мадригал», или «Ouvres tes yeux bleus»2, или «Когда
нам лучше всего, мы должны разлучиться».
Терчи, у тебя идеальные ножки, самые изящные на
свете, в тебе — прелестнейшая венская грация!
Валли, ты танцуешь муки и страдания души!
Штефи, ты — королева танца, ликующая и гордели-
вая, только теперь ставшая сама собой!
От трех до пяти утра вы раздариваете ваш благород-
ный артистизм. В «Английском саду» вы были служащи-
ми, продавщицами, рабынями. Здесь вы — независимые
дамы, помимо вашей воли, бесцельно. Благородные, пре-
лестные, гениальные танцовщицы! Спаси и благослови
вас бог!
Знаменитые красавицы начала века.
«Открой свои сипие глазки» (фр.)>
Jh.,
Apmyp Шницлер
(1862-1931)
Жена мудреца
Я пробуду здесь долго. Над курортным городком, рас-
кинувшимся между морем и лесом, нависла глубокая,
благотворная для меня скука. Все тихо и неподвижно.
Лишь белые облака медленно плывут по небу; но ветер
гуляет так высоко над волнами и макушками деревьев,
что море и лес не шелохнутся. На этом курорте все вре-
мя чувствуешь себя в глубоком одиночестве, даже на
людях — в отеле, на променаде. Оркестр играет большей
частью грустные шведские и датские песни, но и веселые
пьесы звучат у пего вяло и приглушенно. Закончив, му-
зыканты молча спускаются по ступенькам с эстрады и
медленно и печально исчезают со своими инструментами
в аллеях.
Этот листок я пишу, плывя в лодке вдоль берега.
Берег отлогий и зеленый. Незатейливые дачи с са-
дами; в садах, у самой воды, — скамейки; за домами —
узкая белая дорога, за дорогой — лес. Поднимаясь по от-
логому склону, он уходит вдаль, и там, где кончается лес,
стоит солнце. Его закатные лучи озаряют узкий желтый
остров, вытянувшийся вдали. Лодочник говорит, что ту-
да можно добраться за два часа. Надо бы как-нибудь
побывать там. Но здесь становишься удивительно тяже-
лым на подъем; я почти никуда не отхожу от этого ма-
ленького курорта и чаще всего бываю на берегу или у
себя на террасе.
29
Я лежу под буками. Никнут отяжелевшие от полуден-
ного зноя ветви деревьев; по временам я слышу шаги на
лесной тропинке, но людей пе вижу, — я замер, устре-
мив взор в небо. Я слышу и звонкий смех детой, по без-
молвная тишина, разлитая вокруг, тут же поглощает все
звуки, и едва они умолкнут, как уже кажутся чем-то
давним и далеким. Стоит мне закрыть на миг глаза, и я
просыпаюсь, как после долгой ночи. Так я ускользаю от
самого себя и растворяюсь как частица прироцы в этом
великом покое.
Прощай мой бесценный покой! Не найти мне его те-
перь ни в лодке, ни под буками. Все вдруг словно бы
стало ипым. Мелодии оркестра звучат задорно и весело,
прохожие оживленно разговаривают, дети кричат и сме-
ются. Даже милое А:оре, казавшееся таким безмолвным,
почью с шумом плещется о берег. Жизнь снова зазву-
чала для меня. Впервые я уезжал из дому с таким лег-
ким сердцем; я пе оставил там ничего незавершенного.
Я получил звание доктора; окончательно похоронил ил-
люзию о своем артистическом призвании, спутницу всей
моей юпости, а фрейлейп Дженни стала супругой часов-
щика. Так мне выпало редкое счастье отправиться в путь
без иллюзий и не покидая любимой. Сознание того, что
эта глава моей жизни осталась позади, придавало мне уве-
ренность и спокойствие. И вот — прощай покой: приеха-
ла фрау Фридерика.
Поздним вечером у меня на террасе: я поставил на
стол свечу и пищу. Пора наконец разобраться во всем
этом. Вот мой разговор с нею, первый через семь лет —
первый после того часа...
Это было на взморье, в полдень. Я сидел на скамейке.
Иногда мимо проходили какие-то люди. На пристани
стояла женщина с маленьким мальчиком; так далеко, что
я даже не мог разглядеть черты ее лица. Впрочем, я не
обратил на нее никакого внимания; она простояла там
довольно долго — вот все, что я знал, когда она поки-
нула наконец пристань и направилась в мою сторону.
Мальчика она вела за руку. Теперь я увидел, что она
молода и стройна. Ее лицо показалось мне знакомым.
Когда между нами оставалось шагов десять, я быстро
30
встал и пошел ей навстречу. Она улыбнулась, п я
узнал ее.
— Да, это я, — сказала она, протягивая мне руку.
— Я сразу узнал вас, — сказал я.
— Надеюсь, это было не слишком трудно? — сказа-
ла она. — А сами вы, пожалуй, тоже ничуть не изме-
нились.
— Семь лет... — промолвил я.
Она кивнула.
— Семь лет...
Наступило молчание. Она была очень хороша. Вот
по ее лицу скользнула улыбка: она обернулась к маль-
чику, которого продолжала держать за руку, и ска-
зала ему:
— Подай господину руку.
Малыш протянул мне ее, но даже не посмотрел на
меня.
— Мой сын, — сказала она.
Это был красивый смуглый мальчик со светлыми
глазами.
— Как все же приятно, что можно вот так встретить-
ся, — начала она. — Никогда бы не подумала...
— И как странно, — сказал я.
— Почему? — спросила она с улыбкой, первый раз
спокойно встречаясь со мной взглядом. — Лето... Все
ведь путешествуют?
На языке у меня вертелся вопрос, где ее муж, но за-
дать его я не решился и только спросил:
— Вы долго пробудете здесь?
— Две недели. Потом я встречусь в Копенгагене с
мужем.
Я быстро посмотрел ей в глаза, и они простодушно
ответили: «Может быть, это тебя удивляет?»
Мне стало неловко и даже как-то не по себе. Моя
забывчивость казалась мне непостижимой. Я только те-
перь заметил, что в последние годы уже почти не вспо-
минал о том давнем часе, — прошло семь лет! — словно
его и вовсе не было.
— Вы должны будете мпогое рассказать мне, — про-
должала она, — очень, очень многое. Вы, разумеется,
давно уже доктор?
— Не так уж давно — месяц.
— Но лицо у вас все такое же детское, — сказала
она. — Ваши усы как приклеенные.
31
Со стороны отеля назойливо зазвонил колокол, при-
глашая к обеду.
— До свидания, — сказала она, словно только и жда-
ла этого сигнала.
— Разве нам нельзя идти вместе? — спросил я.
— Мы обедаем у себя, в моей комнате; я не люблю
большого общества.
— Когда же мы увидимся?
Она, улыбаясь, показала глазами на аллею вдоль на-
бережной.
— Здесь, кажется, трудно не встретиться, — сказала
она и, заметив, что я задет ее словами, добавила: — Осо-
бенно при желании... До свидания.
Она протянула мне руку и, не оглядываясь, ушла.
Малыш, однако, еще раз обернулся и посмотрел на меня.
После обеда я до самого вечера слонялся по набереж-
ной, но она так и не пришла. Неужели она уехала?..
Впрочем, в этом, пожалуй, не было бы ничего удиви-
тельного.
Прошел депь — я не видел ее. До обеда все время
лил дождь, и, кроме меня, на берегу почти никого не
было. Я несколько раз прошел мимо дома, в котором она
живет, но я не знаю, где ее окна. После обеда дождь
перестал, и я совершил длинную прогулку по прибреж-
ной аллее до соседнего городка. Было пасмурно и душно.
По дороге я ни о чем, кроме тех дней, не мог думать.
Все возникло вновь перед моим мысленным взором. Ра-
душный дом, в котором я жил, и садик с зелеными лаки-
рованными стульями и столами. Маленький город с его
тихими чистыми улицами и далекие, тающие в тумане
холмы. А наверху — бледно-голубое небо, которое так
гармонировало со всем остальным, что казалось, будто
оно только там и могло быть таким бледным и таким го-
лубым. Ожили перед моими глазами и люди: школьные
товарищи, учителя, муж Фридерики. Я видел его не та-
ким, как в тот последний миг, — вот он с добрым, немно-
го усталым лицом идет после школы по улице и привет-
ливо кивает нам, мальчишкам, вот он сидит — чаще всего
молча — за столом между мною и Фридерикоп; там я
часто видел его также из окна своей комнаты; а вот он в
саду за веленым столом проверяет паши тетради. И я
вспомнил, как в сад приходила Фридерика, приносила
ему после обеда кофе и, улыбаясь, смотрела на мое окно-
взглядом, совершенно для меня загадочным... до того по-
32
следнего часа. Теперь я знаю, что часто вспоминал все
это. Но не как что-то живое, а как картину, которая тихо
и мирно висит дома на стене.
Мы сидели сегодня па берегу и разговаривали — как
чужие. Мальчик играл у наших ног камешками и пес-
ком. Ничто, казалось, не тяготило нас: мы болтали, как
два человека, которые встретились на курорте случайно,
ненадолго и которые друг для друга ровно ничего не зна-
чат, — о погоде, местности, людях, потом о музыке и по-
вых книгах. Настроение у меня, пока я сидел с нею, было
самое радужное; но когда опа поднялась и ушла, мне
сразу стало невыносимо тяжело. Хотелось крикнуть ей
вслед: «Оставь же мне что-нибудь», — но она бы даже не
поняла меня. А впрочем, разве я мог ожидать от нее че-
го-либо иного? То, что она была так приветлива со мною
при первой встрече, объясняется, видимо, лишь неожи-
данностью; она, наверное, просто обрадовалась, что в чу-
жой стороне нашелся старый знакомый. А теперь у нас
было время припомнить все; и то, что ей казалось давно
и навсегда забытым, всколыхнулось вдруг с новой силой.
Кто знает, сколько ей пришлось вынести из-за меня и
как она страдает, может быть, даже еще сегодня. Что она
осталась с ним, это мне ясно, а что они помирились —
тому живое свидетельство четырехлетний сын; но можно
ведь помириться, не простив, и простить, не забывая...
Мне кажется, я должен уехать, это будет лучше для нас
обоих.
Весь тот год возникает предо много в странной, гру-
стной прелести, и я все переживаю вновь. В памяти
всплывает одна подробность за другой. Я вспоминаю
осеннее утро, когда, в сопровождении отца, приехал в ма-
ленький город, где мне предстояло закончить последний
класс гимназии. Мне ясно видится школьное здание по-
среди парка с высокими деревьями. Я вспоминаю уют-
ную просторную комнату, в которой безмятежно готовил
уроки; дружеские беседы с профессором о моей будущ-
ности, которые с улыбкой слушала за столом Фридерика;
загородные прогулки с товарищами в ближайшую дерев-
ню; и эти мелочи трогают меня так глубоко, словно в
них вся моя юность. Все эти дни, вероятно, давно покои-
лись бы во мраке забвения, если бы на них не падал
таинственный отблеск того последнего часа. И удиви-
тельнее всего то, что, с тех пор как Фридерика здесь, со
2 Австрийская вовелла XX в. 33
мной, те дни кажутся мне ближе, чем нынешний май, ко-
гда я любил фрейлейн Дженни, ставшую в июне женой
часовщика.
Подойдя сегодня утром к окну и глянув вниз, на боль-
шую террасу, я увидел за одним из столиков Фридерику
и ее мальчика; было рано, и, кроме них, никто еще не
завтракал. Ее стол находился как раз под моим окном,
и я громко пожелал ей доброго утра. Она посмотрела
вверх.
— Вы уже проснулись? Так рано? — сказала она. —
Может быть, сойдете к нам?
Через минуту я сидел за ее столом. Утро было уди-
вительное — прохладное, солнечное. Мы болтали о таких
же пустяках, что и в прошлый раз, но все теперь звуча-
ло по-иному. За нашими словами тлело воспоминание.
Мы отправились в лес. Она начала рассказывать о себе,
о доме.
— У нас все по-ирежнему, — говорила она, — только
сад стал красивее: муж очень следит за ним, с тех пор
как родился сын. В будущем году у нас будет даже своя
оранжерея.
Она разговорилась.
— Вот уже два года, как в городе появился театр;
играют всю зиму, до вербного воскресенья. Я бываю там
два-три раза в неделю, чаще всего с матерью; ато достав-
ляет ей огромное удовольствие.
Малыш, которого Фридерика вела за руку, воскли-
кнул:
— Я тоже в театр!
— Конечно, ты тоже. По воскресеньям, — объяснила
она мне, — днем иногда дают детские спектакли, и тогда
я хожу с ним. Для меня это тоже праздник.
Пришлось кое-что рассказать и мне. Про мои занятия
и прочие серьезные дела она почти не спрашивала, она
больше интересовалась моим досугом и с удовольствием
слушала рассказ о столичных развлечениях.
Нам было весело; о том общем воспоминании мы не
обмолвились ни единым словом, хотя оно, конечно, ни у
нее, ни у меня не выходило из головы. Гуляли мы долго,
несколько часов, и я чувствовал себя почти счастливым.
Иногда мальчик шел между нами, и тогда наши руки
встречались на его кудрях. Но мы делали вид, что не за-
мечаем этого, и продолжали непринужденно разгова-
ривать.
34
Когда я остался один, мое хорошее настроение сразу
улетучилось. Я вдруг опять почувствовал, что ничего не
знаю о Фридерике. Мне было непонятно, почему эта не-
известность совершенно не мешала мне во время нашего
разговора, и казалось странным, что сама Фридерика не
чувствует потребности объясниться. Ведь даже если до-
пустить, что в последние годы они с мужем молчали о
том часе, не могла же она сама забыть о нем. После мое-
го внезапного отъезда произошло, конечно, что-то очень
серьезное — как она могла не говорить об этом? Может
быть, она надеялась, что я сам начну этот разговор? Что
удерживало меня? Та же робость, которая заставила
удержаться от расспросов и ее? Неужели мы боимся кос-
нуться этого? Пожалуй, да. Но рано или поздно нам при-
дется это сделать; до тех пор нас все время будет что-то
разделять. И сознание, что нас что-то разделяет, мучает
меня больше всего.
После обеда я бродил по лесу — теми же тропами,
что утром с нею. Я тосковал, как можно тосковать только
по горячо любимой. Поздно вечером, уже отчаявшись
найти ее где-нибудь, я шел мимо ее дома. Она стояла у
окна. Я окликнул ее, как и она меня утром:
— Может быть, сойдете вниз?
Она холодно, как мне показалось, ответила:
— Я устала. Спокойной ночи, — и закрыла окно.
Когда я думаю о Фридерике, предо мной возникают
дца совершенно различных образа. Большей частью я
фгжу бледную, кроткую женщину в белом капоте, кото-
ш сидит в саду, обращается со мною, как мать, и иногда
таеплет меня по щеке. Если бы я нашел здесь только эту
|Рридерику, мой покой, конечно, не был бы нарушен и
Щ. после обеда лежал бы под тенистыми буками так же,
Цак в первые дни.
Р Но она является мне и совершенно иной. Такой я
видел ее только однажды — в последний час, проведен-
ный мною в том маленьком городе.
&■ В тот день я получил аттестат зрелостп. Я пообедал,
Как обычно, вместе с профессором и его женой, и так как
Щ не хотел, чтобы они провожали меня на вокзал, то,
встав из-за стола, тут же попрощался с ними. Расстава-
ние нисколько не тронуло меня. Лишь потом, когда я сел
в опустевшей комнате на кровать и увидел у своих ног
упакованный чемодан, а за распахнутым окном нежную
2*
35
зелень сада и белые облака, застывшие над холмами,
моей души легко коснулась печаль разлуки. Вдруг откры-
лась дверь. Вошла Фридерика. Я сразу встал. Она при-
слонилась к столу, заведя руки за спину, оперлась о не-
го и, откинувшись назад, устремила на меня серьезный,
внимательный взгляд. Еле слышно спросила:
— Значит, сегодня?
Я кивнул головой и в первый раз от души пожалел,
что мне надо уезжать отсюда. Она стояла, потупив гла-
за, и молчала. Потом вскинула голову, подошла ко мне
и мягко опустила обе руки на мои волосы, как делала ча-
сто и раньше. Но я знал, что сейчас это было совсем дру-
гое. Я чувствовал на себе ее бесконечно нежный взгляд.
Она ласково гладила меня по щекам и со страдальческим
выражением качала головой, словно никак не могла по-
нять чего-то.
— Неужели ты сегодня уедешь? — тихо спросила она.
— Да, —- ответил я.
Она вскрикнула.
— Навсегда?
— Нет, — ответил я.
—• О, я знаю: это навсегда, — горько улыбнулась
она. — Если ты и приедешь к нам когда-нибудь... года
через два или три — сегодня ты уезжаешь от нас на-
всегда.
Она сказала это с нежностью, в которой не было уже
ничего материнского. Дрожь проняла меня. И вдруг она
начала меня целовать. Сначала я только подумал: «Она
же никогда этого не делала». Но когда она чуть не заду-
шила мспя своим поцелуем, я все понял. Смущенный и
счастливый, я едва не заплакал. Она обвила мою шею
руками, и я, словно повинуясь ей, бессильно опустился
в угол дивапа; Фридерика — теперь на коленях у моих
пог — опять прильнула к моим губам. Потом взяла мои
руки и уткнулась в них лицом. Я шептал ее имя и удив-
лялся, какое оно красивое. Аромат ее волос пьянил меня...
Вдруг — я чуть не остолбенел от ужаса — тихо откры-
вается дверь, которая была лишь прикрыта, и на пороге
стоит муж Фридерики. Я хочу крикнуть, но звуки застре-
вают в горле. Я впиваюсь глазами в его лицо, но не знаю,
дрогнул ли на нем хоть один мускул, — дверь закрылась,
и он исчез. Я пытаюсь встать, освободить руки, на кото-
рых все еще лежит голова Фридерики, хочу что-то ска-
зать, с трудом заставляю себя еще раз произнести ее имя,
36
но тут она вскакивает, бледная как смерть, властно шеп-
чет: «Молчи1» — поворачивается к двери и замирает,
прислушиваясь. Потом чуть приоткрывает дверь и смот-
рит в щель. Я стою пи жив ни мертв. Опа широко откры-
вает дверь, берет меня за руку и шепчет: «Иди! Иди бы-
стрее!» Она выталкивает меня, я торопливо крадусь по
недлинному коридору, у лестницы еще раз оглядываюсь
и вижу: в дверях стоит перепуганная насмерть Фриде-
рика и нетерпеливо машет: «Уходи! Уходи!» Я пулей вы-
летаю из дома.
То, что было дальше, мне вспоминается, как кошмар-
ный сон. Гонимый смертельным страхом, я примчался па
вокзал. Я ехал всю ночь, но так и не уснул в купе. При-
ехав домой, я был уверен, что родителям уже все изве-
стно; теплая, радостная встреча почти удивила меня.
Много дней я провел в мучительном волнении, ожидая
чего-то страшного; меня бросало в дрожь от каждого
звонка у двери, от каждого письма. Наконец пришла ве-
сточка, которая меня успокоила, — это была открытка
с безобидными новостями и сердечными приветами от
одноклассника, жившего в том маленьком городе. Следо-
вательно, ничего ужасного не произошло; по крайней
мере, скандал не получил огласки. Я мог думать, что объ-
яснение между супругами происходило с глазу на глаз,
что он простил ее, а она раскаялась.
Тем не менее это первое любовное приключение про-
должало жить в моей памяти как что-то печальное, почти
Мрачное; я казался себе человеком, безвинно наругаив-
шим покой семьи. Постепенно это чувство угасло, и толь-
ко позднее, когда новые переживания научили меня луч-
ше и глубже понимать тот короткий час, на меня иногда
Находила странная тоска по Фридерике, похожая на пе-
ЧАль о несбывшемся чуде. В конце концов тоска тоже
ррошла, и я почти забыл молодую женщину. Но вот опять
роскресло все, что сделало этот простой эпизод событием,
Й теперь оно сильнее, чем тогда, ибо я люблю Фриде-
рйку.
Сегодня мне стало ясно все, что еще в последние дни
казалось таким загадочным. Поздно вечером мы сидели
У моря вдвоем; мальчик был уже в постели. Утром я по-
просил ее прийти сюда самым непритязательным обра-
зом; я говорил только о ночной красоте моря и о том,
37
какое наслаждение всматриваться с уснувшего берега в
непроглядную тьму. Она ничего не ответила, но я знал,
что она придет. И вот мы сидим у моря, почти молча,
руки наши сплелись, и я чувствую, что стоит мне захо-
теть — и Фридерика будет моей. «Зачем говорить о про-
шлом», — думал я; теперь я понял, что она думала так
же со дня нашей встречи. Разве мы остались такими же,
как тогда? Мы чувствуем себя так легко, так свободно;
воспоминания далеки от нас, как птицы, парящие в вы-
соком летнем небе. Может быть, за эти семь лег и у нее
были другие увлечения, — что мне до этого? Сегодня мы
живем настоящим, и нас влечет друг к другу. Может быть,
вчера она была несчастной, легкомысленной — сегодня
она молча сидит со мною у моря, держит мою руку и
жаждет моих объятий.
Я не спеша проводил ее домой, надо было пройти все-
го несколько шагов. Деревья вдоль дороги отбрасывали
длинные черные тени.
— Может быть, покатаемся утром на парусной лод-
ке? — сказал я.
— Хорошо, — согласилась она.
— Я буду ждать на пристани, в семь.
— Куда мы поедем? — спросила она.
— На остров... вон туда, где маяк. Видите ею?
— О да, красный свет. Это далеко?
— Час езды, мы скоро вернемся.
— Спокойной ночи, — сказала она и вошла в дом.
Я ушел. «Через несколько дней ты, может быть, опять
забудешь меня, — думал я, — но завтра будет прекрас-
ный день».
На пристань я пришел раньше, чем она. Маленькая
лодка уже ждала нас; старый Янсен поставил паруса и,
сидя у руля, покуривал свою трубку. Я прыгнул к нему
в лодку. Покачиваясь на волнах, я упивался минутами
ожидания, как утренним нектаром. Дорога, на которую
я пристально смотрел, была еще совершенно безлюдна.
Минут через пятнадцать появилась Фридерика. Я уви-
дел ее издалека; мне показалось, что она идет гораздо
быстрее, чем обычно; когда она взошла на аристань, я
поднялся; только теперь она увидела меня и приветливо
улыбнулась. Наконец она подошла к краю пристани, я
подал ей руку и помог сесть в лодку. Янсен отвязал ка-
нат, и наше суденышко отчалило. Мы сидели, тесно при-
38
жавшись друг к другу; Фридерика взяла меня под руку.
Она была вся в белом, и ей можно было дать восемна-
дцать лет.
— Что интересного на этом острове? — спросила она.
Я невольно улыбнулся.
Она покраснела и сказала:
— По крайней мере, маяк?
— Может быть, еще церковь, — добавил я.
— А вы спросите лодочника...
Она показала на Янсена. Я спросил его:
— Когда построена церковь на острове?
Но он не понимал по-немецки, так что после этой по-
пытки мы еще верпее могли чувствовать себя наедине,
чем раньше.
— А на той стороне, — спросила она, показывая туда
глазами, — тоже остров?
— Нет, — ответил я, — это уже Швеция, материк.
— Лучше бы поехать туда, — сказала она.
— Да, — ответил я, — и остаться там надолго... на-
всегда...
Если бы она сейчас сказала мне: «Давай уедем в дру-
гую страну и навсегда останемся там», — я бы согла-
сился. Пока мы плыли на этой лодке, овеваемые
црозрачным воздухом,—над нами ясное небо, кругом свер-
кающая зыбь, — мне почудилось, что мы королевская че-
та и совершаем увеселительную прогулку, а все, что
прежде определяло нашу жизнь, перестало существо-
вать.
Скоро мы стали различать на острове маленькие до-
мики; все яснее вырисовывалась белая церковь на холме,
который, постепенно поднимаясь, тянулся через весь ост-
ров. Наша лодка летела прямо к берегу. Иногда нам по-
падались рыбацкие челны; на некоторых были убраны
весла, и они лениво покачивались на волнах. Глаза Фри-
Дерики почти все время были устремлены на остров, но
она не смотрела на него. Не прошло и часа, как мы вошли
в гавань, которая была окружена со всех сторон деревян-
ной пристанью и напоминала небольшой пруд.
На пристани стояли дети. Мы вышли из лодки и не
спеша направились к берегу; дети — за нами, но скоро они
отстали. Перед нами лежала вся деревня — не более два-
дцати беспорядочно разбросанных домов. Мы буквально
Тонули в рыхлом буром песке, намытом здесь водою.
Иа солнечном пустыре, спускавшемся к самому морю,
39
висели растянутые для сушки рыболовные сети. Кое-где
у дверей сидели женщины и чинили сети. Через сто ша-
гов мы остались совсем одни. Мы вышли на узкую доро-
гу, которая вела на другой край острова, к маяку. Налево
от нас, за жалкой, все сужавшейся нашней, лежало море;
справа поднимался холм, по гребню которого вилась до-
рога к церкви, оставшейся у нас за спиной. Над всем этим
нависли солнце и тишина. Мы с Фридерикой все время
молчали. Мне и не хотелось разговаривать; было так
приятно идти с нею среди этого безмолвия.
Но она заговорила.
— Неделю тому назад... — начала было она.
— Что?
— Я еще ничего не знала... даже куда я поеду.
Я ничего не ответил.
— Лх, как здесь хорошо! — воскликнула она, взяв
меня за руку.
Она была прелестна; мне так хотелось обнять ее и
поцеловать в глаза.
— Да? — сказал я тихо.
Она промолчала, но сделалась вдруг серьезной.
Мы подошли к домику, пристроенному к башне мая-
ка; здесь дорога кончалась; надо было возвращаться. На
холм вела узкая, довольно крутая тропинка. Я коле-
бался.
— Идемте, — сказала она.
Мы вступили на тропинку, и теперь церковь возвы-
шалась прямо перед нами. Мы направились к пей. Было
очень тепло. Я обнял Фридерику за шею. Ей не остава-
лось ничего другого, как покорно идти рядом, иначе она
скатилась бы вниз. Рукою .я чувствовал, как горят ее
щеки.
— Почему вы все-таки ни разу не написали нам за
все это время? — спросила она вдруг. —- Мне хотя бы?—
добавила она, подняв на меня глаза.
— Почему? — повторил я отчужденно.
— Да!
— Как же я мог?
— Ах, поэтому... — сказала она. — Неужели вы тогда
обиделись?
Я был так поражен, что ничего не мог ответить.
— Что вы, собственно, подумали тогда?
— Что я...
— Да. Или вы уже ничего не помните?
40
—- Конечно, помпю. Но почему вы заговорили об
этом сейчас?
— Я давно хотела спросить вас, — сказала ома.
— Так говорите же, — взволнованно попросил я.
— Вы, должно быть, сочли это за каприз... О, конеч-
но, — с чувством добавила она, заметив, что я собираюсь
что-то возразить. — Но поверьте, это был пе каприз.
Сколько я выстрадала в тот год — и представить себе
нельзя.
— В какой год?
— Ну... когда вы у пас... Почему вы спрашиваете?
Сначала я себе сама... Впрочем, зачем я вам это расска-
зываю?
Я пылко схватил ее за руку.
— Нет, рассказывайте... Пожалуйста... Я же люб-
лю вас.
— А я тебя! — воскликнула она, взяла мои руки и
начала их целовать. —- Всегда любила, всегда.
— Продолжай, пожалуйста, — попросил я. — И рас-
скажи мне все-все.
Мы медленно шагали по залитой солнцем тропинке,
и она рассказывала:
— Сначала я говорила себе: он еще ребенок... я люб-
лю его, как мать. Но чем ближе подходил час вашего
отъезда...
Она остановилась на полуслове. Потом продолжала:
— И вот этот час наступил... Я не хотела к тебе идти;
что привело меня наверх, сама не знаю. А когда я уже
была у тебя, я совсем не хотела тебя целовать, по...
— Дальше, дальше, — говорил я.
— И вдруг я велела тебе уйти. Ты, конечно, решил,
что все это была комедия, не правда ли?
— Я тебя не понимаю.
— Так я и думала. Я даже хотела написать тебе...
А для чего?.. Так вот... Отослала я тебя потому... Я вдруг
испугалась.
— Я это знаю.
у — Знаешь? Почему же ты тогда не писал мне? —
взволнованно воскликнула она.
| — Чего ты испугалась? — спросил я, начиная дога-
даваться.
| — Мне померещилось, что кто-то идет.
Ï' — Померещилось? Но почему?
& 41
— Мне показалось, что я слышу в коридоре шаги. Да.
Шаги! И подумала, что это он... Тогда на меня напал
страх — было бы ужасно, если бы он... О, я даже думать
не хочу об этом. Но там никого не было. Никого. Он при-
шел домой только поздно вечером. Ты давным-давно
уехал...
Она рассказывала это, и я чувствовал, как что-то хо-
лодеет у меня в груди. А когда она кончила, я взглянул
на нее так, словно собирался спросить: «Кто ты?» Я не-
вольно обернулся к гавани, где белели паруса нашей лод-
ки, и подумал: как давно, как бесконечно давно мы при-
ехали на этот остров. Я сошел на берег с женщиной,
которую любил, а теперь со мной стоит чужая. Я слова
не мог вымолвить. Едва ли она заметила это; она взяла
меня под руку; мое молчание она, вероятно, сочла за не-
мую нежность. Я думал о нем. Значит, он ничего не ска-
зал ей! Она не знает и никогда не знала, что он видел
ее у моих ног. Он неслышно ушел тогда и вернулся лишь
через несколько... через много часов и ничего не сказал
ей. И все эти годы он прожил рядом с нею, не выдав
себя ни единым словом. Он простил ей, а она пе знала
этого!
Мы подошли к церкви; до нее оставалось каких-ни-
будь десять шагов. Я заметил крутую дорожку, которая
через несколько минут должна была привести нас в де-
ревню, и свернул на нее. Фридерика последовала за
мной.
— Подожди, — сказала она, — а то я упаду.
Я, не оглядываясь, протянул ей руку.
— Что с тобой? — спросила она.
Я ничего не мог ответить и только крепко пожал ей
руку. Это, кажется, успокоило ее. Затем, лишь бы ска-
зать что-нибудь, я заметил:
— Жаль, можно было осмотреть церковь.
Она засмеялась:
— Мы прошли мимо, даже не обратив на нее вни-
мания.
— Может быть, вы хотите вернуться? — спросил я.
— Мет, нет. Я хочу поскорей обратно в лодку. Да-
вайте как-нибудь покатаемся на парусной лодке вдвоем,
без этого старика.
— Я не умею управлять парусами.
— А, — сказала она и замолчала, как будто ее вне-
запно поразила мысль, которую она хотела скрыть.
42
Расспрашивать ее я не стал. Вскоре мы очутились на
пристани. Лодка была готова. Возле нее опять стояли де-
ти, которые встретили нас, когда мы приехали. Они смот-
рели па нас большими голубыми глазами. Мы отчалили.
Море успокоилось. Закрыв глаза, трудно было заметить,
что находишься в движении.
— Я хочу, чтобы вы легли у моих ног, — сказала
Фридерика, и я устроился на дне лодки и положил го-
лову Фридерике на колени.
Я был доволен, что мне не приходится смотреть ей в
лицо. Она говорила, а мне казалось, что ее слова звучат
где-то далеко-далеко. Я все понимал и в то же время мог
спокойно предаться своим мыслям.
Она внушала мне ужас.
— Вечером покатаемся по морю вдвоем, — сказа-
ла она.
Что-то призрачное, казалось мне, витало вокруг нее.
— Сегодня вечером, — медленно повторила она, —
на весельпой лодке. Грести ты, надеюсь, умеешь?
— Да, — сказал я.
Глубокое прощение окружало ничего не подозреваю-
щую Фридерику словно непроницаемой оболочкой и при-
водило меня в трепет.
Она все говорила.
—* Нас унесет в море, и мы будем вдвоем... Почему
гы молчишь? — спросила она.
— Я счастлив, — сказал я.
Я с ужасом думал о безмолвном жребии, который она,
сама того не зная, влачила уже столько лет.
Лодка неслась вперед.
У меня мелькнула мысль: «Скажи ей. Сними с нее
этот ужас; тогда она опять станет для тебя просто жен-
щиной, такою, как все, и ты возжелаешь ее». Но какое
я имел право на это? Мы причалили.
Я выпрыгнул из лодки и помог сойти ей.
— Мальчик, наверно, уже скучает. Мне надо спе-
шить. Не провожайте меня.
На взморье было очень людно; я заметил, что па нас
смотрят.
— А вечером, — промолвила она, — в девять... да что
с тобой?
— Я очень счастлив, — сказал я.
— Вечером, — продолжала она, — в деиять часов,
43
я приду сюда, на взморье, приду к тебе. До свидания! —
И она убежала.
— До свидания! — повторил я, не двигаясь с моста.
Но виделись мы в последний раз.
Теперь, когда я пишу эти строки, я уже далеко и с
каждой секундой уношусь все дальше; я пишу в купе
поезда, который час тому назад вышел из Копенгагена.
Уже девять. Она пришла на взморье и ждет меня. Стоит
мне закрыть глаза, как предо мною возникает этот образ.
Но не женщина бродит там в сумерках по берегу — там
витает тень.
Гуго фон Гофмансталь
(1874-1929)
Сказка шестьсот семьдесят второй ночи
1
Некий купеческий сын, который был молод, красив
собой и давно остался без отца и без матери, пресытился,
едва минуло ему двадцать пять лет, и обществом друзей,
и пирами, и всей своей прежней жизнью. Большую
засть комнат в своем доме он запер и уволил всех слуг
и служанок, кроме четверых, полюбившихся ему предан-
ностью и характером. Так как ему не было дела до преж-
них знакомцев и ни одна женщина не пленила его красо-
той настолько, чтобы ее постоянное присутствие рядом
встало не то что желанно, но хотя бы терпимо для него,
он все больше вживался в свое одиночество, которое, как
fидно, лучше всего отвечало его душевному складу. При
^том он отнюдь не испытывал робости перед людьми, но
Напротив, с удовольствием гулял по улицам и публичным
еадам, рассматривая лица встречных. Также не допускал
юн никакой небрежности в уходе за телом и за своими
ррасивыми руками, заботился и об украшении своего жи-
йсшща. Более того, красота ковров, шелков и тканей, или
Скрашенных резьбой, отделаппых деревом стен, или све-
тильников и чаш из металла, или сосудов из стекла и
|лины стала для него важней, чем он когда-либо мог
предугадать. Понемногу у пего открылись глаза на то,
Жак оживают в его утвари все формы и краски мира.
Щ переплетенных орнаментах он узнавал волшебную кар-
тину, переплетение всех чудес мира. Он обнаруживал
очертания зверей и очертания цветов и переход одних
очертаний в другие; он видел в узорах дельфинов и львов,
45
тюльпаны, жемчужины и листья аканта; он находил в
них тяжесть колонн и сопротивление твердой почвы, по-
рыв всякой влаги вверх и потом снова вниз; он открывал
в них блаженство движения и величавость покоя, мерный
танец и мертвую неподвижность; он обретал в них крас-
ки цветов и листьев, краски шкур диких животных и лиц
разных племен, краски драгоценных камней, краски бур-
ного и спокойно сияющего моря; он находил в них луну
и звезды, и мистические шары, и мистические кольца, и
выраставшие из них крылья серафимов. Долгое время
был он опьянен этой огромной, полной глубокого смысла
красотой, принадлежащей ему, и череда его дней стано-
вилась прекраснее и проходила не так пусто среди этой
утвари, больше уже не мертвой и не низменной, ибо это
было великое наследие, божественный труд поколепий.
Но он чувствовал и бренность этих вещей ничуть не
меньше, чем их красоту; никогда не покидала его надол-
го мысль о смерти и настигала его часто среди смеющих-
ся, шумящих людей, часто среди ночи, часто за трапезой.
Однако никакой болезни у него не было, и потому
мысль о смерти не ужасала его, скорее в ней было нечто
величественное и торжественное, и сильней всего она
овладевала им, когда он думал прекрасные думы или
опьянялся красотой своей юности и одиночества. Потому
что его гордости служили и зеркала, и стихи поэтов, и»
собственное богатство и ум, а потому мрачные изречения
не угнетали ему душу. Он говорил: «Ноги сами приведут
тебя туда, где тебе суждено умереть», — и видел, как
сам он, словно царь, заблудившийся на охоте, идет по
незнакомому лесу, среди редкостных деревьев, навстречу
неведомой участи. Он говорил: «Когда дом достроен, при-
ходит смерть», — и видел, как она поднимается по вися-
чей лестнице, поддерживаемой крылатыми львами, во дво-
рец, в достроенный дом, полный добра, добытого жизнью.
Он мнил, будто живет в совершенном одиночестве,
но четверо слуг кружились вокруг него, словно собаки, и
он, хотя и мало говорил с ними, однако чувствовал ка-
ким-то образом их непрестанный помысел служить ему
хорошо. И сам он начинал то и дело думать о них.
Домоправительницей у него была старуха, чья умер-
шая дочь выкормила купеческого сына; остальные дети
домоправительницы тоже умерли. Была она очень тихой,
и холодом старости веяло от ее белого лица и белых рук.
Но он любил ее, потому что она была в доме всегда и с
46
нею были связаны столь страстно любимые им воспоми-
нания о голосе матери и о детстве.
С его разрешения старуха взяла в дом дальнюю род-
ственницу, пятнадцатилетнюю девочку, очень замкнутую.
К себе она была очень сурова, и понять ее было трудно.
Однажды темный, внезапный порыв заставил ее бросить-
ся из окна во двор, однако детское ее тело случайно упа-
ло на вскопанную садовую землю, и девочка только сло-
мала себе ключицу, потому что из земли торчал камень.
Когда ее уложили в кровать, купеческий сын послал к
ней своего врача, а вечером сам пошел посмотреть, как
она себя чувствует. Она лежала с закрытыми глазами, и
он впервые мог так долго без помех смотреть на нее, ди-
вясь странной, старчески-разумной прелести ее лица.
Только губы у нее были слишком тонкие, и в этом таи-
лось что-то некрасивое и тревожащее. Вдруг она подня-
ла веки, холодно и зло взгляпула на него, потом, гневно
закусив губы и превозмогая боль, повернулась к стене,
так что лежать ей пришлось па больном боку. В мгнове-
ние ее смертельно-бледное лицо стало зеленовато-белым,
она потеряла сознание и поникла, как мертвая, приняв
прежнюю позу.
Когда она выздоровела, купеческий сын долгое время,
встречая ее, не говорил ей ни слова. Несколько раз он
спрашивал старуху, не может ли быть, что девочке не
нравится в его доме, но та всегда отрицала это. Единст-
венного слугу, которого он решил оставить в доме, купе-
ческий сын впервые увидел, ужиная однажды в доме по-
сла, которого держал в том городе персидский царь.
Слуга прислуживал ему с такой предупредительностью
и деликатностью и вместе с тем казался столь одиноким
и скромным, что купеческому сыну интереснее было сле-
дить за ним, чем слушать речи остальных гостей. Тем
больше была его радость, когда много месяцев спустя
этот слуга подошел к нему на улице, поздоровался с ним
так же степенно, как и в тот вечер, и без всякой навяз-
чивости предложил ему свои услуги. Купеческий сын
тотчас узнал его по сумрачному, темному, как тутовая
ягода, лицу и по чрезвычайной воспитанности. Немедля
он был принят на службу, заняв место двух уволенньтт
молодых слуг, до тех пор еще остававшихся у купече-
ского сына, который отныне и за трапезой, и везде при-
нимал услуги только от этого степенного, сдержанного
человека. Тот почти никогда не пользовался разреше-
47
нием отлучаться вечерами из дому и выказывал особую
привязанность к хозяину, чьи желания спешил преду-
предить и чьи склонности и неприязнь молча угадывал,
так что привязанность его к новому слуге все росла.
Но хотя купеческий сын позволял прислуживать за
столом только ему, блюда с фруктами и сладким печеньем
обыкновенно приносила служанка — молодая девушка,
старше маленькой всего на два-три года. Девушка была
из тех, которых издали — к примеру, когда они выходят
танцевать перед зрителями при свете факелов — едва ли
возможно счесть очень красивыми, потому что при этом
не разглядеть тонкости черт; но так как он видел ее вбли-
зи и ежедневно, его поражала несравпениая красота ее
глаз и бровей, а ленивые, безрадостные движения краси-
вого тела были для него словно загадочный язык некоего
замкнутого и полного чудес мира.
Если в городе становилось слишком жарко и вдоль
домов лились волны удушливого зноя, а томительными,
жаркими ночами в полнолуние ветер гнал по пустым ули-
цам облака белой пыли, купеческий сын перебирался со
всеми четырьмя слугами в горную местность, где у него
был загородный дом в долине, стесненной темными скло-
нами гор. У многих богатых людей были там загородные
дома. С обеих сторон в пропасти низвергались водопады,
и от них было прохладнее. Луна почти никогда не всхо-
дила над горами, но из-за черной стены появлялись боль-
шие белые облака, торжественно проплывали по темно-
мерцающему небу и исчезали с другой стороны. Здесь
купеческий сын жил привычною жизнью в доме, дере-
вянные стены которого были всегда овеваемы свежим
запахом садов и прохладой множества водопадов. От по-
лудня до того часа, когда солнце скрывалось за горами,
он сидел в саду и читал — чаще всего одну и ту же кни-
гу, в которой описывались войны некоего великого царя,
жившего в стародавние времена. Иногда посредине рас-
сказа о том, как многотысячная конница враждебных
царей с криком обращалась вспять или как их боевые ко-
лесницы срывались с крутого берега реки, он невольно
прерывал чтение, потому что, даже не глядя, вдруг чув-
ствовал устремленные на него взоры всех своих слуг. Не
поднимая головы, он знал, что они на него смотрят, —
не произнося ни слова, каждый из своей компаты. Ведь
он так хорошо узнал их! Ощущение этой чужой жизни
рядом было сильней и навязчивей, чем ощущение соб-
48
ственной жизни. Сам он порой вызывал у себя легкое
чувство растроганности либо восхищения, они же — лишь
загадочное стеснение сердца. С отчетливостью кошмара
ощущал он, как жизнь старых с каждым часом движется
к смерти, неостановимо и тихо изменяя их черты и жесты,
столь знакомые ему; как жизнь, обеих девушек поне-
многу пустеет и будто бы лишается воздуха. Словно ужас
и смертная горечь забытого по пробуждении страшного
сна, его тело невольно угнетала не знаемая ими самими
тяжесть их жизни.
Иногда, чтобы не поддаться боязни, ему приходилось
вставать с места и ходить взад и вперед. Ио, даже раз-
глядывая скрипучий гравий у себя под йогами и напря-
гая все внимание, чтобы различить в прохладном запахе
земли и травы долетающий до него светлыми вздохами
аромат гвоздики или в теплых, чересчур сладких волнах
воздуха — аромат гелиотропов, купеческий сын чувство-
вал на себе их взоры и не мог думать ни о чем другом.
Даже не поднимая головы, он зпал, что старуха сидит у
окна: бескровные руки — на прогретом солнцем подокон-
нике, бескровное, подобное маске лицо — все более жут-
кое пристанище беспомощных черных глаз, которые все
не могла закрыть смерть. Даже не поднимая головы, он
чувствовал, что слуга на минуту отошел от окна к шкафу
сделать что-нибудь; не глядя вверх, он с затаенным стра-
хом ждал мгновения, когда тот вернется к окну. Когда
он отпускал приподнятые обеими руками гибкие ветки,
чтобы забраться в самый заросший уголок сада, когда
сосредоточивал все мысли на красоте неба, с которого
сквозь темную сеть ветвей и ползучих лоз падали блестя-
щие осколки влажной лазури, — все его помыслы, вся
его кровь были проникнуты ощущением, что глаза обеих
девушек устремлены на него — ленивые и тосклиные
глаза старшей, мучительно требующие чего-то, и внима-
тельные глаза младшей, чей сперва нетерпеливый, потом
снова насмешливый взгляд был еще мучительней для
него. При этом у него ни разу не появилось мысли, что
они смотрят именно за тем, как он бродит с поникшей
головой, или склоняет колепи перед гвоздикой, чтобы под-
вязать ее лыком, или нагибается, проходя под ветвями:
нет, они видели всю его жизнь, видели всю глубину его
существа, его скрытую человеческую неполноценность.
Так овладел им давящий на сердце страх перед
жизнью, от которой никуда не деться. Страшнее, чем не-
49
престанное наблюдение, было то, что эти люди принуж-
дали его столь бесплодно и томительно думать о себе са-
мом. Сад был слишком мал, чтобы от них убежать. Но
когда он находился совсем рядом с ними, страх его со-
вершенно угасал — пастолько, что он почти забывал про-
исшедшее. Тогда ему было под силу совсем не обращать
на них внимания либо спокойно следить за их движения-
ми, которые были ему настолько знакомы, что рождали
в нем постоянное, почти физическое ощущение их жизни.
Девочка встречалась ему лишь изредка на лестнице
или в передней, зато трое других часто оказывались в од-
ной с ним комнате. Однажды он заметил старшую девуш-
ку в наклонно висящем зеркале: она шла через сосед-
нюю комнату, пол которой был немного выше. Однако в
зеркале она выходила из глубины ему навстречу, ступая
медленно и с усилием, но держась прямо. В каждой руке
у нее было по тощему индийскому идолу из тяжелой
темной бронзы. Их разукрашенные подножья она под-
держивала ладонями, темпые богини поднимались от ее
бедер вплоть до висков, налегая всей своей мертвой тя-
жестью на ее живые нежные плечи, а темные головы со
злым змеиным ртом, с тремя яростными глазами во лбу
и с причудливыми украшениями в холодных, твердых
волосах колыхались возле оживленных дыханием щек и
в такт медленным шагам касались красивых висков. Ка-
залось, она выступает так тяжело и торжественно не из-
за идолов, а неся красоту собственной головы, ее тяжелое
украшение из живого золота — свернутые по обе сторо-
ны светлого лба косы, подобные шлему царственной вои-
тельницы. Он был захвачен ее красотой, но яспо созна-
вал при этом, что ничего бы не испытал, если бы держал
ее в объятиях. Он вообще знал, что красота служанки
рождает в нем томление, а не желанье. Поэтому он не
стал долго смотреть на нее, но покинул комнату, вышел
в переулок и, охваченный странным беспокойством, по-
брел между домов и садов по узкой полоске тени. Нако-
нец он пришел на берег реки, где жили садовники и тор-
говцы цветами, и долго искал, зная, что ищет напрасно,
какой-нибудь ^цветок, чьи очертания и аромат, или какое-
нибудь пряное растение, чей улетучивающийся запах
внушит ему то же сладостпое вожделение спокойно обла-
дать ими, которое таилось в красоте его служанки, от-
нимавшей у него спокойствие и уверенность. И пока он
понапрасну оглядывал полным томления взором душные
50
оранжереи или склонялся над просторными грядками под
открытым небом, которое уже темнело, память его не-
произвольно, а потом и мучительно, против его воли, все
снова повторяла строки поэта: «Склоняющимися стебля-
ми гвоздик, ароматом спелого зерна пробуждала ты мою
тоску; но когда я тебя нашел, — то была не ты, кого я
искал, то были сестры твоей души».
II
И случилось в эти дни так, что купеческому сыну при-
несли письмо, немного его обеспокоившее. Подписи в
письме не было. Тот, кто его послал, в темных выраже-
ниях обвинял старого слугу, который якобы совершил в
доме своего прежнего хозяина, персидского посла, какое-
то гнусное преступление. По всей видимости, незнакомец
питал большую ненависть к слуге и присовокупил мно-
жество угроз; и по отношению к купеческому сыну тон
его был непочтительным и даже угрожающим. Отгадать,
на какое преступление намекал отправитель письма и
какую вообще цель он преследовал, коль скоро не назы-
вал себя и ничего не требовал, было невозможно. Купе-
ческий сын несколько раз перечитал письмо и признался
себе в том, что одна мысль потерять столь неприятным
образом старого слугу пугает его. Чем больше он раз-
мышлял, тем сильнее волновался и тем невыносимее де-
лалась мысль о потере одного из тех существ, с которыми
его срастила воедино привычка и другие таинственные
силы.
Он метался взад и вперед, от волнения и гнева ему
стало так жарко, что пришлось сбросить кафтан и пояс
и остаться босиком. Ему казалось, будто оскорблениям и
угрозам подверглось самое сокровенное из всего, чем он
владел, будто его принуждают бежать от самого себя и
отречься от всего, что ему мило. Жалея самого себя, он,
как всегда в такие мгновения, чувствовал себя ребенком.
Он видел, как всех четверых его слуг насильно удаляют
из дома, ему представлялось, будто все содержание его
жизни безмолвно от него уходит: все горестно-сладкие
воспоминания, все полубессознательные чаянья, все не-
сказанное, что потом будет выброшено и сочтено ничем,
как груды водорослей и морской травы. Впервые он по-
нял то, что в детстве вызывало в нем ярость: тревожную
51
любовь, с какой его отец относился ко всему приобретен-
ному, к богатствам, собранным под сводами лавки, к пре-
красным неодушевленным детям своих поисков и забот,
к таинственным порождениям смутных, но глубочайших
в его жизни вожделений. Он понял, что великий царь,
живший в стародавние времена, умер бы, если бы у него
отняли земли, которые он покорил, пройдя от Западного
моря до Восточного, и повелителем которых он мнил се-
бя, хотя они были так велики, что ни власти над ними,
ни дани с них он не имел, — ничего, кроме мысли о том,
что он их покорил и другого царя над ними нет.
Он решил сделать все, чтобы только уладить ото дело,
так его пугавшее. Ни единым словом не обмолвившись
слуге о полученном письме, он пустился в путь и один
поехал в город. Там он решил прежде всего отыскать дом,
в котором жил персидский посол, — в смутной надежде
найти там какую-нибудь точку опоры.
Однако, когда он прибыл, день уже клонился к вече-
ру и в доме никого не было, ни посла, ни молодых людей
из его свиты. Только повар и один из младших писцов
сидели в прохладной полутьме, в проходе ворот. Но оба
были так уродливы и отвечали так коротко и ворчливо,
что купеческий сын в нетерпении пошел от них прочь
и решил завтра явиться сюда в более подходящее
время.
Из-за того что он не оставил в городе никого из слуг,
жилище его стояло запертым, и ему пришлось, словно чу-
жестранцу, подумать о прибежище на ночь. С любопыт-
ством чужестранца пустился он по знакомым улицам и
наконец вышел на берег маленькой речки, почти пере-
сохшей в это время года. Оттуда, занятый своими мысля-
ми, он пошел по невзрачной улице, где жило много пуб-
личных женщин. Потом, не выбирая дороги, он свернул
направо и оказался в пустынном тихом тупике, заканчи-
вавшемся высокой крутой лестницей. На лестнице он ос-
тановился, чтобы сверху обозреть пройденную дорогу.
Оттуда можно было заглянуть во дворы домишек; там и
сям на окнах были затянуты красные занавески и стояли
уродливые, пропыленные цветы; от широкого, пересох-
шего русла речки веяло смертным унынием. Поднявшись
выше, купеческий сын очутился в квартале-, которого, на-
сколько он мог вспомнить, раньше никогда не видел.
И все же низенький перекресток улиц показался ему зна-
комым, словно виденным во сне. Он пошел дальше и
52
набрел на лавку ювелира. Лавка была невзрачпой, под
стать этой части города, в витрине полно было дешевых
украшений, какие обычно приобретаются оптом у ростов-
щиков-залогоимцев и у скупщиков краденого. Купече-
ский сын, знавший толк в самоцветных камнях, не мог
найти ни одного мало-мальски красивого.
Вдруг его взгляд упал на старомодное украшение —
берилл в тонкой золотой оправе, — которое как-то напо-
мнило ему старую домоправительницу. Быть может, по-
добную вещицу времен ее молодости он когда-нибудь
видел у нее. К тому же ему почудилось, что бледный, не-
сколько меланхолический камень странным образом гар-
монирует с ее возрастом и наружностью; столь же пе-
чальной выглядела и старомодная оправа. И он вошел в
низкую лавчонку, чтобы купить украшение. Ювелир был
весьма рад приходу хорошо одетого покупателя и захотел
показать ему также более ценные камни, которые не вы-
кладывал на витрину. Не желая обижать старого чело-
века, купеческий сын посмотрел множество показанных
вещей, но покупать что-нибудь ему не хотелось, к тому
же он не знал, куда деть такие подарки при его одинокой
жизни. Наконец оп впал в какое-то нетерпеливое смуще-
ние, потому что хотел как можно скорее уйти, но при
этом не обидеть старика. Решив купить еще какую-ни-
будь мелочь и тут же удалиться, он стал смотреть через
голову старика и бездумно разглядывать серебряное руч-
ное зеркальце, почти совсем потускневшее. И тут из дру-
гого зеркала, в его душе, возник образ девушки с тем-
ными головами медных идолов справа и слева; и оп слов-
но разглядел мимолетно, что немалая доля ее прелести
заключалась в той смиренной детской грации, с какой ее
щея и плечи поддерживали прекрасную голову — голову
юной богпни. Так же мимолетно решил он, что на этой
шее очень приятно выглядела бы тонкая золотая цепоч-
ка, обернутая несколько раз, — детская и все же напо-
минающая кольчугу. Он попросил показать ему такую
Цепочку. Старик отворил двери и попросил перейти в
Йругое помещепие — низенькую жилую комнату, где
выло, однако, много стеклянных горок и открытых эта-
жерок с разложенными на них украшениями. Здесь ку-
печеский сын скоро нашел цепочку, которая пришлась
вму по вкусу, и попросил ювелира назвать цепу обеих
вещиц. Старик попросил его осмотреть еще старинные
седла с обивкой, усыпанной полудрагоценными камнями,
53
но он ответил, что, будучи сыном купца, никогда не имел
дела с лошадьми, не умеет даже ездить верхом и ни ста-
рые, ни новые седла не доставляют ему никакого удо-
вольствия; потом он отдал за покупку золотой и еще не-
сколько серебряных монет и достаточно ясно показал, что
ему не терпится уйти из лавки. Пока старик, не произ-
нося больше ни слова, искал красивую шелковую бума-
гу, а потом заворачивал в нее по отдельности цепочку
и берилл в оправе, купеческий сын случайно подошел к
единственному окну, низкому и забранпому решеткой, и
выглянул наружу. Перед его глазами был примыкающий,
видимо, к соседнему дому и отлично ухоженный плодо-
вый сад, а за ним — две стеклянные оранжереи и высо-
кая стена. Ему тотчас же захотелось осмотреть оранже-
реи, и он спросил ювелира, может ли тот указать ему
дорогу. Ювелир вручил ему оба сверточка и через боко-
вую комнату вывел во двор, соединенный с соседним са-
дом маленькой решетчатой калиткой. Перед ней юве-
лир остановился и постучал железной колотушкой о ре-
шетку. Но так как в саду не слышно было ни звука и в
соседнем доме никто не пошевелился, он предложил ку-
печескому сыну спокойно осмотреть оранжереи, а если
его потревожат, то сослаться на него, потому что он близ-
ко знаком с владельцем сада. Потом, просунув руку ме-
жду прутьев решетки, он отворил калитку. Купеческий
сын тотчас же пошел вдоль стены к ближайшей теплице,
вошел в нее и увидел столько редкостных, удивительных
нарциссов и анемонов и такие странные, неведомые ему
листья, что долго не мог наглядеться на них. Наконец
он взглянул вверх и обнаружил, что солнце, незаметно
для него, совсем скрылось за домами. Не желая больше
оставаться в чужом, никем не охраняемом саду, он решил
только заглянуть во вторую теплицу через стекла и сей-
час же уйти. Но когда он шел, заглядывая вовнутрь,
вдоль ее стеклянных стен, вдруг что-то заставило его в
испуге отпрянуть. За стеклами виднелось лицо человека,
который следил за ним. Через мгновение он опомнился
и понял, что это ребенок, девочка не старше четырех лет,
чье бледное личико и белое платье прильнули к стеклу.
Но, вглядевшись поближе, он опять испугался: неприят-
ное чувство ужаса сковало ему затылок, перехватило гор-
ло и сжало грудь, потому что дитя, смотревшее на него
неподвижно и зло, непонятным образом напоминало пят-
надцатилетнюю девочку, что жила у пего в доме. Все
54
было похоже: светлые брови, тонкие, трепещущие крылья
носа, узкие губы; как и другая девочка, эта чугь припод-
няла плечо. Все было похоже, но только у маленькой де-
вочки все приобретало такое выражение, что он испыты-
вал ужас. Ему самому было непонятно, чем вызван этот
безотчетный страх. Он только знал, что для него будет
невыносимо отвернуться и притом быть уверенным, что
это лицо неподвижно вперилось в него сквозь стекло.
Страх заставил его торопливо подойти к дверям оран-
жереи: двери были закрыты снаружи на засов; он резко
наклонился к засову, расположенному очень низко, толк-
нул его так сильно, что больно прищемил себе мизинец,
и почти бегом бросился к девочке. Девочка пошла на-
встречу и молча уперлась ему в колени, стараясь вытолк-
нуть его вон слабыми ручонками. Ему едва удалось не
наступить на нее. Он наклонился и заглянул в лицо де-
вочки; оно совсем побелело, глаза, полные ненависти и
гнева, часто мигали, а нижние зубы с невиданной яро-
стью впились в прикушенную верхнюю губу. Он погладил
ее по коротким, мягким волосам, и на мгновение его страх
прошел. Но в тот же миг он вспомнил волосы девочки
там, у себя дома: он коснулся их только однажды, когда
она лежала в постели, бледная как смерть, с закрытыми
глазами. Снова ему стало жутко до дрожи в спине, а ру-
ки его метнулись прочь от головы девочки, которая от-
казалась от попыток вытолкнуть его. Отойдя на несколь-
ко шагов, она уставилась прямо перед собой. Ему было
невыносимо смотреть на это слабое кукольное тело, упря-
танное в белое платьице, и на бледное, презрительное и
пугающее детское лицо. Он был до того переполнен ужа-
сом, что в висках и в горле у него кольнуло, когда рука
коснулась в кармане чего-то холодного. Это были сереб-
ряные монеты. Вытащив несколько штук, он наклонился
и дал их девочке, потому что они блестели и звенели. Та
взяла монеты и выронила их ему под ноги, они провали-
лись в щель, под землю, накиданную на дощатую решет-
ку. Потом девочка повернулась к нему спиной и медленно
пошла прочь. Некоторое время он стоял неподвижно, с
бьющимся от страха сердцем, боясь, что она придет и
станет смотреть на него снаружи из-за стекол. Ему хо-
телось немедля уйти, но лучше было выждать немного
времени, чтобы девочка ушла из сада. В теплице было
уже темновато, и растения стали приобретать причуд-
ливые формы. Немного поодаль неприятно протягивались
55
черные, бессмысленно угрожающие ветви, за ними что-то
белело, как будто там была девочка. На дощатой полке
стояли в ряд горшки с вощанкой. Чтобы убить время, он
стал считать растения; в своей застылой неподвижности
они не похожи были па живые цветы, в пих виделось
что-то от масок, коварно-злобных масок с заросшими от-
верстиями для глаз. Пересчитав их, он приблизился к
двери и хотел выйти вон. Двери не поддались: девочка
задвинула снаружи засов. Ему захотелось крикнуть и
было страшно услышать собственный голос. Тогда он уда-
рил кулаком по стеклу. В саду и в доме была мертвая
тишина. Только сзади него что-то с шорохом скользнуло
среди растений. Он сказал себе, что это листья, оторван-
ные и сброшенные сотрясепием спертого воздуха. Однако
стучать больше не стал и начал буравить взглядом полу-
темное переплетение деревьев и лоз. На погруженной в
сумрак задней стене он увидел подобие четырехугольни-
ка, составленного из темных линий. Пробираясь туда, он
даже не думал о раздавленных глиняных горшках и ру-
шащихся над ним и за ним тонких стеблях и шелестя-
щих пучках листьев. Четырехугольник оказался проемом
двери, которая поддалась, когда он толкнул ее. В лицо
ему повеяло свежим воздухом; сзади он слышал шелест:
это надломленпые стебли и придавленные листья подни-
мались, как после грозы.
Оказался он в узком, замкнутом стенами проходе.
Сверху глядело чистое небо, а стены по обеим сторонам
были не выше человеческого роста. Но в длину проход
был всего шагов пятнадцать и кончался также стеной, и
купеческий сын подумал, что снова очутился в ловушке.
Нерешительно двинулся он вперед. В правой стене от-
крылся пролом в ширину плеч, и от него до лежащей
напротив каменной платформы шла перекинутая над пу-
стотой доска. Платформа со стороны, обращенной к про-
лому, была загорожена низкой железной решеткой, а с
боков и сзади поднимались жилые дома. Там, где доска,
словно абордажный мостик, лежала на краю платформы,
в решетке была узкая калитка.
Купеческому сыну так не терпелось уйти из этой оби-
тели страха, что он сейчас же поставил на доску сперва
одну, потом другую ногу и, не отрывая взгляда от
противоположного берега, начал продвигаться вперед.
Но, к несчастью, он сознавал, что висит над окруженной
стенами пропастью высотой во много этажей; он чувст-
56
вовал страх и беспомощность, расслаблявшие ему стопы
и колени, чувствовал во всем тело отнимающую равнове-
сие близость смерти. Опустившись на колени, он закрыл
глаза; и тут его протянутые вперед руки натолкнулись
на прутья решетки. Он схватился за них, по они пода-
лись, и с тихим скрипом, который, словно дыхание смер-
ти, холодом пропзил его тело, отворилась навстречу ему,
павстречу пропасти, калитка, за которую оп уцепился.
Охваченный внутренней усталостью, потеряв мужество,
он предощущал, как гладкие железные прутья выскольз-
нут сейчас из его пальцев, которые казались ему слабы-
ми, как у ребенка, и он рухнет вниз вдоль стены, чтобы
разбиться. Но медленное движение калитки приостано-
вилось прежде, чем доска ушла у него из-под ног, и од-
ним прыжком он перебросил свое дрожащее гело через
проем в решетке на твердую почву.
Радоваться оп не мог. Не оборачиваясь, со смутным
чувством какой-то ненависти к этим бессмысленным му-
кам, он вошел в одип из домов и по запущенной лестнице
спустился в переулок, уродливый и ничем не примеча-
тельный. Но он и без того так устал и чувствовал такую
тоску, что не мог бы подумать ни о чем мало-мальски ра-
достном. Случившееся с ним было так странно. Опусто-
шенный, покинутый жизпью, прошел он этот переулок,
потом еще и еще один. Он держался направления, кото-
рое, как он знал, приведет его в ту часть города, где жи-
вут богатые и где он мог бы найти ночлег. Потому что
постель была ему нужнее всего. С ребяческой тоской
вспоминал он, какая у него красивая и широкая кровать;
потом ему пришли на ум те ложа, которые воздвигал в
старину для себя и своих спутников великий царь, когда
они справляли свадьбы с дочерьми побежденных царей:
для себя золотые, для других — серебряные, поддержи-
ваемые грифами и крылатыми быками. Между тем он
добрался до приземистых домишек, в которых жили сол-
даты, но не обратил на это внимания. В окошке, забран-
ном решеткой, сидело несколько солдат с изжелта-блед-
выми лицами и печальными глазами; они что-то крикнули
ему. Он так и не понял, что им нужно от него. Но по-
скольку они помешали ему брести в рассеянной отрешен-
ности, то, проходя мимо ворот, он заглянул во двор. Двор
был просторный и унылый, сумерки делали его еще более
просторным и унылым. Людей на нем было мало, а окру-
жавшие его дома были приземисты и выкрашены в гряз-
57
но-желтый цвет. От этого двор выглядел еще больше и
пустыннее. В углу стояло десятка два лошадей, все в один
ряд, привязанные к кольям; перед каждой примостился
на коленях солдат в грязном тиковом балахоне конюха и
мыл копыта. В отдалении из ворот парами выходило мно-
жество других солдат, одетых в такой же тик. Они шли
медленной, шаркающей походкой и несли на плечах тя-
желые мешки. Только когда они, все так же молча, подо-
шли поближе, он увидал, что в открытых мешках они
тащили хлеб. Он наблюдал, как они скрываются в прохо-
де ворот, словно погибая под тяжестью отвратительной,
злой ноши, — и хлеб свой они несли в точно таких же
мешках, какие окутывали их унылые тела.
Потом он подошел к тем солдатам, что стояли на ко-
ленях перед лошадьми и мыли им копыта. Эти тоже были
неотличимы и друг от друга, и от тех, что были в окошке
или тащили хлеб. Наверное, их набрали из соседних де-
ревень. Между собой они не говорили ни слова. Так как
каждому было очень тяжело поддерживать переднее ко-
пыто лошади, головы у всех раскачивались, а усталые,
изжелта-бледные лица поникали и приподнимались, как
под сильным ветром. У большинства лошадей морды были
уродливы, а прижатые уши и вздернутая верхняя губа,
обнажавшая зубы, придавали им злобное выражение.
К тому же и вращающиеся глаза у них были злыми, и
еще они особым образом, нетерпеливо и презрительно,
выдыхали воздух из косо поставленных ноздрей. Послед-
няя в ряду лошадь была самая сильная и уродливая. Она
все норовила укусить за плечо человека на коленях, ко-
торый только что вымыл ей копыто и теперь насухо вы-
тирал его. У человека были такие впалые щеки и такая
кротость и смертная тоска в усталых глазах, что купече-
ский сын почувствовал, как его одолевает глубокое, горь-
кое сострадание. Ему захотелось хоть на миг обрадовать
этого несчастного подарком, и он стал искать в кармане
серебряную монету, но не нашел и вспомнил, как хотел
подарить последнюю мелочь девочке в теплице и как та
злобно взглянула и швырнула серебро ему под ноги.
Тогда он стал искать золотой, один из тех семи или вось-
ми, которые взял с собой в дорогу.
В этот миг лошадь повернула голову и, прижав уши,
взглянула на него бегающими глазами, которые казались
еще злей и яростней из-за того, что как раз на высоте
глаз по уродливой морде косо шли белые пятна. При
58
аяде этой уродливой головы перед пим на миг промельк-
нуло давно забытое человеческое лицо. Прежде ему нуж-
но было очень постараться, чтобы вызвать в памяти чер-
ты этого человека, а теперь они сами встали перед ним.
Однако воспоминание, вернувшееся вместе с этим лицом,
было не столь отчетливо. Он знал только, что оно отно-
сится к двенадцатому году его жизни, к той поре, память
о которой как-то связана с запахом сладкого и теплого
лущеного миндаля.
Он вспомнил, что это — искаженное лицо омерзитель-
ного нищего, которого он всего один раз видел в отцов-
ской лавке. Искажено это лицо было от страха, потому
что люди угрожали нищему, у которого была крупная
золотая монета, а откуда она взялась, он сказать не
хотел.
Лицо снова расплылось и исчезло, а купеческий сын
все еще шарил пальцами в складках одежды; когда его
осенила не вполне ясная мысль, он нерешительно выта-
щил руку, обронив при этом завернутый в шелковую бу-
магу берилл под ноги лошади. Купеческий сын нагнулся,
лошадь изо всех сил ударила его копытом по чреслам.
Он опрокинулся навзничь, громко застонал, его колени
подогнулись, а пятки стали непрестанно бить о землю. Два
солдата встали и подняли его, схватив за плечи и под
колени. Он почувствовал запах их одежды, гот самый
душный безутешный запах, что шел из их комнаты на
улицу, и хотел вспомнить, где уже вдыхал его однажды,
давным-давно, но тут сознание покинуло его. Они про-
несли его по низенькой лестнице, по длинному полутем-
ному коридору и уложили в одной из своих комнат на
низкую железную кровать. Потом они обыскали его оде-
жду, забрали цепочку и семь золотых и лишь потом, тро-
нутые его непрерывными стонами, пошли за хирургом.
Через некоторое время он открыл глаза и постиг созна-
нием мучившую его боль. Но еще больше испугало и
встревожило его то, что он лежит один в этом унылом
помещении. С трудом устремив глаза в терзаемых болью
глазницах на стену, он увидел на полке три ломтя того
самого хлеба, который солдаты несли через двор.
В комнате не было ничего, кроме жестких низких
кроватей, запаха сухого тростника, которым были набиты
„ матрацы, и других душных, безутешных запахов.
Некоторое время его мучила только боль и удушаю-
щий страх смерти, по сравнению с которым боль была
59
облегчением. Потом ему удалось на мгновение позабыть
страх смерти и подумать, как все это случилось.
И тут он почувствовал другой страх, колющий, по не
столь гнетущий; такой страх он испытывал не впервые,
а сейчас ощутил его как нечто преодоленное. И он сжал
кулаки и проклял своих слуг, которые, сами но зная о том,
погнали его навстречу смерти: прислужник — в город,
старуха — в лавку ювелира, девушка — в заднюю ком-
нату, а девочка, с помощью своего коварного двойника,
в теплицу и оттуда, — он вновь увидел свой головокружи-
тельный путь по ужасным лестницам и мостам, — под
копыто лошади. И снова на пего папал великий, удушли-
вый страх. Потом оп заскулил, как младенец, не от боли,
а от душевной муки, и зубы его тесно сомкнулись.
С великой горечью смотрел он на свою прошлую жизнь
и отрекался от всего, что ему было мило. Преждевремен-
ная смерть была до того ему ненавистна, что он возне-
навидел и свою жизнь, которая привела его к смерти. Эта
безысходная ярость отняла у него последние силы. Го-
лова у него кружилась, и на короткое время оп опять за-
былся дурным, пьяпым сном. Потом проснулся и хотел
закричать, потому что по-прежнему лежал один, но голос
его не слушался. Под конец его вырвало сперва желчью,
потом кровью, и он умер с искаженным лицом, закусив
губы так, что обнажились зубы и десна, и выражение его
стало чужим и злобным.
Райнер Мария Рильке
(1875-1926)
Песнь о любви и смерти корнета
Кристофа Рильке
«...24 ноября 1663 года Отто
фон Рильке, владелец именья
Лангенау (Грёнитц и Цигра)
введен во владение долей в име-
нии Линда, прежде принадле-
жавшей брату его Кристофу,
павшему в Венгрии, однако при
том условии, что он отказыва-
ется от всех и всяческих прав
на означенную долю в случае%
ежели брат его Кристоф (пав-
ший р чине корнета в эскадроне
барона фон Пировано Его им-
пер велич австр. гейстерского
кавалерийского полка, что при-
лагаемым свидетельством о смер-
ти удостоверяется) воротится
в указанное именье...»
В седле, в седле, в седле, день и ночь в седле, день
и ночь.
В седле, в седле, в седле.
И остыла отвага, и тоска разрослась. И гор больше
йет, и почти уже нет деревьев. Все боится подняться от
страха. Чужие домишки жадно припали к иссякшим ко-
лодцам. Ни колокольни нигде. Ничего. Глаза проглядишь.
Только ночью иногда вдруг покажется, будто знаешь до-
рогу. Что, если ночью мы проходим обратно тог путь, что
отвоевали за день у чужого нам солнца? Может статься.
Солнце здесь тяжкое, как у нас в самое летнее пекло. По
61
ведь летом мы отбывали. Женские платья долго сияли
на зеленой траве. И мы уже долго скачем. Значит, сей-
час уже осень. Да, конечно, там уже осень, где нас пом-
нят грустные женщины.
Фон Лангенау трясется в седле. Он говорит:
— Маркиз...
Рядом маленький тонкий француз, сперва он три дня
напролет болтал и смеялся. Теперь он умолк. Он как ре-
бенок, которому хочется спать. Белое кружево на ворот-
нике у француза все в пыли; он ее не замечает. Он вянет,
вянет на своем бархатном седле.
Но фон Лангенау ему улыбается:
— У вас удивительные глаза, маркиз. Вы, верно, по-
хожи на мать...
И снова расцветает маленький француз, и стряхивает
пыль с воротника, и снова он свеж.
Кто-то рассказывает о своей матери. Немец, конечно.
Медленно, четко он ставит слова. Так девушка, плетя
венок, подбирает цветок к цветку и еще не знает, что
выйдет. Так и он подбирает слова. Что сплетется? Пе-
чаль? Или радость? Все затаились. Даже сглотнуть боят-
ся. Тут настоящие господа, уж они-то умеют слушать. А
те, кто не знает по-немецки, вдруг разбирают слова, вдруг
ощущают па вкус: «Вечером... Я был еще маленький...»
И они породнились, господа из Бургундии, Франции,
из Голландии, посланцы от долов Каринтии, замков Бо-
гемии, от кайзера Леопольда. Ведь то, что рассказывает
один, было с ними со всеми, и в точности так же. Словно
на свете одна только мать.
Кони вступают в ночь, в начало неведомой ночи. Все
снова молчат, но с ними светлое слово. И вот маркиз
снимает шлем. Волосы у него легкие, темные, и, когда он
склоняет голову, они льнут к щекам нежно, как у жен-
щины. И Лангенау тоже видит: что-то встает вдалеке,
стройное, темное. И сияет. Один, одинокий, ветхий стол-
бец. И, уже миновав его, много позже, вдруг Лангенау
понял, что это была Мадонна.
Бивачный костер. Все сели вокруг и ждут. Ждут, чтоб
кто-то завел песню. Но все так устали. Красный огонь
тяжел. Он падает на пыльные сапоги, всползает по но-
62
гам, подглядывает иод бессильно забытые на коленях
ладони. Он бескрыл. И оттого лица — темпы. Но вот за-
светились впотьмах глаза маленького француза. Он по-
целовал маленькую розу и спрятал опять. Пусть вянет
дальше у него на груди. Фон Лангенау все впдол, потому
что ему не спалось. Он думает: «Л у меня нет розы, нет
у меня розы». И тогда фон Лангенау заводит песню. Это
старая, грустная песня. Ее поют наши девушки в поле
осенью, под конец жатвы.
Говорит маленький француз:
— Вы ведь еще совсем молодой, не правда ли?
И Лангенау ему, то ли с вызовом, то ли с печалью:
— Восемнадцать лет.
И оба молчат.
Потом француз спрашивает:
— Вы тоже оставили дома невесту, юнкер?
— А вы? — отвечает вопросом фон Лангенау.
— У ней волосы светлые, как у вас.
И снова оба молчат, и немец кричит наконец:
— Так какого же черта трястись в седле по этсй
мерзкой земле навстречу турецким псам?
И маркиз улыбается:
— Чтоб воротиться.
А Лангенау грустно. Он вспоминает светловолосую
девушку, с которой играл. Буйные игры. Домой бы, до-
мой, хоть на минутку, чтоб только успеть сказать ей:
— Ты прости мне, Магдалена, что я всегда был такой.
«Почему был?» — думает он.
Но они далеко.
И вот па рассвете — навстречу конник, и еще, и уже
их четверо, десять. Огромные, в латах. А дальше целая
тысяча — войско.
Дальше им — порознь.
— Счастливый путь, желаю вам воротиться, маркиз.
— Храни вас пресвятая дева, юнкер.
Но им нельзя разлучиться, они друзья, они братья.
Им еще столько надо поведать друг другу, они уже столь-
ко друг другу доверили. Медлят. И стук копыт, и спешка
вокруг И тогда маркиз срывает слишком большую пер-
чатку с правой руки. Вынимает ту розу, обрывает с нее
лепесток. Так ломают просфору.
63
— Она защитит вас. Прощайте.
Фон Лангснау застыл. Долго смотрит он вслед фран-
цузу. Потом он сует под мундир чужой лепесток. И вот
уже лепесток колышут, качают волны сердца. Трубят.
Юнкер пришпоривает коня. Война зовет. Он усмехается
горько: чужая женщина его хранит.
День целый — обозы. Пестрота, ругань, смех, — слеп-
нет земля. Мальчишки носятся. Дерутся, орут. Карминно-
красные шляпки торчат на реющих волосах шлюх. Шлю-
хи мигают зазывпо. Солдаты ступают черно-чугунно, как
бредущая ночь. Хватают девок, срывают с них платья.
Валят их прямо на барабаны. Борьба и неистовство рук
будят бой барабанов, и он гулок со сна, он гулок. А вече-
ром, вечером ему подносят огпи, странные огни: будто
это вино светится в шлемах. Вино? Или кровь? Кто раз-
личит?
Но вот и Шпорк. Рядом с белым своим скакуном
высится граф. Длинные волосы графа отливают латным
железом.
Фон Лангенау ни о чем не спросил. Он узнает гене-
рала, он соскакивает с коня и склоняется перед генера-
лом в поклоне, в облаке пыли. Он достает из-за пазухи
бумагу — рекомендательное письмо. Но граф приказы-
вает:
— Читайте сами эту писанину.
Губы даже не шевельнулись. Излишне. Заранее сло-
жены для презренья. Все прочее доскажет десница. До-
вольно, точка — вот ее знак. Юнкер давно уже кончил
читать. Он забыл, где стоит. Все заслоняет Шпорк. Даже
небо исчезло. И тогда говорит Шпорк, великий генерал:
— Корпет.
И это — много.
Эскадрон лежит за Рабой. Фон Лангенау скачет один.
Поле. Вечер. Заклепки сбруи сверкают сквозь пыль впе-
реди, потом встает месяц. Он высветлил руки корнета.
Корнета клонит в сон.
Вдруг откуда-то крик.
В тот же миг
разрывается сон.
Нет. Не кычет сова. Впереди
одинокое дерево: «Освободи!»
И он видит: там вздыблено что-то. Вздыблено тело,
юное женское тело,
голое, все в крови,
молит — веревки порви!
И он прыгает в черную зелень,
он рубит горячие путы,
и горит ее взор,
и оскалепы зубы.
Неужто смеется?
В седло. Мчать.
В сердце ударил страх.
Но кулак с кровавой веревкой он
не смеет разжать.
Фон Лангенау задумался. Он пишет письмо. Медлен-
но он выводит большими буквами, строгими и прямыми:
«Дорогая матушка,
гордитесь: я несу знамя,
не тревожьтесь: я несу знамя,
любите меня: я несу знамя».
Потом он прячет письмо под мундир, в сокровенное
место, туда, где лежит уже розовый лепесток. Он думает:
скоро оно тоже будет пахнуть розой. И думает: быть мо-
жет, кто-то найдет его... И думает: ...ведь враг уже
близко.
Кони топчут убитого крестьянина. Глаза у крестья-
нина распахнуты, и в них отражается что-то; нет, это не
небо. Потом воют собаки. Значит, скоро накоиец-то жи-
лье. Над домишками камешю высится замок. Широко
перед ними стелется мост. Просторны ворота. Пронзите-
лен рог. Чу! Крики, звон и собачий лай! Кони ржут, и
гремят копыта.
Отдохнуть. Погостить. Наконец-то не думать о том,
чем набить себе брюхо. Дать покой изнуренному слуху.
Предаться тому, что случится. Что будет — то благо.
Пусть разляжется вольно отвага на нежном шитье по-
крывала. Ты сейчас не солдат. Разметать свои локоны
смело, свободно по свободному воротнику. Раскинуться в
креслах. Чтобы пело блаженно все тело, раскинуться —
3 Австрийская новелла XX в. 65
после купанья. И заново постигать, что суть эти женщи-
ны. Что за повадка у белых и каковы голубые; и что за
ладони у них, и как переливчат их смех, когда пажи
светлокудрые, склоняясь под тяжестью чаш, им подносят
плоды.
Обедом начиналось. И так нежданно обернулось ба-
лом. Огни мерцали, голоса порхали, звон хрусталя был в
песнях, и в речах, и в блеске глаз. И все пустились в пляс.
По залам бушевало море. Найти себя в приветно-милом
взоре, там утонуть, исчезнуть, потерять себя и вновь ис-
кать по залам, залам, в темный сад бежать и, словно
в колыбели, качаться в нежности ветров, дремавшей в
них доселе и взбудораженной смятением шелков.
От темного вина и тысяч роз час опрометью мчится в
ночь и в сон.
И некто лишь стоит, не смея шелохнуться, боясь оч-
нуться, сна распутать сети; ведь только в снах есть
женщины, как эти; из серебра бесед они сплетают мгно-
венья; их каждое движенье, как складка, на парчу легло;
и если они руки подымают, то будто розы обрывают —
там где-то, где и не бывает роз. Ты этого не встретишь
въяве — и пусть, и настигает вдруг мечта о славе. Венца
давно ждало чело.
Некто, в белых шелках, понимает, что проснуться он
не может; он не спит, он ошарашен, он объят явью.
И пугливо он прячется в сон: вот он стоит в парке, он
стоит один, он один в черном парке. Бал далеко. Огни
обманны, а ночь рядом, она прохладна и близка. И он
спрашивает у склоненной к нему женщины:
— Кто ты? Ты — ночь?
И она улыбается.
А ему вдруг стыдно своих белых шелков.
Подальше бы отсюда, снова стоять одному, в латах.
С ног до головы в латах.
— Ты забыл? Ты ведь сегодня мой паж! Ты бро-
саешь меня? Ты уходишь? Ты мой в этих белых шелках...
— Неужто соскучился по своему шершавому мун-
диру?
m
— Замерз? Или по дому тоскуешь?
Улыбается графиня.
Нет. Просто детство вдруг скользнуло с его плеч, мяг-
кое, темное платье детства. Но кто же снял его?
— Ты? — И он не узнает собственного голоса. — Ты!
И вот он уже ничем не облечен. Он стоит, как святой.
Стройный, голый, светлый.
Постепенно гаснут в замке огни. Всем хочется лечь:
все устали; кто влюблен, кто и пьян. После стольких дол-
гих, пустых и походных ночей вдруг — в кроватях. В ши-
роких дубовых кроватях. Здесь и молитва — не то, что
в мерзкой канаве, куда ложишься спать, как ложишься
в гроб.
— Да будет, Господи, воля твоя!
Молитва в кровати короче.
Но истовей.
В том покое, в башне, темно.
Но они озаряют улыбками лица друг друга. Ощупью,
будто слепцы, они ищут друг друга, как дверь. Они
жмутся друг к другу, словно дети пред призраком ночи.
Но они ничего не боятся. Что им может грозить? Нет ни
вчера, ни потом. Время рухнуло. И они цветут из раз-
валин.
Он не спросит ее: «Кто твой муж?»
Ни она его: «Кто ты?»
Ведь они повстречались во основание нового рода.
Они одарят друг друга тысячей новых имен и опять
заберут их себе, тихонько, как вынимают серьгу.
В прихожей на стуле висит портупея, мундир и плащ
фон Лангенау. Перчатки валяются на полу. Знамя засты-
ло, приткнувшись к оконной раме. Гроза за окном разру-
бает ночь в черные и белые клочья. Долгой молнией не-
сется по небу лунный луч, и мечется по полу тень не-
движного знамени. Знамя спит.
Что это? Окно распахнулось? Гроза ворвалась? От-
чего так хлопают двери? Кто бродит по дому? Ну и пусть.
Все равно. Никому не проникнуть в тот дальний покой.
Там, за сотней дверей — огромный сон, двое делят его,
и он единит их, как одна мать, как одна смерть.
3»
67
Неужто утро? И солнце встает? Какое огромное солн-
це. И птицы? Всюду их гомон.
Светлым-светло, но это не депь.
Шум и гомон, но это не птицы.
Это светятся балки. Это окна кричат. Крик красный
бросают — наружу, вниз, на врага,
что мерцает вдали, —
кричат:
— Пожар!
И — с обрывками сна па лице, в латах на голое тело,
по покоям, по залам, скорее, скорей — вниз, во двор.
И — задыхаясь в ознобе — рога:
— Сбор! Сбор!
И дрожь барабанной дроби.
Только знамени нет у них.
Оклик: — Корнет!
Ржанье коней, молитвы, крик.
Уже гневно: — Корнет!
Лязг железа, приказ, сигнал.
И — в провал тишины: — Корнет!
Еще раз: — Корнет!
И — стремглав за ворота, в мелькание белых, гнедых,
вороных...
Только знамени нет у них.
Он бежит, он не сдастся пожару на милость: стены,
двери, все против него сговорилось. Вот и лестница. Вон
из безумного зданья! На руках он выносит поникшее зна-
мя, словно женщину — белую, без сознанья. Вот мой
конь. Поскорей. Это крик, это крик: поскорей, поскорей,
от чужих, от своих! И тогда только знамя приходит в себя
и царственно реет над ним; и виден в занявшемся дне
светлый юноша на коне. Он без шлема, один, он древко
прижимает к груди, он далеко впереди, и они узнают
свое знамя...
Но вот знамя стало светиться, качнулось вперед, обаг-
рилось, стало огромное...
Знамя пылает в гуще врагов, и они несутся туда,
за ним.
68
Фон Лангенау в гуще врагов, но он совсем один. Он
один в очерченном ужасом кольце, под медленно дого-
рающим знаменем.
Медленно, задумчиво даже, он озирается. Все так
странно, пестро. «Сады», — думает оп и улыбается. Но
вот он чувствует на себе цепкие глаза и видит лица, и он
узнает, что это поганые псы — и гонит коня на них.
Кольцо сжимается, смыкается, — и тогда ото вдруг
снова — сады, а взмег шестнадцати клинков, гнутых лу-
чей, косых лучей — это снова бал.
И хохочущий водоворот.
Мундир сгорел в замке, и письмо, и чужой розовый
лепесток. Весною (она пришла холодная, хмурая) гонец
барона фон Пировано медленно ввел коня в Лангенау.
Там он увидел, как плачет старая женщина.
Ommo Штёссль
(1875-1936)
Побег из деревни
Служанка, или, как принято теперь вежливо назы-
вать, экономка, получила в воскресенье открытку, испи-
санную каракулями. Ее брат находится в Вене, на бук-
сире номер шестьдесят девять, на пристани, что располо-
жена на причале у Северного вокзала. Возможно, он
пробудет там еще день или два, а потом поплывет даль-
ше, вероятнее всего вниз по реке, в Венгрию. Если она
хочет повидаться с ним, пусть приедет. Она очень люби-
ла своего старшего брата Йозефа, гораздо сильнее, чем
младшего, четырехлетнего последыша, который сейчас,
конечно, был очень забавным: при ходьбе неуклюже пе-
реваливался с ноги на ногу, смешно лопотал; и все же
именно он был виной тому, что старший брат был теперь
там; стало быть, тоже ушел из дому, как три года назад
ушла она. Ну и история тогда получилась, когда она,
восемнадцатилетняя девчонка, уличила мать в том, что
та, — в ее-то сорок лет, что ни говори, настоящая стару-
ха, — собралась рожать! Позор да и только, все одно, что
забеременеть незамужней.
Хутор, притулившийся в лощине по правому крутому
берегу Дуная, напротив Шпитца, оказался слишком мал
для такой семьи. С левой стороны, со стороны хлева, не-
большой дом теснила гора, нависая над ним великаном-
утесом, обомшелым и темно-зеленым изнутри, и казалось,
могучий камень однажды обрушится и погребет под со-
бой дом вместе с лощиной, словно специально для него
вырытой. Однако этот каменный навес просуществовал
70
уже не одно тысячелетие. Взобраться на это г обломок
скалы можно было но узенькой, едва приметной луговой
тропинке, что круто взбегала вверх позади фруктового
сада и высоко наверху упиралась в глубокую борозду,
перерезавшую отлогий восточный склон. На нем они воз-
делывали виноград. Приходилось всякий раз карабкать-
ся туда, затаскивать в корзинах навоз для удобрения, а
в засушливое время — и воду в бидонах; а чтобы эту бес-
ценную землю не смыло дождем, ее огораживали камен-
ной оградой, которая делила склон на три небольшие
террасы. И надо было следить, чтобы эти едва скреплен-
ные грубые каменные стены пе обрушились. Растения
необходимо было мотыжить и окучивать, все время со-
гнувшись в три погибели. Каждый день пропалывать. Об-
резать лозу. Привязывать ее к колышкам. Выше в горы
начинался лес. Там у них тоже был свой участок. Осенью
приступали к заготовке дров. Валили деревья, обрубали
сучья, потом обтесывали стволы, собирали хворост и уж
тогда, вязанками или в мешках, тащили вниз все, что не
годилось для лесопильни илп сплава: чурбаки, сучья, пал-
ки, колья. Но хуже всего было с сепом, с кормом для
скота. Луга лежали еще выше леса, в двух часах ходьбы
от него. Траву косили, растрясали и сушили па солнце.
Зорко следили, чтобы ее пе замочил дождь; едва набега-
ли тучи и поднимался угрожающий ветер, как надо было
немедля мчаться наверх и спешно сгребать сепо грабля-
ми. В общем, постоянно состязались с погодой: кто кого
обгонит. Соно затем сметывали в стожки — в рост че-
ловека, укладывали их на ремни и на своем горбу волок-
ли вниз, к дому. Спина трещала от натуги. Уже в четыр-
надцать лет, сразу после окончания школы, ей пришлось
изведать этот нелегкий труд, поскольку мать тогда хво-
рала и не могла выполнять непосильную для нее работу
в поле. Ей удалили грыжу; эта болезнь была распростра-
нена в материнской родне, и если бы дочь пошла ио ее
стопам и выполняла те же полевые работы, не мино-
вать бы и ей подобной операции. А пока ей пришлось
заменить мать, которая ограничивалась работой на кух-
не и в хлеву. Заготовкой леса и возделыванием винограда
занимались в основном отец с братом, женщины же помо-
гали во время сенокоса и жатвы, сушили сено, носили его
вниз, ухаживали за скотом, доили коров. От таскания
сена у Марии уже через год ноги стали, что называется,
колесом: ей не под силу было в течение двух часов та-
71
щить вниз по каменистой тропе такую тяжесть. До тех
пор у нее были прямые красивые ноги, каждому — за-
гляденье, а теперь... Можно было только пожалеть... в
остальном она была вовсе не дурна! А потом еще эта исто-
рия с ребенком, который должен родиться. Если будет
мальчик, то дом со временем достанется ему; так уж по-
лагалось по древним, бытующим в их местности обы-
чаям: усадьба отходила всегда к меньшому сыну. Стар-
шие могли уйти со двора, если им выплачивали их долю,
или становились работниками нового хозяина, их млад-
шего брата, что, конечно, никогда до добра не доводило.
Кто способен так легко покориться младшему? С братом
Йозефом она хорошо ладила. У него она охотно бы оста-
лась, если бы, конечно, не вышла замуж, и вела бы его
хозяйство, если бы, разумеется, он не женился. Он не
намного моложе ее, к тому же он парень и потому силь-
нее, что само по себе уже много значит. Да он и счи-
тался с ней. Но ради младшего брата она вовсе не хотела
губить свою молодость. Заработать себе грыжу, а потом
еще и оперироваться? Ну, уж нет, лучше сразу пове-
ситься! Хватит с нее и кривых ног! Сколько горьких
упреков бросила она в лицо матери, когда узнала о не-
счастье. О! она очень жестоко обошлась тогда с матерью,
с ней мать никогда не была такой жестокой. Слыхано ли
подобное?! Какой позор для старухи! Какой стыд, в ее-то
сорок лет! А что будет, если родится мальчик? Тем самым
мать просто лишает старших детей дома, а они должны
еще надрываться до его рождения да и после, пока он
не вырастет и не прогонит их прочь со двора. Если мать
заболеет, им придется выполнять и ее работу. Мать дол-
жна была обо всем этом заранее подумать! Она ведь
уже не молода, чтобы оказаться такой дурой. Л что те-
перь остается делать им, ее детям? Что? Тут мать запла-
кала. Она фартуком утирала слезы, ей было стыдно. Дей-
ствительно неприятно, когда старая женщина вынуждена
стыдиться собственной дочери, старая женщина, которая
могла бы быть уже бабушкой; разве такое видано?! Дочь
никак не могла остановиться, грубые слова лились пото-
ком, и чем больше ужаса и жалости вызывала в ней
мать, — как-никак мать! — тем настойчивее упрекала
она ее в содеянном, пока мать наконец не заплакала в го-
лос. «Если ты не прекратишь, я повешусь!» — всхлипну-
ла она и поднялась на чердак. Мария тогда испугалась,
как бы мать и в самом деле чего такого не натворила, и
72
замолчала. С тех пор она оставила мать в покое. В зим-
ние дни, когда работы на дворе было мало, мать и дочь
сидели возле окна. Мать шила белье для будущего мла-
денца, дочь вязала. Тогда-то мать и посоветовала дочери
уйти в город и поискать работы. Ничего хорошего ей ра-
бота в поле не принесет. Жепщины в их роду не отлича-
лись особенным здоровьем, а крестьянская работа поща-
ды не знает. Да иначе и невозможно! Об этом и говорить
смешно! Работа-то должна делаться! Крестьянин ведь
не может ждать. Если все делать не вовремя, не будет и
денег, на которые он рассчитывает. За то, что они уиу-
стили из-за ее операции, мать расплачивалась теперь
сама: она осталась без зубов. Плохие зубы — это тоже
наследственное. «Мои челюсти — в городе у врача», —
обычно говорила она в ответ на вопросы, почему она не
вставит себе зубы. Нет, нечего Марии тут оставаться!
Только в город! Работа по дому будет лишь удовольст-
вием после таких мучений; а не дай бог мать умрет, то-
гда Марии и вовсе придется съехать со двора, прихватив
самое необходимое из белья, одежды и прочего, что могло
пригодиться ей на первый случай, потому что вскоре отец
возьмет молодую жену, и тогда уж детям ничего не до-
станется. Только бы не состариться здесь, в усадьбе!
Очень уж тяжело это. И не выходить замуж за крестья-
нина! Для этого надо быть очень крепкой. Мужчины тут
еще выдерживают, если, конечно, не спиваются. Отец
был здоровым и сильным, настоящий мужчина, ничего
не скажешь. И он ее любил. Он даже женился на ней, ко-
гда у нее уже была маленькая Мария, а ведь его родители
прочили ему в жены богатую невесту. Счастье, что усадь-
ба тогда вскорости освободилась. Собственная мать вы-
гнала ее из дома на ночь глядя, в непогоду, с малышкой
на руках, с ней, с Марией. А будущий муж пристроил.
Счастье, что она вскорости оказалась нужна ему и он
ценился на ней. Тогда ей казалось, что быть крестьянкой
Проще простого: вести собственное хозяйство, рожать и
растить детей. От работы муж стал только моложе, а она
состарилась. Если она умрет, разве он останется вдовцом
и передаст хозяйство детям? Нет, он вскорости приведет
в дом молодую жену. Поэтому Марии лучше заблаговре-
менно побеспокоиться о себе и уйти не слишком поздно.
С сыном обстоит несколько иначе: он — часть этого дома,
ему здесь все же лучше, чем у чужих, где он будет толь-
73
ко работником или батраком. Это не девочка, нет! Вот
только придется обождать до поры до времени.
Весной родился вправду мальчик. Мария ухаживала
за матерью, и когда та оправилась настолько, что могла
вставать и вести хозяйство, дочь уехала в Вену и наня-
лась там прислугой и теперь приезжала домой только на
время отпуска, летом или осенью, чтобы поглядеть на
гору, порадоваться, что ей пе надо больше таскать с нее
сено или волочить наверх, па скалу, корзины с навозом.
Охотнее всего она приезжала на сбор винограда, в начале
октября, чтобы вволю попеть и поплясать. В деревне по-
сле полевых работ устраивали гулянья, чтобы ублажить
молодежь, внушить ей, что это радость — жить и тру-
диться здесь, где так хорошо поют под звуки цитры
и водят хороводы, так что лишь камешки хрустят под
ногами; где нарядные крестьянские девушки ожидают на
пристани пароходы и резвятся, потешаясь над горожа-
нами. Но только не дожидаться, покуда деревней опять за-
владеют серые будни и взыщут с вас работу, словно
долги!
Когда забродило спущенное в подвалы вино, нельзя за-
бывать, сколько труда и пота оно стоило, когда было зе-
леным, и для того чтобы поддерживать в себе это вос-
поминание, надо остерегаться сделать от него даже гло-
ток, ибо вино расслабляет, одурманивает, вводит в иску-
шение. И тут уж жди всяких бед, пока не придет
очередь нового урожая, когда опять готово молодое вино
и можно снова упиваться до потери сознания, дебоширить
и творить глупости. Оттого-то и получались нескладные
семьи, ибо эти любители выпить переженились между
собой, и осталось всего-навсего несколько по-настоящему
суровых крестьян, великих трезвенников, которые, подоб-
но ее отцу, держали своих людей в строгости, лишая их да-
же небольших радостей. Да, лучше всего уезжать отсюда
сразу после сбора винограда. Мария давно бы уже могла
тут выйти замуж, но она не попалась на ату удочку!
О нет! Петь, плясать, бегать взапуски — это пожалуй-
ста, но не больше, надо уметь уйти вовремя. И тогда —
до скорого!
А вот теперь и брат ушел из дому и сейчас здесь, н
городе. Она знала, как все это получилось. После рож-
дения младшего мать часто прихварывала. Пришлось
второй раз удалять грыжу, и Марию вызвали в середипе
зимы в деревню, где она оставалась до тех пор, пока все
74
не решилось благополучно. Но так как мать, едва опра-
вившись, снова принялась за повседневную работу, здо-
ровье ее пошатнулось: ее вечно мучили разные недуги,
часто портилось настроение, мерещилась близкая смерть
и охватывал страх. Как-то с ней приключился жар, и по-
тому пригласили врача из Шпитца. И хотя дела были не
так уж плохи, он без обиняков объявил отцу и Позефу,
что мать, почитай, пе жилец на этом свете, она-де очень
плоха и вряд ли дотянет до весны, во всяком случае,
надо быть готовым к самому плохому. Крестьянам врач с
легкостью сообщает подобные вещи. Эти люди привычны
ко всякого рода тяготам, вынесут и худую весть. Брат
Йозеф принял это известие близко к сердцу, но рассудил
по-своему: если мать умрет, да еще так скоро, отец сразу
женится. Чего же ради мне оставаться в доме, если он
все равно перейдет либо к младшему брату, либо к новой
жене отца? Зачем для них надрываться? Лучше уж сразу
уйти, пока еще не поздно. Поэтому он втайне от всех
принялся за осуществление задуманного. Десять парней
из их деревни вызвались служить матросами на буксирах
Дунайской пароходной компании. Несмотря на всеобщую
безработицу, пароходству ежегодно требовались на бук-
сиры новые матросы, которые бы хорошо знали реку: это
были в основном венгры и живущие по берегам Дуная
здешние крестьяне. Другим безработным, сколько бы те
ни обивали порогов агентства, отказывали. Тем десятерым
парням даже не верилось, что их всех примут на службу;
кто знает, кого из них отберут и что за испытания им
устроят. Бесспорно, Дунай они знали как свои пять паль^
цев. Не один раз в год поднимались по нему, а затем спу-
скались вниз по течению на баржах, плотах и лодках —
с товарами на продажу и с товарами, купленными для
дома; по нескольку раз в год каждый из них плавал в
Вену, Линц или Пассау, и они настолько изучили ковар-
ную реку, ее отмели, водовороты, подводные банки, что
даже в непогоду и ветер им нечего было вглядываться в
загадочные знаки на картах. Как говорится, они знали
эту реку с пеленок. Йозеф умолчал о том, что и он подал
заявление, но когда их всех десятерых приняли и через
неделю предстояло уйти в рейс, он рассказал дома о своем
намерении. О скандале, который тогда разразился, Мария
Узнала от матери. Та поспешила написать ей, что Йозеф
бросил отца в самое трудное время, когда предстояла за-
готовка дров, — надо было рубить, складывать дрова и
75
носить их из лесу вниз, — и когда невозможно нанять
помощников. Вот именно теперь Йозеф уехал, потому,
видите ли, что со временем, быть может, спустя годы, мо-
гут случиться досадные изменения. Но он в этом еще рас-
кается. Ему напрасно кажется, будто где-то лучше, чем
дома, рабочего человека нигде не щадят. Дома, по край-
ней мере, у него есть все, что ему нужно. Отец совсем
голову потерял, когда Йозеф сообщил о своем намерении.
Обычно спокойный и сдержанный, — ведь виду не по-
даст, если ему трудно, — тут он плакал так, что тело его
ходуном ходило. Аж глядеть было страшно! Вот что на-
творил парень!
Но ничего уже нельзя было изменить. Теперь Йозеф
действительно работает на буксире номер шестьдесят де-
вять. Среди тех парней, которых тогда приняли на службу
благодаря знанию реки, был один негодяй, который, по
всей вероятности, и подбил Йозефа бросить дом; тот во-
обще ничего не смыслил ни в реке, ни в судах, это был
сын одной весьма состоятельной женщины, он родился в
Вене и мог бы прекрасно учиться в университете, но не
захотел, а только мучил мать, допекал ее просьбами уехать
в деревню, — он-де хочет быть крестьянином, — пока
мать действительно не купила поместье, переобору-
довала старый дом в прекрасный особняк, построила
конюшни, разбила великолепный цветник с летними
беседками, посадила несколько сот фруктовых де-
ревьев и прикупила еще луга, лесные угодья, виноград-
ники, в общем, вложила все деньги в хозяйство, лишь бы
потрафить своему единственному сыночку. Сама она при-
выкла к новой для нее жизни и прекрасно разбиралась
во всем, хотя была уже немолода. Она снимала самые вы-
сокие урожаи винограда в округе и ирода вала его по са-
мым высоким ценам; выращивала первоклассные фрукты
и поставляла их в Вену; разводила свиней, ее птицефер-
ма — куры, гуси, утки — была известна далеко за пре-
делами этой местности; продавала молоко в Шпитц и в
Креме; сдавала в аренду дачи и даже торговала вином
в розлив. Во всем этом сын был ей ленивым и ненадеж-
ным помощником. К тому же он пил: и вот из застенчи-
вого городского мальчика, который в свои четырнадцать
лет едва отрывал глаза от земли, он в течение двух лет
превратился в отпетого негодяя, подбивал крестьянских
детей, своих однолеток, на всякие хулиганские выходки.
Однажды, когда мать отлучилась по делам из дому, он
76
наприглашал гостей — среди пих были и пожилые лю-
ди, и не упускавшие благоприятного случая дармоеды —
и спустился с ними в винный подвал, который мать обыч-
но крепко-накрепко запирала; там они почали самое луч-
шее вино последнего сбора. Мать вернулась к тому вре-
мени, когда бочка уже опустела и вся пьяная компания
валялась прямо на полу. Она собственноручно, а также
с помощью батраков и служанок, повышвыривала на ули-
цу всю братию, а своего сына оставила там и держала
под замком до тех пор, пока он окончательно не протрез-
вел; тогда она отсчитала ему необходимое белье, дала
самую ветхую одежду и выделила в комнате для прислуги
шкаф, кровать и стул. Там он отныне должен был жить,
получать понедельное жалованье, как поденщик, и есть
вместе с прислугой, а не с ней, с матерью, за одним сто-
лом. И если впредь он будет недобросовестно выполнять
работу, она вышвырнет его вон, как любого батрака, и
пусть тогда живет себе как знает. Эта воспитательная
мера не только не укротила необузданный нрав упрямца,
но даже пуще прежнего настроила его против матери.
Его взяла досада: если уж из него сделали батрака, так
не все ли равно, где батрачить. Но только не в собствен-
ном доме! Лучше уехать! Наняться матросом! И вот этот
парень оказался подстрекателем; восемь других тоже
были не лучше, всё сыновья не настоящих крестьян, а
дети ремесленников и безземельных бедняков, привык-
шие к нужде, голоду, холоду, которые ничего не теряли,
им было все равно, куда идти, для них везде одинаково:
что дома, что где-то еще, — но Йозеф!..
У Имперского моста Мария сошла с трамвая. Бы-
ло первое воскресенье докабря, день клонился к закату.
Первые морозы, толстым пышным слоем лежит первый
снег; декабрь словно постарался наверстать упущенное
за целый месяц ничегонеделанья, за ноябрь, который ока-
зался на редкость солнечным и теплым, как иной счаст-
ливый сентябрь. И словно в отместку мороз так зло
щипал кожу, так резко налетал ветер и колол лицо
снег. Снег молниеносно побелил все вокруг. Было уже
темно, но эта тьма искрилась. Пышные снежные шапки
громоздились на столбах и ветвях деревьев и разлета-
лись в прах при каждом порыве ветра, устраивая настоя-
щий снежный вихрь. Но снежинки тотчас стремительно
уносились прочь и снова сбивались вместе там, где было
безветренно. Снег пушистым белым мехом укрыл стены.
77
Улицу совсем замело. Здесь, как вообще по воскресень-
ям, с самого утра не проезжала ни одна машина. А в
будни здесь обычно стоял непрерывный шум и треск от
тяжелых грузовиков, что подкатывали к вокзальным
складам или с грохотом отъезжали от них. Огромные ав-
томобильные шины, широкие металлические ободья телег
и мощные лошадиные копыта перемалывали тогда этот
снежный покров, превращая его в грязную кашу, так как
здесь было самое бойкое место в городе: люди, лошади,
машины, телеги, гудки паровозов, скрежет перегоняемых
вагонов, брань, крики, — здесь властвовала более цепкая,
страстная, алчпая, нетерпеливая природа — человек, ко-
торый жарче, чем самый жаркий день, холоднее, чем лед,
ветренее, чем ветер, стремительнее, чем река, что неудер-
жимо и неслышно несет там, внизу, свои воды по прото-
ренному руслу. Но по воскресеньям здесь господствовала
тишина, природа отдыхала, и именно здесь — безмятеж-
нее всего, лицемерная и коварная; склады молчали, чу-
гунные решетчатые ворота, ведущие к железнодорожным
путям, были наглухо заперты, только время от времени
по улице проносились трамваи, высекая снопы искр и на-
полняя звоном пустые улицы, пока линия не приводила
их в трамвайный парк, где выходили последние пасса-
жиры. Среди сгущавшейся тьмы и леденящей снежной
пурги Мария очутилась одна, наедине со своими забо-
тами, и отправилась разыскивать буксир номер шесть-
десят девять. Еще в трамвае она спрашивала кондуктора
и каких-то пассажиров, где ей лучше сойти, но ни один
из них не знал этой части города и не имел представле-
ния о буксирах. «Да, должно быть, это где-то внизу, у
Имперского моста». Только и всего; потому что для любого
венца с реки, вообще с гавани, начинается новая область,
совсем чужая — прибрежная полоса, водный путь по Ду-
наю. Там любой горожанин растеряется. Буксиры — на-
стоящие плавучие дома на воде, которые населяют водя-
ные кочевники. Одни причаливают, другие отчаливают.
Обитатели их не проводят свое свободное время собствен-
но в Вене, а лишь на окраинах; моряки сразу выделяют-
ся среди горожан, все они — выходцы из далеких мест, и
в городе им делать нечего, да у них нет к тому ни вре-
мени, ни охоты, и возможности тоже нет, поскольку
большинство из них венгры, словаки, румыны и даже бол-
гары и цыгане, всё люди простые и зачастую ни слова
не понимающие по-немецки, не говоря уже о том, чтобы
78
самим разговаривать на этом языке. Буксир — их дом,
здесь они готовят незатейливую еду, тут же спят, за ис-
ключением холостых парией, которые по вечерам целыми
ватагами вваливаются в сомнительные пивные, напивают-
ся там и вытворяют невесть что; этого Мария и опасается
больше всего, думая о своем брате. А что остается таким
беднягам, ежели им податься некуда? Молодость не
терпит одиночества. Более пожилые — рулевые, машини-
сты — все женаты. Их жены и дети тоже живут в пла-
вучих домах. В зимней гавани, когда река два долгих ме-
сяца скована льдом, они организуют на одном из парохо-
дов даже собственную школу и устраивают богослуже-
ния, чтобы уж ни шагу не ступать со своей плавучей
отчизны. Но сейчас до этого пока еще не дошло. Река в без-
удержном беге несла свои черные воды, пока еще свобод-
ные ото льда, и единичные буксиры бросали якоря пря-
мо тут, у причала, а не в порту. Они располагались далеко
друг от друга, встав носом против течения, бортом к бе-
регу. Увязая в глубоком снегу, девушка миновала послед-
ние домишки и оказалась у самой воды. В темноте она
даже не сразу разобрала, где кончилась занесенная сне-
гом укатанная дорога, и только по наклону поняла, что
начался берег. Не сразу различала она и буксиры, а толь-
ко когда оказывалась прямо против них, хотя каждый
покачивался тут же, рядом, у самого берега. За ее
спиной, ниже по реке, сияли огни Имперского моста.
А на той стороне был речной вокзал. То место было зна-
комо ей, туда прибывали пассажирские суда, грузовые
пароходы; на худой конец, может, удастся там разузнать
что-нибудь о буксире номер шестьдесят дсвягъ. Однако,
никого ни о чем не спрашивая, она уверенно шла именно
этим берегом, вверх по течению, будто ее вело к цели осо-
бое чутье, которое было присуще ей, родившейся и вы-
росшей на берегу Дуная. Река принимала людей и снова
расставалась с ними, но она оставляла в них свой след,
нелегко ее забыть; частица их сердца навсегда принадле-
жала реке, и стоило им оказаться вблизи нее, как они
тотчас без особого труда свыкались с ней. Потому-то Ма-
рия была так бесстрашна в своих одиноких поисках; она
смотрела сквозь сгущавшуюся тьму, словно глаза ее ви-
дели острее обычного, ее тело знало, что делало. Ноги,
руки, грудь, кончики пальцев, щеки, губы чувствовали
острее, чем обычно, даже дыхание помогало ей опреде-
лить, где была твердая земля, а где зыбь, где стоит
79
буксир, где находятся люди. Тут она подошла к одному
буксиру и сверху вниз крикнула: «Алло! Есть кто на бор-
ту?» И тотчас умолкла, потому что из-за сильного ветра
ее могли не услышать, Слабый, едва заметный огонек теп-
лился на палубе. Надо было подобраться поближе. Мария
нащупала под снегом камни и ступила на них, увидела
огромную черную массу, наткнулась на железную цепь,
на доски, — то был узкий мостик. Снизу веяло леденящее
дыхание реки. Мария услышала ее тихие всплески
и хлюпанье, явственнее увидела свет в рулевом отсеке,
где, как ей помнилось, на палубе, на самом верху, нахо-
дилась маленькая каюта, жилище рулевого. Вот теперь
можно и позвать. Она громко крикнула: «Алло! Есть кто
на борту?» Долго никто не отзывался. Но в каюте юрел
свет, определенно кто-нибудь должен быть «дома». Она
крикнула в другой раз и в третий. Наконец наверху отво-
рили дверь. Мария услышала ее скрип, широкой волной
на палубу устремился свет, но дверь тотчас торопливо
затворили; в мгновение белый туман исчез, и кто-то от-
ветил: «Алло! Есть!» Затявкала собака. Мария испугалась,
что из-за громкого лая ее не расслышат.
— Это буксир номер шестьдесят девять?
— Что-о?
Она старалась перекричать собачий лай и потому по
возможности громко и отчетливо крикнула еще раз:
— Это буксир номер шестьдесят девять? Есть тут
Йозеф Рингзайс?
— Что-о? Нет немец! Нет Йозеф!
Мужчина тут же исчез в своей каюте и захлопнул за
собой дверь,— из-за сильного холода и ветра он не стал
пускаться в дальнейшие объяснения, а может, и потому,
что он был венгром или хорватом и не понимал по-немец-
ки. Если бы этот буксир был номер шестьдесят девять,
мужчина разобрал бы, по крайней мере, хоть число. Со-
бака еще какое-то время тявкала ей вслед, потом и она
замолкла, вероятно, забилась в какой-нибудь угол от не-
погоды. Мария, осторожно ступая, побрела назад, пока
не нащупала твердую дорогу, и решила опять попытать
счастья. Еще дважды попадались ей буксиры, и дважды
она с трудом спускалась к самой воде и оба раза звала
так долго, покуда не открывалась дверь каюты, не по-
являлся мужчина и на ее вопрос не отвечал: «Нет тут
Йозеф!» Лаяла собака — неотъемлемая принадлежность
каждого буксира, — и лаяла до тех пор, пока Мария
80
не уходила подальше, и лишь тогда успокаивалась, как
перед тем ее сородичи. Бредя в темноте и холоде, под
порывами пронизывающего ветра, томясь в ожида-
нии того, когда ее наконец услышат, отворят дверь, вый-
дет раздосадованный мужчина, снова закроет sa собой
дверь и неясная фигура наверху прокричит в ответ: «Нет
тут Йозеф!» — под непрерывный собачий лай, а после
этого в полной тишине, — Марии казалось, что поиски
брата отняли у нее больше часа, такими долгими представ-
лялись ей минуты ожидания, и она была уже готова
бросить все, вернуться назад, под свет фонарей, к людям,
в город. Пожалуй, ей уже ие разыскать брата. А если по-
пробовать приехать днем, еще раз предпринять эту даль-
нюю поездку, его может вовсе и не оказаться здесь. Город
велик, и живет она слишком далеко отсюда. И все-таки
Мария попытала счастья еще раз. Ей чудилось, будто она
далеко-далеко от города. Она чувствовала, как ветер стал
свободным, словно не было ни стен, ни домов, как он в
беспрепятственном порыве мчался с суши к воде или на-
оборот, как запутывался в ее короткой юбке и трепал ее,
словно маленький, жалкий флажок. Нужна была какая-то
мощная преграда, чтобы сдержать его напор. Снег все
усиливался, Мария вновь спустилась к неясно проступаю-
щей громаде большого буксира. Снова позвала в тем-
ноту. Опять наверху отворилась дверь. Показался руле-
вой и ответил, прерываемый тявканьем своего пса:
— Да, шестьдесят девять. Йозеф Рингзайс.
Он знал даже имя, но произнес его так смешно, что
она не сразу разобрала и поняла его. Но, главное, она
была наконец на нужном месте. Рулевой медленно
шел по палубе ей навстречу. В руках у него был фо-
нарь, он указал ей на трап, помог подняться и унял
собаку.
Мария попыталась выспросить все у мужчины, но он
только смеялся и, с трудом переставляя ноги, бормотал
одно и то же:
— Йозеф, да, Рингзайс Йозеф, там. Буксир номер
шестьдесят девять.
Когда она очутилась на твердой палубе, — собака об-
нюхивала ее, — он указал ей налево.
— Там.
Что значит «там»? Она чуть было не свалилась в
дыру. Собака осталась наверху и рычала в зияющую чер-
ноту. Узкая деревянная лестница, настоящий куриный
81
насест, вела в трюм судна. Там, наверное, и находилась
каюта ее брата. Она хотела было идти по узким ступеням
лицом вперед, но тут же одумалась, повернулась лицом
к лесенке и пачала осторожно спускаться. Рулевой уже
вернулся в свое светлое, теплое жилище на другой сторо-
не палубы. А Мария оказалась внизу. Здесь пахло уголь-
ной пылью, керосином, сажей, дегтем, деревом, смолой;
девушка скользила на сырых холодных досках; здесь бы-
ло так тесно, что теперь она еще больше боялась упасть.
Но вот перед нею проход и тут же дверь. Мария обша-
рила дверь, нащупала ручку и попыталась нажать на
нее. Дверь не поддавалась, а только подрагивала и дре-
безжала, так что в проходе от этого звука становилось
не по себе; а дверь все не открывалась. Сверху, с палубы,
доносился собачий лай. Узкое застекленпое окно дневно-
го света, которое задели ее руки, зияло чернотой. Из куб-
рика тоже не пробивался свет. Стало быть, брата тут
не было. Но он мог ведь и сойти на берег. Разве рулевой
все заметит? На какое-то мгновеиие даже мелькнула мысль
поскорее уйти отсюда, из этого спертого воздуха, жаль,
конечно, что брата не оказалось на месте. Потом ей
вдруг пришло в голову, что ou может спать. Что еще
ему оставалось делать в этакой темноте? Ведь он дол-
жен был ждать ее. Мария постучала в дверь. Ни звука
в ответ. Постучала еще, наконец забарабанила кулаком
так, что заныла рука:, застывшие от холода пальцы го-
рели, а дверь лишь скрипела и дребезжала. Вдруг она
услышала его голос, услышала, как он проснулся и испу-
ганно вскочил. «Да»,— донеслось до нее. Он зашаркал
по полу. Звонко чиркнул спичкой. Зажег свет. Повернул
в двери ключ и впустил ее.
— Сервус, Марихен!
— Сервус, Зеф!
— Ну, вот ты и пришла.
— Да. Холодновато у тебя.
—- Да, холодно. — Он залязгал зубами.
На нем была старенькая, потрепанная курточка, из
которой он давно уже вырос, и старая лыжная шапочка,
которую он натянул на уши и заправил за высоко под-
нятый воротник. Брат стоял перед ней съежившись,
засунув руки в карманы и плотно прижав одну к дру-
гой ноги. Мария обвела взглядом помещение, и глаз ее
тотчас охватил все, что в нем находилось, а было там
не слишком много. Потолок уходил высоко вверх, кубрик
82
занимал все днище буксира. Так было дешевле: спереди,
где находилась дверь, и слева закуток был отгорожен
от огромного корпуса дощатыми стенами, в то время как
правой его стороной служила обшивка судна, а потолок
являлся одновременно и палубой. Во всяком случае, по-
лучилось довольно большое помещение. Конечно, мень-
шее было бы значительно лучше, да и пониже бы ему
быть не мешало. Кубрик походил на огромную кухню
в господском доме, добрых четыре метра в длину и шири-
ну и почти столько же в высоту. Так что потолка и не
видно в такой тьме. Кровать прикреплена к дощатой
стене и тоже довольно высоко. Если на ней сидеть, то
ноги до пола не достают. Возле кровати стоял неболь-
шой столик, на котором теперь коптила вставленная в
старый железный подсвечник свеча, тщетно пытаясь ос-
ветить своим певерным светом темную, холодную, с вы-
соким потолком и сквозняками каюту. Зато отчетливо
было видно дыхание каждого, повисавшее в воздухе бе-
лыми облачками. В печке потрескивал огонь, его отсве-
ты пробивались сквозь пазы заслонки: маленькая чугун-
ная времянка стояла посредине кубрика, ее можно было
рбойти кругом. Труба от нее уходила высоко вверх че-
рез прорезь в потолке. Казалось, в комнате должно
быть тепло, но на поверку выходило иначе. Брат то и
дело подкидывал в отверстие печки совок угля, который
он захватывал из стоявшего поодаль черного чана, и
плотно закрывал дверцу.
— Ух, и холодновато же у тебя,— сказала Мария,
подошла к печке, потрогала руками трубу и очень уди-
вилась: та оказалась чуть теплой. Холод здесь явно по-
беждал тепло; он поднимался вверх по ногам и разли-
чался по всему телу, потому что внизу, под днищем, по-
стоянно ощущалось непрестанное движение реки, и она
рще более усугубляла холод, что непрерывным потоком
просачивался сквозь обшивку судна. А потолок был хо-
рошим пособником вольного ветра, который также без
Детали навевал в кубрик леденящий холод. Стало быть,
Ш вода, и ветер нагнетали холод. И разве по силам
|было маленькой, жалкой печурке справиться с ним,
Йаже если бы ее битком набивали углем и она бы накаля-
лись докрасна. Правда, до этого не доходило, да и не-
возможно было так долго топить ее. Днем он спускался
сюда только в обеденный перерыв, а вечером — чтобы
>глечься спать. И прежде чем лечь в постель, он разводил
83
в печке огонь; но если его не поддерживать постоянно, он
угаснет, а встать и растопить печку снова Йозеф был
уже не в силах, поэтому приходилось согреваться
самому.
— Какая у тебя постель? — спросила сестра.
Из-под сбитого в сторону грубошерстного одеяла про-
глядывал соломенный тюфяк, застланный грубой просты-
ней. Йозеф рассказал о том, что лег в первую ночь
спать, как дома, сняв с себя все, до нижней рубашки.
Он тут же закоченел, поэтому завернулся в простыню,
натянув на себя одеяло, а поверх накинул еще и покры-
вало. Однако и это не согрело. Тогда он надел на себя
брюки, куртку и набросил поверх покрывала еще и паль-
то. Так, по крайней мере, можно хоть заснуть.
— Разве у тебя нет здесь теплых вещей?
— Откуда?
— А где же красный жилет, что мама связала тебе
к прошлому рождеству?
— Дома.
— А твои новые вещи: выходной костюм, куртка,
шерстяные чулки?
— Тоже дома. Да ведь жалко. Такие хорошие вещи
недолго и порвать в работе.
Да, так они были воспитаны: берегли хорошие вещи,
и те лежали дома, в сундуках, а он вот теперь мерз
в этих старых, жалких отрепьях. Мария горько усмех-
нулась.
— Ну, а еда-то хоть у тебя есть?
— Ну... так ведь готовить надо самому. — И он ука-
зал на печурку, на плите которой могла уместиться
разве что одна посудина. Сейчас там стояла миска
с водой.
Как же мальчик может сам себе что-нибудь сготовить?
Когда он, бывало, дома возвращался после работы, он
садился, вытягивал под столом ноги, клал на стол руки
и ждал, пока мать поставит перед ним тарелку с горя-
чим варевом, подаст ложку, вилку, нож, а ему остава-
лось только орудовать ими. Она даже хлеб ему наре-
зала.
— А разве ты не взял с собою мяса?
— Как не взять. Есть солонина, но ведь надо ва-
рить! — Он вздохнул.
Мария засмеялась, засмеялся и он. Да, чтобы вы-
держать здесь, нужна горячая еда. Вот вчера он с удо-
84
вольствием поел бы чего-нибудь, да он не умеет гото-
вить. Рулевой велел жене вскипятить себе чаю и влил
туда ром. И это было хорошо, так ведь у него и чая нет.
А у рулевого просить не хочется. Рома тоже нет. Он
даже не знал, что это такое. Дома к нему не привыкли.
Купить в магазине он тоже ничего не мог, потому что
боялся покинуть буксир. Тот в любую минуту может от-
правиться в рейс, едва только поступит приказ. Рулевой
все отмалчивается, не хочет, чтобы матрос сошел на
берег. Уйдешь — а буксир как раз и отчалит. То-то бу-
дет сраму! Так что уж лучше сидеть на месте. А вот
горяченького поел бы с удовольствием! Поэтому он ки-
пятил воду и пил голый кипяток. Бр-рр!
— Тоже неплохо!— засмеялся он.
— Как работа?
Он сидел на кровати и болтал ногами.
Все бы ничего, если бы только делать что-нибудь по-
настоящему, так, чтобы в жар бросало, а то что это за
работа, коли от нее мерзнешь! В общем, не из прият-
ных. Что он делает? Во время рейса он попеременно
с рулевым стоит у штурвала. Тянет пароход. Стоять у
руля и держать курс вовсе не так уж трудно, если бы
только пе ветер там, наверху. Ну и ветрище! На суше та-
кого никогда не бывает. Руки просто пристывают к де-
реву. Через два часа тебя сменяют. Но и это можно бы
вынести, если бы не снег... Тогда приходится мести
лестницу, что ведет к кабине рулевого, и счищать
снег со всей палубы. Тут, конечно, можно и под-
вигаться, согреться. А как управишься с этим и коли
у тебя еще останется время от вахты, сползаешь сюда,
в кубрик, и протопишь немного. Но это вовсе не помо-
гает, так что мерзнешь и там и тут, а ежели буксир ут-
ром отчалит, тогда уж точно превращаешься в ледышку.
А скучища! Не с кем словом перемолвиться. Сплошь од-
ни венгры да хорваты. Те хоть, по крайней мере, варят
себе что-нибудь, у них есть жены, дети, собаки. Но по-
знакомиться с ними очень трудно. Разговариваешь толь-
ко по делу, крикнешь что-нибудь, объяснишь руками,
укажешь вправо, влево, наверх или пригрозишь кому-ни-
будь съездить по роже. Был ли он хоть раз в каюте
рулевого? Что у того за жена? Могла бы, конечно, сва-
рить ему что-нибудь из солонины или хоть сделать чай,
если бы он попросил ее об этом и заплатил.
— Нет, я только заглядывал туда, — засмеялся оя.
85
Там висело белье, бегали ребятишки и собака. Нет, он
еще ни разу к ним не заходил.
А может, лучше оставить буксир, пусть едет без не-
го, а самому вернуться назад, домой? Там ведь у него
есть все. Или нет? Хлеб, соль, теплые вещи! Хорошая
работа и никаких забот!
Оно, конечно, так, дома лучше. Теперь-то он это по-
нимает. Верно! Стоит ему только уйти отсюда, проехать
два часа по железной дороге — и он снова дома. Йозеф
покачал головой и ничего не сказал Марии. Мария
продолжала уговаривать его.
— Не сейчас!— ответил он и поежился в своем паль-
тишке. — Мне будет очень стыдно! — стуча зубами, вы-
давил он.
Сестра кивнула. Она это понимала. Тут он прав, на-
до доводить до конца то, что начал.
Какое-то время Мария в неподвижности стояла пе-
ред топящейся печкой, которая нисколько не обогре-
вала. Брат сидел на кровати, болтал ногами и кутал-
ся в пальто. Оба молчали. Потом она повернулась
к нему.
— Ну, что ж. Мне надо уходить. До дому добирать-
ся два часа, мои хозяева живут далеко отсюда.
Почти столько же ехать до Шпитца по железной до-
роге. Огромный город!
— Приедешь ко мне?— спросила она его.
— Нет, — ответил он. Иначе буксир уйдет без не-
го. А этого не должно случиться.
Но ведь она и спросила просто так, приличия
ради.
— Ну, тогда прощай, Зеф.
— Прощай, Марихен.
Он протянул ей руку, на глаза у нее навернулись
слезы. Открыл дверь. Мария поднялась наверх по кру-
той лестнице. Он шел за ней. На палубе залаяла собака,
обнюхала их и отряхнулась. Холод освежал, взбадривал,
не то что в затхлом кубрике. Перед тем как ступить на
трап, она еще раз обернулась к брату.
— Будь здоров, Зеф.
— Будь здорова, Марихен.
Они помахали друг другу и опять коротко рассмея-
лись.
Осторожно ступая по мягкому снегу, она шла к ос-
вещенным фонарями трамвайным путям и безудержно
86
плакала. Но потом одумалась: «Он бы не стал так вол-
новаться за меня, как я за него».
А он тем временем опять спустился в свою каморку,
подкинул совок угля в печь и слушал, как гудел огонь,
который не приносил тепла, — и, как был, в одежде,
плюхнулся на постель, завернулся в одеяло и наки-
нул поверх пальто. Домой? Ну уж нет1 Ему было
стыдно.
— Стыдоба!
Ни о чем другом он не думал, а только о том, что
стыдно: с какой стороны ни подойди.
Puxapg Шаукаль
(1874-1942)
Рандеву
Маркиз де Троэль, цветущий молодой человек, атта-
ше французской миссии в Вене, наслаждался веселой
жизнью чарующего города с восхитительной неутомимо-
стью новичка. В каждой красавице виделась ему цель
победоносной атаки. Назначение его состоялось недав-
но, в самый разгар сезона, во всех лучших домах он был
представлен в первые же дни и сразу привлек к себе
всеобщее благосклонное любопытство. Пылкая юность,
живой взор, обаяние тонких черт, в которых прогляды-
вала грациозность породистого скакуна, непринужденная
безупречность манер, наконец, не в последнюю очередь,
слухи о его богатстве, — единственный наследник в се-
мье, и родители души не чают в сыне, — все обещало
новому атташе счастливую, безоблачную службу. Имя
его было у всех па устах, многие втайне ему завидо-
вали, к тому же у него сразу объявился нешуточный
враг — обстоятельство, которое только еще больше по-
догревало интерес к красивому иностранцу. Не слишком
утруждаясь расспросами о негласных светских привязан-
ностях, маркиз щедро бросал к ногам дам пылкое обо-
жание. Среди избранниц маркиза оказалась и графиня
Фанни Хоенмаут, супруга высокопоставленного имперско-
го чиновпика. Несколько раз повстречавшись с восхити-
тельной женщиной в свете, маркиз, не привыкший меш-
кать в сердечных делах, счел за благо навестить ее дома,
одну. Сквозь полумрак мерцающих зеркалами залов, где
китайские вазы и позолоченные колонны вырастали пря-
83
мо из пола на каждом шагу, камердинер провел его а
будуар графини, которая, выказав приличествующую
растерянность, приняла его в некотором смущении. Гра-
фине и впрямь было от чего растеряться. В этот час она
с минуты на минуту ожидала визита Джорджа Аллана
Сеймура. А он, надо заметить, был другом сердца оча-
ровательной дамы. Маркиз, убедившись, что они с кра-
савицей наедине, с пылкой нежностью поцеловал ей ру-
ку и, завладев узкой ладошкой, обратил к графине пре-
красное юное лицо в обрамлении волнистых локонов,
устремив в ее васильковые глаза один из самых прон-
зительных своих взглядов. Графиня смутилась еще силь-
ней, а гость с ловкой учтивостью истинного донжуана
уже опустился перед ней на колено, — тут графиня пе-
репугалась не на шутку, — и вымолвил:
— Графиня, вы видите, моя жизнь, честь, сердце от-
даны вам на кончике шпаги. Я полюбил вас с той мину-
ты, когда имел счастье впервые вас увидеть. Все мои
помыслы — и днем, и ночью — только о вас. В моей
жизни не осталось иной мечты. Вверяю вам свою судь-
бу — распоряжайтесь ею.
Быстро, но достаточно внятно произнеся это призна-
ние приятным, хотя и приглушенным голосом, маркиз
пленил и вторую руку графини, нежно соединил обе в
своей и мягко приложил к левой стороне груди, где под
кружевным жабо трепетно билось его юное, жаждущее
приключений сердце. В это время миниатюрные часы на
белом мраморе камина мелодично пробили четыре.
— Встаньте, маркиз, — пролепетала графиня, и в ее
голосе коленопреклоненный гость услышал доброе пред-
знаменование. — Встаньте, прошу вас! Сюда могут
прийти.
Маркиз, однако, и не думал вставать.
— Скажите, что полюбите меня, что у меня есть на-
дежда!— воскликнул он.
Слух графини, донельзя обостренный испугом, уже
^Лавливал в соседних залах приближающиеся шаги, и
<№а, в ужасе откинувшись всем телом, высвободила ру-
;Ци из объятий слишком стремительного поклонника, от-
прянула назад и, торопясь положить конец опасной сце-
вб, опустив ресницы (маркиз и в этом увидел добрый
*нак), прошептала:
— Возможно.
В ту же секунду маркиз был на ногах, поправил шпа-
89
гу и небрежно облокотился на спинку кресла, лаская ру-
кой дорогую лилово-красную обивку. Теперь шаги были
совсем близко, прямо у него за спиной. Маркиз обернул-
ся. Камердинер доложил о прибытии мистера Джорджа
Аллана Сеймура, а тот едва не наступал камердинеру на
пятки. Маркиз взглянул на нового гостя и сразу понял,
что перед ним враг.
На маркиза смотрел мужчина высокого роста, лет
тридцати с небольшим. Все в нем дышало безупречно-
стью: точеная линия узких бедер, широкий разворот плеч,
гордая посадка красивой крупной головы. Но замеча-
тельней всего было лицо — демоническое, истерзанное
страстями. Рот — словно отверстая рапа. Неспокойный,
блуждающий взгляд.
Графиня была на грани обморока. Дипломаты холод-
но раскланялись. А когда маркиз, обронив несколько
безразличных учтивостей, направился к дверям, Сеймур
поспешил опуститься в кресло и по-хозяйски закинул
ногу за ногу. Движение это привело маркиза в неопи-
суемую ярость.
Два дня спустя, повстречав графиню на торжествен-
ном приеме во дворце, маркиз шепнул ей:
— Графиня, мне нет дела до соперника. Но и вам
не о чем тревожиться — я заручился доверием вашей
камеристки.
Графиня побелела. Дерзкая выдумка маркиза вызва-
ла в ней предчувствие неминуемой беды.
Завоевать расположение камеристки оказалось не-
сложно. Вечером того же дня, когда Гектор де Троэль
нанес графине первый, столь необычный визит, он при-
казал своему слуге познакомиться с камеристкой и впу-
шить ей, что господин без памяти в пее влюблен.
Приказание это было исполнено, к вящему удовольст-
вию обеих сторон. Вскорости слуга доложил, что Пепи —
кстати, она прехорошенькая — вполне осознает, какую
честь оказывает ей маркиз своей благосклонностью. О том,
как его повелитель проявит эту благосклонность, прой-
доха предпочел умолчать. Он окутал предстоящее сви-
дание розовым ароматом тайны, да так искусно, что де-
вушка совсем обмирала от восторга и смутной сердечной
тоски.
Три дня спустя после знаменательного визита, око-
ло одиннадцати часов ночи, маркиз, — он предваритель-
но послал слугу разведать все ходы и выходы, — заку-
пи
тавшись в темный плащ, словно тень возник под аркой
внутреннего двора во дворце Хоенмаута. Тусклый фонарь
освещал длинный коридор, что ведет на кухню и в люд-
скую. Маркиз крадучись вышел из укрытия. Тесный дво-
рик вымощен булыжником и по всем четырем сторонам
окаймлен высокой, почти на уровне третьего этажа, га-
лереей-балконом. Точно такая же галерея украшала и
фасад графского дома.
Ждать пришлось недолго — из недр темного кори-
дора послышались легкие шаги. Пепи подошла робко и
тотчас же очутилась в нежных объятиях. Маркиз увлек
девушку к свету, оглядел ее долгим, взыскательным
взглядом и прошептал:
— Милая крошка, где твоя комната?
Предварив таким образом романтическое свидание,
при мысли о котором у камеристки второй раз за два-
дцать четыре часа голова пошла кругом, подкрепив к
тому же свои слова властным поцелуем и умелым объя-
тием, маркиз решительно развернулся, всем видом да-
вая понять, что он готов следовать за нею. Бедная де-
вушка явно не ожидала, что любовное приключение при-
мет столь скорый оборот, и пыталась сопротивляться.
Однако сильная рука молодого человека уверенно на-
правила ее к винтовой лесенке, на которую сверху падал
слабый, едва различимый свет. Не в силах сопротивлять-
ся, она покорилась, тем более что ее настойчивый спут-
ник легко узнавал дорогу. В нежных объятиях просто-
душной служанки маркиз без помех утолил свои жела-
ния, испытав при этом двойное удовольствие, ибо, на-
мечая обходной маневр с камеристкой, он и думать не
думал, что маневр этот сулит столь приятные услады.
Несколько дней маркиз осчастливливал скромную ма-
лютку, так сказать, отходами главной своей страсти, по-
<ка, наконец, на его взгляд, не пришло время повер-
нуть приключение к его истинной цели. Впрочем, он
и на другом фронте отнюдь не бездействовал. Он снова
появился в будуаре прекрасной дамы, нарочно выбрав
время, когда Сеймур бывал у графини, и не упустил
случая с самым безмятежным видом намекнуть молча-
ливому Аллану, которого маркиз на сей раз явно пере-
упрямил и непринужденной болтовней вынудил уйти
вместе, что благодаря счастливой случайности он завел
в доме Хоенмаутов приятнейшую интрижку. Несчастный
маркиз! Ему и невдомек было, что своим беспечным хва-
91
стовством он только сильпее насторожит Сеймура, кото-
рый сразу заподозрил подвох и про себя решил следить
на каждым шагом соперника с удвоенным тщанием. Тот
же, радуясь собственной проницательности, пребывал в
счастливом заблуждении, что деланной непосредственно-
стью этого шаловливого намека совершенно погасил мрач-
ные подозрения в душе своего якобы недальновидного
спутника.
На следующий день, когда общество выехало в лес,
маркиз, соревнуясь с другими кавалерами, окруживши-
ми графиню Фанни, дабы отдать ей дань привычного
восхищения, как бы невзначай склонился к ее плечу и,
едва коляска тронулась, быстро шепнул ей почти что
иа ухо:
— Графиня, завтра вечером я жду вас в вашей
спальне.
Пока липицанские скакуны дружной рысью нагоня-
ли кортеж, графиня, сидя рядом со своим туговатым на
ухо супругом, приходила в себя от новой отчаянной за-
теи маркиза. Конечно же, она успеет предотвратить это
неслыханное безрассудство. Назавтра назначен большой
прием у испанского посланника, будет весь высший свет
и, разумеется, представители посольств. Праздник нач-
нется довольно поздно, члены императорской семьи уйдут
не сразу, так что веселье затянется далеко за полночь.
Все-таки какой дерзкий расчет: зная о пристрастии гра-
фа к бесконечным партиям в бридж, назначить даме
свидание под супружеским кровом. С некоторым сму-
щением графипя поймала себя на мысли, что думает
не о том, как бы построже поставить маркиза на место
и пресечь его не в меру ретивые начинания, а, напро-
тив, взвешивает возможность осуществить столь соблаз-
нительное в своем бесстыдстве предприятие. Словом, в
тот день случая предостеречь маркиза как-то не предста-
вилось. Ибо в сознании графини суровый отпор, который
она первоначально намеревалась дать молодому человеку,
как-то сам собой превратился сперва в мягкую укориз-
ну, а та по мере молчаливых раздумий сменилась же-
ланием просто предостеречь легкомысленного смельчака
от необдуманного шага, причем графипя не вполне от-
давала себе отчет во всех этих метаморфозах.
Пробудившись на следующий день и приняв из рук
Пени завтрак на серебряном подносе, графиня — был
уже ясный полдень -~ вспомнила о предстоящем ноч-
92
ном событии, а заодно и о словах маркиза, намекавшего
на завоеванное доверие камеристки, — в свое время
графиню этот намек немало озадачил, но потом в суете
прочих дел как-то забылся. Вспомнив об этом теперь,
она сочла необходимым хотя и строго, но без лишних
слов, всегда неприятных в щекотливом деле, указать
девушке на недопустимый риск подобных сговоров. Од-
нако едва она произнесла имя маркиза, как девушка, —
она прислуживала не поднимая глаз, — по наивности ре-
шив, что кто-то выдал ее, как она полагала, сладостную
тайну, бросилась к ногам графини, заклиная госпожу ра-
ди всех святых не оставлять ее своею милостью. Графи-
ня, истолковав это раскаянье по-своему, воздержалась от
дальнейших расспросов, ограничилась строгим внушени-
ем и, втайне глубоко тронутая самозабвенной предпри-
имчивостью прекрасного юноши, который, похоже, и
вправду сделал все возможное ради достижения цели, от-
пустила девушку с весьма туманным напутствием:
впредь, если она думает о своем счастье, быть поосмот-
рительней. Ни на секунду не возникла у графини мысль,
что перед ней не просто изобличенная сообщница мар-
киза и что раскаяние служанки — пусть даже перед
лицом рассерженной госпожи — непомерно для такого
проступка. Вся дрожа, Пепи удалилась. Не далее как се-
годня утром все тот же шустрый слуга подсунул ей
письмецо, обещавшее визит знатного возлюбленного ны-
нешней ночью. Девушка не видела никакой возможно-
сти предотвратить свидание, но твердо решила в этот
раз маркиза в свою комнату не впускать. «В этот раз»,—
повторила она про себя. Ибо бедное создание с жарким
трепетом было вынуждено признаться себе, что оконча-
тельный разрыв сладостных уз на всю жизнь разобьет ей
сердце.
Вечер приближался. В положенный час Пепи оде-
вала графиню. В высоких зеркалах госпожа время от
времени ловила испуганный взгляд служанки и отводи-
ла глаза. Пока Пепи, с трудом унимая дрожь в руках,
Складывала графине волосы, мысли обеих женщин устрем-
лены были к отважному искателю приключений, кото-
рый тем временем, будучи приглашен Сеймуром по-
смотреть новую, только что доставленную из Англии ло-
ьШадь, описывал круг за кругом по манежу, крепко сжи-
мая ногами бока неспокойного красавца, проверяя спо-
собности и силы, скрытые в мускулах необъезженного
93
животного. Сам же владелец, скрестив руки, стоял в
центре усыпанного мельчайшим песком круга, устремив
мрачный, мерцающий взгляд в долгие весенние сумер-
ки. Ему уже донесли о предстоящем свидании француза
с Пепи, и он, лелея тайную ярость, какую может испы-
тывать только любовник не слишком неприступной жен-
щины, подуставший от прелестей .длительного романа,
имел относительно этого, равно как и предыдущих ран-
деву маркиза со служанкой, свои предположения. К то-
му же и план его давно созрел. Всякий раз, когда мар-
киз навещал камеристку, Аллан — они виделись с гра-
финей почти ежедневно — не спускал с графини глаз.
Мало того, в доме графа был подкуплен слуга, которо-
му надлежало неукоснительно сообщать о встречах без-
заботного парижанина с его камеристочкой.
Графиня явилась в испанское посольство во всем
блеске молодости и красоты, одухотворенной на сей раз
еще и тайным волнением. Восхищенные кавалеры взяли
ее в столь плотное кольцо, что в первое время пи Аллан,
ни маркиз не знали, как к ней подступиться. Целуя ей
руку, — в непосредственной близости в это время нахо-
дился лишь папский нунций, господа помоложе при
виде приближавшегося счастливца, да к тому же и зна-
менитого фехтовальщика, почтительно и не без страха
отступили, — англичанин сказал:
— Кучеру приказано.
Графиня затрепетала. Вот уже несколько недель у
нее в услужении был кучер, которого Сеймур уступил
графу, — земляк и беззаветно преданный слуга своего
бывшего господина. Поскольку в разгар сезона в пестрой
суете светских увеселений встречи любовников происхо-
дили не столь часто, как им того бы хотелось, у них
существовала договоренность, что в те вечера, когда су-
пруг предавался своей любимой игре, кучер отвозил гра-
финю к Сеймуру, после чего либо возвращался ждать
графа, либо вовсе ехал домой. Графиня же, пробыв у
англичанина не более часа, всегда успевала вовремя
подъехать к задней калитке графского дома па коляске
Сеймура, которую тот предусмотрительно держал наго-
тове. Правда, за все это время ни разу не было случая,
чтобы стареющий граф среди ночи вздумал наведаться
в покои молодой жены. Впрочем, эти торопливые ночные
свидания были графине только в тягость, по она, зная
вспыльчивый нрав Сеймура, просто не могла отказать
94
ему в этой милости, хотя всякий раз возвращалась по-
мой ни жива ни мертва.
Слова Сеймура поразили графиню, как удар грома.
У нее, правда, достало самообладания не отказаться сра-
зу —- такая резкость неизбежно навлекла бы на нее
беду. Но теперь она лихорадочно подбирала приемлемую
отговорку и надеялась, что в ходе вечера таковая ей
представится. После ужина, сервированного довольно по-
здно, глазами, полными муки, она всюду искала Алла-
на, — тщетно. Он уже направился домой, считая, по-
видимому, дальнейшие разговоры излишними. Опустив
взор, приложив руки к груди, графиня силилась побо-
роть волнение, как вдруг чей-то гнусавый голос совсем
рядом прервал ее тягостные раздумья:
— Однако рано покинули вас ваши селадоны, доро-
гая графиня.
Она обернулась — это был один из старичков-кня-
зей, чей преклонный возраст давал право па подобные
отеческие шутки. Обнажив в улыбке безупречно ров-
ные белоснежные зубы, она ответила:
— Да, не слишком они сегодпя старались.
Но пока графиня сквозь комок в горле выдавливала
из себя эти слова, в ее затравленных мыслях бился один
отчаянный, предсмертный крик: «Что делать?! Господи,
что же делать?!» Ибо в том, что и маркиз сдержит свое
слово, у нее не было никаких сомнений.
Тем временем наш герой, ни с кем не попрощавшись,
уселся в свою коляску и немного погодя велел остано-
виться на перекрестке, удаленном от графского дома
ровно настолько, чтобы цель поездки не была очевидной.
Оставшийся путь, — кучера ou отпустил, — маркиз с
мягкой грацией ночного вора и со счастливым замира-
нием сердца проделал пешком. Наконец перед ним воз-
цикла темная громада старинного портала. Ворота были
широко распахнуты. Привратник, по обыкновению, спал.
Закутавшись в плащ, прижимаясь к стене, маркиз про-
скользнул мимо и по длинному сводчатому ходу проник
fco внутренний двор. Вновь его со всех сторон окружила
высокая аркада старинной галереи, в один пз проемов
которой, — он это точно знал,— выходит окно спальных
Ьэкоев графини. Был ясно виден даже венец луны. Сю-
щ9 на дпо узкого каменного колодца, не проникал по-
рывистый весенний ветер, но, выдавая его юную, неук-
ротимую силу, в небе стремительно неслись рваные,
95
всклокоченные облака. Пепи, давно поджидавшая марки-
за, прильнув к одному из окон на последнем этаже, вы-
летела стремглав и сразу выпалила:
— Графине все известно!
— Надеюсь, ты не призналась? — воскликнул маркиз.
Девушке не сразу удалось сообразить, в чем она
призналась, а в чем нет. Она и вправду не могла при-
помнить дословного содержания столь унизительного
для нее разговора, хотя все сопутствующие подробности,
вплоть до дрожи пальцев над прической госпожи, все
еще стояли у нее перед глазами. После энергичного
дознания, в ходе которого, правда, вразумительность от-
ветов отнюдь не всегда могла тягаться с определенно-
стью вопросов, маркиз наконец уверился, что предмет
его воздыханий не обнаружил особого интереса к черес-
чур прозаическим хитросплетениям окольных троп, из-
бранных нашим героем для достижения цели. Что-что,
а подвергать свой замысел женской ревности, ревности
графини, никак не входило в его намерения. Очутив-
шись — не без некоторых усилий — в знакомой камор-
ке, маркиз вдруг, словно подчиняясь необъяснимому кап-
ризу любопытства, изъявил желание взглянуть па спаль-
ню графини. Совершенно убитая чувством двойной ви-
ны перед госпожой, которая именно сегодня была к ней
так добра и которую она вновь обманывала, нарушая —
да что там — оскверняя вверенный ей домашний покой
столь бесцеремонным вторжением, Пени покорилась. Мар-
киз замер, созерцая каждый предмет в этой безмолвной,
мерцающей белым убранством комнате. Пепи с немой
укоризной застыла на пороге, следя за нескромными
взглядами своего повелителя. Тот заметил третью дверь—
одна вела в гардеробную, другая — в небольшую при-
хожую, откуда был выход в парадные залы — и поин-
тересовался, что за ней; Пепи отворила — мягкий лун-
ный свет пролился во тьму и выплеснулся на рассте-
ленное ложе. Они вышли на застекленный балкон, под
свод одной из арок, галерея которых окаймляла внут-
ренний двор. Маркиз выглянул в окно — оно было при-
открыто; из жутковатой глубины на него глянуло мо-
щеное дно каменного колодца. В это мгновенье с улицы
донесся слабый шум: по мостовой ехал экипаж.
— Это госпожа! — ужаснулась девушка.
Странным образом этот звук и маркиза поразил в
самое сердце. Не победное предощущение привычной и
(
96
верной удачи расправило в нем гордые крыла, нет —
тоскливое предчувствие неведомой, но неизбежной судь-
бы внезапно омрачило его душу. И доброе лицо далекой
матушки, предостерегающее и тревожное, возникло вдруг
перед его внутренним взором... Но камеристка уже чуть
ли не на коленях заклинала его немедленно покинуть
спальню. Он медлил. Его завораживал покой этих без-
молвных стен, скромный, темного дерева, пульт с Биб-
лией, возле которого графиня творила каждодневную мо-
литву, снежная белизна ложа, облитого лунным сия-
нием. Внизу, в коридоре, открылась застекленная дверь,
девушка затрепетала всем телом и, умоляя подумать о
том, что с ней, несчастной, будет, повторила свою прось-
бу настойчивей и даже тронула маркиза, к которому,
когда он не лежал в ее объятьях, она и прикоснуться-то
боялась, за плечо, тихонько подталкивая его к выходу.
Тот, однако, и не думал торопиться, будто и не слы-
шал ее мольбы; в странной задумчивости, — мягкий
свет луны пробудил в нем воспоминания детства, — он
снова вышел на застекленный балкон и, отрешенной
рукой лаская подоконник, устремил взор вниз, на сере-
бристую брусчатку двора. Служанка, совсем потеряв го-
лову от страха, по-своему решила воспользоваться этой
минутной рассеянностью: она захлопнула балконную
дверь и повернула ключ в замке. Маркиз оказался под
сводами галереи, у порога спальни прекрасной дамы в
ролном одиночестве, наедине только с ясной луной. Ему
$тало слегка не по себе. Он постучал, но, услышав, как
|низу снова хлопнула дверь, понял, что до поры до вре-
мени напоминать девушке об ее упущении все равно
бесполезно.
!k Пепи поспешила навстречу госпоже,— та, не в силах
тивостоять опасностям, которыми грозила ей встреча
их соперников, все-таки сумела, ссылаясь на внезап-
нездоровье, оторвать супруга от карточного стола;
я и с неудовольствием, но не подав виду, вежливый
ф внял настойчивым уговорам супруги откланяться в
рочный час и проводить ее домой. Отвезя графа до-
[, кучер,— а он боялся своего бывшего хозяина пуще
та, — перепоручил лошадей заботам сонного конюше-
а сам стремглав помчался к Сеймуру доложить о слу-
шемся. Сеймур, чья коляска стояла во дворе' наго-
в, выслушал гонца, ни слова не ответил и, оставив
jptoo приросшим к месту в растерянности и страхе, неза-
£ Австрийская новелла XX в. 97
всклокоченные облака. Пени, давно поджидавшая марки-
за, прильнув к одному из окон на последнем этаже, вы-
летела стремглав и сразу выпалила:
— Графине все известно!
— Надеюсь, ты не призналась? — воскликнул маркиз.
Девушке не сразу удалось сообразить, в чем она
призналась, а в чем нет. Она и вправду не могла при-
помнить дословного содержания столь унизительного
для нее разговора, хотя все сопутствующие подробности,
вплоть до дрожи пальцев над прической госпожи, все
еще стояли у нее перед глазами. Поели энергичного
дознания, в ходе которого, правда, вразумительность от-
ветов отнюдь не всегда могла тягаться с определенно-
стью вопросов, маркиз наконец уверился, что предмет
его воздыханий не обнаружил особого интереса к черес-
чур прозаическим хитросплетениям окольных трои, из-
бранных нашим героем для достижения цели. Что-что,
а подвергать свой замысел женской ревности, ревности
графини, никак не входило в его намерения. Очутив-
шись — не без некоторых усилий — в знакомой камор-
ке, маркиз вдруг, словно подчиняясь необъяснимому кап-
ризу любопытства, изъявил желание взглянуть на спаль-
ню графини. Совершенно убитая чувством двойной ви-
ны перед госпожой, которая именно сегодня была к ней
так добра и которую она вновь обманывала, нарушая —
да что там — оскверняя вверенный ей домашний покой
столь бесцеремонным вторжением, Пени покорилась. Мар-
киз замер, созерцая каждый предмет в этой безмолвной,
мерцающей белым убранством комнате. Пени с немой
укоризной застыла на пороге, следя за нескромными
взглядами своего повелителя. Тот заметил третью дверь—
одна вела в гардеробную, другая — в небольшую при-
хожую, откуда был выход в парадные залы — и поин-
тересовался, что за ней; Пепи отворила — мягкий лун-
ный свет пролился во тьму и выплеснулся на рассте-
ленное ложе. Они вышли на застекленный балкон, под
свод одной из арок, галерея которых окаймляла внут-
ренний двор. Маркиз выглянул в окно — оно было при-
открыто; из жутковатой глубины на него глянуло мо-
щеное дно каменного колодца. В это мгновенье с улицы
донесся слабый шум: по мостовой ехал экипаж.
— Это госпожа! — ужаснулась девушка.
Странным образом этот звук и маркиза поразил в
самое сердце. Не победное предощущение привычной и
96
верной удачи расправило в нем гордые крыла, нет —
тоскливое предчувствие неведомой, но неизбежной судь-
бы внезапно омрачило его душу. И доброе лицо далекой
матушки, предостерегающее и тревожное, возникло вдруг
перед его внутренним взором... Но камеристка уже чуть
ли не на коленях заклинала его немедленно покинуть
спальню. Он медлил. Его завораживал покой этих без-
молвных стен, скромный, темного дерева, пульт с Биб-
лией, возле которого графиня творила каждодневную мо-
литву, снежная белизна ложа, облитого лунным сия-
нием. Внизу, в коридоре, открылась застекленная дверь,
девушка затрепетала всем телом и, умоляя подумать о
том, что с ней, несчастной, будет, повторила свою прось-
бу настойчивей и даже тронула маркиза, к которому,
когда он не лежал в ее объятьях, она и прикоснуться-то
боялась, за плечо, тихонько подталкивая его к выходу.
Тот, однако, и не думал торопиться, будто и не слы-
шал ее мольбы; в странной задумчивости, — мягкий
свет луны пробудил в нем воспоминания детства, — он
снова вышел на застекленный балкон и, отрешенной
рукой лаская подоконник, устремил взор вниз, на сере-
бристую брусчатку двора. Служанка, совсем потеряв го-
лову от страха, по-своему решила воспользоваться этой
минутной рассеянностью: она захлопнула балконную
дверь и повернула ключ в замке. Маркиз оказался под
сводами галереи, у порога спальни прекрасной дамы в
долном одиночестве, наедине только с ясной луной. Ему
£тало слегка не по себе. Он постучал, но, услышав, как
|низу снова хлопнула дверь, понял, что до поры до вре-
мени напоминать девушке об ее упущении все равно
бесполезно.
Пепи поспешила навстречу госпоже,— та, не в силах
Противостоять опасностям, которыми грозила ей встреча
Ьбоих соперников, все-таки сумела, ссылаясь на внезап-
ное нездоровье, оторвать супруга от карточного стола;
|отя и с неудовольствием, но не подав виду, вежливый
■раф внял настойчивым уговорам супруги откланяться в
Ееурочный час и проводить ее домой. Отвезя графа до-
мой, кучер,— а он боялся своего бывшего хозяина пуще
|ерта, — перепоручил лошадей заботам сонного конюше-
го, а сам стремглав помчался к Сеймуру доложить о слу-
жившемся. Сеймур, чья коляска стояла во дворе' наго-
тове, выслушал гонца, ни слова не ответил и, оставив
того приросшим к месту в растерянности и страхе, неза-
4 Австрийская новелла XX в. 97
медлительно поехал к графскому дворцу. Пренебрегая
малейшей предосторожностью, без шпаги, в легком до-
машнем костюме, он твердым шагом направился к при-
вратнику,— кучеру он велел ждать, точно наносил ви-
зит государственной важности,— осведомился, вернулись
ли граф с графиней, холодно поблагодарил и, словно на
дворе был ясный день, преспокойно вошел под ту же
арку, которой недавно крался маркиз. Привратник, дав-
но отвыкший удивляться причудам иных знатных гос-
под, глядя ему вслед, покачал головой, но, убедившись,
что карета и впрямь стоит у ворот, нарушая тишину
и мрак древних сводов лошадиным фырканьем и све-
том фонарей, только рукой махнул, заранее снимая с се-
бя всякую ответственность, и пошел будить жену, дабы
препоручить ей охрану дворца на остаток ночи.
Едва завидев залитую луной брусчатку, Сеймур вновь
оказался в роли стража, роли, которую взял на себя
с некоторых пор: застыв под створом арки, он острым
взором охотника пристально оглядел сперва двор, потом
все вокруг. Его взгляд медленно заскользил по сводам
галереи. Наверху, за стеклом противоположного балко-
на, высвеченный лунным сиянием, все в той же задум-
чивости, — ибо графиня, не в силах совладать со сво-
им страхом, пока что оставалась на половине супруга,—
стоял маркиз. Сеймур узнал его сразу. Рука его, ища
привычное оружие, непроизвольно скользнула к поясу.
Скользнула — и опустилась, ибо в ту же секунду с от-
четливостью озарения Сеймура осенил другой замысел.
Крадучись покинул он свой наблюдательный пост и, не-
слышно ступая по ступенькам, начал подниматься по
лестнице на второй этаж. От лестничной площадки от-
ветвлялся тесный коридор. Коридор привел его в ван-
ную, а завернув оттуда направо, Сеймур очутился в по-
мещении под спальным покоем графини. Отсюда наверх
вела узенькая винтовая лесенка — камеристка могла
подняться по ней прямо в гардеробную госпожи. Здесь
Сеймур остановился и задумался. Либо маркиз просто
ждет, когда все в доме улягутся, либо он вышел на бал-
кон, чтобы не мешать даме раздеться. Тишина в спаль-
не успокоила его на этот счет. Нет, Фанни еще не при-
ходила в свою комнату. «Да и мчался я сюда, как безум-
ный»,— вспомнил он. С того момента, как явился кучер
с донесением, пролетело минут десять, не больше.
Графиня распорядилась подать чай и теперь пила
98
его в обществе мужа. Она чувствовала себя заметно
лучше. Супруг с некоторым недоверием пытался поймать
ее взгляд под приспущенными ресницами. Откуда вдруг
такой прилив нежности, — ведь она уже столько лет
его избегает? Граф плохо слышал и от этого прежде
времени ожесточился. Когда жена удалилась, он долго
сидел в задумчивости, обхватив рукой серебряный на-
балдашник трости, а его тень, подхваченная пламенем
догорающих свечей, зловеще разрасталась на стене.
Пени, обмирая от страха, ждала госпожу внизу. Та
хотела было расспросить служанку, но раздумала. Про-
сто приказала девушке сегодня ие оставлять ее ни на
секунду. Даже ночевать велела вместе с ней. Пепи ужас-
нулась. Ведь она все еще не придумала, как освободить
маркиза. Оставалось одно: опять во всем признаваться
графине.
Однако новое роковое событие положило конец ее
лихорадочным раздумьям. Когда она, высоко держа кан-
делябр, подвела графиню к спальне, открыла дверь и
почтительно отступила, пропуская госпожу, та, охвачен-
ная недобрым предчувствием, замерла на пороге. Впро-
чем, она замешкалась лишь на секунду. Собравшись с
духом, она шагнула в комнату — и очутилась лицом к
лицу с Алланом Сеймуром. Пепи, последовавшая sa гос-
пожой, пронзительно вскрикнула и выронила канде-
лябр,— она решила, что в доме убийца. Все погрузилось
ïbo мрак — луна к тому времени тоже спряталась в ту-
гчах. Сеймур схватил девушку за руку, выволок ее на се-
редину комнаты и властным жестом указал на дверь.
Шепи бежала из комнаты, как пес от побоев. Графиня,
шрижав руки к груди, пошатнулась. Ей стало дурно.
КДллан ее подхватил. Поддерживая, он отвел графиню к
ривану, потом двумя резкими поворотами ключа запер
шверь в коридор. Спокойным шагом подошел к балкон-
гаой двери. Задергивая гардины, он краем глаза видел
Съежившегося в самом дальнем углу своей стеклянной
Ьлетки маркиза — тот непроизвольно закрыл глаза. Сей-
шур начал неторопливо раздеваться.
щ Обреченный на подслушивание маркиз на четверень-
ках подползал к единственному выходу из своей не-
Шрльной засады — к открытому окну. В его смятенном
Жрзнапии билась одна мысль: вниз, скорее вниз, но как?
'Щв представил себе высоту, на которой находился, и со-
дрогнулся: это ведь громада, а ие дом. Нет, прыгать
4»
99
нельзя. Он боялся пошелохнуться — тень на портьерах
выдаст его при первом движении. Внезапно в голове у
него мелькнул жуткий вопрос: «А что, если Сеймур ме-
ня заметил?» Но он тотчас же отогнал от себя эту до-
гадку. «Он бы не оставил меня тут. Тогда пришлось бы
драться». Рука его сама потянулась за шпагой, — шпаги
не было. Шпага осталась в комнате у Пепи, возле ко-
мода.
Дрожа всем телом, Пепи стояла внизу, во дворе, и
испуганным взглядом искала возлюбленного. Куда он
делся? А вдруг, пока она бежала вниз, он, пи о чем не
подозревая или, еще того хуже, решившись на безрассуд-
ство, вошел в спальню? Она разглядела на балконной
двери что-то вроде тени, потом заметила задернутые за-
навески. Господи, что там происходит? В груди у нее
будто все оборвалось... Нет, мешкать нельзя! Не заду-
мываясь о последствиях, она кинулась к привратнику.
Но, добежав до окошка привратницкой, откуда теплился
слабый свет, она остановилась. Нет, это не выход. При
мысли о графе Пепи содрогнулась. Все события этой ночи
вихрем кружились в ее бедной головке. Надо выручать
маркиза!
Всполошив камердинера, мирно прикорнувшего на
длинной черной скамье, Пепи вихрем пронеслась через
прихожую и без стука, — он все равно не услышит, —
ворвалась в комнату, где все в той же задумчивости, все
так же опершись на трость, сидел граф. При виде девуш-
ки он вскочил. Худая желтая рука вцепилась в край
стола.
— Что такое?— Голос графа звучал хрипло.
— Госпожа графиня... — Больше Пепи не могла вы-
молвить ни слова: ее сердце, казалось, готово вырваться
из груди. Схватив канделябр, граф устремился к двери.
Камердинер не без любопытства примкнул к этому стран-
ному шествию.
Маркиз из своей стеклянной западни услышал, как
внизу захлопали двери. Совсем потеряв голову от стра-
ха,— мог ли он думать, что переполох поднялся из-за
кого-то другого?— он вскочил и перебросил ноги через
подоконник. Так он и повис, весь высвеченный лунным
светом, над безмолвным двором, обхватив обеими рука-
ми последнюю свою опору... Граф тем временем стучал-
ся в спальню супуги. Сеймур, приподнимаясь, жестом
велел ей ответить.
i
100
— Кто там?— спросила графиня.
— Это я!— кричал граф.—Ты уже легла? Открой!
Графиня в ужасе вцепилась в Сеймура. Оттолкнув
ее руки, он прошептал:
— Я ухожу. Потом откроешь, — и начал одеваться.
Графиня неверными руками зажигала свечи и почти
всхлипывающим голосом увещевала нетерпеливого су-
пруга; когда же она, желая поторопить Сеймура, двину-
лась к дверям, тот одним рывком раздернул портьеры
над балконной дверью. В этом триумфе он никак не мог
себе отказать, ибо с самого начала вознамерился выну-
дить своего врага к смертельному, самоубийственному
прыжку. Он просто должен был, прежде чем покинуть
Фанни, показать ей, что там, где повелевает Джордж
Аллан Сеймур, соперничеству нет места. Когда портьера
всколыхнулась, маркиз, чей взор был прикован к балкон-
ной двери, с криком оторвал руки от подоконника. Тупой
удар отозвался по всему двору глухим эхом.
— Можешь полюбоваться на своего красавчика, —
произнес Сеймур.
Лунный свет выхватил из темноты всю его фигуру.
Но в следующее мгновение он нажал ручку двери, что
вела к винтовой лесенке, и исчез.
Входные двери, выбитые ногой графа, широко рас-
пахнулись. Граф ринулся на балкон, склонился из окна.
Внизу лежал человек.
Очутившись под темным сводом арки, Сеймур обвел
глазами двор. В нескольких шагах от него в кровавой
луже плавало обезображенное тело маркиза. В окне на-
верху белела седая голова графа.
Миновав арку и главные ворота, где привратница,
последовавшая за Пепи, теперь что-то возбужденно тара-
торила мужу, Сеймур подошел к карете, тронул за пле-
чо задремавшего кучера и сказал:
— Домой.
Густав Майринк
(1868-1932)
гм
— Этот сукин сын Макинтош снова здесь!
По городу побежал огонь.
Джордж, он же Георг Макинтош, американец немецко-
го происхождения, уже пять лет, как распрощался со все-
ми; но канфый хранил о нем воспоминание: его проделки
так же невозможно было забыть, как и его темное лицо
с острыми чертами, сегодня опять промелькнувшее на
Грабене.
Что этому типу снова тут понадобилось?
Тогда его медленно, но верно выжили отсюда все-
общим отвращением; все внесли свою лепту: один — яко-
бы дружелюбной миной, другой — элостью и лживыми
слухами, но каждый — сохраняя долю лицемерной осто-
рожности; совокупность всех этих мелких подлостей была
столь велика, что раздавила бы, наверное, любого чело-
века — но не американца, который всего только убрал-
ся прочь.
У Макинтоша было острое, как разрезной нож, лицо
и очень длинные поги. Уже это одно люди пере-
носят плохо, даже если они пренебрегают расовой
теорией.
Ненавидели его люто, а он, вместо того чтобы унять
эту ненависть, приспособившись к общераспространенным
идеям, всегда сторонился толпы и каждую минуту вы-
лезал с какой-нибудь новинкой: гипноз, спиритизм, хиро-
мантия, а однажды даже — истолкование Гамлета в
102
духе символизма. Уж конечно, это должно было взбесить
добрых граждан, а особенно невылупившихся гениев вро-
де господина Тевингера из «Ежедневного листка», ко-
торый как раз собирался издать книгу под названием
«Что я думаю о Шекспире»...
И вот этот всеобщий «сучок в глазу» опять появился
на горизонте и проживал со слугой-индейцем в «Крас-
ном солнышке».
— Вы здесь временно? — допытывался у него ста-
рый знакомый.
— Конечно, временно: я смогу переехать в свой дом
только пятнадцатого августа. Ведь я купил себе дом на
Фердинандштрассе.
Лицо города вытянулось на несколько вершков. Дом
на Фердинандштрассе! Откуда только у этого авантюри-
ста деньги? Ну ладно, посмотрим, долго ли он продер-
жится...
Само собой, у Макинтоша опять была в запасе новин-
ка: электрическая аппаратура, с помощью которой мож-
но было, так сказать, вынюхивать под землей золотые
жилы, нечто вроде научно модернизированной рудоука-
зательной лозы.
Понятное дело, большинство в это не верило. Будь
это что-нибудь путное, другие наверняка додумались бы
раньше.
Но нельзя было отрицать, что за истекшие пять лет
американец неимоверно разбогател. Во всяком случае,
в этом твердо заверяло справочное бюро фирмы «Шпик
и зять». И действительно, не проходило и недели, чтобы
он не покупал нового дома.
Где попало, без всякого плана: один дом на Овощ-
ном рынке, другой — в Герренгассе, но все — в ста-
ром городе.
Боже мой, уж не хочет ли он пробраться в бурго-
мистры?
Никто не мог ничего понять...
— Вы не видали его визитных карточек? Вот, погля-
дите: ведь это предел наглости! Только монограмма, и
никакого имени! Он говорит, что имя ему теперь ни к
чему,— у него довольно денег!
103
Макинтош отправился в Вену, и ходили слухи, что
он имел там дело с целой кучей депутатов, которые каж-
дый день кружились около него.
Какие такие важные дела он с ними обделывал, раз-
узнать никому не удалось, но он явно приложил руку
к новому законопроекту об изменении права разведки ис-
копаемых.
Ежедневно в газетах появлялось что-нибудь новенькое,
дебаты «за» и «против»; и по всему было видно, что
закон, который отныне — разумеется, только в исклю-
чительных случаях — разрешит свободную разведку
также в черте городов, вот-вот будет принят.
Вся история выглядела странно, и общее мнение гла-
сило, что за этим скрывается какая-то крупная угольная
компапия.
Один Макиптош не может быть до такой степени в
этом заинтересован,—по всей видимости, он просто став-
ленник некой группы...
Вскоре он вернулся домой — и, судя по всему, в на-
илучшем расположении духа. Таким дружелюбным его
еще никогда не видали.
— Дела у него идут превосходно, — только вчера он
купил новую «недвижимость», это уже тринадцатая, —
рассказывал чиновникам за столиком казино господин
обер-контролер кадастра. — Вы знаете — угловой дом
«У пречистой девы», напротив «Трех железных болванов»,
немного наискосок; там теперь помещается Главная ок-
ружная ревизионная комиссия по надзору за наводнени-
ями и разливами.
— Этот тип еще прогорит на своих спекуляциях, —
высказался господин советник по делам строительства,—
Знаете, господа, о чем он сейчас ходатайствует? Он хочет
снести три дома из тех, что купил: тот, что в Перльгассе,
потом четвертый справа от Пороховой башни, и еще
numéro conscriptionis1 47184/11. А новые строительные
планы уже утверждены!
♦ * *
Все прикусили язык.
По улицам носился осенний ветер: природа глубоко
вздыхает, прежде чем уснуть.
Записадный иод номером (лат.).
104
Небо такое синее и холодное, а облака такие толсто-
щекие и лирические, как будто господь бог поручил на-
рисовать их маэстро Вильгельму Шульцу.
О, каким чистым и прекрасным был бы город, если
бы этот одержимый жаждой разрушения американец,
этот гнусный тип не отравил бы прозрачный воздух пы-
лью от битого кирпича. И на это ему дали разрешение!
Ну ладно еще снести три дома, но все тринадцать сра-
зу — это неслыханно!
У каждого теперь кашель, а как больно, когда эта про-
клятущая пыль попадает в глаза...
— И вместо всего этого он настроит какой-нибудь бред.
Конечно, еще один Сецессион1, держу пари! Он спятил,
зачем только он подавал на утверждение новые строи-
тельные планы?..
— Да только затем, чтобы покамест получить разре-
шение на снос домов!
— ??????
— Хоспода, знаете вы последние новости? — Сверх-
штатный архитектурный помощник Вискочиль совсем за-
дохнулся. ■— В хороде золото! Да, да, золото! Может быть*
Йрямо тут, у нас под нохами.
» Все посмотрели на ноги господина Вискочиля, плос-
кие, как сухарь, засунутые в лакированные туфли.
Сбежался весь Грабен.
— Кто сказал про золото? — закричал господин ком-
мерции советник Левенштейн.
— Мистер Макинтош утверждает, что нашел содер-
жащую золото породу в почве под своим снесенным до-
Щоы в Перльгассе,—подтвердил служащий городской стро-
ительной управы, — из Вены уже вызвали по телеграфу
Комиссию.
| • .............
|: Через несколько дней Джорж Макинтош стал самой
|фствуемой персоной в городе. Во всех лавках висели его
фотографии — его угловатый профиль и насмешливая
складка у тонкого рта.
Газеты напечатали его жизнеописание, спортивные
репортеры немедленно узнали в точности, каков его вес,
'Сецессион — выставочный аал в Вене, построенный
одноименной группой художников в стиле «модерн».
105
объем груди и бицепсов и дая.е количество воздуха, ко-
торое вмещали его легкие.
Брать у него интервью оказалось не так уж трудно.
Он опять жил в отеле «Красное солнышко», допускал
к себе каждого, угощал превосходными сигарами и с оча-
ровательной любезностью рассказывал, что именно при-
вело его к мысли снести дома и рыть освободившиеся
строительные участки в поисках золота.
С помощью нового аппарата, который повышениями
и падениями напряжения электрического тока точно ука-
зывает наличие под землей золота (аппарат этот — дети-
ще его мысли), Макинтош ночью исследовал под-
валы не только в принадлежащих ему строениях, но
и в соседних домах, в которые сумел получить тайный
доступ.
— Посмотрите, вот официальный отчет горного ве-
домства и апробация эксперта — видного ученого из Ве-
ны и моего старого приятеля профессора Перпендикуля-
риуса.
Да, действительно, написано было черным по белому
и заверено официальной печатью: на всех тринадцати
строительных площадках, приобретенных через куплю
американским подданным Джорджем Макинтошем, най-
дено золото в виде примеси в песке, каковая форма обще-
известна, и в таком количестве, которое позволяет сделать
неоспоримый вывод о наличии огромных запасов золота,
особенно в глубинных пластах. Прецеденты подобного рода
имели место до сих пор только в Азии и в Америке, од-
нако можно без долгих раздумий согласиться с точкой зре-
ния мистера Макинтоша, считающего, что здесь дело яв-
но идет о древнем русле доисторической реки. Точный
доход, разумеется, не может быть подсчитан в цифрах,
но нет сомнения, что запасы металла здесь самого выс-
шего качества, и, может быть, таких залеганий еще не
бывало.
Особенно интересен был план, на котором америка-
нец набросал предполагаемую протяженность золотонос-
ных шахт,—» план, получивший полнейшее одобрение ав-
торитетной комиссии экспертов.
На плане было ясно видно, что русло древней реки
начиналось под одним из домов американца, потом слож-
ными извивами тянулось под соседними домами и вновь
исчезало в земле под принадлежавшим Макинтошу угло-
вым домом в Цельтнергассе. Доказательство, что все об-
106
стоит именно так, а не иначе, было столь яспо и просто,
что любой, даже не слишком верящий в точность элек-
трической металлообпаруживающей машины, мог с оче-
видностью в этом убедиться.
...Счастье еще, что новое право разведки недр прио-
брело тем временем законную силу.
Но как осторожно и тихо сумел все предусмотреть
этот американец!
Домовладельцы, на чьих участках оказались запрята-
ны такие богатства, сидели по кафе, надувшись от гордо-
сти, и прославляли изобретательного соседа, которого
прежде столь необоснованно и подло чернили.
— Чтоб им пусто было, этим клеветникам!
Каждый вечер господа устраивали долгие совещания
и консультировались у адвоката при избранном комите-
те, что теперь будет.
— Да очень просто! Делать все в точности, как мистер
Макинтош, — считал адвокат. — Подавать на утвержде-
ние, как того требует закон, любые строительные планы,
а потом сносить, сносить и сносить, чтобы как можно
скорее добраться до земли. Иначе дело не пойдет, потому
что разрывать уже сейчас подвалы бесполезно и к тому
же запрещено параграфом 47а пункт V дробь римское
XXIII.
Так и вышло .
Предложение чересчур умного инженера-иностранца
сперва убедиться, не подсыпал ли Макинтош тайно золо-
той песок на места находки с целью обмануть комиссию,
было осмеяно.
Стук молотов и треск камня по всем улицам, грохот
падающих балок, перекличка рабочих, скрип телег со
строительным мусором, и вдобавок еще проклятый ветер,
который носит кругом густые облака пыли! С ума можно
сойти!
У всего города воспалены глаза, приемные глазной
больницы ломятся от натиска пациентов, а брошюру кра-
ковского профессора Ежи Недельника «Об отрицательном
воздействии современного строительства на роговую обо-
лочку глаза человека» расхватали за несколько дней.
Положение все ухудшалось.
:,! Транспорт остановился. Горожане густой толпой осаж-
дали «Красное солнышко», каждый хотел переговорить
С американцем: неужели он считает, что под другими
107
строениями, кроме обозначенных на плане, нельзя найти
золото.
Военные патрулировали улицы, на всех углах раскле-
или объявление властей о том, что вплоть до поступле-
ния новых распоряжений министерства строжайшим об-
разом возбраняется сносить дома.
Полиция расхаживала с саблями наголо, однако без
особой пользы.
Засвидетельствованы были ужаснейшие случаи умо-
помешательства. В предместье некая вдова ночью, в од-
ной рубашке, вскарабкалась на крышу собственного до-
ма и стала со страшным скрежетом сдирать черепицу с
балок.
Молодые матери блуждали повсюду, как пьяные, а по-
кинутые грудные младенцы иссыхали в пустых комнатах.
На город опустилась дымная мгла — словно демон зо-
лота распростер пад ним свои нетопырьи крылья.
И вот наконец — наконец настал великий день. Дома,
прежде столь великолепные, исчезли с лица земли, слов-
но их с корнем вырвали, и на смену каменщикам при-
шло войско рудокопов.
Замелькали лопаты и кирки.
Золота — ни следа! Значдт, оно залегает глубже,
чем предполагалось.
И вдруг! . . . странное, чудо-
вищно огромное объявление в газетах:
ГЕОРГ МАКИНТОШ - ВСЕМ СВОИМ МИЛЕЙШИМ
ЗНАКОМЫМ И ГОРОДУ, КОТОРЫЙ ОН ТАК ГОРЯЧО
ПОЛЮБИЛ
Обстоятельства вынуждают меня распрощать-
ся сразу со всеми.
Засим я оставляю в дар городу привязной воз-
душный шар, который вы впервые сможете уви-
деть сегодня на Йозефплац и впредь безвозмезд-
но пользоваться им в любое время, — в память
обо мне. Я счел слишком обременительным посе-
тить каждого из господ в отдельности, почему я
и оставляю в городе одну большую визитную
карточку.
108
— Значит, он все-таки сумасшедший!
— Оставить визитную карточку в городе! Бред ка-
кой-то!
— Что все это значит вообще? Вы что-нибудь пони-
маете?
Такие возгласы раздавались со всех сторон.
Странно и неприятно только, что неделю назад
американец тайком продал все свои участки!
Разрешил эту загадку фотограф Ангел Малох. Он со-
вершил первый подъем на упомянутом в объявлении воз-
душном шаре и засиял с птичьего полета произведенные
в городе опустошения.
Теперь снимок был вывешен у фотографа в витрине,
а в переулок ломились желающие взглянуть на него.
Что же там было такое видно?
Среди темного моря домов белели мусором пустыри —
места разрушенных домов, образуя изломанные кара-
кули:
ГМ
Инициалы американца!
Большинство домовладельцев хватил удар, только ком-
мерции советнику Ключицингеру все было как с гуся во-
да. Его дом так и так годился лишь на слом.
Он только тер себе воспаленные глаза и глухо ворчал:
— Я всегда говорил, ни на что серьезное этот Макин-
тош не способен.
Франц Кафка
(1883-1924)
Приговор
Было чудесное весеннее воскреспое утро. Георг Вен-
деман, молодой коммерсант, сидел у себя в кабипете на
первом этаже невысокого домика на берегу реки, вдоль
которой вытянулся целый ряд домиков того же типа, от-
личающихся один от другого, пожалуй, только окраской
и высотой. Он как раз кончил письмо к другу молодости,
живущему за границей, потом с нарочитой медлительно-
стью вложил его в конверт и, облокотись па письменный
стол, стал смотреть в окно на реку, мост и начинающие
зеленеть холмы на том берегу.
Он думал о том, что этот друг, недовольный тем, как
у него шли дела на родине, несколько лет тому назад
форменным образом сбежал в Россию. Теперь у него бы-
ло торговое дело в Петербурге, которое вначале пошло
очень хорошо, но за последние годы как будто разлади-
лось, на что в каждый из своих приездов, от раза к разу
все более редких, жаловался друг. Так он и трудился на
чужбине без большой для себя выгоды: внакомое с дет-
ства лицо, нездоровая желтизна которого наводила на
мысль b развивающейся болезни, осталось все тем же,
несмотря на чужеземную бороду. По его словам, у него
не установилось близких отношений с гамошней колони-
ей его земляков, но и в русские семьи он был не очень-
то вхож и, таким образом, обрек себя на холостяцкую
жизнь.
Что можно написать такому явно зашедшему в тупик
человеку? Ему можно посочувствовать, но помочь нель-
110
зя. Не посоветовать ли ему вернуться домой, продолжать
свое существование здесь, возобновить старые связи, —
ведь этому никто ие мешает, — а в остальном положить-
ся на помощь друзей? Но ведь это же значит сказать
ему, — и чем мягче это будет сделано, тем болезненнее
он это воспримет, — что до сих пор его старания не увен-
чались успехом, что ему надо отказаться от своей затеи
и ехать домой, где на него будут указывать пальцем как
на неудачника, вернувшегося на родину, это значит ска-
зать ему, что его друзья, никуда не уезжавшие и преус-
певающие дома, — люди деловые, а он большой ребенок
и ему остается одно: во всем следовать их советам. Да
притом еще разве можно быть уверенным, что не зря
причинишь ему столько мучений? Возможно, что вообще
не удастся убедить его вернуться домой, — ведь оп сам
говорил, что уже отвык от здешних условий, — и тогда
он вопреки здравому смыслу останется на чужбине, уго-
воры его только озлобят, и он еще дальше отойдет от
прежних друзей. Если же он все-таки последует сове-
там, а потом будет чувствовать себя здесь униженным,—
разумеется, не по вине людей, а по вине обстоятельств,—
если он не сойдется с прежними друзьями, а без них не
станет на ноги, если он будет стесняться и стыдиться
своего положения и почувствует, что теперь у него дей-
ствительно нет больше родины и друзей, не лучше ли
тогда для него остаться на чужой стороне, как бы туго
ему там ни жилось? Можно ли в таком случае предпола-
гать, что он здесь поправит свои дела?
По этим соображениям не следует сообщать ему, если
вообще продолжать с ним переписку, о себе то, что без
всяких опасений напишешь просто знакомому. Друг уже
больше трех лет не был на родине и давал этому весьма
неубедительное объяснение — в России-де очень неопре-
деленное политическое положение, мелкому коммерсанту
нельзя отлучаться даже на самый короткий срок. А меж-
ду тем сотни тысяч русских спокойно разъезжают по
всему свету. А ведь именно за эти три года произошли
большие перемены в жизни самого Георга. О кончине
матери, случившейся около двух лет тому назад, и о
том, что с тех пор он, Георг, и его старый отец ведут со-
обща хозяйство, друг его, правда, еще успел узнать и вы-
разил в письме свое соболезнование, по весьма сухо, при-
чина чего, вероятно, крылась в том, что на чужбине не-
возможно себе представить всю горечь такой утраты.
111
С тех пор он, Георг, гораздо энергичнее взялся за свое
торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возмож-
но, что при жизни матери отец не давал ему развернуть-
ся, так как в делах признавал только собственный авто-
ритет, возможно, что после смерти матери отец хоть и
продолжал работать, но стал менее деятелен, возможно,
и даже так оно, по всей вероятности, и было, значитель-
но более важную роль здесь сыграло счастливое стече-
ние обстоятельств, — так или иначе, но за эти два года
фирма Бендеман процвела так, как и ожидать пельзя
было, пришлось взять вдвое больше служащих, торговый
оборот увеличился в пять раз, можно было не сомневать-
ся и в дальнейшем преуспевании.
Но друг ничего но знал о такой перемене. Раньше,—
последний раз как будто в том письме, в котором он вы-
ражал свое соболезнование,— он всячески уговаривал
Георга перебраться в Россию и пространно писал о тех
перспективах, которые сулит Петербург именно для его,
Георга, рода торговли. Цифры, которые называл друг,
были совсем незначительны в сравнении с тем размахом,
который приобрело торговое дело Георга. Но Георгу не
хотелось писать другу о своих успехах в коммерции, а
если бы он это сделал теперь, задним числом, это дей-
ствительно могло бы произвести странное впечатление.
И поэтому Георг обычно ограничивался тем, что со-
общал другу о всяких пустяках, которые приходят в го-
лову, когда в воскресенье сидишь и не спеша вспо-
минаешь вперемежку все, что угодно. Ему хотелось
одного — не нарушить того представления, которое 8а дол-
гий период отсутствия сложилось у его друга о родном
городе и которым тот удовлетворился. Вот так оно и по-
лучилось, что Георг в трех письмах, разделенных доволь-
но большими промежутками, сообщил другу о помолвке
достаточно безразличного им обоим человека с не менее
безразличной им девушкой, так что в конце копцов даже
заинтересовал друга этим событием, хотя это совсем не
входило в намерения Георга.
Но Георгу было приятнее писать ему о таких делах,
чем сообщить, что месяц тому назад он сам обручился с
фрейлейн Фридой Бранденфельд — девушкой из состоя-
тельной семьи. Он часто говорил с невестой о своем дру-
ге и о той особой позиции, которую занял в переписке
с ним.
— Значит, об не будет у нас на свадьбе? — спроси-
112
ла она. — По ведь я могу претендовать на знакомство со
всеми твоими друзьями.
— Я не хочу беспокоить его, — ответил Георг. — По-
старайся понять меня: оп, конечно, приехал бы, по край-
ней мере, я так полагаю, но он стеснялся бы и чувство-
вал бы себя несчастным, возможпо, он позавидовал бы
мне и, уж конечно, был бы недоволен — и не мог бы
побороть свое недовольство — тем, что возвращается один.
Один — ты понимаешь, что это значит?
— Но разве он не может узпать о нашей свадьбе сто-
роной?
— Этому я, конечно, помешать не могу, но при том
образе жизни, который он ведет, это маловероятно.
— Если твои друзья таковы, то тебе, Георг, вообще не
следовало бы жепиться.
— Ну, тут мы с тобой оба виноваты. Но я не жалуюсь.
И она, прерывисто дыша под его поцелуями, сказала:
— А мне все же обидно.
Он подумал, что и вправду не так уж страшно напи-
сать другу обо всем. «Я таков, и пусть берет меня та-
ким, как я есть, — решил он. — Не могу же я переде-
лать себя в угоду нашей дружбе».
И в длинном письме, которое он написал этим вос-
кресным утром, он действительно сообщил ему о своей
помолвке в следующих словах: «Самую приятную но-
вость я приберег к концу. Я обручился с фрейлейн Фри-
дой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи,
переехавшей в наш город несколько лет спустя после
твоего отъезда, так что ты вряд лп ее знаешь. При слу-
чае я напишу тебе подробнее о моей невесте, а сегодня
достаточно будет сказать, что я очень счастлив и что на-
ши с тобой отношепия изменились только в одном — до
сих пор у тебя был просто друг, а теперь у тебя будет
очень счастливый друг. Кроме того, в моей невесте, ко-
торая скоро сама тебе напишет, а пока просит передать
сердечный привет, ты найдешь искреннего друга, что для
холостяка не такое уж малое приобретение. Я знаю, об-
стоятельства таковы, что удерживают тебя от приезда к
нам, но разве моя свадьба не достаточное основание, что-
бы пренебречь всеми препятствиями? Как бы там ни
было, считайся только с собой и действуй по своему
усмотрению».
Георг долго сидел за письменным столом, глядя в ок-
но и вертя письмо в руке. Па поклон знакомого, который
113
проходил мимо по улице, оп ответил рассеянной улыбкой.
Наконец оп сунул письмо в кармам и прошел по ко-
роткому коридору в расположенную напротив спальню
отца, куда не показывался уже несколько месяцев. Да в
этом и не было нужды, потому что они постоянно встре-
чались у себя в магазине и обедали одновременно в ре-
сторане; вечером, правда, каждый сам заботился о своем
ужине, но потом, в тех случаях, когда Георг не проводил
время с друзьями или невестой, что теперь случалось
довольно часто, они обычно сидели еще с полчаса вместе
в общей гостиной, каждый уткнувшись в свою газету.
Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое
солнечное утро. Как, значит, затемняет комнату, выходя-
щую в узкий двор, высокая степа напротив. Отец сидел
у окна в углу, наполненном всевозможными реликвиями,
напоминающими о покойной матери, и читал газету, ко-
торую держал перед глазами как-то боком, стараясь при-
способиться и помочь своему слабеющему зрению. Со
стола не были убраны остатки завтрака, по-видимому,
почти нетронутого.
— А, это ты, Георг, — сказал отец и сразу поднялся
ему навстречу. Его тяжелый халат распахнулся, полы
развевались при ходьбе. «Мой отец все еще богатырь»,—
подумал Георг.
— Здесь же страшно темно, — сказал он.
— Да, это верно, темно, — ответил отец.
— И окно закрыто.
— Мне так больше нравится.
— На дворе теплынь, — заметил Георг, как бы про-
должая сказанное раньше, и сел.
Отец взял со стола посуду и поставил ее на ящик.
— Я, собственно, пришел только затем, чтобы сказать
тебе, — продолжал Георг, рассеянно следя за движения-
ми отца, — что все же написал сегодня в Петербург о
моей помолвке.
Он вытащил было письмо из кармана, но тотчас же
опустил его обратно.
— В Петербург? — спросил отец.
— Моему другу, — пояснил Георг и постарался за-
глянуть отцу в глаза. «В магазине он совсем другой, —
подумал Георг. — Как он здесь расселся в кресле и руки
на груди скрестил».
— Да. Твоему другу, — сказал отец с подчеркнутым
ударением.
114
— Ты ведь знаешь, отец, я не хотел писать ему о
своей женитьбе, заботясь только о нем, ни по какой дру-
гой причине. Ты сам знаешь, он трудный человек. Я ре-
шил, пусть услышит стороной о моей свадьбе, — тут уж
я ничего сделать не могу, хотя при его замкнутом обра-
зе жизни это маловероятно, — но только ие от меня.
— А теперь ты передумал? — спросил отец, положив
газету на подоконник, а на газету — очки, и прикрыл их
ладонью.
— Да, теперь я передумал. Если он мой близкий
друг, решил я, то должен быть счастлив моим счастьем.
И поэтому я уже не колебался и написал ему. Но рань-
ше, чем бросить письмо в ящик, я хотел сказать об этом
тебе.
— Георг, — сказал отец и растянул свой беззубый
рот, — послушай! Ты пришел ко мне посоветоваться. Это,
разумеется, делает тебе честь. Но это ничто, это хуже,
чем ничто, если ты не скажешь мне всей правды. Я пе
хочу касаться сейчас того, что сюда не относится. После
смерти нашей дорогой мамочки творятся какие-то нехо-
рошие дела. Возможно, и до них дойдет, и, возможно,
даже скорее, чем мы думаем. В пашем торговом заведе-
нии что-то от меня ускользает; может быть, от меня ни-
чего и не скрывают, — я сейчас ие хочу думать, что от
меня что-то скрывают, — я уже не тот, что прежде, па-
мять ослабела, я уже не могу уследить за всем. Во-пер-
вых, это естественный ход вещей, а во-вторых, смерть
нашей мамочки повлияла па меня куда сильнее, чем на
тебя. Но раз уж мы затронули этот вопрос в связи с тво-
им письмом, то прошу тебя, Георг, не лги мне. Это же
мелочь, это выеденного яйца не стоит, так не лги мне.
У тебя действительно есть друг в Петербурге?
Георг в смущепии встал.
— Оставим в покое моих друзей. Тысяча друзей не
ваменит мне отца. Знаешь, что я думаю? Ты не бережешь
себя. Ведь у возраста свои права. В нашем деле мне без
тебя не обойтись, ты это отлично знаешь, но если работа
:вредит твоему здоровью, я вавтра же запру магазин, и
Это уже навсегда. Так не годится. Тебе надо переменить
образ жизни. И при этом решительно. Ты сидишь эдесь
В темноте, а в гостиной яркое солнце. Ты чуть притро-
нулся к завтраку, вместо того чтобы как следует под-
крепиться. Ты сидишь при закрытом окне, а воздух был
бы тебе так полезен. Нет, отец! Я позову врача, и мы
115
будем следовать его предписаниям. Мы поменяемся
спальнями, ты переедешь в комнату, которая выходит на
улицу, а я сюда. Ты не почувствуешь никакой перемены,
все твои вещи перенесем. Но это еще успеется, а сейчас
ложись-ка в постель, тебе необходим покой. Давай я по-
могу тебе раздеться, вот увидишь: я справлюсь. А мо-
жет быть, ты уже сейчас хочешь перебраться в ту ком-
нату? Тогда пока что ложись па мою кровать. Пожалуй,
так будет даже разумнее.
Георг подошел вплотную к отцу, который поник се-
дой всклокоченной головой.
— Георг, — позвал отец чуть слышно, не подымая
головы.
Георг сейчас же опустился перед ним на колени, он
увидел усталое отцовское лицо, увидел, что тот скосил
на него глаза с необычно расширенными зрачками.
— У тебя нет друга в Петербурге. Ты всегда был
шутником, ты не удержался и подшутил и надо мной.
Ну откуда быть у тебя другу в Петербурге! Я этому пове-
рить не могу.
— Ты вспомни, отец, — сказал Георг, поднял отца с
кресла и, так как тот сидел перед ним такой беспомощ-
ный, снял с него халат. — Вот уже скоро три года, как
мой друг приезжал к нам в гости. Я помню, что ты его
недолюбливал. Во всяком случае, я два раза, никак не
меньше, сказал тебе, что его у нас уже нет, а он сидел
у меня в комнате. Такая нелюбовь мне вполне понятна,
у моего друга есть свои странности. Но бывало и так,
что ты охотно с ним беседовал. Я даже был горд, что ты
его слушал, расспрашивал, поддакивал ему. Если ты по-
думаешь, ты обязательно вспомнишь. Он тогда рассказы-
вал невероятные истории про русскую революцию. Так,
раз в Киеве, куда он поехал по делам, он видел священ-
ника, который во время волнений вышел на балкон, вы-
резал себе на ладони большой крест и, подняв окровав-
ленную руку, обратился к толпе. Ты же всем, кому угод-
но, рассказывал эту историю.
Между тем Георгу удалось снова усадить отца и ос-
торожно снять с него трикотажные кальсоны, которые
были надеты поверх полотняных, и носки. При виде бе-
лья далеко не первой свежести он упрекнул себя за то,
что забросил отца. Следить, как часто отец меняет белье,
конечно же, тоже было его обязанностью. Они с невестой
еще не говорили определенно о том, как в дальнейшем
116
устроят жизнь отца, ибо с молчаливого согласия предпо-
лагали оставить его на старой квартире. Но теперь Георг
твердо решил взять его с собой в их будущий дом. Ведь
если хорошенько подумать, то заботы, которыми он со-
бирался окружить отца впредь, может статься, уже опоз-
дали.
Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он
заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его
цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не мог сразу
уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту
цепочку.
Но, очутившись в постели, он как будто опять пришел
в себя. Сам укрылся,- а потом натянул одеяло до подбо-
родка. И смотрел даже ласково на Георга.
— Ты вспомнил его, ведь правда? — спросил Георг
и, желая подбодрить отца, кивнул ему.
— Ты меня хорошо укрыл? — спросил отец, словно
ему не было видно, закрыты ли у него ноги.
— Ты доволен, что лег в постель? — сказал Георг
и подоткнул одеяло.
— Ты меня хорошо укрыл? — снова спросил отец,
придавая, казалось, большое значение ответу.
— Успокойся, я тебя хорошо укрыл.
— Нет!— сразу же крикнул отец. Он отбросил одея-
ло с такой силой, что оно на мгновение взвилось вверх
о развернулось, потом встал во весь рост в кровати. Толь-
ко одной рукой он чуть придерживался за карниз. — Ты
хотел меня навсегда укрыть, это я знаю, ну и сынок! Но
1ты меня еще не укрыл. И если мои силы уже уходят,
на тебя-то их хватит, хватит с избытком. Да, я прекрасно
йнаю твоего друга. Такой сын, как он, был бы мне по серд-
цу. Потому ты и лгал ему все эти годы. И не почему
Другому! Ты думаешь, я не плакал о пем? Потому ты
•to запираешься у себя в конторе,— шеф занят, к нему
Нельзя,— только для того, чтобы без помехи писать свои
Еуличные письма в Россию. Но, к счастью, отец видит
[на насквозь, этому его учить не надо. Теперь ты ре-
ал, что подмял отца под себя, да так, что можешь сесть
pßa него верхом, а он и не пикнет, вот тут-то мой лю-
безный сынок и задумал жениться!
'$;> Георг в ужасе смотрел на отца. Образ петербургского
ЙЗруга, которого отец вдруг отлично вспомнил, завладел
Георгом, как никогда. Он видел его затерянным в дале-
кой России. Он видел его в дверях пустого, разграблен-
117
ного магазина. Вот он стоит среди поломанных полок,
развороченных товаров, сорванной арматуры. И зачем он
уехал так далеко!
— Нет, ты посмотри на меня!— крикнул отец, и Ге-
орг почти машинально побежал к кровати, но остано-
вился на полпути.
— Она задрала юбку,—пропел отец,—она задрала юб-
ку, мерзкая баба, вот так,— и, чтобы наглядно показать
как, отец задрал рубашку так высоко, что на бедре от-
крылся рубец от полученной в военные годы раны, —
опа задрала юбку вот так, в вот гак, и вот этак, а
ты в нее и втюрился, и чтобы ничто не мешало тебе
удовлетворить свою похоть, ты осквернил память ма-
тери, предал друга и сунул в постель отца, пусть ле-
жит там и не двигается! Ну как, может он двигаться
или нет?
И он стоял, ни за что не держась, и дрыгал ногами.
Он сиял от сознания своей проницательности.
Георг держался в углу, как можно дальше от отца.
Он уже раньше решил внимательно следить, боясь, как
бы отец не напал на него каким-нибудь обходным пу-
тем,— может быть, сзади, может быть, сверху. Теперь
он снова вспомнил об этом уже забытом им решении и
сейчас же опять забыл его, словно продернул сквозь
игольное ушко короткую нитку.
— Но друг не предан!— крикнул отец и в подтвер-
ждение своих слов потряс указательным пальцем. — Я
был его заступником здесь, в нашем городе.
— Комедиант!— не удержался Георг, но тут же спо-
хватился — к сожалению, слишком поздно — и прику-
сил язык, да так сильно, что глаза полезли на лоб и он
даже присел от боли.
— Да, конечно, я разыгрывал комедию! Комедию!
Удачное слово! Чем еще оставалось утешиться бедному
овдовевшему отцу? Скажи, — и на ту минуту, пока от-
вечаешь, будь по-прежнему мне любящим сыном,— что
еще оставалось мне делать здесь, в темной каморке, мне,
дряхлому старику, которого предали вероломные служа-
щие? А мой сын жил припеваючи, заключал сделки, под-
готовленные мною, от радости на голове ходил и смот-
рел на отца с недоступным видом, словно и вправду
порядочный человек! Ты думаешь, я не хотел бы тебя
любить? Ведь я же тебя породил!
«Сейчас он наклонится вперед,— подумал Георг. —
118
Хоть бы он упал и расшибся!» Это слово прошуршало
у него в мозгу.
Отец наклонился вперед, но не упал. И так как Ге-
орг не подбежал к нему, как можно было бы ожидать,
он снова выпрямился.
— Стой там, где стоишь! Ты мне не нужен. Дума-
ешь, у тебя есть еще силы подойти, и ты не подходишь
потому, что сам не хочешь? Не заблуждайся! Я все еще
намного сильнее тебя. Будь я один, мне, может быть,
и пришлось бы уступить, но мать отдала мне свои си-
лы, и с твоим другом мы отлично договорились, вся твоя
клиентура у меня вот здесь, в кармане!
«Ишь ты, он в нижней рубахе, а у него карманы»,—
подумал Георг, и ему пришло в голову, что одной этой
фразой он может погубить отца в глазах окружающих.
Мысль эта промельнула у него в голове, так как он сей-
час же все тут же забывал.
— Возьми под ручку свою невесту и попробуй по-
пасться мне на глаза! Я ее так от тебя отошью, что не
обрадуешься!
Георг скривил рот, точно не веря отцу. Отец же толь-
ко кивал головой в тот угол, где стоял Георг, подтверж-
дая этим, что не шутит.
— Очень ты меня позабавил, когда явился сюда и
спросил, писать ли другу о твоей свадьбе. Дурак, он все
уже знает, все уже знает! Я написал ему, ведь ты же
забыл спрятать от меня перо н бумагу. Поэтому он уже
несколько лет не приезжает, он все в сто раз лучше тебя
знает, твои письма он, не читая, бросает в корзину, а
мои читает и перечитывает!
Он так воодушевился, что взмахнул над головой обе-
ими руками.
— Все в тысячу раз лучше тебя знает! — крикнул он.
— В десять тысяч раз!—сказал Георг, желая подраз-
нить отца, но, еще не сорвавшись с губ, слова эти про-
звучали чрезвычайно серьезно.
— Я уже не первый год жду, что ты обратишься ко
мне с этим вопросом! Ты думаешь, меня что-нибудь еще
занимает, ты думаешь, я газеты читаю? На!— И он швыр-
нул в Георга газетой, которая случайно попала в постель.
Давнишняя газета с совсем незнакомым Георгу назва-
нием.— Как долго ты не решался, пока не созрел окон-
чательно! Мать успела умереть, ей не пришлось порадо-
ваться на сынка, друг твой погибает в своей России, уже
119
три года тому назад он был такой желтый, что хоть на
свалку неси, а я... сам видишь, какой я стал. Ты не
слепой!
— Значит, ты шпионил за мной!— крикнул Георг.
— Это ты хо^ел, верно, раньше сказать. Сейчас это
уже совсем пи к чему,— с сожалением, как бы про себя,
заметил отец. И прибавил громче: — Итак, теперь ты
знаешь — не ты один действовал, до сих пор ты знал
только о себе! В сущности, ты был певинным младен-
цем, но еще вернее то, что ты сущий дьявол! И потому
знай: я приговариваю тебя к казни — казни водой.
Георг почувствовал, словно что-то гонит его вон из
комнаты, в ушах у пего еще стоял шум, с которым отец
грохнулся на постель.
На лестнице, по которой он сбежал, как по покатой
плоскости, перепрыгивая через ступеньки, он налетел на
служанку, она подымалась наверх, чтобы убрать квартиру.
— Господи Иисусе! — воскликнула она и закрыла
фартуком лицо, но он уже исчез.
Выскочив из калитки, оп перебежал через улицу,
устремляясь к реке. Вот он уже крепко, словно голодный
в пищу, вцепился в перила, перекинул через них ноги, —
ведь в юношеские годы, к великой гордости родителей, оп
был хорошим гимнастом. Держась слабеющими руками за
перила, он выждал, когда появится автобус, который за-
глушит звук его падения, прошептал:
— Милые мои родители, и все-таки я любил вас,—
и отпустил руки.
В это время на мосту было оживленное движение.
(1883-1974)
Третья рука
Спустя четверть века я вновь очутился в городе моего
детства и юности. Двадцать пять лет назад, сидя у ва-
гонного окна, я смотрел, как плотно спаянная громада по-
строек, раскинувшаяся по склонам увенчанного башнями
холма, медленно таяла вдали и, наконец, совсем исчезла
из виду, смотрел и думал, что никогда больше не верпусь
в эти места. Я и теперь отчетливо помню переполнявшее
меня ликующее чувство расставания. Я был счастлив
вырваться из среды, которую считал до крайности ограни-
ченной и мещанской, и строил грандиозные планы. Па
прощальной встрече я нисколько не скрывал этого от сво-
их немногочисленных друзей; в результате между нами
даже возникло некоторое отчуждение, и вечеринка за-
кончилась прежде времени и довольно холодно.
I С той поры миновало уже четверть века, четверть ве-
ка кануло в прошлое, в бездну чудовищных потрясений,
отголоски которых по сей день колеблют почву у нас под
рогами. Быть может, все ужасы последних десятилетий,
t|pm взглянуть на них с беспощадных позиций собствен-
ного «я», произошли только затем, чтобы избавить меня
от горечи унижения, когда теперь, надломленный и без-
участный, я ищу приюта в краю, который дотоле прези-
1л. Мне незачем винить себя одного в бесславном кру-
шении гордо задуманного и весьма храбро начатого зда-
Ййя, я вправе притянуть к ответу эпоху. Кстати, я уже
вполне обуздал свое честолюбие и понимаю, что скром-
ные способности никогда не обеспечат мне карьеры сво-
121
бодного художника. Но все же приятнее сохранить жесто-
кую правду в душе и предстать перед былыми друзьями —
если нам суждено встретиться — этакой безвинно страж-
дущей жертвой житейских обстоятельств.
Вот почему я, не раздумывая, изъявил готовность при-
пять руководство филиалом столичной страховой компа-
нии, расположенным в моем родном городе; пост этот —
притом без тени снисходительной насмешки — мне пред-
ложил один из друзей более поздних лет; в юности он
тоже мечтал о необыкновенном будущем, но значительно
раньше, чем я, спустился с небес на землю. Занимаясь ис-
кусством, я по настоянию родителей в свое время изучил
и практическую специальность и теперь полагал, что
должность эта мне вполне по силам. Однако, прежде чем
окончательно согласиться, я решил исподволь позондиро-
вать почву, которую мне предстояло возделывать, и лишь
после этого, обретя известную уверенность и уже не бу-
дучи совершенным новичком, взять в свои руки бразды
правления.
Неделю или около того я находился в нашем старин-
ном городке. Утра мои были целиком посвящены дело-
вым проблемам, зато после обеда я взял за правило не-
пременно проводить часок в парке, разбитом па месте
прежних оборонительных укреплений и военных плацев.
Парк этот как нельзя лучше воплощал дух города. И не
потому, что там росли пышные и даже экзотические де-
ревья, не из-за широких ухоженных газонов и тщательно
взлелеянных цветочных клумб, а благодаря буколической
задушевности, соединявшей парковую живность и город-
ских обитателей. Как в дни моего далекого детства, по-
всюду, протягивая руки, стояли мужчины и женщины, а
зяблики, поползни и синицы склевывали с их ладоней
хлебные крошки и семечки; до сих пор стар и млад не-
утомимо подманивали бесчисленных белок в надежде снис-
кать их благосклонность, те же, пресыщенные и равно-
душные, сидели высоко в ветвях, лишь изредка спускаясь
принять угощение и ловко спрятать его в траве. В юно-
сти мне тоже случалось кормить птиц и белок, как гово-
рится, забавы ради, однако теперь — странное дело! — я
растрогался, и мысль о том, чтобы поселиться в этих
местах и даже, быть может, провести здесь остаток дней,
вдруг обернулась жарким соблазном.
Отец мой некогда занимал в городе весьма солидное
положение, и круг светских знакомых, в котором я бес-
122
препятственно вращался в студенческие годы, был очепь
широк. Большинство моих сверстников, да и кое-кто из
поколений постарше, наверное, еще живут и здравству-
ют и, по всей видимости, давно включились в пеструю,
кипучую суету городских будней. Может статься, я уже
встречал многих из них, только не узнавал, — оттого ли,
что не стремился никого разыскать, оттого ли, что, усту-
пая полубессознательному побуждению, хотел возобновить
былые знакомства не раньше, чем смогу говорить е этими
людьми па равных.
Как-то пасмурным вечером, обещавшим близкий дождь,
я ушел из парка противу обыкновения рано, хотя впал:
чем хуже погода, тем реже попадаются в аллеях гуляю-
щие и тем больше птиц и белок доверчиво собирается
вокруг терпеливых одиночек. Желая избежать несвоевре-
менных встреч, я миновал стороной людные кофейни в
центре города и зашел в расположенный па отшибе ма-
ленький ресторанчик, где гимназистом в обществе не-
скольких единомышленников упражнялся в искусстве иг-
ры на бильярде. Внешне это патриархальное заведение,
место встреч скромных обывателей и пенсионеров, ничуть
не изменилось, и одно это уже наполнило меня надеждой,
что я нашел именно то, что нужно. Тем более что и
убранство не слишком просторного помещения осталось
прежним, совсем таким, каким сохранилось в моей памя-
ти, и забытые мелочи, которые поначалу чужеродным те-
лом вклинивались между прошлым и настоящим, вдруг
стали оживать в душе, придавая впечатлениям какую-
то тревожную яркость. Я устроился за одним из круглых
столиков, выпил чашечку кофе и с удовлетворением от-
метил, что студенты, как бывало, испещряют серо-белую
мраморную столешницу озорными рисунками и загадоч-
ными столбиками цифр. Я полистал вечерние выпуски
^местных газет, а затем, исполнив положенный всякому
|остю долг вежливости, блаженно и почти с умилением
$тдался во власть потускневшего очарования этих стен.
Щ- прикрыл глаза, оставив только узкую щелочку, и
жгкинул голову на отполированную но блеска спин-
ЩУ- бархатного дивана, благоговейно вдыхая запах пло-
хонького кофе и дешевых сигар, слушая стук бильярд-
ных шаров и тихий звон, он раздавался каждый раз,
Когда падал украшенный бубенчиками кегельный ко-
роль.
Я долго сидел так, sa окном барабанил по мостовой
123
внезаппо хлынувший ливень, и вдруг меня охватило не-
приятное ощущение, будто кто-то пристальпо па мепя
смотрит. Скоро оно исчезло, но немного погодя возвра-
тилось опять; повинуясь чутью, я быстро повернул го-
лову и тремя-четырьмя столиками дальше заметил че-
ловека, который, тотчас сообразив, что пойман с полич-
ным, уткнулся в развернутую газету. Несколько секунд
я смотрел на него, а он украдкой косился на меня и,
наконец, —в ту самую мппуту, когда я узнал его, —встал
и направился к моему столику, протягивая руку и назы-
вая мое имя.
Он вместе со мной учился в гимназии и позже, уже
в студенческие годы, принадлежал к моему окружению.
Но теснее всего мы сошлись в старших классах гимна-
зии. Он всегда считался в классе первым учеником; лишь
однажды, накануне выпускных экзаменов, это приви-
легированное положение поколебалось из-за враждеб-
ности одного из учителей, который, кстати сказать, сни-
скал всеобщую ненависть. Мой отец был об этом юноше
очень высокого мнения, и, когда в конце года я как-то
раз принес не слишком блестящий аттестат, он был при-
глашен на каникулы в наш загородный дом, чтобы по-
заниматься со мной дополнительно. Результат превзошел
все ожидания, и к рождеству, по поручению отца, я по-
дарил ему серебряный портсигар со своей монограммой.
Вот что вспомнилось мне, когда мы пожимали друг дру-
гу руки, и еще: двадцать пять лет назад он присутство-
вал на прощальной вечеринке и больше чем кто-либо
был уязвлен моим насмешливо-снисходительным отно-
шением к остающимся здесь друзьям.
Сравнительно легко мы преодолели неизбежное от-
чуждение, вызванное долгой разлукой, и между нами
установился вполне дружеский контакт, пусть не слиш-
ком сердечный, но достаточно непринужденный. Навер-
ное, нам помогло и то, что оба мы не носили бороды и
каждый мог еще отыскать в лице другого черты быв-
шего однокашника. Но какое мучение — узнать челове-
ка, сидеть с ним за одним столом, разговаривать и быть
не в силах вспомнить, как его зовут! У меня зародилось
смутное подозрение, что фамилия была иностранная —
не то польская, не то хорватская, и когда моя рассеян-
ность, обусловленная лихорадочными, но тщетными по-
пытками вспомнить имя, уже начала бросаться в глаза,
я вдруг — не разом, а судорожно собирая и мысленно
124
проговаривая букву за буквой — поймал спасительное
слово: Банаотович.
Теперь только я смог свободнее участвовать в раз-
говоре, который покуда касался довольно-таки зауряд-
ных воспоминаний о гимназических годах. Банаотович
с явным удовлетворением извлек из кармана тот самый
серебряный портсигар, чтобы показать мне, как он до-
рожит и этой вещицей, и памятью о моем покойном отце,
к которому питал глубокое уважение. Задним числом я
почти устыдился — до того убогой и жалкой предста-
вилась эта безделушка трезвому взору солидного взрос-
лого человека — и пожалел, что не выбрал тогда портси-
гар из более благородного или хотя бы более тяжелого
металла. Видимо, отец снабдил меня весьма скромной
суммой, — думается, едва ли я удержал из нее что-ли-
бо в свою пользу.
Между прочим, однокашник мой, когда в разговоре я
впервые назвал его по имени, вставил, что уже много лет
носит другую фамилию. Вследствие глубоких политиче-
ских изменений немецкое население стало не в меру бо-
лезненно воспринимать все славянское, и он счел за бла-
го ходатайствовать о перемене имени, с тем чтобы впредь
зваться Баноттером. Решиться на этот шаг ему было
довольно легко,— ведь семейство их переселилось сюда
из соседней южной страны лет сто назад и давным-дав-
но сроднилось со здешним краем. Поскольку в его сло-
вах сквозило все-таки некоторое смущение, я успокоил
его, признав этот поступок вполне резонным и заверив,
что на его месте действовал бы тогно так же. Он по-
веселел и, быть может, в благодарность за понимание,
с каким я встретил его рассказ, не слишком усердно ин-
тересовался перипетиями моей жизни, отказавшись тем
самым от возможности справедливой мести за мое не-
сколько легкомысленное и дьявольски высокомерное по-
ведение в теперь уже далекий прощальный вечер. Он
Ограничился упоминанием о моих литературных опытах,
й которых не раз слыхал, и выразил сожаление, что
собственная бездарность во всем, что касается искусст-
ва, не позволяет ему оценить их правильно и по досто-
инству.
И вообще, чем дольше мы сидели и разговаривали,
тем теплее и задушевнее казался мне его тон. Но вместе
с тем и речь его, и жесты выдавали растущую тревогу
и нетерпение. Он словно боялся что-то упустить и все
125
же ne смел направить беседу в желанное русло. Это
слегка удивило меня, ведь я хорошо помнил, что в гим-
назии, несмотря иа ровное и неизменно дружелюбное
отношение к одпоклассникам, он всегда воздвигал меж-
ду собою и прочими, менее удачливыми учениками не-
кую незримую стену. Но из гордыни, а напротив,
из неуверенности, ибо успехами своими он был обязан не
столько одаренности, сколько упорству и прилежанию,
и, опасаясь язвительных выпадов, привык держаться
настороже. Впрочем, неприступность соединялась у
него с неколебимым спокойствием человека, который
берется за дело, только твердо зная, что оно ему под
силу.
Я уже начал подозревать, что он очень стеспен в
средствах и намеревается просить у меня денег взаймы
или протекции. Мне это было бы весьма некстати. И не
потому, что пришлось бы ему отказать, а потому, что
отказ волей-неволей надо обосновать, раскрыв тем самым
собственные незавидпые обстоятельства.
Страхи мои оказались покуда напрасными. Банаото-
вич — или, как он пожелал теперь называться, Бапот-
тер — вдруг глубоко, почти со стопом вздохнул, слов-
но человек, отдающий себе отчет в тщетности своих по-
ступков, и, бросив взгляд на висящие над головой кас-
сирши часы, спросил:
— Ты надолго сюда? Я имею в виду — в город?
Я ответил, что пока точно не зпаю. Может быть, про-
буду здесь еще несколько дней, но с таким же успехом
могу уехать завтра. Задержусь я или не задержусь в
городе, зависит не от меня.
— Видишь ли, мне иора на службу, — поспешил он
объяснить свой вопрос и разочарованно добавил: —
Жаль. Я бы охотно потолковал с тобой еще. Мы ведь
не виделись целую вечность... и, как знать, сведет ли
нас жизнь снова.
Явная растерянность, прозвучавшая в его словах, а
еще больше странное, почти умоляющее выражение
устремленных на меня глаз брали за душу: я испытывал
к этому человеку уже не просто доброжелательность, но
искреннее сочувствие. Опасаясь, однако, как бы он, вос-
прянув духом, не попросил денег, я сказал:
— Если ты свободен нынче вечером, мы могли бы по-
видаться.
Хотя моя предупредительность чрезвычайно его об-
126
радовала, он отклонил предложение посидеть в гостипич-
пом ресторане и, в свою очередь, пригласил меня в вин-
ный погребок в тихом районе города, который я помнил
крайне смутно. Причин для отказа у меня не было.
Поскольку мне не хотелось провожать его, я сделал вид,
будто намерен остаться здесь, и покинул кафе уже пос-
ле его ухода.
Погребок, в котором мы условились встретиться, но-
сил не совсем обычное название — «Бегство в Египет».
Располагался он отнюдь не в старом городе, а среди
унылых построек последней трети прошлого века; прав-
да, сам по себе дом принадлежал к числу немногих зда-
ний, которые уцелели от значительно более ранних вре-
мен и, упорно держась своего места в глубине уличного
порядка, становились заметны, только когда ты оказывал-
ся прямо перед ними. Все это сообщало одноэтажному
строению, а тем паче приютившемуся там винному по-
гребку таинственный и чуть ли не сомнительный коло-
рит. Вполне можно было вообразить, что здесь пируют
странные чудаки или собираются всякие темные лич-
ности, злоумышляя против властей и закона.
Я не доверял тамошней кухне и поужинал в извест-
ном ресторане, но, как бы то ни было, в условленный час
вошел в погребок. Баиоттер в одипочестве сидел за од-
ним из немногочисленных столиков, накрытых яркими
клетчатыми скатертями. Перед ним стояла набитая окур-
ками пепельница и полупустой бокал с вином, который
он отставил при моем появлении; судя по всему, бокал
был не первый. Держался он гораздо увереннее, я сра-
зу это заметил: приветствуя меня, он не встал, а только
фамильярно помахал рукой. Пил он одно из тех непри-
тязательных, тяжелых вин, которые хорошо родятся па
^юго-востоке страны. Сам я предпочитал более легкий и
|прпятиый «шиллер»; правда, из-за ярко-розового цвета
^непосвященный легко может счесть этот напиток подо-
зрительным, а все дело в том, что его готовят из крас-
шоватых ягод.
I Очень скоро я понял, что Баноттер явился сюда по-
раньше не без умысла. Очевидно, хотел до моего прихо-
да избавиться с помощью вина от докучливой сковап-
юости и вполне в этом преуспел. Минуя долгие пустые
предисловия, он только сказал (я тем временем смаковал
рервый глоток вина и раскуривал сигару), сказал очень
коротко:
127
— Я чрезвычайно благодарен тебе за го, что ты со-
гласился встретиться со мною.
На мою ответную вежливую фразу он не обратил ни
малейшего внимания и продолжил:
— Я мог бы поговорить с тобою и раньше, но здесь
спокойнее... и потом, надо было все как следует обду-
мать.
Он умолк; я отчетливо чувствовал — не затем, чтобы
дать мне время о чем-нибудь спросить, но потому, что,
быть может, хотел принять окончательное решение. И я
спокойно ждал, когда он заговорит снова.
— Дело, о котором пойдет речь, не совсем простое.
В какой-то мере все это ляжет и на твои плечи, сделает
тебя моим соучастником. Поэтому решай сам, намерен ли
ты меня выслушать. Еще не поздно сказать «пет», и я
нисколько не упрекну тебя. Это не пустяк.
Мне тотчас вспомнилось, какие мысли нахлынули на
меня при виде убогого, неуютного кабачка. Баноттер не
преступник — в этом я был совершенно уверен. Ориги-
нал, быть может, или несколько более чем оригинал: чу-
дак, воспринимающий как тяжкий кошмар безобидней-
шие происшествия, на которые любой другой смотрит с
улыбкой. Пожалуй, стоит рискнуть: пусть выложит свои
секреты. К тому же днем в кафе он обронил, что ему
пора на службу. Стало быть, при всей своей чудакова-
тости он занимает определенное положение в обществе
и вполне благонадежен.
— Если для тебя так важно поделиться со мной...—
начал я, выражая готовность выслушать его историю.
— Разумеется, важно. Хотя, в сущности, сам не знаю
почему. Я не раз пробовал... и всегда с одинаковым
результатом. Допускаю, что и сейчас будет так же. Но
я уже столько лет не осмеливался сделать повой попыт-
ки... и потом, мы ведь были когда-то друзьями! — Как
бы предупреждая мои возражения, он поднял руку: —
Конечно, я сужу весьма односторонне. Кроме того, друж-
ба связывала нас в столь далекие годы, что нынче это
уже ни к чему не обязывает. И все же... воспоминаний
о ней для меня достаточно, чтобы просить тебя об этой
поистине неоценимой услуге. — Он осушил свой бокал
и подозвал официантку, чтобы та налила ему еще ви-
на.— Ты ведь, наверное, не забыл, что в гимназии я неиз-
менно был первым учеником, да и студентом сдавал все
экзамены на отлично?
128
Я согласно кивнул, и по губам его скользнула пре-
небрежительная усмешка.
— Давно доказано, что вне школы такие образцовые
ученики сплошь и рядом обнаруживают полную несосто-
ятельность. Или, во всяком случае, не поднимаются выше
среднего уровня. Я — лишний пример, подтверждающий
правило. Однако смею надеяться, в своей области я все-
гда оставался на высоте.
Казалось, он ждал от меня каких-то слов, поэтому я
с уважением заметил, что разбираться в некой узкой
области и приносить пользу, несомненно, куда более сча-
стливая и достойная судьба, нежели бездумно, нимало не
печалясь о благе общества, устремляться в расплывча-
то-туманную даль.
-- Предоставим судить другим. Особенно, что каса-
ется счастья и удовлетворенности в такого рода осознан-
ных границах. Я упомянул об этом, только чтобы под-
черкнуть вполне заурядный характер своего существо-
вания. Вот что для меня главное. Я был безупречным
учеником и уже более двадцати лет являюсь столь же
безупречным членом общества. Никто не вправе не по-
дать мне руки, не поздороваться или двусмысленно
усмехнуться за моей спиной. Тем не менее при всей своей
образцовости я — самый опасный и самый подлый пре-
ступник, разгуливающий на свободе в этом городе, а
может, и во всей стране.
После такого заявления, слишком нелепого, чтобы
хоть как-то напугать меня, он умолк и испытующе, с не-
доверием посмотрел мне в глаза. В ответ я сумел только
смущенно улыбнуться, и он пренебрежительно пожал
дшечами:
I— Другого я и не ожидал. Впрочем, безразлично. Это
е помешает мне продолжить. Так или иначе есть еще
екоторая надежда, что со временем ты перестанешь улы-
аться.
— Извини, Банаотович, — оправдывался я, —я мо-
у воспринять твое заявление только как шутку! Или,
Ь худой конец, как субъективное преувеличение!
I — Что ж, твое право. Мне это ничуть не мешает.
| могу продолжать?
f — После столь необычного начала я просто горю же-
, анием узнать, что было дальше.
Он единым духом осушил полбокала, а затем кивком
показал на мой, едва пригубленный:
5 Австрийская новелла XX в. 129
— Ты до сих пор недолюбливаешь наши добрые
вина?
— На мой вкус, они тяжеловаты.
Он согласно кивнул.
— Верно, тяжеловаты. Но я к ним привык. Этот
виноград под стать здешним местам. Я имею в виду
ие только тяжелые гроздья, висящие па лозах. Но и по-
зднее, уже ставши вином, он сродни и этому городу, и
его кабачкам. Нужно, правда, сжиться с нашим краем,
с городом, чтобы понять местные вина и полюбить их.
С тобой этого не случилось, хотя ты здесь родился. Ина-
че ты не смог бы так надолго уехать. Впрочем, ты вер-
нулся. Быть может, чувство близости к родному краю
проснулось в тебе только сейчас... и если гы останешься,
то научишься пить наши странные вина...
Заключительные слова он произнес очень тихо, обра-
щаясь больше к себе самому. Потом резким движепием
буквально вырвался из потерянности, которая чуть было
не завладела им. Точно поймал себя на том, что возна-
мерился в последнюю минуту трусливо уклониться от
опасного предприятия, и теперь счел своим долгом бес-
пощадно упичтожить все пути отступления.
— Ты еще помнишь Воланского? — спросил оп без
всякого перехода.
Он говорил о том учителе греческого языка, который
за год до выпуска стал нашим классным наставником и,
питая к Банаотовичу ярую неприязнь, пошатнул его до
той поры неизменно прочную позицию первого ученика.
— Ты помнишь, что его беспредельная враждебность
едва не испортила мне аттестат?
— Но ведь он еще до экзаменов скоропостижно
умер,— заметил я, несколько удивленный.
Баноттер как бы в нетерпении вскинул брови.
— Вот именно. И единственно поэтому я и смог по-
лучить аттестат с отличием, а позднее был удостоен
докторской степени sub auspiclis1.
Он намекал на традицию, существовавшую до войны
в императорской Австрии: тем учащимся, которые и в
гимназии, и в студенческие годы получали на экзаменах
высший балл по всем предметам, на церемонии присуж-
дения докторской степени посланец императора вручал
бриллиантовый перстень.
Под покровительством (лат.).
130
— Это был тот самый последний шанс, на который
здравомыслящий человек рассчитывать не вправе. А я
все-таки рассчитывал... и расчет мой оправдался.
Он помолчал, я же по-прежнему не догадывался, ку-
да он клонит.
— Не знаю, занимало ли тебя когда-нибудь, — на-
конец заговорил он,— что наш город являет собой на
редкость благодатную почву для деятельности всяческих
оккультных кружков.
— Я не раз слышал и читал об этом. Ведь отсюда
вышло несколько прославленных медиумов.
— Что касается меня, то я попал в эту среду совсем
мальчишкой. Еще в старших классах гимназии.
— Однако никто ни о чем не подозревал?
— Нет, не подозревал. Я держал это в тайне, —
от страха. Ведь если бы педагоги дознались, то они сочли
бы меня крайне подозрительной личностью, а однокласс-
ники издевались бы над этим Ешчуть не меньше, чем над
моим так называемым карьеризмом. Сейчас самому смеш-
но вспомнить, какое невыразимое отчаяние охватывало
меня при одной мысли, что я могу получить аттестат
без отличия. Но в ту пору речь шла о моем будущем,
о моей мечте!.. Я зубрил как одержимый! День и ночь!
Всеми возможными способами старался расположить к
себе Воланского. Лебезил перед ним, заискивал, как са-
мое жалкое из созданий!.. Безуспешно. И тогда мало-
ломалу отчаяние сменилось затаенной лютой ненавистью.
Быть может, большая удача или даже перст судьбы, что
именно в то время я часто бывал в компании спиритов
й находился под необычайно сильным их влиянием. Ина-
Ще я бы, наверное, совсем обезумел и голыми руками
fjyinmi Воланского, этого ничтожного, тупого изверга!..
о под воздействием спиритических сеансов у меня ис-
подволь зародилась мысль, нельзя ли отправить челове-
Ща на тот свет одним лишь'целенаправленным, сверхчело-
ЦНеским напряжением воли. Неистребимой жаждой
Шить его, излучаемой всеми фибрами души, всеми кле-
Ертками тела. Много недель подряд, не слишком веря
щу.спех, я пытался достичь этого. И поскольку все оста-
]fpJiocb безрезультатным, я продолжал заниматься этим
^qcto так, чтобы. отвлечься,— из бессильной, трусливой
й|йЬсти. Но вот однажды, когда этот мерзавец опять без
всякой причины целый день жестоко издевался надо
мною, цаступила наконец та страшная ночь. Я лежал
5*
131
без сна, борясь с искушением начать старую игру. Не по-
тому, что она казалась мне бессмысленной и напрасной!
Напротив! У меня появилось предчувствие: на сей раз
все может принять серьезный оборот!.. На протяжении
часа я думал только об одном: «Умри, собака! Ты дол-
жен умереть! Я хочу, чтобы ты умер!..» И вдруг, — я
уже был вконец истерзан, и мне чудилось, что я вот-вот
потеряю сознание,— вдруг у меня возникло страшное,
чудовищное ощущение, будто из моего тела вырастает
рука... она становится все длиннее, длиннее, вот она уже
за кроватью, вот она проникает через запертое окно и
дальше, дальше... неслышно, незримо... проходит сквозь
стены... перебирается за реку!.. Я никогда не интересо-
вался, где живет Воланский. Но тогда, ночью, я это знал,
не ведая ни улицы, ни номера дома. Я в жизни не бывал
в его квартире... но даже теперь мог бы точно описать
его спальню. Умывальник в простенке между окон; сле-
ва, у стены, письменный стол; в глубине — платяной
шкаф и старый диван... в углу серо-голубая голландская
печь с облупленными по краям изразцами... а справа...
кровать, на которой лежал он. Как сейчас, вижу даже
цвет наперника и стеганого одеяла: темный, красно-
бурый!.. И через это одеяло, до половины скрывавшее
лицо Воланского, моя новая, третья рука впилась ему в
горло. Сначала он только тихо вздохнул и откинул голо-
ву набок. Потом выпростал из-под одеяла руки и схва-
тил что-то, чего не было. Вздох обернулся стоном, стон —
хрипом. Руки колотили по воздуху, ноги дергались,
одеяло сбилось в изножье кровати, тело выгнулось дугой,
но голова словно какой-то чудовищной, неумолимой си-
лой была прикована к подушкам!.. Наконец эта жуткая
картина расплылась перед моими глазами... таинствен-
ная рука, точно собака с нечистой совестью, снова за-
ползла в мое тело... и я уснул... или потерял сознание.
Наутро директор до начала замятий вошел в класс и ска-
зал, что ночью с Воланским внезапно случился удар.
Ты, может быть, еще помнишь...
Рассказывая, Баноттер ни единого разу не взглянул
на меня, хотя сидел напротив. Вначале ему явно было
нелегко прятать глаза, но постепенно в нем ожила до то-
го жгучая ненависть к давно умершему человеку, — он
прямо дрожал от возбуждения, — что я как слушатель
был ему уже не нужен. И именно в силу этой полней-
шей отрешенности он как бы переродился, а может, об-
132
нарушил свою подлинную сущность. Он больше не ка-
зался мне чудаковатым фантазером, но человеком, впол-
не способным на что угодно, пусть даже и не на столь
чудовищный поступок, как тот, в котором он минуту
назад обвинил себя. Одновременно я почти с изумлени-
ем понял, что и тогда, в детстве и юности, он едва
ли был тем примерным учеником, которым его считали и
я, и все остальные одноклассники и которого встречали
слегка презрительной усмешкой. Неожиданно для меня
здесь, за столиком маленького, убогого погребка, он как
бы воскрес к новой, удивительной и совершенно особой
жизни.
— Рассказ твой, правда, затрагивает область, к ко-
торой я издавна отношусь с сугубым недоверием, — на-
рушил я наконец свое молчание. — Однако признаюсь,
что все это меня до некоторой степени интригует.
Минуту он смотрел мимо меня, пока слова мои ка-
кими-то окольными путями не достигли его слуха.
— Интригует? — переспросил он, снисходительно
улыбаясь.
— Твои нерлы были тогда, естественно, в непривыч-
но перевозбужденном состоянии,— торопливо пояснил я
свою мысль.— В сущности, если разобраться, из-за тщет-
ной борьбы с неприязнью Воланского... к тому же
здесь наверняка сказалось весьма неблаготворное воз-
действие спиритической ворожбы, в которой гы участво-
вал. Впрочем, быть может, ты в ту пору еще не вышел
из переходного возраста... и потому был вдвойне воспри-
имчив к подобным вещам.
Он взглянул на меня чуть ли не с издевкой.
— Наши точки зрения, по сути дела, не слишком рас-
ходятся. Во всяком случае, пока...
Тут я решил, что пора исподволь обратить все это в
шутку:
— Не припомню, чтобы на трупе Воланского были
Обнаружены следы удушения, а?
V Он, однако, сделал вид, будто отнесся к моему заме-
чанию вполне серьезно:
— Сомневаюсь, что такая таинственная рука остав-
ляет следы, различимые подслеповатым глазом профес-
сионального прозектора. Но отложим покуда этот вопрос.
Вернемся к фактам: оправившись от первого потрясе-
ния, я расцепил всю историю, совсем как ты, и скоро ус-
покоился. Ведь если каждого человека, когда-либо поже-
133
давшего смерти другому, упрятывать за решетку, земля
мигом обратится в огромную тюрьму.
— Это верно.
— Я,— продолжал Бапоттер, к которому возвратилась
прежняя безучастность, — с отличием выдержал выпуск-
ные экзамены в гимназии, а через несколько лет — эк-
замены на степень доктора. И получил степень sub aus-
piciis. Таким образом, первая жизненная цель была мною
успешно достигнута. Только мне это было уже не так
важно. У меня между тем появилась новая цель, к кото-
рой я стремился с куда большей страстью и нетерпе-
нием.
Он вповь попросил официантку наполнить его бокал.
— Когда мы с тобой дружили, ты ведь как будто
очень редко бывал у меня дома?— внезапно спросил
он.— В основном я приходил к тебе.
— Сейчас уж и не помню,— ответил я, смущенный
неожиданным вопросом. — Пожалуй, раза два-три, не
больше.
Баноттер согласно кивнул.
— Я не очень ладил с отцом и старался устроить
так, чтобы никто не заглядывал в нашу жизнь.
— Твой отец возглавлял крупную маклерскую конто-
ру по торговле недвижимостью?
— Он занимался еще и другими, мепее безупречны-
ми операциями. И зарабатывал на них большие деньги.
В юности я очень огорчался из-за этого и не по годам
рано дал ему почувствовать свое неодобрение. Отчего на-
ши взаимные симпатии, конечно, никоим образом не
усилились. По той же причине он впоследствии так и
не пожелал признать резонной перемену в моих взглядах.
— Перемену во взглядах на способы, какими он за-
рабатывал деньги?
— Прежде всего во взглядах на уже заработанные
деньги. Я потерял уверенность в том, что деньги эти
непременно отмечены печатью позора. И что порядоч-
ный человек не может прикоснуться к ним, не запятнав
себя.
— Но что же склонило тебя к этому более мягкому
суждению?
— Прекраспый пол. Еще студентом я познакомился
с одной девушкой. В те годы молодежь смотрела па по-
добные вещи серьезнее, чем сейчас. Или, скажем, более
мещански. Я, правда, уже заканчивал курс, но как было
134
получить место, которое позволило бы мне жениться?
А жениться было необходимо, и притом срочно... Приняв
это во внимание, ты, быть может, поймешь, отчего я
пытался подступиться к отцовскому состоянию.
Откровенное признание Баноттера вновь чисто по-
человечески сблизило меня с ним. Какая-то доля его не-
постижимого, отстраненного от меня существа утрати-
лась. Поэтому, не делая над собой ни малейшего усилия,
я смог заверить его:
— Я действительно прекрасно тебя понимаю.
— Даже теперь мне приятно услышать, что ты меня
понимаешь. А двадцать пять лет назад я был бы просто
счастлив. Увы, отец мой не проявил должного понимания.
И в этой ситуации его истинная злобная натура рас-
крылась полностью. Он с подчеркнутым удовлетворени-
ем объявил, что сегодня зарабатывает деньги тем же
нечистым способом, как и раньше, и если я ими гнушал-
ся прежде, то и теперь мне незачем па них зариться.
На том он и уперся, оставаясь глух ко всем доводам.
Я знал: в сущности, он имеет полное право так посту-
пать. И именно это делало его в моих глазах еще омер-
зительнее. В скором времени чувства, которые я к нему
испытывал, приобрели разительное сходство с теми, ка-
кие я в последний гимназический год питал к Волан-
скому.
Снова против меня сидел до ужаса новый Банот-
тер — в этот вечер я уже видел его таким. И, словно
стремясь отвести подкрадывающееся подозрение, я бро-
сил ему дурацкий вопрос:
— Твой отец еще жив?
Баноттер нисколько не удивился.
— В сущности, он мог бы еще жить, — проговорил
он, точно мои слова впервые натолкнули его на эту
мысль.— Сейчас ему было бы под восемьдесят... он все-
гда оставлял впечатление человека здорового и сильного.
Однако еще за полгода до получения мною докторской
Степени он предпочел уйти из жизни... и уступить доро-
гу мне...
Вероятно, уже сам того не сознавая, я едва не пал
Жертвой Бапоттерова безумия, когда потерял над собою
власть и выкрикнул:
— Ты же не станешь утверждать, что...
Пальцы его левой руки разжались, словно открывая
спрятанную в ладони загадку.
135
— Все произошло прибгткштельно так же, как не-
сколькими годами раньше с Воланским.
— Но ведь это чистый бред!
Он с сомнением пожал плечами.
— Быть может, всего-навсего стечение диковинных
случайностей. Как видишь, я еще пытался объяснить все
твоим способом. Только теперь это оказалось не столь
легко и просто, как в первый раз. В первый раз был,
так сказать, эксперимент. Опыт, поставленный неподхо-
дящими средствами... Во второй раз средства были уже
опробованы и сочтены годными.
Я вынужден был призвать на помощь все свое са-
мообладание, чтобы сохранить ясность рассудка.
— Не воображай, что ты заразил меня своим безу-
мием, Банаотович. Я просто глубоко тебе сочувствую...
Он огорченно вздохнул.
— Думаешь, я заслуживаю сочувствия? — Он по-
качал головой. — Таким образом, и вторая моя мечта
осуществилась.
Долгий, пытливый взгляд задержался на моем лице.
— С тобой тоже так бывает? Когда цель достигну-
та, ты теряешь к ней интерес, считаешь несущест-
венной?
Я жадно ухватился за его вопрос.
— Смотря какая цель. Если ненастоящая, то да.
— Ненастоящая... — безжизненным эхом откликнул-
ся он.— Да, пожалуй. Быть может, это и есть выход из
дьявольского лабиринта. Но до поры до времени прихо-
дится блуждать в нем с завязанными глазами.
Надеждой, что сумел оторвать его от пагубных мыс-
лей, я тешился недолго. Он обеими ладонями провел по
лбу и по волосам, точно физически стряхивая с себя
задумчивость.
— Бриллиантовый перстень старика императора ле-
жит у меня в каком-то сейфе... после защиты диссерта-
ции я его не видел. И с семейным счастьем получилось
не лучше. Хотя от смерти отца до женитьбы прошло го-
раздо меньше времени, чем со дпя смерти Воланского
до присуждения докторской степени. А может, как раз
поэтому. Впечатление было еще до жути свежо. И по-
том, разве не естественно было поделиться с женой?
Я, во всяком случае, склонен считать такое желание
вполне оправданным.
— Ты говорил с нею о своем... безумии?
136
— Единственный раз. В час невыносимого одиноче-
ства. Она сказала то же, что и ты: безумие!.. Но в душе,
как видно, думала иначе. Очень скоро я это почувство-
вал. С того дня в ее глазах затаилась... какая-то робость...
настороженность... готовность отпрянуть назад!.. Мне ка-
жется, такой взгляд бывает у людей, когда они попада-
ют в места, кишащие ядовитыми змеями... Все это, как
ты догадываешься, быстро углубило пашу отчужден-
ность.
Я уже не смотрел Банотгеру в лицо. Взгляд мс(й был
устремлен на его правое бодро. Там, под пиджаком, мне
чудился странный бугорок. Бугорок, которого еще мину-
той раньше не было. Как мне пришла в голову эта бре-
довая идея, не знаю, но я был уверен: именно отсюда
в ту ночь, когда умер Воланский, выросла мерзкая бес-
костная рука и, точно ядовитая гадина, поползла по го-
роду. И внезапно мне представилась нагая женщина...
вот она стоит у глухой стены в конце узкого сумрачно-
го коридора, вытянув руки, словно для защиты... при-
жимается спиной к сырым, холодным как лед камням, а
широко раскрытые от ужаса глаза прикованы к ползу-
чей твари, которая подбирается все ближе, ближе...
— Ты еще... женат?— выдавил я.
— О да... На другой женщине.
Говорить я уже не мог. Не мог даже отпить глоток
вина: рука моя так дрожала, что я был вынужден по-
ставить бокал. Тем спокойнее он поднял свой, прежде
чем поднести к губам, полюбовался игрой вина и при-
ветливо сказал:
— В самом деле, ты обязательно должен перейти на
этот приятный золотисто-зеленый напиток. Тогда ты не
станешь волноваться из-за всяких событий больше, чем
они того заслуживают.
— Что ты сделал со своей женой, мерзкое чудови-
ще? — прохрипел я.
Он закрыл глаза, и по лицу его скользнуло выраже-
ние несказанной хитрости и удовлетворения.
— Ну наконец-то. Ты уже не смеешься, друг моей
юности?
Еще раз мне удалось вырваться из кошмара, кото-
рым опутал меня рассказ Баноттера и пропитанный вин-
ными парами и табачным дымом воздух тесного по-
гребка.
— Прости... я увлекся.
137
Резкая складка пролегла у Баноттера от крыльев но-
са к углам рта, придав ему странно беззащитный, пе-
чальный вид.
— Мне нечего прощать. Ты абсолютно прав, называя
меня мерзким чудовищем. До какой степени прав, ты
поймешь, уделив мне еще несколько минут.
— Я уже знаю, что ты собираешься мне сказать.
— Что же, интуиция едва ли обманывает тебя. Тем
не мерее я хотел бы рассказать обо всем сам.
Он сидел у стены, далеко отодвинувшись от стола,
так что мог опереться затылком о пожелтевшие беле-
ные кирпичи.
— Странно, — заговорил он после минутного молча-
ния, — что именно в тот момент, когда начинаешь испы-
тывать к собственной жене все большее безразличие и
отчужденность, неизбежно появляется другая женщина,
в которой ты души не чаешь. Конечно, не хочу обобщать.
Со мною, во всяком случае, было так. Спустя четыре го-
да после женитьбы и всего несколько недель после то-
го, как я сделал жену своей сообщницей, я встретил
очень красивую и умную девушку. Подробности наше-
го знакомства здесь роли не играют. Прошло немного
времени, и я уверовал в необходимость связать с этой
девушкой свою жизнь, если для меня вообще имело
смысл жить дальше. Жена ни о чем не подозревала. Не
по слепоте, а оттого, что с каждым днем все больше от-
далялась от меня. Думаю, она не стала бы чинить пре-
пятствий и согласилась бы на развод. Только какая мне
от этого польза? Наш брак был освящен католической
церковью. А теперь, прошу тебя, слушай особенно вни-
мательно. Ибо дело пойдет о весьма своеобразном пово-
роте событий. Некий ретивый сплетник донес моей же-
не о моих отношениях с той девушкой. О ревности же-
на и думать давным-давно забыла. Но оставить все, как
есть, было невозможно: ни положение девушки в обще-
стве, ни склад ее характера не допускали такого. Моя
жена об этом знала. Знала и о том, что, даже если мы
с нею расстанемся, ничто не переменится. Сам видишь,
ситуация сложилась для всех крайне неудобная. Тем
не менее, — Баноттер слегка наклонился вперед, что-
бы легче было заглянуть мне в лицо, — я полностью
владел собой. На сей раз у меня и в мыслях не было уб-
рать жену так же, как, скажем, отца или Воланского.
Клянусь, в мыслях не было.
138
Молчаливым кивком я показал, что верю ему.
— Только жена, по-видимому, стала бояться, что я
могу это сделать.
— Пожалуй, ее можно понять,—осторожно вставил я.
— Хотя она, как и ты, считала мои самообвинения
безумием! — торжествующе воскликнул Баноттер.
И тотчас опять заговорил прежним тоном: — Прежде
чем выносить решительный приговор моему здраво-
мыслию, позволь мне закончить. Сначала жена ничем не
выдавала, что ей страшно. Я скорее почуял это, нежели
заметил. Но мало-помалу ей стало не по силам прятать
от меня свой ужас. И однажды она выкрикнула все это
мне в лицо! Чего я только не говорил и не делал, чтобы
успокоить ее, — напрасно. В конце концов она обрати-
лась за помощью к посторонним людям. К врачам и да-
же в полицию. Ты, полагаю, догадываешься, что там
она едва ли могла найти хоть искорку понимания. И вот
она вернулась ко мне, беспомощная и жалкая, точно за-
пуганный ребенок. Если бы она знала, как глубоко я со-
страдаю ей, все было бы хорошо. Я тогда даже пере-
стал встречаться с той девушкой — только бы доказать
жене свою безобидность! Но все напрасно.
Он на минуту умолк и тяжело вздохнул.
— Я хорошо помню, — наконец тихо промолвил оп,—
как однажды вечером она сидела возле меня и говори-
ла, говорила. Ну совсем как ребенок, который остался
один в темноте и звуком собственного голоса пытается
придать себе храбрости. Все зависит только от моей доб-
рой воли, твердила она, и даже если б можно было убе-
дить врачей или суд упрятать меня в сумасшедший дом
)йли в тюрьму, то для нее ничего не изменится. Ибо ни
самые толстые стены, ни самые тяжкие оковы не способ-
ны обезвредить меня. — Он засмеялся, не разжимая
губ.— О, она отлично понимала, сколь чудовищно мое
оружие!.. И вдруг — я бы, наверное, мог точно указать
день и час, когда это произошло, — вддуг она догада-
лась, что у нее есть лишь один-единственяый шанс спа-
стись: надо опередить меня!
— Баноттер!— Я всем телом резко подался вперед,
к нему.
Он не шелохнулся, готовый к любому нападению.
— Есть вещи, которые незачем облекать в слова... и
словами их не докажешь. Но тот, кого они касаются, чув-
ствует их яснее, чем когда бы их выкрикнули ему пря-
139
мо в ухо. Так и было. Можешь не сомневаться. С того
часа ее снедала одна мысль: надо опередить меня! От-
править меня на тот свет!.. Конечно, — по губам его
скользнула едва заметная издевательская усмешка, — ей
было куда труднее, чем мне! Мы сражались весьма не-
равным оружием. И преимущество было на моей сторо-
не. Как мужчина, я вел себя пе слишком по-рыцарски.
Согласен. Но коль скоро на карту поставлено все!.. Мпе
осталось рассказать совсем немного. Уже который месяц
у нас были раздельные спальни. И однажды ночью... я
снова выслал своего верного помощника... таинственную
третью руку...
Глаза Баноттера были закрыты, грудь тяжко взды-
малась и опускалась, дыхание с шумом вырывалось из
ноздрей. Так, с закрытыми глазами, он наконец про-
шептал:
— Однако на сей раз... я сделал это... защищаясь...
Потом он медленно, всем телом, начал клониться впе-
ред, ниже, ниже, пока не уткнулся лицом в сложенные
на столе руки.
Я испуганно вздрогнул, когда официантка коснулась
моего плеча и тихо сказала:
— Не беспокойтесь. Я знаю этого господина. С ним
так часто бывает.
Но Баноттер, видимо, все же услыхал. Едва она ото-
шла, он приподнял голову и прошипел ей вслед:
— Глупая баба!
Я осторожно тронул его sa плечо:
— Ты достоин сожаления, Баноттер...
Он выпрямился и подпер ладонью щеку.
— Как-то раз в одной компании я познакомился с
прокурором... и поведал ему свою историю. Он сказал
слово в слово то же, что и ты сейчас. И посоветовал
обратиться в психиатрическую лечебницу...
— А разве не стоит последовать этому совету?
Он неотрывно глядел куда-то мимо меня.
— Зачем? Я вполне здоров. Времени жаль... Если
вообще имеет смысл жить дальше!.. И потом, это до-
вольно-таки дорогое удовольствие. Отцовское состояние
после войны исчезло как дым. Рассчитывать приходится
только на жалованье!.. Правда, сейчас-то мои доходы
могли бы существенно возрасти. Если в последний мо-
мент мпе не предпочтут кого-нибудь со стороны...
— А где ты работаешь? — спросил я. И он назвал
140
ту самую страховую фирму, которую я должен был в
скором времени возглавить, и добавил, что с уходом
прежнего шефа руководство делами временно доверили
ему. Потом он опять уронил голову на руки.
До сих пор не знаю, прослышал ли Баноттер каким-
то образом, что меня прочат ему в начальники. Едва он
кончил свой рассказ, я, даже не попытавшись еще раз
вывести его из хмельного полузабытья, ушел из погреб-
ка «Бегство в Египет» и на следующий день уехал в
столицу. Мой друг не расспрашивал о причинах, побу-
дивших меня в конечном итоге отказаться от предло-
женного места, и был столь любезен, что вскоре поды-
скал мне другую работу. Однако со времен краткого
визита в родной город и встречи с Баноттером, который
прежде звался Банаотовичем, я уже не становлюсь на
резко отрицательную позицию, когда в моем присутст-
вии речь заходит о трансцендентальном.
Эрнст Вайс
(1884-1940)
Шов на сердце
Фридрих фон В., высокий светло-русый студент, стра-
стпо увлеченный «всемогущей хирургией», что отнюдь
не мешало другим его увлечениям, среди которых нема-
ловажную роль играл роман с некоей Хильдегард Анне-
лизе, в последнее время, впрочем, довольно безрадост-
ный, был в начале декабря взят в качестве неоплачива-
емого ассистента в хирургическую клинику тайного
советника О., прозванного учениками за военную выправ-
ку и импозантную внешность «Генералом»; этой удаче
студент был, в частности, обязан тем, что профессора и
его отца связывала старая дружба — оба были бурша-
ми в одной студенческой корпорации.
Фридрих фон Б., которого приятель отца вначале не
удостаивал своим вниманием, исполнял в университет-
ской клинике всякого рода небольшие, но необходимые
и ответственные обязанности — давал наркоз, делал пе-
ревязки, даже несложные операции. Правда, частенько
он стоял без дела, ожидая какого-нибудь поручения, или
же приводил пациентов в аудиторию, где профессор за-
нимался со студентами всякий день, кроме празднич-
ных, от четверти десятого до одиннадцати часов.
На одном из таких занятий 17 января профессор чи-
тал лекцию о злокачественных опухолях. С гордостью
демонстрировал он успешные результаты своего лечения,
показывал больных, оперированных три года назад, пять
лет назад, и даже одного больного, который подвергся
хирургическому вмешательству в самом начале препо-
142
давательской и лечебной карьеры профессора в этом го-
роде, иными словами, не менее семи с половиной лет на-
зад, и этот больной, как и все остальные, был здоров,
не имел рецидивов.
Операции проходили тяжело, но тот факт, что паци-
енты столь долгое время оставались здоровыми, доказы-
вал величие хирургии и безусловную результативность
своевременных и радикальных оперативных вмеша-
тельств. Старых пациентов вызывали в университетскую
клинику письмами, гарантируя им компенсацию дорож-
ных расходов, если они жили в провинции.
И вот бывшие пациеты сидели на скамейке в широ-
ком коридоре, ведущем из больничных палат в аудито-
рию. Пятеро мужчин, три женщины — из них четверо
были местные, городские, другие четверо — приезжие.
Хотя старший врач запретил им беседовать о своих бо-
лезнях (такому же запрету подчинялись все больные в
клинике), они вот уже час обсуждали исключительно
эту тему; некоторые пациенты даже расстегивали ру-
башки, чтобы показать послеоперационные рубцы, ос-
тальные, не разоблачаясь, прямо на одежде демонстри-
ровали место операции и длину надреза, причем, как
правило, сильно преувеличивали шрам. Через некоторое
время, предводительствуемые нашим студентом фон Б.,
они гордо проследовали в аудиторию, охорашиваясь па
ходу; одна ив женщин даже покрылась испариной, ибо
в спешке не сумела достаточно быстро натянуть пер-
чатки.
Генерал, впав в хирургический экстаз, блаженство-
вал. Он сравнивал судьбу излеченных пациентов с судь-
бой их товарищей по несчастью, страдавших тем же
недугом и уже давно покоившихся в сырой земле; рас-
суждая, он держал своими огромными ручищами хруп-
кую старушку-больную и, словно куклу, вертел ее то
вправо, то влево; но потом он быстро оставил больную
и подошел к доске, чтобы начертить четкую схему про-
изведенной операции; теперь он держал в правой руке
мел, а в левой переданную ему старшим врачом историю
болезни, где были точно зафиксированы все необходи-
мые даты.
В самом разгаре этих хирургических разглагольство-
ваний в аудиторию почти вбежал главный врач, старик-
профессор Е., и что-то взволнованно зашептал на ухо
лектору. Волнение главного врача сразу же передалось
143
профессору, что изменило цвет его лица: из кирпично-
красного, испещренного более светлыми шрамами — сле-
дами студенческих дуэлей на шпагах, оно стало теперь
темно-вишневым. На лбу профессора пролегла прямая
складка — знак напряженной работы мысли, а тем вре-
менем главный врач выпроваживал восемь бывших паци-
ентов, словно сбившуюся в кучку домашнюю птицу.
Профессор, не мешкая, открыл кран в предназна-
ченном только для него умывальнике и перевернул пе-
сочные часы, стоявшие па стеклянной полке. Светло-
коричневый песок потек тонкой струйкой; за те десять
минут, что он пересыпался из одного резервуара в дру-
гой, следовало закончить предписанную правилами проце-
дуру мытья рук и, так сказать, личной асептики. Сту-
дент помогал Генералу совершать «туалет»; пока тот, не
переставая говорить, умывался, студент закрепил вокруг
его бычьей шеи, такого же кирпичного цвета, что и лицо,
металлическую цепочку от длинного желтого непромо-
каемого фартука. Не глядя, Генерал влез в черные, до-
ходившие до щиколоток резиновые бахилы.
В мгновение ока с лектором и педагогом произошла
метаморфоза — изменились его голос, осанка, взгляд.
Жесткой щеткой он тер себе пальцы, ладони, тыль-
ную сторону ладоней, руки до самого локтя. Нажимая
ногой на педаль, он приводил в действие автоматическую
мыльницу, и скоро руки профессора покрылись белой
пеной, потом он смыл пену, показалась все сильнее крас-
невшая кожа, чтобы снова скрыться под хлопьями пены.
Все помощники профессора рядом с ним проделы-
вали то же самое.
Но вот наконец Генерал повернулся лицом к аудито-
рии.
— Счастливый, но, к сожалению, редкий случай. По-
пытка самоубийства неподалеку от клиники. Молодая
женщина, молодая девушка. Колотая рана в сердце. Ве-
роятно, потребуется наложить шов. Вполне современная
операция. Но не современное орудие самоубийства — ста-
ромодная ручка с банальным стальным пером. Барышня
из канцелярии. Сравнительно благоприятное обстоятель-
ство, господа: роковое орудие торчит в ране и предот-
вращает кровотечение. Счастье в несчастье.
Кстати сказать, просто чудо, что она сумела вонзить
в сердце столь примитивное оружие. Метод, который я
надеюсь вам продемонстрировать, вам всем, в том числе
144
и господам в верхних рядах (убедительно прошу вас
не подниматься с мест, пыль здесь ужасающая и в выс-
шей степени опасная), — итак, метод, который я наде-
юсь продемонстрировать,— новейший; он является одним
из многих выдающихся достижений профессора Рена из
Франкфурта... Первым ассистентом, как обычно, будете
вы, господин старший врач, вторым — господин Гликкер,
а третьим придется быть господину Шиллерлингу; нар-
коз может взять на себя господин студиозус; это один из
ваших коллег, господа, он уже совсем неплохой анесте-
зиолог. В подобных случаях требуется особо точная до-
зировка наркоза, ведь операция проходит внутри груд-
ной полости... Уже несколько лет мы, стало быть, не
беспомощны при ранениях на сердце; благодаря профес-
сору Рену появилась возможность зашивать колотые ра-
ны и даже пулевые раны, хотя эти последние, разумеет-
ся, лишь в редчайших случаях; да, всем этим мы уже
можем заниматься, господа, но при одном условии: если
пациент попадет на наш операционный стол еще живым!
Из каждых пяти больных, которых оперируют своевре-
менно, выживают не менее трех. Без сомнения, если бы
в ту пору, когда австрийский эрцгерцог, наследник пре-
стола, был ранен в сердце в Сараево... Но оставим эту
печальную тему... Немедленно разогрейте аппарат для
физиологического раствора. Старшая сестра, приготовьте
экстракт надпочечника, адреналин — раствор ноль, ноль,
ноль один; да, я хотел сказать, что существуют методы
для лечения разного рода ранений, но не существует ме-
тода для уничтожения убийц. Раны зашивают, но сердце
не вылечивают. Следить за пульсом будет господин сту-
дент-наркотизатор. Не забудьте про реберный расширитель,
вообще про все костные инструменты. Показания для
таких операций, господа, весьма простые: наличие па-
циента! Самое важное — неотложная помощь. Нельзя
терять ни секунды. Несмотря на это, я до сих пор не
вижу больной, принесите ее как можно скорее. Никаких
формальностей, никакой писанины. Я приступаю к по-
добным операциям, не испрашивая согласия ни у боль-
ного, — в таких случаях его сознание часто в сумереч-
ном состоянии, — ни у родных больного, которые обыч-
но понятия не имеют о происшедшем; в данный момент
все это неважно. Вперед на врага, но... при самом скру-
пулезном соблюдении всех правил стерильности. Тут уж
не жди пощады; мы должны и мы будем придерживать-
145
ся правил асептики, ибо нам предстоит вскрывать самые
восприимчивые к инфекции, наиболее предрасположен-
ные к пагноениям части организма, а именно — груд-
ную полость и околосердечную сумку. Ну вот и больная!
За дело! Осторожно! Сиокойно!
В эту секунду высокий, белокурый, немного легко-
мысленный студент-медик Фридрих фон Б. увидел Хиль-
дегард Аниелизу, которая совсем еще недавно играла в
его жизни первостепенную, хотя и не всегда отрадную
роль.
Хирургический инструмент кипятили па нескольких
электрических плитках. Густой пар поднимался из ла-
тунных стерилизаторов и рассеивался по всей располо-
женной амфитеатром аудитории; несмотря на то, что
время приближалось к полудню, в зале было сумрачно.
— Дайте свет!— приказал Генерал.
И сразу же вспыхнули закрепленные прямо на по-
толке лампы, наподобие софитов, и ослепительно белый
свет хлынул на операционный стол, на профессора, на
его ассистентов и на первые ряды слушателей.
Часы, циферблат которых до сих пор был плохо ви-
ден, показывали одиннадцать часов и почти две минуты.
Генерал замолк. Слышно было лишь бульканье воды, лег-
кое позвякивание металлических инструментов, которые
кипящая вода чуть-чуть сдвигала, и негромкое дыхание
студентов.
Вдруг раздался приглушенный стон. Девушка на опе-
рационном столе пе кричала, казалось, она задерживает
дыхание, ибо каждое движение грудной клетки причи-
няло ей боль. Студенты пристально смотрели вниз на
резко освещенное верхним светом лицо в обрамлении
спутанных, влажных, темно-русых волос; лицо было оран-
жево-желтое, верхняя влажная губа опустилась на ниж-
нюю. Светло-серые глаза были зажмурены, но внезапно
девушка широко раскрыла их — веки трепетали, зрач-
ки блуждали, перебегая из одного конца глаза в другой.
Платье на больной уже было разрезано от верха до низа
ножницами, и верхнюю часть туловища прикрывала мар-
ля, только в одном месте на марле был отчетливо виден
бугорок, — бугорок ритмично поднимался и опускался.
В аудитории стало совсем тихо. Генерал и его ас-
систенты как но команде перестали тереть руки и взгля-
нули на оперируемую.
Казалось, наступила глубокая ночь. Тишина преры-
146
валась лишь бульканьем воды в стерилизаторах, гуде-
нием ламп и приглушенными стонами больной при каж-
дом выдохе. Генерал дал знак старшей сестре. И та
очень бережно, словно боясь причинить боль девушке и
тем нарушить женскую солидарность, удалила стериль-
ным пинцетом марлю. Теперь под левой грудью больной
можно было увидеть злополучную ручку; при каждом
биении сердца она качалась, то опускаясь и словно бы
становясь тенью, то приподнимаясь, как бы для того,
чтобы провести черту.
— Прежде всего отметим, что больная находится в
полном сознании, — сказал Генерал, с новым рвением
принимаясь тереть щеткой свои и без того уже ярко-
красные руки. — Если не считать, конечно, вполне ес-
тественного при таких обстоятельствах шока. И крово-
течения нет. Внешнее кровотечение прекратилось. Оче-
видно, оно было незначительным.
Профессор велел студенту Фридриху фон Б. подойти
ближе к оперируемой, махнув ему рукой, которая в яр-
ком свете ламп блестела, словно отполированный металл.
— Вперед! Начинаем! Наркоз!
У студента дрогнули плечи. Его буквально трясло
от ужаса. Чтобы иемпого успокоиться, ему пришлось со-
брать все силы.
Для полного наркоза требовался аппарат, которому
полагалось быть в аудитории. Однако в аппарате собира-
лись починить какую-то мелочь, и поэтому его перевезли
в другое помещение; и вот сейчас, цргда нельзя было
терять ни секунды, аппарата не оказалось на месте, и
никто не осмеливался сказать это шефу.
Сестры быстро открыли большие хромированные ба-
рабаны, где хранились белые халаты, шапочки, салфет-
ки, резиновые перчатки и перевязочный материал; две
белоснежные простыни, вынутые из барабана, сестры
сложили вместе и подсунули под тело больной после то-
го, как старшая сестра с исключительной осторожностью
приподняла верхнюю часть туловища девушки. Нижнюю
часть закутали большими салфетками, только верх жи-
вота, грудь и лицо, с каждой секундой все больше се-
ревшее, по-прежнему были на виду. Руки закрепили на
столе специальными приспособлениями, туловище на
уровне бедер было пристегнуто ремнем.
Песочные часы показывали, что прошло уже минут
девять. Из кипящей воды были вынуты большие сетча-
147
тые лотки с хирургическими инструментами. Над лот-
ками поднялись огромные клубы пара. Привычными
движениями старшая сестра разложила на маленьких
столиках на колесах металлические инструменты, они
лежали ровными рядами, подобранные по своему назначе-
нию: большего размера по правую сторону, меньшего
размера — по левую. Ножницы прямые и изогнутые,
крючки четырехзубые, реберные ножницы, различные
зажимы, пинцеты, иглодержатели, кружка с серповидны-
ми иглами и кружка с прямыми иглами; шелковые
и кетгутовые нитки, намо!анные на стеклянные
шпульки и расположенные в зависимости от их тол-
щины.
Уже почти весь песок пересыпался из одного резер-
вуара песочных часов в другой; студент огляделся вокруг,
но аппарата для наркоза все еще не было. Вода пере-
стала булькать.
— Йод,— приказал хирург.
Только сейчас, в последнюю секунду, аппарат для
наркоза — сложное сооружение — вкатили в аудито-
рию. Коричневато-красный баллон с коричневато-крас-
ным краном подавал кислород, синий баллон с синим
краном — жидкий воздух, а через зеленый шел наркоз.
Сверкающие манометры, прозрачные, наполненные жид-
костью «глазки» для наблюдения за каждым вдохом и
выдохом.
Пока профессор надевал белый халат, пока ему на го-
лову нахлобучивали шапочку, студент поднес к лицу
молодой девушки маску, которая должна была плотно об-
тянуть ее нос и рот.
Наркоз, смешанный с жидким воздухом, ток крупны-
ми каплями через прозрачную стеклянную трубочку.
— Дышите глубже! Дышите глубже! — повторял сту-
дент глухим голосом.
Но девушка с молчаливым ожесточением качала го-
ловой. Неуверенными движениями она пыталась оттолк-
нуть маску, хотя ей это и не удавалось. Маска была со-
всем близко, и больная отворачивала лицо, хотела как-то
избегнуть неизбежного. Губы ее округлились, словно де-
вушка намеревалась закричать, намеревалась сопротив-
ляться. Потом ее рот чуть-чуть приоткрылся, будто она
шепотом молила о пощаде. Но она так и не произнесла
ни слова, с ее бескровных, совершенно белых губ срыва-
лись лишь протяжные, глухие стоны.
14*
— Йод, — повторил Генерал, натягивая на руки ре-
зиновые перчатки.
Отливающее металлической синью пятно, пятно, на-
несенное широким тампоном, покрывало теперь всю пло-
щадь будущей операции — обе груди, вообще все тело от
горла до пупка.
В середине этой площади вибрировала, но уже гораздо
менее отчетливо, — быстрее и слабее, словно бы щекоча
кожу, — злосчастная ручка; слабо трепетавшее сердце с
трудом раскачивало ее. Дыхание стало гораздо более пре-
рывистым, слабым. Широко раскрытые глаза девушки
блуждали по всей огромной аудитории. Она была в
полпом сознании.
Трудно было поверить, что столь тяжело раненный
человек все сознает, созпает и свое состояние, и свои
страдания.
На лице Генерала уже появилось присущее ему од-
ному выражение — оп стал почти весел, раскован; это
значило, что профессор продумал до конца весь ход опе-
рации, продумал до мельчайших деталей, варанее пред-
ставив себе возможные осложнения, — осталось только
технически выполнить задуманпое... но почему, собст-
венно, оперируемую еще не усыпили?
Она казалась еще более беспокойной, нежели рань-
ше; глаза девушки искали глаза ее бывшего возлюблен-
ного, и наконец их взгляды встретились.
Дорога каждая секунда, думал студент. Надо сделать
все возможное. Но что сказать ей, как объяснить, как
образумить, к каким воспоминаниям воззвать? Кто вино-
ват? Кто может исправить содеянное? За две минуты до
смерти.
Было одиннадцать часов двенадцать минут.
— А как пульс? — спросил Генерал.
1 Студент поднес руку к нежной шее девушки, силуэт
которой был ему столь знаком во времена, казавшиеся
^теперь канувшими в далекое прошлое. Кончиками указа-
тельного и среднего пальцев он слегка дотронулся до
флажной, мягкой, чуть теплой кожи.
— В шейной артерии пульс не прощупывается. Я не
Чувствую биения шейной артерии.
Р' Но девушка почувствовала его руку. Любила ли она
$го еще? Хотела ли опа жить? Раскаивалась ли в своем
поступке? Была ли она той, какой была всего несколько
минут назад?
149
Веки ее вдруг опустились, и длинные ресницы, сомк-
нувшись, образовали широкую, густую, светлую полос-
ку, казавшуюся в ярком блеске ламп чуть ли не медно-
желтой. Губы слегка приоткрылись и обнажили белые
зубы между бледно-коралловыми деснами. Девушка за-
дышала, повернувшись к студенту, с каждым коротким
слабым вздохом она вдыхала эфир.
Одиннадцать часов тринадцать минут.
— Стало быть, начинаем при всех условиях. Она
уснула? Нет, еще не уснула? Все равно. Жизнь — пер-
вичное. Наркоз — вторичное. Война есть война, вперед
на врага! Опустите голову больной. Необходимо предот-
вратить недостаточное питание мозга; кровь, вытекаю-
щая из раны, давит снаружи на сердце и застаивается
в околосердечной сумке. Гениальный Эрнст Бергман па-
евая это тампонадой сердца..- Так. Еще ниже. Хорошо,
Достаточно.
Операционный стол, который был снабжен специаль-
ным гидравлическим устройством, бесшумно опустился.
Студент почувствовал, что голова девушки с шелковис-
тыми влажными волосами упала почти к нему на ко-
лени.
Была ли она еще жива? Испытывала ли страдания?
Она уже больше не стонала. Заснула ли она? Или оста-
валась в сознании? Неужели она уже умерла?
Из сверкавшего хрустальным блеском сосуда, напол-
ненного спиртом, старший врач вынул тонкий, изогнутый,
наподобие рыбьих плавников, скальпель, стальное лез-
вие которого отливало синевой. Генерал взял в руки
черенок скальпеля почти тем же движением, каким ху-
дожник берет кисть: он прочертил лезвием черту. Каза-
лось, хирург всего-навсего собрался провести причудли-
вую линию на теле девушки — нечто вроде дугообраз-
ной арабески, начинавшейся в середине верхней части
туловища и кончавшейся у левой груди, которую он об-
вел с наружной стороны. Черта хирурга была светло-
красного цвета, еле заметная. Ни капли крови не вы-
ступило на коже. Ассистенты слева и справа развели
края надреза крючками, расширив рану до предела.
Больная застонала. Опять смолкла. Студент добавил эфи-
ру. Скальпель, непонятно как, исчез из руки хирурга.
Теперь он все время менял инструменты: его правая ру-
ка сжимала то большие, то малые ножи, то остроконеч-
ные, то тупоконечные лопатки, то скальпели, то крючки,
150
то ножницы, то троакары. Хирург и его ассистенты плот-
но натянули на руки красноватые резиновые перчатки,
которые так обтягивали пальцы, что сквозь резину про-
ступали ногти. На операционном поле видна была лишь
большая рука профессора с длинными пальцами, ее дви-
жения казались небрежными и случайными, в действи-
тельности они были предельно точными и продуманны-
ми. Руки его помощников оттягивали края надреза, по-
давали инструменты и марлевые тампоны, — словом,
были заняты всякого рода вспомогательными действия-
ми, которыми Генерал в большинстве случаев управлял
взглядом, лишь самые главные распоряжения он отда-
вал голосом. Это не значило, однако, что профессор мол-
чал. Но слова его предназначались главным образом
студентам, которым он объяснял ход операции.
— Видите, почти нет крови. К сожалению, нет. Кро-
вяное давление упало до минимума. Осторожно с нар-
козом! Пусть лучше стонет, наркоз только самый необ-
ходимый. Чтобы она не проснулась. Все равно больная
в шоковом состоянии и почти не воспринимает боль.
Соединительно-тканные покровы как бы скрипят под на-
пором воздуха, вырывающегося из поврежденной груд-
ной клетки. Что нам делать? Рассечем кусок грудины,
вскроем ребра. Проделаем дорогу к сердцу, своего рода
дверь. Необходимо отсечь два, три, в крайнем случае че-
тыре ребра, стараясь пощадить надкостницу, ведь потом
все должно срастись опять. Очень просто. Опять воздух.
При вдохе в рану входит воздух. Ваши головы чересчур
приблизились, господа студенты. Гнойные бактерии не
должны попасть в рану. Давайте наркоз под большим
давлением. Чуточку эфира и очень много кислорода. Те-
перь мы пошли на врага! Захватываем щипцами снаружи
орудие самоубийства; держите его. А теперь мы следу-
ем за ним, вот дорога, которую прошло перо, она отмече-
на следами чернил. Сейчас мы беремся за ручку всерьез,
поверните ее слегка снаружи. Хорошо. А теперь тяните
понемногу, сильнее, энергичней. Прекрасно! Ну вот она
и вышла. Хорошо, бросьте ее, пригодится для нашей кол-
лекции. Поистине идиотизм, человек в приступе отчая-
ния хватает первое, что попалось ему под руку. Сейчас
займемся ребрами. Внимание, реберные ножницы, да,
надо быть осторожным, сперва я подкладываю палец
под них, потом нажимаю, готово, следующее ребро. Опять
подвожу пальцы снизу и бережно отгибаю весь кусок
151
ткани с ребрами; держите, но без применения силы.
Газ, два, и еще раз; раз, два, ну, еще; теперь все разом;
только не выпускайте из рук. Черт возьми! Спокойно,
вот так, осторожно. Осторожно, хорошо!
Студент фон Б. держал руку у губ девушки, ее ды-
хание было еле заметным.
— Не приподнимайте маску! Наркоз под давлением.
Она дышит, вам нечего бояться, мы здесь, на своем месте,
видим все лучше, мы следим за тем, как надувается легкое:
ваше дело — наркоз, а там уж как будет, так и будет. Вни-
мание! Околосердечная сумка. Вот она! Вперед! Иголь-
чатый зажим. Зажим побольше. Поменьше. Средний!
Будьте внимательны, поверните немного на себя! Еще
зажим, еще, еще и еще, меньше разговоров! Перед вами
рана в околосердечной сумке, края зазубрены, зигзаго-
образны. Именно так перо разорвало ткань, не простой
разрез, естественно, ведь перикард в момент ранения на-
прягся и повернулся, как он поворачивается при сокра-
щении сердца. Желобчатый зонд, надо идти внутрь, про-
никнуть глубже, еще глубже.
Зонд с желобом во всю длину, напоминавший палец,—
инструмент из нержавеющей стали, — беспрепятственно
скользнул в открытую рану, в кровавую темную глубь.
— Так, пожалуйста, держите эонд ниже. А над ним
теперь поместим ножницы, лучше всего прямые, да, по-
жалуйста; снизу поддерживайте зонд, как и раньше; он
должен быть под самыми ножницами. Рассекаю! Так,
хорошо. И только теперь мы получили настоящий доступ!
Полно сгустков крови. Убрать! Наша задача — освобо-
дить все пространство. Легко промокните кровь, нет, пе-
рикард нельзя тереть, этого он не терпит. Вот теперь
доступ свободен, но долго это не продлится. Надо лик-
видировать рану. Без промедления! Она сейчас у нас
перед глазами, но не должна быть перед глазами. Где
кровоточит? Куда идет кровь? Прямо истекает кровью!
Тампоны! Уберите головы, только мне необходимо видеть
все, не мешайте. Промокните кровь тампонами, да не
суйте руку, держите тампоны пинцетом, мягко, энергич-
но; я сказал — мягко и одновременно энергично, и не
тереть, не скрести! Внимание! Еще! Скоро все будет яс-
но. А как дела с пульсом? Пульс есть? Нет? Стало быть,
вливайте физиологический раствор. Сколько удастся.
Кровь в данной ситуации была бы лучше. Переливание
крови. Но это требует времени. Сперва надо узнать груп-
152
пу крови больной, довольно долгая процедура. Вливай-
те в большую локтевую вену физиологический раствор
столько, сколько влезет. Эрзац жизни, суррогат крови!
А один из вас, господа, пусть посмотрит в лаборатории,
какая у нее группа крови. Есть ли у нас доноры? Вы,
господин В., ведь как-то раз давали кровь? Какая у вас
группа крови? Спокойно! Продолжаем! Фиксация серд-
ца! С трепыхающимся сердцем мы не сладим. Сердце
надо закрепить. Вытащим его из сумки. Выходи, тру-
сишка, приказываю я. Мы должны закрепить его, от-
крыть как следует, иначе накладывать швы невозможно.
Стало быть, фиксация и швы! Да, это — подходящий
материал. Тонкий шелк, изогнутая игла, величина пра-
вильная, давайте, довольно бить баклуши, нить не должна
быть слишком короткой. Не мешкая передавайте мне иг-
лодержатель, а вы займитесь перикардом, ну, а вы хватай-
те конец нитки, чтобы она не волочилась. Вот видите, я
втыкаю иглу в сердечную оболочку на уровне левого же-
лудочка, острие внутрь, и сразу вытаскиваю наружу. Те-
перь у нас петля, ее поручаю держать вам, да, вам, су-
дарь, ту же манипуляцию мы проделываем еще раз, по
несколько дальше наверху и выводим нить чуть правее,
а вот еще одна петля сбоку; видите, я прошиваю иглой
сердечную ткань, втыкаю иглу, протягиваю сквозь ткань
шелк, вытягиваю иглу; теперь мы вытаскиваем иглу и
соединяем концы нитей; дело сделано! Нити держатся;
а сейчас давайте осторожно вынем сердце из этой впади-
ны. Кровоточит? Пусть кровоточит. Разумеется, оно кро-
воточит. Поднимите его! Скорее, мягче, выше! Еще не-
много, пожалуйста, смелее. Вот так, чуть набок. На этой
сердечной стенке ничего не видно. Тут тоже ничего нет.
Стало быть, взглянем с другого бока! Поднимите еще
немного, пожалуйста, и поверните направо. Держите
крепче и опять собирайте кровь тампонами, очень бе-
режно, не жмите. Отставить! Отставить! Вот она! Вот
рана! Пальцы к ране, да, именно вы, пальцы к ране, го-
ворю я вам. Очень осторожно сближайте обе стороны
разреза и повторяйте рукой движения ее сердца, когда
оно сжимается! Так, хорошо! Но и нам хотелось бы кое-
что увидеть! Не жмите, хватит. Хорошо, правильно. А те-
перь вперед, наложим швы на сердце. Тот же шелк, что
и раньше. Первый шов наискосок. Левый край подреза
сшиваем с правым краем, вытягиваем нить, завязываем
узел, нить прихватим клеммой и оставляем в таком по-
153
ложепии. Все правильно. Шьем по верхнему слою. Гос-
подин старший врач, возьмите шелк и приблизьте ко
мне сердечную стенку, нет, поверните ее чуть-чуть впра-
во и все время повторяйте движения сердца. Хорошо,
Второй шов. Чтобы было надежнее, будем сшивать не-
много глубже. Воткнули иглу, вытащили, завязали узел,
медленно и плавпо стягиваем края с обеих сторон и опять
вашиваем. Кровотечение стало слабей, но еще не все
кончено! Пульс хоть немного прощупывается? Еще нет?
А как с дыханьем? Плачевпо? Сохраняйте спокойствие.
Уберите руку. Третий шов. Совсем неплохо. Кровотече-
ние остановлено. Рана на сердце закрыта. Ножницы. Об-
режьте избыточный шелк во всех трех швах! Не слиш-
ком коротко! Но и не оставляйте хвоста! Да. Хорошо.
Четвертый шов? Нет, достаточно и трех. Хватит. Шелк
вполне прочный, швы не разойдутся и после того, как
кровяное давление войдет в норму и сосуды наполнятся,
как им положено. Пульс? Нет? Появится в свое время.
Если сердце живо, то и человек будет жить. Вот видите,
миокард выправляется прямо на глазах, удары сердца
становятся более ощутимыми, сердечная мышца пра-
вильно сжимается и расслабляется. Ничего похожего на
прежнее истерическое дрожание и трепетание. Это было
in extremis1, можно прямо сказать. Ну вот, вливайте
добросовестно свой физиологический раствор в вену, но
не мешайте нам работать здесь, наверху, и уберите по-
дальше от нас ваш дурацкий шприц. Не натягивайте так
петли, вытаскиваем шелк, подряд все нитки. Вы замеча-
ете, что миокард дергается в этих трех петлях, словно
жеребенок в поводьях; он прямо на ощупь крепнет. Хоро-
шо. А как же пульс? Еле прощупывается? Мы поможем
сердцу! Дайте-ка нам сейчас адреналин, сделаем ей
инъекцию этого препарата надпочечника прямо в сер-
дечную мышцу. Хорошо. Ну?
•— Пульс... есть. Мне кажется...
— Нам тоже кажется. А дыхание?
Студент взглянул в глазок аппарата для наркоза, —
серебристые капли выдыхаемого воздуха все выше под-
нимались одна за другой.
— Дышит хорошо, — сказал он.
— А теперь начнем адшивать околосердечную сумку.
Тут уж мы будем работать с кетгутом. Шить сердце
1 b последний момент (лат.).
154
кетгутом я не отваживался. Шелк надежнее. Но пери-
карду не приходится выдерживать такой гигантский на-
аор крови. Кетгут сгодится, будет держать. А теперь
поставим на старое место ребра, надкостницу сошьем
как можно скорее, крупными стежками. Под кожу —
стеклянную трубочку. Вот сюда, в самое глубокое ме-
сто. Здесь соединительнотканная оболочка мышц —
последний слой. Стало быть, берем тонкий шелк, сшиваем
кожу. Всего несколько стежков. Как с наркозом?
— Уже давно нет.
— Хорошо. Продолжаем давать чистый кислород. Три
с половиной литра, четыре литра. Еще и еще. И для вер-
ности камфару. Там, наверху, в больничной палате, го-
лову тоже держите низко. Переливание крови в
случае надобности. Пожалуй, все же лучше сделать, чем
не делать. Какая у нее* группа крови? «А»? А у вас гос-
подин Б.?
— Тоже «А».
— Вот видите, как все отлично складывается. Гос-
подин старший врач и господин Б. останутся с проопери-
рованной. Когда мы начали?
— В одиннадцать часов тринадцать минут.
— Продолжительность операции — семь с полови-
ной минут. Сто лет назад лейб-медик Наполеона мог за
это время ампутировать ногу до бедра. Так сказать,
окончательно и бесповоротно, включая остановку кро-
вотечения. Но то были хирурги не нам чета. Ну вот,
очень осторожно беритесь за больную. Поднимите ее и
положите на койку. Или лучше я сделаю это сам. Так...
Так... Грелки приготовлены? Укройте ее. Все хорошо.
Все в порядке. А в остальном будем уповать на... судь-
бу. До свидания, господа. До свидания.
Альфред Польгар
(1875-1955)
Взгляд на оркестр сверху
За дирижерским пультом — знаменитость. Пройдет
время, этот человек умрет, и тогда люди, что сидят се-
годня в зале, слушают «Кармен» и созерцают его за пуль-
том, будут вспоминать о том, как однажды им довелось
его видеть, дирижировавшим в «Кармен». Я представил
себе, будто это уже и происходит по прошествии пяти-
десяти лет. Таинственная сила воспоминания вдохнула
жизнь в сегодняшний вечер. Я воспринимаю его в цве-
те, я слышу все его шорохи — так, словно все это свер-
шается наяву. Убей мгновенье — и пробуди его вновь.
И тогда, каким бы оно ни было прежде, оно пребудет
чудесным, хотя бы благодаря чуду такого воскрешения.
Да пригрезится тебе твоя жизнь!
Итак, я совершенно отчетливо помню, как много лет
назад, в марте 1926 года, в опере, сидя в лучшей ложе
первого яруса, я слушал «Кармен». Прислужник сказал:
«Мое почтение, господа», — сказал он это, собственно,
не мне, а ложе в целом, ложе, которую он обслуживал
и составной частью которой я в тот вечер случайно ока-
зался. У него были белые как снег волосы и красные,
добродушные глазки пьяницы. Сегодня из его глазниц
растут уже, наверное, маргаритки.
В соседней ложе находилась удивительно прекрас-
ная, светлая женщина. С глуповато-отрешенным выра-
жением на лице она ела засахаренные сливы с орешка-
ми внутри. Быть может, сейчас ее уже нет в живых или
у нее отвислый живот, а может, осуществив глубоко
156
разумный акт перевоплощения, она пасется теперь на
лугу в образе белой ослицы?
Исключительно четко запечатлелся еще в памяти сам
оркестр. Я и теперь вижу всех их как наяву: движения
и лица, блики света на духовых, вздрагивающие корич-
невые тела скрипок и гигантских размеров жуки, назы-
ваемые контрабасами. Я вижу паучий бег пальцев вио-
лончелиста, вижу странный хваткий жест, каким арфист
извлекал звуки из своего инструмента, вижу легкое мер-
цание смычков. Как длинные иглы, сновали они, иглы,
сшивавшие музыку.
У первой скрипки были густые усы и лицо, напоминав-
шее луну. Как раз в тот момент, когда его инструмент
производил сладкие, ласкающие звуки, скрипачу по-
надобилось зевнуть. Душа его пребывала только в ру-
ках, остальные части тела изнывали от скуки. Это бы-
ло возмутительно. О, если бы только длины дирижер-
ской палочки достало пощекотать ему в тот момент в
глотке! Перо и бумагу мне! Я хочу немедленно записать,
что человек способен воспроизводить страсть и подав-
лять при этом зевоту.
Среди скрипачей был один,—- он пытался, не преры-
вая игры, укротить с помощью грифа строптивый лист
нотной бумаги. Но всякий раз, как ему оставалось лишь
закрепить его окончательно, лист снова легко взмывал
вверх. Наконец наступила пауза, и руки у него освобо-
дились. Однако он с презрением отверг возможную их
помощь и продолжил сражение скрипки с непокор-
ным листом. Так или вообще никак. Настойчивый ха-
рактер.
Трубачи во время пауз переворачивали свой инстру-
мент раструбом вниз, чтобы дать вытечь слюне. Во вто-
ром акте пол вокруг их пультов должен иметь вид не
лучше, чем в полночь в кафе «Централь». Музыканты,
играющие на духовых, выделяют много жидкости.
Трое пожилых господ, игравших на тромбоне, — и это
считается любимым занятием ангелов! — читали газету.
В это время их инструменты молча висели рядом с пуль-
том. Когда же снова подходил черед им вступать, — а
момент этот они безошибочно предчувствовали, —- они
хватались за свои инструменты, не отрываясь от газеты.
Первые ноты собственной партии они прочитывали толь-
ко одним глазом, другой в это время все еще цеплялся
за вечерний выпуск.
157
Кларнет же просто спал, если у него случалась пере-
дышка, при этом он не забывал вывернуть лампочку у
себя над пультом. Заботливый, экономный отец семей-
ства!
Контрабасисты, сидевшие на одинаковом расстоянии
друг от друга, так и пе сумели заполнить свои паузы чем-
нибудь стоящим. Их движения поражали немыслимым
параллелизмом: будто некто дергал за ниточку, и тотчас
восемь согнутых правых рук проделывали одну и ту же
кривую, а восемь левых рук скользили вниз по прямой,
совпадающей до миллионной доли сантиметра. Если бы
кто-нибудь, разнообразия ради или просто из озорства,
заткнул себе уши и уж потом взглянул на них, они по-
казались бы образом из преисподней; прикованные к сте-
не и навечно осужденные пилить и пилить за какую-то
земную провинность.
Сверху люди из оркестра вообще производили впечат-
ление работающих механизмов. Они совершали целесо-
образные действия, быть может, против собственной
воли или, по крайней мере, без ее участия, но с таким ви-
дом, будто они этого хотели. Они являли собой прекрас-
ную картину человеческой деятельности в целом. Они
надували щеки, и расслаблялись, и пилили, и по необходи-
мости делали при плохой мине хорошую игру, и дейст-
вительно играли с пафосом, и скучали при этом, и ду-
мали: «Когда же конец?»—и били в барабан, и дремали,
и выступали солистами, и все же не могли обойтись
друг без друга, и читали вечернюю газету, и одновре-
менно служили высшей воле, — вчера эта воля была пе
та, что сегодня, а сегодня она не та, что завтра, — но
и вчера, и сегодня, и завтра все так же позевывая и
страстно, все с тем же стремлением к совершенству,
оплаченным частично эа счет души, частично за счет
окружающих.
Флейта вывела великолепный пассаж. Затем она до-
стала носовой платок в красный горошек и высморкалась
в него. Не могу сказать, что в этом было трогательного,
но это было трогательно. Я чуть было не крикнул вниз
в духе новейшей драмы: «О Человек! О Брат!»
Мой сосед по ложе закрыл глаза. «Я люблю музы-
ку, — сказал он, — но не музыкантов».
Это было чудовище, буржуа, это был трусливый по-
требитель, клевещущий на истинную жизнь, капи-
талист и владелец абонемента в оперную ложу.
158
Зрачки у него сужались, когда он хотел поверить или
полюбить.
Теперь его уже наверняка нет на белом свете, и
колокольчик цветет из его глазниц.
Одиночество
Одиночество Тобиаса Клемма — да, вот это было на-
стоящее одиночество!
Он жил в городе с населением в несколько миллионов
человек, однако между ним и этими людьми не было то-
чек соприкосновения, так что он и представить себе но
мог все эти миллионы как сумму человеческих индивиду-
альностей — лишь как бесформенную массу, окутанную
мерзким туманом чужого дыхания и испарений.
Он служил писарем в одном ничтожном ведомстве,
ненавидел в глубине души своих коллег и был, в свою
очередь, совершенно безразличен им. Никто никогда не
обменялся с ним лишним словом. У одной старой жен-
щины, ходившей стирать по домам, он числился кварти-
рантом. В мрачной комнатушке стояла самая разная ме-
бель, казалось, она была выброшена сюда за негодностью.
Во всяком случае, с мебелью Клемм тоже воздерживался
вступать в какие-либо отношения. Когда под ним скри-
пела кровать, он расцепивал это как враждебную акцию
по отношению к себе. Свеча, которую оп зажигал по ве-
черам, горела угрюмо и неприветливо, как будто необхо-
димость приносить ему пользу раздражала ее. Зеркало
даже нарочно потускнело, чтобы не отражать клеммов-
ское лицо во всей отчетливости.
Клемму было под пятьдесят. Уже лет двадцать жил он
ьот так — без друзей, без женщины. Никто о нем не за-
ботился. Однажды, оказавшись свидетелем несчастного
случая на трамвайных путях, он был приглашен в суд и
еще долго потом вспоминал этот день. Ведь тогда у него
спросили его имя, и место его жительства, и год его рож-
дения, — словом, существование его обрело в тот день
для кого-то смысл. В трактире, где он обедал вот уже
двадцать лет, он был просто Никто. Ни один человек не
подсаживался к его столику, ни с кем из кельнеров он
не был па дружеской ноге. Он просиживал гам в углу,
похожий на паутину, что завелась в помещении почти
159
одновременно с ним: большое серое пятно и немножко
жизни внутри. Нечто, обязанное своим существованием
разве что внешней среде, которая была слишком ленива
или равнодушна, чтобы попросту взять и вымести это
прочь.
Так проходило время и вместе с этим временем его
жизнь. Дни и ночи соединялись в густую однородную
массу, которая в молчании расступалась перед ним и так
же в молчании смыкалась за его спиной. Да и сам он был
всего лишь маленьким сгустком уплотнившегося времени,
которому предназначено было медленно и без остатка
раствориться в бесконечности.
Однажды случилось так, что, возвращаясь домой из
конторы, он застал улицу в волнении, битком заполнен-
ную людьми. Он смешался с толпой. Какая-то женщина
уцепилась за его рукав, а мужчина оперся ему на плечо,
чтобы лучше видеть происходящее. Клемм иереживал
счастливое мгновение своей жизни. С наслаждением ощу-
щал он на себе руки людей, которым нужна была его
поддержка. Они взволнованно кричали, и он кричал вме-
сте со всеми, даже не зная, что кричат другие. Потом
он увидел приближающуюся конную полицию. Крики
толпы переросли в рев, и Клемм ревел вместе с осталь-
ными так, что у него заболела гортань и легкие. Разда-
лись выстрелы. Движимый страхом человеческий клубок
оказывался в водовороте снова и снова, распадался на
многочисленные потоки, а потом отдельные ручейки его
растеклись по всем городским направлениям.
Клемм оказался в одном из переулков, задыхающийся,
без шляпы и трости. Он дотащился до небольшой пивной,
битком набитой взволнованными людьми. Все говорили о
случившемся. Клемм прислушивался, вставлял свое сло-
во, пил, ударял кулаком по столу и снова пил. Ему ка-
залось, что в своих долгих странствиях по пустыне безы-
сходности и мрака он нашел наконец-то надежное при-
бежище здесь. Он просидел всю ночь, пил и что-то воз-
бужденно выкрикивал. Потом посетители разбрелись, и
снаружи к дому, неприязненно заглядывая в окна, начал
подкрадываться рассвет, судебный исполнитель, подо-
сланный одиночеством, которое не хотело так легко от-
пускать своего пленника.
Направляясь домой, Клемм вдруг увидел в окошке
журнального киоска свежий газетный выпуск. Большая
фотография украшала первую полосу. Был ли он пьян
160
или просто сошел с ума? Это же ошибка, это не могло
быть правдой! С первой газетной страницы прохожим
улыбалось его собственное лицо. Его фотография моло-
дых лет, с маленькой закругленной бородкой, та самая,
которую дома он пришпилил над кроватью. А иод фото-
графией жирным шрифтом было напечатано: Тобиас
Клемм.
Пятнадцать лет прожил Клемм в своей каморке, и за
все эти годы он ни разу не вернулся домой позже десяти
вечера. Когда время этой богатой событиями ночи подо-
шло к одиннадцати, а затем и к двенадцати, почуявшая
неладное хозяйка кинулась в полицию и сообщила об
исчезновении своего постояльца. Ей сказали, что во время
уличных беспорядков один человек был убит, приметы его
довольно точно совпадали с данным ею описанием. За-
тем ее усадили в автомобиль, и в сопровождении поли-
цейского она отправилась в морг. Добрую женщину ки-
дало в дрожь от жуткой и одновременно сладостной
мысли, что ее постоялец и в самом деле мог оказаться
убитым, она уже предвкушала любопытство соседей и
свою важность, возросшую в их глазах, и еще бесконеч-
ные и волнующие обсуждения происшествия, — вот по-
чему безымянный убитый и Клемм слились воедино в ее
сознании задолго до того, как машина остановилась воз-
ле морга. Она мельком взглянула на труп, дрожащими
руками распустила узел своего платка, судорожно сглот-
нула от волнения и воскликнула: «Разумеется, ото он...—
И еще: — Нет, ну надо же!» — а потом еще много раз
йодряд: «Нет, ну надо же!» В эту ночь добрая женщина
|се равно не смогла бы уснуть, даже если бы ей не поме-
шал визит назойливого газетного репортера, выклянчив-
Гего у нее фотографию убитого Клемма.
Вот таким образом Клемм и выяснил из газеты, что
Цчера он пал от полицейского выстрела как жертва в
форьбе за свободу и справедливость. Он купил еще не-
сколько других газет. Клемм, всюду только Клемм! По-
борник свободы и справедливости ощутил внезапную сла-
бость в ногах, ему необходимо было немедленно зайти
в винный погребок и выпить рюмку водки. И о ком же
,&се говорили у стойки? О Клемме. Да еще как они о нем
говорили! С восхищением, с теплотой, с умилением. Воз-
fle газетных киосков, окружив его портрет с маленькой
бородкой, тоже стояли люди, и все они повторяли: «Да,
вот так-то». Еще вчера ничто, всего лишь бактерия по-
6 Авс-фиАская новелла XX в. 161
среди отбросов большого города, а сегодня всеобщий ге-
рой, пробудивший интерес к собственной персоне у сотен
тысяч людей. Будто невидимый глазу огромный колокол
раскачивался над городом — так гудели улицы от этого
имени. И Клемм, блаженно оглушенный этим гулом, ре-
шил продлить свое блаженство еще хоть ненадолго и пока
не возвращаться к себе, пребывая убитым.
В последующие дни, перебиваясь без денег, как бродя-
га и нищий, и коротая ночи в ночлежках, он стал свиде-
телем стремительного нарастания собственной славы. Его
коллеги по работе многое рассказали газетчикам, и Клемм
был глубоко тронут тем, как хорошо они о нем говорили.
Хозяйка тоже была неистощима в добавлении все новых
черточек к его достойному восхищения характеру.
А сам Клемм часами просиживал в винном погребке
и с умилением рассказывал о Клемме, которого оп, по его
утверждениям, знал так хорошо, как никто другой. При
этом глаза у него широко раскрывались, и многочислен-
ные морщинки его немолодого лица превращались в си-
стему каналов, по которым густые заросли бороды ороша-
лись слезами. Когда его хоронили, он находился в пер-
вых рядах скорбящих. Множество людей заполнило ши-
рокие проходы между могилами. На ящике, затянутом
чем-то черным, стоял человек и выкрикивал: «Потому
что он был один из нас!» У многих на глазах были слезы,
а сам Клемм всхлипывал так громко, что все окружающие
обращали на него внимание и шептали друг другу: «Долж-
но быть, это близкий родственник». Так оно и было те-
перь, в любом случае.
Своего апогея карьера Клемма достигла в гог момент,
когда один из депутатов в парламенте, встав с места, про-
возгласил: «Мы бросим господину министру в лицо
одно только слово, и слово это подобно раскату грома: То-
биас Клемм!» Этим судьба Клемма была решена. Ему за-
хотелось остаться словом, подобным раскату грома, на-
долго, отбросив прежнее свое существование, как пустой
звук. Вернуться в жизнь значило для него умереть, ос-
таться мертвым — жить.
Вообще-то говоря, теперь, в силу безжалостных внут-
ренних законов своего/ бытия, Тобиас оказался еще более
одинок, чем прежде. Прежде у него, по крайней мере,
был он сам, его собственное, хотя и безрадостное «я».
Теперь не было даже этого. Прежде у него было имя.
Теперь имя было утрачено. Оно отлетело от него, пускай
162
в мир славы и величия, — тем не менее оно ушло. И что
же в итоге осталось? Лишенный своего имени, «обес-
клеммленный» Клемм, нищий, брошенный на свалку,
жалкий остов скудного человеческого бытия. Вот почему
со временем в лишенной имени душе Клемма-скитальца
угнездились зависть и злоба по отношению к убитому
Тобиасу. Он принялся, точно так же, как превозносил
погибшего прежде, рассказывать теперь сомнительные
истории из его жизни. Кончилось это плохо. Побои, из-
гнание и оскорбления были справедливым возмездием
за клевету. Подобная неудача, однако, лишь разожгла
его ненависть, которая, в свою очередь, обрекла его на
дальнейшие неудачи. Он чувствовал себя обездоленным
и обманутым другим, великим Клеммом и потому поно-
сил его память на каждом шагу. Его схватили на клад-
бище в тот момент, когда он пытался осквернить непри-
стойной надписью барельеф на могиле Клемма, пред-
ставлявший собой идеальный мужской профиль с коротко
подстриженными усами. После этого его решили упря-
тать в тюрьму. Однако он так настойчиво уверял всех,
что вправе делать с памятником все, что эахочет, ибо под
ним покоится не кто иной, как он сам, что в конце концов
Qro отправили в сумасшедший дом.
Когда в городе распространилась эпидемия, опа не по-
щадила и тех, кто был лишен разума, прибрав к своим
рукам нескольких из них, и в частности Клемма. Вместе
с товарищами по несчастью его бросили на стол в морге:
через день всех их должна была поглотить общая моги-
ла. Однако перед этим еще появился врач и затребовал
Клемма под свой скальпель.
I Мертвеца доставили в анатомическую, вскрыли ему
брюшную полость, с любопытством покопались немного
в его внутренностях, будто во взломанном потайном ящи-
ке стола, лишний раз убедились в высокой ценности
рскрытия как вспомогательного диагностического средст-
ва, снова зашили Тобиаса и отнесли на то же место, отку-
да взяли. Его товарищи были между тем уже погребены,
рднако могильщикам показалось, что кого-то еще не
сватает. Увидев Клемма лежащим на прежнем месте, они
Йринялись шутить по поводу его временного отсутствия.
J — Хо-хо, — сказал один из них, — да он сделался
невидимым!
( — Общество ему явно опротивело.
- И они похоронили его отдельно от всех.
6*
Стефан Цвейг
(1881-1942)
Летняя новелла
Август прошлого года я провел в Каденаббии, одном
из тех местечек на берегу озера Комо, которые так укром-
но притаились между белых вилл и темных деревьев.
Даже в самые шумные весенние дни, когда толпы тури-
стов из Белладжио и Менаджио наводняют узкую по-
лоску берега, в городке царят мир и покой, а теперь, в
августовский зной, это была сама тишина, благоухающая
и солнечная. Отель был почти пуст, — немногочислен-
ные обитатели его с недоумением взирали друг на друга,
не понимая, как можно избрать местом летнего отдыха
этот заброшенный уголок, а каждое утро, встречаясь за
столом, изумлялись, почему никто до сих пор не уехал.
Особенно удивлял меня один уже немолодой человек, чрез-
вычайно представительный и элегантный, нечто среднее
между английским лордом и парижским щеголем. Он не
занимался водным спортом и целые дни просиживал на
одном месте, задумчиво провожая глазами струйку дыма
своей сигареты или перелистывая книгу. Два несносно
скучных, дождливых дня и явное дружелюбие этого гос-
подина быстро придали нашему знакомству оттенок сер-
дечности, которой почти не мешала разница в годах.
Лифляндец по рождению, воспитывавшийся во Франции,
а затем в Англии, человек без определенных занятий и
вот уже много лет без постоянного места жительства, он—
в высоком смысле — не знал родины, как не знают ее
все рыцари и пираты красоты, которые носятся по го-
родам мира, алчно вбирая в себя все прекрасное, встре-
164
тившееся на пути. По-дилетантски он был сведущ во
всех искусствах, но сильнее любви к искусству было ари-
стократическое нежелание служить ему; он взял у ис-
кусства тысячу счастливых часов, не дав ему взамен ни
одной секунды творческого огня. Жизнь таких людей
кажется ненужной, ибо никакие узы не привязывают их
к обществу и все накопленные ими сокровища, которые
слагаются из тысячи неповторимых и драгоценных впе-
чатлений, обращаются в ничто с их последним вздохом—
никому не завещанные.
Однажды вечером, когда мы после обеда сидели перед
отелем и смотрели, как медленно темнеет светлое озеро,
я заговорил об этом. Он улыбнулся.
— Быть может, вы не так уж не правы. А впрочем, я не
дорожу воспоминаниями. Пережитое пережито в ту са-
мую секунду, когда оно покидает нас. Поэзия? Да разве
она тоже не умирает через двадцать, пятьдесят, сто лет?
Но сегодня я расскажу вам кое-что; на мой взгляд, это
послужило бы недурным сюжетом для новеллы. Давай-
те пройдемся. О таких вещах лучше всего говорить на
ходу.
Мы пошли по чудесной дорожке вдоль берега. Веко-
вые кипарисы и развесистые каштаны осеняли ее, а в
просветах между ветвями беспокойно поблескивало озеро.
Вдалеке, словно облако, белело Белладжио, мягко отте-
ненное неуловимыми красками уже скрывшегося солн-
ца, а высоко-высоко над темным холмом в последних лу-
чах заката алмазным блеском сверкала кровля виллы
Сербелони. Чуть душноватая теплота не тяготила нас;
будто ласковая женская рука, она нежно касалась тени,
наполняя воздух ароматом невидимых цветов.
Мой спутник нарушил безмолвие:
— Начну с признания. До сих пор я умалчивал о том,
кто уже был здесь в прошлом году, именно здесь, в Ка-
йенаббии, в это же время года, в этом же отеле. Это,
^вероятно, удивит вас, особенно после того, как я вам рас-
сказывал, что всю жизнь избегал каких бы то ни было
повторений. Так слушайте. В прошлом году здесь было,
конечно, так же пусто, как и сейчас; тот же самый гос-
подин из Милана целыми днями ловил рыбу, вечером
йросал ее обратно в воду и утром снова ловил; затем две
Старые англичанки, тихого и растительного существова-
ния которых никто не замечал; потом красивый молодой
человек с очепь милой бледной девушкой, — я до сих
165
ïiop не верю, что они муж и жена, уж слишком они лю-
били друг друга. И, наконец, немецкое семейство, явно
с севера Германии: пожилая, ширококостая особа с воло-
сами соломенного цвета, некрасивыми, грубыми движе-
ниями, колючими стальными глазами и узким — словно
его ножом прорезали — злым ртом. С нею была ее сест-
ра, — да, бесспорно сестра, — те же черты, но только
расплывшиеся, размякшие, одутловатые. Они проводили
вместе весь день, но не разговаривали между собой, а
молча склонялись над рукоделием, вплетая в узоры всю
свою бездумность, — неумолимые парки душного мира
скуки и ограниченности. А с ними была молоденькая де-
вушка лет шестнадцати, дочь одной из них, не знаю, чья
именно, потому что угловатая незавершенность ее лица
и фигуры уже сменялась мягкой женственностью. В сущ-
ности, она была некрасива — слишком худа, слишком
незрела и, конечно, безвкусно одета. В ней угадывалось
какое-то трогательное, беспомощное томление; большие
глаза, полные темного огня, испуганно прятались от чу-
жого взгляда и поблескивали мерцающими искорками.
Она тоже повсюду носила с собой рукоделье, но руки ее
часто медлили, пальцы замирали над работой, и она си-
дела тихо-тихо, устремив на озеро мечтательный, непо-
движный взгляд. Не знаю, почему это так хватало меня
за душу. Быть может, мне просто приходила на ум ба-
нальная, но неизбежная мысль, которая всегда приходит
на ум при виде увядшей матери и рядом цветущей доче-
ри — человека и его тени, — мысль о том, что в каждом
юном лице уже таятся морщины, в улыбке — усталость,
в мечте — разочарование. А может быть, меня просто
привлекало это неосознанное, смятенное, бьющее через
край томление, та неповторимая, чудесная пора в жизни де-
вушки, когда взгляд ее с жадностью устремляется на все,
ибо у нее нет еще того единственного, к чему она приле-
пится, как водоросль к плавучему бревну. Я мог без уста-
ли наблюдать ее мечтательный, влажный взгляд, бурную
порывистость, с которой она ласкала каждое живое су-
щество, будь то кошка или собака, беспокойство, которое
заставляло ее браться сразу за несколько дел и ни одно
не доводить до конца/ лихорадочную поспешность, с ко-
торой она по вечерам проглатывала жалкие книжонки из
библиотеки отеля или перелистывала два растрепанных
томика стихов, Гёте и Баумбаха, привезенные с собой...
Почему вы улыбаетесь?
166
Я извинился и объяснил:
— Видите ли, меня рассмешило это сопоставление —
Гёте и Баумбах.
— Ах, вот что! Конечно, это несколько СхМешно. А с
другой стороны, — ничуть. Поверьте, молодым девушкам
в этом возрасте совершенно безразлично, какие стихи они
читают — плохие или хорошие, искренние или лживые.
Стихи — лишь сосуды, а какое вино — им безразлично,
ибо хмель уже в них самих, прежде чем они пригубят
вино. Так и эта девушка — она была полна смутной тос-
ки, это чувствовалось в блеске глаз, в дрожании рук, в
походке ее, робкой, скованной и в го же время словно
окрыленной. Видно было, что она изнывает от желания
поговорить с кем-нибудь, поделиться с кем-нибудь чрез-
мерной полнотой чувств, но вокруг не было никого —
одно лишь одиночество, да стрекотание спиц слева и
справа, да холодные, бесстрастные взгляды обеих жен-
щин. Бесконечное сострадание охватывало меня. И все
же я не решался подойти к ней. Во-первых, что для мо-
лодой девушки в подобные минуты такой старик, как я?
Во-вторых, мой непреодолимый ужас перед всякими се-
мейными знакомствами и особенно с пожилыми мещан-
ками исключал всякую возможность сближения. И тут
мне пришла довольно странная мысль — я подумал: вот
передо мной молодая, неопытная, неискушенная девуш-
ка; наверное, она впервые в Италии, которая благодаря
англичанину Шекспиру, никогда не бывавшему здесь,
(Считается в Германии родиной романтической любви,
страной Ромео, таинственных приключений, оброненных
i>poß, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и нежных
сем. Она, конечно, мечтает о любви, а кто знает девичьи
чты? Это белые, легкие облака, которые бесцельно
ывут в лазури и, как все облака, постепенно загорают-
более жаркими красками — сперва розовеют, потом
шхивают ярко-алым огнем. Ничто не покажется ей не-
авдоподобным или невозможным. Поэтому я и решил
збрести для нее таинственного возлюбленного.
В тот же вечер я написал ей длинное письмо, исцол-
îHoe самой смиренной и самой почтительной нежно-
г, туманных намеков и... без подписи. Письмо, ничего
требовавшее и ничего не обещавшее, пылкое и в то
время сдержанное, — словом, настоящее любовное
письмо из романтической поэмы. Зная, что, гонимая смут-
ным волнением, она всегда первой выходит к завтраку, я
167
засунул письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал
за ней из сада, видел ее недоверчивое удивление, внезап-
ный испуг, видел, как яркий румянец залил ее бледные
щеки, как она беспомощно оглянулась по сторонам, как
она поспешно, воровским движением спрятала письмо и
сидела растерянная, почти не прикасаясь к еде, а потом
выскочила из-за стола и убежала подальше, куда-нибудь
в тенистую, безлюдную аллею, чтобы прочесть таинствен-
ное послание... Вы хотели что-то сказать?
Очевидно, я сделал невольное движение, которое мне
и пришлось объяснить:
— А не было ли это слишком рискованно? Неужели
вы не подумали, что она попытается разузнать или, на-
конец, просто спросит у кельнера, как попало письмо в
салфетку. А может быть, покажет его матери?
— Ну конечно, я об этом подумал. Но если бы вы
видели эту девушку, это боязливое милое существо, —
она со страхом озиралась по сторонам, стоило ей случай-
но заговорить чуть громче, — у вас отпали бы все сомне-
ния. Есть девушки, чья стыдливость настолько велика,
что с ними можно поступать, как вам заблагорассудит-
ся, — они совершенно беспомощны, потому что скорее
снесут все, что угодно, чем доверятся кому-нибудь. Я с
улыбкой наблюдал за ней и радовался тому, что моя игра
удалась. Но вот она вернулась -иу меня даже в висках
застучало. Это была другая девушка, другая походка. Она
шла смятенно и взволнованно, жаркий румянец заливал
ее лицо, очаровательное смущение сковывало шаги. И так
весь день. Ее взгляд устремлялся к каждому окну, словно
там ждало разрешение загадки, провожал каждого, кто
проходил мимо, и однажды упал на меня, однако я от
него уклонился, боясь выдать себя даже движением век;
но и в это кратчайшее мгновение я почувствовал такой
жгучий вопрос, что почти испугался, и снова, как много
лет назад, понял, что нет соблазна сильнее, губительней
и заманчивей, чем зажечь первый огонь в глазах девуш-
ки. Потом я видел, как она сидела между матерью и тет-
кой, видел ее сонные пальцы и как она по временам су-
дорожно прижимала руку к груди, — несомненно, там
она спрятала письмо. Игра увлекла меня. Вечером я на-
писал ей второе письмо, и так все последующие дни; мне
доставляло своеобразное удовольствие описывать в своих
посланиях чувства влюбленного юноши, изображать на-
растание выдуманной страсти; это превратилось для меня
168
в увлекательный спорт, — то же самое, вероятно, испы-
тывают охотники, когда расставляют силки пли замани-
вают дичь. Успех мой превзошел всякие ожидания и да-
же напугал меня; я уже хотел прекратить игру, но иску-
шение было слишком велико. Походка ее стала легкой,
порывистой, танцующей, лицо озарилось трепетной, не-
повторимой красотой, самый сон ее, должно быть, стал
лишь беспокойным ожиданием письма, потому что утром
черные тени окружали ее тревожно горящие глаза; она
даже начала заботиться о своей наружности, вкалывала
в волосы цветы; беспредельная нежность ко всему на
свете исходила от ее рук, в глазах стоял вечный вопрос;
по тысяче мелочей, проскальзывавших в моих письмах,
она догадывалась, что их автор где-то поблизости, — не-
зримый Ариэль, который наполняет воздух музыкой, па-
рит рядом с ней, знает ее самые сокровенные мечты и все
же не хочет явиться ей. Она так оживилась в последние
дни, что это превращение не ускользнуло даже от ее ту-
поватых спутниц, и они не раз, с любопытством посмат-
ривая на ее подвижную фигурку, расцветающие щеки,
украдкой переглядывались и обменивались добродушны-
ми усмешками. Голос ее обрел звучность, стал громче,
выше, смелей, в горле у нее что-то трепетало, словно пес-
ня хотела вырваться ликующей трелью, словно... Я вижу,
вы опять улыбаетесь.
— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста. Я только по-
думал, что вы прекрасно рассказываете. Прошу прощенья,
но у вас просто талант. Вы смогли бы выразить это не
хуже, чем любой из нцртх писателей.
— Вы, очевидно, хотите осторожно и деликатно на-
мекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немецкие но-
веллисты, — напыщенно, сентиментально, растянуто,
скучно. Вы правы, постараюсь быть более кратким. Ма-
рионетка плясала, а я уверенной рукой дергал за нитки.
^Чтобы отвести от себя малейшее подозрение, — ибо ино-
гда я чувствовал, что ее взгляд испытующе останавли-
вается на мне, — я дал ей понять, что автор письма жи-
рет не здесь, а в одном из соседних курортов и еже-
дневно приезжает сюда на лодке или пароходом. И после
етого, как только раздавался колокол прибывающего па-
рохода, она под любым предлогом ускользала из-под ма-
теринской опеки, забивалась в какой-нибудь уголок на
пристани и, затаив дыхание, следила за приезжающими.
И вдруг однажды, — стоял серый, пасмурный день, и
169
я от нечего делать наблюдал за ней, — произошло нечто
неожиданное. Среди других пассажиров с парохода со-
шел красивый молодой человек, одетый с той вызываю-
щей элегантностью, которая отличает молодых итальянцев;
он огляделся вокруг, и взгляд его встретился с отча-
янным, зовущим взглядом девушки. И тут же ее роб-
кую улыбку затопила яркая краска стыда. Молодой чело-
век приостановился, посмотрел на нее внимательнее, —
что, впрочем, вполне понятно, когда тебя встречают та-
ким страстным взглядом, полным тысячи невысказанных
признаний, — и, улыбнувшись, направился к ней. Уже не
сомневаясь в том, что он есть тот, кого она так долго жда-
ла, она обратилась в бегство, потом пошла медленней,
потом снова побежала, то и дело оглядываясь; извечный
поединок между желанием и боязнью, страстью и стыдом,
поединок, в котором слабое сердце всегда одерживает
верх над сильной волей. Он, явно осмелев, хотя и не без
удивления, поспешил за ней, почти догнал ее — и я уже
со страхом предвидел, что сейчас все смешается в диком
хаосе, как вдруг на дороге показались ее мать и тетка.
Девушка бросилась к ним, как испуганная птичка, моло-
дой человек предусмотрительно отстал, но она оберну-
лась, и они еще раз обменялись призывными взглядами.
Это происшествие чуть не заставило меня прекратить
игру, но я не устоял перед соблазном и решил восполь-
зоваться этим так кстати подвернувшимся случаем; ве-
чером я написал ей особенно длинное письмо, которое
должно было подтвердить ее догадку. Меня забавляла
мысль ввести в игру вторую марионетку.
Иа другое утро я просто испугался, — все ее черты
выражали сильнейшее смятение. Счастливая взволнован-
ность уступила место непонятной мне нервозности, глаза
покраснели от слез, какая-то тайная боль терзала ее. Са-
мо ее молчание казалось подавленным криком, скорбно
хмурился лоб, мрачное, горькое отчаяние застыло во
взгляде, а ведь я именно сегодня ожидал увидеть ясную,
тихую радость. Мне стало страшно. Впервые в мою игру
вкралось что-то неожиданное, марионетка отказалась по-
виноваться и плясала совсем иначе, чем я того хотел.
Игра начала пугать меря, я даже решил уйти на весь день,
боясь прочесть упрек в ее глазах. Вернувшись в отель, я
понял все: их столик не был накрыт, они уехали. Ей при-
шлось уехать, не сказав ему ни слова, она не могла от-
крыться своим домашним, вымолить у них еще один
170
сень, хотя бы один час; ее вырвали из сладких грез и
увезли в какую-нибудь жалкую провинциальную глушь.
Об этом я и не подумал. До сих пор тяжким обвинением
пронизывает меня этот ее последний взгляд, этот взрыв
гнева, муки, отчаяния и горчайшей боли, которым я —
и, быть может, надолго — потряс ее жизнь.
Он умолк. Ночь шла за нами, и полускрытый облака-
ми месяц изливал на землю странный мерцающий свет.
Казалось, что и звезды, и далекие огоньки, и бледная
гладь озера повисли между деревьями. Мы безмолвно шли
дальше. Наконец мой спутник нарушил молчание:
— Вот и все. Ну, чем не новелла?
— Не знаю, что вам сказать. Во всяком случае, это
интересная история, и я сохраню ее в памяти вместе со
многими другими. Я очень вам благодарен за ваш рассказ.
Но назвать его новеллой? Это только превосходное вступ-
ление, которое, пожалуй, можно бы развить. Ведь эти
люди — они едва только успевают соприкоснуться, ха-
рактеры их не определились, это предпосылки к судьбам
человеческим, но еще не сами судьбы. Их надо бы допи-
сать до конца.
— Мне понятна ваша мысль. Дальнейшая жизнь мо-
лодой девушки, возвращение в захолустный городок, глу-
бокая трагедия будничного прозябания.
— Нет, даже и не это. Героиня больше но занимает
меня. Девушки в этом возрасте малоинтересны, как бы
значительны они ни казались самим себе, все их пере-
живания надуманны и потому однообразны. Девица в свое
время выйдет замуж за добропорядочного обывателя, а
это происшествие останется самой яркой страницей се
воспоминаний. Нет, она меня больше не запимает.
— Странно. А я не понимаю, чем вас мог заинтересо-
вать молодой человек. Такие мимолетные пламенные
взоры выпадают в юности на долю каждого; большинство
этого просто не замечает, другие — скоро забывают. На-
до состариться, чтобы понять, что это, быть может, и есть
самое чистое, самое прекрасное из всего, что дарит тебе
жизнь, что это — самое святое право молодости.
— А меня интересует вовсе не молодой человек.
— А кто же?
— Я изменил бы автора писем, пожилого господина,
дописал бы этот образ. Я думаю, что ни в каком возрасте
нельзя безнаказанно писать страстные письма и вжи-
ваться в воображаемую любовь. Я попытадсд бы цзобра-
171
зить, как игра становится действительностью, как он ду-
мает, что сам управляет игрой, на деле же игра давно уже
управляет им. Расцветающая красота девушки, которую
он, как ему кажется, наблюдает со стороны, на самом деле
глубоко волнует и захватывает его. И в ту минуту, когда
все выскальзывает у пего из рук, им овладевает мучи-
тельная тоска по прерванной игре и по... игрушке. Мепя
увлекло бы в этой любви то, что делает страсть пожилого
человека столь похожей на страсть мальчика, ибо оба не
чувствуют себя достойными любви; я заставил бы старика
томиться и робеть, он у меня лишился бы покоя, поехал
бы следом за ней, чтобы снова увидеть ее, — и в послед-
ний момент все-таки не осмелился бы показаться ей на
глаза; я заставил бы его на другой год снова приехать на
старое место в надежде встретиться с ней, вымолить у
судьбы счастливый случай. Но судьба, конечно, окажется
неумолимой. В таком плане я представляю себе новеллу.
Это было бы даже...
— Надуманно, неверно, невозможно!
Я вздрогпул от неожиданности. Резко, хрипло, почти
с угрозой перебил меня его голос. Я еще никогда не ви-
дел своего спутника в таком волнении. И тут меня осени-
ло: я понял, какой раны я нечаянно коспулся. Он круто
остановился, и я с болью увидел, как серебрятся его седые
волосы.
Я хотел как можно скорее переменить тему, но он
уже заговорил снова, сердечно и мягко, своим спокойным
и ровным голосом, окрашенным легкой грустью.
— Может быть, вы и правы. Это, пожалуй, было бы
гораздо интересней.«L'amour coûte cher aux vieillards»1,—
так, кажется, озаглавил Бальзак самые трогательные
страницы одного из своих романов, и это заглавие приго-
дилось бы еще для многих историй. Но старые люди, ко-
торые лучше всех знают, как это верно, предпочитают
рассказывать о своих победах, а не о своих слабостях.
Они не хотят казаться смешными, а ведь это всего лишь
колебания маятника извечной судьбы. Неужели вы вери-
те, что «случайно затерялись» именно те главы воспоми-
наний Казановы, где описана его старость, когда из со-
блазнителя он превратился в рогоносца, из обманщика в
обманутого? Может быУь, у него просто духу не хватило
написать об этом.
«Любовь дорого обходится старикам» (фр).
172
Он протянул мне руку. Голос его снова звучал ровно,
спокойно, бестрастно.
— Спокойной ночи! Я вижу, молодым людям опасно
рассказывать такие истории, да еще в летние ночи. Это
внушает им сумасбродные мысли и пустые мечты. Спо-
койной ночи.
Он повернулся и ушел в темноту своей упругой по-
ходкой, на которую годы все же успели наложить печать.
Было уже поздно. Но усталость, обычно рано овладевав-
шая мною в мягкой духоте ночи, не приходила сегодня
из-за волнения, которое поднимается в крови, когда столк-
нешься с чем-нибудь необычным или когда в какое-то
мгновение переживаешь чужие чувства, как свои.
Я дошел по тихой и темной дороге до виллы Карлот-
ти, — ее мраморная лестница спускается к самой воде, —
и сел на холодные ступени. Ночь была чудесная. Огни
Белладжио, которые раньше, словно светлячки, мерцали
между деревьями, теперь казались бесконечно далекими
и один за другим медленно падали в густой мрак. Мол-
чало озеро, сверкая, как черный алмаз, оправленный в
прибрежные огни. Плещущие волны с легким рокотом
набегали на ступени — так белые руки легко бегают по
светлым клавишам. Бледная даль неба, усеянная тысяча-
ми звезд, казалась бездонной; они сияли в торжественном
молчании; лишь изредка одна из них стремительно по-
кидала искрящийся хоровод и низвергалась в летнюю
ночь, в темноту, в долины, ущелья, в дальние глубокие
воды, низвергалась, не ведая куда, словно человеческая
жизнь, брошенная слепой силой в неизмеримую глубину
неизведанных судеб.
Роберт Музиль
(1880-1942)
Гриджия
В жизни наступает однажды срок, когда она резко
замедляет ход, будто не решается идти дальше или хо-
чет переменить направление. Может статься, в такую
пору человек легче подвержен несчастью.
У Гомо разболелся маленький сын; тянулось это уже
год, без видимых улучшений, хотя и не грозило особой
опасностью; врач настаивал на длительном курортном
лечении, а Гомо не мог решиться уехать с семьей. Ему
казалось, что такое путешествие слишком надолго ото-
рвет его от него самого, от его книг, планов, от всей его
жизни. Он воспринимал это свое нежелание как признак
крайней самовлюбленности, но, может быть, здесь вырази-
лось скорее некое самоотрешение, — ведь до сих пор он
ни разу на единый даже день не разлучался с женой; он
очень любил ее, любил и сейчас, но с появлением ребенка
вдруг оказалось, что эта любовь способна дать трещину—
как камень, который просочившаяся в него вода расщеп-
ляет все упорней. Этому новому свойству, — геологи на-
зывают его отдельностью, — Гомо не переставал удив-
ляться, тем более что вовсе не ощущал, чтобы самой его
любви за минувшее время сколько-нибудь убыло, и в про-
должение всех бесконечно затянувшихся сборов семей-
ства к отъезду он тщательно пытался представить себе,
как проведет один наступающее лето. Но он испытывал
решительное отвращение ко всякого рода морским и гор-
ным курортам. Он остался один и назавтра получил
письмо, в котором ему предлагали стать компаньоном
174
общества по разработке старых венецианских золотых
рудников в Ферзенской долине. Письмо было от некоего
господина Моцарта Амадео Хоффенготта, с которым он
познакомился однажды в поездке и был дружен в течение
нескольких дней.
Тем не менее Гомо нисколько не усомнился в том, что
речь идет о вполне солидном, достойном начинании. Он
послал две телеграммы: одной он извещал жену, что
срочно уезжает и сообщит о своем местопребывании поз-
же; в другой изъявлял согласие принять участие в раз-
ведочных работах в качестве геолога и, возможно, внести
в предприятие определенный денежный пай.
В П., неприступно-зажиточном итальянском городке,
разбогатевшем на виноделии и шелководстве, он встре-
тился с Хоффенготтом, крупным, красивым, деятельным
брюнетом одних с ним лет. Компания, как ему было со-
общено, располагает внушительными средствами из аме-
риканских источников, и дело будет поставлено на широ-
кую ногу. Пока же велись приготовления к экспедиции,
которая — в составе их двоих и еще трех пайщиков —
снаряжалась в глубь долины: покупались лошади, ожи-
дались инструменты, вербовалась подсобная сила.
Гомо остановился не в гостинице, а, сам не зная по-
чему, у одного итальянского знакомого Хоффенготта.
Там ему бросились в глаза три вещи. Мягкие постели, не-
сказанно прохладные, в красивом обрамлении красного
дерева; обои с несказанно сумбурным, безвкусным, но на
свой лад неповторимым и диковинным рисунком; и качал-
ка из тростника, — раскачиваясь в ней и неотрывно глядя
на обои, человек постепенно будто растворяется в этих
мерно вздымающихся и опадающих дебрях, которые за
какие-нибудь две секунды из ничего вырастают до на-
туральных размеров и затем снова сходят почти на нет.
А на улицах воздух был смесью снега и юга. Стояла
середина мая. По вечерам городок освещался большими
дуговыми лампами, так высоко висевшими на протянутых
ооперек проезжей части проводах, что улицы лежали вни-
зу, как глубокие синие ущелья, по темному дну которых
приходилось пробираться людям, в то время как бездна
пространства над ними была наполнена шипеньем рас-
качивающихся белых солнц. Днем открывался вид на ви-
ноградники и леса. Это все перезимовало в багрянце,
охре и зелени; поскольку деревья не сбрасывали листву,
тлен и свежесть переплелись в их убранстве, как в
175
кладбищенских венках, и крохотные, но отчетливо раз-
личимые среди них красные, голубые и розовые домики
были вкраплены там и сям как разноцветные игральные
кости, бесстрастно являя миру неведомый им самим
причудливый формальный закоп. В вышине же лес был
темным, и гора называлась Сельвот. Поверх леса ее оде-
вали снежные альпийские луга; размеренными волнами
они набегали на соседние горы, сопровождая узкую, кру-
то уходящую ввысь долину, в которую предстояло углу-
биться экспедиции. Случалось, что пастухи, спускавшие-
ся с этих гор, чтобы доставить молоко и купить поленту,
приносили огромные друзы горного хрусталя или амети-
ста, которые, по их словам, росли в многочисленных рас-
щелинах так буйно, точно цветы на лугу, и эти пугающе
великолепные сказочные образования усиливали впечат-
ление, что под видимой оболочкой этого края, мерцающей
странно знакомо, будто звезды в иную ночь, скрывается
что-то томительно желанное. Когда они въехали в доли-
ну и около шести утра миновали Сан-Ореолу, у малень-
кого каменного моста, перекинутого через заросший ку-
старником горный ручей, гремела если не сотня, то уж,
по крайней мере, дюжина соловьев; сиял ясный день.
Проехав дальше вглубь, они очутились в удивитель-
ном месте. Селение прилепилось на склоне холма; ведшая
к нему горная тропинка под конец буквально пересраки-
вала с одного плоского камня на другой, а от образован-
ной таким образом улицы сбегали по склону к лугам, по-
добно извилистым ручьям, несколько коротеньких, почти
отвесных проулков. Стоя на тропе, вы видели перед со-
бой лишь ветхие, убогие крестьянские домишки; но, гля-
дя на них снизу, с лугов, вы словно переносились через
века в первобытную деревню на сваях, потому что сторо-
ной, обращенной к долине, дома стояли на высоких стол-
бах, а нужники парили над обрывом чуть поодаль, как
паланкины, на четырех тонких, высотою с дерево, жердях.
И ландшафт вокруг деревушки был тоже не без приме-
чательных странностей. Его образовывала раскинувшая-
ся обширным полукружием и унизанная зубцами утесов
громада высоких гор, отвесно ниспадавших к пологому
скату, который опоясывал возвышавшийся в центре ле-
систый конус меньшего размера, благодаря чему все это
напоминало пустую пирожницу с коническим выступом
в середине, а так как краешек ее был отрезан бегущим
в теснине ручьем, она в этом месте как бы кренилась над
478
ущельем в сторону высокого противоположного берега,
спускавшегося вместе с ручьем к долине и приютившего
на себе деревушку. Кое-где виднелись заснеженные лож-
бины с низкорослыми горными соснами, меж которых
мелькали одинокие косули, на лесистой вершине конуса
уже токовал тетерев, а на лугах с солнечной стороны
цвели цветы, высыпав желтыми, синими и белыми звез-
дами, такими крупными, будто кто-то вытряхнул мешок
с талерами в траву. Стоило же подняться за деревушкой
еще футов на сто, как вы попадали на ровную, сравни-
тельно неширокую площадку, на которой располагались
огороды, выгоны, сеновалы и редкие домишки, а на выда-
вавшемся в долину уступе примостилась скромная цер-
ковка и глядела оттуда на мир, что простирался в ясные
дни перед долиной, как море перед устьем реки; лишь с
трудом различал глаз, где еще была золотисто-палевая
даль благословенной равнины, а где уже начинались не-
верные облачные угодья небес.
Прекрасной обещала быть жизнь, бравшая здесь на-
чало. Дни напролет в горах, где они расчищали засыпан-
ные входы в старые штольни и копали новые шурфы, или
на спусках к долине, где прокладывали широкое шоссе,—
в этом необъятном воздухе, уже мягком и влажном, уже
чреватом близким таянием снегов. Они швыряли деньги
направо и налево и распоряжались здесь как боги. Нашли
дело для всех — и для мужчин, и для женщин. Из муж-
чин составляли поисковые отряды и засылали их в горы,
где те пропадали по целым неделям, из женщин формиро-
вали колонны носильщиков, доставлявших инструменты
и провизию по едва проходимым тропам. Каменное зда-
ние школы было приспособлено под факторию, оно слу-
жило для хранения продуктов и других товаров; там по-
велительный хозяйский голос поименно выкликал суда-
чивших в ожидании своей очереди крестьянок, и объеми-
стые заплечные корзины нагружались каждый раз до
тех пор, пока не подгибались колени и не вздувались
жилы на шее. Навьючат вот такую крепкую красивую
молодку — и глаза у нее вылезают из орбит, и рот уже
не закрывается; она встает в ряд, и по сигналу хозяина
все эти притихшие животные одно за другим начинают
медленно переставлять ноги, поднимаясь в гору по длин-
ным змеистым тропинкам. Но несли они драгоценный,
редкий груз: хлеб, мясо, вино, — а железные инстру-
менты никто особенно не учитывал, так что, кроме платы
177
наличными, перепадало и немало из того, что могло при-
годиться в хозяйстве, поэтому они тащили нелегкий груз
охотно и еще благодарили чужаков, принесших благосло-
вение в горы. И это было великолепное чувство; здесь
пришельца никто не оценивал, как повсюду в мире, что
он за человек, — солиден ли, влиятелен и опасен или
хрупок и красив, — здесь, каким бы человеком он ни был
и какое бы понятие ни имел о делах жизни, его встречала
любовь, потому что с ним пришло благословение; любовь
опережала его, как герольд, повсюду была для него на-
готове, как свежепостланная постель, и человек в самом
взгляде нес дары гостеприимства. У женщин эти чувства
изливались непринужденнее, но иногда на какой-нибудь
луговине вдруг вырастал древний старик крестьянин и
приветственно взмахивал косой, как сама смерть во плоти.
Вообще в этом конце долины жили своеобразные лю-
ди. Их предки — рудокопы прибыли сюда из Германии еще
во времена Тридентского собора и с тех пор выветренным
немецким камнем вросли меж итальянцев в здешнюю
землю. Обычаи своей прежней жизни они наполовину со-
хранили, наполовину забыли, а то, что сохранили, уже,
похоже, и сами не понимали. Весной бурные ручьи
с гор вымывали у них почву из-под ног, некоторые
дома, стоявшие прежде на холме, повисали над краем
пропасти, а их это ничуть не беспокоило; с другой же
стороны, мутные волны новых времен прибивали к ним
в дома самый разнообразный мусор. Тут можно было
увидеть и дешевые полированные шкафы, и потешные
открытки, и олеографии, но иной раз на глаза попадалась
посуда, из которой, возможно, ели еще во времена Люте-
ра. Они, эти люди, были протестантами; однако же, хотя,
судя по всему, единственно эта цепкая приверженность
к своей вере уберегла их породу от итальянской примеси,
хорошими христианами они не были. Поскольку они про-
зябали в бедности, почти все мужчины вскоре после
свадьбы покидали своих жен и на долгие годы уезжали
в Америку; оттуда они привозили домой скудные накоп-
ления, обычаи городских борделей и безбожие, но отнюдь
не острый ум цивилизации.
Сразу по прибытии Гомо услышал эдесь историю, на-
долго занявшую его воображение. История случилась не
так давно, в последние десять—пятнадцать лет; один
крестьянин, находившийся в отлучке немалый срок, вер-
нулся из Америки и снова улегся к жене в постель. Не-
17Ö
которое время они радовались тому, что опять вместе, и
жизнь их шла своим чередом, пока не растаяли последние
сбережения. Тщетно прождав новых сбережений, как на-
зло застрявших где-то па пути из Америки, крестьянин
наново снарядился в дорогу, чтобы, по примеру других
земляков, подзаработать себе на жизнь ремеслом лоточ-
ника, а жена осталась вести дальше убыточное хозяйство.
Но назад он уже не вернулся. Зато несколькими днями
позже на одном из дальних хуторов объявился еще один
крестьянин, вернувшийся из Америки, с редкостной точ-
ностью высчитал, как давно они не виделись, потребовал
на стол ту же еду, что они ели в день расставания, все
знал даже про корову, которой давно уже и в помине не
было на дворе, и сумел по-отечески поладить с детьми,
которых послало ему иное пебо, нежели то, что сияло все
эти годы над его головою. Однако и этот крестьянин, по-
жив некоторое время в свое удовольствие, отправился в
путь-дорогу с коробом всякого добра и больше не вер-
нулся. История повторилась в округе и в третий, и в чет-
вертый раз, пока кто-то не сообразил, что это был аван-
тюрист, работавший вместе с их мужчинами за океаном
и все у них выспросивший. В конце концов его забрали
и посадили, и больше он не появлялся. Все женщины об
этом очень жалели, потому что каждой хотелось теперь
заполучить его еще денька на два и свериться поточнее
со своей памятью, чтобы не подвергаться насмешкам зря;
каждая, как теперь оказалось, сразу же почуяла тут что-
то неладное, но ни одна не была настолько уверена в
своих подозрениях, чтобы поднимать из-за этого шум и
ущемлять вернувшегося хозяина в его законных правах.
Вот такие это были женщины. Их ноги выглядывали
из-под коричневых шерстяных юбок с широкой, в ладонь,
красной, голубой или оранжевой каймой, а платки, что
они носили на голове и перетягивали крест-накрест на
груди, были из дешевого набивного ситца с современным
фабричным рисунком, но что-то в расцветке или в распо-
ложении узора вдруг отсылало к столетиям предков.
И дело тут было не просто в старинном крестьянском
уборе, а в самом их взгляде: стародавний, прокочевавший
сквозь даль веков, он до сегодняшнего дня дошел уже
вамутившимся и стертым, но собеседник все еще явствен-
но ощущал его на себе, когда глядел им в глаза. Обуты
они были в башмаки, выдолбленные, как челны, из сплош-
ного куска дерева, а поперек подошв, из-за плохих до-
179
рог, приделаны были железные пластинки, и на этих
котурнах они выступали в своих синих и коричневых чул-
ках, как японки. Приходилось им ждать кого-нибудь —
они усаживались не на обочине, а на утоптанной земле
посредине тропы и высоко подтягивали колени, как нег-
ры. Когда же они верхом на ослах поднимались в горы,
то сидели не боком, свесив юбку, а по-мужски, зажав
голыми ляжками острые края деревянных вьючных се-
дел, опять-таки без всякого смущения задрав колени, и
будто плыли вперед, чуть покачиваясь всем корпусом.
Но в то же время их радушие и любезность были
столь непринужденны, что иной раз ставили в тупик.
«Входите, пожалуйста», — говорили они, выпрямившись,
как герцогини, когда в своих крестьянских хоромах слы-
шали стук в дверь; или, к примеру, остановишься на
минутку с ними поболтать, а одна вдруг и предложит
с отменнейшей учтивостью и степенностью:
— Не подержать ли вам пальто?
Когда доктор Гомо сказал как-то раз смазливой че-
тырнадцатилетней крестьяночке: «Пошли в сено», — ска-
зал просто так, оттого что вдруг представилось ему в эту
минуту столь же естественным улечься в сено, как жи-
вотному — уткнуться носом в кормушку, — детское ли-
чико под острым клинышком унаследованного от древ-
них прабабок платка нимало не испугалось, а только ре-
село прыснуло носом и глазами, маленькие башмаки-
лодочки, развернувшись на пятках, запрокинулись, и дев-
чонка, казалось, вот-вот плюхнется вместе с граблями
оттопыренным задом на жнивье; но все это лишь долж-
но было, как в комической опере, выразить трогательно-
неуклюжее изумление по поводу мужской похотливости.
В другой раз он спросил рослую крестьянку, похожую
на германскую вдовицу из трагедии:
— Ты еще девушка, да? — и взял ее за подбородок,
опять просто так, оттого что вроде бы полагалось отпус-
кать шуточки с этаким мужским душком.
А она, даже не попытавшись высвободить подбородок
из его руки, серьезно ответила:
— Конечно.
Гомо оторопел.
— Ты еще девушка? — всерьез удивился он и засме-
ялся. Она хихикнула. — Да?! — приступил он к ней уже
настойчиво и игриво потрепал ее за подбородок. Тогда
она дунула ему в лицо и тоже засмеялась:
180
— Была!
— Если я приду к тебе, что я получу? — последовал
вопрос.
— Что хотите.
— Все, что хочу?
— Все.
— В самом деле все?
— Все! Все!! — И страстность ответа была ею так ве-
ликолепно и страстно сыграна, что эта театральная под-
линность на высоте тысячи шестисот метров над уровнем
моря опять поставила его в тупик. С тех пор его неотвяз-
но преследовало ощущение, что здешняя жизнь, ясная и
пряная не в пример любой прежней, вовсе не реальность,
а легкая, воздушная игра.
Тем временем наступило лето. Когда он в первый раз
увидел почерк больного сына на конверте, он будто испу-
гался — дрожь счастья и потаенного владения его про-
низала; то, что они знали теперь, где он находится, пред-
ставилось ему неимоверным подкреплением и утвержде-
нием. Он здесь, о, теперь они все знают, и ему ничего
не надо им объяснять. В белом и фиолетовом, в палевом
и зеленом стояли луга. Он не призрак, нет. Сказочный лес
из древних лиственниц в нежно-зеленом покрове высился
на изумрудном склоне. Внизу подо мхом, возможно, пря-
тались фиолетовые и белые кристаллы. В одном из угол-
ков леса ручей падал на камень так, что разбивавшаяся
Струя напоминала огромный серебряный гребень. Он
больше не отвечал на письма жены. Среди тайн этой при-
роды есть и тайна предназначенности. Есть сокровенный
нежно-алый цветок, он существует лишь для одного-
единственного мужчины на свете — для него, так уж
устроил господь, и разве это не чудо? Есть потаенное
место на теле, его никому не дозволено видеть под стра-
хом неминуемой смерти — кроме него одного. Все это
показалось ему вдруг таким чудесно бессмысленным и
непрактичным, какою бывает только самая истовая ре-
лигия. И он лишь сейчас осознал, что он сделал, отъеди-
нившись от всего на это лето и дав себя увлечь своему
собственному течению, его захлестнувшему. Меж деревь-
ев с ядовито-зелеными бородами опустился он на колени,
раскинул руки, чего никогда не делал прежде в своей
Жизни, и на душе у него было так, будто в это мгновение
У него из рук взяли его самого. Он ощущал ладонь лю-
бимой в своей ладони, ее голос звучал в его ушах, все
181
клетки его тела словно еще трепетали от недавнего при-
косновения, он воспринимал себя как некую другим те-
лом образованную форму. Но он уже отринул свою жизнь.
Сердце его поверглось во прах перед любимой, стало бед-
ней последнего нищего, и в душе поднялись, готовые из-
литься, клятвы и слезы. Но все же ему ясно было, что
назад он не вернется, и странным образом с этим его воз-
буждением нерасторжимо связался образ цветущих вкруг
леса лугов — и еще, вопреки томительному ожиданию
грядущего, предчувствие того, что именно здесь, среди
анемонов, незабудок, орхидей, горечавок и великолепного
буро-зеленого щавеля, ему суждено лежать мертвым. Он
распростерся навзничь во мху. «Как взять тебя с со-
бой?» — спрашивал Гомо. И его тело было полно стран-
ной усталости, как застывшее лицо, вдруг расслабляю-
щееся в улыбке. Вот он полагал всегда, что живет реаль-
ной жизнью, но могло ли быть что-либо нереальнее того,
что одип человек был для него чем-то иным, нежели все
остальные люди? Что среди бесчисленных тел было одно,
от которого его внутреннее «я» зависело почти так же,
как от собственного тела? Чужие голод и усталость, зре-
ние и слух неразделимо переплелись с его собственными.
С подрастанием ребенка это чувство врастало в череду
земных забот и удобств, как тайны почвы врастают в де-
ревце. Ребенка он любил, но как не подлежало сомнению
то, что сын переживет их, так же очевидно было, что сво-
им появлением на свет он умертвил ту, иную часть бытия
Гомо. И его вдруг бросило в жар от повой мысли. Он от-
нюдь не был человеком религиозным, по сейчас его всего
словно озарило изнутри. В этой беспредельной ясности
чувства мысли еле теплились, как чадные свечи, и сияло
одно только великолепное, омытое живою водою юности
слово: воссоединение. Он на веки вечные возьмет ее с .со-
бой, — и в тот миг, когда он обратился к этой мысли,
исчезли все мелкие искажения, привнесенные временем
в облик любимой, и будто настал вечный первый день.
Канули в небытие все будничные расчеты, всякая воз-
можность пресыщения и измены (ибо кто же пожертвует
вечностью ради легкомыслия минуты?) — и впервые в
жизни он безусловно ,и неопровержимо познал любовь
как таинство небес. Он прозрел свое личное, ему одному
благоволящее провидение, направившее его жизнь в эту
пустыню одиночества, и уже не как земное только богат-
ство, а как ему одному уготованный волшебный мир
182
ощутил он полную золота и драгоценных камней почву
под своими ногами.
С этого дня его не оставляло чувство, что он, как от
ломоты в колене или от громоздкого рюкзака, избавился
от тяготившей его зависимости — от желания быть жи-
вым, от боязни смерти. Случилось не так, как он всегда
думал, — что, если человек в расцвете сил чувствует при-
ближение конца, он наслаждается жизнью тем безудерж-
ней и ненасытней, — нет, он просто ощутил вдруг пол-
ную свою раскованность, божественную легкость, делав-
шую его султаном собственного существования.
Хотя буровые работы пе дали пока обнадеживающих
результатов, люди в лагере жили жизнью настоящих зо-
лотоискателей. Один парень повадился украдкой прикла-
дываться к вину, — это было преступление против общих
интересов, суровое наказание тут встретило бы всеобщую
поддержку, и парня приволокли со связанными руками.
Моцарт Амадео Хоффенготт распорядился для пущей
острастки привязать его на сутки к стволу дерева. Когда
десятник принес веревку, шутливо-многозначительно по-
махал ею и повесил сначала на гвоздь, малый задрожал
всем телом, решив, что его не иначе как собираются
вздернуть. Точно так же — хотя это уже труднее объяс-
нить — дрожали лошади, которых им присылали в каче-
стве вспомогательной тягловой силы или пригоняли на
несколько дней с гор для ухода и подкормки: они сбива-
лись в кучки на луговине или ложились на траву, но рас-
полагались они, хоть на первый взгляд и беспорядочно,
всегда как бы вглубь, к центру, так что создавалось впе-
чатление тайно соблюдаемого эстетического закона, напо-
добие того, что был в расположении крохотных зеленых,
голубых и розовых домиков на склоне Сельвота. Когда
же их наверху, в одной из горных котловин, привязывали
на ночь по две, по три к поваленному дереву, то стоило
кому-нибудь, вставши в три часа, еще при луне, отпра-
виться в путь и в полпятого пройти мимо них, они про-
вожали его взглядом, и в бестелесном свете раннего утра
человек чувствовал себя мыслью, проплывающей в их
медленном сознании. Поскольку воровство и вообще не-
которые странности продолжались, участники экспедиции
скупили всех собак в округе, чтобы использовать их для
охраны. Специально устраивали рейды и притаскивали
их прямо сворами, по две, по три на одной веревке, без
ошейников. В конце концов в лагере оказалось столько
183
же собак, сколько и людей, и уже неясно было, какая из
этих групп чувствует себя здесь хозяином, а какая — все-
го лишь пригретым из милости нахлебником. Среди со-
бак были и благородные гончие, и венецианские ищейки,
которых кое-где еще держали в этих местах, и задиристые
дворняги, кусавшиеся, как злобные обезьянки. Они тоже
объединялись в группы, неизвестно по какому принципу,
и держались весьма сплоченно, но время от времени в
каждой группе остервенело набрасывались друг на дру-
га. Некоторые были совсем заморенные, другие отказыва-
лись от еды; одна крохотная белая собачонка вцепилась
повару в руку, когда тот ставил перед ней миску с мясом
и супом, и откусила ему палец.
В полчетвертого утра было уже светло, но солнце еще
не вставало. Проходя в горах мимо пастушьих хижин,—
их называли здесь мальвами,— можно было видеть ко-
ров, лежавших в полудреме на ближних лугах. Поджав
ноги и слегка свалив крестец на сторону, они лежали ог-
ромными матово-белыми, будто каменными, глыбами и
не смотрели ни на проходящего, ни вслед ему, а устрем-
ляли недвижный взор навстречу ожидаемому свету, и их
однообразно-медленно перемалывавшие жвачку губы
словно творили молитву. Человек шел сквозь них, как
сквозь круг некоего сумеречного, отрешенного существо-
вания, а когда, пройдя, оглядывался на них сверху, они
казались небрежно разбросанными безмолвными скри-
пичными ключами — линия хребта, задние ноги и хвост.
Вообще жизнь здесь не лишена была разнообразия. То
кто-нибудь ломал ногу, и двое сотоварищей проносили
его на руках. Или вдруг раздавался крик: «О-го-онь!» —
и все бежали искать укрытия, потому что это взрывали
большой камень, мешавший прокладке шоссе. Начинаю-
щийся дождь только что успел первым влажным касани-
ем пройтись по траве. У куста на другом берегу ручья
горел костер, забытый за новыми хлопотами, хотя до это-
го ему придавалось важное значение; теперь в качестве
единственного зрителя при нем оставалась молоденькая
березка. На этой березке висела подвешенная за ногу
черная свинья; костер, березка и свинья были теперь од-
ни. Свинья эта начала ^ верещать еще тогда, когда один
из мужчин просто тащил ее на веревке, всячески увеще-
вая не упираться. Потом она заверещала громче, увидев
радостно мчавшихся к ней двух других мужчин. Вере-
щала жалобно, когда ее схватили за уши и уже без вся-
184
ких церемоний поволокли дальше. Она упиралась всеми
четырьмя ногами, но боль в ушах вынуждала ее корот-
кими прыжками продвигаться вперед. На другом конце
моста стоял наготове еще один, с мотыгой, и острым лез-
вием саданул животное по темени. С этого момента все
пошло значительно спокойнее. Передние ноги разом под-
ломились, и свинья завизжала снова, только когда нож
вошел ей в горло; хотя визг этот взвился истошной, за-
хлебывающейся трубной нотой, он сразу упал до хрипе-
ния и тут же перешел в короткий патетический храп.
Все это Гомо отметил для себя впервые в жизни.
С наступлением вечера все собирались в домике при-
ходского пастора, где они сняли одну из комнат, устроив
в ней казино. Надо сказать, что мясо, которое им достав-
ляли дважды в неделю, за время пути успевало иной раз
подпортиться, и нередки были случаи легкого желудоч-
ного отравления. Тем не менее, как только начинало
смеркаться, все тащились сюда с фонариками, спотыка-
ясь на невидимых тропинках. Ибо, хотя кругом и было
такое великолепие, они еще больше, чем от желудочного
отравления, страдали от опустошенности и печали. И за-
ливали эту пустоту вином. Через какой-нибудь час пас-
торскую комнату заволакивало дымом тоски и джаза.
Граммофон громыхал в ней, как позолоченная телега на
мягкой, усыпанной сказочными звездами поляне. Они
уже ни о чем не разговаривали — просто говорили. Что
они могли сказать друг другу — ученый геолог, предпри-
ниматель, бывший инспектор исправительных заведений,
горный инженер, отставной майор? Они общались посред-
ством знаков — даже если это и были слова: слова неудов-
летворенности, относительной удовлетворенности, тос-
ки, — звериный язык. Часто они с ненужной горячно-
стью принимались спорить по какому-нибудь вопросу,
никого непосредственно не касавшемуся, доходили даже
до взаимных оскорблений, а на следующий день от од-
ного к другому бегали секунданты. Тогда выяснялось, что,
собственно говоря, никто ни при чем вообще не присут-
ствовал. Они это делали просто для того, чтобы убить
время, и хотя никому из них и не ведомо было, что значит
провести время с толком, они сетовали, что их окружают
грубияны, мясники, и ожесточались друг против друга.
То был все тот же, что и повсюду, стандарт душевной
массы — Европа. Безделье столь же неопределенное,
сколь неопределенны были их дела. Тоска по женщинам,
185
по ребенку, по уюту. Все это вперемешку с граммофоном:
«Роза, уедем в «Лодзь, Лодзь, Лодзь...» — или: «Приходи ко
мне в беседку». Астральный запах пудры, газа, туман да-
леких варьете и европейского секса. Непристойные анек-
доты взрывались каскадами хохота и начинались одной
и той же фразой: «Едет один еврей в поезде...»; только
однажды кто-то спросил:
— А сколько крысиных хвостов уложится от Земли
до Луны?
Все даже притихли, а майор поставил арию из «Тос-
ки» и, пока граммофон шипел для разгона, меланхоличе-
ски сказал:
— Когда-то я чуть было не женился на Джеральдине
Фаррар.
Тут из трубы выплеснулся в комнату ее голос и будто
на лифте взлетел ввысь, этот разбередивший осоловелых
мужчин женский голос, и лифт стрелой взмывал все вы-
ше и, не достигнув цели, опускался снова и пружинил
в воздухе. Ее юбки раздувало воздушной волной, и тебя
будто бросало вверх-вниз, на мгновение ты замирал, без-
гласно приникнув к протяженному тону, снова взмывал
и падал вместе с ним, словно уже изнемогал и все-таки
еще трепетал, охваченный новой дрожью, и изливался
снова: оргия похоти. Гомо чувствовал, что эго была все
та же голая похоть, пропитавшая и все сферы городского
существования и уже не отличимая от убийства, ревно-
сти, бизнеса, автомобильных гонок, — о, это была уже и
не похоть, а дух азарта, нет, и не дух азарта, а, наверное,
меч карающий, ангел смерти, безумие небес, война!
С одной из многочисленных липучек, подвешенных к по-
толку, перед ним на стол упала муха и, парализованная
ядом, лежала на спине в одной из тех лужиц, которые
образует стекающий по еле заметным складкам клеенки
свет керосиновых ламп; от этих лужиц веяло такой пред-
весенней печалью, будто свежий ветер прошумел после
дождя. Муха делала судорожные усилия, чтобы перевер-
нуться, но с каждым усилием все больше ослабевала, а
другая, шмыгавшая по клеенке, время от времени под-
бегала к ней справиться, как обстоят дела. Гомо тоже
внимательно наблюдал эту картину, потому что мухи
были здесь чистым наказанием. Но когда подошла смерть,
умирающая сложила заостренной пирамидкой все свои
шесть лапок, молитвенно воздела их ввысь и так умерла
па тусклом световом пятне клеенки, будто на тихом
186
кладбище, которое, хоть и не исчислимо в сантиметрах и
не воспринимаемо слухом, все-таки было здесь в этот мо-
мент. Кто-то как раз заметил:
— Между прочим, уже подсчитано, что во всем бан-
кирском доме Ротшильда не найдется столько денег, что-
бы оплатить билет третьего класса до Луны.
Гомо тихо произнес про себя: «Убивать — и все-таки
чувствовать бога; чувствовать бога — и все-таки уби-
вать?» — и щелчком указательного пальца направил
муху прямо в лицо сидевшему напротив майору, что
опять привело к инциденту, не затухавшему до следую-
щего вечера.
К этому времени он уже давно был знаком с Грид-
жией, и, возможно, майор ее тоже знал. Ее звали Лена
Мария Ленци; это имя звучало, как Сельвот и Гронлейт
или как Мальга Мендана, и приводило на память аме-
тистовые кристаллы и горные цветы, но он предпочитал
называть ее «Гриджия», растягивая «и» и придыхая на
«дж» — по кличке ее коровы, которую она прозвала
Гриджией 1. Она пасла ее, сидя обычно на краю лугови-
ны, в фиолетовой с коричневым юбке и платочке в кра-
пинку, задрав кверху закругленные носки деревянных
башмаков и скрестив руки на цветастом фартуке; она
была при этом так естественно мила — ни дать ни взять
изящный ядовитый грибок; время от времени она отдава-
ла распоряжения корове, пасшейся ниже по склону. Соб-
ственно говоря, эти распоряжения сводились к пяти сло-
вам: «А ну, куда!» и «Я тебя!» — что явно означало:
«Поднимайся паверх!» — когда корова забредала слиш-
ком далеко вниз; если же дрессировка не действовала,
то следовал еще более негодующий окрик: «Ну, сатана,
вот я тебя!» — а уж в качестве последней инстанции она
сама, как камушек, скатывалась вниз по лугу, вооружен-
ная первой подвернувшейся под руку палкой, которую и
посылала вслед Гриджии, подбежав на расстояние броска.
А так как Гриджия выказывала решительную наклон-
ность снова и снова устремляться по направлению к до-
лине, эта процедура повторялась во всех своих частях с
равномерностью опускающейся и подтягиваемой заново
гири на ходиках. Все это восхищало его своей божествен-
ной бессмысленностью, и он, поддразнивая, саму ее стал
эвать Гриджией. Он но мог не сознаться себе, что его
1 Серки (от ит. grigia — cepaiy).
187
сердце начинало биться сильнее, когда он приближался к
сидевшей на лугу фигурке; так бьется оно, когда человек
вступает в благоухающий ельник или в марево пряных
испарений, поднимающихся от лесной почвы, пропитан-
ной грибными спорами. В глубине этого ощущения все-
гда присутствовал и затаенный страх перед природой, ибо
не стоит обманываться насчет природы, естества — они
на самом деле менее всего естественны; природа земли-
ста, жестка, ядовита и бесчеловечна везде, где человек
еще не наложил на нее своего ярма. Возможно, именно
это и привязывало его к крестьянке, а наполовину здесь
было также и неослабевающее изумление по поводу того,
что она так во всем похожа на женщину. Ведь каждый
бы удивился, увидев посреди лесной чащи даму, сидящую
с чашечкой чая в руках.
Она тоже сказала: «Входите, пожалуйста!» — когда
он впервые постучался в дверь ее дома. Стоя у плиты,
она помешивала ложкой в кипящем на огне горшке; так
как отойти она не могла, она просто вежливо указала на
кухонную лавку и лишь несколько позже, улыбнувшись,
вытерла руку о фартук и подала ее гостям; у нее была
крепкая, ладная рука, бархатисто-жесткая, как тончай-
шая наждачная бумага или как садовая земля, струя-
щаяся меж пальцев. А лицо, принадлежавшее хозяйке
руки, было чуть ироничным, тонкого, изящного рисунка,
если глядеть со стороны; особенно же он отметил для
себя ее рот. Этот рот был изогнут, как лук Купидона, но,
кроме того, еще и плотно сжат, как бывает, когда сгла-
тывают слюну, что, при всей его тонкости, сообщало ему
черту жесткой решимости, а этой решимости, в свою оче-
редь, — еле уловимый налет смешливости, великолепно
гармонировавшей с башмаками, из которых вся ее фигур-
ка вырастала, будто из диких корней. Им надо было
уладить с нею какое-то дело, а когда они стали прощать-
ся, на лице ее снова всплыла улыбка, и ему показалось,
что ее рука задержалась в его ладони чуть дольше, чем
вначале. Эти впечатления, в городе столь мало значащие,
были здесь, в глуши, потрясениями, — скажем, как если
бы дерево вдруг вздумало закачать ветвями по-иному, не-
жели это бывает при порыве ветра или при взлете птицы.
Вскоре после этого он стал ее любовником — любов-
ником крестьянки; эта происшедшая с ним перемена
очень его занимала, так как здесь с ним явно что-то про-
изошло не по его воле, а помимо нее. Когда он пришел
188
во второй раз, Гриджия сразу подсела к нему на лавку,
и когда он, — чтобы проверить, насколько далеко ему уже
позволяется зайти, — положил руку ей на колено и ска-
зал: «Ты тут самая красивая», — она руки не отвела, а
просто положила на нее свою, и они будто тем самым и
сговорились. Тогда он, для закрепления, поцеловал ее,
и она после этого слегка причмокнула — так удовлетво-
ренно отрываются губы от сосуда с водой, к краям кото-
рого они с жадностью припадали. Он сначала даже не-
сколько испугался такой вульгарности и вовсе не рассер-
дился, когда она пресекла дальнейшие поползновения; он
не понимал, почему она это сделала, он вообще ничего
не понимал в здешних обычаях и опасениях и даже с
некоторым любопытством утешился тем, что его обнаде-
жили на будущее. «На сеновале», — сказала Гриджия,
и, когда он уже стоял в дверях и говорил: «До свида-
ния», — она добавила: «До скорого», — и улыбнулась.
Он еще не успел дойти до дома, как уже почувствовал,
что счастлив происшедшим, — так горячительный напи-
ток начинает действовать лишь спустя некоторое время.
Идее пойти вместе на сеновал он радовался, как детской
хитросуи: открываешь тяжелую дубовую дверь, притво-
ряешь ее за собой, и с каждым градусом ее поворота в
петлях мрак кругом сгущается, пока совсем не спустишь-
ся на дно этой вертикально стоящей коричневой тьмы.
Он вспомнил их поцелуй, снова услышал ее причмоки-
ванье — ему будто стянуло голову колдовским обручем.
Он попытался мысленно вообразить себе предстоящее сви-
дание, и ему опять вспомнилась крестьянская манера есть:
они жуют медленно, чавкая, смакуя каждый кусок; и
танцуют они так же, шаг за шагом, и, наверное, так же
делают все остальное; при этой мысли у него даже ноги
онемели от возбуждения — как будто его ботинки уже
понемногу начали врастать в землю. Женщины опускают
веки и делают совершенно окаменелое лицо — защитная
маска, чтобы им не мешали неуместными проявлениями
любопытства; едва ли единый стон сорвется с их губ —
замерев в неподвижности, как жуки, прикинувшиеся
мертвыми, они всем своим существом сосредоточиваются
на том, что с ними происходит. Так оно и случилось:
Гриджия краем подошвы соскребла в кучу немного сена,
оставшегося еще с зимы, и, нагибаясь, чтобы поднять по-
дол юбки, в последний раз улыбнулась, будто дама, по-
правляющая подвязку.
189
Все вышло так же просто и было столь же колдов-
ским, как лошади, коровы и заколотая свинья. Когда они
лежали за балками на сеновале и снаружи раздавался
стук тяжелых башмаков, у Гомо, пока этот стук прибли-
жался по каменистой тропе, прогромыхивал мимо и за-
тихал вдали, кровь приливала к сердцу; а Гриджия, ка-
залось, уже с третьего шага распознавала, к ним ли дви-
жутся башмаки или нет. И она знала колдовские слова.
Например, говорила «подбрудок», или «виски» вместо
«волосы». «Исподница» означало — «рубашка». «Вишь
какой тороватый, — удивлялась она, сама придя полу-
сонная. — А я привалилась малость, да и заспала». Ко-
гда он однажды пригрозил ей, что больше не придет, она
засмеялась: «Уж как-нибудь заманю!» — и он не то ис-
пугался, не то обрадовался, а она, видно, это подметила,
потому что спросила: «Жалковать стал, да? Здорово
жалковать-то стал?» Все эти слова были под стать узорам
на их фартуках и платках или цветным каемкам на по-
долах, — немного уже приладившиеся к современности,
благо проделали долгий путь, но все-таки остававшиеся
таинственными пришельцами. Они так и сыпались с ее
губ, и, целуя эти губы, он тщетно пытался разобраться,
любит ли он эту женщину, или просто ему явлено чудо
и Гриджия всего лишь частица ниспосланного ему оза-
рения, отныне и навеки связавшего его с той, истинно
любимой. Однажды Гриджия сказала ему прямо в лоб:
«А мысли-то у тебя про другое, оно по глазам видать»,—
и, когда он наспех сочинил отговорку, снисходительно от-
махнулась: «Ах, это только скюз». Он снросил, что это
еще такое, но она объяснять отказалась, и ему пришлось
потом долго соображать самому, прежде чем он выудил
из нее скудные сведения, позволившие догадаться, что
лет двести назад здесь жили еще и французские рудокопы
и скорее всего это когда-то означало «экскюз» К Но не ис-
ключено, что и тут таилось нечто более замысловатое.
Все это можно чувствовать глубоко или не очень.
Можно иметь принципы, и тогда это предстанет всего
лишь невинной эстетической забавой, о которой приятно
вспомнить. А может быть, у человека нет принципов или
просто они несколько ослабли, как случилось с Гомо перед
отъездом, и тогда, не ровен час, эти чуждые, странные
впечатления всецело завладеют безнадзорной душой. Но
1 Извинение, отговорка (от фр. excuse).
190
какого-либо нового, счастливо-тщеславного и устойчивого
ощущения своего «я» они ему не давали, а лишь оседали
бессвязно-красивыми пятнами внутри того воздушного
очерка, который прежде был его телом. По каким-то не-
уловимым признакам Гомо чувствовал, что скоро умрет,
'он только не знал еще, как и когда. Его прежняя жизнь
лишилась силы; она стала как мотылек, что к осени сла-
беет все больше и больше.
|; Иногда он говорил об этих своих ощущениях с Грид-
^ией, всякий раз удивляясь ее манере справляться о них:
деликатно-уважительно, как о чем-то ей доверенном, и
без малейшей обиды. Она словно бы находила вполне есте-
ственным, что где-то за ее горами жили люди, которых
он любил больше, чем ее, Гриджию, — которых он любил
всей душой. И он чувствовал, что эта его любовь не сла-
беет, а, напротив, становится сильней и будто новей; она
щв бледнела, но меркла, но чем в более глубокие она
окрашивалась топа, тем явственней утрачивала способ-
ность направлять его к чему-либо или от чего-либо удер-
■|№вать. В ней была та граничащая с чудом невесомость и
Свобода от всего земного, какую знает лишь тот, кому
щришлось закончить счеты с жизнью и осталось только
!уповать на близкую смерть; и хотя он всегда был совер-
шенно здоров, сейчас его будто пронзило и выпрямило
что-то, как калеку, который вдруг отбрасывает костыли
й идет на своих ногах.
Все это еще усилилось, когда подошла пора сенокоса.
Трава была уже скошена и просохла, оставалось увязать
ее и поднять наверх со склонов. Гомо смотрел вниз с бли-
жайшего холма, далеко и высоко, будто взмахом качелей,
взнесенного над долипой. Молоденькая крестьянка, одна
как перст на лугу, — яркая пестрая куколка под необо-
зримым стеклянным колоколом неба, — тужится связать
огромную охапку. Становится на колени в кучу сена, обе-
ими руками подгребает его к себе. Ложится — весьма
Чувственным манером — на кучу животом и обхваты-
вает ее снизу. Переворачивается на бок и теперь орудует
f»e одной рукой, вытягивая ее насколько возможно. За-
ползает опять наверх — сначала одним коленом, потом
обоими. Гомо снова чудится в этом что-то от жука, кото-
рого прозвали пилюльщиком. Наконец она вся подлезает
под обхваченную бечевой охапку и медленно поднимается
вместе с ней. Охапка намного больше несущего ео пестро-
го хрупкого человечка — или это была не Гриджия?
191
Когда Гомо, ища ее, проходил мимо длинного ряда
копен, сметанных крестьянками вдоль равной кромки от-
коса, женщины как раз устроились передохнуть; он едва
смог оправиться от ошеломления: они возлежали на невы-
соких копешках, как статуи Микеланджело во флорен-
тийской капелле Медичи, — рука подпирает голову, и те-
ло будто покоится в плавном потоке. А если им в раз-
говорах с ним случалось сплюнуть, они делали это весьма
церемонно: выдергивали тремя пальцами пучок сена, пле-
вали в образовавшуюся воронку и засовывали сено обрат-
но; тут не мудрено расхохотаться, но тому, кто среди них
уже как бы свой, — а таким и был Гомо, искавший
Гриджию, — может иной раз стать не по себе от этой
грубоватой чопорности. Впрочем, Гриджия редко бывала
среди них, а когда он наконец ее нашел, она сидела на
картофельном поле и встретила его задорным смехом.
Он знал, что на ней всего лишь две юбки и что она сидит
прямо на сухой земле, которую ссыпает сейчас меж тон-
ких загрубелых пальцев. Но в этом представлении уже
не было ничего для него необычного, все его существо
странным образом свыклось с ощущением прикосновения
земли к телу, и, возможно, он встретил Гриджию вовсе не
на поле и не в пору сенокоса — просто так уж ему тут
жилось, что все впечатления и дни перемешались.
Заполнились сеновалы. Меж балок, сквозь щели в па-
зах, струится серебряный свет. От сена струится зеленый
свет. Под дверями легла широкая золотая кайма.
У сена кисловатый запах. Как у негритянских напит-
ков, приготовляемых из мякоти плодов и человеческой
слюны. Стоит только вспомнить, что ты живешь здесь
среди дикарей, — и уже одна эта мысль пьянит дурма-
ном в духоте этого тесного, доверху набитого забродив-
шим сеном пространства.
Нет опоры надежнее сена. Тонешь в нем по щиколот-
ку, но ощущение устойчивости не покидает тебя. Лежишь
в нем, как на господней ладони, и готов кататься по гос-
подней ладони, как щенок, как поросенок. Лежишь на-
клонно и лежишь почти отвесно, как святой, в зеленом
облаке возносящийся на небо.
То были дни свадебных пиров, дни вознесенья.
Но однажды Гриджия объявила: дальше нельзя.
Тщетно он пытался заставить ее сказать, почему. Резкая
складка у рта, вертикальная морщинка между глаз, обыч-
но возникавшая, лишь когда она прикидывала, в какой
192
риге лучше всего встретиться завтра, теперь, похоже,
означали, что где-то рядом нависла гроза. Может быть, о
них пошли пересуды? Но соседи, даже если и замечали
что-то, всегда улыбались так, как улыбаются зрелищу, на
которое приятно смотреть. Вытянуть же что-нибудь из
Гриджии было невозможно. Она придумывала отговорки,
реже стала попадаться ему на глаза и уж слова свои сте-
регла теперь пуще самого недоверчивого крестьянина.
Однажды его встревожил дурной знак. У него спусти-
лись гамаши, он прислонился к забору, чтобы их подтя-
нуть, и тут проходившая мимо женщина дружелюбно
сказала:
— Да уж не поднимай чулки-то, все одно ночь на
дворе.
Это было неподалеку от дома Гриджии. Когда он ей
об этом рассказал, она сделала надменное лицо и бро-
сила:
— В деревне молву, что в ручье волну, — не остано-
вишь, — но при этом сглотнула слюну и мыслями была
явно не здесь.
А ему вдруг вспомнилась одна странная крестьянка,
с вытянутым, как у женщин из племени ацтеков, черепом,
с черными волосами, спускавшимися чуть ниже плеч; она
всегда сидела перед дверью своего дома с тремя здоровы-
ми краснощекими ребятишками. Они с Гриджией всякий
раз без опаски проходили мимо, это была единственная
незнакомая ему тут женщина, и, странным образом, он
ни разу о ней не спросил, хотя ее внешность сразу броси-
лась ему в глаза; такое было впечатление, что здоровый
вид ее детей и странно отсутствующее выражение ее лица
взаимно уничтожались. Но сейчас у него вдруг возникла
твердая уверенность, что опасность может исходить толь-
ко отсюда. Он спросил Гриджию, кто эта женщина, но та
лишь сердито передернула плечами и процедила сквозь
зубы:
— Ах, ее только слушай! Сболтнет слово — и уже
ищи-свищи его за горами! — И она резко провела ла-
донью перед лбом, будто испытывала потребность немед-
ленно и бесповоротно обесценить свидетельство этой
особы.
Поскольку никакая сила не могла теперь подвигнуть
Гриджию прийти снова в одну из расположенных вкруг
селения риг, Гомо однажды предложил ей уйти в горы.
Она не хотела, а когда наконец согласилась, то сказала
7 Австрийская новелла XX в. 193
с каким-то особенным выражением, показавшимся ему
позже двусмысленным:
— Ладно уж, уходить так уходить.
Было прекрасное утро, еще раз объявшее все и вся
окрест; далеко внизу лежало море облаков и людей.
Гриджия опасливо сторонилась жилищ, а когда они вы-
шли на ровное место, она, прежде восхитительно безала-
берная во всех диспозициях своей любовной стратегии,
вдруг начала выказывать тревогу, будто боялась чьих-то
острых глаз. Его терпение иссякло; вспомнив, что они
только что прошли мимо старой штольни, от расчистки
которой его людям пришлось отказаться, он потащил ту-
да Гриджию. Когда он оглянулся в последпий раз, на
одном из горных венцов лежал снег, внизу отливала зо-
лотом в лучах солпца крохотная делянка с копнами сена,
а над тем и другим сияло бледно-голубое небо. Тут Грид-
жия снова сказала нечто такое, в чем ему почудился
тайный смысл; перехватив его взгляд, она заметила лас-
ково:
— А синь небесную уж оставим наверху, пусть себе
красуется, — но что она хотела этим сказать, он так и не
успел выяснить, потому что они как раз начали осторож-
но, на ощупь пробираться во все сужавшуюся тьму.
Гриджия шла первой, и, когда через некоторое время
штольня расширилась, превратившись в небольшую
сводчатую пещеру, они остановились и обнялись. Пол у
них под ногами был как будто хороший, сухой, они легли
на него, причем Гомо даже но ощутил привычной для
цивилизованного человека потребности прежде осветить
его зажженной спичкой. И еще раз Гриджия мягкой сухой
эемлею проникла все его существо, и он чувствовал во
тьме, как она каменеет, замирает от наслаждения, а по-
том они лежали рядом, не испытывая желания говорить,
и глядели на далекий маленький прямоугольник, за ко-
торым сверкал белизною солнечный день. В представ-
лении Гомо снова всплыл их путь сюда, он видел, как
они встречаются с Гриджией за деревушкой, поднимают-
ся в гору, поворачивают, поднимаются снова, видел ее
голубые чулки до самой оранжевой каемки под коленями,
видел, как она упруго вышагивает в смешных своих баш-
маках, как он с нею останавливается перед штольней,
видел ландшафт с крохотной золотой делянкой, и тут »
проеме входа он различил силуэт ее мужа.
Он никогда раньше не думал об этом человеке, кото-
194
рого использовали на подсобных работах; сейчас он уви-
дел его скуластое лицо браконьера с темными, по-охот-
ничьи цепкими глазками, и ему вдруг припомнился тот
единственный раз, когда он слышал его речь; это было,
когда тот выбрался из полуразрушенной штольни, куда
эаползал для ее осмотра, на что никто другой не отважил-
ся, и это были слова: «Ну вот и повидал одну красоту
эаместо другой; только вертаться трудновато». Рука Го-
мо рванулась к пистолету, но в тот же миг муж Лены
Марии Ленци исчез, и мрак вокруг воздвигся плотной сте-
ной. Гомо на ощупь добрался до выхода, Гриджия цеп-
лялась за его одежду. Но ему сразу стало ясно, что обло-
мок скалы, приваленный к отверстию, слишком тяжел и
у него не хватит силы сдвинуть его; и он вдруг понял,
почему этот человек дал им столько времени: оно было
нужно ему, чтоб продумать свой план и подтащить брев-
но, послужившее рычагом.
Гриджия рухнула перед камнем на колени, скулила и
бесновалась; это было отвратительно и бессмысленно.
Она клялась, что ничего зазорного не сделала и в жизни
больше не сделает, она вопила, как резаная свинья, и бес-
толково колотилась о камень, как обезумевшая кобылица.
Гомо почувствовал в конце концов, что все так и долж-
но быть, все в порядке вещей, — просто ему, образован-
ному человеку, трудно было сразу примириться с очевид-
ностью того, что действительно произошло нечто беспо-
воротное. Он сидел, прислонясь к стене, и, засунув руки
в карманы, слушал вопли Гриджии. А потом он прозрел
свою судьбу; еще раз, будто в озарении, представилось
ему, как она опускалась, нависала над ним, — дни, не-
дели, месяцы, — именно так, должно быть, начинается
сон, которому суждено длиться долго. Он ласково обнял
^риджию и, оторвав от камня, притянул к себе. Потом
,лег возле нее и стал ждать. Раньше он, может, и поду-
мал бы, что в такой наглухо захлопнувшейся тюрьме лю-
бовь должна быть остра и пронзительна, как укус, но
Сейчас он и думать забыл о Гриджии. Она отдалилась от
^яего — или он от нее, хоть он еще чувствовал ее плечо;
.рея его жизнь отдалилась от него ровно настолько, чтобы
янать еще, что она рядом, но уже никогда не дотронуться
)цо нее рукою. Долгие часы, а может, долгие дни и ночи
лежали они недвижно, голод и жажда остались позади них,
как беспокойный отрезок пути, и они становились все сла-
бее, все легче и бессловесней; позади были необъятные
7*
195
моря забытья и случайные островки пробуждения. Одна-
жды он встрепенулся, озаренный резким лучом такого
вот мимолетного пробуждения: Гриджия исчезла; безоши-
бочная уверенность подсказала ему, что это случилось
только что, мгновение назад. Он усмехнулся: ему про вы-
ход ничего не сказала, оставила его здесь, мужу в доказа-
тельство!.. Он с трудом приподнялся и огляделся вокруг;
и тоже заметил теперь слабый узкий просвет вдали. Он
попробовал поползти туда, в глубь штольни —- они все вре-
мя смотрели в другом направлении. И он различил узкую
щель, которая, вероятно, вела в сторону и наружу. Грид-
жия была тоненькой и гибкой, но, возможно, и ему, если
напрячь последние силы, следовало бы попробовать там
протиснуться. Это был выход. Но он в этот момент был
уже, вероятно, слишком слаб, чтобы возвращаться к жиз-
ни, уже не хотел, — или потерял сознание.
В тот же самый час внизу Моцарт Амадео Хоффенготт,
поскольку стала очевидной безуспешность всех усилий и
тщетность затеянного предприятия, отдавал распоряже-
ния свертывать работы.
Португалка
В одних грамотах они значились как делле Катене, в
других •— как господа фон Кеттен; они пришли сюда с
севера и остановились на самом пороге юга; свою родо-
словную они возводили то к германцам, то к латинянам,
смотря по выгоде момента, и никакой другой родины не
знали, кроме собственного гнезда.
В стороне от широкого торгового пути, ведущего через
Бреннер в Италию, между Брессаноне и Триентом, на по-
чти отдельно стоявшей отвесной скале высился их замок;
в полутораста метрах под ним так неистово бесновался
узкий горный поток, что, высунув голову из окна, вы не
расслышали бы церковного колокола, зазвони он в самой
крепости. Ни единого мирского звука не проникало сна-
ружи в замок рыцарей Катене сквозь эту плотную завесу
бешеного рева; но напрягшийся для отпора взгляд не-
ожиданно легко преодолевал эту преграду и окунался,
ошеломленный, в беспредельную раскинувшуюся ширь.
За скорых и хватких слыли все бароны фон Кеттен, и
ни малейшая выгода, где бы она ни обозначалась, не ус-
196
кользала от них. И безжалостны они были, как ножи,
что режут сразу до кости. Они никогда не краснели от
гнева и не розовели от радости — в гневе они темнели,
а в радости вспыхивали, как золото, таким же прекрас-
ным и редкостным светом. И еще, уверяла молва, все они,
кем бы ни случалось им быть в смене лет и столетий, по-
ходили друг на друга тем, что рано наживали белые нити
в каштановых бородах и кудрях и умирали, подойдя к
шестидесяти; и тем еще, что нечеловеческая сила, кото-
рую время от времени обнаруживал каждый из них, со-
средоточена была как будто не в хрупком и жилистом
теле, а в глазах и во лбу, — но то были россказни запу-
ганных соседей и холопов. Они прибирали к рукам все,
что могли, беря то честью, то насилием, то хитростью —
как придется, но всегда спокойно и неотвратимо; их ко-
роткая жизнь протекала неспешно и кончалась быстро,
без затяжного угасания, как только исполнен бывал их
удел.
И еще было в обычае у племени Кеттенов не роднить-
ся с рыцарством, осевшим поблизости от них; жен себе
они привозили издалека, и жен богатых, чтобы не сму-
щаться ничем в выборе союзников и врагов. Когда барон
фон Кеттен двенадцать лет тому назад женился на пре-
красной португалке, ему шел тридцатый год. Свадьбу
сыграли на чужбине, и совсем еще юная супруга была
как раз на сносях, когда в перезвоне колокольцев длин-
ный обоз челядинцев и холопов, лошадей, прислужниц,
мулов и собак пересекал границы владений Катене; как
в сплошном свадебном вихре, промелькнул этот год. Ибо
Кеттены все были блестящие кавалеры; только выказы-
вали они это лишь раз в жизни, в тот год, когда добива-
лись руки; они искали красивых жен, потому что хотели
красивых сыновей, и иначе им было не заполучить таких
красивых жен в чужих краях, где они не столь много
значили, как дома; но они сами не знали, выказывали ли
они себя в этот год такими, каковы были на самом деле,
или во все остальные годы. Навстречу путешественникам
прискакал гонец с важным известием; и процессия с ее
разноцветными одеждами и плюмажами все еще походила
на гигантского мотылька, но барон фон Кеттен переме-
нился. Снова нагнав жену, он медленно ехал на своей
лошади рядом с нею, будто отстраняя от себя всякую
мысль о спешке, но лицо его стало отчужденным, как гро-
вовая стена облаков. Когда за поворотом перед ними вдруг
197
возник замок, до которого оставалось каких-нибудь чет-
верть часа пути, он с видимым усилием нарушил мол-
чание.
Надо, сказал он, чтобы жена повернула и отправилась
обратно. Процессия остановилась. Португалка просила и
настаивала, чтобы ехали дальше; повернуть назад успеет-
ся и после того, как будут объяснены причины.
Епископы Триентские были могущественными князья-
ми, и по их указке имперский суд вершил все дела; с не-
запамятных времен Кеттены вели с ними земельные
тяжбы; иной раз эти опоры выносились на суд, а иной
раз притязания и отказы выливались в кровавые распри,
но уступать более сильному противнику всякий раз при-
ходилось баронам фон Кеттен. Взгляд, от которого обычно
не ускользала ни одна выгода, здесь обречен был тщетно
вперяться вдаль, дабы ее высмотреть; но каждый отец
завещал этот долг сыну, и гордость их непреклонно жда-
ла из поколения в поколение, когда придет ее час.
Именно этому барону фон Кеттену улыбнулась судь-
ба. Он с ужасом подумал, что чуть было не пропустил
своего часа. Могущественная княжеская партия подня-
лась на епископа, решено было напасть на него и взять
в плен, и Кеттену, когда пронесся слух о его возвраще-
нии, уготована была роль главаря. Пробыв столь долго в
отсутствии, Кеттен плохо представлял себе, какими си-
лами располагает епископ; но он понимал, что предстоит
жестокое, аатяжное испытание с неясным исходом и что
не на каждого можно будет положиться до последнего,
если не удастся перехитрить Триент с самого начала. Он
сердился на красавицу-жену, что чуть было не пропустил
из-за нее такой удачный случай. Как всегда, он любовал-
ся ею, когда ехал сейчас на своем коне чуть позади нее;
о сна все еще была для него такой же загадочной, как ее
жемчужные ожерелья, которых у нее было так много.
Эти хрупкие безделки, вдруг подумалось ему, можно рас-
плющить, как горошины, когда взвешиваешь их на ладо-
ни жилистой, узловатой руки, — но они лежат на ней
непостижимо спокойно и надежно. Только вся эта волшба
потускнела сейчас перед новым известием, как тускнеют
грезы спеленатых зимних вечеров перед мальчишечьей
наготой первых ярких солнечных дней. Жизнь в седле
ждала его — долгие годы, в которых смутным пятном
таяли жена и семья.
Но лошади тем временем достигли подножия стены,
198
да которой стояла крепость, и португалка, выслушав все,
снова повторила, что хочет остаться. Грозно высился за-
мок над их головами. Там и сям, как редкие волоски, вид-
нелись на груди скалы чахлые деревца. Валы покрытых
десами гор вздымались и низвергались так беспорядочно,
что невозможно было бы описать все это уродство чело-
веку, знакомому только с пляской морских волн. Стылой
пряностью отдавал воздух, и вообще человек здесь будто
въезжал на коне в растрескавшийся котел, чьи черепки
хранили следы странной зеленой краски. Но в лесах во-
дились и олень, и медведь, и кабан, и волк, и, может быть,
даже единорог. Выше них царили козерог и орел. Без-
донные ущелья давали приют драконам. Вширь и вглубь
лес простирался на долгие недели пути, иссеченный лишь
ввериными тропами, а паверху, где из него громозди-
лись скалистые пики, начиналось царство духов. То
было пристанище демонов с тучами и ураганом; ни одна
христианская душа не забиралась туда, а если и находи-
лись чересчур дотошные, все кончалось историями, о ко-
торых шепотом рассказывали служанки на зимних поси-
делках, в то время как парни полыценно молчали и по-
жимали плечами, давая понять, что риск для мужчины —
привычное дело и такие приключения смельчакам не
^первой. Но изо всего, что она наслушалась, самым стран-
ным было для португалки вот что: как никому еще не
доводилось достигнуть подножья радуги, так никому еще
йе удалось заглянуть за стену исполинских гор; за каж-
дой стеною вставала новая стена; долины меж ними бы-
ли как натянутые шали, полные камней величиною чуть
ли не с дом, и даже каменная крошка под ногами состоя-
ла из обломков с голову каждый, — мир, который, соб-
ственно, и не назовешь миром. Эту землю, родину чело-
века, которого она любила, она часто представляла себе
в своих мечтах по его подобию, а его самого старалась
вонять, исходя из того, что он рассказывал ей о своей
йрдине. Наскучив павлиньей лазурью моря, она ожидала
Увидеть страну, полную неожиданностей, как тетива натя-
нутого лука; но, оказавшись с тайной лицом к лицу, она
Йашла ее уродливой сверх всякого ожидания и затоско-
вала. Крепость будто была составлена из кустарников.
Камни, взгроможденные на скалы. Головокружительные
стены, покрытые плесенью. Трухлявое дерево или гру-
бые осклизлые бревна. Деревенская утварь, воинские до-
спехи, амбарные цепи и старые дроги. Но уж коли она
199
попала сюда, здесь и было ее место, и, может быть, то, что
она видела, было вовсе не уродством, а особой красотой,
как мужские повадки, к которым надо сначала привык-
нуть.
Когда барон фон Кеттен увидел, что жена уже начала
подниматься на своей лошади в гору, он не захотел оста-
навливать ее. Спасибо он ей за это не сказал, но ощутил
что-то такое, что, не ломая его воли, но и не уступая ей,
уклончиво влекло его неведомо куда, так что он, как бед-
ная заброшенная душа, в потерянном молчании следовал
за нею.
Через два дня он снова сидел в седле.
И через одиннадцать лет он все еще в нем сидел.
Налет на Триент, легкомысленно подготовленный,
окончился пеудачей, с самого начала обойдясь рыцарской
партии в треть ее войска и более чем в половину ее от-
ваги. Барон фон Кеттен, раненный на обратном пути, не
сразу вернулся домой; два дня он отлежал в хижине кре-
стьянина, скрываясь от преследователей, а потом поска-
кал по замкам, распаляя новое возмущение. Опоздав в
свое время к предварительным совещаниям и подготовке
бунта, он после поражения не отпускал от себя мысль
об отплате, как не отпускает быка повиснувший на его за-
гривке пес. Он расписывал баронам, что их ожидает, если
епископская партия соберет силы для ответного удара,
прежде чем они снова сплотят свои ряды; подстегивал
нерасторопных и скаредных, выжимал из них деньги,
стягивал подкрепления, хлопотал об оружии и был из-
бран военным предводителем баронов. Раны его вна-
чале так еще кровоточили, что он принужден был два-
жды в день менять повязки; и, скача без устали, ведя
переговоры и накидывая для себя лишний день отлучки
за каждую неделю, упущенную им в свое время, он не
знал, думал ли он при этом о пленительной португалке,
которая, верно, тревожилась о нем.
Он вернулся к ней лишь на пятые сутки после того,
как до нее дошло известие о его ранении, и пробыл всего
один день. Она посмотрела на него, ни о чем не спраши-
вая, испытующе, как следят за полетом стрелы — по-
падет ли в цель.
Он созвал своих челядинцев до самого последнего
малолетнего пажа, объявил в крепости осадное положе-
ние, распоряжался и повелевал. В гомоне кнехтов, ржа-
нии лошадей, таскании балок, звоне железа и треске кам-
200
ня прошел этот день. Ночью он поскакал дальше. Он был
с ней ласков и нежен, как с редкостным благородным
существом, внушающим восхищение, но взгляд его был
прям, будто исходил из-под шлема, хотя шлема и не бы-
ло. Когда подошла пора прощаться, португалка, вдруг
поддавшись чисто женскому порыву, попросила дозволе-
ния хотя бы промыть его рану и наложить свежую по-
вязку, но он не позволил; поспешней, чем была в том
нужда, он простился с нею, засмеялся на прощанье, и
тогда она засмеялась тоже.
В разгоревшейся распре противник старался, где толь-
ко возможно, брать силой, как это и соответствовало же-
стокой, светски-воинственной натуре человека, носивше-
го епископское облачение; но он мог быть — как его,
вероятно, приучило это женственное облачение — и
податливым, и коварным, и цепким. Богатство и обшир-
ные владения, предоставляя возможность частичных, со
скрипом, в самую последнюю мипуту приносимых жертв,
постепенно делали свое дело там, где сана и влияния не
хватало, чтобы обеспечить себе твердую опору. Решений
эта тактика избегала. Свертывалась в клубок, как только
сопротивление ожесточалось; обрушивала удар, где толь-
ко угадывала слабину. Так и случалось, что иной раз
штурмовали крепость и, если к осажденным вовремя не
подоспевала подмога, брали ее нещадно и кроваво, вы-
резая всех и вся; а другой раз солдатня неделями без-
дельничала, и в округе ничего не происходило, разве что
угоняли у крестьянина корову или сворачивали голову
курице. Недели складывались в весны и зимы, време«
на года складывались в годы. Две силы боролись друг
с другом: одна буйная и задиристая, но слишком сла-
бая, другая — как медлительное, рыхлое, но чудовищ-
но тяжелое тело, которому еще и время прибавляло
добавочный вес.
Барон фон Кеттен все это знал. Ему стоило усилий
удерживать раздраженное и обескровленное рыцарство
В узде и не позволять ему в необдуманной внезапной
атаке растратить последние силы. Он выжидал промаха,
того невероятного поворота, который мог принести с со-
бой только случай. Ведь ждал же его отец, ждал дед.
А когда долго ждешь, может случиться и то, что случа-
ется редко. Он ждал одиннадцать лет. Одиннадцать лет
скакал от крепости к крепости, от отряда к отряду, чтобы
не дать угаснуть духу мятежа, сотнями мелких стычек
»201
снова и снова поддерживал свою славу отчаянного храб-
реца, желая отвести от себя упреки в робости и медли-
тельности, доводил иной раз и до крупных, крова-
вых столкновений, чтобы разжечь гнев в своих сорат-
никах, но от решительной схватки уклонялся не хуже
епископа. Не раз он бывал легко ранен, но никогда не
оставался дома дольше суток. Шрамы и походная жизнь
покрыли его твердой коростой. Может быть, он боялся
дольше задерживаться дома — как опасается присесть
человек, когда сильно устал. Неспокойные взнузданные
лошади, мужской хохот, пламя факелов, огненный ствол
лагерного костра, подобный столпу из золотой пыли в
нежно-зеленом мерцанье лесных дерев, запах дождя, ру-
гань, бахвалящиеся рыцари, обнюхивающие раненых
псы, задранные бабьи юбки и запуганные крестьяне —
вот были его развлечения в эти годы. Среди всего этого
он сохранил изящество и лоск. В его каштановые воло-
сы начала закрадываться седина, но лицо не старело.
Он поддерживал грубые мужские шутки и делал это,
как мужчина, но взгляд его оставался при этом недви-
жен и прям. Он умел осадить зарвавшегося резко, как
конюший; но он не кричал, в словах был тих и краток,
солдаты боялись его, и гнев, казалось, никогда не охва-
тывал его, а исходил изнутри, и лицо его тогда темнело.
В сражении он мог забываться; тут уж все изливалось
из него в буйных, наотмашь разящих жестах, он пьянел
от скачки, от крови, не знал, что делал, и делал всегда
то, что надо. За это солдаты боготворили его; начала
складываться легенда, будто из ненависти к епископу он
продал душу дьяволу и тайно навещал своего патрона,
жившего в обличье красивой чужестранки в его замке.
Когда барон фон Кеттен услышал об этом в первый
раз, он не рассердился и не рассмеялся, но от радости
весь вспыхнул темным золотом. Часто, сидя у лагерно-
го костра или крестьянского очага, когда клонящийся к
закату день, подобно тому как постепенно размягчается
задубевшая от дождя кожаная сбруя, истаивал в теплом
мареве, он погружался в раздумья. Он думал тогда о том,
что епископ Триентский спит на чистых простынях, в
окружении ученых клириков и услужливых художников,
в то время как он рыскает вокруг, как волк. Он тоже
мог все это иметь. Он ведь нанял в замок капеллана, за-
ботясь о пище для духа, писца, чтоб читал вслух, потеш-
ную камеристку; издалека был выписан повар, дабы из-
202
гнать из кухни призрак ностальгии, странствующие уче-
ные доктора и семинаристы залучались в замок, чтоб
в беседах с ними разнообразить дни, драгоценные ковры
и ткани прибывали отовсюду для обивки стен; только его
самого при всем этом не было. В течение одного-единст-
венного года, на чужбине и во время обратного пути, он
вел сумасбродные речи, искрившиеся блеском и лестью,—
ибо как всякая искусно сотворенная вещь есть вместили-
ще духа, будь то сталь или крепкое вино, лошадь или
струя фонтана, так причастны были духу и рыцари из
рода Катене; но родина его была тогда далеко, его под-
линное существо было чем-то таким, к чему надо было
скакать недели напролет, без надежды приблизиться к
цели. Он и сейчас говорил порой необдуманные слова,
ио лишь в тот краткий срок, пока отдыхали лошади в
конюшне; он приезжал ночью и уезжал наутро или ос-
тавался от утреннего благовеста до «Ave»1. К нему
привыкли, как привыкает человек к вещи, которую дол-
го носит. Если ты смеешься, она будто смеется тоже, ес-
ли идешь куда-то — идет вместе с тобой, если ощупы-
ваешь себя рукою — ощущаешь ее; но подними ее перед
собой и посмотри на нее — вещь умолкает и отводит
взгляд. Если б он хоть раз задержался подольше — во-
истину, тогда бы он уж волей-неволей раскрылся, по-
казал себя таким, каков он на самом деле. Но сколько он
себя помнил, он никогда не говорил: вот я таков, или:
хочу быть таким,— а рассказывал ей об охотах, при-
ключениях и делах, в которых принимал участие; и она
тоже никогда не спрашивала его,— как это свойственно
молодым людям,— что он думает о том-то и том-то, и не
говорила, какой бы она хотела быть, когда состарится, а
раскрывалась навстречу ему молча, как роза, сколь бы
ни бывала перед тем оживленна, и уже тогда, на церков-
ных ступенях, стояла, будто готовая в путь, будто подня-
лась на камень, чтобы с него взмахнуть в седло и устре-
миться к той, иной жизни. Он едва знал обоих детей,
которых она ему родила, но и оба эти сына уже пылко
любили далекого отца, чья слава эхом гремела в их ма-
леньких ушах, с тех пор как они научились слышать.
Странно запомнился ему вечер, давший жизнь второму.
^Когда он вошел, он увидел мягкое светло-серое платье с
1 Имеется в виду звон к вечерней католической молитве
«Ave Maria*.
203
темно-серыми цветами, черная коса была заплетена на
ночь, безупречно вылепленный нос четко вырисовывал-
ся над гладкой желтизной освещенной книги с таинст-
венными изображениями. Это было как колдовство.
В своем богатом одеянии, струившемся книзу неисчисли-
мыми ручейками складок, она сидела спокойно, лишь
из себя самой воздымаясь и в себя самое ниспадая, как
струя фонтана; а может ли быть расколдована струя фон-
тана иначе как волшебством или чудом и может ли она
насовсем выйти из круга своего самодостаточного, зыб-
кого бытия? Поддайся соблазну, обними эту женщину —
и, как от удара, отпрянешь от невидимой магической
преграды; такого не случилось; но разве нежная ласка
не еще более непостижима? Она взглянула на него, тихо
вошедшего, как смотрят на знакомый, но забытый ха-
лат,— его долго-долго носили и долго потом не вспоми-
нали, он стал немного чужим, но в него так уютно за-
пахнуться.
Зато насколько привычней были ему военные хитро-
сти, политические козни, ярость, убийства! Деяние свер-
шается потому, что прежде свершилось другое деяние:
епископ рассчитывает на свое золото, военный предво-
дитель — на мощь рыцарства; приказывать легче легко-
го; ясна как день и надежна как вещь эта жизнь, вонзить
копье в покосившийся шлем так же просто, как ткнуть
пальцем и сказать: вот это. А все остальное чуждо, как
луна. Барон фон Кеттен втайне любил это все осталь-
ное. Порядок, хозяйство, умножающиеся богатства не те-
шили его. И хотя он годами дрался из-за чужого добра,
не прибыльного мира он жаждал — желания его рва-
лись из глубины души за ее пределы; во лбах таилась
сила рыцарей Катене, но лишь безгласные деяния по-
рождала она. Когда поутру он взмахивал в седло, он еще
ощущал каждый раз счастье непреклонности, душу сво-
ей души; но когда ввечеру он спешивался, докучливая
отупелость всех дневных излишеств иной раз давила на
него, будто он целый день напрягал последние силы
лишь затем, чтобы небезвозмездно причаститься некой
красоты, которой он не знал даже имени. Епископ, эта
лиса, мог молиться своему богу, когда Кеттен припирал
его; Кеттен только и мог, что мчаться галопом по цве-
тущим посевам, ощущать под собой своенравную стрем-
нину конского крупа, приязнь вымогать стальным би-
чом. Но его и радовало, что была в его жизни эта сти-
204
хия — возможность жить и отнимать жизнь, не думая
об ином. Она отстраняла и гнала прочь все го, что про-
крадывалось к костру, когда он неотрывно глядел в огонь,
и исчезало, как только он, скованный грезой, выпрямлял-
ся и переводил взгляд. Не раз барон фон Кеттен измыш-
лял сложные, запутанные ходы, думая о епископе, кото-
рого он изведет, и ему казалось порой, что лишь чудо
способно все это связать и устроить.
Его жена брала с собой старого кастеляна и бродила
с ним по лесам, когда не сидела над своими книжками
с рисунками; лес раскрывается вам навстречу, но душа
его ускользает; она продиралась сквозь бурелом, караб-
калась по камням, натыкалась на следы зверей и на них
самих, но домой возвращалась всего лишь с этими нич-
тожными испугами, преодоленными трудностями и удов-
летворенными причудами, терявшими всякую загадоч-
ность, как только их выносили из леса, — и еще с тем
пресловутым зеленым миражем, о котором она знала еще
по рассказам, задолго до прибытия в эту страну; стоит
прекратить стремиться к нему — и он снова смыкается
у вас за спиною. Зато порядок в замке она поддержи-
вала без особого усердия. Ее сыновья, из которых ни один
не видел моря,— да ее ли это были дети... волчата, ду-
малось ей иногда. Однажды ей принесли из лесу волчон-
ка. Она и его вскормила. Между ним и взрослыми псами
установилось неуютное согласие, взаимное терпение без
какого бы то ни было обмена знаками. Когда он пересе-
кал двор, они вставали и смотрели на него, но не лаяли
и не рычали. А он глядел прямо перед собой, даже ког-
да косился на них, и, стремясь не подать вида, едва ли
эамедлял и напрягал шаг. Он неотступно следовал за
хозяйкой, без малейшего знака любви и доверия; часто
глядел на нее своими твердыми глазами, но они ничего
не говорили. Она любила этого волка, потому что его
жилистость, его бурая шерсть, властность глаз и хлад-
нокровное дикарство напоминали ей барона фон Кет-
тена.
И однажды наступил момент, которого ждут; епископ
захворал и умер, капитул остался без головы. Кеттен
продал всю движимость, заложил все угодья и снарядил
на эти средства небольшой собственный отряд; тогда он
выдвинул условия. Будучи поставлен перед выбором —
продолжать старую тяжбу против свежевооруженной си-
лы до прихода и приказов нового хозяина или удоволь-
205
ствоваться посильным мирным решением — капитул
склонился к последнему, и тут уж, само собой, Кеттен,
один только и оставшийся еще сильным и грозным, урвал
себе львиную долю, а соборный капитул вознаградил се-
бя за счет более слабых и несмелых.
Так пришло к концу то, что на памяти целых четы-
рех колен было как комнатная стена, которую каждое
утро за завтраком видишь и не видишь: она вдруг ис-
чезла; до сих пор все было, как и в жизни других Кет-
тенов, — в жизни же этого Кеттена теперь только и ос-
тавалось, что округлять и завершать: цель для подряд-
чика, но не для властелина.
И тут, на обратном пути домой, его ужалила муха.
Рука мгновенно распухла, и он вдруг страшно устал.
Он завернул в харчевню в первой попавшейся убогой де-
ревушке, и, пока он сидел за неубранным деревянным
столом, его одолела сонливость. Он положил голову на
грязный стол, а когда проснулся вечером, его била ли-
хорадка. Он бы все равно поехал дальше, если бы спе-
шил, но он не спешил. Когда он утром собрался сесть в
седло, он зашатался от слабости и упал. Рука распухла
до плеча; сначала он втиснул было ее в латы, но при-
шлось их снова снять; пока их с него снимали, его начал
трясти озноб, какого он еще никогда не испытывал; все
его мускулы дергались и плясали так, что он не мог
поднести руку к руке, а полурасстегнутые железные до-
спехи лязгали, как сорванный бурей сточный желоб. Он
понимал, как потешно это выглядит, и сумрачно усмех-
нулся над своим лязганьем, но в ногах была слабость,
как у ребенка. Он послал одного гонца к жене, другого
к цирюльнику и к знаменитому врачу.
Цирюльник, явившийся первым, прописал горячие
припарки с целебными травами и попросил дозволения
взрезать нарыв. Кеттен, теперь вдруг загоревшийся не-
терпением добраться до дома, позволил — и не успел
оглянуться, как приобрел чуть ли не столько же новых
увечий, сколько имел старых. Странны были эти боли,
против которых он не мог оборониться. Два дня отлежал
барон фон Кеттен, обложенный, как присосками, травя-
ными припарками, а потом его закутали с головы до ног
и отправили домой; три дня длился переезд, но, судя
по всему, сильное лечение, которое с таким же успехом
могло бы, истощив все защитные силы жизни, привести и
к смерти, приостановило болезнь: когда они прибыли к
206
цели, яд все еще исходил буйным жаром, но гной даль-
ше не распространялся.
Эта лихорадка, как широкая, охваченная пламенем
луговина, длилась педели. Больной с каждым днем все
больше истаивал в ее огне, но там же, казалось, погло-
щались и испарялись и все дурные соки. Более опреде-
ленного не мог ничего сказать даже знаменитый врач,
и лишь португалка время от времени еще чертила таин-
ственные знаки на кровати и на двери. Когда от барона
фон Кеттена уже только и осталось, что оболочка, пол-
ная мягкого жаркого пепла, лихорадка в один прекрас-
ный день вдруг резко спала и теперь лишь тихо и уми-
ротворенно тлела в этой оболочке.
Если странными были уже боли, против которых
нельзя оборониться, то все дальнейшее больной вообще
пережил не как человек, до которого это прямо касает-
ся. Он много спал, но и с открытыми глазами был тоже
не здесь; когда же сознание возвращалось к нему, то это
безвольное, младенчески-теплое обессиленное тело он не
ощущал как свое, и эту слабую, лишь одним дуновением
поддерживаемую душу как свою тоже не ощущал. Он,
конечно, уже пребывал в отрешении и все это время про-
сто ждал где-то, не придется ли еще раз вернуться на-
зад. Никогда бы он не подумал, что умирать так легко и
просто; какая-то часть его существа уже упредила в смер-
ти все остальные, он растаял, рассеялся, как разбреда-
ется содружество путников: в то время как бренный ос-
тов его еще лежал на кровати, и кровать была здесь,
и жена наклонялась над ним, и он из любопытства и от-
влечения ради следил за переменами в ее вниматель-
ном лице, все, что он любил, уже было далеко впереди.
Барон фон Кеттен и его чаровница, ворожея лунных но-
чей, оставили его и неслышно от него удалялись; он
еще видел их, знал, что в несколько больших прыжков
потом их нагонит, — только вот сейчас он не знал, был
ли он уже с ними или еще оставался здесь. Но все это
покоилось на огромной милосердной ладони, она была
уютной и мягкой, как колыбель, и если даже она и взве-
шивала все, то нимало не скаредничала над итогом. На-
верное, это и был господь. Он в том не сомневался, но
и волнения тоже никакого не испытывал; он просто ждал
и не отвечал ни на улыбку, наклонявшуюся над ним,
ни на ласковые слова.
Потом наступил день, когда он вдруг понял, что день
207
этот будет последним, если он не соберет всю свою во-
лю, чтобы остаться в живых, и как раз вечером этого
дня у него спала лихорадка.
Ощутив эту первую ступеньку к выздоровлению, он
велел теперь каждый день выносить его на крохотную
веленую лужайку, которая покрывала неогороженный ус-
туп скалы, нависавший прямо над бездной. Там он ле-
жал на солнце, закутанный в шали; спал, бодрствовал,
сам не зная, спит он или бодрствует.
Однажды, проснувшись, он увидел перед собой волка.
Он смотрел в узкие острые глаза зверя и не мог поше-
вельнуться. Неизвестно, сколько прошло времени, потом
перед ним появилась и жена, держа волка у коленей.
Он опять закрыл глаза, будто вовсе и не просыпался. Но
когда его снова перенесли в постель, он потребовал свой
лук. Он был так слаб, что не мог его натянуть; это его
удивило. Он позвал слугу, дал ему лук и приказал: вол-
ка! Слуга заколебался, но он вспыхнул гневом, как ре-
бенок, и к вечеру шкура волка уже висела во дворе зам-
ка. Когда португалка увидела ее и лишь от слуг узнала
о том, что произошло, у нее кровь застыла в жилах. Она
подошла к его кровати. Он лежал белый, как стена, и в
первый раз заглянул ей прямо в глаза. Она засмеялась
и сказала:
— Я сделаю себе из его шкуры чепец и ночью буду
пить твою кровь.
Потом он распорядился отослать священника, кото-
рый однажды сказал: «Епископ может воззвать к госпо-
ду, вы этого не боитесь?» — а позже все давал ему каж-
дый раз последнее причастие; но сразу избавиться от не-
го не удалось — заступилась португалка и упросила по-
терпеть капеллана до тех пор, пока он не подыщет дру-
гого места. Барон фон Кеттен согласился. Он был еще
очень слаб и по-прежнему много спал на солнечной
лужайке. Проснувшись на ней в очередной раз, он уви-
дал друга юности. Тот стоял рядом с португалкой, посла-
нец ее родины; здесь, на севере, он выглядел очень с
нею схожим. Он поклонился Кеттену с благородной учти-
востью и говорил слова, которые, судя по выражению его
лица, должны были быть отменно любезными, в то вре-
мя как Кеттен лежал, как пес в траве, и мучился бес-
сильным стыдом.
Впрочем, это могло быть уже впечатление от второ-
го раза; иногда он все еще пребывал в вабытьи. Ведь за-
2Ü8
метил же он лишь некоторое время спустя, что его шап-
ка стала ему велика. Мягкая меховая шапка, всегда не-
сколько даже сдавливавшая голову, вдруг от легкого на-
жима опустилась на уши и там только и задержалась.
Они были в этот момент втроем, и жена сказала:
— Господи, у тебя же голова стала меньше!
Его первой мыслью было, что он, наверное, слишком
коротко постригся, он только не помнил, когда; украдкой
он провел по волосам, но они были длиннее, чем нужно,
он запустил их за время болезни. «Значит, шапка раз-
носилась»,— подумал он; но она была почти еще новая,
и как вообще она могла разноситься, пролежав все это
время неношеной в шкафу. Тогда он попытался обратить
все в шутку и сказал, что за долгие годы, проведенные
в обществе одних только вояк, а не образованных кава-
леров, у него, верно, уменьшился череп. Он сам почув-
ствовал, какой неуклюжей получилась шутка, да и во-
проса она не решила, потому что может ли вообще умень-
шиться череп? Может убавиться сила в венах, может
несколько истаять жир под кожей головы — но так ли уж
это много? Он теперь часто делал вид, что приглажива-
ет волосы, прикидывался также, будто вытирает пот со
лба, или старался незаметно податься назад, в тень, и
быстро измерял двумя пальцами, как циркулем, свой че-
реп, снова и снова, в разных направлениях; но сомне-
ний быть не могло — голова уменьшилась; а когда он
изнутри, мыслями своими касался ее, она представля-
лась ему и еще меньшей и была как две тонкие, друг к
другу прилаженные скорлупки.
Многое, конечно, не поддается объяснению, но не
всякий обречен нести эту ношу на плечах и ощущать
ее каждый раз, когда он поворачивает голову в сторону
двух людей, разговаривающих друг с другом, пока он
притворяется спящим. Он давно уже позабыл этот чужой
язык, помнил разве что несколько слов; но однажды он
понял фразу:* «Ты не делаешь того, что хочешь, и дела-
ешь то, чего не хочешь». В тоне ему послышалась ско-
рее настойчивость, чем шутливость; что это могло озна-
чать? В другой раз он далеко высунулся из окна, оку-
нувшись в рокот реки; он часто теперь так делал, это
было вроде игры: шум потока, сумбурный, как переворо-
шенное сено, замыкал ему слух, а когда он возвращал-
ся из этой глухоты, в ней слабым далеким отзвуком
всплывал разговор жены с тем, другим; и разговор этот
209
был оживленным, их души, казалось, находили удо-
вольствие в соприкосновении друг с другом. В третий
раз ему оставалось только побежать вслед за ними, —
вечером они спустились во двор замка; когда они про-
ходили мимо факела на наружной лестнице, их тени
упали на кроны деревьев; он быстро перегнулся через
перила, улучив этот миг, — но в древесной листве тени
сами собой слились в одну. В любое другое время он
попытался бы изгнать отраву из своего тела лошадьми
и конюшими, выжечь ее вином. Но капеллан и писец
нажирались и опивались так, что вино и снедь высту-
пали у них в уголках рта, а молодой рыцарь со смехом
размахивал кувшином перед их носами, будто натравли-
вал псов друг на друга. Кеттену претило вино, которое
лакали эти нашпигованные схоластикой болваны. Они
рассуждали о тысячелетней империи, об ученых вопро-
сах и постельно-соломенных происшествиях; рассужда-
ли по-немецки и на кухонной латыпи. Проезжий гума-
нист служил, где возникала нужда, переводчиком между
этой латынью и латынью португалки; он прибыл сюда
с вывихнутой ногой и усердно ее тут залечивал.
— Он свалился с лошади, когда мимо пробегал заяц,—
ляпнул писец.
— Он принял его за дракона, — сказал с мрачнова-
тым сарказмом барон фон Кеттен, нерешительно стояв-
ший подле.
— Но и лошадь тоже!— заорал капеллан. — Иначе
бы она так не щарахнулась. Стало быть, магистр даже
в лошадином разумении больше знает толк, чем госпо-
дин барон!
Пьянчуги расхохотались, потешаясь над Кеттеном. Он
посмотрел на них, подошел на шаг ближе и ударил ка-
пеллана по лицу. Капеллан — молодой плотный кресть-
янский парень — весь вспыхнул краской, но потом по-
крылся мертвенной бледностью и не сдвинулся с места.
Юный рыцарь улыбнулся, встал и пошел искать свою
подругу.
— Почему вы не пырнули его ножом? — окрысился
эаячий гуманист, когда они остались одни.
— Да ведь он силен, как два быка разом,— ответил
капеллан, — и к тому же христианское учение поисти-
не способно даровать утешение в таких случаях.
Но на самом деле барон фон Кеттен был еще очень
слаб, и жизнь слишком уж медленно возвращалась к
210
нему; он никак не мог нащупать вторую ступеньку к
выздоровлению.
Чужак не торопился уезжать, а его подруга детства
плохо понимала намеки своего господина. Одиннадцать
лет ждала она супруга, одиннадцать лет он был любов-
ником славы и фантазии, — а сейчас неприкаяпно бро-
дил по замку и, источенный болезнью, выглядел как-то
уж очень обычно рядом с юностью и куртуазной учти-
востью. Она не слишком надо всем задумывалась, но
она немного устала от этой страны, обещавшей когда-то
несказанное, и вовсе не склонна была переламывать себя
и из-за какого-то косого взгляда расставаться с другом
юности, принесшим с собой аромат родины и говорив-
шим слова, над которыми можно было смеяться. Ей не в
чем было упрекнуть себя; она стала чуть беспечней за
последние недели, но это доставляло ей удовольствие, и
она чувствовала, что лицо ее теперь сияло порой так же,
как в давние годы. Прорицательница, которую спросил
Кеттен, предсказала ему: господин выздоровеет тогда,
когда что-то свершит; он стал допытываться, что это та-
кое, но она молчала, увиливала и заявила наконец, что
ничего больше не может различить.
Он легко бы мог, не нарушая гостеприимства явно,
пресечь его одним тонким надрезом — да и является ли
святость жизни и долга гостеприимства неодолимой по-
мехой для того, кто долгие годы был незваным гостем у
своих врагов? Но медленность выздоровления на этот раз
заставляла его почти гордиться своей беспомощностью;
столь утонченное коварство казалось ему не лучше, чем
ребяческая речистость юного гостя. Странная приключи-
лась с ним вещь. В туманном облаке болезни, окутывав-
шем его, образ жены являлся ему ласковее, чем он ожи-
дал; она представала перед ним такой же, как прежде,
в те времена, когда он удивлялся порой, что любовь ее
выражается более бурно, чем обычно, — хотя и не было
такой причины, как, например, долгое отсутствие. Он не
сумел бы даже сказать, печален он сейчас или весел;
точь-в-точь как в те дни роковой близости смерти. Он не
мог пошевелиться. Когда он смотрел в глаза жены, они
были будто свежеочерчены, его собственный образ пла-
вал на самой поверхности, и его взгляда они в себя не
впускали. У него было такое чувство, что должно слу-
читься чудо, раз ничего более не случалось, и что нель-
зя принуждать судьбу говорить, когда она хочет молчать,
211
а нужно только вслушиваться в то, что рано или поздно
грядет.
Однажды, когда они после прогулки поднимались в
гору к замку, наверху, у ворот, их встретила маленькая
кошечка. Она стояла перед воротами, будто намерева-
лась не перемахнуть, как все кошки, через стену, а по-
лучить доступ, как все люди, через дверь; выгнув спи-
ну в знак приветствия, она стала тереться о юбки и
сапоги этих больших существ, беспричинно удивлявшихся
ее явлению. Кошечку впустили, но это было все равно
что принять в дом гостя, ибо уже на следующий день
обнаружилось, что хозяева, можно сказать, приютили ма-
ленького ребенка, а не просто кошку, — столь требова-
тельно было это грациозное создание, вовсе не увлекав-
шееся соблазнами подвалов и чердаков, а, напротив, ни
на секунду не покидавшее людского общества. И она
обладала даром завладевать целиком их временем, что
было уж совсем непостижимо, — ведь в замке находи-
лось так много других, более благородных животных, да
и с самими собой людям было немало хлопот; казалось
прямо-таки, все это происходит оттого, что они вынуж-
дены волей-неволей опускать глаза книзу, чтобы наблю-
дать за крохотным существом, которое держалось сов-
сем ненавязчиво и лишь самую малость тише, —- если не
сказать: печальней и задумчивей, — чем это приличест-
вует котенку. Играла же эта кошечка так, будто хорошо
знала, чего люди ожидают от котят, — вспрыгивала на
колени и даже явно прилагала усилия к тому, чтобы
быть ласковой с людьми, хотя чувствовалось, что она не
всей душой с ними: и вот именно это,— то, что отличало
ее от обычного котенка, — и было как бы ее другой
сутью, неким отсутствием или тихим нимбом святости,
который окружал ее и о котором едва ли кто отважился
бы сказать вслух. Португалка ласково склонялась над
зверьком, лежавшим у нее на коленях, а кошечка, пере-
вернувшись на спину, легонько, будто ребенок, царапала
крошечными коготками заигрывающие с ней пальцы.
Молодой друг со смехом склонялся над кошечкой и ко-
ленями, а барону фон Кеттену эта рассеянная игра на-
поминала о его еще не до конца преодоленной болез-
ни, как будто эта болезнь со всей ее предсмертной лас-
кой воплотилась в зверином тельце и была уже не про-
сто в нем, а между ними. Пока один из слуг не сказал:
— У нее парша.
212
Барон фон Кеттен удивился, что сам этого не сооб-
разил, а слуга добавил:
— Надо ее прикончить, пока не поздно.
Кошечка тем временем получила сказочное имя из
одной книжки с картинками. Она стала еще ласковей и
покорней. Теперь уже видно было, что она заболевает и
почти светится от слабости. Все дольше она дремала на
коленях, отдыхая от мирских тревог, и ее маленькие ко-
готки цеплялись за платье с опасливой нежностью. Те-
перь она подолгу смотрела на всех них по очереди: на
бледного Кеттена и на молодого португальца, склоняв-
шегося над ней и не сводившего взгляда то ли с нее, то
ли с трепетного лона, на котором она возлежала. Она
смотрела на них, будто испрашивала прощения за все
те приближающиеся отвратительные страдания, которые
ей, нераспознанной наместнице, предстояло за всех них
претерпеть. А потом началось ее мученичество.
Однажды ночью ее стало рвать, и это длилось до ут-
ра; она лежала в занимающемся свете дня изможден-
ная и с блуждающим взглядом, будто ее долго били по
голове. Но, может быть, бедную изголодавшуюся кошеч-
ку в переизбытке любви просто обкормили; однако в
спальне после этого ей уже нельзя было оставаться; и
ее отправили в людскую. Но на третий день слуги на-
чали жаловаться, что никакого улучшения нет, и навер-
няка ночью вышвыривали ее на улицу. А ее теперь не
только уже выворачивало, но и без конца процосило,
так что совсем стало невмоготу. Поистине тяжким было
это испытание — тут еле различимый нимб, там мерзость
нечистот, и в результате, после того как разузнали, от-
куда она пришла, решено было отправить ее назад в
то место, в крестьянскую избу, стоявшую ниже по тече-
нию реки, у подножья горы. Сегодня мы бы сказали,
что ее вернули в родную общину, не желая ни отвечать
за что-либо, ни выставлять себя насмех; но совесть уг-
нетала их всех; и они дали ей молока и немного мяса
с собой, чтобы крестьяне, которых грязь не так уж сму-
щала, ухаживали за ней получше. И все-таки слуги ка-
чали головами в укор своему господину.
Парень, отнесший кошечку, рассказывал, что она за
ним побежала, когда он собрался уходить, и ему при-
шлось еще раз вернуться; на третий день она снова по-
явилась в замке. Собаки пятились от нее, слуги, боясь
господ, не решались ее прогнать, а когда господа увиде-
213
ли ее, то, хоть ни слова не было сказано, стало ясно,
что теперь никто не захочет отказать ей в праве уме-
реть здесь, наверху. Она совсем исхудала и потускнела,
но свой тошнотворный недуг она, казалось, превозмогла
и лишь на глазах убывала в теле. Последовали два дня,
еще раз и в сугубой степени повторившие все, что было
до этого: медленное, неслышное кружение вдоль стен
чердака, на котором ее приютили; вялая улыбчивость ла-
пок, тянувшихся к кусочку бумаги, который перед ней
дергали за ниточку; иногда она слегка пошатывалась от
слабости, хотя ее и поддерживали четыре ноги, а на
второй день просто свалилась на бок. В человеке это
медленпое угасание не показалось бы таким страшным,
но в животном это было как очеловечивание. Почти с
благоговением они смотрели на нее; ни один из этих
трех человек, в своем особом положении каждый, не был
избавлен от мысли, что это его собственная судьба пе-
решла в страждущую, уже наполовину отрешившуюся от
всего земного кошечку. Но на третий день снова верну-
лись рвота, пачкотня. Слуга стоял над ней, и хотя он не
решался повторить это вслух, молчание его говорило:
«Надо ее прикончить». Португалец опустил голову, как
при искушении, а потом сказал своей подруге:
— Ничего не поделаешь, — и у него было такое
чувство, будто он согласился со своим собственным смерт-
ным приговором.
И тут все, не сговариваясь, посмотрели на барона
фон Кеттена. Тот стал белее стены, поднялся и вышел.
Тогда португалка сказала слуге:
— Возьми ее.
Слуга унес больную в свою каморку, и на другой
день она исчезла. Никто ни о чем не спрашивал. Все
знали, что он ее прикончил. Все чувствовали себя раз-
давленными невыразимой виной; что-то ушло от них. Толь-
ко дети ничего не чувствовали и находили естествен-
ным, что слуга убил грязную кошку, с которой уже
нельзя было играть. Но псы во дворе обнюхивали время
ОТ времени покрытый травою клочок земли, освещенный
солнцем, напрягали лапы, топорщили шерсть и коси-
лись в сторону. В одну из таких минут встретились во
дворе барон фон Кеттен и португалка. Они стояли друг
перед другом, смотрели на собак и не находили слов.
Знак им был, но как истолковать его и что делать даль-
ше? Купол тишины обнимал обоих.
214
«Если опа до вечера его пе отошлет, придется убить
его», — подумал барон фон Кеттен. Но наступил вечер,
и ничего не произошло. Кончился ужин. Кеттен сидел
серьезный, ощущая жар легкой лихорадки. Потом вышел
во двор прохладиться, не возвращался долго. Оп не мог
найти последнего решения — хотя в продолжение всей
своей долгой жизни умел находить его играючи. Седлать
лошадей, надевать латы, обнажать меч — все, что было
музыкой его жизни, теперь резало слух; борьба, которую
он вел, представилась ему некой бессмысленной посторон-
ней суетой, и даже краткий путь кинжала был как нескон-
чаемо долгая дорога, на которой иссыхаешь от зноя. Но
и страдание было не по нем; он чувствовал, что никогда
до конца не выздоровеет, если пе вырвется из его когтей.
И между этими двумя возможностями постепенно все
решительней обрисовывалась иная: мальчишкой он все-
гда мечтал взобраться по неприступной скале, подпи-
рающей замок; это была безумная, даже самоубийствен-
ная мысль, но какую-то темную струну в нем затраги-
вала она, как господний приговор или близящееся чудо.
Не он, а маленькая кошечка, теперь уже жилица небы-
тия, вернется, казалось ему, этим путем. С тихой усмеш-
кой он покачал головой, чтобы ощутить ее на своих пле-
чах, но был он в это время уже далеко внизу, на каме-
нистом пути, ведущем под гору.
На дне ущелья, у самой реки, он свернул — по кам-
ням, меж которых рвался поток, через кусты наверх, к
стене. Луна затененными пятнами метила маленькие уг-
лубления, за которые можно было зацепиться пальцами
рук и носками ног. Вдруг из-под подошвы сорвался ка-
мень; рывок пронзил жилы, ударил в сердце. Кеттев
прислушался; казалось, минула бесконечность, прежде
чем камень долетел до воды; стало быть, под ним уже
было не меньше трети стены. И тут он будто наконец-то
проснулся и понял, что он сделал. Добраться до низа
мог только мертвец, подняться по стене — только дьявол.
Он ощупывал рукою камни над головой. При каждом
ухвате жизнь висела на десяти ремешках — на тонких
сухожилиях пальцев; пот проступил у него на лбу, жар
бился в теле, нервы превратились в окаменелые нити;
но странно — в этой борьбе со смертью сила и здоровье
вливались в его члены, будто возвращаясь в тело извне.
И невозможное удалось; еще один выступ, на самом
верху, пришлось обогнуть, а потом рука уцепилась за
215
подоконник. Видимо, иначе, как именно в этом окне, и
невозможно было возникнуть; но он знал, куда попал;
он перемахнул вовнутрь и сел на подоконнике, свесив
ноги. Вместе с силой вернулось и неистовство. Своего
кинжала, висевшего на боку, он не потерял. Ему пока-
залось, что кровать пуста. Но он выжидал, пока совсем не
успокоятся легкие и сердце. И постепенно ему станови-
лось все очевидней, что в комнате он один. Он прокрал-
ся к постели: никто не ложился в нее в эту ночь.
Барон фон Кеттен крался по комнатам, переходам,
через двери, которых с первого раза не отыщет без про-
вожатого ни один человек, к покоям своей жены. Он
прислушался и выждал, но никакого шепота не уловил.
Он проскользнул вовнутрь; португалка безмятежно ды-
шала во сне; он заглядывал в темные углы, ощупью про-
бирался вдоль стен, и когда он снова бесшумно выскольз-
нул из комнаты, он чуть не запел от радости, расшаты-
вавшей и сотрясавшей его неверие. Он рыскал по замку,
но уже половицы и плиты гремели под его шагами,
будто он отыскивал уготованную ему нежданную ра-
дость. Во дворе его окликнул слуга:
— Кто идет? — Он спросил о госте. — Уехал, —
сообщил слуга, — уехал с восходом луны.
Барон фон Кеттен сел на груду полуобструганных
бревен, и дозорные удивлялись, как долго он там сидел.
Вдруг его охватил страх, что, если он сейчас снова вой-
дет в комнату португалки, ее уже там не будет. Он стре-
мительно постучался и вошел; молодая женщина вскочи-
ла с постели, будто ждала этого во сне, и увидела его
перед собой — одетым, таким, как он и уходил. Ничего
не было доказано и ничего не развеяно, но она его не
спрашивала, и он ни о чем не смог бы ее спросить. Он
отдернул тяжелые гардины на окнах, и снизу поднялась
завеса вечного шума, за которой рождались и умирали
все Катене.
— Если бог мог стать человеком, он может стать и
кошкой, — сказала португалка, и ему бы надо было
закрыть ей рот ладонью, дабы пресечь богохульство, но
они знали, что ни единого звука не проникало наружу
из этих стен.
(1886-1951)
Рассказ служанки Церлины
Часы на городских соборах только что пробили два
раза — вразнобой и гулко; только тот, оставшийся от
барокко, с игрой и колокольчиками, звон, что доносился
со стороны замка, мягкой линией холма взнесенного над
городом, выделялся серебряной чистотой мелодии. Лет-
ний воскресный день клонился к закату, — скучнее и
медлительнее, чем прочие дни недели, и А., лежа на
кушетке в своей комнате, про себя отметил: скука воск-
ресного дня — явление атмосферное: затишье обычной
городской суеты передалось и воздуху, а кто не хочет ему
поддаться, должен с утроенной энергией работать по
воскресеньям. В будний день изнывай ты даже от празд-
ности, соборных часов не услышишь.
Работать? А. вспомнил о бюро, которое устроил себе
в деловой части города; по временам он развивал там
деятельность прямо-таки лихорадочную, чаще проводил
дни в праздности, что не мешало его мыслям кружить
вокруг денег и способов их добычи. Это его раздражало.
В его нюхе на деньги, уменье их делать было что-то жут-
коватое. Конечно, конечно, он любил и поесть, и выпить,
и вообще пожить с комфортом. Но деньги как таковые
он не любил, — напротив, дарить их доставляло ему на-
слаждение. Откуда же эта сверхъестественная легкость,
с которой он притягивал к себе деньги — в размерах,
много превосходивших его потребности. Проблема, куда
бы получше и посолиднев вложить деньги, всегда каза-
лась ему сложнее, чем вопрос о том, как их заработать.
217
Теперь скупал он дома и поместья почти даром, посколь-
ку платил обесцененными марками. А радости это не
доставляло никакой — почти тягостное исполнение долга.
Утром еще, из-за солнца, жалюзи были спущены, и
хотя теперь надвинулась уже послеобеденная тень, он
ленился поднять их. Да это было и кстати: в тени не так
жарко, а вечером окна откроют. Лень, как всегда, обо-
рачивалась ему на пользу. При этом он не то чтобы был
по-настоящему тяжел на подъем, просто ему трудно да-
валось любое решение. Упорствуя, он ничего не мог до-
биться от судьбы, — нет, пусть судьба сама за него ре-
шает, а он всегда отдавался ей, не теряя, впрочем, бди-
тельности, даже некоторого коварства, необходимого при
той несколько причудливой системе управления им, ко-
торую выработала сия решающая инстанция: судьба по-
сылала ему опасности, от которых он бежал — на пути
подбирая деньги. Безумный страх его перед выпускными
экзаменами, перед застигающими врасплох экзаменато-
рами, которым в руки судьба вложила ужас кары, страсть
к потрошению, перед натиском которой улетучивались
последние знания, этот безумный страх заставил его
пятнадцать лет назад бежать в Африку; без единого
цента,— ибо разгневанный выходкой сына отец дал лишь
в обрез на дорогу, — высадился он на побережье Конго,
тугой на решения и без денег, но счастливый, потому
что неизвестность не сулила экзаменов, требуя только
веры в судьбу; он и поверил тогда в нее — податливо,
но как бы с опаской; и потому-то, — может, из-за опас-
ки, а может, из-за податливости, — деньги у него с тех
пор не переводились. Работал ли он помощником са-
довника, кельнером или клерком, он до тех пор удовлет-
ворительно исполнял свои обязанности, которых в пер-
вое время переменилось немало, пока не бывал спрошен
о предшествующей подготовке и соответствии; спрашива-
ли его об этом — и он немедленно оставлял место, уно-
ся, правда, всякий раз несколько большую сумму, пото-
му что, как это водится в колониях, всегда находилась
возможность подработать, а подработки вскоре превра-
тились в основную работу.
Забросило его в Капштадт, забросило его в Кимбер-
ли, забросило его в алмазный синдикат, совладельцем
которого он стал, и все-то бросала его судьба, привычка
уклоняться от неприятностей, от допросов-расспросов,
грозивших ему тем-то и тем-то; он и припомнить не мог,
218
чтобы вмешался во что-нибудь по собственной воле; нет,
всюду несла его неповоротливая нерешительность, та
деятельная неповоротливость, что была его верой в судь-
бу, и с ней-то он всего и добился. «Неспешное переже-
вывание жизни, неспешное пережевывание судьбы», —
сказало что-то в нем и перенесло его, благополучного и
довольного, в сегодняшний день; пусть себе тает, сходит
на нет воскресенье, пусть остаются опущенными жалю-
зи, все равно все обернется как нельзя лучше.
Тут, — вероятно, после робкого стука, — дверь при-
отворилась, и в нее просунулась голова старой служан-
ки Церлины:
— Вы спите?
— Нет, нет... Входите, входите.
— А она спит.
— Кто?— Вопрос был дурацким. Конечно же, старая
баронесса.
По морщинам легко пробежал почти незаметный бриз
презрения: «Да эта... Крепко спит». И тут же добавила,
словно подтверждая незыблемость полдня, первого номе-
ра его программы:
— А Хильдегард ушла уже... Выблядок.
— Что такое?
Она уже совсем вошла в комнату, держась на по-
чтительном отдалении, но опираясь, вследствие подагры,
на выступ комода:
— Она ведь сделала ее себе от другого — Хильде-
гард-то.
Как ни задето было его любопытство, он не мог ему
потрафить:
— Послушайте, Церлина, я ведь всего-навсего кварти-
рант здесь, и все это меня не касается... Я и слушать-то
не хочу.
Она посмотрела на него, с сомнением качая го-
довой:
— Вы ведь думаете об этом... О чем вы думаете?
Испытующий взгляд ее сердил и беспокоил его. Брю-
ки, что ли, у него застегнуты не как следует? Было до-
садливое чувство, что его на чем-то поймали, и хотелось
в открытую сказать, что думал он сейчас о деньгах. Но
с какой стати он должен отчитываться перед служан-
кой? Он промолчал.
Она, однако, почувствовала его замешательство и не
сдавалась:
219
— Не касается... Коснется ужо, как пришлепает к
вам в постель...
— Помилуйте, Церлина, да что это вам взбрело
на ум?
Не обидясь, она продолжала:
— Все-то она увиливает, а спала бы с любовником
что надо, и все бы у нее было в порядке, была бы жен-
щина как женщина... А то уродина, каких нет... Все
только прикидывается женщиной: будто тайком к лю-
бовнику бегает, да не умеет порядком скрыть... Вот и ра-
зыгрывает неумелость-то. Возьмет молитвенник — и буд-
то в церковь, а кто ж не знает, когда служба, вот все
и должны догадаться, что хитрит, должны догадаться...
Получается вроде обмана, а на самом-то деле обман
вдвойне, за которым черт знает что... Уж не знаю, что
она делает с молитвенником своим в той постели, куда
бегает, не мое это дело, но я разузнаю... все разузнаю...
Она подождала немного и, не получив ответа от А.,
зажмурившего глаза, словно в знак обороны, подошла
поближе, скользя одной рукой по комоду, а другую не-
сколько принужденно опустив вдоль бедра:
— Я все разузнаю, разузнала ведь, как стару... как
госпожа баронесса заимела ребенка... быстренько раз-
узнала. Не так уж я была тогда молода да глупа, хоть
и давно это было, лет уже тридцать с лишком. Я тогда
еще служила... да, служила я тогда у госпожи генераль-
ши. Это блаженной памяти мать госпожи баронессы.
Дом-то был богатый — куда там! Я у них — первой ка-
меристкой, а вторая была, вроде сказать, моим адъю-
тантом, да еще у нас кухарка была с помощницей,
и пока жив был их сиятельство, господин генерал, дер-
жали для грубой работы в доме еще денщика, и на стол
он нам накрывать помогал. Только в то время, когда это
случилось, их сиятельство уже померли, и вот однажды,
в феврале было дело, как сейчас помню, еще все окна
мокрым снегом залепило, звонит это в звоночек сиятель-
ная госпожа, вхожу я и слышу: «Церлина, — говорит, —
знаешь, нам бы нужно сократить здесь дом, однако сов-
сем терять тебя мне бы не хотелось, — да, да, так и вы-
разилась, — ты бы, — говорит, -— не против была перейти
к моей дочери? Она ждет ребенка, и мне бы покойнее
было, если бы при внуке моем была ты, а не чужая де-
вушка». Вот так поговорила она со мной, и я подчини-
лась — хоть и с тяжелым сердцем. Не так уж мало мне
220
было годов, и лучше бы, конечно, самой нарожать да
нянчить. Но коль взялась служить у господ, выбрось та-
кие мысли из головы; уж ежели ты служанка, не взду-
май заводить ребенка, бойся этого, как огня. Жалко се-
бя было — ужас, меня-то хватило б хоть на дюжину.
А уж и в соку я была, как пришла к их сиятельству,
госпоже... —- Она сделала рукой смелое движение, при-
званное, как видно, обозначить цветение плоти, но напо-
минавшее в этом случае скорее гротески Гойи. — Виде-
ли б вы меня тогда, ну просто кровь с молоком, а гру-
ди-то как торчали, каждый норовил зацепить. Даже гос-
подин барон, он тогда еще не был председателем суда,
а всего-то судебным советником, и тот не мог удержать-
ся. Думаете, раз он был молодожен, то и позволить себе
ничего такого не смел? Как бы не так! Но он был из та-
ких, что стоят выше всяких желаний, что ради чистоты
души своей вообще не должны бы желать женщину.
Ее-то, — она ткнула большим пальцем в дверь у себя
за спиной, — он, наверное, и не желал никогда. Да и не
такая она была, чтобы доставить ему много удовольст-
вия. Я-то, уж точно, могла бы дать удовольствие, но не
хотела, хоть и был он красивый мужчина; да только это
нанесло бы вред его душе. Вместо того я все миловалась
со слугами их сиятельства, и хоть нравилось мне это
занятие, а выходило не очень-то складно. До настоящего-
то, до постели, почти никогда и не доходило, а больше
все так, задерешь платье где-нибудь в темной комнате,
в салоне ли, пока господа в театре. Для девушки, что
нанимается в город служить, это уж дело обычное. У пар-
ней-то свои девушки дома остались, в деревне, им и дела
нет, что со мной им, может, приятнее или что я, может,
красивее, потому как тот, кто ждет, завсегда в своем
праве. Вот так-то. Дни юного цветенья, — это была,
(Очевидно, цитата, — разве вас вернешь. Больше двена-
дцати лет я провела у сиятельной госпожи, а тут вот за-
беременела эта... — палец снова указал па дверь, — а
1не я. Хоть я все еще была куда аппетитнее, чем она, но
юна выиграла. И я заступила на службу при ней и ее
^ребенке.
Она приостановилась, чтобы перевести дух. И, пе об-
ращая особого внимания на своего слушателя, усевше-
гося между тем на своей кушетке, продолжала:
— Когда родился ребенок, Хильдегард-то эта, господи-
ну барону уж было под пятьдесят и он только-только еде«
221
лался председателем суда. Может, ему и не очень было
по нраву, что я появилась в доме, он-то уж наверняка
не забыл, что когда-то цапал меня за груди, и я не за-
была; такие вещи не забываются, застревают в памяти
навсегда. Теперь-то, конечно, ходи я хоть голой и будь
хоть аппетитнее прежнего, он уж не смотрел в мою сто-
рону. Он стал тем, чем ему было назначено, человеком,
которому не до женщин. Да хоть бы он и не мог уже —
таких ведь много, что не могут, а потому особенно хо-
тят... эти-то самые противные. Нет, у него — «не-могу» вы-
ходило из «не-хочу», и это его еще больше украшало.
Если б Хильдегард была его дочь, она была бы красивой
женщиной.
Тут А. решился возразить:
— Она и есть красивая женщина, а когда я впервые
увидел портрет председателя суда в столовой, то сразу
обратил внимание на то, как они похожи.
Церлина усмехнулась:
— Это я, я сама сделала ее похожей на него. Когда
она была маленькой, я то и дело водила ее к портрету
и учила ее смотреть, как он. Ведь все дело во взгляде.
Сообщение, что и говорить, неожиданное. А. заду-
мался.
—- Вместе со взглядом она должна была приобрести и
его душу. Этого-то я и добивалась, конечно, как раз
этого... Но она женщина, и в ней кровь другого.
— Кто был этот другой? — произнес он почти про-
тив воли, вложив в вопрос нечто большее, чем просто лю-
бопытство.
— Другой? — усмехнулась Церлина. — М-да, дру-
гой захаживал иногда к сиятельной госпоже на чай; по-
началу мне и ни к чему было, что и госпожа баронесса
повадилась к нам заглядывать, и все без мужа. Но что
другой-то, господин фон Юна, тоже был очень красив,
это я заметила сразу: рыжевато-каштановая бородка, ры-
жевато-каштановые кудри, кожа чуть темнее морской пе-
ны, а держался так, словно изготовился к танцу. Да уж,
обзавидоваться можно, какого себе отыскала красавчика.
Только если вглядеться получше, за красивой бородкой,
даже за красивыми губами проступало в лице что-то
противное — это «не-могу» и «всегда-хочу», противная по-
хоть, что от слабости. Охмурить такого — ну легче лег-
кого, захотела бы я и в первый же день...— она точно
раздавила блоху пальцами, — имела бы его как милень-
222
кого. Сиятельная госпожа говорила, он-де из тех, что
постоянно в разъезде, на дипломатической службе, что
ли, дипломат, значит. Ладно. Обосновался он в старом
охотничьем флигеле, — рука ее указала куда-то дале-
ко,— да не охоты ради, а ради баб, они у него там не
переводились. Люди, копечпо, больше догадывались, чем
знали, он-то все делал, чтобы раздразнить любопытство
своими исчезновениями, да появлениями, да многочис-
ленными женщинами. И мне любопытно было. А из лес-
ничихи, что у него прислуживала, слова было не вытя-
нуть. Держала она язык за зубами, и всё тут, то-то я
удивлялась, когда он ее прогнал: для службы своей впол-
не годилась. Вот так он и жил, а ребеночек на первых
порах ужасно был на него похож. Как же, думаю, они
покажут ему ребепка-то? Прямо сгорала я от любопыт-
ства. Ну, она выпуталась; внученька должна была в день
исполнения двух месяцев нанести визит бабушке. Вот,
думаю, вот тебе и случай. Приехали мы к сиятельной
госпоже, значит, ребенка спать уложили в гостиной, а
меня на аркане из комнаты было не вытащить, потому
что знала, сейчас и этот явится, вроде как невзначай.
И как она себя выдаст, я уж в точности себе представи-
ла. Долго-то ждать не пришлое^ я чуть пе рассмеялась,
когда она и впрямь его ввела, и уж вовсе чуть не прыс-
нула, когда он над кроваткой наклонился, папаша-то,
а она от волнения так и хвать его за руку. Вроде вза-
правду волновалась, а вроде и притворство одно. Он-то
был похитрей, заметил, что я за ним наблюдаю, и уже
на выходе посмотрел на меня, как будто через этот взгляд
от отцовства своего отрекался и глазами-то сказал, что
«е она, а я была бы для него подходящая. А мне-то что
терять, тоже глазами показываю, что, мол, поняла.
, Давняя улыбка-ответ словно по волшебству явилась
^вдруг на ее лице, засветилась как старчески сморщенное,
старчески увядшее эхо себя самой и была, из-за этой
рвоей усохшести, чем-то вечно длящимся, как вечно
длящийся ответ.
— Дала я ему это понять и сама смекнула, что до-
шло до него, что проняло его, не успокоится он теперь
до тех пор, пока не переспит со мной. А мне того и на-
до. И меня-то саму забрало, хотя ни он, пи я вроде
прежде к этому не стремились. Человек не многого сто-
ит. И не только бедная служанка из деревни, нет, всякий
человек; святой разве так мудр и силен, что может не
223
размениваться на дешевку. Но ведь и для страсти,
для влечения, как оно ни дешево стоит, нужна сила, и
хуже всех те, что из-за слабости своей, из-за никудале-
годности, делают вид, что оии-де выше всех. Они-то са-
мая дешевка и есть, все эти хитрецы, что лгут из тру-
сости да из слабости да орут погромче о своем душевном
дерьме, чтобы заглушить истинпую свою натуру, потому
что слишком груба она для них, а пуще того потому, что
они вообще не имеют о ней понятия и полагают, что
этим ором отвлекут ее и удержат. Душа у них, видишь
ли, нацелена, чтобы страсть удовлетворить — и в то же
время, чтобы ее заглушить. А госпожа баронесса? Ни
слова громкого во весь день, да и... голову заложу, ни-
чегошеньки, кроме душевного дерганья, во всю ночь. Ко-
нечно, не ее вина, что никогда она не была настоящей
женщиной и не могла ею стать — с таким-то святошей,
как господин барон. Чего ж удивляться было, что доста-
лась другому, похотливому. Ребеночка она с ним при-
жила во время последней поездки своей на воды; совпа-
ло все день в день. Ну и что же? Почему тогда не оста-
лась с ним? Почему не сбежала к нему в охотничий фли-
гелек? Куда там! IIoxotj для этого была слишком мала,
а страх слишком велик, сама же слишком была слабой
да лживой. С таким же успехом можно было ей предло-
жить улечься с ним на базарной площади. Все же хоте-
лось мне ей помочь, в ущерб, так сказать, собственным
чувствам, несмотря на ревность, да разве ей что втолку-
ешь. Наконец, когда господин председатель суда уехал
как-то в Берлин, взялась я прямехонько за дело. «Гос-
пожа баронесса, — говорю я ей, — неплохо бы вам, гос-
поже баронессе, иной раз и гостей позвать». Она так
сдуру-то: «Гостей? А кого же?» Ну, я вроде как бы меж-
ду прочим: «Ну, хоть господина фон Юну». Смотрит на
меня эдак сбоку и подозрительно так говорит: «Ах нет,
только не его». Ладно, думаю, поглядим. А в ней-то за-
село и через пару деньков и впрямь зовет его на чай.
У нас тогда еще вилла была — самый шик, приемные
комнаты со столовой внизу были; и мебели просторно, *
не как здесь, где только и знаешь, что обо все спотыка-
ешься, порядок навести никакой возможности, осо-
бенно когда Хильдегард мне не помогает. Так вот, была
тогда у нас настоящая гостиная зала, и госпожа баро-
несса сидела там с ним, ну, прямо за километр друг от
друга; я им подавала, на взгляды его не отвечала, а под
224
конец попросила дозволения совсем уйти. Светелка моя —
там, на мансарде — тоже, конечно, была загляденье, не
сравнить с теперешней. Когда же я попозже прокралась
посмотреть, как у них идут дела, все было по-прежпе-
му: сидели себе спокойненько, теперь уж в салоне, он
скучливо так поглядывал своими бархатными глазами, и,
даже когда она поднялась, чтобы налить ему чашечку
свежего кофе, он и не попытался коснуться ее руки или
там погладить. «Ну, вот и этого она просвистела, — по-
думала я, — так и бывает, когда в постели все толкуют
о любви, а не выбивают похоть, все равно что барабан-
ную дробь». Дело, вижу, совсем разладилось, и жаль мне
их обоих, его особенно, ведь ребеночек-то связал их те-
перь, никуда не денешься. Конечно, в глубине души я и
радовалась, что все так вышло, потому и притаилась в
кустах у подъезда и ждала его, а как только он вышел,
мы уж тут, ни слова не говоря, в один миг слились в
поцелуе. Я так впилась в него и губами, и зубами, и
языком, что, думала, потеряю сознание, но все же усто-
яла против него. Не знаю даже, как это мы с ним не
повалились просто в траву, и уж совсем непонятно, по-
чему не провела я его к себе наверх, когда он потребо-
вал этого хриплым голосом, а я ответила: «Во флигеле
у тебя». Но при этих моих словах его будто передерну-
ло от ужаса, испуг был, как у зверя; тут дошло до ме-
ня, что у него там женщина, что потребовала я невоз-
можного, тут и стало мне ясно, что сопротивлялась-то я
ради этого невозможного, чтобы сломить его, и что сиде-
ло во мне мощное и жестокое любопытство к тому, что
во флигеле, и разжигало меня сильней похоти, и что оно
само, любопытство это, было — как часть этой похоти,
как горечь ее и беда.
Все еще действовавшее сквозь годы возбуждение за-
ставило ее присесть; опершись локтями о стол, зажав
голову кулаками, она некоторое время молчала. Когда
же стала продолжать свой рассказ, то совершенно из-
менившимся голосом: шепотом, почти псалмовым распе-
вом и так, будто вместо нее говорил кто-то другой.
— Человек немногого стоит, а память его полна дыр,
коих не залатать. Сколько всего нужно сделать, что за-
бывается, чтобы от сделанного осталось чуть-чуть, что
номнят всегда. Всяк из нас забывает свои дни. У меня
была мебель, с которой я стирала пыль снова и снова,
тарелки, которые я вытирала, и, как всякий человек, я
8 Австрийская новелла XX в. 225
каждый день садилась за стол, но, как и у всякого чело-
века, осталось от этого одно знание, что это было, а не
память о том, как это было, будто это происходило вне
времени, вне погоды, дурной ли, хорошей ли. Даже
страсть, которой я упивалась, стала пустым местом, то-
же вне погоды, и хоть осталась во мне благодарность за
бывшее, исчезают все больше и больше имена и лица
тех, кто внушал мне когда-то желание и даже любовь,
проваливаются в бездонную стеклянную бутылку с над-
писью «Благодарность». Стеклянные бутылки, одни стек-
лянные бутылки... И все-таки, ежели б не эта пустота
и не забытое, не было бы и непрерывно накопляющего-
ся Незабываемого. Забытое несет в пустых руках Неза-
бываемое, а Незабываемое несет самих нас. Забытым мы
кормим время, кормим смерть, но Незабываемое — это
подарок нам от смерти, и в то мгновенье, когда мы его
получаем, мы еще находимся здесь, где стоим, и уже
там, где мир обрывается в темном провале. Ибо Незабы-
ваемое — это частица будущего, заранее подаренный
кусочек безвременья, который несет нас и смягчает нам
паденье в темный провал, так что паденье это выглядит
как паренье. И таким вот мягким и темным и безвремен-
ным было все, что случилось между мной и госпо-
дином фон Юной, и когда-нибудь это поможет мне тихо
опуститься вниз на крыльях памятного воспоминания.
Всякий скажет, то была любовь, любовь не на жизнь, а
на смерть. Нет, к любви это не имеет отношения, не го-
воря уж о душевном дерганье. Многое может стать Не-
забываемым, сопровождать и нести нас, нести и сопро-
вождать, не будучи любовью, не в силах стать любовью.
Незабываемое — это мгновение зрелости, выпестован-
ное бесчисленным множеством пред-мгновений и пред-
подобий, несомое ими, мгновение, когда мы ощущаем, что
придаем форму чему-то и сами ее обретаем, сами ее
обрели. Опасно путать это с любовью.
Вот что услышал А. и не удивился, что слышал это
от служанки Церлины. Многие старые люди впадают
подчас в псалмопевное бормотанье, в которое легко впле-
таются фантазии, особенно в такую летнюю послепо-
луденную воскресную жару при спущенных шторах.
А. хотел удостовериться в реальности слышанного и ждал,
не продолжится ли это песнопение, но Церлипа верну-
лась к своей обычной старческой болтовне.
— Уж конечно, мог бы он сломить мое сопротивле-
226
ние тогда же ночью, в кустах-то. Сделал бы он так, и я
бы, наверно, забыла его, как прочих. Но он так не
сделал. Слабые обычно расчетливы, и все равно, из сла-
бости или из расчетливости, но он дал себя уговорить
и ушел, меня же это как с ума свело. Я вся преврати-
лась в какое-то безумное ожидание, как только он ушел,
и просто чудо, что все-таки совладала с собой, не напи-
сала ему, пусть-де вернется, войдет в мою комнату, в
меня. Оно и к лучшему. Не прошло и недели, как уж
от него самого письмо, срочной почтой. Адрес написал
печатными буквами на конверте для деловой перепис-
ки, чтобы госпожа баропесса не догадалась, что он мпе
пишет, а писал он, что уже на следующий вечер при-
глашает мепя на прогулку в карете, будет ждать на ко-
нечной остановке трамвая. И хотя внизу в это время гос-
пожа баронесса тоже сидела и читала письмо от него, все
равно то была победа над ней, и пусть он ни слова не
упомянул о флигеле, — бабенка, значит, все еще там
была,— я тем более отправилась на свидание и, еще не
валезая к нему в карету, так и выпалила ему все это в
лицо; он не отвечал ни слова, все равно что признался,
тогда я поцеловала его и кричу: «Давай, гони куда хо-
чешь, только не во флигель, как пи жаль». Тогда он
говорит: «В следующий раз — во флигеле». «Это что —
обещание?» — спрашиваю, и он говорит: «Да». «В са-
мом деле прогонишь ее?» — спрашиваю, и опять он гово-
рит: «Да». И уж для пущей верности спрашиваю, пама-
никюрены ли у ней ногти. «Да, — удивился он. — По-
чему ты спрашиваешь?» Тут сняла я перчатки и кладу
на красивый драповый плед, закрывающий наши колени,
свои красные руки: «Руки прачки», — говорю я ему. Он
смотрит на мои руки и виду не показывает, задели ли
его мои слова, а потом спокойно так отвечает: «Каж-
дый мужчина нуждается в сильных руках, которые мо-
гут отмыть его вину». Берет мою руку и целует, но толь-
ко у основания, а не там, где она красная и шершавая,
Ьа мне стало понятно, сколько в этом всего, так что вы-
давила из себя только: «Едем же!» — и молчу, чтобы не
разреветься. Поехали мы по узкой дороге меж спелых
■Хлебов, и я все смотрела то на них, то вниз, на узкую
полоску травы между пыльными колеями, на которых
йаши лошади оставляли новые следы копыт, а места-
ми и новый навоз. Все как у нас дома, в деревне. Вот
только запряг он вороного, это мне не понравилось, bo-
s'
227
роной — ne крестьянская лошадь, на ней не пашут, на
ней отправляются в черный провал. Но когда я сказала
ему об этом, он засмеялся: «Ты и есть моя пашня и мой
провал», — и мне стало так хорошо, что я притиснулась
к нему близко-близко. И теперь еще, старухой, чувствую
я тот жар желания, который во мне поднялся, испыты-
ваю предвкушение ребенка, которого он должен был мне
сделать, и еще, и еще, много детей. Не то чтобы я лю-
била его. Я хотела его, а не любила, для этого он был
слишком темный, чужой, порочный. И там, на холодной
опушке, где уже чувствовалось приближение ночи, неза-
метпо кравшейся между стволами, я тоже не уступила
своему вожделению; он остановил карету, но я не вы-
шла и, чтобы уколоть нас обоих, напомнила, что меня
ждет его ребенок и мне пора возвращаться. «Чушь», —
закричал он, и поскольку то была не чушь, я продолжа-
ла свербить свое: «Вот наделаешь мне моих собственных
деток, тогда и не нужен мне будет этот». Он с такой
беспомощностью па меня посмотрел, и опять в глазах
его промелькнул ужас, теперь потому, наверно, что по-
нял, что повесил на шею себе третью женщину, новую
женщину с новыми претензиями, хоть и не должно бы-
ло их быть у служанки; и чтобы совсем уж сравнять
служанку с господином фон Юной, страх которого так
сильно боролся с вожделением, я прильнула к нему со
всей страстью и поцеловала, как на прощание. Послуш-
но, не проронив более ни слова, отвез он меня к трам-
ваю, и хоть мы договорились, что следующим своим
письмом он позовет меня в охотничий флигель, я и верила
в это и ужасно терзалась.
Видимо, вновь настало время короткой разрядки, что-
бы язык мог смочить уставшие губы для дальнейшей
речи.
— И так как на это письмо я не очень надеялась,
меня тем паче сердило, что госпожа баронесса, для ко-
торой охотничий флигель был пугалом, а не чем-то же-
ланным, получала от него письма. От ревнивой злости
я захотела перехватить их. Письма, натурально, были
до востребования, не на ее имя, но, может, попадется
мне конверт, и узнаю я, кому он их надписывает. Стала
я что ни день перерывать корзинку для бумаг госпожи
баронессы, и, глядь, секрет уже у меня в кармане. Страш-
новато, конечно, но с осторожностью-то ничего. Квитан-
ции никакой не требовалось. Шифр был простой, из
228
Эльвиры, имя госпожи баронессы, они сделали Ильверу,
вот и все. И стала я, как выйду куда за покупками или с
ребенком гулять, забирать эти письма в окошечке, вскры-
вала их осторожно над паром и, прочтя, наклеивала но-
вую марку и снова бросала в почтовый ящик. Несколько
я оставила у себя. Но какое дерьмо! Какое дерганье! Не
говоря уже о том, что Эльвира там стала Эльфидой, ка-
кой только дребедени пе было туда понапихано: и свя-
тость-то, и непорочное материнство, и дитя-то от эльфов,
ангельское дитя — то самое, что визжало рядом со
мной, как зарезанное порося! Но уж паскуднее всего был
скулеж насчет той бабы, что сидела у пего в охотничь-
ем флигеле. Это-то я особенно запомнила, а самое-
рассамое даже припрятала. Вцепилась-де она в него, «как
клещ», как «наказание божье», и «не собирается ни-
куда убираться», эта «вымогательница, использующая
мою непростительную слабость», и все-то он грозился,
что «найдет наконец средство уничтожить эту гидру»,
так и написал, а под конец и ей пожелал, чтобы «...вот,
моя милая, ты также избавилась от своего тирана». Разу-
меется, тут и расчет был: только этим вот дерганьем и
мог он выполнить свой долг перед такой женщиной, как
госпожа баронесса, и в то же время удержать ее на рас-
стоянии, а что ту, другую, он готов был отправить в
тартарары, особенно с тех пор, как не мог из-за нее спать
со мной,— в это я охотно верила. И все равно меня чуть
не тошнило. С этого дерьмового «помой-меня-да-не-за-
мочи». Да я, простая деревенская девка, которая ничему
не училась, краснела до корней волос из-за этой фальши
образованного господина и вдвойне стыдилась из-за то-
го, что господин этот был тот самый, к кому я стремилась
всеми своими помыслами. Я чуть ли не рада была, что
,не так благородна для таких изысканных писем и что
не я их получала. Хотя письмецо мне все же пришло,
Ï$caK снег на голову, всего две строчки, в которых он спра-
шивал, когда бы я хотела посетить его охотничий домик.
>ог мой, как я ликовала! Он сдержал свое слово. Как
аз после тех его дерьмовых излияний, которых я начи-
алась за эту педелю, мне было это особенно важно:
&не было важно уважать его, не разочароваться снова,
Ц я сдержала свое дикое, распиравшее меня нетерпение
'.$. положила себе три дня сроку. Хотела перехватить оче-
редное его письмо к баронессе. Стал бы он хвастать, что
йыгнал ту женщину ради нее, я бы и видеть его не за-
229
хотела. Я прямо дрожала вся, когда получала письмо в
окошке, а потом чуть не уронила его в кастрюлю с ки-
пятком, когда распечатывала... и как это в нем ни строч-
ки не было об исчезновении той женщины, я даже не
могла в толк взять. Наконец поверила своим глазам и
побежала к баронессе отпрашиваться съездить домой.
Просила четыре недели, дала она мне три.
Внезапно Церлина вынырнула из прошлого и заме-
тила, где была. И с большим тщанием стала разглажи-
вать салфетку под вазой, словно выискивая невидимую
складку, чтобы придать смысл бессмысленному занятию.
Но власть прошлого все еще не отпускала ее.
— Несет и несет меня по годам, и годы проходят,
но это остается, хоть в тысячный раз расскажу, а все
же не могу отделаться... — И когда. А. хотел что-то ска-
зать, она весело сама себе возразила: — Да и хочу ли
отделаться-то? — И снова принялась за свой рассказ: —
Не поверишь, жалко мне было госпожу баронессу. Дав-
но уж это началось, когда я еще простаивала, прислу-
шиваясь, у дверей ее спальни, — и хоть бы малейший
скрип или шорох, и пусть я рада была, что господину
барону с его-то строгостью ничего и не нужно, но все
же в чем-то она была виновата — перед ним и перед
собой, это ясно, и чудилось мне во всем этом что-то жал-
кое и неприличное и не давало покоя. А уж когда попа-
лась мне на глаза вся эта лживая писанина, то, хоть и
было мне больно, что он должен писать ей и пишет эда-
ким манером, жалость к ней все заглушила, потому что
и она-то не умела ничего другого, как только писать ему
такие же ответные письма, я хоть и не видела еще ее
ответов, но была уверена, что они так же отвратительно
лживы. Да разве не была я богачкой рядом с ней?..
Она с триумфом посмотрела на А. И он понял, что
она рассказывала о величайшей победе своей жизни. Но
понял он и то, что письма господина фон Юны были
совсем не так лживы, как то выходило у старой Церли-
пы. Потому что демония страсти, которой этот господин
был охвачен, состояла, с одной, с лучшей своей стороны,
из тяжелой серьезности, вне которой нет страсти, из че-
стнейшей честности; но, с другой стороны, к ней при-
мешивалось присущее всякой демонии сознание вины от
унижения собственного «я», и хотя одержимый страстью
человек пребывает в своем праве ужасаться притворству
холодной женщины, ему не может не мерещиться и что-
230
то совсем светлое в ее незадетости страстью, особенно ко-
гда эта ущербность обернулась уже материнством, тут что-
то таинственное, и магическое, и эльфическое. Каждый
мужчина, не только похотливец, способен так чувство-
вать, и А. чувствовал это в господине фон Юне — и со-
чувствовал ему. Не то чтобы он сомневался в чем-нибудь
из рассказанного Церлиной, но в фигуре баронессы и ему
чудилось сияние королевы эльфов. Победная реляция Цер-
лины тем временем продолжалась:
— Он сдержал свое слово, и я ощутила себя богачкой,
хоть и был у меня в руках всего-навсего чемоданчик слу-
жанки, когда я собралась в дорогу; я бы могла выехать
еще утром, но хотела дождаться темноты, чтобы прибыть
к ночи. На конечной остановке трамвая он опять был на
своем вороном. Мы оба посерьезнели. Когда ты богат, не
до шуток, И чувствовала себя богатой и хотела, чтобы и
с ним было так же. Хотя, кто знает, отчего люди бывают
серьезны. И на всякий случай я сказала ему, как только
залезла в карету, что отпуск у меня только на десять
суток. «Понравится, — подумала я себе, — успею приба-
вить еще десять, а будет милостив ко мне бог, и целую
вечность». Но пока он был так скуп на слова и серьезен,
что я быстренько проглотила разочарование, когда он и не
пожалел, что дней будет так мало — всего десяток. «Ез-
жай по околице», — говорю я ему. Так мы шагом въеха-
ли в лес и на холм, то была дерога дровосеков, кругом
черно, холодно, но ни он не прикоснулся ко мне, ни я к
нему. На самой вершине таял белесый свет; чуть видне-
лись колокольчики на поляне, а потом уж только небо
светлело, и на нем первые звезды. Штабеля дров на краю
поляны тоже исчезли в черноте, оставив лишь запах, буд-
то пойманный стрекотаньем стрекоз. Потому что все, что
осталось, — стрекот, колокольчики, звезды, — несло друг
друга, друг друга не касаясь. А посреди всего этого стоя-
ли мы со своей упряжкой, и все это я сохранила, сохра-
нила в памяти на всю вечную жизнь, потому что это нес-
ло меня и не переставало нести. И все это прислушива-
лось к нашей страсти, все его обвилось вокруг моего,
Мое — вокруг его, а рука его не касалась моей, как и
моя — его. И тут я сказала: «Езжай домой». Еще темнее
стало, когда мы съезжали с холма. Кони осторожно опус-
кали копыта, и когда они попадали на камень, высекались
искры. Тормоза работали до отказа, шины шуршали, ино-
гда скрипела галька, иногда мокрые листья ударяли мне
231
в лицо; ничего из этого мне не забыть. И вдруг он подни-
мает тормоза, мы на равнине, стоим перед домом, в кото-
ром ни огонька, собственной чернотой он втиснулся в чер-
ноту ночи. Во мне же полыхал тяжелый свет моего бо-
гатства. Он помог мне сойти, выпряг и отвел лошадей в
конюшню, — если б я не слышала стука подков в ко-
нюшие, я бы решила, что он никогда не вернется, такая
была везде темень. Он вернулся, но света в доме мы не
зажигали. И не произнесли ни слова, так были серьезны.
Ее голос охрип от волнения, и опять послышалось в
нем напоминающее псалом песнопенье.
— Как любовник он был лучше всех, никто бы не
мог с ним сравниться. Как тот, кто осторожно ищет свой
путь, искал он моего ответа. Он изнемогал от нетерпенья;
нетерпенье трясло его, как озноб, и все-таки не овладело
им, а он не овладевал мной, но ждал, пока вынесет меня
в пропасть, за которой человек всегда чует последнее па-
дение. Если то был поток, что нес меня по жизни, то он
почуял его и прислушался к нему. Я и так была без одеж-
ды, и он словно раздел меня еще больше, как будто голо-
го человека можно раздеть еще больше. Потому что стыд—
все равно что еще одна одежда. И он так осторожно
победил последние остатки моего стыда, что мое одино-
чество в самой глубине нашего слияния превратилось в
союз двоих. Он был чуток со мной, как врач, но страсти
моей он предстал как учитель, повелевающий моим те-
лом, сообщающий ему желания, отдающий приказы, гру-
бо и нежно, потому что у страсти много оттенков и каж-
дый из них оправдан по-своему. Он был врач и учитель
и в то же время слуга моей страсти. Сам он, казалось, пе
испытывал иного вожделения, кроме моего; и если я от
страсти кричала, он воспринимал это как похвалу себе,
как похвалу своему желанию, которое нуждалось в такой
похвале, чтобы умножать свои силы. Он и был сама сила
и мощь, и все это — от слабости. И эта сила вздымала
и дробила нас все больше, пока мы не слились в единое
целое. На краю той пропасти мы и стояли как единое це-
лое в те ночи и дни. И все же я знала, что это дурно.
Потому что это женская роль — служить мужскому вож-
делению, а пе наоборот, и куда правильней были те пар-
ии, что не спрашивали меня о моей страсти, а швыряли
по-простому наземь, заставляя служить своей. Да, даже в
их словах о любви было больше правды, чем в его; его
же слова требовали для своей истинности всю мою стыд-
232
ливую и обнаженную страсть; чем стыдливей были мои
слова, тем истиннее его любовь. Тут-то мне стало понятно,
почему так висли на нем женщины и не хотели его от-
пускать, но мне стало понятно и то, что я не из их
числа и что мне нужно бежать от него, как ни приковано
к нему мое вожделение. Глупой-то меня не назовешь,—
подмигнула она себе самой и слушателю, правда, не до-
жидаясь от него подтверждения своих слов; рассказ увлек
ее дальше.
— Лесничиху мне не показали. Но когда надо, сон у
меня легкий: в пять утра появилась она в доме для убор-
ки и выложила мне провизию на день на кухонный стол.
Гораздо больше мне не понравилось, что она тут же яви-
лась в дом, как только мы ушли на прогулку; я ведь и
сама убирала в спальне, поэтому сразу заметила, что
она тоже приложила руку. Как же он дал ей знать? Уж
очень здорово это отработано, отлажено, видно, на мно-
гих женщинах, а в таком деле любая женщина должна
быть шпионкой. Мне это было нетрудно. Дом был ста-
рый и мебель в нем старая; что шкаф, что письменный
стол — замки везде легко открывались. К тому же у вся-
кого мужчины, что так себя тратит, глубокий сон. Я ведь
его не щадила. Шаль только было покидать его — он был
красив, когда спал, лицо не искажено страстью, без изъ-
яна, и я часто подолгу сидела на краю кровати и все смот-
рела на это лицо, прежде чем заняться своей шпионской
деятельностью. Печальное то было и нервное занятие. Ба-
бенка его, в знак того, что здесь ее постоянное жилище,
оставила все свои платья в шкафах; и я была уверена, что
вся его ненависть к ней не помешает ему, скорее под-
стегнет, вновь откликнуться на ее призыв. И насколько
раньше меня раздирало любопытство к письмам баронес-
сы, настолько теперь я испытывала лишь отвращение.
■Письма эти валялись вперемежку с письмами от других
|яенщин в ящиках письменного стола, и я взяла себе не-
t'" колько подвернувшихся под. руку, — ему-то они все рав-
fo не нужны. Постой-ка, сейчас прочту тебе одно.
§ Вынув из кармана халата свои очки и несколько по-
ятых писем, она направилась с ними к окну.
^ — Вот, заметь себе, какими пустейшими пустяками,
||аким дерганьем заполняют людишки пустоту своей жиз-
'$№, суетную свою скуку; обрати внимание, как она бед-
на, госпожа баронесса. Заметь, сколько здесь нищей, пус-
той злобы, — хорошенько заметь!
233
«Драгоценный возлюбленный мой, связь наша обога-
щается день ото дня, даже когда ты вдали от меня. В ди-
тяти нашем ты неотступно со мной, и то залог нашего
грядущего вечного союза, который, как ты пишешь, рано
или поздно настанет. Не сомневайся. Небо покровитель-
ствует любящим, и оно поможет тебе вырваться из па-
губных объятий этой фурии, вонзившей в тебя свои когти.
О, да ниспошлет оно мне такое же освобождение от моего
брака! Хотя супруг мой, в сущности, весьма благородный
человек, но он всегда был глух к терзаниям моего сердца.
Объяснение с ним будет мучительно, но я соберусь с
силами; твоя любовь ко мне, а моя к тебе, не оставляю-
щая меня ни на миг, дают мне надежду на будущее.
С этими горячими упованиями я целую твои любимые пре-
красные глаза.
Твоя
Эльф — Эльвира».
— Ну, видел? Она лила и лила такое дерьмо — цис-
тернами, пустопорожняя гусыня, а он все терпел, со скре-
жетом зубовным, а терпел. Я готова была прямо возне-
навидеть его за это. Почему он терпел? Да потому, что он
был из тех, кто и слишком высоко ценит женщин, и слиш-
ком низко, из тех, кто служит им своим телом, не удо-
стаивая интересом их души. Он не способен любить, но
лишь служить, и в каждой женщине, которую он встре-
тит, он служит той единственной, которой не существу-
ет и которую он мог бы любить, если б она существова-
ла, а так — ничего нет, один злой дух, и он — в его вла-
сти. И, поняв, что я не в силах спасти его, вытащить из
этого ада, с ненавистью в душе, с ненавистью, разбужен-
ной им, я вернулась к нему в постель, чтобы стиснуть его
своими руками и ногами, с беспощадной ненавистью, с
беспощадной нежностью, чтобы изнеможение облегчило
нам предстоящее расставание. Все-таки через десять дней
я спросила его, надо ли мне еще оставаться, я-де могла
бы это устроить. И опять, как только дошел до него во-
прос, в глазах его вспыхнул ужас, как тогда, в саду, и он
промямлил: «Лучше бы как-нибудь потом, через несколько
недель, когда я вернусь из поездки». То была ложь, и я
дико закричала на него: «Ты увидишь меня здесь не рань-
ше, чем отсюда исчезнут платья этой паршивки!» И тут
он впервые повел себя как мужчина, хоть и из трусости;
ударил меня и, не обращая никакого внимания на меня,
234
на мое желание или нежелание, овладел миой — с такой
яростью, что я целовала его, как тогда, в саду. Помочь
это, конечно, уже не могло; от ненависти некуда было
деться. И вечером мы спустились в карете к трамвай-
ной остановке, ни слова не говоря, с моим чемоданчиком
на козлах.
Что же, кончилась история? Нет, казалось, только те-
перь она начиналась,— голос Церлины стал звонок и чист.
— Может, угроза моя не возвращаться крепко засела
в нем, потому как он чувствовал, что это не дерганье.
Может, он и в самом деле хотел избавиться от этой осо-
бы, вернувшейся, наверное, уже на другой день к своим
платьям и уплетавшей предназначавшуюся прежде мне
снедь. Как бы то ни было, через несколько недель город
был взбудоражен известием, что таинственная возлюблен-
ная господина фон Юны скоропостижно скончалась в охот-
ничьем домике. Ничего вроде бы необыкновенного, но по
городу сразу же поползли слухи, что он ее отравил. Ра-
зумеется, слухи эти исходили не от меня; я была рада-
радешенька, что выпала из игры и что ни разу никому не
обмолвилась ни о письмах, ни о тех баночках и скляноч-
ках, которые он держал у себя на полке и от которых мне
было жутко. Но уж раз пошла болтовня, то и покатилась
она, как снежный ком. Я, конечно, не удержалась, чтобы
не рассказать о новости госпоже баронессе. Побелела она
как мел и только выдохнула: «Не может быть»; я пожала
плечами в ответ: все, мол, возможно. Мысль о том, что
в Хильдегард течет кровь убийцы, точно ошпаривала меня
кипятком. Кругом только и слышно было, что делом гос-
подина фон Юны должны заняться присяжные, и дейст-
вительно, через несколько дней его арестовали. И чем
больше я ломала себе голову надо всем этим, тем яснее
чувствовала, что верно, 6ц ее отравил; и сегодня, пожа-
луй, я уверена в этом еще больше, чем тогда. Он ведь
сделал это ради меня, и при всей моей ненависти к нему
я не могла желать ему плахи и потому обрадовалась, ко-
гда пошли слухи, что улик недостаточно для приговора.
Выяснилось, что эта особа, оказавшаяся актрисой из Мюн-
хена, была тяжелой морфинисткой и поддерживала свою
жизнь только шприцем и большими дозами снотворного;
такой организм легко ломается, и даже если смерть на-
ступила от слишком большой дозы снотворного, то э-so мог
быть несчастный случай или самоубийство, а не убийст-
во, которое трудно доказать. Только нисьма могли бы по-
235
служить доказательством, но ведь они были у меня. Ка-
кое счастье для него! Какое счастье для госпожи баро-
нессы!
На какое-то время я показалась себе героиней, как
вдруг мне пришло в голову, что тут обошлось и без меня,
что он, быть может, сам сжег перед арестом всю свою кор-
респонденцию, что, может, терзается теперь из-за этих не-
достающих писем. И я так отчетливо увидела ужас в его
глазах, что он передался и мне. Тут я сделала то, что дав-
но должна была сделать: взяла письма и помчалась с ни-
ми к его двум адвокатам, один из которых приехал спе-
циально из Берлина, чтобы успокоить его и унять его
муки. Они предложили мне за них много денег, по я отка-
залась, размечталась, что он после освобождения женится
на мне из благодарности, и какой это будет удар по его
честолюбию, не говоря уж про госпожу баронессу, кото-
рая вынуждена будет еще и желать счастья своей ка-
меристке... И потому-то я пару писем, самых разоблачи-
тельных, все же оставила у себя. Все равно ведь никто
не знал, сколько их всего было по счету, а уж госиодип
фон Юна меньше всех. Того, что я отдала, вполне было до-
статочно, чтобы унять его страх. Другие же мне были ну-
жны для моих грез о свободе: хорошо иметь какие-то сред-
ства для ускорения ее прихода, да и в последующей су-
пружеской жизни они иной раз могут о*шаь пригодиться.
— Вы прекрасно поступили, спасщй господина фоп
Юну, — вставил тут А., — вот только 6 госпожой баронес-
сой обошлись слишком круто.
Церлина не любила, когда ее перебивали.
— Главное — впереди, — сказала она и была права.
Потому что, превращаясь в жалобу, в обвинение, в са-
мообвинение, рассказ ее все больше набирал силу. —
Мечтать о свободе — уже это рдпо было скверно, но меч-
ты эти были мне как самообман, чтобы уберечься от еще
большей скверны, для которой были потребны письма.
Я была пропащей, по jeüxe не знала об этом. А кто сделал
меня пропащей? Юла ли, засевший у меня в крови, хотя
я его не любила? Госпожа ли баронесса со своим незакон-
ным ребенком, прижитым с Юной, или вовсе сам господин
председатель суда, потому что мне нестерпимо было ви-
деть, э каких остался он дураках со всей своей свято-
сть»? Я одна могла бы открыть ему глаза, а уж как ста-
йо известно, что именно господин председатель суда бу-
дет вести дело Юны, тут я и вовсе потерялась.
236
Ему ли оправдывать того, кто тайком проник в его дом,
чтобы наградить его незаконным ребенком? Я не вы-
несла этого, не вынесла моего знания об этом, которое
было как совиновность, а за совиновностью было что-то
еще более ужасное, была скверна. И *üe знание свое, не
совиновность, а скверну свою хотелось мпе выкричать,
чтобы не чувствовать себя больше такой пропащей. Еще
глубже должна я была опуститься в скверну, чтобы вновь
стать собой при свете дня, со всей моей скверной. Все-
таки понять это нельзя. Будто кто мпе приказал связать
вдруг оставшиеся письма, и его, и госножи баронессы,
в которых оба они грозят убить эту женщину, и
отослать председателю суда — господину барону. Я долж-
на была это сделать, хотя ясно отдавала себе отчет, как
все будет дальше; письма, в сущности, предназначались
для прокурора, чтобы господин председатель суда, вслед-
ствие хотя бы позора госпожи баронессы, сложил с себя
свои обязанности, а Юну все же казнили. А может быть,
мне хотелось, чтобы господин председатель суда в отчая-
нии убил себя, и госпожу баронессу, и незаконную дочку.
И так как я собиралась признаться во всем, в своей со-
виновности и в том, что воровала письма в охотпичьем
домике и в спальне госпожи баронессы, было бы справед-
ливо, если бы он заодно убил и меня. То была бы выс-
шая справедливость, потому что из-за меня, не из-за
госпожи баронессы, была убита та тварь в охотничьем до-
мике, и мне хотелось бы восхищаться господином пред-
седателем суда как носителем этой высшей справедли-
вости. Страшным был тот экзамен, которому я подвергла
барона и который он должен был выдержать во имя спра-
ведливости, чтобы я еще больше уверилась в его величии
и святости. Я и жизнью своей готова была заплатить за
это, и тем не менее то была скверна, которую я так и не
могу объяснить.
Она тяжело дышала. Поистине, вот что, оказывается,
было главное — покаяние в самой большой вине за всю
жизнь, и покаяния ради, а не ради того, чтобы похвастать
своей победой над баронессой, хотя отблеск этой победы
был тут тоже примешан и неустраним, она и рассказыва-
ла, очевидно, всю эту историю. И в самом деле, Цер-
лине, казалось, стало легче. Прочитав письмо, она оста-
лась у окна, и теперь выяснилось, что у нее были на то
причины. Она снова аккуратно водрузила очки на нос,
снова достала клочок бумаги из кармана и после еще
237
одного глубокого вдоха голос ее снова стал звонким и
чистым.
— Пакет был отправлен господину барону, и я жда-
ла, боялась, надеялась, что теперь произойдут ужасные
вещи. Но дни шли, а ничего не происходило. Даже ме-
ня он не потребовал к ответу, хотя было ясно, что ни-
кто другой не мог быть анонимным отправителем писем.
Тут постигло меня сильнейшее разочарование: стало
быть, и господин барон оказался трусом, для которо-
го справедливость значила меньше, чем его место и
положение; он готов был ради них даже терпеть в
своем доме незаконного ребенка, прижитого от убийцы?
Однако господин барон преподал мне урок — и осно-
вательный. Ибо однажды за столом, когда я прислужи-
вала и должна была все слышать, он, обычно такой мол-
чаливый, вдруг грозно заговорил о преступлении и на-
казании. Я запомнила каждое слово и потом точь-в-точь
записала. Сейчас прочту, чтобы и ты запомнил. Запо-
мни же хорошепько!
«Наш суд присяжных — учреждение важное и все
же опасное, опасное, поелику доморощенный судья лег-
ко может поддаться собственным чувствам. А как раз
в таких сложных случаях, для которых и собирают при-
сяжных, случаях убийства, в первую голову, — легко
может возникнуть и возобладать чувство мести, которо-
му любое наказание покажется слишком малым. И ко-
гда так бывает, никому даже не приходит в голову, что
и юридическая ошибка является в таком случае убий-
ством, весь ужас смертного наказания отодвигается на
второй план, уступая место безрассудной решительности,
которая нередко подсовывает доказательства в угоду
мщению. Вдвойне и втройне судья тут должен следить
за тем, чтобы подобный ход доказательств не мог возо-
бладать. Даже собственноручно написанное и подписан-
ное обвиняемым легко может стать предметом ложных
толкований. Если, положим, некто пишет, что желал бы
«устранить» кого-либо или «избавиться» от кого-то, то
это далеко еще не свидетельствует о замышлении убий-
ства. Одна лишь голая жажда мести не вычитает здесь
ничего иного, кроме намерения убить, жажда мести, кото-
рая взывает к топору и алчет крови жертвы».
Так он сказал, и я все поняла, поняла настолько, что
у меня начали дрожать руки и я чуть не уронила блюдо
с жарким. Он был еще более велик и свят, чем могла себе
238
вообразить я, глупая баба. Оп-то угадал, что я хотела
побудить его к мести, и отказался быть палачом. Он знал
все. Но поняла ли госпожа баронесса? Или и для этого
она была слишком пуста? Если она хоть немного помни-
ла письма, которые получала, то не могла не обратить
внимания на такие слова, как «устранить» и «избавить-
ся». И господин барон смотрел на нее, смотрел намерен-
но добродушно, и если б она сейчас рухнула перед ним
на колени, я бы не удивилась. Но она сидит как извая-
ние и не шевелится, разве что побелели немного губы.
«О, топор, — говорила она, — смертная казнь, как это
все ужасно». Вот и все, и господин барон перевел взгляд
на тарелку, а я подаю как раз сладкое. Такой уж она
была, пустельга. Все последующее меня уже вовсе не
удивило. Перед самым рождеством состоялся суд, что
оказался легкой игрой для адвокатов, потому что им по-
дыграл председатель суда, господин барон, оставивший
в неведении прокурора; ни одно письмо на процессе так
и не всплыло. Обвиняемый был почти единодушно
оправдан присяжными, одиннадцать к одному, как будто
мой голос «против» был услышан. Несмотря на это, я
была рада, что его оправдали, господина фон Юну, и еще
больше рада, что, не поблагодарив меня и не попрощав-
шись, он сразу уехал за границу, в Испанию, кажется,
чтобы там поселиться.
То был конец рассказа, и Церлина вздохнула.
— Да, вот и вся история, моя и господина фон Юны,
и я никогда ее не забуду. Топора он избежал и меня из-
бежал, что было для него еще большим счастьем. Пото-
му что, поступи он благородно и женись на мне, я бы
жизнь его превратила в ад и, будь он еще жив, он все
равно по-прежнему имел бы меня, меня, старуху, а ты
только взгляни на меня.
Но прежде чем А. успел поднять на нее глаза, после-
довала концовка.
— Шума после приговора было много. Газеты напа-
дали на господина председателя суда, особенно левые,
обвиняли его в классовом подходе к правосудию.
Не удивительно, что он все больше и больше замы-
кался в своем одиночестве. Из кабинета своего он почти
не выходил, а вскоре я стала стелить ему там и постель.
Год спустя он подал в отставку по состоянию здоровья.
На самом же деле — из-за ощущаемого им приближения
смерти: ему не было и шестидесяти, когда смерть настиг-
239
ла его, и что бы ни говорили врачи, умер он от сердца.
Ей же дано было жить дальше вместе с дочерью. И пото-
му-то, из-за этой несправедливости судьбы, я воспитала
Хильдегард так, как воспитала. Она сделалась истинной
дочерью господина барона, чтобы быть достойной его и
чтобы его дом не был прибежищем для прижитого от
убийцы ублюдка. Будь она католичкой, я бы упекла ее
в монастырь, а так я только и могла, что постоянно на-
поминать ей о целомудренной святости усопшего да по-
буждать ее к подражанию. Чем больше мне удавалось
сделать ее похожей на него, тем больше искупала она
свою вину, тем больше искупала она вину своей матери,
хотя эта вина из разряда вечных, неискупимых. Дочь вы-
полнила свою роль: чем сильнее проникалась она ду-
хом отца, тем больше укреплялась в ней воля к мести, к
той мести, которую сам он не хотел допустить из-за святой
строгости по отношению к себе. Она мучается из-за сво-
его подражания, я обрекла ее на эту муку, но так и не
смогла привить ей его святость, а без святости она не мо
жет не перенести свою муку на других, так что, например,
своей лицемерной манерой изображать заботу о матери
обрекает ту на настоящую пытку. Одно переходит в дру-
гое, и вышло, как я хотела, я воспитала ее для возмез-
дия за вину. Кровь похотливого убийцы в ней восстает,
конечно, против этого, не хочет принять кары, ну да это
ей не помогает. •
— Ради всего святого, — воскликнул тут А., — за что
же ей-то принимать кару? В чем же она виновата? Нель-
зя же валить на нее ответственность за родителей, тем
более что нельзя же любовь госпожи баронессы и госпо-
дина фоп Юны целиком признать преступлением!
Карающий взгляд настиг его—не столько, может быть,
из-за сказанного, хотя оно и было досадно Церлине, сколь-
ко из-за того, что он помешал ей закончить рассказ.
— Уж не собрался ли ты поддаться ее чарам? Ох, не
советую. Найди себе лучше стоящую девицу, с которой
тебе славно будет спать, а ей — с тобой, и даже если у
нее будут слегка красные руки, то это лучше, чем нама-
никюренное дерганье. Знаешь, почему она не хотела
сдавать тебе комнату? Да потому, что не было еще жиль-
ца, у двери которого — и Церлина указала рукой на
дверь комнаты — она бы не простаивала по ночам, и
каждый раз мысль об отце, который и не отец ей вовсе,
мешала ей, и она доходила лишь до порога. Бели не ве-
240
ришь, могу посыпать песочек в коридоре, как я уже пе
раз делала, сам увидишь ее перешителыгые следы. Это
ее мука, ее вина, ты пе давай только себя впутать. По-
тому что вместе со скверной растет и наша ответствен-
ность, становясь все больше,— и больше, чем мы сами,—
и чем глубже погружается человек в свою скверну в по-
исках себя, тем больше он должен взять на себя ответ-
ственность за преступления, которых не совершал; это
касается всех, и тебя, и меня, и Хильдегард,—и ей при-
ходится расплачиваться за провинности своих кровных
родителей. Мать же, госпожа баронесса, пленница нас обе-
их, хочет избежать терзаний и каждого жильца закли-
нает, чтобы он ей в этом помог. Вся душа их полна дер-
ганья, что мать взять, что дочь, а чтобы оно им было
внятней, я обратила его в адово скрежетанье, и адом стал
этот дом, такой с виду ухоженный и тихий! Святой и
дьявол, господин барон и господин фон Юна, который
теперь уж, верно, тоже помер,— две грозные тени пресле-
дуют их и раздирают на части. А может, и меня тоже. Мне
ведь тоже не помогло'то, что после господина фон Юны—
чтоб только не хранить ему верность — я заводила себе
все новых любовников; и совсем стало худо, когда я за-
метила, что любовники мои становятся все моложе, под
конец пошли вовсе уж мальчики, которых я прижимала
к своей груди, чтобы они утратили страх перед женщи-
ной и научились страсти, дающей людям покой. Заме-
тив это, я и совсем все прекратила. Только потому, что
стала стара? Нет, мне давно уже надо было прекра-
тить, и если б не было госпожи баронессы, я, возможно,
даже и не пустилась бы во все тяжкие с господином фон
Юной. Образ господина барона остался с тех пор нега-
сим во мне и светил все больше... Кто же в действитель-
ности овдовел, когда он умер? Разве не я? Больше соро-
ка лет прошло с тех пор, как он цапал меня за груди, а я
все любила его, всю мою жизнь, всей душой.
Вот каким оказался на деле конечный итог этой исто-
рии, и А. несколько удивился, что не предвидел его.
Церлина же, утомившись соответственно своему возрасту,
смотрела некоторое время в пустоту, а потом, с уже
обычной вежливостью служанки и обычным голосом, ска-
зала:
— Ну, вот я вам даже отдохнуть не дала после обеда
своей болтовней, господин А., ну да вы еще свое навер-
стаете, я надеюсь, — и, согнувшись, заковыляла из ком-
241
наты, дверп которой прикрыла с такой осторожностью,
словно в ней находился спящий.
А. спова откинулся на кушетку. Да, она права, надо
бы немного поспать. В конце концов еще не поздно: часы
на башне только-только пробили четыре. Вот и славно,
что вернулись мысли о сне, оборванные приходом Цер-
лины. Но, к его неудовольствию, мысли о деньгах снова
вылезли на передний план. И он снова должен был про-
кручивать собственную историю, как он начал зарабаты-
вать их, там, в Капленде, и как с тех пор судьба бросала
его к деньгам из одной части света в другую, с биржи
на биржу, и если считать Южную Америку отдельным
континентом, то их было шесть за пятнадцать лет, то
есть по два с половиной года на каждый. И все было чи-
стой случайностью. Мальчишкой он так мечтал украсить
свою коллекцию марок треугольником «Мыса Доброй На-
дежды», мечтал тщетно, с тех пор мечта о далеких стра-
нах, о Южной Америке так и жили в нем. Марки были
бы неплохим вложением капитала, но страсть коллекци-
онера в нем иссякла. Чего ему, собственно, хотелось?
Иметь дом, жену, детей? По-настоящему детям рады, в
сущности, одни только бабушки. Дети — помеха всякой
комфортабельной жизни, а еще больше портят жизнь
любовные истории, — на что они нужны, непо-
нятно.
Все эти проделки баронессы — чистая глупость; если
бы он тогда знал ее, — но тогда он еще вряд ли родил-
ся, — он бы вызвал ее к себе в Капштадт и спас бы тем
самым от этого подонка и его оскорблений. Правда, жен-
щины не очень охотно едут туда, это приводило уже к
нехватке женщин и соответствующим драмам на алмаз-
ных копях. Там господин фон Юна не собрал бы свою
коллекцию женщин. Жизнь он вел некомфортабельную.
А барон, был ли он счастлив? Лучше бы он сам сделал
сына своей жене. Хотя сын, пожалуй, все равно сбежал
бы от них в Африку, несмотря на безнадежность всякого
бегства. Ужасно, что вдова остается в своем доме, как в
тюрьме. Хорошо, если б можно было быть своим собствен-
ным сыном. Разве он не хотел после смерти отца взять мать
к себе в Капштадт, чтобы выстроить ей там дом? Она, по-
жалуй, была бы жива еще и поныне, имела бы, может
быть, внуков. Для детей стоило бы начать собирать
коллекцию марок, треугольник «Мыса Доброй Надежды»
он тоже раздобудет. Пусть себе истаивает, кончается
242
воскресенье, этот жизненный план, право же, неду-
рен...
Да, да, вот так и нужно планировать свою жизнь.
А. знал это сейчас со всей определенностью. Не знал он
только о том, что так и заснул за этими мыслями.
Возвращение Вергилия
Голубовато-серые и легкие, легким встречным ветром
гонимые, катились адриатические волны навстречу эс-
кадре императора, когда та приближалась к Калабрии,
и теперь, когда триеры, оставляя отлогие склоны берега по
левому борту, медленно направлялись к порту Брундн-
зий, теперь, когда залитое солпцем и дышащее смертью
одиночество моря все более и более уступало мирной ра-
дости людской суеты, теперь, когда воды покрылись мно-
гочисленными судами, тоже идущими к порту или плы-
вущими оттуда, и рыбацкие лодки под коричневыми па-
русами, покинув крохотные селения и крохотные молы и
выйдя на вечернюю ловлю, уже отделялись от белой при-
брежной каймы, — теперь вода стала гладкой, как зер-
кало, над ней была раскрыта перламутровая раковина
неба, вечерело, и порой чудился над водой дым костров,
доносящийся с пастбищ, когда легкий ветерок прино-
сил с собой звуки жизни на берегу — удар молота о нако-
вальню или крик.
Из шести триер, следовавших друг за другом строгим
порядком, вторая была самой большой и богато изукра-
шенной, с обитыми бронзой бортами и пурпурно-красны-
ми парусами — на ней стояла палатка Августа, и в то
время, как на первой и последней размещались воины-
телохранители, на остальных плыла свита цезаря. А на
той триере, что шла вслед за триерой Августа, находил-
ся творец «Энеиды», и печать смерти лежала на его
челе.
I Да и жил ли он когда-нибудь иначе, не заглядывая
Э лицо смерти? Перламутровая чаша неба, и пение гор,
и весеннее море, и божественные звуки флейты в соб-
ственной груди — разве не было все это лишь оболочкой
тех сфер, что скоро примут его и отнесут в вечность? Он
Оыл земледельцем, любившим мирный земной удел, и все
Же он жил на самом краю жизни, на краю своих полей,
И всегда оставался непоседливым, беспокойным, тем, кто
243
бежит смерти и смерти ищет, кто ищет трудов и трудов
бежит; любящий и, однако, гонимый, всю жизнь он ски-
тался из края в край, пока наконец его, пятидесятилет-
него и смертельно больного, не занесло зачем-то в Афи-
ны, как будто ему — нет, как будто труду его могло быть
дано там последнее исполнение и завершение. Кто может
различить судьбу впешпюю и судьбу внутреннюю? Судь-
ба, непроницаемая, пожелала, чтобы он встретил импера-
торова друга в Афинах, и судьбе было угодно, чтобы при-
зыв Августа вернуться с ним на родину прозвучал как
Неотвратимость, как приказ неотвратимых сил, которым
можно лишь подчиняться. Вергилий, возлежавший на ло-
же больным телом, слушал скрип рей, шорох и стук тро-
сов, следил за скольжением белой прибрежной каймы,
внимал такту взмахов двух сотен весел под собой, при-
слушивался к шепоту пенящейся у бортов воды и к се-
ребряному звону брызг, извлекаемых веслами, прислуши-
вался к погружению весел, и, подобно эху, те же звуки
доносились с передней императорской триеры и с той,
что шла следом за ними; он видел также людей на палу-
бе, приближенных цезаря, следовавших вместе с ним и
в то же время не с ним, ибо цель его путешествия лежа-
ла дальше, чем их цель.
Уже сгущались сумерки, когда суда достигли узкого,
похожего на фиорд, входа в бухту; перед укреплениями
но обе стороны канала был выставлен караул в честь
цезаря; крики воинов взлетали и бились в сером воздухе,
увядая в сырости осеннего вечера, и Вергилий, глядя на
них усталым, прищуренным взглядом, был привлечен
вдруг какой-то красной точкой на сером фоне, оказав-
шейся красным боевым стандартом в руках знаменосца,
который, стоя на фланге своей манипулы, в такт выкри-
кам взбрасывал вверх древко,— и этот красный сигнал,
вспыхивающий и пропадающий в туманной дымке, пока-
зался Вергилию скорее знаком прощания, чем привет-
ствия. Пологий склон, сбегавший от укреплений к каме-
нистому побережью, весь зарос кустарником; как бы
стремясь потрогать его листву, больной вытянул руку.
Как мягок был воздух, купель всего — и внутреннего,
и внешнего, купель души, воздух, текущий из вечного в
земное, несущий знапие, что будет в этом и в том мире.
На носу корабля пел раб-музыкант, и его песнь, как и
музыка его струн, сотворенные человеком, казались зам-
кнутыми в себе, далекими от человека, от всего человече-
244
ского, самопроизвольной музыкой сфер. Впитывая звукгт,
Вергилий глубоко вдохнул воздух, почувствовал боль в
груди и закашлялся.
А внутри бухты уже открылся город, обнажился ряд
ярко освещенных домов на набережной, потянулись осте-
рия за остерией — и перед ними толпа, собравшаяся, что-
бы наблюдать прибытие цезаря, толпа в пятьдесят или,
может быть, сто тысяч человек, мощное черное гудение
которой то затихало, то нарастало. На причаливших ко-
раблях тоже кричали люди, освещенные праздничными
факелами; в их свете вдвое темнее казались мачты, кана-
ты и свернутые паруса — мрачное переплетение корней,
тянувшееся из моря к светлому небу. Осторожней и мед-
ленней опускались теперь весла, триера Августа, скользя
вдоль набережной, причалила в положенном месте, кото-
рое уже оцепила стража, и это было мгновение, ожидае-
мое глухо рокочущей толпой, она выдохнула наконец
свой восторженный вопль, бесконечный, сотрясающий
В08дух и возносящий молитву ей самой, всем — в лице
одного, цезаря.
Всегда опасался Вергилий толпы, не потому, что она
внушала ему страх, но он чувствовал заключенную в ней
угрозу человеку, человеческому, ею рождаемую угрозу,
которая внушала сострадание и взывала к ответственно-
сти, — да, к такой великой ответственности, что он пе раз
^же думал: это бремя его раздавит, доведет до болезни, до
смерти. Иной раз казалось, что ответственность эта —
вовсе ne его дело, она касается только Августа, но слиш-
ком хорошо знал он, что та ответственность, которую
взял на себя Август, была совсем иного рода: Испания
была побеждена, парфяне покорились, гражданские вой-
ны остались далеко позади, империя казалась прочнее,
мощнее, заяшточнее, чем когда-либо, но все-таки остава-
лась угроза, грозящая всем беда, которую и Август не
!иог отвести, несмотря на свой жреческий сан, — несча-
стье, перед которым были бессильны и боги, его не за-
душить криками толпы, скорее уж теми слабыми вздо-
хами души, которые зовут песнопением и которые, ведая
6 несчастье, благовествуют счастье. Снова раздался рев
^икования, взметнулись факелы, корабль рассекали коман-
ды, о палубу глухо ударился брошенный с берега канат, и
Йот уже больной внимал топоту сотен ног, затаив в спо-
Ш сердце знание об аде.
Не впал ли он в забытье? Он бы, конечно, с радостью
245
отгородился от бурного ликования толпы, мощно расте-
кавшейся по площади, подобно извержению вулканиче-
ской лавы, но он цеплялся за сознание, цеплялся за пего
из последних сил, как человек, который чувствует прибли-
жение важнейшего момента земного своего бытия и пуще
всего на свете боится, что он этот миг упустил; и ничто не
ускользнуло от него — ни заботливые жесты и слова вра-
ча, который, по приказу Августа, был при нем неотлучно,
ни тупые, отчужденные лица носильщиков, пришедших
на борт за ним со своим паланкином, ни город, который
он вбирал в себя всеми чувствами, и подвальную гулкую
стужу узких улочек, и знакомый запах жилых казарм
со всеми их нечистотами, и первобытный запах толпы,
шумевшей вокруг, ничто не ускользнуло от него, более
того — все представало ему ближе, и отчетливее, и явпсе,
чем когда-либо прежде, и, несмотря на чудовищную уста-
лость от путешествия, он ни толики не утратил от тихого
своего достоинства и ласково кивал в ответ на всякое
приветствие, к нему обращенное. Все было близко до ося-
заемости — и словно бы парило в неверном воздухе, па-
рило, как он сам на высоко поднятом наланкине, то была
близость неустойчивого, вспять обратившегося времени,
разновременные события происходили в нем как бы ра-
зом, так что объятый пламенем факелов и шумом Брун-
дизий был в то же время горящей Троей, а он сам, не-
сомый сквозь пламя, был и бегущим, и возвращающимся
Энеем, слепым и зрячим одновременно, колеблемым на
сильных несущих руках сына. И когда его принесли
во дворец и, уложив в постель, оставили одного, этот
полусон-полубодрствование остался с ним, был к нему
как прикован; а за окном шумела улица, и в залах двор-
ца шумел пир, который город давал Августу, Август —
городу, — старый, усталый цезарь, взятый в плен своим
саном и властью, прикованный к ним, — и казалось,
будто улица и пир наплывают на ложе больного, будто
наплывает на него временное и сиюминутное, пытаясь
достичь его душу, самую ее глубь, протекает сквозь нее,
но достичь не может, ибо душа парит, парит в былом
и грядущем, выданная ожиданию, которое равно направ-
лено и вперед, и назад; и глаза Вергилия видели перед
собой лишь слабенькое пламя ночника.
И когда отослал себя и свои мысли Вергилий к да-
лекому детству, то он обнаружил, что легко может вер-
нуться вспять, к маленькому мальчику на крестьянском
246
дворе близ Мантуи, что это даже не возвращение, просто
то прежнее существование продолжается без изменений,
так что каждый удар сердца, тогда пережитый, каждый
лепесток, тогда видеппый, он мог бы легко теперь опи-
сать, и его только удивляло, что, хотя он вырос, стал
взрослым, принужден лежать здесь, на одре болезни, все,
что произошло с ним позднее, после детства, становилось
все более неясным, расплывчатым, призрачным: не толь-
ко хутор в Ноле с его крестьянами, полями, горами, ко-
вами, не только наполненные солнечным блеском дни в
Неаполе были позабыты, но и произведения, которые он
написал, чтобы они жили вечно, тоже потускнели, и труд-
но было вспомнить даже названия. Ничего от «Буколик»,
еще меньше от «Георгик», и если еще что-то медлило
исчезнуть, то это была «Энеида», но не та, какою он ее
написал, но какою пережил и не сумел воплотить. Поче-
му так случилось? Для кого он работал? Для каких лю-
дей? Для какого будущего? Разве не близок уже конец
всего? Не была разве обреченная на забвение ничтож-
ность всего достигнутого лучшим доказательством того,
что пропасть времени разверзлась, чтобы поглотить и веч-
ность? Пьяные орды во дворце и на улице, они еще пьют
вино, но скоро будут пить кровь, они еще размахивают
факелами, но скоро начнут гореть их кровли — пылать,
пылать, пылать. И вместе со всем исчезнут в дыму кост-
ров книги. И — правильно, правильно, правильно! Грудь
больного горела, но губы его слегка улыбались: ведь ко-
стер вряд ли пощадит и книги Горация, Овидия; опять-
таки правильно. Никто не останется. Но что потом? Что
может еще спасти людей, где найти им опору, чтобы
жить дальше? Не следует ли вернуться к детству челове-
чества, к простой, грубой, но мирной пастушеской, кре-
стьянской жизни, которая была ему колыбелью и к кото-
рой он потом всю жизнь тщетно стремился? Что мог
знать об этом Август? Он укрепил государство, он воз-
двиг дворцы, он защитил и его самого, Вергилия, но он
сделал все это напрасно—усталый старец, живущий пока
еще вне угрозы и опасности, приговоренный, быть может,
жить так долго, пока беда не постучится и в его дверь,
в ворота дворцов, которые, — о, это неизбежно, — рухнут,
погребая под обломками всю роскошь Августа, все соб-
ранные им вечные творения искусства. Они никому не
нужны, все эти творения, не нужна вся эта красота,
взлелеянная Августом и Меценатом, — не нужна и обре-
247
чена на погибель. На улице орут: «Август — отец». Не
поплатится ли Август за это? Заснуть? Кто может спать,
когда горит Троя!
И, когда ночь придвинулась вплотную, перед глазами
Вергилия встали разрушенные города и поверженные
святыни, некоторые из них он не знал даже по имени,
другие были ему знакомы, как Мантуя, город его дет-
ства; он увидел Вавилон и Ниневию, он увидел опусто-
шенные Фивы и многократно разрушенный Иерусалим,
и он увидел обезлюдевший Рим, Рим, по улицам которо-
го рыщут волки, спешащие вновь завладеть своим го-
родом, и он увидел, что боги бессильны. И тогда под-
ступил к его ложу ангел, его крылья были прохладны,
как забрезжившее сентябрьское утро, и сказал ему
ангел:
— Расти, малыш! — как будто то были слова утеше-
ния, но ведь этим он возвещал и приближение смерти.
— Хорошо, — ответил Вергилий и попытался разгля-
деть черты ангела, — хорошо, а сейчас я усну.
Веселый утренний ветерок уже стучал в ставни, а
Вергилий все еще спал; он грезил о земле, где в светлом
платье урожая колышутся поля, где лев возлежит рядом
с серной, о мире, более долгом, чем тот, что даровал на-
родам Август, и он грезил о том, что ангел придет и к
Августу. Сквозь все эти грезы проглядывало Знание, ко-
торому не было имени, это было видение, видение счаст-
ливой страны, не менее реальное, чем вид дымящихся
городов, такова была эта познанная безымянность, про-
зревающая безымянность любви, любви по-мужски креп-
кой и по-матерински нежной, любви, по которой томился
и которой ждал страждущий, открытый ей и ее вожделе-
ющий мир. Казалось, вот-вот обретет он искомое имя, но
когда Вергилий проснулся, поднял веки, его спальня бы-
ла наполнена сентябрьским солнцем, и вместо ангела
стоял перед ним Меценат, без крыльев, грузноватый гур-
ман, с добродушной улыбкой на массивном холеном лице,
и Вергилий поторопился вновь сомкнуть глаза, пытаясь
настичь исчезавшую музыку.
Но так как музыка исчезла бесследно, он, все еще с
закрытыми глазами, справился о своем посетителе, и тот
ответил:
— Да, мой Вергилий, это я.
— Хорошо, что ты пришел, — сказал Вергилий.
— Я узнал о вашем прибытии. И я поспешил сюда
248
встретить тебя и Августа, — да будет благословенно
имя его!
Вергилий кивнул.
— Да, ты приехал, чтобы забрать меня; верно, ты
ведь знаешь место на Посилипе, уготованное мне.
О могилах, о смерти Меценат не хотел и слышать.
— Ты не старше меня, — возразил он.
Вергилий посмотрел на него пристально, и взгляд его
был достаточно красноречив.
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — сказал он, — поверь
мне, Меценат.
— О мой Вергилий, в чем раскаиваться тебе, поэту
Рима!
— Будь я только поэтом Рима, я бы раскаивался.
Меценат покачал головой: и в глазах его вспыхнула
страсть гурмана.
— Ты певец красоты!
— Будь я певцом красоты, я бы стыдился теперь и
раскаяние мое было бы велико.
— Разве ты не певец богов?
— Нет... если бы я веровал в них, как они велят, я
никогда не посмел бы сочинять.
— Но ты же пел им во славу?
— Нет, я пел, чтобы найти их, но я не нашел их, я
нашел другое...
Предвкушение разлилось по лицу Мецената.
— Тогда ты поведаешь нам о том, что нашел, и это
будет прекраснее, чем все предыдущее.
Вергилий улыбнулся.
— Я не буду больше сочинять, Меценат; даже если
б мне было отпущено время, я бы этого больше не за-
хотел...
' Почтительность, с какой Меценат внимал словам по-
эта и друга, смешалась с выражением печали, и он про-
цитировал:
— «Моя Муза отныне умолкнет навеки, и в веках я
Ьам не вожатый отныне...» О Вергилий, неужели и
рправду так будет?
?/' — Песни отзвучат, Меценат, и статуи падут, но не
Печалься об этом, ибо их сменит истина, недоступная ни-
какому искусству, истина, перед которой искусство умолк-
ает.
Меценат был задет.
— О, никогда не исчезнет красота, — воскликнул он
249
с жаром, — ни перед какой истиной не умолкнет она,
и только она будет возвещать истину!.. Не поноси искус-
ства, дарованного тебе богами, Вергилий.
Опять улыбнулся Вергилий.
— Я не поношу его, я только начинаю о нем забы-
вать... Но я не раскаиваюсь в этом, Меценат... право, не
красоты ради...
Из почтения к поэту, из почтения к смерти Меценат
не осмелился больше возражать и только вздохнул. Вер-
гилий же, с закрытыми глазами, продолжал говорить, и
говорил он, обращаясь не к Меценату, а к себе самому:
— Что делается красоты ради, ничего не стоит и за-
служивает проклятья... но что делается ради истины,
способно подготовить людское сердце для благой вести...
Как арфу, что зазвучит от порывов ветра... И лишь та-
кое сердце чисто...
Улица и двор наполнились звоном копыт, — это были
гонцы, снующие туда и сюда, это были приготовления к
предстоящему выезду цезаря, это была придворная,
охватившая дворец суета. Ее шум сливался со скрипом
крестьянских телег, шарканьем сандалий по мостовой,
то и дело заглушаемым тяжелыми шагами воинов, по
временам из отдаления доносились крики с базарной пло-
щади. И, возвращаясь от всей этой суеты к Меценату,
Вергилий сказал по-дружески:
— Дела влекут тебя к Августу, а по мне они слиш-
ком уж шумны. Но. приходи сюда снова, прежде чем вы
уедете...
— Август тоже хочет прийти к тебе, — сообщил Ме-
ценат и плавно, несмотря на полноту, поднялся, не забыв
оправить складки и одернуть тунику.
— Хорошо, — согласился больной, — приходите оба,
если позволят дела, а до тех пор скажи Августу, что я
люблю его...
Меценат невольно остановился, словно ожидал еще
каких-то торжественных слов, к которым обязывали и
минута, и дружба, и почтительность, и Вергилий тоже
иочувствовал это, но ничем этого не обнаружил, он просто
лежал и молчал, хотя расставаться с другом ему было
больно; и лишь когда Меценат стал удаляться, мягко,
на цыпочках, нанося столь непривычной походкой за-
метный ущерб своей осанке, о которой он так заботился,
даже и сейчас, Вергилий смотрел ему вслед, почти сме-
жив веки, и если бы Меценат сейчас обернулся, ou уви-
250
дел бы, насколько растрогал поэт и не менее того удив-
лен; да, огромное удивление охватило Вергилия, удивле-
ние, в котором он и сам еще не смог разобраться, — он
был удивлен той болью, которую испытывал, расставаясь
с Меценатом и Августом, тем, что это так вошло ему в
душу, и еще больше тем, что глаза его точно так же сле-
дуют за Меценатом, как и прежде, и что слух его все еще
продолжает ловить шумы города, и он не мог не удив-
ляться, что сознапие его по-прежнему оставалось непо-
мраченным, когда в нем происходило все это! Воистину,
чем смятеннее и надломленнее чувствовал он себя в по-
следние годы, тем больше росло его любопытство: а что
там, за грапью смятения и болезни, — удивленное и уди-
вительное любопытство, которое охотно брало на себя
все телесные неудобства и муки, словно бы холило их,
лишь бы приблизить конец, то Необъятное, что придет с
исчезновением, чтобы дать приют, а теперь, когда такое
мгновение как будто настало, он точно так же видел, точ-
но так же слышал и точно так же думал, как и всю свою
жизнь, и это его удивляло. Вот и ушел Меценат, доволь-
ный, что может вернуться к собранным им произведени-
ям искусства, к земной красоте своего дворца, избавлен-
ный от пророка, не желавшего ничего более о ней слы-
шать, и уже почти казалось, что Меценат прав, на удив-
ление прав. Что может заменить красоту, если жизнь
человека не простирается дальше, чем его способность
смотреть и слушать? Увы, сердце не может звучать до-
лее, чем оно бьется, — зачем же ополчаться на красо-
ту, которая способствует чистоте его звучания? Вергилий
пытался все это осознать, но опять и опять возникали в
его сознании картины, образы, сцены, им виденные, им
пережитые, и опять были полны страдания и боли: пусть
поля сражений далеки отсюда — в Британии, в Германии,
в Азии, но ведь там погибают люди, там их убивают; и
пусть справедливо судят имперские суды, пусть все это
и вправду преступники — те, что висят на крестах и кор-
чатся в муках повсюду на дорогах, — это ведь тоже лю-
ди, и те, кого травят на аренах, кромсают, вакалывают,—
тоже люди, и люди те, кто убивает друг друга на потеху
толпе, проливая кровь, кровь, кровь; жертвы, бессмыс-
ленные жертвы звериному инстинкту толпы и тому су-
етному, земному, чему и Август, и Меценат тоже слу-
жат — каждый по-своему, ибо они хотят оставить все
так, как было, и — самое большее — стремятся к красо-
251
те, слепые к помрачению чувств, слепые к жажде крови,
слепые к единой душе, которая грозит потонуть в этом
безудержном, необузданном, диком. Что можно противопо-
ставить всей этой крови, всем этим жертвам, всем этим
мукам? Стихи? Не слишком ли мало и не слишком ли
много? Способны ли стихи изменить такой мир? Спосо-
бен ли человек, с удовольствием глазеющий на пытки,
вообще слушать стихи? Не нужно ли больших усилий,
чтобы заставить себя слушать? Поистине это так; кто не
жертвует сам, кто не спускается сам на арену, кто сам
не висит па гфесте, кто не отдает всего себя, всю свою
жизнь, тот не должен, тот не может, тот не имеет права
надеяться, что ему когда-либо удастся разбудить в смя-
тенном сердце чистые звуки. А он, как жил он сам? Он
бежал! Он бежал от жертвы и от траты себя, он бежал
из одной страны в другую, пока не стал слаб и не устал, и
он писал стихи, которые были лишь бегством, бегством в
красоту. Нет, он был не лучше, чем Август и Меценат,
он не опровергал ни их мнений, ни их дел, — ни в жиз-
ни, ни в стихах, — и они с полным правом могли рассчи-
тывать на посвящение им «Георгик» и «Энеиды». Без
сомнения, им принадлежат эти его творения, пусть бы
взяли их с собой и сохранили, это было его завещание
им, друзьям, которых он любил и которых не желал те-
перь видеть: скорее бы они уезжали, по-императорски
торжественно, в их суетный Рим. Но, может быть, они
уже уехали? Вергилий прислушался: во дворце стало за-
метно тише, глуше звучал и шум города. Неужели они
и вправду покинули его, не попрощавшись? Тень горечи
пробежала по челу поэта: он хотел бы им еще сказать,
что во всех его произведениях таилось нечто скрытое,
нечто, не имевшее отношения к собственно красоте, но
бывшее важнее, чем всякая красота, нечто неявное и не-
очевидное, что нужно еще найти и на след чего он толь-
ко сегодня напал. Это стоило бы разговора. Но, может
быть, они еще не уехали, может быть, мостовую устлали
соломой, а подковы лошадей обмотали тряпками, чтобы
приглушить стук копыт; они ведь внали, что он лежит
здесь больной, что у него горит грудь и что ему нужно
подумать о скрытом и тайном в его песнях, прислу-
шиваясь к дневному свету, которого он больше не видел.
И чем напряженнее он вслушивался, тем глуше и отда-
леннее звучали шорохи жизни, они отступали, затихали,
они были как завесы, которые медленно и осторожно
252
кем-то раздвигались одна за другой, пока ничего не оста-
лось, кроме того, что было между словами и строчками,
и это была мудрость его сердца, предчувствие сердца и
красота тоже — это была жертва его сердца. Последние
отзвуки замерли, и наступила та тишина, какая встреча-
ет певца, когда тот замрет, готовясь ударить по струнам.
Великая тишина человечества — не толпы, но общины
душ; великая ясность, которая то подступает, то отступа-
ет, немое слияние певца и ему внимающего в единой
песни сфер, которая в одно время рождается в обоих и
разом смолкает. Певец, Вергилий, прислушался, напряг-
ся,— напрягся как струна арфы, да, он сам был арфой и
ждал руки, которая бы коснулась его сердца, чтобы оно за-
звучало в чистой своей напряженности, томительно ждал
этой руки, потому что, когда сердце звучит, ему не боль-
но. И когда он лежал так, прислушиваясь и все яснее
чувствуя, как ведомая любовью рука приближается к
его сердцу, словно то подступает мягкий вечер, спуска-
ясь все ниже и плотнее, ночная мгла, наполненная жур-
чанием ручьев, густой тенью дубов и пиний, объявшей,
поглотившей, скрывшей пастухов и нимф,— посреди всего
этого, что Вергилий так любил и что уже совсем не видел,—
он распростер руки, как будто хотел, как будто собирался
обнять весь мир и навсегда войти в него, так как он снова
услышал ангела, который сказал:
— Расти, малыш, расти, пой и веди за собой других,
будь вожатым во времени, предчувствуя вечность.
Йозеф Pom
(1894^1939)
Апрель
История одной любви
Я приехал в город апрельской ночью, наполненной
мраком и дождевыми тучами. Из негустого тумана в не-
бо поднимались серебряные тени города — нежные, по
смелые, как мелодия. Готический собор тонкими паучьи-
ми лапками карабкался под облака. Светящийся желток
часов на ратуше плыл в воздухе, словно подвешенный на
веревочке. У вокзала стоял сладкий, пьянящий запах
угля, жасмина и свежей травы.
У вокзала ждал единственный в городе экипаж —
равнодушный и запыленный. Видимо, город был малень-
кий. В нем, как водится, были церковь, ратуша, фонтан,
бургомистр, кучер. Лошадь была гнедой, с широкими ко-
пытами, с красноватыми наколенниками и без шор. Ее
большие глаза благодушно взирали на площадь. Заржав,
она наклоняла голову набок, словно человек, собира-
ющийся чихнуть.
Я сел в экипаж и вскоре обогнал подпрыгивавшие на
дороге корзины, коробки для шляп и чемоданы вместе с
вцепившимися в них людьми. Я слышал, что говорили
друг другу эти люди, и мне открывалась бедность их
судьбы, нищета переживаний, скудость печалей и забот.
Над полями по обеим сторонам дороги стоял туман. Он
был похож на разлитое олово и напоминал о море и бес-
конечности. Поэтому коробки, люди, слова, дрожки каза-
лись столь малозначащими и смешными. Я действитель-
но верил в существование моря вокруг меня и только
удивлялся его безмолвию. Оно, должно быть, умерло, ду-
254
мал я. Фабричная труба, внезапно возникшая за белым
углом дома, — пугающая, несмотря на свое изящество,—
походила на потухший маяк.
Случайные люди оседали по обочинам дороги, образуя
предместье города. Они были просты и наивны, я мог
видеть, чем они занимались. Мать мыла ребенка в коры-
те. У посудины были блестящие жестяные ручки, а ре-
бенок плакал. Мужчина сидел на кровати, и мальчик
стаскивал с него сапоги. У мальчика было красное от на-
туги лицо, а сапоги были грязные. Старуха мела пол в
комнате, а я гадал, что она будет делать дальше: снимет,
должно быть, со стола красную с синим скатерть, подой-
дет к окну или двери и вытряхнет остатки еды в пали-
садник.
Мне было жаль ребенка в корыте, мальчика, стаски-
вающего сапоги, объедки. Старухи, принимающиеся к ночи
за уборку, наверное, злы. Моя бабка, злая, как собака,
поздним вечером всегда мела пол. Я был маленьким,
ненавидел бабку и веник и любил клочки бумаги, окур-
ки и всякий мусор. Все, что я мог, я спасал с полу от
бабки и веника, пряча в карманы. Соломинки пользо-
вались у меня особой любовью. В них было больше жиз-
ни, чем в других вещах. В дождливые дни я любил
Усмотреть в окно. На волнах одного из бесчисленных дож-
девых ручейков всегда держалась, танцуя, кокетливо и
беззаботно поворачиваясь, соломинка, ничего не ведая
о водостоке, который собирался ее поглотить. Я мчался
на улицу, дождь был тяжел и неистов, он хлестал меня,
но я бежал спасти соломинку и настигал ее у самой ре-
шетки водостока.
Несмотря на ночь, мне попадалось мпого людей. Что,
вдесь так поздно ложатся спать? Или виной тому апрель
и ожидание, разлитое в воздухе, ожидание, что все жи-
вое вот-вот проснется? Люди, шедшие мне навстречу,
были как-то по-особому значительны. Ими вершила судь-
ба, они сами были судьбой; они были счастливы, или не-
счастны, или, по крайней мере, пьяны, но ни в коем слу-
чае не равнодушны или случайны. В маленьких город-
ках ночью на улице не бывает случайных людей. Только
любовники, или уличные девки, или сторожа, или сума-
сшедшие, или поэты. Случайные и равнодушные сидят
себе дома.
Посреди базарной площади стоял основатель города,
каменный епископ, похожий на надзирателя или приста-
255
ва, — столь важный и насупившийся. Но, я думаю, лю-
ди считали его совершенным мертвецом. Они проходили
мимо, не здороваясь, они бы не побоялись выболтать при
ием тайну или совершить преступление. Зачем он вооб-
ще был им нужен?
Мне было жаль епископа, который, должно быть, не-
мало потрудился, закладывая город. В углах его губ
залегла горькая складка, у пего был вид человека, по-
знавшего неблагодарность мира. В ту ночь я обещал себе
навести о нем справки в книгах по истории. Но я так и
не сделал этого. Ибо и в этом маленьком городе у жи-
вых людей были свои истории, они то и дело попадались
мне на пути, окружали меня и не отпускали. А кроме
того, была весна — то есть та пора, когда мне не
до епископов и основателей.
Уже на следующее утро я узнал несколько историй.
Я узнал, что Почтальон хромает вовсе не от рожде-
ния, а всего лишь несколько дней. Пил он редко, дваж-
ды в год: в свой день рождения — пятнадцатого апре-
ля — ив день смерти своего сына, покончившего с со-
бой в большом городе. Но пил основательно: три дня
бродил по городу, держась за ограды, прежде чем про-
трезвиться. В эти три дня в городе не получали писем.
Всякое сообщение с внешним миром приостанавливалось.
Неделю назад, пятнадцатого апреля, находясь в пья-
ном беспамятстве, Почтальон оступился и повредил но-
гу. С тех пор он хромает.
Это была не единственная история.
В гостинице, где я остановился, пахло нафталином,
мускусом и старыми вениками. В большой столовой с низ-
ким сводчатым потолком была трактирная стойка, на сте-
нах висели четырехугольные коричневые дощечки со
шпрухами. Анна, официантка, опираясь правой рукой о
подоконник, стояла у окна и следила, чтобы не пустова-
ли пивные кружки. Они никогда не были пусты. Люди
здесь пили очень много вина, налегали на пиво и стуча-
ли крышками, если Анна была недостаточно вниматель-
на л проворна.
Анне в то время было двадцать семь лет, и она была
блондинка. Она выглядела так, будто только что вышла
из воды. Таким упругим и светлым было ее лицо, так
небрежно выбивались на лоб ее мокрые пряди.
256
У нее были красивые, сильные, но робкие руки, ко-
торые, как мне казалось, всегда чего-то стыдятся.
Анна была родом из Богемии и любила Инженера.
Инженер был управляющим на той фабрике, где рабо-
тал отец Анны. У Анны был ребенок от Инженера.
Инженер женился, а Анне дал денег на ребенка и
дорогу. Так она и стала официанткой в этом городе.
Иногда мне случалось бывать в комнате Анны, и я
видел фотографию ее ребенка. Он был красив. Он тере-
бил воздух круглыми кулачками и жадно впивал мир
большими глазами.
Анна была неразговорчива и рассказала свою историю
кратко.
Я терпеть не мог таких инженеров и любил Анну.
— Вы все еще любите его? — спросил я Анну.
— Да, — сказала она. Она сказала это сухо и кате-
горично, словно выдавая деловую справку.
В городке был кинотеатр. Им владел еврей — торго-
вец текстилем. Он был прилежен и деловит и открыл
кино, потому что мучился от вынужденного безделья по
воскресеньям. Теперь он в будни продавал свой текстиль,
а по воскресеньям показывал фильмы.
В кино я пошел с Анной.
В городке была библиотека. Молодой человек, в обя-
занности которого входило выдавать книги, а когда не
было посетителей — вытирать пыль, был романтически
бледен и худ, как поэт минувшей эпохи. Его лик осеня-
ла шапка желтоватых волос. Он не расставался со стре-
мянкой, передвигаясь с ней за конторкой, — ему это уда-
валось лучше, чем любому маляру. Это ему удавалось
так, как будто он вообще не умел ходить без стремянки.
В библиотеке были и старые, хорошие книги, и я ходил
с Анной в библиотеку.
Анна была очень рада.
Иногда мне доводилось узнать, что Анна может быть
нежной. Я любил женщин, чья доброта, как засыпанный
[Источник: медленно, незаметпо, но неустанно она проби-
вается к поверхности и, не пайдя выхода, устремляется
^вглубь, все глубже, пока не иссякнет. Я любил Анну.
fl не мог пройти мимо ее доброты. Она не знала, сколь-
ко теряет, живя повернутой вспять жизнью, сосредоточив
лее желания на прошлом.
9 Австрийская новелла XX в. 257
Я еще не сказал о парке, приютившем любовь этого
городка. Золотой дождь легкомысленно и жидко струился
между лип и каштанов. Скамейки стояли в стороне от
аллей, прямо на газонах. Я думал, что скамейки посадил
еще епископ и они растут вместе с каштанами и липами.
Их ножки, наверное, уже пустили корни в рыхлую почву.
По воскресеньям, после кино, я ходил с Анной в
парк.
Однажды мы увидели там целующуюся парочку, и
Анна засмеялась.
— Нехорошо, Анна, — сказал я, — смеяться над лю-
бовью. Не люблю, когда люди так лгут.
Тогда Анна перестала смеяться.
Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что хозяин ра-
зыскивает Анну, потому что приехал постоялец. У него
был новый хрустящий кожаный чемодан с зелеными и
красными наклейками. У него были черные волосы и
блестящие глаза, он наверняка умел играть на мандолине
и совращать девушек.
Если бы я мог заглянуть в его бумажник, то нашел
бы там коллекцию пестрых платков и светлых локонов и
розовых писем. Сделать это было невозможно, да и не-
зачем: мне не нужны доказательства того, что я и так
знаю наверняка.
Он пил пиво в комнате хозяина. Пиво не шло ему, с
таким лицом ему следовало бы пить вино. Он был изыс-
канно вежлив с Анной, подававшей на стол. Он говорил
витиевато. Пишет он, наверное, так же, подумал я.
В эту ночь у меня кончились свечи. Я вышел в кори-
дор и открыл дверь в комнату Анны. Анна сидела в ру-
башке на кровати и плакала. Она не испугалась, когда
я вошел, но продолжала со всей основательностью вы-
плакивать свое горе.
Потом она сказала:
— Он так похож на него.
Новый постоялец был похож на Инженера Анны.
— Это так ужасно, — сказала Анна.
С тех пор мы любили друг друга и пе скрывали это-
го. Анна умела быть очень нежной и ревнивой тоже. Но
я не обращал внимания на других женщин. Женщины
в этом городе мне совсем не нравились.
Разве что золотыми весенними вечерами, когда я на-
258
блюдал, как они возвращаются с полей домой, опи мне
казались привлекательными. Они существовали затем,
чтобы обновлять мир. Они росли, любили, рожали. Вес-
ной они начинали свое материнское дело и вершили его
в течение года. Я видел, как они, опьяненные и жажду-
щие опьянения, нежно и яростно выполняя завет госпо-
да, как майские жуки, устремлялись в весенний лес.
Ночь заставала их в подворотнях, где они липли к
усам и губам мужчин, смеялись и были благодарны за
каждое ласковое слово, брошенное им под ноги. Прекрас-
ны ночи, когда без умолку стрекочут цикады и девушки.
И дождливые дни тоже.
В окнах было видно, как девушки читали книги, взя-
тые в библиотеке, и ели бутерброды. По улице проби-
рался зонтик, укрывая тощего, вихлястого нотариуса.
Нотариус походил на шагающего на двух ножках куз-
нечика.
Соломинки танцевали, вращались, кружились, кокет-
ливо и доверчиво плыли навстречу водостоку. Я больше
не бежал спасать их, хотя всегда думал, что надо бы по-
бежать. Дождь. Беззащитные соломинки, водосток и я—
мы не могли друг без друга. Может быть, и нотариус
имел к нам некоторое отношение. Дождливый день был
заштрихован серым, соломинка тонула, водосток ее по-
глощал, нотариус брел под зонтиком вдоль улицы. Мое
дело было спасать соломинку. У всякого в этом мире
свое назначение.
Каждый день я вставал спозаранку. Анна еще спа-
ла — как и хозяин, как и второй постоялец. Обувь оби-
тателей дома стояла еще не вычищенной — кусочек вче-
рашнего дня — пред дверьми. По двору слонялся пудель,
вевая и разыскивая недогрызенные кости под экипажем.
С бессмысленными оглоблями, без упряжи, экипаж за-
стыл у сарая, словно музейная колесница. Якоб, кучер,
храпел в сарае. Мощно и азартно выхрапывал он гимн
Природе и здоровью. Он не был смешон, его храп. Он
Звучал властно и сильно, как глухой раскат грома, как
трубный глас лося. В пять часов издалека, как будто из
Другого мира, долетали звуки паровой мельницы и буди-
ли Якоба, кучера. Он, должно быть, спал в одежде, ибо
тут же поднимался и выходил с последним дрожащим
9»
259
звуком мельничного гудка—в клетчатой жилетке, в брю-
ках, заправленных в сапоги, с непокрытой головой и с
помятым пергаментным лицом. Набрав воды в рот, он
поливал себе на грубые, мозолистые руки и протирал лоб
и глаза. Потом шел наискось через двор к дому, с тяж-
ким усилием выдирая ноги из земли, словно деревья с
корнями.
На первом перекрестке открывала свое окошко Кете
и поглядывала вниз, на город. Я всегда здоровался с Ке-
те, хотя ни разу с ней не говорил. Нам не о чем было с
ней говорить. Я здоровался с ней потому только, что она
высовывалась из окна, и потому, что ранним утром мир
необычаен и нов, как в дни его детства, как в первые
годы после творения, когда его населяло всего человек
двадцать и все двадцать были приветливы и милы друг
с другом. Позднее, когда я возвращался, был уже пол-
день, мир был старше на тысячелетия, и я уже ни с кем
не здоровался. В столь преуспевшем мире нелепо было
здороваться с девушкой, с которой не обмолвился ни еди-
ным словом.
По парку передвигалась круглобрюхая поливальная
бочка, окропляя газоны и клумбы. Некий дрозд с хули-
ганскими замашками увивался тут же, подставляя под
брызги левое крыло. Где-то поблизости разместился пан-
сионат ласточек, заполнявших веселым шумом свои ка-
никулы. Вокруг скамеек, стоявших посреди газонов, трава
была прибита и утомлена ночной любовью людей. Мне
навстречу по парку шел дежурный по вокзалу.
Этого Железнодорожника я ненавидел. Он был весь в
веснушках, необычайно длинный и прямой. Встречая его,
я размышлял о том, что не худо бы написать министру
железных дорог. Я вынашивал предложение использо-
вать ненавистного мне чиновника в качестве телеграфно-
го столба где-нибудь между двумя маленькими станци-
ями. Но министр никогда не оказал бы мне эту услугу.
Я не знал, почему так ненавижу Железнодорожника.
Вытянулся он чрезвычайно, но я вовсе не склонен нена-
видеть все чрезвычайное. Мне казалось, что он вырос
так с умыслом, и это меня раздражало. Мне казалось, что
у него с детства не было других дел, как только расти да
копить веснушки. Кроме того, у него были рыжие во-
лосы. И он везде носил свою форму и красную фуражку.
260
Он ступал медленно и осторожно, хотя мог бы ходить
быстро на своих длинных ногах. Но он передвигался
шажками и все рос, рос, рос.
Я и сегодня мало знаю о Железнодорожнике. Но уже
тогда я мог поклясться, что у него на совести не одна
скрытая подлость. Я был уверен, что он мог бы подстро-
ить катастрофу поезду, в котором ехал его недруг, и сва-
лить вину на стрелочника. Было опасно ездить по же-
лезной дороге.
Такой человек, думал я, не пожертвует ради женщи-
ны своей красной фуражкой. Когда он любил, то, навер-
ное, бережно укладывал ее на стул рядом с собой. Он
не забывал расправить стрелки на брюках и, конечно, не
понимал, за что можно быть благодарным женщине. Он
мог овладеть женщиной вероломно. И он был ревнив.
Встречая его, я думал о письме ко всем женщинам
мира: «Женщины! Берегитесь Железнодорожников!»
Анна тоже не любила его. Анна спрашивала:
— Почему я его ненавижу?
Я не знал, что ответить Анне, и рассказывал ей исто-
рию об Авеле, моем друге, и женщине его жизни.
Авель, мой друг, мечтал о Нью-Йорке.
Авель был художник-карикатурист. Он рисовал кари-
катуры уже в то время, когда еще не мог держать каран-
даш в руке. Он мало ценил красоту и любил искажения
и неправильности. Он не мог произвести на свет ни од-
ной прямой линии.
Авель мало ценил женщин. Мужчины любят в женщи-
не совершенство, которое они в ней находят. Авель отри-
цал совершенство.
Сам он был уродлив, поэтому женщины любили его.
За мужской уродливостью женщинам видится скрытое
совершенство или величие.
Однажды ему удалось поехать в Нью-Йорк. На паро-
ходе он впервые в своей жизни увидел красивую жен-
щину.
Когда прибыли в гавань, красивая женщина исчезла
;Из виду. Тогда следующим же пароходом он вернулся в
Европу.
ï; Анна не могла понять, какое отношение имеет исто-
рия Авеля, моего друга, к Железнодорожнику.
— Почему ты рассказал мне об Авеле?—спросила она.
261
— Анна, — сказал я, — все истории на свете связаны
друг с другом. Либо потому, что они схожи, либо потому,
что противоположны по смыслу. Между Железнодорожни-
ком и моим другом Авелем есть разница. Очень большая
разница. Авель, мой друг, гибнет, а этот дежурный по
вокзалу будет жить и станет начальником станции.
У Авеля, моего друга, есть мечта. Никогда у дежурного
по вокзалу не будет иной мечты, кроме той, чтобы стать
начальником станции. Авель, мой друг, уехал из Нью-
Йорка, потому что потерял из виду женщину своей жиз-
ни. Железнодорожник никогда не уедет из-за женщины
из Нью-Йорка.
Я был убежден, что теперь Анна все поняла. Но она
обняла меня и спросила:
— А ты уехал бы из-за меня из Нью-Йорка?
В ту ночь я был особенно нежен с Анной, потому что
знал, что не уехал бы из-за нее из Нью-Йорка. Я боял-
ся сказать ей это и поэтому любил ее. Я был труслив и
притворялся мужчиной. Но Анна разгадала меня и за-
плакала. Теперь я похож на Инженера, подумал я.
Утром я ушел рано — Анна еще спала. Она почув-
ствовала, что меня нет, и шарила рукой по пустой посте-
ли, не просыпаясь.
Был дождь, поэтому я пошел в кафе.
На кельнере был помятый фрак, у его правого бедра
болтался кожаный кошелек. Его звали Игнац, и все на-
зывали его по имени. Только я говорил: «Господин обер!»
Игнац работал день и ночь. Он спал в кафе на двух
стульях, поэтому фрак его был помят. Кошелек он ни-
когда не отстегивал от пояса. Игнац был как-то сплющен
с обеих сторон, как рыба. Его руки свисали вяло, как
плавники, просунутые в пиджак. Кроме того, у него бы-
ли большие серо-зеленые рыбьи глаза и холодные, влаж-
ные руки. Он все время вытирал их о кошелек.
Я не любил Игнаца, потому что он не хотел быть
кельнером. Он читал все газеты и разговаривал с посе-
тителями о политике. Он хотел быть политиком. Он оста-
вался кельнером и был недоволен этим. У него всегда
был такой вид, будто посетители виноваты в том, что
карьера его не удалась. Он брал чаевые и благодарил
очень сухо.
Однажды я пришел в кафе с Анной. Игнац сказал:
262
— Как поживаете, фрейлейн Анна? — и вытер руку
о кошелек, чтобы поздороваться с Анной сухой рукой.
— А вы, Игнац? — спросила Анна и дала ему руку,
v Так как Игнац держал руку слишком долго, я ска-
зал:
— Господин обер!
Тогда Игнац поклонился и отошел.
В кафе на стене висел большой календарь.
Каждое утро в половине восьмого появлялся Почт-
мейстер с белыми бакенбардами. Почтмейстер держался
Очень прямо, у него были длинные брюки и шпоры
|ра ботипках, может быть, для того чтобы не истрепа-
лись края брюк. Почтмейстер, наверное, служил в артил-
лерии.
У Почтмейстера были голубые глаза — очень добрые
р очень голубые. Я думал, что он заказал их у оптиков.
^А его баки были сказочно белы. Может быть, он их пуд-
рил каждое утро или на ночь.
Каждое утро Почтмейстер отрывал листок календаря
^в кафе. У Игнаца бы весь год оставалось первое января.
|Но Почтмейстер следил за тем, чтобы у каждого дня был
свой номер и свое название,
v Я любил Почтмейстера.
1 Парк, приют любви, лежал не в центре, а на краю го-
рода. Парк кончался лугами.
У входа в парк был бар, в котором я ужинал.
Напротив была почта.
Почта размещалась в новом, белоснежной побелки,
здании с гербом над входом и почтовым рожком над зе-
леной двустворчатой калиткой. Это было единственное
в городе двухэтажное здание.
' На втором этаже жил господин Почтмейстер.
и На втором этаже всегда было открыто одно окно. Дол-
жно быть, это комната Почтмейстера, думал я. Ему при-
водится много смотреть на небо, чтобы глаза его не
утрачивали голубизну. У Почтмейстера, думал я, нет
|*етей, у него старая жена с седыми волосами, расчесанны-
ми на пробор. Они разговаривают только вечером, Почт-
мейстер и его жена.
' В баре я всегда садился так, чтобы видеть открытое
ркно в доме напротив. Я ждал момента, когда появится
Почтмейстер. Но он появлялся редко.
263
Однажды я увидел в окне изумительно красивую де-
вушку. Она смотрела на небо.
Ее красота испугала меня. Я смотрел на нее неотрыв-
но, так что она почувствовала мой взгляд и посмотрела
в мою сторону. От смущения я поздоровался. Она отве-
тила. С тех пор она каждый день подходила к окну.
Словно дикий виноградник, рассаживаю я пережива-
ния и смотрю, как они растут. Я ленив, и моя страсть —
Ничто. Но с того часа, когда я увидел девушку в окне,
я стал жить в постоянном волнении, которое знал лишь
по детским годам. Тогда я еще был частицей мира — со-
ломинкой, плывущей и уносимой неведомо куда. Тогда
я плакал, потеряв коробочку или другую безделку. Став
взрослым, я перестал смеяться и плакать. Никто не мо-
жет причинить мне страдание. Я вырос из боли и радости.
Теперь мою жизнь вновь наполнили боль и радость,
и к пустякам вернулась значительность.
Девушка каждый день выглядывала в окно, когда я
проходил мимо. Каждый день я кланялся. На третий
день она улыбнулась.
Ее улыбка научила меня понимать, что в мире нет
пустяков. Ее улыбка на третий день была огромным со-
бытием.
У нее было маленькое и бледное лицо. У нее были
черные, блестящие, словно начищенные, глаза. У нее бы-
ли гладко зачесанные назад волосы. У нее были узкие и
пугливые плечи.
Ее окно оставалось открытым и во время дождя. Я
сидел в баре и смотрел в окно, залитое дождем. Я часто
вытирал стекло. И тогда девушка улыбалась.
Однажды столик у окна оказался занят, и, не став
есть, я вышел и стал прогуливаться взад и вперед. Я был
смешон, как ночной сторож. Я поднял воротник пальто
и брел медленно, большими шагами. С моей одежды сте-
кала вода. В подъездах почты и ресторана стояли люди и
ждали, когда кончится дождь. При вспышках молнии
они вздрагивали и умолкали. Иногда они смотрели на
меня. Молодая крестьянка в деревянных башмаках и с
дразнящим бюстом, дрожавшим под мокрой рубашкой от
холода и волнения, потянула меня за рукав, освободив
мне место рядом с собой. Но я пошел дальше, и девушка
в окне улыбнулась.
264
Люди смотрели на то окно и смеялись. Молодая кре-
стьянка смеялась вместе с ними. Я оглянулся, и они сму-
тились; наверное, приняли меня за сумасшедшего.
Этим событием я жил целую неделю. Я рассказал о
нем Анне, и Анна принялась смеяться надо мной.
, — Почему ты смеешься? — спросил я. — Я люблю
aty девушку.
— Почему же ты не поднимешься к ней?
— Я это сделаю!
— Нет, не делай этого! — попросила Анна. — Вдруг
ее действительно любишь.
v..
Никогда не забуду, как однажды Почтмейстер появил-
ся в окне рядом с девушкой. Я поздоровался, и Почт-
мейстер ответил мне как старому другу.
^ Девушка была его племянницей, сказала Апна.
Ц Я решил пойти к Почтмейстеру.
| Но прошло две недели, а я все еще не был у него.
Р хотел сказать ему: «Почтеннейший господин Почтмей-
стер! Мне нравятся ваши глаза, и ваши шпоры, и даже
ваши длинные брюки. Но эту девушку я люблю. Я ду-
$$ак>, что она — женщина моей жизни. Я не хочу ее по-
рэрять, как Авель, мой друг».
' И тогда я расскажу ему историю о моем друге Авеле.
% Почтмейстер улыбнется и встанет, и шпоры его тихо
еазвенят, как серебряные цимбалы под рукой неопытного
Ученика.
î" Девушка поймет мою историю и не станет задавать
Допросы, как Анна.
$ Девушка вообще другая. Я найду слова для нее.
fr Я поехал в другой город, чтобы послать денег на свое
собственное имя. Я нарочно сделал ошибку в фамилии.
|1отом я вернулся и стал ждать.
I Почтальон явился и был взволнован, потому что уже
ива года не имел дел с денежным переводом. Это был
долгий срок, и он, наскоро прочитав инструкцию, потре-
бовал мои документы. Он и в комнате не снял фураж-
|jcyf — находился при исполнении служебных обязанно-
стей.
\ Он уже хотел выдать мне деньги, но я сказал:
г — Мое имя написано неправильно.
— Это не беда, — сказал Почтальон.
t — Все-таки, — сказал я, — отнесите-ка деньги гос-
265
Однажды я увидел в окне изумительно красивую де-
вушку. Она смотрела на небо.
Ее красота испугала меня. Я смотрел на нее неотрыв-
но, так что она почувствовала мой взгляд и посмотрела
в мою сторону. От смущения я поздоровался. Она отве-
тила. С тех пор она каждый день подходила к окну.
Словно дикий виноградник, рассаживаю я пережива-
ния и смотрю, как они растут. Я ленив, и моя страсть —
Ничто. Но с того часа, когда я увидел девушку в окне,
я стал жить в постоянном волнении, которое знал лишь
по детским годам. Тогда я еще был частицей мира — со-
ломинкой, плывущей и уносимой неведомо куда. Тогда
я плакал, потеряв коробочку или другую безделку. Став
взрослым, я перестал смеяться и плакать. Никто не мо-
жет причинить мне страдание. Я вырос из боли и радости.
Теперь мою жизнь вновь наполнили боль и радость,
и к пустякам вернулась значительность.
Девушка каждый день выглядывала в окно, когда я
проходил мимо. Каждый день я кланялся. На третий
день она улыбнулась.
Ее улыбка научила меня понимать, что в мире нет
пустяков. Ее улыбка на третий день была огромным со-
бытием.
У нее было маленькое и бледное лицо. У нее были
черные, блестящие, словно начищенные, глаза. У нее бы-
ли гладко зачесанные назад волосы. У нее были узкие и
пугливые плечи.
Ее окно оставалось открытым и во время дождя. Я
сидел в баре и смотрел в окно, залитое дождем. Я часто
вытирал стекло. И тогда девушка улыбалась.
Однажды столик у окна оказался занят, и, не став
есть, я вышел и стал прогуливаться взад и вперед. Я был
смешон, как ночной сторож. Я поднял воротник пальто
и брел медленно, большими шагами. С моей одежды сте-
кала вода. В подъездах почты и ресторана стояли люди и
ждали, когда кончится дождь. При вспышках молнии
они вздрагивали и умолкали. Иногда они смотрели на
меня. Молодая крестьянка в деревянных башмаках и с
дразнящим бюстом, дрожавшим под мокрой рубашкой от
холода и волнения, потянула меня за рукав, освободив
мне место рядом с собой. Но я пошел дальше, и девушка
в окне улыбнулась.
264
Люди смотрели па то окно и Схмеялись. Молодая кре-
стьянка смеялась вместе с ними. Я оглянулся, и они сму-
тившись; наверное, приняли меня за сумасшедшего.
t Этим событием я жил целую неделю. Я рассказал о
нем Анне, и Анна принялась смеяться надо мной.
. — Почему ты смеешься? — спросил я. — Я люблю
|ty девушку.
Р — Почему же ты не поднимешься к ней?
— Я это сделаю!
— Нет, не делай этого! — попросила Анна. — Вдруг
ее действительно любишь.
£ Никогда не забуду, как однажды Почтмейстер появил-
$я в окне рядом с девушкой. Я поздоровался, и Почт-
мейстер ответил мне как старому другу.
^ Девушка была его племянницей, сказала Анна.
& Я решил пойти к Почтмейстеру.
Щ Но прошло две недели, а я все еще не был у него.
Щ хотел сказать ему: «Почтеннейший господин Почтмей-
|тер! Мне нравятся ваши глаза, и ваши шпоры, и даже
1аши длинные брюки. Но эту девушку я люблю. Я ду-
раю, что она — женщина моей жизни. Я не хочу ее по-
верять, как Авель, мой друг».
' И тогда я расскажу ему историю о моем друге Авеле.
\ Почтмейстер улыбнется и встанет, и шпоры его тихо
Зазвенят, как серебряные цимбалы под рукой неопытного
ученика.
Девушка поймет мою историю и не станет задавать
вопросы, как Анна.
Девушка вообще другая. Я найду слова для нее.
Я поехал в другой город, чтобы послать денег на свое
Собственное имя. Я нарочно сделал ошибку в фамилии.
Потом я вернулся и стал ждать.
Почтальон явился и был взволнован, потому что уже
два года не имел дел с денежным переводом. Это был
долгий срок, и он, наскоро прочитав инструкцию, потре-
бовал мои документы. Он и в комнате не снял фураж-
ку, — находился при исполнении служебных обязанно-
стей.
Он уже хотел выдать мне деньги, но я сказал:
— Мое имя написано неправильно.
— Это не беда, — сказал Почтальон.
— Все-таки, — сказал я, — отнесите-ка деньги гос-
265
подину Почтмейстеру и справьтесь у него, имеете ли пра-
во выдавать их мне.
Потом я десять или пятнадцать минут сидел у госпо-
дина Почтмейстера. Но мы разговаривали только о моих
деньгах. Он сказал, что нисколько не сомневается: день-
ги посланы именно мне. В этом городе, сказал он, ни у
кого нет такой или похожей фамилии.
— Да, городишко совсем мал, —- сказал господин
Почтмейстер, будто хотел сделать мне комплимнет. Буд-
то хотел сказать: «Что вы, здесь ни у кого нет такой
красивой фамилии, как у вас».
Его шпоры тихонько зазвенели, как серебряные цим-
балы, и все было в точности так, как я себе представлял.
Только о девушке в окне не было сказано пи слова.
Очутившись на улице, я посмотрел в окно. У окна
стоял Почтмейстер. Я еще раз кивнул ему, он ответил.
Я думаю, то был самый подходящий момепт, чтобы вер-
нуться и поговорить о девушке. Но я никогда не умел
пользоваться подходящими моментами.
Все в жизни ветшает и стареет — слова и ситуации.
Все подходящие моменты уже возникли. Все слова уже
сказаны. Я терпеть не могу повторять слова и ситуации.
Тогда у меня такое чувство, будто я вновь надел давно из-
ношенный костюм.
Вечером того дня девушка не подошла к окну. Я ре-
шил уехать из города.
Я вернулся в отель и упаковал чемоданы. Пришла
Анна и спросила:
— Ты надолго?
Ей никогда бы не пришло в голову, что я могу уехать
навсегда.
— На два дня, — сказал я и не почувствовал раска-
яния за эту ложь. Что за важность — солгать Анне?
Девушка в окне исчезла, и я упустил подходящий мо-
мент.
— Ты был у Почтмейстера? — спросила Анна.
— Да, — сказал я. — Но девушка больше не подхо-
дит к окну.
— Она, наверное, больна! — сказала Анна.
— Больна? Почему ты так думаешь?
— Потому что она вообще больна! Ты не знал? Она
больна! У нее чахотка и паралич. Поэтому она не выхо-
дит на улицу. Она скоро умрет!
Она говорила все это очень быстро. Она захлебыва-
лась. Но я слышал каждый слог, отчетливо, как удар.
Слоги врезались в мой мозг, как острые монеты в рас-
плавленный воск.
Я смотрел на Анну. Она стояла передо мной с туго
зачесанными волосами, упругая и свежая, словно только
что вышла из воды. «Анна никогда не умрет», — поду-
мал я.
Девушка в окне умрет! умрет! умрет!
Я никогда не поговорю с ней. Поэтому я и упустил
подходящий момент. Не потому, что я неловок, а потому,
что девушка больна.
— Анна, — сказал я. — Я уезжаю навсегда.
— Потому что она больна? — рассмеялась Анна.
— Да.
— Но ведь я здорова! — сказала Анна.
В этот момент у нее было лицо триумфатора. Оно бы-
ло бледно и холодно.
— Я пойду с тобой на вокзал! — сказала Анна.
Анна пошла со мной на вокзал.
Подошел поезд, и я направился к окошечку кассы.
Тут мне встретился Коммивояжер. Он поздоровался.
У него был новенький кожаный чемодан, и от него пах-
ло помадой.
Анна судорожно вцепилась в мою руку, и я остано-
вился.
— Слышишь, не уезжай! — сказала Анна.
Она больше не походила на триумфатора. Она была
как несчастный испуганный зверек, как загнанная, ок-
руженная белка на чудовищно голом поле.
Коммивояжир подошел ко мне и сказал:
— Почтеннейший! — и: — Добрый вечер! — и: — Вы
тоже приехали? Или уезжаете?
— Нет, — сказал я. — * Только что приехал! — и по-
шел с Анной назад, в город.
Ночью я не спал, потому что думал об умирающей
девушке. С тех пор как я узнал, что она скоро умрет,
я был уверен в своей власти над ней. Я крепко дер-
жал ее, я мог взять ее за руки. Она перешла в мое вла-
дение.
Я совсем не думал, что она больна уже давно. Для
меня она стала такой недавно. «Она умрет, — думал я,—
скоро умрет». Я был похож на человека, который ждет,
что к нему вот-вот придут и отберут то, чем он больше
всего дорожил.
267
Все следующее утро я прошагал под окнами почты.
Почтмейстер каждый час подходил к окну и, конечно,
удивлялся, обнаруживая меня. В обед он вышел из до-
ма, я поздоровался с ним, он ответил не без удивления.
Потом в три часа он вернулся, а я все еще ходил под
окнами взад и вперед. Я ходил механически, без всяких
мыслей, взад и вперед, как маятник часов, неизвестно
кем приведенный в движение.
Вечером я устроился за столиком в баре. Окно в до-
ме напротив открылось, и появилась она.
Она поздоровалась первой — как-то поспешно, мне
показалось. Она, наверное, не ожидала увидеть меня сего-
дня, потому что вчера была больна. Я смотрел на нее
недолго, но мой взгляд стоил длинной речи.
Если бы я говорил беспрерывно три дня, я не сумел
бы сказать столько.
Я чувствовал себя глупым и был взволнован, как
мальчишка. По-моему, она поняла, что я хотел ей ска-
зать. Потом, когда стемнело, она закрыла окно; комнату
залило ярким светом, и шторы задернулись. На светлом
фоне окна прорисовалась тень высокого мужчины. Это
был не Почтмейстер, ибо тень была лишена бакенбард.
Это был безбородый человек, возможно, ее брат.
Я еще битый час ходил по парку. Люди по-прежнему
любили друг друга на скамейках и клумбах. Женщины
с распущенными волосами шли мне навстречу. Бесцельно
и опустошенно брели они по дорожкам. Они были как
волчок, когда-то приведенный в движение и теперь
продолжающий вращаться, — устало, медленно, си-
лясь удержать равновесие и сделать еще несколько
кругов.
«Эти-то все здоровы, — думал я. — Они не умрут».
Я нашел Анну в ее комнате. Она сидела на кровати
и плакала. Она не держала руки перед лицом, как все
плачущие люди. Казалось, ее неустанный плач, напоми-
нающий затяжной дождь, исходил не изнутри, из души,
а извне, в нем было что-то чужое, внезапное, настигающее,
против чего бесполезно бороться и что бессмысленно
скрывать.
В ту ночь я любил Анну, как в первый раз, с неж-
ностью и жаром, который отдаешь новому приобрете-
нию.
268
На следующий день мне довелось пережить послед-
нюю историю в этом городе.
Рано утром в кафе сидел Коммивояжер и ел пирож-
ное. Он ел церемонно, ножом и ложечкой, ибо был дели-
катным человеком, с хорошими манерами. Он ел очень
медленно. Потом он встал, подошел к календарю и ото-
рвал вчерашний листок — решительно и гордо, как все-
могущий бог, творящий Сегодня, новый день.
Я с ужасом ждал прихода Почтмейстера.
Почтмейстер в течение десятилетий срывал старые
листки и обнажал новые, осторожно и смиренно—не как
бог, а как слуга его. Сегодня он с недоумением посмот-
рит на календарь, запутается в днях и датах и переста-
нет понимать мир.
Поэтому я поднял оторванный листок, разгладил и
вновь прикрепил к календарю.
Коммивояжер посмотрел на меня и сказал:
— Но позвольте, ведь сегодня двадцать восьмое мая!
Я почти испугался — так громко он выкрикнул дату.
Конечно, то была не бог весть какая новость и весь мир
это знал, но я содрогнулся, как если бы Коммивояжер
нагло и грубо выболтал некую тайну.
Двадцать восьмое мая!
В этот момент часы на башне пробили половину вось-
мого, и вошел Почтмейстер, тихонько позвякивая хихика-
ющими шпорами. Господин Почтмейстер торжественно
прошествовал к календарю и открыл новый день. Только
теперь наступило двадцать восьмое мая! Это двадцать
восьмое мая стало одним из самых важных дней в моей
жизни. Дело в том, что я решил уехать.
Да и что мне оставалось делать в этом городе? Де-
вушка в окне должна была умереть, Анну мне было
жаль, смотреть на нее было больно, и я ничем не мог ей
помочь. Почтальона я знал уже наизусть и серебряный
звон почтмейстерских шпор тоже. Кете, думал я, будет
по-прежнему открывать по утрам свое окошко, и ничего
не случится, если я не буду проходить мимо и здоровать-
ся. Кроме того, уже было двадцать восьмое мая.
Двадцать восьмого мая оставаться дольше было невоз-
можно.
Колосья в поле уже вытянулись в человеческий рост,
|А я этого даже не заметил. Полдюжины зайцев могли бы
рробежать по полю, став друг на друга, и никто б не уви-
дел ушей самого верхнего. Выдался благословенный год,
■■ 269
в садах от буйного цветения выросли сугробы, по ним
можно было ходить босиком, как по подушке.
Изменились и облака. Их не гнала больше по небу
юность и беззаботность. Они застыли в тяжелой задум-
чивости или лишь нехотя катили свои тучные, перевали-
вающиеся тела. Двадцать восьмое мая! В эдакую пору
следует уже знать, что собираешься делать.
«Ведь смешно, — думал я, — каждый вечер бро-
дить под окнами девушки, которая скоро умрет и кото-
рую я никогда не поцелую. Я уже немолод,—-думал я,—
каждый день должен быть посвящен цели, а каждый
мой праздный час — грех перед жизнью.»
Однажды мне приснился большой порт. Я слышал
мощный скрип двадцати тысяч канатов и говор работа-
ющих моряков. Я видел, как поднимались и опускались
тяжелые краны, — гладко и уверенно, без видимых уси-
лий, будто не люди, а собственная воля приводила их в
движение. Это была не судорога металла, но изящность
естественного движения.
Иногда мне снился большой город. Это был, наверное,
Нью-Йорк. Я вбирал в себя бешеный темп его жизни.
Его улицы бежали широко, быстро, неудержимо—с людь-
ми, автомобилями, тротуарами, фонарными столбами, ко-
лоннами, — не знаю, зачем и куда. Город не стоял, а бе-
жал. Ничто не стояло. Большие фабрики коптили небо
гигантскими трубами. Не открывая глаз, я прислушивал-
ся к мелодиям этой жизни. Это была дикая музыка. Она
звучала, как сошедшая с ума чудовищная шарманка, ва-
лики которой врезались друг в друга. Но эта музыка вол-
новала. Ритм не был красив, но он не был и фальшив.
Некоторое время я подпевал ему, потом проснулся.
Проснувшись, я удивился, что я — не часть этого
большого города, а всего-навсего смешной житель смеш-
ного городка. Да кто же я такой, наконец? Человек под
окном. «Друг мой, — сказал я себе, — похорони эту де-
вушку, которая и без того дышит на ладан, и обратись к
жизни. Жизнь — важная штука. Может быть, много
смысла в том, чтобы ходить к девушке, проводить дни у
ее постели, а вечерами сидеть у окна и рассказывать о
хаотическом скрежете кранов и о волнах красной крови,
бегущей по артериям мира.
Но жить — важнее».
Говоря так с самим собой, я пытался скрыть свою пе-
чаль. Я скрыл ее под наплывом жестокости.
270
Я поехал на вокзал в том же, единственном в городе,
экипаже, в котором приехал. Анне я ничего не сказал.
Был полдень. Солнце лилось широким золотым потоком.
Вокзал нежился на солнце, как большая желтая кошка.
Рельсы убегали вдаль, заключая землю в железные объ-
ятия.
Я сел в поезд и стал смотреть в окно. Меня отделяли
от города и последних недель жестокость, радость и сила.
Пусть Почтальон напьется до чертиков, пусть Почт-
мейстер позвякивает шпорами, а от Коммивояжера пах-
нет помадой. А у Игнаца пусть будут влажные руки.
Анна пусть станет его возлюбленной.
А девушка в окне?
«Она может умереть!» — сказал я себе и постыдил-
ся признаться, что радуюсь тому, что здоров.
Что за болезнь поразила меня в последние недели?
Что за сентиментальный человек был мой друг Авель?
Никогда, никогда я не уехал бы из-за женщины из Нью-
Йорка.
Да, именно теперь я поеду в Нью-Йорк. Америка —
чудесная страна. Ее основал не какой-нибудь безымян-
ный епископ из камня.
Пока я так думал, раздался свисток. На перрон вы-
шел дежурный по вокзалу в своей красной фуражке. За
ним шла девушка изумительной красоты. Это была она,
та девушка, которую я видел в окне!
— Подожди, — сказал ей Железнодорожник.—Я сей-
час вернусь.
Но девушка не слышала его. Она смотрела на меня.
Мы смотрели друг на друга. Она держалась прямо. Она
была в белом платье. Она была здорова — ни паралича,
ни чахотки. Наверное, она была невестой Железнодорож-
ника или его женой.
Поезд тронулся, и я помахал девушке, посмотрев ей в
глаза. Только ради одного этого взгляда я и написал эту
историю.
Сидя в купе, я готов был заплакать. Но посмотрел в
окно и рассмеялся: пастух бил свою собаку, стрелочник
стоял по стойке «смирно», подавая сигнал, его жена раз-
вешивала белье, а маленький грузовик нырял по ухабам.
«Жизнь — важная штука! — рассмеялся я. — Очень
важная». И поехал в Нью-Йорк.
Фриц Герцмановский - Орландо
(1877-1954)
Человек с тремя башмаками
Венделином Пивонкой звался тот редкостный экзем-
пляр сапожницкой породы, который доставил моей доб-
рой бабушке столько горестных минут.
Это был живой, подвижный человечек, легко прихо-
дивший в раж, обладатель жалованной ему императором
привилегии, многим внушавшей немалую зависть. Обла-
дал он также огромной лысиной, а на этой лысине, бли-
же к затылку, торчал какой-то нарост, вроде петушиного
гребня, который в минуты волнения становился у него
огненно-красным.
Одному богу известно, кто сосватал этого Пивонку мо-
ей бабушке, отродясь не делавшей никому никакого зла.
Неужели то была старая фрау Книрш, так панически бо-
явшаяся конца света? Или знаменитая писательница Ма-
рия фон Эбнер-Эшенбах, которая с виду походила на по-
родистого бульдога, что-то учуявшего и взявшего след:
едва заслышав имя Пивонки, она тревожно подергивала
усиками. И поверьте, было отчего подергивать. Не толь-
ко потому, что мастер Пивонка так бесстыдно драл за
свои башмаки, он еще из принципа делал их чуть тес-
новатыми. Самое главное, однако, что он уговаривал сво-
их клиенток заказывать ему так называемые «двусто-
ронние» башмаки (он называл их «штивлетами»).
— Можете свободно обувать их впотьмах, хоть ночью,
левый башмак придется аккурат впору на правую ногу,
коли она у вас еще цела. Была у меня прежде клиентка,
так ей одну ногу трамваем отрезало. Тут уж ничего не
272
поделаешь. Спросите-ка баронессу фон Эбнер-Эшепбах,
я ей для бала во дворце туфельки из розового сафьяна
сшил. Такие башмаки дозволяется делать только мне,
потому как у меня на то привилегия от его величества
государя императора. А делаю я их особливо для дамо-
чек с кривым большим пальцем, у которых эптот палец
на соседний налезает.
Моя бабушка отказалась покупать у него эти башма-
ки-уроды.
— Чего же вы еще желаете? Ведь такой палец не
шутка. Объявись он у мужчины, так его в армию не
возьмут. А каково это человеку, ежели он патриот? Вот,
например, у польских евреев имеются ортопедические за-
ведения, там кривые пальцы выправляют. Самое знаме-
нитое в Кракове. А еще есть в Ржецове, тоже доброй
славой пользуется. Ну, а в Каколовке, сказывают, есть
раввин, так он не то что кривые пальцы, а даже косола-
пость заговором лечит... Ну, ну, чего это вы так на меня
глядите? Хорошему сапожнику все знать надобно.
Когда он однажды снова пришел к моей бабушке, я
услыхал, что они громко заспорили, и прокрался в свою
любимую угловую комнату, откуда открывается такой
прекрасный вид на людную Винцайле, вплоть до самой
Оперы, и на церковь св. Карла, сверкающую золотыми
бликами на подернутом патиной куполе.
— Я же вам ясно сказала, — кипела старая дама, —
мне нужны нормальные башмаки, а не эти ваши футляры
для калек, которые вы без конца пытаетесь мне навя-
зать!
— Что? Навязать? Это я-то, имеющий привилегию от
самого государя императора? Ни один сапожник, кроме
меня, не смеет делать такие право-левосторонние башма-
ки! Не то император ему хорошенько всыплет! Он с моей
привилегии глаз не спускает. А вот вам маленький суп-
риз! — Тут он что-то достал из своего саквояжа. — Тре-
тий башмак!
— Что-о-о? — Бабушка оторопело уставилась на че-
ловека с тремя башмаками и подняла было руку с явным
намерением указать ему на дверь.
Мастер Пивонка намерение это прекрасно понял. На-
до сказать, что, хотя за сапожниками и утвердилась не-
добрая слава людей неотесанных и грубых, в том, что ка-
сается их профессиональной гордости, они необыкновенно
чувствительны. Кто им льстит, sa того они готовы в огонь
273
и в воду. На каждом представлении «Мейстерзингеров»
полным-полно сапожников, которые растроганно вздыха-
ют, а во время большого антракта задумчиво стоят в фойе,
потягивая пиво из кружек... При этом они все еще кива-
ют головой, удовлетворенно сопят и критически огляды-
вают обувь прогуливающейся публики, — кажется, и
пьют-то они лишь для того, чтобы потом иметь возмож-
ность важно утереть мокрые усы. А в самых торжествен-
ных случаях они надевают весьма своеобразные, чересчур
короткие сюртуки — причудливые одеяния некоего тай-
ного сообщества особо мрачных мужчин.
Итак, Венделин Пивонка дрожа стоял перед бабуш-
кой с третьим башмаком в руках. Голос у него дрожал
тоже:
— Я было хотел изготовить такие башмаки для папы
римского, чтобы ему в них на Соборе сидеть или, скажем,
на балкон выйти благословлять народ. Но я никак, ну
никак не могу узнать размера ноги его святейшества.
Истинное мученье, право слово. Ну что бы ему стоило
намазать ногу сажей и стать на листок бумаги? Всего-то
и делов! Куда я только ни кидался! Аудиенцию получил
у архиепископа в Ольмюце — это мой родной город. Ва-
ше преосвященство, говорю, соблаговолите написать его
святейшеству и спросить ихний размер, и нет ли у них,
случаем, кривого пальца на ноге или вросшего ногтя. Все
напрасно. У кардинала Груши был -— здесь, в Вене.
Пустое дело. Потом у папского нунция, графа Скапинел-
ли. Опять зря. Четыре раза к нему ходил. А на пятый
он приказал своему швейцару—его фамилия Цавадиль—
вытолкать меня вон. Нет, за одно это я б на него не осер-
чал... Коли он у господ швейцаром служит, стало быть,
должен исполнять. Ну а он еще возьми да и обзови меня
напоследок: «Ах ты, говорит, чертова дратва богемская!»
Вот этого я ему никогда не прощу! Ну вот, а теперь из-
вольте взять третий башмак. Вы на него не нарадуетесь.
Послужит вам верой и правдой!
— Ради всего святого, — застонала бабушка, — на
что мне третий ботинок?
— Ну, ежели вы, к примеру, во время прогулки один
потеряете. Свободно может случиться. Будете, к примеру,
в слякоть гулять по городскому парку. Знаете, графине
Дюфур-Вальдероде я всегда три делаю. Эта дама — из-
вестная благодетельница, у нее найдется что подарить
человеку. Ни один бедняк от нее с пустыми руками не
274
уходит. Бывают ведь ситувации, когда деньги давать не-
тактично. Скажем, робким беднякам, которые видали
лучшие дни... Вот, изволите ли знать, покойному импера-
тору Фердинанду, тому, что в тысяча восемьсот семьдесят
пятом году опочил в Праге, я однажды во время аудиен-
ции преподнес венгерские сапоги для верховой езды —
три штуки, из желтой кожи, с серебряными шпорами.
Сперва он страсть как обрадовался и давай их гладить.
И вдруг ни с того ни с сего, — ну да ведь у него, пар-
дон, были не все дома, — как шваркнет их мне в лицо,
ну что вы на это скажете?
— Не знаю, по-моему, он был вполне нормаль-
ный!— отвечала бабушка, уже совершенно обессилевшая
в этом споре, я никогда еще не видел ее такой беспо-
мощной.
Чтобы ей помочь, я, сидя в своей любимой угловой,
запел песенку, которую мы, дети, в те времена очень лю-
били:
Сапожник кашляет, чихает,
Когда сапожки он тачает.
А коль ни разу не чихнет,
То и сапожки не сошьет.
Мастер Пивонка медленно обернулся. Нарост на его
лысой голове налился кровью, как гребень василиска.
Плаксивым голосом он взмолился:
— Покорнейше прошу, милостивая государыня, из-
вольте сказать юному господину внучонку, чтобы они
этого не пели. Уж очень обидно мне это слышать. Аж до
смерти больно. Как понесешь кому башмаки, так все уши
тебе прожужжат этой песней. Вот почему я их теперь в
торбе ношу, как повитуха свой струмент. Мне-то вдвойне
обидно, ведь мне государем императором дана привиле-
гия... А знаете, как я ее получил?
И несмотря на то, что моя добрая бабушка, в отчая-
нии ломая руки, заверяла его, что все это ей давным-
давно известно, остановить его было невозможно, и он
принялся — в который раз — рассказывать свою ис-
торию:
— Отчего я стал такой нервенный? Оттого, что колесо
дворцового ихкипажа наехало мне прямо на голову. Я,
понимаете ли, осклизнулся — па том самом, что лошади
на дороге кладут, — они же, проклятые, ни с чем не
считаются, никакой ответственности пе понимают. Когда
275
не знаешь, куда податься, вперед ли, назад ли, осклиз-
нуться ничего не стоит. Как стали все приветствовать
ихкипаж, меня и выпихнули вперед. А штивлеты у ме-
ня, видите ли, стянули еще раньше, пока пихали туды-сю-
ды,— в толпе завсегда найдутся рыцари удачи, в Вене их
полным-полно. Тут колесо как затрещит, карета покачну-
лася, кучер еле-еле усидел на козлах. А лакей дворцо-
вый, — фамилия его была Досталь, я его знал, — с козел
таки слетел. А эрцгерцогиня, что сидела в ихкипаже
вместе со своей придворной дамой, от страха аж заорала.
Это была ее высочество эрцгерцогиня София-Клементина-
Мария-Анна-Изабелла-Епифания-Габриела...
Все бабушкипы попытки остановить поток его красно-
речия мастер Пивонка пресекал, грозно воздевая кверху
указательный перст, и продолжал:
— ...Иозефа-Франциска-ПиаТерхардина-Северина-Иг-
нация-Станислава-Поликарпа-Мария-Утоли моя печали...
Бабушка ловила ртом воздух.
— Истинно так, — пояснила эта чертова дратва. —
Имя это, изволите ли видеть, у нее от Браганца, от вто-
рой португальской фамилии, некогда правящей. А также
из Бразилии.
Бледная бабушка, едва переводя дыхание, упала в
кресло.
— А по рождению высокородная дама была второй
дочерью эрцгерцога Иозефа-Карла-Людвига, командира
второго армейского корпуса в Пресбурге, и еще ему под-
чинялся — дозвольте договорить — прусский королев-
ский пехотный полк в Штюльпнагеле как своему шефу.
Высокородная дама опосля-то вышла замуж за их сия-
тельство князя фон Турн-и-Таксиса. Истино так. А что
до дворцового ихкипажа, то ее королевское высочество
изволила передать мне через фрейлину двадцать крей-
церов — в возмещение телесного повреждения. Вся энта
шваль, что столпилась вокруг, так и пожирала глазами
два блестящих кружочку. Но я, хоть и истекая кровью,
поблагодарил и отверг. А имя той придворной дамы...
Это было уж слишком. Моя обычно столь кроткая
бабушка грозно замахнулась на Пивонку всеми его тре-
мя башмаками.
— Довольно! Убирайтесь вон! И пе смейте больше
показываться мне на глаза!
— Но, милостивая государыня, как можете вы быть
такой несправедливой? Рыбе — и той нельзя рот за-
276
ткнуть. Так вы сами себя обидите. Может, вы знаете
в Вене другого спицилиста с привилегией, который вам
сработает такие штивлеты? Такие, чтоб можно было их
надеть впотьмах, ежели у вас, к примеру, случится по-
жар? Изволите ли видеть, мои штивлеты вы можете
надеть даже ночью, в кровати, под пуховиком. Вам для
того и садиться не надобно. Но извольте, право, дослу-
шать до конца. Те двадцать крейцеров, стало быть,
обидны мне показались. Потому как даже у помираю-
щего есть чувство чести. Так я, значит, те деньги от-
верг и думал было исхлопотать себе орден Франца-
Иосифа. По случаю смертельного ранения головы. По-
глядите-ка на эту шишку, она у меня с тех самых пор.
Это мозги мои наружу вышли — вроде головной грыжи.
Очень редкая вещь. В больнице мне сказали, что выре-
зать ее нельзя, не то я позабуду, как меня звать. Тогда
я пошел к барону Венцелю Алариху Веберу... Отчего
вас удивляют имена? Разве ж вы не читаете при-
дворный календарь? Вебер фон Эбенхоф, статс-секретарь
императорской канцелярии и стольник. А он мне и го-
ворит: «Вы, любезнейший, не гуда пришли. Это дело
касается до моего брата, комната семнадцать на треть-
ем этаже». Я, значит, прямехенько к их брату, того
Эрнстом звали, и был он герольдмейстер ордена Франца-
Иосифа. Тот маленько посопел носом и сказал: «Этот
орден, можно получить только за тяжелую рану, нане-
сенную врагом, а не за то, что человек в мирное время
на конском яблоке осклизнулся. Так и орденов не напа-
сешься. Знаете что? Испросите себе у государя импера-
тора привилегию. Он вам ее по своей доброте и милости
всенепременно пожалует. И тогда шейте себе сапоги,
сколько вам захочется». Тогда я попросился на прием,
и вот...
На этом месте бабушка издала какой-то гортанный
рык, какого я никогда еще не слыхал от этой хрупкой
и сдержанной женщины. Она резко и грозно поднялась
и повелительным, не допускающим возражений жестом
указала зарвавшемуся изготовителю «штивлетов» на
дверь. А затем обернулась ко мне.
— Можешь петь эту песенку, сколько тебе взду-
мается.
И подарила мне серебряную монету в десять крей-
церов.
Оскар Еллинек
(1886-1949)
Актер
Вместе с текстом новой роли молодой актер Эрнст
Людвиг получил известие о тяжелой болезни матери.
И роль, и телеграмму, пришедшую на театральный адрес,
ему доставил курьер. Ближайшим поездом Эрнст Людвиг
выехал в родной город. Однако до отъезда прошло еще
несколько часов, и почти все это время он провел в те-
атре: испросил у директора отпуск, уладил кое-какие
мелочи с костюмом и договорился со своим знаменитым
коллегой Лавином перенести совместную пробу на дру-
гое время. Директор заставил себя ждать, поэтому Люд-
виг ненадолго заглянул на репетицию новой пьесы, хотя
не был в ней занят, и, разумеется, тотчас стал мишенью
участливых расспросов. Но что он мог сказать? Разве
только повторить содержание подписанной зятем теле-
граммы: «Мать тяжело заболела. Немедленно приезжай».
Под впечатлением этого текста он машинально завер-
шил остальные дела, так и не сумев сосредоточиться на
невеселой причине отъезда. Пройдет четыре часа, и поезд
домчит его в маленький провинциальный городок — на
его родину. Сидя в вагоне, он пытался думать о том, что
с матерью произошло несчастье, но даже теперь мысли
неизменно возвращались к пестрым суетливым будням,
из которых его вырвала телеграмма. Впрочем, тут вино-
вато было и то обстоятельство, что мать, женщина весьма
бодрая и крепкая, представлялась ему не иначе, как под-
тянутой и деятельной.
Он горячо любил ее. Она сама воспитала его, ведь
278
отец давным-давно умер. Уже семь лет продолжалась его
сценическая карьера, и до сих пор он болезненно пережи-
вал, что для матери его работа была лишь источником
огорчений и тревог. Слава — вот единственное лекарство,
которое могло бы исцелить эти тревоги материнского
сердца, но славы он снискать не сумел. Правда, после
нескольких мучительных лет в провинции он получил
ангажемент в крупном венском театре, но играл там
слишком незначительные роли, и у матери не было осо-
бых причин гордиться. Не раз — ив письмах, и при
встрече — он пробовал убедить ее, что она тревожится
понапрасну, что актерская профессия ничуть не хуже
всякой другой и обеспечивает вполне стабильное суще-
ствование, однако мать энергично возражала и в под-
тверждение своих доводов ссылалась на судьбы старых
актеров; когда же он пылко заклинал ее, что, избрав
иное поприще, будет глубоко несчастен, она напрямик
объявляла все это навязчивой идеей. Тем не менее он не
терял надежды: в один прекрасный день он докажет и
ей, и всем на свете, что он не просто натасканный ре-
жиссером заурядный статист, нет, он способен на боль-
шее. И поэтому с нетерпеливым волнением хватался за
каждую новую роль: вдруг она предоставит ему долго-
жданный шанс. Вот и сегодня, перед самым отъездом, он
торопливо просмотрел только что полученный текст —
роль графа Париса в «Ромео и Джульетте». Он знал ее,
но считал мало выигрышной. Такие-то обрывки мыслей
беспорядочно роились у него в мозгу, пока он с тревогой
всматривался в густеющие мартовские сумерки, которые
заливали долину.
До родного городка он добрался, когда уже совсем
стемнело. Зять ждал его на перроне. Только теперь акте-
ра охватил страх. Как-никак зятя меньше всего можно
упрекнуть в сентиментальности, а ведь нынче он и теле-
грамму послал, и пришел на вокзал его встретить! Они
пожали друг другу руки, потом зять сказал, что мать
умерла. У актера невольно вырвался испуганный крик.
Зять сбивчиво продолжал: это случилось утром, совсем
неожиданно, хлопотала по дому и вдруг... Мужчины ша-
гали по тускло освещенным улицам. В ушах актера все
звучал собственный вскрик. Не получилось ли чересчур
громко, как на недавней репетиции, когда режиссер рас-
пекал его? Людвиг снял шляпу и провел ладонью по лицу.
Он почувствовал стыд и неприятное удивление, поймав
279
себя на этой мысли. Конечно, во всем виноват узкий пе-
реулок с его тусклыми фонарями, напомнивший ему ту
репетицию.
Вот наконец и дом. Актер вошел туда со страхом —
со страхом, хотя все уже свершилось. Он очутился в зна-
комой с детства комнате, здесь у матери была гостиная,
здесь же она работала. Навстречу вышла заплаканная
сестра. Он обнял ее. Какие-то люди — родственники, зна-
комые — пожимали ему руку. В нише стояла кровать.
Он отодвинул занавеску. Мать, вытянувшись, лежала на
постели. Отсвет лампады озарял ее исхудалые руки, лицо
тонуло в темноте. Актер опустился на колени, схватил
материнскую руку и поцеловал, потом прижался лбом к
ребру кровати. Однако он полностью отдавал себе отчет
в каждом своем движении, чувствуя за спиной взгляды
зрителей, как в театре. Он страстно желал избавиться от
этого ощущения и целиком отдаться скорби. Но память
о бесчисленных ролях, в которых он преклонял колени
возле гроба, возле постели, возле кресла, в «благоговей-
ном безмолвии», в «молчаливом страдании», или как там
еще предписывали режиссерские ремарки, цепко держала
его в своих оковах; да, в одной пьесе так прямо и стояло:
«прижимается лбом к ребру кровати». Он резко поднял
голову, снова взял в ладони безжизненно повисшую руку
матери. И тотчас почувствовал, как хорошо знаком ему
и этот жест.
— Это мать, — едва слышно прошептал он. — Твоя
мать. Твоя родная мать...
Но как часто, разучивая роль и играя на сцене, он
внушал себе эту мысль в стремлении насытить образ до-
стоверностью и всякий раз — вот и сейчас гоже — терпел
неудачу. Охваченный ужасом, он вскочил на ноги. Не-
ужели он перестал быть человеком? Неужели театр пре-
вратил его в бездушную марионетку? Он стиснул зубы,
судорожно сцепил пальцы, отчаянно стараясь доказать
себе, что испытывает боль, настоящую, невыдуманную
боль, что искренне, по-человечески скорбит о смерти го-
рячо любимого существа. На лоб ему упала прядь волос, он
торопливо отбросил ее. И в эту минуту его пронзила мысль:
если б он смог заплакать, если б из глаз полились слезы—
это и было бы лучшим доказательством! Он вновь опу-
стился на колени и попробовал заплакать, но тщетно.
«О слезах, — зазвучал в ушах голос режиссера, — о сле-
зах, ребята, лучше забыть, они производят дурное впе-
280
чатление. Их нельзя сыграть, плакать на сцене дано лишь
великим». Эрнст Людвиг встал и повернулся к безутеш-
ным родным. При этом он нечаянно задел занавес аль-
кова, и ему почудилось, будто он вышел на сцену, чтобы
поблагодарить публику за аплодисменты.
Ночью, не в силах сомкнуть глаз, он ворочался в своей
старой постели. Он сам себя не понимал, казался себе
чужим и никчемным. Разве он не был всегда и во всем
честен? Разве когда-нибудь актерствовал вне сцены?
И все же театр настолько заполонил его душу, что перед
лицом страшнейшей из бед у него не осталось ничего,
кроме набора лицедейских ужимок! Можно подумать,
покойница вознамерилась покарать его, ибо он избрал
свой путь против ее воли. Но он так не думал. Ведь, по
словам сестры, еще вчера вечером она говорила, что прими-
рилась с его профессией и мечтает только, чтобы в недале-
ком будущем он получал более крупные роли и зарабаты-
вал побольше денег. Ему вдруг вспомнилась домовитость
матери, ее заботы о нем, разные мелкие эпизоды давно
минувшего детства, — и собственное поведение возле ее
останков угнетало его все сильнее, казалось все более не-
благодарным и греховным. В лихорадочном возбуждении
он искал объяснение этому и наконец решил, что оно
найдено: виноваты люди, зрители, пусть немногочислен-
ные, но зрители! Теперь же мать лежала за стеной одна,
теперь ничье постороннее око не нарушит, не извратит
его благоговейной скорби. Эрнст Людвиг встал с постели,
зябко поежился, накинул поверх рубашки халат и снова
вошел в комнату умершей. В следующую секунду он ис-
пуганно вздрогнул: у изголовья кровати сидела старуха.
Ее наняли бодрствовать у смертного одра, и теперь она
с широкой улыбкой поднялась со стула, напомнив ему
покорностью позы и толстым багровым носом одну из
театральных костюмерш. Он торопливо вернулся к себе.
Сел на кровать и надолго погрузился в раздумья. Потом
лег и действительно уснул. Но приснилась ему роль, и
играл он ее плохо.
На другой день он шагал по улицам родного городка.
Воздух дышал весною, первая нежная зелень проби-
валась между домишками. Но актер не смел поднять
глаз, боялся, что хорошо знакомый пейзаж покажется ему
раскрашенным холстом. С тех пор как театр последовал
sa ним к смертному ложу матери, он изверился в себе.
Шагал он, по обыкновению, с непокрытой головой, мимо-
281
ходом отвечая на приветствия старых знакомых и чув-
ствуя, как другие люди провожают его взглядом, точно
никогда прежде не видели актеров. У него была цель.
Утром мать перевезли в покойницкую, туда он теперь и
направлялся, там он будет с нею один, один, как человек,
у которого нет больше матери. Там к нему вернется —
обязательно вернется! — чистота и свежесть искреннего
чувства, которое он всегда питал к усопшей, там к нему
придут слезы.
Людвиг вышел на окраину; вот и кладбище. Может
статься, хорошо было бы заглянуть в этот мирный сад,
уже подернутый дымкой первого цветения, в этот обособ-
ленный, но вполне оживленный уголок просторного
общинного луга. Детвора играла там в те же старые-пре-
старые игры, в какие некогда играл и он, а по обеим сто-
ронам кладбищенской стены равно проникновенно и сла-
достно властвовала над тем и этим светом великая сила
природы. Может статься, она бы сумела образумить его
и оцепенение излилось бы искренним страданием, но он
пренебрег ею. Поспешно нашел служителя, который с го-
товностью отворил ему покойницкую. Там под черными
покровами стояли два гроба. В правом — как знаком по-
казал служитель — лежала его мать. Служитель вышел,
и порыв сквозняка шевельнул нагробные покровы и во-
лосы актера. Он был один в голом, мрачном помещении
с тремя крохотными оконцами. Медленно приблизился
он к гробу. «До чего же размеренные шаги!» — подумал
он и тотчас сообразил: вот таким же размеренно-торже-
ственным шагом он подходил к гробу на сцене.
— Смелее, смелее же! — прошептал он, однако поми-
мо воли уже видел себя шекспировским юношей в черном
камзоле и при шпаге, юношей, спускающимся в усы-
пальницу Капулетти. И с неодолимой силой просились
на уста стихи из роли: «Цветы — цветку на брачную кро-
вать...» { Секундой позже он, словно его преследовал сам
дьявол, выскочил на улицу, в солнечный день.
От домашних не укрылась его растерянность, ведь он
все время молчал и ничего не ел. Однако все сочли это
вполне понятным последствием тяжкого горя и отзыва-
вались о его состоянии с уважением. Один из дядюшек
готов был даже простить ему выбор профессии, а какой-
1 Шекспир. Ромео и Джульета (V, 3). Перевод Т. Щепки-
ной-Куперник.
282
то дальний родственник авторитетно толковал о большой
впечатлительности артистических натур. «Скорей бы уж
похороны!» — думал актер. Похороны были назначены
на завтра, и он совсем потерял надежду, что у раскрытой
могилы матери в его порабощенной обманом душе про-
снется бесхитростное, искреннее чувство. Теперь у него
уже не оставалось сомнений, что торжественность смер-
ти и связанных с нею обрядов навязала ему некую роль и
он обязан сыграть ее, как всякую другую, коль скоро в
афишке значится его имя. Поэтому он на глазах у про-
вожающих в надлежащий момент шагнул к могиле и ма-
шинально бросил в глубь, на крышку гроба, три предпи-
санные обычаем горсти земли. Потом отошел в сторону и,
услышав, как кто-то сказал: «Сын...», с горькой иронией
пробормотал:
— Да-да, сын, господин Людвиг. Право же, исполни-
тель подобран удачно!..
Уезжал он вечерним поездом. Сестра уложила его че-
модан и наготовила столько снеди, что, пожалуй, и на
дорогу хватит, и еще останется. Он растроганно смотрел,
как она хлопочет, — просто вылитая мать! — потом неж-
но обнял ее и поблагодарил. «Наконец-то хоть одно доб-
рое слово от тебя услышали!»— всхлипнула она. Его точ-
но молнией пронзило: слово! Что, если поспешить к мо-
гиле матери и поговорить с нею! У него есть еще два
часа. Да, так он и сделает! Заговорит с усопшей, как го-
ворил с живой, воскресит в памяти ее слова и ответит
на них. Пусть театр сковал злыми чарами его мимику и
жесты, но слова, которые они с матерью наяву говорили
ДРУГ другу, великое множество слов, нежных и стропти-
вых, возмущенных и утешающих, гневных и примири-
тельных, — их-то не было ни в одной роли. К этим искон-
ным страстотерпцам мощнейших природных уз он и будет
взывать у материнской могилы и в конце концов сумеет
во всем разобраться.
Над кладбищем догорали сумерки. Тучи затягивали
горизонт, предвещая пасмурный, дождливый день. Актер
подошел к свежей могиле; еще вчера в покойницкой гроб
казался ему чем-то бутафорским, но теперь это ощущение
развеялось, и скованность его несколько ослабела. Итак,
здесь, в глубине, лежит мать, ушедшая, но такая близ-
кая. Нет, быть не может, чтобы он не сумел окликнуть ее,
призвать к себе простосердечным словом и пробудить в
своей душе ту беспредельную скорбь, которой он жаждал.
283
Только что это за слово? Какое слово станет зачином?
Людвиг смотрел вдаль, однако желтоватый отсвет на го-
ризонте почему-то наполнил его неизъяснимой тревогой,
и взгляд его скользнул вниз, к могильному холмику. Так
он стоял и не без трепета искал слово. В его привычных
к звукам ушах бились сонмы давным-давно умолкнувших
слов. Младенческие, отроческие, юношеские, материнские
слова.
— Матушка! — внезапно воскликнул он. — Ма-
тушка!
А ухо меж тем уловило звук, и актерское чутье про-
фессионально оценило его силу и музыкальность. Нет, он
ни за что не позволит себя запутать.
— Матушка... — повторил он тише и, как ему почу-
дилось, задушевнее. Правда, все это едва ли хоть чуточку
отличалось от разучивания роли. Он собрал последние
силы. Без разбору, бессвязно посыпались с его губ слова,
что он некогда говорил матери, некогда слышал от нее.
Он отчаянно старался воскресить их тогдашнее звучание
и интонацию, полной мерой вернуть им былую теплоту
и чистосердечие. Но именно от этого искренность порыва
совсем угасла, и он только все больше впадал в лицедей-
ство. Жаркое негодование захлестнуло его: актерская
профессия поработила в нем человека, заклеймила мыс-
ли и чувства печатью обмана, окрасила всякое, даже не-
изреченное, слово, замуровала боль в его груди и иссу-
шила жертвенный родник слез. Он лихорадочно вспоми-
нал материнские упреки по адресу театра, снабжая их
резчайшими акцентами. «Что ж, — с фанатичной иро-
нией признался он себе,— в целом сыграно весьма не-
дурно». В последнем слабом отблеске зари тучи казались
призрачной громадой, свет ближнего фонаря падал на
бледное лицо актера. Режиссер остался бы доволен. Из-
мученный, отчаявшийся, сломленный, но сломленный не
чистотою, не искренностью страдания, Людвиг побрел
прочь от материнской могилы.
Обратный путь он воспринял как возвращение домой.
Точно некий железный занавес отрезал его от родины.
Назад, назад, в театр! Около полуночи он был в Вене.
На квартире его ждала записка: завтра репетиция. Очень
кстати. Да здравствует театр! Он достал роль, чтобы про-
смотреть ее на сон грядущий, но, не в силах превозмочь
усталость, вскоре положил тетрадку на ночной столик
рядом с портретом матери.
284
В течение следующих недель Эрнст Людвиг редко
бывал дома. До сих пор он, пожалуй, скорее избегал об-
щества коллег и даже слыл домоседом, зато теперь чуть
ли не с одержимостью участвовал во всех их сборищах;
пестрая, суматошная жизнь театральной богемы закружи-
ла его. Некогда он тщательно оберегал свой тихий уголок,
где был просто человеком по имени Эрнст Людвиг, но из
упрямства лишил себя и этого последнего прибежища.
Раз театр не выпустил его из своих когтей в минуту свя-
щенной скорби, пусть теперь владеет им безраздельно!
Была и еще одна сокровенная причина, в которой он не
смел себе признаться: он страшился взгляпуть на портрет
матери и при всякой возможности бежал от него.
Теперь ему даже нравилось щеголять актерскими за-
машками, которые прежде были ему совершенно чужды.
В театре он был занят мало, репетиции новой постановки
«Ромео и Джульетты» тоже не слишком обременяли его,
к тому же он частенько пропускал их из-за участия в
съемках фильма, так как подписал контракт с одной кино-
фирмой. Стоит ли удивляться, что на генеральной репети-
ции он сбился и получил от режиссера нагоняй. Поэтому
незадолго до спектакля ему пришлось пройти роль
еще раз.
Всю ночь напролет он веселился и после обеда прилег
отдохнуть. Сон подбодрил и освежил его. Теперь он отра-
батывал роль перед зеркалом: с недавних пор это очень
ему полюбилось. Лицо было бледнее обычного, но тем
больше он находил в себе сходства с графом Парисом,
несчастным женихом Джульетты Капулетти. Он проиг-
рал две первые свои сцены — часы пробили шесть. Едва
хватит времени пройти последнюю: надгробный плач.
Эрнст Людвиг продекламировал начальные стихи и про-
должал: «Цветы — цветку на брачную кровать...»
Устремленный в зеркало взгляд упал на портрет ма-
тери: седеющие волосы, темные глаза серьезно и печально
смотрят на него... Весенний ветерок залетел в окно, лас-
ково шевельнул волосы актера. И словно волшебная па-
лочка коснулась его души; сердце пробудилось от оце-
пенения, щемящая боль, нарастая, переполнила его и
выплеснулась звуками стихов. Тетрадка с ролью выпала из
дрожащих пальцев, глаза налились слезами, и, более не
владея собой, Людвиг отвернулся от зеркала, бросился
к столу и взял в руки портрет. Долго смотрел на него,
потом порывисто прижал к губам.
285
Но пора было идти. Сердце его разрывалось от боли,
слишком долго замурованной внутри, и все же он поспе-
шил в театр и пришел как раз вовремя.
Уже в эпизодах с Капулетти и с Джульеттой его ис-
полнение было овеяно неизъяснимой грустью, предчув-
ствием беды. Казалось, он с трудом сдерживает слезы...
Действие благодаря вращающейся сцене развертывалось
быстро. Пока не был занят, он с закрытыми глазами сто-
ял за кулисами и неотступно видел перед собою материн-
ское лицо. Поворот диска — и его вызвали на сцену.
Спускаясь в усыпальницу Капулетти, он торопливо отдал
приказание пажу, словно с нетерпением ожидая тон ми-
нуты, когда можно будет оплакать умершую. Потом при-
близился к гробу. Он забыл, что находится на сцене, среди
картонных декораций. Ему чудилось, будто он в покой-
ницкой, у гроба матери. И когда, осыпая усопшую цве-
тами, он начал плач Париса по Джульетте, сердце его
переполняла невыразимая скорбь о покойной матери. Все
теснее сливалось его горе с торжественной печалью сти-
хов, горячая волна внутри вздымалась все выше, и со
словами: «...полить цветы и плакать над тобой», — он
в отчаянии рухнул наземь, задыхаясь от рыданий. Где-то
в глубине души он сознавал, что на него смотрят сотни
людей. Но именно от этого всплеск страдания был столь
мощен, именно от этого произнесенные сквозь рыдания
стихи обрели столь потрясающую силу. Ему не дано было
плакать над свежей могилой матери, но теперь слезы —
обильнейшая дань беде из бед — струились по его загри-
мированному лицу, падая на доски театральной сцены.
Потрясенный, зал оцепенел. В конце спектакля зри-
тели устроили овацию и впервые вместе с исполнителями
заглавных ролей вызывали Эрнста Людвига. А на другой
день ведущий театральный критик, неумолимых оценок
которого все боялись, писал: «Господин Лавин вновь про-
демонстрировал свои превосходные актерские данные и
изысканно-традиционное прочтение образа Ромео, но
подлинной удачей спектакля был не он. Большой неожи-
данностью явилось исполнение господина Людвига, чья
искренняя страстность наполнила жизнью и оросила сле-
зами трагедию графа Париса, обыкновенно остающуюся
в тени. В этом еще молодом исполнителе растет великий
артист...» Директор, режиссер, коллеги наперебой по-
здравляли его, а те, что завистливо промолчали, тем бо-
лее ясно отдавали себе отчет, что его карьера обеспечена.
28Ö
Взбудораженный и растерянный, Людвиг весь следу-
ющий день провел дома. Он неподвижно смотрел на га-
зетную страницу, запинаясь, отвечал на телефонные
поздравления, подолгу стоял перед фотографией матери.
Теперь ему была открыта и дорога к славе, и — он ощу-
тил, как губы скривились в болезненной усмешке, — к
высоким гонорарам; ее мечты стали явью. Но чем ближе
подступал вечер, тем сильнее овладевало им тягостное
чувство страха: он боялся выйти на сцену. Заплачет ли
он, зарыдает ли так, как вчера? Он понимал, что это не-
возможно и что, случись такое, он предал бы себя и над-
ругался бы над своей сокровенной человеческой сущно-
стью. Он сказался больным. Но страх пе покинул его ни
завтра, ни послезавтра, пи все последующие дни. Дирек-
тор, режиссер, коллеги заходили к нему, пытались угово-
рить, настроить на иной лад, переубедить. Напрасно.
В ушах его неумолчно шумел театр, снова и снова театр,
га страшная сила, которая по своей воле дарила и отни-
мала у него скорбь и слезы, детски чистую любовь и тос-
ку, сила, которая приковала его тело и жизнь к своему
маховому колесу и мчит его по кругу. Театральный док-
тор часами беседовал с ним. Наконец как будто уда-
лось уговорить его выступить в маленькой, безобидной и
спокойной роли. Но когда врач пришел, чтобы проводить
его в театр, Людвиг сидел, отрешенно уставясь в одну
точку и сжимая в руках портрет матери, и ни на что не
реагировал. Лишь твердил то едва слышно, то почти со
стоном:
— Я не могу плакать... не могу... — а по ввалившим-
ся щекам одна за другой катились слезы и падали на
портрет.
Лео Перуц
(1884-1957)
Луна смеется
— Занимательные истории! — воскликнул старый
адвокат. — Не слишком ли много вы ждете от человека,
который вот уже сорок лет безвыездно живет в провин-
циальной глуши. И о чем, собственно, вы хотите услы-
шать? Об уголовном преступлении? О запутанном судеб-
ном процессе? Людские судьбы... Господи боже мой!
Воистину, чего только не повидаешь на свете. И одну ис-
торию я бы вам, пожалуй, рассказал — о весьма стран-
ном случае ипохондрии. Историю человека, чьи причуд-
ливые маниакальные фантазии были в некотором смысле
оправданы той кончиной, какая выпала на его долю. Ба-
рон Сарразен — знакомо ли вам это имя? Нет? Тогда
слушайте. Только предупреждаю: если мое повествова-
ние станет излишне пространным, без стеснения меня
остановите. Не забудьте, через час с четвертью отходит
ваш поезд.
Сарразены родом из Бретани, если память мне не из-
меняет, где-то в департаменте Морбиан расположена де-
ревушка с таким названием. Во время Великой революции
они оставались во Франции, и один из Сарразенов сложил
голову в Вандее. Родину они покинули уже после ре-
ставрации Бурбонов, — похоже, среди добродетелей Лю-
довика Восемнадцатого благодарность не числилась, — и
поселились здесь, в наших краях, в поместье Сляйснегг.
Теперь эта усадьба принадлежит некоему барону Фрё-
лиху, бумажному фабриканту, из тех, кому дворянство
пожаловано совсем недавно.
288
Так вот, Сарразены... я знавал последнего в этом роду.
Мне кажется, недуг поразил его лишь в возрасте лет со-
рока, после гибели единственной дочери. До той поры он
служил офицером в кавалерии, путешествовал, женился...
кстати, супруга его по сей день живет на Ривьере, а уж
с кем — бог весть.
После женитьбы барона начали одолевать денежные
затруднения, — ведь он никогда не мог похвастаться уме-
нием хозяйничать рачительно. Вот он и продал один
участок леса, за ним другой, а там пришел черед старин-
ных картин. Тогда-то он и обратился ко мне, и в конце
Донцов я стал вести его дела. Однажды он сидел у меня;
увлекшись беседой, мы не заметили, как стемнело. В по-
ловине девятого он подошел к окну.
— Что-то совсем не хочется ехать в Сляйснегг, —
сказал он. — Лучше бы заночевать здесь, в городе. Вы
йе порекомендуете мне гостиницу?
; ~ Я предложил ему остаться у меня, в комнате для го-
бтей. Он поблагодарил и не стал отказываться.
— Как томительно-зловещ сегодняшний вечер, — об-
ронил он, показывая на небо.
Я взглянул в окно.
:'..,■ — Не могу с вами согласиться. Дивная звездная ночь.
Так ясно, на небе ни облачка.
; — Да, — произнес он с легкой дрожью в голосе, —
ни облачка. И луна неподвижно уставилась на землю...
Ьидите, какой у нее алчный взгляд? — И тотчас он за-
нялся краской и прикусил губу. — Ну вот, пожалуйста,—
Сказал он затем. — Вы, конечно же, готовы рассмеяться.
Нр здесь нет ничего смешного, поверьте. Дело очень
Ьфрьезное. Болезнь... Во мне, в моей крови... Я уиаследо-
|ал это от своих предков.
%,. — Что же именно вы унаследовали, барон?
Щ/ — Эту болезнь. Ужас. Страх.
щ: — Страх?
É/— Да. — Он отвернулся от окна. — Страх перед луной.
^ Вы можете представить себе такое? Здоровый мужчи-
Йа< в расцвете сил, боевой офицер, бесстрашный наездник,
4>Йортсмен-автомобилист, человек для своего времени впол-
не образованный, знакомый с достижениями научной
мысли, — стоит передо мною и дрожит, да-да, дрожит,
страшась луны.
10 Австрийская новелла XX в. 289
В ту ночь он еще долго сидел подле меня и все гово-
рил, говорил — как человек, стремящийся загладить не-
выгодное и постыдное впечатление. Рассказывал он о
наследственном недуге и о своих предках. Если принять
его слова на веру, то луна сыграла некую роль в судьбе
каждого из них. Он цитировал выдержки из какой-то та-
инственной семейной хроники, — кстати сказать, после
смерти барона в его архиве ничего подобного но обнару-
жили, вероятно, она вообще никогда не существовала,
а может быть, баронесса увезла ее с собой во Францию.
Некоторые из этих историй я записал.
Вот, например, прадед барона, тот самый, что погиб
в Вандее. Вместе с десятком друзей-роялистов он был
осажден в замке Les Hayes полком республиканцев. Во
времена этой странной войны, которая явилась послед-
ним отзвуком средневековья, действительно еще осажда-
ли замки. Порох в крепости кончился, и осажденные ре-
шились бежать. Темной ненастной ночью они перебра-
лись через стену и под прикрытием густого кустарника,
росшего на берегу ручья, благополучно достигли леса.
Лишь один потерпел неудачу — барон. Он шел послед-
ним и едва начал спускаться по стене, как сквозь тучи
пробилась луна и уронила свой луч на то самое место,
где висел барон; беззащитный, точно голубь на крыше,
он был убит первым же выстрелом.
Или Оливье де Сарразен. Он командовал войсками
французской короны в войне с курфюрстом Пфальца, воз-
главлявшим Протестантскую унию. Было это приблизи-
тельно в тысяча шестьсот сороковом году. Армия стояла
лагерем у Меца, — так гласит хроника, которой я не чи-
тал, — и ночью накапуне своей смерти Оливье де Сарра-
зен приказал пушкарям два часа кряду обстреливать
луну из гаубиц и кулеврин. Сам он сидел возле шатра и,—
фантастическое зрелище! — изрыгая проклятия, выпу-
скал по луне пулю за пулей из тяжелых седельных писто-
летов, без передышки, до рассвета. Вечером следующего
дня он во главе своих полков вступил в город, и тут упав-
ший откуда-то сверху предмет сбил с него железный
шлем и размозжил ему голову. Предмет оказался шаром
величиной с яблоко, он лучился зеленоватым блеском и
был сделан из какого-то диковинного, никому не ведомого
вещества,— так сообщает хроника и заключает: якобы
луна нанесла ответный удар.
А теперь несколько слов о Жослене де Сарразене. Во
290
времена альбигойских войн Симон де Монфор обвинил
его в ереси и повелел сжечь на соборной площади в
Орильяке. Представьте себе просторную площадь, запол-
ненную толпами зевак; полдень, мессир де Сарразен с
веревкой на шее стоит на костре, а палач разводит огонь.
«И в сей же миг, — так записано в хронике, — к вящему
изумлению собравшихся, на небе, противно всем уста-
новлениям господа нашего, показалась блудница-лупа и
на протяжении часа праздно созерцала злодейство, глу-
боко удовлетворенная плачевной кончиной мессира де
Сарразена, и являла всему честному народу лик спеси-
вый л превраждебный...»
Как видите, историям этим — в самом ли деле упомя-
нутым в хронике или рожденным в больном воображении
барона, — присуще нечто общее: в них сквозит безумный
вымысел, совершенно лишенный простодушия старинных
преданий, и вместе с тем они, вне всякого сомнения, от-
мечены подлинным духом ушедших времен. Я немного
разбираюсь в этом, недаром же я так люблю стародавние
фолианты, собираю их и читаю в редкие часы досуга.
Вот о чем поведал барон с легкою насмешкой в голосе;
видно, ему было очень важно убедить меня, что сам он
не принимает этого всерьез, — дескать, эти истории дока-
зывают только, что странный недуг — боязнь луны —
передается у них в роду из поколения в поколение. «Он
в моей крови, в моем мозгу, в моих нервах», — снова и
снова повторял барон. Спору нет, так оно и было. Спустя
много лет дочь сляйснеггского причетника рассказывала
мне о полоумном старце — дяде барона: каждое полно-
луние он заползал под алтарь сельской церкви и ночь на-
пролет читал литании. А однажды в руки мне попала
Библия, которая некогда принадлежала рано умершей
сестре барона. На одной из страниц священной книги я
обнаружил выцветшую надпись, всего несколько слов,
но какой леденящей обреченностью веет от них! «Изну-
рительная луна гложет мне душу», — вот что было вы-
ведено неловкой детской рукой. Не странно ли, этот ре-
бенок говорил об изнурительной луне, точно о не-
|уге?
р Впрочем, припадок, — ибо речь шла именно о таком,
'$о всей видимости, периодическом нарушении душевного
равновесия, — припадок в тот вечер продолжался лишь
Два часа. К одиннадцати барон вполне успокоился и лег
спать. Когда наутро мы сидели за завтраком, он вновь был
Ю*
291
прежним — любезным, обходительным, не слишком вель-
можным австрийским аристократом... Ну да ведь вам
знакомы люди подобного склада.
Через несколько дней я встретил в Сляйснегге стан-
ционного лекаря и побеседовал с ним об этом происшест-
вии. Лекарь был человек старый, брюзгливый; живя в де-
ревне, он совершенно опростел, но дело свое знал. Раз-
битые черепа, воспаления легких, вывихи — со всем этим
он справлялся успешно.
— Что же вы хотите, — заметил он. — Бывают мании
куда более неприятного свойства. Вы слышали, к приме-
ру, о человеке, который вообразил, будто сделан из фар-
фора? — Засим последовал весьма грубый и весьма зау-
рядный анекдот, и вопрос для него был тем самым ис-
черпан.
В ближайшие несколько месяцев дела неоднократно
приводили меня к барону Сарразену. Помню, раз он по-
просил меня приехать, так как один из лесников, полу-
чивший увечье при исполнении службы, потребовал воз-
местить ему материальный ущерб. Я посоветовал барону
удовлетворить лесниковы притязания, иного совета я при
всем желании дать не мог. Барона такая перспектива по-
вергла в искренний ужас, ведь он был совершенно чужд
сознания долга перед ближним.
— Чего я этим добьюсь?! — кричал он. — Это же
пьяница, сутяга, и работает он спустя рукава, и вообще
его давно пора уволить!
Я сказал, что суд тем не менее решит дело в пользу
лесника, лучше уж не доводить до крайности, выплатить
грошовую компенсацию и уладить все миром. Он пона-
чалу и слушать не желал. Но в конце концов уступил,—
по крайней мере, так казалось с виду, — сказал, что
подумает, поговорит с ротмистром, узнает его мнение...
Ротмистр был его ближайший сосед, некий господин
фон Жолтань, — запомните это имя, вы еще услышите
о нем.
Я хотел откланяться, но барон меня не отпустил, во-
лей-неволей пришлось остаться. Он вновь пришел в благо-
душное настроение, которое выразилось в том, что он
принялся рассказывать побасенки о торговцах лошадьми
и истории времен своей службы в галицийских гарнизо-
нах, — поразительно, до чего мастерски он владел армей-
ским жаргоном.
Не помню, в какой связи он завел речь о своем фа-
292
мильном гербе. Может статься, уже сам по себе неожи-
данный переход к этой теме возвещал о близости припад-
ка. На гербе барона был изображеп серебряный лунный
диск и закованная в латы рука, разрубающая его секирой.
Я уверен, что эта гербовая фигура весьма недавнего про-
исхождения, ибо геральдика ранних эпох не знала подоб-
ных атрибутов и довольствовалась более простыми сим-
волами. Однако же я оставил эти соображения при себе.
А перед бароном ратовал за то, что герб скорее всего
возник во времена крестовых походов.
Барон, в свою очередь, возразил, что, дескать, сереб-
ряный лунный диск на его гербе восходит к бретонским
сказкам о чародеях, и углубился в туманные домыслы, —
тут я вдруг заметил, что он уже какое-то время говорит
о луне как о мужском существе.
Неожиданно он вскочил и устремился к окну. Баро-
несса до сих пор не воротилась с прогулки, и он забеспо-
коился.
— Уже темно, — сказал он. — Я не люблю, когда
баронесса в полнолуние ездит по тракту. Придорожные
кресты в нашей округе иной раз отбрасывают в лунном
свете жуткие, зловещие тени. И лошади пугаются.
Право слово, на сей раз барон тревожился не без при-
чины. Двумя годами раньше именно при таких обстоя-
тельствах погибла его малолетняя дочь. Я попытался от-
влечь его от этих мыслей, но, увы, с ним внезапно сделал-
ся припадок.
Доводилось ли вам слышать, как в лунные ночи воют
собаки? Да-да, в точности так было и с ним. Не правда
ли, наукой доказано, что на некоторые виды животных
и растений луна влияет совсем по-особому. Расспросите
цри случае садовника. То же и с людьми, — я знавал кре-
стьянок, которые подстригают себе волосы только в канун
Полнолуния. Что касается барона, то лунный свет поверг
£го в транс. Взгляд его остановился, с губ слетали полу-
бессвязные речи о луне, но он, верно, и сам не ведал, что
»рворит.
f; — Она нас ненавидит, она нас убивает! И нет спасе-
е:я. Мои предшественники сопротивлялись, вступали с
ю в единоборство. Напрасно — все они погибли, все
ÉO одного.
$ И опять прежние банальные истории из хроники:
- — Мои предки... им, без сомнения, было куда больше
язвЬстно о тех узах, что соединяют луну с судьбами Сар-
293
разенов. Глубоко в пыли веков сокрыта затерянная тайна.
Оливье де Сарразен — он еще знал секрет, да-да, знал,
ведь недаром он отдал приказ стрелять по луне из пушек.
Знал его и Мельхиор де Сарразен, тот, что разослал по
стране герольдов с трубачами и барабанщиками и сулил
мореходам четыре фунта золота да вдобавок драгоценно-
сти и ожерелья, пусть только сбросят в океан тяжелые
каменные глыбы, сбросят там, где луна каждый вечер
поднимается из волн, чтобы свершать все новые злодей-
ства.
Тут он понизил голос до шепота и наклонился к мое-
му уху.
— Порой мне кажется, — молвил он едва слышно, —
будто в детстве я знал утраченный секрет лунной злона-
меренности. На миг все вдруг становится ясно, воспоми-
нание молнией пронзает мозг: вот оно — слово, которое
я ищу всю жизнь! А секундой позже оно вновь стирается
из памяти, остается лишь страх, страх перед неминуе-
мым, леденящий ужас...
Припадок набирал силу, и был он много хуже того,
первого. Барон задрожал, лицо его исказилось, холодный
пот выступил на лбу, глаза горели безумием.
— Она убила моего ребенка! Это вы знаете? — кричал
он. — Убьет и меня. Иудина образина — там, наверху,
в ночном небе! Окаянный желтый лик убийцы!
В полной растерянности я тщетно дергал сонетку,
пытаясь вызвать кого-нибудь из слуг, и в этот миг
наконец-то —- слава всевышнему! —- появилась баро-
несса.
Я ведь еще не рассказывал о баронессе, правда? Не
знаю, была ли она хороша собой, но уж обыкновенной ее,
бесспорно, назвать было нельзя. Я постараюсь описать
ее, чтобы вы могли судить сами: волосы у нее были тем-
ные, а глаза — голубые, что придавало ее лицу странное
очарование. Всего же прелестней была ее походка — эта
женщина не шла, а как бы парила над землей. При встре-
чах с нею меня всегда охватывала робость.
С первого же взгляда она поняла, в каком состоянии
находится барон, и тотчас приняла необходимые меры.
Прежде всего она закрыла ставни. Простая вещь, а ведь
мне это даже в голову не пришло. Потом она погладила
барона по руке, отерла с его лба капли пота — и все это
не говоря ни слова, с бесконечной лаской и нежностью.
Барон начал успокаиваться. Мы с баронессой перегляну-
294
лись, я почувствовал себя лишним, и она не стала меня
удерживать.
После этого я долгое время не виделся с бароном. Он
много разъезжал и несколько месяцев провел в столице.
Домой он вернулся с телескопом. Мне думается, в мину-
ты просветления он решил, что зрелище астрономической
реальности способно вытеснить тот мистический образ
луны, который он носит в себе. Вот для этого ему и по-
надобился телескоп. Дело, однако, приняло совершенно
иной оборот.
Как-то раз я встретил его здесь, в городе; он только
что вышел из здания хагелевской страховой компании. Я
проводил его до окружного управления.
По дороге мы говорили о делах, которые привели его
в город. Как вдруг он презрительным, высокомерным
жестом указал на небо.
— Случалось ли вам видеть ее вблизи? — спросил он
без всякого перехода. — Не случалось, ведь верно? Ни-
когда. А вот я,— он несколько раз энергично ударил себя
в грудь, — я видел, да-да, видел. Коварное, порочное ли-
цо, испещренное, точно оспинами, множеством круглых
пятен — следами дурных страстей. И средь этих желва-
ков и язв сверху донизу тянется пролом, длинный, кро-
ваво-красный пролом...
Барон остановился, схватил мою руку и прошептал с
довольным блеском в глазах:
— Как от удара секирой.
Он пронзительно рассмеялся.
— Заброшенная. Умершая тысячелетия назад. Слабо-
умное отродье вселенной, да-да.
Он выпустил мою руку. Прохожие удивленно оборачи-
вались на него, но он этого не замечал.
— Я больше не боюсь, теперь, когда узнал ее, — ска-
зал он. — Все это в прошлом. Зато она — она боится ме-
Вя, не выдерживает моего взгляда. Стоит только напра-
вить на нее телескоп, она прячется: тащит со всех сторон
$брывки туч и нагромождает перед собою. А если нет
Злаков и укрыться ей негде, она мечется по небу, да так
быстро, что я едва успеваю следить. И исчезает она всегда
* одном и том же месте — за стеной ротмистрова парка;
среди вязов и акаций я теряю ее из виду. Что ей там нуж-
но, что она ищет? Всегда в одном и том же месте. Надо бы
предупредить Жолтаня, что луна бродит средь его вязов.
Он никак не мог отрешиться от этой мысли.
295
— Ротмистр в отъезде, где-то в Венгрии... все бросил
и уехал. Когда он вернется, я не знаю. Но ему на-
добно непременно сообщить, что луна всегда в одном и
том же месте... среди вязов *и акаций... Жолтань должен
узнать.
Между тем мы добрались до окружного управления.
Быть может, мне следовало войти туда прежде барона и
предупредить чиновников, в каком он состоянии, однако
подумал я об этом уже задним числом. Хотя там, по-ви-
димому, никто не заметил ничего особенного, потому что,
прощаясь со мной, барон опять говорил вполне спокойно
и разумно.
Эта встреча была последней. Спустя несколько дней
разразилась катастрофа.
Я вынужден теперь попытаться восстановить ход со-
бытий, приведших к катастрофе. И, конечно, не поручусь
за достоверность всех деталей.
Девять часов вечера. Барон стоит в эркере своего ка-
бинета. Он нацелил телескоп в ночное небо и ждет, когда
рассеются облака.
Его снедает беспокойство, даже больше чем беспокой-
ство — безумный страх. Он размышляет о предках, пав-
ших в этом единоборстве. Луна горазда на выдумки, мо-
жет быть, она уже решила, какой смертью умрет послед-
ний в длинной череде ее врагов.
Облака растаяли. Начинается поединок. Вот она —
луна. Желтый лик убийцы недвижно глядит в телескоп.
Опять та же игра, что и вечером накануне. Луна блед-
неет, чувствуя направленный на себя телескоп. Барон
видит, как она робеет, как ее охватывает страх, как она
мечется то влево, то вправо, хочет укрыться от глаз-пре-
следователей и вот наконец отказывается от борьбы, бе-
жит, зигзагами бежит с небес. Над парком господина
Жолтаня луна исчезает, ее больше не видно, она прячется
в кронах деревьев.
Барон не уходит, поединок еще не завершен. На этот
раз он обязательно разгадает секрет, узнает, отчего луна
всегда скрывается здесь, над ротмистровым парком.
В ожидании окуляр телескопа скользит по стене парка,
а барон ощущает себя прямо-таки Оливье де Сарразеном,
который обстрелял луну из гаубиц.
Ага! Проблеск света! Это она — расхрабрилась и вы-
нырнула из укрытия.
296
Нет, это всего-навсего освещенное окно... Как же так...
ротмистр в отъезде, дом пуст. Значит, он внезапно воро-
шился?
Действительно, ротмистр... Барон узнал его в телескоп.
Господин фон Жолтань вернулся, да не один, с ним жен-
щина, он обнимает ее, прижимает к груди — лунный свет
ласкает белые плечи...
Но что это? Луна стоит в небе и смеется. Бросает ко-
сые взгляды вниз, на освещенное окно, и хохочет, как
безумная! Что же это значит? Луна смеется!
В самом ли деле барон узнал женщину или просто
догадался об истине — сказать трудно. С громким криком
он опрокидывает стол, бежит к двери, распахивает ее —
секунда, и он уже на лестнице.
;А Нет. Все было не так. По-видимому, барон вышел из
дому, сохраняя деланное спокойствие, только снял перед
уходом со стены хлыст и взял его с собой.
) Как он очутился в парке, тоже неизвестно. Слуга рот-
мистра его не заметил. Впоследствии этот слуга не раз
описывал мне зрелище, которое открылось перед ним,
когда он прибежал на звук выстрела.
Господин фон Жолтань замер у стены, поддерживая
бесчувственную баронессу, на щеке у него багровел след
от удара хлыстом, пальцы судорожно сжимали револьвер.
Барон, забрызганный кровью, с открытым ртом лежал
&а полу, пуля ротмистра пробила ему горло. Рядом валя-
лась дубинка — должно быть, он подобрал ее по дороге,
чтобы вышибить дверь.
И все это было залито серебряным сиянием — в отво-
женное окно струился свет луны.
; Такова история барона Сарразена, теперь она ваша,
Можете распоряжаться ею по своему усмотрению. Я не
Еумаю, чтобы у вас в столице его еще помнили. Он не был
иаметной фигурой ни в свете, ни в политической жизни.
Щишь один-единственный раз его имя попало в газеты.
рй случилось это в тысяча девятьсот восьмом году; вместе
Щ Гаррахом и Унгнад-Вайсенвольфом он участвовал в до-
стопамятном парадном смотре, которым австрийское дво-
$шнство почтило своего восьмидесятилетнего монарха.
297
Франц Верфель
(1890 -1945)
Жестокая история об оборванной удавке
I
Худо приходится праведникам на нашей земле, а зло-
деям в большинстве случаев еще при жизни «воздается
сторицею», и Библия не умалчивает об этой безрадостной
истине, которая является твердым орешком для людей
верующих или взыскующих веры и доказывает, что суду
небесному, по всей видимости, еще больше присущи не-
надежность, произвол, волокита, неразбериха и даже рав-
нодушие, нежели суду земному, и что существующий на
земле порядок, на нравственную основу которого все мы
так страстно уповаем, ни в коей мере не соответствует
тому сверхчеловеческому, но бесчеловечному порядку, ко-
торый царит во вселенной.
Однако порой такое положение вещей не умещается
в голове даже самого отпетого безбожника, ибо бывают
знамения, причем явные знамения, и свершаются чудеса,
настоящие чудеса, с одной-единственной целью спасти
злодеев, которым удается избегнуть справедливого воз-
мездия исключительно благодаря хитроумному вмеша-
тельству небесных сил. И все же известная логика в миро-
порядке может быть обнаружена, так как покровительство,
оказываемое небесами крупным преступникам, не проти-
воречит поощрению земными властями — мелких. Недав-
но я как раз услышал об одном таком несомненном чуде,
которое может служить примером того, как Провиденье
потворствует дьяволу. Рассказал мне эту историю человек,
несколько недель тому назад вернувшийся в наш любозна-
тельный городок из Испании, с Гражданской войны.
298
II
Под яростным натиском неприятеля последние отряды
республиканской милиции в полдень покинули Малагу.
На следующее утро город был уже в руках авангардных
частей фалангистов. Между отводом одних войск и при-
ходом других не прошло и суток. Точно так же, как меж-
ду передовыми линиями противостоящих фронтов лежит
ничейная земля, ничейное пространство, так и между на-
ступающими и отступающими частями враждующих ар-
Ашй возникает ничейное время. /Кители городов и насе-
ленных пунктов, имевшие несчастье когда-либо оказать-
ся в зоне военных действий, на собственной шкуре знают,
что несет с собой это ничейное время. Но особенно лютым
бывает оно в годы гражданской войны. Людям кажется,
что остановился круговорот природы, все замирает, слов-
но во время солнечного затмения, птицы вдруг перестают
петь, и их тревожное молчание слышится всеми с резкой
отчетливостью. Стоит таинственное, зловещее затишье, и
даже скудный дым из печных труб не вздымается в небо,
а трусливо, по-рабски льнет к скатам крыш. Петухи не
кричат, и глухую тишину лишь изредка нарушает прон-
зительное кошачье мяуканье. Не только все люди попря-
тались по углам, но даже юркие малахитовые ящерки не
решаются выползти погреться на солнце и сидят недвиж-
но в щелях каменных оград, за которыми раскинулись
тенистые сады с их устрашающим теперь полумраком.
Наступает как бы некая пауза, непостижимая пауза, по-
скольку в ней всеобщее оцепенение сочетается с крайним
нервным напряжением, — пауза между двумя дикими
воплями ужаса.
Уже много дней, как в городе все знали, что исход боев
предрешен. Командование гарнизона, оставшегося вер-
ным правительству, нимало не утаивало от населения, что
Эго ожидает. Те горожане, кому могли угрожать репрес-
сии, имели полную возможность своевременно позабо-
титься о собственной безопасности. Многие так и посту-
пили. Другие колебались до последней минуты, но потом
все же решились бежать и, прихватив впопыхах кое-какой
скарб, вместе с женами и детьми увязались за отступаю-
щими отрядами народной милиции. Но были и такие,
кого никак не удавалось уговорить сдвинуться с места,
299
Они оставались глухими к добрым советам и наотрез от-
казались покинуть город, к которому словно приросли за
долгую жизнь. Пожалуй, излишне даже уточнять, что
речь тут идет о так называемых идеалистах. Были среди
них два-три врача, несколько адвокатов и государствен-
ных чиновников, главный редактор ежедневной городской
газеты со штатом своих сотрудников, двое известных всей
стране писателей, художник, имеющий довольно громкое
имя не только здесь, но и за границей, несколько профес-
соров, учителей, инженеров, а также большое число про-
стых людей, на которых все же, несомненно, могла обру-
шиться ненависть победителей. Все они остались в го-
роде вовсе не из-за одержимости героизмом, но скорее
по легкомыслию, достойной сожаления беспечности,
и тому отсутствию воображения применительно к зло-
действу, из-за которого ценнейшим людям столь часто
угрожает опасность. Они охотно пускались в много-
словные пагубные рассуждения^ свидетельствующие
лишь о том, что чужой опыт никем и никогда не пере-
нимается.
— Долго это не может продлиться...
— Не так уж это будет страшно...
— Лично со мной решительно ничего не может слу-
читься...
— Они не смогут меня ни в чем обвинить. Политикой
я никогда не занимался и никому никакого зла не при-
чинил...
Это длилось долго и продолжается по сей день. И ока-
залось на деле куда страшнее, чем могло привидеться в
самом ужасном кошмаре. А самые чудовищные вещи слу-
чились как раз с теми, с кем решительно ничего не могло
случиться. Именно их и обвинили, и именно им причи-
нили такое зло, какое они и не помышляли кому-либо
причинять.
Новая тюрьма стояла на окраине города — несколько
хорошо оборудованных корпусов и прогулочных двори-
ков, обсаженных деревьями, чем очень гордились все сто-
ронники гуманного обращения с заключенными, справед-
ливо полагая это доказательством передовых взглядов
новой власти. Ц те дни это печальное, но в своем роде все
же выдающееся заведение стало центром всех событий.
В первые же часы после вступления в город войск мятеж-
ных генералов начались аресты вышеупомянутых без-
300
обидных идеалистов. Их повсеместно хватали и свозили в
тюрьму. С непостижимой быстротой граждане этого кра-
Ьивого города превратились из безоговорочных сторонни-
ков бывшего правительства в фанатичных приверженцев
генеральского мятежа. Воодушевление, царившее на ули-
цах, было бы неверно считать только показным. Понятно,
что такие настроения здесь прежде не проявлялись, но,
зародившиеся в дни Гражданской войны, вскормленные
в ничейное время, они выползли на свет божий лишь к
концу воцарившейся паузы. И все же не только одни
жертвы режима удивлялись количеству хороших знако-
мых и до тех пор вполне доброжелательных людей, не-
ожиданно оказавшихся предателями, осведомителями,
шпионами, кипящими жаждой мщения, лазутчиками,
яростными приспешниками победителей, которые повсю-
ду во всеуслышанье похвалялись тем, что в силу своих
правильных убеждений они уже давным-давпо состояли
на службе у генералов.
Перед высокими коваными воротами новой тюрьмы
толпились всевозможные подонки общества и хором скан-
дировали лозунги, требуя освобождения тех политиче-
ских заключенных, которых правительственные войска
оставили под арестом при отступлении. Еще не пробило
и полудня, как освобожденных вывели на площадь под
приветственный рев ликующей толпы, а опустевшие ка-
меры набили раз в десять большим числом только что
арестованных людей. Уже в первый день заключенных
оказалось тысяча с лишним. Прежде всего в тюрьму уго-
дили те безобидные идеалисты, о которых уже шла речь,
и еще немало отставших от частей солдат и мародеров,
задержанных во время наступления в виноградниках, на
полях, в крестьянских усадьбах и сараях. Места для всех
не хватало, поэтому в камеры, предназначенные для тро-
их, загоняли по двенадцать, а то и по пятнадцать чело-
век. Из всей этой оравы арестантов лишь немногие из-
бранные удостаивались одиночного заключения. Полити-
ческих не отделяли от уголовников. Однако это перена-
селение камер длилось весьма недолго. Часов в одинна-
дцать вечера к тюремным воротам подогнали несколько
грузовиков. В них могло разместиться около девяноста
человек.
Началось нечто невообразимое...
301
Ill
Среди уголовников, находящихся под стражей в этом
образцовом заведении, — их в те дни не насчитывалось
и двух десятков, — был некий Эстебан Аймундо-и-Аб-
реохос '. Человек, вернувшийся из Испании, божился, что
того бандита звали так или как-то в этом роде, но, уж во
всяком случае, не проще.
Когда слышишь такое имя, то сразу же представляешь
себе мрачного, но блестящего идальго, гранда, помешан-
ного на вопросах чести, героя театра «плаща и шпаги»
Лопе де Веги. Но Эстебан Аймундо-и-Абреохос был убий-
цей, причем не каким-нибудь там случайным, а, так ска-
зать, классическим, хрестоматийным убийцей. Создавая
его лицо, природа отнюдь не собиралась вводить кого-ли-
бо в заблуждение: роль злодея она поручила исполнителю
с соответствующей внешностью, в выбранной ею маске
был даже, возможно, некоторый перебор. Густые, навис-
шие брови, под которыми едва виднелись крохотные
мышиные глазки; вечно бегающий, беспокойный взгляд
так и норовил к чему-нибудь прицепиться; низкий, по-
катый лоб, окаймленный свалявшимися курчавыми кос-
мами; большой, безгубый, как у щелкунчика, рот и вы-
двинутый вперед квадратный подбородок. Громоздкая
сутулая фигура. Он был одновременно ничтожен, упрям
и коварен, и это словно пригибало его к земле. Его груд-
ная клетка была подобна несгораемому шкафу, а длин-
ные волосатые руки убийцы болтались, как у гориллы.
Весь в целом он — идеальный экспонат для музея кри-
миналистики, законченный тип преступника, будто спе-
циально созданный для демонстрации на семинаре.
В этом злодее не было ничего, что могло бы с ним при-
мирить, ничего детского или беззащитного, никакой вы-
зывающей сострадание слабости, присущей почти каж-
дому преступнику. Нет, Эстебан Аймундо-и-Абреохос был
живым воплощением ночных кошмаров одиноких вдов,
просыпающихся по ночам от страха.
Пальцев на руках не хватило бы, чтобы сосчитать те
преступления, за которые он должен был держать ответ.
Однако профессиональными шедеврами его можно наз-
вать три убийства с целью ограбления и два убийства с
изнасилованием. Чтобы не затягивать следствия до бес-
Дословно: «На том свете гляди в оба» (ucn.J.
302
конечности, в свое время решили ограничиться рассмот-
рением лишь «избранпых произведений» Абреохоса, а
такие мелочи, как грабежи и кражи, в расчет не прини-
мать. Процесс над Абреохосом, — его судили по законам
военного времени, но следствие все же было долгим и
тщательным, — происходил в два последних дня осады
города. Дело в том, что в начале Гражданской войны за-
конное правительство придавало большое значение тому,
чтобы все общественные институты функционировали по
возможности нормально. Театры, варьете и кипо были
открыты, а суды исправно рассматривали текущие дела.
Военно-полевой суд города Малаги приговорил убийцу-
рецидивиста, как и следовало ожидать, к смертной казни
через гаротту. Однако тут же странным образом произо-
шло то вмешательство высших сил в пользу злодея, о ко-
тором мы уже говорили. Смертный приговор не мог быть
приведен в исполнение, так как наступило пресловутое
ничейное время, представители законного правительства
потеряли власть, и ее захватили победоносные генералы
со своими хорошо вымуштрованными подручными.
Новый комендант города решил собственнолично за-
няться делом мести, вот почему он ежедневно по несколь-
ку часов проводил в канцелярии тюрьмы, чтобы самому
допрашивать свои жертвы и наслаждаться их бесси-
лием. Это был высохший от ненависти молодой полков-
ник, с вросшим в щеку моноклем — на прусский манер —
и в начищенных до ослепительного блеска сапогах со шпо-
рами — на манер итальянский. Когда люди этого типа,
вместо того чтобы преследовать других, сами оказывают-
ся на некоторое время в числе преследуемых, как это и
случилось с ним благодаря испанскому правительству, их
потом так и распирает от злобы и жажды уничтожения.
По заострившимся чертам лица полковника можно было
понять, как он страдает оттого, что у него нет в запасе
более страшной кары, нежели смертная казнь.
В соответствии с установленным порядком комендан-
ту положили на стол дело Эстебана Аймундо-и-Абрео-
хоса. Полковник сидел в своем кабинете, вытянув вперед
ноги, обутые в роскошные кавалерийские сапоги из свет-
лой кожи, блеск которых недвусмысленно свидетельство-
вал о том, что денщик не пожалел ни крема, ни сил, обра-
батывая их щетками и суконкой. На письменном столе,
заваленном грудой документов, — в каждом из них речь
шла о жизни или смерти человека, — стоял стакан с ядо-
303
вито-зеленым аперитивом. Задумчиво потягивая через
соломинку охлажденный напиток, coronel1 читал при-
говор, вынесенный убийце. Односложно, почти шепотом
приказал он офицерам, подобострастно ловящим всякое
его слово, привести к нему арестанта, оставшегося в жи-
вых лишь благодаря тому, что наступило ничейное время.
Облик этого образцового злодея, превзошедший все самые
мрачные ожидания, доставил полковнику истинное на-
слаждение, и ему тут же пришла в голову одна блестящая
идея, которая тотчас превратилась в продиктованный
равнодушным голосом прямо в пишущую машинку при-
каз, врученный затем техническому руководителю кара-
тельных мероприятий. Поскольку отнять жизнь с помо-
щью пороха и свинца казалось полковнику чрезмерно
мягким наказанием борцам за свободу, пацифистам, демо-
кратам, социалистам, коммунистам и прочему гумани-
стически настроенному сброду, то пусть хоть для первой
партии этих шелудивых идеалистических собак казнь бу-
дет приправлена тем, что они пойдут на нее в весьма по-
четном обществе пятикратного убийцы.
Сразу же после полуночи грузовики, въехавшие в тю-
ремный двор, заполнили арестантами. Среди людей с тон-
кими лицами и благородной осанкой, тех, на кого рас-
пространялась ненависть мятежных генералов, сидел
волосатый изверг и шнырял по сторонам своими беспокой-
ными глазками убийцы. Остальные, в большинстве своем
люди уже в возрасте, выглядели так, словно их только что
подняли с постели. Они были напуганы, но все же, казалось,
нисколько не отдавали себе отчета в том, что их ожидает.
Взревели моторы — рев их пронизал гнетущую тишину
и обманчивое безлюдье этой ночи. Колонна грузовиков
понеслась в сторону главного городского кладбища. За
время Гражданской войны генералы разработали опреде-
ленный порядок осуществления подобных акций, всегда
выбирая такое место, где убивать окажется наименее хло-
потным и не противопоказано гигиеническим нормам.
Грузовики по-хозяйски въехали на кладбище через высо-
кие ворота и свернули на главную аллею, нимало не беря
в расчет потребность в тишине бывших высокопоставлен-
ных граждан, тела которых покоились в роскошных скле-
пах и мавзолеях с давних счастливых феодальных вре-
мен. Машины остановились в самой отдаленной и еще не
Полковник (ucn.J.
304
освоенной части господней нивы. Там уже ждали другие
грузовики и команда военных прожектористов. Мощные
лучи из огромных военных прожекторов пронзали тем-
ноту и гнали ее прочь, оставляя широкое поле света по-
давляющей яркости, по краям которого снова плотной
стеной вставала густая тьма. В этом ограниченном про-
странстве неестественного, отягощенного своим значе-
нием света стояли три шеренги солдат — взвод регуляр-
ных войск, кучка коричнево-черных мавров и несколько
фалангистов, которых нетрудно было узнать по фиолето-
вым пилоткам с кистями. В некотором отдалении слыша-
лись глухие голоса, доносившиеся откуда-то из глубины,
и тяжелые комья темного грунта, срываясь с лопат, обра-
зовывали широкий бруствер, который, словно холм, скры-
вал от глаз наспех вырытую общую могилу. Яма была
длиной шагов в двенадцать, шириной в восемь и глуби-
ной в три метра.
Казнь проходила неторопливо, но без какого-либо эле-
мента торжественности. Здесь царил дух сухой делови-
тости, не то что в старые времена, когда расстреливали
под приглушенный рокот барабанов, под мрачные коман-
ды и трубные сигналы, здесь не было и строго определен-
ного регламента, все шло гладко, без задержек, как бы
играючи. Казалось, что при яростном свете прожекторов
не убивают ни в чем не повинных людей, а производят
какие-то рутинные технические работы. Ничего челове-
ческого нельзя было обнаружить в палачах, да и ничего
дьявольского тоже. Не было у них даже инфернального
наслаждения местью, так же как и порочного желания
просто проливать кровь. Это были палачи нового типа, и
для своей излюбленной работы они подыскали точное
слово: «положить». Они клали людей, как металлические
болванки.
Какой-то офицер прокричал имена первого десятка.
Это были имена лучших из лучших, попавших в руки
врага. Их вытолкнули из кузовов грузовиков: двоих вра-
чей, которые не имели никакого отношения к политике,
редактора газеты, троих его сотрудников, писателя, зна-
менитого художника и трех мелких чиновников павшего
режима. Лица их не казались смертельно-бледными, по-
тому что они стали перламутрово-белыми в слепящих лу-
чах прожекторов. Десять фигур двигались, будто на кино-
съемочной площадке. Их загнали на бруствер, они не
были даже связаны, но никто не сопротивлялся, никто
305
ничего не сказал. Какие-то начальники подошли к ним
вплотную и приказали: «Сиять пиджаки!» Жертвы по-
виновались.
Только теперь, когда они увидели друг друга в белых
сорочках, они как будто осознали всю безысходность
своего положения и заговорили беспорядочно, вразнобой,
сдавленными высокими голосами, пытаясь быстро объяс-
нить что-то очень важное равнодушным палачам. Тем
временем солдаты безо всякой команды, неторопливо, как
все, что они делали, оцепили освещенную площадку.
И тем десятерым, загнанным на бруствер, теперь уже не-
куда было податься, кроме как в большую общую могилу.
Но никто из них не подумал об этой последней возмож-
ности, и тут раздались выстрелы. Оказалось, что пулемет
стоит совсем близко, но до сих пор его почему-то никто
не замечал. На то, чтобы прочертить очередью шеренгу
стоящих на бруствере один раз туда и один раз обратно,
потратили только одну пулеметную ленту, не больше.
Всего несколько секунд сухо строчил пулемет. Благород-
ные седовласые головы раскалывались, как яйца, в пуле-
метные выстрелы вплетался треск разрывающихся череп-
ных коробок. В неистовом свете прожекторов, который
поглощал все цвета, текли черные ручьи крови; извива-
ясь, словно ища друг друга, они в конце концов слились
в едином потоке.
Солдаты регулярных войск и мавры подошли к упав-
шим и с короткой дистанции всадили из своих маузеров
каждому в тело еще по нескольку пуль. Проделали они
это совершенно равнодушно, между прочим, так, как за-
таптывают носком сапога упрямо не гаснущий окурок.
Потом они подняли тела расстрелянных за ноги и плечи
и, раскачав их, швырнули в могилу. Первый слой побеж-
денных борцов за свободу лег там, где упал. Тела убитых
присыпали несколькими лопатами земли и гашеной из-
вести.
Когда эта история повторилась в восьмой раз, благо-
родный Эстебан Аймундо-и-Абреохос стоял одиннадцатым
и последним на левом крыле смертников. Остальные де-
сять, которые уже семь раз были свидетелями своей соб-
ственной участи, едва дышали. Больше не раздавались
с бруствера гортанные, высокие мужские голоса, только
время от времени слышалось сипло сдавленное мычание,
звук, который издают при позыве на рвоту. Единственный,
кто сохранил спокойствие, был Абреохос. Он стоял на-
306
вытяжку, его не бил колотун, — прямо герой. Глазки его,
как обычно, беспокойно шныряли по сторонам, все при-
мечая. Время от времени он вздымал вверх свою тяже-
лую ручищу и вопил во всю мочь: «Arriba Espana!»1, ло-
зунг испанских националистов. Уж не делал ли он это
для того, чтобы подлизаться к смерти, которая теперь
была явно националистически настроена?
В тот миг, как ударил пулемет, Эстебаи Абреохос ки-
нулся наземь. И если сейчас пуля его и пощадила, то это
было личной заслугой Эстебана, а не результатом вмеша-
тельства небесных сил. Дело в том, что он был в здра-
вом уме и примечал маневры пулеметчиков. А вот все даль-
нейшее и в самом деле зависело уже не от него. Иначе
чем бы можно было объяснить, что два фалангиста (из
группки полувоенных, полугражданских лиц, которые до
той поры присутствовали на казни как бы в качестве на-
блюдателей) почувствовали, видимо, неодолимое жела-
ние лично принять участие в этой занимательной «уклад-
ке» людей. Но так как все, кого надлежало «уложить», уже
были «уложены», то они подошли к единственному дейст-
вительно виновному, который, раскинув руки и ноги, ле-
жал, распластавшись ничком в грязи, несомненно раз-
мертвехоньки-мертвый. Фалангисты не высоко ценились
как солдаты, поэтому их вооружали не современными
маузерами, а старенькими «ремингтонами». Из этих из-
вергающих огонь железок, участвовавших, видимо, ужо
в двадцати колониальных походах, за время Граждан-
ской войны до этого часа еще не было произведено ни
одного выстрела.
Стволы придвинулись почти вплотную к патологиче-
скому затылку убийцы, чтобы свершить свою первую в
этой войне работу. То, что одна ремипгтоновская винтовка
дала осечку, нельзя, конечно, назвать чудом, но можно
ли считать чистой случайностью то, что и вторая винтов-
ка тоже отказала. Оба юнца в растерянности глядели на
свои «ремингтоны» и друг на друга. Им не было еще и
Двадцати лет, происходили они из богатых семей, и у них
шли ухоженные белые руки избалованных детей. Долж-
Йо быть, от потоков крови, от вида разлетавшихся во всо
стороны кусков мозга их слегка тошнило, и они катастро-
фически теряли мужество. Они вдруг устыдились того,
что ввязались в это жестокое дело, да к тому же еще так
Испания, пробудись! (исп.)
307
бесславно. Они, видно, понадеялись, что все остальные,
так страстно увлеченные убийством, не заметят ни слабо-
сти пружин затворов устаревших «ремингтонов», ни сла-
бости изнеженных душ юных палачей. Абреохос лежал
недвижимо. Справа и слева от него щелкали выстрелы
мавров, всаживающих последние пули в еще трепещу-
щую плоть несчастных. Гигантское туловище убийцы,
казалось, прикрывало натекшую под ним лужу крови. Ни-
кто не обратил внимания на пунцово-красные лица двух
маменькиных сынков. Они присоединились к солдатам
регулярных частей, словно успешно выполнили свою за-
дачу и все у них было в полном порядке. Вдруг лучи про-
жекторов взметнулись к зениту, будто толстые струи
воды, и, зашипев, погасли. Тотчас раздалась многоголосая
страшная брань и проклятья. Быстро соорудили из чего
пришлось несколько факелов. Мавры по двое поднимали
трупы, ритмично раскачивали их и швырялц в большую
яму. Эстебана Аймундо-и-Абреохоса тоже раскачали и
кинули в общую могилу, причем последним, потому что
он лежал у самого края. Упал он легко и не сломал себе
ни одной кости. Он был спасен.
IV
Уже на другое утро, часов около шести, Эстебана
Аймундо-и-Абреохоса снова доставили в тюрьму. Везу-
честь убийцы заключалась только в том, что он всякий
раз избегал кровавой смерти, во всем же остальном удача
ему не сопутствовала. Патруль задержал его неподалеку
от главного кладбища в кабаке, где он пытался превра-
тить в звонкую монету несколько обручальных колец.
Этого добра было по одной-две штуки на каждом пальце
его граблеподобных рук, да и в карманах их было при-
прятано немало, так же как и золотых оправ от очков,
портсигаров и запонок. Вид у него был еще более омер-
зительный, чем накануне. Рубаха и брюки Эстебана были
пропитаны кровью и изъедены известью, а руки покрыты
большими ссадинами. Однако во внимательно бегающих
мышиных глазках не было и тени страха смерти, душевно-
го смятения или следов ужаса, пережитого прошлой ночью.
Молодой полковник — комендант города, перед которым
предстал Абреохос, глядел куда-то поверх его головы.
Казалось, что приросший к носу и щеке монокль потуск-
308
иол от умственного напряжения полковника. Видимо,
сеяьор комендант пытался постичь загадочность пред-
ставшего пред его очами явления. Но в конце концов он
расправил на лбу морщины от тяжелых дум, с немысли-
мой элегантностью поднял руку и бросил рассеянный
ввгляд на свои миниатюрные ручные часики. Полупустой
етакан с ядовито-зеленым аперитивом сверкал на солнце.
£римаса отвращения на миг искривила рот полков-
рика.
: — На него жалко патроны тратить, — пробормотал
|рн про себя и отдал приказание, об исполнении которого
фелел доложить ему до наступления следующего дня.
Однако услышать этот доклад ему так и не пришлось,
£бо высшие силы тут же снова вступили в игру, спасая
гнусного убийцу. Как во Франции — гильотина, в Герма-
нии — топор палача, в Америке — электрический стул,
а в других странах виселица, в Испании национальным
Орудием казни является так называемая гаррота. Она со-
стоит из деревянного кресла на высоких ножках, с высо-
кой прямой спинкой, снабженной железным ошейником
и стягивающим винтом, с помощью которых душат при-
творенных к смерти. Есть страшный рисунок Франсиско
Гойи более чем столетней давности, из времен той граж-
данской войны, изображающий осужденного, сидящего
на гарроте. Тот, кто хоть раз видел этот рисунок, никогда
его не забудет. У казненного лик распятого Иисуса Хри-
ста, который оказался почему-то не на кресте, а на гар-
роте.
Для Эстебана Аймундо-и-Абреохоса не оказалось
гарроты. Ее обыскались на тюремном складе, но так и
не нашли. За последние годы перед мятежом генералов
она вышла из употребления, и еще не был декретирован
другой способ отправлять в преисподнюю приговоренных
JK смерти. А с момента взятия города генералами больше
уже не существовало ни законов, ни предписаний, кроме
настроения новых хозяев. Гражданское руководство
тюрьмы поспешно передало все дела в руки военных и
боязливо хоронилось в тени. Таким образом, полковнику
еще раз пришлось заниматься делом Абреохоса.
Г — Повесьте его во дворе тюрьмы на одном из этих
Деревьев, —- процедил он, обнажив при этом свои безуко-
ризненно белые зубы.
■у Выполнить этот приказ поручили старослужащему
Сержанту из иностранного легиона — два взвода легио-
309
перов были приписаны к тюрьме. Этот сержант, верзила,
косая сажень в плечах и к тому же здоровый, как буйвол,
на полголовы возвышался над огромным Абреохосом.
Сержант был родом из Скутари, и звали его Мехмед. Во-
оруженный до зубов, как, впрочем, и всегда, даже не в
часы службы, обходил он все внутренние дворы тюрьмы,
подыскивая наилучшее место для повешения.
Над прогулочным двориком, у корпуса политических
заключенных, широко раскинули свои почти безлистые
ветви два старых платана. Внизу по кругу ходили аре-
станты, которым новые власти разрешали хоть немного
дышать свежим воздухом. Вдруг арестанты остановились,
задрали головы, и глаза их словно остекленели, — на
стремянке, которую держал ухмыляющийся солдат из
иностранного легиона, стоял сержант Мехмед и закреплял
на суке платана внушительную веревочную петлю. Ужас
застыл во взгляде этих людей, ожидающих со дня на день
казни. Затянув крепко узел, Мехмед, как весьма исправ-
ный служака, схватился обеими руками за веревку и повис
на высоте не менее трех футов над землей, чтобы прове-
рить крепость виселицы.
Сук испытанья не выдержал! Снаружи крепкий, он
оказался трухлявым внутри. Под тяжестью гиганта сук
громко треснул и с шумом обломился. Мехмед упал, раз-
бив себе оба колена. Заключенные отвернулись.
Сук обломился, тем самым как бы советуя палачу вы-
брать другой, покрепче. Веревка же осталась невредимой.
И, как мы увидим из дальнейшего, имелно в этих двух
обстоятельствах и таилось новое проявление коварства
высших сил, покровительствующих гнусному убийце.
Правда, заядлые скептики потом утверждали, что кто-то
заранее резанул удавку ножом, к примеру, ухмыляющий-
ся солдат иностранного легиона, который таскал за сво-
им сержантом весь палаческий инвентарь. Сделал он это
якобы шутки ради, чтобы пулеустойчивый смертник ока-
зался к тому же и веревкоустойчивым. Что ж, это вполне
вероятно, но отнюдь не опровергает факта чудесного вме-
шательства, которое с равным успехом могло проявиться
как в истории с петлей и суком, так и в дурацкой затее,
влетевшей в башку глупому солдату. Только к части чу-
дес, а именно к тем, что передаются из поколения в поко-
ление в ореоле святости, мы относимся как к проявле-
ниям чего-то сверхъестественного, остальные же чудеса,
причем их куда больше, чем первых, полностью вписыва-
310
ются в обыденное и повседневное, хотя при острой на-
блюдательности, они все же могут быть обнаружены.
Они как бы поглощаются причинно-следственными свя-
зями.
V
Эстебан Аймундо-и-Абреохос, видимо, уже сам стал
подозревать, что пользуется чьим-то таинственным по-
кровительством. Он был так невозмутим и так крепко
спал, что солдатам едва удалось растолкать его к часу
казни. Даже серенькие мышиные глазки Абреохоса боль-
ше не шныряли по сторонам. Луна зашла, и конвойным
пришлось зажечь смердящие тусклые карбидные фона-
ри, чтобы отвести приговоренного к платану, который
должен был стать его виселицей. За решетками всех тю-
ремных окошек засверкали расширенные от ужаса, не-
подвижные глаза. Казалось, что на этот раз все пойдет
как по маслу, даже предписанный ритуалом священник
был на месте и обратился, — правда, совершенно напрас-
но, — со словами утешения к бесчувственному колоссу,
называя его бедным грешником. Несмотря на наручники,
Абреохос палил одну за другой сигареты, которые Мех-
мед — его заботливый палач — вставлял ему в губы.
(В это самое время на малагском кладбище пулеметной
очередью «положили» без приговора и без напутствен-
ных слов, словно бешеных собак, семь десятков ни в чем
не повинных людей.) Уже стоя на стремянке, Эстебан
Аймундо-и-Абреохос выплюнул свой последний окурок,
когда сержант Мехмед набросил ему на шею хорошо про-
масленную петлю. Преступник, — он не мог теперь под-
нять руки, потому что ему их наконец-то завязали за
спиной, — завопил своим хриплым голосом громко и вос-
торженно, как и накануне: «Arriba Espana!». Это, несо-
мненно, была какая-то колдовская фраза или заклинание,
потому что в следующий миг он уже лежал на земле. Сук
на этот раз выдержал, лопнула веревка. Абреохос поте-
рял сознание, а может быть, просто сделал вид, что ли-
шился чувств.
Сержант и его подручные были более чем растерянны.
«Красного» после такой неудачи они прикончили бы из
пистолета или закололи кинжалом, но перед ними валялся
в пыли не какой-то там идейный противник, а настоящий
311
преступник, значащийся в неких казенных списках, за
которого пришлось бы держать ответ. Вызванный к месту
казни тюремный врач, как это ни комично, торопливо пы-
тался вернуть к жизни того, кто с таким упорством про-
тивостоял всем попыткам лишить его этой жизни. Абре-
охос, во всяком случае, не спешил прийти в себя. Из его
грудной клетки, словно окованной железом, вырывались
устрашающие скрежеты и стоны. Эти звуки лукаво мо-
лили об отсрочке исполнения приговора и о милосердии.
Недоповешенный открыл глаза, только когда поблизости
появились господа офицеры. Дело в том, что Мехмед от-
правил вестового в «Гранд-отель» — резиденцию полков-
ника, коменданта города. Полковник еще не спал, а ко-
ротал время в баре отеля в обществе молодых людей, сре-
ди которых были и два немецких летчика. На этот раз
комендант не тянул через соломинку ядовито-зеленый
или рубиново-красный коктейль, а пил, чтобы соответст-
вовать вкусам своих партийных товарищей, чистое виски
без содовой. Сообщение о том, что повесить Эстебана
Аймундо-и-Абреохоса тоже не удалось, вызвало у присут-
ствующих изумление, восхищение и даже какое-то игри-
вое возбуждение. Все общество, человек двенадцать, от-
правилось более или менее твердым шагом вслед за пол-
ковником в тюрьму. Абреохос полулежал, опершись
спиной о ствол старого платана, который, казалось, по-
матерински заботливо простер над ним свои ветви. Кар-
бидные фонари распространяли зловоние, их неровный,
мигающий свет высветлял в темноте голую тюремную
стену с четырехугольными зарешеченными окошками.
Глаза убийцы тут же снова зашныряли по сторонам, вни-
мательно следя за офицерами. Охраняющий его возглас:
«Arriba Espa na!» — с трудом сорвался с его губ, слов-
но он хотел, несмотря ни на что, пробудить в присут-
ствующих чувство патриотизма.
Полковник подошел поближе и с изнуряющей при-
стальностью поглядел на Абреохоса.
— О ты, богом проклятая обезьяна! — произнес он
тихо, но внятно, словно артист, начинающий монолог. —
Почему ты причиняешь мне столько хлопот? Почему ты
у нас никак не хочешь умереть?
Эстебан Аймундо-и-Абреохос протянул свои уже раз-
вязанные руки в сторону господ офицеров. Голос его все
еще звучал глухо, с хрипами и присвистами, словно до-
носился издалека:
312
— Умереть готов... Но умереть за сеньоров... Arriba
Espanal
Нельзя отрицать, что спита полковника не осталась
равнодушной к этим словам. Почему, собственно говоря,
этот человек, который уже дважды выходил победителем
из поединка со смертью, причем оба раза благодаря яв-
ному чуду, все-таки должен умереть? Человек, который
восстал из общей могилы, не сломав себе ни руки, ни
ноги? Было бы обидно призывать смерть в третий раз и
тем самым, возможно, зачеркнуть обе его столь удиви-
тельные победы. Война есть война. Умереть должен враг,
красная собака, растлитель народа, который хочет отме-
нить частную собственность и уничтожить лучших лю-
дей — господ. Именно на нем, на этом трусливом, жалком
супостате, на этом скулящем ничтожестве, который воз-
намерился всех уравнять и который не знает толка в
жизни, полной риска и побед, должна сосредоточиться
вся их ненависть. Валяющийся перед ними человек —
убийца. Это так. Но позвольте спросить, кто же из нас,
стоящих здесь, не убийца? Без убийств невозможно вос-
становить старый порядок. Вот до какой степени откро-
венности дошли в своих разглагольствованиях возбуж-
денные и несколько утерявшие над собой контроль гос-
пода офицеры. Полковник глядел прямо перед собой,
пыхтел сигаретой и молчал. Выражение его лица было
ироничным и непроницаемым.
Тут из группы офицеров вышел капитан, вся грудь
которого была до предела увешана орденами и медаля-
ми. Черная лента скрывала его левый глаз, а правая рука
покоилась на перевязи. Этот внушительный символ воен-
ной доблести отшвырнул окурок, с невозмутимой эле-
гантностью стал по стойке «смирно!» перед полковником
и заговорил раскатистым басом:
— Полковник, соблаговолите передать этого человека
в мое распоряжение!
Комендант с изумлением взглянул на капитана Сан-
рубио. Этот Санрубио был яркой фигурой в рядах фа-
шистской армии — отчаянный герой, настоящий сор-
виголова, многократно упомянутый в сводках верхов-
ного командования, безумный храбрец, готовый лезть
в самое пекло. Без его участия не обходилось ни одно,
наступление, предпринятое генералами. Штурмовой от-
ряд во главе с этим безрассудным капитаном нагонял
страх и на друзей, и на врагов. В противоположность
313
этому головорезу, молодой полковник обладал талантами
скорее стратегическими и дипломатическими. В окопах на
передовой или в месиве рукопашной схватки он чувство-
вал себя не очень-то уверенно. Впрочем, такого рода кро-
вавые дела и не относились к его прямым обязанностям.
И все же в присутствии героя он всегда испытывал неко-
торую скованность. Сам он определял это чувство как
проявление добродушной слабости рассудительного учи-
теля к не очень умному, но отчаянному и забавному уче-
нику. Ни один из старших офицеров никогда не позволил
бы себе не исполнить просьбы легендарного Санрубио.
Полковник, улыбаясь, спросил его:
— Но, дорогой Санрубио, на кой ляд сдался вам этот
выкормыш ада?
Капитана, казалось, поразил недоуменный вопрос
коменданта.
— То есть как, полковник? Ведь именно таких вот
типов мне и недостает...,
Еще не изжитые остатки чиновничьего формализма
заставили полковника быстро пошевелить мозгами. Два
убийства с изнасилованием, три убийства с целью ограб-
ления, смертный приговор! «Правда, этот приговор был
вынесен судом ныне низвергнутого незаконного прави-
тельства и поэтому не имеет юридической силы. Собст-
венно говоря, дело Эстебана Абреохоса должно было бы
слушаться заново. А пам некогда сейчас заниматься уго-
ловными процессами, у нас есть дела поважнее. Однако,
если все обдумать как следует, то придешь к выводу, что
эта человекообразная обезьяна до тех пор, пока ее не при-
знает виновной наш собственный суд, может, в крайнем
случае считаться всего только подсудимой (и то лишь в
результате повторного возбуждения уголовного преследо-
вания), но никак не виновной. Как комендант города я
должен отложить рассмотрение этого дела до конца воен-
ных действий, а затем решить, давать ли ему дальнейший
ход или вовсе прекратить его». Вот каковы были размыш-
ления человека, который еженощно, не утруждая себя
такого рода размышлениями, приносил в жертву своему
идолу — Ненависти — целые гекатомбы узников, един-
ственным прегрешением которых было то, что они дума-
ли по-другому, нежели генералы. Но еще прежде, чем
полковник успел сообщить присутствующим о своем ре-
шении, произошло нечто, а именно: вновь вернувшийся
к жизни злодей вдруг поднялся с земли. Ну и странное
314
же превращение произошло с ним! Казалось, что терпя-
щая поражение смерть, поддержанная просьбой капитана
Санрубио, вернула сорвавшемуся с виселицы и его честь,
и человеческое достоинство. Мышиные глазки, глубоко
запавшие под надбровными дугами, перестали шнырять
из стороны в сторону. Более того, они наполнились ка-
кой-то мрачной гордыней. Согбенная спина бандита вро-
де бы распрямилась, да и вся фигура словно стала строй-
ней и обрела осанку. Эстебан Аймундо-и-Абреохос выгля-
дел теперь вполне под стать своему имени, как идальго.
Прямо на глазах этот закоренелый профессиональный
преступник превратился в неприступного кабальеро —
с такой силой заговорило вдруг в нем давно утерянное
достоинство выродившегося рода. Он прижал к груди
свою гнусную лапу,— на ее граблеподобных пальцах все
еще странным образом сохранилось несколько колец, —
и отвесил безупречный поклон коменданту города. Ни
дать ни взять — благородный андалусиец! Хотя до сих
пор, даже во время суда, Эстебан не произнес почти ни
одного слова, а все только равнодушно-презрительно бур-
чал себе что-то под нос, он доказал теперь, что разыгры-
вал обезьяну только из-за своей внешности, а на самом
деле он в состоянии в случае необходимости произнести
небольшую речь, да еще в изысканной манере.
— Сеньор colonello, — начал он, причем в голосе у
него не звучало ни дерзости, ни униженности. —- Собла-
говолите исполнить просьбу этого высокородного госпо-
дина. Ваша победоносная армия не будет от этого вна-
кладе. Меня арестовали из-за дурацких недоразумений
как раз в тот момент, когда я пытался собрать необходи-
мую сумму, чтобы перейти через линию фронта красных
убийц и вступить добровольцем в доблестные войска ге-
нералитета. Вот единственная причина того несправедли-
вого обращения, которому я подвергся. Самому богу не
было угодно, чтобы я оказался жертвой этой несправед-
ливости. Пусть благородные сеньоры соизволят обратить
на это внимание. Я принадлежу к старинному достойному
роду, разорившемуся от незаслуженно жестокой судьбы.
Разрешите мне лучше умереть за Испанию, чем погиб-
нуть зря!
После этой речи, которую никто не ожидал услышать
из уст такой образины, воцарилась мертвая тишина. Ни-
кто не засмеялся. Но полковник даже не взглянул на
Абреохоса. Левый уголок его губ вздернулся вверх, лицо
315
исказилось гримасой капризного высокомерия и агрес-
сивной неуверенности.
— Хорошо, Санрубио, — обратился он к капитану, по-
звякивающему своими погремушками из благородных ме-
таллов. — Но имейте, пожалуйста, в виду, что за каждое
новое преступление этого достойного удивления отпрыска
старинного рода вы будете в ответе...
Однако после этого предупреждения Эстебан Абреохос
уже более свободным шагом подошел поближе к господам
офицерам, щелкнул каблуками, поднял два пальца правой
руки, словно произнося присягу, и сказал:
— Ничего не бойтесь, сеньоры!.. Вам не придется со-
жалеть о своем решении. Клянусь кровью нашего Спа-
сителя!..
Эта клятва, произнесенная с такой глубокой серьез-
ностью висельником, чудом избежавшим смерти, не мог-
ла не прозвучать комично. Офицеры рассмеялись. Легио-
неры засмеялись тоже. И даже из кое-каких невидимых
зарешеченных окон послышался смех. Но Эстебан Аймун-
до-и-Абреохос был спасен от повешения. Впрочем, есть
все основания полагать, что топора палача он также смог
бы избежать... Капитан Санрубио передал убийцу сержан-
ту Мехмеду, чтобы тот о нем позаботился и обучил воен-
ному делу. Остаток ночи палач и его жертва прокутили
вместе. Оборванную удавку они на другое утро продали
по дециметрам за большие деньги, но каждый из них
оставил и для себя по маленькому кусочку.
VI
Сержанту Мехмеду его кончик оборванной удавки
счастья не принес. Он погиб в бою под Талаверой. И Эс-
тебан Аймундо-и-Абреохос, который к тому времени был
произведен в капралы, занял его место. Истины ради
следует признать, что бывший преступник сдержал свою
клятву. У капитана Санрубио из-за него не было реши-
тельно никаких неприятностей. Хотя про деяния Абрео-
хоса не сложили героической песни и большинство его
однополчан уверяют, что он трусливый гад и коварная
собака, все же справедливости ради следует отметить, что
бывший висельник внешне мало чем отличался от осталь-
ного генеральского сброда. На верхней губе он отрастил
крошечные усики, и эта изящная деталь придавала па-
316
гологическому лицу этого монстра какую-то разухабистую
удаль. Его дегенеративный затылок, теперь всегда при-
крытый фуражкой или стальным шлемом, больше не вы-
зывал содрогания. Место, где над омерзительно уплощен-
ным корнем носа пугающе срастались мохнатые брови,
он теперь тщательно выбривал. Одним словом, он был
солдат как солдат. Правда из этого утверждения еще не
следует, что стоит очень доверять солдатским добродете-
лям. «Дело» Абреохоса пылилось на полке в какой-то кан-
целярии. Капитан Санрубио никогда не распространялся
о прошлом этого человека и считал его исправление бес-
спорным доказательством благотворного влияния, которое
оказывает ношение оружия на моральный облик и еди-
ничного человека, и народа в целом. И в самом деле,
все в Эстебане улучшилось, кроме рук, которые, увы,
не умеют лицемерить, его руки так и остались его ру-
ками.
После смерти Мехмеда Абреохос был произведен в
сержанты и стал постоянным мастером заплечных дел.
Продвижение дважды казненного в палачи — вот по-
истине чудом рожденная карьера! И все же, несмотря на
чудотворный характер, карьеру эту следует признать со-
вершенно естественной и удивительно соответствующей
его призванию. Насильнику не потребовалось во имя
исправления обуздывать свою натуру, наоборот, он был
так перегружен палаческой работой, что его пришлось
даже отозвать с боевых позиций в тыл. Убивец-одиночка
великолепно развился в дисциплинированного убивца во
имя общего дела. Так в природе змеи и другие рептилии
уничтожают многочисленных зверюшек, которых люди
затем объявляют вредоносными.
Кровавые дела, наполняющие сердце насильника сла-
дострастным удовлетворением, творились теперь во имя
служения обществу и назывались делами добрыми.
Доподлинная история, подобная той, которая сейчас
рассказывается, еще в куда меньшей мере, нежели вы-
думанная, имеет право на преувеличения. Количество
казненных этим недоказанным палачом (при помощи
винтовки, пулемета, револьвера, а также штыка и дуби-
ны) было огромно. И все же говорить, что их было там
тысяч десять или больше, — безответственная тенденци-
озная глупость. Сержант Эстебан Аймундо-и-Абреохос
поразительно преуспел в своей нелегкой профессии. День
ото дня в нем все росло чувство собственного достоинства
317
и мрачная grandeza1. Его мышиные глазки больше уже
не шныряли из стороны в сторону, а неподвижно вперя-
лись в очередную жертву. Потомственный идальго, по-
гребенный глубоко на дне его души, теперь ожил и вы-
ступал в нем все торжественнее. Облик Абреохоса полно-
стью утратил присущие ему прежде обезьяньи черты и
ухватки. Его командиры сходились на том, что сержант
Лбреохос одна из самых сильных личностей в армии. Та-
ким образом, он не избежал и славы. Смерть правильно по-
ступала, когда отказывалась заключить его и свои объ-
ятья, да и в дальнейшем она не раз выказывала ему свое
благорасположение.
Однажды, когда во время марша они остановились на
ночлег в одном крестьянском доме, дом этот рухнул.
В развалинах под обломками, среди многочисленных
жертв катастрофы единственным, кому посчастливилось
остаться невредимым, был сержант Абреохос. Да, он дей-
ствительно был рожден, чтобы умереть в своей кровати,
дождаться того счастливого конца, который, по словам
Библии, ожидает только избранных, когда они насытятся
жизнью.
В день празднования триумфальной победы Эстебаи
Аймундо-и-Абреохос был благодаря своему воинственно-
му виду по праву в числе тех, кто дефилировал в торже-
ственном марше перед каудильо 2. Безо всякого прекрас-
нодушия можно было предположить, что старые судебные
архивы уже уничтожены и что не раз по заслугам на-
гражденный сержант имеет право на свою долю в общей
добыче и, уж во всяком случае, на хорошо оплачиваемую
спокойную должность в судебном ведомстве.
Почему же праведникам приходится худо на нашей
земле, а злодеям в большинстве случаев еще при жизни
«воздается сторицею»? Так вопрошают честные души,
верующие и неверующие, когда слышат подобные исто-
рии и все-таки не могут до конца в это поверить. Успо-
койтесь! Почему вы кричите и мешаеге представлению
пьесы, прежде чем опустится занавес после окончания
очередного действия? Не сетуйте на это страшное проти-
воречие! Оно не делает бессмысленным весь спектакль.
Сетуйте лучше на то, что вы так поздно пришли в театр
1 Величие (исп.).
2 Предводителем (исп.). Титул генерала Франко — фашист-
ского диктатора Испании.
318
и вынуждены так скоро его покинуть. Вы смогли увидеть
лишь крошечный отрывок спектакля, а уже вознамери-
ваетесь критиковать логическую структуру и этическую
основу всего произведения в целом.
Тот, кому было бы разрешено остаться в зале до фи-
нала драмы, возможно, признал бы, что даже Эстебан
Аймундо-и-Абреохос был весьма однообразный, но необ-
ходимый фарсовый актер и что его режиссеры должны
были победить, даже если наши сердца против этого бун-
туют, — чтобы сцены правильно чередовались во време-
ни, к которому мы на мгновение принадлежим, хотя
оно — увы! — нам не принадлежит. Этому нас учит
другой испанец, Кальдерой де ла Барка. И все же куда
достойнее, несмотря на кровь и огонь, стоять на сцене,
чем сидеть среди зрителей.
Иоганнес Урцидилъ
(1896-1970)
Ребро моей бабушки
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ЭТОЙ ИСТОРИИ
Отец.
С ы п.
Могильщик.
Штабс-фельдфебель.
Обер-лейтенант медицинской службы.
• Лейтенант медицинской службы.
Генерал-лейтенант медицинской службы.
Три мнимых сумасшедших.
Настоящие санитары.
M а й о р.
Три невесть откуда взявшихся граждан-
ских гвардейца.
Человек в могиле был в отличном расположении духа.
Он выбрасывал каменистую землю из прямоугольной ямы
в такт песенке:
Прекрасная моя Барбарушка,
Возьми меня к себе скорей.
Прекрасная моя Барбарушка,
С собой мне постели живей.
Пение это отнюдь не смущало отца, хотя Барбарой
звали его мать, для которой вот уже много лет назад эта
могила стала, как принято выражаться, последним местом
успокоения. Могильщик избрал песню о Барбарушке во-
все не из-за ее актуальности. Просто это была его люби-
мая песенка, и он мурлыкал «Барбарушку» всегда, когда
320
приходил в хорошее настроение; а причина для этого
была: за каждую выкопанную могилу ему давали по
гульдену.
Эту могилу следовало вскрыть, дабы предоставить
место усопшей позавчера тете Терезе. Отец мой, брат
Терезы, взял меня с собой на церемонию вскрытия моги-
лы не только из-за родственных уз, связывающих нас с
Покойной; главной причиной были воспитательные сооб-
ражения, не в последнюю очередь и минералогические.
Кладбище в Туркау помещалось на косогоре, который,
так же как, впрочем, и все тамошние места, считался
нашпигованпым полудрагоценными камнями.
— Смотри внимательно,— сказал отец. (В ту пору мне
было всего пять лет от роду.) — Смотри внимательно: ко-
гда он будет выгребать землю, посыплются комки. И если
их разбить, то там внутри могут оказаться аметистовые
друзы или агаты.
Чтобы тут же на месте доказать истинность своих слов,
отец запасся небольшим топориком, который спрятал в
карман куртки.
Могильщик вдруг прервал пение и перестал копать,
vcyxo заметив:
— Вот череп, возьмите, пожалуйста.
Мы увидели темно-коричневый ком, облепленный
глиной; после того как глину счистили, на свет божий
Ьыглянул череп без нижней челюсти, на затылочной кости
которого болтались грязно-серые волосы. Отец глядел на
&ту находку с волнением, я — с любопытством.
— Обрати внимание, Гензель, на верхней челюсти со-
хранились все зубы до единого. Бери с нее пример. А ведь
она дожила до восьмидесяти шести лет.
Это, стало быть, была моя бабушка; ее голову отец
положил на купальную простынку, которую предусмот-
рительно захватил с собой, чтобы складывать на нее брен-
ные останки родичей.
Простынка была махровая, с вылинявшим сиреневым
узором. Такие детали застревают в памяти ребенка куда
прочней, нежели теорема Пифагора.
Г — А вот вам несколько ребер. Берите, пожалуйста,—
Сказал могильщик, не прерывая, между прочим, свою пе-
ленку о Барбарушке.
% Отец положил и ребра на махровую простынку, ио
«Одно из них, цвета охры, изогнутое, оставил.
— А это давай возьмем на память.
Ц Австрийская аовелла XX ». 321
В то время как он топориком обивал каменный оско-
лок, который счел кристаллической друзой, я заметил,
что могильщик сунул в карман обручальное кольцо. Но
не осмелился сказать об этом: отец был человек горячий
и в руках он держал топорик, что же касается могильщи-
ка, то он славился своей силой и вдобавок не выпускал
из рук лопаты. Исход их поединка был мне интересен, но
его начала я страшился.
— Этот минерал, мой мальчик, называется карнеол,—
сказал отец. — Мы его сохраним; вся часовня Венцесла-
ва при соборе полна карнеола, а также агатов с белы-
ми прожилками и светло-зеленых хризопразов. Если нам
повезет, господин Навратил выкопает, быть может, еще
парочку гранатов. Здесь их сколько хочешь.
Фамилию Навратил для могильщика нельзя считать
совершенно случайной, ведь Навратил и впрямь навора-
чивал землю, или, скорее, выворачивал ее наизнанку. На
сей раз он выворотил все бабушкины останки, какие мож-
но было отыскать, и отец связал четыре конца купаль-
ной простыни.
— Это всегда кладут справа наверху, — сказал На-
вратил, бережно опуская сверток с бабушкой и слегка
засыпая его землей.
После этого он ушел, напевая свою «Барбарушку», а
мы тем временем прочли «Отче наш» и «Богородица дева
радуйся», а потом пошарили в рыхлой земле, разыскивая
полудрагоценные каменья, но, увы, тщетно.
— В общем и целом такие процедуры поучительны, —
отметил отец.
Ну, а кто считает, что подобное гробокопательство со-
вершенно неподобающее занятие для столь нежного воз-
раста, в каком пребывал я, должен учесть, что, едва начав
ходить, я уже присутствовал на похоронах самых близ-
ких мне людей; таким образом, в пять лет я здорово подна-
торел в смертях. Я-то был живой. Умирали другие. И зачем
они это, собственно, делали, было мне не совсем ясно.
Я даже выпросил у отца бабушкино ребро цвета охры и
положил его к своим сокровищам: аммонитам, наколо-
тым на булавки бабочкам-капустницам и засушенным
листьям папоротников — в целом это составляло некую
мертвецкую фауны и флоры. Назидательное зрелище!
Что за порядки? Разве так можно воспитывать ребен-
ка? У нас, ясное дело, можно. «У нас» в данном случае
означало: у отца и меня. И вообще никто никого не вос-
322
дитывал. Мы ели, дышали воздухом, беседовали о при-
роде, читали вслух «Оберона» \ играли в шахматы и спа-
ли. Старик Виланд навевал на нас сон по ночам и подсте-
гивал наше воображение днем. Воображением надо обла-
дать, но его следует также развивать.
Назавтра в могилу опустили и тетю Терезу Фигер.
Опустили рядом с ее матушкой в махровой простынке,
после чего с соответствующими церемониями и громкими
сетованиями засыпали могилу землей и сразу же обло-
жили холмик четырехугольными кусками дерна, за что
мой папа заплатил, не сходя с места, еще один гульден.
Несколько незнакомых женщин спели на своем языке
«Господи благослови, Иисусе». Таким образом, нельзя
сказать, что тетя Тереза отошла в мир иной без звука.
Кстати, я с ней не был знаком, —■ ведь мы не жили
в Турнау, — зато я часто слышал, как ее ругали; дело в
том, что она, подобно многим сестрам, зажулила братни-
ну часть материнского наследства. А когда человека в
твоем присутствии беспрестанно ругают, да еще на про-
тяжении многих лет, он становится тебе особенно
близким.
Впрочем, и мой папа не был полностью лишен родст-
венных чувств, все-таки он поехал на похороны, захва-
тив меня с собой. Правда, для него это не представляло
особой трудности; он как железнодорожный служащий
имел право на бесплатный проезд для себя и семьи, то
есть для меня.
Домой мы привезли бабушкино ребро, карнеол и па-
радную шпагу дамасской стали, принадлежавшую моему
прадеду, который в эпоху позднего рококо служил вра-
чом при княжеском дворе. По-видимому, господские вра-
чи носили по табельным дням шпаги, точно так же, как
в мое время отец, будучи кайзеровско-королевским же-
лезнодорожником, прицеплял шпагу к парадному мунди-
ру на праздник тела Христова. Наверное, он надевал ее
для того, чтобы в случае необходимости защищать бога
и отечество.
Прадедовская шпага была трехгранная, гибкая, с чер-
но-золотым орнаментом на клинке. Грани шпаги оказа-
лись тупые, это я знал достоверно, ибо впоследствии отец
частенько молотил меня прадедовской шпагой; в сущно-
1 «О б е р о н» — романтический эпос немецкого писателя
К. М. Виланда (1733-1813).
11*
323
сти, экзекуция с помощью шпаги была не тяжелей обыч-
ной экзекуции с помощью орехового прута. Однако на-
казание шпагой являлось особой привилегией; я похва-
лялся ею перед своими сверстниками, которые, провинив-
шись, в лучшем случае получали несколько подзатыльни-
ков; по сравнению со шпагой это было сущим баловством,
мещанской дребеденью.
Уже в начальной школе я продемонстрировал ребро
моей бабушки. Оно переходило из рук в руки и вызывало
большое удивление. Но потом один мальчишка заявил,
что ребро это не от человеческого скелета, а от скелета
теленка. Конечпо, я вздул того мальчишку, всем извест-
ного фашиста, сыночка смотрителя римско-ирландско-
шведской бани на Элизабетштрассе, так вздул, что ему
разрешили три дня не ходить в школу, чему он был, есте-
ственно, очень рад. Однако в результате этого папаша
фашиста наябедничал директору, а директор, в свою оче-
редь, вызвал моего отца. Отец настаивал на том, что реб-
ро действительно принадлежит моей бабушке, стало быть,
я говорил сущую правду, и тот факт, что отпрыск смот-
рителя бани приплел сюда теленка, явилось злостной
клеветой.
Со своей стороны, и директор стоял насмерть: он счи-
тал, что в школе не место ребрам — ни телячьим, ни тем
паче бабушкиным; такие прецеденты возмутительны, они
мешают учебному процессу; исходя из этого, он, директор,
категорически запрещает приносить впредь в классы вся-
кого рода ребра.
Папа, решивший, что он предостаточно защитил сына,
придя домой, отлупил меня парадной шпагой дамасской
стали, принадлежавшей моему прадеду; с помощью этой
процедуры он подчеркивал свою преданность семейным
традициям. Уже тогда я заметил, что ни минералогиче-
ские устремления в связи с эксгумацией бабушкиных ос-
танков, ни своеобразное использование шпаги эпохи ро-
коко отнюдь не объяснялись бессердечием отца. Скорее
все это являлось симптомами робости, смущения и тща-
тельно скрываемого мягкосердечия.
Позже, когда мне уже минуло тринадцать, я опять
вытащил ребро из какой-то давно забытой шкатулки. Оно
начало интересовать меня с иной точки зрения. Дело в
том, что в ту пору я уже был ученый и знал: передо мной
левостороннее ребро, под которым бьется сердце, а над
ним у женщин вздымается грудь, — словом нечто таин-
324
ственное и одновременно не совсем бесполезное, печто
желанное и одновременно опасное.
Бабушку я вообще не знал, а маму почти не знал.
Только однажды, когда мой мячик закатился к ней под
кровать и я полез за ним, мамина свисающая, усталая,
уже неживая рука секунду гладила меня по голове. Это
была моя самая памятная встреча с мамой. Но зато в
моем мозгу запечатлелся образ сводной сестры — царст-
вие ей небесное — запечатлелся как женский образ; се-
стра качала меня па своих мягких коленях и прижимала
мою голову к ложбинке между грудей. Незабываемое ощу-
щение! И поскольку я считал, что все женщины до неко-
торой степени одинаковы, то и представлял себе грудь ба-
бушки почти такой же. Позже мне стало известно, что
бабушкина грудь питала целый выводок детей — сестер и
братьев отца, в том числе и уже упомянутую тетю Рези.
Еще позже люди, не желающие хранить чужие секреты,
поведали мне, что моя бабушка, жена учителя, крутила
любовь с мельником Бедгой из Мюллавы. В таких слу-
чаях только непосредственно заинтересованные лица да
еще господь бог знают, кто чей сын, но богу это, видимо,
довольно безразлично.
Как бы то ни было, под ребром трепетало сердце, оно
любило, наслаждалось жизнью, радовалось и наверняка
страдало; счастье и страх охватывали его, а под конец
Сердечная мышца сократилась в последпий раз. Человек
жил, потом его не стало. Вот что я вынес из посещения
разных могил. Пусть бабушкино ребро в том виде, в ка-
ком оно сейчас существует, представляет собой всего-на-
всего известковое образование, однако по форме оно реб-
ро. Уже одно это наводило на размышления. Если ребро
согнешь, оно сломается. Нельзя изменять его конфигу-
рацию. И вот я спрашивал себя: следует ли испытывать
по отношению к этому ребру нечто вроде благоговения?
Благоговения перед только ему свойственной формой?
Во всяком случае я укутал ребро в вату и положил в
особую шкатулку, на которой сделал надпись: «Ребро
моей бабушки Барбары Урцидиль. 1814—1900. Похоро-
нена на кладбище в Турнау. Осколок карнеола найден
там же».
В этом проявилась рано проснувшаяся во мне страсть
к порядку музейного толка, которая в последующей жиз-
ни могла в равной степени привести и к счастью, и к не-
счастью; вот почему родителям не следует строить под-
325
робные планы насчет будущего своих детей, — ведь бу-
дущее преподносит самые неожиданные сюрпризы. К при-
меру, тетю Рези, которая ни слова пе знала по-чешски,
судьба забросила не куда-нибудь, а в исконно чешский
Турнау, и туда же последовала ее мать, также не знавшая
ни единого чешского слова. Л все это объяснялось тем,
что, откуда ни возьмись, вдруг появился некий шорник,
ни слова не говоривший по-немецки и проживавший в
Турнау, на опушке среднебогемского рая, в лесистой и
гористой местности, овеянной бидермайеровской роман-
тикой, то есть в той местности, которую в кругах чешских
обывателей принято считать раем, — словом, в Турнау,
где во времена оны Валленштейн основал мастерскую
для гранения драгоценных камней, о чем, между прочим,
ничего не сказано у Шиллера ни в его стихах, ни в прозе.
И еще герцог Валленштейн, по прозвищу Фридляндец,
открыл в этих краях шорное дело, ибо его кавалеристам
требовались буквально горы седел. И вот уже без труда
можно установить историческую причинную связь между
мятежом в Богемии в эпоху Тридцатилетней войны, с од-
ной стороны, и бабушкиным ребром и мною — с другой.
Правда, в те дни, когда мы эксгумировали бабушкины
останки и хоронили тетушку, в доме покойного шорника
не нашлось не только седел и уздечек, но даже обыкно-
венного ремня, что особенно обеспокоило отца; из-за этого
ему пришлось обвязать веревкой свой лопнувший, битком
набитый камнями чемодан.
— И при всем при том, — сказал папа недовольно,—
зять у меня был шорник.
К этому он мог бы добавить: и при всем при том Вал-
ленштейн открыл здесь шорную мастерскую.
Когда позже, во время войны, меня забрили в солда-
ты, я прикрепил почтенную шпагу для битья над кро-
ватью в память о моей, как видно, уже пролетевшей юно-
сти. Что касается ребра, то я обвязал его шнурком и по-
весил на шею.
Проделал я это в минуту расставанья с домом без вся-
ких задних мыслей. Некоторые люди носили серебряные
крестики или освященные ладанки, я выбрал ребро, кото-
рое болталось теперь непосредственно над моими ребра-
ми, быть может, именно там, где находился его анатоми-
ческий двойник. О святой Эдип! Конечно, человек, у ко-
торого нет ничего за душой, в случае необходимости цеп-
ляется и за бабушкино ребро.
. 326
/ Военная служба есть древнее установление, много раз
воспетое и описанное, средство самоутверждения для
сильного пола и его любимое времяпрепровождение, ведь
известно, что сильный пол с одинаковой радостью отдает
команды и исполняет чужие. Китайский мудрец Лао-Цзы
иаписал уже в пятом веке до Рождества Христова труд,
первую часть которого он посвятил любви к людям, а вто-
рую — крепостной артиллерии. Примерно в то же время
пророк Неемия мимоходом сообщил, что иудеи при вос-
становлении Иерусалима одною рукою производили рабо-
ту» а другой держали копье.
Душевные муки истории вызваны непрекращающи-
мися попытками заменить любовь к людям военной ар-
тиллерией и, наоборот, артиллерию любовью к людям.
Мужчины всегда должны иметь мишень для стрельбы,
иначе никакая любовь к людям не доставит им удоволь-
ствия. Ну, а как только в процессе эмансипации будет
ликвидирована и без того незначительная разница между
полами, весь мир превратится в эдакий тир-балаган. Гиб-
бон, которого я читал в то время, когда меня призвали в
армию, сказал однажды: армия, как бы ни старались
оправдать ее существование, всегда являлась некой сме-
сью жестокости и кабалы, посему она — весьма несовер-
шенный страж правопорядка. Beati pacifici quoniam filii
Dei vocabuntur l.
Да, миротворцев можно счесть счастливыми, ибо их
называют детьми божьими.
Однако штабс-фельдфебель Антонин Кадерабек отнюдь
не был сыном божьим. Как чеху, ему, собственно, пола-
галось стать противником войны, ибо небезызвестный не-
мецкий канцлер достаточно ясно отождествил войну с
крестовым походом против славяп. Но как штабс-фельд-
фебель он был за войну, — ведь благодаря ей он достиг
вершин власти.
Штабс-фельдфебель муштровал «одногодичников»,
иными словами «интеллигентов», у которых был шанс
стать кандидатами в офицеры и к которым он питал не-
истребимую вражду. «Одногодичники» по меньшей мере
кончили среднюю школу, а сам фельдфебель ходил лишь
в начальные классы.
— Уж я вам покажу, чего стоит ваше, черт бы его
драл, образование. Вы у меня увидите, что вы собой пред-
1 Блаженны миротворцы, ибо названы будут детьми бога (лат.).
327
ставляете. Дерьмо, вот вы кто! А я штабс-фельдфэбель. Для
мепя вы все одинаковы: что немцы, что чехи. И мне на-
плевать, что вы кс/пчпли: гимпазито, реальпое училище или,
еще того чище, — учительский институт. Да, все вы
дерьмо. Для мепя вы все равны. Я буду командовать,
ваше дело исполнять команды; вы передо мной жалкие
шавки и должны молчать в тряпочку. А если стикпете, я
лишу вас увольнптельной, посажу да гауптвахту, да что
там гауптвахта, я вас в карцере сгною. Я уже дал укорот
одному адвокатишке. Когда я командую ле*ь, одно-
годичник Урцидиль обязан упасть па землю как подко-
шенный, даже если он плюхнется прямо в лужу. А когда
я отдаю команду «встать», он обязан вскочить, словно
заяц, которому пощекотали пятки. Лечь, встать, лечь,
встать!!! Сколько захочу, столько и скомандую! А ежели
Урцидиль заляпает грязью свою форму, ему придется
драить ее до тех пор, пока форма не заблестит. Не то я
заткну ему пасть па всю жизнь. А потом опять все сна-
чала: лечь, встать, лечь, встать!!! И так до тех пор, пока
я не сделаю из него настоящего кайзеровско-королевского
солдата.
Новобранец, которого штабс-фельдфебель Кадерабек
избрал подопытным кроликом, долгое время падал и вска-
кивал, ибо он вообще долгое время делал решительно
все — даже самое отвратительное и самое дурацкое, что-
бы попять, есть ли в этом смысл и какой именно.
Итак, он падал и вскакивал, пока чуть ли не испус-
тил дух; не в последнюю очередь он падал и вскакивал
по той причине, что заподозрил, будто Кадерабек мучает
солдат лишь для того, чтобы восстановить их против Авст-
рии, против войны и против милитаризма. Однако довольно
скоро он убедился в том, что штабс-фельдфебель был не
тайным бунтовщиком, а явным садистом. В противном
случае он направил бы свою ярость на солдат-немцев, а
чехов терзал бы куда меньше, на худой конец подмиги-
вал бы им. Однако фельдфебель и впрямь докучал всем
одинаково, здесь он, что называется, был вполне объекти-
вен. Каждый мог в этом убедиться.
И тут солдат решил лично для себя покончить со всем
этим, но нэ путем открытого бунта, так как он вовсе не
намеревался влачить свои дни в заключении или же мы-
каться на фронте. В последний раз он послушно повалился
на землю, но, когда сразу же раздалась команда «встать»,
продолжал лежать, даже не пошевелившись.
328
— Встать! — рявкнул Кадерабек, вложив в эту коман-
ду все присущее ему фельдфебельское хамство. — Встать,
собака, притворщик поганый!
Солдат не шелохнулся. Кадерабек пнул его ногой, но
солдат был недвижим. Штабс-фельдфебель испугался.
Его пугало не столько то, что новобранец мог умереть от
разрыва сердца, сколько то, что ему самому грозили в та-
ном случае неприятности. Другие тайные смутьяны могли
воспользоваться этим и оклеветать фельдфебеля и его
методы обучения. Конечно, командование никогда ие
становилось на сторону тех, кто жаловался, ведь жа-
добы, даже самые обоснованные, вели к нарушению суб-
ординации. Жалобщик должен был считать, что он легко
отделался, если его всего-навсего лишали увольнительных,
а не отсылали на фронт, так и не домуштровав до конца.
С другой стороны, нельзя было поручиться, что жалоб-
щик-зачинщик не имел в штабе корпуса руку — там, к
примеру, мог оказаться его дядюшка. На всякий случай
фельдфебель наклонился, чтобы установить, дышит ли
еще новобранец.
— Да ведь ты дышишь, свинья эдакая,— сказал он
с удовлетворением. — Стало быть, поднимайся, или я
велю оттащить тебя в лазарет. Там 1ы быстро очуха-
ешься!
Однако солдат так и не тронулся с места. Он
твердо решил довести задуманное до конца. Теперь он
дышал прерывисто и дрожал всем телом. И это даже не
было притворством. Его, правда, охватил страх, — он не
Знал, что с ним сделают, если разгадают его замысел.
Штабс-фельдфебель опустился на колени и рванул ворот
кителя и рубашки новобранца.
— Что это такое, проклятый симулянт? — заорал он,
увидев ребро, о котором солдат совсем позабыл в раз-
гаре пассивного сопротивления. Кадерабек повертел в ру-
ках висевшее на шнурке ребро. — Что это за предмет,
противоречащий уставу, что это за чушь?
— Ребро! — воскликнул новобранец, в свою очередь
пришедший в раж. — Ребро моей бабушки!
При этих словах штабс-фельдфебель вскочил и отбе-
жал на несколько шагов в сторону.
— Ах, так, — в страхе закричал он, — оказывается,
у него не все дома. Стало быть, лежи. Лежи смирно. Сей-
час я вызову сюда кого-нибудь.
Вытащив сигнальный свисток, он трижды пронзитель-
329
но свистнул; свист разнесся по всему плацу. Через неко-
торое время появились два санитара с носилками.
— Несите его к доктору Шёнбауэру, — приказал
штабс-фельдфебель, — но будьте осторожны. Он малость
чокнутый. Может стать опасным.
Вызванные на помощь санитары связали солдату руки
ремнем и пристегнули его к носилкам, которые, собствен-
но говоря, представляли собой обыкновенную стремянку.
Бормоча себе под нос, штабс-фельдфебель шел рядом
с носилками, а солдат тем временем буквально изви-
вался на своей стремянке, что опять же не было притвор-
ством; дело в том, что лестничные перекладины больно
врезались ему в спину.
— Смотрите, как бы он от вас не удрал, — вскричал
штабс-фельдфебель.
Санитары остановились и связали новобранцу также и
нижние конечности. .
— Он и впрямь опасный, — сказали они.
В кабинете доктора Шёнбауэра, обер-лейтенанта ме-
дицинской службы, санитары опустили носилки.
— Очень опасный больной, — предупредил штабс-
фельдфебель.
— Его транспортировка оказалась неимоверно труд-
ной, — в один голос заявили санитары.
В кабинете врача, комнате с голыми стенами, стояли
топчан, стол, два кресла и стеклянный шкафчик с десят-
ком пузырьков, большинство из которых были пустые.
На столе лежали ножницы, кусок ваты, скальпель, гра-
дусник и несколько газет и стояла кофейная чашка с ло-
жечкой, а также открытка в рамочке с изображением мо-
нархов-союзников и с надписью «Тверды в преданности».
Открытка, очевидно, должна была поднимать дух у
больных.
— Раздеться и лечь, — приказал доктор Шёнбауэр.
— Раздеться и лечь, — словно эхо, повторил ново-
бранец.
— Вы что, насмехаетесь? — спросил обер-лейтенант.
Штабс-фельдфебель поднес палец к виску и покрутил
им несколько раз.
— Ах, так, — сказал врач и добавил: — Мы быстро
докопаемся до сути.
— Спросите его, что у него под рубахой, — зашептал
штабс-фельдфебель.
— Скажи мне, стало быть, что у тебя под рубахой?
330
— Ребро.
— Не ребро, а ребра, дурак.
— Не только ребра, а еще ребро.
Штабс-фельдфебель снова поднес палец к виску и с
дикой быстротой покрутил им.
— Ну, хорошо, — сказал доктор Шёнбауэр мрачно.—
Ребра и ребро. — Но тут оп внезапно зарычал, как лев:—
Раздеться, сказал я, раздеться, приказал я, раздеться,
скомандовал я.
После этого тройного призыва обер-лейтеиант меди-
цинской службы, подобно Гермесу Трисмегисту *, вырос
перед новобранцем, высоко подняв руку со стетоскопом.
А новобранец, не дожидаясь дальнейшего приглашения,
опустился в кресло и стал не торопясь расшнуровывать
свои солдатские башмаки.
— При чем здесь башмаки! Китель и рубаху, — завыл
Гермес.
На свет божий вылезло ребро, врач огляделся по сто-
ронам и сказал:
— Это и впрямь старое ребро. На какой предмет ты
таскаешь всякую дрянь?
— Это ребро моей бабушки.
Доктор Шёнбауэр сел на другое кресло и разразился
неудержимым смехом.
— Бабушкино ребро! Вы слышали что-нибудь подоб-
ное?! А почему ты повесил его себе на шею?
— Позвольте вас спросить, куда мне его еще вешать?
— Правда, куда ему вешать ребро? — Доктор Шён-
бауэр хохотал до упаду.
— Но самое скверное, — вставил словцо штабс-фельд-
фебель, — самое скверное, что этот болван не вскочил по
команде «встать». Позвольте заметить, господин обер-лей-
тенант медицинской службы, это — наверняка ненор-
мальное поведение.
— Ладно, оставьте его у меня, — решил обер-лейте-
нант, — либо он нахал, либо псих, либо у него неладно с
сердцем, либо с сердцем и с головой. А может, и то и дру-
гое в порядке. Для меня это слишком запутанный случай.
Я пошлю его на обследование в гарнизонный госпиталь
для возможного откомандирования в другую часть, по-
шлю с оказией, но, само собой разумеется, под надежной
охраной.
1 Гермес Триждывеличайший (гр е ч. миф.).
331
Охраной оказался пехотинец, вылитый Швейк; мы с
ним очень хорошо поняли друг друга и прекрасно объяс-
нялись на его родном языке. Ехали мы со Швейком в
вагоне третьего класса в купе для курящих, где чувство-
вали себя весьма уютно. Швейк радовался, что может
провести два дня в дороге, я дал ему деньги на тминную
водку, и мы с ним стали хором ругать милитаризм. Со-
гласно предписанию, он сдал меня с рук на руки в гар-
низонный госпиталь. Госпиталь находился в старой, при-
обретшей впоследствии дурную славу еще и по другой
причине, крепости в Терезиенштадте. Меня встретили
сравнительно молодой лейтенант медицинской службы,
два надзирателя и санитарка. Из этого я заключил, что
в сопроводительной доктора Шёнбауэра говорилось о
серьезных опасениях, которые внушает состояние моей
психики. Я решил вести себя соответствующим образом.
Прочтя со вниманием много раз подряд сопроводи-
тельную доктора Шёнбауэра, лейтенант медицинской
службы некоторое время мерил меня строгими взгля-
дами:
— Действительно, случай серьезный, — сказал он,
поднял мне веки и сквозь лупу начал рассматривать мои
глаза. — Само собой разумеется, — с удовлетворением
отметил он, не пояснив, однако, что разумелось само собой.
Санитарка с удивлением взглянула на врача.
Врач спросил:
— Сколько вам лет?
— Абсолютно или относительно? — ответил я вопро-
сом на вопрос.
— Великолепно! Именно этого я и ожидал, — с тор-
жеством возвестил лейтенант медицинской службы.
Amnesia militans, иными словами — потеря памяти в со-
единении с агрессивностью, уже давно изученный мною
невритный процесс в коре головного мозга, ретроградное
склеротическое развитие, вызывающее уменьшение веса
головного мозга. Способность реагировать сохраняется;
таким образом, больной отвечает на поставленные вопро-
сы, но он не в силах следить за своими ответами; вот по-
чему он как бы обобщает, перечисляя разные возможно-
сти, к примеру, абсолютное и относительное. Типичен при
этом также агрессивный тон; цель — скрыть идиотиче-
скую нерешительность с помощью генерализации. Итак,
amnesia militans, или же, выражаясь попросту, наглый
кретинизм.
332
восхищение молоденькой санитарки лейтенантом ме-
дицинской службы достигло своего апогея; внешне это
выразилось в том, что она стала прерывисто дышать.
«Прекрасно,—подумал вновь прибывший.—Стало быть,
я сумасшедший. Это открывает передо мной широкие пер-
спективы и доказывает, что я повзрослел. До сей поры
мне казалось, что сумасшедшие все прочие; натурально—
отец мой, без сомнения — учителя и так далее, и так
далее. Теперь все наоборот: я — сумасшедший, а дру-
гие — нормальные люди, посмотрим, к чему это приведет».
И он начал плести ахинею, обращаясь ко всем подряд — к
больничным служителям, к санитарке и даже к несколь-
ким посторонним лицам, случайно заглянувшим в орди-
наторскую,—плести ахинею, перемежая ее непристойно-
стями. Все больше расходясь, он пригласил начальника
генерального штаба Хетцендорфа и генерал-квартирмей-
стера Людендорфа на освящение церкви, жестами пока-
зывая, куда он посылает их и всех прочих больших на-
чальников, не пощадил даже самого верховного главно-
командующего. («Была — не была!» — мелькнуло у него
в голове.) Под конец он осмелел настолько, что стал шу-
тить над такими установлениями, о которых благонаме-
ренному гражданину даже подумать страшно. Дурака
нельзя считать настоящим дураком, ежели он не нападает
на всех и вся и не распространяет свои взгляды и мысли
на мироздание в целом. Солдат был прямо-таки опья-
нен своей безграничной храбростью. Немудрено, что лю-
ди в ординаторской надрывали животики от смеха. В пер-
вый раз в жизни солдат собрал вокруг себя такую
большую аудиторию. Привлеченный громким хохотом, из
соседнего кабинета в ординаторскую наконец-то зашел
генерал-лейтенант медицинской службы, пожилой чело-
век с бакенбардами и с золотым шитьем на воротнике,
украшенном тремя звездами.
— Имею честь доложить, господин фельдмаршал, —
приветствовал генерала новобранец, — желаю вам хоро-
шо покакать.
Генерал, не разобравшись в обстановке, покраснел,
словно индейский петух, и закукарекал:
— Вы сумасшедший?
— Осмелюсь доложить, я сумасшедший, раз вам это
угодно.
— Я — генерал медицинской службы! — заорал во-
ротник с золотым шитьем.
333
— Чистое жульничество, — ухмыляясь, возразил но-
вобранец.
— Типичный случай amnesia militans, — вмешался
в разговор лейтенант медицинской службы, — он поносил
и самого императора.
— Какого? — спросил воротник с золотым шитьем.
— У нас есть только один! — вскричал солдат.
— Совсем не так уж глупо звучит, — заметил ворот-
ник с золотым шитьем.
— Прошу вас, послушайте его несколько дольше, —
обратился лейтенант к генералу, — только совершенно
нормальный ненормальный может говорить людям в глаза
такую правду, такую наглую правду.
Золотой воротник так сердито воззрился на лейтенан-
та, что тот от страха чуть не откусил себе язык.
Зато солдат, не смущаясь, заорал с восторгом:
— У-рра! Я же чувствовал, что меня сейчас признают
годным к военной службе и пошлют на самый замеча-
тельный фронт! — Схватив генерала медиципской служ-
бы под руку, он запел:— «Торреадор, смелее в бой!»
Так закончился спектакль в ординаторской.
Сбросив руку новобранца со своей руки, генерал при-
казал:
— В палату для обследования! Немедленно!
В палате, где лежали обследуемые больные, стеклян-
ная дверь была с двух сторон забрана решеткой; там на-
ходилось три обритых наголо субъекта в длинных сине-
белых полосатых халатах. В палате не было ни стола, ни
стульев, вообще никакой мебели, кроме четырех привин-
ченных к полу коек.
— Куда же здесь писают? — спросил я, входя в па-
лату.
Один из трех субъектов ответил:
— На санитаров.
Второй сказал:
— Это правильный парень.
А третий возвестил:
— Клиометребал-евробокал!
Из этого восклицания я понял, во-первых, что третий
больной был поэтической натурой, а во-вторых, что он си-
мулянт и, следственно, явно мой коллега.
Двое санитаров, с которыми я пришел в палату, при-
казали мне раздеться: при этом, естественно, все вновь
увидели бабушкино ребро.
834
— Что это такое? — спросили они.
— Ребро моей бабушки, — сказал я, ие покривив
душой.
— Что? Ребро покойницы?
— А по вашему, я должен носить на шее ребро жи-
вого человека?
— Стало быть, некрофил. Ты любил свою бабушку?
— Разве я стал бы иначе носить ее ребро?
— К сожалению, мы должны взять его у тебя.
Солдат встал на колени "перед санитарами и начал
молить:
— Это ребро, о высокочтимые господа, мой амулет.
Оно спасает меня от болезней. Помогает мне в беде. Без
него я не смогу пойти на фронт.
— К тому же он еще и фетишист. Исключено, мы не
можем оставить тебе ребро. С его помощью ты наделаешь
дел. Ребро мы обернем в вату и сохраним до тех пор,
пока тебя не пошлют на фронт.
— А если меня вообще не пошлют на фронт?
— Пошлют, дурачок, в конечном счете все там
будем. Весь мир превратился сейчас в один сплошной
фронт.
Санитары ушли, я остался с тремя больными, находив-
шимися на обследовании.
— Будь внимателен, — прошептал один из них, —
они наблюдают за нами через потайной глазок. На потай-
ных глазках держится все государство. Лишь только ты
начнешь вести себя как нормальный, они посадят тебя в
палату к сумасшедшим, под «они» мы подразумеваем
тех, истинных сумасшедших. Для них сумасшедшие —
мы, для нас — они.
— Если сумасшедшие считают человека нормаль-
ным, они сажают его в сумасшедший дом, — сказал
второй коллега. — Нормальным с нашей точки зрения,
конечно.
— А если мы, люди нормальные, считаем человека
сумасшедшим, — сказал третий, который говорил абра-
кадабру в рифму, — то можно быть уверенным, что он и
впрямь сумасшедший, иными словами, что он, с их точки
эрения, вполне нормален.
— Не так-то легко здесь ориентироваться, — заметил
солдат, которого теперь тоже одели в сине-белый полоса-
тый балахон на голое тело.
335
— Зачем тебе ориентироваться? — спросил его пер-
вый коллега. — Ты ведь сумасшедший.
— Но разве нас не подслушивают в довершение
всего?
— Конечно, подслушивают. Кроме глазка для подгля-
дывания, существует еще щель для подслушивания. Но
если ты говоришь нечто нормальное, то есть вполне от-
крыто шпаришь правду, с тобой не случится ничего дур-
ного, ибо тогда они наверняка сочтут тебя дураком или
же полным кретином. Перед глазком для подглядывания
ты должен вытворять бог знает что, ибо это — конкрет-
ные поступки, на них они обращают внимание. Что ка-
сается подслушивапия, то в этом они ничего не смыслят,
слова для них абстрактные категории. Чем умнее ты го-
воришь, тем более таинственным и непонятным представ-
ляешься им. В общем, веди себя как дурачок, но говори
при этом как умник.
Я немедленно показал нос своему собеседнику.
— Прекрасно, — сказал второй коллега. И тут же
спросил: — «Смеешься ты?»
Ясно как божий день: в этом заведении цитировать
Шекспира считалось верхом идиотизма.
— Вовсе нет, — ответил я, радуясь тому, что люди
интеллигентные так легко могут найти общий язык. —
«Нет, брат, скорее плачу».
— Хорошо, — подхватил первый коллега, — этот у
нас будет Ромео, тот — Джульетта, а ты будешь корми-
лицей. Репетируем сцену из вторрго акта. Кормилица где*
то на заднем плане. Я — режиссер. Наша публика раз-
местилась за глазком для подглядывания. Итак, начи-
наем.
...кто же ты, что под покровом ночи
Подслушал тайну сердца? —
певучим голосом сказал первый мнимый больной.
За стеной раздался шорох. Режиссер прошептал:
— Они хотят нас одурачить. Делают вид, будто ухо-
дят. Но они все равно не перестанут наблюдать за нами.
Итак, продолжаем: Джульетта, твоя очередь.
О, не клянись луной непостоянной,
Луной, свой вид меняющей так часто... '
1 Шекспир. Ромео и Джульетта (II, 2, 2). Перевод
Т. Щепкнной-Куперник.
336
— Стой. Эти слова не надо говорить так мягко, про-
износи их тоном приказа. Джульетта, правда, пока еще
воздушная фея, но в ней уже проглядывает ворчунья. Это
следует почувствовать. Что она, собственно, имеет в виду,
отвечая Ромео? Хватит молоть языком, я должна на тебя
полагаться. На сегодня довольно. Завтра мы будем репе-
тировать «Гамлета».
Вскоре после этого в палату притащили пятую койку,
и сразу же у нас появился новенький — довольно опу-
стившийся тип, который вел себя как бесноватый.
— Внимание, — зашептал мне на ухо мой первый
коллега,— он просто притворяется, на самом деле он
совершенно нормален, он только изображает сумасшед-
шего; думает, что мы попадемся на его уловки и выдадим
себя. Если бы они и впрямь считали его сумасшедшим, то
привинтили бы пятую койку к полу. Но у пас всегда
что-нибудь да забудут, и это воистину счастье для
людей.
Санитары ушли, и безумный сразу прекратил свое
кривлянье.
— Ну вот, дружочки, сейчас можно поговорить по ду-
шам. Посвятите же меня поскорее в ваши обстоятельства.
— Да, да, — с удовольствием согласились все три
старожила. — Скоро принесут обед, мы и докажем тебе
свою дружбу. Можешь съесть наши порции, мы тебя да-
же сами накормим.
— Да нет же, дружочки, это вовсе не обязательно, мне
достаточно моей собственной порции.
— Да нет же, дружочек, мы не дадим тебе умереть
с голода. Лучше сами поголодаем. Мы четверо, —. они
включили и меня в свою игру, — мы четверо и без того
объявили голодовку, зато тебя мы накормим до отвала, ты
у нас превратишься в огромного жирного борова, станешь
настоящим вдоровяком, бея всяких изъянов, годным
на все сто, и отправишься на самый замечательный
фронт.
Тем временем нам принесли еду; по названию это бы-
ло пропущенное сквозь мясорубку мясо с кислой капу-
стой и с черносливовым пюре без косточек (в некото-
рых местностях сей фарш действительно именуют
рубленым мясом или же рулетом). В действительности мы
узрели совершенно непонятное месиво, в котором с уве-
ренностью можно было различить лишь попадавшиеся
кое-где изогнутые и мохнатые тараканьи лапки.
337
— Ах, сегодня у нас как раз копченые ножки, ножки
черных тараканов, — обрадовался первый больной.
Глупый agent provocateur 1 вместо того, чтобы для виду
прийти в восторг от лишней порции тараканьего мяса,
проявил отвращение, свойственное любому нормальному
человеку, и тем самым окончательно разоблачил себя.
Мы окружили его, насильно открыли ему рот и стали
запихивать бедняге деревянной ложкой порцию за пор-
цией.
Правда, он сопротивлялся, но кричать не мог; кроме
того, мы крепко держали его за руки и за ноги; как он ни
вырывался, ничего ему не помогало, ибо перед глазком
не оказалось ни души, — у наших санитаров тоже было
обеденное время.
Когда из кухни пришли забирать посуду, то увидели,
что она буквально вылизана.
— Сегодня вы — молодцы, полакомились всласть,—
сказали санитары.
И наша «подсадная утка» не осмелилась даже пик-
нуть. Парень был мрачен и время от времени стонал.
— Ну, а теперь я спою тебе песенку о вдовушке
Блау, — сказал мой первый коллега, становясь в позу
перед шпиком, — песенка будет способствовать хорошему
пищеварению.
Я сам себе дедушкой стал,
Женившись Hd вдовушке Блау,
Чья дочка о г первого брака
Папашиво женка, чертяка!
И, стало быть, собственный папа —
Сынок мой на старости лет,
А я разнесчастная шляпа,
Я — папин папаша и собственный дед.
Глаза шпика помутнели и остекленели. Двое санита-
ров взяли его под руки и увели в уборную, больше он к
нам не показывался.
— Не так-то просто стать ненасюящим идиотом, —
начал мой первый коллега, который явно осуществлял в
палате идеологическое руководство, а может быть, даже
был кормчим, так сказать, милостью божьей, —а вот на-
стоящим идиотам вокруг нас, составляющим огромное
большинство человечества, приходится куда легче. Им
Провокатор (фр.).
338
только и надо делать то, что они считают разумным, п
можно не сомневаться, из этого всегда получается верх
безумия, что, однако, представляется им самим высшим
достижением разума. Но поскольку мы хотим, чтобы они
считали нас сумасшедшими, — хотя уже по одному этому
мы должны слыть единственно разумными существами,—
нам приходится делать то, чего они опасаются, а именно,
из ряда вон выходящее и неожиданное. И в этом случае
самое правильное — придерживаться истины, ибо истина
во все времена рассматривалась как из ряда вон выходя-
щее и неожиданное.
— Что есть истина? — спросил солдат на манер
Понтия Пилата.
— Она тоже бывает разная, — ответил идеолог мни-
мых сумасшедших.
После обеда к нам явился с визитом молодой лейте-
нант медицинской службы и его товарищ, которого он
вводил в курс дела; оба медика вознамерились провести
среди нас анкету, заранее подготовив вопросы. Первым
на очереди оказался идеолог.
— Как вас зовут?
— Зигфрид Гольдбергер.
Его и впрямь так звали.
— Кто вы по профессии?
— Банковский служащий.
Зигфрид Гольдбергер на самом деле был банковским
служащим.
— Не пытайтесь вывернуться, — прикрикнул на него
лейтенант медицинской службы. — Вы ведь точно знаете,
что вы — император Карл Четвертый.
— Слушаюсь! — сказал Гольдбергер.
— Вот видите, господин коллега, типичный случай
мании величия, которая, в свою очередь, является след-
ствием paranoja resequens К — С этими словами он по-
вернулся ко второму обитателю палаты: — Где вы ро-
дились?
— В Падуе.
— Ну вот, — разъяснил лейтенант своему спутнику,—
этот больной убеждеп, будто он родился в Падуе, так как
считает себя Ромео.
Однако мнимый сумасшедший действительно родился
в Падуе; у его матери были преждевременные роды во
Перемежающейся паранойи (лат.).
339
время свадебного путешествия. Но в его бумагах канце-
лярист-фельдфебель написал в графе «место рождения»
не Падуя, а чешскую деревню Падуба, возможно, потому,
что плохо слышал или плохо читал; не исключен, впро-
чем, и другой вариант: фельдфебель счел, что солдату
чешского пехотного ландверовского полка в Пильзене
больше подобало родиться в чешской деревеньке, не-
жели в совершенно незнакомом ему подозрительном
городе.
— Вы, значит, Ромео?
— Нет, меня зовут Алекс Вондрачек.
— Не валяйте дурака. Ведь вы знаете, что влюблены
в новобранца Капулетти.
Солдат Вондрачек несколько секунд наблюдал и раз-
мышлял, а затем с пафосом продекламировал:
Любовь летит от вздохов ввысь, как дым.
Влюблепный счастлив — и огнем живым
Сияет взор его. Влюбленный в горе —
Слезами может переполнить море.
— Вот так-то лучше, теперь вы опять в нормальном
состоянии, — с удовлетворением констатировал лейте-
нант медицинской службы. — Джульетта Капулетти, а
сейчас подойдите ко мне вы, что вам сегодня дали на
завтрак?
— К сожалению, ничего новенького, обычные надоев-
шие блюда: икру на льду, филе косули в мадере, пудинг
а-ля Эстергази и бутылку родерера.
— В деликатесах он знает толк, — сказал сопровож-
давший лейтенанта новый врач.
— Но он путает эти деликатесы с той баландой, ка-
кой их потчуют. Без всякого сомнения, permutatio
idiotica2. Поглядите-ка на строение его черепа. Типичный
олигофрен. Оставим его в покое. Никакого интереса он
не представляет. Давайте лучше взглянем на йовичка.
(Новичком был я.) Стало быть, вы находились в любов-
ной связи с вашей бабушкой?
Я молчал, уставившись в одну точку.
— Маниакально-депрессивный психоз? Не так ли? Это
дело у нас не пройдет. Рассказывайте. Вы нас инте-
ресуете.
1 Шекспир. Ромео и Джульетта (I, 1).
2 Случай идиотизма (лат.).
340
— Слушаюсь. Я родился третьего февраля тысяча
'восемьсот девяносто шестого года в Праге. Роды при так
называемом ягодичном предлежании. Повитуха, госпожа
Анна Булинова, прошедшая курс у господина профессо-
ра Рубешко, вместе с известным лириком и акушером
доктором Гуго Залусом, вытащила мопя на свет с помо-
щью щипцов, пахнувших уксусом. С этих пор — прошу
прощения — от всего на свете мне становится кисло. Ни-
кто не должен недооценивать первых детских впечатле-
ний, сказал как-то Гёте. От сладкого мне кисло, от горь-
кого — кисло и от соленого тоже кисло.
v — Каким же тебе кажется на вкус кислое?
— Его я не различаю.
— Ну, а почтепная госпожа бабушка? Она, наверно,
была на вкус сладкая, как шоколадный торт?
— К сожалению, я не был с ней знаком.
— Любопытно. Значит, вы находитесь в любовной
связи с духом. Самое скверное, что можно себе предста-
вить. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Оставим это. Случай,
видимо, довольно ясный, не правда ли, господин коллега?
Оральная фиксация. Сексуальный каннибализм. Самое
лучшее было бы отправить его в полковую канцелярию.
Но здесь есть одна загвоздка. В канцеляриях и так уже
полным-полно психов. Стало быть, мы опять пошлем его
в часть для караульной службы. Нести караульную служ-
бу может каждый идиот.
Покидая гарнизонный госпиталь, я потребовал вер-
нуть мне бабушкино ребро. Меня высмеяли, но все же
начали искать конфискованную вещь, не нашли и пообе-
щали послать мие ее вдогонку, если кость не сожрала
собака.
Я вернулся в свою часть в Румбурге и приступил к
обязанностям солдата караульной службы, а через не-
сколько дней судьба преподнесла мне приятный сюр-
приз.
Я стоял на часах с заряженной винтовкой и с при-
мкнутым штыком перед батальонной гауптвахтой, стоял
•по два часа подряд, после чего меня сменяли на два часа,
[а отдохнув, я опять стоял на часах, и так по четыре раза
Ш день. В перерывах между службой я валялся на нарах
В караульном помещении и прислушивался к болтовне
Товарищей, которая вертелась вокруг одних и тех же тем:
рратвы, баб и трижды проклятой военной службы.
f Что касается самой гауптвахты, то главное развлече-
341
ние арестантов, посаженных в одиночки, состояло в том,
что они стучали в дверь, просили вывести их и под при-
смотром конвоиров шествовали в нужник. Поскольку аре-
станты умирали от скуки, — не в последнюю очередь
именно в этом и заключалось наказание, — они бараба-
нили в дверь так часто, что гауптвахту можно было при-
нять за урологическую больницу. Несмотря на это, кон-
воиры удовлетворяли просьбы заключенных, ибо те угро-
жали в противном случае испачкать пол в камере. Но
главным образом солдаты были «добренькие» потому, что
путь к нужнику в самом конце длинного коридора раз-
нообразил и их жизнь, — во время «прогулки» по кори-
дору у арестантов спрашивали, как их зовут, из какой
они семьи, откуда родом и в чем провинились, иногда
стражники выполняли мелкие просьбы заключенных, что,
конечно, строго-настрого запрещалось; в частности, со-
глашались передать жене или возлюбленной арестанта
записочку или же сунуть ему цигарку. Ведь в большин-
стве случаев на гауптвахте сидели не какие-нибудь там
закоренелые преступники, а свой брат, деревенский олух,
который не мог приспособиться к армейским порядкам
или становился жертвой злыдня-командира.
Но на гауптвахте оказался и один арестант, с кото-
рым я ни в коем случае не желал брататься. То был не
кто иной, как... — вот это неожиданность! — не кто иной,
как господин штабс-фельдфебель Кадерабек; мне расска-
зали, что он угодил под арест после бурно проведенной
ночи в заведении «К стеклянному фиговому листку», где
вступил в спор из-за тамошней знаменитости, девицы
Либуси, с лейтенантом, которого с пьяных глаз принял
за простого ефрейтора. Ради того, чтобы повеселить Ли-
бусю и показать ей свою власть, сей рыцарь скомандовал
лейтенанту «лечь», тот отказался, после чего штабс-фельд-
фебель накинулся на него с кулаками. Хозяйка заведения
хотела было утихомирить буяна, но споткнулась о кусо-
чек селедки, оказавшийся на полу, упала и сломала себе
два ребра; тем временем лейтенант, которого изо всех сил
молотил кулаками Кадерабек на потеху Либуси и ее по-
дружек, получил тяжелые увечья. Донесение об этом
скандале попало к командиру батальона, и тот засадил
Кадерабека на несколько недель под арест.
Теперь он оказался на гауптвахте и, когда я получил
возможность лицезреть его по дороге в нужник, сразу же
попытался наладить со мной добрые отношения.
342
— Видишь, братец, как тебе повезло. А кому ты этим
обязан? Только мне. Если бы я не отправил тебя тогда к
доктору Шёнбауэру, ты бы уже давно гнил в окопах.
Вместо этого ты здорово устроился. Ну вот, веди меня
сейчас в уборную, а позже, когда тебя сменят, купи бу-
тылочку «черта» и две пачечки сигарет «Мемфис».
«Чертом» называли темную, отдававшую сивухой чеш-
скую водку, от которой выжигало все внутренности, слов-
но ты хлебнул серной кислоты.
Но я притворился, будто не слышу его заигрываний, а
когда, сходив по нужде, штабс-фельдфебель повторил
свою просьбу, ответил:
— Нет, это запрещено. А то, что запрещено, я не
делаю, ведь на военной службе я не делаю и того, что
разрешено.
Еще со времен строевой подготовки на плацу я знал:
«черт» для штабс-фельдфебеля все равно, что эликсир
жизни, без «черта» он буквально погибает; на плацу Ка-
дерабек всегда прикладывался к фляжке с «чертом»,
утром подливал сей напиток в кофе, а вечером в пиво.
Это было известно, и другие конвоиры уже предупредили
меня; один из солдат, который услужил ему таким обра-
зом, сам попал под следствие и сидит сейчас за ре-
шеткой.
— Нет, — повторил я. — Я этого не сделаю.
— Сделай, — молил фельдфебель. — Я буду твоим
вечным должником, и как только меня выпустят с гаупт-
вахты, озолочу тебя.
Он канючил до тех пор, пока я не сказал:
— Ладно, согласен. Но с одним условием.
— Назови же свое условие, золотой мой мальчик, на-
зови не стесняясь, свет моих очей; я готов выполнить все,
что ты пожелаешь, даже если ты потребуешь добыть тебе
волосок из бороды старика Прохазки.
Прохазкой в шутку, без всякой злобы, называли на
чешской земле императора Франца-Иосифа; правда, сло-
ва «я добуду тебе волосок из императорской бороды»
можно было рассматривать всего лишь как романтиче-
скую метафору; это напомнило мне «Обероиа» Виланда,
где герой, Хуан де Бордо, пускается во все тяжкие, совер-
шает подвиг за подвигом, чтобы между прочим привезти
домой волосок из бороды калифа.
— Хорошо, — в конце концов сказал я. — Если вы
не можете жить без «черта», я вам его куплю, но с тем
843
условием, что вы по моей команде «лечь», «встать» ля-
жете и встанете двадцать пять раз подряд.
— Этого ты не дождешься, мерзкая скотина, — за-
орал Кадерабек, — интеллигент-вонючка. Подожди толь-
ко, скоро я выйду отсюда и отомщу тебе. Уж я позабо-
чусь о том, чтобы тебе небо с овчинку показалось.
— Как вам угодно, — сказал я и опять запер его в
одиночке.
Прошло не более получаса; все это время, сидя в ка-
мере, он обливал меня грязью, призывал всех чертей на
мою голову и со все большей изощренностью предавал
анафеме. Однако, когда его ругань достигла наивысшего
накала, штабс-фельдфебель сделал поворот на сто восемь-
десят градусов, застучал в дверь и жалобно прове-
рещал:
— Ты на этом настаиваешь?
— Настаиваю, — ответил я с непреклонностью ар-
хашела Гавриила.
Секунду в камере было тихо, а потом штабс-фельдфе-
бель простонал:
— Ладно, открой.
— Не забывайте, пожалуйста, что моя магазинная
винтовка заряжена и мой штык примкнут. Одним словом,
двадцать пять раз «лечь», «встать», и считайте, что «черт»
и сигареты у вас в кармане. В противном случае я доло-
жу, что вы хотели меня подкупить.
— Отопри дверь, проклятая скотина, — завизжал
он, — я сделаю все, что ты велишь.
Штабс-фельдфебель был в подштанниках, разумеется,
в длинных, его налитые кровью глазки горели, словно
глазки свирепого пса.
— Лечь, — скомандовал я. — Встать, лечь. Встать...—
Пятнадцать раз я повторил команду, но на пятнадцатый
раз штабс-фельдфебель уже не мог встать, для этого он
был слишком толст.
*- Встать! — ваорал я. — Пощады не будет, встать,
или же вам не увидеть «черта», как своих ушей.
Штабс-фельдфебель поднялся. По его глазам было
видно, что он готов на любое преступление. Но пришлось
ему взять себя в руки. Нельзя же было, стоя в одних под-
штанниках, убить вооруженного до зубов солдата.
— Хорошо, — сказал я. — Оставшиеся десять раз я
потребую в следующий раз, когда вы опять попросите
«черта*,
344
Через день от «черта» не осталось ни капли. За вто-
рую бутылку я предложил ему «лечь», «встать» пятна-
дцать раз.
Он начал скулить, сказал, что у него дочь, которую
бросил муж, и пятилетний внучек.
— Пятнадцать раз, — сказал я, — ваше семейное по-
ложение меня не касается.
— Не думаешь ли ты, — сказал он, чуть не плача, —
что и шести раз будет достаточно?
Через неделю, принося ему четвертую бутылку «чер-
та», я сказал:
— Ну хорошо, я согласен и па шесть раз, но покляни-
тесь мне жизнью своего внука, что вы уже никогда в жиз-
ни не скомандуете «лечь», «встать» более шести раз,
Он поклялся.
Да, штабс-фельдфебель поклялся, но я вовсе не убеж-
ден, что он сдержал бы свою клятву. Однако в это дело
вмешалось само провидение: поело отбытия наказания
штабс-фельдфебеля, как это водилось в ту пору, отправили
на фронт, где разрывная пуля русского стрелка разнесла
ему череп. Парень, присутствовавший при этом, сообщил
мпе о смерти Кадерабека, лежа на нарах в караульном
помещении.
— Хотелось бы знать, что он сказал перед смертью,—
заметил я.
— Дайте побольше «черта», — ответил мой товарищ-
конвоир, в прошлом крестьянин из Полыпица, который с
любовью вспоминал свою жену и пятерых ребятишек, ас,
кроме того, постоянно вспоминал и то, как он заколол
штыком в лесу в Галиции трех раненых русских, водь
«с ними ничего нельзя было поделать».
Я написал в гарнизонный госпиталь прошение, в кото-
ром просил вернуть мне ребро. Прошение попало к Ха-
берману, фельдфебелю нашей канцелярии.
— Твои немецкий не похож на немецкий, — скарал
мне писарь, — неужели ты думаешь, начальство разберет
что-нибудь в твоей тарабарщине? Написать надо ниже-
следующее :
«Одногодичник, доброволец У. И., роты 8, батальо-
на 2, Кайзеровск.-Королевск. ландверовского полка
№ 7, Пильзен, дислоцированного в Румбурге, обращается
в Ваше учреждение с покорнейшей просьбой о возвраще-
нии ему изъятого у него 16 сентября с. г. при доставке его
в отделение К.-К. гарнизонного госпиталя в Терезиен-
345
штадте для освидетельствования в связи с психическим
заболеванием, ребра его бабушки. В гом случае, если вы-
шеуказанный госпиталь не предусматривает специально-
го использования вышеназванного предмета в военных
или каких-либо иных целях и если не предвидится офи-
циальных возражений против возвращения ребра его за-
конному владельцу, оный ходатайствует о пересылке вы-
шеупомянутого ребра через соответствующие инстанции».
Примерно месяца через три я и впрямь получил ответ,
меня познакомил с ним тот же фельдфебель из канце-
лярии.
«Просьба, изложенная в служебной записке за
№ 13.506 Б от такого-то числа о возвращении одногодич-
нику и т. д. якобы принадлежащего ему предмета, не мо-
жет быть удовлетворена в настоящее время — ввиду то-
го, что вышеназванный предмет был передан с целью бо-
лее детального осмотра и обследования специальному от-
делу для оценки особых материалов при штабе К.-К. ар-
мейского корпуса в г. Праге, куда и следует направлять
в дальнейшем соответствующие запросы».
Четырехугольник в стиле барокко, где находился штаб
корпуса, был мне хорошо знаком. Кроме того, майор по
имени Венцель, приятель моего отца, часто рассказывал
о тамошних порядках.
Изо дня в день всякого рода генералы неустанно тру-
дились в штабе на благо монархии. Генералы приходили
часов в десять утра и прежде всего приказывали принести
им из штабной кухни, которая даже в годы войны хорошо
снабжалась, второй завтрак, а именно дебреценские шпи-
качки, венгерский свиной гуляш или (а иногда и) австрий-
ское мясо под соусом из хрена, — ведь необходимой пред-
посылкой для умственной работы генералов было их хо-
рошее физическое состояние. Из близлежащей пивнушки
«У Монтага», где в оные годы пировал еще сам король
Венцель IV (1378—1491), ординарцы приносили им
пильзенское пиво. Перекусив, каждый генерал закуривал
традиционную «Виргинию», знаменитую тридцатисанти-
метровую тонкую сигару в соломенном мундштуке, и
углублялся в подшивки документов, во фронтовые сводки
и приказы. Потом начинались совещания и заседания,
которые все без исключения были совершенно секретные;
однако ординарцы, находившиеся в соседнем помещении,
могли убедиться в том, что генералы и штабные офицеры
всегда очень много смеялись. А сие доказывает, что уча-
346
стники совещаний были лояльные граждане и несгибае-
мые патриоты, родом, правда, из разных областей — из
Нижней Австрии, Верхней Австрии, Немецкой Богемии,
Штирии, Тироля, Зальцбурга, Каринтии, Бурга, Кроатии
и так далее, реже из Польши и совсем уж редко из Че-
хии. В общем и целом, они представляли, так сказать,
«коронные и исконные» земли монархии и олицетворяли
ее единство, судорожно подчеркиваемое в монархических
девизах: «Viribus uïritis» и «Indivisibiliter ас insepara-
biliter», что, соответственно, означает «Объединение сил»
я «Единая и неделимая».
Все это и еще многое другое новобранец узнал от упо-
мянутого майора Венцеля, исключительно порядочпого
человека, по милости которого, кстати сказать, он и по-
лучил звание ефрейтора, а произошло это вот каким обра-
зом: майор Венцель проиграл пари его отцу в погребке
«Немецкого дома» на Пражском Грабене.
Они поспорили о том, сколько лука следует класть в
ортодоксальный говяжий гуляш — слово «ортодоксаль-
ный» рекомендуется понимать здесь не в смысле идеоло-
гической, а в смысле кулинарной правоверности. Отец
мой настаивал на том, что на фунт мяса надо брать фунт
лука, майор утверждал, что лука надо брать в два раза
меньше. Хозяин погребка господин Цогельмап вызвал
повара, который должен был разрешить спор, и повар
сказал: прав отец. В результате этого «одногодничник»
стал ефрейтором. А если бы пари проиграл отец, ему при-«
шлось бы пригласить майора на жареную зайчатину; дело
происходило осенью, и зайцы не входили в мясной раци-
он, выдаваемый по карточкам. Война, однако, продолжа-
лась уже так долго, что дичь нечем было шпиговать, а
о сметанном соусе тоже не могло быть и речи. Зато брус-
пику разрешалось свободно собирать в лесу, и она опять
же не подлежала нормированию.
Знание подобных деталей очень помогает, если хочешь
правильно оценить положение, создавшееся в ту пору.
В четырехугольном здании корпуса второй завтрак
еще довольно долго подавался, совсем как в мирное
время, но вот однажды злые чехи сорвали с фасада шта-
ба герб Австро-Венгерской монархии — двуглавого орла.
Правда, дальнейший ход событий наводил на мысль
о том, что чехи могли спокойно оставить его на старом
месте; конечный результат от этого почти не изменился бы.
Но кто мог сказать это с уверенностью заранее?
347
Возможно, если бы в истории человечества в каждый
данный момент происходило бы как раз обратное тому,
что произошло, исторический процесс выглядел бы столь
же жалким.
Аккурат в тот день, когда в Праге со здания штаба
сбросили двуглавого орла и объявили о низложении мо-
нарха и о наступлении нового золотого века, наш герой,
ефрейтор, решил зайти в штаб корпуса, дабы осведомить-
ся о местонахождении ребра его бабушки.
Ефрейтор был в своем старом мундире, ибо Австрия
еще сидела у него в печенках, — то был первый день пе-
реворота, и никто не мог знать, что творилось за аван-
сценой происходящего.
Кстати сказать, партикулярный костюм ефрейтора
покоился в старом чемодане, переложенный креозотовы-
ми шариками от моли.
И вот когда я как раз собрался переступить порог
штаба, неожиданно ко мне подошли две очень красивые
девушки, которые ничтоже сумняшеся своими нежными
ручками сорвали с моей форменной фуражки герб и при-
крепили вместо него кокарду соответствующих цветов,
которую они вытащили из корзинки, доверху наполнен-
ной такими же кокардами. После этого обе девушки за-
печатлели на моей щеке по поцелую, и переворот вошел в
мою плоть и кровь с помощью этого лаконичного поцелуя,
который следовало бы во всем мире поднять до уровня
политической хартии.
Уже в вестибюле штаба корпуса царило неописуемое
смятение. Генералы и штабные офицеры с расшиты-
ми золотом стоячими воротничками смешались в одну
кучу с «чистильщиками» — так они до сих пор именовали
ординарцев — и с низшими чинами; вторым завтраком
даже и не пахло, и никто не смеялся. До смеха ли тут
было? У некоторых дверей стояли на часах повстанцы в
красных рубахах — гражданская гвардия; другие двери
были распахнуты пастежь, и люди свободно входили в ка-
бинеты и выходили оттуда.
Осмелев, ефрейтор спросил одного из генералов о май-
оре Венцеле и услышал в ответ сердитое ворчанье:
— Как вы смеете? Я генерал-лейтенант, меня не
спрашивают о майорах. Меня вообще ни о чем не спра-
шивают. Я не отвечаю, а отдаю приказы.
Как мог такой субъект понять, что в действительно-
сти происходило вокруг него? Он все еще думал, будто
348
он персона, в то время как уже перестал быть пер-
соной.
В конце концов по счастливой случайности, — а это
единственное, на что можно уповать в подобного рода
ситуациях, — я наткнулся на дверь с табличкой «майор
Венцель». Почти без стука, — как-никак началась рево-
люция, — я вошел в кабинет и увидел майора Венцеля,
который запихивал бумаги в портфель.
Я назвал свое имя, но он не сразу поднял глаза п
пробормотал:
— Так, так. А что вы хотите узнать от меня именно
сегодня?
— Я ищу ребро моей бабушки.
— Вы сошли с ума, — сказал майор Венцель; только
сейчас он взглянул на меня и сразу же ретировался за
угол книжного шкафа.
— Да, в некотором роде да. Я даже лежал в больни-
це на обследовании. Но при чем здесь это? Или, скорее,
как раз это и при чем. — И я начал выкладывать майору
Венцелю историю бабушкиного ребра.
— Вы на самом деле... — Он не досказал, кем я был
на самом деле. Прервал себя на полуслове, отрезав: —
В такую минуту... Разве вы не видите, что творится?..
О, боже, а он болтает о ребре... Впрочем, загляните в ар-
хив, я не возражаю... Внизу, в подвале... — И майор от-
теснил меня за дверь, в коридор.
Я спустился на три этажа вниз, в подвал. Там я дол-
го бродил по длинным переходам, где полки были устав-
лены бутылками с вином, мясными консервами, банками
с вареньем и тому подобным, —- словом, всем тем, что так
необходимо генералам. Если возможно было, я включал
свет, а в иных местах с трудом пробирался в темноте. На-
конец я дошел до обитых железом дверей, на которых ви-
села табличка «Архив».
Разумеется, архив был заперт, но в винном погребе я
разыскал ломик, которым вскрывали ящики, и с его по-
мощью взломал дверь.
Сквозь забранные решетками окошки, только наполо-
вину выступавшие над тротуаром, в узкое длинное поме-
щение проникал свет, архив был уставлен бесконечными
стеллажами. Пришлось рыться на полках при сумеречном
свете, какой, наверно, освещает преддверие ада; я искал
папки на букву «У» и вдруг и впрямь обнаружил —
о, какая радость! — мое «дело»: врачебное заключение по
340
поводу моего неизлечимого душевного заболевания, пара-
нойи, к коему, в качесаве corpus delicti1, черно-желтой
тесьмой было привязано ребро.
Я подошел к одному из окошек и стал разглядывать
находку.
Ребро окапалось невредимым.
13 помещении архива царила мертвая тишина. Дневной
шум пе проникал сквозь зарешеченные окошки. Только
стеллажи поскрипывали, каждый на свой лад; казалось,
тихонько кряхтя, они ведут между собой долгий разговор;
тем для этого разговора было предостаточно, их могли
дать бесчисленные человеческие судьбы, заключенные в
штабеля папок.
В одном из стеллажных ящиков я нашел черно-жел-
тый шнурок, обвязал ребро и опять, после долгой разлуки,
воссоединился с ним, повесил его к себе на шею, застег-
нул рубашку, с облегчением вздохнул и вознамерился
выйти из архива.
Меня задержали угрожающие голоса, говорившие по-
чешски. То были три парня из гражданской гвардии. Я от-
ветил им тоже по-чешски, на фуражке у меня болталась
кокарда, прицепленная теми красотками; несмотря на
это, гвардейцы отнеслись ко мне с недоверием; выверну-
ли наизнанку мои карманы и спросили, не служу ли я
здесь.
— Боже упаси! — сказал я.
— Что же ты тут делаешь? И почему взломал дверь?
И я снова, в который раз, начал рассказывать историю
бабушкиного ребра; история эта благодаря частым повто-
рениям обкаталась, отполировалась, как бы прокалилась
и осветилась повым светом, стала более значительной и
элегантной. Трое слушателей жадно внимали моим сло-
вам, с удивлением поглядывая то на меня, то друг на дру-
га; внимали со все увеличивающейся доброжелательно-
стью. Ибо надо знать, что самая известпая классическая
повесть в чешской литературе называется «Бабушка»2, и
посему образ бабушки стал для этого народа прямо-таки
священным.
Гражданские гвардейцы отпюдь пе сочли мою привя-
занность к бабушкиному ребру проявлением безумия; им
мое поведение казалось совершенно нормальным; в до-
1 Вещественною доказательств!) (лат,).
'* Повесть чешской писательницы Вожены Немцовой (1820—1862).
350
вершение всего один из парней был родом из Турнау и
вспомнил моего дядю-шорника; в общем, мое дело было
в шляпе.
По просьбе гвардейцев я достал из-за пазухи ребро.
Оно переходило из рук в руки; возражение вызвал толь-
ко черно-желтый шнурок.
— К сожалению, я не нашел здесь красно-бело-сине-
го шнурка, — сказал я в свое оправдание.
Этим ответом парни удовлетворились и притащили из
соседних помещений бутылки с вином, баночки сардин в
масле и ломницкие сухарики; сухарики были сладкие и не
сочетались с сардинами. Но во времена революции на та-
кие мелочи не обращают внимания. Мы пили, ели и пели
во славу бабушки:
Причащаться шла девица,
Зашнурована в корсет,
Поп спросил у молодицы:
— Дай-ка мне один ответ:
Кто тебя в корсет упрятал?
— До чего ж наивен патер!
Тот меня и одевал,
Кто всю ноченьку ласкал.
Коротко говоря, мы столь успешно и столь долго вжи-
вались в роли генералов, что, поглотив огромное количе-
ство великолепного лобковицкого вина из Мельника, по-
степенно заснули. А тем временем на улицах бушевал
народный мятеж.
Первым, проспав много часов подряд, очухался я.
И не стал мешать громко храпящим бунтовщикам до-
сматривать свои сны; поднявшись в вестибюль здания,
где по-прежнему все кипело, как в котле, вот-вот гото-
вом взорваться, я абсолютно беспрепятственно вышел
на улицу.
Так была провозглашена республика.
О, если бы только знать причину привязанности лю-
дей к вещам и вещей к людям! Возможно, это объясняет-
ся тем, что человек боится, как бы он сам не исчез, если
исчезнут привычные вещи, — ведь вещи содержат в се-
бе, так сказать, протоплазму надежности. Реальностями
как таковыми жить нельзя, даже реальностью собственно-
го бытия, — люди живут зрительными образами и своими
351
представлениями о мире; в точке пересечения тех и дру-
гих каждое явление воспринимается предельно выпукло.
Таким образом, оно являет собой не что иное, как закон-
ченную иллюзорность, к тому же еще в самом нелепом
ракурсе.
Застенчивые люди считают себя беззастенчивыми, на-
глецы убеждены в своей скромности. И это касается не
только отдельных индивидуумов, но и целых народов, уже
забытых и еще не забытых, — у них тоже происходит
подобная аберрация. Народы клонятся к упадку, когда
точка пересечения их видения становится зыбкой, ведь
это означает, что их истинная сущность заколебалась.
Ну, а сам человек? Он либо неистов в отношении к лю-
дям, либо неистов в отношении к вещам, либо в отноше-
нии к богу.
Тот, кто неистов к людям, иногда видит только себя,
ипогда только других, в обоих случаях он смешон, —
ведь человек, который занимается исключительно собой,
не обращая внимания на окружающих, неправильно оце-
нивает себя, а тот, кто занимается только другими, ни-
чего не может в них понять, ибо он не способен постичь
главный инструмент понимания человеческой личности—
самого себя.
Согласен: эта проблема неразрешима, во всяком слу-
чае, неразрешима в пределах средней человеческой жиз-
ни, между тем человек спокойно живет, сознавая нераз-
решимость своих проблем.
Еще я знавал людей, неистовых в отношении к вещам.
Эти хотят либо все иметь, либо все потерять (к сей кате-
гории относятся и те, кто «хочет все раздать»), причем
обе разновидности разыгрывают из себя хозяев и повели-
телей сущего, а это звучит гротескно и нелепо: людям
ничего не принадлежит. Только Спаситель мог накормить
пятью хлебами и несколькими рыбами пять тысяч семей,
и у него еще осталось двенадцать полных коробов. Но
сообщение об этом всего лишь предание о совершенном
чуде и о святости. А ведь известно, что в каждом расска-
зе о чуде и в каждой святости присутствует элемент
иронии.
Вот уже две тысячи лет, как люди, неистовые в отно-
шении к вещам, пытаются доказать, что Спаситель был
прав и одновременно не прав. Они забывают: именно в
этом проявилось его высокое человеческое начало, ведь
тот, *то во всем прав или во всем виноват, пе принад-
352
лежит к кругу людей, его следовало бы услать в пу-
стыню.
Ну а теперь нам осталось разобрать лишь людей, не-
истовых в отношении к богу. Они мучают его с утра до
вечера, докучая своими личными и общечеловеческими
делами. И сами они тоже мучаются, хотя бог не дает им
для этого ни малейшего повода. Наконец, всеми мысли-
мыми и немыслимыми способами они мучают окружаю-
щих непреклонным желанием слыть не только божьими
тварями, но также и рабами господа. Чтите создателя, но
оставьте его в покое!
Таковы три рода дураков во всех слоях общества —
снизу доверху, в разных сословиях, классах, профессиях,
у разных народов.
Вопрос, который я себе постоянно задавал после того,
как мировая война, видимо, кончилась, гласил:
К какому роду дураков принадлежу я?
Вопрос этот назрел еще во времена «Корабля дура-
ков» Себастиана Бранта К
Однако уже возникновение этого вопроса само по себе
знаменует небывалый прогресс.
Разум — всего только способность к осторожному де-
лению людей на бессознательных дураков и на дураков
того рода, к какому принадлежим мы сами. Однако завер-
шение этого деления произойдет лишь тогда, когда люди
поймут: сама по себе постановка вопроса не дает им еще
никаких преимуществ.
Но к такому пониманию и к таким выводам должны
приложить руку силы, которых нельзя ни заполучить, ни
отвоевать, — они либо дапы свыше, либо не даны.
Почему так и почему не так? Ответ гласит: почему это
и есть почему.
Старая история! Человечество по-прежнему плывет
на своем корабле дураков. Куда? Капитан отказывается
указать маршрут к Матери всего сущего? Капитан сам
не знает, каким он курсом идет. Не знает, само собой,
и конечного пункта следования, тем более времени при-
бытия.
Ребро гладит то место на моей груди, где бьется серд-
це, гладит человека, который рано лишился матери.
Отец, стоя над открытой могилой, сказал:
»Себастиан Б рант (1457—1521) — немецкий гума-
нист, автор знаменитой стихотворной сатиры «Корабль дураков».
12 Австрийская новелла XX ь. 353
— Сын мой, ты лишился матери, гляди на мою мать!
Сказал словами, чем-то похожими на слова Библии,
которую он никогда толком не читал. Но уже мудрый
Гегель заметил однажды, что люди в минуты просветле-
ния, сами того не замечая, говорят словами Библии. Быть
может, душа их тогда надевает на себя божественную ли-
чину и язык невольно подражает словам божьим.
Та минута в Турнау, несмотря на болтовню отца о
минералах и его гимназическую деловитость, все ж таки
была минутой просветления.
— Вот ребро. Давай возьмем его на память.
Что означает «взять на память»? Это означает вспо-
минать в связи с каким-нибудь предметом. Сам предмет,
однако, необходим, ведь нельзя вспоминать просто так.
Мы говорим: «Memento mori» \ — и помним о жизни.
Что-нибудь да остается жить, хотя бы изогнутое нечто
цвета охры; параболическая дуга, некое подобие той па-
раболы, по которой мы движемся в бесконечность, на ко-
торую указывает вся магия человеческого тела и также
все другие параболы — притчи великого провозвестника.
Параболы звучат, все они звучат. Даже подлость, хоть
она и беззвучно опускается в преисподнюю, беззвучна не
потому, что ей заказана звучность, а потому, что ее не
слышат имеющие уши, дабы не потерять способности слы-
шать параболы.
А теперь вернемся к ребру. В сущности, отец дал мне
не само ребро, а его дугообразность, дал поносить на груди
параболу. Парабола останется, хотя ребро, разумеет-
ся, оказалось не вечным. Оно рассыпалось на моей груди
во время некоего страстного, решившего мою участь
объятия. Ребро превратилось в порошок, и ветер унес его.
Но изгиб ребра продолжает быть со мной. Параболиче-
ская дуга все еще существует на свете, и она возвещает:
я не сама по себе, я — символ, ибо в мире нет ничего
абсолютно прямого.
Иомыи о смерти (лат.).
Франц Теодор Чокор
W
(1885-1969)
Парк, танцовщица и зверь
Танцовщица не считала этих южных дней. Они плы-
ли, и обтекали, и несли ее мягкими волнами, даруя чув-
ство покоя и освобождения. Возможно, всему виной
были годы, именно теперь и здесь вознесшие ее к
вершине жизни с дурманящим привкусом зрелости, но
и бренности; а может, то было напоенное зноем лето с
его обнаженным, жгучим солнцем, — она впервые про-
водила лето в южных краях; все существо ее, привычно
подчиненное суровой тренировке тела, приученное к каж-
додневным лишениям, которых требует профессия, ни-
когда прежде не ощущало себя столь полно, всеми фибра-
ми, и это чувство самопроницаемости, сказывавшееся
буквально во всем — в расстегнутых сандалиях, в тя-
гучести времени без часов п минут, в ощущении кожи
как одежды, — теперь кружило ее в хороводе счастли-
вой, детской жизнерадостности. Здесь, она чувствовала,
кончались проклятья севера, извечная борьба с холо-
дом, муки размышлений, гранитная коловерть города;
здесь все отдавалось и широко раскрывалось навстречу
в щедрой готовности принять.
В пансионе, где танцовщица с первого же дня ясно
дала понять, что ни с кем не желает общаться, и за
истекший срок так и не изменила своего решения, — к
немалому огорчению хозяйки, всем и вся успевшей рас-
трубить о прибытии венской знаменитости, — никто из
приезжей публики, на вид весьма мещанской, не раздра-
жал гостью, но и не привлек ее внимания. Она почти
12*
355
страдала от такого соседства, принуждавшего ее к неволь-
ному затворничеству, ибо, хотя обычно она очень лю-
била недолгие часы уединения среди неброской приго-
родной природы, в тиши своего дома на окраине Вены,—
здесь она чувствовала себя довольно одиноко со сво-
им счастьем, которое начинало ее тяготить и даже пу-
гать; ведь рядом не было человека, с которым она бы
с радостью это счастье разделила.
«Отчего тебя нет со мной? — писала она Леонгарду,
своему тихому другу, которого дела службы держали в
вымершей летней Вене. — Ты помнишь тех двух обезь-
ян, которых мы видели в наш последний вечер, когда
ходили в Шенбруинский зоопарк? Помнишь, как они си-
дели на ветвях, беззащитные под взглядами и шутками
зевак, а потом вдруг обхватили друг друга и замерли с
выражением такой всеведущей печали в глазах, на ка-
кое не способен ни один человеческий взгляд? Вот такая
печаль сейчас на душе и у меня, у гвоей покинутой
обезьянки, так и знай! Где же твоя рука? Я ведь тоже
могу терпеть подле себя одно-единственное существо и
только с ним делиться собой. Это существо — ты! Почему
же тебя нет со мной?» И пока она писала, ей стало
казаться, что Леонгард уже стоит у нее за спиной, мягко
склонившись над нею; она очень любила эту его позу,
ибо в такие минуты чувствовала его нежность острее,
чем в самых страстных объятьях.
Стук в дверь прервал ее воспоминания. Анна, горни-
чная, принаряженная по случаю субботнего вечера, ко-
торый сулил танцы, подала визитную карточку. Гостья
наморщила лоб, мучительно припоминая имя. Ах, это
тот маркиз с тросточкой... Одного мановения его трос-
точки и нескольких слов оказалось достаточно, чтобы чи-
новник, досматривавший на границе ее багаж, снова об-
рел и вежливость, и расторопность. Она поблагодарила
за помощь, маркиз к тому же на следующей станции
сошел, и она, кажется, благосклонно кивнула, когда он
что-то говорил о новой встрече... Да, теперь она все ясно
вспомнила. В нерешительности она отложила перо. Пыш-
ный летний день в золотистой дымке клонился к вечеру и
ввал на прогулку. Что же...
— Передайте, что я скоро выйду, — приказала она
горничлой, по лицу которой, едва было упомянуто имя
маркиза, скользнула тень странной ухмылки. Что это —
фамильярность соучастия в мнимом сговоре или просто
356
глупость? — Идите же! — распорядилась гостья с нео-
жиданной резкостью.
Взгляд, исполненный льстивой мольбы о прощении,
скользнул по неоконченному письму. Оставшись одна,
танцовщица повернулась перед зеркалом, испытующе
оглядывая себя и улыбаясь непроизвольности этого дви-
жения. «Ох, уж мы, женщины!» — подумала она.
Маркиз дожидался ее в самом конце горбатого пере-
улка, он явно не хотел, чтобы из пансиона его заметили,
и она оценила эту тактичность. С непринужденным спо-
койствием обитателя здешних мест он стоял подле не-
большой рспессансной часовни, воздвигнутой набожным
флибустьером из городка неподалеку в знак благодарности
мадонне за удачный поход и богатую добычу.
— Там, наверху, у нас заброшенный парк, на него сто-
ит взглянуть, — предложил он.
— Сперва покажите мне город, — попросила она, — я
ведь еще ничего здесь не видела.
— Старое пиратское гнездо, — небрежно бросил он,
легко устремляясь вперед.
«А у него совсем неплохое тело», — мелькнуло у пее
в голове. Едва она поймала себя на этом чисто профес-
сиональном наблюдении, к нему тут же добавилось дру-
гое: «Правда, мягковато немного». Она даже рассмеялась
в душе: «Тьфу, как не стыдно!»
Городок, осененный пафосом барочной арки въездных
ворот, скорее напоминал оперную декорацию. Над узкой
центральной площадью строго высилась колокольня, на-
против нее водрузилась, выставив напоказ грубую резьбу
рельефов, ратуша — оплот другой власти в этом малень-
ком мирке, который под блекнущим солнцем, казалось,
вот-вот, точно ватага расшалившейся детворы, бросится
врассыпную навстречу прохладным просторам долины.
Спутник давал пояснения; его тросточка небрежно очер-
чивала контуры зданий; танцовщица слушала вполуха,
втайне играя с другой, щекочущей мыслью: когда-ни-
будь и вправду целиком раствориться в этой, столь не
похожей на ее собственную, жизни. Прежде ей доводилось
только слушать, как звучит эта чужая жизнь, как она
вскипает вечерами за оградой гостиничного сада, и эти
будоражащие звуки ничего общего не имели с разме-
ренными увеселениями севера. Снова ей вспомнился вен-
ский зоопарк, жуткое чувство несвободы и ее желание,
столь насмешившее Леонгарда: пробраться туда ночью,
357
отодвинуть все засовы на решетках и выпустить всех зве-
рей, дать им волю насладиться хотя бы тем куском про-
стора, который им отведен и принадлежит по праву.
Улица меж тем вырвалась из селения и теперь круто
устремилась вверх, дома по сторонам вдруг расступились,
словно разбросанные напором садов, вместо домов теперь
пошли стены оград из грубого, неотесанного камня, но
буйная зелень грозила прорвать и эти стены, перехлесты-
вала через них побегами винограда, ветвями олив, серо-
ватыми лапами лавра, хваткими листьями инжира и его
тугими, сдвоенными плодами, обнаженно поблескивающи-
ми на вытянутых стеблях. То и дело на дороге попадались
камни, округлые ноздреватые, цвета сырого мяса, а из-
под зеленого одеяния лугов то тут, то там выглядывали,
как красноватая кожа, пласты голой земли. Женщине ка-
залось, что она идет босиком, настолько беззвучными сде-
лались вдруг шаги. «Неужели и крик заглохнет здесь
так же?» — невольно подумала она, искоса поглядывая
на провожатого. Его крупное лицо теперь показалось ей
странным, под его красноватым загаром она почти физи-
чески ощутила прилив крови и еще — биение затаенной
мысли, от которой исходила опасность. Уверенная в себе,
в товарищеской поддержке тренированного тела, она уме-
ла легко прятать чувства и с тем большим удовольствием
вглядывалась в окружающих, стараясь по лицу человека
разгадать его прошлое и его судьбу. На сей раз она не уло-
вила ничего, кроме жаркого угара вожделения, и это ее
немного встревожило. Перед ними выросло толстенное де-
рево, все заросшее клочковатым мохом; сквозь просвет,
который оно прорезало в чаще, где-то далеко внизу вид-
нелось море.
—- Отдохнем здесь немного? — предложил маркиз.
Наигранная непринужденность в его голосе прозвучала
столь откровенно, что она только молча покачала головой,
втайне решив под первым удобным предлогом повернуть
обратно. Отказ его явно задел, теперь он шел молча. Ей
стало почти жаль его, и на крутом участке дороги она со-
гласилась опереться на его руку.
— Скоро и наш парк, — успокоил он с подчеркнутой
вежливостью.
— Ваш парк?
— Когда-то был наш. Но держать его стало не по сред-
ствам, и мы решили: чем продавать — лучше отдадим
его обратно природе.
358
В его словах она услышала и грусть, и усмешку. «Все-
таки знать есть знать», — подумала она растроганно и,
успокоившись, снова облокотилась на его руку, от которой
исходила уверенность и тепло, податливость и надеж-
ность, t
Стены здесь уже почти тонули в волнах необузданной
растительности; там же, где зелень внезапно иссякала,
словно набирая силы для нового бурного извержения,
вздымались холмики ржаво-красной земли, точно изви-
вающиеся тела, сплетенные в страстном, нескончаемом
единоборстве. Толстыми жилами из почвы выныривали
корни и стремительно ползли вдоль тропы, пока не
исчезали, схваченные и засосапные обратно мощным
стволом.
— Сюда?
Он кивнул и показал прямо. Тропу в этом месте раз-
дваивал клин густого, пушистого кустарника, за которым
снова возник камень, но на сей раз — твердый и глад-
кий мрамор, укрощенный человеческой рукой; то была
мраморная лестница; схваченная по сторонам невысоким
мраморным барьером, она тремя царственными каскадами
взлетала вверх, где ее стеной встречала черно-зеленая не-
проходимая чаща.
— Мой парк приветствует госпожу, — торжественно
провозгласил маркиз.
Тяжелый, влажный запах, теплый, как дыхание испо-
линского тела, ударил в лицо; ей стало нехорошо. Рука
маркиза соскользнула с ее руки, на миг задержалась на
талии, как бы не давая упасть, и, обвиваясь, поползла ни-
же и дальше, слегка сжимая бедра, прокрадываясь и лас-
тясь.
— Я иду домой, — пригрозила она, недовольно отстра-
няясь.
— Зачем так спешить? Мы уже пришли, — возразил
он и, словно в шутку, хлестнул своим гибким, как прут,
стеком холмик красноватой земли у них под ногами. Про-
читав в этом жесте досаду обманутых ожиданий, женщи-
на спросила:
— Вы бьете землю? Она-то чем провинилась?
— Сбежала от меня. Вот на этом самом месте взяла —
и сбежала от хозяина.
Он рассмеялся, и мощный, беспощадный оскал обна-
жился в его смехе. Сама не зная почему, женщина под*
хватила эют смех; казалось, будто ее кто-то щекочет, и
359
она сама содрогнулась от ужаса, уловив » собственном
голосе странную нервную дрожь. Мужчина украдкой на-
блюдал за ней. Уж не сочтет ли он ее смех за поощрение?
«Господи, какая неловкость!..» — подумала она. Надо
срочно что-то предпринимать, обеспечивая себе достойный
отход.
— Мне пора. Время ужинать.
— Сперва посмотрите мой гербовый зал, — попросил
он с неожиданной важностью и, указывая на окровавлен-
ный закат, добавил: — А к ужину я заколол для вас
солнце.
Она лихорадочно искала отговорку; резким движением
тросточки он раздвинул буйную поросль, и в просвете меж
ветвей забрезжила лужайка, в ровной скругленности ко-
торой еще угадывалась геометрическая правильность быв-
шего парка. Привлеченная мерцанием простора, возмож-
ной близостью человеческого жилья, надеждой там, на све-
ту , избавиться наконец от опасного — в этом уже не бы-
ло сомнений — провожатого, женщина бросилась туда,
но вид открывшегося перед ней откоса попросту пригвоз-
дил ее к месту, лишая всяких сил, в том числе и силы
сопротивляться вновь подхватившим ее рукам, власти ко-
торых она теперь почти готова была отдаться, лишь бы
спастись от безмолвной и неистовой ярости этой обнажен-
ной природы. Жирными метровыми языками зеленого пла-
мени к ней отовсюду хищно тянулись кактусы, будто
прорвав поверхность земли взрывом необузданного пло-
дородия; тут же неподалеку покачивался сахарный трост-
ник; набухшие, ощетинившиеся шары тиса катились под
гору, вот-вот готовые лопнуть и развалиться; гигантские
стебли агавы похвалялись своей болезненной вздутостью; а
позади всего грозными столбами застылп кипарисы, и они,
эти деревья вечиости и смерти, вдруг показались женщи-
не могучими символами, которые всему, даже стеклянной
ложбине вечернего горизонта, бросают вызов и приказыва-
ют покориться. Но за ними, стекая со склонов и вспени-
ваясь под легким бризом, простирался уже знакомый ей
лес, прореженный переплетениями тропинок и рыхлыми
грудами песчаника, застывшими на бегу, словно боги и
нимфы древних преданий, а еще ниже бурым пятном
гнездился старый пиратский поселок, откуда они трону-
лись в пугь, а под ним — бесконечным ломтем вечного
тепла, ласки и солнечных светляков — покойно и вели-
чественно лежало море!
360
Маркиз что-то ей говорил, неважно что, слов она по
разбирала, слышала только голос, все По лее мягкий и
вкрадчивый, и чувствовала движепия его рук, внешне еще
вполне невинные, но выдававшие стократно проверенную
в деле сноровку; однако более всего тяготело над нею кол-
довское вожделение этого места, проникшее в нее и уже
не отпускавшее. И не мягкому напору мужчины уступа-
ла она, а себе самой, сладкой тяжести внутри, когда,
обволакиваемая шепотом губ, скользивших по плечам и
шее, медленно клонилась вниз у ствола пальмы. Нет,
это всего лишь сон, и сопротивляться бессмысленно. Ная-
ву, она знает, все совсем иначе; наяву есть Леонгард и
нежное, мирное пиршество тела и души, которое связало
их навек и которым они никогда не пресытятся. Слиш-
ком поздно ощутила опа под ладонью чужой затылок,
незнакомые волосы, — ее ласка предназначалась не этой
голове, что в ответ прильнула к ней еще сильнее. Пыта-
ясь вырваться, приподняться, опа закинула руку назад
в поисках опоры и ухватилась за ствол — и тут смер-
тельный ужас пронзил ее и окончательно бросил навз-
ничь: ствол был как шкура — весь в волосах, задубе-
лых бородавках и ворсистых морщинах. Спасения не
было. Камень ли, растение — здесь все становилось
зверем.
Сбитый с толку ее движением, маркиз поднял голору.
На нее уставился налитый кровью взгляд, который, ка-
залось, все видит насквозь и повелевает ею безраздель-
но. Простирая руки, она пыталась защититься от этих
ужасных глаз. Он, однако, понял этот стыдливый жест
по-своему и накинулся на нее. Взбешенная столь откро-
венным, бессловесным и грубым насилием, танцовщица
схватила тросточку, в спешке отброшенную маркияом, и
замахнулась, — он поймал трость на лету и переломил ее.
Этой секунды оказалось достаточно — опа бросилась
прочь. На мраморной лестнице он настиг ее и повалил.
Отчаянно сопротивляясь, женщина все же заранее пред-
видела поражение, ибо боролась не только с этим челове-
ком, но и с неким существом' внутри себя, существом,
что прежде таилось где-то глубоко под оболочкой любви, а
теперь вдруг выползло на волю и нетерпеливо рвалось
получить свое. Она знала: рано или поздио губы ее вопь-
ются в этот жадный рот, и желание, выплеснувшись, вы-
ставит напоказ все, что ее жизнь держала дотоле в неумо-
лимой узде, и отдаст ее власти темных стихий, что сей-
361
час пурпуром вспенивают небосвод, — и тогда наступит
безудержность, разлив, размывание, и ничего не останет-
ся, и не будет такого — пусть самого унизительного и
извращенного — требования, в котором она сможет отка-
зать этому, в сущности, незнакомому человеку.
Но тут она ощутила под затылком прохладную твер-
дость камня — и увидела вокруг себя мраморные ступе-
ни; гладкие, строгие, идеально ровные, они рассекали этот
бушующий ландшафт вот уже два тысячелетия — и ос-
тались невредимыми! Точно так же она представляла се-
бе раньше и свою жизнь: танцующей походкой раздвигать
языки пламени, укрощая их древней силой заклинания,
меры, ритма — всем, чем так свободно распоряжалось ее
тело, побеждая смятение и хаос вокруг так же гордо, как
здесь это белокаменное воплощение ясности и закона тор-
жествовало над одержимой страстями природой. И имен-
но здесь ей суждено пасть? «Нет, только не здесь!» —
вскричало все в ней.
— Не здесь, — тихо шепнула она, — только не здесь!
Мужчина посмотрел на нее с хитроватым хозяйским
прищуром, точно уже насладился ею; тиски его рук ос-
лабли.
—- Тоже мне, кисейная барышня, — ухмыльнулся он,
вставая.— Завтрак в постельку, иначе не умеем? По
мне, так пожалуйста, — все равно никуда от меня не де-
нешься, раз я тебя уже поставил на колени. Что, раску-
сил я тебя? Небось и не снилось такое? Ничего, таким,
как ты, только один раз дай почувствовать руку хозяина,
а потом за уши не оттащишь.
Она оцепенела. Откуда этот зверь все про нее знает?
Да как он смеет это знать! И только тут она все поняла
до конца. Нет, это не просто интрижка, из тех, что слу-
чались у нее и раньше, не любовное приключение, кото-
рое наутро можно стряхнуть с лица, — здесь на карту
поставлено самое сокровенное, весь каркас жизни, вы-
строенный с таким тщанием, оплот ее искусства, ее по-
коя и ее большой любви. А еще ей открылось, чго теперь
придется хитро притворяться, делая вид, — и это всего
тяжелее, — что не слышишь обжигающего биения чу-
жой крови. И вот она молча кивала, выслушивая настав-
ления, как ей незаметно пройти к его дому, рассеянно
кивала и в ответ на неуклюжие настырные слова, с по-
мощью которых он силился заручиться непременным со-
гласием на свидание. Спокойствие и твердость вернулись
362
к ней окончательно, когда он, обнадеженный ее уступчи-
востью, схватил ее за руки и, глядя сентиментальными
бычьими глазами, принялся в банальнейших выражени-
ях заверять ее в искренности чувств. «Пошлый лове-
лас, — думала она почти с сожалением, — неужели ты
не понимаешь своими куриными мозгами, что все испор-
тил? Зверем ты был куда лучше». Но она выслушала его
вполне серьезно, позволила проводить себя через всю де-
ревню (он держался подчеркнуто благопристойно), а у во-
рот пансиона, подавая на прощанье руку, даже заставила
себя улыбнуться многообещающей улыбкой.
В темной комнате пансиона — вот где все на нее
нахлынуло. Море — удар за ударом — сотрясало обры-
вистые берега, а на широкой постели у раскрытого окна
в безудержном плаче содрогалось хрупкое тело. В саду
заливались цикады, устремляя безумный крик о помощи
к медному небосводу, на котором обреченно пламенели
звезды. Она не заметила, как погрузилась в сон. С пер-
выми утренними сумерками ее разбудил звон колоколов.
Слегка побаливала голова, в остальном она чувствовала
себя уверенно и покойно. По ее звонку горничная при-
несла воды и зажгла свет. Глядя на ее помятое лицо,
танцовщица вспомнила вчерашнюю улыбку.
— Вы знаете человека, который ко мне приходил?
Горничная, отводя глаза, захихикала.
— Правда ли, что у него было поместье и старый
парк? — выспрашивала гостья.
— Да это он больше для форсу. — Горничная снова
ухмыльнулась. — И что он граф, и все такое. Может,
что и было — да сплыло. Только сейчас он танцеваль-
ным партнером работает в отеле на южном берегу. Так
люди говорят.
— Благодарю. И к обеду счет. Я уезжаю! — резко
оборвала гостья.
Горничная, совсем было разохотившаяся посудачить,
обескураженно удалилась.
Танцовщица подошла к окну и подставила лицо све-
жему горному ветру, что спешил к морю. На водной глади
подрагивали отсветы огней с рыбацких барок, к этим
островкам света тянулась морская живность — навстречу
собственной гибели. Улыбка тронула лицо женщины.
С ней такого не случится. Она спасена. Что с того, что
он оказался еще и мошенником? Разве это что-нибудь
меняет? Обман, иожалуй, даже более созвучен тому ланд-
ЗбЗ
тафту, его фантастической разнузданности, его бессмыс-
ленной похвальбе. Спору нет — это тоже возможность
ненасытно брать от жизни. Только такая возможность —
не про нее. Это любовь без души, как тот парк с его
сумасшедшей флорой; одно дело — спокойные, мечта-
тел м-ше деревья севера и совсем другое — это паглое
изобилие, набухшее, готовое лопнуть, брызжущее соком...
Или, быть может, есть золотая середина? Испробовать
свое тело, дать ему волю во всей полноте его притяза-
ний, выпустить его за пределы затаеннейших сладчай-
ших томлений, позволить ему вкусить от манящей чу-
жой плоти, познать его — без страха и сомнений, в из-
вечном противоборстве мужчины и женщины, познать как
бы в игре, вверить его бурному потоку крови со всеми
порогами вожделения, извивами азарта и низвержениями
восторга? И если нахлынет то, что обычно зовется «лю-
бовью»,— отдаться этому жару, что неодолимо бросает
тебя к телу другого, и не жалеть о порыве, не прилеп-
ляться к нему душой, когда порыв остынет. Вот тогда
можно шутя выдерживать встречи с такими, как мар-
киз, — отведать, не поступясь собою, и легко идти даль-
гае. Но она не создана для этого — пе судьба! Быть
может, уже, быть может, еще — но не судьба.
Она хоть испытала себя — и это нужно, это хорошо.
Испытала ради полноты жизни, в когорой ведь всему
находится место. Жизнь — это и Леонгард, ее спокойпый
возлюбленный; и тот сон, сохранивший Леонгарда; и те-
ло с его безумствами; и дух, способный остеречь тело.
И маркиз, зверь, — это тоже жизнь.
Неслышно, точно боясь потревожить кого-то невиди-
мого, скользнула она к столу. Белый лист начатого пись-
ма дышал чистотой и покоем; письмо Леонгарду, возлюб-
ленному, что ждет ее в Вене, в тихом городе, где все
надежно, в совсем ином мире; письмо человеку, которо-
му теперь она будет принадлежать всецело и безраз-
дельно, ибо отныне нет той тьмы, того ужаса, тех бездн,
в которые бы она не заглянула.
«Я уезжаю сегодня, — писала она. — Я спешу к те-
бе, к тебе, милый. Целую твои глаза, твои руки...»
За окном все еще звенели цикады.
Эден фон Хорват
(1901-1938)
Смерть во славу традиций
Легенда северных известняковых Альп
В столице одной центральноевропецской республики,
что на юге граничит с мирными словенцами, зато с се-
вера, увы, с тем более хищными пиратами, еще в 1925 го-
ду жил честный и добрый малый, чтивший бога и своих
предков, по имени Франц Ксавер Лойбль. Домовладелец,
отец семейства и почетный член мужского хорового об-
щества «Афины-Восток», он по милости матери-природы
'был наделен даром грубоватой веселости (весьма досто-
хвальной, как мы привыкли слышать) и до самого кон-
ца минувшей слишком великой эпохи сохранял неизмен-
ный вкус к разного рода замысловатым шуткам. Но с той
поры, как вот уже несколько лет назад коварные евреи
и их приспешники изгнали отца отечества и провозгла-
сили республику, никто больше не видел его смеющимся,
разве что чуть усмехающимся, язвительно и сардониче-
ски. С сердцем, полным горечи и пива, он искал уеди-
нения и обрел его, став завсегдатаем одного всеми остав-
ленного питейного заведения. Кегельбан не влек его бо-
лее, он оставил хор и перестал играть в тарок. Кругом
ему мерещились одни только республиканцы, а по ночам
его преследовали черно-красно-золотые кошмары.
Однажды ему приснилось, будто едет он из Зальцбур-
га в Берхтесгаден. Дело было на пасху, и, несмотря на
яркую зелень лугов, все еще пахло снегом. Подъезжая к
Кёнигсзее, он вдруг оказался посреди тысячной толпы:
огляделся — все его соотечественники в нраздничпых наря-
дах. Но чудилась ему в них какая-то странная перемена,
3G5
и, оглядевшись, он с изумлением обнаружил чудовищное
превращение: они так усохли, что их кожаные шорты до-
стигали щиколоток; что еще хуже — у всех у них были
черпые волосы тугим баранчиком, пейсы и плоскостопие.
А пастушек их сплошь звалп Саррой, Ревеккой, Лией,
Руфью и Сабинерль! Л потом какой-то узкогрудый ин-
теллигент с нелепым северным выговором держал речь
(все в восторге кричали «ура!»), он говорил, что прибыл
он прямиком из Тарпополя («ура!»), специально для того,
чтобы принять участие в символическом акте переимено-
вания Кёнигсзее1 в Озеро Республики. И снова оглуши-
тельным эхом промеж окрестных гор прокатилось тысяче-
голосое «ура!». Тут наш Лойбль глянул в календарь: пер-
вое мая, красная дата, к тому же суббота... Тогда он с
мужеством отчаяния заколотил кулаками напропалую и...
проснулся.
Переведя дух, он констатировал, что до такого кошма-
ра дело пока еще пе дошло и что он весь в поту, как ма-
терый боров. Мария, его законная половина вот уже в те-
чение двадцати пяти лет и мать его дочери Терезы, сидя
» постели, с озабоченным видом осведомилась, какая оче-
редная нелепица привиделась ее супругу на этот раз и
уж не собирается ли он каждую ночь визжать и хри-
петь, как хворый жеребец. Читать надо перед сном, по-
яснила она, читать что-нибудь, что отвлекает или увлека-
ет, тогда и сны будут такими же приятными. Она, к
примеру, читает романы в «Последних новостях» и после
этого вообще не видит никаких снов. Конечно же, ему
следует — нет, ему просто необходимо начать что-либо
читать, тогда и потеть не будет, словно бешеный боров,
и пыхтеть не будет, как лось, и жене своей не станет
спать мешать, потому что кровать под ним трещит, слов-
но пулемет, и всякая верующая христианка на ее месте
давно бы уж помчалась за священником, чтобы не дать
ему умереть без причастия, ведь никогда не знаешь, что
может случиться.
Обессиленный своими апокалипсическими видениями,
Лойбль не смог устоять под напором ее красноречия и
не нашелся, что возразить. Преодолев девственную ро-
бость перед печатным словом, он на следующее же ут-
ре отважно распахнул дверь книжной лавки. Право,
1 Кёнигсзее — в переводе с немецкого — Королевское
озеро.
366
решение переступить порог такого заведения далось ему
не без труда. Здесь, между Кантом и Гёте, все казалось
ему незнакомым и каким-то сомнительным, будто он ока-
зался в чужой стране. «Скорее, только бы не дышать
этим воздухом», — пронеслось у него в голове, и, то-
ропясь, он выразил желание приобрести какую-нибудь
книгу или что-либо в этом роде о старом добром време-
ни. Он покинул лавку, унося с собой под мышкой из-
данный знающими людьми «Компендий обычаев суро-
вых времен несгибаемого германства» и став беднее
ровно на три марки, или шесть кружек пива, как он
тут же подсчитал.
Настала ночь, и Лойбль, недоверчиво ворча, принял-
ся перелистывать свое приобретение. Потом он погасил
свет и, рыгнув, заснул. И надо же! Снились ему в ту
ночь исключительно оловянные солдаты и декольте а-ля
Луиза. О том, что именно он увидел во сне про оловян-
ных солдат, нам придется умолчать, дабы не нарушить
закона о сохранении военной тайны, а декольтированные
его видения заставили бы покраснеть и листы бульвар-
ной макулатуры, — словом, проснувшись утром, он улы-
бался, как сытый младенец, и чувствовал, что преиспол-
нен новых надежд.
Через две недели он застрял на одиннадцатой страни-
це, добравшись до четвертой главы, имевшей странное на-
звание: Jus primae noctis. Будучи радикальным противни-
ком всех иностранных слов, Лойбль хотел было попросту
пропустить ее, но тут в глаза ему бросился подзаголовок,
гласивший: «Право первой ночи». «Это еще что за ди-
ковина?»— подумал он и принялся читать дальше. И все
читал, читал. Поначалу, как обычно, он не понимал то-
го, что читает, но когда наконец добрался до смысла, то
подумал, что все это — сплошь одни опечатки, и на-
чал читать сначала, повторяя каждое слово вслух, до
тех пор пока абзац за абзацем не выучил все наизусть,
как казеннокоштник свой урок. Его спутница жизни дав-
но уже храпела, но он не чувствовал ни малейшей ус-
талости. С непривычной живостью, наподобие взмылен-
ных цирковых скакунов, через его мозг проносились мыс-
ли, образы, звуки. И вдруг из этого хаоса фантазий стре-
мительно возник величественный замысел, молнией
пронизавший все его существо, — он почти трепетал.
Он отведет к своему господину свое дитя, свою плоть
и кровь, свою Терезу! Ибо только отец отечества, только
367
он — несмотря на республику и «политику выполне-
ния»1 — имеет право на первую ночь! Только с благосло-
вения помазанника божия человек становится человеком!
Так! Пусть господин его знает, что в его стране есть
еще мужи, хранящие верность и приверженные тради-
циям, пусть он почувствует, что почтение перед обычаями
предков — пока еще не пустые слова! Он, Франц Кса-
вер Лойбль, докажет это!
И гордо, подобно победному грохоту пивных кружек,
звенела в нем песнь о верном вассале... Но на следующее
утро... «Еще чего!» — услышал он от жены. Потом она
добавила, что ей сдается, он прямо-таки бредит, что, кроме
всего прочего, намерение его — безнравственность и что,
конечно же, подобные вещи могли быть в обычае у север-
ных германцев, у нас же — никогда. А он возразил ей
па это, что вовсе он пе бредит, и что она сама, как и все
вокруг, — законченная реформистка, мягкотелая и безо
всякого смаку, и что ей остается только сейчас же отпра-
виться в небезызвестное место, а именно — в бывший
квартал художников и танцевать там канкан. А она ска-
зала, что ничто не заставит ее танцевать канкан, он же
сказал, что это они еще посмотрят — будет она танцевать
канкан или нет — и кликнул:
— Тереза!
Но жена его закричала, что немедля вызовет врача, а
он сказал на это: ну, что ж, ему и так уже известно, что
безумным считают всякого, кто верен великому прошло-
му, — и он вновь позвал дочь.
Она явилась. И он, породивший ее, изрек:
— Тереза, я знаю, ты — честная девушка, и пусть
твои ягодицы не миновали щипков во время пивных гу-
ляний, ты все еще нетронута и дева с головы до пят. Так
ступай же к отцу отечества, отдай ему все, что дремлет
в тебе, дабы он пробудил его: таков закон. — И он со-
брался было благословить свое дитя.
Однако дитя тут же энергично тому воспротивилось:
— Ты ошибаешься, отец! О, как ты ошибаешься!
— Что это значит?
— Знай: сердце мое оставлено мною в Гейдельберге.
— Ха?!
1 Так называлась политика германского рейхсканцлера Вирта
(1921—1922), стоявшего sa выполнение условий Версальского
договора.
368
— Всему виной была теплая летняя ночь, отец...
— Оставлено?! — прошипел он, уподобляясь иному
трагическому герою-подростку. — Ах ты дрянь, да поря
дочные девушки не оставляют таких вещей!
— Отец, кажется, не в себе? — спросила дочь у
своей матери. Та только кивнула: разве сама не видишь?
Затем дочь вновь обернулась к отцу и предложила ему
ответить на следующие вопросы: уж не проспал ли он
весь период ее созревания, иначе как ему могло взбрести
в голову, что она ведет образ жизни, столь протинный
правилам гигиены? Не кажется ли ему, кроме того, что
отец отечества уже несколько дряхловат? И разве неиз-
вестно ему, наконец, что теперь и в помине не! никакого
отца отечества, или, быть может, он имеет в виду пре-
зидента ландтага?..
Но Лойбль не удостоил ее ответа. Время от времени
он только яростно хохотал, будто восставший из гроба
актер придворного театра.
Ни одной душе не доверял он больше после этого.
Он возненавидел день и солнечный свет. Он проклял
свет, разрушивший его мечты.
Сон, всегда бывший одним из его любимейших заня-
тий, превратился теперь в его страсть. Не прошло и
двух недель, как Лойбль стал ложиться спать уже сразу
после полудня.
Отныне от шестнадцати до восемнадцати часов в день
он предавался снам — о барщине и ордалиях, о пылаю-
щих на костре еретиках, об охоте за ведьмами и о лью-
щейся еврейской крови; по крайней мере сон его все-
цело принадлежал прошлому.
Спустя еще две недели он спал уже круглые сутки,
пробуждаясь лишь для принятия пищи. Но прошло еще
две недели, и он уже вообще не просыоался.
На крыльях сна он воспарил в державу, в которой
все оставалось таким же, каким явилось н первый день
творения. В краях, где ныне ликует его душа, ног ни-
чего, кроме традиций. Традиций вечности.
Альберт Парис Гютерсло
(1887-1973)
Австрийское происшествие
Был летний вечер военного 1866 года1. Мы с отцом
сидели на лавочке возле нашего дома; дом сгоял на при-
горке поодаль от деревни и сохранился по сей день,
что удостоверяет обитающий там ныне дальний родст-
венник, который исправно раз в год присылает мне пись-
ма на старомодной почтовой бумаге с цветочным узором.
В тот вечер, — как и обычно, если позволяли время и
погода, — мы смотрели вдаль, все на те же просторы с
незабываемой чередой отлогих холмов, церковных шпилей,
пашен и перелесков, замкнутые у горизонта синей полос-
кой далеких-далеких гор.
Уже смеркалось, когда отец мой показал мундштуком
курительной трубки на Заповедный бор, стеной подсту-
пающий к самому Цветтельскому тракту. Если верить
молве, бор этот одинаково глух и дремуч на всем своем
протяжении. Лишь егери знают, как пробраться сквозь
дебри; в чащобе деревьев, что растут и умирают, ни еди-
ного разу не услыхав звона топора, им ведомы тропки
вкруг болотин, где в призрачном свечении прах девствен-
ной природы со зловещим чавканьем пожирает сам себя.
Взглянув в направлении, указанном отцовой трубкой,
я увидел на опушке непроходимого бора двух всадников.
— Солдаты! — воскликнул я, потому что в свои де-
вять лет хорошо знал их по нюрнбергским картинкам:
чтобы вырезать солдата, как раз и приходилось изрядно
1 Имейся в виду прусско-аьстрийскан война 1866 г»
370
попотеть. У них были длинные пики с флажками, кото-
рые почти всегда погибали под ножпицами, и шлемы с
высокими шишаками, похожими на острия наших цер-
ковных флюгеров.
— Это пруссаки! — сказал отец, поднялся и пошел
было в дом за матерью. Но на полдороге остановился. —
Как же это они умудрились пройти через Заповедный
бор? — проговорил оп, покачал головой — ох, и бедовые
молодцы! — и прищелкнул языком, как обыкновенно де-
лал, разузнав о каком-нибудь отважном поступке или ди-
ковинном происшествии.
— Да, как это они умудрились пройти через Запо-
ведный бор? — повторил и я. Ведь отцово изумление за-
ставило меня позабыть о мундирах и призадуматься об
отчаянном безрассудстве тех, кто был в эти мундиры об-
лачен.
— Одно слово — пруссаки, — отозвался отец.
«Видно, эти люди не нам чета»,— подумал я и уста-
вился на бесстрашных воинов с вполне позволительным
восхищением. Один из них разложил на холке своего коня
карту и читал ее вслух, тогда как его спутник вытянутой
рукой указывал соответствующие ориентиры на местности.
И вдруг эта рука, затянутая в темно-коричневую кожаную
перчатку, словно пистолет, грозно нацелилась на меня;
лошади тотчас рванули с места в карьер. Напрямик, че-
рез поле, скакали они к нашему дому. Спрятаться я не
успел: всадники были уже рядом со мною.
Едва они осадили коней, как весь металл на них за-
бряцал, вся кожа заскрипела. Никогда еще я не слышал
столь воинственпых звуков. Вдобавок и всадники, и кони
поражали вблизи своими размерами — ни дать ни взять
два гигантских монумента, поставленные бок о бок.
— Добрый вечер, любезный! — поздоровался тот, что
с картой. — Вы здешний, с хутора?
— Верно, я тут хозяин, — отвечал мой отец, снимая
шляпу и кланяясь. Он был неизменно учтив со всеми,
матушка даже говорила «чересчур учтив».
— В таком случае вы, наверное, скажете нам, не было
ли здесь прежде большого, очень большого дерева?
— Сказать по правде, дерево здесь было, — усмех-
нулся отец. А я тотчас услужливо отбежал в сторону и
вскочил на еще не потемневший пень. — Вон там, где
сейчас стоит мальчонка!
— Тогда все в порядке, мы не заплутались, — всту*
371
пил в разговор второй солдат. — Впрочем, было бы весь-
ма удивительно, ежели бы наша карта оказалась непра-
вильной.
Отец мой почесал за ухом и, пе спросив разрешения,
подошел к всадникам поближе.
— Не смею вас задерживать, судари мои, у вас ведь
война. Но коли время терпит, дозвольте задать вам один
вопрос: неужто на вашей карте и мое дерево обозначено?
— Вестимо дело, обозначено, а как же! — раскатисто
захохотал первый. — Взгляните сюда, хозяин! — Он вы-
тащил огниво и, когда трут разгорелся, посветил на кар-
ту. — Видите маленький кубик? Это ваш дом! А рядом
вроде как ободранная еловая шишка — ваше дерево!
— И стояло оно здесь совсем педавно, — сказал вто-
рой. — Картам ведь и года нету. Засохло? Или молния
спалила? А? Жаль, жаль. — Он цедил слова сквозь зубы,
тонким и пронзительным голосом, и речь его напоминала
тявканье собаки, которой ошейником сдавило горло.
— Ни то, ни другое, — добродушно отозвался отец.—
Срубили мы его нынешней зимой.
Лошадь пруссака, который только что говорил, вдруг
ваплясала и взвилась на дыбы. Я быстро попятился и со-
скочил с обрубка. Копыта опустились наземь возле са-
мого пня.
— Ты только посмотри, Йохем! — всричал всадник,
с превеликим трудом сдерживая норовистого коня. —
Метр в поперечнике, а, Йохем! Силен был, ничего не ска-
жешь! Здоровый да ядреный — хоть куда! Почтенный ста-
рец! Добрую сотню лет простоял!
— Да нет, постарше, постарше будет, — гордо заме-
тил отец.
— Послушайте! — трубным голосом прогремел прус-
сак. — Как же вы додумались снести такую липу?! Или
это был дуб?
— Липа, липа! — поспешно воскликнул отец, а я тем
временем схоронился у него за спиной. — Зима-то вы-
далась лютая, — пояснил отец.
«Мы, верно, поступили очень дурно, срубив липу», —
подумал я, согревая дыханием руки и притопывая зако-
ченевшими ногами, чтобы хоть как-то оправдать наше
злодеяние.
— Да-а, старики и то не припомнят этакой стужи, —
продолжал отец, словно извиняясь. Спина его гнулась
все ниже, лишая меня укрытия, которое я себе избрал.
372
Вот и пришлось мне волей-неволей глядеть в суровое
лицо одного из пруссаков. У него был массивный нос с
такой узкой горбинкой, что свет взошедшего над бором
месяца, играя блестками, как бы стекал пи ней вниз, а
глаза солдата — вблизи они были небесно-голубыми с
множеством светлых точек — казались теперь во мраке
совершенно белыми и пустыми.
— Надобно вам сказать, господин солдат, что люди мы
бедные, очень бедные, — послышался голос отца. И я от-
чаянно закивал в подтверждение каждого его слова, что-
бы было ясно: он говорит истинную правду. — Снару-
жи-то, конечно, деревня как деревня, крестьянские дворы,
яо ведь во всякой горнице по ткацкому станку, тем и жи-
вшем. Дровишек своих не имеем — ни община, ни старос-
та, ни я сам, хоть я и фактор над здешними ткачами. За
каждым поленом иди на поклон к торговцу, он дрова из-
далёка привозит. Князь-то нам рубить не дозволяет, а
тут все, куда ни глянь, княжеская вотчина.
— Хороши порядки! — пророкотал пруссак.
Я так и задрожал, будто сам был князем и в ни-
щенском рубище предстал пред орлиные очи ангела гос-
подня.
—- Не стану его выгораживать, князя-то нашего, —
осмелился вставить отец. — Я все это рассказываю толь-
ко из-за липы, которую мы срубили, потому как зиме кон-
ца было но видать и ни одна подвода по причине снеж-
ных заносов не могла добраться ни до Идельсберга, ни до
Платтринга.
— Я вам, любезный, вот что скажу, — вмешался в бе-
седу солдат с картой, подъехав к нам вплотную. — На
вашем месте я бы скорей втихомолку таскал дрова из
княжеского леса либо кровати спалил, но ни за что на
свете не тронул бы этакую липу, как ваша. Ведь и ты по-
ступил бы точно так же, Эрих? Верно, дружище?
— Само собой, Йохем! Срубить дерево, обозначенное
на картах генерального штаба! Ориентир как-никак! Воз-
ле которого еще в незапамятные времена сиживали пра-
щуры! Нам-то, конечно, что! Мы тут люди чужие. А вот
вы, — он простер к нам руку, облитую темно-коричневой
кожаной перчаткой и грозную, как пистолет, — вы про-
играете войну! Не любите вы свою землю! Потому что у
вас хватает духу вырвать из сердца такое дерево и сва-
рить на нем кофе! Черт побери! В путь, Йохем!
— Да, вперед, Эрих!
373
— Прощайте, любезные! — в один голос вскричали
оба, разом тронули лошадей, похожих друг иа дружку
и статями, и мастью, и напрямик, через поле, поскакали
прочь.
В ушах у меня еще долго бряцал металл и скрипела
кожа.
А там, где они стояли, эти всадники, громадные, точ-
но два монумента, поставленные бок о бок, было теперь
пустынное, вернее, покинутое, небо; и дом, и отец, и
лавочка, с которой открывался столь величественный и
прекрасный вид, и даже черный, полный влажного ше-
леста Заповедный бор — все казалось маленьким и ни-
чтожным.
— Наше дерево у них на карте, — пробормотал отец,
когда мы собрались войти в дом.
— Прошли через Заповедный бор, — сказал я.
— И ни за что на свете не срубили бы липу.
— Одно слово — пруссаки! — выкрикнул я тонким,
пронзительным голосом, подражая тявканью собаки, ко-
торой ошейником сдавило горло.
XaüMumo фон Aogepep
(1896-1966)
Новый Кратки -Башик
В городе богу лета, великому Пану, фямиам воскуря-
ют камфарой и нафталином: их запах — холодный запах
заброшенности — неулосимо-тонко, как дух, летает в
покинутых, полузатемненных жилищах, овевая мебель в
чехлах, между тем как обитатели этих комнат гуляют
в настоящих лесах, или стоят в садах, или хотя бы на уз-
ких гравиевых дорожках между клумб с разноцветными
стеклянными шарами. Темные леса кажутся взгляду
сброшенной одеждой, лежащей у ног отдаленного хребта,
чьи обнаженные вершины матово-мягко блещут высоко
в небе, причем кое-где на них положен еще яркий ак-
цент — белизна снежника.
Город ушел за горизонт. Он погружается в зной и в
себя, он заброшен, потому что так много людей его поки-
нуло, и чувствует себя еще более заброшенным на взды-
мающем марево асфальте, хотя по нему все еще спешат
и катят тысячные толпы. Город склонеи к медитации.
Для этого у него много убежищ: пустых пещер и поло-
стей, тех самых, занавешенных и пронафталиненных.
Наконец и мебель начинает жигь своей жизнью. Но
город предается медитациям не только в запертых жи-
лищах. В проулке, перед маленьким рестораном «Город
Париж», на тротуаре стоят столики. Блестят пивные круж-
ки. Из кабачка чуть-чуть несет подвальной прохла-
дой и, может быть, бочками, винными бочками, пивны-
ми бочками. Только сейчас все заметили, что над проул-
ком показался месяц. Вечером жара не спадает.
»7&
Для содержателей ресторанов в знойных переулках
лето в [Зене — не лучшее время, хотя жара и ускоряет
бег пивных струй, особенно если можно получить полдю-
жины кружечек в холодке, как здесь принято выра-
жаться; по накануне праздников и в конце недели —
полный отлив: Венский лес высасывает из города его
народ, все предпочитают сидеть на воздухе, в кабачках
по холмам, где лозы обвивают беседки и на зубчатых
листьях блестит месяц, отчего эти листья кажутся выре-
занными из бумаги или твердыми, как металл, жестя-
ными.
Отлив полный. И тогда город предается медитации
также в опустелых ресторанчиках и на тротуарах, где
стоят столики да еще, может быть, несколько кадок с
лавровыми деревьями.
Тем не менее молодая чета хозяев «Города Парижа»
задумала оживить дело после такой долгой череды жар-
ких дней, что казалось уже, будто лето нарочно гонит
последнего вечернего посетителя в зеленый Пратер или в
Зиверинг, в «Молодое вино». Чтобы этого не случилось,
нужны были крайние меры! Обычно хозяева гостиниц
энают большую часть своих посетителей, — нет другого
занятия, позволяющего завязать так много знакомств,
нити которых простираются во все стороны и охватывают
все области жизпи, все сословия, профессии и специаль-
ности, включая самые необычайные: возможность таких
связей то и дело предоставляется содержателю ресторан-
чика, особенно если он такой милый и симпатичный, как
наш господин Блауэпиттайнер, и если хозяйка у него
так же хороша, как госпожа Элли, у которой с округ-
лостью форм, столь часто свойственной венкам, соеди-
няется изящество ходовой части (сочетание довольно ти-
пичное для женщин нашего города), что позволяет ей про-
ворным шариком катиться по всему залу.
Они знали почти каждого. Более того: они научились
рано или поздно понимать каждого, и даже весьма про-
ницательно. Они сразу уразумели, какова структура об-
рученной четы, женская половина которой по моде кра-
сила волосы в тицпановско-венецианский рыжий цвет, нот
сила брюки и спортивную рубашку, между тем как ее
партнер, тихий и кроткий, появлялся всегда в одном
и том же выходном костюме, плохо на нем сидевшем, —
явный служащий, посвящающий почти все свободное вре-
мя весьма мирному занятию, а именно пчеловодству, что
376
само по себе указывает на мечтательный склад характе-
ра. Она же, напротив того, с удовольствием ездила бы
на мотоцикле; впрочем, она и так принадлежала душой
той партии, которая идет в ногу со временем, — что
выражается прежде всего в готовности поднять шум, не
важно с помощью какого приспособления.
— И как это она напала именно на такого парня?
— Крайности сходятся, — заметила госпожа Элли, и
еще: — Теперь-то она его заполучила, и потому сразу
видно, как она им командует. А от таких вещей, понят-
ное дело, не отказываются.
— Можег быть, у него много денег, и она это знает,—
сказал хозяин. Сразу видно, что его мнения о побуди-
тельных причинах человеческих поступков были незыб-
лемы. Госпожа Элли, которая отнюдь не считала, что
молчание золото, рассуждала снисходительней, хотя и
проникала глубже. Из обоих супругов вместе получился
бы дельный психолог.
Таким образом, они вскоре узнавали про всех и каж-
дого посетителя, где кому жмет башмак и когда, напро-
тив того, человек чувствует живейшую потребность по-
казать всему свету новые башмаки, либо фотографию
тетушки, ибо та была вдовой капитана кайзеровско-ко-
ролевской армии, — либо когда отставная костюмерша
Придворной оперы дает понять, сколь коротко и близ-
ко была она в свое время знакома со знаменитыми ак-
терами («таких голосов, как тогда, теперь больше нет»),
что делалось ею с помощью стопки фотографий, укра-
шенных автографами; тут последняя пускалась в подроб-
ности, и на вас глядело сквозь большие очки в золотой
оправе лицо эпохи, которая, еще прежде чем кончилась,
больше представительствовала, нежели обладала истин-
ным содержанием... Бывали тут еще низенькая советни-
ца, толстая, как бегемот, и носатая, как удод, и ее дочка,
до того довольная окружающим миром, своей таксой и
особенно самою собой, что как раз для окружающего ми-
ра она становилась невыносима; и был инженер Антон
Ригер, всегда приходивший в одиночестве и всегда чуть-
чуть печальный, писаный красавец и владелец процветаю-
щего предприятия; его Блауэнштайнеры изучили доско-
нальнее всех, и если к полуночи у него появлялись оп-
ределенные жесты и слова, всегда одни и те же, то по
этим приметам они воочию узнавали, что сегодня инже-
нер направится не домой, но, подобно блуждающей
611
звезде, двинется через мрак и дорогие рестораны старого
города, что вовсе не зазорно проделывать время от вре-
мени старому холостяку.
Мы познакомимся и с другими посетителями, но толь-
ко после представления, которое даст волшебник: пото-
му что именно такое средство вернуть сюда отхлынув-
шую из-за июльской жары жизнь придумали Блауэн-
штайнеры. Разумеется, у них были знакомства и среди
людей этой не столь уж частой профессии, которая, од-
нако, в Вене любима и имеет большую традицию. Ибо
в 1870 году или около того в нашем городе существовал
некий Кратки-Баншк, который без особого труда пере-
делал свою чешскую фамилию Краткий на арабский или
турецкий лад, словом, чуть-чуть ее ориентализировал: он
просто отбросил в конце «й» и добавил непонятное сло-
во «Башик». В турецком есть одно слово, слегка напо-
минающее это, но смысл у него совершенно другой...
Впрочем, какое это имеет значение? Крагки-Башик был
известен тогда каждому. Его резиденцией был Вурстель-
пратер, где он подвизался в качестве волшебника и к то-
му же держал кабинет диковин, где в спирту плава-
ли такие вещи, каких нигде не увидишь. В Вене еще и
теперь говорят о каком-нибудь типе, если видят в нем
нечто монструозное: л Ну, этому место у Кратки-Ба-
шика».
Число его учеников и последователей во втором и
третьем колене умножилось, даже более того, стало
огромным, они устраивали конгрессы и конкурсы; немно-
гие, ставшие выдающимися артистами, сделали это по-
прище основной своей профессией, остальные же оста-
ются любителями, хотя и среди них есть достигшие боль-
шого совершенства.
Такой дилетант имелся в распоряжении господина
Блауэнштайнера — ив назначенный вечер в ресторане
«Город Париж» все места до последнего были заполне-
ны, тем более что входной платы не требовалось, так как
чародей демонстрировал свое искусство исключительно
из любезности. По роду занятий это был обер-секретарь
магистрата. Впрочем, волшебство тоже связано с больши-
ми издержками: на все нужны деньги, и колдовать может
не только колдун, если приобрести весьма сложные и
объемистые снаряды. Зрители наблюдали, как вносили
оборудование: ящики, цилиндрические трубы и среди
прочего — нечто похожее на старомодную электрическую
378
машину со стеклянным кругом и блестящими латунны-
ми деталями.
Вечер принес большой успех не только хозяину, но и
тому господину, что столь любезно показывал свое ис-
кусство и во время сеанса носил наклеенную седую бо-
роду. Господин Блауэнштайнер давно уже именовал это-
го своего завсегдатая, чью фамилию почему-то трудно бы-
ло запомнить, просто Кратки-Башик, потому что страсть
господина обер-секретаря к волшебству очень скоро стала
ему известна.
Этот служащий довольно высокого ранга вскоре после
начала представления стал проделывать такие удивитель-
ные вещи, что публике едва хватило уверенности в том,
что дело тут не в чем ином, как в ловкости и умелых
трюках. Впрочем, было два-три случая, когда этот рацио-
нализм оказался слишком куцым: а именно, когда шел-
ковый носовой платок, взятый у одного молодого челове-
ка, и ассигнация в двадцать шиллингов, взятая у друго-
го, были разрезаны и изорваны в клочки в одном из сна-
рядов, — оба господина от всей души распрощались со
своей собственностью, — а потом, иод крики и аплодис-
менты, прямо на глазах тех, кто подошел поближе, оба
предмета были в целости и сохранности извлечены у
хозяев: ассигнация — из густой шевелюры, а пестрый
платочек — из-за воротничка рубашки.
Стяжавшего заслуженные аплодисменты магистратско-
го чиновника от души поблагодарили. Увлекательное пред-
ставление, во время которого было выпито весьма много,
длилось достаточно долго. Господин обер-секретарь упако-
вал свой достопримечательный сложный реквизит и вы-
звал такси. Вскоре и рой гостей рассеялся.
С хозяином и хозяйкой осталось за столом для завсег-
датаев всего несколько гостей, часть из которых — напри-
мер, контрастная чета влюбленных и господин инженер
Ригер — нам уже знакомы. Женщина-удод, ее таксовла-
делица-дочка и особа, служившая в Придворной опере
в доброе старое время, отсутствовали (имея в виду даль-
нейшее, мы могли бы сказать — к счастью, отсутствова-
ли). M-me Ancien Régime1 сегодня даже не забыла на
столе очки в золотой оправе, за которыми она иногда
1 Мадам Старый Режим (Фр).
379
возвращалась в тот же вечер. К тому же сегодня и нель-
зя было уже сказать «вечер», потому что наступила глу-
бокая ночь. Однако в ресторане все еще сидел доктор
Гуго Винклер, преподаватель университета, а ныне пен-
сионер, которому было уже, наверное, за семьдесят, —
что, в общем-то, пполне естественно предполагать о вся-
ком отставном профессоре, кроме присутствовавшего вы-
шеназванного господина, чей возраст — особенно если
послушать, как он говорит,—вовсе не явствовал с очевид-
ностью, а казался просто немыслимым: его страсти
спорить и упрямства хватило бы на десяток парламент-
ских ораторов, а способности приходить в восторг —
на полдюжины гимназистов. За столом сидел еще пи-
сатель, доктор Доблингер. Как известно, писатели всегда
оказываются тут как тут. По обычаю всех литераторов, он
не любил, чтобы к нему обращались «господин доктор»:
такие люди полагают, что одного только блеска их имени
вполне достаточно и академический титул им ни к чему.
— Она права, она совершенно права, — громко и на-
стойчиво твердил профессор, повернувшись к хозяйке,
которая слушала его скорее терпеливо, чем соглашаясь с
его воззрениями, — она тысячу раз права! — Под «нею»
разумелась крашепая тициановская венецианка в брю-
ках. — Только незаурядное делает мужчину мужчиной.
Женщина имеет право потребовать от него незаурядного.
Что имепно он делает, все равно: выступает на ринге,
пишет стихи или занимается волшебством. Лишь бы это
было незаурядно. Ведь все высшие достижения — ради
женщины, только ради женщины, ради нее одной, не ра-
ди чего больше. Других идеалов не существует. Пусть
говорят, что хотят! Ведь правда, господин инженер? Ка-
кова бы ни была цель, за ней стоит женщина, и все тут.
— Позвольте, господин профессор, — осторожно вме-
шался доктор Доблингер, — но я должен возразить вам
и выдвинуть некоторые контраргументы...
— Никаких, никаких! — энергично перебил писателя
профессор, и его лысый череп вынырнул, как морская
свинка из воды. — Когда я говорю, не может быть ни-
каких возражений, никаких контраргументов. Истина тут
как на ладони, нужно только захотеть ее увидеть.
Доктор Доблингер умолк, спасовав перед такой стра-
стью спорить, и все заметили, как еще больше погрузил-
ся в себя жених-пчеловод (в хорошем, но плохо сидя-
щем костюме). Следует особенно подчеркнуть, насколько
380
служит к чести господина обер-секретаря Кратки-Баши-
ка то обстоятельство, что данный им спектакль повлек
за собой беседу о незаурядном вообще и различных не-
заурядных достижениях. Правда, профессор всегда и вез-
де любил смотреть в корень. Не то Антон Ригер. Во
время представления он наблюдал особенно вниматель-
но, как и положено инженеру, и про себя, молчком раз-
гадал и восстановил во всех подробностях технику трех
из показанных фокусов. Но ничего не сказал. Господин
Ригер почти никогда ничего не говорил.
Между тем профессор уже перешел от столь аподик-
тически провозглашенной истины к другой теме и впал
при этом в дифирамбический топ.
— Вы ее не видели? Она была на спектакле. Говорю
вам, господин инженер, роскошная женщина! Самая кра-
сивая из всех, кого я успел заметить. За третьим столи-
ком слева...
Достигнув этой точки, разговор на мгновение оборвал-
ся. Пчеловод, заметно опечаленный, грустно воззрился
в пространство перед собой и в себя. Кто знает, среди
каких фантастических нагромождений пресмыкался бед-
няга! Его крашеная венецианка смотрела в сторону, не
удостоив его ни единым взглядом. Она была возбужде-
на (быть может, речами профессора). Она плыла вперед,
бушприт был высоко поднят, и хотя волн вокруг не было,
весь корпус корабля, плывшего в будущее, парадок-
сальным образом сам ходил волнами.
Хотя двустворчатая дверь заведения была распахну-
та, это не давало прохлады. Жара не упала и ночью.
Когда в первый раз просверкала молния, пе пролилось
еще ни капли дождя, не поднялось даже ветра, который
здесь, внутри, можно было бы почувствовать хоть по
малейшему движению воздуха. Но почти сразу же за
голубым проблеском снаружи раздался резкий удар
грома.
Одновременно с ним в переднюю комнату, где никого,
кроме сидящих за хозяйским столом, не было, вошел за-
поздалый посетитель. Это был хорошо одетый господин,
широколицый, с гладкими щеками, с косо поставленны-
ми глазами, — это увидели сразу, но особенно отчетливо,
когда он снял шляпу, — и, так сказать, обширным лбом.
Новый посетитель вежливо, тихим голосом осведомился,
может ли он, несмотря на поздний час, что-нибудь по-
есть, хотя бы сыру и масла. Радушная хозяйка шариком
381
покатилась по залу к стойке, а посетитель обосновался за
соседним столом. Пить он попросил только содовой с яб-
лочным соком.
Но, как бывает всегда, если кто-нибудь поздно заходит
в ресторан, где сидят лишь несколько человек, между сто-
лами легко завязался разговор. От той точки, где мы его
оставили, разговор как-то случайно опять вернулся к
Кратки-Башику; судя по всему, эта тема заинтересовала
нового посетителя, хотя бы и между прочим; во всяком
случае, было замечено, что он следит за диалогом, в ко-
тором теперь приняла участие и крашеная венецианка,
некоторое время с интересом рассматривавшая незнаком-
ца, надо признаться, не так уж незаметно: она наблюда-
ла за ним совершенно открыто. Как-то нечаянно он был
втянут в разговор, причем не кем иным, как самою хо-
зяйкой: обернувшись к посетителю, она дала ему неко-
торые разъяснения относительно мероприятия, которое
имело место здесь сегодня вечером, — о нем и шла у них
речь, — и сказала о совершенстве увиденного спектакля.
Как только незнакомый посетитель собрался ответить,
хозяин спросил его, не желает ли он присоединиться к
обществу.
Посетитель последовал его приглашению и пересел со
стаканом за общий стол; хозяйка тоном почтительного
признания рассказала еще кое-что о фокусах обер-секре-
таря, назвав при этом его имя и чин.
— Да, — сказал пришелец, — я его знаю. Для диле-
танта он очень хорош.
— Ничего себе дилетант, — заметила хозяйка со сме-
хом. — Хотела бы я уметь хоть двадцатую долю того,
что он умеет.
— Да, да, — сказал незнакомец, — этот Благоутек
очень неплох, среди любителей он один из лучших
— Может быть, вы, сударь, принадлежите к той же
ирофессии? — осведомился хозяин, оживившись.
— Да, конечно, — сказал незнакомец.
— Но в чем же, позвольте спросить, состоит разница,
в чем главное отличие профессионала от дилетанта вроде
господина обер-секретаря Благоутека?
— Видите ли, дилетанты показывают иногда отлич-
ные фокусы, иногда даже сами их придумывают, но им не
хватает высшего технического совершенства, подлинного
умения.
— Хм... А вы сами, сударь, артист?
382
— Да, — сказал незнакомый посетитель.
— Жаль, что господин обер-секретарь увез с собой
все снаряды, — весело воскликнул хозяин, — а не то мы
бы у него что-нибудь одолжили и, может быть, вы, сударь,
были бы столь любезны, что показали бы нам какое-ни-
будь замечательное волшебство.
— Для этого не обязательно иметь снаряды, — сказал
незнакомец равнодушным тоном, как бы между прочим.
— Вы пришли откуда-нибудь из другого заведения тут
поблизости? — любезно спросила госпожа Элли.
— Нет, — ответил посетитель, — я до этого часа си-
дел дома один.
— Как, — воскликнула хозяйка,—и вы вышли только
в одиннадцать вечера?
— Да, — ответил он.
Тут доктора Доблингера осенило озарение: он все учу-
ял носом ( у писателей нос обладает высшим техническим
совершенством, ибо является орудием ремесла). В тот
миг, когда незнакомец занял место за столом, антор все
постиг с отчетливостью почти навязчивой и с особого ро-
да пронзительной тоской: перед его внутренним взором
предстала тихая пустая квартира невдалеке отсюда, заку-
танные в чехлы — из боязни моли — кресла и пуфы,
большой зеркальный шкаф, запертый, без малейшей щели,
в котором спрятаны ковры, и откуда все же неуловимо
тонко, как дух, проникает в сравнительно прохладные ком-
наты запах камфары и нафталина.
Ведь был разгар лета.
Повсеместно стоял этот запах в квартирах, глубоко
ушедших в себя, отрекшихся от гремящих, жарких улиц.
Этот запах как бы хотел нежно возвестить евангелие от-
речения, манил уйти еще глубже.
И незнакомец пришел из такой заброшенной квартиры.
Этой заброшенностью пахло в воздухе. Между тем неско-
лько раз сверкнула молния и прогремел гром, хотя не
такой сильный, как первый удар, и прошелес!ел наконец
короткий дождик, плеск которого вскоре умолк. Однако
из переулка в комнату вошла прохлада.
Франц Блауэнштайнер, хозяин заведения, не так-то
легко отказывался от задуманного; а сегодвя е*му захоте-
лось увидеть, способен ли незнакомый артист превзойти
обер-секретаря, да еще без всяких приспособлений. Поэ-
тому хозяин спросил, что гостю нужно для того, чтобы
показать фокус.
383
— Пожалуй, дайте мне несколько старых игральных
карт и горсть тонких гвоздей, штук шесть—восемь впол-
не хватит. Карты можно взять совсем старые и заса-
ленные, это даже лучше, потому что потом они все рав-
но упадут на пол.
Хозяин принес и то и другое. Внимание напряглось
до крайности. Незнакомец, сидевший в конце стола, не-
далеко от облицованной деревом стены, протянул хозяи-
ну и хозяйке старые карты и как будто вскользь попро-
сил тайком выбрать и заметить одну, но оставить ее на
месте и положить всю колоду перед ним на стол.
Когда это было сделано, незнакомый посетитель, опла-
тив сперва скромный счет, схватил левой рукой гвозди,
правой — карты и одновременно швырнул или метнул
то и другое в деревянную панель на стене. Рой карт раз-
летелся по столу, по коленям сидящих, по полу, и в тот
же миг послышался легкий стук рассыпавшихся гвоз-
дей. А в следующий миг хозяйка громко вскрикнула: на
панели, как раз напротив нее, висела рубашкой к стене
прибитая гвоздем карта — та самая, которую она выбра-
ла в полном согласии с супругом: десятка пик. Никто не
произнес ни слова. Незнакомец приветливо улыбнулся,
поднялся, взял шляпу и с легким поклоном покинул за-
ведение. Крашеная венецианка сидела, выпучив глаза и
выпятив грудь, и корпус ее все ходил волнами, устрем-
ленный к артисту даже тогда, когда он уже исчез.
Однако спустя полминуты после ухода незнакомца
произошло нечто еще более поразительное. Пчеловод, рез*
ко очнувшись от тупой задумчивости, также ринулся вон.
Шляпу он оставил на крючке.
Позже мы узнали от него самого, как удалось ему за-
метить незпакомца на улице в последний момент перед
тем, как тот исчез, и бегом догнать его; а также что крат-
ко ответил незнакомец на его запинающуюся речь: «Мо-
лодой человек. Великому искусству учатся не ради какой-
нибудь цели и уж никак не затем, чтобы добиться
расположения девушки. Цель убивает искусство, запом-
ните это».
Так вот, мы покуда сидели все вместе, если не счи-
тать артиста и пчеловода, которого, правда, ожидали назад
с минуты на минуту. Однако его все не было. Уже раз-
дались первые предположения и даже утешительные или,
вернее, успокоительные слова, адресованные крашеной
венецианке, ибо она выказывала все признаки той ярости,
384
которая легко овладевает нами, когда мы наталкиваемся
на невидимые, но неумолимые границы нашей власти.
— Само собой, он придет, — сказал профессор, —
сейчас он * будет здесь. — Но, само собой, этого не про-
изошло. Понемногу именно это обстоятельство стало ка-
заться самым важным и грозило обернуться для краше-
ной венецианки скандальным унижением (у инженера
Ригера, как всегда, когда кто-нибудь другой оказывался
в затруднении, глаза стали темными и печальными). Тут,
вскоре после слов профессора, зазвонил телефон.
— Это он, — сказал профессор Винклер.
Хозяин взял трубку. Это был он. Крашеная венеци-
анка исчезла в будке. Говорили они довольно долго, и
за это время никто не проронил ни слова; ощущение
было такое, будто все повисло на волоске, включая и по-
учительное мнение профессора о естественном ходе чело-
веческих отношений. Разговор тянулся слишком долго.
Наконец она вышла. Все заметили, как она побледнела,
все заметили, что она не кажется больше миловидной и
вообще выглядит совсем иначе, чем минуту назад. Ее кор-
пус не ходил больше волнами. Однако ярость разорвала
корсет самолюбия, он лопнул на глазах у всех.
— Как вам это нравится! — прокричала она еще на
пороге кабины, еще не подойдя к столу. — Этот идиот
имел наглость сказать мне, что не хочет меня больше
видеть, не хочет иметь со мной ничего общего!
Даже у профессора утешения (если бы тут вообще
возможны были утешения) застряли в горле, и он поник
гладкой головой, нырнув под поверхность разговора. Кра-
шеная венецианка оставила шляпу жениха на крючке, и
уход ее выглядел скорее как разрыв с этим кружком лю-
дей (в котором она действительно никогда больше не по-
явилась) , чем как прощание. Хозяин снова попытался —
и опять безуспешно — пальцами вытащить из панели
гвоздь, которым была пришпилена десятка пик: вид этой
карты на стене раздражал всех. В конце концов Блауэн-
штайнер достал маленькие клещи. С ними дело пошло.
— Так ей и надо, — сказала госпожа Элли, когда кра-
шеная венецианка ушла.
— Он к ней вернется, — повторил профессор, но так
и не вынырнул.
— Он к ней никогда не вернется, — возразил Ригер.
Говорил он редко, но метко.
В ближайшие дни эта десятка пик на стене, — в кото-
13 Австрийская новелла XX в. 385
рой было, видимо, нечто от «мене, текел, фарес» и ко-
торая лишь поэтому заставляла так часто вспоминать о
себе, — десятка пик была изничтожена в разговорах.
С великим искусством иначе и не бывает: маленькие зуб-
ки долго точат его творения, пока они не рассыпаются
в прах и не объявляются небывшими; здесь в малом мас-
штабе происходит то же, что с великими чудесами. Чуде-
сам и искусствам не место в жизни: оставаясь, они были
бы нестерпимы, эти запекшиеся сгустки спеси потусто-
роннего мира в нашем мире, угнетающие всех. И в тот
день, поздно ночью, когда наконец проклятая карта ис-
чезла со стены, хозяин «Города Парижа» Франц
Блауэнштайнер долго сидел молча, уставившись в стол, и
наконец изрек:
— Конечно, это был... это был новый Кратки-Башик.
ЖорЖ Зайко
(1892-1962)
Жирафа под пальмами
С тех пор, как проломы в murazzo — высокой камен-
ной дамбе, защищавшей берег, заделали огромными, в
рост человека, глыбами лавы, наводнений больше не было.
Три бетонные коробки в рыбачьей гавани были теперь
вне опасности, разноцветные двухэтажные коробки: одна
красная, как фрески в Помпеях, другая маисово-желтая,
третья синяя, цвета индиго — все грязные, обшарпанные,
с одинаковыми розовато-серыми жалюзи. Несколько тама-
рисковых деревьев перед набережной были до того то-
ненькими и чахлыми, что бельевые веревки с балконов
пришлось тянуть дальше, к двум мачтам на барке Брод-
жо, без призора лежавшей на берегу.
Достаточно было взглянуть на барку, чтобы понять,
каково приходится ее хозяину. Ведь Бетта до сих пор
лежала при смерти, уже много месяцев подряд, — как
все, за что бы она ни бралась, она и это дело не могла до-
вести до конца.
В этих трех бетонных коробках у смерти была одна,
наипервейшая задача — освободить место; все равно, кто
бы ни умирал — мужчина, женщина или ребенок, уж
слишком многие ждали. Уйти из жизни как можно не-
заметней стало словно бы долгом человека, это само со-,
бой разумелось, а потому и говорить тут было не о чем.
Но Бетта давно пропустила свой срок. Общее ожесточе-
ние все явственнее давало себя знать — у мужчин оно
выражалось в том, что они молча слушали, как женщины
перечисляли все дурные последствия Беттиной стропти-
вости.
13*
387
Одна лишь Летиция выказала неугасимую силу, ис-
точником которой могла быть только истинная дружба, и
сила эта воспламенялась тем ярче, чем дольше медлила
Бетта. Когда Броджо возвращался домой, он находил
больше, чем смел надеяться. Всякий раз он находил там
Летицию, и, быть может, именно это опять гнало его из
дома. Друзья касались этой темы осторожно, издалека.
Момо и Чекко, собственно, составляли экипаж его барки—
двое вместо пяти, но ведь сам Броджо мог сойти за троих.
И на соседних островах не было никого, кто способен был
с ним потягаться, когда дело доходило до драки.
— Мускулы у него всегда были крепче головы, теперь
это для него беда. Если Бетта через день-другой не умрет,
она потянет его за собой.
— Куда? Ему и сейчас тошнее смерти. День-деньской
сидит на камнях и смотрит на ящериц. Можно подумать,
будто он совсем ничего не видит.
Со своего места на камнях Броджо уходил намного
позже того, как спадал полдневный зной. Стоило ему
только появиться на иороге, и Летиция отворяла дверь
в комнату. Кровать она отодвинула от окна, так что Бет-
те хорошо была видна передняя. Броджо не здоровался,
а Летиция на него не смотрела. Но умывальный таз, гли-
няный кувшин с водой, кастрюля с супом — все было
приготовлено для него, и этого нельзя было не заметить.
В лице Бетты живыми оставались только глаза; когда она
говорила, ей стоило неимоверных усилий, чтобы слова ее
звучали отчетливо.
— Подойди поближе, чтобы я могла до тебя дотро-
нуться, стань на колени!
Броджо уже стоял на коленях, подняв руку для
клятвы.
— Поклянись, что она уйдет отсюда, что ты этого хо-
чешь... ты знаешь, о чем я... Ну, клянись баркой «Сан-
Христофоро»...
Барка «Сан-Христофоро» была единственным достоя-
нием Броджо, каждый день ов ею клялся, а она гнила на
берегу. Летиция, которой надлежало уйти, стояла и слу-
шала, зная, что и сегодня не уйдет. Потом Броджо стяги-
вал через голову линялую рубашку. Когда он наклонялся
над жестяным тазом, взгляды Бетты и Летиции наконец-
то поневоле встречались. Загорелое тело Броджо поросло
черными волосами в добрых два дюйма длиной, — густая,
матово поблескивающая чаща на груди, на животе и на
388
плечах, — только спина отливала медно-коричневым блес-
ком. Глаза Бетты лихорадочно устремлялись к нему, но
они, как ее руки, ничего уже не могли удержать. «Петиция
держала наготове полотенце — подруга, которая знает
свои обязанности и не намерена от них уклоняться,
только это и заставляет ее преодолевать отвращение, при-
крывать его равнодушием, пожалуй, слишком уж явным.
К Броджо она подходила медленно, сзади. Это была
минута, требовавшая от нее самого большого самообла-
дания. День ото дня все бессмысленнее становилось за-
крывать при этом глаза, ей и сквозь смеженные веки ри-
совалось то, что она слишком хорошо знала и хранила
глубоко в сердце: оно выливалось из самого что ни на есть
земного источника, а вливалось... ах, где найдешь слова
для этого?! Барка «Сан-Христофоро» скользила по куд-
рявым барашкам волн, сам святой Христофор благословил
это плаванье, так похожее на полет, полет туда, где боль-
ше не нужны мечты, ибо они давно сбылись и осущест-
вились. Быть может, ход барки направляют запахи, исхо-
дящие от этого мощного столпа, этого бронзового волоса-
того мужского тела, и не только »Петиции, но и другой
женщине перед нею (она вытатуирована на спине у
Броджо чудесными синими, красными и оранжевыми ли-
ниями) приходится держать себя в руках. «Петиция осто-
рожно приоткрывает глаза, — та женщина словно ее, «Пе-
тиции, зеркальное отражение, отбрасываемое спиною
Броджо, ее полные груди похожи на груди «Петиции, а
широко раскрытые и какие-то потерянные глаза туманят-
ся, словно при последней попытке к сопротивлению.
Теперь «Петиция видит также льва и сердце на правом
предплечье Броджо, а на левом — жирафу под пальмами.
Лев держит в когтях истекающее кровью сердце, че-
ловеческое сердце, несомненно, сердце женщины, быть
может, ее собственное, — еще миг, и лев растерзает его
своими клыками. Ища спасения, «Петиция отвернулась, но
то, что наступало на нее с другой стороны, было еще
страшнее. К ней угрожающе тянулась жирафа, длинная,
алчущая и до ужаса живая. Ибо мускул предплечья вели-
чиною с кулак нервно ходил взад-вперед, отчего шея жи-
рафы судорожно вздрагивала, и это был как бы ответ, бо-
лее решительный, чем все то, о чем другие рисунки осме-
ливались только шептать. Какой-то неудержимый порыв,
перед которым «Петиция беззащитно сникла, завладел ею,
и теперь глаза Бетты, устремленные на нее с невероят-
389
ной, нежданной силой, уже нисколько ее не трогали, а
голос Бетты заглушался шелестом пальм.
У Летиции пресеклось дыхание, да и соображения
она, видимо, лишилась тоже. Глаза ее жадно округлились,
она схватила тяжелую руку Броджо и, судорожно выти-
рая ее полотенцем, в безотчетном порыве прижала к себе,
прижала теснее, чем желала. Возможно, этим жестом она
вознамерилась наконец показать Бетте, что изменить уже
ничего нельзя, а если та еще хочет что-то изменить, пусть
вмешается тотчас же. Бетта вдруг поднялась, словно под-
брошенная вверх неведомой силой, чтобы исторгнуть из
себя все, что накипело у нее против Летиции. Но исторг-
ла лишь плевок кровью, которая все еще вязко сочилась с
ее губ, когда голова ее поникла и Бетта медленно сползла
на пол. Броджо покосился на нее, но, казалось, ничего не
увидел, словно прикосновение Летиции, растиравшей его
полотенцем, мешало ему видеть. Только когда Летиция
взглянула в ту сторону, они увидели оба.
Возвращаясь домой с похорон, Броджо, все еще всхли-
пывая, шел между Момо и Чекко, следом за доном Аго-
стино. Летиция была среди женщин, но у лестницы, ве-
дущей в рыбачью гавань, она с ними попрощалась и, не
раздумывая, направилась к синей бетонной коробке, в ко-
торой жил Броджо. Броджо взял себя в руки и, указывая
на Летицию, сказал:
— Господь сподобил Бетту под конец узнать, что та-
кое дружба! Не будь Летиции, ее страданья были бы еще
тяжелее.
Чекко подхватил громко и внятно, чтобы его мог услы-
шать дон Агостино:
— Про Летицию мало сказать, что она работящая.
Дон Агостино отступил немного назад, под сень по-
лотняного зонта, который держал над ним помощник по-
номаря Пипетто. Слегка расправив руки, он степенно за-
ложил их под стихарь, за пояс сутаны.
— Летиция, — произнес он наконец, и в глазах его
в этот миг мелькнуло что-то настолько простое и свойское,
что достоинство, присущее его сану, куда-то вдруг дева-
лось, оставшись отраженным лишь на лицах присутству-
ющих, — Летиция обладает терпением тех, кто знает, что
они на праведном пути.
Александр Лернет-Холения
(1897-1977)
Марези
Невероятный случай произошел двадцать с лишним
лет назад на оживленной улице Вены.
Как-то раз, когда возчик Маттиас Лой на своей телеге,
запряженной двумя лошадьми, спускался к Хлебному
рынку по улице, запруженной ломовиками и прочим го-
родским транспортом, к нему совершенно неожиданно
подошел человек, принадлежавший, видимо, в былые вре-
мена к хорошему обществу; сойдя с тротуара, человек не-
которое время шел вровень с медленно катившейся те-
легой, а потом, торопливо выпуская из револьвера пулю
за пулей, в упор застрелил одну из лошадей Лоя, старую
тощую рыжую кобылу.
Лошадь, которая сперва рухнула на колени, стала
медленно клониться к земле, а в это время второй конь
в той же упряжке в ужасе взвился на дыбы; возчик же,
сначала буквально остолбеневший, соскочил с облучка и
с яростным криком вцепился в горло незнакомцу.
Неизвестный человек сразу бросил револьвер и выпря-
мился. Теперь он стоял бледный как смерть и довольно
вяло отбивался от наскакивавших на него возчика, не-
скольких поспешивших к месту происшествия шоферов
и случайных прохожих, которые громко возмущались и
осыпали его колотушками. Два полицейских были уже
тут как гут, с большим трудом им удалось спасти неиз-
вестного от гнева толпы; с каждой минутой атмосфера
накалялась все больше, ибо человек с револьвером не же-
лал отвечать ни на один вопрос — он не сказал, чем объ-
391
ясняется его безумная выходка, почему он убил чужую
лошадь и вообще чем это несчастное животное не угоди-
ло ему. В конце концов полицейские увели совершенно
растерянного незнакомца — он был без шляпы, в разо-
рванном пиджаке; вдогонку ему еще долго неслось улю-
люканье толпы. На вид человеку этому можно было дать
года сорок два, сорок три; вероятно, когда-то он был кра-
сив, теперь же исхудал и выглядел опустившимся.
Возчик еще бежал некоторое время рядом с незнаком-
цем, осыпая его бранью. Однако злоумышленник, каза-
лось, не замечал этого. И в полицейском участке он отде-
лывался ничего не значащими фразами, отвечал неохотно.
Особенно он настаивал на том, что причину, по какой он
застрелил лошадь, никто не поймет; не смог он указать
также свое местожительство и даже временный адрес; ко
всему прочему, один из беспорядочных выстрелов поца-
рапал руку какой-то девушке; в общем, незнакомца взя-
ли под стражу. Только представ перед судом, этот человек
решился дать более подробные показания.
Непонятный поступок незнакомца до самого судебного
процесса продолжал занимать умы горожан, немудрено
поэтому, что, когда подсудимого ввели в зал суда, там ока-
залось полным-полно любопытных. На первые, чисто фор-
мальные, вопросы незнакомец ответил, что зовут его
Франц фон Хюбнер, что ему сорок четыре года, он холост
и уже несколько месяцев не имеет работы.
Судья, перелистывавший бумаги у себя на столе, разъ-
яснил прежде всего, что никакого Франца фон Хюбнера
отныне не существует, есть лишь Франц Хюбнер. После
этого он огласил состав преступления и задал вопрос, со-
гласен ли обвиняемый дать сейчас объяснения, на каком
основании он застрелил лошадь Маттиаса Лоя.
Хюбнер, уставившись в пол, молчал.
— Ну, так как же? — спросил судья уже весьма раз-
драженным тоном.
Хюбнер поднял голову и скользнул взглядом по лицу
Лоя, который присутствовал в зале в качестве свидетеля.
— На том основании, — сказал он наконец, — что
кучер бил лошадь.
— Бил?
— Да. И потом, лошадь была уже совсем старая.
— Ах, вот как! — воскликнул судья. — Он бил ло-
392
шадь, и лошадь была старая. На этом основании вы уби-
ли ее.
Кто-то в публике громко выразил свое возмущение.
А возчик вскочил и закричал, что это наглая ложь, он не
бил лошадь, просто погонял ее кнутом время от времени,
что вполне дозволено; однако этот тип, — возница имел
в виду незнакомца, -— по чистой злобе лишил его дорого-
стоящего коня.
Судья прервал возчика, приказав ему молчать до тех
пор, пока ему не прикажут давать свидетельские показа-
ния; публику судья тоже призвал к порядку. Подсуди-
мый взглянул на судью и, когда вновь воцарилась ти-
шина, заметил.
— Я ведь уже сказал, что никто не поймет, почему я
застрелил лошадь.
Судья закричал, что решать вопрос, понятны или не-
понятны мотивы преступления, дело суда, а не подсуди-
мого.
Хюбнер пожал плечами.
— Вы так думаете? — спросил он. — Ну, во-первых,
лошадь эта была не ломовой клячей, а кобылой самых
чистых кровей. Впрочем, ей уже минуло двадцать лет, и
у этого хозяина она пришла в столь плачевное состояние,
что, глядя на нее, никто не сказал бы, какое это было в
свое время благородное животное. Звали ее Марези, отец
ее был Шеразмин, знаменитый жеребец с конного завода
Лещинских, а мать Шахразада.
— Вот как! — заметил судья. *— Но откуда это вам
известно?
— Мне это известно, известно во всех подробностях,—
сказал обвиняемый, — по той простой причине, что ко-
была была когда-то моя, я ее сам вырастил в моем имении,
в имении, которым я в ту пору еще владел.
В зале раздался легкий шум.
— Это имение, — продолжал Хюбнер, — называлось
Сан-Марино. Я получил его в наследство от отца. В тот
год мне еще не было двадцати. Но я старался не менять
заведенных порядков — в том числе сохранить неболь-
шую конюшню чистокровных лошадей. Мне достались
три чистокровных кобылы: Айша, Фатима и Шахразада.
Шахразада ходила жеребая. Я хорошо помню тот день,
когда жеребенок появился на свет. Моя мать — царствие
ей небесное — пригласила на чашку чая наших ближай-
ших соседей, графа и графиню Штейнвилей. Они привез-
393
ли с собой и Блапку, свою дочурку. Тогда ей исполнилось
всего пять лет.
Судья постучал по столу карандашом.
— Это относится к делу? — спросил он.
— Да,—сказал Хюбпер коротко. И, помолчав немного,
продолжал: — На дворе стоял сентябрь. Мы пили чай в
нашей маленькой гостиной, а потом я и Штейнвиль подо-
шли к окпу. Окно было открыто. Мы закурили и выгля-
нули в сад. Как раз в эту минуту мимо окна проводили
Шахразаду. До этого я приказал, чтобы ее утром и вече-
ром выпускали из денника и, держа за повод, прогулива-
ли по часу. Разговаривая с графом, я заметил, что жере-
бенка надо ждать со дня на день. И тут мы услышали
звуки труб.
— Каких труб? — спросил судья.
— В окрестности была стянута кавалерийская диви-
зия, с раннего утра она проводила учения на полях, с ко-
торых уже сняли жатву. Трубы были где-то далеко, одна-
ко Шахразада явно забеспокоилась. Трубы и духовой
оркестр выводят из равновесия почти всех лошадей, даже
если они никогда не были в кавалерии. И вот Шахразада
стала пританцовывать вокруг грума, который держал ее
за повод. Постепенно лошадь успокоилась. Но вдруг тру-
бы заиграли снова где-то близко. Шахразада рванулась
вперед. Однако мой парень повис на поводе. Лошадь сде-
лала два-три прыжка, и грум упал. Мы с графом закрича-
ли, — кобыла протащила грума по земле еще немного, а
потом, ловко вильнув, вырвала повод у него из рук.
Свернув за угол, она поскакала по парку. Парень сразу
вскочил и бросился вслед sa лошадью, но так и це на-
гнал ее. Шахразада мчалась галопом по парку, мы видели,
как она перемахнула через ограду. После этого мы быстро
сбежали по лестнице и, в свою очередь, бросились 6 пого-
ню за беглянкой.
— Ну и что? — спросил судья. — Что случилось
дальше?
— Кобыла гналась за кавалерийскими полками, ко-
торые, как мы поняли по звуку труб, готовились к атаке
друг против друга. Когда мы поравнялись с оградой пар-
ка, то увидели, что Шахразада уже мчалась вплотную
за одной из двух вытянутых по горизонтали блестящих,
бряцающих оружием колонн всадников; из-под подков
лошадей вздымалась пыль. Вскоре Шахразада исчезла в
клубах пыли.
394
Позже нам рассказали, что моя лошадь очень быстро
нагнала эскадроны и смешалась с рядами кавалеристов,
которые с саблями наголо скакали вперед. Шахразада
обогнала их, потом обогнала офицеров и остановилась
лишь после того, как кавалеристы приблизились к «вра-
жескому» атакующему полку примерно на расстояние в
сто шагов. Тут снова затрубили трубы, дав сигнал к оста-
новке. Пыль рассеялась, и все увидели Шахразаду, кото-
рая пританцовывала и ржала возле кучки генералов. Раз-
дались ругательства, смех; все спрашивали, откуда взя-
лась на поле брани эта чужая лошадь. Но внезапно
кобыла зашаталась, по ее телу пробежало нечто вроде су-
дороги и началось то, чего я ждал: кобыла должна была
вот-вот ожеребиться.
Публика в битком набитом зале невнятно забормотала.
— Сперва, — сказал Хюбнер, — никто не понимал, в
чем, собственно, дело. Но скоро из толпы всадников выско-
чили два-три ветеринара; спешившись, они окружили
Шахразаду.
Когда мы оказались рядом с лошадью, колонны кава-
леристов уже умчались куда-то вдаль, а жеребенок родил-
ся. Бланка тоже прибежала в поле, она вырвалась из рук
матери и теперь была вне себя от радости. Кричала, хо-
хотала и без конца гладила крохотную лошадку, хотя та
была еще совсем мокрая. И мы чувствовали себя счаст-
ливыми, ведь все так хорошо кончилось. Жеребенка сра-
зу же окрестили. Я заранее заготовил имя для новорож-
денного; в том случае, если Шахразада родит кобылу, я
решил назвать ее Зобайда. Но поскольку ветеринары ска-
зали нам, что жеребенок появился на свет божий перед
фронтом драгунского полка Марии-Терезии, мы назвали
ее Марези.
— Как? — спросил судья.
— Марези. Это было ласкательное имя Марии-Тере-
зии... Кобылу мы медленно уводили домой, а жеребенок
бежал рядом. Он уже, видимо, захотел материнского мо-
лока. Бланка по-прежнему гладила его и задавала мне
тысячу вопросов — ее интересовало буквально все, каса-
ющееся лошадей. И я говорил, говорил, не умолкая. В ча-
стности, я рассказал Бланке, что этот жеребенок, как во-
дится у чистокровных лошадей, будет зваться полным
именем, то есть не только своим именем, но и именем
родителей: Марези от Шеразмина и Шахразады. Услы-
шав это, девочка спросила, кто были дедушка и бабушка
395
жеребенка, а также его прабабушка и прадедушка. Я объ-
яснил ей, что чистокровные лошади ведут свой род от
англосаксонских и арабских скакунов, а предками араб-
ских скакунов были легендарные лошади Пророка. И что
все без исключения домашние лошади произошли от ди-
ких, низкорослых буланых лошадок с толстыми шеями
и темными гривами. Некоторое количество таких лошадок
по сию пору пасутся на пастбищах во Внутренней Мон-
голии. И еще я рассказал Бланке об огромных табунах
мустангов, кочевавших по Америке, о табунах, из кото-
рых индейцы вылавливали коней для себя. И что амери-
канские одичавшие кони произошли от испанских скаку-
нов, которых в стародавние времена перевезли через
океан по приказу короля, ибо земли испанской короны
были в ту пору столь обширны, что там никогда не захо-
дило солнце.
После этой фразы обвиняемый некоторое время мол-
чал; казалось, он углубился в свои воспоминания и за-
был обо всем на свете. Судья вернул его к действитель-
ности, громко сказав:
— Продолжайте! Но рассказывайте только то, что не-
посредственно относится к деду.
— Жеребенок, — начал Хюбнер снова, — пробыл не-
которое время с матерью. Потом его стали выпускать на
пастбище. Когда лошади исполнилось два года, я отдал
ее тренеру. Уже с самого начала успехи Марези на иппо-
дроме были блистательными, что не помешало ей на сле-
дующий год проиграть два конноспортивных состязания;
на короткие дистанции она бежала неважно, зато на длин-
ные — хорошо. Кроме того, она отлично прыгала. В конце
концов Марези стала брать призы на многих скачках с
препятствиями. В один прекрасный день я привел ее до-
мой и стал ездить на ней только сам. Года два-три я не
пропускал ни одной охоты, — ведь Марези оказалась
очень выносливой охотничьей лошадью. И, стало быть,
имела все шансы победить в Пардубице; в самом деле,
в ноябре тринадцатого года я пришел первым на Марези в
большом стипль-чезе в Пардубице.
Однако ни судья, ни публика, видимо, не знали, что
«большой стипль-чез в Пардубице» был самой трудной
скачкой с препятствиями в Австро-Венгерской монархии.
Судья сухо спросил:
— Да? Ну и что произошло потом?
— Потом, — сказал Хюбнер, — началась война, и я
396
вместе с Марези и двумя другими лошадьми отправился
в свой полк, а полк мой сразу же послали на фронт. Ка-
валерия в первые военные месяцы сражалась в своих
обычных ярких формах. Мы надевали красные штаны и
перчатки с крагами, подпоясывались золотыми узорчаты-
ми кушаками, на голове носили высокие каски с блестя-
щими рельефами по обе стороны гребня, изображавшими
львов, с плеч у нас свисали ментики из меха, золотые
шнуры от них мы обматывали вокруг шеи, дабы защи-
тить себя от сабельных ударов. Кавалеристы выглядели
чрезвычайно живописно, и мы считали, что будем вое-
вать верхами. Но это нам, конечно, не удалось. Лишь
только на поле боя показывались яркие фигуры всадни-
ков, их накрывал огонь русских, которые в своих буро-
коричневых шинелях наступали воистину бесчисленными
полчищами. Пришлось нам сойти с коней и сражаться пе-
шими. Своих лошадей мы зачастую не видели месяцами,
в последний раз нам привели их во время наступления
в тысяча девятьсот пятнадцатом году, когда мы прошли
через Польшу, преследуя отступающие русские войска.
Но и тогда мы шли верхами только во время марш-брос-
ков. Ну, а потом и вовсе началась окопная война. Лоша-
дей держали бог знает на каком расстоянии от линии
фронта, а через два года весной их совсем отобрали. Те-
перь они стали обозными лошадьми и возили пушки; да-
же офицерам пришлось продать своих коней, ведь мы
больше не получали на них фуража. И я, стало быть, тоже
продал Марези, хоть и с болью в сердце. Бог знает, что
пережила в последующие годы моя кобылка. Быть мо-
жет, она досталась какому-нибудь интенданту, которому
полагалась по штату лошадь, хоть он и не умел ездить
верхом; быть может, ее запрягали в перегруженные по-
возки; быть может, она волокла тяжелые пушки. Я не
раз думал о том, что лошадям больше нигде нет места
в век ядовитых газов и танков, в век тракторов и мото-
тягачей. Возможно, думал я, Марези уже вообще нет
больше на свете. И я вспоминал, как она ласково всхра-
пывала, когда терлась ноздрями о мою руку.
На минуту обвиняемый замолк, но в зале по-прежнему
было очень тихо.
— После войны, — заговорил он наконец опять, — я
вернулся в свое родовое имение. Моя мать за это время
умерла, а хозяйство пришло в полный упадок. И у Штейн-
вилей дела были не лучше, чем у меня. У них тоже не
397
стало ни работников, ни лошадей. Мы решили, что будем
в ближайшее время скупать в большом количестве ко-
ней из числа тех, что вернулись с фронта. В ту пору на
дорогах и в городах встречались бегущие по домам обоз-
ники и артиллерийские расчеты. Теперь можно было при-
обрести коня за краюху хлеба. В провинциальных горо-
дишках по улицам бродили целые табуны бесхозных ло-
шадей, и это продолжалось неделями, месяцами. И вот
мы заполучили столько лошадей, сколько могли, по на-
шему разумению, прокормить; с большими трудностями
они у нас перезимовали. Ведь корма приходилось поку-
пать по баснословным ценам. Весной мы вывели наших
коней на пастбища, а потом взялись за пахоту.
Сын Штейнвилей погиб на фронте, а Бланке, когда мы
вновь увиделись, исполнилось уже лет четырнадцать-
пятнадцать. Первый вопрос, который она мне задала, был:
«Где теперь Марези?» Я ответил, что не имею понятия,
мне пришлось продать свою лошадь. Бланка сказала, что
ей ужасно жаль, ведь она так любила Марези и еще яв-
ственно помнит тот день, когда лошадка родилась. Недели
шли, но Бланка по-прежнему твердила о Марези. Наконец
я обещал ей, что постараюсь узнать, жива ли еще моя
лошадь. Может быть, сказал я, мне удастся выяснить,
куда ее передала комиссия, которая купила Марези в
семнадцатом году. Вскоре после этого я попал в Вену и
стал наводить справки о Марези в военном министерстве
и в различных штабах, которые тогда распускали. Но по-
скольку сделка была совершена в Польше, соответствую-
щие документы обнаружить не удалось. Правда, я напи-
сал письма друзьям в Польше и в Венгрии с просьбой
помочь мне. Однако следы моей кобылы окончательно
затерялись: допустим даже, что она осталась в живых,
и в этом случае Марези могла с равным успехом оказать-
ся в Истрии или в Румынии, в Чехии или в Кроатии, сло-
вом, в любой части распавшейся Австро-Венгерской мо-
нархии. Под конец я обратился к барышникам и по мере
сил описал им кобылу и ее подпалины. Через некоторое
время в моем имении и впрямь стали появляться люди со
всевозможными лошадьми, эти люди уверяли, будто они
привели Марези.
Но затем я все же весьма удивительным образом
нашел свою лошадку. Спустя два года после окончания
войны она совершенно внезапно появилась в школе вер-
ховой езды в Вене. Мне так и не удалось выяснить, где
398
ее, собственно, подобрали те два типа, которые открыли
эту школу. Как бы то ни было, Марези стала лошадью
для учебной езды.
В ту пору люди, нажившиеся на войне, начали увле-
каться верховой ездой; они считали конный спорт весьма
аристократическим занятием. Летом, когда нувориши уез-
жали на курорты, школы верховой езды отправлялись за
ними и устраивали им эдакие прогулки по окрестностям;
в глазах сельских жителей дачники всегда выглядели ду-
раками.
Так или иначе, благодаря хозяевам школы, Марези по-
явилась недалеко от Сан-Марино, в курортной местности,
и произошло это в июле, примерно лет десять назад.
Люди, занимавшиеся в школах верховой езды, были
обычно горе-наездниками. И вот однажды во время оче-
редной учебной ездки Марези взбрыкнула, нувориш вы-
летел из седла, и лошадь пустилась наутек.
Хочу сказать сразу, не надо обольщаться — лошадь
обладает весьма средним интеллектом. Правда, конь на-
делен, видимо, двумя похвальными и даже героическими
инстинктами: волей к победе на состязаниях и желанием
участвовать в борьбе, однако все прочие качества лошади-
ного ума никак нельзя сравнить, к примеру, с умствен-
ными способностями собаки. И все же лошади запоми-
нают хотя бы дорогу в свою конюшню, быть может, они
также узнают места, в которых когда-то жили. Одним
словом, когда Марези вырвалась на.свободу, она, навер-
ное, вспомнила окружающий ее пейзаж и продолжала
бежать все дальше и дальше. Произошло вот что: я в этот
день стоял во дворе и вел переговоры с очередным ба-
рышником, который пытался всучить мне вместо моей
прежней лошади огненно-рыжую кобылу, и тут вдруг я
услышал в конюшне у себя за спиной звонкое заливистое
ржанье и удивился не на шутку, — ведь все мои лошади
были в поле, возили собранный хлеб. Я обменялся еще
несколькими словами с барышником, но ржание повто-
рилось снова, тогда мы подошли ближе к конюшне, что-
бы узнать, в чем дело; в эту секунду навстречу мне вы-
скочила Марези со свисающими поводьями, со сбитым
на брюхо седлом; очевидно, до этого она незаметно вбе-
жала в стойло, к которому я стоял спиной. Ржание моей
лошади показалось мне воистину серебристым.
В зале пронеслось что-то вроде вздоха, публика была
явно тронута, словно ей показали мелодраму на экране.
399
Однако Хюбнер, нахмурившись, быстро заговорил
опять.
— Конечно, я сразу же откупил Марези у хозяев кон-
носпортивной школы. Заметив, что я во что бы то ни
стало решил приобрести эту лошадь, они заломили за нее
изрядные деньги, но в конце концов я внес требуемую
сумму.
И верхом на Марези я отправился к Штейнвилям. Ра-
дость Бланки не поддавалась описанию, в тот же вечер
мы с ней обручились.
При этих словах обвиняемый слегка покраснел.
— Мы решили, — сказал он скороговоркой,—что по-
женимся, как только Бланке исполнится двадцать. И я с
удвоенной энергией принялся за хозяйство, чтобы обес-
печить моей жене безбедную жизнь. Прежде всего я при-
обрел сельскохозяйственную технику, а на следующий
год даже посадил своих работников на трактор. Тягловых
лошадей я продал, оставил только Марези, чтобы ездить
верхом по полям. И еще я продал свой выезд — карету
и лошадей — и купил вместо этого американский авто-
мобиль.
Однако время для всех этих нововведений оказалось
неудачным. Год был неурожайный, а потом я восполь-
зовался кредитами как раз в ту пору, когда инфляция
прекратилась. Да, я проявил легкомыслие, и скоро выяс-
нилось, что мне нечем погашать полученные ссуды.
Штейнвиль с неудовольствием наблюдал за моей дея-
тельностью. Он, видимо, догадывался, в какой я попал
переплет, ведь среди соседей уже курсировало множество
моих векселей. Ко всему прочему, цены на зерно стали
падать — отчасти из-за конкуренции венгерских, румын-
ских и заокеанских сельских хозяев, отчасти из-за обще-
го кризиса перепроизводства, который возник после вве-
дения технических новшеств в крупных хозяйствах.
Впрочем, Штейнвиля кризис затронул куда меньше,
нежели меня. В последние годы дела его шли хорошо, и
он не влез в долги. Кроме того, он не расстался с конной
тягой. Не то было со мной, я уже с великим трудом пла-
тил проценты и все время продлевал векселя.
Мы никогда прямо не говорили со Штейнвилями о
моих плачевных обстоятельствах, однако, когда настал
день, назначенный для нашей свадьбы, Штейнвили не
стали готовиться к предстоящему торжеству; с обоюдного
согласия, но молча мы отложили нашу женитьбу на не-
400
определенный срок. Бланка ходила с заплаканными гла-
зами, да и сам я был глубоко несчастен. Все же я не осме-
ливался настаивать на нашем браке. Положение мое ста-
новилось все более шатким и со временем настолько
ухудшилось, что я не мог взять на себя ответственность
и соединить судьбу любимой женщины со своей собствен-
ной неопределенной судьбой.
Правда, я пытался исправить дело, продавая некото-
рые угодья; впрочем, перед Штейнвилями я, что назы-
вается, держал фасон, утверждая, что эти земли у меня
лишние, потом я продал также фамильные драгоценно-
сти, которые достались мне после смерти бедной матуш-
ки. Но всего этого хватало лишь на то, чтобы успокоить
самых назойливых кредиторов.
В конце концов, в отчаянное положение меня поста-
вил не кто иной, как сам Штейнвиль. То ли по совету
дочери, то ли из желания окончательно убедиться в со-
стоянии моих дел, он скупил большую часть моих век-
селей и явился ко мне с визитом; он сообщил о совершив-
шейся операции и добавил, что срок векселей истекает
через две недели, но, что если мне неудобно платить
сейчас, он согласен ждать сколько угодно. В заключение
Штейнвиль сказал: он, мол, рад, что по чистой случай-
ности, — так он выразился, — он стал собственником
моих векселей. Ведь и мне наверняка куда приятней
знать, что векселя в его руках, а не в руках чужого че-
ловека.
Наверное, он говорил со мной вполне искренне. И если
Бланка настаивала на покупке векселей, то только по
одной причине — хотела спасти меня от беды, так как
считала, что мне гораздо легче будет столковаться с ее
отцом, нежели с любым другим.
Тем не менее открытие, которое я сделал в разговоре
со Штейнвилем, оказалось для меня тяжелым ударом.
Да, я собирался переписать векселя, просить об отсрочке,
но только не у Штейнвиля. А поскольку мои векселя
были именно у него, о пролонгации не могло быть и речи.
В общем, мне не оставалось ничего иного, как выкупить
свои долговые обязательства. Ибо я считал, что ни при
каких обстоятельствах не должен посвящать Штейнвилей
в истинное положение своих дел. Ведь в этом случае мне
пришлось бы навсегда отказаться от мысли пазвать
Бланку своей женой.
И вот под конец разговора я встал и со всем хладно-
401
кровием, на какое был способен, заявил, что, разумеется,
выкуплю мои векселя в тот день, когда это будет нужно;
в последующие две недели я добывал деньги всеми воз-
можными способами. Пришлось продать много полотен
старинных мастеров из тех, что у меня еще оставались,
почти все серебро, а под конец и M а рези.
За нее я получил немного. Моя кобыла состарилась, да
и вообще лошади в то время были не в цене. Однако от
сознания того, что Марези уже не будет в конюшне, у ме-
ня щемило сердце. Впрочем, на мою голову свалилось
столько забот, что я скоро забыл и думать о лошади.
Когда настал срок погашения векселей, ко мне при-
шла Бланка, а не старый Штейнвиль. По ее словам, отец
прихворнул, и она беспокоится, как бы он не заболел
серьезно. Деньги за векселя она вообще не хочет брать.
Ведь вся эта процедура — чистая формальность.
Быть может, Бланка получила от отца инструкции, как
ей покончить с этой историей, если у меня не окажется
наличных. Но я настоял на том, чтобы она получила всю
сумму сполна. А потом мы еще немного прошлись по
имению. Денник Марези был пуст. Я сказал, что лошадь
повели к ветеринару.
Уже садясь в коляску, Бланка вдруг разрыдалась.
Я старался утешить ее, гладил по голове, но так и не
произнес ни слова. Да и что я мог сказать!
С этого дня я семимильными шагами шел к банкрот-
ству. Уже несколько месяцев спустя стало ясно, что я
не сумею удержать имение. События эти разыгрались два
года назад; осенью мои векселя, которые еще имели хож-
дение, были опротестованы, и, после урегулирования со-
ответствующих формальностей, власти назначили на се-
редину ноября торги для продажи Сан-Марино.
Со Штейнвилями я больше уже не встречался — для
меня было бы тяжелейшим испытанием видеть их; и они
сами, вероятно, чувствовали, в каком я состоянии, и не
напоминали о себе. Кроме того, я слышал, что Штейн-
виль окончательно слег. У него обнаружили сердечную
болезнь. Только sa несколько дней до публичных торгов
я решился позвонить старику и попросить его о помощи.
К телефону подошла Бланка. Она сказала, что отец ее
очень серьезно болен, однако она сразу же передаст мою
просьбу. На вопрос о том, что именно со Штейпвилем,
Бланка ответила: «У него водянка, и это продолжается
уже несколько недель».
402
На следующий день управляющий Штейнвиля привез
мне письмо, в котором старик писал: «Если появится воз-
можность приобрести на торгах Ваше имение, это будэт
сделано». Он уже договорился с поверенным.
В ответ я послал ему благодарственное письмо и по-
желал здоровья.
Через два дня Штейнвиль скончался.
Его смерть решила мою участь, ибо Штейнвили не
могли распоряжаться оставленным состоянием, пока не
войдут в права наследства (а это должно было продол-
жаться несколько месяцев); кроме того, им предстояло
уплатить большие налоги на наследство, таким образом,
для меня у них не оказалось свободных денег.
В день публичных торгов, на заре, я в наемной ко-
ляске покинул Сан-Марино. Ночью шел снег, утром он
растаял, повсюду были грязные лужи, в которых отража-
лось пепельно-серое небо.
Когда я проезжал по деревне, звонили колокола. То
был погребальный звон — хоронили Штейнвиля. Я при-
казал кучеру остановиться, вышел из коляски и смешался
с толпой крестьян и бедных горожан, которые окружили
гроб. Бланка и старая графиня с длинными черными ву-
алями стояли спереди в кучке родственников. Я держал-
ся в стороне, надеясь, что меня не заметят. А потом, не
дожидаясь окончания траурной церемонии, опять подо-
шел к коляске, но тут передо мной выросла Бланка.
Она откинула вуаль, глаза ее были заплаканы, —
казалось, на сапфиры пала кровавая роса. Рыдая, Бланка
бросилась мне на шею, она умоляла не покидать ее, го-
ворила, что любит меня, любила всегда. Теперь, когда
она стала наследницей имения, я должен жениться на ней,
вести хозяйство.
Мне пришлось собрать все силы, чтобы ответить Блан-
ке. Я сказал, что не могу на ней жениться. Я теперь —
никто, я разорен; что касается ее, то она наверняка сдела-
ет прекрасную партию, выйдет замуж за богатого моло-
дого человека, как это и подобает ей. Достаточно того,
что я потерял собственное имение, не могу же я довести
и их до нищеты.
Поцеловав на прощанье Бланку, я быстро вскочил в
коляску и крикнул кучеру: «Трогай!»
Бланка пыталась удержать меня, что-то кричала мне
вслед, но я знал, что, если хоть раз обернусь, решимость
моя пропадет.
40Я
Вечером я уже был в Вене.
Все дальнейшее можно рассказать коротко: те не-
большие деньги, которые достались мне после продажи
имения с торгов, я вкладывал в разного рода предприя-
тия и в результате потерял все. После этого я поступил
на службу в строительную фирму. Однако фирма лопну-
ла, и я лишился места; с тех пор я так и не мог найти
работу. Истратив свои последние деньги, я взял старый
армейский револьвер и направился в кафе, где написал
прощальные письма нескольким друзьям; после этого я
вышел на улицу — решил застрелиться где-нибудь в
парке.
И в это мгновение я увидел Марези.
Я сразу же узнал ее, хотя она была в плачевном со-
стоянии. Старая, исхудавшая кляча, донельзя истощен-
ная. Она шла в одной упряжке с беспородной сивой ло-
шадью и тащила телегу этого возчика.
Обвиняемый показал на Маттиаса Лоя. И все взгля-
нули на незадачливого возчика, которому вдруг стало
очень не по себе; вероятно, он подумал, что ему нелегко
будет выпутаться из этого положения.
— Да, — сказал он наконец, — такого вольготпого
житья, как у вас, лошадям, само собой, не было, ведь у
вас они лодырничали.
— Повозка, — продолжал Хюбнер, — была нагруже-
на доверху, кони с трудом тянули ее, а этот человек все
время стегал их кнутом.
— Кто? — закричал Лой. — Я?
— Да, вы. Я тут же шагнул на мостовую, к Марези,—
теперь обвиняемый опять обратился к судье, — и, идя
рядом с ней, пытался убрать у нее с морды колтуны —
клоки гривы, а потом, повернувшись вполоборота назад,
крикнул возчику: зачем он бьет лошадей, ведь они и так
выбиваются из сил. Но возчик заорал — это, мол, не мое
дело...
— Так оно и есть, — возмутился Лой, — это не его
дело. И потом он врет, я вовсе не бил коней, я просто
погонял их чуток!
Однако судья прервал возчика, сказав ему, пусть за-
молчит, сейчас дает показания обвиняемый.
— Я старался внушить ему, — начал Хюбнер опять,—
что подло бить лошадь, особенно такую истощенную.
В ответ он заорал: «Кто тут истощен? Нахальство гово-
рить такие слова». Он кричал, чтобы я немедленно уби-
404
рался. Не то он и меня огреет кнутом. И опять стал
стегать лошадей.
— Ах, так, — взъелся возчик. — Пусть этот болван
немедленно заткнется. Разве я не сказал уже, что разма-
хивал кнутом понарошку!
Он продолжал кричать, что, дескать, не позволит на-
водить тень на плетень. Наконец судья потерял терпение.
Он, в свою очередь, накричал на возчика, грозясь вы-
гнать его из зала суда. Возчик ответил бранью, и судья
резким голосом приказал немедленно взять возчика под
стражу.
Публика зааплодировала, и Маттиаса Лоя с позором
вывели из зала. Обвиняемый поглядел ему вслед.
Потом, когда воцарилась тишина, Хюбнер, обращаясь
к судье, начал снова:
— Я шел рядом с этим человеком до тех пор, пока
мы не поравнялись с полицейским. Но возчик, разумеет-
ся, разгадал мои намерения и перестал бить лошадей.
Полицейский мне не поверил. Стоило, однако, упряжке
скрыться из глаз полицейского, как он опять набросился
на лошадей с удвоенной яростью. Думается, он делал это
уже не столько из желания мучить животных, сколько из
желания насолить мне. Заметив это, я сошел с мостовой,
но я по-прежнему следовал за повозкой по тротуару.
Так продолжалось четыре дня. Не хотелось мне рас-
ставаться со своей старой лошадью, предоставив ее судь-
бе. Я шел за Марези до вечера, а потом, когда ее запирали
в конюшне, ночевал где-нибудь поблизости на скамейке,
утром я уже наблюдал за тем, как ее запрягали. И я все
время видел, что возчик бил лошадей, но каждый раз,
когда я обращался к полицейскому с жалобой, ханжа-
возчик с невинным видом все отрицал, и ему верили, а
мне нет. Некоторые стражи порядка несли службу и на
следующий день; нетрудно представить себе, что, услышав
мои вторичные жалобы, они сочли меня кляузником и
вообще не захотели обращать внимания на мои сетования.
Наконец у меня возникла мысль купить Марези. Деньги
для этой цели я, вероятно, еще мог 6bf наскрести. Ведь
теперь кобыла фактически стоила сущие гроши. Но, во-
первых, я не знал, что мне с ней делать потом, а во-вто-
рых, этот человек заломил за Марези бешеную цену; та-
ким образом, о покупке не могло быть и речи. Такую
сумму я уже не мог собрать, а дешевле он не соглашался
отдать мне лошадь; бог знает сколько времени я стоял и
405
уговаривал его уступить мне Марези, но потом он опять
залез на облучок и поехал дальше, нещадно орудуя кну-
том. Еще несколько часов я шел рядом с повозкой, чтобы
предотвратить особо жестокое избиение животных; в
конце концов я сказал себе: долго так продолжаться не
может. Помочь лошади я не в силах. К тому же, она уже
стара, ничего хорошего ее не ждет. И тогда я опять подо-
шел вплотную к упряжке, быстро вытащил револьвер и
застрелил Марези.
В зале стояла мертвая тишина. Обвиняемый загово-
рил снова.
— Не забудьте, я служил в кавалерии, был австрий-
ским офицером и знаю, в чем состоял мой долг; я посту-
пил так, как следовало поступить. В тюрьме меня посе-
тила Бланка Штейнвиль. Я попросил ее возместить воз-
чику стоимость кобылы, и она, не раздумывая, согласи-
лась... Ну, а после, когда меня выпустят на свободу, я все
же поеду в имение Штейнвилей. Нет, я решил, что не
стану лишать себя жизни. Ведь в конечном счете лошадь,
которую я застрелил, спасла меня от самоубийства. Все
семь пуль, которые были в моем магазине, я выпустил
в Марези, ибо видел, как медленно она опускается на
землю. Я хотел сократить агонию и расстрелял все пат-
роны. Для последнего выстрела, выстрела в себя, уже не
осталось пуль. И, быть может, именно в этом заключался
смыл того, что я еще раз нашел Марези.
Наверно, она даже не узнала медя, ведь лошади на-
вряд ли узнают людей. Но тот факт, что за минуту до
смерти она снова встретилась на моем пути, немало зна-
чит; она оказала мне последнюю услугу. Это было все,
что Марези могла сделать для меня. Хотя в ее примитив-
ном, темном зверином сознании, вероятно, не возникало
никаких мыслей о происходящем. Впрочем, никто из нас
не знает, какие предначертания он должен выполнить
на этой земле.
Судья поднялся. Пробормотав несколько слов, он вы-
нес обвиняемому оправдательный вердикт.
Ганс Леберт
(Род. в 1919 г.)
Гадание
Наступила ночь на святого Андрея; с нее начинаются
приготовления к рождеству (уже собирались в тучах
полчища мертвых, уже смешался их шепот с шумом дож-
дя и ветра), и, как в лесном захолустье, где люди еще
прозябают в темноте, женщины, томящиеся по мужу,
стремились приподнять в эту ночь благодатную вавесу
над будущим при помощи колдовства, о котором расска-
зывали им беззубые бабки. Они все хотели узнать, что
ждет их лоно, — языческую святыню, священную ро-
щу, — для кого зашищалп они шерстяным бельем и дер-
жали наготове средоточие своей плоти. Примерно так
их матери держали наготове воскресное жаркое, пока
отец сидел в трактире и играл в тарок. В доме благо-
ухает соус для жаркого, а за окнами — зима без запа-
хов, и маленький, словно игрушечный, охотник, а мо-
жет быть, помощник лесничего подымается по далекому
горному склону в лес. Терзает голод. Невозможно все
время думать о младенце Христе, все рождество, когда
зачастую весь день напролет сидишь на лежанке и вя-
жешь. Можно лопнуть с досады, вдыхая валах жаркого,
которому радуешься уже годы и боишься, чтобы оно не
перестоялось, прежде чем настоящий едок прочтет за-
стольную молитву.
Святой Андрей! Пойми! Мы живем тоской и надеж-
дой. Одни трясут деревцо и прислушиваются, не валает
Л07
ли собака и в какой стороне; другие, посмелей, прокра-
дутся ночью в овечий хлев, ощупают в темноте спящих
животных, воображая, что нащупывают руками свой
жребий: шерсть, дыхание, рога — баран! Другие перед
тем, как ложиться спать, в обрядовой наготе наступят
на соломенный тюфяк или повесят на окно рубашку,
чтобы она, пропитанная теплом и запахом их тела, раз-
вевалась за окном, как заклинающее духов знамя. Пусть
грядущее (даже сама смерть) станет зримым — туман-
ный образ в тусклом зеркале над умывальным столом.
Жизнь есть волшебство, ожидание в темноте, блуждание
вокруг таинства оплодотворения; такие ночи помогают
нам; в такие ночи веет лесной ветер, молотки, повешен-
ные у ворот, сами колотятся в ворота, в такие ночи спа-
дает штукатурка с церковных стен, и — смотри-ка! —
они сложены из камней, на которых начертаны руны;
обнажаются таинственные письмена (мы бы охотно
разгадали их смысл, но церковные власти вызывают
штукатура и приказывают снова замазать облупившие-
ся стены).
Кельнерша Агнесса тоже кое-что знала о таких ве-
щах. Но она жила теперь невдалеке от железной дороги,
слышала свистки паровозов и видела, как уходят ее го-
ды, словно поезда по расписанию, на которые мы опоз-
дали (огни последнего вагона над рельсами становятся
все меньше и удаляются все дальше, и скоро темнота
воздвигнется перед нами, как черная стена). И она зна-
ла, что тут не помогут ни молитвы, ни заклятия; ты
горбата и останешься одинокой, без благословения, не-
возделанная, словно целина, внесенная в кадастр и на-
веки забытая.
Но тоска сильнее рассудка, и надежда часто упорнее
самой достоверности — вот что постигла горбатая кель-
нерша Агнесса, когда это нашло на нее внезапно, слов-
но болезнь.
Поначалу она даже не вспомнила, что настала ночь
святого Андрея. Она пожелала доброй ночи хозяину и
поднялась в свою комнату, как каждый вечер. Разделась,
как всегда, умылась, как всегда, почистила зубы; потом,
тоже как всегда, забралась в постель и потушила лампу
на ночном столике. Как всегда, перина холодным пухо-
вым облаком окутала ее тело, и, как всегда, дождик эа
окном запел ей монотонную колыбельную песню. Она
быстро уснула с ощущением, будто летит вниз головой
408
сквозь постепенно расширяющуюся шахту в синеющее
небо, и это небо — иссиня-черная вода, непостижимые
глубины. Руки водорослей тянутся ей навстречу, рыбы
скользят вдоль ее тела, рыбы с орлиными или свиными
головами и огромными распластанными, словно крылья,
плавниками. Она попыталась защититься от них, закри-
чала. Но странным образом ничего не услышала. Вода
журчала у нее в ушах и во рту, вода вымывала глаза
из глазниц, вода заполняла ей легкие и сердце, вода вли-
валась в ее лоно... И тогда она действительно закричала
и проснулась, села на кровати, широко раскрыв рот; тьма
в комнате еще колебалась от ее крика, а снаружи по-
прежнему журчал дождь.
Агнесса снова зажгла свет и поглядела на будильник.
Был час ночи, следовательно, прошел всего один час с тех
пор, как она легла. Она подозрительно огляделась вокруг.
Вот стол, вон шкаф, вот стул, на котором лежит ее платье.
Но все вдруг показалось ей другим, чужим, опрокину-
тым, словно вывернутым наизнанку. «Странно!» — поду-
мала она и оттолкнула ногами перину. Внезапно ей ста-
ло жарко, как в адском пекле, ее тело покрылось потом,
а сердце бешено забилось, как у птицы, — сто двадцать
ударов в минуту, не меньше.
Она провела рукой по лбу, и пальцы стали влаж-
ными от пота. Она сказала себе: «Я, наверно, заболе-
ла, или сама не знаю, что со мной». И, охваченная вне-
запным страхом перед грозящей ей бедой, она соскочи-
ла с кровати и начала ходить взад и вперед по ком-
нате.
Пол колебался под ее шагами. Задребезжал стакан на
умывальнике. Потом открылась дверца шкафа, словно
от руки призрака, и испустила глубокий, почти челове-
ческий вздох (это случалось часто, когда шкаф не за^
пирали, потому что все в этой комнате стояло немного
криво).
Агнесса испуганно смотрела в темноту. В сумеречной
глубине шкафа висело несколько платьев — жалкие лох-
мотья. «Ах ты, — подумала она, — ах ты, калека! Чего
тебе бояться? Что еще ты можешь потерять? Надежду? На
что?» И в тот самый миг, когда она это подумала, ей от-
крылось, что со вчерашнего дня у нее появилась надежда,
а значит, и страх потерять ее, как все остальное в этой
жизни.
409
И тут она вспомнила, какая ночь сегодня. Она вспо-
мнила разговор с учителем, вспомнила обряды, о которых
она слышала, но которым никогда не придавала значения
(от чего отказывается разум, то подбирает тоска), она
вспомнила старинный заговор и подумала о яблоньке, что
стояла за домом на меже, услышала в зове дождя словно
зов мужского голоса — и ее охватила лихорадка. Она на-
кинула пальто, скользнула босыми ногами в резиновые
сапоги, потушила свет и медленно вышла из комнаты, на-
щупала дрожащими руками в душной, затхлой темноте
лестницу, спустилась в сени и, крадучись, чтоб не разбу-
дить хозяев, на цыпочках пробралась к задней двери, ко-
торая вела во двор и огород, бесшумно повернула ключ,
споткнулась о порог, о ступени и наконец беспомощно, как
слепая, зашлепала по черной, бездонной луже, выше ко-
лен в воде.
Ночь была ужасной. Она напоминала наглухо заколо-
ченный гроб. Тяжелой крышкой нависла ночь над землей
и словно срослась с далью вокруг. Казалось, существует
одна-единственная темнота, глухое слияние, земля и небо
смешивали свою кровь в единое убийственпое зелье. Зады-
хаясь, вцепились они друг в друга; обливаясь холодным
потом, они соединились воедино, слились, как две чер-
нильные кляксы, в одно пятно, оплодотворяли друг друга
черным семенем. Темная кровь земли переливалась в небо,
отягощенная запахами осени (запахами истлевающих ра-
стений и издохших в лесах животных), а поток небесной
крови, лишенный запахов, выйдя из неведомых берегов,
эатопил землю и теперь просачивался в ее черноту, в раз-
бухшее губчатое тело, в ее бесконечно извилистые сосуды,
в самые затаенные ходы и впадины, пропитывая ее до са-
мых глубоких глубин. Из календаря было известно, что и
месяц принимает в этом участие, но как поверить в это,
ведь его свет не мог пробиться сквозь крышку гроба, и
только во чреве туч, в этих сочащихся водою мешках, рас-
ползался неверный свет, как слизь во впугренностях, и
эдание трактира вздымалось громадной тенью еще живого
тела, более черной, чем сама темнота.
Агнесса пересекла двор, навозная жижа из развалив-
шейся кучи удобрений угрожала залить дорогу, и едкий
запах примешивался к равнодушию дождя. Она не видела,
куда ступает; осторожными шагами, но без колебаний шла
она по чему-то эыбкому, мягкому, чавкающему, наступая
на сосущие, тяиущие, чмокающие рты. Ею овладело силь-
410
яейшее возбуждение, смятение страшное и в то же время
сладостное, словно она разделась, чтобы отдаться мужчи-
не. Она подумала: «В конце концов, если разобраться, не
так уж я дурна. Конечно, горб, от него никуда не денешь-
ся, его не спрячешь. Но он на спине, там его не очень
видно. А спереди у меня все в порядке, спереди я могла
бы ему понравиться».
Она поскользнулась в грязи, наткнулась на плетень
огорода, уцепилась за него, постояла несколько минут,
пока не обрела вновь равновесия, потом опять зашлепа-
ла по воде и вышла в поле. Размякшая, вспаханная
земля налипала на сапоги, скатывалась в комья на
подошвах, с каждым шагом они становились все тя-
желее.
«А учитель, — думала она, — он и сам не больно
красив. Зубы у него, как у лошади, и вообще... он пе очень
привлекателен. А потом он беден и не так-то много видел
в жизни. Он не потребует бог знает чего».
Тяжело ступая, она подошла к тому месту, где должно
было стоять деревцо, о котором она вспомнила, но его не
было. Агнесса повернула и направилась в другую сторону,
и наконец когда ей уже стало казаться, что она опять
прошла мимо, она увидела его и испугалась, так внезапно
возникло оно перед ней, как привидение.
Она протянула руку. Это было дерево! С шершавой
мокрой корой, с ветвями, погруженными в темноту,
такое же нагое, бедное и искалеченное, как она сама,
так же дрожащее на холоде.
Она обхватила его руками, сомкнула пальцы вокруг
тоненького ствола, передавая ему свою собственную
дрожь, и прошептала слова заклятия:
Потрясу березу,
Покачаю ветки,
И услышит милый — быстро встрепенется,
Если ж не ответив
Пусть Андрей заставит пса его залаять.
Она затаила дыхание, вслушиваясь в ночь. Ничего!
Ни повизгивания, ни тявканья, ни вдалеке, ни вблизи.
Только дождь семенил по полю, словно бежал птичьи-
ми шагами, булькал в ямах, как в глотках, пробираясь
на задворки всех усадеб, словно бабник, караулящий
подле каморки служанок.
411
Она подождала еще немного, держа руки на стволе,
почувствовал я влагу в волосах и воду, ледяными ручья-
ями струящуюся по лицу. Ее руки бессильно опусти-
лись, она повернулась и, согнувшись, вяло поплелась
обратно, шатаясь от тяжести грязи, которую волочила
на сапогах.
И в эту минуту она вдруг действительно услышала
что-то, какой-то чуждый, необъяснимый звук, долгий
вой, похожий на рожок пастуха, одинокую, страшную
жалобу, словно ветер дул сквозь полый ствол дерева.
Герман Фридль
(Род. в 1920 г.)
Свадьба
После полудня их лица зардели. У невесты на лице
разлился нежный румянец, уши пламенели, пушок на
щеках чуть золотился, мягко оттеняемый светом, па-
давшим сзади от окна, и даже в локонах ее волос свети-
лись отблески излучаемого ею счастья. Жениху вино
окрасило губы и щеки, но он смотрел прямо перед со-
бой, и из-за складки, пролегавшей между бровей, выра-
жение его лица казалось сумрачным. Справа от него
сидела его мать, улыбаясь и радуясь шумному оживле-
нию, царившему вокруг. По правую сторону сидели и
братья жениха со своими женами, а также братья
и сестры его матери, производившие внушительное впе-
чатление благодаря своей многочисленности и умевшие
придать себе некоторую важность, то есть пускать пыль
в глаза. И когда они сидели так все вместе, братья и
сестры со своими женами и мужьями, они являли со-
бой одно лицо: лицо семьи. С самого начала они заняли
всю правую сторону стола, не оставив возле себя сво-
бодного места и оттеснив тем самым братьев и сестер
невесты на левую сторону. Поэтому с самого начала
родственники невесты казались ниже, незначительнее,
чем родственники жениха, в своей явной растерянности
не исполнены такой внутренней силы, как те, кто в
этот день давали жениху возможность почувствовать
дух семьи, и сам жених, несмотря на свою молодость,
был воплощением своей семьи, как и каждый из них,
и во всех них была частица его самого.
413
И невеста была как бы одинока, оттого что не ощу-
щала в своих родственниках едипой воли, которая бы
устремлялась к ней, и в знакомых ей лицах ничего не
могла прочесть. Ее братья имели далеко не такой вну-
шительный вид, как родня жениха, и отец ее выглядел
неприметно, затертый в этот день куда-то на край сто-
ла. Только у матери глаза живо перебегали с одного
лица на другое.
Напротив невесты сидел пастор со своим капелла-
ном. Лицо у пастора тоже покраснело и блестело, и
даже на щеках капеллана, обычно бледных и про-
зрачных, выступил слабый румянец. Время от времени
пастор смеялся раскатистым смехом, и всякий раз смех
его встряхивал гостей, которых уже начинала охваты-
вать сытая вялость. На все случаи жизни у него име-
лись забавные истории и шутки; даже на поминках,
говорят, никто не выходил из-за стола без улыбки, ра-
зумеется, сдержанной.
В соседнем зале играли музыканты, которых при-
гласили из города. Невеста смотрела через голову
пастора в растворенную дверь и видела, как медленно
кружились танцующие пары, когда музыка играла вальс,
и она долго смотрела на обнявшиеся пары, а когда
опустила глаза, ей казалось, будто они продолжали тан-
цевать, совсем крошечные, на щеках священника и их
фигурки как бы скользили по тонким ниточкам крове-
носных сосудов.
Подали кофе и пирожное; тут мужчины незаметно
ослабили пояса у брюк, а женщины вздохнули, погла-
живая швы на платьях. Неожиданно на всех нахлыну-
ло веселье, даже невеста рассмеялась, прижимая ко рту
ладони. Через некоторое время пастор с капелланом
встали из-за стола, но к ужину оба обещали вернуться.
Поднялись и невеста с женихом вслед за шафером и
несколькими парами. Они рады были немного размять
ноги. В зале по-прежнему играла музыка, и мимо
них проплывали погруженные в себя танцующие пары.
И невеста едва сдерживалась, чтобы не пританцовывать
на ходу, хотя ее так и подмывало и ноги сами собой
начинали двигаться в такт музыке.
На улице стояли лужи, и снег был липкий и гряз-
ный. Невеста, подобрав платье, шла по островкам льда,
которые выступали над водой, и чуть пританцовывала
ногами, плавно покачиваясь и слегка выставляя вперед
414
живот, и под платьем ясно обозначались изгибы ее
бедер. Жених шел рядом, и ему нелегко было ба-
лансировать среди луж в своем черном костюме. Сза-
ди шествовали братья жениха, приехавшие из го-
рода; они держались на празднестве с тем высокоме-
рием, на которое им давали право десять-пятнадцать
лет жизни в городе, но в то время как они шли, веселые
и довольные собой, воспоминания о собственной жизни
в деревне все больше захлестывали их, умеряя в них
чванство, и они видели себя, какими они стали: моло-
дыми парнями с дряблой кожей и слабыми мускулами.
Они посидели в одном трактире, затем, как это было
принято, пошли в другой.
К вечеру, когда должны были подавать жаркое, все
вернулись обратно, так же, как и пришли сюда: не-
веста, подобрав платье, и жених в своем костюме, кото-
рый стеснял его, и братья жениха, снова напустив на
себя важный вид. Пожилые люди между тем так и
оставались сидеть: мужчины, окутанные дымом своих
сигар и сигарет: женщины, разбившись на маленькие
группки, потягивая вино и болтая. Но по-прежнему род-
ственники жениха держались особняком; только ипогда
заносчиво бросали какую-нибудь реплику в сторону но-
вой родни, и те улыбались, пока смысл сказаппого не
доходил до них. Тогда улыбка на лицах сникала и, ис-
каженная, беспомощно повисала в уголках рта.
Они вошли в зал; музыка по-прежнему играла, в то
время как танцевавшие, прервав танцы, отступили к
стене. Молодые мужчины смотрели на невесту, и она
чувствовала, как они ощупывали ее своими тупыми и
немного похотливыми взглядами и, глазея на нее, об-
жимали своих девушек и жен, те же, в свою очерель,
хотя ц застигнутые врасплох, как могли, отвечали на
их натиск, не отводя от невесты раздевающих взглядов.
Невеста с женихом и его братья сели за стол в над-
лежащем порядке, как сидели до этого; так же снова
сидели пастор и его капеллан, и невеста, когда подни-
мала глаза, видела через голову пастора, как в проеме
двери медленно проплывали пары. Приглашенный из
города официант в белом сюртуке разносил блюда. Те,
кто сидели по левую сторону, смущались, когда он
ставил блюда перед ними, аругие же, отчасти привык-
шие к городским обычаям, не обращали на это внима-
вия. После ужина невеста о жених вышли в зал; не-
415
сколько молодых пар тоже встали из-за стола и вышли
рука об руку.
Они танцевали, как было принято с давних времен:
невеста с женихом, затем шафер с невестой, а жених
с ее сестрой. Старики сидели, устроившись поудобнее;
иногда они вставали и подходили к двери посмотреть
на молодежь, потом снова возвращались к столу, бра-
лись за свои рюмки, которые с поспешной готовностью
наполнял официант, и продолжали слушать пастора:
тот рассыпал свои истории, с сытой и довольной фи-
зиономией похлопывая себя по животу, в то время
как капеллан, сидевший рядом, одаривал всех любезны-
ми взглядами. Давно уже танцы были не те, какие
танцевали когда-то старики. Гости из города просили
играть танцы, которые они отплясывали по субботам в
трактирах на городских окраинах; только иногда зву-
чали медленный вальс или полька, и тогда казалось, —
но едва ли кто это замечал, — будто сами инструменты
немного подсмеивались над старыми мелодиями, и му-
зыканты играли их так, что мелодии все больше соскаль-
зывали на ритмы городских танцев.
Тем временем мать жениха ушла, никем не заме-
ченная. Ноги ее весело шагали и не обходили луж, и
каждому, кто ей попадался, она говорила, что ей надо
домой накормить скотину и подоить корову и что она
скоро вернется. Так она и бежала, радостная, и не за-
мечала, что люди удивлялись: как это она в такой день
никого не нашла, кто бы присмотрел за ее скотиной.
Часа через два она снова вернулась и незаметно села
среди тех людей, чьи лица танец раскрепостил, обна-
жив в них то, что было их сущностью: злобу, обычную
в людях, себялюбие и чуть-чуть доброты, необходи-
мой им, чтобы что-то значить. Даже пастор оставался тут
со всеми, чтобы использовать день и повеселиться.
Понемногу старики утомились, и кофе их уже не
освежал. Веселость и оживление незаметно покинули
их; дали о себе знать возраст и позднее время: кружи-
лась голова, и сердце начинало биться учащенно и
тревожно. Потихоньку стали они собираться, не спеша
и медля с уходом, обманутые надеждой, что их что-то
сможет еще задержать, прежде чем они снова почув-
ствуют неотступные тяготы лет. Ведь в дни праздни-
ков, среди общего веселья, время для старых люден
как бы останавливается в тот момент, когда воспоми-
416
нания о собственной молодости живо встают в памяти,
а годы после этого кажутся мелкими и тягостными.
Сколько-то времени они еще пожимают друг другу
руки. И кто-то из них, вдруг почувствовав по нетвердо-
сти в ногах, что он уже не молод, пытается смутить не-
весту какой-нибудь репликой, простительной его возра-
сту. И руки задерживаются в рукопожатии, потому
что каждому нужно еще с кем-то и что-то обговорить.
Музыка играла и сопровождала стариков до самого вы-
хода, в то время как наверху, в зале, дым густой пеле-
ной заволакивал раскрытые окна, медленно рассеиваясь
затем в воздухе. К вечеру подморозило. Мелкие ручей-
ки затянуло льдом. В небе среди холодно мерцавших
звезд блестел узкий серп луны, и снег, облитый его
сиянием, искрился. Кучка стариков постепенно редела.
В то время как они с громкими возгласами прощания
разбредались кто куда, мать жениха шла со своей сосед-
кой, грубоватой и рослой женщиной, муж которой при-
волакивался на стороне. Занятая мыслями и чувствами,
переполнявшими ее сердце и рвущимися наружу, мать
едва ли слышала, что говорила ей соседка. Она не заме-
чала ни звезд, ни луны, но, облитая их сиянием, была
радостна. На перекрестке она распростилась с соседкой,
поблагодарив ее, как водится, от имени сына. И в то
время как она шла к дому, ее мысли уже летели, опе-
режая ее, в хлев.
Дом возвышался на холме, и по нему еще можно
было увидеть, какого труда стоило его воздвигнуть.
Едва сбросив с себя пальто, она затопила в комнате
большую печь, походила взад и вперед, потирая озяб-
шие руки, и, как только согрелась, побежала, словно
молодая, в хлев. Подтянула кое-где цепь и погладила ма-
ленькую голову теленка, которого они приняли вчера
с помощью соседа; стянула с себя башмаки и чул-
ки, села и погрузилась в свои мысли. Так она сидела
некоторое время, потом медленно и устало поднялась
в побрела в свою комнату, которая была на первом
этаже. Постель обдала ее холодом, и она сжалась; и
пока она так лежала, неподвижно, подтянув к животу
ноги и скрестив на груди руки, тепло медленно разли-
валось по ее телу. Но когда она, чувствуя в себе глу-
бокую усталость, наливавшую тяжестью ее руки и
ноги, стала погружаться в сон, сердце ее вдруг обожгла
мысль о муже. И эта мысль, вначале неясная, — как и
14 Австрийская новелла XX в. 417
все мысли о нем, уже сглаженные в ее памяти, — по-
степенно укреплялась в сознании, становилась все от-
четливее. И сон уже отступил, хотя усталость по-преж-
нему ею владела, но в этой усталости мысль становилась
понятнее и острее, разумелась сама собой. Она завла-
дела всем ее существом, кружила с кровью и билась в
сердце, так что сон, почти уже унесший ее, отступил,
и она, придавленная усталостью, лежала, не в силах
пошевелиться, отдаваясь во власть воспоминаний, бес-
сильная противиться всему, что бы сейчас пи нахлы-
нуло.
В трактире между тем радостное оживление дня
сменилось разнузданным весельем молодых парней и
девушек, уже забывших о скромности и приличных ма-
нерах. Повсюду на лицах, утративших выражение, вы-
пирала распаленная танцами чувственность. Ближе
прижимались друг к другу тела, руки парней крепче
стискивали девушек, и те едва ли готовы были сопро-
тивляться. Впрочем, пастор давно ушел. Невеста, вне-
запно помрачневшая, бросилась в кресло и закрыла лицо
руками. Жених с нахмуренным видом стоял рядом; ко-
гда она встала, он сказал:
— Ну, теперь пойдем, нам пора.
В глазах его уже блестел жадный огонек, и лицо
выражало нетерпение. Танцующие расступились, и мо-
лодая пара, медленно, вкушая последние минуты тор-
жества, проследовала мимо, в то время как музыка
продолжала играть и братья жениха, присоединившись,
шли сзади. За дверями трактира все разошлись кто
куда.
Теперь они остались одни. Они медленно шли, и
фигуры их постепенно таяли среди домов. Невеста слиш-
ком устала и брела, не подобрав платье. Они забыли
заказать сани, он только мог крепко придерживать
ее рукой. Снег затвердел, и они не проваливались в
нем. Они не замечали ни звезд, ни луны, ни искрив-
шегося снега. Он чувствовал, что она идет рядом, чувст-
вовал, как сливаются их шаги и касаются их бедра:
то она прижималась к нему, то он к ней. Он чувство-
вал в своей руке ее ослабевшие пальцы, как они по-
датливо сгибались, когда он пожимал их. Он торопился
и не внес ее в дом. Однако тщательно эапер дверь и
повесил ключ в положенном месте, а она в это время
стояла рядом и дрожала от холода. Наконец они вошли
418
в горницу. Она, вздыхая, стала потирать озябшие руки:
он приоткрыл дверь в комнату матери, но, прежде чем ус-
пел что-то сказать, услышал ее голос:
— Вы уже пришли? — И тут же еще вопрос: —
Все заперто?
— Да, да, — ответил он недовольным тоном и доба-
вил: — Ну, спокойной ночи.
Он не мог больше прохлаждаться. После того, как
он торопливо глотнул водки, от которой невеста со сме-
хом отказалась, они поднялись по лестнице в комнату
наверху, теперь это была их комната.
Мать у себя по-прежнему не спала. Она слышала,
как они поднялись: его шаги, тяжелые и твердые, и
мелкую дробь тонких каблучков невесты. Потом шаги
стихли: она слышала, что они остановились посреди
комнаты. Надолго.
Грубым поспешным движением он обхватил ее, же-
лание вспыхнуло в нем с новой силой. Он стиснул
ее в объятьях, так что она застонала и только вы-
молвила:
— Осторожнее... мое платье.
Он ничего не ответил на это, но она почувствовала,
что теперь его уже ничто не могло удержать.
Мать водила руками по одеялу, и тонкие ворсинки
цеплялись за ее шероховатую кожу. Это было привыч-
ное, почти бессмысленное движение, ведь одеяло давно
уже было разглажено. Она чувствовала тепло, разли-
вавшееся вокруг нее; но в тог момент, когда она неожи-
данно резким движением провела рукой возле себя,
ее вдруг пронизал ужас, хотя она в тот же миг сообра-
зила, что они несколько дней назад разобрали кровать
мужа. Однако ощущение пустоты, в которой повисла
рука, постепенно проникло в сознание. До нее донесся
глухой звук, — там, наверху, что-то упало на пол, и
она подумала: «Сейчас они обнимаются». Она напряг-
лась, чтобы представить себе своего мужа, соображая
в уме, сколько же лет прошло, как она осталась од-
на: два или уже три года? Нет, пожалуй больше; года
два, три, нет, четыре, он лежал без движения, братья
тогда еще добродушно подшучивали над ней, ужасные
шутки... Она перебирала в уме годы, и смутное, тре-
вожное чувство поднималось в ней по мере того как
она приближалась к теперешним годам. Ей было едва за
пятьдесят. Она ничего не убавила и не прибавила.
14*
419
В теплые летние дни, еще в первые годы его болезни,
они усаживали его в тени перед домом, и он тихо и
молча смотрел, как они подвозили сено или готовились
к жатве. Тогда случалось ей и шуткой переброситься
с соседками. Она не мучалась оттого, что он не мог
больше обладать ею, у нее всегда было слишком много
работы, чтобы всерьез задумываться об этом. Но по
ночам он испытывал потребность в ее ласках, и со
временем она стала воспринимать это как нечто само
собой разумеющееся. Они нажили вместе четверых де-
тей. Трое появились друг за другом, спустя некоторое
время родился четвертый, но теперь и он был при-
строен, в городе, у ее бездетного брата, который дер-
жал там лавку. Она снова слышала их шаги наверху,
теперь уже тихие, босиком, и смех невесты, правда
приглушенный, но он доносился до ее кровати. И она
видела своего сына, как он обнимает молодую жену;
потом слышала, как они ходят по комнате и снова
остановились. Она непроизвольно водила рукой по оде-
ялу; она тоже любила своего мужа, но если подсчитать,
то в их жизни не так уж много было хороших лет.
Сперва у них ничего не было, кроме убогого домишки.
В свободные часы он подправлял стены, а когда они
расплатились с долгами, начали строиться. Для нее
радостью стал хлев. К тому времени, когда муж забо-
лел, дом был готов и, красивый, горделиво возвышался
на холме, а в хлеву было пять коров и несколько сви-
ней, и старший сын уже перебрался в город. Теперь
они там наверху уже легли: пол перестал скрипеть.
Ей вдруг послышался шепот, хотя это могло и почу-
диться. И тут на какой-то миг она вдруг прониклась
ощущением, будто ее тело напряглось под невыразимой
тяжестью, и она уже не могла ни о чем думать, кроме
как о том, что она еще не так стара. В первые не-
дели, даже месяцы после смерти мужа она не могла
спать. Готовая в любую минуту подать ему воды или
поправить постель, она пребывала в каком-то тревож-
ном полусне, то и дело вскакивая на постели. Теперь,
когда она старалась припомнить его лицо, заслонявшее-
ся другими лицами, образами, которые он принимал в ее
памяти, до ее сознания разом дошло, что ничего и никого
здесь не было, что она могла бы еще желать. Она гла-
дила себя по округлому животу, но ничего больше не
могла разбудить в себе своими воспоминаниями. Тут
420
ей пришло в голову: а ведь никто и не вспомнил сегодня
об отце, ни один из тех, к го был рядом с ней, не ска-
зал: «Если бы твой муж дожил до этого дня!» Он был
мертв, был где-то далеко, несуществующий и забытый.
И сердце ее бешено заколотилось.
Молодую женщину постепенно охватила невыразимая
истома. Сердце и тело ее освободились от страха. Сла-
бые вскрики, подобно переливам смеха, вырвались из
ее груди и утонули в глубине ночи. Она медленно
и осторожно повела бедрами, потом так же осторожно
приподняла ноги, как бы боясь потревожить что-то
внутри себя. Она ощущала прикосновение упрямых во-
лос мужа, который лежал рядом, повернув к ней свою
голову, и спал. Она осторожно взяла его руку, все еще
лежавшую на ее груди, и отвела в сторону и теперь
только отважилась вздохнуть полной грудью. Она
испытывала усталость, охватившую все ее тело, и все-
таки не могла спать. Она даже прониклась каким-то
смутным ощущением своего превосходства над мужем,
оттого, что он мог спать и не в состоянии был испыты-
вать, подобно ей, это изнеможение, которое она как бы
старалась сохранить в себе. Она еще чувствовала, как
по ее телу пробегали мягкие слабые волны, ощутимые
только ей самой; она чувствовала, как ее мысли,
свободные и не нуждающиеся в теле, устремляются
ввысь, обретая свой собственный смысл, и отделяются
от повседневных мыслей, связанных с голодом или
жаждой, усталостью и печалью. Она думала о муже,
который лежал рядом и спал и которому она сейчас
была не нужна, но она не шевелилась: теперь он казался
ей более чужим, чем днем, хотя она и не могла объ-
яснить, почему. «Он мой», — сказало что-то в ней, и
губы ее тихо повторили это. Она думала о его ма-
тери, которая лежала у себя внизу, и она решила, что
той выпала удачная судьба. И вместе с этими мыс-
лями, только где-то в самой глубине сознания, она ис-
пытывала чувство жалости к этой женщине, которая
в ее глазах была стара. И она подумала, что старой
женщине, которую она будет отныне называть матерью,
необходима будет работа, что она, работавшая всю
жизнь, изо дня в день, из года в год, пока был муж,
и после, когда его не стало, будет работать и теперь,
потому что она приросла к работе, ей не о чем было
думать, кроме работы, да ей и ничего не оставалось
421
больше — теперь, когДа она постарела. И молодая вдруг
почувствовала жалость к самой себе, такой, как она
лежала сейчас, обнаженная и умиротворенно-расслаб-
ленная, и ее охватил ужас при мысли, поразившей на
миг ее воображение: состариться, как эта женщина,
лежавшая там, внизу, и не испытывать больше радо-
стей! И она обхватила голову мужа, который был ее,
на целую жизнь, начало которой она теперь осознала.
И она сказала про себя: достаточно будет работы и для
старой женщины, не надо лишать ее работы, пусть она
остается при всем, как и была, чтобы не жить одинокой
и бесполезной.
Молодая женщина ощущала свои налитые мыш-
цы, упругую кожу и сбитое тело; уже теперь, в самой
глубине сознания, где не нужны слова, она решила в
полной мере использовать свою жизнь с мужем, кото-
рый был отныне ее и который спал рядом, чуть приот-
крыв рот, так что она ощущала на своей руке его
дыхание.
Мать все это время думала о своем муже, которого
никто сегодня не помянул ни словом. Она успокоила
сердце, думая о том, как она посвятила ему свою
жизнь, день за днем, год за годом. Она не чувствовала
sa собой никакой вины. Руки ее перестали разглажи-
вать одеяло. Тишина ночи начала вливаться в нее,
наполняя усталостью многих дней, недель, лет. Ничего
уже не было слышно. Ветер затих. Наверху, в комнате
молодых, воцарился покой. И она, глубоко дыша и
уютно вытянувшись в тепле собственного тела, сказала,
довольная и счастливая, какой она давно уже не была,
сказала то, что не нужно было выражать словами:
«Вот и хорошо. Молодая станег за меня работать. А у
меня будет наконец немного времени и для себя».
Ильзе Айхингер
(Род. в 1921 г.)
Зеркальная новелла
Если твою кровать вывозят из палаты, если ты ви-
дишь небо зеленым, если ты хочешь избавить викария
от необходимости произносить надгробное слово, то сей-
час самое время встать, тихо, как дети, когда утренний
свет брезжит сквозь ставни, украдкой, чтобы не заме-
тила сестра, и — прочь!
Но он, викарий, уже начал, ты уже слышишь его
голос, молодой и полный безудержного рвения, ты уже
слушаешь его речь. Пусть себе говорит! Пусть его доб-
рые слова тонут в беспросветном дожде. Твоя могила
открыта. Пусть сначала станет беспомощной его уве-
ренность в том, что сейчас придут на помощь. Пусть это
случится, и тогда он в конце концов сам не будет знать,
начал он уже или нет. А не зная этою, он подаст знак
носильщикам. И носильщики без лишних расспросов
снова поднимут твой гроб. С крышки они снимут венок
и передадут его молодому человеку, который стоит, по-
тупившись, у края могилы. Молодой человек берет
свой венок и смущенно разглаживает ленты, на мгнове-
ние он поднимает лицо, и от дождя у него по щекам
начинают течь слезы. Потом шествие движется вдоль
стены в обратном направлении. В уродливой часовне
еще раз зажигают свечи, и викарий читает заупокойные
молитвы, чтобы ты могла жить. Он сильно пожимает
молодому человеку руку и от смущения желает ему
счастья. Это его первое погребевие, и он до ушей зали-
вается краской. Но прежде, чем он успевает поправить-
423
ся, молодой человек исчезает. Что викарию остается
делать? Раз уж он пожелал счастья одному из прово-
жающих к могиле, делать нечего, разве что отправить
покойника обратно.
И вскоре катафалк с твоим гробом снова едет по
длинной улице. Справа и слева — дома, на всех окош-
ках стоят желтые нарциссы, такие же, из каких свиты
все венки — с эгим ничего не поделать. Рамы заперты,
дети прижимают носы к стеклам; и, несмотря на дождь,
один мальчишка выбегает из подъезда. Он уцепляется
сзади за катафалк, его прогоняют, он отстает. Приста-
вив обе руки козырьком к глазам, он со злостью смот-
рит вам вслед. На каком турнике ему выжиматься, если
он живет на кладбищенской улице?
У перекрестка твой катафалк ждет зеленого света.
Дождь уже не такой сильный. Капли пляшут на крыше
катафалка. Издали пахнет сеном. Улицы только что
окрещены, небо возлагает руку на каждую крышу. Твой
катафалк, из одной только вежливости, едет некоторое
время рядом с трамваем. Двое малышей на тротуаре дер-
жат на них пари, каждый ставит в залог свою честь. Но
тот, кто ставит на трамвай, проиграет. Ты могла бы его
предупредить, но ради чести какого-то малыша никто
еще не вставал из гроба.
Наберись терпения. Еще только начало лета. Утро
такое длинное, что захватывает часть ночи. Вы поспе-
ете вовремя. Не успеет стемнеть и дети не исчезнут
еще с тротуаров, когда катафалк свернет в больнич-
ный двор, и в тот же миг в щель ворот заглянет месяц.
Немедля подошедшие люди вытаскивают твой гроб из
катафалка. И катафалк весело катит домой.
Через вторые ворота, через двор твой гроб несут в
зал морга. Там ждет пустое возвышение, наклонное и
черное, они ставят на него гроб и открывают его, руга-
ясь на тех, кто так прочно забил гвозди. Проклятая
основательность!
'Вскоре приходит молодой человек и приносит назад
венок — как раз вовремя. Люди расправляют ленты и
укладывают венок впереди. Можешь быть спокойна, он
лежит хорошо. К завтрашнему дню увядшие цветы станут
свежими, а бутоны закроются. Всю ночь ты будешь ле-
жать одна, — руки скрещены под венком, — да и на
следующий день тебя не будут тревожить. Потом тебе
долго не удастся полежать так спокойно.
424
Назавтра опять приходит молодой человек. И так
как дождя нет, то он без слез глядит в пустоту и вер-
тит в руках шапку. Только перед тем, как они опять
ставят гроб на носилки, он закрывает лицо руками.
И плачет. Но ты сейчас покинешь зал морга. О чем же
он плачет? Крышка гроба опять стоит поодаль, и утро
такое светлое. Весело кричат воробьи. Они не знают,
что мертвых будить запрещено. Молодой человек под-
ходит к твоему гробу, как будто перешагивая через
стекла. Ветер прохладный, он расшалился, как% мла-
денец.
Они вносят тебя в корпус, вверх по лестницам. По-
том вынимают из гроба. Твоя кровать застлана свежим
бельем. Молодой человек смотрит через окно во двор,
там целуется и громко воркует пара голубей, он с омерзе-
нием отворачивается.
А они уже уложили тебя обратно в постель. И под-
вязали тебе платком челюсть. Из-за платка ты стано-
вишься непохожей на себя. Молодой человек начинает
кричать и бросается к тебе на грудь. Они мягко уводят
его прочь. «Соблюдайте тишину» — такие таблички ви-
сят на всех стенах, больницы сейчас переполнены,
мертвые не должны просыпаться прежде времени.
Из порта слышен вой судов. Прибывающих или от-
плывающих? Кто знает? Соблюдайте тишину! Не буди-
те мертвых раньше времени, они спят так чутко. Но
суда все воют и воют. Немного позже им придется снять
с тебя платок, хотят они того или не хотят. Они обмоют
тебя и наденут на тебя чистую сорочку, и один из них
торопливо наклонится к твоему сердцу, торопясь успеть,
покуда ты еще мертвая. Времени остается мало, и вино-
ваты в том суда. Утро понемногу темнеет. Они откры-
вают тебе веки, за ними блестят белки. Теперь они не
говорят о том, что лицо у тебя стало спокойным, слава
богу, эти слова замирают у них на губах. Подожди не-
много! Вот они уже ушли. Никто не хочет быть свиде-
телем: ведь за это сожгут и в наши дни.
Они оставляют тебя в одиночестве. В таком одиноче-
стве, что ты открываешь глаза и видишь зеленое небо, в
таком одиночестве, что ты начинаешь дышать, тяжело,
глубоко и с хрипом, со звуком опускаемой якорной цепи.
Ты корчишься и зовешь маму. Какое зеленое небо!
— Горячечный бред кончился, — произносит голос
сзади тебя. — Начинается агония.
425
Ох, уж эти люди! Что они знают?
Ну, иди же! Сейчас самое время. Всех отозвали куда-
то. Иди, пока они не вернулись и пока их шепот опять
не стал внятным, иди вниз по лестнице, мимо дежурного
у входа, через утро, переходящее в ночь. Птицы кричат
в темноте, как будто твои боли начали уже ликовать.
Иди домой! И ложись в свою собственную кровать, хоть
она и разошлась по всем швам и вся разворочена. Тут
ты поправишься быстрее. Тут ты только три дня будешь
бушевать, ненавидя себя и вдосталь напившись зеленого
неба, только три дня будешь отталкивать суп, который
приносит женщина с верхнего этажа, на четвертый ты
возьмешь тарелку.
А на седьмой день, — день отдыха, — ты уже выхо-
дишь из дому. Боли гонят тебя, и ты, конечно, найдешь
дорогу. Сперва налево, потом направо и опять налево,
через портовые переулки, такие несчастные, что они и
не могут вести иначе как к морю. Если бы молодой че-
ловек был возле тебя! Но его нет поблизости, в гробу
ты была намного красивее. А сейчас твое лицо искаже-
но от боли, боль перестала ликовать в тебе. Сейчас и
лоб у тебя опять в поту, всю дорогу, — нет, тогда, в
гробу, ты была красивее.
Дети катают по дороге шарики. Ты вбегаешь в их
кучку, ты бежишь, как бежала тогда, только спиной
вперед, ни один из них не твой. Да и как может быть
хоть один из них твоим, если ты идешь к той старухе,
что живет у кабачка? В порту все знают, на какие
деньги старуха покупает водку.
Она уже стоит в дверях. Двери отворены, она про-
тягивает тебе навстречу руки, грязные руки. Все там
грязно. На камине стоят желтые цветы, те самые, из
которых свиты венки, опять те же самые. Старуха так
приветлива. Ступеньки лестницы трещат и тут. Суда
воют, куда бы ты ни пошла, воют везде. Боль сотря-
сает тебя, но ты не имеешь права кричать. Корабли
имеют право выть, а ты не имеешь права кричать. Дай
старухе деньги на водку. Как только ты дала ей деньги,
она закрывает тебе рот обеими руками. Она, старуха,
совсем трезвая, хоть столько водки выпила. Нерожден-
ные не снятся ей. Невинные младенцы не осмеливаются
обвинять ее перед святыми, и те, что виновны, тоже.
Но ты — ты осмеливаешься!
— Сделай так, чтобы мой ребенок опять был жив!
426
Этого от старухи никто еще не требовал. Только ты
этого требуешь. Зеркало придает тебе сил. Слепое зер-
кало, засиженное мухами, позволяет тебе требовать то,
чего не требовала еще ни одна.
— Сделай, чтобы он опять был жив, не то я опрокину
твои желтые цветы, не то я тебе глаза выцарапаю, не то я
распахну окна и закричу на весь переулок, пусть все
услышат о том, о чем знают и так, я закричу...
Старухе становится страшно. И в великом страхе,
в слепом зеркале, она выполняет твою просьбу. Она са-
ма не знает, что делает, но в слепом зеркале ей это
удается. Страх становится ужасающим, и боль наконец
опять начинает ликовать в тебе. И прежде чем закри-
чать, ты уже знаешь колыбельную: «Баю-бай, усни,
сынок!» И прежде чем закричать, ты уже скатываешься
по темной лестнице: это зеркало погнало тебя вниз, по-
зволило шагать, бежать. Не беги так быстро!
Не смотри в землю, подними глаза, не то случится
так, что у дощатого забора вокруг пустой стройплощад-
ки ты налетишь на человека — молодого человека, ко-
торый вертит в руках шапку. По этому признаку ты
узнаешь его. Это тот самый, что вертел шапку у тебя
над гробом, это опять он! Вот он стоит, как будто и не
отлучался, стоит, прижавшись к забору. Ты падаешь
ему в обьятья. У него опять нет слез на щеках, удели
ему от своих. И простись с ним, прежде чем к нему при-
пасть. Простись с ним! Ты не забудешь сделать это,
даже если он забыл. Сначала прощаются! Прежде чем
уйти вместе, нужно навсегда проститься у дощатого
забора вокруг пустой стройплощадки.
Потом вы идете рядом. Там есть дорога, которая
ведет мимо угольных складов к морю. Вы молчите. Ты
ждешь первого слова, ты предоставляешь ему право на-
чать, — тогда последнее слово не останется за тобой.
Что он скажет? Скорее, не то вы подойдете к самому
морю, а оно делает людей неосторожными. Что он го-
ворит? Какое оно — его первое слово? Неужели это
оно такое тяжелое, что заставляет его заикаться, приги-
бает ему голову к земле? Или виноваты кучи угля, что
поднимаются над забором, — это из-за них у него под
глазами тени, а на лице черноватая бледность? Первое
слово — наконец он произнес его: это название переул-
ка. Того переулка, где живет старуха. Может ли так
427
быть? Еще не узнав, что ты ждешь ребенка, еще не
сказав, что он тебя любит, он называет старуху. Не
волнуйся! Ведь он не знает, чго ты уже была у стару-
хи, он и не может этого знать: ведь ему ничего не из-
вестно о зеркале. Едва сказав свое слово, он сейчас
же забыл его. И ты, как только сказала, что ждешь
ребенка, сейчас же замолчала об этом. Зеркало пока-
зывает все в зеркальном отражении. Кучи угля позади
отступают вдаль; вы — у моря, вы смотрите на белые
лодки, мелькающие, как вопросительные знаки, на краю
вашего окоема; не говорите ничего, море само вынет
ответы у вас из уст, море поглотит все, что вы еще хо-
тели сказать.
С этих пор вы часто ходите вверх с берега, но так,
как будто спускаетесь вниз, ходите домой, как будто
бежите прочь, и бежите прочь, как будто идете домой.
Что они там шепчут, эти, в белых чепцах? «Это
агония». Пусть себе говорят.
Придет день, когда небо станет бледным, таким блед-
ным, что даже заблестит. Разве есть еще какой-нибудь
блеск, кроме этого блеска последней белизны?
В этот день слепое зеркало отразит тот проклятый
дом. Проклятым люди называют дом, который необхо-
димо снести, проклятым назовут и этот дом, не зная при-
чины. Но вас это не должно пугать. Небо стало уже
бледным. И, подобно побледневшему небу, дом тоже
ожидает, что проклятие завершится блаженством. Когда
много смеешься, на глазах легко выступают слезы. Ты
наплакался, хватит. Возьми обратно свой венок. Теперь
ты скоро сможешь опять распустить косы. Все отражает-
ся в зеркале. И за всем, что вы делаете, виден зеленый
фон моря. Когда вы покинете дом, оно распластается
перед вами. Когда вы вылезете через полуразвалившиеся
окна, то немедля забудете об этом. В зеркале все, что
сделано, сейчас же забывается.
С этого часа он настойчиво уламывает тебя войти с
ним в дом. Но при всей горячности вы уходите от этого
в разговоре и сворачиваете куда-то с берега. Вы не обо-
рачиваетесь. Вы идете вверх по реке, и ваша собствен-
ная лихорадка течет вам навстречу, течет мимо вас.
Понемногу его настойчивость слабеет. И в тот же миг
исчезает твоя готовность, вы делаетесь все более робки-
ми. Это отлив, увлекающий море прочь от всех побере-
жий. Даже реки мелеют в час отлива. А на том берегу
428
голые вершины деревьев сменяют лиственные кроны.
Под ними дремлют белые гонтовые крыши.
Осторожнее, скоро он заговорит о будущем, о мно-
жестве детей и о долгой жизни, с такой горячностью, что
щеки у него будут пылать. И твои щеки запылают. Вы
заспорите о том, кого хотите иметь — сыновей или до-
черей; тебе больше хочется... Но вы зашли чересчур
далеко вверх по реке. Вам становится страшно. Гонто-
вые крыши на том берегу исчезли, там только луга и
сырые низины. А здесь? Смотрите внимательно на до-
рогу! Смеркается — так трезво, как смеркается только
утром. Будущее миновало. Будущее — это дорога вдоль
реки, которая впадает в луга. Возвращайтесь!
Что же будет теперь?
Через три дня он уже не решается положить тебе
руку на плечи. Еще через три дня он спрашивает, как
тебя зовут, а ты спрашиваешь его. А потом вы даже
не знаете, как зовут другого. И не спрашиваете об этом.
Ведь так намного лучше. Разве вы не стали друг для
друга тайной?
И вот, наконец, вы молча идете рядом. Если он о
чем-то и спрашивает тебя, так только о том, будет ли
дождь. Но кто это знает? Вы становитесь все более чу-
жими друг другу. О будущем вы давно уже перестали
разговаривать. Вы реже смотрите друг на друга, но все
еще не стали достаточно чужими. Наберитесь терпения,
подождите. Когда-нибудь дойдет и до этого. Когда-ни-
будь он станет настолько чужим тебе, что в темном пере-
улке, перед открытыми воротами, ты влюбишься в него.
Всему свое время. И вот оно приходит.
— Осталось недолго, — говорят сзади тебя, — дело
идет к концу.
Что они знают? Разве не сейчас только все начи-
нается?
Наступит день, когда ты увидишь его в первый раз.
А он тебя. В первый раз, значит никогда больше. Но не
пугайся! Вам не придется прощаться, вы давно уже рас-
прощались. Как хорошо, что это уже минуло!
Настанет осенний день, полпый ожидания цветов, в
которые опять превратятся плоды. И вот она уже насту-
пила, осень, с ее светлым дымом и с тенями, которые
ложатся под ноги, как щепки, о которые можно поранить
ноги, и ты падаешь, споткнувшись о них, когда тебя по-
сылают на рынок за яблоками, ты падаешь от радости
429
и надежды. Тебе на помощь спешит молодой человек.
Пиджак у него свободно наброшен на плечи, он улыбает-
ся, и вертит шапку, и не может сказать ни слова. Но
вам обоим очень весело в этих последних лучах. Ты бла-
годаришь его и закидываешь голову, и тут развязывают-
ся подколотые косы и падают тебе на спину.
— Ах, — говорит он, — так ты еще ходишь в школу.
Он поворачивается и идет прочь, насвистывая песен-
ку. Вы расстаетесь, так и не взглянув друг на друга,
без огорчения и даже не подозревая, что расстаетесь.
Теперь ты опять можешь играть с маленькими брать-
ями, можешь ходить с ними вдоль реки по обсаженной
ветлами дороге над рекой, а на том берегу, как всегда, —
белые гонтовые крыши под деревьями. Что несет буду-
щее? Не сыновей, а братьев принесло оно тебе, и еще
косы, чтобы они подпрыгивали при танцах, и балы, что-
бы летать. Не сердись на него, это лучшее, что у него
есть. Пора начаться школьным годам.
Ты уже немного подросла, на большой перемене тебе
еще приходится шагать рядом с другими девочками и
шептаться, краснеть, хихикать, прикрывшись ладонью.
Но подожди годик — и ты сможешь прыгать через ве-
ревочку и ловить свисающие через забор ветки. Ино-
странным языкам ты уже выучилась, но тебе не всегда
будет так легко. С твоим родным языком дело пойдет
труднее. Еще труднее будет выучиться чтению и письму,
а самое трудное — все забыть. Ведь если на первом
экзамене ты должна была все знать, то в конце концов
ты получила право ничего не знать. Признаешься ли
ты в этом? Сумеешь ли промолчать? Если тебе будет
достаточно страшно, чтобы не раскрывать рта, все
обойдется хорошо.
Ты опять вешаешь на гвоздь синюю шляпу, какую
носят все школьницы, и навсегда оставляешь школу.
Снова осень. Цветы давно уже спрятались в почки, по-
чки стали ничем, а ничто стало плодами. Везде идут
по домам маленькие дети, которые выдержали испыта-
ние, как ты. Вы все больше ничего не знаете. Ты идешь
домой, отец ждет тебя, маленькие братья орут во всю
глотку и дерут тебя за волосы. Ты успокаиваешь их и
утешаешь отца.
Потом приходят длинные летние дни. Потом уми-
рает твоя мать. Вы с отцом забираете ее с кладбища.
Еще три дня она лежит среди потрескивающих свечей,
430
как ты когда-то. Задуйте свечи, прежде чем она про-
снется. Но она нюхает запах воска, приподнимается
на руках и тихо жалуется на такую большую трату.
Потом встает и переодевается.
Хорошо, что твоя мама еще не умерла, потому что
дальше тебе бы не справиться с маленькими братьями
одной. Но теперь мама с вами. Теперь она обо всем за-
ботится и учит тебя играть еще лучше, ведь этому
нелегкому искусству никогда не выучишься достаточ-
но хорошо. Однако это еще не самое трудное.
Самое трудное впереди: разучиться говорить и хо-
дить, беспомощно лепетать, ползать по полу и опять
оказаться завернутой в пеленки. Самое трудное впе-
реди: терпеть все ласки и только глядеть вокруг.
Наберись терпения! Скоро все будет хорошо. Богу
известен день, когда ты станешь совсем слабой.
Это день, когда ты родилась. Ты являешься в мир и
раскрываешь глаза и снова закрываешь их от чересчур
яркого света. Свет согревает твое тело, ты шевелишься
в лучах солнца, ты существуешь, ты живешь. Отец на-
клоняется над тобой.
— Конец, — говорят сзади тебя. — Умерла.
Молчи! Пусть себе говорят!
Ингеборг Бахман
(1926-1973)
Всё
Когда мы с каменными лицами садимся за стол или
вечером сталкиваемся вдруг у наружной двери, потому
что нам одновременно пришло в голову запереть ее на
ночь, мне кажется, будто мы с Ганной — два полюса,
и только наше горе соединяет нас, словно траурно-чер-
ный лук, готовый пустить стрелу прямо в сердце рав-
нодушному небу. Когда мы возвращаемся к себе по
коридору —- Ганна чуть впереди меня, она входит в
спальню, не сказав мне «спокойной ночи», а я закры-
ваюсь у себя в комнате и, сев за письменный стол, не-
подвижно гляжу в одну точку: перед глазами у меня
так и стоит ее поникшая голова, в ушах отдается ее
молчание. Что она делает —- легла и пытается заснуть
или не спит и ждет? Чего? Меня-то ведь она ждать не
может!
Я женился на Ганне не столько ради нее, сколько
ради ребенка, которого она ждала. Выбора у меня не
было, а потому и не было сомнений. Я волновался, ибо
в мир должно было войти нечто, чего не существовало
раньше и чему дали жизнь мы с Ганной; мне казалось,
что мир с каждым днем становится полнее, словно мо-
лодой месяц, которому надо трижды поклониться, как
только он взойдет — нежный и опалово-прозрачный.
У меня бывали теперь минуты отрешенности, каких я
раньше не знал. Даже на службе, хотя дел там по гор-
ло, или где-нибудь на конференции я вдруг словно
впадал в забытье и весь устремлялся к ребенку, этому
432
неведомому, призрачному существу, — мои мысли ле-
тели ему навстречу, проникая в глубь той живой тем-
ницы, в которой он был заключен.
Ребенок, которого мы ждали, во многом изменил
нас. Мы теперь почти никуда не ходили, забросили
своих друзей, сняли квартиру попросюрнее и обоснова-
лись в ней, как могли уютно и оседло. Из-за нашего
ребенка для меня постепенно переменилось все вокруг.
Я теперь то и дело налетал на новые для меня мысли,
как налетают на мину, — на мысли такой взрывной
силы, что впору было отступить, а я шел вперед, не
сознавая опасности.
Ганна не понимала меня. Оттого, что я сразу не
мог решить, какую надо купить коляску — высокую
или низкую, она считала, что ребенок мне безразличен
(«Честное слово, не знаю. Как хочешь. Нет, нет, я слу-
шаю»). Когда я таскался с ней по магазинам и безучаст-
но наблюдал, как она перебирает все эти чепчики, пе-
ленки и распашонки, не зная, какие выбрать — розовые
или голубые, шерстяные или синтетические, она упрека-
ла меня, что я не думаю о ребенке. А я только о нем
и думал.
Как мне выразить словами, что творилось у меня
в душе? Я чувствовал себя, словно дикарь, которому
вдруг объяснили, что мир, в котором он живет, суетясь
между очагом и ложем, между добыванием пищи и тра-
пезой, между восходом и заходом солнца, — этот мир
существует уже миллионы лет и со временем погибнет,
что Земля — всего лишь ничтожная частица Вселен-
ной, частица, которая с огромной быстротой вращается
вокруг своей оси, а одновременно и вокруг Солнца.
Я очутился вдруг в иной связи времен, я и мой ребе-
нок, которому в назначенный день и час — в начале
или середине ноября — суждено было родиться на свет,
точно так же, как когда-то суждено было мне и всем
людям до меня.
Надо только хорошенько все это себе представить.
Все родословие! Подобно тому как, засыпая, представ-
ляешь себе белых и черных овец (черная, белая, черная,
белая и т. д.), эта картина либо сразу нагоняет на
тебя сон, либо сразу и бесповоротно гонит его прочь.
Мне никогда еще не удавалось заснуть с помощью
этого средства, хотя Ганна — она переняла его от ма-
тери — уверяет, будто оно успокаивает лучше снотвор-
433
ного. Быть может, многих и в самом деле успокаивает,
когда они звено за звеном перебирают в уме всю цепь:
«Сим родил Арфаксада, Арфаксад жил тридцать пять
лет и родил Салу... Сала родил Евера. И Евер родил
Фалека. Фалек жил тридцать лет и родил Рагава, Ра-
гав родил Серуха, Серух — Нахора, и каждый из них
после того родил еще по многу сыновей и дочерей, сы-
новья же, в свою очередь, родили сыновей, а именно
Нахор родил Фарру, а Фарра — Авраама, Нахора и
А рана». Несколько раз я пробовал мысленно просле-
дить весь процесс, не только с начала до конца, но и
с конца до начала, вплоть до Адама и Евы — наших
так называемых предков — или до гоминидов, от кото-
рых мы скорее всего и произошли. Но в обоих случаях
какие-то звенья цепи теряются во мраке, и потому без-
различно, за кого уцепиться — за Адама ли с Евой или
за двух других персонажей. А вот если ни за кого не
цепляться вообще и просто спросить себя, для чего, соб-
ственно, родился каждый из них, то уже не знаешь,
зачем была нужна вся эта цепь, все эти бесконечные
«родил», не знаешь, для чего родился первый и для
чего последний из этих людей. Ведь для каждого толь-
ко раз наступает черед войти в игру, придуманную за-
долго до него, черед усвоить и соблюсти ее правила:
продолжать свой род и воспитывать детей, заниматься
экономикой и политикой; ему дозволено, кроме тогог
иметь деньги и чувства, труды и изобретения, а также
выполнять то условие игры, которое называется мы-
шлением.
А коль скоро мы так доверчиво размножаемся, надо
как-то сообразоваться с этим фактом. Для игры требуют-
ся игроки. (Или для игроков — игра?) Меня вот так
же доверчиво произвели на свет, а теперь и я произвел
на свет моего ребенка.
Дрожь пронизывает меня при этой мысли.
Отныне я все соотносил с ребенком. Вот, например,
мои руки — со временем они будут трогать и баюкать
мое дитя; вот наша квартира на четвертом этаже,
Кандльгассе, VII район, улицы, вдоль и поперек про-
резающие Вену, вплоть до аллей Пратера, — весь окру-
жающий нас пространственный мир, который я буду
понемногу ему открывать. О г меня он впервые услышит
названия предметов: «стол» и «кровать», «нос» и «но-
га». А также понятия: «дух», «бог» и «душа»; по-моему,
434
они бесполезны, но утаивать их от него нельзя. Потом
пойдут в ход и такие трудные слова, как «резонанс»,
«диапозитив», «хилиазм» и «астронавт». Мне надо будет
позаботиться о том, чтобы мой ребенок узнал, для чего
существуют на свете вещи и как, скажем, браться за
дверную ручку и ездить на велосипеде, как пользовать-
ся полосканием для горла или заполнять какой-нибудь
бланк. В голове у меня все пошло кругом.
Когда ребенок родился, я, разумеется, не мог сразу
начать с ним этот великий курс. Он лежал передо мною
желтушный, сморщенный, жалкий, а я оказался негото-
вым даже к тому, что должен дать ему имя. Мы быстро
посовещались с Ганной и записали его под тремя име-
нами — моего отца, ее отца и моего деда. Ни одним
из этих имен его никогда не называли. К концу первой
недели за ребенком закрепилось прозвище «Пупс». Уж
не знаю, как это получилось. Должно быть, здесь есть
доля и моей вины: Ганна была бесконечно изобрета-
тельна, придумывая и сочетая бессмысленные звуки, и
я следом за ней тоже старался называть его всевозмож-
ными ласкательными кличками, потому что настоящие
имена так мало подходили к этому крошечному голень-
кому созданию. Из множества этих кличек и возникло
прозвище, которое с каждым годом раздражало меня все
больше и больше. Иногда я даже возлагал ответствен-
ность за это на самого ребенка, словно он мог отказать-
ся от этой клички, словно она не возникла случайно!
Пупс! Мне придется называть его так и дальше, вы-
ставлять его в смешном виде даже после его смерти,
да и нас заодно.
Когда Пупс лежал в своей кроватке, весь в белом и
голубом, и то просыпался, то засыпал опять, я мало
что мог для него сделать — разве что стереть ему с
подбородка слюни или остатки кислого молока или взять
его на руки, когда он плакал, — я надеялся, что от этого
ему станет легче. В одну из таких минут я подумал,
что ведь и он чего-то ждет от меня, но дает мне время
понять — да, именно дает время, как привидение, кото-
рое является человеку, потом исчезает во мраке и
возвращается вновь, устремляя на него все тот же зага-
дочный взгляд. Я подолгу сиживал у его кроватки,
всматривался в его безмятежное личико, в эти глаза,
устремленные в ничто, и изучал его черты, как изучают
древние письмена в поисках ключа для их расшифровки.
435
Мне было отрадно видеть, что Ганна неукоснительно
исполняет все насущно необходимое: дает ему пить,
укладывает спать, будит, подстилает чистую простынку,
пеленает, как того требуют правила. Она чистила ему
нос ватными тампончиками и вздымала целые тучи
талька между его пухлыми ляжками, как будто и для
нее самой, и для ребенка это было панацеей от всех бед.
Через несколько недель она попыталась выманить у
него первую улыбку. Но когда он и в самом деле ода-
рил нас чем-то похожим на улыбку, эта его гримаса
показалась мне загадочной и отвлеченной. А когда он
начал все чаще и настойчивее устремлять на нас свой
взгляд или тянул к нам ручонки, я заподозрил, что он
делает это без всякой цели и что мы сами придумываем
для него причины, с которыми ему когда-нибудь при-
дется согласиться. Ганна не поняла бы меня, да, пожа-
луй, и никто бы не понял, но именно в те дни у меня
зародилась смутная тревога. Боюсь, что уже тогда я на-
чал отдаляться от Ганны и все чаще выключать ее из
моих сокровенных мыслей. Я обнаружил в себе одну
слабость, — к этому меня толкнул ребенок, — и пред-
чувствие, что меня ждет полный крах. Мне было три-
дцать лет — столько же, сколько Ганне, но она выгля-
дела теперь как никогда юной и стройной. А вот мне
мой сын не подарил новой юности. Чем шире становился
круг его жизни, тем теснее сжимался мой. Я отворачи-
вался всякий раз, когда он улыбался, визжал, ликовал.
Я был не в силах задушить в зародыше эти улыбки,
этот визг, эти крики. Вот до чего дошло дело!
Время, которое еще оставалось у меня, бежало бы-
стро. Пупс уже сидел в коляске, у него прорезались
первые зубы, он часто хныкал, вскоре он попытался
встать на ногц, сначала неуверенно, потом более твердо,
потом начал ползать по комнате, а в один прекрасный
день произнес первые слова. Этого уже нельзя было
остановить, а я все еще не знал, что мне с ним де-
лать.
Что же все-таки? Раньше я думал, что мне придется
открывать ему мир. Но с той минуты, как у нас с ним
пошли немые беседы, я растерялся и начал искать
другой путь. Разве не в моей власти было, например,
утаить от него названия вещей, не сказать ни слова о
том, как употребляются те или иные предметы? Он был
первым человеком на земле. От него все брало свое
436
начало, и было вовсе не исключено, что благодаря ему
все может пойти иначе. Не лучше ли представить ему
мир в первозданном виде, без цели и смысла? Для че-
го мне посвящать его в причинные связи, в тайны
добра и зла, в то, что действительно существует и что
лишь кажется сущим? Зачем равнять его с собой, за-
ставлять верить и знать, радоваться и страдать? То, к
чему пришли мы, наш мир, — это наихудший из миров,
и никто из людей еще не постиг его; но для моего сы-
на ничего еще не было решено. Покамест не было. Но на-
долго ли?
И вдруг я понял: все дело в языке, и не только в
нашем родном языке, который был создан в Вавилоне
одновременно со всеми прочими, дабы перессорить лю-
дей друг с другом. Ибо под этим языком таится другой, он
выражает себя в жестах и взглядах, в ходе мыслей и
движении чувств, — вот в нем-то вся наша беда. И во-
прос теперь заключался в том, сумею ли я уберечь
ребенка от нашего языка — до тех пор, пока он не соз-
даст свой новый язык и не откроет тем самым но-
вую эру.
Я часто гулял с Пупсом один, без Ганны, и, когда
замечал, как она успела его испортить, привив ему неж-
ность, кокетство, игривость, приходил в ужас. Он копи-
ровал нас. Не только меня и Ганну, нет—людей вообще.
И все же бывали минуты, когда он вел себя по-своему, и
тогда я пристально наблюдал за ним. Все пути были для
него одинаково безразличны и все живые существа. Я и
Ганна были к нему ближе просто потому, что все время
суетились вокруг него. Все пока было для него одинаково
безразлично. Но долго ли так будет?
Он боялся. Но покамест еще не горной лавины и не
людской подлости — он боялся листа, который вдруг
начинал трепетать под ветром, боялся мотылька. Мухи
приводили его в ужас. И я думал: что же с ним будет, ко-
гда целое дерево начнет раскачиваться на ветру, а я все
еще ему ничего не объяснил.
Он столкнулся на лестнице с соседским ребенком,
неловко ткнул его ручонкой в лицо и в испуге отшат-
нулся, —- быть может, он и не знал, что перед ним
ребенок. Раньше он плакал, если ему нездоровилось,
но когда он плакал теперь, дело было куда сложнее.
Он часто плакал перед сном или Еюгда его брали на
руки, когда поднимали, чтобы посадить за стол, плакал,
437
если у него отбирали игрушку. В нем кипела великая
ярость. Он мог броситься на пол, вцепиться ручонками
в ковер и реветь до тех пор, пока не посинеет и на
губах у него не выступит пена. Во сне он дико вскрики-
вал, словно в грудь ему впился вурдалак. Эти его крики
укрепили меня во мнении, что он пока еще полагается
на силу своего крика, и полагается не зря.
Но что будет однажды!
Ганна нежно выговаривала ему и называла невос-
питанным мальчиком. Она целовала его, прижимала к
себе или серьезно смотрела на него и просила не мучить
свою маму. Она была умелой искусительницей. Подолгу
стояла она, склоняясь над безымянным потоком, и стара-
лась переманить дитя к себе; она ходила взад-вперед по
нашему берегу и завлекала ребенка шоколадом и апель-
синами, волчками и мишками.
А когда деревья отбрасывали тени, мне казалось, я
слышу голос: научи его языку теней! Мир — это опыт,
и довольно того, что опыт этот повторяется бесконечно
и однообразно, с одинаковым результатом. Отважься на
новый опыт! Пусть ребенок приобщится к теням! Что
давал опыт до сих пор? Жизнь, полную вины, любви и
отчаяния. (Я начинал мыслить отвлеченно, и тогда
мне приходили в голову подобные слова). Но я мог убе-
речь его от вины, любви и всякого рокового начала и
тем самым освободить для другой жизни. /
Да, воскресными днями мы бродили с ним по Вен-
скому лесу, и, если случалось подойти к воде, я говорил
себе: научи его языку воды! Мы ступали по камням, по
корням деревьев. Научи его языку камней! Помоги ему
пустить новые корни! Падали листья, потому что опять
наступила осень. Научи его языку листьев!
Но оттого, что сам я не знал ни слова из этих язы-
ков и придумать их не умел, а владел только одним-
единственным языком и не мог выйти за его пределы,
я молча носил мальчика вверх и вниз по тропинкам, и
мы возвращались домой, где он учился строить фразы
и попадался в ловушку. Он уже выражал желания и
просьбы, приказывал или болтал ради самой болтовни.
Позже, во время наших воскресных прогулок, он стал
выдергивать из земли травинки, подбирать червяков,
ловить букашек. Теперь они уже были ему не безраз-
личны, он исследовал их и умерщвлял, если я не успе-
вал их у него отнять. Дома он раздирал книжки, коро-
438
бочки и свою куклу-неваляшку. Он хватал все подряд,
пробовал на зуб, ощупывал и либо швырял прочь, либо
принимался играть. Но что будет однажды!
Однажды он окажется в курсе дела.
В то время, когда Ганна была более общительна,
чем теперь, она часто обращала мое внимание на то,
что сказал Пупс, — она была околдована его невинны-
ми взглядами, невинными речами и его возней. Что до
меня, то я уже не замечал в ребенке ничего невинного,
с тех пор как он перестал быть немым и беззащитным,
как в первые недели. Да и тогда он, пожалуй, не был
невинен, а только не способен что-либо выразить — ко-
мочек плоти и полотна, с тонким дыханием, с большой
бессмысленной головой, которая, словно громоотвод,
разряжала сигналы из внешнего мира.
Когда Пупс немного подрос, ему разрешили играть
с другими ребятами в тупике возле дома. Как-то раз,
возвращаясь домой, я увидел его: вместе с тремя со-
седскими мальчиками он вычерпывал консервной банкой
воду, которая текла по желобу вдоль тротуара. Потом
они встали в кружок и о чем-то заговорили. Это было
похоже на совещание. (Так совещаются инженеры, где
им начинать бурение, в каком месте сделать пробу).
Они присели на корточки, и Пупс — он держал бан-
ку — готов был уже выплеснуть воду; но вдруг они
поднялись и передвинулись на несколько шагов вперед.
Но и это место, видимо, их не устраивало. Они подня-
лись опять. В воздухе чувствовался накал страстей. По-
истине мужских страстей! Что-то должно было слу-
читься! И вот наконец они нашли подходящее место.
Опять присели на корточки, замолчали, и Пупс накло-
нил банку. Грязная вода ручейком потекла по камням.
Они смотрели на ручеек торжественно, молча. Состоя-
лось, свершилось. И, быть может, они добились, чего
хотели. Должны были добиться! Мир мог положиться
на этих маленьких человечков, они подвинут его вперед.
Да, они подвинут его вперед — теперь я был в этом
уверен. Я поднялся домой и бросился на постель у себя
в спальне. Мир был подвинут вперед, было найдено ме-
сто, откуда следовало подтолкнуть мир вперед, все по
тому же, старому пути. Я надеялся, что мой сын не
найдет этого пути. А когда-то, совсем давно, я даже
боялся, что он не сможет сориентироваться. Я, дурак,
боялся, что он не найдет пути!
439
Я встал и плеснул себе в лицо холодной воды из-под
крана.
Этот ребенок был мне теперь не нужен. Я ненавидел
его за то, что он оказался слишком разумным, за то,
что он напал на след.
Я ходил по городу, и моя ненависть росла, охватывая
все, что исходило от людей, — трамвайные линии, но-
мера домов, титулы на дверях квартир, часы — весь
этот протухший, нелепый хлам, который сам себя име-
нует порядком; я ненавидел очистительные сооружения,
расписания лекций, бюро регистрации актов граждан-
ского состояния — все эти жалкие институции, против
которых уже невозможно восставать, да никто и не
восстает, — все эти алтари, на которые и я тоже при-
носил свои жертвы, но я не хотел допустить, чтобы их
приносил мой сын. Почему он обязан это делать? Он не
причастен к устройству мира, не виновен в его ущерб-
ности. Почему он обязан в нем устраиваться? Я взывал
к жилищному управлению, к школам и казармам: дай-
те ему попробовать! Дайте моему сыну, пока он не
погиб, попробовать один-единственный раз. Я был в
ярости на себя за то, что толкнул сына в этот мир, но
ничего не сделал для его освобождения. Я был у него
в долгу, я обязан был что-то предпринять, уйти вместе
с ним, переселиться на остров. Но где есть такой
остров, откуда новый человек может начать основание
нового мира? Я и мой сын были в плену, заранее осу-
жденные на сопричастность к старому миру. Поэто-
му я отвернулся от ребенка. Я отвратил от него свое
сердце. Этот мальчик был способен на все, лишь одно-
го не мог он: выйти на волю, прорвать заколдованный
круг.
Пупс проиграл все свои дошкольные годы. Проиграл
в буквальном смысле слова. Я позволял ему играть, ис-
ключив лишь те игры, что наводили его на забавы более
зрелого возраста. Прятки и пятнашки, считалки и го-
релки, солдаты и разбойники. Я хотел для него совсем
других игр — чистых, совсем других сказок, не похожих
на те, что известны всем. Я ничего не мог придумать,
он же способен был только обезьянничать. Это кажется
невероятным, но для нашего брата и в самом деле нет
выхода. Снова и снова все распадается на верх и низ,
на добро и зло, свет и тьму, количество и качество,
друзей и врагов, а если в баснях вдруг появляются иные
440
существа, скажем, звери, то они вскоре обнаруживают
человеческие черты.
Поскольку я перестал понимать, как и для чего
должен воспитать своего сына, я бросил это занятие.
Ганна заметила, что я больше не интересуюсь мальчи-
ком. Один раз я пытался поговорить с ней об этом, но
она вытаращила на меня глаза, словно я какое-то чудо-
вище. Я не смог высказать ей все, потому что она под-
нялась, оборвав меня на полуслове, и ушла в детскую.
Произошло это вечером, и с того времени она начала
делать нечто такое, что раньше ни мне, ни ей не могло
бы прийти в голову: начала молиться вместе с ребен-
ком. «Я устала, даруй мне покой. Боже милостивый,
укрепи меня в вере». И тому подобное. Меня и это
оставило равнодушным, но они, видимо, расширили
свой репертуар. Я думаю, таким способом она хоте-
ла оберечь его. Все равно как — с помощью креста
или талисмана, заклинания или чего-либо еще. По су-
ти дела, она была права: ведь Пупсу предстояло с
волками жить, а значит — по-волчьи выть. «Вверить
его деснице божьей» — это была, вероятно, послед-
няя возможность. Мы оба предали его, каждый по
своему.
Когда Пупс приносил из школы плохую отметку, я
не упрекал его, но и не утешал. Ганна мучилась втихо-
молку. После обеда она неизменно подсаживалась к
мальчику и помогала ему готовить уроки, спрашивала
его. Она хорошо справлялась со своей задачей, как
нельзя лучше. Но я ни во что хорошее не верил. Мне
было безразлично: поступит потом Пупс в гимназию
или нет, выйдет из него что-нибудь путйое или нет. Ра-
бочий хочет, чтобы его сын стал врачом, врач — чтобы
его сын стал хотя бы врачом. Я этого не понимаю. Я пе
желал, чтобы Пупс стал умнее или лучше нас. Не же-
лал я и того, чтобы он любил меня, он не обязан был
меня слушаться, не должен был исполнять мою волю.
Нет, я хотел другого... Ему надо было лишь начать
все сызнова, показать мне одним-единственным движе-
нием, что он явился в мир не затем только, чтобы вос-
производить наши движения. Но я ничего такого не
увидел. Это я заново родился, а не он! Это я был пер-
вым человеком на земле, но все проиграл и ничего не
сделал!
Я ничего не желал для Пупса, решительно ничего.
441
Я только продолжал наблюдать за ним. Не знаю, вправе
ли человек так наблюдать за собственным сыном. Как
исследователь наблюдает какой-нибудь «случай». Я рас-
сматривал этот безнадежный человеческий «случай».
Этого ребенка, которого не мог любить, как любил Ган-
ну, — от нее я никогда не отвращал своего сердца, по-
скольку она не могла меня разочаровать. Когда я встре-
тил ее, она принадлежала к тому же типу людей, что
и я, — внешне привлекательных, опытных, в чем-то
непохожих на прочих и все-таки похожих; она была
женщиной и стала моей женой. Я обвинял ребенка и
себя: его — в том, что он разрушил мое самое сокровен-
ное упование; себя — в том, что не сумел подготовить
ему почву. Я надеялся, что мое дитя, потому что это
было дитя, — да, я надеялся, что это дитя спасет чело-
вечество. Это кажется чудовищным. С сыном я дей-
ствительно поступил, как чудовище, но надежда моя
не чудовищна. Просто я, подобно всем прочим людям
до меня, не готов был к появлению ребенка. Я ни о чем
не думал, когда обнимал Ганну, когда находил успокое-
ние в ее лоне, — я не мог думать. Я был доволен, что
женился на Ганне,— и не только из-за ребенка,— но
позднее я уже никогда не был с нею так бездумно
счастлив, потому что не переставал думать о том, как
бы избежать второго ребенка. Ганна хотела его, у меня
есть основания так считать, пусть даже теперь она не
заговаривает об этом и ничего для этого не делает. Мо-
жно предположить, что именно теперь Ганна опять
мечтает о ребенке, но она словно окаменела. Она роп-
щет на меня, хотя нельзя так роптать на человека, ибо
он не властен над столь непостижимыми тайнами, как
жизнь и смерть. Тогда она готова была народить целый
выводок, а я воспротивился этому. Ей не мешали услов-
ности, а я их не выносил. Однажды, когда мы ссорились,
она объявила мне, что она хотела бы сделать для Пуп-
са, что хотела бы ему дать. Всё: более светлую комнату,
больше витаминов, матросский костюмчик, еще больше
любви, всю любовь, какая только есть на свете, — она
хотела бы заготовить для него огромный запас любви,
чтобы ему хватило на всю жизнь, и тем оберечь его от
внешнего мира, от людей... Хотела бы дать ему хорошее
образование, обучить иностранным языкам, присмо-
треться к его талантам.
Она плакала и обижалась, потому что я над ней
442
смеялся. Мне кажется, она не допускала и мысли, что
Пупс станет таким же, как «остальные люди», что,
подобно им, научится оскорблять, унижать, обжуливать,
убивать, что окажется способным на подлость, пусть
на самую мелкую, а у меня были все основания это
предполагать. Ибо то, что мы называем злом, гнездилось
в нем, как гнойник. Об истории с ножом и говорить
нечего. Все это началось гораздо раньше, когда ему бы-
ло всего три или четыре года. Я заметил, что он ходит
надутый и хнычет,— у него рухнула башня из куби-
ков. Вдруг он перестал хныкать и сказал тихо и вразу-
мительно:
— Подожгу дом. Все уничтожу. Вас всех.
Я посадил его к себе на колени, ласкал, обещал, что
построю ему новую башню. Он повторил свои угрозы.
Подошла Ганна — впервые она растерялась. Она при-
крикнула на него и спросила, кто научил его так гово-
рить. Он твердо ответил:
— Никто.
Некоторое время спустя он столкнул с лестницы
маленькую девочку из нашего дома, потом сам очень
испугался, ревел, пообещал больше никогда этого не
делать и рделал опять. Какое-то время он по всякому
поводу молотил кулаками Ганну. Но и это прошло.
Правда, я совсем не упоминаю о том, какие пре-
лестные вещи он говорил, как бывал ласков, с какими
румяными щечками просыпался по утрам. Я тоже все
это замечал и часто боролся с искушением тут же взять
его на руки, поцеловать, как это делала Ганна, но не
хотел этим заглушать свою тревогу и обманывать себя.
Я был начеку. Ибо надежда, которую я питал, не чудо-
вищна. Я не готовил своего сына к чему-то великому,
но небольшого отклонения — этой малости я для него
желал. Правда, когда ребенка зовут Пупс... Стоило ли
добиваться такой чести для подобного имени? Жить с
кличкой комнатной собачки. Одиннадцать лет подвер-
гаться дрессировке и не энать ничего другого. (Хорошо
держи вилку. Не сутулься. Помаши ручкой. Не болтай
за едой).
С тех пор как он пошел в школу, я все реже бывал
дома. Я сидел в кафе за шахматами или запирался у
себя в комнате, ссылаясь на срочную работу, и читал.
Я познакомился с Бетти, продавщицей с Мария-Хиль-
ферштрассе, приносил ей чулки, билеты в кино или что-
443
нпбудь вкусное и понемногу приручил ее. Она была не
болтлива, податлива и без претензий и в свои одинокие
свободные вечера с радостью ела вкусные вещи. Я до-
вольно часто бывал у нее целый год подряд: мы ложи-
лись на кровать в ее меблировапной комнате, я потяги-
вал вино, она читала иллюстрированный журнал, а потом
без всякого удивления соглашалась с моими странными
требованиями.
Я был тогда в полном смятении из-за ребенка. Я ни-
когда не спал с Бетти, наоборот, я искал другого, искал
предосудительной, запретной свободы от женщины, от
власти пола, чтобы не попасться в сети и сохранить
независимость. Я не хотел больше спать с Ганной, по-
тому, что уступил бы ей.
Хотя я даже не пытался как-то объяснить свое
отсутствие по вечерам в течение такого долгого времени,
мне казалось, что Ганна ничего не подозревает. В один
прекрасный день я обнаружил, что это не так: однажды
она увидела меня с Бетти в кафе «Эльзахоф», где мы
нередко встречались после закрытия магазина, а два дня
спустя — в очереди за билетами у кинотеатра «Космос».
Ганна вела себя очень странно, смотрела куда-то мимо
меня, словно мы незнакомы, и я не знал, как, мне быть.
Я машинально кивнул ей, подвинулся, чувствуя руку
Бетти в своей, еще на шаг к кассе и — хотя теперь это
кажется мне невероятным — все же пошел в кино.
После сеанса, в продолжение которого я взвешивал пред-
стоящие мне упреки и готовился к защите, я взял такси,
чтобы поскорее добраться до дому, как будто этим мож-
но было еще что-то поправить или предотвратить. По-
скольку Ганна не произнесла пи слова, я выпалил зау-
ченный текст. Она упрямо молчала, словно я говорил о
вещах, для нее посторонних. Наконец она все-таки от-
крыла рот и робко сказала, чтобы я все же подумал
о ребенке. «Ради Пупса...». Она произнесла это имя! Ее
смущение сразило меня — я просил у нее прощения,
валялся в ногах, заклинал, что «больше никогда», и я
действительно больше никогда ве виделся с Бетти. Сам
не знаю зачем, я написал ей два письма, которым она,
конечно, не придала значения. Ответа я не получил, да
и не ждал его. Можно было подумать, что я адресую
эти письма самому себе или Ганне,— я излил в них ду-
шу, как не изливал еще никому. Иногда я боялся, что
Бетти начнет меня шантажировать. Но как? Я послал
444
ей денег. Как бы она могла меня шантажировать —
ведь Ганна все знала?
Какая путаница. Какая пустота.
Как мужчина я чувствовал себя выхолощенным,
бессильным и хотел остаться таким навсегда. Если за
мной есть долг, он будет списан. Избавиться от власти
пола и ждать конца, пусть он приходит — конец!
Но во всем случившемся главное не я и Ганна или
Пупс, главное здесь — отец и тсын, вина и смерть.
В одной книге я прочел однажды слова: «Небо не
имеет обыкновения поддерживать человека». Хорошо
бы всем узнать это изречение, где говорится о дурных
повадках неба. О да, оно и впрямь не имеет обыкнове-
ния посмотреть вниз, подать знак смятенным людям,
живущим под его владычеством. Уж во всяком случае,
оно не сделает ничего такого, когда происходит мрачная
драма, где и оно играет свою роль, — это выдуманное
людьми небесное провидение. Отец и сын. Сын — в са-
мом этом явлении есть нечто неопределимое. Мне теперь
часто приходят в голову такие слова, ибо для этого тем-
ного дела ясных слов не найдешь; когда об этом ду-
маешь, теряешь рассудок. Темное дело: ибо вначале
было мое семя, неразличимое и мерзкое мне самому,
потом — кровь Ганны, питавшая ребенка и излившаяся
при его рождении; все вместе — темное дело. И завер-
шилось оно кровью — его ослепительно алой детской
кровью, брызнувшей из раны в голове.
Он не мог ничего сказать, когда лежал в ущелье,
на выступе скалы, — его школьный товарищ, подбежав-
ший к нему первым, услышал только:
— Ты... — Пупс хотел поднять руку, чтобы пояснить
что-то жестом, а может быть, уцепиться за того маль-
чика, но рука уже не поднималась. И когда через не-
сколько минут над ним склонился учитель, он прошеп-
тал наконец: — Хочу домой.
Я не решусь на основании одной этой фразы утвер-
ждать, что его тянуло именно к Ганне или ко мне.
Человек стремится домой, когда чувствует, что умирает,
а он это чувствовал. Это был всего только ребенок, —
что особенного мог он хотеть сообщить. Пупс был са-
мый что ни на есть обыкновенный ребенок, и ничто не
могло поразить его сознание перед смертью. Остальные
ребята вместе с учителем наломали веток, соорудили
из них носилки и несли его до Обердорфа. По пути, уже
44Г)
через несколько шагов, он умер. Скончался? Ушел на-
веки? В объявлении мы написали: «...несчастный слу-
чай отнял у нас... нашего единственного ребепка». Слу-
жащий типографии, принимавший у нас заказ, спросил,
разве мы не хотим написать: «...нашего единственного,
горячо любимого ребенка»? Но Ганна — это она гово-
рила по телефону — сказала: нет, само собой понятно,
что любимый и горячо любимый, теперь уже дело сов-
сем не в этом. По глупости я чуть не сжал ее в объятьях
эа эти слова — так живы были мои чувства к ней. Она
оттолкнула меня. Существую ли я еще для нее вообще:
ради всего святого — в чем, в чем может она меня ви-
нить?
Ганна, давно лелеявшая ребенка в одиночестве, ушла
в тень, с нее словно соскользнул луч прожектора, осве-
щавший ее, когда она была вместе с Пупсом и благода-
ря ему — в фокусе света. Про нее теперь и сказать не-
чего, как будто у нее самой нет ни свойств, ни примет.
Л ведь раньше она была веселая и подвижная, боязли-
вая и ласковая, она была строга и всегда готова вести
и направлять мальчика, то чуть отпуская его от себя, то
снова притягивая поближе. После случая с ножом для
нее наступило блаженное время, она пылала великоду-
шием и сочувствием, она получила право защищать свое
дитя и оправдывать его ошибки, она отстаивала его пе-
ред всеми инстанциями.
Это случилось, когда он был в третьем классе. Пупс
бросился на своего одноклассника с перочинным ножом
и хотел ударить его в грудь, но промахнулся и всадил
нож мальчику в руку. Нас вызвали в школу, и у меня
были неприятные разговоры с директором, с учителя-
ми и с родителями раненого мальчика — неприятные,
потому что сам я не сомневался в том, что Пупс действи-
тельно способен и на такой поступок, и на многие дру-
гие, но сказать, что думал, не мог; неприятные еще
и потому, что мне навязывали точки зрения, которые
мне были совершенно чужды. Что нам делать с Пуп-
сом — никто не знал. Он плакал, то ожесточаясь, то
отчаиваясь, и, если уж говорить правду, он раскаивался
в своем проступке. И все же нам не удалось уговорить
его пойти к тому мальчику и попросить прощения. Мы
заставили его это сделать и отправились втроем в боль-
ницу. Но я думаю, что Пупс, который ничего не имел
против своего товарища, когда угрожал ему, начал не-
446
навидеть его с той минуты, когда ему пришлось произ-
нести заученную формулу извинения. То была не
детская ярость — при большом самообладании он скры-
вал в себе очень утонченную, очень взрослую ненависть.
Это тяжкое чувство, которое он прятал от посторонних
глаз, уже оказалось ему по силам, и он словно был по-
священ в человеки.
Всякий раз, когда я думаю о той школьной экскур-
сии, которая положила конец всему, мне вспоминается
также история с ножом, как будто они отдаленно свя-
заны друг с другом —- из-за потрясения, напомнившего
мне о существовании моего ребенка. Ибо, за исключением
этих событий, мне нечего вспомнить из его немногих
школьных лет, — ведь я не следил за его возмужанием,
за пробуждением его разума и чувств. Наверное, он был
такой же, как все дети этого возраста: необузданный и
ласковый, шумный и скрытный: в глазах Ганны — на-
деленный необыкновенными качествами и во всем не*
повторимый — в глазах Ганны.
Директор школы позвонил ко мне на службу. Этого
еще не бывало, — даже когда стряслась история с но-
жом, звонили к нам домой и я узнал обо всем от Ганны.
Через полчаса мы встретились с ним в вестибюле наше-
го служебного здания и пошли в кафе на другой сторо-
не улицы. Он пытался сказать мне то, что должен
был сказать, сначала в вестибюле, потом на улице, но
даже в кафе он чувствовал, что это неподходящее
место. Наверное, на всем свете нет места, которое ока-
залось бы подходящим для сообщения о смерти ре-
бенка.
Учитель не виноват, сказал он.
Я кивнул. Мне было нечего возразить.
Дорога была неопасная, но Пупс отделился от клас-
са — из гордости или из любопытства, а может быть, он
хотел найти себе палку.
Директор начал запинаться.
Пупс не удержался на уступе скалы и сорвался вниз,
на другой уступ.
Ранение головы было само по себе неопасное, но
врач нашел потом причину его внезапной смерти: ки-
ста, — вам, наверное, известно...
Я кивнул. Киста? Я не знал, что это такое.
Вся школа потрясена, сказал директор, создана комис-
сия по расследованию, в полицию сообщили...
447
Я подумал не о Пупсе, а об учителе, мне было жаль
его, и я дал понять, что с моей стороны опасаться нечего.
Никто не виноват. Никто.
Я поднялся, прежде чем мы успели сделать заказ,
положил па стол шиллинг, и мы расстались.
Я вернулся на службу и тут же опять ушел — в кафе,
чтобы все-таки выпить чашку кофе, хотя охотнее выпил
бы коньяку или водки. Я не решался пить коньяк. На-
ступило время обеда, я должен был пойти домой и ска-
зать Ганне. Не знаю, как я сделал это и что сказал.
Пока мы шли с ней по коридору, она, видимо, уже все
поняла. Это произошло так быстро. Мне пришлось от-
нести ее на постель, вызвать врача. Она обезумела и
дико кричала, пока не потеряла сознание. Она кричала
так страшно, как при его рождении, и я опять дрожал
ва нее, как тогда. Опять я желал только одного: чтобы
с Ганной ничего не случилось. Я все время думал толь-
ко одно: Ганна! О ребенке не думал совсем.
В последующие дни я все проделал один. На клад-
бище — я утаил от Ганны час похорон — директор
произносил речь. Была чудесная погода, набегал лег-
кий ветерок, и ленты на венках развевались, как во
время праздника.
Директор все говорил и говорил. Впервые я увидел
в сборе весь класс, всех тех ребят, с которыми Пупс еже-
дневно проводил по многу часов — группу тупо глядев-
ших перед собой мальчуганов, среди них, я знал, был
и тот, которого Пупс хотел заколоть. Бывает у чело-
века внутри такой холод, что события, совсем близкие
и совсем далекие, одинаково отодвигаются от него.
Могила, и обступившие ее люди, и венки вдруг куда-то
отодвинулись от меня. Все Центральное кладбище, каза-
лось, плывет вдали на горизонте, устремляясь к востоку.
И даже когда кто-то пожал мне руку, я лишь ощутил
пожатие, еще и еще пожатие, а лица проплывали там,
вдали, четко очерченные, словно я вижу их близко, и все
же очень далекие, недостижимо далекие.
Научись языку теней! Научись ему сам!
Однако теперь, когда все это позади и Ганна больше
не сидит часами в его комнате и даже позволила мне
запереть дверь, через которую он столько раз пробегал,—
теперь я иногда говорю с ним на том языке, которого
никак не могу одобрить.
Озорник ты мой. Сердечко мое.
448
Я готов таскать его на закорках, я обещаю подарить
ему голубой воздушный шар, покатать на лодке по ста-
рому руслу Дуная и купить марки. Я дую ему на ушиб-
ленное колено и помогаю решить задачки по арифме-
тике.
Хоть я и не могу этим вернуть его к жизни, все-таки
еще не поздно подумать: я принял своего сына. Я не
мог быть ласков с ребенком, потому что в мыслях зашел
с ним слишком далеко.
Не заходи слишком далеко. Сначала разведай путь.
Разведай сам.
Но раньше всего надо сломать лук — траурную дугу,
протянувшуюся от мужчины к женщине. Как сократить
расстояние между ними, измеряемое молчанием? Ведь
ныне и всегда Ганна будет видеть цветущий сад там,
где для меня окажется минное поле.
Я больше ни о чем не думаю: мне хочется встать,
пройти по темному коридору и, не говоря ни слова, вой-
ти к Ганне. Мне все равно, что произойдет потом — как
поведут себя мои руки, которые должны ее удержать,
мои губы, которые могут прильнуть к ее губам. Неваж-
но, какой звук раздастся здесь прежде всякого слова,
какое тепло принесу я к ней прежде всякого чувства.
Я не затем войду к ней, чтобы снова овладеть ею, а
затем, чтобы удержать ее в этом мире и чтобы она удер-
жала меня. Через слияние, нежное и таинственное. Если
после этого появятся дети — что же, пусть; пусть они
живут, подрастают, становятся такими, как все другие
люди. Я буду пожирать их, как Крозос; избивать, как
отец-изверг; я буду баловать их, этих священных живот-
ных, и я позволю им обмануть себя, как Лир. Я буду
воспитывать их, как того требует эпоха: для жизни по
волчьим законам, хотя и в правилах строгой морали. Как
человек своей эпохи, я ничего не дам им с собой в доро-
гу — никаких ценностей, никаких добрых советов.
Но я не знаю, может быть, Ганна уже заснула.
Я больше ни о чем не думаю. Плоть сильна и непо-
стижима, и ее безудержный хохот в ночи заглушает
истинное чувство.
Я не знаю, может быть, Ганна уже заснула.
\\/А 15 Австрийская новелла XX в.
Герберт Айзенрайх
(Род. в 1925 г.)
Приключение, как у Достоевского
Она родилась в богатой семье, да и замуж вышла
за ровню, с мужем и детьми жила теперь в двухэтаж-
ной вилле на берегу озера, — полчаса езды на машине
от города, — жила той налаженной жизнью, которая
дается привычным, потомственным благосостоянием. Со-
вершенствовала свой ум и душу ежедневным чтением
великих писателей, в последнее время преимущественно
русских, а тело — различными видами спорта, для че-
го ей полный простор предоставляли обширный парк
позади дома и озеро впереди него; с любовью отдавала
себя воспитанию детей, мужу своему была нежнейшей
подругой и верной советчицей, живой и деятельной, и
хотя по рождению и воспитанию была достаточно изба-
лована, все же неизменно выказывала ту исполненную
достоинства и чувства меры скромность, которая рази-
тельно отличает человека истинно богатого от вульгар-
ного толстосума, будь его банковский счет даже намного
больше. Так, скажем, когда раз в неделю она ездила в
город по каким-нибудь мелким делам, то редко пользова-
лась машиной, хоть и имела ее в своем распоряжении,
при желании — даже с шофером, но нет, она чаще
всего садилась в поезд, сновавший по узкоколейке меж-
ду городом и предместьем, где она жила, и возивший ра-
бочих, служащих и студентов, а заодно и всех, кто ездил
в город по какой-либо надобности -— за покупками или
чтобы сходить в театр, в концерт или в дансинг. Однако
она садилась, как ей и подобало, в мягкий вагон.
450
И на этот раз она тоже поехала поездом. С утра
побывала в городской конторе мужа, передала, его рас-
поряжения, проглядела свежую почту, потом пообедала
у Шпицера в обществе двух служащих, призванных на-
блюдать за широко разветвленными делами ее супруга.
Расставшись с ними, пошла бродить по Внутреннему го-
роду, тщетно пыталась дозвониться к подруге по пан-
сиону, ныне прославленной (и, по отзывам знатоков,
вполне заслуженно) оперной певице. Позднее заглянула
к своему портпому, чтобы заказать себе зимнее пальто,
щупала ткани, мяла их в руках, велела подносить го
один, то другой рулон к дпевному свету, который скупо,
будто стократно профильтрованный через тяжелый и
влажный осенний воздух, цедился сквозь стекла витрины
в помещение мастерской, где, создавая двойное освещение,
горели неоновые трубки.
Увлекаемая толпой прохожих, к концу дня погу-
стевшей, какое-то время бродила по узким улочкам
между собором и биржей, раз1лядывала витрины, пока
не наступил срок, назначенный ей парикмахером, а
через час, выйдя из салона по окончании процедуры,
почувствовала, как промозглая осенняя сырость холо-
дит ей кожу головы, забираясь на висках и на затылке
под только что остриженные волосы. Несколькими квар-
талами дальше, в большом магазине игрушек, где жены
рабочих приобретали для своего потомства электриче-
ские железные дороги и костюмы индейцев, купила своим
детям пластмассовую коробочку — игру в «блошки»,
потом еще раз, опять безуспешно, звонила певице и в
конце концов, как оно чаще всего и бывало после всех
ее, в сущности, бесцельных блужданий, надолго застряла
в лавке антиквара, человека с тонким нюхом дельца и
повадками любителя, который когда-то обставил ей буду-
ар и сверх того украсил ее дом множеством дорогих без-
делушек. С ненавязчивой да, пожалуй, и ненужной по-
мощью антиквара, превосходно изучившего ее вкус,
отыскала среди прочих предметов японский чайпый сер-
виз тончайшего и, несомненно, старинного фарфора —
вещь, которая могла бы чрезвычайно обрадовать ее му-
жа, — он родился в Японии и почти два десятка лет
там проработал, умело распоряжаясь состоянием, нажи-
тым его предками благодаря успешной торговле в стра-
нах Восточной Азии, и состояпие это приумножая.
Теперь он слыл одним из лучших знатоков той части
V415*
451
света, так что министры, банкиры и послы охотно езди-
ли к нему обедать, а промышленники и консулы — пить
чай, и причиной тому были не только его кухня и по-
греб; случалось, что и военные атташе приглашали его
совершить в их обществе утреннюю прогулку в самолете
над горами. Сервиз этот был бы приятен ее мужу еще
и потому, что превратности войны лишили его многих
памятных вещей японского периода жизни, — и все-
таки, даже принимая это во внимание, она колебалась,
ибо цена была, прямо сказать, из ряду вон выходящая.
Восемьсот марок — большая сумма для человека, знаю-
щего цену деньгам. И в конце концов она решила сер-
виз не покупать, а владельцу лавки сказала, что поду-
мает.
Она вышла на улицу, где между насупленными
домами оседал плотный осенний сумрак, до того липко-
влажный, словно он никак не изойдет моросящим дож-
дем; густой траурный флер наплывал с низкого неба,
клубился перед тускло светящимися окнами, вился вокруг
уличных фонарей. Резкий переход от многообразной чет-
кости форм и бесконечной причудливой пестроты в
лавке антиквара к расплывающимся в тумане глыбам,
к зыбким контурам вечерней осенней улицы вызвал у
нее холодящую дрожь; вобрав голову в плечи, она не-
вольно замедлила шаг и вскоре остановилась. Ей стало
казаться, будто, не решившись купить сервиз, она по
собственной вине очутилась в каком-то низменном, не
подобающем ей окружении; она вдруг почувствовала
себя несчастной, бесконечно несчастной, и, обозвав себя
мелочной, скупой, черствой, уже было настроилась вер-
нуться назад в лавку. Но все стояла, будто пригвожден-
ная к месту: ни с того ни с сего объявить антиквару о
перемене решения было бы весьма неприятно, нет, луч-
ше уж она через несколько дней ему напишет или
позвонит по телефону. («Решено, я беру сервиз».) Од-
нако ощущение неблагополучия не проходило, малю-
сенький червячок, начавший точить ее изнутри, продол-
жал свою разрушительную работу, пустота в ней
ширилась, захватывая все ее существо, — ей мнилось,
будто она вот-вот обрушится в себя самое, и этот горест-
ный провал уже не заполнить никакими рассуждениями,
доводами, планами исправления допущенной ошибки.
И она стояла, теперь уже не просто в нерешительности,
а в полной сумятице чувств — досада во плоти, стояла пе-
452
ред дверью лавки, которую антиквар, отвесив даме
последний скупой поклон и сразу выпрямившись, словно
никакого поклона и не было, притянул к себе и захлоп-
нул, — замок сухо щелкнул, почти заглушив мелодич-
ный празднично-светлый звон, раздававшийся всякий раз,
когда открывали и закрывали эту дверь, будто из музы-
кальной шкатулки.
Как вкопанная стояла она, в приступе какой-то ду-
шевной вялости, не в силах двинуться на вокзал и уехать
домой, раз уж с городскими делами на сегодня покончено.
Словно она чего-то стыдилась и опасалась, что домашние
заметят ее смущение, что выражение ее лица, как броский
заголовок вечерней газеты, откроет им, сколь постыдно
она себя вела.
Но и на то, чтобы вернуться в лавку, у нее тоже не
хватило духу. Так она медлила в нерешительности, при-
давленная, словно непреодолимой тяжестью, ощуще-
нием, что все, что бы она сейчас ни сделала, будет
неправильно, гадко и скверно, будет недостойно ее,
сколько бы она ни пыталась потом этот свой поступок
оправдать.
В эту минуту она услыхала рядом с собой — так
близко, будто говорили ей в самое ухо — тихий шепот,
скорее шелест:
— Будьте так добры, пожалуйста, дайте немного
денег — на кусок хлеба!
Мгновенно ощутив несказанное облегчение, дама
обернулась и увидела юное женское лицо, узкое в об-
рамлении темно-синего платка, — тут только она заме-
тила, что идет дождь, идет, наверное, уже несколько
минут: из-под платка у девушки выбились пряди во-
лос и, намокнув, отливали черным блеском, а на шер-
стяных ворсинках платка и на бровях жемчужинками
сверкали капли воды, такие же капли застыли у нее
на лице, под глазами, на покрытых нежным пушком
щеках, — казалось, будто по ним текут слезы. Дама
почувствовала, что и ее лицо стало влажным. Она
взглянула на девушку, все еще слыша тихо и тороп-
ливо произнесенную тою фразу, — фраза эта, как пла-
стинка, крутилась у нее в ушах, — и подумала, что
ведь и сама с двенадцати часов ничего не ела и, долж-
но быть, всему виною голод, — это он, и ничто иное,
так опустошил ее, что она едва не рухнула в образовав-
шуюся пустоту! Но прежде чем эта мысль, хоть и про-
15+'/4 Австрийская новелла XX в. 453
мелькнувшая у нее в голове, была по-настоящему осо-
знана и признана справедливой, прежде чем она успела
как следует укорениться, наряду с ней зашевелились
другие, заглушив ту, первую: «Вот, вот он, шанс! Шанс
возместить себе, хоть и окольным путем, то, что я упу-
стила сейчас в лавке антиквара, и в то же время — по-
вод не ехать сразу домой, не избавясь от чувства стыда!»
И еще ей подумалось: «Но какое приключение! Не
только увидеть перед собой воочию, но и самой ока-
заться замешанной, втянутой, вовлеченной в нечто такое,
чего ты до сих пор еще не испытывала, о чем только
читала, — в приключение, как у Достоевского!» И, па-
конец, прозрачной тенью скользнула еще одна мыс-
лишка: в каком восторге будет ее приятельница, певи-
ца, когда она ей об этом расскажет! А девушке она
сказала:
— Ах, знаете что, пойдемте поужинаем в каком-
нибудь уютном ресторане! Я вас приглашаю.
«Нет,— подумала она,— к Шпицеру идти не стоит,
там очень уж изысканно, девушка еще застесняется, —
наверное, под этим поношенным пальто на ней какое-
нибудь дешевенькое платьице; в «Регину» с ней тоже
не пойдешь, лучше всего нам пойти в вокзальный ре-
сторан, там можно поесть вкусно и не слишком дорого,
не привлекая к себе внимания!»
Девушка шепнула:
— Нет, нет, ради бога!
С ужасом, будто ей сделали невесть какое гнусное
предложение, глядела она в лицо незнакомой дахме,
к которой вдруг осмелилась обратиться, — высокой,
красивой даме, говорившей с ней так просто, тоном се-
стры; та же тем временем остановила такси, мягко, но
решительно взяла девушку за руку выше локтя, подвела
к машине, втолкнула вовнутрь и, небрежно бросив шоферу
несколько слов — куда ехать (девушка, сидя внутри, уже
не могла их расслышать), опустилась с ней рядом на
заднее сиденье.
— Пожалуйста, не стесняйтесь, сегодня вы у меня
в гостях, вот и все! — сказала она.
И когда девушка, не столько словами, сколько всей
своей худенькой скрюченной фигуркой, казалось, хотела
возразить, дама прибавила:
— Нет, нет, вам незачем извиняться, и объяснять
нпчего не надо, в жизни всякое бывает, будьте только
454
паинькой и сделайте мне одолжение — поужинайте со
мной!
Она испытывала искушение обнять девушку за угло-
ватые, по-птичьи костлявые плечи, но подумала, что
подобный жест, получись он даже достаточно непо-
средственным и сердечным, ничуть не успокоит ее, а
только еще больше смутит, и оставила эту мысль, но,
продолжая размышлять, пришла к выводу, что проявить
сейчас легкомысленное нетерпение, пусть и продикто-
ванное самыми благими намерениями, и раньше времени
спугнуть эту редкостную, бесценную добычу, которую
счастливый случай прямо-таки отдал ей в руки, было
бы невозместимой потерей, — тут она почувствовала,
что такой ход мыслей заводит ее в запретные дебри,
и сказала, для того также, чтобы сойти с этого ложного
пути:
— Посидим уютненько вдвоем и поужинаем, ладно?
Девушка заметила, что шофер везет их к вокзалу,
куда несколькими минутами раньше она бежала сама,
замирая от робости перед каждой встречной женщиной,
к которой она, как ей казалось, уже готова была обра-
титься с просьбой (но тут же от этого намерения от-
казывалась), — сейчас она думала, что чем ближе они
подъедут к вокзалу, тем лучше. И пока она, можно
сказать, лихорадочно рылась в своем мозгу, соображая,
когда, а главное, каким образом объяснить все незна-
комой даме, таксист, как ему было велено, выехал на
вокзальную площадь, обогнул ее и подкатил под навис-
шую над тротуаром крышу кассового вала. Из-за сте-
кол машины, исполосованных струями дождя, слов-
но узник из-за решетки пугливо выглядывала де-
вушка.
— Подъезжайте к ресторану!
Шофер подрулил к ресторану, выскочил из машины,
рванул дверцу, а получив деньги и повинуясь жесту
пассажирки, означавшему, что сдачи не надо, немедлен-
но сунул кошелек с мелочью обратно в карман куртки.
Девушка подумала, что вот сейчас самое время сказать.
Между тем она уже чувствовала, что ее мягко, но непре-
клонно взяли под руку: благодетельница поднялась с
ней по ступенькам к дверям ресторана и повела к од-
ному из немногих свободных столиков у большого окна,
в которое были видны платформы и на путях между
ними готовые к отправлению поезда.
15 + «/4*
455
— А теперь не будем спешить и посидим здесь в
свое удовольствие, согласны?
Девушка, за все время не проронившая ни единого
слова, по-прежнему молчала; не снимая ни пальто, ни
платка, она большими глазами смотрела вниз, на перро-
ны: под их плоскими, чуть скошенными вовнутрь кры-
шами с водосточным желобом посередине виднелись
чемоданы и ноги пассажиров, топтавшихся в ожидании
на узком пространстве платформы, — головы их в поле
зрения не попадали.
— Снимите же пальто, моя милая!
«О нет, нет, нет!», — подумала девушка. А сама тут
же взялась за узел платка, завязанный под подбородком,
распустила его, сняла платок и повесила на спинку
кресла. Если бы эта дама хоть не была так тошпотворно
любезна, — ну как тут ей скажешь? Она чувствовала,
что не в силах разочаровать благодетельницу, выложить
ей все, будто краденое добро из сумки, а потому, вслед
за платком, сняла и намокшее пальто, тем паче, что дама
при этом ей помогала, и позволила усадить себя в по-
додвинутое кресло.
— Хорошо бы нам для начала выпить по рюмочке
коньяку, сразу согреемся, — заявила дама. И поскольку
девушка все еще молчала, прибавила: — Ведь вы не
против коньяка?
— Нет, — нерешительно начала девушка, она про-
изнесла это совсем тихо, не поднимая глаз, с отвраще-
нием думая об алкоголе, но потом, полагая, что коньяк
придаст ей мужество, которое было ей сейчас так необ-
ходимо, чтобы сдвинуть с места воз, увязший в любезно-
сти этой незнакомой дамы, — мужество, в котором она
сейчас нуждалась, как никогда в жизни,— продолжа-
ла: — Но если вы, сударыня, считаете...
— Ну вот видите! — заявила та, к которой она обра-
щалась, весьма довольная успехом своей первой реши-
тельной попытки войти в контакт с молчаливым и словно
окаменевшим созданьем, сидящим сейчас напротив нее,
и заказала кельнеру, который как раз подошел и подал
им две карты, коньяк. — Французский, пожалуйста! —
И снова обратилась к девушке: — Только не говорите
больше «сударыня», называйте меня просто по имени! —
И она назвала свое имя. И подумала: «Какая красивая
девушка! Лицо совсем не грубое и но глупое! Кто знает,
отчего она попала в беду? Быть может, у нее дома кто-то
456
болен или она больна сама? Славная, только невероятно
робкая! Милостыню просит, наверное, первый раз в жиз-
ни, а вот я, пожалуй, могу повернуть дело так, чтобы этот
первый раз стал последним! Надо только узнать, что
такое с ней стряслось. Но она и сама мне расскажет, вне
всякого сомнения!»
Кельнер принес коньяк.
— Дамы уже выбрали?
— Одну минутку!
Кельнер отошел. Дама подняла свою рюмку, ободряю-
ще улыбнулась девушке. Та неуверенно взяла коньяк,
поднесла ко рту, пригубила раз-другой и вдруг судорож-
но, неловко опрокинула в себя. Хватая ртом воздух, пы-
талась преодолеть спазм гортани, потом, глубоко вздох-
нув, расслабилась, опустила вскинутый вверх подборо-
док и на миг застыла опять, уткнувшись взглядом в часы
на стене, вернее, в белую стену, на которую были нане-
сены двенадцать черных черточек и сорок восемь черных
точек, а посередине по кругу двигались две черные стрел-
ки. «Осталось каких-нибудь десять минут, но я могу еще
успеть пробежать вдоль поезда и заглянуть в каждое
купе,— думала девушка.— Если я не скажу ей сейчас,
будет поздно». И она сказала:
— Мне надо... надо вам кое-что рассказать... — но,
ошеломленная собственной смелостью, сразу же сбилась,
и за этими первыми, с трудом давшимися ей словами по-
следовало такое невнятное, так похожее на жалобный
плач бормотанье, что дама осторожно остановила ее:
— Давайте все-таки сначала спокойно поедим! После
хорошего ужина и говорить легче, это ведь неоспоримо.
Выбирайте, не стесняйтесь! Выбирайте, что вам по вкусу!
И она пододвинула к девушке, вперившей глаза в
стол, развернутую карту.
— Телячий шницель с салатом, хотите?
Девушка чуть заметно кивнула, с тупой, бессмыслен-
ной, ничему не внимающей покорностью человека, кото-
рому объявляют смертный приговор.
— Или, может, лучше фаршированный перец с ри-
сом?.. А вот еще один деликатес — рагу с pommes frites К
И когда девушка опять механически кивнула, дама
подозвала кельнера и заказала две порции рагу с pommes
frites и графинчик вина, а для девушки просила принести
Жареной картошкой (фр.).
457
еще рюмку коньяка. Она бы охотно сказала своей
гостье что-нибудь ободряющее, но слова, приходившие ей
на ум, едва она собиралась их произнести, оказыва-
лись избитыми и пошлыми, поэтому она тоже молчала.
Снаружи, за окном, локомотивы лениво выплевывали в
сырой сумрак клочья вязкого дыма, одинокие огни — зе-
леные, красные, синие, белые — расплывались в туман-
ной мгле.
Кельнер принес коньяк — девушка к нему не притро-
нулась. Зал ресторана постепенно заполнялся людьми —
то были в основном пассажиры, отъезжавшие ночными
поездами и зашедшие сюда поужинать, но многие при-
ехали из города специально в ресторан. Громкоговоритель
выкликал поезда — служащий вокзального радиоузла с
хрипотцой, скандируя слова, объявлял рабочие поезда в
ближние пригороды. И вдруг: «Скорый поезд с вагоном
прямого сообщения до Гавра». Девушка услышала это
объявление со всем его хрипом и треском, она уставилась
неподвижным взглядом в белую стену с черточками, точ-
ками и стрелками, будто в ее власти было остановить вре-
мя; она понимала, что осталась последняя, самая послед-
няя возможность, но продолжала молчать, словно рот ей
замкнула какая-то непомерная вина; она еще не разумела,
но чувствовала с уверенностью, превосходящей всякое
разумение, что всю ее энергию поглотила не самая прось-
ба, с которой она каких-нибудь полчаса назад обратилась
к незнакомой даме, а жалкая неправдоподобность этой
просьбы — вот что высосало до дна сосуд ее воли, кото-
рый еще недавно казался ей неисчерпаемым. Кельнер
принес кушанья, налил вина в бокалы.
— Ну вот, — сказала угощавшая ее дама, — теперь
забудьте обо всем, кроме еды.
Неловкими, словно онемевшими пальцами, — каза-
лось, от них оттекла вся кровь, — девушка взяла прибор,
подцепила кусок с тарелки, но руки у нее сразу же опу-
стились, и в то время как часть ее помыслов была по-
прежнему устремлена к такой близкой и, увы, такой не-
досягаемой цели, она с тоской думала, что находится в
плену, в западне, стенки которой воздвигла ее неправдо-
подобная просьба, и захлопнувшаяся за нею дверца —
это сверхщедрое исполнение той же просьбы. «Не надо
на нее нажимать, надо дать ей время постепенно прийти
в себя», — думала меж тем другая и как можно скром-
нее принялась за еду. Но вдруг тоже опустила нож и
458
вилку, заметив, что лицо девушки словно сведено судоро-
гой, а мертвенно-неподвижный взгляд устремлен на
что-то позади нее, — дама резко обернулась, словно по-
винуясь сигналу опасности у нее за спиной, но там была
лишь белая стена с черными часами. Снизу, с путей, раз-
дался свисток, прорезав тишину, чуть шелестящую тиши-
ну, нависшую над вокзалом. Потом засопел и часто-часто
задышал локомотив, но вскоре вошел в ритм, так же, как
и понемногу нараставший дробный перестук колес. Де-
вушка застыла в таком напряжении, что оно, казалось,
сейчас разорвет ее изнутри. «Нет, — подумала ее благо-
детельница, — она до того робка, что лучше всего будет
оставить ее одну!» Она выудила из сумки визитную кар-
точку, положила ее на стол, а рядом — три сложенные
пополам банкноты, пододвинула эти бумажки к тарелке
девушки и сказала, силясь вложить в свой тон всю сердеч-
ность, на какую только была способна:
— К сожалению, мне придется уйти — становится
поздно. — И, поспешно отдернув руку, словно чуть было
не попалась в краже, добавила: — Право же, я не хотела
вас обидеть. Я только хотела вам помочь, насколько ото
в моих силах. Пожалуйста, напишите мне, у меня есть
влиятельные друзья, я не сомневаюсь, мы что-нибудь для
вас найдем! — Она поднялась с места. — Сделайте одол-
жение, заплатите за все, а о том, что останется, ни слова,
хорошо?
Тут только девушка заметила визитную карточку и
три бумажки по десять марок, дрожащими пальцами ощу-
пала их, и вдруг затверделая маска ярости на ее лице лоп-
нула, оно вспыхнуло огнем разочарования и отчаяния:
«Сию минуту, скорее, немедля!» Мигом схватила она со
стола деньги и визитную карточку, вскочила, сорвала с
крючка пальто и выбежала из зала, мимо искренне изум-
ленного кельнера, мимо ряда столиков,—сидящие за ними
люди вертели головой и вытягивали шею вслед девушке,
а потом переводили взгляд на бесцеремонно покинутую
даму, которая торопливо расплачивалась с кельнером: за
одним из столиков кто-то сказал, да так громко, что нель-
зя было не расслышать:
— Ясное дело, чего-то она хотела от девчонки!
Дама собрала свои вещи и с поникшей головой на-
правилась к выходу, она еще раздумывала, не взять ли
с собой платок, брошенный девушкой на стуле, как па-
мять об этом приключении, из которого ей не удалось
459
выйти с честью. И в тот миг, когда она резко отбросила
эту мимолетную мысль, рядом с ней очутился кельнер и
протянул ей платок. Она молча взяла его, только ради
того, чтобы уйти отсюда без дальних слов, и поспешила
на свой перрон, откуда, как ей было известно, вскоре дол-
жен был отправиться очередной рабочий поезд. Войдя
в купе, она погасила свет и бессильно опустилась на
диван,
девушка же тем временем летела через вокзальную
площадь, летела обратно тем же путем, каким ехала
в такси, и в ее затуманенной голове билась одна-един-
ственная мысль — о нем, о том, кого она так спешила
увидеть, увидеть в последний раз, но теперь он уехал, а
она так и не повидалась с ним, так и не успела сказать,
что виновата не только она, не только она одна, видит
бог. Даже его последнее письмо отец от нее скрыл, пото-
му что не терпел этого «чужеземного болвана», эту «за-
морскую образину», а проще говоря, потому, что не же-
лал отпускать от себя дочь, доставлявшую ему деньги
на пропой. Когда же ао чистой случайности, благодаря
тому, что сегодня ее упившийся родитель раньше обыч-
ного завалился спать, к ней, в ее дрожащие руки попала
записка друга, где он сообщал о своем окончательном
отъезде, было уже поздно, вернее, не совсем еще поздно,
будь у нее хоть немного денег — двадцать пфеннингов
на трамвай и десять на перронный билет, но, как на грех,
этих тридцати пяти пфеннингов у нее не было, ибо ее
отец, если бы даже удалось его растолкать, скорее при-
стукнул бы ее винной бутылкой, чем дал ей денег на что
бы то ни было, а по соседству не нашлось никого, у кого
бы она могла занять. Так и получилось, что она отпра-
вилась на вокзал пешком, обратилась на улице к незна-
комой красивой даме и этим все погубила. Попала в тиски
и не могла вырваться, зажатая, с одной стороны, своей
неправдоподобной просьбой, с другой, —- сверхщедрым
исполнением этой просьбы, — не могла, не могла разжать
тиски, чтобы открыть незнакомке правду — нехитрую,
маленькую, но, ах, такую понятную правду, правду о том,
что ей надо еще раз увидеть его, его, его, не затем, чтобы
удержать, а лишь затем, чтобы объяснить, как это все
получилось, объяснить, прежде чем он уедет в такую
даль, что и подумать страшно, уедет, чтобы никогда не
вернуться; да, да, ей надо было объяснить ему, как это
все получилось, но поистине не затем, чтобы его удер-
460
жать, уговорить остаться, а лишь затем, чтобы признать-
ся ему во всем и признанием смыть размолвку, горечь и
злость, которые иначе воздвигнут между ними преграду,
более непреодолимую, нежели глубочайшее море, — воз-
двигнут, если ей не удастся еще раз увидеть его и все-все
ему объяснить, высказать па прощанье добрые пожелания
и услышать добрые пожелания в ответ — на тот случай,
чтобы конец, если между ними действительно все конче-
но, был бы не хуже, чем возможное продолжение! Она
обратилась к незнакомой красивой даме и попросила дать
ей на хлеб, потому что, как она считала, хлеб для лю-
дей — безусловная ценность, отсутствие которой они
ощущают настолько остро, что всегда готовы возмутиться,
а потому и помочь, — но все вышло и лучше, и намного
хуже, чем она предполагала! Она просто угодила в ло-
вушку, не могла отделаться от этой готовности помочь,
которой так злоупотребила, к которой воззвала в расте-
рянности, не передаваемой словом «хлеб», — угодила в
ловушку, была зажата между собственной крошечной
ложью и огромной добротой этой чужой высокой краси-
вой богатой дамы,
которая в это время уже сидела в громыхавшем поезде
и думала, что всему виной был голод — он медленно
опустошил ее, заставил чувствовать себя несчастной и
натолкнул на приключения, с которыми она, по
своей натуре, не могла совладать, а все потому, что в
лавке антиквара она не решилась сделать покупку
и упущенное придется наверстывать затра по телефону.
(«Да, я это обдумала, наутро я решилась, я эту вещь
беру».) И все же мысль о сервизе не приносила ей
радости; чем ожесточеннее цеплялась она за эту мысль,
тем болезненнее чувствовала, что главная добыча ее сего-
дняшней охоты в потемках от нее ускользнула. Все потра-
чено впустую — время, деньги, усилия, бессмысленное
и бесполезное участие, а под конец ей вдобавок нанесли
оскорбление! Никогда еще, сколько она себя помнила, не
случалось ей терпеть такую глубокую неудачу, без всякой
видимой причины, не зная за собой никакой вины. Она
изводила себя вопросами, что же, собственно, произошло,
почему не удалось ей справиться с этим приключением,
хотя она поистине ничего не пожалела — ни труда, ни
времени, ни денег, не упустила ничего, что было в ее си-
лах, и постепенно раздражение у нее сменилось злобой,
сомнения — равнодушием, стыд — желанием поскорее
461
забыть. Это новое для нее испытание — беспричинная
неудача — застигло ее врасплох, она не знала, как с ним
быть, и хотела начисто от него избавиться. Равно как и
от платка девушки. Как будто ничего не было, ну реши-
тельно ничего, а стало быть, ничто, в том числе и платок,
не должно ей об этом напоминать! Она вытащила ненуж-
ную вещь из сумки и уже собиралась забросить ее в сетку
напротив сиденья. Но в тот миг, когда пальцы ее косну-
лись грубошерстного платка, — его истертая ткань еще
хранила в себе влагу, — прикосновение к этой оставшей-
ся у нее малой, жалкой частице реальности дало ей по-
чувствовать всю нерушимую реальность ее встречи с то-
ненькой бледной девушкой, встречи в ненастный вечер,
под моросящим дождем, возле лавки антиквара, и с без-
ошибочной верностью чутья, подавившего в ней все мыс-
ли, она поняла, что в этот раз встретилась не просто с
бедным и жалким созданьем из незнакомой ей половины
человечества, а с непостижимой судьбой человека, дела-
ющей его более достойным жалости, чем бедность или не-
счастье, и не всегда тут может помочь, исцелить, спасти
доброта, пусть бы в ее распоряжении оказались все мате-
риальные средства мира. И еще она поняла, что от собы-
тия вроде того, в какое она была вовлечена сегодня,
нельзя отделаться просто так — забыть, как чужой пла-
ток в багажной сетке, и чем больше привыкали ее паль-
цы к вещи, которой сейчас касались, тем отчетливее она
ощущала навеваемую этой вещью печаль, словно развяз-
ку недавнего приключения; печаль, остающуюся после
всякого истинного опыта, который, как она считала, мож-
но воспринять лишь осязанием души; печаль, в какую она
погружалась теперь все глубже, вплоть до самых истоков
жизни, где эта печаль, когда она воистину прорывает себе
ход в глубину, ударясь о дно, вдруг оборачивается непо-
стижимым мужеством, лишь благодаря ему человек выби-
рается наверх и продолжает жить. Она хотела оказать
помощь, а получила ее сама, но как! И когда поезд оста-
новился в предместье, где она жила, она безудержно раз-
рыдалась; она плакала, уткнувшись лицом в колючий
шерстяной платок, понимала, что домашние это заметят,
но не могла остановиться и продолжала тихо и беззвучно
плакать по дороге домой, она плакала в постели, со слеза-
ми заснула и со слезами начала новый день, новую жизнь,
в которой очутилась с пустыми руками —и тем богаче.
Герта Крефтнер
(1928-1951)
Влюбленная пара
Жестокие обстоятельства не позволяли этой влюблен-
ной паре завести собственный семейный очаг. Несколько
недель, прошедших в отчаянных и бесплодных попытках
найти какой-нибудь выход, заставили их смириться с тяж-
ким уделом жить па лестничных площадках, в чужих
подъездах, коридорах, приемных, на скамейках пар-
ка. Постепенно в эту жизнь, состоявшую из встреч в
местах случайных, они внесли упорядоченность и раз-
меренный ход. Подобно тому как прочие люди в своих
квартирах подчиняются определенным привычкам (в из-
вестное время дня принимают пищу, читают утренние
газеты в одном и том же кресле, приглашают гостей по
специально отведенным для этого дням), так и они при-
выкли во все, что делали вместе, впосить видимость по-
рядка и повседневности.
Дела денежные они обсуждали, как правило, сидя в
приемных у популярных и очень занятых врачей. Ассис-
тентам их они объясняли, что ждут здесь больную тетку;
прежде чем последний пациент исчезал за белой дверью
кабинета, они покидали приемную с выражением сожа-
ления на лицах. После подобных деловых обсуждений он
не целовал ее на лестнице: обычно людям не до неж-
ностей, когда их только что покинул какой-нибудь комми-
вояжер, навязавший им покупку пылесоса в рассрочку.
Каждое утро они извлекали пз своих абопементных
ящиков почту и встречались—жили они в разных концах
города — где-нибудь на полпути. В одном из подъездов на
403
солнечной стороне улицы, стоя у окошка, поближе к све-
ту, они читали письма и выписываемую ими газету и не-
мало досадовали на консьержку из-за немытых стекол.
По служебным делам они ходили по возможности вме-
сте, но в любом случае во время трапез встречались в од-
ном ресторанчике, где можно было поесть сытно и по-до-
машнему.
Род их занятий был таков, что в иные дни после обеда
они оказывались совершенно свободными. Понятно, что в
кафе они заходили изредка и лишь по необходимости,—
скажем, если погода стояла холоднее обычного или в
спешке не удавалось найти дома, в подъезде которого в
это время дня хватало бы света, чтобы, примостившись
на подоконнике, ответить на то или иное срочное письмо.
В кафе им не по душе было многолюдство. (Мне известны
лишь немногие, кто гомон и дым подобных заведений
предпочитают уютной тишине собственных квартир.) Ча-
ще всего они проводили время в скверах, читая, пока еще
было достаточно светло. Преимущества скамеек перед
садовыми стульями стали им ясны весьма скоро; не го-
воря уже о том, что за сидение на них не надо было пла-
тить (пусть никто не заподозрит наших героев в скупо-
сти, заставляющей человека отказывать себе во всем, но
сложите плату за ежедневное сидение в течение несколь-
ких лет и помножьте сумму на два...),—итак, не говоря
уже об этом, скамейки оставляли телу большую свободу
движений, позволяли влюбленным в то же время, теснее
прижаться друг к другу. И все же, как ни радовались они
существованию добротных и удобных деревянных ска-
меек (постепенно обнаружилось, что среди них есть луч-
шие и худшие, по расположению на свету или в тени, по
защищенности от ветра и по тому, как часто здесь появ-
лялись гуляющие), жило в наших влюбленных тайное
сладостное влечение к каменным балюстрадам, которые
еще сохранились кое-где в парках нашего города. В сол-
нечные дни они охотно приходили сюда и, сидя рядом
на мраморных плитах, болтали ногами, на которые про-
хладой веял легкий ветерок, гулявший между низкими
колонками ограды. Здесь же, на этих светлых мраморных
плитах, он по временам читал ей вслух, а она пристально
следила за его руками, листавшими страницы. На этих
балюстрадах ее охватывала непреодолимая тоска по пу-
стыням, по морю, по кораблям и верблюдам.
Наступали сумерки, и они поднимались, чтобы, как
464
они говорили, пойти домой. Никогда они не намечали себе
заранее какого-либо определенного дома, и редко случа-
лось, что они дважды посещали те же самые дома, но со
временем у них появилось свое излюбленное направление
поисков. Никогда они не заходили в дома, двери которых
были распахнуты настежь, а лестницы равнодушно от-
крыты взорам каждого прохожего. Им были милы двери,
открывавшиеся медленно и с натугой, двери, за которы-
ми, отгороженные железнылш решетками, простирались
пустынные темные коридоры. Они избегали домов, фасады
которых изобиловали вывесками: нотариусы, адвокаты,
торговые конторы, врачи не были гарантированы от посе-
тителей даже в это позднее время дня. Им нравилось,
когда на лестничных площадках и в проходах раздавался
звук только их собственных шагов. Войдя в подъезд,
обычно они первым делом целовались; бок о бок, — ведь
они были одинакового роста, — они поднимались все вы-
ше, проходя этаж за этажом. Иногда им попадались дома
с глубокими оконными нишами, недоступными для взгля-
да через дверной глазок. Там, жарко и крепко обнявшись,
они любили друг друга. Или же взбирались до самого
входа на чердак и сидели на последней ступеньке, так
что временами им было слышно, как ветер гремел чере-
пицей. Или стояли, прислонившись к перилам, как раз
в том месте, где лестница делает поворот вокруг толстой
колонны, которая одинаково надежно укрывала их от
взглядов как с верхнего, так и с нижнего этажа. Немного
позже, когда на лестнице зажигали свет и она оживала
под шагами спешащих в свои квартиры людей, они стоя-
ли рядом, беседуя вполголоса, и на вопросы, которые им
изредка задавали, любезно отвечали, что дожидаются зна-
комых: вон их дверь, но они еще не вернулись домой.
Било девять, — в этот час запираются подъезды, —
и при свете уличных фонарей и светофоров они направ-
лялись к остановке трамвая. Каждый из них снимал ком-
нату, но ни разу никто из них не проводил другого до
дома: расставания у дверей были для них невыносимы.
Со временем они придумали себе маленькие развлече-
ния; подобно людям, из окна собственного дома наблю-
дающим улицу, где всякий прохожий делается предметом
игры их воображения, они представляли себе внутренний
вид и обстановку квартир, на дверях которых красовались
таблички с именами вроде Кранцельмахер, Фукс или Ре-
телыптейн.
465
Однажды по делам службы им пришлось три дня под-
ряд наведываться в некий дом в одном из предместий.
Они приметили, что кухонное окно в угловой квартире
второго этажа целыми днями было распахнуто, по радио
играла музыка и ее звуки были слышны повсюду в подъ-
езде. Тогда они взяли в обычай именно здесь проводить
свое послеобеденное время. Однако сидеть у чердачных
дверей скоро стало неудобно, так как каждый день около
половины шестого на чердак поднималась пожилая жен-
щина: она развешивала там детское белье. Чтобы не ды-
шать кислым запахом пеленок, они вынуждены были от-
казаться от музыки.
Но, несмотря ни на что, это детское белье не шло у
них из головы, и только несколько дней спустя опи при-
знались в этом друг другу. В прощальных лучах октябрь-
ского солнца они сидели на одной из мраморных балю-
страд и обсуждали возможность иметь ребенка. В тот день
они позабыли, что пора уже было «идти домой»; на них,
погруженных в молчание, набрел сторож, делавший свой
последний обход. После этого долгое время они не искали
уже в домах, как прежде, укромных уголков; случалось,
что они останавливались прямо у дверей привратника;
минуя их, без конца входили и выходили люди, ко-
торых они, занятые своим разговором, даже не заме-
чали. Разумеется, им были ясны те трудности, с которы-
ми были связано появление ребенка. Пока его надо будет
кормить грудью, ему придется спать вместе с матерью;
зато потом он мог бы каждую вторую ночь проводить у
отца. Были, конечно, сложности с коляской. Им придется
значительно больше, чем прежде, ходить пешком: ведь
коляску не так-то просто погрузить в трамвай; впрочем,
ребенка можно будет по очереди носить на руках, что
хотя и утомительней, но в известном отношении даже
удобнее, принимая во внимание их жизнь в подъездах, —
коляску нелегко было бы таскать по лестницам; но,
с другой стороны, длительное пребывание на темных
лестничных площадках, без сомнения, было бы неуютным
для ребенка и отразилось бы на его эдоровье, эти крохи
вообще очень чувствительны — вот в чем главная опас-
ность; хотя они и надеялись, что ребенок унаследует креп-
кое здоровье своих родителей (ни ветер, ни дурная пого-
да были им не страшны), все-таки следовало опасаться,
что постоянные сквозняки в подъездах и на лестницах не
пойдут ему на пользу; возможно, им придется часто эахо-
466
дить в кафе, чтобы перепеленать малыша, и резкая сме-
на температур при этом будет опасна. Но у них было
здоровое восприятие жизни, и, представляя себе, как их
ребенок впервые улыбнется солнечному лучу, проникше-
му через стеклянную крышу, они забывали обо всех не-
удобствах. Семь дней спустя они разыскали один дом,
которому предстоял капитальный ремонт: дом уже стоял
весь в лесах, только по ним и можно было добраться до
верхних этажей, хотя работать здесь еще не начинали.
Они стояли и наблюдали, как расходятся рабочие, потом
вскарабкались вверх по дощатым мосткам. Притаив-
шись, дождались, пока в нижних лажах не погас свет
и в замке наружной двери не повернулся скрипучий ключ.
Подоконник был широк и низок, а внизу во дворе — они
заметили это — росла высохшая акация. Прежде чем яви-
лись строители, они проснулись на забытом кем-то ков-
рике у дверей одной из пустых квартир.
Прошло немного времени, и случилось так, что он
впервые заставил ее ждать себя целых полчаса. Она си-
дела в приемной доктора X., который каждый раз, когда
выглядывал из кабинета, бросал в ее сторону взгляд, цеп-
кий, как крючок рыболова. Она не обращала на это ни-
какого внимания, так же как и на бежавшее время. На-
конец он пришел, его сильно лихорадило. По совету док-
тора X. она отвезла его в больницу, где через несколько
дней он умер от воспаления легких, естественного след-
ствия их образа жизни.
Еще два месяца она ожидала ребенка, но ночь, прове
денная по ту сторону шатких мостков, ^осталась без по
следствий, и она перестала одиноко скитаться по лест-
ничным площадкам, чужим коридорам, подъездам, при
емным, скамейкам. Слишком медленно тянулись холод
ные вечера. Уже в январе она приняла предложение
доктора X.
Ганс Карл Артман
(Род. в 1921 г)
Гистория о заколдованном гусаре
Все дамы как цыганы, проворны на обманы.
Старинная песенка
Однажды некая ведьма на яблоне сидела и яблоко ела.
Еще не начало рассветать, и холод был преизрядный, и
ведьма, каковая по общей всем ведьмам моде на бедрах
носила лишь тонкий шелковый балахон, а выше ничего,
мерзла чуть ли не до самых костей.
Когда же наконец прокукарекал фессальский петел,
прибыл на то место храбрый гусар, который, вчерашнего
дня лишившись в схватке своего скакуна, был вынужден
поспешать пешком и снялся нынче с лагеря весьма рано,
затем чтобы дотемна настичь полк свой.
— Яблоня сия мне нравится, — промолвил он, — и я,
с позволения сказать, сделаю тут первый по нужде
привал.
И, встав пред стволом дерева, он расставил ноги,
словно посаженный отец, но допреж всего зорко взглянул
вправо, взглянул влево, засим оглянулся назад, ибо был
он человек отменно учтивых манер, подлинный гусар
старого закала и не чета нынешним военным людям, кото-
рые в большей своей части все чурбаны. Итак, поглядев
на три стороны, в четвертую поглядеть он забыл и на вер-
хушку дерева не взглянул. Сие было ошибкой, которая
в бою может стоить головы, ежели рядом прикинется
смерть. Шлеп! — и о кивер его ударилось яблоко.
— Кто это? — воскликнул по всей справедливости
гусар, нежданно застигнутый врасплох.
— Эй, приятель! — послышалось из густолиственной
высоты над его головой.
468
Гусар встал наизготовку, спрятал в безопасное место
свое орудие 1 и отступил на несколько шагов вспять.
— Берегись, как бы мне на упрыгнуть тебя на-
смерть! — вскричала ведьма и, как была, соскочила с
яблони наземь. — Не хочешь ли яблочка? — спросила
она.
Гусар покрутил завитой ус и был немало удивлен,
встретив в столь ранний час особу женска полу, весьма
собой красивую. О том же, что она ведьма, он догадаться
не мог, затем что все приметы, по коим возможно
было бы сие распознать, скрыты были у ней под бала-
хоном.
— С добрым утром. Какова стужа! — сказал он, по-
тому что все еще воздух был холоден.
— С добрым утром, — отвечала ведьма. — Я спросила
вашу милость, не желаете ли вы яблочка?
— Не нахожу особливого вкуса в тех яблочках, что
растут на обыкновенных деревах2,— сказал гусар и
взглянул ведьме на то, что более всего у нее мерзло.
— Ежели так, то есть и некие иные 3,— ответствовала
ведьма. Но глупой она лишь представилась, ведая слиш-
ком даже хорошо, какие яблочки могут быть на уме у гу-
сара в такой ранний час.— Сколь мне ни прискорбно, не
могу постигнуть, на каких таких особливых деревьях ра-
стут те яблочки, что ты разумеешь.
Добрый гусар думал меж тем: «Дерево дереву рознь.
У того, кое я разумею, есть и руки, и ноги, так что, будь
все деревья ему подобны, я с превеликой охотою повесил
бы Марсов мундир на крюк отставки и незамедлительно
сделался бы преискусным садовником».
Поелику ведьмы преотлично умеют читать людские
помыслы, то и вышесказанную гусарову мысль ведьма
разгадала. И вознамерилась, коль скоро утро вечера муд-
ренее, сотворить некое зло, платя дань неназываемому
господину своему и повелителю. Но при сем она думала,
что из этого произрастет немало и для ее прекрасной
плоти. Двое вместе на одном насесте, с пользою и прият-
ность, дождь и плевелы поливает, и ноги омывает4.
1 То был. верно, некий нас/с. дабы гушить им беглый огонь.
2 См. Бытие, 3; Матф., 10—16; Иоанн, 8, 44.
8 Смерть и беда, болезнь и нужда. Зло с тех пор и ведет
свой род, как попало яблочко в рот.
* «Но лишь когда дождь пускает гусар» (Валентин
Шуман. Ночная книжка).
469
А нагл гусар и впрямь являл образец весьма статного гу-
сара. И опять ведьма спросила его:
— Есть у тебя нынче утром хоть малость свободного
времени? Коль ты умен, так яблоки, тебе желанные, до-
станутся тебе еще прежде, чем солнце взойдет над де-
ревьями.
И гусар, подумавши: «Поспею я в полк задолго до но-
чи» \— отвечал на это:
— Времени у меня полная чересседельная сума, а в
нее много чего влезает.
Но то ему было невдомек, что милых своих товарищей
он уже не увидит до Страшного суда.
— Пойдем со мной! — кликнула его ведьма и пошла
вперед, указывая дорогу, а гусар проворно ей следовал.
— Поистине женщина и есть женщина, — бормотал
он, втихомолку радуясь, — все проворны на обманы, как
цыганы.
Недолго спустя оказались они в глуши леса. Вот так и
бывает: остановишься просто по нужде под яблоней, а
попадешь в лесное приключение. Вокруг множество де-
рев, одно за другое прячется. Но то деревце, что не вы-
ходило у гусара из головы, было и гладко, и тонкостволь-
но, и смугло, и все время шло на шаг впереди, неся свои
два яблочка 2, за которые так и хотелось схватиться.
Наконец вышли они на приветливую полянку, кото-
рой посредине стояла ведьмина избушка. Тут гусар вос-
кликнул:
— Клянусь Сципионом Африканским и прочими ба-
тальных дел мастерами. Что, ежели она дочка старшего
лесничего или, хуже того, жена?
— Четыре кошки, три козла
Жипут со мной в глуши лесной,
Д# прилетает иногда
К нам черный голубь мой.
<— А мне все едино, — сказал гусар. — Когда уже
дело доходит до того, до чего дошло у нас, не страшен
мне ни старший лесничий, ни иной ловец здешних зайцев.
Так вошли они в избушку, а четыре кошки и три
козла, которые перед нею сидели, замяукали и заблеяли
1 Блаженны верующие!
1 Верно, с той самой яблони, где ведьма сидела, покуда
не подоспел гусар, в предназначались они ей на полдник.
470
так, что гусару почудилось, будто он слышит радушное
их приветствие: «Добрый день, добрый день». По этой
причине обратился он к ведьме и сказал:
— До чего приветливы у тебя звери! С каким реш-
пектом они меня встречают! Что за славные звери!
— У меня звери ученые, — отмечала прекрасная ведь-
ма, севши на высокую перину.
И все прочее делал гусар с превеликой изящностью и
любезностью, ибо так делать показалось ему весьма
уместно.
Наш доблестный гусар не читал, понятное дело, Лу-
киана, и о том, что именуется «метаморфоза» *, имел са-
мое смутное понятие. Да и ради какой пользы должно
было ему знать сие точно, ежели ни одна сабля от того
вострее не станет?
Когда луна смотрела уже в окошко, он, пробудившись
к бодрствованию, испугался, что на дворе уже ночь. Как
ему теперь настигнуть свой полк? А спохватившись о
прекрасной ведьме, заметил, что ее более нет там, где она
была, прежде чем оба они заснули, сиречь у него под
боком в обширной пуховой постели, в коей они раскварти-
ровались. Тут почувствовал он изрядную жажду, сде-
лавшую язык во рту его шершавым2, и вновь обратил
взор на окно, а увидевши там глиняный горшок с моло-
ком, прянул из белого гнезда и встал на все четыре
ноги.
Упал в окошко лунный луч.
Полковник смотрит на часы:
Куда, me Hercule, пропал
Гусар — крученые усы?3
1 Vd. «Non avem те sed asinum video..» (Ар u lei Metamor-
phoseon libri, lib. Ill, 25/1)- — «...Kai omis men ou gignomai о dys-
tyches, alla moi oura opisthen exelthe (Loukios e onos, 13).
(См.: «Вижу себя не птицей а ослом...» — (Апулей. Ме-
таморфозы» кп. III 25/1; лат.). — «...и не птицей становлюсь я,
несчастный, а вырастает у меня сзади хвост...» («Лукий, или
Осел», 13; греч.).
3 «Что лучше языка, что хуже в мире есть? В нем эло ко-
варное и в нем благая честь». См. также: «Hugo a S.-Victore»,
lib. II, «De anima»: «Lingua a lingo». («Гуго из Сен-Виктора»,
кн. II. «О душе»; Язык иолучил латипское свое имя от слова
лизать» (лаг.).
* «Кто после 80ри в казарму придет, под стражу statirn по-
падет» («Отчаянный граф, или Конюший из Клагепфурта». Пре-
великое и державное действо, лета MDCLV). Me Hercule —
клянусь Геркулесом; s i a l i m — немедленно (лат.).
471
Но, ежели бы даже необоримый господин полковник
высматривал теперь своего гусара через подзорную трубу,
он и тогда бы не узнал его ни за что. Правда, пестрый
воинский мундир лежал на том самом месте, где поутру
гусар разоблачался; однако же тому жаждущему, что в
сей час стоял, растерявшись, перед горшком с молоком,
он, судя по всему, едва ли пришелся бы впору. Ибо как
мог бы огромадный козел влезть в доброчестные гусарские
штаны, к тому же должным образом украшенные золотым
галуном и императорскими медалями? '
«До чего же страшно окопычены у меня руки!» — хо-
тел воскликнуть злосчастный гусар, но послышалось толь-
ко: «Ме-ее, ме-ее!»
Вот что приключилось с неким бравым гусаром, како-
вой столь рано поутру выступил маршем, желая настичь
славный свой полк, но, повстречав меж тем лживую ведь-
му, стал рогатым козлом.
Ведьма же тою порой пребывала на кухне и стряпала
ужин для заколдованных своих зверей. Тут явился дья-
вол, господин ее и повелитель, и, войдя в дверь, уселся
у очага.
— А нельзя ли было бы, — сказала ему прекрасная
ведьма, — чтобы последнее мое превращение по време-
нам, хоть на несколько ночных часов, оборачивалось
вспять? Ведь не каждый день случается раздобыть себе
истинного гусара!2
1 Досталось ему по заслугам: как истинный блудный козел,
возжелал об быть садовником при оной яблоне, а став садовником,
сделался — не то что ныне — по несчастной случайности истин-
ным козлом (Абрахам а Санта-Клара).
2 Quo plus sunt potae. plus sitiuntur aquae. (Имея больше, боль»
ше мы хотим, не сыщешь меры по хотя м людским; лат.).
Томас Бернгард
(Род. в 1931 г.)
Мидленд в Стильфсе
Посторонним людям, ничего не знающим о том, как
мы воспитывались, может показаться, что при этом анг-
личанине, — стоит ему появиться, — мы ведем себя, как
ненормальные, да и мы сами, и вся атмосфера Стильфса
покажется им искусственной, невыносимой. Но хотя мы
живем в постоянном страхе, что наш друг внезапно
явится к нам, и весь год боимся, что он с минуты на ми-
нуту может возникнуть в Стильфсе, мы все же неотступ-
но думаем: хоть бы наш приятель очутился тут — по-
тому что нет для нас ничего ужаснее (и с каждым го-
дом все страшней), чем жить тут, в Стильфсе, в горах,
вернее — среди горных вершин, безраздельно властвую-
щих здесь над нами, как сама природа, жить подолгу и
все время в полном одиночестве, предоставленными са-
мим себе, без незваных посетителей, без чужаков. Да,
мы боимся, мы ненавидим гостей, и в тоже время цеп-
ляемся за них с отчаянием людей, отрезанных от внеш-
него мира. Наша судьба зовется Стильфс, то есть не-
престанное одиночество. По правде говоря, можно на
пальцах перечесть — кто из посетителей для нас так на-
зываемый «желанный гость». Но и этих желанных гос-
тей мы тоже боимся, боимся их появления, боимся всех,
кто может вдруг прийти к нам, потому что в нас давно
живет дикий страх — а вдруг к нам кто-то придет, хо-
тя мы всегда с огромным папряжением ждем каких-ни-
будь людей, пусть даже нелюдей, лишь бы хоть кто-ни-
473
будь облегчил нашу муку в этих горах, нашу пожизнен-
ную каторгу, наш одинокий ад. Мы давно привыкли
жить совсем одни и все-таки постоянно думаем: а вдруг
кто-нибудь может прийти в Стильфс,— но не знаем,
будет ли это бессмысленно или вредно, а может, и вред-
но и бессмысленно, если кто-то вдруг нас посетит, и мы
себя спрашиваем — неужели так уж необходимо, чтобы
этот человек поднимался к нам наверх, в Стильфс, и что
принесет его приход — полное нарушение нашего при-
вычного одиночества или наше спасение. Но, в сущнос-
ти, кая«дого, кто еще решается прийти, хотя ему и трудно
бывает преодолеть все прежние впечатления, все сплет-
ни и набраться духу, чтобы подняться к нам, мы все
равно считаем вредителем. И стоит ему уйти, как мы
целыми днями только и думаем — какой вред он нам
причинил. Но мы ничего не говорим и лишь пытаемся
молча с удвоенной, утроенной энергией работать в хлеву,
на гумне и в лесу, сначала преодолеть оцепенение, в ко-
торое нас поверг этот пришелец, а потом постепенно пере-
терпеть это состояние, выйти из него. И когда после та-
кого неожиданного посещения мы, вконец выбитые из
колеи, кладем все силы на физическую работу, до изнемо-
жения изматывая друг друга, мы вдруг с ужасающей яс-
ностью видим, какое страшное, чудовищное наказание для
нас этот Стильфс. А правда вот где: именно сюда, отку-
да мы так хотели бы убежать, в Стильфс, который дер-
жит нас взаперти все неумолимее, все беспощаднее, в
Стильфс, который мы еще по привычке любим, но уже
стали не просто презирать, но, по вполне понятным при-
чинам, и ненавидать с какой-то унизительной одержи-
мостью, — в этот самый Стильфс приходят люди, знако-
мые нам с самого детства, с самой ранпей и более поздйей
юности, приходят из самых разных университетских горо-
дов или курортов, приходят с самыми разными намерени-
ями, но чаще всего—либо поразвлечься, либо оклеветать
нас, а может быть, даже изничтожить. И все эти люди нам
не родня. Родственники больше не приходят. Возможно,
они, и то нехотя, явятся нас хоронить и делить наслед-
ство. Те, кто нас еще посещает, с нами не в родстве, и
мы себя спрашиваем — что же у нас с ними общего?
Все они сплошное любопытство и по большей части
крикливы, всё толкуют неправильно. Ну и пусть, думаем
мы, хоть изредка, для разнообразия, послушаем в Стиль-
фее другой говор, другце мысли и i. д. Но тут же мы ду-
474
маем —-этого еще не хватало, теперь мы сами себя преда-
ли, — и йотом целыми днями, целыми неделями, думаем:
почему мы этого человека сразу не сбросили со сте-
ны и т. д.
Все эти посетители приходят к нам наверх и только
отнимают время, а значит, приносят несчастье. Но быва-
ют и другие, правда, редко, их мало, но для нас это
счастье. Такой гость — наш англичанин. Но и он тоже,
как только появится, сразу начинает объяснять — что
такое Стильфс, и, видно, мы не понимаем, что это
такое, не хотим признавать, ненавидим Стильфс, беспре-
рывно и преступно клевещем на него. Он не понимает,
почему для нас Стильфс — тоска, апатия, отчаяние. Нет,
тут — покой и возможность сосредоточиться, говорит он.
Но нам эти слова давно известны. Все другие посетители,
для кого Стильфс — полная противоположность тому, чем
он стал для нас, преступно болтливы и болтают только
для того, чтобы непрестанно, по любому поводу объяс-
нять нам, что такое Стильфс, доказывать, что мы не по-
нимаем — какой он на самом деле. А сами они, эти лю-
ди, из году в год с тупой доверчивостью принимают внеш-
ний мир, удовлетворяют все свои потребности в больших
городах. И как тупица-дилетант с наглостью и высокоме-
рием неофита разъясняет специалисту его специальность,
так наши гости разъясняют нам, что такое Стильфс. Не за-
крывая рта, они стараются доказать, что им известно то,
что неизвестно нам. Наши гости беспрестанно отвечают
нам на вопросы, которые мы, по их мнению, задаем им
про Стильфс, хотя мы никогда, ни разу ни одного во-
проса о Стильфсе им не задавали. Мы ведь про Стильфс
знаем все. И мнения наших посетителей нас никак не
интересуют, потому что мы уже десятки лет слышим эти
мнения. Но даже англичанин, который всего раз четыр-
надцать приходил в Стильфс на одни сутки, объясняет нам
Стильфс. Возвращаясь с могилы своей сестры, которая
ровно пятнадцать лет назад разбилась насмерть, упав со
скалы, он, Мидленд, говорит, как он вдруг осознал, что мы
все,— он имел в виду не только меня и Франца, но и
Ольгу и этого Ротта, — словом, что все мы живем в иде-
альнейшем месте. Более идеального места для нас он и
представить себе не может. Да, и он даже заподозрил нас
в том, будто мы нарочно умалчиваем, что тут, в Стильфсе,
мы развивались в идеальных условиях и, вероятно, как
он выразился, создали — вместе или порознь — такие
475
научные работы, которые, если учесть наш ясный ум,
имеют огромную ценность. Правда, он иронически назвал
эти работы «эпохальными творениями ума», но вообще-то
он говорил абсолютно серьезно. И когда он бывает в
Стильфсе, ироходит по двору, когда вдыхает и осознает
то, что для него воплощено в понятии «Стильфс», он чув-
ствует, как грандиозен материал, который мы с Францем,
наверно, уже проработали, вложили в новую науку, уже
давно оформили эти непреходящие ценности в науку, о
которой мы сами, должно быть, уже совершенно переста-
ли думать. Вероятно, как он предполагает, мы создали
вполне законченный трактат по естественной истории, по,
по непонятным причинам, отказываемся ег,о опубликовать.
Нелепый страх перед внешним миром отгородил нас от
него. Он говорит: то, что вне Стильфса уже невозможно
сделать ни ему самому, да и вообще ни одному человеку,
здесь вполне возможно. У нею ecib доказательства на-
шего духовного развития, все в нас свидетельствует о том,
что мы продвинулись так далеко, как только можно бы-
ло желать. И он, эдесь, в Стильфсе, при нас, чувствует,
как он отстал. Все, что он сделал до сих пор, так и за-
стряло в зачатке. Все его попытки разобраться в чудо-
вищном хаосе исходного материала, забившего его мозги,
пошли прахом и по его вине, и по вине окружающей сре-
ды. Всю жизнь для него была убийственной, пагубной та
мания величия, которая царит, как он считает, в этом
черством, бездушном мире. В больших городах, враща-
ясь в обществе, ему приходилось затрачивать уйму энер-
гии только для того, чтобы противостоять кретинизму, ина-
че ему бы вообще не выжить. («Полнейший износ, поте-
ря своего «я» в толпе»). Зато мы спасены, мы спаслись в
Стильфсе, мы поняли, что значит Стильфс, завладели им
себе на счастье. Нет для нас в будущем никаких преград.
Франц идет своим путем, я иду своим. Тут, в Стильфсе,
все, что нас касается, ему ясно, предельно ясно. Но как
неверно то, что он говорит, как противоположна наша
действительность тому, что он о ней думает. Есть, ко-
нечно, мелкие трудности, говорит он, и чтобы нас, счаст-
ливцев, не напугать до смерти, он пишет нам на стене це-
лый список всяких преимуществ Стильфса, добавляя
какие-то смехотворные, чисто эстетические недостатки, но
эти мелкие, как он говорит, недостатки и трудности, кото-
рые он так беззаботно перечисляет, на самом деле для нас—
самое страшное, и Стильфс, как уже сказано, для нас не
476
идеален, а смертелен. Наше существование — смертельно.
Стильфс — наш конец. Но если я стану рассказывать, что
такое Стильфс, меня сочтут сумасшедшим. По этой же при-
чине и Франц не говорит, что такое Стильфс. Ольгу ни-
кто и не спрашивает, а Ротт вообще не способен отве-
чать на вопросы. Конечно же, все мы сумасшедшие. Но
когда человек непрерывно утверждает то, что ложно на
все сто процентов, да еще не упускает ни малейшей
возможности непрестанно об этом говорить, — и, в сущ-
ности, он сам только и жив этой своей убежденностью, —
то нервы, конечно, у нас при этом напряжены до послед-
ней крайности.
Стильфс! Да мне самому, так же как и Францу, все
мои самые естественные мысли показались безумием, в
ту минуту, когда я, да и Франц тоже, самым грубым,
самым примитивным, а потому еще более непрости-
тельным образом были приговорены к жизни в Стильф-
се и когда этот каторжный приговор был приведен в
исполнение. Правда, тогда, внизу, в Базеле, в Цюрихе, в
Вене, мы с Францем еше верили, что в Стильфсе, ко-
торый всем людям представлялся воплощением благо-
дати, углубленности, тогда как на самом деле был про-
сто высокогорным инкубатором полного отупения, дока-
зательством полной никчемности всякого образования,—
что в этом Стильфсе, как мы думали, я смогу мыслить
так, как никогда не мог мыслить ни в Базеле, ни в
Цюрихе, ни в Вене, ни в скудоумном, духовно обни-
щавшем Инсбруке, и что все невозможное для меня и
для Франца в Стильфсе станет возможным, и что там
я смогу развить свое многообещающее дарование, да и
Франц верил, что его спасет от студенческой рутины
головокружительный прыжок наверх, где ждет нас
Стильфс, туда, где бесплодие станет плодовитостью,
неопределенность — определенностью, неясность — яс-
ностью, и что в наших владениях, среди гор, внушаю-
щих такое доверие, наш угнетенный разум станет ра-
зумом вольным, и т. д.,— но я ошибался, и Франц то-
же ошибался: в Стильфсе ничего из нас не вышло, он
только сделал нас жалкими неудачниками, кончены-
ми людьми. Внизу мы думали — все улучшится. На-
верху все бесповоротно ухудшилось. Ночью я часто про-
сыпаюсь и говорю себе: «В Стильфсе ты сам себя по-
губил!» Или: «В Стильфсе тебя погубили! В Стильфсе
все — стены, скалы, воздух — сплошное безумие.
477
Стильфс — ничто». А люди приходят сюда и объясня-
ют нам — что такое Стильфс.
Они подымаются к нам, наверх, в их извращенном
мышлении уже произошло короткое замыкание, как у
этого англичанина, сына богатых родителей, страстного
альпиниста,— вот он сейчас, когда я смотрю на него в ок-
но, ходит по двору взад и вперед. Я его вижу, он меня —
нет. «Нажать на все рычаги в Стильфсе, весь мир пе-
ревернуть», — так слышатся мне его слова. Но мы лю-
бим нашего англичанина. Он приходит к нам, идет в
свою комнату, принимает душ и весь вечер рассказы-
вает нам про идеи, которые у него возникли (а у нас—
нет), и о том, что он верит в их осуществление, что
главное — их реализовать. Он владеет немецким ничуть
не хуже, чем английским, будто оба языка ему родные.
В его англо-немецкие фразы вкраплены и французские
слова, подчиненные общему ритму. Он не останавлива-
ется, чтобы дать другим прервать его. Его радует собст-
венное умение все точно формулировать. Он говорит ко-
роткими фразами, ровным голосом, словно он из прин-
ципа не позволяет себе повышать или понижать голос,
даже там, где это как будто необходимо. Сразу дума-
ешь — вот человек, привыкший к самым высоким тре-
бованиям. Франц выдает что-то метафизическое, но Мид-
ленд как будто стал мыслить только политическими ка-
тегориями. Вся современность, говорит он, поражена
какой-то порчей. Наука еще не определила, как назвать
это заболевание, Но это — смертельная болезнь. Мысли
с огромной скоростью бегут в его мозгу. О писателях
он говорит с холодным равнодушием. Об искусстве — с
пренебрежением. О философии — с насмешкой. Он не-
навидит науки не меньше, чем церковь. Народ сего-
дня — просто сборище недовольных тупиц. Разрушать —
значит созидать. Все правительство — на свалку, гово-
рит наш энтузиаст. Вот он ходит по двору, тот, что часа
два назад доказывал нам, как все на свете отвратитель-
но. Каким непостижимым обаянием обладает для меня
этот человек, думаю я, в нем воплощены приметы то-
го мира, о котором мы вот уже много лет ничего не
знаем даже понаслышке, о котором, честно говоря, мы
не имеем ни малейшего представления, и даже если бы
нам представилась такая возможность, мы ни за что не
решились бы вернуться туда, в этот уже абсолютно не-
понятный нам мир, откуда Мидленд, со свойственным
478
ему умением устраивать сюрпризы, внезапно оказыва-
ется в Стильфсе, словно материализовавшись, вынырнув
на поверхность какой-то плотной первичной материи.
Тут, в Стильфсе, откуда нам ни выйти, ни сойти, я
наблюдаю за ним, гляжу, как он, такой молодой, такой
привлекательный с виду, шагает по двору усадьбы, чет-
кий, как геометрический чертеж, и утреннее солнце за-
ливает его холодным, нереальным, зеленоватым светом,
он, истинный бритт, чей отец двадцать пять лет назад
учился с моим отцом в тогдашнем Лондонском уни-
верситете, который еще пытался бороться со своим ака-
демическим убожеством, — гляжу, как сейчас этот
бритт, будто сам удивляясь, с какой легкостью он вла-
деет своим телом и с какой утонченной элегантностью
умеет это показать, теперь коротает те два-три часа до
своего ухода из Стильфса. И я думаю, наблюдая за ним:
когда он занят своими мыслями, он по привычке про-
износит вслух какие-то фразы, слова, имеющие отно-
шение к этим мыслям, и отсюда можно заключить, на-
сколько у него в мозгу четко, по порядку, распределе-
ны все эти его мысли. Вчера, когда он весь вечер
говорил на самые разные темы, рассказывал уйму вся-
ких новостей про Англию и про всю Европу, импрови-
зируя, фантазируя, я все же заметил, что его интересу-
ет одна-единственная мысль: как найти возможность
все то, что его мозг осваивал в течение почти трех де-
сятков лет, все, что эа это время прочно, монолитно,
осело у него в мозгу, как использовать все это совер-
шенно по-своему, для своей совершенно особой рабо-
ты, и много лет он думает лишь об одном; то, что в
его огромном арсенале идей уже стало излишком, пе-
ренести, черным по белому, в некое произведение, что-
бы сообщить эти идеи всем, то есть всему вне него су-
ществующему внешнему миру. Немалое значение име-
ет и то, что он, вероятно бессознательно, часто упо-
требляет слово осуществление у да и почти все, о чем он
говорит, связано с понятием реализации. Вот он про-
хаживается, — а прибыл он сюда по укоренившейся при-
вычке раз в году посещать могилу своей сестры. Он
сам говорит, что у могилы сестры ничего не испытыва-
ет, что ее лицо уже для него нереально, что он вообще
уже давно не может себе представить свою сестру, а
когда стоит над ее могилой, то чувствует только тяго-
стность, как при всяком посещении могилы, и отвра-
479
щение к самому себе, в нем даже подымается какое-то
презрение к себе. В культе мертвых есть что-то про-
тивное, это омерзительней всякого другого культа. Но,
вероятно, уже давным давно он появляется ежегодно в
Стильфсе вовсе не из-за покойной сестры, про которую
он даже думать забыл, у него и при жизни с ней, теперь
давно мертвой, никаких близких отношений не было.
Нет, не из-за сестры, а из-за Стильфса он теперь при-
ходит; это раньше он приходил не ради Стильфса, а
ради покойной сестры. А сестра — «пустота под мо-
гильной плитой» (слова Мидленда) — и при жизни была
для него совершенно чужим человеком, никогда он ее
не любил, да и ничего общего у них не было, и вдруг
после ее смерти, после этого несчастья, — а он и вспо-
минает только об этом случае, а вовсе не о покойной
сестре, и помнит только обстоятельства ее гибели, выс-
туп на скале, бушующий поток Альца и т. д., — так
вот, вдруг после ее смерти его стало мучить чувство
вины. Пока сестра жила, как он выразился, рядом с ним,
ему почти, — да, пожалуй, и совсем, — не было до нее
никакого дела. Для него она была существом настолько
бессодержательным, что она, как человек, вообще совер-
шенно его не интересовала. Но теперь само это чувство
вины перешло у него в привычку. Но не из-за сестры
появлялся он в Стильфсе, а из-за самого Стильфса. Из-
за нас. Он приходит в Стильфс. Он радуется. Вообще у
Мидленда, думаю я, хорошее настроение пропадает так
ненадолго, что он может его вернуть себе тут же, не
то что мы, потому что мы не позволяем себе не только
быть в хорошем настроении, но даже проявлять, как он
выражается, какой-либо интерес к жизни. Я часто ви-
дел, как этот наш ашличанин хохочет, и когда его нет
в Стильфсе, когда он в Англии или где-то еще дальше
от Стильфса, я часто в минуты отчаяния вспоминаю
его, вижу, как он смеется. Для него отец был всего-
навсего «остроумным человеком», мать — «злой на-
смешкой природы над всем прекрасным». Он всегда не-
ожидан. Он неутомим, хотя только что прибыл из Неа-
поля, полный путевых впечатлений, которые такой
человек, как он, ни при каьих обсюятельствах в себе
копить не может, — ив тот же день, как всегда точно, не
раньше пяти утра, явился к нам. Часто для него
чистейшее удовольствие все то, что для нас почти не-
выносимо. Газеты, книги — все он читает валоем, и
480
старое, и новое, с огромным вниманием, оттого и у пе-
го всегда столько интересных тем для разговора. Он не-
устанно изучает непрерывно меняющийся мир и, шту-
дируя его, критикует, обобщает, анализирует все. Он
раскрывает и сущность всеобщего безумия, и отдельные
частные его проявления, приводит ряд доказательств из
личного опыта, и в конце концов все для него сводится
к фальши и лжи, косности, бессмысленности, под-
лости. Его неверие строго обосновано. Он не был бы
англичанином, Мидлендом, если бы во всем не видел
и обратную сторону, то, о чем никогда не подозрева-
ешь, не знаешь, что именно во всей этой мерзости еще
существенней, еще хуже, еще подлее. По его мнению,
европейцы задавлены своими проблемами, им из этих
сложностей не выпутаться, их историческая судьба
окончательно решена. Революция в Европе — непо-
требство, она только усиливает, омрачает ту агонию, ко-
торая уже длится веками. Но не только всей Европе
сегодня конец, «и этот конец нам будет позволено лице-
зреть». Нет, скоро всему свету — конец. Но зато сейчас
открываются величайшие возможности благодаря полному
переключению внимания на Космос, на Вселенную. Все,
о чем говорит англичанин, он никогда не огрубляет, как
другие. Он скорее освещает все, о чем он говорит, до
жуткой четкости, не сужая тему, как другие люди, а
наоборот, все время расширяет ее до бесконечности, тог-
да как в разговоре у других любая тема сужается,
сморщивается, становится, как известно, каким-то ошмет-
ком и, как известно, быстро превращается в ничто.
Вон он ходит, наш англичанин, взад и вперед, до ко-
лодца и снова обратно, ждет, пока мы—я или Франц—
скажем, что завтрак готов, можно идти. Он, как я за-
метил, выспался, хотя вчера мы только около шести
утра разошлись по своим комнатам, но там, как мне
кажется, судя по свету из-под его двери, он еще около
часа читал книгу. Думаю, что многие молодые люди
могут выспаться за два-три часа, набрать достаточно
энергии, чтобы и голова и тело пришли в нормальное
состояние, тогда как мы, Франц и я, не говорю уж
об Ольге, — да и Ротт тоже должен много спать, —
мы должны спать не меньше шести-семи часов, и это
значит, что нам надо сравнительно рано ложиться, а
ведь, если подумать, нам приходится по-прежнему вес-
ти все хозяйство, не говоря уже о переписке и насчет
481
всяких хозяйственных дел, и со всякими врачами, нас-
чет Ольги, и с окружным и районным судом по пово-
ду Ротта. Сперва, лет двести тому назад, это хозяйство
было так задумано, что обслуживать его должны были
две-три дюжины слуг, а мы, хотя оно осталось таким
же, ведем его одни. И ведем ею сегодня еще интенсив-
нее, чем наши предки, хотя оно приносит все меньше
дохода, и мы день ото дня видим все яснее, что вести
сельское хозяйство в горах, на такой высоте, — чис-
тейшее безумие. Вести такое хозяйство — самоубийст-
во. И это правда, что мы уже десятки лет выбиваемся
из сил, и самое страшпое то, что все это совершенно
зря. Но нам ничего другого не остается — только заго-
нять себя тут до смерти. И мы к тому же чувствуем,
насколько все это смехотворно. К концу дня мы совсем
умучепы, и всегда, с тех пор как живем в Стильфсе, мы
изнемогаем. Мы так и существуем тут в полном изне-
можении. Наше естественное состояние в Стильфсе —
полное изнеможение. А существовать так, в постоянном
немыслимом напряжении,— значит изматываться до по-
лусмерти. И уж раз мы обречены на Стильфс, то мысли
наши всегда возвращаются к этим деспотам — к нашим
родителям, и уж если нам суждено остаться тут на всю
жизнь (потому что думать об освобождении у нас уже
нет сил), то разорять Стильфс мы не хотим. И пото-
му Стильфс остается в полной сохранности, все хозяй-
ство в сохранности, только жилой дом не в порядке.
Точнее говоря, жилые помещения предельно запуще-
ны, ничего ужаснее себе представить нельзя. И в то
время, как все хозяйство поставлено отлично, лучше,
чем когда-либо, потому что мы уже давно сосредото-
чились только на хозяйстве, давно забыли о себе, —
и забыли, надо сказать, только ради хозяйства, — все
жилые помещения дошли до такого упадка, какого я
еще никогда в жизни не видел. В доме тебя сразу ох-
ватывает уныние, полнейшая безнадежность. Потолки
и полы оседают, наверно, от непрестанной возни мы-
шей, которые плодятся беспрерывно, стены и мебель
запущены донельзя, и в доме стоит запах шили, от-
того что мириады всякой нечисти развелись там, все от-
сырело, заплесневело, кажется — вот-вот задохнешь-
ся. Что касается меблировки, хоть она и самая доро-
гая, самая музейная, собранная нашими предками со
вкусом в их идиллическом убежище, все равно мы в
482
ней ничего не понимаем. В комнатах уже десятки лет
все оставлено без призора. Вот пример: в гостиной все
чехлы па мягких креслах висят клочьями, в ящиках
шкафов, в комодах — сплошная труха. Картины, ко-
торые со временем сами сорвались со стен, так и валя-
ются, мы их не поднимаем, не вешаем. После каждого
подземного толчка, — а в Стильфсе земля трясется с
каждым годом все чаще и чаще, — разорение растет.
А мы ничего уже не трогаем. Мы ничего не поднимаем,
просто перешагиваем через вещи. Надо еще учитывать,
что все комнаты у нас битком набиты всяким антиквар-
ным старьем — барокко, бидермайер, везде секретеры,
комоды; меня дрожь пробирает, когда я думаю о «пунк-
тике» нашей матери, обо всех этих ампирных столиках,
стульях и т. д., и т. п. и еще о грудах всяких цгрушек,
нашего детского хлама. Очень скоро, думаю я, тут, в
Стильфсе, все будет разбито, разломано, ничего уже не
починить. А если бы мы захотели сберечь все то, что
нам десять лет не дает дышать спокойно, от чего мы бо-
имся задохнуться насмерть и что на самом деле драго-
ценнее всего в Стильфсе — ю есть его внутреннее уб-
ранство, старинные вещи ручной работы, которым по три-
ста—четыреста лет, привезенные по большей части из
дальних стран, все сотни перешедших по наследству из-
делий из ценнейшего дерева благородных пород, — мно-
гие из них задуманы и сделаны не просто мастерами, а
настоящими художниками, специально для Стильфса,—
если бы все то, среди чего мы выросли, — сначала в
смутном, а потом в предельно ясном понимании безна-
дежности пашей жизни, — если бы мы захотели все со-
хранить, сберечь, то этим должны были бы постоянно за-
ниматься человек двадцать пять, не говоря уже о том,
что и все пристройки, — охотничий домик, оранжереи и
т. д. тоже тут есть, — что они разрушаются буквально
день ото дня. коварно, постепенно, пока не рухнут окон-
чательно, и деньги тут не должны были бы идти в рас-
чет, хотя именно они-то и играют главную роль, да и
мы должны были бы во всем том, что со временем разру-
шает само время, разбираться как следует, а мы на самом
деле ни малейшего представления ни о чем таком не име-
ем. Везде, на всех этих предметах искусства, на стенах,
на чердаках, сказывается то, что Ольга, которая так все
это любила, уже десять лет прикована к инвалидному
креслу и, в сущности, вообще уже не живет. Франца и
31*
меня Ольга всегда обвиняет в невежестве, в тупости, в
полном непонимании искусства. На самом деле наша
обстановка всю жизнь угнетала нас, мы ее ненавидели.
И если сегодня все на свете — анахронизм, как говорит
англичанин, то какой же непомерный анахронизм наш
Стильфс! Всего логичнее, последовательнее всего, как
сказал вчера вечером Франц, было бы нам всем убраться
подобру-поздорову, покончить с собой, без проволочки, по-
тому что, как считает Франц, нынче для нас есть лишь
один возможный выход — покончить с собой, все равно
каким способом, и чем скорее, тем лучше, но что сил
на это у нас не хватает, мы только говорим об этом, и
часто целыми часами, целыми днями, неделями,— все
говорим, говорим, а покончить с собой не можем, хотя
понимаем, хотя знаем, как бессмысленно, что мы все
еще живем, еще существуем и не кончаем с собой, не
берем пример с тех, кто уже покончил с собой; а сколь-
ко народу в нашем возрасте, да еще, как мы знаем,
по самым смехотворным причинам, кончает с собой, а
ведь причины их самоубийств по сравнению с нашими
причинами просто смешны, но мы все же не убиваем се-
бя и снова, день за днем, возимся со всякой бессмысли-
цей, проводим дни в бессмысленнейшей физической
работе, в безалаберных умствованиях; мы мучаемся, кор-
мимся и боимся, больше ничего. А на всем свете нет ни-
чего бессмысленнее, чем так мучиться, кормиться и бо-
яться, нет ничего противнее этого, но мы не кончаем с
собой, только говорим об этом, мысли о самоубийстве
нас одолевают, но мы самоубийством не кончаем. Мы с
Францем уже поужинали, когда англичанин вдруг, по-
стояв во дворе, без стука, — ворота и двери еще не за-
пирались на замок и на засовы, — появился в комнате.
Мы с Францем как раз говорили про Ротта, который вче-
ра днем снова грозился, что подожжет Стильфс. Но мы
напомнили ему, что если мы об этом сообщим куда сле-
дует, его за такие угрозы упрячут на много лет, сказа-
ли мы, и пусть заранее выбирает, что лучше — сума-
сшедший дом или же исправительная колония, и тогда
он успокоился и обещал не поджигать Стильфс. Мы это-
го малого любим, он нам необходим, он ест вместе с
нами, и, в сущности, он больше всего любит жить в
Стильфсе, где нетрудно прокормиться еще одному сума-
сшедшему, даже такому здоровяку, как Ротт. Не живи
он в Стильфсе, он давным-давно сидел бы с арестантами
484
или умалишенными. А тут он — самое важное лицо, и ес-
ли он не подожжет Стильфс, и перестанет, как бывало,
тыкать кухонный ножик коровам в бок, и никогда больше
не станет накачивать велосипедным насосом кур, пока
они не лопнут, то нам безразлично — помешанный он
или нет. То, что Ротт для нас огромная трудность, мы
знаем, но мы и для себя такая же огромная трудность,
и нам с собой еще труднее справиться, чем с Роттом. Мы
уже обсуждали тот факт, что Ротта все труднее и труд-
нее удержать от его выходок и что нам нельзя запрещать
его вылазки в ресторанчик, — летом он, не снимая шта-
нов и рубахи, переплывает Альц и, промокнув до костей,
отправляется в ресторанчик. Нет, пускай он туда ходит,
когда захочет, пусть спускается в долину, переплывает
Альц, зато потом он, — хоть и ночью, часа в три, а то
и позже, — приходит совсем утихомиренный. Если бы у
нас не было Ротта, в Стильфсе царил бы невообразимый
хаос и никто не заботился бы об Ольге, потому что мы
с Францем, в сущности, о нашей сестре никак не за-
ботимся, мы даже часто забываем о ней, а Ротт всегда
оказывает ей всякие услуги, не говоря уж о необходи-
мом уходе. Он отличный работник, и если его направлять
умело, с добротой, он отлично выполняет самую гряз-
ную работу, самую трудную, самую немыслимую и не-
благодарную. А так как мы, как и Ротт, тоже работаем
тяжело и не гнушаемся самым унизительным трудом, то
и он никогда ни от чего не увиливает. Он нас уважает.
Его родители рано умерли, отец повесился, единствен-
ный брат около двух лет назад побился об заклад на
десять шиллингов, что переплывет горную реку Мур, и
так как он на самом деле прыгнул туда (эти Ротты са-
ми из Штайермарка), он утонул, п наш Ротт вечно жа-
луется, что у него на родине, в Штайермарке, больше ни
души не осталось. А его лучший, единственный друг в
марте бросился под поезд. Англичанин долго изучал уве-
домление родных с портретом пострадавшего. Друг Рот-
та, одержимый манией самоубийства, был помещен в
санаторий для душевнобольных, откуда его по субботам
отпускали домой, к родителям, но в последний раз он
не вернулся в санаторий, а пошел на станцию. Англи-
чанин говорил, что друг Ротта бросился иод поезд имен-
но одиннадцатого марта, в свой день рождения. Ротту
досталась в наследство одёжа погибшего, в том числе
две пары кожаных штанов, доходящих до щпколотки.
485
Теперь Ротт ничего другого не носит — только одёжу
своего погибшего друга, а когда появился англичанин,
Ротт сразу нарядился в парадный костюм самоубийцы и
так отправился вниз, из Стильфса, в ресторанчик. Он
уже иопрощался с англичанином, и англичанин дал ему
денег — фунт стерлингов, как всегда, когда приходит к
нам в гости. Он всегда дарит Ротту фунт стерлингов, и
тут Ротт сразу побежал в сарай и зарезал трех кур, ко-
торых мы сегодня съели, в субботу он режет кур, мы
едим их в воскресенье, он их держит на вытянутой ру-
ке, они трепыхаются, а он рубит им головы. А потом,
утром, в воскресенье, уже принарядившись, он показы-
вает англичанину их всех по очереди, приговаривая, что
курица нормальная, только головы ей не хватает, —
эту фразу он слышал от Франца, тот, бывало, всегда ее
повторял, пока ему не надоело, а Ротт все перенял.
Вспоминаю о прежних посещениях англичанина, сейчас,
когда я смотрю на него из окна, мне кажется, что он
не знает, поджидать ли нас во дворе или войти в дом,
видно ждет, что его позовут завтракать, но его никто не
зовет, Франц не зовет, я тоже не зову, — и теперь, стоя
у окна и наблюдая за ним, я невольно вспоминаю все
прежние приходы Мидленда, — возможно, думаю я,
что внизу, в долине, в ресторанчике, его ждут приятели,
и ему хочется туда, и еще возможно, что там, внизу, на
берегу Альца, его ждет девушка, что в комнатушке у
бедного квартирохозяина он оставил свою подружку на
одну ночь, потому что сюда, в Стильфс, он является всег-
да один, а внизу, в гостинице, его ждут, в позапрошлом
году его там ждала компания шведских археологов, нем-
цы с Севера, итальянцы — жители разных стран, с
которыми он дружит. Они останавливаются там, ждут
его, пока он наверху, у нас в Стильфсе. Никогда, при-
знался он мне однажды, он никого, ни одного человека,
не приведет с собой в Стильфс. Наверное, и Фрапц
стоит сейчас у своего окна и наблюдает sa ним, думаю
я, и Ольга наблюдает за ним с первого этажа, да и
Ротт, наверное, тоже подсматривает из окошечка в хле-
ву. Когда англичанин тут, его возбуждение передается
нам всем. Мы оживаем, — столько новых сведений, столь-
ко пищи уму. Но нашей скудости, пашего убожества он
не чувствует. Наоборот. Все его прежние приходы застав-
ляли нас всерьез задумываться, и материалу хватало на
месяцы. Фактически он всегда приходит именно в самую
486
нужную минуту. Разве мы знали бы, что происходит вни-
зу, живя тут, наверху, в полнейшей изоляции? По правде
говоря, ни я, ни Франц уже больше года не спускались
даже до Альца. Только Ротт еще поддерживает связь
с внешним миром. Но из гостиницы он приносит лишь
самые пошлые сплетни. Это Ротт носит в Альц молоко.
Это Ротт закупает то, что нам необходимо, — спички,
сахар, всякие приправы. Это Ротт читает там, внизу, н
долине, газеты. Мы сами газет не читаем годами, пото-
му что чтение газет, которым мы увлекались десятки
лет, вдруг осточертело нам, и мы запретили себе это де-
ло. И Ротту мы строго-настрого запретили приносить
нам газеты. Но если англичанин приносит с собой газе-
ты, мы набрасываемся на них, будто и впрямь изголода-
лись по этому чтению. Радио мы не слушаем. Мы любим
слушать музыку, но никогда ее не слушаем у сестры, ку-
да мы заходим редко, раз или два в день, чтобы сказать
ей «с добрым утром» или «спокойной ночи». Если бы
только англичанин знал, как далеко мы отошли от всего
на свете. Но бессмысленно говорить ему правду, да еще
так, чтобы он в эту правду поверил,— какой смысл при-
знаваться ему, что наше существование свелось теперь
к чисто животной жизни. В нашу колоссальную библио-
теку, где соединены три громадные наследственные соб-
рания, одно — от брата нашего прадеда, врача из Падуи,
второе — от брата нашего деда с материнской стороны,
который был судьей в Аугсбурге, и третье — от дяди, бра-
та нашей матери, владельца мельницы в Шердинге,— в
огромную эту библиотеку никто из нас уже много лет не
заходит. Если бы только англичанин знал, как мы пена-
видим всякое чтение. Когда он тут, мы притворяемся, буд-
то нас интересует все, что пишут, а уйдет — и мы ни ма-
лейшего интереса к печатному слову не проявляем. А то,
что мы заперли библиотеку и выбросили ключи в Альц!
Если бы он это узнал! Если бы англичанин понял, что мы
из того непоправимого вреда, который причиняет нам
Стильфс, извлекли для себя пользу, и с той минуты, как
мы поняли, что Стильфс для нас — конец всякого роста,
развития, мы стараемся этот конец ускорить. Мы не кон-
чаем с собой, но мы ускоряем наш естественный конец,
который, по существу, противоестествен. Думаю, что ан-
гличанин в Стильфсе ничего не подозревает. Но Франц
правильно говорит,— нам нельзя открыться ему, потому
что в ту же минуту мы погубим все то, что нам так бес-
487
конечно дорого в нем, а возможно — погубим и самого
Мидленда, и случится то страшное, чего мы так страшим-
ся,— англичанин больше никогда не придет в Стильфс, и
с этой минуты мы напрасно станем его ждать. Поэтому
мы паговариваем англичанину все, что угодно, кроме
правды. А в данном случае нет ничего важнее лжи. Нель-
зя ему показывать вместо его Стильфса полную противо-
положность — наш Стильфс. Франц часто предостерегает
меня,— я будто бы, слишком много рассказываю, потому
что никто сильнее меня не испытывает искушения все
выложить о Стильфсе и потому что именно англича-
нин — первый и единственный человек, которому я хо-
тел бы открыть то, что открывать нельзя, то есть всю
правду, но именно Франц вдруг, по неосторожности, сам
говорит или скрывает то, что Мидленду можно или нель-
зя говорить. А так как мы о своем состоянии правды не
говорим и никому, даже англичанину, не позволяем за-
глядывать к нам в душу, то мы храним тайну, и англича-
нин постоянно об этом говорит, хотя он этой нашей тай-
не приписывает совершенно противоположный смысл. И
только наша смерть откроет, что мы ничего из себя не
представляли, кроме бестолочи, невообразимого хаоса. Все
надо ставить под вопрос, сказал он вчера. Все бессмыслен-
но. Вон он расхаживает, думаю я, и еще думаю — какой
же безумец этот человек, с которым у нас с Францем толь-
ко и общего, что возраст, а во всем остальном мы — пол-
ная противоположность. Он — воплощенное беспокойство,
все подвергает сомнению. Конечно, он, как и я, подумав,
может решить, что все то, из чего мы состоим, и я, и
Франц, и он, и все, кто живет на свете, то есть все прош-
лое,—мертво. Умерло. И в основном именно эта мысль, что
все существующее, а значит, и все, что было,—уже мертво,
что даже настоящее, поскольку оно есть, тоже уже мертво,
одна эта мысль всех нас занимает, все человечество за-
нято исключительно ею, что бы человек ни делал, где бы
и кем бы он ни был, кем бы ни стал, или мог бы стать, ду-
мает он только об одном и, не найдя другого названия,
зовет это жизнью, бытием, существованием, преуспева-
нием, развитием. Нет человека более чуждого нам, чем
англичанин, и вместе с тем более близкого. Превосходст-
во его над нами в том, что он знает несколько языков,
говорит, думает на них, владеет ими, что эти языки для
него — высокое музыкально-математическое искусство.
Если бы он ограничил себя какой-нибудь одной наукой,
488
специализировался бы в одной области, его интеллект дав-
но стал бы чем-то потрясающим, невообразимым, каким,
по его мнению, стал мой интеллект и интеллект Франца.
Но ограничить себя одной наукой, специализироваться в
чем-то одном ему нельзя, потому что он глубоко ненави-
дит всякую специализацию. Он из тех людей, которые по-
стоянно ищут связь между всеми вещами и событиями и
всегда, из всего делают выводы. В этом коренится его
неспособность осуществить хотя бы одну-единственную
из тысячи идей, которые непрестанно рождаются в его
мозгу, естественно натренированном на решении вселен-
ских вопросов. Вон он расхаживает, думаю, я, — тот, что
всю гуманитарную науку — и старую, и современную —
называет навозной кучей, причиной всех зол. Вон он хо-
дит,— и земная ось для него идет не по прямой. Как час-
то меня ранил этот человек, как часто и я, наверно, ра-
нил его. Но бесцеремонность по временам бывала для нас
единственным способом общения, мы постоянно задевали
ДРУГ Друга за живое. Между такими людьми, как мы, су-
ществует духовное родство, сказал англичанин вчера но-
чью. Но—это буквально его слова—у меня с ним это про-
тивоестественно, а у них с Францем — абсолютно естест-
венно. Он нам все разъяснил, и мы его поняли. Образ
мыслей, все взгляды Франца хотя и совершенно противо-
положны установкам Мидленда, но вполне естествен-
ны, тогда как мои установки тоже противоположны, но
в чем-то противоестественны. Каждое наше слово, мое и
Франца, каждая минута, которую мы проводили с Мид-
лендом, доказывали, что у нас с Францем — разные отцы.
По все решало родство с материнской стороны. С нами в
мир, неизвестно где, неизвестно когда, пришла та катаст-
рофа, наступили те обстоятельства, ужасающие обстоя-
тельства, в которых мы живем. Он, Мидленд, беспрерыв-
но чувствует в нас отвращение ко всему на свете, став-
шее нашей истинной сутью. И тому, кто к нам хочет
подойти, надо преодолевать эту пагубу, преодолеть ее до
того, как заговоришь с нами. Никто еще никогда, ни мыс-
ленно, ни реально, не приближался к нам без всякого по-
дозрения. И это подозрение, всегда совершенно опреде-
ленное подозрение, с годами становится все сильнее и
сильнее, это подозрение, весьма вероятно, в самом близ-
ком будущем дойдет до того, что всякое общение с нами
станет немыслимым, и в этой полной изоляции, которая,
возможно, будет для нас идеальным состоянием, доступ-
16 Австрийская новелла XX в. 489
пым только для нас, мы, по мнению Мидленда, однажды
в полном одиночество, никем не потревоженные, сможем
осуществить нашу цель. Называть просто разговором то,
что вчера вечером было бестолковой сумятицей, тысячей
возникающих вперебивку путаных мыслей, было бы со-
вершенно неправильно. Вчера мы отчетливо увидели, что
наши мысли для него непостижимы, как непостижим для
нас и его образ мыслей, и нас именно это приободрило.
Но когда в тот вечер нам стало совсем ясно, что англича-
нина еще ждет какое-то будущее, нам — и Францу, и
мне —снова стало абсолютно понятно, что у нас никакого
будущего нет. Если бы хоть у одного из нас еще раз хва-
тило бы сил спуститься вниз, из Стильфса, повернуться
спиной к Стильфсу, решиться выйти в жизнь, думал я, и
не возвращаться сюда, пусть даже нас станут обвинять,
скажут, что это — преступление против нашей сестры
Ольги, целиком зависящей от нас, что мы этим ее погуби-
ли! Пусть для меня это уже невозможно, уже слишком
поздно. Но должно же это быть возможно для Франца,
для него это не слишком поздно — но для нас обоих уже
все поздно. Тот момент—когда еще было возможно то, что
сейчас невозможно,— так давно упущен, что уйти из
Стильфса уже никакой возможности нет. Да, сначала и
мы, как наш англичанин, верили, что Стильфс — наше
спасение, идеальное местопребывание для нас, но когда
мы увидели и поняли, что Стильфс вовсе для нас не спа-
сение, не идеальное место, и никогда не будет нашим спа-
сением, а, наоборот, станет нашей гибелью, мы тогда еще
надеялись, что Ольга, уже окончательно парализованная,
скоро умрет. Но она не умерла, и кто энает, когда она
умрет. А теперь и мы тоже совсем обессилели, и нет ни-
какого смысла покидать ее. Все теперь только вопрос вре-
мени, и вопрос этот нас уже совершенно не интересует,
потому что мы знаем, что мы дошли до конца, и никако-
го смысла для нас в этой жизни уже нет.
J&
Петер Хандке
(Род. в 1942 г.)
Приветственное слово наблюдательному
совету
Господа, здесь очень холодно. Не энаю, как бы вам
это объяснить? Час назад я позвонил из города, чтобы
узнать, все ли здесь готово для заседания, по никто не
ответил. Тогда я немедленно примчался сюда и стал ис-
кать сторожа. Его не было ни в его каморке, ни внизу
у печки, ни в сенях. Наконец вот в этой самой комнате
я наткнулся на его жену: она сидела на скамеечке возле
двери, в полной темноте, уткнув лицо в колени и обхва-
тив голову руками. Я спросил ее, что случилось. Не меняя
позы, она сказала, что муж ее ушел,— чья-то машина за-
давила их младшего мальчика, съезжавшего на санках с
горы. Вот почему здесь не топлено, прошу вас отнестись
к этому со всей снисходительностью, я ненадолго задер-
жу ваше внимание. Может быть, вы все придвинетесь по-
ближе, чтобы мне не приходилось кричать; я не соби-
раюсь произносить политическую речь, а хочу только до-
ложить вам о финансовом положении Общества. Мне
очень жаль, что под напором ветра треснули оконные
стекла; пока вы ехали сюда, я вместе со сторожихой пы-
тался затянуть отверстия пластиком, чтобы в комнату не
намело снега, но, как видите, нам это не вполне удалось.
Пусть легкий треск, который вы здесь слышите, не отвле-
кает вас от моего доклада об итогах проверки баланса;
нет никаких оснований для тревоги, заверяю вас, отчет-
ность правления юридически безупречна. Пожалуйста,
придвиньтесь еще ближе, если вам неясно, что я говорю.
Весьма сожалею, что вынужден приветствовать вас при
16*
491
таких обстоятельствах; несомненно, все было бы иначе,
если бы мальчик не угодил на санках прямо под машину.
Сторожиха рассказала мне, пока мы затягивали окно
пластиком, что ее муж,— он как раз был в подвале и на-
бирал уголь, — вдруг вскрикнул; она сама находилась
здесь, в этой комнате, и расставляла стулья для заседа-
ния; внезапно она услышала крик мужа; она просто ока-
менела, говорит она, и долго стояла так, прислушиваясь.
Потом в дверях появился он сам, ведро с углем он все
еще держал в руке; не глядя на нее, он шепотом сказал
ей, что случилось; сообщил ему об этом старший мальчик.
Поскольку список с вашими именами находится у от-
сутствующего сторожа, я приветствую вас всех, всех, ко-
го вижу, всех, кто прибыл сюда. Я сказал: всех, кого я
вижу и кто прибыл. Это воет ветер. Благодарю вас за то,
что в такой мороз и в такую метель вы отважились от-
правиться на это заседание,— ведь путь сюда, наверх, не-
близкий. Быть может, вы думали, что попадете в поме-
щение, где с окон уже стаял иней и где можно обогреть-
ся у печки, а вы все еще сидите в пальто у стола, и еще
даже не растаял снег, который вы нанесли сюда на но-
гах. И печки здесь нет, только черная дыра в стене, где
прежде был дымоход,— прежде, когда эта комната и этот
ныне пустующий дом были жилыми. Благодарю вас за
то, что вы все-таки приехали; благодарю и приветствую
вас. Приветствую вас. Приветствую вас! Прежде всего я
сердечно приветствую того господина, который сидит у
входа, где раньше сидела впотьмах крестьянка; я привет-
ствую и благодарю этого господина. Несколько дней назад,
когда он получил заказное письмо с приглашением на это»
заседание, на котором должен обсуждаться отчет правле-
ния, он, возможно, счел всю эту затею ненужной, тем бо-
лее что стоял такой холод и уже много дней подряд ва-
лил снег. Но потом ему все же пришло в голову, что с
Обществом что-то неладно, — слышится какой-то подо-
зрительный треск. Да, повторяю, он подумал, что зданию
Общества грозит обвал. Нет, обвала в здании Общесва
не будет. Извините, вот ведь какая метель! Итак, он от-
правился в путь и, несмотря на такую вьюгу и такой мо-
роз, добрался из города сюда, на это заседание. Ему при-
шлось оставить машину внизу, в деревне,— ведь наверх,
к этому дому, ведет только узкая тропинка. Он посидел
немного в трактире, почитал в газете страницу «Новос-
ти экономики», пока не пришло время двигаться дальше.
492
Поднимаясь сюда, он встретил в лесу еще одного госпо-
дина, тоже направлявшегося на заседание. Тот стоял,
прислонившись к придорожному распятию; одной рукой
он придерживал на голове шапку, а другой подносил
ко рту подмерзшее яблоко. На лбу у него и на волосах,
выбившихся из-под шапки, лежал снег. Я сказал: на во-
лосах у него скапливался снег, и он кусал подмерзшее
яблоко. Когда первый господин подошел к нему, они по-
здоровались; второй сунул руку в карман пальто, достал
оттуда еще одно яблоко и протянул первому; тут ему вет-
ром сбило с головы шапку, и оба рассмеялись. Оба рас-
смеялись. Придвиньтесь, пожалуйста, еще ближе, иначе
вы ничего не поймете. К тому же слышится какой-то
треск. Но не в здании Общества — оно не обвалится; вы
все получите свою долю прибыли за истекший год — имен-
но это я и хотел вам сообщить на нынешнем внеочеред-
ном заседании. Пока два упомянутых господина продви-
гались вперед сквозь метель, внизу, в деревне, остановил-
ся лимузин, доставивший остальных участников заседа-
ния. В черных пальто, которые парусом надувались от
ветра, они стояли, укрывшись от вьюги за машиной, и об-
суждали, стоит ли им идти в этот ветхий крестьянский
дом. Я сказал: крестьянский дом. Хотя всех, конеч-
но, пугала предстоящая дорога, один из них в конце концов
уговорил остальных, и тревога о положении Общества взя-
ла верх. Посидев в трактире и пробежав «Новости эконо-
мики», они пустились в путь, энергично двигая ногами.
Их вела вперед искренняя тревога за судьбу Общества.
Сначала они бодро шагали, оставляя глубокие следы в сне-
гу, потом устали и с трудом волочили ноги, так что посте-
пенно образовалась тропа. Один раз они остановились и,
как вы помните, поглядели назад, в долину; со свинцового
неба на них валил густой снег. Впереди они увидели
следы — одна цепочка следов вела вниз и была уже едва
различима; здесь пробежал крестьянин, узнав о несчастье
с мальчиком; должно быть, он много раз падал — падал
ничком, даже не пытаясь защитить лицо руками. Много
раз лежал он здесь, на морозе, зарывшись глубоко в снег;
много раз дрожащими пальцами рыл себе яму в снегу;
много раз, упав, лизал языком горьковатые снежные
хлопья; много раз в шуме снежной бури раздавался
его крик. Я повторяю: много раз в шуме бури раз-
давался его крик. Вы заметили также следы, которые ве-
ли вверх, к обветшалому крестьянскому дому,— здесь
493
прошли те два господина. Беседуя о положении Общества
и об увеличении оборотного капитала благодаря выпус-
ку новых акций, они продвигались сквозь метель, глотая
застылые куски зеленых яблок. В конце концов лее до-
брались до этого дома, — был уже поздний вечер, — и во-
шли в раскрытую настежь дверь; те двое, что прибыли пер-
выми, уже сидели здесь и, так же как теперь, держали
на коленях блокноты и вертели в пальцах карандаши:
они дожидались, пока я начну свою приветственную речь,
чтобы записывать.
Итак, я приветствую вас всех, собравшихся здесь, и
благодарю за то, что вы прибыли. Я благодарю тех двух
господ, которые продолжают есть подмерзшие яблоки, за-
писывая мои слова; я благодарю тех четырех членов со-
вета, которые ехали в лимузине и задавили крестьянско-
го мальчика, когда стремительно мчались к деревне,— сы-
на крестьянина, сына сторожа. Вот опять слышится
треск — это под тяжестью снега трещат стропила, не по-
думайте, что трещат балки Общества. У нас активный ба-
ланс, и при подведении итогов не было никаких недора-
зумений. Только вот стропила не выдерживают тяжести
и трещат, трещат.
Я хотел бы еще поблагодарить крестьянину за все ого
труды для нашего заседания.
Несколько дней назад он пришзл сюда лнизу, ив сво-
ей усадьбы, со стремянкой, чтобы побелить ету комнату;
стремянку он пес на правом плече, придерживая ее ру-
кой; в левой руке он держал ведро с побелкой, откуда
торчала обломанная рукоять кисти. Этой кистью он при-
нялся белить стены — после того, как его дети разобрали
и на санках свезли вниз, в усадьбу, поленницу дров, до-
ходившую до самых окон. Держа ведро в одной руке,
стремянку к другой, он вошел в эту комнату и стал усерд-
но прибирать ее к заседанию. Ребята с санками, весело
крича, бежали впереди, прокладывая ему дорогу к крыль-
цу; их шарфики развевались па ветру. И сейчас еще на
полу видны пересекающиеся белые круги — следы от вед-
ра, которое он ставил, слезая со стремянки, чтобы пере-
нести ее на новое место. А черные круги у входа, куда
сейчас наметает ветром снежную пыль,— это следы от
горшка с горячей похлебкой, который хозяйка приносила
в обед мужу и детям. Они сидели втроем прямо на полу
и хлебали ложкой горячее варево; а хозяйка тем време-
нем стояла на крыльце, скрестив на груди руки, и пела
494
народную песню про снег, дети же постукивали в такт
ложками и покачивали головой. Убедительно вас прошу
не беспокоиться: нет никаких причин для тревоги о судь-
бах Общества,— вы слышите треск, но это трещат стро-
пила под тяжестью снега, столько его навалило на кры-
шу. Я благодарю крестьянина за все, что он сделал для
Общества, я бы охотно приветствовал его, если бы он был
здесь, а не в деревне, возле своего погибшего ребенка.
Я приветствовал бы также и крестьянку и поблагодарил
бы ее, я приветствовал бы также детей и сердечно по-
благодарил бы их за все, что они сделали для нашего
Общества. Вообще я благодарю и приветствую вас всех.
Тем не менее прошу вас оставаться на своих местах, что-
бы от ваших шагов не произошло сотрясение воздуха и
не рухнула крыша. Ну и метель! Я сказал: ну и метель!
Сидите спокойно на своих местах. Благодарю вас всех за
то, что вы прибыли, а также приветствую вас. Только
вот беда — балки трещат. Я сказал: трещат балки; я
сказал: сидите спокойно на своих местах, чтобы здание не
обвалилось. Я вам сказал, что я сказал, что вы должны
сидеть на своих местах. Я сказал, что я сказал, что я вам
сказал, сидите на своих местах!
Я приветствую вас! Я сказал, что я сказал, что я вас
приветствую! Я приветствую вас всех, кто прибыл сюда
за прибылью! Я приветствую вас всех с вашей гибелью!
Я приветствую вас. Я приветствую вас...
Барбара Фришмут
(Род. в 1941 г.)
Время читать Чехова1
Вода доходила ей почти до подбородка. Концы волос
совсем уже намокли, она встала на цыпочки; один-един-
ственный отполированный волнами камень еще позво-
лял выглянуть из этой глубины. Непривычное она ис-
пытывала чувство, — холод сковал ее до самой шеи,
холод, от которого стучали зубы, хотя лицо было залито
ярким солнцем. И это при полном безветрии, при абсо-
лютном штиле, только лишь потому, что наступила
осень, солнечные лучи не прогревали воду, озеро было
холодным, несмотря на сверкающий полдень.
Она попыталась осторожно, словно была зажата в
тиски, повернуть голову, и впрямь казалось, будто она
в тисках, будто настолько уже одеревенела, что не смо-
жет двигаться. Наверняка ей придется плыть, если она
сойдет с камня, плыть вперед или назад, к купальне,
но непременно плыть.
От поверхности воды к границе леса переливались
яркие краски, постепенно блекнувшие на скалах. А небо
было такой густой синевы, что даже птицы едва выде-
лялись на его фоне. Ее подташнивало, она даже была
бы рада, если бы ее стошнило, и вовсе не потому, что
дурнота подступала к горлу, а скорее, чтобы избавить-
ся от этого ощущения. Ведь тогда все получится само
собой — она поплывет, словно облегченье будет столь
велико, что даже кости ее станут легче. Наверху, со-
всем у поверхности, вода была еще теплой. Вот так бы
и плыть, чтобы то спереди, то сзади тебя освещало
1 Rückkehr zum vorläufigen Ausgangspunkt.
® 1973 by Residenzverlag Salzburg
496
солнце, чтобы благодаря движению согреться изнутри,
а иногда вдруг спокойно поглубже нырнуть, под водой
открыть глаза и осмотреть дно, а после, вынырнув, по-
трясти головой, чтобы стряхнуть капельки воды с волос.
Потом броситься на покоробленные от жары мостки,
сквозь трещины в них смотреть в мелководье и, сплевы-
вая туда, наблюдать за гальянами, следить, как они
отовсюду собираются в стаи и ждут хлеба вместо плевков.
Вода захлестывала ее уже выше подбородка, два-
три движения, и она снова обеими ногами упирается
в дно. Она видела под водой свое покрытое гусиной ко-
жей тело. Но не пошла к берегу быстрее, а только руки
вынула из воды и, взмахивая ими попеременно, пере-
ставляла ноги, — словно для того, чтобы шагать по
дну, необходимо помогать себе руками.
И шаг за шагом вода отступала от нее, от ее белой,
даже голубоватой кожи: этим летом она не была на
море. Только теперь, в силу резкого контраста, холод
начал причинять ей неприятные ощущения, и если бы
не камни, которые ближе к берегу становились все
мельче и острее, она бы даже побежала, чтобы сокра-
тить путь.
Направляясь к выступу купальни, она ступала осто-
рожно, ощущая давно забытое сопротивление гальки,
и, еще стоя в воде, схватила полотенце, закуталась в
него, нащупала ведущие наверх деревянные ступеньки,
ослизлые, заросшие мхом и водорослями, задержалась
там на минутку на солнце, худенькая и продрогшая,
а потом бегом поднялась в кабинку для переодевания и
поскорее стянула с себя мокрый купальник.
И как хорошо почувствовала она себя в сухом ку-
пальнике и в еще пахнущем силаном халате; вытертые
полотенцем кончики волос почти просохли. Она натер-
лась кремом для загара, — ей хотелось побыстрее заго-
реть, чтобы по лицу ее не сразу было заметно... На фоне
белизны халата руки ее уже чуть-чуть выделялись, и
если погода сохранится хорошей, утром она снова придет
сюда. Сегодня и завтра, одна, как она любила, но все
теперь было не так, как должно быть. Она могла в любое
время пойти домой, посидеть в саду, выпить с матерью
или с тетей Фанни чашечку кофе и покурить. Она давно
уже вслух не называла ее «тетя», — только, думая о ней,
произносила про себя «тетя Фанни»,
Она взглянула вверх. Самолет пересекал круглый
497
свод пеба, от вершины одной горы к другой. Прежде
здесь самолеты не летали. И хотя это был маленький
самолет, но все же самолет.
Никто не останавливал ее, когда она в одиночестве
направилась на берег озера. И вот она наконец здесь.
Все знали, что она любит ходить сюда одна. Ведь она
же в любое время может вернуться домой, когда ей на-
скучит одиночество. По вечерам, когда дети были уже
в постели, они сидели на веранде и играли в карты —
мама, Роберт и Милена, ее невестка. Позднее приходила
и тетя Фанни. Мама и тетя Фанни давно уже по-доб-
рому не разговаривали друг с другом. И никто не
знал — почему. Но как-то при ней вечером зашла тетя
Фанни, и мама повела себя так, будто между ними нико-
гда ничего не было.
Мало-помалу она начала согреваться. Сняла купаль-
ный халат, легла на него, опершись на локти, и приня-
лась листать газеты и журналы, которые захватила с
собой. Вскоре руки у нее затекли. А солнце между тем
припекало. Странно, что в это время года можно еще
и вспотеть. Она провела ладонью по верхней губе и,
перевертывая страницу журнала, посадила на нее пятно.
Курортников теперь уже здесь было немного. И тем
не менее из садика отеля до нее доносился звон посуды.
Только в такие вот тихие, ясные дни долетает сюда
этот звон. Есть она не хотела. И ничего удивительного,
ведь она плотно позавтракала с мамой. Обычно она не
обедала, даже когда была дома. Вечером они ужинали
пораньше, — родные знали, что она не хочет полнеть.
Раньше она намеренно приходила сюда в полдень,
чтобы не соблазниться на еду, глядя, как другие обе-
дают.
Сейчас же мысль о еде оставила ее совершенно рав-
нодушной. А сигарета — сигарета у нее была одна-
единственная. Она привстала, чтобы отыскать зажигал-
ку. Не найдя ее, стала выкладывать содержимое своей
сумочки. Губная помада выкатилась оттуда и, проскольз-
нув между досками, упала в воду. Но она даже и не
посмотрела ей вслед, а лишь ожесточенно искала зажи-
галку. И вдруг, наткнувшись на спичечный коробок, с
облегчением вздохнула; она даже не знала, откуда у нее
этот коробок. В нем оказалась всего одна спичка; как
можно осторожнее она зажгла ее, прикрывая ладонью
дрожащий огонек. Но в момент, когда кончик сигареты
498
загорелся, спичка потухла, и ей пришлось несколько раз
глубоко затянуться. Почти обессиленная, она откину-
лась на спину и закурила.
По верхней дороге проходили люди. Она думала,
что сумеет различить их по голосам, хотя давно уже
их не встречала. Только бы ни с кем не здороваться.
Она закрыла глаза, свесила руку с сигаретой над во-
дой, — издали вполне могло показаться, что она спит.
Да и деревья загораживали ее от дороги. Ей так хо-
телось покурить в одиночестве, что она никак не могла
дождаться, когда же наконец голоса проплывут мимо.
Она неизменно стремилась знать все, что здесь про-
изошло, с тех пор как опа уехала. Тетя Фанни должна
была каждый раз сообщать ей, кто женился, у кого ро-
дились дети, кто скончался. Она хотела знать даже о
людях, которых, с тех пор как окончила школу, больше
не встречала. А если и встречала кого-нибудь на улице,
ей всегда с трудом удавалось скрыть удивление—так чело-
век изменился. И в письмах к матери она часто спрашива-
ла о людях, которых даже та знала только в лицо. Она
никак не хотела, чтобы эти места стали для нее лишь
воспоминанием детства. Она хотела знать обо всех, с
кем хоть однажды сталкивалась; правда, у нее вовсе
не было желания когда-нибудь вновь с ними столкнуть-
ся. Ей было достаточно знать, как они живут, — хотя
бы в общих чертах.
Иногда мать посылала ей вырезки из местной газе-
ты, например, когда думала, что дочери будет интерес-
но прочесть о строительстве нового филиала народного
банка. Но ее не это интересовало, хотя Георг был не
прав, насмехаясь над вырезками, которые выпадали из
писем матери и которые она, едва прочитав, бросала в
корзину для бумаг. «Почему Георг не приехал с то-
бой?» — спросил Роберт.
Почему не приехал Георг... Потому что не хотел
понять, что его тщетные надежды, его утешительная
ложь вызывают в ней лишь ненависть к нему. Потому
что они больше не могли быть вместе, ни так и ни эдак,
и потому что она знала, он выдержит до конца и даже
не заведет себе любовницы. Его не в чем упрекнуть,
видит бог, не в чем! Похоже, он умеет жить согласно
намеченному пути, который избрал, вероятно, еще в
школьные годы, однако это никогда не помешает ему
подробно ей рассказывать, сколько времени тратил оп, что-
499
бы сбегать к ней на большой перемене, — в сущности,
всю большую перемену убивал лишь на то, чтобы толь-
ко взглянуть на нее, принести какие-то мелочи и разве-
селить немного. Он никогда не упустит случая навести
на нее тоску своим оптимизмом, который оптимизмом
и не был вовсе, просто он научился, — возможно, еще
в школе, — говорить что-то подходящее моменту. Но
Георг был Георгом, и именно потому, что все было в
нем так ясно, так очевидно и благодаря этому так тро-
гательно, ее ненависть снова превращалась в свою проти-
воположность, и она понимала, что если прогонит его от
себя, то совсем потеряет мужество.
Поворачиваясь, она занозила палец. И почувствовала
признательность за эту определенную боль в определен-
ном месте. Заноза так глубоко засела под кожу, что без
иголки ее и не вытащишь. Солнце грело еще настолько
сильно, что можно было лежать непокрытой, но она
опасалась, как бы ее снова не вазнобило.
Мы не подготовлены, все мы не подготовлены. Не
подготовлены к этому. Когда все происходит быстро,
нас это потрясает и мы впадаем в шок, а когда шок
проходит, всему конец, и нечего больше заигрывать с
надеждой. Всему конец. Ведь, как говорится, оттуда
еще никто не возвращался.
Прежде было по-другому. При этой мысли ей стало
чуть ли не смешно. Что она знала об этом «прежде»,
кроме рассказанного, прочитанного. Люди ложились в
постель и умирали в течение недель, месяцев. Почти
в каждой семье кто-нибудь да лежал при смерти. Необ-
ходимо было выработать в себе какое-то определенное
отношение к смерти и к умирающим. Ей еще никогда не
приходилось видеть умирающего. Для нее существовали
только болезни, симптомы, редкие случаи, клинические
картины. Под смертью она всегда представляла себе
нечто внезапное, нечто, что кончается потерей созна-
ния, когда человек ничего больше не ощущает, вплоть
до того мгновения, которое было ей известно под опреде-
ленным названием из литературы.
На глазах у нее вдруг выступили слезы. Она вспо-
мнила, как много лет назад, проснувшись однажды
ночью, увидела за столом в своей комнате смерть. Она
лежала но двигаясь в кровати, смотрела на смерть и
ждала, когда та подойдет к ней. Спустя некоторое время
она заметила, что на столе в стеклянной вазе стоит бу-
500
кет роз, и только, а потом ей иногда даже бывало при-
ятно думать о смерти, словно бы она ее себе желала во
искупление чего-то...
Голоса детей слышпы были уже издалека, они пере-
бивали друг друга, срываясь от буйной веселости, и
становились все отчетливее. Потом она увидела своих
племянников: спотыкаясь о торчащие корни, они спу-
скались к ней по тропе, от дороги, по склону горы, сза-
ди шла Милена, хватаясь руками за ветки деревьев,
чтобы не поскользнуться. Почему же они довели тропинку
до такого состояния? Ведь они же летом каждый день
ходят сюда, — удивительно, как только матери до сих
пор удалось не сломать себе ногу.
— Анна, Анна, — закричали дети, навалились на
нее, пытаясь ее пощекотать. Она уже стояла, когда,
смеясь и вытирая о юбку руки, подошла Милена; руки
у нее были в смоле.
— Георг звонил, что приедет завтра. Мне хотелось
поскорее сказать тебе об этом, мы все очень обрадова-
лись.
Георг? Она снова натянула купальный халат, заку-
талась в него, — ей стало холодно; солнце уже почти
не грело, сильно пахло листвой. Я должна немедленно
позвонить ему. Незачем ему приезжать. Я же сказала
ему, незачем ему приезжать. Я не хочу, чтобы он при*
езжал. Пусть остается там, где он на месте.
Слезы, которые недавно ей удалось сдержать, те-
перь потекли по лицу, и она поспешно закрылась ру-
кавом халата. Милена смотрела на нее во все глаза. Дети
уже разулись и, стоя в озере по колено, кричали и брыз-
гали друг в друга водой.
— Что с тобой? — Милена положила руку ей на
плечо; и первым ее побуждением было: эту руку, стран-
ным образом пахнущую молоком, сбросить со своего
плеча. Но она сделала как раз наоборот: она порывисто
обняла Милену, и тотчас ей стало неловко.
— Подожди, я только оденусь и пойду с вами.
Милена велела детям немедленно выйти из воды и
обуться, — вода слишком холодная, чтобы плескаться в
ней, ей надоели их постоянные циститы.
Минутку она постояла обнаженная в кабине для
переодевания, но там было слишком темно, чтобы мож-
но было себя разглядывать. Потом привычным движе-
нием натянула белье, юбку, пуловер. Она позвонит
501
Георгу и скажет ему: пожалуйста, ну пожалуйста, не
приезжай. Потом всю оставшуюся жизнь она будет в
его распоряжении, она не возражает. Но сейчас, ради
всего святого, она просит его оставить ей эти два дня,
подарить ей их, как билеты на театральный спектакль.
Дети с ботинками в руках бежали впереди, а когда
они взбирались по тропе, Милена протянула ей руку:
«Чтобы и ты тоже не испачкалась смолой».
— Ты изменилась, — сказала Милена, когда они
уже вышли на дорогу, которая огибала озеро.
— Ты тоже, — сказала она и, увидев вопроситель-
ный взгляд Милены, добавила: — К лучшему, конечно.
К лучшему.
А потом они молча шли до самого дома.
Полдник мать собрала на веранде. На ее обычном
месте, на угловой скамье, лежала подушечка, она сиде-
ла на ней еще ребенком, а на тарелке в середине стола
возвышались булочки с маком и крендельки с корицей.
Даже кофейный сервиз был тот же, если, конечно, па-
мять ей не изменяет, но сервиз был такой, к которому
постоянно можно что-нибудь докупать, даже крышки,
когда они разбивались, а кофейник был еще хороший.
— Мне нужно немедленно позвонить, — сказала
она и направилась в контору Роберта; выходя, она
услышала, как Милена шепталась с матерью. В конто-
ре она закрыла за собой дверь и опустилась в потертое
кожаное кресло. Она всегда не любила контору. Здесь
было темно и стоял какой-то затхлый дух, сколько бы
ее ни проветривали.
Из окна виден был сад тети Фанни. Ребенком она
часто оставалась ночевать у тети Фанни, особенно ко-
гда родился Роберт и мать долго болела. Она сняла те-
лефонную трубку, набрала номер, но услышала гудки
«занято». Она смотрела на тетю Фанни, которая как раз
снимала белье с веревки, натянутой между двумя ябло-
нями. С ума сойти можно — и веревка на прежнем
месте. Она попыталась набрать еще раз, но безуспешно.
Она обязательно должна дозвониться Георгу. Мать крик-
нула, что кофе готов.
— Я обязательно должна дозвониться Георгу, —
ответила она.
И тут в голову ей пришла мысль, мысль настолько
счастливая, что у нее вдруг потеплело в груди. Господи,
как же раньше она до этого не додумалась! Сегодня ве-
502
чером, еще до того как опи начнут играть в карты
и зайдет гетя Фанни, она сможет пойти... Она сможет
просто пойти в кухню к тете Фанни, — та всегда си-
дит в кухне, когда бывает одна; она просто войдет без
стука и скажет: Фанни, я хочу умереть у тебя. Не
разрешай им уводить меня от себя. Я тебе хлопот не
доставлю, я только хочу, чтобы опи оставили меня
в покое. Я буду лежать и читать, я наконец-то почи-
таю Чехова, мы будем с тобой пигь вино, а потом... по-
том, когда начнутся боли, ты дать мне какую-нибудь
из своих таблеток...
В комнату вошла Милена.
— Давай я попытаюсь, может, у меня более счаст-
ливая рука... — И она принялась набирать номер.
-— Если ты так считаешь... — Ее бросило в пот, она
почувствовала, как мало-помалу ей становится хуже.
— Сигарету... — попросила она Милену, когда та
протянула ей телефонную трубку. Это был Георг.
Милена вставила ей в пальцы зажженную сигарету,
и она молча курила, слушая, что говорит Георг. Дан-
ные анализов дают основания надеяться. Завтра он
приедет за ней, вечером она должна быть уже в кли-
нике; вероятно, послезавтра операция. Он говорил с
главным врачом, тот сказал, что все не так плохо,
надо только придерживаться рекомендаций и не бес-
покоиться. Итак, до завтра.
— До завтра, — сказала она и положила трубку.
Милена все еще стояла рядом.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего особенного. — Она потушила сигарету,
потому что боялась, что ее вот-вот вырвет. — Меня
должны на несколько дней положить в клинику, но
маме, смотри, не говори об этом.
Франц Каин
(Род. в 1922 г.)
Как мой отец Габсбургам добром отплатил1
Над верстаком маленькой столярной мастерской в
доме, где я живу, висит портрет императора Франца-
Иосифа. Но это не тот всем известный портрет, который
в свое время украшал стены всех присутственных мест,
а более раннее изображение монарха, относящееся при-
близительно к 1866 году. В нем еще не проглядывает то
старческое благодушие, которое отличало все его офици-
альные фотопортреты, сделанные после 1900 года, —
императорское лицо дышит еще самодержавной гор-
достью и фамильным высокомерием. И тот факт, что
над верстаком, где во время работы постоянно слыша-
лись ругань и богохульства, висит не привычный порт-
рет добряка-монарха, а совсем иной, объясняется
следующей историей о необычной встрече моего отца
с императором Францем-Иосифом, которую отец имел
обыкновение рассказывать в подходящую для того ми-
нуту своей жизни.
За горсть папирос вполне можно оказаться в центре
мировой истории, если, конечно, обладать при этом
богатой фантазией и крепкой памятью. Обладая тем и
другим, взялся я как-то осветить последнюю, трагиче-
скую главу истории Габсбургов, а произошло это еще
задолго до того, как я записался в Красную Армию.
Было это, по всей вероятности, весной 1915 года, и
находился я тогда в маленьком городке Сретенске под
1 Der Weg zum ödensee.
@1973 by Aufbau-Verlag Berlin und Weimar
604
Читой, в горах Восточной Сибири. Дело в том, что в
ноябре 1914 года под Краковом я попал в русский плен,
и после долгого пути я, мирный штукатур, всю жизнь
проживший на императорских землях, оказался в мес-
тах, очень похожих на наши, но только леса там были
пореже, так как состояли в основном из березы и ясе-
ня. Прозрачность этих лесов была для меня, альпий-
ского крестьянина, непривычной. Напрасно мои глаза
искали густую хвою.
Рота пленных из нашего лагеря была передана мест-
ной бумажной фабрике для заготовки древесины. Под-
рядчик оказался одним из хитрецов, какие встречаются
повсюду в мире, — будучи хорошо знакомыми со всеми
хитростями лесозаготовительного дела, работая на хо-
зяина; они никогда не забывают и про собственный кар-
ман. Если мы, к примеру, складывали поленницу и она
оказывалась с задней стороны выше, чем спереди, лицо
его начинало расплываться от радости, так как замер
обычно производился спереди. Он зорко следил также,
чтобы при окончательном замере перед отправкой дре-
весины на фабрику поленья укладывались не вплотную
друг к другу, а с воздушком. Конечно, чтобы дерево быстрее
сохло, но, разумеется, не с такими заметными дырами,
чтобы меж них можно было просунуть шляпу. Проме-
жутки между поленьями должны были быть невелики
и по мере возможности равномерны. Он знал все эти
трюки, и, как только при этом наши взгляды довери-
тельно встречались, я себя чувствовал почти что дома.
Когда венгры или турки, которые и настоящего леса-то
в глаза не видели, перед окончательным замером начи-
нали без разбору швырять поленья, лицо его кривилось
от отчаяния и он кричал фальцетом:
— Не бросайте, ради бога, кладите аккуратненько!
Ведь, если бросить полено грубо и без всякого со-
ображения, его тяжесть удваивается и зазоры между
поленьями становятся слишком маленькими. Так можно
делать, заготовляя дрова для себя, но ни в коем случае,
если древесина идет для заказчика.
Поскольку я соображал, что на десяти метрах впри-
тык уложенных поленьев можно выгадать целый метр,
если умело переложить штабель, меня скоро сделали
десятником. В конце концов подрядчик начал выспраши-
вать, откуда я родом, чем подверг некоторому испыта-
нию мою честность. Я был уверен — что бы я ему там
505
нп наплел, все равпо on моей деревни не знает. Тогда
вачем точность, если для него это все равно пустой
звук?
Поэтому я ему ответил, что родом я из Бад-Ишля,
что было почти правдой, так как родился я всего-на-
всего в десяти километрах оттуда, а то, что в плен я
попал под Краковом, уже полностью соответствовало
действительности. Последнее его, впрочем, не интересо-
вало. Ведь если смотреть на Галицию из Сибири, то, в
общем-то, безразлично, где тебя угораздило попасть
в плен — под Краковом или в Лемберге1. Для здешних
мест это была не разница, а выпытывать у меня какие-
пибудь военные тайны подрядчику из Сибири и в голову
не приходило.
Но, услышав «Бад-Ишль», он сразу встрепенулся.
Еще немного, и он перестал бы вовсе следить за тем,
чтобы пленные деликатно обращались с березовыми чур-
баками.
— Бад-Ишль? — спросил он. — Уж не тот ли это
городишко, где проводил лето его величество австрий-
ский император?
— Так точно, — подтвердил я и, будучи тирольцем,
добавил, убежденный в том, что иначе меня не пой-
мут: — В самое яблочко.
Подрядчик насторожился, словно не вполне доверяя
своему слуху.
— Так это тот самый город, в котором летом посто-
япно бывал император Франц-Иосиф? — переспросил
он взволнованно, и я ответил, как бы повторяя нечто
само собой разумеющееся:
— Да, уж точно, летом, — и снова завозился у по-
ленницы.
Подрядчик достал портсигар и протянул его мне.
Я взял папиросу.
В эту минуту я понял, что должен поэкономнее рас-
ходовать свои сообщения, иначе табачная жила может
иссякнуть раньше времени. С едой тогда обстояло еще
так-сяк, а вот курева с самого начала не хватало. Мы
этому не удивлялись, так как с табаком было скверно
и у барона Конрада2. Не секрет ведь, что при от-
1 Л е м б е р т — старое немецкое название Льйова.
2 Конрад фон Хётцендорф (1852—1925) — австро-
венгерский фельдмаршал, начальник австро-венгерского гене-
рального штаба в годы первой мировой войны.
ступлении везде в первую очередь поджигали табачные
склады.
Итак, закурил я папироску не затягиваясь и отду-
ваясь, ибо раньше папирос не курил, обычно я предпо-
читаю сигару, или трубку, или старый добрый руль-
ный табак. Однако пора мне приблизиться к цели своего
рассказа и одновременно излить свою желчь. Итак, ко-
ротко бросив в ответ: «Так точно, каждое лето он там
бывал во всякую погоду, на протяжении шести десятков
годов», — я снова отошел к поленнице, проверяя на
глаз ее уровень.
Подрядчик был необыкновенно взволнован, и я смек-
нул, что оказался первым человеком, от которого он
услыхал: «Так точно, я знал его императорское величе-
ство Франца-Иосифа, вот как тебя». Он снова открыл
портсигар, на этот раз я взял две папиросы, спрятал их
и затаился, как пойманный шпион.
Подрядчика крайне озадачило мое упорное молчание.
Верно, он подумал, что я не хочу говорить из чувства
преданности императору, — как-никак я был его солдат
и, хотя, находясь в плену, уже не мог ему служить, од-
нако ни за что не хотел бы как-нибудь повредить своей
болтовней. Держу пари, он регаил, что заглянул в самую
глубь моей души.
За несколько месяцев до войны я женился, и моему
сыночку было всего полтора месяца, когда меня при-
звали. Таким образом, император причинил и мне лично
кое-какие неприятности. Не такие, чтобы кинуть ему
прямо в лицо, но и спускать ему это тоже не следовало.
Если уж этот император загпал меня в самую Сибирь,
то нельзя же от меня требовать, чтобы я с ним после
этого миндальничал. И уж коли я испытываю из-за него
трудности, пусть и он испытает кое-что от меня. Вовсе
не требуется быть особенно мстительным, но слегка под-
гадить его репутацию — это уж сам бог велел. Да и не
только его, но и всех этих подхалимов, лизоблюдов и
льстецов, составляющих его свиту.
Итак, я стал рассказывать, как добр был император
к нашим альпийским пастушкам, особенно, когда был
еще крепок, а они молоды. Как восторженные детишки
часами выстаивали в ожидании императорского салон-
вагона, перед которым обыкновенно расстилали красный
ковер, и как император всегда отдавал детям честь, стоя
навытяжку, словно перед почетным караулом, и всегда
507
при этом произносил: «Восхитительно, я очень рад».
Рассказал я также историю о том, как по пути на
охоту он зашел в туалет маленькой гостиницы и его
лейбегерь, встав возле двери, возгласом: «Стой, их ве-
личество оправляется!» — преграждал путь всем, жажду-
щим совершить то же. При этом я был вынужден делать
совершенно непристойные движения руками, чтобы мой
собеседник мог меня понять. Он смеялся до слез и к
табаку прибавил еще пару сигар. Однако история о том,
как император на охоте тремя выстрелами уложил
шестерых оленей, была ему, по всей видимости, знако-
ма, ибо, слушая ее, он лишь кивал головкой, как будто
хотел сказать: «Да, да, это случается и с высокими осо-
бами в других странах».
Разумеется, я выкладывал все эти байки по крупи-
цам, чтобы он не переедал. Ведь должен же я был эконо-
мить: не станет придворных историй — не станет табаку.
Таким образом, постепенно я оказался в довольно близ-
ких отношениях с Францем-Иосифом. Конечно, всякая
нужда на выдумки хитра, но уж нужда в куреве особо:
она стала матерью многих открытий, которые никогда
не пришли бы в голову человеку с набитой трубкой.
И каждый раз меня так и подмывало: выложи все без
стеснения про него и про его женушку. Позлословь о них,
сколько душе угодно.
Новой для подрядчика была история с яйцами. При
жизни императрицы Елизаветы было заведено: каждое
утро крестьянки со всей округи должны были приносить
на императорскую виллу два десятка свежих, еще теп-
лых яиц, — дело в том, что императрице укладывали
волосы яичным белком. Завернув яйца в вату, женщины
должны были бегом бежать к императорской вилле. Ес-
тественно, случалось, что, несмотря на предосторожности
и спешку, одно-другое яичко успевало остыть, — ведь
двадцать кур не станут нестись одновременно, даже если
этого потребует от них сама императрица.
И вот на императорской вилле родилась идея: раз
яйца в пути остывают, следовательно, нужно перевести
поближе к императрице самих кур. И возле виллы был
сооружен курятник. Но рационализаторы не учли кури-
ного коварства. Ведь чтобы нести яйца, курице необ-
ходимы определенные условия, к которым она привы-
кает со дня рождения. А поскольку теплые яйца нужны
были императрице немедленно, — воспитывать молодняк
508
времени не было, — в новый курятник поместили взрос-
лых кур. Это кур сильно разозлило, и они начали ока-
зывать пассивное и активное сопротивление. Они пере-
стали нестись в предписанных им местах, и служанка,
приходившая в курятник за свежими яичками, находила
там только подложные гипсовые яйца. Потом она,
правда, обнаружила под сеном противозаконные гнезда,
но яйца в них были уже совсем холодные. А некоторые
куры до того обозлились, что разбивали скорлупу, а бе-
лок и желток растаптывали.
Тогда в далекой Сибири я сказал подрядчику, что
именно эта история с глупыми курами в первую очередь
и способствовала тому, что императрица Елизавета стала
все реже бывать в Бад-Ишле и вообще у себя дома, а
проводила все время в заграничных путешествиях; он
задумчиво посмотрел на меня, как будто хотел сказать:
ага, вот оно объяснение того загадочного явления, о ко-
тором частенько говаривали и у нас. От этой истории с
курами — прямой путь к убийству на Женевском мо-
сту, совершенному этой темной личностью Луиджи Лук-
кени.
За историей с курами последовала другая. Император
и его семья очень любили парное молоко, и придвор-
ные врачи всячески превозносили этот напиток как ис-
тинный источник здоровья, чудодейственное средство
против недомоганий, вызываемых чрезмерным увлече-
нием сбитыми сливками, вином и мясной пищей. Но
парное молоко, как и яйца, быстро теряет свою свежесть,
если его доставлять издалека, и, кроме того, у крестьян
оказалась неприемлемая для двора привычка доить ко-
ров только в определенное время. Однако молочное
снадобье действенно лишь в момент дойки коровы, но
такая зависимость от скотины была для императорского
двора просто оскорбительной. И опять среди хозяйст-
венных экспертов императорской виллы нашлась умная
голова, которая предложила выход из этого положения:
нужно переселить корову ближе к потребителям. И вот
случилось так, что в императорскую конюшню вместе
с утонченными и нервными конями арабской породы
поместили хорошо упитанную корову. Она давала в
сутки добрых пятнадцать литров молока, чего хватало
для лечения недомоганий всех членов императорской
семьи, в том нуждавшихся. В любое время суток те-
перь можно было выпить стаканчик живительного пар-
509
пого молока для исцеления астмы, дрожи в коленях и
испорченного желудка.
Первая неделя прошла более-менее сносно, а ватем
корова, приведенная для поправки здоровья император-
ской семьи, пз зловредности ваболела. Дело в том, что
ее никогда не доили правильно, из нее выцеживали лишь
по четверти лптра молока зараз, а такого никакое вымя
не выдержит. Корову моментально убрали из роскошной
конюшни с мраморными яслями, иначе бедное животное
пришлось бы забить во дворе императорской виллы на
глазах испуганных эрцгерцогинь, которые не выносили
вида крови.
Такое поведение — пусть даже неразумного живот-
ного — разозлит любого императора, сказал я подряд-
чику. От подобной строптивости можно прийти в отчая-
ние, тем паче во время отпуска, заработанного тяжким
трудом. По лицу подрядчика я увидел, что эта история
не так уж захватила его, п рука, дарующая табак, при-
открылась сегодня лишь наполовину, Я понял, что он
жаждет получить более точные исторические сведения.
Тогда я стал рассказывать ему о зарубежных гостях,
которые валом валили в Бад-Ишль, и его интерес вспых-
нул с новой силой. Например, во время визита англий-
ского короля Эдуарда был эажжен большой фейерверк
па берегу Трауиа. Дома у меня до сих пор хранится
хвост ракеты, которая упала в саду гостиницы. У меня
там была знакомая кельнерша, — так ее чуть не убило
этой штукой. Она часто демонстрировала мне в укром-
ном местечке свою обгоревшую блузку.
Рассказывая об исторических личностях, разумеется,
необходимо было соблюдать осторожность, ибо сведе-
ния о коронованных особах и событиях государственной
важности печатаются в газетах и об этом могут прочи-
тать даже в далекой Сибири. Кроме того, любые взаимо-
отношения королей и императоров тут же приобретают
политический характер.
Очевидец должен знать больше, чем обычный газет-
чик, потому что он является непосредственным свидете-
лем событий, а не опирается на позднее сообщенные фак-
ты. Очевидец пересказывает все как было, не допус-
кая ни «но», ни «если». Разумеется, память может ему
изменить, но ведь он всегда имеет право сказать: «Я лич-
но был при этом!»
Иногда я представлял себе, как подрядчик расписы-
510
вает меня у себя дома. Я, дескать, откопал среди плен-
ных любопытного человечка, верно, говорит он вече-
ром жене. Каждое лето, представляешь, он был сви-
детелем жизни императорского двора; просто оттуда не
вылезал. Все эти истории дороги его душе. И, похоже,
этот оригинал не имеет ни малейшего понятия, чего сто-
ят его истории. Он с невинным лицом рассказывает о
невероятнейших происшествиях. Я уж подумываю, не
записать ли мне его рассказы и не предложить ли нашей
уездной газете печатать их с продолжениями... Пример-
но вот так! А жена, любопытная, как все женщины, бу-
дет еще подбивать его выжать из меня все, что только
можно, чтобы дыхание мировой истории ворвалось в ма-
ленький домишко на краю света' и чтобы она могла ска-
зать: такие вещи у нас в Сретенске не знает больше
никто. И пусть все лопнут от зависти, что мы поймали
на крючок настоящего очевидца.
Как-то раз подрядчик меня спрашивает, когда, соб-
ственно, меця призвали.
— В середине августа, — ответил я. — Запас первой
категории.
— Кажется, тогда император Франц-Иосиф в послед-
ний раз был в Бад-Ишле?
— Разумеется, —- ответил я. — Всякому известно,
что он был именно в Бад-Ишле, когда его любимого пле-
мянника эрцгерцога Фердинанда убили в этой разнуз-
данной Боснии.
И я начинаю лихорадочно соображать, почувствовав,
что подхожу к вершине своих опасных свидетельств, и
тут все должно соответствовать до последнего чиха.
Итак, мне необходимо было поразмыслить, и я задумчи-
во откусил и начал жевать конец сигары, хотя это
должно было удивить моею благодетеля, так как там
табак не жуют. Но он настолько разволновался, что да-
же не успел удивиться тому, что пленный, вместо того,
чтобы закурить хорошую сигару, жует ее, отправляя в
рот кусок за куском.
— Вы, наверное, знаете, — начал я, — что зима в
тот год была длинная, из тех, что держат сырость до
самого мая, и потому императорскую виллу не смогли
в срок побелить. Даже когда уже зацвели деревья, все
еще шел дождь со снегом, а при такой собачьей по-
годе ничего не сохнет. А когда побелка не высохла,
может случиться, что во время большого император-
511
ского приема в зале вдруг посыплется известка с по-
толка.
Поэтому, когда прибыл двор, мы еще не успели за-
вершить отделочные работы. Их величество сами не были
так этим ошеломлены, как его камердинеры, — ведь им-
ператорские покои были уже давно готовы. Только в
приемной один портач-подмастерье все так напортил, что
мне пришлось исправлять за ним, когда император уже
занял свой кабинет и приступил к работе. Я стоял па
высокой стремянке, и подо мной раз по десять на день
пробегали адъютанты, которые приносили императору
всевозможные бумаги. Чтобы побыстрее все просыхало,
сняли дверь в кабинет императора. И вот так наступил
конец июня.
Сибирский подрядчик совсем потерял самообладание:
— ...так тебя растак! Ведь двадцать восьмого июня как
раз и убили престолонаследника! Что было в этот день
в Бад-Ишле? Давай выкладывай!
— Подождите, ведь и я же о том, — не моргнув гла-
зом ответил я. — Разве же такое позабудешь... Такое в
жизни бывает действительно редко.
Итак, утром, где-то в половине десятого, отправил я
подмастерье к мяснику купить на пять крейцеров обрез-
ков. Когда в Ишле находился двор, то мясники, постав-
лявшие свои изделия на императорскую виллу и на
другие квартиры, обрезали колбасы и ветчину гораздо
больше, чем обычно. У колбасы, предназначенной для
императорского двора, были обрезаны все концы. Пото-
му-то, в такие времена обрезки оказываются гораздо
жирнее, и, соответственно, велика бывает радость нена-
сытных бедняков. Но различия сохраняются всегда: од-
но дело — придет к мяснику какой-нибудь попрошайка
и попросит обрезков, или явится подмастерье в одежде
маляра и, глядя поверх голов, произнесет: «Дай-ка мне
что-нибудь поприличнее для маляров с императорской
виллы, да поживее, нет у нас времени!» И тогда можно
за невысокую плату получить действительно стоящий
товар; тут уж ничего не скажешь, отходы император-
ского дома выглядели вполне прилично. Широкая уве-
систая горбушка толстенной краковской колбасы, вет-
чины или деликатесного парижского окорока,—толстого,
как полено. И нужно в самом деле быть свиньей или
бродягой, чтобы не оценить такое.
Ладно, когда подмастерье вернулся, я слез со стре-
512
мянки и уселся в мягкое кресло в полотняном чехле:
ведь в комнате оставались лишь небольшие недоделки,
и мебель уже была расставлена. Итак, опустился я в
кресло и принялся жевать огромный кус колбасы,
обхватом чуть ли не в два дюйма, прихлебывая из бу-
тылки штигльского пива, того, что варят в зальцбургской
пивоварне.
Что это было штигльское пиво, я помню еще и сей-
час: его всегда подавали у Штерн-Нацна, на другом кон-
це рынка. У них было самое лучшее штигльское пиво, и,
кроме того, там служила та самая знакомая мне кельнер-
ша, у которой во время императорского фейерверка об*
горело белье.
Утром император показался в тот день только раз,
взял пачку газет и бумаг и снова вышел. Может быть,
пошел к Валери, потому как в его кабинете сильно скво-
зило. Я со своей лестницы приметил, что он часто шмы-
гал носом: наверное, его слегка продуло. А может, при
такой погоде промочил ноги.
Часа эдак в три он пришел снова, по-моему уже соснув
после обеда, и принялся усердно работать. С того момента
он больше не поднимался с места, пока ему не принесли
большую телеграмму. Уже раньше, с полудня, у меня по-
явилось ощущение, что что-то должно случиться, потому
что все вокруг как-то затихло. Один из придворных, ста-
рый хрыч, затянутый в пестрый мундир, который всегда
приносил императору охапку бумаг и всякий раз гундо-
сил, проходя мимо меня: «Скажите своему мастеру, что
сегодня необходимо все закончить. Это свинство дейст-
вует нам и их величеству на нервы. Передайте ему,
мы не намерены долго все это терпеть!»— так вот, этот
самый хрыч в тот день лишь дважды прошагал через при-
емную на своих негнущихся ногах и ни разу не произнес
обычную присказку. Это показалось мне подозрительным,
так как этот почтальон был князь Монтенуово, известный
грубиян, который не стеснялся в выражениях, разгова-
ривая с каким-то маляром.
Итак, я стою на лестнице, прищурив один глаз, про-
веряя, не осталось ли на потолке пятен; не хотелось мне,
чтобы после моего ухода сказали, будто я плохо выбелил
императорскую виллу летом тысяча девятьсот четырнад-
цатого года. Да и уйти до окончания рабочего дня я не
мог, так как там полагалось отсидеть до конца. И тут
снова в приемную вошел гофмаршал. Он прошел подо
513
мной, опять ничего не сказав, и мне показалось, что ша-
гает он быстрее, чем обычно. В руке он держал большой
лист бумаги — по формату я сразу определил, что это
была длинная-предлинная телеграмма. Он зашел в каби-
нет императора и положил телеграмму на стол.
Я ведь уже говорил, что стоял па самом верху стре-
мянки и, так как дверь в кабинет императора была сня-
та, мне сверху,— а чтобы быть совсем точным, сверху и
наискосок,— видно было, как император взял бумагу. Он
начал ее читать, и это продолжалось довольно долго, и
несколько раз он при этом удивленно качал головой. Затем
я заметил, что его голова все ниже и ниже склоняется
к бумаге.
В подобных случаях много не говорят — это уж точпо,
при таком-то плохом известии. Он положил бумагу на
стол и опустил на нее голову, а при такой позиции вовсе
трудно разобрать, что человек говорит. Но все-таки я рас-
слышал, что именно он прошептал: «Это конец» — и еще:
«Что за наказанье божье». Однако он тут же справился
с собой и произнес энергично и решительно: «Немедленно
пошлите за министром иностранных дел графом Берхтоль-
дом. Да, чтобы не забыть, и за военным министром тоже».
Больше я, однако, ничего уже не увидел, потому что
закончил работу и не хотел торчать без дела пред авгус-
тейшими очами, да еще в подобный момент. Собрал я свой
инструмент и ушел восвояси, немного опечаленный тем,
что на этот раз мои старания могут оказаться напрасны-
ми. Кто оценит мою работу по побелке потолка, если раз-
разится мировая катастрофа? Такое событие может погу-
бить плоды труда честного мастерового. Мастеровому че-
ловеку не видать благодарности в эти трудные дни, благо-
дарности от Дома Габсбургов.
В тот день в Сибири, когда я вознесся до очевидца ве-
ликих исторических событий, у меня все карманы были
набиты табаком. Вечером в лагере, на глазах удивленных
товарищей, я скатал себе комок жевательного табака, ка-
кого не видел с начала войны: я достал полгорсти отлич-
ного черного трубочного табака и выложил его на стол.
Потом выскреб свою маленькую трубку и присыпал та-
бак топкой пылью, словно сахарной пудрой. Затем вывер-
нул водяной фильтр из трубки, капнул на табак коричне-
вой жидкости и заложил все это за левую щеку, с той сто-
роны, где сердце. И когда, наконец, эта божественная
округлая масса пустила сок, я 8акрыл глаза, как когда-то,
514
в те счастливые деньки, когда еще не был в близких отно-
шениях с императором. И действие табака было настоль-
ко сильным, что я сам поверил в каждое слово своей ис-
тории о 28 июня 1914 года.
Еще и сегодня, когда я прохожу мимо императорской
виллы, я испытываю чувство глубокого уважения к себе
за то, что в далекой Сибири я прославил это здание и его
обитателей. А люди лще болтают, что-до не проявил я
должпой преданности старому императору, так как легко
от него отказался.
Государь спровадил меня в Сибирь -я же ему за это
добром отплатил.
Содержание
Предисловие Ю. Архипова . 3
Петер Альтенберг
* Посещение. Перевод С. Ошерова 25
* Лоскутки шелка. Перевод С. Ошерова .... 26
* Летней ночью в Вене. Перевод С. Ошерова ... 27
Артур Шницлер
Жена мудреца. Перевод Ф. Зайбеля 29
Гуго фон Гофмансталь
* Сказка шестьсот семьдесят второй ночи. Перевод
С. Ошерова 45
Райнер Мария Рильке
* Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке.
Перевод Е. Костиной 61
Отто Штёссль
* Побег из деревни. Перевод И. Березенцевой . 70
Рихард Шаукаль
* Рандеву. Перевод М. Рудницкого 88
Густав Майринк
* ГМ. Перевод С. Ошерова . 102
Франц Кафка
Приговор. Перевод И. Татариновой 110
516
Франц Набль
* Третья рука. Перевод U. Федоровой 121
Эрнст Вайс
* Шов на сердце. Перевод Л. Черной • . 142
Альфред Польгар
* Взгляд на оркестр сверху. Перевод Н. Литвинец . 156
* Одиночество. Перевод Н. Литвинец , , , , 159
Стефан Цвейг
Летняя новелла. Перевод С. Фридлянд 164
Роберт Музиль
Гриджия. Перевод Л. Карельского • • 174
* Португалка. Перевод А. Карельского 196
Герман Брох
* Рассказ служанки Церлины. Перевод Ю. Архипова. 217
* Возвращение Вергилия. Перевод Ю. Архипова . . 243
Йозеф Рот
* Апрель. История одной любви. Перевод Ю. Архи-
пова 254
Фриц Герцмановскнй-Орландо
* Человек с тремя башмаками. Перевод С. Шлапо-
берской 272
Оскар Еллинек
* Актер. Перевод Н. Федоровой 278
Лео Перуц
* Луна смеется. Перевод /7. Федоровой 288
Франц Верфель
* Жестокая история об оборванной удавке. Перевод
Л. Лунгиной 298
Иоганнес Урцидиль
* Ребро моей бабушки. Перевод Л. Черной • , 320
517
Франц Теодор Чокор
* Парк, танцовщица в зперь. Перевод М. Рудницкого 355
Эден фон Хорват
* Смерть во славу традиций. Перевод А. Наааренко . 365
Альберт Парис Гютерсло
* Австрийское происшествие. Перевод Н. Федоровой. 370
Хаймито фон Додерер
* Новый Кратки-Башик. Перевод С. ОшерЦва . . . 375
Жорж Зайко
* Жирафа под пальмами. Перевод С. Шлапоберской . 387
Александр Лернет-Холения
* Марези. Перевод Л. Черной # j « » 391
Ганс Леберт
* Гадание. Перевод Э. Львовой . ♦ 407
Герман Фридль
* Свадьба. Перевод Т. Холодов й 413
Ильзе Айхингер
* Зеркальная новелла. Перевод С. Ошерова .... 423
Ингеборг Бахман
Всё Перевод С, Шлапоберской , » 432
Герберт Айзенрайх
* Приклкягяиб, как у Достоевского. Перевод С, Шла-
поберской с . # с. . . 450
Герта Крефтнер
* Влюбленная пара. Перевод А. Наааренко . . . 463
Ганс Карл Артмав
* Гистория о заколдованном гусаре. Перевод С. Оше-
рова 468
Томас Бернгард
* Мидленд в Стильфсе. Перевод Р. Райт-Ковалевой > 473
618
Петер Хандке
Приветственное слово наблюдательному совету. Пере-
вод С. Шлапоберской 491
Барбара Фришмут
* Время читать Чехова. Перевод Е. Приказчиковой . 496
Франц Каин
* Как мой отец Габсбургам добром отплатил. Перевод
В. Саферъянца 504
A 22 Австрийская новелла XX века: Пер с нем./
Сост. и вступит, статья Ю. Архипова—М.: Худож.
лит., 1981. — 519 с.
В книгу входят новеллы классиков австрийской литературы
начала XX века, таких как Артур Шницлер, Гуго фон Гофман-
сталь, Стефан Цвейг, Франц Верфель, Райнер Мария Рильке
и др., а также лучшие рассказы наиболее известных современ-
ных писателей Австрии — И. Бахман, П. Хандке, Б. Фришмут
и др. Большая часть произведений издается на русском языке
впервые
. 70304-306
А 028(01)81 155-81 4703000000 И (Австр)
АВСТРИЙСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА
Редактор
Е. Маркович
Художественный редактор
И. Сальникова
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректоры
Д. Эткина
и Т. Крылова
ИБ M 1903
Сдано в набор 10.02 81. Подписано в печать 27.07 8J- Формат
84Х1081/з'. Бумага типографская H 1. Гарнитура «Обыкновенная
новая». Печать высокая. 27,3 усл. печ. л. 27,3 усл. кр.-отт. 28,59
уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Изд. M VI-334. Зак. ,№ 33. Цена
2 р. 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература». 107882, ГСП. Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19.
Типография издательства «Таврида» Крымского OK Компартии
Украины, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.