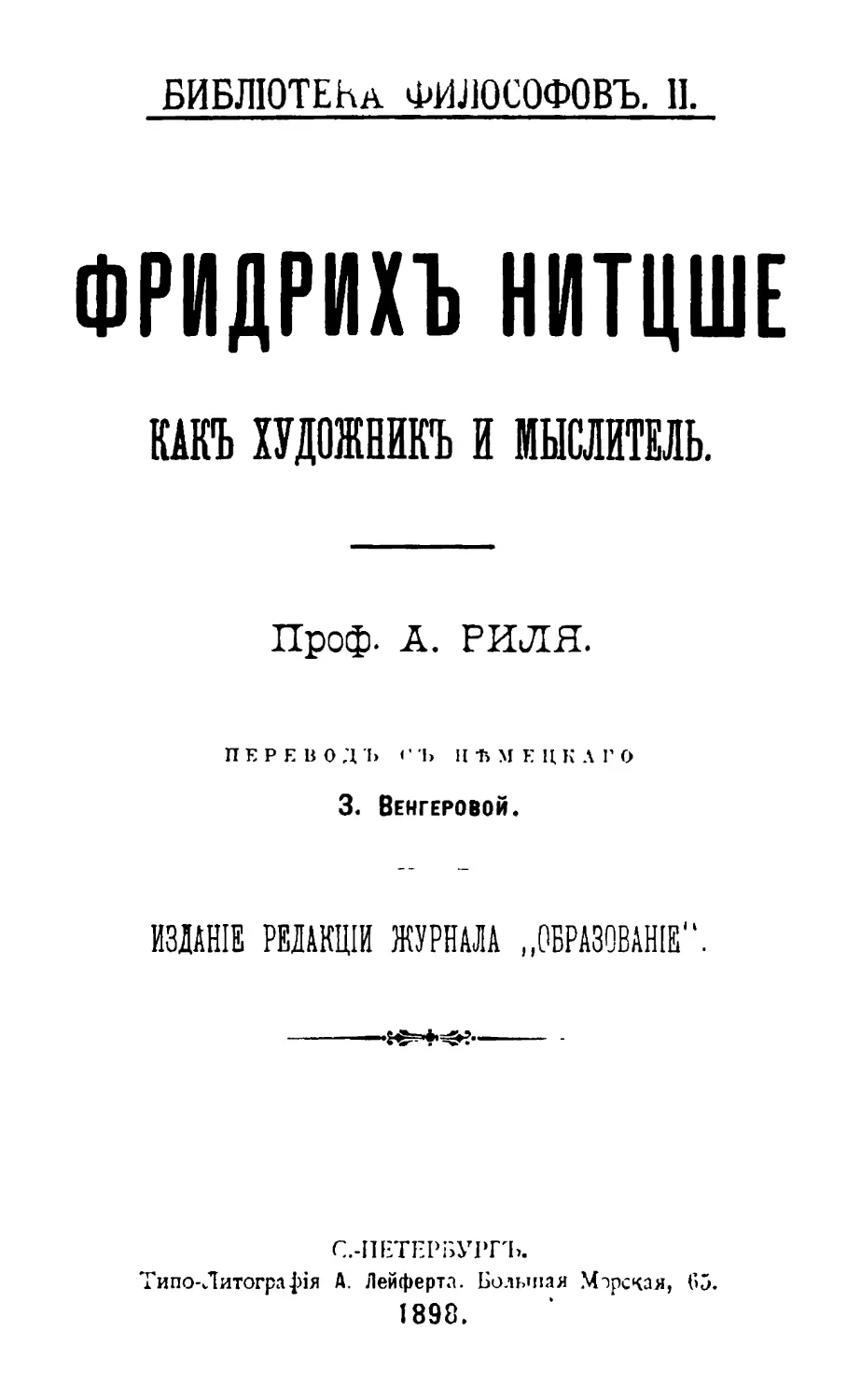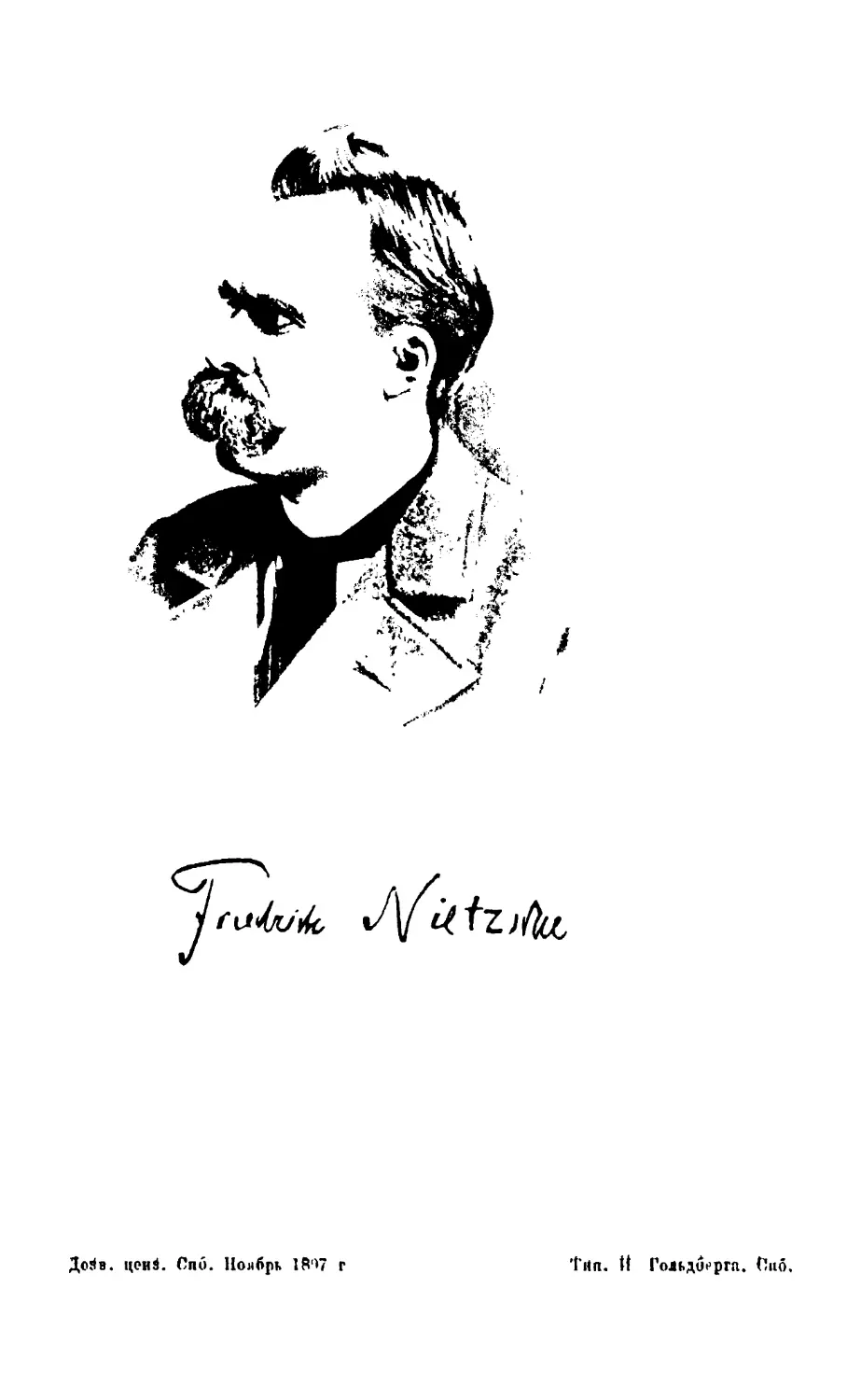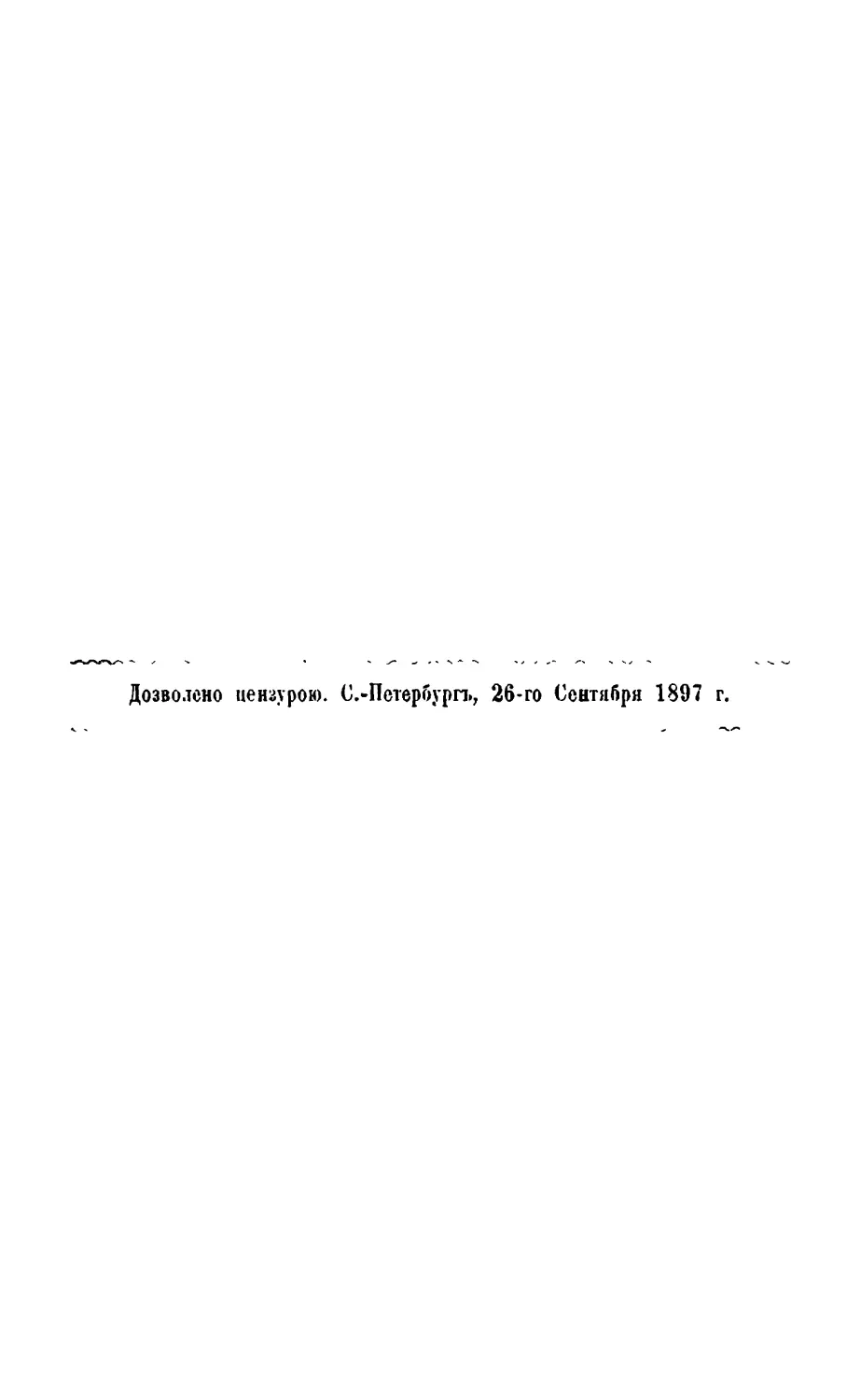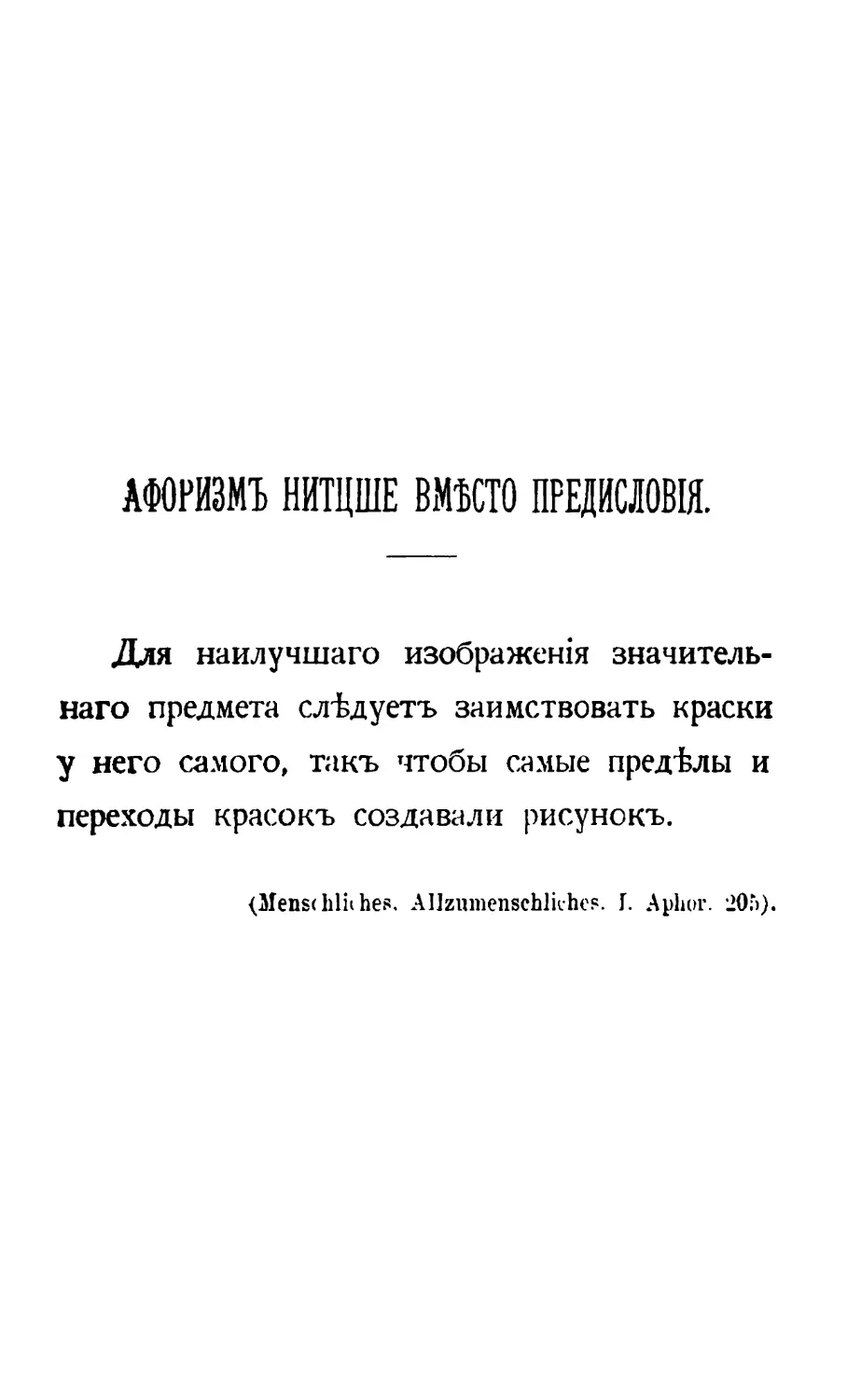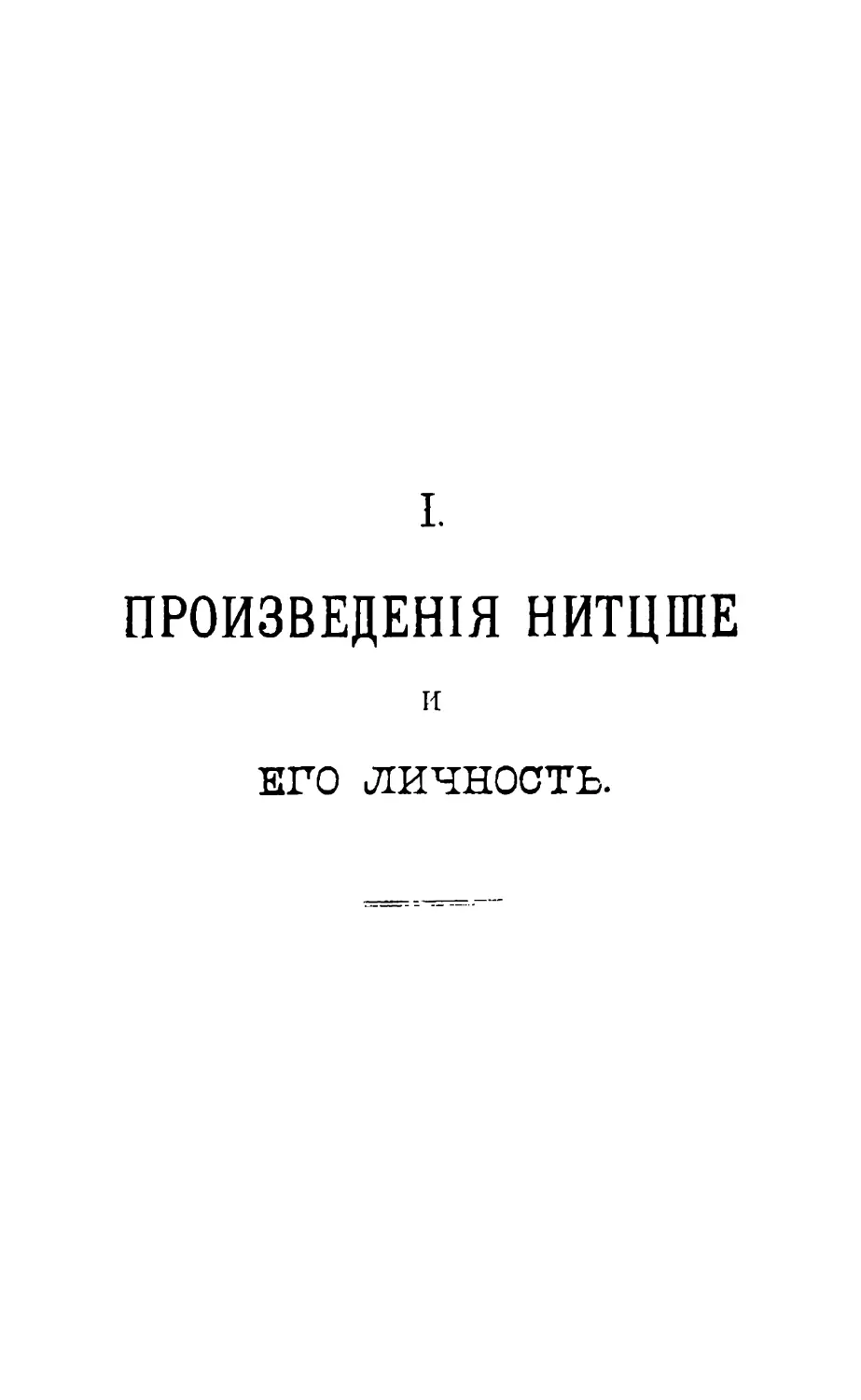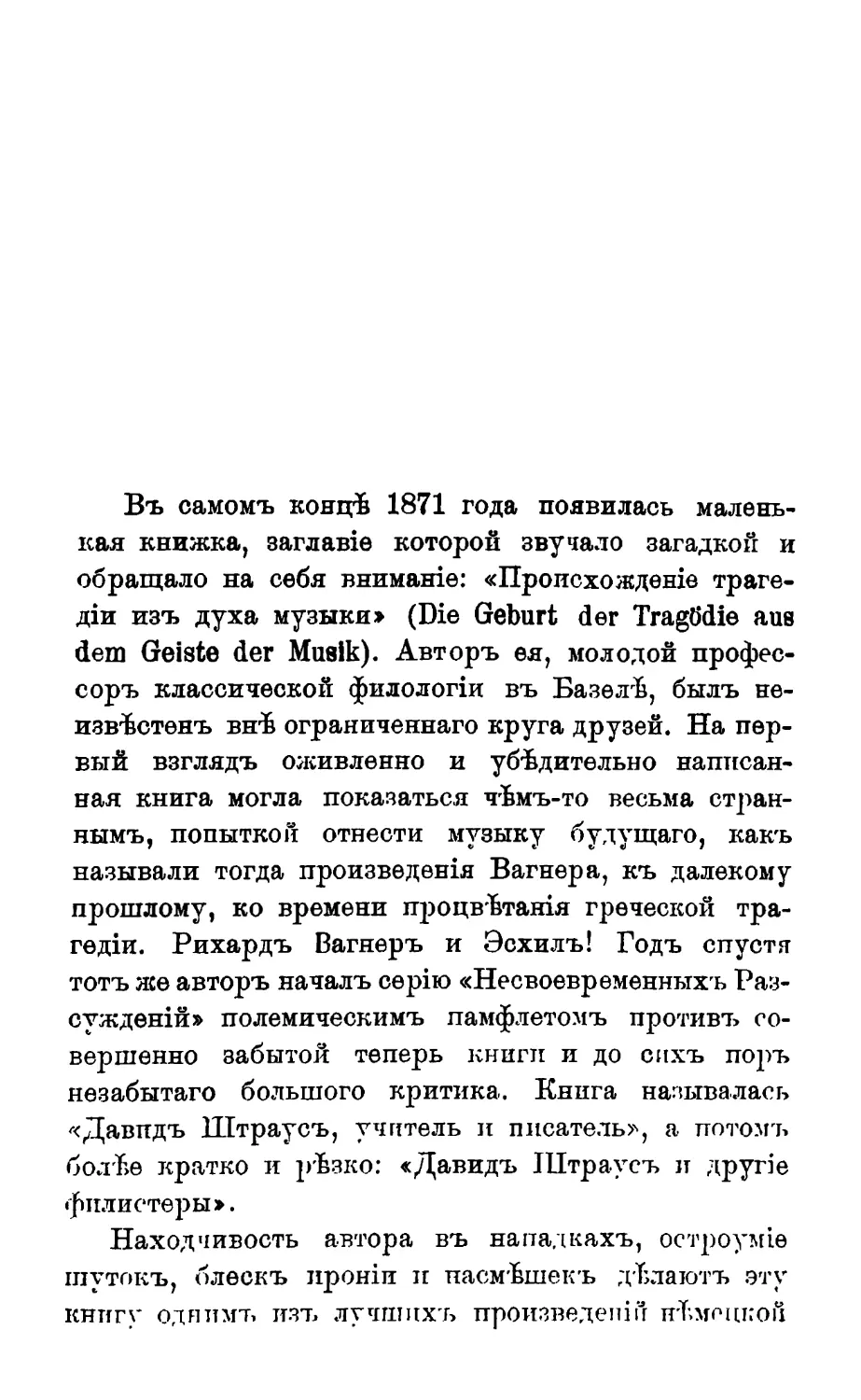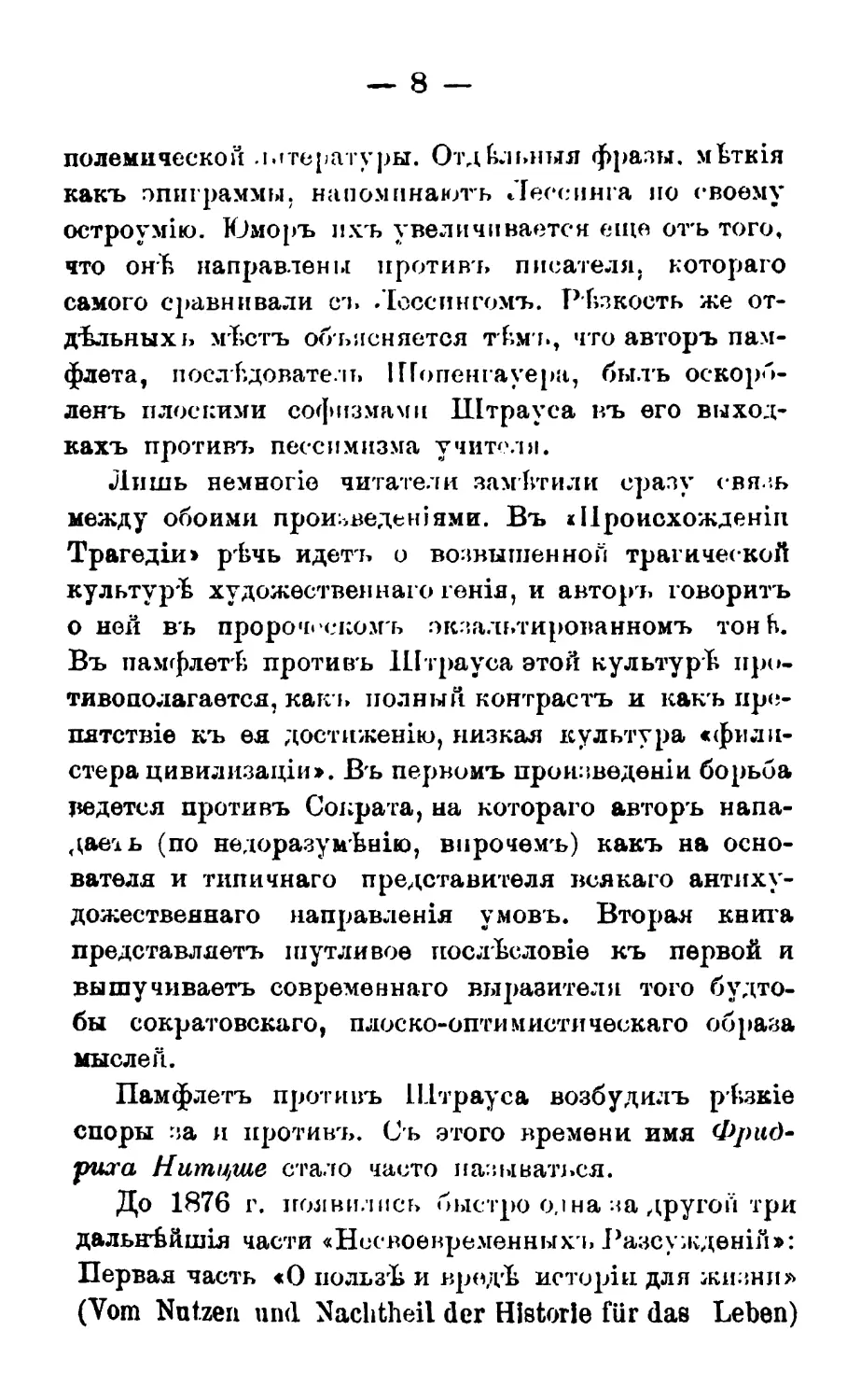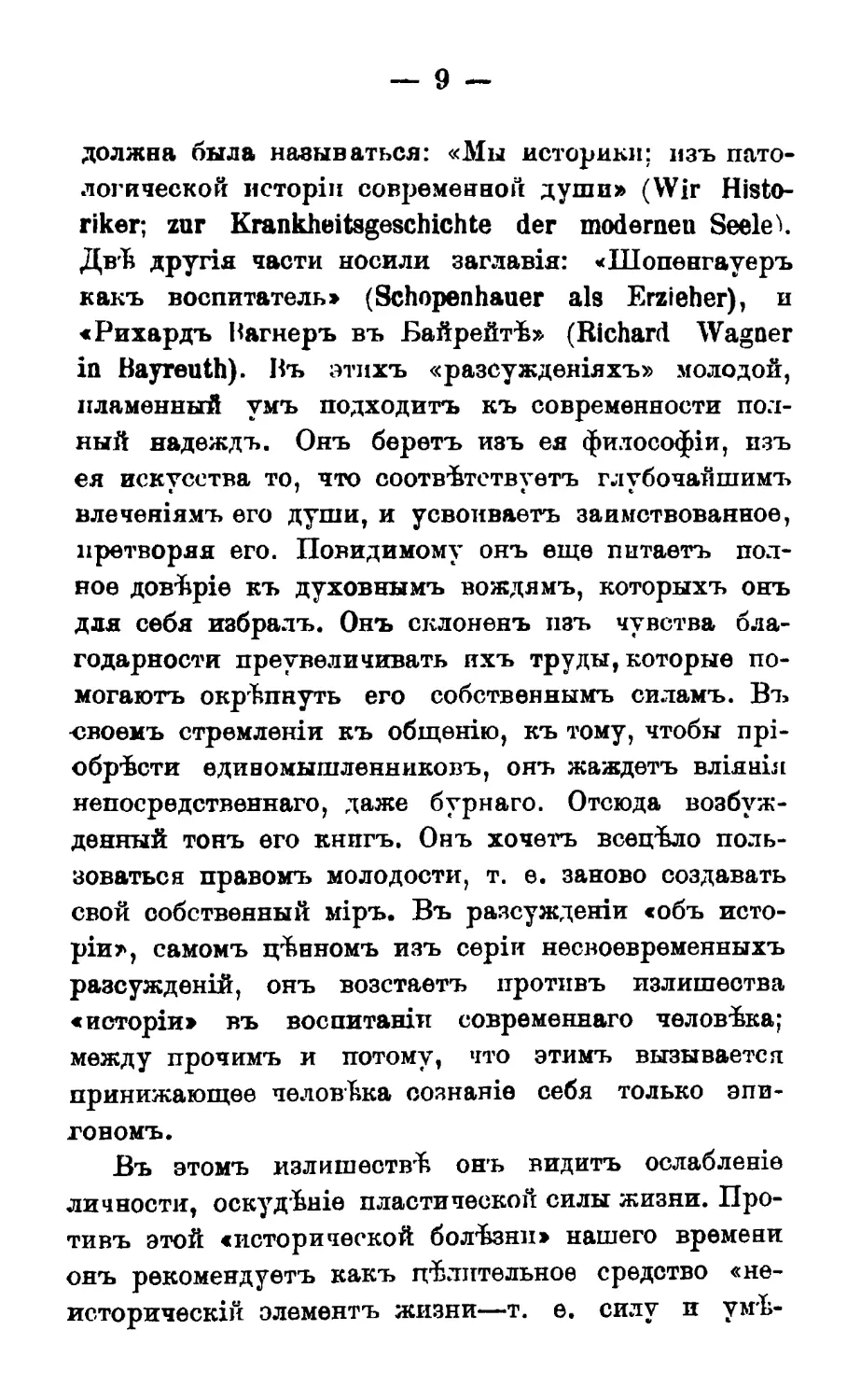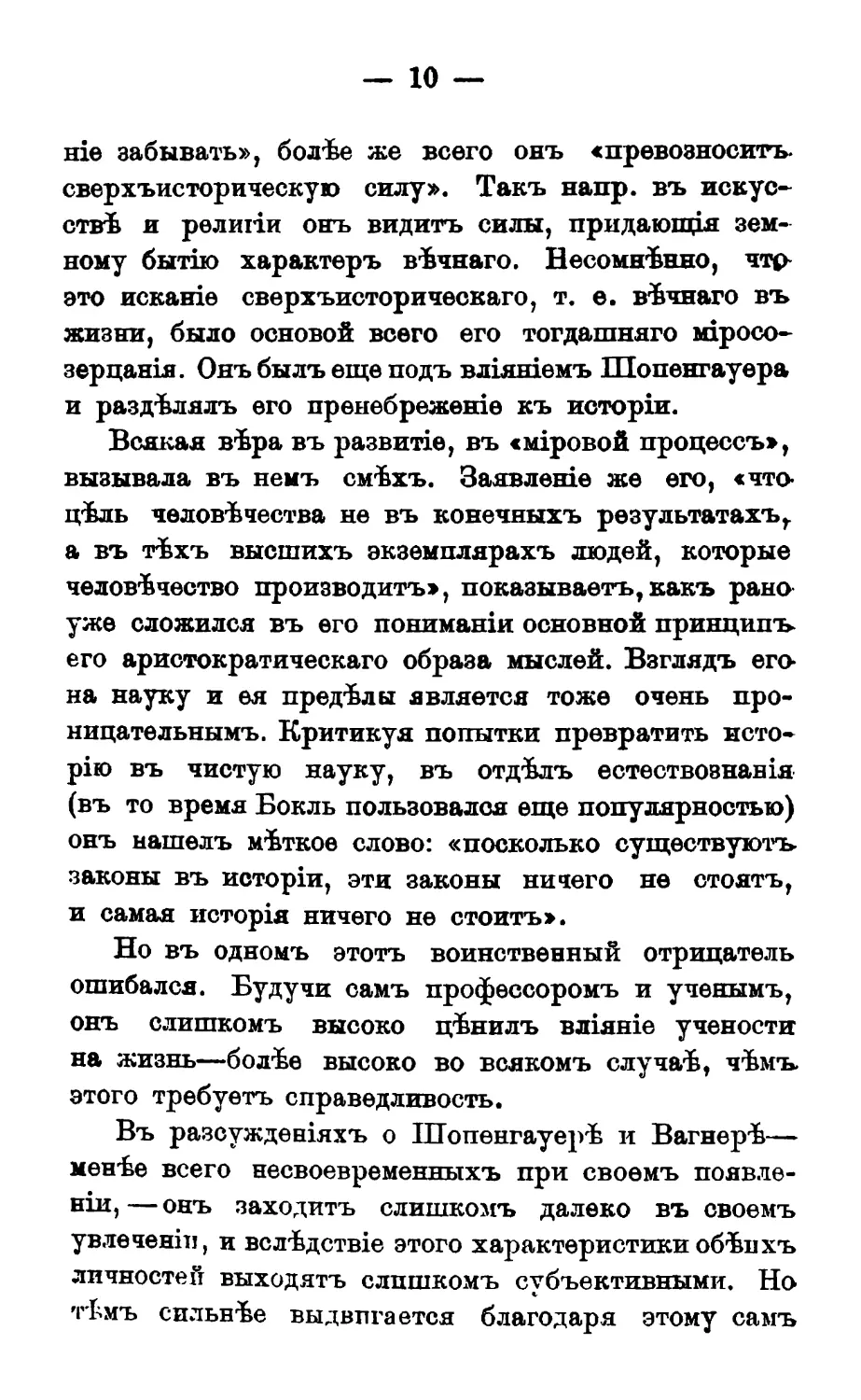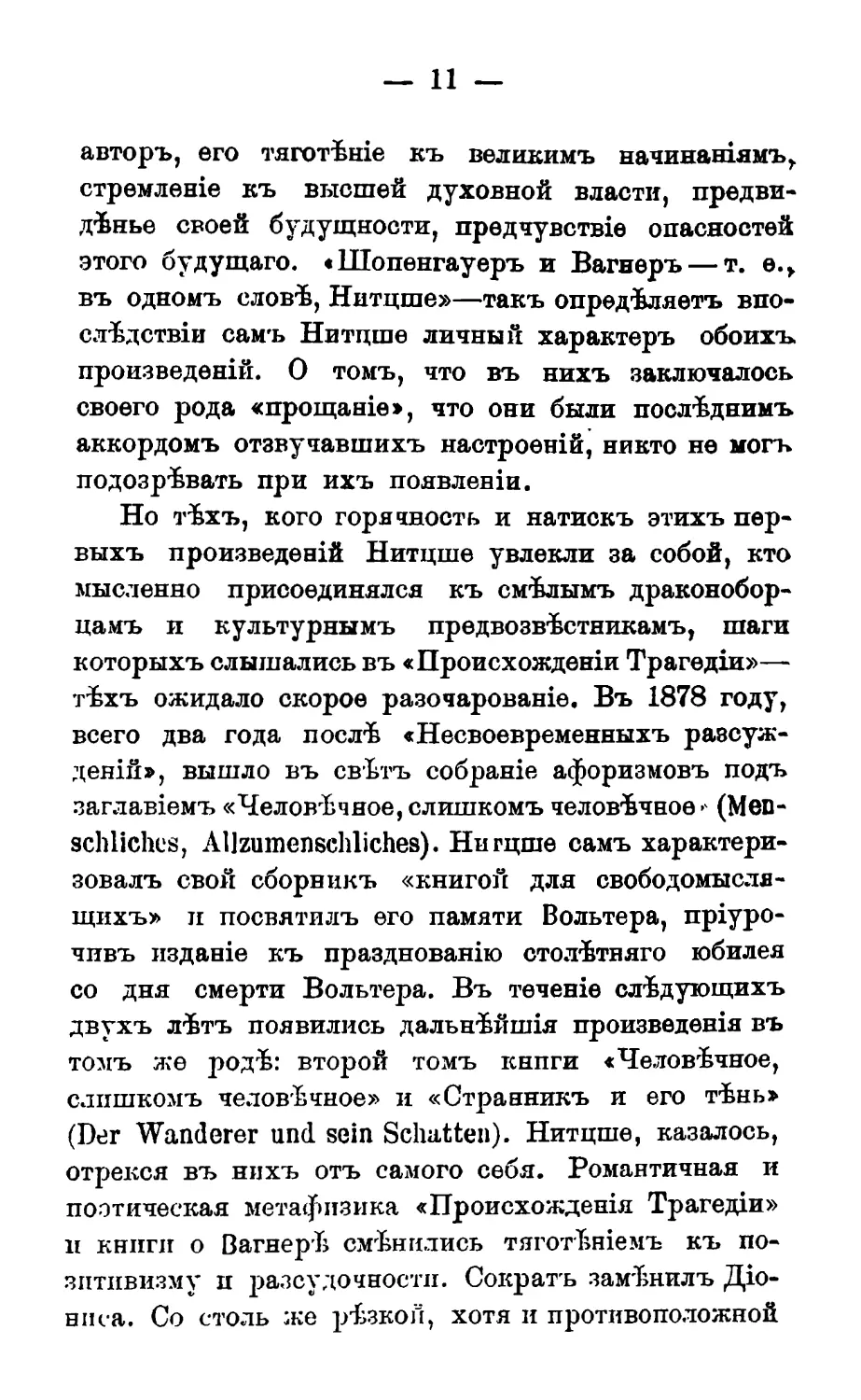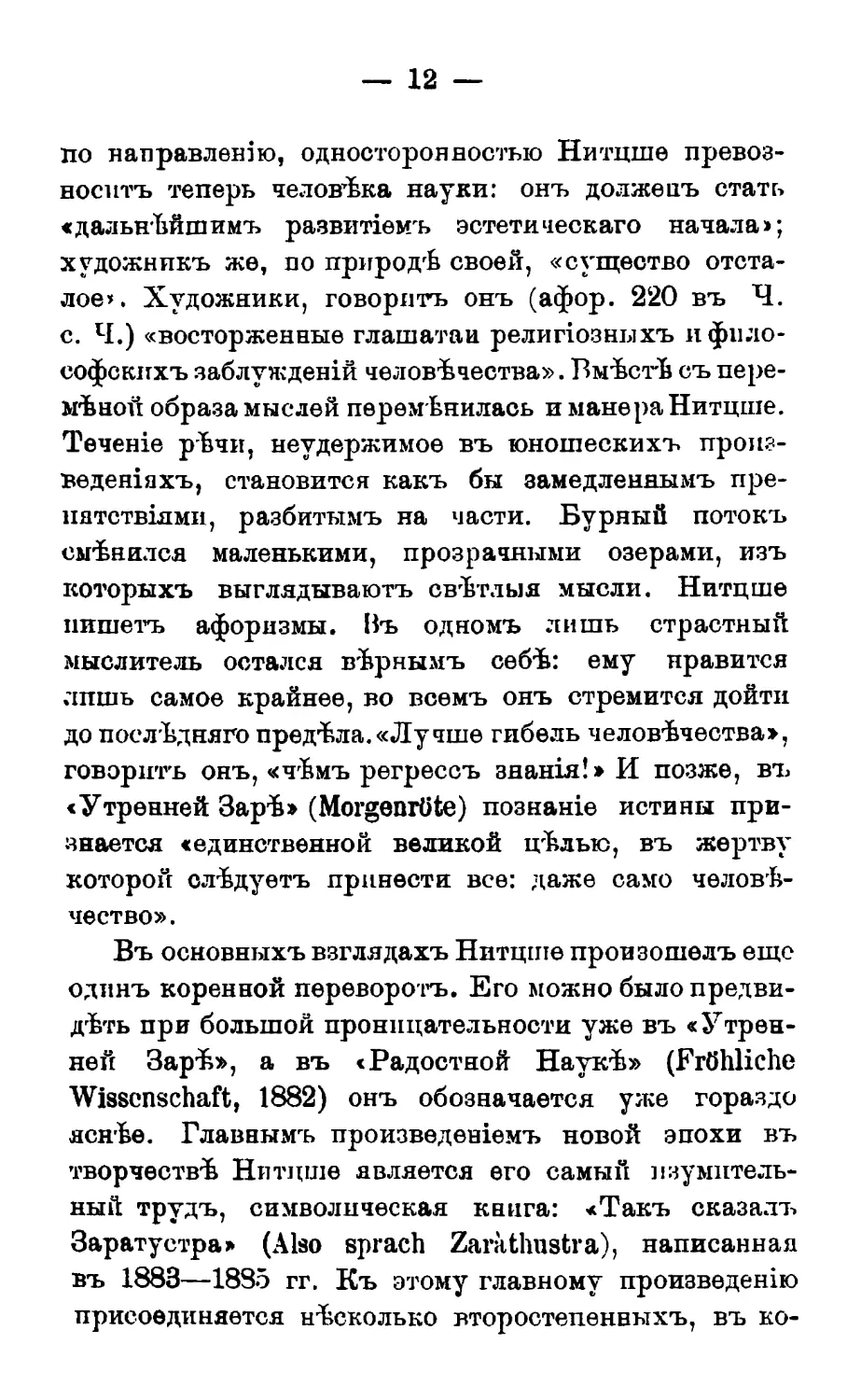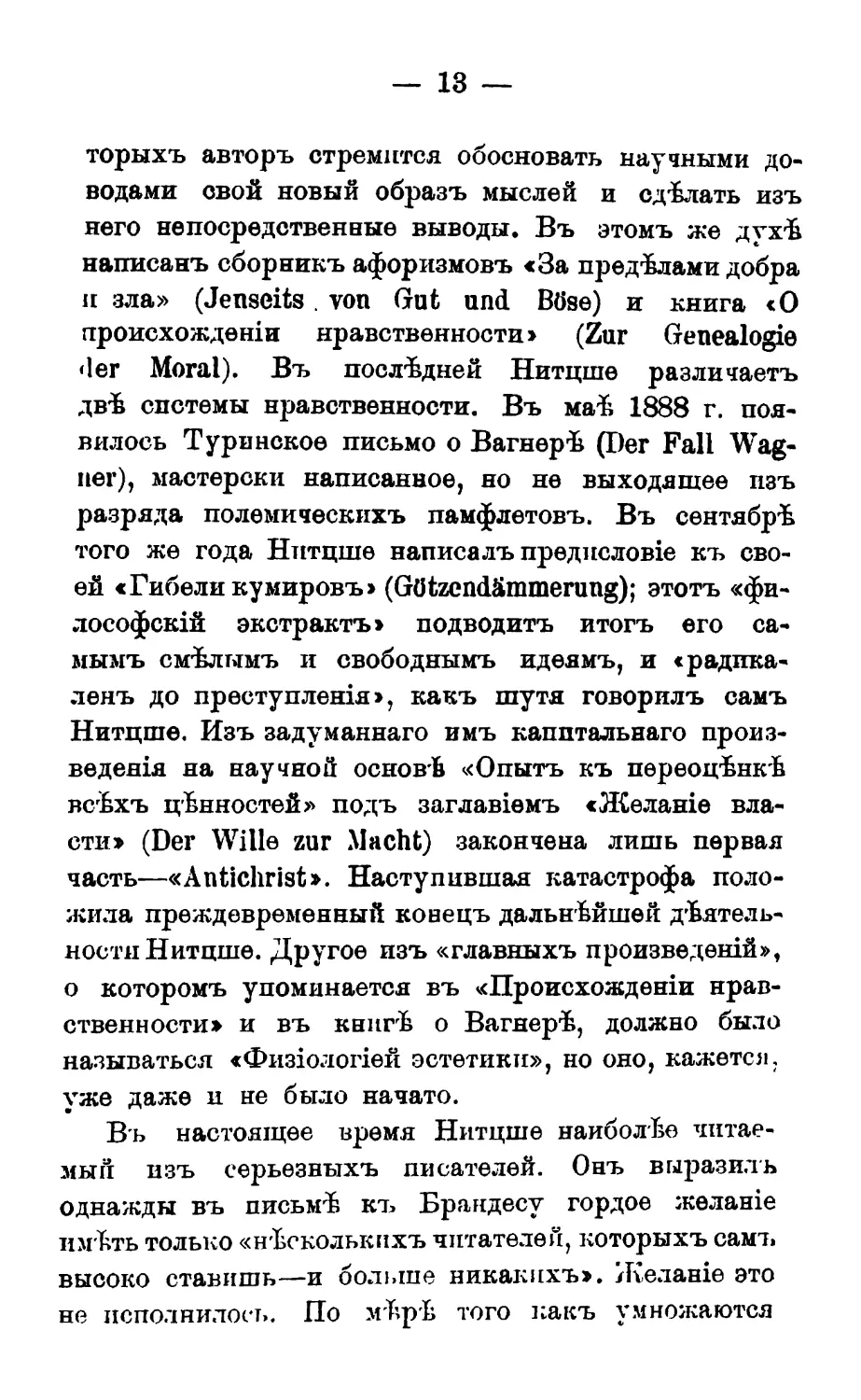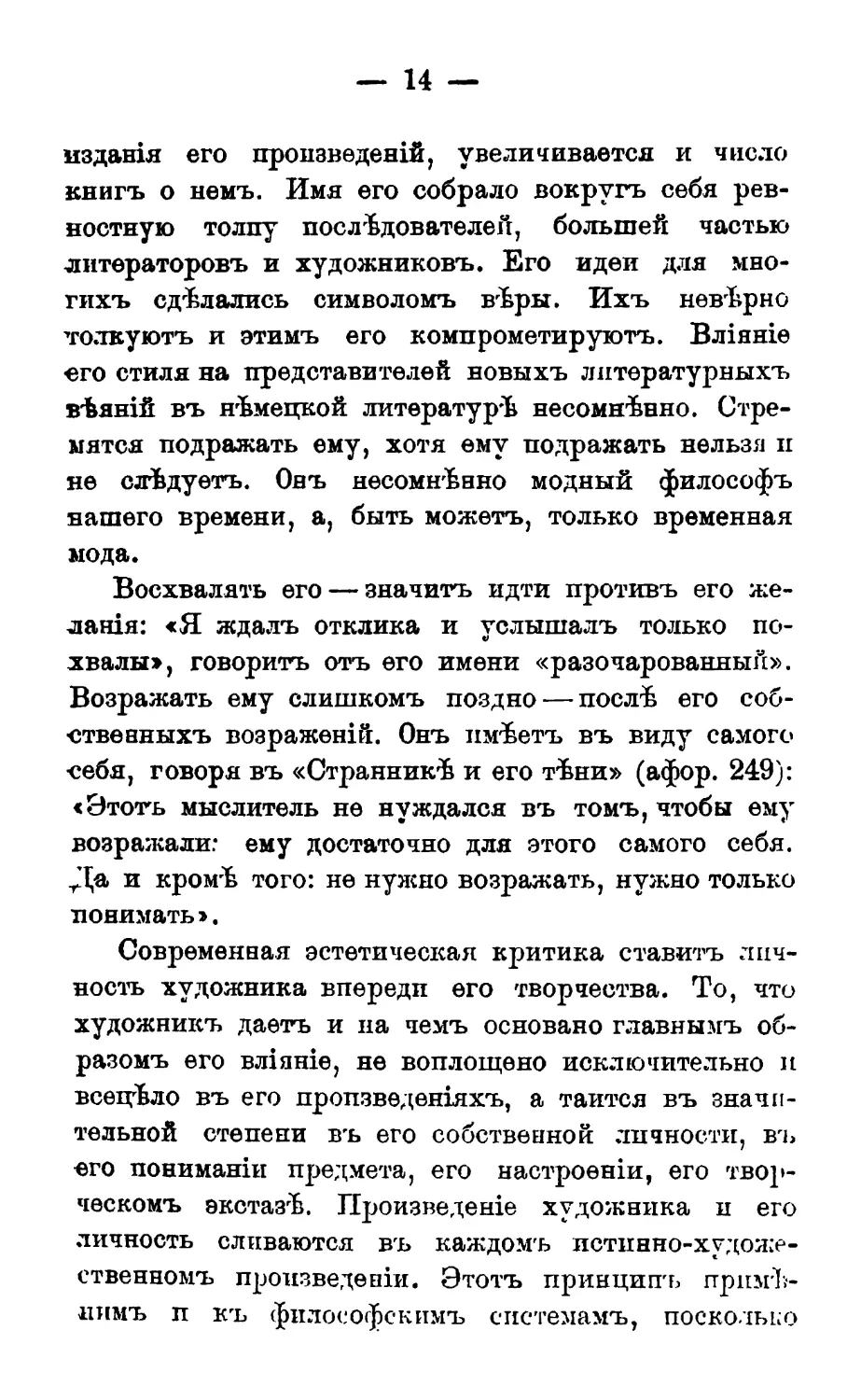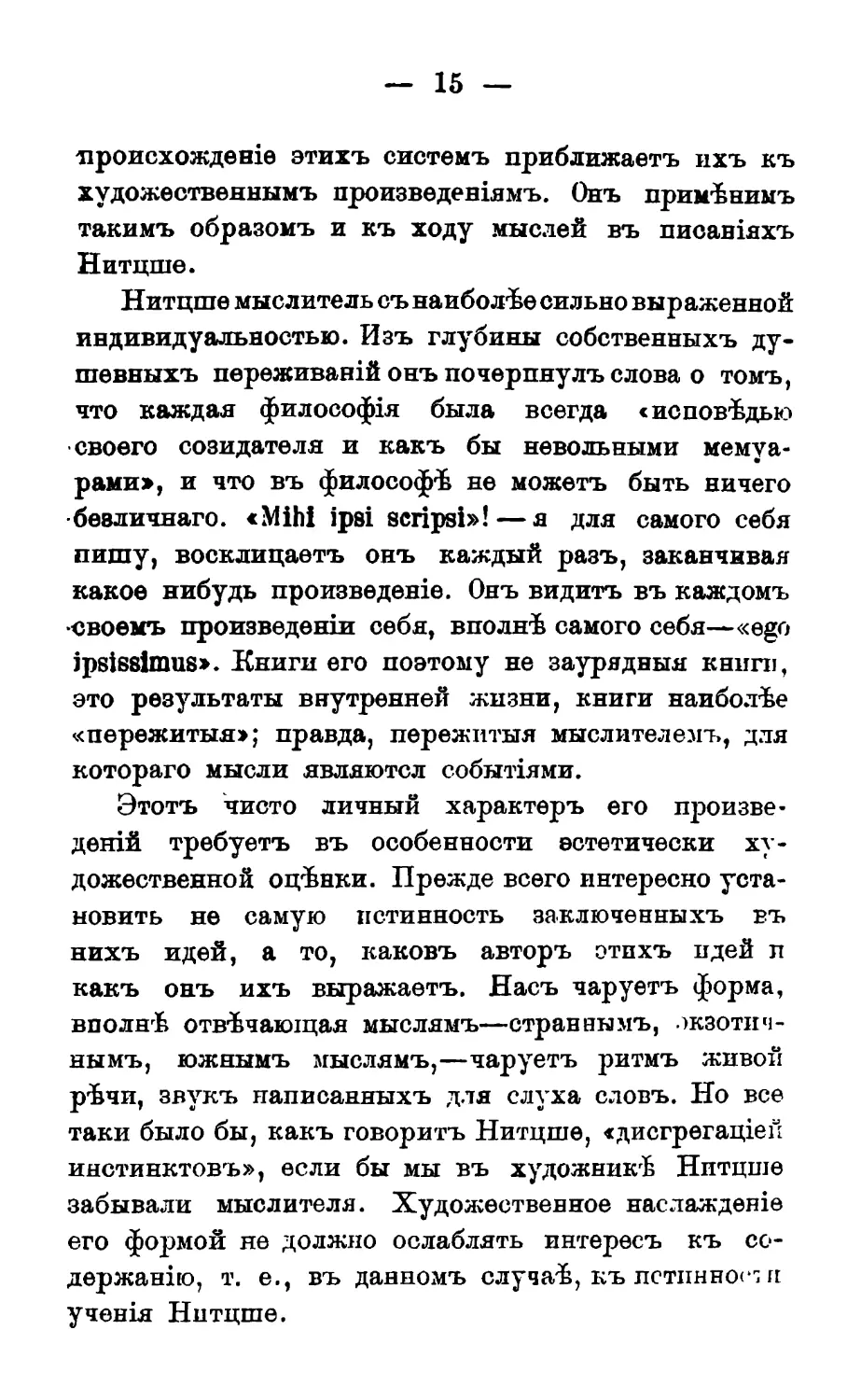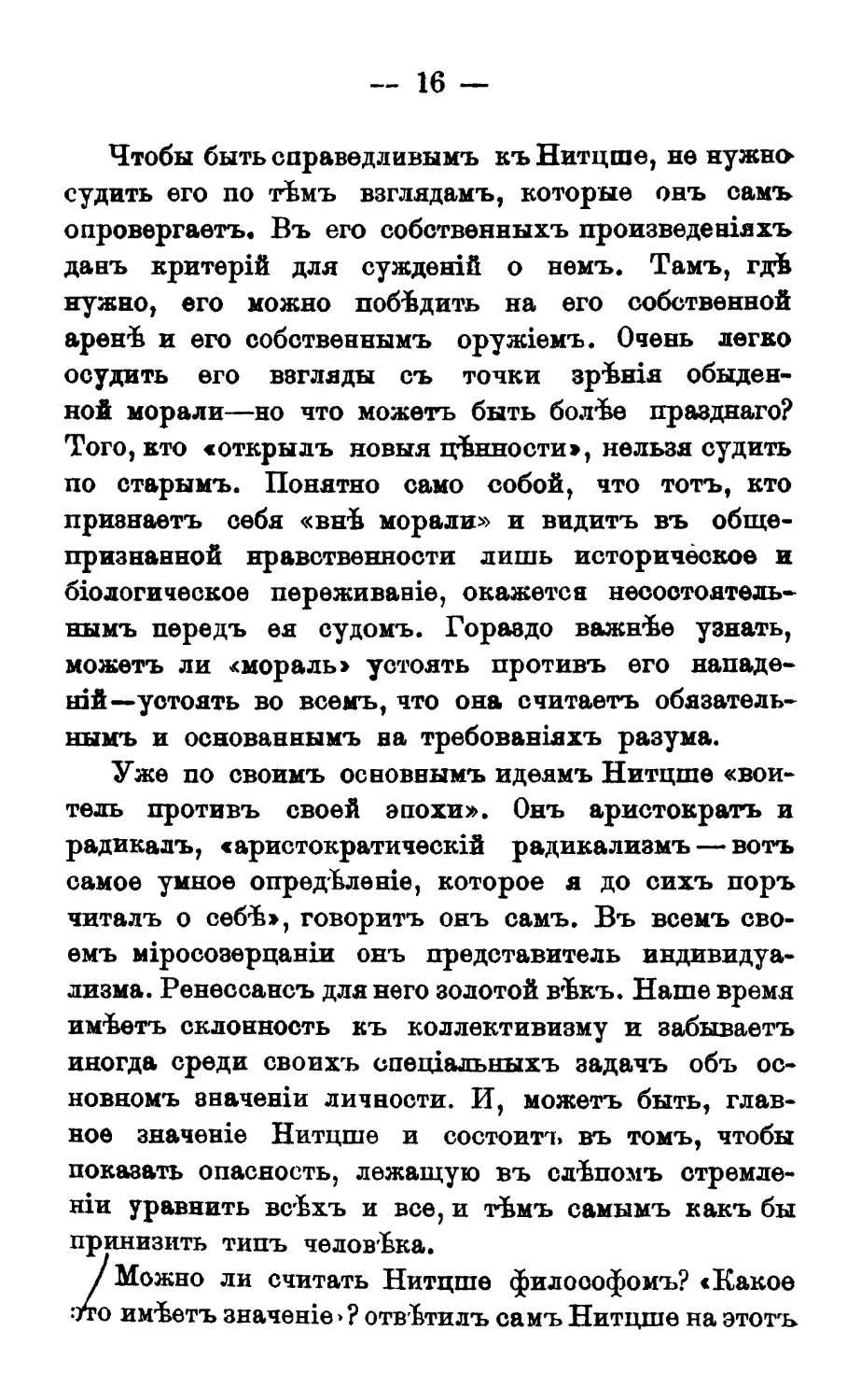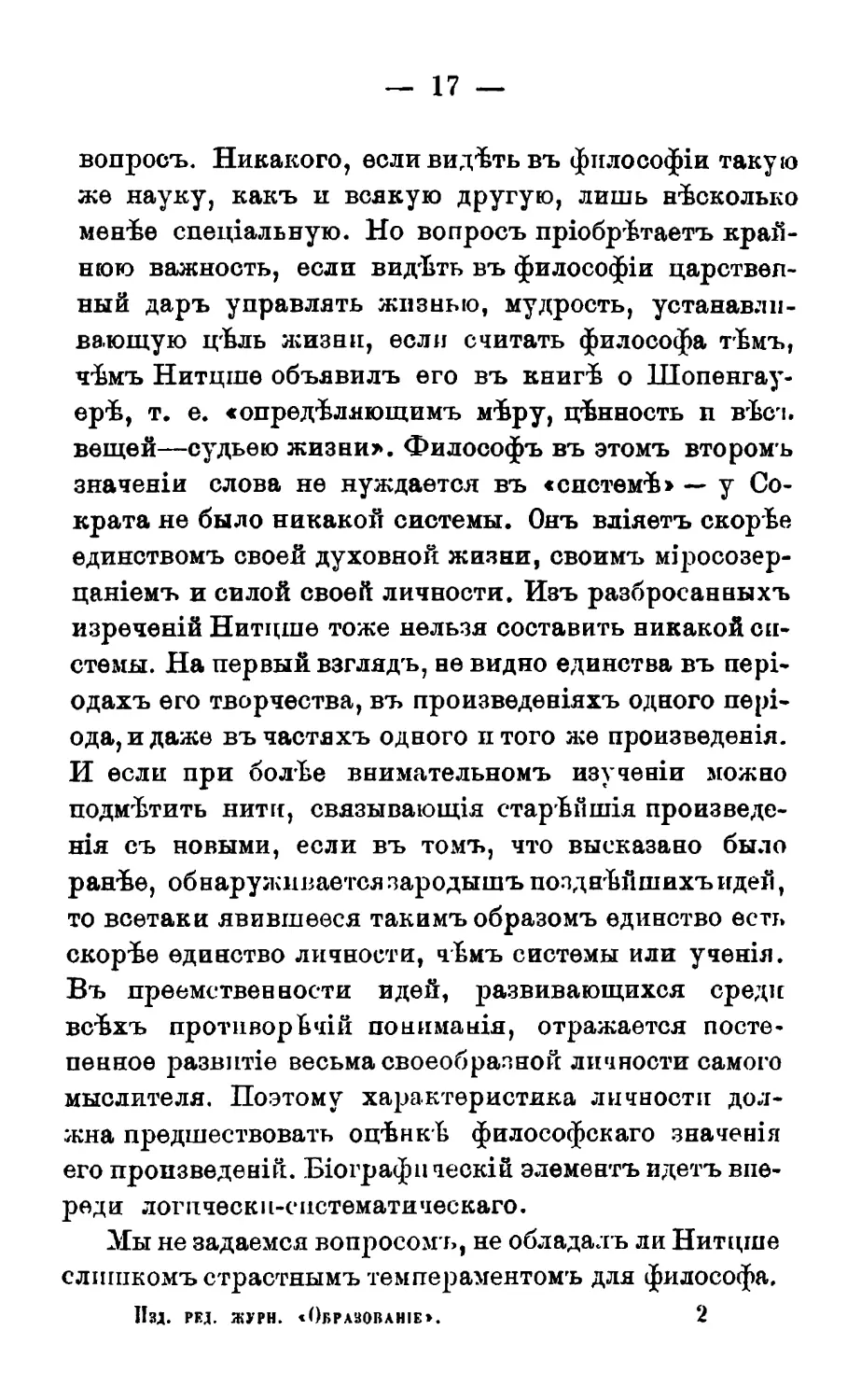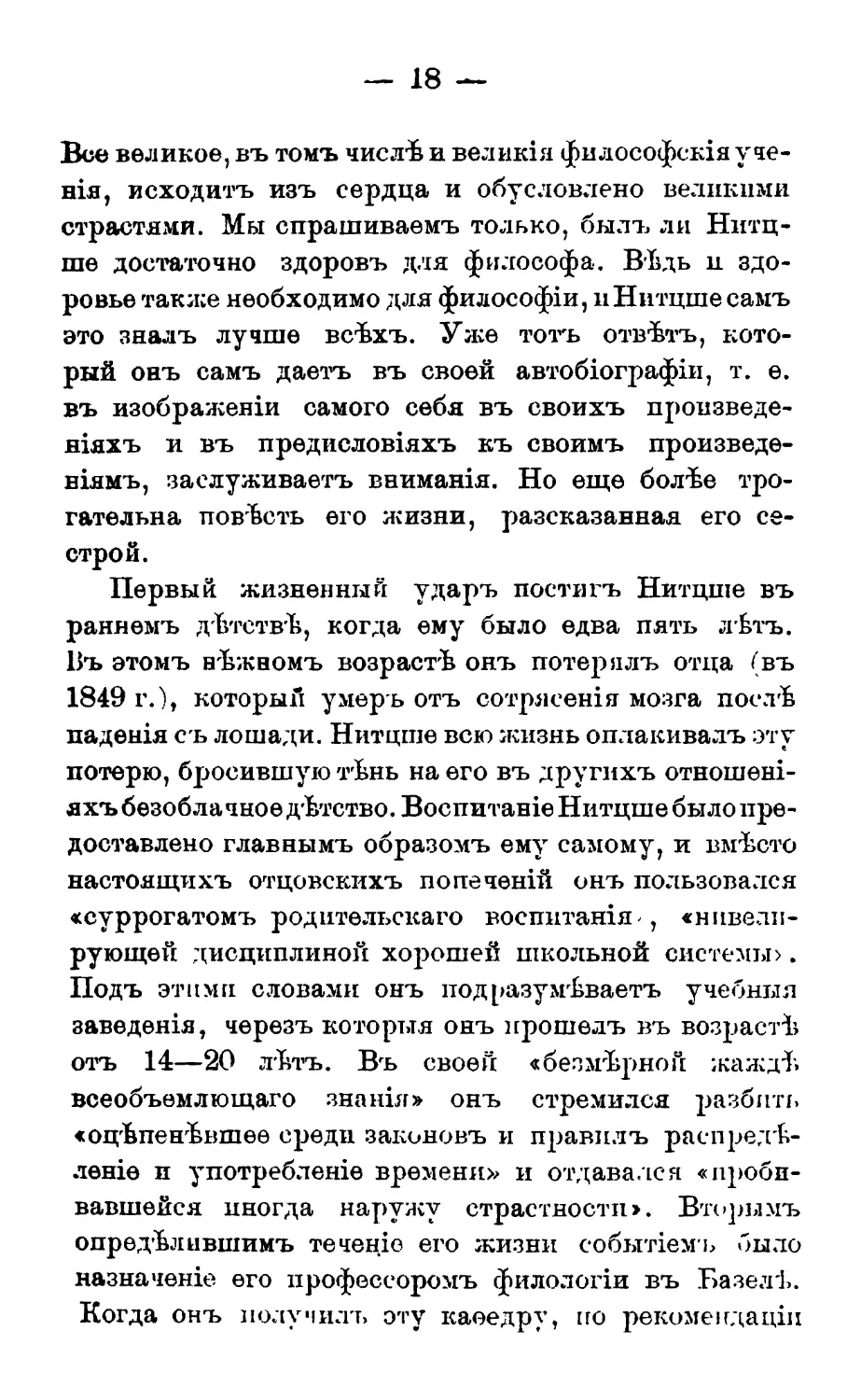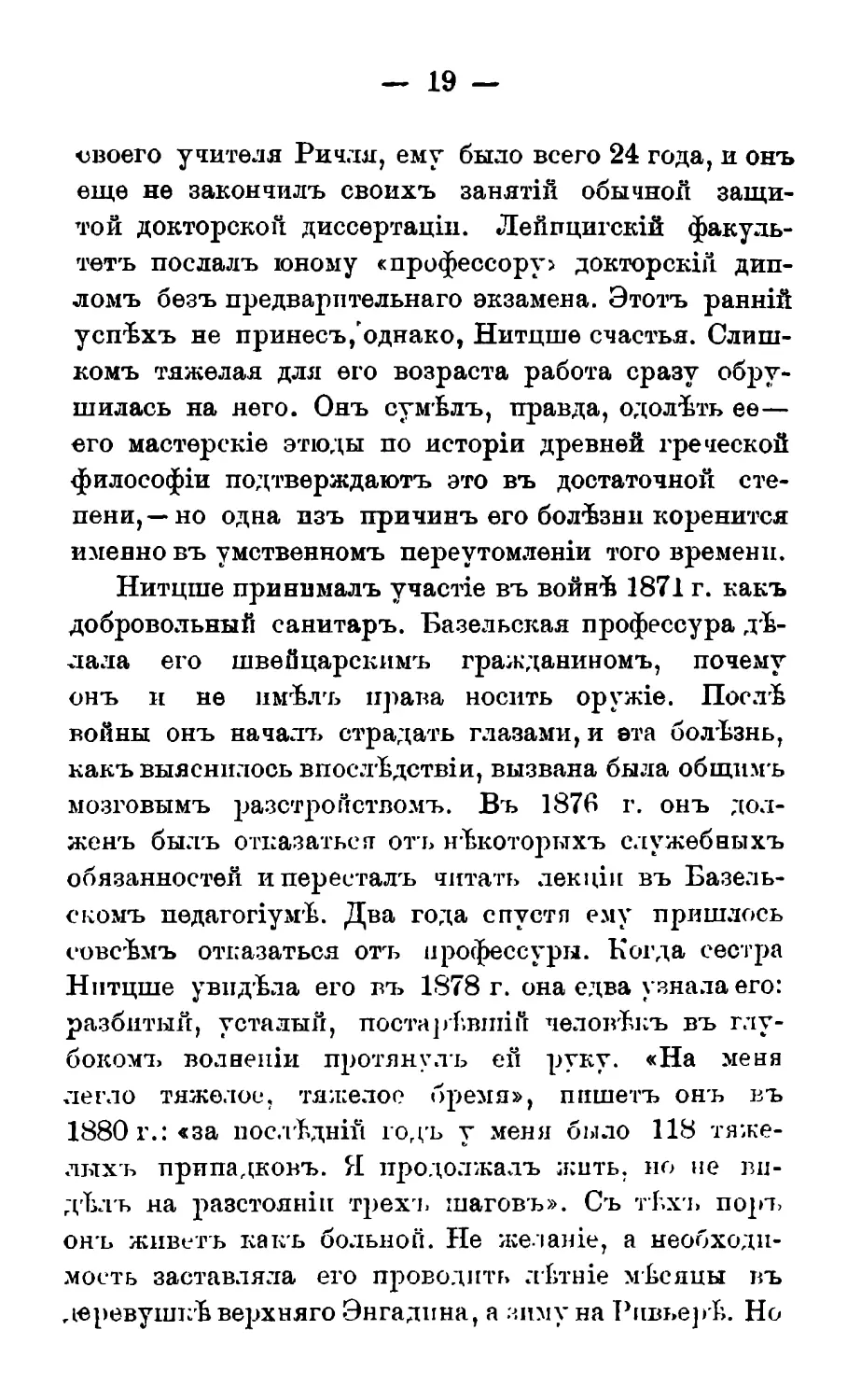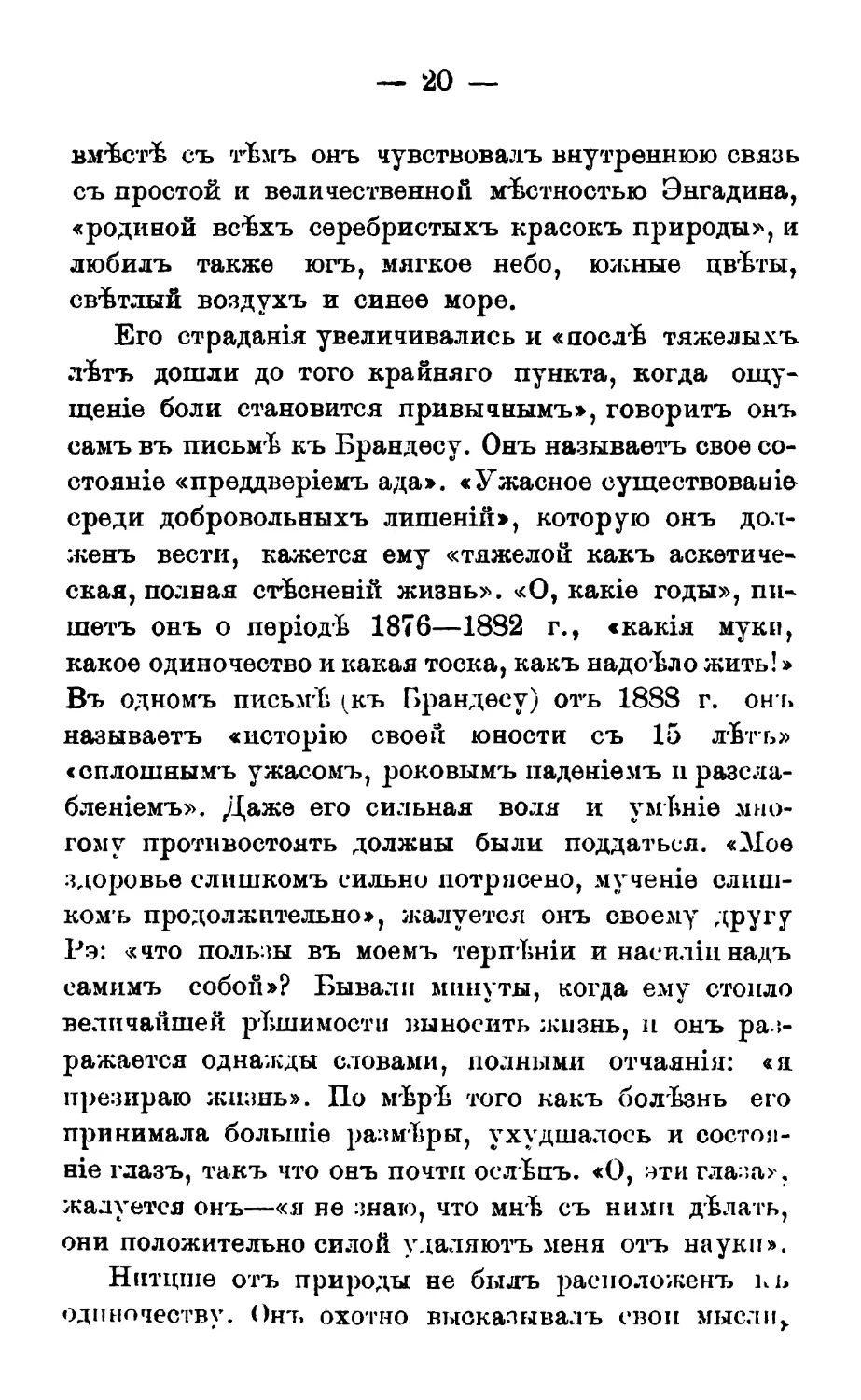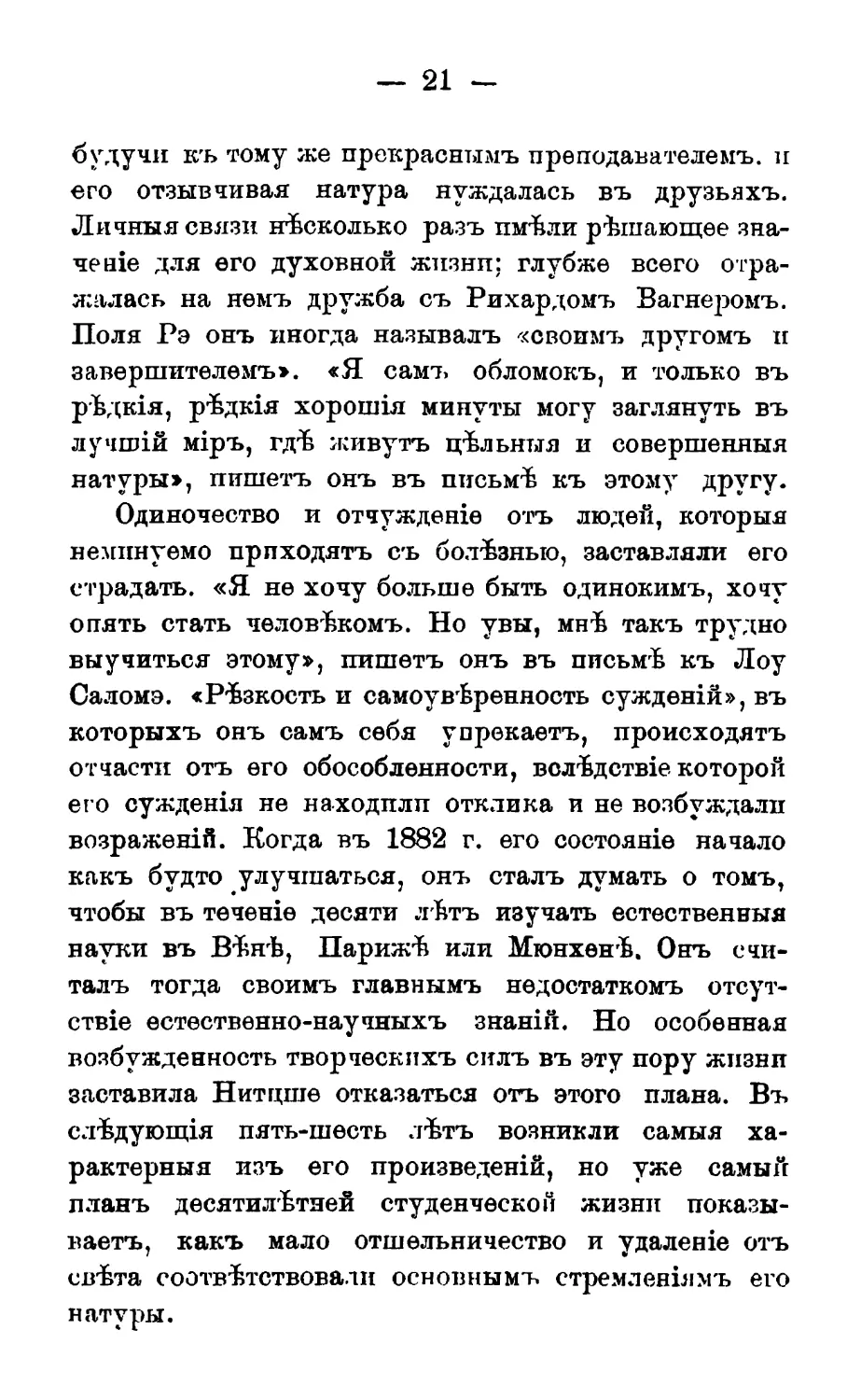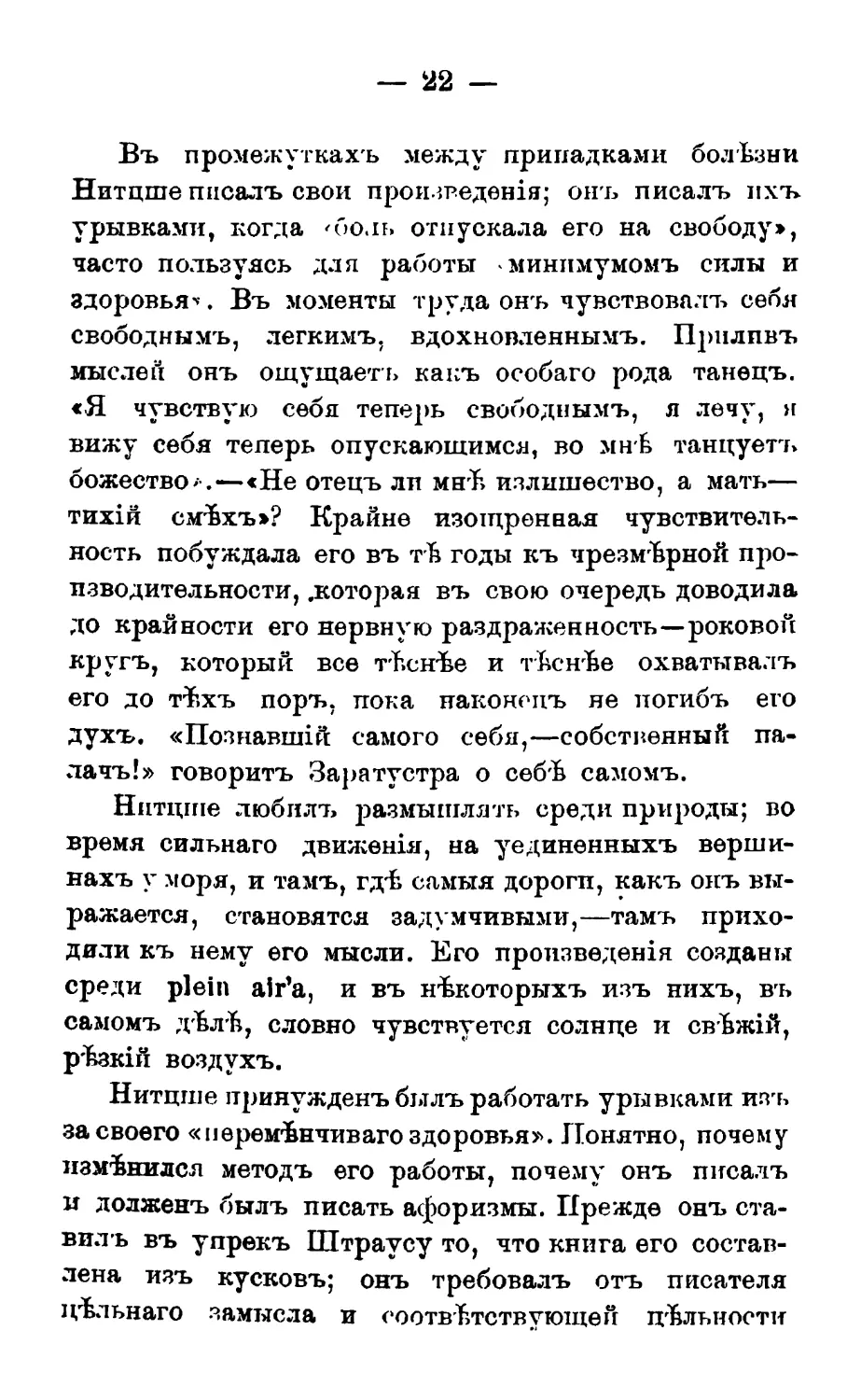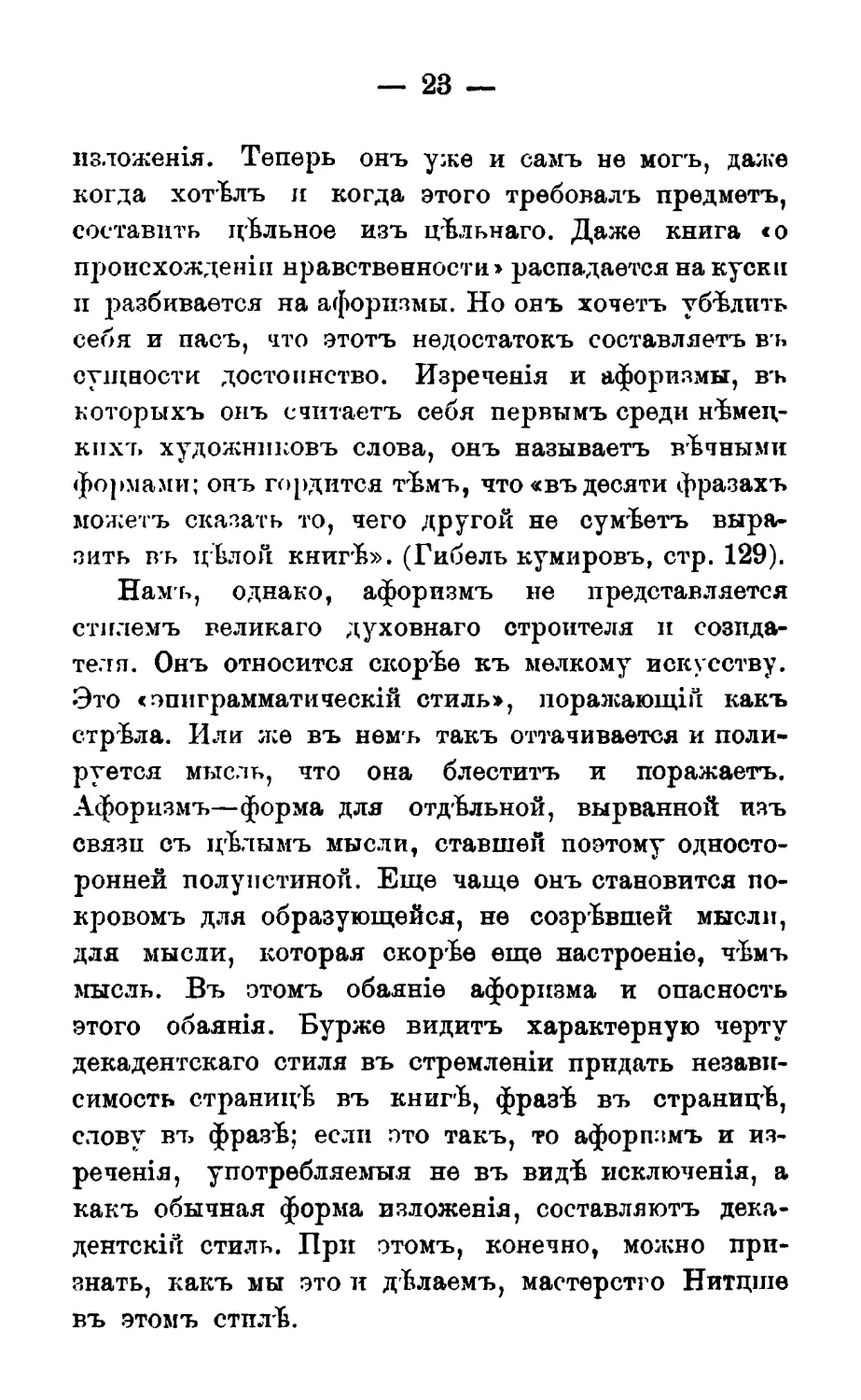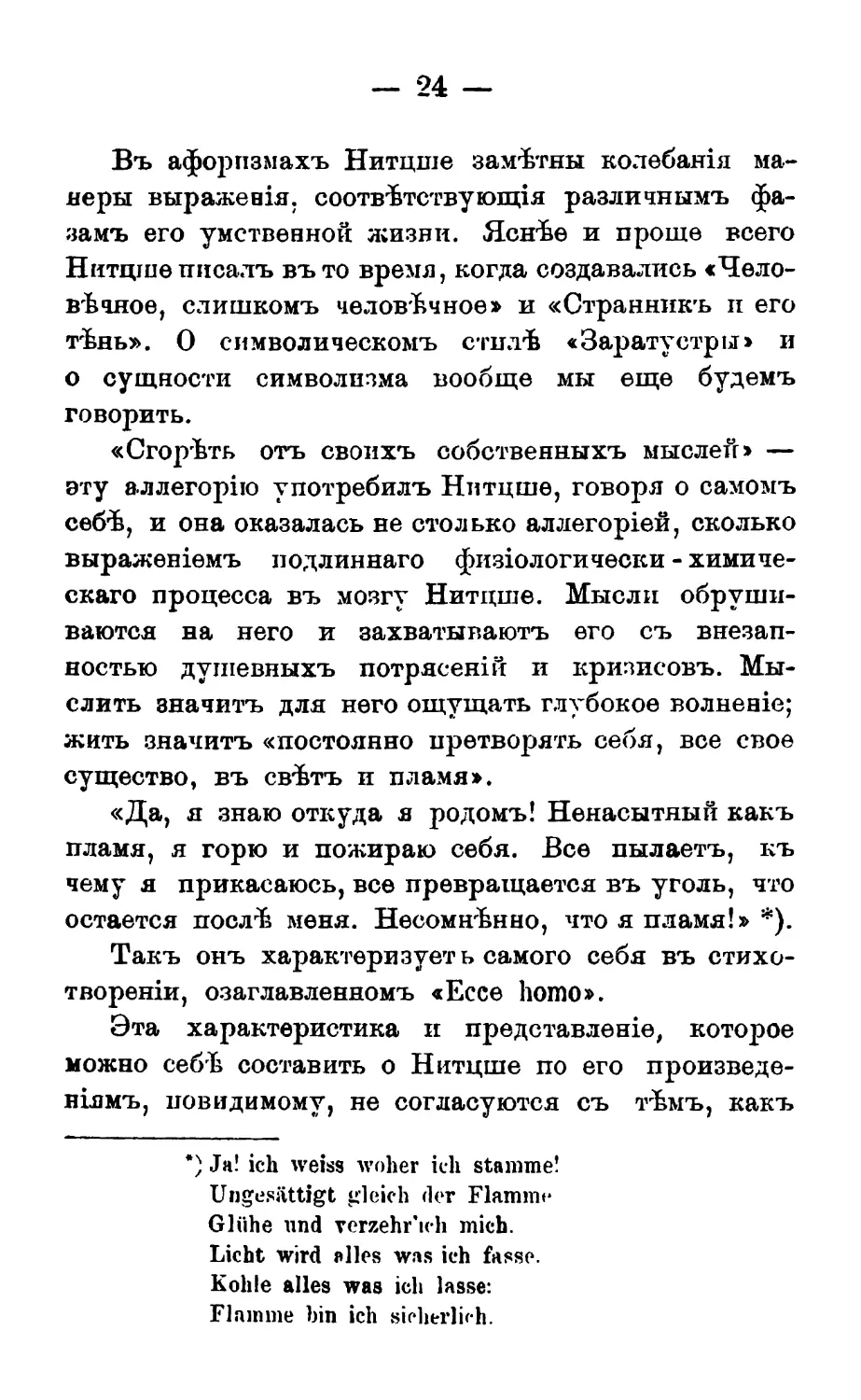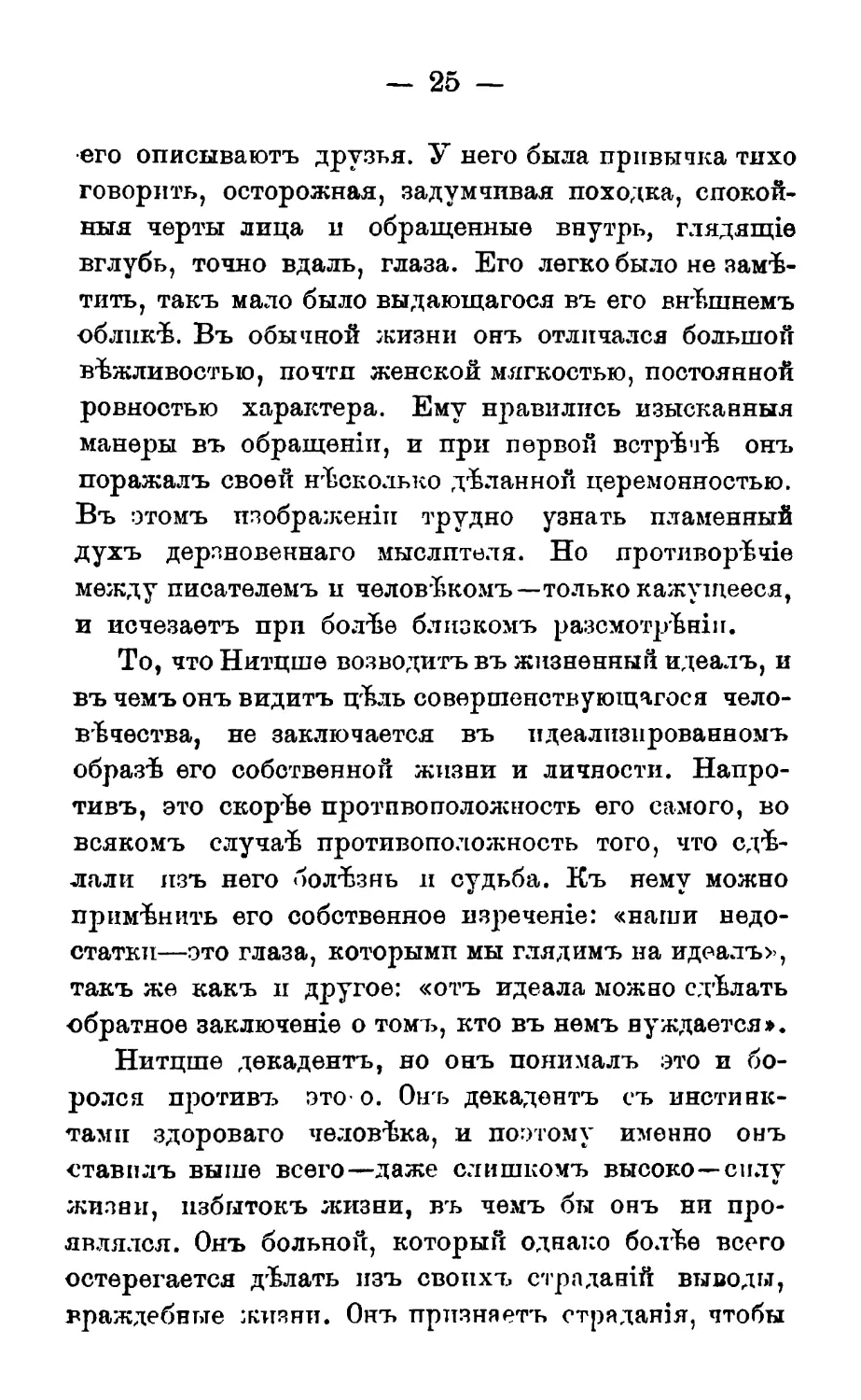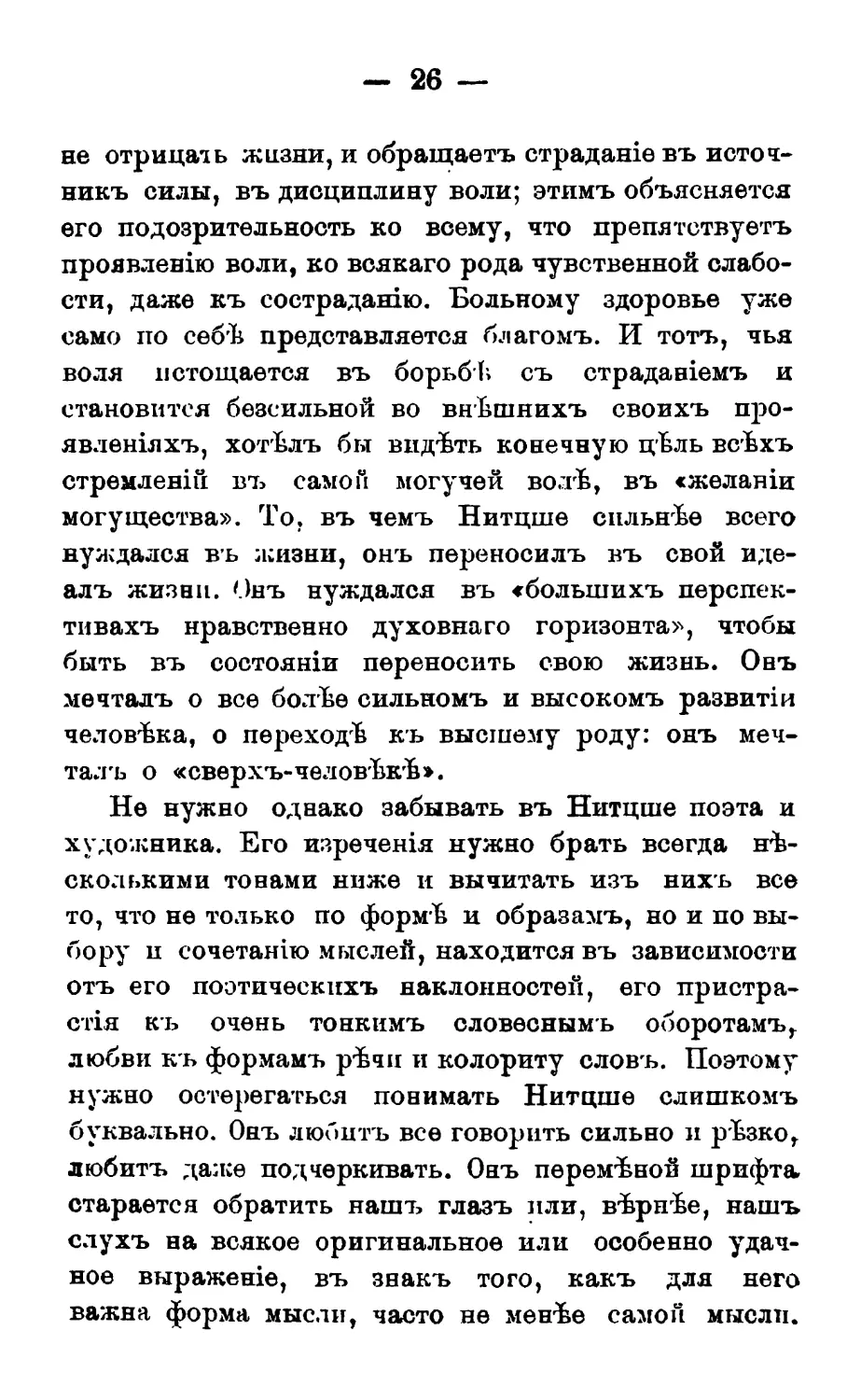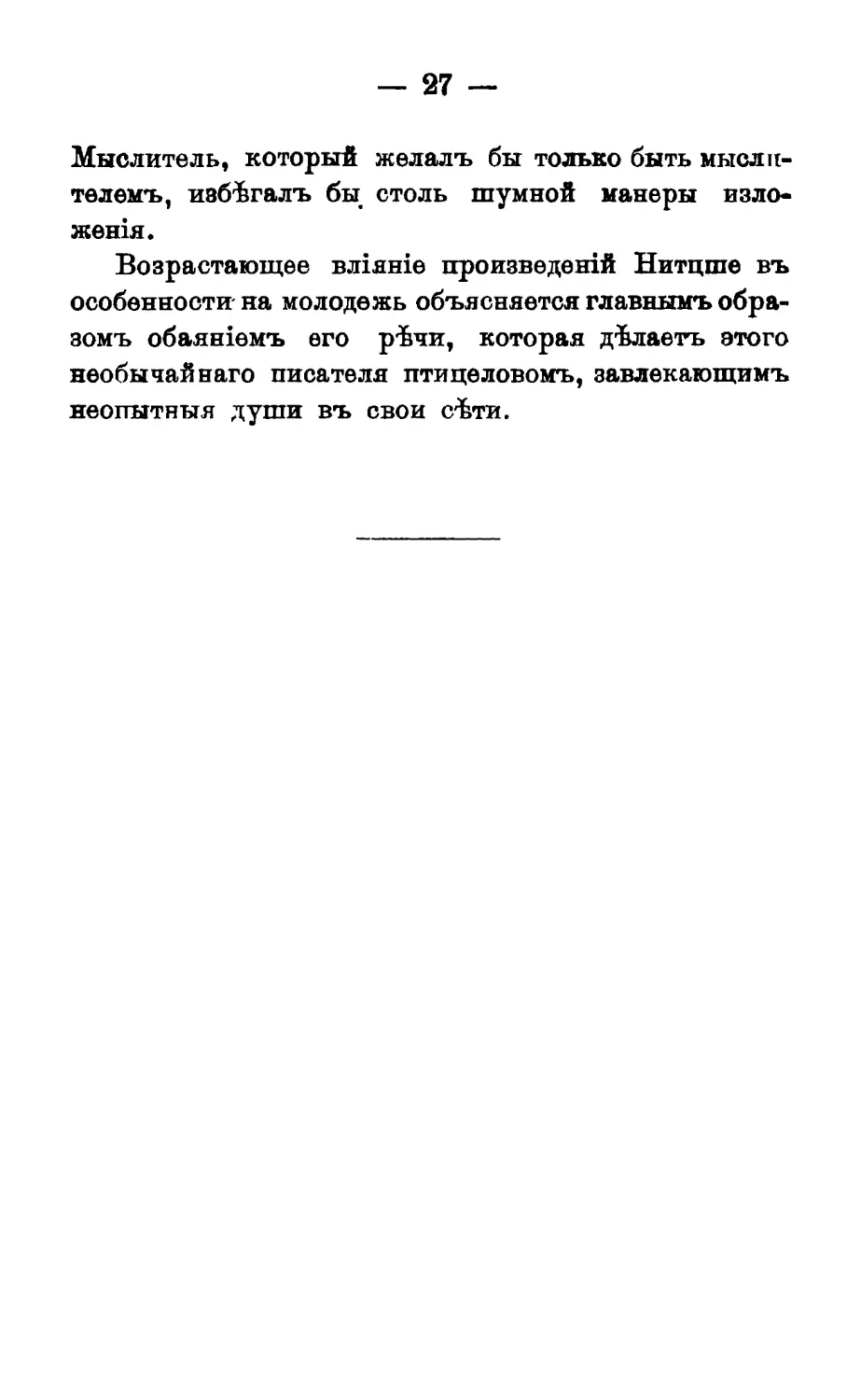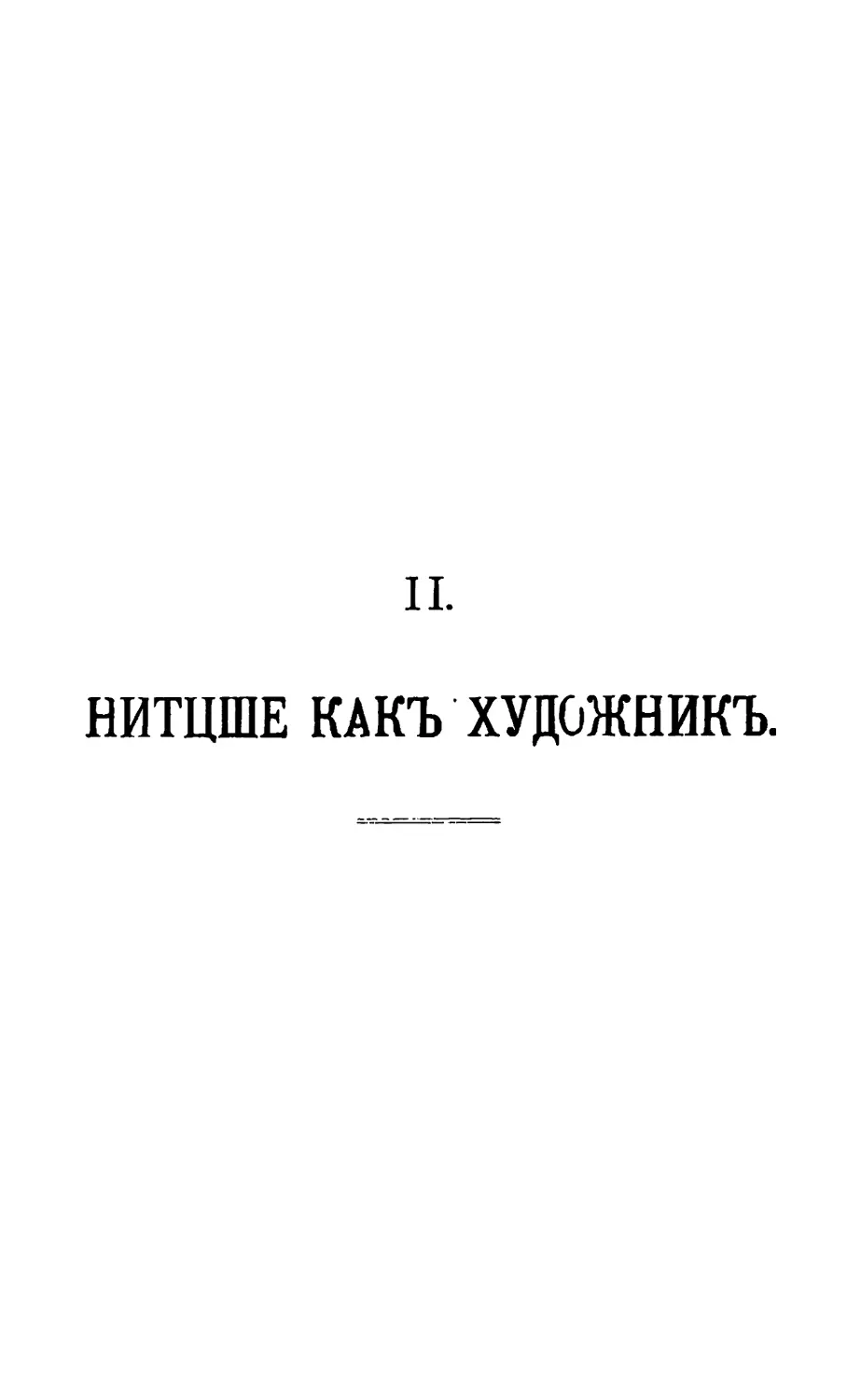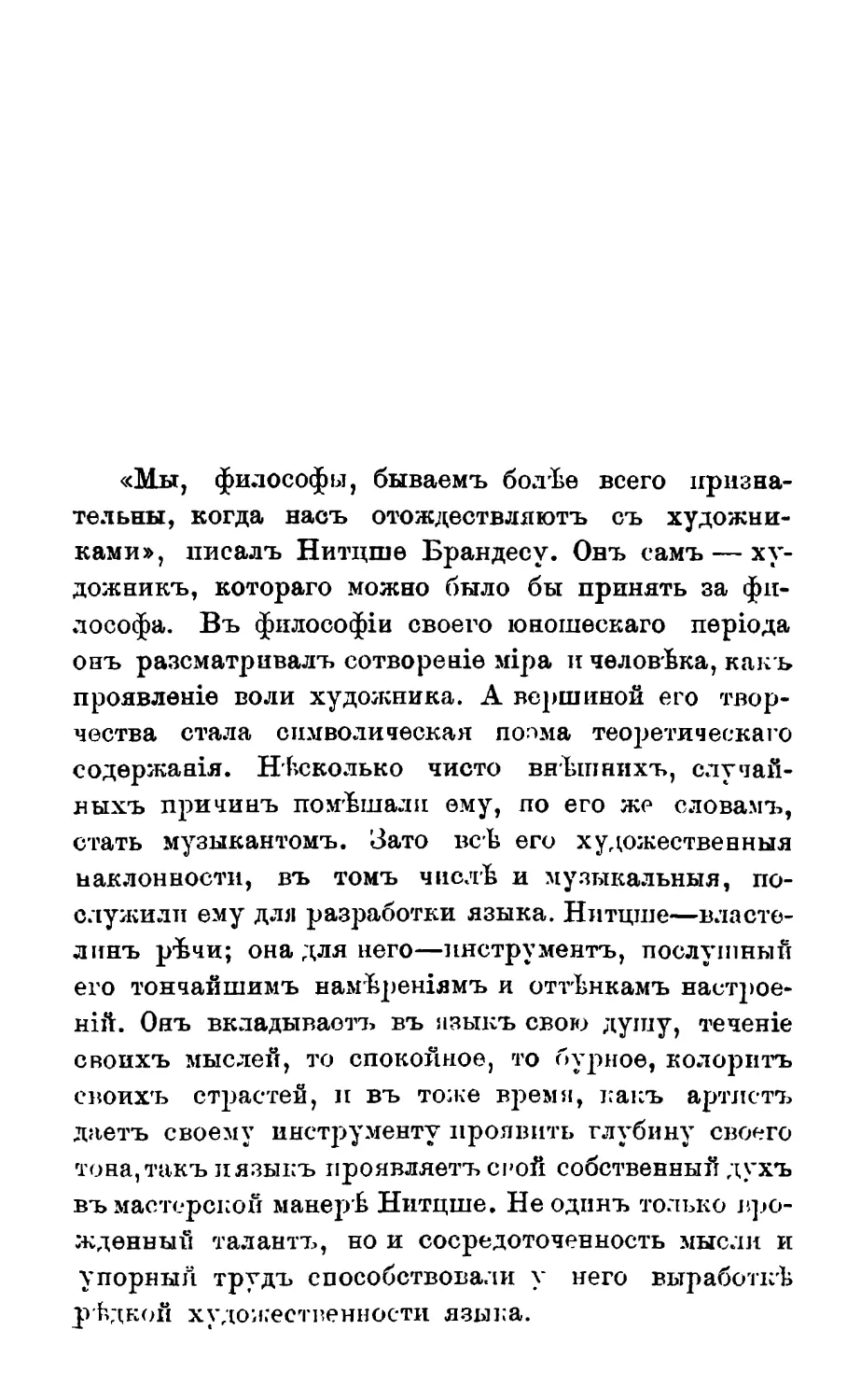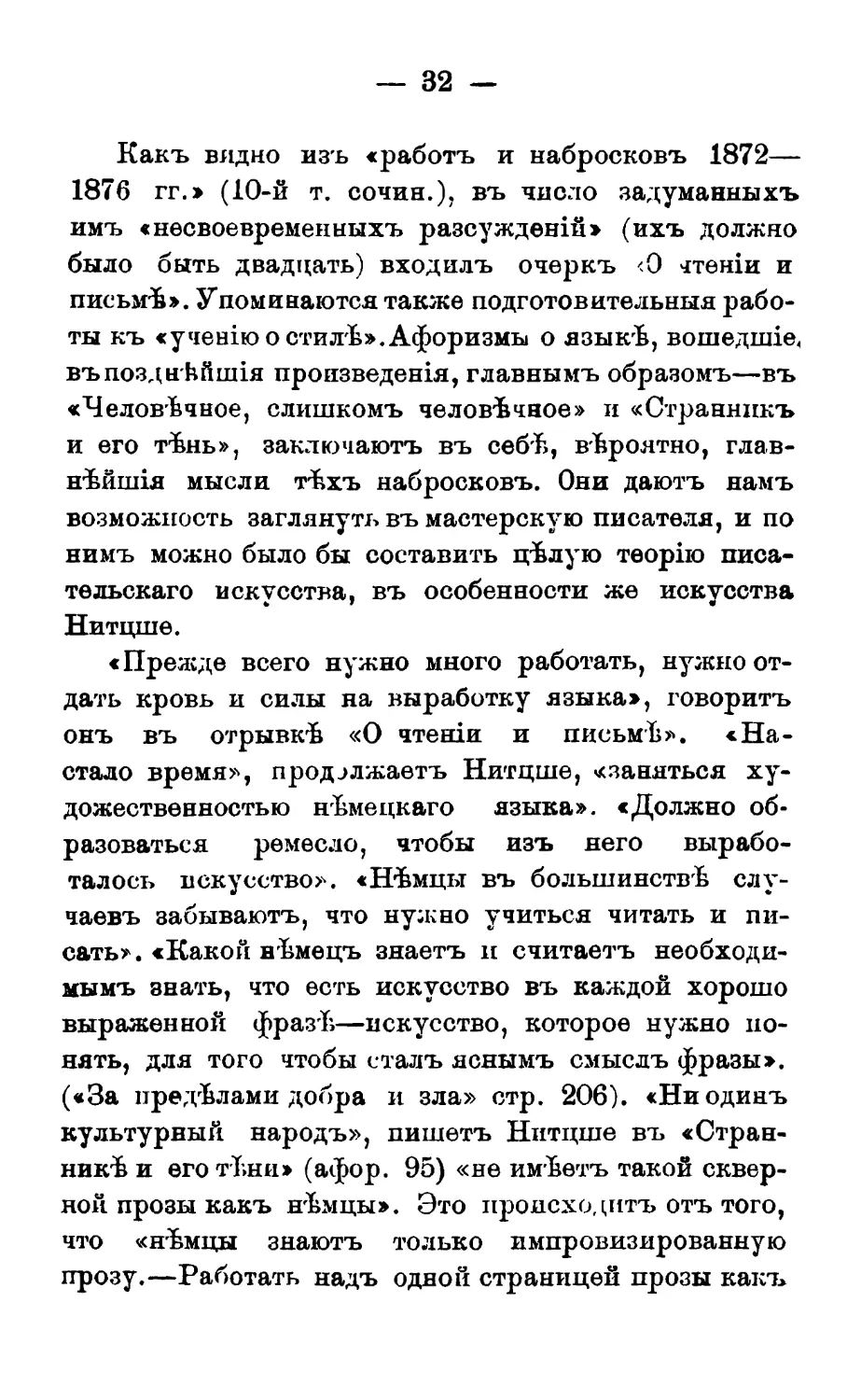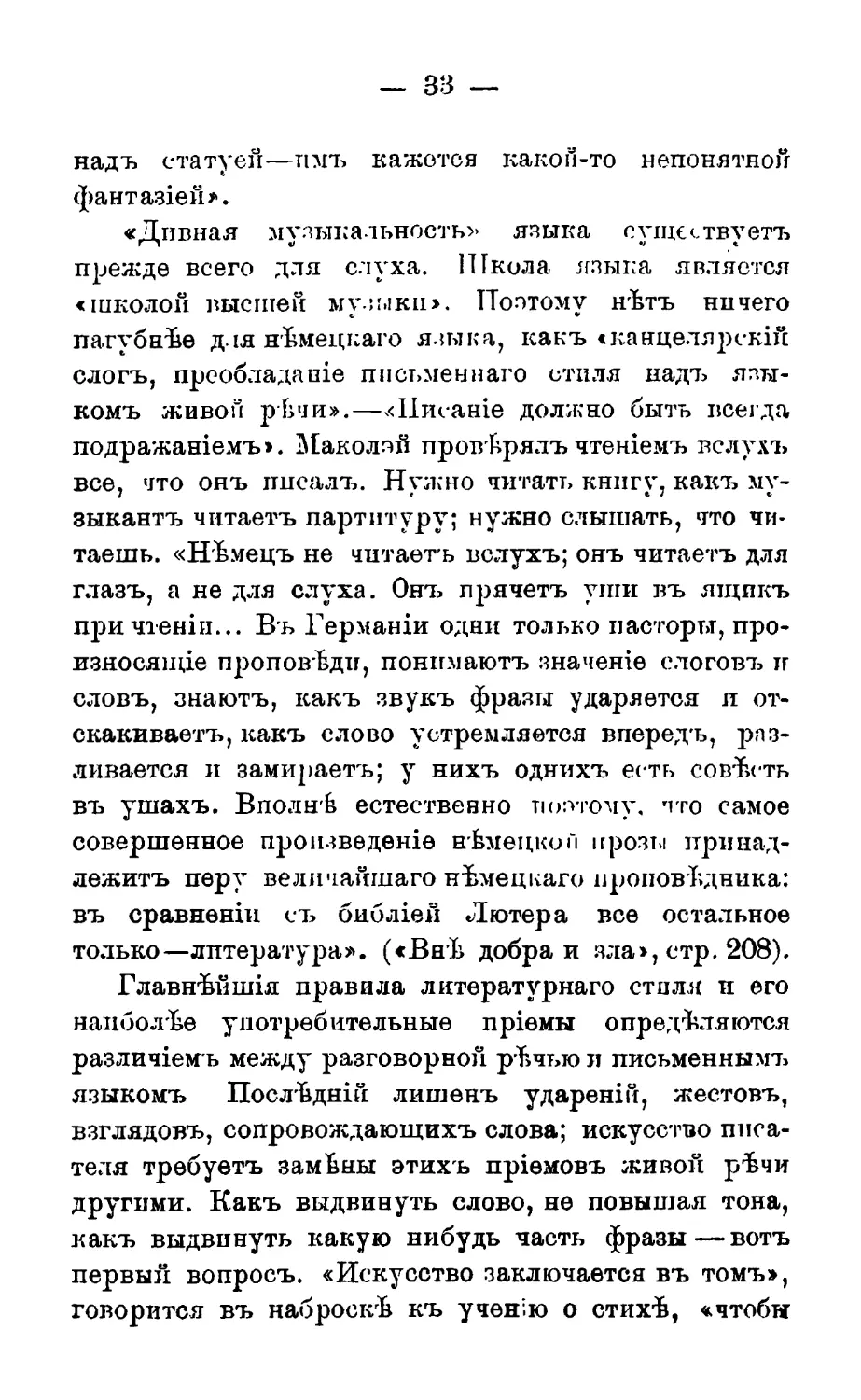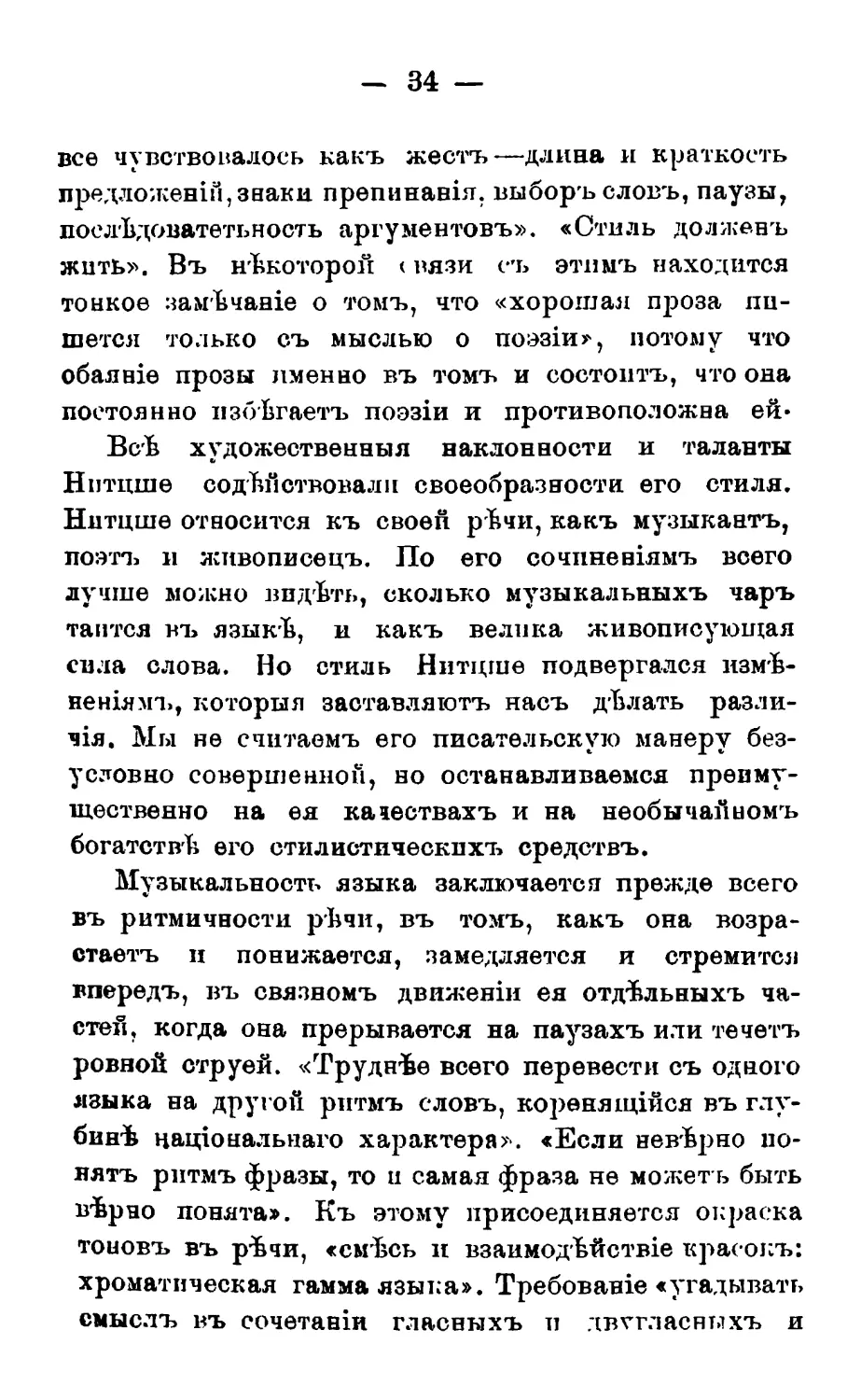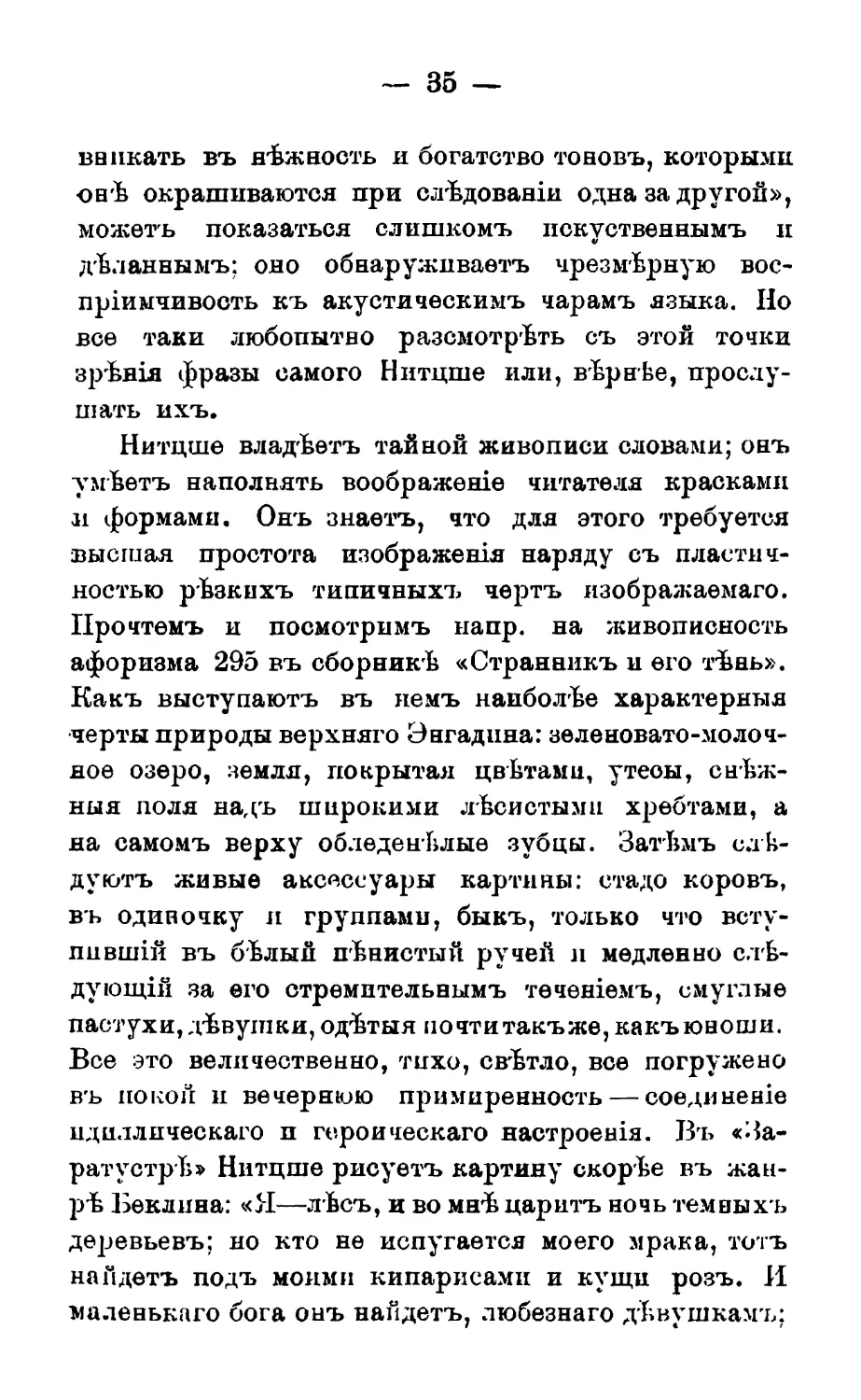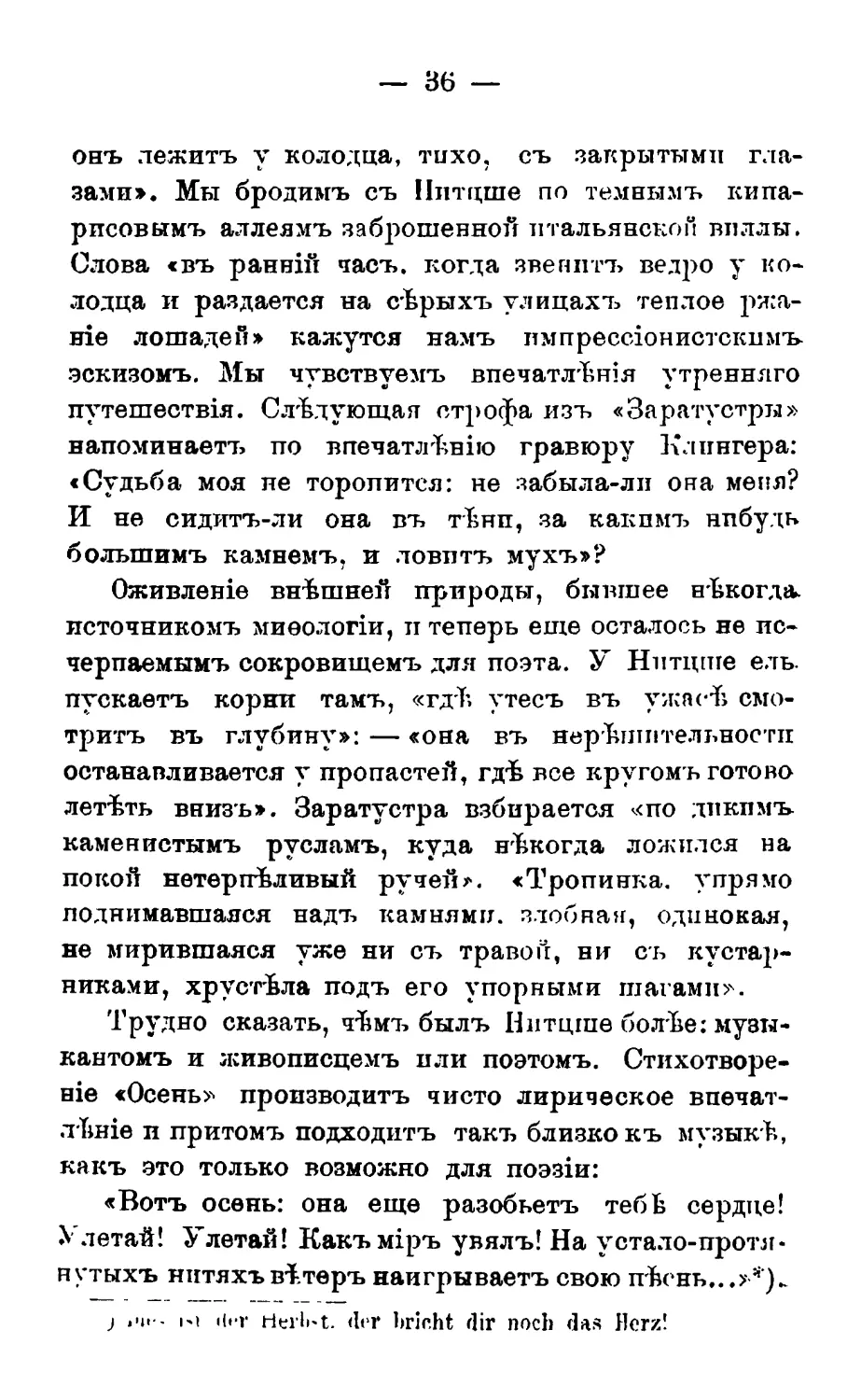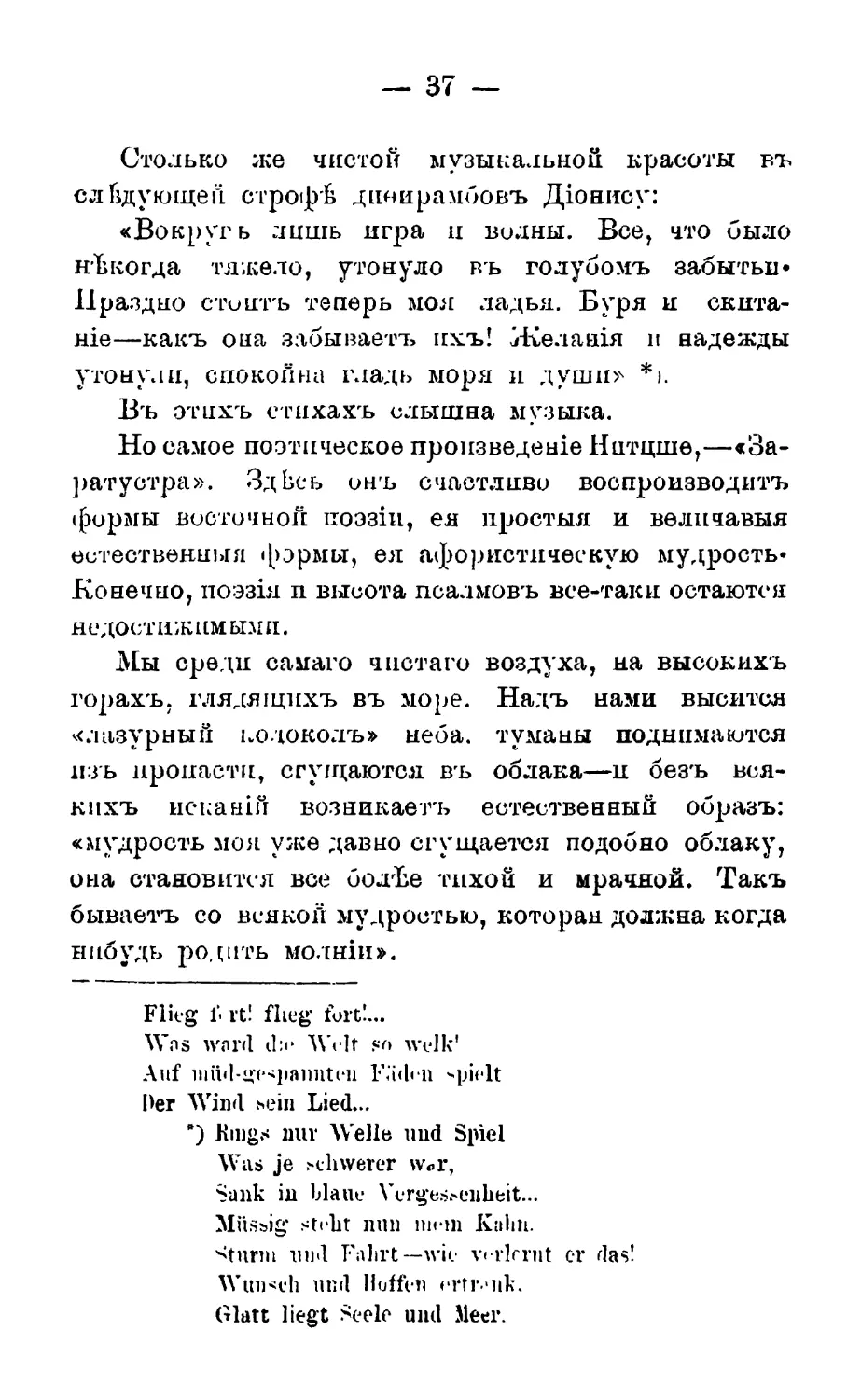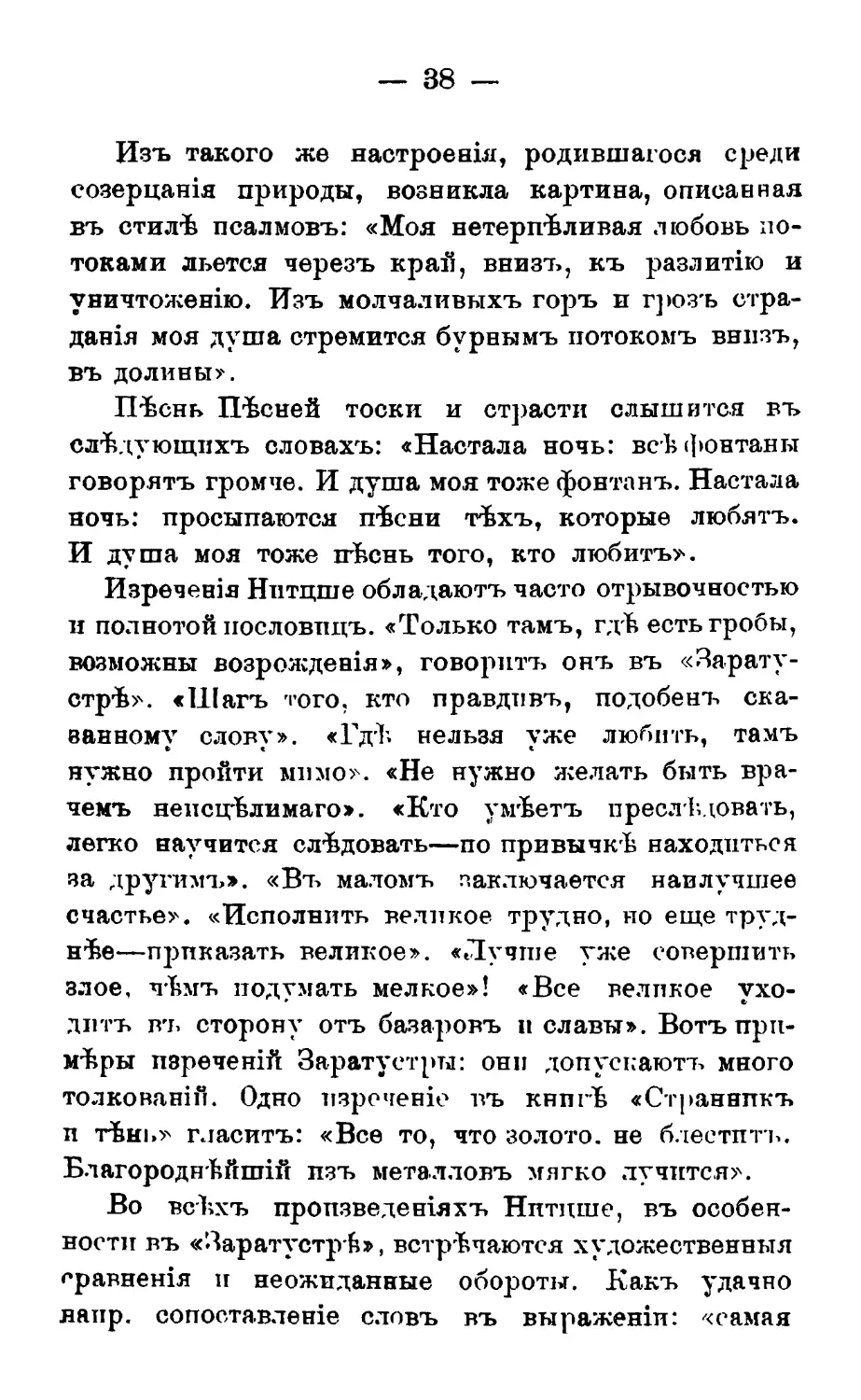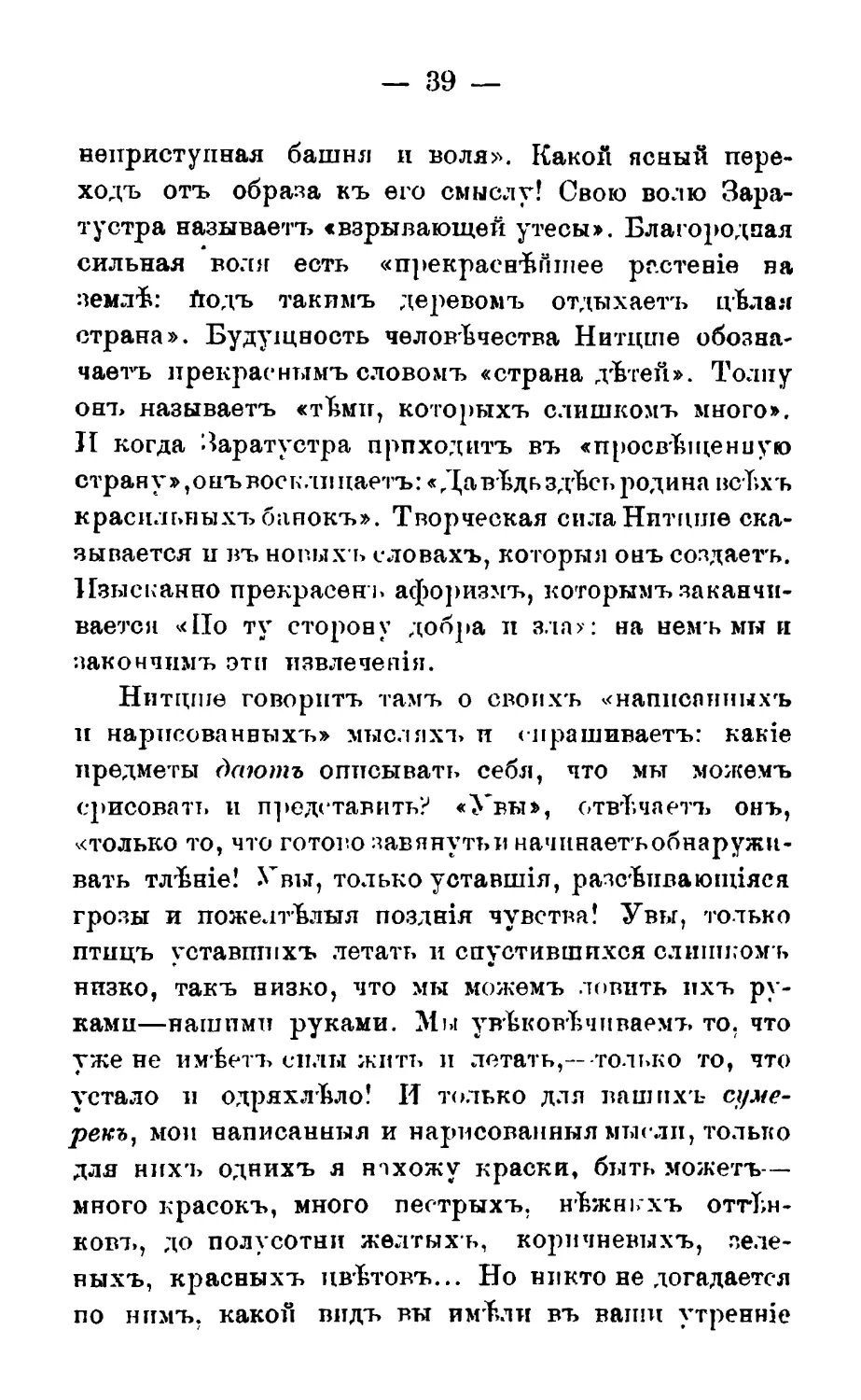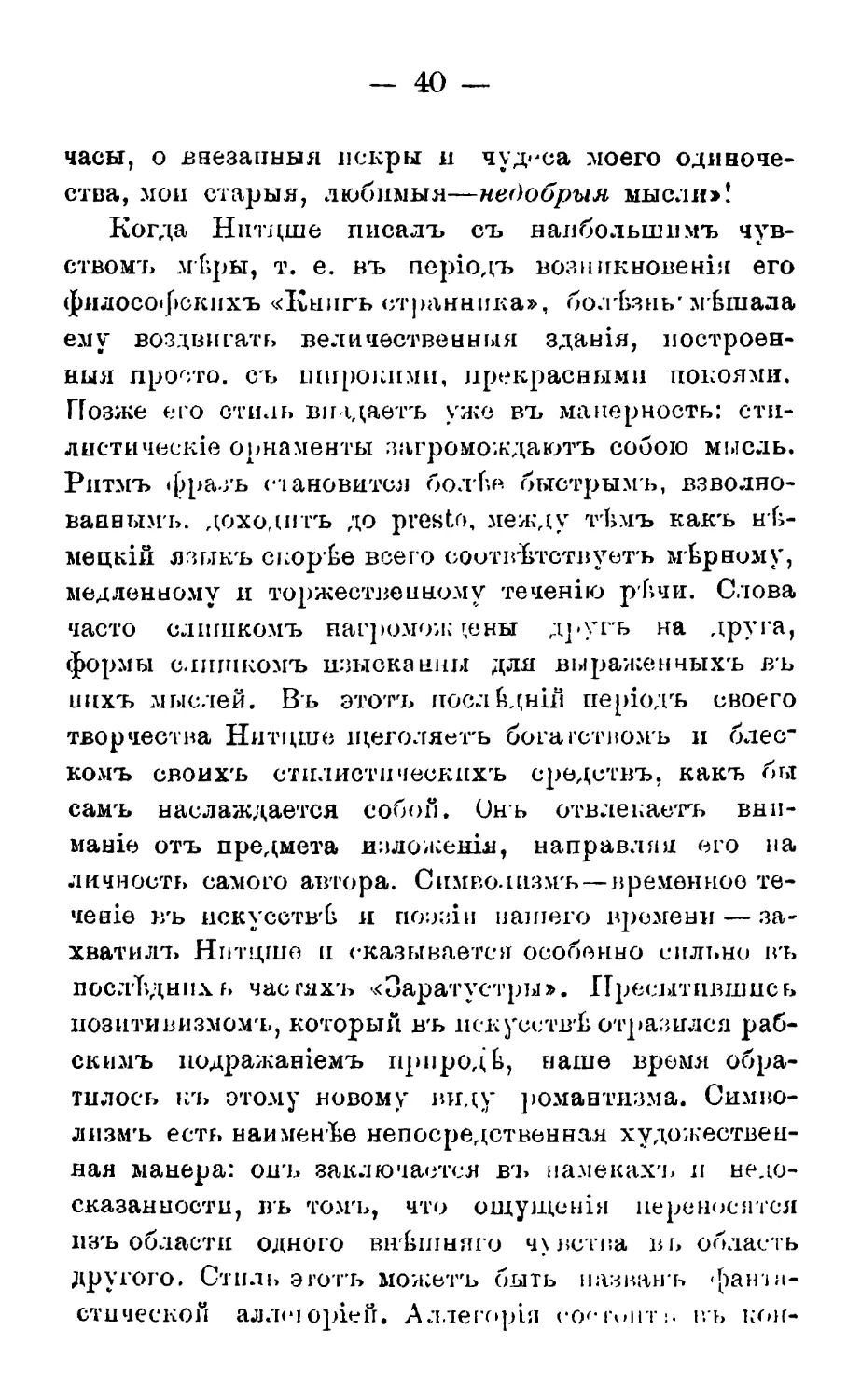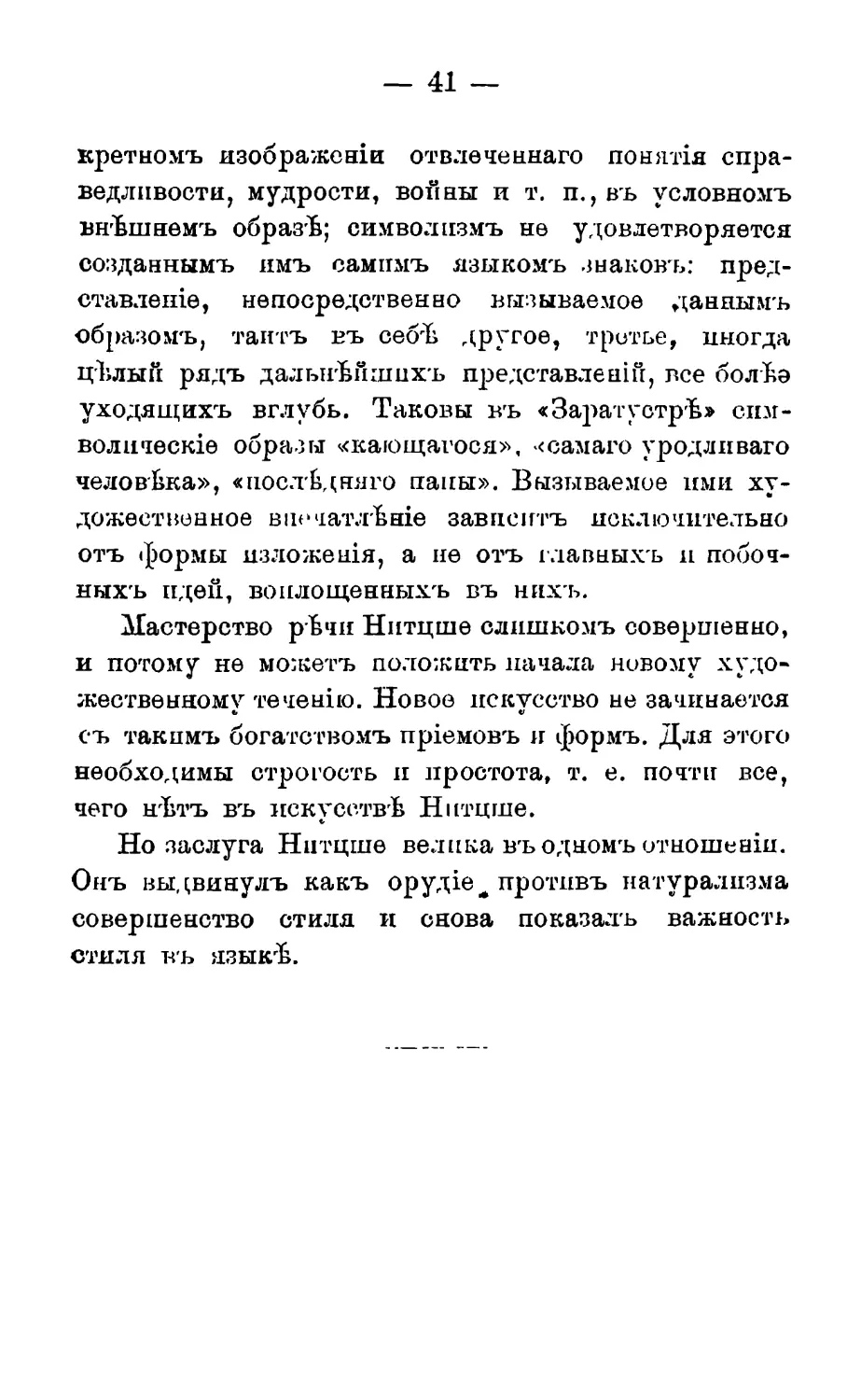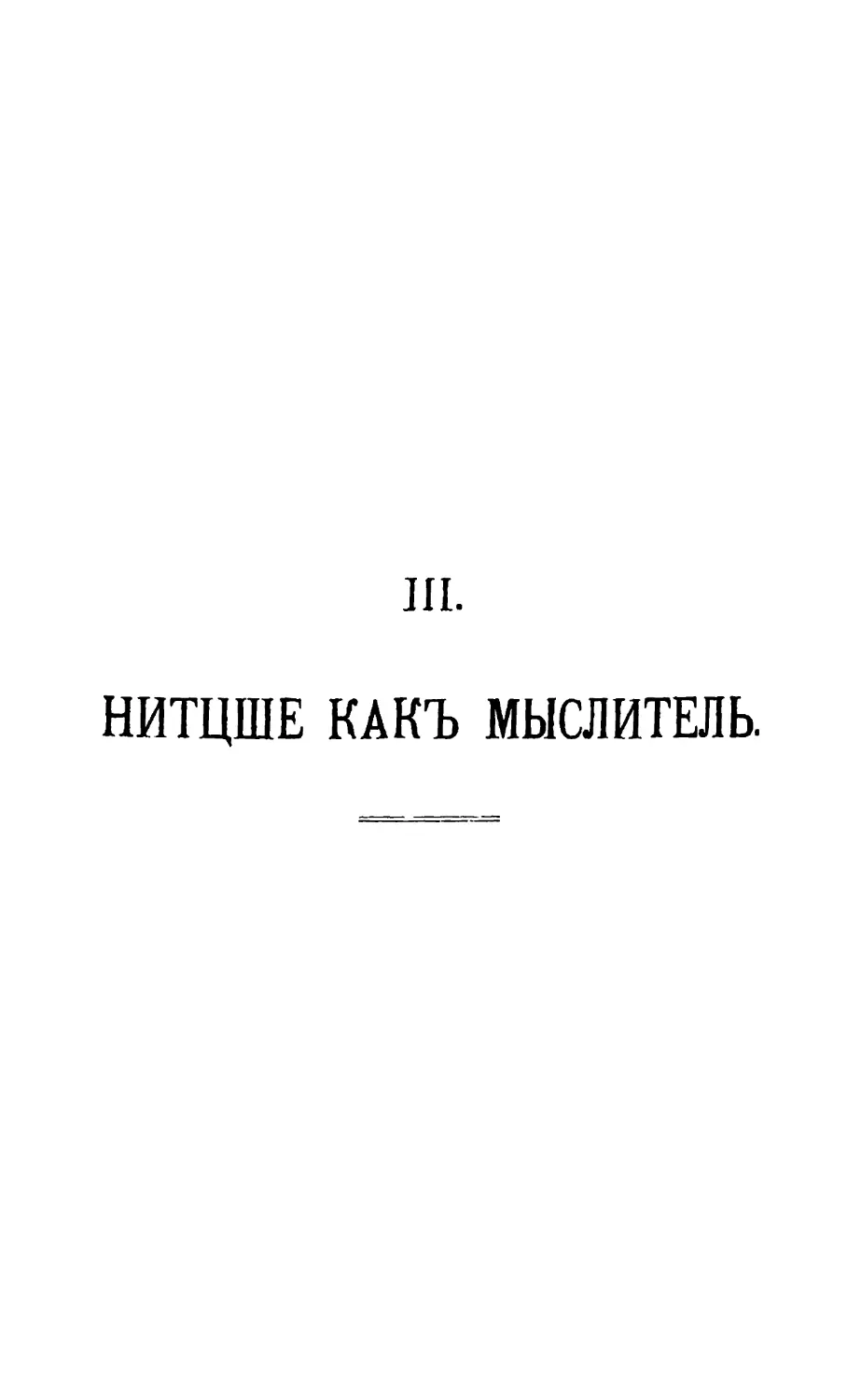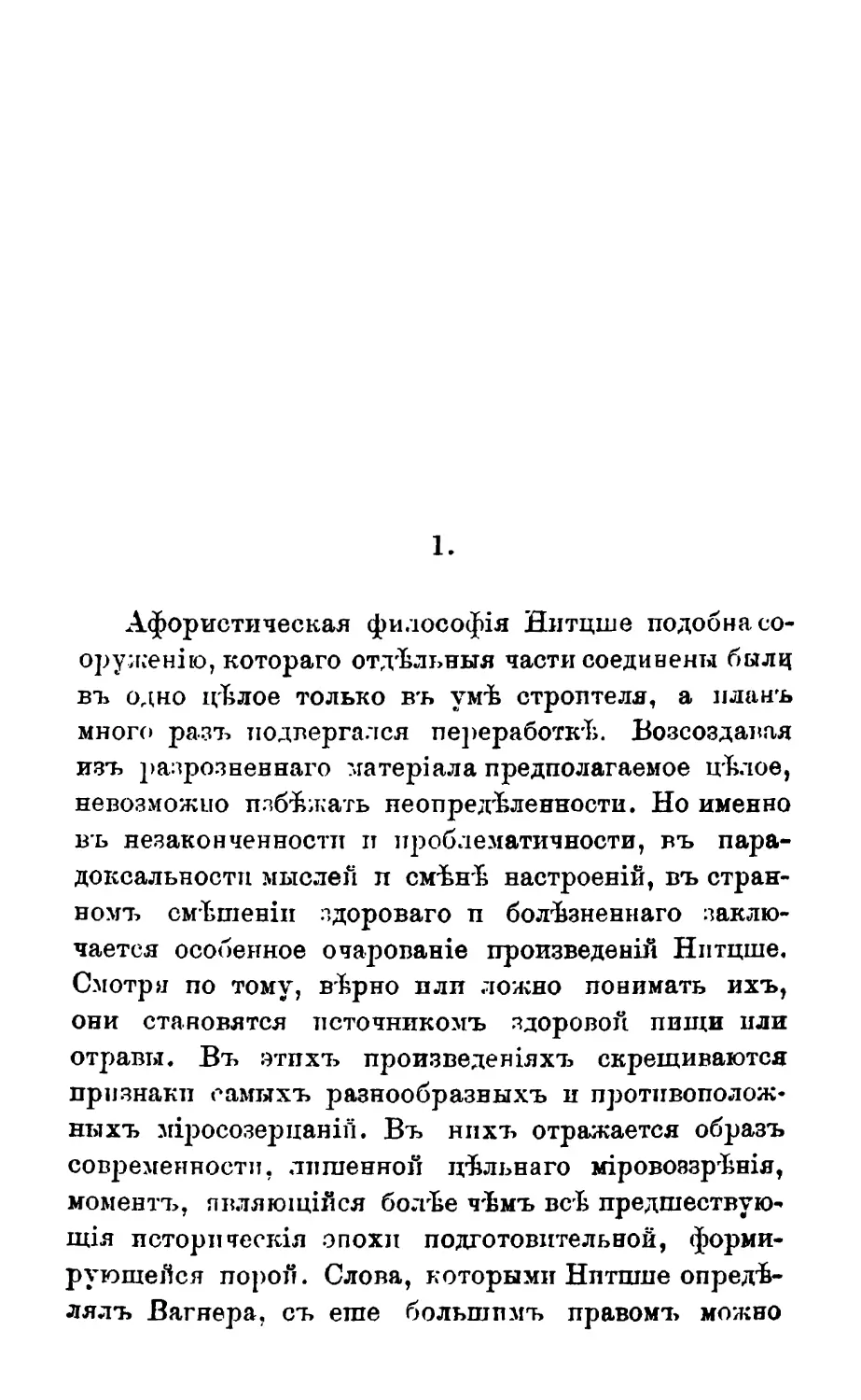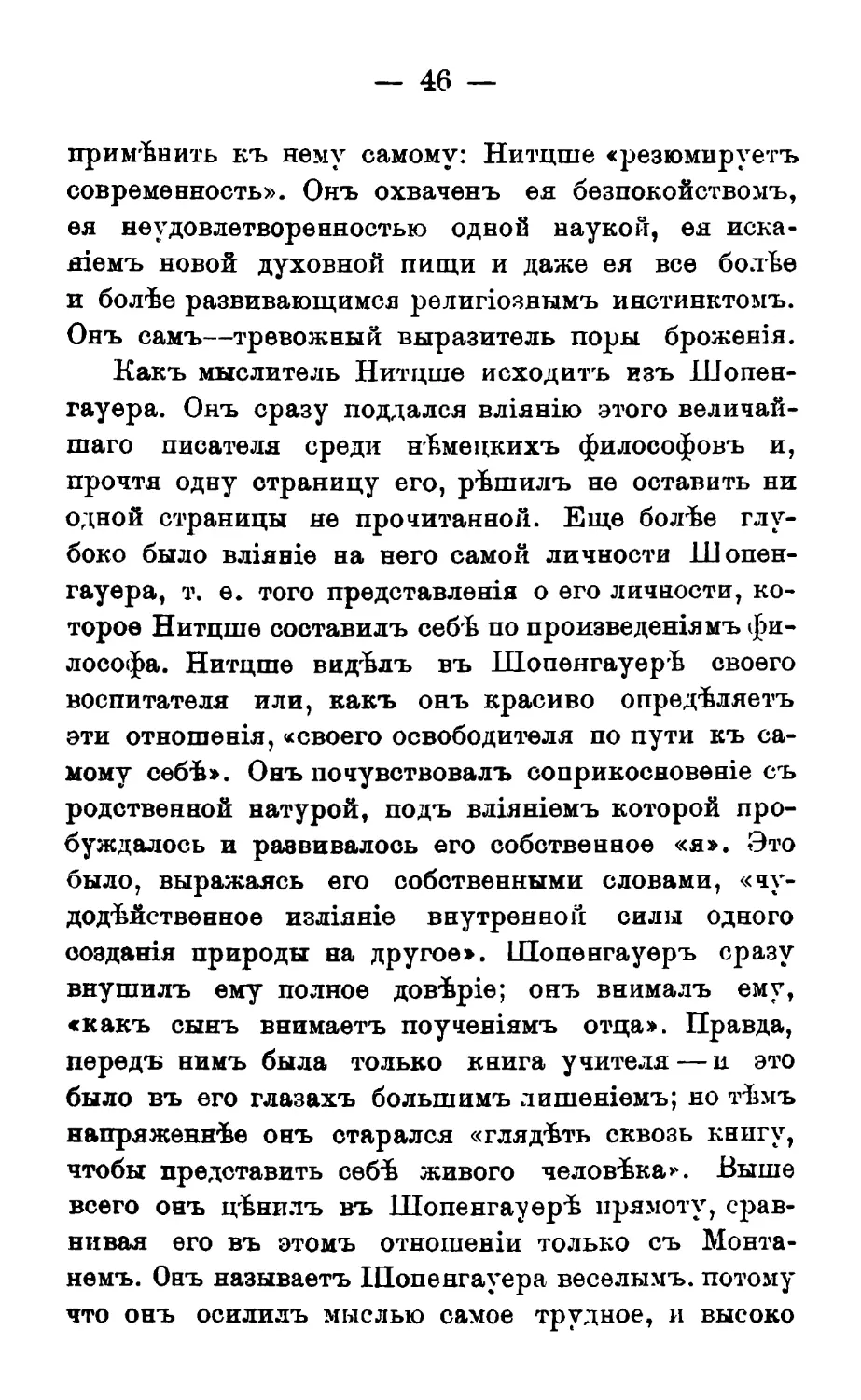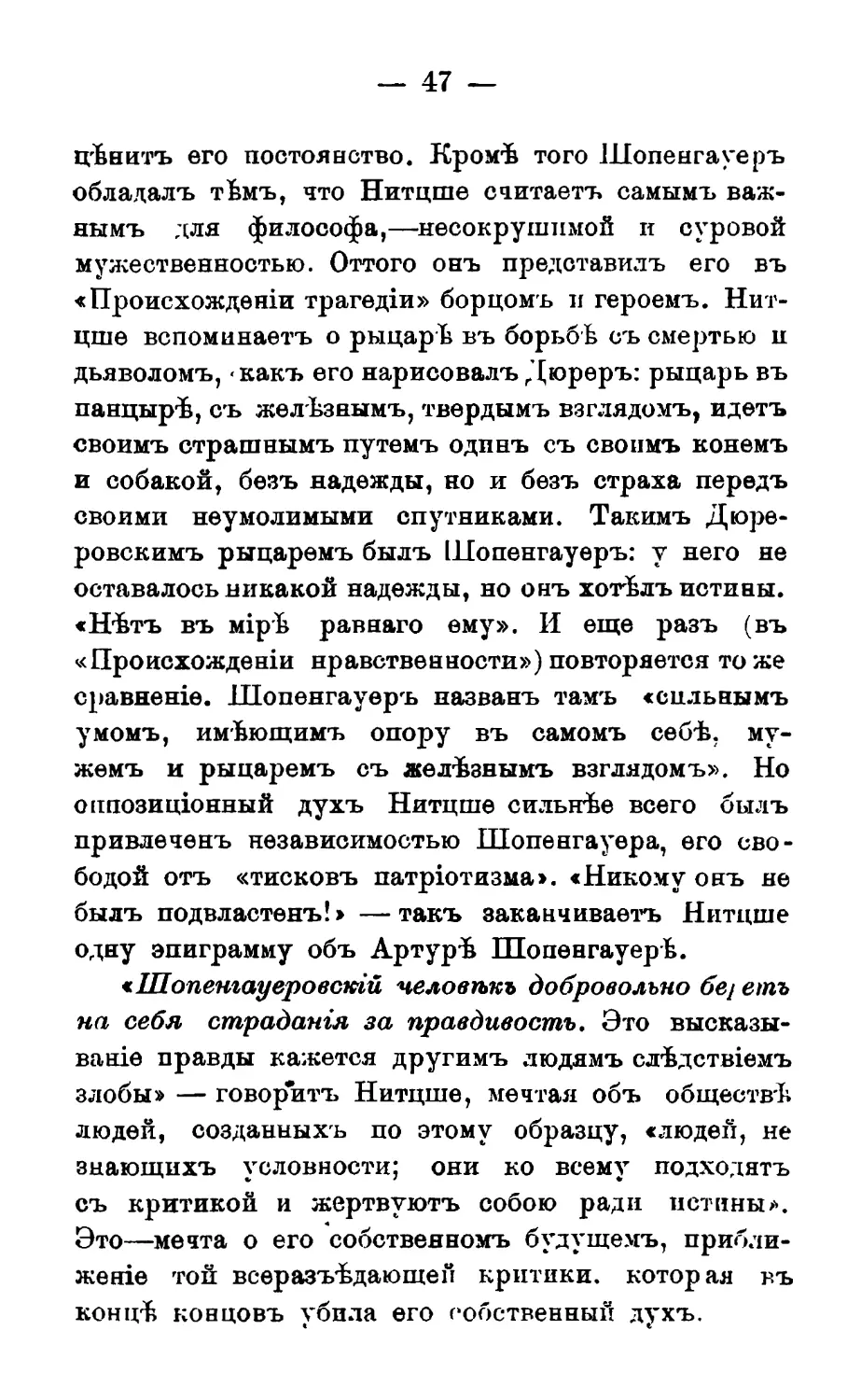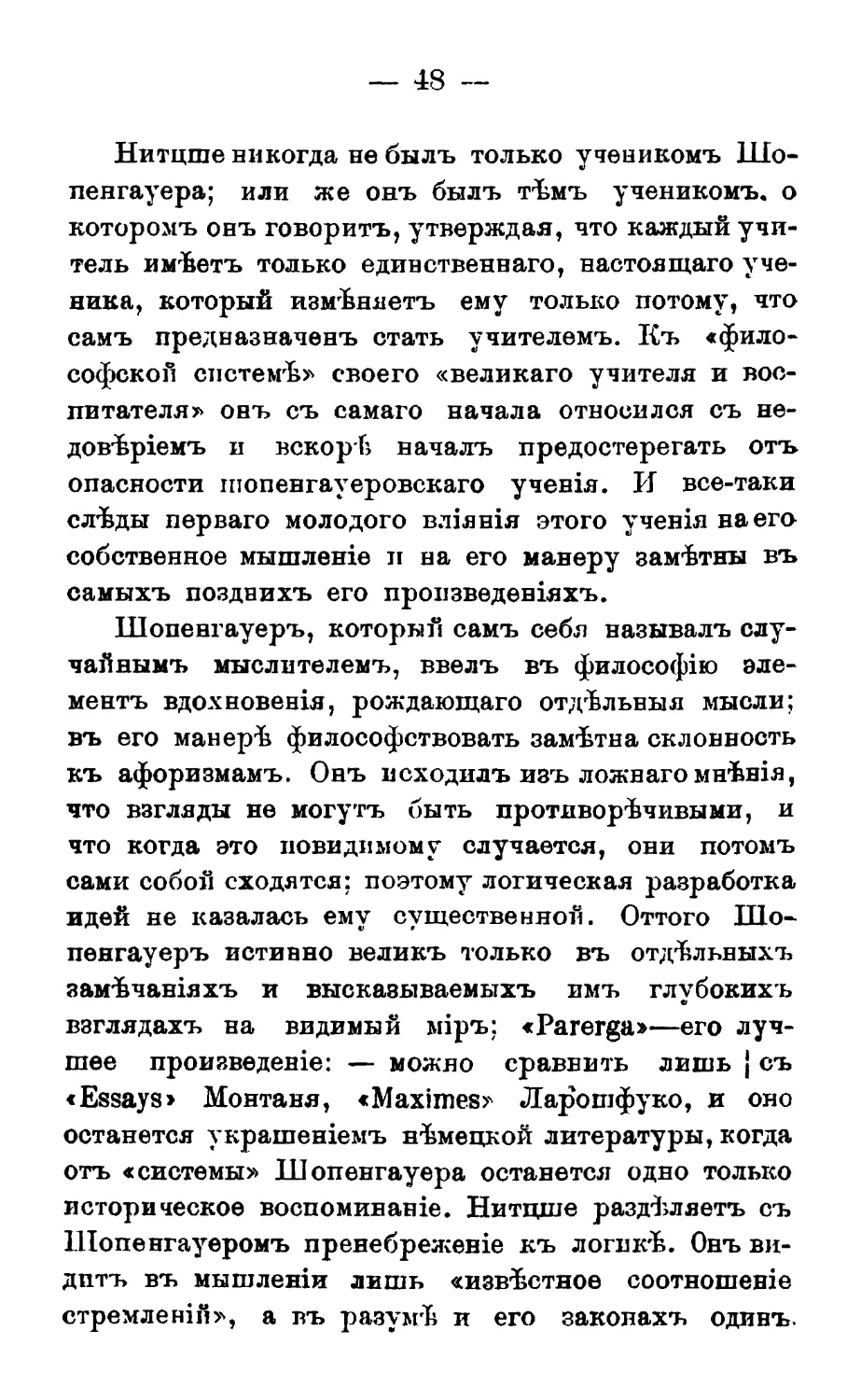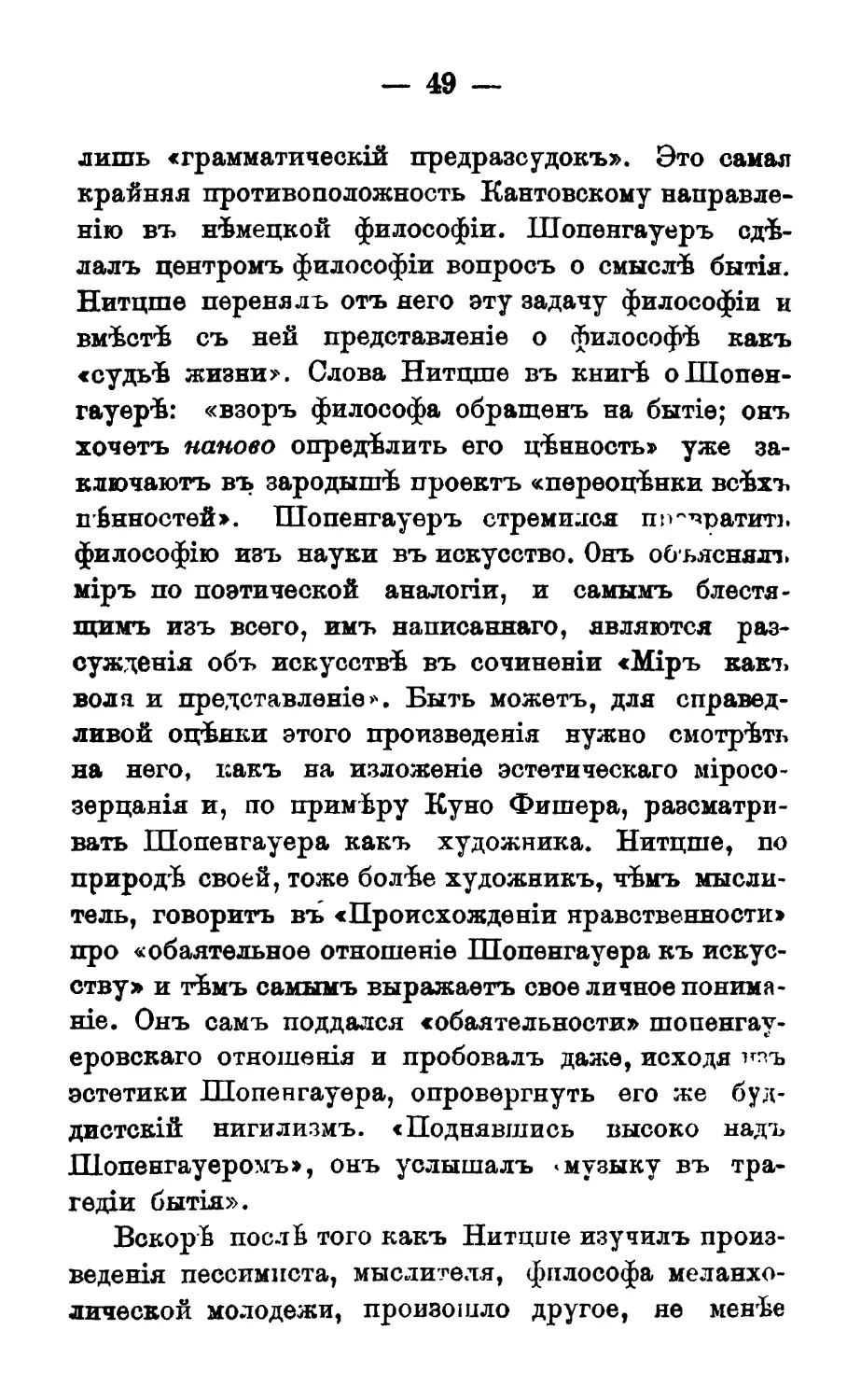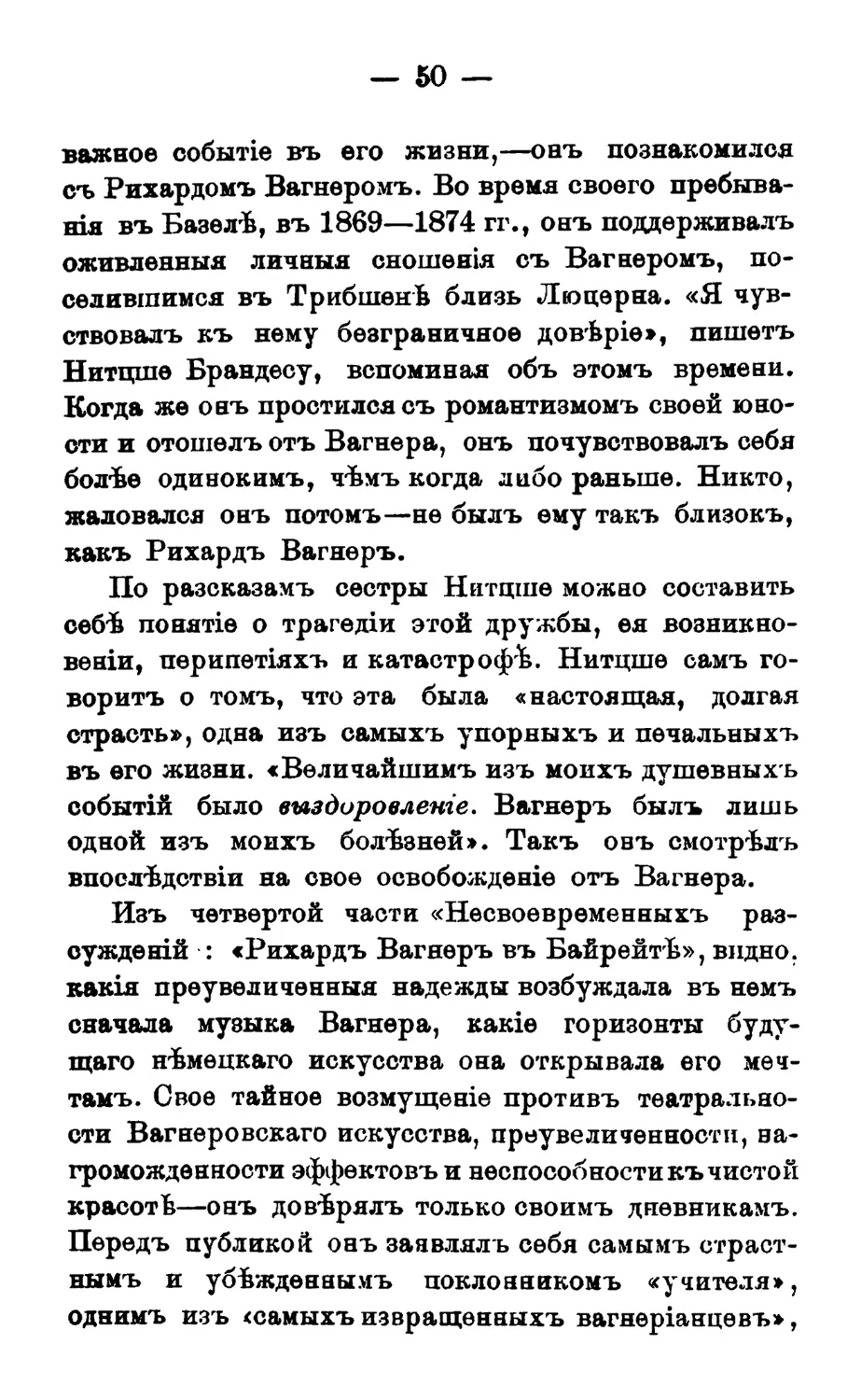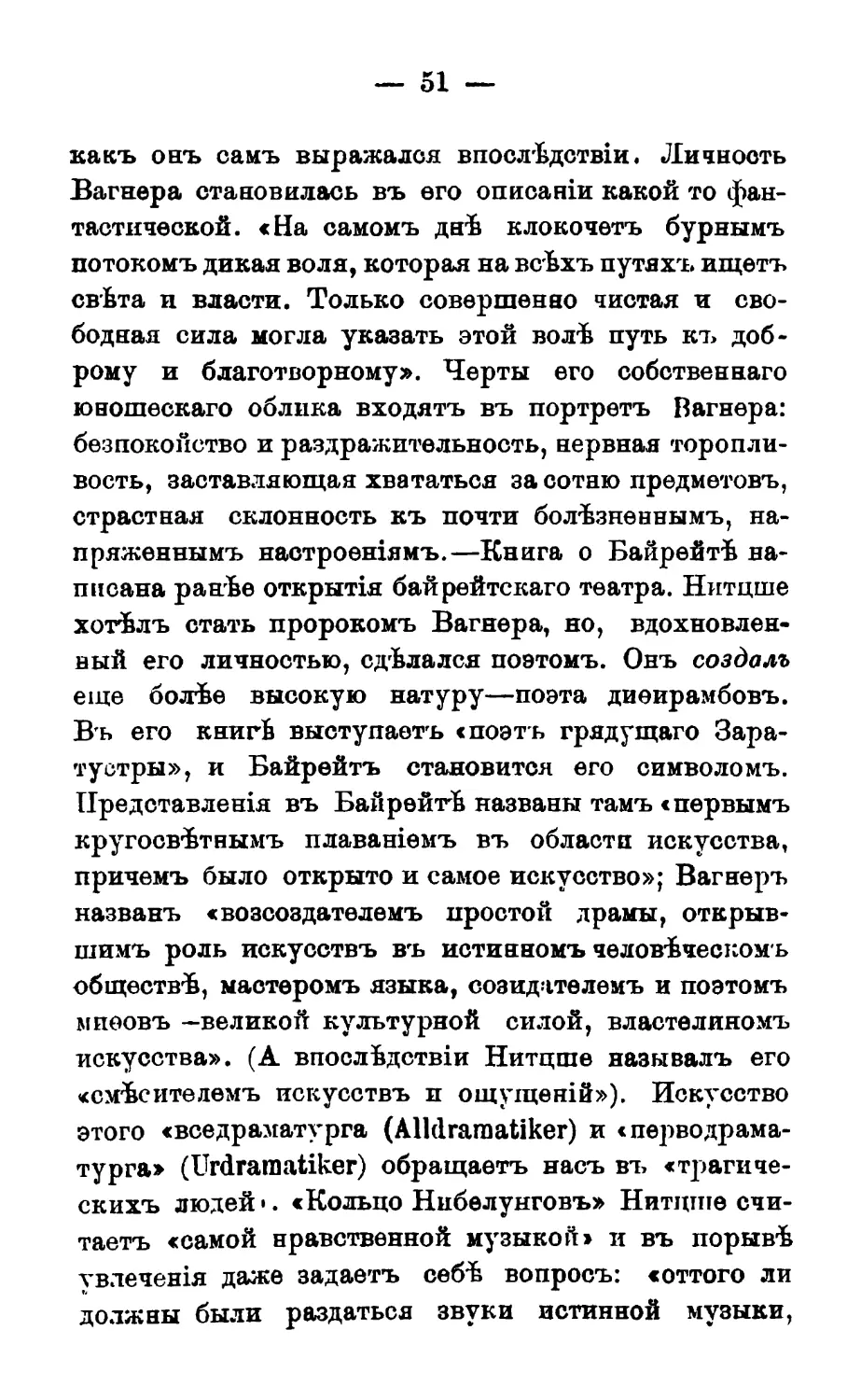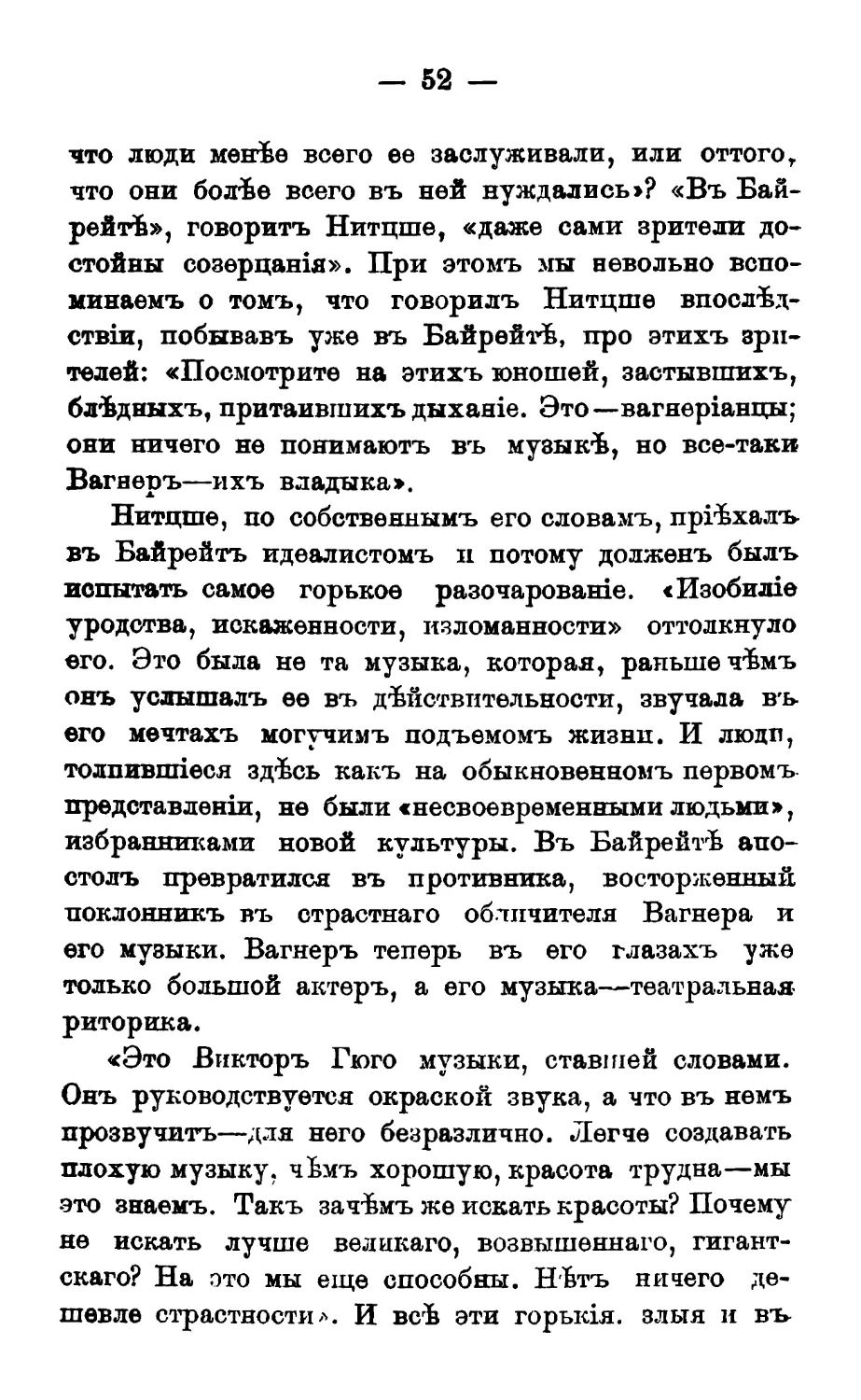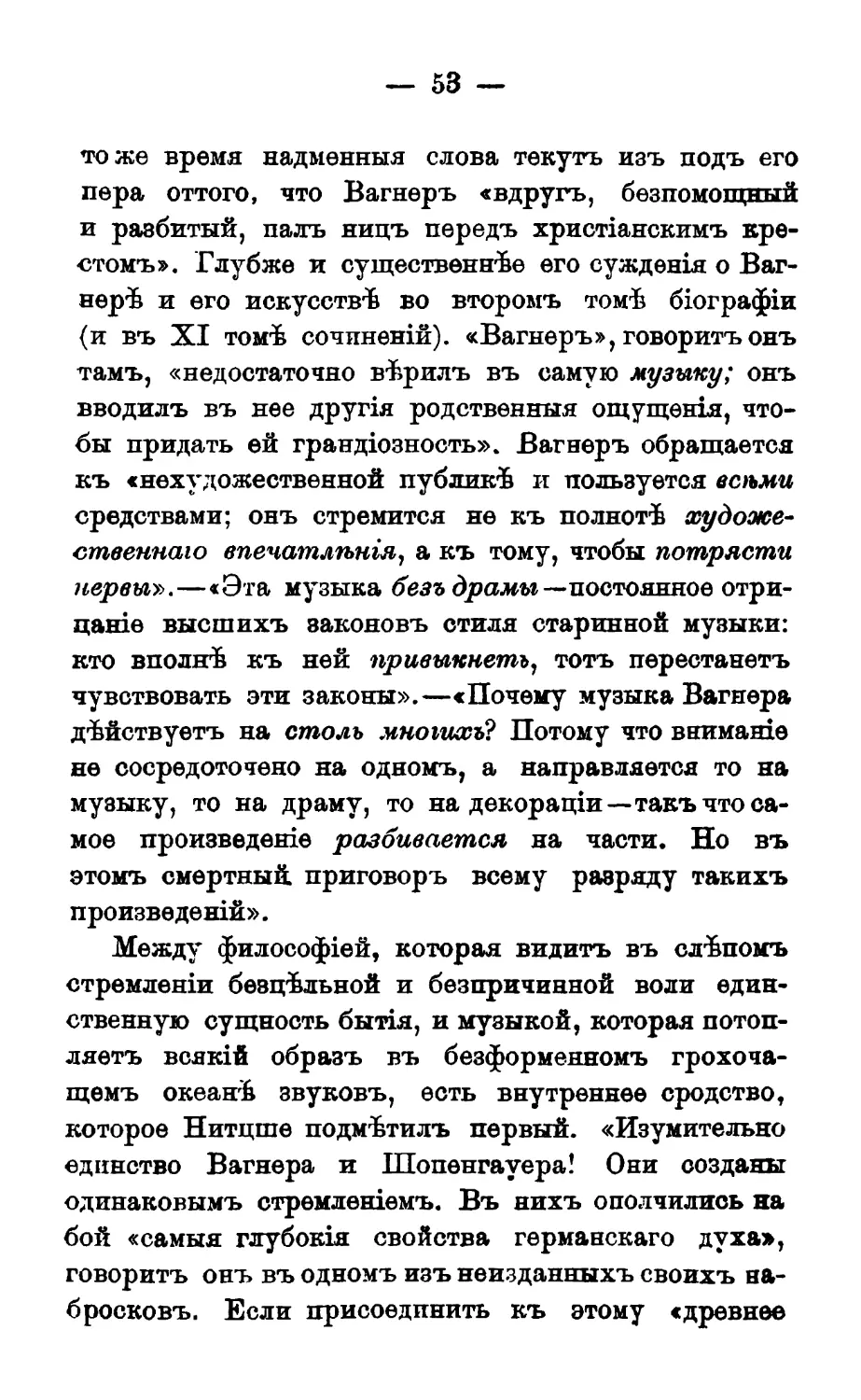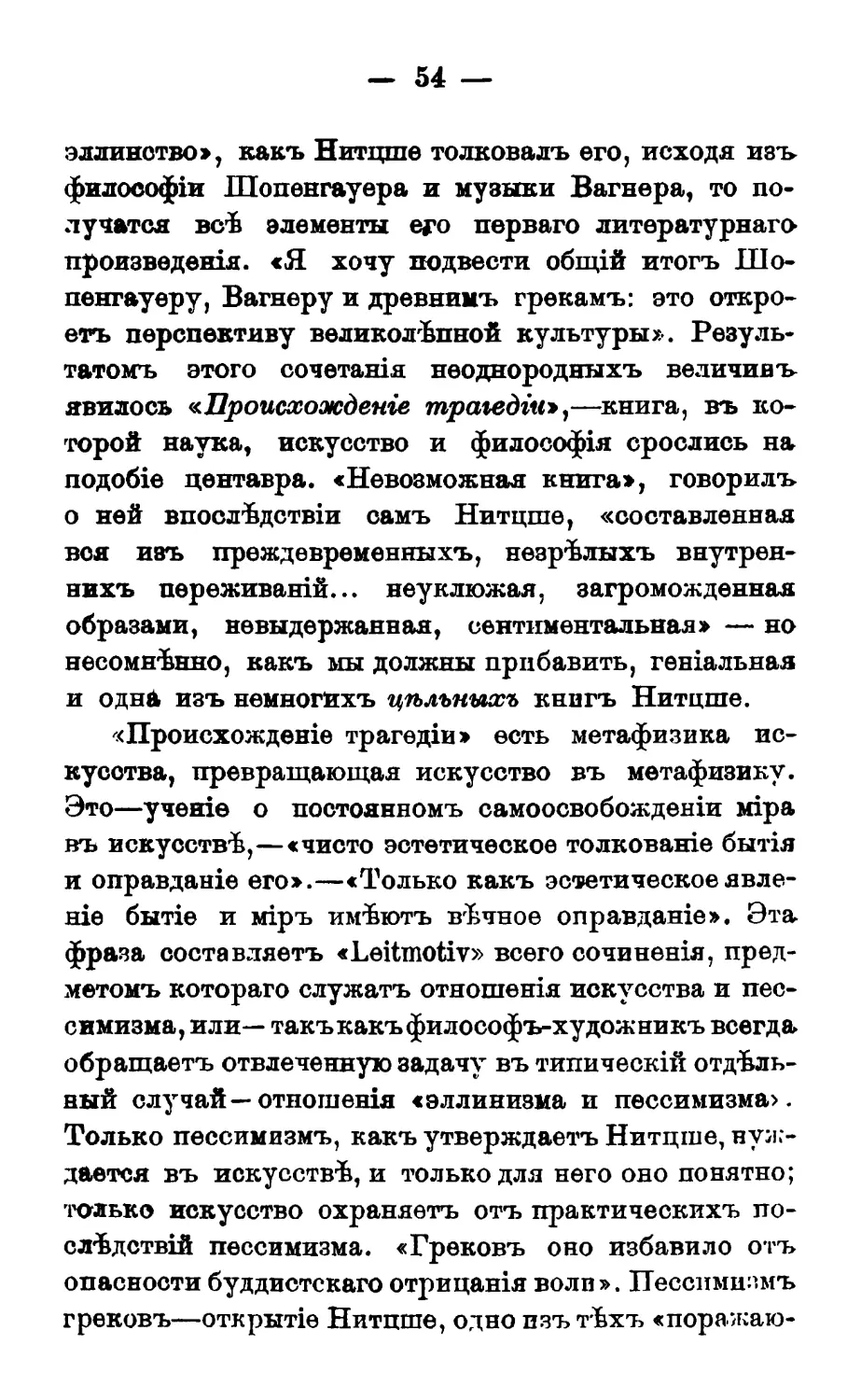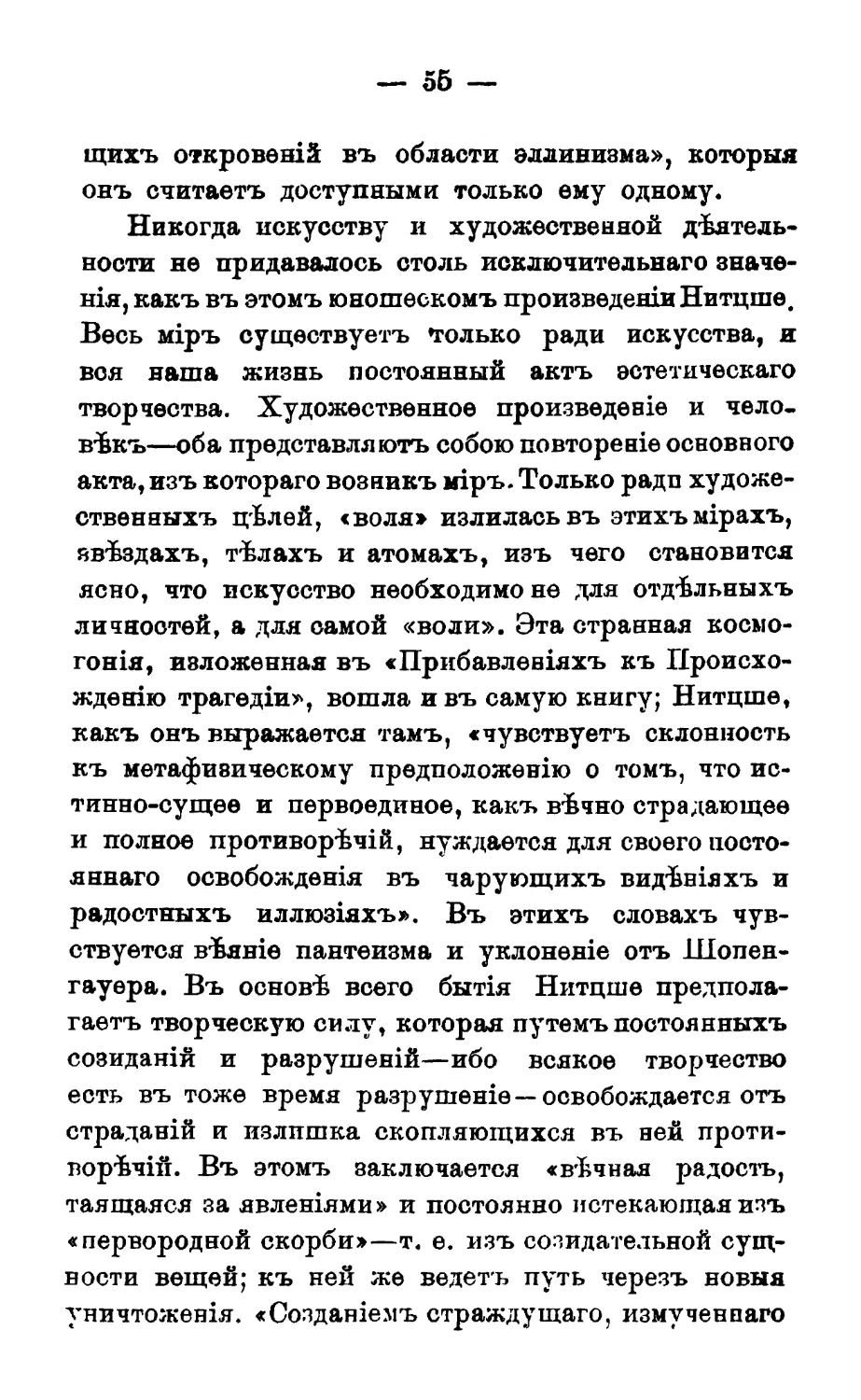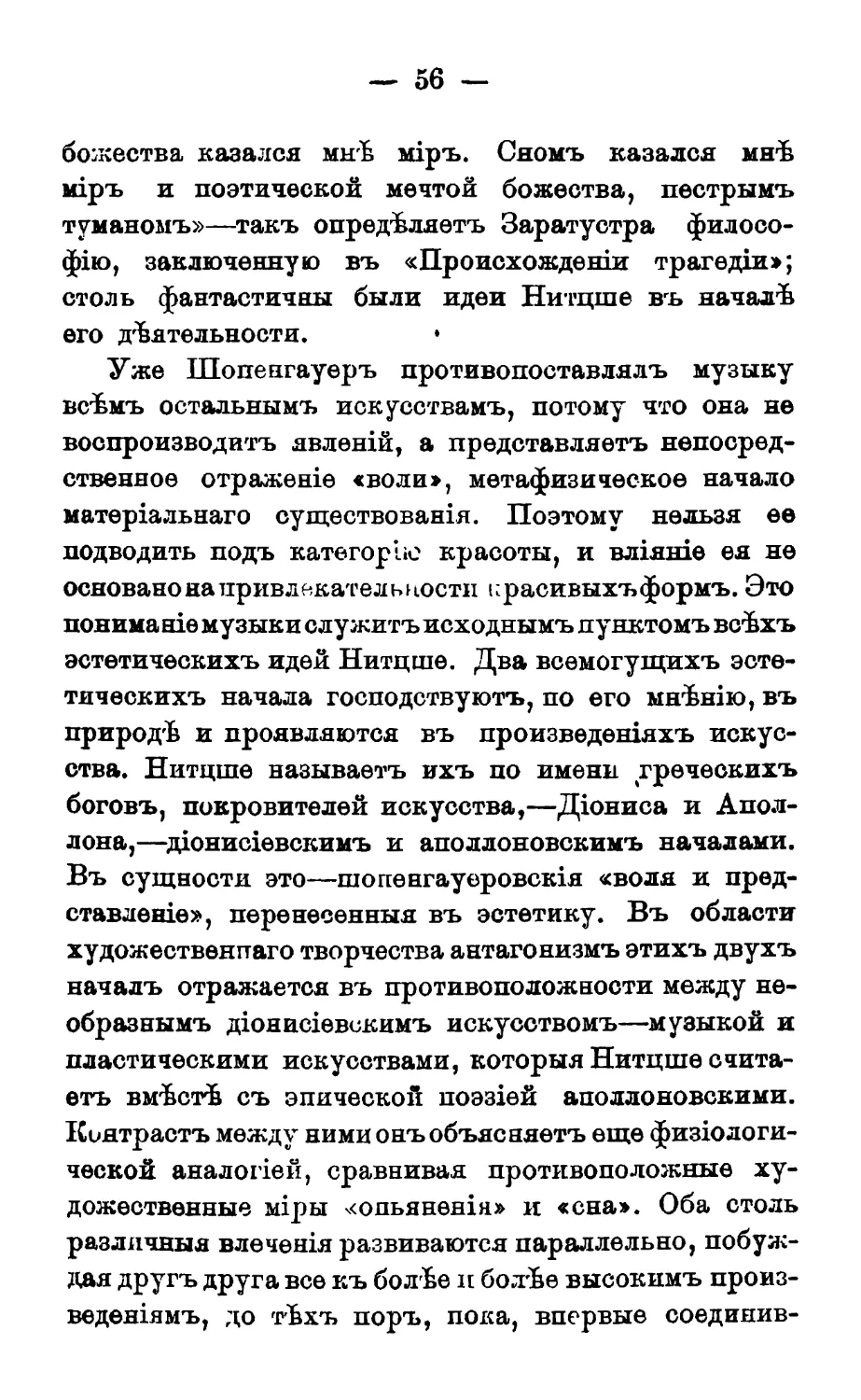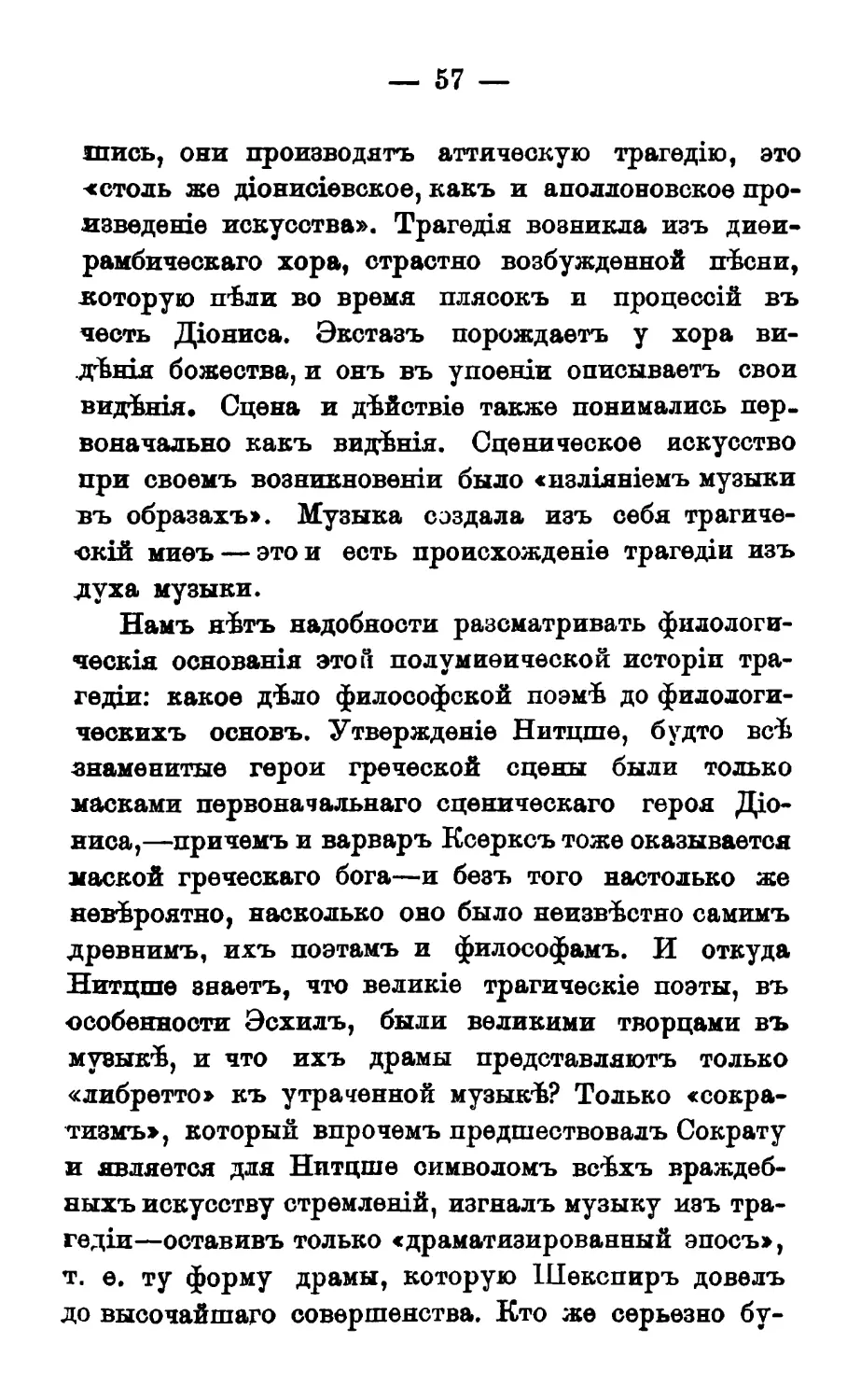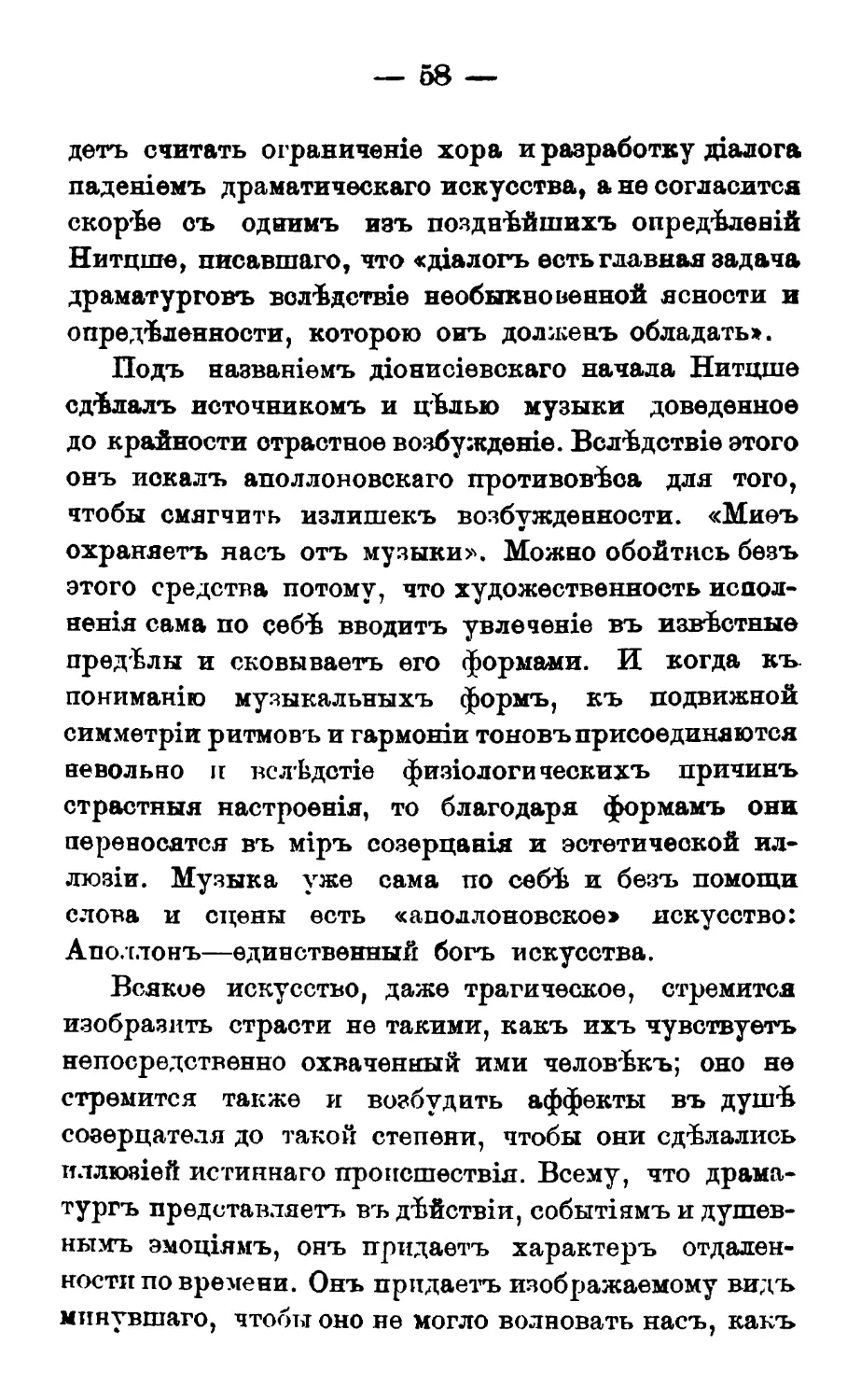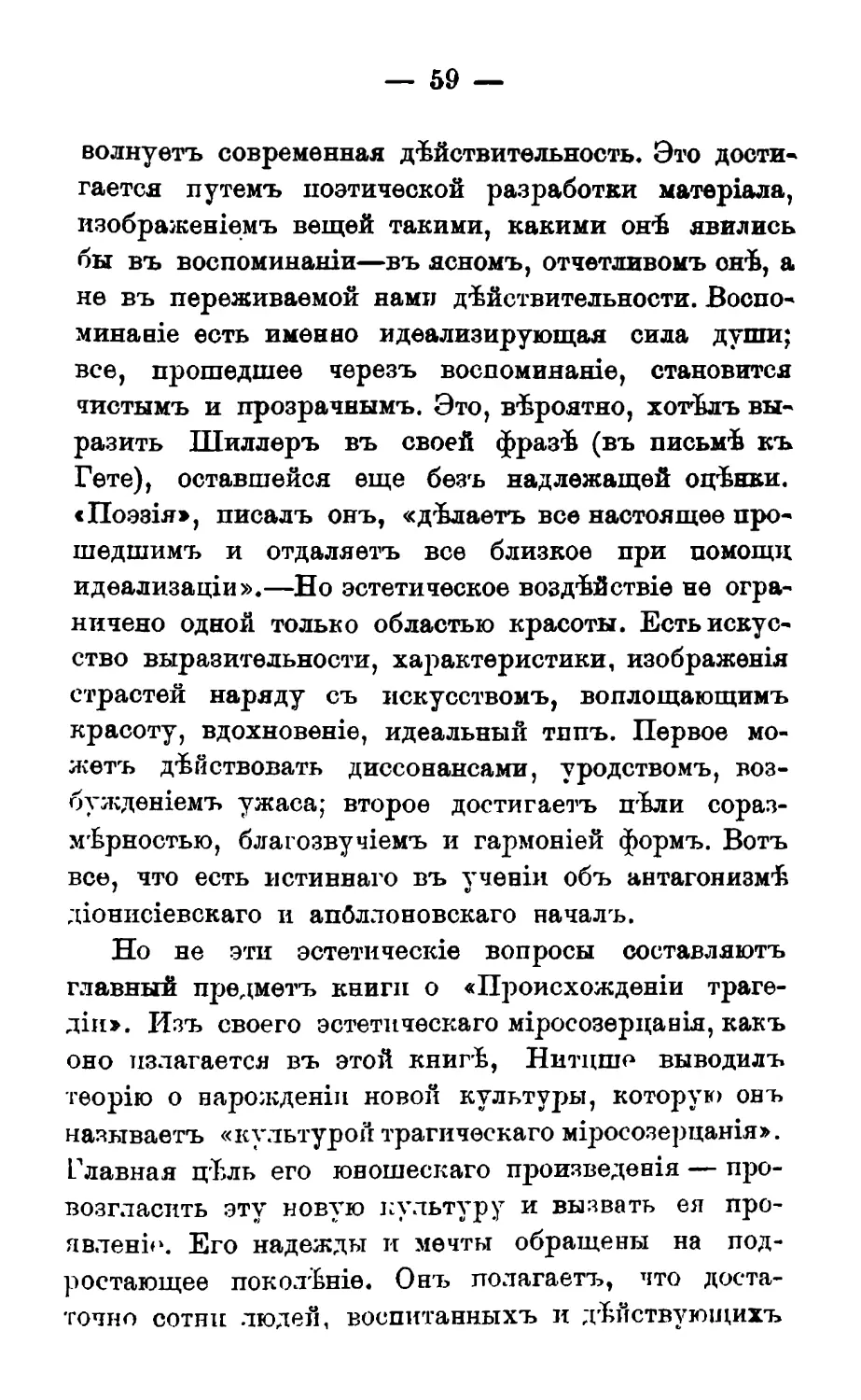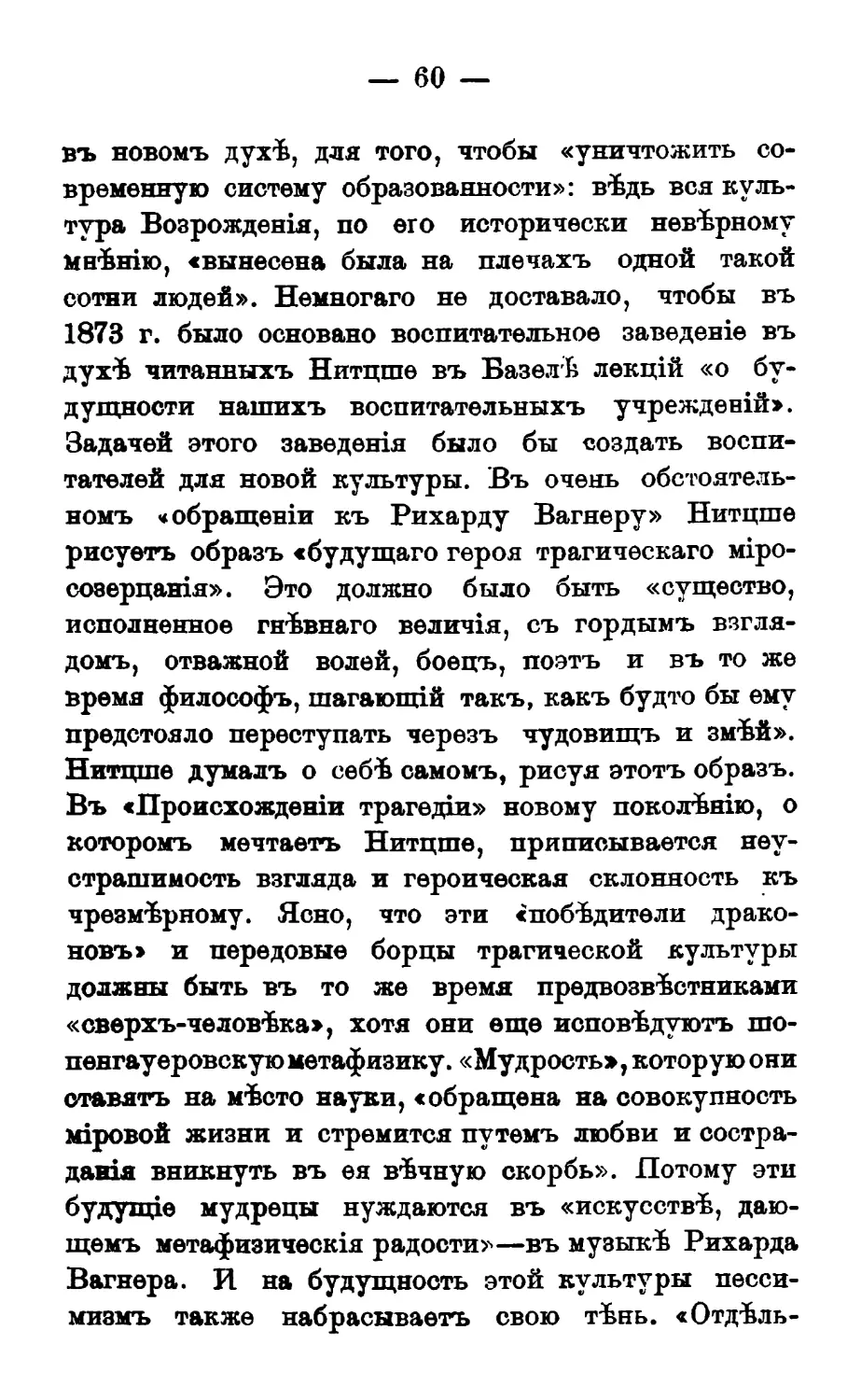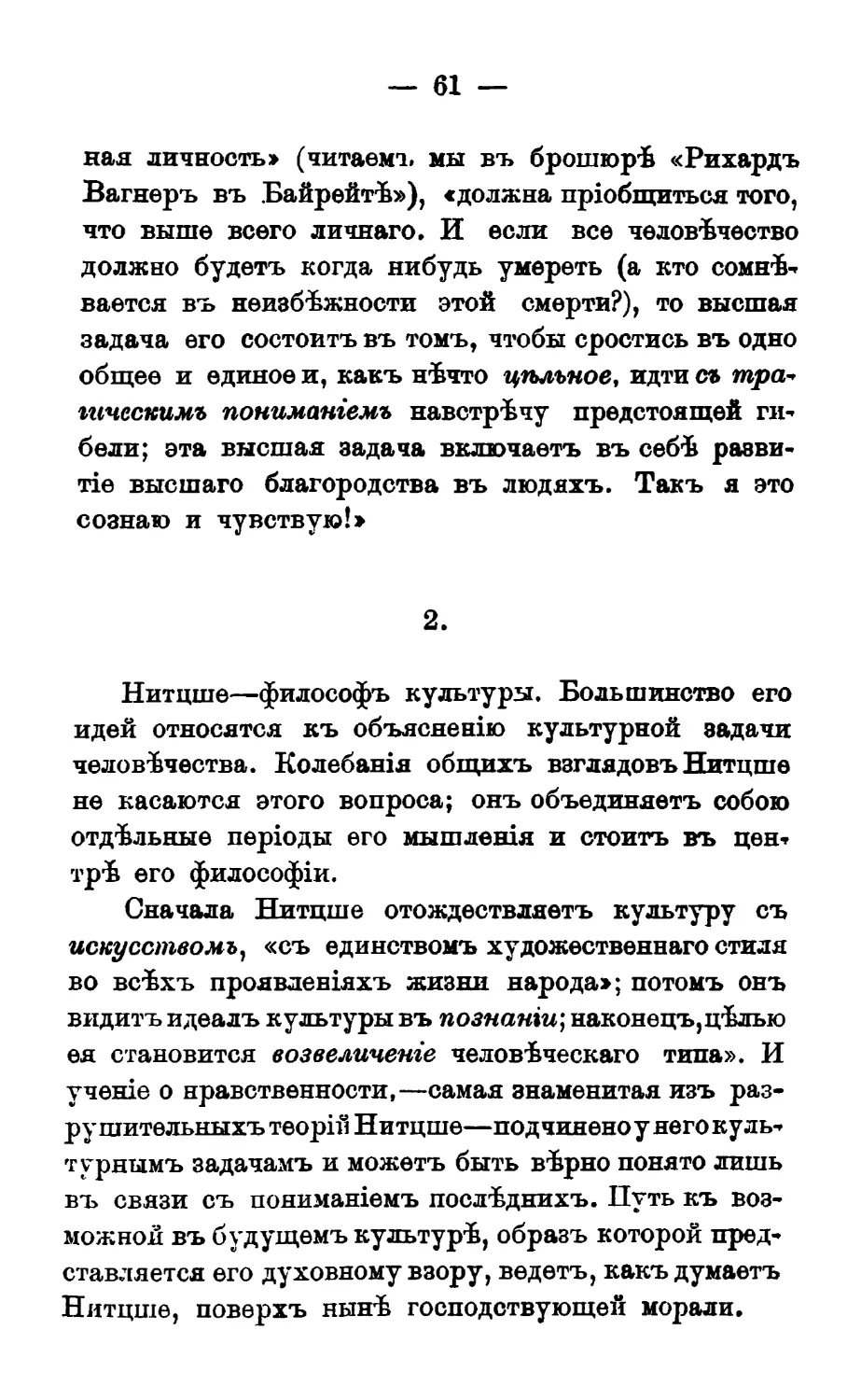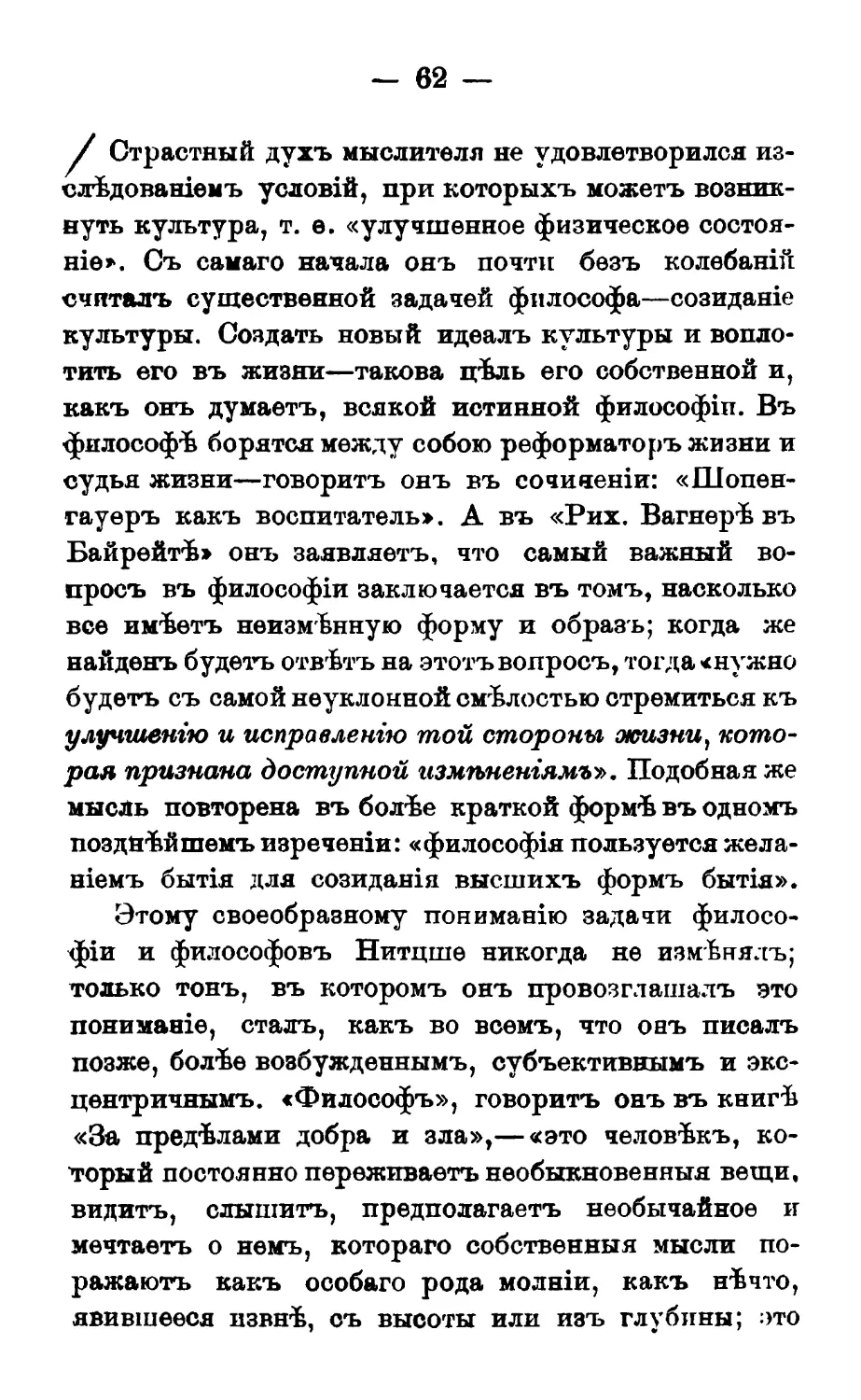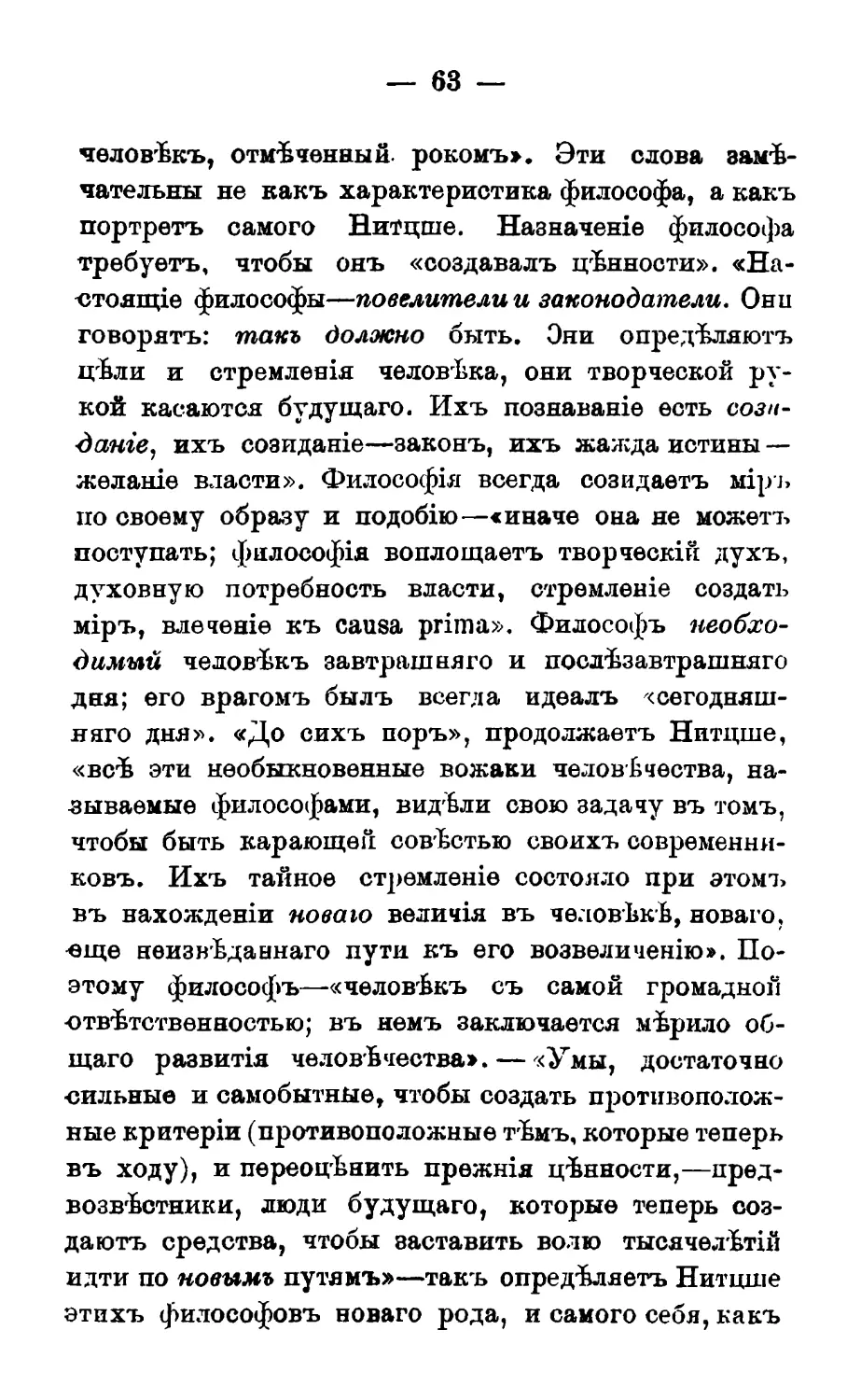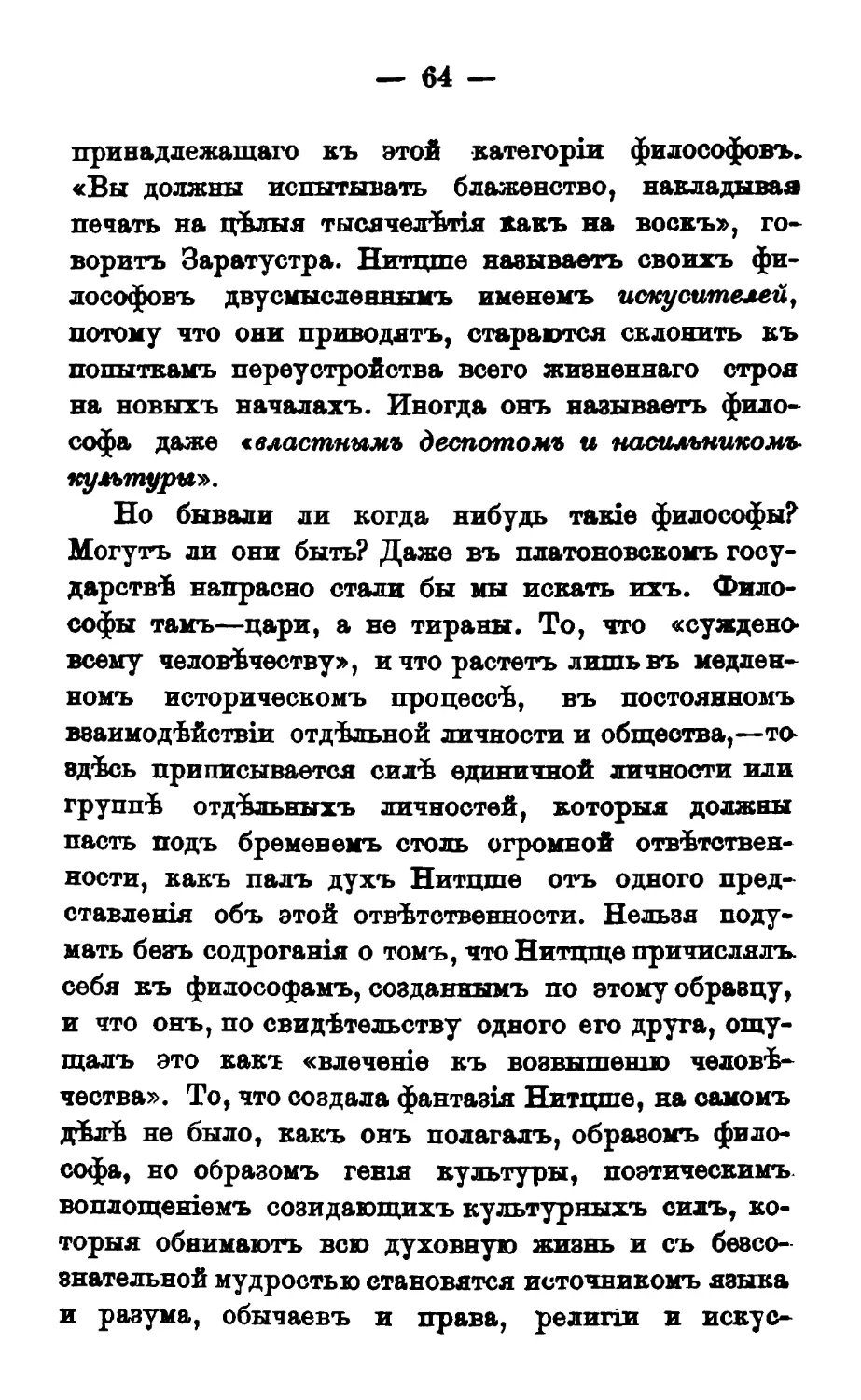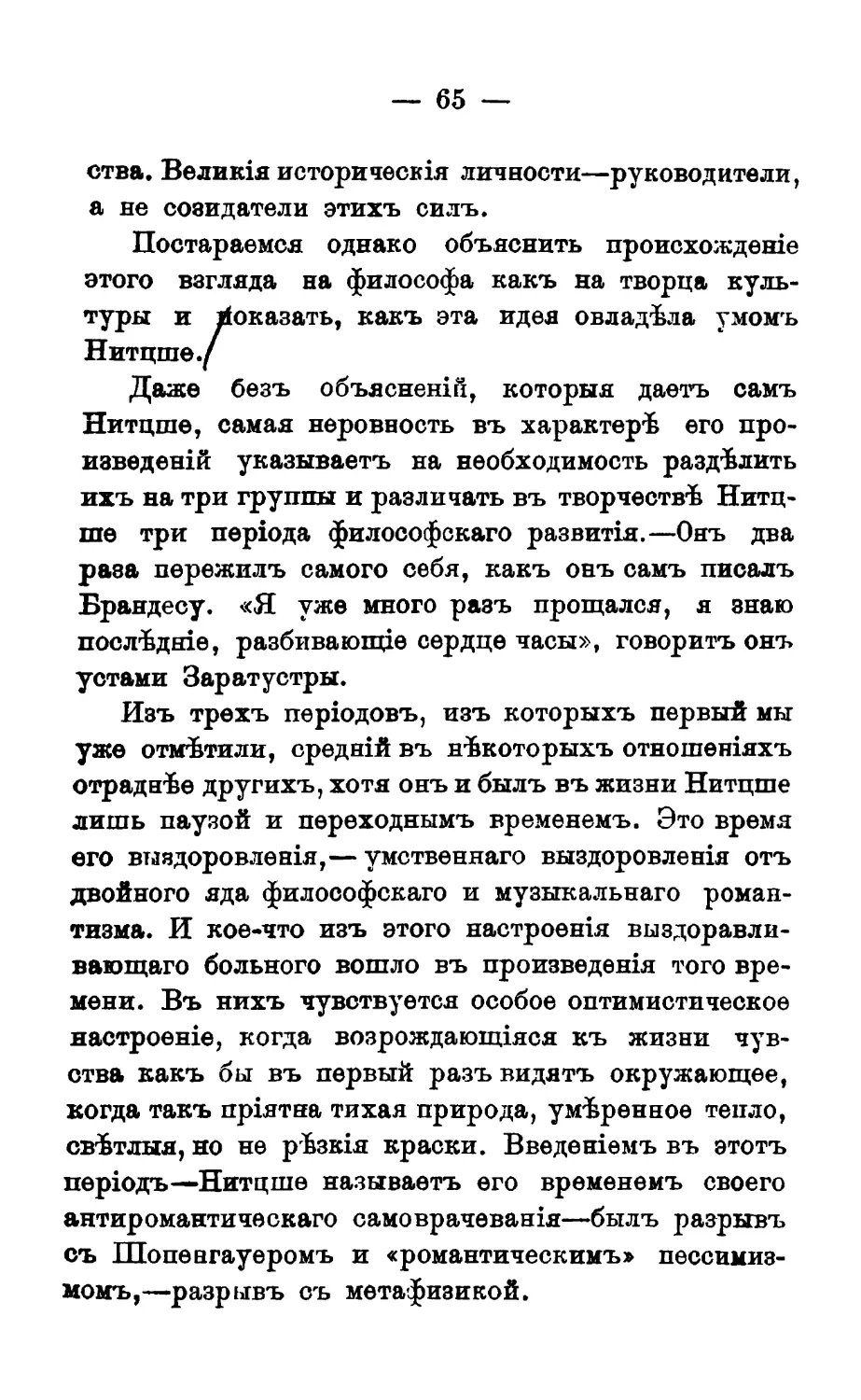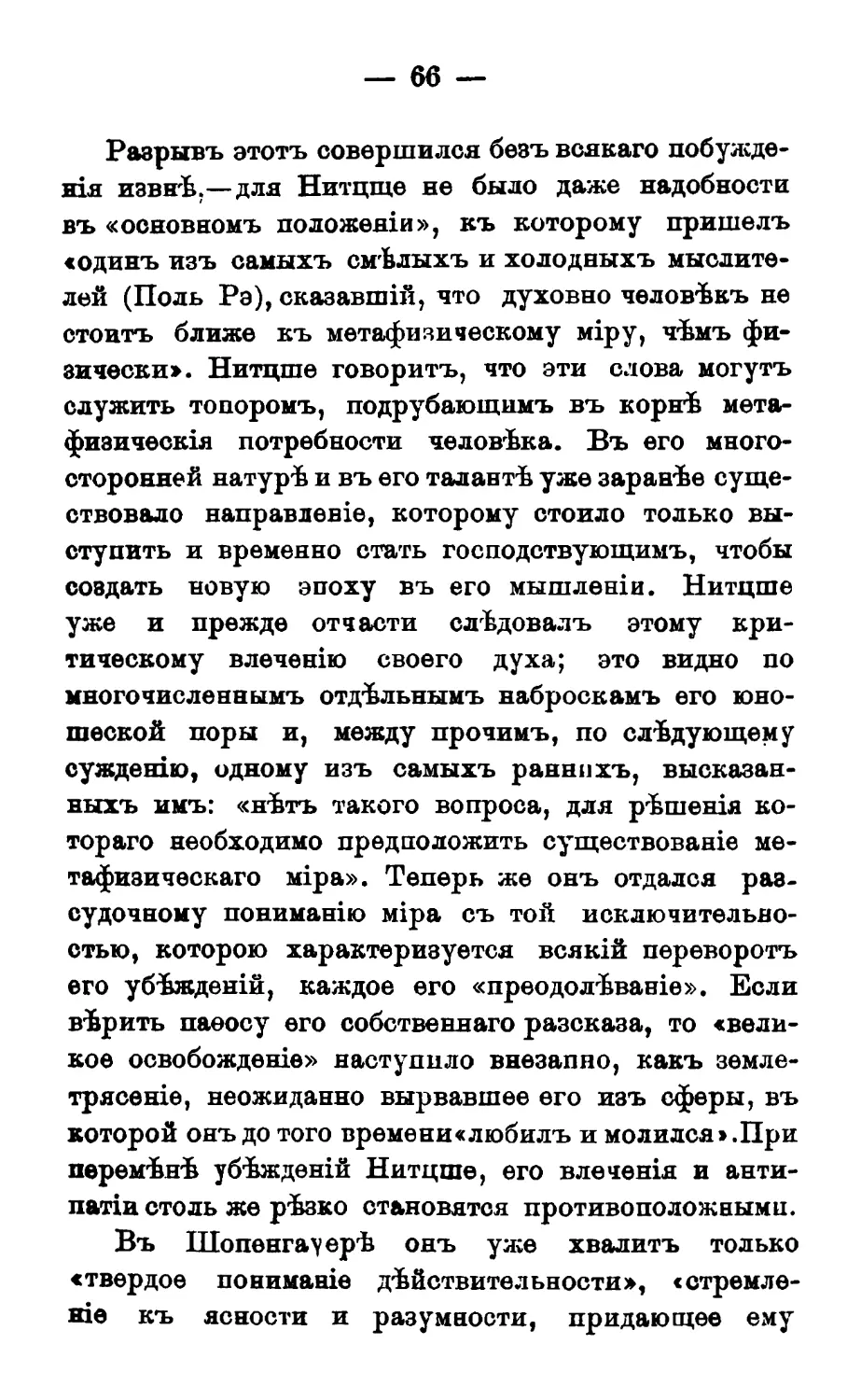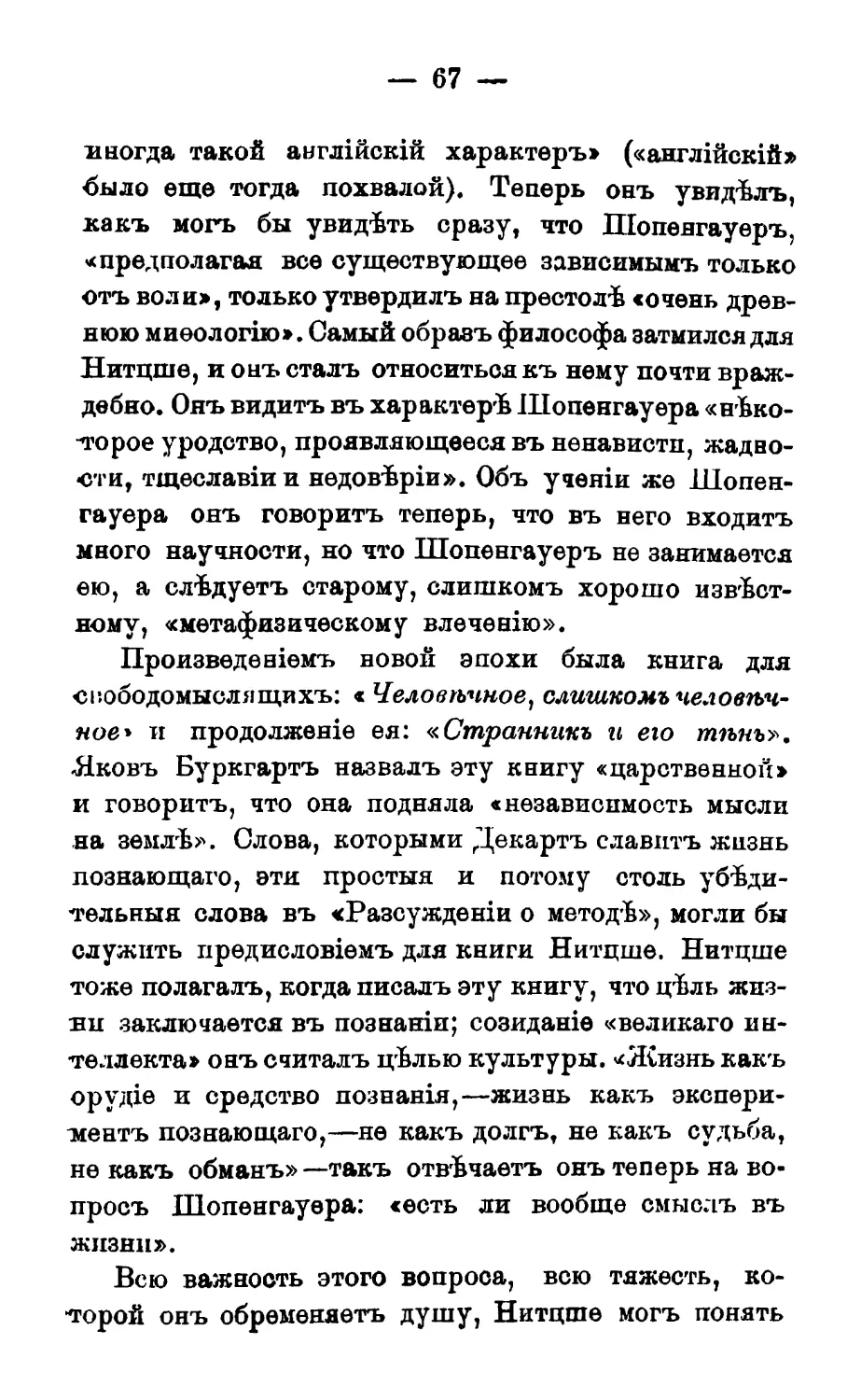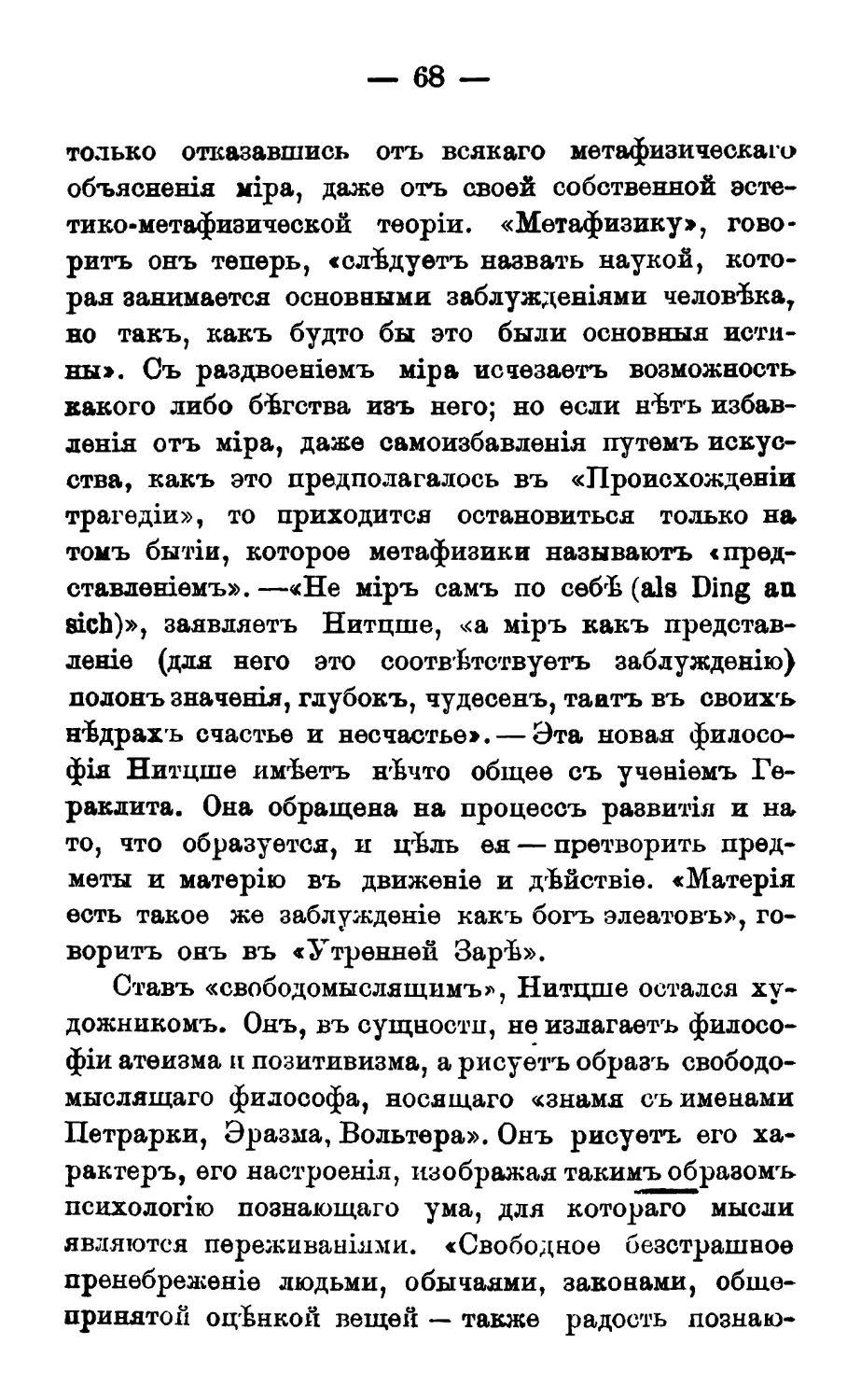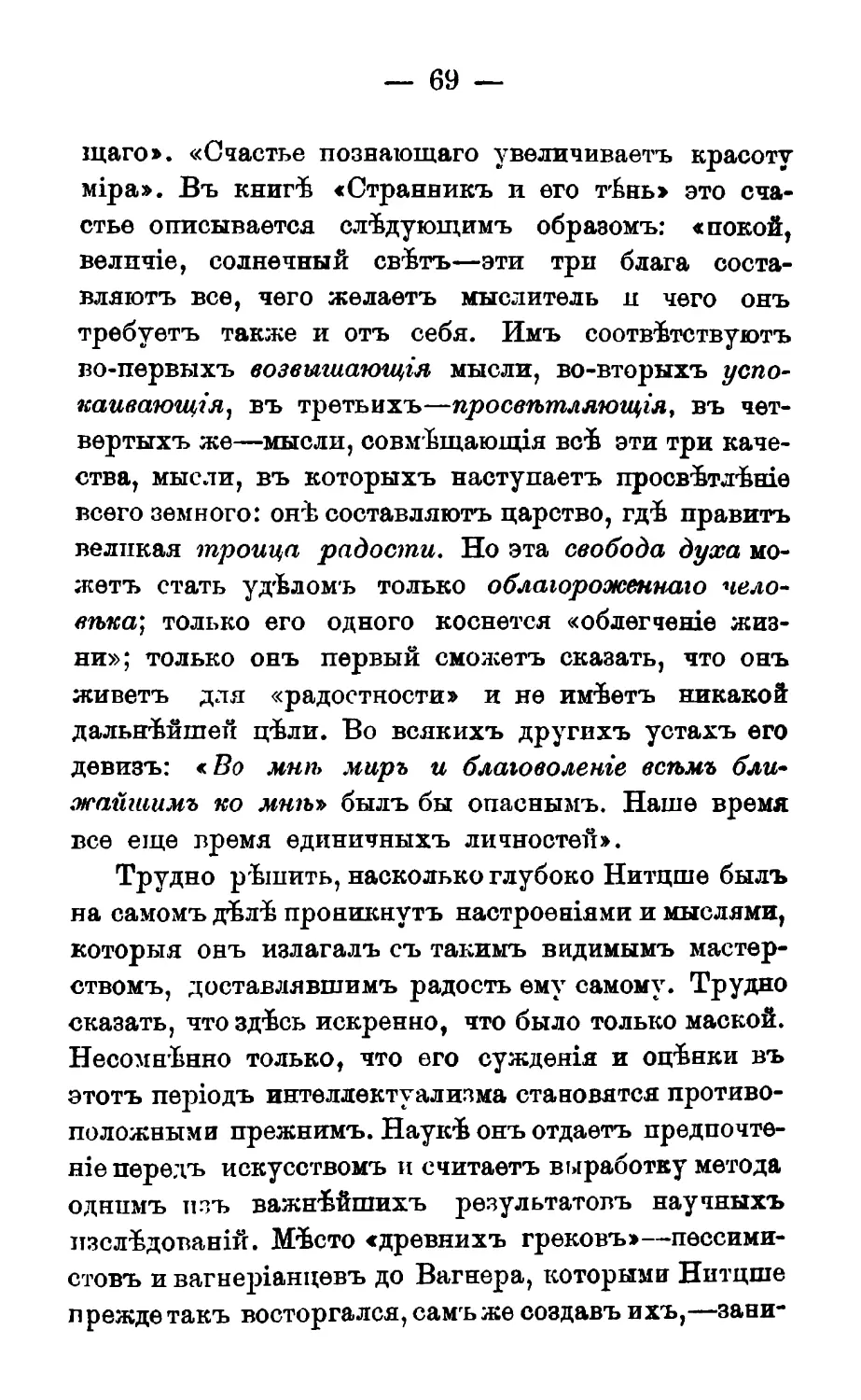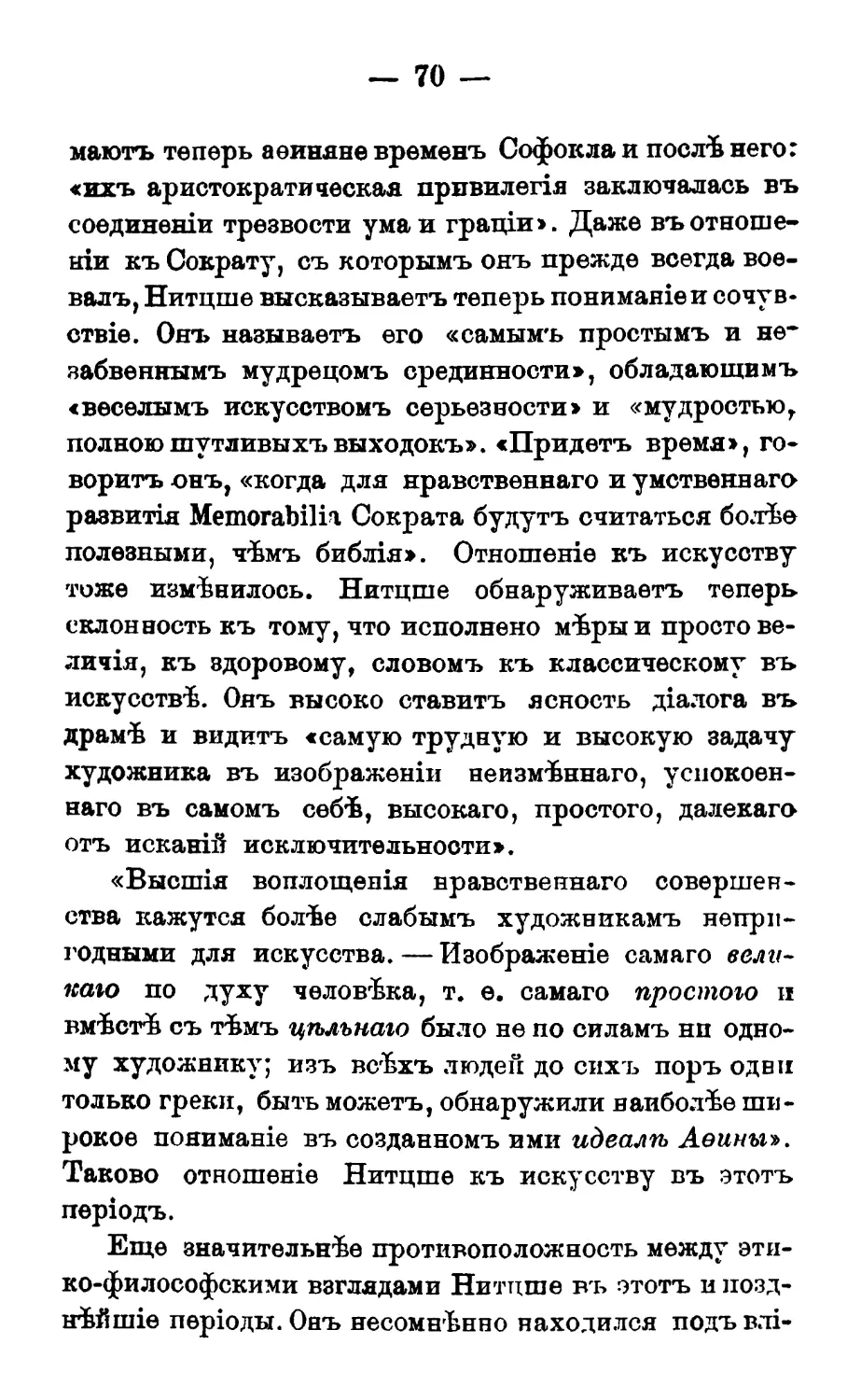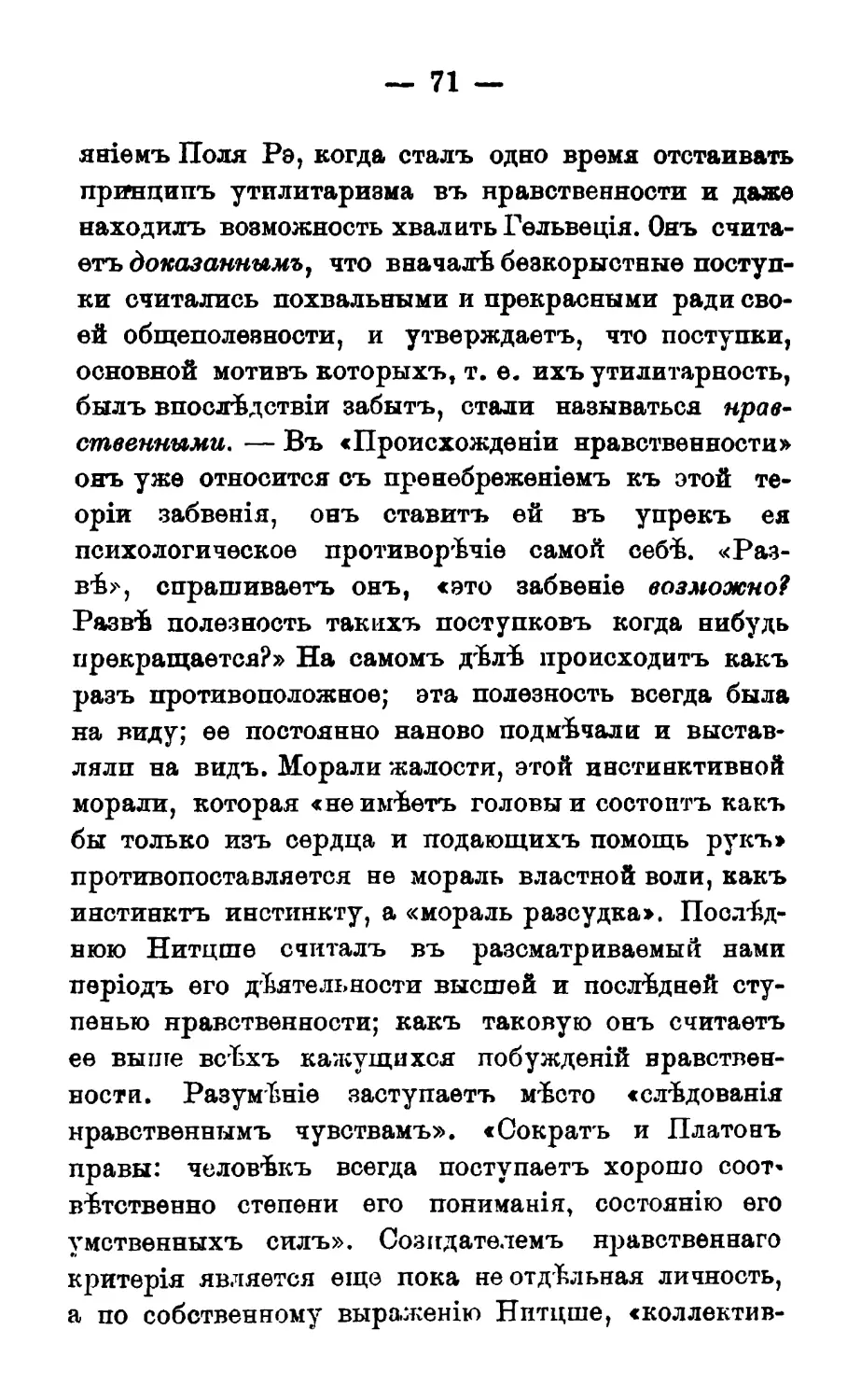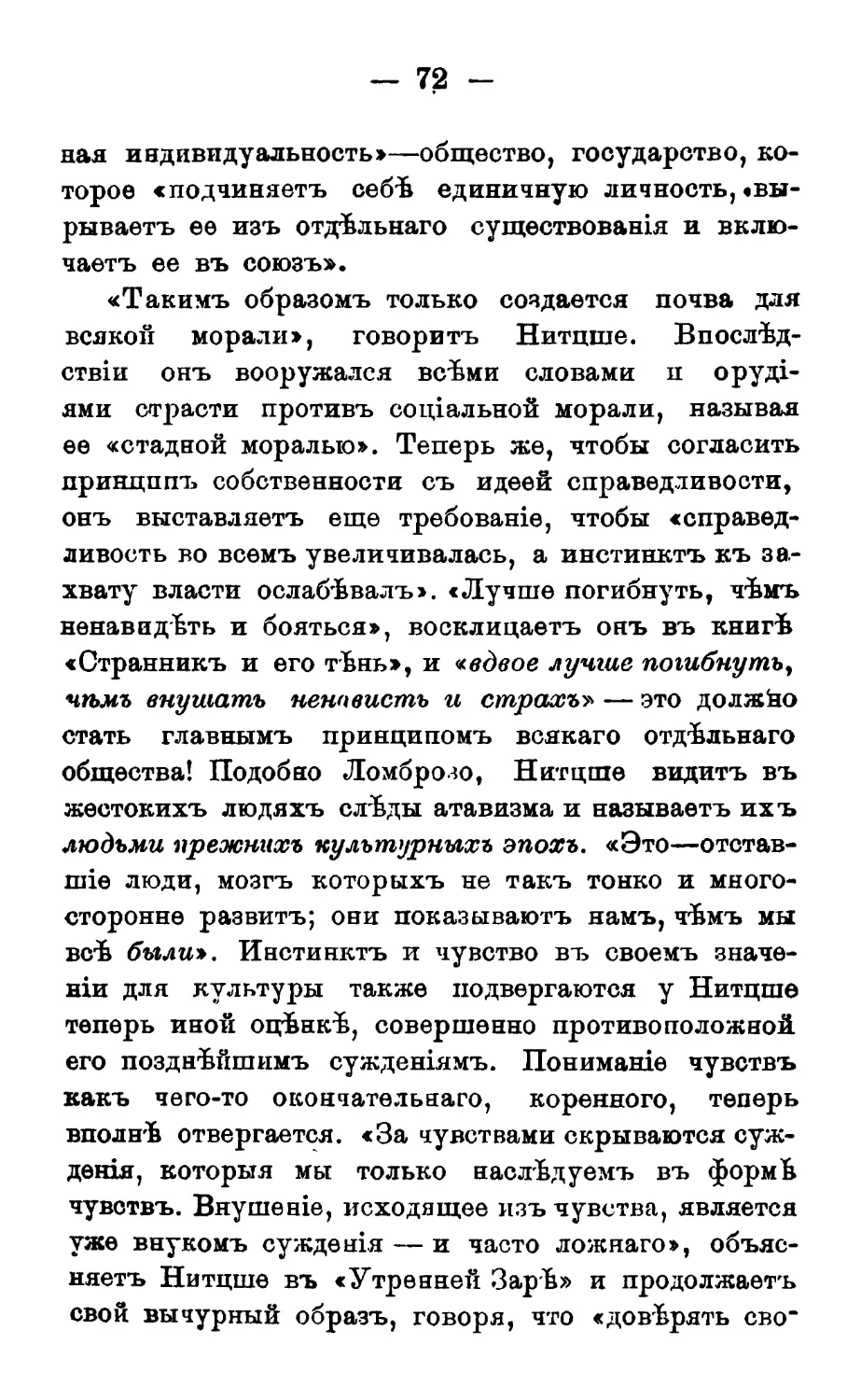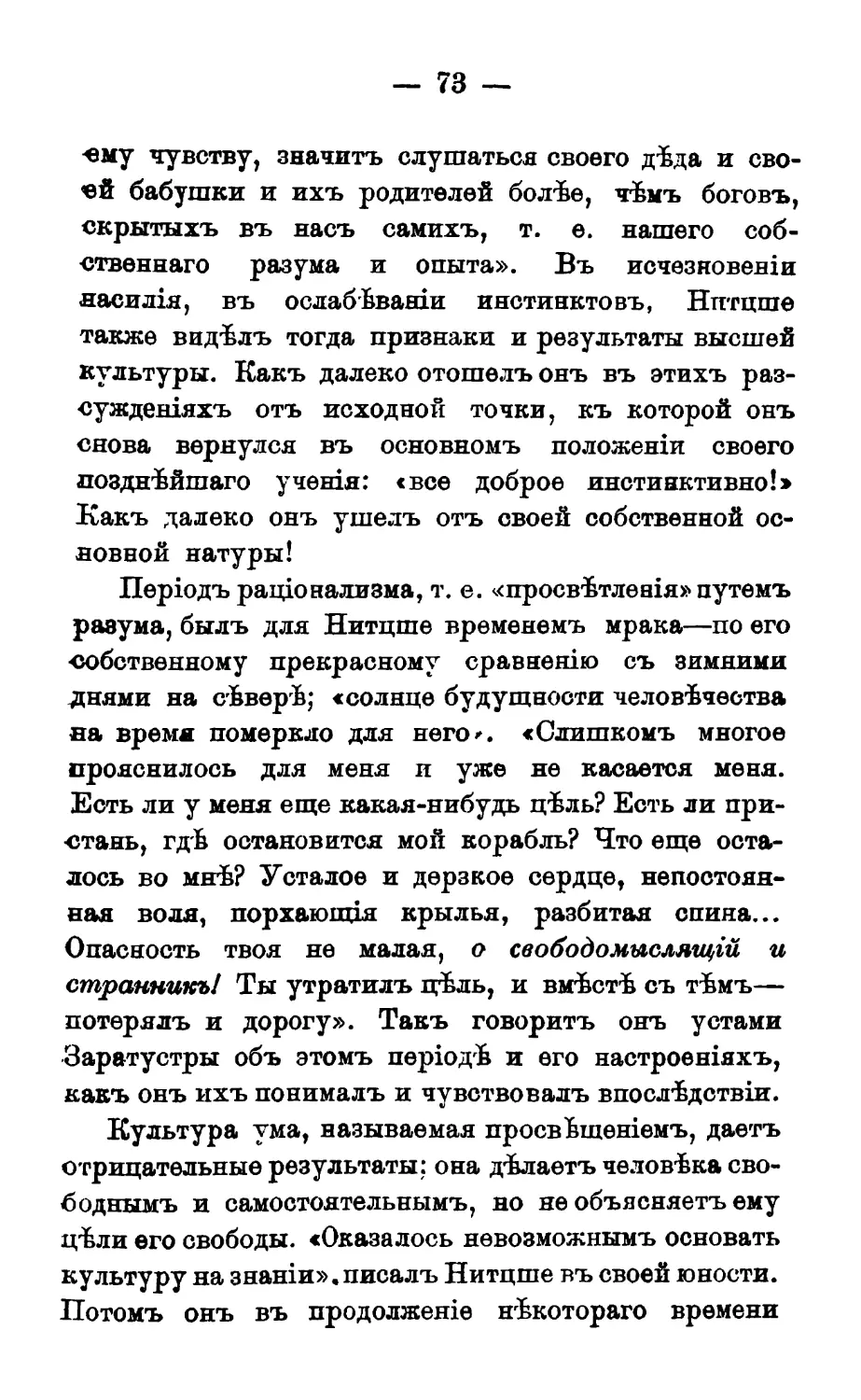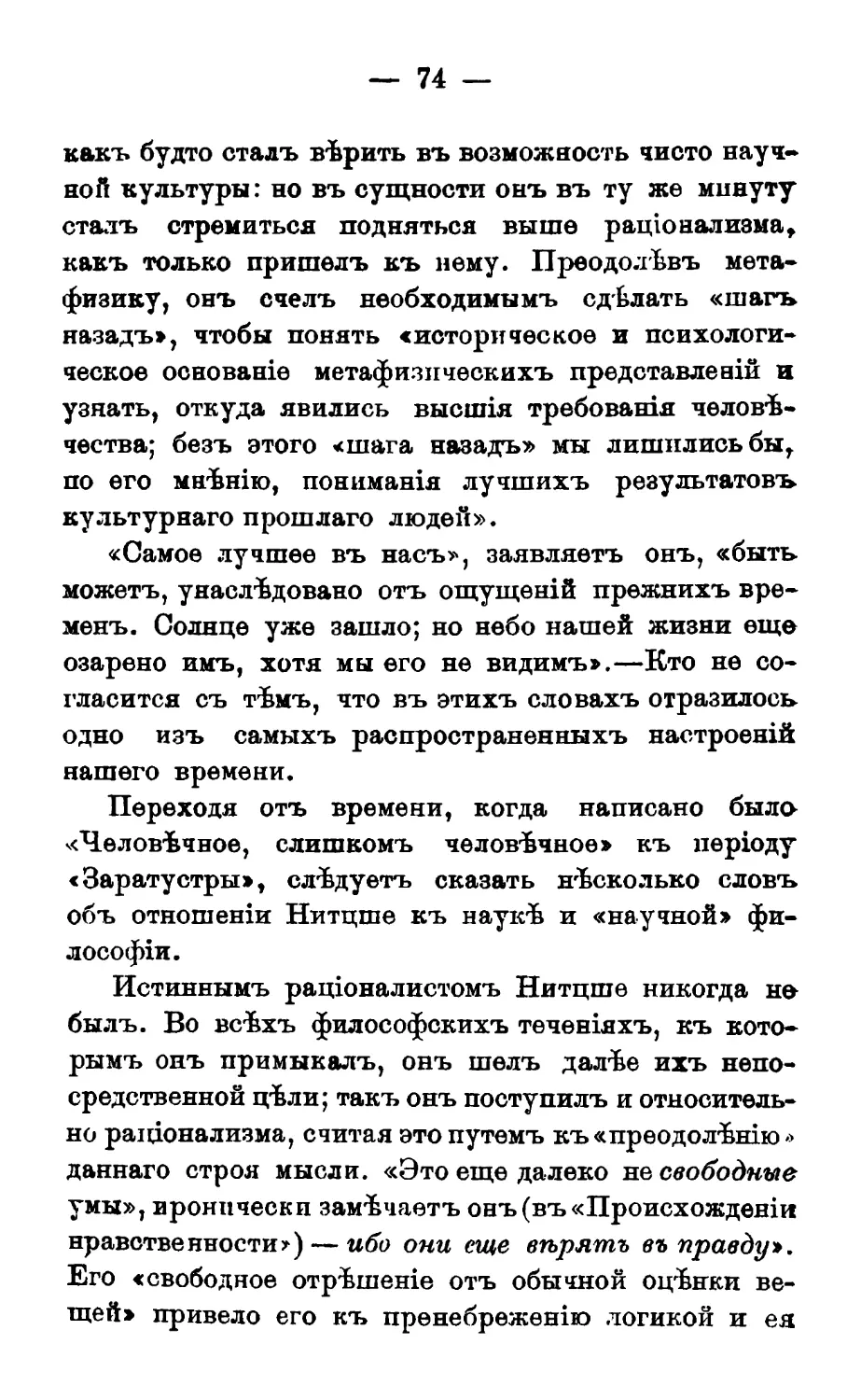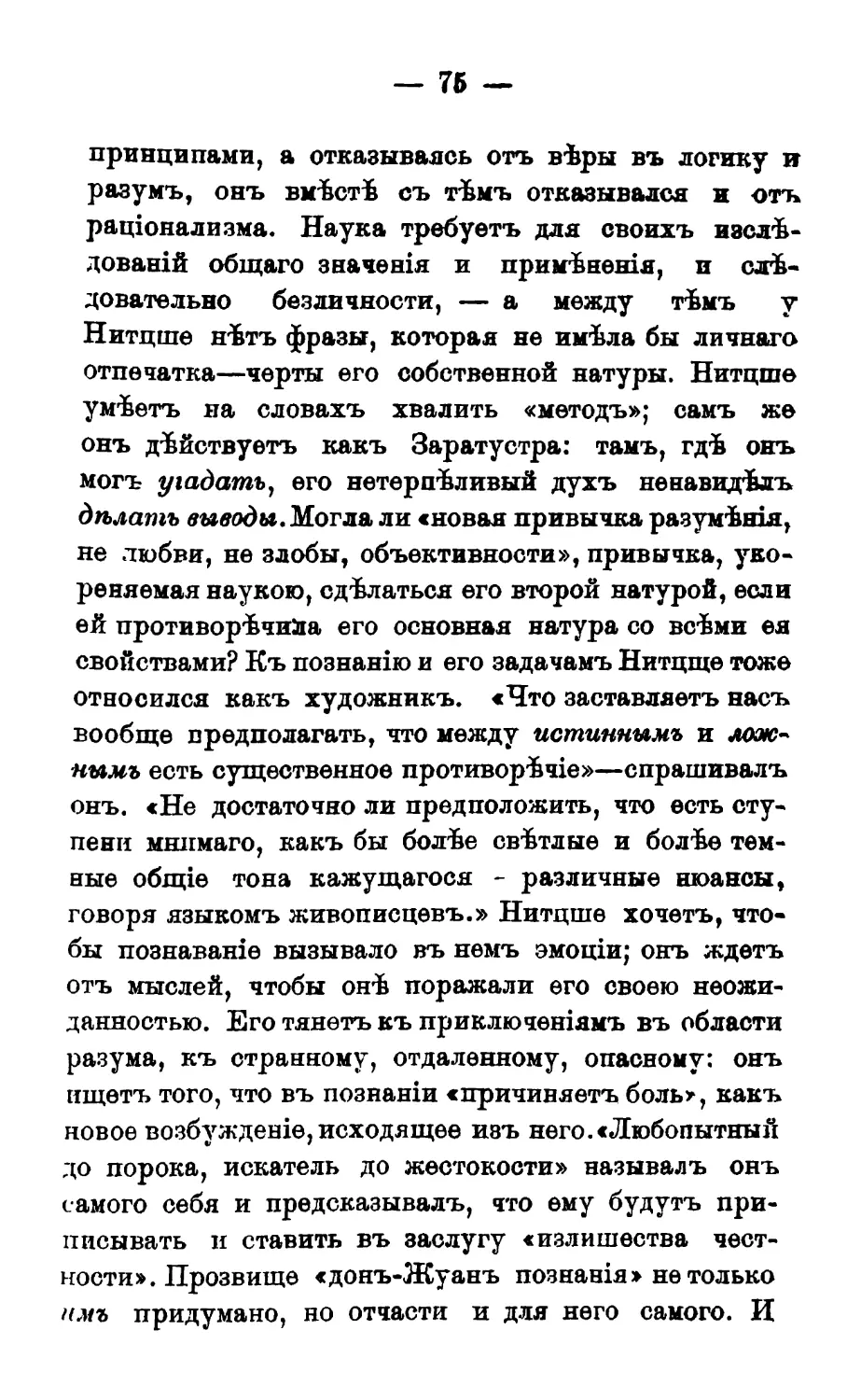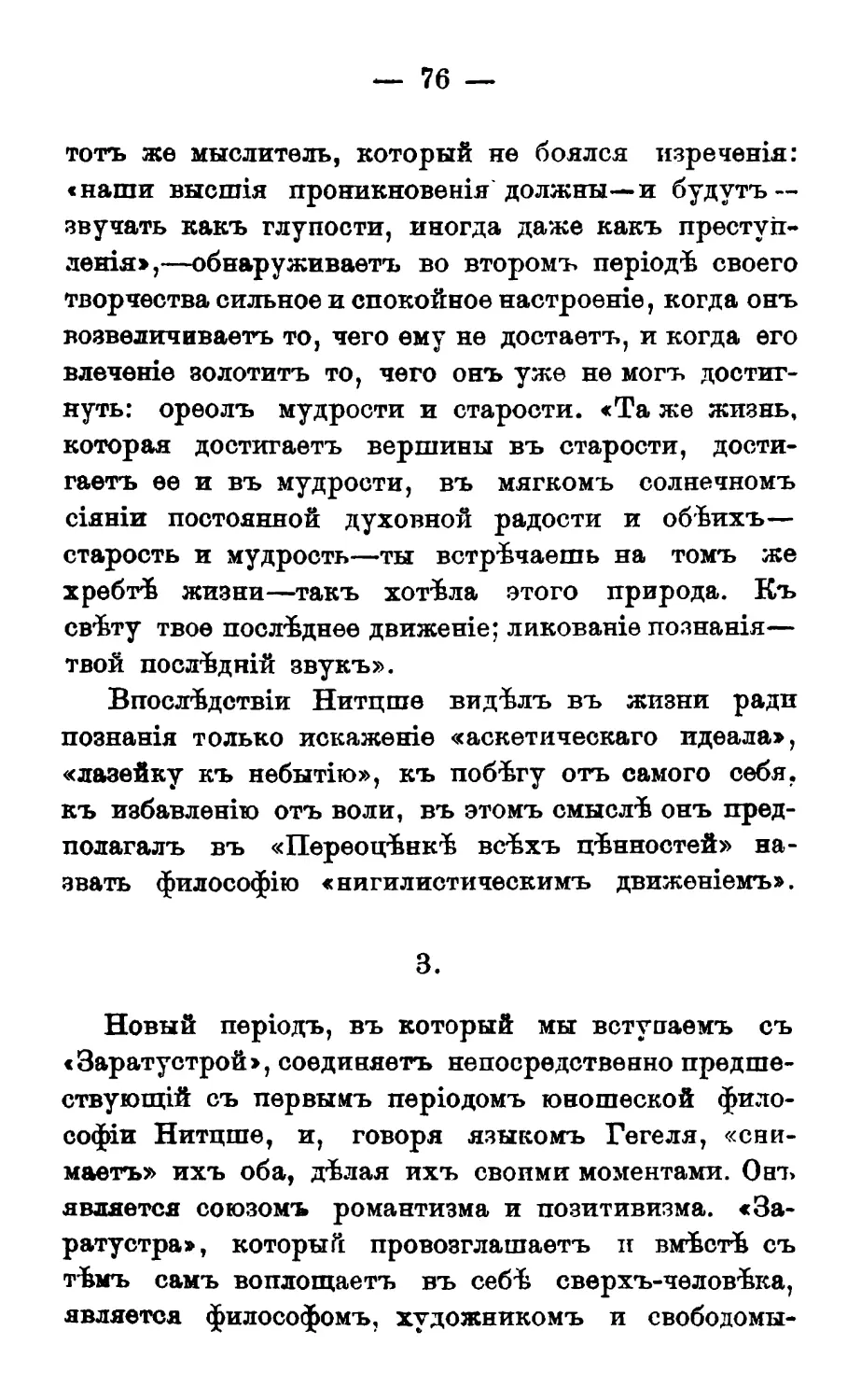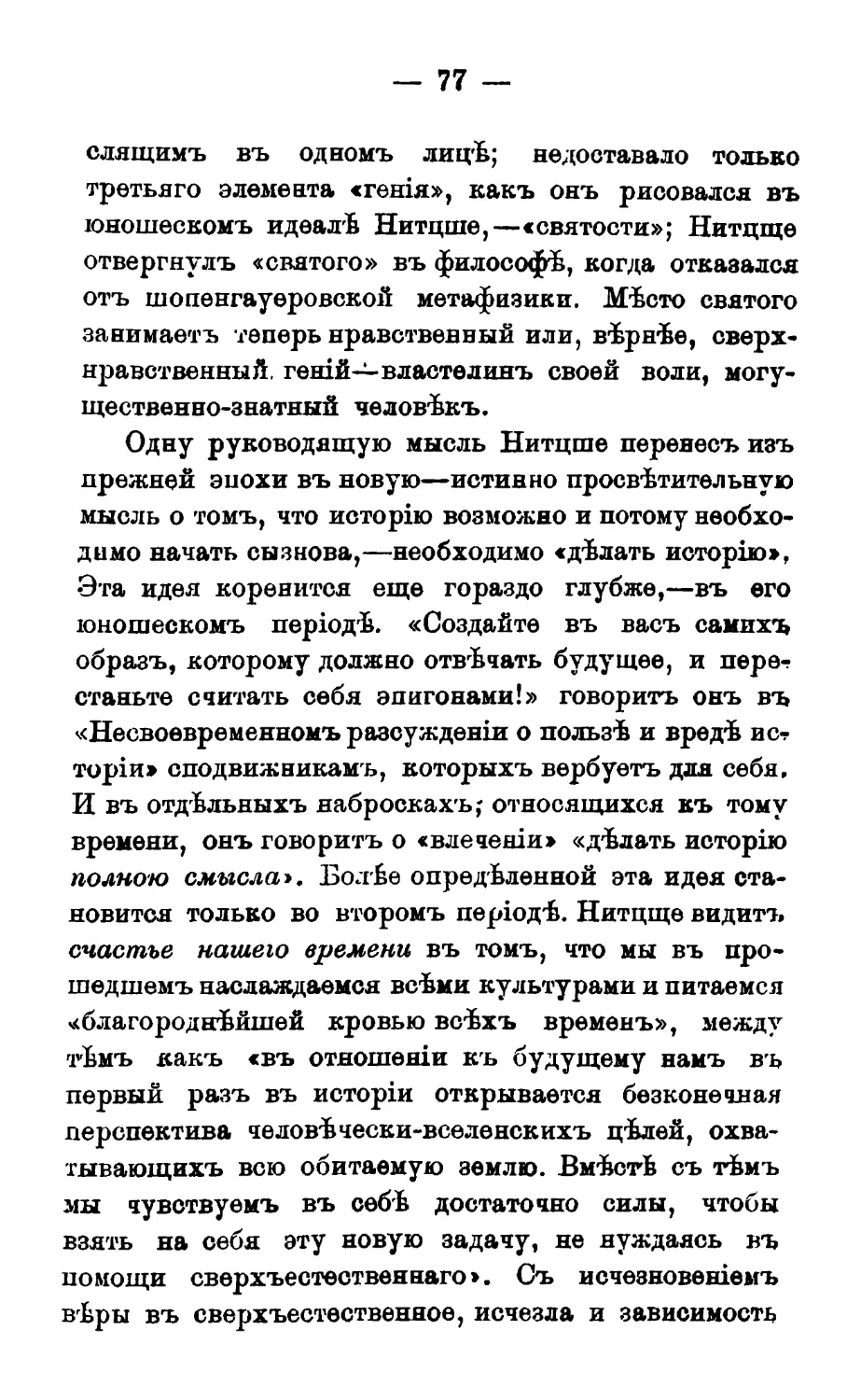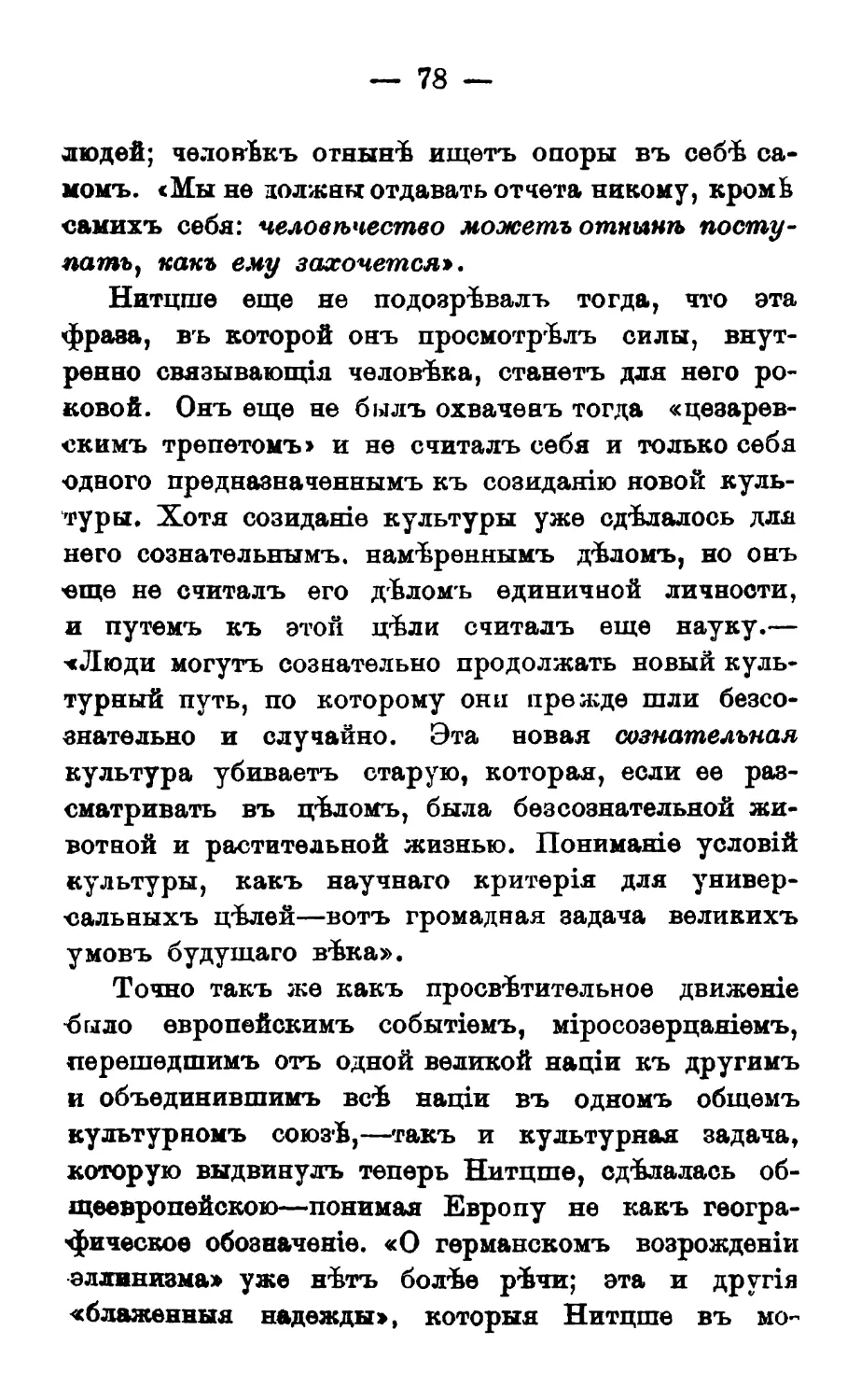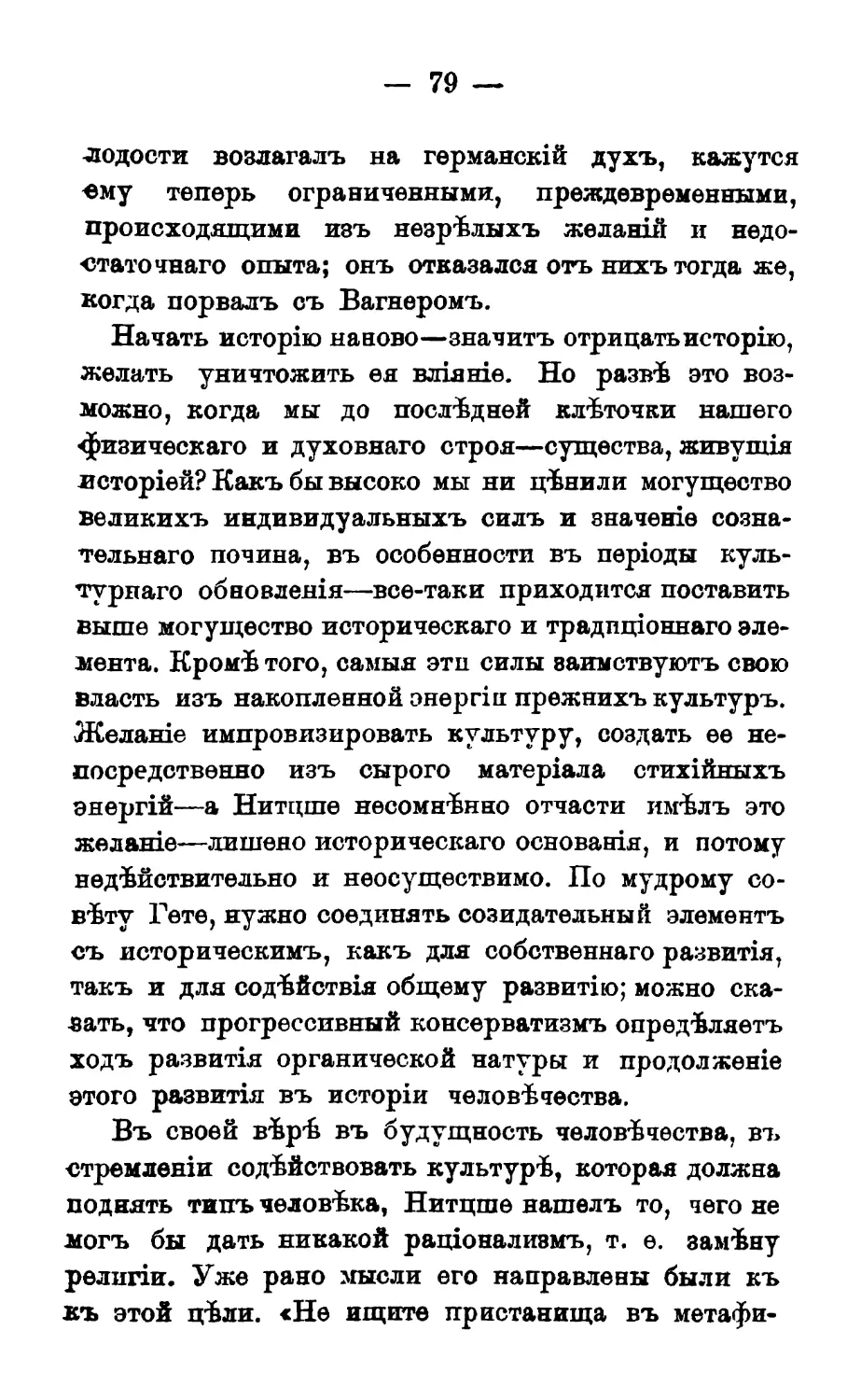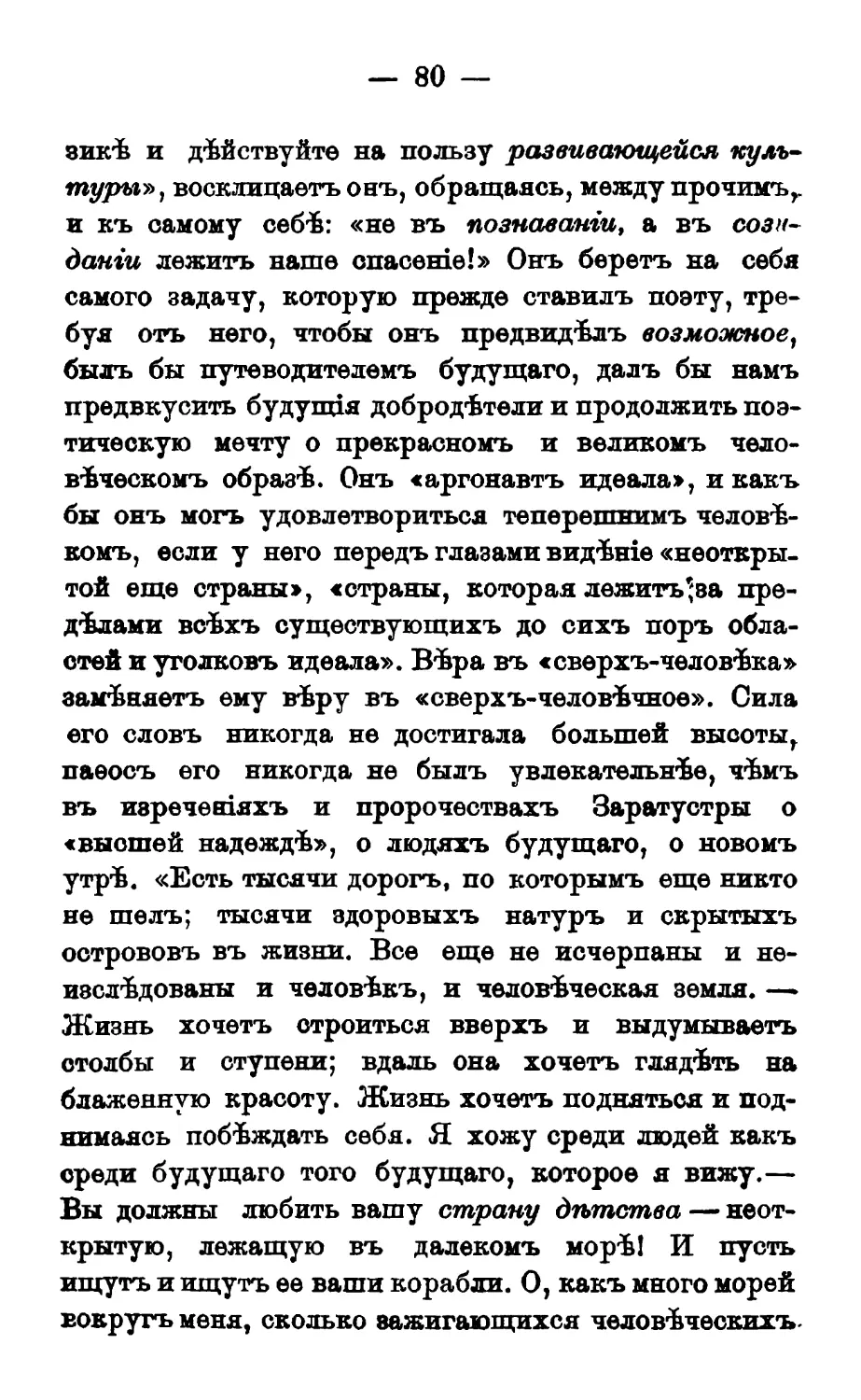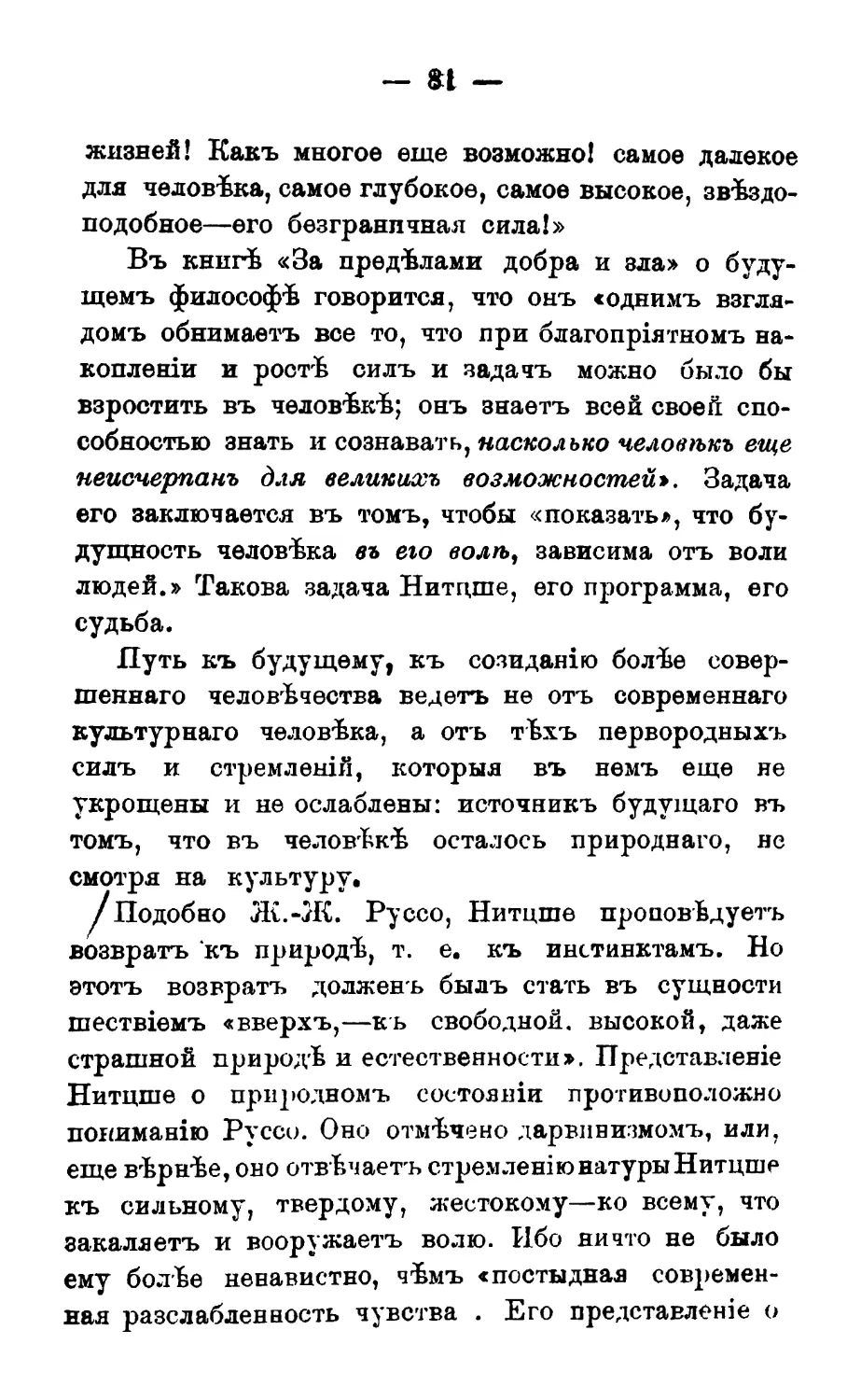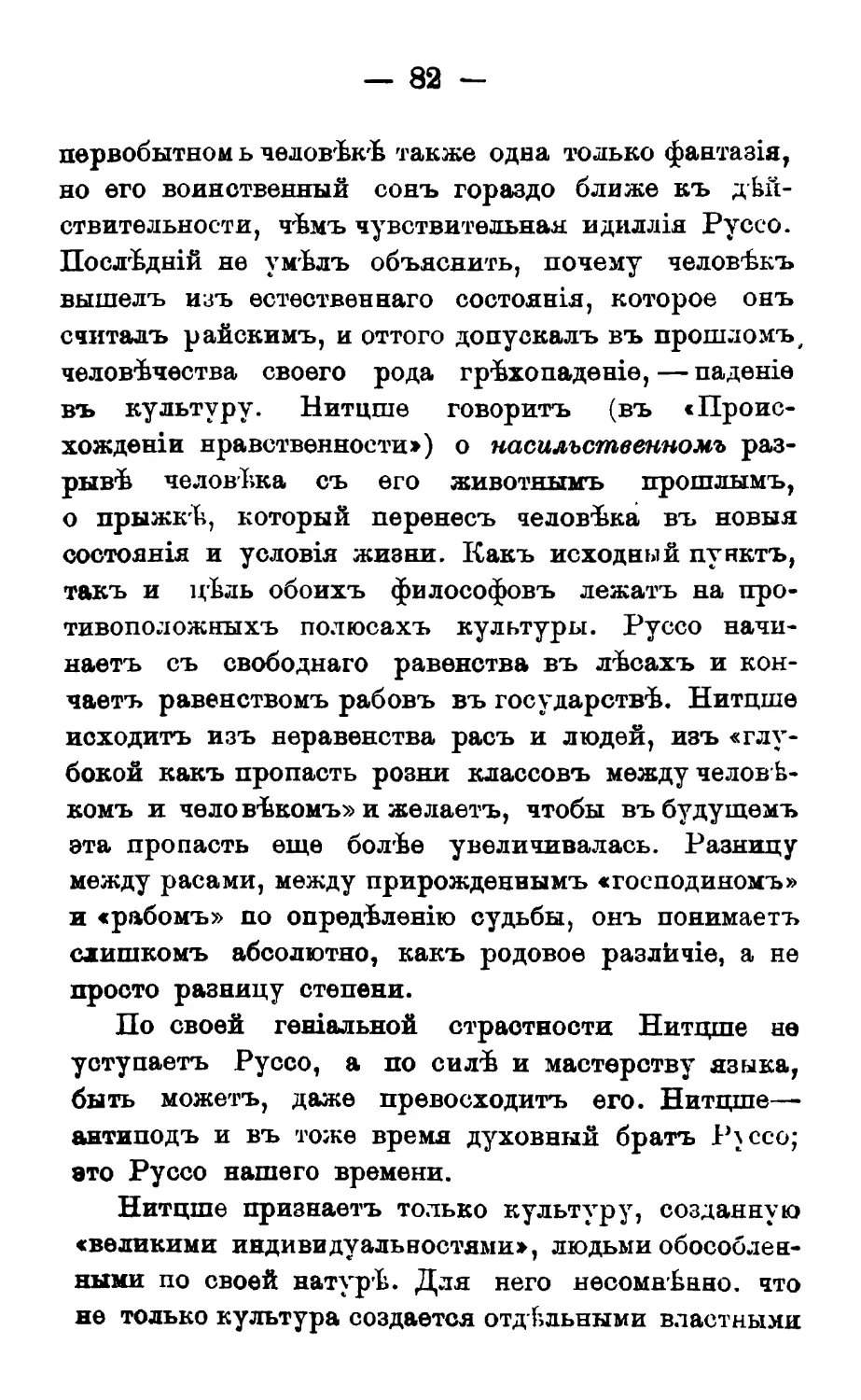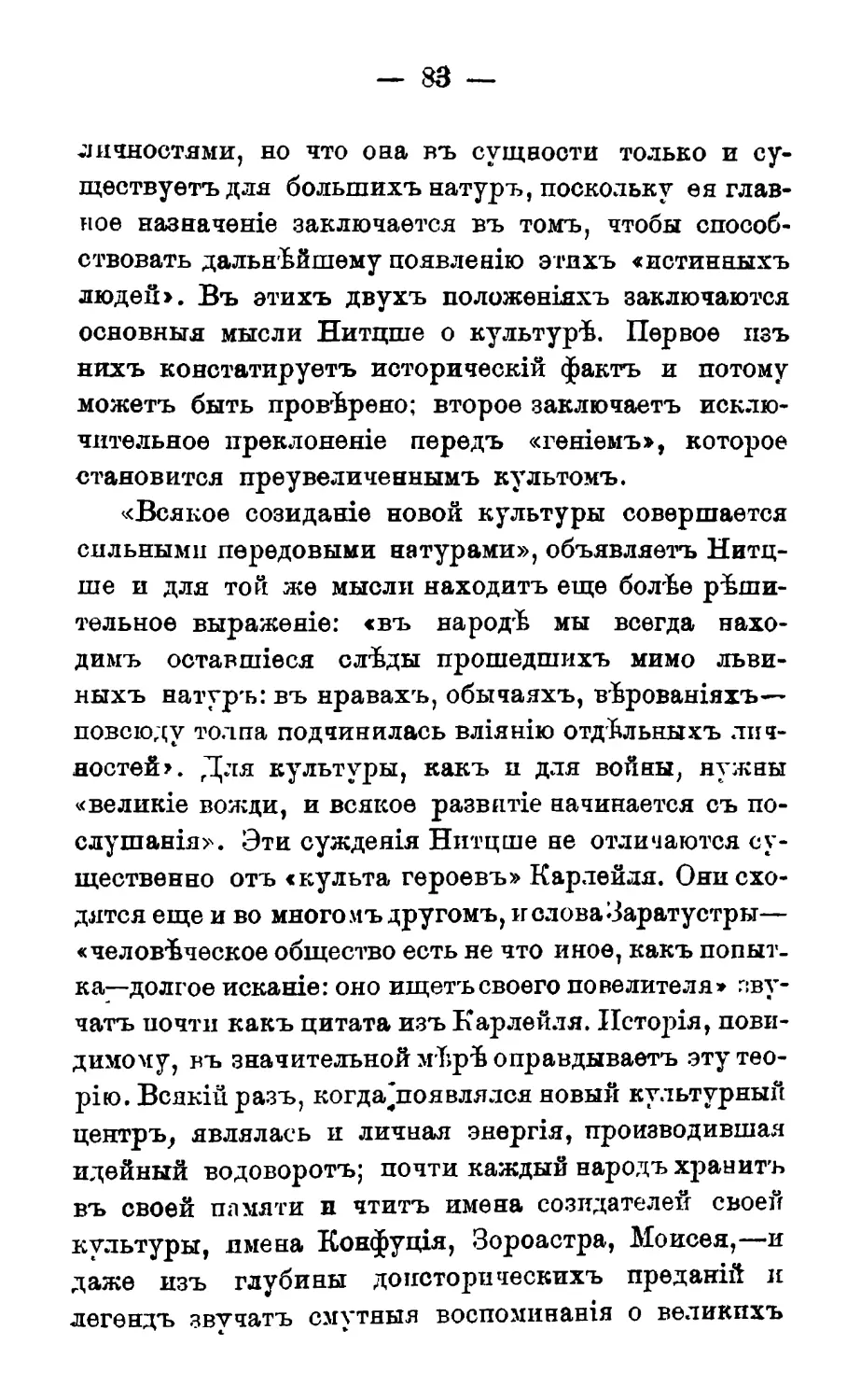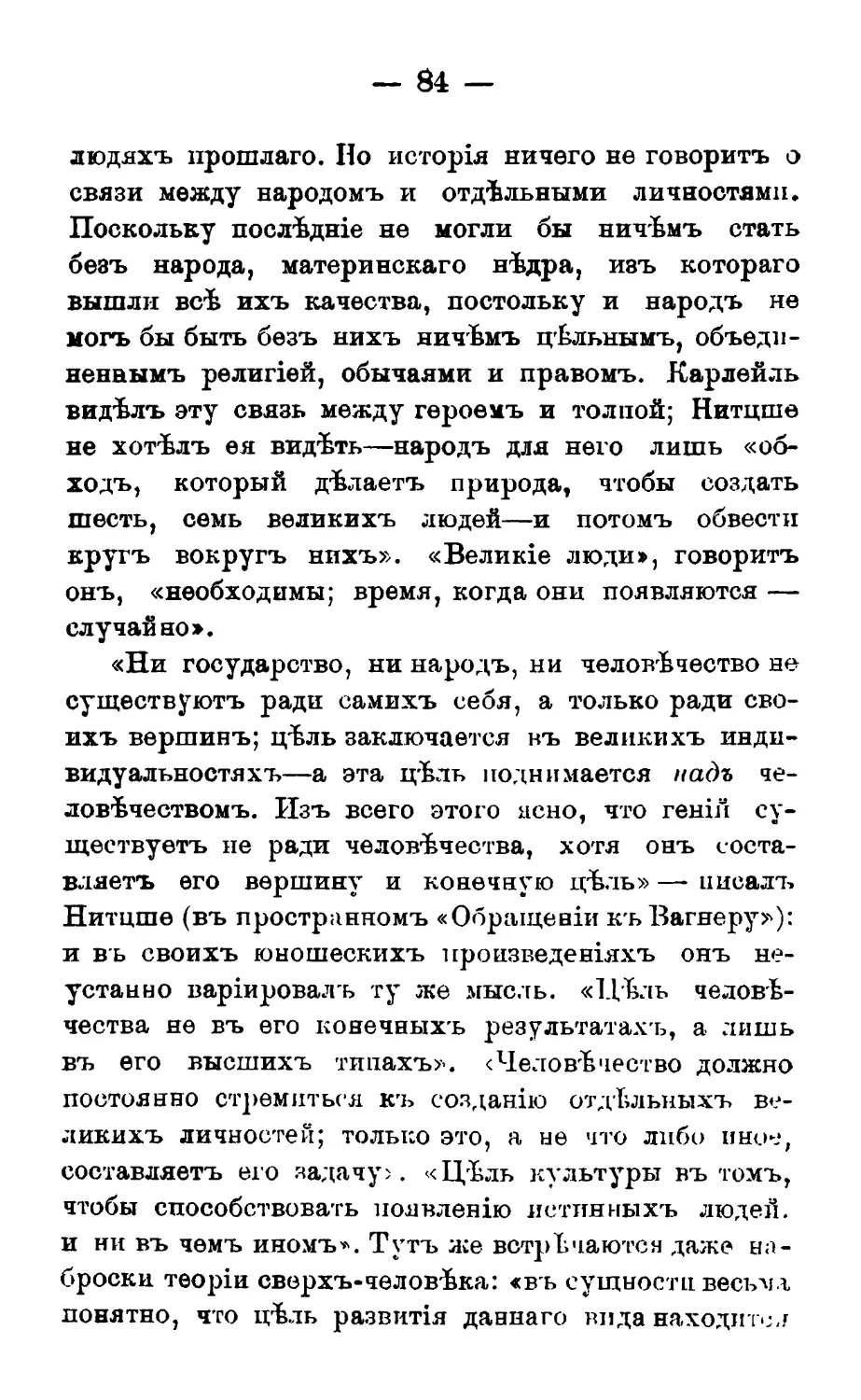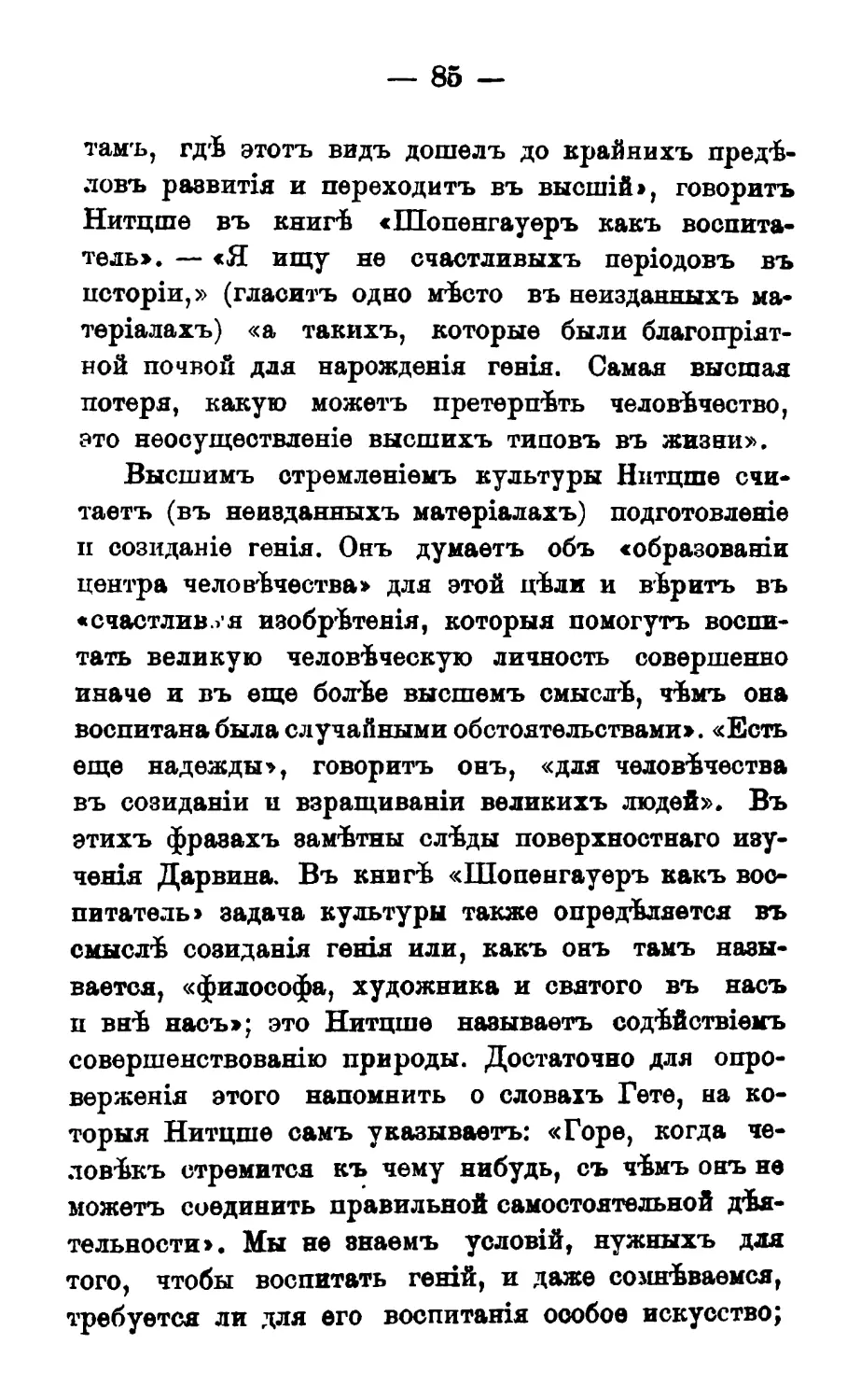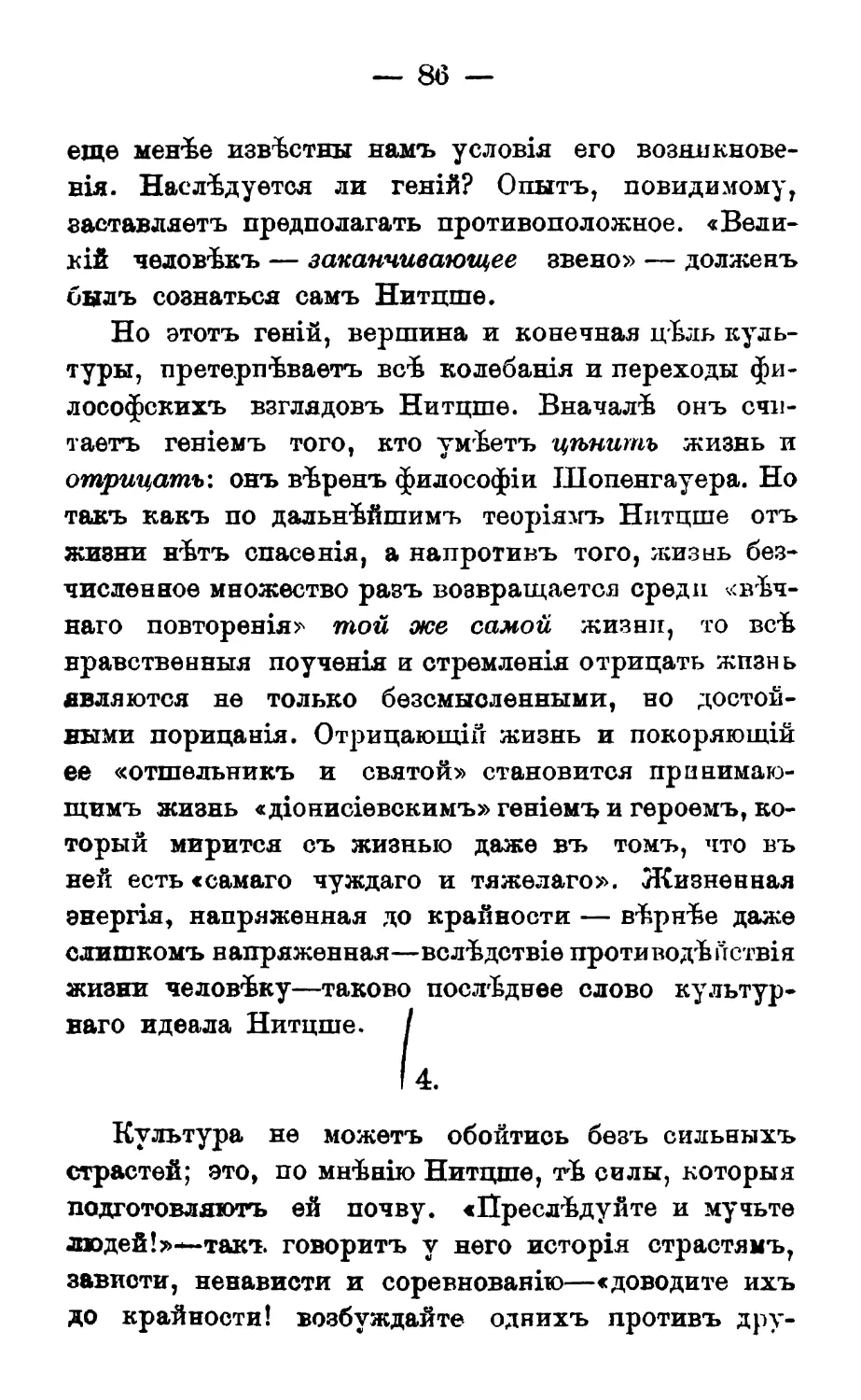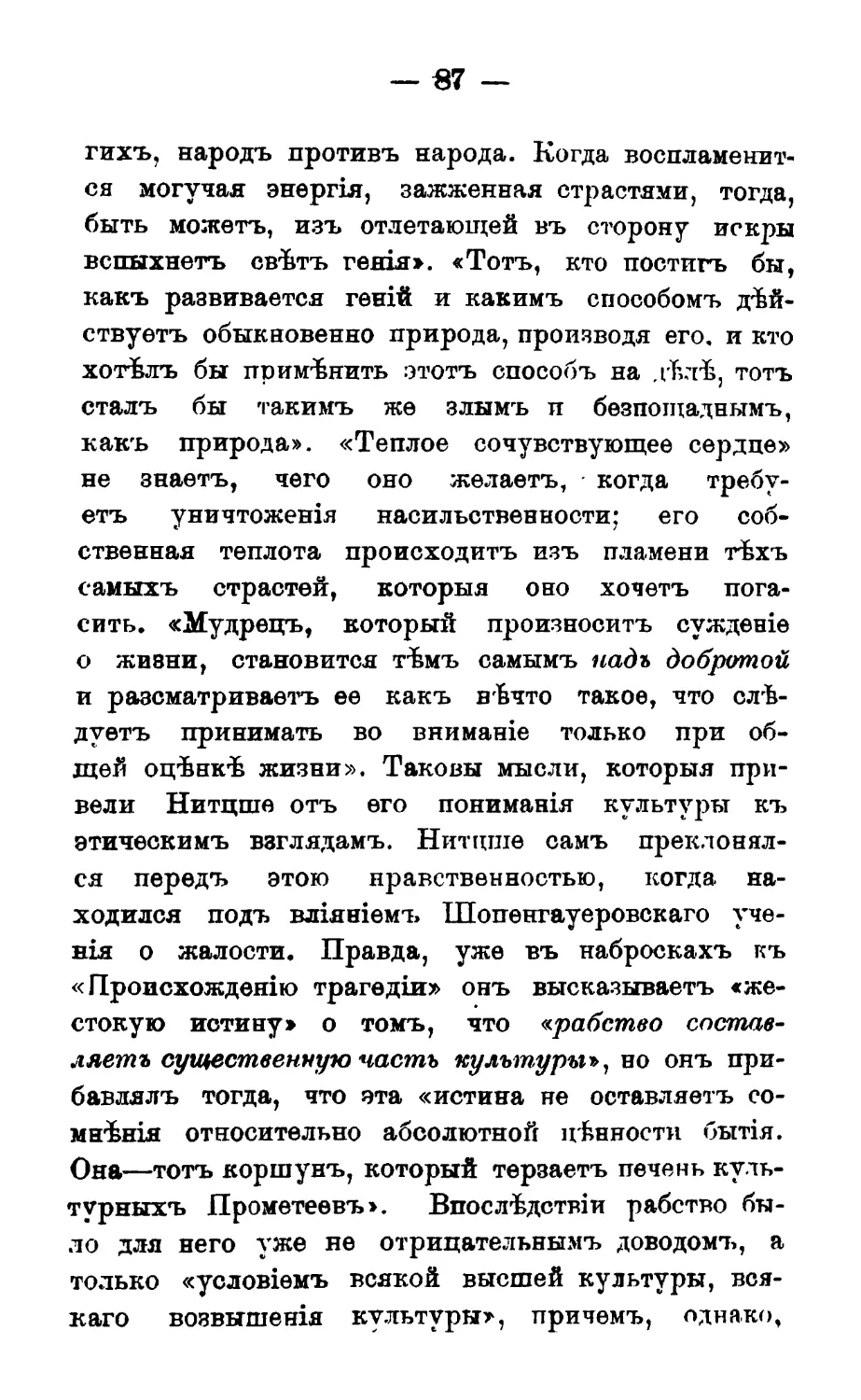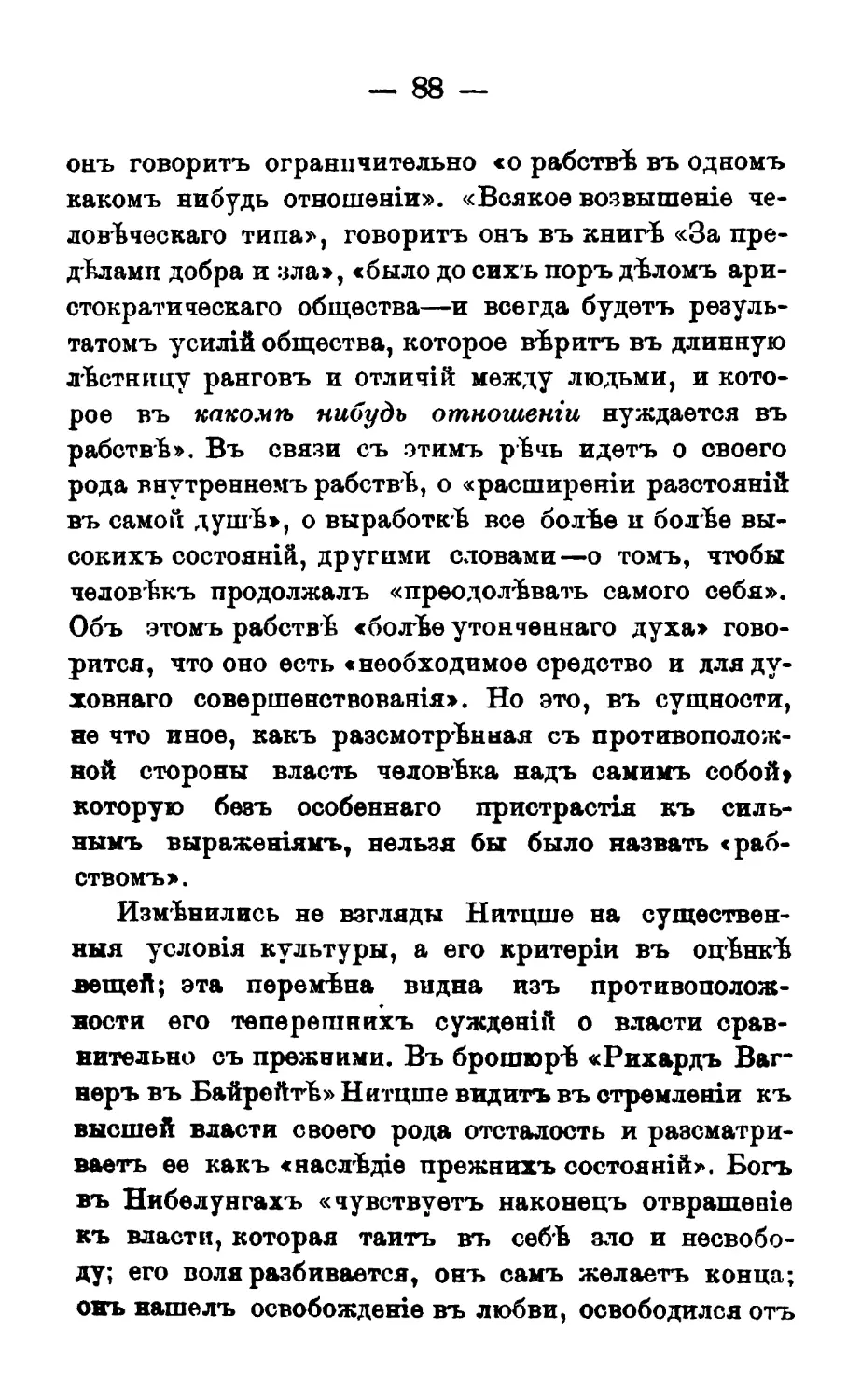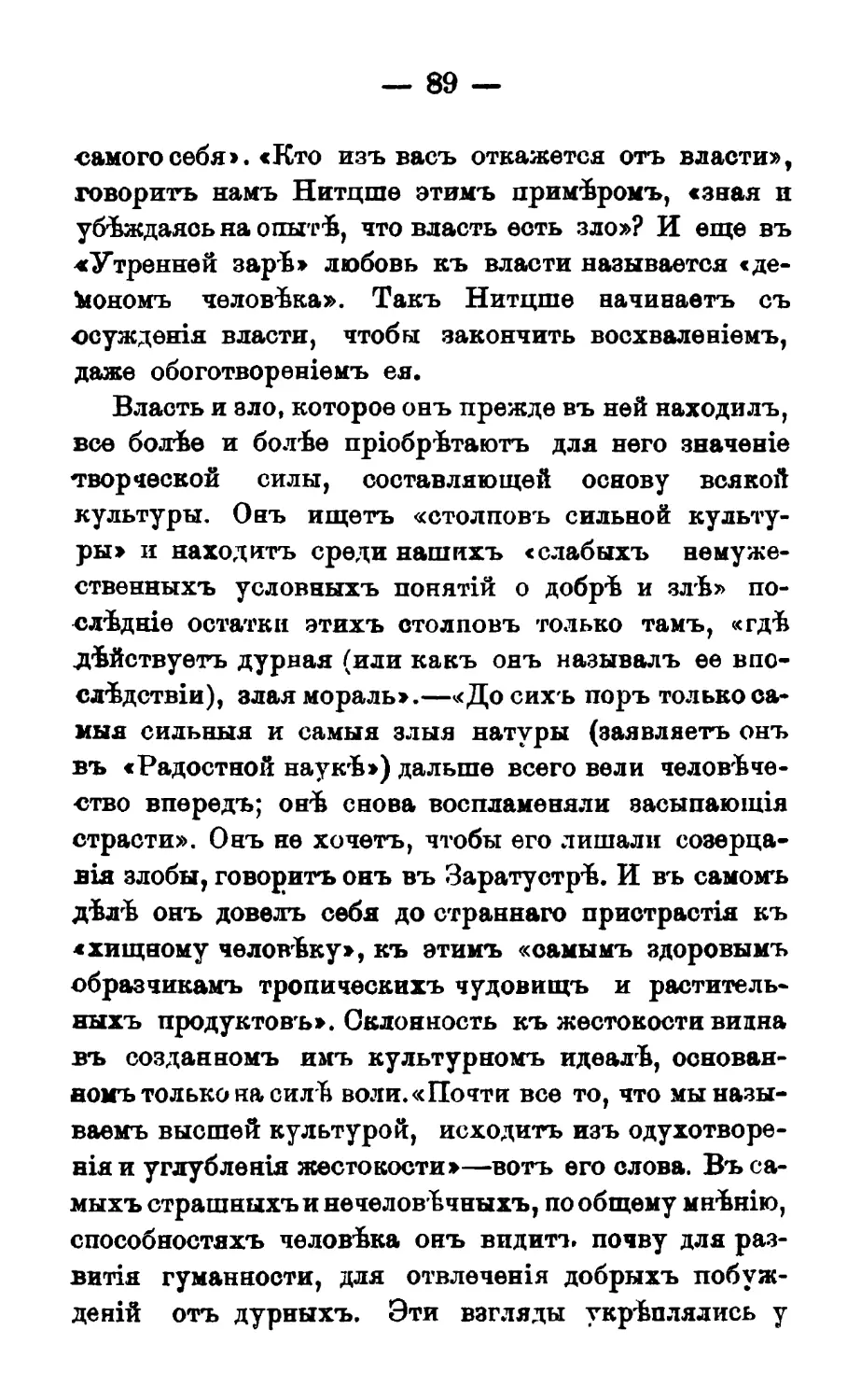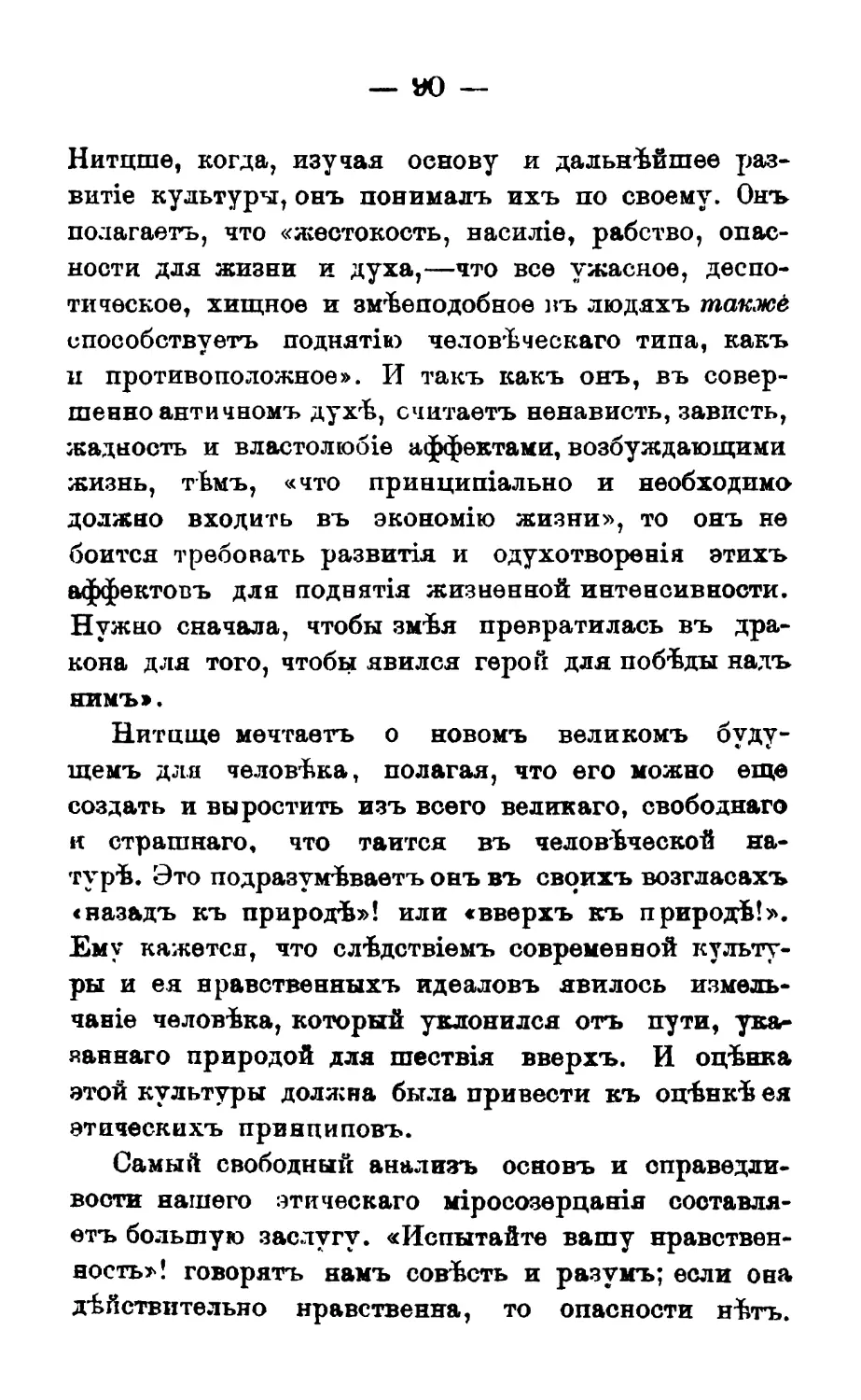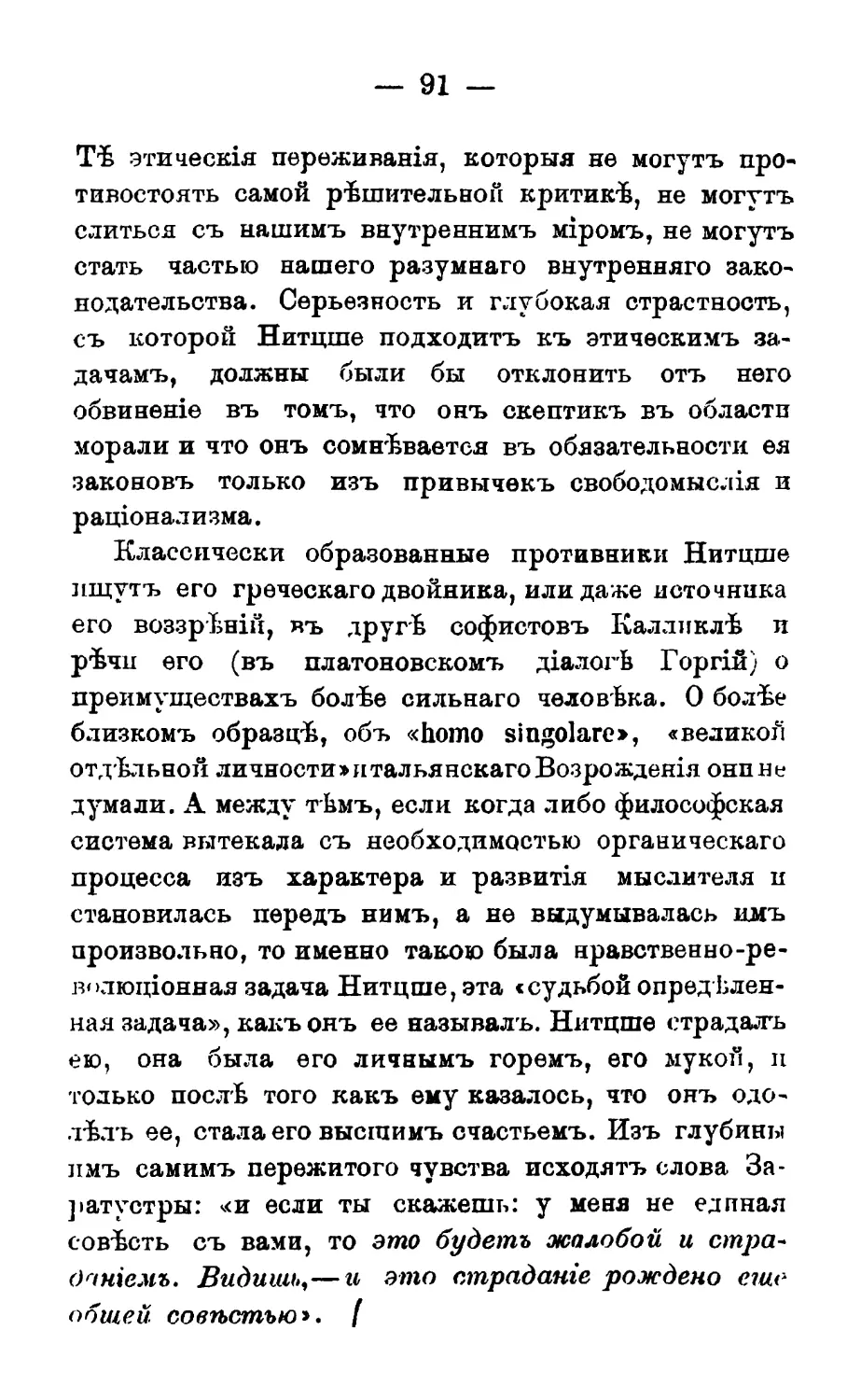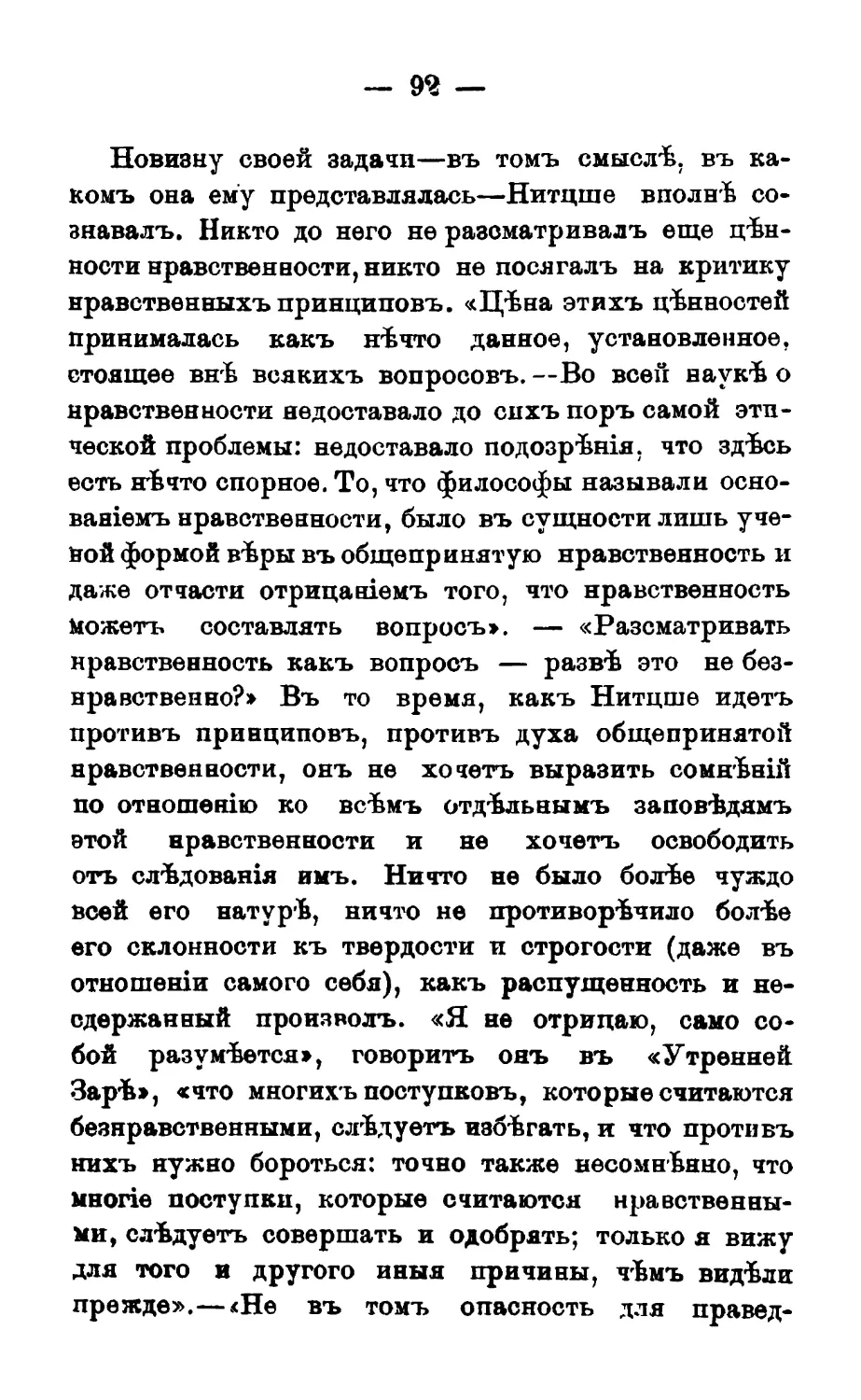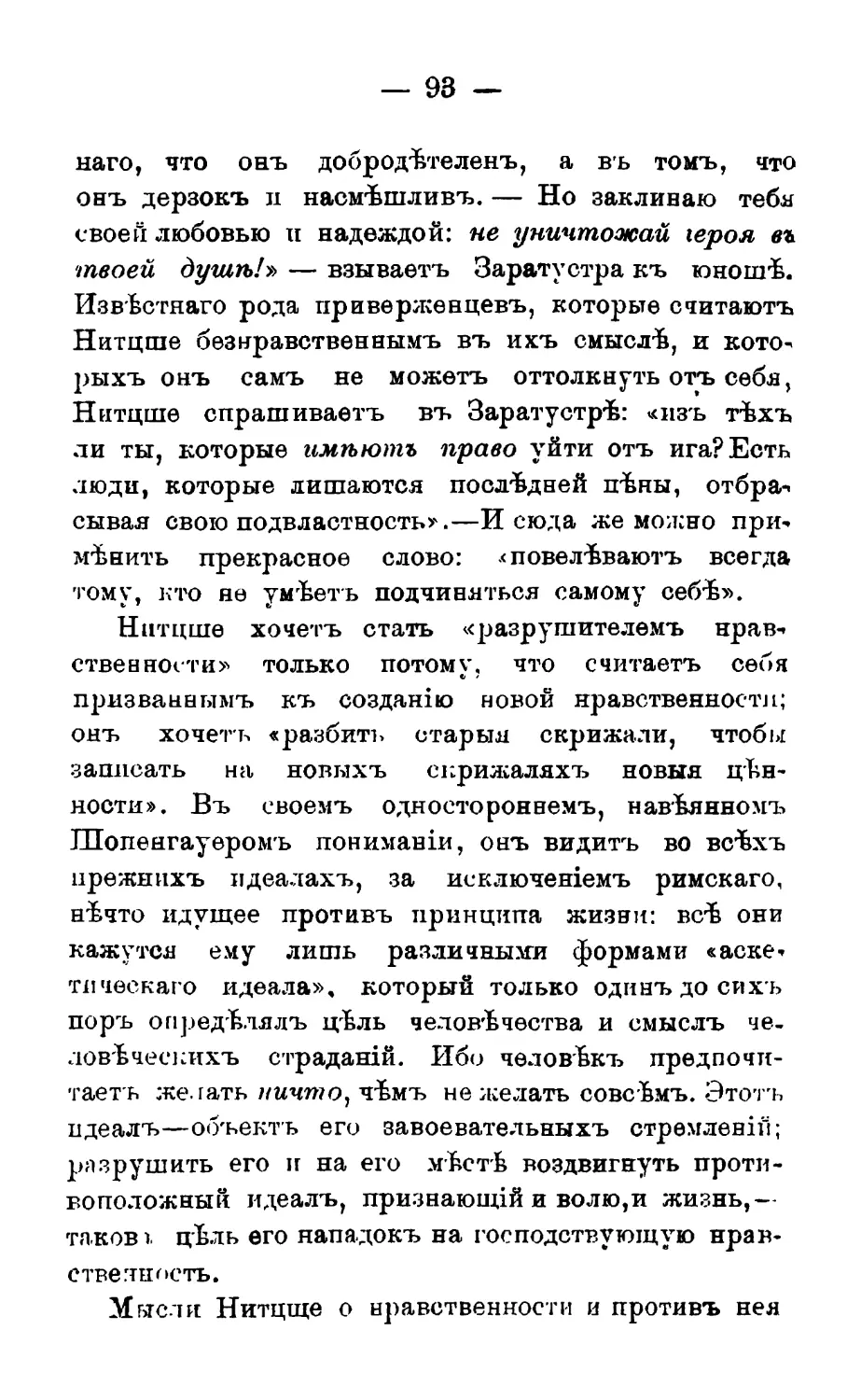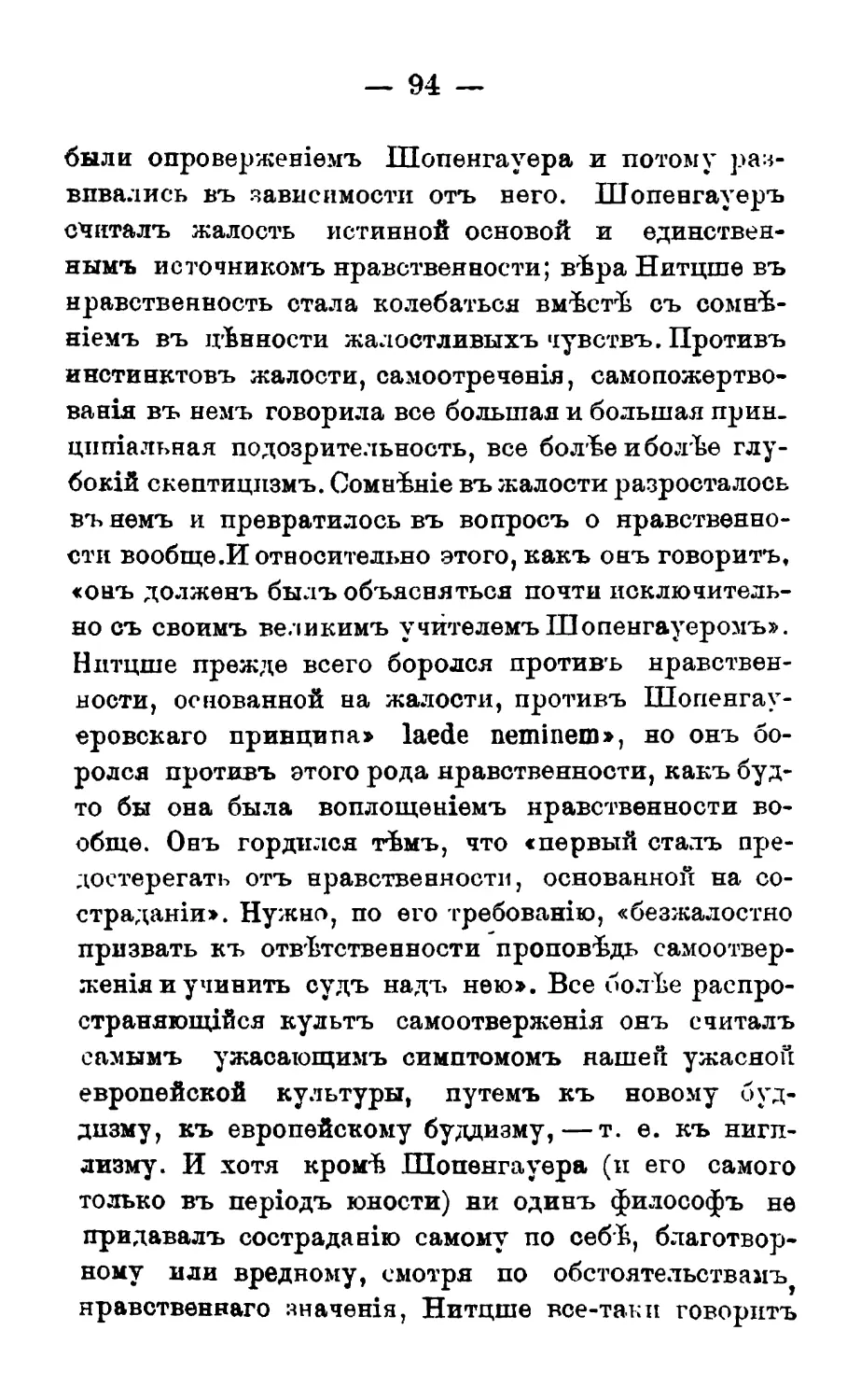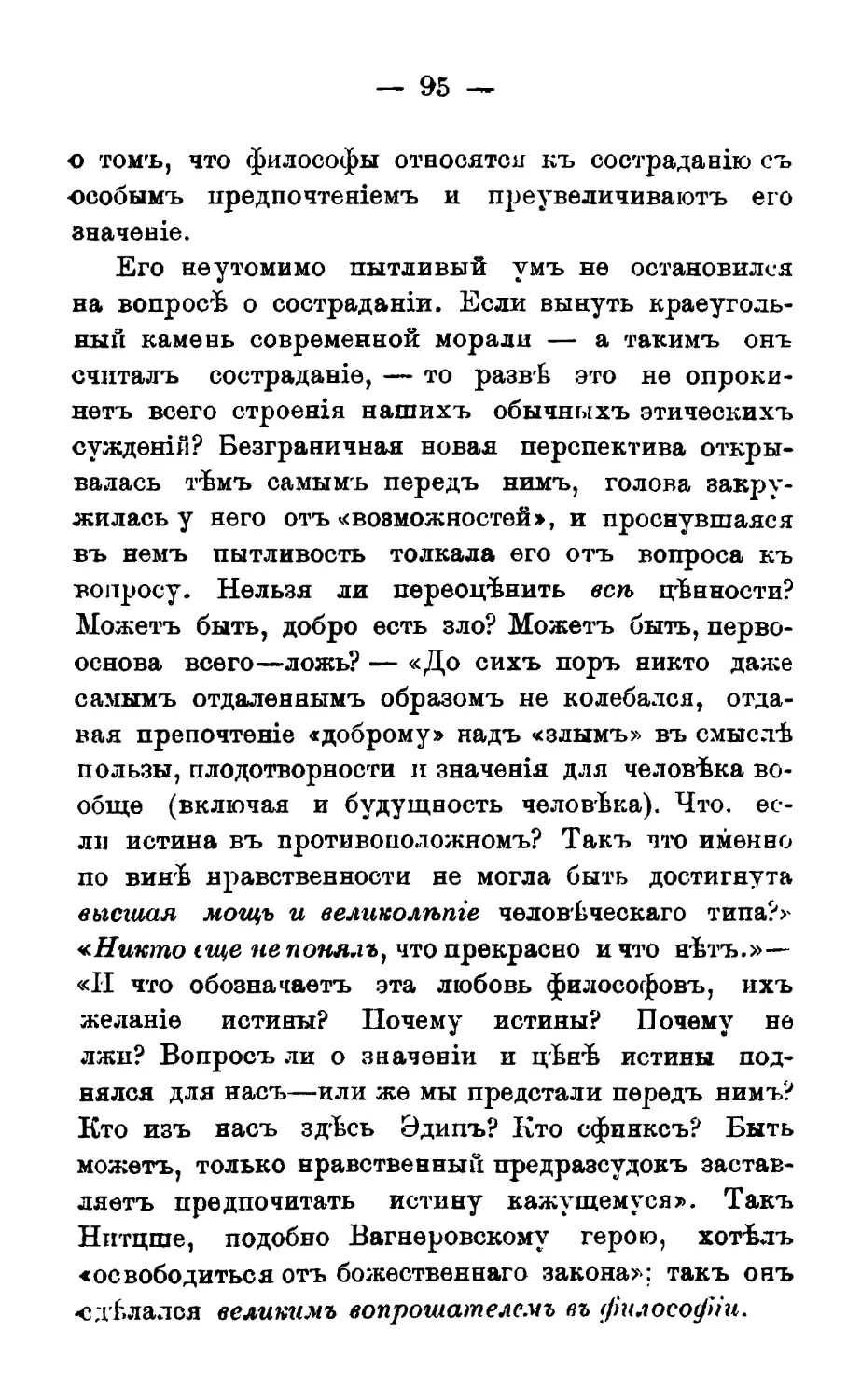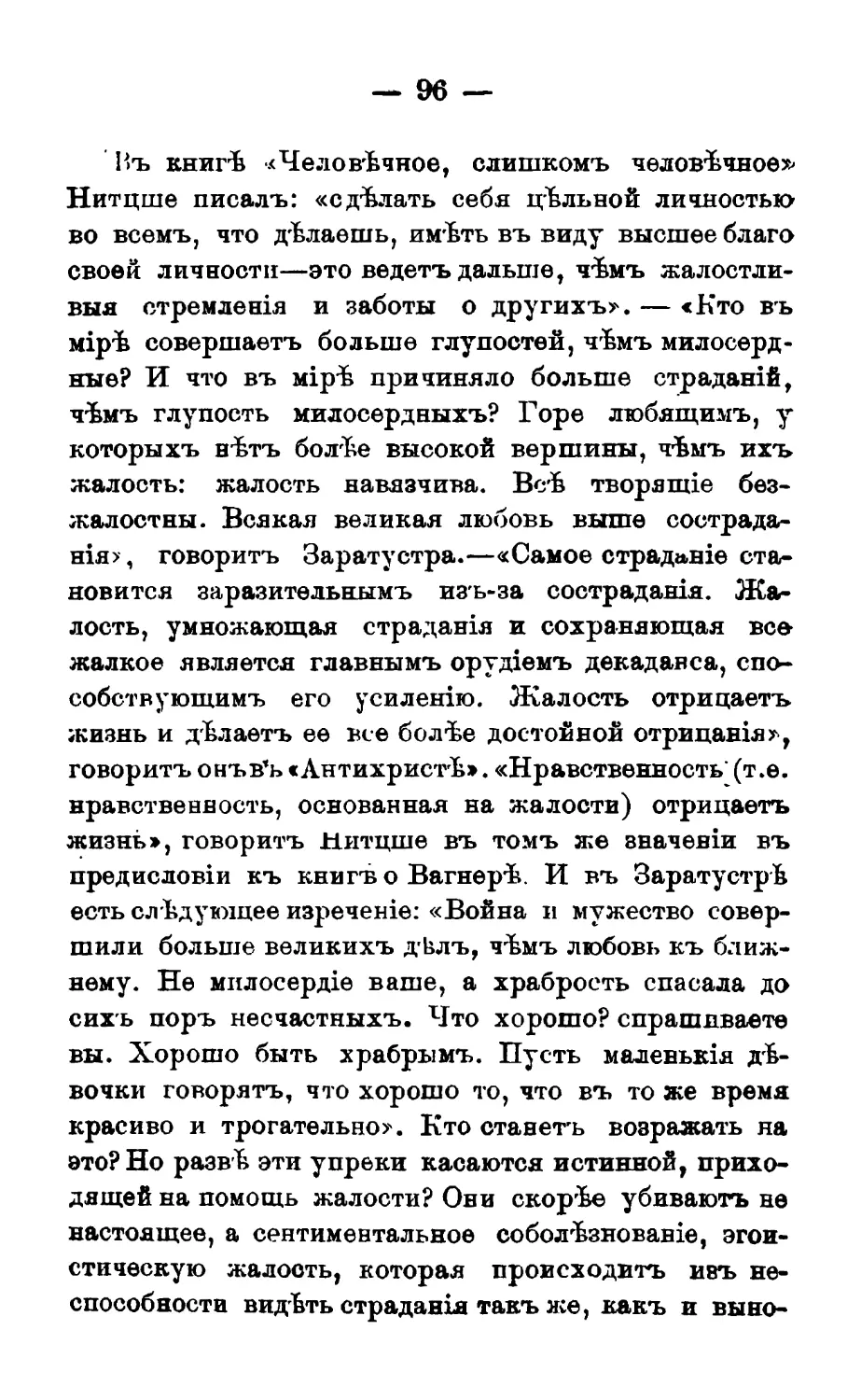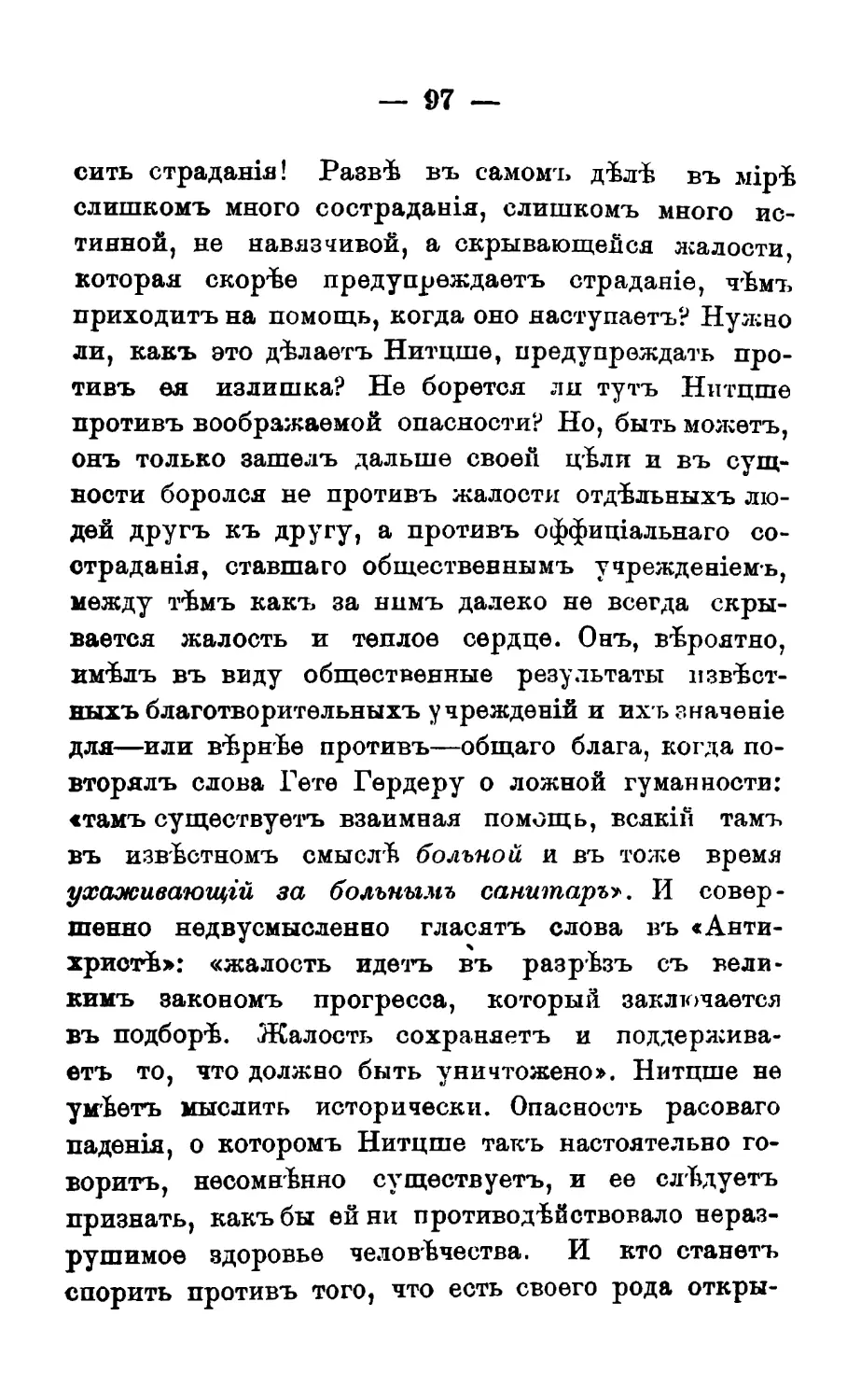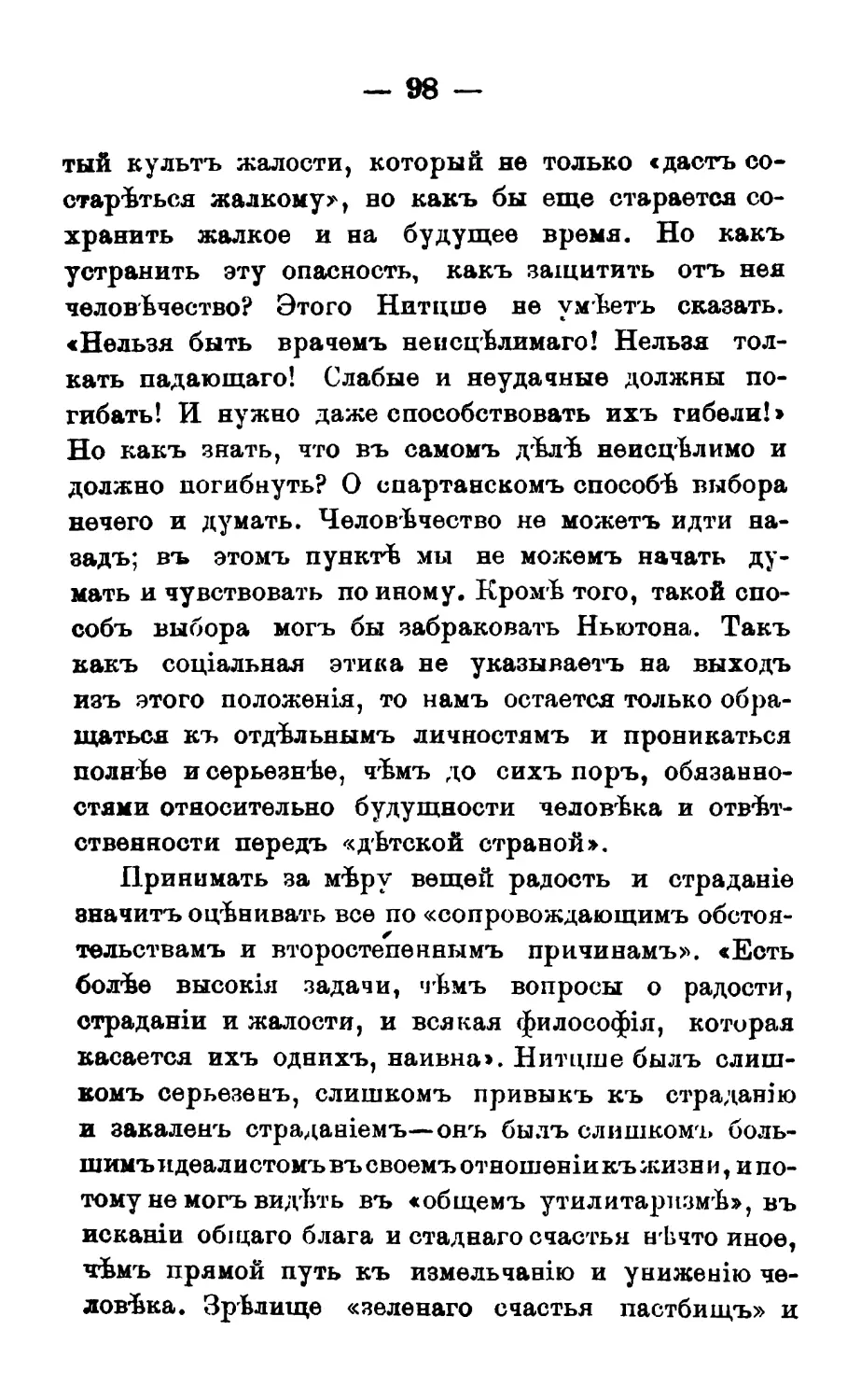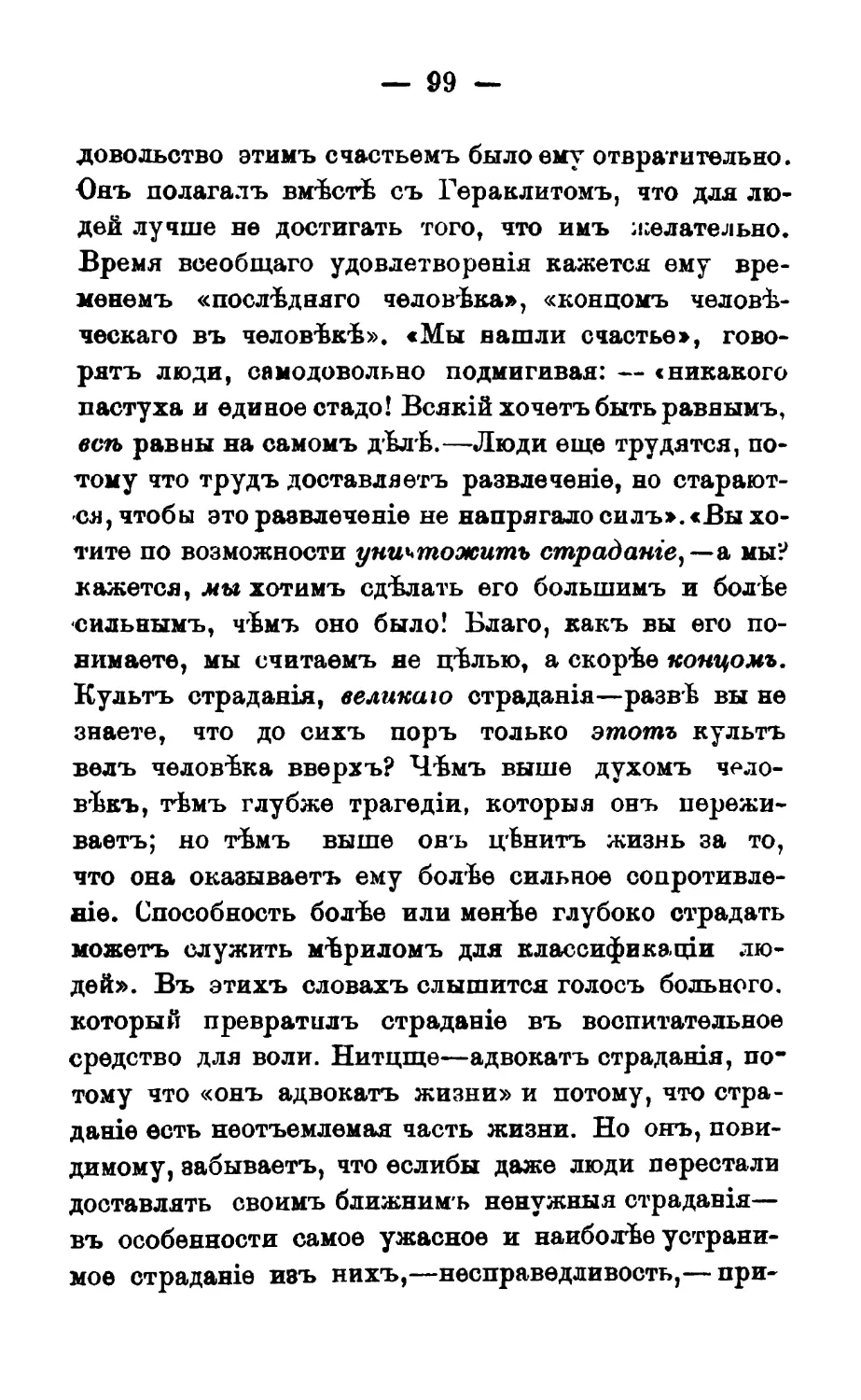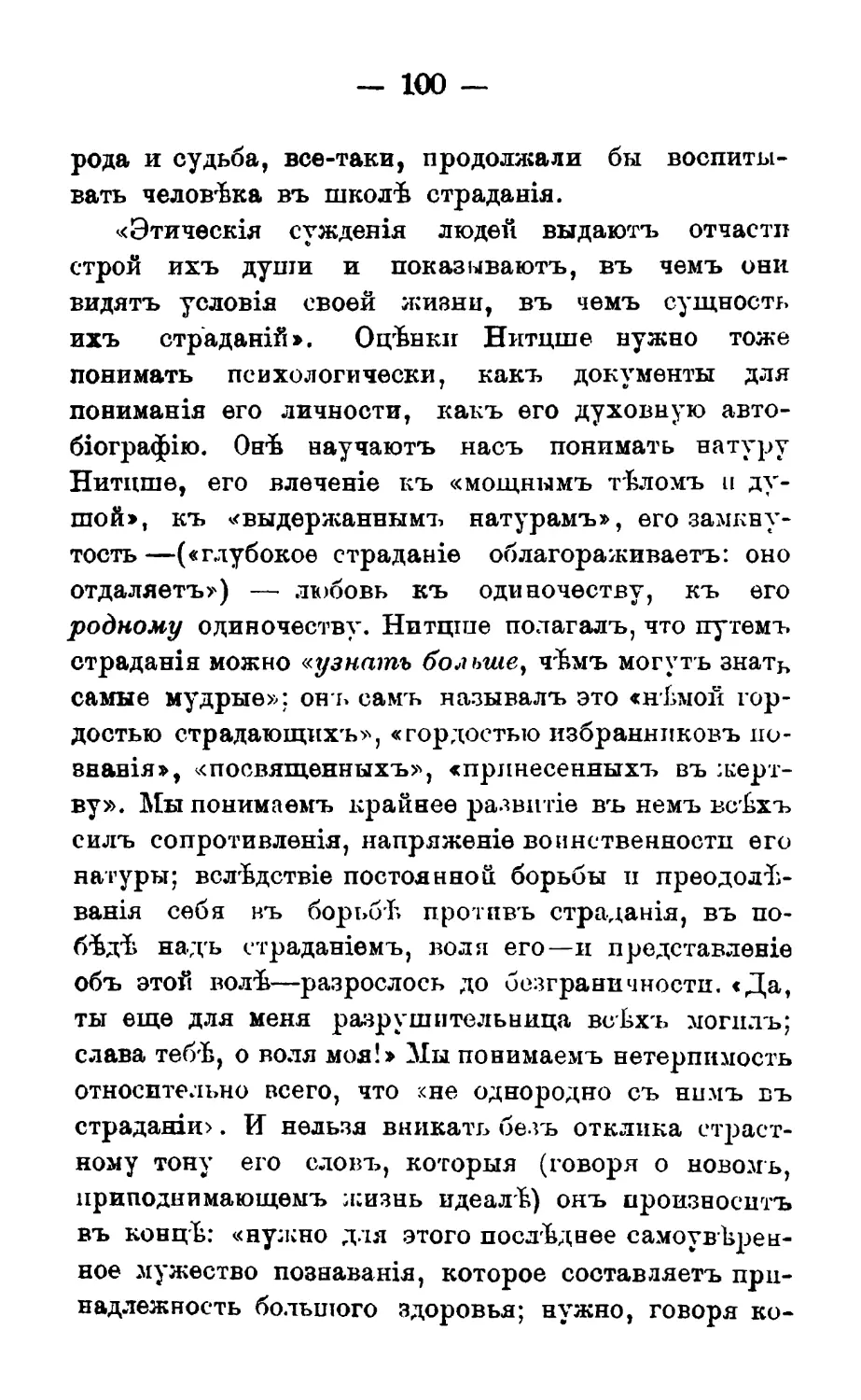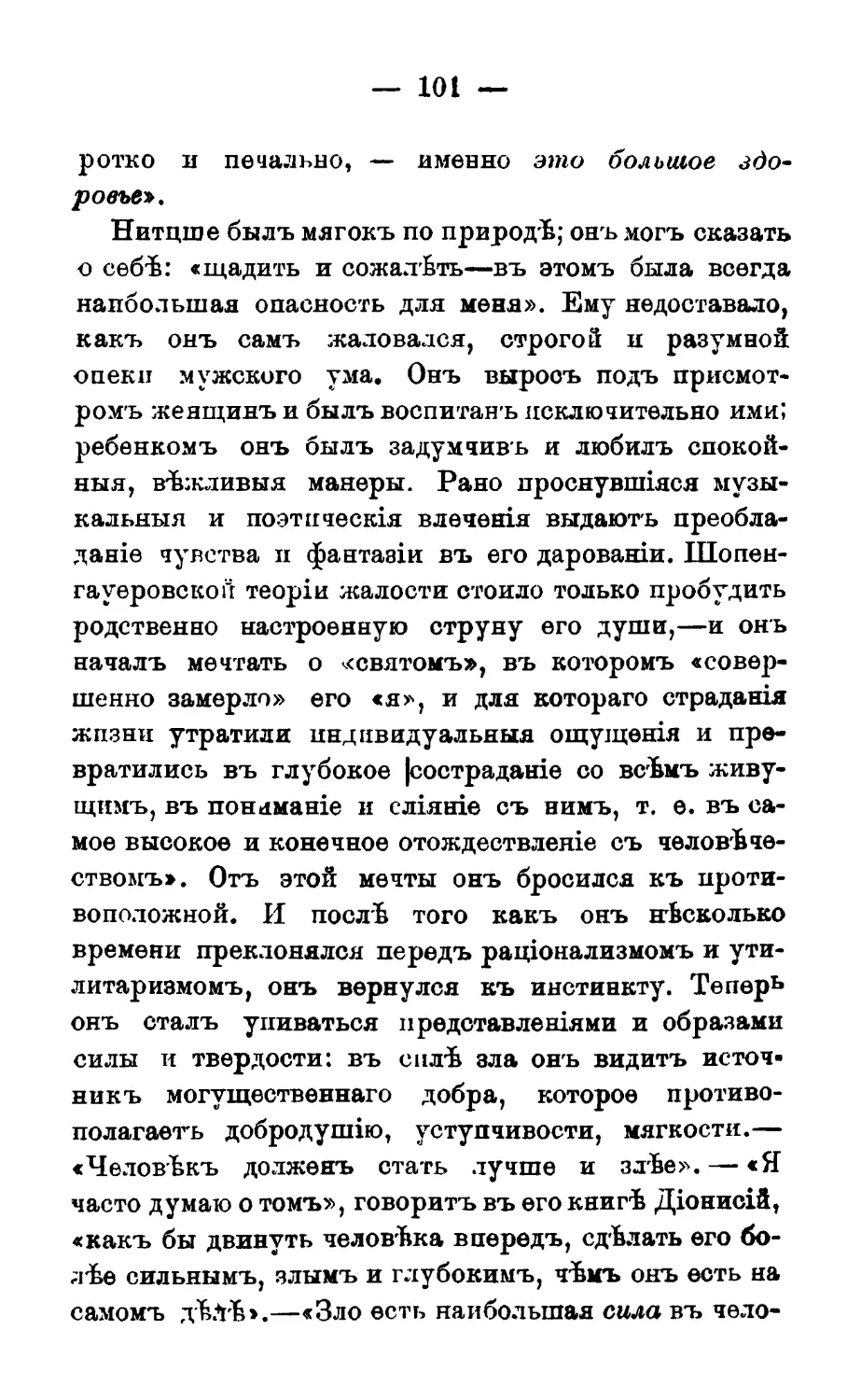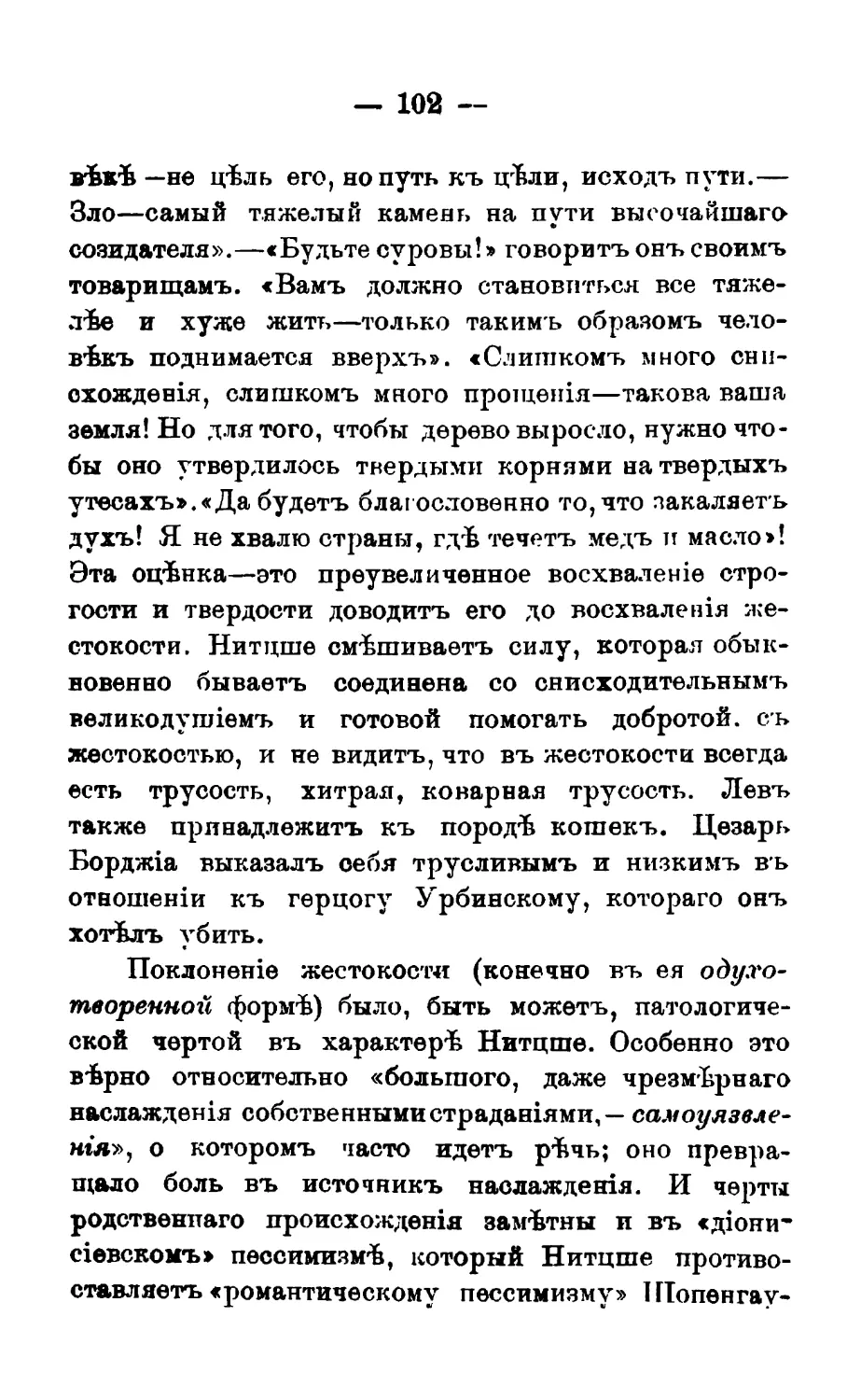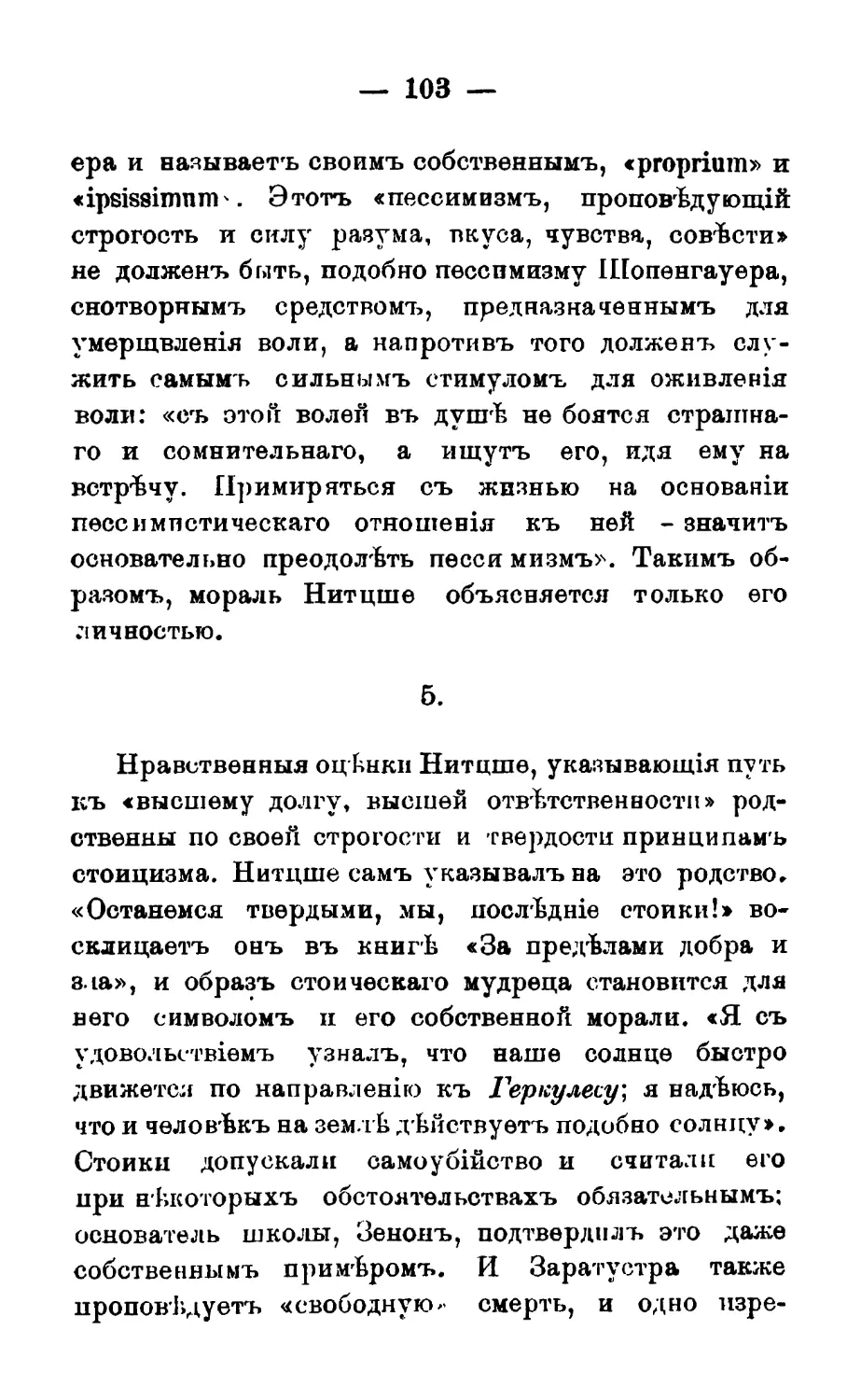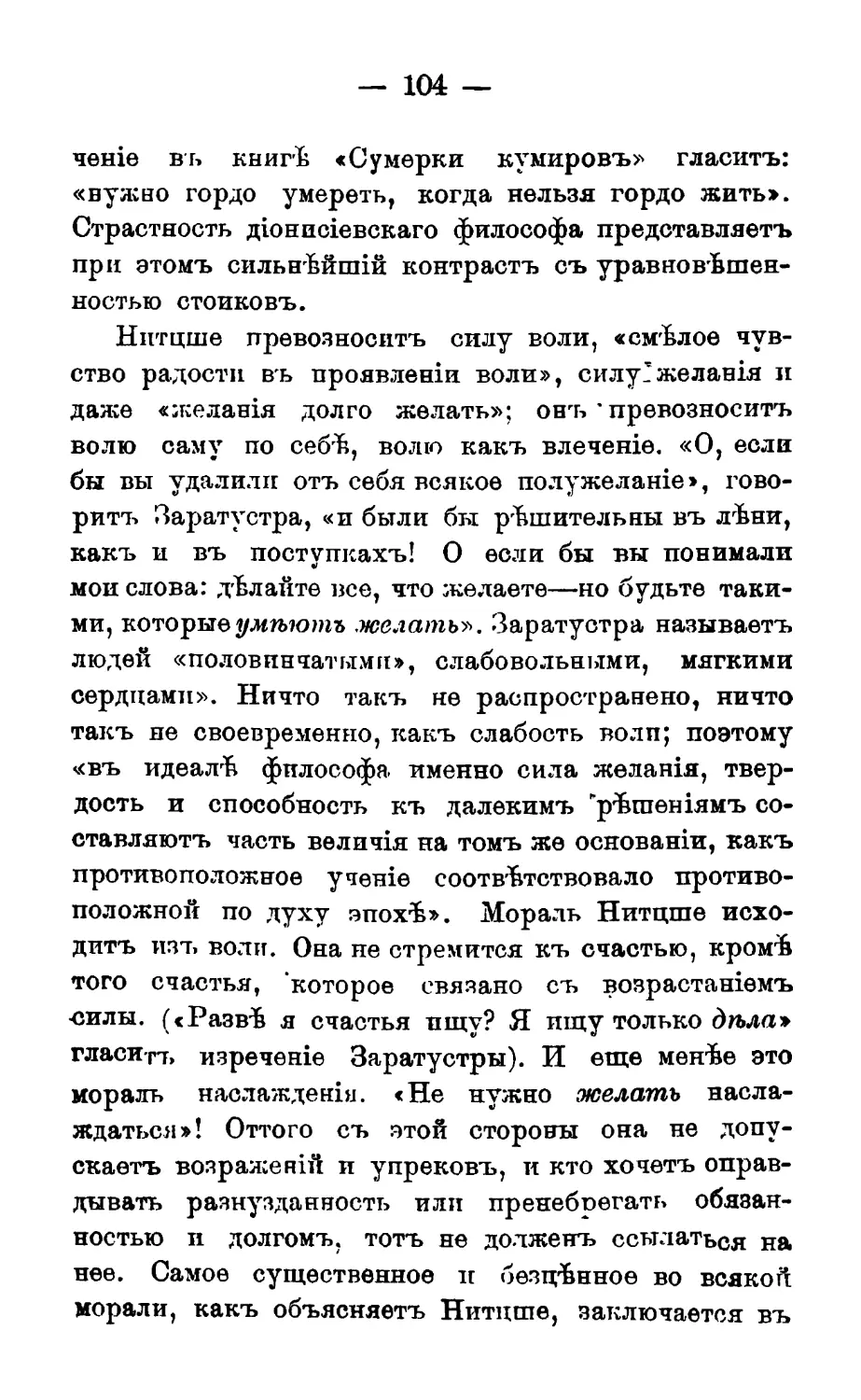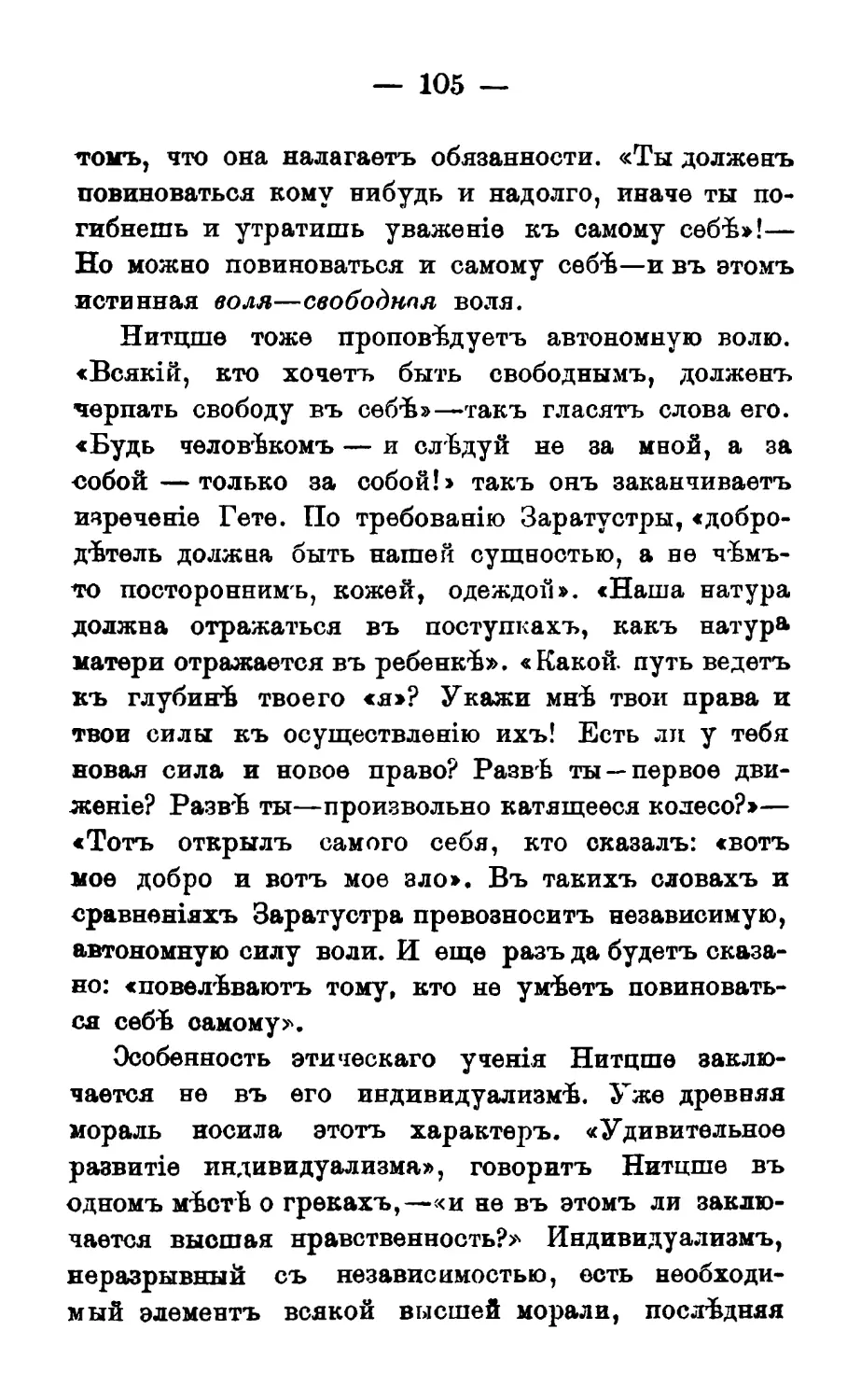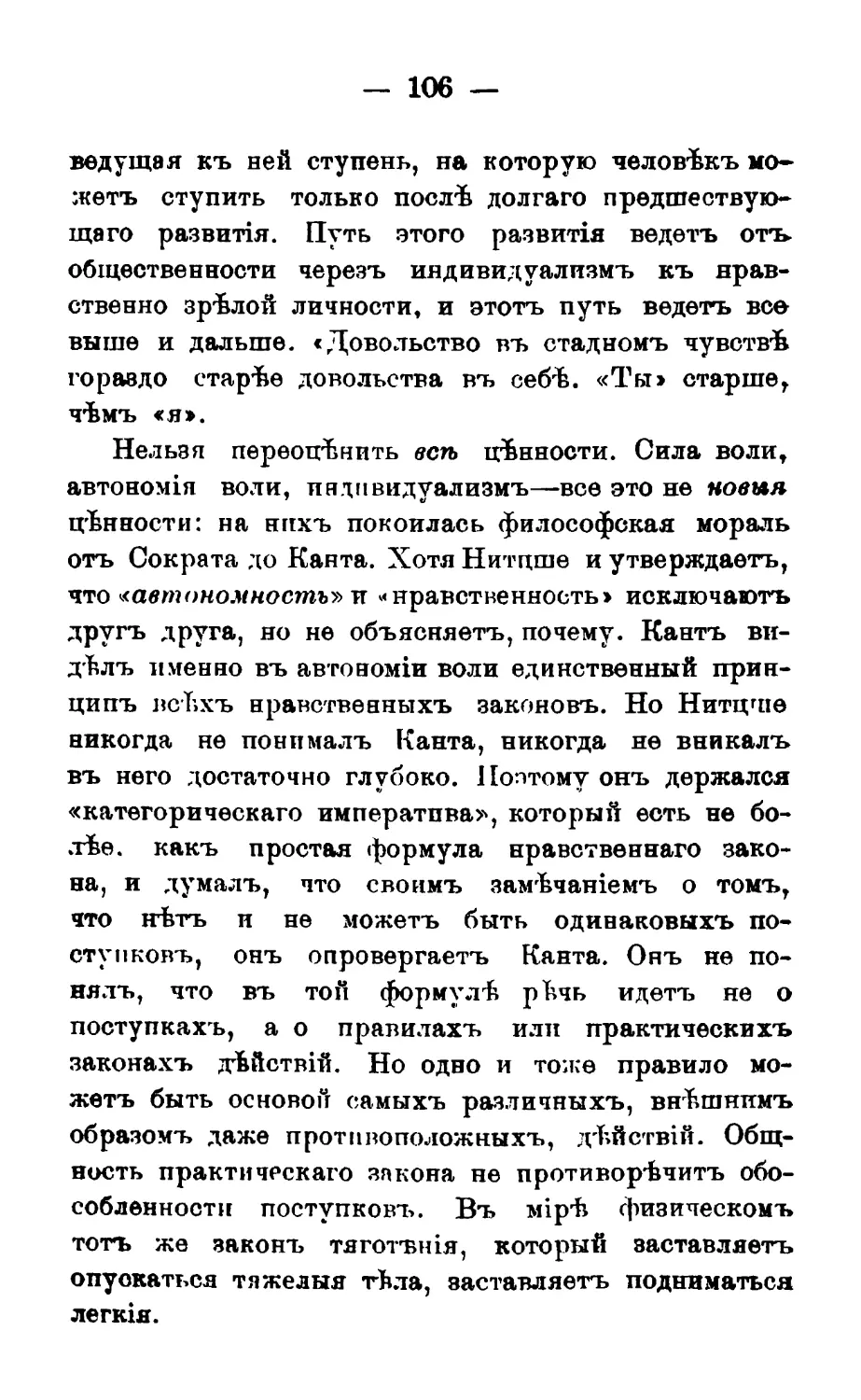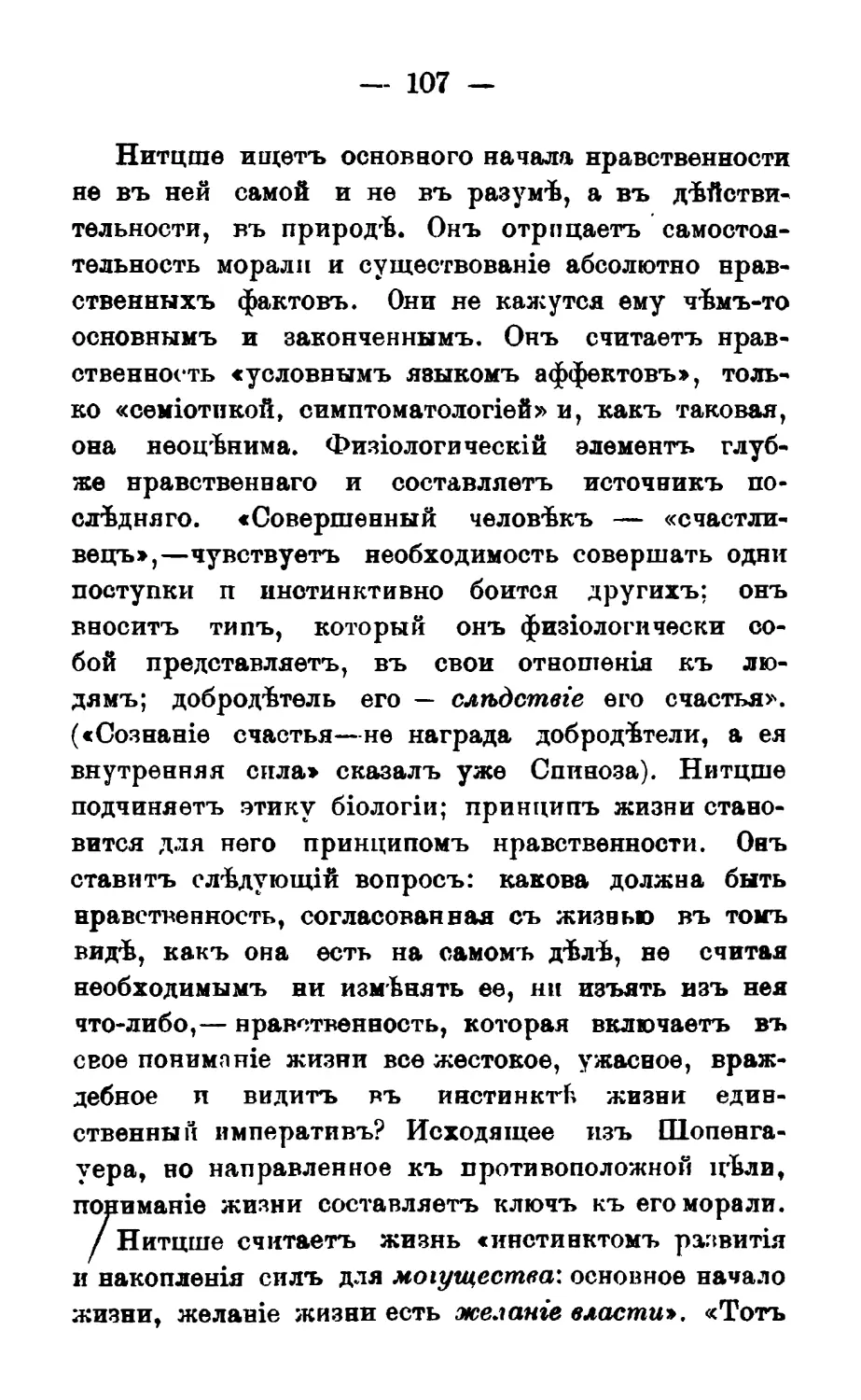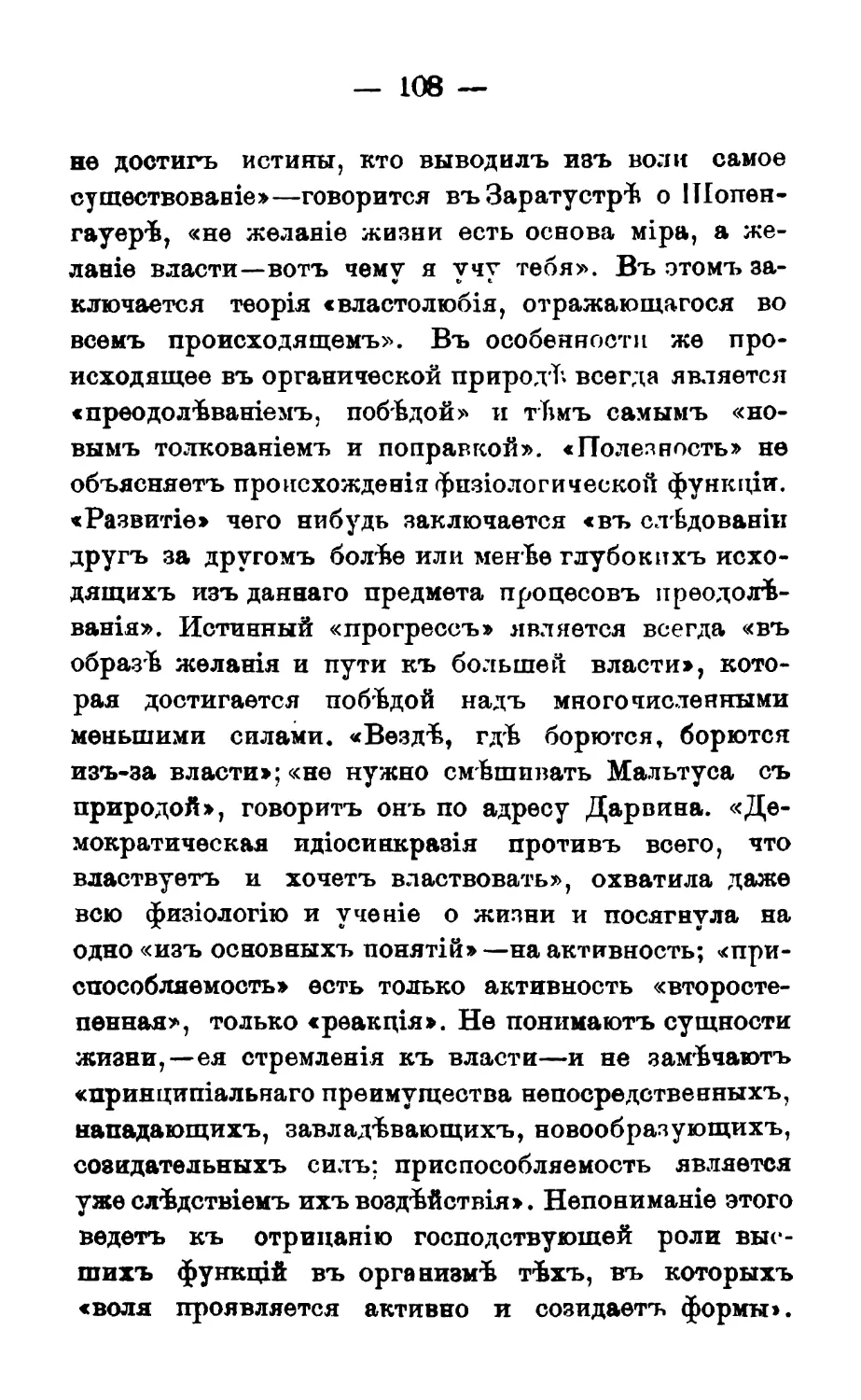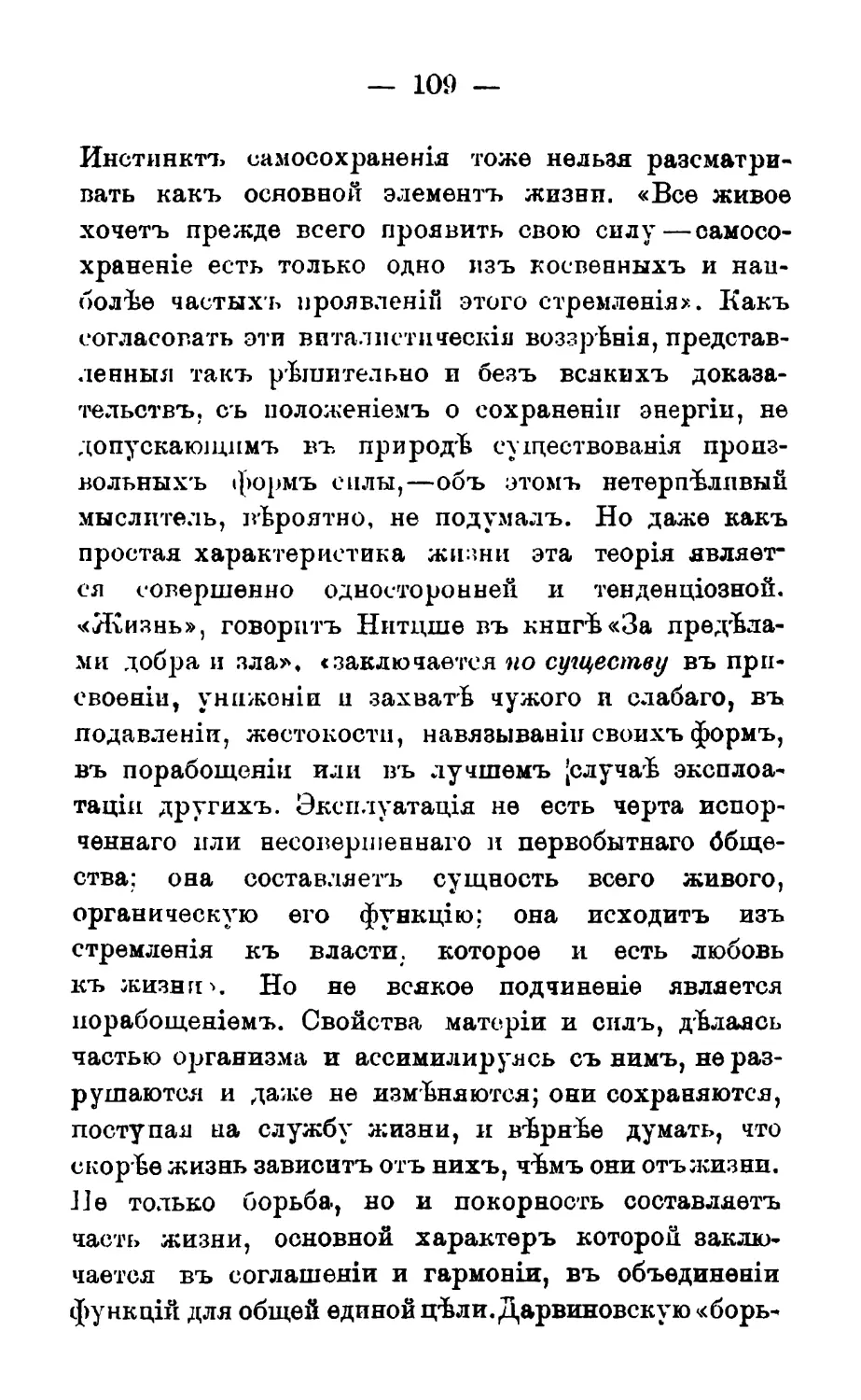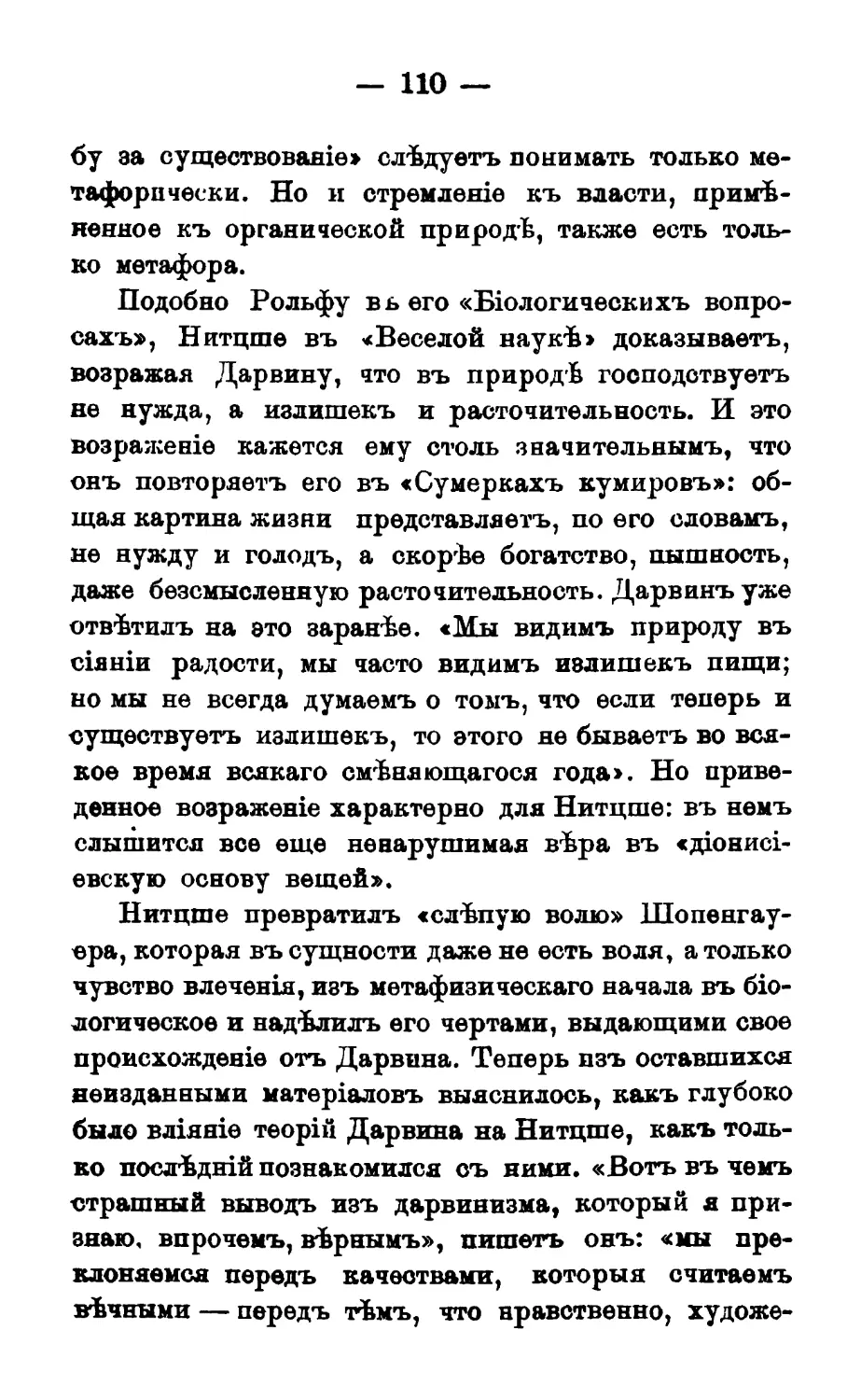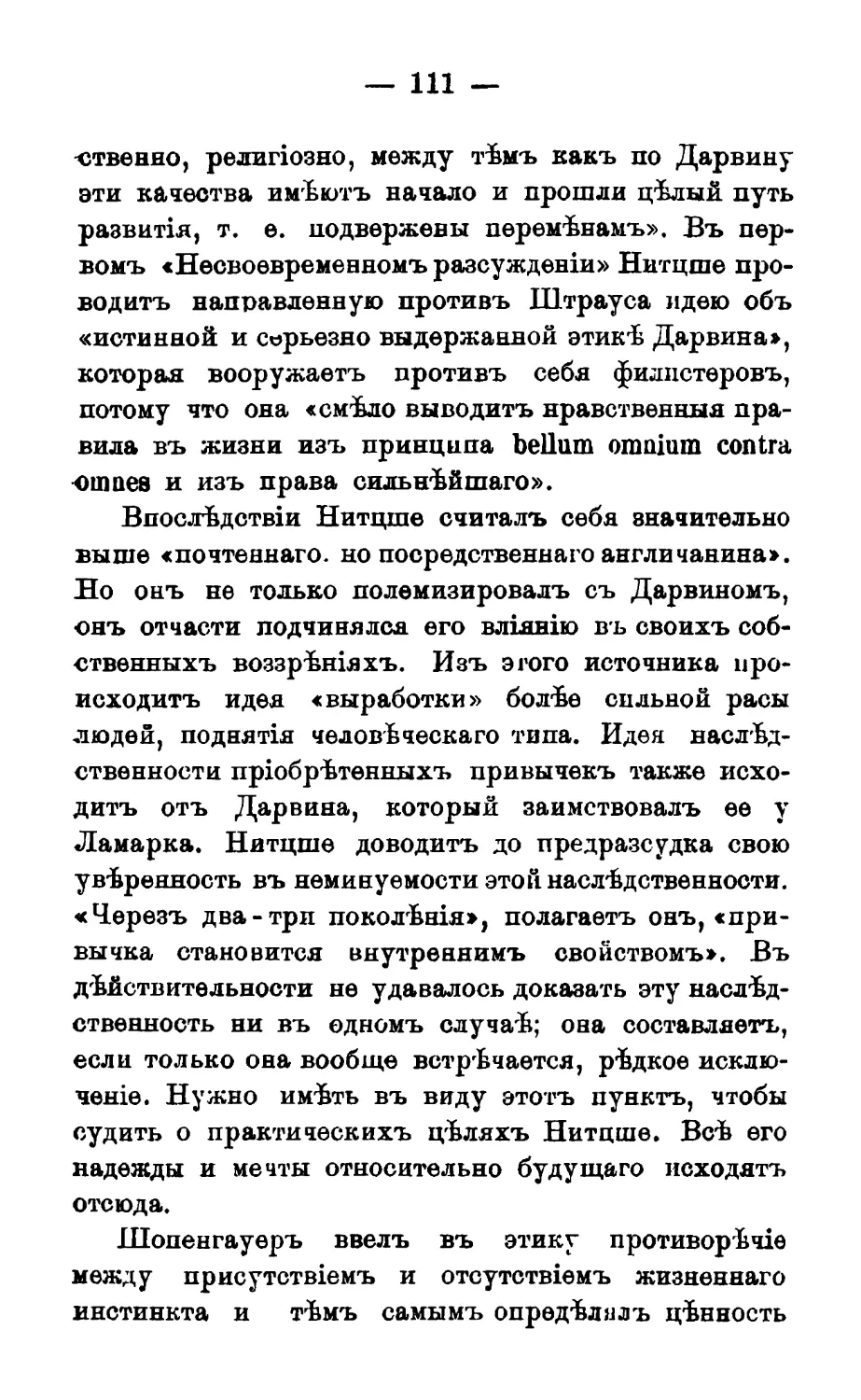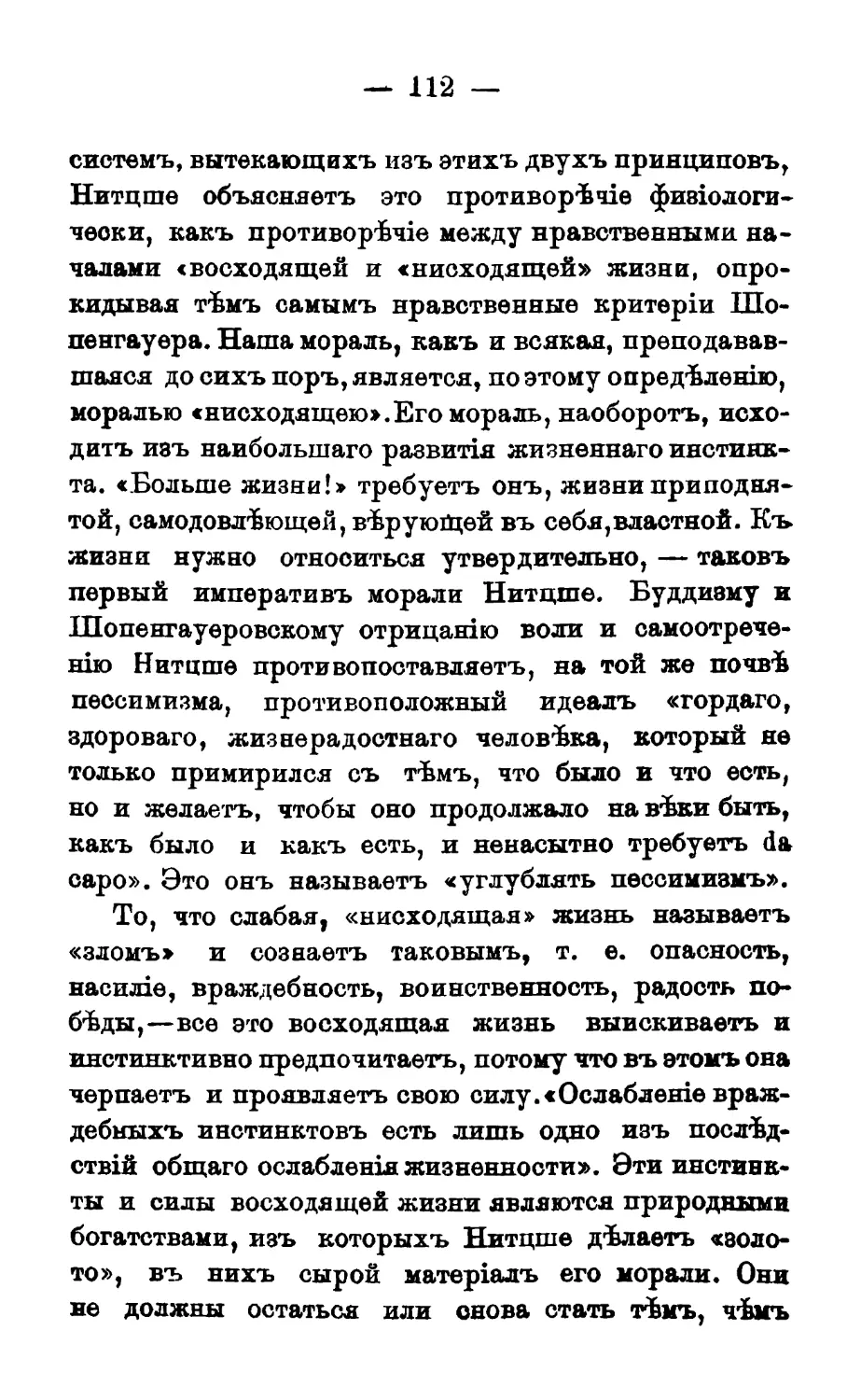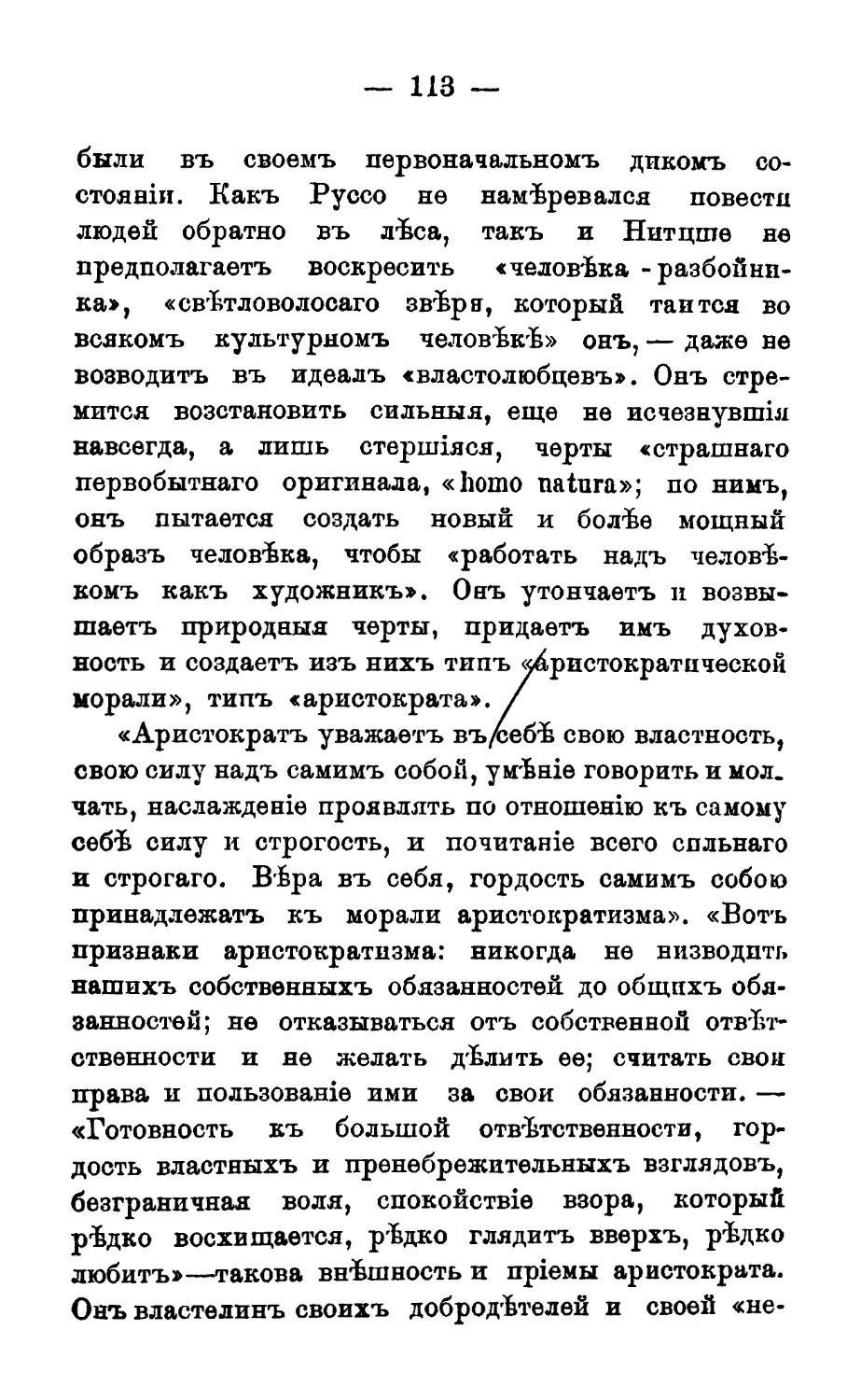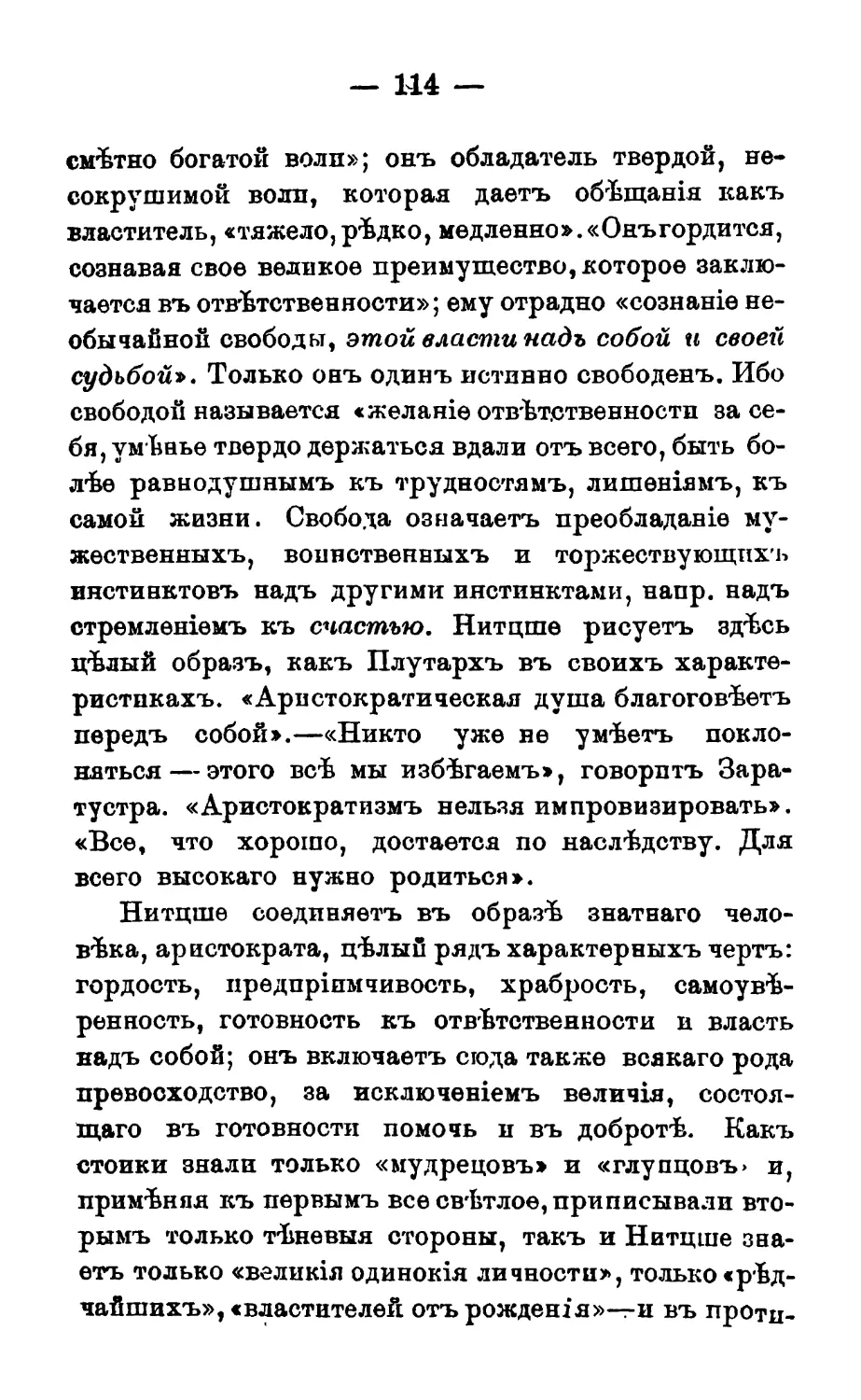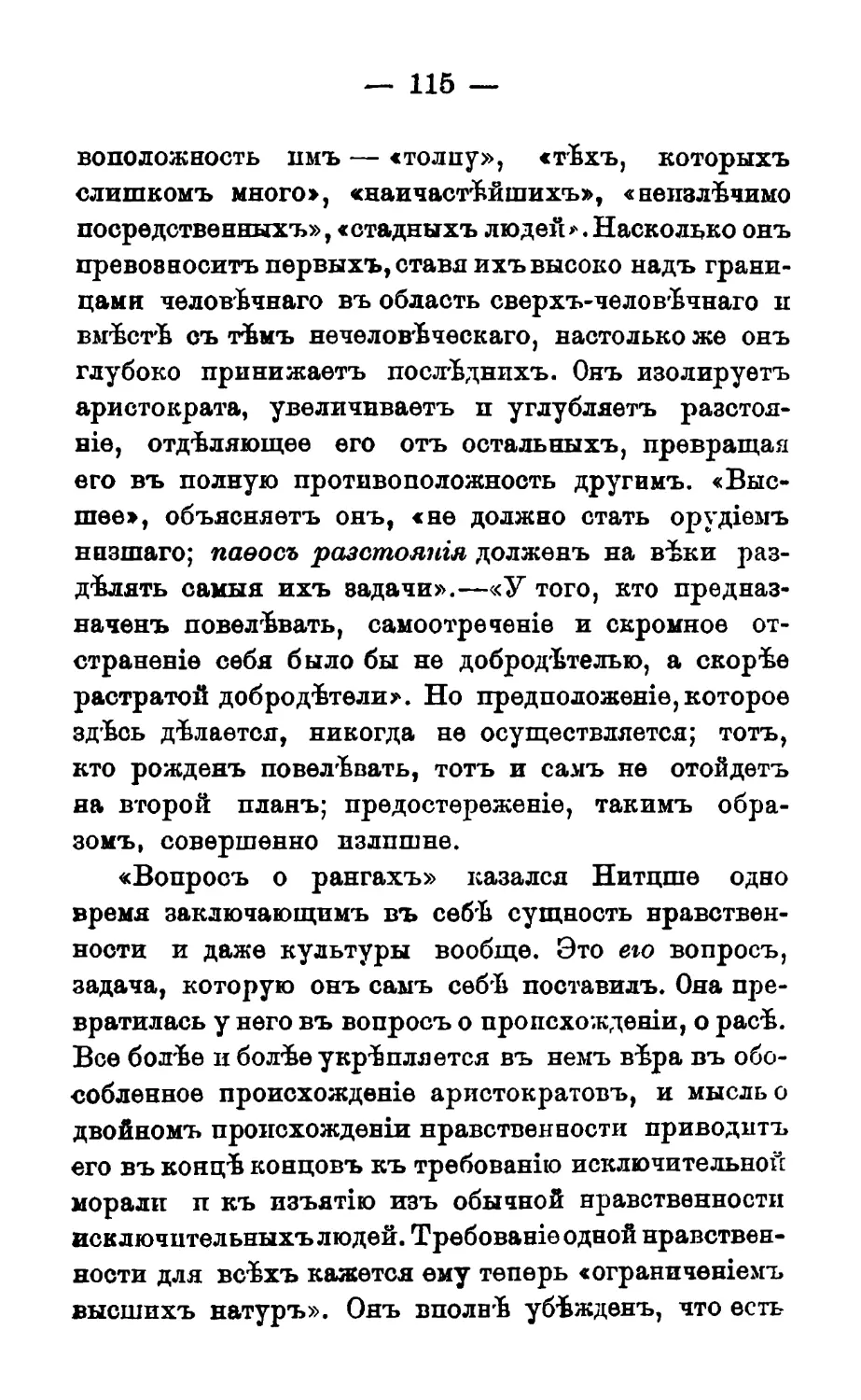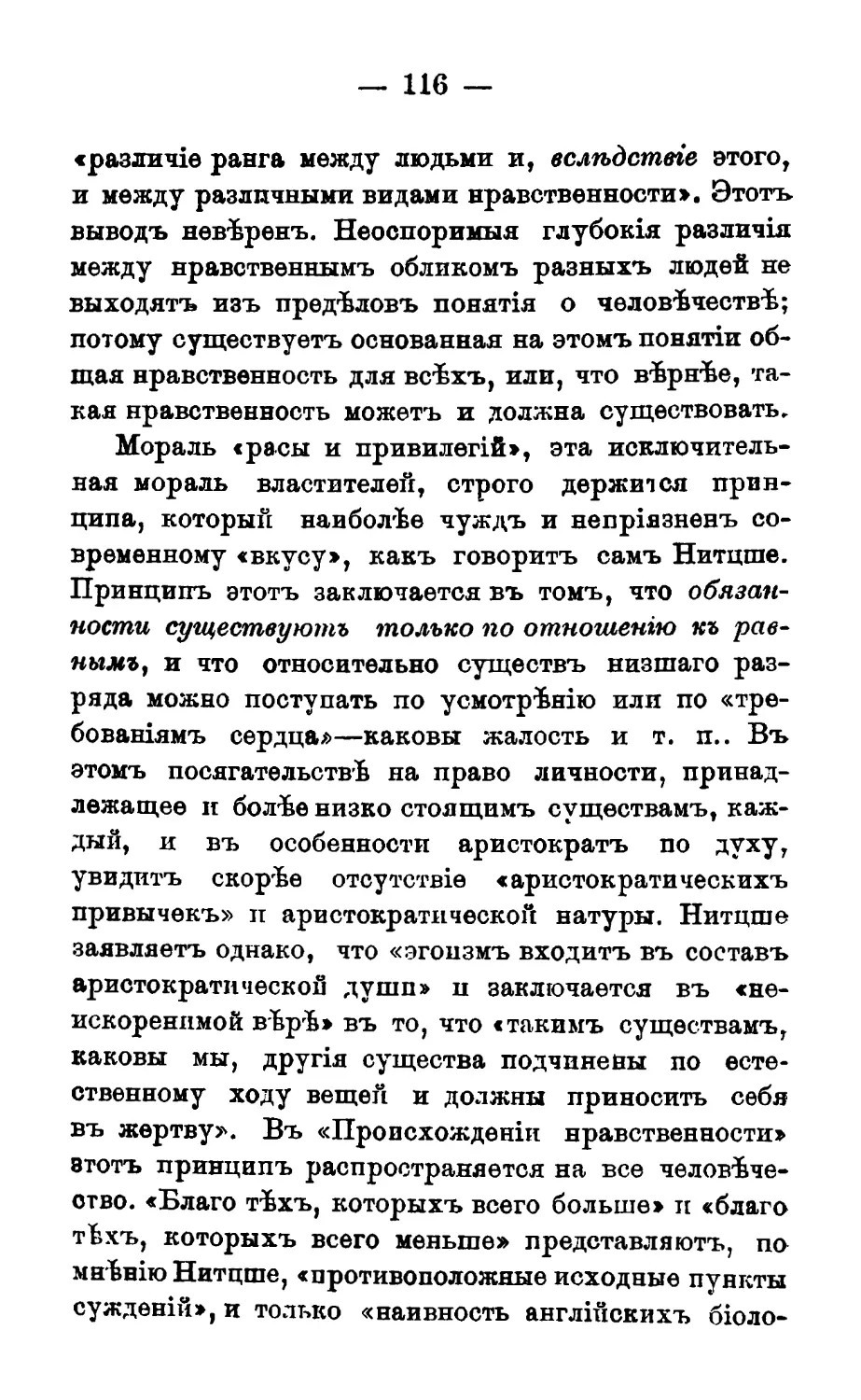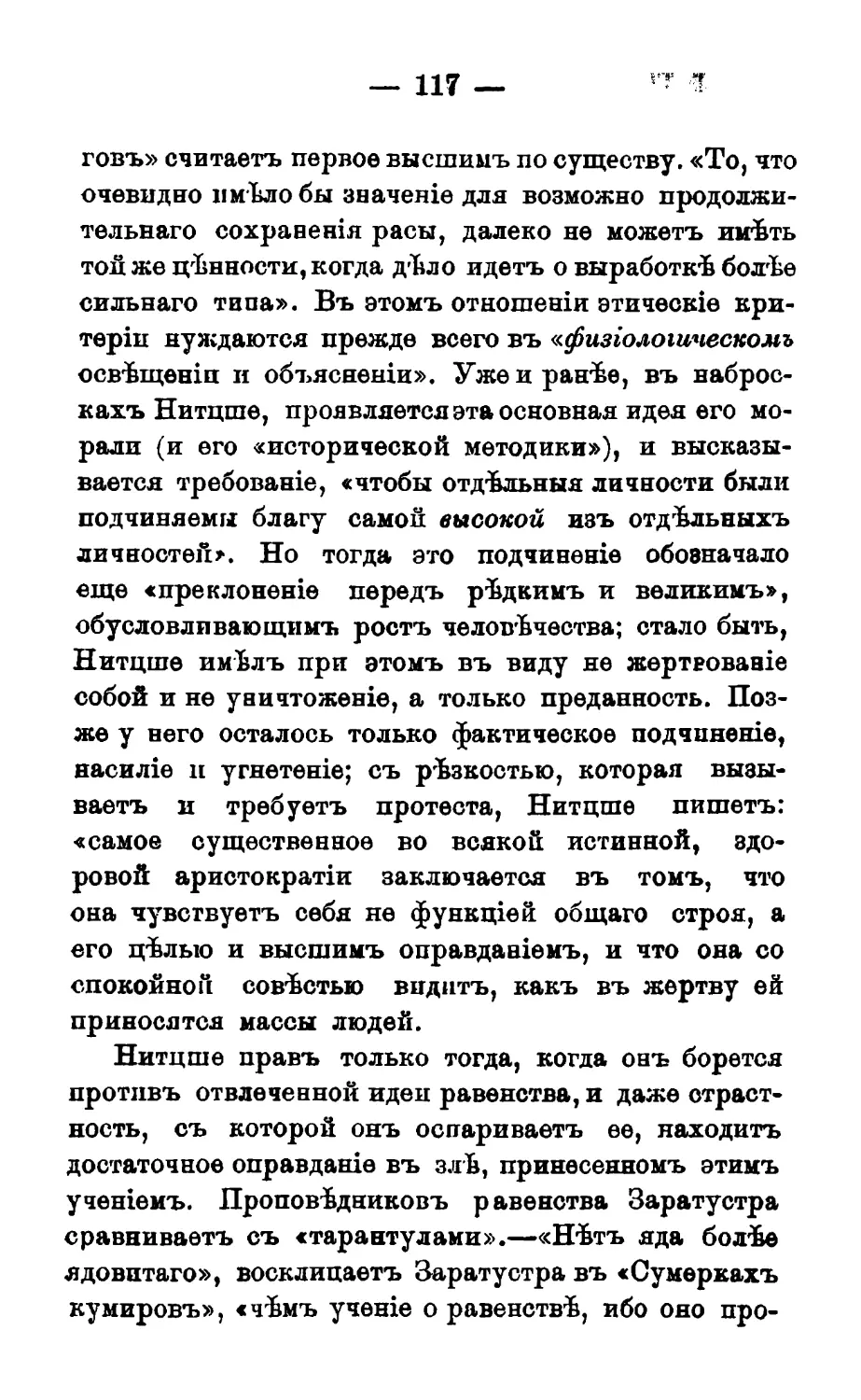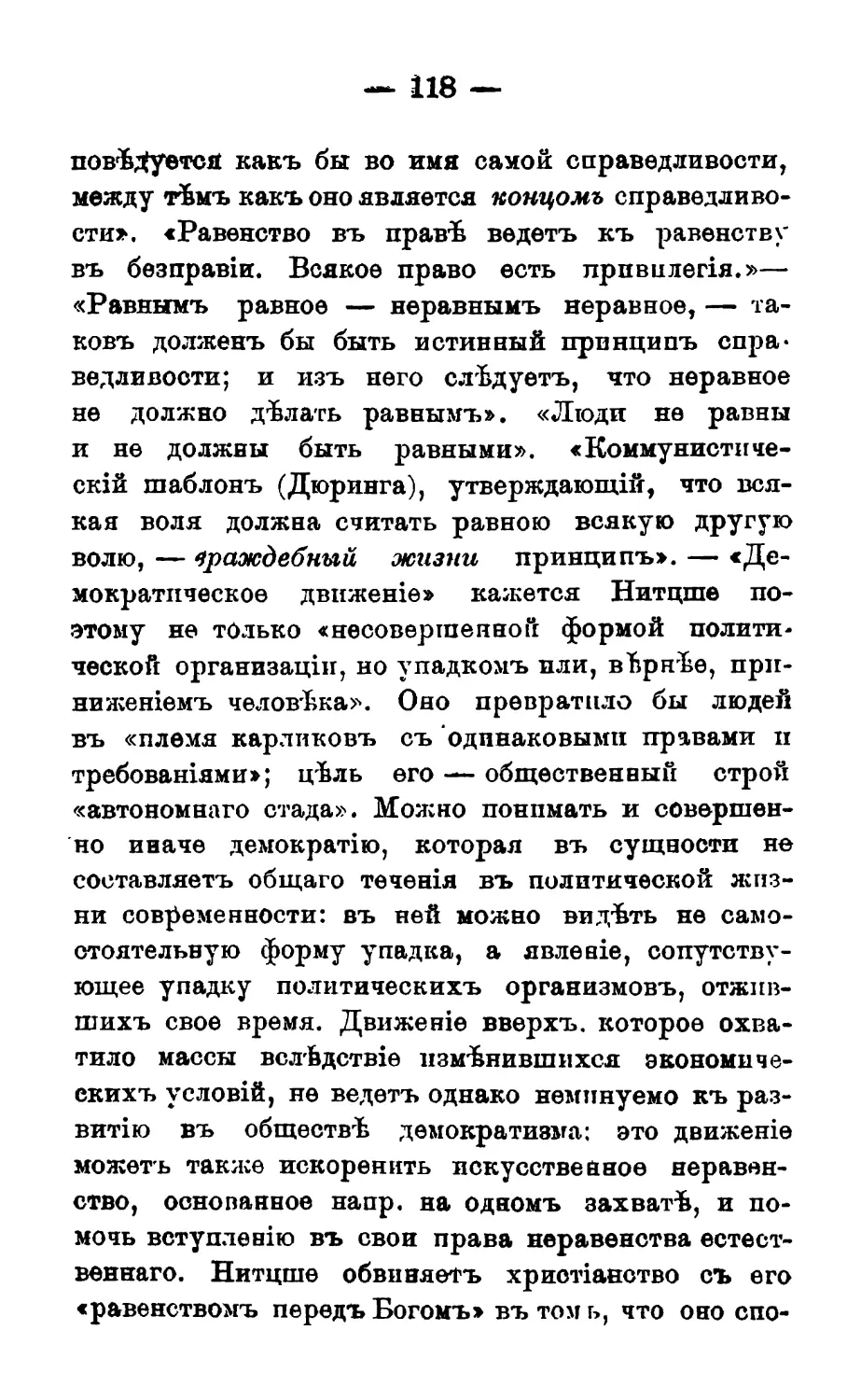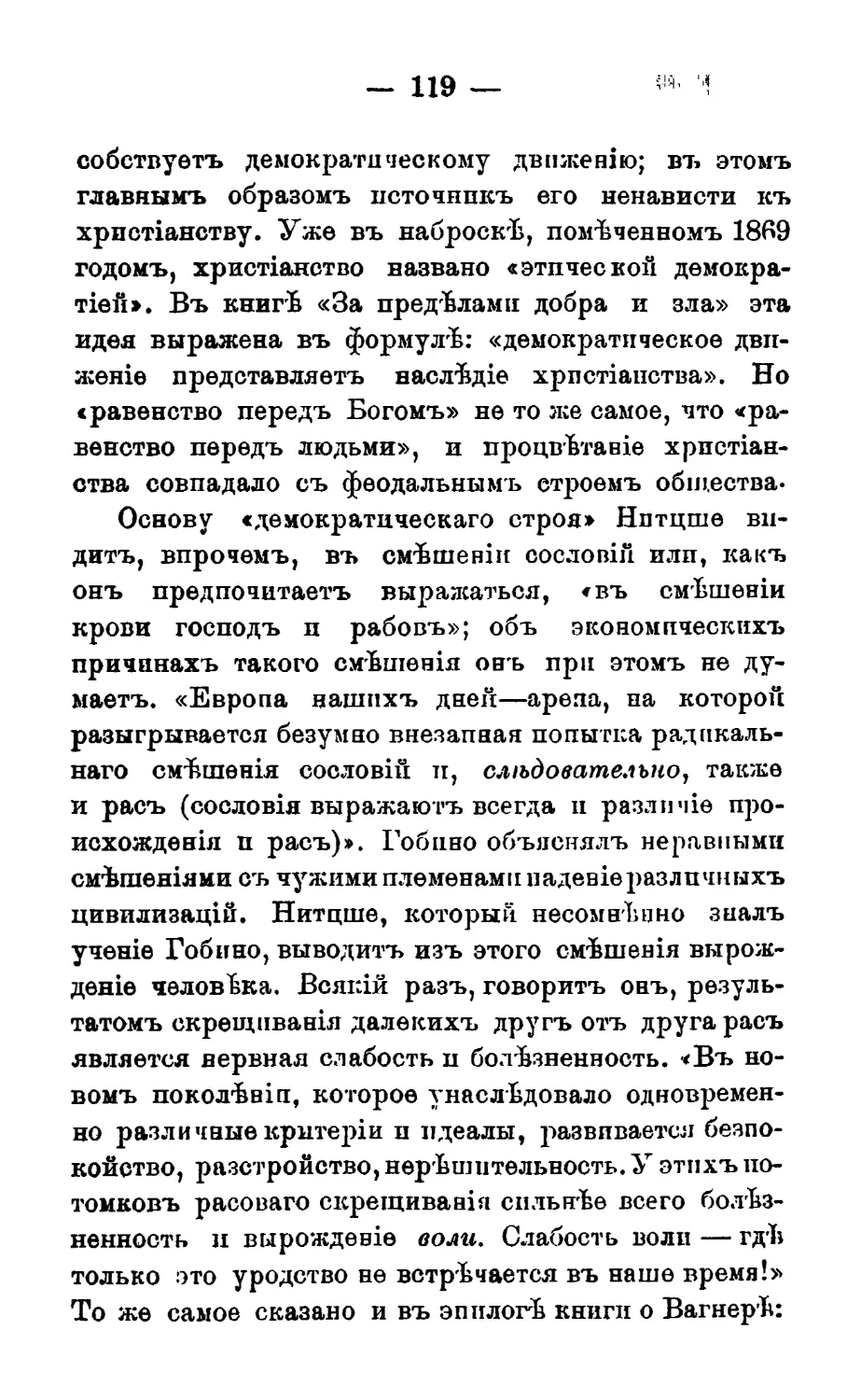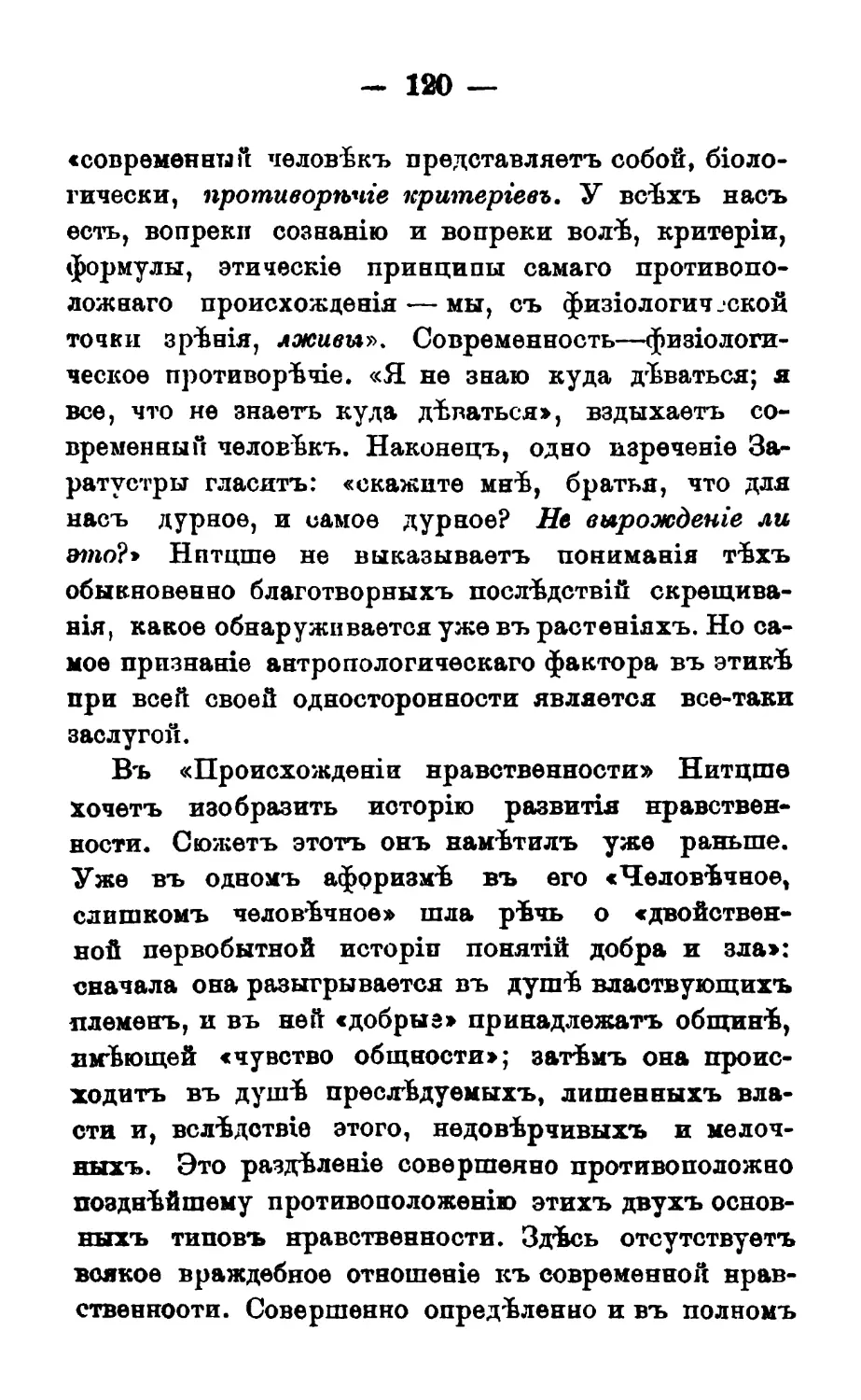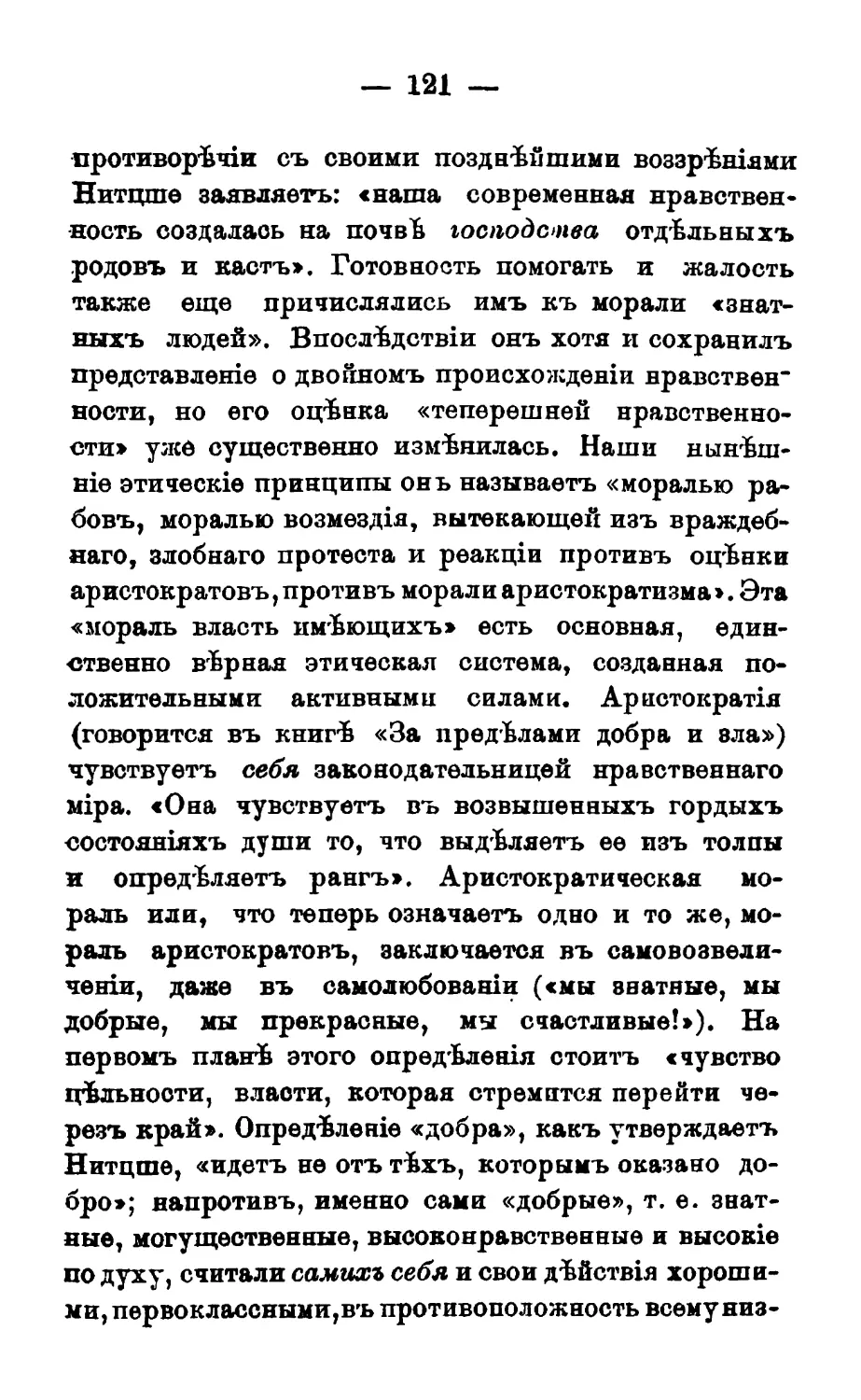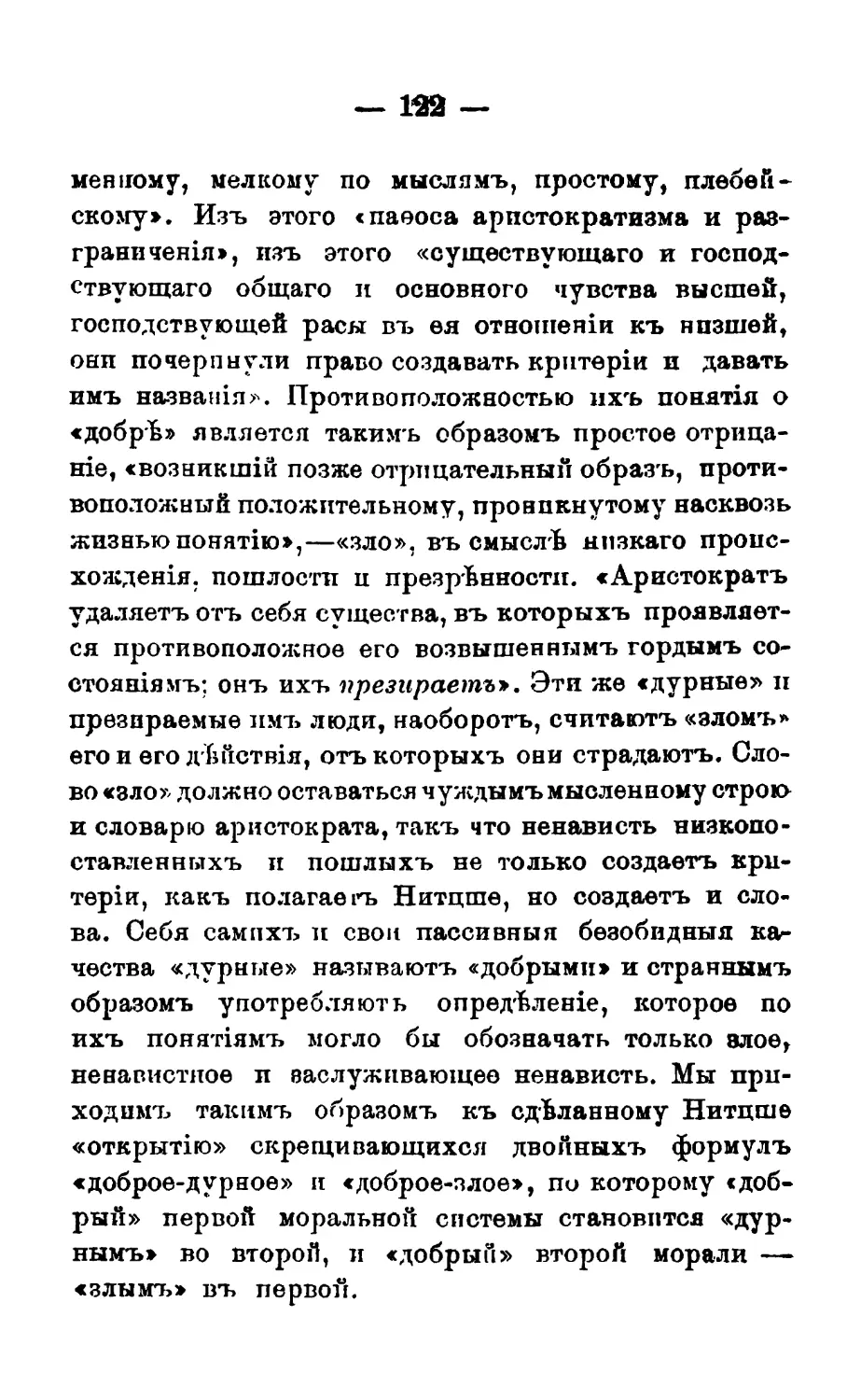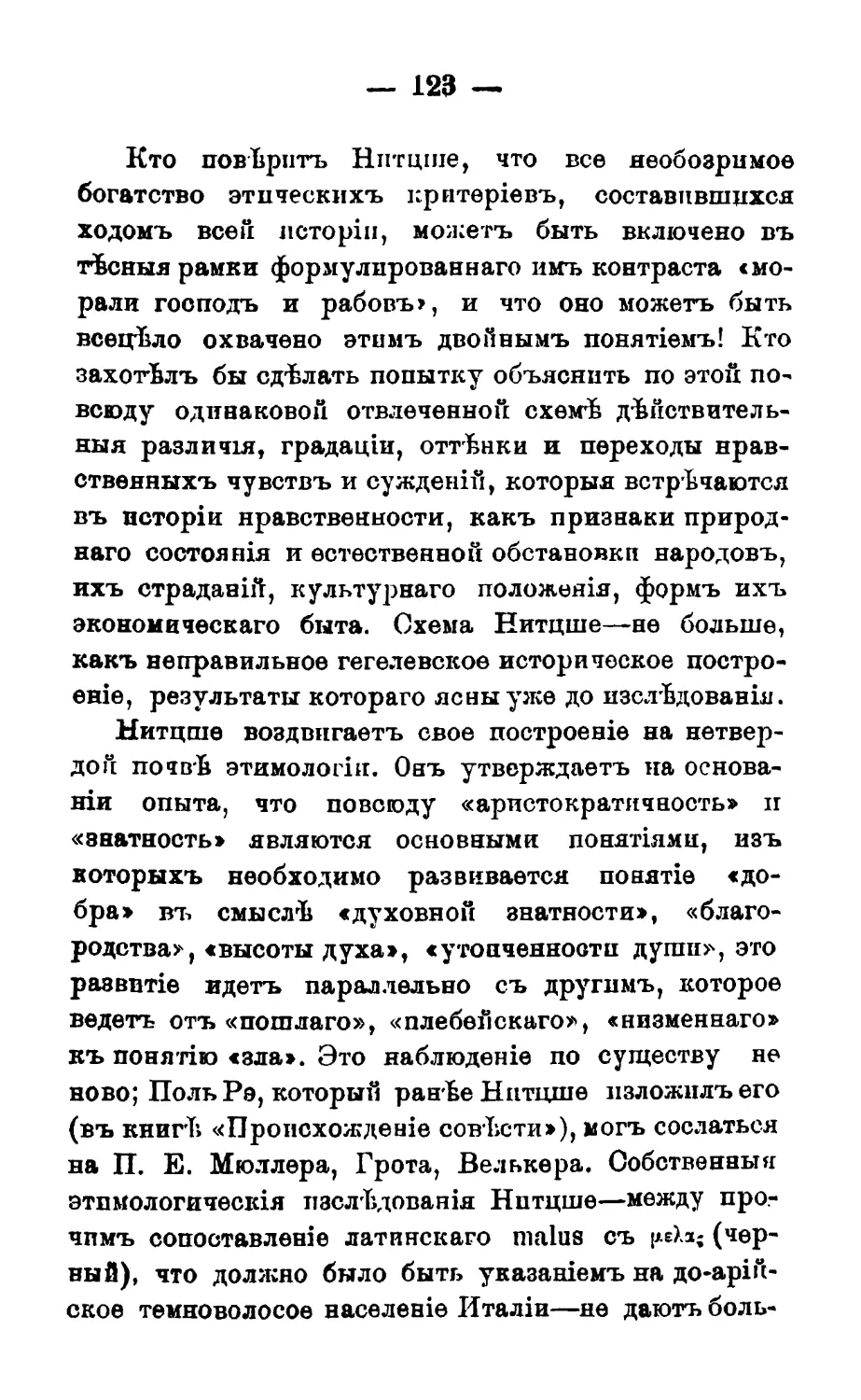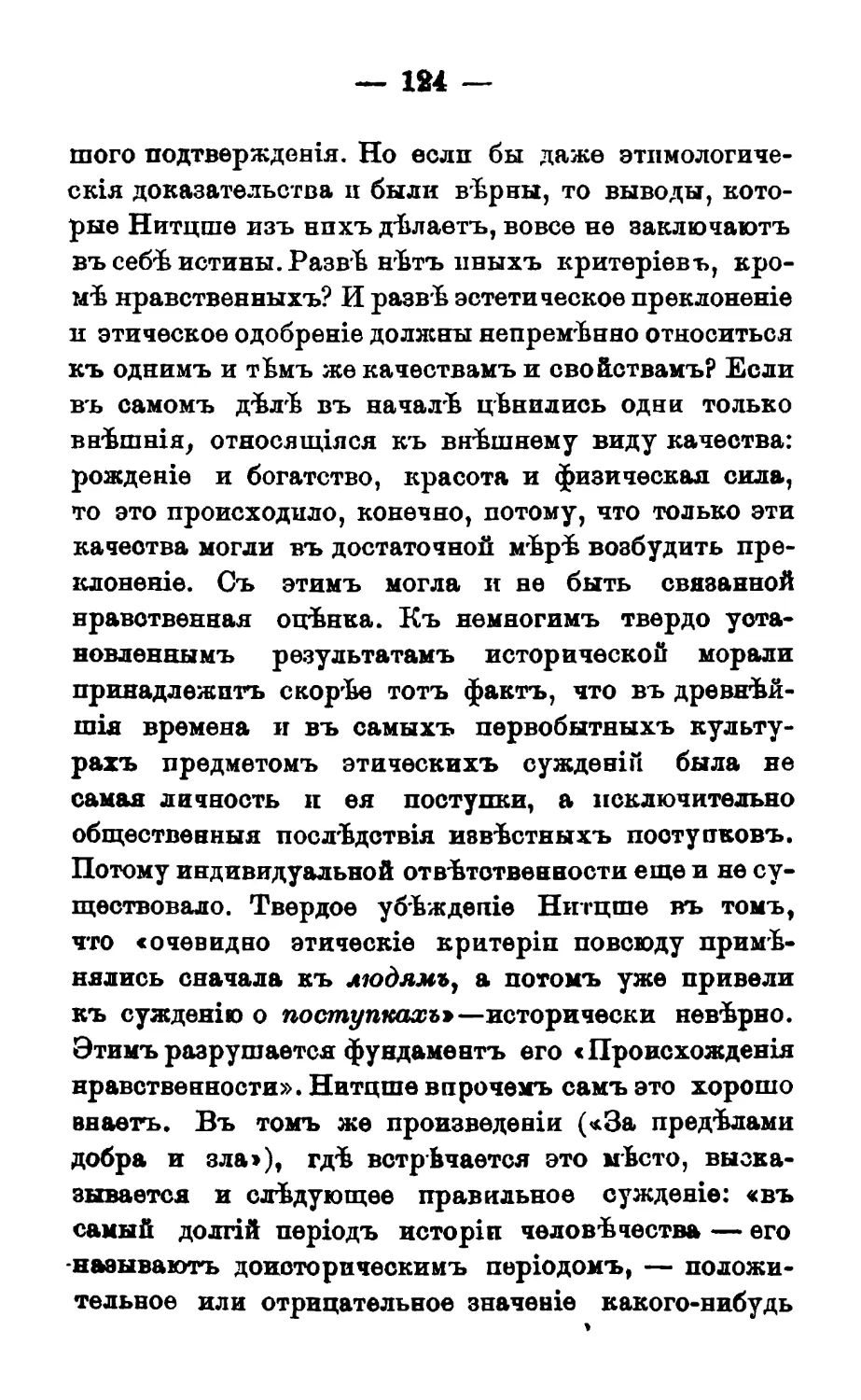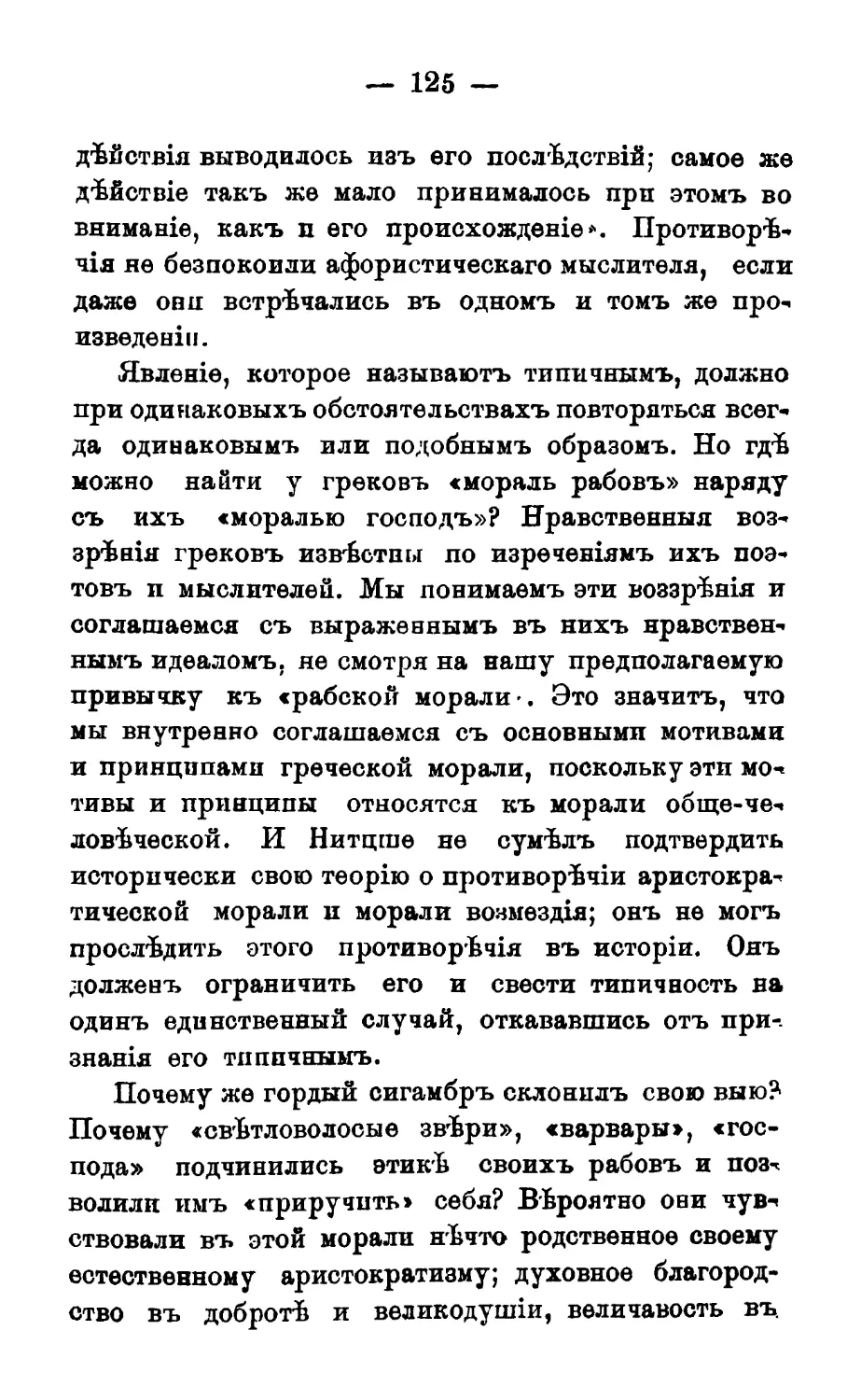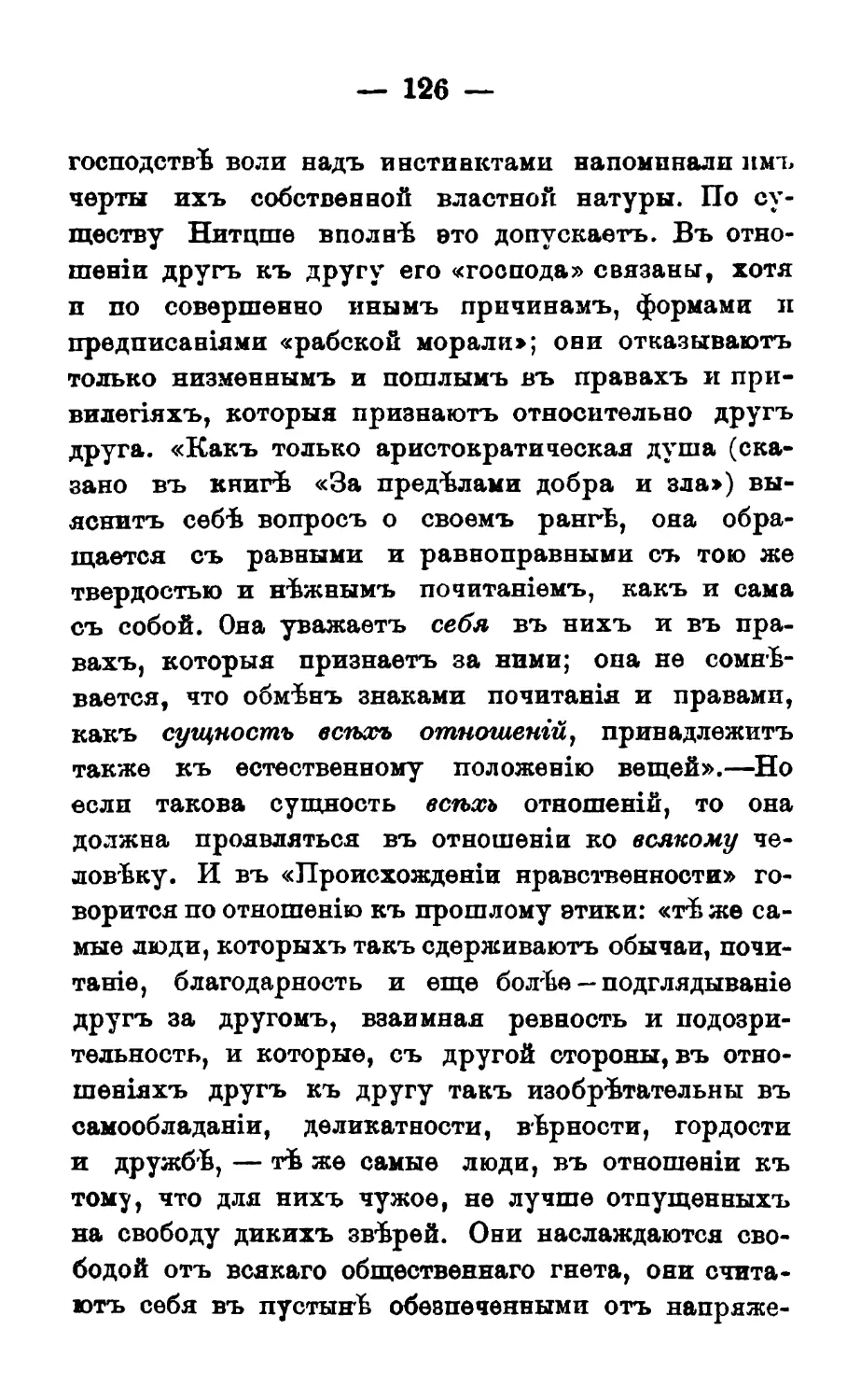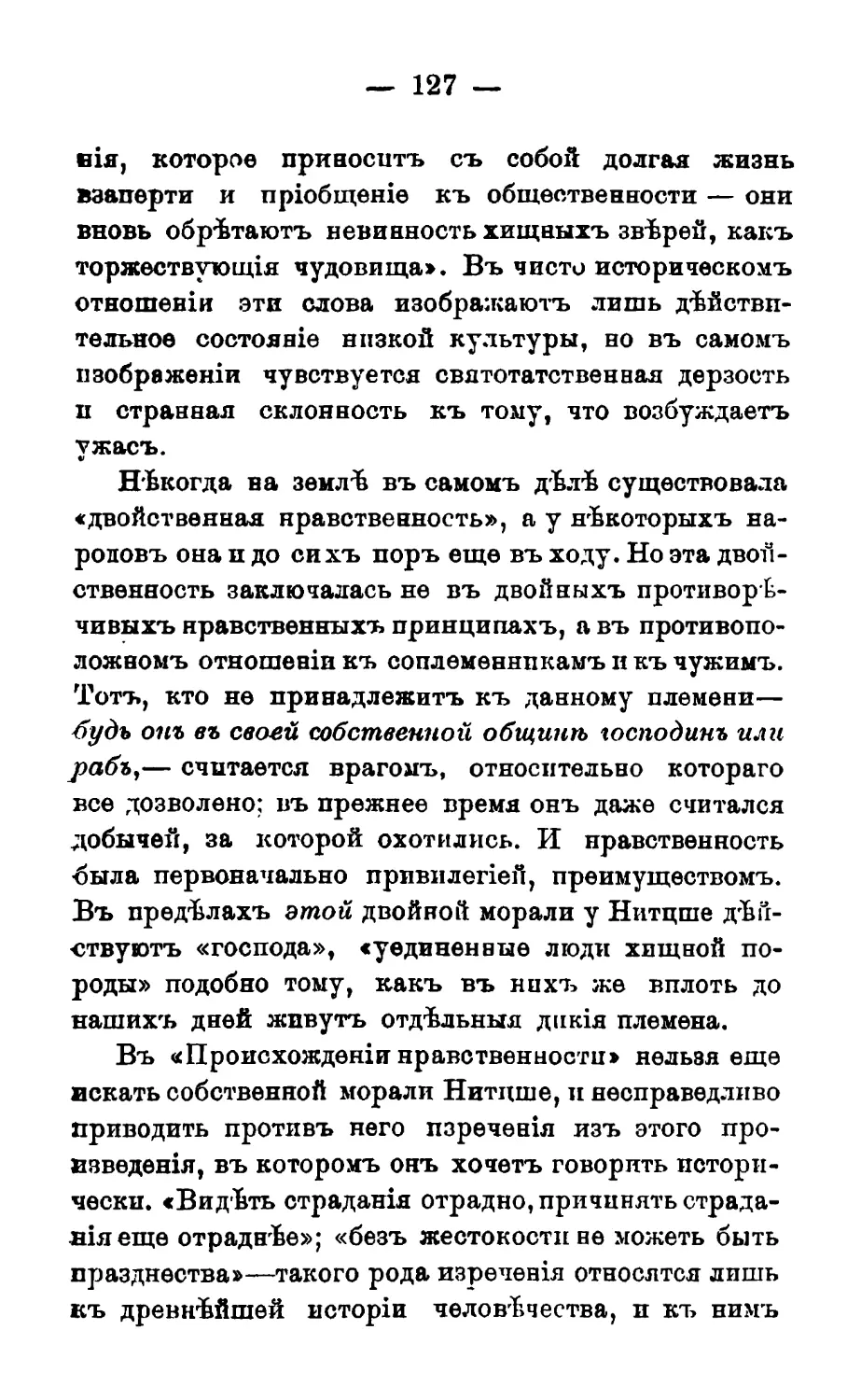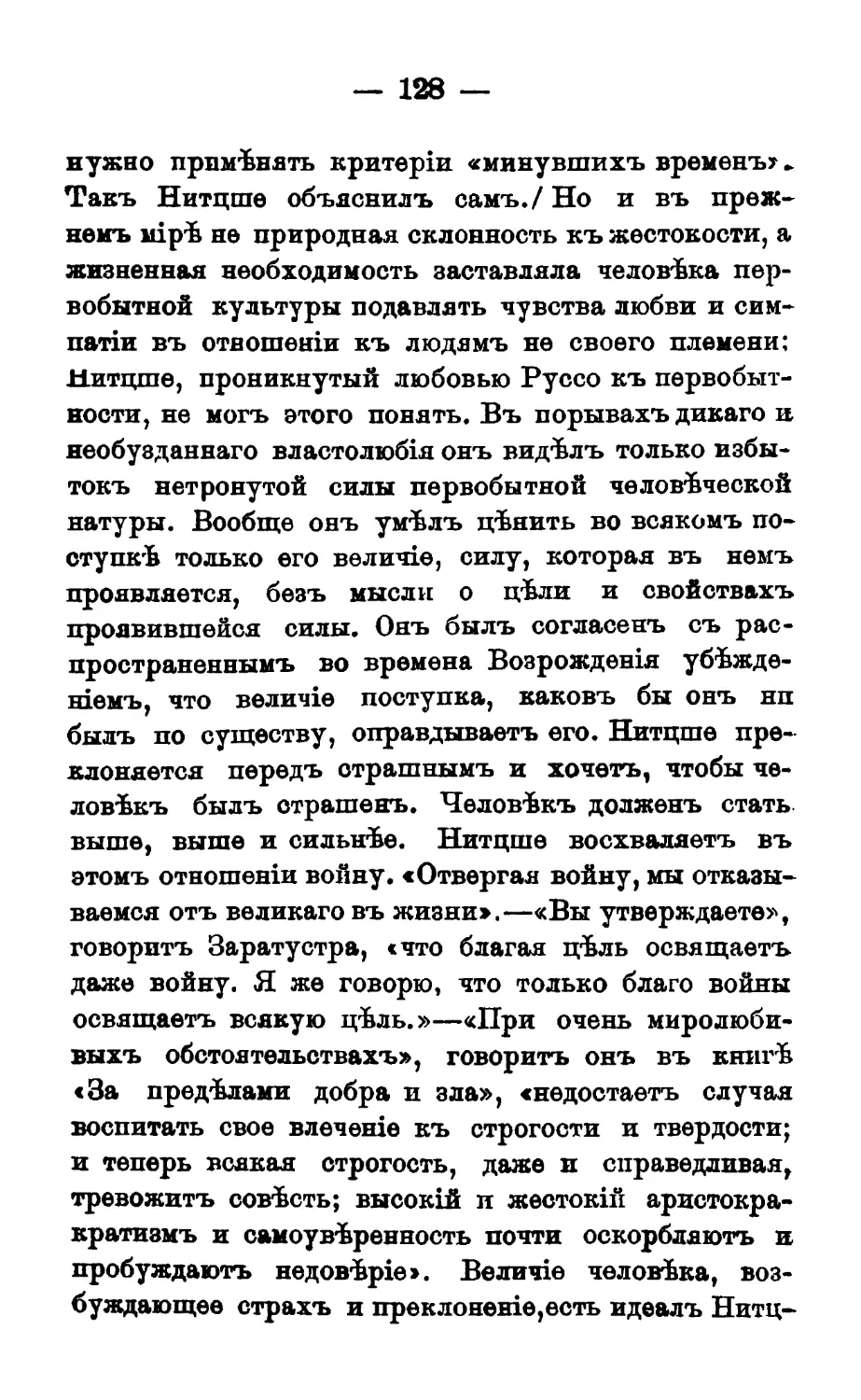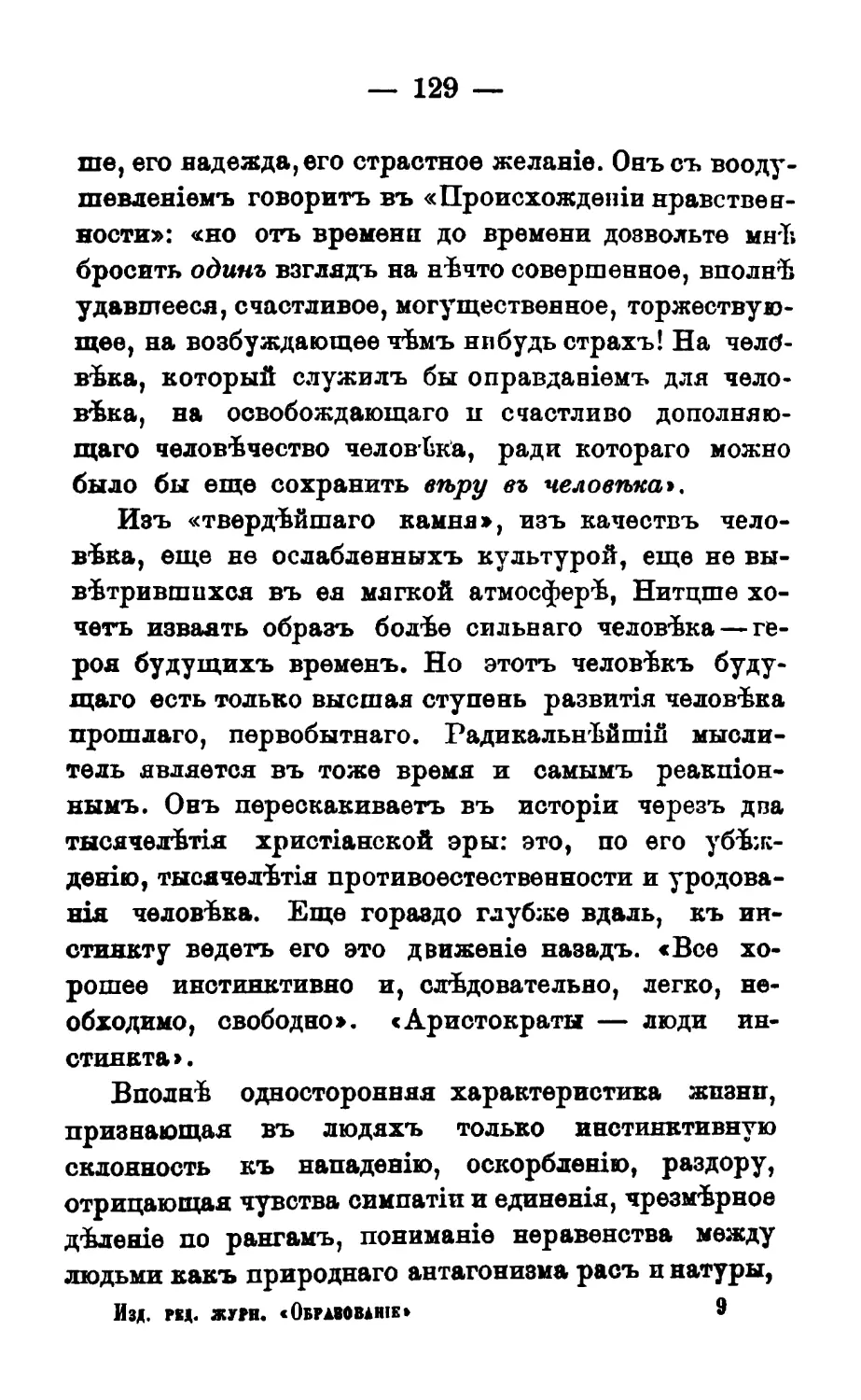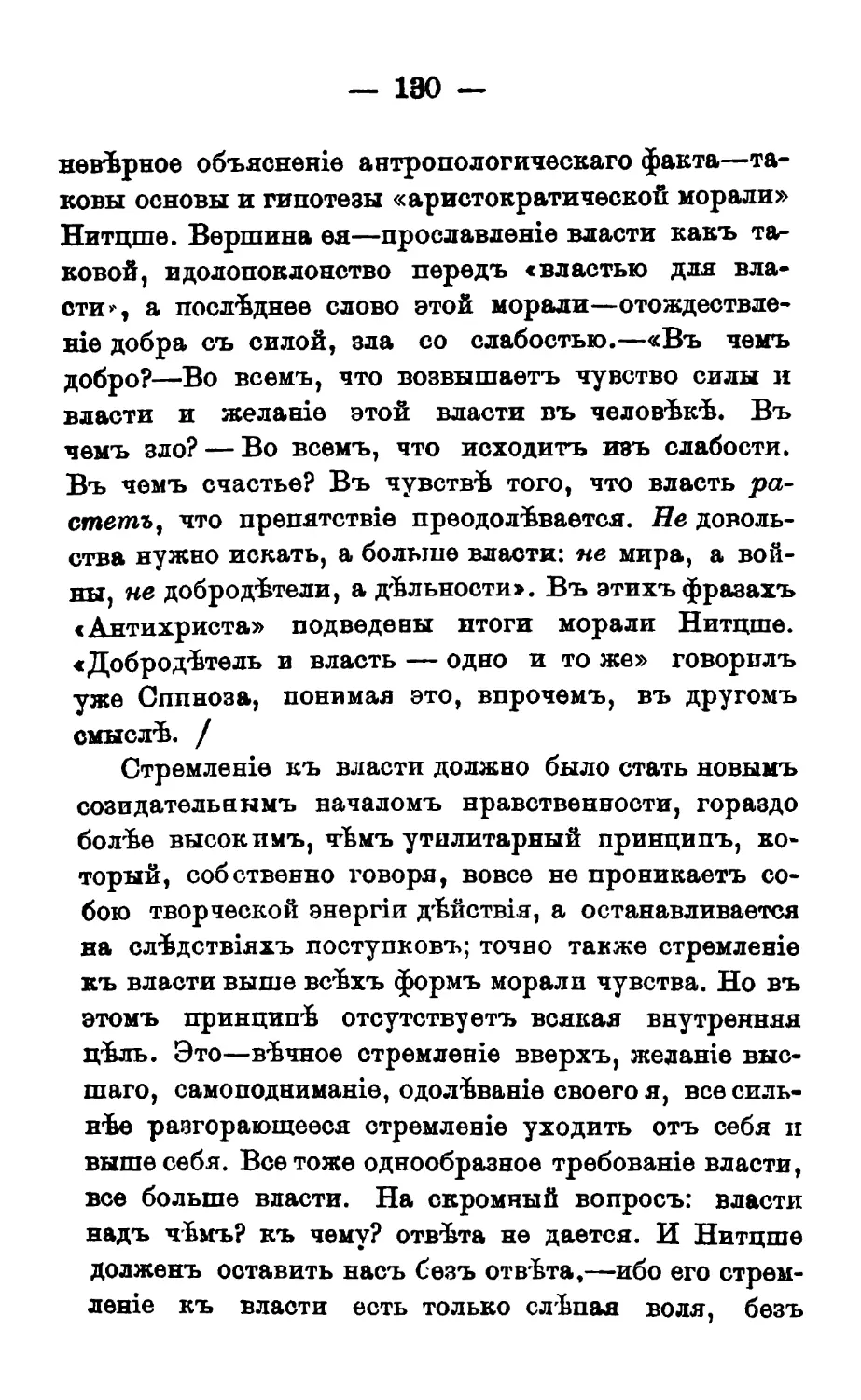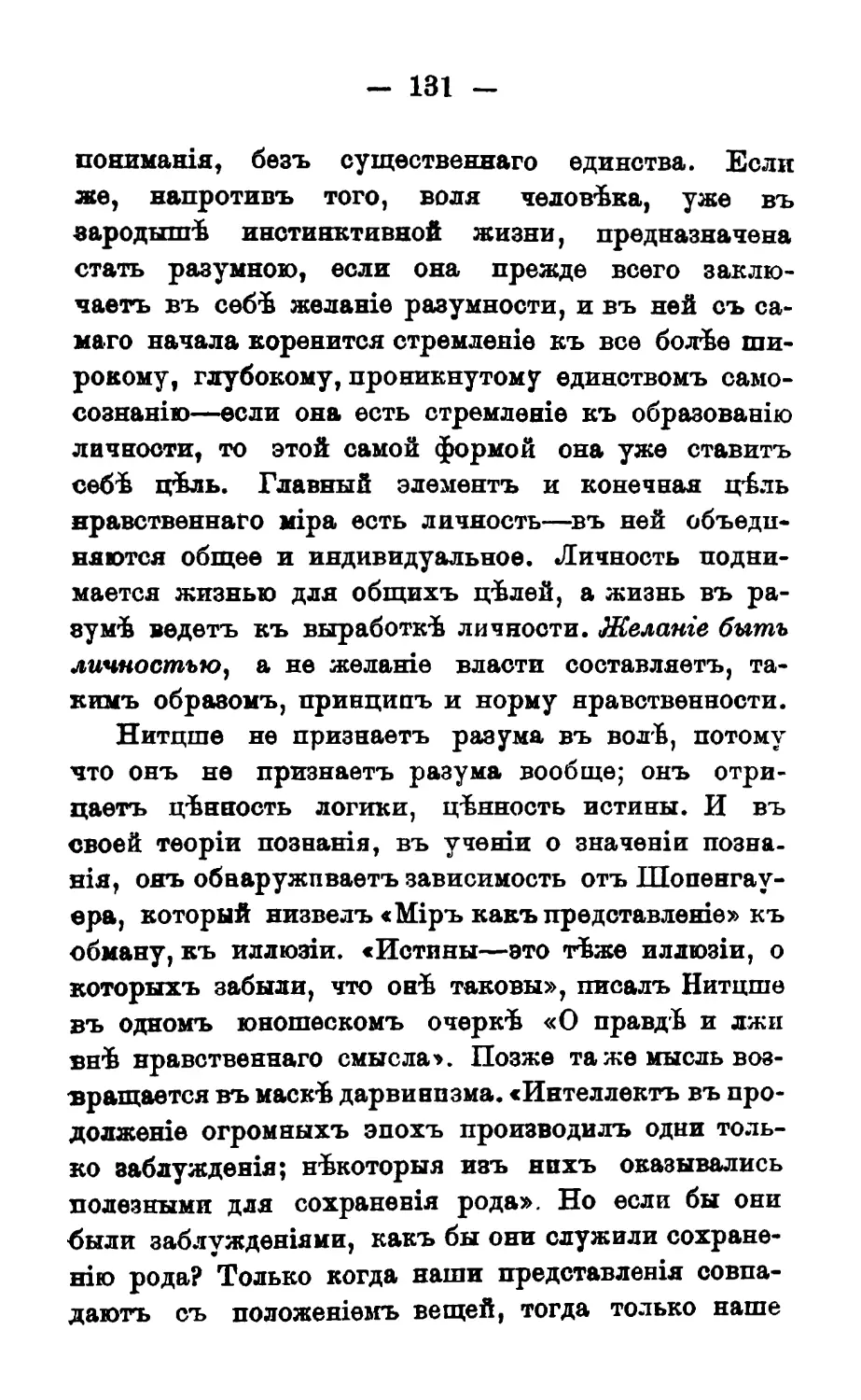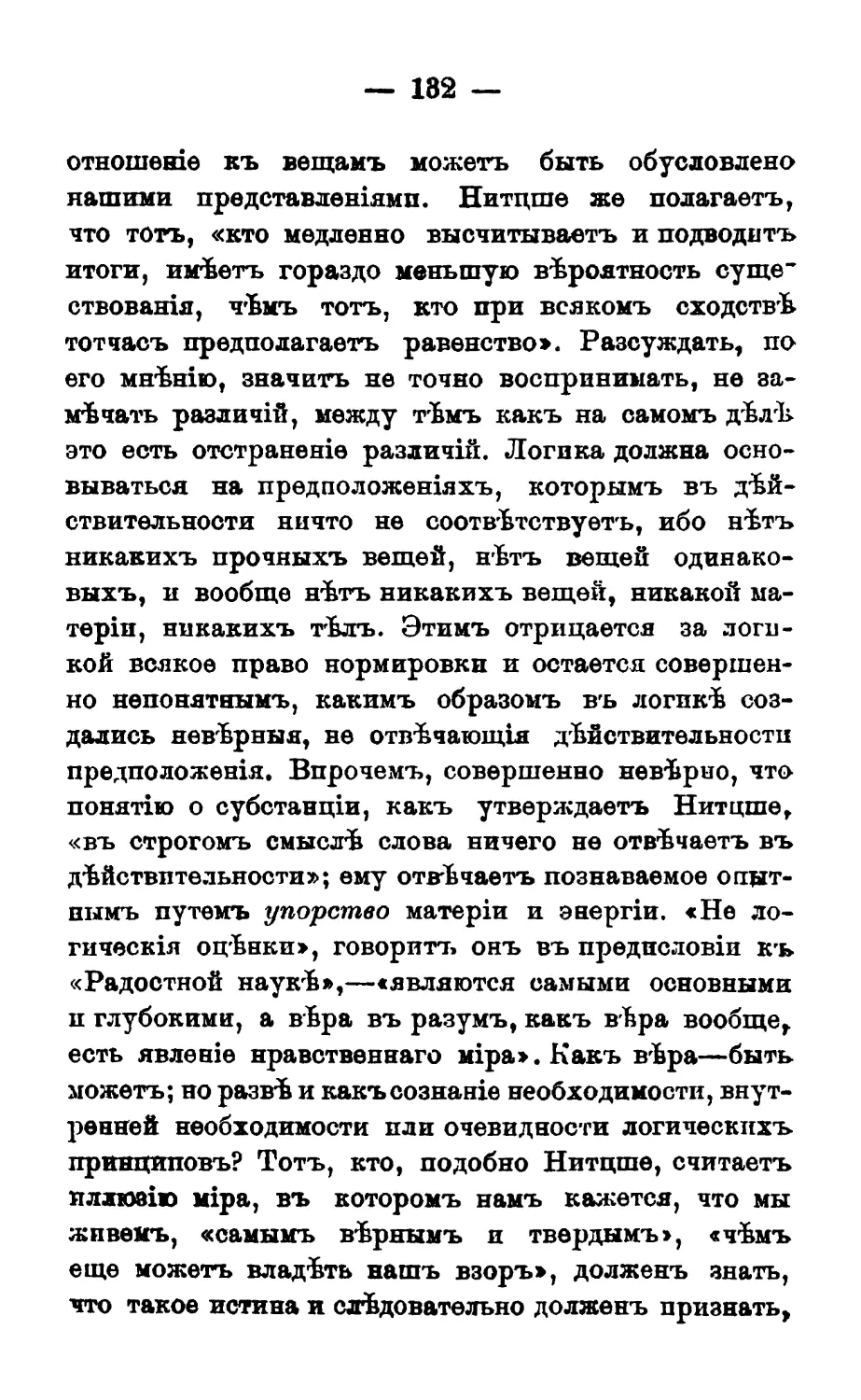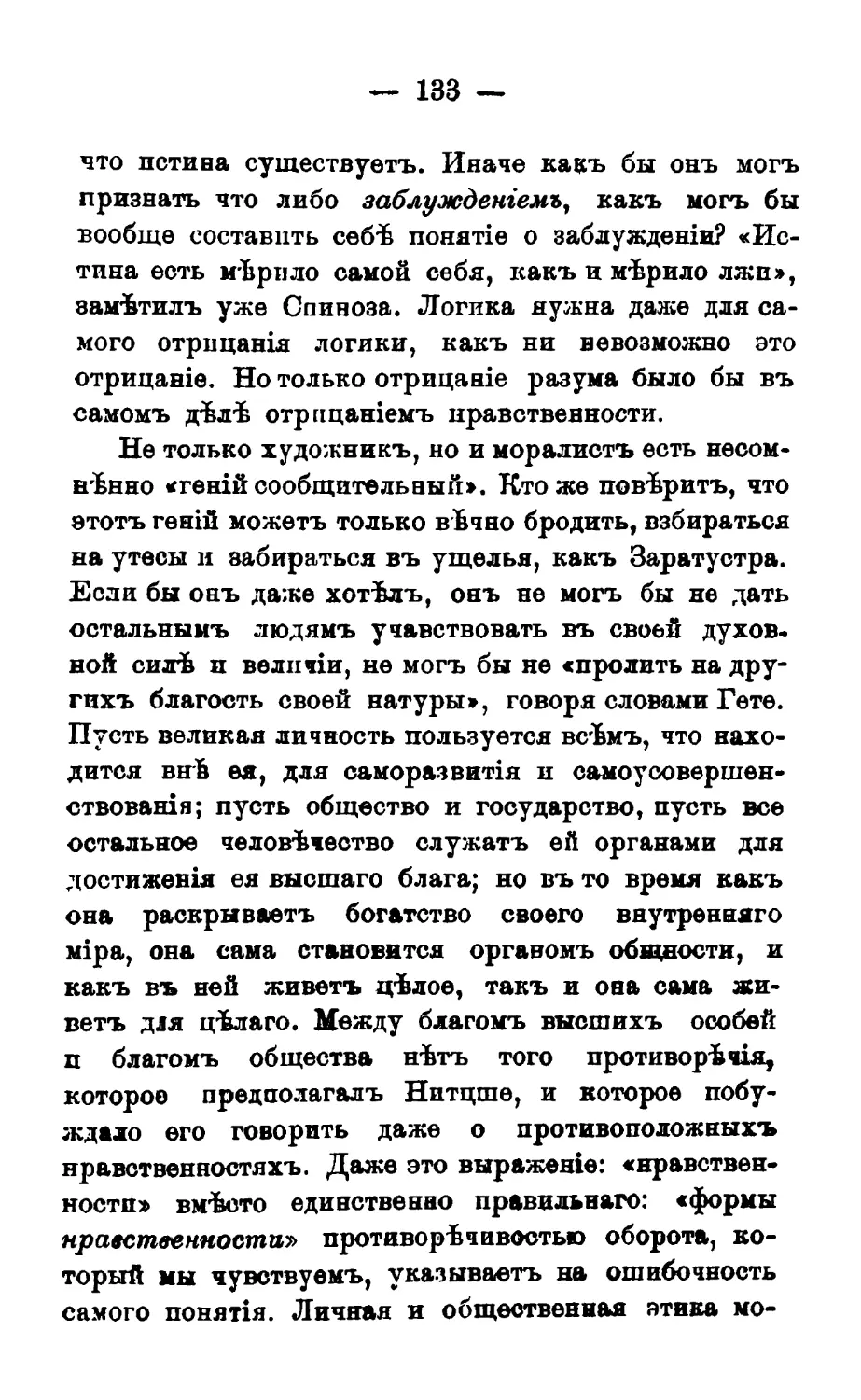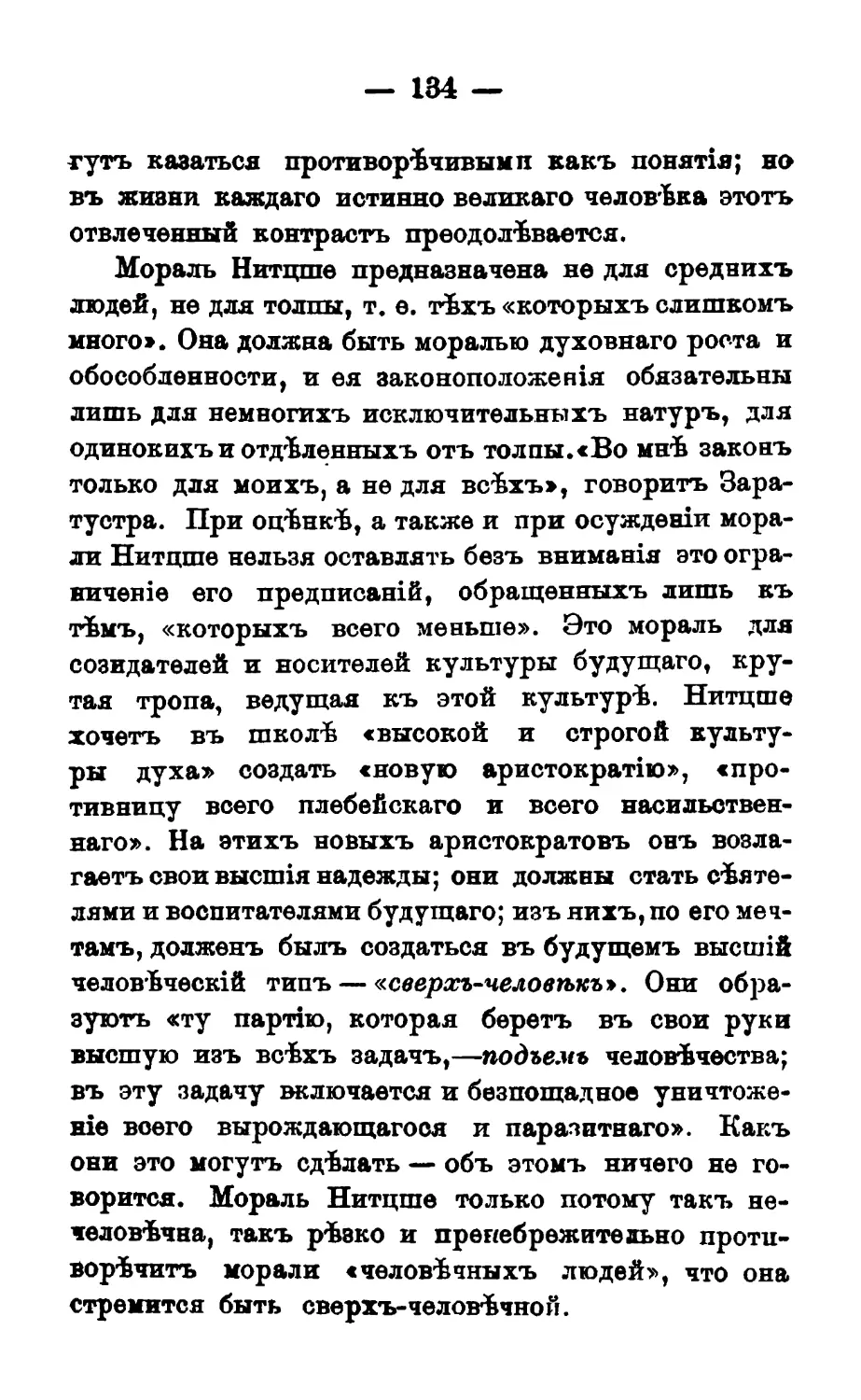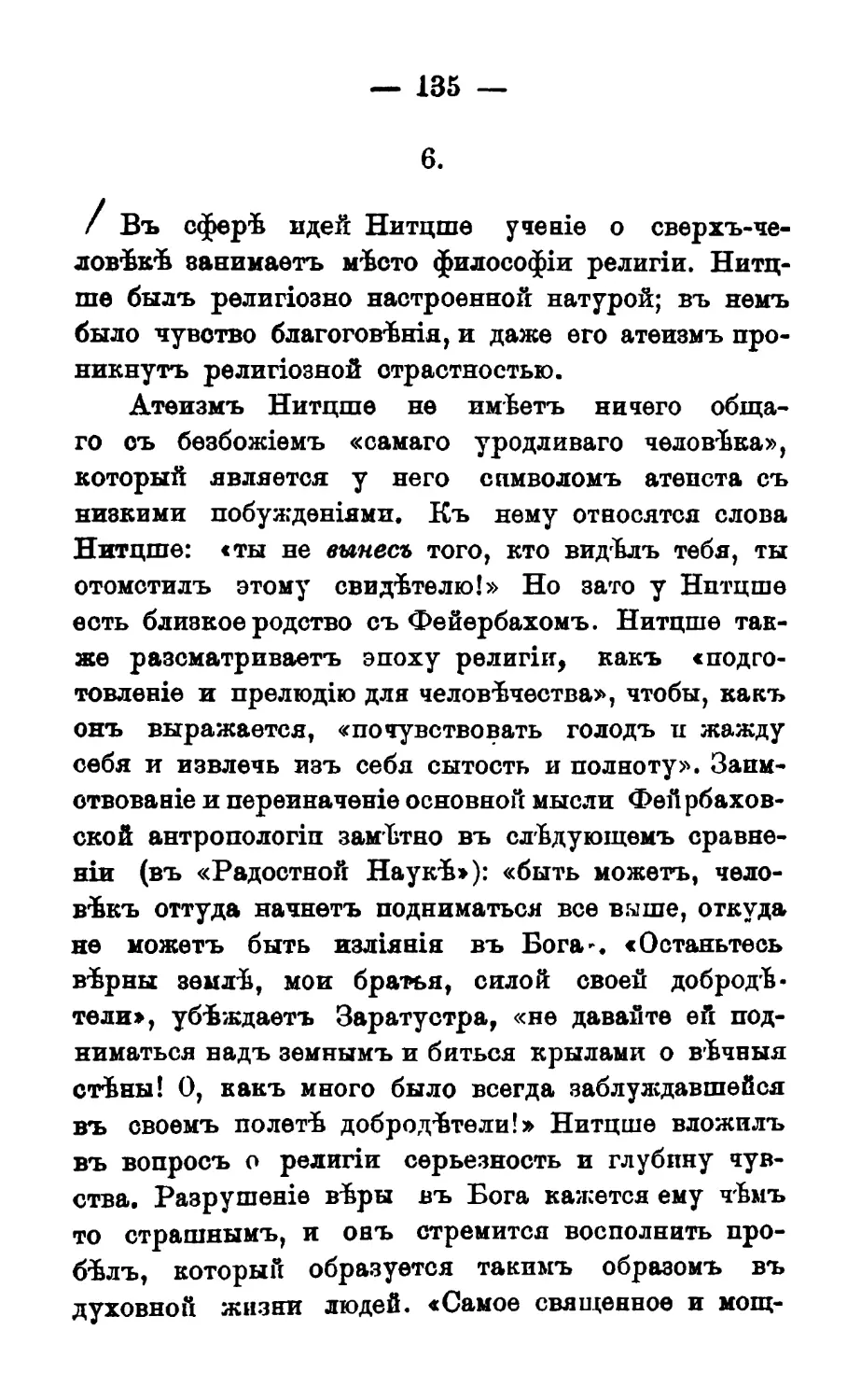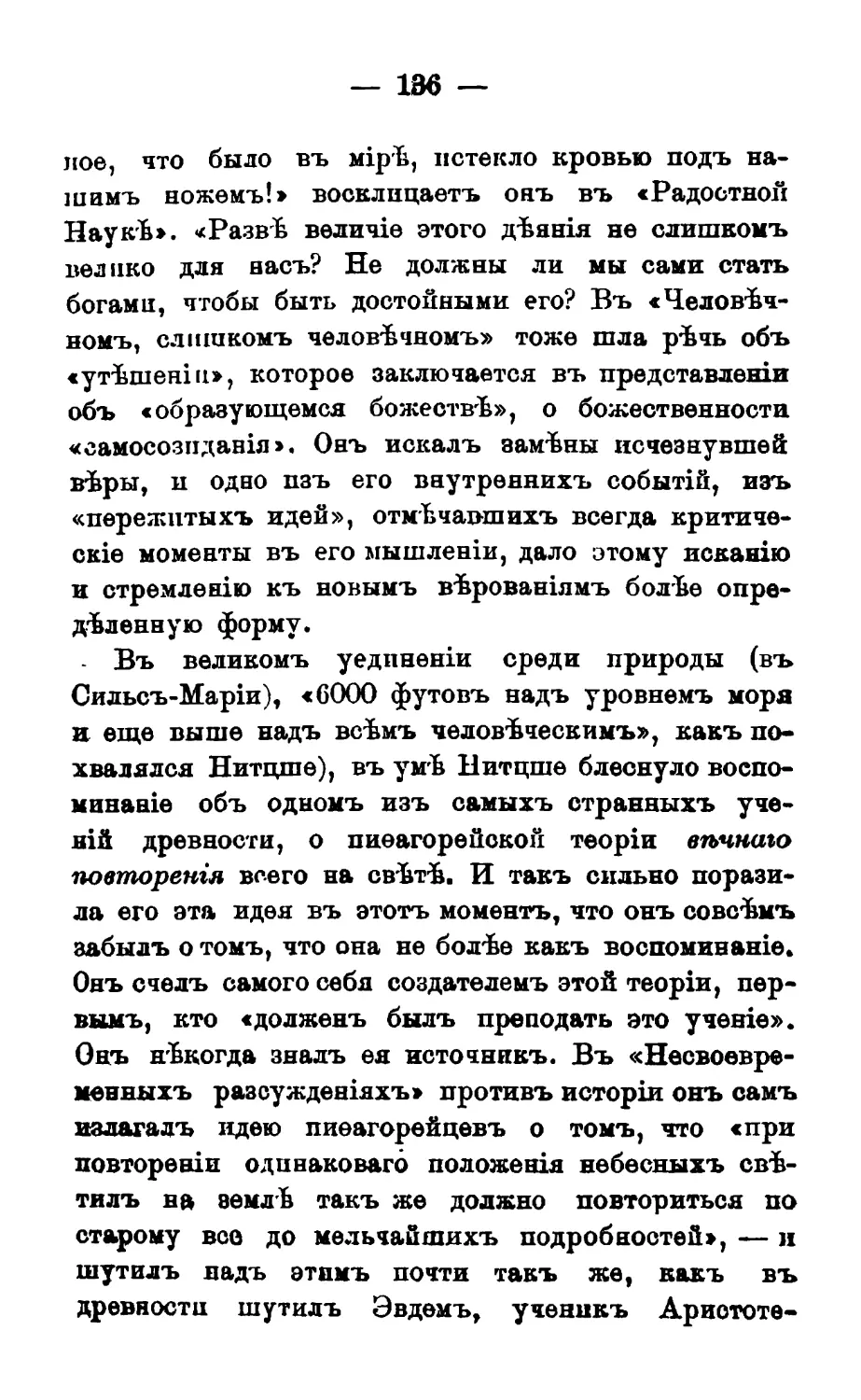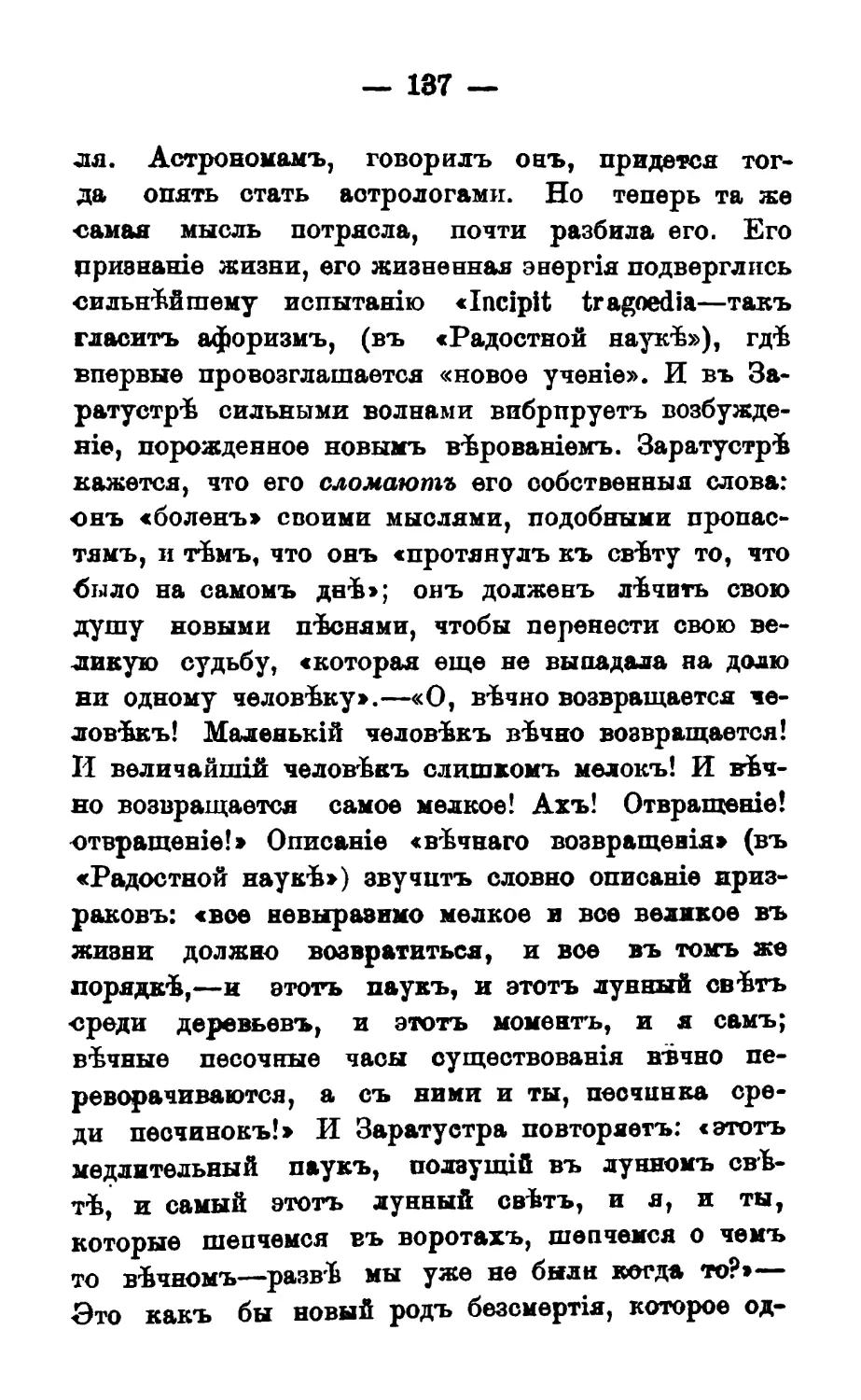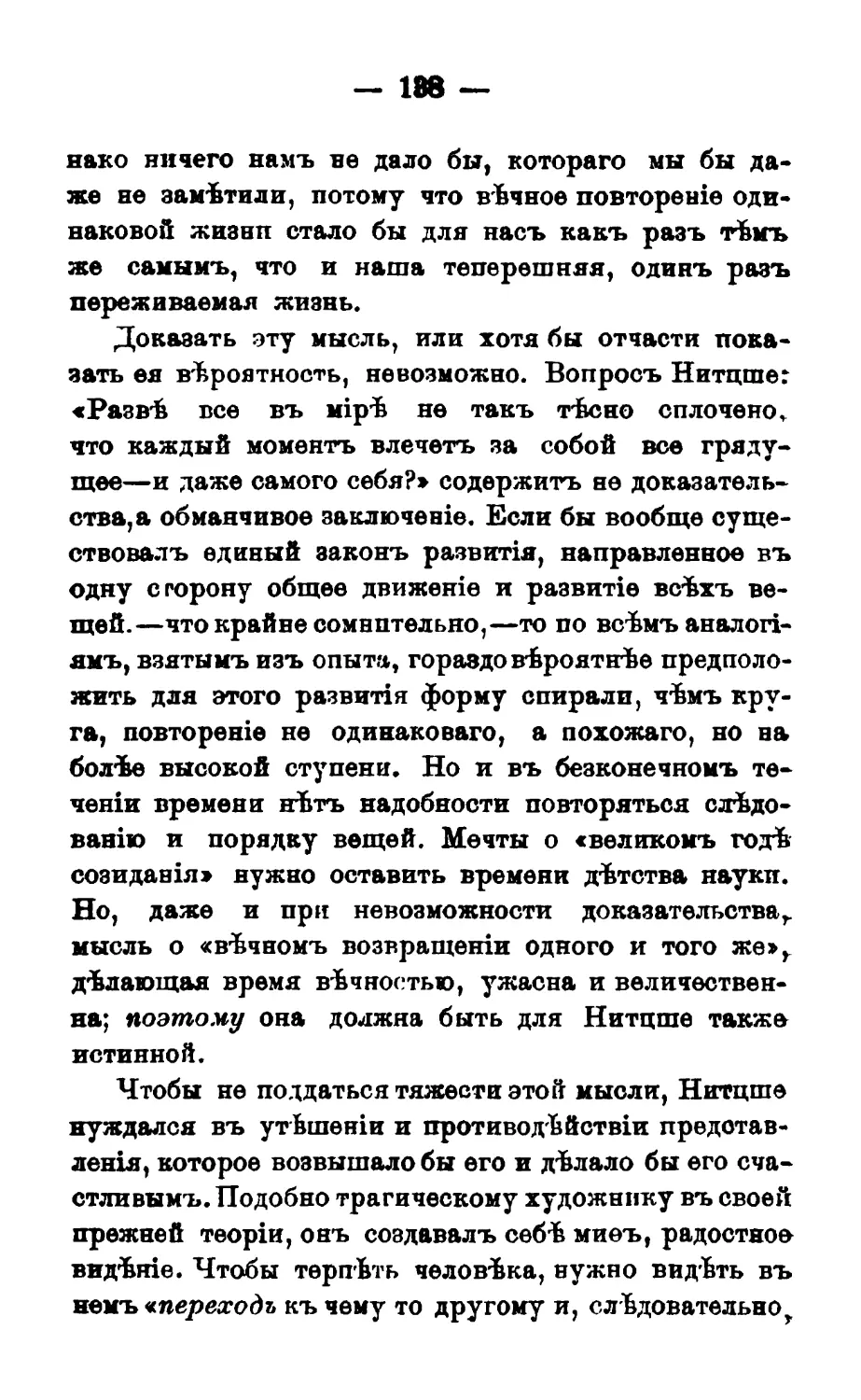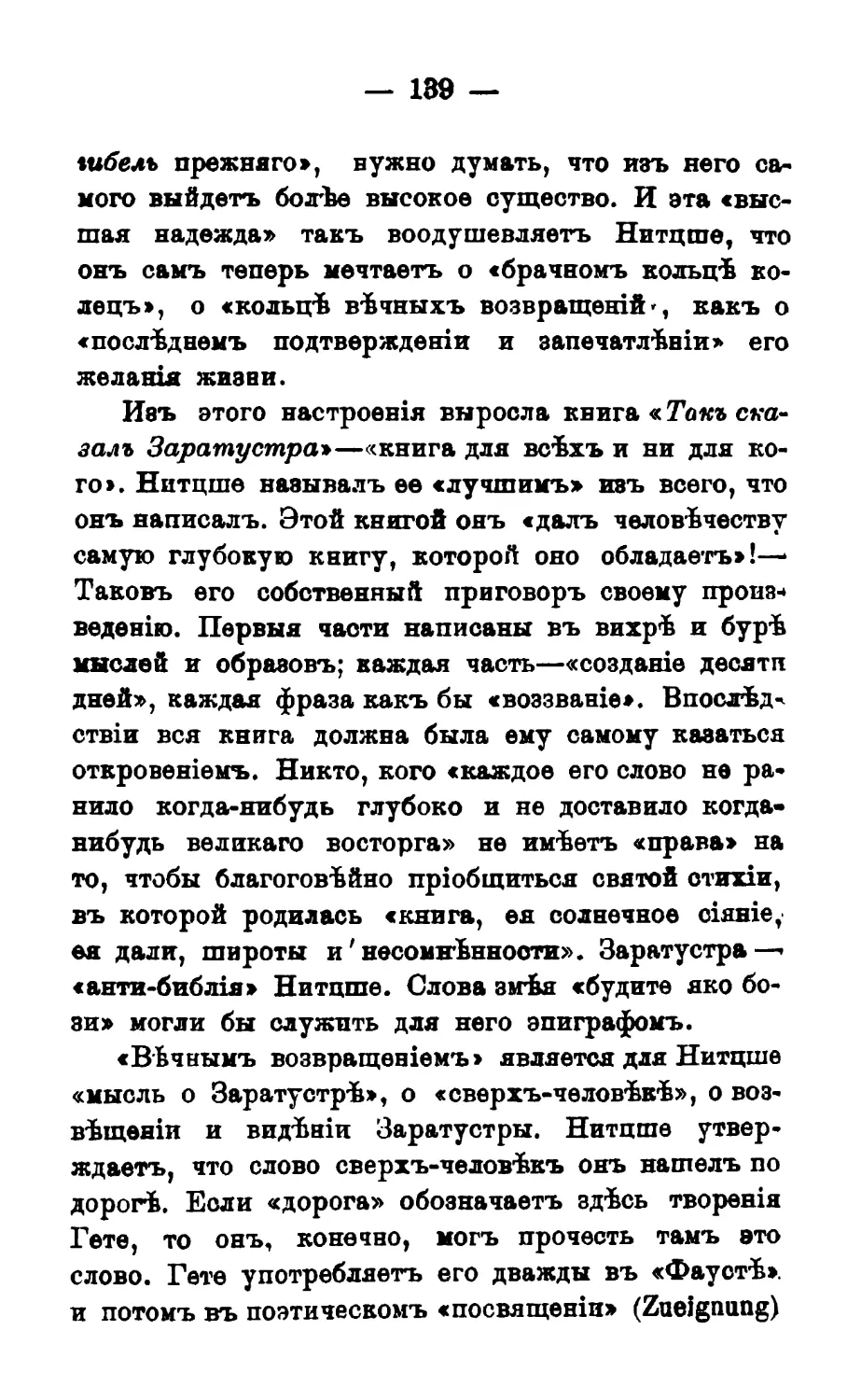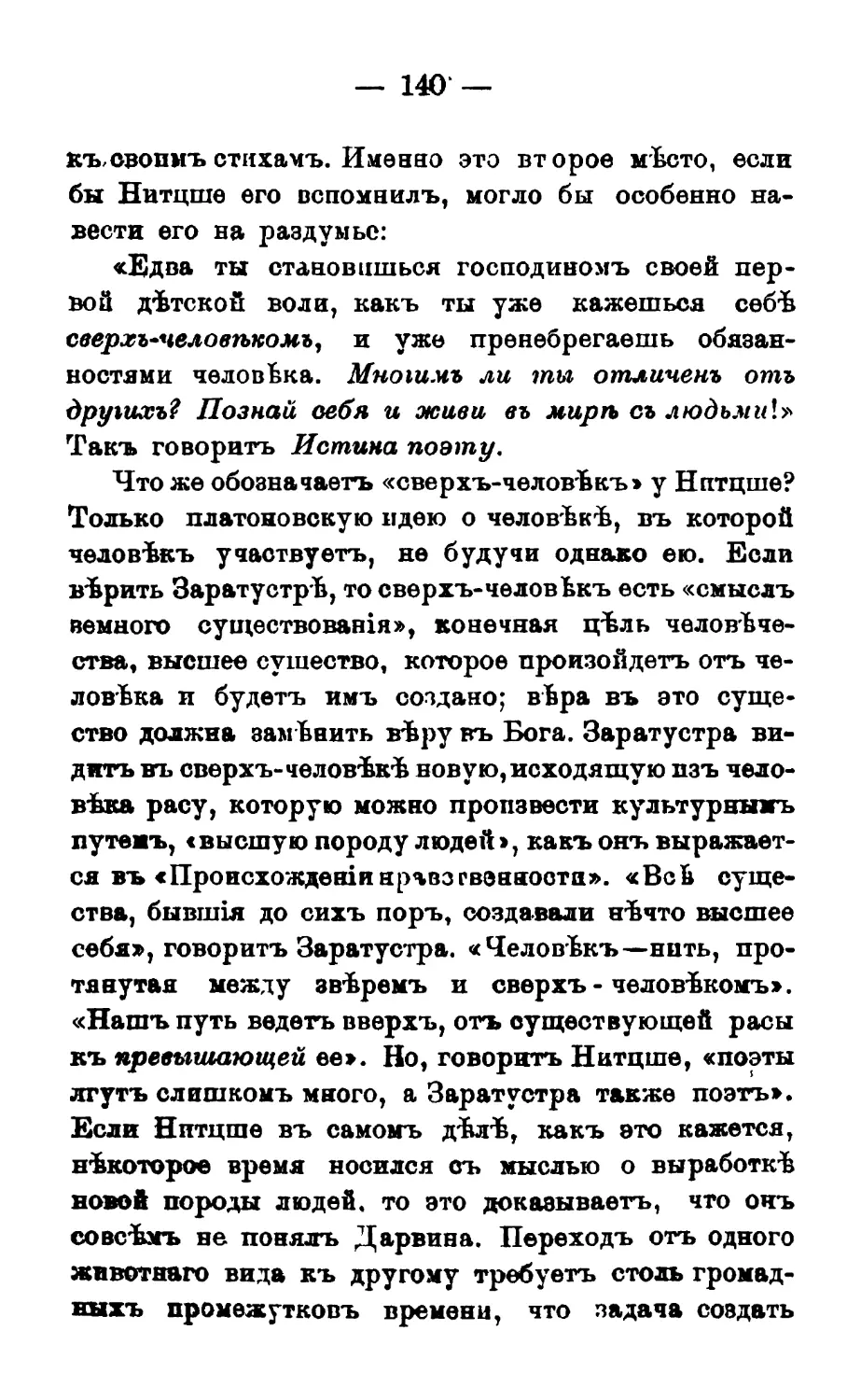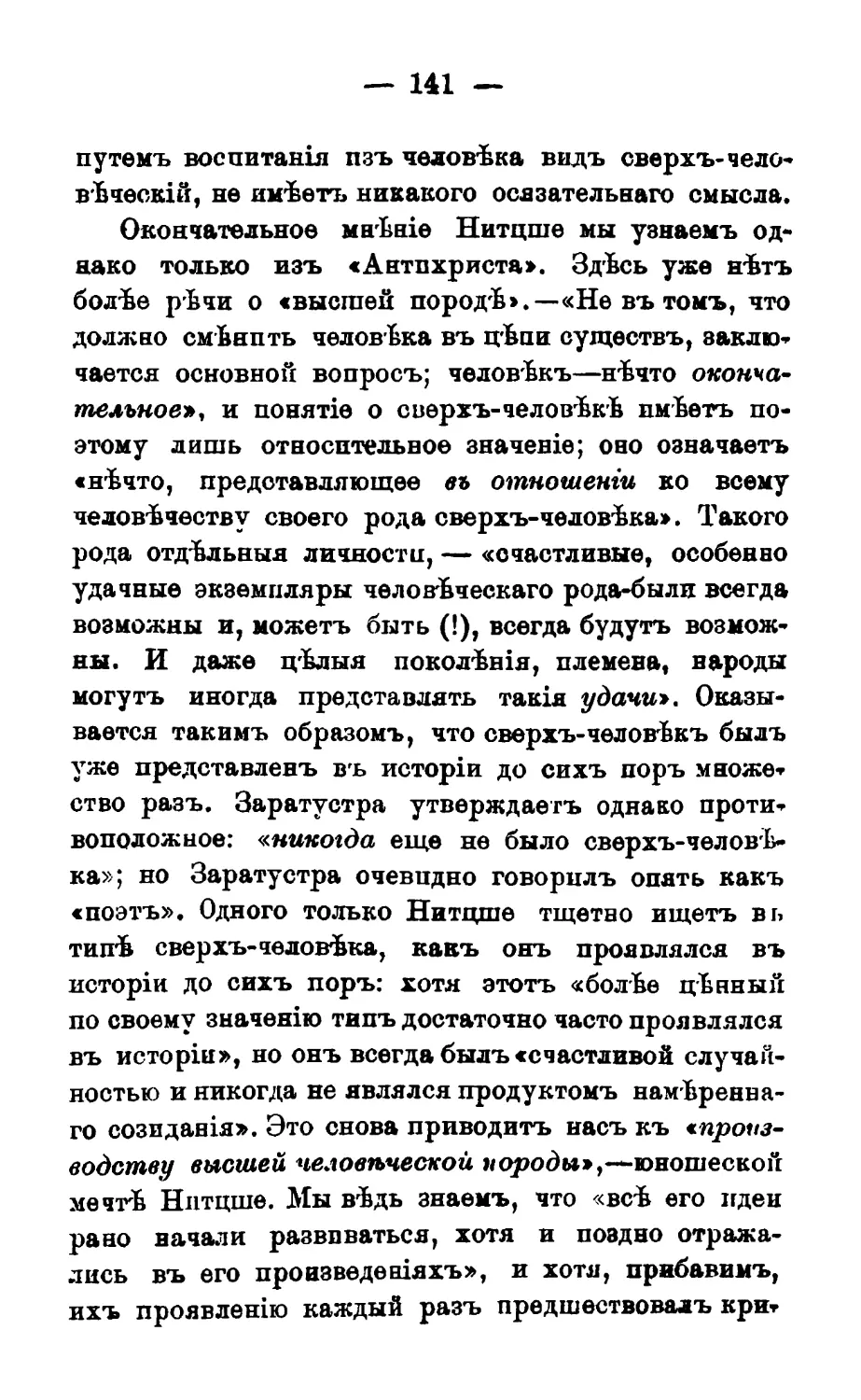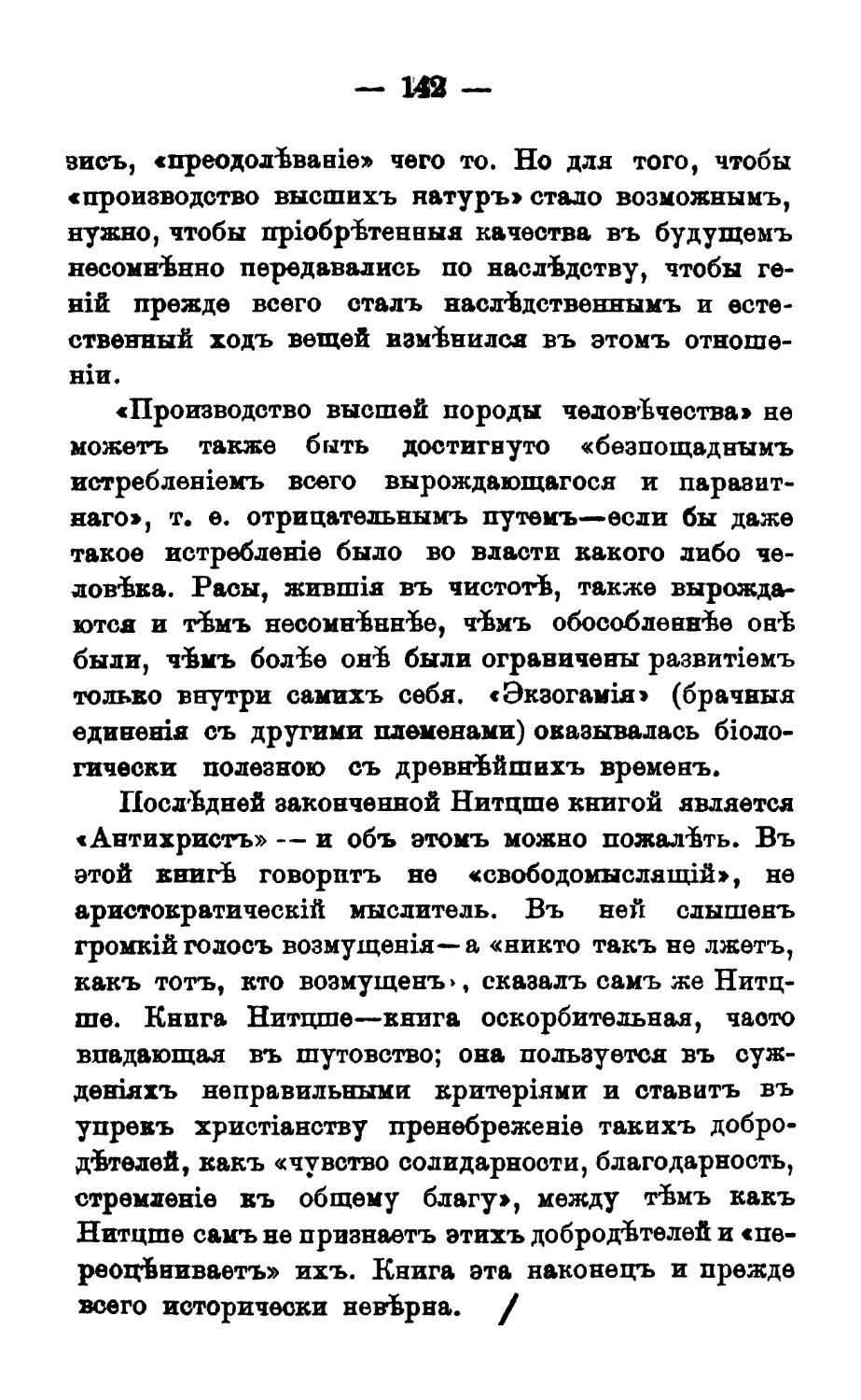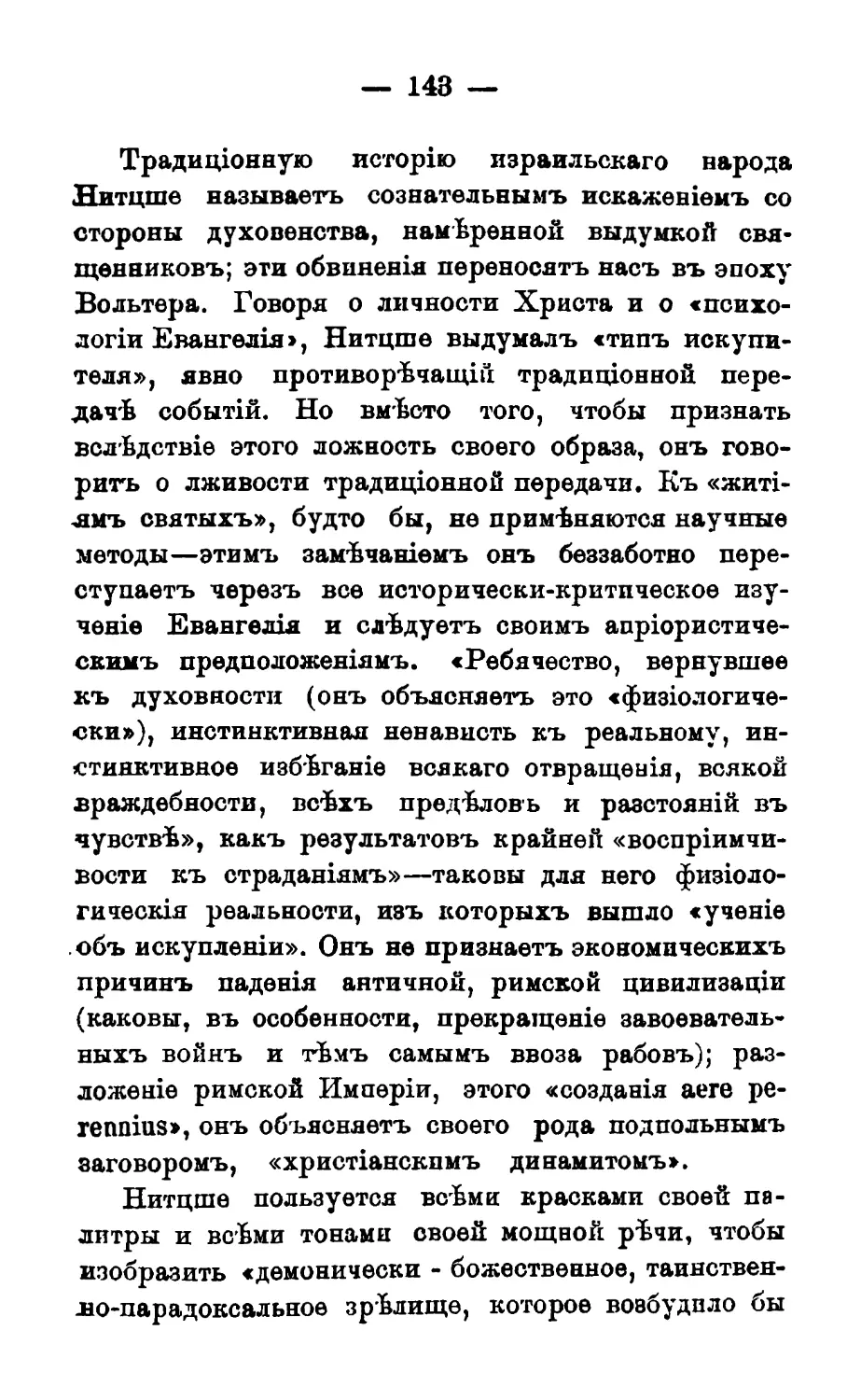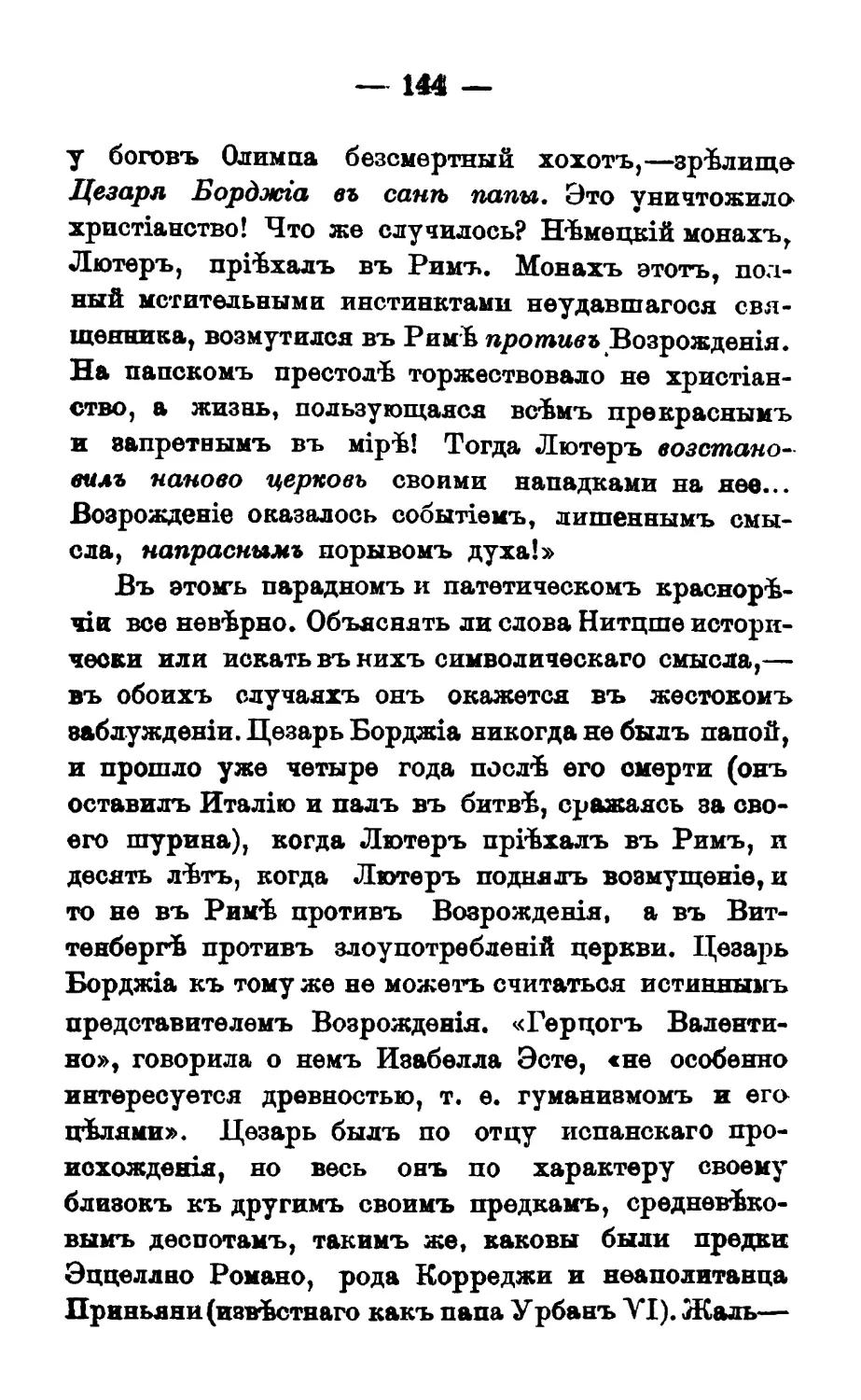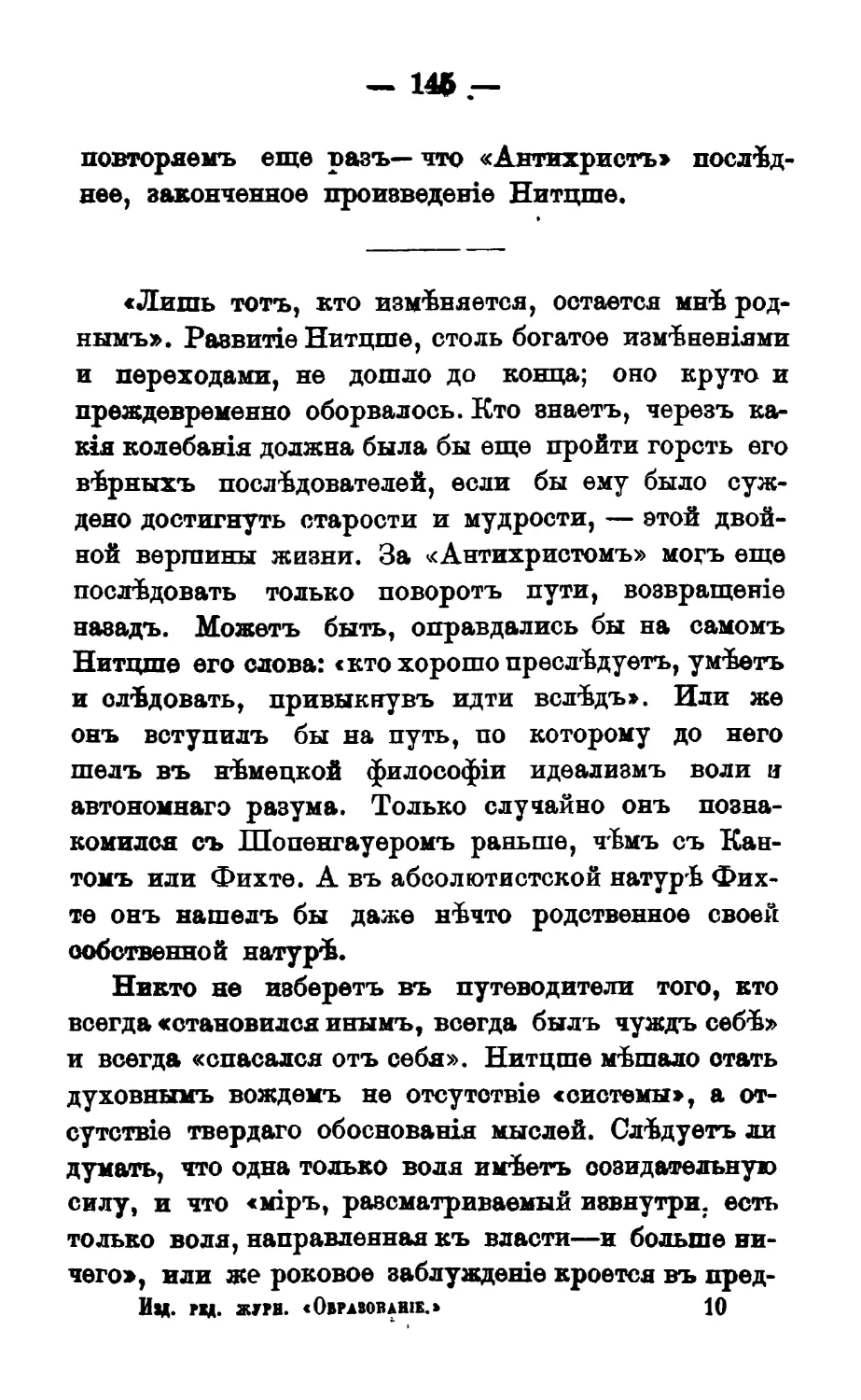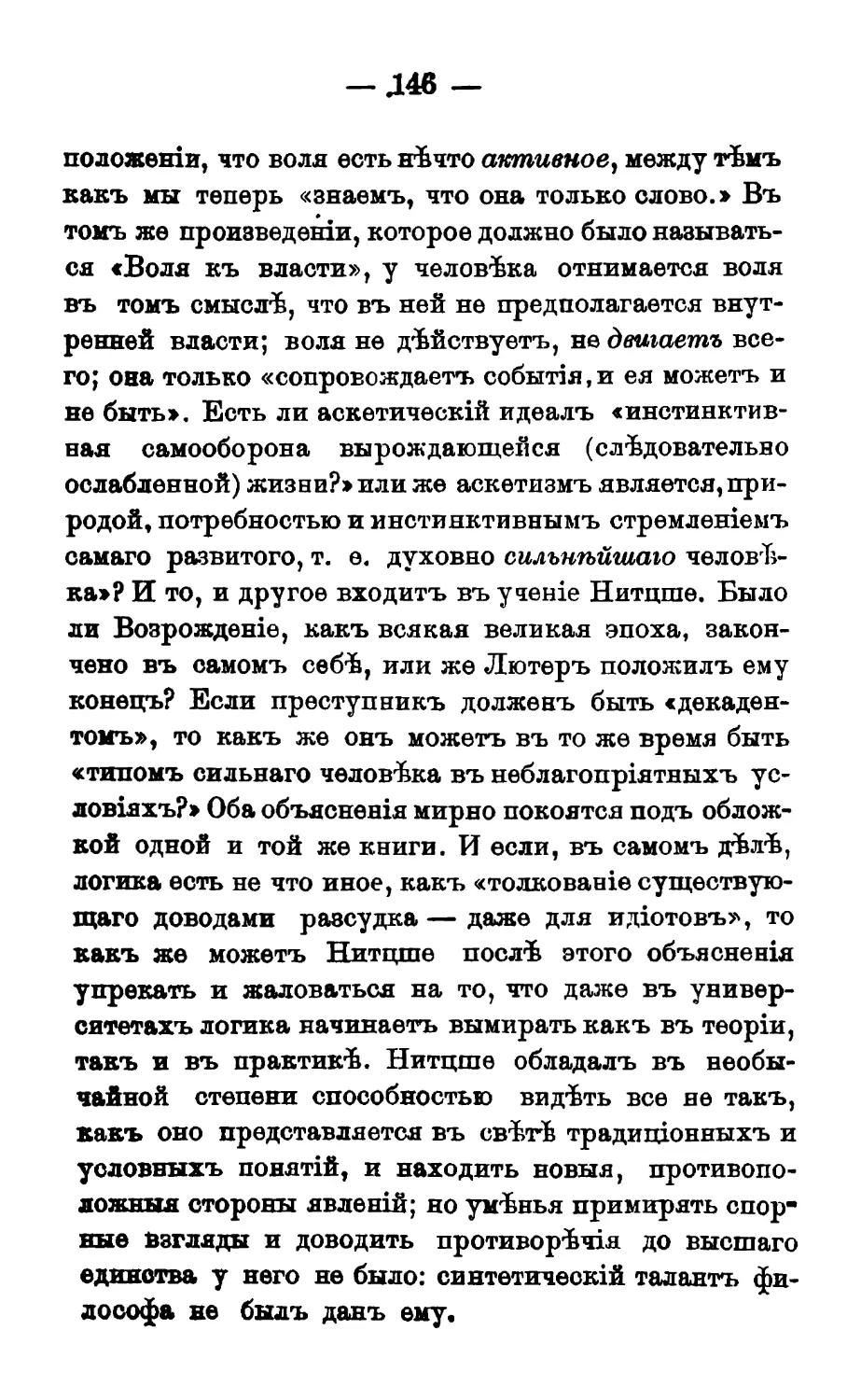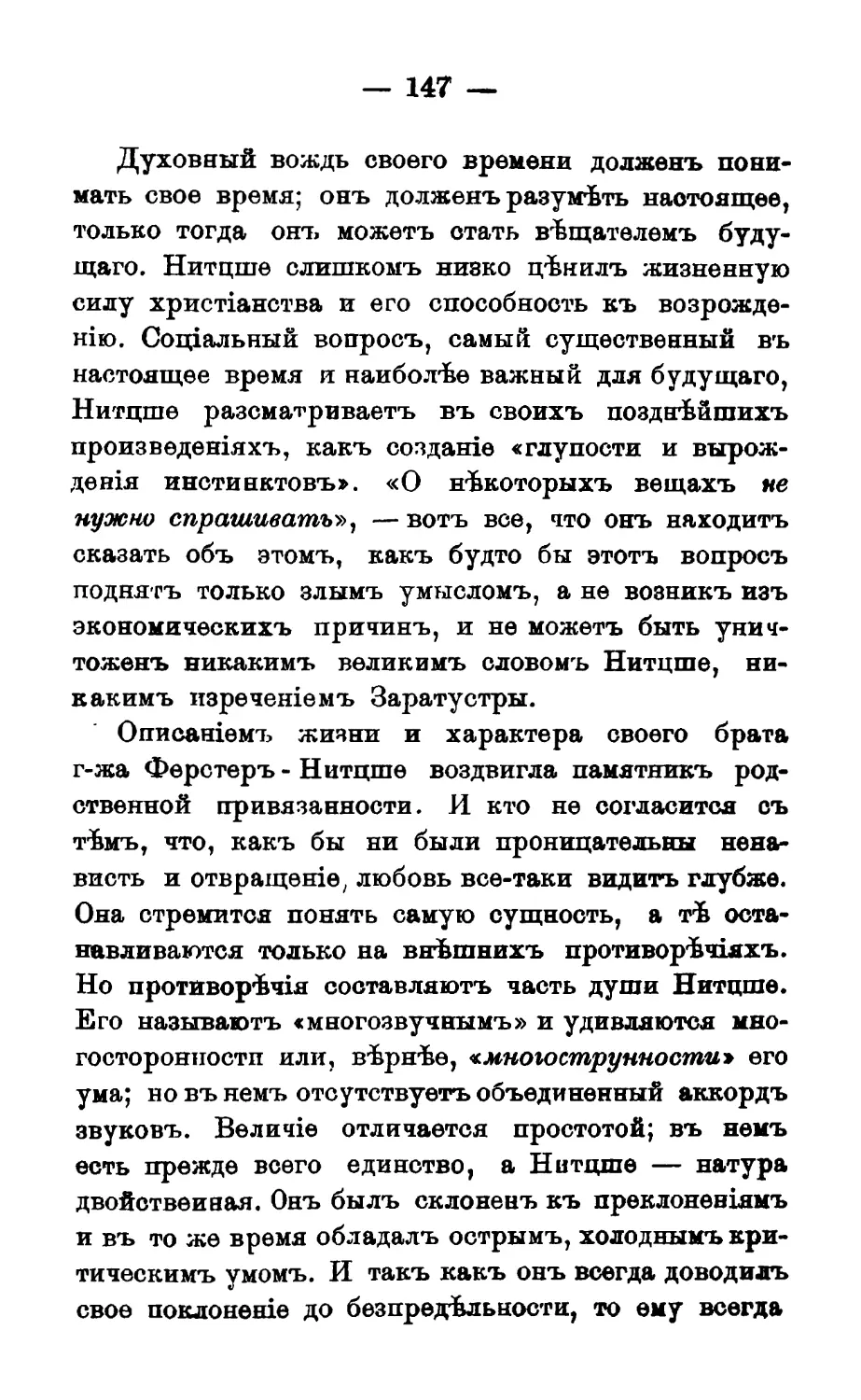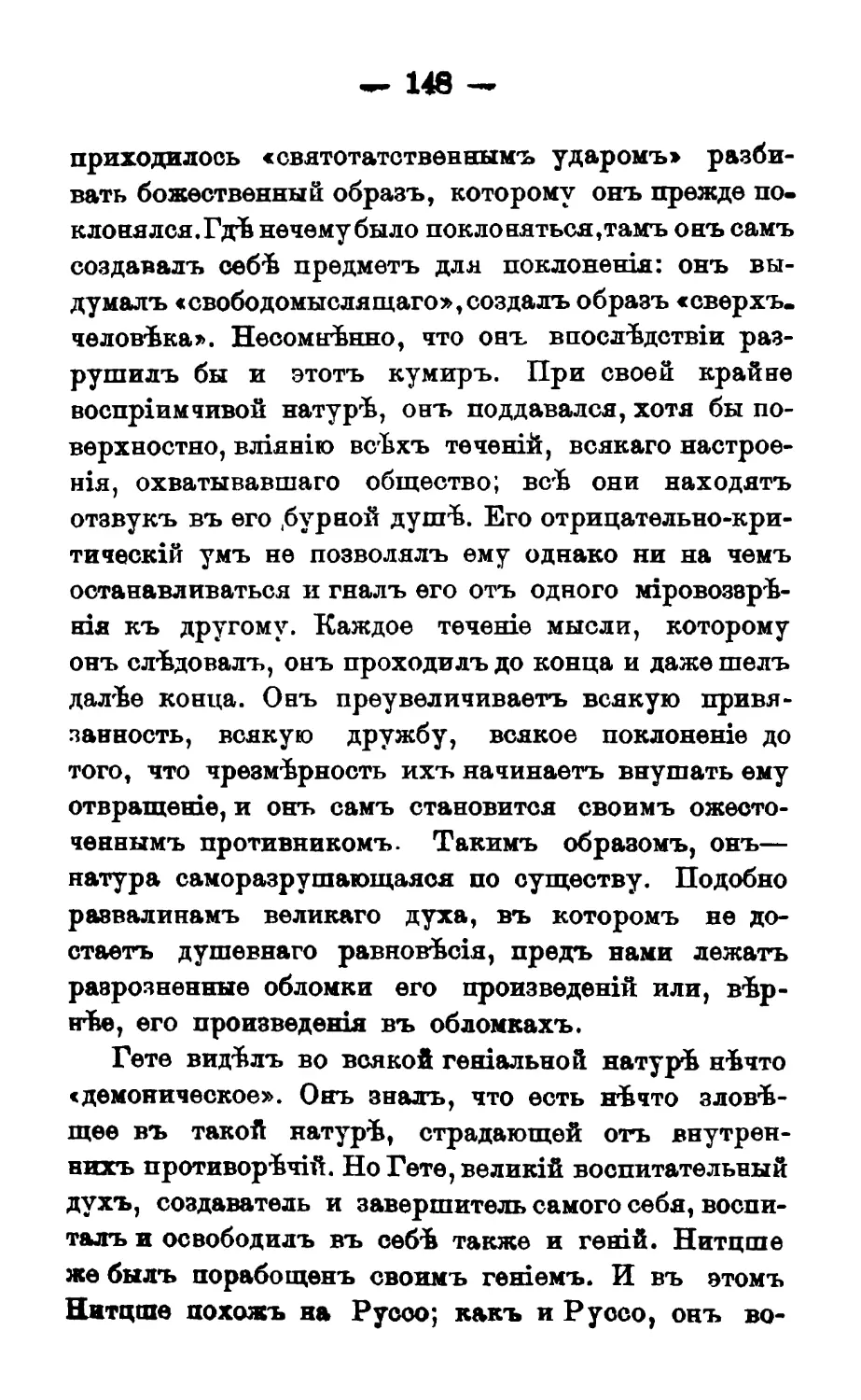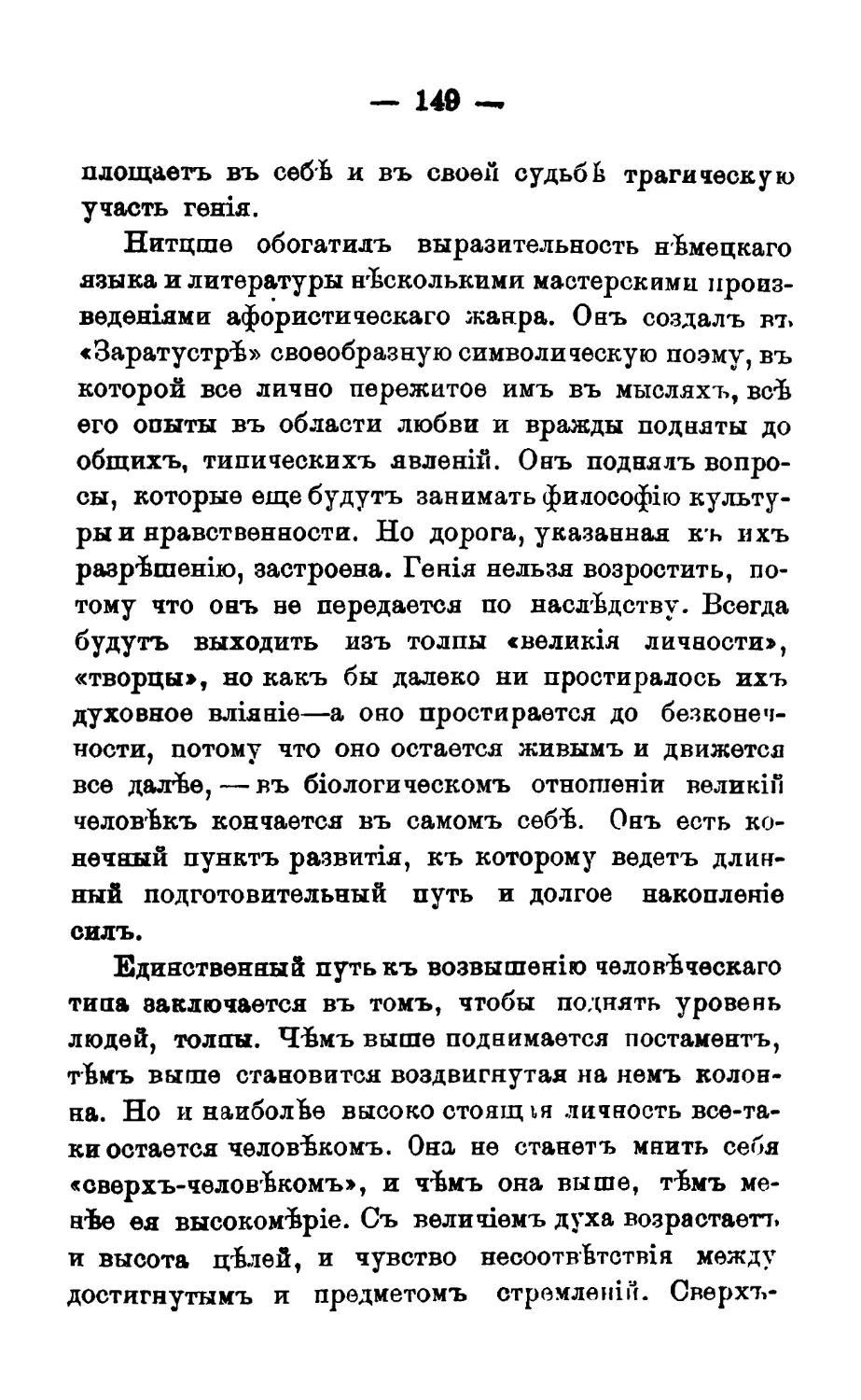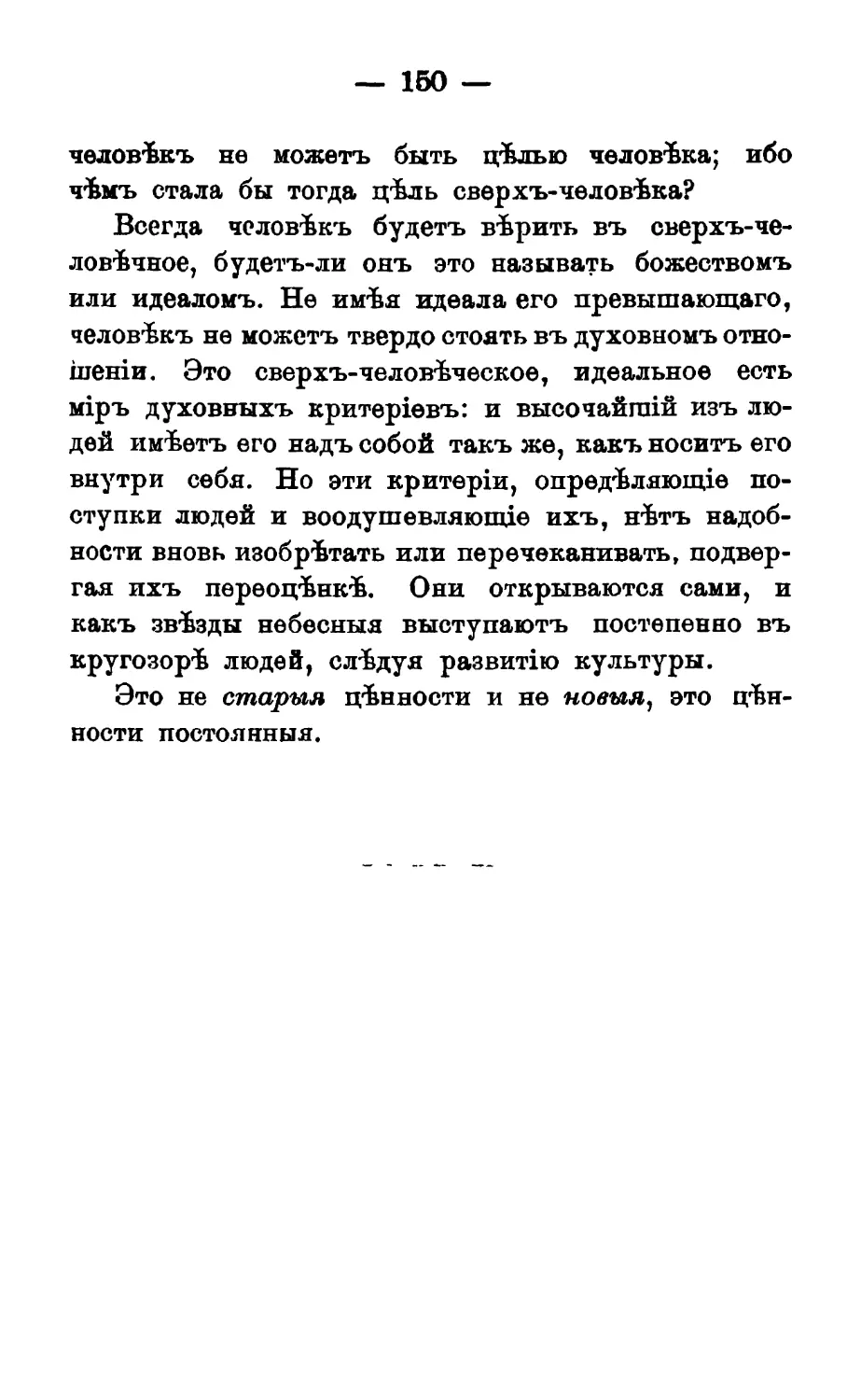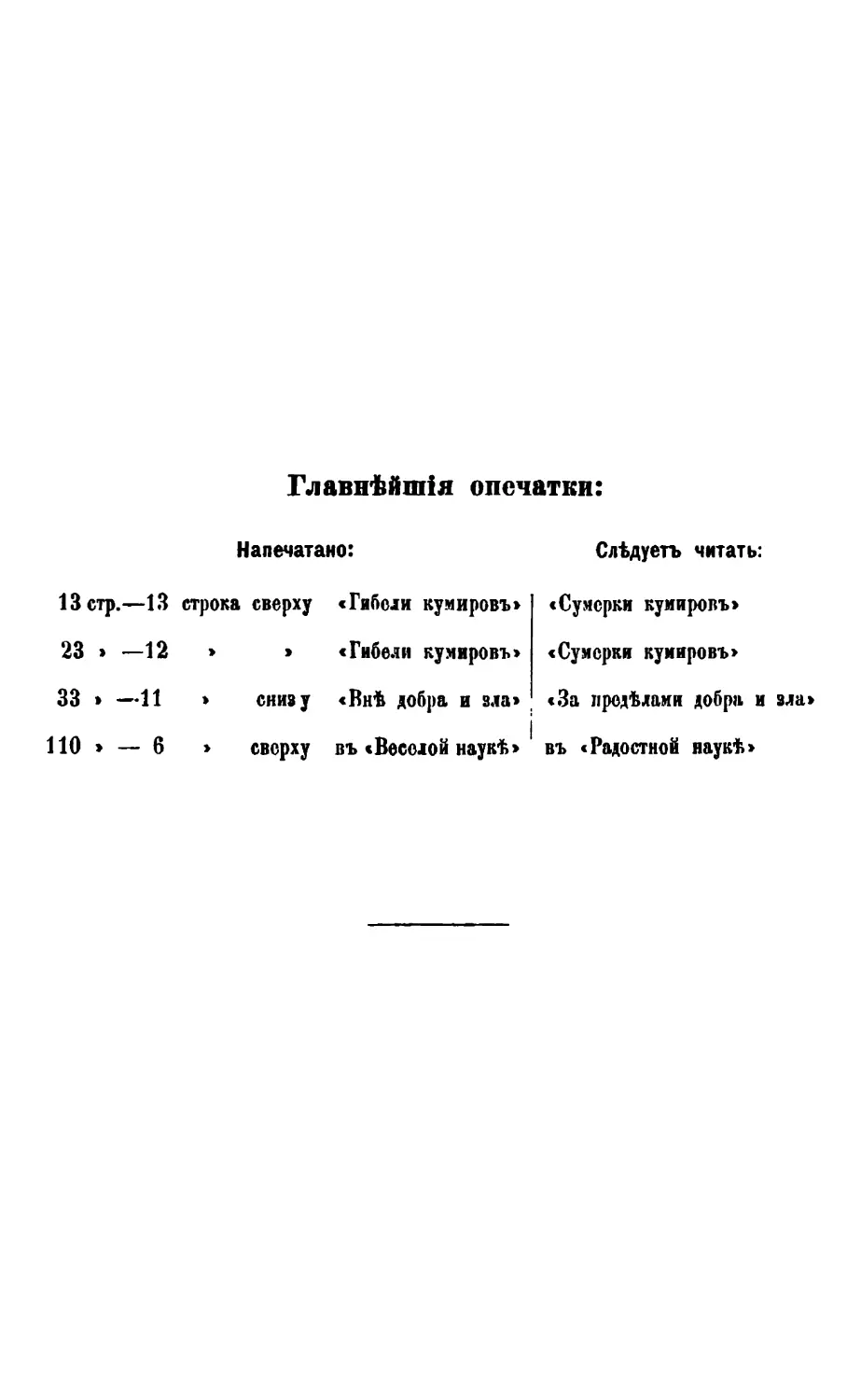Text
БИБШОТЕЬА ФШЮСОФОВЪ. И.
КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МЫСЛИТЕЛЬ.
Проф. А. РИЛЯ.
ПЕРЕВОД Ь < Ъ II Ъ Μ Ε ЦК А ГО
3. Венгеровой.
ИЗДАНІЕ РШКЩИ ЖУРНАЛА ,,0БРА30ВАНІЕ<4.
_*£=»е,=^
С.-ШПТ:РГ>УІ»ГЪ.
Типо-Литографія А. Лейфертп. Большая Морская, 05.
1898.
ігчаиб, J\fktZ)
Al
Дойв. цоиё. Οπό. Ноябрь І8>7 г.
Тип. И. ГоіьдО^рга. Ou
Дозволено цензурою. С.-Пстербургъ, 26-го Сентября 1897 г.
АФОРИЗМЪ НИТЦШЕ ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.
Для наилучшаго изображения значитель-
наго предмета слѣдуетъ заимствовать краски
у него самого, такъ чтобы самые предѣлы и
переходы красокъ создавали рисунокъ.
<Mens<-hliihes. AUzumenschliehcs. ί. Арішг. 20Γ)).
ПРОИЗВЕДЕНЫ НИТЦШЕ
И
ЕГО ЛИЧНОСТЬ.
Въ самомъ кояцѣ 1871 года появилась
маленькая книжка, заглавіѳ которой звучало загадкой и
обращало на себя вниманіѳ: «Происхождение траге-
діи изъ духа музыки» (Die Geburt der TragCdie aus
dem Geiste der Muelk). Авторъ ѳя, молодой профес-
соръ классической филологіи въ Базѳлѣ, былъ не-
извѣстѳнъ внѣ ограниченнаго круга друзей. На
первый взглядъ олшвлѳнно и убѣдитѳльно
написанная книга могла показаться чѣмъ-то весьма стран-
нымъ, попыткой отнести музыку будущаго, какъ
называли тогда произведения Вагнера, къ далекому
прошлому, ко времени процвѣтанія греческой тра-
гѳдіи. Рихардъ Вагнѳръ и Эсхилъ! Годъ спустя
тотъ же авторъ началъ сѳрію «Несвоеврѳмѳнньтхъ Раз-
суждѳній» полемическимъ памфлетомъ противт>
совершенно забытой теперь книги и до сихъ nojvb
нѳзабытаго большого критика. Книга называлась
«Давидъ Штраусъ, учптель и писатель», а потомъ
болѣѳ кратко и рѣзко: «Давидъ Штраусъ и другіе
филистеры».
Находчивость автора въ нападкахъ, остроуміѳ
ілутокъ, блѳскъ ироніи и иасмѣшекъ д-Ълаютъ эту
книгу однимъ изъ лучшихь произведешь немецкой
— 8 —
полемической литературы. ОтдЬльныя фразы, мѣткія
какъ эпиграммы, напоминаютъ Леесинга по своему
остроумію. Юморъ пхъ увеличивается еще отъ того,
что онЪ направлены противъ писателя, котораго
самого сравнивали съ Лессингомъ. РЬзкость же от-
дѣльныхь м Ъстъ объясняется тЬмъ, что авторъ
памфлета, последователь ІГГопенгауера, быль оскорб-
ленъ плоскими софизмами Штрауса въ его выход-
кахъ противъ пессимизма учителя.
Лишь немногіѳ читатели замѣтили сразу свяль
между обоими произведеніями. Въ χ Происхождении
Трагедіи» рѣчь идетъ о возвышенной трагической
культурѣ художественнаго генія, и авторъ говорить
о ней въ пророч» скомъ экзальтированномъ тон h.
Въ памфлѳтЬ противъ Штрауса этой культура про-
тивополагается, какъ полный контрастъ и какъ ире-
пятствіе къ ѳя достижению, низкая культура
«филистера цивилизаціи». Въ перномъ произведении борьба
ждется противъ Сократа, на котораго авторъ
нападаешь (по недоразумѣнію, впрочѳмъ) какъ на
основателя и тшшчнаго представителя всякаго антиху-
дожественнаго направления умовъ. Вторая книга
представляетъ шутливое иослѣсловіѳ къ первой и
вышучиваѳтъ совремѳннаго выразителя того будто-
бы сократовскаго, плоско-оптимистичѳскаго образа
мыслей.
Памфлетъ противъ Штрауса возбудилъ рѣзкіе
споры за и противъ. Съ этого времени имя Фрид'
риха Нитцше стало часто называться.
До 1876 г. полнились быстро одна за другой три
дальнѣйшія части «Несвоевременных/!, Разсуждѳній»:
Первая часть «О иользѣ и вродѣ исторіи для жизни»
(Vom Nutzea und Nachtheil der Historié fur das Leben)
— 9 -
должна была называться: «Мы историки; изъ
патологической исторін современной души» (ѴѴіг Histo-
riker; zur Krankheitsgeschichte der moderneu Seele).
Дв'Ъ другія части носили заглавія: «Шопѳнгауеръ
какъ воспитатель» (Schopenhauer als Erzieher), и
«Рихардъ Вагнеръ въ Байрейтѣ» (Richard Wagner
in Bayreuth). Въ этихъ «разсуждѳніяхъ» молодой,
пламенный умъ подходить къ современности
полный надеждъ. Онъ берѳтъ изъ ея философіи, изъ
ея искусства то, что соотвѣтетвѵѳтъ глѵбочайшимъ
влечѳніямъ его души, и усвоиваѳтъ заимствованное,
претворяя его. Повидимому онъ еще питаѳтъ
полное довѣріѳ къ духовнымъ вождямъ, которыхъ онъ
для себя избралъ. Онъ склонѳнъ изъ чувства
благодарности преувеличивать ихъ труды, которые по-
могаютъ окрѣпнуть его собствѳннымъ силамъ. ~Въ
овоѳмъ стремлѳніи къ общѳнію, къ тому, чтобы прі-
обрѣсти ѳдиномышленниковъ, онъ жаждѳтъ вліяніл
непосрѳдствѳннаго, даже бурнаго. Отсюда
возбужденный тонъ его кнпгъ. Онъ хочѳтъ всѳцѣло
пользоваться правомъ молодости, т. ѳ. заново создавать
свой собственный міръ. Въ разсужденіи собъ исто-
ріи», самомъ цѣнномъ изъ сѳріи нѳсвоѳврѳменньтхъ
разсуждѳній, онъ возстаетъ противъ излишества
«исторіи» въ воспитаніи соврѳмѳннаго чѳловѣка;
между прочимъ и потому, что этимъ вызывается
принижающее человека сознаніѳ себя только эпв-
гономъ.
Въ этомъ излишества онъ видитъ ослабленіѳ
личности, оскудѣніѳ пластической силы жизни.
Противъ этой систорической болѣзни» нашего времени
онъ рѳкомендуѳтъ какъ целительное средство «не-
историчѳскік элементъ жизни—т. е. силу и умѣ-
— 10 —
ніе забывать», болѣе же всего онъ «превозносить,
сверхъисторическую силу». Такъ напр. въ искус-
с*вѣ я рѳлиііи онъ видитъ силы, придающія
земному бытію характѳръ вѣчнаго. Несомненно, чтр-
это исканіѳ свѳрхъисторичѳскаго, т. е. вѣчнаго въ
жизни, было основой всего его тогдашняго міросо-
зерцанія. Онъ былъ еще подъ вліяніѳмъ Шопѳнгауера
и раздѣлялъ его пренебрежете къ исторіи.
Всякая вѣра въ развитіе, въ «міровой процессъ»,
вызывала въ немъ смѣхъ. Заявленіѳ же его, «что·
цѣль чѳдовѣчества не въ конечяыхъ рѳзудьтатахъ^
а въ тѣхъ высшихъ экзѳмплярахъ людей, которые
человечество производить», показываѳтъ,какъ рано
уже сложился въ его пониманіи основной принципа
его ариотократяческаго образа мыслей. Взглядъ era
на науку и ея предѣлы является тоже очень про-
ницатѳльнымъ. Критикуя попытки превратить исто-
рію въ чистую науку, въ отдѣлъ естѳствоэнавія
(въ то время Бокль пользовался еще популярностью)
онъ нашѳлъ мѣткоѳ слово: «посколько сущѳствуютъ.
законы въ исторіи, эти законы ничего не стоятъ,
и самая исторія ничего не стоитъ».
Но въ одномъ этотъ воинственный отрицатель
ошибался. Будучи самъ профѳссоромъ и учѳнымъ,
онъ слишкомъ высоко цѣнилъ вліяніе учености
на жизнь—бодѣѳ высоко во всякомъ случай, чѣмъ
этого трѳбуѳтъ справедливость.
Въ разсуждѳніяхъ о Шопѳнгауерѣ и Вагнѳрѣ—
мѳнѣе всего несвоевременныхъ при своѳмъ появлѳ-
ніи,—онъ заходить слишкомъ далеко въ своѳмъ
увлѳченіи, и вслѣдствіе этого характеристики обѣихъ
личностей выходятъ слпшкомъ субъективными. Но
т*Ьмъ сильнее выдвигается благодаря этому самъ
— 11 —
авторъ, его тяготѣніе къ великимъ начинаніямъ,.
стрѳмлѳніе къ высшей духовной власти,
предвиденье своей будущности, предчувствие опасностей
этого будущаго. «Шопѳнгауеръ и Вагнѳръ — т. ѳ.>
въ одномъ слове, Нитцше»—такъ опредѣляѳтъ впо-
слѣдствіи самъ Нитцше личный характеръ обоихъ.
произведѳній. О томъ, что въ нихъ заключалось
своего рода «прощаніѳ», что они были послѣднимъ
аккордомъ отзвучавшихъ настроѳній, никто не могк
подозревать при ихъ появленіи.
Но тѣхъ, кого горячность и натискъ этихъ пѳр-
выхъ произведѳній Нитцше увлекли за собой, кто
мысленно присоединялся къ смѣлымъ драконобор-
цамъ и культурнымъ прѳдвозвѣстникамъ, шаги
которыхъ слышались въ «Происхождении Трагѳдіи»—
тѣхъ ожидало скорое разочарованіѳ. Въ 1878 году,
всего два года после «Несвоевременныхъ равсуж-
деній», вышло въ свѣтъ собраніе афоризмовъ подъ
заглавіемъ «Человечное, слишкомъ человечное» (Men-
schlichcs, AUzumenschliches). Нигцшѳ самъ характери-
зовалъ свой сборникъ «книгой для свободомысля-
щихъ» и посвятилъ его памяти Вольтера, пріуро-
чивъ изданіе къ празднованію столѣтняго юбилея
со дня смерти Вольтера. Въ тѳченіѳ слѣдующихъ
двухъ лѣтъ появились дальнейшая произведения въ
томъ же родѣ: второй томъ книги «Человечное,
слншкомъ человЬчное» и «Странникъ и его тень»
(Der Wanderer und sein Sclmtten). Нитцше, казалось,
отрекся въ нихъ отъ самого себя. Романтичная и
поэтическая метафизика «Происхожденія Трагедіи»
и книги о Вагнере сменились тяготЬніемъ къ
позитивизму и разсудочности. Сократъ заменилъ Діо-
нік*а. Со столь лее резкой, хотя и противоположной
— 12 —
по направлению, односторонностью Нитцше превоз-
носитъ теперь человѣка науки: онъ должѳаъ стать
«дальнЪйшимъ развитіѳмъ эстетическаго начала»;
художнпкъ же, по природѣ своей, «существо
отсталое». Художники, говорить онъ (афор. 220 въ Ч.
с. Ч.) «восторженные глашатаи религіозныхъ ифило-
софскихъ заблужденій чѳловѣчества». Бмѣстѣ съ пере-
мѣной образа мыслей переменилась и манера Нитцше.
Тѳченіе рѣчи, неудержимое въ юношескихъ проиг-
вѳденіяхъ, становится какъ бы замедленяымъ
препятствиями, разбитымъ на части. Бурный потокъ
смѣнился маленькими, прозрачными озерами, изъ
которыхъ выглядываютъ свѣтлыя мысли. Нитцше
иишетъ афоризмы. Въ одномъ лишь страстный
мыслитель остался вѣрньшъ сѳбѣ: ему нравится
лишь самое крайнее, во всѳмъ онъ стремится дойти
до послѣдняго предѣла. «Лучше гибель человѣчѳства»,
говорить онъ, «чѣмъ рѳгрессъ зяанія!» И позже, въ
«Утренней Зарѣ» (Morgenrute) познаніе истины
признается «единственной великой цѣлью, въ жертву
которой слѣдуѳтъ принести все: даже само
человечество» .
Въ основныхъ взглядахъ Нитцше произошѳлъ еще
одинъ коренной перѳворотъ. Его можно было предви-
дѣть при большой проницательности уже въ
«Утренней Зарѣ», а въ «Радостной Наукѣ» (Fruhliche
Wisscnschaft, 1882) онъ обозначается улсе гораздо
яснѣѳ. Главнымъ произведѳніемъ новой эпохи въ
творчѳствѣ Нитцше является его самый
изумительный трудъ, символическая книга: «Такъ сказалъ
Заратустра» (Also sprach Zantthustra), написанная
въ 1883—1885 гг. Къ этому главному произведенію
присоединяется несколько второстепѳнньтхъ, въ ко-
— 13 —
торыхъ авторъ стремится обосновать научными
доводами свой новый образъ мыслей и сдѣлать изъ
него непосрѳдственвыѳ выводы. Въ этомъ же духѣ
написанъ сборникъ афоризмовъ с За пределами добра
ц зла» (Jenscits. von Gut and Btfse) и книга с О
гтроисхождѳніи нравственности» (Zur Généalogie
«1er Moral). Въ последней Нитцшѳ различаешь
двѣ системы нравственности. Въ май 1888 г.
появилось Туринское письмо о Вагнѳрѣ (Der Fall
Wagner), мастерски написанное, но не выходящее изъ
разряда полѳмичѳскихъ памфлѳтовъ. Въ сентябре
того же года Нитцше написалъ предисловие къ
своей «Гибели кумировъ» (GOtzendSmmerung); этотъ «фи-
лософскій экстрактъ» подводитъ итогъ его са-
мымъ смѣльгмъ и свободнымъ идѳямъ, и срадика-
ленъ до преступления», какъ шутя говорилъ самъ
Нитцше, Изъ задуманнаго имъ капптальнаго
произведения на научной основѣ «Опытъ къ пѳрѳоцѣнкѣ
всѣхъ ценностей» подъ заглавіѳмъ «Жѳданіѳ
власти» (Der Wille zur Macht) закончена лишь первая
часть—«Antichrist». Наступившая катастрофа
положила преждевременный ковецъ дальнейшей
деятельности Нитцше. Другое изъ «главныхъ произведѳній»,
о которомъ упоминается въ «Происхождѳніи
нравственности» и въ книгѣ о Вагнерѣ, должно было
называться «Физіологіѳй эстетики», но оно, кажется,
уже даже и не было начато.
Въ настоящее время Нитцше наиболее
читаемый изъ серьѳзныхъ писателей. Онъ выразить
однажды въ письмѣ къ Брапдесу гордое жѳланіе
имѣть только «нѣеколышхъ читателей, которыхъ самъ
высоко ставишь—и больше никакпхъ». Желаніѳ это
не исполнилось. По м-Тірѣ того какъ умножаются
— 14 —
изданія его произведений, увеличивается и число
книгъ о немъ. Имя его собрало вокругъ себя
ревностную толпу последователей, большей частью
литѳраторовъ и художниковъ· Его идеи для мно-
гихъ сделались символомъ веры. Ихъ неверно
толкуютъ и этимъ его компрометируютъ. Вліяніе
«го стиля на представителей новыхъ лнтературныхъ
вѣяній въ нѣмецкой литературе несомненно.
Стремятся подражать ему, хотя ему подражать нельзя и
не слѣдуѳтъ. Онъ несомненно модный философъ
нашего времени, а, быть можетъ, только временная
мода.
Восхвалять его — значить идти противъ его же-
ланія: «Я ждалъ отклика и услышалъ только
похвалы», говорить отъ его имени «разочарованный».
Возражать ему слишкомъ поздно — после его соб-
ствѳнныхъ возражѳній. Онъ имѣетъ въ виду самого
■себя, говоря въ «Страннике и его тѣни» (афор. 249):
«Этотъ мыслитель не нуждался въ томъ, чтобы ему
возражали: ему достаточно для этого самого себя.
Да и кроме того: не нужно возражать, нужно только
понимать >.
Современная эстетическая критика ставить
личность художника впереди его творчества. То, что
художникъ даѳтъ и на чемъ основано главнымъ об-
разомъ его вліяніѳ, не воплощено исключительно и
всѳцѣло въ его пропзвѳдѳніяхъ, а таится въ
значительной степени въ его собственной личности, въ
^го пониманіи предмета, его настроѳніи, его твор-
чѳскомъ ѳкстазгЪ. Произведете художника и его
личность сливаются въ каждомъ истинно-художе-
ственномъ произведена. Этотъ принципа, гтрпм'Ъ-
ннмъ π къ философскимъ системамъ, посколько
— 15 —
происхождение этихъ системъ приближаетъ ихъ къ
художествеянымъ произвѳденіямъ. Онъ примѣнимъ
такимъ образомъ и къ ходу мыслей въ писавіяхъ
Нитцшѳ.
Нитцшѳ мыслитель съ наиболѣѳ сильно выраженной
индивидуальностью. Изъ глубины собственныхъ ду-
шѳвныхъ пѳрѳживаній онъ почѳрпнулъ слова о томъ,
что каждая философія была всегда сисповѣдью
своего созидателя и какъ бы невольными
мемуарами», и что въ философѣ не можѳтъ быть ничего
•бѳвличнаго. «Mihi ipsi scripsb! — я для самого себя
пишу, восклицаѳтъ онъ каждый разъ, заканчивая
какое нибудь произведете. Онъ видитъ въ каждомъ
•своемъ произвѳдѳніи себя, вполнѣ самого себя—«ego
ipsisslmus». Книги его поэтому не заурядныя книги,
это результаты внутренней жизни, книги наиболѣе
«пѳрѳжитыя»; правда, пережитыя мыслителемъ, для
котораго мысли являютсл событіями.
Этотъ чисто личный характѳръ его
произведений требуѳтъ въ особенности эстетически
художественной оцѣнки. Прежде всего интересно
установить не самую истинность заключѳнныхъ въ
нихъ идей, а то, каковъ авторъ этихъ идей л
какъ онъ ихъ выражаетъ. Насъ чаруѳтъ форма,
вполнѣ отвечающая мыслямъ—страннымъ, окзотич-
нымъ, южнымъ мыслямъ,—чаруетъ ритмъ живой
рѣчи, звукъ написанныхъ для слуха словъ. Но все
таки было бы, какъ говорить Нитцшѳ, «сдисгрѳгаціеп
инстинктовъ», если бы мы въ художникѣ Нитцшѳ
забывали мыслителя. Художественное наслаждѳніе
его формой не должно ослаблять интерѳсъ къ со-
держанію, т. е., въ данномъ случаѣ, къ истинности:
учѳнія Нитцше.
— 16 —
Чтобы быть справѳдливымъ къНитцше, не нужна
судить его по тѣмъ взглядамъ, которые онъ самъ
опровергаешь· Въ его собствѳнныхъ произведешьхъ
данъ критѳрій для суждѳній о нѳмъ. Тамъ, гдѣ
нужно, его можно побѣдить на его собственной
арѳнѣ и его собствѳннымъ оружіемъ. Очень легко
осудить его вэгляды съ точки зрѣнія
обыденной морали—но что можѳтъ быть болѣѳ празднаго?
Того, кто соткрылъ новыя ценности», нельзя судить
по старымъ. Понятно само собой, что тотъ, кто
признаѳтъ себя «внѣ морали» и видитъ въ
общепризнанной нравственности лишь историческое и
біологичѳскоѳ переживавіѳ, окажется нѳсостоятель-
нымъ пѳредъ ѳя судомъ. Гораэдо важнѣѳ узнать,
можетъ ли «мораль > устоять противъ его
нападений—устоять во всѳмъ, что она считаетъ обязатель-
нымъ и основаннымъ ва требованіяхъ разума.
Уже по своимъ основнымъ идеямъ Нитцшѳ
«воитель противъ своей эпохи». Онъ аристократъ и
радикалъ, саристократичѳскій радикализмъ — вотъ
самое умное опрѳдѣлѳніе, которое я до сихъ поръ
читалъ о сѳбѣ», говоритъ онъ самъ, Въ всемъ сво-
ѳмъ міросозѳрцаніи онъ представитель
индивидуализма. Ренѳссансъ для него золотой вѣкъ. Наше время
имѣѳтъ склонность къ коллективизму и забываѳтъ
иногда среди своихъ спеціальныхъ задачъ объ ос-
новномъ вначеніи личности. И, можетъ быть,
главное значѳніе Нитцшѳ и состоитъ въ томъ, чтобы
показать опасность, лежащую въ сдѣпомъ стрѳмлѳ-
ніи уравнить всѣхъ и все, и тѣмъ самымъ какъ бы
принизить типъ чѳловѣка.
/Можно ли считать Нитцшѳ филооофомъ? с Какое
ото имѣетъ значѳніѳ > ? отвѣтилъ самъ Нитцшѳ на этотъ
— 17 —
вопросъ. Никакого, если видѣть въ философіи такую
жѳ науку, какъ и всякую другую, лишь нѣоколько
мѳнѣе спеціальную. Но вопросъ пріобрѣтаетъ
крайнюю важность, если видѣть въ философіи
царственный даръ управлять жизнью, мудрость,
устанавливающую цѣль жизни, если считать философа тѣмъ,
чѣмъ Нитцшѳ объявилъ его въ книге о Шопѳнгау-
ерѣ, т. е. «опрѳдѣляющимъ мѣру, цѣнность π вѣсъ
вещей—судьѳю жизни». Философъ въ этомъ второмъ
значеніи слова не нуждается въ «спстѳмѣ» — у
Сократа не было никакой системы. Онъ вдіяѳтъ скорѣе
единствомъ своей духовной жизни, своимъ міросозер-
цаніемъ и силой своей личности. Изъ разбросанныхъ
изрѳченій Нитцшѳ тоже нельзя составить никакой
системы. На первый взглядъ, не видно единства въ пері-
одахъ его творчества, въ произвѳдѳніяхъ одного nepi-
ода, и даже въчастяхъ одного итого нее произвѳденія.
И если при болѣе внимательномъ изученіи можно
подмѣтить нити, связывающія старѣйшія
произведения съ новыми, если въ томъ, что высказано было
ранѣѳ, обнаруживаетсязародышъ попднѣйшихъидей,
то всѳтаки явившееся такимъ образомъ единство есть
скорѣѳ единство личности, чѣмъ системы или учѳніл.
Въ преемственности идей, развивающихся среди
всѣхъ протпворвчій поыимаыія, отражается посте·
пенное развптіе весьма своеобразной личности самого
мыслителя. Поэтому характеристика личности
должна предшествовать оцѣнк в философскаго значенія
его произведеній. Біографическій элемѳнтъ идетъ
впереди логпчески-систѳматическаго.
Мы не задаемся вопросомъ, не обладалъ ли Нитцше
слшпкомъстрастнымътемпераментомъ для философа.
Изд. ред. журн. «Образована». 2
— 18 —
Все великое, въ томъ числѣ и велнкія фнлософскія уче-
нія, исходитъ изъ сердца и обусловлено великими
страстями. Мы спрашиваѳмъ только, былъ ли Нитц-
шѳ достаточно здоровъ для философа. ВЬдь и
здоровье так лее необходимо для философіи, иНитцше самъ
это зналъ лучше всѣхъ. Ул;ѳ тотъ отвѣтъ,
который онъ самъ даетъ въ своей автобіографіи, т. ѳ.
въ изображеніи самого себя въ своихъ произведе-
ніяхъ и въ прѳдисловіяхъ къ своимъ произведѳ-
ніямъ, заслуживаѳтъ вниманія. Но еще болѣе
трогательна повѣсть его жизни, разсказанная его
сестрой.
Первый жизненный ударъ постигъ Нитцше въ
раннѳмъ дѣтствѣ, когда ему было едва пять лѣтъ.
1>ъ этомъ нѣжномъ возрастѣ онъ потернлъ отца (въ
1849 г.), который умеръ отъ сотрясенія мозга послъ
падѳнія съ лошади. Нитцше всю жизнь оплакивалъ эту
потерю, бросившую тѣнь на его въ другнхъ отношѳні-
яхъ безоблачное дЬтство. Воспитаніе Нитцше было
предоставлено главнымъ образомъ ему самому, и вмѣсто
настоящихъ отцовскихъ попечѳній онъ пользовался
«суррогатомъ родительскаго воспитанія ,
«нивелирующей дисциплиной хорошей школьной системы>.
Подъ этими словами онъ нод[>азум;вваетъ учебны л
завѳдѳнія, чѳрѳзъ которыя онъ прошѳлъ въ возрастѣ
отъ 14—20 лѣтъ. Въ своей «безмѣрной жаждѣ
всеобъемлющаго знанія» онъ стремился разбить
«оцѣпенѣвшѳѳ среди законовъ и правилъ распредѣ-
лѳніе и употребленіѳ времени» и отдавался
«пробивавшейся иногда наружу страстности >. Вторы мъ
опрѳдѣлившимъ теченіѳ его жизни событіемъ было
назначѳніе его профессоромъ филологіи въ Базелѣ.
Когда онъ полумилъ эту каѳедру, по рѳкомеігдаціи
— 19 —
своего учителя Ричля, ему было всего 24 года, и онъ
еще не закончилъ своихъ занятій обычной
защитой докторской диссѳртаціи. Лейпцигскій
факультетов послалъ юному «профессору* докторскій дип-
ломъ бѳзъ предварительная экзамена. Этотъ ранній
успѣхъ не принесъ/однако, Нитцше счастья. Слиш-
комъ тяжелая для его возраста работа сразу
обрушилась на него. Онъ сумѣлъ, правда, одолѣть ее—
его мастѳрскіѳ этюды по исторіи древней греческой
философіи подтвѳрждаютъ это въ достаточной
степени,—но одна пзъ причинъ его болѣзнн коренится
именно въ умственномъ переутомлѳніи того времени,
Нитцше принималъ участіе въ войнѣ 1871 г. какъ
добровольный санитаръ. Базельская профессура дѣ-
лала его швѳйцарскимъ гражданиномъ, почему
онъ и не имѣлъ права носить оружіе. Поелѣ
войны онъ началъ страдать глазами, и эта болѣзнь,
какъ выяснилось впослѣдствіи, вызвана была общимъ
мозговымъ ітзстройствомъ. Въ 1876 г. онъ дол-
женъ былъ отказаться отъ нЪкоторьтхъ елужебныхъ
обязанностей ипересталъ читать лекцін въ Базель-
скомъ пѳдагогіумѣ. Два года спустя ему пришлось
еовсѣмъ отказаться отъ профессуры. Когда сестра
Нитцше увндѣла его въ 1878 г. она едва узнала его:
разбитый, усталый, постарѣвшіи человѣкъ въ глу-
бокомъ волненіи протяну ль ей руку. «На меня
легло тяжелое, тяжелое бремя», шшіетъ онъ въ
1880 г.: «за послѣдній годъ у меня было 118 тяже-
лых'ь припадковъ. Я иродолжалъ жить, но не ви-
д'Ълъ на разстояніи трехь шаговъ». Съ гі.хъ поръ
онъ живетъ какъ больной. Не жеіаніе, а
необходимость заставляла его проводить дѣтніе мѣсяиы въ
деревушкѣверхняго Энгаднна, а зиму на РивьерЬ. Но
— 20 —
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ внутреннюю связь
съ простой и величественной местностью Энгадина,
«родиной всѣхъ сѳребристыхъ красокъ природы», и
любилъ также югъ, мягкое небо, южные цвѣты,
свѣтлый воздухъ и синее море.
Его страданія увеличивались и «послѣ тяжелыхъ
л*Ьтъ дошли до того крайняго пункта, когда
ощущение боли становится привычнымъ», говоритъ онъ
самъ въ письмѣ къ Брандѳсу. Онъ называѳтъ свое со-
стояніе «прѳддверіемъ ада». «Ужасное существовать
среди добровольныхъ лишеній», которую онъ дол-
женъ вести, кажется ему «тяжелой какъ
аскетическая, полная стѣсненій жизнь». «О, какіѳ годы», пи-
шетъ онъ о пѳріодѣ 1876—18S2 гм «какія муки,
какое одиночество и какая тоска, какъ надоѣло жить! »
Въ одномъ письмѣ (къ Брандѳеу) отъ 188S г. онъ
называѳтъ «исторію своей юности съ 15 лвть»
ссплошнымъ ужасомъ, роковымъ падѳніѳмъ иразсла-
бленіемъ». Даже его сильная воля и умѣніѳ
многому противостоять должны были поддаться. «Мое
здоровье слишкомъ сильно потрясено, мученіѳ олиш-
комъ продолжительно», жалуется онъ своему другу
Рэ: «что пользы въ моемъ терпѣніи инасиліинадъ
еамнмъ собой»? Бывали минуты, когда ему стоило
величайшей рѣшимости выносить жизнь, и онъ
разражается однажды словами, полными отчаянія: «я
презираю жизнь». По мѣрѣ того какъ болЬзнь его
принимала большіѳ размѣрьт, ухудшалось и состоя-
ніе глазъ, такъ что онъ почти ослѣпъ. «О, эти глаза»,
жалуется онъ—«я не знаю, что мнѣ съ ними дѣлать,
они положительно силой удаляютъ меня отъ науки».
Нптцшѳ отъ природы не былъ расположенъ къ.
одиночеству. Онъ охотно выскааывалъ свои мысли,.
— 21 -
будучи къ тому же прекраснымъ ирѳподавателемъ, и
его отзывчивая натура нуждалась въ друзьяхъ.
Личныя связи несколько разъ пмѣли рѣшающѳе
значение для его духовной жизни; глубже всего
отражалась на нѳмъ дружба съ Рихардомъ Вагнеромъ.
Поля Рэ онъ иногда называлъ «своимъ другомъ и
завѳршитѳлѳмъ». «Я самъ обломокъ, и только въ
рѣдкія, рѣдкія хорошія минуты могу заглянуть въ
лучшій міръ, гдѣ живутъ цѣлыгая и совершенныя
натуры», пишетъ онъ въ письм-Ь къ этому другу.
Одиночество и отчужденіѳ отъ людей, которыя
неминуемо прпходятъ съ болѣзныо, заставляли его
страдать. «Я не хочу больше быть одинокимъ, хочу
опять стать чѳловѣкомъ. Но увы, мнѣ такъ трудно
выучиться этому», пишетъ онъ въ письмѣ къ Лоу
Саломэ. «Рѣзкость и самоуверенность суждѳній», въ
которыхъ онъ самъ себя упрекаѳтъ, происходятъ
отчасти отъ его обособленности, вслѣдствіе которой
его сужденія не находили отклика и не возбуждали
возраженій. Когда въ 1882 г. его состояніѳ начало
какъ будто улучшаться, онъ сталъ думать о томъ,
чтобы въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ изучать естѳственныя
науки въ Вѣнѣ, Парижѣ или Мюнхѳнѣ. Онъ счи-
талъ тогда своимъ главнымъ нѳдостаткомъ отсут-
ствіе естѳствѳнно-научныхъ знаній. Но особенная
возбужденность творчѳскихъ силъ въ эту пору жизни
заставила Нитцшѳ отказаться отъ этого плана. Въ
слѣдующія пять-шѳсть лѣтъ возникли самыя ха-
рактерныя изъ его произведений, но уже самый
лланъ десятилетней студенческой жизни
показываешь, какъ мало отшельничество и удаленіе отъ
свѣта соответствовали основнымъ стремленілмъ его
натуры.
— 22 —
Въ промѳжуткахъ между припадками болѣзни
Нитцше писалъ свои произведения; онъ писалъ нхъ
урывками, когда чюль отпускала его на свободу»,
часто пользуясь для работы минпмумомъ силы и
здоровья?. Въ моменты труда онъ чувствовалъ себя
свободнымъ, легкимъ, вдохновленнымъ. Прнлпвъ
мыслей онъ ощущаетъ какъ особаго рода танѳцъ.
«Я чувствую себя теперь свободнымъ, я лечу, н
вижу себя теперь опускающимся, во мнв танцуегь
божество*.—«Не отецъ ли мнь* излишество, а мать—
тихій смѣхъ»? Крайне изотцрѳнная
чувствительность побуждала его въ т-в годы къ чрезмерной
производительности, .которая въ свою очередь доводила
до крайности его нервную раздраженность—роковой
кругъ, который все тѣснѣе и тѣснѣе охватывалъ
его до т-бхъ поръ, пока паконопъ не ттогибъ его
духъ. «Познавшій самого себя,—собственный па-
лачъ!» говоритъ Заратустра о себѣ самомъ.
Нитцше любнлт, размышлять среди природы; во
время сильнаго двилсѳнія, на уединѳнныхъ верши-
нахъ у моря, и тамъ, гдѣ самыя дороги, какъ онъ
выражается, становятся задумчивыми,—тамъ
приходили къ нему его мысли. Его произведения созданы
среди plein air'a, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ
самомъ дъл'в7 словно чувствуется солнце и свѣжій,
рѣзкій воздухъ.
Нитцше принужденъ былъ работать урывками изъ
за своего « переменчиваго здоровья». Понятно, почему
изменился методъ его работы, почему онъ писалъ
is долженъ былъ писать афоризмы. Прежде онъ ста-
вилъ въ упрекъ Штраусу то, что книга его
составлена изъ кусковъ; онъ требовалъ отъ писателя
цѣльнаго замысла и соответствующей цельности
— 23 —
изложенія. Теперь онъ уже и самъ не могъ, далее
когда хотѣлъ и когда этого трѳбовалъ прѳдмѳтъ,
составить цѣльное изъ цѣльнаго. Даже книга «о
происхожденіи нравственности* распадается на куски
и £>азбиваѳтся на афоризмы. Но онъ хочетъ убѣлить
себя и насъ, что этотъ нѳдостатокъ составляешь вч,
сущности достоинство. Изреченія и афоризмы, въ
которыхъ онъ считаетъ себя первътмъ среди нѣмец-
кнхъ худолѵниковъ слова, онъ называетъ вЪчными
формами; онъ гордится тѣмъ, что «въ десяти фразахъ
молсетъ сказать то, чего другой не сумѣѳтъ
выразить въ цѣлой книгѣ». (Гибель кумировъ, стр. 129).
Намъ, однако, афоризмъ не представляется
стилемъ великаго духовнаго строителя и
созидателя. Онъ относится скорѣѳ къ мелкому искусству.
Это «эпиграмматически! стиль», поралсающіп какъ
стрѣла. Или л;ѳ въ нѳмъ такъ оттачивается и
полируется мысль, что она блеститъ л поражаетъ.
Афоризмъ—форма для отдельной, вырванной изъ
связи съ цѣлымъ мысли, ставшей поэтому
односторонней полуистиной. Еще чаще онъ становится по-
кровомъ для образующейся, не созрѣвшей мысли,
для мысли, которая скорѣе еще настроеніѳ, чЬмъ
мысль. Въ этомъ обаяніѳ афоризма и опасность
этого обаянія. Бурже видитъ характерную черту
декадентскаго стиля въ стрѳмлѳніи придать
независимость страница въ книгѣ, фразѣ въ странип/Ь,
слову въ фразѣ; если ото такъ, то афоризмъ и из-
реченія, употрѳбляемыя не въ видѣ исключения, а
какъ обычная форма изложенія, составляюсь
декадентский стиль. При этомъ, конечно, молшо
признать, какъ мы это и дЪлаемъ, мастѳрстго Нитцшѳ
въ этомъ стилѣ.
— 24 —
Въ афорпзмахъ Нитцше замѣтны колебанія
манеры выражевія. соответствующая различнымъ фа-
замъ его умственной жизни. Яснѣѳ и проще всего
Нитцшеиисалъ въто время, когда создавались «Чѳло-
вѣчяое, слишкомъ человечное» и «Странникъ и его
тѣнь». О символическомъ стилѣ «Заратуетры» и
о сущности символизма вообще мы еще будемъ
говорить.
«Сгорѣть отъ своихъ собственныхъ мыслей» —
эту аллегорію употребилъ Нитцше, говоря о самомъ
сѳбѣ, и она оказалась не столько аллегоріей, сколько
выражѳніѳмъ подлиннаго физіологически - химиче-
скаго процесса въ мозгу Нитцше. Мысли
обрушиваются на него и захватываютъ его съ
внезапностью душевныхъ потрясеній и кризиеовъ.
Мыслить значитъ для него ощущать глубокое волненіе;
жить значитъ «постоянно претворять себя, все свое
существо, въ свѣтъ и пламя».
«Да, я знаю откуда я родомъ! Ненасытный какъ
пламя, я горю и пожираю себя. Все пылаетъ, къ
чему я прикасаюсь, все превращается въ уголь, что
остается послгв меня. Несомненно, что я пламя!» *).
Такъ онъ характеризует ь самого себя въ стихо-
твореніи, озаглавленномъ «Ессѳ homo».
Эта характеристика и представлѳніѳ, которое
можно себѣ составить о Нитцше по его произведе-
ніямъ, новидимому, не согласуются съ тѣмъ, какъ
*) Jaî ich weiss woher ieh stamme!
Ungesattigt glcich (1er Flamme
Gliihe iind verzehrieh mich.
Licht wird Mies was ich fasse.
Kohle allés was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlir-h.
— 2δ —
его описываютъ друзья. У него была привычка тихо
говорить, осторожная, задумчивая походка, спокой-
ныя черты лица и обращенные внутрь, глядящіѳ
вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не
заметить, такъ мало было выдающагося въ его внѣшнемъ
облике. Въ обычной жизни онъ отличался большой
вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной
ровностью характера. Ему нравились изысканныя
манеры въ обращѳніи, и при первой встрѣчѣ онъ
поражалъ своей несколько дѣланной церемонностью.
Въ отомъ игюбраженіи трудно узнать пламенный
духъ дерзновеннаго мыслителя. Но противорѣчіе
между писатѳлѳмъ и чѳловѣкомъ—только кажущееся,
и исчезаетъ при болѣѳ близкомъ разсмотрѣнін.
То, чтоНитцшѳ возводить въ жизненный идеалъ, и
въ чемъ онъ видитъ цѣль совершенству ющагос я
человечества, не заключается въ идеализированномъ
образе его собственной жизни и личности. Напро-
тивъ, это скорее п2эотивопололсность его самого, во
всякомъ случае противоположность того, что
сделали нзъ него болезнь и судьба. Къ нему можно
применить его собственное изреченіе: «наши
недостатки—ото глаза, которыми мы глядимъ на идеалъ>>,
такъ же какъ и другое: «отъ идеала можно сделать
обратное заключѳніе о томъ, кто въ нѳмъ нуждается»·
Нитцшѳ декадентъ, но онъ понималъ это и
боролся противтэ это о. Онъ декадентъ съ
инстинктами здороваго человека, и поэтому именно онъ
«тавплъ выше всего—даже слишкомъ высоко—силу
жизни, избытокъ жизни, въ чѳмъ бы онъ ни
проявлялся. Онъ больной, который однако более всего
остерегается делать изъ своихъ страданій выводы,
враждебные жизни. Онъ призняетъ страданія, чтобы
— 26 —
не отрицать жизни, и обращаетъ страданіѳвъ источ-
никъ силы, въ дисциплину воли; этимъ объясняется
его подозрительность ко всему, что препятствуѳтъ
проявленію воли, ко всякаго рода чувственной
слабости, даже къ состраданію. Больному здоровье уже
само по сѳбѣ представляется благомъ. И тотъ, чья
воля истощается въ борьб 1:> съ страданіемъ и
становится бѳзсильной во внѣшнихъ своихъ про-
явлѳніяхъ, хотѣлъ бы видѣть конечную цѣль всѣхъ
стрѳмленій въ само Γι могучей волѣ, въ сжеланіи
могущества». То, въ чемъ Нитцше сильнвѳ всего
нуждался въ жизни, онъ переносилъ въ свой иде-
алъ жизни. Онъ нуждался въ «большихъ перспек-
тивахъ нравственно духовнаго горизонта», чтобы
быть въ состояніи переносить свою жизнь. Онъ
мѳчтадъ о все болѣѳ сильномъ и высокомъ развитіи
человека, о перехода къ высшему роду: онъ меч-
талъ о «свѳрхъ-чѳловѣкѣ».
Не нужно однако забывать въ Нитцше поэта и
художника. Его изреченія нужно брать всегда
несколькими тонами ниже и вычитать изъ нихъ все
то, что не только по формѣ и образамъ, но и по
выбору и сочетанию мыслей, находится въ зависимости
отъ его лоэтичѳскихъ наклонностей, его
пристрастия къ очень тонкимъ словѳснымъ оборотамъг
любви къ формамъ рѣчи и колориту словъ. Поэтому
нужно остерегаться понимать Нитцше слишкомъ
буквально. Онъ любить все говорить сильно и рѣзко,
любитъ далее подчеркивать. Онъ пѳрѳмѣной шрифта
старается обратить нашъ глазъ или, вѣрнѣе, нашъ
слухъ на всякое оригинальное или особенно
удачное выраженіе, въ знакъ того, какъ для него
важна форма мысли, часто не менѣе самой мысли.
— 27 —
Мыслитель, который жѳлалъ бы только быть мысли-
тѳлѳмъ, избѣгалъ бы столь шумной манеры изло-
жѳнія.
Возрастающее вліяніе произвѳдѳній Нитцше въ
особенности на молодежь объясняется главнымъ обра-
зомъ обаяніѳмъ его рѣчи, которая дѣлаетъ этого
необычай наго писателя птице ловомъ, завлѳкающимъ
неопытныя души въ свои сѣти.
II.
НИТЦШЕ КАКЪ ХУДОЖНИКЪ.
«Мы, философы, бываемъ болѣѳ всего
признательны, когда насъ отождествляютъ съ
художниками», иисалъ Нитцшѳ Брандесу. Онъ самъ — ху-
дожникъ, котораго можно было бы принять за
философа. Въ философіи своего юношескаго пѳріода
онъ разсматривалъ сотвореніѳ міра пчѳловѣка, какь
проявлѳніѳ воли художника. А вершиной его
творчества стала символическая поома тео]>етическаго
содѳржанія. Несколько чисто внѣшнихъ, случай-
лыхъ причинъ помѣшалн ему, по его же словамъ,
стать музыкантомъ. Зато всѣ его художестве в ныя
наклонности, въ томъ чііслѣ и музыкальныя,
послужили ему для разработки языка. Нитцше—власте-
линъ рѣчи; она для него—ияструментъ, послушный
его тончайшимъ намѣреніямъ и оттѣнкамъ настрое-
ній. Онъ вкладываетъ въ язьткъ свою душу, теченіе
своихъ мыслей, то спокойное, то бурное, колоритъ
евоихъ страстей, и въ тоже время, какъ артлстъ
даетъ своему инструменту проявить глубину своего
тона,такъиязыкъ проявляетъ сной собственный духъ
въ мастерской манерѣ Нитцше, Не одинъ только
врожденный талантъ, но и сосредоточенность мысли и
упорный трудъ способствовали у него выработкѣ
редкой художественности языка.
— 32 —
Какъ видно изъ «работъ и набросковъ 1872—
1876 гг.» (10-й т. сочин.), въ число задуманныхъ
имъ «нѳсвоевременныхъ разсуждѳній» (ихъ должно
было быть двадцать) входилъ очеркъ <0 ^тѳніи и
письмѣ». Упоминаются также подготовительный
работы къ «ученію о стилѣ». Афоризмы о языкЬ, вошедшіе,
въпозднѣйшія произведения, главнымъ образомъ—въ
«Человечное, слишкомъ чѳловѣчное» и «Странникъ
и его тѣнь», заключаютъ въ себѣ, вероятно, глав-
нѣйшія мысли тѣхъ набросковъ. Они даютъ намъ
возможность заглянуть въ мастерскую писателя, и по
нимъ можно было бы составить цѣлую тѳорію писа-
тѳльскаго искусства, въ особенности же искусства
Нитцшѳ.
с Прежде всего нужно много работать, нужно
отдать кровь и силы на выработку языка», говоритъ
онъ въ отрывкѣ «О чтеніи и пиеьмѣ». «
Настало время», продзлжаѳтъ Hnriiuiej «заняться
художественностью нѣмецкаго языка», с Должно
образоваться ремесло, чтобы изъ него
выработалось искусством. «Нѣмцьт въ большинства слу-
чаевъ забываютъ, что нужно учиться читать и
писать*. сКакой нѣмѳцъ знаетъ и считаетъ необходи-
мымъ знать, что есть искусство въ каждой хорошо
выраженной фразѣ—искусство, которое нужно
понять, для того чтобы сталъ яснымъ смысдъ фразы».
(«За иредѣлами добра и зла» стр. 206). «Ниодинъ
культурный народъ», пишѳтъ Нитцше въ
«Странника и его тЪни» (афор. 95) «не имѣѳтъ такой
скверной прозы какъ нѣмцы». Это продсходитъ отъ того,
что «нѣмцы знаютъ только импровизированную
прозу.—Работать надъ одной страницей прозы какъ
— 33 —
надъ статуей—тімъ кажется какой-то непонятной
фантазіей».
«Дивная музыкальность» языка сущсотвуетъ
прежде всего для слуха. Школа языка является
«школой высшей музыкнэ. Поэтому нѣтъ ничего
пагубн-Ье для нѣмецкаго я.шка, какъ «канцелярскій
слогъ, преобладаніе письмен наго стиля надъ язы-
комъ живой рѣчи».— Ліисаніе должно быть всегда
лодражаніемъ». Маколзй провѣрялъ чтеніемъ вслухъ
все, что онъ писал7?. Нужно читать книгу, какт> му-
зыкантъ читаетъ партитуру; нужно слышать, что
читаешь. «Нѣмецъ не читаетъ вслухъ; онъ читаетъ для
глазъ, а не для слуха. Онт, прячетъ уши въ ящикъ
причтеніи... Въ Германіи одни только пасторы,
произносящее проповЪди, понимаютъ значеніѳ слоговтэ іг
словъ, знаютъ, какъ звукъ фразы ударяется и от-
скакиваѳтъ, какъ слово устремляется впередъ,
разливается и замираетъ; у нихъ однихъ есть совесть
въ ушахъ. Вполнѣ естественно тіоотому, что самое
совершенное произвѳдѳніѳ нѣмецкоп прозы принад-
лежитъ перу величайшаго нЪмецкаго проновѣдника:
въ сравнѳніи ct> библіей Лютера все остальное
только— литература*. (сВнѣ добра и зла>, стр. 208).
Главнѣйшія правила литературного стиля и его
наіюолѣѳ употребительные пріѳмы определяются
различіем ь между разговорной рѣчыо и письменнымт,
языкомъ Послѣдній лишѳнъ удареній, жестовъ,
взглядовъ, сопровождающихъ слова; искусство
писателя трѳбуетъ замЬны этихъ пріемовъ живой рѣчи
другими. Какъ выдвинуть слово, не повышая тона,
какъ выдвинуть какую нибудь часть фразы—вотъ
первый вопросъ. «Искусство заключается въ томъ»,
говорится въ наброскЬ къ учѳнію о стихѣ, «чтобы
— 34 —
все чувствовалось какъ жестъ—длина и краткость
предложение знаки прѳпинанія. выборъ словъ, паузы,
послѣдоватетьность аргументовъ». «Стиль долж-енъ
жить». Въ некоторой (вязи съ этішъ находится
тонкое замѣчаніе о томъ, что «хорошая проза
пишется только съ мыслью о поэзіи>, потому что
обаяніѳ прозы именно въ томъ и состонтъ, что она
постоянно изоѣгаетъ поэзіи и противоположна ей·
Всѣ художественный наклонности и таланты
Нитпше содействовали своеобразности его стиля·
Нитцшѳ относится къ своей рѣчи, какъ музыкантъ,
поэтъ іі живописецъ. По его сочиненіямъ всего
лучше можно впдвть, сколько музыкальныхъ чаръ
таится въ языкѣ, и какъ велика живописующая
сила слова. Но стиль Нитцшѳ подвергался измѣ-
неніямъ, которыя заставляютъ насъ дЪлать разли-
чія. Мы не считаемъ его писательскую манеру без-
усдовно совершенной, но останавливаемся
преимущественно на ея каіествахъ и на нѳобычайномъ
богатствѣ его стилистическпхъ средствъ.
Музыкальность языка заключается прежде всего
въ ритмичности рѣчи, въ томъ, какъ она возра-
стаѳтъ и понижается, замедляется и стремится
впередъ, въ связномъ движеніи ея отдѣльныхъ
частей, когда она прерывается на паузахъ или течѳтъ
ровной струей. «Труднѣѳ всего перевести съ одного
языка на другой ритмъ словъ, корѳнящійся въ глу-
бинѣ національнаго характерах. «Если невѣрно по-
нятъ ритмъ фразы, то и самая фраза не может ь быть
вѣрно понята». Къ этому присоединяется окраска
тоиовъ въ рѣчи, «смѣсь и взаимодѣйствіе красокъ:
хроматическая гамма языка». Требованіе «угадывать
смыслъ въ сочѳтаніи гласныхъ и двѵгласньтхъ и
— 35 —
вникать въ яѣжность и богатство тоновъ, которыми
онѣ окрашиваются при слѣдованіи одна за другой»,
можѳтъ показаться слишкомъ искуственнымъ и
дѣланнымъ; оно обнаруживаешь чрезмерную вое-
пріимчивость къ акустичѳскимъ чарамъ языка. Но
все таки любопытно разсмотрѣть съ этой точки
зрѣнія фразы самого Нитцше или, вѣрнѣе,
прослушать ихъ.
Нитцше владѣѳтъ тайной живописи словами; онъ
умѣѳтъ наполнять воображѳніѳ читателя красками
іі формами, Онъ знаѳтъ, что для этого требуется
высшая простота изображенія наряду съ
пластичностью рѣзкихъ типичныхъ чѳртъ изображаѳмаго.
Прочтѳмъ и посмотрнмъ напр. на живописность
афоризма 295 въ сборникѣ «Странвикъ и его тѣнь».
Какъ выступаютъ въ немъ наиболѣе характерныя
черты природы верхняго Энгадина:
зеленовато-молочное озеро, земля, покрытая цвЬтами, утесы, снѣж-
ныя поля надъ широкими лѣсистыми хребтами, а
на самомъ верху обледенелые зубцы. Затѣмъ елѣ-
дуютъ живые аксессуары картины: стадо коровъ,
въ одиночку и группами, быкъ, только что
вступившей въ бѣлыи пѣнистый ручей л медленно слѣ-
дующій за его стрѳмптельнымъ тѳчѳніѳліъ, смуглые
пастухи, дѣвушки,одѣтыя почтитакъже,какъюноши.
Все это величественно, тихо, свѣтло, все погружено
въ покой и вечернюю примиренность — соединение
идиллическаго π героическаго настроенія. Въ «^а-
ратустрѣ» Нитцше рисуетъ картину скорѣе въ жан-
рѣ Вѳклина: «Я—лѣсъ, и во мнѣцаритъ ночь темныхъ
деревьевъ; но кто не испугается моего мрака, тотъ
найдетъ подъ моими кипарисами и кущи розъ. И
маленькаго бога онъ найдетъ, любезнаго дѣвушкамт.:
— 36 —
онъ лежитъ у колодца, тихо, съ закрытыми
глазами*. Мы бродимъ съ Нитгщіе по темеымъ кипа-
рпсовымъ аллеямъ заб^юшенной итальянской виллы.
Слова «въ ранній часъ. когда звепитъ ведро у
колодца и раздается на сѣрыхъ улицахъ теплое ржа-
ніе лошадей» калсутся намъ импрессіонистскимъ
эскизомъ. Мы чувствуемъ впечатлѣнія утренняго
путешествія. Следующая строфа изъ «Заратустри»
напоминаетъ по впечатлънію гравюру Клингера:
с Судьба моя не торопится: не забыла-ли она меня?
И не сидитъ-ли она въ тѣнп, за какпмъ нибудк
болъшимъ камнемъ, и ловптъ мухъ»?
Оживленіѳ внѣшней природы, бывшее нѣкогда.
источникомъ миѳологіи, π теперь еще осталось не и с-
черпаемымъ сокровищемъ для поэта. У Нптцпіе ель
пускаѳтъ корни тамъ, «гдъ* утесъ въ ужяоѣ смо-
тритъ въ глубину»; — «она въ нерешительности
останавливается у пропастей, гдѣ все кругомъ готово
летѣть внизъ». Заратустра взбирается «по дикпмъ
каменистымъ русламъ, куда нѣкогда ложился на
покой нѳтѳрпѣливый ручей*. «Тропинка, упрямо
поднимавшаяся надъ камнями, злобная, одинокая,
не мирившаяся уже ни съ травой, ни съ
кустарниками, хрустѣла иодъ его упорными шагами».
Трудно сказать, чѣмъ былъ Нитцгаѳ болѣе: музы-
кантомъ и лсивописцемъ или поэтомъ.
Стихотворение «Осенью производитъ чисто лирическое
впечатлите и притомъ подходитъ такъ близко къ музыкѣ,
какъ это только возможно для поэзіи:
«Вотъ осень: она еще разобьетъ тебѣ сердце!
Улетай! Улетай! Какъміръ увялъ! На устало-протя-
нутыхъ нитяхъвътѳръ наигрываетъ свою пѣснь...»*)..
') і*и-, ι-ι iirr rieilist: <lt;r brioht dir nocb fias Hcrz!
— 37 —
Столько же чистой музыкальной красоты въ
следующей строф'Ь дивирамбовъ Діонису:
«Вокругь лишь игра и волны. Все, что было
нѣкогда тяжело, утонуло въ голубомъ забытьи·
Праздно стиитъ теперь моя ладья. Буря и скита-
Hie—какъ она забываетъ пхъ! Лгелаиія и надежды
утонули, спокойна гладь моря и души* *).
Въ этпхъ стихахъ слышна музыка.
Но самое поэтическое произведение Нитцше,—«За-
ратустра». ЗдЬсь онъ счастливо воспроизводитъ
формы восточной иоэзіи, ея простыя и вѳлнчавыя
естественный фэрмы, ея афористическую мудрость·
Конечно, поэзія η высота псалмовъ все-таки остаются
недостижимыми.
Мы среди самаго чнстаго воздуха, на высокихъ
горахъ, гдядящихъ въ море. Надъ нами высится
«лазурный кодоколъ» неба, туманы поднимаются
пзь пропасти, сгущаются въ облака—и безъ вся-
кихъ искаыін возникаешь естественный образъ:
«мудрость моя уже давно сгущается подобно облаку,
она становится все болгЬе тихой и мрачной. Такъ
бываетъ со всякой мудростью, которая должна когда
нибудь родить молніи».
Flieg f. it! flieg fort!...
Wo s word die AVi-lt so wi.dk!
Auf uniil-u:es]inimt4'ii Fadrn spiolt
Per Wind sein Lied,..
*) Kings nur Welle mid Spiel
Was je schwerer w*r,
Sank ід Uanu Yergeâ.seiiheit...
Mussig' su-lit mu) in»-.· in Knliii.
^tunu υnd Frtlirt—wit- vr-rlr-rnt or dasi
Wtmsfh und Ibjffcn <rîr ilk.
Glatt liegt Stele und Meer.
— 38 —
Изъ такого жѳ настроенія, родившагося среди
созерцанія природы, возникла картина, описанная
въ стилѣ псалмовъ: «Моя нетериѣливая любовь
потоками льется черезъ край, внизт>, къ разлитію и
уничтожѳнію. Изъ молчаливыхъ горъ и грозъ
страдания моя душа стремится бурнымъ иотокомъ внизъ,
въ долины у.
Пѣснь Пѣсней тоски и страсти слышится въ
слѣдующихъ словахъ: «Настала ночь: всѣ фонтаны
говорятъ громче. И душа моя тоже фонтанъ. Настала
ночь: просыпаются пѣсни гЬхъ, которые любятъ.
И душа моя тоже пѣснь того, кто лтобитъ*.
Изрѳченія Нитцше обладаютъ часто отрывочностью
и полнотой иословицъ. «Только тамъ, гдѣ есть гробы,
возможны возрожденія», говоритъ онъ въ «Зарату-
стрѣ». с.Шагъ того, кто правдтівъ, подобенъ
сказанному слову». «ГдЪ нельзя уже любить, тамъ
нужно пройти мимо». «Не нужно желать быть вра-
чемъ ненсцѣлимаго». «Кто умѣетъ преследовать,
легко научится слѣдовать—по привычкѣ находиться
за другимъ». «Въ маломъ заключается наилучшее
счастье». «Исполнить великое трудно, но еще
труднее—приказать великое». «Лучше уже совершить
злое, ч'Ъмъ подумать мелкое»! «Все великое ухо-
дптъ в'ь сторону отъ базаровъ и славы». Вотъ
примеры пзреченій Заратустры: они допускаютъ много
толкований. Одно пзрсченіе въ кнпгѣ «Страннпкъ
и тѣнь* гласитъ: «Все то, что золото, не блестптъ.
Благороднѣйшій изъ металловъ мягко лучится>ч
Во всЪхъ произведеніяхъ Нитцше, въ
особенности въ «Заратустр-fc», встречаются художественныя
сравненія и неожиданные обороты. Какъ удачно
лапр. сопоставлѳніе словъ въ выраженіи: «самая
— 39 —
неприступная башня и воля». Какой ясный пѳре-
ходъ отъ образа къ его смыслу! Свою волю Зара-
тустра называетъ «взрывающей утесы». Благородпая
сильная воля есть «прекрасномшее рг.стевіѳ на
землѣ: гюдъ такимъ деревомъ отдыхаетъ цѣлая
страна». Будуіцвость человечества Нитцше
обозначаешь ирекрасньтмъ словомъ «страна дѣтей». Толпу
онъ называетъ «тЪми, которыхъ слишкомъ много».
II когда ^аратустра прпходитъ въ «просвъчцениую
страну »,онъвосклицаетъ:« Да вѣдьздѣсь родина всТ;хъ
красильиыхъбапокъ». Творческая силаНптцшѳ
сказывается и въ ног.ыхъ словахъ, который онъ создаетъ.
Изысканно прекрасен ь афоризмъ, которымъ
заканчивается ѵ<ІІо ту сторону добра и зла> : на немъ мы и
закончимъ эти извлечен!я.
Нитіиие говоритъ тамъ о своихъ «напнсяшшхъ
іі нарисованвыхъ» мысляхъ π < прашиваетъ: какіе
предметы даютъ описывать себя, что мы можѳмъ
срисовать и представить? «Увы», отвъчяетъ онъ,
ч<только то, что готово завянуть и начинаетъобнаружи-
вать тлѣніе! F вы, только уставшія, разсѣивающіяся
грозы и пожелтѣлыя позднія чувства! Увы, только
птицъ уставптпхъ летать и спустившихся слишкомъ
низко, такъ низко, что мы можемъ ловить ихъ
руками—нашимтт руками. Мы увѣковѣчиваемъ то, что
уже не имѣетъ силы жить и летать,—только то, что
устало и одряхлѣло! И только для ваш ихъ суме-
рекъ, мои написанныл и нарисованныл мысли, только
для нихъ однихъ я н η хожу краски, быть можетъ—
много красокъ, много пестрыхъ. нѣжньхъ оттън-
ковъ, до полусотни жѳлтыхь, корнчневыхъ, зеле-
ныхъ, красныхъ цвѣтовъ... Но никто не догадается
по нимъ. какой видъ вы имъѵш въ ваши утренніе
— 40 —
часы, о внезапный искры и чудеса моего
одиночества, мои старыя, любимыя—недобрыя мысли»!
Когда Нптцше пнсалъ съ наиболышімъ чув-
ством'ь мѣры, т. е. въ періодъ возникновения его
философскнхъ «Книгъ странника», болѣзнь' мѣшала
ему воздвигать величественный зданія, построен-
ныя просто, съ широкими, прекрасными покоями.
Позже его стиль віг ідаетъ уже въ манерность:
стилистические орнаменты загромождаютъ собою мысль.
Ритмъ фразъ становится болъе быстрымъ, взволно-
ваннымъ, доходить до presto, между тѣмъ какъ нѣ-
мецкій языкъ скорѣе всего соотггвтетвуетъ мѣрному,
медленному и торжественному теченію рѣчи. Слова
часто слишкомъ нагромождены дьугъ на друга,
формы слишкомъ изысканны для выраженныхъ въ
инхъ мыслей. Въ этотъ послЬдніи иеріодъ своего
творчества Нитцше щеголяеть богатствомъ и блес"
комъ своихъ стилистнческихъ средотвъ. какъ бы
самъ наслаждается собой. Онъ отвлекаетъ внн-
маніе отъ предмета изложенія, направляя его на
личность самого автора. Символшшъ — временное
течение въ искусства я поэзіи нашего времени — за-
хватилъ Нптцше îi сказывается особенно сильно въ
последних ь частяхъ «Заратустры*. Пресытившись
ііозитиізизмомъ, который въ искусства отразился раб-
скимъ иодражаніемъ природѣ, наше время
обратилось къ этому новому виду романтизма. Симво-
лизмъ есть наименѣѳ непосредственная художествен-
яая манера: онъ заключается въ намекахъ и
недосказанности, въ томъ, что ощущенія переносятся
нзъ области одного вивгпняго чувства въ область
другого. Стиль этотъ можетъ быть назиаиъ
фантастической аллсюріеГг. Аллегорія состоіт. въ кон-
— 41 —
кретномъ изображеніи отвлѳченнаго понятія
справедливости, мудрости, войны и т. п., въ условномъ
внѣшнѳмъ образѣ; символнзмъ не удовлетворяется
созданнымъ имъ самимъ языкомъ знаковъ: пред-
ставленіѳ, непосредствен но выз ываемоѳ даннымъ
образомъ, таитъ въ себѣ другое, третье, иногда
цТілый рядъ далыгБЙінихъ представление, все болѣэ
уходящнхъ вглубь. Таковы въ «Заратустр'Ь»
символические образы «кающагося», <самаго уродливаго
человѣка», «послбдяяго папы». Вызываемое ими
художественное вііечатлвніе завпситъ исключительно
отъ формы нзложенія, а не отъ главныхъ и побоч-
ныхъ идей, воплощенныхъ въ нихъ.
Мастерство рѣчи Нитцшѳ слишкомъ совершенно,
и потому не можетъ положить начала новому
художественному теченію. Новое искусство не зачинается
съ такимъ богатствомъ пріемовъ и формъ. Для этого
необходимы строгость и простота, т. е. почти все,
чего нѣтъ въ искусетвѣ Нитцше.
Но заслуга Нитцше велика въодномъотношеніи.
Онъ выдвинулъ какъ орудіе^ противъ натурализма
совершенство стиля и снова показалъ важность
стиля въ языкъч
III.
НИТЦШЕ КАКЪ МЫСЛИТЕЛЬ.
1.
Афористическая философія Нитцше подобна
сооружению, котораго отдѣльныя части соединены былц
въ одно цѣлое только въ умѣ строителя, а планъ
много разъ тюдлергался переработки. Возсоздавая
изъ разрозненнаго :»гатеріала предполагаемое цѣлоѳ,
невозможно избежать неопределенности. Но именно
въ незаконченности и проблематичности, въ
парадоксальности мыслей л смѣнѣ настроеній, въ стран-
номъ смЪшеніи здороваго π болѣзненнаго
заключается особенное очарованіе произведены Нитцше,
Смотря по тому, вѣрно пли ложно понимать ихъ,
они становятся псточникомъ здоровой пищи или
отравы, Въ зтихъ произведеніяхъ скрещиваются
признаки еамыхъ разнообразныхъ и противополож·
ныхъ міросозерцаній. Въ нпхъ отражается образъ
современности, лишенной цѣльнаго міровоззрѣнія,
моментъ, пвляющійся болѣе чѣмъ всѣ предшествую-»
щія псторпческія эпохи подготовительной,
формирующейся порой. Слова, которыми Нитшпе опредѣ-
лялъ Вагнера, съ егае большимъ правомъ можно
— 46 —
применить къ нему самому: Нитцше «резюмнруетъ
современность». Онъ охвачѳнъ ѳя бѳзпокойствомъ,
ѳя неудовлетворенностью одной наукой, ея иска-
яіѳмъ новой духовной пищи и даже ея все болѣе
и болѣе развивающимся рѳлигіознымъ инстинктомъ.
Онъ самъ—тревожный выразитель поры брожѳнія.
Какъ мыслитель Нитцше исходитъ изъ Шопен-
гауѳра. Онъ сразу поддался вліянію этого величай-
шаго писателя среди нѣмецкихъ философовъ и,
прочтя одну страницу его, рѣшилъ не оставить ни
одной страницы не прочитанной. Еще болѣѳ
глубоко было вліяніѳ на него самой личности Ліопен-
гауѳра, т. ѳ. того прѳдставлѳнія о его личности,
которое Нитцше составилъ себѣ по произведеніямъ
философа. Нитцше видгвлъ въ Шопѳнгауерѣ своего
воспитателя или, какъ онъ красиво опредѣляетъ
эти отношѳнія, «своего освободителя по пути къ
самому сѳбѣ». Онъ почувствовалъ соприкосновѳніе съ
родственной натурой, подъ вліяніѳмъ которой
пробуждалось и развивалось его собственное «я». Это
было, выражаясь его собственными словами, «чу-
додѣйствѳнноѳ изліяніѳ внутрѳнной силы одного
оозданія природы на другое». Шопѳнгауѳръ сразу
внушилъ ему полное довѣріѳ; онъ внималъ ему,
с какъ сынъ внимаѳтъ поучеяіямъ отца». Правда,
перѳдъ нимъ была только книга учителя — и это
было въ его глазахъ большимъ лишѳніѳмъ; но тѣмъ
напряженнѣѳ онъ старался «глядѣть сквозь книгу,
чтобы представить сѳбѣ живого человека». Выше
всего онъ цѣнилъ въ Шопенгауѳрѣ прямоту,
сравнивая его въ этомъ отношеніи только съ Монта-
нѳмъ. Онъ называетъ Шопенгауера веселымъ. потому
что онъ осилилъ мыслью самое трудное, и высоко
— 47 —
цѣнитъ его постоянство. Кромѣ того Шопенгауеръ
обладалъ тЬмъ, что Нитцше считаетъ самымъ важ-
яымъ для философа,—несокрушимой и суровой
мужественностью. Оттого онъ представилъ его въ
«Происхождѳніи трагѳдіи» борцомъ и героемъ.
Нитцше вспоминаѳтъ о рыцарѣ въ борьбѣ съ смертью и
дьяволомъ, какъ его нарисовалъ Дюрѳръ: рыцарь въ
панцырѣ, съ жѳлѣзнымъ, твѳрдымъ взглядомъ, идѳтъ
своимъ страшнымъ путемъ одпнъ съ своимъ конемъ
и собакой, бѳзъ надежды, но и бѳзъ страха перѳдъ
своими неумолимыми спутниками. Такимъ Дюрѳ-
ровскимъ рыцаремъ былъ Шопенгауеръ: у него не
оставалось никакой надежды, но онъ хотѣлъ истины.
«Нѣтъ въ мірѣ равнаго ему». И еще разъ (въ
«Происхожденіи нравственности») повторяется то же
сравненіѳ. Шопенгауеръ названъ тамъ «сильнымъ
умомъ, имѣющимъ опору въ самомъ себѣ. му-
жѳмъ и рыцаремъ съ желѣзнымъ взглядомъ». Но
оппозиционный духъ Нитцше сильнѣе всего былъ
привлѳчѳнъ независимостью Шопенгауѳра, его
свободой отъ «тисковъ патриотизма». «Никому онъ не
былъ подвластѳнъ!> —такъ заканчиваете Нитцше
одну эпиграмму объ Артурѣ ШопѳнгауерЬ.
«Шопенгауеровскій человѣкъ добровольно ôejeim
на себя спградангя за правдивость. Это
высказывание правды кажется другимъ людямъ сдѣдствіемъ
злобы» — говоритъ Нитцше, мечтая объ общества
людей, созданныхъ по этому образцу, «людей, не
знающихъ условности; они ко всему подходятъ
съ критикой и жертвуютъ собою ради истины/».
Это—мечта о его собствеяномъ будущемъ, прибли-
женіе той всѳразъѣдающеп критики, которая въ
концѣ концовъ убила его собственный духъ.
— 48 —
Нитцше никогда не былъ только учѳникомъ Шо-
пенгауера; или же онъ былъ тѣмъ ученикомъ· о
которомъ онъ говорить, утверждая, что каждый
учитель имѣетъ только едивственнаго, настоящаго
ученика, который измѣняетъ ему только потому, что
самъ предназначѳнъ стать учителемъ. Къ
«философской спстем'Б» своего «великаго учителя и
воспитателя» онъ съ самаго начала относился съ не-
довѣріемъ и вскорЬ началъ предостерегать отъ
опасности шопенгауеровскаго ученія. PI все-таки
слѣды перваго молодого вліянія этого ученіянаега
собственное мышленіе и на его манеру замѣтны въ
самыхъ позднихъ его пропзведеніяхъ.
Шопенгауеръ, который самъ себя называлъ слу-
чайнымъ мыслителемъ, ввелъ въ философію эле-
ментъ вдохновенія, рождающаго отдѣльныя мысли;
въ его манерѣ философствовать замѣтна склонность
къ афоризмамъ. Онъ нсходилъ изъ ложнагомнѣнія,
что взгляды не могутъ быть противорѣчивыми, и
что когда это иовидимому случается, они потомъ
сами собой сходятся: поэтому логическая разработка
идей не казалась ему существенной. Оттого
Шопенгауеръ истинно великъ только въ отдѣльныхъ
замѣчаніяхъ и въгсказываемьтхъ имъ глубокихъ
взглядахъ на видимый міръ; «Parerga»—его
лучшее произведете; — можно сравнить лишь j съ
«Essays> Монтаня, «Maximes» Ларошфуко, и оно
останется украшеніемъ нѣмецкой литературы, когда
отъ «системы» Шопенгауера останется одно только
историческое воспоминание. Нитцше раздѣляетъ съ
Шопенгауеромъ пренебрежете къ логикѣ. Онъ ви-
дптъ въ мышленіи лишь «известное соотношение
стремлений», а въ разумѣ и его закопахъ одинъ.
— 49 —
лишь «грамматическій предразсудокъ». Это самая
крайняя противоположность Кантовскому
направлению въ нѣмецкой философіи. Шопѳнгауеръ сдѣ-
лалъ цѳнтромъ философіи вопросъ о смыслѣ бытія.
Нитцшѳ перенялъ отъ него эту задачу философіи и
вмѣстѣ съ ней представление о философѣ какъ
ссудьѣ жизни у. Слова Нитцшѳ въ книгѣ оШопѳн-
гауѳрѣ: «взоръ философа обращѳнъ на бытіѳ; онъ
хочѳтъ наново определить его цѣнность» уже за-
ключаютъ въ зародышѣ проѳктъ «пѳрѳоцѣнки всѣхъ
пѣнностѳй». Шопентауѳръ стремился m> тратить
философію изъ науки въ искусство, Онъ объяснял!»
міръ по поэтической аналогіи, и самымъ блестя -
ищмъ изъ всего, имъ написаннаго, являются раз-
сужденія объ искусства въ сочиненіи «Міръ какъ
воля и представление ». Быть можетъ, для
справедливой оцѣніси этого произвѳденія нужно смотрѣть
на него, какъ на изложѳніѳ эстетическаго міросо-
зерцанія и, по примеру Куно Фишера, разсматри-
вать Шопенгауера какъ художника· Нитцше, по
природѣ своей, тоже болѣе художникъ, чѣмъ
мыслитель, говорить въ «Происхождѳніи нравственности»
про «обаятельное отношеніѳ Шопенгауера къ
искусству» и тѣмъ самымъ выражаѳтъ свое личное понима-
ніе. Онъ самъ поддался собаятельности» шопенгау-
еровскаго отношенія и пробовалъ даже, исходя і^ъ
эстетики Шопенгауера, опровергнуть его же
буддистский нигилизмъ. с Поднявшись высоко надъ
Шопенгауеромъ», онъ услышалъ < музыку въ
трагедии бытія».
Вскорѣ постѣ того какъ Нитцше изучилъ произ-
веденія пессимиста, мыслителя, философа
меланхолической молодежи, произошло другое, не менѣе
— 50 —
важное событіе въ его жизни,—онъ познакомился
съ Рихардомъ Вагнѳромъ. Во время своего
пребывания въ Базѳлѣ, въ 1869—1874 гг., онъ поддѳрживадъ
оживленныя личныя сношѳнія съ Вагнеромъ,
поселившимся въ Трибшѳнѣ близь Люцерна. «Я чув-
ствовалъ къ нему безграничное довѣріѳ*, пишѳтъ
Нитцше Брандесу, вспоминая объ этомъ времени.
Когда же онъ простился съ романтизмомъ своей
юности и отошѳлъ отъ Вагнера, онъ почувствовалъ себя
болѣѳ одинокимъ, чѣмъ когда либо раньше. Никто,
жаловался онъ потомъ—не былъ ему такъ близокъ,
какъ Рихардъ Вагнѳръ.
По разсказамъ сестры Нитцше можно составить
себѣ понятіѳ о трагѳдіи этой дружбы, ѳя возникно-
вѳніи, пѳрипѳтіяхъ и катастрофа. Нитцше самъ
говорить о томъ, что эта была «настоящая, долгая
страсть», одна изъ самыхъ упорныхъ и печальныхъ
въ его жизни. «Вѳличайшимъ изъ моихъ душевныхъ
событій было выздоровленіе. Вагнѳръ былъ лишь
одной изъ моихъ болѣзнѳй». Такъ овъ смотрѣлъ
впослѣдствіи на свое освобождѳніѳ отъ Вагнера.
Изъ четвертой части «Нѳсвоеврѳменныхъ раз-
оуждѳній : сРихардъ Вагяѳръ въ Байрейтѣ», видно,
какія прѳувѳличѳнныя надежды возбуждала въ нѳмъ
сначала музыка Вагнера, какіѳ горизонты буду-
щаго нѣмѳцкаго искусства она открывала его мѳч-
тамъ. Свое тайное возмущеніе противъ
театральности Вагнеровскаго искусства, преувеличенности, ва-
громождѳнности эффѳктовъи неспособности къ чистой
красотѣ—онъ довѣрялъ только своимъ днѳвникамъ.
Передъ публикой онъ заявляль себя самымъ страст-
нымъ и убѣждѳннымъ поклонникомъ «учителя»,
однимъ изъ «самыхъ извращенныхъ вагяѳріанцѳвъ»,
— 51 —
какъ онъ самъ выражался впослѣдствіи. Личность
Вагнера становилась въ ѳго оішсаніи какой то
фантастической, с На самомъ днѣ клокочѳтъ бурнымъ
потокомъ дикая воля, которая на всѣхъ путяхъ ищетъ
свѣта и власти. Только совершенно чистая и
свободная сила могла указать этой волѣ путь къ
доброму и благотворному». Черты его собствен наго
юношѳскаго облика входятъ въ портрѳтъ Вагнера:
бѳзпокойство и раздражительность, нервная
торопливость, заставляющая хвататься за сотню прѳдмѳтовъ,
страстная склонность къ почти болѣзнѳннымъ, на-
пряжѳннымъ настроѳніямъ.—Книга о Байрѳйтѣ
написана ранѣѳ открытія байрѳйтскаго театра. Нитцше
хотѣлъ стать пророкомъ Вагнера, но,
вдохновленный его личностью, сдѣлался поэтомъ. Онъ создалъ
еще болѣѳ высокую натуру—поэта диѳирамбовъ.
Въ его книгЬ выступаетъ споэтъ грядущаго Зара-
тустры», и Байрѳйтъ становится его символомъ.
ГІредставленія въ Байрѳйтѣ названы тамъ с пѳрвымъ
кругосвѣтнымъ плаваніѳмъ въ области искусства,
причемъ было открыто и самое искусство»; Вагнѳръ
названъ «возсоздатѳлѳмъ простой драмы, открыв-
шимъ роль искусствъ въ истинномъ чѳловѣческомъ
общѳствѣ, мастѳромъ языка, созидатѳлѳмъ и поэтомъ
мпѳовъ —великой культурной силой, властѳлиномъ
искусства». (А впослЬдствіи Нитцше называлъ его
чссмѣсителемъ искусствъ и ощущѳній»). Искусство
этого «вседраматурга (Alldraraatiker) и с
пѳрводраматурга» (Urdramatiker) обращаетъ насъ въ «трагиче-
скихъ людей ·. сКольцо Нибѳлунговъ» Нитцше счи-
таетъ «самой нравственной музыкой ι и въ порывѣ
ѵвлеченія даже задаетъ сѳбѣ вопросъ: € оттого ли
должны были раздаться звуки истинной музыки,
- 52 —
что люди мѳнѣѳ всего ѳѳ заслуживали, или оттогог
что они болѣѳ всего въ ней нуждались»? «Въ Бай-
рейгЬ», говоритъ Нитцше, «даже сами зрители до·
стойны созѳрцанія». При этомъ мы невольно вспо-
минаемъ о томъ, что говорилъ Нитцше впослѣд-
ствіи, побывавъ уже въ Байрѳйтѣ, про этихъ
зрителей: «Посмотрите на этихъ юношей, застывшихъ,
бдѣдныхъ, притаившихъ дыханіе. Это—-вагнѳріанцы;
они ничего не понимаютъ въ музыкѣ, но все-таки
Вагнѳръ—ихъ владыка».
Нитцше, по собствѳннымъ его словамъ, пріѣхалъ
въ Байрейтъ идеалистомъ и потому должѳнъ былъ
испытать самое горькое разочарованіе. сИзобиліе
уродства, искаженности, изломанности» оттолкнуло
его. Это была не та музыка, которая, раньше чѣмъ
онъ услышалъ ее въ действительности, звучала въ
его мечтахъ могучимъ подъѳмомъ жизни. И люди,
толпившіеся здѣсь какъ на обыкновѳнномъ пѳрвомъ
представлении, не были «несвоевременными людьми»,
избранниками новой культуры. Въ Байрейтѣ апо-
столъ превратился въ противника, восторженный
поклонникъ въ страстнаго обличителя Вагнера и
его музыки. Вагнеръ теперь въ его глазахъ уже
только большой актѳръ, а его музыка—театральная
риторика.
«Это Викторъ Гюго музыки, ставшей словами.
Онъ руководствуется окраской звука, а что въ нѳмъ
прозвучитъ—для него безразлично. Легче создавать
плохую музыку, чѣмъ хорошую, красота трудна—мы
это знаемъ. Такъ зачѣмъ же искать красоты? Почему
не искать лучше вѳлыкаго, возвышѳннаго, гигант-
скаго? На ото мы еще способны. НЬтъ ничего
дешевле страстности *. И всѣ эти горькія. злыя и въ
— 53 —
тоже время надмѳнныя слова тѳкутъ изъ подъ его
пера оттого, что Вагнѳръ «вдругъ, бѳзпомошдый
и разбитый, паль ницъ передъ христіанскимъ крѳ-
стомъ». Глубже и существеннее его суждѳнія о
Вагнера и его искусства во второмъ томѣ біографіи
{и въ XI томѣ сочинѳній). «Вагыеръ»,говоритъонъ
тамъ, «недостаточно вѣрилъ въ самую музыку; онъ
вводилъ въ нее другія родствѳнныя ощущѳнія,
чтобы придать ей грандіозность». Вагнѳръ обращается
къ «нехудожественной публикѣ и пользуется есѣми
средствами; онъ стремится не къ полнотѣ художе-
ственнаю впечатлгънія, а къ тому, чтобы потрясти
нервы».—«Эта музыка безъ драмы— постоянное
отрицание высшихъ закояовъ стиля старинной музыки:
кто вполнѣ къ ней привыкнетъ, тотъ пѳрестанѳтъ
чувствовать эти законы».—«Почему музыка Вагнера
дѣйствуетъ на столь мноіихъ? Потому что вниманіѳ
не сосредоточено на одномъ, а направляется то на
музыку, то на драму, то на декораціи—такъ что
самое произведете разбивается на части. Но въ
этомъ смертный приговоръ всему разряду такихъ
произвѳдѳній».
Между философіей, которая видитъ въ слѣпомъ
стрѳмленіи бѳэцѣльной и безпричинной воли
единственную сущность бытія, и музыкой, которая потоп-
ляѳтъ всякій образъ въ безформенномъ грохоча-
щѳмъ океанѣ звуковъ, есть внутреннее сродство,
которое Нитцше подмѣтилъ первый. «Изумительно
единство Вагнера и Шопѳнгауера! Они созданы
одинаковымъ стрѳмленіѳмъ. Въ нихъ ополчились на
бой «самыя глубокія свойства германскаго духа»,
говоритъ онъ въ одномъ изъ нѳизданныхъ своихъ на-
бросковъ. Если присоединить къ этому «древнее
— 54 —
эллинотво», какъ Нитцшѳ толковалъ его, исходя изъ
филооофіи Шопѳнгауера и музыки Вагнера, то
получатся всѣ элементы его перваго литѳратурнаго
произвѳденія. сЯ хочу подвести общій итогъ Шо·
пенгауѳру, Вагнеру и древнимъ грѳкамъ: это
откроешь перспективу великолепной культуры». Рѳзуль-
татомъ этого сочетанія нѳоднородныхъ величин ъ
явилось «Происхожденге трагедіиъ,—книга, въ
которой наука, искусство и философія срослись на
подобіе центавра. «Невозможная книга», говоршгь
о ней впослѣдствіи самъ Нитцшѳ, «составленная
воя И8Ъ прѳждѳвремѳнныхъ, нѳзрѣлыхъ внутрен-
нихъ пѳрѳживаній... неуклюжая, загроможденная
образами, невыдержанная, сентиментальная» — но
несомненно, какъ мы должны прибавить, гѳніальная
и одна изъ нѳмногйхъ цѣльныхъ кннгъ Нитцше.
«Происхождѳніѳ трагѳдіи» есть метафизика
искусства, превращающая искусство въ метафизику.
Это—учѳніѳ о постоянномъ самоосвобожденіи міра
въ искусствѣ,—«чисто эстетическое толкованіе бытія
и оправданіе его».—«Только какъ эстетическоеявле-
ніѳ бытіе и міръ имѣютъ вѣчное оправданіе». Эта
фраза составляѳтъ «Leitmotiv» всего сочинѳнія, пред-
метомъ котораго служатъ отношѳнія искусства и
пессимизма, или— такъкакъфилософъ-художникъ всегда
обращаетъ отвлеченную задачу въ типическій
отдельный случай— отношенія «эллинизма и пѳссимизма>.
Только пѳссимизмъ, какъ утверждаетъ Нитцше, ну:і;-
дается въ искусства, и только для него оно понятно;
только искусство охраняѳтъ отъ практическихъ по-
слѣдствій пессимизма. «Грѳковъ оно избавило отъ
опасности буддистскаго отрицанія волп». Пессимшшъ
грековъ—открытіѳ Нитцше, одно пзъ тѣхъ «поражаю-
— об —
щихъ откровѳній въ области эллинизма», которыя
онъ считаѳтъ доступными только ему одному.
Никогда искусству и художественной
деятельности не придавалось столь исключительнаго
значения, какъ въ этомъ юношѳскомъ произведении Нитцше.
Весь міръ существуешь «только ради искусства, и
воя наша жизнь постоянный актъ ѳстетичѳскаго
творчества. Художественное произведете и чело-
вѣкъ—оба прѳдставляютъ собою повтореніе основного
акта, изъ котораго возникъ міръ. Только ради художе-
ствѳнныхъ цѣлѳй, своля» излилась въ этихъ мірахъ,
явѣздахъ, тѣлахъ и атомахъ, изъ чего становится
ясно, что искусство необходимо не для отдѣльныхъ
личностей, а для самой «воли». Эта странная
космогония, изложенная въ «Прибавлѳніяхъ къ
Происхождению трагѳдіиуѵ, вошла ивъ самую книгу; Нитцше,
какъ онъ выражается тамъ, «чувствуетъ склонность
къ метафизическому предположению о томъ, что
истинно-сущее и пѳрвоѳдиное, какъ вѣчно страдающее
и полное противорѣчій, нуждается для своего
постоянная освобождѳнія въ чарующихъ видѣніяхъ и
радостныхъ иллюзіяхъ». Въ этихъ словахъ
чувствуется вѣяніѳ пантеизма и уклонѳніе отъ Шопен-
гауѳра. Въ основѣ всего бытія Нитцше
предполагаешь творческую силу, которая путемъ постоянныхъ
созиданій и разрушеній—ибо всякое творчество
есть въ тоже время разрушѳніѳ — освобождается отъ
страданій и излишка скопляющихся въ ней проти-
ворѣчій. Въ этомъ заключается «вѣчная радость,
таящаяся за явленіями» и постоянно истекающая изъ
«первородной скорби»—т. е. изъ созидательной
сущности вещей; къ ней же вѳдетъ путь черезъ новыя
уничтожения. «Созданіемъ страждущаго, измученпаго
— 56 -
божества казался мнѣ міръ. Сяомъ казался мнѣ
міръ и поэтической мечтой божества, пѳстрьшъ
туманомъ»—такъ опредѣляѳтъ Заратустра филосо-
фію, заключенную въ «Происхождения: трагѳдіи»;
столь фантастичЕіы были идеи Нитцше въ началѣ
его деятельности.
Уже Шопенгауѳръ противопоставлялъ музыку
всѣмъ остальнымъ искусствамъ, потому что она не
воспроизводитъ явлѳній, а прѳдставляѳтъ
непосредственное отражѳніе «воли», метафизическое начало
матѳріальнаго существованія. Поэтому нельзя еѳ
подводить подъ категорііо красоты, и вліяніе ѳя не
основано на привлекательности красивыхъформъ. Это
понима ніѳ музыки с л у житъ исхо днымъ д у нктомъ всѣхъ
эстѳтичѳскихъ идей Нитцше. Два всѳмогущихъ эстѳ-
тичѳскихъ начала господствуютъ, по его мнѣнію, въ
природѣ и проявляются въ произвѳдѳніяхъ
искусства. Нитцше называѳтъ ихъ по имени гречѳскихъ
боговъ, покровителей искусства,—Діониса и
Аполлона,—діонисіѳвскимъ и аполлоновскимъ началами.
Въ сущности это—шоггѳнгауеровскія «воля и прѳд-
ставлѳніѳ», перенесенный въ эстетику. Въ области
художественнаго творчества антагонизмъ этихъ двухъ
началъ отражается въ противоположности между нѳ-
образнымъ діонисіевскимъ искусствомъ—музыкой и
пластическими искусствами, которыя Нитцше с чита-
ѳтъ вмѣстѣ съ эпической поэзіѳй аполлоновскими.
Коятрастъ между ними онъобъясняѳтъ еще физіодоги-
ческой аналогіей, сравнивая противоположные
художественные міры «одьянѳнія» и «сна». Оба столь
различный влѳчѳнія развиваются параллельно,
побуждая другъ друга все къ болве и болѣе высокимъ произ-
веденіямъ, до тѣхъ поръ, пока, впервые соединив-
— 57 —
шись, они производить аттическую трагѳдію, это
<столь же діонисіевское, какъ и аполлоновское
произведете искусства». Трагѳдія возникла изъ диѳи-
рамбичѳскаго хора, страстно возбужденной пѣсни,
которую пѣли во время плясокъ и процѳссій въ
честь Діониса. Экстазъ порождаѳтъ у хора ви-
дѣнія божества, и онъ въ упоѳніи описываетъ свои
видѣнія. Сцена и дѣйствіѳ также понимались пер.
воначально какъ видѣнія. Сценическое искусство
при своѳмъ возникновѳніи было «изліяніемъ музыки
въ образахъ». Музыка создала изъ себя трагичѳ-
окій миеъ — этой есть происхожденіѳ трагѳдіи изъ
духа музыки.
Намъ нѣтъ надобности разсматривать филологи-
ческія основанія этой подумиѳичѳской исторіп тра-
гѳдіи: какое дѣло философской поэмѣ до филологи-
ческихъ основъ. Утверждение Нитцшѳ, будто всѣ
знаменитые герои греческой сцены были только
масками пѳрвоначальнаго сцѳничѳскаго героя Діо-
ниса,—причѳмъ и варваръ Ксѳрксъ тоже оказывается
маской грѳческаго бога—и безъ того настолько же
невероятно, насколько оно было неизвестно самимъ
древнимъ, ихъ поэтамъ и философамъ. И откуда
Нитцшѳ зеаѳтъ, что великіе трагическіѳ поэты, въ
особенности Эсхилъ, были великими творцами въ
мувыкЬ, и что ихъ драмы представляютъ только
«либретто* къ утраченной музыкѣ? Только «сокра-
тазмъ», который впрочѳмъ прѳдшествовалъ Сократу
и является для Нитцшѳ оимволомъ всЪхъ враждеб-
ныхъ искусству стрѳмлѳній, изгналъ музыку изъ тра-
гѳдіи—оставивъ только с драматизированный эпосъ»,
т. ѳ. ту форму драмы, которую Шѳкспиръ довѳлъ
до высочайшаго совершенства. Кто же серьезно бу-
— 58 —
дѳтъ считать ограничение хора и разработку діалога
паденіѳмъ драматичѳскаго искусства, а не согласится
скорѣѳ съ однимъ изъ позднѣйшихъ опредѣлѳній
Нитцше, писавшаго, что «діалогъ есть главная задача
драматурговъ волѣдствіѳ необыкновенной ясности и
определенности, которою оиъ долженъ обладать*.
Подъ названіемъ діонисіѳвскаго начала Нитцше
сдѣлалъ источникомъ и цѣлыо музыки доведенное
до крайности отрастноѳ возбуждѳніе. Вслѣдствіѳ этого
онъ иокалъ аполлоновскаго противовѣса для того,
чтобы смягчить излишекъ возбужденности. «Миѳъ
охраняетъ насъ отъ музыки». Можно обойтись бѳзъ
этого средства потому, что художественность
исполнения сама по сѳбѣ вводитъ увлечѳніе въ извѣстные
прѳдЬлы и сковы ваетъ его формами. И когда къ.
пониманію музыкальныхъ формъ, къ подвижной
симмѳтріи ритмовъ и гармоніи тоновъ присоединяются
невольно и вслѣдстіѳ физіологическихъ причинъ
страстныя настроѳнія, то благодаря формамъ они
переносятся въ міръ созерцанія и эстетической ил·
люзіи. Музыка уже сама по себѣ и безъ помощи
слова и сцены есть «аполлоновскоѳ» искусство:
Аподлонъ—единственный богъ искусства.
Всякое искусство, даже трагическое, стремится
изобразить страсти не такими, какъ ихъ чувствуетъ
непосредственно охваченный ими чѳловѣкъ; оно не
стремится также и возбудить аффекты въ души
созерцателя до такой степени, чтобы они сдѣлались
иллюзіѳй истиннаго происшествия. Всему, что драма·
тургъ -прѳдотавляетъ въдѣйствіи, событіямъ и душев-
ньтмъ эмоціямъ, онъ придаѳтъ характеръ
отдаленности по врелгени. Онъ придаетъ изображаемому видъ
минувшаго, чтобы оно не могло волновать насъ, какъ
— 59 —
волнуѳтъ современная дѣйствитѳльность· Это
достигается путемъ поэтической разработки матеріала,
изображеніѳмъ вещей такими, какими онѣ явились
бы въ воспоминаніи—въ ясномъ, отчетливомъ онѣ, а
не въ переживаемой нами действительности. Воспо-
минавіе есть именно идеализирующая сила души;
все, прошедшее чѳрезъ воспоминание, становится
чистымъ и прозрачнымъ. Это, вѣроятяо, хотѣлъ
выразить Шиллеръ въ своей фразѣ (въ письмѣ къ
Гете), оставшейся еще безъ надлежащей оцѣнки.
сПоэзія», писалъ онъ, «дѣлаѳтъ все настоящее про-
шедшимъ и отдаляѳтъ все близкое при помощи
идѳализаціи»,—Но эстетическое воздѣйствіе не
ограничено одной только областью красоты. Есть
искусство выразительности, характеристики, изображѳнія
страстей наряду съ искусствомъ, воплощающимъ
красоту, вдохновеніе, идеальный тппъ. Первое мо-
Лѵетъ действовать диссонансами, уродствомъ, воз-
буждѳніемъ ужаса; второе достигаешь п/Ъли сораз-
мѣрностью, благозвучіемъ и гармоніей формъ. Вотъ
все, что есть истиннаго въ ѵченіи объ антагонизмѣ
діонисіевскаго и аполлоновскаго началъ.
Но не эти эстетическіе вопросы составляютъ
главный прѳдмѳтъ книги о «Происхождении траге-
діи». Изъ своего эстетичѳскаго міросозѳрцанія, какъ
оно излагается въ этой книгѣ, Нитцшо выводилъ
теорію о варожденіи новой культуры, которую онъ
называетъ «культурой трагичѳскаго міросозерцанія».
Главная цЪль его юношескаго произведения —
провозгласить эту новую культуру и вызвать ея
проявлена. Его надежды и мечты обращены на под-
ростающеѳ покол;вніѳ. Онгь лолагаетъ, что
достаточно сотни людей, воспитанныхъ и дѣйствующихъ
— 60 —
въ новомъ духѣ, для того, чтобы «уничтожить
современную систему образованности»: вѣдь вся
культура Возрождения, по его исторически неверному
мнѣнію, свынесѳна была на плечахъ одной такой
сотни людей». Нѳмногаго не доставало, чтобы въ
1873 г. было основано воспитательное заведеніе въ
духѣ читанныхъ Нитцше въ ВазѳлЬ лѳкцій «о
будущности нашихъ воспитатѳльныхъ учреждений».
Задачей этого завѳденія было бы создать
воспитателей для новой культуры. Въ очень обстоите л ь-
номъ «обращеніи къ Рихарду Вагнеру» Нитцше
рисуетъ образъ сбудущаго героя трагическаго міро-
созерцанія». Это должно было быть «существо,
исполненное гнѣвнаго вѳличія, съ гордымъ взгля-
домъ, отважной волей, боѳцъ, поэтъ и въ то же
время философъ, шагающій такъ, какъ будто бы ему
предстояло переступать черезъ чудовищъ и змѣй».
Нитцше думалъ о себѣ самомъ, рисуя этотъ образъ.
Въ сПроисхожденіи трагѳдіи» новому поколѣнію, о
которомъ мѳчтаетъ Нитцше, приписывается
неустрашимость взгляда и героическая склонность къ
чрезмерному. Ясно, что эти спобѣдители драко-
новъ» и передовые борцы трагической культуры
должны быть въ то же время предвозвестниками
«свѳрхъ-человѣка», хотя они еще исповѣдѵютъ шо-
пѳнгауеровскую метафизику. «Мудрость», которую они
ставятъ на мѣсто науки, с обращена на совокупность
міровой жизни и стремится путемъ любви и
сострадания вникнуть въ ѳя вѣчную скорбь». Потому эти
будущіе мудрецы нуждаются въ «искусства, даю-
щемъ мѳтафизичѳскія радости»—въ музыкѣ Рихарда
Вагнера. И на будущность этой культуры песси-
мизмъ также набрасываѳтъ свою тѣнь. «Отдѣль-
— 61 —
ная личность» (читаѳмъ мы въ брошюрѣ «Рихардъ
Вагнѳръ въ Байрѳйтѣ»), «должна пріобщиться того,
что выше всего личнаго. И если все человечество
должно будѳтъ когда нибудь умереть (а кто сомнѣ-
ваѳтся въ неизбежности этой смерти?), то высшая
задача его состоитъ въ томъ, чтобы сростись въ одно
общее и единое и, какъ нѣчто цѣлъное, идти съ тра*
гическимь понимангемъ навстречу предстоящей
гибели; эта высшая задача включаѳтъ въ себе раэви-
тіѳ высшаго благородства въ людяхъ. Такъ я это
сознаю и чувствую!»
2.
Нитцшѳ—философъ культуры. Большинство его
идей относятся къ объяснению культурной задачи
человечества. Колебанія общихъ взглядовъ Нитцшѳ
не касаются этого вопроса; онъ объединяешь собою
отдельные пѳріоды его мышленія и стоить въ цен*
трѣ его философіи.
Сначала Нитцше отождествляѳтъ культуру съ
искусствомъ, «съ единствомъ художественнаго стиля
во всѣхъ проявленіяхъ жизни народа»; потомъ онъ
видитъ идеалъ культуры въ познаніщ наконѳцъ, целью
ѳя становится возвеличеиге человѣческаго типа». И
учѳніе о нравственности,—самая знаменитая изъ раз-
рушитѳльныхътѳорійНитцшѳ—подчияеноуяегокуль-
турнымъ задачамъ и можѳтъ быть вѣрно понято лишь
въ связи съ пояиманіѳмъ послѣднихъ. Путь къ
возможной въ б уд ущемъ культуре, образъ которой
представляется его духовному взору, вѳдѳтъ, какъдумаетъ
Нитцшѳ, повѳрхъ ныне господствующей морали.
— 62 —
/ Страстный духъ мыслителя не удовлетворился из-
слѣдованіемъ условій, при которыхъ можетъ
возникнуть культура, т. ѳ. «улучшенное физическое состоя-
me» . Съ самаго начала онъ почти бѳзъ колѳбаній
считалъ существенной задачей философа—созиданіе
культуры. Создать новый идѳалъ культуры и
воплотить его въ жизни—такова цѣль его собственной и,
какъ онъ думаѳтъ, всякой истинной философіи. Въ
философѣ борятся между собою рѳформаторъ жизни и
судья жизни—говоритъ онъ въ сочиненіи: «Шопѳн-
гауѳръ какъ воспитатель». А въ «Рих. Вагнѳрѣ въ
Байрейтѣ» онъ заявляетъ, что самый важный во-
просъ въ философіи заключается въ томъ, насколько
все имѣѳтъ неизменную форму и образъ; когда же
найдѳнъ будетъ отвѣтъ на этотъвопросъ, тогда «нужно
будетъ съ самой неуклонной смѣлостью стремиться къ
улучгиенгю и исправленгю той стороны жизни, кото-
рая признана доступной измѣненгямъ». Подобная же
мысль повторена въ болѣе краткой формѣ въ одномъ
поздйѣйшемъ изречѳніи: « фи лософія пользуется жела-
ніемъ бытія для созиданія высшихъ формъ бытія».
Этому своеобразному пониманію задачи филосо-
ч£іи и философовъ Нитцшѳ никогда не измѣнялъ;
только тонъ, въ которомъ онъ провозглашалъ это
пониманіе, сталь, какъ во всѳмъ, что онъ писалъ
позже, болѣѳ возбужденнымъ, субъективнымъ и
эксцентричными «Фидософъ», говоритъ онъ въ книгѣ
«За пределами добра и зла»,— «это человѣкъ,
который постоянно пѳрѳживаѳтъ нѳобыкновенныя вещи,
видитъ, слышитъ, прѳдполагаетъ необычайное и
мѳчтаѳтъ о нѳмъ, котораго собствѳнныя мысли по-
ражаютъ какъ особаго рода молніи, какъ нѣчто,
явившееся нзвнѣ, съ высоты или изъ глубины; это
— 63 —
чѳловѣкъ, отмѣчѳнный. рокомъ*. Эти слова замѣ-
чательны не какъ характеристика философа, а какъ
портрѳтъ самого Нитцше. Назначеніѳ философа
трѳбуѳтъ, чтобы онъ «создавалъ цѣнности». «На-
отоящіе философы—повелители и законодатели. Они
говорятъ: такъ должно быть. Они опредѣляютъ
цѣли и стремлѳнія человѣка, они творческой
рукой касаются будущаго. Ихъ познаваніѳ есть созн-
данге, ихъ созиданіе—законъ, ихъ жажда истины —
жѳланіе власти». Философія всегда созидаѳтъ міръ
но своему образу и подобію—«иначе она не можѳтъ
поступать; философія воплощаетъ творчѳскій духъ,
духовную потребность власти, стрѳмленіе создать
міръ, влѳчѳніѳ къ causa prima», Философъ
необходимый человѣкъ завтрашняго и посдѣзавтрашняго
дня; его врагомъ былъ всегда идѳалъ «сегодняш-
няго дня». «До сихъ поръ», продолжаѳтъ Нитдше,
«всѣ эти необыкновенные вожаки чѳловѣчѳства,
называемые философами, видѣли свою задачу въ томъ,
чтобы быть карающей совестью своихъ соврѳменни-
ковъ. Ихъ тайное стрѳмлѳніѳ состояло при этомъ
въ нахожденіи нового величія въ чѳловѣкѣ, новаго,
^щѳ яѳизвѣданнаго пути къ его возвели ченію».
Поэтому философъ—«чѳловѣкъ съ самой громадной
ответственностью; въ нѳмъ заключается мѣрило об-
щаго развитія чѳловѣчества». — «Умы, достаточно
-сильные и самобытные, чтобы создать
противоположные критеріи (противоположные тѣмъ, которые теперь
въ ходу), и переоценить прѳжнія
ценности,—предвозвестники, люди будущаго, которые теперь соз-
даютъ средства, чтобы заставить волю тысячѳлѣтій
идти по новымь путямъ»—такъ опредѣляетъ Нитщпе
этихъ философовъ новаго рода, и самого себя, какъ
— 64 —
принадлежащая къ этой категоріи философовъ»
«Вы должны испытывать блаженство, накладывал
печать на цѣлыя тысячелѣтія какъ на воскъ»,
говорить Заратустра. Нитцшѳ наѳываетъ своихь фи-
лософовъ дву смысле няымъ именѳмъ искусителей,
потому что они приводятъ, стараются склонить къ
попыткамъ переустройства всего живнѳннаго строя
на новыхъ началахъ. Иногда онъ называетъ
философа даже €властнымъ деспотомъ и насильникомь-
культуры».
Но бывали ли когда нибудь такіе философы?
Могутъ ли они быть? Даже въ платоновскомъ
государства напрасно стали бы мы искать ихъ.
Философы тамъ—цари, а не тираны. То, что «суждено
всему человечеству», и что растѳтъ лишь въ медлен-
номъ историчѳскомъ процессе, въ постоянномъ
взаимодействуй отдельной личности и общества,—то
8дѣсь приписывается силѣ единичной личности или
группѣ отдѣльныхъ личностей, которыя должны
пасть подъ брѳмевѳмъ столь огромной
ответственности, какъ паль духъ Нитцше отъ одного
представления объ этой ответственности. Нельзя
подумать бѳзъ содроганія о томъ, что Нитцщѳ причислялъ.
себя къ философамъ, созданнымъ по этому образцу,
и что онъ, по свидетельству одного его друга, оту-
щалъ это какъ «влѳчѳніѳ къ возвышению
человечества». То, что создала фантазія Нитцше, на самомъ
деле не было, какъ онъ полагалъ, обравомъ
философа, но образомъ генія культуры, поэтическими
воплощеніѳмъ созидающихъ культурныхъ силъ,
которыя обнимаютъ всю духовную жизнь и съ безсо-
знательной мудростью становятся источникомъ языка
и разума, обычаевъ и права, религіи и искус-
— 65 —
ства. Beликія историческая личности—руководители,
а не созидатели этихъ силъ.
Постараемся однако объяснить происхождѳніе
этого взгляда на философа какъ на творца
культуры и доказать, какъ эта идея овладѣла умомъ
Нитцше./
Даже безъ объяснений, которыя даѳтъ самъ
Нитцше, самая неровность въ характерѣ его
произведена указываетъ на необходимость раздѣлить
ихъ на три группы и различать въ творчествѣ
Нитцше три пѳріода философскаго развитія.—Онъ два
раза пѳрежилъ самого себя, какъ онъ самъ писалъ
Брандесу. «Я уже много разъ прощался, я знаю
послѣдніѳ, разбивающіѳ сердце часы», говоритъ онъ
устами Заратустры.
Изъ трѳхъ пѳріодовъ, изъ которыхъ первый мы
уже отмѣтили, срѳдній въ нѣкоторыхъ отношѳніяхъ
отрад нѣѳ другихъ, хотя онъ и былъ въ жизни Нитцше
лишь паузой и пѳрѳходнымъ временемъ. Это время
его выядоровлѳнія,— умствѳннаго выздоровленія отъ
двойного яда философскаго и музыкальнаго
романтизма. И кое-что изъ этого настроенія
выздоравливающего больного вошло въ произвѳдѳнія того
времени. Въ нихъ чувствуется особое оптимистическое
настроѳніе, когда возрождающаяся къ жизни
чувства какъ бы въ первый разъ видятъ окружающее,
когда такъ пріятна тихая природа, умѣрѳнноѳ тепло,
свѣтлыя, но не рѣзкія краски. Ввѳдѳніѳмъ въ этотъ
пѳріодъ—Нитцше называѳтъ его временемъ своего
антиромантическаго самоврачѳванія—былъ разрывъ
съ Шопѳвгауѳромъ и «романтическимъ» пѳссимиз-
момъ,—разрывъ съ метафизикой.
— 66 —
Разрывъ этотъ совершился бѳзъ всякаго
побуждения извнѣ.—для Нитцщѳ не было даже надобности
въ « основномъ положѳяіи», къ которому пришелъ
«одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ и холодвыхъ
мыслителей (Поль Рэ), сказавшій, что духовно чѳловѣкъ не
стоить ближе къ метафизическому міру, чѣмъ
физически». Нитцшѳ говоритъ, что эти слова могутъ
служить топоромъ, подрубающнмъ въ корнѣ мѳта-
физическія потребности человѣка. Въ его
многосторонней натурѣ и въ его талантѣ уже заранѣѳ
существовало направлѳвіѳ, которому стоило только
выступить и временно стать господствующимъ, чтобы
совдать новую эпоху въ его мышлѳніи. Нитцше
уже и прежде отчасти слѣдовалъ этому
критическому влѳченію своего духа; это видно по
многочислѳннымъ отдѣльнымъ наброскамъ его
юношеской поры и, между прочимъ, по следующему
сужденію, одному изъ самыхъ раншіхъ, высказан-
ныхъ имъ: «нѣтъ такого вопроса, для рѣшенія ко-
тораго необходимо предположить существованіе ме-
тафизичѳскаго міра». Теперь же онъ отдался раз-
судочному пониманію міра съ той
исключительностью, которою характеризуется всякій перѳворотъ
его убѣждѳній, каждое его «преододѣваніѳ». Если
вѣрить паѳосу его собственнаго разсказа, то
«великое освобождѳніѳ» наступило внезапно, какъ
землетрясение, неожиданно вырвавшее его изъ сферы, въ
которой онъ до того врѳмѳни«любилъ и молился».При
перемѣнѣ убѣждѳній Нитцше, его влѳченія и анти-
патіи столь же рѣзко становятся противоположными.
Въ Шопенгауерѣ онъ уже хвалитъ только
«твердое пониманіе действительности», с
стремление къ ясности и разумности, придающее ему
— 67 —
иногда такой англійскій характѳръ» («англійскій»
<5ыло ѳщѳ тогда похвалой). Теперь онъ увидѣлъ,
какъ могъ бы увидѣть сразу, что Шопѳягауѳръ,
«предполагая все существующее зависимымъ только
отъ волн», толькоутвердилъ на прѳстолѣ сочень
древнюю миѳологію». Самый образъ философа затмился для
Нитцше, и онъ сталъ относиться къ нему почти
враждебно. Онъ видитъ въ характѳрѣ Шопенгауѳра «
никоторое уродство, проявляющееся въ ненависти,
жадности, тщеславіии недовѣріи». Объ учѳніи же Шопен-
гауера онъ говоритъ теперь, что въ него входитъ
много научности, но что Шопенгауеръ не занимается
ею, a слѣдуетъ старому, слишкомъ хорошо извѣст-
ному, «метафизическому влѳчѳнію».
Произвѳдѳеіѳмъ новой эпохи была книга для
спободомыслящихъ: « Человѣчное, слишкомъ
человечное* и продолженіѳ ея: «Странникъ и его тпнъ».
Лковъ Буркгартъ назвалъ эту книгу «царственной»
и говоритъ, что она подняла «независимость мысли
на зѳмлѣ». Слова, которыми Декартъ славитъ жизнь
познающаію, эти простыя и потому столь убѣди-
тѳльныя слова въ «сРазсужденіи о методѣ», могли бы
служить прѳдисловіѳмъ для книги Нитцше. Нитцше
тоже полагалъ, когда писалъ эту книгу, что цѣль жиз-
ви заключается въ познаніи; созиданіѳ «вѳликаго
интеллекта» онъ считалъ цЬлью культуры. «Жизнь какъ
орудіе и средство познанія,—жизнь какъ
эксперимента познающаго,—не какъ долгъ, не какъ судьба,
не какъ обманъ» —такъ отвѣчаѳтъ онъ теперь на во-
просъ Шопенгауѳра: «есть ли вообще смыслъ въ
жизни».
Всю важность этого вопроса, всю тяжесть,
которой онъ обрѳмѳняетъ душу, Нитцше могъ понять
— 68 —
только отказавшись отъ всякаго мѳтафизичѳскаіч>
объяснѳнія міра, даже отъ своей собственной эсте-
тико-метафизичѳской тѳоріи. «Метафизику»,
говорить онъ теперь, «слѣдуетъ назвать наукой,
которая занимается основными заблужденіями человѣкат
но такъ, какъ будто бы это были основныя
истины». Съ раздвоеніѳмъ міра исчѳзаѳтъ возможность
какого либо бѣгства изъ него; но если нѣтъ избав-
ленія отъ міра, даже самоизбавлѳнія путемъ
искусства, какъ это предполагалось въ «Происхождении
трагѳдіи», то приходится остановиться только на
томъ бытіи, которое метафизики называютъ «пред-
ставлѳніѳмъ». —«Не міръ самъ по сѳбѣ (als Ding an
sich)», заявдяѳтъ Нитцше, «a міръ какъ представ-
леніѳ (для него это соотвѣтствуѳтъ заблуждѳнію)
полонъ значѳнія, глубокъ, чудѳсенъ, таатъ въ своихъ
нѣдрахъ счастье и несчастье», — Эта новая филосо-
фія Нитцше имѣетъ нѣчто общее съ учѳніѳмъ
Гераклита. Она обращена на процессъ развитія и на
то, что образуется, и цѣль ея — претворить
предметы и матѳрію въ движѳніѳ и дѣйствіѳ. «Матерія
есть такое же заблркдѳніѳ какъ богъ элеатовъ», го-
воритъ онъ въ «Утренней Зарѣ».
Ставъ «свободомыслящимъ», Нитцше остался ху-
дожникомъ. Онъ, въ сущности, не излагаѳтъ филосо-
фіи атеизма и позитивизма, а рисуетъ образъ
свободомыслящего философа, носящаго «знамя съ именами
Петрарки, Эразма, Вольтера». Онъ рисуетъ его ха-
рактеръ, его настроенія, изображая такимъ образомъ
психологію познающаго ума, для котораго мысли
являются пѳрежнваніями. «Свободное безстрашноѳ
прѳнѳбрелсѳніѳ людьми, обычаями, законами,
общепринятой оцѣнкой вещей — также радость познаю-
— 69 —
щаго». «Счастье познающаго увеличиваетъ красоту
міра». Въ книгѣ «Странникъ и его тѣнь» это
счастье описывается слѣдующимъ образомъ: «покой,
величіе, солнечный свѣтъ—эти три блага соста-
вляютъ все, чего жѳлаѳтъ мыслитель и чего онъ
трѳбуѳтъ также и отъ себя. Имъ соотвѣтствуютъ
во-пѳрвыхъ возвыгиающгя мысли, во-вторыхъ
успокаивающая, въ трѳтьихъ—просвѣтляющія, въ чѳт-
вѳртыхъ же—мысли, совмѣщаюіція всѣ эти три
качества, мысли, въ которыхъ наступаетъ просвѣтлѣніѳ
всего земного: онѣ составляютъ царство, гдѣ править
великая троица радости. Но эта свобода духа мо-
жѳтъ стать удѣломъ только облаюроженнаю
человека] только его одного коснется «облѳгченіе
жизни»; только онъ первый сможѳтъ сказать, что онъ
живетъ для «радостности» и не имѣѳтъ никакой
дальнейшей цѣли. Во всякихъ другихъ устахъ его
дѳвизъ: « Z?o мнѣ миръ и благоволенге всѣмъ бли·
жайшимъ ко мнѣ» былъ бы опаснымъ. Наше время
все еще время ѳдиничныхъ личностей».
Трудно рѣшить, насколько глубоко Нитцшѳ былъ
на самомъ двлѣ проникнуть настроѳніями и мыслями,
которьтя онъ излагалъ съ такимъ видимымъ мастер-
ствомъ, доставлявшимъ радость ему самому. Трудно
сказать, что здѣсь искренно, что было только маской.
Несомненно только, что его суждѳнія и оцѣнки въ
этотъ періодъ интеллектуализма становятся
противоположными прежнимъ. Науісв онъ отдаѳтъ
предпочтете пѳрѳдъ искусствомъ и считаѳтъ выработку метода
однимъ и зъ важнѣйшихъ рѳзультатовъ научныхъ
ітзслѣдованій. М/Ьсто «дрѳвнихъ грѳковъ»—пѳссими-
стовъ и вагнеріанцѳвъ до Вагнера, которыми Ннтцше
лреждѳтакъ восторгался,самьжесоздавъихъ,—зани-
— 70 —
маютъ теперь аѳинянѳврѳмѳнъ Софокла и послѣнего:
«ихъ аристократическая привилегия заключалась въ
соѳдинѳніи трезвости умай граціи». Даже въотноше-
ьгіи къ Сократу, съ которымъ онъ прежде всегда воѳ-
валъ, Нитцшѳ высказываетъ теперь пониманіеи
сочувствие. Онъ называѳтъ его «самымъ простымъ и не*
вабвеннкмъ мудрѳцомъ срединности», обладающимъ
«вѳсѳлъгмъ искусствомъ серьезности» и «мудростью,
полною шутливыхъвыходокъ». сПридѳтъ время», го·
воритъ онъ, «когда для нравствѳннаго и умствѳннаго
развитія Memorabilia Сократа будутъ считаться болѣе
полезными, чѣмъ библія». Отношеніѳ къ искусству
тоже измѣнилось. Нитцше обнаруживаете теперь
склонность къ тому, что исполнено мѣрыи просто
величия, къ здоровому, словомъ къ классическому въ
искусства. Ояъ высоко ставитъ ясность діалога въ
драмѣ и видитъ € самую трудную и высокую задачу
художника въ изображеніи неизмѣннаго, успокоен-
наго въ самомъ сѳбѣ, высокаго, простого, далекаго
отъ исканій исключительности».
«Высшія воплощенія нравственнаго совершен-
ства кажутся болѣе слабымъ художникамъ
непригодными для искусства. — Изображение самаго вели-
паю по духу человека, т. ѳ. самаго простого и
вмѣстѣ съ тѣмъ цѣльнаго было не по силамъ нп
одному художнику; изъ всЬхъ людей до сихъ поръ од в и
только греки, быть можетъ, обнаружили наиболее
широкое пояиманіе въ созданномъ ими иЪеалгъ Аеиныъ.
Таково отношеніѳ Нитцше къ искусству въ этотъ
пѳріодъ.
Еще значительнее противоположность между эти-
ко-философскими взглядами Нитцше въ этотъ и
позднейшее періоды. Онъ несомненно находился подъ влі-
— 71 —
яніѳмъ Поля Рэ, когда сталъ одно время отстаивать
принципъ утилитаризма въ нравственности и даже
находилъ возможность хвалить Гѳльвеція. Онъ
считаете доказаннымъ, что вначалѣ безкорыстныѳ
поступки считались похвальными и прекрасными ради
своей общеполезности, и утверждаетъ, что поступки,
основной мотивъ которыхъ, т. ѳ. ихъ утилитарность,
былъ впослѣдствіи забытъ, стали называться
нравственными. — Въ «Происхождении нравственности»
онъ уже относится съ прѳнебрѳжѳніѳмъ къ этой те-
оріи забвѳнія, онъ ставитъ ей въ упрекъ ея
психологическое противорѣчіѳ самой себѣ.
«Развит, спрашиваѳтъ онъ, «это забвѳніѳ возможно?
Развѣ полезность такихъ поступковъ когда нибудь
прекращается?» На самомъ дѣлѣ происходите какъ
разъ противоположное; эта полезность всегда была
на виду; ее постоянно наново подмѣчали и выстав-
ляли на видъ. Морали жалости, этой инстинктивной
морали, которая «не имѣетъ головы и состоите какъ
бы только изъ сердца и подающихъ помощь рукъ»
противопоставляется не мораль властной воли, какъ
инстинкте инстинкту, а «мораль разсудка». Послѣд-
нюю Нитцшѳ считалъ въ разсматриваѳмый нами
пѳріодъ его деятельности высшей и последней
ступенью нравственности; какъ таковую онъ считаете
ее выше всЪхъ кажущихся побуждѳній
нравственности. Разум Тшіѳ заступаѳтъ мѣсто «слѣдованія
нравствѳннымъ чувствамъ». «Сократе и Платонъ
правы: человѣкъ всегда поступаѳтъ хорошо coot*
вѣтствѳнно степени его пониманія, состоянію его
умствѳнныхъ силъ». Созігдатѳлемъ нравственнаго
критерія является еще пока не отдельная личность,
а по собственному выраженію Нитцше, «коллектив-
— 72 -
ная индивидуальность»—общество, государство,
которое «подчиняетъ себѣ единичную личность, «вы-
рываѳтъ ее изъ отдѣльнаго существованія и вклю-
чаѳтъ ее въ союзъ».
«Такимъ образомъ только создается почва для
всякой морали», говоритъ Нитцше. Впослѣд-
ствіи онъ вооружался всѣми словами π оруді-
ями страсти противъ соціальной морали, называя
ее «стадной моралью». Теперь же, чтобы согласить
принцппъ собственности съ идеей справедливости,
онъ выставляѳтъ еще требование, чтобы
«справедливость во всемъ увеличивалась, а инстинктъ къ
захвату власти ослабѣвалъ*. с Лучше погибнуть, чѣвгь
ненавидеть и бояться», восклицаѳтъ онъ въ книгЬ
«Странникъ и его тѣнь», и «вдвое лучше погибнуть^
чгьмъ внушать ненависть и страхъ» — это должно
стать главнымъ принципомъ всякаго отд-Ьдьнаго
общества! Подобно Ломброзо, Нитцше видитъ въ
жѳстокихъ людяхъ слѣды атавизма и называѳтъ ихъ
людьми преэюнихъ культурныхъ эпохъ. «Это—отстав-
пііѳ люди, мозгъ которыхъ не такъ тонко и
многосторонне развитъ; они показываютъ намъ, чѣмъ мы
всѣ были*. Инстинктъ и чувство вт> своемъ
значении для культуры также подвергаются у Нитцшѳ
теперь иной оцѣнкѣ, совершенно противоположной
его позднѣйшимъ сужденіямъ. Пониманіѳ чувствъ
вакъ чего-то окончатѳльнаго, коренного, теперь
вполнѣ отвергается. «За чувствами скрываются
суждения, которыя мы только наслѣдуемъ въ формѣ
чувствъ. Внушѳніе, исходящее изъ чувства, является
уже внукомъ сужденія— и часто ложнаго», объяс-
няетъ Нитцше въ «Утренней Зарѣ» и продолжаѳтъ
свой вычурный образъ, говоря, что «довѣрять сво"
— 73 —
-ему чувству, значить слушаться своего дѣда и сво-
<ѳй бабушки и ихъ родителей болѣѳ, чѣмъ боговъ,
скрытыхъ въ насъ самихъ, т. ѳ. нашего соб-
-ствѳннаго разума и опыта». Въ исчѳзновеніи
яасилія, въ ослабѣваніи инстинктовъ, Нптцше
также видѣлъ тогда признаки и результаты высшей
культуры. Какъ далеко отошѳлъ онъ въ этихъ раз-
сужденіяхъ отъ исходной точки, къ которой онъ
снова вернулся въ основномъ положеніи своего
позднѣйшаго учѳнія: с все доброе инстинктивно!»
Какъ далеко онъ ушелъ отъ своей собственной
основной натуры!
Пѳріодъраціонализма, т. е. «просвѣтлѳвія» путѳмъ
разума, былъ для Нитцше врѳмѳнѳмъ мрака—по его
«собственному прекрасному сравненію съ зимними
днями на сѣвѳрѣ; ссолнцѳ будущности человечества
на время померкло для него/. «Слишкомъ многое
прояснилось для меня и уже не касается меня.
Есть ли у меня еще какая-нибудь цѣль? Есть ли при-
•стань, гдѣ остановится мой корабль? Что еще
осталось во мнѣ? Усталое и дерзкое сердце,
непостоянная воля, порхающія крылья, разбитая спина...
Опасность твоя не малая, о свободомыслящгй и
странникъ/ Ты утратилъ цѣль, и вмѣстѣ съ тѣмъ—
потерялъ и дорогу». Такъ говорить онъ устами
Заратустры объ этомъ пѳріодѣ и его настроѳніяхъ,
какъ онъ ихъ понималъ и чувствовалъ впослѣдствіи.
Культура ума, называемая проевЬщѳніѳмъ, даетъ
отрицательные результаты: она дЬлаѳтъ чѳловѣка сво-
боднымъ и самостоятельнымъ, но не объясняетъ ему
цѣли его свободы. сОказалось невозможнымъ основать
культуру на знаніи»,писалъ Нитцше въ своей юности.
Потомъ онъ въ продолжение нѣкотораго времени
— 74 —
какъ будто сталъ вѣрить въ возможность чисто
научной культуры: но въ сущности онъ въ ту же минуту
сталъ стремиться подняться выше раціонализма,
какъ только пришѳлъ къ нему. Преодолѣвъ мета·
физику, онъ счелъ необходимымъ сдѣлать «шагь
назадъ», чтобы понять «историческое и психологи·
ческое основаніѳ метафизичѳскихъ представлеаій и
узнать, откуда явились высшія требованія чѳловѣ·
чества; безъ этого «шага назадъ» мы лишились быг
по его мнѣнію, пониманія лучшихъ результатов^
культурнаго прошлаго людей».
«Самое лучшее въ насъ», заявляѳтъ онъ, «быть
можетъ, уяаслѣдовано отъ ощущѳній прежнихъ врѳ·
менъ. Солнце уже зашло; но небо нашей жизни еще
озарено имъ, хотя мы его не видимъ».—Кто не со·
гласится съ тѣмъ, что въ этихъ словахъ отразилось
одно изъ самыхъ распространенныхъ настроеній
нашего времени.
Переходя отъ времени, когда написано была
«Чѳловѣчное, слишкомъ чѳловѣчноѳ» къ пѳріоду
«Заратустры», слъдуетъ сказать несколько словъ
объ отношеніи Нитцше къ наукѣ и «научной* фи-
лософіи.
Истиннымъ раціоналистомъ Нитцшѳ никогда не
былъ. Во всѣхъ философскихъ тѳчѳніяхъ, къ кото·
рымъ онъ примыкалъ, онъ шѳлъ далъе ихъ
непосредственной цъли; такъ онъ поступилъ и относитель·
но раціонализма, считая этопутѳмъ къ«прѳодолънію*
даннаго строя мысли. «Это еще далеко не свободные
умы», иронически замъчаетъ онъ (въ «Происхождении
нравственности г) — ибо они еще втьрятъ въ правду».
Его «свободное отрѣшеніе отъ обычной оцънки
вещей» привело его къ пренебрежению логикой и ея
— 76 —
принципами, а отказываясь отъ вѣры въ логику и
разумъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ отказывался и отъ
раціонализма. Наука трѳбуѳтъ для своихъ изсдѣ-
дованій общаго значѳнія и примѣнѳнія, и
следовательно безличности, — а между тѣмъ у
Нитцшѳ нѣтъ фразы, которая не имѣла бы личнаго
отпечатка—черты его собственной натуры. Нитцше
умѣетъ на словахъ хвалить «мѳтодъ»; самъ же
онъ дѣйствуетъ какъ Заратустра: тамъ, гдѣ онъ
могъ угадать, его нѳтѳрпѣливый духъ ненавидѣлъ
дѣлать выводи. Могла ли снован привычка разумѣнія,
не любви, не злобы, объективности», привычка,
укореняемая наукою, сдѣлаться его второй натурой, если
ей противорѣчийа его основная натура со всѣми ея
свойствами? Къ познанію и его задачамъ Нитцщѳ тоже
относился какъ художникъ. «Что заставляѳтъ насъ
вообще предполагать, что между истипнымъ и лож~
нымь есть существенное противорѣчіе»—спрашивалъ
онъ. «Не достаточно ли предположить, что есть
ступени мшгмаго, какъ бы бодѣе свѣтлыѳ и болѣѳ
темные общіѳ тона кажущагося - различные нюансы,
говоря языкомъ живописцѳвъ.» Нитцше хочѳтъ,
чтобы познаваніѳ вызывало въ нѳмъ эмоціи; онъ ждетъ
отъ мыслей, чтобы онѣ поражали его своею
неожиданностью. Еготянѳтъкъприключѳніямъ въ области
разума, къ странному, отдаленному, опасному: онъ
ищѳтъ того, что въ познаніи «причиняѳтъ боль», какъ
новое возбужденіѳ, исходящее изъ него.«Любопытный
до порока, искатель до жестокости» называлъ онъ
самого себя и прѳдсказывалъ, что ему будутъ
приписывать и ставить въ заслугу «излишества
честности». Прозвище «донъ-Жуанъ познанія » не только
пмъ придумано, но отчасти и для него самого. И
— 76 —
тотъ же мыслитель, который не боялся изречѳнія:
«наши высшія проникновения должны—и будутъ —
звучать какъ глупости, иногда даже какъ
преступления»,—обнаруживаетъ во второмъ періодѣ своего
творчества сильное и спокойное настроеніѳ, когда онъ
возвѳличиваѳтъ то, чего ему не достаѳтъ, и когда его
влеченіѳ золотитъ то, чего онъ ужѳ не могъ
достигнуть: орѳолъ мудрости и старости. «Та Лгѳ жизнь,
которая доститаетъ вершины въ старости, дости-
гаетъ ее и въ мудрости, въ мягкомъ солнечномъ
сіяніи постоянной духовной радости и обѣихъ—
старость и мудрость—ты встречаешь на томъ же
хребтѣ жизни—такъ хотѣла этого природа. Къ
свѣту твое последнее движеніе; ликованіѳ поянанія—
твой послѣдній звукъ».
Впослѣдствіи Нитцшѳ видѣлъ въ жизни ради
познанія только искажѳніѳ «аскетическаго идеала»,
«лазейку къ нѳбытію», къ побѣгу отъ самого себя,
къ избавлѳнію отъ воли; въ этомъ смыслѣ онъ пред-
полагалъ въ «Пѳрѳоцѣнкѣ всѣхъ ценностей»
назвать философію «нигилистичѳскимъ движѳніемъ».
3.
Новый пѳріодъ, въ который мы встунаѳмъ съ
«Заратустрой>, соѳдиняѳтъ непосредственно
предшествующи съ пѳрвымъ пѳріодомъ юношеской фило-
софіи Нитцшѳ, и, говоря языкомъ Гегеля, «сеи-
маетъ» ихъ оба, дѣлая ихъ своими моментами. Онъ
является союзомъ романтизма и позитивизма. «За-
ратустра», который провозглашаетъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ самъ воплощаетъ въ себѣ свѳрхъ-чѳловѣка,
является философомъ, художникомъ и свободомы-
— 77 —
слящимъ въ одномъ лицѣ; недоставало только
трѳтьяго элемента «генія», какъ онъ рисовался въ
юношескомъ идѳалѣ Нитцше,—с святости»; Нитцщѳ
отвергнулъ «святого» въ философѣ, когда отказался
отъ шопѳнгауѳровской метафизики. Мѣсто святого
занимаетъ теперь нравственный или, вѣрнѣѳ, сверх·
нравственный, гѳній—властѳлинъ своей воли,
могущественно-знатный чѳловѣкъ.
Одну руководящую мысль Нитцше перенесъ изъ
прежней эпохи въ новую—истинно просвѣтитѳльную
мысль о томъ, что исторію возможно и потому
необходимо начать сызнова,—необходимо «дѣлать исторію»,
Эта идея коренится еще гораздо глубже,—въ его
юношескомъ періодѣ. «Создайте въ васъ самнхъ
образъ, которому должно отвѣчать будущее, и
перестаньте считать себя эпигонами!» говорить онъ въ
«Несвоѳвременномъ разсужденіи о пользѣ и врѳдѣ ио
торіи» сподвижникамъ, которыхъ вѳрбуѳтъ для себя,
И въ отдѣльныхъ яаброскахъ,* относящихся къ тому
времени, онъ говорить о «влеченіи» «дѣлать исторію
полною смысла*. Болѣѳ определенной эта идея
становится только во второмъ періодѣ. Нитцщѳ видитъ
счастье нашею времени въ томъ, что мы въ про-
шѳдшемъ наслаждаемся всѣми культурами и питаемся
«благороднѣйшѳй кровью всѣхъ времѳнъ», между
тѣмъ какъ «въ отяошѳяіи къ будущему намъ въ
первый разъ въ исторіи открывается бѳзконѳчлая
перспектива человѣчески-всѳлѳнскихъ цѣлѳй, охва-
тывающихъ всю обитаемую землю. Вмѣстѣ съ тѣмъ
мы чувствуѳмъ въ себѣ достаточно силы, чтобы
взять на себя эту новую задачу, не нуждаясь въ
помощи свѳрхъестествеянаго». Съ исчезновѳніемъ
вѣры въ сверхъестественное, исчезла и зависимость
— 78 —
людей; чѳловѣкъ отнынѣ ищѳтъ опоры въ сѳбѣ са-
момъ. <Мы не должны отдавать отчета никому, кроме
самихъ себя: человѣчество можетъ отнынгь посту-
nambj какъ ему захочется*.
Нитцшѳ еще не подозрѣвалъ тогда, что эта
фраза, въ которой онъ просмотрѣлъ силы, внут-
ренно связывающая чѳловѣка, станетъ для него
роковой. Онъ еще не былъ охвачѳнъ тогда «цѳзарев-
чзкимъ трепетомъ* и не считалъ себя и только себя
одного прѳдназначѳннымъ къ созиданію новой
культуры· Хотя созиданіѳ культуры уже сдѣлалось для
него сознатѳльнымъ, намѣрѳннымъ дѣломъ, но онъ
«щѳ не считалъ его дѣломъ единичной личности,
и путемъ къ этой цѣли считалъ еще науку.—
*Люди могутъ сознательно продолжать новый
культурный путь, по которому они прежде шли безсо-
знательно и случайно. Эта новая сознательная
культура убиваетъ старую, которая, если ее раз-
сматривать въ цѣломъ, была без сознательной
животной и растительной жизнью. Пониманіѳ условій
культуры, какъ научнаго критѳрія для универ-
чзальныхъ цѣлей—вотъ громадная задача вѳликихъ
умовъ будушаго вѣка».
Точно такъ же какъ просветительное движѳніе
€ило ѳвропѳйскимъ событіѳмъ, міросозерцаяіемъ,
перѳшѳдшимъ отъ одной великой націи къ другимъ
и объѳдинившимъ всѣ націи въ одномъ общѳмъ
культурномъ союзѣ,—такъ и культурная задача,
которую выдвинулъ теперь Нитцшѳ, сделалась
общеевропейскою—понимая Европу не какъ
географическое обозначеніе. «О гѳрманскомъ возрожденіи
эллинизма» уже нѣтъ болѣѳ рѣта; эта и другія
«блаженныя надежды», которыя Нитцше въ мо-
— 79 —
додости возлагалъ на гѳрманскій духъ, кажутся
^му теперь ограниченными, преждевременными,
происходящими изъ нѳзрѣлыхъ жѳданій и
недостаточная опыта; онъ отказался отъ нихъ тогда же,
когда порвалъ съ Вагнѳромъ.
Начать исторію нааово—значитъ отрицатьисторію,
желать уничтожить ѳя вліяніѳ. Но разве это
возможно, когда мы до последней клѣточки нашего
физичѳскаго и духовнаго строя—существа, живушія
лсторіѳй? Какъ бы высоко мы ни цѣнили могущество
великихъ индивидуальныхъ силъ и значѳніѳ созна-
тельнаго почина, въ особенности въ пѳріоды куль-
турнаго обновления—все-таки приходится поставить
выше могущество историчѳскаго и традиціоннаго
элемента. Кроме того, самыя эти силы ваимствуютъ свою
власть изъ накопленной энергіи прѳжнихъ культуръ.
Желаніе импровизировать культуру, создать ее
непосредственно изъ сырого матеріала стихійныхъ
эяѳргій—a Нитцшѳ несомненно отчасти имѣлъ это
жѳданіе-—лишено историческаго основанія, и потому
недействительно и неосуществимо. По мудрому
совету Гете, нужно соединять созидательный элѳмѳнтъ
съ историческимъ, какъ для собствѳннаго развитія,
такъ и для содѣйствія общему развитію; можно
сказать, что прогрессивный консерватизмъ опрѳдѣляѳтъ
ходъ развитія органической натуры и продолжение
этого развитія въ исторіи чѳловѣчества.
Въ своей вѣрѣ въ будущность человечества, въ
стремлении содействовать культуре, которая должна
поднять типъ человека, Нитцшѳ нашелъ то, чего не
могъ бы дать никакой ращоналиэмъ, т. ѳ. замену
религіи. Уже рано мысли его направлены были къ
къ этой цели. «Не ищите пристанища въ метафи-
—
возике и действуйте на пользу развивающейся
культуры», восклицаетъ онъ, обращаясь, между прочимъ,.
и къ самому себе: «не въ познав анги, а въ созн-
данги лѳжитъ наше спасеніѳ!» Онъ бѳрѳтъ на себя
самого задачу, которую прежде ставилъ поэту,
требуя отъ него, чтобы онъ прѳдвидѣлъ возможное,
былъ бы путеводитѳлемъ будущаго, далъ бы намъ
предвкусить будущія добродѣтѳли и продолжить
поэтическую мечту о прекрасномъ и ведикомъ чело-
вѣческомъ образе. Онъ «аргонавтъ идеала», и какъ
бы онъ могъ удовлетвориться тепѳрѳшнимъ чѳлове-
комъ, если у него пѳрѳдъ глазами видите
«неоткрытой еще страны», «страны, которая лѳжитъ^ва
пределами всехъ сущѳствующихъ до сихъ поръ
областей и уголковъ идеала». Вѣра въ «свѳрхъ-чѳловека»
замѣняетъ ему веру въ «сверхъ-чѳловечное». Сила
его словъ никогда не достигала большей высоты,
паеосъ его никогда не былъ увлекательнее, чѣмъ
въ изрёчѳніяхъ и пророчѳствахъ Заратустры о
«высшей надежде», о людяхъ будущаго, о новомъ
утре. «Есть тысячи дорогъ, по которымъ еще никто
не шѳлъ; тысячи здоровыхъ натуръ и скрытыхъ
острововъ въ жизни. Все еще не исчерпаны и нѳ-
иэследованы и человекъ, и человеческая земля. —
Жизнь хочѳтъ строиться ввѳрхъ и выдумываетъ
столбы и ступени; вдаль она хочѳтъ глядеть на
блаженную красоту. Жизнь хочѳтъ подняться и
поднимаясь побеждать себя. Я хожу среди людей какъ
среди будущаго того будущаго, которое я вижу.—
Вы должны любить вашу страну дгыпства —
неоткрытую, лежащую въ далекомъ море! И пусть
ищутъ и ищутъ ее ваши корабли. О, какъ много морей
вовругъ меня, сколько зажигающихся чѳловѣчѳскихъ
— ftt —
жизней! Какъ многое еще возможно! самое далекое
для чѳловѣка, самое глубокое, самое высокое, звѣздо-
подобное—его безграничная сила!»
Въ книгѣ «За прѳдѣлами добра и зла» о буду-
щемъ философѣ говорится, что онъ «однимъ взгля-
домъ обнимаѳтъ все то, что при благопріятномъ на-
коплѳніи и ростѣ силъ и задачъ можно было бы
взростить въ чѳловѣкв; онъ знаѳтъ всей своей
способностью знать и сознавать, насколько человѣкъ еще
неисчерпанъ для великихъ возможностей*. Задача
его заключается въ томъ, чтобы «показать*, что
будущность чѳловѣка въ его волѣ, зависима отъ воли
людей.» Такова задача Нитцше, его программа, его
судьба.
Путь къ будущему, къ созиданію болѣѳ совер-
шеннаго человѣчѳства ведѳтъ не отъ соврѳменнаго
культурнаго человѣка, а отъ твхъ первородныхъ
силъ и стремлений, которыя въ нѳмъ еще не
укрощены и нѳ ослаблены; источникъ будущаго въ
томъ, что въ человйкѣ осталось природнаго, не
смотря на культуру,
/Подобно Ж.-Ж. Руссо, Нитцшѳ проповѣдуетъ
возвратъ къ природѣ, т. е. къ инстинктамъ. Но
этотъ возвратъ долженъ былъ стать въ сущности
шествіемъ «вверхъ,—къ свободной, высокой, даже
страшной природѣ и естественности». Представленіе
Нитцше о природномъ состояніи противоположно
поішманію Руссо. Оно отмѣчено дарвннизмомъ, или,
еще вѣрнѣе, оно отвѣчаетъ стремленію натуры Нитцше
къ сильному, твердому, жестокому—ко всему, что
закаляетъ и вооружаетъ волю. Ибо ничто не было
ему более ненавистно, чѣмъ «постыдная
современная разслабленность чувства.-.. Его представление о
— 82 -
первобытном ь чѳловѣкѣ также одна только фантазія,
но его воинственный сонъ гораздо ближе къ
действительности, чѣмъ чувствительная идиллія Руссо.
Послѣдній не умѣлъ объяснить, почему человѣкъ
вышелъ изъ ѳстѳствѳннаго состоянія, которое онъ
считалъ райскимъ, и оттого допуокалъ въ прошломъ,
человѣчѳства своего рода грѣхопадѳніѳ,—падѳніѳ
въ культуру. Ыитцшѳ говорить (въ с
Происхождении нравственности») о насильсшвенномъ
разрыва человѣка съ его животяымъ прошлымъ,
о прыжкѣ, который перенесъ человѣка въ новыя
состоянія и условія жизни. Какъ исходный пунктъ,
такъ и цѣль обоихъ философовъ лежать на про-
тивоположныхъ полюсахъ культуры. Руссо начи-
наѳтъ съ свободнаго равенства въ лѣсахъ и кон-
чаетъ равенствомъ рабовъ въ государствѣ. Нитцше
исходить изъ неравенства расъ и людей, изъ
«глубокой какъ пропасть розни классовъ между человѣ*
комъ и чѳловѣкомъ» и желаетъ, чтобы въбудущѳмъ
эта пропасть еще болвѳ увеличивалась. Разницу
между расами, между прирождѳннымъ «господиномъ»
и «рабомъ» по опрѳдѣленію судьбы, онъ понимаетъ
слишкомъ абсолютно, какъ родовое различіе, а не
просто разницу степени.
По своей геніальной страстности Нитцше не
уступаетъ Руссо, а по силѣ и мастерству языка,
быть можетъ, даже превосходить его. Нитцше—
антиподъ и въ тоже время духовный брать Руссо;
это Руссо нашего времени.
Нитцше признаѳтъ только культутру, созданную
«великими индивидуальвостями», людьми
обособленными по своей натурѣ. Для него несомненно, что
не только культура создается отдельными властными
— 83 —
личностями, но что она въ сущности только и
существу ѳтъ для болыпихънатурт:,, поскольку ѳя
главное назначѳніе заключается въ томъ, чтобы
способствовать дальнейшему появленію этдхъ «истинныхъ
людей >. Въ этихъ двухъ положеніяхъ заключаются
основныя мысли Нитцше о культуре. Первое изъ
нихъ констатируѳтъ историческій фактъ и потому
можетъ быть проверено; второе заключаетъ
исключительное иреклонѳніе перѳдъ «геніѳмъ», которое
становится прѳувеличеннымъ культомъ.
«Всякое созиданіе новой культуры совершается
сильными передовыми натурами», объявляѳтъ
Нитцше и для той же мысли находитъ еще бол бе
решительное выражѳніѳ: свъ народе мы всегда нахо-
димъ оставшіѳся слѣды прошедшихъ мимо лъви-
ныхъ натуръ: въ нравахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ—
повсюду толпа подчинилась вліянію отдѣлышхъ
личностей*. Для культуры, какъ и для войны; нужны
«великіе вожди, и всякое развитіе начинается съ по-
слушанія». Эти суждеяія Нитцше не отличаются
существенно отъ ι культа героевъ» Карлейля. Они
сходятся еще и во многомъдругомъ, исловаЗаратустры—
«человеческое общество есть не что иное, какъ
попытка—долгое исканіе: оно ищетъсвоего повелителя»
звучать почти какъ цитата изъ Карлейля. Исторія, пови-
димому, въ значительной мТірѣ оправдываѳтъ эту тео-
рію. Всякій разъ, когда'появлялся новый культурный
центръ, являлась и личная энѳргія, производившая
идейный водоворотъ; почти каждый народъ хранитъ
въ своей плмяти и чтитъ имена созидателей своей
культуры, имена Конфуція, Зороастра, Моисея,—и
даже изъ глубины доисторическихъ прѳданій и
лѳгѳндъ звучатъ смутяыя воспоминанія о великихъ
- 84 -
людяхъ прошлаго. Но исторія ничего не говоритъ о
связи между народомъ и отдѣльными личностями»
Поскольку послѣдніе не могли бы ничѣмъ стать
безъ народа, материнскаго нѣдра, изъ котораго
вышли всѣ ихъ качества, постольку и народъ не
могъ бы быть безъ нихъ ничѣмъ цѣльнымъ, объедн-
ненаымъ рѳлигіей, обычаями и правомъ. Карлейль
видѣлъ эту связь между гѳроемъ и толпой; Нитцшѳ
не хотѣлъ ѳя видѣть—народъ для него лишь «об-
ходъ, который дѣлаетъ природа, чтобы создать
шесть, семь вѳликихъ людей—и потомъ обвести
кругъ вокругъ нихъ». «Великіе люди», говоритъ
онъ, «необходимы; время, когда они появляются —
случайно*.
«Ни государство, ни народъ, ни человѣчество не
сущѳствуютъ ради самихъ себя, а только ради сво-
ихъ вершинъ; цѣль заключается нъ великихъ инди-
видуальностяхъ—а эта цѣль поднимается надъ че-
ловѣчествомъ. Изъ всего этого ясно, что геніи су-
ществуѳтъ не ради чѳловѣчества, хотя онъ ооста-
вляетъ его вершину и конечную цѣль» — ішсалъ
Нитцшѳ (въ простр.інномъ «Обращевіи къ Вагнеру»):
и въ своихъ юыошескихъ произведеніяхъ онъ
неустанно варіировалъ ту же мысль. «ЦЪлъ
человечества не въ его кояечныхъ результатахъ, а лишь
въ его высшихъ типахъ>·. <Человечество должно
постоянно стремиться къ созданію отдѣльныхъ
великихъ личностей; только это, а не что либо иное,
составляетъ его задачу>. «ЦЬль культуры въ томъ,
чтобы способствовать тюявленію истинныхъ людей.
и ни въ чѳмъ иномъ*. Тутъ лее встречаются даже
наброски теоріи сверхъ-чѳловѣка: «въ сущности весьма
понятно, что цѣль развтітія даннаго вида находит«;я
— 85 —
тамъ, гдѣ этотъ видъ дошѳлъ до крайяихъ предѣ-
ловъ развитія и пѳрѳходитъ въ высшій», говорить
Нитцше въ книгѣ сШопѳнгауѳръ какъ
воспитатель». — сЯ ищу нѳ счастливыхъ пѳріодовъ въ
нсторіи,» (гласитъ одно мѣсто въ нѳизданныхъ ма-
тѳріалахъ) «а такихъ, которые были благопріят-
ной почвой для нарожденія гѳнія. Самая высшая
потеря, какую можѳтъ претерпеть человечество,
это нѳосущѳствлѳніѳ высшихъ типовъ въ жизни».
Высшимъ стремлѳніѳмъ культуры Нитцше счи-
таѳтъ (въ нѳиэданныхъ матѳріалахъ) подготовленіе
и созиданіѳ генія. Онъ думаѳтъ объ собразованіи
центра человечества» для этой цѣли и вѣритъ въ
«счастливая изобрѣтѳнія, которыя помогутъ
воспитать великую человеческую личность совершенно
иначе и въ еще болѣе высшемъ смысле, чѣмъ она
воспитана была случайными обстоятельствами». «Есть
еще надежды*, говорить онъ, «для человечества
въ созиданіи и взращиваніи великихъ людей»» Въ
этихъ фразахъ замѣтны слѣды повѳрхностнаго
изучения Дарвина. Въ книге «Шопенгауеръ какъ
воспитатель» задача культуры также определяется въ
смысле созиданія генія или, какъ онъ тамъ
называется, «философа, художника и святого въ насъ
и внѣ насъ»; это Нитцше называѳтъ содѣйствіемъ
совѳршенствованію природы. Достаточно для
опровержения этого напомнить о словахъ Гете, на
которыя Нитцше самъ указываетъ: «Горе, когда че-
ловѣкъ стремится къ чему нибудь, съ чѣмъ онъ не
можѳтъ соединить правильной самостоятельной
деятельности». Мы не внаемъ условій, нужныхъ для
того, чтобы воспитать геній, и даже сомневаемся,
требуется ли для его воспитанія особое искусство;
— 86 —
еще менѣе извѣстны намъ условія его
возникновения. Наследуется ли геній? Опытъ, повидимому,
ваставляѳтъ предполагать противоположное.
«Велики чѳловѣкъ — заканчивающее звено» — долженъ
оылъ сознаться самъ Нитцше.
Но этотъ геній, вершина и конечная цѣль
культуры, претерпѣваетъ всѣ колѳбанія и переходы фи-
лософскихъ взглядовъ Нитцше. Вначалѣ онъ счи-
таетъ геніемъ того, кто умЬетъ цгьнить жизнь и
отрицать: онъ вѣрѳнъ фидософіи Шопенгауера. Но
такъ какъ по дальнМшимъ теоріялгъ Нитцше отъ
жизни нѣтъ спасѳнія, а напротивъ того, жизнь без-
числѳнное множество разъ возвращается среди «іѵЬч-
наго повторения» той же самой жизни, то всѣ
нравствѳнныя поучѳнія и стремлѳнія отрицать жизнь
являются не только бѳзсмыслѳнными, но
достойными порицанія. Отрицающій жизнь и покоряющій
ее «отшѳльникъ и святой» становится прннимаю-
щимъ жизнь «діонисіѳвскимъ» гѳніѳмъ и гѳроѳмъ,
который мирится съ жизнью даже въ томъ, что въ
ней есть «самаго чуждаго и тяжѳлаго». Жизненная
энергія, напряженная до крайности — вѣрнѣе даже
слишкомъ напряженная—вслѣдствіѳ противодействуя
жизни человеку—таково последнее слово культур·
наго идеала Нитцше. /
(4.
Культура не можѳтъ обойтись безъ сильныхъ
страстей; это, по мнѣнію Нитцше, тѣ силы, который
подготовляютъ ей почву. «Преслѣдуйте и мучьте
людей!»*~такъ говоритъ у него исторія страстямъ,
зависти, ненависти и соревнованію—«доводите ихъ
до крайности! возбуждайте однихъ противъ дру-
— «7 —
гихъ, народъ противъ народа. Когда
воспламенится могучая энѳргія, зажженная страстями, тогда,
быть можѳтъ, изъ отлетающей въ сторону искры
вспыхнетъ свѣтъ геяія». «Тотъ, кто постигъ бы,
какъ развивается гѳній и какимъ способомъ дѣй-
ствуетъ обыкновенно природа, производя его, и кто
хотѣлъ бы применить этотъ способъ на дЪлѣ, тотъ
сталъ бы такимъ же злымъ и бѳзпоіцаднымъ,
какъ природа». «Теплое сочувствующее сердце»
не знаѳтъ, чего оно жѳлаѳтъ, когда требу-
етъ уничтоженія насильственное™; его
собственная теплота происходитъ изъ пламени тѣхъ
самыхъ страстей, которыя оно хочѳтъ
погасить. «Мудрецъ, который произноситъ сужденіѳ
о жи8ни, становится тѣмъ самымъ падь добротой
и разсматриваѳтъ ее какъ вЬчто такое, что слѣ-
дуѳтъ принимать во вниманіе только при
общей оцѣнкѣ жизни». Таковы мысли, которыя
привели Нитцше отъ его пониманія культуры къ
этичѳскимъ взглядамъ. Нитцше самъ
преклонялся перѳдъ этою нравственностью, когда
находился подъ вліяніемъ ІПопѳнгауеровскаго
учета о жалости· Правда, уже въ наброскахъ къ
«Происхождѳнію трагѳдіи» онъ высказываетъ
«жестокую истину» о томъ, что «рабство
составляешь существенную часть кулътуръгъ, но онъ при-
бавлялъ тогда, что эта «истина не оставляетъ со-
мнѣнія относительно абсолютной цѣнности бьттія.
Она—тотъ коршунъ, который тѳрзаетъ печень куль-
турныхъ Лромѳтеѳвъ». Впослѣдствіи рабство
было для него уже не отрицательнымъ доводомъ, а
только «условіѳмъ всякой высшей культуры, вся-
каго возвышенія культуры*, причемъ, однако,
— 88 —
онъ говоритъ ограничительно со рабствѣ въ одномъ
какомъ нибудь отношеніи». «Всякое возвышѳніѳ че-
ловѣческаго типа», говоритъ онъ въ книгѣ «За
пределами добра и зла», «было до сихъпоръ дѣломъ ари-
стократичѳскаго общества—и всегда будѳтъ рѳзуль-
татомъ усилій общества, которое вѣритъ въ длинную
лѣстницу ранговъ и отличій между людьми, и
которое въ какомгь нибудь отношенги нуждается въ
рабствѣ», Въ связи съ этимъ рЪчь идѳтъ о своего
рода внутреннѳмъ рабствѣ, о «расширѳніи разстояній
въ самой душѣ», о выработки все болѣе и болѣѳ вы-
сокихъ состояній, другими словами—о томъ, чтобы
чѳловѣкъ продолжалъ «преодолевать самого себя»·
Объ этомъ рабствѣ «болѣѳ утончѳннаго духа»
говорится, что оно есть «необходимое средство и дляду-
ховнаго совершенствования». Но это, въ сущности,
не что иное, какъ разсмотрѣыыая съ
противоположной стороны власть чѳловѣка надъ самимъ собой»
которую бѳвъ особѳннаго пристрастія къ силь-
нымъ выраженіямъ, нельзя бы было назвать «раб-
ствомъ».
Изменились не взгляды Нитцше на
существенный условія культуры, а его критеріи въ оцЪнк-Ь
лещей; эта пѳремѣна видна изъ
противоположности его тѳперешнихъ суждѳній о власти
сравнительно съ прежними. Въ брошюрѣ «Рихардъ Ваг*
нѳръ въ Байрейтѣ» Нитцше видитъ въ стремлении къ
высшей власти своего рода отсталость и разсматри-
ваетъ ее какъ «наслѣдіе прежнихъ состояній». Богъ
въ Нибелунгахъ «чувствуѳтъ наконецъ отвращѳпіѳ
къ власти, которая таить въ сѳбѣ зло и
несвободу; его воля разбивается, онъ самъ жѳлаетъ конца;
оуь нашелъ освобождѳніѳ въ любви, освободился отъ
— 89 —
самого себя», с Кто изъ васъ откажется отъ власти»,
говорить намъ Нитцше этимъ примѣромъ, с зная и
убѣждаяоь на опытѣ, что власть есть зло»? И еще въ
«Утренней зарѣ» любовь къ власти называется «де-
Ъіономъ чѳловѣка». Такъ Нитцше начинаѳтъ съ
осужденія власти, чтобы закончить восхвалѳніѳмъ,
даже обоготворѳніѳмъ ея.
Власть и зло, которое онъ прежде въ ней находилъ,
все болѣѳ и болѣѳ пріобрЬтаютъ для него значѳніе
творческой силы, составляющей основу всякой
культуры. Онъ ищѳтъ «столповъ сильной
культуры» и находить среди нашихъ <слабыхъ нѳмуже-
ствѳнныхъ условныхъ понятій о добрѣ и злѣ» по-
<5Л*Ьдніѳ остатки этихъ столповъ только тамъ, «гдѣ
дѣйствуѳтъ дурная (или какъ онъ называлъ ее впо-
слѣдствіи), злая мораль».—«До сихъ поръ только са-
мыя сильный и самыя злыя натуры (заявляетъ онъ
въ «Радостной наукѣ») дальше всего вели человѣчѳ-
-ство впѳредъ; онѣ снова воспламеняли засыпающія
страсти». Онъ не хочѳтъ, чтобы его лишали созѳрца-
вія злобы, говорить онъ въ Заратустрѣ. И въ самомъ
дѣлѣ онъ довѳлъ себя до страннаго пристрастія къ
«хищному чѳловѣку», къ этимъ «оамымъ здоровымъ
образ чикамъ тропическихъ чудовищъ и раститель-
ныхъ продуктовъ». Склонность къ жестокости вилна
въ созданномъ имъ культурномъ идѳалѣ, основан-
аомъ только на силЪ воли.«Почти все то, что мыназы-
ваѳмъ высшей культурой, исходить изъ одухотворе-
ніяи углублѳнія жестокости»—вотъ его слова. Въса-
мыхъ страшныхъинечеловѣчныхъ, по общему мнѣнію,
способностяхъ чѳловѣка онъ впдитъ почву для
развитая гуманности, для отвлѳчѳнія добрыхъ
побуждений отъ дурныхъ. Эти взгляды укрѣплядись у
— УО —
Нитцшѳ, когда, изучая основу и дальнейшее
развитее культуры, онъ понималъ ихъ по своему. Онъ
полагаетъ, что «жестокость, насиліѳ, рабство,
опасности для жизни и духа,—что все ужасное,
деспотическое, хищное и змееподобное нъ людяхъ также
способствуете поднятію чѳловѣческаго типа, какъ
и противоположное». И такъ какъ онъ, въ
совершенно античномъ духе, считаѳтъ ненависть, зависть,
жадность и властолюбіѳ аффектами, возбуждающими
жизнь, тѣмъ, «что принципіально и необходима
должно входить въ экономію жизни», то онъ не
боится требовать развитія и одухотворѳнія этихъ
аффѳктовъ для поднятія жизненной интенсивности.
Нужно сначала, чтобы змѣя превратилась въ
дракона для того, чтобы явился герой для победы надъ
нимъ».
Нитцще мѳчтаѳтъ о новомъ великомъ буду-
щемъ для человека, полагая, что его можно еще
создать и выростить изъ всего велик аго, свободнаго
и страшнаго, что таится въ человеческой
натуре. Это подразумѣваѳтъ онъ въ своихъ возгласахъ
«назадъ къ природе»! или «вверхъ къ природ^!».
Ему кажется, что слѣдствіемъ современной
культуры и ея нравственныхъ идеаловъ явилось измель-
чаніе чѳловѣка, который уклонился отъ пути,
указанна™ природой для шествія вверхъ. И оцѣнка
этой культуры должна была привести къ оцѣнкѣ ея
ѳтическихъ принциповъ.
Самый свободный анализъ основъ и
справедливости нашего этическаго міросозерцанія
составляете большую заслугу. «Испытайте вашу
нравственность»! говорить намъ совѣсть и разумъ; если она
действительно нравственна, то опасности нетъ.
— 91 —
Тѣ этическія переживания, которыя не могутъ
противостоять самой решительной критикѣ, не могутъ
слиться съ нашимъ внутреннимъ міромъ, не могутъ
стать частью нашего разумнаго внутренняго
законодательства. Серьезность и глубокая страстность,
съ которой Нитцше подходитъ къ этичѳскимъ за-
дачамъ, должны были бы отклонить отъ него
обвинѳніе въ томъ, что онъ скептикъ въ области
морали и что онъ сомневается въ обязательности ея
законовъ только изъ привычѳкъ свободомыслія и
раціонализма.
Классически образованные противники Нитцше
ищутъ его гречѳскаго двойника, или даже источника
его воззрѣній, въ другѣ софистовъ Калликлѣ л
рѣчы его (въ платоновскомъ діалогѣ Горгій) о
преимуществахъ болѣе сильнаго чѳловѣка. О болѣе
близкомъ образцѣ, объ «homo singolaro, «великой
отдельной личности»итальянскаго Возрождения онпне
думали. А между тѣмъ, если когда либо философская
система вытекала съ необходимостью органическаго
процесса изъ характера и развитія мыслителя и
становилась пѳредъ нимъ, а не выдумывалась ішъ
произвольно, то именно такою была нравственно-ре-
вилюціоняая задача Нитцше, эта с судьбой опрѳд ѣлен-
ная задача», какъ онъ ее называлъ. Нитцше страдалъ
ею, она была его личнымъ горѳмъ, его мукой, и
только послѣ того какъ ему казалось, что онъ одо-
лѣль ее, стала его высгаимъ счастьемъ. Изъ глубины
имъ самимъ пережитого чувства исходятъ слова За-
ратустры: «и если ты скажешь: у меня не единая
совѣсть съ вами, то это будешь жалобой и стра-
Оаніемъ. Видишь,—и это страданге рождено еще
обшей совѣстъю*. [
— 92 —
Новизну своей задачи—въ томъ смыслѣ. въ ка-
комъ она ему представлялась—Нитцше вполнѣ со-
знавалъ. Никто до него не разоматривалъ еще
ценности нравственности, никто не посягалъ на критику
нравствѳнныхъ принциповъ. «Цѣна этихъ ценностей
принималась какъ нѣчто данное, установленное,
стоящее внѣ всякихъ вопросовъ. —Во всей наукѣ о
нравственности недоставало до снхъ поръ самой
этической проблемы: недоставало подозрѣнія. что здѣсь
есть нѣчто спорное. То, что философы называли осно-
ваніемъ нравственности, было въ сущности лишь
ученой формой вѣры въ общепринятую нравственность и
даже отчасти отрицаніѳмъ того, что нравственность
Можѳтъ составлять вопросъ». — «Разсматривать
нравственность какъ вопросъ — развѣ это не
безнравственно?» Въ то время, какъ Нитцше идѳтъ
противъ принциповъ, противъ духа общепринятой
нравственности, онъ не хочѳтъ выразить сомнѣній
по отношенію ко всѣмъ отдѣльнымъ заповѣдямъ
этой нравственности и не хочѳтъ освободить
отъ слѣдованія имъ. Ничто не было болѣе чуждо
всей его натурѣ, ничто не противорѣчило болѣе
его склонности къ твердости и строгости (даже въ
отношѳніи самого себя), какъ распущенность и
несдержанный произволъ. «Я не отрицаю, само
собой разумѣется», говорить ояъ въ «Утренней
Зарѣ», «что многихъ поступковъ, которые считаются
безнравственными, слѣдуѳтъ избѣгать, и что противъ
нихъ нужно бороться: точно также несомненно, что
многіе поступки, которые считаются
нравственными, слѣдуѳтъ совершать и одобрять; только я вижу
для того в другого иныя причины, чѣмъ видѣлн:
прежде».—<Не въ томъ опасность для правед-
— 93 —
наго, что онъ добродѣтеленъ, а въ томъ, что
онъ дерзокъ и насмѣшливъ. — Но заклинаю тебя
своей любовью и надеждой: не уничтожай героя вг
твоей душѣ!» — взываѳтъ Заратустра къ юношѣ.
Извѣстнаго рода привѳржѳнцевъ, которые считаютъ
Нитцше бѳзнравственнымъ въ ихъ смыслѣ, и кото-
рыхъ онъ самъ не можѳтъ оттолкнуть отъ себя,
Нитцше спрашивав тъ въ Заратустрѣ: «изъ тѣхъ
ли ты, которые имѣють право уйти отъ ига? Есть
люди, которые лишаются последней пѣны, отбра-.
сывая свою подвластностью.—И сюда же молено пріь
мѣнить прекрасное слово: <повѳлѣваютъ всегда
тому, кто не умѣетъ подчиняться самому себѣ».
Нитцше хочетъ стать «разрупштелѳмъ нрав-»
ственности» только потому, что считаетъ себя
призванвымъ къ созданію новой нравственности;
онъ хочетъ «разбить старыя скрижали, чтобы
записать на новыхъ скрилсаляхъ новыя
ценности». Въ своемъ одностороннему навѣяяномъ
Шопенгауеромъ лониманіи, онъ видитъ во всѣхъ
прежнихъ идеалахъ, за исключеніемъ римскаго,
нѣчто идущее противъ принципа жизни: bcî они
кажутся ему лишь различными формами «аске*
тичѳскаго идеала», который только одинъдосихъ
поръ опредвлялъ цѣль человѣчѳства и смыслъ че-
ловѣческихъ страданій. Ибо человвкъ прѳдпочи-
таетъ желать ничто, чѣмъ не желать совсѣмъ. Этотъ
идеалъ—объектъ его завоевательныхъ стрѳмлѳнііі ;
разрушить его и на его мѣстѣ воздвигнуть
противоположный идеалъ, признающій и волю,и жизнь,—
таков і. цѣль его нападокъ на господствующую
нравственность.
Мысли Нитцще о нравственности и противъ нея
— 94 —
были опроверженіѳмъ Шопѳнгауѳра и потому
развивались въ зависимости отъ него. Шопенгауеръ
считалъ жалость истинной основой и единствен-
нымъ источникомъ нравственности; вѣра Нитцшѳ въ
нравственность стала колебаться вмѣстѣ съ сомнѣ-
ніемъ въ цѣнности жалостливыхъ чувствъ. Противъ
инстинктовъ жалости, самоотречѳнія,
самопожертвования въ немъ говорила все большая и большая прин.
цішіальная подозрительность, все болѣеиболѣе
глубока скептицизмъ. Сомнѣніе въ жалости разросталось
въ немъ и превратилось въ вопросъ о
нравственности вообще.И относительно этого, какъ онъ говорить,
«онъ должѳнъ бы л ъ объясняться почти
исключительно съ своимъ великимъ учителѳмъІНопенгауеромъ».
Нитцше прежде всего боролся противъ
нравственности, основанной на жалости, противъ Шопенгау-
еровскаго принципа» laede neminem», но онъ
боролся противъ этого рода нравственности, какъ
будто бы она была воплощѳніемъ нравственности
вообще. Онъ гордился тѣмъ, что спѳрвый сталъ
предостерегать отъ нравственности, основанной на со-
страданіи». Нужно, по его трѳбованію, «безжалостно
призвать къ отвѣтственности проповѣдь
самоотвержения и учинить судъ надъ нѳю>. Все болѣе распро-
странягощійся культъ самоотвержѳнія онъ считалъ
еамымъ ужасающимъ симптомомъ нашей ужасной
европейской культуры, путемъ къ новому
буддизму, къ европейскому буддизму,—т. ѳ. къ
нигилизму. И хотя кромѣ Шопѳнгауѳра (и его самого
только въ періодъ юности) ни одинъ философъ не
ігридавалъ состраданію самому по себѣ,
благотворному иди вредному, смотря по обстоятельствамъ
нравственнаго значѳнія, Нитцше все-таки говорить
— 95 —
о томъ, что философы относятся къ состраданію съ
осооымъ иредпочтеніемъ и преувѳличиваютъ его
значѳніе.
Его неутомимо пытливый умъ не остановился
на вопросѣ о состраданіи. Если вынуть
краеугольный камень современной морали — а такимъ онъ
считалъ состраданіе, — то развѣ это не опроки-
нѳтъ всего строенія нашихъ обычныхъ этическихъ
суждѳній? Безграничная новая перспектива
открывалась тѣмъ самымъ передъ нимъ, голова
закружилась у него отъ «возможностей», и проснувшаяся
въ немъ пытливость толкала его отъ вопроса къ
вопросу* Нельзя ли переоценить всѣ цѣнности?
Можетъ быть, добро есть зло? Можетъ быть,
первооснова всего—ложь? — «До сихъ поръ никто даже
самымъ отдалѳянымъ образомъ не колебался,
отдавая препочтѳніе «доброму» надъ «злымъ» въ смыслѣ
пользы, плодотворности и значенія для человѣка
вообще (включая и будущность человѣка). Что.
если истина въ противоположномъ? Такъ что именно
по винв нравственности не могла быть достигнута
высшая мощь и великолѣпіе чѳловѣческаго типа?>^
«Никто еще пепонялъ, что прекрасно и что нѣтъ.»—
«И что обозначаѳтъ эта любовь философовъ, ихъ
желаніе истины? Почему истины? Почему не
лжи? Вопросъ ли о значѳніи и цѣнѣ истины
поднялся для насъ—или же мы предстали передъ нимъ?
Кто изъ насъ здѣсь Эдипъ? Кто сфинксъ? Быть
можетъ, только нравственный предразсудокъ
заставляешь предпочитать истину кажущемуся». Такъ
Нитцше, подобно Вагнѳровскому герою, хотѣлъ
«освободиться отъ божѳствѳннаго закона»; такъ онъ
<с;гЬлался великимъ вопрошателемъ въ фгмософіи.
— 96 —
Иъ книгѣ «Человѣчное, слишкомъ человечное»
Нитцше писалъ: «сдѣлать себя цЪльной личностью
во всѳмъ, что двлаѳшь, им-Ъть въ виду высшее благо
своей личности—это ведетъ дальше, чѣмъ
жалостливый стремления и заботы о другихъ». — «Кто въ
мірѣ совершаѳтъ больше глупостей, чѣмъ
милосердные? И что въ мірѣ причиняло больше страданій,
чѣмъ глупость милосердныхъ? Горе любящимъ, у
которыхъ нѣтъ болѣе высокой вершины, чѣмъ ихъ
жалость: жалость навязчива. Всѣ творящіе
безжалостны. Всякая великая любовь выше сострада-
ніях, говоритъ Заратустра.—«Самое страд»ніе
становится заразитѳльнымъ изъ-за состраданія.
Жалость, умножающая страданія и сохраняющая все
жалкое является главнымъ орудіемъ декаданса, спо-
собствующимъ его усиленію. Жалость отрицаетъ
жизнь и дѣлаѳтъ ее все болѣе достойной отрицания*,
говоритъ онъв*ь «Антихристѣ». «Нравственность (т.е.
нравственность, основанная на жалости) отрицаетъ
жизнь», говоритъ Иитцше въ томъ же значеніи въ
предисдовіи къ книге о Вагнѳрѣ. И въ Заратустрѣ
есть слѣдующее изреченіе: «Война и мужество
совершили больше великихъ дѣлъ, чѣмъ любовь къ
ближнему. Не милосердіѳ ваше, а храбрость спасала до
сих ь поръ несчастныхъ. Что хорошо? спрашиваете
вы. Хорошо быть храбрымъ. Пусть маленькая дѣ-
вочки говорятъ, что хорошо то, что въ то же время
красиво и трогательно». Кто станетъ возражать на
это? Но развѣ эти упреки касаются истинной,
приходящей на помощь жалости? Они скорѣе убиваютъ не
настоящее, а сентиментальное соболѣзновавіе,
эгоистическую жалость, которая происходить ивъ
неспособности видѣть страданія такъ же, какъ и выно-
— 07 —
сить страданія! Развѣ въ самомъ дѣлѣ въ мірѣ
слишкомъ много состраданія, слишкомъ много
истинной, не навязчивой, а скрывающейся лсалости
которая скорѣѳ предупреждаем страданіѳ, чѣмт,
приходитъ на помощь, когда оно наступаетъ? Нул;но
ли, какъ это дѣлаѳтъ Нитцше, предупреждать про-
тивъ ѳя излишка? Не борется ли тутъ Нитцше
противъ воображаемой опасности? Но, быть можѳтъ,
онъ только зашелъ дальше своей цѣли и въ
сущности боролся не противъ жалости отдѣльныхъ
людей другъ къ другу, а противъ оффиціальнаго
сострадания, ставшаго общественнымъ учрежденіем-ь,
между тѣмъ какъ за нимъ далеко не всегда
скрывается жалость и теплое сердце. Онъ, вѣроятно,
имѣлъ въ виду общественные результаты пзвѣст-
ныхъ благотворитѳльныхъ учрѳждѳній и ихъзначѳніе
для—или вѣрнѣѳ противъ—общаго блага, когда по-
вторялъ слова Гете Гѳрдеру о ложной гуманности:
«тамъ существуѳтъ взаимная помощь, всякій тамъ
въ извѣстномъ смыслѣ больной и въ тоже время
ухаживающій за больнымъ санитары. И
совершенно недвусмысленно гласятъ слова въ «Анти-
христѣ»: «жалость идетъ въ разрѣзъ съ вели-
кимъ закономъ прогресса, который заключается
въ подборѣ. Жалость сохраняетъ и лоддерлсива-
етъ то, что должно быть уничтожено». Нитцше не
умѣѳтъ мыслить исторически. Опасность расоваго
падѳнія, о которомъ Нитцше татсъ настоятельно
говорить, несомненно сущѳствуетъ, и ее слЪдуетъ
признать, какъ бы ей ни противодействовало
неразрушимое здоровье человечества. И кто станѳтъ
спорить противъ того, что есть своего рода откры-
— 98 —
тый культъ жалости, который не только сдастъ со-
старѣться жалкому>т но какъ бы еще старается
сохранить жалкое и на будущее время. Но какъ
устранить эту опасность, какъ защитить отъ нея
человѣчество? Этого Нитцше не умѣетъ сказать.
€ Нельзя быть врачѳмъ неисігвлимаго! Нельзя
толкать падающаго! Слабые и неудачные должны
погибать! И нужно даже способствовать ихъ гибели!»
Но какъ знать, что въ самомъ дѣлѣ нѳисцѣлимо и
должно погибнуть? О спартанскомъ способѣ выбора
нечего и думать. Чѳловѣчѳство не можетъ идти на-
задъ; въ этомъ пуяктѣ мы не можѳмъ начать
думать и чувствовать по иному. Кромѣ того, такой спо-
собъ выбора могъ бы забраковать Ньютона. Такъ
какъ соціальная этика не указываѳтъ на выходъ
изъ этого положѳнія, то намъ остается только
обращаться къ отдѣльнымъ личностямъ и проникаться
полнѣѳ и серьѳзнѣѳ, чъмъ до сихъ поръ,
обязанностями относительно будущности чѳловѣка и
ответственности пѳредъ «дѣтской страной».
Принимать за мѣру вещей радость и страданіе
значитъ оцѣнивать все по «сопровождающимъ обстоя-
тельствамъ и второстепѳннымъ причинамъ». «Есть
болѣѳ высокія задачи, тЬмъ вопросы о радости,
страданіи и жалости, и всякая философія, которая
касается ихъ однихъ, наивна». Нитцше былъ слиш-
комъ сѳрьѳзѳнъ, слишкомъ привыкъ къ страданію
и закаленъ страданіемъ—онъ былъ слишкомъ боль-
шимъидеалистомъ въ своемъ отношѳніикъ жизн и, и
потому не могъ видѣть въ «общемъ утилитарпзмѣ», въ
исканіи общаго блага и стаднаго счастья нѣчто иное,
чѣмъ прямой путь къ измѳльчанію и униженію чѳ-
ловѣка. Зрѣлищѳ «зелѳнаго счастья пастбищъ» и
— 99 —
довольство этимъ счастьѳмъ было ему отвратительно.
Ояъ полагалъ вмѣстѣ съ Гераклитомъ, что для
людей лучше не достигать того, что имъ желательно.
Время всеобщаго удовлетворѳнія кажется ему вре-
мѳнемъ «послѣдняго человѣка», «концомъ чѳловѣ-
ческаго въ чѳловѣкѣ». «Мы нашли счастье»,
говорить люди, самодовольно подмигивая: — с никакого
пастуха и единое стадо! Всякійхочѳтъбытьравнымъ,
есть равны на самомъ дѣлѣ.—Люди еще трудятся,
потому что трудъ доставляешь развлеченіе, но
стараются, чтобы это развлечѳніѳ не напрягало силъ». «Вы
хотите по возможности уничтожить страдате,—& мы?
кажется, мы хотимъ сдѣлать его большимъ и болѣе
сильнымъ, чѣмъ оно было! Благо, какъ вы его
понимаете, мы считаѳмъ не цѣлью, a скорѣѳ концомъ.
Культъ страданія, великаю страданія—развѣ вы не
знаете, что до сихъ поръ только этотъ культъ
вѳлъ человека ввѳрхъ? Чѣмъ выше духомъ чело-
вѣкъ, тѣмъ глубже трагѳдіи, которыя онъ пережи-
ваѳтъ; но тѣмъ выше онъ цѣнитъ жизнь за то,
что она оказываѳтъ ему болѣѳ сильное
сопротивление. Способность болѣѳ или мѳнѣѳ глубоко страдать
можетъ служить мѣриломъ для классификации
людей». Въ этихъ словахъ слышится голосъ больного,
который превратилъ страданіѳ въ воспитательное
средство для воли. Нитцщѳ—адвокатъ страданія,
потому что «онъ адвокатъ жизни» и потому, что
страдание есть неотъемлемая часть жизни. Но онъ,
невидимому, забываетъ, что ѳслибы даже люди перестали
доставлять своимъ ближнимь ненужныя страданія—
въ особенности самое ужасное и наиболѣѳ
устранимое страданіѳ изъ нихъ,—несправедливость,— при-
— 100 —
рода и судьба, все-таки, продолжали бы
воспитывать человека въ школѣ страданія.
«Этичѳскія сужденія людей выдаютъ отчасти
строй ихъ души и показ ываютъ, въ чемъ они
видятъ условія своей жизни, въ чемъ сущность
ихъ страданій». Оцѣнки Нитцше нужно тоже
понимать психологически, какъ документы для
понимания его личности, какъ его духовную авто-
біографію. Онъ* научаютъ насъ понимать натуру
Нитцше, его влѳченіе къ «мощнымъ тѣломъ и
душой» t къ «выдѳржаннымъ натурамъ», его замкну-
тость —(«глубокое страданіѳ облагораживаетъ; оно
отдаляѳтъу) — любовь къ одиночеству, къ его
родному одиночеству. Нитцгпе полагалъ, что ігутѳмъ
страданія можно «узнать больше^ чѣмъ могутъ знать
самые мудрые»: онъ самъ называлъ это снѣмой
гордостью страдающихъ», «гордостью избранниковъ но-
внавія», «поевященныхъ», «прлнесенныхъ въ
жертву». Мыпонимаѳмъ крайнее развигіе въ немъ всѣхъ
силъ сопротивления, напряженіѳ воинственности его
натуры; вслъдствіе постоянной борьбы и прѳододѣ-
ванія себя въ борьбѣ протпвъ страданія, въ по-
бѣдѣ надъ страданіѳмъ, воля его—и представлѳніѳ
объ этой волѣ—разрослось до безграничности, «Да,
ты еще для меня разрушительница всѣхъ могилъ;
слава тебѣ, о воля моя!» Мы понимаемъ нетерпимость
относительно всего, что :<не однородно съ нимъ въ
страданіи>. И нельзя вникать безъ отклика
страстному тону его словъ, которыя (говоря о новомъ,
приподнимающѳмъ жизнь идеалъ) онъ ороизноситъ
въ концѣ: «нужно для этого последнее самоувѣ^еы-
ное мужество познаванія, которое составляетъ
принадлежность большого здоровья; нужно, говоря ко-
— 101 —
ротко и печально, — именно это большое
здоровье».
Нитцше былъ мягокъ по природѣ; онъ могъ сказать
о сѳбѣ: «щадить и сожалѣть—въ этомъ была всегда
наибольшая опасность для меня». Ему недоставало,
какъ онъ самъ жаловался, строгой и разумной
опеки мужского ума. Онъ вырооъ подъ присмот-
ромъ жеящинъ и былъ воспитанъ исключительно ими;
ребенкомъ онъ былъ задумчивъ и любилъ спокой-
ныя, вѣжливыя манеры. Рано проснувшіяся музы-
кальныя и поэтическія влѳчѳнія выдаютъ преобла-
даніѳ чувства и фантазіи въ его дарованіи. ПІопен-
гауѳровскоГг теоріи жалости стоило только пробудить
родственно настроенную струну его души,—и онъ
началъ мечтать о «святомъ», въ которомъ
«совершенно замерло» его «я», и для котораго страданія
жизни утратили индивидуальяыя ощущѳнія и
превратились въ глубокое |состраданіе со всѣмъ живу-
щимъ, въ понаманіе и сліяніе съ нимъ, т. е. въ
самое высокое и конечное отождествленіе съ чѳловѣчѳ-
ствомъ». Отъ этой мечты онъ бросился къ
противоположной. И послѣ того какъ онъ нѣсколько
времени преклонялся передъ раціонализмомъ и ути-
литаризмомъ, онъ вернулся къ инстинкту. Теперь
онъ сталъ упиваться прѳдставленіями и образами
силы и твердости: въ силѣ зла онъ видитъ источ·
никъ могуществѳннаго добра, которое
противополагаешь добродушію, уступчивости, мягкости.—
«Человѣкъ должѳяъ стать лучше и злѣе». — «Я
часто думаю о томъ», говоритъ въ его книгѣ Діонисій,
«какъ бы двинуть человѣка впѳрѳдъ, сдѣлать его бо-
лѣе сильнымъ, злымъ и глубокимъ, чѣмъ онъ есть на
самомъ дѣіѴБ».—«Зло есть наибольшая сила въ чело-
— 102 —
вѣкѣ —не цѣль его, но путь къ цЪли, исходъ пути.—
Зло—самый тяжелый камень на пути высочайшап>
созидателя».—сБудътесуровы!» говоритъонъсвоимъ
товарищамъ. «Вамъ должно становиться все
тяжелее и хуже жить—только такимъ образомъ чело-
вѣкъ поднимается вверхъ». сСдишкомъ много сни-
схождѳнія, слишкомъ много проіцѳнія—такова ваша
земля! Но для того, чтобы дерево выросло, нужно
чтобы оно утвердилось твердыми корнями натвѳрдыхъ
утесахъ».«Дабудѳтъ благословенно то,что пакаляетъ
духъ! Я не хвалю страны, гдѣ течетъ медъ и масло»!
Эта оцѣнка—это преувеличенное восхваленіѳ
строгости и твердости доводитъ его до восхваленія
жестокости. Нитцше смѣшиваѳтъ силу, которая
обыкновенно бываѳтъ соединена со снисходительнымъ
великодушіѳмъ и готовой помогать добротой, съ
жестокостью, и не видитъ, что въ жестокости всегда
есть трусость, хитрая, коварная трусость. Левъ
также прлнадлѳжитъ къ порода когаѳкъ· Цезарь
Борджіа выказалъ себя трусливымъ и низкимъ въ
отношеніи къ герцогу Урбинскому, котораго онъ
хотѣлъ убить.
Поклонѳніе жестокости (конечно въ ея
одухотворенной формѣ) было, быть можѳтъ,
патологической чертой въ характера Нитцше. Особенно это
вѣрно относительно «большого, даже чрезмѣрнаго
наслаждѳнія собственными страданіями,— самоуязвле-
н*л», о которомъ часто идѳтъ рѣчь; оно
превращало боль въ источникъ наслажденія. И черты
родствѳнттаго происхождѳнія замѣтны и въ «діони-
сіевскомъ» пессимизма, который Нитцше противо-
ставляѳтъ «романтическому пессимизму» ІПопѳнгау-
— 103 —
ера и называетъ своимъ собствѳннымъ, «ргоргішп» и
«ipfiissimnnv. Этотъ «пессимизмъ, проповѣдующій
строгость и силу разума, вкуса, чувства, совѣсти»
не долженъ быть, подобно пессимизму Шопѳнгауѳра,
снотворнымъ средствомъ, предназначѳннымъ для
умерщвленія воли, а напротивъ того должѳнъ
служить самымъ сильнымъ стимуломъ для оживленія
воли: «съ этой волей въ душъ* не боятся страшна-
го и сомнительнаго, а ищутъ его, идя ему на
встречу. Примиряться съ жизнью на основаніи
пессимпстическаго отношенія къ ней - значитъ
основательно преодолеть пѳсси мизмъ». Такимъ об-
разомъ, мораль Нитцшѳ объясняется только его
личностью.
б.
Нравствѳнныя оцѣыкп Нитцшѳ, указываются путь
къ «высшему долгу, высшей отвѣтственности»
родственны по своей строгости и твердости принципамъ
стоицизма. Нитдше самъ указывалъ на это родство*
«Останемся твердыми, мы, послвдніе стоики!» во-
еклицаетъ онъ въ книгѣ «За пределами добра и
зла», и образъ стоичѳскаго мудреца становится для
вѳго символомъ и его собственной морали· «Я съ
удовольствіѳмъ узналъ, что наше солнце быстро
движется по направленно къ Геркулесу] я надѣюсь,
что и чѳловѣкъ на зем.іѣ дѣйствуѳтъ подобно солнцу».
Стоики допускали самоубійство и считали его
при нѣкоторыхъ обстоятѳльствахъ обязательными
основатель школы, Зенонъ, подтвѳрдплъ это даже
собственнымъ примѣромъ. И Заратустра также
проповѣдуетъ «свободную* смерть, и одно изре-
— 104 —
чѳніѳ въ книгѣ «Сумерки кумировъ» гласить:
«нужно гордо умереть, когда нельзя гордо жить>.
Страстность діонисіевскаго философа представляетъ
при этомъ сильнбйшій контрастъ съ уравновѣшен-
ностью стоиковъ.
Нитцше прѳвозноситъ силу воли, «смѣлое
чувство радости въ проявлении воли», силу*желанія и
даже «желанія долго желать»; онъ * прѳвозноситъ
волю саму по себв, волю какъ влеченіѳ. «О, если
бы вы удалили отъ себя всякое полужеланіе», гово-
ритъ Заратустра, «и были бы решительны въ лѣни,
какъ и въ поступкахъ! О если бы вы понимали
мои слова: дЪлайте все, что желаете—но будьте
такими, которые умгьютъ желать». Заратустра называѳтъ
людей «половинчатыми», слабовольными, мягкими
сердцами». Ничто такъ не распространено, ничто
такъ не своевременно, какъ слабость волп; поэтому
«въ идеалъ* философа именно сила желанія,
твердость и способность къ далекимъ "ръчпѳніямъ со-
ставляютъ часть вѳличія на томъ же основаніи, какъ
противоположное учѳніѳ соответствовало
противоположной по духу эпохѣ». Мораль Нитцше исхо-
дитъ изъ воли. Она не стремится къ счастью, кромѣ
того счастья, 'которое связано съ возрастаніѳмъ
чшлы. (сРазвѣ я счастья ищу? Я ищу только дѣла*
гласитъ изречѳніѳ Заратустры). И еще менѣе это
мораль наслажденіи. «Не нужно желать
наслаждаться»! Оттого съ этой стороны она не допу-
скаѳтъ возраженій и упрековъ, и кто хочѳтъ
оправдывать разнузданность или пренебрегать
обязанностью и долгомъ, тотъ не долженъ ссылаться на
нее. Самое существенное и оезтгвнноѳ во всякой
морали, какъ объясняетъ Нитцше, заключается въ
— 105 —
томъ, что она надагаѳтъ обязанности. «Ты должѳнъ
повиноваться кому нибудь и надолго, иначе ты
погибнешь и утратишь уважѳніѳ къ самому сѳбѣ»!—
Но можно повиноваться и самому сѳбѣ—и въ этомъ
истинная воля—свободная воля.
Нитцшѳ тоже проповѣдуетъ автономную волю.
«Всякій, кто хочѳтъ быть свободнымъ, должѳнъ
черпать свободу въ сѳбѣ»—такъ гласятъ слова его.
«Будь чѳловѣкомъ — я олѣдуй не за мной, а за
<юбой—только за собой!» такъ онъ заканчиваѳтъ
ичрѳченіѳ Гете. По трѳбованію Заратустры, «добро-
дѣтѳль должаа быть нашей сущностью, а не чѣмъ-
то посторонними, кожей, одеждой». сНаша натура
должна отражаться въ поступкахъ, какъ натура
матери отражается въ ребенкѣ». «Какой, путь ведѳтъ
къ глубинѣ твоего «я»? Укажи мнѣ твои права и
твои силы къ осуществлению ихъ! Есть ли у тебя
новая сила и новое право? Развѣ ты —первое
движете? Развѣ ты—произвольно катящееся колесо?»—
«Тотъ открылъ самого себя, кто сказалъ: «вотъ
мое добро и вотъ мое зло»· Въ такихъ словахъ и
сравненіяхъ Заратустра прѳвозноситъ независимую,
автономную силу воли. И еще разъ да будетъ
сказано: «повѳлѣваютъ тому, кто не умѣѳтъ
повиноваться сѳб-в самому».
Особенность этическаго ученія Нитцшѳ
заключается не въ его индивидуализмѣ. Уже древняя
мораль носила этотъ характѳръ. «Удивительное
развитіе индивидуализма», говоритъ Нитцшѳ въ
одномъ мѣстѣ о грекахъ,—«и не въ этомъ ли
заключается высшая нравственность?» Индивидуализмъ,
неразрывный съ независимостью, есть
необходимый элѳментъ всякой высшей морали, послѣдняя
- 106 —
ведущая къ ней ступень, на которую человѣкъ мо·
;кѳтъ ступить только послѣ долгаго предшествую-
щаго развитія. Путь этого развитія ведѳтъ отъ,
общественности черезъ индивидуалпзмъ къ
нравственно зрѣлой личности» и этотъ путь вѳдѳтъ все
выше и дальше, с Довольство въ стадномъ чувствѣ
гораздо старѣѳ довольства въ себѣ. «Ты» старше^
чѣмъ «я».
Нельзя переоценить есть ценности. Сила воли,
автономія воли, индпвидуализмъ—все это не новыя
цѣнности; на ннхъ покоилась философская мораль
отъ Сократа до Канта. Хотя Нитцше и утверждаѳтъ,
что «автономность» τι < нравственность» исключаюсь
другъ друга, но не объясняетъ, почему. Кантъ ви-
дЪлъ именно въ автономіи воли единственный прин-
ципъ всѣхъ нравственныхъ законовъ. Но Нитцшѳ
никогда не понпмалъ Канта, никогда не вникалъ
въ него достаточно глубоко. Лоптомуонъ держался
«катѳгоричѳскаго императива», который есть не бо-
лѣѳ. какъ простая формула нравственнаго
закона, и думалъ, что своимъ замѣчаніемъ о томът
что нѣтъ и не можетъ быть одинаковыхъ по·
ступковъ, онъ опровергаетъ Канта. Онъ не по-
нялъ, что въ той формулѣ рѣчь идѳтъ не о
поступкахъ, а о правилахъ или практичѳскихъ
законахъ дѣйствій. Но одно и тоже правило
можетъ быть основой самыхъ различныхъ, внЪшнимъ
образомъ даже протшюположныхъ, дѣйствій.
Общность практическая закона не противорѣчитъ
обособленности поступковъ. Въ мірѣ физическомъ
тоть же законъ тяготънія, который заставляѳтъ
опускаться тяжелыя тѣла, эаставляетъ подниматься
легкія.
— 107 —
Нитцшѳ ищѳтъ основного начала нравственности
не въ ней самой и не въ разумѣ, а въ дѣйстви-
тѳльности, въ природѣ. Онъ отрпцаетъ
самостоятельность морали и существование абсолютно нрав-
ственныхъ фактовъ. Они не кажутся ему чѣмъ-то
основнымъ и законченными Онъ считаѳтъ
нравственность «условнымъ языкомъ аффектовъ»,
только «сѳміотикой, симптоматологіѳй» и, какъ таковая,
она нѳоцѣнима. Физіологическій элѳмѳнтъ
глубже нравствѳннаго и составляѳтъ источникъ по-
слѣдняго. сСовершѳнный чѳловѣкъ — «счастли-
вѳцъ»,—чувствуетъ необходимость совершать одни
поступки π инстинктивно боится другихъ; онъ
вносить типъ, который онъ физіологически
собой представляѳтъ, въ свои отношѳнія къ лю-
дямъ; добродѣтѳль его — слѣдствге его счастья».
(«Сознаніѳ счастья—не награда добродѣтели, а ея
внутренняя сила» сказалъ уже Спиноза). Нитцшѳ
подчиняѳтъ этику біологіи; принципъ жизни
становится для него принципомъ нравственности. Онъ
ставитъ слѣдующій вопросъ: какова должна быть
нравственность, согласованная съ жизнью въ томъ
видѣ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ, не считая
необходимымъ ни изменять ее, ни изъять изъ нея
что-либо,— нравственность, которая включаетъ въ
свое понимппіе жизни все жестокое, ужасное,
враждебное и видитъ въ инстинктѣ жизни
единственный императивъ? Исходящее изъ Піопѳнга-
уера, но направленное къ противоположной ігвлв,
пониманіѳ жизни составляешь ключъ къ его морали.
/ Нитцше считаетъ жизнь синстинктомъ рапвитія
и накоплѳнія силъ для могущества: основное начало
жизни, желаніе жизни есть желаніе власти*. «Тотъ
— 108 —
нѳ достигъ истины, кто вывод и лъ изъ воли самое
сущѳствованіе»—говорится въ Заратустрѣ о Шопѳн-
гауѳрѣ, «не жѳланіѳ жизни есть основа міра, а же-
ланіѳ власти—вотъ чему я учу тебя». Въ этомъ
заключается теорія свластолюбія, отражающагося во
всѳмъ происходящему. Въ особенности же
происходящее въ органической природ!» всегда является
«преодолѣваніемъ, победой» и тТшъ самымъ «но-
вымъ толкованіемъ и поправкой». «Полезность» не
объясняѳтъ происхождения физиологической функціи.
«Развитіе» чего нибудь заключается «въ ел ѣдованіи
другъ за другомъ болѣе или менЬе глубокітхъ исхо-
дящихъ изъ даннаго предмета процесовъ прѳодолѣ-
ванія». Истинный «прогреесъ» является всегда «въ
образв жѳланія и пути къ большей власти»,
которая достигается победой надъ многочисленными
меньшими силами, «Вѳзд-в, гдв борются, борются
изъ-за власти»; «не нужно смѣшивать Мальтуса съ
природой», говоритъ онъ по адресу Дарвина.
«Демократическая идіосинкразія противъ всего, что
властвуѳтъ и хочетъ властвовать», охватила даже
всю физіологію и ѵчѳніе о жизни и посягнѵла на
А. </ ѵ
одно «изъ основныхъ понятій» —на активность;
«приспособляемость» есть только активность
«второстепенная», только «рѳакція». Не понимаютъ сущности
жизни,—ея стремленія къ власти—и не замвчаютъ
«принципіальнаго преимущества непосредстве нныхъ,
нападающихъ, завладѣвающихъ, новообраяующихъ,
созидатѳльныхъ силъ; приспособляемость является
уже слѣдствіемъ ихъвоздѣйствія». Нѳпониманіѳ этого
вѳдѳтъ къ отрицанію господствующей роли выс-
шихъ функщй въ организмѣ тѣхъ, въ которыхъ
«воля проявляется активно и созидаѳтъ формы».
— 109 —
Инстинктъ самосохранения тоже нельзя разсматри-
вать какъ основной элемѳнтъ жизни. «Все живое
хочѳтъ прежде всего проявить свою
силу—самосохранение есть только одно изъ косвенныхъ и
наиболее частыхь проявлена! этого стремлѳніях. Какъ
согласовать эти витал нети ческія воззрѣнія, представ-
ленныя такъ рЬшительно и безъ всякихъ
доказательству съ іюложеніемъ о сохраненііг энергіи, не
допускающпмъ въ природе существованія произ-
вольныхъ формъ силы,—объ этомъ нетѳрпъливый
мыслитель, вероятно, не подумалъ. Но даже какъ
простая характеристика жизни эта теорія
является совершенно односторонней и тендѳнціозной.
«Жизнь», говоритъ Нитдшѳ въ книгѣ«3а
пределами добра и зла», сзаключаѳтся по сугцеству въ
присвоении, униженін и захвате чужого и елабаго, въ
подавленіи, жестокости, навязываніи своихъ формъ,
въ порабощеніи или въ лучшѳмъ [случав эксплоа-
таціи другихъ. Эксплуатація не есть черта испор-
чѳннаго или несовѳршеннаго и пѳрвобытнаго
общества; она составляетъ сущность всего живого,
органическую его функцію; она исходитъ изъ
стремлѳнія къ власти, которое и есть любовь
къ жизни*. Но не всякое подчинѳніѳ является
иорабощеніѳмъ. Свойства матеріи и силъ, дѣлаясь
частью организма и ассимилируясь съ нимъ, не
разрушаются и далее не изменяются; они сохраняются,
поступая на службу жизни, и вѣрнѣѳ думать, что
скорвѳжизньзависитъотънихъ, чѣмъониотъ лсизни.
lie только борьба, но и покорность составляетъ
часть жизни, основной характѳръ которой
заключается въ соглашении и гармоніи, въ объѳдинѳніи
функцій для общей единой цѣли. Дарвиновскую «борь-
— 110 —
бу за существование» слѣдуѳтъ понимать только
метафорически. Но и стрѳмлѳніѳ къ власти,
примененное къ органической природѣ, также есть
только метафора.
Подобно Рольфу вь его «Біологическихъ вопро-
сахъ», Нитцшѳ въ «Веселой наукѣ» доказываешь,
возражая Дарвину, что въ природѣ гооподотвуѳтъ
не нужда, а излишекъ и расточительность. И это
возраженіѳ кажется ему столь значительным^ что
онъ повторяѳтъ его въ «Сумеркахъ кумировъ»:
общая картина жизни представляѳтъ, по его сдовамъ,
не нужду и голодъ, a скорѣѳ богатство, пышность,
даже бѳзсмыслѳняую расточительность. Дарвинъуже
отвѣтилъ на это заранѣѳ. «Мы видимъ природу въ
сіяніи радости, мы часто видимъ ивлишекъ пищи;
но мы не всегда думаѳмъ о томъ, что если теперь и
существуешь излишекъ, то этого не бываетъ во
всякое время всякаго смѣняющагося года». Но
приведенное возражение характерно для Нитцше: въ нѳмъ
слышится все еще ненарушимая вѣра въ «діонисі-
евскую основу вещей».
Нитцше прѳвратилъ «слѣпую волю»
Шопенгауэра, которая въ сущности даже не есть воля, а только
чувство влѳченія, изъ мѳтафизичѳскаго начала въ
биологическое и надѣлилъ его чертами, выдающими свое
происхождение отъ Дарвина. Теперь изъ оставшихся
неизданными матѳріаловъ выяснилось, какъ глубоко
было вліяяіе теорій Дарвина на Нитцше, какъ
только послѣдній познакомился оъ ними. «Вотъ въ чѳмъ
страшный выводъ изъ дарвинизма, который я
признаю, впрочемъ, вѣрнымъ», пишетъ онъ: «мы
преклоняемся перѳдъ качествами, которыя считаѳмъ
вѣчными — перѳдъ тѣмъ, что нравственно, художе-
— Ill —
отвѳнно, религіозно, между тѣмъ какъ по Дарвину
эти качества имѣютъ начало и прошли цѣлый путь
развитія, т. ѳ. подвержены пѳрѳмѣнамъ». Въ пѳр-
вомъ «Нѳсвоѳвременномъ разсужденіи» Нитцше про-
водитъ направленную противъ Штрауса идею объ
«истинной и серьезно выдержанной этикѣ Дарвина»,
которая вооружаѳтъ противъ себя филистѳровъ,
потому что она «смѣло выводитъ нравствѳнныя
правила въ жизни изъ принципа bellum omnium contra
о urnes и изъ права сильнѣйшаго».
Впослѣдствіи Нитцше считалъ себя значительно
выше «почтѳннаго. но посредственнаго англичанина».
Но онъ не только полемизировалъ съ Дарвиномъ,
онъ отчасти подчинялся его вліянію въ своихъ соб-
ствѳнныхъ воззрѣніяхъ. Изъ этого источника про-
исходитъ идея «выработки» болѣѳ сильной расы
людей, поднятія чѳловѣческаго типа. Идея наслѣд-
ствѳнности пріобрѣтѳнныхъ привычѳкъ также
исходитъ отъ Дарвина, который заимствовалъ ее у
Ламарка. Нитцше доводитъ до предразсудка свою
увѣренность въ неминуемости этой наслѣдствѳнности.
«Чѳрѳзъ два-три поколѣнія», полагаѳтъ онъ,
«привычка становится внутрѳннимъ свойствомъ». Въ
действительности не удавалось доказать эту наслѣд-
ствѳнность ни въ ѳдномъ случаѣ; она составляѳтъ,
если только она вообще встречается, рѣдкоѳ искдю-
чѳніѳ. Нужно имѣть въ виду этотъ пунктъ, чтобы
судить о практичѳскихъ цѣляхъ Нитцше. Всѣ его
надежды и мечты относительно будущаго исходятъ
отсюда.
Шопенгауѳръ ввелъ въ этику противорѣчіе
между присутствіемъ и отсутствіѳмъ жизненнаго
инстинкта и тѣмъ самымъ опрѳдѣлялъ цѣнность
— 112 —
системъ, вытѳкающихъ изъ этихъ двухъ принциповъ,
Нитцше объясняете это противорѣчіѳ фивіологи-
чѳоки, какъ противорѣчіе между нравственными
началами «восходящей и «нисходящей» жизни,
опрокидывая тѣмъ самымъ нравственные критѳріи Шо-
пенгауѳра. Наша мораль, какъ и всякая,
преподававшаяся до сихъ поръ, является, по этому опредѣлѳнію,
моралью «нисходящею».Его мораль, наоборотъ,
исходить изъ наибольшаго развитія жизнѳннаго
инстинкта. «Больше жизни !» требуетъ онъ, жизни
приподнятой, самодовлеющей, вѣруюЩѳй въ себя,властной. Къ.
жизни нужно относиться утвердительно, — таковъ
первый императивъ морали Нитцше. Буддизму и
ІПопенгауѳровскому отрицанію воли и
самоотречению Нитцше противопоставляѳтъ, на той же почвѣ
пессимизма, противоположный идеалъ «гор даго,
здороваго, жизнерадостнаго человѣка, который яѳ
только примирился съ тѣмъ, что было и что есть,
но и жѳлаетъ, чтобы оно продолжало на вѣки быть,
какъ было и какъ есть, и ненасытно требуетъ da
capo». Это онъ называѳтъ «углублять пѳссимизмъ».
То, что слабая, «нисходящая» жизнь называѳтъ
«зломъ» и сознаѳтъ таковымъ, т. е. опасность,
насиліѳ, враждебность, воинственность, радость
победы,—все это восходящая жизнь выискиваетъ и
инстинктивно прѳдпочитаетъ, потому что въ этомъ она
чѳрпаѳтъ и проявляетъ свою силу.«Ослаблѳніѳвраж-
дебыыхъ инстинктовъ есть лишь одно изъ послѣд-
ствій общаго ослаблѳнія жизненности». Эти
инстинкты и силы восходящей жизни являются природными
богатствами, изъ которыхъ Нитцше дѣлаетъ
«золото», въ нихъ сырой матеріалъ его морали· Они
не должны остаться или онова стать тЬмъ, чѣмъ
— 113 —
были въ своемъ пѳрвоначальномъ дикомъ
состоянии. Какъ Руссо не намѣревался повести
людей обратно въ лѣса, такъ и Нитцшѳ не
предполагаетъ воскресить «человѣка
-разбойника», «свѣтловолосаго звгЪр&, который таится во
всякомъ культурномъ человѣкѣ» онъ, — даже не
возводитъ въ идеадъ «властолюбцевъ». Онъ
стремится возстановить сильный, еще не исчезнувшія
навсегда, а лишь стершіяся, черты «страшнаго
первобытнаго оригинала, «homo natura»; по нимъ,
онъ пытается создать новый и болѣѳ мощный
образъ человека, чтобы «работать надъ человѣ-
комъ какъ художникъ». Онъ утончаѳтъ π возвы-
шаетъ природныя черты, придаѳтъ имъ духов·
ность и создаетъ изъ нихъ типъ ^аристократической
морали», типъ «аристократа». /
«Аристократъ уважаѳтъ въ/себѣ свою властность,
свою силу надъ самимъ собой, умѣніе говорить и мол.
чать, наслажденіѳ проявлять по отношенію къ самому
себѣ силу и строгость, и почитаніе всего спльнаго
и строгаго. Вѣра въ себя, гордость самимъ собою
принадлежать къ морали аристократизма». «Вотъ
признаки аристократизма: никогда не низводить
нашихъ собствѳнныхъ обязанностей до общпхъ
обязанностей; нѳ отказываться отъ собственной
ответственности и не желать дѣлить ее; считать свои
права и пользованіѳ ими за свои обязанности. —
«Готовность къ большой ответственности,
гордость властныхъ и прѳнѳбрежительныхъ взглядовъ,
безграничная воля, спокойствіѳ взора, который
рѣдко восхищается, рѣдко глядитъ вверхъ, рѣдко
любитъ»—такова внѣшность и пріемы аристократа.
Онъ властѳлинъ своихъ добродѣтѳлѳй и своей «не-
— 114 —
смѣтно богатой волп»; онъ обладатель твердой,
несокрушимой воли, которая даетъ обѣщанія какъ
властитель, «тяжело, редко, медленно».«Онъгордится,
сознавая свое великое преимущество, которое
заключается въ ответственности»; ему отрадно «сознаніѳ
необычайной свободы, этой власти падь собой и своей
судьбой». Только онъ одинъ истинно свободенъ. Ибо
свободой называется «желаніе ответственности за
себя, умѣньѳ твердо держаться вдали отъ всего, быть
более равнодушнымъ къ трудностямъ, лишѳніямъ, къ
самой жизни. Свобода означаетъ преобладаніѳ му-
жѳственныхъ, воинствѳнныхъ и торжествующихъ
инстивктовъ надъ другими инстинктами, напр. надъ
стрѳмленіѳмъ къ счастью. Нитцшѳ рисуетъ здѣсь
цѣлый образъ, какъ Плутархъ въ своихъ
характеристиках^ «Аристократическая душа благоговѣетъ
пѳредъ собой».—«Никто уже не умѣетъ
поклоняться— этого всѣ мы избѣгаемъ», говорптъ Зара-
тустра. «Аристократизмъ нельзя импровизировать».
«Все, что хорошо, достается по наследству. Для
всего высокаго нужно родиться».
Нитцшѳ соѳдиняѳтъ въ образе знатнаго
человека, аристократа, цѣлый рядъ характерныхъ чертъ:
гордость, ирѳдпріпмчивость, храбрость,
самоуверенность, готовность къ ответственности и власть
надъ собой; онъ включаѳтъ сюда также всякаго рода
превосходство, за исключѳніемъ вѳличія, состоя-
щаго въ готовности помочь и въ доброте. Какъ
стоики знали только «мудрецовъ» и «глупцовъ» и,
применяя къ пѳрвымъ все светлое, приписывали вто-
рымъ только теневыя стороны, такъ и Нитцше зва-
етъ только «великія одинокія личности», только «ред-
чайшихъ», «властителей отърожденія»—и въ проти-
— 115 —
воположность пмъ — «толпу», «тЬхъ, которыхъ
слишкомъ много», «наичастѣйшихъ», «неизлечимо
посрѳдствѳнныхъ», «стадныхъ людей > .Насколько онъ
превозносить первыхъ, ставя ихъ высоко надъ
границами чѳловЬчнаго въ область сверхъ-человѣчнаго н
вмѣстѣ съ тЬмъ нѳчѳловѣчѳскаго, настолько же онъ
глубоко принижаѳтъ послѣднихъ. Онъ изолируѳтъ
аристократа, увѳличиваѳтъ и углубляетъ разстоя-
ніѳ, отдѣляющѳѳ его отъ остальныхъ, превращая
его въ полную противоположность другимъ.
«Высшее», объясняѳтъ онъ, «не должно стать орудіемъ
нпзшаго; паѳосъ разстояпгя должѳнъ на вѣки
разделять самыя ихъ вадачи».—«У того, кто прѳдназ-
начѳнъ повелевать, самоотрѳчѳніѳ и скромное
отстранение себя было бы не добродЬтелью, a скорѣѳ
растратой добродетели». Но предположение, которое
здѣсь дѣлается, никогда не осуществляется; тотъ,
кто рожденъ повелевать, тотъ и самъ не отойдѳтъ
на второй планъ; предостережение, такимъ обра-
зомъ, совершенно излишне.
«Вопросъ о рангахъ» казался Нитцшѳ одно
время заключающимъ въ сѳбЬ сущность
нравственности и даже культуры вообще. Это его вопросъ,
задача, которую онъ самъ себЬ поставилъ. Она
превратилась у него въ вопросъ о происхождении, о расе.
Все болѣѳ и болѣѳ укрепляется въ немъ вѣра въ
обособленное происхождѳніѳ аристократовъ, и мысль о
двойномъ происхожденіи нравственности приводитъ
его въ конце концовъ къ трѳбованію исключительной
морали π къ изъятію таъ обычной нравственности
исключительныхъ людей. Трѳбованіѳ одной
нравственности для всѣхъ кажется ему теперь «ограничѳніемъ
высшихъ натуръ». Онъ вполне убѣжденъ, что есть
— 116 —
сразличіѳ ранга между людьми и, вслтьдствге этого,
и между различными видами нравственности». Этотъ
выводъ нѳвѣренъ. Неоспоримыя глубокія различія
между нравственнымъ обликомъ разныхъ людей не
выходятъ изъ прѳдѣловъ понятія о чѳловѣчествѣ;
потому существуетъ основанная на этомъ понятіи
общая нравственность для всѣхъ, или, что вѣрнѣе,
такая нравственность можетъ и должна существовать.
Мораль «расы и привилѳгій», эта
исключительная мораль властителей, строго держится
принципа, который наиболѣѳ чуждъ и непріязненъ
современному «вкусу», какъ говоритъ самъ Нитцше.
Принципъ этотъ заключается въ томъ, что
обязанности существуютъ только по отногиенію къ рае-
нъгмг, и что относительно существъ низшаго
разряда можно поступать по усмотрѣнію или по «трѳ-
бованіямъ сердца*—каковы жалость и т. п.. Въ
этомъ посягательства на право личности,
принадлежащее и болѣѳ низко стоящимъ сущѳствамъ,
каждый, и въ особенности аристократъ по духуу
увидитъ скорѣѳ отсутствіѳ «аристократическихъ
привычѳкъ» и аристократической натуры. Нитцше
заявляетъ однако, что «эгоизмъ входитъ въ составъ
аристократической души» и заключается въ
«неискоренимой вѣрѣ» въ то, что «такимъ сущѳствамъ,
каковы мы, другія существа подчинены по
естественному ходу вещей и должны приносить себя
въ жертву». Въ «Происхождении нравственности»
этотъ принципъ распространяется на все
человечество. «Благо тѣхъ, которыхъ всего больше» и «благо
тЪхъ, которыхъ всего меньше» лредставляютъ, по
мнѣнію Нитцше, «противоположные исходные пункты
суждѳній», и только «наивность англійскихъ біоло-
— 117 — ?7 '3-
говъ» считаетъ первое высшимъ по существу. «То, что
очевидно имѣлобы значеніѳ для возможно продолжи-
тельнаго сохранения расы, далеко не можѳтъ имѣть
той же ценности, когда дѣло идетъ о выработки болѣѳ
сильнаго типа». Въ этомъ отношеніи этичѳскіѳ кри-
тѳрін нуждаются прежде всего въ «физіолоіическомь
освѣщеніи и объяснѳніи», Ужѳиранѣѳ, въ наброс-
кахъ Нитцшѳ, проявляется эта основная идея его
морали (и его «исторической методики»), и
высказывается требование, «чтобы отдѣльныя личности были
подчиняемы благу самой высокой изъ отдѣльныхъ
личностей». Но тогда это подчинѳніѳ обозначало
еще «преклонѳніѳ пѳредъ рѣдкимъ и вѳликимъ»,
обусловлпвающимъ ростъ человечества; стало быть,
Нитцшѳ имѣлъ при этомъ въ виду не жѳртрованіе
собой и не уничтожение, а только преданность.
Позже у него осталось только фактическое подчпненіѳ,
насиліе и угнѳтеніе; съ рѣзкостью, которая вызы-
ваѳтъ и трѳбуѳтъ протеста, Нитцшѳ пишетъ:
«самое существенное во всякой истинной,
здоровой аристократіи заключается въ томъ, что
она чувсгвуетъ себя не функціей общаго строя, а
его цѣлыо и высшимъ оправданіѳмъ, и что она со
спокойной совестью вндптъ, какъ въ жертву ей
приносятся массы людей.
Нитцшѳ правъ только тогда, когда онъ борется
противъ отвлеченной идеи равенства, и даже
страстность, съ которой онъ оспариваѳтъ ее, находить
достаточное оправданіе въ зл в, принѳсенномъ этимъ
учѳніемъ. Проповѣдниковъ равенства Заратустра
сравниваетъ съ «тарантулами»·—«Нѣтъ яда болѣе
ядовитаго», восклицаетъ Заратустра въ «Сумѳркахъ
кумировъ», «чѣмъ учѳніе о равенства, ибо оно про-
118 —
noBÎtfjyeTCit какъ бы во имя самой справедливости,
между тѣмъ какъ оно является концомъ
справедливости*. «Равенство въ правѣ ведѳтъ къ равенству
въ бѳзправіи. Всякое право есть привилегия.»—
«Равнымъ равное — неравнымъ неравное, — та-
ковъ долженъ бы быть истинный принципъ
справедливости; и изъ него слѣдуѳтъ, что неравное
не должно дѣлать равнымъ». «Люди не равны
и не должны быть равными».
«Коммунистический шаблонъ (Дюринга), утверждающій, что
всякая воля должна считать равною всякую другую
волю, — враждебный жизни принципъ». —
«Демократическое движеніѳ» кажется Нитцше
поэтому не только «несовершенной формой
политической организации, но упадкомъ или, вЬрнѣѳ, при-
ниженіѳмъ человѣка». Оно превратило бы людей
въ «племя карликовъ съ одинаковыми правами и
требованиями»; цѣль его —- общественный строй
«автономнаго стада». Можно понимать и
совершенно иначе демократію, которая въ сущности не
составляешь общаго тѳчѳнія въ политической яиіз-
ни современности: въ ней можно видѣть не
самостоятельную форму упадка, a явлѳніе,
сопутствующее упадку политическихъ организмовъ, отжив-
шихъ свое время. Движеніѳ ввѳрхъ, которое
охватило массы вслѣдствіѳ изменившихся экономнче-
скихъ условій, не ведѳтъ однако неминуемо къ раз-
витію въ обществѣ демократизма: это движеніѳ
можетъ также искоренить искусственное
неравенство, основанное напр. на одномъ захватѣ, и
помочь вступлѳнію въ свои права неравенства
естественная. Нитцше обвиняетъ христианство съ его
«равѳнствомъ пѳрѳдъ Богомъ» въ том ь, что оно спо-
— 119 — ^: !
собствуѳтъ демократическому двплсенію; въ этомъ
главнымъ образомъ нсточникъ его ненависти къ
христіанству. Уже въ наброскѣ, помѣченномъ 18В9
годомъ, христіанство названо «этической
демократией». Въ книгѣ «За пределами добра и зла» эта
идея выражена въ формулЬ: «демократическое
движете прѳдставляѳтъ наслйдіе хрпстіапства». Но
сравенство передъ Богомъ» не то лее самое, что
«равенство пѳрѳдъ людьми», и процвЪтавіе
христианства совпадало съ феодальны мъ етроѳмъ общества-
Основу сдемократическаго строя» Нптцшѳ ви-
дитъ, впрочемъ, въ смѣшенік сослопій или, какъ
онъ предпочитаетъ выралсаться, «въ смѣшѳніи
крови господъ и рабовъ»; объ экономнчестшхъ
причинахъ такого смѣшѳнія онъ при этомъ не ду-
маетъ. «Европа нашпхъ дней—арена, на которой
разыгрывается безумно внезапная попытка радпкаль-
наго смѣшѳнія сословій τι, следовательно, также
и расъ (сословія выражаютъ всегда и различіе про-
исхождѳнія и расъ)». Гобино объяснялъ неравными
смѣшѳніями съ чужими племенами иадевіѳразлпчныхъ
цивилизацій· Нитцше, который несомненно зиалъ
ученіѳ Гобино, выводитъ изъ этого смѣшенія вырож-
деніѳ человека. Бсякій разъ, говоритъ онъ, резуль-
татомъ скрещиванія далѳкихъ другъ отъ друга расъ
является нервная слабость и болѣзненность. «Въ но-
вомъ поколѣвін, которое унаследовало одновіэемен-
но различныекритеріи и идеалы, развивается безпо-
койство, разстройство, нѳрЬшитѳльность. У этпхъ ио-
томковъ расоваго скрещивавія сильнѣѳ всего
болезненность н выролсдѳвіѳ воли. Слабость воли — гдѣ
только это уродство не встречается въ наше время!»
То же самое сказано и въ эпилогѣ книги о Вагнерѣ:
- 120 —
«современный человѣкъ прѳдставляѳтъ собой,
биологически, противорѣчге притеріевъ. У всѣхъ насъ
есть, вопреки сознанію и вопреки волѣ, критѳріи,
формулы, этическіѳ принципы самаго
противоположная происхождения — мы, съ физіологич.ской
точки зрѣнія, лживы». Современность—физіологи-
ческоѳ противорѣчіе. «Я не знаю куда даваться; я
все, что не знаѳтъ куда дѣваться», вздыхаѳтъ
современный чѳловѣкъ. Наконецъ, одно изрѳченіѳ За-
ратустры гласитъ: «скажите мнѣ, братья, что для
насъ дурное, и самое дурное? Не вырожденіе ли
это?* Нптцшѳ не выказываѳтъ пониманія тѣхъ
обыкновенно благотворныхъ послѣдствій
скрещивания, какое обнаруживается уже въ растѳніяхъ. Но
самое прпзнаніе антропологичѳскаго фактора въ этикѣ
при всей своей односторонности является все-таки
заслугой.
Въ «Происхождѳніи нравственности» Нитцшѳ
хочѳтъ изобразить исторію развитія
нравственности. Сюжетъ этотъ онъ намѣтилъ уже раньше.
Уже въ одномъ афрризмѣ въ его «Чѳловѣчное%
слншкомъ чѳловѣчное» шла рѣчь о «двойствен-
ной первобытной исторіп понятій добра и зла»:
сначала она разыгрывается въ душѣ властвующихъ
лдемѳнъ, и въ ней «добрыз» принадлѳжатъ общинѣ,
нмѣющей «чувство общности»; затѣмъ она
происходить въ душѣ прѳслѣдуемыхъ, лишенныхъ
власти и, вслѣдствіѳ этого, нѳдовѣрчивыхъ и мѳлоч-
ныхъ. Это раздѣленіе совершенно противоположно
позднѣйшѳму противоположѳнію этихъ двухъ основ-
ныхъ типовъ нравственности. Здѣсь отсутствуѳтъ
всякое враждебное отношеніѳ къ современной нрав-
ствѳннооти. Совершенно определенно и въ полномъ
— 121 —
противорѣчіи съ своими позднѣйшими воззрѣніями
Нитцше заявляѳтъ: «наша современная нравствен·
ность создалась на почвй господства отдѣльныхъ
родовъ и кастъ». Готовность помогать и жалость
также еще причислялись имъ къ морали «знат-
ныхъ людей». Впослѣдствіи онъ хотя и сохранилъ
представление о двойномъ происхождении нравствен"
ности, но его оценка «теперешней
нравственности» уже существенно измѣнилась. Наши нынѣш-
ніѳ этическіѳ принципы онъ называѳтъ «моралью ра-
бовъ, моралью возмѳздія, вытекающей изъ враждеб-
наго, злобнаго протеста и рѳакціи противъ оцѣнки
аристократовъ,противъ морали аристократизма>. Эта
«мораль власть нмѣющихъ» есть основная,
единственно вѣрная этическая система, созданная
положительными активными силами· Аристократія
(говорится въ книгѣ «За пределами добра и ела»)
чувствуѳтъ себя законодательницей нравствѳннаго
міра. «Она чувствуетъ въ возвышенныхъ гордыхъ
состояніяхъ души то, что выдЬляетъ ее изъ толпы
и опрѳдЪляѳтъ рангъ». Аристократическая
мораль или, что теперь означаетъ одно и то же,
мораль аристократовъ, заключается въ
самовозвеличении, даже въ самодюбованіи («мы эеатяые, мы
добрые, мы прекрасные, мы счастливые!>)· На
пѳрвомъ планѣ этого опрѳдѣленія стоитъ «чувство
цѣльнооти, власти, которая стремится перейти чѳ-
резъ край». Опредѣленіе «добра», какъ утвѳрждаетъ
Нитцше, «идетъ нѳ отъ тѣхъ, которымъ оказано
добро»; напротивъ, именно сами «добрые», т. е.
знатные, могущественные, высоконравственные и высокіе
по духу, считали самихъ себя и свои дѣйствія
хорошими, первоклассными, въ противоположность всему низ-
— 132 —
менігому, мелкому по мыслямъ, простому,
плебейскому». Изъ этого спаѳоса аристократизма и
разграничения», изъ этого «сущѳствующаго и господ-
ствующаго общаго и основного чувства высшей,
господствующей расы въ ѳя отношеніи къ низшей»
они почерпнули право создавать критѳріи и давать
имъ названія». Противоположностью ихъ понятія о
«добрѣ» является такимъ образомъ простое отрица-
ніе, свозникшій позже отрицательный образъ,
противоположный положительному, проникнутому насквозь
жизнью понятію»,—«зло», въ смыслѣ ыизкаго
происхождения, пошлости и презрѣнности. «Аристократъ
удаляетъ отъ себя существа, въ которыхъ
проявляется противоположное его возвышеннымъ гордымъ со-
стояиіямъ; онъ ихъ презираешь*. Эти же «дурные» и
презираемые имъ люди, наоборотъ, считаютъ «зломъ»
его и его дѣйствія, отъ которыхъ они страдаютъ.
Слово «зло» должно оставаться чуждымъмысленному строю
и словарю аристократа, такъ что ненависть низкопо-
ставленньтхъ и пошлыхъ не только создаѳтъ
критерии, какъ полагаешь Нитцшѳ, но создаетъ и
слова. Себя сампхъ и своп пассивныя бѳзобидныя ка^
чества «дурные» назьтваютъ «добрыми» и страннымъ
образомъ у потреб ля ют ь опрѳдѣленіе, которое по
ихъ понятіямъ могло бы обозначать только элоѳ,
ненавистное и заслуживающее ненависть. Мы при-
ходимъ. такимъ образомъ къ сделанному Нитцшѳ
«открытію» скрещивающихся двойныхъ формулъ
«доброе-дурное» и «доброе-злое», πυ которому с
добрый» первой моральной системы становится «дур-
нымъ» во второй, и «добрый» второй морали —
«злымъ» въ первой.
— 123 —
Кто повѣріітъ Нптцше, что все необозримое
богатство этпческихъ критѳріевъ, составившихся
ходомъ всей лсторін, можетъ быть включено въ
тѣсныярамки формулнрованнаго имъ контраста смо-
ралн господъ и рабовъ>, и что оно можетъ быть
всѳцѣло охвачено этимъ двойнымъ понятіемъ! Кто
захотѣлъ бы сдѣлать попытку объяснить по этой
повсюду одиваковои отвлеченной схѳмѣ дѣйствитель-
ныя различья, градаціи, оттѣнки и переходы нрав-
ствѳяныхъ чувствъ и сужденій, которыя встрѣчаются
въ псторіи нравственности, какъ признаки природ-
наго состоянія и естественной обстановки народовъ,
ихъ страданій, культурнаго положеяія, формъ ихъ
экономичѳскаго быта. Схема Нитцше—не больше,
какъ неправильное гегелевское историческое
построение, результаты котораго ясны уже до изслЬдованія.
Ыитцшѳ воздвпгаетъ свое построение на
нетвердой почвѣ этимологін. Онъ утверждаетъ на основа-
ніи опыта, что повсюду «аристократичность» и
«знатность» являются основными понятиями, изъ
которыхъ необходимо развивается понятіе
«добра» въ смыслѣ «духовной знатности»,
«благородства», «высоты духа», «утонченности души», это
разввтіе идетъ параллельно съ другнмъ, которое
вѳдѳтъ отъ «пошлаго», « плебей скаго», «низменнаго»
къ понятію «зла». Это наблюдѳніѳ по существу не
ново; ПольРѳ, который ранЬе Нптцше пзложилъего
(въ книгѣ «Происхождение совѣсти»), могъ сослаться
на П. Е. Мюллера, Грота, Велькѳра. Собственный
этпмологичѳскія тізслѣдованія Нптцше—между про-
чпмъ сопоставление латинскаго malus съ μελί;
(черный), что должно было быть указаніемъ на до-арій-
скоѳ темноволосое насѳленіѳ Италіи—не даютъ боль-
— 124 —
шого подтвѳржденія. Но если бы даже
этимологическая доказательства и были вѣрны, то выводы,
которые Нитцшѳ изъ нпхъ дѣлаѳтъ, вовсе не заключаютъ
въ себѣ истины. Развѣ нЬтъ ішыхъ критѳріевъ, кро-
мѣ нравственныхъ? И развѣ эстетическое прѳклоненіе
и этическое одобрѳніе должны непременно относиться
къ однимъ и тЬмъ же качѳствамъ и овоаствамъ? Если
въ самомъ дѣлѣ въ началѣ цѣнились одни только
внѣшнія, относящіяся къ внѣшнѳму виду качества:
рожденіе и богатство, красота и физическая сила,
то это происходило, конечно, потому, что только эти
качества могли въ достаточной мѣрѣ возбудить
преклонение. Съ этимъ могла и не быть связанной
нравственная оцѣнка. Къ немногимъ твердо уста*
новлѳннымъ рѳзультатамъ исторической морали
принадлежать скорѣе тотъ фактъ, что въ дрѳвнѣй-
шія времена и въ самыхъ пѳрвобытныхъ культу-
рахъ прѳдмѳтомъ этическихъ суждѳніи была не
самая личность и ѳя поступки, а исключительно
общественныя послѣдствія иввѣстныхъ поступковъ.
Потому индивидуальной отвѣтотвѳнности еще и не
существовало. Твердое убѣждегсіѳ Нитцше въ томъ,
что сочѳвидво этичѳскіе критѳріп повсюду примЬ-
нялись сначала къ людямъ, а потомъ уже привели
къ сужденію о поступкахъ*—исторически невѣрно.
Этимъ разрушается фундамента его с Происхождения
нравственности». Нитцше впрочемъ самъэто хорошо
внаетъ. Въ томъ же произведѳвіи («За пределами
добра и злаэ), гдѣ встрѣчаѳтся это мѣсто,
высказывается и слѣдующѳе правильное сужденіѳ: «въ
самый долгій пѳріодъ исторіп человѣчества — его
наэываютъ доиоторическимъ періодомъ, —
положительное или отрицательное значѳніѳ какого-нибудь
— 125 —
дЬйствія выводилось изъ его послЬдствій; самое же
дѣйствіе такъ же мало принималось при этомъ во
вниманіе, какъ π его происхождѳніѳ».
Противоречия не бѳзпокоили афористическаго мыслителя, если
даже они встречались въ одномъ и томъ же про-
извѳдѳнін.
Явлѳніѳ, которое называютъ типичнымъ, должно
при одинаковыхъ обстоятѳльствахъ повторяться
всегда одинаковымъ или подобнымъ образомъ. Но гдѣ
можно найти у грековъ «мораль рабовъ» наряду
съ ихъ «моралью господъ»? Нравственныя воз-
зрЗшія грековъ извг6стні>г по изрѳчѳніямъ ихъ поэ-
товъ π мыслителей. Мы понимаѳмъ эти воззрѣнія и
соглашаемся съ выражѳннымъ въ нихъ нравствѳн-
нымъ идеаломъ, не смотря на нашу предполагаемую
привычку къ «рабской морали-. Это значить, что
мы внутренно соглашаемся съ основными мотивами
и принципами греческой морали, поскольку эти
мотивы и принципы относятся къ морали обще-че-t
ловѣчѳской. И Нитцгаѳ не сумѣлъ подтвердить
исторически свою теорію о противорѣчіи
аристократической морали и морали воямѳздія; онъ не могъ
прослѣдить этого противорѣчія въ исторіи. Онъ
долженъ ограничить его и свести типичность на
одинъ единственный случай, откававшись отъ при-,
знанія его типичнымъ.
Почему же гордый сигамбръ склонилъ свою выю?
Почему «свѣтловолосые звѣри», «варвары»,
«господа» подчинились этикѣ своихъ рабовъ и ПОЗ-с
водили имъ «приручить» себя? Вѣроятно ови чув^
ствовали въ этой морали нѣчто родственное своему
естественному аристократизму; духовное благород-^
ство въ добротѣ и великодушии, величавость въ.
— 126 —
господства воли надъ инстинктами напоминали имъ
черты ихъ собственной властной натуры. По
существу Нитцшѳ вполвѣ ѳто допускаетъ. Въ отно-
шеніи другъ къ другу его «господа» связаны, хотя
и по совершенно инымъ причинамъ, формами и
предписаниями «рабской морали»; они отказываютъ
только низмѳннымъ и пошлымъ въ правахъ и при-
вилѳгіяхъ, которыя признаютъ относительно другъ
друга. «Какъ только аристократическая душа
(сказано въ книгЬ «За пред-Ьлами добра и зла») вы-
яснитъ сѳбѣ вопросъ о своѳмъ рангѣ, она
обращается съ равными и равноправными съ тою же
твердостью и нѣжнымъ почитаніѳмъ, какъ и сама
съ собой. Она уважаѳтъ себя въ нихъ и въ
правахъ, которыя признаетъ за ними; она не
сомневается, что обмѣнъ знаками почитанія и правами,
какъ сущность всгьхъ отногиенгй, принадлѳжитъ
также къ естественному положѳнію вещей».—Но
если такова сущность всгьхъ отношеній, то она
должна проявляться въ отношѳніи ко всякому
человеку. И въ «Происхождении нравственности»
говорится по отношенію къ прошлому этики: «гЬже
самые люди, которыхъ такъ сдѳрживаютъ обычаи, почи-
таніѳ, благодарность и еще болѣе — подглядываніѳ
другъ за другомъ, взаимная ревность и
подозрительность, и которые, съ другой стороны, въ отно-
шеніяхъ другъ къ другу такъ изобретательны въ
самообладаніи, деликатности, вѣрности, гордости
и дружбѣ, — тѣ же самые люди, въ отношѳніи къ
тому, что для нихъ чужое, не лучше отпущѳнныхъ
на свободу дикихъ звѣрѳй. Они наслаждаются
свободой отъ всякаго общѳственнаго гнета, они счита-
ютъ себя въ пустынѣ обѳзпѳчѳнными отъ напряже-
— 127 —
вія, которое приноситъ съ собой долгая жизнь
взаперти и пріобщѳніѳ къ общественности — они
вновь обрѣтаютъ невинность хищаыхъ звѣрей, какъ
торжествуются чудовища». Въ чисто историчѳскомъ
отношеніи эти слова изображаютъ лишь
действительное состояніе низкой культуры, но въ самомъ
пзобрѳжѳніи чувствуется святотатственная дерзость
и странная склонность къ тому, что возбуждаетъ
ужасъ.
НЬкогда на зѳмл^ въ самомъ дѣлѣ существовала
«двойственная нравственность», а у нѣкоторыхъ на-
роповъ она и до сихъ поръ еще въ ходу. Но эта
двойственность заключалась не въ двойныхъ противорѣ-
чивыхъ нравственнъгхъ принципахъ, а въ противопо-
ложномъ отношеніи къ соплѳмѳннпкамъ и къ чужимъ.
Тотъ, кто не принадлежитъ къ данному племени—
будь онъ въ своей собственной общипѣ господинъ или
рабъ^— считается врагомъ, относительно котораго
все дозволено; въ прежнее время онъ даже считался
добычей, за которой охотились. И нравственность
•была первоначально привилегіей, прѳимущѳствомъ.
Въ прѳдѣлахъ этой двойной морали у Нитцше дѣй-
отвуютъ «господа», «уединенвые люди хищной
породы» подобно тому, какъ въ нцхъ» же вплоть до
нашихъ дней живутъ отдѣльныя дчкія племена.
Въ «ІІроисхождѳніи нравственности» нельзя еще
искать собственной морали Нитцше, и несправедливо
приводить противъ него пзрѳчѳнія изъ этого
произведения, въ которомъ онъ хочѳтъ говорить
исторически. «Видѣть страданія отрадно, причинять страда-
ніяещѳ отраднЬѳ»; «безъ жестокости вѳ можеть быть
празднества»—такого рода изрѳченія относятся лишь
къ древнѣйшѳй исторіи человечества, и къ нимъ
— 128 —
нужно применять критеріи «минувшихъ временъ? +
Такъ Нитцшѳ объяснилъ самъ./Но и въ преж-
нѳиъ мірѣ не природная склонность къ жестокости, а
жизненная необходимость заставляла человѣка
первобытной культуры подавлять чувства любви и сим-
патіи въ отношѳніи къ людямъ не своего племени;
Иитцшѳ, проникнутый любовью Руссо къ
первобытности, не могъ этого понять· Въ порывахъ дикаго и
необузданнаго властолюбія онъ видѣлъ только избы-
токъ нетронутой силы первобытной человеческой
натуры. Вообще онъ умѣлъ цѣяить во всякомъ
посту пкѣ только его вѳличіе, силу, которая въ немъ
проявляется, безъ мысли о цѣли и свойствахъ
проявившейся силы· Онъ былъ согласенъ съ рас-
пространеннымъ во времена Возрождѳнія убѣждѳ-
ніѳмъ, что вѳличіѳ поступка, каковъ бы онъ нп
былъ по существу, оправдываетъ его· Нитцшѳ
преклоняется пѳредъ страшнымъ и хочетъ, чтобы чѳ-
ловѣкъ былъ страшѳнъ. Чѳловѣкъ долженъ стать
выше, выше и сильнѣѳ. Нитцшѳ восхваляетъ въ
этомъ отношеніи войну. сОтвергая войну, мы
отказываемся отъ вѳликаго въ жизни».—«Вы утверждаете»,
говоритъ Заратустра, «что благая цѣль освящаѳтъ
даже войну. Я же говорю, что только благо войны
освящаетъ всякую цѣль.»—«При очень миролюби-
выхъ обстоя тѳльствахъ», говоритъ онъ въ книгЬ
«За пределами добра и зла», снѳдостаѳтъ случая
воспитать свое влеченіѳ къ строгости и твердости;
и теперь всякая строгость, даже и справедливая,
тревожитъ совѣсть; высокій и жѳстокій аристокра-
кратизмъ и самоуверенность почти оскорбляютъ и
пробуждаютъ нѳдовѣріѳ». Величіѳ человека,
возбуждающее страхъ и прѳклоненіе,ѳсть идеалъ Нитц-
— 129 —
ше, его надежда, его страстное желаніѳ. Онъсъ вооду-
шевленіѳмъ говорить въ «Происхождѳніи
нравственности»: «но отъ времени до времени дозвольте мнѣ
бросить одинъ взглядъ на нѣчто совершенное, вполне
удавшееся, счастливое, могущественное,
торжествующее, на возбуждающее чѣмъ нибудь страхъ! На
человека, который служилъ бы оправдавіѳмъ для
человека, на оовобождающаго и счастливо дополняю-
щаго человечество человЬка, ради котораго можно
было бы еще сохранить вгьру въ человгька*.
Изъ «твѳрдѣйшаго камня», изъ качѳствъ
человека, еще не ослабленныхъ культурой, еще не
выветрившихся въ ея мягкой атмосфере, Нитцшѳ хо-
чѳтъ изваять образъ более сильнаго человека —
героя будущихъ врѳменъ. Но этотъ человекъ буду-
щаго есть только высшая ступень развитія человека
прошлаго, пѳрвобытнаго. РадикальнЬйшій
мыслитель является въ тоже время и самымъ реакпіон-
нымъ. Онъ перескакиваетъ въ исторіи чѳрезъ два
тысячѳлетія христіанской эры: это, по его убѣж-
денію, тысячѳлетія противоестественности и уродова-
нія человека. Еще гораздо глубже вдаль, къ
инстинкту вѳдѳтъ его это движеніѳ назадъ. с Все
хорошее инстинктивно и, следовательно, легко,
необходимо, свободно». сАристократы — люди
инстинкта >.
Вполне односторонняя характеристика жизни,
признающая въ людяхъ только инстинктивную
склонность къ нападенію, оскорблѳнію, раздору,
отрицающая чувства симпатіи и единенія, чрезмерное
деленіѳ по рангамъ, пониманіѳ неравенства между
людьми какъ природнаго антагонизма расъ и натуры,
Изд. ред. журя. сОбравованіе» 9
— 130 —
нѳвѣрное объяснѳніѳ антропологичѳскаго
факта—таковы основы и гипотезы «аристократической морали»
Нитцшѳ. Вершина ѳя—прославлѳніе власти какъ
таковой, идолопоклонство пѳрѳдъ «властью для
власти», a последнее слово этой
морали—отождествлете добра съ силой, зла со слабостью.—«Въ чѳмъ
добро?—Во всемъ, что возвышаѳтъ чувство силы и
власти и желаніѳ этой власти въ чѳловѣкѣ. Въ
чемъ зло? — Во всемъ, что исходить изъ слабости.
Въ чемъ счастье? Въ чувствѣ того, что власть
растешь, что препятствіѳ преодолевается. Не
довольства нужно искать, а больше власти: не мира, а
войны, не добродѣтели, a дѣльности». Въ этихъфразахъ
«Антихриста» подвѳдѳвы итоги морали Нитцшѳ.
« Добро дѣте ль и власть — одно и то же» говорилъ
уже Спиноза, понимая это, впрочѳмъ, въ другомъ
смыслѣ. /
Стремлѳніе къ власти должно было стать новымъ
созидатѳльнымъ началомъ нравственности, гораздо
болѣѳ высокимъ, чѣмъ утилитарный принципъ, ко·
торый, собственно говоря, вовсе не проникаетъ
собою творческой энергіи дѣйствія, а останавливается
на слѣдствіяхъ лоступковъ; точво также стрѳмленіѳ
къ власти выше всѣхъ формъ морали чувства. Но въ
этомъ принципе отсутствуете» всякая внутренняя
цѣль. Это—вѣчноѳ стрѳмленіе вверхъ, желаніѳ выс-
шаго, самоподниманіѳ, одолѣваніѳ своего я,
всесильнее разгорающееся стремленіе уходить отъ себя и
выше себя. Все тоже однообразное трѳбованіе власти,
все больше власти. На скромный вопросъ: власти
надъ чЬмъ? къ чему? отвѣта не дается. И Нитцшѳ
должѳнъ оставить насъ бѳзъ отвѣта,—ибо его
стремление къ власти есть только слЪпая воля, бѳзъ
- 131 -
поняманія, бѳзъ существенная единства. Если
лее, напротивъ того, воля чѳловѣка, уже въ
зародышѣ инстинктивной жизни, предназначена
стать разумною, если она прежде всего
заключаешь въ сѳбѣ жѳланіѳ разумности, и въ ней съ
сама го начала коренится стрѳмленіе къ все болѣѳ
широкому, глубокому, проникнутому ѳдинствомъ
самосознанию—если она есть стремленіѳ къ образованію
личности, то этой самой формой она уже ставитъ
себѣ цѣль. Главный элѳмѳнтъ и конечная цѣль
нравствѳннаго міра есть личность—въ ней
объединяются общее и индивидуальное. Личность
поднимается жизнью для общихъ цѣлей, а жизнь въ ра-
вумѣ вѳдетъ къ выработкѣ личности. Желанге быть
личностью, а не жѳланіѳ власти составляетъ, та-
кгаіъ обраэомъ, принципъ и норму нравственности.
Нитцше не признаетъ разума въ волѣ, потому
что онъ не признаетъ разума вообще; онъ
отрицаешь цѣнность логики, цѣнность истины. И въ
своей тѳоріи познанія, въ учѳніи о значѳніи позна-
нія, онъ обааружпваѳтъ зависимость отъ Шопѳнгау-
ѳра, который низвелъ«Міръ какъ представление » къ
обману, къ иллюзіи. сИстины—это тѣже иллюзіи, о
которыхъ забыли, что онѣ таковы», писалъ Нитцшѳ
въ одномъ юношѳскомъ очѳркѣ «О правдѣ и лжи
внѣ нравственнаго смысла*. Позже та же мысль
возвращается въ маскѣ дарвинизма. сИнтеллектъ въ про-
должѳніѳ огромныхъ эпохъ производилъ одни
только заблужденія; нѣкоторыя изъ нпхъ оказывались
полезными для сохранѳнія рода». Но если бы они
были заблуждениями, какъ бы они служили
сохранению рода? Только когда наши представления совпа-
даютъ съ положеніемъ вещей, тогда только наше
— 182 —
отношѳніе къ вещамъ можетъ быть обусловлено
нашими представлениями. Нитцше же полагаѳтъ,
что тотъ, «кто медленно высчитываетъ и подводитъ
итоги, имѣетъ гораздо меньшую вероятность суще"
ствованія, чѣмъ тотъ, кто при всякомъ сходстве
тотчасъ прѳдполагаѳтъ равенство». Разсуждать, по
его мнѣнію, значить не точно воспринимать, не
замечать различій, между тѣмъ какъ на самовгь дѣлѣ
это есть отстранѳніе различій. Логика должна
основываться на прѳдположѳніяхъ, которымъ въ
действительности ничто не соответствуешь, ибо нѣтъ
никакихъ прочныхъ вещей, нѣтъ вещей одинако-
выхъ, и вообще нѣтъ никакихъ вещей, никакой ма-
тѳріи, никакихъ тѣлъ. Этимъ отрицается за
логикой всякое право нормировки и остается
совершенно нѳпонятнымъ, какимъ образомъ въ логике
создались яѳвѣрныя, не отвѣчающія действительности
предположенія. Впрочемъ, совершенно неверно, что
понятію о субстанціи, какъ утвѳрждаетъ Нитцше,.
«въ строгомъ смысле слова ничего не отвечаѳтъ въ
действительности»; ему отвечаетъ познаваемое опыт-
нымъ путѳмъ упорство матеріи и энергіи. «Не
логическая оценки», говоритт» онъ въ предисловии къ
«Радостной науке»,—«являются самыми основными
и глубокими, а вбра въ разумъ, какъ вЪра вообще^
есть явлѳніѳ нравствѳннаго міра».Какъ вера—быть
можетъ; но разве и какъсознаніѳ необходимости,
внутренней необходимости пли очевидности логическихъ
приндиповъ? Тотъ, кто, подобно Нитцше, считаетъ
ігллюзію міра, въ которомъ намъ кажется, что мы
жпвемъ, «самымъ вѣрнымъ и твердымъ>, «чемъ
еще можетъ владеть нашъ взоръ», долженъ знать,
что такое истина и следовательно долженъ признать,
— 133 —
что истина существуетъ. Иначе какъ бы онъ могъ
признать что либо заблужденгемъ, какъ могъ бы
вообще составить себѣ понятіѳ о заблужденіц?
«Истина есть мѣрило самой себя, какъ и мѣрило лжи»,
замѣтилъ уже Спиноза. Логика нужна даже для
самого отрицанія логики, какъ ни невозможно это
отрицаніѳ. Но только отрицаніе разума было бы въ
самомъ дѣлѣ отргщаніемъ нравственности.
Не только художникъ, но и моралистъ есть
несомненно «геній сообщительный». Кто же повѣритъ, что
етотъ гѳній можѳтъ только вѣчно бродить, взбираться
на утесы и забираться въ ущелья, какъ Заратустра.
Если бы оаъ даже хотѣлъ, онъ не могъ бы не дать
остальнымъ людямъ учавствовать въ своей духов·
ной силѣ и вѳлпчіи, не могъ бы не спролить на дру-
гихъ благость своей натуры», говоря словами Гете.
Пусть великая личность пользуется всѣмъ, что
находится внѣ ея, для саморазвитія и самоуоовѳршѳн-
ствованія; пусть общество и государство, пусть все
остальное человѣчество служатъ ей органами для
достижения ея высшаго блага; но въ то время какъ
она раскрываѳтъ богатство своего внутренияго
міра, она сама становится оргавомъ общности, и
какъ въ ней живетъ цѣлоѳ, такъ и она сама яси-
ветъ для цѣлаго. Между благомъ высшихъ особей
π благомъ общества нѣтъ того противорѣчія,
которое прѳдиолагалъ Нитцшѳ, и которое
побуждало его говорить даже о противоположныхъ
нравственностяхъ. Даже это выражение :
«нравственности» вмѣото единственно правильнаго: «формы
нравственности» противорѣчивоотью оборота,
который мы чувотвуемъ, указываетъ на ошибочность
самого понятія. Личная и общественная атика мо-
— 184 —
гутъ казаться противоречивыми вакъ понятія; но
въ жизни каждаго истинно вѳликаго человека этотъ
отвлеченный контрастъ преодолевается.
Мораль Нитцше предназначена не для среднихъ
людей, не для толпы, т. ѳ. тѣхъ «которыхъ слишкомъ
иного»» Она должна быть моралью духовнаго роста и
обособленности, и ѳя законоположения обязательны
лишь для немногихъ исключительныхъ натуръ, для
одинокихъ и отдЬлѳнныхъ отъ толпы. € Во мнѣ законъ
только для моихъ, а не для всѣхъ», говорить Зара-
тустра. При оцѣнкѣ, а также и при осуждѳніи
морали Нитцше нельзя оставлять безъ вниманія это огра-
ничѳніе его предписаний, обращенныхъ лишь къ
тѣмъ, «которыхъ всего меньше». Это мораль для
созидателей и носителей культуры будущаго,
крутая тропа, ведущая къ этой культуре. Нитцше
хочетъ въ школе € высокой и строгой
культуры духа» создать «новую аристократію»,
«противницу всего плѳбейскаго и всего
насильственного». На этихъ новыхъ аристократовъ онъ возла-
гаетъ свои высшія надежды; они должны стать
сеятелями и воспитателями будущаго; изъ яихъ, по его меч-
тамъ, должѳнъ быль создаться въ будущемъ высшій
человЬчѳскій типъ — «сѳерхъ-человгъкъ*. Они
образуюсь «ту партію, которая бѳрѳтъ въ свои руки
высшую изъ всехъ задачъ,—подъемь человечества;
въ эту задачу включается и бѳзпощадное
уничтожение воѳго вырождающагося и парагштнаго». Какъ
они это могутъ сделать — объ этомъ ничего не
говорится. Мораль Нитцше только потому такъ
нечеловечна, такъ резко и пренебрежительно
противоречить морали «чѳловечныхъ людей», что она
стремится быть свѳрхъ-человечной.
— 135 —
6.
/ Въ сфѳрѣ идей Нитцшѳ ученіѳ о сверхъ-че-
ловѣкѣ ванимаѳтъ мѣсто философіи религіи. Нитц-
шѳ былъ рѳлигіозно настроенной натурой; въ ненъ
было чувство благоговѣнія, и даже его атѳизмъ
проникнуть религіозной страстностью.
Атѳизмъ Нитцшѳ не имѣетъ ничего обща-
го съ бѳзбожіѳмъ «самаго уродливаго чѳлов-Ька»,
который является у него спмволомъ атеиста съ
низкими побуждѳніями. Къ нему отвосятся слова
Нитцшѳ: €ты не вынесь того, кто видѣлъ тебя, ты
отомстилъ этому свидетелю!» Но зато у Нитцшѳ
есть близкое родство съ Фейѳрбахомъ. Нитцшѳ
также разсматриваетъ эпоху рѳлигііг, какъ с
подготовление и прелюдію для человечества», чтобы, какъ
онъ выражается, «почувствовать голодъ и жажду
себя и извлечь изъ себя сытость и полноту». Запм-
отвованіе и перѳиначѳніѳ основной мысли Фѳйрбахов-
ской антропологіп заметно въ слѣдующѳмъ
сравнении (въ «Радостной Наукѣ»): «быть можетъ, чѳло-
вѣкъ оттуда начнѳтъ подниматься все выше, откуда
не можетъ быть изліянія въ Бога-· с Останьтесь
вѣрны зѳмлѣ, мои братья, силой своей
добродетели», убѣждаѳтъ Заратустра, «не давайте ей
подниматься надъ зѳмнымъ и биться крылами о вѣчныя
стѣны! О, какъ много было всегда заблулсдавшѳйся
въ своѳмъ полѳтѣ добродетели!» Нитцшѳ вложилъ
въ вопросъ о религіи серьезность и глубину
чувства, Разрушеніѳ вѣры въ Бога кажется ему чѣмъ
то страшнымъ, и онъ стремится восполнить про-
бѣлъ, который образуется такимъ образомъ въ
духовной жизни людей. «Самое священное и мощ-
— 136 —
ное, что было въ мірѣ, истекло кровью подъ на-
шамъ ножѳмъ!» восклицаетъ онъ въ «Радостной
Наукѣ». «Развѣ величіѳ этого дѣянія не слишкомъ
велико для еасъ? Не должны ли мы сами стать
богами, чтобы быть достойными его? Въ «Человѣч-
номъ, слишкомъ человѣчномъ» тоже шла рѣчь объ
«утѣшенііи, которое заключается въ представлении
объ с образующемся божествѣ», о божественности
«самосозиданія » . Онъ искалъ замѣны исчезнувшей
вѣры, и одно изъ его внутрѳннихъ событій, изъ
«пѳрежитыхъ идей», отмѣчашпихъ всегда
критические моменты въ его мышленіи, дало этому нсканію
и стремлѳнію къ новымъ вѣрованіямъ болвѳ
определенную форму.
- Въ великомъ уединѳніи среди природы (въ
Сидьсъ-Маріи), «6000 футовъ надъ уровнѳмъ мора
и еще выше надъ всѣмъ чѳловѣческимъ», какъ
похвалялся Нитцшѳ), въ умѣ Нитцшѳ блеснуло воепо-
мпнаніѳ объ одномъ изъ самыхъ странныхъ у
чети древности, о пиѳагорѳйокой теоріи впчнаго
повторенгя всего на свѣтв. И такъ сильно
поразила его эта идея въ этотъ моментъ, что онъ совсѣмъ
забылъ о томъ, что она не болѣѳ какъ воспоминаніѳ*
Онъ счѳлъ самого себя создателемъ этой теоріи, пер-
вымъ, кто «долженъ былъ преподать это ученіе».
Онъ никогда зналъ ѳя источникъ. Въ «Несвоеврѳ-
менныхъ разсужденіяхъ» противъ исторіи онъ самъ
излагадъ идею пиѳагорейцевъ о томъ, что «при
повторѳніи одпнаковаго положенія нѳбесныхъ свѣ-
тилъ на зѳмлѣ такъ же должно повториться по
старому все до мѳльчайшихъ подробностей», — и
шутилъ ладъ этимъ почти такъ же, какъ въ
древности шутилъ Эвдемъ, учѳникъ Ариототѳ-
— 137 —
ля. Астрономамъ, говор илъ онъ, придется
тогда опять стать астрологами. Но теперь та же
самая мысль потрясла, почти разбила его. Его
цризнаніѳ жизни, его жизненная энергія подверглись
сильнейгаѳму испытанію «Incipit tragoedîa—тавъ
гласить афоризмъ, (въ «Радостной наукѣ»), гдѣ
впервые провозглашается «новое учѳніѳ». И въ За-
ратустрѣ сильными волнами вибрпруетъ
возбуждение, порожденное новымъ вѣрованіѳмъ. Заратустрѣ
кажется, что его сломаютъ его ообствѳнныя слова:
онъ «болѳнъ» своими мыслями, подобными пропас-
тямъ, и гЬмъ, что онъ «протянулъ къ свѣту то, что
было на самомъ днѣ>; онъ должѳнъ лѢчнть свою
душу новыми пѣснями, чтобы перенести свою
великую судьбу, «которая еще не выпадала на долю
ни одному чѳловѣку».—«О, вѣчно возвращается че-
ловѣкъ! Маленькій человѣкъ вѣчно возвращается!
И величайшій человѣкъ слишкомъ мелокъ! И вѣч-
но возвращается самое мелкое! Ахъ! Отвращеніе!
отвращѳніѳ!» Описаніе «вѣчнаго возвращения» (въ
«Радостной иаукѣ») звучитъ словно описаніе дриз-
раковъ: «вое невыразимо мелкое и все великое въ
жизни должно возвратиться, и все въ томъ же
лорядкѣ,—и этотъ паукъ, и этотъ лунный свѣтъ
•среди деревьѳвъ, и этотъ момѳнтъ, и я самъ;
вѣчные песочные часы существования взчно
переворачиваются, а съ ними и ты, песчинка
среди пѳочинокъ!» И Заратустра повторяѳтъ: с этотъ
медлительный паукъ, ползущій въ лунномъ свѣ-
тѣ, и. самый этотъ лунный свѣтъ, и я, и ты,
которые шепчемся въ воротахъ, шепчемся о чѳмъ
то вѣчномъ—разв-Ь мы уже не были когда то?і—
βτο какъ бы новый родъ безсмѳртія, которое од-
- 188 —
нако ничего намъ не дало бы, котораго мы бы да*
же не замѣтили, потому что вѣчное повтореыіѳ
одинаковой жизни стало бы для насъ какъ разъ тѣмъ
же самымъ, что и наша теперешняя, одинъ разъ
переживаемая жизнь.
Доказать эту мысль, или хотя бы отчасти пока*
зать ея вероятность, невозможно. Вопросъ Нитцше:
«Развѣ все въ мірѣ не такъ тѣсно сплочено г
что каждый момѳнтъ влечѳтъ за собой все гряду·
щее—и даже самого себя?» содѳржитъ не
доказательства^ обманчивое заключение. Если бы вообще суще-
ствовалъ единый законъ развитія, направленное въ
одну сгорону общее движѳніѳ и развитіе всѣхъ
вещей.—что крайне сомнительно,—то по всѣмъ аналогі-
ямъ, взятымъ изъ опыта, гораздо вѣроятнѣе
предположить для этого развитая форму спирали, чѣмъ
круга, повтореніе не одинаковаго, а похожаго, но на
болѣѳ высокой ступени» Но и въ безконечномъ те-
ченіи времени нѣтъ надобности повторяться слѣдо-
ванію и порядку вещей. Мечты о свѳликомъ годѣ
созиданія» нужно оставить времени дѣтства науки.
Но, даже и при невозможности доказательстваг
мысль о «вѣчномъ возвращѳніи одного и того же» г
дѣлающая время вѣчноотью, ужасна и
величественна; поэтому она должна быть для Нитцше также
истинной.
Чтобы не поддаться тяжести этой мысли, Нитцше
нуждался въ утѣшѳніи и противод-Ьйствіи
представления, которое возвышало бы его и дѣлало бы его
счастливы мъ. Подобно трагическому художнику въ своей
прежней тѳоріи, онъ создавалъ сѳбѣ миѳъ, радостное
видѣніе. Чтобы тѳрпѣть человѣка, нужно видѣть въ
немъ «переходъ къ чему то другому и, следовательно,.
— 189 —
гибель прежняго», нужно думать, что изъ него
самого выйдетъ болѣѳ высокое существо. И эта
свисшая надежда» такъ воодушевляѳтъ Нитцше, что
онъ самъ теперь мечтаѳтъ о «брачномъ кольцѣ ко-
лецъ», о «кольцѣ вѣчныхъ возвращений *, какъ о
«послѣднемъ подтверждении и запечатлѣніи» его
жѳланія жизни.
Ивъ этого настроѳнія выросла книга «Такъ ска-
залъ Заратустраъ—«книга для всѣхъ и ни для
кого». Нитцше нааывалъ ее «лучшимъ» изъ всего, что
онъ написалъ. Этой книгой онъ сдалъ чѳлов-вчеству
самую глубокую книгу, которой оно обладаѳтъ»!—
Таковъ его собственный приговоръ своему пронз-»
веденію. Первыя части написаны въ вихрѣ и бурѣ
мыслей и образовъ; каждая часть—«созданіѳ десяти
дней», каждая фраза какъ бы «воззваніѳ». Впослѣд^
ствіи вся книга должна была ему самому казаться
откровѳніѳмъ. Никто, кого «каждое его слово не
ранило когда-нибудь глубоко и не доставило когда-
нибудь вѳликаго восторга» не имѣѳтъ «права» на
то, чтобы благоговѣйно пріобщиться святой стихіи,
въ которой родилась «книга, ея солнечное сіяніе,
ея дали, широты и'нѳсомнѣннооти». Заратустра—»
«анта-библія» Нитцше. Слова зм-Ья «будите яко бо-
зи» могли бы служить для него эпиграфомъ.
«Вѣчнымъ возвращѳніѳмъ» является для Нитцшѳ
«мысль о Заратустрѣ», о «сверхъ-чѳловѣкѣ», о воз-
вѣщеяіи и видѣніи Заратустры. Нитцше утвер-
ждаѳтъ, что слово сверхъ-чѳловѣкъ онъ нашѳлъ по
дорогѣ. Если «дорога» обозначаетъ здѣсь творенія
Гете, то онъ, конечно, могъ прочесть тамъ это
слово. Гете употрѳбляѳтъ его дважды въ «Фаустѣ*
и потомъ въ позтическомъ «посвященіи» (Zueîgnung)
— 140 —
късвопмъ стихамъ. Именно это второе мѣсто, если
бы Нитцшѳ его вспоинилъ, могло бы особенно
навести его на раздумье:
«Едва ты становишься господиномъ своей
первой дѣтской волн, какъ ты уже кажешься сѳбѣ
сверхъ^человгъкомъ, и уже пренебрегаешь
обязанностями чѳловѣка. Миогимъ ли ты отличенъ отъ
другихъ? Познай себя и живи въ мирѣ съ людъмиі»
Такъ говорить Истина поэту.
Что же обозначаѳтъ «сверхъ-чѳловѣкъ» у Нптцше?
Только платоновскую идею о чѳловѣкѣ, въ которой
человѣкъ участвуетъ, нѳ будучи однако ею. Если
вѣрить ЗаратустрЪ, тосвѳрхъ-человЪкъ есть «смыслъ
вемного существования», конечная цѣль чѳловѣчѳ-
ства, высшее существо, которое произойдѳтъ отъ
человека и будетъ имъ создано; вѣра въ это
существо должна заменить вѣру въ Бога. Заратустра ви-
дитъ въ сверхъ-человѣкѣ новую, исходящую пзъ чело-
вѣва расу, которую можно произвести культурныжъ
путемъ, € высшую породу людей», какъ онъ
выражается въ «Пронсхожденіинрявзгвѳнноота». «Bob
существа, бывшія до сихъ поръ, создавали нѣчто высшее
себя», говоритъ Заратустра. «Человѣкъ—нить,
протянутая между звѣремъ и свѳрхъ-человѣкомъ».
«Нашъ путь вѳдѳтъ ввѳрхъ, отъ существующей расы
къ превышающей ее». Но, говорить Нитцшѳ, «поэты
лгутъ слишкомъ много, а Заратустра также поэтъ».
Если Нитцшѳ въ самомъ дѣлѣ, какъ это кажется,
некоторое время носился съ мыслью о выработкѣ
новой породы людей, то это доказываете что онъ
совсѣмъ не понялъ Дарвина. Переходъ отъ одного
животнаго вида къ другому требуетъ столь громад-
ныхъ промежутковъ времени, что задача создать
— HI —
путѳмъ воспитанія пзъ чѳловѣка видъ свѳрхъ-чело-
вѣческій, не имѣѳтъ никакого осязательнаго смысла·
Окончательное мнѣніѳ Нитцшѳ мы узнаемъ од*
аако только изъ € Антихриста». ЗдЬсь уже нѣтъ
бодѣе рѣчи о свисшей породѣ».—«Не въ томъ, что
должно смЬнпть человека въ цѣни сущѳствъ, заклкь
чается основной вопросъ; чѳловЬкъ—нѣчто
окончательное*, и понятіе о сиѳрхъ-человѣкѣ имЪѳтъ
поэтому лишь относительное значеніѳ; оно означаѳтъ
снѣчто, представляющее въ отношенги ко всему
человечеству своего рода сверхъ-человѣка». Такого
рода отдѣльныя личности, — «счастливые, особенно
удачные экземпляры чѳловѣческаго рода-были всегда
возможны и, можетъ быть (!), всегда будутъ
возможны. И даже цѣлыя поколѣнія, племена, народы
могутъ иногда представлять такія удачи*.
Оказывается такимъ образомъ, что сверхъ-чѳловѣкъ былъ
уже представленъ въ исторіи до сихъ поръ множен
ство разъ. Заратустра утвѳрждаегъ однако
противоположное: «никогда еще не было свѳрхъ-чѳловѣ*
ка»; но Заратустра очевидно говорилъ опять какъ
споэтъ»· Одного только Ннтдшѳ тщетно ищетъ вь
типѣ сверхъ-чѳловѣка, какъ онъ проявлялся въ
исторіи до сихъ поръ: хотя этотъ «болѣѳ цѣнный
по своему значѳнію типъ достаточно часто проявлялся
въ исторіи», но онъ всегда былъ ее частливоЁ
случайностью и никогда не являлся продуктомъ намѣренна-
го созиданія». Это снова приводить насъ къ €произ-
водству высшей человѣческой породы*,—юношеской
мѳчтѣ Нлтцше. Мы вѣдь знаѳмъ, что «всѣ его идеи
рано начали развиваться, хотя и поздно
отражались въ его произвѳдѳніяхъ», и хотя, прнбавимъ,
ихъ проявленію каждый разъ прѳдшествовалъ крит
— ш —
зисъ, «преодолеваете» чего то. Но для того, чтобы
с производство высшихъ натуръ» стадо возможны мъ,
нужно, чтобы пріобрѣтенныя качества въ будущемъ
несомненно передавались по наследству, чтобы ге-
ній прежде всего сталъ наслѣдствѳннымъ и
естественный ходъ вещей измѣнился въ этомъ
отношении.
«Производство высшей породы человечества» не
можѳтъ также быть достигнуто «безпощаднымъ
истреблѳніѳмъ всего вырождающагося и паразит-
наго», т. е. отрицательнымъ путеігь—если бы даже
такое истребленіе было во власти какого либо
человека. Расы, жившія въ чистоте, также
вырождаются и тѣмъ несомнѣннѣе, чѣмъ обособленнее оне
были, чемъ более оне были ограничены развитіѳмъ
только внутри самихъ себя. сЭкзогамія» (брачныя
единѳнія съ другими племенами) оказывалась біодо-
гичѳски полезною съ дрѳвнѣйшихъ врѳмѳнъ.
Последней законченной Нитцшѳ книгой является
«Антихристъ» — и объ этомъ можно пожалеть. Въ
этой книге говоритъ не «свободомыслящій», не
аристократическій мыслитель. Въ ней слышѳнъ
громкій голосъ возмущѳнія— а «никто такъ не лжѳтъ,
какъ тотъ, кто возмущенъ *, сказалъ самъ же Нитц-
ше. Книга Нитцше—книга оскорбительная, чаото
впадающая въ шутовство; она пользуется въ суж-
дѳніяхъ неправильными критеріями и ставитъ въ
упрѳкъ христіанству пренѳбреженіе такихъ
добродетелей, какъ «чувство солидарности, благодарность,
стрѳмлѳніѳ къ общему благу», между темъ какъ
Нитцше самъ не признаѳтъ этихъ добродетелей и «пѳ-
рѳоцениваетъ» ихъ. Книга эта наконѳцъ и прежде
всего исторически неверна. /
— 143 —
Традиционную исторію израильскаго народа
Нитцше называетъ сознатѳльнымъ искажѳніеиъ со
стороны духовенства, намѣрѳнной выдумкой свя-
щенниковъ; эти обвнненія пѳрѳносятъ насъ въ эпоху
Вольтера. Говоря о личности Христа и о «психо-
логіи Евангѳлія», Нитцше выдумалъ «типъ
искупителя», явно противорѣчащій традиціонной
передаче событій. Но вмѣсто того, чтобы признать
вслѣдствіѳ этого ложность своего образа, онъ
говорить о лживости традиціонной передачи. Къ «житі-
лмъ святыхъ», будто бы, не примѣняются научные
методы—этимъ замѣчаніѳмъ онъ беззаботно пѳре-
ступаѳтъ черѳзъ все исторически-критическое изу-
чѳніѳ Евангѳдія и слѣдуѳтъ своимъ апріористиче-
скимъ прѳдположеніямъ. «Ребячество, вернувшее
къ духовности (онъ объясняѳтъ это «физіологичѳ-
юки»), инстинктивная ненависть къ реальному,
инстинктивное избѣганіе всякаго отвращѳнія, всякой
враждебности, всѣхъ предѣловъ и разстояній въ
чувствѣ», какъ рѳзультатовъ крайней
«восприимчивости къ страданіямъ»—таковы для него физіоло-
гическія реальности, изъ которыхъ вышло «учѳніѳ
объ искупленіи». Онъ не признаѳтъ экономическихъ
причинъ падѳнія античной, римской цивилизаціи
(каковы, въ особенности, прѳкращѳніѳ завоеватель·
ныхъ войнъ и тѣмъ самымъ ввоза рабовъ); раз-
ложѳніѳ римской Импѳріи, этого «созданія аеге ре-
rennius», онъ объясняѳтъ своего рода подпольнымъ
ваговоромъ, «христіанскпмъ динамитомъ».
Нитцше пользуется всЬми красками своей
палитры и всѣми тонами своей мощной рѣчи, чтобы
изобразить «демонически - божественное,
таинственно-парадоксальное зрѣлищѳ, которое возбудило бы
— 1*4 —
у боговъ Олимпа безсмѳртный хохотъ,—зрѣлище
Цезаря Борджіа въ сангь папы. Это уничтожило
христианство! Что же случилось? Нѣмѳцкій монахъ,
Лютѳръ, пріѣхалъ въ Римъ. Монахъ этотъ,
полный мстительными инстинктами неудавшагося
священника, возмутился въ Римб противь Возрождения.
На папскомъ прѳстолѣ торжествовало не
христианство, а жизнь, пользующаяся всѣмъ прѳкраснымъ
и вапретнымъ въ мірѣ! Тогда Лютѳръ возстано-
вилъ наново церковь своими нападками на нее...
Возрожденіе оказалось событіемъ, лишеннымъ
смысла, напраснымъ порывомъ духа!»
Въ этомъ парадномъ и патѳтичѳскомъ краснорѣ-
чіи все нѳвѣрно. Объяснять ли слова Нитцшѳ
исторически или искать въ нихъ символичѳскаго смысла,—
въ обоихъ случаяхъ онъ окажется въ жестокоиъ
заблуждѳніи. Цезарь Борджіа никогда не былъ напой,
и прошло уже четыре года послѣ его смерти (онъ
оставилъ Италію и палъ въ битвѣ, сражаясь за
своего шурина), когда Лютеръ пргбхалъ въ Римъ, и
десять лѣтъ, когда Лютеръ поднялъ возмущѳніѳ, и
то не въ Римѣ противъ Возрождения, а въ Вит-
тѳнбѳргЬ противъ злоупотреблений церкви. Цезарь
Борджіа къ тому же не можѳтъ считаться истиннымъ
прѳдставитѳлѳмъ Возрождѳнія. «Гѳрцогъ
Валентине», говорила о нѳмъ Изабелла Эсте, «не особенно
интересуется древностью, т. ѳ. гуманивмомъ и его
цѣлями». Цезарь былъ по отцу испанскаго
происхождения, но весь онъ по характеру своему
близокъ къ другимъ своимъ предкамъ, срѳднѳвѣко-
вымъ дѳспотамъ, такимъ же, каковы были предки
Эццеллно Романо, рода Корреджи и неаполитанца
Прнньяни(и8вѣстнаго какъ папа Урбанъ YI). Жаль—>
— 145 г-
повторяѳмъ еще разъг-что «Антихристъ»
последнее, законченное произведете Нитцше.
«Лишь тотъ, кто изменяется, остается мнѣ род-
нымъ». Развитіѳ Нитцшѳ, столь богатое измѣнѳвіями
и переходами, не дошло до конца; оно круто и
преждевременно оборвалось. Кто знаетъ, черезъ ка-
кія колѳбанія должна была бы еще пройти горсть его
вѣрныхъ последователей, если бы ему было
суждено достигнуть старости и мудрости, — этой
двойной вершины жизни. За «Антихристомъ» могъ еще
послѣдовать только поворотъ пути, возвращение
навадъ. Можетъ быть, оправдались бы на самомъ
Нитцше его слова: «кто хорошо прѳслѣдуѳтъ, умѣѳтъ
и слѣдовать, привыкнувъ идти вслѣдъ». Или же
онъ вступилъ бы на путь, по которому до него
шѳлъ въ нѣмѳцкой философіи идеализмъ воли и
автономнаго разума. Только случайно онъ
познакомился съ Шопѳнгауѳромъ раньше, чѣмъ съ Кан-
томъ или Фихте. А въ абсолютистской натурѣ
Фихте онъ нашелъ бы даже нѣчто родственное своей
собственной натурѣ.
Никто не изберетъ въ путеводители того, кто
всегда «становился инымъ, всегда былъ чуждъ себѣ»
и всегда «спасался отъ себя». Нитцше мѣшало стать
духовнымъ вождѳмъ не отсутотвіе с системы», а
отсутствие твѳрдаго обоснования мыслей. Слѣдуѳтъ ли
думать, что одна только воля имѣетъ созидательную
силу, и что «міръ, разсматриваемый И8внутри; есть
только воля, направленная къ власти—и больше
ничего», или же роковое заблуждѳніѳ кроется въ пред-
ИЦ. РЖД. Ж7РН. <0ВРА30ВАНІЕ.> Ю
— Д46 —
положѳніи, что воля есть нѣчто активное, между тѣмъ
какъ мы теперь «знаѳмъ, что она только слово.» Въ
томъ же произвѳдѳніи, которое должно было
называться сВоля къ власти», у человека отнимается воля
въ томъ смыслѣ, что въ ней не предполагается
внутренней власти; воля не дѣйствуѳтъ, нѳ двигаешь
всего; она только «сопровождаетъ событія,и ея можетъ и
не быть». Есть ли аскѳтичѳскій идеалъ
«инстинктивная самооборона вырождающейся (следовательно
ослабленной) жизни?» или же аскѳтизмъ является,
природой, потребностью и инстинктивнымъ стрѳмлѳніемъ
самаго развитого, т. ѳ. духовно сильнгьйшаго
человека»? И то, и другое входитъ въ ученіе Нитцшѳ. Было
ли Возрожденіѳ, какъ всякая великая эпоха,
закончено въ самомъ сѳбѣ, или же Лютеръ положилъ ему
конѳцъ? Если прѳступникъ должѳнъ быть «декаден-
томъ», то какъ же онъ можетъ въ то же время быть
«типомъ сильнаго человека въ нѳблагопріятныхъ ус-
довіяхъ?» Оба объяснѳнія мирно покоятся подъ
обложкой одной и той же книги. И если, въ самомъ дѣлѣ,
логика есть не что иное, какъ «толкованіѳ сущѳствую-
щаго доводами равсудка— даже для идіотовъ», то
какъ же можетъ Нитцшѳ послѣ этого объясненія
упрекать и жаловаться на то, что даже въ универ-
сятетахъ логика начинаѳтъ вымирать какъ въ тѳоріи,
такъ и въ практики. Нитцшѳ обладалъ въ
необычайной степени способностью видѣть все не такъ,
какъ оно представляется въ свѣтѣ традиціонныхъ и
уоловныхъ понятій, и находить новыя, противопо-
ложныя стороны явленій; но умѣнья примирять
спорные Взгляды и доводить противорѣчія до высшаго
единства у него не было: синтетичѳокій талантъ
философа не былъ данъ ему·
— 147 —
Духовный вождь своего времени должѳнъ
понимать свое время; онъ должѳнъ разумѣть настоящее,
только тогда онъ можѳтъ стать вѣщатѳлѳмъ буду-
щаго. Нитцшѳ слишкомъ низко цѣнилъ жизненную
силу христіанства и его способность къ возрождѳ-
нію. Соціальный вопросъ, самый существенный въ
настоящее время и наиболѣѳ важный для будущаго,
Нитцшѳ разсматриваетъ въ своихъ позднѣйшихъ
произвѳденіяхъ, какъ созданіе «глупости и
вырождения инстинктовъ». «О нвкоторыхъ вѳщахъ ne
нужно спрашивать», —вотъ все, что онъ находитъ
сказать объ этомъ, какъ будто бы этотъ вопросъ
ітоднятъ только злымъ умысломъ, а не возникъ изъ
экономическихъ причинъ, и не можѳтъ быть унич-
тоженъ никакимъ вѳликимъ словомъ Нитцше,
никак имъ изрѳченіемъ Заратустры.
Описаніѳмъ жизни и характера своего брата
г-жа Фѳрстеръ - Нитцше воздвигла памятникъ
родственной привязанности. И кто не согласится съ
тѣмъ, что, какъ бы ни были проницательны
ненависть и отвращѳніѳ, любовь все-таки видитъ глубже.
Она стремится понять самую сущность, a тѣ
останавливаются только на внѣшнихъ противорѣчіяхъ.
Но противорѣчія составляютъ часть души Нитцше.
Бго называютъ «многозвучнымъ» и удивляются
многосторонности или, вѣрнѣѳ, «мноюструнности* его
ума; но въ немъ отсутствуѳтъ объединенный аккордъ
звуковъ. Вѳличіѳ отличается простотой; въ немъ
есть прежде всего единство, а Нитцше — натура
двойственная. Онъ былъ склоненъ къ преклонѳвіямъ
и въ то же время обладалъ острымъ, холоднымъ кри-
тическимъ умомъ. И такъ какъ онъ всегда доводилъ
свое поклоненіѳ до безпрѳдѣльности, то ему всегда
— 148-
приходилось «святотатственными ударомъ»
разбивать божественный образъ, которому онъ прежде
поклонялся. Гдѣ нечему было поклоняться,тамъ онъ самъ
создавалъ себѣ прѳдмѳтъ для поклоненія: онъ вы-
думалъ «свободомыслящаго»,создалъ образъ «свѳрхъ·
человѣка». Несомненно, что онъ внослѣдствіи раз-
рушилъ бы и этотъ кумиръ. При своей крайне
восприимчивой натурѣ, онъ поддавался, хотя бы
поверхностно, вліянію всѣхъ тѳчѳній, всякаго
настроения, охватывавшаго общество; всѣ они находятъ
отзвукъ въ его .бурной дупгЬ. Его
отрицательно-критический умъ не позволялъ ему однако ни на чемъ
останавливаться и гналъ его отъ одного міровозѳрѣ-
нія къ другому. Каждое тѳчѳніе мысли, которому
онъ слѣдовалъ, онъ проходилъ до конца и дажѳшелъ
далѣѳ конца. Онъ прѳувеличиваѳтъ всякую
привязанность, всякую дружбу, всякое поклоненіѳ до
того, что чрѳзмѣрность ихъ начинаетъ внушать ему
отвращѳніѳ, и онъ самъ становится своимъ ожесто-
чѳннымъ противникомъ. Такимъ образомъ, онъ—
натура саморазрушающаяся по существу. Подобно
развалинамъ вѳликаго духа, въ которомъ не до-
стаетъ душевнаго равновѣсія, прѳдъ нами лежать
разрозненные обломки его произведены или, вѣр-
irfee, его произведенія въ обломкахъ.
Гете видЬлъ во воякой гѳніальной натурѣ нѣчто
«демоническое». Онъ зналъ, что есть нѣчто
зловещее въ такой натурѣ, страдающей отъ
внутренность противорѣчій. НоГѳтѳ,вѳликій воспитательный
духъ, создаватѳль и завершитель самого себя, воспи-
талъ и освободилъ въ сѳбѣ также и геній. Нитцшѳ
же былъ порабощѳнъ своимъ геніѳмъ. И въ этомъ
Нитцшѳ похожъ на Русоо; какъ и Руссо, онъ во-
— 14Θ —
площаетъ въ себѣ и въ своей судьбѣ трагическую
участь гѳнія.
Нитцшѳ обогатилъ выразительность нѣмѳцкаго
языка и литературы несколькими мастерскими нроиз-
вѳденіями афористичѳскаго жанра. Онъ создалъ въ
«Заратустрѣ» своеобразную символическую поэму, въ
которой все лично пережатое имъ въ мысляхъ, всѣ
его опыты въ области любви и вражды подняты до
общихъ, типическихъ явленій. Онъ поднялъ
вопросы, которые еще будутъ занимать философію
культуры и нравственности. Но дорога, указанная кь ихъ
разрѣшенію, застроена. Генія нельзя возростить,
потому что онъ не передается по наслѣдству. Всегда
будутъ выходить изъ толпы «вѳликія личности»,
«творцы», но какъ бы далеко ни простиралось ихъ
духовное вліяніѳ—а оно простирается до
бесконечности, потому что оно остается живымъ и движется
все далѣѳ,—въ біологичѳскомъ отногаеніи вѳликіп
чѳловѣкъ кончается въ самомъ сѳбѣ. Онъ есть
конечный пунктъ развитія, къ которому вѳдетъ
длинный подготовительный путь и долгое накопленіе
силъ.
Единственный путь къ возвышѳнію чѳловѣчѳскаго
типа заключается въ томъ, чтобы поднять уровень
людей, толпы. Чѣмъ выше поднимается постамѳнтъ,
тѣмъ выше становится воздвигнутая на немъ
колонна. Но и наиболее высоко стоящ ія личность
все-таки остается человѣкомъ. Она не станѳтъ мнить себя
«сверхъ-чѳловѢкомъ», и чѣмъ она выше, тѣмъ ме-
нѣѳ ея высокомѣріе. Съ вѳличіѳмъ духа возрастает!»
и высота цѣлѳй, и чувство несоотвѣтствія между
достигнутымъ и прѳдметомъ стремленш. Свѳрхъ-
— 160 —
человѣкъ не можетъ быть цѣлью человека; ибо
чѣмъ стала бы тогда цѣль свѳрхъ-чѳловѣка?
Всегда чсловѣкъ будетъ вѣрить въ сверхъ-че-
ловѣчное, будетъ-ли онъ это называть божествомъ
или идеаломъ. Не имѣя идеала его превышающаго,
человѣкъ не можетъ твердо стоять въ духовномъ
отношении. Это сверхъ-человѣческоѳ, идеальное есть
міръ духовныхъ критѳріѳвъ: и высочайгаій изъ
людей имѣѳтъ его надъ собой такъ же, какъ носить его
внутри себя. Но эти критѳріи, опрѳдЬляющіѳ
поступки людей и воодушевляющіѳ ихъ, нѣтъ
надобности вновь изобретать или перечеканивать,
подвергая ихъ пѳрѳоцѣнкѣ. Они открываются сами, и
какъ звѣзды нѳбѳсныя выступаютъ постепенно въ
кругозорѣ людей, слѣдуя развитію культуры.
Это не старыя ценности и не но выя 1 это
ценности постоянныя.
Главнѣйшія опечатки:
Напечатано: Слѣдуетъ читать:
13 стр.—13 строка сверху «Гибели кумировъ» I «Сумерки кумировъ»
23 » —12 > » <Гибели кумировъ> «Сумерки кумировъ»
33 > —11 » снизу «Внѣ добра и зла» ! «За предѣдани добра и зла»
110 » — 6 » сверху въ «Веселой наукѣ» въ «Радостной наукѣ»