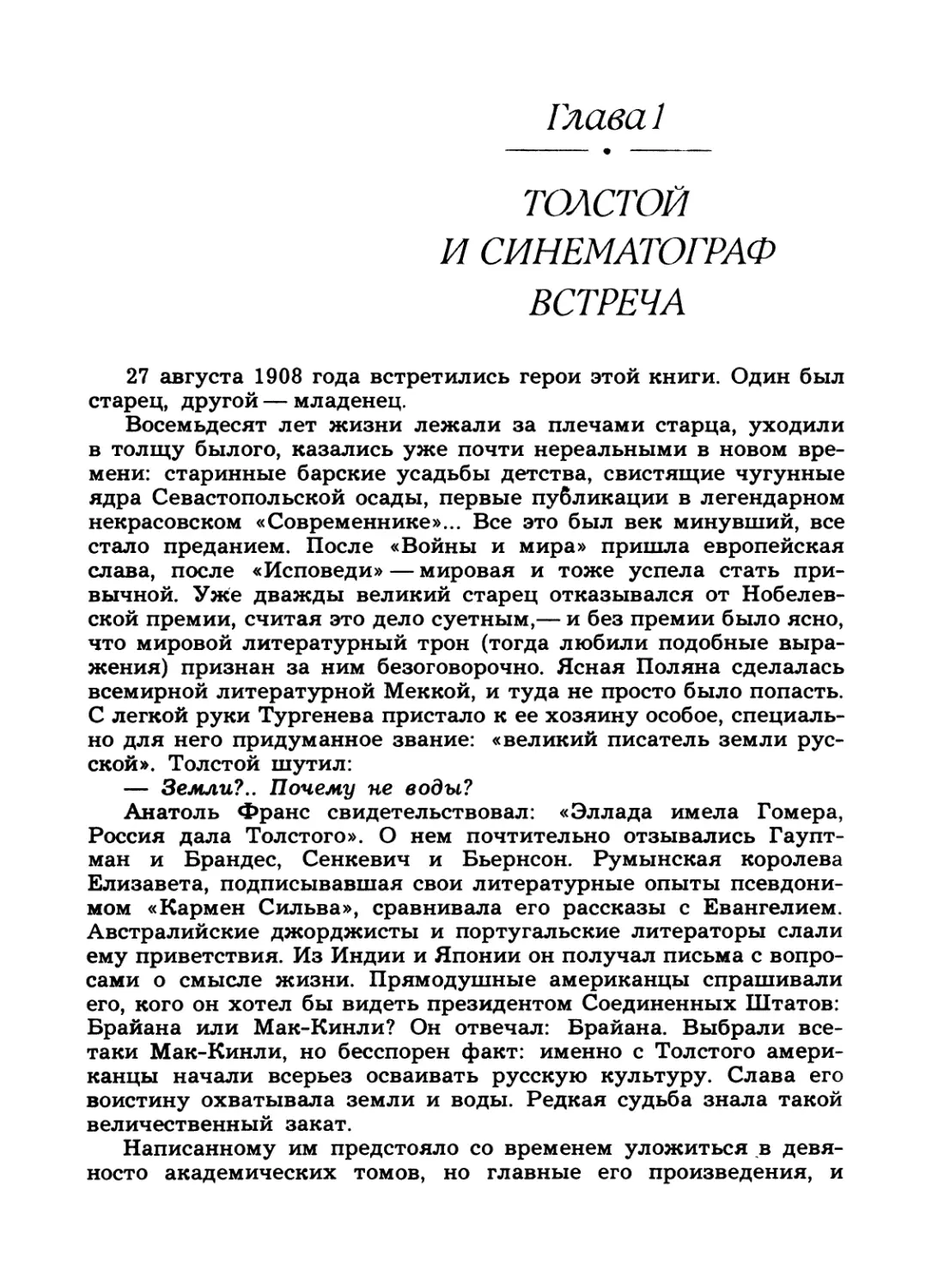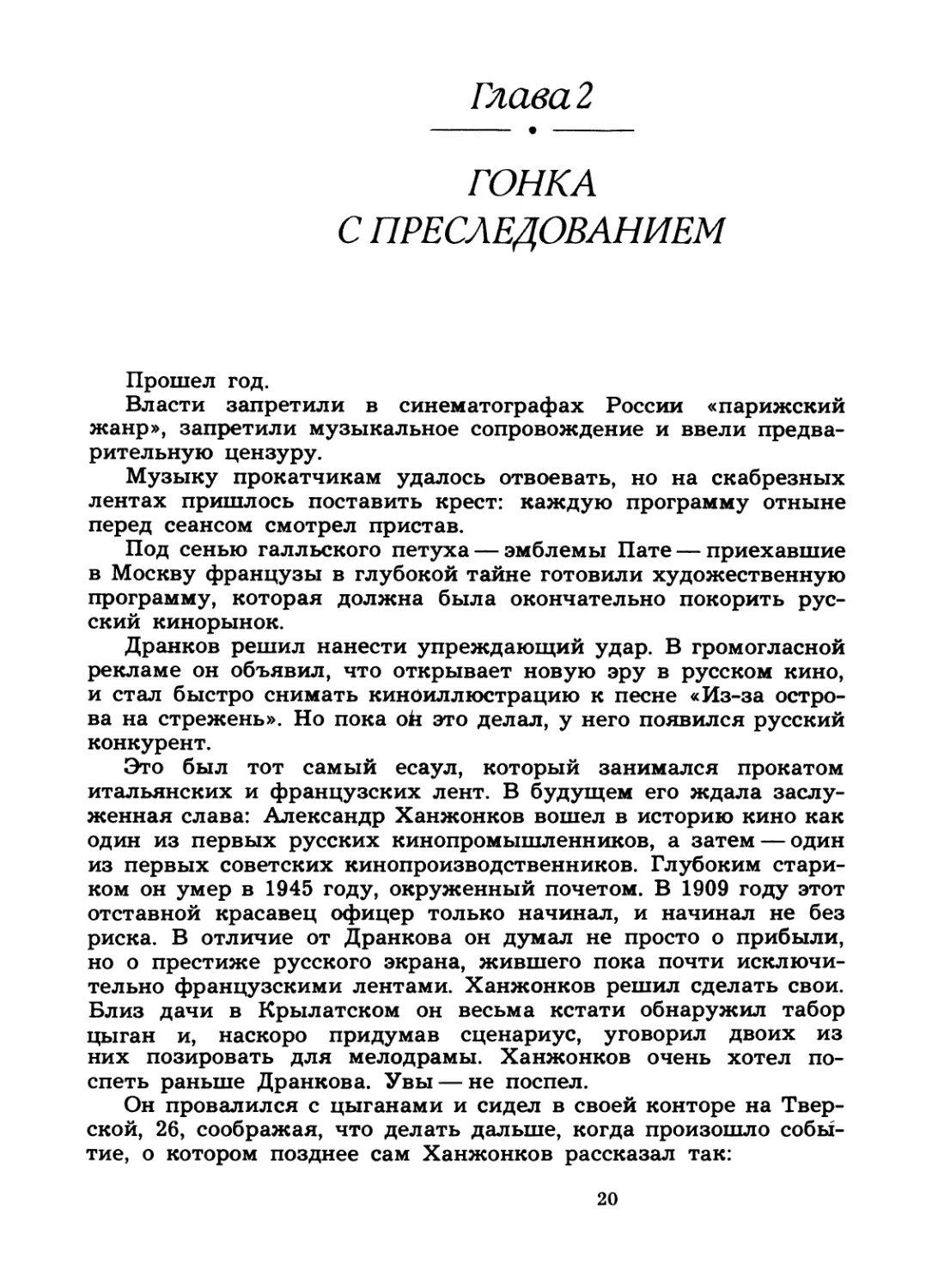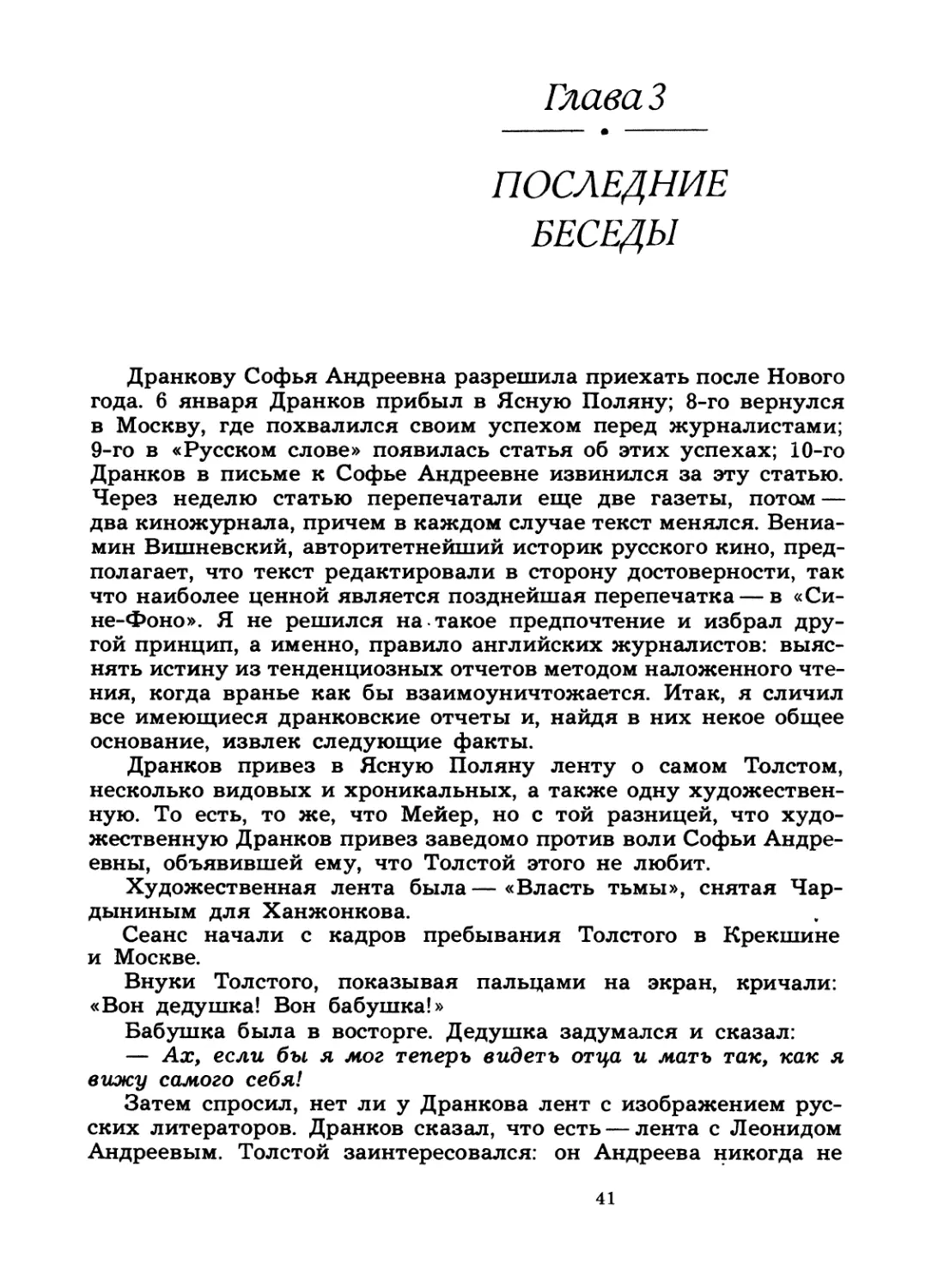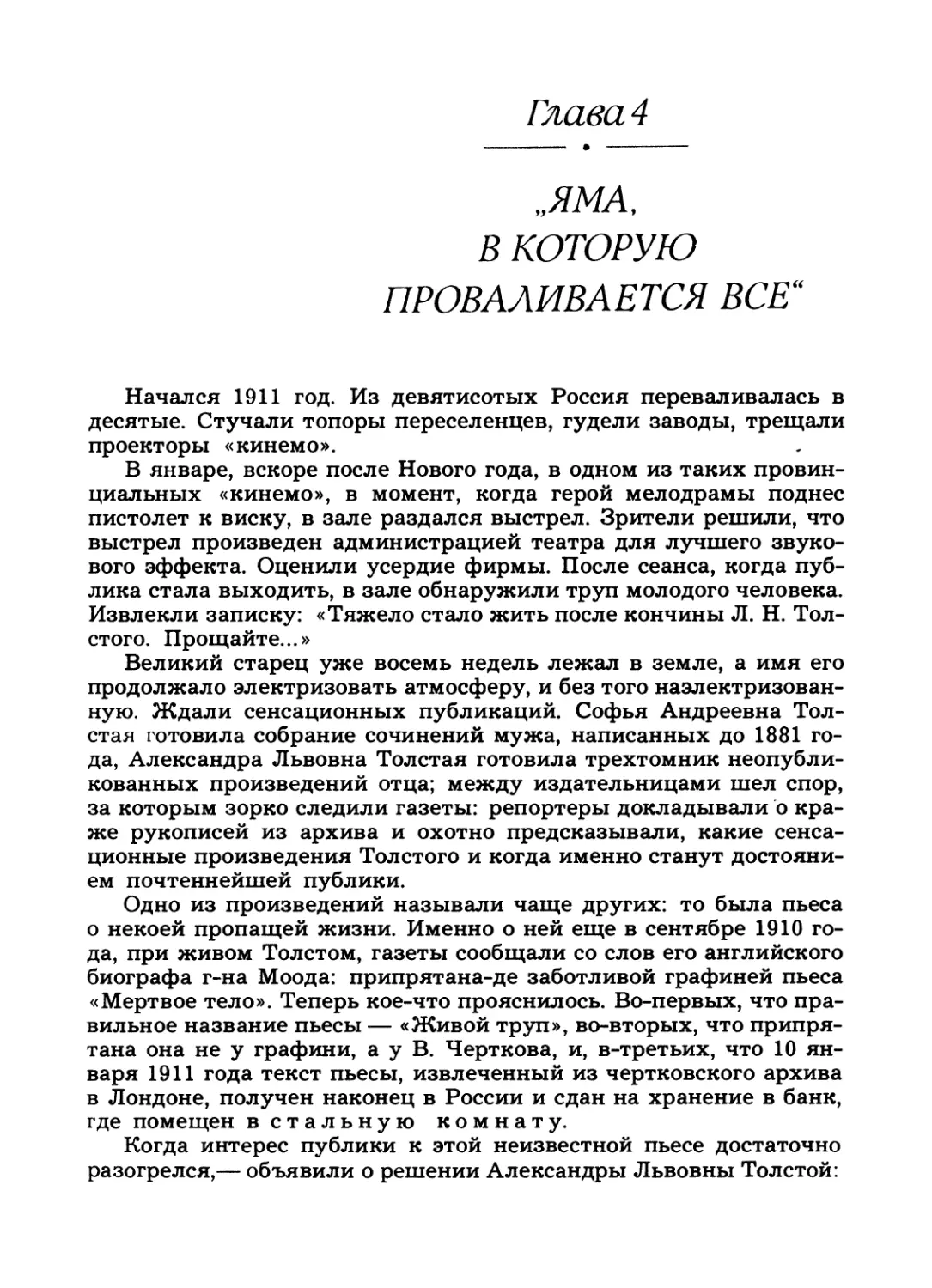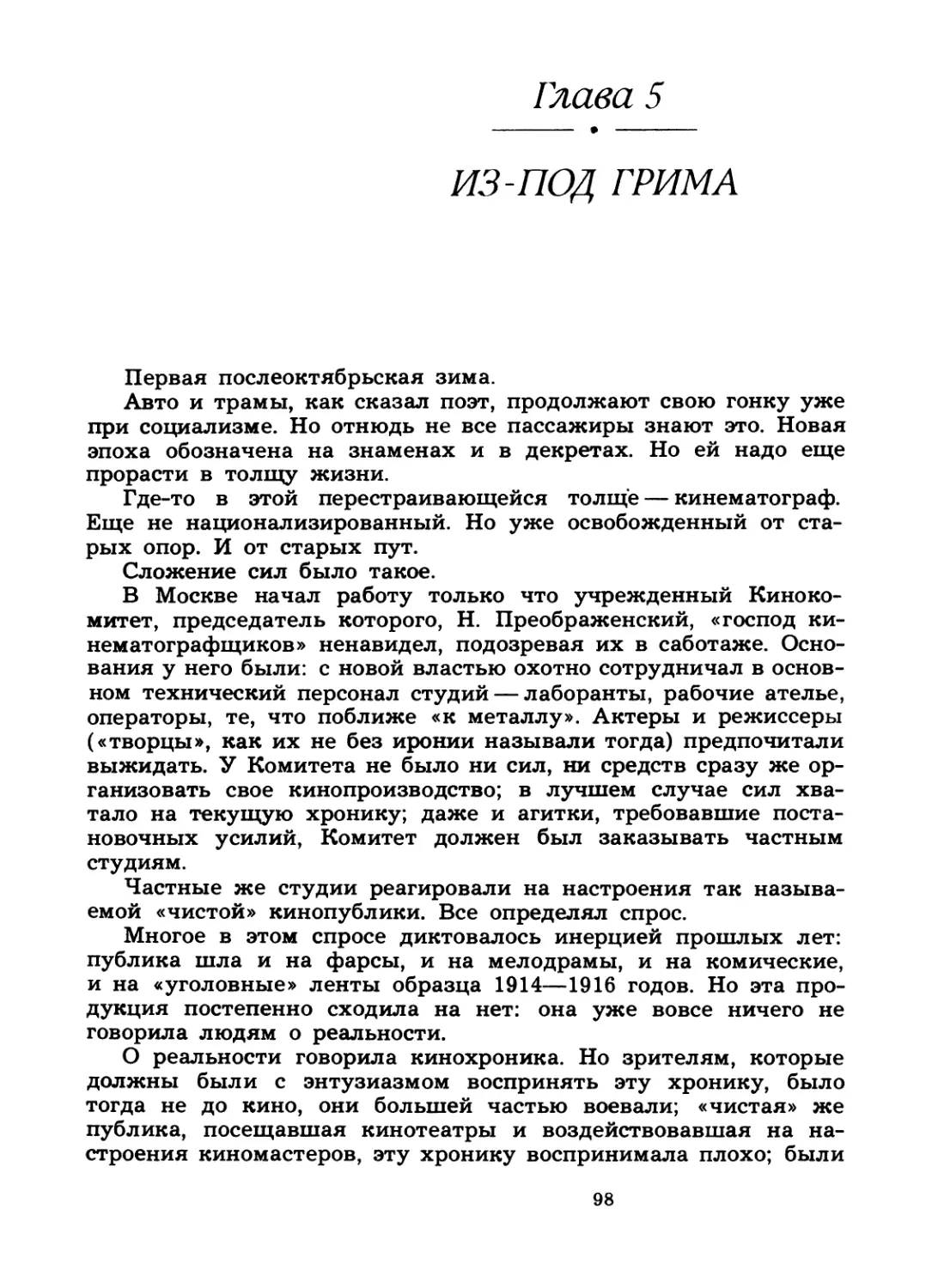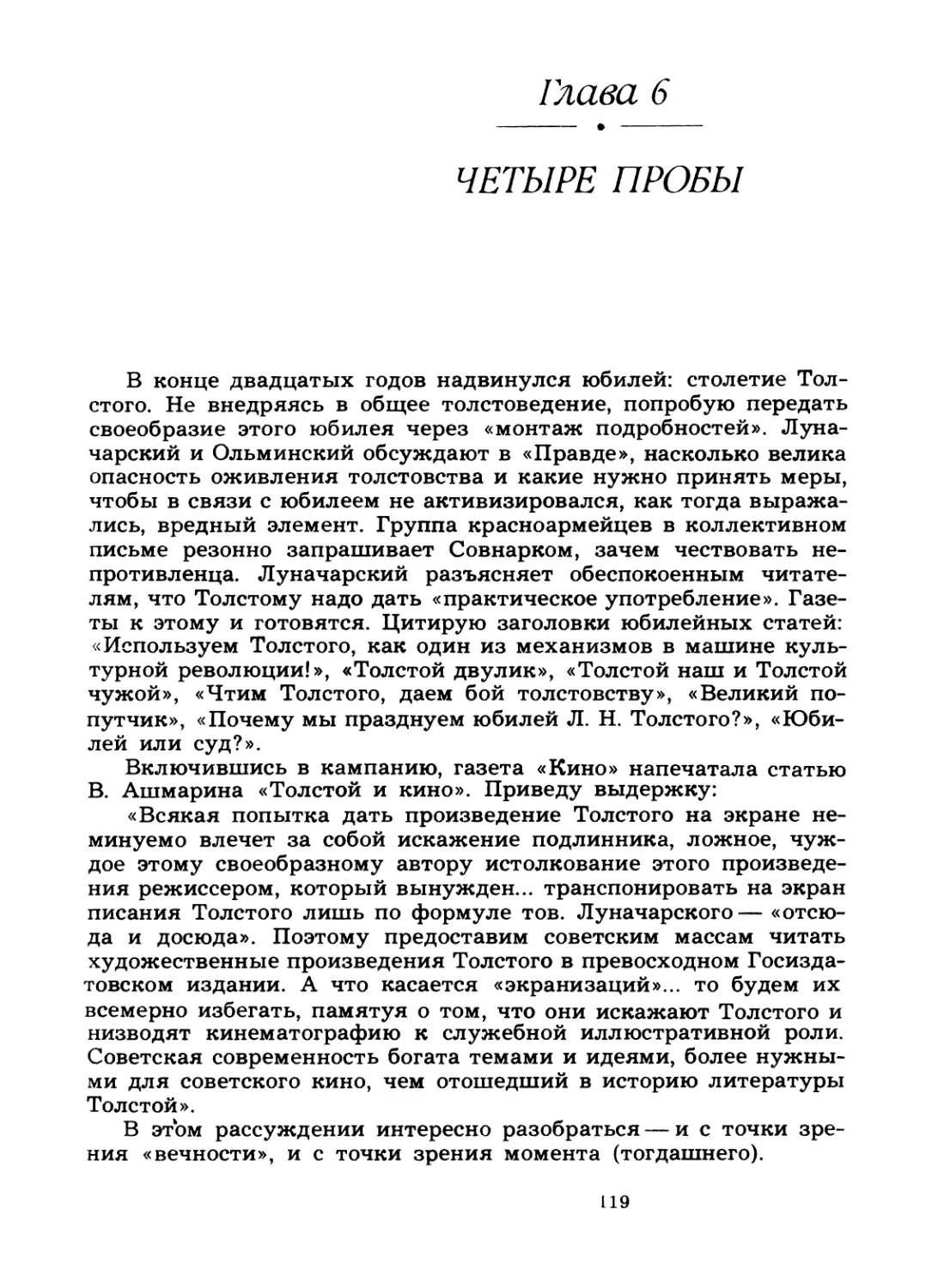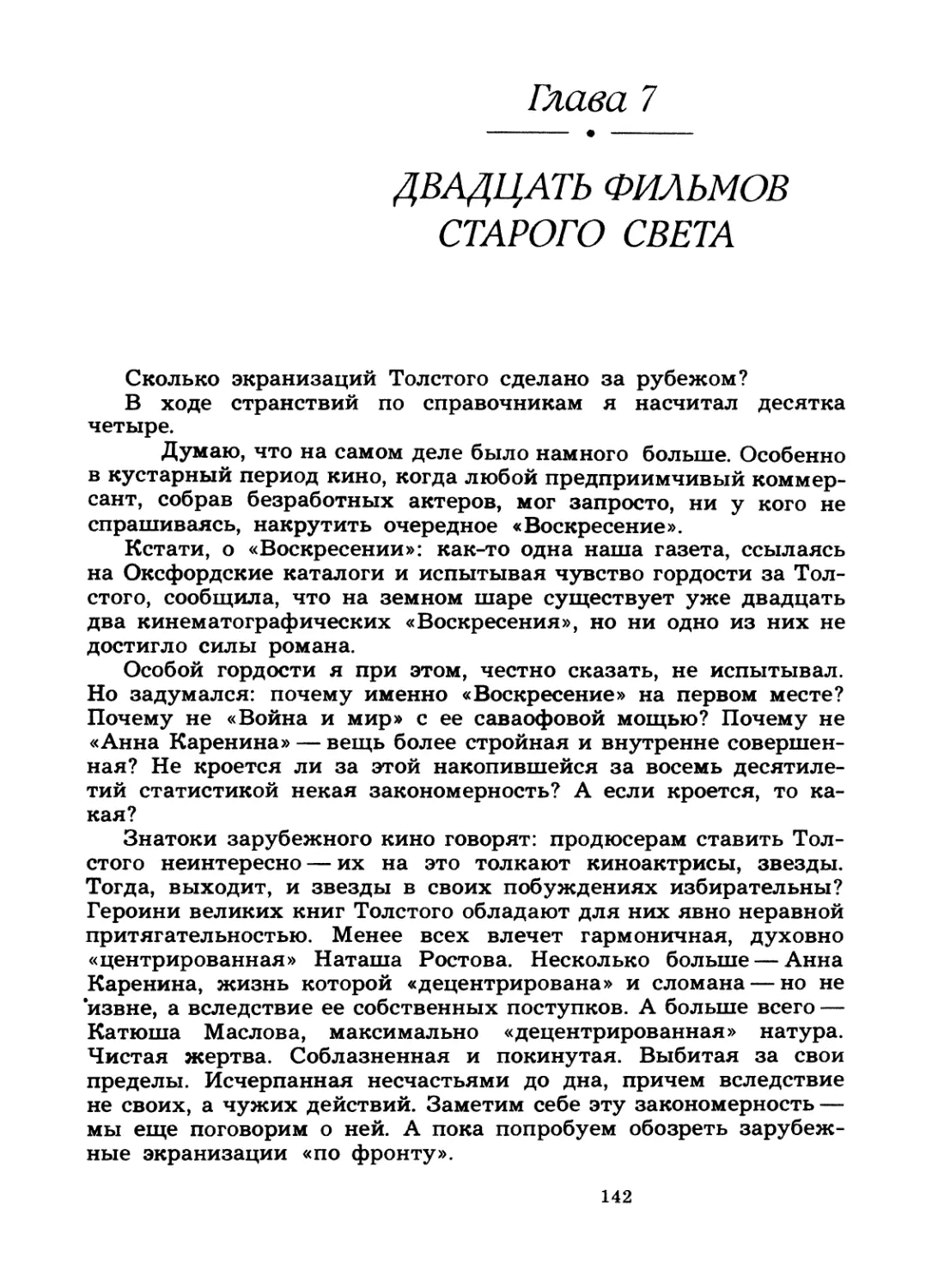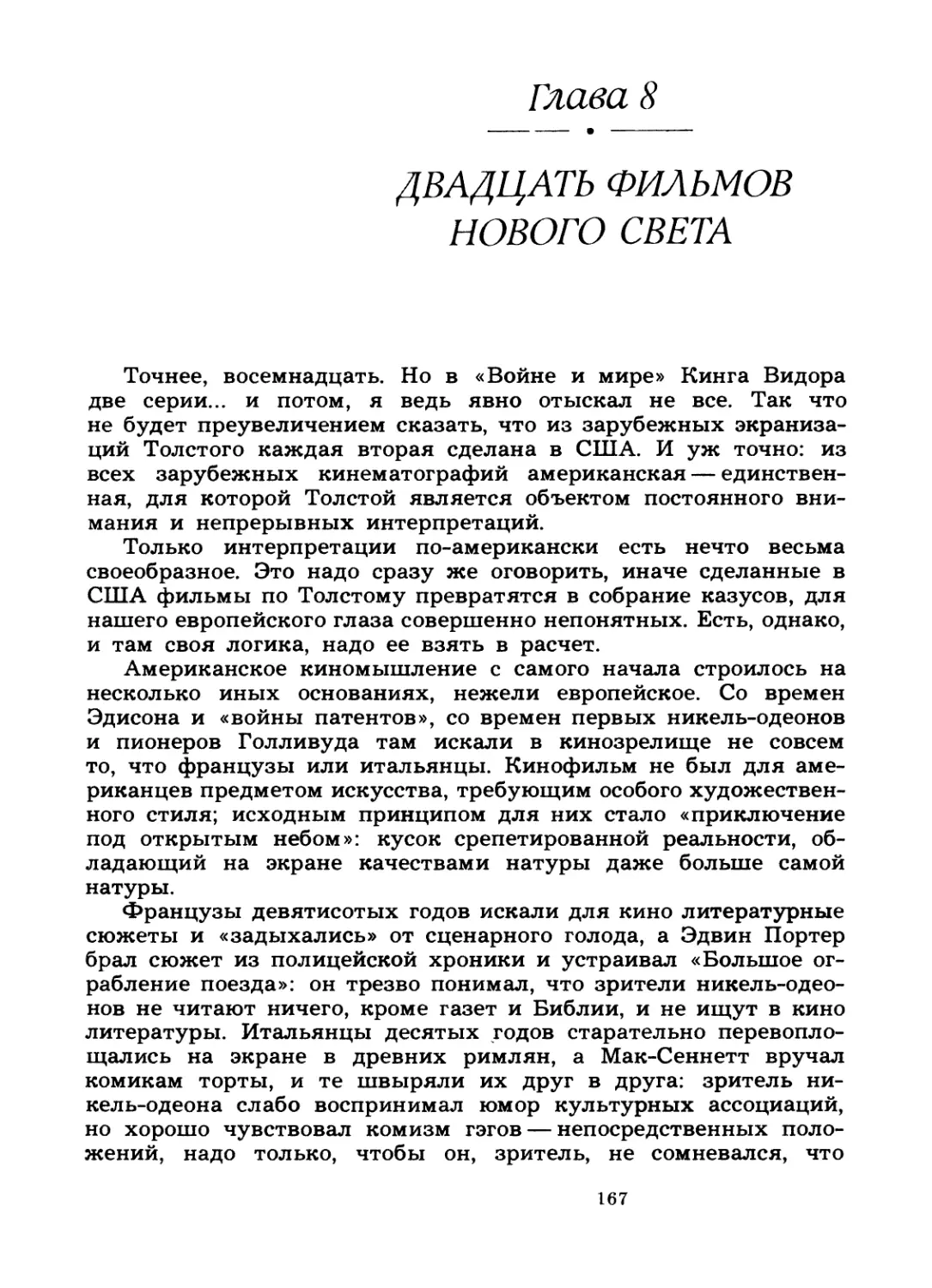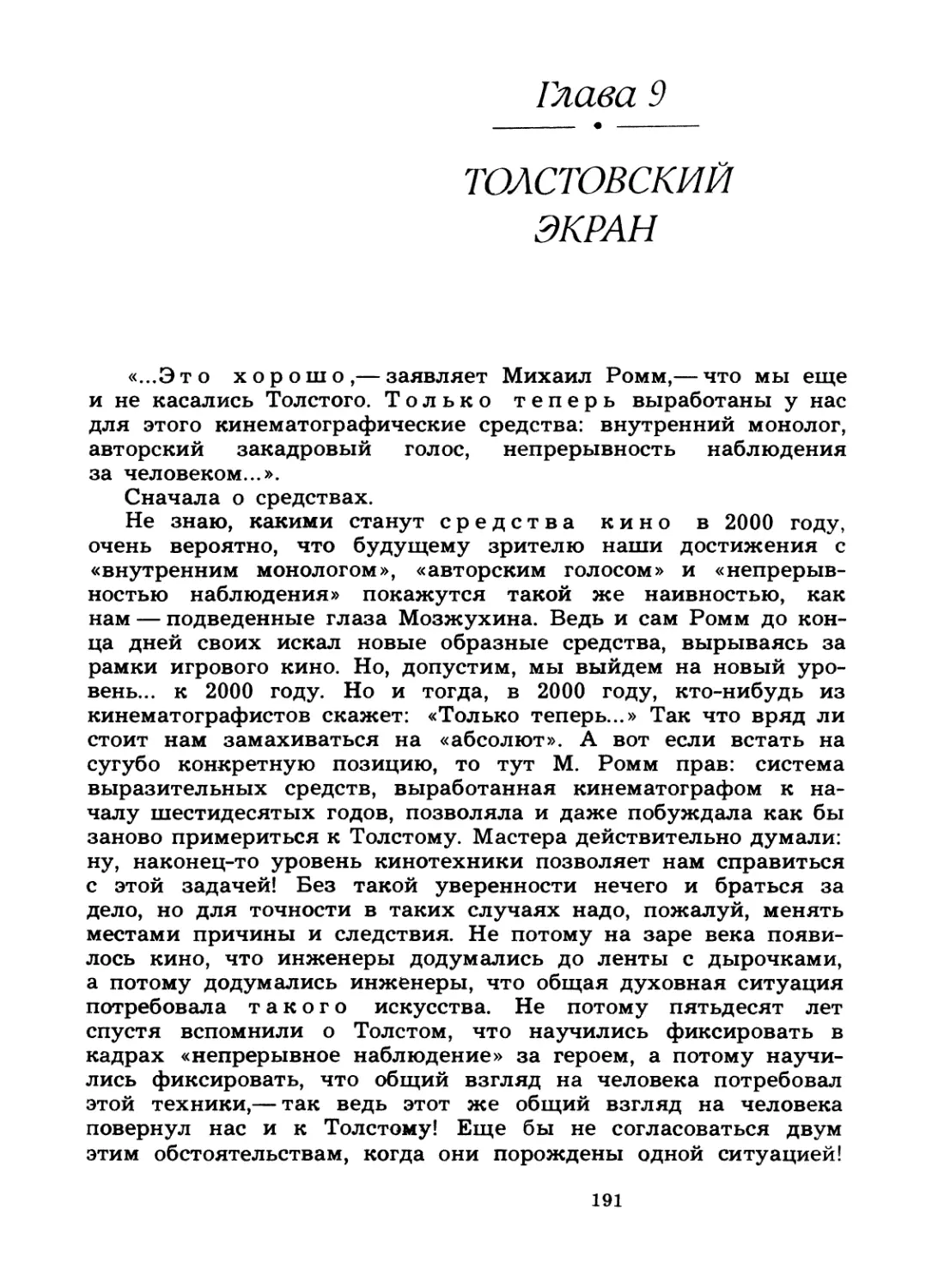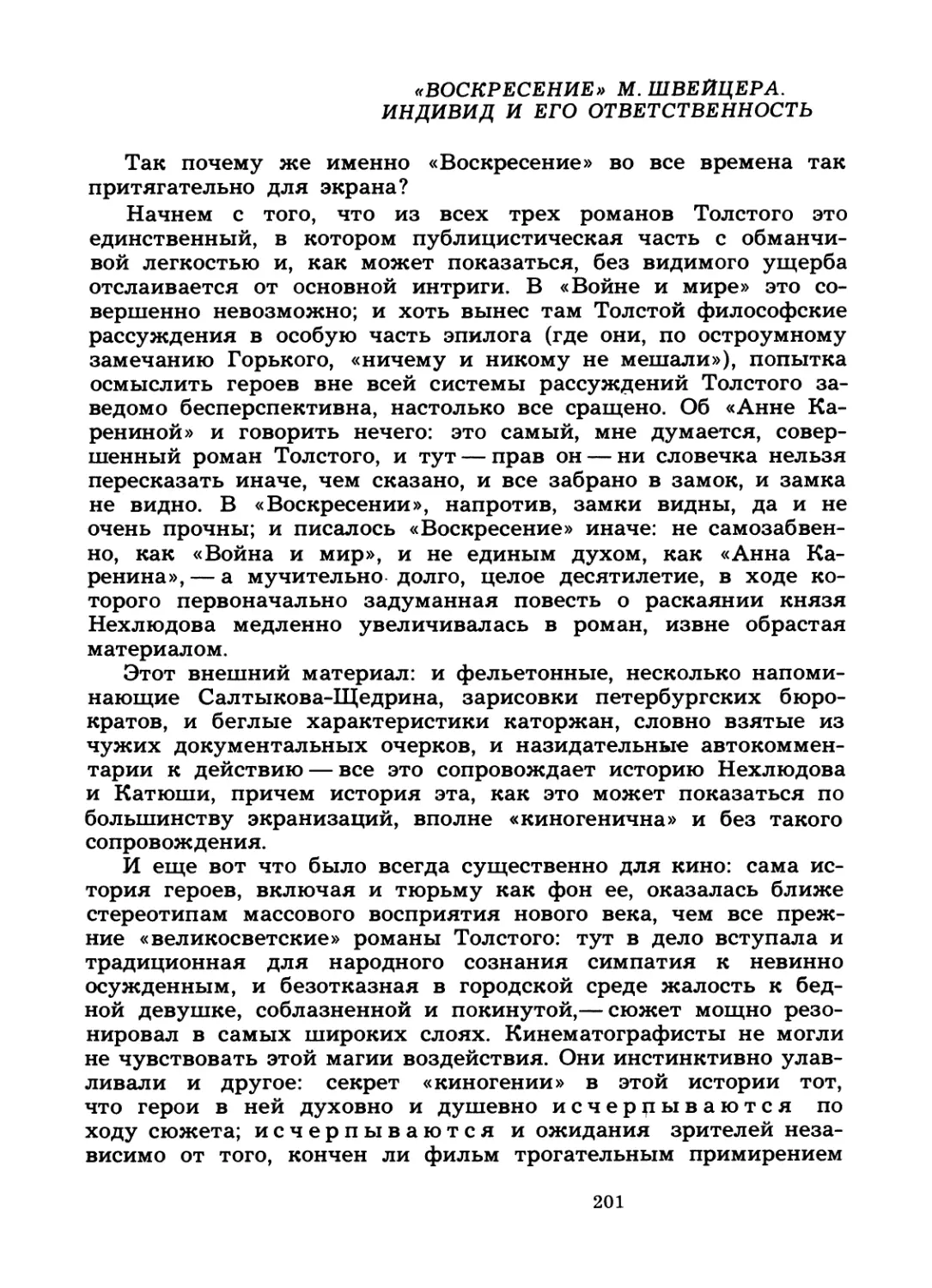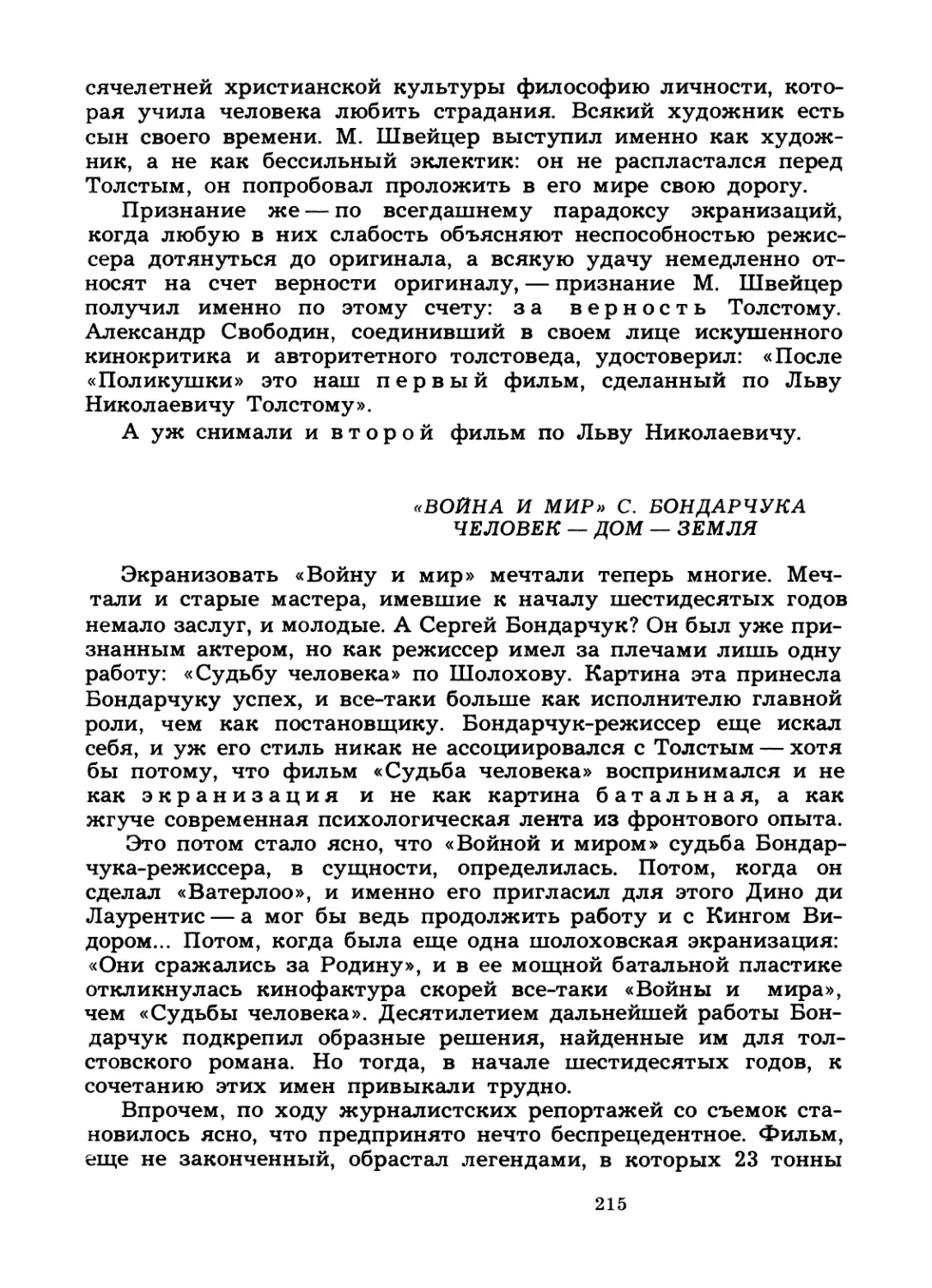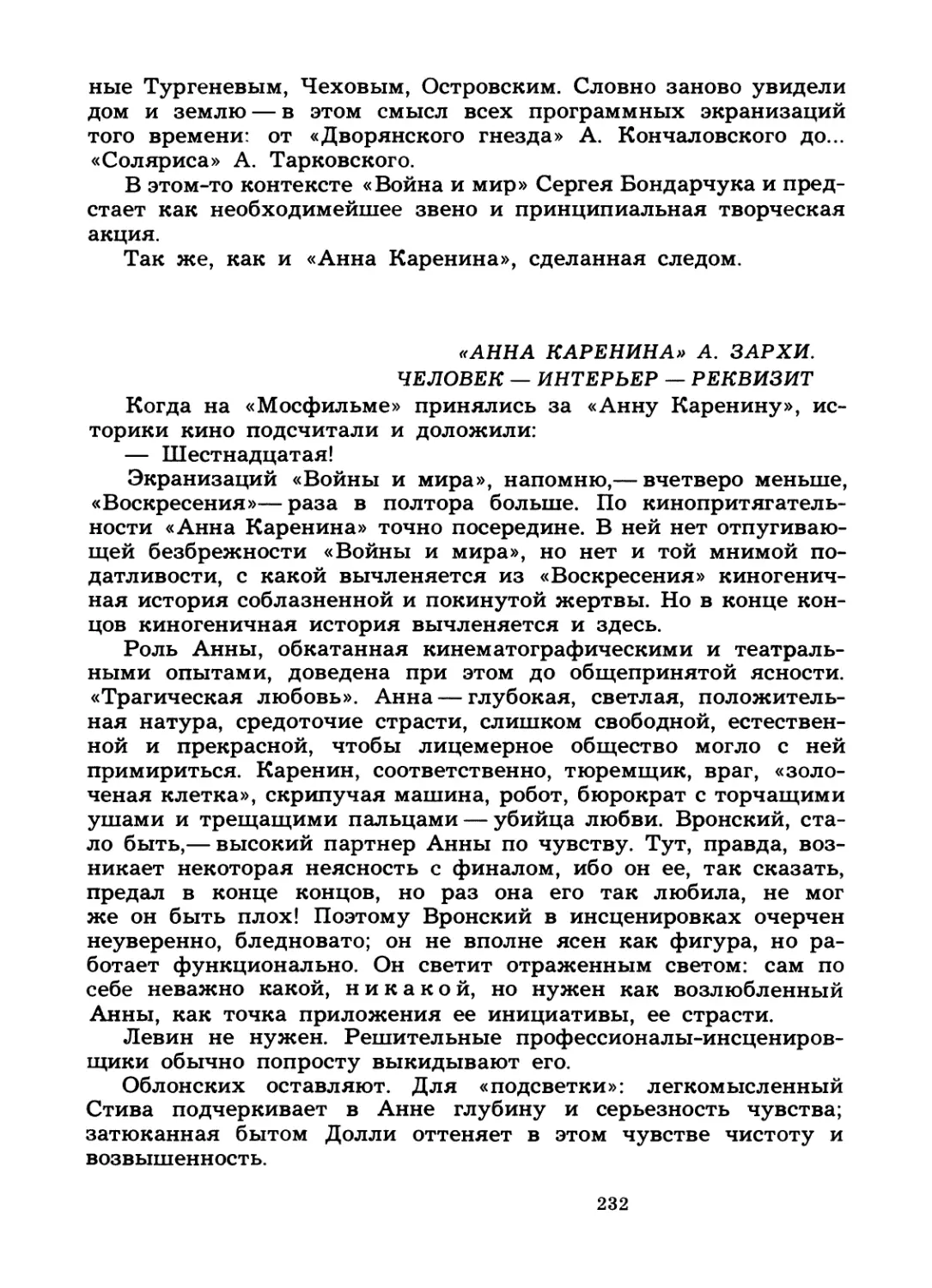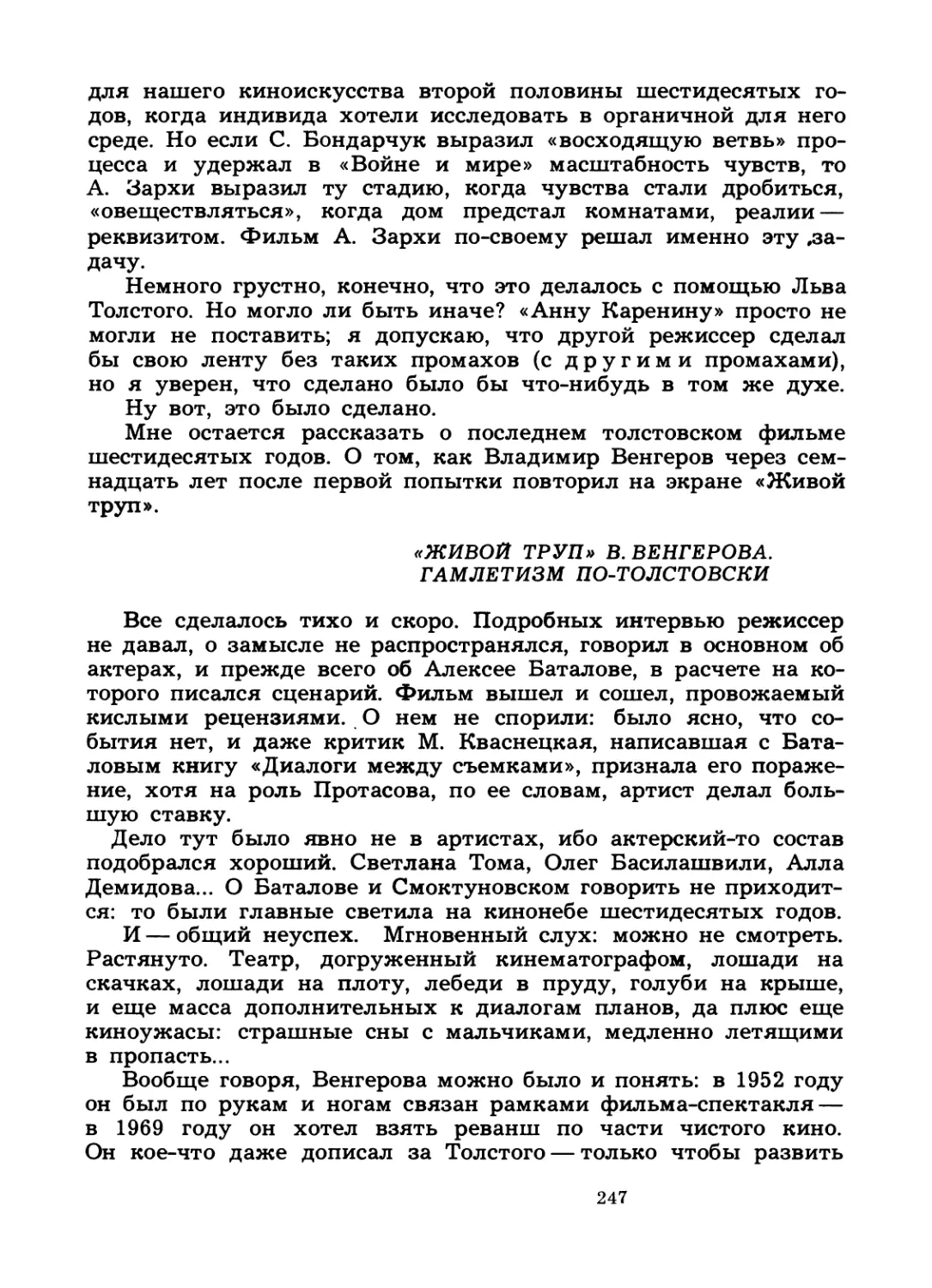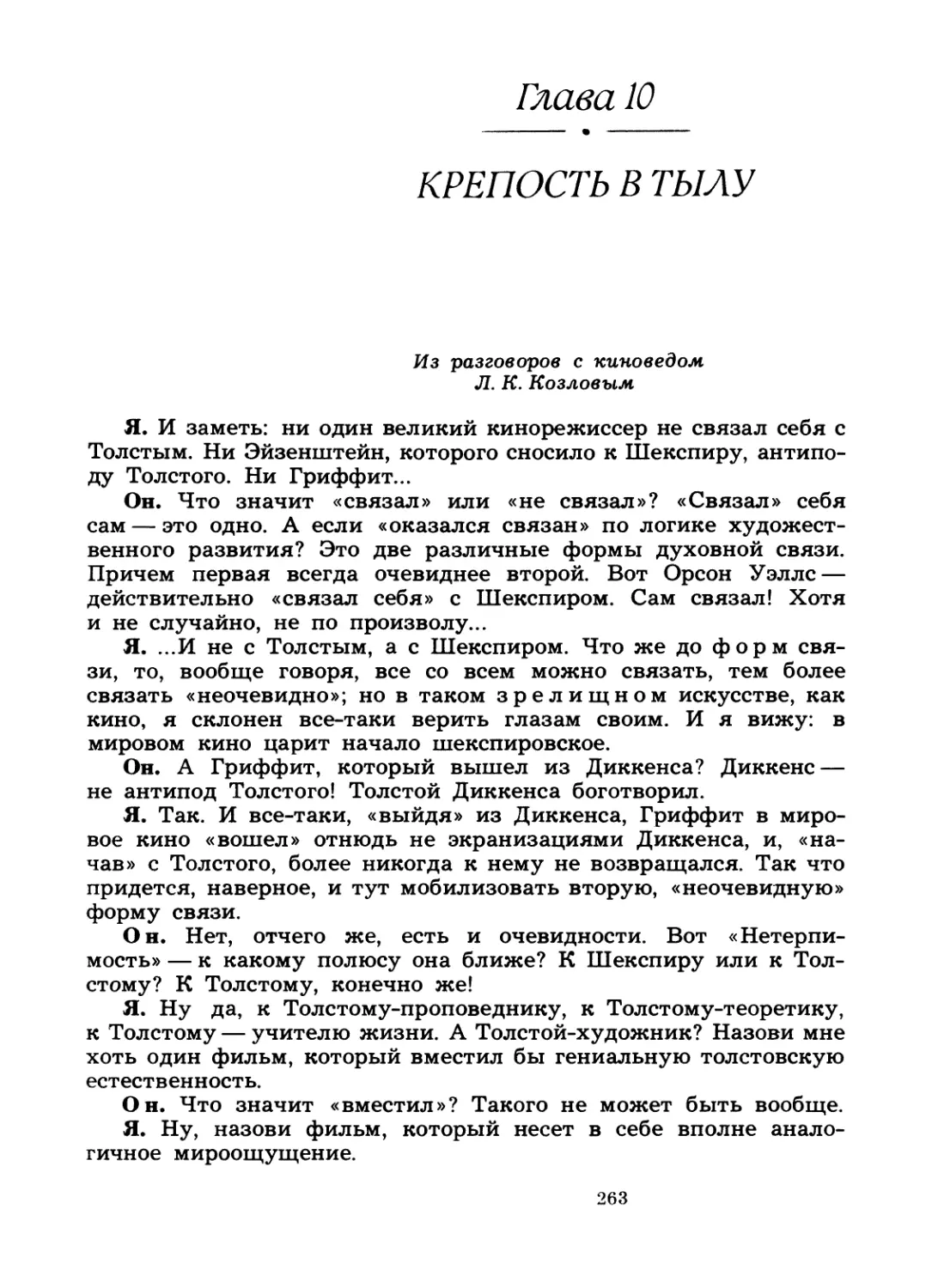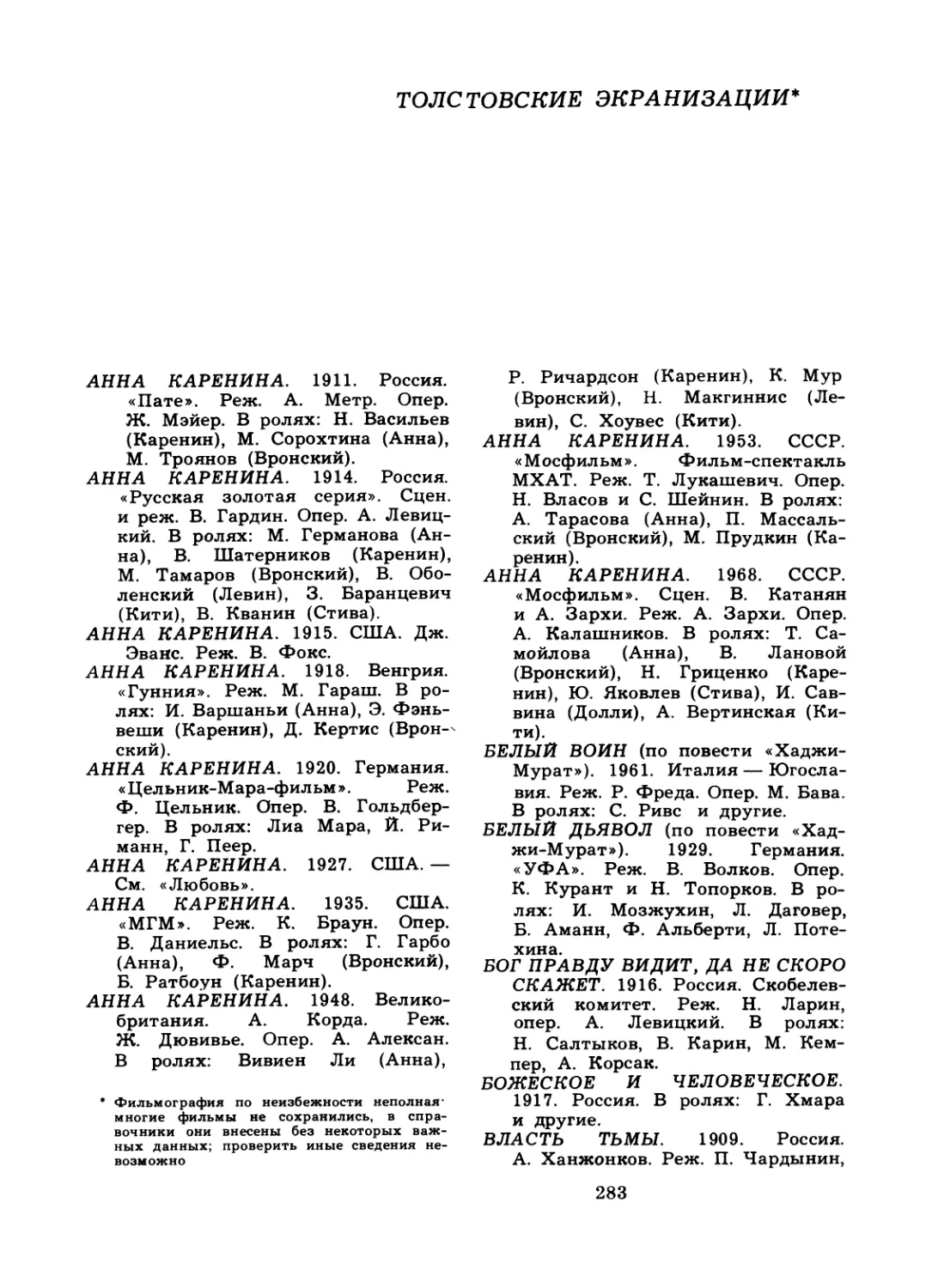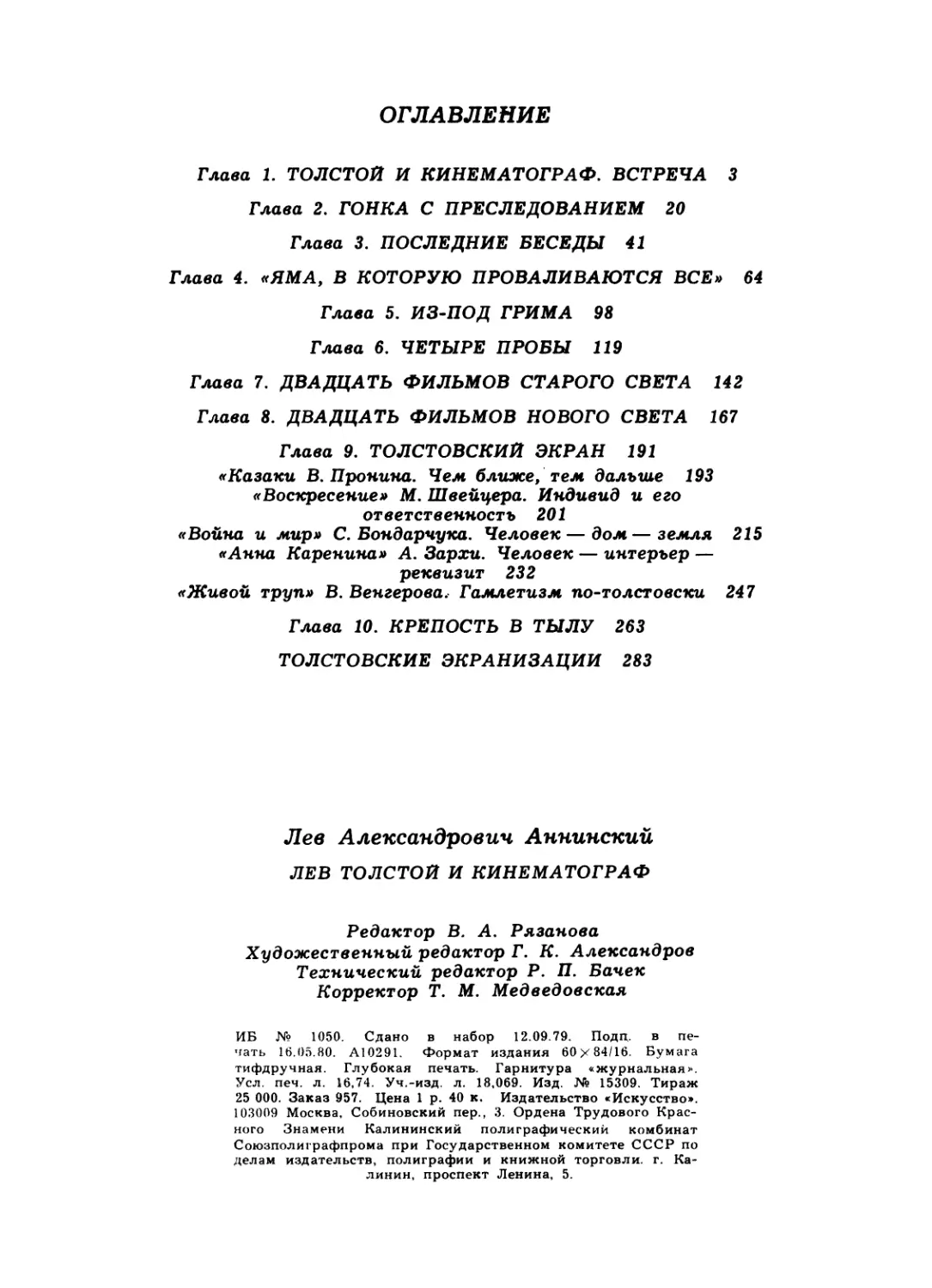Author: Аннинский Л.А.
Tags: литературоведение биографии толстой лев толстой кинематограф
Year: 1980
Text
Л. Аннинский
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
И
КИНЕМАТОГРАФ
АЛннинский
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
И
КИНЕМАТОГРАФ
Москва
«Искусство»
1980
ББК 83 ЗР1
А68
Художник В. Е. Валериус
Аннинский Л. А.
А68 Лев Толстой и кинематограф.— М.: Искусство,
1980.— 288 с., ил.
В книге впервые собран и осмыслен весь противоречивый и сложный
материал, связанный с бытием Л Толстого в мировом и советском кино¬
искусстве Рассматривается этот материал автором под углом зрения того,
как воспринимается наследие Толстого, что дает оно людям и искусству,
как влияет на современное кино, что тут потеряно, что удержано, что
остается мертвым хрестоматийным знанием, а что — живым фактором
сегодняшней духовной жизни
ББК 83.3Р1 + 85.5
А 72-80 8Р1 + 778
025(01)-80
© Издательство «Искусство» 1980
Глава1
ТОЛСТОЙ
И СИНЕМАТОГРАФ
ВСТРЕЧА
27 августа 1908 года встретились герои этой книги. Один был
старец, другой — младенец.
Восемьдесят лет жизни лежали за плечами старца, уходили
в толщу былого, казались уже почти нереальными в новом вре¬
мени: старинные барские усадьбы детства, свистящие чугунные
ядра Севастопольской осады, первые публикации в легендарном
некрасовском «Современнике»... Все это был век минувший, все
стало преданием. После «Войны и мира» пришла европейская
слава, после «Исповеди»—мировая и тоже успела стать при¬
вычной. Уже дважды великий старец отказывался от Нобелев¬
ской премии, считая это дело суетным,— и без премии было ясно,
что мировой литературный трон (тогда любили подобные выра¬
жения) признан за ним безоговорочно. Ясная Поляна сделалась
всемирной литературной Меккой, и туда не просто было попасть.
С легкой руки Тургенева пристало к ее хозяину особое, специаль¬
но для него придуманное звание: «великий писатель земли рус¬
ской». Толстой шутил:
— Земли?.. Почему не воды?
Анатоль Франс свидетельствовал: «Эллада имела Гомера,
Россия дала Толстого». О нем почтительно отзывались Гаупт¬
ман и Брандес, Сенкевич и Бьернсон. Румынская королева
Елизавета, подписывавшая свои литературные опыты псевдони¬
мом «Кармен Сильва», сравнивала его рассказы с Евангелием.
Австралийские джорджисты и португальские литераторы слали
ему приветствия. Из Индии и Японии он получал письма с вопро¬
сами о смысле жизни. Прямодушные американцы спрашивали
его, кого он хотел бы видеть президентом Соединенных Штатов:
Брайана или Мак-Кинли? Он отвечал: Брайана. Быбрали все-
таки Мак-Кинли, но бесспорен факт: именно с Толстого амери¬
канцы начали всерьез осваивать русскую культуру. Слава его
воистину охватывала земли и воды. Редкая судьба знала такой
величественный закат.
Написанному им предстояло со временем уложиться в девя¬
носто академических томов, но главные его произведения, и
прежде всего три всемирно известных его романа,— были у
всех на устах и составляли в глазах людей как бы завершен¬
ную художническую судьбу, сюжет, исчерпанный эпохой. Позд¬
нее Ленин сформулировал: Толстой—это шаг вперед в художе¬
ственном развитии всего человечества.
В сорок лет написан роман «Война и мир» — своеобразная
«Илиада» русских, героический эпос, настолько странный и
неожиданный среди злободневностей той эпохи, что Достоевский
назвал его миражем. В известном смысле это был действительно
мираж, духовная ретроспекция, жаждущий взгляд в прошлое —
туда, где в преданиях 1812 года, безоговорочно сплотившего
Россию перед лицом внешней опасности, пытался разглядеть
Толстой гармоническое слияние Человека и Целого.
Современность была далека от идеала. И все-таки Толстой
продолжал искать в ней неповрежденное единство, веря, что
его просто не может не быть. Эта вера породила «Анну Каре¬
нину» — совершеннейшее произведение пятидесятилетнего ху¬
дожника, где актуальность злободневных «вопросов» соедини¬
лась с неотвратимой логикой духовного возмездия и воздаяния
в судьбе каждой личности,— Толстому казалось, что в реформи¬
рованной России, где все переворотилось и только укладывается,
нравственный абсолют так или иначе, но все-таки проложит
себе дорогу.
Но плохо уложилось в России, непрочно, опасно. Не стало
единства в этом мире и мира на этой земле. Толстой искал вы¬
ход. В отчаянии он доходил до отрицания культуры, не умевшей
справиться с народным спросом, до отрицания самой литературы,
до отрицания собственного творчества. В шестьдесят лет он на¬
чал роман «Воскресение», писал мучительно долго и в семьдесят
лет окончил его — на самом исходе века. Он чувствовал: это
последняя эпическая попытка. Третий его роман, тронутый горь¬
ким ощущением необратимости совершающегося, прозвучал как
приговор уходящей эпохе, уходящей культуре, когда ни покая¬
ние, ни любовь не могут воскресить старый рассыпающийся
мир. Новый же непонятен.
Национальный гений, доживший до слома времен, зеркало
русской революции, чуткий колокол мужицкого бунта, мужицкой
наивности и мужицкого отчаяния, он всю жизнь чувствовал
приближение катастрофы, в которой должна была расколоться
взрастившая его вселенная. И всю жизнь он пытался заклясть,
предотвратить, смягчить эту катастрофу. В начале пути, когда
писал: теперь не время думать об исторической справедливости
и о выгодах класса — нужно спасать дом от пожара, который
вот-вот обнимет! В середине пути, когда писал: ужасная раз¬
вязка приближается. В конце пути, когда писал: кровь не-
4
избежна, я хочу уменьшить подступающее братоубийство.
Не случайно духовный кризис Толстого исторически совпал со
взрывом бомбы, которой народовольцы в куски разнесли Алек¬
сандра II. Либеральный царь был убит, и почти одновременно
пошли по миру беззащитные в своей наивности толстовские ис¬
поведи, призывы к всеобщей кротости, к сильным — не есть
мяса, к слабым — не держать обид. Старинная, из прошлого века
идущая наследственная бытовая роскошь теперь уже просто
жгла Толстого. Чувствуя ее непрочность, он спешил сам, личным
опрощением подать пример. Но кто в той России мог взять
пример с возлюбившего пахать графа? — это вызывало только
улыбки. А он все кричал свою проповедь: бунтарей отговаривал
от бунта, власть изобличал в тупости. Люди — братья! Опомни¬
тесь, одумайтесь! Вспомните, кто вы!.. Стоял между теми и
этими, сухонький, седобородый и проповедовал любовь во встаю¬
щем зареве нового века.
Он заболел и приготовился умереть в самом начале этого ве¬
ка. Шел 1901 год. Россия готовилась его оплакать, власть под¬
сылала к нему попов: не захочет ли примириться? Судьбе было
угодно, чтобы он поднялся с одра и еще десятилетие прожил в
новом, двадцатом столетии. Из своего поместья он увидел, как
вспыхнула и погасла первая русская революция. Наступившая
тишина не могла обмануть его: сквозь мирное гудение новой
цивилизации он ловил команды карателей; сквозь торжествую¬
щее жужжание первых автомобилей и «авионов», сквозь тороп¬
ливый стрекот первых синематографов, сквозь самозабвенный
говор депутатов первого русского парламента — он слышал толь¬
ко одно: идущий от земли ропот отчаяния и гнева.
Подгоняемый этим гневом, он через голову правительства и
цензуры печатал свои памфлеты в Англии, откуда они расходи¬
лись по всему миру и притекали обратно в Россию сотнями
гектографических списков. Правительство сажало за эти листки
переписчиков, но автора их не трогало. Хотя он более всего
хотел, чтобы власть засадила его в тюрьму вместе с бунтарями.
Один генерал как-то передал ему: слава Льва Толстого так вели¬
ка, что ни одна тюрьма в России не вместит ее.
Великий старец доживал в своем поместье как мировая до¬
стопримечательность в окружении людей, которые записывали
за ним каждое слово и оберегали его от толпы просителей и
попрошаек. Горький, увидев все это, уловил в положении Тол¬
стого бесконечное одиночество. Толстой был порожден отошед¬
шим столетием; неясно было только, что именно уходит с этим
человеком: то ли столетие, наградившее человечество паром и
электричеством, то ли тысячелетие, давшее миру Россию, то ли
две тысячи лет новой эры.
5
Теперь о младенце.
Младенцу было от роду... впрочем, один энтузиаст уже тогда
доказывал, что первый кинематографист — Архимед, кото¬
рый с помощью увеличительных стекол сжег римский флот под
Сиракузами. Привожу этот довод не ради шутки, а единственно
потому, что книжку с такой генеалогией кино издал не кто иной,
как И. И. Горбунов-Посадов, человек из ближайшего окружения
Толстого, причем издал в 1912 году — достаточно близко к ин¬
тересующему нас моменту. Так что подобные разговоры вокруг
Толстого не исключены, дитя было крикливо, и его требователь¬
ные вопли могли долетать до Ясной Поляны.
А лет ему было — двенадцать полных и восемь месяцев.
Если считать не от Архимеда, а от первого люмьеровского сеан¬
са в подвале «Большого кафе» на бульваре Капуцинов в Париже.
...Придет время, и дата этого сеанса— 28 декабря 1895 года —
будет вписана, врезана, красной строкой врисована во все ис¬
тории мировой культуры: и это время относительно близко:
какие-нибудь два десятилетия, и слово «великий» так же прочно
прирастет к имени молодого искусства, как теперь, на исходе
века, оно приросло к имени старца-писателя. А уж в наше время,
когда за восемьдесят с лишним лет кинематограф вошел в плоть
и кровь новой истории, став и фактором поворотных ее собы¬
тий, и частью повседневной ее атмосферы,— в наше время и
вовсе немыслимо представить себе, с какой малости все это
начиналось, из каких дебрей вытек этот ручеек, с какой лег¬
костью переступали через него, а то и плевали в него те, кто
его замечал; да и заметить-то мудрено было!
Подходя к этим бедным истокам, я вижу необходимость на¬
перед объясниться с читателем по части стиля, который, увы,
соответствует моему аспекту темы. Я не могу писать это начало
в торжественном духе, оборачивая на него позднейшее величие
объекта; моя задача иная: представить себе, каким начало долж¬
но было видеться тогдашнему человеку, далекому от кине¬
матографических дел. И пусть нынешний читатель, если его
озадачит некоторая репортерская легковатость, с какой я риск¬
ну обрисовать тогдашнюю киноситуацию, не сомневается в том,
что и я держу в сознании все грядущее величие десятой му¬
зы,— однако ее первые шаги и впрямь были освещены довольно-
таки желтым светом... Проникнемся же ощущением того време¬
ни: под новый, 1896 год все выглядело достаточно просто.
Придумали кино французы и американцы. Марэ сделал
съемочный аппарат, Эдисон сделал первый фильм, Люмьер сде¬
лал экран, на который спроецировал снятое им движение поез¬
да. Попав на экран, поезд развил бешеную скорость; в Россию
он прикатил через несколько недель.
6
6 мая 1896 года: «весь Петербург» смотрит новинку сезона в
саду «Аквариум».
26 мая 1896 года: «вся Москва» смотрит этот аттракцион в
саду «Эрмитаж».
Между этими событиями — Ходынка.
Коронуется последний российский император. Народу обеща¬
ны гостинцы и зрелища, все бесплатно. В свалке на Ходынском
поле раздавлено полторы тысячи.
Немножко опоздал синематограф: уж ему-то было бы под
силу растащить толпу, рассеять по сотням кинотеатров, а так
вся масса, как в дикие средние века, повалила в одно место.
Но трупы убраны, кровь присыпана песком. Торжества коро¬
нации продолжаются. Развитие синематографа тоже.
В разгар летнего сезона устроены сеансы на Нижегородской
ярмарке — о них пишет отчеты в газету «Одесские новости» ре¬
портер Пакатус, впоследствии прославившийся под другим псев¬
донимом: Максим Горький.
Синематограф стремительно завоевывает низовую аудиторию,
успешно конкурируя со шпагоглотателями и борцами. Он вызы¬
вает небывало сильные эмоции: когда два года спустя Месгиш
привозит на русскую ярмарку очередные французские ленты,
мужики ночью сжигают его балаган как вместилище нечистой
силы. Узнав об этом, в Париже приходят в восторг: лучшей
рекламы не придумаешь! Французы продолжают усердно «ци¬
вилизовать варваров»: Месгиш едет в Петербург и в кабаре все
того же сада «Аквариум» снимает «Душераздирающий вальс» —
танец «ночной красавицы» Отеро с русским офицером, причем
в начале фильма офицер рассекает саблей бокал шампанского.
Однако и здесь эмоции выходят из берегов: во время сеанса
русские свистят, сеанс прерван; Месгишу объявляют, что, сняв
офицера танцующим в мюзик-холле, он оскорбил русскую армию.
Дважды повторять не надо: Феликс Месгиш, один из лучших
операторов фирмы Пате, в ту же ночь уезжает в Париж.
А из Франции шлют в Россию очередных эмиссаров с новы¬
ми фильмами. Россия — опытное поле... второе после Италии
опытное поле, на котором первый в мире кинопромышленник
Шарль Пате проверяет действие своих зрелищ. В французских
синематографических кругах «развращенная и элегантная» Рос¬
сия считается потенциальным кинорынком гигантской емкости,
а новый аттракцион, стремительно превращающийся из научного
изобретения в коммерческое зрелище, остро нуждается в мил¬
лионах глаз. По точному определению Жоржа Садуля1, он род-
1 Садуль Ж. Всеобщая история кино, т. 1. М., 1958, с. 538—539.
7
ствен бульварным газетам, лубочным книжицам, песенкам бро¬
дяг, кабацким танцам, раскрашенным открыткам — но ни одной
из этих архаических форм низовой культуры не дано такого
размаха, какой заложен в целлулоидной ленте с дырочками.
...Проектор раскаляется от непрерывной работы, лента вспы¬
хивает, будка горит, публика с воплями бежит из зала, газеты
пишут о «жертвах кинематографа».
Власти принимают меры: велят над будкой вешать охлаж¬
дающий душ и ставить кинобалаганы не ближе полутораста
саженей друг от друга.
Профессора медицины предупреждают, что новое зрелище
вредно для глаз.
Власти принимают меры: велят показывать фильмы при заж¬
женном свете.
Кинематографщики дружно высмеивают это дурацкое ука¬
зание и добиваются его отмены.
Кинотеатры растут как грибы после дождя: достаточно взять
у градоначальника разрешение, повесить вывеску побольше, рас¬
ставить стулья пошикарнее; ну, правда, надо еще потратиться
на проектор и будку; но будка зрителям не видна, и ее можно
сделать кое-как; главное поспеть раньше конкурентов; ленты,
получаемые от Пате или от Амброзио, стареют быстро; публика
клюет только на новенькое.
На новенькое публика валит валом. Дают драму на библей¬
ский сюжет. Идут волхвы за небесным светилом, светило дрожит
на проволоке; Саваоф возносится на канате, едва замаскирован¬
ном ватными облачками, но дамы в публике падают в обморок,
и мужчины грозят кулаками мучителям Христа: «Прекратите!»
Власти принимают меры: велят смотреть библейские сюже¬
ты без шапок.
Ни один серьезный человек в России не относится к этому
делу всерьез. В лучшем случае — допускают, что новое развле¬
чение не является порочным и может быть терпимо, что оно
может быть даже трогательно, ибо, как писал в символистском
журнале «Весы» Андрей Белый,— когда усталые после работы
люди все вместе глядят на мигающий экран, то они не так
одиноки.
Даже Горький, испытавший при виде движущихся по полот¬
ну теней не просто волнение, а настоящий философский ужас
(заметим это чувство — несколько лет спустя с ним придет к
Толстому Леонид Андреев),— даже Горький не угадал ни науч¬
ной, ни художественной перспективности этого нового изобре¬
тения.
А Толстой? Толстой, который уже четверть века, рискуя про¬
слыть сумасшедшим, зовет живописцев бросить живопись ради
8
того, чтобы рисовать пятикопеечные картинки для народа; зовет
писателей бросить поэмы и романы и идти покорять Никольский
рынок песенками и сказками, понятными неграмотной массе?
Он почувствовал ли приход того самого искусства, которому
суждено охватить массу?
Не будем спешить с ответам. Пока что нужен еще человек,
который принесет в Ясную Поляну весть о новом феномене.
Нужен вестник. А кругом — скептики.
Впрочем, нет. Был в России человек, который зажегся сразу.
Владимир Васильевич Стасов. Старый критик, знаменитый це¬
нитель искусств, об уникальной способности которого восторгать¬
ся ходили легенды, а злые языки передавали остроту одного
писателя, что Стасов-де может опьянеть и от помоев... Острота
действительно злая, в общем несправедливая: способность во¬
сторгаться там, где другие еще ничего не видят, позволила Стасо¬
ву вовремя заметить и оценить величие Шаляпина, позволила
стать идеологом «Могучей кучки», позволила защищать Глинку с
его «Русланом» и «Камаринской» в пору, когда так называемое
общество еще воротило от этой музыки нос. Репутация Стасова
колебалась меж «пророчеством» и «безвкусицей»; капитальная
тогдашняя энциклопедия (я беру Большую Энциклопедию «Про¬
свещения», которая начала выходить как раз в 1896 году) пи¬
сала: «...но проходили годы, и чаще всего суждения и приговоры
С. оправдывались, а задолго высказанные им мнения и взгляды
начинали исповедоваться большинством...»
Да, он действительно опьянел, Владимир Васильевич Стасов,
при виде первого люмьеровского поезда, покатившего на публи¬
ку в петербургском саду «Аквариум», как мы помним, весной
1896 года. Реакция Стасова была изумительна: в отличие от дру¬
гих зрителей он не прыгнул со своего кресла, чтобы спастись
из-под надвигающихся колес, он... готов был погибнуть под
колесами, ибо мгновенно вообразил себя Анной Карениной!
И тотчас же отправил в Ясную Поляну послание, где в свой¬
ственном ему несколько экзальтированном стиле описал свои
чувства: как он буквально сошел с ума, просто одурел и так
хлопал в ладоши, словно рехнулся. Стасов адресовал письмо
Татьяне Львовне Толстой, но тайно надеялся, что оно попадет на
глаза ее отцу, и тогда из груди ЛЬВА ВЕЛИКОГО исторгнется
восторг по адресу ГЕНИАЛЬНОГО КИНЕМАТОГРАФА!!!
Лев Николаевич не отреагировал.
Стасов решил дождаться удобной минуты. Он ждал ее семь
лет, и наконец летом 1903 года, гостя в Ясной Поляне, пред¬
ложил Толстому позировать для кинематографа. Услышав
9
слово «позировать», Толстой не стал и обсуждать это предло¬
жение.
Софья Андреевна, однако, отнеслась к нему иначе: после
отъезда Стасова она кое-как уломала мужа и тотчас просигнали¬
ла в Петербург: он согласен! Только, Владимир Васильевич, куй¬
те железо, пока горячо, пока мой гениальный старик в благодуш¬
ном настроении!
Стасов немедленно развил бурную деятельность, графине же
написал в таком духе: Ах, какое счастье! О, как великолепно!
Потомки увидят ЛЬВА ВЕЛИКОГО! Его светящиеся глаза! Как
он стоит и ходит, напоминая короля Лира! Напоминая Моисея,
сходящего с горы Хорив! Договариваемся с фирмами Эдисона и
Люмьера! Ждите! Ведь о каком человеке речь идет!!!
Увы, письмо Стасова пришло в Ясную Поляну в недобрый
час: Софья Андреевна была в отъезде. Лев Николаевич прочел
адресованное ей послание. И написал следующее: «Дорогой Вла¬
димир Васильевич!.. Ради нашей дружбы, бросьте это дело и
избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это
ужасно неприятно, и я решительно не соглашаюсь позировать и
говорить».
Владимир Васильевич пришел в полное отчаяние: он ведь
действительно успел договориться с иностранными кинофирма¬
ми! Софья Андреевна прислала ему утешительное письмо: ну,
может быть, со временем кто-нибудь из господ иностранцев
вроде как нечаянно приедет в Ясную Поляну, и тогда Лев Ни¬
колаевич из сожаления и деликатности не откажет поговорить
и подвигаться в эти машины...
Стасов несколько воспрянул и начал готовить «нечаянный»
визит. Но на сей раз господа иностранцы потребовали гарантий.
Стасов написал в Ясную Поляну, взывая о поддержке. Ему отве¬
тила Татьяна Львовна: оставьте ваши планы, отцу все это чуж¬
до и неприятно.
Что было делать! Стасов излил душу в письме к одному из
сыновей Толстого и поставил на своей затее крест. Осенью
1904 года, еще раз гостя в Ясной Поляне, он уже и не заикал¬
ся о гениальном изобретении американцев и французов.
Это было последнее свидание Стасова с Толстым: в 1906 году
Стасов умер, так и не осуществив своей мечты.
Однако господа иностранцы уже принялись действовать са¬
мостоятельно, причем без всяких гарантий.
Томас Альва Эдисон прислал Толстому в подарок фонограф
и киноаппарат. Он действовал через В. Г. Черткова, и вскоре
при этом главном толстовце появился англичанин по фамилии
Тапсель, в задачу которого входило техническое обеспечение
съемок — устраивать сеансы брался сам Чертков.
ю
Пришел в действие и Шарль Пате.
Но тут самое время еще раз бросить общий взгляд на кине¬
матограф, чтобы понять, почему после десяти лет балаганных
триумфов ему вдруг так понадобился Лев Толстой.
Дело в том, что на исходе своего первого триумфального
десятилетия кино незаметно вкатилось в кризис. Впоследствии
его назвали кризисом сюжетов. Однако вопрос стоял шире, и, в
сущности, речь шла о жизненном содержании нового зрелища.
Кино переставало быть аттракционом, но еще не знало, чем ста¬
нет далее.
Выхода искали все.
Американцы пытались саму аттракционность делать содер¬
жанием и подводили под трюковые погони соответствующие
жизненные сюжеты вроде ограбления поезда.
Итальянцы, которым повезло с красивой натурой, видели вы¬
ход в живописной грандиозности и загоняли в кадр сотни ста¬
тистов, изображавших римские легионы времен цезарей.
Французы решили сделать ставку на отработанную столетия¬
ми культуру театра. В Париже вошло в обиход новое словосо¬
четание: «фильм д’ар»— «художественный фильм». Не следует
понимать его в современном смысле: в 1908 году эти слова
обозначали лишь требование снимать знаменитых актеров в зна¬
менитых сюжетах. Применительно к режиссуре это означало
предварительные репетиции и отточенность актерской игры.
Надо сказать, что репетировать тогда еще никому не приходило
в голову, поэтому фильм «Убийство герцога Гиза», снятый в
новом духе со знаменитыми парижскими актерами, произвел
всеевропейский фурор. Шарль Пате поверил в успех: стиль
«д’ар» позволял ему убить двух зайцев: выйти из сюжетного
кризиса и подключить к зрительской аудитории привыкшую к
театру образованную публику, которая могла хорошо платить.
Был еще и третий заяц, которого фирме Пате следовало сроч¬
но убить: к 1908 году французы впервые почуяли конкуренцию.
До этого Пате оглядывался только на Эдисона, но тот был за
океаном,— теперь зашевелились деловые люди в ближних стра¬
нах, где французы привыкли считать себя безраздельными хо¬
зяевами положения.
Россия не была исключением. Какой-то ярославский колбас¬
ник по фамилии Либкин исхитрился не платить за фильмы, а
брать их взаймы (впоследствии этот род деятельности был
назван кинопрокатом).
11
Какой-то московский инженер по фамилии Перский нанялся
к конкуренту Пате — Леону Гомону, накопил средств, а потом
открыл свой «Кине-Журнал».
Какой-то отставной есаул по фамилии Ханжонков съездил в
Рим и объявил себя московским представителем фирмы «Итала-
фильм».
Беспокойнее всех вел себя петербургский фотограф Дранков:
он побывал в Лондоне, накупил там киноаппаратуры и обзавел¬
ся корреспондентским удостоверением газеты «Таймс». Затем
он снял на пленку несколько высочайших сюжетов: «Отъезд
шведского короля», «Свидание государя-императора с англий¬
ским королем Эдуардом VII на Ревельском рейде» и «Встречу
германского императора со шведским королем в Стокгольме».
Все это Дранков повез в Елагин дворец показывать Столыпину.
Столыпин остался доволен: монархи были хорошо видны на
экране. Дранков немедленно снял самого Столыпина за ужином.
Пустить это произведение в прокат ему не дали: ленту как ин¬
тимную конфисковала полиция. Но Дранковым успели заинтере¬
соваться в Гатчине. Он полетел туда и 20 июня 1908 года «про¬
крутил» свидание монархов царской семье. Вдовствующая им¬
ператрица Мария Федоровна милостиво приказала повторить
кадры со своей особой, а затем изволила выразить удовольст¬
вие.
Дранков был на седьмом небе: надо учесть, что отношение
двора к кинематографу в ту пору было неопределенным и насто¬
роженным. Незадолго до того в одном из кинотеатров кто-то
разбросал листовки РСДРП; царь написал на донесении: «Я неод¬
нократно указывал, что эти кинематографические балаганы
опасные заведения. Там негодяи могут черт знает что натворить,
благо народ, говорят, толпами валит туда, чтобы смотреть вся¬
кую ерунду. Не знаю, что бы придумать против таких бала¬
ганов...»
После визита в Гатчину Дранков понял, что слово «балага¬
ны» к его фирме не относится. И он ринулся на международ¬
ную арену: повез свои ленты в Гамбург на первую Международ¬
ную синематографическую промышленную выставку.
Да, Шарлю Пате было самое время побеспокоиться. Он при¬
нял меры: послал в Россию группу своих представителей на
постоянную работу. Тут нам стоит запомнить два имени: режис¬
сер Мэтр и оператор Мейер: они получили указание организовать
под маркой галльского петуха производство русских «художест¬
венных фильмов». Стиль был задан «Убийством герцога Гиза»:
четкость актерского жеста, гармоничность поз, выразительность
акцентированных мизансцен — но теперь все это надо было со¬
единить со столь ценимой в Париже русской спецификой, с вод-
12
кой, самоваром и тулупами. Ставить решено было сюжеты, со¬
ответственно знаменитые в России: «Ухарь-купец», «Марфа-
Посадница», гоголевского «Тараса Бульбу», а также «Воскресе¬
ние» и «Анну Каренину» Льва Толстого.
Надо сказать, что во всем этом деле сразу обнаружились
трудности: акцентированные жесты выходили у русских акте¬
ров плохо, актеры прыгали, таращили глаза, им все это было не
по душе; актеры норовили остановиться и поиграть «на нутре».
Мэтр выходил из себя; по свидетельству мемуаристов, он знал
по-русски два выражения: «Свинья!» и «Скорей-скорей!»
Он честно служил фирме. Но дело шло туго.
Успех ожидал сотрудников Пате не на этом мучительном
поприще, а на соседнем. Попутно с «художественными фильма¬
ми» французы снимали в России хронику. В числе прочего они
сняли ленту «Донские казаки», где демонстрировалась рубка ло¬
зы и прочие приемы джигитовки. Пате сообразил, что из кризиса
сюжетов есть еще один выход: надо развивать принцип люмье-
ровской хроники. Задумался и Дранков: по ядовитому выраже¬
нию одного историка кино, он обнаружил, что русские так же
хорошо выходят на экране, как и иностранцы. Срочно нужны
были для хроники знаменитые русские.
И вот одна из крупнейших столичных газет бросила клич:
использовать кинематограф «не для улицы, не для грошовых
балаганных театров, а для истории».
В марте 1908 года, когда вся Россия готовилась к 80-летию
знаменитого писателя, этот призыв был понят так: надо снять
Толстого.
...Свершилось: «великий немой» двинулся к великому стар¬
цу. Со временем эта акция будет воспроизведена в истории
кино как первый акт грандиозной драмы, которую киноведы
именуют неутолимым тяготением кинематографа
к толстовскому гению. Созерцая мелкую рябь тогдашних
синематографических будней, не упустим и этого «глобального»
плана: какой-то магнетизм действительно на всех этапах при¬
тягивает кино к толстовской загадке.
На описываемом этапе видней всего рябь. Дело соблазнитель¬
нейшее: г-да синематографщики не без оснований полагают, что
с точки зрения зрительского спроса Толстой не хуже «Сотворе¬
ния мира», «Крушения поезда на ст. Померань Николаевской
ж. д.» и «Свидания монархов в Ревеле».
И вот в толпе корреспондентов, осадивших Ясную Поляну по
случаю приближающегося 80-летия графа Л. Н. Толстого, фелье¬
тонисты замечают новую фигуру: маленький чернявый человек
с большим верблюдообразным ящиком. Это синематографщик,
который хочет попасть на юбилей.
13
Вернемся в Ясную Поляну. Надвигающиеся торжества только
издали могут показаться праздником олимпийского величия;
на самом деле надвигается буря. Вокруг Толстого — драка. Никто
не отрицает в нем гениального писателя, но как только речь
заходит о моралисте, дни торжеств оборачиваются, как выража¬
ются газеты, «днями раздора». Последняя статья юбиляра «Не
могу молчать!» — запрещена, напечатавшие ее редакторы оштра¬
фованы или сидят под арестом. Правительство Толстого боится.
Церковь его отлучила. Черносотенцы числят его агентом между¬
народного масонства и жидовства. Толстовцы, хотя и славо¬
словят своего духовного отца, но в душе и они им недовольны,
потому что не раздает Ясную Поляну и не идет по миру. «Вся
легальная пресса... до тошноты переполнена лицемерием... казен¬
ным и либеральным», — пишет о ситуации В. И. Ленин в статье
«Лев Толстой как зеркало русской революции»1.
Все — готовятся. Святейший синод обращается к возлюб¬
ленным чадам с призывом воздержаться от участия. Премьер-
министр Столыпин узнает о призыве синода из газет: он не
давал на это санкции! Губернаторы запрашивают указаний, а
власть пребывает в нерешительности. На всякий случай Мос¬
ковская городская управа рассылает циркуляр с запретом чест¬
вования Толстого в школах. Разносится слух, что Иоанн Крон¬
штадтский тоже проявил инициативу: вознес молитву, чтобы
господь поскорее прибрал старого богохульника. Общество шо¬
кировано; отец Иоанн оправдывается: он молился лишь о том,
чтобы господь направил заблудшего графа на путь истинный.
Пока в столице выясняют эти тонкости, в Царицыне иеромонах
Илиодор перед толпой зевак и фанатиков предает Толстого гро¬
могласной анафеме. Саратовский губернатор Татищев вызван
в Петербург для объяснений. Петербургская городская дума,
выработав текст приветствия, мучительно решает, слать или не
слать, — а вдруг в последний момент юбилей запретят?
А пока все это происходит в верхах и в обществе,— в наро¬
де происходит следующее: студенты и приказчики, электротех¬
ники и страховые агенты, гимназисты и учителя, члены роди¬
тельских кружков и пассажиры поездов — вся гигантская, служи¬
вая, работающая, земская, неуправляемая Россия самостийно и
в меру сил готовит Толстому приветствия. Сапожники посы¬
лают ему сапоги и диплом почетного члена своего цеха. Офи¬
цианты — самовар с выбитыми на меди толстовскими сентенция¬
ми. Табачники шлют ему папиросы, с которыми в Ясной Поляне
не знают, что делать. Люди снимаются с мест, едут в Тулу и
дальше — на извозчике или пешком — в Ясную Поляну сказать
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 206.
14
Толстому о своих чувствах. В Ясной пробуют справиться с этим
потоком, переадресуют людей в Козлову Засеку, в Овсяники, где
Чертков и Горбунов-Посадов по мере сил пытаются утолить ду¬
ховную жажду паломников и делегатов. Но люди уходят не¬
удовлетворенные, даже обиженные — их не пустили к Толстому!
Они — как в XIX веке—«спешили засвидетельствовать». Они
еще не осознали, сколько их.
В Ясной Поляне тревожно. За три недели до юбилея Толстой
заболевает и диктует завещание. Он хочет, чтобы его похоро¬
нили на том месте, где играли они когда-то с покойным братом
Николенькой.
Хочу представить себе, как в эти дни мог реагировать Тол¬
стой на предложение предстать перед кинокамерой.
Одна его фраза попала в газеты:
— Что же мне, перекувыркнуться, что ли?
Фраза вполне соответствует характеру ситуации. А все-таки
отдает апокрифом. Если Толстой и сказал нечто подобное, то уж
позже, год или полтора спустя, когда кинематографщики дейст¬
вительно дорвались до него. Сейчас в августе 1908-го — ему,
скорей всего, и не говорят о них. По «Ежедневникам» Софьи
Андреевны, по записям толстовского секретаря Гусева, по га¬
зетным эпитафиям можно составить список неудачников: в нача¬
ле июля отказано французу (наверняка от Пате!). В середине
июля отказано голландцу (уж не от Бингера ли?). В августе
отказано: рижанину, киевлянину, одесситу. В Туле ходит слух,
что приехавший в Ясную Поляну англичанин ночует в саду на
сене и целые дни сторожит Толстого с киноаппаратом. Но это
явная легенда.
А вот факт: один пробился. Нашел-таки путь: через Софью
Андреевну, а к ней — через общих знакомых. Это Дранков, и
теперь самое время рассказать об этом человеке подробнее.
У него черные усы и обаятельная улыбка. Он вкрадчив, стре¬
мителен и нахален. Благоговеет перед Толстым и боится его.
Обладает цепкостью и феноменальным чутьем на сенсации.
Этого чутья — забежим вперед — ненадолго хватило Дран¬
кову: он поспевал лишь первые годы, пока достаточно было
поспевать. Он снял первые русские хроники и склеил пер¬
вый русский «художественный фильм». Он везде успел первым,
но и только. Позднее, в ту пору, когда кино уже попыталось
стать искусством, когда в кино пришли настоящие художники и
дельцы широкого и смелого мышления, Дранкова оттеснили.
У себя на квартире в Леонтьевском переулке он продолжал сни¬
мать жалкие детективы, вроде «Соньки — Золотой ручки». Он по
привычке «поспевал» на день раньше конкурента, но был уже
посмешищем. Эмигрантской волной Дранкова смыло в Турцию,
15
он устраивал там тараканьи бега, потом перебрался в западное
полушарие, купил автофургон с экраном и — по выражению
одного киноведа — сгинул с тем фургоном на дорогах Америки.
Но в 1908 году Александр Осипович Дранков — на взлете.
Ему двадцать восемь лет, он поставщик двора, и на пальце у
него перстень с драгоценным камнем (впрочем, мемуаристы
подозревают, что камень поддельный).
27 августа 1908 года Дранков с помощниками возникает в
Ясной Поляне.
Графиня Софья Андреевна делает им знак вести себя тихо.
толстой
Титры и кадры первой толстовской
кинохроники. Фирма и съемка
А. Дранкова. Ясная Поляна, 27 ав¬
густа 1908 года.
О помощниках Дранкова. Называют два имени: Фролов и
Васильев.
Фролов в ту пору — молоденький выпускник Московского
технического училища, недавно поступивший к Дранкову. Его
ожидает славная судьба: в 1917 году он будет снимать Ленина,
в двадцатых годах станет видным советским оператором, с
тридцатых годов переедет в Баку; в 1960 году, уже почтенным
ветераном, Иван Сергеевич Фролов даст журналистам интервью,
где и заявит о своей поездке в Ясную Поляну. Некоторые кино¬
веды сомневаются в достоверности этого свидетельства: оно не
подтверждено никакими другими материалами, но и опроверг¬
нуть его трудно.
Присутствие В. Васильева, напротив, зафиксировано тогдаш¬
ней прессой, но зато о нем ничего неизвестно, кроме того, что
он, владелец кинотеатра в Петербурге, дал Дранкову денег на
поездку.
16
Трудно сказать, кто именно крутил ручку аппарата 27 августа
1908 года. Говоря: Дранков, мы, впрочем, не грешим против исти¬
ны: он действительно был инициатором, душой и хозяином
предпринятого дела.
Софья Андреевна сказала:
— Снимайте, когда мы будем гулять, но так, чтобы мы не
видели.
Сняли Софью Андреевну с цветами. И ^е сыновей в саду.
И как Александра Львовна едет в деревню раздавать конфеты.
И как деревенские ребятишки бегут следом. Сняли «дерево бед¬
ных». И как прыгает любимый пудель Толстых.
Лев Николаевич не появился.
День пошел к вечеру, положение сделалось почти безна¬
дежно.
И тут Толстого в кресле вывезли на балкон второго этажа:
Лев Николаевич захотел поговорить с пришедшими к нему
студентами.
Мгновения приобрели вес золота: едва в уголочке балкона
появился край кресла, Дранков отстрочил общий план.
Гусев, следивший за Дранковым ненавидящими глазами, от¬
метил:
«Этот тип не удовольствовался видом балкона. Повертев не¬
много, он залебезил: «Лев Николаевич... разрешите немножко к
вам на балкончик... немножко поставить аппарат...» А Софья
Андреевна из себя выходи^...
17
Последнее сомнительно. Из себя в этой сцене выходит, по-
моему, один Гусев, остальные или ликуют, или, как Толстой,
благодушны.
— Это тот, шустрый? Дранков? Пусть их снимают...
Разрешение получено. Но балкон затенен тентом. Чертков,
Сергеенко и другие присутствующие начинают собственноручно
скатывать тяжелый тент. Дранков, сгорая от нетерпения, снима¬
ет снизу и эту прозаическую операцию.
И, наконец, он взлетает вверх со своим верблюдообразным
ящиком. Вот он, миг победы!
...Вот он, миг первого соприкосновения двух великих явле¬
ний культуры. Момент, над целлулоидным отпечатком которого
будут с лупами склоняться поколения киноведов. Кадр, в ко¬
торый десятилетия и десятилетия спустя будут вглядываться
миллионы людей.
Но сквозь величие момента — опять-таки ищу тогдашнюю
фактуру. Хочу восстановить эмпирический ход событий. Это
нелегко, потому что источников мало, и они достаточно про¬
тиворечивы.
Источников, в сущности, три. Рассказ Дранкова в газетах
1909 года. Статья Гусева в «Экране России» 1916 года. И статья
того же Гусева в журнале «Искусство кино» 1960 года.
Источники согласуются в следующем.
...Софья Андреевна стоит справа от кресла, студенты — сле¬
ва. Студенты спрашивают Льва Николаевича, отчего он, пропо¬
ведуя добро, написал письмо в газеты, чтоб не обращались к
нему за помощью. Лев Николаевич отвечает, что он раздал бы
все с удовольствием, если бы не одно обстоятельство: все уже
отдано. И Лев Николаевич указывает на Софью Андреевну: вот
ей! Оба смеются.
Стрекочет аппарат.
Точность разговора сомнительна: письмо Толстого в газеты,
чтобы не преследовали его просьбами о деньгах, написано через
два месяца, но, вообще говоря, анекдоты о Толстом на тему
«я все отдал вот ей» ходят уже лет двадцать.
Несомненно одно: сидя перед аппаратом, Толстой о чем-то
действительно разговаривает с Софьей Андреевной. И смеется.
И еще одно: пальцы рук его при этом нервически подраги¬
вают. Свидетельство неопровержимое: кинокамера.
Далее Гусев 1916 года передает нахальные речи Дранкова:
«Поверните голову, пожалуйста, Лев Николаевич... Поднесите
ручку к бородке, Лев Николаевич... К шапочке». Затем Дранков
показывает Толстому желтый конец ленты и объясняет назначе¬
ние перфорации, а Толстой удивляется простоте этого изобрете¬
ния.
18
Н. Н. Гусев 1960 года ничего такого уже не пишет, а дает
историкам кино короткую эпическую формулу: «Процесс съемки
заинтересовал Льва Николаевича».
Дальнейшее известно. Формула вошла в историю. Дранков
раскланялся и улетучился. 12 сентября он прислал Софье Анд¬
реевне из Петербурга благодарственное письмо. Писал он на
личном бланке, где среди виньеток было оттиснуто: «Первая в
России фабрика кинематографов и кинематографических лент
для живой, поющей и говорящей фотографии А. О. Дранкова».
Фильм о Толстом произвел фурор в публике. Конкуренты
были нокаутированы. «Петербургский листок» в бессильной
зависти написал, что съемки подложные и что Толстого изобра¬
жает загримированный актер.
Возмущенная Софья Андреевна послала в газеты письмо,
где удостоверила подлинность съемок. Учтя ситуацию, она по¬
требовала, чтобы ее мужа показывали исключительно в програм¬
мах из научных и видовых лент — Софья Андреевна боялась
соседства глупых мелодрам и фарсов. Не без оснований боялась:
спрос есть спрос и «80-летие графа Л. Н. Толстого» крутили, не
смущаясь, в любых программах.
Александр Осипович Дранков подвел итоги.
«Разошлось около 100 штук... Платили нам за метр 75 коп.;
в то время как обычная цена 40—45 коп. Длина фильма вышла
80 метров, так что каждая стоила немного больше 50 рубл. Ты¬
сяч пять заработали».
Каждому свое.
Глава 2
ГОНКА
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
Прошел год.
Власти запретили в синематографах России «парижский
жанр», запретили музыкальное сопровождение и ввели предва¬
рительную цензуру.
Музыку прокатчикам удалось отвоевать, но на скабрезных
лентах пришлось поставить крест: каждую программу отныне
перед сеансом смотрел пристав.
Под сенью галльского петуха — эмблемы Пате — приехавшие
в Москву французы в глубокой тайне готовили художественную
программу, которая должна была окончательно покорить рус¬
ский кинорынок.
Дранков решил нанести упреждающий удар. В громогласной
рекламе он объявил, что открывает новую эру в русском кино,
и стал быстро снимать киноиллюстрацию к песне «Из-за остро¬
ва на стрежень». Но пока ой это делал, у него появился русский
конкурент.
Это был тот самый есаул, который занимался прокатом
итальянских и французских лент. В будущем его ждала заслу¬
женная слава: Александр Ханжонков вошел в историю кино как
один из первых русских кинопромышленников, а затем — один
из первых советских кинопроизводственников. Глубоким стари¬
ком он умер в 1945 году, окруженный почетом. В 1909 году этот
отставной красавец офицер только начинал, и начинал не без
риска. В отличие от Дранкова он думал не просто о прибыли,
но о престиже русского экрана, жившего пока почти исключи¬
тельно французскими лентами. Ханжонков решил сделать свои.
Близ дачи в Крылатском он весьма кстати обнаружил табор
цыган и, наскоро придумав сценариус, уговорил двоих из
них позировать для мелодрамы. Ханжонков очень хотел по¬
спеть раньше Дранкова. Увы — не поспел.
Он провалился с цыганами и сидел в своей конторе на Твер¬
ской, 26, соображая, что делать дальше, когда произошло собы¬
тие, о котором позднее сам Ханжонков рассказал так:
20
Распахнулась дверь, и в приемную вкатился господин в по¬
ношенном, старательно выглаженном костюме, наголо бритый, с
лихо закрученными седеющими усами. Он метнул визитную
карточку и, картавя, торжественно отрекомендовался:
— Пелвый лусский лежиссел истолических калтин для сине-
матоглафов!
В визитной карточке значилось: «Василий Михайлович Гон¬
чаров, член О-ва литераторов и ученых в России, член О-ва
музыкантов и композиторов, член О-ва Красного Креста, член
О-ва пострадавших от...» Пока Ханжонков разбирал все это,
Гончаров громко жаловался:
— Дланков углобил Лазина по пелвому лазляду! Никаких
эмоций, никаких пележиваний! Только и слышно: клути да
клути!
«Провинциал, желающий показаться столичным жителем»,—
определил Ханжонков. Но это было не важно. Важно было дру¬
гое: перед ним стоял человек, снявший у Дранкова «первый
русский фильм». И этот человек от Дранкова сбежал.
Ханжонков решился,. и Гончаров понесся набирать актеров.
В театрах с ним не стали даже разговаривать. Тогда он по¬
ехал в Лефортово, во Введенский народный дом. И там ему от¬
ветили, что не собираются профанировать театральное искусство
на экране. Однако кое-кто из начинающих все же согласился
попробовать. Среди этих согласившихся были два молодых че¬
ловека: Чардынин и Мозжухин.
Гончаров набросал сценариус из русской истории, вооружился
секундомером и начал репетиции, гоняя актеров по французской
методе: «скорей, скорей».
...Между тем в печати появилась статья Толстого «Смертная
казнь и христианство», где впервые было употреблено великим
старцем слово «синематограф».
Вот что донеслось из Ясной Поляны:
«...Среди тех народов, которых мы, воображающие себя хри¬
стианами, считаем дикими, может протекать более или менее
разумная человеческая жизнь. Если у нгис нет столько граммо¬
фонов, синематографов, автомобилей, туалетных украшений,
аэропланов, 30-этажных домов, гор печатной бумаги и т. п.,
как у нас, то зато у них есть признаваемый большинством рели¬
гиозно-нравственный закон... У нас же, так называемых христиан,
есть много ненужных и вредных глупостей, которыми мы гор¬
димся, но нет того одного, без чего жизнь человеческая не жизнь,
а животное существование, нет никакого признаваемого всеми
высшего закона...»
21
Вряд ли Василий Михайлович Гончаров вчитывался в эти
слова. Он режиссировал. Самозабвенно плеща в ладоши, броса¬
ясь поминутно в кадр (так что сзади его удерживал за фалды
специально приставленный сотрудник), Василий Михайлович
пронзительно руководил съемкой:
— Больше жизни! Эй, там, скальтесь больше, зубов не вид¬
но! Елмак, блосайся в воду!!
Ермак рухнул в воду, но когда по требованию режиссера он
всплыл, чтобы в последний раз перед гибелью погрозить кула¬
ком татарам, все с ужасом увидели бритую физиономию Чарды-
нина — усы и борода плыли рядом по мирной глади Сокольни¬
ческого пруда. Сцена была запорота: тогда еще не знали, что
кадры можно резать и клеить. Увидев такую катастрофу, Хан-
жонков не выдержал и, вмешавшись в творческий процесс,
предложил режиссировать Чардынину. Гончаров возмутился:
— Или Василий Михайлович Гончаров будет один ставить у
Ханжонкова, или он вообще не будет ставить!
Ханжонков сказал: пусть Гончаров ставит из истории, а
Чардынин из классики, например «Власть тьмы» по Толстому.
Гончаров ответил:
— Мой девиз: все или ничего! — заплакал и ушел.
Он отправился к Пате. В павильоне, украшенном галльским
петухом, увидел стриженных под скобку плечистых молод¬
цов с бычьими затылками, увидел дородных боярышень с голу¬
быми глазами навыкате. Гончаров все понял, мгновенно догово¬
рился с французами и принялся ставить им «Ухаря-купца»...
Этот «Ухарь» очень скоро понадобится нам, а с самим Ва¬
силием Михайловичем мы прощаемся. Странный был человек.
Работал в железнодорожном ведомстве, имел печатные труды —
и бросил все это ради иллюзиона. Он умер лет через пять, с
«Бедной Лизой» в руках — мечтал поставить.
...А Чардынин, получив у Ханжонкова статус режиссера,
принялся, как советовал ему хозяин, ставить «Власть тьмы».
Один француз, которого Ханжонков повез в ту пору к себе в
Крылатское, так рассказывает об этом. Близ дороги — помост:
шесть на пять; на фоне трясущегося от ветра размалеванного
задника стоят, застыв в немых позах, Анисья, Акулина и другие
герои Толстого: ждут, пока оператор Сиверсен сменит кассету.
Но вот камера начинает трещать, и актеры принимаются до¬
игрывать прерванную сцену под громкие команды Чардынина:
его мощный голос перекрывает скрип проезжающих мимо телег
и шум толпящихся вокруг помоста зевак. Надо сказать, что
француз, все это наблюдавший, сначала пришел в ужас от уви¬
денного, а потом подумал: какие же патриоты эти русские, если
прощают своим кинематографистам такую непрофессиональ-
22
ность! (Этот француз — Луи Форестье — навсегда остался в
России и впоследствии сделался видным советским оператором.)
Итак, Ханжонков сделал свой ход.
А что же Дранков?
Он тоже попытался закрепиться в «художественном» жанре.
Снял комическую — провал. Снял Давыдова в двух актах
«Свадьбы Кречинского»—провал. Объявил инсценировку «Быв¬
ших людей» по Горькому и пустил под этим названием хронику
Хитрова рынка — разоблачили. С «художественным» было не¬
просто.
У Дранкова оставался последний козырь — Ясная Поляна. И тог¬
да он послал туда...
Здесь, пожалуй, надо еще раз прервать эмпирику изложения
фактов, чтобы объясниться по поводу того удручающего ме¬
ня ощущения, которое неминуемо должно возникнуть и у чи¬
тателя: какой контраст между потенциальной грандиозностью
кинематографа как всемирно-исторического явления культуры —
и суетностью форм, в которых это явление предстало Толстому.
Справляясь с этим ощущением, предшественники мои охот¬
но возмещали «низкую» фактуру темы высокими рассуждениями
о принципиальном величии кинематографа, которое Толстой
должен был как бы угадывать. А поскольку высказывания само¬
го Толстого о кино разрозненны, вынужденны и непоследова¬
тельны, так что их и высказываниями-то не всегда назовешь,—
то недостаток фактуры и здесь охотно компенсировали общими
суждениями о том, что Толстой, с его гениальностью, просто не
мог не отдать должное кинематографу, оправдавшему в буду¬
щем самые высокие надежды.
Я не пошел этим путем хотя бы потому, что он исхожен
моими предшественниками: общих рассуждений тут опубликова¬
но предостаточно. А вот с фактурой бедновато: за несколько де¬
сятилетий не сделано элементарной вещи: по теме нет ни пол¬
ного фактографического свода событий, ни даже проверенного
свода источников. Так что надо эту целину пахать.
Источниковедение, как видит читатель, я почти везде убираю
в подтекст, иначе книга эта — при смутности и неясности много¬
численных и противоречивых свидетельств — разрастется вдвое
и превратится в криминалистическое исследование. А вот резуль¬
таты исследования: свод фактов — я даю полностью и во всей
приземленной обыденности этих фактов, каковую еще раз зову
читателя со смирением вынести. Предупреждаю его, что дух
конкурентной гонки и суетного тщеславия долго еще будет пре¬
следовать нас на этом пути, пока обнаружится и здесь нечто от
великого искусства. Однако иных путей нет — факты надо пропа-
23
хать насквозь. Лишь одно может облегчить нам с читателем эту
работу: все время помнить, что великое искусство все-таки неиз¬
бежно вырастет на том самом месте, где предприимчивый Дран¬
ков роет землю, и.ищет путей к Толстому, и подсылает к нему
своих сотрудников.
Сотруднику ответили:
«Николай Феофанович.
Очень сожалею о том, что должен отказать вам. Объяснять
причину, почему я отказываю, было бы и длинно и бесполезно.
Прошу вас верить моему искреннему сожалению о том, что не
могу сделать вам приятное.
С совершенным уважением Лев Толстой)).
Николай Феофанович Козловский, адресат письма, в буду¬
щем— видный советский оператор. В ту пору Н. Козловский —
молодой петербургский фотограф, недавно освоивший кинокаме¬
ру и уже снявший Дранкову знаменитый фильм о Разине. И вот
с санкции своего патрона он обратился в Ясную Поляну с прось¬
бой о позволении приехать с киноаппаратом: Дранков опасался
надоесть Толстым и действовал через третьих лиц.
Не прошло.
Дранков, не теряя времени, отправился снимать Леонида Анд¬
реева. Андреев позировал охотно и даже произнес перед Дранко¬
вым речь, в которой предсказал кинематографу блестящую на¬
учную будущность. Дранков тотчас передал эту речь журнали¬
стам, а затем прибавил, что Андреев настоятельно советовал ему,
Дранкову, еще раз увековечить на ленте Л. Н. Толстого; он, Дран¬
ков, был бы рад, но увы, апостол непротивления проявляет в этом
деле категорическую неуступчивость. Газеты это напечатали.
Толстой не отреагировал.
И тут неожиданно помогли власти. Сначала они выслали из
Ясной Поляны Гусева, потом Черткова: оберегали Льва Николае¬
вича от дурных влияний. Гусев отправился в Сибирь, а Черт¬
ков, которому отныне запретили проживание в Тульской губер¬
нии, поселился под Москвой. В Крекшине.
Результат вышел невероятный: Толстой, уже много лет не
выезжавший из Ясной, собрался в Крекшино. Ехать надо через
Тулу и Москву. Путь достаточно долгий. Это дает кинематограф¬
щикам шанс поймать великого старца в объектив! Едва слух о
поездке разнесся среди кинематографщиков, они пришли в дви¬
жение... и. тут Дранков, сидевший в Петербурге, впервые в жиз¬
ни опоздал, а первым оказался сидевший в Москве оператор
фирмы Пате.
По принятому правилу он обратился с просьбой о разреше¬
нии съемок к Софье Андреевне, которая и пошла с этим к Льву
Николаевичу. Тот был занят, пробормотал что-то невнятное, и
24
Софья Андреевна на свой страх и риск сообщила французу, что
Толстой согласен. Когда наутро Толстой узнал, что готовится
съемка, он пришел в ужас и воззвал к ближним о помощи.
Александра Львовна и Гольденвейзер от имени Толстого немед¬
ленно дали французу телеграмму с отказом.
Но ничто уже не могло остановить его: француз взял трой¬
ку, прискакал к пограничным столбам Ясной Поляны, прыгнул
Кадр кинохроники: выезд Л. Н. Толстого из Ясной Поляны 3 сентября
1909 года. Фирма «Пате», оператор Ж. Мейер.
в кювет и залег. Он снял, как Толстой и сопровождающие его
лица в двух экипажах выезжают из усадьбы,— великолепный
общий план с переходом на средний. Затем он вскочил в трой¬
ку, поскакал на станцию Щёкино, обогнав в пути яснополянские
экипажи, и снял появление Толстого на вокзале.
И тут выяснилось, что поезд на час опаздывает. Это была ко¬
лоссальная удача: теперь великий писатель никуда не мог деть¬
ся. Француз подошел к нему и напрямую попросил позволения
снимать. Толстой оценил его юмор и сказал, что от съемки от¬
казывается, но не может ей помешать, если снимать будут без
25
его участия. Француз с достоинством ответил, что его фирма не
позволит себе снять кого-либо без его согласия. Толстой сказал:
— Ну, так вот этого-то именно согласия я и не хочу давать!
Француз поклонился, отошел, поставил камеру и... начал сни¬
мать. Лев Николаевич, прогуливаясь по пустынному перрону, ре¬
шил не обращать на это внимания.
...Из дневника:
«Приехали кинографщики, несмотря на отказ. Я допустил,
но без моего участия...»
И тут нашелся человек, который «не допустил». Это был
станционный жандарм.
— Фамилия?
— Мейер.
— Снимать запрещено!
...Вообще-то его фамилия была Мундвиллер, Жозеф Мундвил-
лер. «Мейера» он взял себе уже в России, а вышло это так:
когда придворный кинооператор Романовых Болеслав Матушев-
ский отбыл в Польшу, выяснилось, что придворные фотографы
(Ган и Ягельский) не умеют обращаться с кинокамерой; им стали
искать инструктора, причем немца (при дворе говорили только
по-немецки); Мундвиллер был эльзасец, по документам, стало
быть, немец; в качестве немца его и пригласили ко двору. В ка¬
честве немца и выдворили из России шесть лет спустя, в 1914
году.
В 1963 году Б. Агапов и И. Копалин попали во Францию в
составе советской киноделегации; они поехали в Энгиен, разы¬
скали там Мундвиллера и записали его рассказ. Когда стали
уходить, Мундвиллер с трудом поднялся со своего кресла, за¬
плакал и сказал:
— Мне семьдесят восемь лет. Наверное, я в последний раз
вижу друзей из России... Передайте привет Левицкому...
Левицкий был профессор ВГИКа. В 1909 году Мейер обучал
его у Пате: длинный, тощий Левицкий тенью ходил тогда за
Мейером. Левицкому суждено было стать одним из первых бле¬
стящих операторов-профессионалов русской школы. Тогда, в
1909 году, ему было 24 года. Мейеру столько же.
...Увидав перед собой представителя власти, Мейер не расте¬
рялся. Он попробовал дать жандарму взятку. Когда это не полу¬
чилось, обратился к законным средствам и отбил телеграмму в
Тулу, в жандармское управление. Сидевший там полковник Чу-
рилов проявил некоторую оперативность — и сам позвонил на
станцию. Мейер произнес в телефонную трубку монолог о кине¬
матографе. Полковник выслушал все это, а затем поставил усло¬
вие: каждый кадр предварительно предъявлять ему, пол¬
ковнику Чурилову, на утверждение. Мейер ахнул и... обещал.
26
Полковник разрешил снимать. Мейер стремительно вернулся к
аппарату. Лев Николаевич все еще гулял по платформе, ожидая
поезда.
Мейер прибыл в Тулу тем же поездом, что и Толстой. Он
явился к полковнику Чурилову и стал втолковывать тому не¬
возможность просмотра кадров до проявки и отпечатания плен¬
ки. Уловив суть дела, полковник ответил: «Ничего, мы ее с а м и
проявим». Ситуация была критическая, но Мейер опять на¬
шелся. Он всучил полковнику чистую пленку и сказал, что
если жандармские химики ее испортят, то будут иметь непри¬
ятности с иностранной фирмой. Полковник принял это к сведе¬
нию и приобщил пленку к делу, а Мейер бросился за Толстым.
Но тот уже уехал. На некоторое время фирма Пате выбыла из
гонки.
...Между тем Дранков на всех парах мчался из Петербурга.
Но он опоздал не только в Ясную Поляну, но и в Москву: в Ха¬
мовниках Дранкову объяснили, что их сиятельство переночевали
и тотчас отбыли в Крекшино, Чертков же специально оставил
для возможных визитеров письмо с просьбой: Льва Николаеви¬
ча не беспокоить. Дранкова это, разумеется, не могло остановить;
прямо из Хамовников он вместе с помощником ринулся на Брян¬
ский вокзал. В полночь они выехали, в два часа ночи сошли
на платформе Крекшино, темное время пересидели в лесу и на
рассвете вышли к имению, где Чертков принимал высокого
гостя. Встретили старика кучера, стали расспрашивать, где Тол¬
стой живет, когда встает, как гуляет.
— Да вон он,— заметил кучер.
И точно: Толстой показался с палкой в руках.
В полном одиночестве! Такое не повторяется...
Мгновенно выдвинулись по обе стороны тропинки, взяли цель
в объектив.
Строчили до упора, пока Толстой не наткнулся;
— Откуда вы?? Из Москвы?
Дранков отрапортовал:
— Специально приехал из Петербурга, чтобы запечатлеть
вас, Лев Николаевич, и показать любящему вас народу!
Толстой посмотрел на него, ничего не сказал и пошел дальше.
«...Была величайшая помеха — забота о славе людской, и па
меня навалился такой излишек этой славы и в таком пошлом
виде славы перед толпой...».
С двух точек стрекотали в спину, пока не скрылся.
Пошли в имение: располагаться, готовить новые точки. Черт¬
ков все порушил: ему совершенно не нужен был в Крекшине
Дранков, потому что у него уже имелся в Крекшине мистер Тап-
сель, от Эдисона. Дранкову объявили:
27
^ ПЕРВАЯ ВЪ Р О С СIИ ФАБРИКА
КИНЕМАТОГРАФОВЪ И ЛЕНТЪ
1'1Я :кП1И>Й. 11«* |, • 1ЦО И II Ги|« >| >',| ЩсЙ .|«'ТОГрН<[ч И
А. О. ДРАНКОВА.
С П«гс|»«3ур1ъ, II
I - Тае^онг. »Ч 7Л*8‘2
ОтдЪлен1е въ МоеквЪ: м,,
п;:-::;: сенсащонныЙ снммокъ
,Левъ Никопаевичъ Толстой у г. Черткова и въ МосквУ.
1*|
М и Ш1 М1.211 ••
ннапеля
..млн.о не-че
1'М»* II 144 ел* 14Ю,
.ШИММ 1
4.И1 р\
р1> МП и 411)11. И.'.111
КОМ Поим N1. К4Ж|ОЯ I.
0*М1 1М «ЮАПе ИЛИ III И«||М |М‘| I.
40И1-4НО. Ц). ЯЫ< |||. || ГЦ-
ЛЙП1 «терт» хлл I.'
Ц"|||?.;Ы*М1!о)' 1**\кц и .
И-• .«СИДНеЛИ» 1ЮФ4И
Я[ ЛуДИЛ 141»-* ВНН<
1.141 АН 'ТЯрЯШГ К| НО.
рВ.’МНЯЛ 1МГо 4-рчаЫ
10 и к я1||!р*-«ио |п|Ги.1^».4«'.м1«нц \|.я|1.ц. Льна
1'Люю н <ми-4о ю^риан. м.ши.ио плриа
11.141 у 14.ИЧ Ч. шмучни мииппевму ю но иоииот!
И 6)-14|) 1Н> ) 11114Ь'--НI- СВНеМ(01р«ф«Ч. ГЬ)И» ЛеШ).
.111) Ч.И.1».МП-НОЮ |оро|о|! <)0|144'1> I Л> боКоЧ IИМ41 о
»• 1|оП-ЛНИГ4Л1о ОШ) 11.ЦНКЛ
1мап <яри нано и оперим. мм нроиа!» .м ••о.и.нои
Коли О Г 1К-- ГИИ МКОЦI. I Ь Голгюю • ••№ |)|0аН«11|41о
ПиМИ ' 1Н1ЮК1Ю уТрПШННо нригулн) 111> О рени!.. 4
...1ГЛМ1-. 104 41 0-1141)' 1М0< 111411. 44 1М0ЮЧи «.1 |.Л}И
.» То.ОТММЬ 1Н*А|;Л.1Н но ■.». кр)1) гемил гуава*
щами ни к1ко|И1й рощ!., мичт оЖ|маа«11Ш1ги ио1.лда
на * ( Кр-ми и ю н »| 1.1.. жао-н ими ни М«и'ВНу.'Полно
•рм*:не|еп« кар1ИИп пр|1а!л ни Ними. пережиг
^1» си \:пшпмики м «нон они.. ааемми иы1»‘Д1, пн
II) 14. 11}'о|Ц)1М )Ю Н0К.10ИНИ44МН. НрИбыПе 114 ВО*-
441 . 141. у**- хала громадили майя паром |ю |.|ап1.
) |. 4*п М1-М1, 1ог)ДЛ|н поинои Думм К Л. Мякла
КОНЫ КI . 1'.**С |орЖ«'11ИММ онлшл ю-.о •. а и ним. юлпи
народа, клмнушипчи ал 1оллим1. на мокияли. н
«п икали 1оЛг1«ч». нр.-с<>а.а-м.и ннч1.1нмч1 коли
1Г11ИОЦ1. но'ш 1л 1«'.|ги мли*а1" парна
Мром1. Льна Нииолаенича. пипы 1р.м|*инн поры
\|мр«• ння и \лекг&ндрк Линейна. а тява;е и.иЛ.пимн
Н*'< 41. О'На 1 )'.||. Т«4МИФ ТгрИ-'Ы.. \ 1<о|ор4|о 1'4'1Н.11>
|оЛГ|1-Н.
Нягюямая кар шил нрпнаалаетк еоГми 1роЩл-
ир« а л М..МК1ПО 01110.И ника ы. кр)|) Гми.кнм. а алевяг грела к-
V Ж) .м>|. )Ь1р«Н1ШМ| По 1НВ4-Н ЧоМеМП. Не 11«>Мо|>М« 1ГЯ ЧНС|«* С
I И1.ИШИИ I. и и ••амин, н р.о пи нашей лапрядуры
ими и» н:« .ним. нолю пи си11яа«ы. н 1иммнимпя 1)1 ним и. а\>
I игнмч 10.И щи •(> арене и н< м го’1а|». ьъ ы ю{и а няи • «нак«ы
а «тайн о ю-м». почт не еходяи. го подбкоаг гянтг
ли" пин* чу нмоугву карчами. мм сюшалпю ы. адов лени, прт
4Н41Ь «и НреарЯ) И). М410<ЛЦе|1НЫЯI. \у О Же* 11;«11НМН !■ В0р1|4 1««М1 •}{ ■
мяконме П.миягы нре» Я1ЯП11. II. О МН01 рЯ К |’4 ЧI. НО .* ру О (Я гоним.
Ллаал ленты 235 метров* ц1ва 141 р ■ *а внражг 4 р а всего 145 р
ТОЛСТОЙ ПЛАКАТОВЪ О, цочпиния*, .1. О.
Фирма А. Дранкова анонсирует очередную ленту о Л. Н. Толстом (1909 год).
Типичный образец саморекламы тогдашнего кинематографа: «Благодаря на¬
шей энергии... Картина представляет громадный интерес... Безукоризненное
технически выполнение...» и т. д.
— Не беспокойте больше Льва Николаевича! Вам и так по¬
везло: снять Толстого на утренней прогулке!..
Дранков понял. Он мгновенно скрылся, уступив поле боя
мистеру Тапселю.
Мистеру Тапселю Толстой не отказывал из боязни обидеть
Черткова. Тапсель снимал в основном групповые прогулки: пеш¬
ком, верхом и в тарантасах. Ему не препятствовали. Впрочем,
помехи были: во время одной из пеших прогулок откуда-то по¬
явились две незнакомые особы, пристроились по обе стороны к
Толстому и двинулись рядом, не сводя с него глаз; Тапсель про¬
должал методично снимать; Чертков выходил из себя, но мол¬
чал: в присутствии Льва Николаевича он не решился устроить
сцену «этим психопаткам»... Так родился еще один документаль¬
ный сюжет с Толстым.
Но в общем в Крекшине посетители Толстому не докучали,
и он, выражаясь языком тогдашних газет, «отдыхал здесь от
гостей и просителей, беспрестанно беспокоивших его в Ясной
Поляне».
Один гость, впрочем, был к Толстому пропущен: танцор, ар¬
тист балета, который приехал в Крекшино пожаловаться на
никчемность своего дела, мало похожего на труд крестьян.
Толстой ответил:
— Все танцуют... Это болезнь века, что все делают то, чего
не хотят. Разве я не танцую? Разве я не танцую, садясь вот на
эту пятисотрублевую лошадь, отправляясь на прогулку?
Было это так: крекшинский кучер по неопытности подтянул
стремена слишком высоко, и Толстой, садясь «на эту пятисот¬
рублевую лошадь», действительно запрыгал, замешкался. Старик
кучер не знал, что перед ним замечательный наездник, и бросил¬
ся подсаживать барина... В этот момент Толстой услышал мето¬
дичное стрекотание кинокамеры Тапселя.
Впоследствии он рассказал Черткову о своем состоянии в тот
момент. Он подумал, каково ему оказаться в комическом поло¬
жении. Но тотчас сказал себе, что в этом нет ничего обидного.
Это первое свидетельство о самочувствии Толстого во время ки¬
носъемок.
И еще вот что существенно: за десять крекшинских дней он
притерпелся к постоянному тапселевскому стрекотанию. И даже
стал искать в этом свой юмор. На последующие киносъемки это
оказало некоторое влияние...
29
Между тем в Москве сторожили момент, когда Толстой вы¬
едет из Крекшина. На сей раз Дранков был уверен, что не опо¬
здает: за соответствующую благодарность кучер обещал его пре¬
дупредить. Кучер не подвел, и в назначенный час, 18 сентября
1909 года, в 14.00, Дранков в полной боевой готовности стоял
со своей треногой на крекшинской платформе.
Подъехал тарантас, из него вышли Софья Андреевна и Алек¬
сандра Львовна. Дранков прострочил. Подъехал другой таран¬
тас: Чертков, Гольденвейзер, Тапсель. Дранков дал еще очередь.
Толстого не было.
Толстой отстал от всех: две версты от дома до поезда он
решил пройти пешком. Подходя к станции, Толстой издали раз¬
глядел на платформе Дранкова. Лев Николаевич, как уже гово¬
рилось, за десять крекшинских дней научился с юмором от¬
носиться к кинематографщикам: оценив ситуацию, он повернул
обратно в лес.
— Пойду грибы искать!
Чертков и молодой Сергеенко побежали за ним: поезд мог
подойти с минуты на минуту. Что ж, и это был сюжет! Дран¬
ков снял выход всей группы из леса с беглецом во главе. Снял
носильщиков, таскающих вещи Толстых. И наконец, снял луч¬
шее: проход по платформе Льва Николаевича под руку с Софь¬
ей Андреевной. Роскошный проход! Белая борода на две сторо¬
ны по черной толстовке! Дранков не знал драматичной подно¬
готной этой сцены. Не знал, что Софья Андреевна неспроста
уговорила мужа сняться вместе; и приехала она неспроста; бы¬
ла в ярости на Черткова и, как умела, пыталась противостоять
ему в борьбе за Льва Николаевича — к осени 1909 года уже
определились силы, противоборство которых год спустя свело
Толстого в могилу. Дранков всего этого не знал, не мог знать,
да вряд ли и захотел бы знать. Он — строчил.
Отстрочил посадку, прыгнул в вагон и поехал с Толстым в
Москву.
И вот в поезде — впервые — Толстой заинтересовался тем, что
же такое получается в результате этого строчения. В вагоне
хватало людей, готовых ответить на этот вопрос: С. Спиро,
А. Гольденвейзер, В. Чертков... Толстому ответили: получается
фильма. А что это такое? Тут Дранков вступил в разговор и
изъявил живейшее желание доставить таковую в Ясную Поляну
в полное и безраздельное распоряжение Толстых (есть основа¬
ния полагать, что для надежности Дранков обратился с этим
предложением и к Софье Андреевне). Разговор ширился. Кто-то
предложил нынче же вечером сводить Льва Николаевича в сине¬
матограф. Лев Николаевич ответил, что лучше пойдет в балет.
Ему сказали, что в нынешний вечер не будет балетного пред-
зо
ставления. Тогда Толстой согласился сходить в синематограф.
Он был в благодушном настроении.
Подъехали к Москве, поезд остановился, Толстой выглянул.
— Смотрите, а синематограф уже здесь, и уже нас снимают!
Дранков, спрыгнув первым, уже строчил. Чертков пошел впе¬
реди, раздвигая толпу:
— Господа, господа, пожалуйста, посторонитесь! Не загоражи¬
вайте Льва Николаевича оператору!
Какой-то ретивый городовой бросился теснить публику и ши¬
рокой спиной загородил аппарат.
— Скажите, а этот городовой тоже выйдет на картине?
— Выйдет, Лев Николаевич!— улыбнулся Дранков, продол¬
жая крутить.
— Это хорошо, что он тоже выйдет...
Толпа стояла кольцом.
— Как это комично, все это снимание... Ну что он все вер¬
тит и вертит? Польза какая?
— Для него польза, Лев Николаевич,— веско ответили из
толпы.
Толстой рассмеялся и пошел к экипажу. Сюжет был закон¬
чен— Дранков прыгнул на извозчика и понесся в Хамовники.
Снимать следующий сюжет.
То был последний приезд Толстого в его московский дом.
Были приглашены гости: депутат думы В. Маклаков, крестьян¬
ский писатель С. Семенов, профессор консерватории А. Гольден¬
вейзер... Опять заговорили о синематографе. И тут Толстой, в
прекрасном настроении, стал показывать гостям, как смешно си-
нематографщики, снимая, перебегают с места на место. Оказы¬
вается, во время съемки ему так и хотелось выкинуть ка¬
кую-нибудь штуку, а ведь надо было сохранять серьезность.
Тогда Маклаков напомнил, что хотели съездить в синема¬
тограф, и тотчас все во главе с Толстым отправились, как выра¬
зился Семенов, «посмотреть на это новое развлечение городских
жителей».
Ближайшим к Хамовникам был синематограф Гехтмана на
Арбате, угол Б. Афанасьевского. Назывался он громко: «Боль¬
шой Парижский (!) кинотеатр» и был по фасаду украшен элект¬
рическими лампами; над входом Толстой мог также увидеть и
оценить большое полотнище, на котором была намалевана аф¬
риканская пустыня с пирамидами и львами.
Поднялись в залу. Все скамьи оказались заняты. Тогда хо¬
зяин вынес дополнительные стулья и рассадил гостей, появление
которых произвело среди зрителей волнение.
Погас свет, замигал экран, тапер ударил по клавишам. Как
только раздалась эта музыка, Толстой с немым вопросом обер-
31
нулся к Гольденвейзеру. Знаменитый музыкант жестом успоко¬
ил его: ничего, ничего!
Показали виды, мелодраму и комическую, после чего меха¬
ник выскочил из раскалившейся будки и объявил перерыв. Пуб¬
лика достала семечки.
Толстой поднялся и пошел к выходу.
Его остановили:
— Лев Николаевич! Программа не кончена — разве мы не бу¬
дем смотреть дальше?
Толстой покачал головой: нет. Потом проговорил:
— Ужасно... Глупо. У них же совсем нет вкуса!
И двинулся дальше. В публике произошло движение: види¬
мо, люди не знали, какое зрелище выбрать: живого Толстого или
продолжение кинопрограммы, за которую плачены кровные
гривенники. Многие все же предпочли Толстого и побежали за
ним по лестнице. Кто-то искал извозчика; Толстой ждал на
тротуаре; вокруг быстро собиралась толпа. Какой-то мужчина
вынул записную книжку, протянул: напишите что-нибудь.
Толстой заколебался.
— Лев Николаевич! Голубчик! Хоть крестик поставьте! Ведь
благодаря вам я пить бросил!
Толстой быстро расписался, сел в подъехавший экипаж, кив¬
нул толпе и уехал.
В дневнике:
«Пошел в кинематограф. Оч. нехорошо».
Утренние газеты сообщили о посещении Львом Толстым ки¬
нематографа. Но важнее было другое сообщение: сегодня,
19 сентября 1909 года, в двенадцать дня Лев Толстой уезжает
из Москвы в Ясную Поляну с Курского вокзала.
Теперь все было предрешено.
С утра Дранков — во дворе хамовнического дома. Снял вынос
вещей, посадку в экипажи, выезд за ворота. Затем вскочил на
извозчика и с движения снял проезд Толстого по улице.
Перед зданием Курского вокзала — толпа тысяч в двадцать.
В толпе — Мейер с камерой. Конкурент. Так и снято начало
этих событий: двумя камерами, с двух точек. Дранковым —
с экипажа. И Мейером — из толпы.
События же развертывались так. Едва экипажи подъехали
к толпе, раздался восторженный рев, и лошади остановились.
Толстой встал и поклонился. Близко стоящие люди обнажили
головы, из задних рядов донеслось «ура!». Софья Андреевна
поднялась и сказала: «Господа, мы же опоздаем на поезд!»
А поклонники принялись отпрягать лошадей, желая сами впрячь¬
ся в экипаж. Черткову удалось предотвратить эту акцию: он с
32
трудом успокоил людей, и те оставили лошадей в покое. Одна¬
ко толпа по-прежнему плотно стояла вокруг экипажа, ехать
было невозможно. Тут раздалось:
— Цепь! Цепь!
Стоящие в толпе студенты взялись за руки и раздвинули
массу. В проход через головы полетели цветы, по цветам ландо
медленно двинулось к вокзалу. До дверей доехать не удалось.
Тогда Чертков сошел и двинулся вперед через раздвигающуюся
толпу, за ним — Лев Николаевич с Софьей Андреевной под руку,
следом остальные. Толпа пропустила их, а потом смяла цепь и
ринулась следом. Контролеры были отброшены, в дверях нача¬
лась давка, люди стали прыгать на перрон через окна. Молодой
Алеша Сергеенко, секретарь Черткова, по скамьям едва добрался
до окна, тут его сдавили; он кричит: «Я с ним, с ним!»
Какая-то девушка тянет сверток: «Передайте ему!!» Кругом кри¬
ки: «Тише! Это же интеллигентская Ходынка!»
А Толстой и его спутники — уже около поезда. Толпа жмет,
люди, сброшенные с перрона, бегут по путям, иные карабкаются
на фонарные столбы, чтобы увидеть оттуда...
И все стрекочут, стрекочут Дранков и Мейер, конкуренты,
ловцы удачи, посланцы великого искусства...
Давка у вагона. Впереди Чертков, его белая панама — как
маяк над толпой.
Уже у дверей. Вошли в вагон. Скрылись.
Кричат, кричат с перрона.
Фраза Черткова:
— Мне кажется, Лев Николаевич, хорошо бы вам подойти к
окну и попращаться с толпой.
Поднялся с готовностью. Подошел к окну.
Рев, вверх летят фуражки. Потом крики: «Тише, тише! Он го¬
ворит!!» Стихло.
Поклонился.
— Спасибо. Не ожидал... Я счастлив... тронут...
И заплакал.
Закричали, заголосили в толпе: «Живите сто лет, Лев Нико¬
лаевич! Работайте для нас! Ура!!»
Бежали за вагоном, крича вслед, отставая.
Наконец, отстали.
В купе Алеша Сергеенко подал сверток:
— Какая-то барышня передала вам, Лев Николаевич.
Развернули: портрет Толстого, инкрустированный, из дерева.
Ахнули. Лев Николаевич сказал:
— Стоило ли столько труда тратить...
Стал смотреть в окно на проносящиеся поля: сколько места
на земле...
33
Возглас Софьи Андреевны:
— Как царей нас провожали, как царей!
Усмехнулся: ну, если как царей, то это не делает нам чести.
Потом похвалил студентов, что устроили цепь. Потом пожалел
Черткова, что тот измучился, принимая на себя напор толпы.
Реплика Черткова:
— Зато я удовлетворен, что вы, Лев Николаевич, уцелели.
Кадр кинохроники: Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков. Москва, Хамовники,
19 сентября 1909 года. Съемка А. Дранкова.
Фраза Александры Львовны:
— А папа совсем не волновался!
Лев Николаевич:
— Ну, что ж за себя волноваться?
В Ясенках он потерял сознание.
Известие об обмороке Толстого с живостью обсуждалось в
газетах. «Русское слово» напечатало статью, где от имени лю¬
дей, едва не задавивших Толстого в вокзале, извинилось перед
ним: никто ведь не хотел дурного, каждый думал — я не поме-
34
шаю, я просто постою в сторонке и посмотрю — люди ведь не
могут иначе, как не могут мотыльки и букашки не лететь к
свету!
«Москва» тут же дала ядовитый фельетон, смысл которого:
мы не букашки! По странному совпадению юмористический от¬
дел, в котором «Москва» ответила «Русскому слову», назывался
« Синем атограф ».
Кадр кинохроники: люди ждут появления Л. Н. Толстого на Курском вокзале.
Москва, 19 сентября 1909 года. Фирма «Пате», оператор Ж. Мейер.
«Речь» подчеркнула другое обстоятельство: отъезд Толстого
увековечен на пленку! Скоро во всех синематографических теат¬
рах Европы увидят Льва Николаевича, окруженного восторжен¬
ными толпами! Синематограф, писала газета, засвидетельствует
всему миру, что такое для России — ее Толстой!
Кроме всемирных свидетельств ленты эти должны были вы¬
полнить еще одну задачу — дать синематографщикам повод для
поездки в Ясную Поляну: надо же показать кадры Льву Нико¬
лаевичу. Лаборанты фирмы Пате работали быстрей дранковских
«химиков»,— Мейер успел первым. В фонотеке своего шефа в
35
дополнение к «Отъезду Л. Н. Толстого из Москвы» он подобрал
тройку видовых лент: «Военно-Грузинскую дорогу», «Табачные
плантации» и «Город Дели в Индии», а также свеженький ху¬
дожественный шедевр фирмы Пате на русскую тему— «Ухаря-
купца», поставленного патетическим Гончаровым, снятого самим
Мейером на высоком техническом уровне (то есть без склеек),
а потом еще и раскрашенного от руки виртуозными лаборан¬
тами фирмы. Мейер полагал, что контакт с великим русским
писателем ему обеспечен.
24 сентября он приехал в Ясную Поляну, натянул на стене
дома простыню и расставил скамьи. Перед экраном разместилось
несколько десятков яснополянских крестьян, все семейство
Толстых и сам Лев Николаевич. Дождались темноты, и...
Дальнейшее описано самим Мейером дважды: тогда же, в
1909 году, в разговоре с журналистами из «Вечернего Петербур¬
га», и пол века спустя, во Франции, в беседе с Б. Агаповым и
И. Копалиным. Я попытаюсь, соединив эти источники, извлечь
реальность и из-под возбуждения первоначальной сенсацион¬
ности, и из-под пелены старческого припоминания.
Увидев на экране самого себя, Лев Николаевич пришел в
«такой восторг», что попросил повторить показ (в восторг не
верю, в повтор верю.— Л. А.). Мейеру было сказано, что отныне
он, Мейер, может снимать Толстого «сколько угодно» (не верю.—
Л. А.). Далее Толстой произнес фразу, достоверность которой
несомненна, ибо полгода спустя о том же самом зашла речь в
беседе Толстого с Л. Андреевым:
— Интересно видеть самого себя почти живым: точно раз-
двояешься.
Видовые ленты вызвали реакцию, в достоверности которой у
меня тоже нет никаких сомнений:
— Это замечательно, это большое дело, надо использовать
его для школы. Это поучительное и разумное зрелище — оно
имеет огромную цену как учебная мера... Скажите, а существуют
ли синематографические журналы?
— Да, Лев Николаевич, за границей образовалась уже целая
литература, в Москве же издается журнал «Сине-Фоно», и он,
кажется, единственный,— ответил Мейер.
Далее следует реплика Толстого, в которой не все вяжется:
«Жалко. Дело хорошее, и его надо вывести из рук невежест¬
венных коммерсантов. В других руках должен развиваться ки¬
нематограф».
Тут не все понятно. Что «жалко»? Что издается журнал?
Что он единственный? Или что его издают коммерсанты? Но о
коммерсантах речи не было,— С. В. Лурье, издававшего «Сине-
Фоно», во всяком случае, к коммерсантам не отнесешь.
36
Между прочим, с этой смутно переданной реплики берет
начало легенда о великом гневе Толстого в адрес «торгашей»,
захвативших кинематограф. Легенду эту я здесь анализировать
не буду, вернусь к фактическим событиям в Ясной Поляне
24 сентября 1909 года.
Посмотрев видовые ленты, Толстой ушел в дом, а крестьяне
стали просить Мейера «покрутить еще что-нибудь». Мейер за¬
рядил «Ухаря-купца». Крестьяне этот гончаровский шедевр
восприняли спокойно, но Александра Львовна пришла в страш¬
ное возбуждение и побежала к отцу: что за ужас там показы¬
вают крестьянам! Это же безобразно, неприлично! Мейер понял
свою ошибку, но было поздно: Толстой вышел, сказал Мейеру,
чтоб тот прекратил сеанс, и запретил ему на будущее как сеан¬
сы, так и съемки в Ясной Поляне.
Этот эпизод, фигурирующий, естественно, только в беседе
1963 года (в интервью 1919-го Мейер о нем умалчивает), сомне¬
ний не вызывает: когда вскоре после Мейера в Ясную Поляну
стал проситься со своими лентами Дранков, Софья Андреевна
специально предупредила его, чтобы он показывал только ленты
«с натуры» — других Лев Николаевич не любит. Мы еще увидим,
что Дранков совету не внял и сделал это в своих целях, а пока
закончим с Мейером, вызвавшим такую бурю.
Мейер уехал, а два месяца спустя появился снова, имея при¬
каз Пате снять Толстого любой ценой: съемками очень интере¬
суется Америка. Договориться о съемке Мейеру не удалось: в
записках домашнего врача Толстых Д. П. Маковицкого отмечено
под февралем 1910 года, то есть еще пару месяцев спустя, что
приехал-де в третий раз «этот еврей Мейр», которому уже
дважды отказывали (простодушный Душан Петрович считал
евреями всех подозрительных, с его точки зрения, людей, и даже
боготворимый им Лев Николаевич не мог его переубедить).
Стало быть, во второй приезд, 24 ноября 1909 года, Мейеру
было отказано.
Но он не уехал сразу, а подстерег Толстого во время про¬
гулки.
«...Мы оживленно беседовали...»
В «оживленную беседу» я, конечно, не верю, а верю вот во
что: подойдя к Толстому, Мейер попросил позволения снять его
здесь же, в аллее. Толстой нахмурился и ответил, что это про¬
тиворечит его принципам. Мейер попробовал настаивать. Тол¬
стой внимательно посмотрел на него:
— Уйдите, вы мне мешаете.
Мейер отступил. Но не сдался.
Он пробежал по соседней аллее вперед и спрятался с каме¬
рой на пути Толстого.
37
Толстой появился, медленно приближаясь. Скрип снега за¬
глушал стрекотание камеры, и Мейер начал снимать... пять...
десять... пятнадцать... восемнадцать метров пленки.
Это была победа!
В тот момент, конечно, Мейер вряд ли всматривался в лицо
Толстого — не до того было: держал кадр. Но, посмотрев в Моск¬
ве готовую пленку, оценил снятое.
...Толстой идет медленно, держа в руке свою диковинную
палку.
Останавливается.
Смотрит вверх на деревья.
Опускает голову, задумавшись.
О чем?
Из дневника и записной книжки Толстого, 24—26 ноября
1909 года:
«...Люди безнадежны и сами готовят себе неизбежную поги¬
бель...»
«...В России совершается теперь нечто ужасное и совершенно
исключительное, я думаю, нигде никогда не происходившее в
истории...»
«И это жалкое подражание Европе... Нечто подобное тому,
что бы делал человек, укладывая камнями снежный путь для
того, чтобы подражать тем людям, у которых нет зимы и ко¬
торые мостят дороги...»
«Безумие...».
Между тем кинематограф интенсивно развивался в обеих
столицах, и осенью 1909 года царь изволил вторично высказать¬
ся по этому поводу. Высочайшая резолюция гласила: «Опять
кинематограф! Какой вред они приносят, когда служат местом
встреч для преступников. Пользы от них не может быть. Они
вообще оказывают пагубное влияние, приучая публику к дурным
привычкам. Надо в каждый такой театр назначить по жандарму,
чтобы постоянно следить за подозрительными посетителями».
У жандармов были свои заботы, у кинематографщиков — свои:
осенью 1909 года в кинематографе произошло событие , которое
вряд ли было замечено за его пределами, между тем оно имело
в перспективе важные и даже несколько непредвиденные послед¬
ствия. Французы в осуществление своей русской программы вы¬
пустили фильм «Воскресение». Он был сделан по лучшим рецеп¬
там: Маделена Рош, Дюмени и другие парижские артисты де¬
монстрировали отточенность жестов и щеголяли посреди снегов
(зимняя натура ценилась на парижском кинорынке) в русских
38
«национальных костюмах». Или без костюмов — там, где авторы
фильма, предвидя спрос публики, разворачивали интимные
сцены.
В русских кинокругах поднялся хохот: Нехлюдов — какой-то
потрепанный вивер лет под пятьдесят, не то в судейской тоге,
не то в шинели жандармского генерала! Катюша Маслова —
точная копия воспитанницы католического монастыря! А дву¬
колка с парусиновым верхом! А дуга у лошади над задом! Хо¬
рошо же у Пате читали роман Толстого!
Однако смех был недолог. Лучшая заграничная фирма взя¬
лась за русский сюжет — тут было о чем задуматься. Француз¬
ское «Воскресение» помогло русским кинопредпринимателям
решиться. И они решились: не гнаться ни за французскими тем-
поритмами, ни за итальянской пышной декоративностью, а сде¬
лать ставку на свое. Ключевой задачей русского кино станови¬
лась экранизация русской классики.
В этот-то момент и стало ясно, что Ханжонков выиграет у
Дранкова будущую гонку: он встал на более перспективный путь.
Впрочем, Дранков все еще надеялся на сенсацию и бомбардиро¬
вал Софью Андреевну покорнейшими просьбами позволить и
ему устроить в Ясной Поляне киносеанс.
Отметим и еще одно маленькое событие, происшедшее после
выхода на русский экран французского «Воскресения»: от фран¬
цузов ушел директор их русского отделения Пауль Тиман. Этот
немец был человеком деловой хватки и точного чутья: он оце¬
нил момент. Взяв в компаньоны табачного фабриканта Рейнгард-
та, Тиман открыл свое кинопроизводство. Тут весьма кстати
прогорело русское отделение итальянской фирмы «Глория»: опе¬
ратор фирмы синьор Серрано, изъяснявшийся с русскими только
через переводчика, нечаянно перепутал английские футы с
французскими метрами; таким образом он накрутил не в фокусе
довольно много пленки; когда пленку проявили, синьор Серрано
из уважаемого профессионала сразу превратился в неудачника;
его контора испустила дух: в конкурентной борьбе было не до
сантиментов. Пауль Тиман немедленно купил все оборудование
фирмы, а заодно и сотрудников.
Среди сотрудников был молодой человек с дипломом Ком¬
мерческого училища и внешностью римского патриция. В «Гло¬
рии» он служил переводчиком при Серрано, а у Тимана сделался
сразу кассиром, бухгалтером, реквизитором, помрежем и редак¬
тором надписей. Молодой человек рассчитывал на собственные
постановки и не без оснований полагал, что это выйдет у него
не хуже, чем у невежественного Гончарова, которого он называл
«бывшим начальником какого-то полустанка». Молодого челове¬
ка звали Яков Протазанов.
39
Так сложились два содружества: Тиман и Протазанов, Хан-
жонков и Чардынин. Прибавим еще Дранкова. Учтем и Перско-
го, расторопного московского инженера, который прошел школу
у Гомона, а затем стал издателем, как он писал, «самого боль¬
шого в мире» киножурнала,— Перский тоже нацелился на про¬
изводство «художественных фильмов». Не забудем и колбасника
Либкина, который предвидел большие дела и уже переиначил
свою фамилию на немецкий лад: «Либкен». Представим себе
их всех, и мы получим расклад сил, которые год спустя, после
смерти Толстого, разыгрывают на первых порах применительно
к экрану его литературное наследие.
Толстой, естественно, ничего этого не знает. Он киножурна¬
лов не выписывает. Он живет в Ясной Поляне и думает о своем.
«...Встретил одного возчика, другого пешего: на лиг+ах обо¬
их озлобление и ненависть за то, что я барин. Как тяжело. Как
хотелось бы избавиться от этого. А видно, так и умрешь...». л
«Недовольство в темном народе страшное. Царь и мужики, а
остальное все стереть с лица земли...».
Глава 3
ПОСЛЕДНИЕ
БЕСЕДЫ
Дранкову Софья Андреевна разрешила приехать после Нового
года. 6 января Дранков прибыл в Ясную Поляну; 8-го вернулся
в Москву, где похвалился своим успехом перед журналистами;
9-го в «Русском слове» появилась статья об этих успехах; 10-го
Дранков в письме к Софье Андреевне извинился за эту статью.
Через неделю статью перепечатали еще две газеты, потом —
два киножурнала, причем в каждом случае текст менялся. Вениа¬
мин Вишневский, авторитетнейший историк русского кино, пред¬
полагает, что текст редактировали в сторону достоверности, так
что наиболее ценной является позднейшая перепечатка — в «Си-
не-Фоно». Я не решился на такое предпочтение и избрал дру¬
гой принцип, а именно, правило английских журналистов: выяс¬
нять истину из тенденциозных отчетов методом наложенного чте¬
ния, когда вранье как бы взаимоуничтожается. Итак, я сличил
все имеющиеся дранковские отчеты и, найдя в них некое общее
основание, извлек следующие факты.
Дранков привез в Ясную Поляну ленту о самом Толстом,
несколько видовых и хроникальных, а также одну художествен¬
ную. То есть, то же, что Мейер, но с той разницей, что худо¬
жественную Дранков привез заведомо против воли Софьи Андре¬
евны, объявившей ему, что Толстой этого не любит.
Художественная лента была—«Власть тьмы», снятая Чар-
дыниным для Ханжонкова.
Сеанс начали с кадров пребывания Толстого в Крекшине
и Москве.
Внуки Толстого, показывая пальцами на экран, кричали:
«Вон дедушка! Вон бабушка!»
Бабушка была в восторге. Дедушка задумался и сказал:
— Ах, если бы я мог теперь видеть отца и мать так, как я
вижу самого себя!
Затем спросил, нет ли у Дранкова лент с изображением рус¬
ских литераторов. Дранков сказал, что есть — лента с Леонидом
Андреевым. Толстой заинтересовался: он Андреева никогда не
41
видел, хотя из всех современных писателей именно Андреев
вызывал у него наибольший интерес. Показать ленту Дранков,
однако, не мог, так как не взял ее с собой в Ясную, но он, скорей
всего, рассказал Толстому о своей беседе с Андреевым и о том,
что Андреев пророчит синематографу великую будущность в ка¬
честве научного средства. Вот тут-то, наверное, и зашел
разговор о том, по какому пути развиваться новому изобретению:
по пути науки или по пути забавы? Во Франции, мог при этом
сообщить Дранков, сюжеты для синематографа выдумывают,
а у нас в России...
Реплика Толстого:
— В России синематограф должен запечатлевать исключи¬
тельно русскую жизнь в самых разнообразных ее проявлениях,
причем так, как она есть,— не следует гоняться за выдуманными
сюжетами.
Дранков мог торжествовать: он гонялся именно за тем, за чем
следовало.
— А есть ли у вас снимки из крестьянской жизни?
Снимков из крестьянской жизни, как на грех, не оказалось,
был «Зоологический сад в Лондоне».
— Отчего бы вам не заняться изображением жизни трудового
народа и схватить разные моменты этой трогательной по терпе¬
нию и смирению крестьянской жизни? Например, сбор податей!
Прочтя у Дранкова про «сбор податей», я, честно сказать,
усомнился: нет ли тут иронии? Но потом понял, что нет. Толстой
попросил принести альбом художника Н. Орлова «Русские му¬
жики» со своим предисловием и начал со слезами на глазах по¬
казывать Дранкову картинки, на которых мужики прощают сво¬
их обидчиков. Об идеях Толстого касательно этих сюжетов дает
полное представление текст предисловия, где автор, создавший
когда-то «Войну и мир», доказывает, что настоящий русский му¬
жик — не тот, который победил Наполеона, и не тот, который,
к несчастью, так скоро научился делать машины, железные до¬
роги и парламенты, а тот смиренный, трудовой, христианский,
кроткий, терпеливый народ, который кормит своих притесните¬
лей,— именно в этом предисловии выражены, по определению
В. И. Ленина, худшие стороны «толстовщины»1.
Дранков выслушал Толстого, посмотрел репродукции, а по¬
том со вздохом сказал, что ничего не выйдет: у Орлова все сцены
происходят в помещении, а синематограф делает снимки только
на открытом месте.
Тут вмешалась Татьяна Львовна и сказала, что в Кочетах Туль¬
ской губернии до сих пор сохранились у крестьян старинные
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч , т. 20, с. 362.
42
костюмы и для синематографа можно устроить интересные
сцены прямо на воздухе.
Толстой заметил:
— Вы послушайте Таню! Это очень интересно, потому что
сама жизнь нашего крестьянства интересна и поучительнаI
Затем Толстой ушел, оставив Дранкова договариваться с Та¬
тьяной Львовной о деталях намеченной постановки.
Отсюда берет начало легенда, будто Лев Николаевич сразу
написал для этой постановки сценарий и уже через час срежисси¬
ровал перед потрясенным Дранковым фильм «Крестьянская
свадьба». Когда полгода спустя Дранков снял в Кочетах этногра¬
фические сцены, то в рекламе он так и написал: «Срежиссиро¬
вано Л. Н. Толстым». Но это не более чем реклама. Толстой ушел
с сеанса не потому, что ему захотелось немедленно написать сце¬
нарий; он ушел по другой причине.
Причина была та, что Дранков зарядил «Власть тьмы». При
первых кадрах простодушной чардынинской ленты Толстой
встал и удалился.
В письме к Софье Андреевне, написанном по возвращении
в Петербург, Дранков был вынужден объясниться (цитирую
подлинник, хранящийся в отделе рукописей Московского Музея
Л. Н. Толстого):
«...Еще раз приношу свое извинение за демонстрирование
картины «Власть тьмы» в таком искаженном виде, эта картина
исполнена не моей фабрикой, и взяв ее, я не просмотрел предва¬
рительно, полагаясь на одно заглавие...»
Ну да! Так уж и «не просмотрел»! Уж Ханжонкова-то в лупу,
поди, изучал! Подставил конкурента под гнев его сиятельства.
«...Слагаю с себя также ответственность,— продолжает Дран¬
ков,— за пространную заметку «Русского слова», так как пара
слов, сказанных приятелю-сотруднику газеты, превратилась в
такую статью, которой я не узнал...».
Вот тут вся правда! И есть в чем извиняться: в статье дейст¬
вительно не узнать ни Толстого, ни Дранкова. Тоном эпического
сказания там повествуется о том, как Толстой «просил» доставить
ему фильмы, и как Дранков был «специально приглашен» в Яс¬
ную Поляну, и как его появление «сразу отодвинуло все разго¬
воры в сторону», и как Толстой «подробно расспрашивал о но¬
востях синематографии» и «внимательно всматривался в экран»,
причем «наиболее сильное впечатление произвела на Л. Н.
картина», пробудившая в нем воспоминания о той шумной тол¬
пе, «которая так радостно провожала его из Москвы».
Это — в «Русском слове». Что же до «Новой Руси», то там ска¬
зано буквально следующее: Лев Толстой «зовет себе на помощь
синематограф».
43
И еще фраза, замечательная по своей откровенности: «Л. Н.,
видимо, устал бороться и отбиваться».
Это точно: устал отбиваться. Дранков привез из Ясной Поля¬
ны пять сенсационных сюжетов: Толстой на прогулке верхом;
Толстой на прогулке пешком; Толстой на крыльце; Толстой в
санях; Толстой дает милостыню нищим мужикам.
Особенно интересен последний кадр, потому что на нем круп¬
ным планом видно лицо Толстого, измученное и разгневанное.
Из дневника 7 января:
«...неперестающий стыд перед народом. Неужели так и кончу
жизнь в этом постыдном состоянии? Господи, помоги мне».
В феврале является Мейер.
На сей раз приезд Мейера (как мы помним, третий по счету)
темен и плохо отражен в свидетельствах. Доктор Маковицкий
пишет, что француз снимал; новый секретарь Толстого Булгаков
пишет, что съемку отложили до весны. В записях самого Толсто¬
го о приезде Мейера ни слова; Толстому не до него: дочь Саша
заболела корью, Лев Николаевич плачет у ее постели; в этот
момент приходит письмо из Киева: какой-то студент призывает
Толстого отказаться от графства, раздать имущество и без копей¬
ки денег идти по земле нищим. Булгаков записывает фразу
Толстого:
— Если бы не дочь, не Саша, я бы ушел!.. Я бы ушел!
Через пять дней кинематограф опять возникает в разговорах:
в Туле сгорел кинотеатр, в давке погибло двенадцать человек,
Толстой дотошно расспрашивает об этом; призрак Ходынки ви¬
сит над его сознанием.
В марте сказано:
— Вся эта цивилизация — пусть она исчезнет к чертовой ма¬
тери, но музыку — жалко!
В мае рождается легенда, будто Дранков снял Толстого «на
фоне автомашин». Этот эпизод взволнованно изображен Викто¬
ром Шкловским в книге «Лев Толстой», но вряд ли он реален.
Я уж не говорю о том, что кадры с автомашинами не найдены
и не описаны ни одним киноведом, но о съемке молчат и ме¬
муаристы, которые, между прочим, подробно зафиксировали тот
факт, что 1 мая Лев Николаевич ходил из Ясной Поляны на шос¬
се смотреть гонку Москва — Орел, причем гонщики его узнали и
махали шляпами. Толстой впервые увидел тогда автомобиль.
Вот его реплики, записанные Булгаковым и Маковицким:
— Автомобили в нашей русской жизни... У иных лаптей нет,
а тут автомобили...
— Вот аэроплан я, должно быть, уж не увижу. А вот они
44
(указывает на ребятишек) будут летать... Но я бы желал, чтобы
лучше они пахали и стирали.
Про кинематографщиков — ни слова. Вряд ли Толстой умол¬
чал бы, если бы его тогда снимали: как раз на эту пору
падает наибольший интерес Толстого к кинематографу — инте¬
рес, продержавшийся около трех месяцев и вызванный много¬
кратно описанным в кинокритике разговором Толстого с Леони¬
дом Андреевым.
Андреев был в Ясной Поляне всего за десять дней до автогон¬
ки: 20 апреля 1910 года.
Встреча с Андреевым, как я уже сказал,— кульминация тол¬
стовских связей с кино и главный плацдарм толстоведческих и
киноведческих исследований по этой теме. Постараемся же не
упустить ни словечка.
Андреев провел в Ясной Поляне около суток и беседовал с Тол¬
стым несколько часов, причем часть беседы прошла без свиде¬
телей. О беседе наедине мы можем судить по отзывам самих ее
участников: Л. Толстой поделился впечатлениями с А. Гольден¬
вейзером, Л. Андреев — с корреспондентом «Утра России»,—
о кино в этой части упоминаний нет. Что же до разговора на
людях, то его старательно записали, причем порознь, В. Булгаков
и Д. Маковицкий. О кино речь зашла именно тут, но это не зна¬
чит, что Толстой и Андреев, оставаясь с глазу на глаз, вовсе
не касались этой темы. Просто оба они не придавали ей решающе¬
го значения; речь шла о вещах более острых и важных: о смерт¬
ных приговорах и самоубийствах, о писательском съезде и о кон¬
фуцианстве, о пьянстве в народе и об издательстве «Посредник».
Не исключено, конечно, что и кинематограф фигурировал в бесе¬
де наедине. Во всяком случае, нелишне предположить — для
надежности,— что, отвечая позднее, за обедом, Андрееву на тира¬
ду о кинематографе, Толстой отреагировал не просто на эти
слова (немедленно записанные Булгаковым и Маковицким),
но на более широкий спектр воззрений Андреева по части кино,
проясненных в ходе длительной беседы.
Поэтому я хочу прежде всего реконструировать общие пози¬
ции Леонида Андреева, тем более интересные, что Андреев во¬
площал в тот момент наиболее прогрессивный взгляд на кино,
возможный у русского интеллигента 1910 года,— в его лице
Толстой получил воистину последнее слово тогдашней кинокри¬
тики, кинотеории и даже киносоциологии.
Три источника, по которым я выстраиваю позицию Андреева:
— его высказывания о кинематографе в тогдашних газетах;
— его «Письма о театре», из которых первое написано Андре¬
евым всего через полтора года после беседы с Толстым;
45
— книга К. Чуковского «Нат Пинкертон и современная лите¬
ратура», только что вышедшая тогда вторым изданием, — Андре¬
ев эту книгу прекрасно знал и пересказывал ее идеи Толстому.
Итак, вот что думает (или может думать) о кино Леонид Ан¬
дреев в момент его беседы с Толстым.
Кинематограф — величайшее изобретение человеческого ге¬
ния: он меняет саму психологическую основу нашего «я». Он
Знаменует собой невиданное раздвоение человека, уничтожение
личности в старом смысле слова. Видишь себя тенью на полотне:
движешься, функционируешь, вроде бы живешь, а — тень! Это
страшно...
(Полтора десятилетия назад такой же философский ужас
испытал, как мы помним, перед киноэкраном А. М. Горький.—
Л. А.).
Кинематограф будет иметь огромное воздействие на духовную
жизнь людей начавшегося XX века. Почему хиреет драма? Ведь
только немой не вопит сейчас об оскудении драматической лите¬
ратуры! Потому что перед нами совершенно новая действитель¬
ность, которая театру не под силу. Много ли может сделать вы¬
ступающая перед занавесом личность на фоне двух десятков
статистов? Театр отражает именно поступки личностей — но как
отразить бумажные терзания современного интеллекта? Как во¬
плотить суматошное метание толпы, мощное движение массы,
социальную драму народа?
А нынешний зрительный зал! Это же дикость и нелепость,
его смешанный состав! Только начал прислушиваться умный,
зазевало и засморкалось двадцать дураков. Дураки довольны,
умный корчится от тоски... Силясь удовлетворить всех, драма
теряет почву, становится психологически бездоказательной, хва¬
тается за аллегории — все тщетно...
Так кто же возьмет на себя смелость выразить современную
массу?
Блестящий выходец со дна, сиятельный Кинемо! Это как раз
для него: наивный натурализм вещей, стремительное действие,
морзовский язык, психология, столь напоминающая похороны
вскачь! Чудесный Кинемо! Что рядом с ним — воздухоплавание,
телеграф, сама печать! Портативный, укладывающийся в коро¬
бочку, он по всему миру рассылается по почте. Не имеющий
языка, одинаково понятный дикарям Петербурга и дикарям
Калькутты, он воистину становится гением интернационального
общения, сближает концы Земли и края душ, включает в еди¬
ный ток вздрагивающее человечество...
(«Дикари Петербурга» явно навеяны Андрееву Чуковским.
Ибо если Андреев мечтает о будущих триумфах кино, то Чуков¬
ский пишет о его жалком настоящем.— Л. А.)
46
Что же мы видим на экране? «Бега тещ»! Идиотские скачки,
драки, гримасы. Смотришь и изумляешься: почему не татуирова¬
ны зрители, сидящие рядом с тобой?.. Это даже не готтентоты,
это какие-то дгсихологические павианы, появление которых пред¬
сказывал еще Герцен! Павианы толпы, муравьи большого города,
мифотворцы миллионных кварталов! Нет более народа — есть
толпа. Народ создал Олимп и Колизей, Вифлеем и Голгофу. Со¬
временная толпа создает кинематограф. Надо вырвать великое
техническое изобретение из бездны идиотизма!..
Так или приблизительно так мог думать Леонид Андреев,
когда 20 апреля 1910 года за обедом в Ясной Поляне он загово¬
рил с Толстым о кино.
Натолкнулись почти случайно. Речь шла об упадке современ¬
ной литературы. Толстой спросил Андреева, для чего пишут мо¬
лодые современные литераторы. Андреев ответить не смог, но
спросил Толстого, каких молодых современных литераторов
Толстой знает. На сей раз ответить не смог Толстой, и тогда
Андреев назвал ему нескольких молодых прозаиков и поэтов.
Толстой попросил назвать и критиков. Андреев назвал Чуков¬
ского: вот кто не стесняется писать, например, о таких «низких»
и «запретных» предметах, как кинематограф! И Андреев стал
рассказывать Толстому о своих европейских киновпечатлениях:
в Амстердаме показывают на экране пошлятину, а публика смот¬
рит, да сеанс еще и сопровождается чтением текста, что уси¬
ливает воздействие. Кинематограф тонет в мерзости...
— Почему же писатели не возьмутся за сочинение пьес для
кинематографа?
...Вот! В этом-то и дело! Он, Андреев, даже советовал петер¬
бургскому кинопромышленнику Дранкову объявить среди писа¬
телей конкурс в целях создания хорошего репертуара. Почин
нужен, почин! Ведь если кинематограф усовершенствовать, он
произведет огромные изменения в сознании людей. В философ¬
ской сфере...
Толстой слушал скептически. Потом понемногу заинтересо¬
вался. Потом увлекся и сказал:
— Непременно буду писать для кинематографа!
На этом беседа закончилась. В дневнике Толстой записал:
«Приехал Андреев... Приятное доброе обращение. Мало серь¬
езен».
Наутро Андрееву сказано:
— Вы знаете, я все думал о кинематографе. И ночью все про¬
сыпался и думал. Я решил написать для кинематографа. Ведь это
понятно огромным массам, притом всех народов. И ведь тут мож¬
но написать не четыре, не пять, а десять, пятнадцать картин...
Но, конечно, необходимо, чтобы был чтец, как в Амстердаме,
47
который бы передавал текст. Без текста невозможно. Непремен¬
но сочиню... если успею.
На прощание Толстой поцеловал Андреева. Садясь в коляску,
растроганный до слез Андреев попросил Булгакова напомнить
при случае Льву Николаевичу, что если напишет для кинема¬
тографа, то он, Андреев, скажет Дранкову, и тот немедленно при¬
едет в Ясную Поляну с труппой актеров и хорошим режиссером,
чтоб тут же разыграть и снять пьесу. Андреев чувствовал: или
это произойдет сейчас — или не произойдет никогда.
Булгаков честно все передал Толстому. Он в андреевскую
затею не верил. Булгакову вообще не понравился Андреев со
всеми его увлечениями: «знакомый тип богатого и праздного че¬
ловека», не знающего, чем занять время. Булгаков был тргда
молоденьким студентом, он боготворил Толстого и думал, что
все это слишком незначительно для великого старца.
Однако Булгаков недооценил то впечатление, которое произ¬
вел на Толстого рассказ Андреева о кинематографе: отголоски
их беседы прослеживаются в разговорах Толстого в течение
двух месяцев.
Гольденвейзеру, приехавшему в тот же день, сказано:
— Кинематограф в некоторых случаях может быть полезнее
книги.
Плюснину, толстовцу с Дальнего Востока, — 29 апреля:
— Я все думаю сочинить в кинематограф. Ведь китаец, коре¬
ец поймет... Пьесу сочинить. Вот Андреев мне рассказывал, что
он видел в Амстердаме, как представляли обманывание мужа
женой. Вместо этих пьес можно бы пьесы поучительные, мало
ли что можно. Можно жизнь Христа...
Семенову — 5 июня:
— Нужно обратить внимание на так распространившиеся
кинематографы... Андреев рассказывал, что там показываются
всевозможные мерзости, а вот если бы составить для них хоро¬
шие пьесы...
Еще через двенадцать дней, 17 июня, уже в Отрадном, у
Чертковых (о причинах отъезда чуть ниже) происходит за ве¬
черним чаем знаменательный разговор. Жена Черткова, Анна
Константиновна, рассказывает, что «где-то, кажется в Англии...
во время съемки кинематографом какой-то картины в воду упали
люди и стали тонуть, и... потом публика валила в кинотеатр на
это зрелище...»
В наступившей тишине Толстой внезапно тихо произносит:
— Я понимаю это любопытство... Как же не любопытно?
Я сам не удержался бы и пошел смотреть на казнь...
«Смотреть на казнь». Ассоциативный скачок памяти, связан¬
ный с потрясением, пережитым когда-то во время поездки по
48
Европе. Это воспоминание и теперь вызывает в Толстом сме¬
шанное чувство любопытства к чужому несчастью и стыда за
свое любопытство. Чуткий Булгаков мгновенно улавливает это
настроение и смущенно комментирует свою запись: «Боюсь, что
вся фраза Льва Николаевича недостаточно точно и ясно передана
мною. Я сидел довольно далеко от него, а он говорил тихо. Но
не хочется совсем замалчивать ее, потому что она трактует о
слишком важном и интересном психологическом вопросе».
Прокомментируем этот эпизод и мы, ибо «трактует» он и о
нашем вопросе тоже.
Итак, кинематографисты снимают игровой фильм и случайно
фиксируют на пленку настоящее несчастье. Публика идет смот¬
реть не игровой фильм, а эту нечаянную настоящую правду.
Здесь выявляется то самое уникальное свойство киноискусства,
та самая нечаянная его сверхзоркость, над которой много деся¬
тилетий спустя будут биться эстетики и которую Дзига Вертов
назовет: «жизнь врасплох», а Зигфрид Кракауэр: «трепет листь¬
ев...». В сущности, Толстой реагирует, как идеальный кинозри¬
тель! Но любопытно и другое: он совершенно не реагирует как...
эстетик. Он сразу уводит разговор в другой план, ни словечком
не развив столь естественной здесь темы о кинематографе как
о новом феномене искусства и жизни. Видимо, интерес угас.
Окончательно этот интерес был убит через три дня, когда
Толстой еще раз оказался на киносеансе.
Произошло это в Отрадном у Чертковых. А уехал туда Лев
Николаевич в середине июня, после тяжелого разговора с Софьей
Андреевной, когда нанятый ею черкес-охранник поймал крестья¬
нина за порубкой и избитого привел к графине — крестьянин этот
оказался давним любимым учеником Льва Николаевича по Ясно¬
полянской школе. Толстой уехал к Черткову в Отрадное в знак
протеста. Недалеко от Отрадного были две психиатрические ле¬
чебницы: одна в Мещерском, другая в Троицком. Толстой решил
их посетить. В ходе разговоров врачи-психиатры похвастались:
мы-де больным даже кинематограф показываем! Толстой спро¬
сил, не вредно ли им это? Врачи тотчас пригласили Льва Нико¬
лаевича убедиться в полной безопасности киносеанса, и через па¬
ру дней встреченный цветами Толстой вместе с больными и пер¬
соналом смотрел в Мещерском новейшую кинопрограмму.
Реплики Толстого записаны опять-таки Булгаковым.
Сначала были показаны видовые и хроникальные. «Водопад
Шафгуазен»...
— Вот настоящий кинематограф! Невольно подумаешь: чего
только не производит природа.
49
...«Зоологический сад в Анвере»...
— А, обезьяны! Это забавно!
...«Похороны английского короля Эдуарда VII»...
— Мне бы такую лошадку!
Затем пустили комическую (между прочим, с Максом Линде¬
ром) и мелодраму «Нерон». Толстой, не досмотрев, поднялся.
Когда уходили, с одной больной начался истерический припадок.
Запись в дневнике:
«Ездил в Мещерское в кинематограф. Скучно и очень глупо
и нецелесообразно».
Через день прислали за Толстым и из Троицкого: там лечеб¬
ница была классом повыше, окружная, и в зале для кинемато¬
графа стояла мягкая мебель. Толстому ехать не хотелось, но,
боясь обидеть отказом персонал, он поехал.
В дневнике:
«Тяжело и скучно было. Кинематограф гадость, фальшь».
Видимо, в эти дни сказана фраза, записанная Гольденвейзе¬
ром:
— Кинематограф быстро приедается, да и все движения выхо¬
дят в нем ненатурально.
Отныне кинематограф исчезает из дневников и бесед Толстого.
Да вряд ли ему было до кинематографа. Пока он гостил у Чертко¬
ва, в Ясной Поляне началась та драма, что многократно описана
биографами. Суть ее известна: Софья Андреевна подозревала, что
уже написано под влиянием Черткова новое завещание, отнимаю¬
щее у семьи в пользу общества все права на литературное
наследие. Семья немедленно теряла на этом миллион, который
издатели предлагали Софье Андреевне за Собрание сочинений
Толстого. Однако в сущности речь шла о большем, чем деньги, —
о жизненном принципе: Толстой пытался оттолкнуть от себя
собственность, семья восставала против этого, Толстой искал
поддержки у толстовцев, те проявляли активность, и уже счи¬
танные недели отделяли Льва Николаевича от записи, почти
предсмертной:
«Они разрывают меня на части... Уйти от всех».
А мистер Тапсель продолжал снимать сюжеты. Тапсель сни¬
мал, Софья Андреевна возмущалась: ей-де Лев Николаевич не
позволяет себя снимать, а перед Чертковым позирует, «как ста¬
рая кокетка»! Толстой действительно боялся обидеть Черткова
и даже зачеркнул в дневнике фразу, что ему неприятно тапселев-
ское снимание, — зачеркнул и... тотчас показал Черткову, что
зачеркнул. Он, наверное, и Тапселя боялся обидеть в эти послед¬
ние недели, отмеренные ему на этом свете.
50
Назавтра после киносеанса в Троицком из Ясной Поляны при¬
шла паническая телеграмма: «Умоляю приехать скорей». Лев
Николаевич собрался. С этого момента, как замечает Булгаков,
начался крестный путь его к могиле.
Толстой вез из Отрадного начатый там очерк. В очерке рас¬
сказывалось о том, как на прогулке Лев Николаевич встретил
молодого крестьянина, разговорился с ним, и тот обещал Толсто¬
му бросить курить.* Толстой был растроган. Начатый им очерк
назывался «Благодарная почва». Дописал его Толстой уже в Яс¬
ной Поляне.
«...И мы простились.
Да, какая чудная для посева земля, какая восприимчивая.
И какой ужасный грех бросать в нее. семена лжи, насилия, пьян¬
ства, разврата. Да, какая чудная земля, не переставая, парует,
дожидаясь семени, а зарастает сорными травами. Мы же, имею¬
щие возможность отдать этому народу хоть что-нибудь из того,
что мы не переставая берем от него, — что мы даем ему? Аэро¬
планы, дреднауты, 30-этажные дома, граммофоны, кинематогра¬
фы и все те ненужные глупости, которые мы называем наукой
и искусством».
Это второе (из трех) упоминание о кинематографе в сочине¬
ниях Л. Н. Толстого.
Между тем Дранков покорнейше напомнил старшей дочери
Толстого, Татьяне Львовне Сухотиной, о ее обещании устроить
в Кочетах съемку «Крестьянской свадьбы». От Сухотиных при¬
шло подтверждение. Дранков тотчас послал в Кочеты своего бра¬
та вместе с уже знакомым нам Николаем Феофановичем Козлов¬
ским; те начали снимать, и скоро словенец Душан Маковицкий,
старательно осваивавший русский крестьянский язык, сделал
в дневнике следующую запись: «Днем Дранков снимал, как ма-
нанки сучили притуги (которыми притягивают, когда кроют
соломой крыши) и другие работы по экономии Сухотиных». О тех
же творческих усилиях Татьяна Львовна сообщила матери так:
«У нас гостит глупый и пошлый брат Дранкова со своим симпа¬
тичным помощником. У них нет ни капли ни художественного,
ни нравственного чутья. Орлов из себя выходит, чтобы им по¬
мочь, но ничего не выходит... Они выписали новых пленок, так
что нам угрожает их присутствие без конца...»
К началу августа, однако, «Крестьянскую свадьбу» досняли,
и вскоре Дранков, поблагодарив Татьяну Львовну за любезный
прием, оказанный его сотрудникам, испросил великодушного
позволения приехать и продемонстрировать сделанное. Позволе¬
ние было дано, и 4 сентября Дранков с коробками и «верблю¬
дами» явился в Кочеты.
51
Ему повезло: как раз в эту пору Толстой, спасаясь от тяже¬
лых домашних сцен, покинул Ясную Поляну и жил в Кочетах
у старшей дочери.
Дранков повесил в каретном сарае простыню и объявил кино-
сеанс (о котором вскоре с большим торжеством сообщили газеты).
Перед простыней рядом с Толстым разместились крестьяне из
ближайшей деревни. Лев Николаевич сказал, чтобы показывали
Кадр кинохроники. Л. Н. Толстой среди родных и близких. Кочеты,
6 сентября 1910 года. Фирма и съемка А. Дранкова.
только видовые ленты. По свидетельству родных, он едва выси¬
дел до конца.
Газеты же сообщили, что в Кочетах состоялся настоящий
«кинематографический праздник» и разговор «весь день шел
только о кинематографе»: о том «значении, которое ему придает
Толстой» в воспитании и обучении масс.
Одна донесенная газетами реплика кажется мне достоверной.
Глядя кадр, где он с трудом садится в седло, восьмидесятидвух¬
летний старец проговорил:
— Что ж я так долго не могу сесть...
В этот приезд Дранков беспрепятственно снимал групповые
сцены «по экономии Сухотиных», стараясь поймать в кадр Тол¬
стого. И наконец преуспел.
Дело было так. Гуляя по окрестностям имения, Толстой на¬
ткнулся на крестьян, пиливших бревно. Один из них попросил
Кадр хроники: Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Кочеты, 6 сентября
1910 года. Съемка А. Дранкова.
Последний прижизненный кадр Л. Н. Толстого. Кочеты, 6 сентября
1910 года. Съемка А. Дранкова.
53
у графа книжечек. Толстой сказал, что книжечки даст доктор
Маковицкий: надо к нему сходить.
Конечно, крестьянин этот мог отправиться к доктору Мако-
вицкому и после работы, но он уже понял, в какую игру надо
играть с Толстым:
— Я бы пошел, да боюсь работу оставить: управляющий за¬
ругает!
Расчет был верен.
— Иди, не бойся! Я тебя заменю!
И Толстой принялся пилить бревно.
Крестьянин, явившись к Маковицкому просить книжечку,
красочно описал, как его сиятельство вместо него пилит. Дранков
услышал. Можно представить себе, как он бежал со своим уве¬
систым «верблюдом», чтобы не опоздать!
Он не опоздал. И снял сенсационный кадр! Толстой не проте¬
стовал: кажется, ему было уже все равно.
Газеты ликовали: «Толстой в роли пильщика дров!»
Софья Андреевна реагировала иначе: она была уверена, что
Лев Николаевич в Кочетах «эпикурействует» и «делает позу на
весь мир», пиля дрова перед кинематографом. В таком настрое¬
нии Софья Андреевна поехала в Кочеты...
Дранков воспользовался ее приездом и сделал очередной
сенсационный кадр: Лев Николаевич и Софья Андреевна уеди¬
ненно гуляют в саду. Этот кадр был сделан по просьбе графини,
непременно желавшей сняться со Львом Николаевичем вдвоем.
Дранков не знал, конечно, что накануне между ними произошла
тяжкая сцена: тайное завещание, лишавшее семью гонораров,
уже было подписано, но Софья Андреевна еще не нашла его.
Теперь она пыталась спасти семейное согласие, продемонстриро¬
вав его с помощью Дранкова всему миру. Спасти не удалось.
Лев Николаевич отказался возвращаться в Ясную Поляну. Софья
Андреевна в отчаянии покинула Кочеты.
Уехал и Дранков, увозя в коробке идиллический кадр: супру¬
ги Толстые мирно прогуливаются по саду...
Толстой пробыл в Кочетах еще десять дней. 22 сентября он
наконец вернулся в Ясную Поляну, с ужасом думая о том, что
его ожидает. Писать он все это время не переставал ни на один
день.
Из статьи «О социализме»:
«Наш европейский так называемый образованный мир очень
обрадовался тому, что нет религии, и решил, что ее совсем и не
нужно, что мы давно уже стоим выше этих грубых суеверий ка¬
ких-то религиозных учений. Это диким, которые ездили на во-
54
лах, нужна была религия, а мы гораздо выше этого. Не только
пот /тзопз йез 60 а ГИеиге1, но и перелетели через Альпы,
ездим под водой, синематограф, телефоны, граммофоны, бес¬
проволочный телеграф. Чего же еще?
Да, поразительно одурение нашего так называемого образо¬
ванного мира!»
Это — третье и последнее упоминание о кинематографе в со¬
чинениях Л. Н. Толстого. Статья «О социализме» была найдена
в его бумагах уже после смерти.
Итак, мы с вами перебрали все сколько-нибудь достоверные
высказывания Толстого о кино2. Подведем итоги.
1. Толстой не имел связной системы взглядов на кинематог¬
раф и не испытывал собственного интереса к этому предмету.
Все его высказывания о кино суть реакции на весьма настой¬
чивые вмешательства кинематографа в его жизнь.
2. Высказывания Толстого о природе кино непоследовательны
и противоречивы; в качестве лейтмотива можно уловить мысль
о том, что в будущем кинематографу суждено играть сугубо про¬
свещенческую роль. О кино как об искусстве Толстой не сказал
ни слова.
3. Высказывания Толстого о кинематографе как о социальном
феномене более последовательны. Но они вряд ли проницатель¬
ны: кино остается для Толстого частью обреченной, пронизанной
ложью господской городской цивилизации, которую он чаще все¬
го обозначает ядовитой герценовской формулой: «Чингис-хан
с телеграфами». Вот тут уж проглядывает собственная тол¬
стовская позиция. Упоминания о кинематографе в последних
работах Л. Толстого почти случайны, однако контекст этих упо¬
минаний весьма знаменателен: «синематограф» просто встал тут
на готовое место между «телеграфами» и «телефонами». Пере¬
чни дьявольских изобретений цивилизации, отгородивших есте¬
ственно-духовного человека от матери-природы и от бога, по¬
следовательно проходят у Толстого через все его статьи и трак¬
таты последних трех десятилетий. Вряд ли стоит утешать себя
тем, будто Толстой не успел учесть положительные стороны но¬
вого изобретения, как учел он (впрочем, не оценив) положитель¬
ные стороны железных дорог; если бы кино появилось на трид¬
цать лет раньше, Толстой, скорее всего, тогда же и вставил бы
его в свои проклинающие перечни.
1 Мы делаем 60 км в час (франц.— Л. А.).
2 О недостоверных см. мою статью в журнале «Искусство кино», 1977, № 3.
55
Это предположение, конечно, никак не колеблет той реальной
закономерности, по которой кино неотвратимо должно было
стать главным искусством нового века, — но для темы нашего
исследования сказанное существенно.
Когда думаешь о встрече великого старца с великим младен¬
цем на стыке двух эпох, эта встреча поначалу кажется чудом
и знамением: могли бы разминуться, а вот — встретились. Но
разбираясь в этих прямых контактах, понимаешь: все-
таки они разминулись. Не на уровне эмпирических событий
а на уровне духовного взаимодействия. Что тоже знаменательно
Кадры кинохроники:
приезд С. А. Толстой на
станцию Астапово;
Софья Андреевна смот¬
рит в окно на умираю¬
щего мужа. Начало но¬
ября 1910 года. Фир¬
ма «Пате», оператор
Ж. Мейер.
56
Отныне взаимодействие уходит в сферу чистой культуры:
отныне оно становится односторонним; отныне кинематографу
суждено искать контакта, непрестанно атакуя толстовское на¬
следие.
В сущности, все эти атаки и все попытки «сравняться» с Тол¬
стым в экранизациях порождены самоощущением фундамен¬
тальности, которое интуитивно толкало в Ясную Поляну и пер-
Власти запрещают демонстрацию кинохроники похорон Л. Н. Толстого
(из газет 1910 года).
Воронежъ. Владельцам'!- местных!» синематографонъ за¬
ранее было объявлено запрещеше демонстрировать ленты
еъ картинами похоронъ Л. Н. Толстого.
Екатеринбург!». Картины похоронъ С. А. Муромцева и
графа Л. Н. Толстого адмиипетращеП не разрешаются нъ
кинемато! рафахъ г. Екатеринбурга.
Николаевъ. Но распоряжение админнсгращп въ сине¬
матографах!» запрещена демонстрашя картины похороны
Толстого.
Кременчугъ. .Запрещено демонстрировать похороны
.1. Н. Толстого.
Тула. Губернатор!» запретил и демонстрироваше картцнь
похоронъ Л. Н. 'Толстого. Но после упорнаго ходатайства
демонстрация была разрешена.
Варшава. 13 ноября. Запрещена демонстрант въ си¬
нематографах!» картинъ, относящихся къ смерти Толстого.
Ростозъ-на-Д. Владелецъ „Миража" В. И. Куликъ по-
г.халъ въ Новочеркасск!» для исходатайствовашя разре-
шешя на демонстрацию похоронъ Толстого.
Иваново - Вознесенснъ. Въ спнематографахъ запрещено
показывать картины „Похороны Л. Н. Толстого44.
Саратовъ. АдминистращеП не разрешено местнымъ сине-
матографамъ демонстрировать картины похоронъ Л. Н. Тол¬
стого.
Вятка. Г. полицеймейстеръ не раэрешилъ электротеатру
„Одеонъ44 демонстрировать картину „Похороны Л. Н. Тол¬
стого14. Не разрешена была также къ демонстрант кар¬
тина „Похороны С• А. Муромцева44.
57
вых наивных синематографщиков: в Толстом, в самом этом явле¬
нии, в самом типе резонанса, который вызвала его жизнь, было
что-то «не от того века». Что-то от нашего века. По точному
наблюдению современного исследователя, «его популярность
обогнала время и предвосхитила культы и мифы эпохи кино,
телевидения, грамзаписей и иллюстрированных журналов.
Он был из первых, на ком нарождавшиеся средства массовой
информации пробовали свою мощь...»1.
Кадры кинохроники: похороны Л. Н. Толстого. Ясная Поляна, 8 ноября 1910
года. Фирмы «Пате» и Ханжонкова, операторы Ж. Мейер и В. Мартынов.
Однако впереди «иная драма»—именно то, как ответил этому
непрекращающемуся вторжению толстовский духовный мир. На¬
сколько поддался. Насколько позволил употребить себя для но¬
вых нужд.
Об этом и пойдет речь в следующих главах, а пока, в преде¬
лах кончающегося «прямого контакта», мне остается досказать
немногое.
1 Пажитнов Л. О славе Толстого.— «Лит. обозрение», 1978, № 9, с. 45
и сл.
58
28 октября 1910 года Толстой тайно ушел из Ясной Поляны.
29 октября Софья Андреевна, собрав телеграммами сыновей,
взмолилась, чтоб нашли отца. Андрей Львович ответил, что вряд
ли Лев Толстой надолго в России спрячется: сейчас начнется
особого рода спорт — кто первый найдет Толстого.
И точно. Армия репортеров уже шла по его следам. 30 октября
о таинственном исчезновении графа писали все газеты, 31 октяб¬
ря «Русское слово» посвятило этой теме целую полосу,. В газе¬
тах фигурировала фантастическая «прощальная записка» Тол¬
стого, в которой, в частности, будто бы была фраза: «Кинемато¬
графы и авиаторы отравили мне жизнь». В другой газете говори¬
лось: «Для Будды нашлась пустыня. Но для Толстого пустыни
нет. Куда бы он ни удалился, его везде настигнут телеграф, ки¬
нематограф и автомобиль». Таким образом, кинематограф обо¬
гнал и авиацию и автотранспорт. Телеграф был пока впереди...
Половина газет публиковала свежие телеграммы о беглеце.
Другая половина — преимущественно провинциальные газеты, не
имевшие возможности послать репортеров на место событий,—
громко возмущалась первой половиной и требовала, чтобы Тол¬
стого оставили в покое. На станциях публика преследовала пожи-
59
лых людей. Один старик, спасаясь, закричал: «Господа, уверяю
вас, что я больше похож на Суворина, чем на Толстого!»
Появилось сообщение, что синематограф готовит сенсацион¬
ную новинку: фильм о бегстве Толстого. Тотчас же послыша¬
лось требование немедленно запретить это кощунство.
Леонид Андреев заявил журналистам:
— Он хочет и умереть как великий художник! Как это
красиво! Как это полно! Толстому в его жизни недоставало
одного последнего штриха — и вот он сам нашел этот штрих...
Толстой в это время уже сошел с поезда в Астапове. Здесь
его и настигли. Он лежал больной в комнате
начальника станции Озолина, а в станци¬
онном буфете журналисты пили водку, за¬
кусывали, обсуждали новости и слушали
Софью Андреевну, которая жаловалась им,
что Толстой не хочет ее видеть. Мейер был
здесь. Пате сказал ему: «Снимите вокзал, и
чтобы первым планом было видно название
станции. Снимите семью, всех знаменито¬
стей, а также вагон, в котором они разме¬
щаются». Все это Мейер уже снял. В дом его
не пустили. Он снял окно, за которым ле¬
жал Толстой. Снял Софью Андреевну в шу¬
бе и платке, приникшую к стеклу.
7 ноября в шесть утра один из докторов
крикнул в форточку:
— Умер!
Мейер проснулся от голосов, вскочил и,
схватив аппарат, побежал к дому Озолина.
Там уже толпились люди. Мейер снял вынос
тела и погрузку в вагон.
К этому моменту поспел из Петербурга
Дранков. Включился и Ханжонков. Он рас¬
считал, что в Астапово уже не поспеет.
Тогда он дал камеру своему бухгалтеру Мар¬
тынову и велел ехать прямо в Ясную Поля¬
ну. Мартынов не подвел: снял подготовку по¬
хорон и прибытие тела. Именно он, В. Н. Мар¬
тынов, снял тот знаменитый кадр, когда тол¬
па упала перед гробом на колени, а поли¬
цейские остались стоять, тогда им крикнули:
Похороны Л. Н. Толстого — кадр кинохроники.
«На колени!» — и они опустились тоже. Две кассеты Мартынов
отправил Ханжонкову с оказией, а сам продолжал снимать и сни¬
мал до самого последнего момента, так что едва не опоздал на
московский поезд. Ханжонковский завлабораторией Сиверсен
всю ночь проявлял негативы и печатал копий. Наутро от уста¬
лости он разозлился и объявил Ханжонкову, что уходит от него
к Пате. Ханжонков не дрогнул и взял на его место Форестье.
Главное — он, Александр Ханжонков, наконец-то поспел первым.
10 ноября фильм о похоронах Толстого уже крутили в кино¬
театрах.
Судьба лент
Фильмы о Толстом демонстрировались всю зиму. В некоторых
городах власти, опасаясь эксцессов, запрещали сеансы. Опасе¬
ния имели основания: публика реагировала бурно. Лишь к весне
эти ленты были потеснены очередными сенсациями. Впослед¬
ствии все они погибли: либо износились, либо, в годы революции,
были уничтожены владельцами, протестовавшими против нацио¬
нализации кино. Копии сохранились лишь в семье Толстых:
вспомним, что Дранков и Мейер дарили их Софье Андреевне.
Много лет спустя эти уцелевшие копии попали в Московский
музей Толстого. В 1961 году Музей передал Госфильмофонду
куски пленки, непригодные уже ни к демонстрации, ни к контра-
типированию. Их отреставрировали кадр за кадром, и Вера Дмит¬
риевна Ханжонкова, ветеран Госфильмофонда и вдова Александр
ра Алексеевича, смонтировала новый позитив. Позитив передали
Музею Толстого, и музей включил его в свои материалы.
После просмотра
В августе 1975 года музей показывал толстовские хроники на
вечере встречи с приехавшей в Москву из Рима Татьяной Ми¬
хайловной Альбертини, дочерью Татьяны Львовны Сухотиной
и внучкой великого писателя.
Присутствие гостьи электризовало зал. В моей памяти кру¬
тилась фраза из булгаковского дневника 1910 года: как трехлет¬
няя Танечка кушала из одной тарелки с дедушкой, и вот дедушка
сказал:
— Когда-нибудь в тысяча девятьсот семьдесят пятом году
Татьяна Михайловна будет говорить: «Вы помните, давно был
Толстой? Так я с ним обедала из одной тарелки...»
Вот, думал я, даже и в дате он не ошибся: семьдесят пятый
год... Я невольно искал глазами гостью, стараясь угадать ее в
публике. Потом погас свет, и пошли первые кадры.
Какие-то пышные дамы. Какие-то играющие собачки. Бегу¬
щие кони, колеса экипажей, ящики багажа. Вагоны, затылки,
шляпы, букеты. Сам Толстой, мелькающий в этом столпотворе¬
нии предметов, кажется предметом: схватываешь шляпу, блузу,
палку, бороду...
Где глаза? Знаменитые простреливающие глаза?
Ага, вот на крупном плане...
Досадливый взгляд в сторону аппарата.
Усмехнулся устало. Отвернулся. Играет с внучкой Танечкой.
Что-то отвечает на вопрос. Снимает шляпу, окруженный толпой.
Кланяется орущим людям.
62
С изумительной точностью воспроизводит камера окружение
великого старца. Не его самого, а именно волны вокруг него,
бегущие людские круги. В самом Толстом фиксирует реакции
на эти захлестывающие волны. Камера — в этом потоке, частица
его, выражение его.
Сильнейшее — смерть и похороны.
Толстой исчез;. Он умирает за закрытым окном. Море челове¬
ческое бушует вокруг. Эти кадры страшны.
Трясущаяся, зажатая с двух сторон медиками Софья Андреев¬
на кружит около астаповского дома, что-то, плача, объясняет в
аппарат. Хочется зажмуриться, глядя на это. И все-таки какая-то
странная признательность оператору: не дрогнул, снял! Безжало¬
стность объектива — продолжение толпы, бессильной сдержать
себя и в ликовании и в горе. Сам становишься ее частицей, когда
видишь такое.
Ясная Поляна. Первые всероссийские внецерковные похоро¬
ны (следующие — менее семи лет спустя, в Петрограде, на Мар¬
совом поле...). Дорога от станции к усадьбе. Черная лента траур¬
ной процессии посреди замерзшей земли. Люди сжаты, сдавлены
друг другом — только лица одинаково тянутся вверх: увидеть.
Белое, растерянное лицо Брюсова в толпе.
Толстого нет. Его вообще нет в этих двух километрах перфо¬
рированного целлулоида. Нет того, чем Толстой уникален, чем
непохож на миллиарды других людей, чем отмечен как неповто¬
римое, духовное явление.
Разве что в одном кадре...
Где ранним утром в полном одиночестве он идет по пустынной
опушке.
Все далеко: лес, небо, люди. Даже дымка какая-то, белесый
туман в кадре — то ли от допотопного дранковского проявителя,
то ли впрямь от утреннего холода.
В тишине медленно идет к нам, не видя нас.
Слава богу, вывалился оператор из бегущей толпы, и ночь
простоял, продрог 'в безлюдье — подчинился ритму Толстого,
его природе.
Тут я поверил: это Толстой.
Зажегся свет, вышли к столу сотрудники музея, и все стали
аплодировать. Поднялась женщина, улыбнулась счастливо и ста¬
рым московским говором произнесла:
— Ну, вот, я та самая Танечка и есть...
Глава 4
„ЯМА,
В КОТОРУЮ
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ВСЕ“
Начался 1911 год. Из девятисотых Россия переваливалась в
десятые. Стучали топоры переселенцев, гудели заводы, трещали
проекторы «кинемо».
В январе, вскоре после Нового года, в одном из таких провин¬
циальных «кинемо», в момент, когда герой мелодрамы поднес
пистолет к виску, в зале раздался выстрел. Зрители решили, что
выстрел произведен администрацией театра для лучшего звуко¬
вого эффекта. Оценили усердие фирмы. После сеанса, когда пуб¬
лика стала выходить, в зале обнаружили труп молодого человека.
Извлекли записку: «Тяжело стало жить после кончины Л. Н. Тол¬
стого. Прощайте...»
Великий старец уже восемь недель лежал в земле, а имя его
продолжало электризовать атмосферу, и без того наэлектризован¬
ную. Ждали сенсационных публикаций. Софья Андреевна Тол¬
стая готовила собрание сочинений мужа, написанных до 1881 го¬
да, Александра Львовна Толстая готовила трехтомник неопубли¬
кованных произведений отца; между издательницами шел спор,
за которым зорко следили газеты: репортеры докладывали о кра¬
же рукописей из архива и охотно предсказывали, какие сенса¬
ционные произведения Толстого и когда именно станут достояни¬
ем почтеннейшей публики.
Одно из произведений называли чаще других: то была пьеса
о некоей пропащей жизни. Именно о ней еще в сентябре 1910 го¬
да, при живом Толстом, газеты сообщали со слов его английского
биографа г-на Моода: припрятана-де заботливой графиней пьеса
«Мертвое тело». Теперь кое-что прояснилось. Во-первых, что пра¬
вильное название пьесы — «Живой труп», во-вторых, что припря¬
тана она не у графини, а у В. Черткова, и, в-третьих, что 10 ян¬
варя 1911 года текст пьесы, извлеченный из чертковского архива
в Лондоне, получен наконец в России и сдан на хранение в банк,
где помещен в стальную комнату.
Когда интерес публики к этой неизвестной пьесе достаточно
разогрелся,— объявили о решении Александры Львовны Толстой:
право первой постановки принадлежит Московскому Художест¬
венному театру.
Тут возмутились другие театры: а мы чем хуже? Стали назы¬
вать сумму, которую МХТ уплатил наследникам Толстого. Вспом¬
нили, что Лев Николаевич отрицал литературную собственность.
Грозили судом — небесным и земным. Дело приобрело оттенок
скандала.
Пока в МХТ читали пьесу, обнаружилось, что еще один спи¬
сок ее неведомыми путями попал в Малый театр. Встревоженный
В. И. Немирович-Данченко немедленно направил А. И. Сумбато-
ву письмо с просьбой до премьеры МХТ воздержаться от поста¬
новки. Александра Львовна со своей стороны потребовала объя¬
снений. Ей объяснили, что текст попал в Малый театр через
семью Музиля, которому в свое время был подарен самим Тол¬
стым. Не желая осложнять ситуацию, благородный Сумбатов
вернул Александре Львовне текст. Этот поступок, однако, вызвал
новую волну страстей: провинциальные газеты, подогреваемые
местной публикой, уже открыто писали чуть ли не об узурпации.
Стараясь успокоить недовольных, Александра Львовна объяви¬
ла, что после МХТ «Живой труп» будет иметь право ставить кто
угодно. В Петербурге тотчас определили, что первым после
МХТ будет ставить пьесу Александринский театр; испросив на
это согласие Александры Львовны, питерцы получили свой сек¬
ретный экземпляр пьесы, и Мейерхольд приступил к репетициям.
Между тем в Художественном театре дело шло полным хо¬
дом. Состав был блистательный: Москвин, Станиславский, Кача¬
лов, Германова, Гзовская, Коонен... Генеральную репетицию за¬
секретили: боялись, что текст пьесы застенографируют прямо
по ходу действия и пустят в печать до премьеры.
...Да простит мне читатель, что я вставляю великие имена
в такой полуанекдотический репортаж; что театр, знаменовавший
в те годы, да и многие годы потом, совесть русской интеллиген¬
ции, — выглядит втянутым в какую-то дурную игру. Довлеет
дневи злоба его — я вычленяю в ситуации тот уровень, на кото¬
ром готовятся вступить в игру мои действующие лица...
Премьеры ждали, как развязки детектива. Фельетонисты пи¬
сали об алчной рати антрепренеров. Вот один из стишков: «Мерт¬
веца схватили смело и трепать все принялись, и в распухнувшее
тело раки черные впились...» Содержание драмы передавали по
слухам. Газета «Старый Владимир» утверждала, что в пьесе дей¬
ствует молодой граф Нечуев (!), который «стремится схватить са¬
мую соль жизни и пить из чаши наслаждений до безумия». Од¬
нако все было по-прежнему покрыто тайной, пьеса оставалась
неизвестной; ее с нетерпением ждали не только в российских
театрах, но и в Вене, Лейпциге, Берлине, Гамбурге, Мюнхене...
65
Опубликовать текст должны были назавтра после премьеры
МХТ. До премьеры оставалось две-три недели, публика изнемо¬
гала в ожидании.
И тут «Русское слово» осчастливило своих подписчиков сле¬
дующим сообщением: по «Живому трупу» снят фильм!
Ленты «уже заготовлены»!
Они выйдут в прокат до премьеры МХТ!
Бомба разорвалась.
Наивно было бы думать, конечно, что кинематографщики
удержатся от искушения поучаствовать в этой гонке. Ханжонков
за текст пьесы предлагал Александре Львовне солидное пожерт¬
вование в фонд имени Толстого, но получил отказ. Фирма Пате
объявила о своем намерении поставить «Живой труп» с полным
«благоговением к идеям великого писателя», но и ей пьесы не
дали.
И тут вперед вырвался «Перфильм». Точнее — Р. Перский.
Тот самый оборотистый инженер, который пять лет назад начи¬
нал у Гомона, потом перешел в «Дускес», потом начал издавать
«Кинежурнал» и, наконец, избрав себе в качестве эмблемы орла,
осенившего крыльями обмотанный кинолентой земной шар, от¬
крыл у себя в Богословском переулке, дом 3, квартира 19 —
фирму по производству «художественных боевиков в исполнении
лучших артистов». Он-то и решил сделать ставку на «Живой
труп». Психологически объясняя себе сейчас природу такой ре¬
шимости, я не допускаю мысли, будто Р. Перский задумал тягать¬
ся с правопреемниками Толстого или, упаси бог, идти против их
воли. Вовсе нет. Перский брал в расчет лишь «киноситуацию»
и действовал совершенно по ее законам. А здесь, в кино, допусти¬
мо было, узнав, что именно делает конкурент, сделать то же
самое, но на день раньше. Это было в порядке вещей и называ¬
лось: устроить срыв. Перский ничего не имел ни против Худо¬
жественного театра, ни против Толстого. Он взаимодействовал
с партнерами своего круга: узнал из журнала «Сине-фоно»
о планах фирмы Пате и решил устроить ей срыв.
Надо сказать, что фильм свой Перский старался делать без
обмана. Сценариус он составил сам. Режиссуру поручил Б. Чай¬
ковскому, который имел признанное репертуарное чутье и слыл
мастером правдивой кинодетали. К нему был подключен артист
Императорского балета В. Кузнецов, знающий толк в актерах.
На роль Протасова удалось заполучить самого Н. Васильева
(«первая русская звезда» — величественный жест, не хуже, чем
у французов!). Среди исполнителей были и другие знаменитости,
например М. Блюменталь-Тамарина, а также балерина Импера-
66
торской сцены Е. Павлова. Снимать свой фильм Перский решил
«с натуры»: цыган — у «Яра», уличные эпизоды — в Ржаном пе¬
реулке, кабацкие сцены — в пустующей пивной на Малой Дмит¬
ровке. К такому реализму толкала производственная необходи¬
мость: у Перского не было своего ателье. Но подавал он все
это как борьбу за художественную правду. Владелец «Перфиль-
ма» вовсе не собирался надувать публику, он делал все, что было
в его силах.
Накрутили тридцать эпизодов. Склеили. Приготовились.
И тут слух, что ленты «уже заготовлены», дошел до Алек¬
сандры Львовны. Она немедленно направила в газеты письмо,
в котором решительно отмежевалась от всей этой истории, пуб¬
лично удостоверив, что никому не передавала ни текста пьесы,
ни права экранизовать ее. Однако зная, с кем она имеет дело,
дочь Толстого не ограничилась таким заявлением, а прямо при¬
звала «господ содержателей кинематографических театров» воз¬
держаться от киносеансов до премьеры в МХТ. И господа содер¬
жатели вняли.
Получив такой удар, Р. Д. Перский в первый (и последний)
раз в жизни вышел в центр всеобщего внимания. Он отступил,
но, чтобы сохранить лицо, дал журналистам интервью, где зая¬
вил, что Толстой ничего не имел бы против его постановки: вели¬
кий писатель еще в 1908 году, оказывается, сочувственно отно¬
сился к плану киноинсценировки «Крейцеровой сонаты»! Мы мо¬
жем оценить всю фантастичность и даже беспардонность такого
свидетельства, но самое интересное не в этом. Самое интересное
вот что: в поднявшейся газетной перепалке никого не интересо¬
вал фильм Перского; ни съемки «с натуры» в Ржаном переулке,
ни цыгане у «Яра», ни утопленник у Окружного моста на фоне
Ново-Девичьего монастыря. Никому и в голову не пришло ожи¬
дать от кинематографа какой-либо «художественности»—и прес¬
са и театральная общественность просто загодя игнорировали это
жалкое «механическое зрелище». Всех интересовал другой во¬
прос, чисто юридический: где кинематографщик добыл текст?
Кто помог ему в этом мародерстве? Начался розыск, в ходе кото¬
рого сотрудники МХТ выяснили, что на черном рынке реминг-
тонные копии пьесы идут по 300 рублей. Хотели было принять
меры, но сообразили, что это непрактично: до премьеры остава¬
лись считанные дни, и срепетировать конкурирующий спектакль
все равно никто бы уже не успел.
Премьера «Живого трупа» в Московском Художественном те¬
атре состоялась при полном аншлаге. Газеты посвятили этому
событию огромные статьи. Через несколько дней неслышной
тенью прошла по кинотеатрам и лента Р. Перского. Вялые отзы¬
вы о ней были слегка оживлены все той же детективной нот-
67
кой: гляди-ка, а ведь несмотря на все меры предосторожности,
кинематографщик имел весьма точное представление о пьесе —
безошибочно разметил картины, прохвост!
Что же до художественной стороны дела, то я процитирую
один газетный отзыв, справедливость которого могу засвидетель¬
ствовать лично, ибо сам видел уцелевшую в Госфильмофонде по¬
ловину фильма Р. Перского: на экране без всякой логики появля¬
ются и исчезают какие-то люди в костюмах первой половины
прошлого столетия; они торопливо жестикулируют, прыгают на
узеньком пространстве, изображая кутеж у цыган, и трогательно
«Живой труп» (1911
года). Режиссер Р. Пер-
ский. В роли Протасо¬
ва — Н. Васильев. Ин¬
тересен кадр с утоплен¬
ником: на втором пла¬
не видны Окружной
мост и Ново-Девичий
монастырь в Москве —
редкая для того време¬
ни натурная съемка.
68
прикладывают руки к сердцу в местах драматических. Цыгане
на втором плане, застыв на своих местах, живо двигают руками,
плечами, головами — все-таки Перский знал, что кино — не фо¬
то... Если кому-то приходилось видеть первый русский фильм,
дранковскую «Понизовую вольницу» с темпераментным кида¬
нием шапок вверх, — так вот, у Перского не хуже, совсем не
хуже.
Первый бой на почве толстовского наследия был кинематогра¬
фией, увы, проигран. Как отметил первый историк русского кино
Борис Лихачев, это пошло ей на пользу: заставило подтянуться.
Чтобы понять, какую роль сыграло наследие Толстого в услови¬
ях тогдашнего, как его называли, «кинемо», надо представить се¬
бе ситуацию, а лучше сказать, тот качественный поворот, кото¬
рый происходил в «кинемо» на рубеже 1911—1912 годов.
Из кустарных забегаловок и доморощенных ателье «кинемо»
все решительнее выходил на люди. Героем дня стал Гончаров,
только что поставивший у Ханжонкова «Оборону Севастопо¬
ля» — исторический художественно-хроникальный фильм с
грандиозной массовкой. Это был высший взлет Гончарова и пер¬
вый настоящий успех Ханжонкова; к тому же в Крыму они су-
69
мели показать свой фильм императорской фамилии; в ноябре
1911 года газеты умиленно сообщили, что его величество «изво¬
лил осчастливить г. Ханжонкова милостивыми расспросами».
Этим расспросам вряд ли стоило придавать такое основопола¬
гающее значение, потому что через полтора года его величество,
в третий и последний раз высказавшись по вопросам кино, из¬
волили назвать кинематографию пустым, никому не нужным
и даже вредным вздором и балаганом (резолюция была положена
на докладе о проекте первого русско-американского кинопредпри¬
ятия; доклад, как водится, исходил от полиции). Николай II
был неважным кинотеоретиком, но «милостивые расспросы»
в Ливадии все-таки имели для своего момента определенный
резонанс: стало совершенно ясно, что кинематография — не
вздор, не пустяк и у ж е не балаган. Наиболее дальновидные из
представителей власти впервые задумались о том, как бы при¬
брать это дело к рукам.
И именно в эту пору кинематограф был наконец замечен в
широкой среде интеллигенции.
На рубеже 1911—1912 годов заметно меняется киноаудитория:
на смену «посетителям балаганов» приходит городская «чистая
публика». Ее вкусы немедленно сказываются на репертуаре:
«Ухарь-купец», «русские хроники» и фольклорные иллюстрации,
составлявшие основу проката в конце девятисотых годов, сходят
с экрана, «Русская тематика» не в чести. Даже «Оборона Сева¬
стополя», при всей ее грандиозности, не может переломить спро¬
са: на экранах воцаряется новый, стереотипный, вненациональ¬
ный, космополитический «всеобщий» стиль.
Законодателем моды становится датская кинофирма «Нор¬
диск». Точеный и выспренний жест французов теряет цену рядом
с выверенными движениями Псиландера, исполненными психо¬
логической значительности. Впрочем, в России этого артиста
знали под другим именем: фамилия «Псиландер» показалась
смешной тимановскому переводчику титров, а переводчиком, как
мы знаем, был Протазанов, человек смелый и уверенный в себе,
и он придумал датчанину красивый псевдоним, под которым тот
и покорил русских зрителей: «Гаррисон». Гаррисону стал подра¬
жать новый король русского экрана Максимов, быстро затмив¬
ший Васильева. Асте Нильсен подражать было труднее, хотя
пытались. Предложение определялось спросом: датское кино
повернуло русского кинозрителя к душевным движениям и тай¬
нам психологии.
В сущности, уже теперь, в 1912 году, закладывается тот
тронутый декадансом и некрофилией психологический «всеевро¬
пейский» стереотип, который к 1916 году даст в русском кино
целую галерею обманутых страдальцев и роковых злодеев.
70
Дранкову с его «Крестьянской свадьбой» в этой ситуации де¬
лать нечего. Хоть он и указывает в рекламе, что его фильм
«срежиссирован Л. Н. Толстым»,— новая публика не желает
смотреть про то, как «мананки сучили притуги». Публика не
желает ни русской этнографии, ни русской истории. Публика
желает переживаний. И Толстой нужен теперь кинематографу
в определенном качестве.
Быстрее всех соображают у Пате: французы запускают сразу
два толстовских фильма—«Холстомера» и «Анну Каренину».
О первой ленте известно мало, она успеха не имела (еще в
конце тридцатых годов киноведы называли ее «безымянной»),
а вот вторая получила некоторый резонанс: Ж. Мейер снял ее
весьма профессионально. Но типично французская режиссура
А. Мэтра и игра упорно подражавшего французам Н. Василье¬
ва, надо думать, сильно сузили психологический диапазон этой
картины; к тому же сценарий, написанный художником Ч. Са¬
бинским, был, как свидетельствовали очевидцы, похож на сред¬
ней руки гимназическое сочинение. Шедевра не вышло.
Меж тем поспел и Ханжонков: выпустил «Крейцерову сона¬
ту». За техническую сторону дела и тут можно было не бес¬
покоиться: фильм снимал Луи Форестье. Художником пригласи¬
ли Б. Михина, одного из пионеров фундуса, под его руковод¬
ством в Крылатском убрали размалеванные холсты и построили
объемные декорации.
Основная ставка была на актеров: Ханжонков делал не что
иное, как «первую русскую психологическую драму». Увы, под¬
вел исполнитель главной роли: не явился на съемку. Прождав
его два часа, постановщик фильма, железный киномастеровой
Чардынин, влез в костюм Познышева и храбро отыграл все
сцены. Ханжонков его благодарил, но сознавал и другое: на
таком ремесле далеко не уедешь. Ханжонков мечтал о настоящем
киноискусстве. Он еще не вполне понимал, каким оно будет.
И тут судьба дала ему шанс.
В роли скрипача Трухачевского снялся в «Крейцеровой сона¬
те» актер, который до того прозябал на эпизодических ролях.
Тот самый, который два года назад пришел вместе с Чардыни-
ным из Введенского народного дома. Этот щупловатый, больше¬
носый человек, конечно, не тянул на любовника гаррисоновских
кондиций, но Ханжонков наконец-то всмотрелся в его глаза.
В скорбные, вынимающие душу глаза Мозжухина. И понял, что
эти глаза — его, Ханжонкова, главный козырь.
У Ханжонкова было чутье: с «Крейцеровой сонаты» начи¬
нается всероссийская слава Ивана Мозжухина.
Наконец, о последнем участнике начавшейся гонки: о Пауле
Тимане. Тиман действовал осторожнее всех, он не спешил хва-
71
таться за ответственные пси¬
хологические сюжеты и для
начала отснял по Толстому
« Первого винокура »— невин¬
ную ленту о вреде пьянства
(впрочем, какая там невин¬
ность—и этот рассказ Толсто¬
го запрещался в свое время
цензурой). Проблема была с
оператором; в принципе Ти-
ман хотел бы переманить
Мейера или кого-нибудь из
его ассистентов, но пока он
имел Серрано. На этот раз фу¬
ты не были перепутаны с
метрами, все получилось в
фокусе. Постановщик же кар¬
тины, Яков Протазанов, окон¬
чательно показал себя надеж¬
ным мастером, успешно осво¬
ившим тонкости кинорежис¬
суры. События не получи¬
лось, да его и не планирова¬
ли, но провала избежали:
фильм благополучно окупил¬
ся на провинциальных экра¬
нах. А вскоре Тиман был воз¬
награжден за выдержку: к
нему явился человек, кото¬
рый предложил сенсацион¬
нейшую идею.
Человека этого звали Иса¬
ак Файнерман. В печати он
выступал под псевдонимом
Тенеромо. Лет тридцать на-
Слева — кадры толстовской кинохро¬
ники; справа — близкие кадры из
фильма «Уход Великого старца»
(1912 год; режиссер Я. Протазанов;
в ролях: Толстой — В. Шатерников,
Чертков — М. Тамаров). Усилия ки¬
нематографистов приблизиться к хро¬
нике дали результаты, довольно от¬
носительные на наш современный
взгляд, но весьма примечательные
для своего времени.
72
зад, еще юношей, он прожил
несколько месяцев близ Ясной
Поляны, стал на какое-то
время толстовцем, а затем
на всю жизнь сделал Тол¬
стого темой своих журналист¬
ских опытов. Сам Толстой эти
опыты игнорировал (впрочем,
он как-то заметил Маковицко-
му, что там «все вранье»),
зато газеты относились к
книгам и статьям Тенеромо
с ревнивым вниманием; имел
хождение даже специальный
термин «тенеромить», что
на наш язык можно перевес¬
ти приблизительно так: «экс¬
плуатировать тему». Тенеро¬
мо был неутомимым собира¬
телем слухов и анекдотов о
Толстом, притом человеком
большой энергии; чего у него
нельзя было отнять, так это
преданности предмету.
Тиману был предложен
сюжет, который тот оценил
мгновенно: раскрыть общест¬
ву тайные причины ухода ве¬
ликого старца из Ясной По¬
ляны.
...Уход Толстого — это
ж на десятилетия тема и за¬
гадка! Это хотели ставить:
С. Ермолинский, А. Зархи,
Г. Козинцев, А. Тарковский —
пятьдесят, шестьдесят лет
спустя...
Первым был — Тенеромо.
Он и написал сценарий, а
ставить фильм Тиман пору¬
чил Протазанову. Оператора¬
ми назначил Мейера и Ле¬
вицкого (переманил наконец!).
Поехали в Киев. Построи¬
ли на Куреневке «Ясную По¬
73
ляну». Начали снимать. И тут — первое предвестье успеха: толпы
киевлян бегают смотреть «на Толстого»—артист В. Шатерников
неотличим! Протазанов безошибочно определил главное звено:
раз сюжет граничит с документальностью, значит, нужно до-
кументальнейшее сходство. Потому и художником пригласили
Ивана Кавалеридзе, у которого был опыт работы над бюстом
Толстого. Два-три часа перед каждой съемкой Кавалеридзе с
помощью гримера Солнцева лепил Шатерникову надбровные
дуги и шишки черепа, клеил брови и бороду. С такой же тща¬
тельностью О. Петрову перевоплощали в Софью Андреевну,
а М. Тамарова — в Черткова. Много лет спустя Протазанов ска¬
зал, что это — один из самых блестящих примеров портретного
грима в мировом кино. Да и по ходу съемок было ясно, что
происходит нечто особенное: когда загримированный Шатерни¬
ков, выбравшись из автомобиля, подошел к воротам Михайлов¬
ского монастыря и заговорил с привратницей (Левицкий же,
спрятавшись в кабине, начал снимать),— вдруг привратница с
воплями понеслась прочь, умоляя господа простить ее, так как
она впала в искушение и заговорила с отлученным от церкви
нечестивцем (что он воскрес из мертвых, ее не удивило). В мо¬
настыре поднялся переполох. Шатерников прыгнул в автомобиль,
шофер дал газ, Левицкий увез отличный ролик...
Он вообще работал с блеском, этот недавний ученик Мейера,
а теперь его напарник — оператор Александр Левицкий. Он сумел
так впечатать в художественный фильм хроникальные кадры,
снятые Мейером в Астапове, что швы были не очень заметны.
Он сумел показать наплывами все потусторонние «видения»,
которыми наградил великого старца Тенеромо,— двойная экспо¬
зиция была для 1912 года большим техническим откровением.
Наконец, когда авторы фильма решили показать, как на небесах
Толстой падает в объятия Христа,— операторы и тут не подка¬
чали: сумели комбинированно снять шествие по облакам...
Работали долго. Наконец фильм «Уход Великого старца»—
главная сенсация года и шедевр кинотехники — был готов.
На предварительный просмотр Тиман пригласил членов семьи
и близких друзей Толстого. Аппарат затрещал. Софья Андреев¬
на увидела, как она бежит к пруду топиться. Чертков увидел,
как Лев Николаевич, доведенный им до отчаяния, рвет на себе
волосы и вешается на шарфе... И тут главные антиподы ясно¬
полянской драмы впервые за много лет выступили единым фрон¬
том: они потребовали, чтобы Тиман ни под каким видом не
выпускал «этот пасквиль» на экраны.
В газетах вспыхнула дискуссия. Одни писали, что фильм —
клевета и надругательство над памятью Толстого, другие —
что не может быть клеветой то, что и так известно всему ми-
74
ру. В отличие от своих защитников Тиман сразу понял, что дело
проиграно. И он смирился, хотя картину с нетерпением ждали
прокатчики, самый же предприимчивый из них, ростовчанин
Ермольев, даже успел уплатить Тиману восьмикратную против
обычной цену. (Между прочим, это имя надо запомнить: Иосиф
Ермольев — в недавнем прошлом мальчик на побегушках у
Пате, в скором будущем — один из крупнейших кинопромышлен¬
ников, «лихой ямщик» русской кинематографии, заметнейшая
фигура в период ее расцвета.)
Власти не захотели вмешиваться в историю с фильмом, хо¬
тя Софья Андреевна немедленно отправилась к московскому
градоначальнику, а затем и к министру внутренних дел с прось¬
бой, чтобы фильм уничтожили. Тиман сумел смягчить ситуа¬
цию; он сам положил фильм на полку: фирме грозила ката¬
строфа, несоизмеримая с денежным ущербом.
Тем более что в деньгах Тиман не очень-то и проиграл. Во-
первых, ермольевские сорок тысяч уже лежали в кармане.
Во-вторых, картину с жадностью схватили расторопные запад¬
ные прокатчики, на которых российские запреты не распростра¬
нялись. И, в-третьих, в это самое время Тиман уже нащупал
для своей фирмы литературный материал, который давал ему
в руки настоящие... ключи счастья.
Фильм так и назывался: «Ключи счастья». Он был поставлен
по одноименному роману Вербицкой, властительницы тогдаш¬
них умов. Анастасия Вербицкая заявляла в печати: «Меня
читают шибче Толстого». Вернее было бы сказать: Толстой
единственный из классиков еще кое-как тягался в популяр¬
ности с этой законодательницей мод просвещенного бульвара —
сентиментальщина, расцвеченная ходкими идеями, была в ту
пору чтивом номер один и точно моделировала переживания,
которых жаждала «чистая» публика.
Тиман не ошибся: «Ключи счастья» имели такой коммерче¬
ский успех, как ни один фильм ни до, ни после того в до¬
революционной России. По остроумному замечанию современ¬
ного критика, фильм оказался лучше книги: в нем не была
слышно авторского текста1.
На титрах этой золотоносной ленты Тиман не указал авто¬
ров: боялся, что другие фирмы переманят. И были основания
бояться: состав был блестящий. Дело не только в Протазанове:
на «Ключах счастья» впервые ярко проявил себя Владимир
1 Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в
России 1900—1910* годов. М., 1976, с. 141.
75
Гардин, в прошлом артиллерийский офицер, затем актер про¬
винциальных театров, переигравший массу ролей и влюблен¬
ный в роль Феди Протасова из «Живого трупа».
В кино Гардин пришел, .когда ему было уже далеко за три¬
дцать. Однажды, гастролируя в Риге, он наткнулся на афишу
кинокомика Глупышкина. Он подумал: Комиссаржевская умерла,
от нее остались только фотоснимки и описания чуждых молодому
зрителю восторгов. А вот эта физиономия увековечена кинема¬
тографом со всеми ужимками! Если бы Вера Федоровна снялась...
Как раз в тот момент Тиману для исторического фильма
«1812 год» был нужен Наполеон. Гардин подходил по внешним
данным.
Вскоре он стал режиссировать у Тимана вместе с Протаза¬
новым.
Они были и внешне несхожи, эти два мастера: статный, по¬
хожий на римлянина, осторожный и вдумчивый Протазанов —
и невысокий, широкогрудый, горячий Гардин. Они великолепно
дополняли друг друга на съемочной площадке: Протазанов хо¬
рошо видел кадр, Гардин хорошо работал с актерами. И еще
их роднила одна общая черта: преданность русской классиче¬
ской культуре (Гардин был, между прочим, внуком И. Лажеч¬
никова). Так что, делая Тиману боевики для «Русской золотой
серии» — так в подражание итальянцам Тиман стал называть
продукцию своей фирмы, — Гардин и Протазанов делали и дру¬
гое: именно они утвердили в дореволюционном русском кино
традицию систематического обращения к классике.
О конкурентах Тимана. К 1913 году они поотстали. С класси¬
кой осторожничали. Что касается Толстого, то предпочитали ин¬
сценировать малоизвестные его произведения и даже незакончен¬
ные этюды. Актер Б. Глаголин где-то раздобыл текст драматиче¬
ского наброска Толстого «Петр Хлебник», еще не опубликован¬
ный (впрочем, эту христианскую притчу вполне можно поста¬
вить «по слухам» или даже взять из «Четий-Миней»). Фильм
Б. Глаголина на экраны не вышел.
Тем временем выпустил два фильма по Толстому С. Мин-
тус, крупный рижский прокатчик, имевший отделения в Моск¬
ве и Петербурге. Минтус торговал киноаппаратурой, имел соб¬
ственную лабораторию и «крупнейший склад углей «Норрис»,
кроме того, он выпускал и свои фильмы, выдержанные в стиле
сугубого психологизма. Репутацию фирме сделали мелодрамы
из еврейской жизни; в них чувствовался налет мистицизма,
но была и прелесть реально показанного быта: Минтус имел
вкус к «демократической фактуре». По Толстому он снял два
76
фильма, прошедшие бесследно. Один—«От ней все качест¬
ва»— экранизация наброска, сделанного Толстым незадолго до
смерти для любительского спектакля у Чертковых (прочесть
этот набросок Минтус мог в Посмертном томе). Второй фильм —
по «Хозяину и работнику». В постановке Минтуса толстовский
рассказ о человеке, который только что предал другого и тот¬
час же, жертвуя собой, спасает его, — скатился в колею «народ¬
ного рассказа». Успеха это не принесло: в 1912—1913 годах
кинематограф рвался не в низы, а в верхи: в «высокую» психо¬
логию.
Попадал он при этом — в салон: здесь развертывались основ¬
ные события. На почве салонного психологизма Вербицкая была
выгоднее, чем Толстой: всем хотелось перехватить ключи
счастья. Борьба шла не за классиков, а за модных авторов.
Стремясь снискать их благосклонность, Ханжонков устроил
для господ писателей охоту с выпивкой; «Сатирикон» язвил,
что в ходе охоты было убито много времени; сценариев Хан¬
жонков так и не получил. А тут очнулся наконец от столбняка
давний конкурент Ханжонкова Дранков; он склонил к сотруд¬
ничеству владельца крупнейшей швейной мастерской А. Талды-
кина и, вооруженный такой поддержкой, решил свести с Хан-
жонковым счеты на той самой почве, которую тот когда-то
выбил у Дранкова из-под ног, — на почве костюмированной
русской истории. Началась серия взаимных срывов, сопровож¬
давшаяся оживленной полемикой, в ходе которой Дранков хва¬
лился, что он Ханжонкова «переплюнет», а Ханжонков называл
дранковское ателье «сараем». Оба сняли сюжет из эпохи воца¬
рения дома Романовых, потом пустились на Кавказ снимать
покорение Шамиля... «Фальшивый купон» фирма Ханжонкова
выпустила между делом, это была несерьезная работа. Оператор
В. Старевич, будущий изобретатель объемной мультипликации,
не имел вкуса к живой съемке и сильно уступал Левицкому,
Чардынин же, при всей своей «техничности», конечно, не мог
соперничать с режиссерами Тимана: Гардиным и Протазановым.
Ханжонков тогда с Тиманом и не тягался — он тягался с Дран¬
ковым...
Чтобы дорисовать ситуацию, — два слова о Пате. Мейер и
Левицкий недаром ушли из этой фирмы: московское отделение
дышало на ладан, и считанное время оставалось до того момен¬
та, когда капиталы его должны были перейти к Ермольеву, а
ателье за Тверской заставой — к Тиману; единственное, чем
пока еще держались французы, была великолепная лаборатория
Тисье.
Практически Тиман в тот момент не имел сильных конкурен¬
тов. Во всяком случае, к началу 1914 года он не имел их в той
77
сфере, куда успешно влекли его Гардин и Протазанов, — в сфере
«психологического кино».
В 1914 году Тиман переходит в наступление. Его фирма вы¬
пускает сразу три толстовских сюжета: это «Дьявол», «Крей-
церова соната» и «Анна Каренина».
Дореволюционное русское кино вступает в пору расцвета.
Сравнивая режиссерские концепции Гардина и Протазанова,
исследователи иногда отмечают, что первый делал акцент на
достоверности обстановки, а второй — на достоверности психо¬
логии. Акценты не меняли главного: оба были убежденные реа¬
листы, и оба, стремясь вывести кинематограф на уровень ис¬
кусства, старались опереться на театральную культуру.
В 1912 году театральные актеры снимались в кино тайно —
в 1914 году уже можно было найти таких, что не стыдились
делать это открыто. Прецедентов хватало: с актерами Малого
театра работал Глаголин, с актерами варшавских театров —
Минтус. Но то были первые попытки; настоящего альянса не
получалось; в театральных кругах большею частью игнорирова¬
ли кинематограф как механическое низкопробное зрелище; в
крайнем случае терпели его как отхожий промысел.
Конечно, в России никогда не было такой открытой войны
театра с кинематографом, как, скажем, в Германии двадцатых
годов, но все-таки висел над умами насмешливый отказ В. Н. Да¬
выдова кренделить на экране, и иронические определения,
которые давал кинематографу Станиславский. Зоя Баранцевич,
дебютируя у Гардина в роли Нити, больше всего боялась, что
киноафиши с ее именем попадут на глаза строгому Марджано-
ву. Театр не без брезгливости приглядывался к молодому со¬
брату, нетерпеливо жаждавшему союза. Одним из немногих
людей, в творчестве которых такой союз мог тогда осущест¬
виться, был Гардин: в нем сочетались старая театральная школа
и новая кинематографическая хватка.
В «Крейцеровой сонате» он попробовал тот козырь, с кото¬
рого начинал Протазанов в «Уходе Великого старца»: портрет¬
ную выразительность. Это было тем более заманчиво, что Ле¬
вицкий, первым среди русских операторов отказавшийся от рас¬
сеянного освещения, научился прекрасно «лепить светом».
Художником фильма был все тот же Кавалеридзе. И он еще
раз изваял Толстого — на сей раз из артиста Тамарова. Успех
был весьма относительный: Тамаров с бородой был больше по¬
хож на Карла Маркса, чем на Льва Толстого; Шатерникова же,
который с таким блеском носил толстовский грим в «Уходе», —
уже не было в живых: мобилизованный на австрийский фронт
78
в первые дни войны, он погиб в первой атаке. Это был стран¬
ный для своего времени киноактер: В. И. Шатерников. Он ч и-
тал сценарии и учил роли наизусть. Другие, при¬
выкшие повторять реплики за режиссером, не отвлекались на
такие мелочи...
Гардин был недоволен своей «Крейцеровой сонатой». Под¬
линность интерьеров и естественность мизансцен он хотел допол¬
нить натуральностью актерского поведения, а этого как раз
не было.
И вот, приступая к «Анне Карениной», Гардин добился прин¬
ципиального успеха: главную роль согласилась играть одна из
лучших артисток Московского Художественного театра, Мария
Германова. Правда, Германова поставила условие, неслыханное
в кинематографе: предварительные репетиции.
Репетировала актриса дома, в ателье ее привозили загрими¬
рованную; Гардин командовал: «Свет!», и съемка начиналась
немедленно. Однажды случилась какая-то заминка, пришлось
прождать минут десять; Германова пожала плечами: «У нас
в театре такая неаккуратность невозможна».
Снимали «Анну Каренину» рекордно долго: 23 дня. На одной
из подмосковных станций был арендован паровоз. Машинист
останавливал его за четыре сажени от того места, где, обми¬
рая от страха, лежала Германова. Затем на рельсы клали куклу,
которую колеса рвали на куски. По окончании съемок присут¬
ствующие поздравляли Германову с благополучным исхо¬
дом — кинокадры самоубийства (надо сказать, в живописном
отношении весьма выразительные) были воспроизведены в ил¬
люстрированных журналах.
Еще один момент работы Гардина над «Анной Карениной»
достоин внимания.
В ателье явилась миловидная женщина, опустила красивые
ресницы и попросила роль.
— А вы играли когда-нибудь на сцене? — спросил Гардин.
— Нет, я только танцевала...
— Хорошо. Сцена такая: после свидания с сыном Анна воз¬
вращается в гостиницу. И тут входит кормилица-итальянка с
девочкой на руках... будет ваш крупный план. Согласны? Да¬
вайте порепетируем.
Гостья пару раз повернула головку, красиво вскинула глаза
направо и налево. Художественным театром здесь не пахло.
«Ничего не выйдет»,—подумал Гардин. Из чистого человеко¬
любия он все-таки снял дебютантку. Тиман, посмотрев куски,
покачал головой: безнадежна!
И Гардин — из человеколюбия же — отослал неудачницу с
рекомендательным письмом к Бауэру.
79
Евгений Бауэр строил режиссуру на совершенно ином прин¬
ципе, чем Гардин и Протазанов: он выводил кино не к теат¬
ру, а к живописи. Бауэру не нужны были актеры для драма¬
тических сцен — ему нужны были пластичные натурщики, с
помощью которых он делал безупречные композиции на фоне
изысканных интерьеров. Бауэр принял новую натурщицу и снял
ее в «Песни торжествующей любви»— назавтра после премьеры
«Крейцерова соната» (1914 год). Режиссер В. Гардин. Любовный треугольник
простодушно символизирован в композиции кадра.
актриса проснулась знаменитой: то была Вера Холодная. Еще
два-три фильма — и она стала эталоном русской кинозвезды.
Трудно сказать, жалел ли Гардин о своем решении и зави¬
довал ли задним числом Бауэру: он отдавал себе отчет, что
идет иным путем. Успех «Анны Карениной» вроде бы утвердил
его в этом: то был настоящий успех, не похожий на сенсацион¬
ную горячку «Ключей счастья». Кинокритики писали, что гар-
динская «Анна Каренина» выводит русскую кинематографию
из тупика пинкертоновщины, уголовных ужасов и дурашкин-
ской балаганщины к настоящему психологизму и душевности.
80
По требованию Гардина Тиман впервые объявил в афишах
имя режиссера — неслыханные вещи творились в русском ки¬
но! Тиман уступил потому, что уже не боялся конкуренции:
«Русская золотая серия» была недосягаема, только авантюрист
мог в ту пору надеяться перехватить ее лавры.
Впрочем, авантюристов хватало.
«Анна Каренина» (1914 год). Режиссер В. Гардин. Впечатанное в реальный ин¬
терьер «видение»— важный и новый элемент киномышления того времени и
большое достижение кинотехники.
В 1914 году Дранков и Талдыкин объявили, что их фирма
зтавит по Толстому «Войну и мир». Узнав об этом, Ханжонков
дачал готовить срыв. Режиссер его фирмы Чардынин спешно
распределил роли: Наташа — Вера Каралли (холодновата, но
изумительно пластична — как-никак солистка балета Большого
театра); Курагин — Иван Мозжухин (самые выразительные гла¬
за в русском кинематографе). Не могли решить с князем Анд¬
реем; наконец нашли в Малом театре малоизвестного актера
Витольда Полонского (будущий «король экрана» и основной
партнер Веры Холодной).
81
Хотя Ханжонков, в отличие от Дранкова, не объявлял о сво¬
их намерениях, Тиману они стали известны — ему, разумеется,
доносили обо всем, что происходит в конкурирующих фирмах.
Тиман решил действовать и тоже без шума. Он пригласил к се¬
бе ничего не подозревавших Протазанова и Гардина и за семей¬
ным столом задушевно-раздумчиво сказал им:
— Вот мы тут с Елизаветой Владимировной соображали,
что бы нам такое поставить. И возникла у нас мысль: а не
поставить ли нам... «Войну и мир»?
Режиссеры погрузились в раздумье. Осторожный Протаза¬
нов сказал, что вряд ли это реально: на дворе весна, а сни¬
мать надо зимнее отступление Наполеона... да и где в военное
время найдешь столько статистов?
Но, взглянув на Гардина, Тиман понял, что все в порядке:
тот уже загорелся! И уже парировал сомнения Протазанова:
обойдемся без массовки! Решим батальную линию штабными
сценами! Через актеров! Да ведь и нельзя их снимать, мас¬
совые сцены! Кто ж сейчас, в военное время, позволит показы¬
вать на экране разгром Наполеона — французы все-таки союз¬
ники... Тиман подхватил: и Пате такую картину не купит!
Значит, надо делать так, как предлагает Гардин... После чего
Тиман благословил режиссеров на дело и от души пожелал
им успеха.
Три дня он выжидал, пока те развернутся. Вечером третьего
дня он убедился в правильности своих расчетов: работа уже шла
вовсю — сценарий был размечен, плотники сколачивали декора¬
ции, реквизиторы готовили костюмы.
Поняв, что Гардин и Протазанов достаточно увязли в поста¬
новке, Тиман сказал:
— А ведь Ханжонков тоже делает «Войну и мир».
После соответствующей немой сцены Протазанов осведо¬
мился:
— Когда вы узнали это, Павел Густавович?
— Два часа назад, — солгал Тиман. И в раздумчивой своей
манере продолжал. — Придется Ханжонкова обогнать. Когда вы
планируете начать съемки?
— Через неделю, Павел Густавович!
— Надо начать завтра. С утра. Желаю успеха!
И уехал.
Оставив режиссеров в столбняке.
Первым очнулся Гардин.
— Наташа — Преображенская?
— Хорошо бы помоложе, — возразил Протазанов, но осекся:
Преображенская была женой Гардина. — Ладно, согласен! А Ни¬
колай Ростов?
82
— Есть красивый герой-любовник Рунич. Он только что
кончил сезон.
— Так, может, его на князя Андрея?
— Не потянет. На князя лучше Никольского, у него глаза
большие...
— ... А Элен?
— У художника Судейкина жена красавица...
Все это говорилось уже по пути, на ходу — бежали, неслись,
скакали на лихаче — в Художественный театр, просить рекви¬
зит... К ним вышел Николай Румянцев, главный администратор,
высокий, полный добряк. Взглянули на него:
— Это ж Пьер!
Опять на лихаче — в антикварную лавку: Кавалеридзе видел
там огромные японские вазы, ежели их — на бархатный фон,
то ничего больше и не надо: кабинет Наполеона готов...
— Да, а кто же Наполеон? Впрочем, конечно, вы, Владимир
Ростиславович!
Гардин не возражал: он уже бывал на экране Наполеоном.
Наутро начали съемку.
Ханжонков, узнав, расхохотался: мы уже десять дней сни¬
маем! У нас ателье втрое больше! У нас лаборатория своя,
а они от Пате зависят!
Но он рано веселился. Гардин и Протазанов шли на рекорд.
Работа велась без перерывов: один крутит, другой отсыпается
здесь же, на раскладушке. Обеды швейцар таскает прямо в па¬
вильон из буфета Александровского вокзала. Ночами держатся
на крепком кофе.
Радость: у Ханжонкова прокол — Вера Каралли обожгла юпи¬
терами глаза, сидит дома с чайными примочками.
Катастрофа: сцена запорота — эмульсия отстала от целлу¬
лоида!
Пересняли. Успели. Провернули.
Остается одна сцена: бал в Английском клубе.
Является Тиман.
— Ханжонков заканчивает завтра. Он забьет своей лен¬
той первые экраны. Обойдемся без этого бала... Что, без бала
нельзя?.. Ну, так надо снять немедленно. Ателье мало? Снять
вне ателье! В ресторане «Яр» есть подходящий нижний зал...
Назавтра в шесть утра были у «Яра». Помогали официантам
и городовым выволакивать последних пьяных посетителей. Пом¬
реж, теряя пенсне, орал на костюмера, который забыл шпагу
Багратиона. Тянули добавочный электроввод от, уличной маги¬
страли — для осветителей. Дали полный свет — все равно темно...
Запахло провалом. Левицкий нашелся: увеличим выдержку!
А как же скорость? А будем снимать медленнее: не 16, а 12 кад-
83
ров в секунду — при проекции выправится. Срепетировали. При¬
готовились. Начали. Оркестр задал похоронный темп, и под
оглушительный треск аппарата Наташа Ростова медленно за¬
кружилась в угасающем вальсе. Все-таки Левицкий был вели¬
колепным оператором — сцена получилась!
Едва склеили негатив — опять в дверях Тиман. Дурные но¬
вости: Ханжонков приступил к печати! Чтобы его обойти, по¬
зитив нужен к утру, а лаборатория Пате завешена ночными
заказами.
Выход нашел тот же Левицкий. Он попросил у Тимана две
тысячи рублей. Поехал в лабораторию — французы были его
старые знакомые. Пригласил директора лаборатории Тисье в
ресторан. Напоил его до беспамятства, отвез спать. Бросился
обратно в лабораторию. Заплатил рабочим, чтобы те отложили
другие заказы. Заказал у Елисеева вина и еды— «ровно столь¬
ко, сколько нужно для поднятия тонуса, ни капли больше!»
К восьми утра десять копий были готовы; Тиман прислал за
ними машину.
Назавтра вся Москва смотрела «Войну и мир» Тимана.
Ханжонков опоздал на сутки — он признал поражение и
сменил название фильма на «Наташу Ростову».
Дранков остался в хвосте — он уже не рискнул предла¬
гать свой фильм русским прокатчикам и продал негатив за
границу.
Впрочем, и Тиман продал. Шарлю Пате. Деньги были поло¬
жены в Парижский банк. Они очень пригодились три года спус¬
тя, в 1918-м, когда Тиман бежал из России.
Когда закончилось это кинематографическое состязание, Гар¬
дин спросил Протазанова:
— Ну, и как вам понравилась эта гонка тысяч в карманы
Тимана?
Протазанов ответил:
— Стыдно ставить свои фамилии на этих рекордах скоро¬
сти... Толстой не похвалил бы нас за такую стряпню. Я не хо¬
чу больше этим заниматься!
После выхода фильма на экраны Гардин и Протазанов
объявили, что порывают с фирмой Тимана. Это произошло в
1915 году.
Первая мировая война, поставившая старую Россию на край
пропасти, странным образом дала кинематографистам толчок
к бурной деятельности. Границы заменились фронтами, импорт
картин прекратился, экран очистился от иностранных конкурен¬
тов. Русское кино получило свободный рынок, а он требовал
84
зрелищ, причем специфических. « Кинематограф — забвение »,—
по выражению Александра Блока. Забвения жаждали все. Не¬
грамотный народ, ожидавший, что на экране будет показана
нормальная невоенная жизнь с ясной и правильной моралью.
Грамотная прислуга, которой лень было читать книги, а хоте¬
лось смотреть на экране модных литературных героев. Образо¬
ванная и искушенная «чистая» публика, которая в 1907 году
упивалась Арцыбашевым, а теперь повалила в кино и искала
там того же Арцыбашева. Служивый и мещанский городской
люд, желавший видеть хотя бы в кинозале осуществление
своих грез: мир, где аристократы сорят деньгами, а невинные
девушки красиво страдают посреди роскоши.
Кинематограф спешил ответить спросу. На всех уровнях.
На уровне бытовой комедии, где тешились дядя Пуд и Глу-
пышкин. На уровне уличного детектива, где лихие разбойни¬
ки дурачили неповоротливую полицию. На уровне салона, где
влюблялись, томились и искушали друг друга в запретных
страстях герои, далекие от прозы жизни: поэты, астрономы,
адвокаты, дамы полусвета и, конечно, главная жертва всей этой
дьявольщины — печальная героиня Веры Холодной.
Все было тронуто печалью. Воровали, наживались, пропива¬
лись, злорадствовали над царем, хихикали по поводу неудач
правительства, но все это — без блеска и азарта, без радости
и уверенности, а с какой-то потаенной тоской, словно повину¬
ясь неотвратимому року. Этим дышал зал — этим и экран.
Классика пошла на убыль. Экранизации появлялись, конечно,
и число их даже росло вместе с лихорадочным увеличением ко¬
личества кинопродукции. Но все тонуло в бульварщине. Все
перекраивалось и перемалывалось на экране по душещипатель¬
ному стандарту. Все написанное: от Шекспира и Гоголя до
Маяковского и Каменского — летело теперь в пасть кинемато¬
графа, как дрова в дымовую печь. Кинематограф объел лите¬
ратуру,— отметил в 1915 году Леонид Андреев: «Это бездонная
яма, в которую проваливается все». Классика в такой ситуации
была «не хуже» любого иного материала: кабацких песен, ро¬
мансов, анекдотов, патриотических агиток. «Моцарт и Сальери»
Пушкина превратился на экране в «Симфонию любви и смер¬
ти». Вот титры фйльма «Крейцерова соната»: «В порыве увле¬
чения»; «Яд измены»; «В порыве безумной страсти»...
Доморощенные кинопредприниматели, стремительно плодя¬
щиеся в 1915—1916 годах, меньше всего думают о классике как
о культурном наследии, имеющем самостоятельную ценность, —
в этом качестве классика слишком пресный для них товар.
Толстой с его нравственными императивами плохо согласуется
с киномифами военных лет: по логике этих мифов роковые силы
85
движут как коварными злодеями, так и их безвинными жертва¬
ми. В лучшем случае кинематограф «использует» Толстого как
материал...
А. Дранков между очередными сериями «Соньки — Золотой
ручки» экранизует «Казаков». Р. Перский, преуспевающий в
изготовлении скабрезных лент, экранизует незаконченный тол¬
стовский этюд «Что я видел во сне»; драма дворянской чести
превращается на экране в мелодраму и получает название
«Сердце не камень». А. Аркатов выпускает сенсационный кино¬
боевик «Дочь Анны Карениной». Фирма «Крео» анонсирует «ни¬
где не изданное произведение великого писателя земли русской
«Конец «Крейцеровой сонаты», сюжет которого записан со слов
Л. Н. Толстого и представляет собой самостоятельный роман и
конец этого популярного произведения...». Фантастика!
...В яму проваливается все...
Власть и общественность, каждая по-своему, стараются ис¬
пользовать бурно развивающееся кино. Власть рассчитывает
внушить патриотические чувства, общественность уповает на
просвещенный разум. Утвержден Скобелевский комитет с соб¬
ственным ателье: нечто вроде государственной кинофирмы. Па¬
раллельно организуется «народное киноиздательство» под назва¬
нием «Разумный кинематограф»; его цель — противопоставить
потоку пошлости научно-популярные и просветительские ленты.
Толстой идет в дело и здесь, но уже не как великий психо¬
лог, из которого кинематограф извлекает сюжеты для душераз¬
дирающих драм, — здесь нужен Толстой «Азбуки», Толстой «По¬
средника», Толстой «народных рассказов».
Весной 1916 года «Разумный кинематограф» выпускает фильм
«Чем люди живы». В рекламе сказано, что картину консуль¬
тировал сам Илья Львович Толстой, сын великого писателя...
Люди, привыкшие к дранковским методам рекламы и помня¬
щие историю «Крестьянской свадьбы», срежиссированной якобы
«самим Толстым», вряд ли верили в этот рекламный номер, но
на сей раз все было правдой: инициатором фильма «Чем люди
живы» действительно был Илья Львович.
Он обратился к Ханжонкову. Тот согласился: от прочих рус¬
ских кинопредпринимателей Ханжонков отличался тем, что ради
научно-популярных, воспитательно-патриотических и нацио¬
нально-престижных лент умел поступаться коммерческими инте¬
ресами, а толстовская история про то, как ангел вернул чест¬
ному мужику веру в добро и посрамил самоуверенного барина,
должна была казаться Ханжонкову типично воспитательной
лентой.
Постановку обсуждали за обедом. Начали распределять роли.
Роль незадачливого барина, который расшибся о притолоку,
86
самоотверженно взял на себя Илья Львович; он же предложил
себя и в качестве режиссера. Страсть Ильи Львовича к кине¬
матографу, заметим кстати, много лет спустя привела его, ни
мало ни много, в Голливуд, где Илья Львович оказался в роли
отчасти даже двусмысленной, но об этом позже... а пока — пока
у Ханжонкова никак не могут найти добровольца на роль анге¬
ла: согласно толстовскому сюжету ангел этот расхаживает по
снегу в чем мать родила (в ту пору кинематограф еще не подо¬
зревал, что такие сцены можно решать монтажно). Итак, тре¬
бовался герой. Обратились к Мозжухину. Иван Ильич ответил,
что на роль ангела он не годится по внешним данным, а точ¬
нее сказать, он не хочет получить на этом деле воспаление
легких.
Смерти Ивана Ильича, естественно, никто не хотел.
Дело зашло в тупик. И тут сидевший за столом приятель
Мозжухина, чтобы еще больше развеселить компанию, объявил,
что берется за эту роль. Надо сказать, что этот молодой чело¬
век был футурист, ходил размалеванный, носил в петлице де¬
ревянную ложку и ничего не боялся. Футуриста поймали на сло¬
ве, отступать ему было неловко, и в назначенный день (пункту¬
альная Софья Андреевна отметила этот день в своем «Ежеднев¬
нике»: 19 января 1916 года) Илья Львович Толстой привез
кинематографщиков в Ясную Поляну.
Сначала, по всем правилам кинодела, наметили натуру, на¬
завтра выехали снимать. Честно сказать, присутствующие надея¬
лись, что в последний момент футурист откажется, но он оказал¬
ся стойким: раздевшись в карете догола, хлопнул полбутылки
коньяку и выпрыгнул в сугроб. Затем, как требовалось, про¬
шествовал под стрекот аппарата по снегу. И рухнул без чувств
на руки ассистентов, которые завернули героя в шубу, запих¬
нули в карету и галопом поскакали к ближайшим избам.
О дублях, естественно, речи не было.
В избе окоченевшего ангела оттерли снегом и отпоили конь¬
яком, причем какая-то старуха, наугад попадая в толстовский
сюжет, плакала и причитала над ним, уверенная, что бедняга
упился и был раздет на дороге бессовестными грабителями.
К обеду футурист восстал с одра и лично рассказал о своем
киноподвиге перепуганной Софье Андреевне, которая все не мог¬
ла понять, как это он решился на такую отчаянную роль. В Моск¬
ве героя дня уже сторожили журналисты. Интервью, напечатан¬
ное в газетах, кончалось следующим диалогом:
«— Сколько вы получили за эту роль?
— Сто рублей!
— Почему же так мало?
— Дурак был...»
87
На эту реплику интервьюеры отреагировали так: «Мы не
стали спорить и поспешили откланяться».
Героя этой развеселой истории звали Александр Вертинский.
Мы еще вспомним это имя, когда будем прощаться с Иваном
Ильичом Мозжухиным, не избежавшим-таки чахотки в конце
пути...
Теперь же докончим историю фильма. Ханжонков не рискнул
выпустить его на экран — продал «Разумному кинематографу».
Под этой маркой картина вышла весной того же 1916 года и
провалилась. Илья Львович пожаловался одному из кинемато¬
графщиков: «Думаете, легко быть сыном гения?»
Родство с гением было, конечно, тут ни при чем: вместе
с фильмом «Чем люди живы» в эти годы провалились все по¬
пытки продвинуть на экран «народного» Толстого. Провалился
фильм «Бог правду видит, да не скоро скажет», срежиссирован¬
ный Н. Лариным в Скобелевском комитете. Провалился «Хозяин
и работник», поставленный С. Веселовским в ателье Либкина.
Попытки экранизовать «народного» Толстого, «простого» Тол¬
стого были еще более беспомощны, нежели салонные версии
толстовских психологических сюжетов. Примитивная наивность
«народных» лент не могла иметь успеха на фоне сгущающейся
экзальтации кинематографа тех горячечных лет. Оба направле¬
ния были ложны, и оба брали Толстого на мизерную глубину.
По существу, они были беспомощны и перед Толстым и перед
раскалывающейся действительностью. «Нельзя было больше до¬
казывать крестьянину-бедняку или отходнику, выгнанному
малоземельем в город, что человеку достаточно трех аршин
земли»1. И низы России и верхи ее давно уже перешли в своей
борьбе те границы, на которых Толстой еще надеялся их успо¬
коить. Воистину старая Россия катилась в пропасть.
Конечно, наиболее серьезные мастера тех лет и не рассчиты¬
вали на успех экранизаций «народного» Толстого — они их де¬
лали попутно, между делом...
Ну, скажем, так: Гардин, за десять дней отсняв на Урале
«Приваловские миллионы» по Мамину-Сибиряку, возвращается
в Москву. Поезд идет мимо башкирских поселений. Вдруг Гар¬
дин припоминает: ведь именно здесь, у башкир, толстовский
герой пытался обежать покупаемое им поле. Тут же, в поезде,
Гардин набрасывает сценарий фильма «Много ли человеку зем¬
ли нужно».
1 Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. М., 1863,
с. 222.
88
Остановка. Сходят с поезда. Идут к мечети. Располагаются
у выхода. Гримируют актера, одевают его в крестьянскую одеж¬
ду. Отмечают на земле: остановишь башкир вот тут.
Башкиры, выйдя с молитвы, обступают незнакомца точно так,
как у Толстого они обступали Пахома. Трещит аппарат...
Идут к кибиткам. Говорят мулле, что жертвуют на мечеть
двести рублей. Мулла отвечает что-то по-башкирски, аппарат
трещит. Нужна улыбка, а мулла серьезен. Ассистент начинает
перед ним плясать, а он не улыбается. Пленка на исходе —
не улыбается! Ассистент, споткнувшись, шлепается. Наконец-
то — улыбнулся! Гардин мысленно прикидывает к улыбке
надпись: «Земли много... Только уговор: что обойдешь, все
твое будет!»
За день отснято все.
Утром — тревога:
— Скорее на станцию! Вся деревня на нас идет! Бить будут!
Погоня. Башкиры, крича и размахивая нагайками, преследуют
кинематографщиков почти до самой станции. У вагона Гардину
объясняют, что мулле нельзя участвовать в съемках: узнав, что
с ним сделали, мулла счел себя оскорбленным. Гардин думает:
ничего, главное — что успели отснять...
Фильм «Много ли человеку земли нужно» провалился, как
и все «народные» экранизации Толстого. Но Гардин не жалел
о сделанном: опыт пошел на пользу. В 1919 году, заведуя хро¬
никой Всероссийского фотокиноотдела Наркомпроса, Гардин ссы¬
лался на эту съемку, как на образцовую. Это называлось:
стрельба влет. Кино училось работать.
Порвав с Тиманом, Гардин и Протазанов порвали с коммер¬
ческим кино. Они ушли из «Русской золотой серии», чтобы
делать действительно художественные фильмы на основе тра¬
диций высокой классики.
Гардин сразу взялся тогда за Тургенева — экранизовал «На¬
кануне». Протазанов поставил «Бесы» Достоевского.
Пригласив в компаньоны миллионера Венгерова, Гардин от¬
крыл собственное дело и оборудовал ателье на крыше первого
московского небоскреба Нирензее в Большом Гнездниковском
переулке. Протазанов же пошел к Ермольеву.
«Лихой ямщик русской кинематографии» набрал в тот мо¬
мент огромную силу. Эмблемой ермольевской фирмы был слон,
разматывающий киноленту, — воплощение силы (не то что гал¬
льский петух Пате, бодрый ханжонковский Пегас или драчливый
павлин Дранкова). Ермольев уверенно теснил конкурентов: он
выстроил у Брянского вокзала первоклассное съемочное ателье
и гарантировал режиссерам неслыханные условия. И хоть ходили
89
про него анекдоты, будто ищет он сюжеты для фильмов по песен¬
нику, — именно он, Иосиф Ермольев, этот купеческий сын в пенс¬
не, принялся в годы расцвета низкопробной кинобульварщины
«спасать художественность», вытесняя «разбойничий» жанр пси¬
хологическим. Сюжетом для психологической ленты у Ермоль-
«Хозяин и работник» (1917 год). Режиссер С. Веселовский, «Видение» стано¬
вится почти непременным атрибутом «психо логического» стиля в кино. Спра¬
ва, в кадре чаепития, заметна попытка передать реальность фактуры; видны,
однако, гвозди, которыми прибита «кирпичная стена».
ева могло быть что угодно — от популярной песни про тройку
до высокой классики — в зависимости от вкуса режиссера. Про¬
тазанову Ермольев предложил идеальные условия: 12 тысяч
в год, постановки — не чаще одной в месяц. В тематическом
плане — карт бланш.
И тогда Протазанов вновь взялся за Толстого. Он экранизо-
вал «Семейное счастие», роман, написанный Толстым еще в мо¬
лодости, в пятидесятые годы, сравнительно малоизвестный.
Самому Толстому этот роман не нравился, возможно, оттого,
90
что при всей подспудной мощи страстей, в которых уже, конеч¬
но, угадывался настоящий Толстой, — по фактуре это была вещь
очень «тургеневская». Протазанов сделал упор именно на этот
слой текста: печаль дворянских усадеб, тонкая гармония душ,
стабильность быта... Фильм успеха не имел. Тогда Протазанов
обратился к Пушкину и поставил «Пиковую даму». Этот фильм
имел не просто успех — впоследствии он был безоговорочно при¬
знан лучшим (до «Отца Сергия») произведением дореволюцион¬
ной русской кинематографии. Именно этот фильм впервые про¬
бил стену молчания, каким отгораживалась от экрана критика,
до этого о кино писали только киножурналы (правда, эти-то
не скупились на восторги) — «Пиковая дама» стала первой кар¬
тиной, которую заметила солидная пресса.
Не загадка ли? Один и тот же мастер, в одно и то же
время, в одном и том же ателье* с одними и теми же акте¬
рами (в «Семейном счастии» снялась Вера Орлова — в «Пико¬
вой даме» она прославилась) экранизует двух великих клас¬
сиков с такими диаметральными результатами?
Разгадка: фильм «Семейное счастие», этот апофеоз прочной
и устойчивой душевности, не имел точек соприкосновения с
91
катившейся под откос реальностью 1916 года. Протазанов это
чувствовал; он мечтал совсем о другой толстовской экраниза¬
ции, об «Отце, Сергии», об этой драме отпадения духа от мира,
но «Отца Сергия» в 1916 году ставить было нельзя. Чтобы по¬
ставить запрещенного «Отца Сергия», Протазанов должен был
дождаться падения царизма (ждать оставалось недолго). Что же
до «Пиковой дамы», то этим фильмом Протазанов как раз по¬
пал в самый нерв тогдашних чувств и дум: он перед ал ощу¬
щение опасной игры, в которой ставкой является сама жизнь.
И он сделал это на уровне, виртуозном для тогдашнего кино.
Никакой «екатерининской» роскоши — динамичная графика в
стиле Бенуа, никаких перьев и мундиров — Германн в простом
сюртуке инженера. Впервые экран дал не серию иллюстраций
к классическому тексту, а последовательную интерпретацию
текста. Стиль соответствовал точке зрения: резко и лаконично
был очерчен в фильме облик одержимого, обреченного человека.
Лицо. Глаза его. Глаза Мозжухина. Так соединились режиссер
и актер, словно созданные друг для друга, два крупнейших
мастера русского кино: Яков Протазанов и Иван Мозжухин.
Надо, впрочем, объяснить, почему Мозжухин ушел к Ермоль¬
еву от Ханжонкова, с которым проработал столько лет. Стран¬
ным образом это тоже связано с Толстым.
Весной 1915 года Ханжонков экранизовал «Воскресение».
Можно предположить, почему он это сделал: «Воскресение»
оставалось единственной крупной вещью Толстого, которую
не успели отснять в «Русской золотой серии», а Ханжонков
хотел взять реванш за «Войну и мир». «Король ремесленников»
Чардынин быстро накрутил шесть частей, и они вышли в про¬
кат под названием «Катюша Маслова». В главной роли дебю¬
тировала эффектная молодая актриса Наталья Лисенко. Парт¬
нером ее первоначально был намечен Мозжухин, но в послед¬
ний момент Чардынин передумал и отдал роль Нехлюдова
другому актеру. Не будем сбрасывать со счетов чисто житей¬
ские обстоятельства, важные в судьбах артистов: Лисенко бы¬
ла женой Мозжухина. Мозжухин разругался с Чардыниным,
покинул ханжонковскую фирму, причем увел с собой Лисен¬
ко. Ушел и Чардынин, уведя Веру Холодную. Об уходе Чар-
дынина Ханжонков не жалел — к тому времени он уже сделал
ставку на Бауэра, а вот уход лучших актеров дорого ему обо¬
шелся. Из нашего повествования Александр Ханжонков, во вся¬
ком случае теперь, уходит: в его фирме картины ставит отны¬
не Бауэр, а Бауэр, один из крупнейших режиссеров русского
кино, в своем творчестве никак не соприкасается с Толстым.
Эстетика рационально ясных, чисто декоративных решений,
разрабатываемая Бауэром, не соотносилась с толстовским ду-
92
ховным наследием, — недаром эти решения были подхвачены
людьми совершенно иного духа: из школы Бауэра в скором
времени вышел Лев Кулешов, объявивший войну «русскому
психологизму». Бауэр до этого не дожил, он умер летом 1917 го¬
да. За год до этого Ханжонков, правда, предложил ему поста¬
вить «Аггея» — ту самую толстовскую вариацию сказки, кото¬
рая пришла к Ханжонкову через Черткова и Орленева и счита¬
лась чуть ли не написанным рукой Толстого киносценарием.
Сенсация была налицо, но Бауэр так и не поставил «Аггея»:
Толстой его не трогал.
...Итак, Мозжухин перешел к Ермольеву, а Чардынин с Ве¬
рой Холодной — к Харитонову.
Харьковский театровладелец Д. Харитонов — еще одна круп¬
ная фигура, возникшая на багровом небосклоне гаснущего рус¬
ского кино. В Москве, на Лесной улице, он открывает «самую
прибыльную» в России кинофабрику и начинает перекупать
королей и королев экрана. Ханжонкову сказано: «Вы, образо¬
ванные, можете действовать на этих людей разговорами, а
я — неграмотный купец, и умею действовать только рублем.
Вот я и действую». В придачу к Вере Холодной куплены Мак¬
симов и Полонский, Рунич и Худолеев. Харитонов идет напро¬
лом: демонстрирует всех своих звезд разом в одном фильме.
Все ждут, что от такой расточительности хозяин разорится,
а он добивается невиданного успеха: открыто то, что впослед¬
ствии стали называть старингом — созвездием...
Чтобы завершить «расклад сил» в русском кино этого пери¬
ода, остается назвать еще одно имя: Трофимов.
Костромской купец, разбогатевший в свое время на постав¬
ках леса для церемониальных построек к 300-летию дома Ро¬
мановых, — это не просто еще один воротила, почуявший, где
можно быстро заработать. Во всех этих купцах, выламываю¬
щихся из своего дела в искусство, вообще было много от...
горьковских чудаков. Они искренне хотели послужить вели¬
кому делу, и хотя — прав был Харитонов — умели действовать
только рублем и наотмашь, — успели сделать много. Кинофаб¬
рика, открытая М. Трофимовым на Бутырке, была примитивная,
без искусственного освещения (как сказал тридцать лет спустя
Эйзенштейн, это было «подобие деревянной загородной виллы
с палисадником... где, трепеща за свое будущее, ютилась фирма
«Русь») — но название фирма взяла себе громкое. И сотрудни¬
ков тут искали компетентных. Инженер М. Алейников, которого
Трофимов пригласил заведовать производством, был связан с
Художественным театром.
Теперь самое время сказать о взаимоотношениях МХТ с ки¬
нематографом. Отношения эти, отмеченные в прошлом сканда-
93
лами, вроде того, что вышел с «Живым трупом» Перского, бы¬
ли и ныне, шесть лет спустя, далеки от идиллии. За кулисами
в театре висело следующее, отпечатанное на машинке, воззва¬
ние В. И. Немировича-Данченко: «Участие в синематографиче¬
ских снимках перешло среди наших в какую-то вакханалию...
Шарлатанам, вовлекающим в это занятие наши молодые сцени¬
ческие силы, конечно, все равно. В огромном большинстве эти
люди ничего не смыслят в искусстве; им надо только для своих
коммерческих целей сорвать от молодых сил их возможности...
Я редко смотрю испошленное ремесло синематографа, которое,
однако, могло бы быть в высокой степени полезным. Но когда
я вижу, как на экране подделываются под готовых артистов и
ломаются в грубых штампах, в святом неведении, молодые
люди, о которых заботятся в Художественном театре, как они
участвуют в произведениях, которые своей пошлостью развра¬
щают вкус и калечат артистическую психику, — меня охваты¬
вает злая досада...»
Руководители МХТ едва начинали всерьез присматривать¬
ся к кинематографу. Немировичу-Данченко суждено было по-
настоящему увлечься им лет через десять. Но уже теперь в
театре и близких ему кругах зрела идея: заменить легкомыс¬
ленное гастролирование актеров МХТ в кино правильной и ре¬
гулярной работой.
Идея эта принадлежала, собственно, Марии Федоровне Андре¬
евой, замечательной артистке и общественной деятельнице. Вер¬
нувшись в 1913 году из Италии (большевичка, секретарь и жена
А. М. Горького, М. Ф. Андреева эмигрировала после революции
1905 года), она привезла оттуда горячую веру в кинематограф.
Идея же М. Андреевой заключалась в том, чтобы в противовес
кинопредприятиям коммерческим учредить в России киностудию
культурно-просветительскую, которая могла бы «образцовой
постановкой научных и художественных картин» подать всем
пример. У русских интеллигентов того времени не могло быть
двух мнений насчет того, какой театр должен взять на себя
организацию такой студии. Только Художественный.
Андреева имела поддержку Горького, который вообще-то
считал кинематографистов «продувной публикой», но идею
культурной киностудии на почве МХТ одобрил. На почве —
почти буквально: кинофабрику хотели строить во дворе МХТ.
Ходили слухи, что пайщиком будет Шаляпин... Война помешала
осуществлению этих планов, но Андреева от них не отступи¬
лась. В 1916 году планы вновь обрели реальность: Лианозов
дал деньги — девяносто тысяч (для сравнения: Ханжонков имел
всего в пять раз больше). Но у Ханжонкова был кризис с акте¬
рами и сценаристами. Здесь такого кризиса не предвиделось:
94
актеров давал МХТ; поддержку литераторов обещал Горький.
Нужен был лишь эксперт по кинопроизводству. Посоветовав¬
шись с Горьким и Станиславским, Андреева решила склонить
к этому делу своего сына Юрия, студента Петербургского по¬
литехнического института, страстного фотографа.
...Много лет спустя Юрий Желябужский так написал в своих
воспоминаниях об этом решении, принятом в домашнем кругу:
по совету Алексея и дяди Кости я отправился на фаб¬
рику Тимана...
Пауль Тиман прозябал в ссылке, в Уфе, дела фабрики со
скрипом вела Елизавета Владимировна. Желябужского она
встретила с радостью: втайне рассчитывала, что его мать со¬
гласится украсить своим именем афиши умирающей фирмы.
Желябужский начал с азов: со склейки пленки. И быстро
стал классным оператором. И уже в качестве кинопрофессио¬
нала был введен М. Алейниковым в правление товарищества
«Русь». Контакт был нащупан: «Русь» сделалась базой кинема¬
тографических опытов МХТ.
Так впервые наметился деловой контакт русского кинемато¬
графа и русского театра — любимого театра демократической
интеллигенции, собиравшего под своей эмблемой лучшие силы
тогдашней сцены. Нет сомнения, что это был многообещающий
союз. Результаты его должны были сказаться уже после истори¬
ческого перелома.
В октябре 1917 года дореволюционное русское кино перестало
существовать.
Судьба лент
Ленты в старое время никто не хранил; прокат был короток
и злободневен. Когда в воздухе запахло национализацией, вла¬
дельцы стали спасать ленты, как и всякую иную собственность.
Их зарывали в землю (где они портились), увозили в провин¬
цию (где они терялись). Много лет спустя остатки этих лент
были систематизированы сотрудниками Госфильмофонда. Тогда
же вернулся из-за границы фильм «Уход Великого старца»—
целехонький. Софья Андреевна Толстая спасла его своим запре¬
том.
В моей картотеке числилось около сорока дореволюционных
экранизаций Толстого, и, честно сказать, эта цифра несколько
страшила меня. А выдали мне в Госфильмофонде с десяток ко¬
робок, и то неполных: одну часть гардинской «Анны Карени¬
ной», три части гардинской же «Крейцеровой сонаты», кусок
из «Живого трупа» Перского, кусок из «Хозяина и работника»
Веселовского. Еще нашли загадочную мелодраму под названи-
95
ем «Дбчь Анны Карениной». Ну, и, конечно, «Уход Великого
старца» — гвоздь всей программы. А уложилась программа —
в час сорок минут. Вся многолетняя лихорадочная деятельность,
полная триумфов и крахов, срывов и взлетов, всемирных сен¬
саций и дьявольских расчетов, — все убралось в час сорок минут
сеанса...
После просмотра
Я пригласил на этот сеанс группу толстоведов. Но даже
острый профессиональный интерес к делу столь специальной
аудитории не мог погасить в ней той щемящей жалости, какую
вызывало показываемое зрелище. Откровенная халтура Перского
смотрелась даже легче: на экране мельтешил «разгул» — было
смешно. Сколоченная из фанеры печь, на которой сквозь нама¬
леванную кирпичную кладку видны шляпки гвоздей в «Хозяине
и работнике», несколько смягчала зал, потому что взывала к
снисхождению. Беззащитно-доморощенный реквизит вполне мог
претендовать на ценность исторического свидетельства — о кино¬
быте... Куда горше было смотреть те фрагменты, где угадыва¬
лась былая претензия на истинный артистизм, — тут было про¬
сто тяжко: не только судорожно заведенные к потолку глаза
посредственных актеров в «Крейцеровой сонате», но даже и
знаменитая Мария Германова в роли Анны — все эти «мхатов¬
ские паузы», вся эта потаенная задумчивость, звучавшая вызо¬
вом тогдашней экранной суматохе, — возбуждала теперь настоя¬
щую боль: отрезанные от толстовского текста, эти этюды выгля¬
дели как актерские экзерсисы, которые неловко выносить на
публику. В этом кладбище целлулоида не просто не было
Т о л с т о г о,— тут зафиксировалось нечто более драматичное:
слепота культуры, которая ловит опадающие перья и думает,
будто хватает жар-птицу.
Скука и жалость охватили меня.
Но вот начали «Уход Великого старца». И что-то перемени¬
лось в воздухе аудитории: я понял, почему именно эту ленту
из всего «разливанного моря» дореволюционного кино с уваже¬
нием выделил когда-то С. Эйзенштейн. Другое в воздухе!
Нет, весь набор наивностей 1912 года и здесь налицо. Дев
Николаевич в изображении В. Шатерникова, показывая, как ему
надоело жить, пилит себе ладонью шею не хуже рыночного тор¬
говца. Мужики-просители напоминают героев «Власти тьмы»
на уровне художественной самодеятельности районного масшта¬
ба. Фатоватый лакей у двери разговаривает с мужиками, не вы¬
нимая папироски изо рта, — вариант, мало соответствующий
духу Ясной Поляны. Молчу уже про попытку Толстого повесить¬
ся на шарфе, про идиллические стада, символизирующие мысли
96
великого старца, про финальную сцену, когда Толстой в испод¬
нем шествует по облакам ко Христу, — все это, конечно, смешно.
И, однако, — не тянет смеяться. Обезоруживающая серьез¬
ность сквозит в этой попытке воскресить яснополянскую жизнь.
В твердости ли протазановской руки дело, в медленных ли рит¬
мах — удивительно медленных для тогдашнего кино! — как буд¬
то удерживает режиссер воскрешенных героев, заставляя их
медлить, не уходить, не умирать... А может, дело в замеча¬
тельных портретных гримах: ведь поразительно похож не толь¬
ко Лев Николаевич, но * и Чертков, и Мария Николаевна, и —
в некоторых поворотах — Софья Андреевна. Надо только от¬
влечься от жестов, от манеры двигаться, от неистребимого
киностиля 1912 года.
Кинематограф и здесь бессилен перед Толстым-творцом, пе¬
ред Толстым-художником, перед духом его. Но с какой здоро¬
вой наивностью он пытается воскресить плоть его, внешний,
^материальный» облик! Сколько и теперь чувствуется в этом
детской веры! Сколько трогательной простоты — в этом неже¬
лании примириться, отпустить его, отдать смерти! И сколько
истинного отчаяния — совсем как в записке того человека, что
застрелился в кинотеатре в январе 1911 года: тяжело стало
жить после кончины Толстого. Пусто. Страшно.
Глава 5
ИЗ-ПОД ГРИМА
Первая послеоктябрьская зима.
Авто и трамы, как сказал поэт, продолжают свою гонку уже
при социализме. Но отнюдь не все пассажиры знают это. Новая
эпоха обозначена на знаменах и в декретах. Но ей надо еще
прорасти в толщу жизни.
Где-то в этой перестраивающейся толще — кинематограф.
Еще не национализированный. Но уже освобожденный от ста¬
рых опор. И от старых пут.
Сложение сил было такое.
В Москве начал работу только что учрежденный Киноко¬
митет, председатель которого, Н. Преображенский, «господ ки¬
нематографщиков» ненавидел, подозревая их в саботаже. Осно¬
вания у него были: с новой властью охотно сотрудничал в основ¬
ном технический персонал студий — лаборанты, рабочие ателье,
операторы, те, что поближе «к металлу». Актеры и режиссеры
(«творцы», как их не без иронии называли тогда) предпочитали
выжидать. У Комитета не было ни сил, ни средств сразу же ор¬
ганизовать свое кинопроизводство; в лучшем случае сил хва¬
тало на текущую хронику; даже и агитки, требовавшие поста¬
новочных усилий, Комитет должен был заказывать частным
студиям.
Частные же студии реагировали на настроения так называ¬
емой «чистой» кинопублики. Все определял спрос.
Многое в этом спросе диктовалось инерцией прошлых лет:
публика шла и на фарсы, и на мелодрамы, и на комические,
и на «уголовные» ленты образца 1914—1916 годов. Но эта про¬
дукция постепенно сходила на нет: она уже вовсе ничего не
говорила людям о реальности.
О реальности говорила кинохроника. Но зрителям, которые
должны были с энтузиазмом воспринять эту хронику, было
тогда не до кино, они большей частью воевали; «чистая» же
публика, посещавшая кинотеатры и воздействовавшая на на¬
строения киномастеров, эту хронику воспринимала плохо; были
98
случаи, когда большевистские хроникальные ролики встречали
топотом и свистом.
На южных киностудиях, в Одессе и в Ялте, где застряли, пе¬
режидая события, Ханжонков, Ермольев, Харитонов,— старые
мастера с лихорадочной поспешностью снимают свои ленты.
Эти ленты наполнены фантастическими аллегориями и поту¬
сторонними метафорами; они далеки от реальных представлений
о реальных жизненных предметах.
Отсюда катастрофический аллегоризм, во многом определив¬
ший стилистику художественного кинематографа в 1917 —
1918 годах: Зло борется с Добром, Христос — с Антихристом,
Сатана — с Богом; все это варьируется по обстановке от абст¬
рактной революционности до панической апокалиптики в духе
Мережковского. Назывался этот стиль «сатанинским».
Это «сатанинское» поветрие сочеталось с довольно обильным
притоком в художественное кино сюжетов и тем из классики.
Это был тот самый пункт, в котором старые киномастера могли
найти быстрый деловой контакт с молодой властью: Нарком-
просу требовались киноиллюстрации к просветительским лек¬
циям. Формой мобилизации сил стали конкурсы: на лучший тур¬
геневский сценарий, на сценарий по Шиллеру... по Гюго... по
Диккенсу...
Толстой казался одним из прочнейших ориентиров. В массе
лент, сделанных в эти два-три переломных года (и безвоз¬
вратно канувших в Лету),— довольно много толстовских экрани¬
заций. О качестве их и о том, что было в них от Толстого,
можно только гадать.
Вот перечень этих экранизаций.
В брошенном ханжонковском ателье актер Иван Перестиани
экранизует «Двух гусаров» и «За что?» с Григорием Хмарой
в главной роли. Реквизит давно растащен; в павильонах лежит
снег; однако Перестиани умудряется отснять десяток частей.
(Оба фильма впоследствии пропали. Самого Перестиани ждала
замечательная судьба, но без связи с Толстым: именно этому
режиссеру суждено было пять лет спустя создать первый со¬
ветский кинобоевик — «Красные дьяволята».)
Венгеров выпустил «Плоды просвещения». Бонч-Томашев-
ский снял очередную версию «Хозяина и работника». Кто-то
сделал «Божеское и человеческое» с тем же Григорием Хмарой
в главной роли. (Хмара через некоторое время эмигрировал;
впоследствии он снимался в Европе с Астой Нильсен.) О его
толстовских ролях сказать нечего: отзывов печати нет.
Исчезли не только полукустарные экранизации, сделанные
мелкими «фирмачами», но и работы главных китов тогдашней
частной кинематографии. Некоторые из этих лент особенно
99
жалко. Пропал, например, отснятый Ч. Сабинским на юге у
Харитонова «Живой труп» с Верой Холодной в роли Маши.
Все-таки интересно, как сыграла последнюю свою роль звезда
русского кино... (Говорят, Вера Васильевна не хотела менять
для фильма свою обычную прическу — боялась, что публика не
узнает ее. Вера Холодная умерла в 1919 году в Одессе. Ее хо¬
ронил весь город.)
Харитонов потерял свою главную звезду — Ермольев полу¬
чил шанс. Ермольев был в Крыму в ту пору. На краешке земли,
где уже едва держались последние белогвардейцы и слышны
были орудия Красной Армии, вершители судеб кончавшегося
старого кинематографа продолжали бурную конкурентную борь¬
бу, в том числе и на почве Толстого. Как бы в ответ на
харитоновский «Живой труп» Ермольев сделал «Власть тьмы»
и «Корнея Васильева»...
Все кануло в Лету.
Впрочем, не все.
Судьбе было угодно, чтобы один толстовский фильм, выпу¬
щенный Ермольевым в этой горячке, сохранился для истории.
То был «Отец Сергий»—лента, на которой старая русская
кинематография в последний раз собрала свои лучшие силы.
Протазанов хотел ставить «Отца Сергия» еще в 1916 году.
Пугала, как я уже говорил, цензура: «Инсценировка православ¬
ных духовных лиц (священников, монахов, монахинь, еписко¬
пов, патриархов) не может быть допущена». Формулу эту вы¬
вели на горьком опыте сами прокатчики — единых цензурных
правил для кинематографа не было, и на местах резали кто
как хотел. Однако существовали негласные запреты, преступить
которые было невозможно. Бессмысленно было снимать фильмы
о духовных лицах, а об особах царской фамилии и говорить
нечего. И вот в 1917 году эти барьеры пали.
Протазанов немедленно стал готовиться к съемкам. При всем
своем благоговении перед Толстым он не собирался копировать
повесть. Фильм должен был отвечать страстям момента: чело¬
век разрывается между ангельским и сатанинским началами;
над ним висит рок. Просветленный толстовский финал Прота¬
занова не устраивал, его привлекала тема, у Толстого едва
намеченная: душевные метания героя между великосветской
жизнью и монашеской аскезой. Прочтя сценарий, сделанный
Александром Волковым в духе протазановского замысла, со¬
трудники фирмы растерялись: разве можно делать фильм без
законченной любовной интриги? Протазанов убедил их, что
можно.
100
Протазанов готов был применить в своем фильме все лучшие
достижения русского кино. Он, Яков Протазанов, признанный
глава «психологического» направления, еще с «Пиковой дамы»
прочно взял на вооружение приемы противоположной, бауэров-
ской школы: живописно-изобразительной. Глубинные компози¬
ции, ясность мизансцен, «вычищенные» кадры, рассеянный свет,
загадочные отблески на мраморе, четкий ритм общих и средних
планов в сцене бала — ритм вальса... Протазанов развил и дру¬
гой важнейший прием Бауэра: короткий монтаж. Монтаж этот,
служивший у Бауэра средством «музыкального» ритмического
воздействия на зрителя, у Протазанова должен был выполнить
иную функцию, именно ту, которая раньше оставалась на долю
длинных игровых драматургических планов,— Протазанов хотел
убедить зрителя прежде всего психологической достоверностью
происходящего. Задумав показать терзания человека в безвы¬
ходной ситуации, он хотел удержать действие в пределах со¬
циальной определенности, не дать ему ускользнуть в абстракт¬
ность. У него было для этого старое испытанное средство:
умение работать с актерами, причем с актерами реалистическо¬
го, достоверного (мы теперь сказали бы: «мхатовского») толка.
Протазанов хотел соединить эту психологическую линию с ли¬
нией живописно-музыкальной.
Эту позицию Протазанов старался выдержать во всем. Его
художники спорили между собой: В. Баллюзек был склонен
к символике и импрессии, А. Лошаков — к натуральности и
правдоподобию, Протазанову были нужны оба. Операторы Н. Ру¬
даков и Ф. Бургасов получили неслыханно широкий спектр за¬
дач: от натурных панорам чуть ли не хроникального типа до ис¬
кусных павильонных сцен, где требовалась классическая лепка
светом. Актеры должны были удержать естественность в поло¬
жениях, насыщенных почти аллегорическим смыслом. Во имя
естественности Протазанов решительно отказался от некоторых
игровых стереотипов, которыми держались русские звезды. По
стереотипу из образа слабоумной купеческой дочки следовало
сделать изломанную, тронутую патологией соблазнительницу —
а Вера Орлова играла нормальную, здоровую, веселую девушку.
Другая искусительница — развратная вдова — в духе прежне¬
го кино должна была бы предстать в облике усталой, поблекшей
салонной «львицы» стиля вамп — а Наталья Лисенко играла
полную сил и естественных страстей женщину. Главный же
вызов содержался в работе Мозжухина. Вместо героя-любовни-
ка во фраке, безукоризненно и печально позирующего перед
камерой, в центр фильма встал герой нервный, острый, с не¬
красивым сухим лицом, с беспокойными, огромными, светлыми,
почти светящимися глазами.
101
Я пытаюсь представить себе состояние Протазанова в пору,
когда он принимал все эти режиссерские решения. Ничто из
старых канонов не связывало его: ни дурацкая цензура, ко¬
торая канула в прошлое, ни дурацкая публика, которая была
подавлена событиями и не могла диктовать, как раньше.
Было невероятное, беспрецедентное ощущение неслыханной,
безбрежной свободы. И— «безадресности» фильма. Старого зри¬
теля, исторически говоря, уже не было, нового зрителя еще
не было. Протазанов делал фильм «никому». Просто Искусству.
Это было мгновение вакуума в грозу, то самое мгновение исто-
«Отец Сергий» (1918
год). Режиссер Я. Про¬
тазанов. Один из луч¬
ших фильмов русского
дореволюционного ки¬
но. В главной роли —
Иван Мозжухин. Порт¬
ретный грим трех воз¬
растов героя — боль¬
шое достижение кино¬
культуры того времени.
В ролях: Николай I —
Е. Гайдаров, Мери —
В. Дженеева.
102
рической невесомости... Будущее должно было показать, какова
цена такой безграничной свободы... но в тот момент, когда
Протазанов делал свою ленту, он был совершенно счастлив.
Он знал, что ставит свой лучший фильм. Он спешил.
Последние сцены доснимались в Москве в феврале 1918
года. В городе еще стреляли. В помещении Кадетского корпуса
недавние его воспитанники мрачно слушали режиссера, который
призывал их сняться в фильме, разоблачающем Николая I.
С улицы доносились пушечные выстрелы: большевики штурмо¬
вали Купеческий клуб — там засели анархисты. Каптенармус,
ЮЗ
старый николаевский солдат, сказал Протазанову: «Что это,
барин, никак, пушки стреляют? Не царь ли батюшка вернулся?—
и погрозил пальцем засмеявшемуся помощнику режиссера.—
Смотри, просмеешься!» Наконец людей уговорили и выстроили;
Протазанов дал знак, и в зал быстро вошел загримированный
Е. Гайдаров. Вековая муштра сработала: увидев его император¬
ское величество, недавние кадеты рявкнули приветствие, и Про¬
тазанов понял: снимать без репетиций! Это было на руку: Ер¬
мольев спешил выпустить ленту до конца сезона, он был связан
с прокатчиками жестким договором и боялся неустоек. В марте
материал был готов. Протазанов монтировал его трясущимися
от нетерпения руками: монтажница едва успевала клеить. По
воспоминаниям очевидцев, путь от монтажной до просмотровой
и обратно Протазанов проделывал бегом.
В апреле состоялась премьера.
В мае 1918 года «Отец Сергий» прошел в столицах первым
экраном и имел, как опять-таки вспоминают очевидцы, «бе¬
шеный успех». По словам газет, публика впервые получила
возможность «воочию видеть инсценированные церковные служ¬
бы и келейную жизнь». Видимо, это более всего поразило пуб¬
лику.
Вскоре Ермольев и главные сотрудники его фирмы на летний
сезон отбыли в Крым, где и застряли. После падения Врангеля
Протазанов, Волков, Мозжухин и сам Ермольев бежали за
границу.
Несколько слов об их судьбе. Ермольев сначала работал на
Пате, но скоро разорился, и соратники покинули его. Мозжухин
снимался во Франции и имел успех, но в Америке — провалился.
Как вспоминают мемуаристы, он был «отключен» Голливудом:
существовала такая коварная форма устранения конкурента —
законтрактовать актера за большие деньги, а потом не давать
ролей. Или провалить его на двух-трех заведомо проигрышных
работах. Так пишут киноведы, но я сомневаюсь, чтобы у гол¬
ливудских продюсеров имелись на счет Мозжухина столь далеко
идущие планы; скорее всего, он оказался жертвой «рыночных
импровизаций»; Мозжухина, например, заставили в США из¬
менить фамилию на «Москин»— а вдруг зрители примут его
за знаменитого Москвина?.. Думаю, что Иван Ильич провалился
в Америке не из-за козней Голливуда, а по самой логике ве¬
щей. Он честно пытался вписаться в голливудские правила игры.
Но ему все мешало. Мешал, в частности, нос, знаменитый моз-
жухинский нос, с таким носом в Голливуде можно было претен¬
довать разве что на амплуа комика. Иван Ильич сделал пласти¬
ческую операцию. Не помогло. Единственный фильм, в котором
Мозжухин снялся в Голливуде, носит название почти символи¬
ка
ческое: «Капитуляция». Он переехал в Германию, где искал
поддержки у русских режиссеров-эмигрантов, но и в их фильмах
успеха не имел. Опять вернулся во Францию, где его еще
помнили, но — упустил время. Наступала эра звукового кино,
Мозжухин неважно говорил по-французски. Незадолго до
смерти, мучаясь от ностальгии, он принялся писать новый сце¬
нарий по «Отцу Сергию», все еще надеясь, что успех вернется.
Умер он в 1939 году от чахотки в больнице для неимущих,
под Парижем.
Узнав, что Мозжухин умирает, Вертинский в Шанхае собрал
среди русских актеров-эмигрантов деньги и послал их ему на
лечение. Опоздал.
Иначе сложилась судьба Протазанова, который после недол¬
гой работы за границей вернулся в СССР... но, чтобы расска¬
зать об этом скором возвращении и о том, какую роль тут
сыграл Толстой, нам надо перенестись обратно в Москву.
В Москву 1919 года.
Голод, тиф, разруха. Кинотеатры закрыты, киноателье бро¬
шены. Еще несколько месяцев должно пройти, пока будет объ¬
явлена официальная национализация кинодела, и еще немало
времени, пока все это встанет на практические рельсы, и все
брошенные хозяевами московские ателье — от ханжонковского
до харитоновского — пронумеруются в качестве фабрик Госкино.
А сейчас Кинокомитет предлагает паллиатив: кинематографис¬
там объединяться в акционерные товарищества и кормиться
самим. Получается это плохо: в голодной Москве кое-как дер¬
жится лишь одно такое товарищество — породнившаяся с Ху¬
дожественным театром трофимовская «Русь».
Но и «Русь» едва держится. Сохранилось письмо, из которого
ситуация выясняется достаточно рельефно: письмо адресовано
А. А. Блоку и написано режиссером «Руси» А. А. Саниным.
Санин жалуется на жестокие условия жизни, которые бросили
его в кинематограф. Старается не унывать: говорит о грандиоз¬
ных задачах, о том, что надо бросать в толпу, «в самую ее
гущу», семена правды и человечности. Просит у Блока сценарий.
Хоть какой-нибудь. Что-нибудь мистическое и пророческое.
Блок отвечает: «Но ведь двигатель — все двигатель, и лента —
все лента. К ним ничего не пристает».
Санин воодушевляется: пристает! И, чтобы ободрить Блока,
описывает творческую атмосферу в коллективе «Руси». Это мес¬
то в письме Санина для нас самое интересное—характеристики.
«Хозяев тут двое — Михаил Семенович Трофимов и Моисей
Никифорович Алейников... Трофимов — самородок... настоящая
105
«натура». Смесь широты, огня, размаха богатырского с какой-то
застенчивостью, чисто славянской скромностью и мягкостью...
Алейников — инженер, мягкий, вдумчивый, истинно культурный
человек. И как они добавляют друг друга — у одного все по
интуиции, у другого все взвешено... Любят здесь искусство,
литературу, всякое проявление таланта...».
Блок так и не дал сценария, но нам интересно не это, а
сложение сил в товариществе «Русь». К Трофимову и Алейнико¬
ву надо добавить еще троих. ‘ Во-первых, это Федор Оцеп, ки¬
нодраматург, в свое время сделавший Протазанову сценарий
«Пиковой дамы». Во-вторых,— знакомый уже нам Юрий Желя¬
бужский. И, наконец,— сам Александр Санин, филолог, когда-то
работавший у Станиславского актером и режиссером, ставивший
у него массовые сцены, затем в Париже у Дягилева ставивший
оперы и, наконец, теперь, пятидесяти лет от роду, приставший
к кинематографу. Делали они пока — что получалось. По зака¬
зам ВФКО — агитки. По инерции моды — «сатанинские» аллего¬
рии, вроде «Девьих гор», сугубо мистические и пророческие.
Ну, а «для души»— классику. Пушкина, Герцена, Андерсена.
И — Толстого. 4
Вспомнили «Поликушку», рассказ 1862 года. Сценарием за¬
нялся Оцеп. Режиссировал Санин. Снимал Желябужский, ко¬
торый, собственно, был сорежиссером.
Режиссерская концепция Санина заключалась в том, что¬
бы умереть в актере, что при механическом перенесении из те¬
атра в кино означало отсутствие всякой киноконцепции. Или,
как десять лет спустя ядовито заметил про санинские фильмы
В. Шкловский,— смысл такого «кинематографа» заключался в
«хождении аппарата за знаменитостью».
У Санина были некоторые основания ходить за знаменито¬
стью: роль Поликея согласился сыграть сам Москвин. Это было
не так просто устроить: Станиславский продолжал относиться к
кино как к низкопробному площадному зрелищу, а Немирович-
Данченко еще не успел переубедить его. Помогла ситуация: часть
труппы МХТ, отправившаяся на юг с гастролями, застряла там,
отрезанная фронтами гражданской войны; репертуар пришлось
сократить, и у Москвина освободилось время.
Великий русский актер Иван Москвин со страхом вступал в
царство кинематографа: ему казалось, что когда все зависит от
оператора (колесико), от проявщика пленки (химия) и от меха¬
ника (опять колесико),— играть невозможно. Ему было жутко от
мысли, что в кино он без голоса. Интересно сравнить само¬
ощущение театрального актера Москвина с тем, что об этом же
писал в ту пору киноактер Мозжухин: говорить на экране — это
все равно, что разрисовывать дивными красками мраморное, из-
106
ваяние. Москвин не собирался быть мраморным изваянием. Он
не знал никакой «киноспецифики».
Снимался Москвин по понедельникам, когда бывал свободен
от театральных спектаклей. В первый же день он обжег глаза,
потому что без конца щурился на «юпитеры»: опасался какой-
нибудь аварии с «колесиками». Глаза вылечили, разъяренного
Станиславского успокоили. Продолжили съемки. Снимали без
дублей — пленки было в обрез. Ателье отоплялось единственной
«Поликушка» (1919 год). Режиссер А. Санин. В роли Поликея — И. Москвин.
железной печкой, около которой из-за угрозы пожара все время
дежурил помреж.
В сцене, где Поликей Ильич, в мечтах вернувшись из горо¬
да, угощает детей,— актеры не выдержали и по ходу репетиции
съели весь хлеб. Ассистенты побежали по Бутырской улице,
стучать в дома, но не достали ни крошки. Съемку пришлось от¬
ложить до получения пайков (в Москве тогда выдавали сто
граммов в день на человека). Назавтра Санин решился действо¬
вать расчетливее: он спрятал хлеб и заставил участников сцены
репетировать с бутафорскими кусками; лишь когда затрещал ап-
107
парат, он дал им настоящий хлеб: вследствие подлинности за¬
горевшихся глаз эта сцена оказалась одной из лучших в фильме.
В перерывах Москвин, сидя у печки, читал «Войну и мир».
Съемки шли до полуночи, после чего, как вспоминают мему¬
аристы, дядя Матвей в скрипучих розвальнях, запряженных то¬
щим конем Васькой, развозил по домам бесценный груз — знаме¬
нитых русских актеров: Пашенную, Массалитинову, Москвина...
Шла вторая зима революции.
Фильм закончили к лету 1919 года. Сделали только негатив:
тираж не печатали за отсутствием позитивной пленки.
Судьба лент
Пока «Поликушка» лежал на полке, Ермольев контрабандой
вывез «Отца Сергия» за границу и пустил его там в прокат.
Буржуазная печать писала, что картина чудом вырвана из
«ужасной большевистской пасти». Во время сеансов публика
устраивала антисоветские демонстрации.
Судьба «Поликушки» сложилась иначе. Четыре года фильм
ждал своего часа, а когда час настал, ситуация в советском ки¬
но уже была иная, чем в холодном 1919 году. Уже кипели идея¬
ми молодые левые. Уже Дзига Вертов клеил из кусков хроники
свои первые кинопоэмы. Уже Лев Кулешов тренировал натур¬
щиков и декларировал «американский монтаж», с помощью ко¬
торого кинематография «закономерная» готовилась нокаутиро¬
вать кинематографию «халтурно-психологическую». Уже петро¬
градские леваки «фэксы» звали кино «от эмоции к машине, от
надрыва к трюку» и весело цитировали Марка Твена: «Лучше
быть молодым щенком, чем старой райской птицей!»
Гнездилищем старых райских птиц оставалась фирма «Русь»,
которой все труднее было спасаться от зубастых молодых щен¬
ков авангарда. Борьба «новаторов» и «традиционалистов» проис¬
ходила на фоне жестокой экономической блокады: Европа не да¬
вала ни пленки, ни аппаратуры. Кроме того, Европа не хотела
покупать советские картины. Уполномоченная Внешторга по де¬
лам кинематографии М. Ф. Андреева, которая уже второй год
сидела в Берлине, подала мысль, что помочь должна «Русь».
Наводить мосты назначили М. Алейникова. В 1923 году он
отбыл в Германию. В поезде немцы щупали шевиот его костю¬
ма и спрашивали: «Вы из Москвы?! Невероятно... Значит, это
неправда, что там по улицам бродят медведи?»
В багаже Алейников вез свидетельство доброй воли: шесть
коробок «Поликушки».
Дальнейшее красочно описано английским историком ки¬
но Хэнтли Картером, который в ту пору находился в Германии.
108
«Тот факт, что фильм поставлен в Москве, был достаточен, что¬
бы придать ему черты революционного пугала». Власти боялись,
что лента напугает мирных берлинцев. X. Картеру ,эту страш¬
ную ленту показали на секретном просмотре в маленьком изо¬
лированном зале. Храбрый британец попросил копию, чтобы от¬
везти в Лондон. «Но ведь вас убьют!»— «Я не боюсь»,— ответил
он хладнокровно.
Отвез и не ошибся: англичан потрясло, что лента, снятая в
большевистской России, показывает человеческие чувства. Обра¬
стая симпатиями, фильм поплыл через океан. Американцы вклю¬
чили его в десятку лучших лент года. Немцы, оправившись от
испуга, перестали думать, что перед ними— «ловкая больше¬
вистская пропаганда», и показали «Поликушку» в одном из луч¬
ших берлинских кинотеатров — в «Тауэнциенпаласе». Наутро га¬
зеты написали, что Москвин — гений, а русские — святые. Стена
рухнула: отныне появлялась надежда на контакт — на обменную
валюту, а значит, надежда на пленку и аппаратуру, столь необ¬
ходимые молодой советской кинематографии.
Фильм «Поликушка» вернул России не только сердца иност¬
ранных зрителей. Он вернул родине еще одно сердце. После
премьеры в «Тауэнциенпаласе» к Алейникову подошел эмигрант
Протазанов. Он поздравил Моисея Никифоровича с триумфом и
попросил аудиенции. Аудиенция была назначена в ресторане.
Придя туда, Протазанов увидел стол, сервированный русскими
закусками... «За встречу в Москве?»—предложил тост Алейни¬
ков. Протазанов опустил голову: «За мной аванс... тысяча дол¬
ларов». Родина заплатила. Лучший профессионал дореволюци¬
онного русского кино, которого Луначарский почтительно назы¬
вал режиссером «дю метье»— мастером, Яков Протазанов вер¬
нулся на родину. Вскоре он приступил к съемке революционно¬
фантастического фильма «Аэлита» по повести Толстого... только
другого Толстого — Алексея.
Вернулся на родину и фильм «Поликушка».
В рабочих клубах его восприняли как здорово сделанную
агитку о полной страданий жизни крестьянства в проклятое
крепостное время. В кругах кинематографических реакция была
иной. Николай Лебедев писал, что это театр, накрученный на
пленку, интересный разве что для грустного германского бур¬
жуа. Михаил Блейман писал, что только бедностью репертуара
и неумением кинотеатров подбирать программы можно объяс¬
нить появление на экране такой ремесленной инсценировки.
Хрисанф Херсонский писал, что игра Москвина — это театраль¬
щина, рассчитанная на взгляд с галерки, и что в этой архаич¬
ной и кликушеской актерской манере нет и следа киноспецифи¬
ки. Все они, и Н. Лебедев, и М. Блейман, и Хр. Херсонский,
109
сделавшись впоследствии патриархами советского киноведения,
более или менее скорректировали свои оценки. Но тогда они
были беспощадны.
И не только они. Виктор Шкловский язвил: «Москвин опять
плачет». Левому искусству были доступны всякие эмоции, но
только не старомодные слезы. В ту пору Шкловский мало кого
жалел, он и самый кинематограф не жаловал: это псевдоис¬
кусство приводило его в ужас. Шкловский в кино не верил,
экранизации считал абсурдом: пытаться перевести прозу на язык
кино, писал он,— это все равно что дать человеку тромбон и
сказать: «Сыграйте на нем Казанский собор». Литература пишет¬
ся словами, которые не поддаются фотографии,— доказывая эту
идею (весьма плодотворную, на мой нынешний взгляд, но к это¬
му мы еще вернемся.— Л. А.), Шкловский ссылался на Пушкина
и Толстого: попытки экранизовать «Станционного смотрителя»
и «Отца Сергия» загодя казались ему чудовищными.
Это не помешало Шкловскому через несколько лет сде¬
латься профессиональным сценаристом и экранизовать не кого
иного, как Пушкина и Толстого... Пока же реакцию Шкловского
на толстовские экранизации 1918—1919 годов, и, в частности, его
взгляд на «Поликушку», можно смоделировать, перефразируя
отзыв этого блистательного левого теоретика о «Коллежском
регистраторе» (следующей экранизации, где Желябужский еще
раз попытался сделать из Москвина киноактера).
Мнение Шкловского:
— Фильм с Москвиным — это роль.
У Толстого это повесть.
Зачем портить сделанные вещи?
Зачем переделывать Толстого?
«Плачьте без него».
Реакция Шкловского выявляет «линию фронта» в тогдашней
эстетике.
По одну сторону — конструктивность, деловитость, функцио¬
нальная точность, документальная правда, монтажная вырази¬
тельность... Здесь— «новаторы».
По другую сторону — психологизм, чувствительность,
грим, декор, эффектность мизансцены, актерская игра. Здесь —
«традиционалисты».
...«Традиционалисты» попытались бороться. Они выпустили
номер журнала «Кино» с Москвиным — Поликеем на обложке.
В номере — статья «Толстой о кинематографе». Автор статьи —
Тенеромо. Мы уже говорили об этом человеке: когда-то был тол¬
стовцем, потом публиковал очерки, полные фантастических «вы¬
сказываний» Толстого, по поводу которых сам Толстой пожимал
плечами; потом И. Тенеромо — сценарист фильма «Уход Велико-
110
го старца». И вот теперь он вдруг «вспомнил» и воспроизвел
на бумаге целую лекцию о кинематографе, которую Толстой яко¬
бы прочел ему... в 1908 году. Главным сюжетом тут была
бабочка-литература, проглоченная отвратительной жабой кине¬
матографии,— имелось в виду, что бабочка чудесным образом
разовьется в утробе жабы и выпорхнет оттуда в виде замеча¬
тельных психологических лент. Надо сказать, что эта самая
«жаба-торгаш» с бабочкой в утробе в конце концов прыгнула из
«камышей» статьи Тенеромо на страницы киноведческих книг в
качестве... доподлинного высказывания Толстого о кино1. Но
критики 1923 года были озабочены не этим. В комментарии к
статье Тенеромо редакция специально указала на «прямо и точ¬
но выраженное великим писателем признание революционного
значения кинематографа для литературы» (и, понятно, литера¬
туры для кинематографа). Грозное «указание» классика, однако,
не подействовало на молодых авангардистов. Да что классик —
на них не действовал даже нарком Луначарский, положитель¬
ный отзыв которого о фильме «Поликушка» был многозначитель¬
но помещен в том же номере журнала «Кино», немного, кстати,
перевравшего текст, скорее всего, по техническим причинам (то
есть в спешке).
Я приведу главную часть этого положительного отзыва, под¬
черкнув некоторые обороты Луначарского, важные чисто психо¬
логически: «Может быть, является спорным — воз¬
можно ли придавать кинолентам такой эпический характер; во
всяком случае, на мой взгляд, «Поликушка»—верный или
ложный, но крупный шаг в сторону именно тщательной пере¬
дачи — как это ни странно звучит — чисто литератур¬
ных и психологических достоинств литературного произведе¬
ния— на экране».
Сплошные оговорки. Отдаваясь естественным зрительским
чувствам, нарком просвещения словно сам не уверен в бесспор¬
ности своей оценки. Нет, не помог Лев Толстой «традициона¬
листам» первой половины двадцатых годов. Не стал фильм «По¬
ликушка» откровением тогдашней кинематографии. И не мог
стать: кинематография уже расступалась перед властно прибли¬
жавшимся «Броненосцем «Потемкин»...
Прошло еще несколько лет. В 1928 году, в связи со столет¬
ним юбилеем Толстого, картина А. Санина еще раз была выпу¬
щена в прокат. На сей раз она не вызвала вообще никаких эмо¬
ций. Возможно, потому, что ярость критиков была всецело пере¬
ключена тогда на другую ленту: на «Отца Сергия», которого по
1 Источниковедческий анализ этой фантастической истории см. в статье:
Л. Аннинский. Об одном апокрифе.— «Искусство кино», 1977, № 3.
111
случаю юбилея тоже показали, причем впервые, широкому со¬
ветскому зрителю.
Прошу прощения у нынешнего читателя за некоторые сти¬
листические (и грамматические) обороты нижеследующего тек¬
ста: из статей 1928 года я смонтировал блок, суммирующий
смысл и передающий окраску откликов печати, под которые про¬
шел тогда на экране «Отец Сергий».
— На примере этого дрянного идеологически и старомодно¬
провинциального фильма видно, какое именно наследие прошло¬
го нам не н у ж н о. Со всего фильма сочится самое гнусное, что
есть в толстовской философии: терпимость... Вместо борьбы с
царем — герой идет «спасать душу»! Нам не нужен, не интересен
весь этот сын (так!—Л. А.) монархического дворянства! Зачем
показывать на советском экране насквозь протухшую мелкобур¬
жуазную пошлятину? Порылись на складе, откопали, стряхнули
с пленки пыль и закрутили первым экраном... Рабочий зритель
возмущен; вся гниль, где-то пропадавшая без вести, вдруг за¬
шевелилась и поползла в кинотеатры смотреть свой социальный
заказ: божьи старушки, доисторического вида дамы и девицы
неопределенных занятий. Эта лента может быть принята толь¬
ко слоями, пришибленными революцией. Железный вывод:
«Отца Сергия»—изъять!
Ни «Отец Сергий», ни «Поликушка» более не шли в теку¬
щем массовом прокате. Они попали уже в классику. Впоследст¬
вии их показывали на различных мемориальных просмотрах
как образцы киноискусства. Кроме основных фильмотек, обе лен¬
ты были взяты во ВГИК в качестве пособия по мастерству.
Во ВГИКе я и посмотрел их.
После просмотра
Я с изумлением вспоминал, что в пору создания эти ленты
казались весьма точным воспроизведением Толстого. Она и те¬
перь была видна, эта почтительная верность литературной осно¬
ве,— в мелочах, в деталях, во внешнем следовании фактуре. Но
куда сильней мучало меня ощущение потери. Потеряно главное,
именно то, что делает Толстого Толстым. Или, лучше сказать,
то, что в моих сегодняшних глазах делает Толстого Толстым.
Что главное в рассказе «Поликушка»? Самоубийство безвин¬
ного крепостного? Запоздалое раскаяние барыни? Да, это есть.
Это—«тургеневское», еще ощутимое в Толстом начала шести¬
десятых годов. Есть там, кстати, и «гоголевское»: чертовщина,
связанная с силой денег. Но интересно не это. Самоубийство по¬
терявшего барынины деньги мужика, которое у Тургенева
замкнуло бы повесть щемящей печалью,— у Толстого как-то
112
быстро смазывается, заслоняется другими событиями: повесил¬
ся Поликей — в суматохе его жена забыла в корыте младенца —
тот захлебнулся — баба сошла с ума — барыня в расстройстве
отказалась от найденных денег — деньги попали к мужику, ко¬
торому надо было выкупить из рекрут племянника — вместо
племянника в солдаты пошел доброволец, и все уладилось...
Комковатое толстовское письмо не дает нам задержаться ни на
одном звене этой цепи (задержаться, застыть в печали)—все
неудержимо стремится вперед, катится потоком; и кажется, в
потоке исчезает все... в том числе, скажем, и доброволец, по¬
шедший в рекруты,— уж его-то роль и вовсе служебная... Но
вдруг посреди «счастливого финала» и этот статист на мгнове¬
ние раскрывается — несчастный сын оставленной в одиночестве
матери: у Толстого нет «периферии» сюжета, нет единичного ре¬
шения драмы для отдельного человека, и нет для него отдель¬
ной печали, а есть то, что называется ходом вещей, и в
этом мощном дыхании печаль тургеневская растворяется, преоб¬
ражается, пересоздается — в эпос. Это — Толстой.
В рассказе «Отец Сергий», написанном в девяностые годы,
когда Толстой уже помягчел,— нет такой жестокости. Но и здесь
история блестящего офицера, от несправедливостей общества
ушедшего в монахи, далека от того, чтобы в отдельной судьбе
что бы то ни было решилось. Во всяком случае, «борьба с
плотью»— не ответ для Толстого. Он понимает: самый святой
такой же черт, как самый грешный; борьба монаха с похотью —
ничто перед происходящим отсюда грехом тягчайшим — горды¬
ней духа; выхода из этого «ложного круга» Толстой не видит,
потому что таков опять-таки ход вещей. Но что же тогда де¬
лать? Да хоть покориться этому ходу вещей, отвечает Тол¬
стой,— покориться добровольно, как добрая Пашенька, кузина
князя Касатского, тихонько заботящаяся о пьянице-зяте и не¬
счастных внуках — без всякой громкой жертвенности, а именно
так, как того требовал Толстой,— из великой естественно¬
сти. Из понимания хода вещей...
Вот это чудо естественности, эта вера в мудрость миро¬
устройства, эта неколебимая твердость в понимании «самодейст¬
вующего» миропорядка, из которого личность невычленима,—
весь эпический план, конечно, начисто утерян в обоих фильмах.
И Санин и Протазанов дают не более чем частные версии: прон¬
зительные, односторонние, почти истерические: для них в рас¬
павшемся мире нет целого. И это главное, почему, смотря сего¬
дня эти ленты, я чувствую с ними мучительный духовный дис-
контакт.
Санин видит в «Поликушке» только один пласт: печаль по
безвинно загубленной жизни Поликея. Вряд ли это было вполне
113
осознанным решением: скорей всего, податливого режиссера по-
вел за собой гениальный артист, сделавший из роли Поликушки
настоящее откровение. Я ожидал, конечно, сильного впечатления,
но я не ожидал того, чем так подействует на меня Москвин.
Не остроумным пластическим рисунком роли. Не каскадом на¬
ходок: жестов, движений, мимических планов. А общим ощу¬
щением беспомощности полного жизни, естественного существа.
Москвин ведь всегда играл беспомощных героев. В злобе ли,
в доброте — они у него беспомощны... Нет ничего более проти¬
воположного Толстому, у которого человек может действовать
или бездействовать, быть победителем или побежденным,— но
он никогда не чувствует себя беспомощным. В этом смысле доб¬
рый, по-русски страдающий, трогательный герой Москвина, с его
широкой, несколько «размазанной» душой — начисто противопо¬
ложен вероучительной жесткости Толстого, и сам Москвин от¬
лично сознавал это. Он говорил о Толстом: «Органической люб¬
ви к людям, мне кажется, у Толстого не было, он... по-настояще¬
му не любил людей, но Христос сказал, что людей надо любить,
и он старался их любить. А в действительности он к людям
относился холодновато». Москвину было зябко в волнах толстов¬
ского эпоса, и он прочертил, прожег толстовский сюжет острой
печалью. Не потому, что сознательно хотел скорректировать его
Тургеневым, и не потому, что режиссер продиктовал ему это.
Просто Москвин в этой ситуации оказался единственным чело¬
веком, который не подчинился Толстому, ибо имел свою неза¬
висимую концепцию человека. Санин такой концепции не
имел — он делал «экранизацию»...
В отличие от Санина Протазанов имел твердую режиссерскую
концепцию «Отца Сергия». Это и ощущаешь в каждом кадре.
Здесь нет и намека на суетную повествовательность санинских
мизансцен — Протазанов строит кинодействие уверенно и власт¬
но: я чувствую, почему мне показывают гвардейский мундир
с позументами, почему тускло поблескивают колонны во вре¬
мя бала, почему так холоден камень монастырской стены и
так скрипучи деревянные перегородки в келье. Властная рука
режиссера чувствуется везде. Это, что называется, «настоящее
кино».
Но вот парадокс: чем увереннее и артистичнее строит «на¬
стоящее кино» Протазанов, тем упрямее мое сегодняшнее зри¬
тельское сознание восстает против этого. И дело не только в
киноязыке: в сущности, речь идет именно об увлекшей Прота¬
занова концепции.
Но сначала о форме.
То, что для кинокультуры 1918 года было откровением и вы¬
зовом, теперь, шестьдесят лет спустя, кажется хрестоматийной
114
бесспорностью. Я знаю, что Протазанов своей картиной зачеркнул
прежние стереотипы, но это мне трудно все время держать в
голове, потому что зачеркнутые стереотипы давно уплыли в
забвение, их просто нет. А то, с помощью чего Протазанов из¬
жил старое,— это есть, это я вижу. Есть его стиль, его концеп¬
ция, его позиция. И вот странная вещь: то, что внутри худо¬
жественной системы фильма казалось в свое время предельной
свободой самовыявления и совершенной естественностью,— те¬
перь, шестьдесят лет спустя,— кажется сплошной условностью.
Мозжухин, когда-то покорявший натуральностью жеста, теперь
кажется экзальтированным. Протазанов не позволил себе в
фильме «Отец Сергий» ни намека на аллегоризм, столь свойст¬
венный модному тогда «сатанинскому» стилю,— но прошло вре¬
мя, и из всех пор этого реалистического фильма проступило не¬
что близкое: «демонизм».
Я говорю даже не о том, что борьба против греховной плоти,
составляющая внутренний сюжет протазановского фильма, мало
соответствует кругу толстовских идей, тому ощущению «ложно¬
го круга», по которому идет у Толстого несмиряющийся человек.
Еще раз: не Толстого я ищу в экранизациях; Толстого я читаю;
а в экранизациях ищу то, что говорит кинофильм о своем вре¬
мени. Дело не в том, что у Протазанова не так, как у Толсто¬
го. Дело в том, что концепция борьбы с греховной плотью мало
говорит мне о людях 1918 года.
Странно, но «слабый» фильм Санина говорит, пожалуй, боль¬
ше... Не могу не сказать в связи с этим еще и еще раз: есть
какая-то загадка в киноискусстве... Тебе на первом плане пред¬
ставляют «шедевр киномышления», а тебя убеждает совсем дру¬
гое: что-нибудь непредусмотренное, на втором, третьем плане,
или что-нибудь вовсе не «кинематографичное». «Случайный про¬
хожий», поразивший Эйзенштейна в фильме Гриффита. Крака-
уэровский «трепет листьев» сквозь кинодействие. Получается
парадокс: чем увереннее строит кинорежиссер действие, тем
больше рискует задушить живую жизнь.
Протазанов строит уверенно, а Санин неуверенно. Протазанов
знает, чего хочет, а Санин — не очень. У Протазанова властный
кинопочерк, а у Санина робкий. Результат: жесткое произведе¬
ние Протазанова постарело вместе со своим стилем, а сквозь
мягкие контуры санинской режиссуры светится самопроизволь¬
ная правда. Как великолепно работает Протазанов с вещами, с
предметами! Но этот интерес к вещам, к реквизиту — весь этот
непрерывный «бунт против плоти»—кажется мне сегодня...
странной формой зависимости от плоти, а старательная натураль¬
ность протазановских интерьеров воспринимается сейчас, как ис¬
кусная декоративность.
115
У Санина совсем другой контакт с «плотью» и фактурой.
У него все время словно путаются в вещах. Но его, странно
сказать, спасает кинематографическая неискушенность. Кадр за¬
бит предметами. Соломка, лучинка, лохмотья, заплаты, вороха
тряпья, какое-то беспомощное копошенье в кадре. За всем этим
следишь с еле теплящимся любопытством: не задевает, не тро¬
гает, но и не очень мешает. Но вот незаметным колобком вкаты¬
вается в этот ворох вещей Москвин. Чмокнул барыне ручку, пой¬
мал подол, ёще раз чмокнул, утер нос полой шубейки, обыграл
шкалик водки, обыграл соломку, споткнулся, подхватил падаю¬
щую вещицу, нашел глазами икону, перекрестился... Критики
двадцатых годов возмущались: чего он суетится, это же не ки-
не-ма-тографично! Согласен, не кинематографично... Но не отто¬
го ли и спасся тут единственный живой человеческий образ, что
выпутался, вывалился из слабых сетей санинской неуверенной
кинематографичности? У Протазанова бы не выпутался! Я, зри¬
тель семидесятых годов, ищу в Москвине вовсе не кинематогра-
фичность. Я ищу нечаянность, естественность — ищу живое сви¬
детельство. Я вижу на экране изумительно пластичное существо,
которое дружит с предметным миром, которое гениальнр вписано
Москвиным в природу вещей... ведь даже петлю накидывая на
чердаке — ни разу движением не ошибся, а как бы можно
«обыграть» путающиеся пальцы! Но у Москвина своя партиту¬
ра: с какой умелой податливостью, как споро и покойно идет
он умирать! Как ловок и умел этот человек в своем ближнем
интерьере! И как беззащитен в большом мире... От этого ощу¬
щения мне больно и горько. Как, улучив момент, спрятал Поли-
кей Ильич веревку на груди и тихонько пошел вешаться, а в
дверях обернулся и посмотрел в последний раз на детей своих —
тут почти стоп-кадр, нет никакого «кинодействия»—останови¬
лось мельтешение актеров,— и видишь москвинские глаза, в ко¬
торых страдание перемешалось с пониманием,— вот тут-то и
бьет в самую душу.
Не просто режиссер Санин стушевался перед актером — сам
кинематограф, словно растерявшись на мгновение, дал Москвину
высказаться. Протазанов — не растерялся: он Мозжухина забрал
в жесткие рамки киномышления, а впрочем, и «забирать» не на¬
до было: Мозжухин сам киноактер, весь закованный в бро¬
ню профессиональности. Вот и застыло все, закостенело через
какой-нибудь десяток лет: сменился стиль. А тут — удержалось
живое, вне «стиля» и канона. Санинские мизансцены безобидно
скучны — протазановские раздражающе навязчивы. Санин ни на
что не претендует, и от него «не ждешь»— Протазанов претен¬
дует, но то, что он дает — слишком мечено допотопной киномо-
дой и непоправимо устарело. Чудовищны бурные вздохи Мозжу-
116
хина. Чудовищны подведенные черным глаза. Чудовищен этот
неистребимый налет цыганщины в лирических сценах. Я знаю,
что для своего времени Мозжухин был изумительно сдержан в
жесте: я помню, что именно этими мучительными страстями он
выбил из сознания кинозрителей фрачного «героя-любовника»,
но душещипательная мелодрама все-таки проступает сегодня и
из старательного «кинематографизма» образца 1914—1918 годов.
Как быстро стареют эти открытия!
Базен говорил: для кинематографа пять лет равносильны це¬
лому поколению в литературе. Даже гений кино не переступает
в своем влиянии пятнадцатилетнего срока. А тут? Шесть десяти¬
летий... И вот я походя холодно отмечаю блистательные монтаж¬
ные находки Протазанова: кружатся в пляске крестьянки —
встык кружатся великосветские пары на балу... Или: колокола
монастырские — наплывом колокольчики под дугой: едет распут¬
ница искушать отца Сергия... Мое зрительское сознание, вышко¬
ленное современным кино, почти автоматически отдает должное
Протазанову: надо же, ведь вот когда еще он стал это делать!
А сейчас такое делает любой выпускник ВГИКа.
Так что же теперь я ищу в его картине? «Киноязык»? Чепу¬
ха какая: да я его оптом отдам за мгновение истины. Я ищу —
мгновение истины. Я думаю: вот «Отец Сергий»—фильм-итог,
своеобразный свод достижений дореволюционного русского ки¬
но,— отчего так окостенел он? Не оттого ли, что само это кино
в основе своей оказалось замешано на каком-то вывихнутом по¬
нимании человека? И правда ведь, вывихнут тут человек, вы¬
вернут наружу, напоказ. А Толстой — это сокровение. Его не вы¬
вернешь. Контакт с Толстым — великое испытание, и выдержи¬
вает его не всякий. Не тот, кто рабски следует Толстому или,
напротив, пытается подчинить его какой-нибудь извне взятой
идее. Выдерживает тот, кто, подобно Москвину, сохраняет неза¬
висимое сокровенное естество духа.
Поэтому и в «Отце Сергии» протазановском я ищу то, что
сказалось у художника как бы помимо жесткой образной сферы.
Отрешаюсь прежде всего от навязчивых кинематографических
ассоциаций, пытаюсь смотреть наивными глазами: есть там хоть
что-нибудь нынешней-то душе? Есть ли живое свидетельство?
След истины, «трепет листьев»?
Есть.
Помните сцену, когда соблазняет отца Сергия купеческая доч¬
ка? И с этого момента начинает он погибать... Вот тут — помни¬
те лицо Мозжухина? Как, поддаваясь обольстительнице, он как-
то «случайно» взглядывает в аппарат? Как сквозь старательно
изображенный гнев праведника, сквозь четко отыгранное вожде¬
ление грешника — вдруг видишь какую-то нечаянность: расте-
117
рянные глаза человека, которого куда-то ведут, и он делает то,
что от него требуют, но не знает, зачем он это делает,— и как-
то вопросительно, извиняясь, что ли, заглядывает при этом нам
в глаза? В этот момент я забыл «партитуру роли»—я был пле¬
нен тем самым чудом кино, когда из-под грима вдруг проступа¬
ет натура и реальность. Не об этом ли пишут теперь теоретики
как о загадочном феномене непроизвольной достоверности? Не
об этом ли и Базен говорил: «мумифицированное время»? Это
чудо — когда театральный актер Москвин, глядя с экрана шесть¬
десят лет спустя, вынимает из тебя душу,— тут не очень по¬
мнишь даже, Поликея ли он изображает, Симеона Вырина или
еще кого,— так сливается естество кино с драматургией ори¬
гинала...
Вот и тут: из-под намалеванных черных бровей и надглазий
«отца Сергия» глянули на меня светлые, добрые, недоумева¬
ющие глаза Ивана Ильича Мозжухина, и словно откуда-то из
небытия, из-за последней черты старое русское кино бросило мне
прощальный взгляд.
А новое, советское кино? Каким образом оно обратилось к
Толстому? Все ж от 1919 года, когда сделали «Поликушку», до
1959 года, когда крупнейшие мастера нашего кино приступили
к крупнейшим толстовским экранизациям,— сорок лет! Как же
представлен Лев Толстой в нашем кино за сорок лет?
Глава 6
ЧЕТЫРЕ ПРОБЫ
В конце двадцатых годов надвинулся юбилей: столетие Тол¬
стого. Не внедряясь в общее толстоведение, попробую передать
своеобразие этого юбилея через «монтаж подробностей». Луна¬
чарский и Ольминский обсуждают в «Правде», насколько велика
опасность оживления толстовства и какие нужно принять меры,
чтобы в связи с юбилеем не активизировался, как тогда выража¬
лись, вредный элемент. Группа красноармейцев в коллективном
письме резонно запрашивает Совнарком, зачем чествовать не¬
противленца. Луначарский разъясняет обеспокоенным читате¬
лям, что Толстому надо дать «практическое употребление». Газе¬
ты к этому и готовятся. Цитирую заголовки юбилейных статей:
«Используем Толстого, как один из механизмов в машине куль¬
турной революции!», «Толстой двулик», «Толстой наш и Толстой
чужой», «Чтим Толстого, даем бой толстовству», «Великий по¬
путчик», «Почему мы празднуем юбилей Л. Н. Толстого?», «Юби¬
лей или суд?».
Включившись в кампанию, газета «Кино» напечатала статью
В. Ашмарина «Толстой и кино». Приведу выдержку:
«Всякая попытка дать произведение Толстого на экране не¬
минуемо влечет за собой искажение подлинника, ложное, чуж¬
дое этому своеобразному автору истолкование этого произведе¬
ния режиссером, который вынужден... транспонировать на экран
писания Толстого лишь по формуле тов. Луначарского— «отсю¬
да и досюда». Поэтому предоставим советским массам читать
художественные произведения Толстого в превосходном Госизда-
товском издании. А что касается «экранизаций»... то будем их
всемерно избегать, памятуя о том, что они искажают Толстого и
низводят кинематографию к служебной иллюстративной роли.
Советская современность богата темами и идеями, более нужны¬
ми для советского кино, чем отошедший в историю литературы
Толстой».
В этом рассуждении интересно разобраться — и с точки зре¬
ния «вечности», и с точки зрения момента (тогдашнего).
119
«Предоставим... массам читать... Толстого»—прекрасно! На
все времена верно! И сегодня, в 1980 году, я думаю, почаще
надо вспоминать, что подлинный Толстой — в его книгах. Сего¬
дня это, пожалуй, еще и актуальнее звучит, чем в 1928-м: мало
того, что вот-вот потоком пойдут вслед кинематографическим
экранизациям телевизионные, так ведь чуть ли не каждая тщит¬
ся «исчерпать» подлинник, встать с ним «вровень». Так что кри¬
тик 1928 года смотрит прямо-таки на полстолетия вперед.
Но: «Всякая попытка... неминуемо влечет... искаже¬
ние подлинника»—очень уж круто.
«Всемерно избегат ь»— директива!
«Лишь по формуле тов. Луначарского»??
Кстати, формула «отсюда и досюда» принадлежит не Луна¬
чарскому. Луначарским она взята у Плеханова, Плехановым —
у Д. Заславского, да и последнему не принадлежит: это была
общеупотребительная модель отношения к Толстому передовых
людей в период юбилея 1908 года. Но вот и в 1928 году эта
формула идет как сама собой разумеющаяся. Признано: Толстой
изначально и непоправимо несовместим с актуальными задача¬
ми современности. В собраниях сочинений — пусть остается, но
что касается кино — а оно обращено к миллионам,— то тут най¬
ти Толстому практическое употребление можно, только преодо¬
левая его.
Лучше же с ним вообще не связываться.
В общем, предпочитали не связываться. Ни на экране, ни да¬
же на сцене. Московские театры не поставили к юбилею ни од¬
ной толстовской пьесы. Исключая мастерские Пролеткульта, где
показали «Плоды просвещения»—но Пролеткульт как раз изо
всех сил «преодолевал» Толстого.
Экран же был определенно далек от Толстого. В. И. Немиро¬
вич-Данченко как раз в эту пору вернулся из поездки по Амери¬
ке; раздосадованный и раззадоренный голливудскими экраниза¬
циями Толстого, он попытался сагитировать наши киноорганиза¬
ции поставить «Анну Каренину»—в пример и назидание амери¬
канцам. Без успеха! Появились сообщения, будто Протазанов к
юбилею Толстого экранизует «Войну и мир», причем сценарий
пишет сам Луначарский—ничего не получилось. Один режиссер
поставил более скромную цель: экранизовать рассказ «Две
версии улья...» с участием живых пчел, предав этой толстовской
«утопии», как он выразился, «форму политсатиры». Что это
означало, сказать трудно, потому что и этот фильм не вышел:
то ли Толстого режиссер не преодолел, то ли с пчелами не спра¬
вился.
В результате — ни одного толстовского сюжета на экране
1928 года. Если не считать «Поликушки» и «Отца Сергия», шед-
120
ших в кинотеатрах под гневные зрительские резолюции: изъ¬
ять! И еще одной ленты, о которой и пойдет сейчас речь.
Нашелся ведь человек, который в столь неидиллической си¬
туации решился экранизовать Толстого к юбилею, искренне за¬
думав поставить его на службу новому искусству. Задача не¬
простая. Взялся за это человек, склонный именно к парадок¬
сальным решениям. Это был Виктор Шкловский
В ту пору он считал, что фильм — это композиция кинотрю¬
ков, которые сценарист волен мотивировать любым способом.
В качестве материала годится все, в том числе и классика.
Толстой лежал близко: Шкловский как раз был им увлечен —
писал книгу «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война
и Мир». Исследовал «деформацию матерьяла» под воздействием
«установки» автора. Тогдашняя установка самого В. Шкловского
видна из его статей 1926—1928 годов.
«С Толстым, Пушкиным, Лермонтовым и Достоевским нужно
бороться...
Кино — великий исказитель.
Каждая эпоха имеет право пересоздавать предыдущую.
Гражданский мир — удел кладбища...».
Иными словами, нужна «гражданская война» с классикой.
Это та же идея «практического употребления» классика, хотя,
конечно, Шкловский выражал ее с изрядной долей игры.
«Великая русская литература,— писал он,— большое не¬
счастье для современности. Потому что из-за нее ждут «большо¬
го полотна» и Китти Левину (так!—Л. А.) — комсомолкой...».
Остроумно подыгрывая этим наивным ожиданиям, Шклов¬
ский надеялся «примирить» зрителя и классика. В шутку он
предлагал такой вариант экранизации толстовского «полотна»:
во время революции Каренин и Вронский эмигрируют, Анна хо¬
дит по Берлину и Парижу в котиковой шубе, и с кем она жи¬
вет, не интересует даже ее квартирную хозяйку.
«Вот тут и учитесь у классиков».
Учиться — смешно. Но использовать — можно. Нужно только
уметь использовать. Манипулируя материалом. И зрителем, при¬
бавил бы я сегодня...
«Кинокартина будет существовать,— писал В. Шкловский,—
рядом с литературным произведением, пользуясь его материалом
и в то же время вытесняя его. Иначе быть не может».
«Мы должны в кино, которое обладает огромной силой вну¬
шения, создавать вещи, параллельные произведениям клас¬
сики. Вдвинуть в сознание зрителя не ложь (ложь — это, видимо,
идеи классика? — Л. А.), а новый материал».
121
«Мы должны заново поставить «Капитанскую дочку» и «Вой¬
ну и мир»,— писал В. Шкловский.
«Капитанскую дочку» Шкловский с Таричем тогда же и поста¬
вили— Ю. Тарич рапортовал в журнале «Советский экран», что
они сделали из нее «гражданскую войну XVIII века».
В отличие от Тарича Шкловский не давал своим замыслам
столь ответственных определений. Он предпочитал деклариро¬
вать другое: для конкуренции с американцами, говорил он, нуж¬
но много дешевых, «быстро сверченных картин». В принципе это
было верно и актуально: среди дешевых картин, сделанных с
участием Шкловского, можно назвать такие ленты, как «По зако¬
ну» и «Третья Мещанская». Однако метод «быстрого сверчивания»
лент имел и оборотную сторону, которая в данном случае, при¬
менительно к Толстому, оказалась лицевой. При явном расхож¬
дении с идеями классика (либо «преодолеть», либо «использо¬
вать» — «отсюда и досюда») на поверхности оказывалась чистая
технология. Как делать дешевые картины? В. Шкловский отве¬
чал: снимать не в павильонах, а на натуре. Чтоб не строить
декораций. Искать для них такой материал, какой позволяют
погода и касса студии. На «Войну и мир», конечно, никто денег
не даст, а вот, например, «Казаки» — то самое, что надо.
Хотели сначала «свертеть» ленту на Ленинградской фабрике
Госкино — В. Касьянов уже согласился ставить. Но поскольку на¬
тура ленинградская была на кавказскую непохожа, то дешевле
вышло перебросить картину в Тбилиси Госкинпрому Грузии, где
за нее охотно взялся режиссер В. Барский.
Теперь, чтобы показать читателю, в чьи руки попал
сценарий Шкловского, приведу характеристику, которая в тог¬
дашней критике прочно связалась со «стилем Госкинпрома Гру¬
зии»: стиль этот — лезгинка, умыкание невесты, кинематогра¬
фическая безграмотность и абсолютная содержательная безраз¬
личность... Опять-таки «за кадром» в этой характеристике (она
принадлежит перу М. Блеймана) Шенгелая и Перестиани, Мака¬
ров и Марджанишвили, Калатозов и Чиаурели — старые и моло¬
дые мастера, усилиями которых в ту пору закладывается тради¬
ция большого киноискусства Грузии. Но мастера Толстого не
экранизуют, они — заняты другим. За Толстого берется пред¬
ставитель расхожего «Госкинпром-стиля»...
Но почему? Почему не Эйзенштейн? Не Кулешов, не Пудов¬
кин?
Ведь Пудовкин преклонялся перед Толстым! «Войну и мир»
на столе держал! А дальше помощи Оцепу и роли Феди Протасо¬
ва не пошел. Да и десять лет спустя, в тридцатые годы — все
только замыслы, максимум — репетиции («Анна Каренина»), и —
ничего на экране. Чем это объяснить? Тем, что корифеи нашего
122
кино двадцатых-тридцатых годов былй заняты другими темами,
актуальными, новаторскими? Тем, что не ощущали внутренней
необходимости прямого обращения к Толстому? И тем, и этим...
Ощущение это возникло в годы Великой Отечественной войны.
И тогда — режиссерские экспликации «Войны и мира». И одно¬
временно— опера С. Прокофьева, законченная в 1943 году...
И массовый тираж «Войны и мира», пошедший из типографий на
фронт... И молоденький лаборант Центральной студии докумен¬
тальных фильмов Жора Давыдов, в ночь ухода в действующую
армию прибежавший к Александру Медведкину:
— Надо срочно снимать фильм по «Войне и миру» Толстого!
Поставьте об этом вопрос где нужно! Я не умею выразить слова¬
ми, но чувствую сердцем — надо как можно скорее делать такой
фильм!
...Стало быть, все дозревали до Толстого: и мастера кино, и
подмастерья, и зрители. Медленно дозревали — войной, страда¬
нием.
А раз так, то и вернувшись в двадцатые-тридцатые годы, не
будем искать частных причин; дело в общей ситуации: все не
дозрели. Эйзенштейн был «другим занят», и Пудовкин «другим
занят», и Кулешов «другим занят»... В конце концов, неудиви¬
тельно, что за Толстого взялся Барский.
Так получился симбиоз. С одной стороны — Виктор Шклов¬
ский, теоретик авангарда, сподвижник великих революционеров
экрана. С другой стороны — Владимир Барский, постановщик
«Разбойника Арсена», «Обезглавленного трупа», «Тайн маяка»,
«Кошмаров прошлого» и прочих красот. Как писали критики,
соединились черт с младенцем. Расшифровываю: Шкловский с
Барским.
Я видел этот фильм и могу засвидетельствовать, что в сорев¬
новании победил младенец.
Шкловский, как мы знаем, хотел с помощью Толстого сделать
хорошую дешевую ленту. Этнографическая фактура, найденная
в Старогладковской станице (там, где Толстой начинал писать
«Казаков»), крупно снятые плетни, бусы, подвески, сбруя, ут¬
варь, долгие общие планы работ: косьба, уборка, обмолот — мно¬
гое тут было фактурно, документально, подлинно. Но подлин¬
ности не получилось. В. Барский склеил из этого материала ме¬
лодраму, по ходу которой демонический Оленин пытается оболь¬
стить роковую красавицу Марьяну, а бутафорский патриарх
Ерошка развлекает зрителя комическими интермедиями (опре¬
деления— из статей тогдашних критиков). Заложенные в сце¬
нарии кинометафоры Шкловского вроде куста перекати-поля,
символизирующего жизнь Оленина, оказались — по выражению
тогдашних критиков,— чисто словесными выдумками, которые
123
не получились и не могли получиться на пленке. Знатоки
фильм не приняли — он был не кинематографичен. Широкий же
зритель остался недоволен тем, что казак Лукашка не борется с
барином, а вместо этого на экране какая-то опера. Плотник Рас-
теряев в газете «Рабочая Москва» выразил презрение к актерам,
не умеющим как следует сесть на коня, так что «вместо каза¬
ков в картине представлены дореволюционные пузаны-поме-
щики».
Газеты оценили фильм как «безграмотную спекуляцию» на
Толстом. Впрочем, и газеты не отличались большой грамотно-
«Казаки» (1928 год)
Режиссер В. Барский.
Производство «Госкин-
пром-Грузия». Пример
трансформации толстов¬
ского сюжета в сти¬
листику «дешевого про¬
катного фильма».
124
стью: та самая «Красная газета», что назвала ленту Барского
«спекуляцией»,— на другой странице окрестила героя «Отца
Сергия» князем Касаткиным. Как видим, курьезов хватало,
судьи были отнюдь не на высоте. И все же провал «Казаков»
надо признать бесспорным. И закономерным. Фильм делался
«помимо» Толстого, без интереса к нему: классика «использова¬
ли». В этой установке В. Шкловский не был оригинален — он
только попытался придать делу оттенок виртуозности. Так или
иначе, от Толстого все это было и по замыслу и по результа¬
ту— далеко...
Любопытно, что лет тридцать спустя Шкловский еще раз
вернулся к «Казакам», и по его новому сценарию была сделана
вторая экранизация. Это — косвенное признание, что первая —
не получилась. Любопытно и другое: если о втором фильме
«Казаки» Шкловский подробно писал в своих статьях шестиде¬
сятых годов, то о первых своих «Казаках» он за всю жизнь
в многочисленных автокомментариях так и не обмолвился ни
словечком. А случаи, надо сказать, были.
Например, в 1929 году, когда Оцеп с Пудовкиным поехали в
Берлин делать «Живой труп», и Шкловский, только что пора¬
ботавший над толстовской экранизацией, их напутствовал. Но он
не стал делиться опытом.
Дело в том, что и применительно к «Живому трупу» Шклов¬
ского опять-таки интересовал не Толстой.
Его интересовало: как «сработает» Пудовкин? Как натур¬
щик или как актер? Кинематографично или театрально? «По
Кулешову» или «по Станиславскому»?
Но прежде, чем вместе с Пудовкиным ответить на этот
вопрос, объясним читателю, почему в 1929 году Пудовкин с Оце¬
пом поставили в Берлине «Живой труп».
Вспомним ситуацию.
Ситуация второй половины двадцатых годов была непохо¬
жа на ситуацию начала десятилетия, когда советское кино дела¬
ло первые шаги и Алейников вез в Берлин «Поликушку». Теперь
новое кино обрело широкое влияние. Перелом произошел в 1926—
1927 годах: «Броненосец «Потемкин», казавшийся первым кри¬
тикам тяжеловатым и неповоротливым в сравнении с ходкой ки¬
нопродукцией той же «Руси», опроверг все прогнозы и триум¬
фально пошел по родным экранам. Вслед «Потемкину» Эйзен-,
штейн немедленно сделал «Октябрь»— опыт был развит в на¬
правление. Поставил «Мать» Пудовкин, соединив метафориче¬
скую патетику со своеобразным романтическим психологизмом.
Именно этим фильмам суждено было разрушить стену, которой
новое советское кино было отделено от мирового экрана. Эти
картины и внутри советского кинематографа существенно пере¬
менили ситуацию. Триумф Эйзенштейна и Пудовкина был вос¬
принят левой критикой как сигнал к решающей атаке на «тра¬
диционалистов». После «Октября», писал М. Блейман, наступило
время расчистить место новому— «уничтожить все, что мешало
Эйзенштейну». Эйзенштейну мешали костюмированные инсцени¬
ровки и коммерческое эстетство, тот самый стиль, который в
запальчивости споров несколько прямолинейно, но прочно и не¬
безосновательно связывался с фирмой «Русь».
126
Однако если внутри советского кинематографа «Русь» игра¬
ла роль чуть ли не символа глухой старомодности и располага¬
лась, так сказать, «справа», то на международной киноарене
ситуация сложилась такая: фильмы «Руси», этого уникального
по своему творческому составу частного товарищества, со¬
храненного от национализации в 1919 году, продавались на За¬
пад как бы по двойной принадлежности. Столько же как «совет¬
ские», сколь и как «русские». Перед лентами «Руси» на Западе
не было такого барьера, как перед «Броненосцем «Потемкин».
К тому же в 1924 году фирма сильно укрепила свои позиции,
приняв в число пайщиков Международную организацию рабочей
помощи: Межрабпом. Так «Русь» превратилась в «Межрабпом-
Русь», а с 1928 года — в «Межрабпомфильм». На европейской
арене, таким образом, студия была связана с пролетарскими ор¬
ганизациями и имела определенный престиж в левых кругах,
в СССР же продукция студии—«Папиросница от Моссельпро-
ма», «Девушка с коробкой»—по-прежнему являлась мишенью
левой критики. Разумеется, и тут все было сложнее—ведь на
«Межрабпоме» сделал свои лучшие ленты Пудовкин, но автор
«Матери» и «Потомка Чингис-хана» в тогдашних баталиях про¬
ходил по «индивидуальному разряду», что же до продукции сту¬
дии как таковой, то она связывалась, скорее, с именем Протаза¬
нова и безоговорочно относилась к «традиционному стилю». Ни¬
кого не удивляло, что Эйзенштейн презрительно называл такое
кино «салоном».
Теперь вдумаемся в ситуацию на европейском экране. Итак,
новое советское кино (по тогдашней терминологии — левое) с бо¬
ями продвигается на Запад. Демонстрации лент Эйзенштейна
и Пудовкина воспринимаются там как революционные акции и
сопровождаются скандалами. В Германии намечается наиболь¬
ший успех: как раз в ту пору здесь стало усиливаться левое
направление, связанное с «Народным киносоюзом», с именами
Брехта и Пискатора. Этому направлению Эйзенштейн и Пудов¬
кин были жизненно необходимы. Прокатом советских лент ведал
в Германии «Прометеус» — германский киноотдел Межрабпома,
связанного, как мы помним, с «Русью». Была у «Прометеуса»
своя съемочная база. И спрос был — спрос, идущий снизу, от
демократического немецкого кинозрителя. «Сверху» же, со сторо¬
ны немецких киномонополий, уже не было настоящего противо¬
действия: германское кино в ту пору теряло свои позиции; блеск
экспрессионистского направления, составившего главу в истории
мирового кино, тускнел, германское кино медленно погружалось
в коммерческий академизм. Стремясь удержать точки опоры на
европейском кинорынке и хоть как-то противостоять сметающей
все экспансии Голливуда — немецкие кинематографисты искали
127
союзников. В сущности, борьба с Голливудом была уже проигра¬
на Германией: американцы добились так называемых импортных
квот. По видимости эти квоты обеспечивали немцам встречный
экспорт их картин в США, на самом же деле они ставили немец¬
кое кино на колени: голливудские продюсеры, продвигавшие
свою продукцию на берлинский экран, с радостью соглашались
своими руками делать на берлинских студиях те «немецкие
фильмы», которые беззвучно исчезали в американском прокате,
но открывали голливудским боевикам дорогу в Берлин.
Обменные соглашения, по которым за право проката
иностранных кинолент всякая немецкая кинофирма обязывалась
выпускать соответствующее число своих, пусть даже и совмест¬
ных,— действовали, однако, не только для американцев, но и для
русских. Иначе говоря, чтобы получить право на прокат «Потем¬
кина» или «Матери», фирма «Прометеус» должна была поставить
что-нибудь в сотрудничестве с советскими кинематографистами.
Что это означало для нас? Мы получали право вести свою игру,
а заодно могли выбить почву из-под ног русской эмиграции,
несколько уже поднадоевшей немцам своими «консультациями
по дворцовому этикету» и фильмами вроде «Белого дьявола»,
сводившими с родиной счеты...
Надежным материалом были русские классики. И вот А. Ра¬
зумный поставил на «Прометеусе» фильм «Лишние люди» по
Чехову и «Пиковую даму» по Пушкину—оба имени были
достаточно популярны в Германии. А там пришел черед и Тол¬
стого.
Быбрали «Живой труп». Во-первых, эту вещь в Германии
знали, она шла в театрах и была уже экранизована тут лет
за семь до того. Во-вторых, бракоразводная проблема в непроч¬
ной обстановке Веймарской республики должна была восприни¬
маться как весьма злободневная, во всяком случае, в глазах
наших наблюдателей, помнивших «эротический взрыв» и пропо¬
веди свободной любви в германском кино 1918—1920 годов.
И наконец, в-третьих: еще не вполне выветрился в Берлине
связанный с присутствием эмиграции интерес к цыганам, трак¬
тирам и прочим аксессуарам «русской жизни», легко извлекае¬
мым из толстовской пьесы.
Остальное, как говорится, было вопросом техники.
Ставить должен был Ю. Желябужский, потом за постановку
взялся Ф. Оцеп. В полном соответствии с задачей он подобрал
интернациональный актерский состав: Мария Якобини, Густав
Диссль, Виола Гарден, Ната Вачнадзе, Вера Марецкая. Главным
же козырем был Всеволод Пудовкин в роли Федора Протасова.
Пудовкин как раз тогда привез в Германию «Потомка Чингис¬
хана». Участие в «Живом трупе» было для него делом попутным,
128
подвернувшимся кстати, но — не принципиальным. При всей
любви к Толстому Пудовкин считал (и не без оснований), что
«кино ближе к прозе, чем к драме», и что кусок из «Анны Ка¬
рениной» ближе к киносценарию, чем монолог Отелло или Хле¬
стакова1. Однако одну специальную задачу Пудовкин в ходе
экранизации толстовской пьесы все-таки хотел решить — именно
ту самую, о которой догадался Шкловский: как играть?
Вспомним, что Пудовкин тогда, в конце двадцатых годов,—
если верить его высказываниям — находился как бы на полпути
от авангардистских теорий, согласно которым снимающийся
актер — лишь «сырой материал» для будущего монтажа2 и, ста¬
ло быть, в огромном большинстве случаев должен «играть само¬
го себя»3,— к тому диаметральному взгляду, когда теория мон¬
тажного образа была переименована Пудовкиным в «псевдотео¬
рию»4, и он искренне принял систему Станиславского. Берясь за
роль Протасова, Пудовкин хотел проверить, кого же ему придется
играть. Протасова? Или все-таки «самого себя»?5.
Участие замечательного режиссера в этой картине явно не
ограничивалось исполнением главной роли. Он помогал Оцепу
монтировать ленту, а лучше сказать, он фактически определил
ее стиль. Воздействие Пудовкина ощущаешь и в броских портре¬
тах эпизодических лиц (эти монстры трактиров увидены тем же
глазом, что полицейские в «Матери»!), и в резких ракурсах (ма¬
ленький человек — сверху, в огромном пустом фойе суда), и в
монтаже кадров-символов. И в операторском стиле, в скупой
тональной гамме, в резкости ракурсов и контрастности световых
решений — во всем чувствовалась школа Пудовкина: фильм снял
Анатолий Головня, делавший с Пудовкиным «Мать».
Создатели фильма не ставили целью воссоздание толстовской
атмосферы, они не держались за колорит времени и места. У них
были иные цели. Россия из фильма исчезла., Воздух берлинского
ателье вошел в поры кинодействия. Когда сквозь стеклянную
дверь видишь силуэт Протасова в коротком пальто и шляпе
образца 1929 года, то воспринимаешь не толстовского забулдыгу,
а германского безработного периода кризиса. Когда в пивной
сидят люди в фуражках и тянут из кружек пиво, то это все-таки
немцы, а не русские. Когда в кадре бренчат гитары и наплывом
идут волжские пейзажи, то ощущаешь не толстовскую Россию
1890 года, а позднейшую эмигрантскую ностальгию русских в
Берлине. Даже портрет Николая II в зале суда не очень удивляет:
1 См.: Пудовкин В. И. Собр. соч., т. 1, с. 250.
2 Там же, с. 131.
3 Там же, с. 118.
4 Там же, с. 202.
^ Там же, с. 237.
129
не приходит в голову, что по правде-то должен висеть Алек¬
сандр III: в этой картине с таким же успехом мог бы висеть и
Вильгельм II или кто-нибудь из веймарцев — ничего бы не на¬
рушилось.
Сознательно или бессознательно — Оцеп ориентировался на
среднегерманского зрителя (скорее, сознательно, потому что
трудно «по ошибке» акцентировать, скажем, в интерьерах кон¬
систории чисто католические детали — они куда выгоднее для
бракоразводной трагедии, чем православные). Получился фильм
не о слабом толстовском правдоискателе, а о европейском малень-
шЖивой труп» (1929
год). Режиссер Ф. Оцеп.
В роли Протасова —
Всеволод Пудовкин.
130
ком человеке, которого до смерти загнало бездушное, механи¬
ческое общество.
Отсюда — монтажный лейтмотив, весьма характерный для
немецкого экспрессионизма: заводные часы с марионетками на
рычагах. Отсюда — и ровный ряд трупов в морге... Чем навеяны
эти штабеля мертвых? Отравленными газом солдатами ми¬
нувшей войны? Предчувствием войны будущей? Должен сказать,
что на меня сильно подействовала эта сцена, да и вообще весь
этот искренне сделанный фильм. Маленький человек застрелил¬
ся, загнанный буржуазной толпой,— толпа скрестила на нем
131
бинокли. Не ново? Может быть. Но когда у авторов есть кон¬
цепция и они в нее верят,— это действует. Я был взволнован,
когда посмотрел этот фильм почти полстолетия спустя, в 1977
году.
Что же до немецкой прессы 1929 года, то она пришла в полный
восторг. Роль Федора в исполнении Пудовкина была объявлена
высшим актерским достижением.
Пять лет спустя Пудовкин признался, что в образе Федора
ему так и не удалось нащупать сквозной характер — он играл
все-таки больше самого себя, то есть отдельные состояния, и
«Живой труп» Ф. Оце¬
па. В верхнем кадре в
центре композиции ка¬
толическое распятие —
деталь, специально под¬
черкнутая режиссером
для западного зрителя.
132
трактовал не роль, а психологические положения, образ же был
создан монтажно1.
В. Шкловский, интересовавшийся, как «сработает» Пудовкин,
получил ответ: сработал как натурщик, по Кулешову, то есть
«кинематографично». Увы, это не спасло фильма в глазах Шклов¬
ского, и он оценил его следующим образом:
«В ленте «Законный брак» (прокатное название «Живого
трупа».—Л. А.) неизвестно под каким давлением (известно.—
Л. А.) соединены тема Льва Толстого, режиссер Оцеп и актеры
Пудовкин, Ната Вачнадзе, Мария Якобини и еще какая-то ан¬
гличанка (очевидно, Шкловский имеет в виду Виолу Гарден.—
Л. А.). Дело здесь не в беспринципности, а в бесстильности,
в том, что кинематография потеряла ощущение школы и жанра.
Бритый Протасов в модном пиджаке должен прийти за раз¬
водом не в консерваторию, а в загс, и мучиться ему не из-
за чего».
Но шутка В. Шкловского оказалась сущей игрой в сравнении
с тем, что стали писать о фильме «Живой труп», когда его
пустили в родной прокат. М. Блейман в «Ленинградской правде»
квалифицировал поступок Вс. Пудовкина как «поворот к сот¬
рудничеству с реакционным Федором Оцепом». Много лет спус¬
тя Михаил Юрьевич вспоминал, что после этого определения
Всеволод Илларионович некоторое время избегал его. И тот и
другой были добрейшие люди.
Критика наша оценила фильм как ненужный и фальши¬
вый. Она увидела в нем попытку угодить «и нашим, и вашим»:
понравиться германскому буржуа и одновременно, под маркой
пролетарской киноорганизации, протащить на советский экран
«либеральное психоложество». Непростительной ошибкой авто¬
ров фильма было признано то, что они «излишне доверились»
Толстому и пошли у него «на поводу». А надо было, как ука¬
зывали критики, разоблачить «идеалистическую религиозно- мо¬
ральную концепцию самосовершенствования». «Фильм,— резю¬
мировал журнал «Литературный критик»,— не дорос до интер¬
претации, которая соответствовала бы задачам советского ки¬
ноискусства».
«Не дорос»...
Интересно, каким оказался бы фильм по Толстому, построен¬
ный на разоблачении толстовских идей, да еще в пору, когда
решение проблем, поставленных Толстым, выглядело так просто:
пошел в загс, взял развод, и мучиться не из-за чего... Я до¬
пускаю: фильм мог оказаться и в этом случае интересным.
1 Пудовкин В. И. Собр. соч., т. 1, с. 237
133
Толстого жалко.
Чем так, уж лучше, пожалуй, по Ашмарину: не трогать клас¬
сика вовсе.
И еще двадцать лет — не трогали. До самого начала пятиде¬
сятых годов.
Что же делалось с толстовским наследием эти двадцать лет?
Шла гигантская, кропотливая, последовательная государст¬
венная работа по освоению толстовского наследия и внедрению
его в широчайшие читательские массы. В основе лежал ленин¬
ский завет: в наследстве Толстого есть то, что принадлежит
будущему; это наследство берет и над этим наследством работает
российский пролетариат1.
Берет и работает — с первых месяцев новой власти. Издания
первых месяцев скудны по общей бедности. Но имя Толстого
стоит в ленинском списке-проекте монументальной пропаганды.
И в горьковском списке-проспекте «Всемирной литературы».
И Ясная Поляна в декрете объявлена заповедником.
Юбилей 1928 года был далек от идиллии. Но именно с 1928
года начинает выходить девяностотомное Полное собрание со¬
чинений Толстого, редактируемое В. Г. Чертковым. Предприня¬
тое по постановлению Совнаркома, осуществляемое под наблю¬
дением авторитетнейшей государственной комиссии (А. В. Луна¬
чарский, В. Д. Бонч-Бруевич, М. Н. Покровский, И. И. Сквор¬
цов-Степанов), оно по сей день является в тол стоведении аб¬
солютным текстологическим эталоном. Адресованное специалис¬
там, это издание печатается небольшим тиражом, но уже с
1928 года параллельно ему выходят огромными тиражами, в
расчете на массового читателя, еще два полных собрания ху¬
дожественных произведений Толстого. В приложении к «Огонь¬
ку» московский Госиздат выпускает 12 томов тиражом 125 ты¬
сяч; ленинградский Госиздат—15 томов; тираж растет от тома
к тому; первые книги допечатывают дополнительными тиража¬
ми: массовый читатель жадно впитывает Толстого. Именно с
конца двадцатых годов начинается методичное насыщение ги¬
гантской аудитории толстовскими текстами. Статистические по¬
казатели здесь беспрецедентные; если взять только то двадцати¬
пятилетие, что ограничено двумя слабыми попытками кинемато¬
графа обратиться к Толстому, то за период с 1928 по 1953
годы («мертвый сезон» толстовского экрана) вышло четыре
массовых собрания сочинений Толстого, суммарный тираж ко¬
торых вплотную приблизился к 80 миллионам экземпляров.
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 23.
134
Плюс к этому — поток отдельных изданий: «Война и мир»—
25 раз, «Воскресение» — 29 раз, «Анна Каренина» — 31 раз; это
значит, что главные романы Толстого, помимо собраний, все
это время издавались практически ежегодно.
Еще один аспект: переводы.
Толстой и до революции был известен на «окраинах Рос¬
сийской империи»: энтузиасты переводили его на Украине, в
Грузии, в Армении, в Татарии, в Прибалтике; до 1917 года мож¬
но насчитать с десяток языков, на которых (в границах госу¬
дарства) имелись толстовские тексты.
К 1954 году Толстой переведен (в пределах СССР) на 75
языков. Его переводили (и на нем проходили литературную
школу) Стефан Зорьян и Уйгун, Берды Кербабаев и Анна Саксе,
Тициан Табидзе и Абдулла Каххар, Мамед Ариф и Мухтар
Ауэзов — люди, создававшие новую национальную культуру
своих народов. По количеству переводов с русского Толстой
шел по пятам за Пушкиным (к 1954 году тот был переведен
на 80 языков).
Наконец, третий красноречивый аспект: школа. Внедрение
Толстого в народное сознание на уровне школы шло с особенной
интенсивностью. За эти же четверть века: с 1928 по 1953 годы —
более двухсот учебников, анализирующих или содержащих тол¬
стовские тексты. Миллионы старшеклассников формировались на
его романах; миллионы учеников школы начальной формирова¬
лись на его «Азбуке». В свое время Толстой мечтал, чтобы по этой
«Азбуке» выучилось два поколения русских детей; выучи¬
лось много больше, и не только русских; к 1954 году абсолютное
первенство по количеству изданий для детей держал рассказ
«Филиппок».
Когда-то Ленин писал, что Толстой-художник известен ничтож¬
ному меньшинству даже в России. Задачей революции было —
«сделать его великие произведения действительно достоянием
всех»1. В сущности, эта задача и решалась в течение послере¬
волюционных десятилетий: Толстой практически становился од¬
ной из фундаментальных опор народного сознания. И именно в
эти десятилетия в огромной читательской (и зрительской) толще
был подготовлен тот взрыв интереса к Толстому, который в шести¬
десятые годы откликнулся в нашем киноискусстве.
Но факт: все эти десятилетия наше кино обходилось без тол¬
стовских экранизаций. То ли считали себя иные киномастера
слишком передовыми, чтобы вязнуть в толстовских «ошибках»,
то ли, напротив, считали свое искусство слишком слабым, чтобы
посягать на толстовский мир... видимо, было и то и другое. И уве-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 19.
135
ренное превосходство и ученическая робость. В конце двадцатых
годов еще пробуют учить Толстого. В начале пятидесятых годов
уже пробуют у него учиться. Попытки робкие. Но и в них надо
всмотреться.
Начало пятидесятых годов. «Малокартинье». Вс. Пудовкин в
«Литературной газете» взывает к общественности, рассказывая о
мытарствах молодых режиссеров, годами сидящих в ожидании
первой постановки. В числе упомянутых — два сверстника, вы¬
пускники ВГИКа, ученики Эйзенштейна М. Швейцер и В. Венге¬
ров1; один за неимением дела только что уволился с «Мосфиль¬
ма», другой седьмой год прозябает на «Ленфильме» ассистентом...
...Один семь лет спустя поставит «Воскресение». Другой под
влиянием статьи Пудовкина получит самостоятельную работу тот¬
час. Самостоятельной ее можно назвать с натяжкой: потребова¬
лось заснять — очевидно, с расчетом на показ по телевидению —
готовый спектакль. Степень творческого риска приближалась
тут к нулю, ибо вещь была уже апробирована на театре.
Между прочим, фильм-спектакль был чуть ли не основным
киножанром в начале пятидесятых годов. Фильмы-спектакли
(и фильмы-концерты) составили большую часть продукции круп¬
нейших кинофабрик страны в 1952—1953 годы. Два толстовских
спектакля попали на экран просто потому, что были в наличии.
Было еще пять горьковских и пять по Островскому. А вот Пуш¬
кин не попал: не рказалось ничего подходящего.
Итак, два толстовских.
Один спектакль — свежий, не так давно поставленный в Ле¬
нинградском театре имени Пушкина: «Живой труп» (когда-то,
как мы помним, Мейерхольд уже ставил на этой сцене «Живой
труп» — в 1911 году, театр назывался тогда Александринским).
Другой спектакль — заслуженный, прошедший проверку вре¬
менем: «Анна Каренина» во МХАТ. История его любопытна, как
и вообще история возвращения МХАТ к Толстому. Возвращение
было нелегким. «Воскресение» в 1930 году было встречено крити¬
кой без восторга (А. Сольц писал в «Известиях»: «Барская прав¬
да»); но «Анна Каренина», которую по известной волковской ин¬
сценировке Немирович-Данченко поставил несколько лет спустя,
была уже записана театру в актив. Кинематограф быстро среаги¬
ровал на такое изменение ситуации, и Б. 3. Шумяцкий, тогдаш¬
ний руководитель кинематографии, предложил Немировичу-Дан¬
ченко экранизовать «Анну Каренину». Немирович-Данченко,
как мы помним, в свое время, после возвращения из Америки,
1 Ничего общего не имеющий со старым кинопредпринимателем В. Венге¬
ровым1
136
обращался с подобной идеей к предшественникам Шумяцкого.
Встретил отказ. Но за прошедшие годы ситуация переменилась,
и теперь идея экранизации приняла следующий вид: не мудр¬
ствуя лукаво, перенести на экран мхатовский спектакль (вот тог¬
да и родилась эта жанровая модель: фильм-спектакль). На сей раз
отказался Немирович-Данченко. Он заявил, что занятые в спек¬
такле актеры не могут из-за съемок «менять атмосферу», и пре¬
доставил кинематографистам ставить фильм самостоятельно. За
это дело с увлечением взялся Пудовкин. Он написал режиссер¬
скую разработку, подобрал актеров и уже репетировал с ними от¬
дельные сцены. Но потом оставил это — ради фильма «Минин и
Пожарский»: накануне войны этот сюжет был явно актуальнее ис¬
тории Анны Карениной.
Прошла война. И еще несколько лет. К началу пятидесятых го¬
дов, когда идея фильма-спектакля возродилась,— мхатовская
«Анна Каренина» была уже хрестоматийной бесспорностью. За¬
дача мосфильмовского кинорежиссера Татьяны Лукашевич (по¬
становщик популярного «Подкидыша») была почти технической.
Равно как и задача ленфильмовского ассистента Владимира
Венгерова, которому поручили отснять «Живой труп», постав¬
ленный под руководством Л. Вивьена.
Семнадцать лет спустя Владимир Венгеров, уже признанный
мастер, автор «Кортика» и «Порожнего рейса», вернулся к «Жи¬
вому трупу» и е щ е раз снял по нему фильм. Поговорим мы
и об этой повторной попытке. А пока перед нами — два фильма-
спектакля 1952—1953 годов.
Со сложным чувством шел я пересматривать эти двухсерий¬
ные зрелища. При чем тут кино?— думалось. Оно тут техническое
средство, вроде печатного станка. Статичный средний план, ри¬
сованные задники, занавес в начале и конце действия... Даром,
что актеры — с опытом киноработы: Николай Симонов за десять
лет до Федора Протасова блестяще сыграл в кино Петра I и еще
десяток раз снимался; Алла Тарасова кроме того же «Петра» сни¬
малась еще и в «Грозе» и в целой веренице лент. Но то кино, а
тут — фильм-спектакль... Так не лучше ли оставить эти два филь¬
ма там, где им естественней оставаться: в истории театра?
Но давайте же и с другой стороны подойдем к делу. Ну, до¬
пустим, для истории киноискусства эти фильмы-спектакли —
ноль. Но мы не это исследуем. Мы исследуем другое: как кине¬
матограф зафиксировал в разные годы нашу нужду в Толстом.
Нашу способность воспринять его. Наше отношение к нему. А че¬
рез него — к себе самим. Чем же в таком случае хуже других
лент фильмы-спектакли начала пятидесятых годов? Я шел смот¬
реть в них не Толстого. Я шел смотреть людей начала пятиде¬
сятых годов.
137
После просмотра
В сравнении с «Живым трупом» 1929 года «Живой труп»
1952 года — предел бережности. Уж тут на стене— Александр III,
как полагается. И реплики Толстого скрупулезнейшим образом
сохранены и донесены. Но я, вникая в чувства и действия этих
крепких, устойчивых, честных, светлых людей, что называется,
«Живой труп». Фильм-спектакль (1952 год). Режиссер В. Венгеров.
В роли Протасова — Н. Симонов, князь Абрезков — Я. Милютин.
положительных героев в полном смысле этого слова, стараюсь
воспринять их чувства и действия как реальные, кое-где просто
отвлекаясь от толстовского сюжета. В сущности, на экране —
не слабый пьяница, бегающий кутить к цыганам, а сильный, трез¬
вый, дельный человек, который... ну, скажем, так: руководит му¬
зыкальным коллективом и... допоздна там задерживается, потому
что горит энтузиазмом. Жена его, Лиза, посылает за Федей сест¬
ренку Сашу (пионерку, допустим), посылает друга Виктора, но
Федя не в силах оторваться от своего хора и, увлеченный, зовет
посланцев послушать, как хорошо поет солистка Маша... Все эти
138
люди очень чисты, семейные неурядицы для них — не так уж и
неразрешимы в сравнении с делом: раз работают они честно и
хорошо, то остальное решить можно, пусть Лиза соединится с
Виктором, а Федя с Машей, все равно все будут счастливы, по¬
тому что не личным живут, а — общественным...
Я думал: но как же в этом оптимистическом контексте сыгра¬
ет Н. Симонов самоубийство? Знаете — сыграл. Прекрасно
«Анна Каренина». Фильм-спектакль (1953 год). Режиссер Т. Лукашевич.
Очень заметна театральность мизансцен и декораций.
сыграл, и из образа не вышел! Ну, как если бы, скажем, выяс¬
нилось, что этот Протасов как руководитель стоял на неправиль¬
ных, порочных позициях. Годами неверно ориентировал людей.
И его вызвали на... собрание держать ответ за такие дела. И он
понял, что действительно принес непоправимый вред и что
нет ему прощенья.
Стреляясь, он мужественно сказал себе: «Так надо!»
...«Анна Каренина». Смотрю, стараясь уловить дух и приметы
пятидесятых годов. Спектакль стар, в нем свежее мироотношение
смешивается с тем, что с тридцатых годов окостенело, успело
139
стать актерской цитатой... Следя за небрежным, веселым, домаш¬
ним каким-то переговариванием — пересмеиванием — перегля¬
дыванием актеров в первой же сцене бала, с трудом отделяю
то, что называется «стилем МХАТ», всегдашнее его обаяние, —
от насущности 1953 года. И, кажется, понимаю... Понимаю, что
говорил этот фильм-спектакль людям послевоенного времени.
В этой перебегающей непринужденности живой — игра свобод¬
ных душевных потенций, радость освобождения, вздох раскован¬
ности... Люди настолько прекрасны, устойчивы, стабильны, что
могут позволить себе такую естественность. Они — жизнера¬
достны. Они — имеют право любить! И в этом они прекрасны.
А Каренин? Как этот дурной человек затесался в общество
таких прекрасных, богатых чувствами людей?
А он... бюрократ. Он деревяшка бесчувственная. Он — не уме¬
ет быть жизнерадостным в нашем прекрасном мире. И он — до¬
стоин критики...
Да не воспримет читатель мою иронию как негативную или зло¬
радную. Скорее, это ирония дистанции. Я думаю: пусти сейчас
на экран тогдашние фильмы-спектакли — нынешний зритель, как
и я, улыбнется над ними... Но, возвращаясь в то время, я всем
существом знаю, я просто помню, что эмоциональный заряд
этих зрелищ срабатывал. Ибо он соответствовал нашим тогдаш¬
ним ожиданиям. Для нас, студентов, эти толстовские сеансы
были объектом острого интереса; на нашем курсе нашлись тог¬
да энтузиасты и силами самодеятельности поставили «Живой
140
труп»; толчком к этому общению с Толстым послужил фильм-
спектакль с Симоновым — Протасовым. Не стоит переоценивать
глубину нашего тогдашнего понимания толстовских текстов;
хоть и были мы филологи, но плыли в русле хрестоматийно¬
школьного истолкования. Как и авторы фильмов, впрочем, о ко¬
торых критика с полным основанием (и, увы, с полным одобре¬
нием) писала: в «Живом трупе» показана судьба чистого, благо¬
родного человека, растоптанного буржуазным обществом, а в
«Анне Карениной» героиня протестует против светской лжи и
гибнет в столкновении с дворянско-бюрократической машиной...
Сейчас такое истолкование «Живого трупа» и «Анны Карениной»
кажется мне, мягко говоря, бедным, но тогда, в 1953 году, мы
именно так и думали, так и чувствовали: человек прекрасен, со¬
вершенен, высок во всех своих помыслах, а раз так, то остает¬
ся немножко, совсем немножко подтянуть его в мелочах и част¬
ностях (ну, например, Каренину — осознать свои недостатки),
и тогда все лучшее окончательно победит...
Так по гладким рельсам вкатывался в нас Толстой. Многое
предстояло открыть в его мире. И нам, и нашему искусству.
Студенты 1953 года и составляли — в потенции — часть той са¬
мой аудитории, которая десять-пятнадцать лет спустя жадно впи¬
валась в выходящие один за другим толстовские фильмы. Нуж¬
да в Толстом была накоплена на всех уровнях: и в кинемато¬
графической среде и в зрительской массе. Реально говоря, уже
все созрело к толстовскому «буму» шестидесятых годов, когда
приплыла к нам из Америки роскошная цветная дилогия Кинга
Видора «Война и мир» и мы ахнули и закричали: не так, не
так надо ставить нашего Толстого!
Но прежде чем рассмотреть, чем же наше искусство ответи¬
ло на этот вызов и как м ы экранизовали нашего Толсто¬
го,— воспользуемся паузой и совершим экскурс в те сферы, из
которых вышел к нам со своей толстовской лентой Кинг Ви¬
дор,— попробуем обозреть накопившиеся за все эти десятилетия
зарубежные экранизации Толстого.
Глава 7
•
ДВАДЦАТЬ ФИЛЬМОВ
СТАРОГО СВЕТА
Сколько экранизаций Толстого сделано за рубежом?
В ходе странствий по справочникам я насчитал десятка
четыре.
Думаю, что на самом деле было намного больше. Особенно
в кустарный период кино, когда любой предприимчивый коммер¬
сант, собрав безработных актеров, мог запросто, ни у кого не
спрашиваясь, накрутить очередное «Воскресение».
Кстати, о «Воскресении»: как-то одна наша газета, ссылаясь
на Оксфордские каталоги и испытывая чувство гордости за Тол¬
стого, сообщила, что на земном шаре существует уже двадцать
два кинематографических «Воскресения», но ни одно из них не
достигло силы романа.
Особой гордости я при этом, честно сказать, не испытывал.
Но задумался: почему именно «Воскресение» на первом месте?
Почему не «Война и мир» с ее саваофовой мощью? Почему не
«Анна Каренина» — вещь более стройная и внутренне совершен¬
ная? Не кроется ли за этой накопившейся за восемь десятиле¬
тий статистикой некая закономерность? А если кроется, то ка¬
кая?
Знатоки зарубежного кино говорят: продюсерам ставить Тол¬
стого неинтересно — их на это толкают киноактрисы, звезды.
Тогда, выходит, и звезды в своих побуждениях избирательны?
Героини великих книг Толстого обладают для них явно неравной
притягательностью. Менее всех влечет гармоничная, духовно
«центрированная» Наташа Ростова. Несколько больше — Анна
Каренина, жизнь которой «децентрирована» и сломана — но не
извне, а вследствие ее собственных поступков. А больше всего —
Катюша Маслова, максимально «децентрированная» натура.
Чистая жертва. Соблазненная и покинутая. Выбитая за свои
пределы. Исчерпанная несчастьями до дна, причем вследствие
не своих, а чужих действий. Заметим себе эту закономерность —
мы еще поговорим о ней. А пока попробуем обозреть зарубеж¬
ные экранизации «по фронту».
142
Фронт широк. Попыток много. Хотя ни в одной кинематогра¬
фии Толстой так и не стал фигурой, которая определила бы в ней
существенный момент развития,— как стал такой фигурой, ска¬
жем, Шекспир для англичан сороковых годов, Достоевский для
немецких экспрессионистов начала двадцатых. Я бы сказал так:
в развитых кинематографиях мира Толстой, как правило, присут¬
ствует; в списках принципиальных достижений кино — никогда.
Возьмем сначала три негативных примера: Японию, Сканди¬
навию и Англию.
Япония. Номинальный счет. Едва тут родилось кино, как
Толстого поставили дважды: в 1914 году—«Воскресение», в
1918-м—«Живой труп».
Теперь по существу. Что японское кино, едва выбравшись из
«движущихся картинок», обратилось к Толстому,— неудивитель¬
но. Удивительно было бы, если бы оно этого не сделало: с начала
века Толстой приобрел неслыханную популярность в Японии,
причем во всех слоях: от интеллигенции, которая интересовалась
теоретическим толстовством, до широкой публики, которая вали¬
ла в театры на толстовские спектакли (именно — на «Живой
труп» и «Воскресение») и распевала «Песню Катюши» Симпэя
Накаямы. Продюсеры не промахнулись, экранизовав тогда Тол¬
стого, причем оба раза — в самом архаичном, «докинематогра-
фическом» стиле «симпа», с чтением диалогов перед экраном
и с приглашением на женские роли актеров-мужчин. Первая из
экранизаций— «Катюша»—сразу после коммерческого триумфа
забылась. Вторая — «Живой труп» — оказалась несколько бо¬
лее живучей, во-первых, потому что ее сделал знаменитый
впоследствии Эйдзо Танака, и, во-вторых, потому что он сделал
ее на пороге так называемого периода Тайсе (1918—1923), когда
японская культура осваивала достижения западной цивилизации
и силами новаторов кино стремительно набирало популярность.
Примеру новаторов последовал и Танака. Но фильм «Живой
труп» он успел сделать до «поворота». И вот интересно: с эпохи
Тайсе японское кино становится киноискусством, но с этого мо¬
мента Толстой уходит из японского кино. Когда в пятидесятые го¬
ды явился Акира Куросава (влюбленный, между прочим, в рус¬
скую классику), он опирался на Достоевского. На Горького. Но не
на Толстого.
Англия. В 1948 году здесь сделали «Анну Каренину». Фильм
этот мог бы сгинуть в фильмохранилищах по причине общей
своей малоудачности, если бы в нем не снялась Вивьен Ли. Про¬
шу читателя задуматься над следующим вопросом: почему этот
английский фильм (поставленный, кстати, режиссером-францу-
зом по заказу продюсера-венгра) оказался первой и последней
экранизацией Толстого, сделанной на брегах туманного Альбио-
143
на? Это при том, что английское кино всегда жило именно экра¬
низациями большой литературы! При том, что Толстой был из-
дан-переиздан в Англии! При том, что в разгар второй мировой
войны эпопея Толстого в 32 картинах шла на сцене театра «Фе¬
никс»!
В семидесятые годы, когда телевидение отторгло у кинема¬
тографа вечерние зрительские часы, когда на почве классики оно
стало составлять многодневные сериалы, когда по всей Европе
принялись заново приспосабливать великую прозу уже для ком¬
натного экрана,— англичане взялись за Толстого немедленно,
можно сказать, сразу после того, как отсняли Голсуорси. В 1972
году Д. Конрой показал «Войну и мир» в двадцати передачах,
а еще пять лет спустя автор телевизионной «Саги о Форсайтах»
Дональд Уилсон выпустил «Анну Каренину», причем жаловался:
десяти передач оказалось мало, чтобы отразить все богатство
романа. Эрик Портер сменил грим Сомса на грим Каренина, а в
роли Анны выступила Николь Пажетт, которая, по словам Уил¬
сона, сделала толстовской героине подарок: наградила ее чувст¬
вом юмора. Не имею возможности разобрать ни эту юморизиро-
ванную «Анну», ни «Войну и мир» Конроя, три недели журчав¬
шую в английских домах и представлявшую, по словам критиков,
«роман Наташи Ростовой и Андрея Болконского на фоне наполео¬
новских войн»,— у телевидения свои законы, свои пути к клас¬
сике, и тут нужна особая книга. Но попытка английского телеви¬
дения, едва у него нашлись на то силы, освоить Толстого,— не
подчеркивает ли отсутствие толстовских экранизаций собственно
в английском кино?
Скандинавия. В 1909 и 1915 годах всемирно известная датская
фирма «Нордиск» ставила «Воскресение». Оба фильма не удер¬
жались в памяти кино — скорее всего, потому, что в них не
участвовала Аста Нильсен: первый был сделан до того, как ве¬
ликая актриса пришла на студию «Нордиск», второй — когда она
уже переехала в Германию. Исходя из средней стилистики «Нор¬
диска», можно себе представить, какой душераздирающей ме¬
лодрамой обернулась в этих лентах судьба Катюши Масловой:
сама мироконцепция датской школы, с ее мечтательным соедине¬
нием «бедной натуральности» и декадентской «роковой» чувст¬
вительности, никаким боком не соотносилась, конечно, с сущ¬
ностью толстовского миропонимания — просто расцвет датского
кино пришелся на период, когда в кинематограф, как в яму,
«проваливалось все»,— провалился и Толстой.
Однако если датская школа десятых годов бесконечно далека
от Толстого, то шведская школа двадцатых годов по всем па¬
раметрам вроде бы как раз близка ему: широким эпическим
дыханием, реальным психологизмом, удивительным ощущением
144
природности человеческого бытия, наконец, принципиаль¬
ной приверженностью к экранизациям крупной прозы. И что же?
Ни Стиллер, ни Шестром — никто из великих шведов не обра¬
тился к Толстому. Грета Гарбо сыграла Анну Каренину—но
лишь после того, как пересекла Атлантический океан и оказа¬
лась в Голливуде. И опять парадокс: дух Голливуда бесконечно
далек от духа Толстого — но именно там постоянно и скан¬
дально ставят и ставят Толстого. Выходит: чем ближе, тем
дальше?
В развитии кино можно уловить момент, когда ему психоло¬
гически легче всего обратиться к Толстому. По остроумному
определению одного советского киноведа, это момент, когда кино
уже становится искусством, но еще не знает этого. Потом, ког¬
да осознание приходит, когда кинематографии разных стран и
школ чувствуют каждая свою специфическую художественную
тему,— тогда становится труднее. Тогда и Толстой оказывается
для такого художественного освоения объектом далеким и слож¬
ным, и от него либо отказываются вовсе (как скандинавы),
либо уже принимаются использовать его откровенно утилитарно
(как американцы). Но наивно-здоровая уверенность, с какой
вторгается в толстовские сюжеты кинематография, уже чувст¬
вующая, что она что-то может, но еще не знающая, что имен¬
но,— это раз. На заре становления. В счастливом детстве.
Счастливое детство падает в европейском кинематографе на
страшный период первой мировой войны. Точнее, на конец его,
когда уцелевшие люди тянутся в иллюзионы, спешно устроенные
в голодных городах. На развалинах прежних лоскутных евро¬
пейских монархий утверждаются новые молодые государства.
Рождаются национальные кинематографии. В момент станов¬
ления им нужен Толстой. Как и всякий другой классик.
Тут перед нами два варианта: венгерский и чешский.
В Венгрии дело приобретает просветительский оборот. Здесь
сразу найден счастливый контакт между кинематографистами
и писателями. Главным жанром начавшегося венгерского кино
делаются экранизации прозы; режиссеры идут в литературу,
как в школу: Толстой — Достоевский — Чехов — Горький... Энер¬
гичный Мортон Гараш, прошедший обучение у Пате и делаю¬
щий по шесть фильмов в год, ставит среди прочего «Анну
Каренину». Молодой кинокритик Шандор Корда переходит в
режиссуру и объявляет экранизации своей главной задачей.
Революция 1919 года утверждает этот просветительский курс
как государственный: в планах национализированного кино
рядом с венгерскими и западными классиками «Ревизор» Гого¬
ля, «Мать» Горького, «Плоды просвещения» Толстого...
145
Плодов эта линия дать не успела: адмирал Хорти въехал
в Будапешт на белом коне и упразднил, как он выразился,
«ядовитые влияния». Мортон эмигрировал. Уехал и Шандор
Корда. Даже имя сменил: стал Александром Корда. Больше в
Венгрии Толстого не экранизовали. Но фильм Гараша «Анна
Каренина», проскочив огни и воды последующих десятилетий,
уцелел и в полной сохранности попал к нам в Белые Столбы.
«Анна Каренина» (1918 год, Венгрия). Режиссер М. Гараш.
В роли Анны — И. Варшаньи.
После просмотра
Лента наивная, сделана в стиле старомодного, дореволюци¬
онного синематографа «иллюстраций»: пять «актов», длин¬
ные надписи, объясняющие, что происходит. Камера, как
парализованная, застывает на общих планах, а в кадре — суета.
Лысоватый толстый Каренин с моноклем похож на либераль¬
ного адвоката; молоденький Вронский во френче, с усиками —
на военного деятеля гражданской войны. Зато интерьеры —
«аристократически» роскошны. Видимо, для придания всему
делу большей убедительности Каренин и Кити возведены в...
146
герцогское достоинство. Левин, естественно, отсутствует. Все
увязано в скорую1 мелодраму: полюбил — разлюбил — бросил —
бросилась. Лишь Анна — знаменитая Ирена Варшаньи — выде¬
ляется на этом фоне высокой актерской культурой. В ее игре
много психологической достоверности, у нее выразительная
пластика (хотя в жестах, в мимике слишком заметны чисто
сценические акценты). Пожалуй, это искусство театра, а не
кино... но это уже шаг в сторону той артистической естествен¬
ности, какая в конце концов стала достоянием современной ки¬
нокультуры.
Какое развитие толстовская тема могла бы получить в вен¬
герском кино, если бы эта линия в нем продолжилась, можно
только гадать.
Кино Чехословакии не знало столь сильных внешних потря¬
сений, и драматизм развития ушел здесь в иные, эстетические
сферы. «Самая благоденствующая страна» Европы двадцатых
годов создавала свою кинематографию среди потока американ¬
ских вестернов и немецких экспрессионистских лент, заполняв¬
ших европейский прокат. Прибежищем национального духа
147
стал у чехов стиль благодушной, «цивильной» бытовой комедии:
символом этого «мелкобуржуазного» стиля оказался потешный
отец семейства папаша Канделик; простая публика его любила,
а вот некоторых «всеевропейски» настроенных чешских режис¬
серов, ориентированных на «мировые стандарты», Канделик
раздражал своей провинциальностью. Одним из главных «все-
европейцев» был Густав Махатый, только что прошедший в
Америке школу у Гриффита и Штрогейма,— он был полон ре¬
шимости вырвать родное чешское кино из болота канделиков-
щины. Тут-то ему и понадобился Лев Толстой.
В 1926 году Махатый поставил «Крейцерову сонату».
Я видел этот фильм.
Еще до просмотра я из критики знал, что это соединение
французского импрессионизма и немецкого экспрессионизма на
почве фрейдистского истолкования сюжета, так что я и не ожи¬
дал от Махатого развития или опровержения толстовских мыс¬
лей о музыке как греховном соблазне духа,— я был настроен
на киномоду двадцатых годов, не более. Но я не подозревал,
что после просмотра смогу разложить все это по полоч¬
кам почти в школьно-образцовом порядке.
Снято сквозь импрессионистскую дымку. Сквозь паровозный
дым. Сквозь папиросный дым, которым все время окутываются
герои. Сквозь черный тюль, который почему-то повсюду висит
в доме Познышева.
Дом выстроен и обставлен в экспрессионистском стиле. Из¬
ломанные линии стен. Свет откуда-то снизу, так что тени шара¬
хаются самым жутким образом.
В этих декорациях красиво страдает демонического вида Поз-
нышев, которого хорошо играет знаменитый Ян Шпеергер.
Его партнеры играют плохо. Героиня — пухленькая, губки бан¬
тиком; скрипач-соблазнитель — плотоядный здоровячок, больше
похожий на кондитера, чем на музыканта; они бодро тискают
друг друга, изображая страшный зов плоти.
Но мне не страшно. И не интересно.
Меня трогает другое, выпадающее из стиля. Посреди апо¬
плексических декораций нелепо поставлены рядком детские
кроватки. Ощущение такое, что режиссер забыл очистить от
них кадр. Герой сверкает глазами на фоне зигзагообразных стен,
а мимо него служанка несет сушить пеленки. На трагически-
туманной аллее, топая ножками, очень мило капризничает ма¬
ленькая девочка. Боже мой, канделиковщина, подумал я, и
на сердце моем потеплело: хоть какая-то реальность проступила
сквозь всеевропейские и мировые стандарты.
Густав Махатый более не обращался к Толстому: литератур¬
ные сюжеты, считал он, только портят чистое кино. В 1932
148
году он по собственному сценарию сделал изысканный фильм
«Экстаз» и вошел наконец-то во всеевропейскую моду; когда
мода на эротические киновидения сошла, он был забыт. Умер
Махатый в ФРГ в 1963 году.
«Крейцерову сонату» еще раз экранизовал в Чехословакии
в 1930 году немец Ф. Фехер, но этот фильм не оставил ника¬
ких следов в истории кино.
«Крейцерова соната» (1926 год, Чехословакия). Режиссер Г. Махатый.
В роли Познышева — Я. Шпеергер.
149
Теперь обратимся к трем крупнейшим кинематографиям
старой Европы: к итальянской, французской и немецкой.
На первых порах, то есть в начале века, дальше всех от
Толстого оказались итальянцы. Они тогда хотели быть древни¬
ми римлянами; сюжеты для своих грандиозных пейзажных,
костюмированных эпопей брали из времен Империи и «необуз¬
данного Возрождения»; стиль этих постановок, пронизанный
выспренним романтизмом аннунцианского толка, плохо согласо¬
вался с Толстым. Однако эти гигантские представления были
только первой их двух жанровых моделей раннего итальянского
кино; другой моделью была душераздирающая мелодрама с ро¬
ковой любовью. Как шутил Деллюк, итальянский фильм — это
или сто тысяч статистов, или три персонажа. Вот в этом по¬
следнем варианте: на «три персонажа» Толстой в конце концов
итальянскому кино пригодился — опять-таки как автор истории
о соблазненной и покинутой Катюше Масловой. Правда, до Тол¬
стого итальянцы добрались уже на «излете жанра», в 1915—
1917 годах, но заняты были в толстовских экранизациях звез¬
ды самой первой величины: знаменитая Франческа Бертини
и Мария Якобини — та самая, которая, как мы уже знаем, де¬
сяток лет спустя в Берлине сыграла в «Живом трупе» у Оцепа.
Ранние итальянские экранизации были выдержаны в обычном
для тогдашней моды «альбомном» стиле; они не оставили замет¬
ного следа ни в истории кино, ни в артистических биографиях
знаменитых итальянских «кинодив». Эти фильмы отозвались —
но не в самой Италии, где к концу первой мировой войны кино
пошло под уклон; они отозвались там, где оно пошло в гору,—
за океаном. На американцев итальянские красавицы произвели-
таки впечатление, и, отвечая на вызов, американцы к концу
войны выдвинули в противовес «диве» свою героиню— «вамп»,
для чего им тоже понадобился Толстой... Но пока — об Италии.
Великое кино родилось здесь много лет спустя, уже после
второй мировой войны. Неореализм. Задним числом, когда это
направление исчерпалось, его философские основы и образные
решения стали ассоциироваться с Толстым. В самом деле, если
предположить, что между мышлением кинорежиссера и мыш¬
лением прозаика допустимо прямое сопоставление, то надо при¬
знать, что художественный мир итальянских неореалистов: от¬
рицание пустых напыщенных абстракций, понимание целого,
где отдельный человек существует лишь постольку, поскольку
он включен в близкий ему, пластически ощутимый народный
организм,— все это, конечно, весьма напоминает Толстого. Так
что позволительно, например, вообразить экранизацию в неоре¬
алистическом духе какой-нибудь кавказской вещи Толстого или
какого-нибудь из его народных рассказов.
150
Однако ничего подобного неореалисты не сделали. И не толь¬
ко потому, что были всецело погружены в итальянскую актуаль¬
ную тематику и не оглядывались на классиков. Парадоксальная
«несоединимость» Толстого с развитым киномышлением острее
всего выявилась у итальянских неореалистов в тот единственный
момент, когда они на него «оглянулись», и Джанни Франчо-
лини экранизовал Толстого. Это произошло в 1947 году, в
самый расцвет школы; Франчолини страстно хотел быть нео¬
реалистом, как может хотеть этого человек, осваивающий напра¬
вление несколько извне (Франчолини до того долго работал во
Франции). Этот режиссер был склонен к реалистической стили¬
стике и народной тематике и... вот очередной парадокс: взяв¬
шись за Толстого, он предпочел сделать еще одну версию все
той же миллион раз прокатанной «Крейцеровой сонаты», и его
фильм (он назывался «Любовники без любви») канул в заб¬
вение.
Неисповедимы пути киноискусства: о Толстом заговорили в
связи с итальянским кино много позже, когда неореализм уже
ушел с авансцены и на смену ему явились болезненные симфонии
одиночества, взывающие к духовности из мертвого плена вещей.
И хотя эта образная модель была уже совсем далека и от
толстовского художества и от толстовского учительства,— Тол¬
стой как-то странно соединился в сознании кинокритиков имен¬
но с итальянскими корифеями пятидесятых-шестидесятых годов,
тем более что сам Феллини (в Москве, в беседе с советскими
кинорежиссерами) как-то раз почтительно произнес имя Тол¬
стого.
Не думаю, что это было сделано только из вежливости.
В творчестве Феллини есть, конечно, план, соотносимый с Тол¬
стым,— то, о чем сам режиссер сказал: «Показать всю вселенную,
которую представляет собой человек». Точно так же можно
сблизить с Толстым и Антониони, заявившего, в частности, что
его интересует «не внешний драматизм событий и не столкно¬
вение характеров, а исследование внутреннего мира человека».
Тонкость, однако, в том, что Толстой для этих крупнейших
итальянских художников явился неким символом духовности
вообще и в этом своем качестве повис в абстрактном простран¬
стве рядом с Достоевским или, скажем, с Чеховым, который тоже
ведь искал «общую идею» в этом хаосе вещей и индивидов!
Но как только «общая идея» конкретизировалась, или — говоря
словами Феллини,— как только «вселенная, которую представля¬
ет собой человек», обернулась историей индивида, живущего в
определенной среде и «задавленного неврозами и комплекса¬
ми»,— так созвездие русских классиков, означавшее для италь¬
янских кинематографистов некую духовность вообще, стало в их
151
глазах распадаться. Чехов сразу оказался нужен как писатель,
который, по убеждению Марчелло Мастрояни, первым поставил
проблему «некоммуникабельности». Главным светилом сделался
Достоевский: именно его имя начала склонять итальянская кри¬
тика при обсуждении «Дороги» Феллини. Именно Достоевского
поставил Висконти, и «Белые ночи» сделались событием италь¬
янского кино...
А Толстой? Он отошел куда-то на периферию процесса, почти
на коммерческую окраину его. Я опять-таки не беру телевиде¬
ния— там свой процесс и своя Анна Каренина: Леа Массари
в сериале на шесть вечеров. Но возьмем собственно кино.
Серьезное кино. Мауро Болоньини собирается ставить «А.н-
ну Каренину» с Джиной Лоллобриджидой в главной роли. Но
не ставит. А. Рикардо Фреда ставит «Хаджи-Мурата», вернее
чисто приключенческую ленту по мотивам толстовской повести.
Немец из ФРГ Рольф Хансен ставит на итальянской студии
очередное «Воскресение». Оба фильма уплывают в забвение,
они явно несерьезны. Однако ясно, что интерес к Толстому —
пусть «непрограммный»—все-таки теплится, копится в италь¬
янском кино. И неудивительно, что когда в 1956 году в Италию
прибыл для работы над «Войной и миром» Кинг Видор,— к
делу подключились крупнейшие итальянские продюсеры Карло
Понти и Дино ди Лаурентис, и всю драматургическую и изобра¬
зительную фактуру для этой американской ленты сделали
итальянцы: итальянские сценаристы, итальянские операторы,
итальянские художники.
Однако автором фильма «Война и мир» является все-таки
Кинг Видор. Поэтому отложим разбор этой ленты до соответ¬
ствующей главы, а пока обратимся к французам.
Французы — не исключение: их большое киноискусство ни¬
когда прямо не соотносило себя с Толстым, зато их коммер¬
ческая киноиндустрия набросилась на Толстого, едва встав на
ноги.
Первая французская экранизация «Воскресения» была, как
мы помним, изготовлена в 1909 году фирмой Пате для завое¬
вания русского кинорынка. Завоевание сорвалось: Тиман и
Ханжонков скоренько научились делать ленты, подобные «Си¬
бирским снегам»; к тому же они лучше знали, где у русской
тройки находится дуга. Взвесив ситуацию, французы благора¬
зумно отступили на почву Дюма-отца и Дюма-сына, где и про¬
должали благополучно ставить свои «знаменитые сюжеты со
знаменитыми актерами», пока в 1914 году не наступил крах:
Шарль Пате, съездив в Америку и убедившись в бесперспек-
152
тивности конкуренции, призвал к тому, что уже и так проис¬
ходило само собой: к свертыванию французского кино.
Когда в двадцатые годы французское кино развернулось
вновь, ему было не до Толстого. Теоретики «Авангарда» опира¬
лись тогда на идеи чистой кинокультуры: на фотогению, на
ритм. Не в силах спасти от засилья американских боевиков
французский экран, они старались спасти хотя бы французский
престиж; позиции в борьбе обозначились так: киноискусство
защищало идеи «чистого кино», оставляя кинокоммерции сю¬
жетность, литературность и театральность. «Авангард» не хотел
и не мог опираться на литературу. По выражению одного из
его молодых апостолов, режиссера Марселя Л’Эрбье, сюжет и
характеры — только помеха «чуду монтажа». Живопись на эк¬
ране казалась «авангардистам» менее чужеродной: Л’Эрбье в
своих ранних фильмах старался передать атмосферу старых
испанских и голландских мастеров (Леон Муссинак отмечал
картинную холодность его фильмов). Еще ближе была музыка:
одну их своих лент Л’Эрбье назвал сонатой (Леон Муссинак
с этим согласился, но пожалел, что режиссер не возвысился
до симфонии). Впрочем, Л’Эрбье, пришедший в кино из дека¬
дентской поэзии, интересовался литературой все-таки несколько
больше, чем другие «авангардисты». Именно он был тем един¬
ственным во французском кино двадцатых годов режиссером,
который попробовал обратиться к Толстому.
Избрал он опять-таки все то же «Воскресение». Возможно,
оттого, что на этой почве можно было дать бой многочислен¬
ным зарубежным экранизациям романа, которые представите¬
лю французского «Авангарда» должны были казаться непрохо¬
димо коммерческими. Увидев в 1927 году свеженькое голливуд¬
ское «Воскресение», Л’Эрбье возмутился настолько, что публично
упрекнул консультанта американцев Илью Львовича Толстого
в кощунстве. Этой картины мы еще коснемся, а пока интерес¬
но, что же сделал из «Воскресения» сам Л’Эрбье? Леон Мус¬
синак, посмотрев материал, отметил там «ряд чудесных
моментов»; он, впрочем, оговорился, что картина не закончена.
Любопытно, как она выглядела бы, если бы была закончена?
В качестве источника мотивов Толстой стоял для Марселя
Л’Эрбье где-то между Оскаром Уайльдом и Веласкесом; на
основе «Воскресения» могла бы, наверное, получиться впечат¬
ляющая авангардистская соната пятен. Или симфония бликов.
В двадцатые годы это не осуществилось. Когда же десяти¬
летие спустя Л’Эрбье вновь обратился к Толстому,— и ситуа¬
ция была не та, и Л’Эрбье не тот.
В тридцатые годы французское кино выдвинуло глубоко свое¬
образную стилистику— «поэтический реализм». В противопо-
153
ложность «авангардистам», претендовавшим на всеобщие над¬
национальные открытия («французский фильм тем ценнее,—
писали они,— чем менее в нем французского»),— крупнейшие
мастера тридцатых годов: Рене Клер и Жан Ренуар, Жюльен
Дювивье и Марсель Карне — старались опираться на француз¬
скую почву; они дышали живым воздухом парижских пред¬
местий и не искали союзников в иноязычной классике.
Но вот во второй половине десятилетия во многом под
влиянием Народного фронта, а может быть, и из ненависти
к Гитлеру, во французском кино усилились русские мотивы.
Шеналь экранизовал Достоевского, и с успехом; Ренуар — Горь¬
кого, на сей раз без успеха. И тогда старый эстет Л’Эрбье,
давно уже оттесненный новой школой на вторые роли, решился
напомнить о себе.
Свою картину из русской действительности он назвал «Ог¬
ненная ночь». Я ее видел, могу рассказать. Герой фильма
прокурор Авдеев на балетном спектакле «Огненная ночь»
убеждается, что его жена флиртует с другим мужчиной. В от¬
чаянии Авдеев бежит к цыганам, и в ходе кутежа становится
понятно, что это не что иное, как экранизация «Живого трупа».
Экранизация весьма вольная: стремясь дать жене свободу,
Авдеев тайно отправляется на... русско-японскую войну (с ббль-
шим успехом он мог бы, пожалуй, отправиться на Кавказ в
армию Ермолова, ибо щеголяет Авдеев в цилиндре пушкинской
эпохи). Меж тем в столице вылавливают утопленника и прини¬
мают его за Авдеева. На героиню падает подозрение в убий¬
стве, и бедная женщина оказывается на скамье подсудимых.
Узнав об этом, Авдеев немедленно приезжает из Маньчжурии
и является в зал суда прямо в офицерском полушубке и баш¬
лыке, запорошенный, что называется, сибирскими снегами,
после чего изящная Габи Морлей, играющая героиню, падает
в его объятия.
Смотреть все это скучно; многословные сцены из зала суда
перемежаются помпезным балетом и экзотическим цыганским
разгулом. Единственное, что как-то оживляет зрительское вни¬
мание,— сцена, когда цыганка Маша, узнав, что Протасов (то
бишь, Авдеев) хочет застрелиться, обнимает его и виртуозным
движением выкрадывает револьвер; во-первых, это все-таки
неожиданный поворот, во-вторых, при желании здесь уже мож¬
но уловить театральную эксцентрику, с помощью которой
Л’Эрбье будет спасать французское кино от навязываемой ему
«идеологии» пять лет спустя, в годы гитлеровской оккупации.
В остальном же перед нами совершенно бесследный для истории
кино фильм, любопытный разве что с точки зрения того, как
экран очередной раз употребил Толстого.
154
У французов конца тридцатых годов была явная нужда в
мотивах русского благородства: одновременно с Марселем
Л’Эрбье сделал фильм по Толстому молодой Жан Древиль.
Четверть века спустя Древиль поставит фильм «Нормандия—
Неман» и станет широко известен в СССР. Теперь же, за три
года до второй мировой войны, он снимает «Петербургские бе¬
лые ночи». Средь шумного бала, в окружении белых колонн,
цветов, свечей, фраков и кружев, русский дворянин Познышев
отбивает подругу у офицера Боровского, и тот немедленно кон¬
чает с собой на глазах у обидчика. Позднее, когда Познышев,
сгорая от ревности, застанет
свою жену разговаривающей
по телефону со скрипачом
Трухачевским и вытащит ре¬
вольвер,— эта история с Бо¬
ровским еще раз встанет пе¬
ред его глазами, и он вспом¬
нит, что сам виноват...
Однако он в жену выстре¬
лит, и Трухачевский, услышав
на том конце провода крик
и выстрел, поймет, что она
убита. И поедет выступать
в концерт. И будет играть
Крейцерову сонату, как рек¬
вием, и мы увидим его глаза,
такие же горестные и честные,
как и у Познышева.
Познышев же вбежит в зал
и выстрелит в Трухачевского.
Но он промахнется.
Потом выяснится, что и в
Елену он промахнулся.
Елена (все та же тонкая,
театральная, острая Габи Мор-
лей) приедет в тюрьму к Поз-
Вверху — Г. Мор лей в фильме «Пе¬
тербургские белые ночи» (1937 год,
Франция. Режиссер Ж. Древиль, эк¬
ранизация «Крейцеровой сонаты»).
Ниже — два кадра из фильма «Крей-
церова соната» (1926 год, Чехослова¬
кия). Режиссер Г. Махатый. Заметны
экспрессионистская установка ре¬
жиссера и слабость актерской игры.
155
нышеву; выяснится, что с Трухачевским у нее ничего не было,
и честные страдающие люди опять-таки упадут друг другу в
объятия, на чем фильм Древиля счастливо закончится.
С точки зрения кино этот фильм несколько интереснее,
чем картина старого Л’Эрбье: в туманных проходах по улицам
«Петербурга» есть очарование, явно почерпнутое Древилем из
школы «поэтического реализма». Что же до орнамента фрачных
зигзагов по кружевным кринолинам в танце, то он живо на¬
поминает ставшие хрестоматийными упражнения молодого
Л’Эрбье.
Концепция у Древиля такая: все благородны, все слабы и
все несчастны. Толстой тут, конечно, ни при чем, и можно
было бы не вспоминать более эту картину, но есть обстоятель¬
ство, побуждающее меня вернуться к ней чуть позже: дело в
том, что в том же 1937 году «Крейцерову сонату» экранизовали
за Рейном. Я вернусь к Древилю после просмотра этой
германской версии. Есть такой прием в кино: йазЬ Ьаск—
возврат в прошлое. Так что до этого возврата прошу читателя
подержать в памяти красивых и несчастных героев Древиля,—
а пока что завершим краткий обзор толстовских мотивов во
французском кино.
Собственно, остается лишь «Анна Каренина», фильм 1948
года, который трудно даже назвать вполне французским, ибо
в стечении обстоятельств, приведших толстовскую героиню на
Лондонскую киностудию, решающую роль сыграли антиголли-
вудские амбиции Александра Корды, который когда-то был
в Венгрии Шандором Кордой, а теперь стал крупнейшим про¬
дюсером Великобритании. Но и с французской стороны обстоя¬
тельства были существенные, и прежде всего — сомнения и ко¬
лебания Жюльека Дювивье, который окончательно понял, что
школа предвоенного французского кино исчерпана и надо
искать выход.
Среди отцов «поэтического реализма» Дювивье вообще
считался своеобразным «технологом»; самостоятельных идей
за ним не числилось. Эта исполнительская техничность, между
прочим, помогла Дювивье продержаться все военные годы в
Голливуде. Вернувшись в освобожденную Францию, Дювивье
попробовал работать в старой манере, но первый же его фильм,
выдержанный в ^йишстике «поэтического реализма», прова¬
лился. Тогда Дювивье решил сделать что-то беспроигрышное.
Он^йересек Ла-Манш, и Александр Корда предложил ему бес¬
проигрышный вариант: снять Вивиен Ли в «Анне Карениной».
Дздо сказать, что в подобной постановке остро нуждалась
тогда и знаменитая английская актриса. Годы войны она про¬
вела на театральной сцене; теперь она хотела вернуться на
156
экран и искала для этого какую-то яркую партию. Классическая
роль Анны Карениной давала замечательные возможности как
в техническом, так и в принципиальном плане, а у Вивиен Ли,
между прочим, были свои идеи, в отстаивании которых она про¬
являла редкостное упорство.
Тут война велась на два фронта. Во-первых, Вивиен Ли стоя¬
ла в оппозиции к захватившей послевоенное английское кино
моде на психопатологию — утвердить она хотела высокий дра¬
матизм естественной человеческой натуры. И, во-вторых, у нее
был давний спор с американцами. Спор этот начался еще перед
войной. Тогда в Голливуде искали героиню для фильма «Уне¬
сенные ветром», и вдруг молоденькая англичанка побила на
конкурсе всех знаменитых американских звезд. Сенсация имела
под собой основу: проверенной в США десятилетиями концеп¬
ции «образцовых состояний», на которой зиждились сотни арти¬
стических репутаций, Вивиен Ли противопоставила свое пони¬
мание психологии как смены состояний противоречивых, неза¬
вершенных и полных все той же естественной, чисто челове¬
ческой страсти. Роль Анны Карениной явилась для
Вивиен Ли своеобразным полем боя, тем более важным, что
эту роль дважды сыграла в Америке величайшая из голливуд¬
ских звезд — Грета Гарбо.
Своеобразная дуэль получилась. Поэтому я и здесь хочу
применить НазЬ Ьаск и вернуться к Вивиен Ли чуть позже,
в связи с Гретой Гарбо.
Что же до французского кино, то как французский фильм
«Анна Каренина» не оставил заметных следов; Жюльен Дю-
вивье нашел себя на материале, весьма далеком от
Толстого: на теме Сопротивления, и слава к нему вернулась,
когда он снял «Мари-Октябрь».
В отличие от итальянцев или французов немцы сразу и проч¬
но вводят Толстого в свое кино, — с первого же момента, едва
отрезанная мировой войной от заграничного проката, Германия
начинает развивать национальную кинематографию. Одна из
возможных причин этого — воздействие немецкого театра, где
драмы Толстого по традиции занимали видное место. Другая
причина — заметное участие в немецкой культуре выходцев
из славянских стран, впоследствии, в двадцатые годы, породив¬
шее даже своеобразную «русскую моду». Так или иначе, к концу
первой мировой войны Германия уже имела некоторый опыт
экранизации толстовских спектаклей, а патриарх немецкого не¬
мого кино Рихард Освальд, делавший наряду с пышными кос¬
тюмными кинозрелищами также нравоучительные ленты о па-
157
губности пороков, экранизовал «Живой труп», где, надо думать,
продемонстрировал с помощью Толстого вред адюльтера, алко¬
голя и самоубийства.
Имя Толстого все чаще мелькает в немецком кино начала
двадцатых годов, когда здесь в сложной борьбе сознает себя
первая чисто немецкая версия художественного киномышле¬
ния— экспрессионизм. Перипетии этой борьбы известны. Были
«Живой труп» (1918 год, Германия). Режиссер Р. Освальд.
Сверхзадача фильма — демонстрация пагубности пороков.
тщетные попытки противостоять американцам с помощью «все¬
европейского» стиля. Эти попытки, между прочим, персонифи¬
цированы в лице нашего старого знакомца, промышленника
В. Венгерова, который в свое время в России давал деньги
Гардину, а теперь, в Германии, попытался употребить для
«всеевропейского» кино деньги Стиннеса, — Венгеров-то и про¬
валился с этими попытками. После этого немцы сделали ставку
на внутренний прокат. На короткий недорогой фильм, посвящен¬
ный злобе дня и компенсирующий бедность средств изобрета¬
тельностью приема. На этом пути и был создан экспрессионизм —
158
одно из своеобразнейших явлений мирового киноискусства. По
главной картине— «Кабинет доктора Калигари» — это направ¬
ление называли еще «калигаризм»; все другие направления
так или иначе взаимодействовали с ним. Сопровождалось все
это неутихающим интересом к русской классике, когда из года
в год экранизовались Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский,
Толстой...
В 1923 году экспрессионисты поставили «Власть тьмы»: ре¬
жиссером был Конрад Вине, брат знаменитого Роберта Вине,
поставившего «Кабинет доктора Калигари»; сценаристом — не
менее знаменитый по «Калигари» Карл Майер; в ролях — ока¬
завшиеся в Германии артисты МХТ. Это — самая ближняя точка,
в которой приближается к Толстому первая немецкая художест¬
венная школа кино, и... фильм проходит бесследно.
Все та же закономерность: по мере того как киноискусство
начинает сознавать свою эстетическую программу,— с Толстым
у него дело осложняется. В Германии это видно с особенной
наглядностью. Экранизуют всех великих русских классиков, но
на первый план немедленно выходит Достоевский; именно он
нужен немецкому экспрессионизму, чтобы строить кричаще¬
изломанную эстетику; именно его присутствие помогает суб¬
лимировать ужас индивида, затянутого в бездушно-механиче¬
ский мир. Фильм «Раскольников» становится событием. Фильм
сделан Робертом Вине в том же 1923 году, с теми же русскими
актерами-эмигрантами, что и «Власть тьмы»...
Участие русской эмиграции в немецком кино двадцатых го¬
дов вообще заслуживает в связи с нашей темой специального
внимания. В начале десятилетия, когда эмигранты были в
большой моде, тут действовали целые коллективы, вроде ер-
мольевского, почти в полном составе переехавшие в Берлин.
Но постепенно мода прошла, люди рассеялись, русские актеры
ходили безработными, вызывая раздражение безработных не¬
мецких актеров. К концу десятилетия в печати стали появляться
статьи о засилье иностранцев, отнимающих работу у немецких
киностатистов. Когда в 1929 году советские кинематографисты
прибыли в Берлин налаживать отношения и ставить «Живой
труп»,— они старались брать в массовку немцев. Эмигранты в
ту пору делали свой фильм, и тоже по Толстому—«Белый
дьявол». Ставил его Александр Волков, в прошлом — протаза-
новский сценарист; он же написал и сценарий по «Хаджи-Му¬
рату». Во главе старинга, почти сплошь русского, стоял...
вернее, скакал на белом коне, в белой черкеске и развевающей¬
ся бурке — сорокалетний Иван Мозжухин.
Я видел это неповторимое кинопроизведение, где посреди ма¬
кетных аулов и всяческой пиротехники храбрые горские конники
159
гоняют русских солдат, изображенных стадом дураков. Сюжет
состоит в том, что Хаджи-Мурат, поссорившись со своим има¬
мом из-за прекрасной горянки, переметывается к русским и
оказывается в Петербурге, где обнаруживает вышеупомянутую
красавицу... на сцене императорского балета. Далее следует
эпизод, в котором красавицу соблазняет, ни мало ни много,
Николай I; Хаджи-Мурат, ворвавшись к нему в самый пикант¬
ный момент, хватает свою возлюбленную в охапку, прыгает с
нею в окно и бежит на Кавказ, где геройски погибает от пуль
трусливых и хитрых русских солдат. В финале он лежит, покры-
«Белый дьявол» (1929
год, Германия). Режис¬
сер А. Волков. В ро¬
ли Хаджи-Мурата —
И. Мозжухин. Пример
душераздирающей ме¬
лодрамы по мотивам
толстовской повести.
ИЮ
тый мусульманским знаменем. И все эти скачки, рубки и прыж¬
ки, все это приключенчество с погонями, которое у нас уже в
«Красных дьяволятах» 1923 года окрасилось некоторой иро¬
нией, — здесь дано с ошарашивающей патетикой, а в любов¬
ных сценах — с такой мелодраматической серьезностью, как это
делалось в каком-нибудь 1916 году. Впрочем, кое в чем
эмигранты 1929 года явно «прибавили» сравнительно с 1916 го¬
дом. Например, в сцене первой аудиенции Хаджи-Мурата у Ни¬
колая: желая произвести на гостя впечатление, русский импе¬
ратор, скорчив гримасу щедринского градоначальника, вонзает
кинжал в расстеленную перед ним карту Кавказа.
Не знаю, кому хотели угодить всем этим. Смотреть было
больно.
Но вернемся к собственно немецкому кино.
Кто ставит здесь Толстого в двадцатые годы? Чтобы ответить
на этот вопрос, не нужно идти ни в один из главных форпостов
германской киноиндустрии: ни в Штаакен, где работает «самый
большой съемочный павильон мира», ни в Темпельхоф, где
«самый современный» павильон, ни в киногород Нейеба-
бельсберг, сделанный немцами по образцу Голливуда. Надо пойти
на старую берлинскую Фридрихштрассе и среди каменных до¬
мов, набитых торговыми конторами, поискать «нужную дверь»,
где ютится какая-нибудь полукустарная кинофирма, из тех,
что десятками возникали и лопались тогда подобно мыльным
пузырям. Как раз в ту пору из Москвы в Берлин довольно
часто ездили наши специалисты: набирались технического
опыта. Захаживали они и на Фридрихштрассе — посмотреть
съемки «русских сюжетов», типичных для второразрядного не¬
мецкого ателье. Что же они видели? На столе — пару само¬
варов, вероятно, для большей убедительности. Балалайку, укра¬
шенную трехцветными лентами. Героиню, которая, поссорившись
с героем, бросала на пол лампу и убегала, а герой — доблест¬
ный корнет, одетый, впрочем, в генеральские штаны, при жан¬
дармском патронташике с двуглавым орлом,— спокойно выни¬
мал браунинг и приставлял к своей белокурой головке... И вея¬
ло родным, российским, образца 1916 года.
Имена режиссеров, экранизовавших Толстого, я с трудом
разыскивал по специальным кинословарям. Одно имя выделяет¬
ся: этот режиссер сделал по Толстому больше всех фильмов.
Фридрих Цельник (некоторые произносят: Зельник). Родился
в Черновицах, изучал право в Вене, женился на актрисе Лии
Маре, стал выпускать фильмы под маркой «Цельник-Мара-
фильм», в этих фильмах играл сам и снимал свою жену. Лия
Мара, рижанка, переехавшая в Вену и начинавшая в стиле Мэ-
161
ри Пикфорд, с годами переключилась на роли «психологиче¬
ские»; как и Цельник, она чувствовала свои российские корни
и питала слабость к русской тематике; спрос был, фирма ра¬
ботала бесперебойно; Лия Мара побывала в гриме и Анны Ка¬
рениной, и Катюши Масловой, и других толстовских героинь, а
также героинь Достоевского, Арцыбашева и т. д.,— фильмы вы¬
пускались безостановочно и так же быстро сходили с экрана.
Один раз Фридрих Цельник вышел на яркий свет из этого
заштатного царства теней,— когда в 1927 году он экранизовал
«Ткачей» Гауптмана. Это был звездный час режиссера: снятая
им массовая сцена рабочей демонстрации разом выдвинула его
в центр внимания; левая пресса приветствовала его фильм
как «солнечный луч после долгой ночи, окутавшей немецкое
кино»; пролетарские киноклубы забурлили. Но Цельник не был
создан для великих задач: после «Ткачей» он выпустил фильм
«Мариэта танцует». Критика понимающе откомментировала:
у Лии Мары красивые ноги...
В 1932 году, спасаясь от нацистов, Цельник эмигрировал в
Англию, где безвестно прожил еще восемнадцать лет.
А кино Германии встало в гитлеровский строй.
Перед этим еще один, последний контакт немецкого кино¬
искусства двадцатых годов с Толстым. Правда, имени Толстого
нет в титрах фильма, и никаких явных связей тут не найдешь,
но одним из авторов картины, о которой пойдет речь, является
всемирно признанный теоретик кино Бела Балаш, и именно
Толстой толкнул его сделать фильм, вошедший в историю.
В 1926 году Балаш прочел «Фальшивый купон».
Эта неоконченная повесть была одной из последних попы¬
ток Толстого дать — пусть конспективную — панораму предре¬
волюционной России, где все фигуры нанизаны на тонкую сю¬
жетную ниточку: курсирование фальшивого купона. Толстой
хотел показать, что обман рождает обман, что совершенный че¬
ловеком подлог толкает другого человека на преступление, и
так все общество, повитое незримыми нитями, идет к пропасти.
Толстой хотел показать и выход: человек, потрясенный созна¬
нием совершаемого зла, дойдя до края, раскаивается; от него,
заражая других людей, идет светлое покаяние, и так спасается
мир. В рассказе чувствуется характерная для Толстого нравст¬
венная иллюзия, уже слегка тронутая старческим назидательст-
вом, но в чем Толстой остается Толстым,— так это в непрере¬
каемом ощущении мира как целого. В самом страшном, в самом
разорванном состоянии мир для него все-таки един и целостен
в своей основе.
Бела Балаш не воспринял ни толстовских христианских ил¬
люзий, ни самого этого целостного подхода. Цепким глазом
162
кинематографиста он засек в рассказе одно: фабульный ход.
Путешествие купона с рук на руки. Это было то самое, что
тогда искал Балаш: бытие вещи как таковой, вещи реальной,
надежной, осязаемой — без «литературщины», без «героев»,
«сюжета» и прочей обманчивой «литтехники». Вместе с Бертоль-
дом Фиртелем Балаш сделал в Берлине фильм «Приключения
десятимарковой кредитки»—путешествие бумажки сквозь хаос
безликих рук и кошельков. Ленту сняли в документальной ма¬
нере: люди, как в тумане, проходят друг мимо друга, не зная
друг друга, не подозревая о взаимосвязи своих судеб...
Кажется, впервые Толстой дал киноискусству такой им¬
пульс. Воистину кино может все. И вот с помощью Толстого
создан фильм, диаметрально противоположный толстовской ду¬
ховной идее: фильм, раздробивший реальность на механические
элементы и воспринимающий мир под углом зрения чистой
вещности.
У левого немецкого кино были тогда основания искать, как
пишут историки, эстетику «новой вещности»: мистике крови и
расы, провозглашенной фашистами, оно пыталось в конце
двадцатых годов противопоставить научную четкость социаль¬
ного анализа. Силу фактов. Математику причинности... Победи¬
ли фашисты.
Упал коричневый занавес. «Правительство не может предо¬
ставить кинематографию самой себе»,— заявил Геббельс 28 мар¬
та 1933 года. Отныне он был диктатором кино.
Геббельс намеревался использовать для пропаганды нацизма
весь арсенал «современного» кинематографа: авангардистские
приемы, динамику монтажа, экспрессию и условность. Геббельс
уважал «киноспецифику» и даже назидательно поминал в ди¬
рективных речах «Броненосец «Потемкин».
Розенберг требовал иного: этому философу нужна была пра¬
германская идиллия с мистическими «ритмами души».
Гитлер отрезвил обоих. Законы кино были определены вку¬
сами ефрейтора Шикльгрубера, ставшего фюрером: театрализо¬
ванный академический натурализм середины XIX века, одно¬
значность смысла, безусловная логика «образцов для подража¬
ния». На годы, отмеренные историей третьему рейху, стиль ки¬
но был утвержден намертво.
И вот, в середине этого коричневого периода—«Крейцерова
соната»!
Я недоумевал: зачем понадобился Толстой Фейту Харлану,
первому номеру геббельсовской кинокоманды, автору фашистско¬
го «Властелина» и антисемитского «Еврея Зюсса»? Один эпизод
помог, кажется, найти психологическое объяснение. Когда Хар¬
лану велели ставить «Еврея Зюсса», он написал Геббельсу пись-
163
мо, прося лучше отправить его на фронт простым солдатом. Геб¬
бельс ответил, что кинорежиссеры рейха и без того солдаты,
а если Харлан отказывается делать фильм, нужный великой
Германии, то он будет просто расстрелян как дезертир. Соот¬
ветствующий приказ был подписан назавтра же самим Гитле¬
ром. И Харлан подчинился.
Однако каждый раз, изготовив для Геббельса очередной
«идеологический шедевр», он быстро запускался в какую-нибудь
развлекательную или нейтрально-классическую постановку.
Расчет был наивный. Но не безумный: сумел уже уйти в ней-
« Крейцеров а соната»
(1937 год, Германия).
Режиссер Ф. Харлан.
В главных ролях: Л. Да-
говер, А. Шенхальс и
П. Петерсен. Две «об¬
разцовые» особи — про¬
тив «азиата»-вырож-
денца.
164
тральное прошлое Хельмут Койтнер с его «Романсом в мино¬
ре»: XIX век, тихая обитель, возможность делать нечто достой¬
ное или хотя бы пристойное...
Фейту Харлану уйти не удалось. И он вписал себя в исто¬
рию как один из главных профессионалов нацистского кино.
Что же до «Крейцеровой сонаты», то в числе прочих трофей¬
ных лент, взятых Советской Армией в Берлине, эта картина
Харлана была в 1945 году доставлена в Госфильмофонд СССР.
Тут я и нашел ее треть века спустя. И попросил показать
мне сразу после аналогичной экранизации Жана Древиля. Я смот-
рел две «Крейцеровы сонаты», сделанные одновременно, за три
года до войны, по обе стороны Рейна. Девушки-киномеханики
заглядывали в окошко и громко переговаривались: чего это
«представитель» заказал такую скучищу? Но мне не было
скучно.
После просмотра
Французы меня расслабили: все у них греховны, все несчаст¬
ны; слушают музыку, утопая в цветах; стреляют — промахива¬
ются.
После немецких титров я подобрался, и точно: действие сра¬
зу встало в строй, пошло строго по толстовской фабуле. Разго¬
ворные мизансцены, средние планы. Без отклонений. Хотя имен¬
но отклонений я ждал. Наконец, дождался. Познышев и Труха-
чевский подъехали к дому. Услышали, что в глубине комнат
Елена музицирует на фортепьянах. Познышев (в охотничьем
костюме, шляпа с перышком, связка уток на поясе) снял с
плеча ружье, бабахнул в воздух. Все захохотали. Немецкий
юмор. Я понял: тут не промахнутся.
Богатейшая вилла. Из «русской специфики» — самовар и вод¬
ка, остальное — из голливудской, «эпохи джаза». Аккуратный
мальчик с белым воротничком. Музыка — часть роскошного
быта; играющий на скрипке Трухачевский снят со спины. Спи¬
на красивая. Его роман с Еленой — сближение двух «образцовых
особей», красивых, сильных, уверенных в себе. Но вот затесы¬
вается между ними этот вырожденец Познышев, плешивый, ис¬
питой, с узкими щелями монгольских глаз. Как псих, врывается
к ним. Щурится. Стреляет. Елена падает. Вот и все.
...Я вышел на свет из просмотрового павильончика. Увидел
кирпичную стену, которая отделяет территорию Госфильмофон-
да от окружающего леса. Меня мучала тяжесть, которую я никак
не мог объяснить. Я смотрел на стену и вспоминал лица геро¬
ев. Набриолиненный пробор оперного красавца, знаменитого
Альбрехта Шенхальса. Тяжелые веки Лили Даговер, первой ки¬
нозвезды рейха. И вдруг понял, что так давит меня. У героев
не видно зрачков. Глаза словно залиты маслом. Действуют тела:
руцК, ноги, торсы. Улыбки. Но не глаза.
Более гитлеровцы не касались Льва Толстого. Если не счи¬
тать, что в 1941 году, захватив Ясную Поляну, они держали
в его доме лошадей, жгли в его комнатах костры и хоронили
около его могилы своих солдат.
Перенесемся в Новый Свет.
Глава 8
ДВАДЦАТЬ ФИЛЬМОВ
НОВОГО СВЕТА
Точнее, восемнадцать. Но в «Войне и мире» Кинга Видора
две серии... и потом, я ведь явно отыскал не все. Так что
не будет преувеличением сказать, что из зарубежных экраниза¬
ций Толстого каждая вторая сделана в США. И уж точно: из
всех зарубежных кинематографий американская — единствен¬
ная, для которой Толстой является объектом постоянного вни¬
мания и непрерывных интерпретаций.
Только интерпретации по-американски есть нечто весьма
своеобразное. Это надо сразу же оговорить, иначе сделанные в
США фильмы по Толстому превратятся в собрание казусов, для
нашего европейского глаза совершенно непонятных. Есть, однако,
и там своя логика, надо ее взять в расчет.
Американское киномышление с самого начала строилось на
несколько иных основаниях, нежели европейское. Со времен
Эдисона и «войны патентов», со времен первых никель-одеонов
и пионеров Голливуда там искали в кинозрелище не совсем
то, что французы или итальянцы. Кинофильм не был для аме¬
риканцев предметом искусства, требующим особого художествен¬
ного стиля; исходным принципом для них стало «приключение
под открытым небом»: кусок срепетированной реальности, об¬
ладающий на экране качествами натуры даже больше самой
натуры.
Французы девятисотых годов искали для кино литературные
сюжеты и «задыхались» от сценарного голода, а Эдвин Портер
брал сюжет из полицейской хроники и устраивал «Большое ог¬
рабление поезда»: он трезво понимал, что зрители никель-одео¬
нов не читают ничего, кроме газет и Библии, и не ищут в кино
литературы. Итальянцы десятых годов старательно перевопло¬
щались на экране в древних римлян, а Мак-Сеннетт вручал
комикам торты, и те швыряли их друг в друга: зритель ни¬
кель-одеона слабо воспринимал юмор культурных ассоциаций,
но хорошо чувствовал комизм гэгов — непосредственных поло¬
жений, надо только, чтобы он, зритель, не сомневался, что
167
торты настоящие. Немцы двадцатых годов методично решали
оптические проблемы, восполняя свою финансовую бедность
богатством декоративно-живописной экспрессии, а Томас Инс
имел возможность для двух-трех планов выстроить в Голливуде
целую улицу: американцы ценили натуральность.
Они понимали натуральность достаточно своеобразно. Когда
в 1911 году в одном из ранних американских фильмов было
представлено шествие великих людей, открывавшееся ангелами
и замыкавшееся Львом Толстым в крестьянской рубахе, то в
этом чувствовалась прежде всего здоровая вера, что Толстой
именно таков, каким его показали, и даже более «таков», чем
в реальности. Непробиваемым здоровьем порожден и тот знаме¬
нитый анекдот, когда владельцы американских кинотеатров
сообщили итальянцам, что они купят их фильм «Одиссея», если
Гомер приедет в Соединенные Штаты и будет лично высту¬
пать перед сеансами. Подлинность понималась буквально,
фактурно, номинально. Когда Джордж Хилл ставил «Казаков»,
его мало интересовал текст Толстого, но он не жалел средств
на то, чтобы кони были первоклассные и чтобы в фильме сни¬
мались неподдельные казаки генерала Шкуро. Когда Эдвин
Кэрью экранизовал «Воскресение», то В. И. Немирович-Данчен¬
ко, бывший тогда в Голливуде, пришел в ужас от того, что
американцы сделали с толстовским наследием, — американцы
же самым искренним образом недоумевали, чего он так ужаса¬
ется: для них в этой ситуации вряд ли существовало понятие
«наследие», куда важнее было то, что в фильме снимался в роли
Толстого его сын Илья Львович. Вернувшись из Америки, Не¬
мирович-Данченко все не мог успокоиться и рассказывал в
театре, как Илья Львович на экране тачает сапог, изображая
автора «Воскресения»,— а Илья Львович в это время делал то
самое, чего американцы требовали от Гомера: он лично сви¬
детельствовал перед сеансами, что «великая миссия», возвещен¬
ная в романе его отцом, «ни в коей мере не пострадала при
переводе ее на экран» и что операторская работа превосходна.
Для того чтобы за этими немыслимыми для нас странностями
мы почувствовали все-таки логику, придется принять к сведе¬
нию некоторые аксиомы американского кино.
Во-первых, реальность кинозрелища решительно не связана
для американцев с реальностью книги, пошедшей при этом в
дело. Сценарий можно кроить как угодно: только безумцы ста¬
нут искать в нем Толстого. Другое дело — реальность кинофак¬
туры: здесь зритель подлога не потерпит. Отсюда — тщатель¬
нейшая работа консультантов, воссоздающих, скажем, для
«Воскресения» русскую усадьбу второй половины XIX века.
Усадьбу! — но не Толстого.
168
Во-вторых, у американцев своеобразно понимается авторст¬
во фильма. Мы привыкли, что автор фильма — режиссер. Были
и в Америке режиссеры такого калибра, что выбивались из
голливудского конвейера и заставляли с собой считаться: то
были фигуры исключительные, вроде Штрогейма или Чаплина.
Никто из них, кстати, никогда не ставил Толстого. Если же
брать тот конвейер, на котором Толстого охотно ставили, то
здесь режиссер был не столько автором, сколько профессиона-
лом-исполнителем (как это хорошо почувствовал Дювивье в
годы эмиграции). Продюсер в Голливуде мог в процессе ра¬
боты менять режиссеров,— съемки не прерывались. Так кто же
тогда автор? Продюсер? Нет, он не более, чем ответственный
организатор. Автор — студия. Стиль формируется в звене, на¬
зываемом «руководством студии». Режиссеры Кларенс Браун
и Рубен Мамулян, в сущности, готовы делать все, что угодно,—
но если один ставит Толстого на студии «Метро-Голдвин-Майер»
(«МГМ»), а другой — на «Парамаунте», то это решает
все. «МГМ»—цитадель американизма, мир последовательных
чувств и образцовой активности; «Парамаунт»—средоточие
европейских влияний, психологических сложностей и интеллек¬
туальной расслабленности; в «МГМ»—полированная ясность,
в «Парамаунте»— туманная чувствительность; в «МГМ» —
Грета Гарбо, в «Парамаунте» — Анна Стэн... и т. д., и т. п. Вне
логики студийной борьбы мы не поймем, в частности, и
этой дуэли звезд на почве толстовских экранизаций.
Тут мы подходим к третьей, решающей черте американского
киномышления: к понятию «звезды». Определяется стиль
студией, а реализуется он не столько в режиссерском мыш¬
лении или операторском видении, сколько с помощью кинозвез¬
ды. Кинозвезда больше, чем актер; кинозвезда — модель реаль¬
ности, тип поведения, почти эталон особи; кинозвезда не пере¬
воплощается в роль, но является в ней; американский кинозри¬
тель пойдет смотреть не Анну Каренину, а Грету Гарбо; никто
не удивится, если самоубийство Анны окажется сном, и в счаст¬
ливом финале она соединится с Вронским, но если что-то пе¬
ременится, сравнительно с ожиданиями, в облике и поведении
Греты Гарбо, то это может стать предметом величайшего вол¬
нения. Американский актер представляет образцовые состояния,
и американский зритель настроен именно на этот язык. Когда
своенравная английская аристократка Вивиен Ли взбунтовалась
против этой манеры,— речь шла отнюдь не об интерпретации
той или иной роли, скажем роли Анны Карениной,— тут столк¬
нулись артистические принципы, разделенные океаном...
Поэтому договоримся: если мы не хотим застрять на част¬
ных нелепостях, которые так любят подмечать наши толстоведы,
169
а хотим понять ту реальность, которая заложена в американских
экранизациях Толстого,— примем и тот закон, по логике ко¬
торого они сделаны. Тем более что на протяжении десятилетий
американское кино не выпускало Толстого из виду.
Первый великий кинорежиссер Америки в первый год своей
работы экранизовал Толстого.
Гриффит. 1909 год. Нью-Йорк.
«...Сейчас мы очень, очень взволнованы «Воскресением»...
Мы вернулись в студию, где плотники и декораторы строят для
нас снежную Сибирь...».
Фраза из воспоминаний Линды Арвидсон (миссис Гриффит)—
все, что осталось от этой работы. Гриффит делал тогда для
«Компании байограф» по два фильма в неделю. В титрах филь¬
мов ставил измененное имя: не потерял еще надежды стать пи¬
сателем и не хотел портить себе будущую репутацию участием
в кино: кино он считал делом пустяковым и пророчил ему
несколько лет жизни максимум.
Гриффит ошибся. Кино оказалось не пустяком, а одним из
величайших искусств XX века. Исполнительница роли Катюши
Масловой Флоренс Лоуренс сделалась одной из первых кино¬
звезд Америки. Сам Дэвид Уорк Гриффит вошел в историю как
создатель языка киноискусства: языка актерской игры, языка
камеры, языка монтажа. Вся последующая работа Гриффита
показала, сколь не случайно было его обращение к большой
прозе: именно с прозой перекликается найденная Гриффитом
монтажная смена планов как принцип повествования — в основу
такого киномышления, можно сказать, легла чисто литератур¬
ная логика.
Но еще раз: чем более сознает себя кино как искусство —
тем более оно робеет перед Толстым.
Человек, несколько старомодный по вкусам, викторианец
и жесткий моралист патриархального толка, Гриффит был до¬
статочно близок к Толстому; недаром у них был общий любимый
классик — Диккенс... Но за десятилетия последующей работы, в
ходе которой Гриффит снял фильмы, вошедшие в золотой фонд
мирового кино,— он более ни разу не обратился к Толстому.
К Толстому обратились другие — сознававшие себя творцами
не киноискусства, а киноиндустрии. Было так, что независимые
от Компании Патентов кинопредприниматели, спасаясь от эди¬
соновских уполномоченных, бежали аж до Тихого океана, на
берегу которого и скапливались в безвестном поселке под
170
названием Голливуд. Эти люди вряд ли читали Толстого, но
они хорошо знали вкусы огромной иммигрантской массы, на
которую работали; экран заменял этой массе и книгу, и театр,
и газету. Толстовские сюжеты шли тут на конвейер, поскольку
они позволяли удовлетворить спрос момента. Экранизовали
«Анну Каренину»; экранизовали «Воскресение» — дважды;
экранизовали «Живой труп» — трижды... Ни одна из экраниза¬
ций десятых годов не оставила следов в истории кино, за
исключением, пожалуй, фильма «Крейцерова соната», который
сделал для фирмы Фокса один из первых в Голливуде цените¬
лей экзотики Герберт Бренон — в этом фильме снялась знаме¬
нитая Теда Бара.
Эта безжалостная губительница мужских сердец повергала
тогда в трепет всю Америку. Конечно, с высот дальнейшей
сексуальной революции ее приемы могут показаться скромными:
Теда Бара, например, потрясала нравы тем, что на экране...
курила в своем будуаре. Однако журналисты клялись, что боят¬
ся брать у нее интервью наедине, так как от роковых чар спа¬
сения нет.
Артистка она была, видимо, посредственная и эксплуатиро¬
вала в основном один прием: холодный взгляд из-под тяжело
опущенных век. Прибавив к этому вышеописанную папироску,
а также отважно обнаженные плечи, мы можем представить
себе, в каком виде явилась на экране 1915 года жена несчаст¬
ного Познышева и любовница несчастного Трухачевского. Впе¬
чатление усугублялось тем, что Теда Бара, по словам рекламы,
была родом из пустыни Сахары и имя ее, прочтенное наобо¬
рот, зловещим образом означало (по-английски) «арабская
смерть».
Вообще-то она была дочь тихого еврея портного из Цинцин¬
нати, штат Огайо, звали ее прозаически: Федосья, а фамилия
была Гудмен, что по-английски означает «хорошая». Но, став
звездой, она старалась дать зрителям именно то, чего те
хотели.
Американским зрителям 1915 года уже мало было захваты¬
вающих сюжетов, снятых «под открытым небом»,— теперь зри¬
тели хотели и «художественности». По части «художествен¬
ности» тогда имелось два рецепта: датский и итальянский (не
отсюда ли тяжба двух типов красоты в раннем американском
кино: нордического и латинского?). Вильям Фокс сделал ставку
на нордический и привез из Дании Бетти Нансен. Но датчанка
публике не понравилась. Тогда Фокс переключился на латин¬
ский тип. Теда Бара и была его находкой. Правда, в сравне¬
нии с утонченными дивами итальянцев и меланхолическими ге¬
роинями «Нордиска» американский вариант женщины-вамп был.
171
как писали критики, несколько дремуч, но пуританская мо¬
раль, весьма сильная в Америке, вряд ли в 1915 году могла
бы стерпеть что-либо иное — должно было пройти лет десять,
чтобы этот отпугивающий вариант сменился бы на более сво¬
бодный и привлекательный.
Так или иначе, первая мировая война подкосила викториан¬
скую Нравственность. Гриффитовские «домашние ангелы»:
сентиментальная Флоренс Лоуренс, беззащитно-нежная Лилиан
Гиш, очаровательная Мэри Пикфорд, «крошка-невеста Амери¬
ки», — все это отходило в прошлое. Теда Бара расчистила путь
совершенно новым звездам: роскошным куртизанкам, знойным
красавицам, светским женщинам без предрассудков. Надвига¬
лись двадцатые годы— «золотой век чар и экстравагантности».
И когда первый, дремучий вамп-вариант отлетел, явился
наконец устойчивый тип «интересной женщины»: молчаливой,
проницательной, лишенной иллюзий, погруженной в свои тай¬
ные горькие думы,— и Грета Гарбо на полтора десятилетия ок¬
расила американское кино ледяной меланхолией.
При своем появлении ей пришлось с помощью «МГМ» вы¬
держать конкурентный бой — между прочим, на почве Льва
Толстого.
Шел 1926 год. Голливудская фирма «Юнайтед артисте» де¬
лала очередное «Воскресение». У фирмы было два козыря: кон¬
сультант Илья Львович Толстой и молодая мексиканская бале¬
рина Долорес дель Рио, недавно приехавшая из Парижа.
Илья Львович вел себя несуразно: жаловался приехавшему
в Голливуд Немировичу-Данченко на то, что сценаристы ис¬
казили роман,— но в конце концов, как мы уже знаем, он
сделал все, что от него требовалось, и даже рекламировал фильм
в истинно американском стиле, удостоверяя, в частности, что
постановщики не остановились ни перед какими затратами и
перенесли на экран именно «те страсти, которые раздирают
сердце в данном случае».
В центре страстей, раздиравших сердце в данном случае,
находилась Долорес дель Рио. В отличие от Ильи Толстого
ее ожидала в будущем замечательная судьба. Но не в Соеди¬
ненных Штатах, а в родной Мексике, куда она вернулась в
1943 году. Снявшись там в «Марии Канделарии» и «Рио Эскан-
дидо», она решила задачу, принципиально важную для мек¬
сиканского кино, — преодолела стереотип экзотической латин¬
ской звезды, роковой Карменситы с цветком в зубах и писто¬
летом за корсажем. Долорес дель Рио дала мировому кино со¬
вершенно иной образ латиноамериканской женщины: скромную
172
крестьянку, человека тонкой души и огромного чувства справед¬
ливости. И вся Мексика стала почтительно называть ее: «Донья
Лола».
Из тридцати ролей, сыгранных ею в молодости на Голливуд¬
ских студиях, донья Лола немногие вспоминала с удовольствием,
и среди них — роль Катюши Масловой. Возможно, в ту пору ар¬
тистка читала Толстого...
Картина Эдвина Кэрью с треском провалилась: мексиканская
танцовщица, наряженная в русский кокошник, не увлекла зри¬
телей. Как иронически писали газеты, «фильм запомнился по
своим затратам, шумихе и плохой игре».
Взвесив провал студии «Юнайтед артисте», руководители
студии «МГМ» поняли, что они могут выиграть этот раунд.
У руководителей «МГМ» тоже имелось два козыря: Джон Гил¬
берт и Грета Гарбо.
Гилберт был в ту пору уже известным актером. Пылкий
романтик с развевающимися волосами, горящими глазами и
«внезапной» обаятельной улыбкой, он приобрел популярность
на волне интереса к типу латинских любовников. Но сам же
незаметно и увел этот тип от эталона (эталоном, нерушимым
идолом оставался томный Рудольфо Валентино). Гилберт сдви¬
нулся к чисто американскому варианту эротики — этот вариант
должен был в конце концов дать Гэри Купера. На «МГМ» де¬
лали на Гилберта ставку и нашли ему блестящую партнершу,
составив, как тогда говорили, «упряжку»,— это была Грета Гарбо.
Эта застенчивая, большерукая шведка, недавно привезенная
в Голливуд Стиллером, в считанные месяцы сумела затмить не
то что Теду Бару, а саму Полу Негри; боссы «МГМ» сообрази¬
ли, что у них в руках клад: двадцатидвухлетняя звезда оказа¬
лась еще и прекрасной артисткой. Но — с принципами: на
третьей картине она взбунтовалась против амплуа роковой
соблазнительницы и потребовала себе более благородных ролей.
В ответ боссы лишили работы и ее, и Стиллера, который под¬
держал свою ученицу. Стиллер вернулся в Швецию, а Гарбо,
сидя у себя на вилле и созерцая тихоокеанское побережье,
объявила «забастовку». Боссы пригрозили ей разрывом контрак¬
та и депортацией обратно в Швецию... но тут в сюжете «заба¬
стовки» неожиданно возник мотив, куда более заманчивый, чем
любое послушное сотрудничество: в игру по собственной ини¬
циативе включился Гилберт.
По амплуа, да и по натуре, он, конечно, не мог пропустить
ни одной красивой женщины — Гарбо не была исключением.
Впрочем, была: эта истовая северянка ко всему относилась
173
всерьез, так что и Гилберт всерьез рисковал карьерой, поддер¬
живая ее в ссоре с боссами. Он, правда, не был так серьезен,
как она: тридцатилетний рыцарь, обладавший темпераментом
и вкусами семнадцатилетнего мальчишки, ухаживал так, как
играл в фильмах: карабкался к Гарбо на балкон по веревке,
бегал за нею с револьвером, требовал тайного бегства и т. д.
Боссы «МГМ» поняли, что у них в руках оказался сюжет убой¬
ной силы. Можно представить себе, какую рекламную бурю
раздували из этого газеты и каким романтическим облаком
постепенно окутывалась в сознании публики «бастующая
звезда»: такой товар боссы упустить уже не могли. Семь
месяцев они ждали, пока публика достаточно накалится, а по¬
том — удвоили Гарбо гонорар...
В оценке этого момента историки кино расходятся. Европей¬
цы чаще говорят: Гарбо продалась студии за двойную цену.
Американцы чаще говорят: в первый и последний раз в истории
Голливуда звезда поставила студию на колени.
Так или иначе, Гарбо прекратила «забастовку» и согласи¬
лась играть.
Сюжет, вплоть до названия фильма, был для них с Гилбер¬
том уже предопределен реальными событиями: «любовь». Об¬
ронив кавычки, студия получала рекламный блок, обещавший
публике почти документальную сенсацию: ГРЕТА ГАРБО И
ДЖОН ГИЛБЕРТ В ЛЮБВИ! Под этот сюжет оставалось под¬
ставить приличное литературное имя. Можно Ибаньеса. Можно
Зудермана. Можно Толстого.
Решили подставить—«Анну Каренину». Сценарий сделала
Фрэнс Марион. Кити и Левина она выбросила вон. Каренина
свела к минимуму. Оставила, в сущности, одного Вронского —
чтоб разрывался между своими друзьями-офицерами и Анной.
Сюжет был рассчитан на обилие любовных сцен. В соответствии
с привычками публики самоубийство героини в финале ока¬
зывалось сном, и в финале Анна счастливо соединялась с
возлюбленным.
Ставить предложили Дмитрию Буховецкому. У него не под¬
нялась рука. Заменили его Эдмундом Гоулдингом. У этого
британца рука не дрогнула.
«МГМ» не ошиблась: фильм имел бешеный успех.
Некоторые умники, правда, интересовались, «куда девался
Костя Левин». Один еретик пустил нехороший каламбур: «Гил-
бо-Гарбидж» («гарбидж» по-английски — требуха, макулатура).
Другой доказывал, что игра этой пары в любовных «клинчах»
отдает не бесконтрольной страстью, как полагается по замыслу,
а тошнотворной продуманностью. Но массовой публике, в общем,
не было дела ни до «Кости Левина», ни до секретов фирмы.
174
С Греты Гарбо публика снимала тогда новый шаблон поведения.
Цитирую американское свидетельство: «Девицы из оффисов и
магазинов перестали быть игривыми на манер Клары Боу и
немедленно сделались бледными, уставшими от жизни и обре¬
мененными роком. Отныне заказчик или покупатель вместо от¬
вета на свой вопрос мог получить трагический вздох и молча¬
ливое покачивание головой. Бизнесмен, поручавший секретарше
снять с письма срочную копию, вместо ответа мог получить
утомленный взгляд через полуопущенные веки, что означало:
«Я устала, я хочу немного полежать...» Этот тип назвали Гар-
боэск...»1.
Таким образом Толстой участвовал в сотворении мифа, кото¬
рый лет на пятнадцать определил стиль наиболее преуспеваю¬
щих звезд американского кино.
Ввиду такого успеха на «МГМ» решили еще раз использо¬
вать Толстого. Остановились на «Казаках». Поручили В. Тур-
жанскому написать сценарий. Велели вставить туда Тараса Буль¬
бу и Стеньку Разина. Туржанский отказался. Сценарий написа¬
ла все та же Фрэнс Марион, и Джордж Хилл поставил фильм
с помощью генерала Шкуро и его казаков. Реклама гласила:
«Драматическое напряжение! Изумительные кадры! Всад¬
ники! Бой! Любовь! Ненависть! Страсть!» Увы, фильм прошел
бесследно.
Шел 1929 год. Америка вкатывалась в кризис, ситуация де¬
лалась почти непредсказуема. Входило в кризис и кино: тут
была, плюс ко всему, внутренняя причина: звук. Введение звука
сломало привычные производственные схемы, надо было искать
новые пути; шла гонка «на звуковой дорожке»: Фокс делал упор
на сенсационные интервью; братья Уорнеры — на музыку; руко¬
водители «МГМ» и «Парамаунта»—на разговорные экранизации
широко известных пьес. Победили Уорнеры, и началась «эпоха
джаза», но на «МГМ» успели сделать несколько лент, иногда
фигурирующих в истории кино под названием «болтливых». Од¬
на из них была экранизацией «Живого трупа».
Поставил ее автор знаменитых боевиков и костюмных эпо¬
пей Фред Нибло. В звук Нибло не верил, считал, что это
преходящая мода; после грандиозных ристалищ и морских боев
«Бен-Гура» комнатная мелодрама с цыганщиной вряд ли вдох¬
новляла его. К тому же у Джона Гилберта, взятого на главную
роль, оказался в фонограмме высокий невыразительный голос.
Железный Нибло довел дело до конца и выпустил картину —
1 Оиг^па! К. Оге1а СагЬо. N. У. 1970, р. 27
175
она называлась «Искупление»,— но с этого момента карьера Гил¬
берта пошла по нисходящей. Грета Гарбо, пытаясь помочь, от¬
воевывала ему роли в своих фильмах, но не могла переломить
ход событий: растеряв популярность, Гилберт умер от сердеч¬
ного приступа в 1938 году. Роль Феди Протасова (в аннотациях
фирмы Федю называли: «русский отброс») стала для него пе¬
чальной вехой.
Не имел успеха и Эдвин Кэрью, в том же 1931 году озву¬
чивший свое «Воскресение».
Кино стремительно перестраивалось. Уходили в прошлое
«божественные» двадцатые годы; надвигались полные неизвест¬
ности тридцатые, рушились старые репутации, закатывались
немые звезды. В этот полный рискованных решений период
Толстой оставался для американцев неизменным объектом про¬
бы сил: в нем чудилась стабильность. К тому же интерес к
русской теме в Америке все усиливался: не будем забывать,
что в 1933 году Рузвельт установил с Москвой дипломатические
отношения. Неудивительно, что когда к середине тридцатых
годов американское кино вновь нашло себя как искусство — уже
в качестве звукового кино,— один из ярких его эпизодов
родился опять-таки на толстовской почве.
В 1932 году Самуэль Голдвин увидел в Берлине Анну Стэн.
Крупнейший предприниматель Голливуда, один из учредителей
фирмы «МГМ», ушедший из нее, но навсегда оставивший ей
свое имя,— Голдвин понимал, что для конкуренции с «МГМ»,
козырем которой был женский старинг, надо найти звезду.
Анне Стэн было двадцать четыре года. В девятнадцать эта
киевлянка впервые прославилась в «межрабпомовской» ленте
«Девушка с коробкой», в двадцать один ее стали называть в
Москве второй Верой Холодной, в двадцать три, в Берлине,
окрестили второй Гретой Гарбо. Когда Федор Оцеп, окрыленный
успехом своего «Живого трупа», взялся ставить вместе с немцами
«Братьев Карамазовых», — на Анну Стэн он делал не меньшую
ставку, чем на Эмиля Яннингса или Вернера Крауса. Роль
Грушеньки вознесла Анну Стэн на вершину славы; в ней при¬
влекала нежная, лиричная фактура, грациозность и та недо¬
говоренность, которая составляет магию игры в кино; немецкие
критики усматривали в ней соединение славянской стихийности
и «зловещего фатализма». В «Братьях Карамазовых» и увидел
ее впервые Голдвин.
Впоследствии он не раз проклинал и «этих Карамазовых»,
и тот час, когда их увидел. Но в тот час у Голдвина не было
и тени сомнений: он нашел звезду первой величины! Голдвин
176
был уроженец Варшавы и слыл в Голливуде экспертом по сла¬
вянским типам: может быть, ему хотелось подкрепить свою ре¬
путацию...
Так или иначе, Голдвин рискнул. По выражению журнали¬
стов, он «пустил в ход своих ищеек», и Анна Стэн пересекла
океан.
Сначала ее попробовали в сюжете Золя, у Дороти Арзнер,
специализировавшейся на «женской тематике». Фильм называл¬
ся «Нана». Реклама неистовствовала. Голдвин твердил, что кон¬
тракт с Анной Стэн — лучшее решение в его жизни; он понимал,
что это решение надо подкрепить, и как можно скорее. Следо¬
вало выпустить Анну Стэн в русском сюжете. Сюжет был под
рукой: изъезженный постановщиками вдоль и поперек, знакомый
американским зрителям по недавним шумным экранизациям,
украшенный именем великого писателя... Это было «Воскресе¬
ние».
Строго говоря, нежная и светлая Анна Стэн подходила для
роли Катюши Масловой еще меньше, чем Долорес дель Рио,
жгучие прелести которой можно было, по крайней мере, оправ¬
дать тем, что у Толстого Катюша наполовину цыганка,— но это
обстоятельство так же мало заботило Голдвина, как в свое время
Эдвина Кэрью: оба знали, что в американском кино одерживают
победы или терпят поражения независимо от верности класси¬
кам,— решает звезда.
Надо было найти режиссера, который помог бы новой звезде
заблистать на «русском фоне». Голдвин нашел. Он поручил
фильм Рубену Мамуляну, мастеру с «Парамаунта», постановщи¬
ку «Аплодисментов», «Городских улиц» и «Королевы Христи¬
ны», армянину по крови и тбилисцу по рождению, начинавшему
карьеру когда-то у Вахтангова,— Голдвин рассчитывал, что «сен¬
тиментальное путешествие» в толстовский роман пробудит в Ма-
муляне его русские струны.
Расчет имел резоны.
Мамулян, правда, никогда не котировался как самостоятель¬
ный художник, это был, по общему мнению, «блуждающий
мастер», умевший исполнять все. Однако, работая на «Парама-
унт» в период технической перестройки кино, Мамулян снискал
себе репутацию самого изобретательного и техничного ре¬
жиссера Голливуда. Он был действительно блестящий «инвен-
тор»: первым ввел закадровый голос, открыл раздельную звуко¬
запись, виртуозно манипулировал светофильтрами... Главное
же — он выказал замечательное умение соединять новые выра¬
зительные средства кино в целостном, «концертном» единстве.
И делал это в стиле, который применительно к данному случаю
представлялся максимально выигрышным,— это был ярко выра-
177
женный «европейский стиль» «Парамаунта»: чувствительные
сюжеты в лирической дымке, атмосфера и ритм, музыка и ма¬
гия...
В распоряжение Мамуляна поступил лучший голливудский
оператор, знаменитый Грэгг Толанд. Художником был пригла¬
шен из Нью-Йорка Сергей Судейкин. Мамулян знал свою за¬
дачу: ему заказали «русскую симфонию».
Он ее и сделал.
Я видел этот фильм. Что меня подкупило, так это ощуще¬
ние... если не русской культуры, то, во всяком случае, искрен-
«Парамаунт» против
«МГМ» (США). Сле¬
ва — кадры из фильма
«Мы живем вновь» по
«Воскресению» (1934,
«Парамаунт»). Режис¬
сер Р. Мамулян. В глав¬
ных ролях: А. Стэн и
Ф. Марч. Стиль студии
«Парамаунт»: лириче¬
ская насыщенность,
оборачивающаяся на
русской почве слаща¬
вым пейзанством. Спра¬
ва — кадры из «Анны
Карениной» (1935,
'«МГМ»). Режиссер
К. Браун. Стиль студии
«МГМ»: ясность, чет¬
кость; безотказно ра¬
ботающие гэги, с по¬
мощью которых на
русской почве обыгры¬
ваются две темы: об¬
жорство и пьянство.
178
него интереса к ней. И интереса к Толстому. Мамулян был, ко¬
нечно, связан американскими правилами игры, он не мог нику¬
да деться, например, от «хэппи энда», но, провожая героев в Си¬
бирь под звуки торжественной мессы, он попытался обозначить
толстовский финал хоть номинально и заставил улыбающуюся
героиню произнести горькие слова: «Я уже не та Катюша, ко¬
торую вы знали...» Разумеется, это не нарушило ни общей бла¬
гостности финала (в соответствии с которым фильм был на¬
зван: «Мы живем вновь»), ни сентиментальной фактуры ленты.
Пейзанские красоты, распущенные льняные волосы сквозь тюль
179
занавесей, ночной дождь на стеклах оранжереи, мерцающие све¬
чи пасхальной службы — все козыри стиля «Парамаунт» были
выложены разом, и все было нацелено на главную фигуру —
на героиню.
Ее партнер, Фредрик Марч, был выбран на роль Нехлюдо¬
ва по контрасту с ней: крепкий, быстрый, холодный, деловой,
решительный. Мамулян не мог не чувствовать, что в этом же¬
лезном мальчике, чуждом слабостей, по самой природе маловато
русского. Но Фредрик Марч нужен был, повторяю, для контра¬
ста. Все работало на Анну Стэн...
На эту нежную, милую, беззащитную... распластанную ка¬
кую-то душу. Мамулян чувствовал слабые стороны новой звезды
и старался ей помочь. Он видел, как фальшиво, неестественно
выглядит она в арестантском халате и смело пошел на режис¬
серский форсаж: впечатал прямо в кадр скамьи подсудимых
прежнюю, очаровательную, влюбленную Катюшу в белоснеж¬
ном платье, с крестиком на шее, а стражника оставил у нее за
спиной. Это сильнейший кадр ленты, в нем видны лучшие чер¬
ты Мамуляна-режиссера: виртуозная изобретательность и не¬
уклонное следование цели.
Просчет был — в самом выборе цели. Мамулян все сделал
чисто. Ошибся Голдвин. По его словам, итоги оказались таковы:
«шумная пресса и пустая касса».
Много лет спустя Голдвин признался в безумии всей этой за¬
теи с Анной Стэн.
— У меня есть что сказать о нашем деле,— не без оснований
заметил он.— Кому-то что-то может казаться, кто-то может стро¬
ить планы, кто-то что-то может предчувствовать. Но никто ни¬
чего не может знать.
Анна Стэн сошла с американского небосклона. Она, правда,
еще снималась впоследствии, но без успеха и в конце концов,
уже на шестом десятке жизни, переключилась на живопись.
Звезды из нее не вышло.
Да и не было у нее шансов в американском кино начала три¬
дцатых годов. В нежной героине Анны Стэн не чувствовалось ни
огня, ни перца. В ее лице с готовностью отпечатывались лишь
два состояния: радость и обида. Женщина-жертва, без воли, без
стержня — такая героиня не имела перспектив в послекризисной
Америке. Америка навсегда прощалась с золотоволосыми Золуш¬
ками: век «ревущего технологизма» сменял эпоху «чар и кол¬
довства». Америке нужны были не жертвы, не воздушные со¬
здания, не обиженные ангелы — ей нужны были сильные герои¬
ни, притом реально мыслящие, практичные, хваткие. В зенит
шла Мэй Уэст — пышнотелая, пробивная, цинически-веселая,
«сама себя сделавшая»—хозяйка положения!
180
Как писал польский историк кино Ежи Теплиц, даже у Гре¬
ты Гарбо в ту пору уходила почва из-под ног.
...Но не ушла.
Итак, студия «Парамаунт» высказалась. Слово было за
«МГМ». Решив ответить голдвиновскому «Воскресению» новой
«Анной Карениной», руководители «МГМ» лишь в одном пункте
пошли на прямой ответ конкурентам: они пригласили Фред¬
рика Марча, еще, можно сказать, не стершего грима Нехлюдова.
К роли Вронского он, кстати, подходил (по внешним данным)
куда больше, чем к роли Нехлюдова. Забегая вперед, скажу, что
из всех исполнителей роли Вронского, которых я вообще видел
в кино, более всех похож на толстовского героя Фредрик Марч.
Что само по себе, конечно, еще отнюдь не гарантия успеха.
Другим партнером Гарбо стал Базиль Ратбоун, напоминаю¬
щий, как писала критика, не столько Каренина, сколько моно¬
тонно жужжащий холодильник.
Не обошлось, естественно, и без именитого консультанта «гра¬
фа Андрея Толстого»; судя по всему, это был внук писателя,
сын Ильи Львовича, того самого, который с молотком в руке
снимался у Эдвина Кэрью. На сей раз ситуация с толстовским
«наследием» оказалась несколько более благополучной, чем тог¬
да, ибо в экранизацию сценаристы включили из романа доволь¬
но много повествовательного материала. Вряд ли, однако, от кон¬
сультанта тут требовалось что-либо, кроме его имени: как всег¬
да в Голливуде, дело решалось независимо от литературной ос¬
новы. Решала дело кинозвезда. Решала — Гарбо.
Ставить фильм поручили Кларенсу Брауну. Это был один из
самых четких исполнителей на «МГМ». Он великолепно чувство¬
вал актера и считался идеальным режиссером для Греты Гар¬
бо: именно Кларенс Браун, в «упряжке» с оператором Вильямом
Даниэльсом, нашел в свое время для Гарбо экранный облик,
ставший ее эмблемой,— резко очерченный лоб, гладкие, отбро¬
шенные назад волосы, лицо, высвеченное добела прямым верх¬
ним светом, так что в нем проступает почти графичная волевая
структура... Работа проходила по обычной для «МГМ» схеме,
не без юмора описанной историками Голливуда: сценарный от¬
дел предлагает материал, боссы дают дополнительные указания
и окончательно все утверждают, после чего Гарбо уделяет филь¬
му толику своей божественности.
Фильм вышел на экраны в 1935 году.
Резонанс был огромен.
Критики писали как о чуде, что лучшая звезда Америки со¬
единила идеализм прошлого десятилетия с реализмом нынешне-
181
го, что в обстановке повальной смены голливудских идолов она
остается спасительным символом постоянства. Что это печальная
изгнанница, не знающая, как она попала в этот чуждый мир.
Что ее загадочное молчание похоже на презрение, вызов и оппо¬
зицию. Что она окутывает окружающих ее людей облаком по¬
нимания, хотя знает им цену. Что у нее усталая улыбка ангела,
который сброшен в мир, чтобы вести людей к богу, но знает,
что в наш век дело все равно кончится скверно. Что люди, встре¬
тившие этот прямой, серьезный и очень нежный взгляд, не мо¬
гут забыть его: так с немым укором смотрит на людей сама
женственность, втоптанная ими в грязь.
...Заснеженный вулкан... сфинкс молчания... волшебство «не-
игры»... неучастие... неввязанность... молчаливое отрицание кон¬
формизма...
Поток литературы о Грете Гарбо не иссякает до сих пор;
лишь ее присутствием держатся многие фильмы, которые без
того давно были бы сданы в архив. В английском киноуказате¬
ле, изданном в 1973 году, против «Анны Карениной» Кларенса
Брауна стоит пометка: «Можно не смотреть». В американском
указателе, изданном в 1976 году, об этой картине сказано: «На
нынешний вкус диалоги тяжеловаты, но Гарбо компенсирует
все».
У нас эту ленту изредка можно посмотреть «в кругу цените¬
лей»— в каком-нибудь киноклубе, в Музее Толстого, в редакции
киножурнала.
Я видел ее в редакции журнала «Советский экран». По моей
просьбе, в сеансе были соединены две «Анны». Две Анны, сыг¬
ранные двумя великими актрисами XX века — Гретой Гарбо и
Вивиен Ли. Две Анны, разделенные тринадцатью годами. И не
просто годами: между 1935-м и 1948-м — вторая мировая война.
После просмотра
У американцев в первом же кадре господа офицеры ложками
едят из общей миски черную икру. Вслед за нашими толстове-
дами, уже сорок лет потешающимися над этой икрой, я тоже хи¬
хикнул было: ну, липа! Потом подумал: эдак я просмеюсь весь
фильм и не соображу, что же авторы хотят сказать мне. Неко¬
торым усилием воли забыл о Толстом и стал смотреть, как гос¬
пода офицеры во главе с Вронским, опрокинув по очередной
рюмке, построились в колонну и по одному полезли под стол.
И тут — понял. Это не липа. Американцы вовсе не тщатся
«изобразить Россию». Это — гэг. Типичный голливудский отыг¬
рыш самоигрального комизма. Весь Чаплин построен на гэгах,
не говоря уже о Мак-Сеннете. Кларенс Браун хочет вступить со
182
своим зрителем в контакт по всем правилам американского ки¬
но. Он очень последовательно строит свой киномир... а если это
громко звучит для Брауна, то скажу так: в соответствии с ка¬
нонами «МГМ» Браун профессионально отрабатывает для Греты
Гарбо образный фон, уже десятки раз проверенный экранной
практикой.
Снятая в стиле «МГМ» лента воссоздает ясный мир, в ко¬
тором уверенные люди действуют среди роскошных вещей. Свер¬
кают и блещут поверхности. Логично действие, понятны инте¬
ресы. Перед нами здоровые, открытые, напористые люди, с дет¬
ской непосредственностью берущие свое от жизни. Круглоголо¬
вый, крепкий, пробойный Фредрик Марч — Вронский. Длинный,
узкий, англизированный, напоминающий секиру Базиль Ратбо-
ун — Каренин. Хозяева положения: каждый рвет свое.
Между ними Анна — Грета Гарбо.
Ледяная красавица, пущенная в этот крепкий мир, ежится,
как какая-то нездешняя, невесть как сюда залетевшая, усталая
птица. Рядом с азартными физиономиями партнеров ее лицо —
словно тонкий рисунок среди грубоватых скульптур. Светлые
глаза смотрят не на собеседника, а куда-то сквозь него. Или
в себя. Медлительна. Дисконтактна. Не общается. Позволяет
этим людям делать с собой что им угодно, и только. терпит,
улыбаясь. Улыбка — застывшая. «Нарисованная». Горькая улыб¬
ка матери, знающей наперед все шалости детей, уставшей проти¬
воречить. А уж дети не знают удержу.
Какой контраст со всем этим — послевоенная «Анна Карени¬
на» Жюльена Дювивье!
...Английская погода: туман, морось, снег летящий. Француз¬
ская школа «поэтического реализма»: воздух непрозрачен, на¬
сыщен «атмосферой», «импрессией»; снято как сквозь волны —
сквозь наплывы дождя, сквозь мокрое стекло, сквозь мечущиеся
блики огня из камина... Все плывет в каком-то мареве, тумане,
потоке.
Никакого блеска, никакой ясности. Интерьеры — домашние,
обжитые, несколько даже захламленные. Герои—«пегие», не¬
определенные, немного несчастненькие, тронутые ущербностью:
плешивый, жалкий Каренин Ральфа Ричардсона, безвольный,
вялый Вронский Кирона Мура. Эти люди вовсе не злы, но они
вряд ли способны предпринять что-либо. Несчастье Анны проис¬
ходит как-то само собой, просто потому, что их всех несет помимо
воли...
Анна, попавшая в этот поток, сопротивляется с безнадежным
отчаянием. Вивиен Ли — быстрая, легкая, переменчивая, заме¬
чательно контактная, мгновенно заражающаяся настроением
окружающих, мгновенно же и переключающаяся в иное настрое-
183
ние. Вот она, разозлившая в
свое время голливудских
звезд знаменитая «слоистая»
психика английской актрисы!
Никаких фиксированных «об¬
разцовых состояний»— смех
мгновенно переходит в рыда¬
ние, радость — в отчаяние,
чувства слоями видны одно
сквозь другое. Только одно
неизменно в этом текучем во¬
довороте мимики — изумлен¬
ный взмах бровей...
...В Грете Гарбо не было и
тени изумления. Там была —
застывшая маска мудрого все¬
ведения, горечь предчувствия.
Здесь — непрерывное изумле¬
ние боли, к которой тщетно
пытаются притерпеться. За¬
стыв на рельсах, видя сквозь
снег приближающийся паро¬
воз, Вивиен Ли плачет и улы¬
бается одновременно — страш¬
ный кадр. Вот тут чувствуешь,
что война была. Была толь¬
ко что...
Есть ли здесь Толстой?
Нет. Хотя Жюльен Дю-
вивье старается удержать все
основные сюжетные линии ро¬
мана и даже цитирует текст.
Но здесь нет того главного мо¬
тива, который заложен в «Ан¬
не Карениной» Толстого: ожи¬
дания возмездия за неизбеж¬
ный грех. Понятие греха бес-
Две Анны, сыгранные двумя вели¬
кими западными актрисами. Слева —
Грета Гарбо в фильме «Анна Каре¬
нина» К. Брауна (1935 год, США).
Справа — Вивиен Ли в фильме «Анна
Каренина» Ж. Дювивье (1948 год,
Англия). Контраст концепций и конт¬
раст решений.
184
смысленно в фатальном пото¬
ке, и ожидания возмездия тут
никакого нет: самое страшное
уже свершилось.
Ожидание возмездия есть
в игре Греты Гарбо. Но не та¬
кое, как у Толстого. Алистер
Кук писал о Гарбо в роли Ан¬
ны: «...все, что можно сделать
для людей в этом глупом и
скандальном мире: сохранить
им немного тепла и душевного
комфорта перед тем, как на¬
ступит конец». Сказано почти
точно, разве что словечко
«комфорт» применительно к
Гарбо отдает, по мне, какой-то
чрезмерной элементарностью:
видимо, Алистер Кук исходил
из восприятия картины запад¬
ным зрителем.
Но Толстой никогда не счи¬
тал мир ни глупым, ни скан¬
дальным. Мир для него всегда,
даже в драме — был исполнен
эпического величия и строй¬
ности. А уж комфорт ду¬
шевный для Толстого — прос¬
то абракадабра. Так что силь¬
нейшие сцены американского
фильма сделаны вовсе не по
Толстому — они сделаны вопре¬
ки ему. Любой человек, хоть
раз в жизни читавший «Анну
Каренину», знает: не потому
Анна покончила с собой, что
Вронский ее оставил, уйдя на
фронт, а потому Вронский
ушел на фронт, что Анна, по¬
кончив с собой, его оставила.
Американцы меняют местами
эти мотивы. Это не просто «сю¬
жетная вольность»— тут вся
художественная мысль романа
вывернута наизнанку. Но, в
185
конце концов, это право экранизаторов, была бы у них своя
логика.
Логика — есть. Авторам фильма нужно, чтобы война вторг¬
лась в историю счастливой любви. Я это признаю: роман я и без
них читал — я смотрю фильм.
И вот — не могу забыть сцену отъезда добровольцев, где
Анна прощается с Вронским. Лицо Греты Гарбо, втиснутое в эту
кричащую толпу. Выпавшее из толпы. Обреченное. Задрожало
тут мое российское сердце: ведь за двадцать лет предсказала
она нашу Татьяну Самойлову — не ту, которая в свой час сыгра¬
ет Анну, а ту, что в 1957 году, в калатозовских «Журавлях»,
в сцене проводов сыграет вот такую же перевернутую войной
душу...
За шесть лет до Пирл-Харбора, в самом центре бодрого «тех¬
нологического» голливудского мира Грета Гарбо сыграла пред¬
чувствие войны.
Экранизуют Толстого. А реализуют — себя.
В войну и первые послевоенные годы американцы Толстого
не ставят.
В 1951 году студия «XX век—Фокс» выпускает коротенький
фильм «Гость» по рассказу «Где Бог — там любовь». Видимо, кар¬
тина неудачная. Скорее всего, это проба: нужен ли Толстой?
Раз пробуют, — видимо, уже нужен.
Еще пять лет — и при содействии итальянцев студия «Пара-
маунт» начинает свою широко известную двухсерийную поста¬
новку «Войны и мира». Это самая грандиозная попытка амери¬
канцев освоить Толстого в кино. И это начало принципиально
нового этапа.
В сущности, это первая попытка американцев освоить Толсто¬
го именно как Толстого, а не употребить его в своих целях.
Попытка — словами Андре Базена — не воспользоваться элемен¬
тами мифологии, давно уже шагнувшими за пределы толстовских
романов, а как бы перенести на экран само произведение, герои
которого невычленимы из его литературной атмосферы.
Можно сказать, что впервые кино не «грабит» Толстого («гра¬
бит» — выражение Базена), а пытается с ним взаимодействовать.
Как бы на равных. «Как бы»—ибо, взаимодействуя, кино апри¬
ори признает его превосходство. Момент странный: призрач¬
ное равновесие сил, когда кинематограф ощущает в себе доста¬
точно потенций, чтобы встать с литературой на один уровень,
но... договаривая фразу, я забегаю вперед, в финал этой кни¬
ги,— но именно теперь он окончательно чувствует и свое бес¬
силие. Можно сказать, что это момент, когда киноискусство,
186
перерастая из молодости в зрелость, впервые признается себе
в ограниченности своих возможностей... И это — начало но¬
вого, нынешнего, нашего этапа во взаимоотношениях ки¬
но и литературы — того, что называется современной экраниза¬
цией.
Характерный штрих: впервые в Голливуде за Толстого бе¬
рется не «режиссер-исполнитель», а «режиссер-автор». Это
Кинг Видор, один из голливудских патриархов, человек, сделав¬
ший когда-то «Большой парад» и «Толпу», художник того редко¬
го в Голливуде типа, когда за режиссером признают право на
свою концепцию.
И что же? Кинг Видор от концепции отказывается. Он объяв¬
ляет, что он только исполнитель. Исполнитель, влюбленный в
Толстого. Вот так. На протяжении полувека исполнительные про¬
фессионалы делали с толстовскими романами, что хотели, а ког¬
да за Толстого взялся х у д о ж н и к,— он решил с любовью под¬
чиниться первоисточнику. Знамение времени? Парадокс?
Разберемся прежде всего с парадоксом. Без своейконцеп-
ции режиссеру все равно не обойтись. Без нее фильм просто
не получится. И у Видора, конечно, есть своя концепция. Но он
хочет, верит, убеждает себя, что это толстовская концеп¬
ция. Вот это уже новость.
Вспомните фильм (у нас почти все его видели). Эти стройные
баталии, словно скопированные со старинных гобеленов. Эти
сюжетно зализанные эпизоды, где все ритмично объясняется,
оправдывается и замыкается. Эти проработанные до лоска, чи¬
стенькие характеры... По Кингу Видору, индивид, втянутый в
поток исторического действия, не поглощается потоком, подобно
муравью или песчинке, но сохраняет некоторую приличную ав¬
тономность. В броских драматургических мизансценах ощуща¬
ется почти аптекарская точность, сбалансированность «интимно¬
го» и «исторического»,— это своеобразный культ срединности и
нормальности, наивное здравомыслие, благодушный оптимизм,
не знающий ни тайн, ни бездн.
И, конечно, здесь нет и намека на то, чем Толстой вошел в
«художественное развитие человечества»: нет той «размытости»
индивидуального бытия, того взаимопроницания душ, при кото¬
ром отдельный человек ощущает себя личностью именно потому,
что пронизан, просквожен ощущением народного, духовного Це¬
лого (именно это десять лет спустя будет стараться передать
С. Бондарчук с помощью закадрового голоса, субъективной каме¬
ры, «вязкого» монтажа). Для Кинга Видора такая проблема не
стоит: у него герои отдельны и завершены, они взаимодейству¬
ют, сталкиваясь и разлетаясь, как биллиардные шары. Вроде бы
похоже: у Видора «округлость», и у Толстого «округлость» харак-
187
теров. Но один — аптекарь, другой — диалектик. У одного округ¬
лость — внешняя характеристика, у другого — внутренняя, само¬
определяющаяся «центрированность» душ. Разница!
В конце концов, Кинг Видор отдавал себе отчет и в этом.
Правда, он оправдывался технологией: если тебе дано два часа
времени, то приходится исходить не из толстовских идей, а из
этого экранного времени. Кино есть кино: Кинг Видор не был
бы профессионалом, если бы навыки не срабатывали у него неза¬
висимо от идей.
Они и сработали.
С помощью итальянских сценаристов режиссер решительно
«стянул», «замкнул», «закоротил» растянутые толстовские сю¬
жетные линии. Ну, скажем, так: вместо Балашова в ставке На¬
полеона оказывается князь Андрей, и император узнает его:
ах, вот кто лежал со знаменем на поле Аустерлица! И т. д.
Вы отмечаете все эти вольности, но вот странно: они вас не
возмущают. Вы улавливаете во всем этом не борьбу с Толстым,
а скорее — не очень ловкую кинематографическую услужливость
перед ним: невозможно же вфильмене свести концы с конца¬
ми. Вы улыбаетесь тому, что русский дворянин (Анатоль Кура-
гин), умыкая возлюбленную (Наташу Ростову), готовится заку¬
тать ее в горностаевую шубку (у Толстого все-таки в
соболью), но вы понимаете, что Кинг Видор вовсе не имеет в ви¬
ду какую-то «царскую» метафору, а просто на фоне темной дере¬
вянной стены белый мех смотрится лучше, чем коричневый.
То же и с героями. Вы благодушно созерцаете и поджарого, под¬
вижного Пьера, и длинного князя Андрея с английской боксер¬
ской челюстью, и опереточного Ростова-старшего, и Кутузова,
который похож на печального циркового клоуна. Это забавляет.
Но не раздражает.
Многое тут, конечно, компенсируется счастливым совпадени¬
ем психологического типа в главной роли. Кинг Видор говорил:
«Единственно, в чем я уверен, это в Наташе». Чутье его не под¬
вело: Одри Хепбёрн, живая, худая, большеротая, большеглазая,
интеллигентная — растопила сердца русских зрителей.
Она настолько прочно ассоциировалась у нас с Наташей, что де¬
сять лет спустя Людмила Савельева танцевала именно от этой
печки и в первых пробах гримировалась прямо под Одри Хеп¬
бёрн.
Но, кроме этой роли, все остальное там действительно весьма
спорно. Первоклассный международный старинг: Мел Феррер
(князь Андрей), Витторио Гассман (Анатоль), Анита Экберг
(Элен), наконец, сам Генри Фонда (Пьер) — все они более или
менее непохожи на толстовских героев. А вы воспринимаете
их игру... с благодарностью.
188
В чем секрет?
Секрет в том, что поверх всех частных неувязок и «увязок»
в фильме Кинга Видора ощущается огромный, всеподчиняющий,
искреннейший интерес к Толстому.
Критики рассказывали: Дино де Лаурентис протестовал про¬
тив очков Пьера Безухова — очки портили ослепительную амери¬
канскую улыбку Генри Фонды. Актер норовил сниматься, когда
продюсера рядом не было. «Генри Фонда выглядит на экране
как человек, читавший роман...»— отметила впоследствии амери¬
канская критика. Я бы прибавил: роман Толстого тут явно про¬
читан многими. Прочитан наивно, элементарно, прочитан, про¬
стите меня, чересчур «кинематографично». Но — прочитан. И это
оказывается важнее всего остального!
Во всяком случае, именно это более всего подействовало на
советских зрителей, когда в 1959 году фильм Кинга Видора
пошел на экранах СССР. Благодушествовали, конечно, не все.
Михаил Ромм, например, был приведен фильмом почти в ярость.
И даже упрекал некоторых своих коллег в чрезмерной снисходи¬
тельности. Мнение одного из таких коллег небезынтересно: этот
режиссер писал в «Литературной газете», что для каждого рус¬
ского, советского человека «Война и мир» Толстого — нечто
значительно большее, чем то, что показано в фильме Видора,
но уважение и бережность, с которыми сделана картина, глубоко
трогают... Написал это Сергей Бондарчук, за год до того дебю¬
тировавший как режиссер.
Восемь лет спустя он ответил американцам своей четырех¬
серийной лентой «Война и мир». А еще восемь лет спустя, в
1975 году, Вуди Аллен, известный всей Америке блестящими
комедиями, выпустил цветной фильм «Любовь и смерть», где
сыграл... Пьера Безухова. Советские зрители, видевшие Вуди
Аллена на Московском фестивале 1977 года в фильме «Подстав¬
ное лицо», где он выступил в главной роли, могут представить
себе, каков Пьер в исполнении этого юркого, маленького очкари¬
ка. Правда, герой «Любви и смерти» прямо не назван Пьером, но
ощущение, что это пародия именно на толстовского героя, воз¬
никает неизбежно, когда по ходу дела герой, не приспособленный
к жизни русский дворянин, оказывается посреди Бородинского
сражения, бегает среди гор трупов и попадает в плен к францу¬
зам, где его ставят под расстрел. К французам он, впрочем, по¬
падает, скорее, как барон Мюнхгаузен: вылетев из пушки и про¬
бив головой палатку. Когда он лежит в палатке бездыханный
и на него отечески смотрит французский военачальник, то тут
Вуди Аллен оказывается уже немножко князем Андреем, — тем
более что «бездонное небо» проходит через фильм откровенным
юмористическим лейтмотивом. По определению одного амери-
189
канского критика, действие «Любви и смерти» происходит не
столько в России, сколько в русской литературе — помимо Тол¬
стого, там есть реминисценции из Достоевского, из Тургенева...
Впрочем, там есть иронические киноцитаты и из Эйзенштейна,
и из Бергмана, и из классического американского киноэпоса
«Унесенные ветром». Лучше всего сказать, что картина Вуди
Аллена есть пародия на киноэпос.
Вообще такого рода пародии в традициях американского кино:
в качестве предшественника Аллена можно назвать хотя бы
Бастера Китона, который спародировал когда-то «Нетерпимость»
Гриффита. Но, судя по отзывам прессы, фильм Аллена— «длин¬
ный, запутанный, философический, онтологический, космологи¬
ческий, феноменологический, одним словом, смешной»— был вос¬
принят в США не просто как «смелый ответ угасанию коме¬
дии», не просто как юмористический боевик, гэги которого мгно¬
венно разошлись поговорками в университетской и артистической
среде. Фильм был истолкован в более широком контексте, весь¬
ма важном для нашей темы. Американское кино попыталось в
нем, смеясь, расстаться с одним из своих мифов: с созданным не¬
сколькими поколениями режиссеров в десятках патетических
экранизаций мифом об утерянном рае старой русской культуры.
Возможно, что фильм Аллена знаменует собой завершение
эпохи серьезных экранизаций в американском кино. Возможно,
что в нем нащупаны новые пути взаимодействия кинематографа
с классикой в эпоху, когда задачу чистых экранизаций берет на
себя телевидение. Возможно, что это конец традиции.
В 1959 году традиция еще в полной силе, и Кинг Видор на нее
всецело опирается.
Что же до нас, то нам на пороге шестидесятых годов как раз
предстоит как бы заново реализовать серьезный контакт кино
и классики, и, в частности, — кинематографа и Толстого. Совет¬
ское кино готово к этому. Фильм Кинга Видора играет роль за¬
пала.
Первой зажигается наша кинокритика. Крайнюю степень не¬
приятия американской версии «Войны и мира» демонстрирует,
как я уже сказал, Михаил Ромм: его статья, опубликованная в
«толстовском» номере журнала «Искусство кино» —№ 11 за
1960 год,— кадра на кадре не оставляет от американского фильма.
Самое интересное в статье не оценки, а мотивировки. Ромм
низвергает Кинга Видора не за то, что тот сделал, а за то,
чего тот не сделал. Он не прощает американцам упущенных
возможностей. Статья начинается с горькой иронии: «Толстому
повезло в советской кинематографии (разрядка всюду моя. —
Л. А.) ...Никто у нас не поставил ни «Войны и мира», ни «Хад¬
жи-Мурата», ни «Анны Карениной»... Это хорошо...»
190
Глава 9
ТОЛСТОВСКИЙ
ЭКРАН
«...Это хорошо,— заявляет Михаил Ромм,— что мы еще
и не касались Толстого. Только теперь выработаны у нас
для этого кинематографические средства: внутренний монолог,
авторский закадровый голос, непрерывность наблюдения
за человеком...».
Сначала о средствах.
Не знаю, какими станут средства кино в 2000 году,
очень вероятно, что будущему зрителю наши достижения с
«внутренним монологом», «авторским голосом» и «непрерыв¬
ностью наблюдения» покажутся такой же наивностью, как
нам — подведенные глаза Мозжухина. Ведь и сам Ромм до кон¬
ца дней своих искал новые образные средства, вырываясь за
рамки игрового кино. Но, допустим, мы выйдем на новый уро¬
вень... к 2000 году. Но и тогда, в 2000 году, кто-нибудь из
кинематографистов скажет: «Только теперь...» Так что вряд ли
стоит нам замахиваться на «абсолют». А вот если встать на
сугубо конкретную позицию, то тут М. Ромм прав: система
выразительных средств, выработанная кинематографом к на¬
чалу шестидесятых годов, позволяла и даже побуждала как бы
заново примериться к Толстому. Мастера действительно думали:
ну, наконец-то уровень кинотехники позволяет нам справиться
с этой задачей! Без такой уверенности нечего и браться за
дело, но для точности в таких случаях надо, пожалуй, менять
местами причины и следствия. Не потому на заре века появи¬
лось кино, что инженеры додумались до ленты с дырочками,
а потому додумались инженеры, что общая духовная ситуация
потребовала такого искусства. Не потому пятьдесят лет
спустя вспомнили о Толстом, что научились фиксировать в
кадрах «непрерывное наблюдение» за героем, а потому научи¬
лись фиксировать, что общий взгляд на человека потребовал
этой техники,— так ведь этот же общий взгляд на человека
повернул нас и к Толстому! Еще бы не согласоваться двум
этим обстоятельствам, когда они порождены одной ситуацией!
191
Итак, во-первых, развернувшись к великим текстам, кине¬
матограф шестидесятых годов обнаружил, что он имеет для
своей задачи богатейший, еще по-настоящему не опробованный
арсенал средств.
Во-вторых, целью экранизаций объявлен сам Толстой. Никто
больше не хочет ни «поправлять» классика, ни «употреблять»
его, ни решать с его помощью какие-нибудь посторонние зада¬
чи. Дело доходит до обещаний открыть с помощью экраниза¬
ции, ни мало ни много, «подлинного Толстого».
Тут я позволю себе уточнение. Подлинный Толстой — это
его сочинения. Для того чтобы обрести подлинного Толстого,
идут не в кино, а в библиотеку. Что же до кино, то тут надо
браться за другое звено. Экранизация — это всегда активное
взаимодействие с материалом, свой взгляд на него, это всегда
интерпретация — иначе фильм, простите, не склеится как про¬
изведение. Но если уж выбирать, то я думаю, что наиболее
интересные интерпретации, как это показывает опыт послед¬
них десятилетий, получаются не там, где режиссеры идут с
Толстым бороться, а там, где они идут у него учиться. Хотя
при этом все-таки получается не «подлинный Толстой», а
наше с вами к нему отношение. Степень нашей нужды в нем.
И, наконец, третья характерная черта периода: толстовские
экранизации сопровождаются непрерывным, неумолкающим
обсуждением этой проблемы в печати. Рецензии — статьи —
книги — дискуссии — диссертации — все это комом наворачи¬
вается вокруг коробки с целлулоидной лентой, так что в конце
концов кажется: не столько говорят о картинах, сколько идет
какое-то перманентное обсуждение и переживание темы «Тол¬
стой и мы». При этом картины являются таким же сгорающим
материалом, как мнения зрителей, объяснения режиссеров, со¬
ображения декораторов, актерские анкеты, трактаты толсто-
ведов и все прочее.
Именно в шестидесятые годы, когда экранизации Толстого
с обочины кинопроцесса выходят на его ось,— впервые созда¬
ется то сложное, пестрое, но и целостное по-своему явление,
которое можно назвать толстовский экран, и главная
причина этого, конечно же, не в достижениях кинотехники,
не в усилиях отдельных режиссеров и не в активности зрите¬
лей или критиков, но в том общем состоянии умов и душ,
которое властно поворачивает в эту сторону глаза зрителей и
объективы кинематографистов. Так, если говорить о класси¬
ках, в двадцатые годы повернуто было наше кино к Пушкину
и Гоголю, в тридцатые — к Щедрину и Островскому, в пятиде¬
сятые к Горькому и Чехову (впрочем, Чехов — всегдашняя лю¬
бовь нашего кино). И так же с конца пятидесятых годов
192
силой вещей выдвигаются на первый план два имени: Досто¬
евский и Толстой.
Полные собрания их сочинений ложатся на столы режис¬
серов и сценаристов. Толстым занимаются и корифеи и де¬
бютанты. Прославленный автор «Журавлей» М. Калатозов
мечтает об «Анне Карениной» с Татьяной Самойловой в глав¬
ной роли (у Калатозова не осуществилось, а Самойлова сыгра-
ла-таки Анну). Студенты ВГИКа Георгий Данелия и Игорь
Таланкин темой дипломной ленты выбирают сцену из «Войны
и мира» (осуществилось, и с лихвой: двухчастный фильм
Данелии и Таланкина «Тоже люди» вышел на экраны, а вот
замысел «Хаджи-Мурата», который Данелия вынашивал уже
зрелым мастером, не осуществился. Таланкин же добрался до
Толстого еще раз — лишь двадцать лет спустя). Известный сце¬
нарист С. Ермолинский собирает материалы об уходе и смерти
Толстого и увлекает Александра Зархи идеей фильма о том
(цитирую Ермолинского), как яснополянский старец «бежит
начать новую прекрасную жизнь, освобожденную от злой
житейской скверны барского тунеядства и лицемерия» (не осу¬
ществилось, но Зархи все-таки поставил Толстого: «Анну Ка¬
ренину» с Самойловой). Фильм об уходе Толстого обдумыва¬
ет и Г. Козинцев (о «новой прекрасной жизни» бежавшего
старца он ничего не говорит, и, возможно, есть смысл пожа¬
леть о том, что этот фильм не осуществился). Сценарии по
Толстому пишет И. Пырьев, их несколько (не осуществился
ни один — Пырьев переключился на Достоевского). Сценарий
«Анны Карениной» готовит М. Ромм... Общее ощущение такое,
будто заслонку отодвинули,— так много людей сразу захотело
воплотить Толстого на экране.
Из кинематографистов, которым довелось касаться Толсто¬
го в течение предыдущих сорока лет (а попыток, как мы
знаем, было четыре), в строю были двое: Шкловский и Вен¬
геров. Обоим предстояло вновь включиться в дело. Первым
дал продукцию Виктор Шкловский: это был новый сценарий
«Казаков», который на «Мосфильме» отснял В. Пронин.
«КАЗАКИ» В. ПРОНИНА.
ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ДАЛЬШЕ
В 1928 году с помощью «Казаков» Л. Толстого В. Шклов¬
ский хотел реализовать «кинематографический сюжет»—те¬
перь он ставит задачу в известном смысле противоположную.
Он говорит: сюжет «Казаков»— элементарность, Толстой его
походя разработал, а потом оставил. В фильме надо не сю-
193
жетом заниматься, а «передать красоту повести». Фигурально
В. Шкловский изображает задачу так: в сосуде стоит перена¬
сыщенный раствор, мы стучим по стакану — и вдруг начина¬
ется быстрая кристаллизация.
Все-таки в этом есть что-то от уверенности: у Толстого кри¬
сталлы не выпали, а у нас выпадут. Мы лучше Толстого знаем,
что такое подлинный Толстой. Но это все ж совсем другой
вариант любви к классику, чем та «борьба», которая велась
с ним в конце двадцатых годов, а уж в одном отношении ме¬
тафора Шкловского кажется мне для начала шестидесятых го¬
дов просто замечательной: тут великолепно передано самоощу¬
щение времени. Нужда в Толстом назрела, им дышат и зри¬
тели и кинематографисты — раствор перенасыщен.
Конечно, В. Шкловский был слишком искушенным теорети¬
ком, чтобы думать, будто «передать красоту повести» в кино —
так же просто, как постучать палочкой. Хоть и за сорок лет
до того, но именно он писал: перевод невозможен. С тех пор
кино научилось многому, хотя закон остался незыблемым: для
изобразительного ряда нужна своя концепция. Шкловский ее
искал. В его статьях 1959—1960 годов речь о «Казаках» захо¬
дит постоянно; он акцентирует в повести то историю неудачного
опрощения, то апофеоз казачьей вольности, то пафос единства
человека с природой. В сущности, это не что иное, как интер¬
претации, хотя для кино и проблематичные. Во-первых, они у
Шкловского брошены словно на бегу, в форме мгновенных оза¬
рений, и нуждаются в разработке. И, во-вторых, эти интерпре¬
тации носят все-таки литературоведческий характер, их надо
так же заново переводить на язык экранной пластики, как и
сам текст Толстого. Когда В. Шкловский предлагает в фильме
подать природу не как задник, а как «часть сущности сюже¬
та»,— то это вещь вполне возможная, но должен еще найтись
режиссер, который все это реально почувствует и творчески
на экране решит.
И вот — не знаю, закономерно ли, случайно,— второй раз
В. Шкловский пишет сценарий «Казаков», и второй раз по его
сценарию делается нечто малоубедительное... А ведь попадает
он к Василию Пронину — достаточно опытному профессионалу,
постановщику фильмов и о пограничниках, и о судьбе молодой
киргизской женщины, и о хождении Афанасия Никитина за три
моря. А до них на счету у Пронина великолепная операторская
работа: лента 1931 года—«Путевка в жизнь».
Взявшись за «Казаков», Пронин публикует в «мосфильмов¬
ской» многотиражке две статьи о Толстом. Вчитываюсь в эти
статьи, стараюсь уловить замысел — понять, какую из пред¬
ложенных Шкловским концепций повести Пронин кладет в
194
основу фильма. Не улавливаю. Нахожу рассуждения о том,
что повесть Толстого— «одно из лучших произведений мировой
литературы», что американцы ее искажали, а мы должны «про¬
никнуть в самую сущность образов» Толстого, что эта задача
«велика и ответственна» и что работа над картиной доставляет
коллективу «огромное творческое наслаждение».
Насколько можно понять — единственным намеком на интер¬
претацию явилась здесь искренняя, безоглядная любовь к тол¬
стовскому тексту.
Сняли.
Фильм неслышно прошел по экранам и оставил по себе не¬
сколько уничтожающих отзывов прессы, среди которых один —
разбор Инны Борисовой «Без Толстого...» в «Литературной га¬
зете»— был написан с подлинным блеском. Пожалуй, эта
статья — самый ценный плод происшедшего. Критический этюд
о сытеньком, милом Оленине, который по барскому капризу
поехал общаться с живописным дядей Брошкой,— этюд этот
и семнадцать лет спустя помнился мне, причем куда лучше
фильма. И если я хотел теперь посмотреть ленту, то не с
целью перепроверить эту оценку — в ее точности сомнений не
было. Я хотел понять, почему картина получилась именно
такой.
И тут вышла заминка, о которой, пожалуй, стоит рассказать.
В Госфильмофонде мне объяснили, что посмотреть фильм нель¬
зя: он отправлен в Грузию и должен вернуться оттуда не ранее
чем через месяц. Меня это не удивило: я знал, что Г. Калато-
зишвили только что сделал по «Казакам» телепостановку. Лад¬
но, решил я, посмотрю в другом месте. Но на «Мосфильме»
копии не оказалось. Не нашлось копии ни в одной из московских
прокатных контор. Месяц я провел в томительном ожидании,
размышляя об эфемерности «самого массового из искусств»
и о том, что же я буду делать, если в Грузии с пронинской
лентой что-нибудь случится. Я молил небо, чтобы эта единствен¬
ная на весь свет копия благополучно приземлилась в Москве
и вернулась в Белые Столбы. И моя молитва дошла.
После просмотра
Толстой подменен начисто. И ведь не назовешь ни одного
пункта, где по сюжету или по фактуре авторы фильма прямо
пошли бы против текста. Кроме разве что кульминационной сце¬
ны фильма, когда Лукашка, простреленный чеченцем, падая,
говорит тому с трогательным упреком:
— Я ж хотел тебе жизнь спасти...
У Толстого он говорит нечто иное:
195
— Руками задушу!
Я понимаю авторов фильма, которые не решились воспроиз¬
вести эту реплику: в прозе она все-таки приглушена, укутана
в текст, растушевана окрестными словами; на экране все вы¬
лезает, выпирает... Но вот что существенно: если бы даже актер
Э. Бредун сказал то, что говорит толстовский Лукашка,— это
не спасло бы роли. Буквальная верность тексту лишь подчеркну-
«Казаки» (1961 год, «Мосфильм»). Режиссер В. Пронин.
В ролях: Ерошка — Б. Андреев, Оленин — Л. Губанов.
ла бы общую бутафорию облика. Как это и происходит во всех
«буквально верных» сценах картины. Парадокс: чем ближе —
тем дальше. Сидят в гостиной господа в костюмах прошлого
века и беседуют о романтической любви; от сцены за версту
несет искусственностью, а прицепиться не к чему: все слово
в слово, как в повести. На экране хоровод; смотрится — как
чистый концертный номер... Так ведь и у Толстого хоровод,
и у него этнография! По голубому, высвеченному в контражур
лесу движутся герои на охоту; лес нестерпимо, павильонно кра¬
сив, а поди ж ты, и у Толстого Оленин поражен красотой ле¬
са. У Толстого «все это» есть. И ничего этого нет.
196
Я далек от мысли, что в фильме испортили безупречную
повесть. Не будем прятаться: повесть не безупречна, сам Тол¬
стой это чувствовал, недаром же, по остроумному выражению
Шкловского, он десять лет писал и переписывал «Казаков»
и еще сорок семь лет вспоминал о недописанном. Повесть
внутренне не сбалансирована, композиционно несоразмерна; в
ней утрачена прозрачная чистота «Детства», но еще не обрете¬
на гениальная, пересоздающая вселенную свобода «Войны и
мира». «Казаки» вещь переходная, переломная, материал в ней
как бы бродит. Материал этот разнороден: романтическая исто-
197
рия разочарованного молодого героя, а рядом — и этнографиче¬
ские этюды, написанные с увлечением неофита, и окрашенные
пантеистическим одушевлением пейзажи... Все есть. Но все,
повторяю, дано сквозь слово. Последний смысл повество¬
вания тут не в материале, а в мощи и обаянии толстовской
речи, материалом владеющей, над материалом летящей. «Вопло¬
тить» этот полет невозможно, ибо, как когда-то верно заметил
«Казаки» режиссера В. Пронина. В ролях: Оленин — Л. Губанов,
Марьяна — 3. Кириенко.
опять-таки В. Шкловский, слова нельзя сфотографировать. Ког¬
да же плоть слов испаряется и остается материал как таковой,
на экране вылезает его противоречивость — разнородность —
чужеродность, или, как Ерошка говорит: «фальчь».
Лес отвратительно красив. Станица мала и мила, как на
макете. Из сюжета лезет мелодрама. Изображать мелодраму в
толстовском сюжете несподручно: сюжет слишком просторен,
он мелодраме велик, там и сям зияют пустоты, актерам нече¬
го Делать. Эдуард Бредун играет бровями; Борис Андреев за¬
полняет роль Брошки какими-то хрипами, всхлипами, крякань-
198
ем и сморканьем; актеры в костюмах казаков торопятся, мель¬
чат, суетятся — видимо, имеется в виду лихость. Романтическая
пара: Л. Губанов в роли Оленина и 3. Кириенко в роли Марья¬
ны — по условию действия крякать и суетиться не могут; эти
актеры в паузах застывают, вообще переставая играть; видимо,
имеется в виду глубина чувств.
Но от толстовских чувств, от толстовской рефлексии тут не
осталось и намека, потому что главный пункт толстовских
раздумий: природное человеческое достоинство — в фильме
не задет никак. Да и как передашь это, когда у Толстого при-
199
родное достоинство — именно загадка и тайна; когда для того,
чтобы в Ерошкиных байках обнажился глобальной важности
вопрос, нужно странное сопряжение его простоты с оленинской
романтикой, в которой столько же смешного, сколько и бла¬
городного,— тут работает именно духовный контрапункт, тол¬
стовское своеволие, причуда гения. Повесть причудлива оттого,
что несет живую тайну, а имя этой тайне — человеческая не¬
зависимость. Когда Ерошка, который только что хлюпал, искрен¬
не горюя об отъезде Оленина, через три слова так же искрен¬
не забывает о нем,— то в этом нет ни пренебрежения, ни обиды,
а именно — загадка духовной автономности. Этот феномен
позднее гениально развернут Львом Толстым в эпосе «Войны и
мира». Но впервые он им прочувствован, и очень остро,— те¬
перь, в «Казаках».
Как это передать?
На экране—«то самое»: Оленин отъехал, Ерошка заговорил
с Марьяной, ни он, ни она на Оленина не смотрят. Общий
план здесь — точно по тексту.
Все «по тексту», и все упущено.
Выходит, чтобы вернуть дух, надо жертвовать буквой. Что¬
бы прийти к Толстому, надо уйти от него. Но уйти можно по
вееру дорог, и, стало быть, надо выбирать, решаться, надо знать
свой путь в Толстом. Зато без выбора, без вариантов, без
необходимости решения есть только один путь: держаться за
букву.
Единственный вариант без риска — загодя обреченный на
провал. Бессилие рабской любви.
«Казаки» — фильм шестидесятых годов — остались в нашем
кинематографе пробой такой вот растворяющейся, безвольной
и беспредметной (хотя бесспорно искренней) любви к Толстому.
Мастера, шедшие следом, учли урок. Они поняли: мало
любить, надо знать, что именно любишь. С классиком — взаимо¬
действовать, а иначе гибель.
Опыт этот был усвоен вовремя, потому что кинематограф
наш уже всем фронтом разворачивался к Толстому; имелась
в виду уже не экранизация той или иной повести, а последо¬
вательное экранное освоение всех романов Толстого — главных
сокровищ его наследия.
Экранизуя их, наши режиссеры не нарушили закономерности,
которая выявилась на протяжении полувековой истории миро¬
вого кино и расставила три толстовских романа по степени
кинопритягательности: первым было экранизовано «Воскресе¬
ние».
200
«ВОСКРЕСЕНИЕ» М. ШВЕЙЦЕРА.
ИНДИВИД И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Так почему же именно «Воскресение» во все времена так
притягательно для экрана?
Начнем с того, что из всех трех романов Толстого это
единственный, в котором публицистическая часть с обманчи¬
вой легкостью и, как может показаться, без видимого ущерба
отслаивается от основной интриги. В «Войне и мире» это со¬
вершенно невозможно; и хоть вынес там Толстой философские
рассуждения в особую часть эпилога (где они, по остроумному
замечанию Горького, «ничему и никому не мешали»), попытка
осмыслить героев вне всей системы рассуждений Толстого за¬
ведомо бесперспективна, настолько все сращено. Об «Анне Ка¬
рениной» и говорить нечего: это самый, мне думается, совер¬
шенный роман Толстого, и тут — прав он — ни словечка нельзя
пересказать иначе, чем сказано, и все забрано в замок, и замка
не видно. В «Воскресении», напротив, замки видны, да и не
очень прочны; и писалось «Воскресение» иначе: не самозабвен¬
но, как «Война и мир», и не единым духом, как «Анна Ка¬
ренина», — а мучительно долго, целое десятилетие, в ходе ко¬
торого первоначально задуманная повесть о раскаянии князя
Нехлюдова медленно увеличивалась в роман, извне обрастая
материалом.
Этот внешний материал: и фельетонные, несколько напоми¬
нающие Салтыкова-Щедрина, зарисовки петербургских бюро¬
кратов, и беглые характеристики каторжан, словно взятые из
чужих документальных очерков, и назидательные автокоммен¬
тарии к действию — все это сопровождает историю Нехлюдова
и Катюши, причем история эта, как это может показаться по
большинству экранизаций, вполне «киногенична» и без такого
сопровождения.
И еще вот что было всегда существенно для кино: сама ис¬
тория героев, включая и тюрьму как фон ее, оказалась ближе
стереотипам массового восприятия нового века, чем все преж¬
ние «великосветские» романы Толстого: тут в дело вступала и
традиционная для народного сознания симпатия к невинно
осужденным, и безотказная в городской среде жалость к бед¬
ной девушке, соблазненной и покинутой,— сюжет мощно резо¬
нировал в самых широких слоях. Кинематографисты не могли
не чувствовать этой магии воздействия. Они инстинктивно улав¬
ливали и другое: секрет «киногении» в этой истории тот,
что герои в ней духовно и душевно исчерпываются по
ходу сюжета; исчерпываются и ожидания зрителей неза¬
висимо от того, кончен ли фильм трогательным примирением
201
соблазнителя и жертвы, либо их душераздирающим расстава¬
нием навеки, или же, как у Р. Мамуляна в американской вер¬
сии тридцатых годов, расчетливым режиссерским балансирова¬
нием на грани того и другого.
Надо отдать должное Михаилу Швейцеру: апробированные
сентиментальные варианты он отсек сразу. Он избрал путь,
единственно возможный для успеха и самый трудный: путь
своего прочтения. Он стал заново читать роман — глазами
1960 года. А к концу пятидесятых Швейцер был уже признан¬
ным мастером, он дважды экранизовал острые тендряковские
повести и снискал себе репутацию как художник, работающий
в основательной реалистической манере, думающий о серьез¬
ных социально-психологических проблемах. Теперь, в 1960 году,
у Швейцера было моральное право напомнить, что он вышел
непосредственно из мастерской самого Эйзенштейна, что мечтал
о Толстом еще во ВГИКе и что он хочет поставить «Воскресе¬
ние» так, что это будет не музейная иллюстрация, а живая,
активно действующая лента. Он не боялся отойти от Толстого.
Притом М. Швейцер не собирался ни модернизировать Тол¬
стого, ни опровергать его. Для него неприемлем был, например,
опыт МХАТ тридцатых годов, когда Немирович-Данченко по¬
строил действие на контрапункте с голосом «от автора», и в
исполнении В. Качалова этот голос звучал по отношению к
«идеалисту» Нехлюдову откровенно иронически. Швейцер слиш¬
ком преклонялся *перед Толстым, чтобы позволить себе такое:
по воспоминаниям очевидцев, он носил на съемки томик «Вос¬
кресения» и цитировал оттуда целые страницы, часто наизусть.
Просто Швейцер верил, что в романе заложены непреходящие
ценности, нужные нашему времени. Именно их он и хотел
оттуда извлечь.
Опираясь на статьи Швейцера и на его тогдашние интервью,
рискну выстроить ход его рассуждений, сохраняя и некоторые
особенности фразеологии, характерной для начала шестидеся¬
тых годов.
Рассуждалось так: сегодняшние зрители не очень-то разби¬
раются в том, чем граф отличается от князя. Ужасы самодер¬
жавия и острые вопросы, волновавшие людей девяностых годов
прошлого столетия, потеряли сегодня актуальность, и нет смыс¬
ла еще раз иллюстрировать все это. В романе Толстого интерес¬
но другое: человеческая идея. То, что он сам называл «нравст¬
венным самосовершенствованием». Но ведь это—«толстовст¬
во»?.. Да, для тогдашней действительности эта идея звучала
утопически, но в контексте нашей современности она приобре¬
тает реальный смысл. Ну, скажем, так: нынешний народный
заседатель узнает в подсудимой девушку, с которой он был
202
знаком несколько лет назад... При этом герой — вовсе не интел¬
лигентный хлюпик, это мужественный человек, в котором эле¬
ментарная порядочность перерастает в принципиальную нетер¬
пимость к злу... И, значит, это уже никакое не «толстовство»,
это уже — настоящая самокритика, требовательность к себе, мо¬
ральная ответственность; именно такие качества помогают со¬
вершенствованию общества, и потому они важны в наших усло-
«Воскресение» (1960—1962 годы, «Мосфильм»). Режиссер М. Швейцер.
В ролях: Катюша Маслова — Т. Семина, Нехлюдов — Е. Матвеев.
виях, в условиях строительства коммунизма. Стало быть, зри¬
тель должен увидеть в «Воскресении» реальную современную
драму. Не нужно ничего менять в фактуре действия — лишь
акцентировать то, в чем герои Толстого схожи с современными
людьми, с людьми 1960 года...
В соответствии с этой концепцией М. Швейцер и делал фильм.
Отвергнув целый сонм блестящих актрис, готовых сыграть
в Катюше Масловой все оттенки падения и страсти, он избрал
на эту роль молоденькую студентку ВГИКа, недавнюю калуж¬
скую школьницу Тамару Семину: ее уже знали по «Двум Фе-
203
дорам», но кинематографический опыт ее был весьма скромен;
однако эта «девушка с выразительными глазами и низким голо¬
сом» несла в своей актерской фактуре ощущение замечательного
душевного здоровья. Будущее показало, что выбор был прави¬
лен: почти все критики приняли Семину безоговорочно, причем
именно потому, что она, по словам одного рецензента, слава
богу, не походит на «эдакую российскую камелию» и радует
здоровый современный глаз.
«Воскресение» М. Швейцера.
204
Главный же интерес для М. Швейцера представляла фигура
Нехлюдова: он прямо писал об этом, противопоставляя свой
подход иронической трактовке других интерпретаторов (и явно
имея в виду МХАТ). Швейцеру, как я уже сказал, не было
дела до того, что перед ним князь, — он и здесь упирал на
современную фактуру. И он взял на эту роль Евгения Матве¬
ева, который был похож не на тонкого аристократа, а на здо¬
ровенного казачину и как раз в ту пору с успехом играл Макара
Нагульнова. Этот выбор критика впоследствии, в общем, отверг¬
ла; но любопытно, что даже отвергая Нехлюдова — Матвеева,
один из самых строгих ценителей фильма, профессор Р. Сама¬
рин, не удержался: а все-таки приятно, отметил он, видеть на
экране крепкого, крупного русского человека... Так что Швей¬
цер знал,, что Делает.
Актерам была дана установка: избегать стилизации. Играть
современные чувства.
Реквизиторам: чтобы платья, шляпы, галстуки, очки и про¬
чие вещи ни в коем случае не контрастировали с современной
модой, а ненавязчиво напоминали ее.
Оператору и художнику: никакого очарования прошлым!
Максимум житейской убедительности! Максимум достоверных
подробностей!
Актеры и реквизиторы установку выполнили, а вот оператор
и художник взбунтовались: ни Эра Савельева не могла пре¬
одолеть свойственного ей лиризма, ни Давид Виницкий не хотел
расписывать важные для него объемы и массы тонкой кистью;
205
им жалко было, как они говорили, «дробить толстовские глыбы».
Со второй серии оба ушли. Швейцер отнесся к этому трезво:
в трактовке Э. Савельевой и Д. Виницкого тюрьма казалась ему
романтичным таинственным замком. И тогда Швейцер призвал
Сергея Полуянова, который во второй серии высветил тюрьму,
как современное учреждение кафельными коридорами.
Этот строгий, демонстративно прозаизированный стиль, в
котором символика идет через черно-белую простоту и досто-
«Воскресение» М. Швейцера
206
верность фактуры, вообще характерен для начала шестидеся¬
тых годов (Ромм, Райзман, Тарковский). Г. Козинцев, задумав¬
ший фильм об уходе Толстого, писал в ту пору: «Это должна
быть «бедная постановка». Никакого «величия», никакой рос¬
коши. Роскошь, пластичность, многокрасочность — это позже,
во второй половине десятилетия...
Первая серия «Воскресения» вышла в 1960 году. По словам
Л. Погожевой, ее встретили осторожным и недобрым молчани¬
ем. Насчет «недоброго молчания» я не согласен: рецензенты
не молчали и были, как правило, благосклонны, а вот осторож¬
ность в оценках действительно чувствовалась: критики словно
не верили, что можно вот так, сразу, взяться за роман Льва
Толстого и преуспеть.
Лишь вторая серия окончательно убедила всех и была при¬
нята по формуле: нравственное перевоспитание героев на экра¬
не состоялось, стало быть, это подлинный Толстой. Шел
1962 год.
В сущности, дело было, конечно, не в Толстом, а в этом
самом «нравственном перевоспитании», которое — вспомним тог¬
дашнее кино — являлось как бы сквозной темой экрана. Именно
тогда Ю. Райзман сделал «А если это любовь...», а М. Ромм
«Девять дней одного года» — громада жизни и времени словно
распалась на отдельные кусочки, дни, судьбы; искусство брало
мир через индивида, особо акцентируя роль отдельного чело¬
века, обыкновенного и простого, который, работая над своим
моральным обликом, приближает будущее.
207
И еще одно обстоятельство подогрело в начале шестидесятых
годов интерес к фильму М. Швейцера: своею спокойной, тяжело-
весно-реалистичной манерой он вторгался в очередной раунд
спора традиционалистов с новаторами. Новаторам 1962 года
М. Швейцер казался старомодным, и он осознанно противопо¬
ставлял себя сторонникам «поражающей формы».
Кадр из «Воскресения» М. Швейцера. Установка режиссера на прозаическую
стилистику вступает в противоречие с «романтической операторской трактов¬
кой.
Каюсь, я не посмотрел тогда «Воскресения». Тогда, в 1962 го¬
ду, меня увлекали как раз фильмы «поражающей формы»; я
ждал открытий, что называется, не на том краю экрана; в клас¬
сических экранизациях я не надеялся их найти. Более же всего
отпугивал меня вердикт критики, что это—«подлинный Тол¬
стой». Подлинного Толстого, думалось, я прочту сам.
Я посмотрел картину М. Швейцера теперь, семнадцать лет
спустя.
В прокате ее не было. И отправился я за этим фильмом в
Госфильмофонд.
208
После просмотра
Александр Свободны, один из самых доброжелательных ре¬
цензентов картины, признавался, что смотреть ее нелегко.
Пожалуй, так. Чувство тяжести не покидало меня все три
часа просмотра. Именно тяжести — не скуки, не раздражения,
не разочарования. Меня трогала и подкупала глубокая серьез¬
ность подхода, видная в каждом эпизоде, однако лежало на всем
ощущение какой-то тяжести: словно тянут что-то на пределе.
Я почти телесно ощущал усилия авторов убедить меня, что
на экране — толстовские герои, и одновременно в том, что это
мои современники, и я ощущал мучительность попытки. По¬
просту говоря, грим выпирал: и на уровне девяностых годов,
и — как следствие — на уровне шестидесятых. Вот Швейцер пе¬
ренес полицейскую часть из пожарки с каланчой в обыкновен¬
ный жилой двор: толстовский пейзаж, решил он, слишком при¬
вязан к «той» эпохе, а тут нужен контакт с современным зри¬
телем. Но мне, современному зрителю, семнадцать лет спустя
и этот жилой двор с кирпичными стенами уже кажется экзотич¬
ным. Хотя я знаю, что именно такие дома были в 1890-х го¬
дах... и в 1960-х...
М. Швейцер на полном напряжении сил управляется с двой¬
ным правдоподобием. Люди шестидесятых годов загримированы
под людей девяностых, но так, чтобы в людях девяностых уга¬
дывались люди шестидесятых. И вот я пытаюсь взаимодейство¬
вать с героями на обоих уровнях... и не могу. Мне начинает
казаться, что люди шестидесятых годов уже и собственные ли¬
ца несут как грим. Мешают маски. Мешает, что в нелепой белой
панамке грузный Е. Матвеев явно сделан «под Черткова» тол¬
стовских хроник. Но я не хочу смотреть Черткова. Я хочу по¬
нять ту психологическую реальность, которую выявляют в тол¬
стовском сюжете Е. Матвеев и Т. Семина. Панамка мне мешает.
А может быть, так: мне потому и мешает старательно сдвоен¬
ная фактура фильма, что я чувствую некоторый недобор в ра¬
зыгрывающейся тут психологической драме?
Допустим, мне не важно, что Матвеев похож на запорожца,
а не на князя, а Семина напоминает пионервожатую, и, конечно,
вовсе не девицу из публичного заведения: если психологическое
действие между ними убедительно, то за ним интересно следить.
Но в этом действии есть определенный... недобор боли, даже
если отвлечься от Толстого и представить себе в этом сюжете
просто людей 1960 года. Выразительные брови Семиной прекрас¬
но передают ее волнение, но это не отчаяние женщины, жизнь
которой сломана: это волнение молоденькой учительницы, ко¬
торая на ответственном экзамене с трепетом ожидает ответа
209
пентюха-ученика, а он порет не то. Эта учительница симпатич¬
на. Но у нее явно все образуется.
Вразрез с мнением большинства критиков должен сказать,
что Матвеев, в общем менее выразительный, чем Семина, и
в отличие от нее весьма неровно сыгравший роль, — в отдель¬
ных сценах прорвался к большей глубине. Не могу забыть
эпизода, когда при первом свидании в тюрьме, сквозь две ре¬
шетки, посреди орущей толпы, этот детина стал просить у сво¬
ей жертвы прощения — как проговорил он приготовленные слова,
легко перекрыв шум своим командирским голосом, и вдруг не
выдержал, сорвался в шепот, глаза побежали в сторону, и он
осел, отвернулся, чтобы мы не видели его слез, его слабости...
Мы глаз и не видим — только спину, эти вдруг обвисшие мощ¬
ные плечи... Какой там «князь Нехлюдов» — о князе я тут и
не вспомнил: перед моим потрясенным сознанием маячила спина
стрельца-смертника с картины Сурикова... и еще что-то смутное,
недавнее... только, конечно, не тот пригрезившийся М. Швей¬
церу «народный заседатель», который, наверное, вовремя не
женился, — нет, мне чудился человек совсем другого масштаба.
Ну, допустим, тот же любимый Матвеевым шолоховский Макар
Нагульнов, только увиденный лет тридцать спустя после вели¬
кого перелома, — если бы вообразить за его плечами большой
путь, ну, скажем, что побывал он крупным хозяйственным руко¬
водителем и двинул горы, заодно и дров наломал, а теперь за¬
думался... Конечно, я фантазирую, и авторы фильма за мои
фантазии не отвечают. Но ведь они и не хотели делать музей¬
ную иллюстрацию к Толстому, — они делали современную лен¬
ту. В лучших сценах они этого добились...
В недостаточном интересе, в невнимании к оригиналу авто¬
ров экранизации не упрекнешь. Наоборот, фильм кое-где про¬
играл от чрезмерной привязанности к тексту; стремясь отразить
«все», авторы утяжелили ленту кадрами, совершенно излишними
в ее внутренней системе; то, что у Толстого было искусно
вплетено в повествование на протяжении десятков страниц,
здесь висит статичными картинками, вроде групповых снимков
Нехлюдова с крестьянами или шаржированных портретов петер¬
бургских начальников, — воспринимается все это в лучшем слу¬
чае как иллюстрации к книге, да и то если хорошо помнить.
Так что если и есть тут отход от оптимума, то вследствие из¬
лишней любви к роману. И уж в целом — надо отдать должное
М. Швейцеру, а особенно сценаристу Е. Габриловичу — тут су¬
мели уложить в рамки двухсерийного фильма все сколько-
нибудь существенные элементы толстовского сюжета.
Верна и атмосфера. Я имею в виду то не вполне определи¬
мое логически, но вполне определенное при эмоциональном
210
восприятии фильма общее качество его, которое создается фак¬
турой изображения. Тускловатый, пригашенный, черно-бело¬
серый, пепельный колорит толстовского романа — именно это
в фильме. Особенно в первой серии. Швейцеру фактура первой
серии показалась ошибочной: таинственно-романтичной. Как ре¬
жиссер он был прав: эта фактура действительно не отвечала
его концепции, к тому же технически она была рыхловата.
Но атмосфере романа она отвечала. Чтобы окончательно реа¬
билитировать оператора Э. Савельеву, напомню, каким словом
Л. Толстой прощается с Катюшей в самой последней сцене:
словом «таинственная». Во второй серии оператор С. Полуянов
высветил все честным оптимистическим светом. Смотреть ста¬
ло легче, потому что такой свет более соответствовал концепции
М. Швейцера. Таинственность исчезла. Но, пожалуй, и в этом
варианте фактура фильма не вошла в явное противоречие с
Толстым, просто она соотнеслась с более очевидными, рацио¬
нальными сторонами его писательского мира.
Теперь сопоставим общий духовный план книги и фильма,
общую мироконцепцию там и тут. Не внешние толстовские идеи,
которые великий проповедник в романе «проводил». А ту внут¬
реннюю духовную мироконцепцию, которая сама собой встает
из художественной ткани романа. И ту мироконцепцию, которая
точно так же, по законам художественной логики, сама собой
встает из ткани фильма.
Несколько огрубляя, рискну следующим образом определить
взгляд режиссера на события. Нехлюдов обидел Катюшу. Он это
осознал. Он загладил вину. Он стал лучше. Катюша встре¬
тила Симонсона, который еще лучше. И поскольку, сравни¬
тельно с Нехлюдовым, Катюша тоже — еще лучше, спра¬
ведливо, что быть ей с Симонсоном. Нехлюдов это понял и со¬
гласился.
Люди ясны. Мир контактен. Исправление возможно. Счастье
достижимо.
Теперь я беру — опять-таки как целое — мироконцепцию тол¬
стовского романа.
Что с самого начала поражает при чтении, так это ощуще¬
ние всеобщей, рассеянной в людях нравственной слабости.
«Война и мир» — твердыня; там сила духа такова, что како¬
го-нибудь Анатоля Курагина прощают из милости.
Даже в «Анне Карениной», где светлое и темное в мучи¬
тельном равновесии сцеплены в душе человеческой, — всей судь¬
бой Левина все-таки провозглашена надежда.
В «Воскресении» какое-то текучее и повальное попуститель¬
ство людей своим слабостям. Оно приводит Толстого в ярость,
близкую ярости народовольцев. Правда, он старается переклю-
211
чить ее в другое русло. Именно в «Воскресении» традиционный
взгляд Толстого на человека как на смесь плохого и хорошего
приобретает окончательность формулы. Слаб Нехлюдов. Но ведь
и Катюша, невинная жертва его, столь непорочная в мелодрама¬
тических перелицовках романа, — изначально, неотвратимо сла¬
ба. С нее, Катюши, и начинается картина этого всеобщего рас¬
слабления. Бастард, «незаконная», рожденная от блуда, обре¬
ченная на немедленную гибель, она выживает милостью гос¬
под. Она с самого начала отвергает твердое нравственное
положение, потому что люди, сватающие ее, предлагают ей
жизнь трудовую и трудную, она же успела привыкнуть к лег¬
кой жизни в комнатах. В комнатах ее начинают преследовать
похотливые мужчины. Это ей не нравится, но за все надо пла¬
тить.
Достаточно перечитать у Толстого сцену первого поцелуя
во время игры в горелки, чтобы увидеть в описании двух наив¬
ных детей — полугорничной-полувоспитанницы и романтическо¬
го студента, — что непроизвольно, интуитивно, искренне и бес¬
корыстно, но именно она внушила ему возможность и легкость
первого шага. И три года спустя он явился к ней законченным
соблазнителем.
Так что к легенде о погибшей невинной жертве надо сразу
же брать существенные поправки. Невинных нет. Зло всеобще,
оно у Толстого бежит по кругу, ловко прокладывая себе доро¬
гу в хаосе механического существования, где связи ослаблены
и все святое чтится по инерции. Отсюда — пронизывающее плоть
романа ощущение всеобщего дисконтакта. Отсюда же — и прон¬
зительная, невероятная в прежних романах Толстого нота от¬
чаяния, с которой он призывает ко всеобщему покаянию. Отсю¬
да, наконец, и главный вывод, постигаемый в романе силой
художества: покаяние невозможно.
М. Швейцер сделал по роману Толстого фильм о личной
моральной ответственности. А роман Толстого? Первоначаль¬
но задуманная повесть о покаявшемся барине, нашедшем сча¬
стье со спасенной жертвой младых грехов,— история эта как
будто свинцом наполнилась, погрузившись в жизненный мате¬
риал романа. И вышло, что за ниточкой тянется другая; что
вслед за Катюшей пол-острога взывает о помощи; что такую
ношу Нехлюдову не поднять; что его личная совесть про¬
сто вязнет в общем месиве раздробившегося существования;
что больна вся Россия и жаловаться некому... И еще, самое
страшное: что святая попытка героя искупить свой грех обо¬
рачивается в этой серой каше перемешавшегося житья чем-то
тяжко фальшивым, чудовищно неловким и несуразным до по¬
стыдности.
212
Потаеннейший узел романа заключается в том удивитель¬
ном откровении, по которому счастье между героями невозмож¬
но именно потому, что они друг друга любят.
С новым Нехлюдовым, который, раскаявшись, появился перед
Катюшей в остроге, она могла бы быть счастлива — если бы
могла забыть того, прежнего. Или — если бы ей было «все рав¬
но». Если бы и впрямь любили того, кто «лучше». Но любят
не того, кто «лучше». Любят этого человека. Личность. При¬
нять любовь нынешнего, доброго, кающегося, мудрого Нехлю¬
дова— значит для Катюши с неотвратимостью восстановить
и того, прежнего, который унизил ее. Ибо «нет силы, которая
повернула бы камень, называющийся: то было». Что значит
простить? Простить значит признать, что в его власти было
губить ее, а как жить с этим ощущением? Тайна суверенной
личности нарушается только раз, и только в одном направле¬
нии; без страдания эту грань не перейти, но не всякий человек
имеет достаточно силы принять любовь как неизбежное стра¬
дание. Исправление, подобное выплате долга, и покаяние вроде
компенсации за ущерб возможны среди особей в филанстере,
при механическом обеспечении интересов индивида, но лич¬
ность... Личность целостна по определению. Значит, любить —
это вобрать, впустить в душу все: и того взмокшего от похоти
офицера, который крался к двери, а потом сунул сотенную;
и того наивного студента, который умер в этом офицере. Все
вернуть в душу и жить с этим... Так ведь тут духовный подвиг
нужен! У Катюши нет таких сил. Но, слава богу, есть зоркость,
которой наделил ее великий писатель: чем глубже она любит,
тем дальше от счастья.
Именно в этом пункте структуры «Воскресения» резко чув¬
ствуется гений. В конце концов, все хорошие писатели — хоро¬
шие психологи. Гений — понятие из иной сферы. Гений — это
иная логика. Невозможно представить себе под пером гения,
как Нехлюдов, женившись на Катюше, поселяется с нею «в пред¬
местье города Троицесавска», и они живут счастливо, помогая
друг другу, хотя нижним уровнем читательского сознания нам
этого ужасно хочется.
Невозможно, кощунственно, дико вообразить, будто князь
Андрей выздоровел, «все забыл», и они с Наташей народили
детей, как будто это не она убегала от него с Анатолем.
Мало ли что нам было бы приятно. А вот так: с Пьером мож¬
но, а с князем Андреем уже никогда, и в этом правда, кото¬
рая превыше житейской справедливости.
По этой же причине понимаешь, почему Долли, все зная о
похождениях своего легкомысленного супруга, предпочитает
не «восстанавливать справедливость», а нести свой крест.
213
Потому что любовь к личности — в отличие от контакта
с особью или разумного договора с индивидом — есть нечто
целостное, что ломается один раз, а уж пока не сломано —
превышает всякую калькуляцию. И верно, что в этой системе
духа легкое счастье невозможно и личность может быть счаст¬
лива тою болью, которая говорит ей о том, что она — личность.
А если таких сил нет? Тогда разумнее, конечно, договориться
с Симонсоном. Он лучше других.
Как передать «в сценах» это толстовское понимание духов¬
ных проблем, когда оно создается в тексте не «сценами», а
именно словесным комментарием к сценам — тою неуловимою,
прозрачною паутинкой слов, сквозь которую мы при чтении
только и видим героев, и слышим их?
«— Она любит вас... Для нее замужество с вами было бы
страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она ни¬
когда не согласится на это...».
Честно пытаясь «перенести на экран» эту сцену, М. Швей¬
цер заставляет актрису в соответствующий момент произнести
толстовские слова. Эффект — нулевой.
Во-первых, несколько цитат из Толстого, вправленных
в экранное действие, не могут заменить того впечатления, ка¬
ковое человек получает при длительном сквозном чтении (хотя
сценарист фильма Е. Габрилович и писал впоследствии, что он
испортил экранизацию тем, что поскупился на цитаты).
Во-вторых, «авторский голос», накрывающий зрителя в зале,
воспринимается совсем не так, как неслышная ткань индиви¬
дуально читаемого текста (хотя Е. Габрилович и сообщал с
радостью, что зрители во время сеансов «с огромным интере¬
сом» слушали высказывания Толстого). В-третьих, по самой
логике экранного зрелища словесное объяснение в кадре или
из-за кадра не может перевесить ту внешнюю пластику, кото¬
рая составляет кадр (хотя Е. Габрилович и утверждал в той
же своей статье «Кино и литература», что зрительный ряд —
лишь «сопровождение» словесного). В-четвертых... законы кино
есть законы кино. И Евгений Габрилович, в теории столь страст¬
но воюющий за «литературность» экрана, практически-то, рабо¬
тая над сценарием «Воскресения»,— все-таки избрал кинема¬
тографичные решения. Равно как и Швейцер. И они были
правы. В пределах кинологики.
Но все это лишь формальный аспект дела.
Не потому в фильме упущена «таинственная» философия тол¬
стовского романа, что у кинематографа нет средств передать
ее (хотя средств действительно нет), а потому, что двадцатый
век упустил, утратил, отбросил ту вышедшую из недр двухты-
214
сячелетней христианской культуры философию личности, кото¬
рая учила человека любить страдания. Всякий художник есть
сын своего времени. М. Швейцер выступил именно как худож¬
ник, а не как бессильный эклектик: он не распластался перед
Толстым, он попробовал проложить в его мире свою дорогу.
Признание же — по всегдашнему парадоксу экранизаций,
когда любую в них слабость объясняют неспособностью режис¬
сера дотянуться до оригинала, а всякую удачу немедленно от¬
носят на счет верности оригиналу, — признание М. Швейцер
получил именно по этому счету: за верность Толстому.
Александр Свободин, соединивший в своем лице искушенного
кинокритика и авторитетного толстоведа, удостоверил: «После
«Поликушки» это наш первый фильм, сделанный по Льву
Николаевичу Толстому».
А уж снимали и второй фильм по Льву Николаевичу.
«ВОЙНА И МИР» С. БОНДАРЧУКА
ЧЕЛОВЕК — ДОМ — ЗЕМЛЯ
Экранизовать «Войну и мир» мечтали теперь многие. Меч¬
тали и старые мастера, имевшие к началу шестидесятых годов
немало заслуг, и молодые. А Сергей Бондарчук? Он был уже при¬
знанным актером, но как режиссер имел за плечами лишь одну
работу: «Судьбу человека» по Шолохову. Картина эта принесла
Бондарчуку успех, и все-таки больше как исполнителю главной
роли, чем как постановщику. Бонд арчу к-режиссер еще искал
себя, и уж его стиль никак не ассоциировался с Толстым — хотя
бы потому, что фильм «Судьба человека» воспринимался и не
как экранизация и не как картина батальная, а как
жгуче современная психологическая лента из фронтового опыта.
Это потом стало ясно, что «Войной и миром» судьба Бондар-
чука-режиссера, в сущности, определилась. Потом, когда он
сделал «Ватерлоо», и именно его пригласил для этого Дино ди
Лаурентис — а мог бы ведь продолжить работу и с Кингом Ви¬
дором... Потом, когда была еще одна шолоховская экранизация:
«Они сражались за Родину», и в ее мощной батальной пластике
откликнулась кинофактура скорей все-таки «Войны и мира»,
чем «Судьбы человека». Десятилетием дальнейшей работы Бон¬
дарчук подкрепил образные решения, найденные им для тол¬
стовского романа. Но тогда, в начале шестидесятых годов, к
сочетанию этих имен привыкали трудно.
Впрочем, по ходу журналистских репортажей со съемок ста¬
новилось ясно, что предпринято нечто беспрецедентное. Фильм,
еще не законченный, обрастал легендами, в которых 23 тонны
215
пороха, взорванные на съемках Бородина, детонировали в вооб¬
ражении людей прежде, чем те успевали стать зрителями. Когда
четыре серии пошли по экранам мира, — впереди бежал слух об
их грандиозности. Восторженные рецензенты из развивающихся
стран докладывали своим читателям, что у Бондарчука было
больше статистов, чем у Кутузова солдат, что он снимал кар¬
тину столько же лет, сколько Толстой писал роман, и что по¬
ставлен самый длинный фильм в истории.
Дело, конечно, не в количестве статистов и не в тоннах по¬
роха, и все же нельзя не признать, что грандиозность картины
впечатляет сама по себе. И впрямь — нечто предельное для ки¬
нематографа. Восемь часов просмотра — рабочий день! Дальше
нельзя, дальше «кино кончается», начинается что-то другое:
или уж возвращаться в берега, или перетекать в телевизион¬
ный сериал, а значит, отказываться от пластической грандиоз¬
ности, менять сам тип образного мышления. Выходит, что, при¬
коснувшись к главной книге Толстого, кинематограф сразу вы¬
шел в предельный режим. И по техническим параметрам,
что чувствовалось уже по ходу съемок. И по параметрам твор¬
ческим, что еще должно было выясниться в будущем. Бондар¬
чук делал явно не такую экранизацию, которую можно посмот¬
реть, а можно пропустить или оставить на потом. Становилось
все более ясно, что фильм идет на первую линию и по отно¬
шению к нему надо определяться. Миллионы зрителей готови¬
лись к этому событию, внутренне мобилизуясь в своей любви
к Толстому. Ситуация была боевая.
Я пошел на один из первых просмотров и тогда же написал
статью, полную страстей момента.
Чтобы передать ощущение момента, помещаю здесь эту
статью почти в том самом виде, в каком она была опублико¬
вана1.
После просмотра:
Лев Толстой и мы с вами
...Прервалась связь времен.
Шекспир
Вот интересно: после недавних экранизаций «Тихого Дона»
и «Хождения по мукам», после двухсерийного «Воскресения» —
лент, куда более близких нам по историческому материалу, —
острее всего задевает нас именно эта киноэпопея, на полтора
столетия уводящая в глубь веков. И ведь каждый зритель, как
1 «Советский экран», 1966, № 22, с. 9—12; Книга спорит с фильмом.
Вып. 7. М., 1975; Ргашйа сгази—ргашйа екгапи. Шагзгаша, 1975, з. 97—106.
216
бы ни отнесся он к фильму, считает своим долгом составить
о нем личное мнение и, каково бы это мнение ни было,— вы¬
разить его энергичнейшим способом! Событие!
Что любой из этих людей, имеющий возможность в любой
библиотеке одним, так сказать, движением руки снять с пол¬
ки «Войну и мир» и приобщиться, тем более если еще помнит
он что-то на эту тему со школьных лет, и стало быть, что
любой зритель явится в кинотеатр с индивидуальными ожида¬
ниями, а то и с готовыми претензиями, — этого надо было ожи¬
дать. И все же какая-то загадка тут есть. Почему именно
«Война и мир»? Или «Хождение по мукам» было не хрестома¬
тийно? Или «Русского леса» не читали? Или Шолохов от нас
дальше? А вот, пожалуйста: сто лет назад описаны тогдашние
дедушки да бабушки в годы их молодости, князья и княгини,
и баталия с Буонапартием, и графинечка на балу, а потом,
поверх — и десять поколений, и пять царств, и три революции,
и прахом все старое — отрезано, отчеркнуто, отброшено, — пре¬
рвалась связь времен! — однако под стальным небом двадцатого
века, под спутниками, под стеклянными стенами кинотеатра
«Россия» кричат в толпе:—Графинечка на балу не в тех туф¬
лях была!—У нее глаза были темные!—А на охоту она, по
роману, на вороном Арабчике ехала, а не на этом белом мерине!
Что-то задел в нас Бондарчук, что-то главное задел: ведь
это не кисло-сладкие мнения о проходной экранизации из клас¬
сики: так о себе кричат.
Конечно, то и дело в какие-то профессиональные частности
спор ускользает, и оппонент твой, победоносно указав, что Пьер
староват, Андрей скован, а сцена в салоне Шерер затянута, на¬
чинает в свою очередь соглашаться, что да: Шенграбен и Аустер¬
лиц сняты прекрасно, и Наташа на экране верная, и капитан
Тушин потрясает... И, обменявшись таким образом, — думаешь:
что ж мы так кидаемся друг на друга? Если по профессиональ¬
ной линии раскладывается все на бесспорные плюсы — минусы:
ближе к Толстому, дальше от Толстого, — так отчего же все-
таки эта всеобщая причастность к делу, отчего событие?
Вот сразу и хочу сказать: если дело только в том, чтобы
на экране скопировать Толстого на восемьдесят или там девя¬
носто процентов — так хоть бы на все сто, — ведь и тогда все
равно лучше возьму с полки том, Толстым написанный,— там
подлинность. Тема киноэпопеи «Ъойна и мир» — не текст Тол¬
стого. Тема — наше постижение Толстого, наша духовная нужда
в Толстом. Это пробуется.
Был ведь здесь один довольно прямой путь. Теперь в ходу
«современные прочтения». Пусть Олеся превратится в Кол¬
дунью, — зато двадцатый век! А что? Подчините все ритмы
217
«Войны и мира» импульсивной, нервной искренности Наташи,
монтажно подкрепите трагическое одиночество князя Болкон¬
ского растерянностью обиженного капитана Тушина, протяните
звенящую нить авторской горечи сквозь бездны, пожирающие
толпы под Аустерлицем, иными словами, сдвиньте Толстого
к Достоевскому, а главное все же: найдите ритм, нервный го¬
рячечный ритм, — представьте себе такую экранизацию «Вой¬
ны и мира». Я гарантирую ей успех... по той причине, что
иные знатоки двадцатого века одержимы идеей изловить начало
двадцатого века во всех прошлых эпохах.
Сергей Бондарчук занял другую позицию. Он ушел в Тол¬
стого абсолютно и всецело. Он доверился ему, как послушней¬
ший ученик. Несколько лет он дышал Толстым, как святыней,
боясь отступить даже в букве, последней деталью дорожа...
А вспомните, как распиливали Толстого в школьных програм¬
мах и ученых сочинениях. Это — «срывание масок», это —
«дубина народной войны», а это, простите, нравственное само¬
усовершенствование, это — выкинуть и забыть. Позиция Сергея
Бондарчука как автора экранизации состоит в том, что он по¬
пытался взять Толстого как явление целостное, не отцеживая
ничего загодя. Да, это поступок, и поступок мужественный.
И это, я уверен, лучший путь к гению: гению надо доверять.
Вся первоначальная робость Бондарчука перед саваофовской
громадой «Войны и мира» сконцентрировалась в восьмидесяти
метрах черной пленки, начинающей первую серию. Он словно
не решается начать... Экран черен. Мир, который возникнет
сейчас, возникнет как бы в пустоте, возникнет из себя и сам
в себе будет содержать свою меру. Толстой — это как Вселен¬
ная, которая опирается на самое себя. И вот — раскручивается
какая-то зеленая точка в черной пустоте экрана, и сразу из
этого хаоса — мир, ширь земли, полет, полет над лесом, над
полями, над деревнями и городами, над толпами воюющих лю¬
дей, каждый из которых неповторим и должен жить, жить.
Я знаю, что кинематографическое решение с зеленой точкой
не единственно возможное. Но это решение мне по душе:
здесь Толстого хотят понять. Даже там, где С. Бондарчук не
соизмерил со своими целями оказавшихся в его руках сильных
кинематографических средств, цели его были все те же: понять
Толстого. И передать, не упустив ни буквы. Отсюда и слабости.
Совмещение параллельных планов в сценах после бала — слиш¬
ком уж механическая попытка передать знаменитое толстовское:
«В это же самое время...» Киносредства обладают большой от¬
дачей: «в это же самое время», воспроизведенное буквальным
совмещением на экране кабинета Пьера и спальни Ростовых,
дает эффект побочный и почти комический. Мне кажется так-
218
же, что кваканье лягушек, введенное композитором В. Овчин¬
никовым в музыку, — слишком прямолинейное истолкование
толстовского пантеизма. Того же происхождения и охотники,
снятые сточки зрения волка (у Толстого волк «просто
смотрел на всех»),— здесь толстовское понимание жизни как
великого во всякой твари таинства чересчур буквально навя¬
зано экрану. Я мог бы и еще приводить примеры, но интерес¬
но другое: накладки эти — не от недостаточной, а от чрезмер¬
ной погруженности в Толстого. Там, где С. Бондарчук попробовал
«продолжить» его элементами новейшей кинотехники — ничего
не вышло. Там же, где он действовал старинными методами:
через актера и художника, — там вышло, и вышло сильно. За¬
мирающий скрип точильного колеса соединяется с негнущейся
фигурой старого князя Болконского: А. Кторов поразительно
точен в этой роли, равно как В. Станицын в роли старика Рос¬
това. Мхатовцы вернулись в свою стихию: натуральная точность
и в игре и в интерьерах; если вы видели в Ясной Поляне по¬
лотна с изображением двух дедов Толстого, вы поймете, откуда
Кторов и Станицын черпали портретные краски.
Этот принцип натуральности ощущается везде. Притом
С. Бондарчук ничего не выставляет напоказ: у него интерьеры
затенены, а батальные планы задымлены, как на старинных
гравюрах,— он знает, что восстанавливает жизнь полутораве¬
ковой давности, и не боится явных изобразительных цитат.
Но мне не мешает, что облик Ахросимовой в фильме выверен
по старинным и первым иллюстрациям к роману — иллюстра¬
ции-то эти, сделанные Башиловым, родственником С. А. Тол¬
стой, несут такую же печать той эпохи, как первые издания
романа... как знаменитый кившенковский триптих, посвящен¬
ный встрече Наполеона и Александра и прямо перенесенный
на экран... как вся эта музейная, потемневшая натура,. явив¬
шаяся из тени времен свидетельством того, что все, что мы ви¬
дим, было, было!
Кинофактура, ориентированная на подлинность, обладает ма¬
гической силой воздействия. Мы привыкли видеть царствующих
монархов из дома Романовых в тяжеловесном названовском ис¬
толковании: грузная, старческая, неповоротливая тупость...
Но Александру при Аустерлице не было еще и тридцати! Меня
поразила трактовка В. Мурганова: царь — азартный юноша, в
голубых глазах мальчишеский гнев и мальчишеский восторг;
в этих неустойчивых глазах равно угадываются и грядущий
Аракчеев и грядущий Сперанский. И все это — тоже впрямую
Толстым навеяно: история объемна, она столь же хороша, сколь
плоха; и в могущественнейшем из сильных мира жизненное
начало столь же властно, и слепо, и независимо, как в по-
219
следней травинке, или в соструненном на охоте звере, или
в любом человеке — в любом! От лучших эпизодов фильма воз¬
никает ощущение... не то что Толстого, но ощущение того,
что Толстой хотел в людях вызвать: ощущение жизни, непри¬
косновенно прекрасной во всех ее неискаженных проявлениях.
В этом смысле простодушное лицо Н. Трофимова — Тушина
действует в том же принципиальном направлении, что камен¬
ная отрешенность В. Тихонова — князя Андрея или медлитель¬
ная изумленность С. Бондарчука — Пьера, — в них всех жизнь
как бы сама по себе, она хочет быть суверенна, неподвластна
ни исторической, ни сиюминутной лжи.
Теперь вернусь к персонажам второго плана. Они растворены
в интерьерах эпохи. И не только старые мхатовцы, для кото¬
рых достоверность перевоплощения — закон. По-новому играют
в фильме О. Ефремов (Долохов) и О. Табаков (Николай Ростов),
ведущие актеры «Современника», обладающие властным и резко
современным рисунком, — здесь этот рисунок приглушен до ми¬
нимума: главное — не отдельные фигуры, а всеобщая, потоком
идущая, необъятная и настоящая жизнь людей...
Так, по Толстому, реставрирует С. Бондарчук эту давно про¬
шедшую, полузабытую жизнь. Он реставрирует ее мелочами бы¬
та, узорами платка, надетого на Анисью Федоровну, точностью
сервировки стола в доме дядюшки или в доме Болконских.
Он восстанавливает эти погасшие интерьеры, эти липовые ал¬
леи, эти споры о смысле жизни, и торжественность старых
храмов, и перезвон колоколов, и красоту стаи гончих, летящих
за волком по замерзшей траве, и трагическую красоту атаки
пехотных полков, и красоту старого знамени, и красоту вели¬
косветского бала, и красоту русской мелодии, что выводит на
балалайке Митька-кучер, и красоту неба и земли, и всей жиз¬
ни, сознаваемой как непобедимое целое.
Когда-то о Толстом было сказано: подобен Адаму, дававше¬
му имена вещам. С гениальным простодушием он возводил свой
целостный мир в разреженной, наэлектризованной атмосфере
второй половины XIX века. И весь этот мир его — с русскими
спорами и с русской охотой, и с вековой культурой, и с дво¬
рянскими дочками, которых ведут на первый бал, — уже стоял
под исторической грозой, и уже разночинцы выбивали из ста¬
рого здания камень за камнем, и уже разъедены были опоры
сухим желчным щедринским ядом, и уже родились дети, кото¬
рые должны были в восьмидесятые годы оплакать, а в после¬
дующие десятилетия разнести в клочья это былое очарование...
Толстой ничего этого знать не хотел, он был наивен, как бог, —
строил и строил. Он не признавал шекспировского: «прервалась
связь времен»,— он утверждал связь времен.
220
Сергей Бондарчук взялся за задачу, которую в принципе не¬
возможно решить со стопроцентным успехом, но он взялся за
задачу благородную. Он реставрировал мир Толстого с помощью
тех средств, какие дал ему наш теперешний век. Это не так
легко — разыграть ушедшую жизнь: чего-то добиваешься, чем-то
жертвуешь.
Главная жертва, на которую пошел Бондарчук-режиссер ради
Бондарчука-актера, — возрастной сдвиг, перекосивший систему
отношений главных героев. Пьер в фильме старше толстовского
героя лет на пятнадцать; он выглядит, как ровесник князю
Андрею. Но вне того обстоятельства, что у Толстого князь
Андрей намного старше, и опытнее, и искушеннее Пьера, —
вся эта линия меняет смысл. Обилие крупных планов, с по¬
мощью которых постановщик делал князя Андрея «старше»,
помогло Вяч. Тихонову, но, конечно, этот актер взял на себя
трудную задачу. Тихонов сделал все, что мог, его фонограмма
кажется мне безукоризненной, он добился голосом того, чего
не мог добиться фигурой, — передал сдержанность и затаенную
глубину характера князя, — но пластический рисунок роли так
и не дался ему: видно, аристократическая сухость сына гене¬
рал-аншефа павловских времен дается не репетициями, а поко¬
лениями. Мимика оказалась доступнее, крупные планы хороши:
в скованном лице Тихонова угадывается глубина переживания,
которую домышляешь до Толстого.
Но роль, где живая естественность теперешней артистки
воистину соединилась с толстовским текстом, — это, конечно,
Наташа в исполнении Людмилы Савельевой, Наташа, к которой,
может быть, было больше всего устремлено из зрительного зала
непреклонных и ожидающих глаз. Савельева играет в Наташе
одну душевную сторону, но эта сторона — ключевая. Естествен¬
ное доверие молодого существа к жизни: доверие к себе, к
людям, к вещам, и доверчивая раскрытость, и восторг, и изум¬
ление, и нетронутость души злом — вот лейтмотив. Меня пора¬
зила сцена объяснения Наташи с князем Андреем: то, как бежит
она ему навстречу, — какой простор интерьеров и какой простор
внутри души, — бежит, останавливается, вновь бежит... и по¬
винуется лишь внутреннему голосу, и может не выйти к нему
и остаться одна; и может выйти и сказать, что любит, — во всем
этом есть великая свобода личности, выросшей на душевном
просторе, не знающей тесноты и вынужденности, не знающей
злобы и обиды...
Я понимаю, что и Савельева не исчерпала толстовской На¬
таши. Да ведь это в принципе неисчерпаемо. Но я говорил уже:
не иллюстрации к Толстому ищем в фильме — жизненную
пробу берем нашей нужды в Толстом.
221
В грандиозном посмертном споре, который больше полувека
ведут в русской духовной атмосфере Толстой и Достоевский, —
Достоевский стал было уже побеждать; пророк отрицания и
ужаса казался ближе людям двадцатого века, чем пророк еди¬
нения и понимания. Только — смиримся ли с этим? Да, трагиче¬
ские события нашего века повернули нас к Достоевскому. Но век
наш может и возвратить нас к Толстому, этому, по словам
Ст. Цвейга, сверхъестественно мощному певцу естественности.
Лихорадочные темпы новой истории оставили позади его нето¬
ропливый и истовый мир. Но человек непобедим. И непредска¬
зуем. Может, и не позади у нас Лев Толстой, может быть,
он — впереди у нас...
С. Бондарчук сделал все, что мог, чтобы утвердить себя
и нас в этой мысли. Он постарался забыть все, что могло ис¬
казить в его глазах первоначального, наново прочитанного Тол¬
стого. И он принялся терпеливо и простодушно восстанавливать
этот подернутый туманом времени мир. Я не знаю, можно ли
сказать, что у него были для этого достаточные средства. Авто¬
ры фильма имели что имели: десятки тысяч статистов и десят¬
ки музеев, дававших материалы; имели строителей, которые
средствами XX века воздвигали для постановщиков целые архи¬
тектурные ансамбли в старинном стиле, и пиротехников, кото¬
рые жгли эту красоту огнем. Они имели — авторы фильма —
чисто книжные сведения об аристократическом быте, и, конеч¬
но, никакие актеры и консультанты уже не могли восполнить
того, что давно и прочно утрачено в жизни. Одним словом,
они имели средства в том несметном количестве и в том новом
качестве, которое дал им наш век.
Они, авторы фильма, сделали все, что смогли, и за это
надобно быть им благодарными.
Наш век — это мы с вами. От нас зависит доказать самим
себе, что связь времен не прерывается.
Перечитав сейчас написанное тринадцать лет назад, я не
отказываюсь ни от оценок, ни от мыслей, ни от чувств тогдаш¬
них. Более того, теперь, когда я изучил по теме все, что ока¬
залось доступно,— могу сказать с полной ответственностью: кар¬
тина С. Бондарчука является лучшей из известных мне экрани¬
заций Толстого.
Фильм и теперь смотрится. Он жив. Хотя, конечно, время
кое-что поставило на свои места.
Время подчеркнуло явные оплошности, которые при первых
просмотрах скрадывались общим благоприятным впечатлением.
Теперь многое скребет. И отрадненский дуб, вещающий замо-
222
гильным голосом, и «ростки жизни», словно вклеенные из учеб¬
ника ботаники, и непонятного происхождения круглая капля,
символизирующая душу Платона Каратаева. Что же до пред¬
смертного сна князя Андрея, то его «кинопрочтение» угнетает
поистине сюрреалистической бессмысленностью. Нельзя же ска¬
занное словами (то есть воздушное, условное, бесплотное,
прозрачное) лепить на экран впрямую. Я видел в кино доста¬
точно призраков, а зловещего мужика из «Анны Карениной»—
так вариантах в пяти: все было смешно или жалко, но никогда
ни намека, чтобы страшно. Когда романист пишет, что князю
Андрею снится дверь, и оттого, успеет ли он ее запереть, за¬
висит все, — это смерть. Когда кинорежиссер показывает
дверь, — это все-таки дверь. Есть грань, за которую кино не
смеет заходить, — там оно делается против воли комичным...
Но оставим это — перед нами действительно оплошности,
и вряд ли они много скажут нам о художественной концепции
Бондарчука, о реальной образной логике его, внутри которой
недостатки так же интересны, как достоинства.
Недостатки со временем усугубились. «Вылезли» длинноты,
отражающие благие намерения С. Бондарчука как можно боль¬
ше вместить из Толстого. В фильме Кинга Видора тоже были
длинноты, и тоже — от жажды «вместить». Но логика там и тут
разная. Вот об этом есть смысл поразмышлять. О логике, а не
об оплошностях.
У Кинга Видора длинноты — от желания «показать поболь¬
ше». Если искать им аналогии в литературе, — это длинноты
многословия: суета и болтовня.
У Бондарчука длинноты — от стремления к многозначитель¬
ности. Это паузы благоговения перед Толстым: из-за кадра чи¬
тают текст — в кадре нечего делать — кинодействие замерло.
А пленка идет...
Кинг Видор старался в две серии вколотить все сколько-
нибудь выигрышные фабульные звенья романа, но мелочами
и деталями он распоряжался с легкостью: свободно жертвовал
ими или компоновал, как удобнее.
Бондарчук в крайнем случае готов пожертвовать и сценами
и целыми сюжетными линиями (из фильма, например, выпала
история Николая Ростова, да во многом и история княжны
Марьи), но систему деталей, нюансов, мелочей толстовских
в том или ином эпизоде Бондарчук воспроизводит скрупулез¬
нейше.
Кинг Видор ориентировался на события романа. Бондар¬
чук ориентируется на атмосферу. На интонацию и дух текс¬
та. На тот сквозной, пронизывающий все, текучий, как опре¬
деляют его толстоведы, жизненный поток, в котором отдельные
223
Две киноверсии «Войны и мира».
Слева — «Война и мир» режиссера
К. Видора (1956—1959 годы, США);
справа — «Война и мир» режиссера
С. Бондарчука (1966—1968 годы,
СССР).
Верхняя пара кадров: Наташа —
О. Хепбёрн и Наташа — Л. Савельева;
в советском фильме акцентирована
душевная незащищенность героини,
ее психологическом зависимость от
окружающей обстановки. Вторая па¬
ра кадров: батальные общие планы.
У К. Видора — «гобеленная» строй¬
ность и ясность, у С. Бондарчука —
задымленность, обволакивающая, по¬
глощающая и «связывающая» дета¬
ли. Третья пара: батальные средние
планы. К. Видор решает их как це¬
почку единоборств, С. Бондарчук —
как элементы общей «текучей» фак¬
туры сражения. Нижняя пара: кон¬
цепция сюжетного разрешения в фи¬
нале. У К. Видора — индивидуальный
«герой-победитель», соединяющийся
с любимой (в роли Пьера — Г. Фон¬
да); у С. Бондарчука — возвращение
героев «всем миром» и возрождение
«дома».
характеры и судьбы делаются
как бы прозрачными, подвиж¬
но-переменчивыми, выявляя
некий неуловимый, но власт¬
ный ритм всеобщего бытия.
С. Бондарчук все подчиняет
этому ритму. Камера движется,
плывет, кружит, вселяясь то в
одного героя, то в другого, то
в одно существо, то в другое
(вот откуда: «глазами волка»,
«голосом дуба»). Игровые пла¬
ны размыты, раздроблены;
пластические композиции или
общи до такой масштабности,
что индивид неразличим, или
крупны настолько, что гипно¬
тизирует частность: рука уми¬
рающего либо еще какая-ни¬
будь деталь, скользящим реф-
224
реном плывущая в соседний
кадр,— но совсем мало здесь
столь излюбленных Кингом
Видором средних, повествова¬
тельных, как говорили при
Гриффите, американских
планов.
И речь у Бондарчука — со¬
всем не те «оживленные диало¬
ги», что у Кинга Видора;
здесь речь и затушевана и рас¬
тушевана, она приглушена,
слова размыты, проборматы-
ваются — раньше я думал, что
это попытка передать аристо¬
кратизм речи, теперь вижу,
что цель серьезнее: передать
именно то, чем гениален Тол¬
стой,— жизнь в ее нео¬
хватном течении.
Тринадцать лет назад ост¬
ро ощущался злободневный
смысл этого погружения в
толстовскую стихию, и я писал
о непосредственной актуаль¬
ности фильма для 1965 года —
я видел тогда одно: Бондар¬
чук выразил нашу нужду в
Толстом.
Теперь я думаю о том, что
же именно он выразил в нас
с помощью Толстого.
И прежде всего о том, что
же он все-таки упустил в Тол¬
стом.
Ищу это не для упрека
фильму, ибо хочу понять упу¬
щенное не по оплошности, не
по той или иной профессио¬
нальной недоработке, а по то¬
му неизбежному закону, когда
художник не может совпасть с
художником и эпоха с эпохой.
По трем направлениям про¬
сматривается для меня мир
225
Толстого, оставшийся за пределами экрана. По тому, какова
ткань повествования. По тому, каковы характеры. По тому, каков
пафос.
В повествовательной ткани «Войны и мира» изобразительный
рисунок рельефен, как раскадровка. Князь был в шитом мунди¬
ре, в чулках, башмаках и звездах и говорил на французском.
Это видно, это ясно, это можно воспроизвести. Одна закавыка.
Князь говорил:
«...на том изысканном французском языке, на котором не
только говорили, но и думали наши деды...»
Тут вопрос: а как они говорили?
Тебе отвечают: а так, как они и говорили. Как обыкновен¬
но говорили в том кругу...
Как передать окутывающий у Толстого действие словесный
дымок, все время отсылающий нашу мысль к тому, что это не
просто действие, но действие традиционное, всегдашнее, веко¬
вое, прочное, устоявшееся, принятое поколениями, или, если
взять формулу, повторенную в первых главах романа множество
раз,— то самое, какое обыкновенно бывает? Экран
дает срез действия в его зримой однократности. Исчезает «пус¬
тяк»: дымка итеративности, тысячекратность его — а ведь она
и есть ткань Толстого.
Запутанная, полная неловкостей и повторов авторская речь
«Войны и мира» — не причуда гения, которому приходится это
«прощать». В запутанности Толстого пульсирует гениальность.
Люди действуют почти вслепую, они хитрят, а естество в них
берет свое, а высокое в них пробивается сквозь узор, где «твар-
ное» перемешано с «божьим». Все дело именно в сдвиге слов,
которыми рассказано, когда слова не притерты к явлениям, а
чуть расшатаны, отшатнуты от явлений, и в этом прихотливом
узоре возможно все, так что строй, порядок мира может мгно¬
венно воплотиться в любом явлении, в самом заурядном, обык¬
новенном, всегдашнем...
Мы бы сегодня сказали: в «пошлом».
Отпечатывая на пленку изобразительный слой, экран упуска¬
ет гениальную вибрацию слов около истины, вокруг истины.
Экран бессилен перед мерцанием одушевления в заурядности,
он пасует перед «феноменом Николая Ростова». Экран такого
героя или старательно подсаживает на котурны, или нечаянно
роняет в пошлость, — если, конечно, здесь не отказываются бла¬
горазумно от попытки, как это и сделал Бондарчук. В «Каза¬
ках»— пытались, дважды. Оба раза Оленин оказывался дрян¬
ным перекати-полем, «лишним человеком», но вовсе не тем
существом, в котором бытийное и бытовое неразделимы. Как
«изобразить», что «дух дышит, где хочет»? Нет, право, с Досто-
226
евским легче: там неистинность явленного, его катастрофиче¬
ская опустошенность, его, как в те времена говорили, «бого-
оставленность» все ж как-то исчерпывает себя во внешнем дей¬
ствии, пусть негативно. Но как передать толстовский тип вопло¬
щения сверхъестественного в естественном, когда оно — полу-
воплощение? Словами? Можно. Но «слова» — смерть кино.
Как вы передадите во внешнем действии удивительную тол¬
стовскую тайну: несчастье души в момент осуществления
счастья?
«Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был
плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О сво¬
их разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее? Да и нет.
Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознан¬
ная им страшная противоположность между чем-то бесконечно
великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и
телесным, че,м был он сам и даже была она».
В этой тоске не характер князя Андрея. Характер —
естество.
А здесь что? Причуда гения, говорящего разом и да и нет?
Или — прозренье гения, видящего сквозь внешнее?
Теперь о характерах.
Пьер Безухов в романе идет на смену Андрею Болконскому.
В сущности, это обновление философской ориентации. Это пере¬
ход от замкнутого, монолитного, завершенного, пронизанного
гордостью и гордыней, вышедшего из абсолютов XVIII столетия
«кристаллического» сознания, когда личность строго спраши¬
вает с мира и не хочет с ним примириться, — к более откры¬
тому, разверстому, разомкнутому, «ковкому», демократичному
типу ориентации, когда личность сострадает миру, как бы под¬
ключаясь к его боли. Обе системы были для Толстого глубоко
личными; первую он с молодости мечтал выработать в себе,
вторая выработалась к зрелости по ходу жизни. Обе —
Толстой. Более того, перед нами — капитальнейшая для исто¬
рии России XIX века смена философских концепций, и вос¬
создана она в романе не просто картинами и сценами, но слож¬
ным сцеплением тяжеловесных диалогов и рассуждений, в ходе
которых герои все время готовы поменяться позициями прямо-
таки вопреки «характерам», и суть оказывается не в том, что
эти характеры разделяет, а в том, что их объединяет, причем
неуловимо.
«Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что
все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богат¬
ство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть
в сравнении с чем-то... С чем, Пьер не мог себе дать отчета,
да и не старался уяснить себе...»
227
А мне-то казалось, что дело в недоработке: автор фильма
и исполнитель роли Пьера— «оплошал с возрастом». Быть бы
Пьеру помоложе, характер и встал бы на свое место.
Характер-то — встал бы...
Наконец, третье. Пафос.
Пафос толстовского романа — строй мира. Порядок и связь
его. Смысл и закон, которые побеждают, проходя сквозь слом
и хаос. Разорваться и вновь сложиться. Или, деся¬
тилетие спустя, как в «Анне Карениной» сказано: переворо¬
тилось — укладывается. За хаосом — космос. Строй и
цветение жизни. Это — Толстой.
Но есть в многоцветном сверкающем мире его какая-то тень.
Необъяснимая, мгновенная, смертная тревога. В кругах, близ¬
ких к Толстому, по чисто биографической ассоциации ее называ¬
ли «арзамасской тоской»—в одной из поездок, в гостинице
Арзамаса Толстой испытал это чувство: мгновенно охватываю¬
щий ужас.
Это не навязчивая идея катастрофической непрочности мира,
как у героев Достоевского. Это именно мгновенная, преходящая
тень. Черная точка на ослепительном горизонте. В пластическом
спектре Толстого этой черной линии нет, и кино ее всегда
упускает. Она как бы за пределами видимого спектра, в ирра¬
циональной «изнанке» раздумий; и возникает этот горький оса¬
док от сознания невозможности вполне воплотить высокое.
От сознания неосуществимости его. Вот откуда черная мелан¬
холия князя Андрея. Горькие предчувствия Наташи. Безумства
старика Болконского...
Объяснить это логикой характеров? Попробуем. Возьмем один
из основных драматических узлов романа — разрыв князя Ан¬
дрея и Наташи. Кто в этом виноват? Анатоль? Смешно: Ана-
толь — плоть неуправляемая, он — лицо безответственное. Уж,
скорее, виноват старый князь с его капризами — это он выдумал
отсрочку брака. Выживающий из ума самодур? Да, на уровне
характеров — это объяснение вполне удовлетворительно. В филь¬
ме С. Бондарчука происшедшее объяснено именно на этом
уровне: на психологическом. Но у Толстого есть и иной уровень.
Вспомним, что причуды старика не бессмысленны. Князь Ан¬
дрей вырос без матери; ведь он, старик, не отдал его на руки
чужой женщине! Почему же Николушку надо отдать мачехе?
Ах, так легче... Но старый князь, вынесший из XVIII столетия
абсолютные нравственные категории, считает, что жить надо
не как легче, а как должно. Человеку должно выдержать уда¬
ры судьбы. Неизбежные удары.
Это отнюдь не катастрофическое сознание личности, готовя¬
щейся погибнуть в пустоте и хаосе, которое в наше время
228
охотно называют «трагическим». Герои «Войны и мира» вовсе
не одиноки, они не мыслят себя вне структуры целого. Их само¬
отвержение сродни, скорее, стоицизму, оно соответствует герои¬
ческому и эпическому пониманию мира.
Выдержать удар судьбы. А в момент великого историческо¬
го потрясения — слиться с потоком, в котором — судьба. Угадать
поток — не в этом ли гений Кутузова? Роевая война. Рой.
А в ситуации разлада? Тут — рок. Выдержать удар рока.
Человек не свободен, он должен знать это.
Финальная фраза «Войны и мира»:
«...отказаться от несуществующей свободы и признать не-
ощущаемую нами зависимость».
Теперь обратите внимание на одно слово в этой фразе.
«Неощущаемую». Так в яркий полдень не ощущаешь, не
замечаешь, что все подштриховано черными тенями. Ни в одной
толстовской экранизации я не ощутил этой «зазеркальной» те¬
ни. Кинематограф срезает для себя верх: мощный, цветущий,
полный жизни верх толстовского мира.
Это-то и Бондарчук передал: величественное, праздничное
цветение мира. Синий купол без единого облачка — очищающий
огонь — прочное величие. Это — воплощено. Всепоглощающая
красота естества. Воплотить «неощущаемое»? Сомневаюсь. Есть
все-таки, наверное, какой-то внутренний предел, который кине¬
матограф не может перейти по самой своей сути. Переходя,
он меняет природу объекта. Отброшенная на экран, «неощущае-
мая... зависимость» становится ощущаемой. Она поглощает все
прочие краски. Она либо не знает «Зазеркалья» вовсе, либо весь
мир подает, как «Зазеркалье»,— и тогда тень объемного мира ста¬
новится усугубленным кинематографическим «адом».
Да, возможна такая интерпретация Толстого. Я этот вариант
в своей тогдашней статье как раз предполагал как весьма ве¬
роятный. Бондарчук мог бы... сдвинуть Толстого к Достоев¬
скому.
Но не стал.
И это — его позиция как режиссера.
Любопытно, что во внутреннем посыле С. Бондарчук этого
не чувствовал. Он не хотел занимать по отношению к Толстому
вообще никакой «позиции», он считал, что роман не надо ни
переосмыслять, ни осовременивать, а брать как есть. Он твер¬
дил, что не намерен давать «интерпретацию» романа, что он
хочет одного: представить на экране «самого Толстого».
Не будем слишком доверяться этой самохарактеристике. «Без
интерпретации» получается... фильм «Казаки» 1928 или 1960 го¬
да. Сергей Бондарчук, художник сильной пластической интуи¬
ции, вовсе не обязан выражать свои ощущения еще и на языке
229
критических формул, как это делал, скажем, М. Швейцер.
По внутреннему самоощущению Бондарчук, действительно,
лишь выявлял Толстого. Но это не значит, что объективно
он его не интерпретировал. Еще как интерпретировал! Да, в
отличие от интерпретаций полемических эта — не столь броска.
Но она есть, и не так уж трудно найти индикатор, ее вы¬
являющий.
Этот индикатор — критика. По выходе фильма она сразу же
обозначила позицию С. Бондарчука, окаймив ее огнями споров.
Одна из самых ярких статей о фильме, написанная Игорем
Золотусским, выполнила эту роль с особенной ясностью. По об¬
щей своей идее статья эта (см.: «Новый мир», 1968, № 6) и
тогда казалась и теперь представляется мне малоконструктив¬
ной: критик упрекает С. Бондарчука в том, что фильм не пе¬
редал всего богатства романа. Из чего я с легким удивлением
обнаруживаю, что И. Золотусский, оказывается, думал, будто
фильм вообще может «все богатство» передать. Он оптимист,
конечно, но подождем пока углубляться в эти общие сферы.
В статье есть более интересные замечания, и в частности сле¬
дующий упрек фильму: Бондарчук, по мысли И. Золотусского,
лишил толстовский эпос «трагического смысла». Вот это уже
любопытно! Это то самое стремление пересадить автора «Войны
и мира» в наш славный век, которое и мерещилось мне три¬
надцать лет назад: «трагизм» Толстого.
Между прочим, Толстой и сам высказался по этой теме:
— Не понимаю, что такое «трагизм»... Бывало, Тургенев
приедет и тоже все: «траги-изм», «траги-изм»...
Так что с Толстым «трагизм» лучше не связывать. А вот
отсутствие трагизма в фильме действительно знаменательно.
Тут И. Золотусский уловил важный момент, в котором есть
смысл разобраться.
Давайте только оговорим понятия. Слово «трагизм» от часто¬
го употребления стерлось и гуляет теперь по миру в самых
неожиданных вариантах, вплоть до простого комплимента, обо¬
значающего сильную степень чьего-нибудь волнения. Я бы хо¬
тел ограничить эту безбрежность. Я, правда, тоже употребляю
слово «трагизм» не в узком и точном значении, какое европей¬
ская философия со времен Шеллинга вкладывает в него, назы¬
вая трагическим неразрешимый конфликт самораздваивающей-
ся личности, гибелью оплачивающей свою свободу. Вслед за
И. Золотусским я употребляю это слово в ином, обыденном, ши¬
роко бытующем теперь, но все же достаточно определенном
смысле, когда оно обозначает катастрофические события, уви¬
денные глазами отдельного, отпавшего, отколотого индивида.
Когда оно передает отчаяние одиночного существования, ввергну-
230
того в мир как в хаос. Когда оно испытывает и мир и индиви¬
да— этим состоянием.
Да, Сергей Бондарчук видит мир не так. Не трагично. Он
отрицает отчленение индивида. Он ищет в индивиде связь с
целым. Основная пластическая контроверза фильма: сверхоб¬
щий план, в котором отдельный человек неразличим, погружен
в грохот, втянут в поток (но не утоплен в бессмысленной «ка¬
ше», как хотел бы Золотусский),— а затем, по контрасту, сверх¬
крупный план. Лицо или вещь. Оглушительная тишина. И че¬
ловек, медленно ощупывающий взглядом детали мира. Нащу¬
пывающий опору, почву и связь.
Достаточно вспомнить «Войну и мир» Кинга Видора, где
индивиды, как прочные и непроницаемые биллиардные шары,
стукались и раскатывалиь, выписывая сюжетные узоры, чтобы
понять концепцию С. Бондарчука: он ищет в человеке ту разом-
кнутость облика, которая прирастит его к миру. Но не к абстракт¬
ному мирозданию, а к миру ближнему, конкретному. К другим
людям. К дому и земле. К родине, традиции и преданию.
Чтобы оценить эту позицию и понять роль картины С. Бон¬
дарчука в нашем духовном самопознании шестидесятых годов,
вовсе не обязательно скрупулезно сличать картину с книгой.
Да, Бондарчук выразил нас с помощью Толстого, опираясь на
Толстого, осеняя себя Толстым. Но выразил — нас! И если у
него нет трагизма, то не потому, что он не нашел его в ро¬
мане,— он его и не мог там найти, а вот навязать роману —
мог бы. Если бы имел в своем собственном составе. Если бы
верил, что этот трагизм — главное в нас. Но он искал иное.
Вспомним теперь, что целое десятилетие: с середины пяти¬
десятых до середины шестидесятых годов — наше киноискус¬
ство исследовало мир преимущественно через отдельную судь¬
бу. Никакого автоматического «трагизма» это, конечно, не дава¬
ло, хотя характернейшие ленты этапа, начиная с калатозовского
фильма «Летят журавли»,— и «Судьба человека» Сергея Бондар¬
чука, и «Иваново детство» А. Тарковского — действительно под¬
нимаются до трагического мироощущения. Стремлением испы¬
тать духовные силы индивида как такового отмечены все
яркие картины того времени. И именно этим был занят Швей¬
цер, экранизуя «Воскресение».
Во второй половине шестидесятых годов в нашем искусстве
ощущается как бы новый угол зрения на человека. Интерес
к «индивиду» все более дополняется интересом к «среде»,
формирующей индивида, к «миру», его выдвигающему, к «ат¬
мосфере», его питающей. К «корням» и «истокам». Кинематограф
иное ищет и в классике. Осваивая ближний, ощущаемый мир,
начинают заново вживаться в старые добрые интерьеры, описан-
231
ные Тургеневым, Чеховым, Островским. Словно заново увидели
дом и землю — в этом смысл всех программных экранизаций
того времени: от «Дворянского гнезда» А. Кончаловского до...
«Соляриса» А. Тарковского.
В этом-то контексте «Война и мир» Сергея Бондарчука и пред¬
стает как необходимейшее звено и принципиальная творческая
акция.
Так же, как и «Анна Каренина», сделанная следом.
«АННА КАРЕНИНА» А. ЗАРХИ.
ЧЕЛОВЕК — ИНТЕРЬЕР — РЕКВИЗИТ
Когда на «Мосфильме» принялись за «Анну Каренину», ис¬
торики кино подсчитали и доложили:
— Шестнадцатая!
Экранизаций «Войны и мира», напомню,— вчетверо меньше,
«Воскресения»—раза в полтора больше. По кинопритягатель¬
ности «Анна Каренина» точно посередине. В ней нет отпугиваю¬
щей безбрежности «Войны и мира», но нет и той мнимой по¬
датливости, с какой вычленяется из «Воскресения» киногенич-
ная история соблазненной и покинутой жертвы. Но в конце кон¬
цов киногеничная история вычленяется и здесь.
Роль Анны, обкатанная кинематографическими и театраль¬
ными опытами, доведена при этом до общепринятой ясности.
«Трагическая любовь». Анна — глубокая, светлая, положитель¬
ная натура, средоточие страсти, слишком свободной, естествен¬
ной и прекрасной, чтобы лицемерное общество могло с ней
примириться. Каренин, соответственно, тюремщик, враг, «золо¬
ченая клетка», скрипучая машина, робот, бюрократ с торчащими
ушами и трещащими пальцами — убийца любви. Вронский, ста¬
ло быть,— высокий партнер Анны по чувству. Тут, правда, воз¬
никает некоторая неясность с финалом, ибо он ее, так сказать,
предал в конце концов, но раз она его так любила, не мог
же он быть плох! Поэтому Вронский в инсценировках очерчен
неуверенно, бледновато; он не вполне ясен как фигура, но ра¬
ботает функционально. Он светит отраженным светом: сам по
себе неважно какой, никакой, но нужен как возлюбленный
Анны, как точка приложения ее инициативы, ее страсти.
Левин не нужен. Решительные профессионалы-инсцениров¬
щики обычно попросту выкидывают его.
Облонских оставляют. Для «подсветки»: легкомысленный
Стива подчеркивает в Анне глубину и серьезность чувства;
затюканная бытом Долли оттеняет в этом чувстве чистоту и
возвышенность.
232
Получается трагедия любви, вечная для всех времен. Как
писал, приступая к работе, Александр Зархи,— «трагическая
любовь может быть и при коммунизме: истоки этой трагич¬
ности извечны, как сама природа...».
Не будем обсуждать с Александром Зархи, какой станет
любовь при коммунизме; удержимся в русле разговора об интер¬
претации романа Толстого: в фильме Зархи я вижу, увы, не
«трагическую любовь, извечную, как сама природа», а обще¬
известный мотив «женской эмансипации».
Я вовсе не хочу этим сказать, что Александр Зархи выдумал
такую интерпретацию. Она ему досталась из рук многочислен¬
ных предшественников. Невозможно даже определить, кто яв¬
ляется ее автором. Пожалуй так: автором этой интерпретации
является... наш век. Век, положивший гигантский труд, чтобы
эмансипировать женщину, вырвать ее из плена предрассудков
и условностей. Понятно, что именно этот сюжет на протяжении
ста лет извлекался из толстовского романа миллионами чита¬
тельских глаз, подкреплялся десятками литературоведческих
трудов и полировался в умах школьными программами.
Так что пятнадцать режиссеров, обыгравших эту историю в
пятнадцати экранизациях романа, вряд ли сомневались в том,
что они хватают самую суть дела.
А может быть, и сомневались? Если перечитывали Толстого.
Но не «глазами кинематографистов», а просто как текст для
чтения. Ведь недаром сказано у Толстого: на этот раз весь
смысл всецело в том, каков текст, сцепление слов. И точно:
после тяжкой, вдохновенной пахоты «Войны и мира»—какая
это легкая, спорая, блистательная, даже артистичная проза:
ни слова не сдвинуть... По известной автохарактеристике: све¬
дено в круг... Про «Войну и мир» этого не скажешь: там
многое было не «сведено», там кое-что и сдвигали, и выпуска¬
ли в разных изданиях с согласия автора, и материал там «ви¬
ден», как первозданная глина в отвалах. Тут — другое. Не гли¬
на первооснов, не почва и фундамент, а само здание, да так
выведенное, что, по другой известной автохарактеристике, за¬
мок не виден; и уж тут Толстой в спорах с редакторами дейст¬
вительно за каждое слово стоял.
Что можно «передать в картинах», когда все — в словах,
когда главная, решающая образная антитеза романа: Левин —
Вронский — в сущности, не имеет пластического рисунка? Все
на этой оси держится, а герои не общаются! Более того, они
не видят, не воспринимают друг друга. Не знают и не хотят
знать. Две встречи: одна в начале, другая в конце; первая
выявила полную несовместимость, во второй Вронский, по сути,
уже мертвец; меж этими встречами — весь роман, и весь роман
233
между оппонентами нет контакта; более того, тут принципиаль¬
ный дисконтакт, и в этой несоединимости — огромный смысл.
Как это «воплотить», если самый мир Левина, мелкая вязь
повседневных дел и раздумий его, при «воплощении» теряет
суть, если тут все дело — в обертонах, дающихся именно лите¬
ратурным объемом слова, если в «скучных» разговорах Левина
каждое слово есть по сути ответ на очередное действ ие
Вронского, но ответ — не на уровне драматургии или характеров,
а на уровне... как сказали бы в старину философы, практичесКо
го разума...
Вронский безосновен. Левин есть опровержение его безоснов-
ности. Во всем прочем они вовсе не контрастируют. Во всем
прочем Вронский — отнюдь не дурной человек, напротив, по
природному материалу он очень хорош. Все конкрет¬
ные элементы личности тут на месте: честь, честность, способ¬
ность к любви. Вронский от природы — человек с добрым
сердцем.
Так что ж такое? Почему в «Войне и мире» предшественники
Вронского: все эти Курагины, Друбецкие, Берги — проходили
слабой тенью за твердыней мира Наташи и Пьера, а здесь тень
Вронского так опасно над этим миром нависла?
Он опасен именно тем, что в нем словно выдернут какой-то
главный стержень, и связь с целым потерялась. А по внешности,
по «элементам», по стереотипам поведения — совершенно подо¬
бен духовно прочным людям.
Признак порчи:
«Вронский никогда не знал семейной жизни».
Кажется, частность. Но надо вспомнить, какой универсаль¬
ный смысл имела для Толстого в «Анне Карениной» мысль
семейная, чтобы понять цену этой «частности». Потерялось
ощущение связи человека с миром — и все великолепные за¬
датки его вывернулись наизнанку. Он вывалился из того це¬
лого, что спасло нас в 1812 году.
Левин же — именно это целое, эта связь с миром и домом:
«Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек,
отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог
знает с кем была в связи... Нет уж, извини, но я считаю
аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошед¬
шем могут указать на три-четыре честные поколения семей...
как жили мой отец, дед... родовым и трудовым...»
Акцентируя антитезу Левин — Вронский, я отдаю себе отчет
в том, что она не исчерпывает бесконечного богатства романа
Толстого, как и излюбленная кинематографистами антитеза
Каренин — Анна. Разумеется, «за кадром» в моем прочтении
остается достаточно много материала, интересного и в социаль-
234
ном, и в психологическом, и во многих других отношениях.
Но если судьбе угодно было сделать так, что киноэкранизаторы
много раз пропускали роман через одно и то же «сито», то да
позволится мне ответить им.
Итак, первое: не Анна есть инициатор и источник драмы,
приведшей ее к гибели. Источник — Вронский. Именно в нем
поселилось что-то смертельно опасное — на взгляд Левина, на
взгляд Толстого.
То, что зарождается между Вронским и Анной,— вовсе не
«любовь в чистом виде», которая, как убежден А. Зархи, будет
и «при коммунизме». Отношения Анны и Вронского у Толсто¬
го— это то, во что превращается любовь, когда из души че¬
ловека изымается ощущение мира как целого. Случись с Кити
то же самое, что с Анной,— и она, Кити, пошла бы на эту
муку. Эта возможность реально взвешивается в начале романа,
отсюда словно два зеркальных пути расходятся: по одному —
Анна, по другому — Кити... могло быть наоборот, и Кити не ук¬
лонилась бы, она бы также принесла себя в жертву, чтобы спасти
любимого человека. Ибо Вронский — не роковой соблазнитель.
Он — нормальный человек, но... словно поражен духовным не¬
дугом, и сам страдает от своего несчастья, и боль свою хочет
на другие плечи переложить:
«Я не оскорбить хочу, — каждый раз как будто говорил его
взгляд,— но спасти себя хочу и не знаю как...»
Спасая Вронского, Анна делит с ним его участь: берет на
себя его недуг. И поэтому она обречена. И она это предчувст¬
вует, и Толстой о ней это знает. И в мире Левина сразу чувст¬
вуют это:
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней,— ска¬
зала себе Кити».
По иронии судьбы, из всех словесных характеристик Анны
именно эта привлекла внимание Александра Зархи и Татьяны
Самойловой, и они в предсъемочных интервью влюбленно ком¬
ментировали «бесовскую прелесть» героини. Из их коммента¬
риев вставало в облике Анны нечто темпераментное, почти
цыганское и вполне киногеничное. Упускался только один, бес¬
плотный и чисто литературный план этого словесного портрета,
ясный из контекста тогдашнего чтения. В 1873—1874 го¬
дах, как раз когда Толстой писал первые главы и готовил их
для «Русского вестника»,— вся Россия читала и обсуждала
только что напечатанный в том же «Русском вестнике»
роман Достоевского. Он назывался «Бесы». «Бесовство» тогда
было — термин.
Кинематограф это упускает, забывает. Это для кино невиди¬
мая — инфракрасная часть спектра. Экран видит другое: озорной
235
блеск в глазах «освобождающейся женщины». Как в Каренине
видит прежде всего помеху на пути этой женщины. Торчащие
уши.
Кстати. Торчащие уши, хруст пальцев, «министерская ма¬
шина» — это все Каренин глазами Анны. Влюбленная в него
Лидия Ивановна замечает другое: мягкие руки, милые про¬
тяжные интонации, усталые добрые глаза... А Толстой? Как
Толстой относится к этому петербуржцу? Как вообще к «петер¬
бургскому началу» русской жизни — с холодным уважением.
С иронией, но без всякого зла. Каренин хоть и часть этой
петербургской «машины», но тут для Толстого все-таки дело по¬
правимое: Каренин — внутри человеческого миростроения. Как
поправимо и со Стивой, который и грешен, и ненадежен, и на¬
рушает моральный закон, но он нарушает закон. Вронский же
закона не знает. Он знает правила поведения своего круга,
но — не моральный закон. И с Вронским — непоправимое дело.
Он для Толстого за пределами миростроения, он в хаосе. Вся
разветвленная система романа строится как ответ этому хаосу,
и даже самые дальние, «необязательные», эпизодические фигуры
несут свою нагрузку, поддерживая тот же свод. Ну, скажем,
история про то, как Кознышев полюбил Вареньку, но в решаю¬
щий момент не нашел в себе смелости объясниться, и разле¬
телось все, и погасло чувство. Любой грамбтный кинематогра¬
фист, вгоняя роман в картину, выбросит этот эпизод как изли¬
шество. И глава с приездом Васеньки Весловского, который взду¬
мал поухаживать за Кити, а Левин его выгнал вон, — это тоже
роскошь и «излишество». Какую связь имеют эти «подробности
российской действительности» с историей Анны и Вронского?
Ощутимо — никакой. Связь, как сказал бы Толстой,— н е ощу¬
щаемая: за всякое чувство надо бороться, над всяким чувст¬
вом надо работать, вкладывать в него силы духовные — ничто
не делается само.
«Само» делается — у Анны с Вронским. Не они владеют
страстью — страсть ими. Причем истинная, настоящая, всепо¬
глощающая страсть! Вронский-то — предельно честен в этой люб¬
ви, он ради нее всем жертвует, он — от карьеры отказывается.
Прилипшая ко всем экранизациям идея, будто Вронский ока¬
зался «не на высоте» Анны, не имеет с романом ничего об¬
щего. Чепуха, Вронский по-своему безупречен! И он действитель¬
но убит смертью Анны. Филолог, имеющий мало-мальски на¬
метанный глаз, легко находит в толстовском тексте опреде¬
ляющую, сквозную подробность его живого портрета: здоро¬
вые, крепкие зубы. Именно этот знак знаменательно пере¬
вернут в эпилоге, когда Вронский отправляется умирать в Сер¬
бию: у него зубы болят.
236
Еще одна «причина трагедии», въевшаяся в подсознание эк-
ранизаторов: Каренин не дал развода. Да что ж переменилось
бы, кабы и дал! Сцена, когда Стива пытается в последний раз
выпросить этот самый развод и получает отказ, написана у Тол¬
стого в странном, издевательском, почти щедринском тоне. Сна¬
чала кажется, что Толстой смеется над Стивой. Над Карениным.
Над Лидией Ивановной. Потом понимаешь, что он горько шу¬
тит над всей этой ситуацией. В том числе — над иллюзиями
Анны.
Нет, ни развод с Карениным, ни брак с Вронским ничего не
переменили бы в ее судьбе. Ощущение от текста для меня бес¬
спорное: смертелен, самоубийствен сам принцип, на котором
Анна соединилась с Вронским. В деталях-то это соединение
благополучно, и у Анны нет ровно никаких оснований подозре¬
вать Вронского в неверности. «Княжна Сорокина» тут, конечно,
совершенная галллюцинация. Но само появление у Анны галлю¬
цинаций такого рода — закономерность и роковая. Анне доста¬
точно того, что Вронский волен, свободен изменить ей, если за¬
хочет. Анне смертельно холодно от сознания такой их свободы.
Она знает, что ничто не защитит ее в случае проигрыша. И она
заранее воюет, защищая себя и опираясь лишь на то, что остав¬
лено ей «правилами игры»: на свои индивидуальные силы, на
физическую природу свою.
Эта попытка человека справиться с хаотическим миром,
опираясь лишь на свои индивидуальные силы, есть, конечно,
чисто шекспировский сюжет. Так не потому ли именно к
Шекспиру Толстой был столь ревностно непримирим, что тот
приемлет драму отколовшегося индивида и подает ее патети¬
чески, Толстой же этот путь вообще отвергает как духовное
безумие?
Метания Анны перед самоубийством есть, в сущности, пси¬
хологический вариант этого духовного недуга. Но, говоря
шекспировскими словами, в этом безумии есть своя система.
Анна приписывает Вронскому поступки, которых тот не совер¬
шает, но право на эти поступки у него есть, и в этом весь
ее ужас. Ужас «вывернутости»: партнер честно платит по сче¬
там, а Анна и получить-то не в состоянии. Оба соблюдают пра¬
вила игры — гибельна сама игра. Игра, по которой двое соста¬
вили счастье для себя, игнорировав счастье окружающих, целый
мир презрев. Сходя с ума от безвыходности этой «дьявольской»
логики, Анна остатками сознания знает о себе, что сходит с
ума, что в ней сидит бес, который из-под всего увел почву,
все вывернул, ее самое из личности превратил в особь, любовь
превратил в тяжбу самолюбий, дом — в поле ненависти. Пора¬
зительно, что при последнем свидании с Левиным Анна интуи-
237
тивно пытается влюбить его в себя; Кити приходит от этого
в ярость, и недаром: она-то понимает, что именно Анна
хочет переложить на его плечи.
В экранизациях — это женщина прекрасная в любви, свобод¬
ная натура, которой ханжи помешали и которой партнер ока¬
зался недостоин.
В романе — это одержимая. Это прекрасная когда-то натура,
внутри которой «бес пустоты» выел все, исказил все, подменил.
«Анна Каренина» — прямой отклик Толстого на «Бесы».
Только здание здесь выстроено не на основе напряженного
и самосозидающего философствования, где для Достоевского
больше «бездн», чем опор, а на почве реального психологиче¬
ского действия, где и находит Толстой опору; короче говоря,
поскольку перед нами все-таки Толстой, а не Достоевский,—
на те же вопросы здесь даны иные ответы. И зло, которое в
художественной системе Достоевского предстает как чистая
профанация духа,— у Толстого окрашивается совсем в иные то¬
на. Ибо то, что для Толстого-моралиста является безоговорочно
злом, для Толстого-художника напоено такой мощью человече¬
ского естества, что сам автор не считает себя вправе осудить
так же безоговорочно героев и сразу же, с эпиграфа, отдает
последний суд богу. Не с этим ли равновесием «прав» связано
и пронизывающее роман ощущение равновесия сцепившихся здесь
сил: ощущение равномерного замкнутого круга, ощуще¬
ние баланса и недвижности, словно ты в заколдованном збмке,
а в сводах замка — замок, тот самый, о котором Толстой писал,
что все им держится, а где он, незаметно?
После такого указания, понятно, только и делаешь, что
ищешь замбк. Рискну поделиться находкой — это важно для
дальнейшего.
Если перед нами здание, то совершенно симметричное: мир
Анны и мир Левина. Эти части в книге, кстати, совершенно
равны по объему (разница — двадцать страниц, три процента
текста). На стыке — дом Облонских: соединение и точка контак¬
та двух противостоящих миров. Тут и надо искать.
Замок — сцена обеда у Облонских. Когда Долли упрашивает
Каренина простить Анну, а Левин объясняется с Кити. Это —
середина романа, центр его, полное завершение линий и раз¬
решение конфликтов. Завершается путь Левина и Кити. Завер¬
шается и драма в доме Карениных: в следующей главе, похо¬
жей на эпилог, прощенная Анна, умирая, просит Вронского и
Каренина примириться. Уничтоженный великодушием Каренина,
Вронский кончает с собой. Сюжет завершен.
Движение фигур, начинающееся от этой «мертвой точки»,
воспринимается как бы «от нуля», как совершенно новый ви-
238
ток, как второе кольцо восьмерки. Композиционно роман дейст¬
вительно напоминает восьмерку: в центре — скрещение линий;
в ту и эту сторону уходят ветви и возвращаются, пока
опять не встретились,— далеки, и никак прямо не сообщаются,
только закон изгиба один, и идут противоположно, отвечая
друг другу. Вот после всех треволнений начинает счастливую
жизнь Левин; вот после «разрешения треугольника» начинает
счастливую жизнь Вронский, и Анна едет с ним за границу,
и мечты, кажется, осуществились...
Все бытие Анны и Вронского — по внешней лепке и пласти¬
ке, по «элементам» — поразительно похоже на подлинную жизнь,
я бы сказал, зеркально похоже, но это похожесть зеркала, она
мертвенна; живой стержень вынут из этого движения, и люди,
в сущности, обречены и страдают оттого, что по элементам-то
жизнь их безупречна и нормальна, а в основе вывернута и обес¬
кровлена; и Толстой это знает о них, и мы, читатели, чувствуем.
Чувствуем — хотя прямо ничего об этом вроде бы не гово¬
рится. Только ощущенйе неуюта охватывает Долли в имении
Вронского, где Анна стала хозяйкой, хотя «по элементам» и здесь
все прекрасно, и идет бурная деятельность (легко себе предста¬
вить, какими горячими и вкусными красками насыщается этот
эпизод при экранизации). Ощущение мнимости счастья за преде¬
лами нравственного закона создается у Толстого отнюдь не изо¬
бразительными красками: если оставаться в пределах изобрази¬
тельного ряда, то крушение счастья Анны может и вцрямь пока¬
заться досадной бедой вследствие слабости или ненадежности
Вронского, между тем как по Толстому-то Вронский вполне на¬
дежен, и несчастье происходит от более глубоких причин.
И опять-таки, ощущение закономерности этого несчастья пере¬
дается не на уровне пластики и изобразительности, а через
тончайший, «далекий», но гениально точный контрапункт край¬
них и несообщающихся линий романа — через «неощущаемый»
диалог Вронского и Левина.
Левин-то вполне и всецело счастлив в своей реальной жиз¬
ни... а мучается! Отчего же? Не от того ли сознания, что не¬
счастье Анны и Вронского все-таки существует и надо найти
этому глубинные объяснения? Мучительное беспокойство счаст¬
ливого Левина необъяснимо в пределах того, что составляет
«видимый круг» его жизни, его тревога объяснима лишь как
ответ несчастью Анны, которое ведь тоже малообъяснимо на
элементарном уровне и обрушивается на нее так неожиданно.
На уровне изобразимого романического действия объяснение
детски просто: любил —* разлюбил. Левин ищет совсем на ином
уровне. И глядя, как вокруг него счастливые дети, играя, под¬
жаривают на свечке малину и пускают фонтаны из молока,—
239
думает Левин, в сущности, все о том же: о том, куда чело¬
века заводит неуправляемое естество, куда оно ведет его «само»
и о том, какие мы еще дети в сфере духа...
Духовное прозрение Левина есть ответ Толстого тому бесов-
ству, что ужаснуло Достоевского.
«Анна Каренина» (1968 год, «Мосфильм»). Режиссер А. Зархи. В ролях: Ан¬
на _ т. Самойлова, Вронский — В. Лановой. Чтобы оценить степень ориги¬
нальности любовной сцены из этого фильма, читатель может открыть стр. 205
и сравнить ее с аналогичным кадром из «Воскресения» М. Швейцера.
Из великого и тревожнейшего раздумья выходит Толстой с
верой в непобедимую прочность заложенного в человеке духов¬
ного порядка и здоровья.
Но это ли несокрушимое здоровье задело Достоевского, и он
дал волю раздражению, придравшись в «Анне Карениной» к
рассуждениям о восточном вопросе? Так интересно, что сказал
бы Достоевский, если бы увидел, какой «симфонией любви»
обернулась драма Анны Карениной в пятнадцати экранизациях?
В шестнадцати.
Говорю это с полным сознанием того, что А. Зархи сделал
свою картину не хуже, а — по некоторым кинематографическим
параметрам — лучше своих предшественников. Лучше, ярче,
богаче. Помню собственное ощущение 1968 года, когда фильм
впервые вышел на экраны: зрители гудят, дело важное, пропус¬
тить нельзя.
Пошел смотреть. Любимые актрисы нравятся: Самойлова,
Саввина. Чем — непонятно. А вообще «похоже» на роман, герои
240
узнаются с полувзгляда. И в этом узнавании — какая-то апри¬
орная скука. Куда интереснее другое: нависшая над всем этим
роскошная красота натуры и фактуры. Это уж явно не толстов¬
ское, но с Толстым фильм как-то и неохота соотносить: загодя
не соотносится...
И еще осталось от того первого просмотра смутное воспоми¬
нание, что я пришел на сеанс с готовым предубеждением против
авторов.
Теперь, просматривая их предпостановочные интервью, я по¬
нял, чем было навеяно мое тогдашнее предубеждение: впереди
241
картины бежала, летела, кричала о, себе та самая обкатанная
концепция.
Вот выдержки из интервью.
Александр Зархи:
— Мы решили рассказать о любви страстной, всепоглощаю¬
щей и достойной, которая в мире лжи, зла и лицемерия не
может быть счастливой.
«Анна Каренина» А. Зархи. В ролях: Каренин — Я. Гриценко,
Анна — Т. Самойлова.
Интервьюеры задали следующий вопрос: почему режиссер,
сделавший в свое время знаменитые ленты о людях революции
и всегда работавший над фильмами о наших современниках,
решил обратиться к «миру лжи, зла и лицемерия», который
давно исчез? Сопостановщик «Депутата Балтики» и «Члена пра¬
вительства» ответил: этот мир не исчез! На Западе моло¬
дежь бравирует отсутствием подлинных чувств. А у нас все
еще не умеют изображать любовь ярко и красиво. Проблема
актуальна. Наше искусство обязано выступить по этому вопросу.
Неистовый интерес аудитории к тому, что на «Мосфильме» ста¬
вят «Анну Каренину», говорит о жажде зрителей увидеть на
экране большую любовь...
Задумав большую любовь, режиссер действовал соответствен¬
но в этом направлении.
На роль Вронского он искал героя-любовника. Сначала вы¬
брал Олега Стриженова. Потом передумал и остановился на Ва¬
силии Лановом.
242
В. Лановой тоже дал интервью. Сыграть Вронского — его
давнишняя мечта, Вронский — это прямой, смелый, правдивый
и мужественный человек, который хочет, но не может вырваться
из условностей своего класса.
Состав подбирался первоклассный: Долли — Ия Саввина,
Стива — Юрий Яковлев, Анна... Роль Анны с самого начала
безоговорочно предназначена Татьяне Самойловой.
Из интервью Т. Самойловой: Анна — это раскрепощенная
женщина, протестующая против чопорного ханжества и свобод¬
ная в проявлениях своего честного, праведного чувства.
243
На роль убийцы чувства приглашен Иннокентий Смоктунов¬
ский.
Честно сказать, я плохо представляю себе, как бы это полу¬
чилось у актера, который за всю свою артистическую жизнь не
обвинил ни одного сыгранного им человека.
И. Смоктуновский интервью не давал. Ни когда пробовался
на роль Каренина, ни когда начал сниматься, ни когда отказал¬
ся от роли, как сообщили газеты, по болезни.
Интервью у И. Смоктуновского (письменное) я взял десять
лет спустя, готовя эту книгу. Вот что он мне ответил:
«Увидев отснятый материал, я понял, что Толстой в нем об¬
разцово-показательно отсутствует. Убитый и терзаемый тем,
что увидел, я произнес перед съемочной группой рваную речь,
душевной болью скорее, чем рассудком объясняя, почему я не
увидел того, что должно быть сутью фильма. Я говорил долго,
прямо и, очевидно, столь горячо самозабвенно, что это послу¬
жило обострению болезни моих глаз, чему в конечном счете —
уже потом — я был рад.
Я видел ничтожно малый отрывок игры Хмелева на пленке.
Там государственный муж, и там масштаб личности. Мудрость,
доброта, высота духа — все это должно быть в этом человеке.
Каренин мудрец, тонко и глубоко думающий и чувствующий
человек; на таких людях держалась государственная Россия.
Он простил Анну, простил совершенно, преодолев ревность свою.
Он видел гниль России, ее распад, у него ноги отнялись
от сознания этого,— и это, как мне кажется, было у Хмелева.
Он понимал, что такое семейные устои, понимал связь этих
скреп с государственной прочностью, укладом и культурой.
Где эта культура? Она исчезла из материалов фильма. Где пря¬
мые спины, по которым русских офицеров узнавали в Париже?
Где дворянство, гордое сознанием причастности к этой своей
культуре? Где наша русская стать, достоинство, наша суть и
характер? Я не мог участвовать в фильме, где все это брошено
и забыто. Анна представлена мещаночкой. Любовь ее — похоть,
не больше. Стива, прелестнейший, милый, чудный малый, в
фильме унижен до деталей сомнительной нравственной высоты:
что-то такое он делает за стогом сена... Царь, нагримированный
манекен, постукивающий по часам во время скачек—«крайне
необходимая» деталь для монарха одной из великих стран! Царя
изображать дураком? — можно, конечно, но тогда чего же стоят
все остальные?? Нет культуры — все низко и мелко — и это
чтобы не сказать более остро и точно. Это тот самый случай,
не столь уж редкий, когда отсутствие режиссерской концепции
становится концептуальным, когда серость и примитив становят¬
ся силой, с которой не очень-то совладаешь — не справишься.
244
Я понял, что должны быть предприняты титанические усилия,
чтобы хоть как-то поколебать этот фильм. Болезнь моих глаз
все поставила на свои места и уберегла меня от стыда и край¬
ностей»1.
...Смоктуновского срочно заменил Николай Гриценко. Он жа¬
ловался журналистам, что времени на репетиции не остается,
и был своей игрой недоволен. Но мобилизовался как профессио¬
нал и сыграл, что требовалось.
Картина имела зрительский успех. Учительница А. Кошелева
в газете «Советская культура» объяснила это так: фильм ра¬
ботает против цинизма. Думаю, подобное толкование более со¬
ответствовало душевному состоянию людей 1968 года, чем вы¬
кладки кинокритиков и литературоведов, мучительно сопостав¬
лявших Зархи с Толстым, и даже чем упреки И. Смоктуновского,
искренне верившего, что Толстой мог бы в фильме присутство¬
вать.
Отправляясь заново смотреть картину десять лет спустя, я
и решил о Толстом забыть. Я хотел понять, что именно сказал
этот фильм людям конца шестидесятых годов — о них самих.
После просмотра
Раньше меня убивало подчеркнутое соответствие героев филь¬
ма той среде, которую они «представляют». Странным образом,
теперь это показалось мне интересным. Но в неожиданном плане.
Человеческие фигуры в фильме не оторвешь от фона, от ин¬
терьера, от декора. Каренин, «человек-машина» — вполне естест¬
венно смотрится на скрипучем паркете в анфиладах комнат. Ле¬
вин— безликий, стертый, незаметный — почти «растворен» в
деревенских пейзажах и не мешает воспринимать их. Вронский
блестяще выглядит в военной форме и хорошо смотрится как
продолжение мундира. Апофеоз этого стиля — проход по парку
с двумя борзыми княгини Тверской в исполнении балерины
Майи Плисецкой...
Из этой роскошной сферы выпадает лишь усталая Долли:
Ия Саввина наградила свою героиню безграничным материнским
терпением, с каковым она и выносит эту роскошь.
Кое-где выпадает и Анна. В ней есть какая-то странность,
алогичность. Вдруг улыбнется невпопад... Например, уходя после
самовольного свидания с сыном, в дверях столкнулась с раз¬
гневанным Карениным. Или вдруг — с тем же Карениным обе¬
дая, в огромной зале,— мелко-мелко застучит на него кулачками
по столу; пулеметно-нервный звук этот странен, ирреален в
1 Из письма И. М Смоктуновского 1 октября 1977 г.
245
уравновешенных интерьерах — словно где-то стреляют и люстры
дребезжат... Она не отсюда, конечно, эта дробь. Она из дру¬
гой реальности; она из войны, из эпохи сиротства, из ада
потерянности. Из картины «Летят журавли», с которой началась
за десять лет до «Анны» слава Татьяны Самойловой... Но вот
вибрация гаснет, успокаивается, и вплывает Анна обратно в
свои бархаты. И уж тут — чем меньше игры, тем легче; чем
статичнее портретные планы, тем верней вписываются они в сти¬
листику фильма; сплошь и рядом здесь не актерское решение,
а модель. Особенно в той эротической сцене с Вронским, где
нам предложен своеобразный натюрморт тел в багровом и ро¬
зовом освещении. Апофеоз любви. А ведь Толстой — не стал
этого описывать! Толстой в этом месте две строки точек поста¬
вил. Его немедленно, с должной осторожностью, спросили: там,
где вы, Лев Николаевич, две линейки точек поставили,— там,
как можно догадаться, должны быть две главы? Жалко, что
их нет...
Толстой ответил:
— Жалко, что пропущена вся пакость? Если бы и сто раз
сначала писать, я бы в этом месте ничего не изменил!
...Опять меня к Толстому сносит. Не буду. Тем более что
вовсе ведь не на Толстого ориентируется здесь Александр Зар¬
хи— он ориентируется на Клода Лелюша, который за два года
до этого весь фильм «Мужчина и женщина» решил как гимн
любви...
Задуманный же Александром Зархи гимн чувству обернулся
безвкусицей, и откровенней всего — в «смелой», ключевой сцене.
Задумывают одно, получается другое... Спору нет, декларирован¬
ный в картине «гимн любви» тоже как-то воздействует на зри¬
теля: тут помогает и обаяние актеров, и ассоциации с текстом
великой книги — рецензенты имели основания сказать, что
фильм работает против цинизма. Но мне было интересно другое.
Самый запоминающийся критический отклик на картину вов¬
се и не коснулся «лирических» сфер: критик Алиса Акимова
заметила, что в доме Облонских не может быть столько комнат,
сколько показано в фильме, и Александр Зархи, вооружившись
арифметикой, стал доказывать А. Акимовой, что именно столь¬
ко комнат у Стивы имелось. Вот это уже был разговор точно
на тему: об истинном смысле картины.
Истинный смысл ленты заключался во взаимодействии ин¬
дивида с вещественной «ближней культурой». В сущности, это
была не такая уж абсурдная задача — недаром же А. Конча¬
ловский, всегда остро чувствующий спрос момента, год спустя
в «Дворянском гнезде» довел изображение старинного быта до
совершенного блеска. Эстетика эта была достаточно важна
246
для нашего киноискусства второй половины шестидесятых го¬
дов, когда индивида хотели исследовать в органичной для него
среде. Но если С. Бондарчук выразил «восходящую ветвь» про¬
цесса и удержал в «Войне и мире» масштабность чувств, то
А. Зархи выразил ту стадию, когда чувства стали дробиться,
«овеществляться», когда дом предстал комнатами, реалии —
реквизитом. Фильм А. Зархи по-своему решал именно эту .за¬
дачу.
Немного грустно, конечно, что это делалось с помощью Льва
Толстого. Но могло ли быть иначе? «Анну Каренину» просто не
могли не поставить; я допускаю, что другой режиссер сделал
бы свою ленту без таких промахов (с другими промахами),
но я уверен, что сделано было бы что-нибудь в том же духе.
Ну вот, это было сделано.
Мне остается рассказать о последнем толстовском фильме
шестидесятых годов. О том, как Владимир Венгеров через сем¬
надцать лет после первой попытки повторил на экране «Живой
труп».
«ЖИВОЙ ТРУП» В. ВЕНГЕРОВА.
ГАМЛЕТИЗМ ПО-ТОЛСТОВСКИ
Все сделалось тихо и скоро. Подробных интервью режиссер
не давал, о замысле не распространялся, говорил в основном об
актерах, и прежде всего об Алексее Баталове, в расчете на ко¬
торого писался сценарий. Фильм вышел и сошел, провожаемый
кислыми рецензиями. О нем не спорили: было ясно, что со¬
бытия нет, и даже критик М. Кваснецкая, написавшая с Бата¬
ловым книгу «Диалоги между съемками», признала его пораже¬
ние, хотя на роль Протасова, по ее словам, артист делал боль¬
шую ставку.
Дело тут было явно не в артистах, ибо актерский-то состав
подобрался хороший. Светлана Тома, Олег Басилашвили, Алла
Демидова... О Баталове и Смоктуновском говорить не приходит¬
ся: то были главные светила на кинонебе шестидесятых годов.
И — общий неуспех. Мгновенный слух: можно не смотреть.
Растянуто. Театр, догруженный кинематографом, лошади на
скачках, лошади на плоту, лебеди в пруду, голуби на крыше,
и еще масса дополнительных к диалогам планов, да плюс еще
киноужасы: страшные сны с мальчиками, медленно летящими
в пропасть...
Вообще говоря, Венгерова можно было и понять: в 1952 году
он был по рукам и ногам связан рамками фильма-спектакля —
в 1969 году он хотел взять реванш по части чистого кино.
Он кое-что даже дописал за Толстого — только чтобы развить
247
кинематографические мизансцены. А вот сократить диалоги,
рассчитанные на театр, — не хватило духу. Может быть, актеры
повлияли? Баталов (в ту пору, во всяком случае) считал себя
актером скорее театральным, чем кинематографическим, и беспо¬
коился, чтобы фильм не помешал ему потом сыграть Протасова
на сцене. Репетировали по-театральному: не кадры, а сцены,
акты. Внутри задуманного Венгеровым кинематографического
«Живой труп» (1969 г., «Ленфильм»). Режиссер В. Венгеров. В ролях: Каре¬
нин — О. Басилашвили, Лиза — А. Демидова, Маша — С. Тома, Протасов —
А. Баталов.
зрелища жирными прокладками разрасталась ткань театрально¬
го представления. И музыкального: цыганский-то хор Ром-Ле-
бедева с участием Баглаенко тоже требовал своего: рука не
поднималась резать это. Вот и расплылся фильм в две серии,
осел под собственной тяжестью — это была явно нелетающая
конструкция.
Собравшись смотреть картину теперь, я решил не отвлекать¬
ся на частные ее недостатки. Я хотел мысленно вычленить в
картине собственно кино, ибо искал причины происшедшего
вовсе не в том, что «недотянули», а в том, куда тянули. Шел
248
на просмотр, заранее закрыв глаза на театральную половину
ленты,— шел искать киноконцепцию: верил, что она есть, и го¬
тов был хоть в воображении своем додумать ее до полной
завершенности.
После просмотра
Режиссерская концепция есть. Видна без всяких додумыва¬
ний. Хлопают от ветра двери. Шатаются тени по стенам. Нерв¬
ный ритм: бегут лошади, стучит поезд, спешат люди (пока мол¬
чат: когда начинают беседовать, то воцаряется театральная валь¬
яжность, но это, как мы условились, издержки). Кинофактура
последовательна. Пустота темных улиц. По контрасту — суета
коридоров, падающие стулья, толчея, сумятица и бессмыслица.
И опять по контрасту — гулкий провал лестницы, и в этой чер¬
ноте— дикий вопль Маши, потерявшей Протасова...
Кстати, если говорить об актерских работах отдельно, то луч¬
ше других смотрятся здесь Светлана Тома в роли Маши и
Алла Демидова в роли Лизы. Не потому ли, что утонченно¬
тревожная пластика их лиц, печать аскетизма на них — как
раз согласуются с нервической атмосферой кинодействия, в от-
249
личие от театрального благообразия Олега Басилашвили в роли
Виктора Каренина? Да и баталовский Федя «не в том ключе»:
в нем больше милого чудачества и извинительной слабости,
чем правдолюбия и демонизма, заданного атмосферой фильма.
А атмосфера тут действительно демоническая. В духе того об¬
шарпанного Петербурга черных лестниц, где опять-таки лучше
бы действовать героям не Толстого, а Достоевского.
Баталов, собственно, это чувствовал. Определяя суть своей
роли, он сказал в одном из интервью, что в «Живом трупе»
главное — несовместимость героя с окружающим миром и что
Протасов — вариация на веч¬
ную тему: Гамлет — Дон-Ки¬
хот — Мышкин. Сформулиро¬
вано удивительно точно по
отношению к фильму и уди¬
вительно неточно по отноше¬
нию к Толстому. Начать с то¬
го, что концепция противо¬
стоящего миру одиночки ре¬
шительно расходится с дра¬
матургической фактурой
пьесы, в которой хорошие и
добрые люди как раз пыта¬
ются жить в мире и не при¬
чинить друг другу боли, при¬
чем из этого круга благород¬
ства не выпадает никто, а
больно людям от общей раз¬
лаженности бытия. И во¬
обще: «несовместимость» ге¬
роя с окружающим миром
есть коллизия настолько не
толстовская в принципе,
что пришлось тут Баталову
подпереть Толстого еще тре¬
мя классиками, к «несовмес¬
тимости» более причастны¬
ми, начиная с Шекспира —
а ведь с Шекспиром-то Тол¬
стой свое несогласие на весь
свет объявил!
«Живой труп». Режиссер В. Венге¬
ров. В ролях: Гений — И. Смокту¬
новский, Протасов — А. Баталов.
250
Оставим Толстого: неуспех фильма «Живой труп» был пре¬
допределен вовсе не тем, что его авторы не почувствовали
Толстого. Толстой бы им и не помог, ибо они оказались слабы
в более важном пункте: они не почувствовали своего времени.
В конце концов, и М. Швейцер, делая «Воскресение», навязал
Толстому концепцию индивидуальной ответственности. Эта кон¬
цепция была актуальна для нашего кино начала шестидесятых
годов, и фильм Швейцера вызвал резонанс!
Параллель: М. Швейцер — В. Венгеров не лишена оснований
уже потому, что это своеобразные «близнецы» в кино. Оба, как
251
мы помним, в начале пятидесятых годов сделали по Толстому
малоудачные фильмы-спектакли; оба в 1954 году добились пер¬
вого успеха, объединившись в соавторстве на «Кортике»; и оба
в шестидесятые годы порознь вернулись к Толстому, чтобы «до¬
говорить» о нем... Швейцер договорил в 1960 году, а вот Вен¬
геров ждал еще почти целое десятилетие. Делая из «Живого
трупа» вариацию на тему Гамлета или князя Мышкина, Вен¬
геров в 1969 году, видимо опасался, что искусственность такой
Кадр из фильма «Живой труп» В. Венгерова.
попытки станет явной, боялся чрезмерности, форсажа — об
этом свидетельствует записанная репортером реплика В. Вен¬
герова на съемках: «Главное — не впасть бы нам в истерику.
Это будет ужасно!» Не от этой ли боязни приглушал режиссер
краски, гасил ритмы? Не помогло: экзальтация все-таки вышла
на поверхность — демон истерии материализовался.
Материализовался — злой Гений, толкающий бедного Федю
Протасова на все его отчаянные шаги. Едва заметный персонаж
толстовской пьесы, потребный для вполне служебной роли:
вовремя подать Протасову револьвер,— в фильме разрастается
252
до жуткой символической фигуры. Его появление сопровождает¬
ся киноужасами (тут-то и прыгают в пропасть мальчики). Демон
появляется в черном. То ли призрак, то ли манекен, то ли тень
отца Гамлета, то ли Статуя Командора, — и уж, во всяком
случае, нечто инфернальное. Стало быть, Федя действует не
сам: его толкает этот демон. Бритый череп, оттопыренные уши,
зловещая пустота в глазах. Сказал бы: киноцитата, незнакомец
из герасимовского «Маскарада»,— если бы Иннокентий Смокту¬
новский не наградил своего незнакомца уникально выразитель¬
ной пластикой: в одеревенелых движениях какая-то магнети¬
ческая притягательность и вместе с тем фатоватость. Силой своей
игры Смоктуновский все преувеличил: и демонизм режиссерско¬
го замысла и ложность его. Странная получилась смесь: то ли
фатум, то ли фат — разом и экзальтация, и насмешка над нею...
А любопытная вещь — судьба актера! За год до того Смок¬
туновский отказался от участия в фильме Зархи, почувствовал:
«не то». Теперь — не почувствовал?
Странное ощущение охватило меня, когда Баталов и Смок¬
туновский оказались вдвоем в кадре, один в рваных обносках
доморощенного Фауста, другой в черном пальто провинциаль¬
ного Мефистофеля. Я подумал о том, что вот эти же артисты
в начале шестидесятых годов в знаменитом фильме М. Ромма
«9 дней одного года» так блистательно открыли «праздник ин¬
теллектуализма» в нашем кино: в их дуэте и тогда было
что-то фаустовское, что-то мефистофельское: искания индиви¬
дуального духа, блеск и ироничность отделившегося от быта
разума, бросающего вызов «миру дураков»... Но теперь, восемь
лет спустя, эти же актеры отыгрывают роли в полуфарсе: один
другому сует револьвер и велит наказать целый мир; тому не
хочется, а—«надо»...
Да, в 1962 году такой сюжет мог бы еще наполниться живой
кровью искусства; тогда наше кино именно и исследовало мир
через отдельного индивида; и Смоктуновский знал это,
играя в 1962 году Гамлета в фильме Козинцева.
На рубеже семидесятых как бы изменились акценты. Теперь
исследовали не индивида в противовес миру, а сам мир, в ко¬
тором индивид себя обретает. И когда теперь Венгеровский Гам¬
лет— Протасов принялся переживать свою «несовместимость с
окружающими», — он и сыграл не то, что хотел, и зрители
восприняли в нем совсем не то, что хотелось актеру и ре¬
жиссеру.
Та же М. Кваснецкая резюмировала суждения недовольных
фильмом зрителей: «Все кругом хорошие, нормальные люди,
а ходит среди них неприкаянный Протасов и мешает жить».
Этот приговор не обжаловался. О «Живом трупе» не дискути-
253
ровали. Им не были задеты. Задеты были, спорили в тот
момент о другой картине: о «Дворянском гнезде» Кончаловско¬
го. Там все было «на тему»: вызывающая красота усадеб, воздух
старинного быта, люди, потерявшиеся среди вещей, растворив¬
шиеся в атмосфере ностальгии, ушедшие в этот ушедший мир...
Но такую версию «мира», пожалуй, и впрямь следовало стро¬
ить — на Тургеневе.
«Живой труп» В. Венгерова прошел неслышно.
Это была последняя толстовская экранизация шестидесятых
годов.
В семидесятые их поток иссякает.
Почему?
Пресытились? Все-таки худо-бедно, а главные произведе¬
ния Толстого в шестидесятые годы экранизованы, и инерция
стиля создалась изрядная; идти по инерции стыдно; ломать ее
трудно...
А может, догвоздила режиссеров критика, которая целое де¬
сятилетие била в одну точку, приговаривая после каждой экра¬
низации, что до Толстого тут все равно далеко?
Или на высоте достигнутого почувствовали внутренний пре¬
дел и сами режиссеры?
Вот эпизод — малоизвестный, но знаменательный: в начале
семидесятых годов Василий Шукшин подступается к «Трем
смертям». И — отступает. Набросок режиссерской эксплика¬
ции, положенный рядом с текстом толстовского рассказа, уби¬
вает всякое желание продолжать. В бумагах В. М. Шукшина
сохранилась неопубликованная статья, где он излил свои муки.
Вот несколько фрагментов:
«Нельзя сделать фильм во всех отношениях равный про¬
изведению литературы... Странно, но так: чем хуже литерату¬
ра, тем лучше можно сделать фильм...»
«Почему истинная, большая литература не может служить
основой для кино?.. Кинематограф требует действия, поступ¬
ков... Надо, чтобы люди что-то делали... У писателя — слово,
предложение: «Параллельные широкие следы шин ровно и шиб¬
ко стлались по известковой грязи дороги». Как ни изворачи¬
вайся— залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбо¬
ку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай
крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогато¬
го— такого движения, какое всем нутром ощущается в расска¬
зе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться,
трястись...».
«Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему го¬
няться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литера-
254
туру, кинолитературу, а не будет на плоский экран про¬
ецировать объемные фигуры, созданные магией слова... За¬
чем?..»1
Теперь вспомним. В 1960 году Михаил Ромм объявил, что ки¬
но, вооруженное новыми достижениями техники и стилистики,
на настоящем этапе может наконец-то овладеть Толстым.
В 1972 году Василий Шукшин, любимый ученик Ромма, в пол¬
ном всеоружии достижений кино, да еще и при писательском
опыте замечательном, — признается: на настоящем этапе —
не может.
Не следует абсолютизировать шукшинский самокритичный
отказ от экранизации, как не следовало абсолютизировать в свое
время и роммовскую уверенность в успехе. Ибо только живая
практика покажет, каковы будут возможности завтрашнего кино,
что станет с ним в восьмидесятые-девяностые годы, с чем вый¬
дет оно в XXI век и как будет взаимодействовать с классикой.
Человеческое творчество безгранично и неожиданно. Так что
оставим тему открытой для тех, кому достанется ходить в кино¬
театры будущего столетия (звучит страшновато, а ведь близко
уже!). Нашу же часть темы завершим нашим временем.
«Толстовский экран» кончается 1969 годом. Это уже состояв¬
шийся факт истории советского кино: после Венгеровского «Жи¬
вого трупа» — пауза.
Кинематограф отступает от Толстого — оставляемые позиции
быстро занимает телевидение. Начиная с 1974 года один за
другим выходят телефильмы: «Кавказский пленник», «Семейное
счастье», «Детство», «Казаки»... И это только начало; дождемся,
конечно, и телевизионного сериала по «Войне и миру», и «Анну
Каренину» новую увидим.
Я не разбираю первых телевизионных версий толстовской
прозы. У телеэкрана свои законы, еще не вполне осознанные
критикой и теорией. То не кино в том смысле, в каком мы
называем этим словом определенный вид искусства и опреде¬
ленный социально-психологический феномен. Здесь нет темного
кинозала, где собрано много людей, — телезритель сидит в своей
комнате, он в принципе «индивидуален». Затем, здесь нет жест¬
ких рамок киносеанса — сериал может тянуться хоть месяц
и по ритму повествования совершенно приближаться к читае¬
мой книге. Наконец — и это третье обстоятельство есть следст¬
вие первых двух — телезрелище по самой своей природе в
принципе допускает более точное образное дублирование про¬
заического текста, чем кино, и, стало быть, задача собственно
1 Архив В. М. Шукшина. Выражаю признательность Л. Н. Федосеевой-
Шукшиной, познакомившей меня с этими материалами.
255
экранизации может встать здесь как бы заново. Накопит
телевидение соответствующий опыт, наработает критика соот¬
ветствующий инструментарий — и пусть тогда мой преемник
напишет книгу «Толстой и телевидение».
Вот, кажется, и начало: «Телевидение — в гораздо меньшей
степени зрелище, нежели кино... Сама природа восприя¬
тия телеспектакля, телеэкранизации литературного произведе¬
ния сродни природе восприятия прозы... Кинематограф при¬
учил зрителя к зрелищу — телевидение возвращает его к по¬
вествованию» (Ю. С мел ков. Карета впереди лошади.— «Лит.
газ.», 1978, 29 марта).
Там же — пророчество: «Кино неизбежно будет обращать
большее внимание как раз на быт, в то время как телевиде¬
ние— на дух».
А это уж, как говорится, перебор. Дело ж не в отсутствии
духовности, а в содержании ее, в том, каков дух. И вообще,
размышляя о кинематографе «эпохи ТВ», соблюдем меру и
справедливость. У кино достаточно задач, в том числе и в сфе¬
ре духа.
Но что верно, то верно: с экранизациями ситуация об¬
новляется.
Киноэкранизации будут, будут и толстовские. Но что-то все
более меняется в самой их задаче — это уже не просто кино¬
экранизации, а «киноэкранизации эпохи ТВ». А раз телевидение
вкрадывается в каждый дом и предлагает зрителю свои картины
почти как интимно-семейное чтение, раз оно, телевидение, бе¬
рет на себя смелость искать классике образный адекват, раз
задача собственно экранизации отходит малому экрану —
то большому остается что-то иное. Может быть, творчество
«по мотивам». «Интерпретации». Фантазии. Вплоть до кино¬
балета «Анна Каренина».
Впрочем, скорее всего, грань между большим и малым экра¬
нами будет зыбкой, и вся ситуация окажется непредсказуемой.
Начатое телевидением практически бесконечное пере-пересоз-
дание классики (то, что критик С. Ломинадзе остроумно обозна¬
чил словами: «Печорин-77»... «Печорин-82», «Печорин-83») су¬
щественно размывает сегодня самую категорию произведе¬
ния. Как заметил тот же Ломинадзе (см.: «Вопр. лит.», 1976,
№ 11, с. 62; впрочем, об этом можно прочесть у Базена), с на¬
лаживанием массового производства одного и того же «содер¬
жания» в разных «формах» литературное произведение все менее
воспринимается как законченное создание художника (разве что
специалисты-филологи помнят об этом); оно теперь все более
мифологема, своеобразный набор тем и мотивов для много¬
кратного использования. Возможно, и фильм, во всяком случае
256
телефильм, будет мыслиться уже не столько как произве¬
дение, сколько как «момент» потока, его, по Базену, «случай¬
ное проявление», недолговечная интерпретация в подвижном и
зыбком поле спроса. Перед лицом такой новой реальности экра¬
на, пожалуй, и весь наш критический инструментарий придется
вырабатывать заново. Во всяком случае, эпоха архаических экра¬
низаций, каждая из которых все-таки тщилась пусть не исчер¬
пать оригинал, но хоть соизмерять себя с ним, как «произведе¬
ние» с «произведением»,— видимо, уходит в прошлое.
А если так, то наша тема: «Толстой и кино», пожалуй, за¬
вершается.
В том смысле, в каком Толстой есть не «вещь для нас»,
не ценность, входящая в ассоциативный фонд нашего искусства
вообще и свободно оборачивающаяся в нашем культурном балан¬
се, — а «вещь в себе», объект конкретных притязаний, с кото¬
рым хочется совладать, сравниться и справиться.
И кино: опять-таки не как экран вообще, а как определен¬
ное явление реальности XX века, — самое массовое из его ис¬
кусств.
В этом смысле история отношений двух феноменов: Толсто¬
го и кинематографа, — история проб и ошибок, притязаний и
провалов, надежд и разочарований, семидесятилетняя история
эта, можно сказать, завершена.
...Нет. Еще один — прощальный — взгляд на экранизацию.
Пока я дописывал эту главу, Игорь Таланкин закончил «Отца
Сергия» (1978).
Поставив в главе точку, отправлюсь на премьеру фильма
в Московский Дом кино.
После просмотра
Все-таки мастер это мастер: как кинозрелище «Отец Сергий»
почти не вызывает вопросов. И благоговейное уважение к тол¬
стовскому тексту — чувствуется. И понимание внутренних за¬
конов кино. И умение соединить то и другое. Самое порази¬
тельное, наверное, вот что: уверенность, с какой И. Таланкин
переводит Л. Толстого в экранный ряд, — а тут есть ответствен¬
ные решения, есть «вольности», есть даже рискованные шаги.
Все время ощущаешь крепкую руку кинематографиста, и при¬
том — вот это уже характерно для новейшего времени! — жела¬
ние режиссера раствориться, исчезнуть в Толстом. Когда-то
было иначе: или — или. Когда-то Протазанов, решившись сде¬
лать кино, — рвал текст, кроил заново, шел «против». Таланкин
ничего не «рвет» и вовсе не идет «против» текста: теперешний
257
киноязык мягко вселяется в толстовский сюжет, ничем вроде бы
и не выявляя себя. Вольности не режут глаза. Перенесена в
фильм целая сцена из «Воскресения» (старик-богохульник на
пароме) — и ничего, легло. «Закорочена» целая сюжетная линия
рассказа: бывшая невеста князя Касатского является в обитель
к отцу Сергию в качестве жены генерала, у которого он когда-
то служил в полку, — ничего: вполне «могло быть». Как профес¬
сионал Таланкин решителен, но и тактичен. И у него хорошее
режиссерское чутье. Например, во всех сценах, где должен
действовать молодой князь Касатский, — он искусно убран за
кадр. Кадета играет мальчик; Сергей Бондарчук является уже
в облике седовласого монаха; между этими крайними стадиями
портретного мостика нет: И. Таланкин почувствовал, что в про¬
тивном случае потребуется виртуозничанье с гримом, а это
суета...
Опять-таки: когда-то для Я. Протазанова грим был козырем,
и Мозжухин в его фильме «тремя гримами» свидетельствовал,
что кино может все... Теперь это не нужно, это было бы навяз¬
чиво, и Таланкин всячески снимает со своего зрелища налет
кинематографической эффектности, замыкая его большей частью
на портреты С. Бондарчука либо размыкая в просторные русские
пейзажи. В этом есть своя логика, и я ее принял.
Должен сказать, что мне еще и потому не мешали ни воль¬
ности режиссера с сюжетом, ни те жертвы, какие в данном
случае литература принесла кинематографу, что я смотрел
фильм с обычным твердым условием: «забыть» о Толстом.
Я видел зрелище спокойной, уверенной жизни, привольно
и истово раскинувшейся и на этих просторах, и в этих свер¬
кающих залах, и под сенью гудящих звонниц, и даже в пещере
отшельника, где все словно омыто свежим здоровым воздухом.
Красив С. Бондарчук в сединах по черной рясе; в лице — уве¬
ренность и сила; и даже в его диалогах с богом, в интонациях
густого красивого голоса чувствуется требовательность хозяина,
наводящего вокруг себя порядок.
Пожалуй, в чисто зрелищном отношении эта истовость время
от времени делается тяжеловата, густовата; но, чувствуя это,
режиссер вовремя компенсирует устойчивую фактуру своеобраз¬
ными кинематографическими выплесками: то это яркая празд¬
ничная толпа на масленице, то колядки в великолепном испол¬
нении фольклорного ансамбля, то круговые панорамы от скита...
Наверное, есть кинематографическая логика и в кульминацион¬
ном решении, когда на переходе к последнему эпизоду И. Та¬
ланкин резко меняет всю изобразительную концепцию и погру¬
жает действие в черно-белую гамму, в захламленную декорацию
запущенного «семейного дома», где посреди пеленок предстает
258
отцу Сергию постаревшая, загнанная и кроткая Пашенька, полу¬
забытая подруга его детских игр, живой упрек его несостояв-
шейся святости.
Когда-то Протазанов вообще опустил этот эпизод: в его сти¬
листику, где царил демонический Мозжухин, эта «бытовщина»
не ложилась, она была не «кинематографична». Много воды
утекло с той поры в реках кинематографа! — именно этот эпи-
«Отец Сергий» (1978 год, «Мосфильм»). Режиссер И. Таланкин.
В роли отца Сергия — С. Бондарчук.
259
зод становится у И. Таланкина решающим и лучшим в кинема¬
тографическом отношении, хотя, казалось бы, какая уж там
зрелищность — сплошной монолог: плача, смеясь, увлекаясь
и смущаясь, рассказывает Пашенька отцу Сергию свою беспро¬
светную и жертвенную жизнь.
А может быть, оттого так хорошо мне, зрителю, дышалось
в этой сцене, что ее великолепно провела Алла Демидова? Я по¬
нимал, что эта худая, нервная, измотанная женщина, рассказы-
«Отец Сергий» И. Таланкина. В роли Пашеньки — А. Демидова.
260
вающая о себе на бегу, эта мать и хозяйка семейства, эта ис¬
таявшая страдалица с огромными глазами — героиня скорее
Достоевского, чем Толстого... Но, повторяю, я в тот момент
старался не вспомнить о Толстом; я размышлял «внутри логики
фильма», и я видел, что из всех его персонажей Пашенька —
единственная, кто, произнося слово «бог», испытывает в этом
действительную нужду.
В прочих же сценах картины «бог»—психологическая мни¬
мость.
Сцены церковные — реальность; холодные камни скита — ре¬
альность; трапеза монастырская, толпа у ворот, рука отшель¬
ника, золото иконы, звон колоколов — все реальность, фактура,
все — ощутимо. Кроме «бога». Кроме духа. Кроме веры. Или без¬
верия.
Я все-таки напомню Толстого — не для сличения по частно¬
стям, а для ориентации в кардинальной проблеме.
У Толстого проблема стояла «обратно»: для него нереальна,
призрачна, обманна, выморочена была именно церковь; вера же
в бога была реальна. Или безверие! Да, он мучился, сомневал¬
ся, богоборствовал; он до катастрофы, до полного духовного сло¬
ма шел в своей рефлексии, в своем сомнении — но проблема эта
была для него страшно серьезна и — духовна.
В фильме она — на уровне пластики. Или плоти. «Бог» —
что-то вроде надоедливого домового, который спрятался где-то
между вещами и иконами; от него или досадливо отмахиваются:
ну, чего тебе еще надо?! — или уверенно припугивают: ты еще
здесь? или тебя уже нет? А если тебя уже нет, так чего ме¬
шаешь?! Отстань! — Без него жизнь уверенно и полноправно
разрастается в этих красивых интерьерах, среди этих врачую¬
щих просторов.
Говоря это, я не упрекаю авторов фильма и не даю им сове¬
тов; я не уверен, что фильм стал бы лучше, если бы в нем
что-то переменилось в предполагаемом направлении; он сделан;
он состоялся. Он займет свое место в истории современного
кинематографа.
Драма сильного человека, безуспешно пытающегося смирить
в себе естественное жизнелюбие, — на этом уровне роли Сергей
Бондарчук весьма убедителен.
Страсти. Борьба со страстями. Страх перед страстями. Было
это у Толстого?
Было.
Но было и еще что-то, чего в фильме нет. Было величие.
Величие духовной драмы, открывавшееся за драмой страстей.
Как это «воплотить на экране»?
Не знаю.
261
Тут нужны именно сцепления толстовских слов, толстовских
фраз; если хотите, тут нужно парадоксальное взаимоуравнове-
шивание слов, выявляющих «неразрешимое».
Как сам Толстой сказал об «Отце Сергии»:
«Ложный круг, при котором смирение оказывается гор¬
достью».
Вот оно, таинственное перетекание слов, за которым мерцает
духовная диалектика.
Попробуйте это «показать».
Вы будете изо всех сил сдерживать краски и формы, но зре¬
лище есть зрелище: гордыня все равно выпрет без тени смире¬
ния, смирение же изобразится статуарно, монументально и,
простите меня, чересчур «вкусно». Если же вы смажете эту
определенность, собьете пластику в вихрь и закрутите человека
так, что душа выплеснется в страдальческие глаза Пашеньки,—
кинематографичность выиграет и духовность тоже... но в голове
зрителя откликнется Достоевский. Не Толстой.
Вот такой круг.
Глава 10
КРЕПОСТЬ В ТЫЛУ
Из разговоров с киноведом
Л. К. Козловым
Я. И заметь: ни один великий кинорежиссер не связал себя с
Толстым. Ни Эйзенштейн, которого сносило к Шекспиру, антипо¬
ду Толстого. Ни Гриффит...
Он. Что значит «связал» или «не связал»? «Связал» себя
сам — это одно. А если «оказался связан» по логике художест¬
венного развития? Это две различные формы духовной связи.
Причем первая всегда очевиднее второй. Вот Орсон Уэллс —
действительно «связал себя» с Шекспиром. Сам связал! Хотя
и не случайно, не по произволу...
Я. ...И не с Толстым, а с Шекспиром. Что же до форм свя¬
зи, то, вообще говоря, все со всем можно связать, тем более
связать «неочевидно»; но в таком зрелищном искусстве, как
кино, я склонен все-таки верить глазам своим. И я вижу: в
мировом кино царит начало шекспировское.
Он. А Гриффит, который вышел из Диккенса? Диккенс —
не антипод Толстого! Толстой Диккенса боготворил.
Я. Так. И все-таки, «выйдя» из Диккенса, Гриффит в миро¬
вое кино «вошел» отнюдь не экранизациями Диккенса, и, «на¬
чав» с Толстого, более никогда к нему не возвращался. Так что
придется, наверное, и тут мобилизовать вторую, «неочевидную»
форму связи.
Он. Нет, отчего же, есть и очевидности. Вот «Нетерпи¬
мость» — к какому полюсу она ближе? К Шекспиру или к Тол¬
стому? К Толстому, конечно же!
Я. Ну да, к Толстому-проповеднику, к Толстому-теоретику,
к Толстому — учителю жизни. А Толстой-художник? Назови мне
хоть один фильм, который вместил бы гениальную толстовскую
естественность.
Он. Что значит «вместил»? Такого не может быть вообще.
Я. Ну, назови фильм, который несет в себе вполне анало¬
гичное мироощущение.
263
Он. «Фильм» мало что решит, даже если я и назову. Тут
надо шире смотреть. К примеру, Хемингуэй. Писал свою «хемин-
гуэевскую» прозу, а потом вдруг—«Старик и море». Вещь не¬
ожиданная! Стали вспоминать о Мелвилле, даже о Гомере —
а ведь там, между прочим, запахло Львом Толстым. И не важ¬
но, стремился ли Хемингуэй к Толстому сознательно, важно,
что «де факто» толстовская традиция вдруг заговорила, напом¬
нила о себе. Позволь выразиться так: «старику Хему» снился-
таки лев! Вот что интересно!
Я. Интересно-то интересно, но мы о чем говорим: о литера¬
туре или о кино? Мало ли в ком из великих писателей совре¬
менности «заговорила» толстовская традиция! Ты мне фильм
приведи в пример!
О н. Но тут важен не столько фильм и пример, сколько
принцип связи.
Я. Да в принципе-то все сойдется! Все мы люди, все чело¬
веки, в каждом толстовская тяга есть, каждый кинорежиссер
Толстого читал, каждый хотел и т. д. Меня интересуют не прин¬
ципиальные стремления хороших художников, а конкретные
возможности экрана. О кино мы говорим или не о кино?
Он. Ну да, конечно. О кино. От него никуда не денешься.
Однако... тут тоже надо оглядеться и посмотреть внимательно:
толстовская традиция нет-нет да и окажет себя со всею важ¬
ностью. И, главное, не там, где ее можно было логически
ожидать... «Чапаев»! Вот тебе фильм, в котором чисто толстов¬
ская... как бы это сказать...
Я. «Округлость души»?
Он. Ну, если угодно. А можно и так сказать: неожиданный
момент равновесия внутри исторической бури, захватывающей
человека...
Я. Да, весьма неожиданный момент... А термин, напро¬
тив, весьма «ожидаемый»: буря — шекспировский термин, за¬
меть. И прямо соответствующий природе кино. По Эйзенштей¬
ну! Который, кстати, говорил о «Чапаеве», что этот фильм кино-
геничен именно парадоксальностью своего «равновесия».
Он. Пусть это парадокс, уникальное явление, «тур дё форс»
кино — все равно: такие явления и надо рассматривать в первую
очередь...
Я. Но не в книжке «Толстой и кинематограф».
Он. Если уж ты заговорил об Эйзенштейне, то вспомни, как
он все время оглядывался на Толстого в своих теоретических
построениях.
Я. Оглядывался? Опасался, что ли, его? Или заклясть хотел?
Скорее всего, это только эрудиция. Ассоциативный фонд уче¬
ного...
264
Он. Уверяю тебя, не «только». Тут было и многое другое.
Я. Ощущение крепости, которую надо взять?
Он. А, может быть, ощущение крепости в тылу...
Прав мой собеседник: тема «Толстой и кино» в подлинном
масштабе своем лучше осознается помимо и за пределами экра¬
низаций. Попробуем объяснить все это.
Забудем на некоторое время все то, о чем написано в этой
книге. Забудем бесконечные попытки кинематографа овладеть
Толстым — тернистый путь, вымощенный «конкретным материа¬
лом». Попробуем связать понятия Толстой и кино за пределами
этих непосредственных контактов. Не правда ли, как только
мы отвлекаемся от материала, как только развязываемся с пу¬
тами толстовских фильмов, — тема словно вырастает и очища¬
ется? В пределах экранизаций — череда неудачных или полу-
удачных попыток; за пределами экранизации — ощущение фун¬
даментальной связи, базирующейся на непреложном ощущении
всеобщей глобальной конгениальности двух этих феноменов,
почти совпадавших в мировом времени,— Льва Толстого и кине¬
матографа как искусства.
Толстой порожден эпохой, предшествующей кинематографу.
Но всемирная слава его с эпохой кинематографа практически
совпала. Можно сказать так, что мировой читательский
резонанс книг Толстого и зрительский резонанс, сделав¬
ший кино мировым искусством, — два эти процесса развернулись,
по существу, в миллионах одних и тех же душ. Общее
сопоставление этих двух явлений культуры нового времени:
Толстого, осознаваемого миром, и кинематографа, осознающего
себя в мире, — не метафорический прием, это дело, диктуемое
реальностью.
Такое сопоставление трудно, ибо, по существу, безбрежно.
Толстой — своеобразное магнитное поле, пронизывающее
культуру XX века. Толстовское наследие все более осознает¬
ся, говоря словами В. И. Ленина, «как шаг вперед в художест¬
венном развитии всего человечества»1. Вне гигантского, иногда
скрытого, воздействия Толстого не понять ни интереса к пси¬
хологической «механике» и душевной «диалектике» индивида,
ни интереса к законам движения огромных масс, — а именно
между этими полюсами идут силовые линии всей духовной
культуры нового времени, в особенности же — кинематографа,
в котором эти полюса выявились с замечательной ясностью.
Попробуем на секунду представить себе, каким все это было
бы теперь «без Толстого»—то есть, если бы допустить, что его
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 19.
265
«вообще не было». Фантастическое это предположение мгновен¬
но вызывает в вашем сознании единственный здравый ответ:
было бы примерно то же; если бы не реализовалось Толстым
и через Толстого, осуществилось бы через другого или других
художников; были бы иные краски, иные психологические фор¬
мулы и формы, иные образные ходы, но «нечто подобное» все
равно было бы добыто, потому что так пролегает путь мировой
культуры.
Толстой — неотменимый ориентир развития мирового кино
потому, что он неотменимый ориентир развития новой культуры
вообще, как Шекспир, Диккенс или Достоевский. А между тем
«продемонстрировать» воздействие Толстого на мировой кино¬
процесс трудно. Воздействие это, как правило, опосредованно.
Больше: оно чем опосредованней, тем сильней. Не с целью
начать вычерпывать этот океан, а просто в качестве проб и
примеров — сошлюсь на трех крупнейших мастеров советского
кино периода его становления и на трех крупнейших мастеров
его нынешнего этапа.
Наиболее очевидный пример — Пудовкин. Чтобы оценить ре¬
шающее воздействие Толстого на его художественное мышле¬
ние, вовсе не обязательно цепляться за прямые «стыки», вроде
тридцатикратного чтения Пудовкиным «Войны и мира», репе¬
тиций «Анны Карениной» или того, что сцена суда в «Матери»
сделана больше по Толстому, чем по Горькому. Важнее целост¬
ное ощущение: что та психологическая развертка кинозрелища,
которая составляет вклад Пудовкина в мировое киномышление,
вне Толстого была бы немыслима... или осуществилась бы как-то
иначе.
Довженко с Толстым впрямую вообще не стыкуется. Но его
романтический взгляд на человека как на выявление величест¬
венной природной красоты мира опирается на тот пласт русской
культурно-философской традиции, который заложен в нас Тол¬
стым более чем кем бы то ни было.
Даже Эйзенштейн, в теоретических работах которого четко
прослеживается полемика с Толстым, и Эйзенштейн с его на¬
пряженными сопоставлениями «единицы» и «массы», в сущ¬
ности, решает проблемы, утвержденные в нашем духовном со¬
знании именно Толстым.
Не случайно и Ромм, никогда не поставивший по Толстому
ни одной сцены, в конце концов вышел к «Войне и миру» в своих
творческих планах: сквозная тема, над которой Ромм размышлял
всю жизнь и которая с классической ясностью выявилась в двух
фильмах о Ленине,— тема вождя, естественно, концентрирующе¬
го в себе волю народа,— тема эта опять-таки восходит к Толсто¬
му и его Кутузову.
266
Любимые ученики Ромма — Шукшин и Тарковский.
Шукшин отступился от «Трех смертей». Отступился, почувст¬
вовав, что средства кино неадекватны средствам толстовской
прозы. Но неадекватность средств была осознана Шукшиным
именно в контексте того духовного богатства, которое во¬
плотилось и символизировалось для него в Толстом. Возможно,
что в «Разине» — посчастливься Шукшину сделать этот фильм —
толстовское влияние нашло бы прямой выход; но и в снятых Шук¬
шиным картинах, в этом напряженном странствии народной ду¬
ши, ищущей нравственного просветления, особенно если воспри¬
нимать шукшинские фильмы в единстве с его прозой, ощуща¬
ется путь художника, в сознание которого Толстой вошел как
фундаментальная и изначальная ценность.
Говоря о Тарковском, я опять-таки менее всего ориентируюсь
на тот факт, что он мечтает поставить фильм об уходе Толстого.
Важнее то воздействие, которое оказывает Толстой на Тарков¬
ского помимо этой прямой связи. Выворачивающие душу кошма¬
ры снов в «Ивановом детстве» были бы немыслимы, если за сто
лет до того стеклянная прозрачность детской души не была бы
открыта в русской литературе автором «Детства» и «Отрочества».
Этой традицией навеян и финал «Соляриса»—возвращение
на землю, горькое сыновнее чувство вины перед землей-ма-
терью. А «Зеркало»! Сколь ни далеко от толстовской высо¬
кой гармонии отстоит мучительное самоосознание духа, вопло¬
щенное Тарковским в «Зеркале», но ни образный «инструмен¬
тарий» фильма, ни сам тип такой рефлексии, словно по спи¬
рали ввинчивающейся, углубляющейся в самое себя,— все это
было бы немыслимо ни в какой иной традиции, кроме той, что
утверждена в русском и мировом сознании Толстым.
Брать ли «пробы» в зарубежном кино? Закономерность, на¬
верное, проглянет и здесь. Не случайно же — при всей открытой
несовместимости духовных принципов Толстого с основами, на ко¬
торых выстроилось самое развитое из зарубежных киноис¬
кусств — американское,— оно непрерывно атакует Толстого в
своих целях. Модные сюжеты — лишь верхний пласт такого
взаимодействия. Копните глубже, и вы ощутите нечто более важ¬
ное. В данном случае — обаяние имени. Авторитет. Копните еще
глубже, и уловите самое важное. Западный продюсер доско¬
нально знает своего зрителя, он безошибочно чувствует, как сра¬
батывают у этого зрителя все необходимые рефлексы — на «сю¬
жет», на «звезду» и на «имя в титрах». А все-таки остается за
всеми рефлексами в зрительской душе некий загадочный оста¬
ток, некая тайна, некое неманипулируемое начало, которое прак¬
тичное западное кино всегда трезво учитывает, — а к этой н е-
исчерпаемости Толстой имеет самое прямое отношение.
267
Семь десятилетий мировое кино приковано к Толстому. Мож¬
но признать: кино как искусство вырастает из реальности, кото¬
рая именно через Толстого с огромной силой выявилась в миро¬
вом сознании. Или так: кино взаимодействует в человеке с теми
уровнями духа, для истинного понимания которых абсолютно
необходим толстовский масштаб. Или так: кино исследует чело¬
века, вольно или невольно, успешно или безуспешно вооружаясь
достижениями толстовского человековедения.
Толстой мощно воздействует на духовную жизнь людей XX
века, и кино, один из самых тонких сейсмографов этого века,
все время как бы реагирует на него, самоопределяется в зависи¬
мости от него.
Но тогда — почему он так невоплотим?
Ведь именно в этом магнитном поле общая бедность пря¬
мых контактов кинематографа с Толстым ощущается как
разительный парадокс! И, конечно, требует объяснения.
Не знаю, смогу ли я найти объяснение. Скорее всего, мои
предположения покажутся спорными и толстоведам и киноведам.
Но надо же попробовать... Все-таки слишком уж очевиден пе¬
репад от ощущения принципиальной связи Толстого и киноис¬
кусства (где, как говорит Л. Козлов,— все «оказывается связа¬
но») — к ощущению конкретной неуловимости для кино толстов¬
ских текстов (где, как говорит Л. Козлов,— полного успеха «не
может быть вообще»).
Статистика говорит то же самое. Горы пленки. Полсотни
западных экранизаций. Полсотни русских — дореволюционных и
советских. Робкие и наивные иллюстрации первых лет синема¬
тографа. Уверенные и беспардонные вторжения в толстовское
наследие наиболее предприимчивых кинематографистов эпохи
«великого немого». Методичные и эшелонированные осады тол¬
стовских романов, предпринятые уже на свежей нашей памяти:
широкий экран, стереофонический звук, тысячные массовки,
фантастическая дороговизна постановок... А в общем — что-то
лучше, что-то хуже. Кино более или менее сносно решает с по¬
мощью Толстого свои задачи. Но ни одного великого фильма.
И везде — упущено «что-то», что делает Толстого Толстым.
А ведь непонятно. Толстой — это ж пластика! Рентген души,
поток эмоциональных импульсов — мечта виртуозов монтажа.
Не говоря уже о картинах жизни, которые у Толстого сплошь,
так сказать, просятся в г* скадровку. Было ведь поветрие, когда
с легкой руки Эйзенштейна, а точнее, режиссеров, слишком про¬
стодушно повторявших «лабораторные опыты» Эйзенштейна,
стали классиков читать, мысленно разбрасывая на планы. Тогда
и решили, что Толстой насквозь «сценарен». Почти до конца
шестидесятых годов шло состязание среди режиссеров, сцена-
268
ристов и кинокритиков: кто больше найдет у Толстого кинема¬
тографических кусков. Находили! О чем это говорит? Ни о чем.
Раскадровать можно что угодно. Как сказал Тынянов, можно
снять с полки библиографический указатель и с успехом раскад¬
ровать его. А уж Толстого-то куда как просто: снимай, как на¬
писано!
Вот это и есть главнейшая иллюзия: снимать, «как написано».
Я возьму сейчас две строчки Толстого — типичный крупный
план — и попробую спроецировать это на экран. Одно из самых
гениальных мест «Войны и мира»: когда Наташа, найдя в Мы¬
тищах раненого князя Андрея, опускается перед ним на колени.
Вот описание ее лица, «насквозь пластичное». Я только выделю
читательскому вниманию два словечка, а там разберемся:
«Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было
более чем некрасиво, оно было страшно».
Легко снять, а? Бледность, худоба, распухшие губы. Но обра¬
тите внимание на два выделенные мною слова, с точки зрения
пластики они ведь неточны. Вот тут и секрет. Слово писатель¬
ское— не мазок краски. Это именно Слово! Духовный импульс,
имеющий веер ассоциаций, а в них-то все дело. Более чем
некрасиво,— это не «хуже». Это именно более; то есть: и ве¬
личественнее, и значительнее, и возвышеннее. Это именно
страшно! А не «уродливо». Погасите ореол слов — уйдет вели¬
чие. Получится... портрет. Кадр. Исчезнет духовный отсвет. Сло¬
во бесплотно, воздушно. Оно оставляет между читателем и кар¬
тиной просвет. Оно оставляет читателю момент неопределен¬
ности, но этот момент необходим для активного, свободного и
чисто духовного контакта с материалом. Сфотографируйте —
просвет исчезнет. И это еще наивыгоднейший для кино момент —
лицо, искаженное горем. Момент, когда душа выплескивается
«вовне» в экстатическом переживании. Но даже тут, найдя ана¬
логичную пластик у,— экран теряет то духовное впечатление,
которое в тексте создается сцеплением слов.
Если же с помощью монтажа строить аналогичное впечат¬
ление, так надо строить заново. Надо именно сдвигать, ме¬
нять, убирать всю так называемую «готовую пластику». А раз
так, тогда и самую легенду о пресловутой кинематографичности
Толстого надо сдать в архив. Равно как и иллюзию, будто кино-
геничность прозы таится в ее картинах. В свое время Эйзенштейн
блестяще раскадровал и Диккенса: вот кто оптичен! Соколиная
зоркость на мелочи — все «как под софитами». Так! Но что-то
нету великих киноинтерпретаций Диккенса. Не потому ли, что,
по остроумному замечанию Балаша, Диккенс словесно уже на¬
столько сам себя поставил, что режиссеру тут делать нечего?
Отсюда вечный парадокс: чем «хуже» проза, тем лучше экрани-
269
зация. Тоже не закон, конечно. А закон: секрет киногеничности
прозы — отнюдь не только в ее пластике. Секрет прежде всего —
в качестве ее духовности. Достоевский куда менее картинен, оп-
тичен и пластичен, чем Толстой,— сплошные разговоры. А Че¬
хов! Эти паузы, эта неуловимая акварель красок, эта улыбка
Джоконды, когда читаешь. Однако и Достоевский и Чехов — по
мировой кинопрактике, по результатам, по реальным достиже¬
ниям Куросавы, Висконти, Кончаловского, Бертолуччи — под¬
даются киноизображению явно легче, чем Толстой. Я уж не го¬
ворю о таком киностолпе, как Шекспир: сколько бы ни клялся
Лоренс Оливье, что Шекспир по ткани — самый кинематографич¬
ный драматург всех времен и народов,— я этой кинематографич-
ности не вижу ни в нагромождениях шекспировских монологов,
ни в «пластике» его ремарок. Она есть. Но в другом измерении.
Она на том самом уровне, на котором ускользает от объектива
оптичный Диккенс, столь боготворимый Толстым. И сам Толстой.
Возьмем теперь кино не как вид искусства, прочно связан¬
ный с определенной техникой, а как тип мироотношения, по¬
рожденный определенным этапом существования человечества,
потребовавший себе соответствующей техники. Историки
кино едины в том, что его появление не объяснить изобрете¬
нием камеры и проектора. Инженерные предпосылки были и
раньше. Мальтийский механизм для прокручивания «живых
рисунков» знали еще в середине XIX века. Фенакистоскоп, на
основе которого могло бы возникнуть кино, относят аж к
XVI веку. Однако кино родилось в начале XX, родилось тогда,
когда ему нашлось, что сказать на своем языке, кому сказать.
Инженерные решения не замедлили, и если бы не поспешили
братья Люмьеры, подоспел бы Этьенн Маре, Эдисон или кто-ни¬
будь третий. Эдисон, кстати, очень спешил. Но он пренебрег
большим экраном, и отцами кино стали Люмьеры, год спустя
этот экран создавшие. Потому что нужен оказался именно
большойэкран, перед которым надо рассаживаться в темном
зале, и, соответственно, темный зал, в который люди должны
приходить, отрешаясь от течения своей жизни, и, соответственно,
киносеанс как главный «киножанр», всецело переключаю¬
щий человека из одного мира в другой,— а все эти условия ко¬
ренились в том, каков был спрос, каков был «социальный за¬
каз». Или — «духовный запрос».
На переломе эпох новый духовный запрос стал сказываться
и на старых искусствах. В литературе, живописи, театре уходя¬
щего века историки кино охотно ищут, рискну воспользоваться
словами Эйзенштейна, «спадающие деривативы», в которых кино
предсказано как «предельный случай». Проще говоря, это пред¬
течи. Предтечи разные. Эйзенштейн называет Дебюсси и Скря-
270
бина, физиологичность которых кинематографу дороже
классичности Бетховена. Называет Золя, у которого приемы
обнажены,— не то, что у «округлого» Бальзака. Разумеется,
нельзя приписывать этим высказываниям Эйзенштейна значение
формул — в каждом случае они несут печать момента и в масшта¬
бе всего теоретического наследия великого режиссера, как прави¬
ло, сбалансированы. Формул — нет. Но «что-то есть». Что-то есть
в новом времени, какое-то постоянное давление ожиданий, ка¬
кой-то общий угол склонения — или склонности — в мерцании
предтеч кино на небосклоне искусств. Другие теоретики дают
другие имена. Но ищут, по существу, нечто близкое. Называют
Пруста, импрессионистов, «новую французскую поэзию». Крас¬
ки — уже не цвета предметов, это колористические реалии, дейст¬
вующие сами по себе. Слова более не описывают предметы, они
«становятся» предметами, вторгаются в мир, вытесняют эмпири¬
ческую действительность. Они как бы больше реальность, чем
сама реальность.
Пытаясь реконструировать реакции Толстого на эти явления,
я опять-таки далек от стремления найти здесь «формулы». Я по¬
нимаю, что когда Толстой и Эйзенштейн называют одно и то же
имя,— то поправки на контекст высказывания и на особенности
языка здесь настолько велики, что, строго говоря, и видят они
разное и говорят о разном. И все-таки— «что-то есть»! Толстой
ведь прекрасно чувствовал тенденции, висевшие в воздухе ис¬
кусств на рубеже столетий. И реагировал на новые явления —
вполне эмпирически, но весьма последовательно. На таких пред¬
теч кино, как Джойс и Пруст, он отреагировать не мог. А вот
на Золя — отреагировал. Как? Отверг. За что? За то самое: за
обнажение приемов. Когда читаешь эстетические работы
Толстого, и, в частности трактат «Что такое искусство?»,— не
можешь отвязаться от ощущения, что Толстой безошибочно и
остро реагирует как раз на все те «деривативы» будущего кино¬
мышления, которые успели попасть в круг его интересов. И не то
поразительно, что обрушился он именно на импрессионистов и
«новую французскую поэзию», а то, за что он на них обру¬
шился.
Толстого возмущает стремление физически воздействовать
на воображение и нервы зрителя. Полвека спустя Эйзенштейн
с гордостью назовет эти методы «физиологической осязае¬
мостью», соединением «рефлекторных раздражителей», «пуль¬
сированием» зала в унисон кинозрелищу.
Толстой негодует на то, что в новом искусстве превалирует
интерес к фактуре как таковой — к документальной зани¬
мательности материала. Толстого отталкивают вошедшие в моду
фактурные контрасты: ужасное — нежное, прекрасное —
271
безобразное, громкое — тихое, темное — светлое, обыкновенное —
необычайное. А полвека спустя Эйзенштейн сформулирует прин¬
цип: выбить зрителя из себя. Чтоб сидящий — встал. Стоящий —
вскочил. Неподвижный — задвигался. Молчавший — закричал.
Тусклое — заблестело. Сухое — увлажнилось... «Выход из состоя¬
ния».
Толстой подмечает и отрицает в новом искусстве смешение
функций: когда музыка «описывает», а живопись и поэзия
«производят настроение». Полвека спустя азбукой кино станут
понятия: «музыка света», «звучащая пластика», «звуко-зритель¬
ный ряд»,— Эйзенштейн поставит над всем этим свой обобща¬
ющий термин: «синэстетика».
О киноискусстве Толстой не написал ни слова. И не мог
написать. Но вот он пишет о пьесе Г. Гауптмана — пишет почти
с негодованием:
«Автор... заставляет девочку умирать на сцене, и притом,
чтобы усилить физиологическое воздействие на публику, тушит
освещение в театре, оставляя публику во мраке, и при звуках
жалобной музыки... девочка корчится, пищит, стонет, падает...
Публика испытывает при этом... волнение... подобное тому, ко¬
торое мы испытываем при виде казни...»
Сплошные «деривативы». Темный зал. Физиологическое воз¬
действие. Смерть на сцене — то, что впоследствии Базен оце¬
нит как величайшее откровение: способность кинообъектива
подсматривать в реальности и развертывать на экране то, что
ранее считалось сокровением и таинством. Наконец, сама эта
мгновенная аналогия с публичной казнью — аналогия, которая
и двадцать лет спустя еще раз неотвратимо сработает в сознании
Толстого, когда ему расскажут о съемках английского фильма —
помните?— как актеры утонули, и тогда публика повалила смот¬
реть фильм... Полвека спустя Базен скажет: кино — единствен¬
ное искусство, где сокровенное можно рассматривать, где
«неуловимое» можно повторить. Базен скажет: «эффект по¬
вторности». Базен скажет: «кинематограф по природе самое
бесстыдное из искусств: гиперболизированное зрелище при чу¬
довищной близости рассматривания».
Базен не был вегетарианцем в зрительном зале: неслыханное
кощунство документального киноподсматривания смерти не
мешало ему видеть и великое в этом откровение. Как не был
вегетарианцем и Толстой в глубинах своего полного страстей
существа. И казнь он пошел-таки смотреть! И вспомнил об этой
казни не случайно, а словно угадав в кинематографе — потен-
272
циальную проницательность, в себе — потенциального кинозри¬
теля. Но любопытно все-таки, что все это он сразу же и отвел
безусловно в сферу «документальности», отделив от сферы «ис¬
кусства»; загадка и разгадка духовности — при всех мучитель¬
ных сомнениях все-таки таилась для Толстого здесь, на тради¬
ционном стыке искусства и морали. Здесь все-таки — онтология
толстовского гения. Где на казнь смотреть стыдно.
А онтология кино — как определить ее? Однозначно — не
берусь. Но — опираясь на авторитеты? Вчитываясь в то, как
определяют суть кинозрелища ведущие кинотеоретики, как они
по-разному, подчас вступая между собой в заочный спор, об¬
ращаются мыслью вокруг некоего реального центра? Вот и хочу
именно этот центр представить себе или хотя бы ощутить его
присутствие: есть же некоторый общий принцип киномышления,
общий философский субстрат, делающий кино ярчайшим выра¬
зителем психологии нового времени, так сказать «предельным
случаем» его? Так попробуем нащупать? Обводя по вершинам
теорию кино — в поисках этого общего впечатления, делающего
десятую музу — Музой?
Только постоянно будем при этом держать Толстого в созна¬
нии: для сопоставления и контроля — не те или иные отдельные
черты, а целостный план его творчества, делающий это твор¬
чество неповторимой страницей нашей духовной истории.
Луи Деллюк называл кино «хозяином толпы». На заре нового
искусства, когда оно не нашло еще не только «своего Гомера»,
но и «своего Уэллса»1, писал Деллюк, кино освобождает в людях
полуосознанную потребность единодушия, которую не смогли
заглушить двадцать веков христианского персонализма. В во¬
ображении французского теоретика витал призрак возрождаемо¬
го античного полиса, когда «вся страна размещается на сту¬
пеньках в тридцать тысяч мест и слушает трагедию».
Античный полис не состоялся. Но утвердился не менее ин¬
тересный феномен: темный зал, в котором зрительские души,
подключаясь к общему зрелищу, как бы сливаются между собой.
Перегородки слабеют, индивид делается проницаем, прозрачен.
Соратник Деллюка Жак Эпштейн заметил: «Между зрелищем и
зрителем нет никакого барьера: зритель не смотрит на жизнь,
а проникает в нее».
— А проницаемость душ — разве не черта толстовского ху¬
дожественного мира? Или Толстой против единодушия? Или не
от Гомера ведет свою родословную?
1 Деллюк имеет в виду Герберта Уэллса, между тем будущий Уэллс ки¬
нематографа — Орсон Уэллс уже бегает в школу, и лишь четырнадцать лет
отделяют его от первого триумфа.
273
— От Гомера. «Война и мир»—это как «Илиада». Но: ан¬
тичный эпос может быть вехой на разных путях. На пути
личности, когда, переполненная жизненным чувством, она ищет
в Целом продолжения своего внутреннего духовного строя. И на
пути индивида, который, остро переживая свою (применим слово
Маркса) «частичность», ищет в Целом — восполнения.
Результативные состояния могут — номинально — совпадать.
И слова могут быть одинаковыми. «Единодушие». Но сцепления
к такому результативному слову могут вести разные. Едино¬
душие — когда один человек, и другой человек, и все люди,
ощущая прочность и единство жизненных корней в каждом
отдельном существе, делаются как бы родными и близкими.
И единодушие — когда один человек, и другой, и вся масса
сплачиваются оттого, что отдельное существование абсурдно
и призрачно, а единое в массе — реально и перспективно.
И проницаемость. Проницаемость души, открытой родствен¬
ному мировому Целому, незыблемая вера этой души в изначаль¬
ную внутреннюю всеобщую правильность Вселенной. И прони¬
цаемость души, изначально знающей, что на иных путях, вне
вихрей взрывообразно обновляющейся Вселенной существова¬
ние попросту недействительно.
Кинозритель, растворяющийся в темном зале, как бы отка¬
зывается от границ своего «я». Иначе кинозрелище не имеет
эффекта и кинозритель не осуществляется как кинозритель. Тут
должно возникнуть удивительное ощущение: унисон кадру, точ¬
нее ритму — ритму монтажа, который приобретает над зрителем
почти физически ощутимую власть. Неслыханное самоотож-
дествление зрителя со зрелищем — такого не было и нет
ни в старых искусствах, ни в новом — в телевидении, когда
телезритель, как в крепости, сидит в «своем доме»... Или возь¬
мем театр: тут сцена и зал автономны, актер и зритель как
бы перебрасываются идеями и эмоциями через линию рампы,—
в кино такой обратной связи нет, и зрелище забирает зрителя
в плен без остатка, как сама продолжающаяся Вселенная. А в жи¬
вописи? Там — рама, которая замыкает полотно, крича зрителю
об условиях игры. В кино рамы нет — есть рамка кадра, которая
снимает эти условия: она как бы каширует, прикрывает жизнь,
в принципе разбегающуюся за края кадра. А в литературе?
Там — текст: система слов, идеальных знаков, обозначающих
реальность. В кино кадр претендует не обозначить, но остановить,
запечатлеть, отпечатать реальность — быть реальностью. Здесь
все разомкнуто, здесь нет дистанции, здесь зритель как бы вы¬
манивается и вымывается в новое бытие.
В этом видели знамение времени многие теоретики кино:
Балаш писал об индивиде, который за века книгопечатания
оторвался от физической реальности и заморочен умозрением,—
именно в кино, погружаясь в пластику, в плоть событий, в
«первичную и извечную» материальность вещей и жестов, этот
зритель как бы возвращает себе первоначальную цельность.
Толстовский же человек ничего не должен себе возвращать,
потому что он изначально ничего не теряет. Он может быть
уничтожен в борьбе или в результате собственной ошибки, он
может быть убит, обманут, унижен, он может сам себя погу¬
бить— это всегда будет результат жизненной драмы, в которой
даже само поражение приходит по правильному закону, но
цикогда это не будет результатом внутренней неполноты бытия
(абстрактности — ущербности), которую надо пластически и
нравственно компенсировать.
Меж тем постоянство, с которым теоретики разных направ¬
лений и школ, размышляя о природе кино, наталкивались на
мысль о восполнении «абстрагированного индивида» до осяза¬
емой полноты, заставляет задуматься. Еще несколько ссылок —
чтобы сделать это ощущение рельефнее. Рудольф Гармс: «тра¬
гическая отъединенность человека», втянутого в вавилонские
столпотворения нового времени, преодолевается в кино посредст¬
вом особого «дыхания» зрелища, подключающего человека к
единому космосу. Юрий Тынянов. «Мы — абстрактные люди.
Каждый день распластывает нас на десять деятельностей. По¬
этому мы ходим в кино». Зигфрид Кракауэр: «Человек в западном
обществе идеологически бесприютен...» Наша интеллектуальная
жизнь — «абстрактность»... «Мы ищем компенсации».
Кракауэр строит теорию кино вокруг образа движущейся
массы, с первых же фильмов Люмьера навсегда заполнившей
мировой экран. Улица, площадь — это царство мимолетности,
случайности, незавершенности, это рассеянная физическая реаль¬
ность, это лабиринт бытия, новые джунгли, в которых с удо¬
вольствием растворяется современный «эластичный» индивид,
«утративший конкретное мышление» и возвращающий себе це¬
лое лишь в умозрении; здесь опьяняющее чувство текучей
толпы и опьяняющий поток движения на экране сливаются,
взаимопоглощаются, взаимораскачиваются, и лишь как казус,
как неожиданная флуктуация частиц, как «тур-дё-форс» может
на мгновение возникнуть в этом перемешивающем потоке «ок¬
руглый» стабильный план суверенной личности. Но эта суве¬
ренность в глазах Кракауэра — род иллюзии.
Кино есть ярчайшее выражение эпохи, которая втягивает
человека в гигантские массовые движения. Эти движения либо
раздавливают индивида, если тот сопротивляется, либо — если
он их принимает — наполняют его бытие сверхъестественной
мощью, несоизмеримой с его, индивида, собственными усилиями.
275
Отсюда — две крайние образные системы, в которых искус¬
ство кино достигло величайшего совершенства.
Либо — апология маленького человека, жалкое бытие которо¬
го исчерпывается потоком.
Либо — апология массы, в потоке которой отдельный человек
исчерпывает себя, вырастая до вселенских масштабов.
Либо Чаплин — либо Эйзенштейн.
Все, что посредине,— все это для кино более или менее...
«спадающие деривативы».
А «посередине»—Лев Толстой. Художественный мир, изу¬
мительная духовная центрированность и прочность которого —
при всех сотрясавших его страстях и бурях — остается свое¬
образной загадкой для нашего века страстей и бурь.
Дело тут, конечно, не в количественном соотношении ста¬
тики и динамики, а в том, какое миросостояние мыслится как
исходное. Исходное состояние толстовского художественного
мира — внутренний строй, онтологическая правильность и
нравственная стабильность его. То самое качество, которое мо¬
лодой волонтер 1852 года, пораженный храбростью русского
офицера, выразил словами: в этой смертельно опасной ситуации
капитан был таким же, как всегда. То самое качество,
о котором можно сказать словами русского критика, много лет
спустя обозревавшего толстовский художественный мир: это—
как барельеф: чувствуются вековые стены прикрепле¬
ния. Пришло время, все стало срываться со стен и пьедесталов
и помчалось куда-то, смешиваясь в борьбе и смятении. Толстой
это увидел. В этом участвовал. Но это смешение, эта буря, это
крушение и обновление самих основ бытия никогда не были
для Толстого изначальным и естественным состоянием мира,
каковыми стали тектонические взрывы и вихри нового времени
для великих мастеров кино, от Гриффита и Эйзенштейна до Ку¬
росавы и братьев Васильевых. «Чапаев», который для Эйзен¬
штейна был в своей естественной «гармоничности» частным слу¬
чаем «экстаза» и «пафоса» (а для Кракауэра мог бы служить при¬
мером «тур-дё-форса» кино), есть великий кинообраз именно
потому, что точка отсчета здесь — все-таки не гармония мира, а
обновляющий все исторический вихрь, и «округлая душа» тут—
лишь частный случай выявления этого вихря, его гениальный па¬
радокс.
Вы можете найти у Толстого все: и гибельные драмы, и экста¬
тические состояния, и даже ощущение катастрофы, висящей
в воздухе. Все это будут частные проявления мирового строя
и порядка. «Тур-дё-форсы» великого естества, воспринимаемые
как гениальные парадоксы природы. Все дело в том, что есть
ось отсчета.
276
«Гениальная обычность». «Удесятеренный в жизненной силе
средний человек». Не великий и не ничтожный. Средний! Вот
загадка...
Величие Толстого-художника возрастает с ходом времени:
то, что для его эпохи казалось само собой разумеющимся,—
для последующих эпох вырастает в тайну. Непостижимая ес¬
тественность. Загадочное равновесие обыкновенности и величия!
Одухотворение бытия — обыденного, каждодневного, элементар¬
ного. Естественная суверенность личности, которая одновремен¬
но вмещает мир, но — не растворяется в нем.
«И все это мое, и все это во мне, и все это я...»
Это можно произнести с экрана. Сказать о толстовском
бытии, вычленив эти слова из системы слов, в которой они
этим бытием становятся. Но как восстановить на экране такое
бытие — не проиллюстрировать, нет, этого хватало!—а восста¬
новить, причем восстановить не «вообще», а в одной из тех
«предельных» форм, которые делают кино гениальным?
Дать сцепление живой фактуры, в которую у Толстого по¬
гружено духовное? Но в том-то и дело, что сцепление фактуры
у Толстого само по себе мгновенно оборачивается обыден¬
ным. Если не пошлым. На внешний взгляд выйдет воплощенная
заурядность. Николай Ростов с трубкой в зубах.
Дать сцепление высоких мыслей и чувств, которые у Толстого
светятся в фактуре? Но в том-то и дело, что духовное у Толстого
вне фактуры не живет. Выйдет ходульность. Профессиональный
мыслитель Андрей Болконский, разными голосами беседующий
с дубом на «философские темы».
Кино всегда и скатывало Толстого на тот или иной край —
законы зрелища! Американцы, боясь патетики, отсекали «фило¬
софию» и получали истории из частной жизни обыкновенных
людей. Советские режиссеры строили на базе толстовской прозы
преимущественно патетические зрелища — но неспроста же
С. Бондарчук отсек всю историю Николая Ростова! Либо — либо.
Либо на экран будет отброшена тень Николая Ростова, либо
тень Андрея Болконского. Либо исчерпают Толстого в сенти¬
ментальности, либо исчерпают в патетике.
Кино гениально тогда, когда оно исчерпывает свой пред¬
мет. В том смысле, что при прочих равных — сбалансированное,
гармоничное бытие зрелищно проигрывает бытию, выведенному
в предельно выразительный «экстремальный» режим. Наверное,
и всеобщий закон недосказанности, сообщающий прелесть, глу¬
бину и таинственность всякому искусству,— на экране действует
в своих пределах; недосказать можно «словами»; экранное дейст¬
вие вынуждено «недопоказывать». Монтажное мышление, ориен¬
тированное на большой кинозал, по своей динамической природе
277
с неизбежностью форсирует все, в том числе и «недосказан¬
ность»... Тут какая-то парадоксальная загадка, которую вряд
ли вобьешь в определение, но я опять-таки попробую соотнести
ее с Толстым, у которого «недосказанность» создается отнюдь
не на уровне словесной ткани (например, тургеневское: «как
хороши, как свежи были розы...» что это? о ком?). Толстой,
напротив, словесно все наиподробнейше выговаривает, у него
ощущение неисчерпаемости объекта возникает не от недоска¬
занности в тексте, а от ощущения бесконечности самого объекта,
от глубины самоопределяющейся в космосе жизненной силы,
у которой... чем больше берешь, тем больше остается. Все это
решается не на пластическом уровне.
В кино — как раз на пластическом. Кино стремится как раз
вычерпать и разглядеть объект до дна, увидеть на дне сокровен¬
ное и таинственное — и, уж во всяком случае, создать иллюзию
того, что «подглядеть» оно — в силах, что исчерпать—можно.
С этим связана склонность кино к внешне выраженным дина¬
мичным системам и к взрывным ситуациям, резко обнажающим
суть. Суть вещей. Суть процессов. Суть характеров. Кинозре¬
лище, обрезанное рамками экрана и сеанса, по самой своей
природе принуждено к предельной концентрации художествен¬
ных усилий. Его внутренний пафос — исчерпание момента и
предмета. На уровне, где ставится кадр или строится монтаж¬
ная фраза. На уровне, где решается фильм как произведение
искусства. На уровне, где мыслится человек: герой или зритель,
объект или субъект зрелища.
Замечательным выражением этой особенности киномышле¬
ния является разработанная Эйзенштейном теория патетическо¬
го зрелища. Построенная на опыте высших достижений совет¬
ского кино, она особенно интересна, потому что охватывает
близкий нам край кинематографической вселенной.
Согласное пульсирование фильма и зала, по Эйзенштейну,
подчинено законам патетики — если брать, конечно, «предельный
случай», в котором логика кинозрелища доводится до конца,
а именно эта логика интересна нам сейчас. Кино срывает зрителя
с места (сидящий — встал, стоящий — подскочил!). Кино застав¬
ляет человека, сидящего в зале, выйти «из себя». И в человеке,
которого оно изображает, оно ищет именно этот выброс «из себя».
Выплеск вовне. «Непрестанное исступление»,— как говорит
Эйзенштейн. Экстаз.
«Экс-тазис»—выход из состояния. Классический для Эйзен¬
штейна пример исступления — Шекспир: трагическая борьба
индивида, который выпал из системы мира, потерял естествен¬
ную с ним связь и один противостоит буре, сорвавшей все с места.
Шекспир — это исступление, говорит Эйзенштейн. Это сверх-
278
подлость или сверхблагородство, это сверхъестественные, экста¬
тические страсти. Это патетика.
Вспомним еще раз, за что Толстой отрицал Шекспира. За
патетику. За неестественность, сверхъестественность страс¬
тей и положений. За крушение абсолютных начал, ввергающее
отпавшего индивида в экстаз трагической деятельности.
Экстазис — состояние, совершенно абсурдное для Толстого.
Если уж искать ему место на этой шкале, то мир Толстого —
это, пожалуй, гомеостазис: стабильность и естественная центри¬
рованность системы. Вся гениальная толстовская диалектика
души, вся его текучая пластика, все тончайшее снимание пси¬
хологических слоев и покровов зиждется на ощущении глубокой
прочности и стабильности бытия. Отсюда — знаменитое круже¬
ние толстовской фразы: она идет по кругу, по спирали, почти
по собственным следам, почти повторяясь, все приближаясь
и приближаясь к некоему центру, к ядру—будь то ядро пред¬
мета, характера или всего мира; этот центр в принципе недости¬
жим, неисчерпаем и невоплотим, но он есть, и чувство, что он
есть, ориентирует, стабилизирует и держит всю эту художествен¬
ную вселенную.
О ней можно сказать и так: внутри она больше, чем снаружи.
Эта фраза Честертона о Диккенсе верно передает соответствую¬
щее ощущение, но опять-таки не исчерпывает бытие такого типа.
Исчерпать его рациональным определением (определить —
опредёлить — поставить пределы) или спроецировать этот мир
на «экран» теории Толстой и сам не мог. Хотя пытался.
Вот несколько собственных свидетельств о его состоянии,
когда писалась «Война и мир», то есть в период высшего взлета
его художнического гения:
«Зачем существует мир?..»—«не знаю»...
«Какой смысл моей жизни? — никакого... Зачем существует
все то, что существует, и зачем я существую?— затем, что су¬
ществует...».
«Соблазн праздного умствования... Знание истины можно
найти только жизнью...».
Помню, помню: цитаты ничего не доказывают, в принципе
можно подобрать и противоположные. Помню и то, что концеп¬
ция экстазиса у С. Эйзенштейна весьма широка; определения
его, в отдельных случаях предельно резкие,— в масштабах це¬
лостной теории достаточно сбалансированы. Не хотелось бы,
чтобы то сопоставление идей Толстого и Эйзенштейна, на ко¬
торое наталкивает оппозиция терминов «гомеостазис — экста¬
зис», было воспринято как игра слов или, еще хуже, как опре¬
деление художественных систем двух гениев. В конце концов
любой читатель найдет у героев Толстого пронзительные экста-
279
тические мгновения (князь Андрей на поле Аустерлица, Каренин
у постели умирающей Анны, Нехлюдов на первом свидании
в тюрьме...). И все-таки отсчет художественный здесь идет
от иной точки, чем у Эйзенштейна. Наверное, так: у Толстого
экстатика есть необходимый момент полноты гомеостатического
мира; у Эйзенштейна гомеостазис есть внутренняя частная воз¬
можность мира, в принципе экстатичного...
Я исхожу из практического результата: из общей неудачи
кинематографа в его контактах с толстовским миром. Я не
верю, что эта неудача носит случайный и технологический ха¬
рактер (режиссеры «не постарались», Толстому «не повезло»
и т. д.). Нет, тут какая-то сущностная причина.
А может быть, гомеостазис, который я склонен усматривать
в толстовском мире,— черта не толстовского мира, а... сегодняш¬
него избирательного зрения? В таком случае мне остается верить,
что и эта моя избирательность так же неслучайна, как наша
теперешняя нужда в Толстом...
Иногда представляется: Толстой и кино — два айсберга в двух
разных океанах-эпохах. В подводной глубине — несоединимы.
Но как близки и похожи, как перекликаются, как согласно
сверкают в лучах одного солнца надводные вершины!
Что называется, чисто зрительная связь.
Почувствовал же в какой-то момент Толстой — при всей
невообразимой примитивности представших ему кинематогра¬
фических попыток,— что кино перспективно. Правда, он пред¬
положил такую сферу: наука — документальность — просвеще¬
ние. Осуществилось иное. Иной океан...
А вековая привязанность кино к Толстому? А неизменное
магнетическое присутствие его в ассоциативном фонде великих
режиссеров? А наша исступленная реакция на фильмы «тол¬
стовского десятилетия»: не то, не то, покажите нам то! Видим,
но все равно не то!
Жажда — глубинная. Связь — чисто зрительная.
Не исчерпывается толстовская глубина. Не экранируется.
Степень «исторжимости» духовного бытия, видимо, и таит
в себе секрет большей или меньшей киногеничности того или
иного классика. Потому-то, наверное, и легче с Достоевским, что
у него весь смысл — в диалогическом выплеске сокровенного.
В исступленном, взрывном выбросе духовной энергии за пре¬
делы традиционного бытия. В трагическом исчерпывании старых
форм этого бытия. В его «децентрировании». В аннигиляции
его крайних форм.
Ну, а Чехов? Акварельный Чехов, неуловимый Чехов, поэт
интонационных переходов и нюансов? Как-никак Чехову в об¬
щем, надо признать, повезло в кинематографе! А ведь и тут нет
280
загадки. Чехов «неуловим» на уровне ткани. Духовный же план
чеховского героя достаточно рельефно проецируется вовне:
чеховский человек — «пропащий», он — «потерян», он из жизни
«выпал». Можно сказать, что из духовного бытия он вывалился
в быт, в мелочи, в обыденщину, которая вопиет о том, что
она бездуховна. Здесь-то, в мелочах, и ловит чеховского героя
сверхзоркий кинематограф.
А вот «рельефный», «монтажный», «оптичный» Диккенс —
не ловится. Диккенс, портрет которого Честертон начал с рас¬
суждения о неопределимости «первичного». Впрочем, в
конце концов он определил: Диккенс — это «ненормальная нор¬
мальность». Стефан Цвейг, как мы помним, говорил о Толстом:
«сверхъестественная естественность». Нещедрый на эпитеты
Толстой называл Диккенса великим. Перед нами писатели
явно одной линии. Где ее начало? Сам Толстой выстраивал
эту линию так: от Гомера до Диккенса. Конец и исчерпание
этой линии он видел явственно. Так и говорил: «Диккенсы...
кончились».
Конечно, кинематограф использовал и Диккенса; мюзикл по
«Оливеру Твисту» имел успех (равно, как и фильм-балет по
«Анне Карениной»). Но в главном — неуловим.
И Толстой — неуловим.
Неуловимость для внешних определений ощущалась в этом
художественном мире уже его современниками — недаром столь¬
ко копий сломали вокруг него, и недаром сам Толстой как
философ и теоретик сломался, пытаясь объять мыслью мир,
дышавший в нем как в художнике. Была какая-то роковая
несоизмеримость этого художественного мира с тем умственным
инструментарием, которым располагала критика его времени.
По внешним писательским параметрам Толстой был вполне
сравним с крупнейшими прозаиками той поры, а некоторым
даже уступал: Тургеневу — в мелодике фразы, Щедрину —
в отточенности мысли, Лескову — в словесной изобретательнос¬
ти. Но превосходил всех (и себя как теоретика) в ощущении
неизъяснимой духовной прочности жизни, в коей величие и
естество счастливо неразделимы.
Величие Толстого связано с тем, что в его лице вошел в со¬
прикосновение с новым временем духовный пласт огромной,
почти необозримой мощи. Это не просто опыт второй половины
XIX века, на которую падают годы главных его писаний. И даже
не опыт всего этого столетия в целом — столетия веры в прогресс,
позитивной работы и триумфального шествия конкретных наук.
И даже не опыт столь любимого Толстым XVIII века, века все¬
возможных абсолютов, века Руссо с его «естественным чело¬
веком» и «общественным договором». В творчестве Толстого
281
спрессовался духовный опыт много большей глубины и дальнос¬
ти, опыт, уходящий за грань самого Просвещения, в довозрож-
денческие глубины и дали. Здесь воистину спрессовались ты¬
сячелетия, о которых можно сказать почти толстовскими сло¬
вами: от Гомера до Диккенса...
Необъятной мощью осуществившейся в Толстом тысячелет¬
ней традиции объясняется его величие.
И его загадочная неисчерпаемость, неуловимость и невоплоти-
мость для экранизаторов «всех времен и народов».
Стоит ли печалиться об этой кинематографической неудаче?
Не стоит. Ибо неудача относительная, и в ней есть свой огром¬
ный смысл.
Толстой — магнит, вот уже три четверти века притягивающий
кинематографистов, помогающий им решать их собственные
задачи. Таким он и останется. Это свидетельство нашей благо¬
творной нужды в Толстом, свидетельство того, что его духовный
опыт по-своему включен и в наше новое бытие. А что кино
не сумело с Толстым сравняться, не сумело исчерпать, адекватно
воплотить его на экране,— так иначе, наверное, и быть не могло.
Адекватность вообще мудреное дело. Для этого надо было бы,
наверное, «адекватно воплотить» прежде все то, что породило
Толстого. Вряд ли это возможно. Да вряд ли и нужно.
Впрочем, кто возьмется предсказывать будущее? Кто рискнет
расчислить возможности экрана? Человеческий гений неисчер¬
паем; не исключено, что экран (скорее, впрочем, телевизионный,
но, может быть, в связи с этим и кинематографический) еще
удивит нас толстовскими лентами.
Экран и тогда, надеюсь, не исчерпает Толстого.
А пока что — хорошо, что остается у нас в тылу эта невзятая
крепость. Что мы так и не взяли ее... в оборот. Не сокрушаться
надо о том, что толстовское наследие не поддается злободневным
разменам. А гордиться этим. И уж, во всяком случае, трезво
отдавать себе в этом отчет. Как сказал Спиноза: не смеяться,
не плакать, не проклинать — а понимать.
Не смеяться над бессильными попытками кинематографа
дотянуться до Толстого, и не предвкушать, что завтра, собрав¬
шись с новыми киносредствами, мы наконец дотянемся и увидим
на экране «подлинного Толстого». А, понимая все, поклониться
и сказать просто:
— Спасибо, Учитель.
ТОЛСТОВСКИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ*
АННА КАРЕНИНА. 1911. Россия.
«Пате». Реж. А. Метр. Опер.
Ж. Мэйер. В ролях: Н. Васильев
(Каренин), М. Сорохтина (Анна),
М. Троянов (Вронский).
АННА КАРЕНИНА. 1914. Россия.
«Русская золотая серия». Сцен,
и реж. В. Гардин. Опер. А. Левиц¬
кий. В ролях: М. Германова (Ан¬
на), В. Шатерников (Каренин),
М. Тамаров (Вронский), В. Обо¬
ленский (Левин), 3. Баранцевич
(Кити), В. Кванин (Стива).
АННА КАРЕНИНА. 1915. США. Дж.
Эванс. Реж. В. Фокс.
АННА КАРЕНИНА. 1918. Венгрия.
«Гунния». Реж. М. Гараш. В ро¬
лях: И. Варшаньи (Анна), Э. Фэнь-
веши (Каренин), Д. Кертис (Врон¬
ский).
АННА КАРЕНИНА. 1920. Германия.
«Цельник-Мара-фильм». Реж.
Ф. Цельник. Опер. В. Гольдбер-
гер. В ролях: Лиа Мара, Й. Ри-
манн, Г. Пеер.
АННА КАРЕНИНА. 1927. США. —
См. «Любовь».
АННА КАРЕНИНА. 1935. США.
«МГМ». Реж. К. Браун. Опер.
В. Даниельс. В ролях: Г. Гарбо
(Анна), Ф. Марч (Вронский),
Б. Ратбоун (Каренин).
АННА КАРЕНИНА. 1948. Велико¬
британия. А. Корда. Реж.
Ж. Дювивье. Опер. А. Алексан.
В ролях: Вивиен Ли (Анна),
* Фильмография по неизбежности неполная*
многие фильмы не сохранились, в спра¬
вочники они внесены без некоторых важ¬
ных данных; проверить иные сведения не¬
возможно
Р. Ричардсон (Каренин), К. Мур
(Вронский), Н. Макгиннис (Ле¬
вин), С. Хоувес (Кити).
АННА КАРЕНИНА. 1953. СССР.
«Мосфильм». Фильм-спектакль
МХАТ. Реж. Т. Лукашевич. Опер.
Н. Власов и С. Шейнин. В ролях:
А. Тарасова (Анна), П. Массаль¬
ский (Вронский), М. Прудкин (Ка¬
ренин).
АННА КАРЕНИНА. 1968. СССР.
«Мосфильм». Сцен. В. Катанян
и А. Зархи. Реж. А. Зархи. Опер.
А. Калашников. В ролях: Т. Са¬
мойлова (Анна), В. Лановой
(Вронский), Н. Гриценко (Каре¬
нин), Ю. Яковлев (Стива), И. Сав¬
вина (Долли), А. Вертинская (Ки¬
ти).
БЕЛЫЙ ВОИН (по повести «Хаджи-
Мурат»). 1961. Италия — Югосла¬
вия. Реж. Р. Фреда. Опер. М. Бава.
В ролях: С. Ривс и другие.
БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ (по повести «Хад¬
жи-Мурат»). 1929. Германия.
«УФА». Реж. В. Волков. Опер.
К. Курант и Н. Топорков. В ро¬
лях: И. Мозжухин, Л. Даговер,
Б. Аманн, Ф. Альберти, Л. Поте¬
хина.
БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО
СКАЖЕТ. 1916. Россия. Скобелев-
ский комитет. Реж. Н. Ларин,
опер. А. Левицкий. В ролях:
Н. Салтыков, В. Карин, М. Кем-
пер, А. Корсак.
БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.
1917. Россия. В ролях: Г. Хмара
и другие.
ВЛАСТЬ ТЬМЫ. 1909. Россия.
А. Ханжонков. Реж. П. Чардынин,
283
опер. В. Сиверсен. В ролях:
П. Чардынин (Никита) и другие.
ВЛАСТЬ ТЬМЫ. 1918. Россия.
И. Ермольев. Сцен, и реж. Ч. Са¬
бинский. В ролях: В. Орлова,
Н. Панов.
ВЛАСТЬ ТЬМЫ. 1923. Германия.
«Нойман - продукцион - фильм».
Сцен. Р. Вине, реж. К. Вине,
опер. Э. Люттгенс и В. Гольдбер-
гер. В ролях: М. Германова,
П. Шаров, М. Егорова, М. Крижа-
новская, А. Вырубов.
ВОЙНА И МИР. 1915. Россия. «Рус¬
ская золотая серия». Реж. В. Гар¬
дин и Я. Протазанов. Опер. А. Ле¬
вицкий. В ролях: О. Преображен¬
ская (Наташа), Н. Никольский
(князь Андрей), Н. Румянцев
(Пьер), Г. Новиков (Кутузов),
В. Васильев (Анатоль), О. Рунич
(Николай Ростов), В. Гардин (На¬
полеон).
ВОЙНА И МИР. 1915. Россия.
А. Ханжонков.— См. «Наташа Рос¬
това».
ВОЙНА И МИР. 1915. Россия. Дран¬
ков и Талдыкин. Сцен, и реж.
А. Каменский. Опер. Н. Козлов¬
ский. В ролях: Н. Чернова, А. Ми¬
чурин, Р. Адельгейм.
ВОЙНА И МИР. 1955—1959. США—
Италия. «Парамаунт» — Д.де
Лаурентис. Реж. К. Видор. Опер.
Д. Кардифф, А. Тонти. В ролях:
О. Хэпбёрн (Наташа), Г. Фонда
(Пьер), М. Феррэр (князь Анд¬
рей), Д. Миле (Платон Каратаев),
А. Экберг (Элен), В. Гасман (Ана¬
толь).
ВОЙНА И МИР. 1966—1968. СССР.
«Мосфильм». Сцен. В. Соловьев
и С. Бондарчук. Реж. С. Бондар¬
чук. Опер. А. Петрицкий. В ролях:
Л. Савельева (Наташа), В. Тихо¬
нов (князь Андрей), С. Бондарчук
(Пьер), В. Стржельчик (Наполеон),
Б. Захава (Кутузов), А. Кторов
(старый князь), А. Шуранова
(княжна Марья), О. Табаков
(Николай Ростов), О. Ефремов (До-
лохов).
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1908. США. «Бай-
ограф» Сцен, и реж. Д.-У. Гриф¬
фит. В ролях: Ф. Лоуренс, Л. Ар-
видсон.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1908. Франция. —
См. «Сибирские снега».
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1909. Дания.— См.
Катюшка
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1912. США. «Маско-
фильм». В ролях: Б. Уэлш (Ка¬
тюша) и другие.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1915. Дания. «Нор¬
диск».
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1915. Италия. «Це¬
зарь-фильм». В ролях: Ф. Бер-
тини (Катюша) и другие.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1917. Италия. Сцен,
и реж. М. Казерини. В ролях:
М. Якобини (Катюша), А. Хабай
(Нехлюдов).
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1918. США. Реж.
Э. Джоуз.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1923. Германия. —
См. «Катюша Маслова».
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1927. США. «Юнай¬
тед артисте». Реж. Э. Кэрью.
Опер. Р. Керл. Консультант
И. Л. Толстой. В ролях: Д. дель
Рио (Катюша), Р.Ла Рок (Нехлю¬
дов).
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1931. США. Лэммл.
Диалоги Ф. Фокс. Реж. Э. Кэрью.
Звуковой.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1934. США. — См.
«Мы живем вновь».
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1958. Италия —
Франция — ФРГ. «Раццоли-
фильм»— «Франсинью» — «Бава-
рия-фильм». Сцен. Р. Кастелла-
ни, Ж. Кэй. Реж. Р. Хансен. Опер.
Ф. Веймайер. В ролях: X. Бух-
гольц, М. Вру, Л. Массари, Г. Дор-
циат, А. Чифарелло.
ВОСКРЕСЕНИЕ. 1960—1962. СССР
«Мосфильм». Сцен. Е. Габрилович,
М. Швейцер. Реж. М. Швейцер.
Опер. Э. Савельева, С. Полуянов.
В ролях: Т. Семина (Катюша),
Е. Матвеев (Нехлюдов).
ГОСТЬ (по рассказу «Где Бог — там
любовь»). 1951. США. «XX век —
Фокс».
ДВА ГУСАРА. 1918—1919. РСФСР.
А. Ханжонков. Реж. И. Перестиа-
ни. В ролях: 3. Баранцевич,
Н. Радин, А. Крамов, К. Аскочен-
ский, С. Варламов.
ДВОЕЖЕНСТВО (по пьесе «Живой
труп»). 1922.Германия. «Алт-хофф-
Амбос-фильм». Реж. Р. Валь-
284
тер-Файн. В ролях: А. Абель,
М. Барнай, Э.фон Винтерштейн,
Р. Шюнцель, В. Дигельман.
ДЬЯВОЛ. 1914. Россия. «Русская зо¬
лотая серия». Сцен, и реж. Я. Про¬
тазанов. Опер. Н. Ефремов. В ро¬
лях: А. Янушева, И. Гедике,
В. Оболенский.
ЖИВОЙ ТРУП. 1911. Россия. Сцен,
и реж. Р. Перский. Опер. Носке.
В ролях: Н. Васильев, Е. Павлова,
М. Блюменталь-Тамарина.
ЖИВОЙ ТРУП. 1913. США. Братья
Уорнер.
ЖИВОЙ ТРУП. 1916. США. — См.
«Слабость человеческая».
ЖИВОЙ ТРУП. 1918. РСФСР. Д. Ха¬
ритонов. Сцен, и реж. Ч. Сабин¬
ский. В ролях: В. Холодная (Ма¬
ша), В. Максимов (Протасов).
ЖИВОЙ ТРУП. 1918. Германия «Ос-
вальд-фильм». Реж. Р. Освальд.
Опер. М. Фоссбендер. В ролях:
Б. Алдор, О. Энгл, М. Ткачева.
ЖИВОЙ ТРУП. 1918. Япония. Реж.
Э. Танака. В ролях: Т. Татибана,
Т. Кинугаса.
ЖИВОЙ ТРУП. 1919 и 1930. США.—
См. «Искупление».
ЖИВОЙ ТРУП. 1922. Германия. —
См. «Двоеженство».
ЖИВОЙ ТРУП. 1929. Германия —
СССР. «Прометеус — Межраб-
пом». Сцен. Б. Гусман, А. Мариен¬
гоф. Реж. Ф. Оцеп. Опер. А. Го¬
ловня, П. Ютци. В ролях: М. Яко-
бини, Вс. Пудовкин, Н. Вачнадзе,
В. Марецкая, В. Гарден.
ЖИВОЙ ТРУП. 1937. Франция. —
См. «Огненные ночи».
ЖИВОЙ ТРУП. 1952. СССР. «Лен-
фильм». Фильм-спектакль Ленин¬
градского драматического театра
им. Пушкина. Реж. В. Венгеров,
опер. Е. Шапиро. В ролях: Н. Си¬
монов (Протасов) и другие.
ЖИВОЙ ТРУП. 1969. СССР. «Лен-
фильм». Реж. В. Венгеров.
В ролях: А. Баталов (Протасов),
А. Демидова (Лиза), С. Тома
(Маша), О. Басилашвили (Каре¬
нин), И. Смоктуновский (Гений).
ЗА ЧТО? 1919. РСФСР. А. Ханжон-
ков. Реж. И. Перестиани. В ролях:
Г. Хмара, Л. Коренева, Л. Поле¬
вой, В. Рогачевская, Э. Кульганек.
ИСКУПЛЕНИЕ. 1919. США. Реж.
В. Хэмфри.
ИСКУПЛЕНИЕ. 1930. США. «МГМ».
Реж. Ф. Нибло. В ролях: Д. Гил¬
берт, Р. Адоре, К. Нагель, Э. Борд-
ман.
КАЗАКИ. 1915. Россия. Реж. А. Дран¬
ков.
КАЗАКИ. 1928. СССР «Госкинпром-
Грузия». Сцен. В. Шкловский. Реж.
Б. Барский. Опер. Гегеле.
КАЗАКИ. 1928. США. «МГМ». Сцен.
Ф. Марион. Реж. Д. Хилл.
КАЗАКИ. 1961. СССР. «Мосфильм».
Сцен. В. Шкловский. Реж. В. Про¬
нин. Опер. И. Гелейн, В. Захаров.
В ролях: Б. Андреев, Э. Бредун,
3. Кириенко, Л. Губанов.
КАТЮША (по роману «Воскресение»).
1914. Япония. Реж. К. Хосояма.
В ролях: Т. Сададзира, Т. Сэкинэ.
КАТЮША МАСЛОВА (по роману
«Воскресение»). 1915. Россия.
А. Ханжонков. Реж. П. Чардынин.
В ролях: Н. Лисенко, Н. Радин.
КАТЮША МАСЛОВА (по роману
«Воскресение»). 1923. Германия.
«Цельник-Мара-фильм». Реж.
Ф. Цельник. Опер. О. Тобер. В ро¬
лях: Л. Мара, Р. Форстер, Л. По¬
техина, О. Энгл, М. Петерсон,
Л. Александра, Л. Гаскел, Л. Грю-
нинг.
КАТЮШКА (по роману «Воскресе¬
ние»). 1909. Дания. «Нордиск».
КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ. 1918—1919.
РСФСР. И. Ермольев. Сцен.
Б. Чайковский. Реж. Ч. Сабин¬
ский.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1911. Рос¬
сия. А. Ханжонков. Сцен, и реж.
П. Чардынин. Опер. Л. Форестье.
В ролях: П. Чардынин (Позны-
шев), И. Мозжухин (Трухачев-
ский).
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1914. Рос¬
сия. «Русская золотая серия».
Реж. В. Гардин. Опер. А. Левиц¬
кий. В ролях: М. Тамаров, Б. Ор-
ский, Е. Уварова, Л. Сычева.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1915. США.
«Фокс». Реж. Г. Бренон. В ролях:
Теда Бара и другие.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1922. Гер¬
мания. «Цельник-Мара-фильм».
Реж. Р. Петерсон. Опер. П. Хольц-
285
ки. В ролях: Ф. Цельник, Э. Кай-
зер-Тиц, А. Фриланд, Э. Плесснер,
С. Кузнецов, М. Шлегель.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1926. Чехо¬
словакия. Реж. Г. Махатый. В ро¬
лях: Я. Шпеергер, Б. Биронова.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1930. Чехо¬
словакия. Сцен, и реж. Ф. Фехер.
Опер. В. Вих. В ролях: Я. Марван,
И. Ровенский, М. Соня.
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1937. Фран¬
ция. — См. «Петербургские белые
ночи».
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1937. Гер¬
мания. Реж. Ф. Харлан. В ролях:
П. Петерсен (Познышев), А. Шен-
хальс (Трухачевский), Л. Даговер
(Елена).
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 1947. Ита¬
лия. — См. «Любовники без
любви».
ЛЮБОВНИКИ БЕЗ ЛЮБВИ (по по¬
вести «Крейцерова соната»). 1947.
Италия. Реж. Д. Франчолини.
В ролях: К. Каламаи, Р. Люпи,
Ж. Серве.
ЛЮБОВЬ (по роману «Анна Каре¬
нина»). 1927. США. «МГМ». Реж.
Э. Гоулдинг. В ролях: Г. Гарбо
(Анна), Д. Гилберт (Вронский).
МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ
НУЖНО? 1915. Россия. Реж.
В. Гардин.
МЫ ЖИВЕМ ВНОВЬ (по роману
«Воскресение»). 1934. США.
«Парамаунт». Реж. Р. Мамулян.
Опер. Г. Толанд. В ролях: А. Стен
(Катюша), Ф. Марч (Нехлюдов).
Н4ТАША РОСТОВА. 1915. Россия.
A. Ханжонков. Реж. П. Чардынин.
В ролях: В. Каралли (Наташа),
B. Полонский (князь Андрей),
П. Лопухин (Пьер), И. Мозжухин
(Анатоль).
ОГНЕННЫЕ НОЧИ (по пьесе «Живой
труп»). 1937. Франция. Реж.
М. Л’Эрбье. В ролях: В. Франсен,
Г. Морлей, Г. Синьоре, Ж. Виго,
М. Робинсон, А. Носк.
ОТ НЕЙ ВСЕ КАЧЕСТВА. 1912. Рос¬
сия. Реж. С. Минтус.
ОТЕЦ СЕРГИЙ. 1917—1918. РСФСР.
И. Ермольев. Сцен. А. Волков.
Реж. Я. Протазанов. В ролях:
И. Мозжухин, В. Гайдаров, Н. Ли¬
сенко, В. Орлова.
ОТЕЦ СЕРГИЙ. 1978. СССР. «Мос- *
фильм». Реж. И. Таланкин. Опер.
Г. Рерберг. В ролях: С. Бондарчук,
А. Демидова, В. Стржельчик.
ПЕРВЫЙ ВИНОКУР. 1911. Россия.
«Тиман и Рейнгардт». Реж. Я. Про¬
тазанов. Опер. Л. Серрано. В ро¬
лях Н. Веков и другие.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ
(по «Крейцеровой сонате»). 1937.
Франция. «Гишар». Реж. Ж. Дре-
виль. В5>олях: Г. Морлей, Ж. Ион-
нель, Э. Ги, П. Ренуар, А. Розанн,
Ж. Эрриен.
ПЕТР ХЛЕБНИК (по рассказу «Петр
Мытарь»). 1914. Россия. «Русская
лента». Реж. Б. Глаголин. Опер.
A. Печковский. В ролях: Б. Гла-
голин, Е. Валерская, И. Уралов.
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. 1917. Рос¬
сия. В. Венгеров. Реж. Н. Маликов.
В ролях: С. Головин, О. Волкон¬
ская, А. Миклашевская.
ПОЗНАНИЕ. 1915. Германия. «Луна-
фильм». Реж. Л. Валлис. В спра¬
вочнике Вен. Вишневского сказа¬
но: «По мотивам Л. Толстого».
ПОЛИКУШКА. 1918—1919. РСФСР.
«Русь». Сцен. Ф. Оцеп, А. Эфрос,
Реж. А. Санин. Опер. Ю. Желя¬
бужский. В ролях: И. Москвин,
B. Пашенная, В. Массалитинова.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. 1916. Россия.
И. Ермольев. Сцен, и реж. Я. Про¬
тазанов. Опер. Я. Бургасов. В ро¬
лях: В. Орлова, И. Гедике, П. Бак-
шеев.
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ (по рассказу
«Что я видел во сне»). 1916. Рос¬
сия. Р. Перский. Реж. В. Кривцов
В ролях: В. Барановская и другие.
СИБИРСКИЕ СНЕГА (по роману
«Воскресение»). 1909. Франция.
«Пате». В ролях: М. Рош, Дюмени.
СОРОК ЛЕТ («Дьявольское искуше¬
ние»). 1916. Россия. И. Ермольев.
Реж. А. Аркатов. «Нравоучитель¬
ная драма на сюжет драматической
легенды Л. Н. Толстого» (справоч¬
ник Вен. Вишневского).
ТОЖЕ ЛЮДИ (по роману «Война и
мир»). 1958. СССР. ВГИК. Сцен,
и реж. Г. Данелия, И. Таланкин
(дипломная работа).
УХОД ВЕЛИКОГО СТАРЦА. 1912.
Россия «Тиман и Рейнгардт».
286
Сцен. И. Тенеромо. Реж. Я. Прота¬
занов. Опер. Ж. Мейер, А. Левиц¬
кий. Грим И. Кавалеридзе. В ролях:
В. Шатерников (Л. Н. Толстой),
О. Петрова (С. А. Толстая), М. Та-
маров (В. Г. Чертков), Е. Тиман
(А. Л. Толстая).
ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН. 1913. Россия.
А. Ханжонков. Сцен, и реж. П. Чар-
дынин. Опер. В. Старевич. В ролях:
Н. Семенов, П. Бирюков.
ХОЗЯИН И РАБОТНИК. 1912. Рос¬
сия. Реж. С. Минтус.
ХОЗЯИН И РАБОТНИК. 1917. Рос¬
сия. Г. Либкен. Реж. С. Веселов¬
ский. Опер. П. Мосягин. В ролях:
В. Зимовой, Н. Римский, А. Пети-
ни, С. Гладков.
ХОЗЯИН И РАБОТНИК. 1918—1919.
РСФСР. «Художественный экран».
Сцен, и реж. М. Бонч-Томашевский
и А. Смирнов.
ХОЛСТОМЕР. 1910—1911. Россия.
«Пате».
ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ. 1916. Россия.
А. Ханжонков и «Разумный кине¬
матограф». В ролях: А. Вертин¬
ский, И. Толстой.
ЧТО Я ВИДЕЛ ВО СНЕ. 1916. Рос¬
сия. — См. «Сердце не камень»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. ТОЛСТОЙ И КИНЕМАТОГРАФ. ВСТРЕЧА 3
Глава 2. ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 20
Глава 3. ПОСЛЕДНИЕ БЕСЕДЫ 41
Глава 4. «ЯМА, В КОТОРУЮ ПРОВАЛИВАЮТСЯ ВСЕ» 64
Глава 5. ИЗ-ПОД ГРИМА 98
Глава 6. ЧЕТЫРЕ ПРОБЫ 119
Глава 7. ДВАДЦАТЬ ФИЛЬМОВ СТАРОГО СВЕТА 142
Глава 8. ДВАДЦАТЬ ФИЛЬМОВ НОВОГО СВЕТА 167
Глава 9. ТОЛСТОВСКИЙ ЭКРАН 191
«Казаки В. Пронина. Чем ближе, тем дальше 193
«Воскресение» М. Швейцера. Индивид и его
ответственность 201
«Война и мир» С. Бондарчука. Человек — дом—земля 215
«Анна Каренина» А. Зархи. Человек — интерьер —
реквизит 232
«Живой труп» В. Венгерова. Гамлетизм по-толстовски 247
Глава 10. КРЕПОСТЬ В ТЫЛУ 263
ТОЛСТОВСКИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ 283
Лев Александрович Аннинский
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И КИНЕМАТОГРАФ
Редактор В. А. Рязанова
Художественный редактор Г. К. Александров
Технический редактор Р. П. Бачек
Корректор Т. М. Медведовская
ИБ № 1050. Сдано в набор 12.09.79. Подц. в пе¬
чать 16.05.80. А10291. Формат издания 60x84/16. Бумага
тифдручная. Глубокая печать. Гарнитура «журнальная >'.
Уел. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 18,069. Изд. № 15309. Тираж
25 000. Заказ 957. Цена 1 р. 40 к. Издательство «Искусство».
103009 Москва, Собиновский пер., 3. Ордена Трудового Крас¬
ного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Ка¬
линин, проспект Ленина, 5.
Л. Аннинский ЛЕВ ТОЛСТОЙ