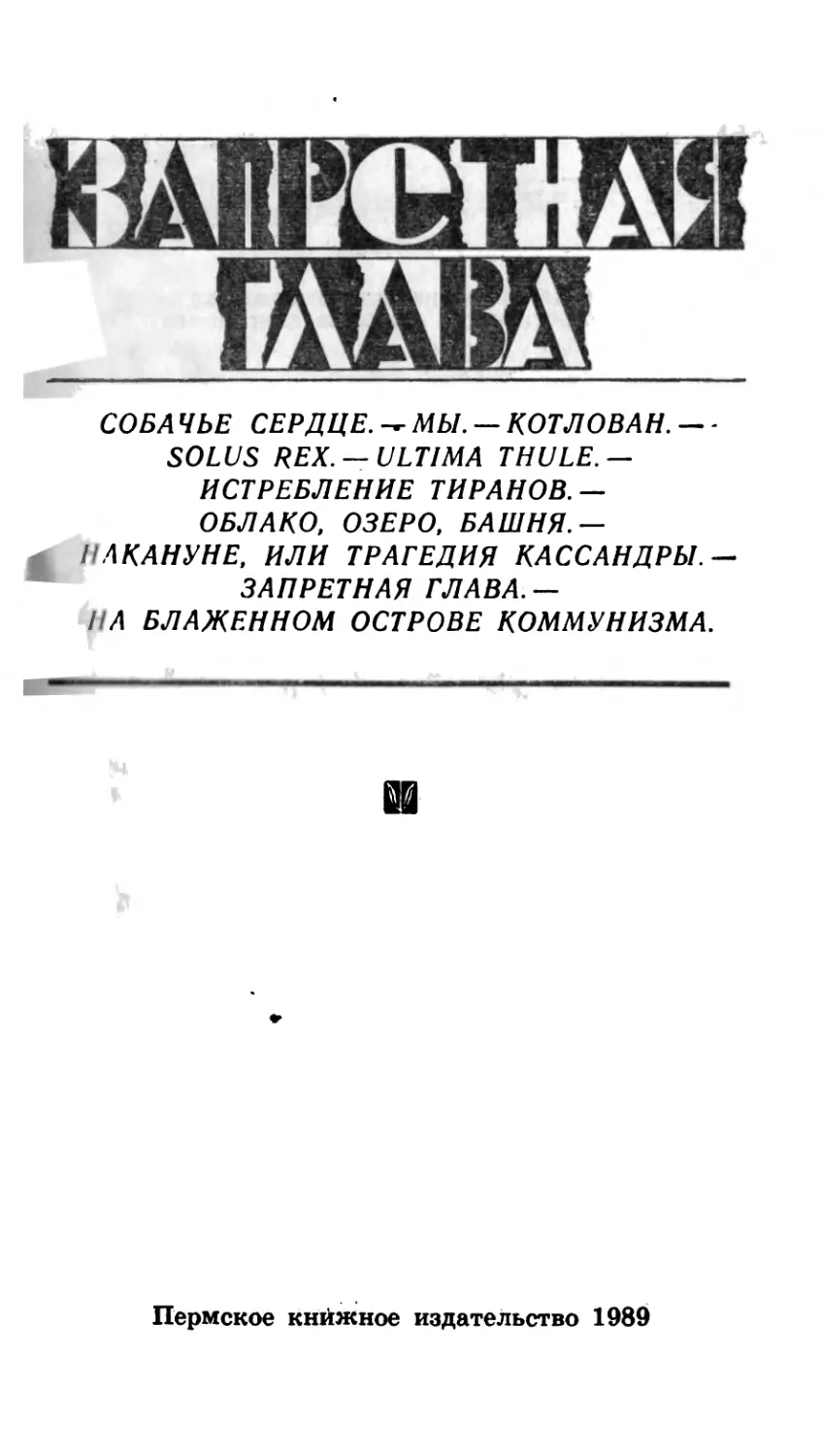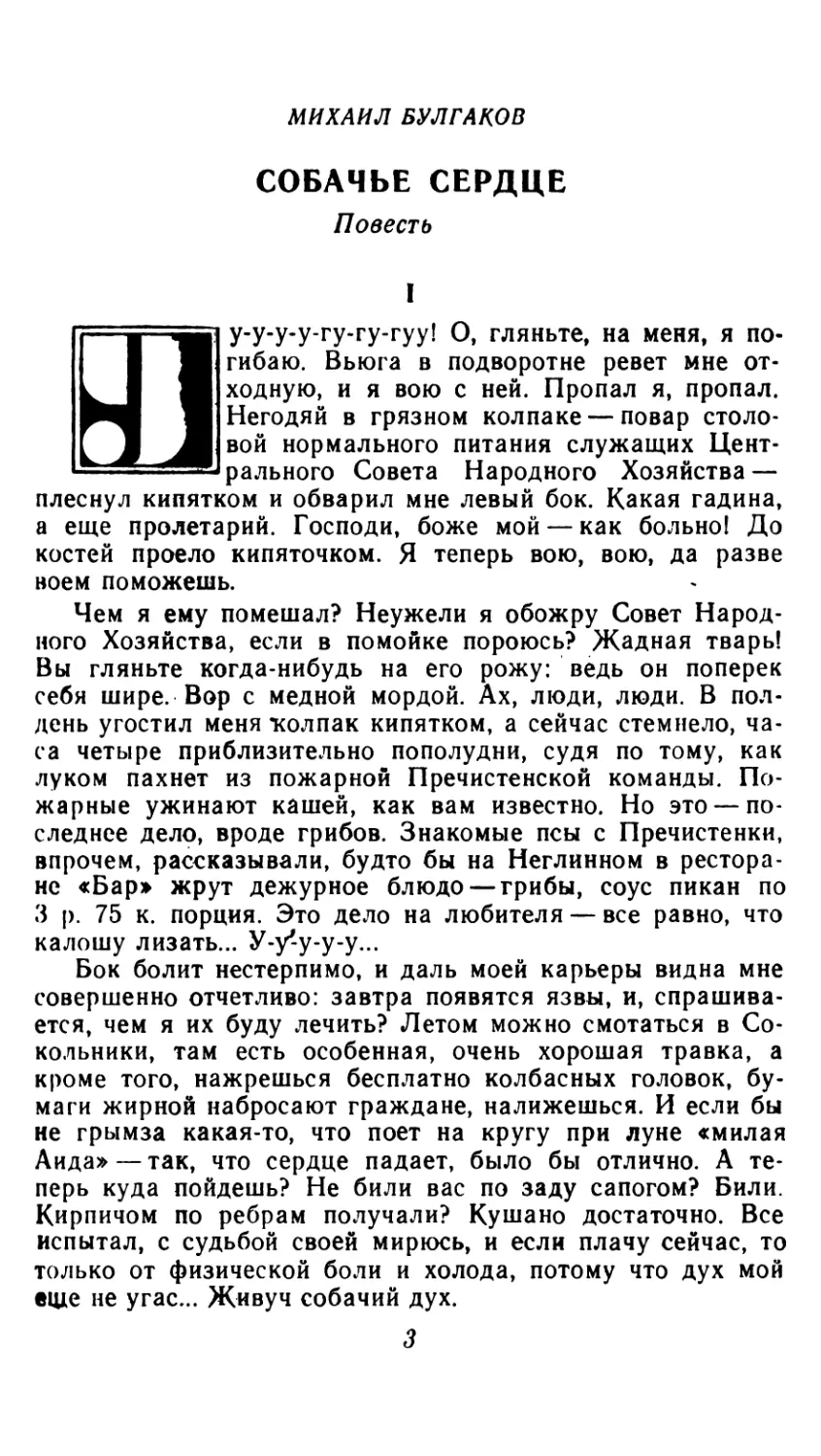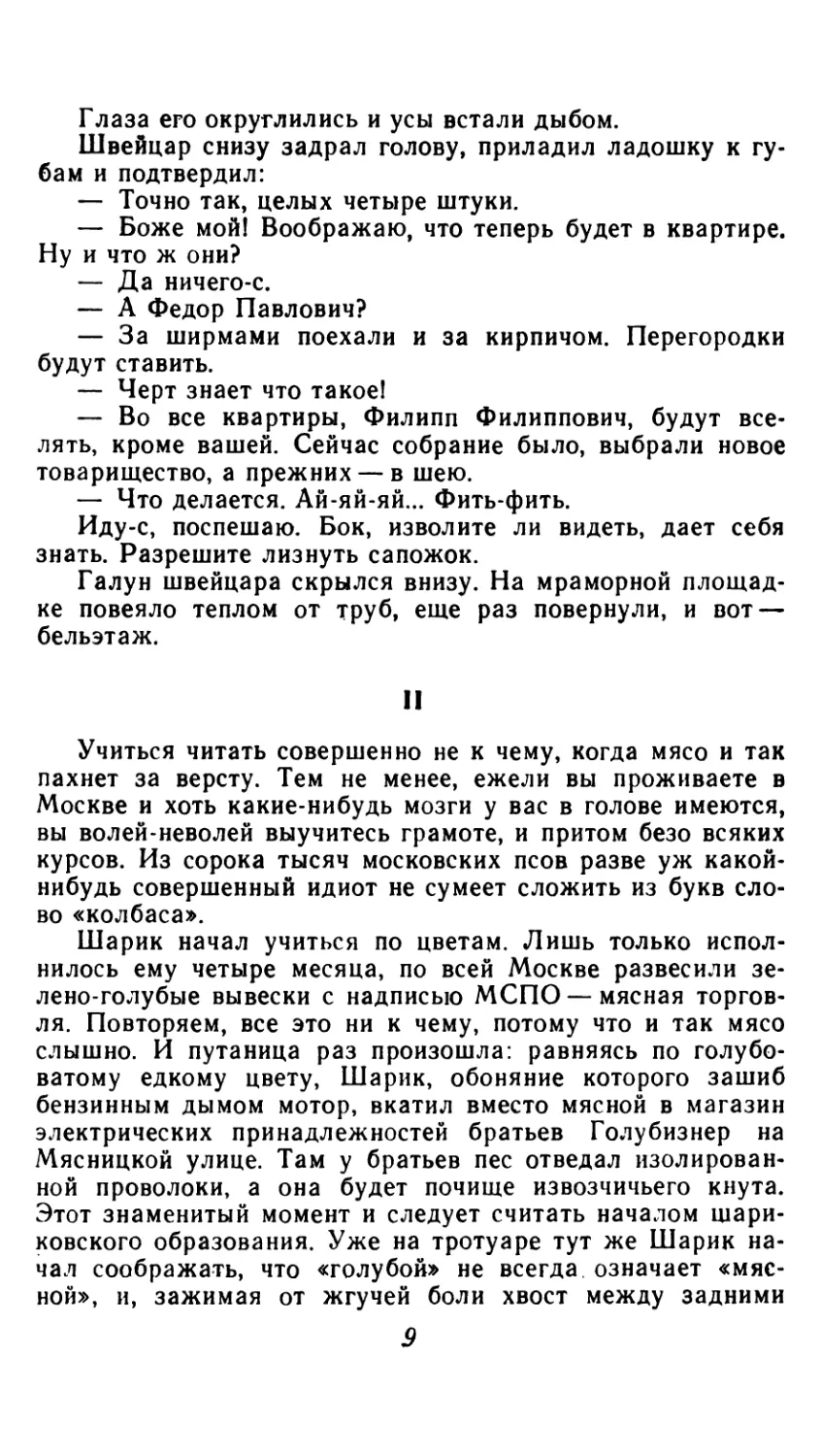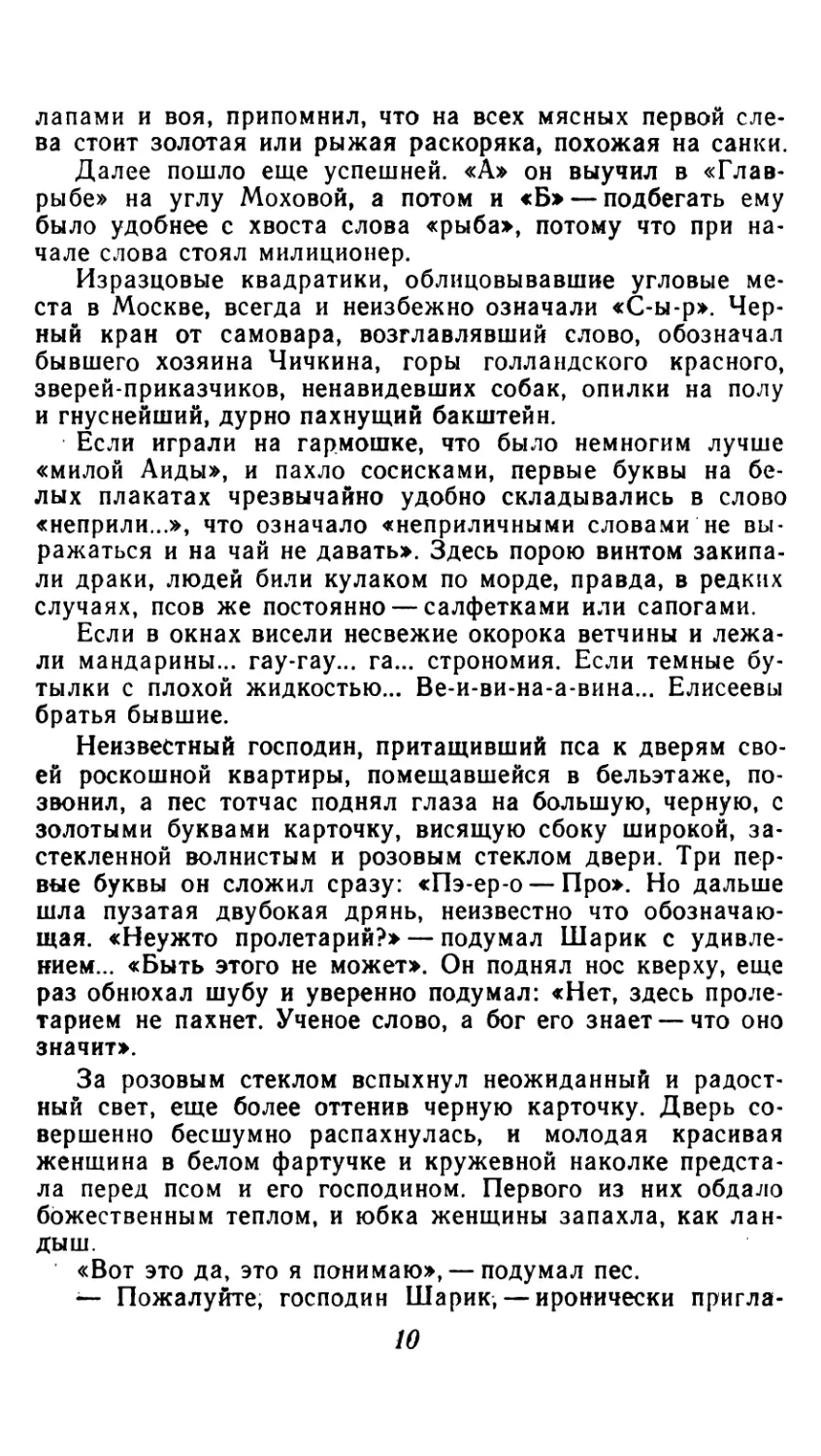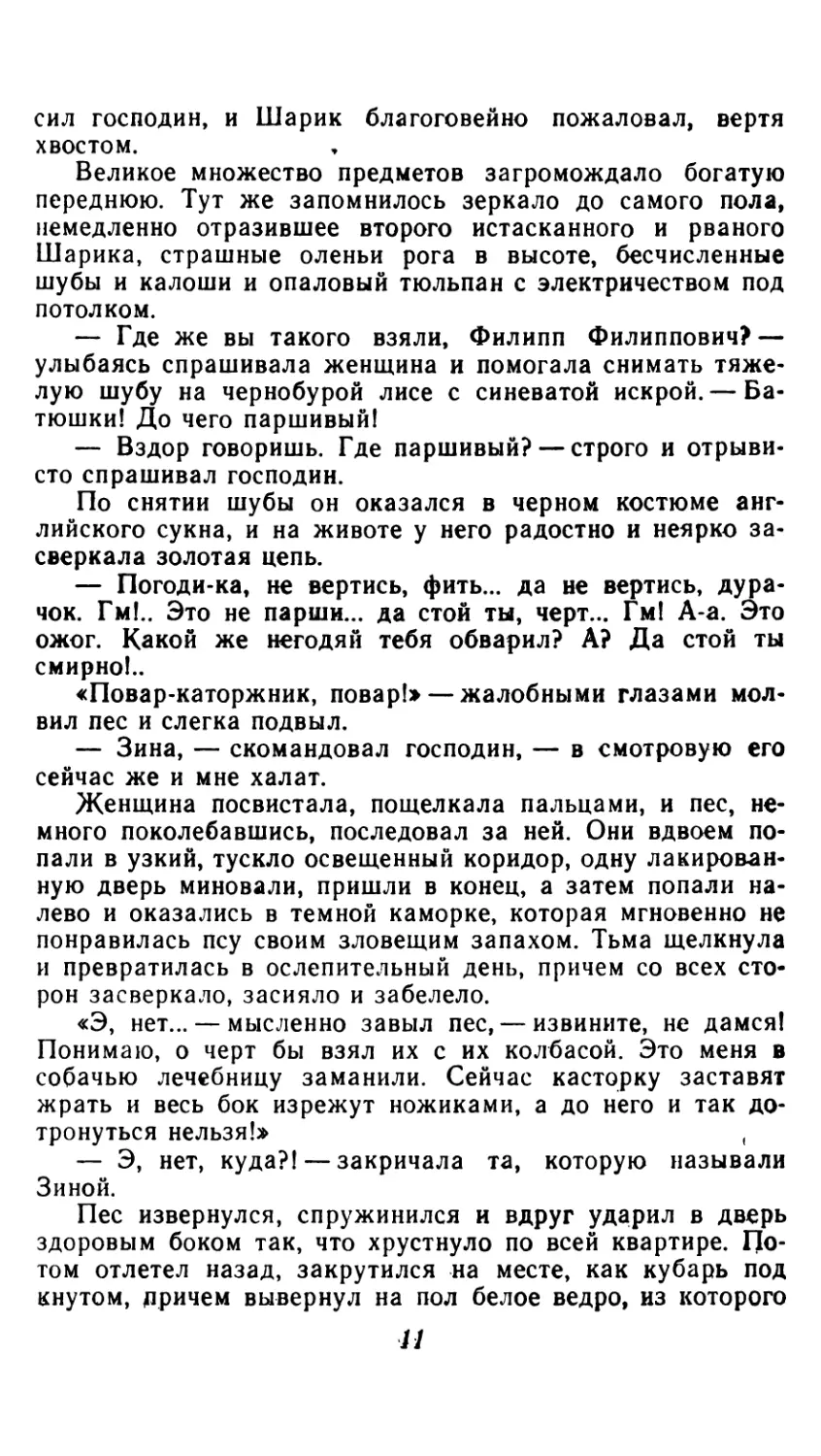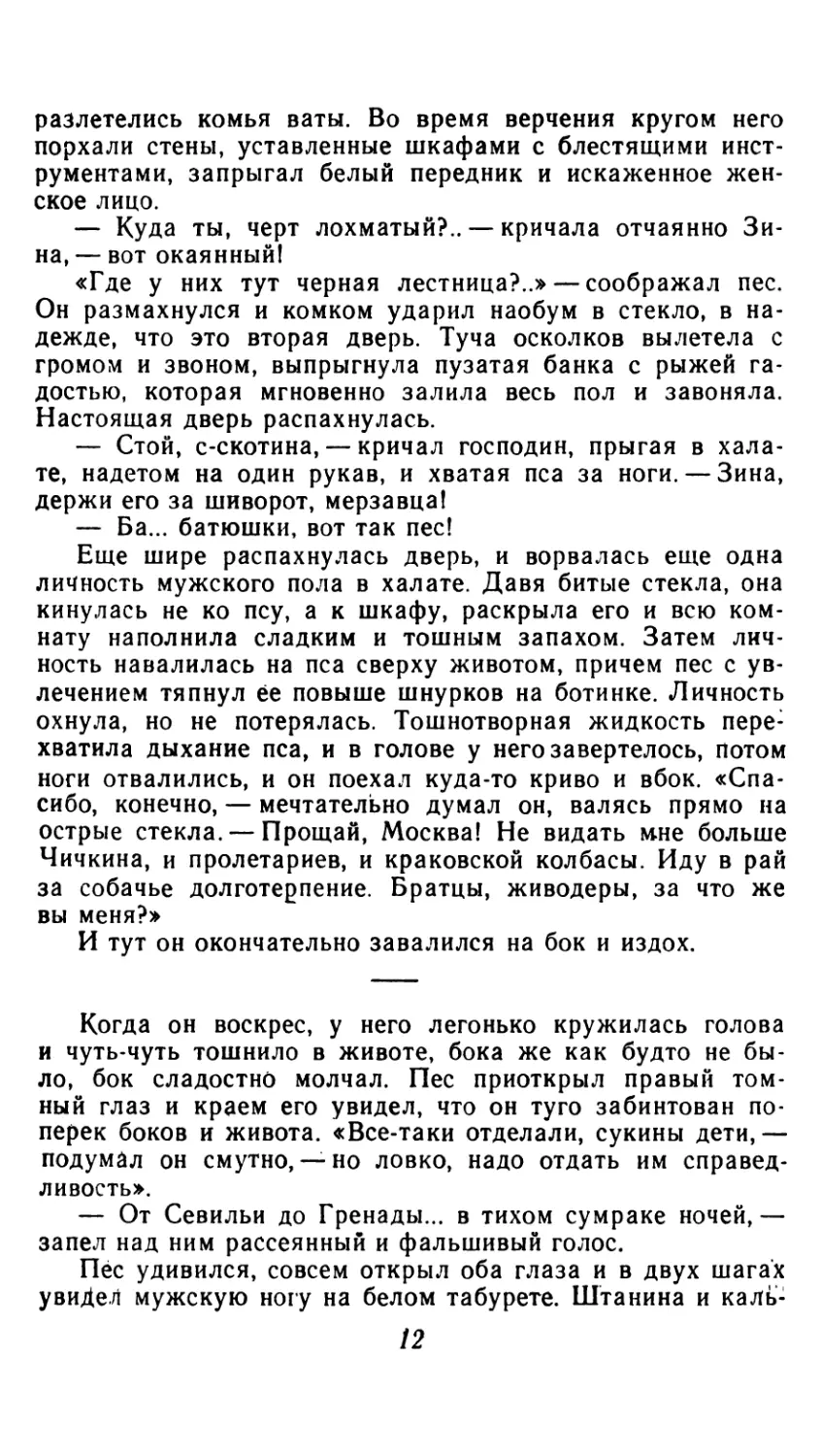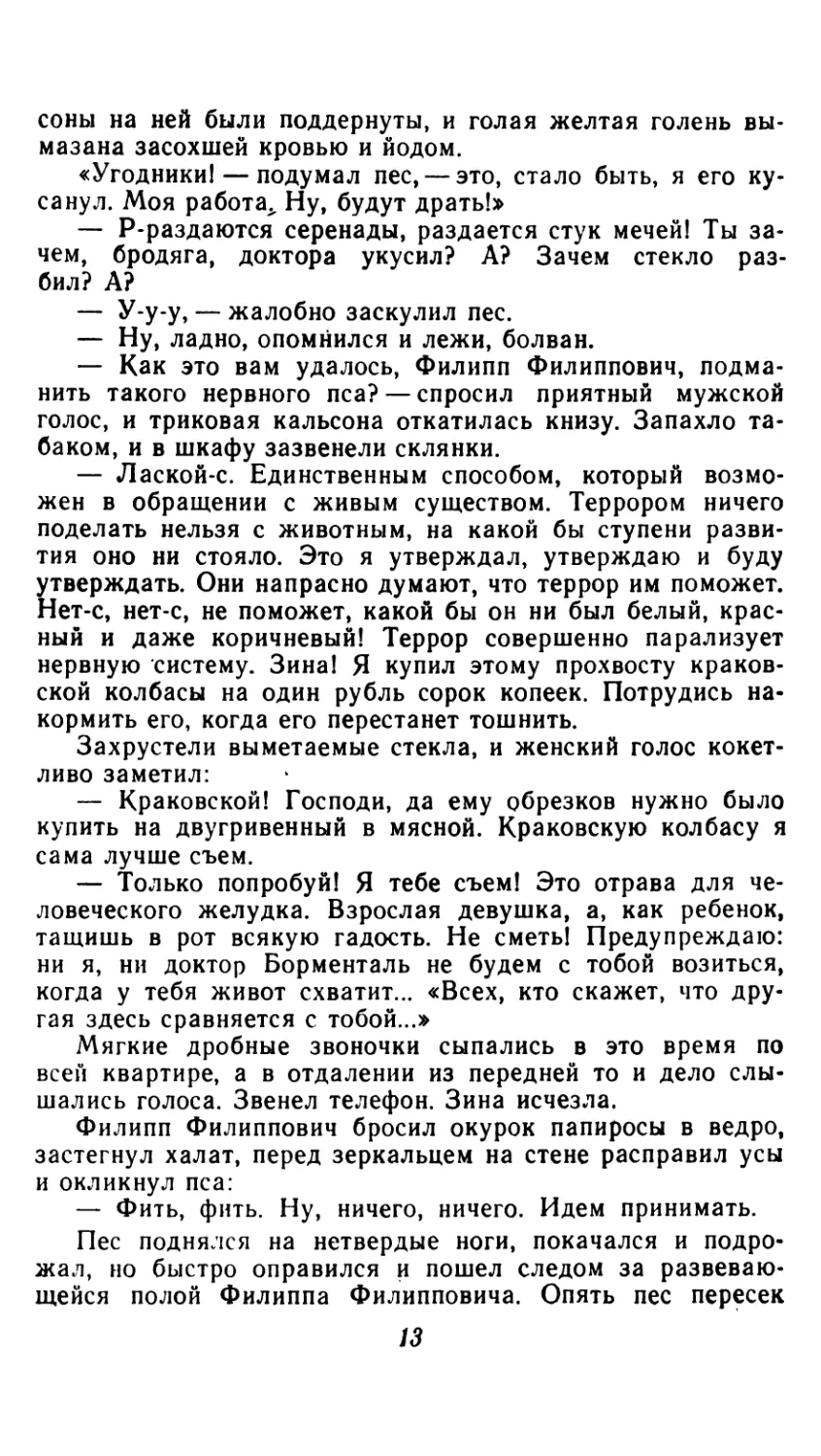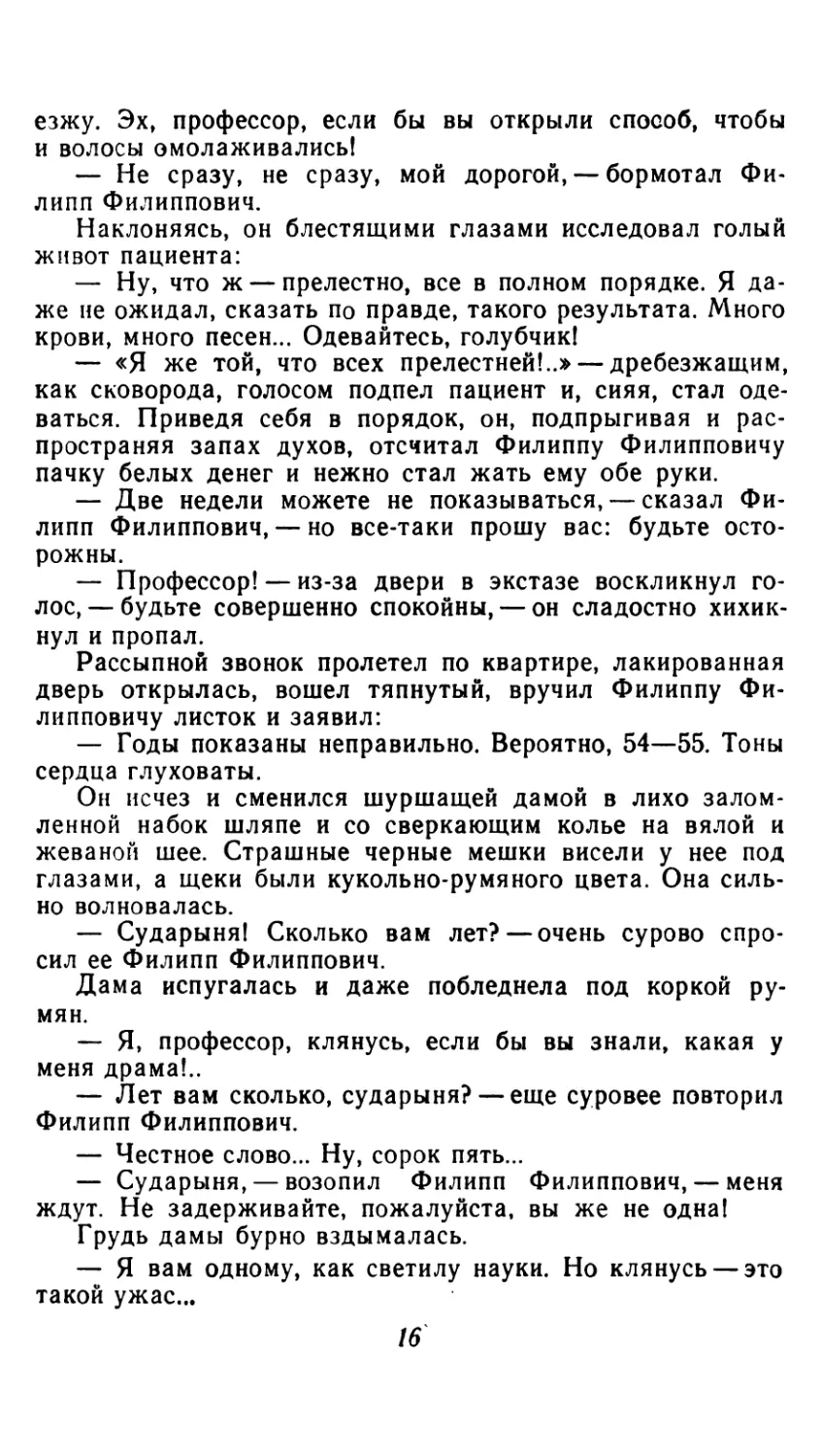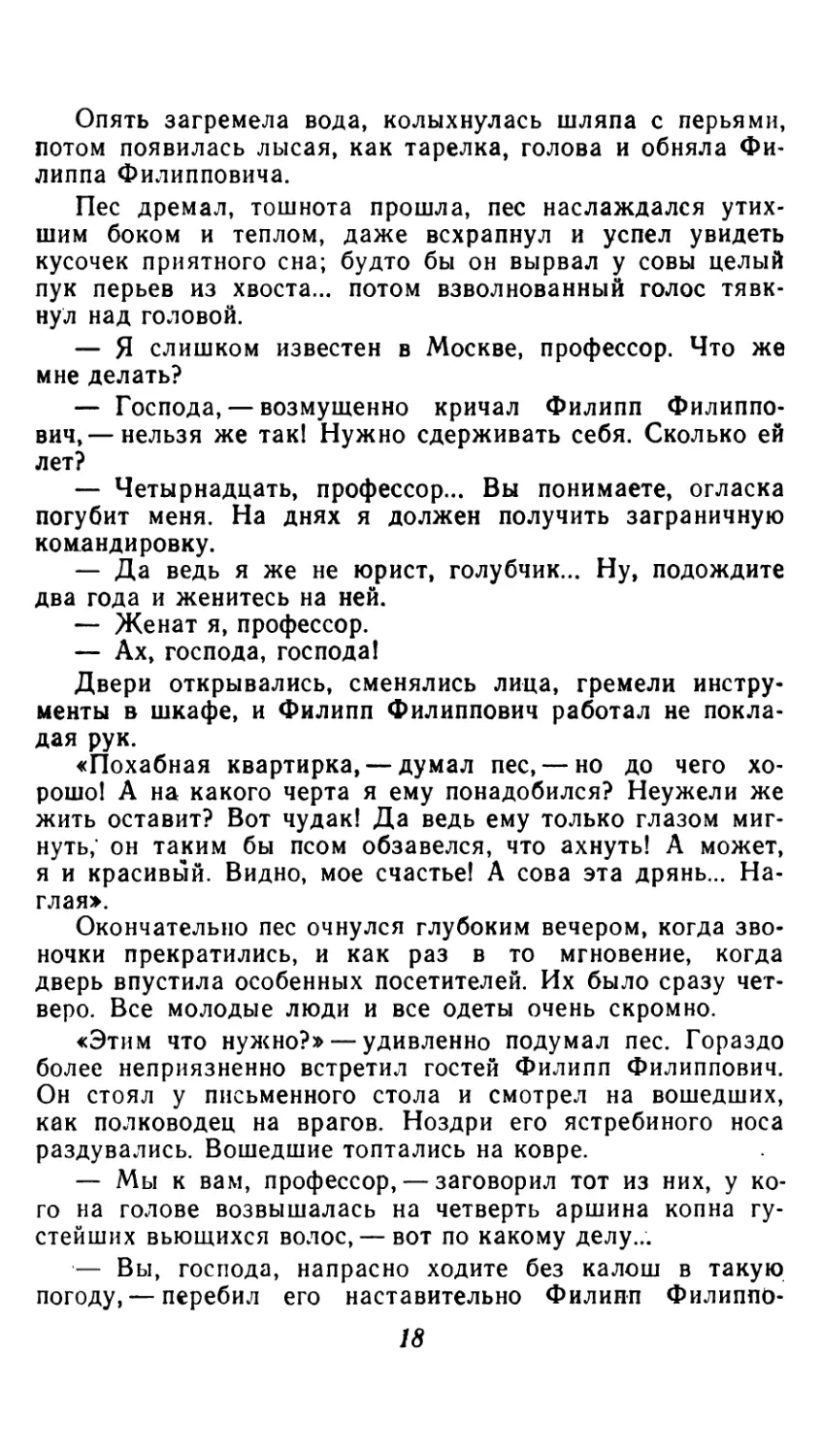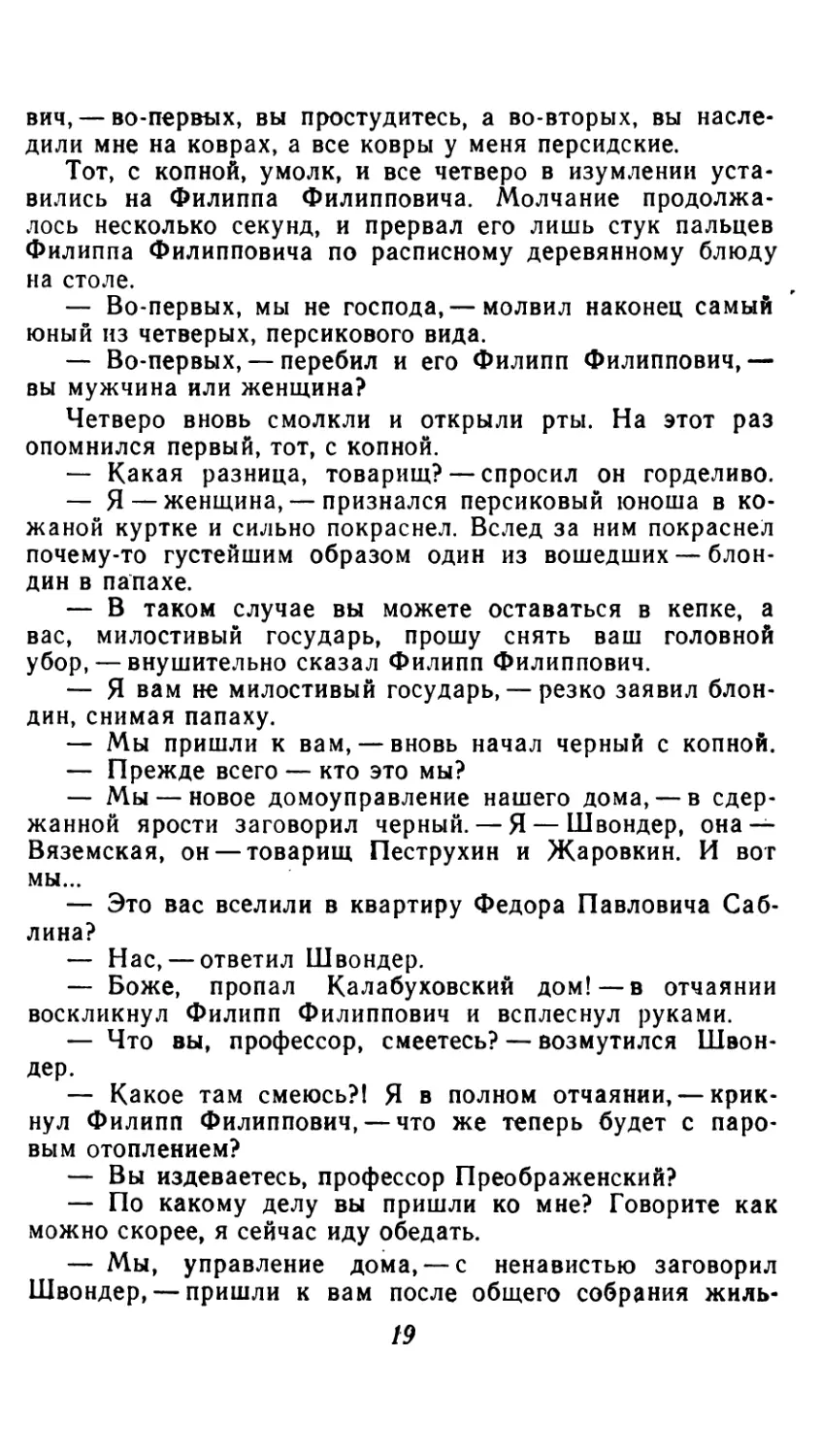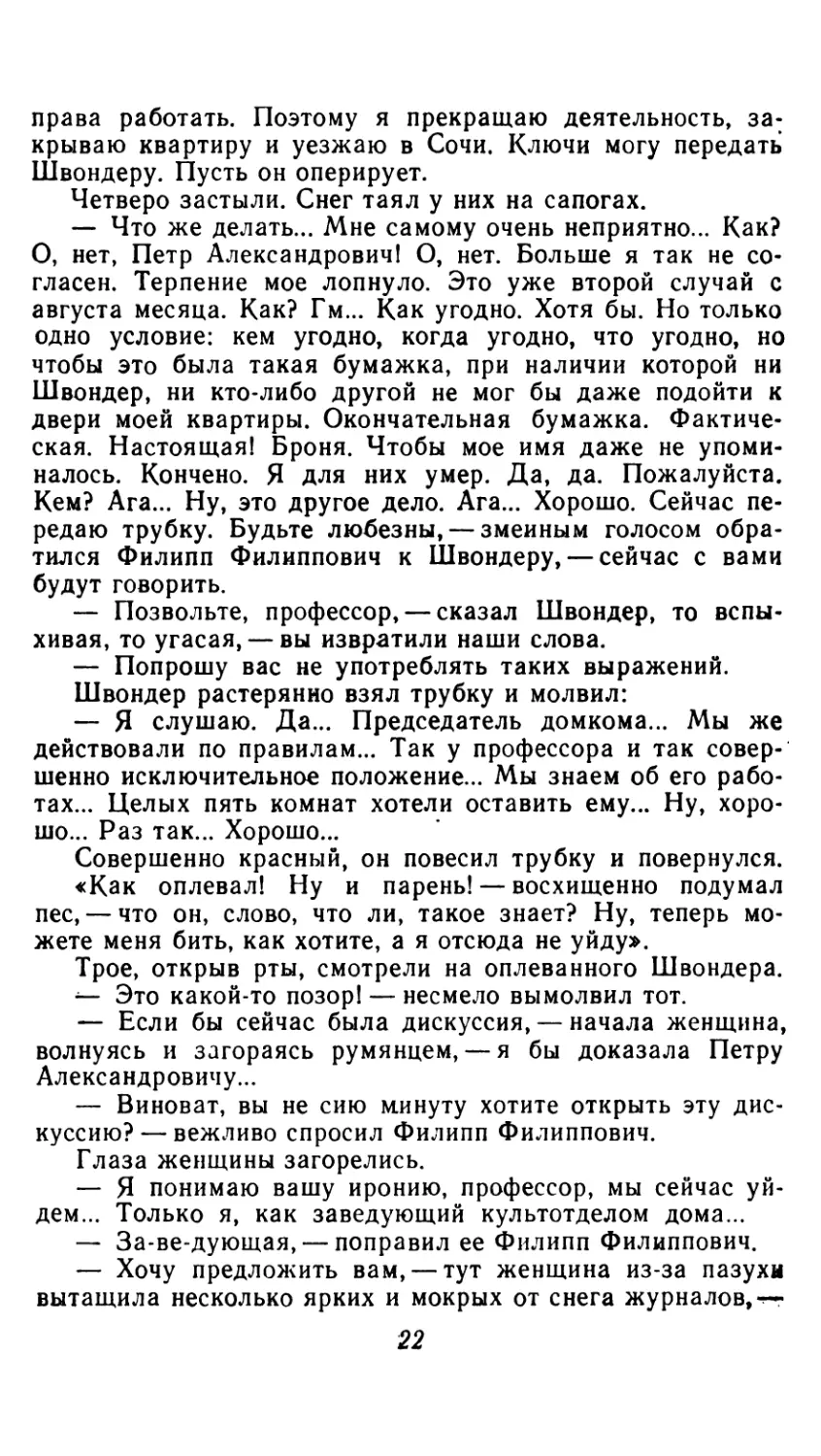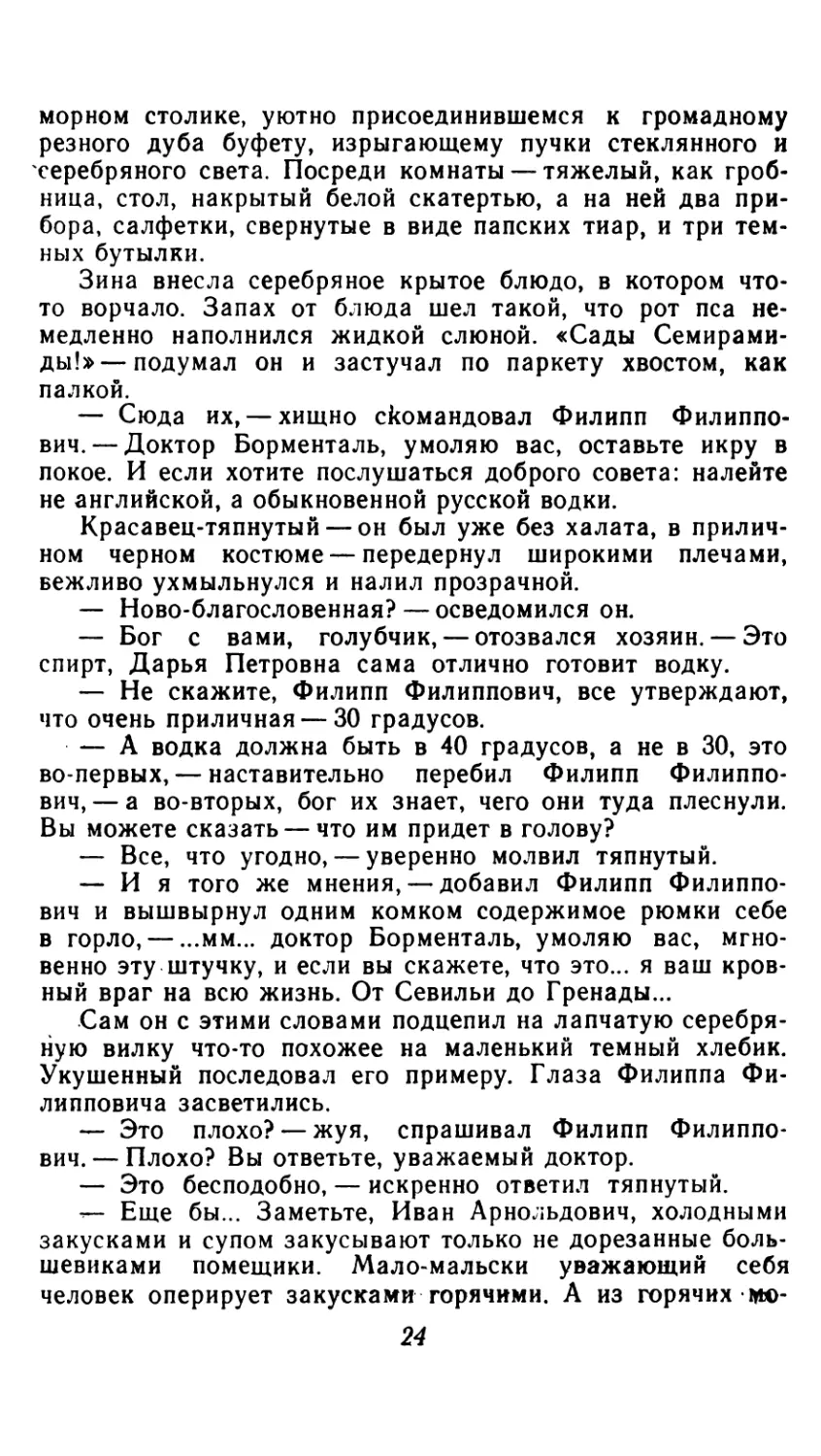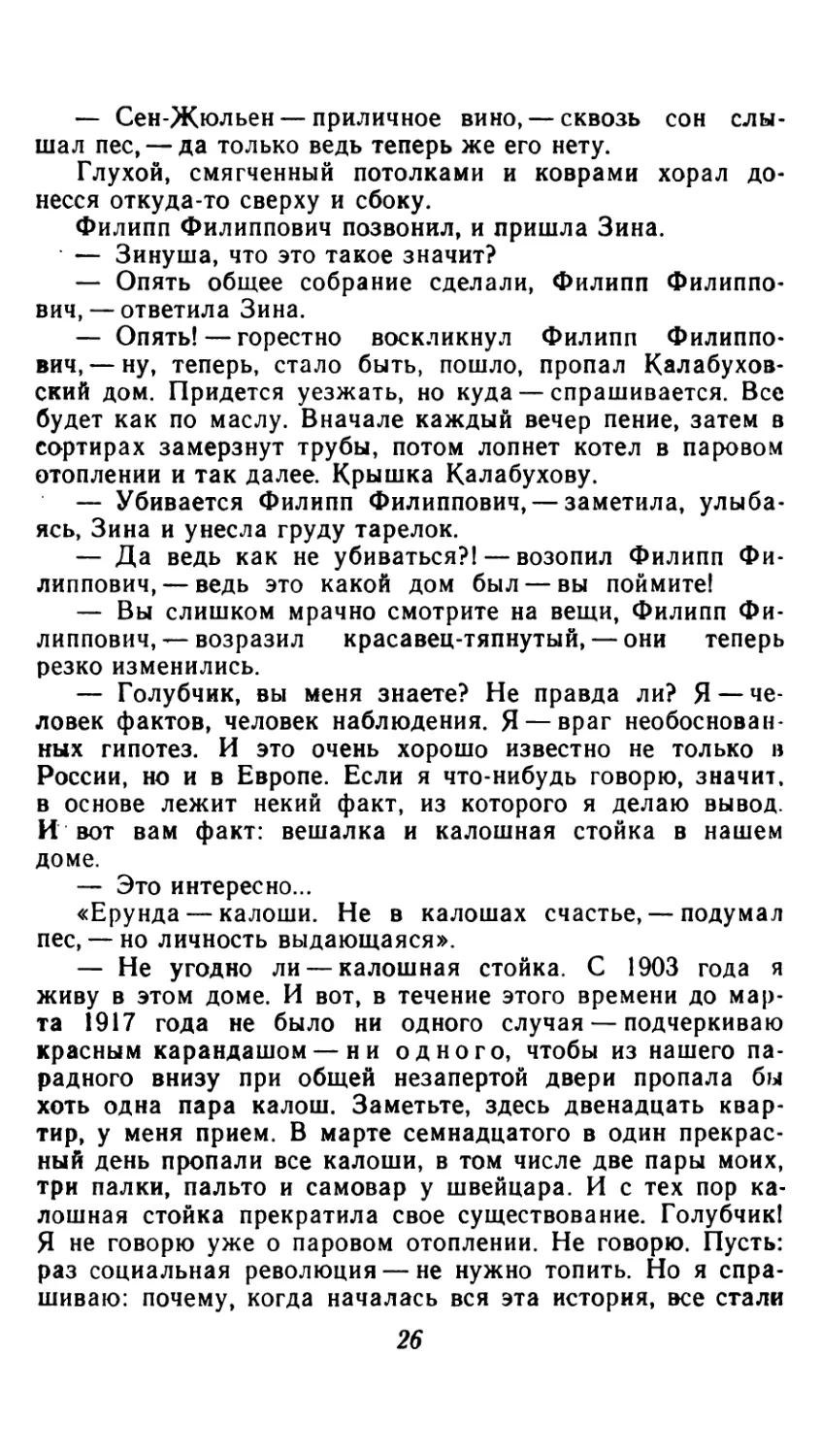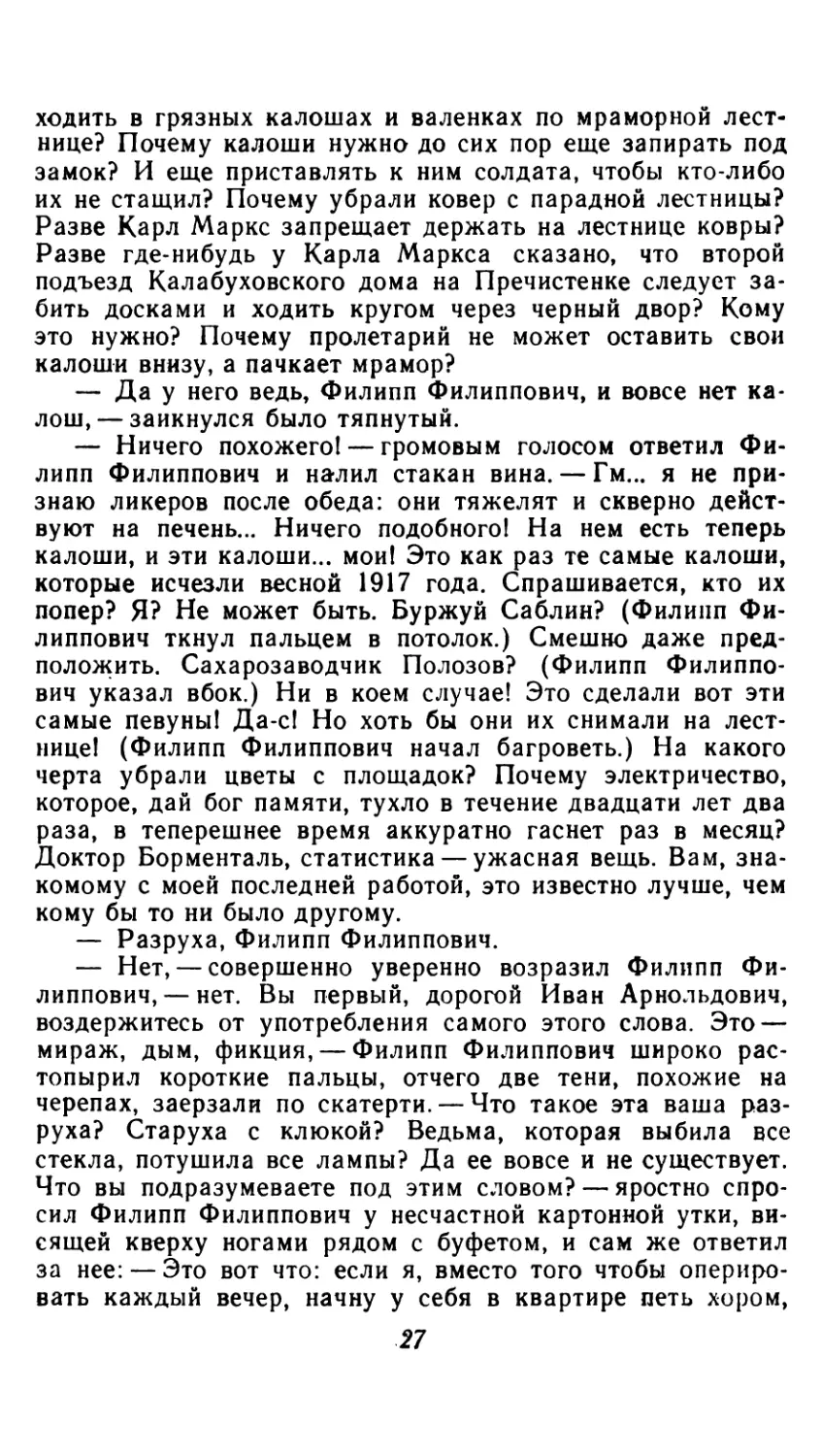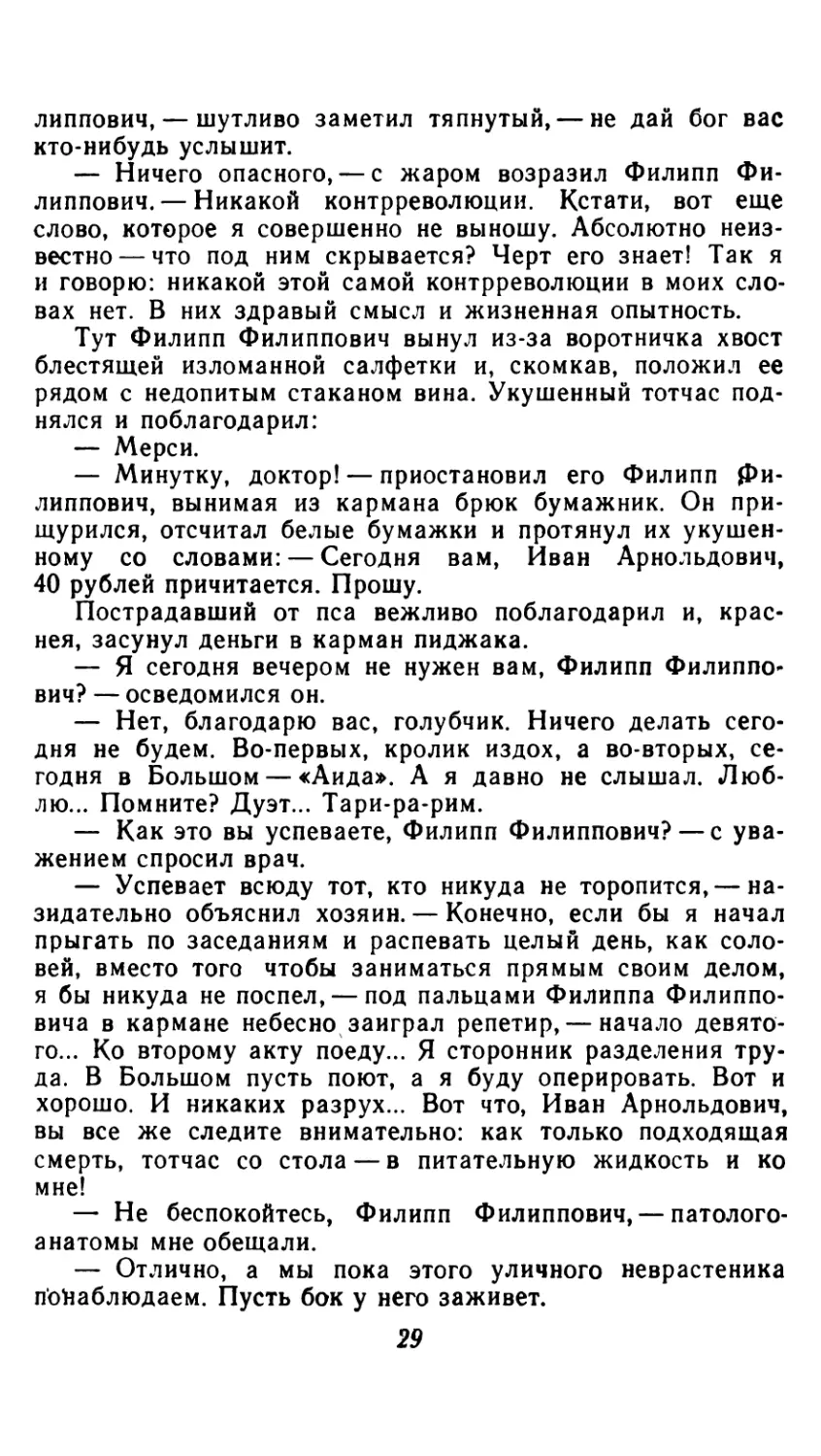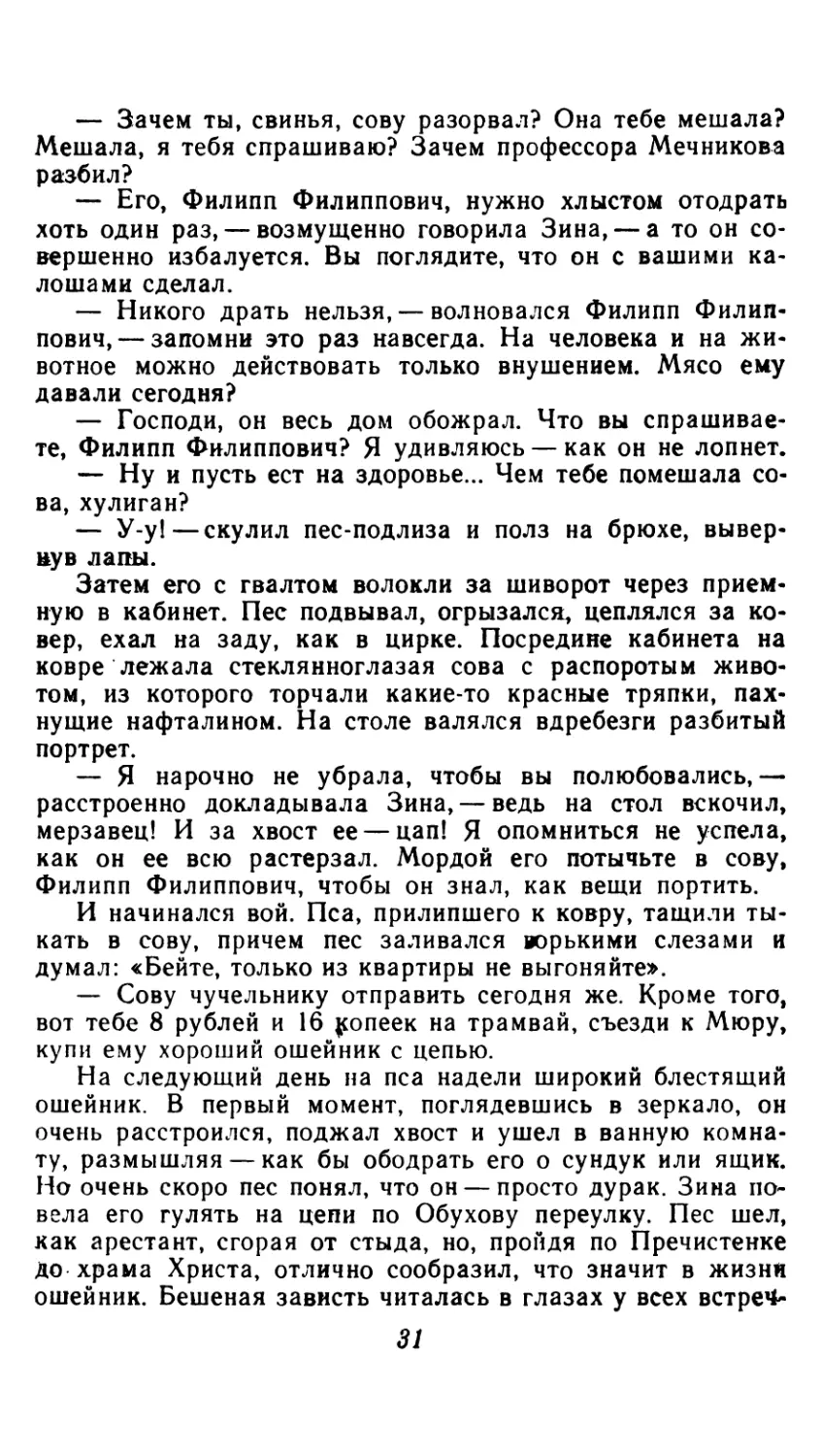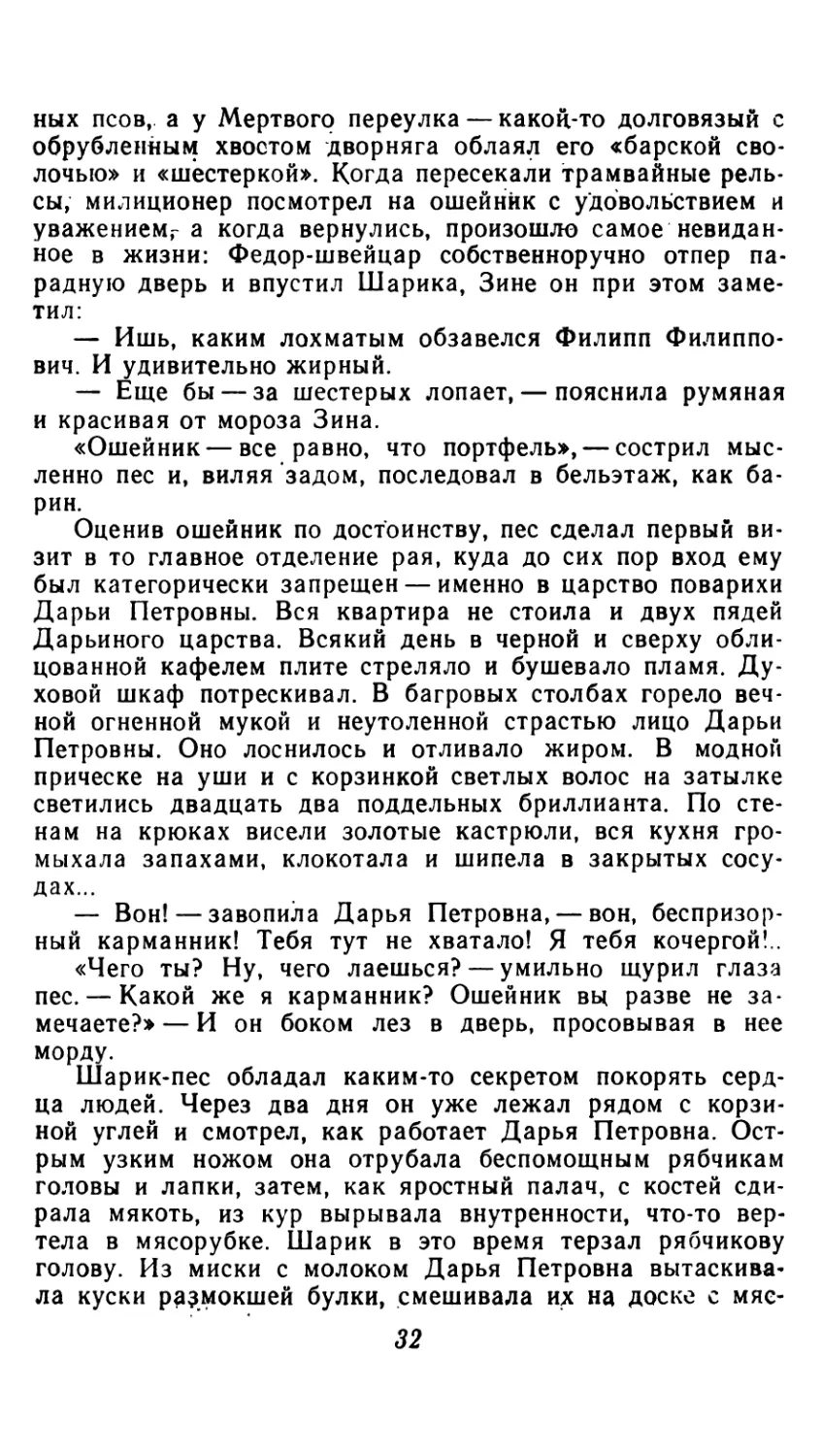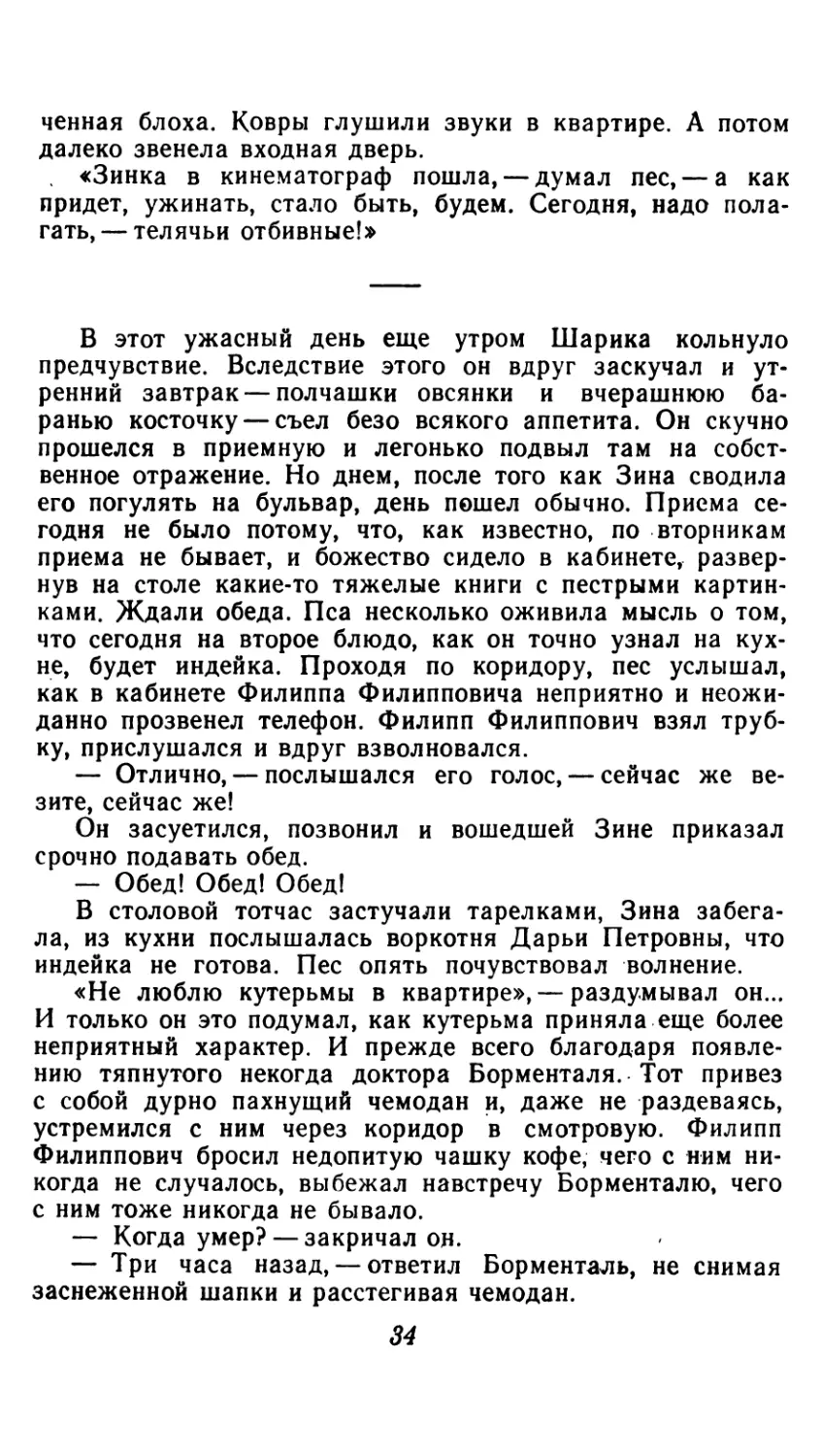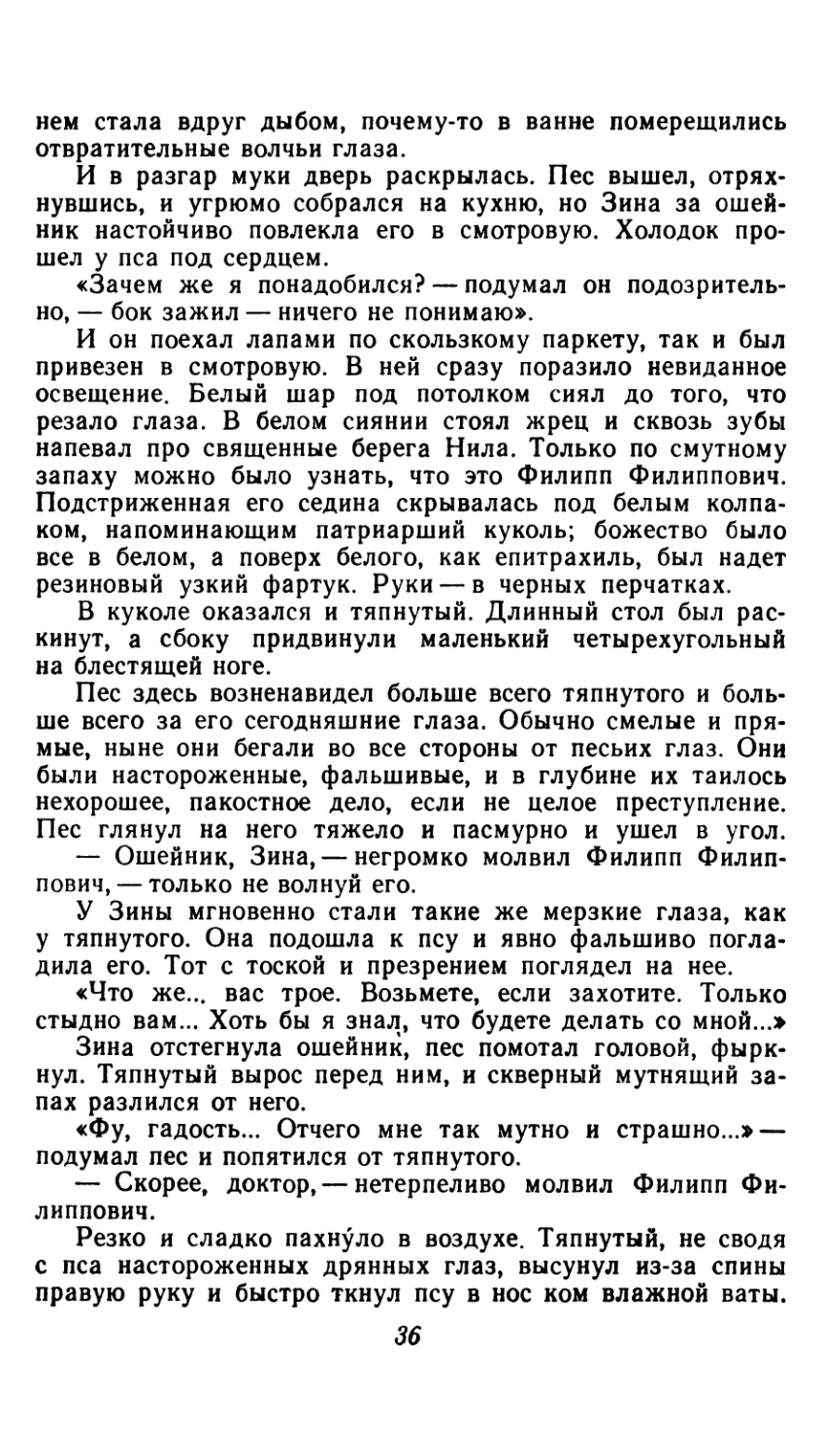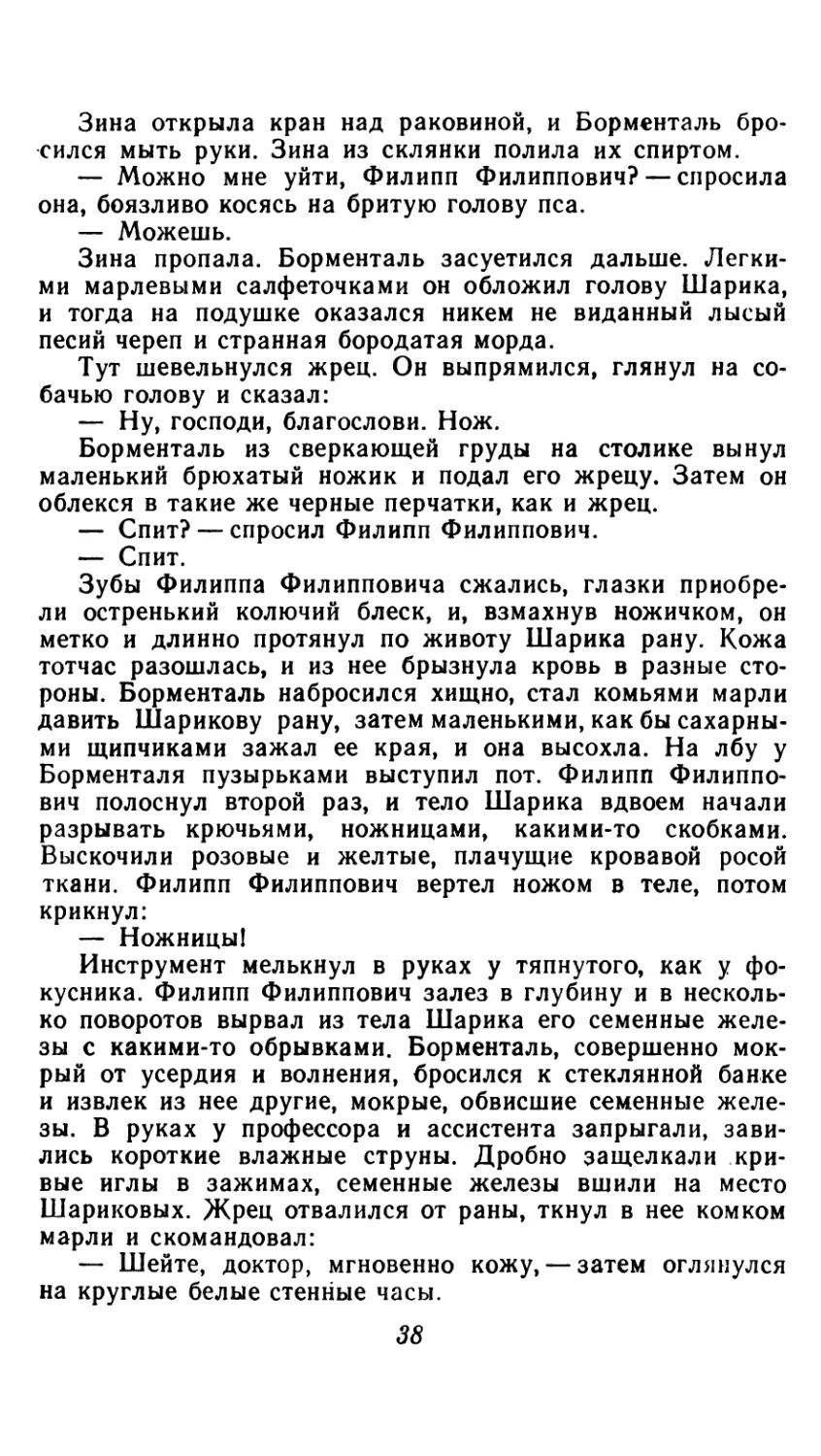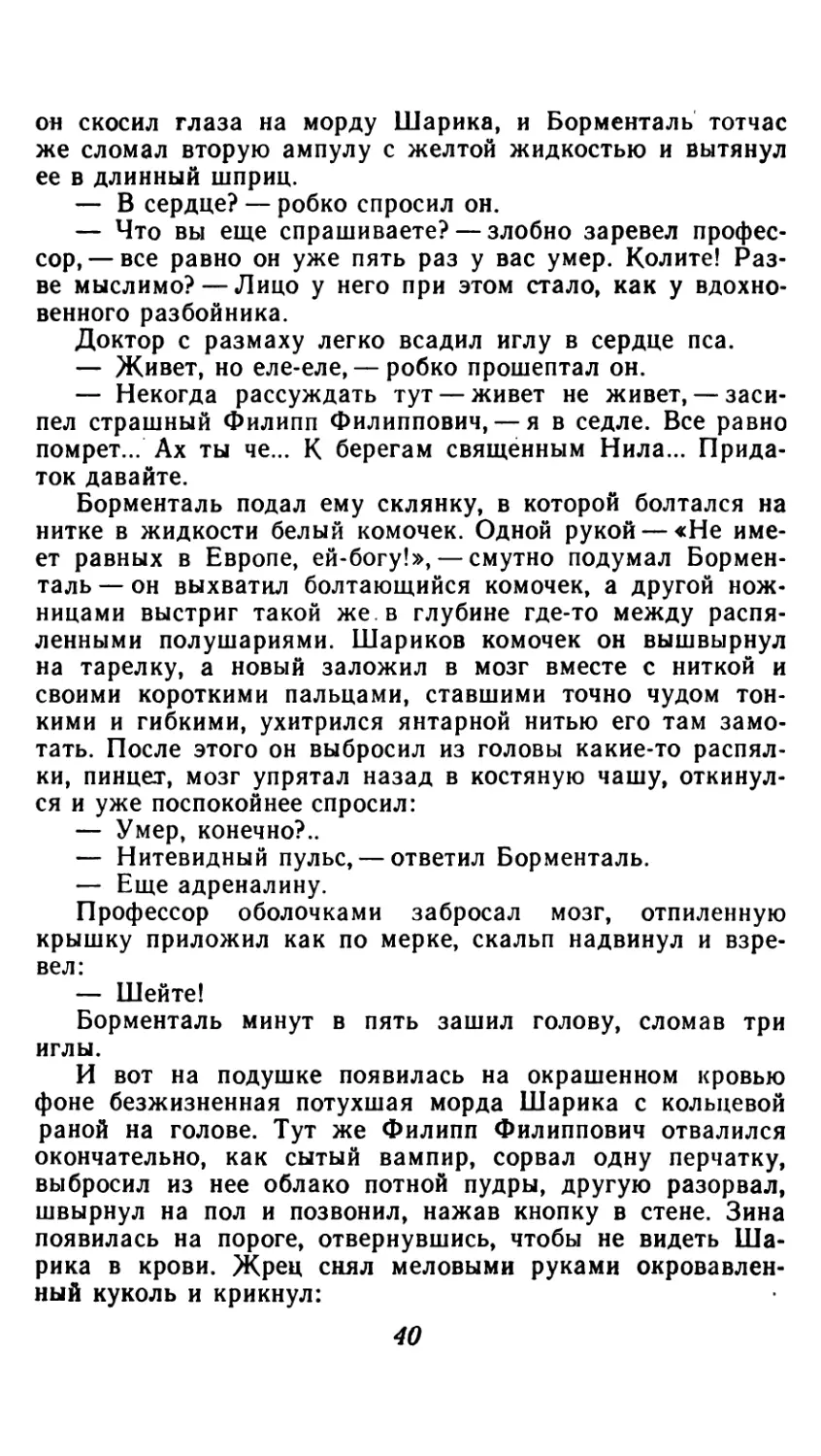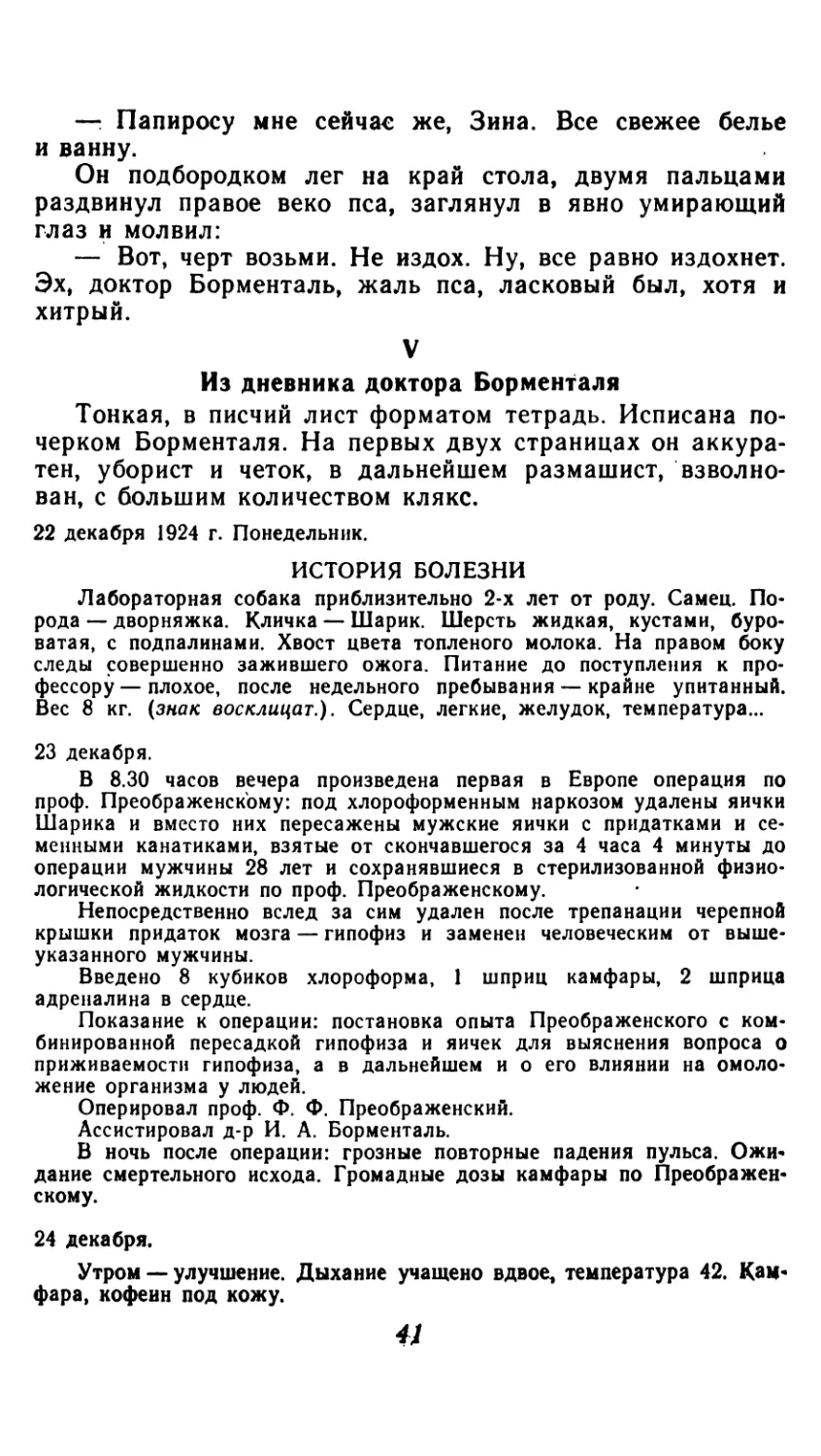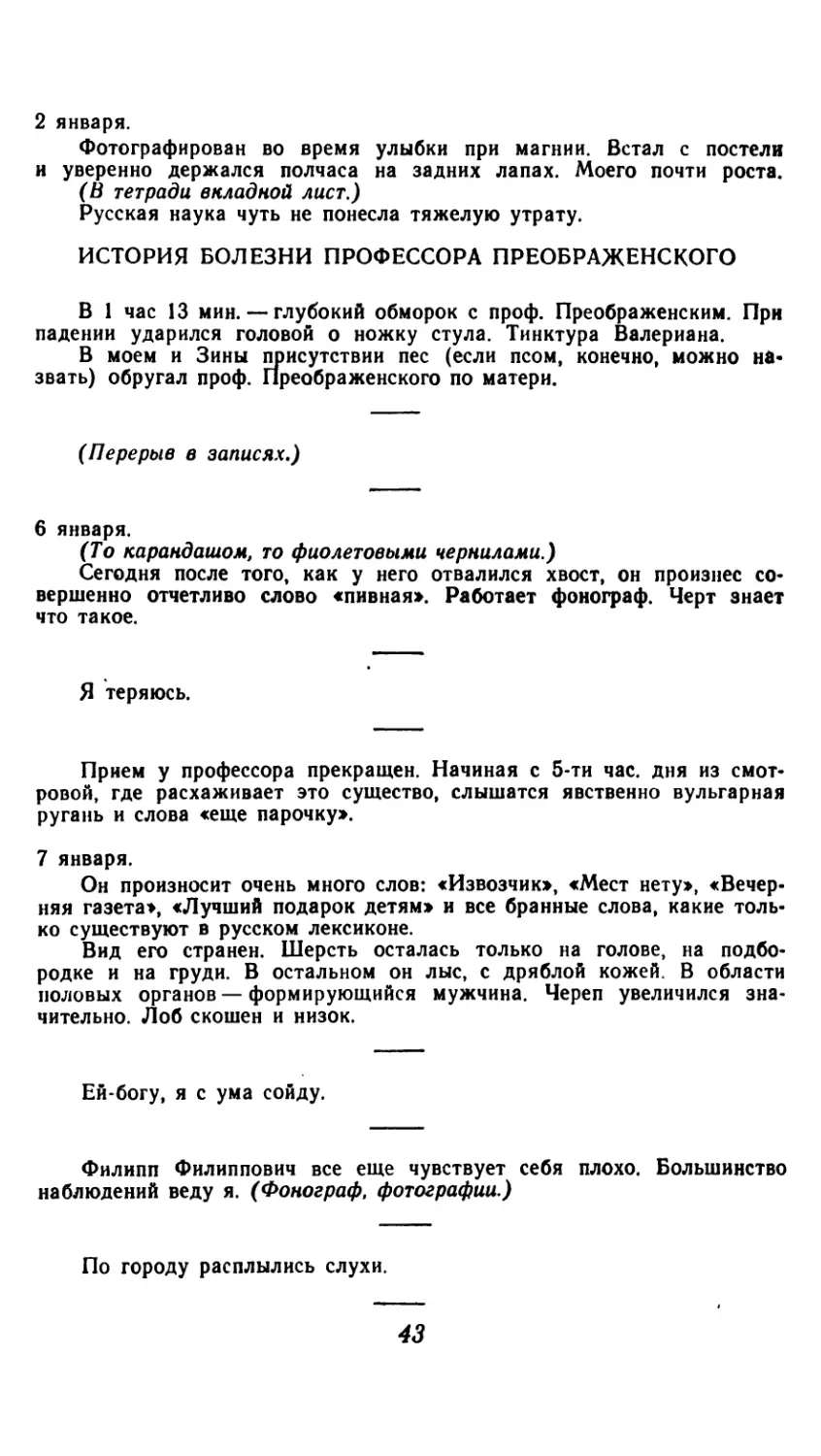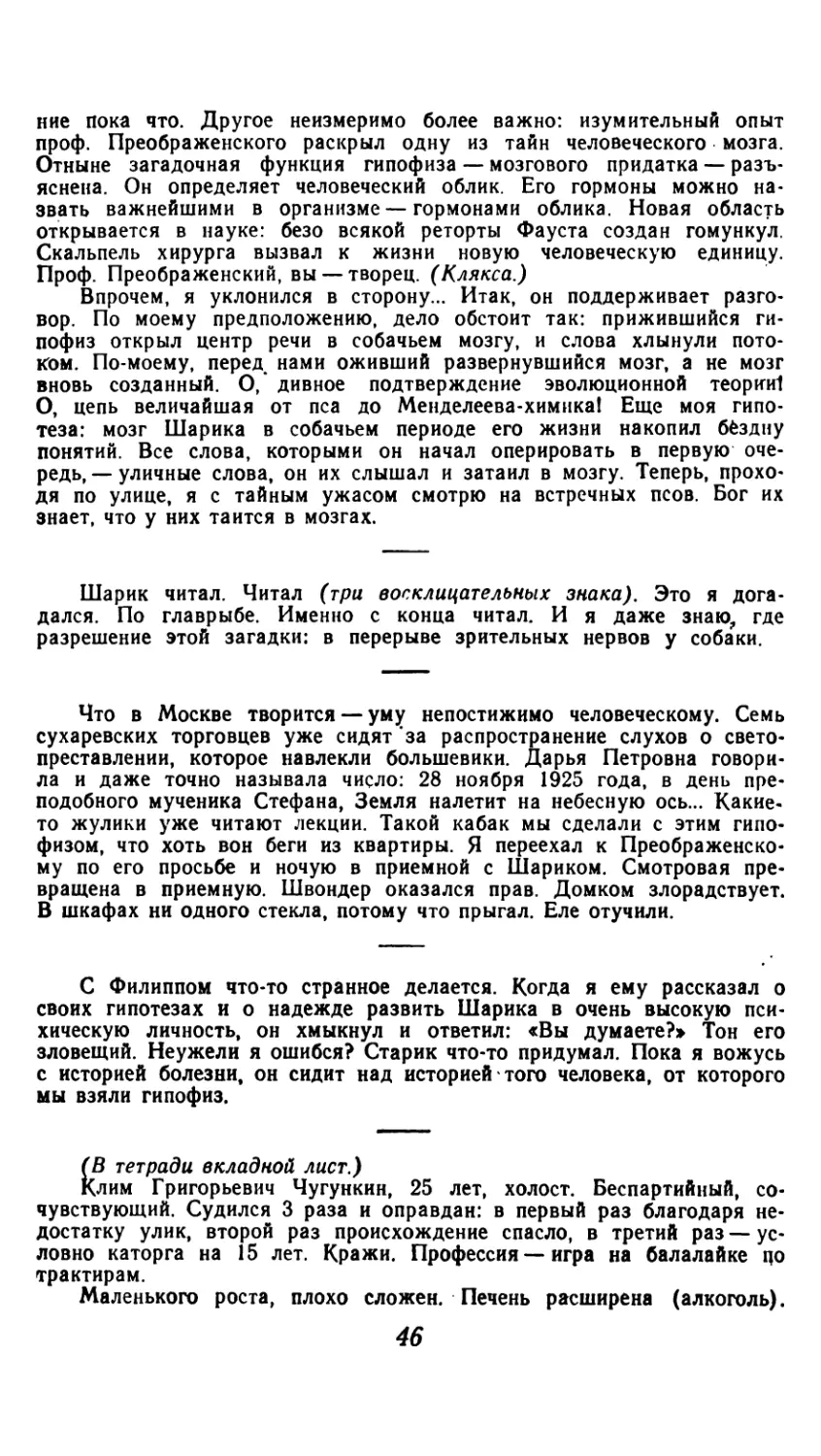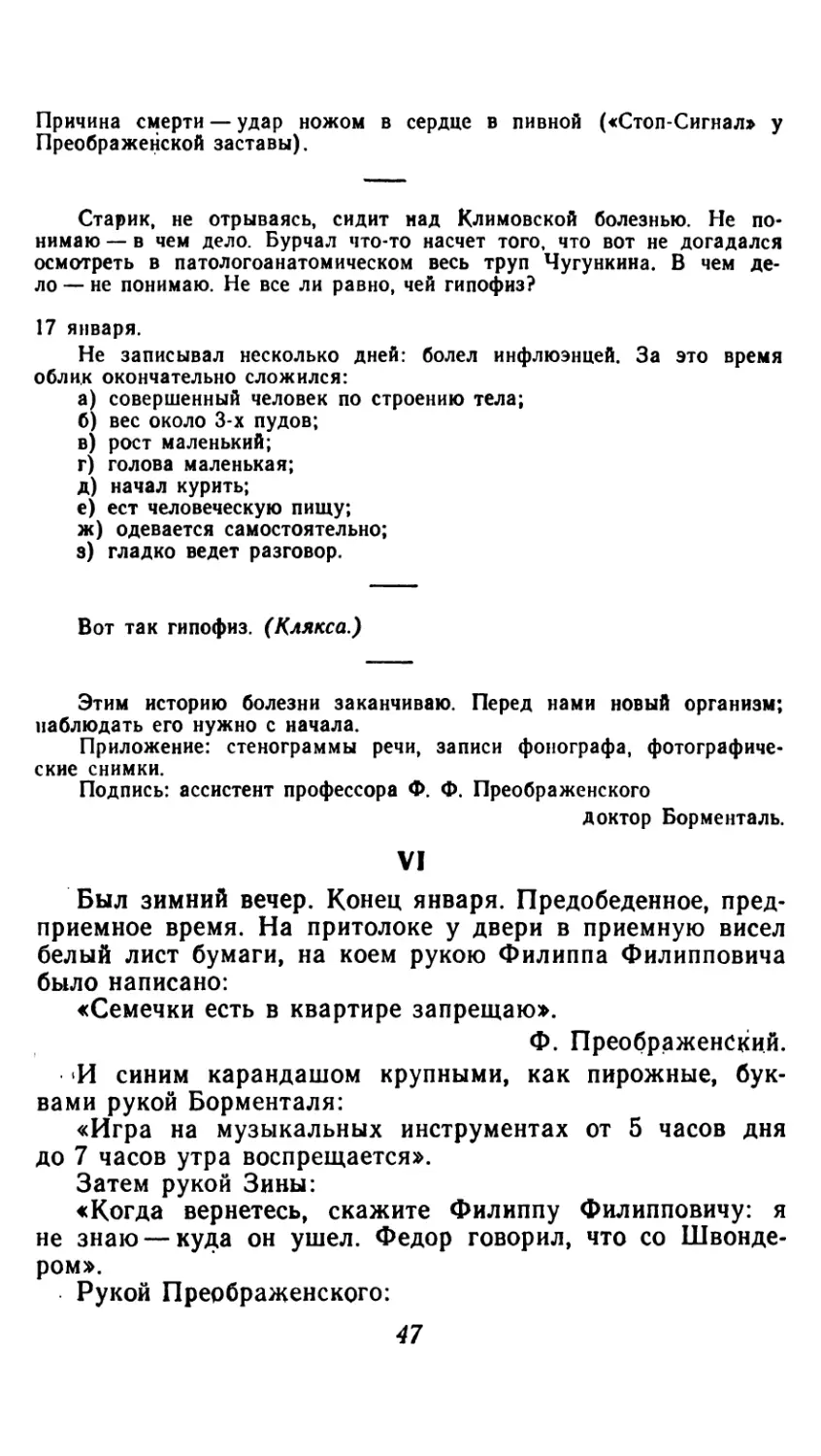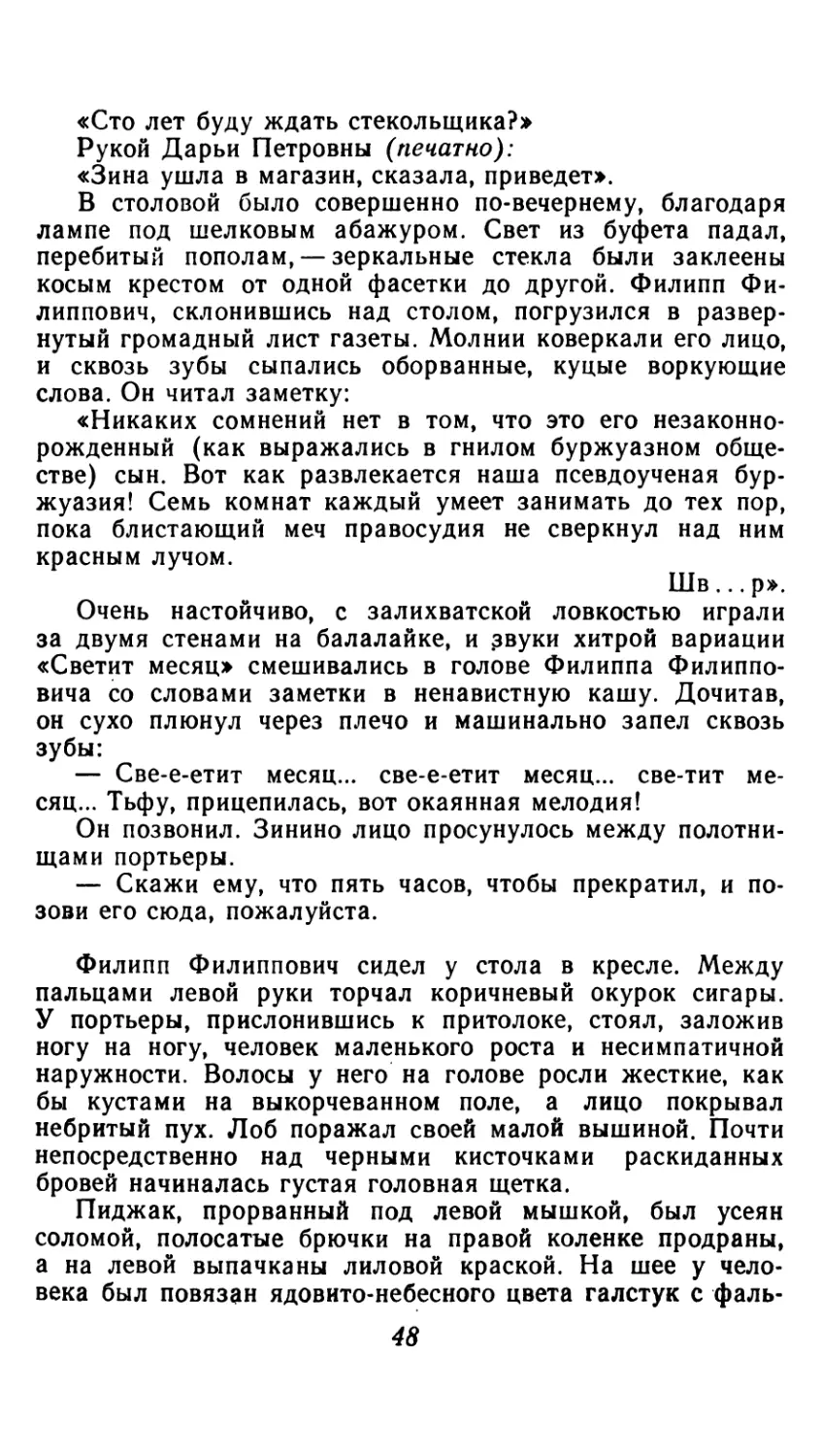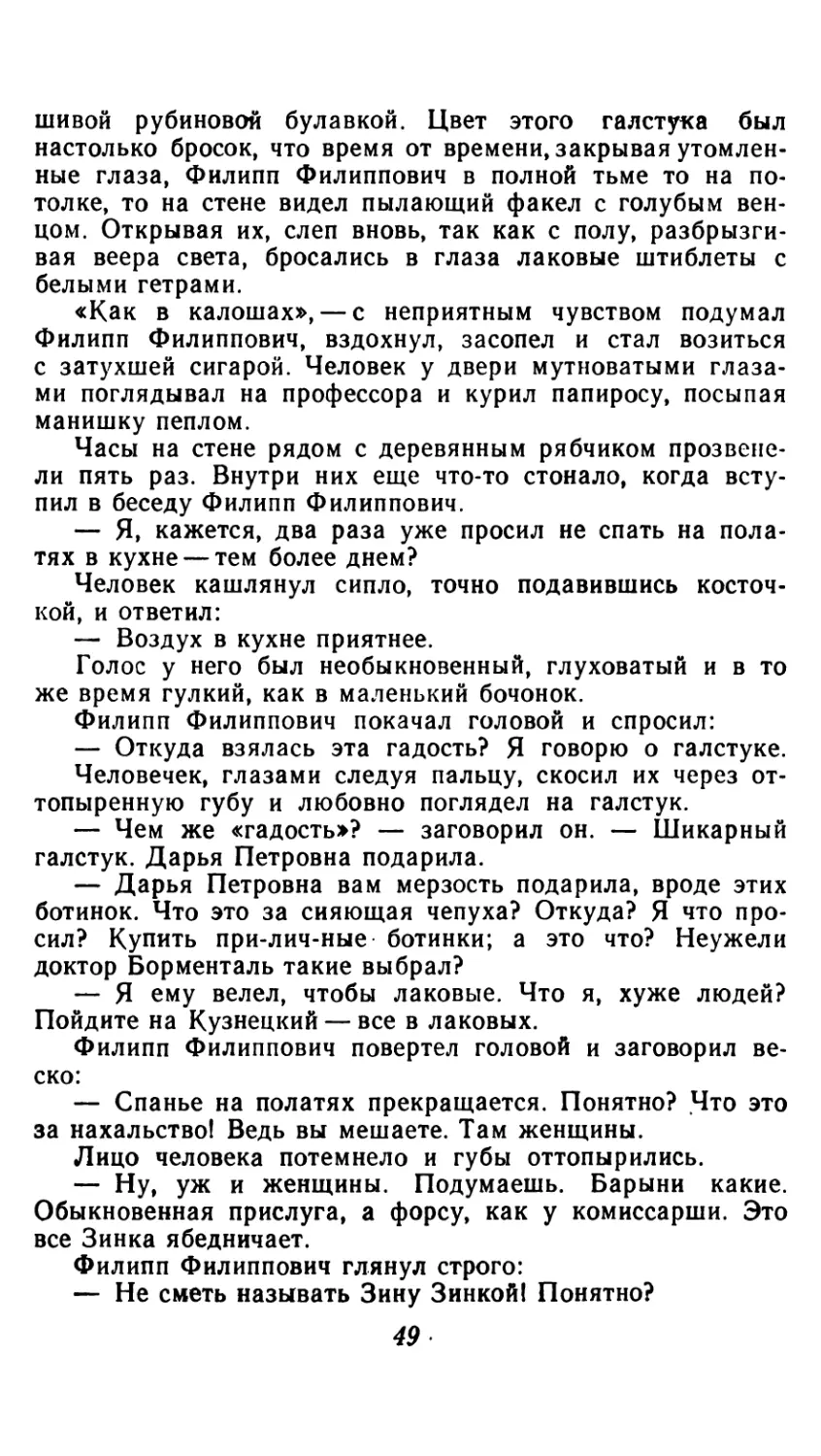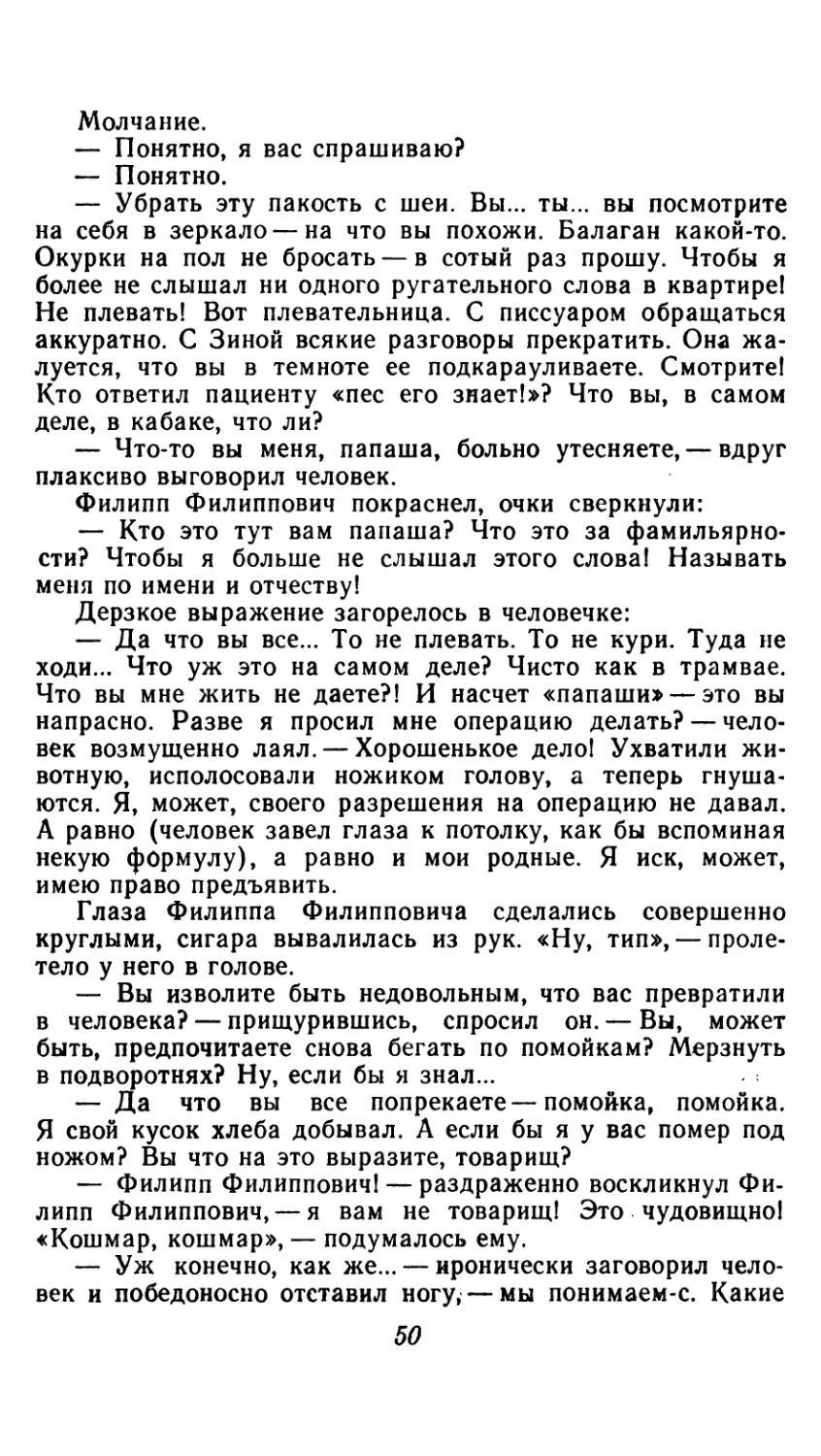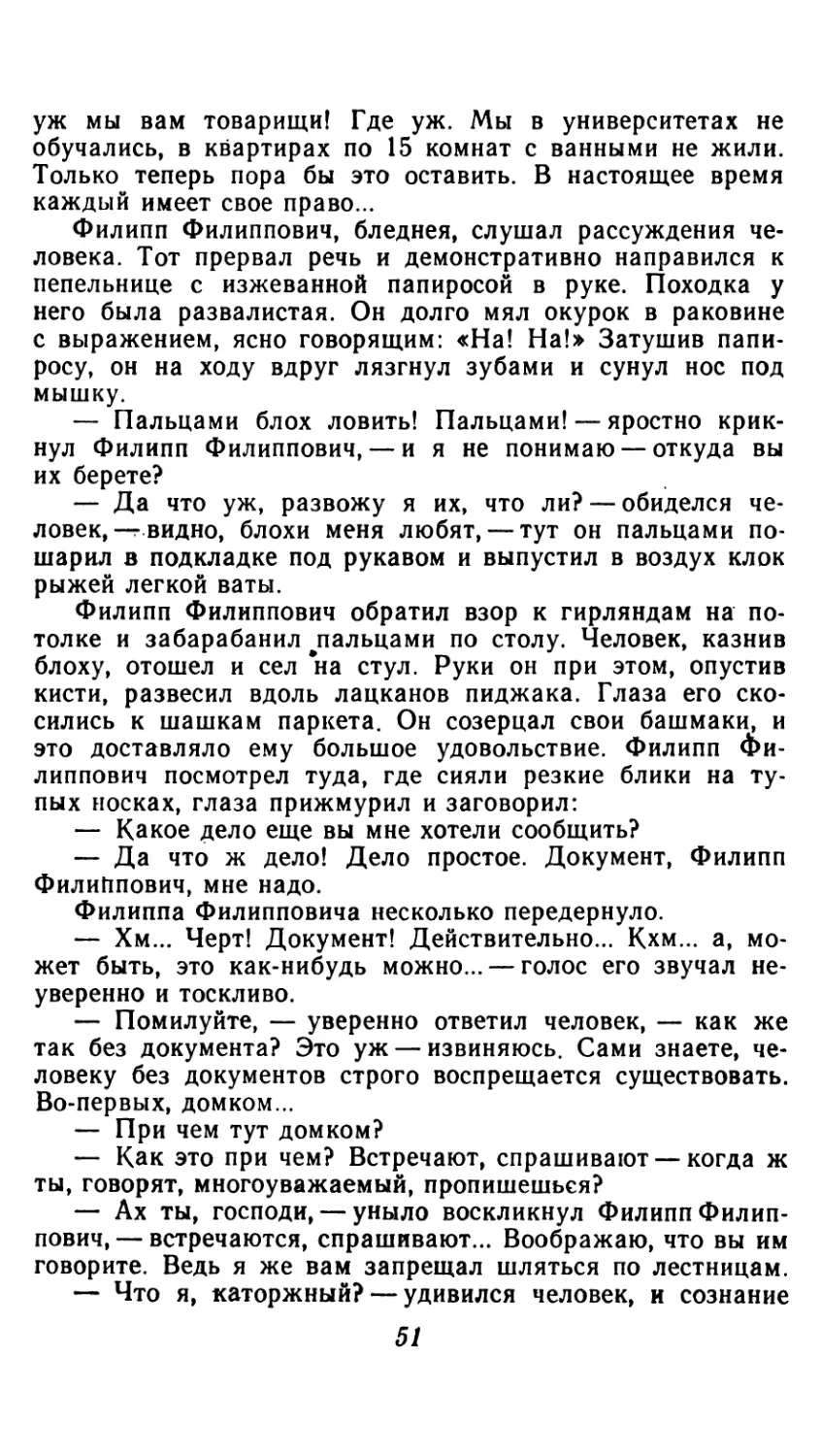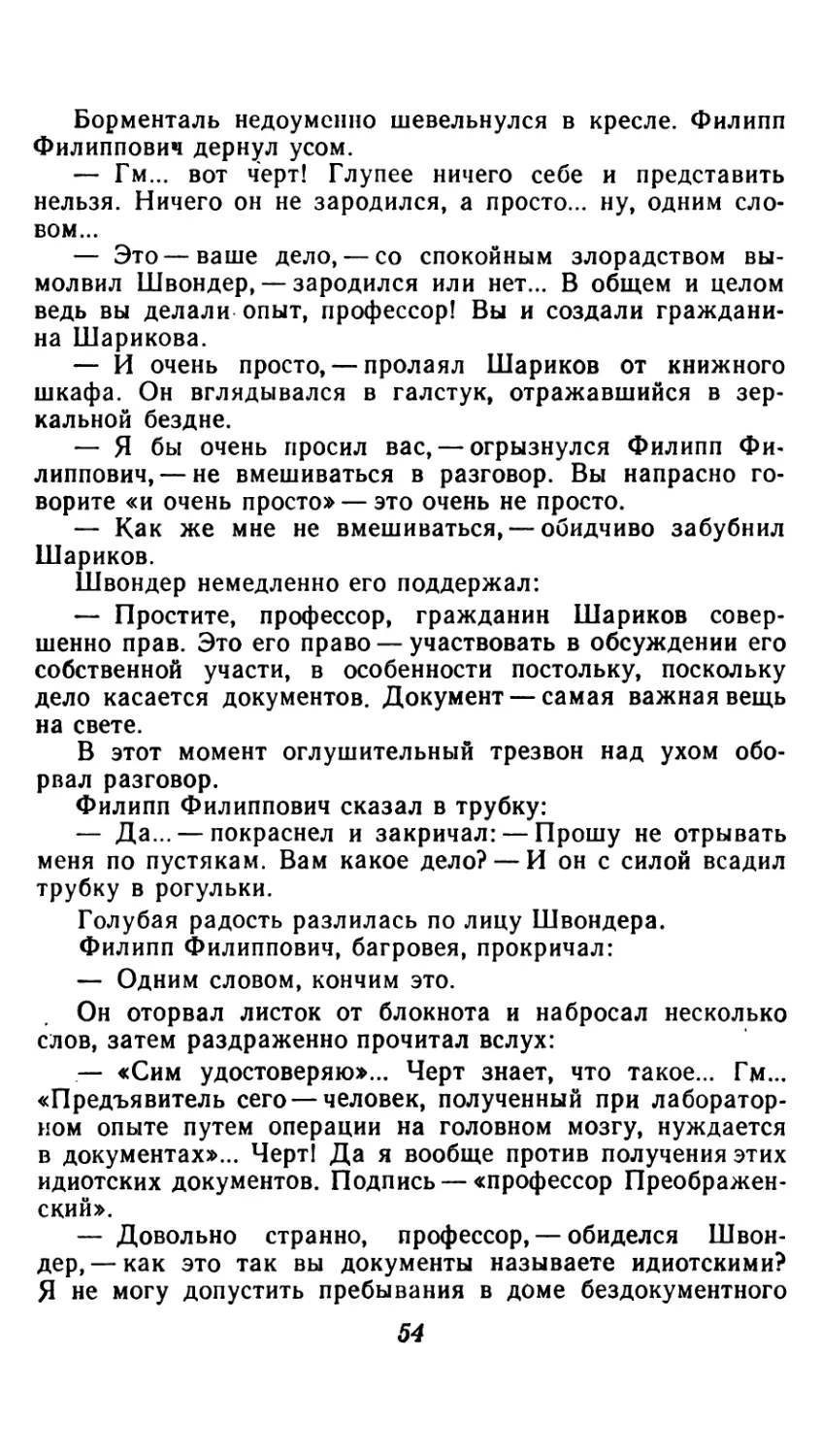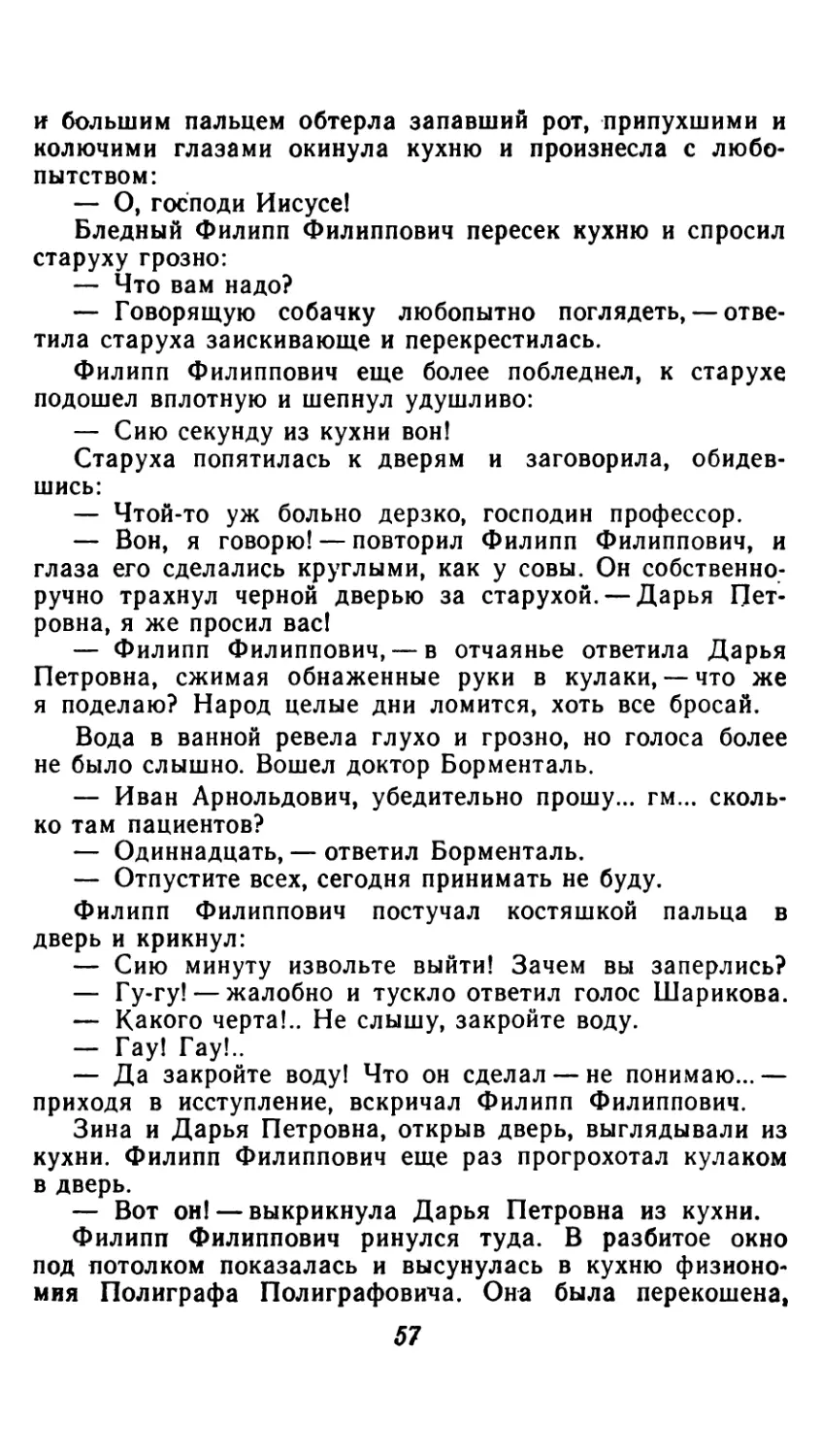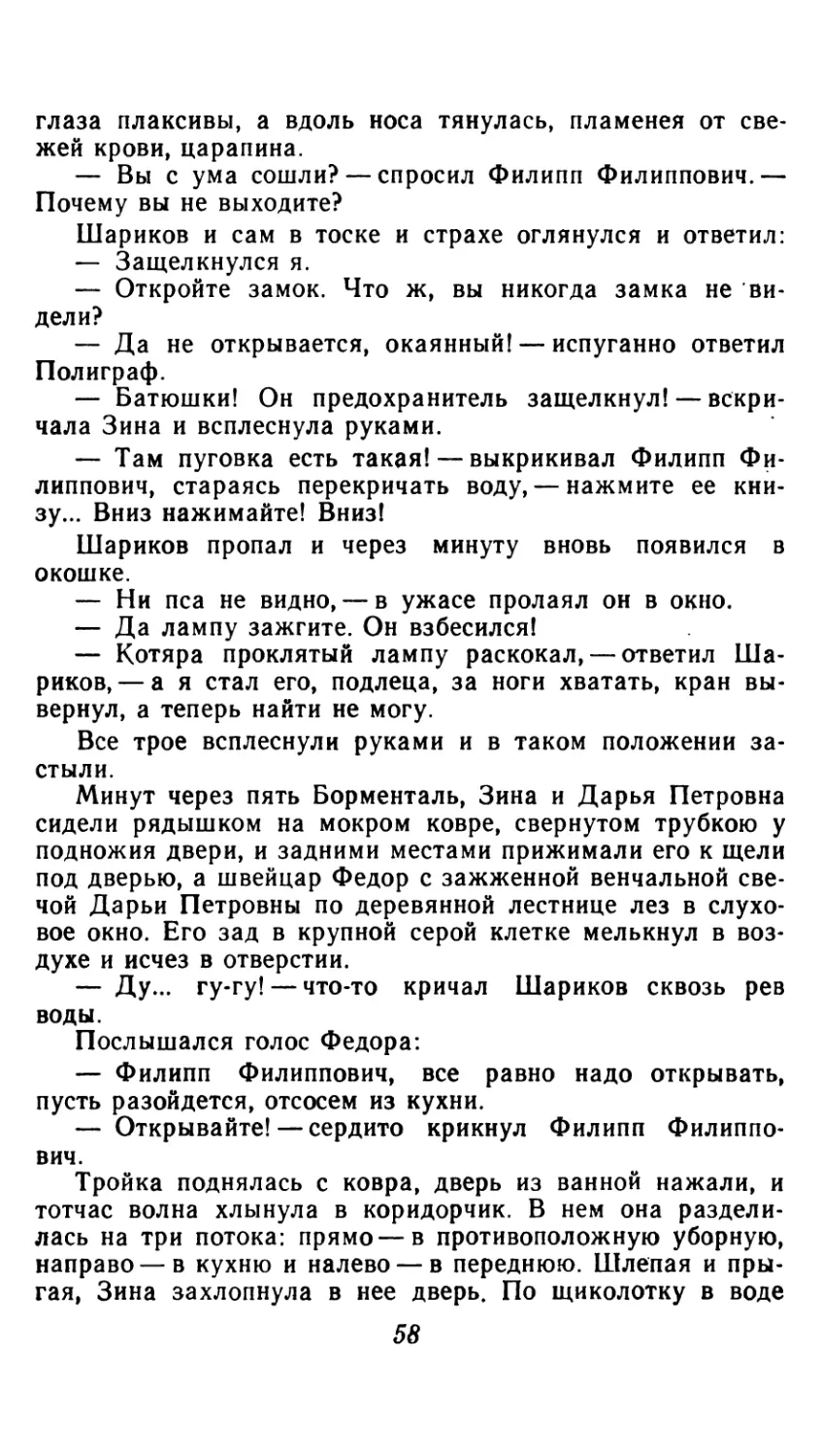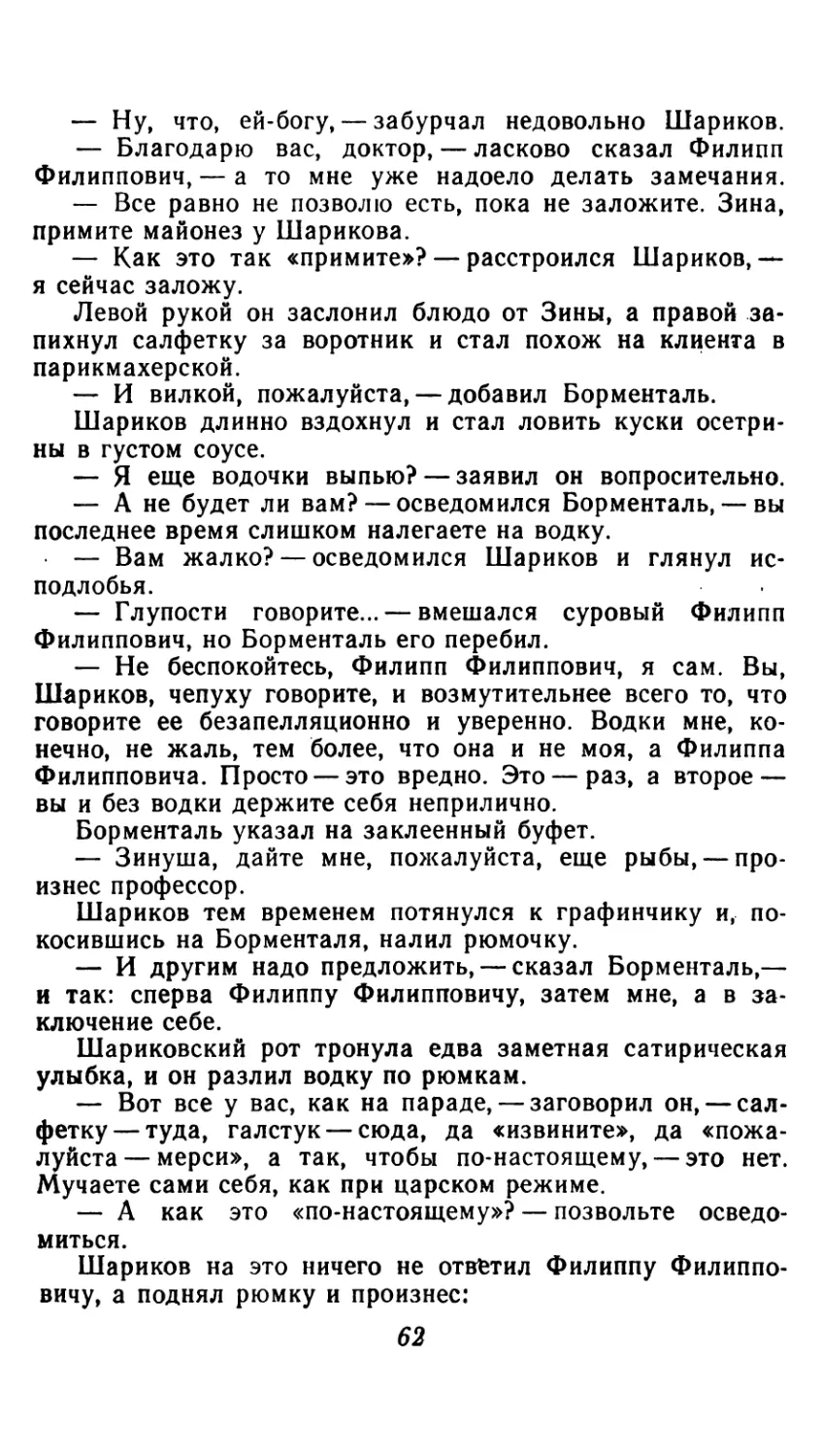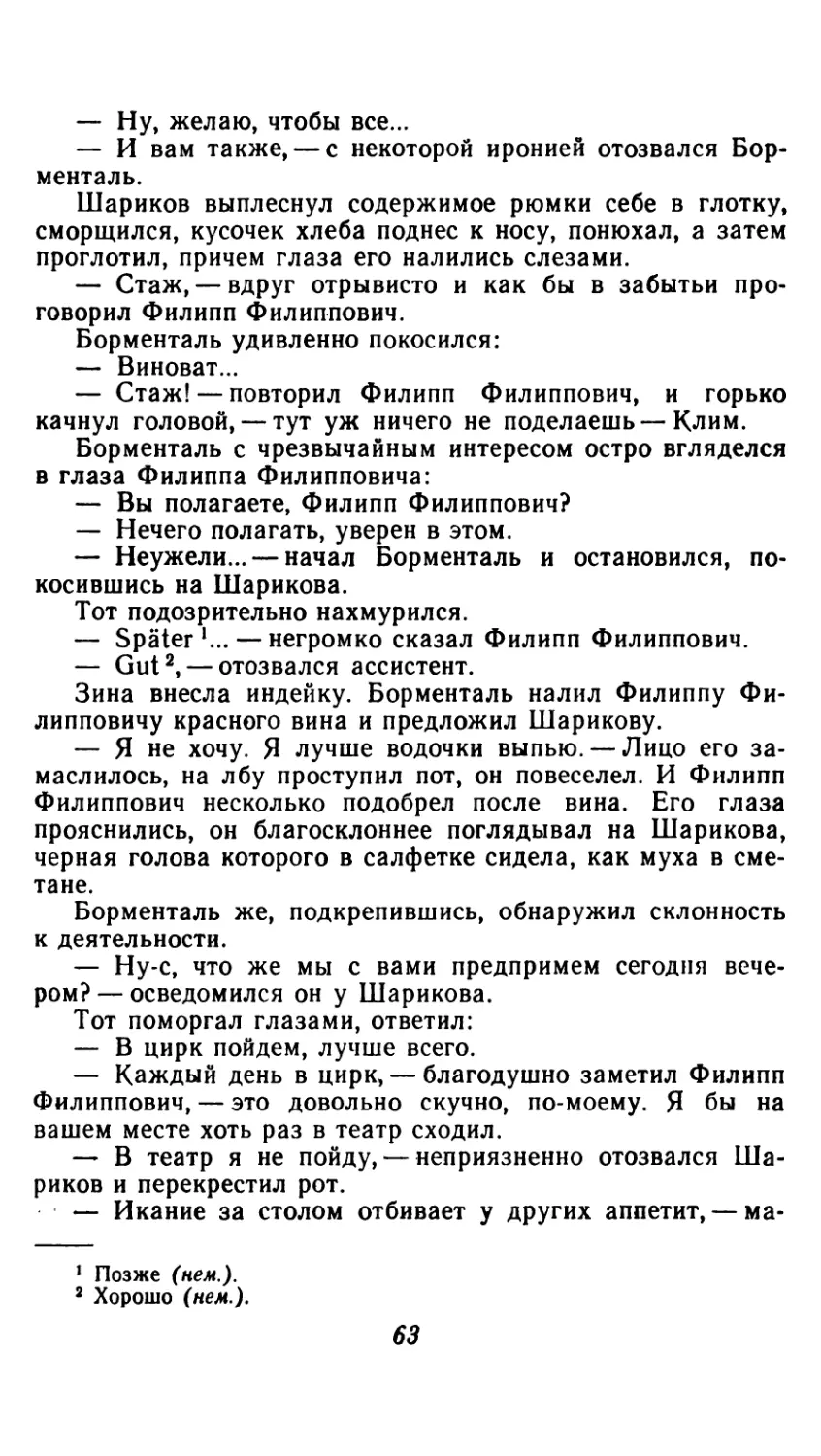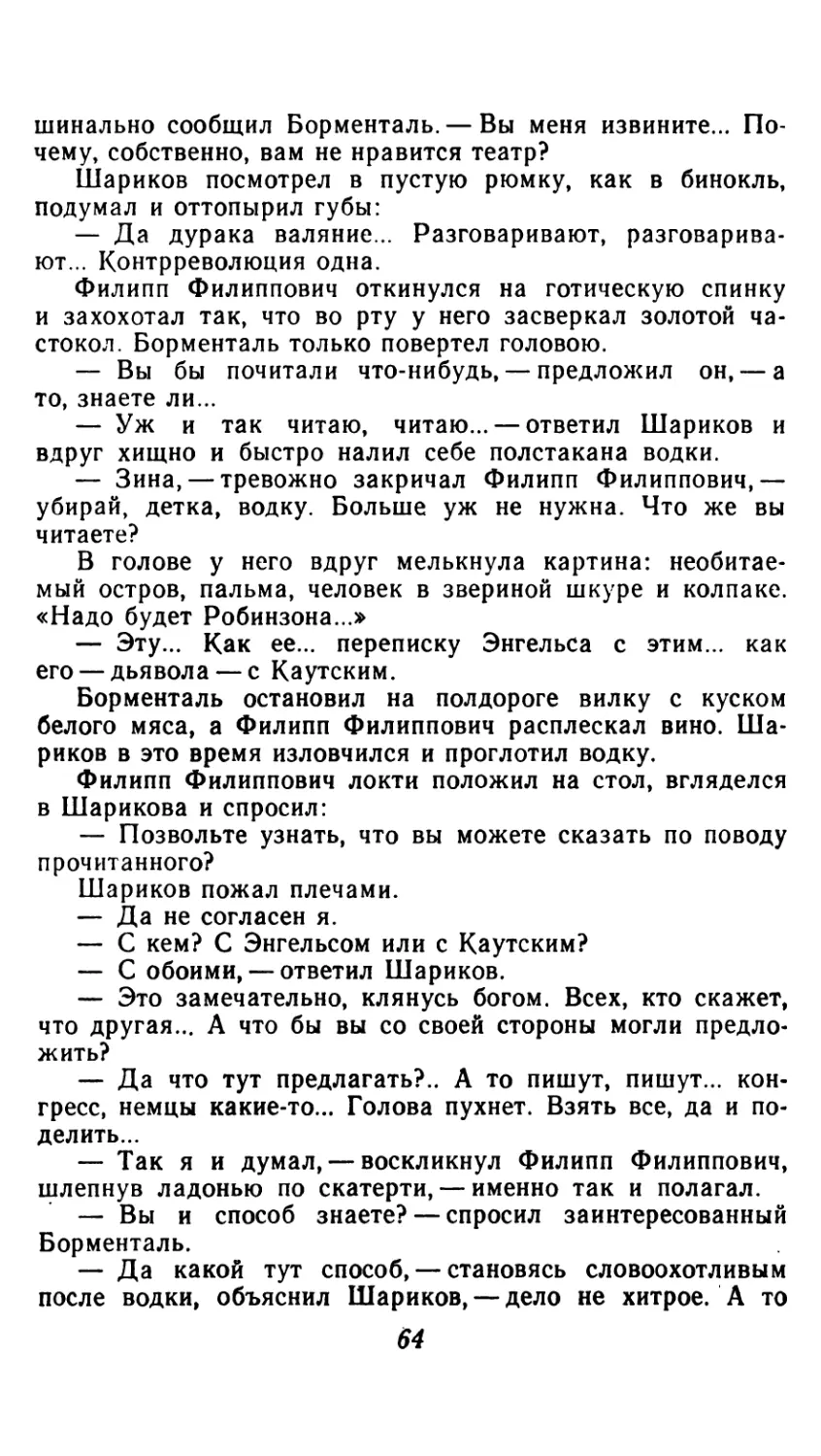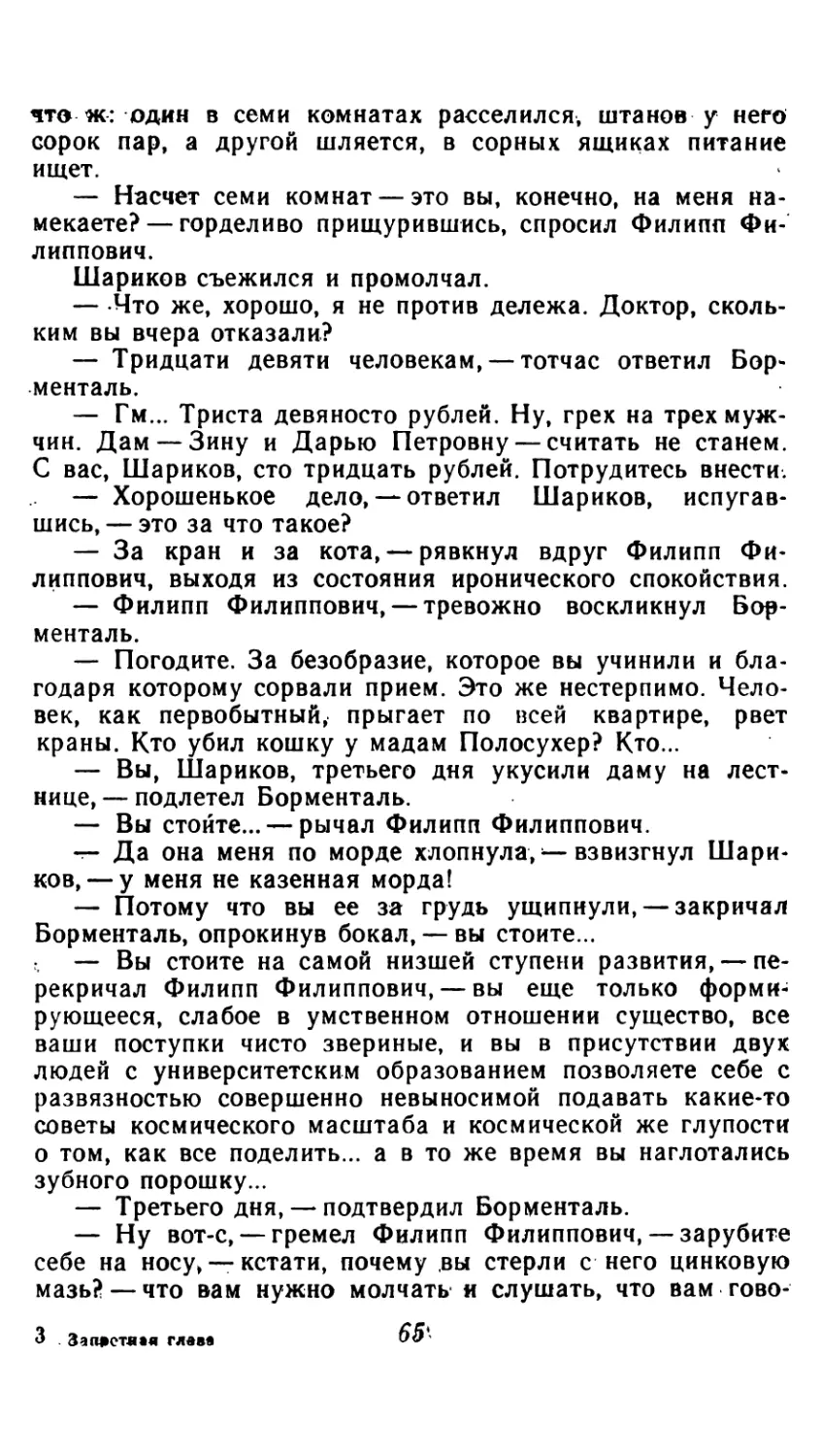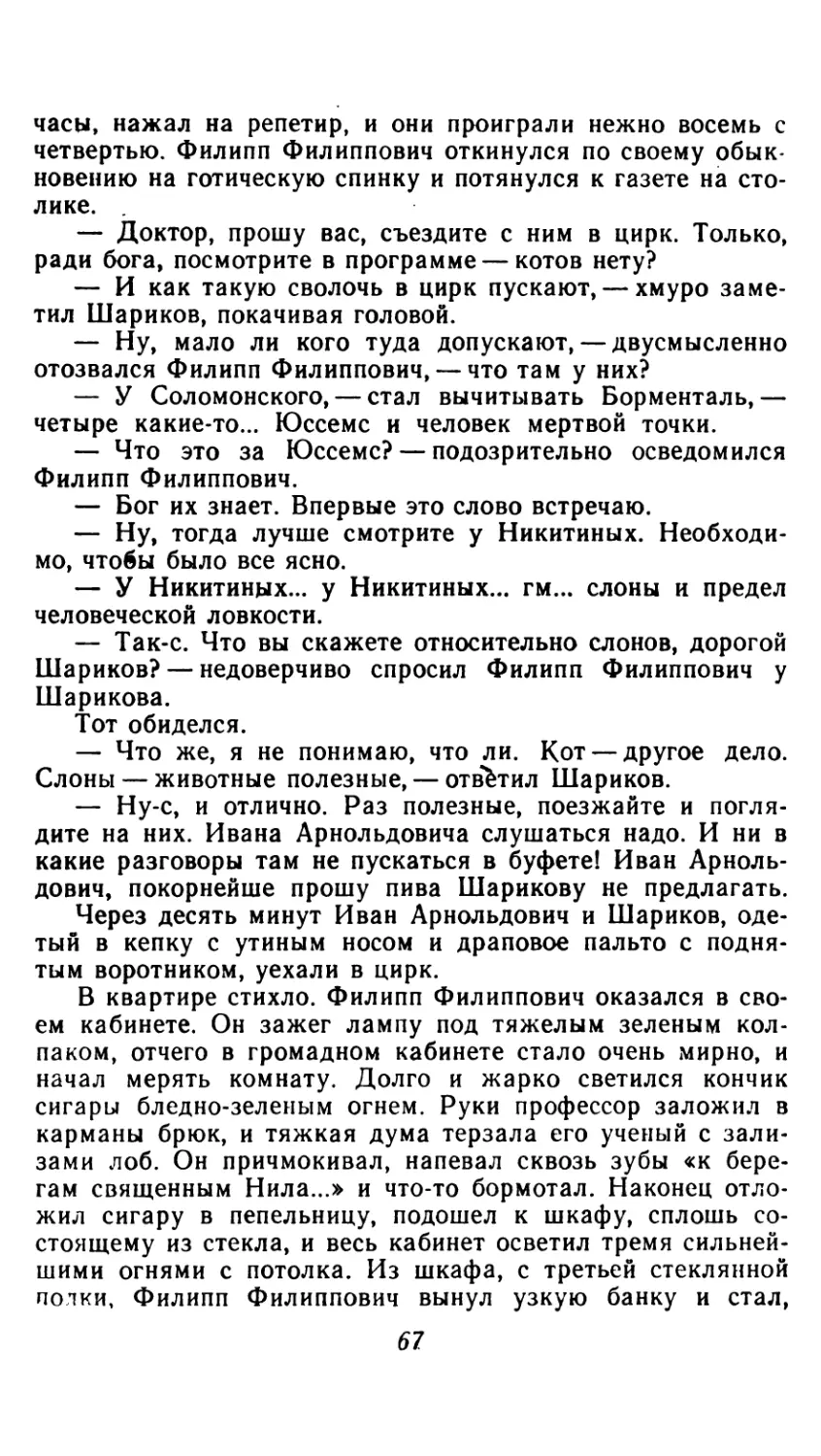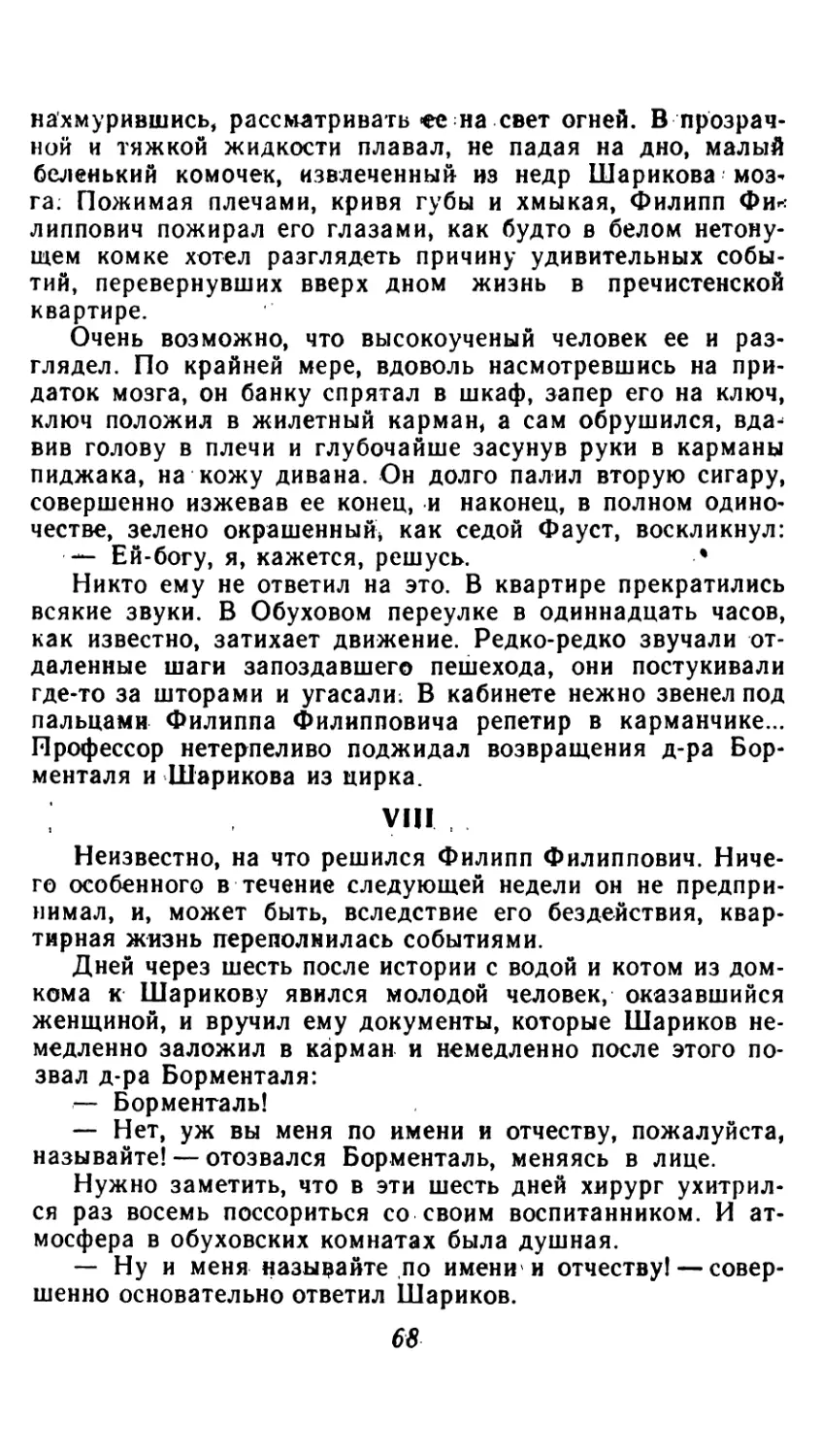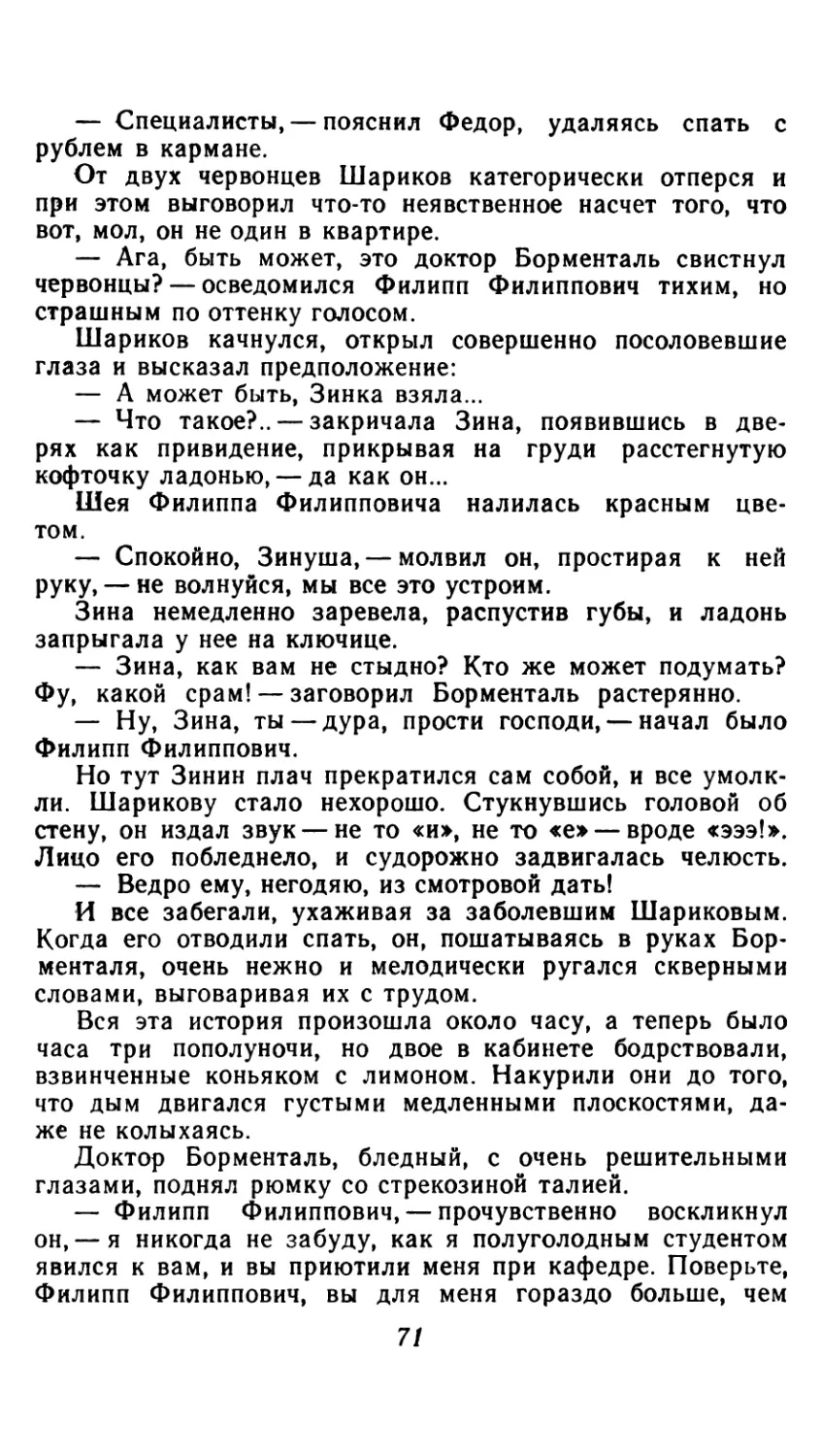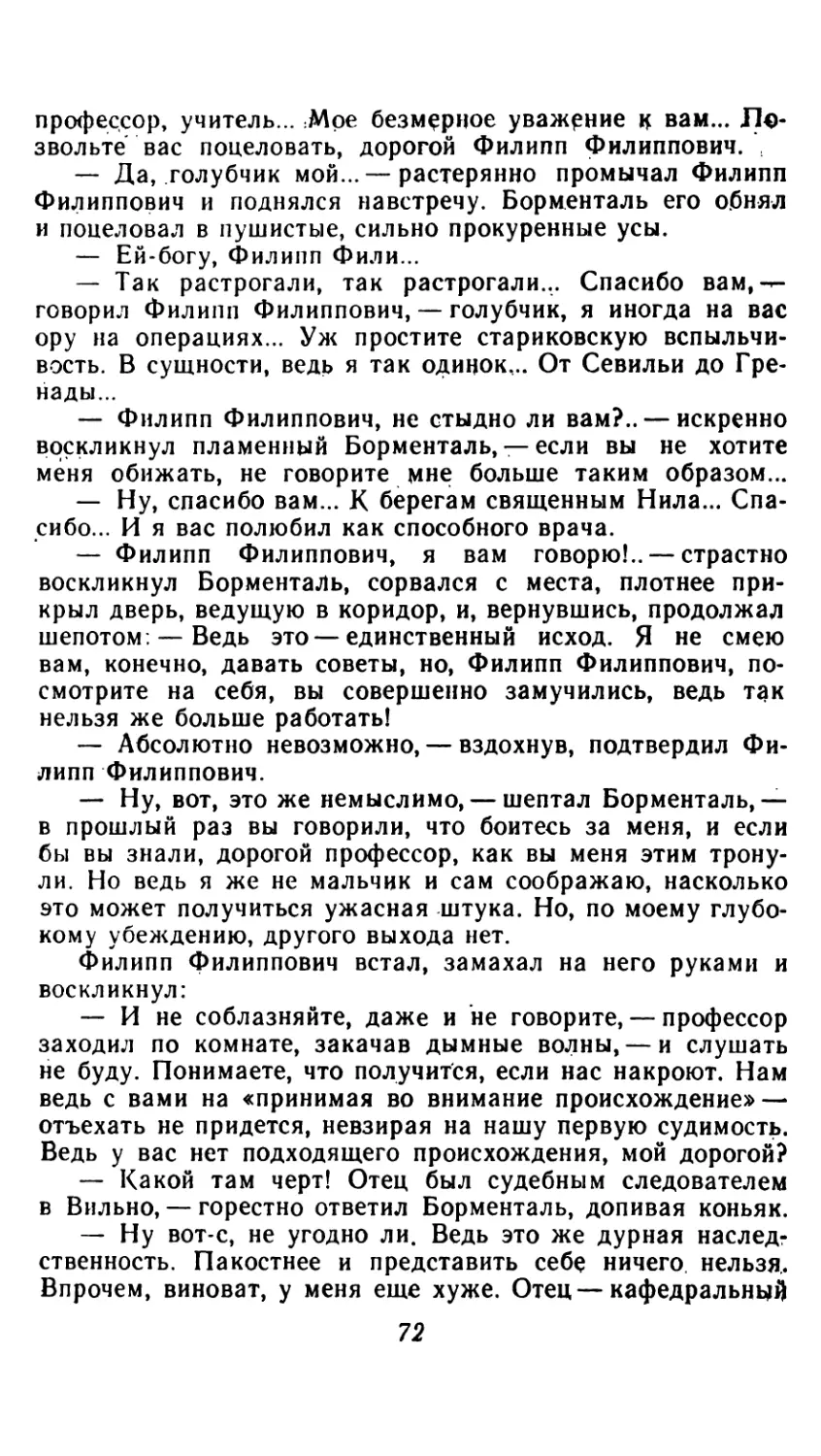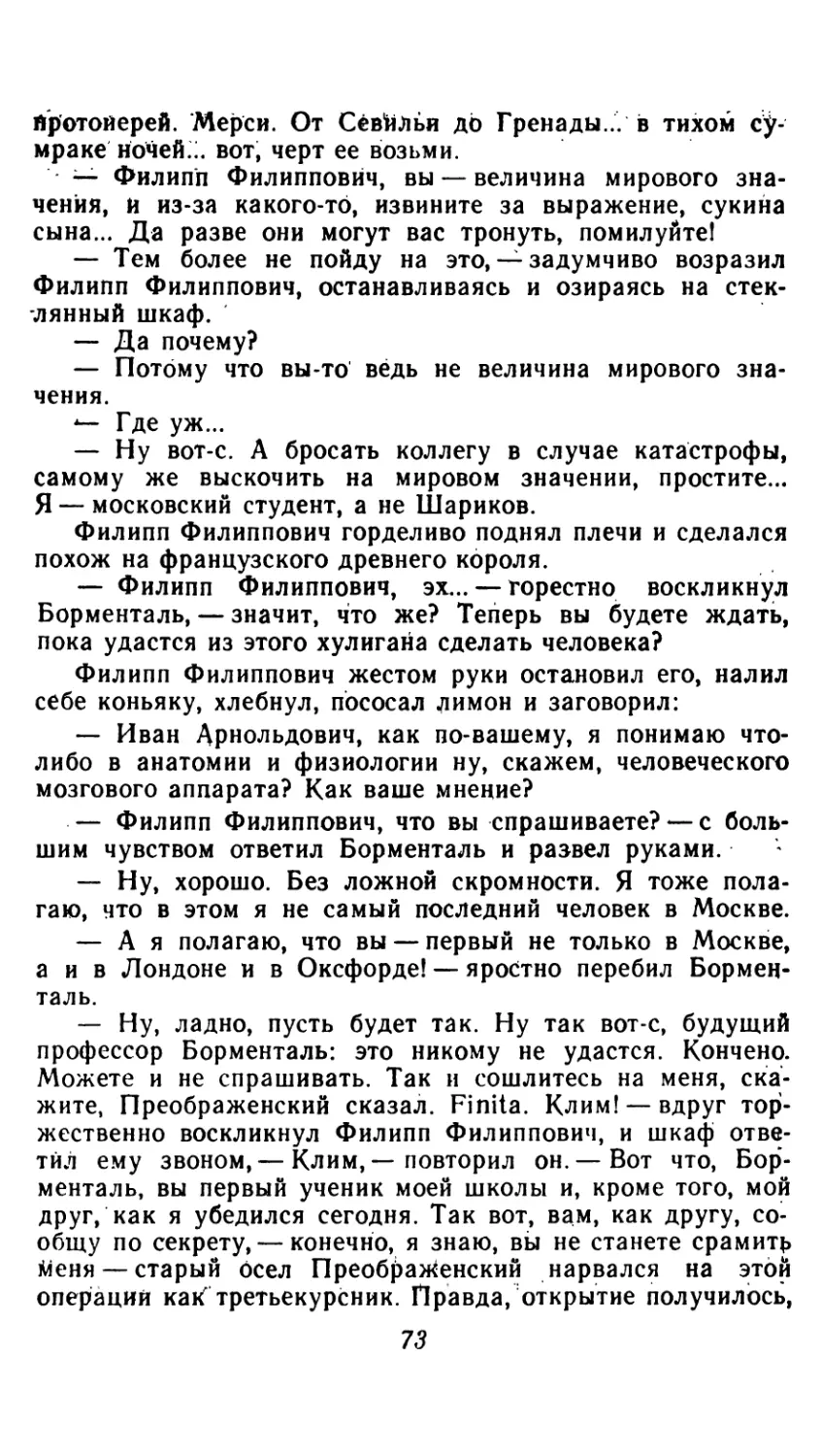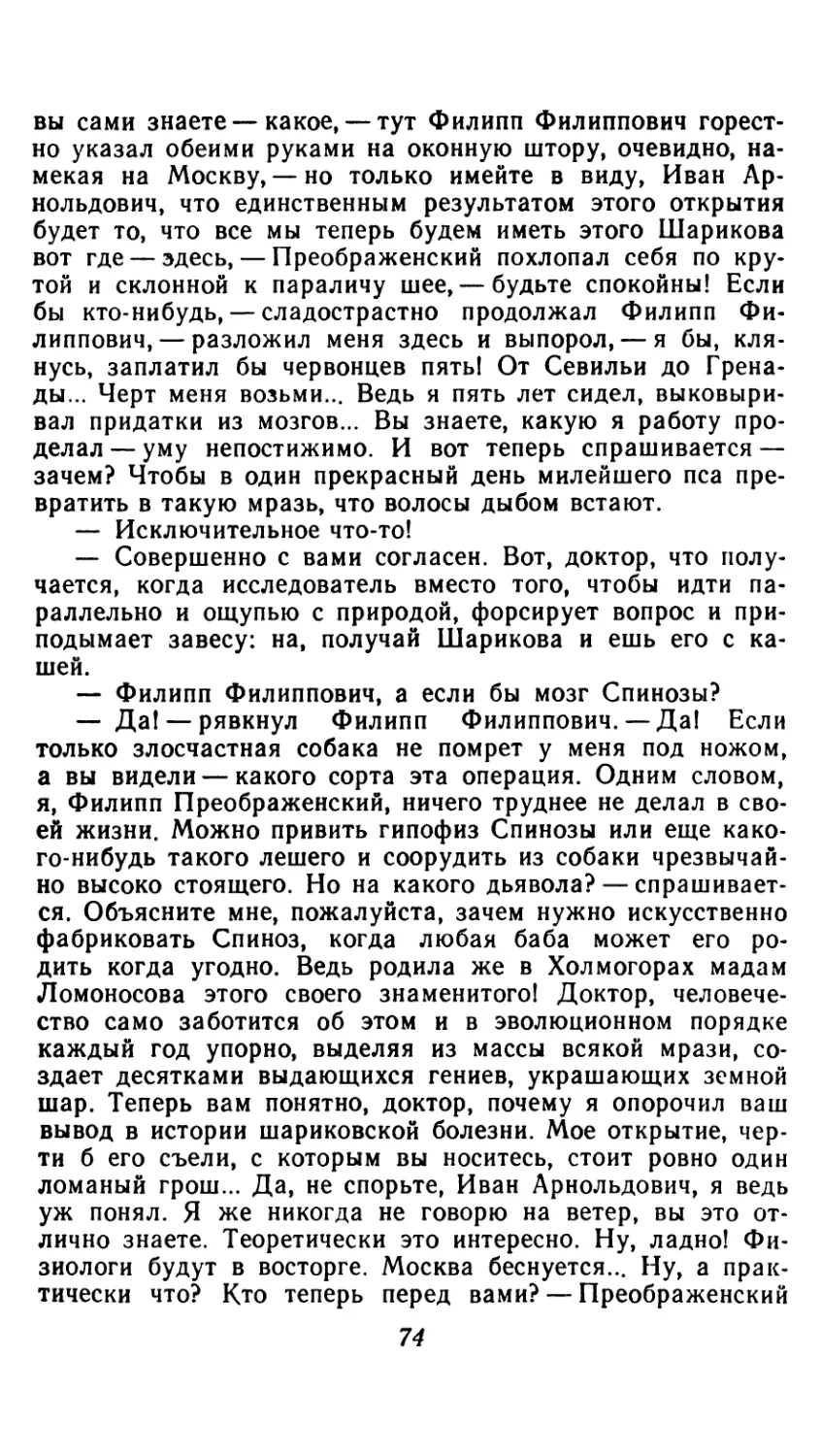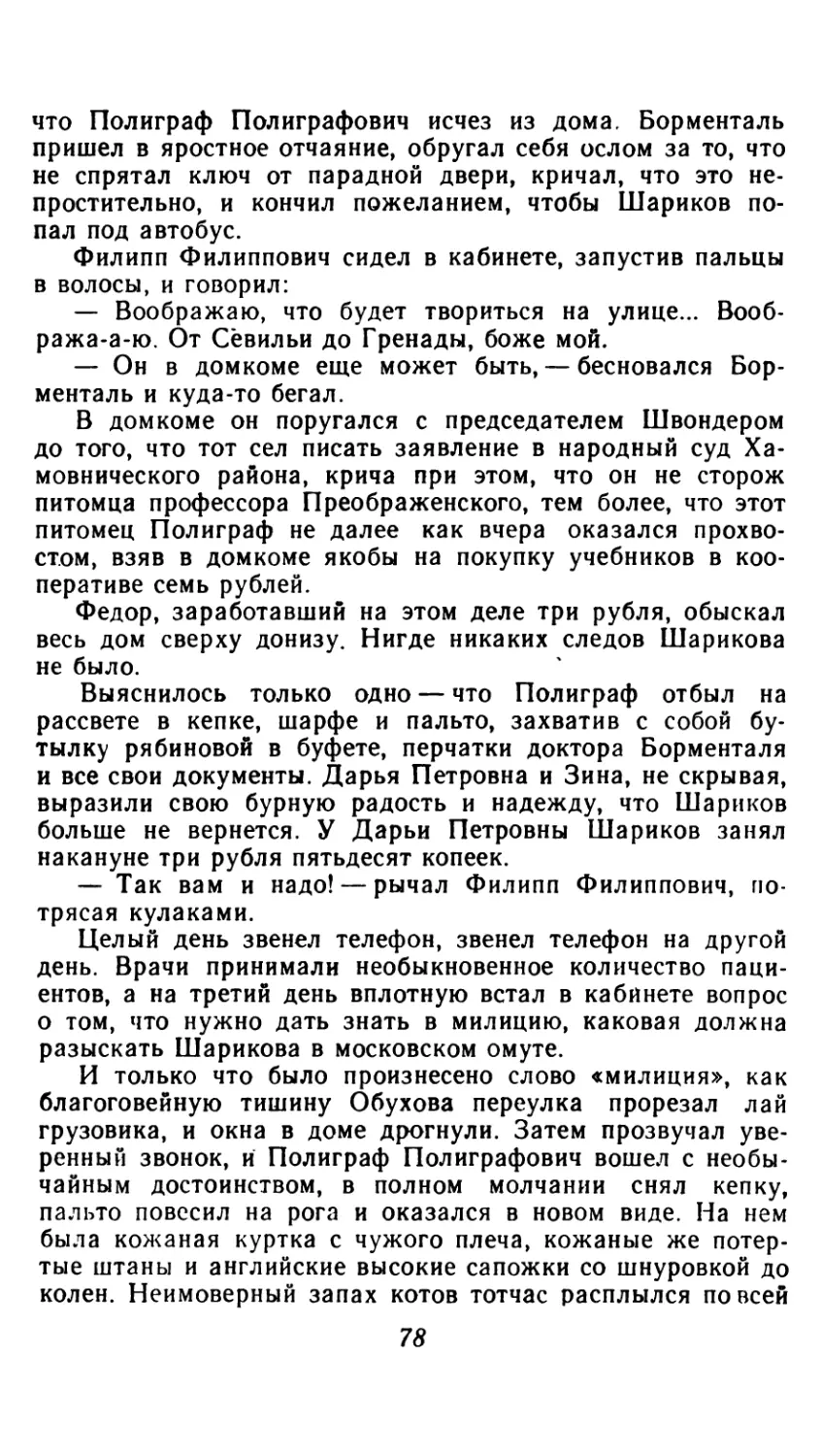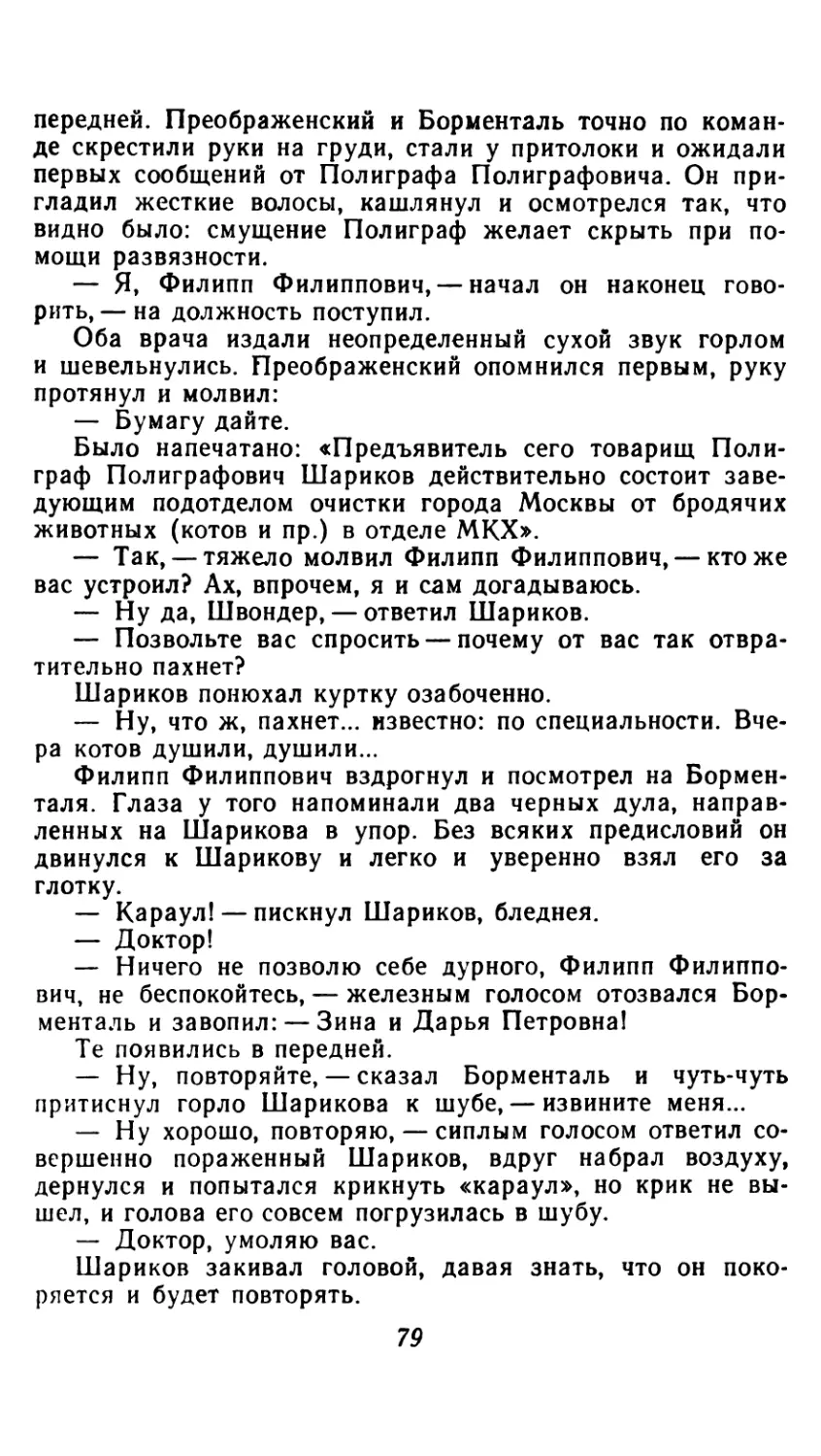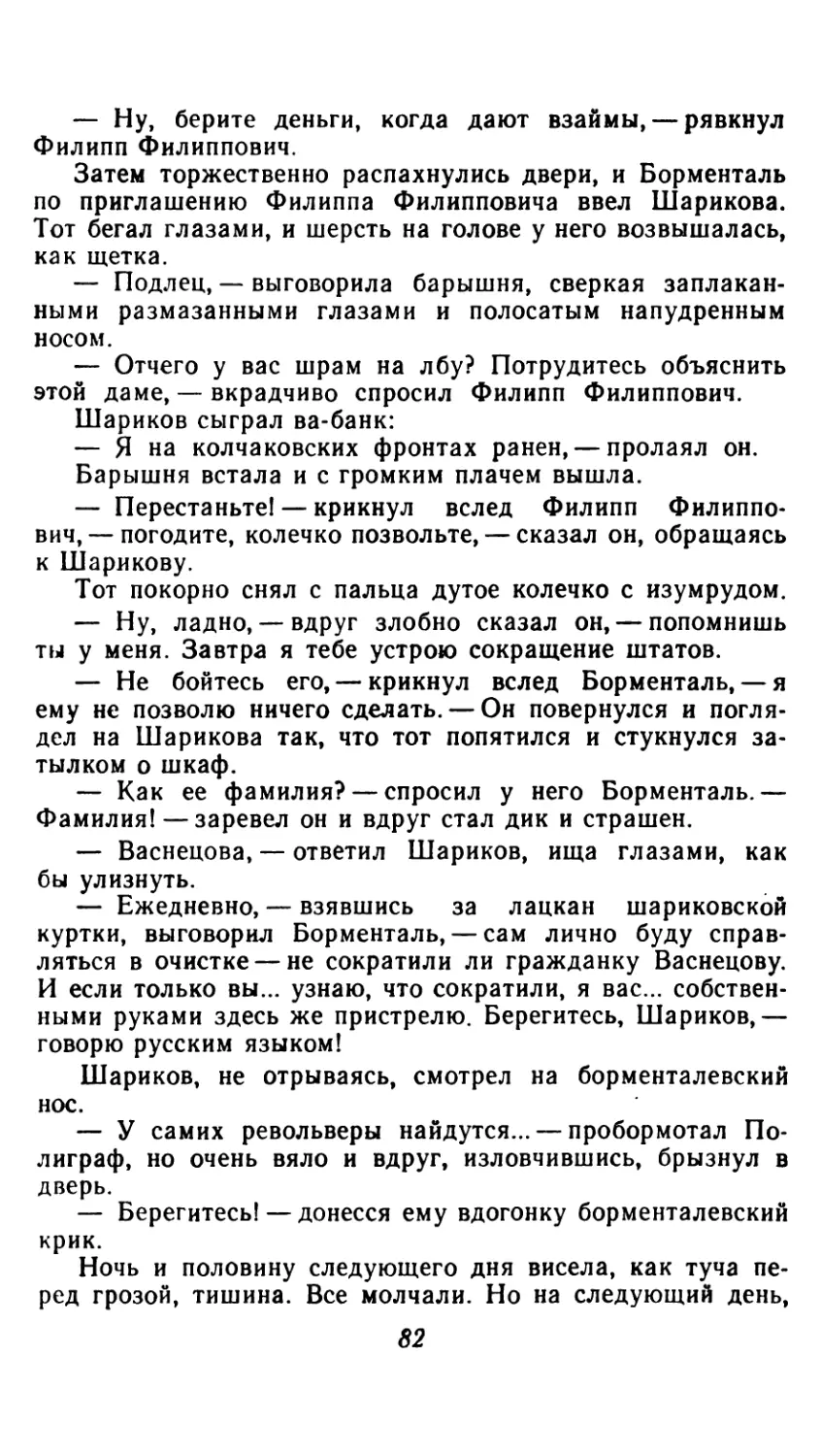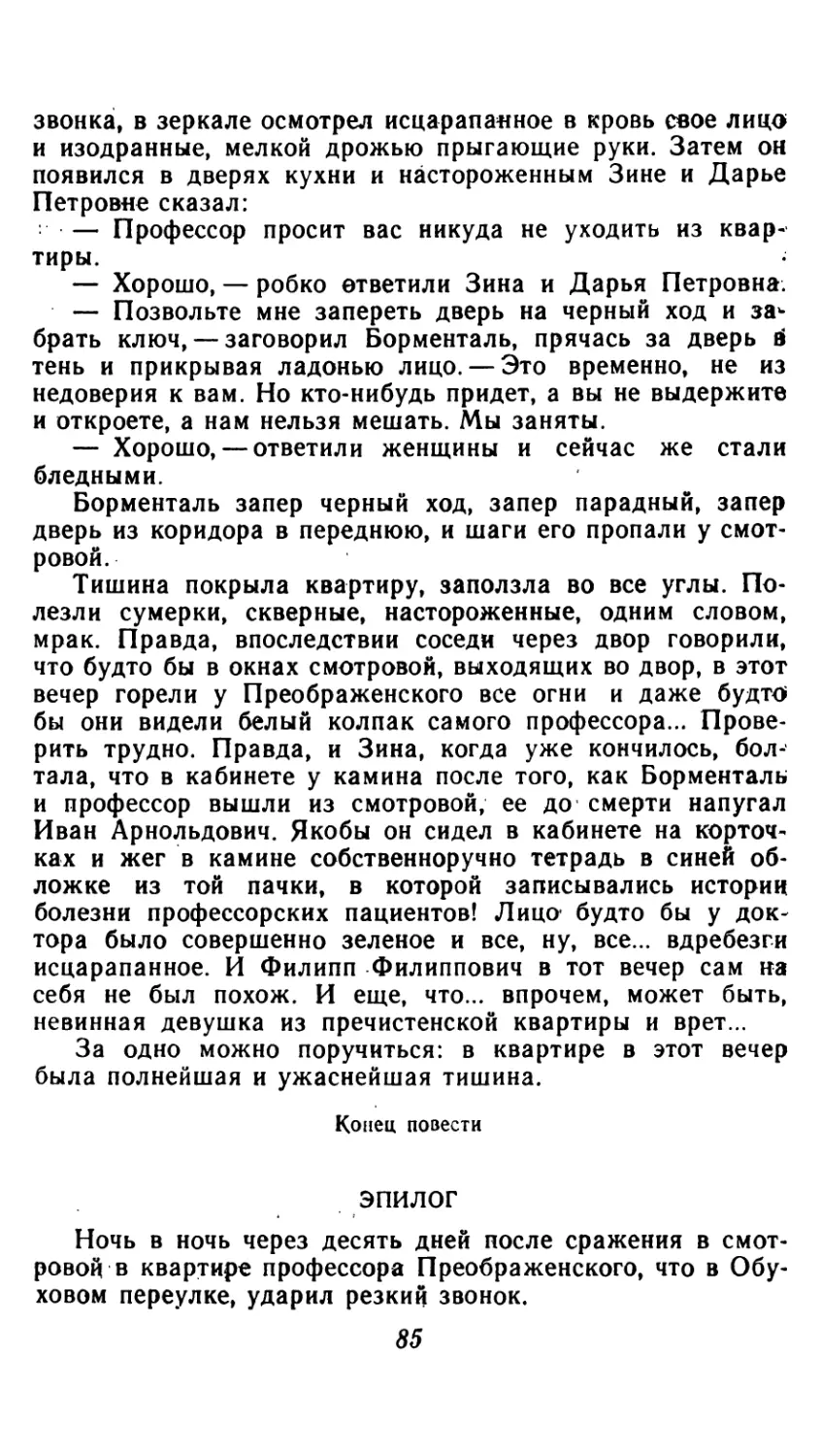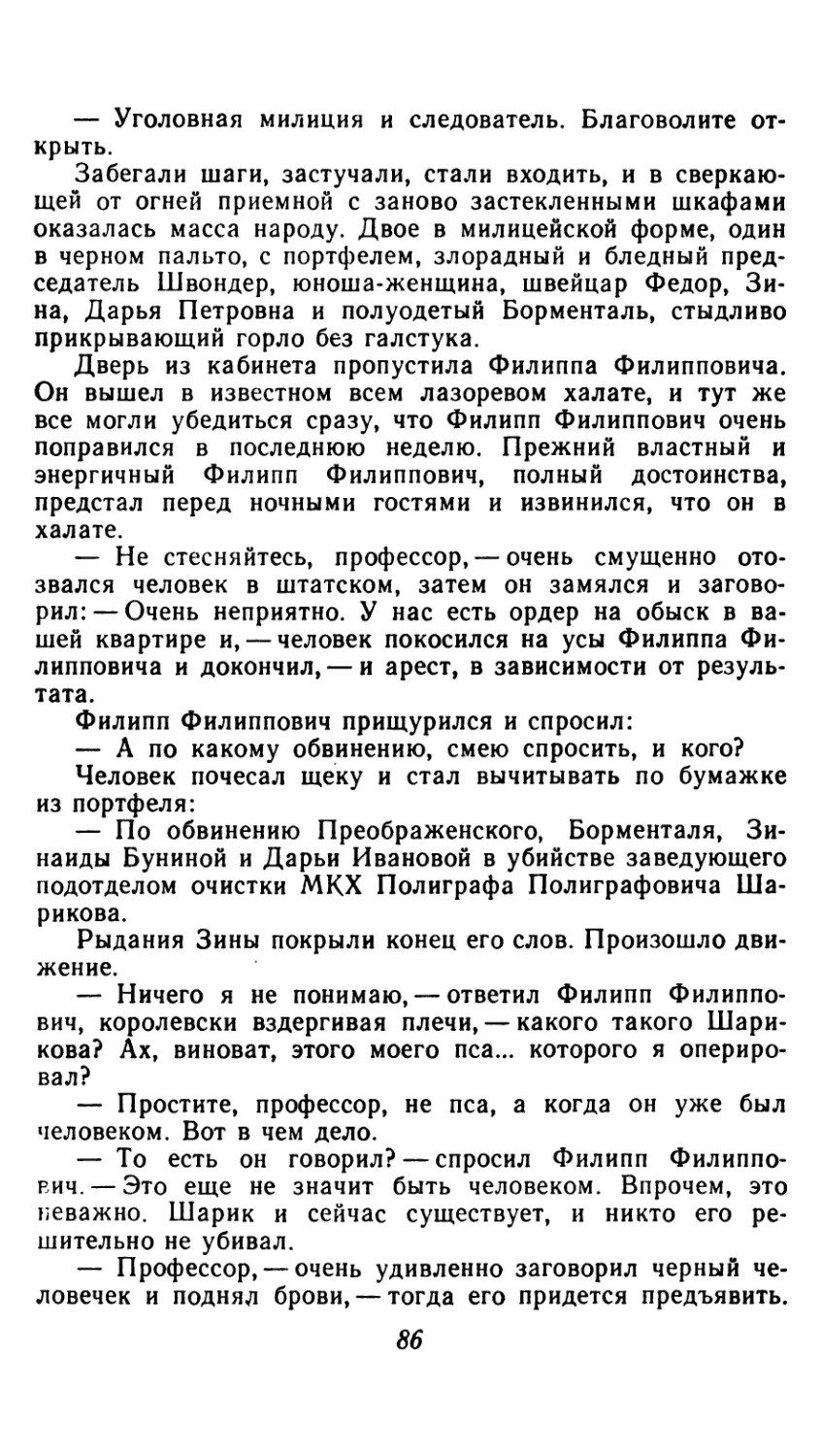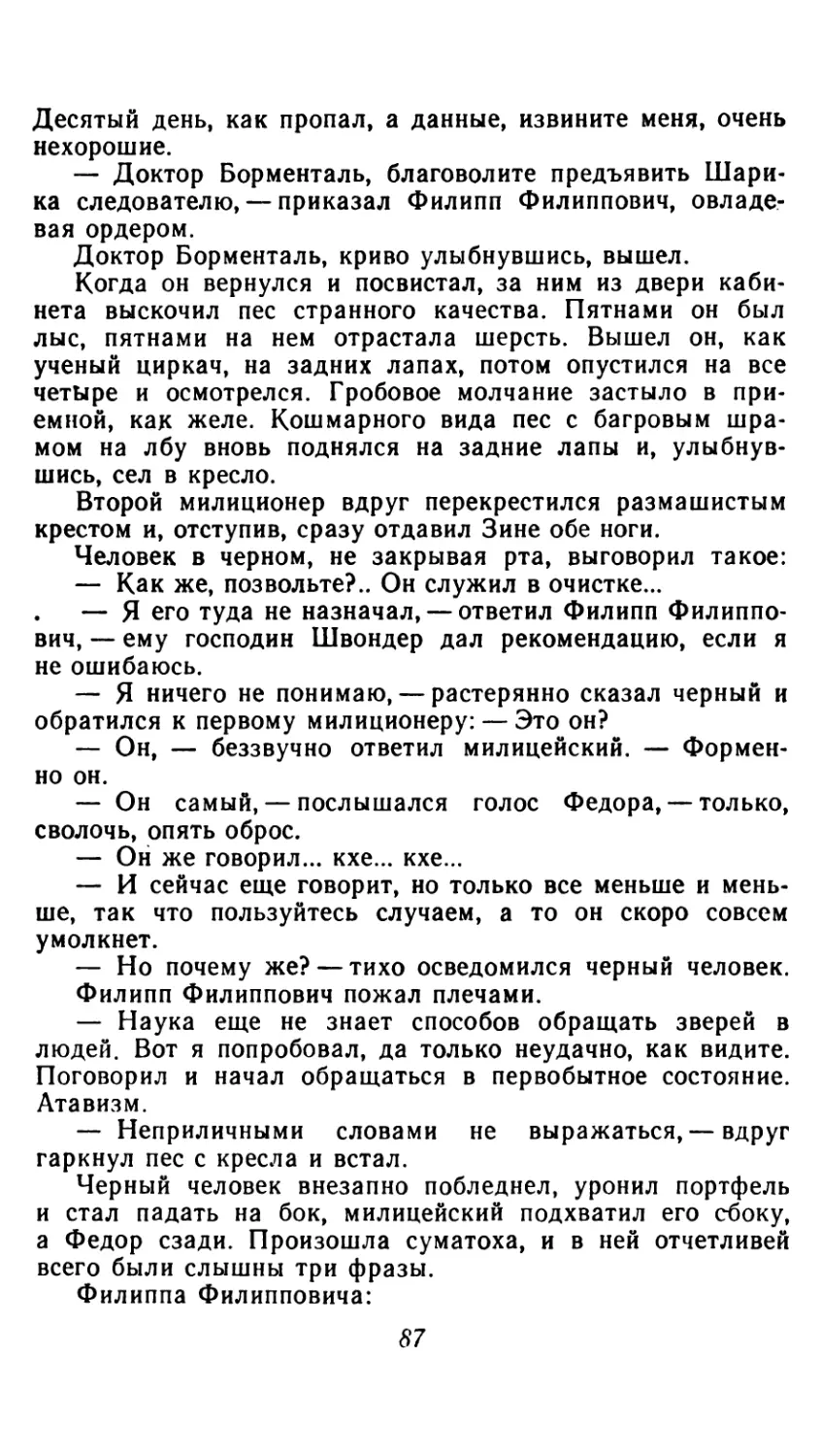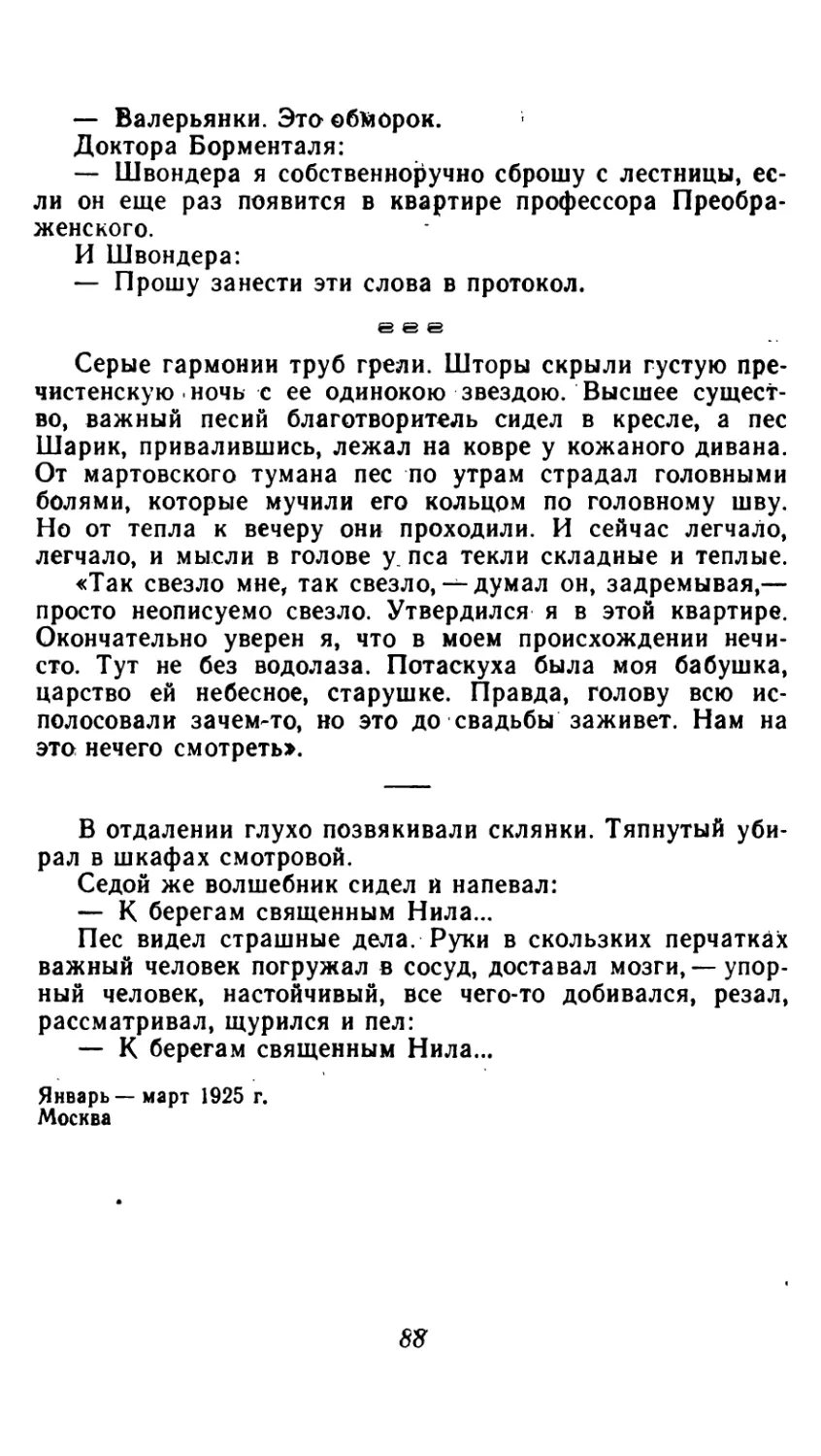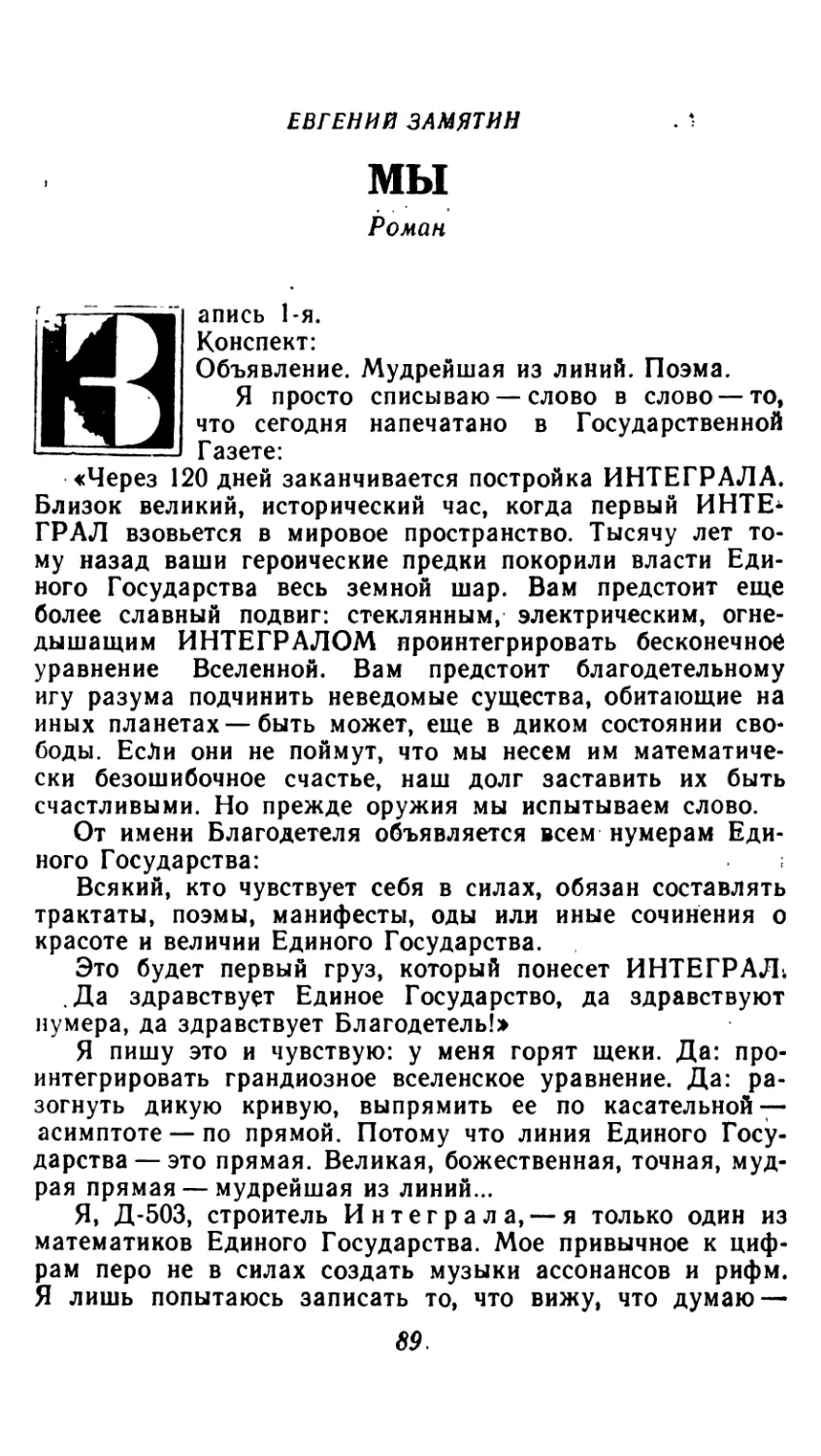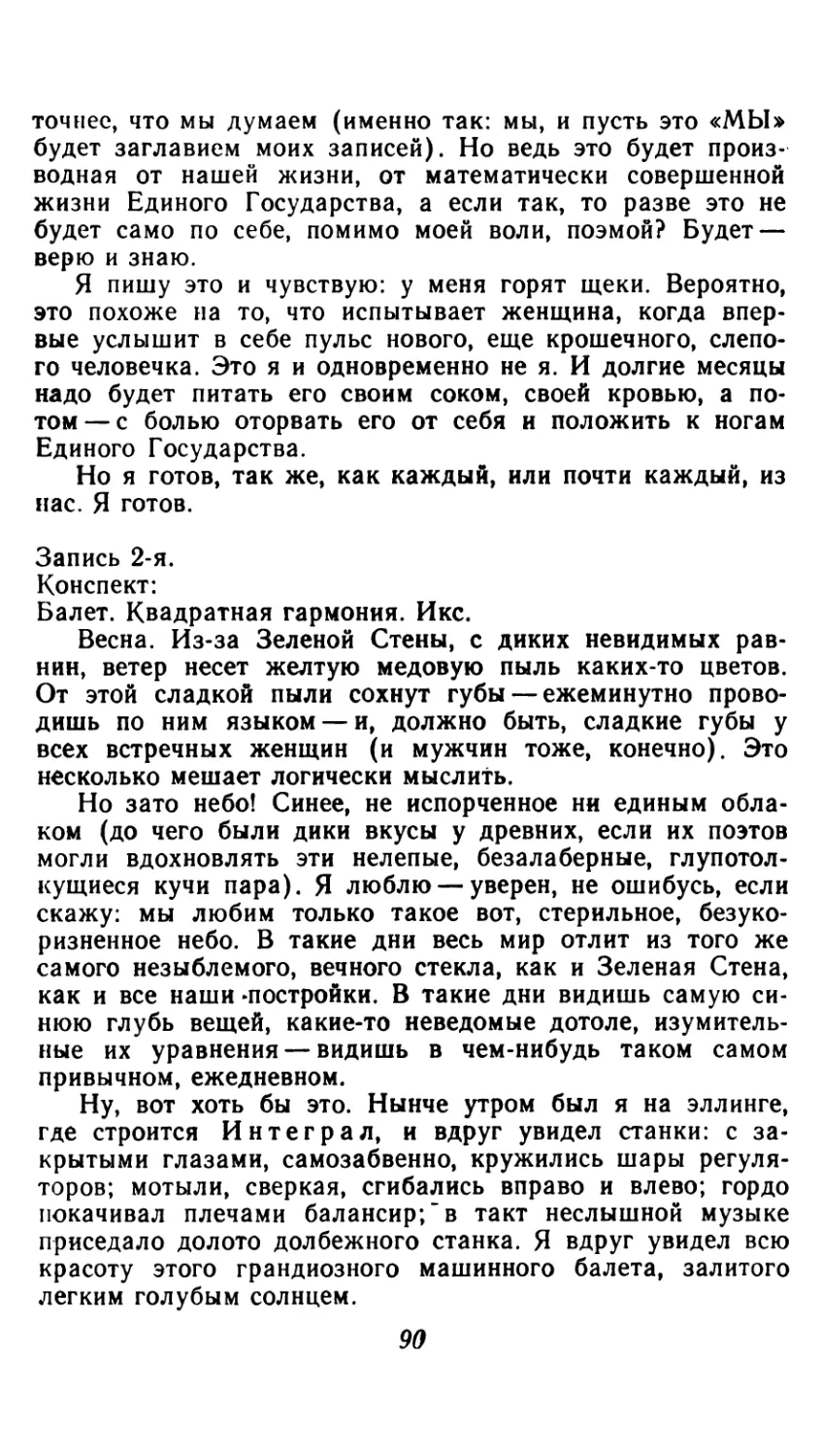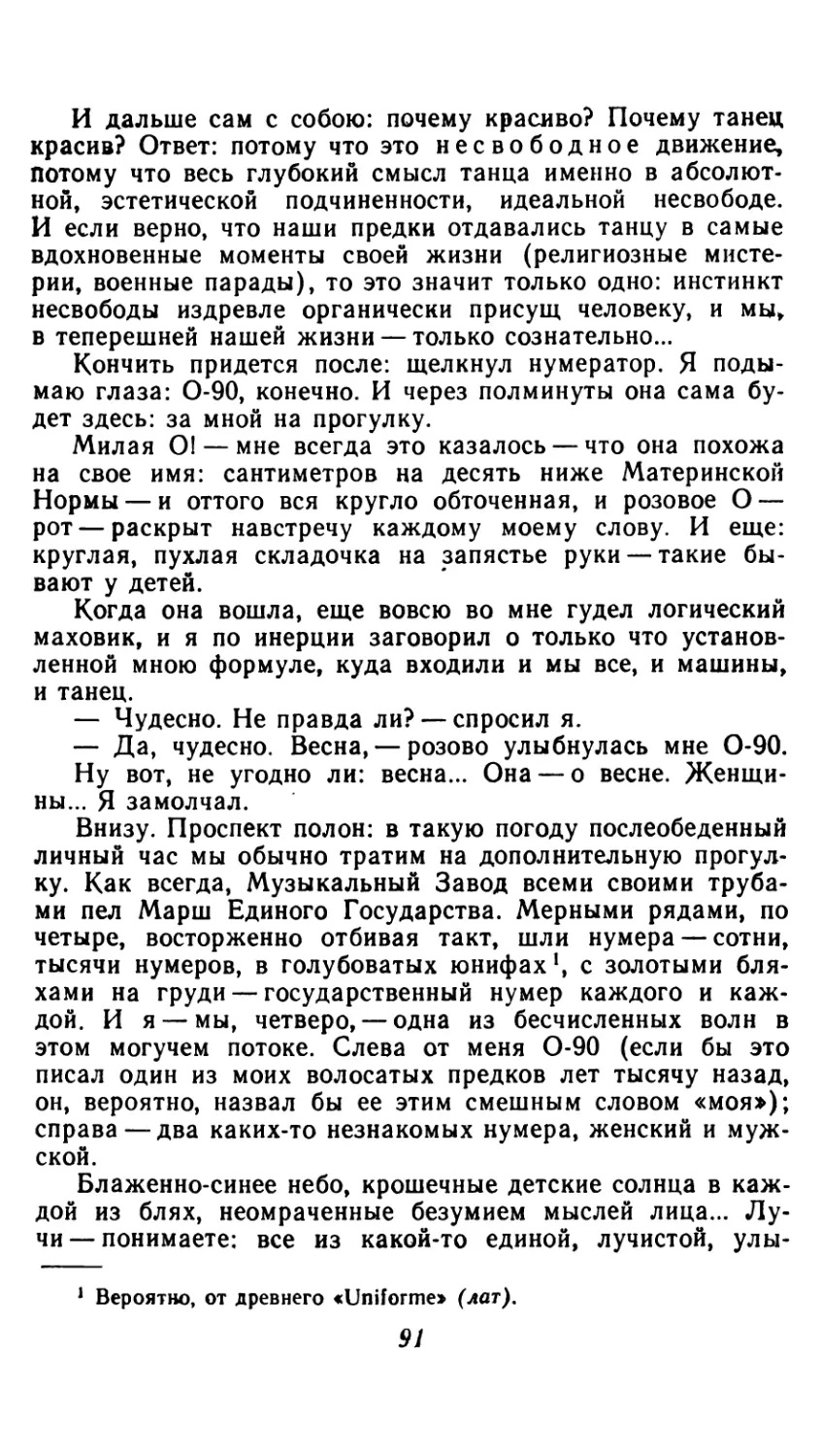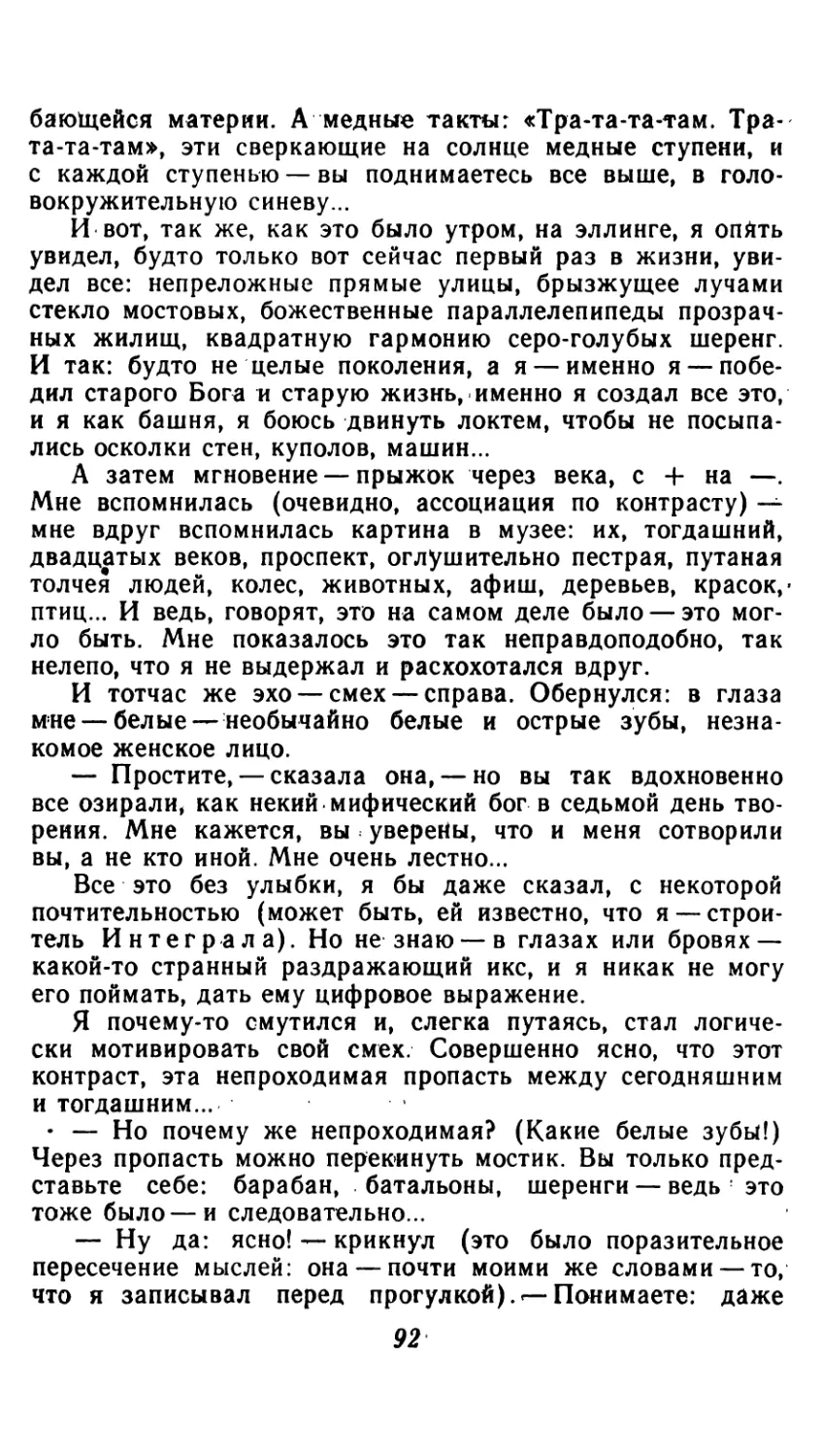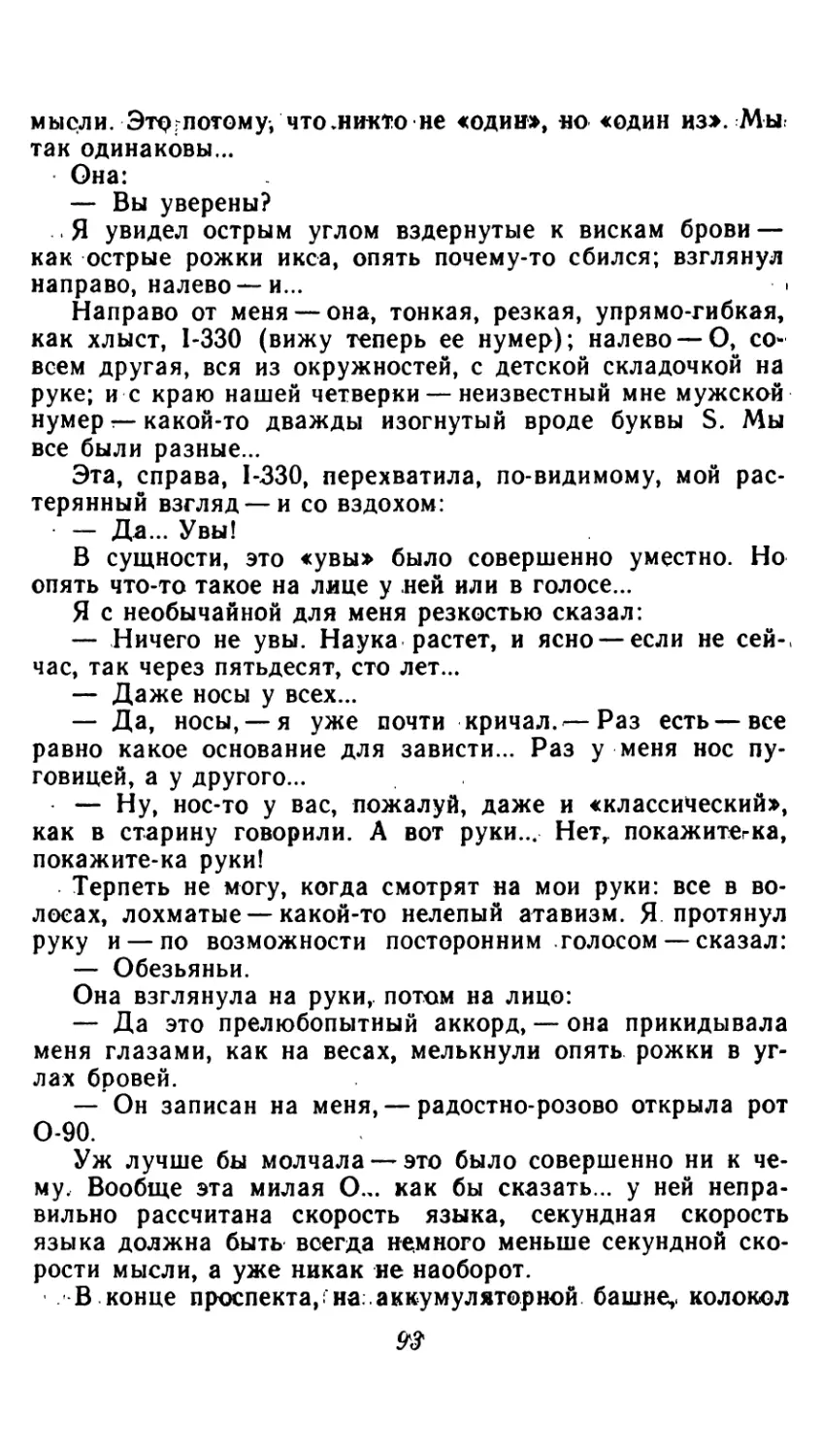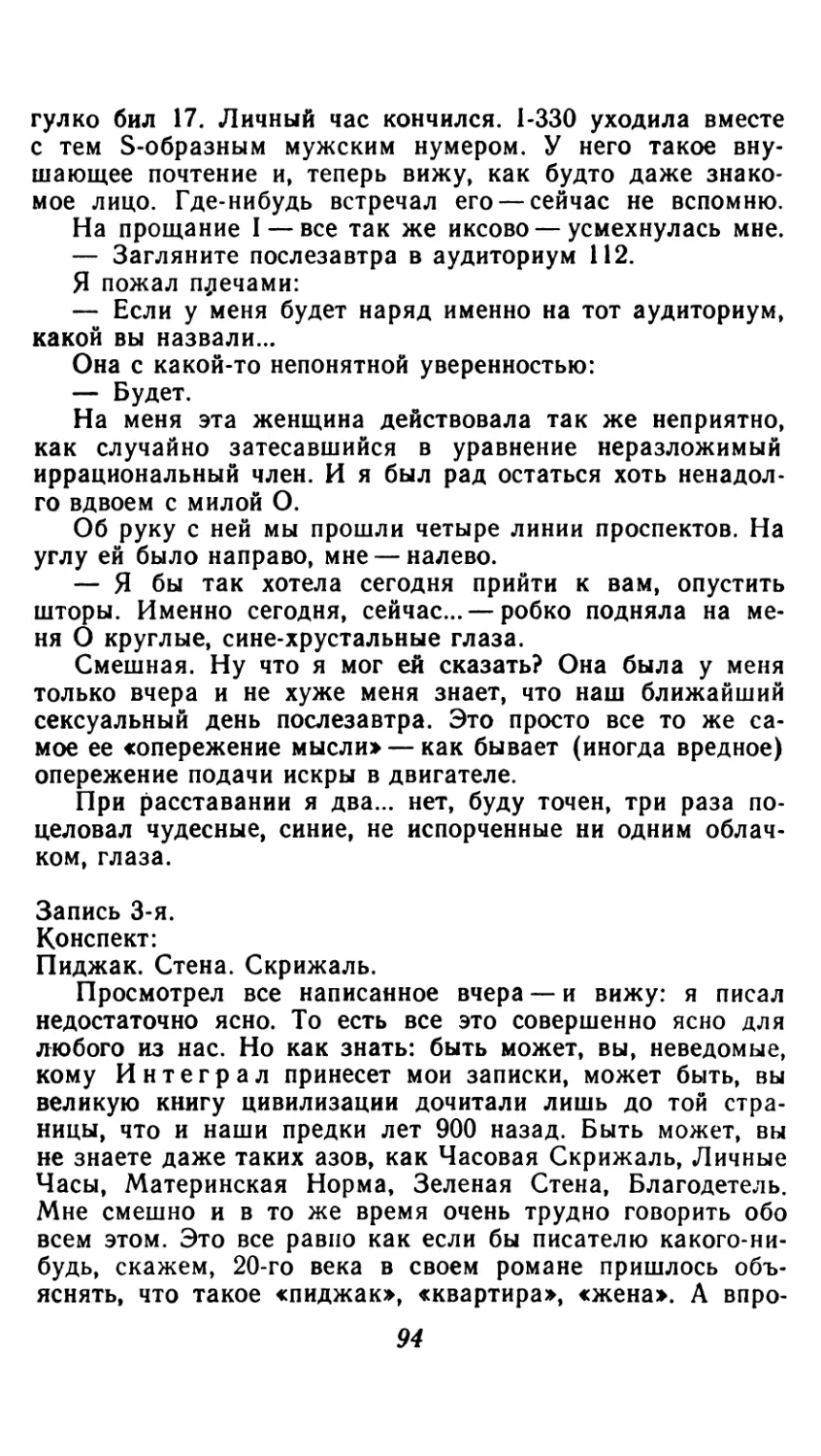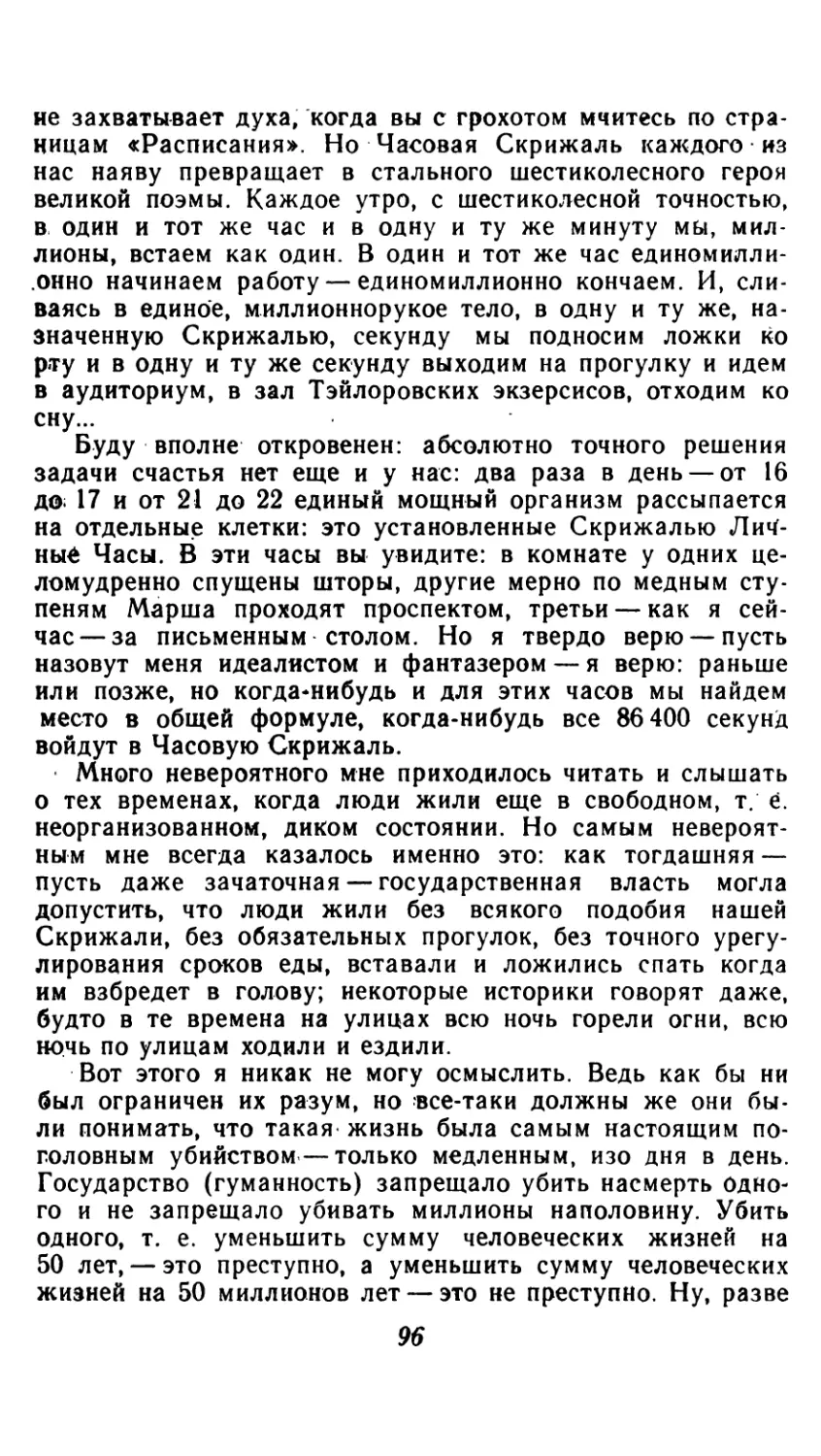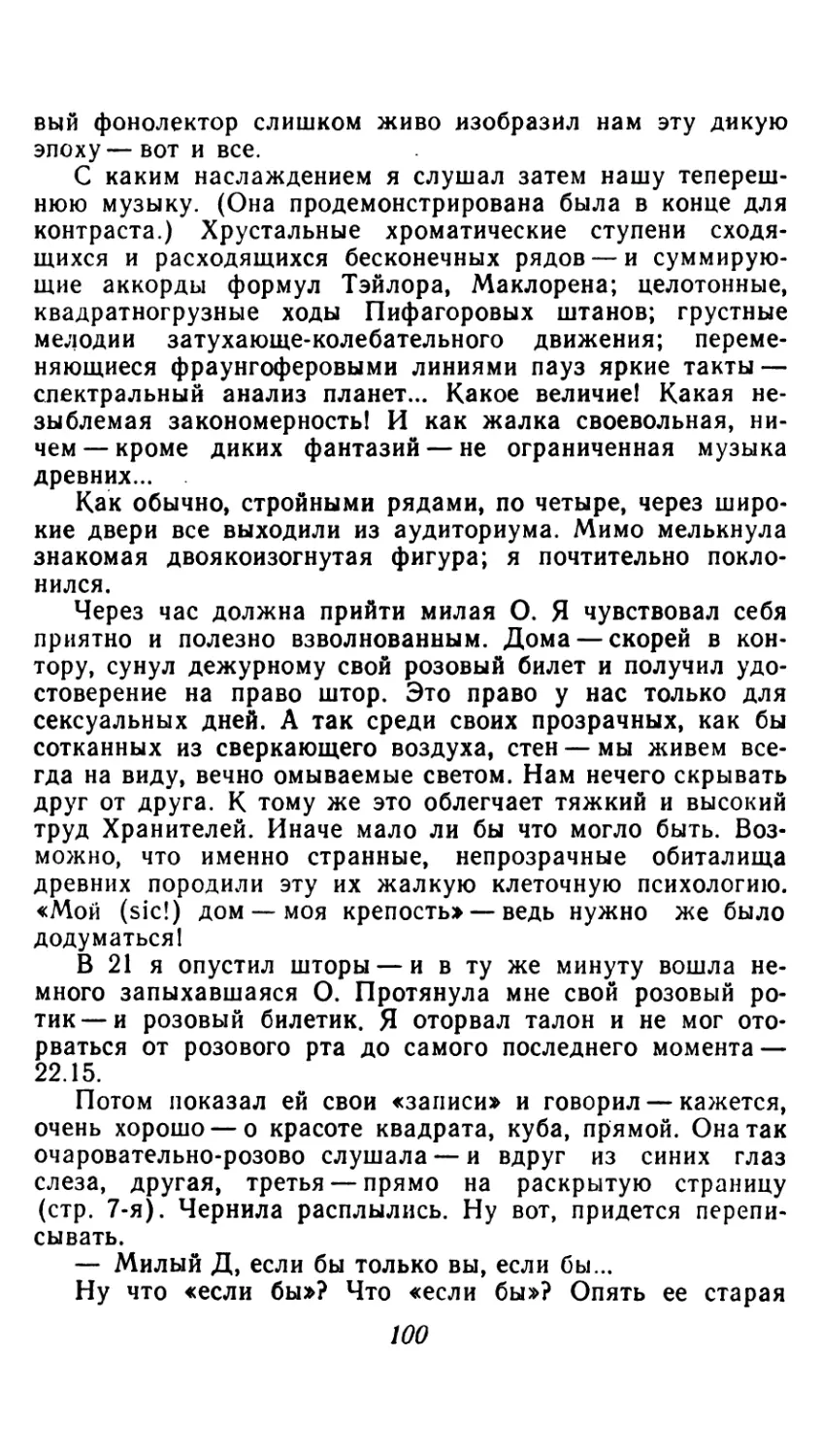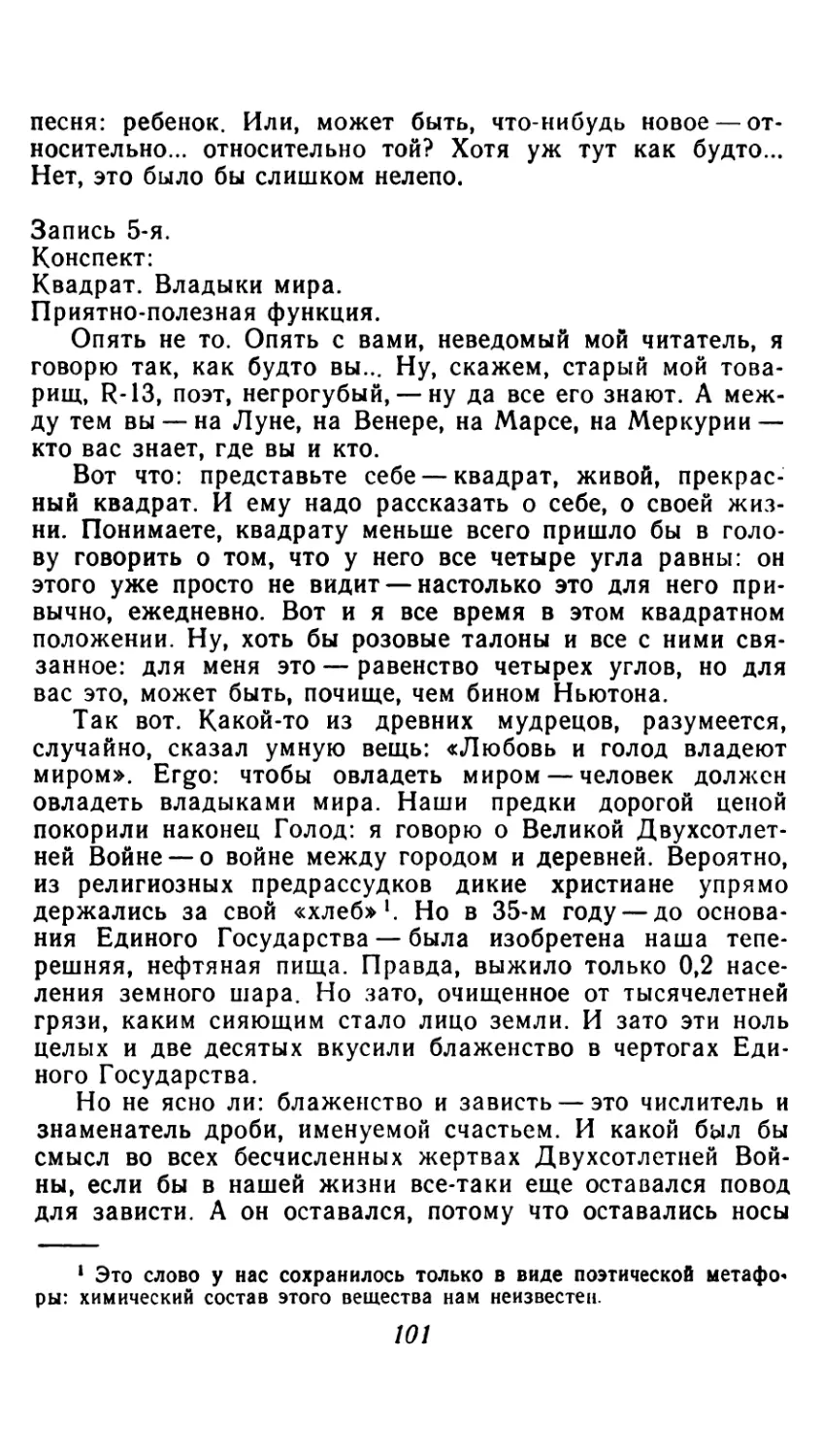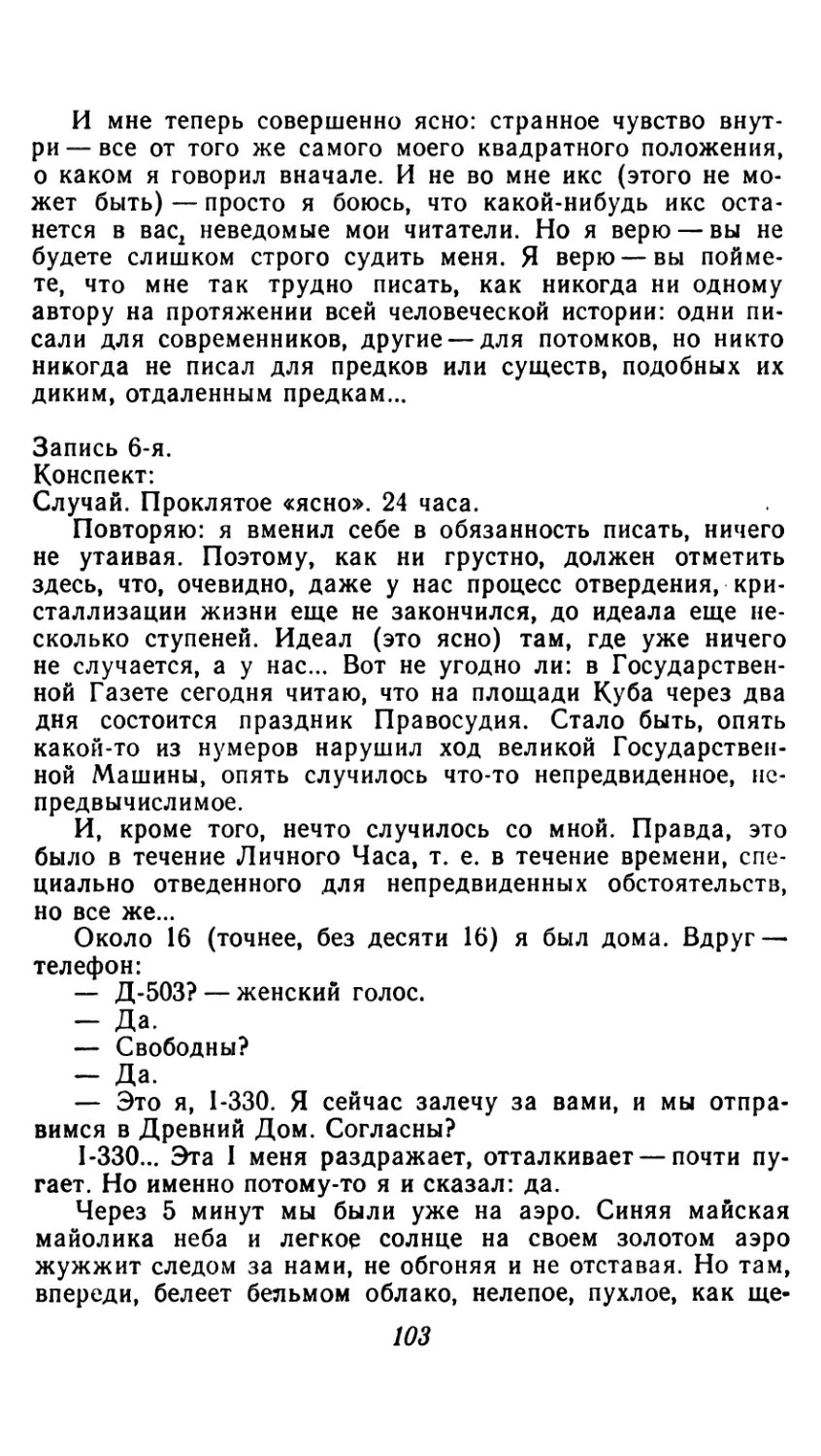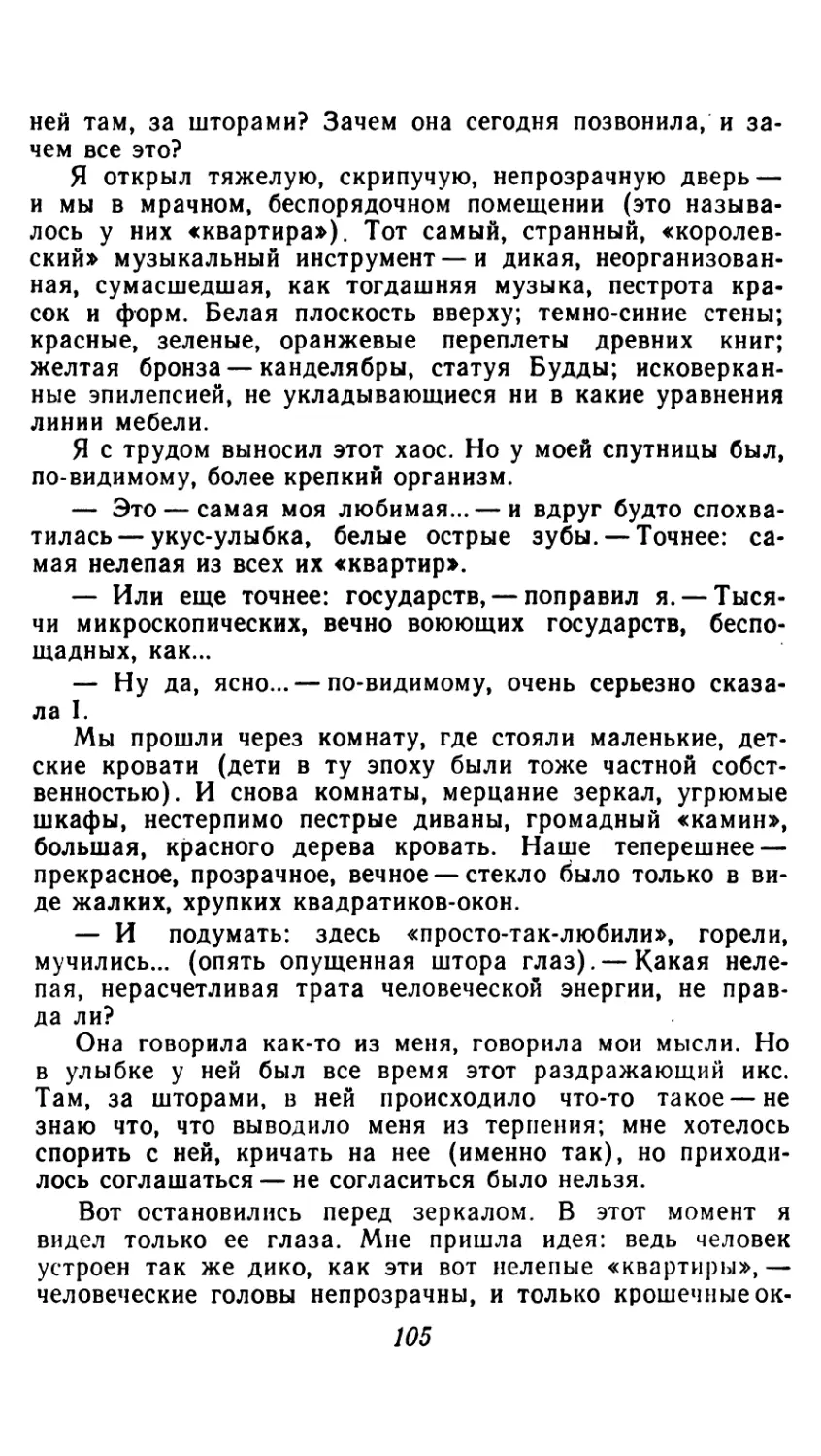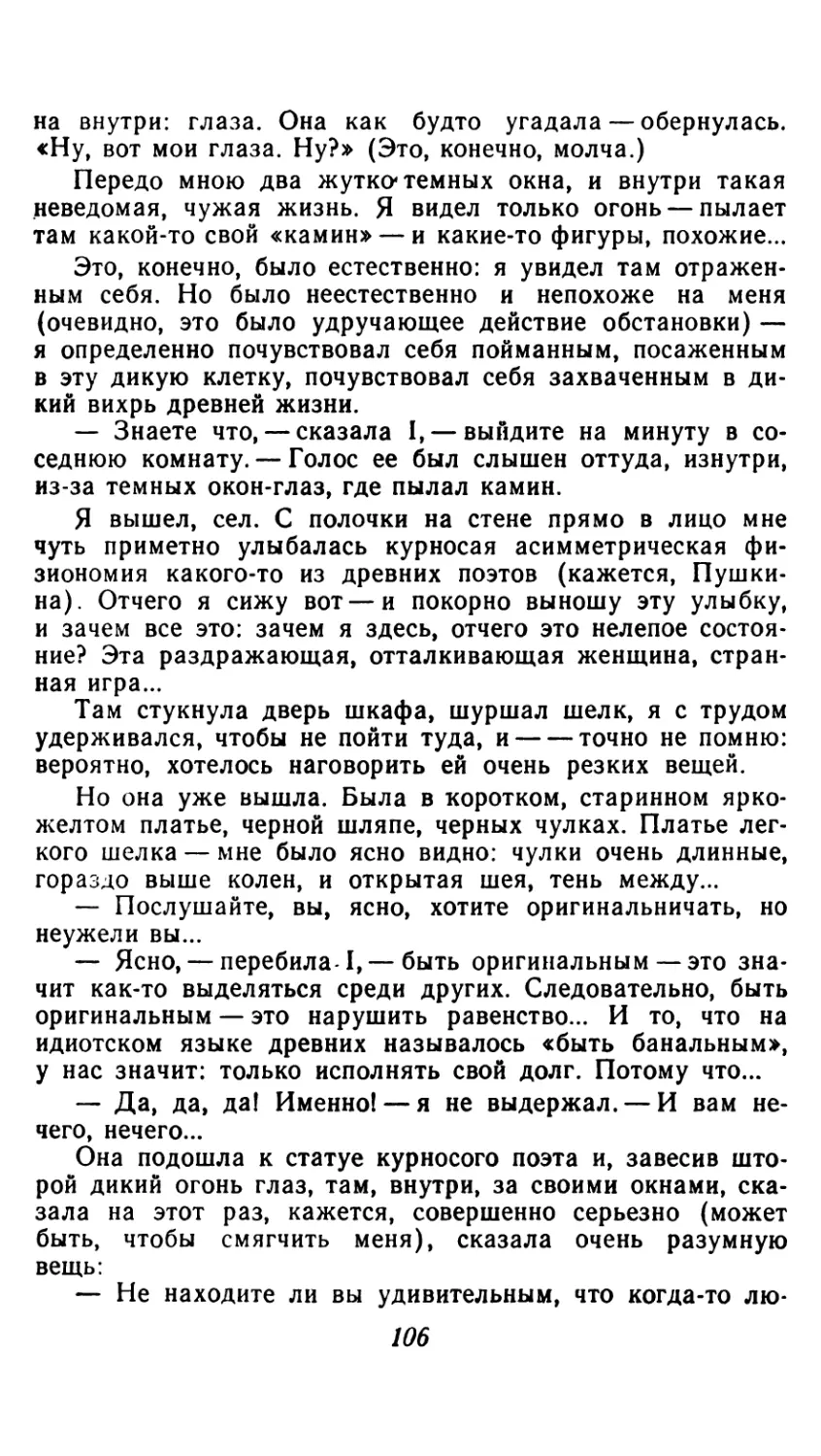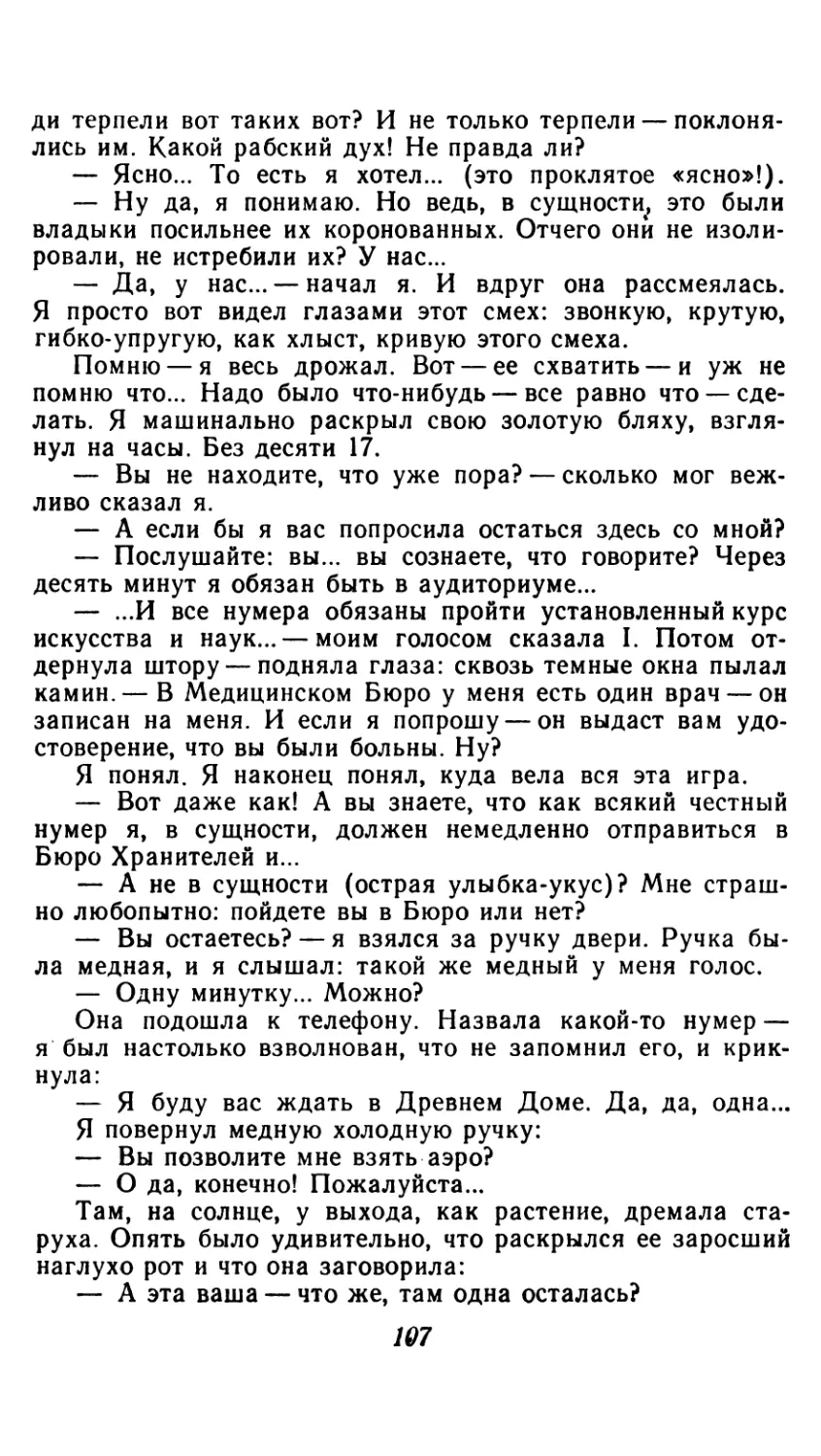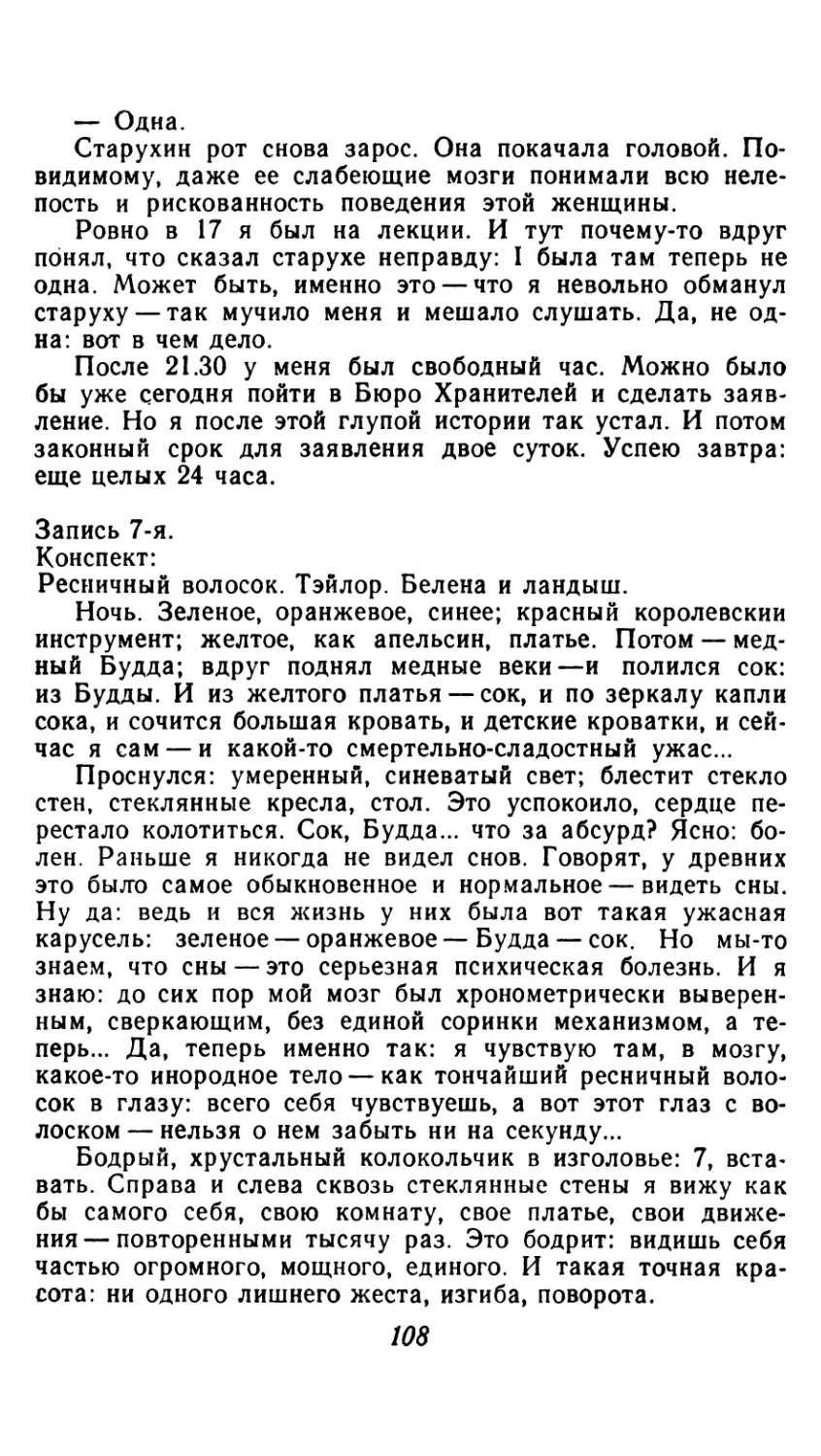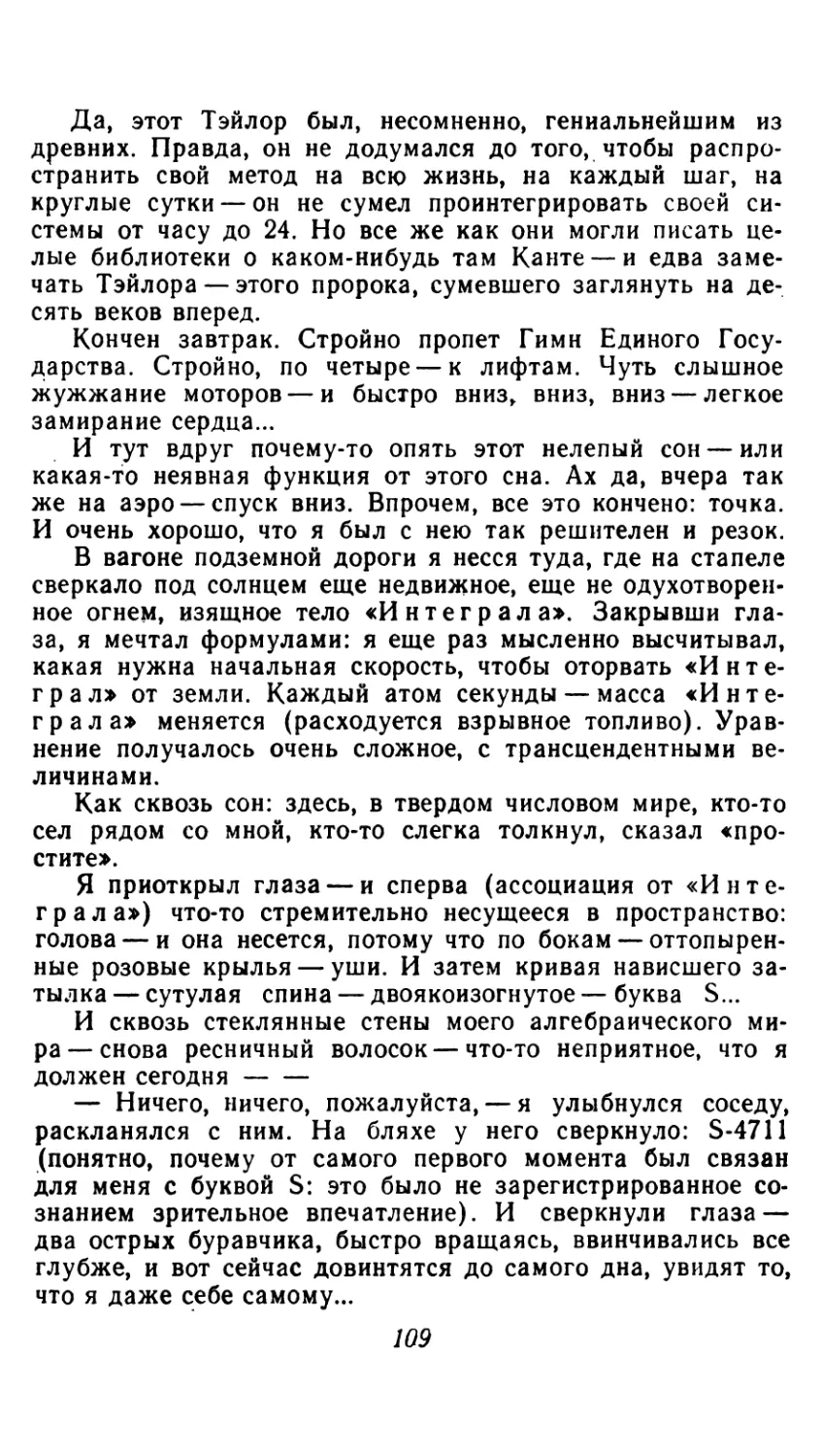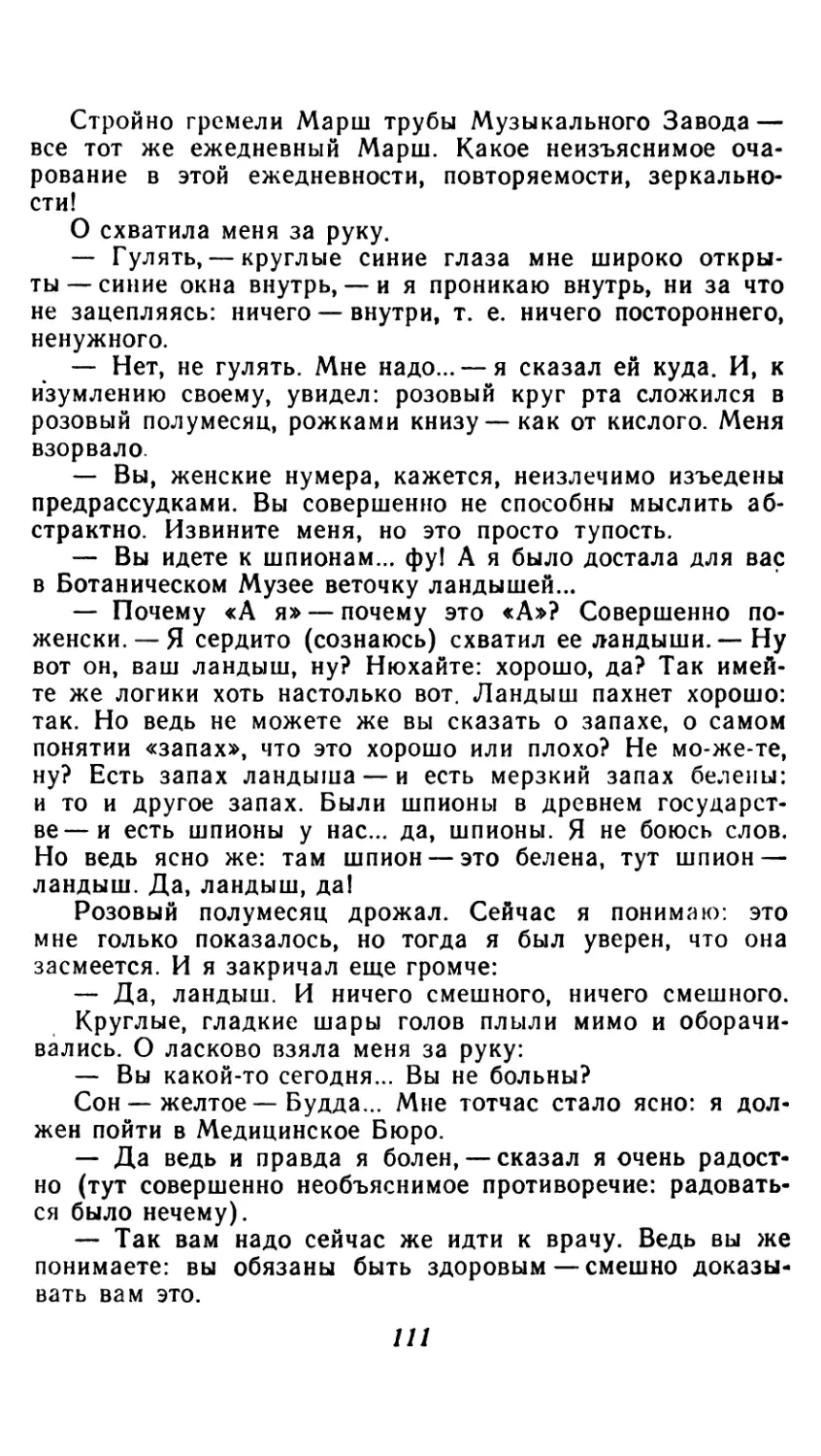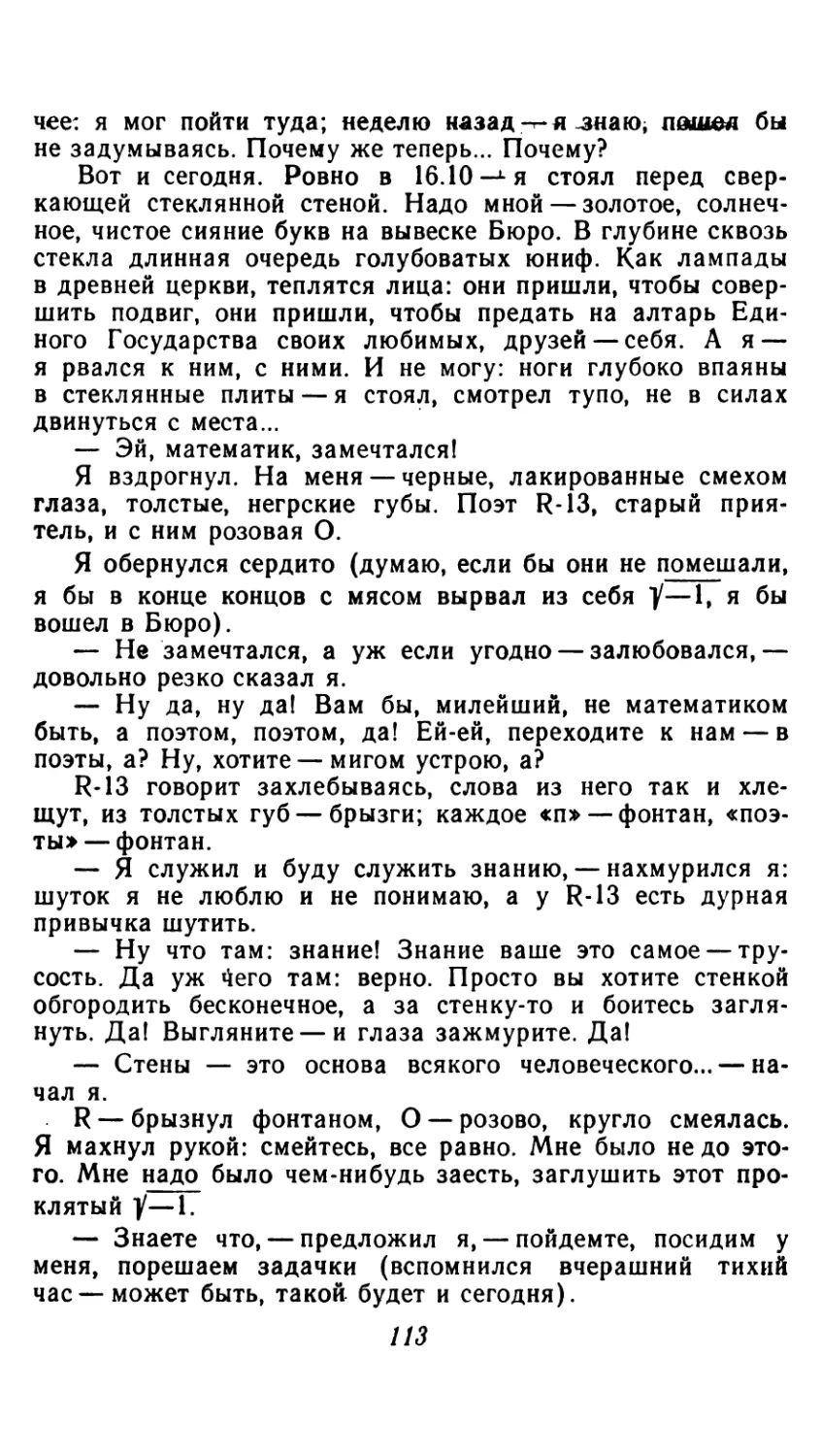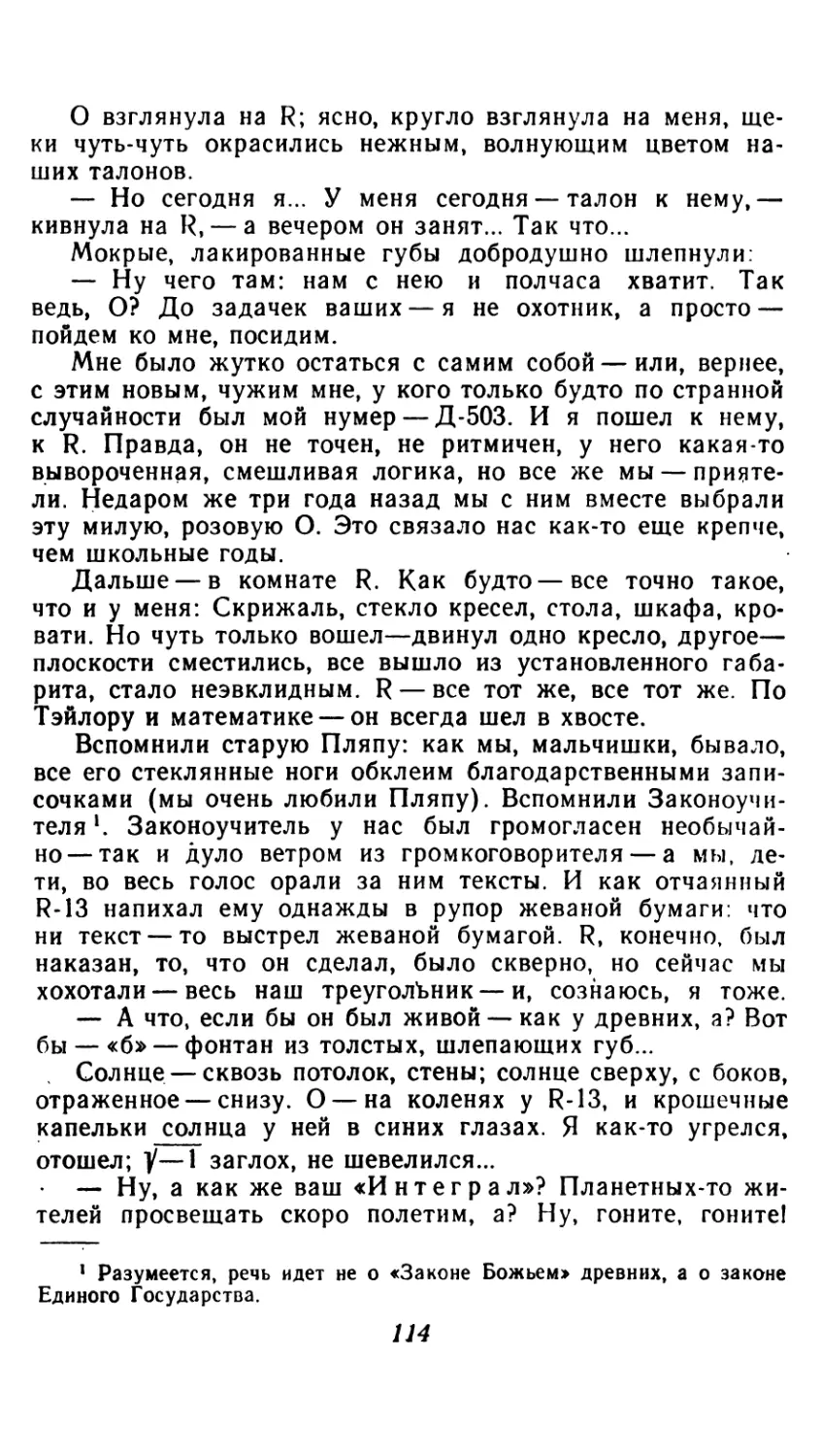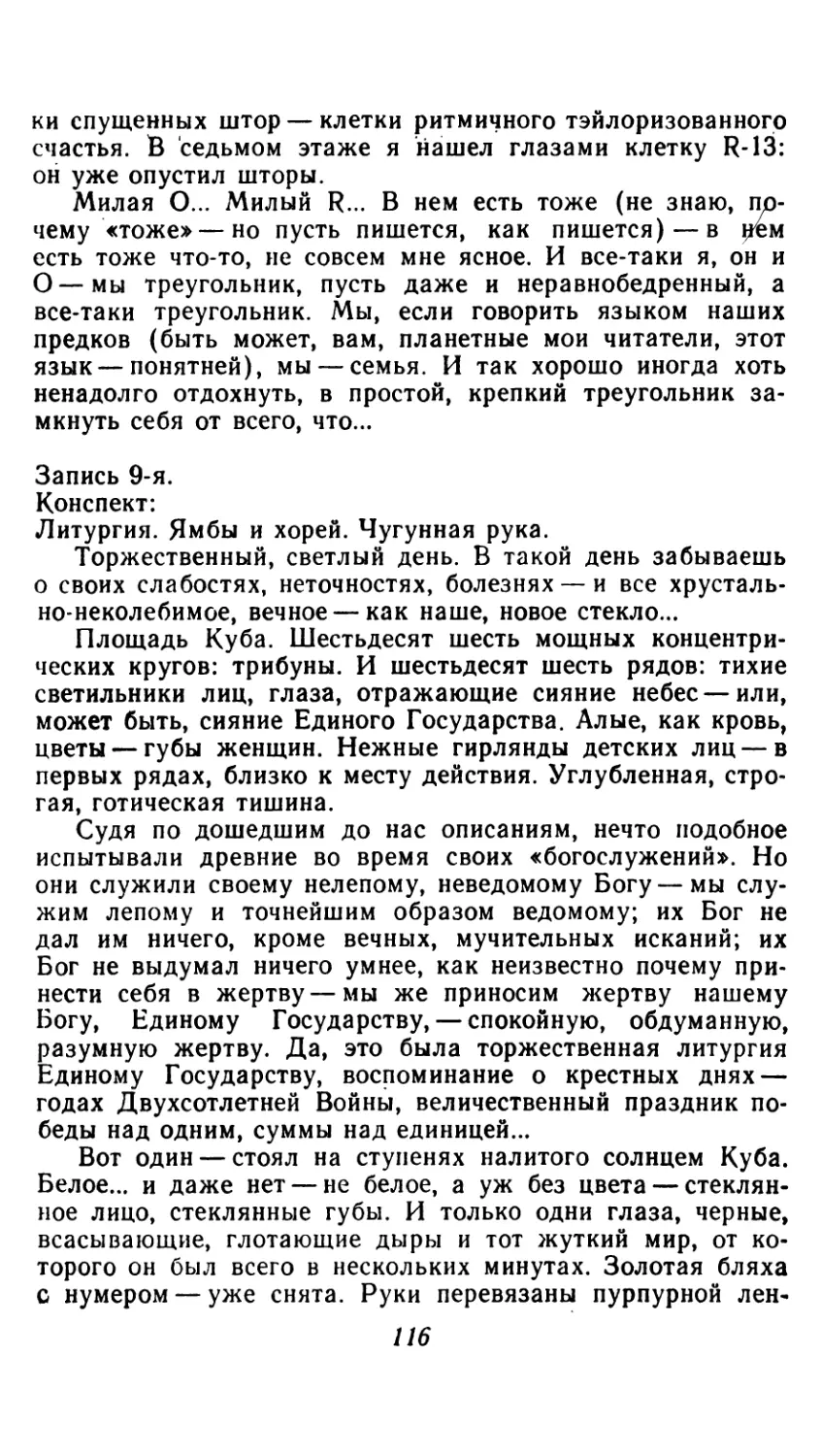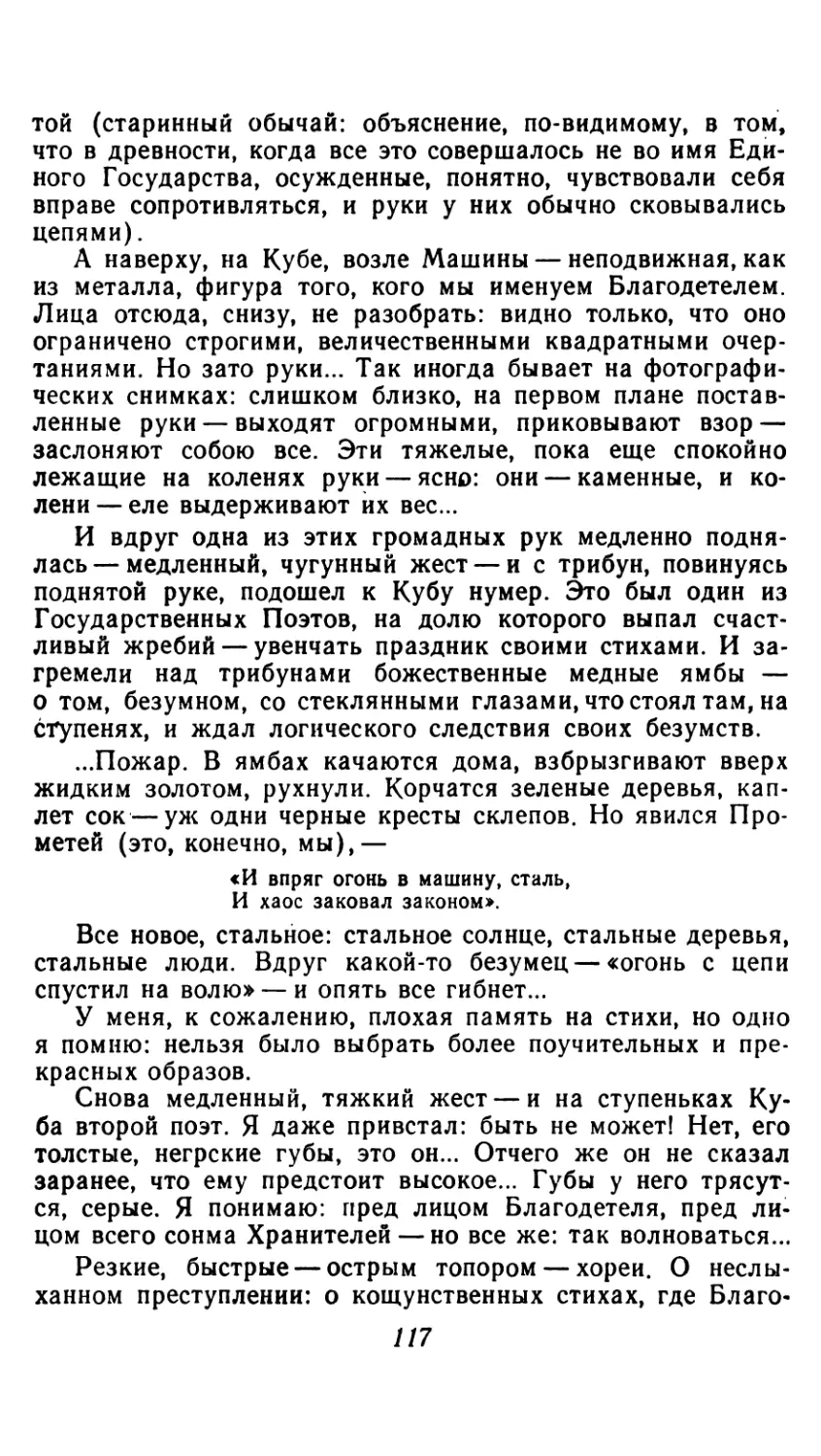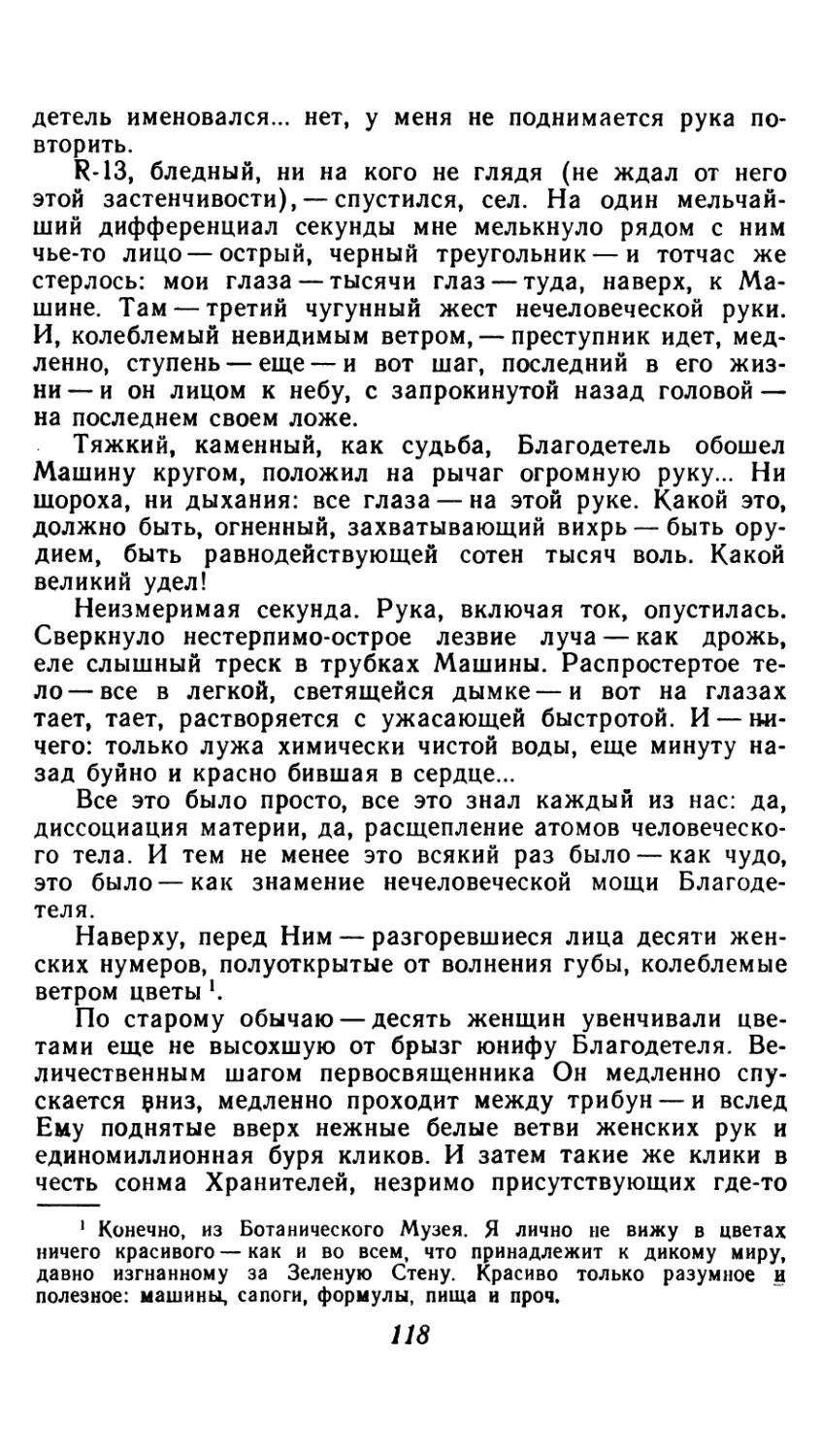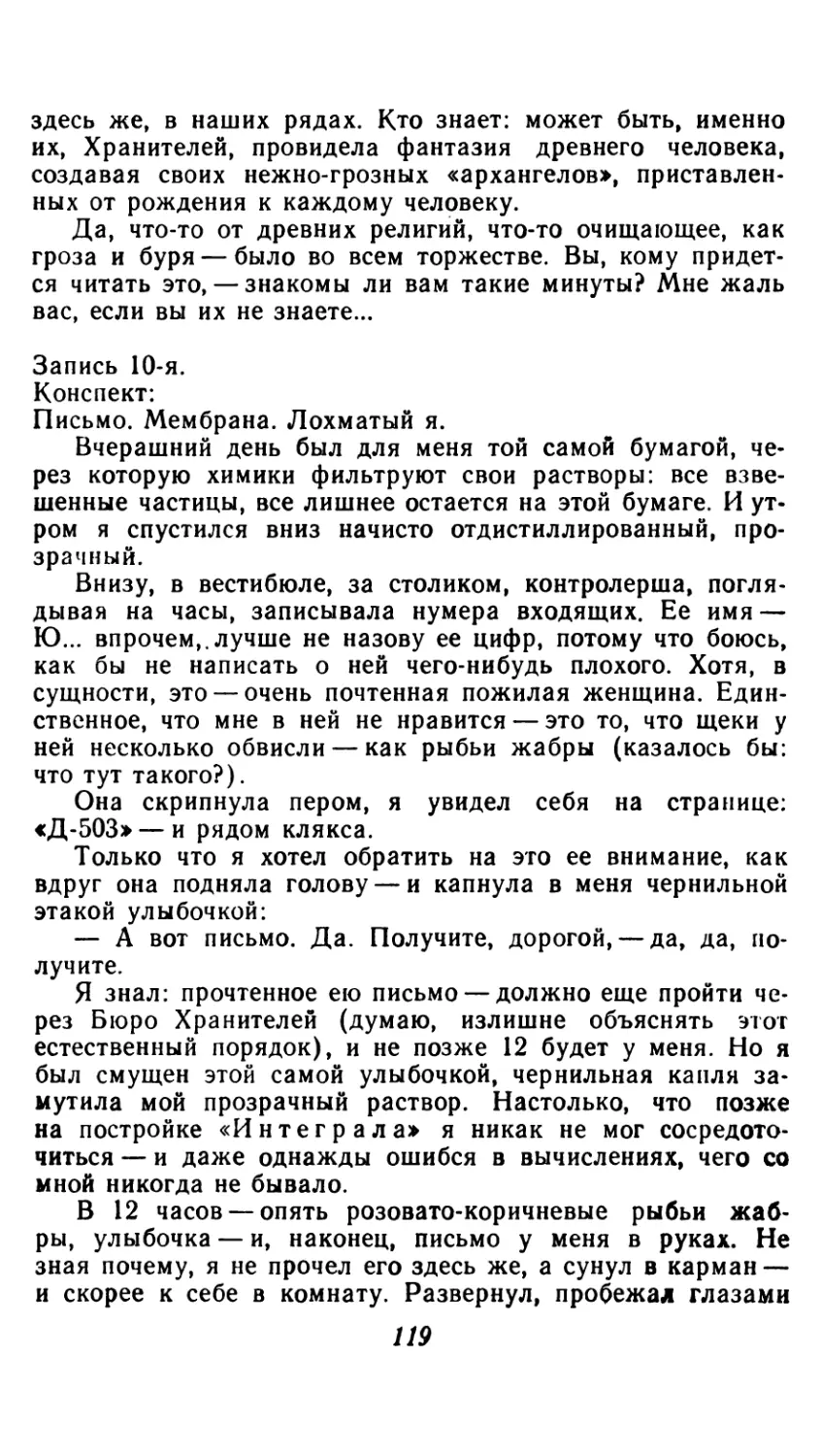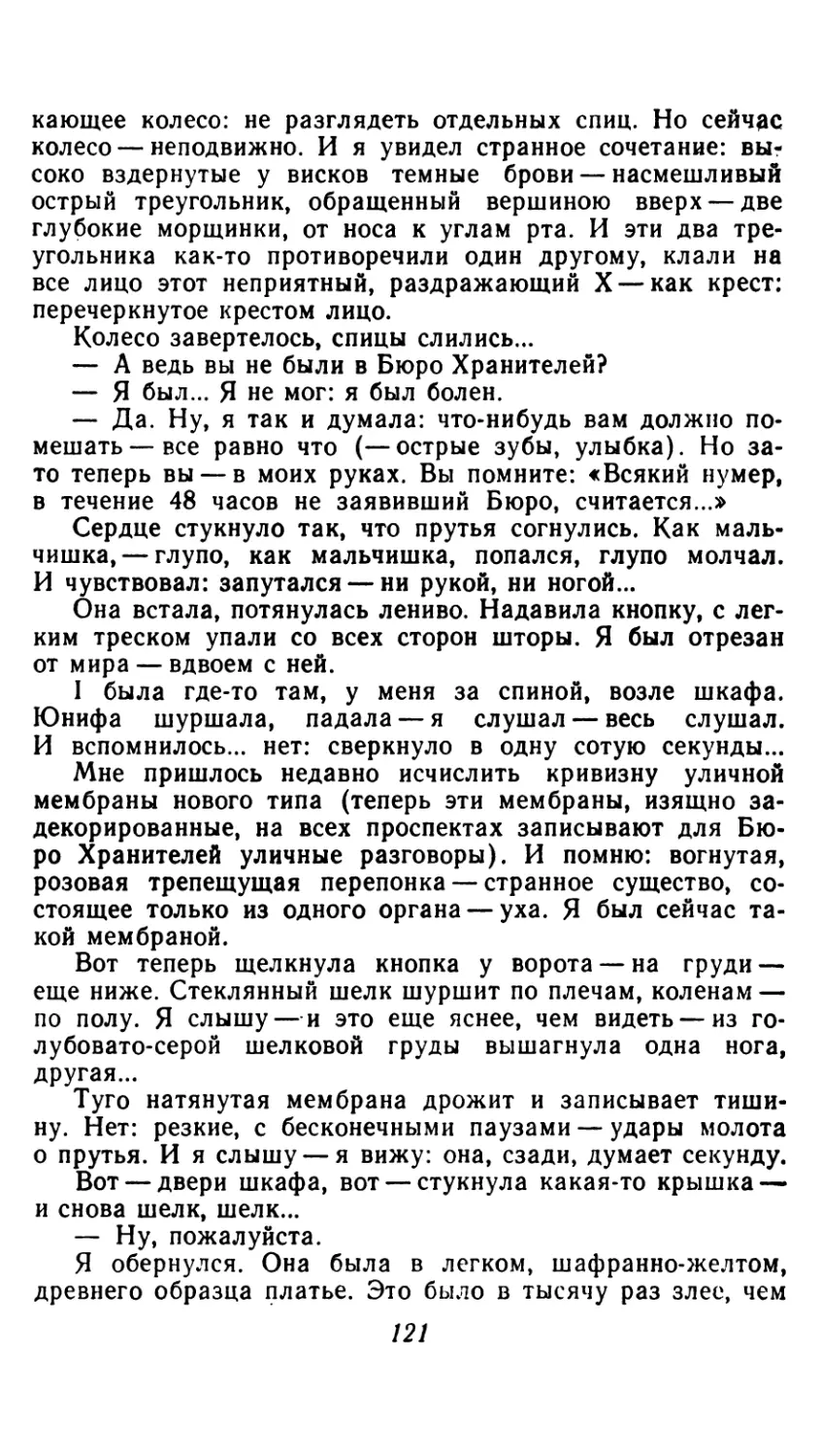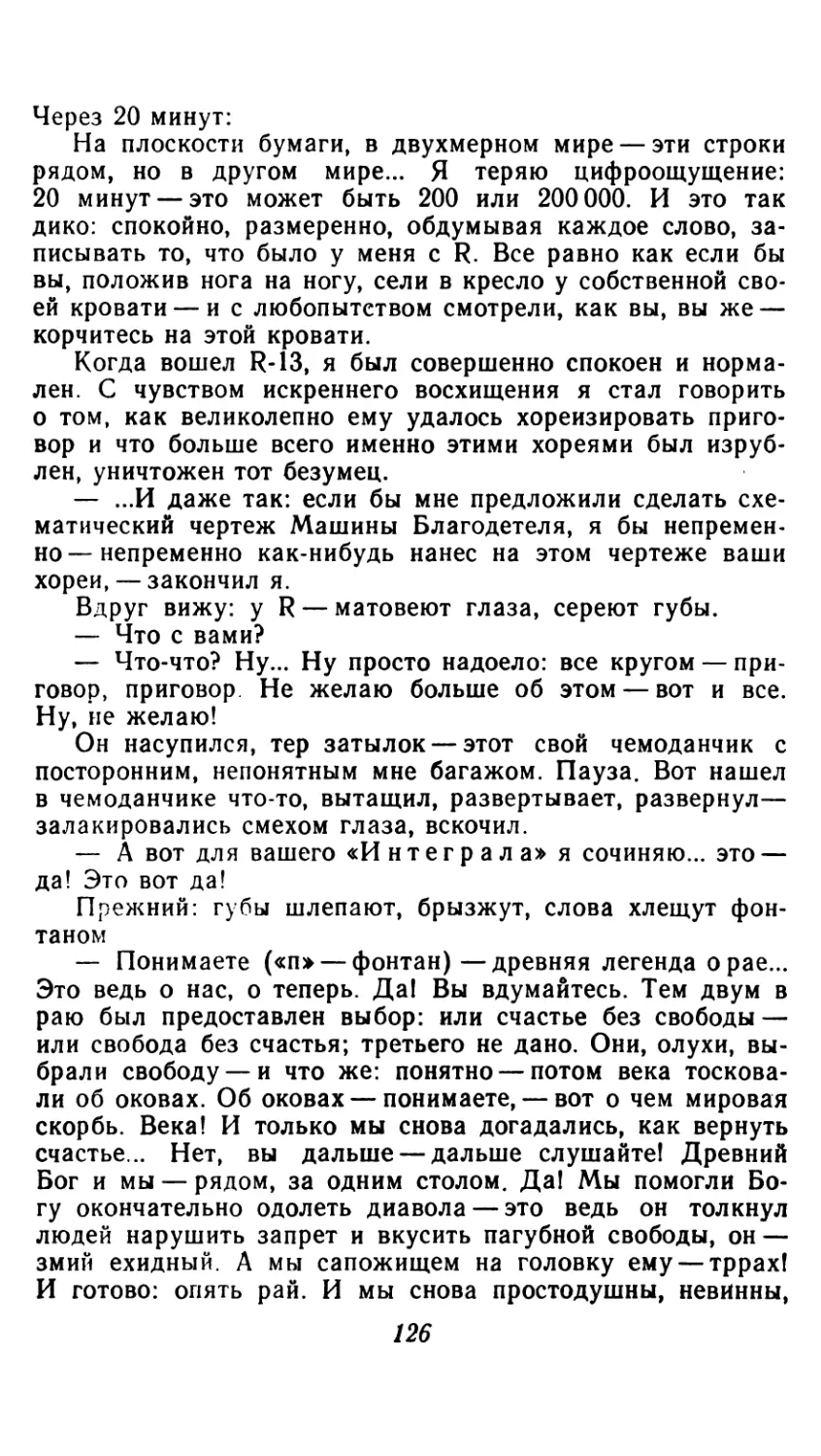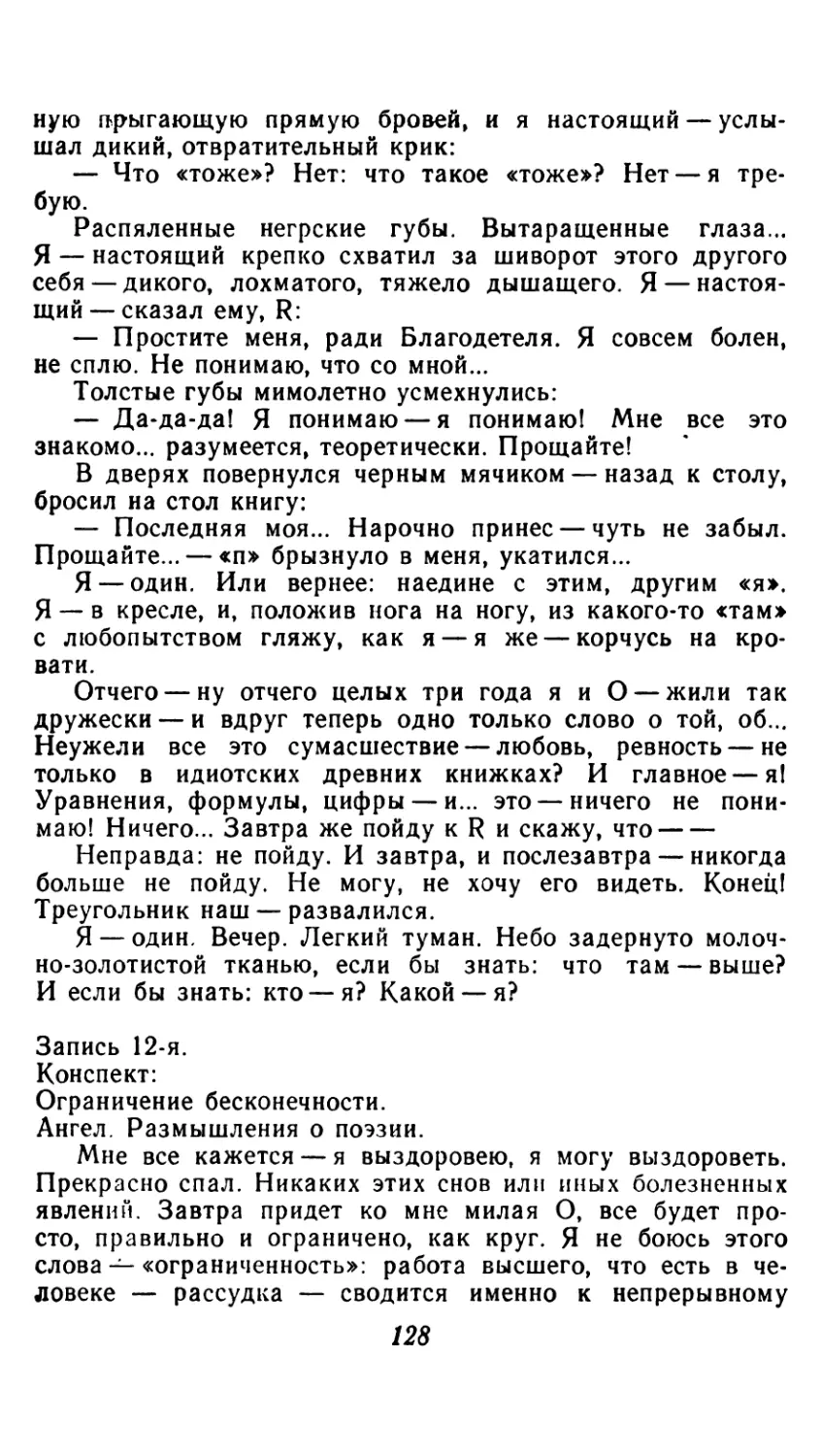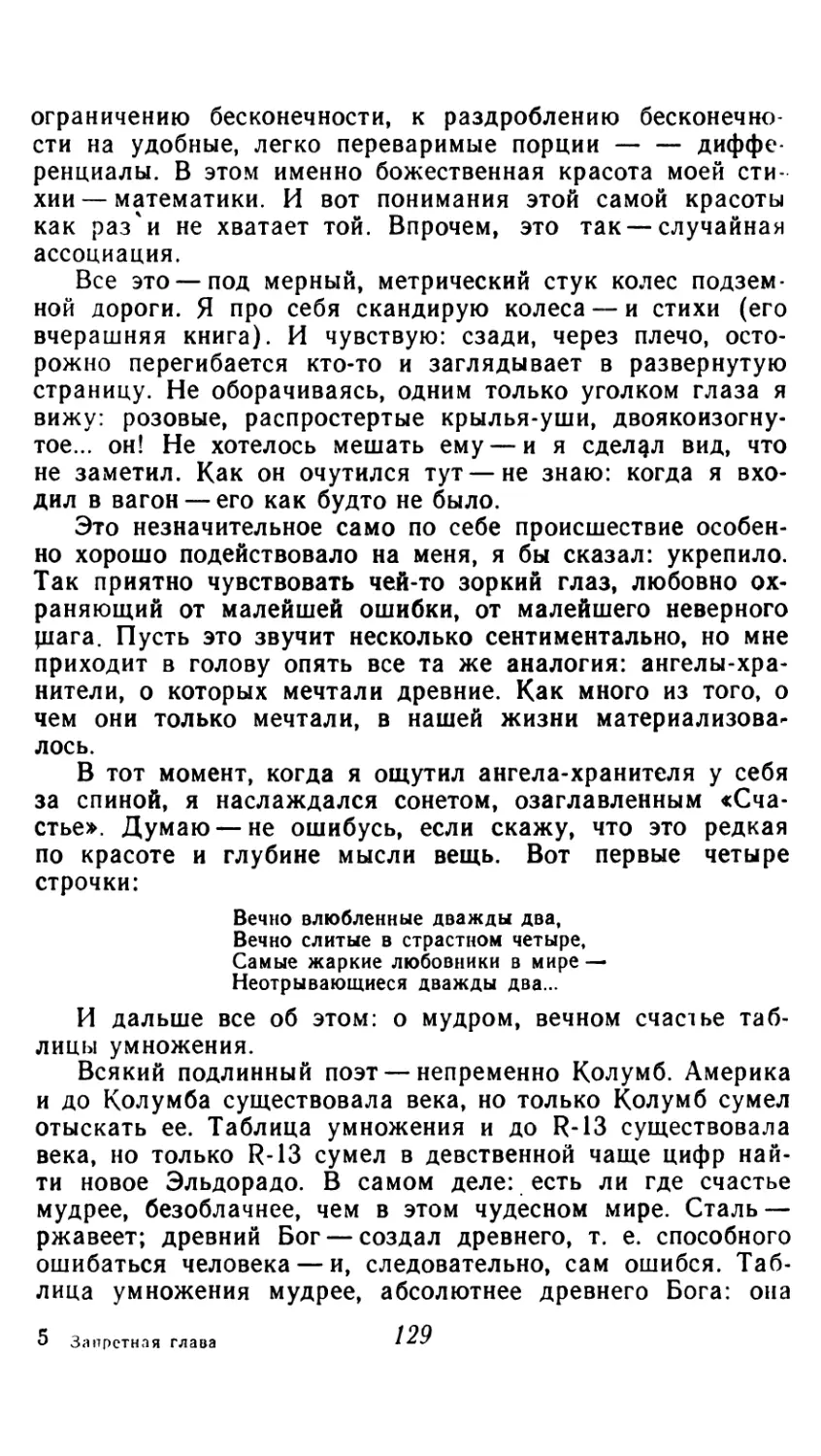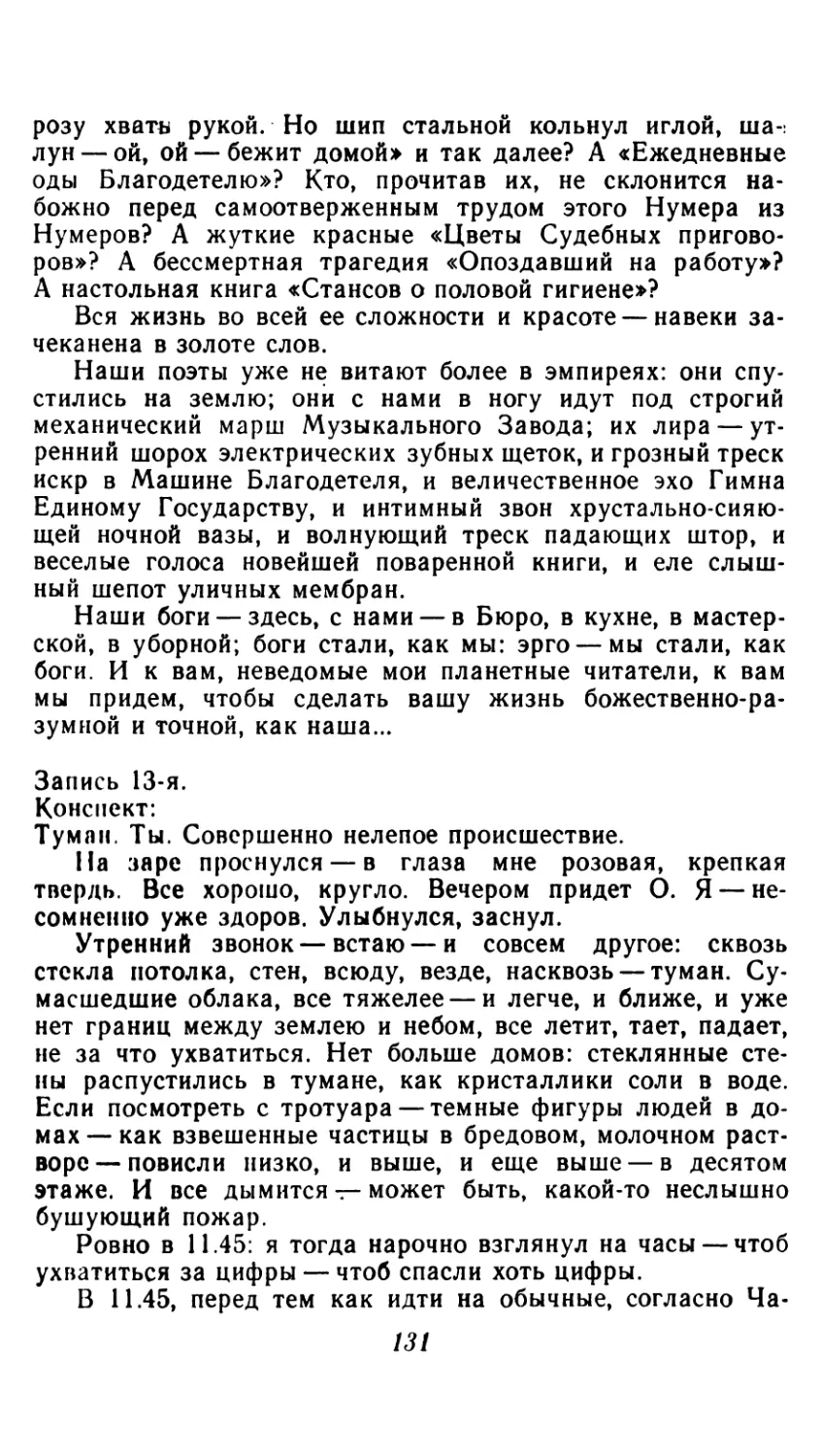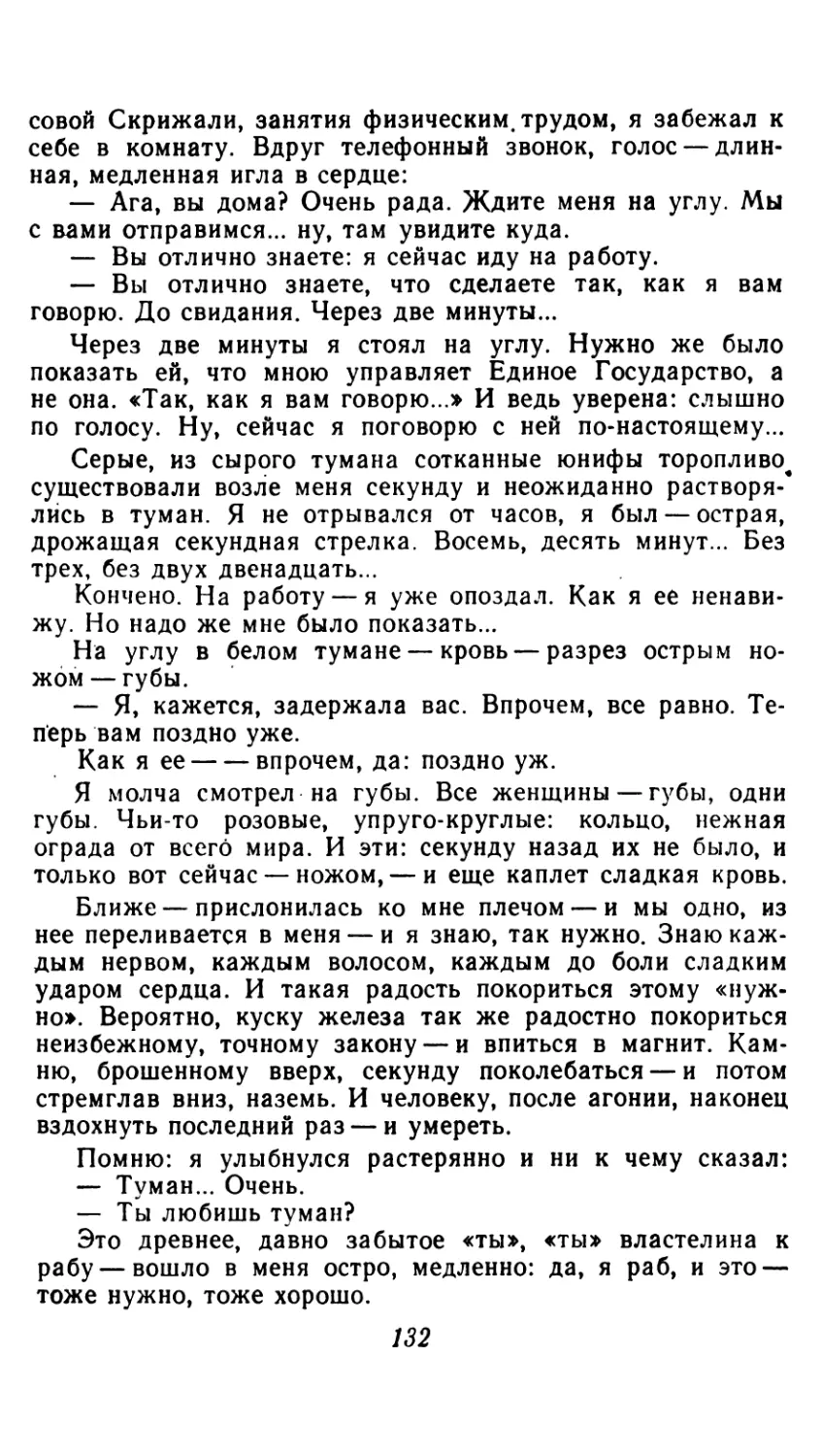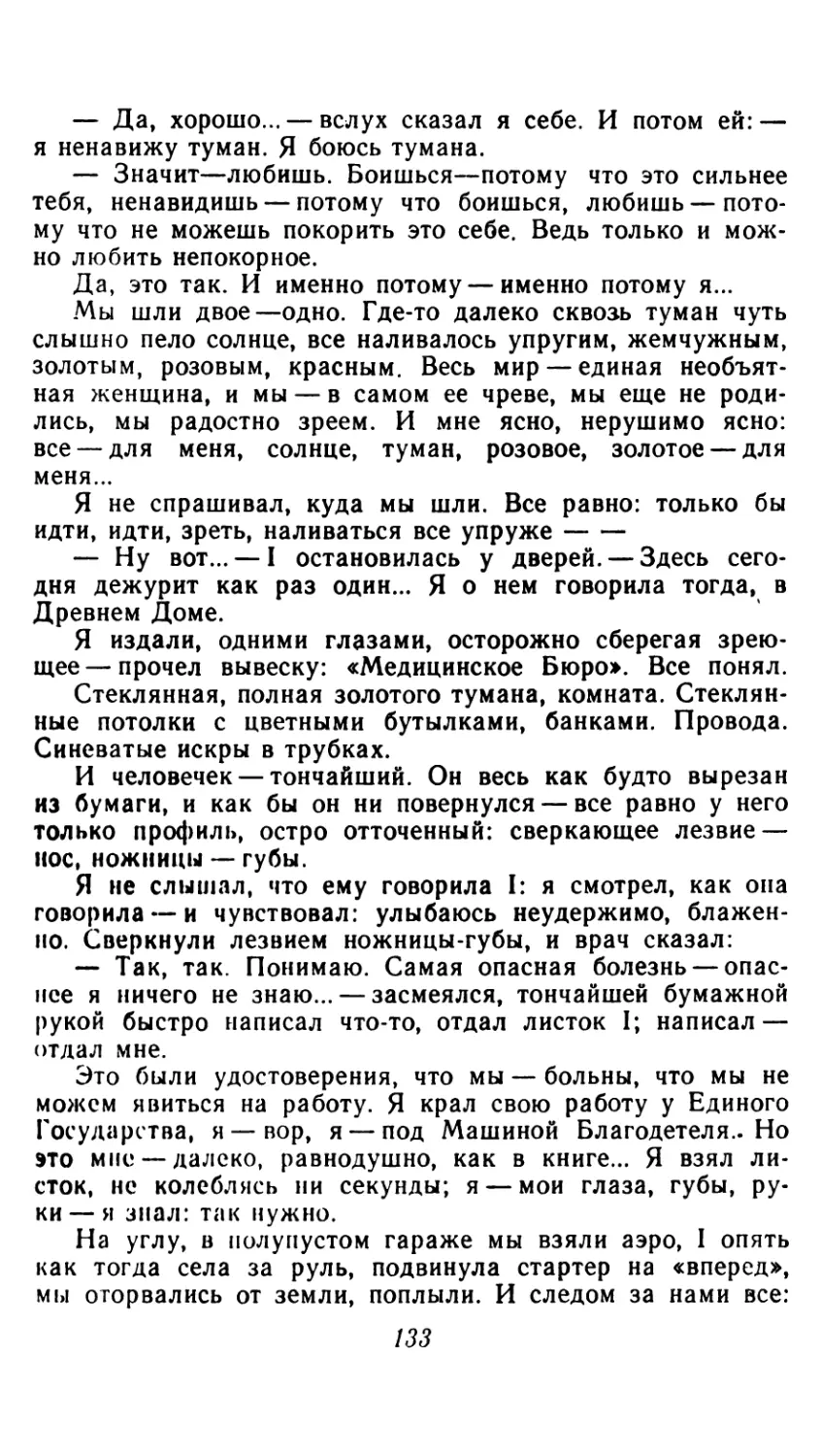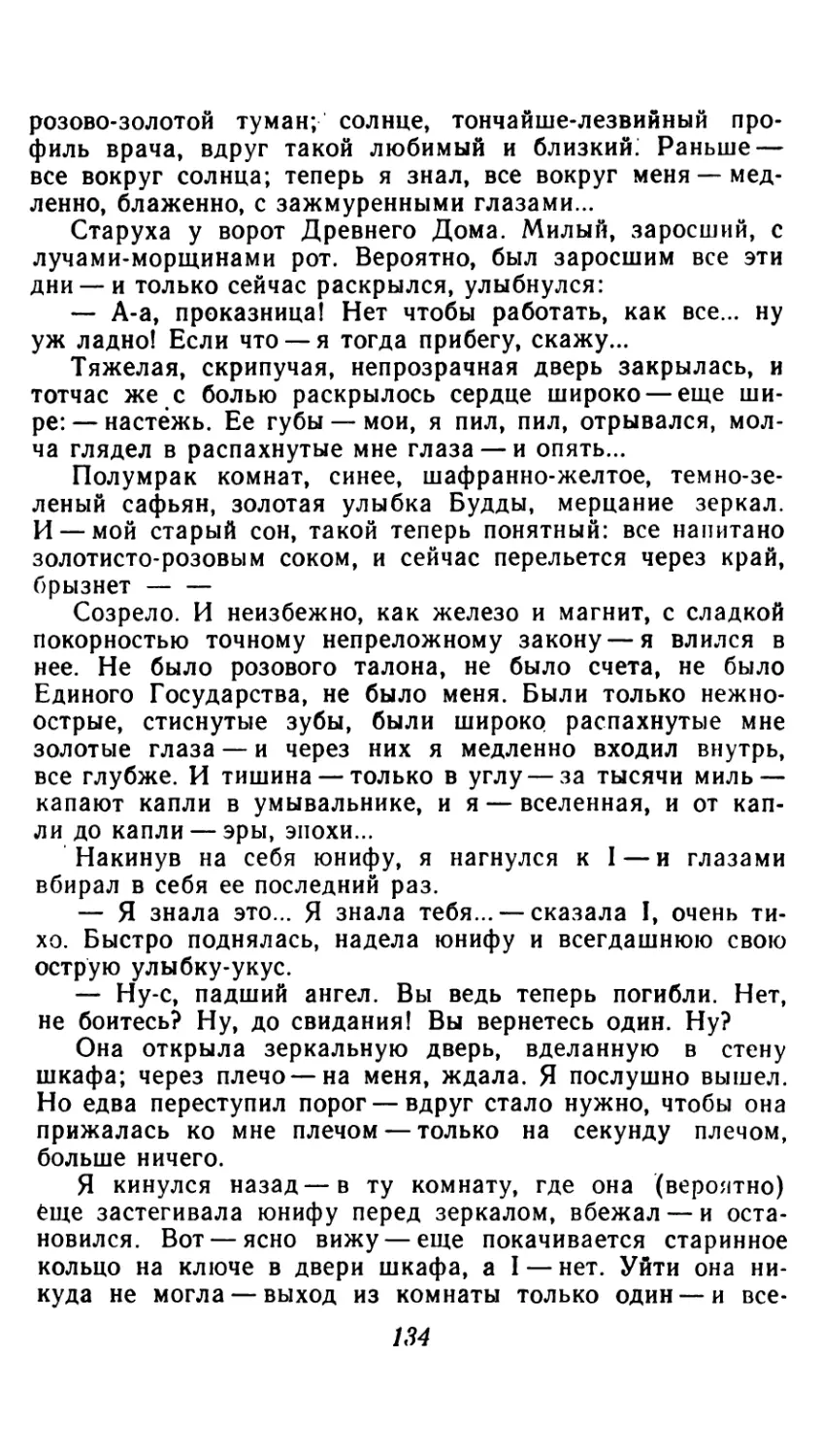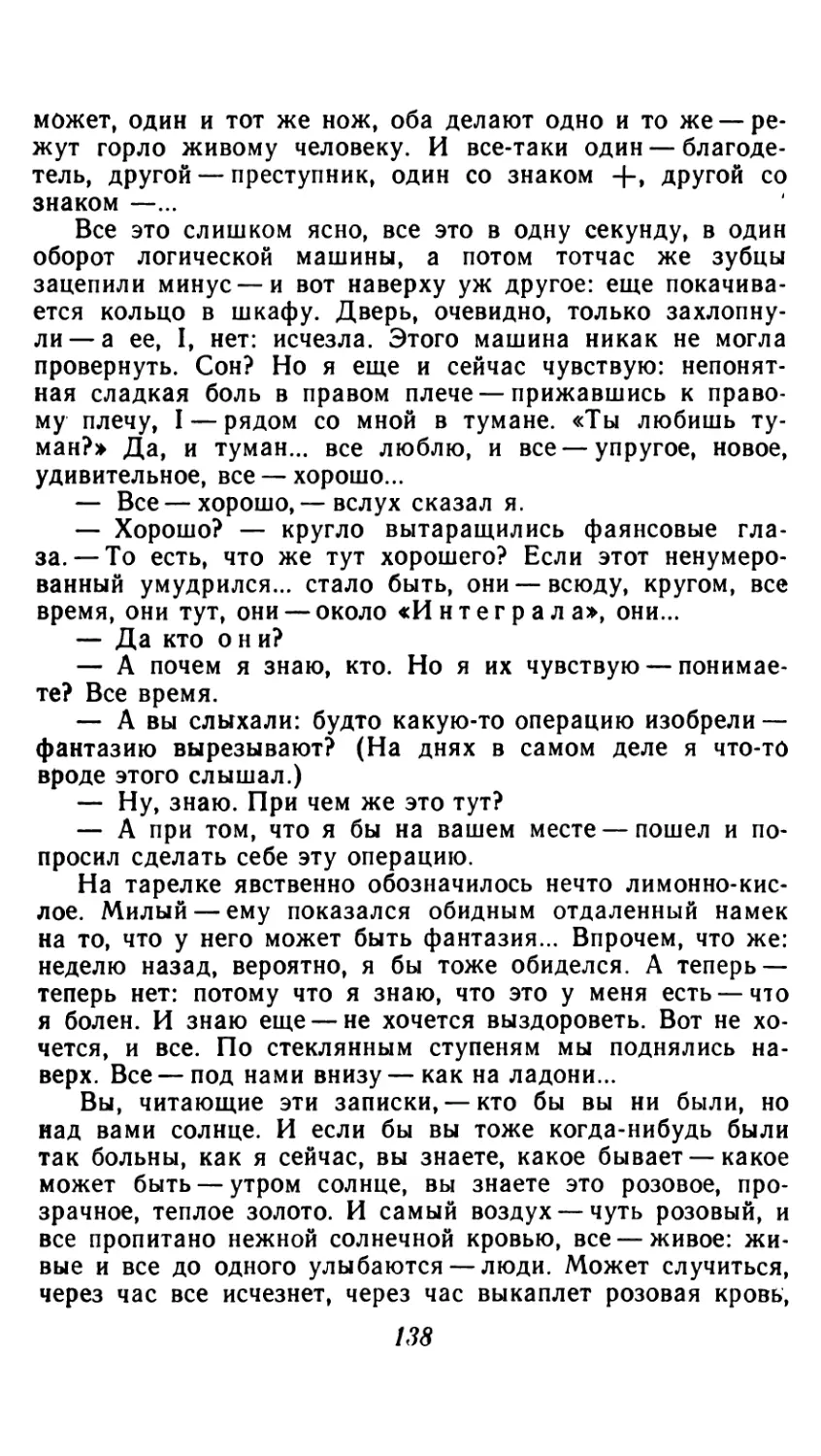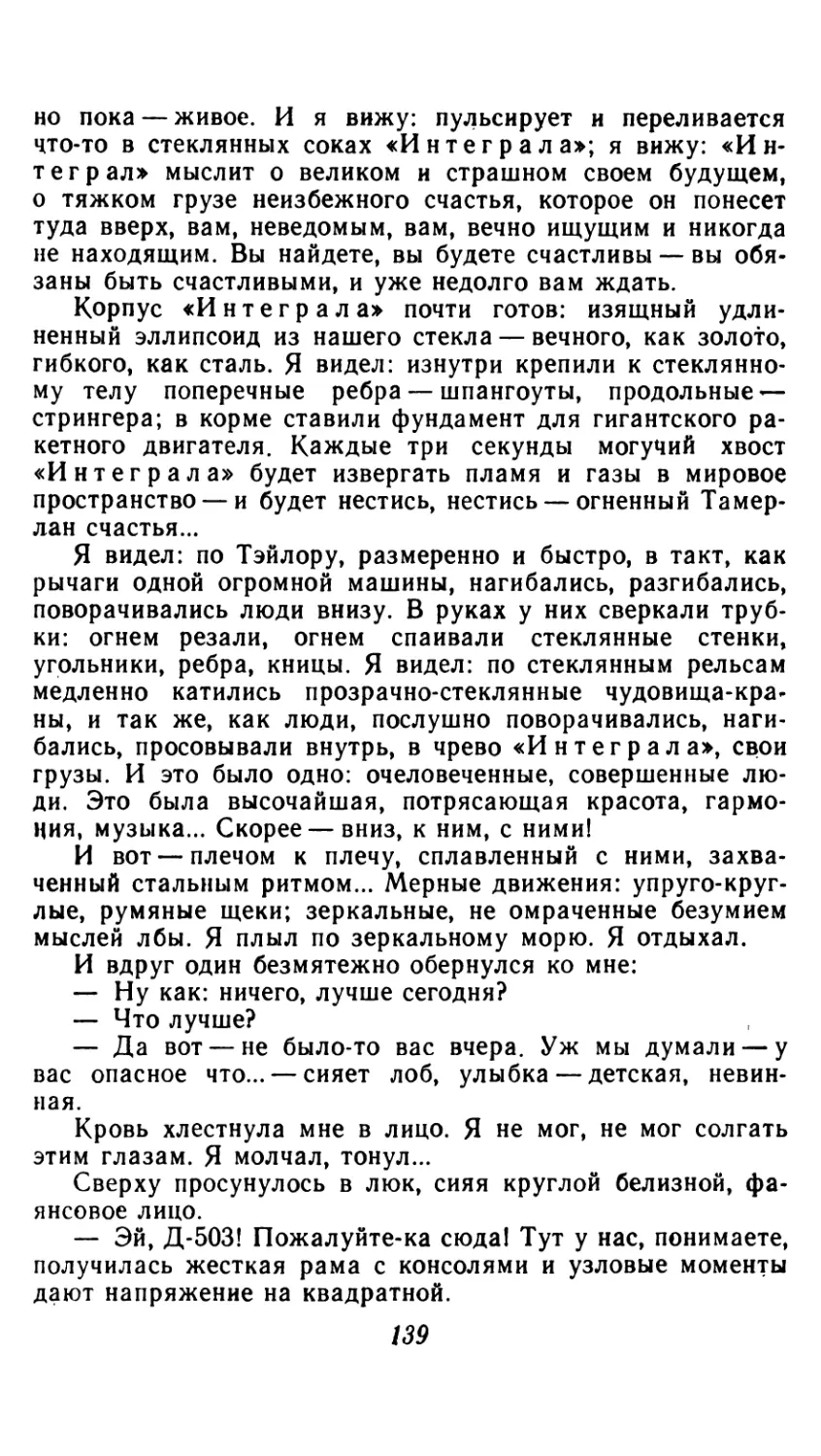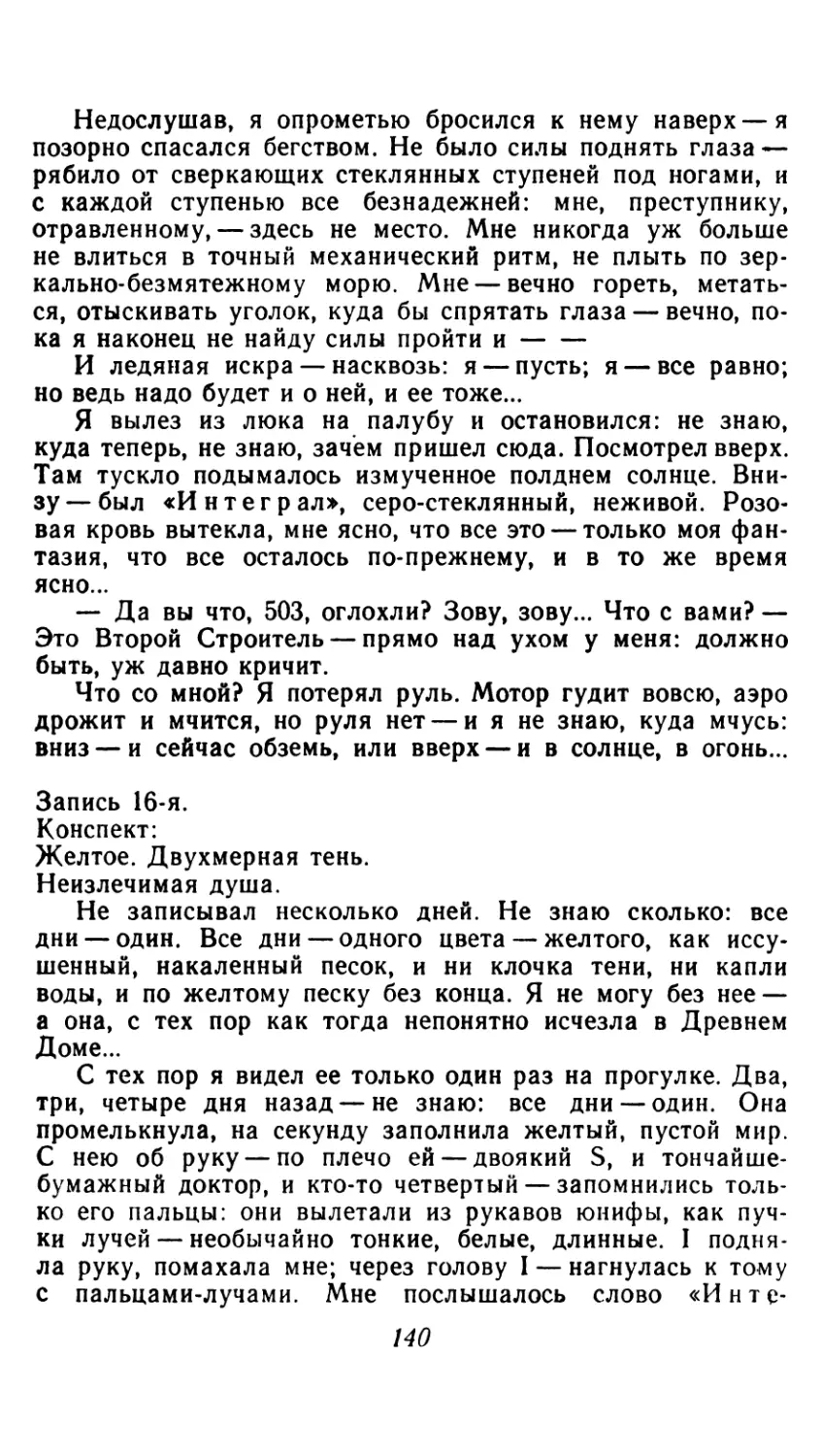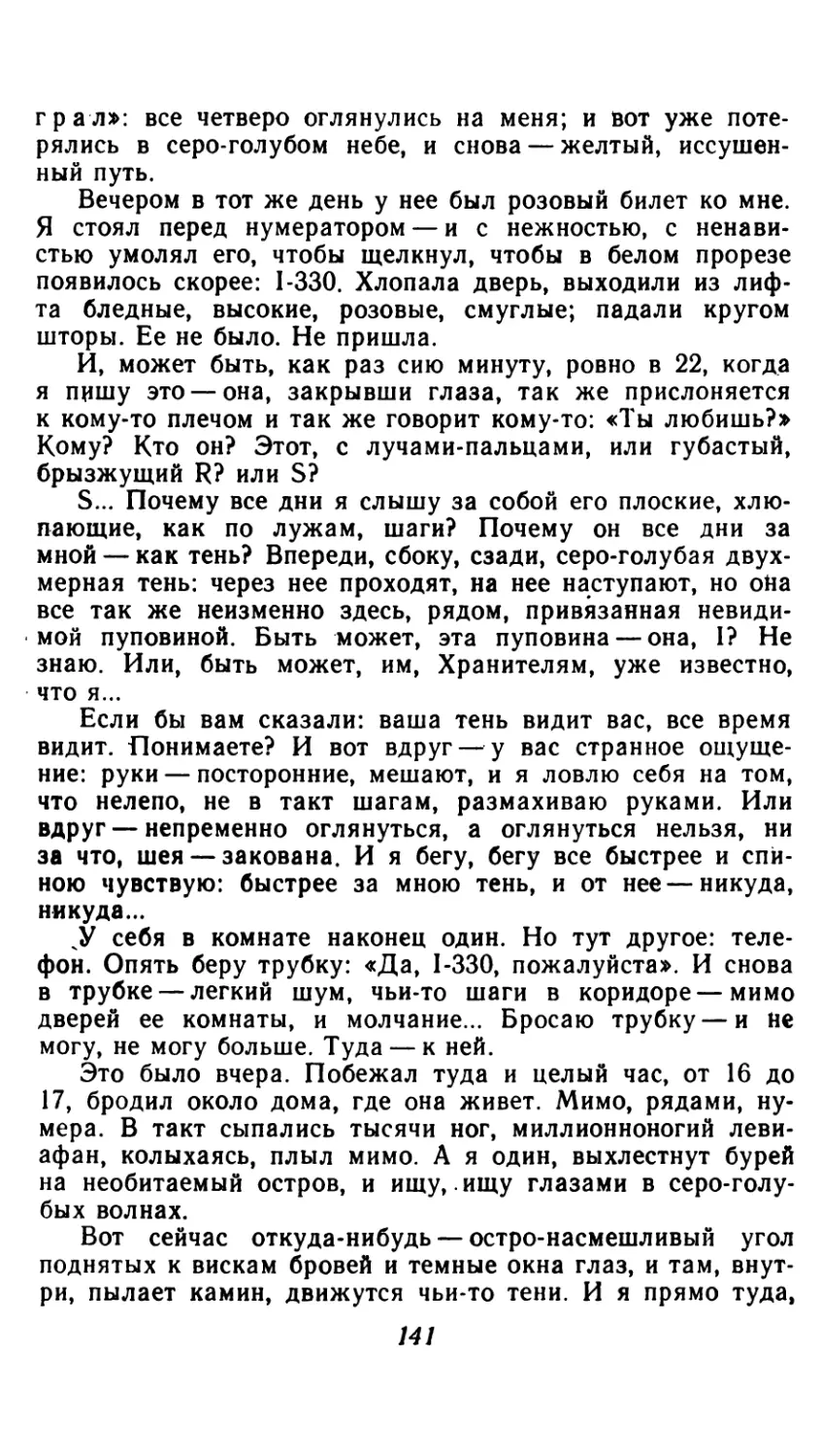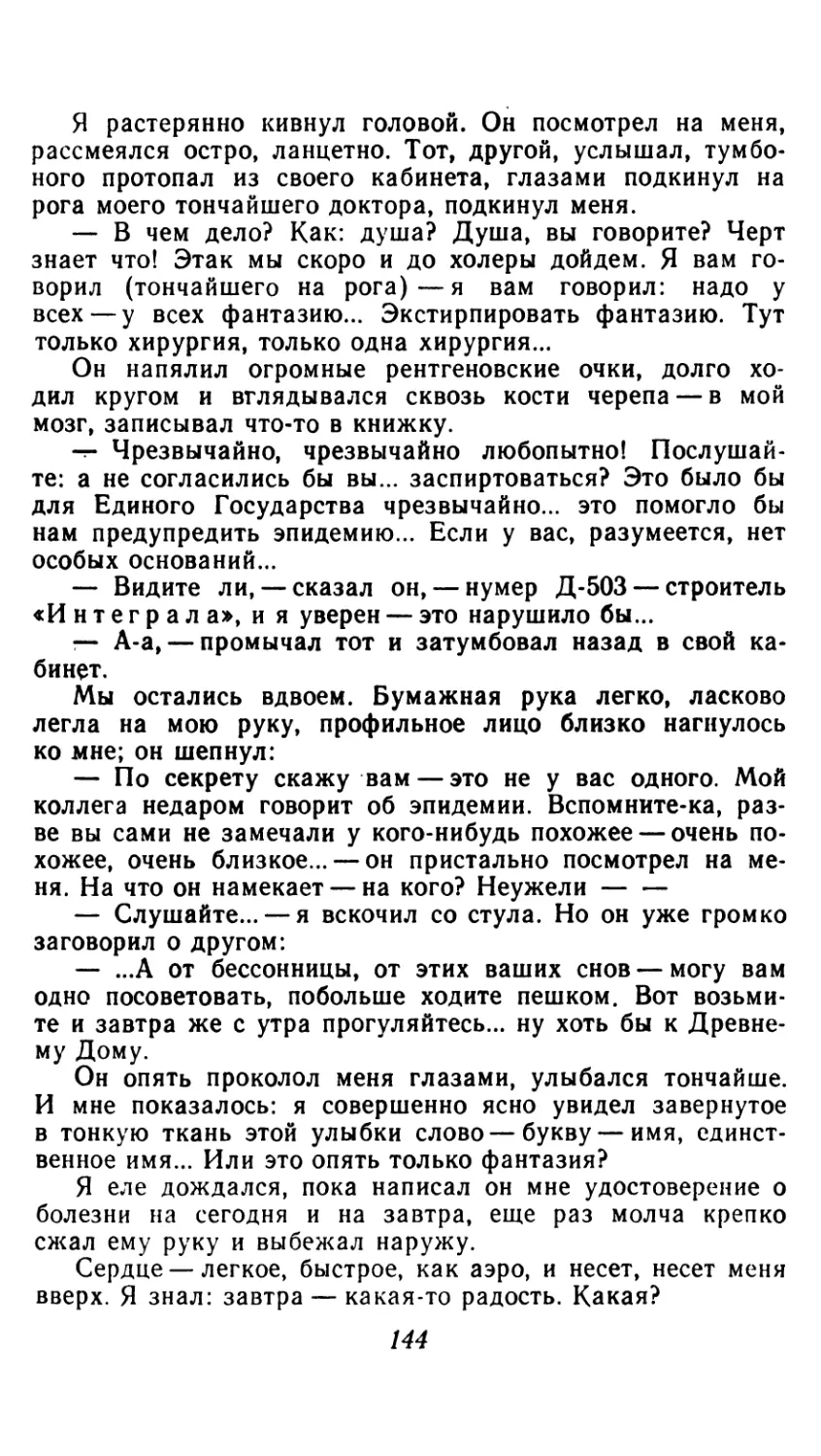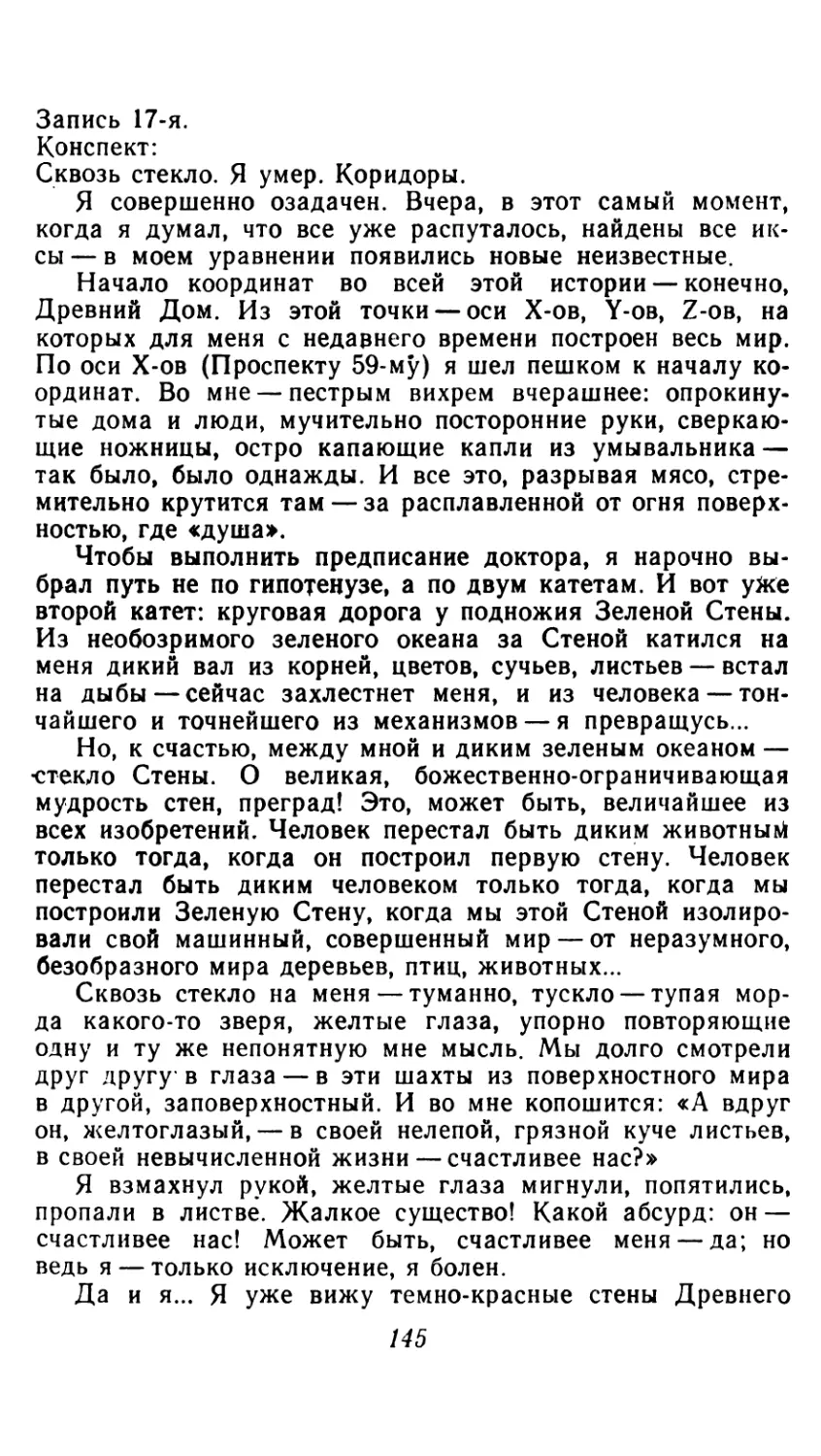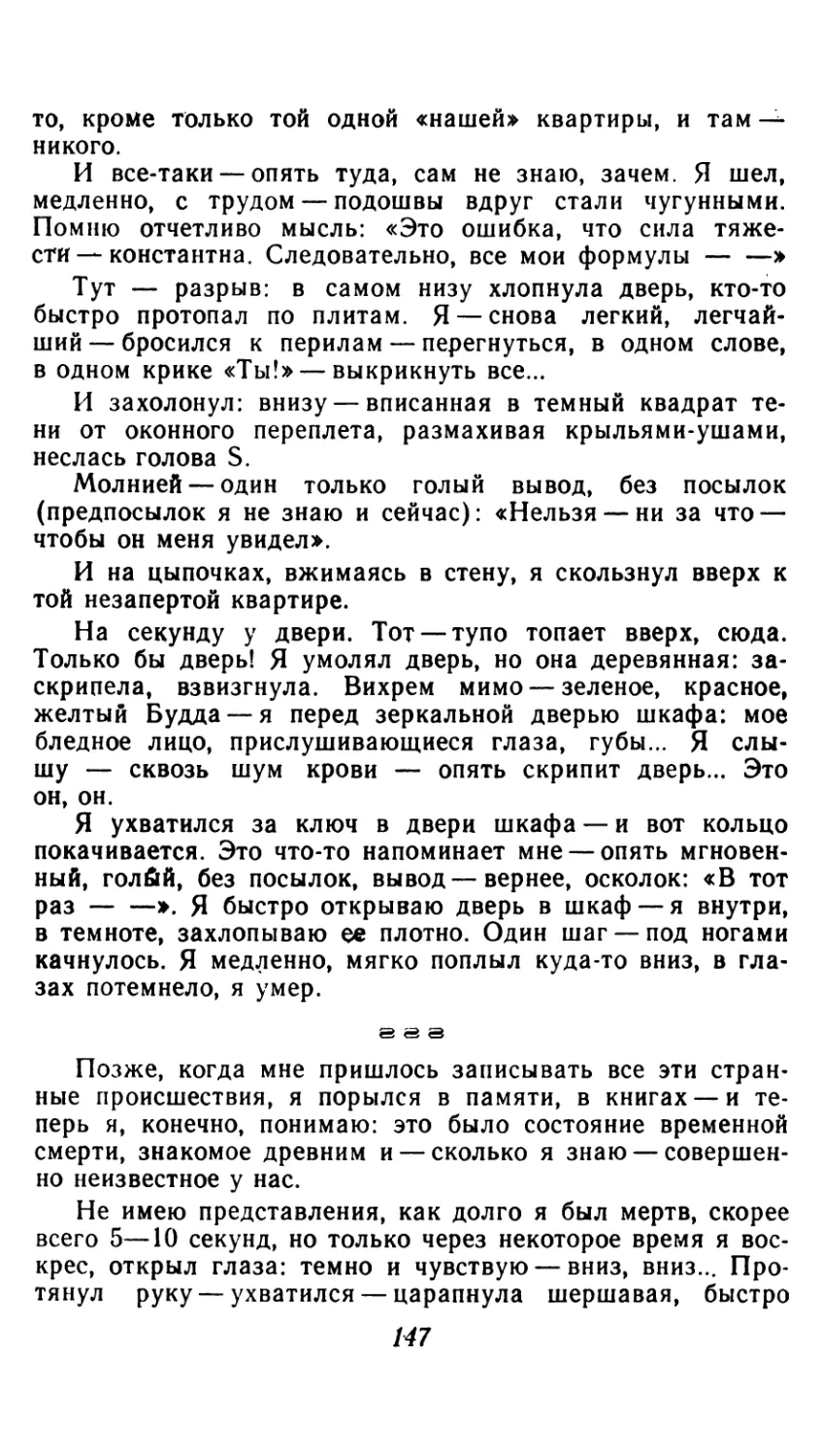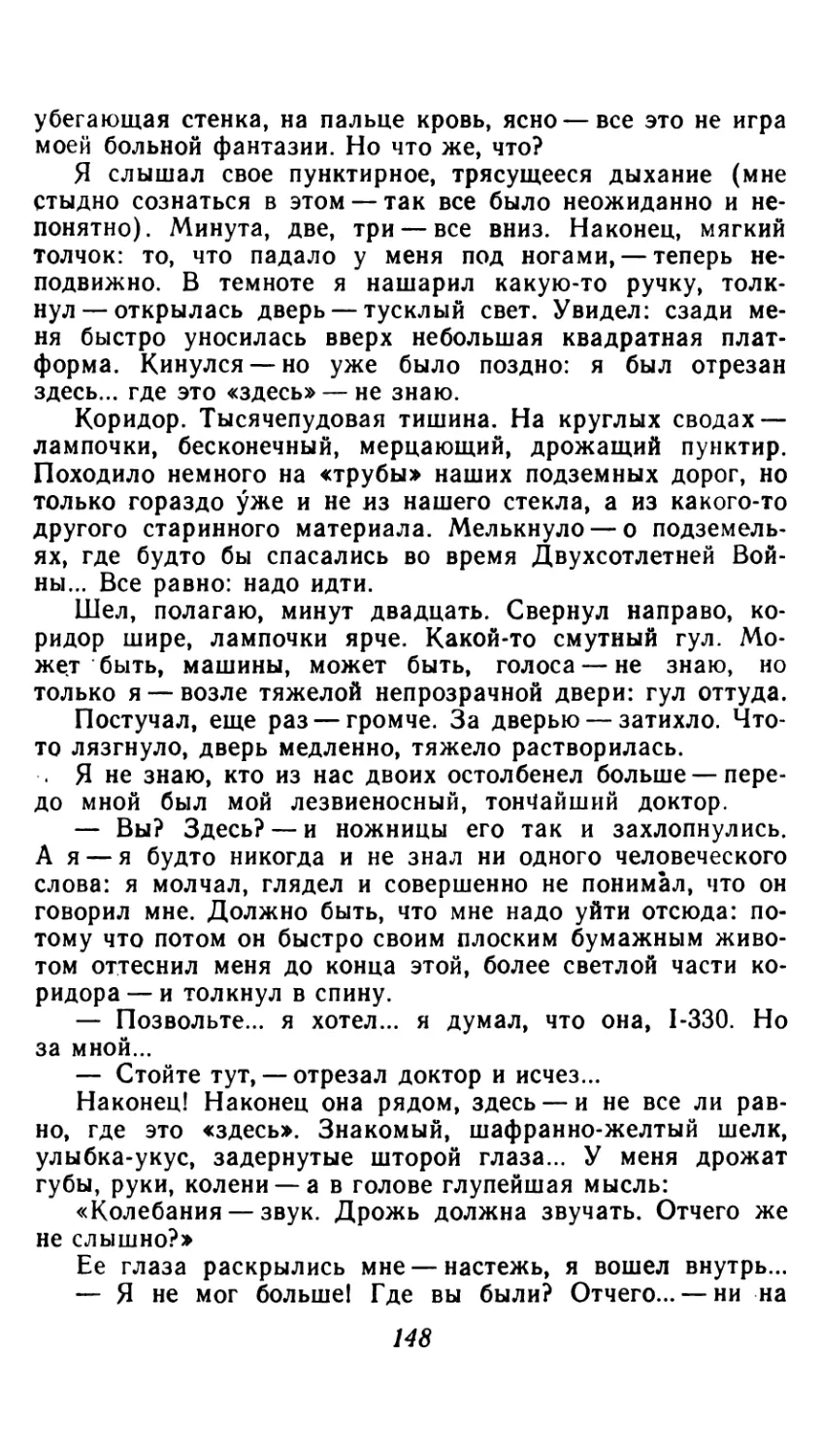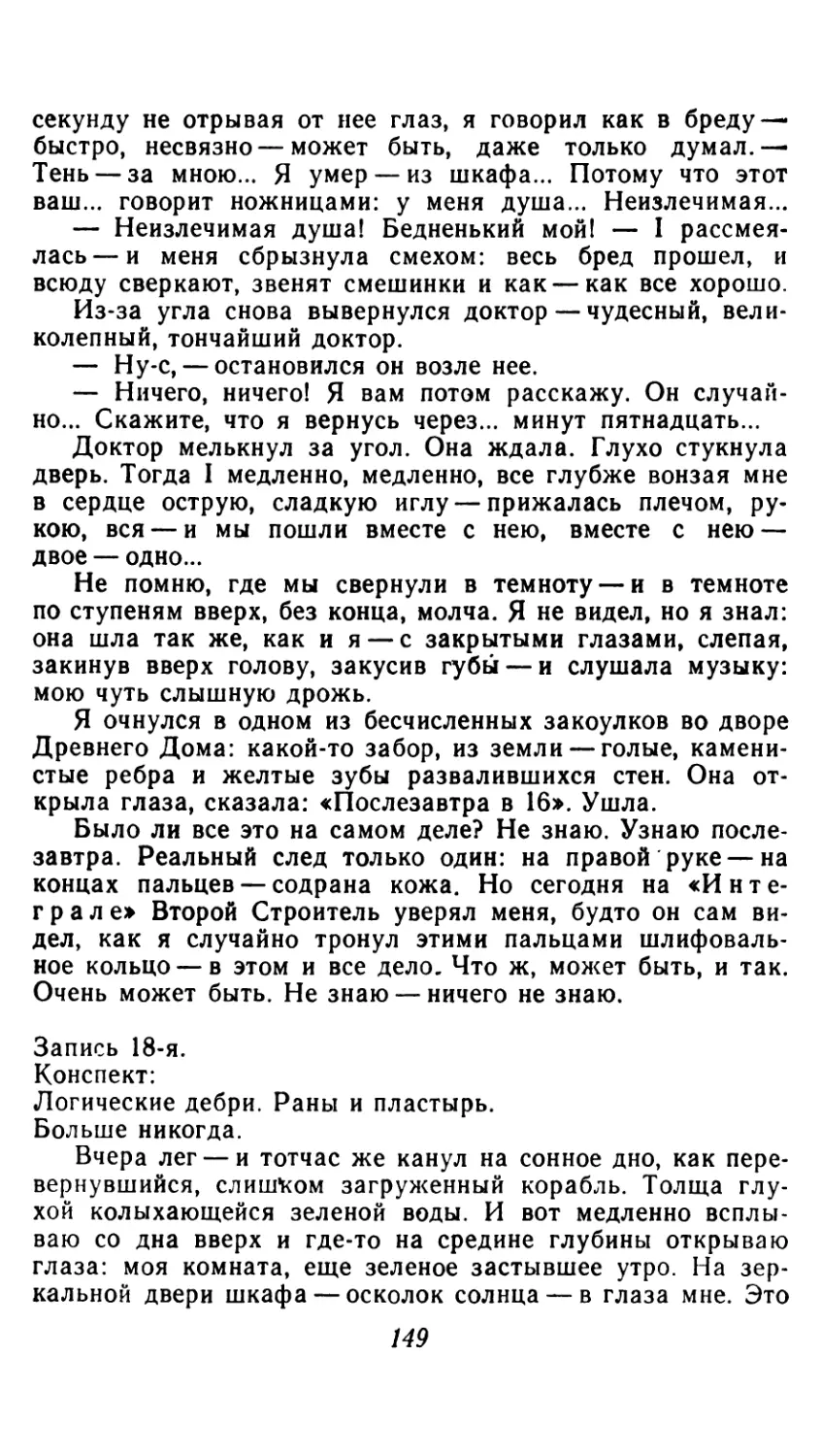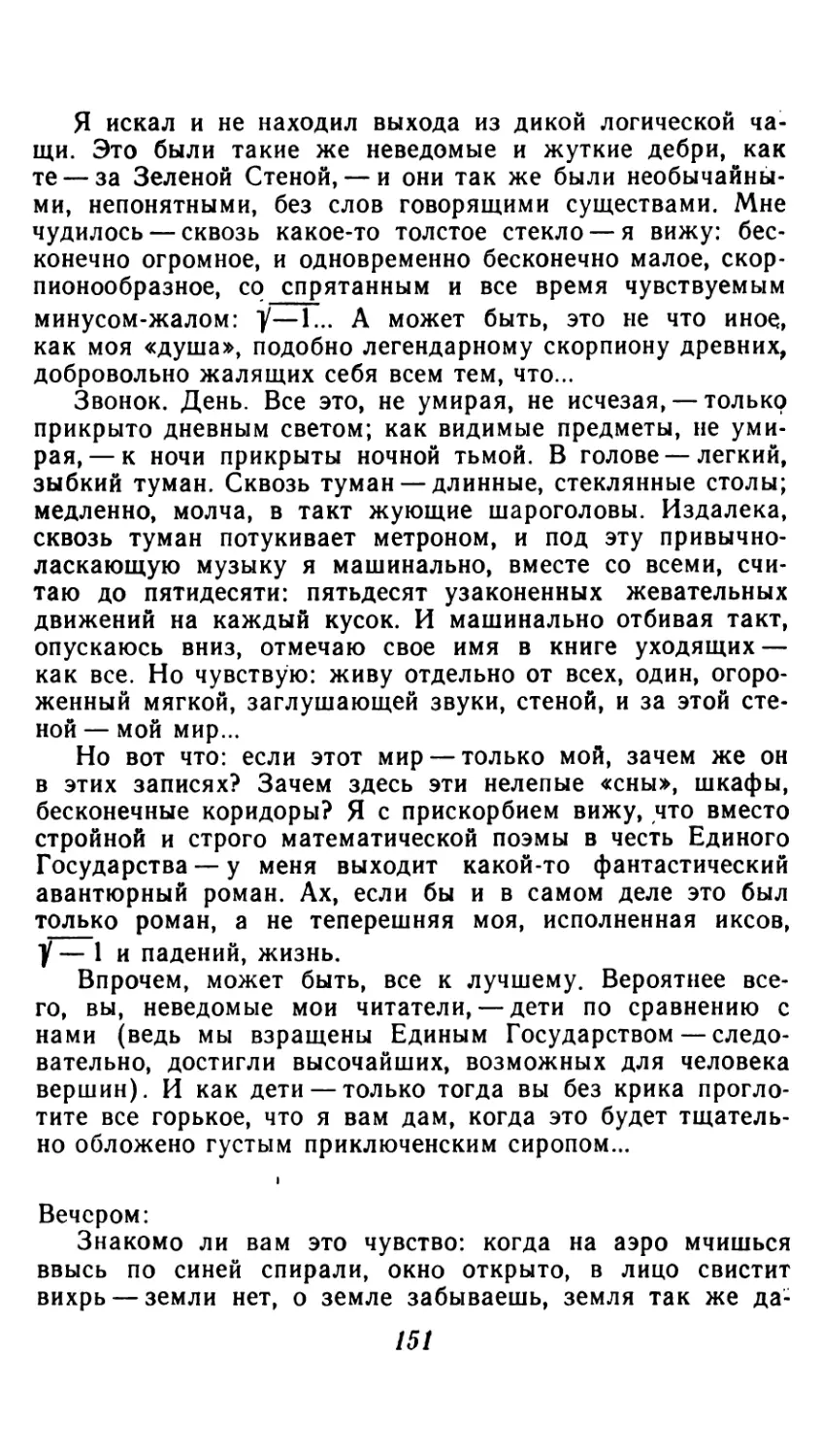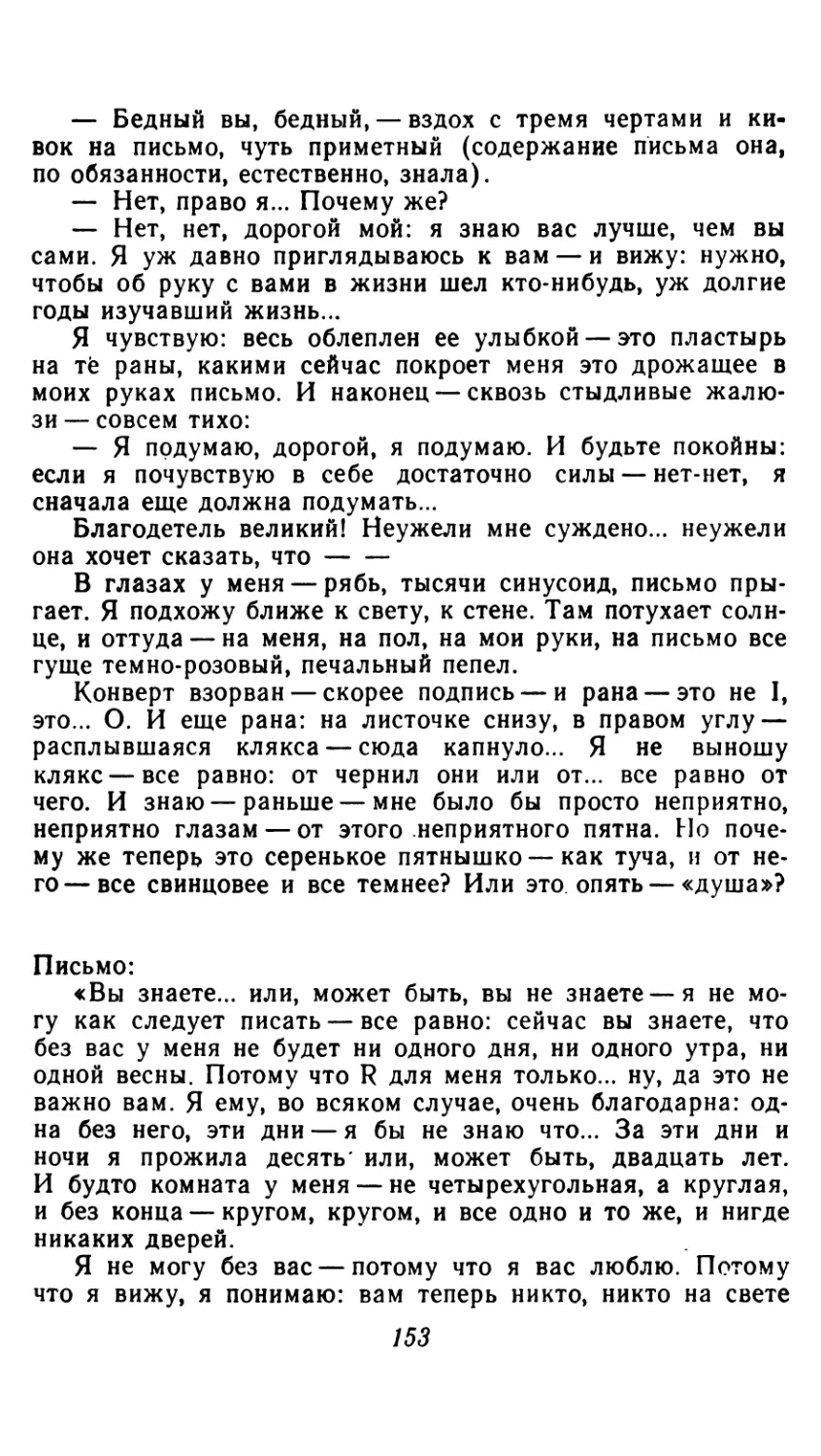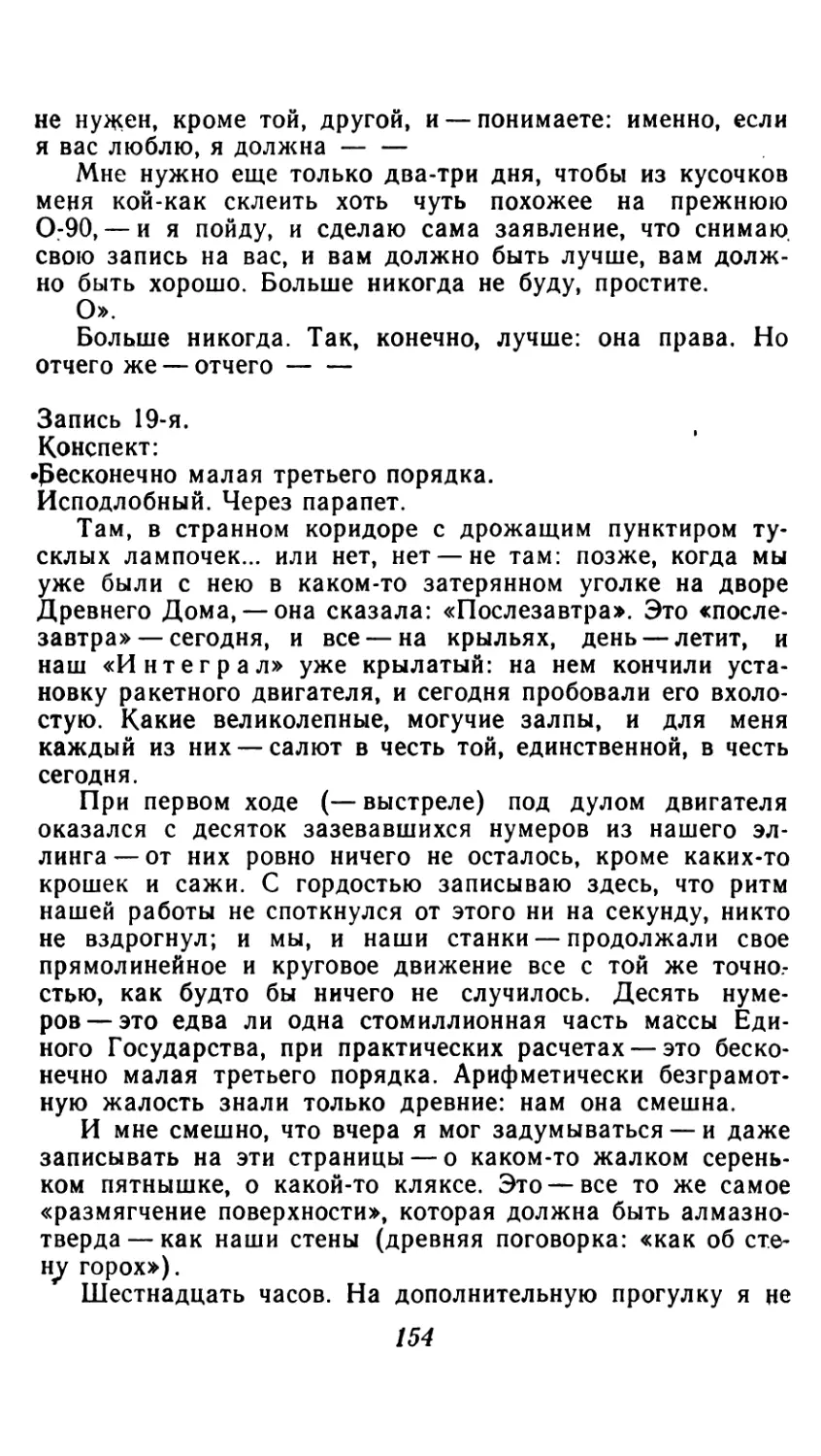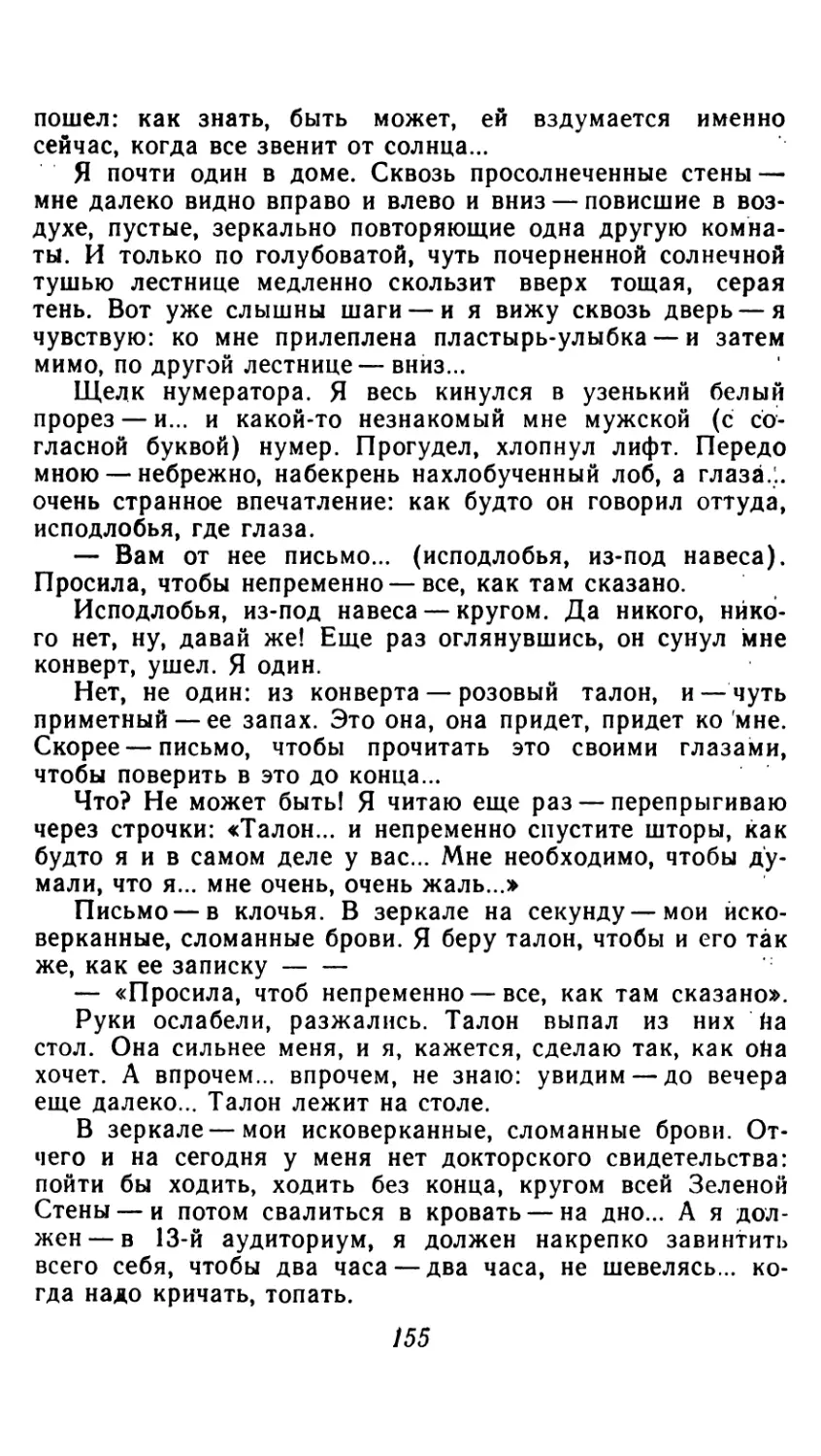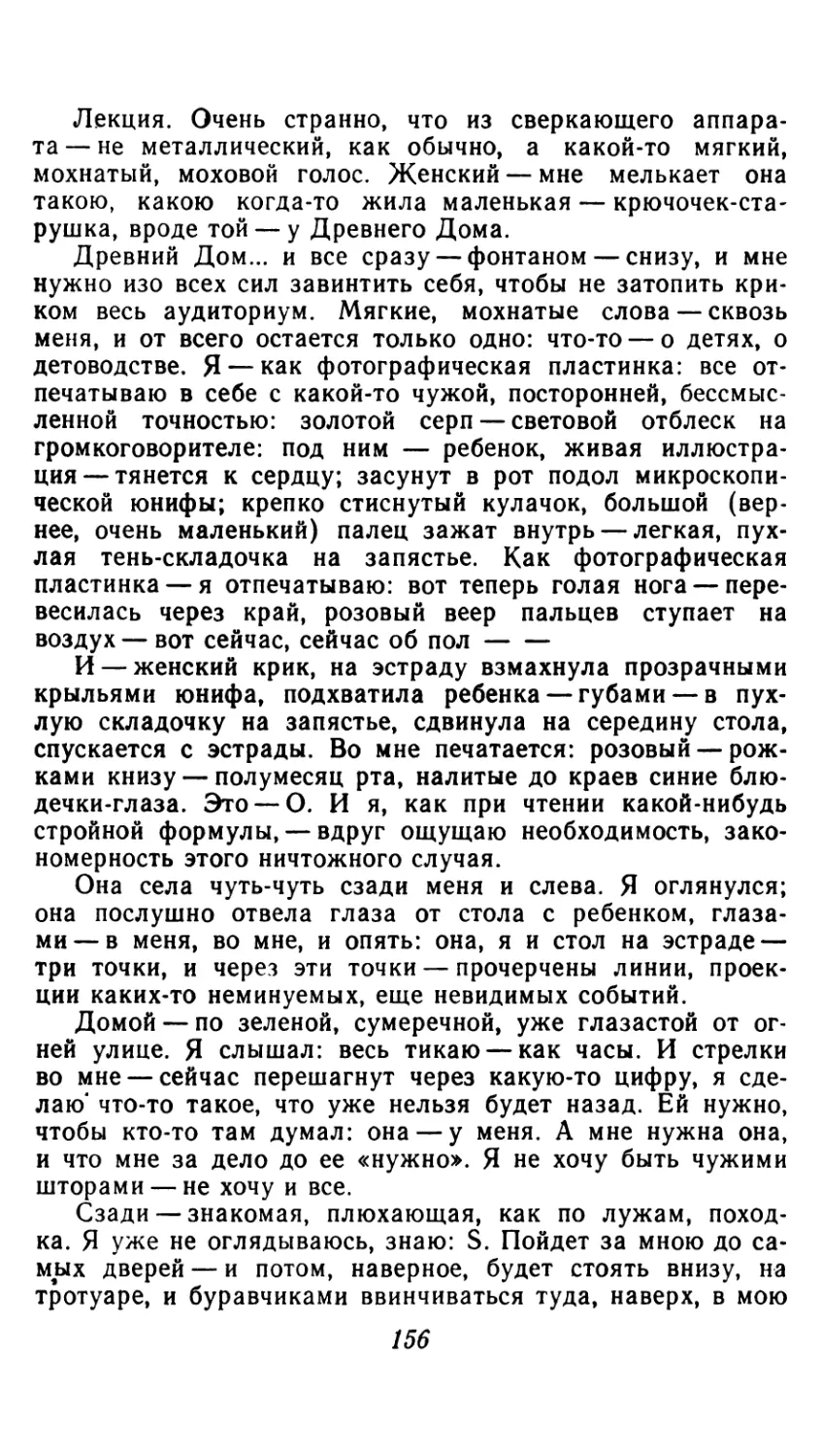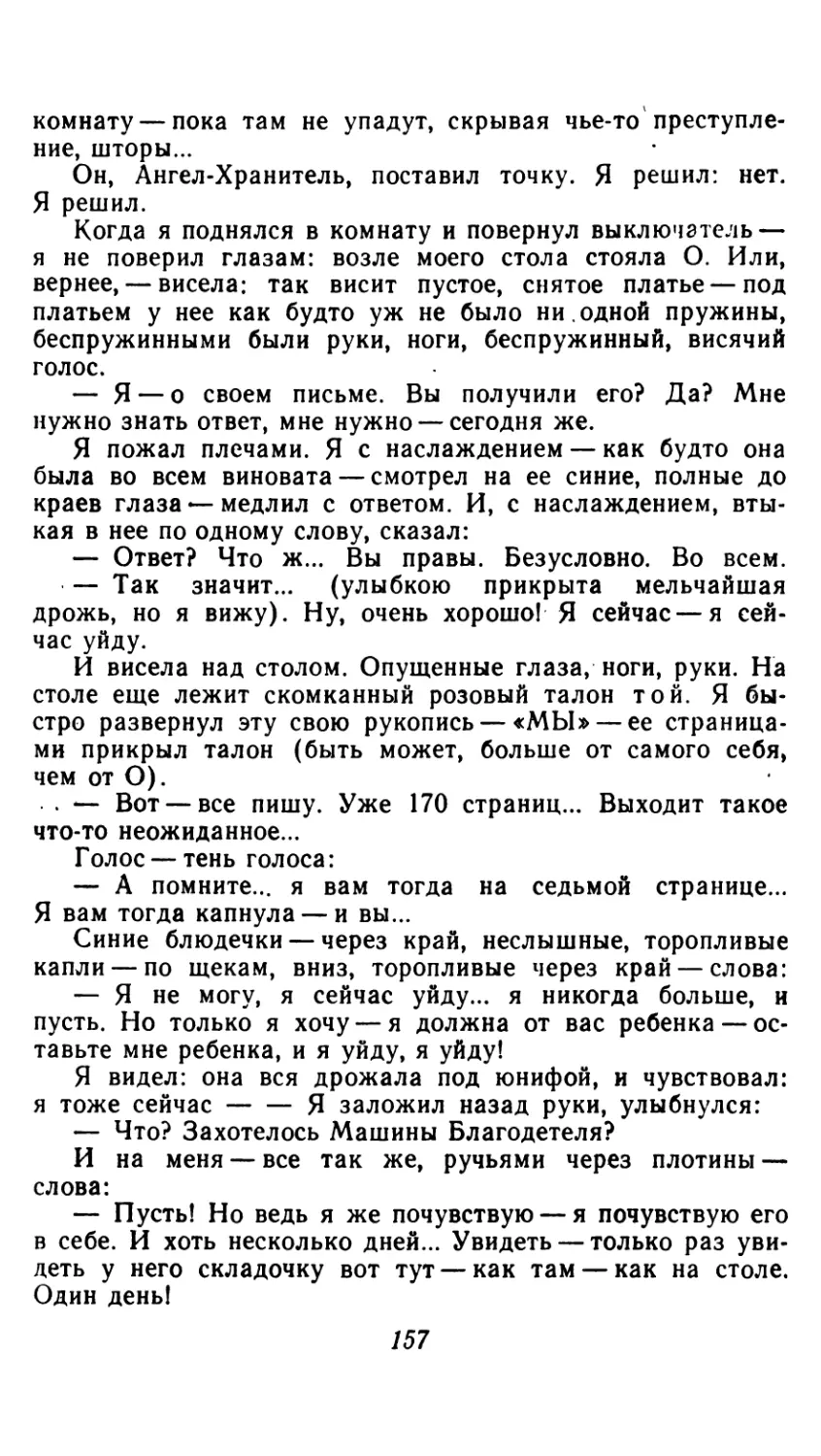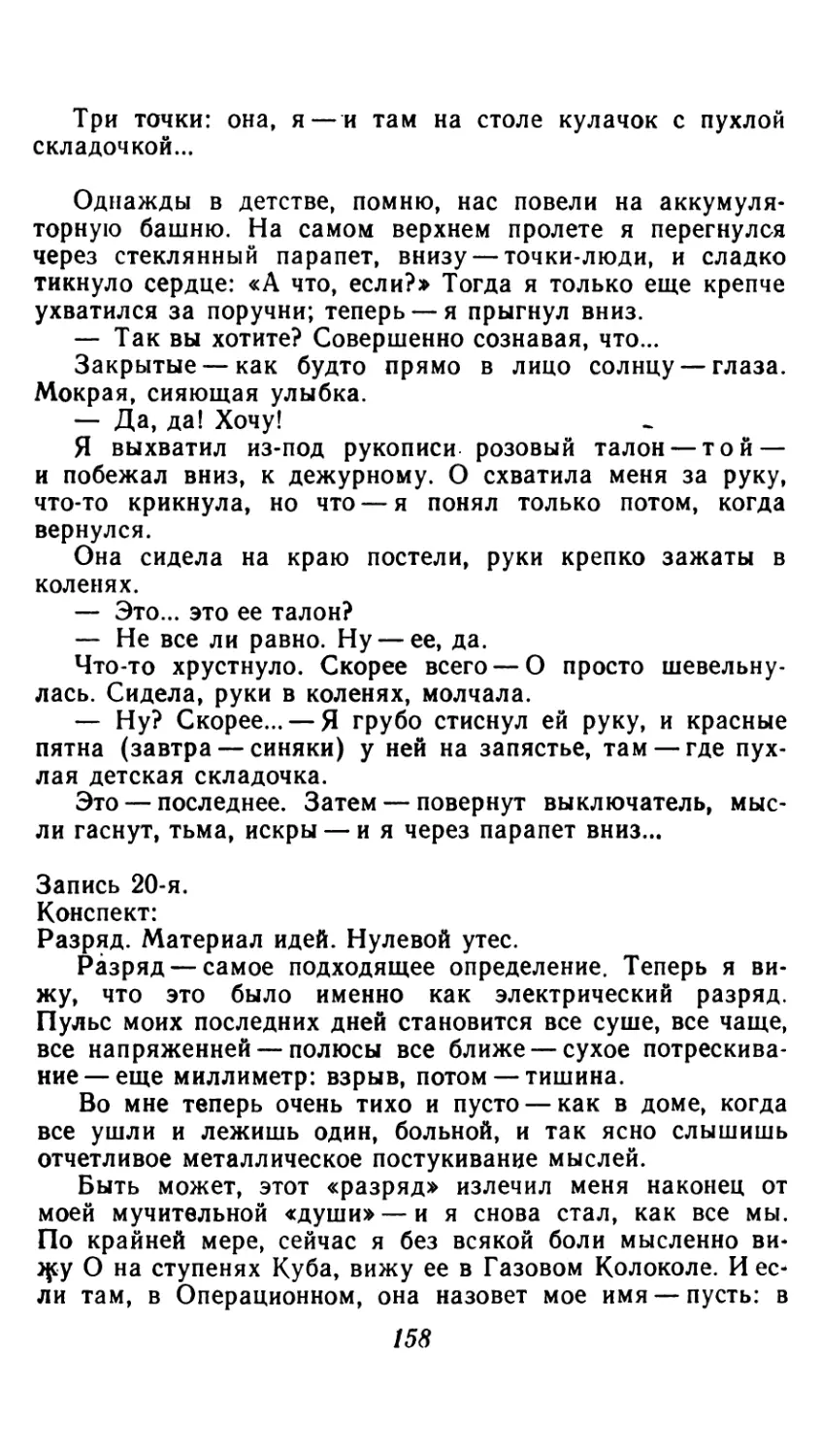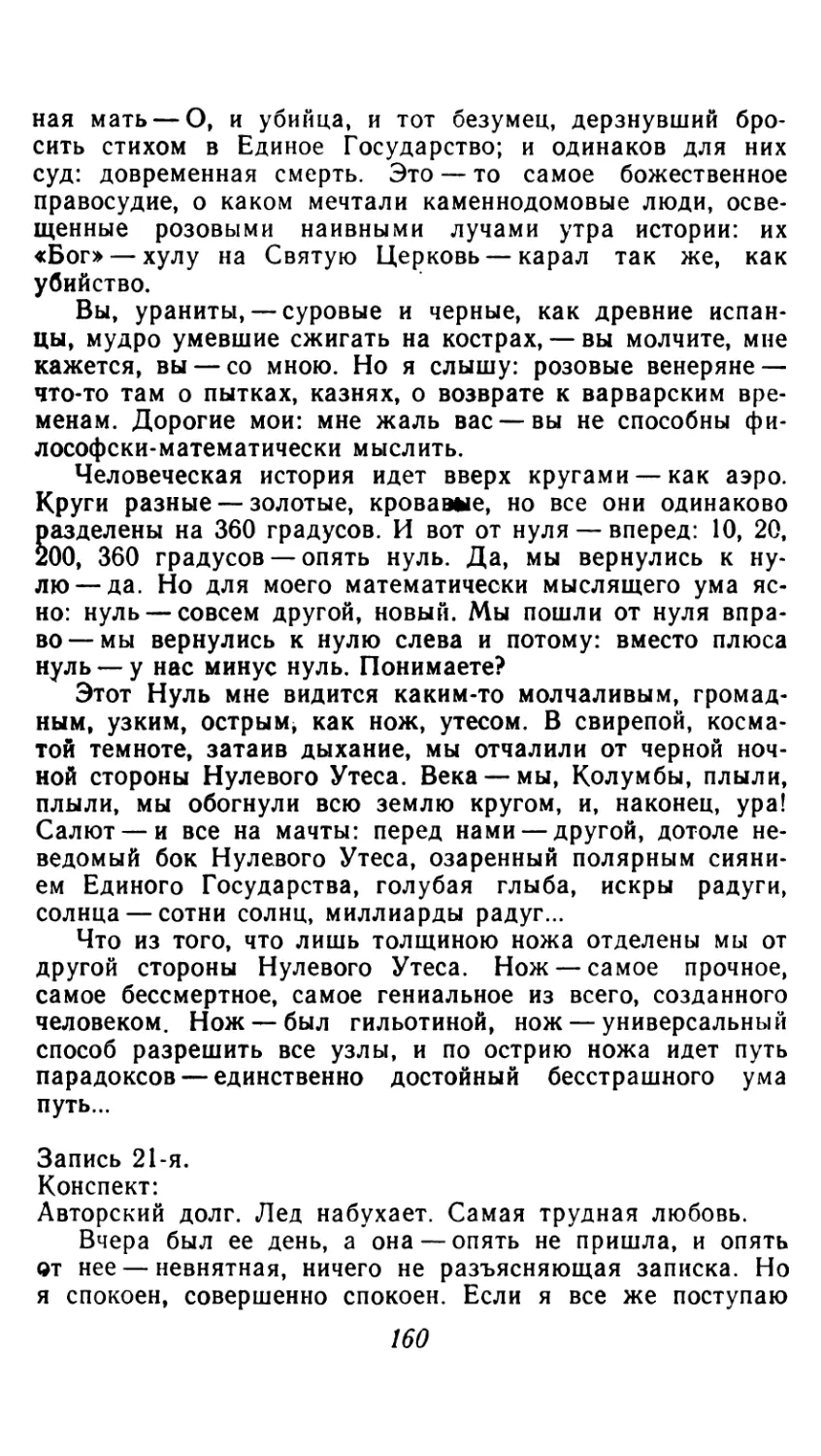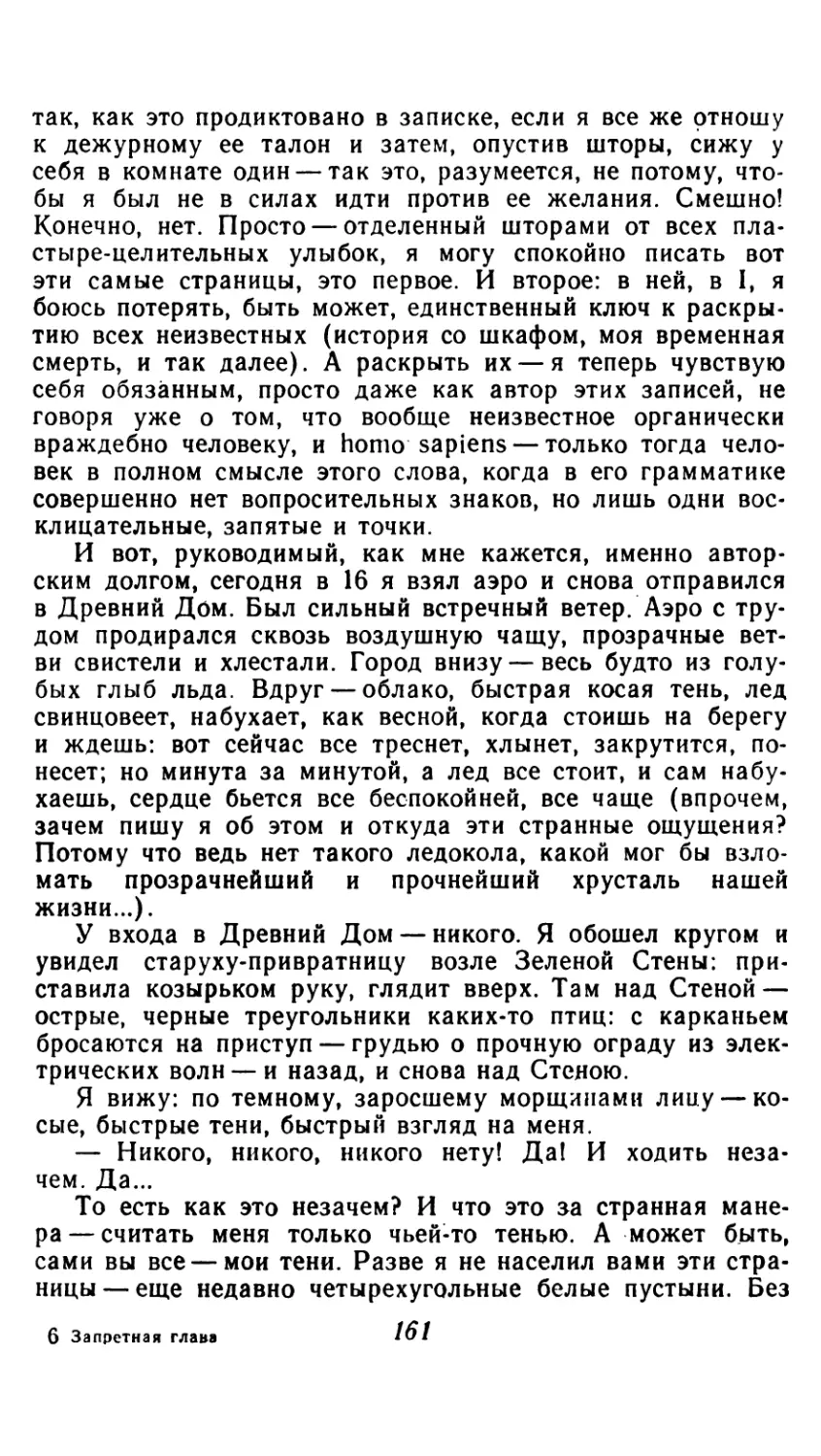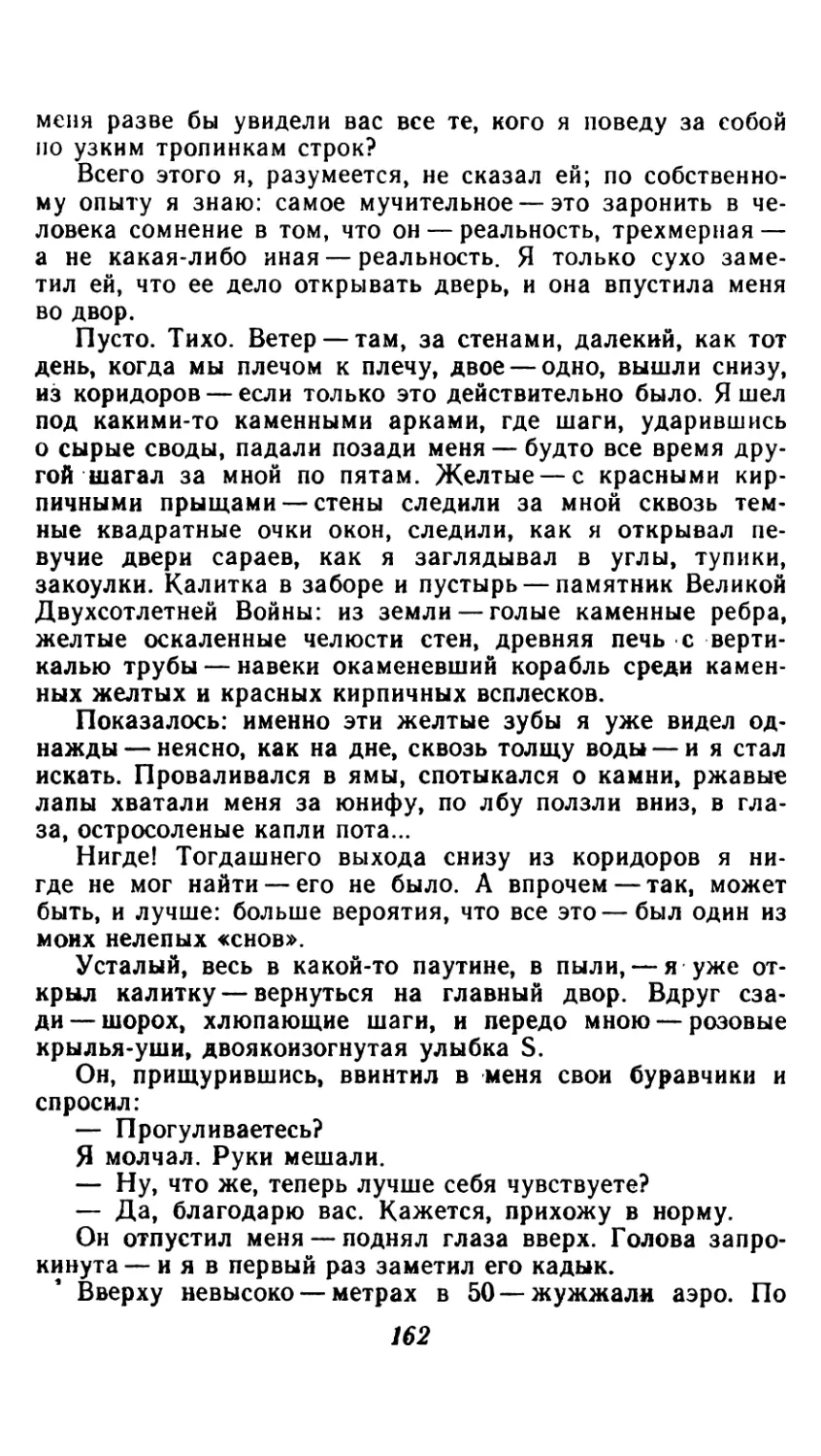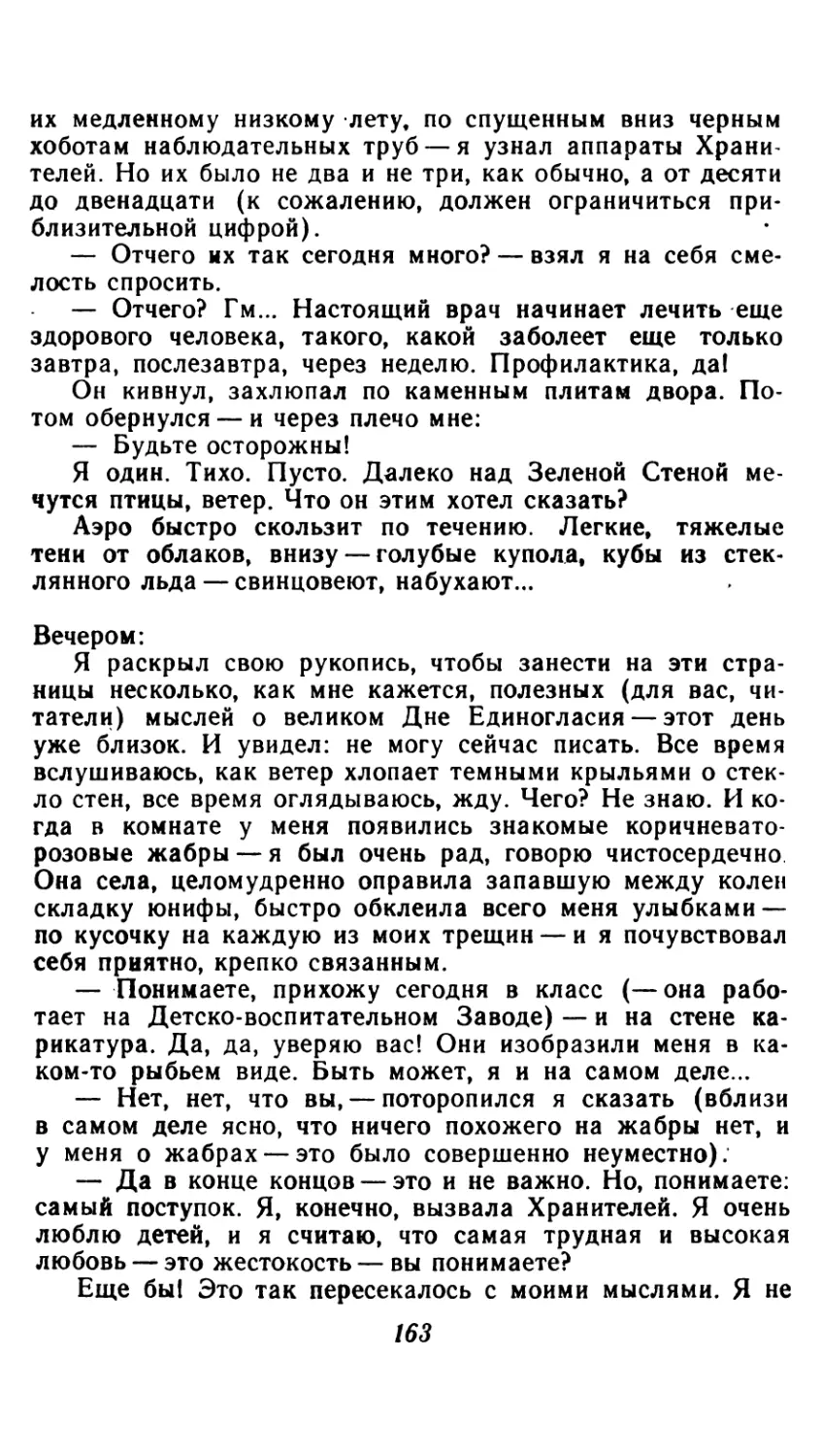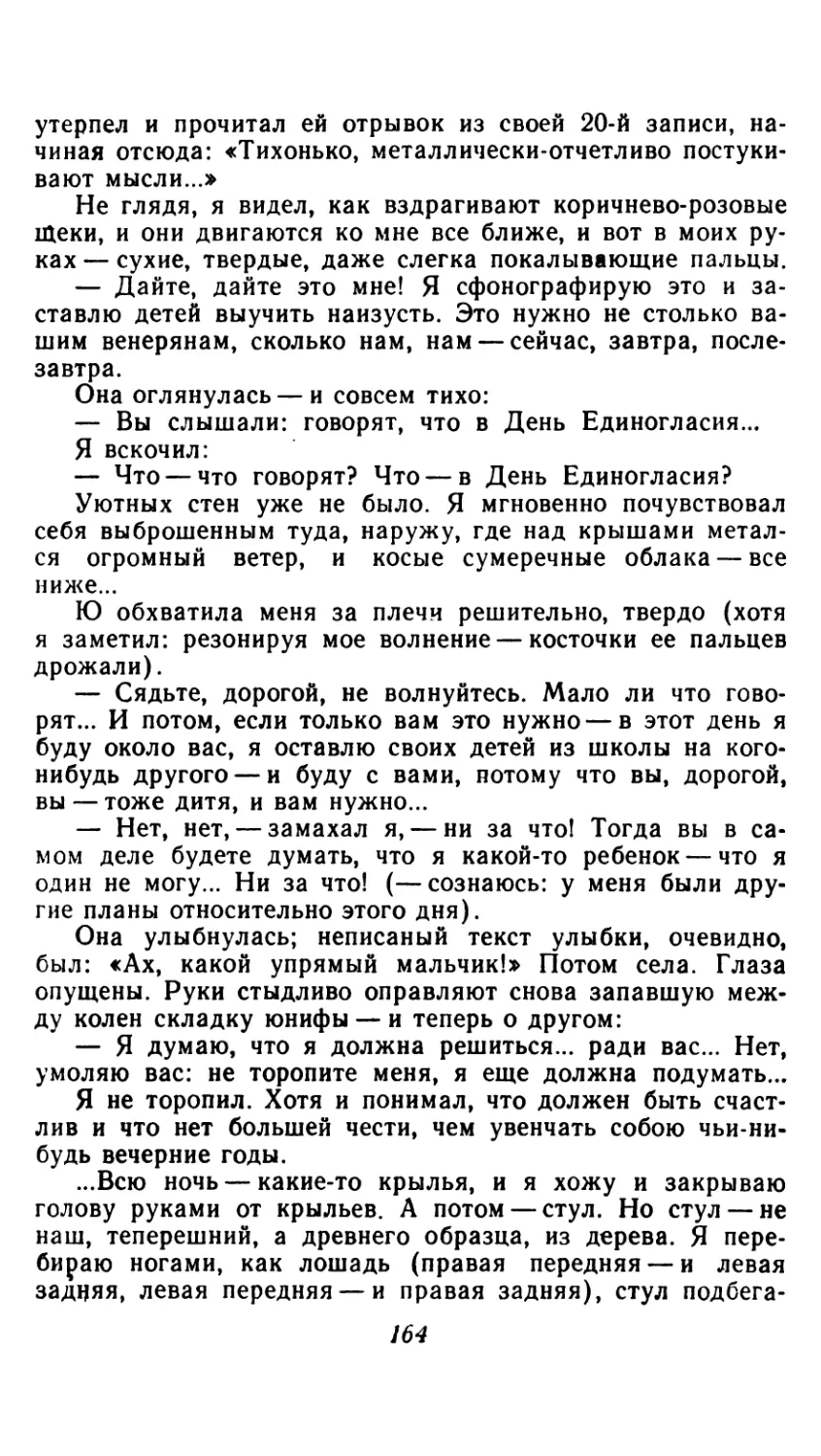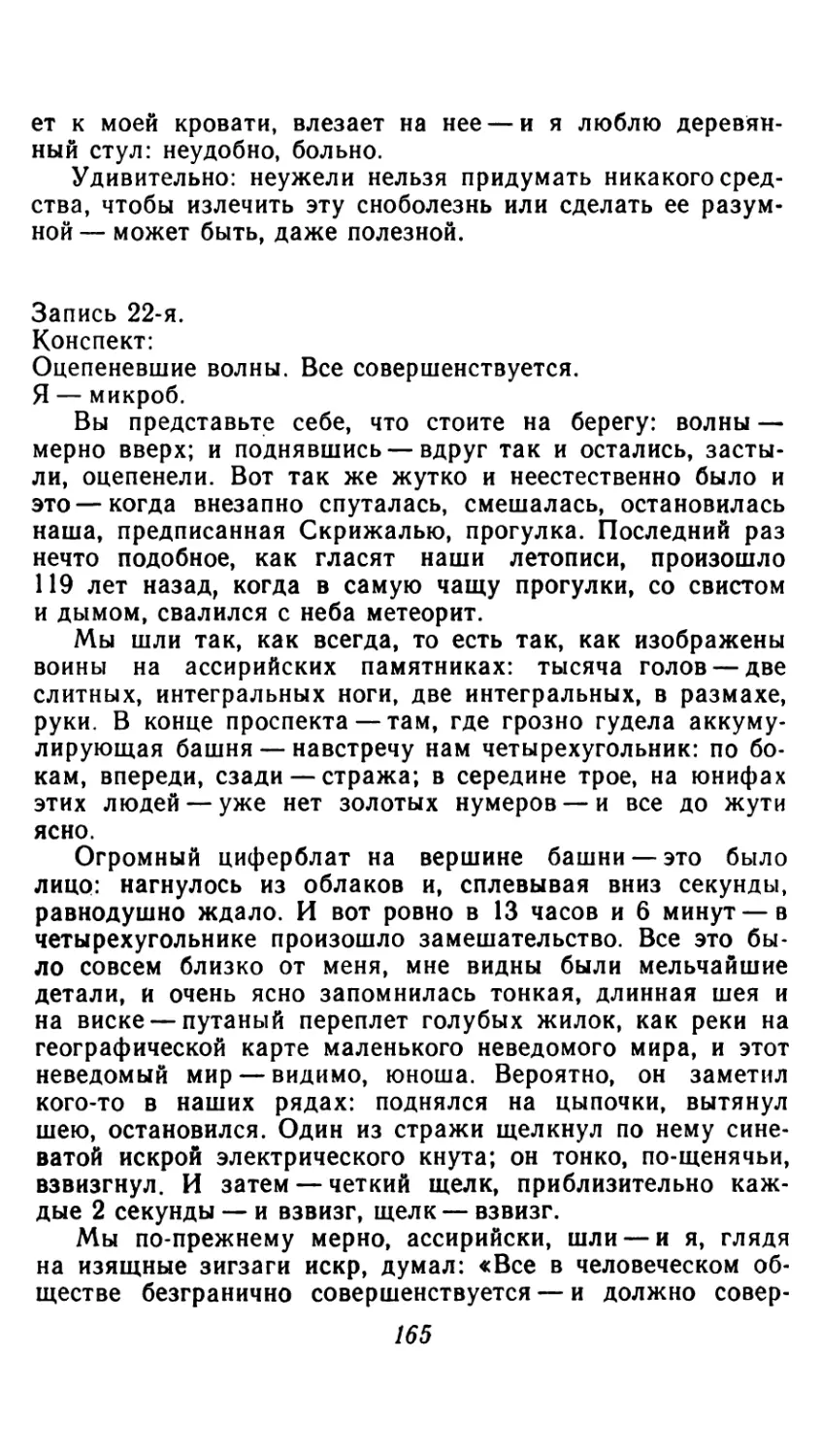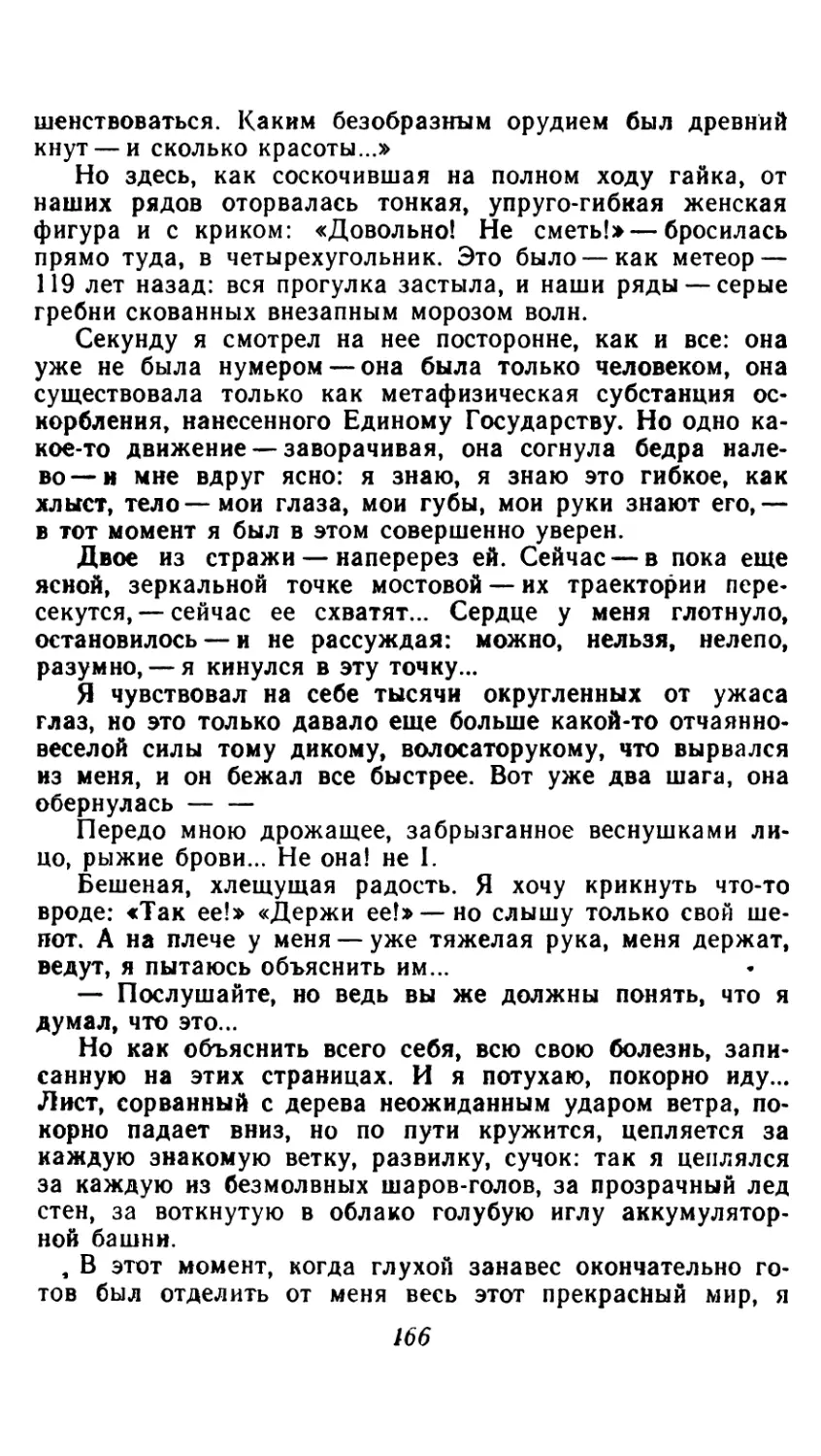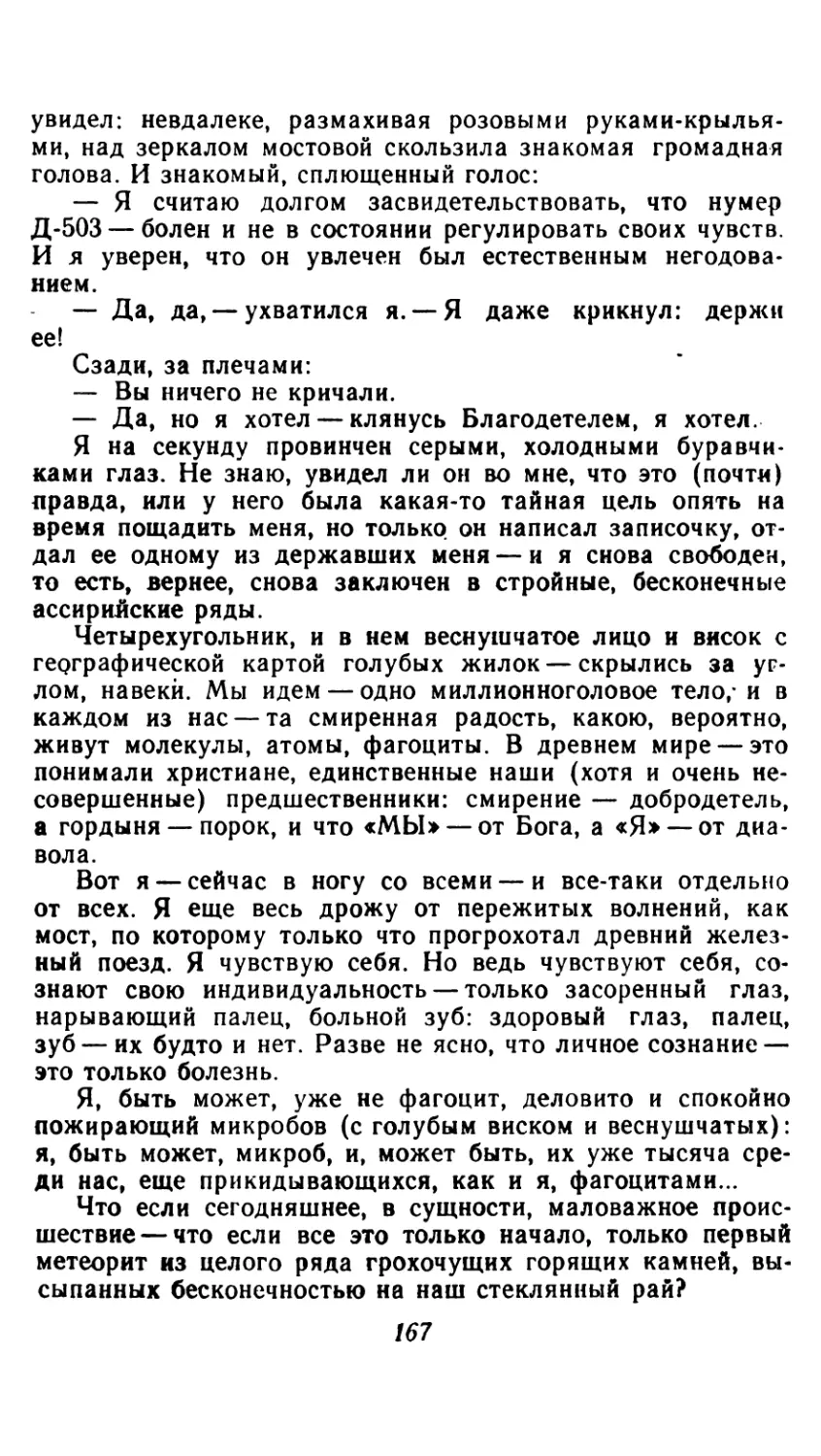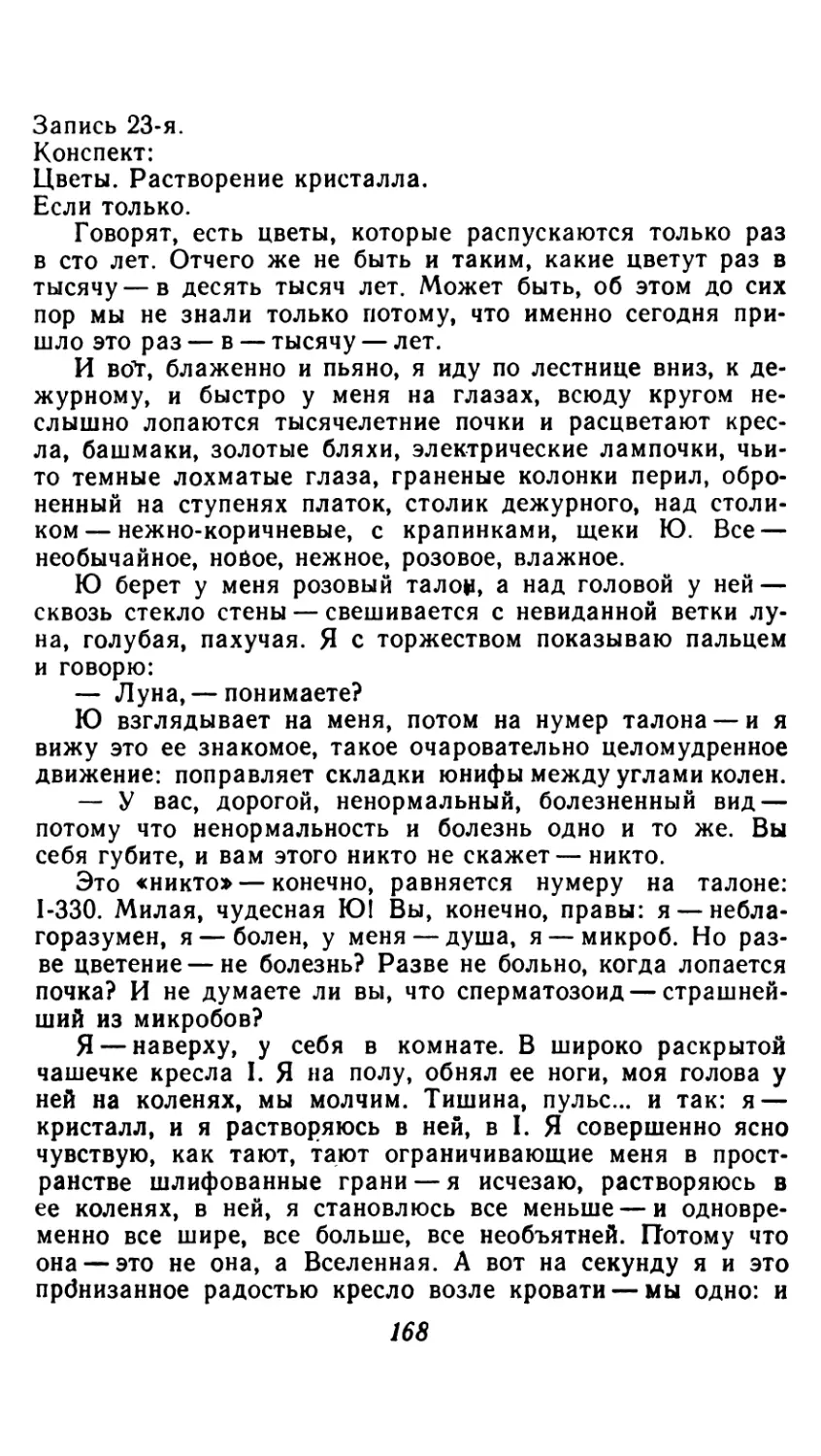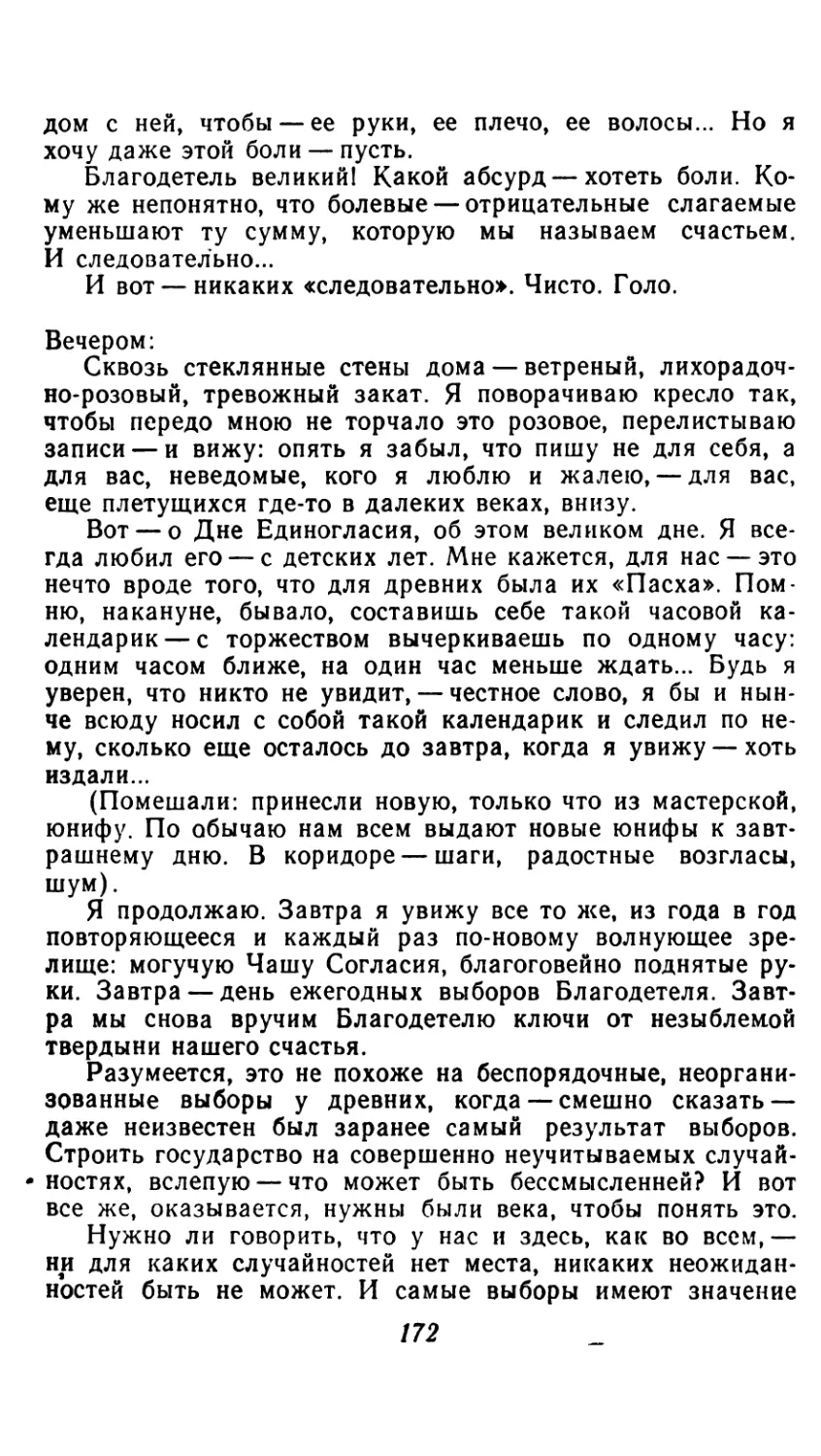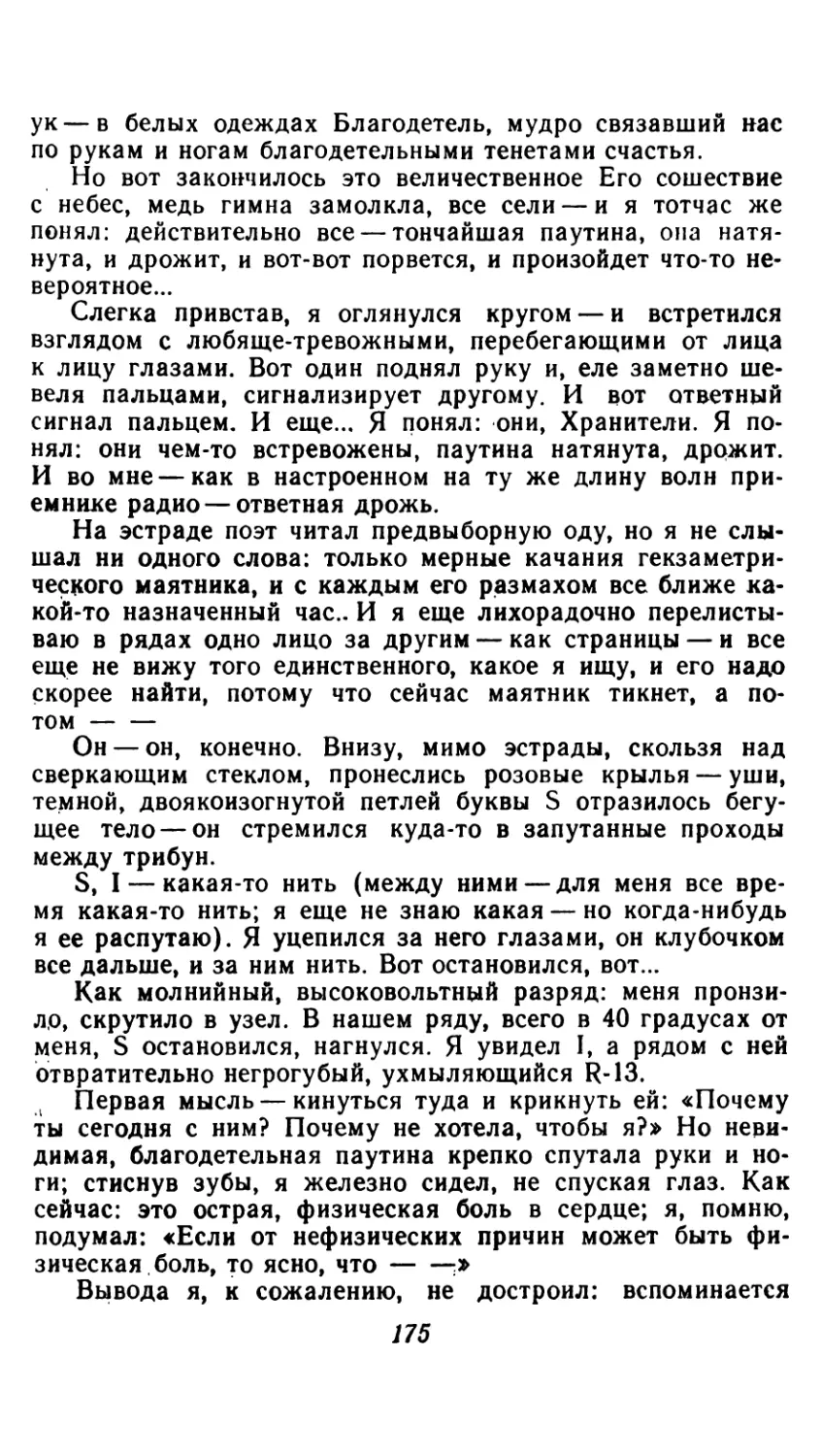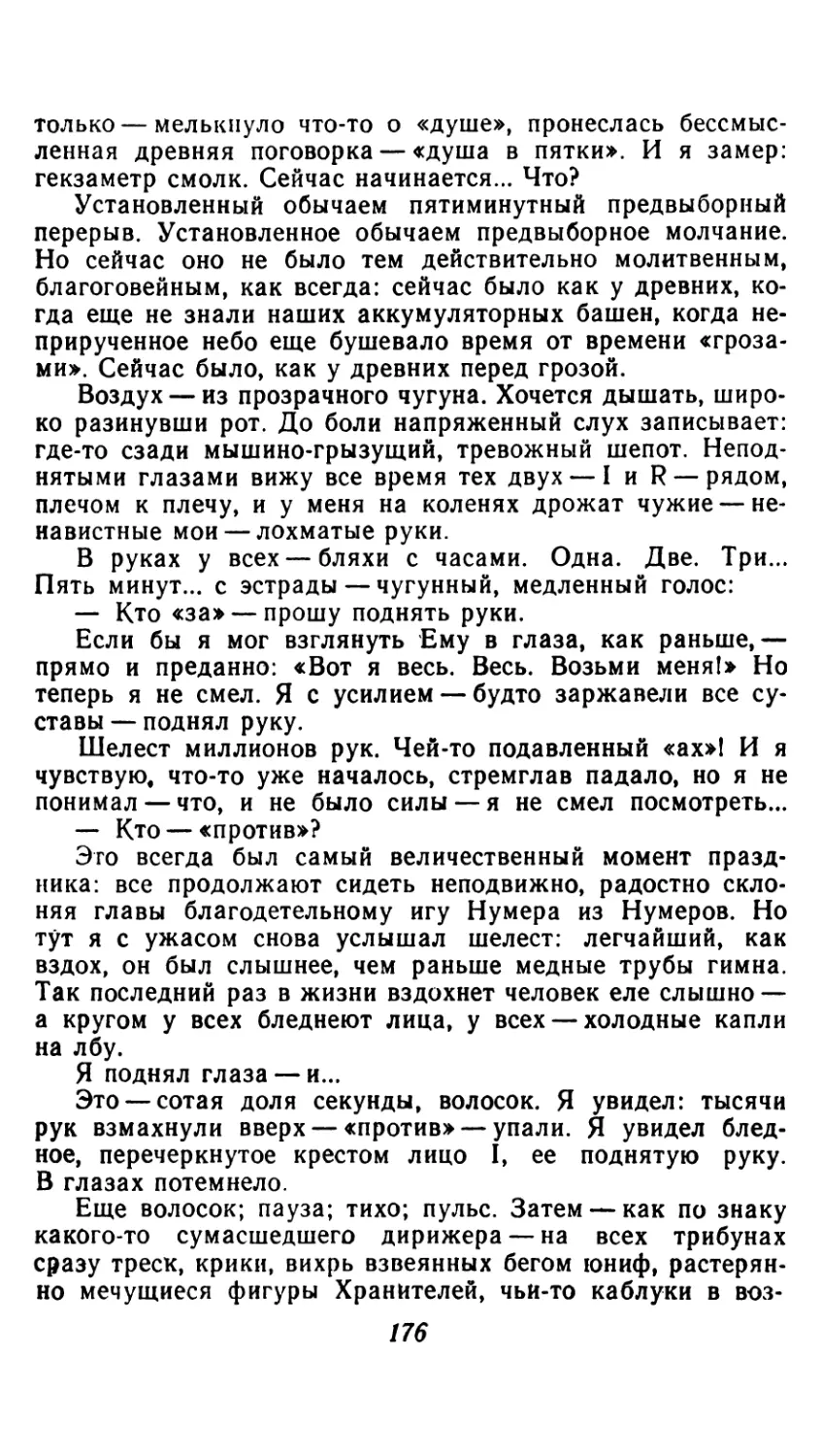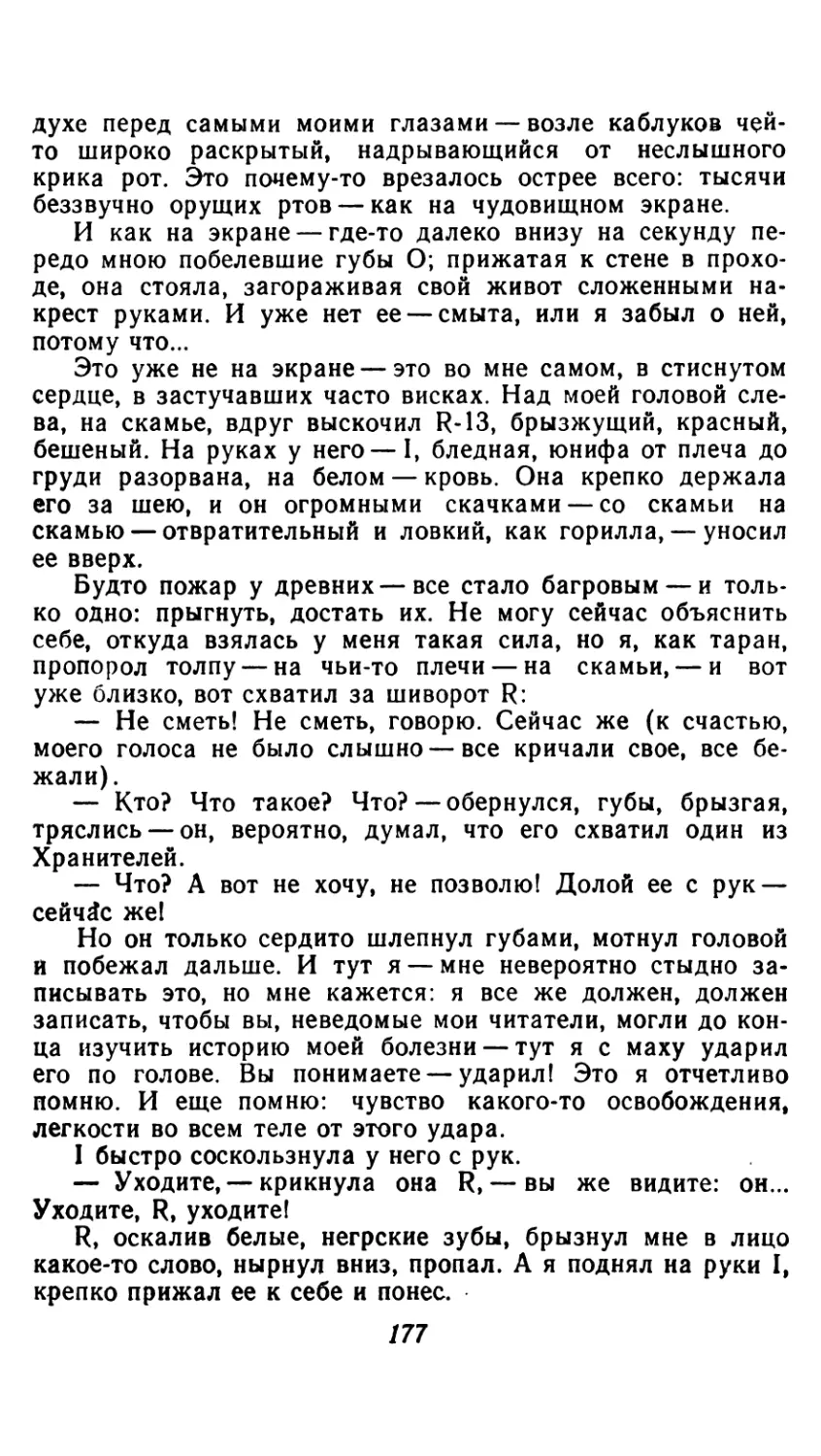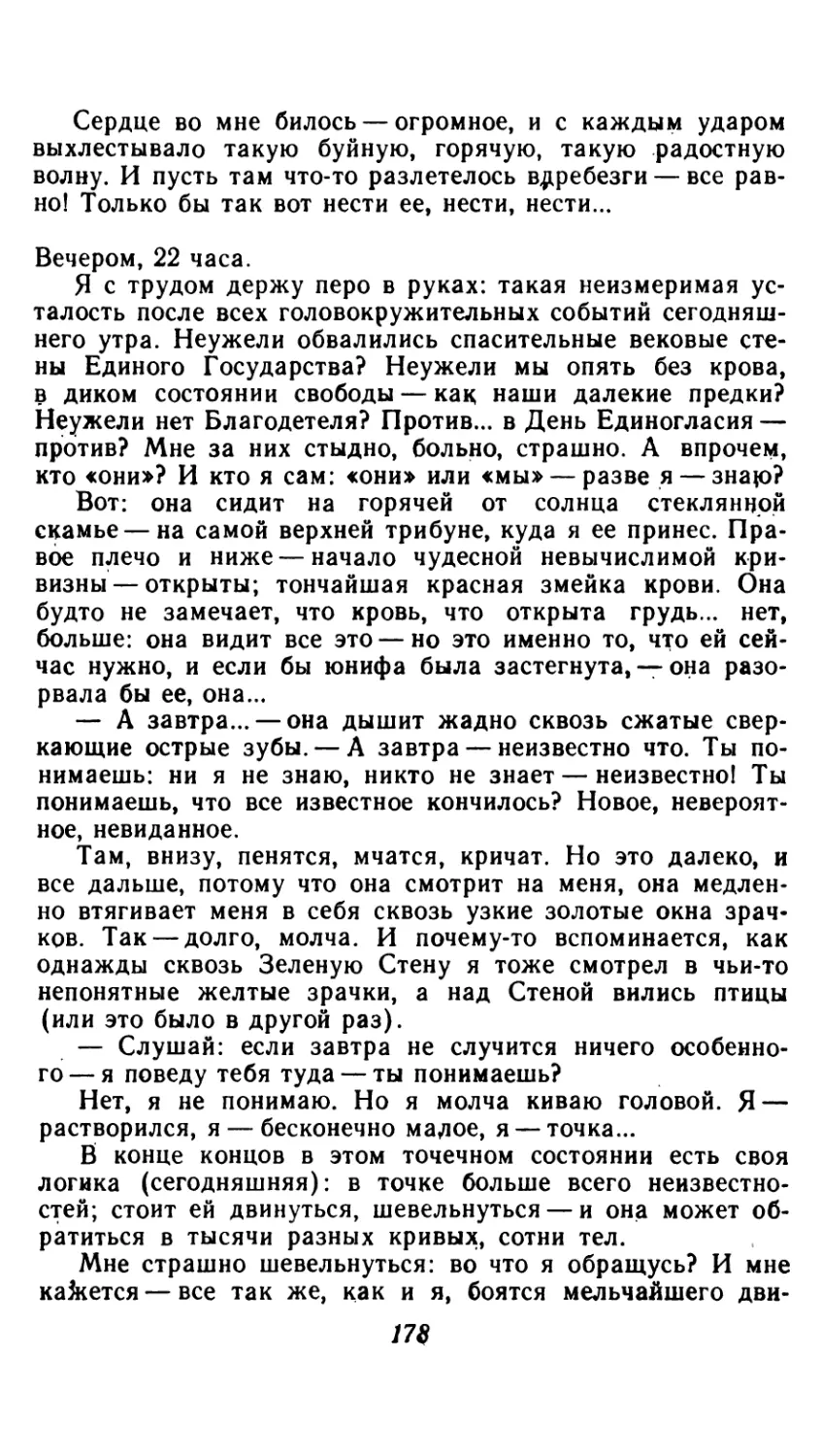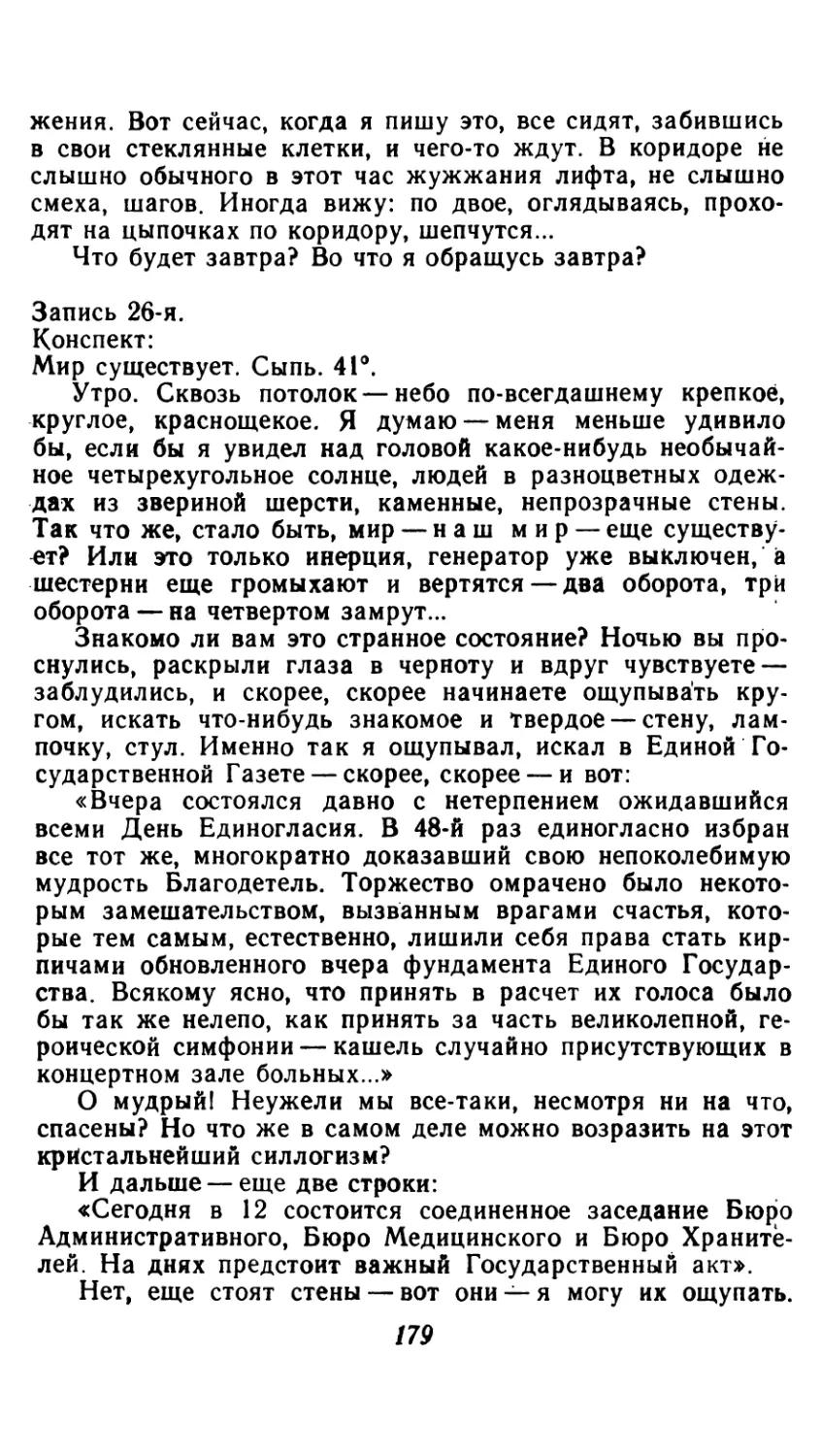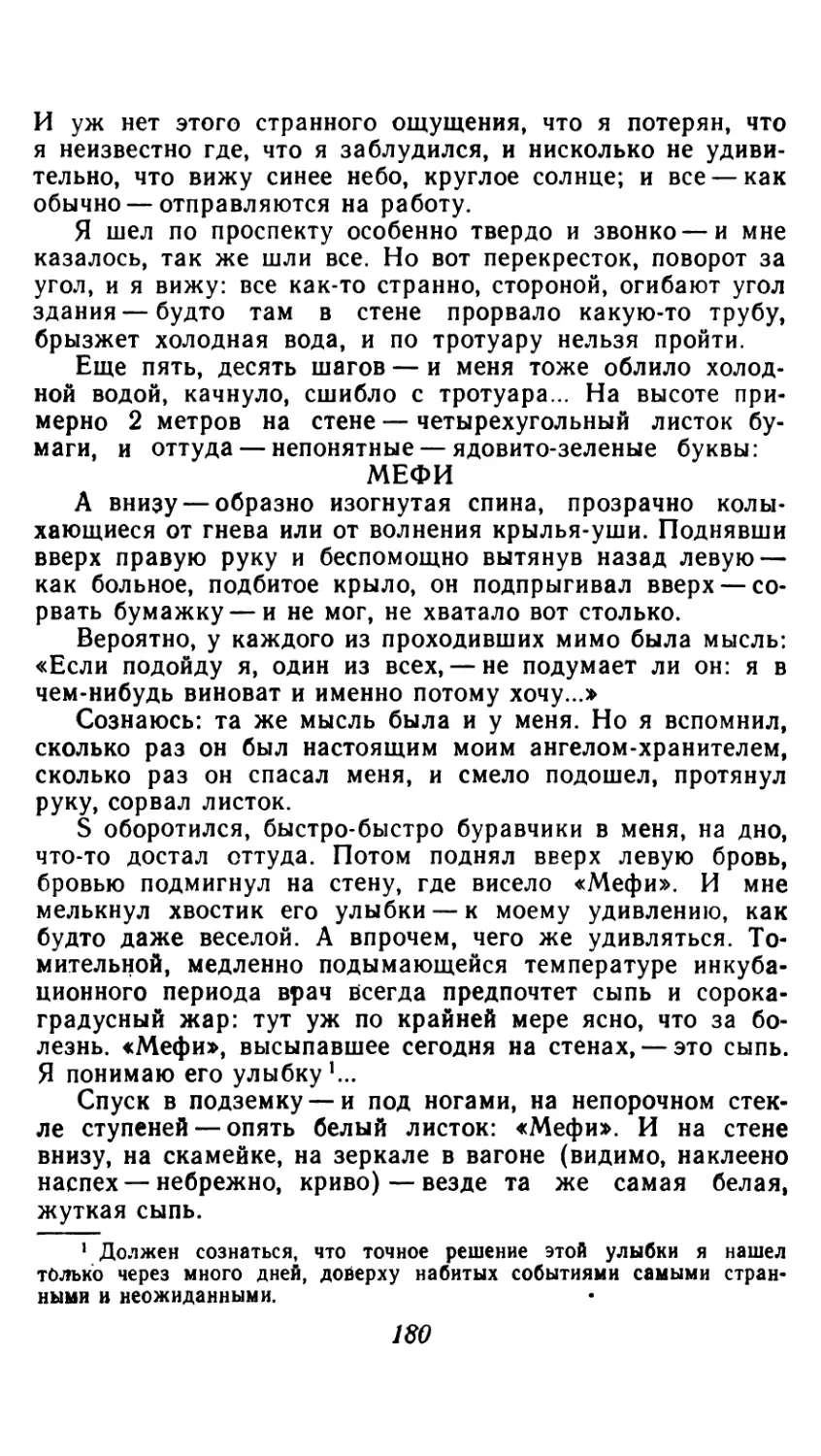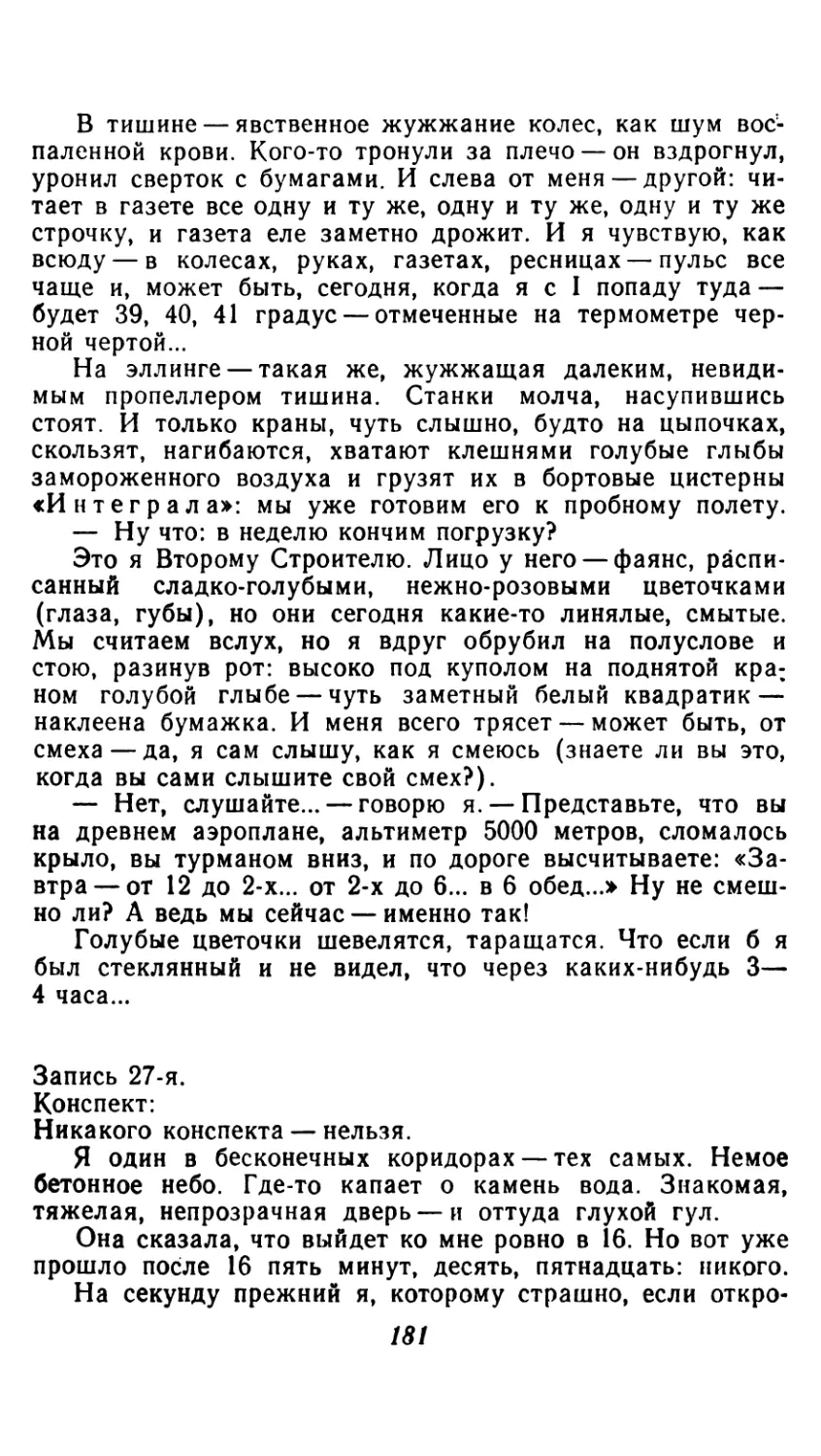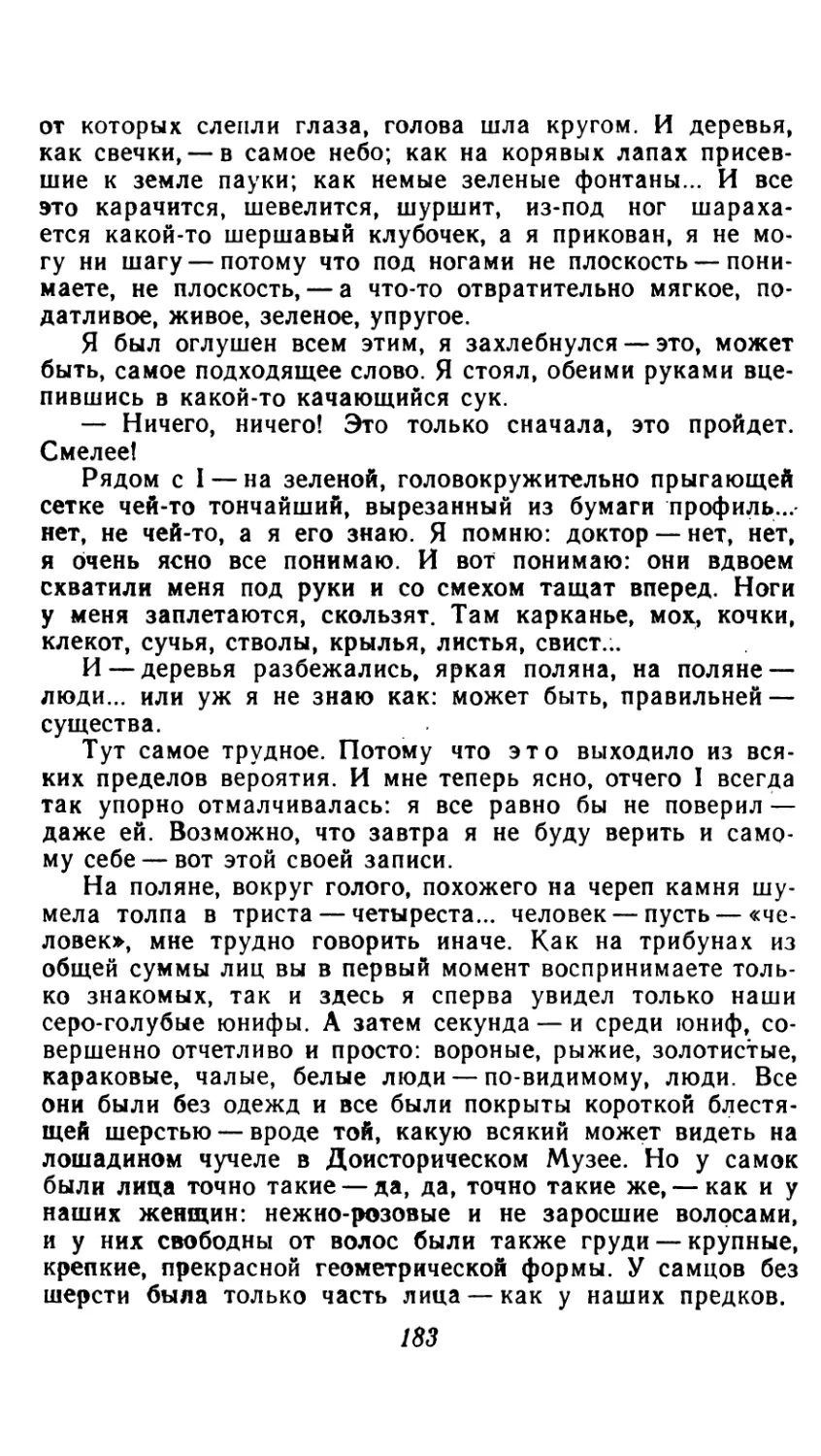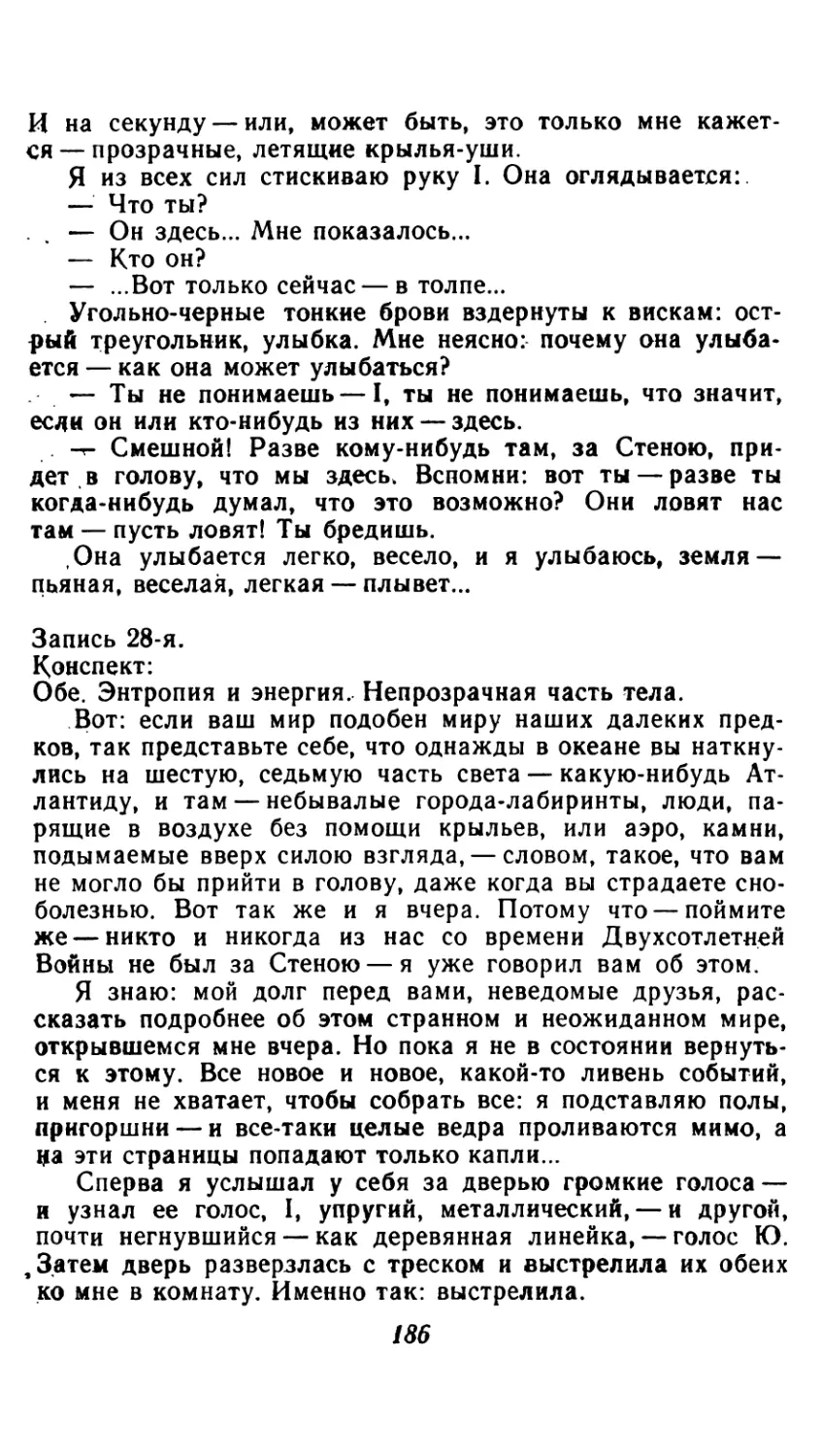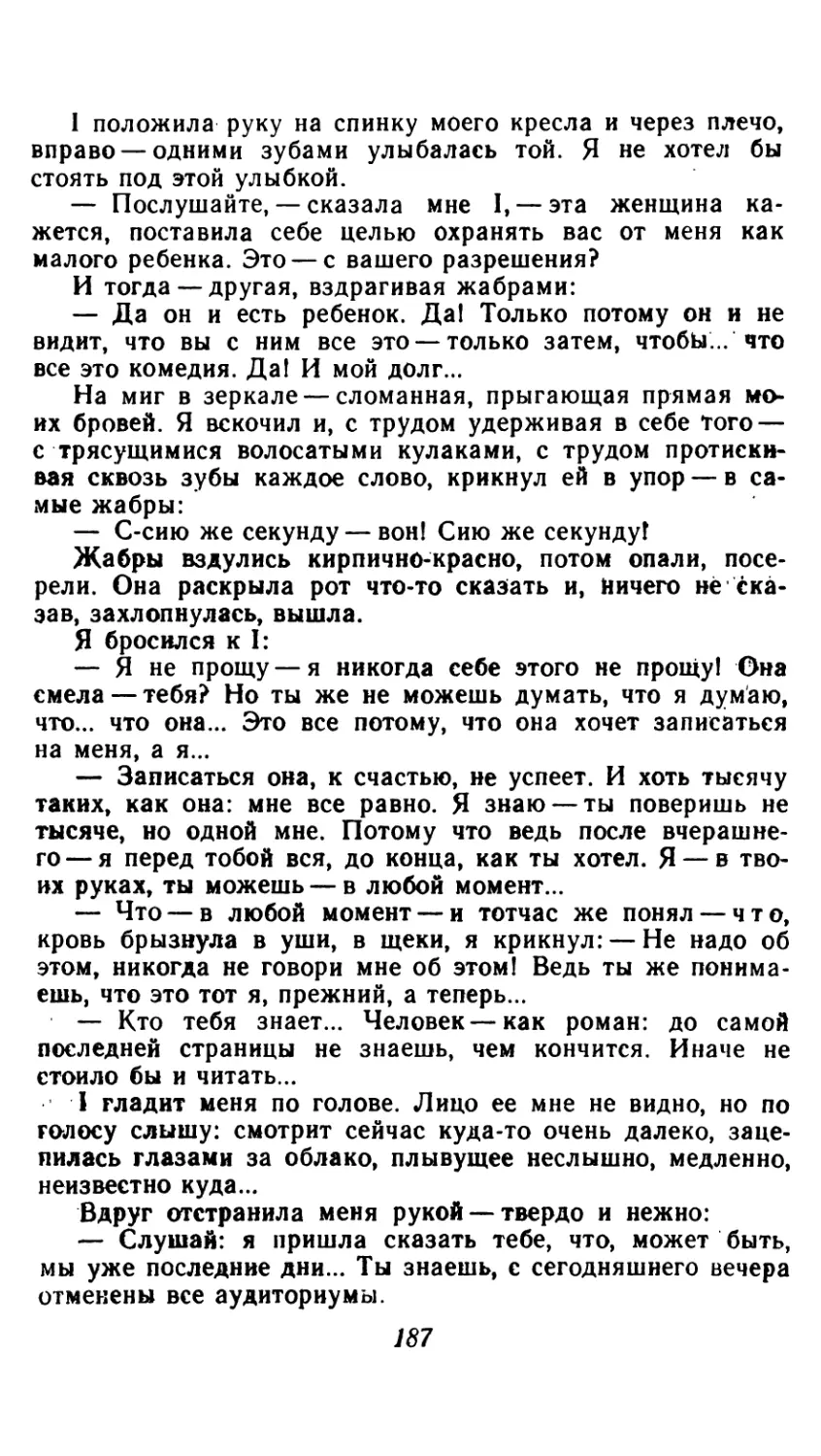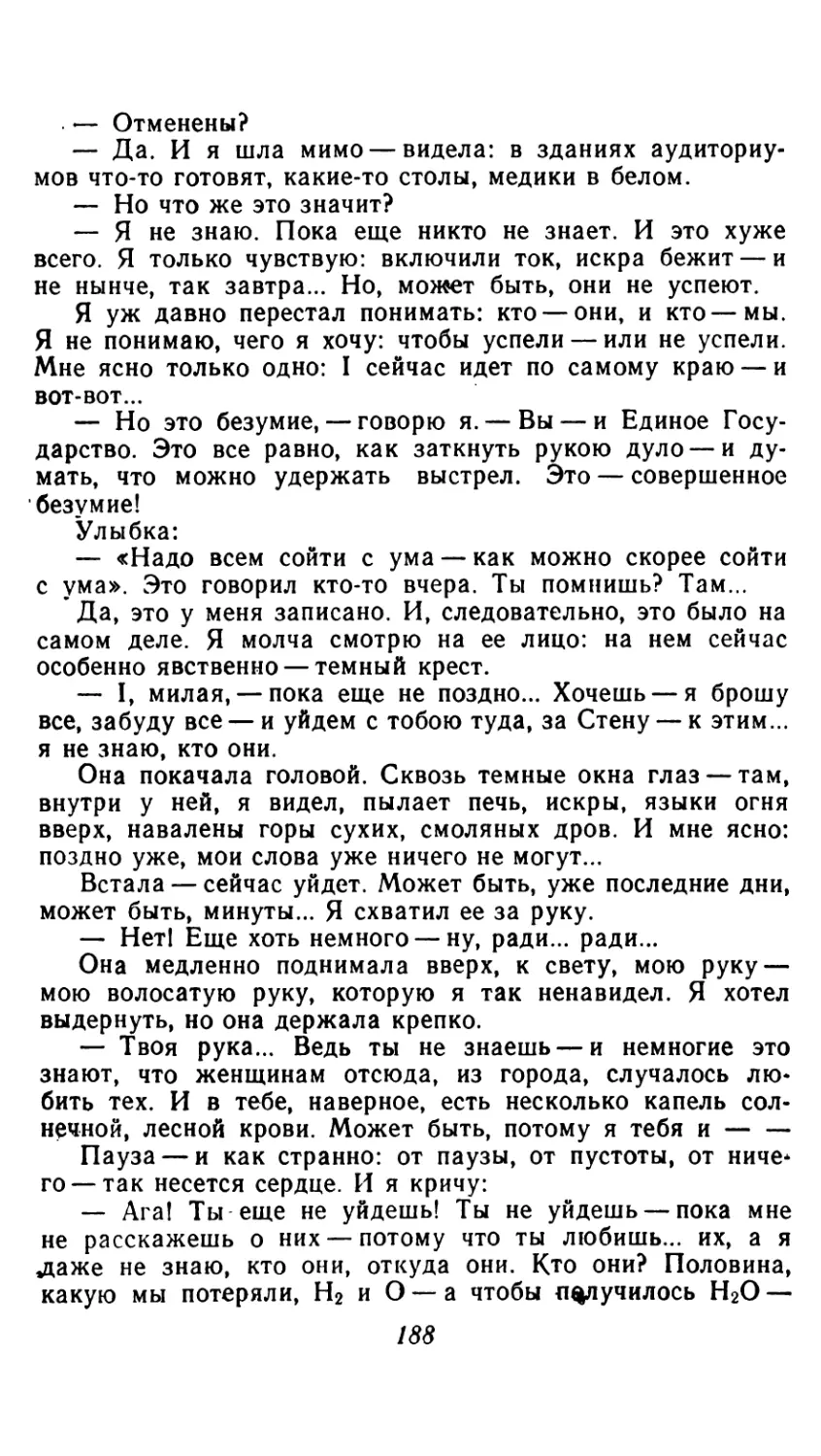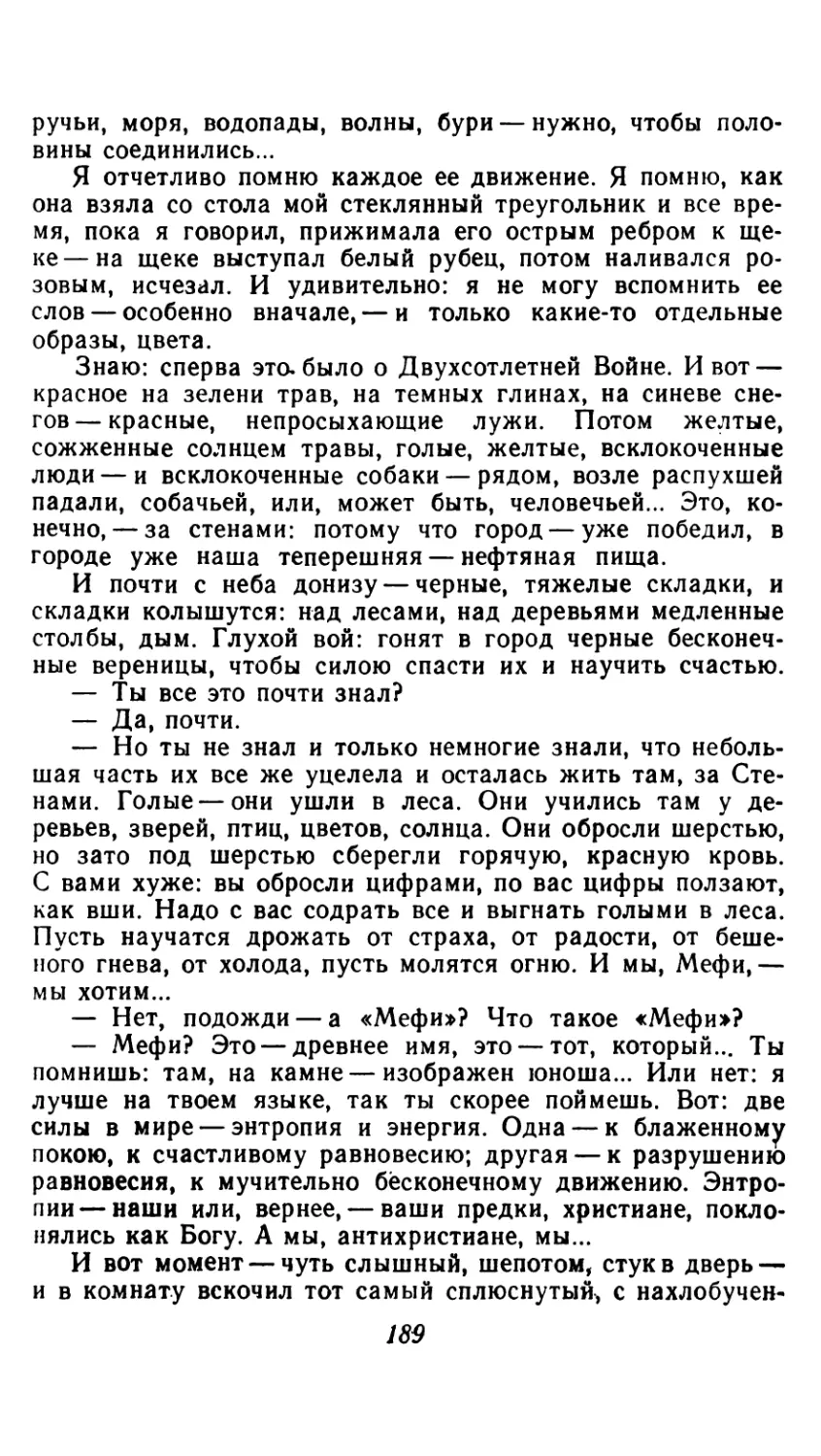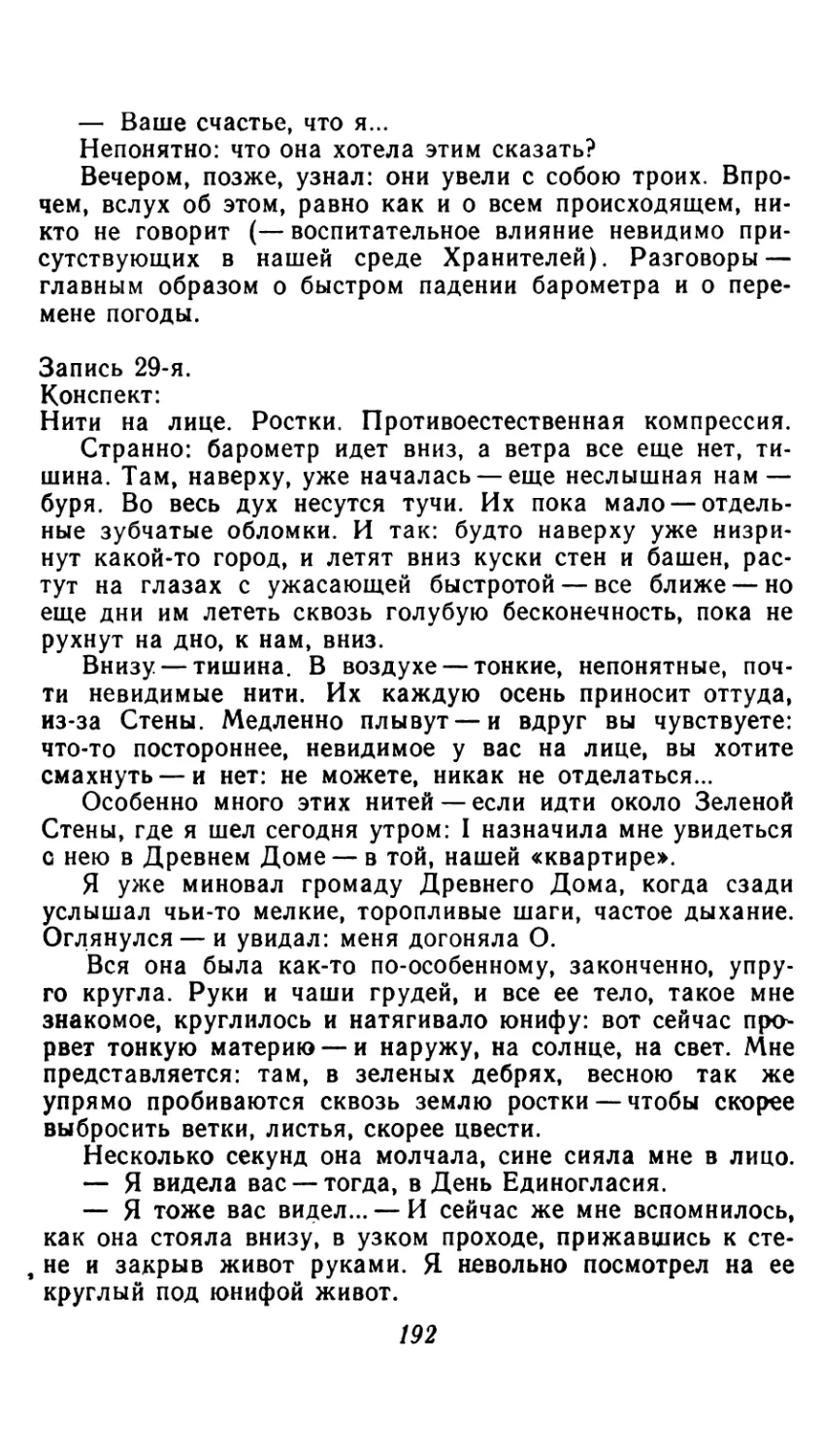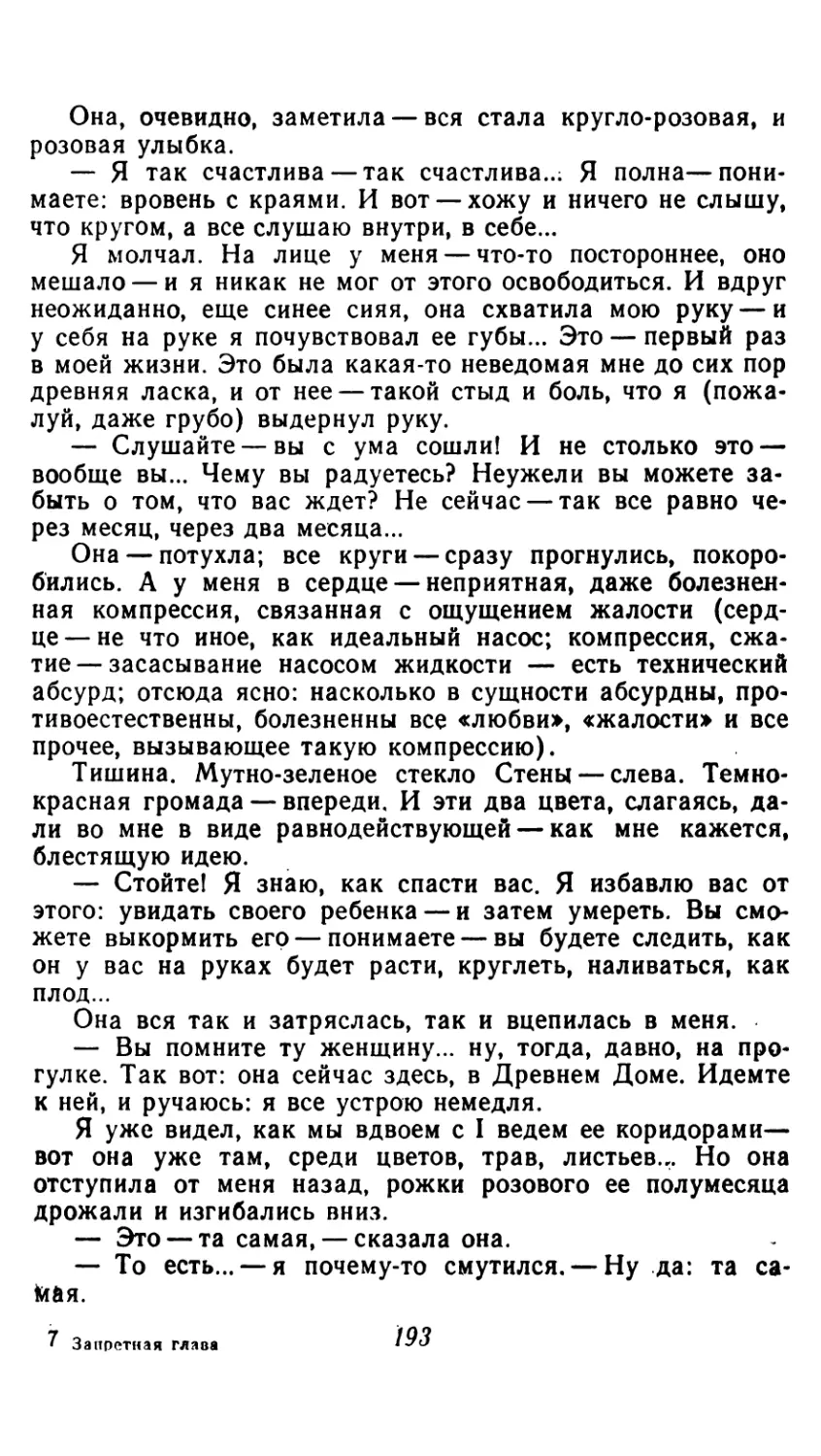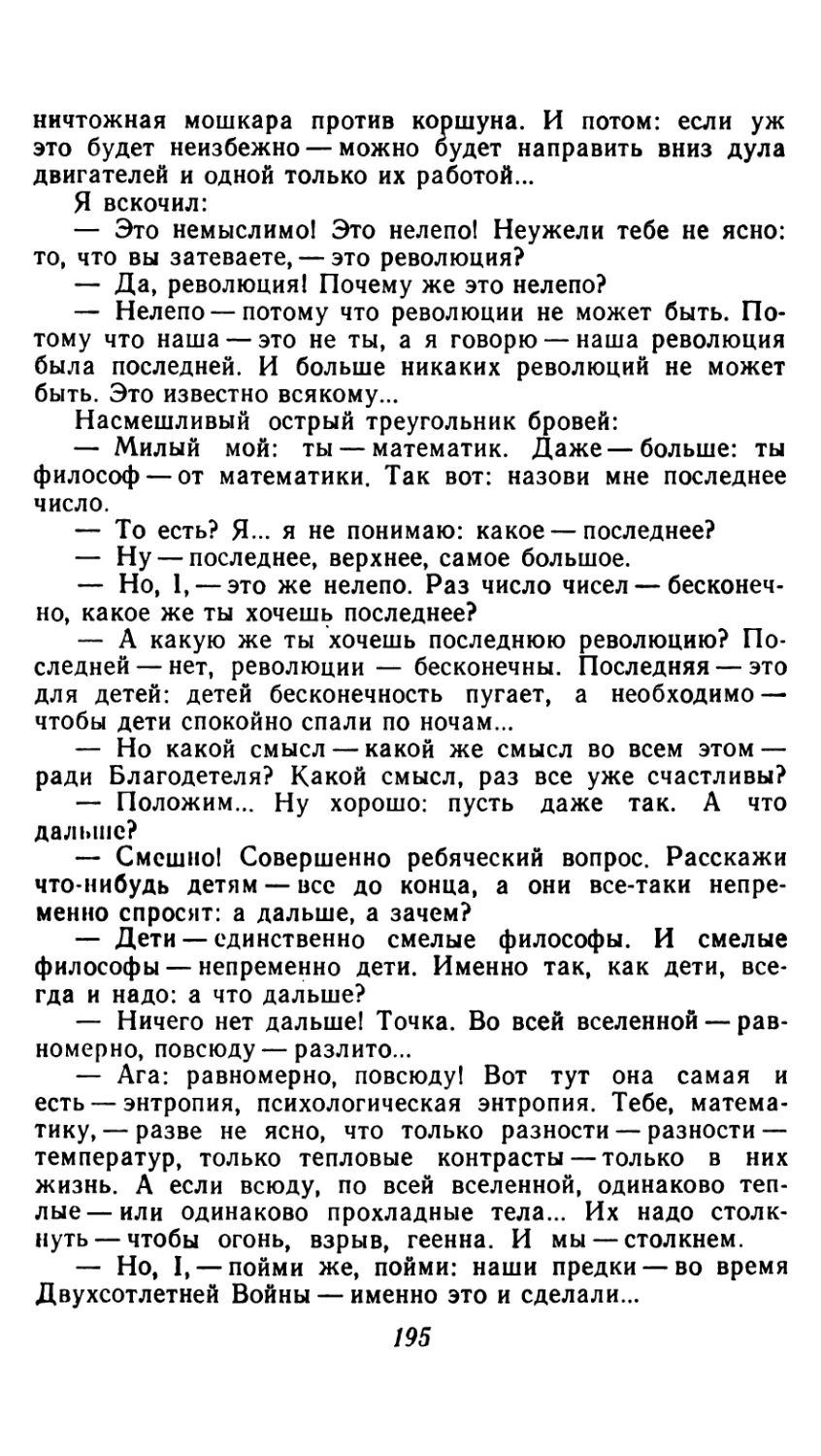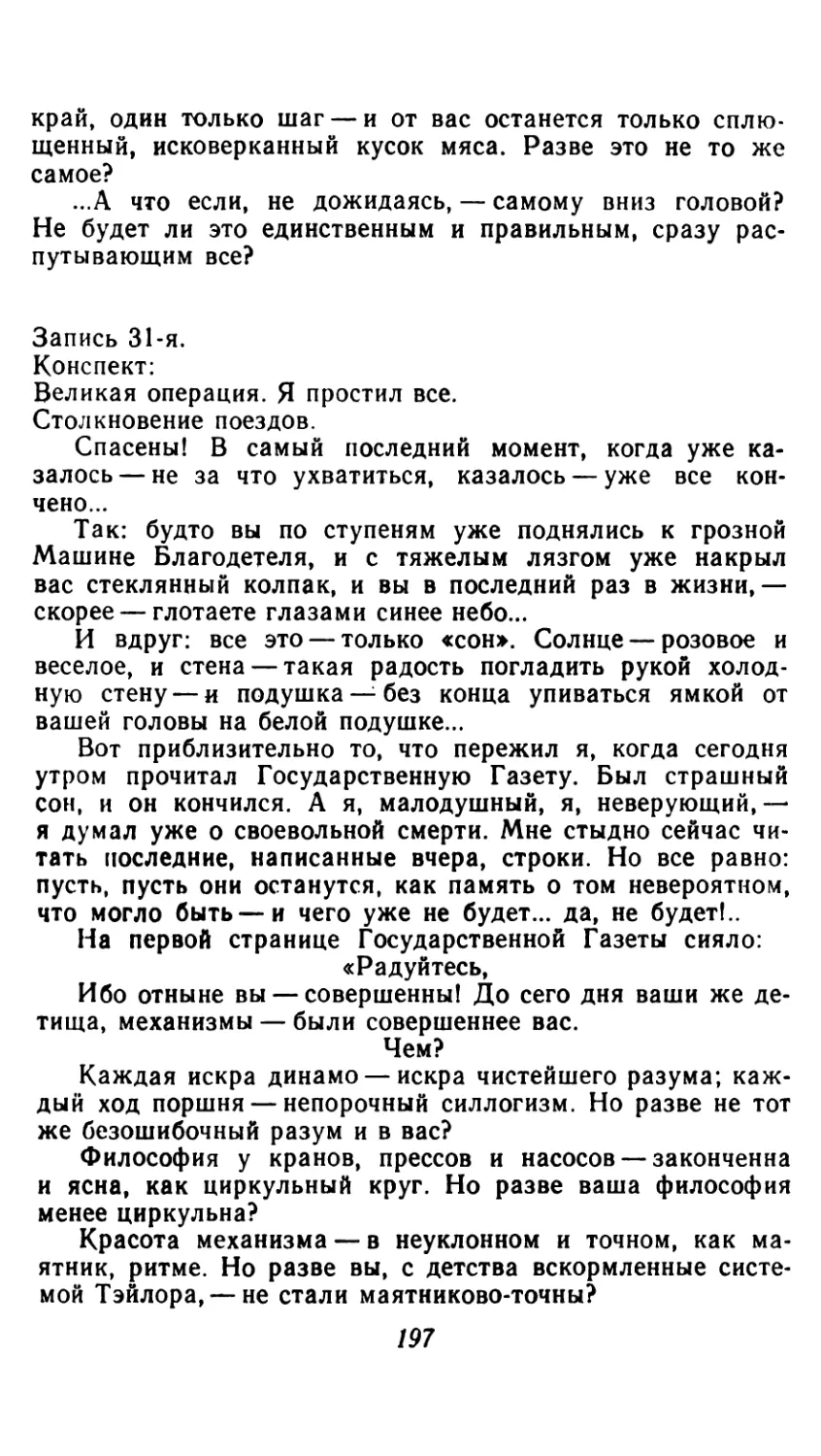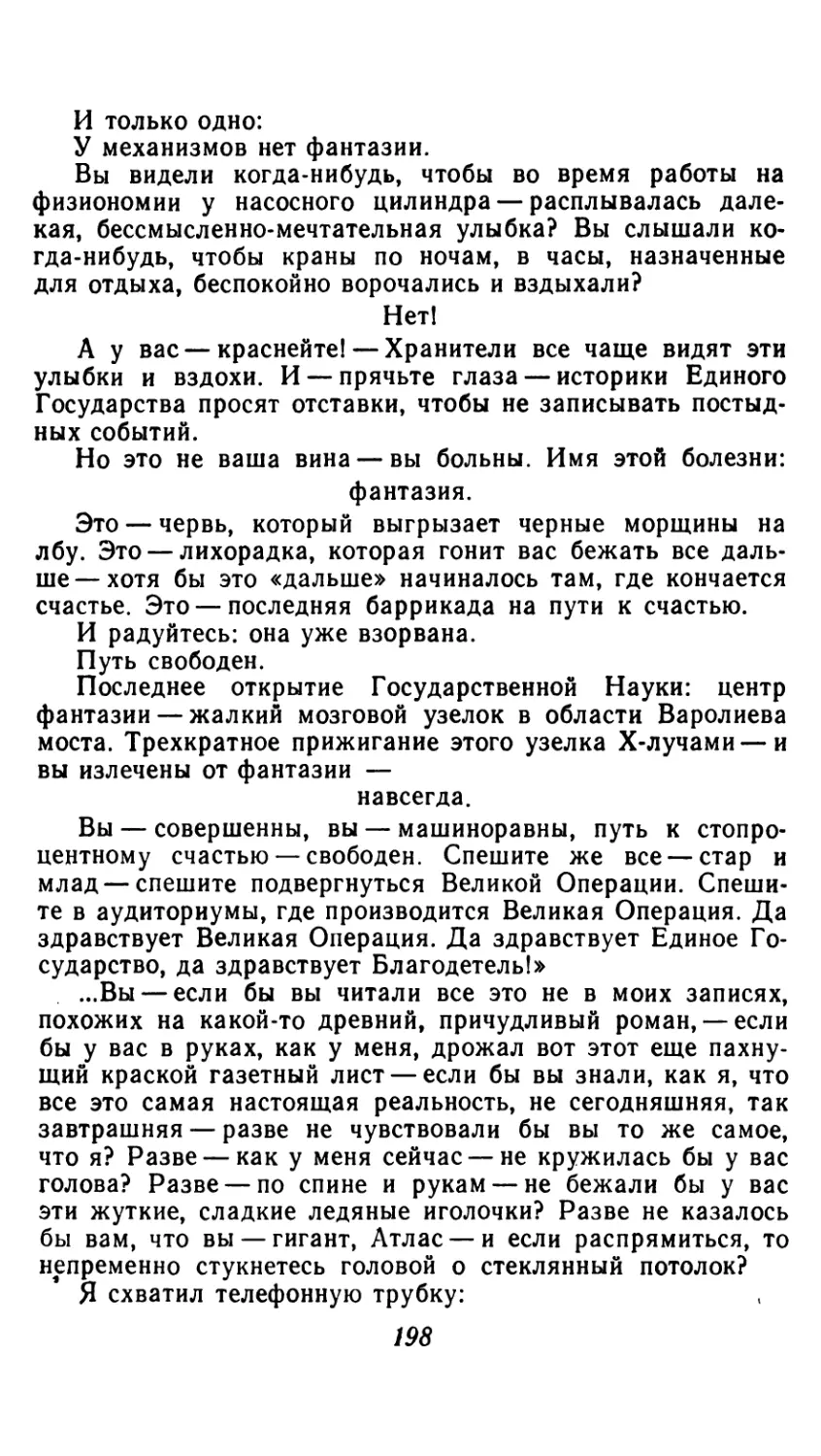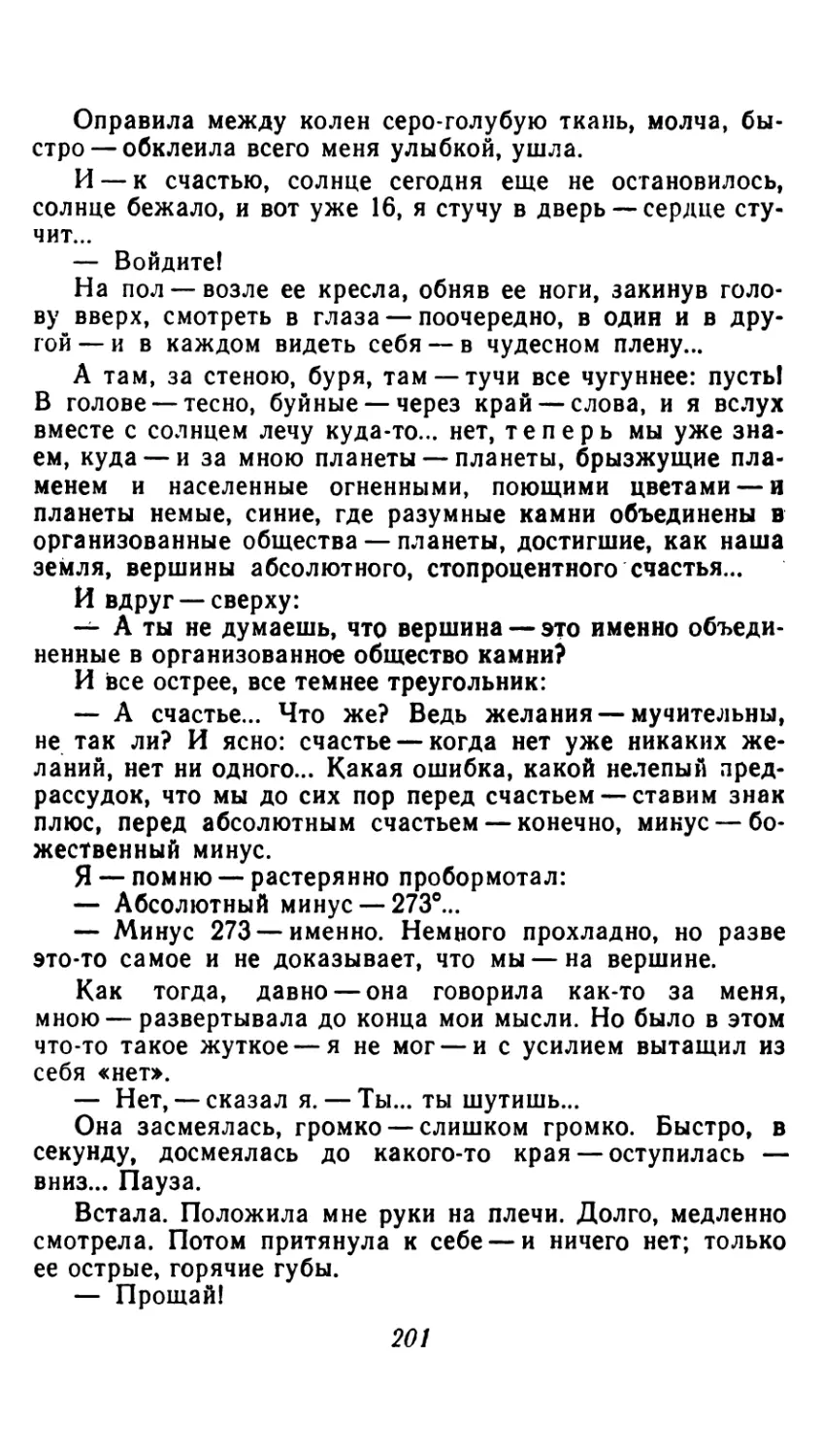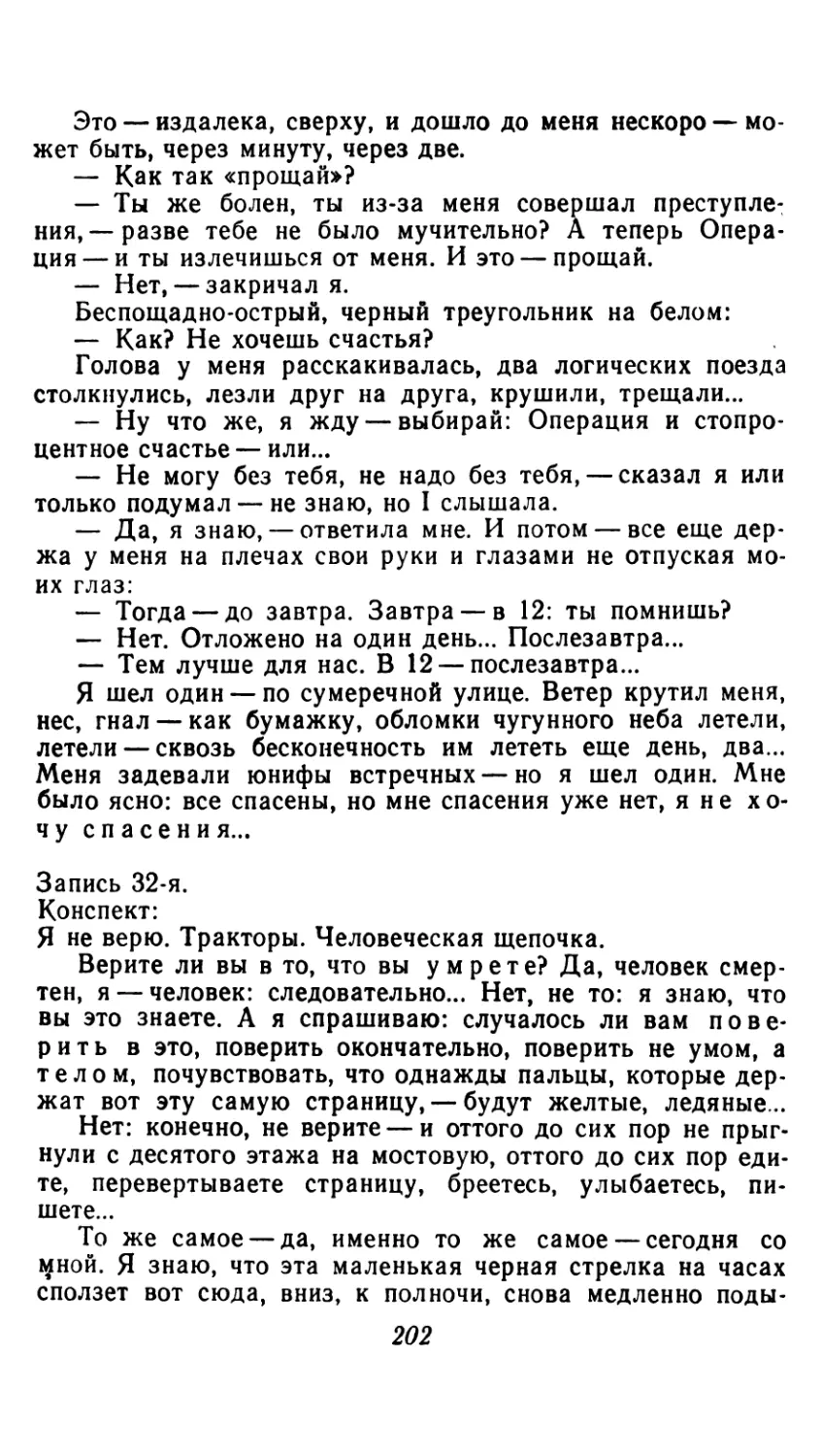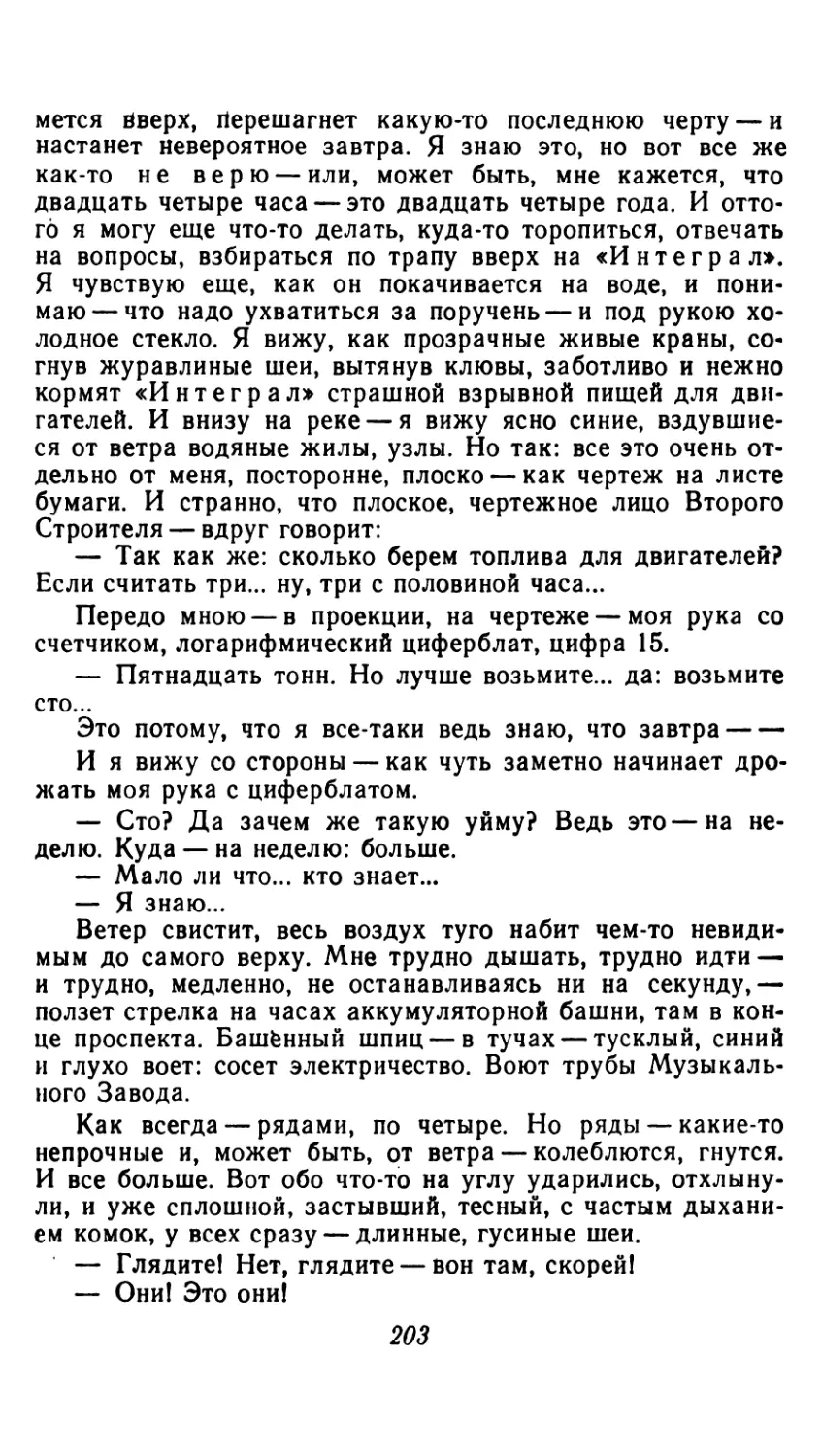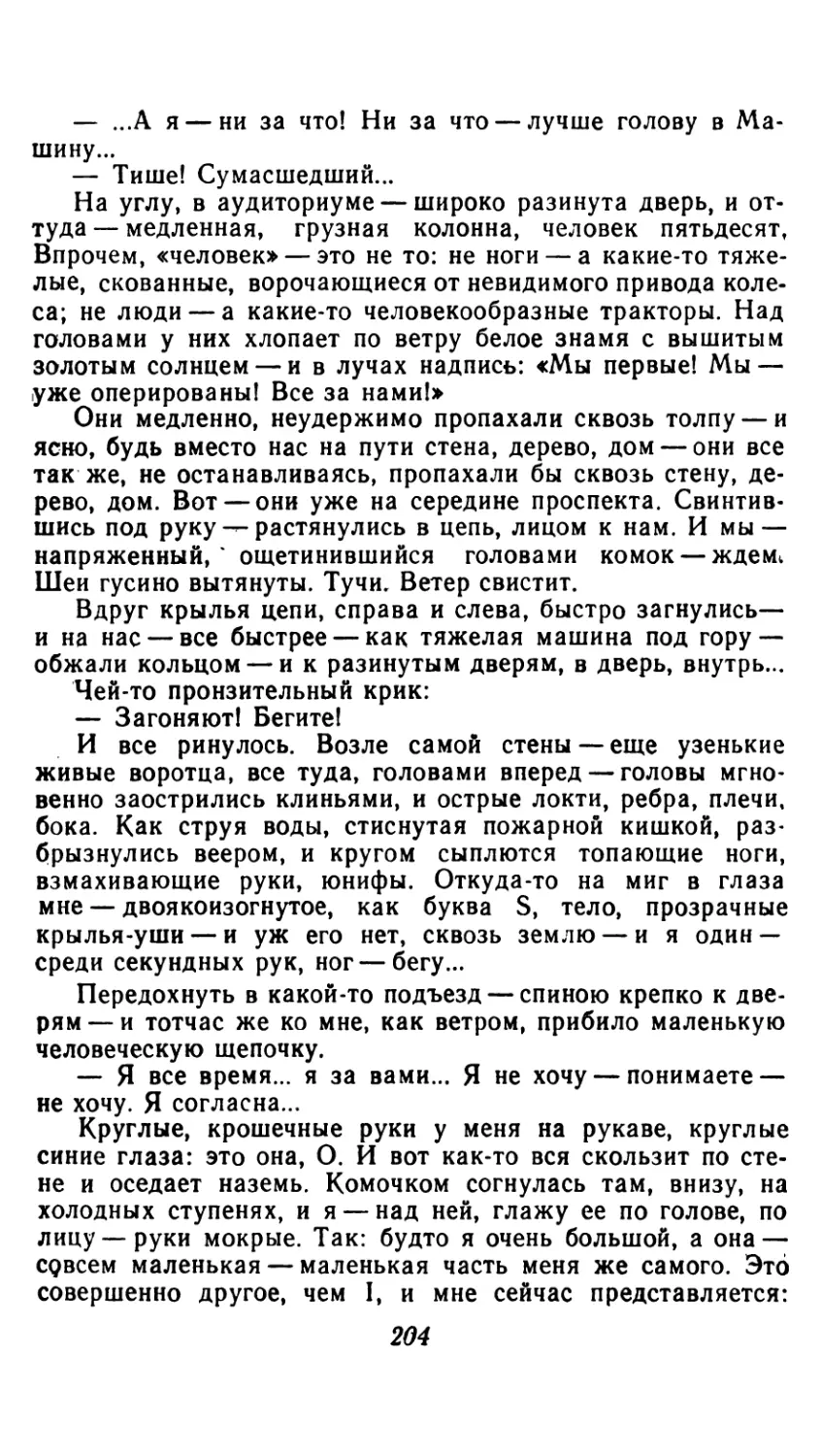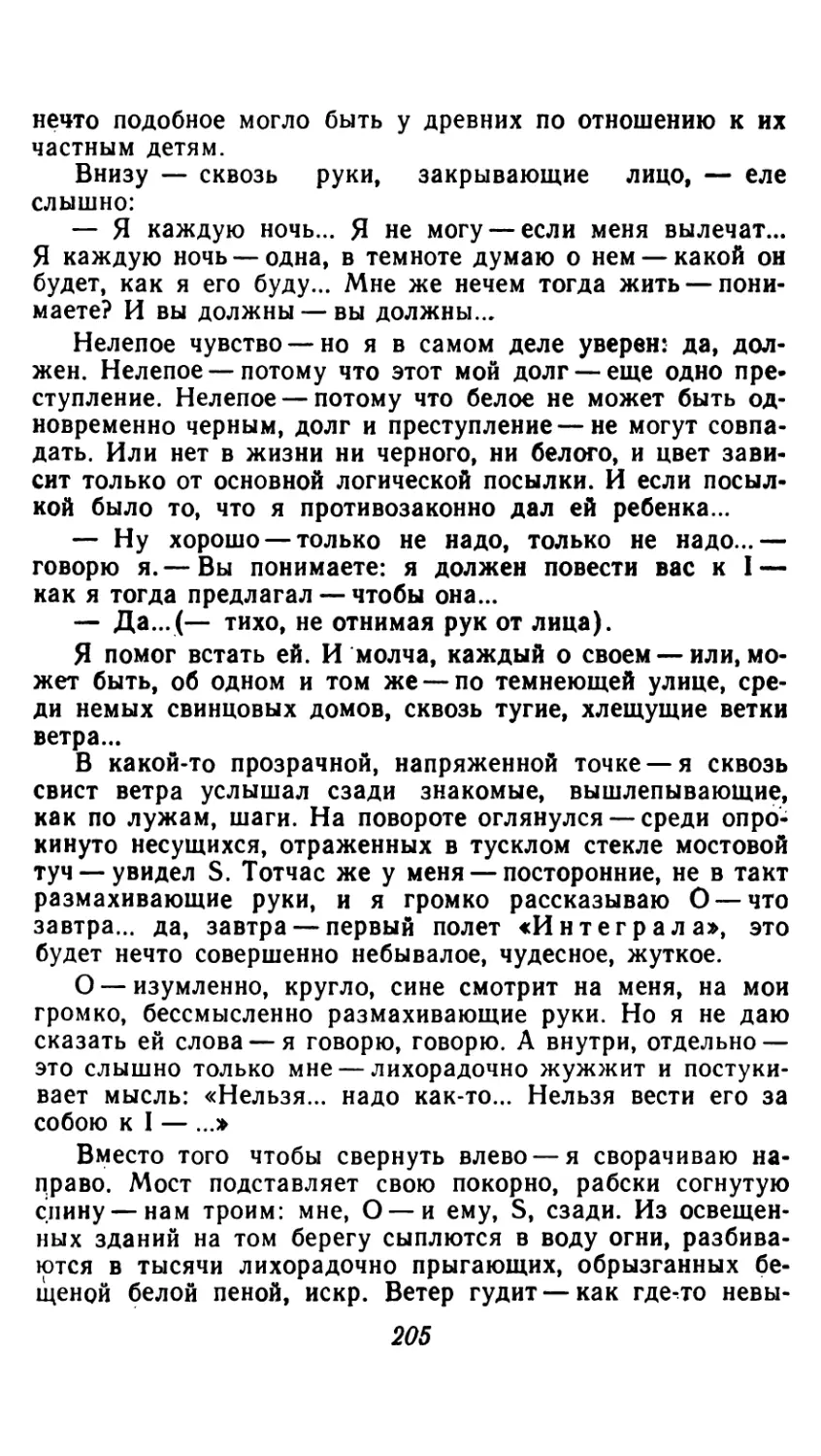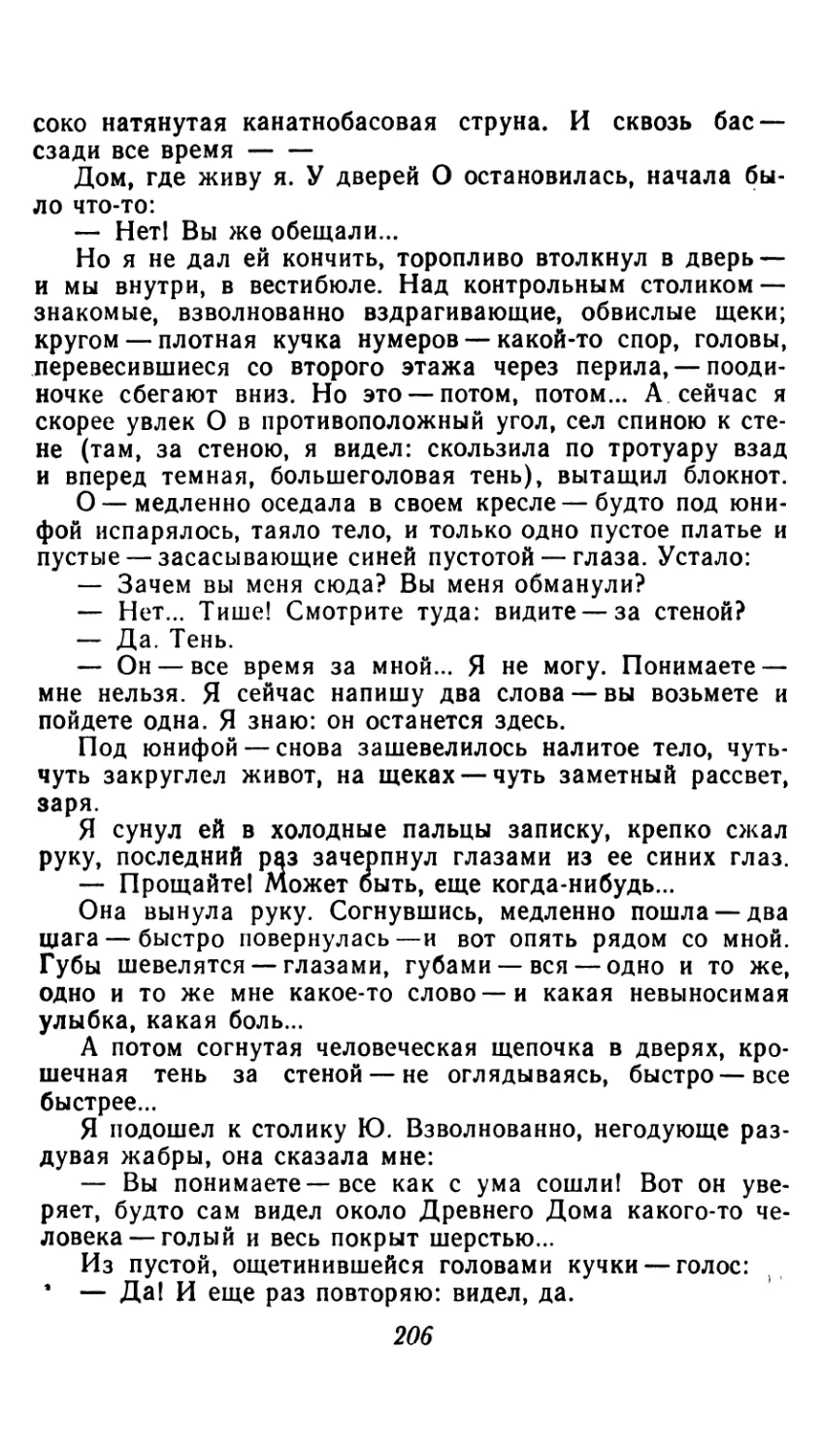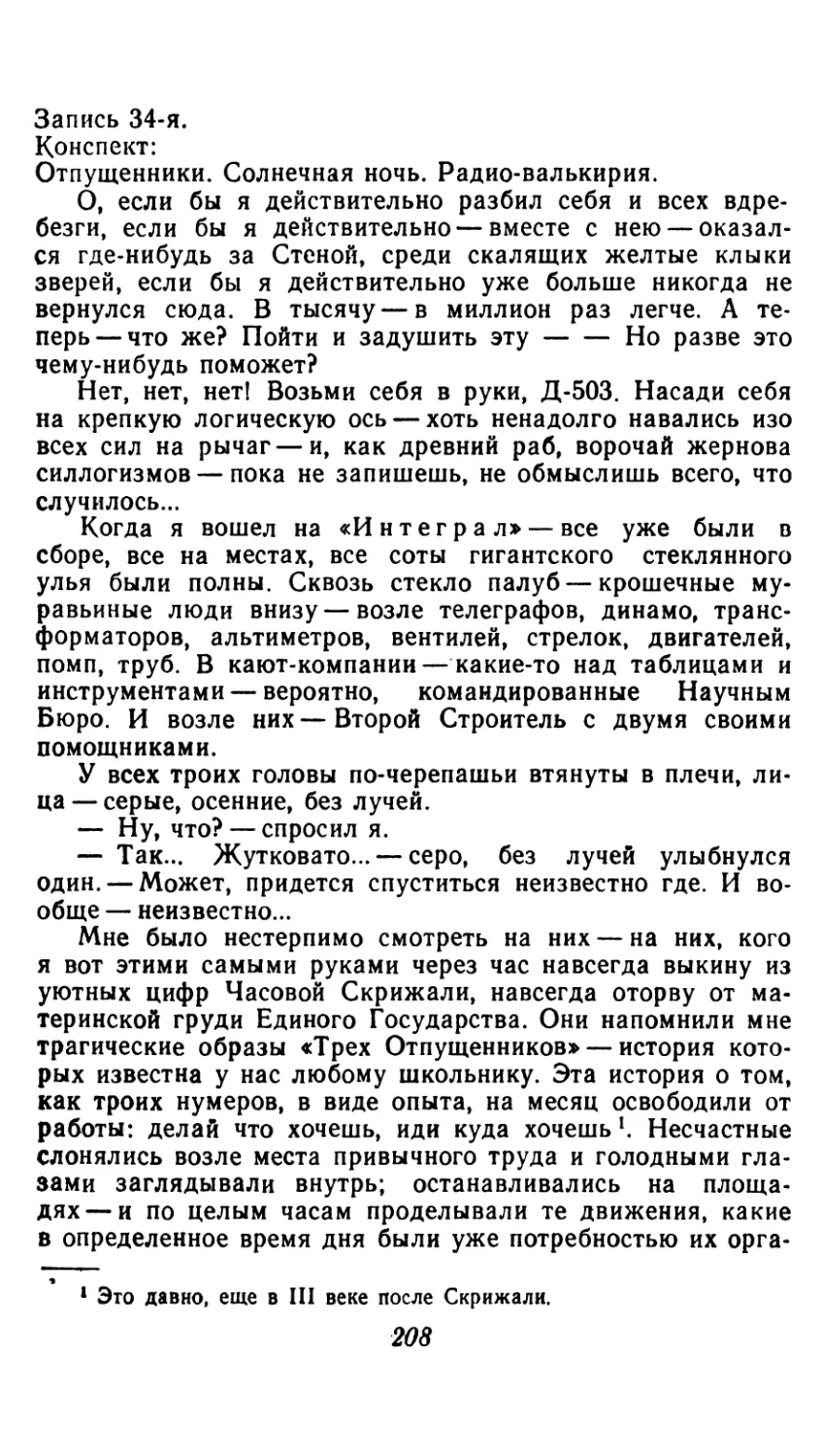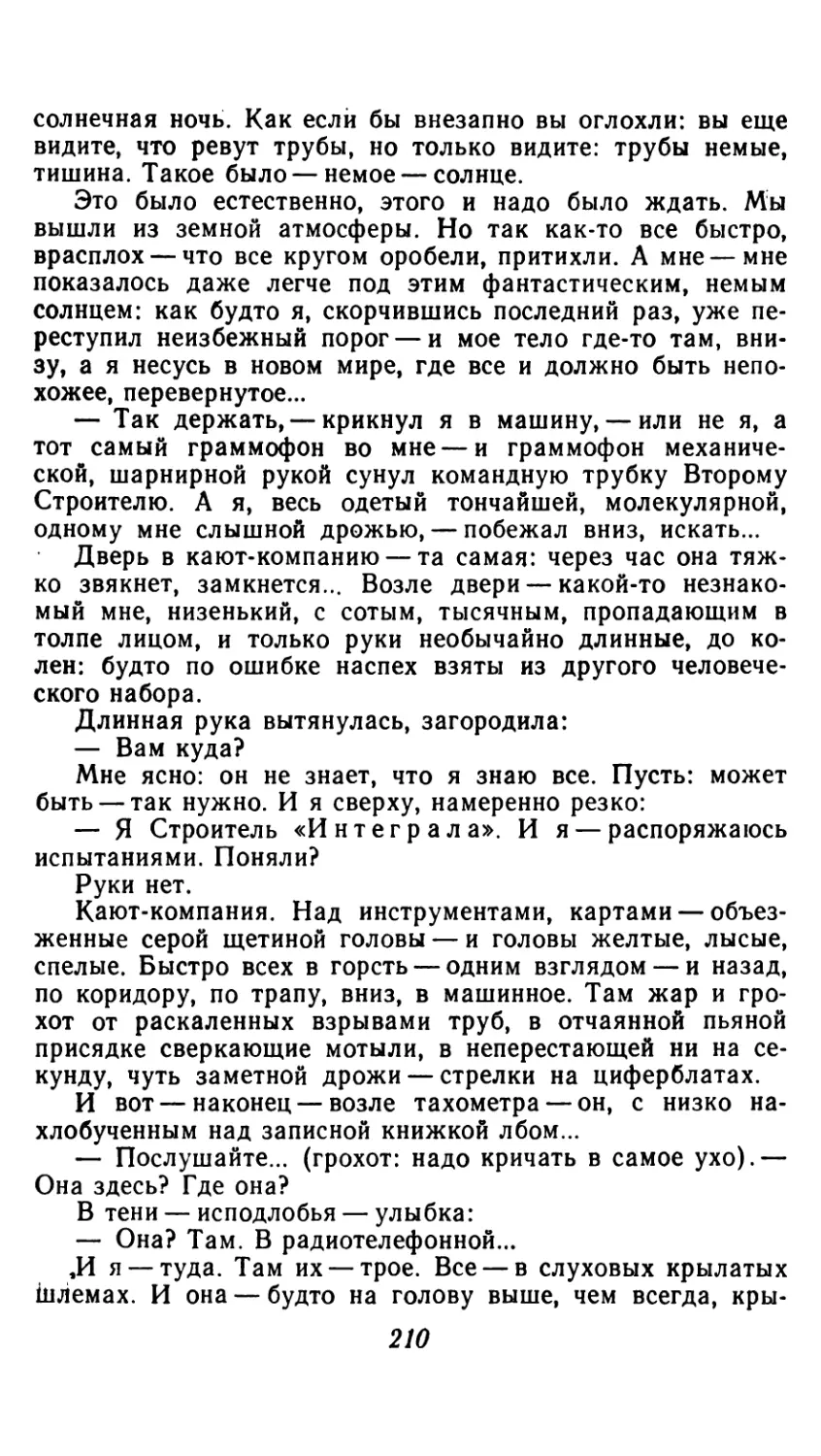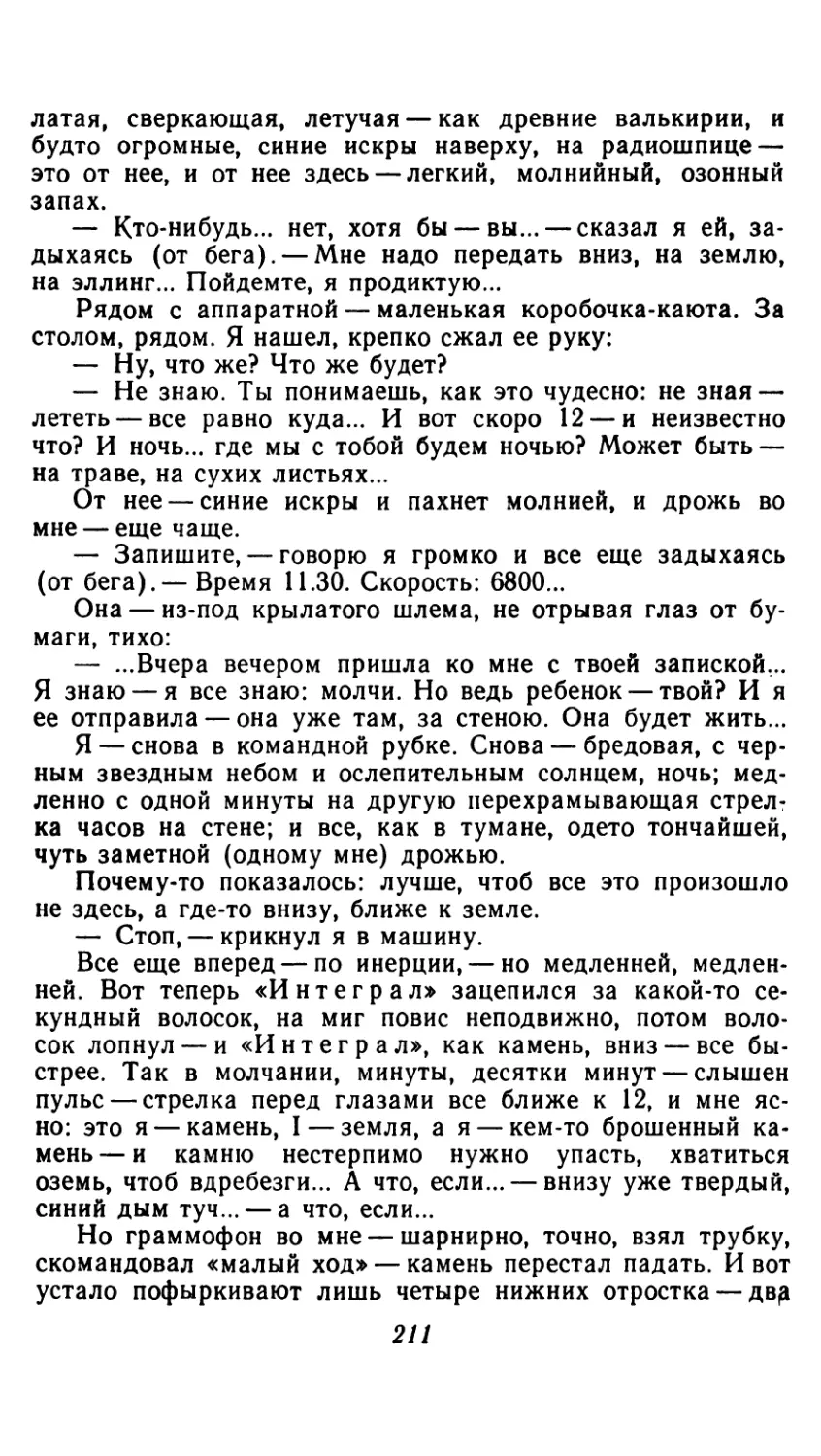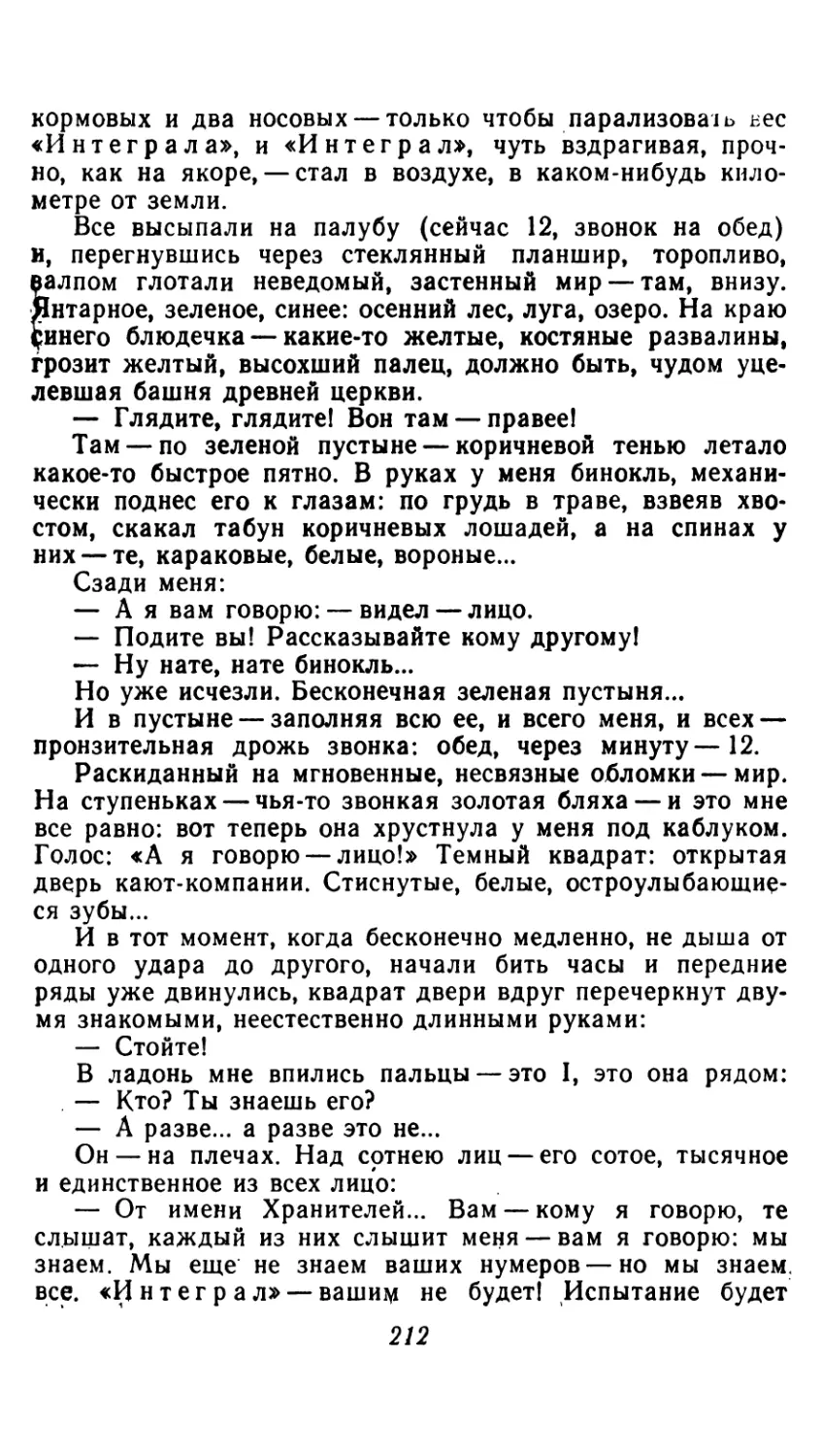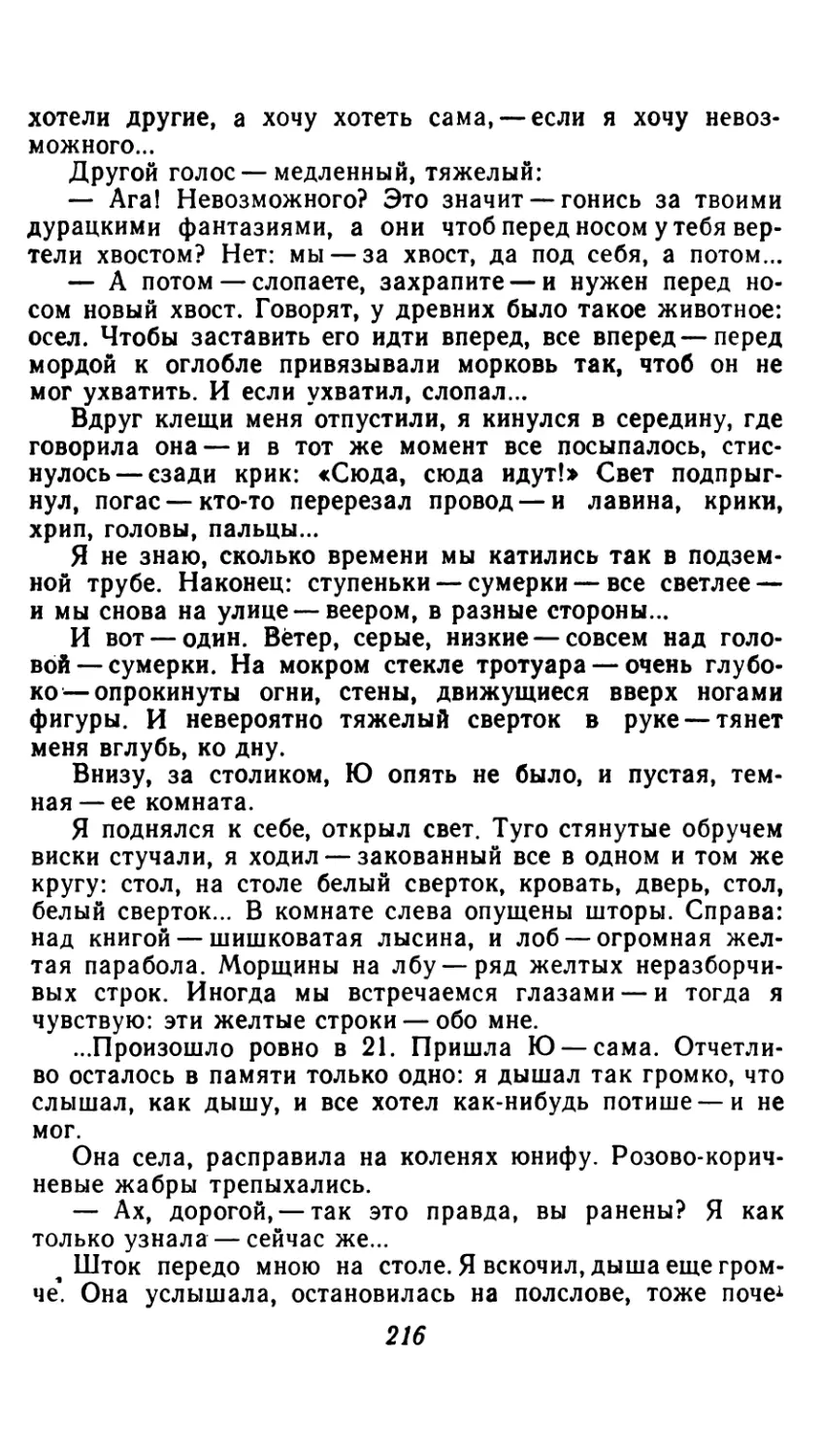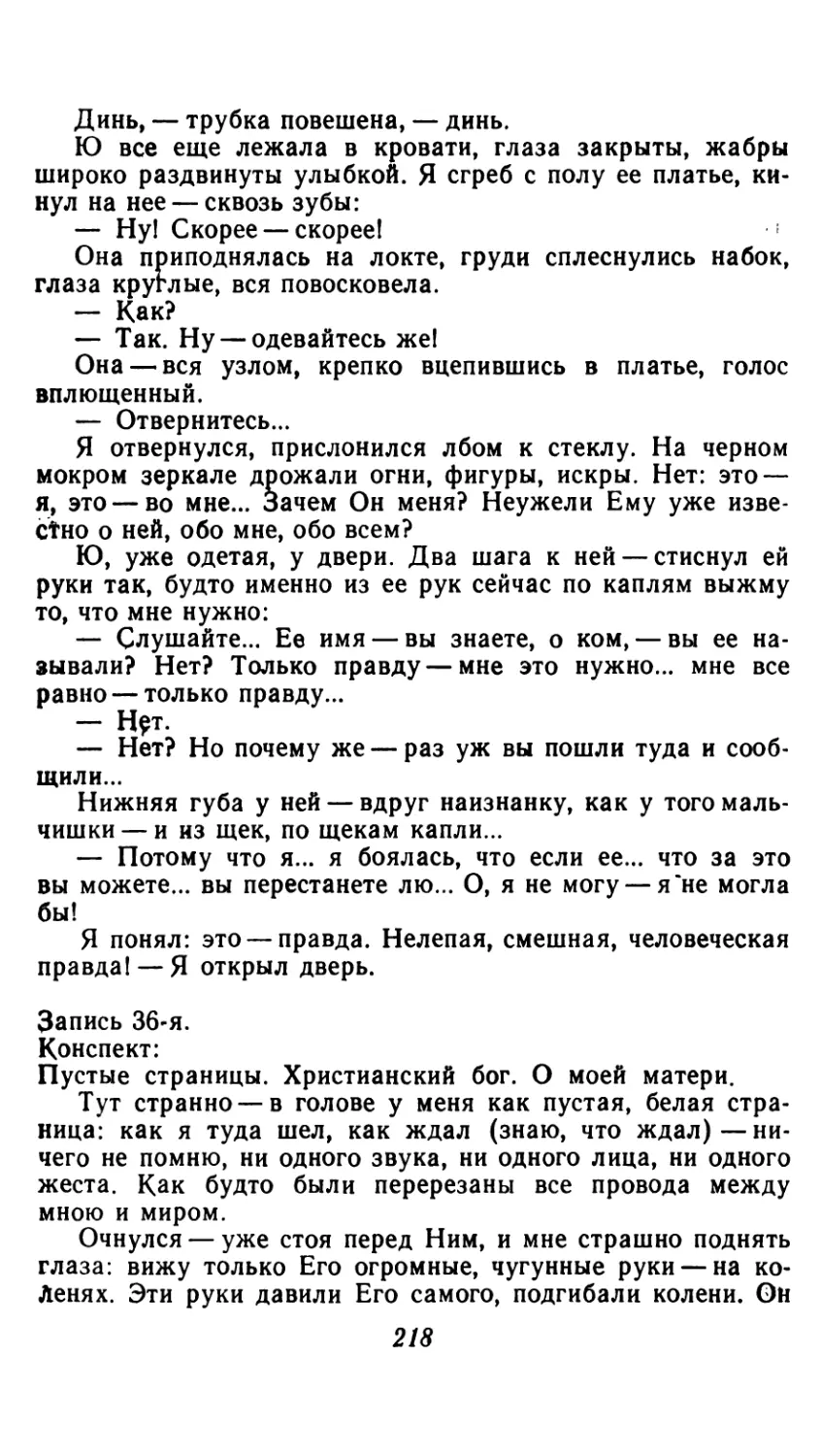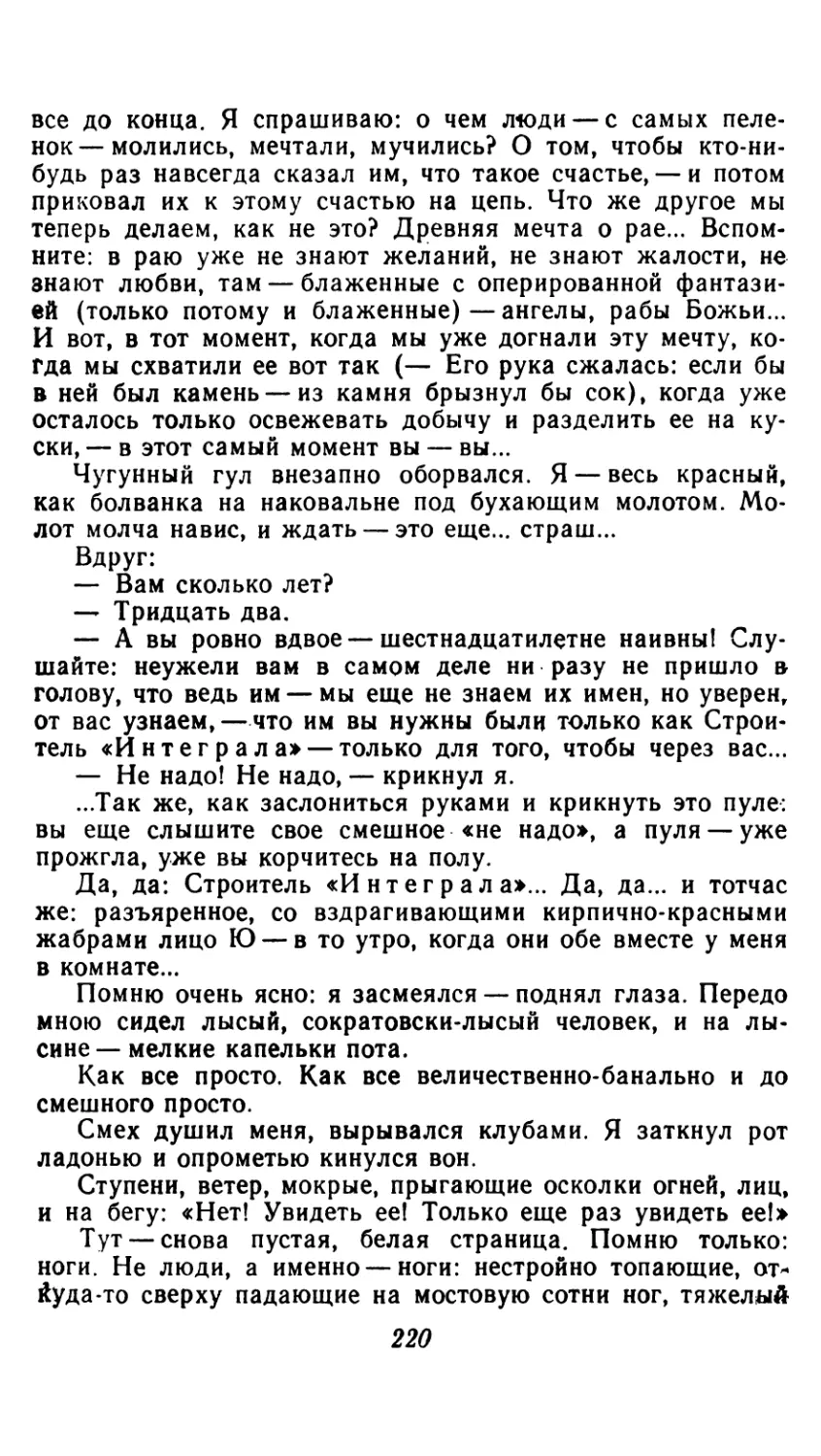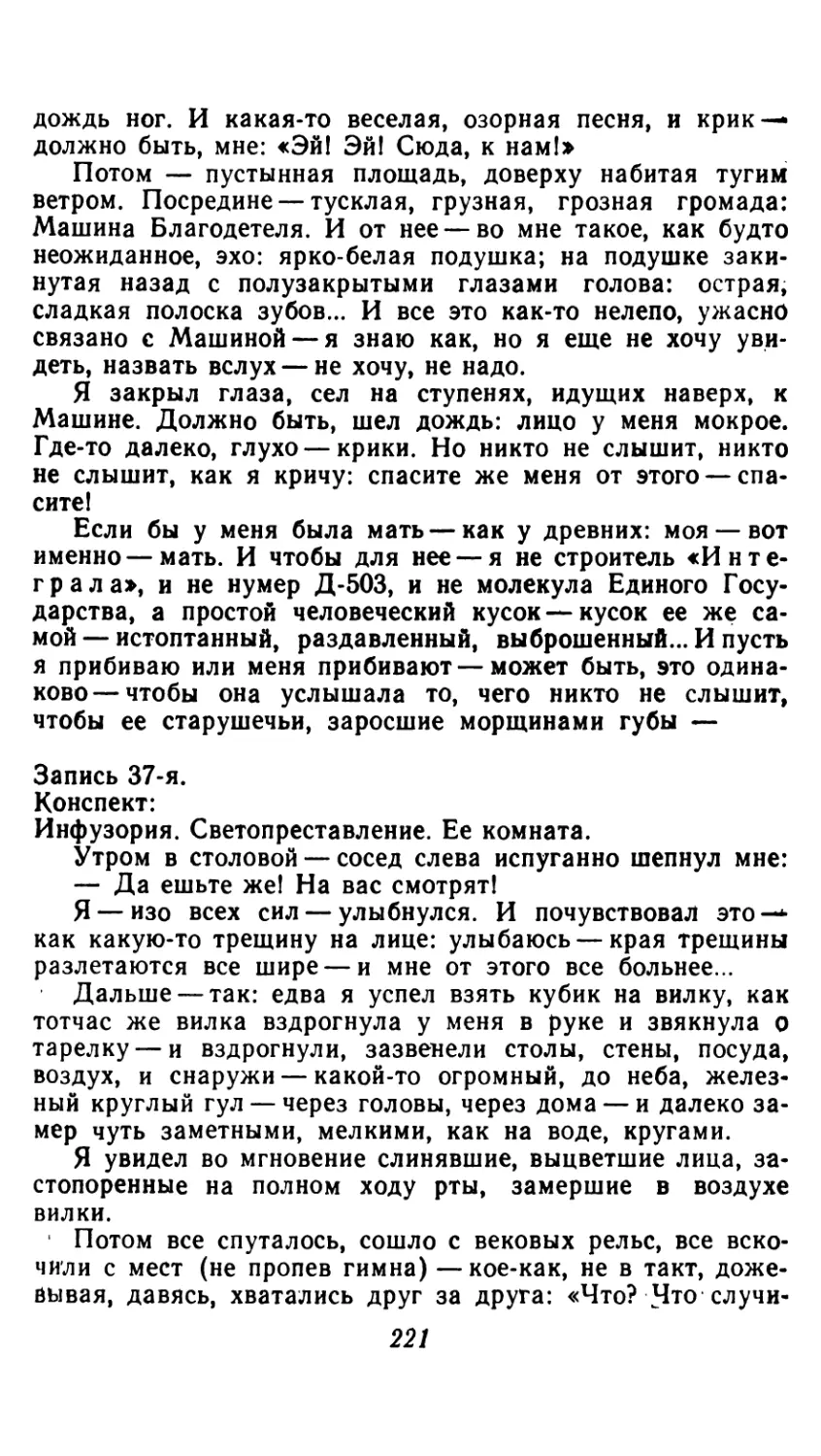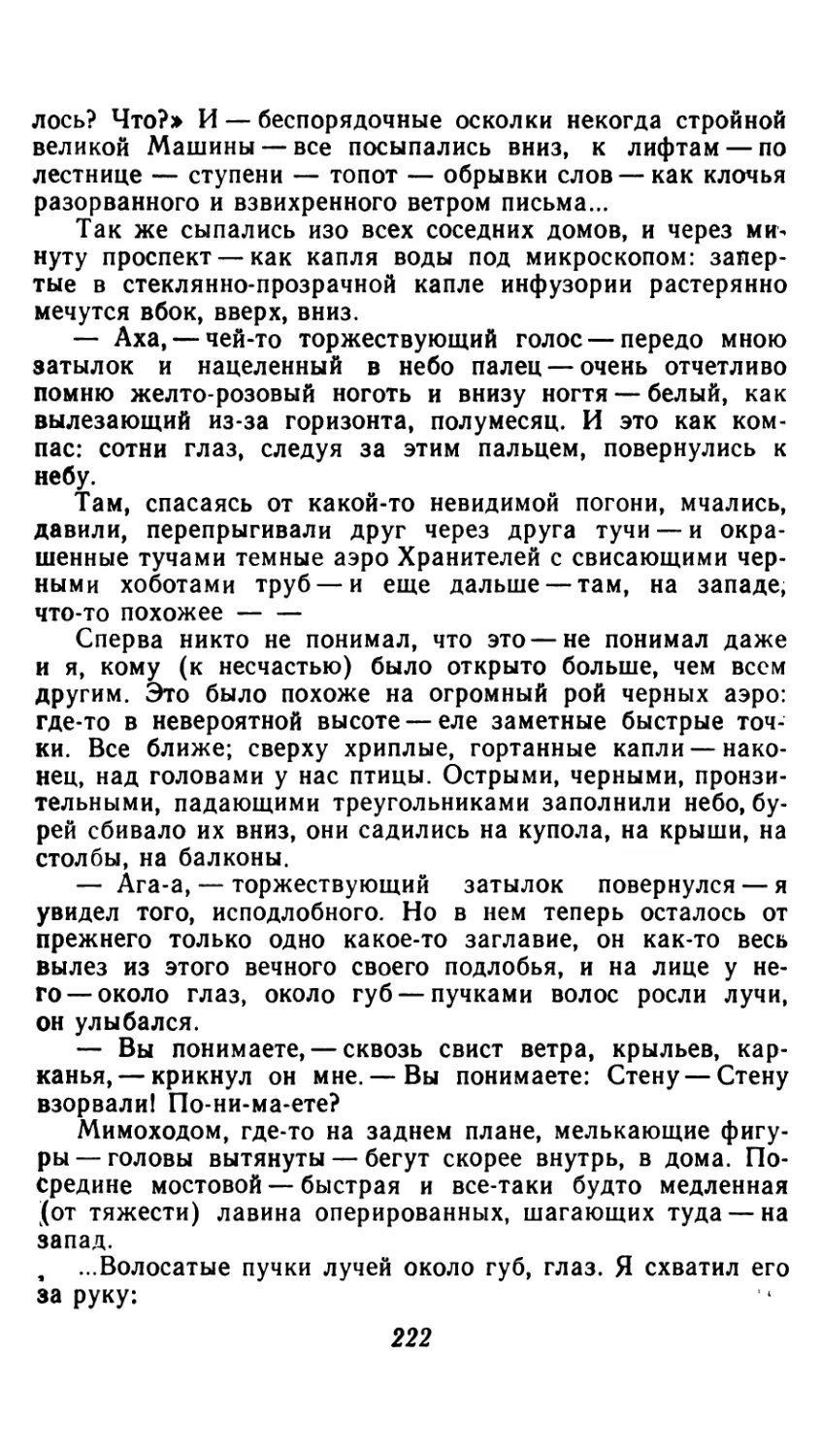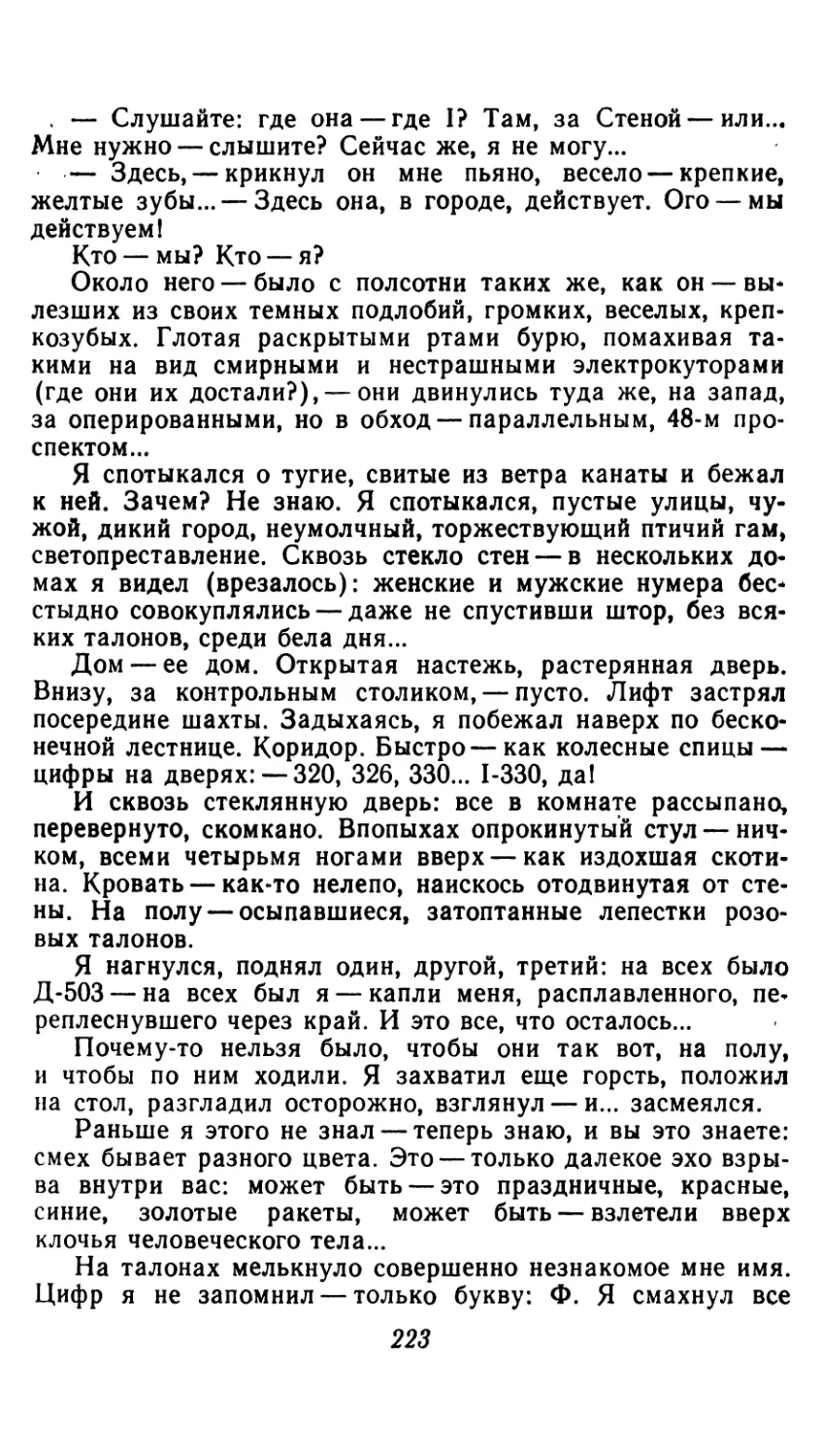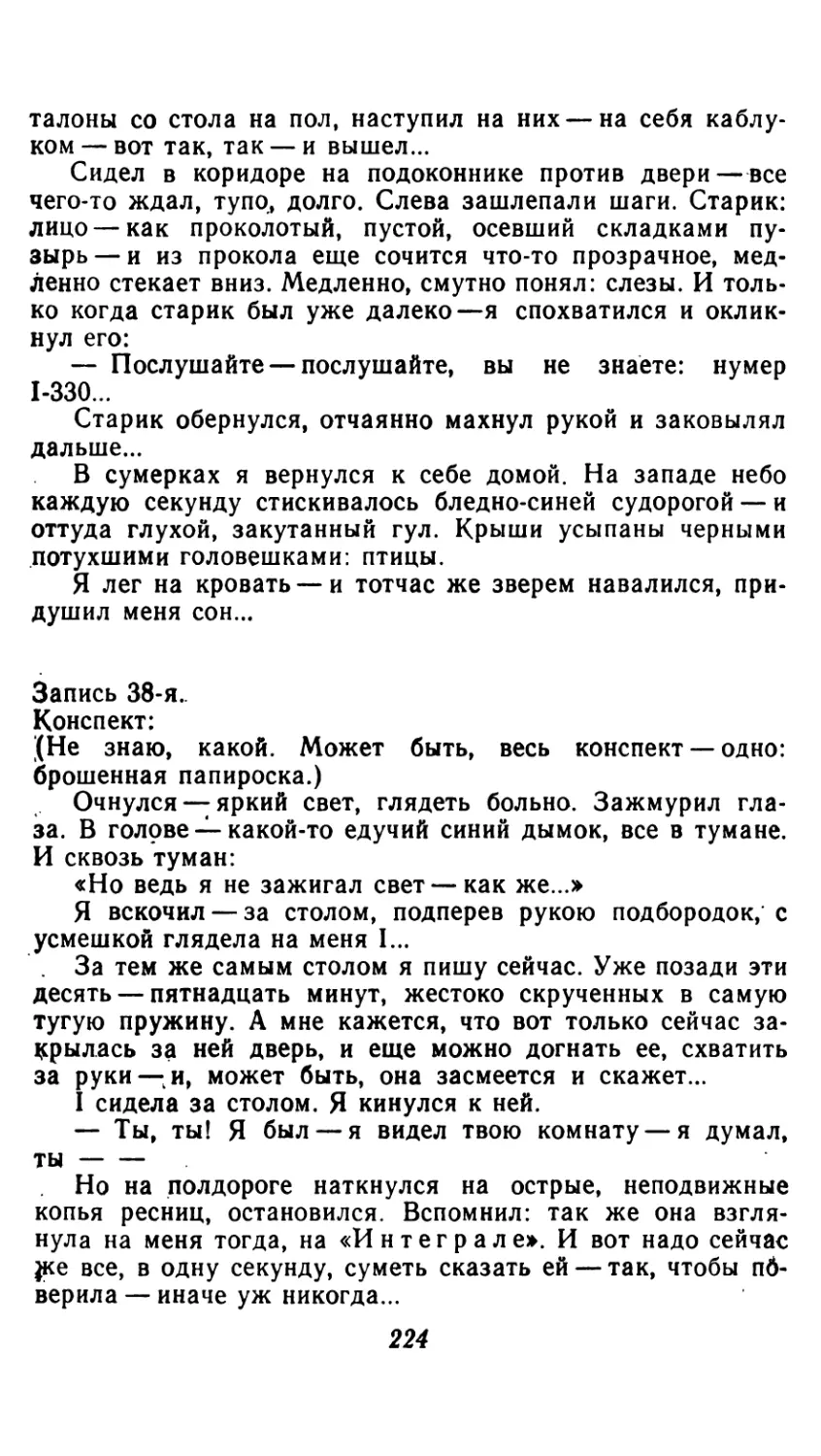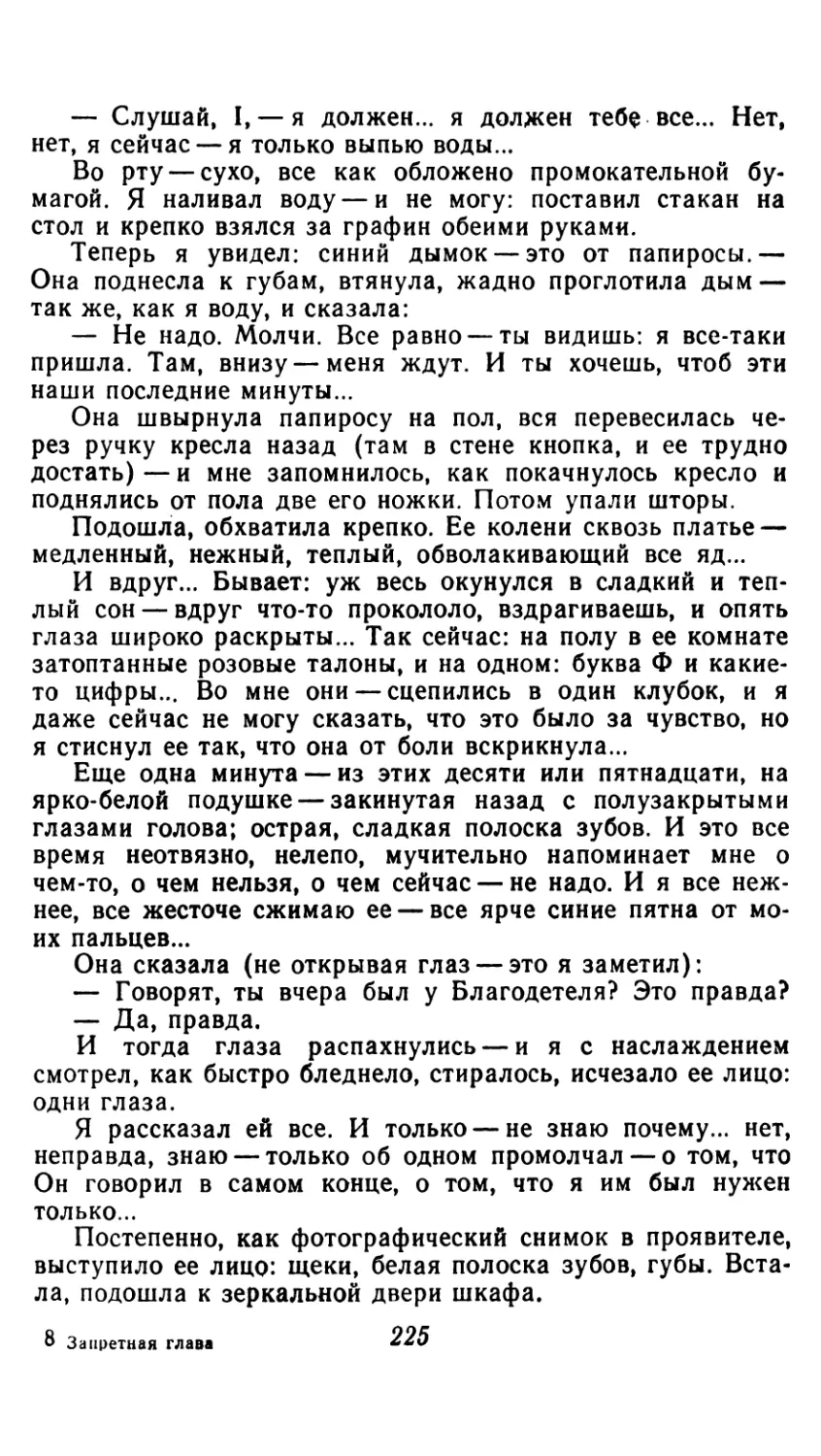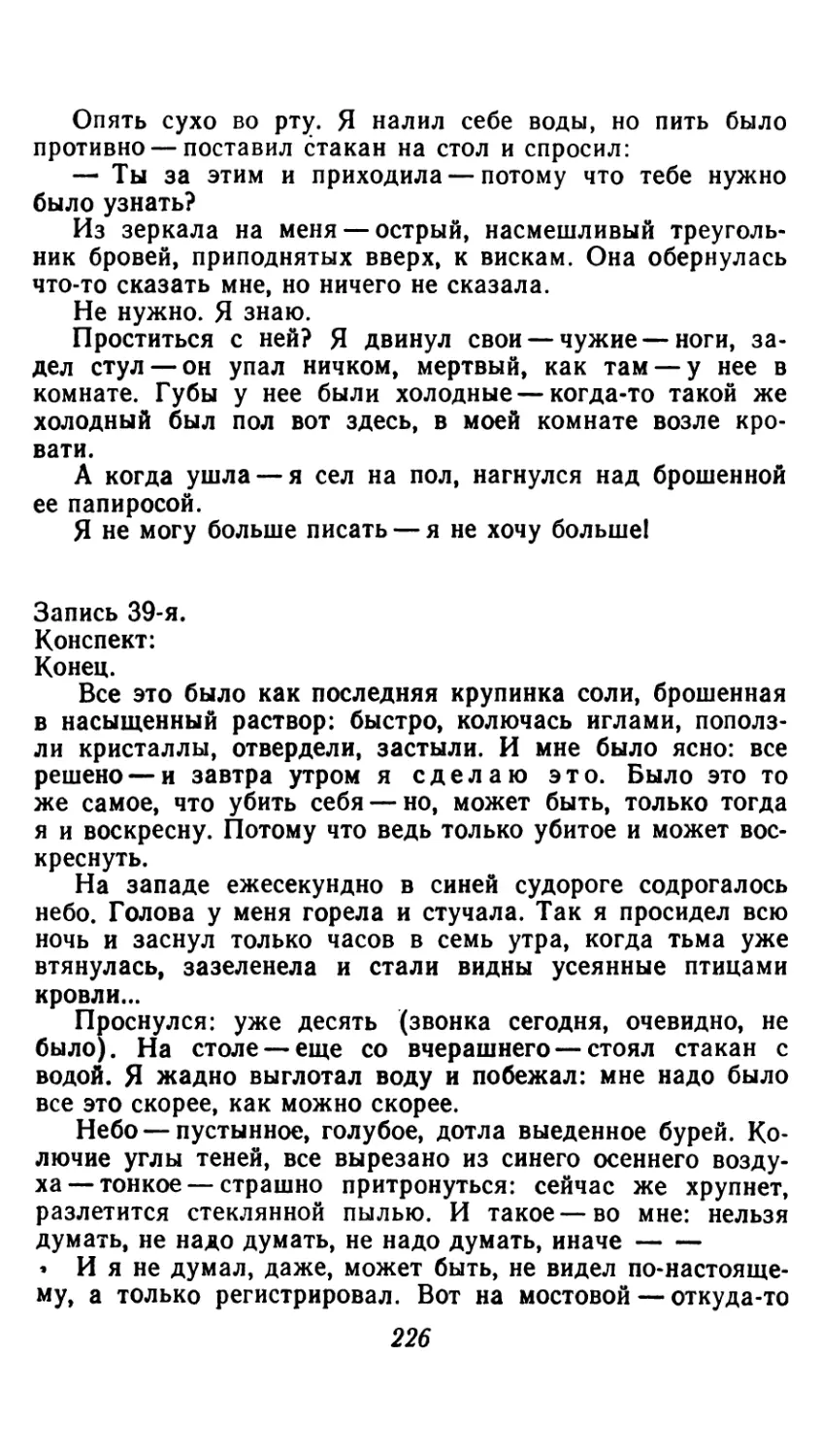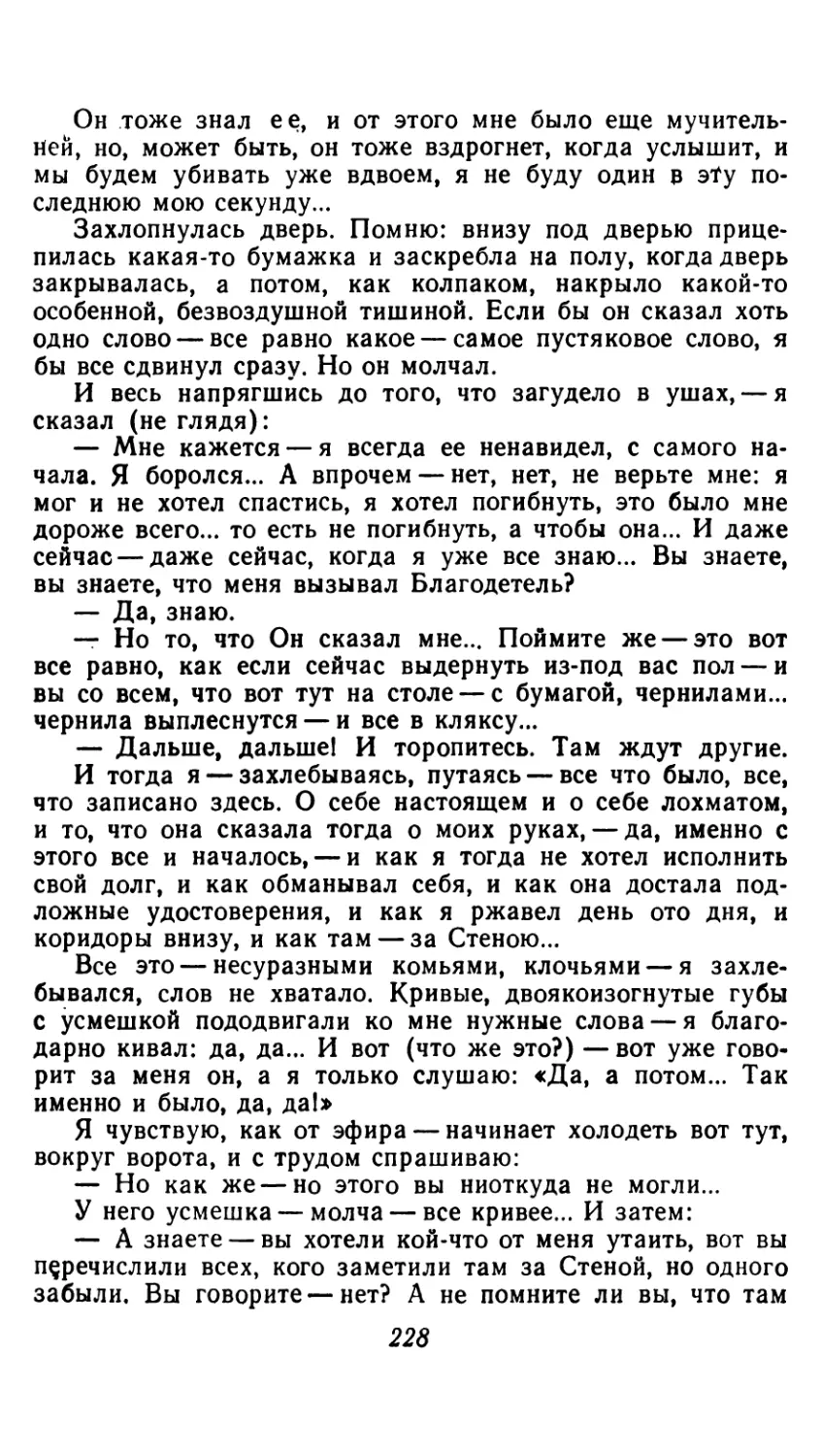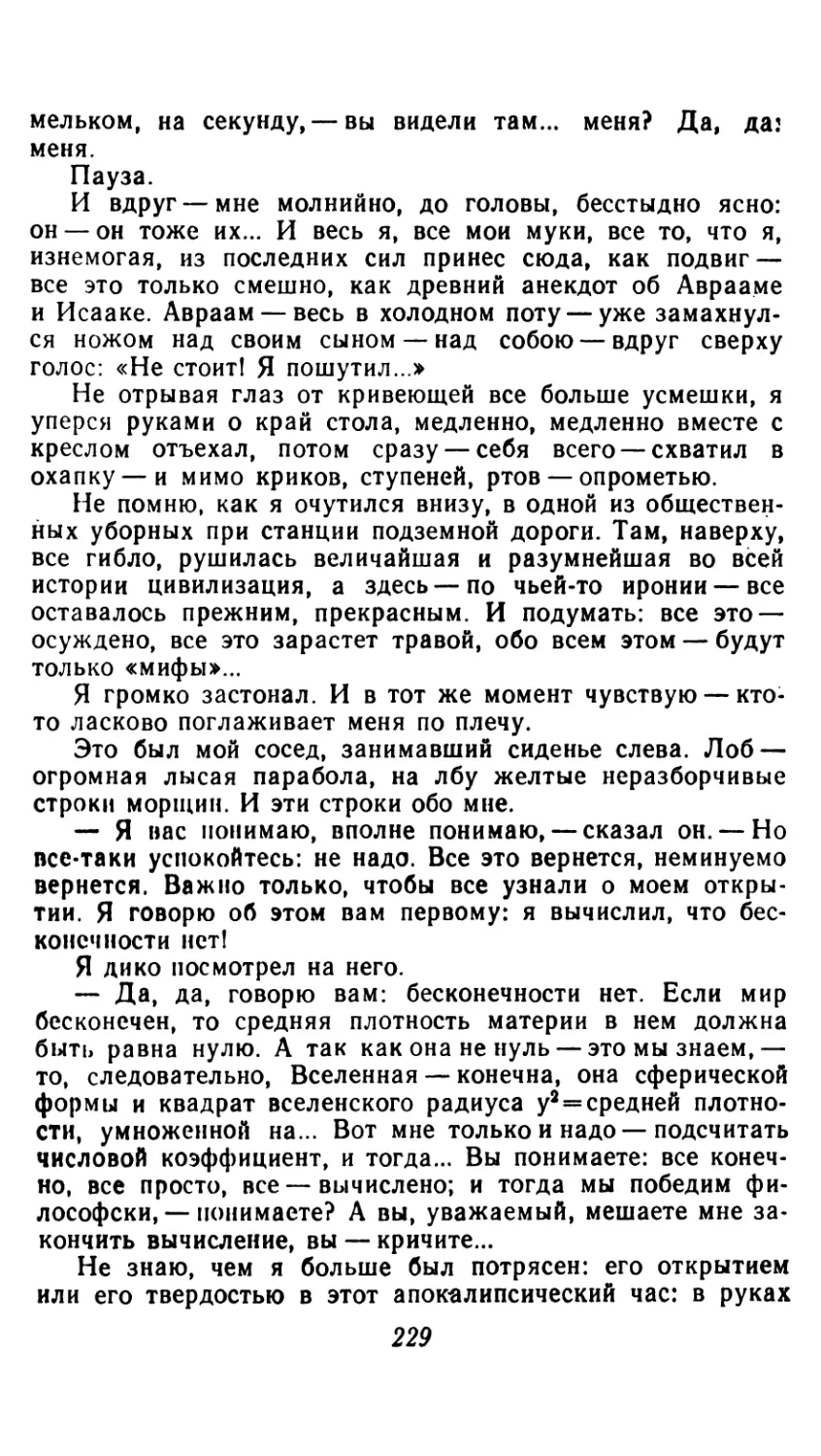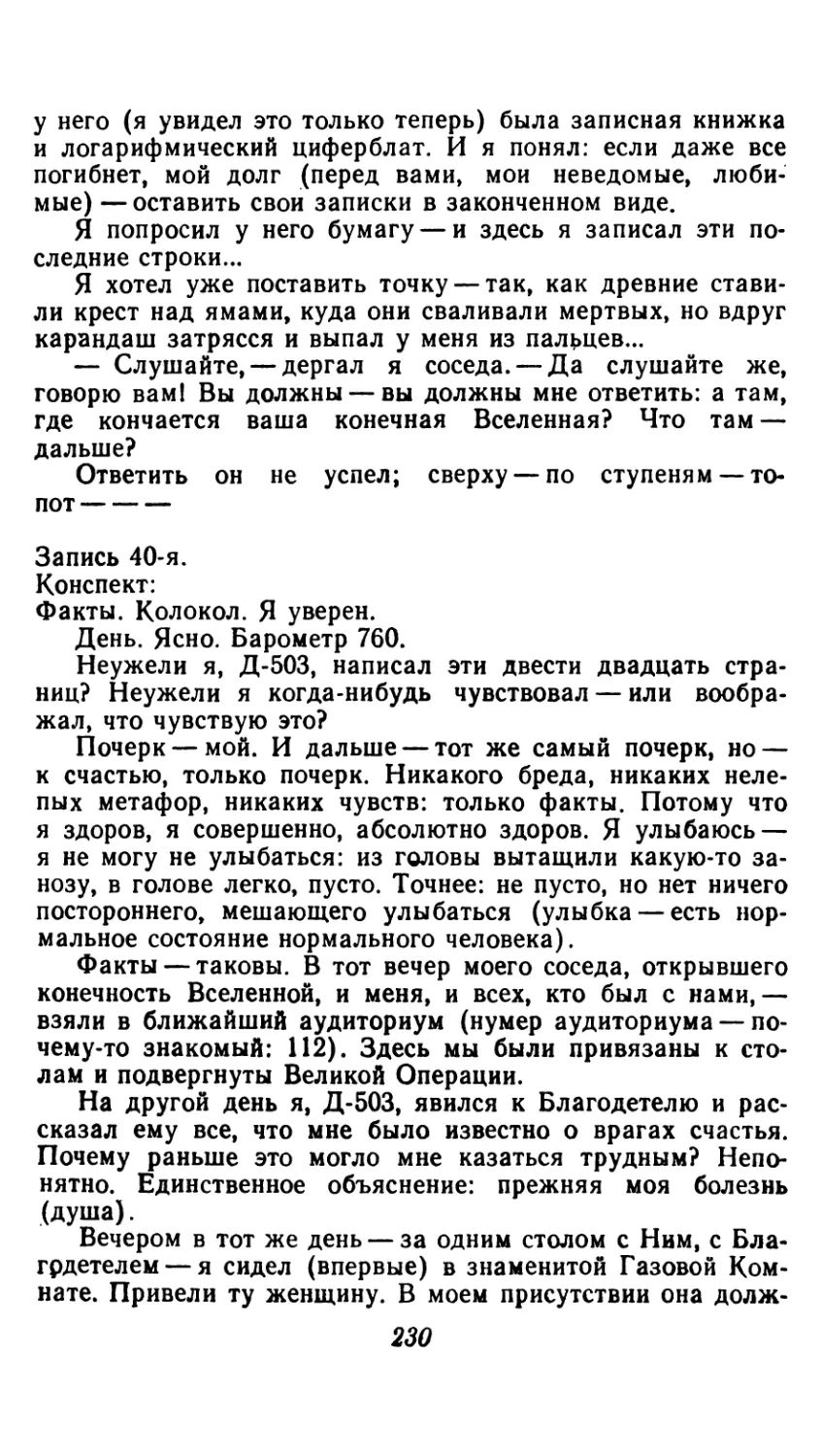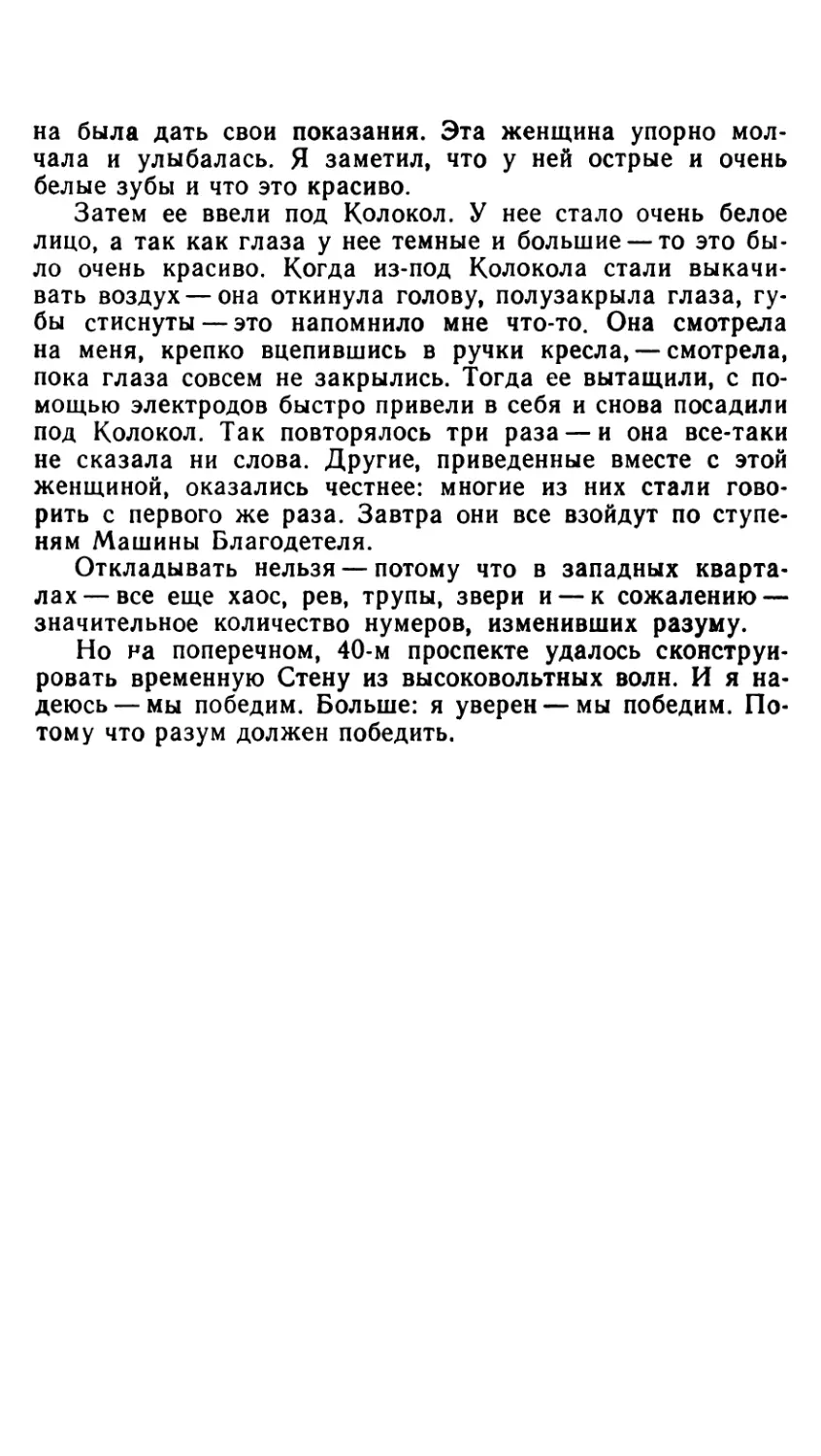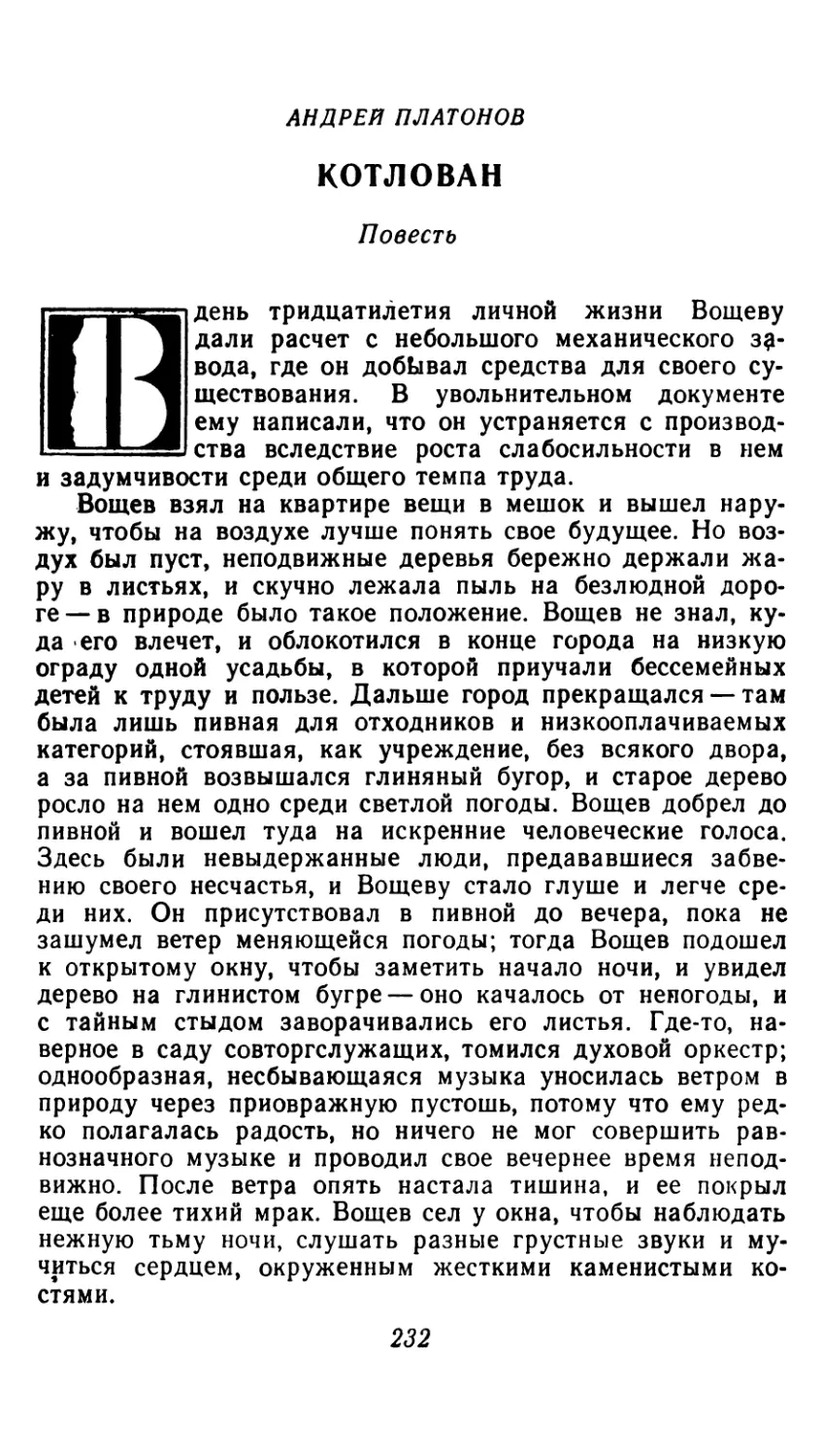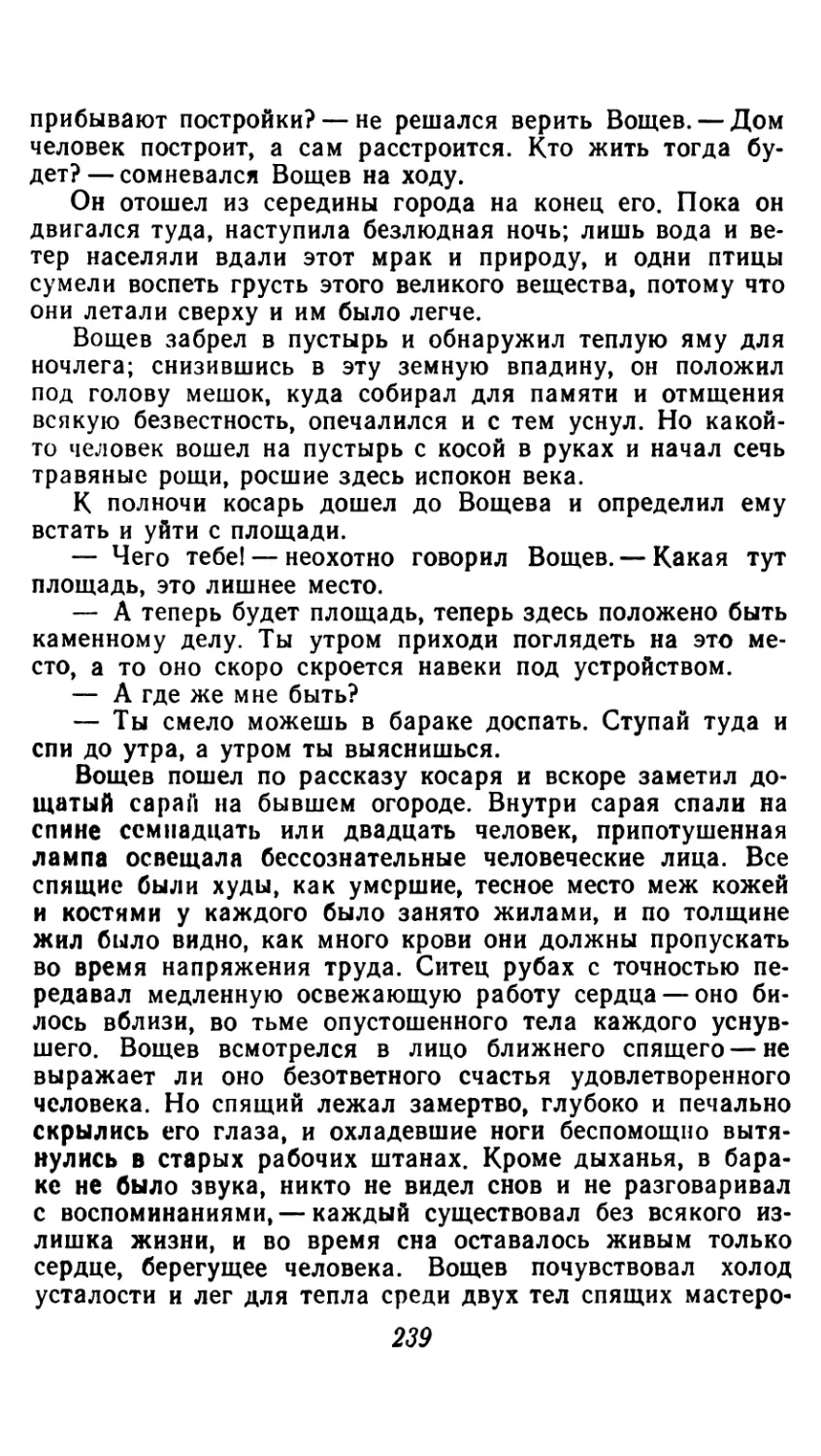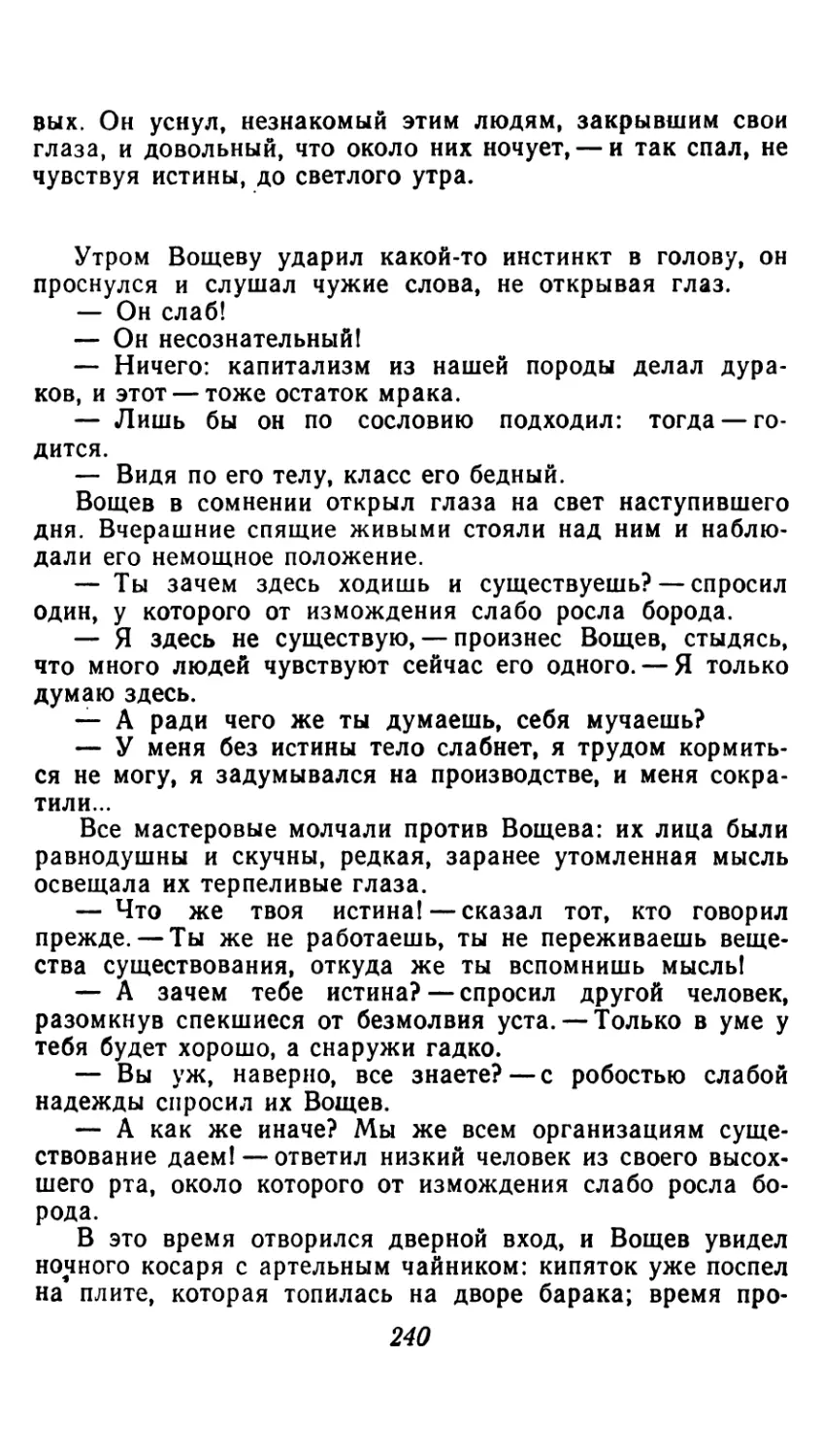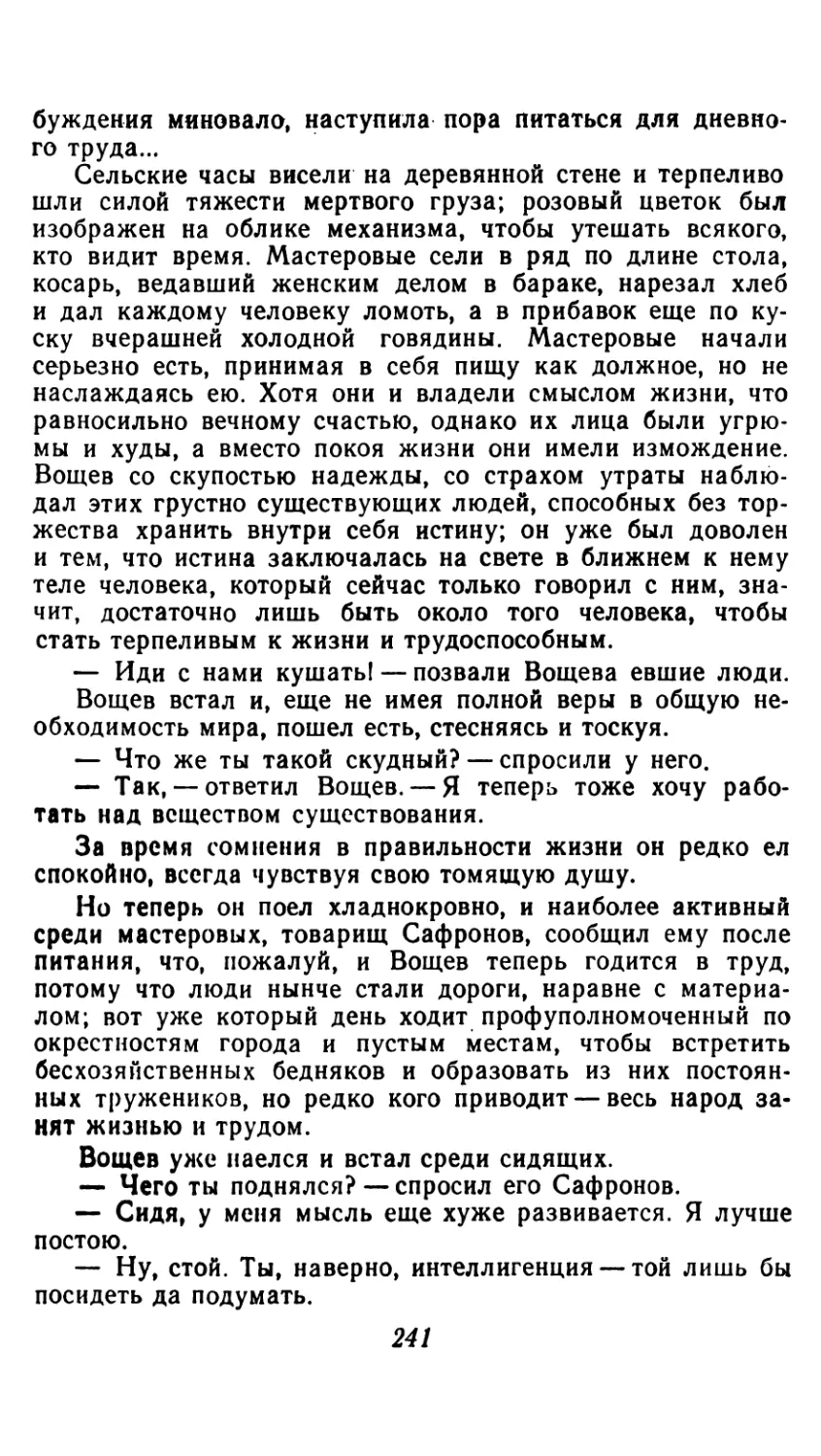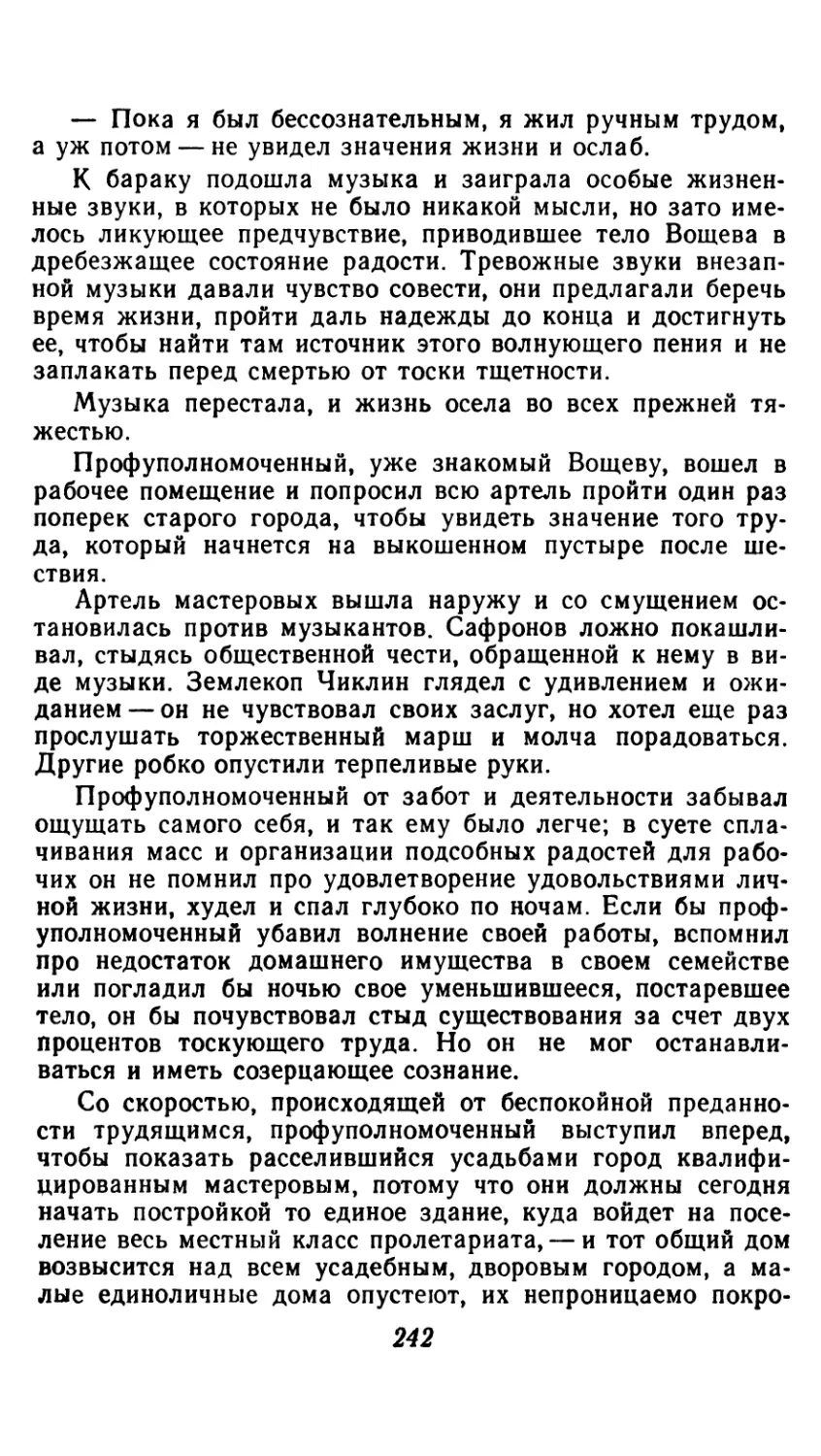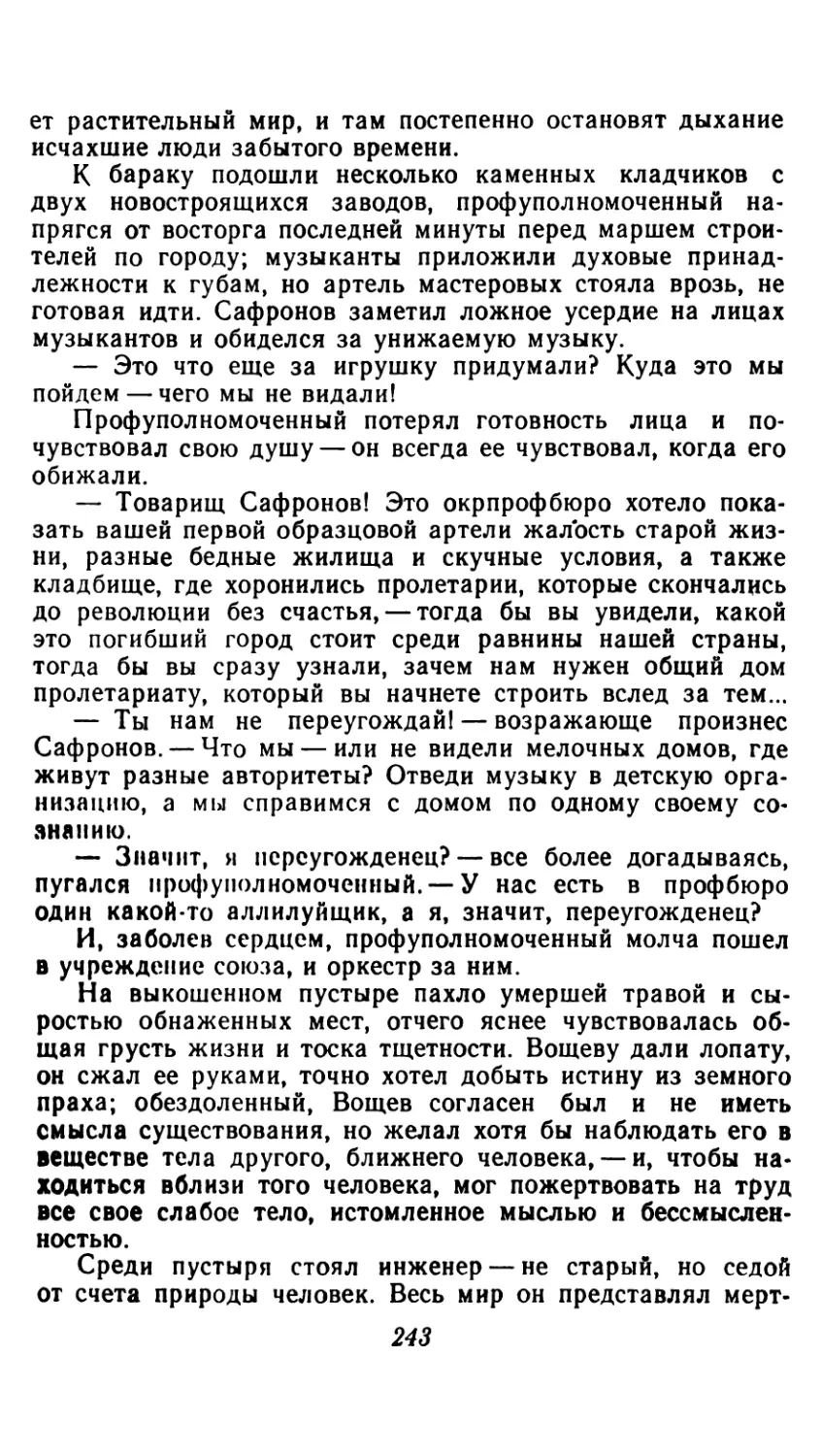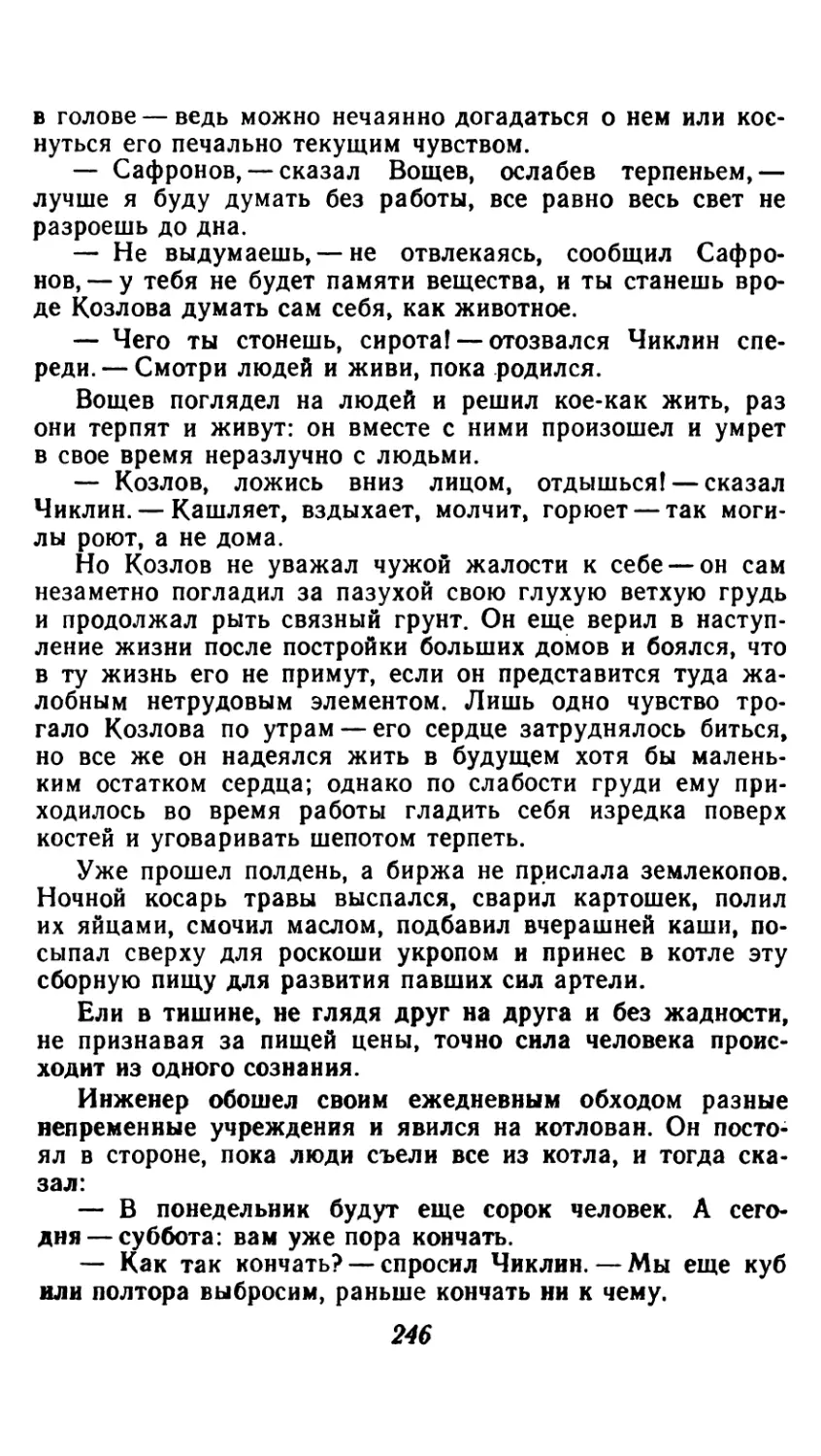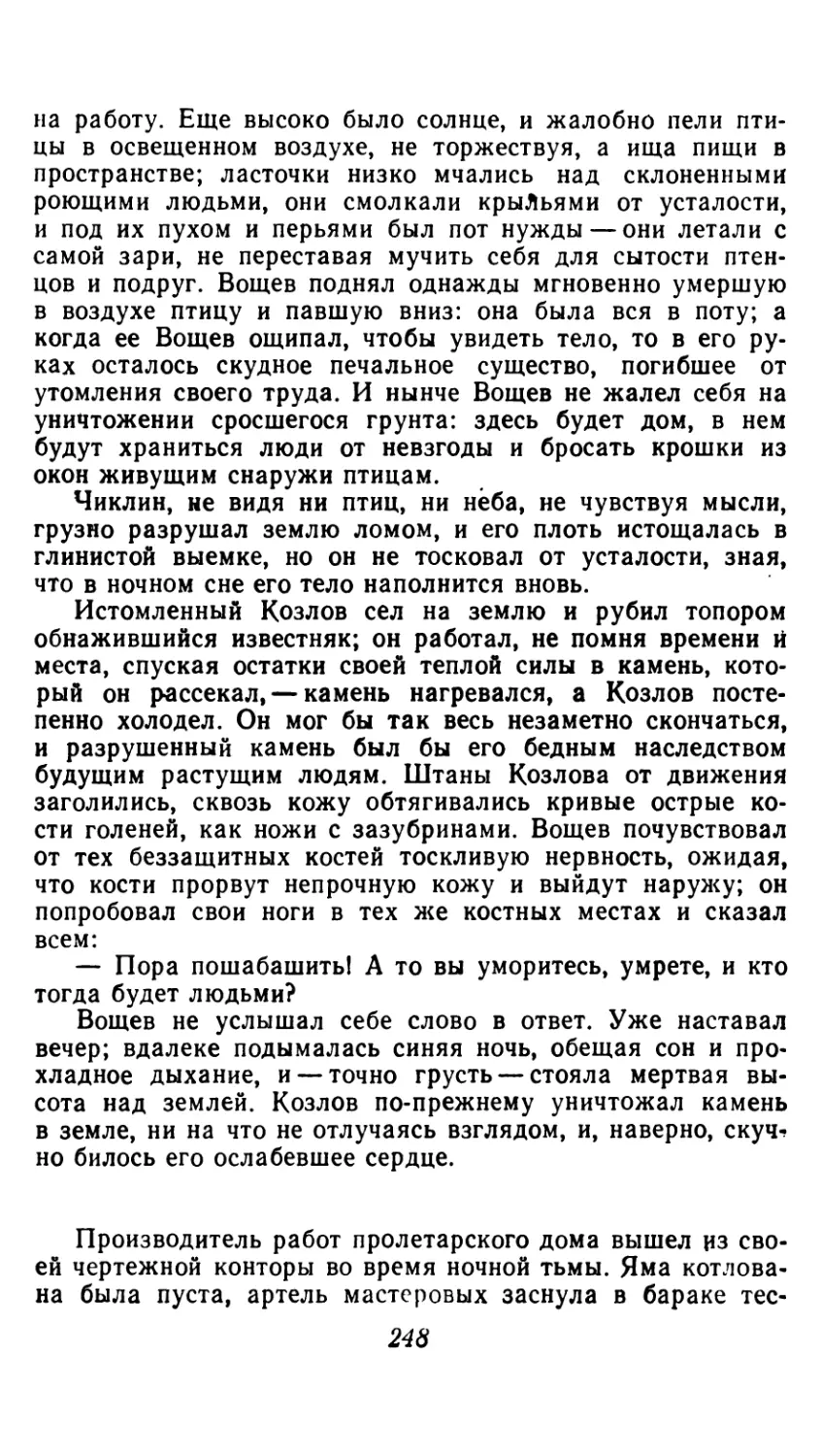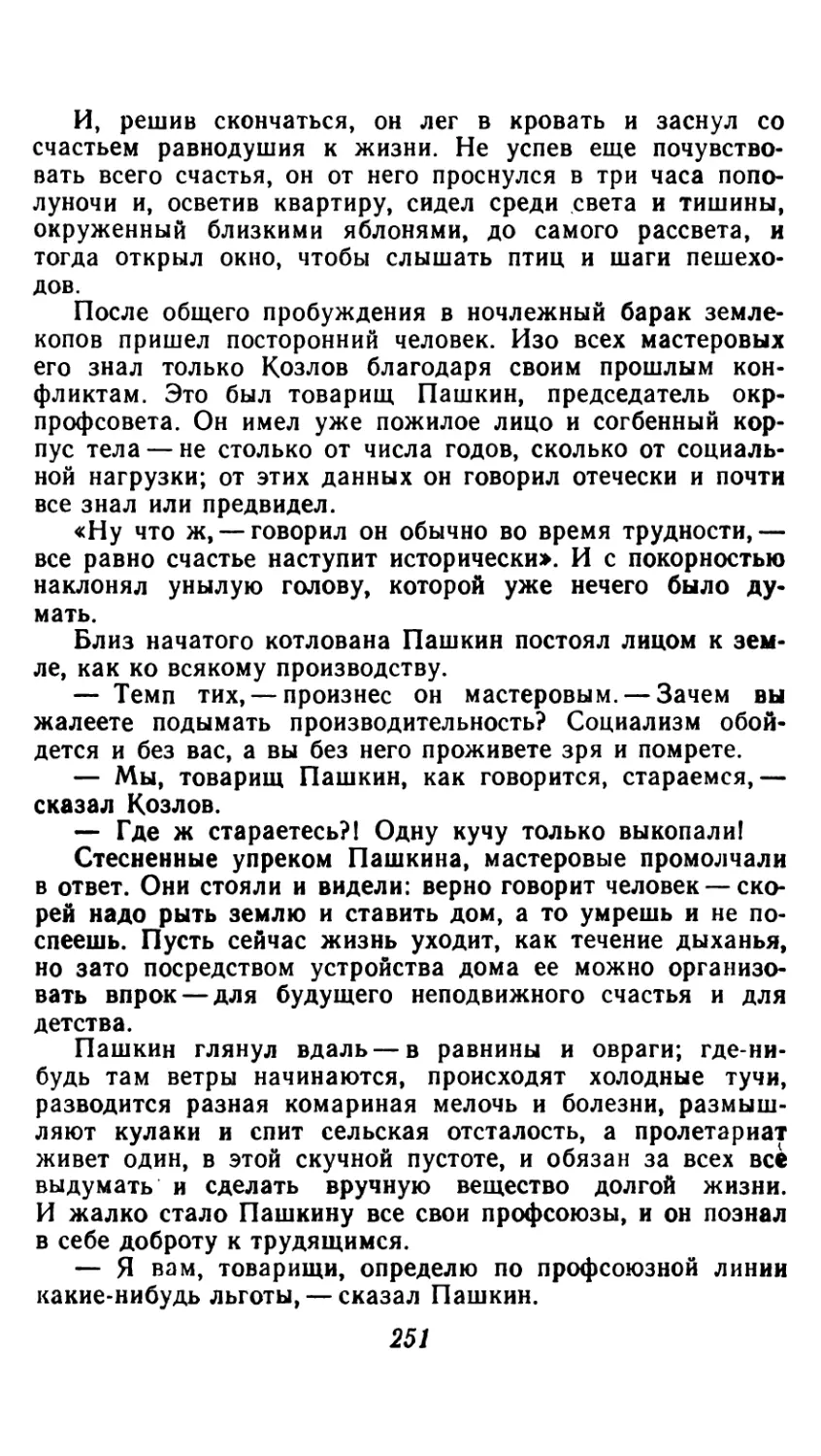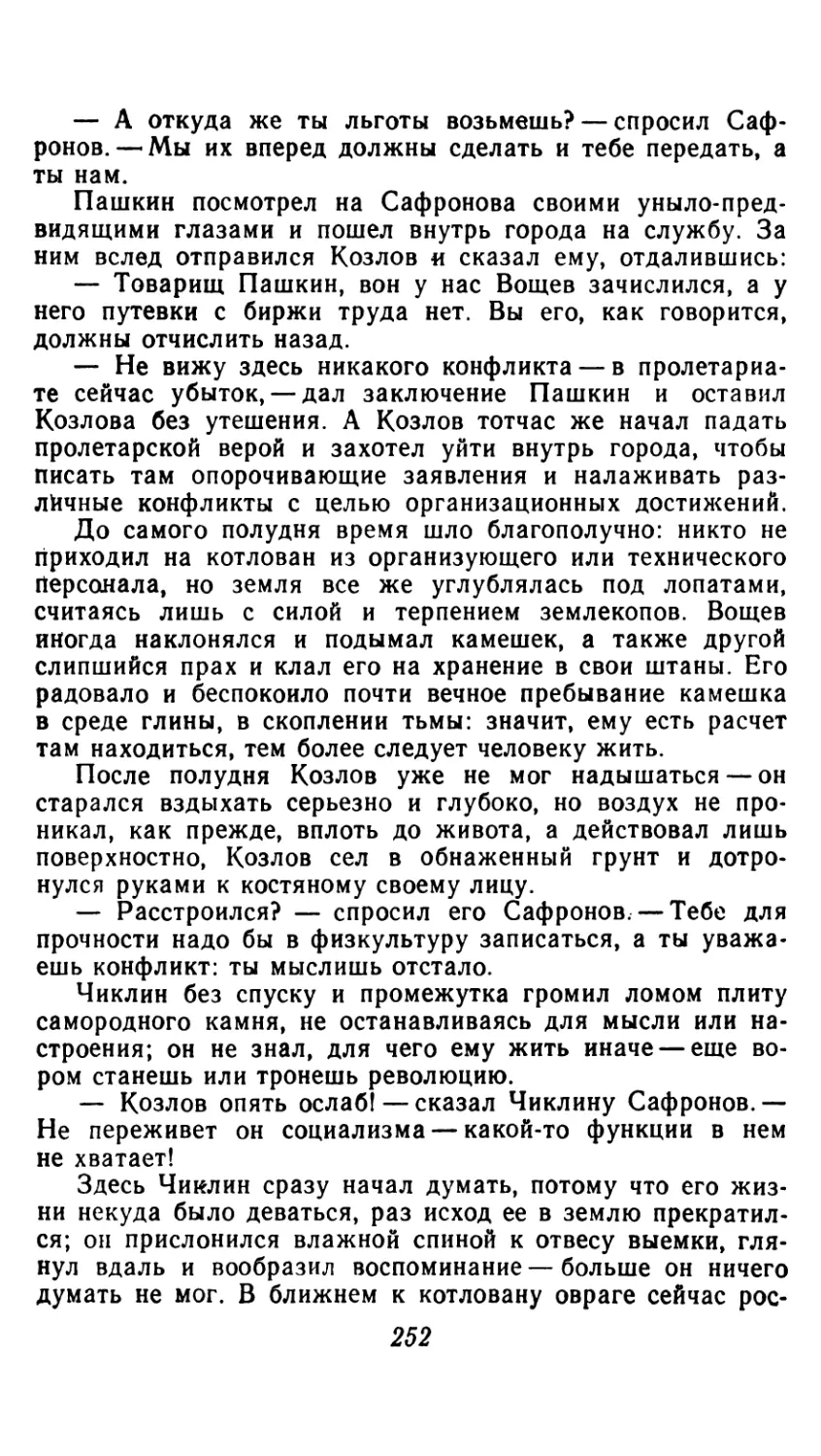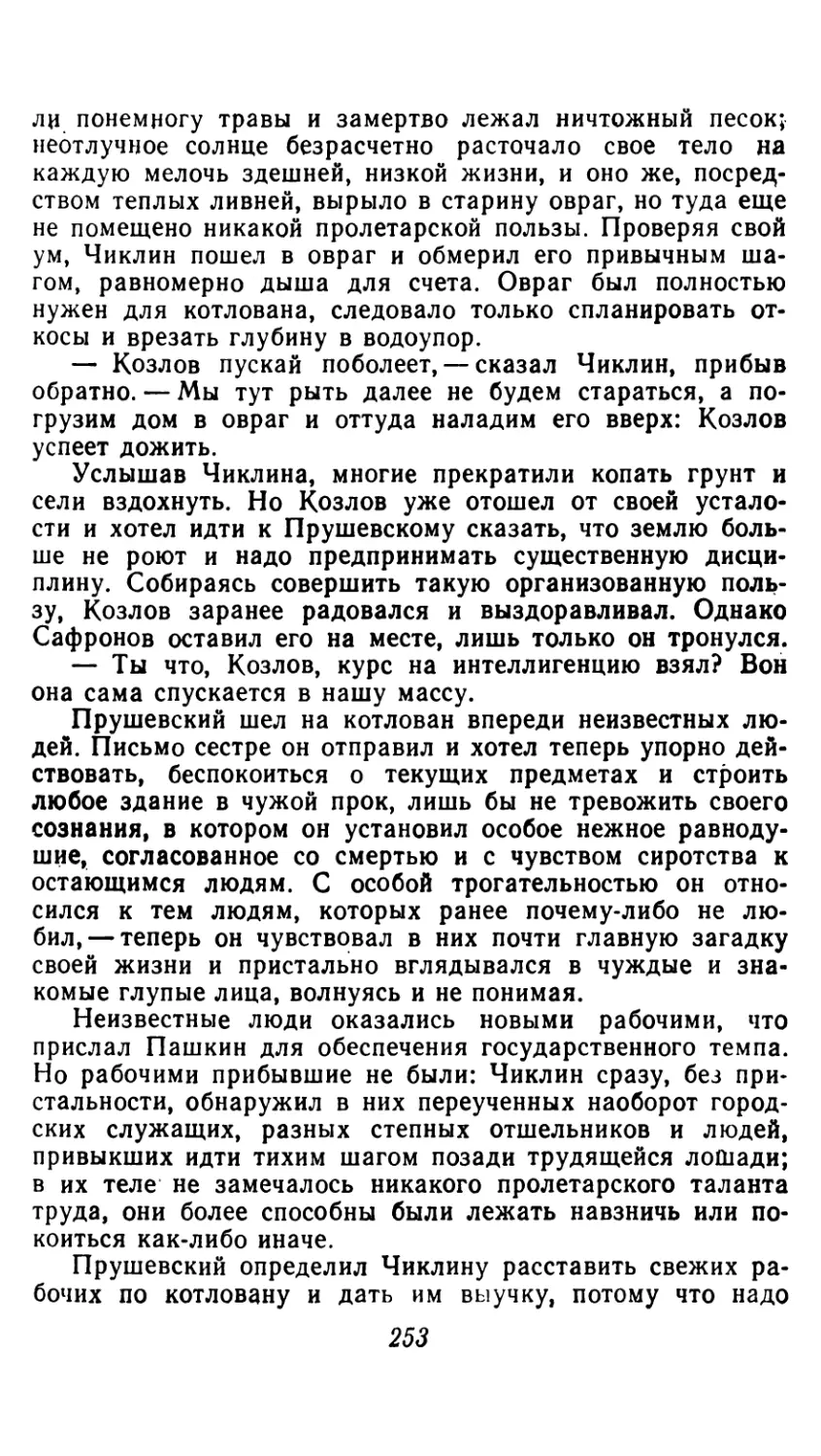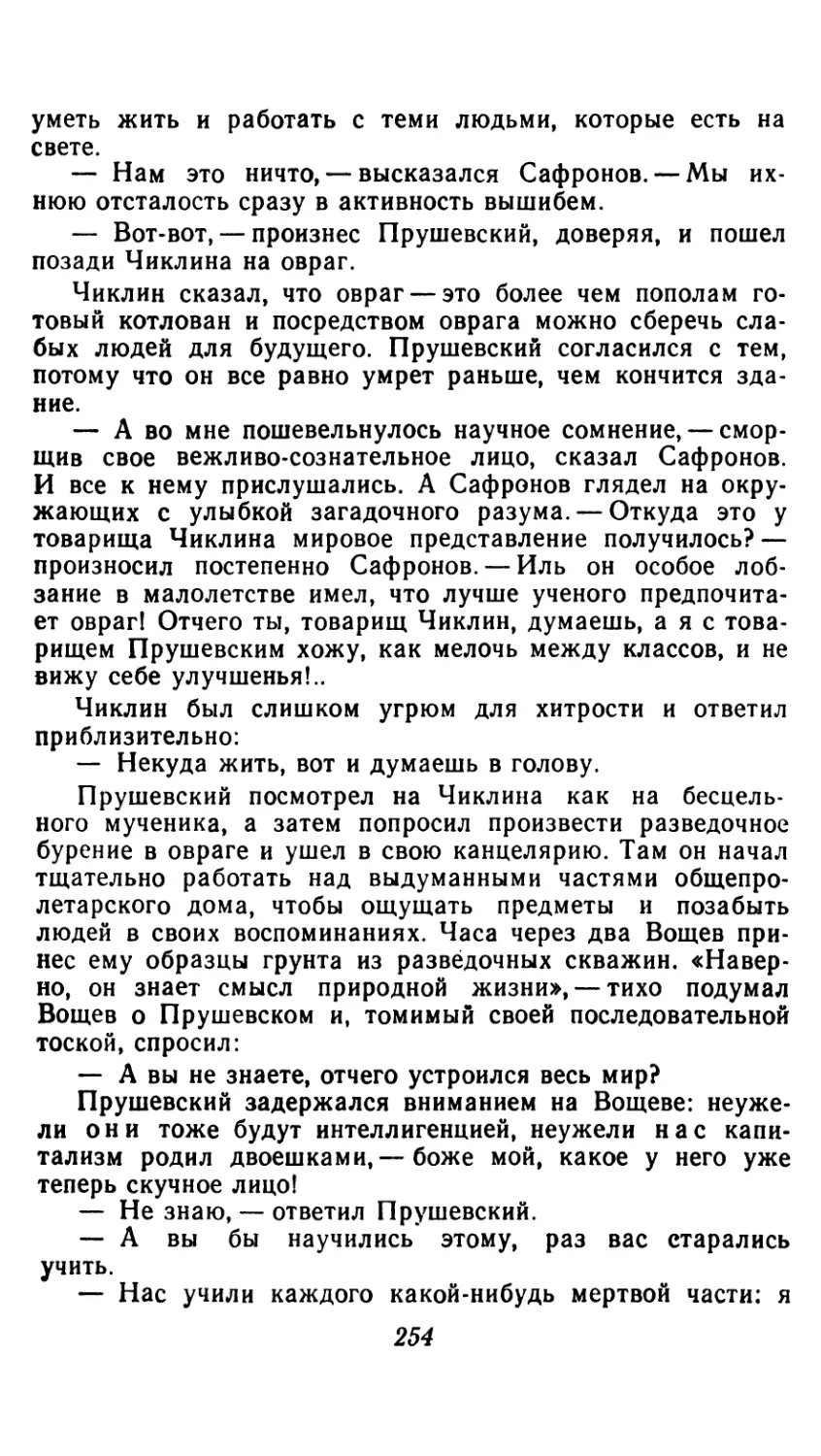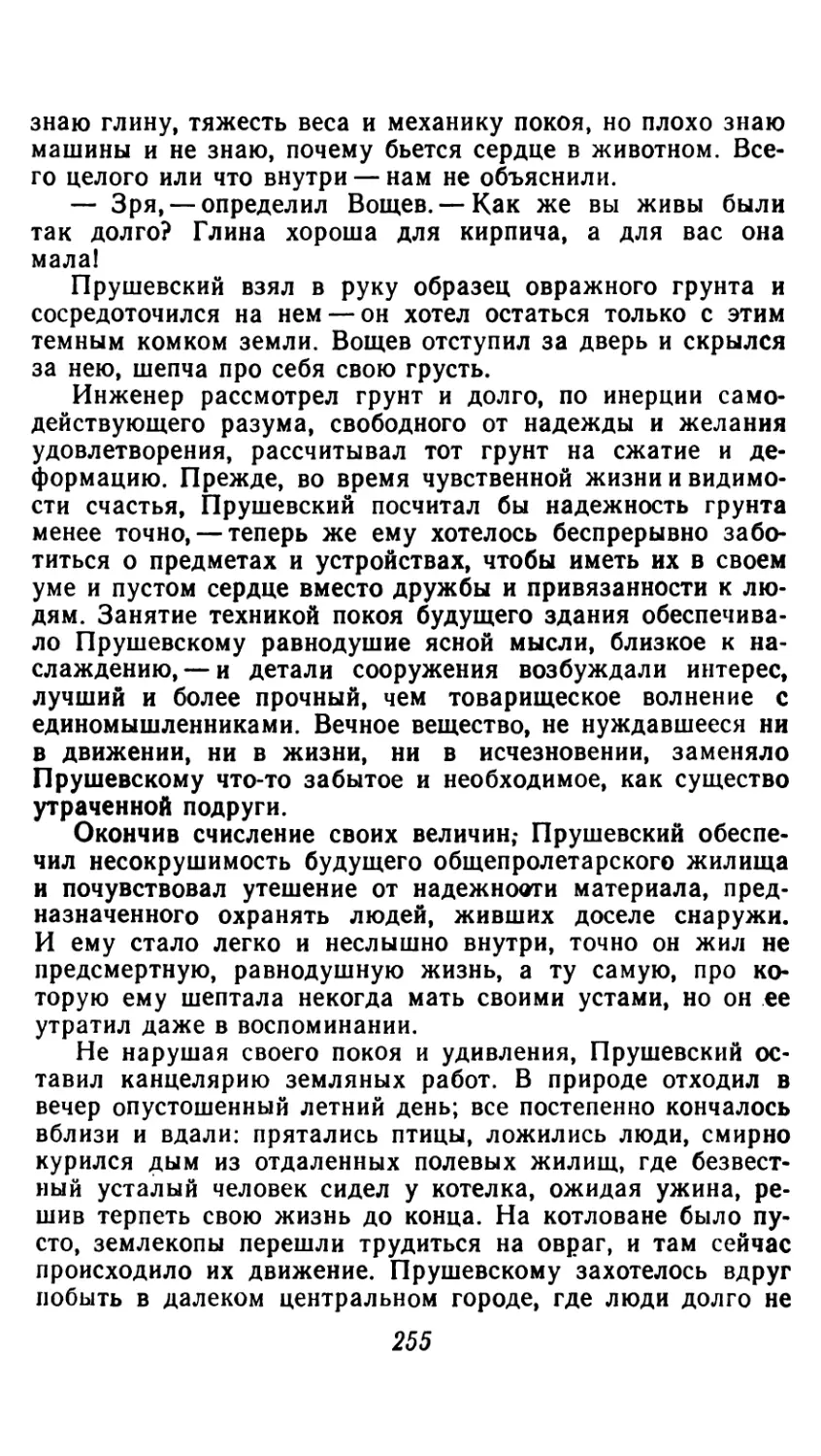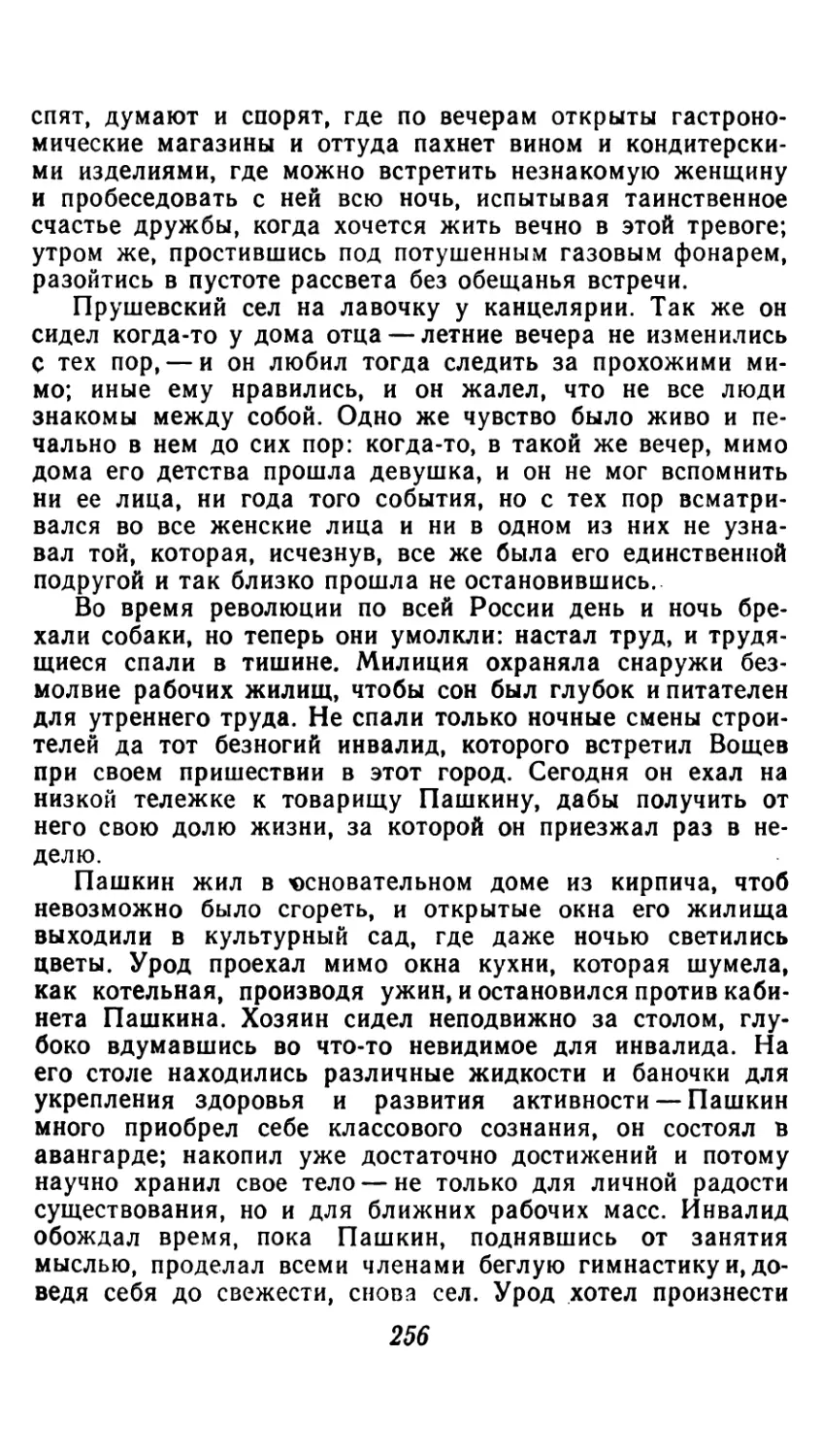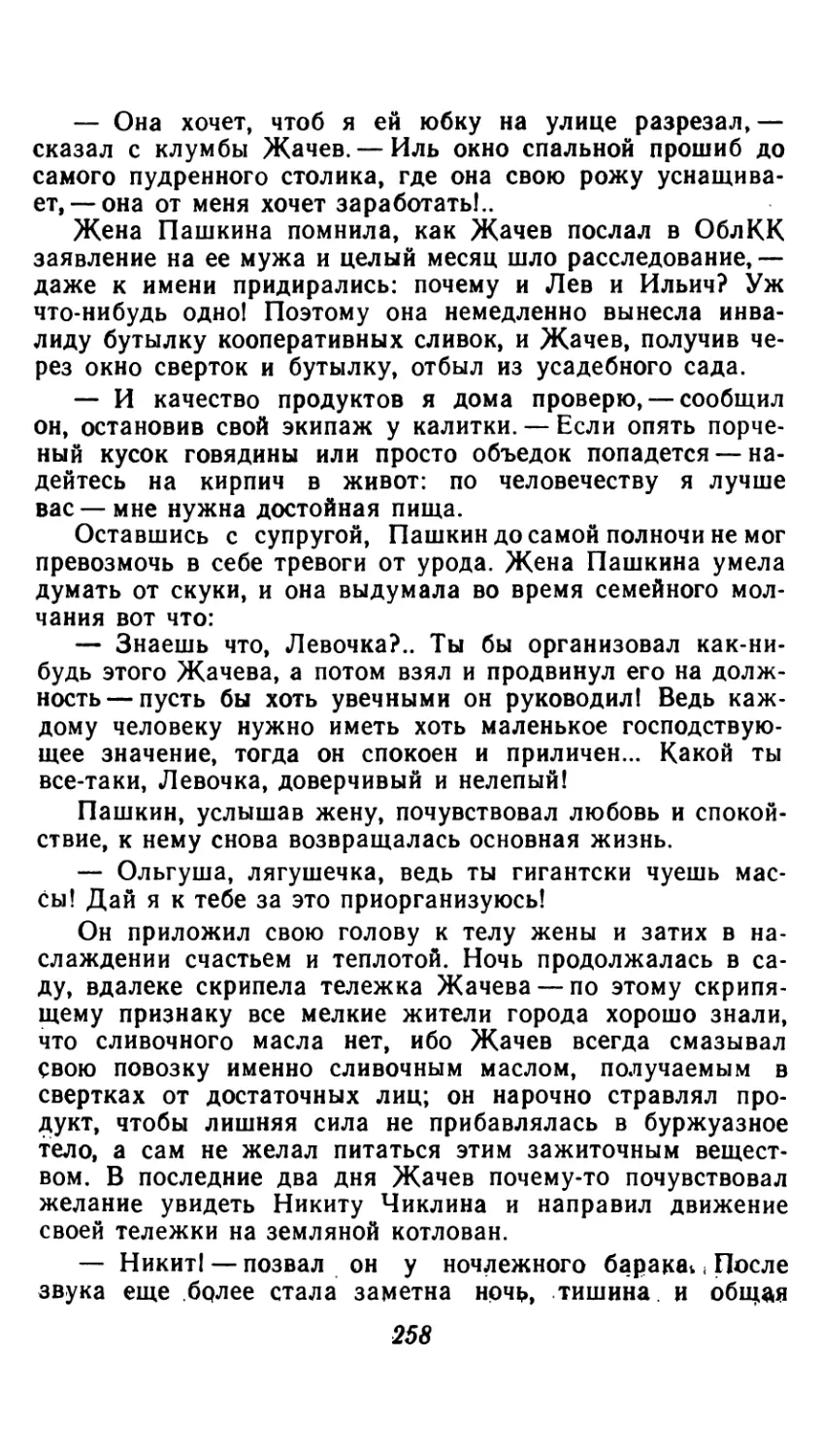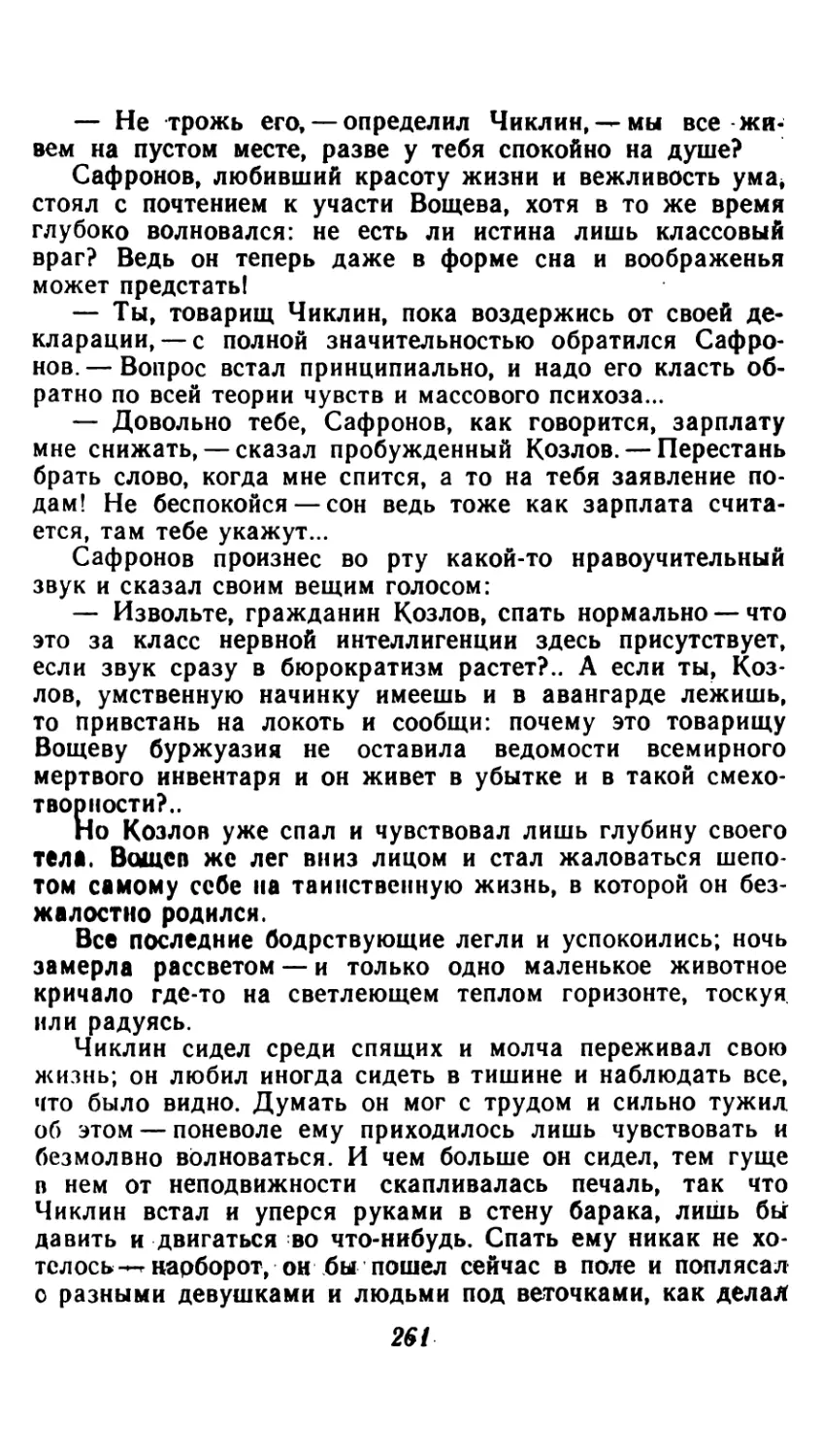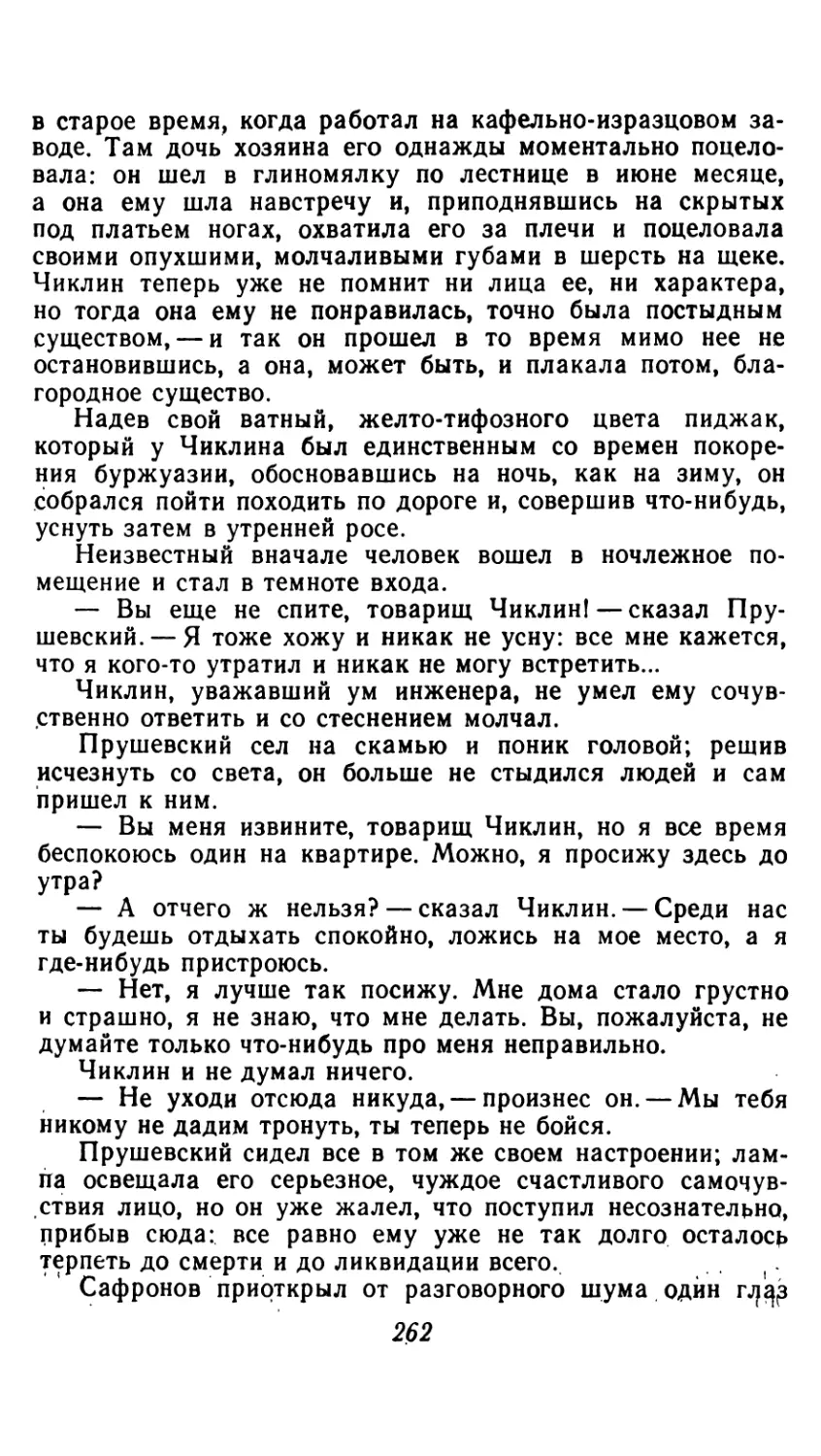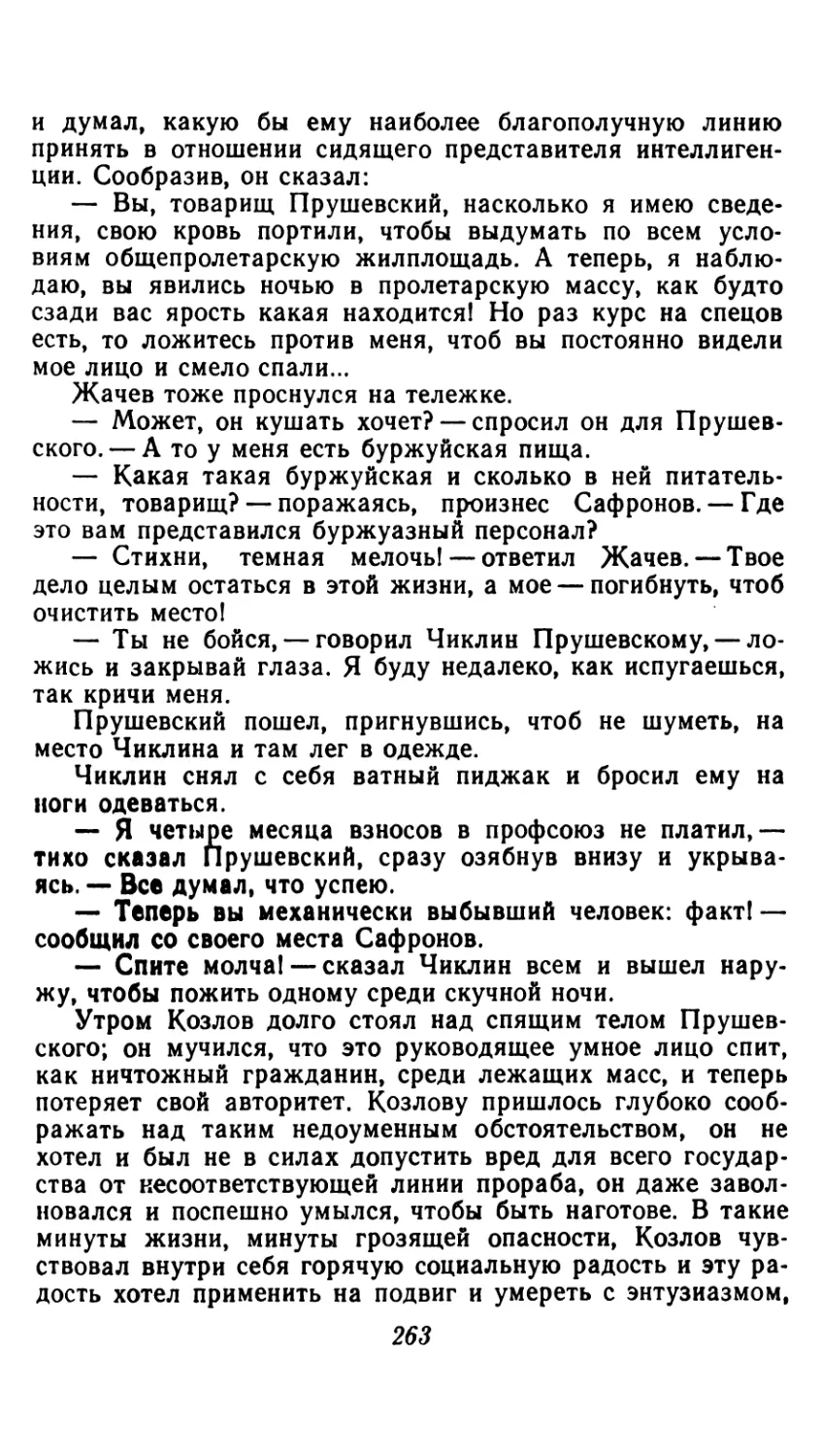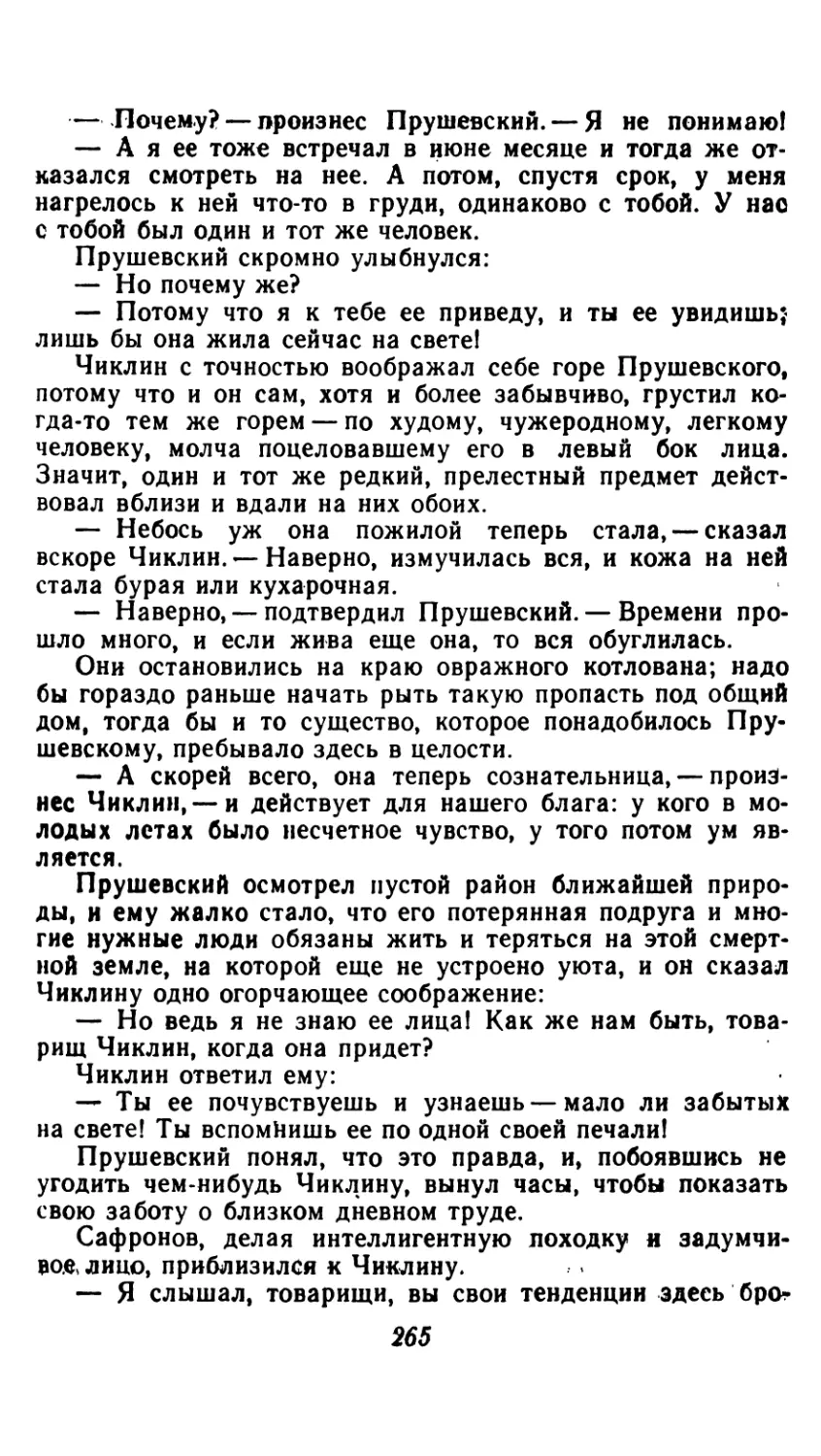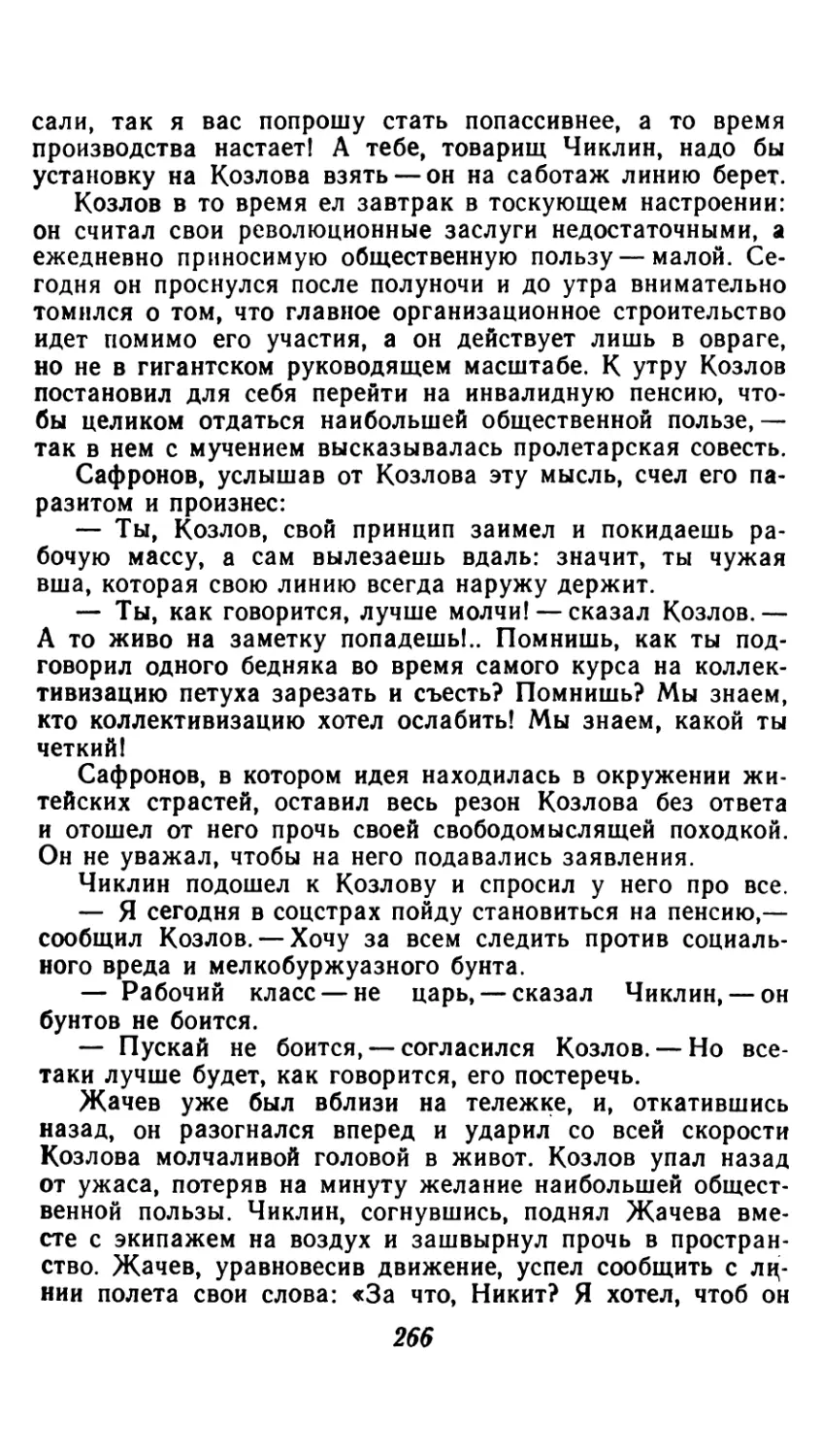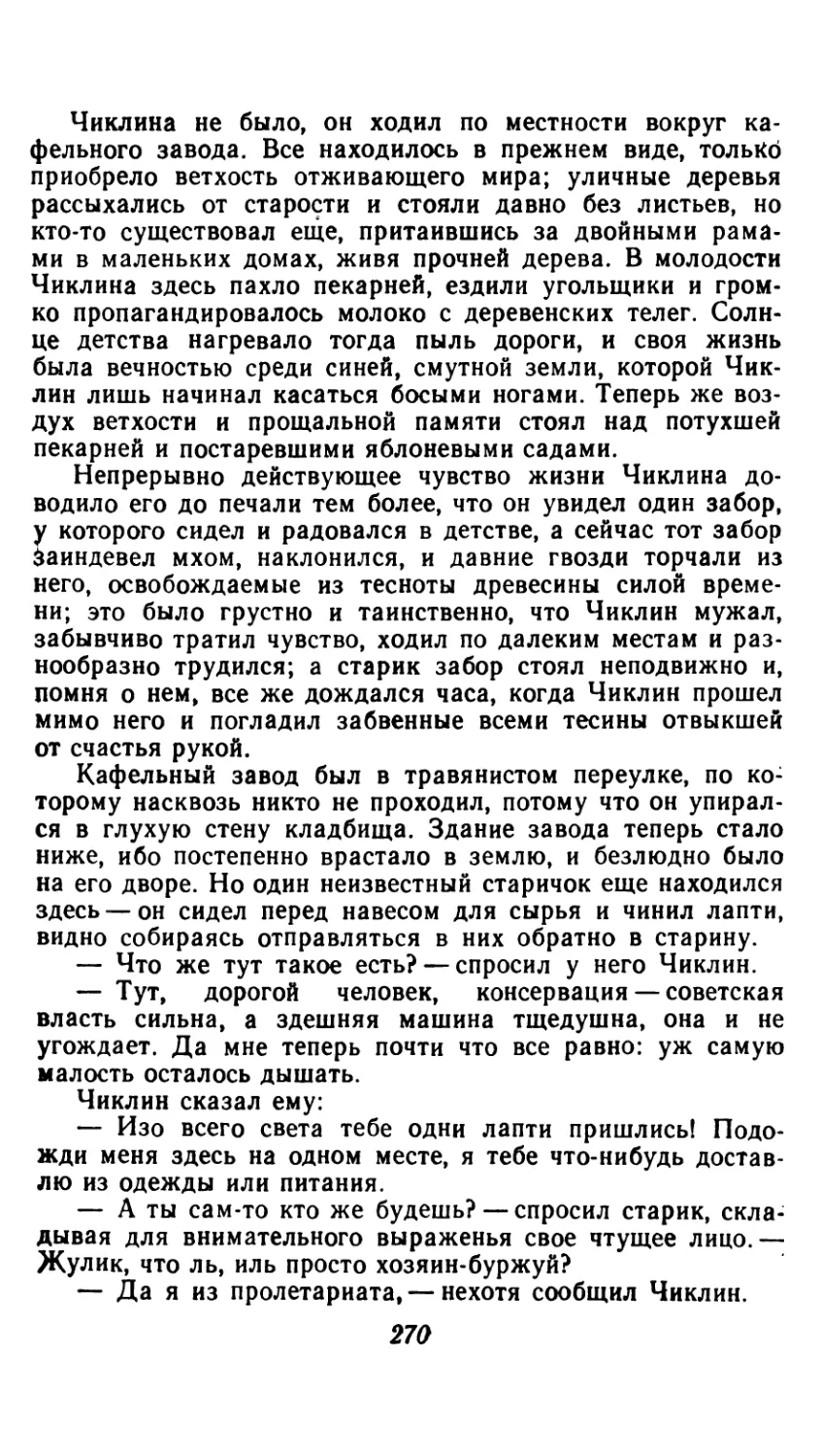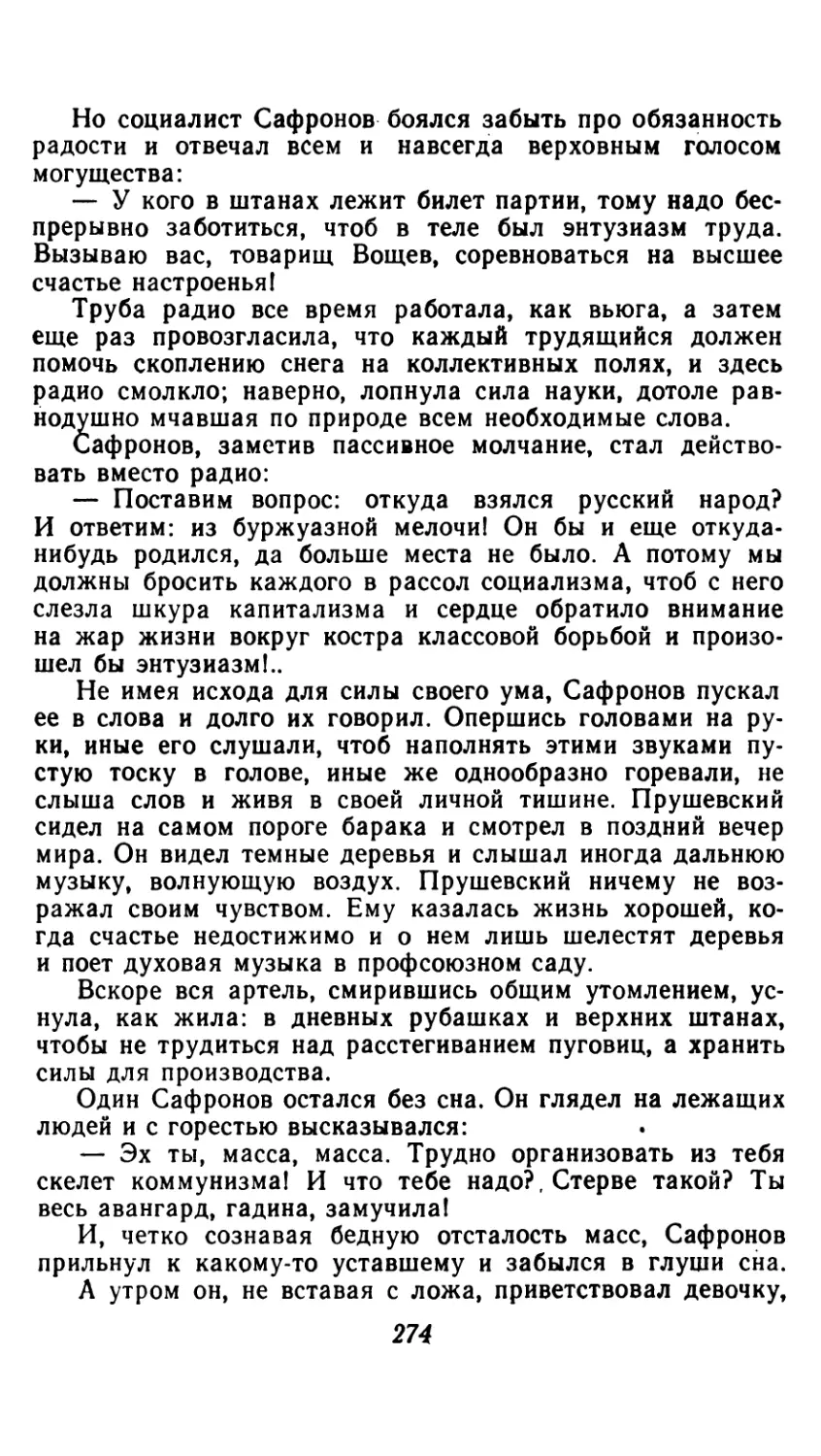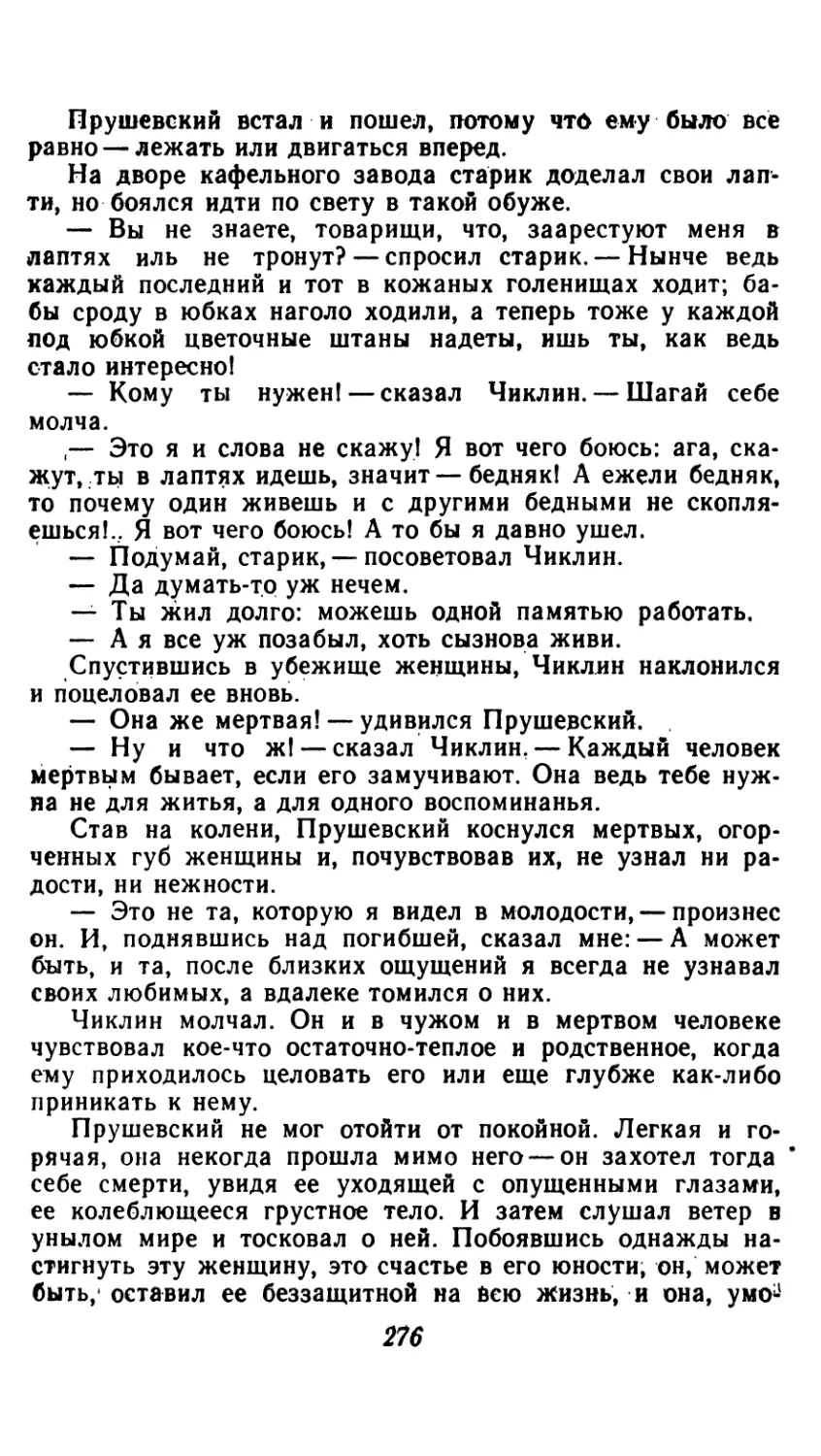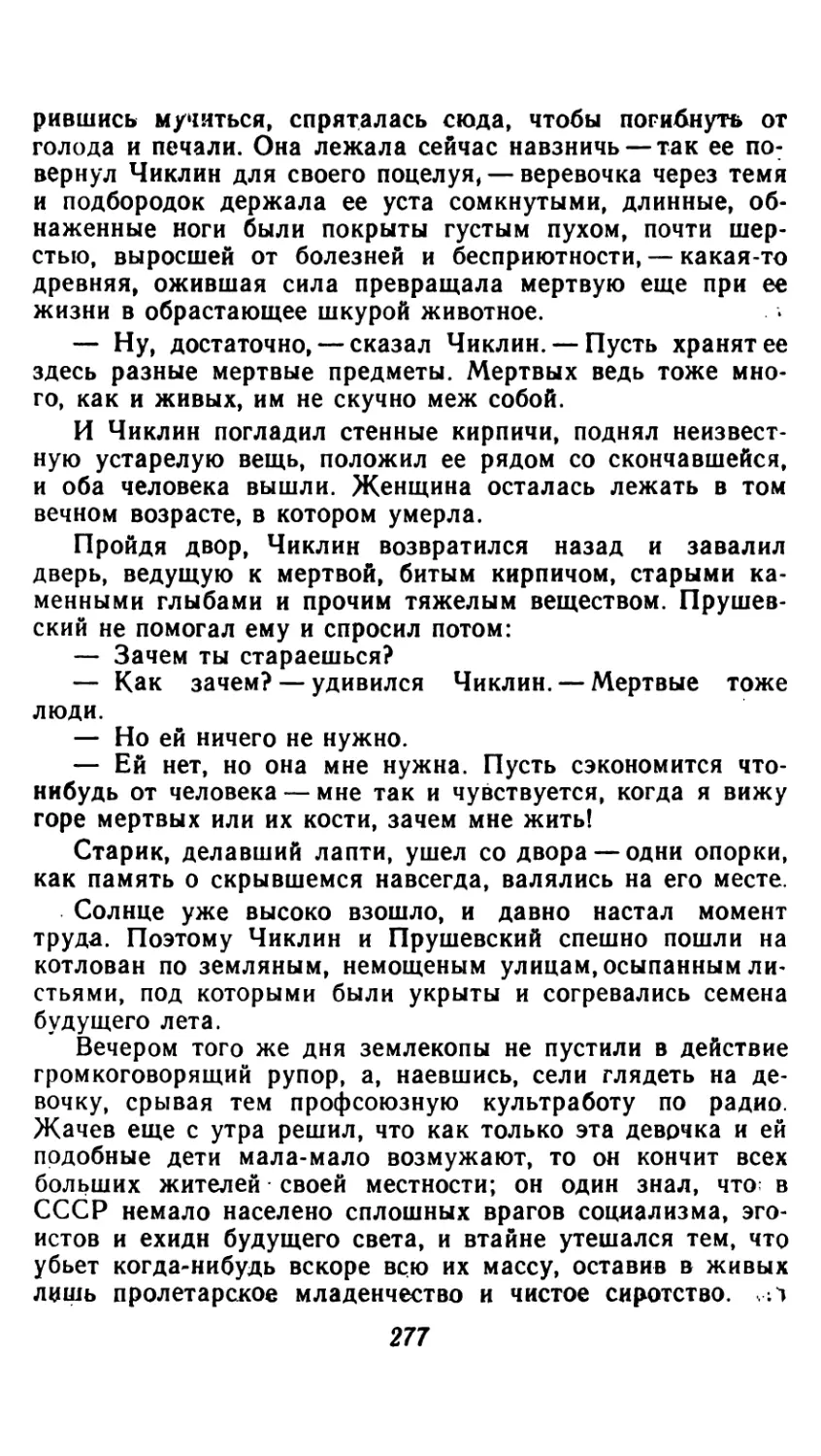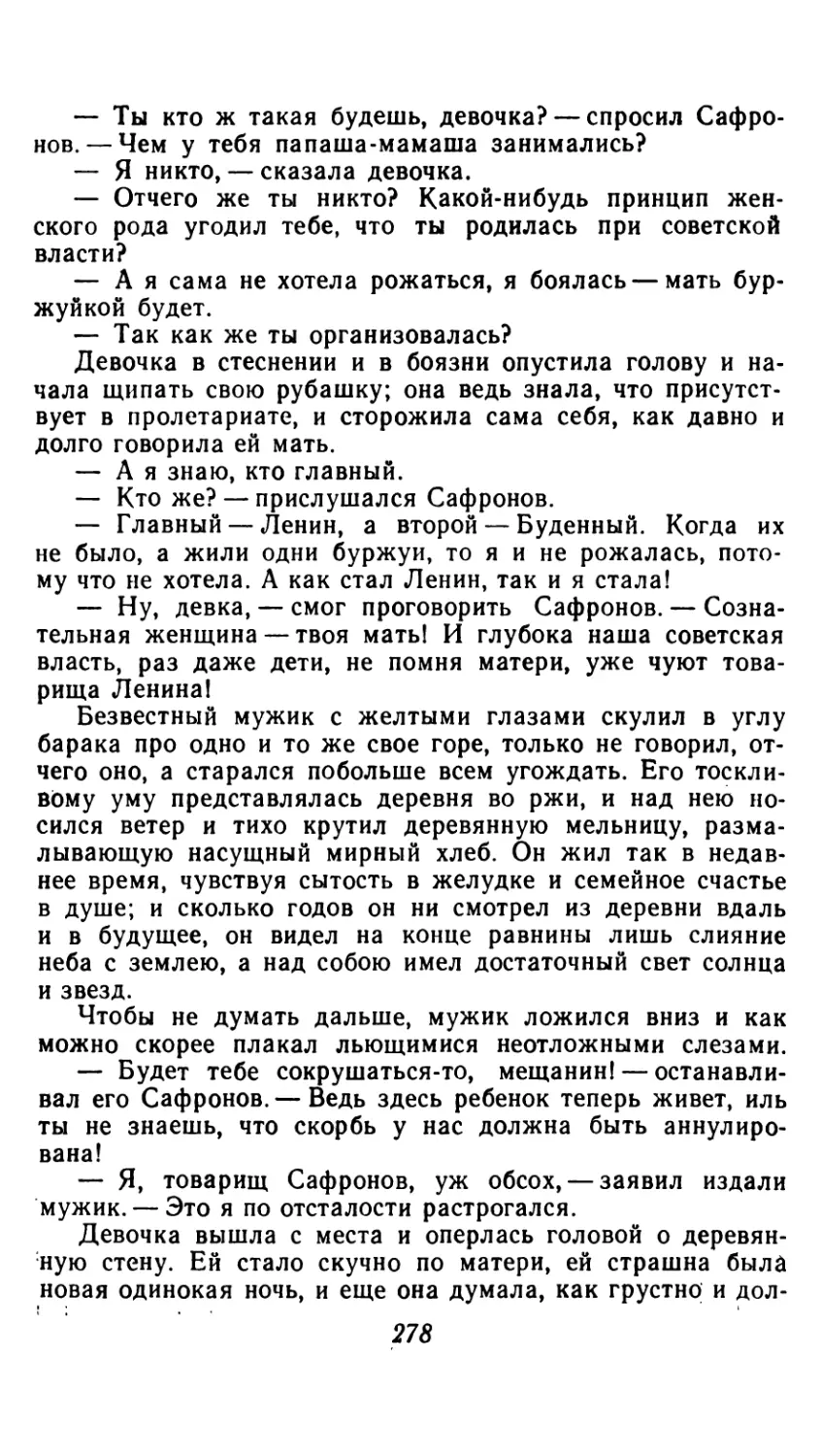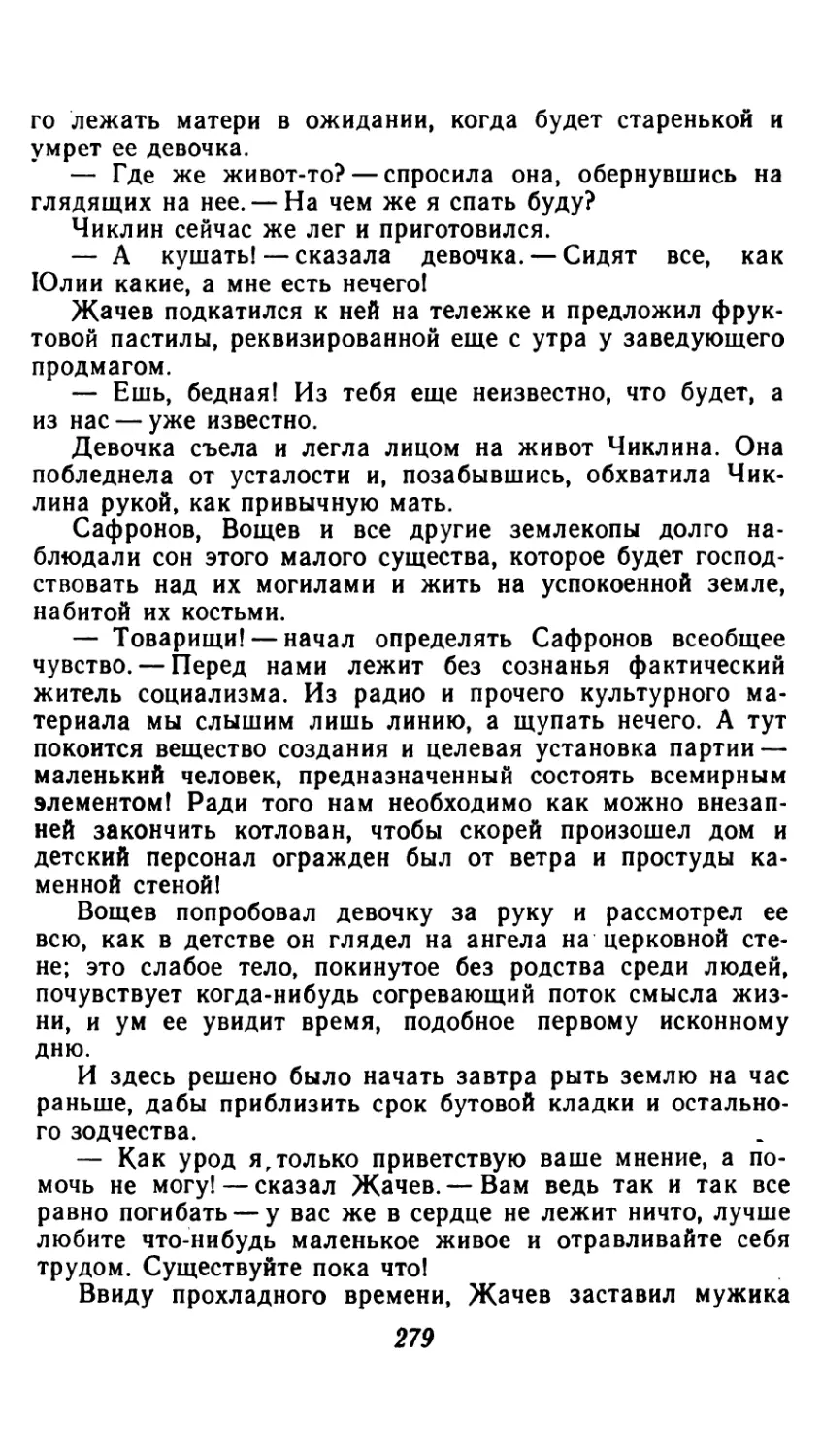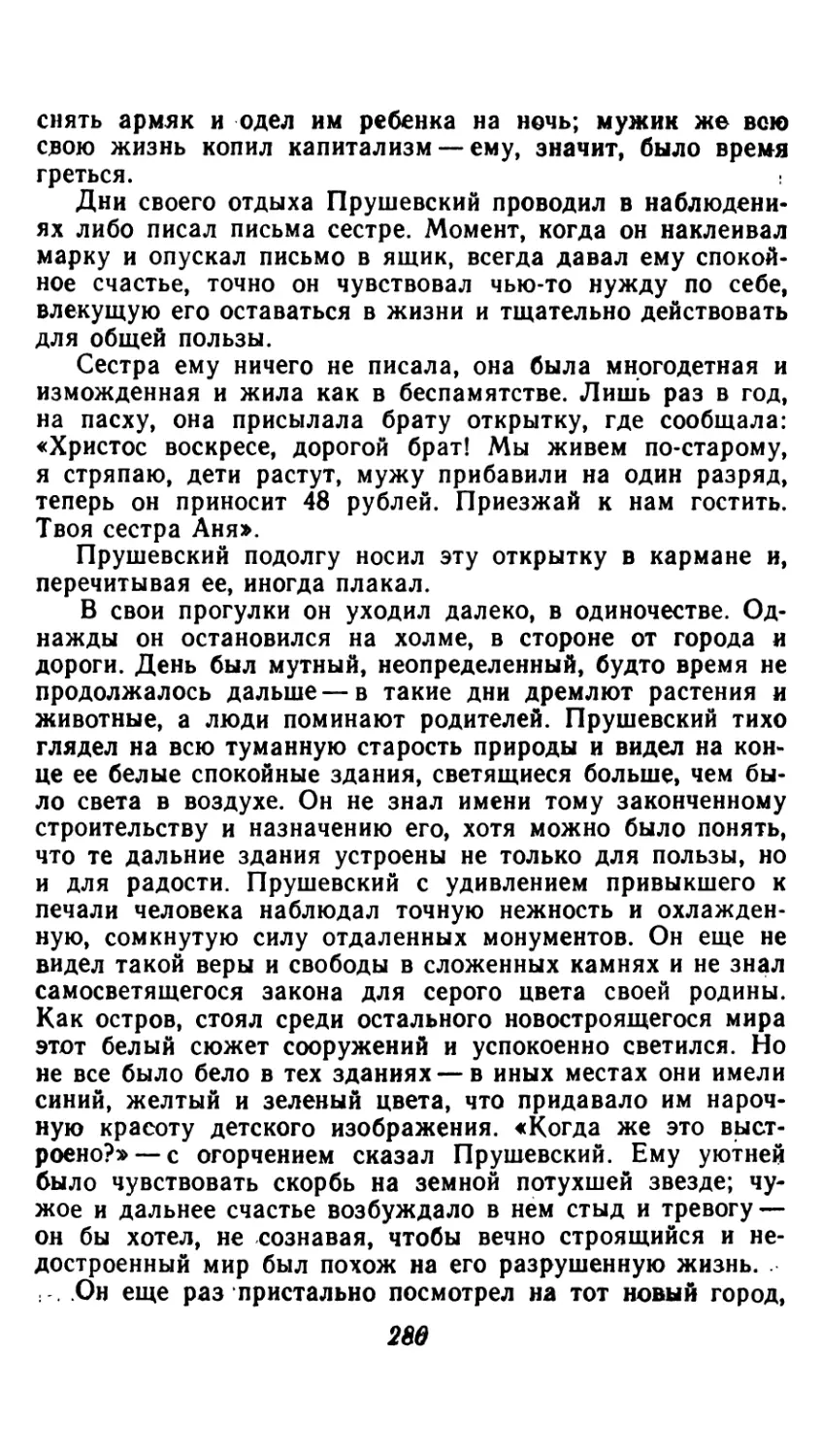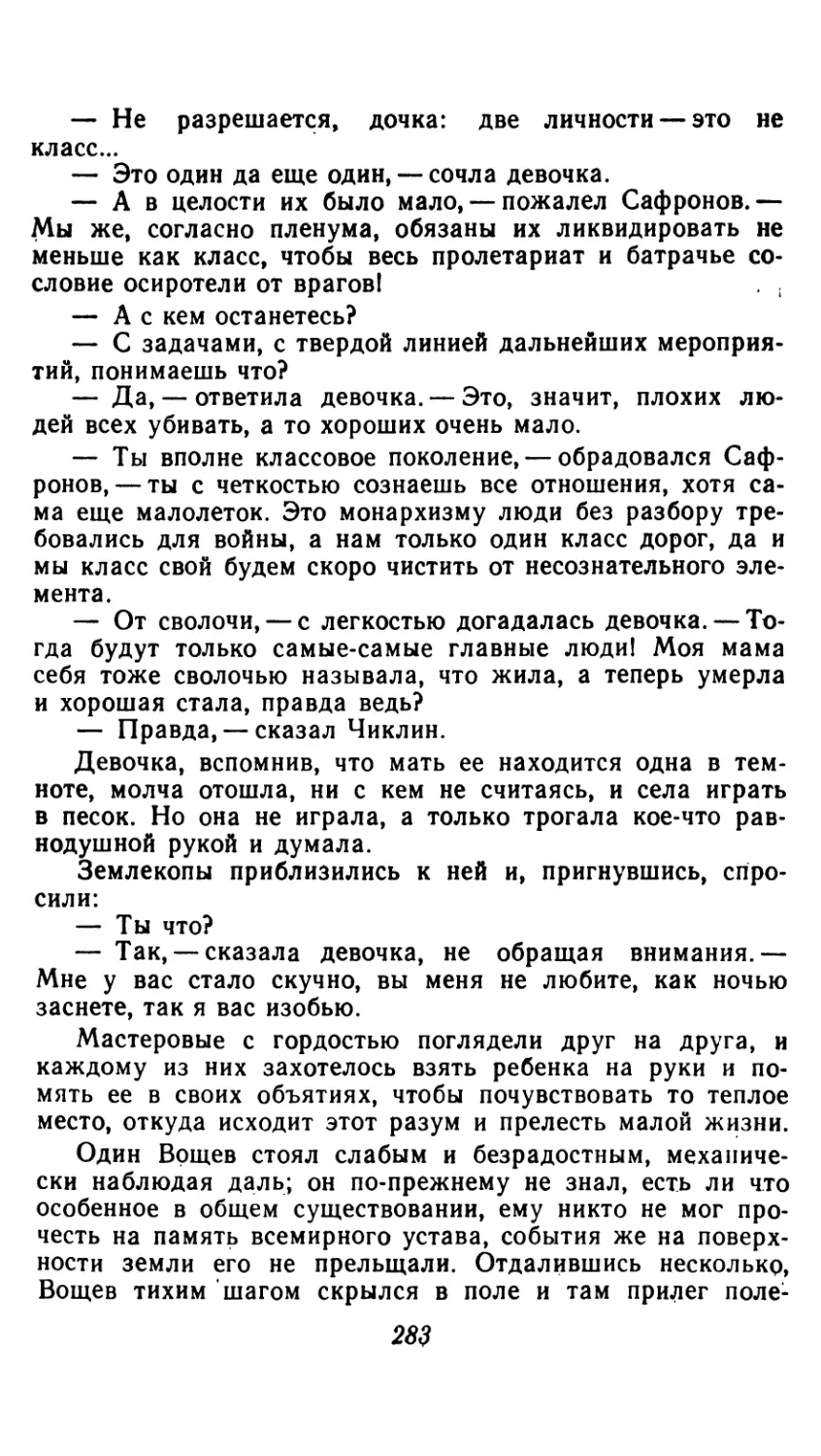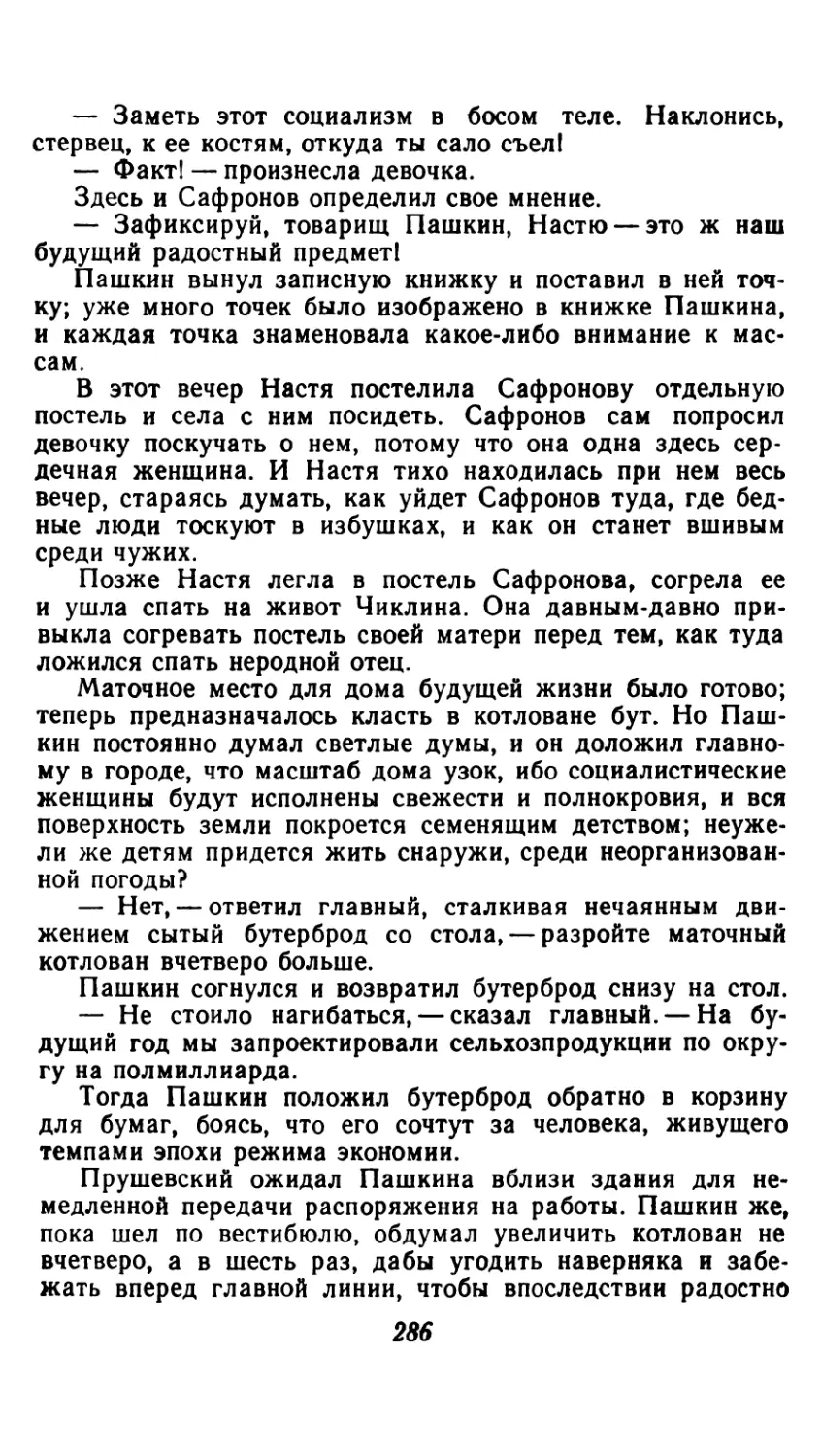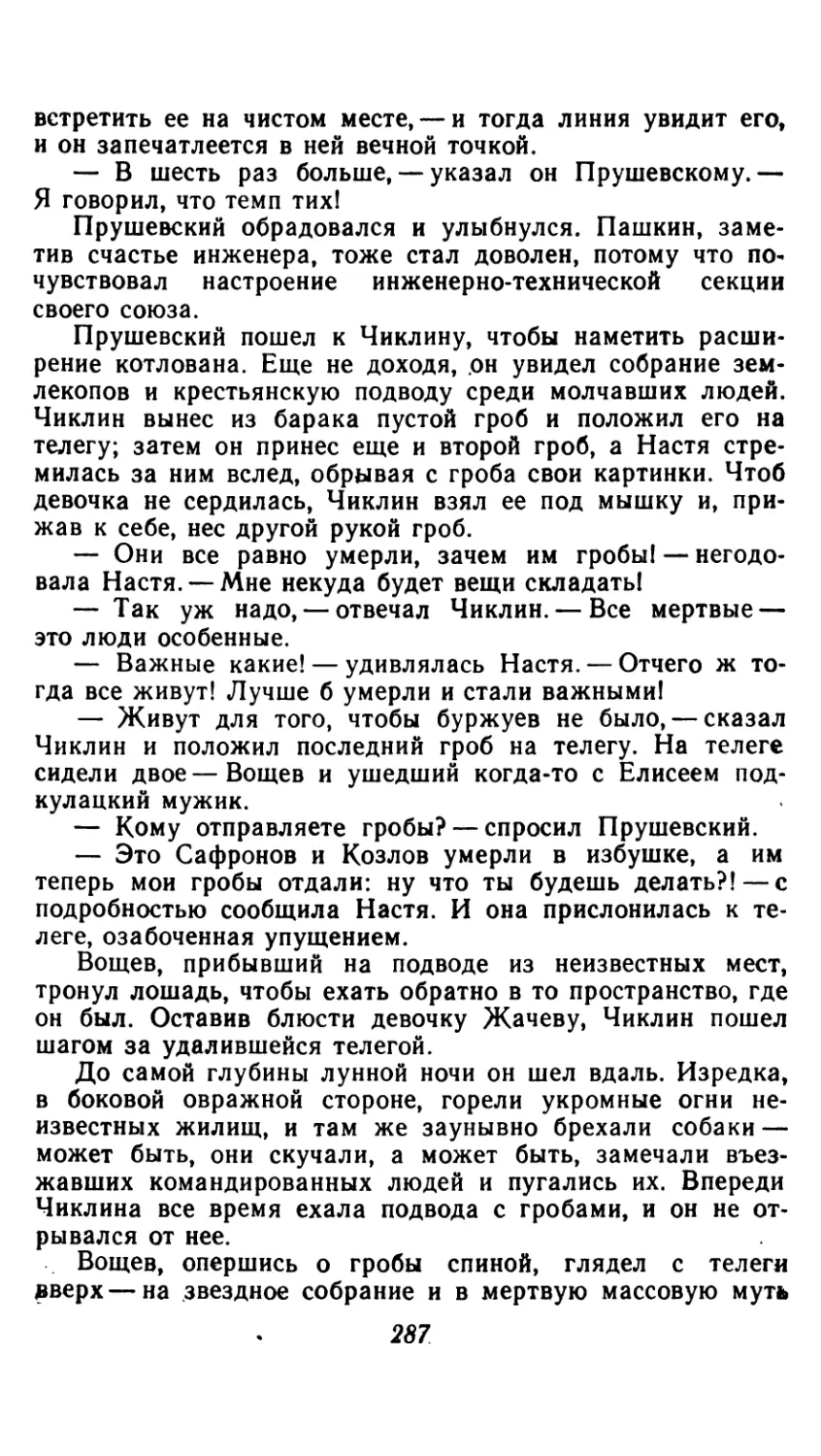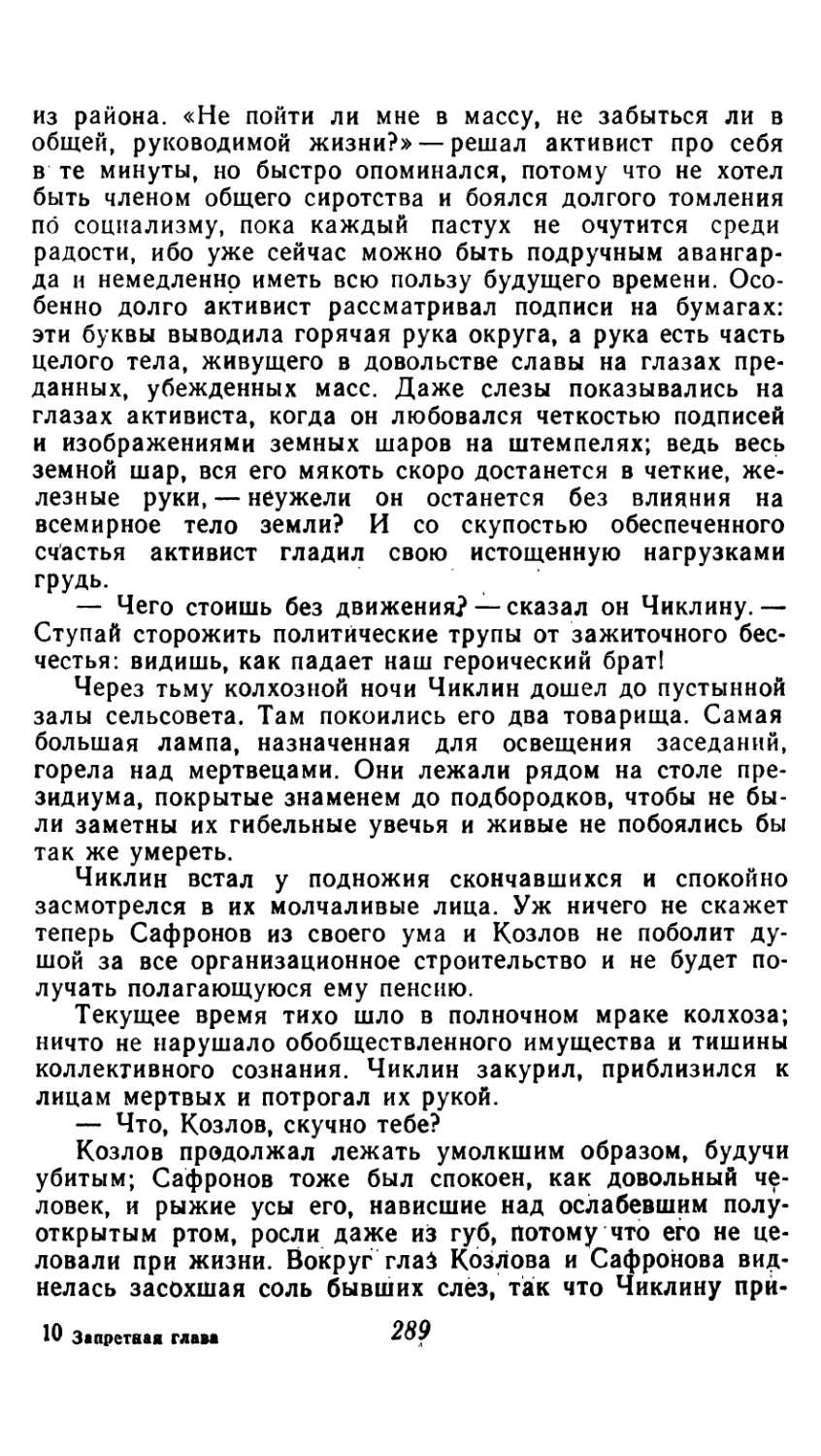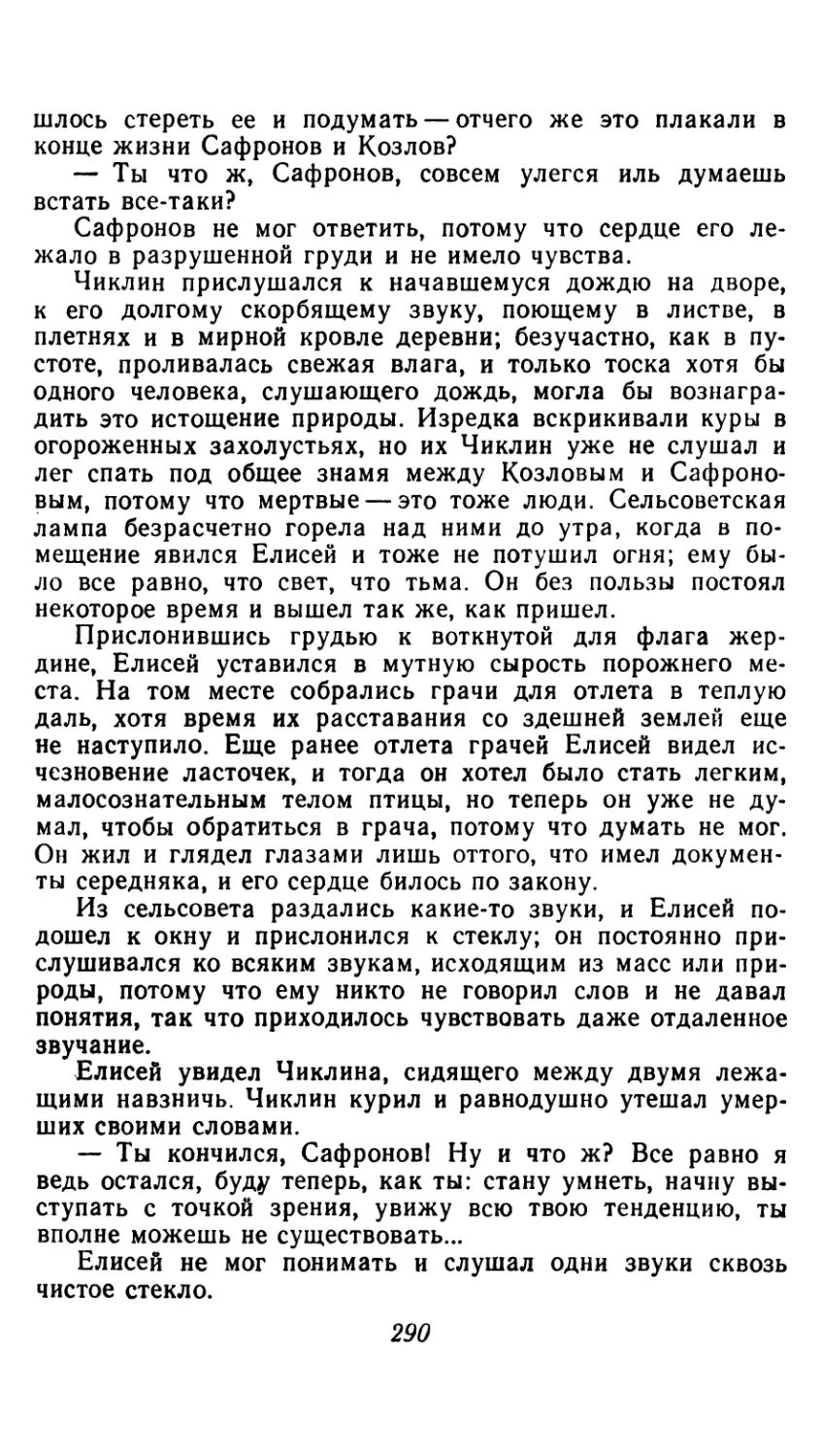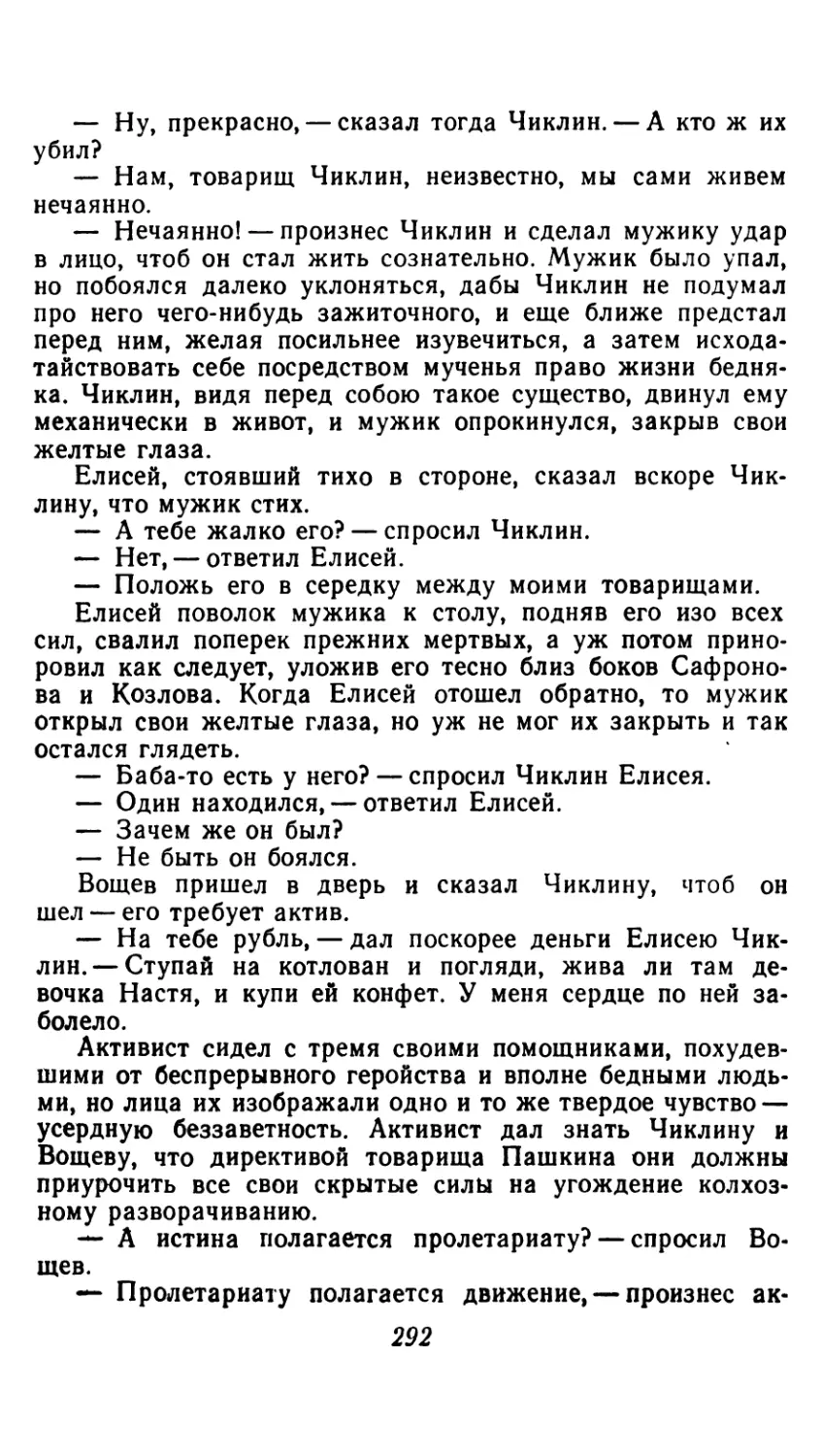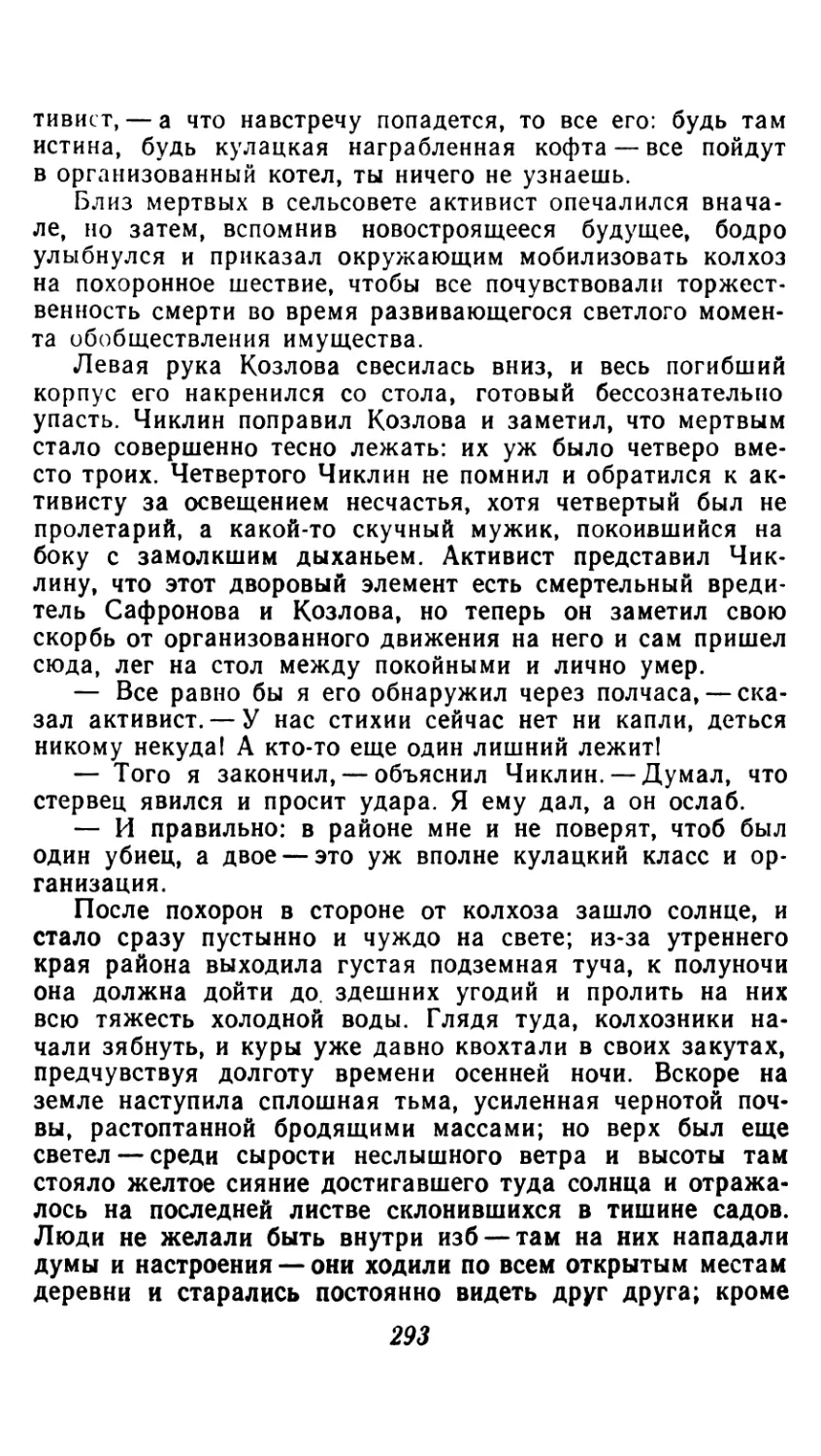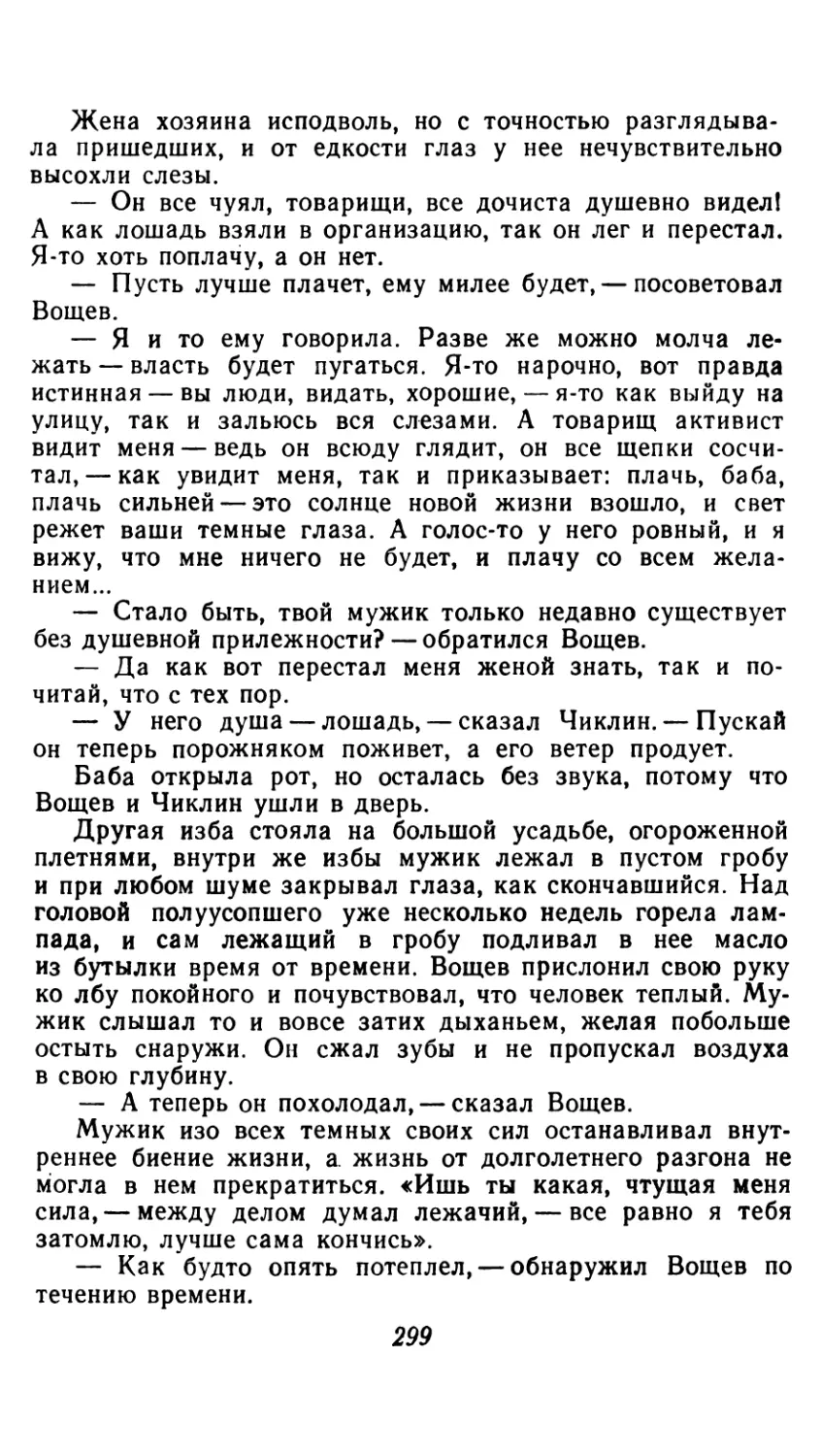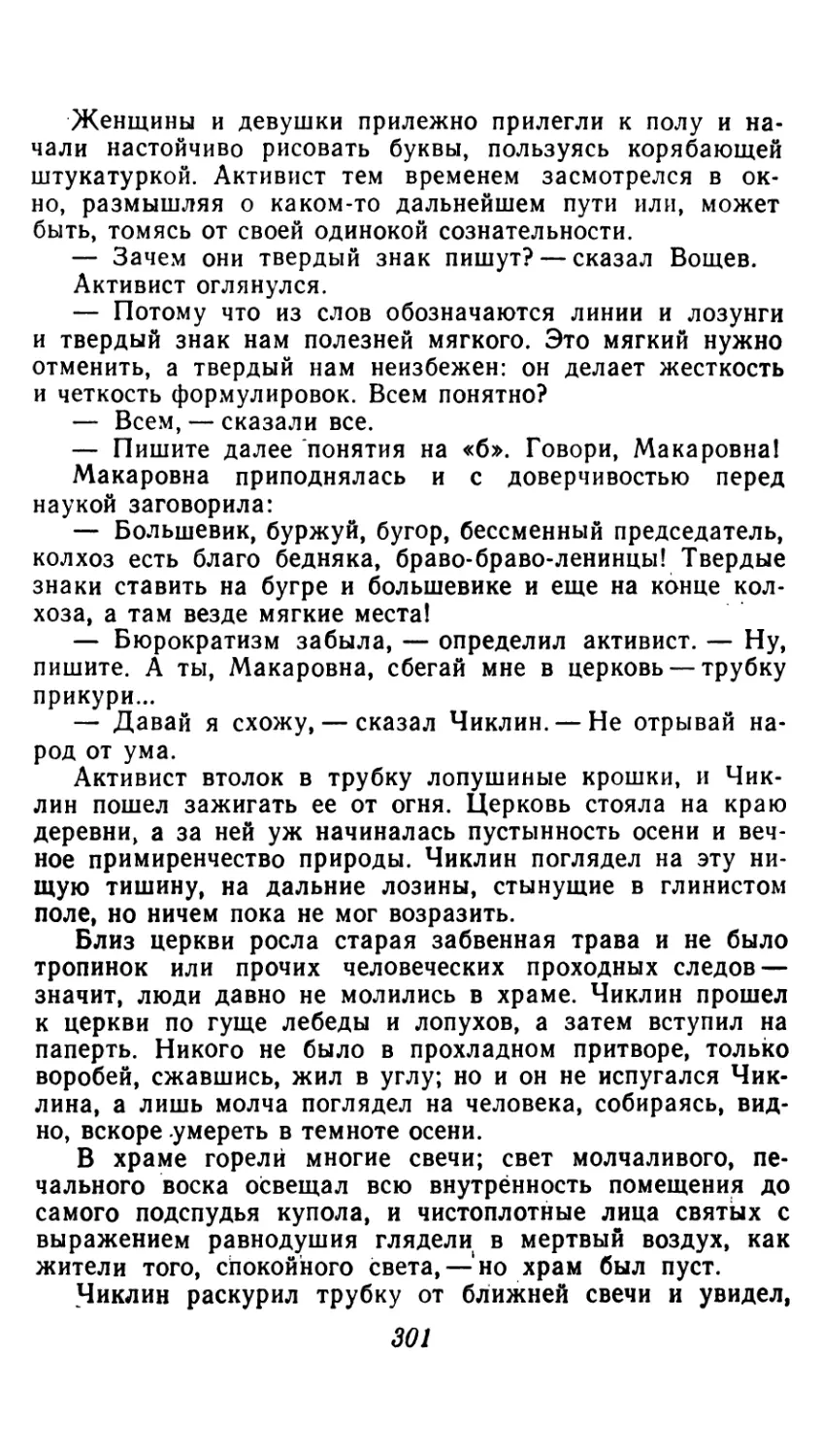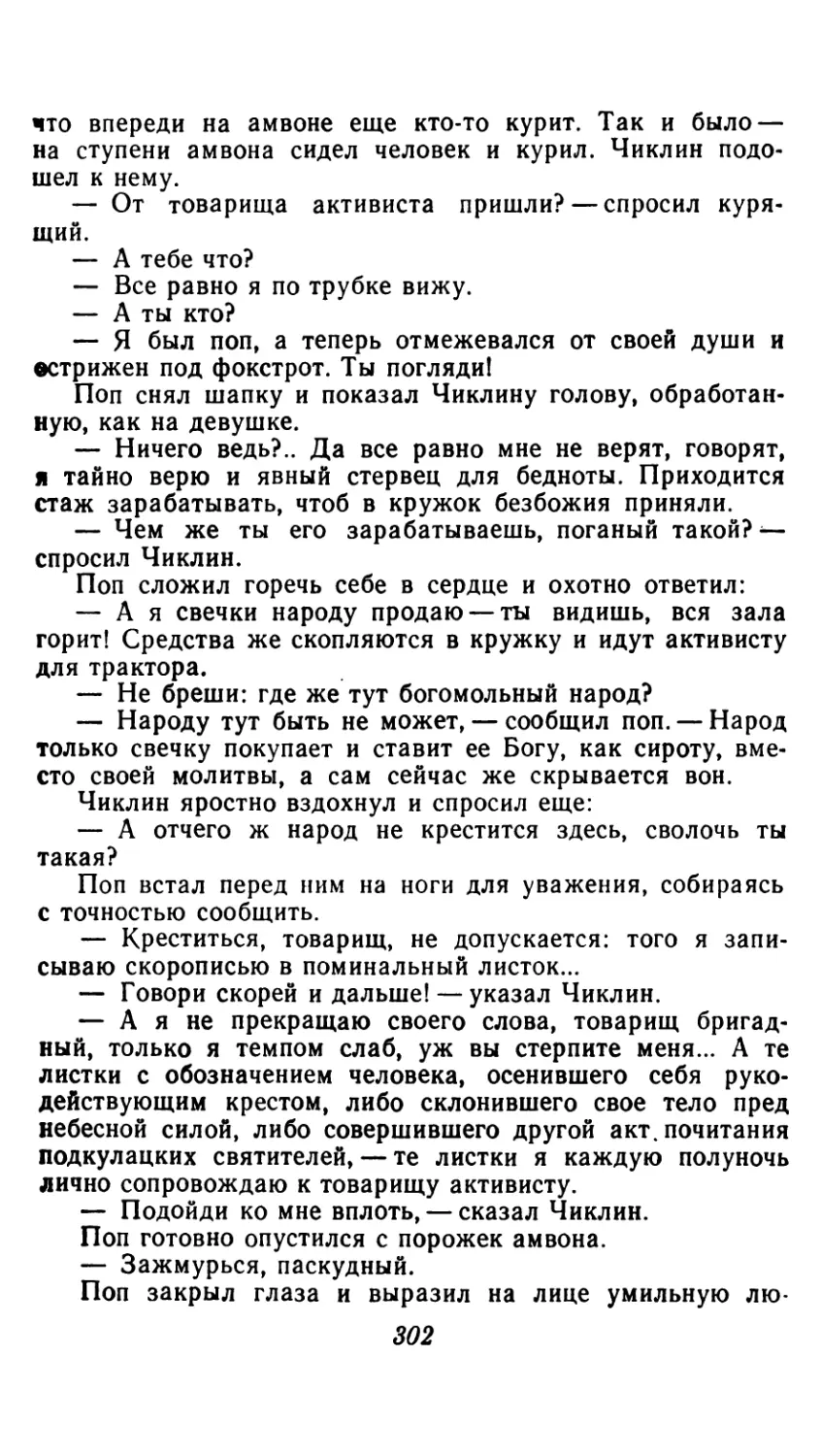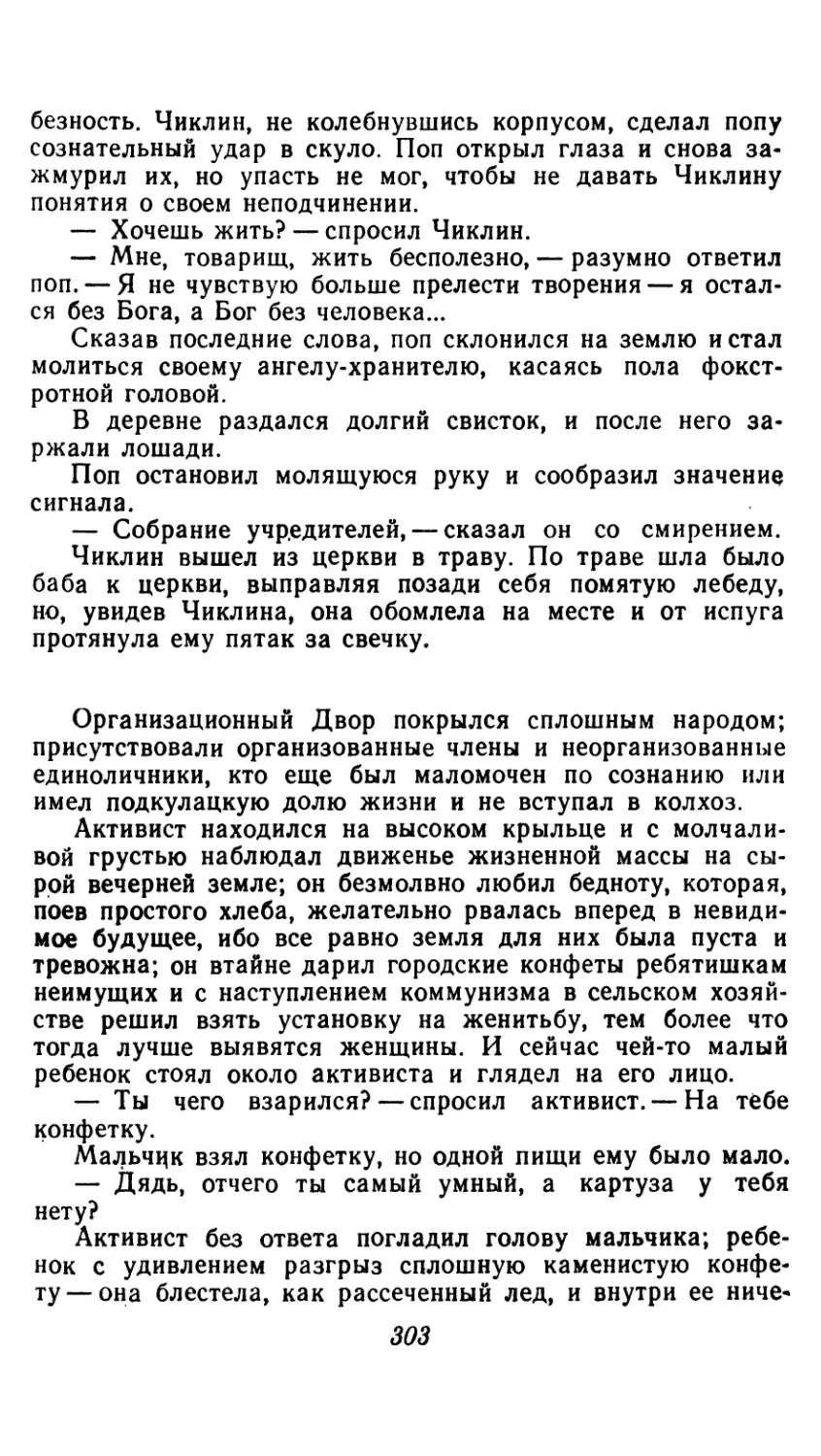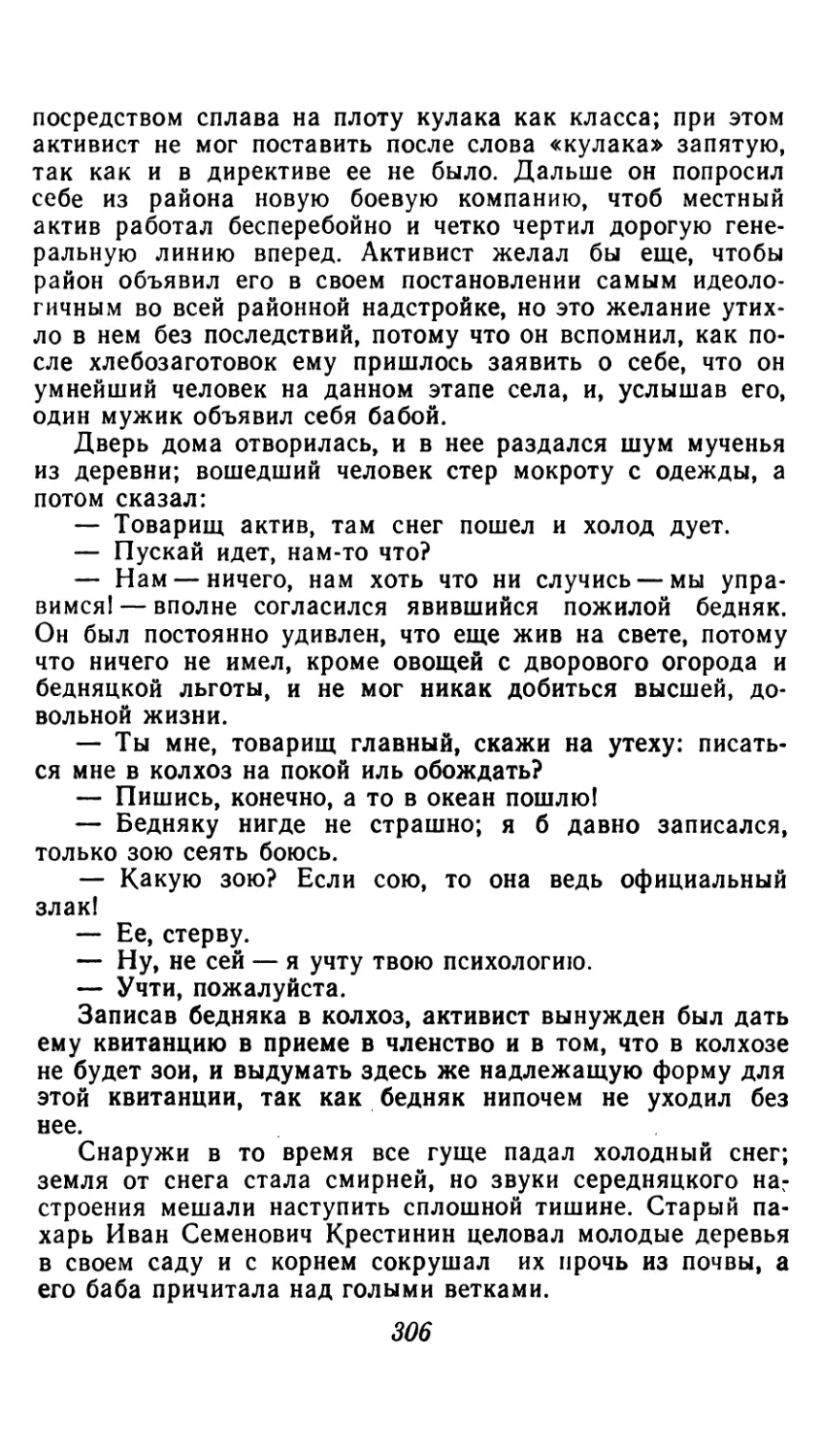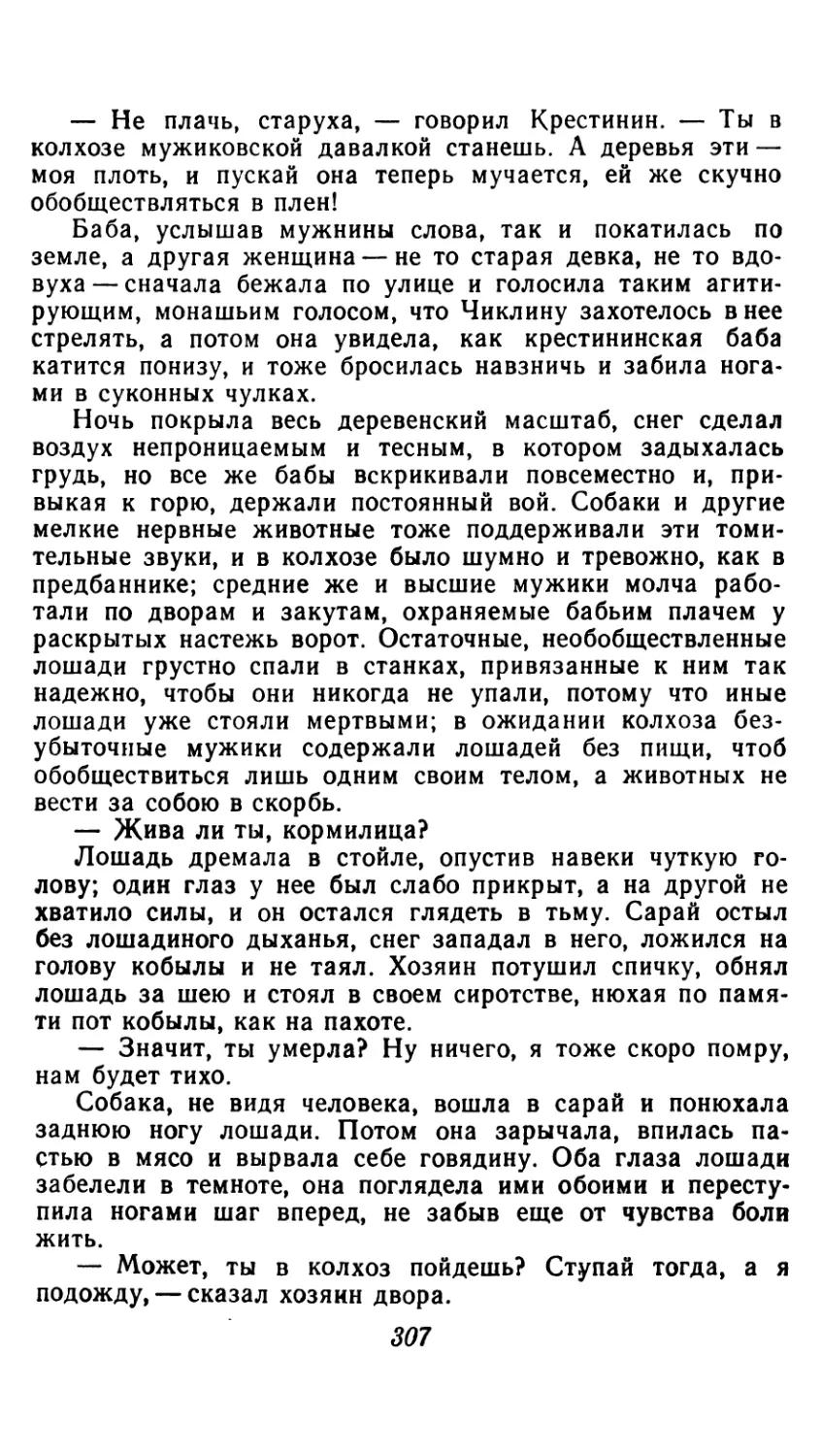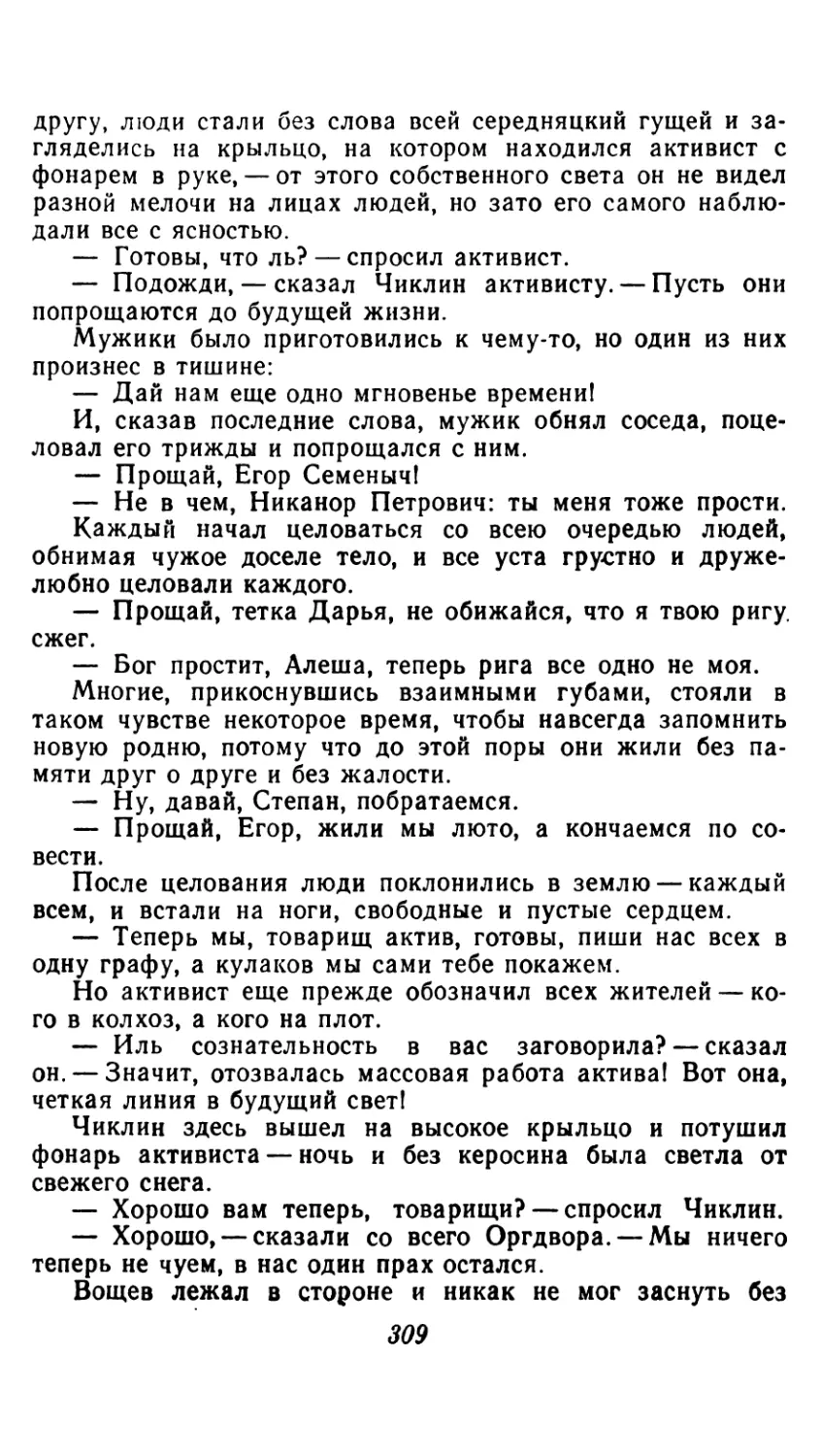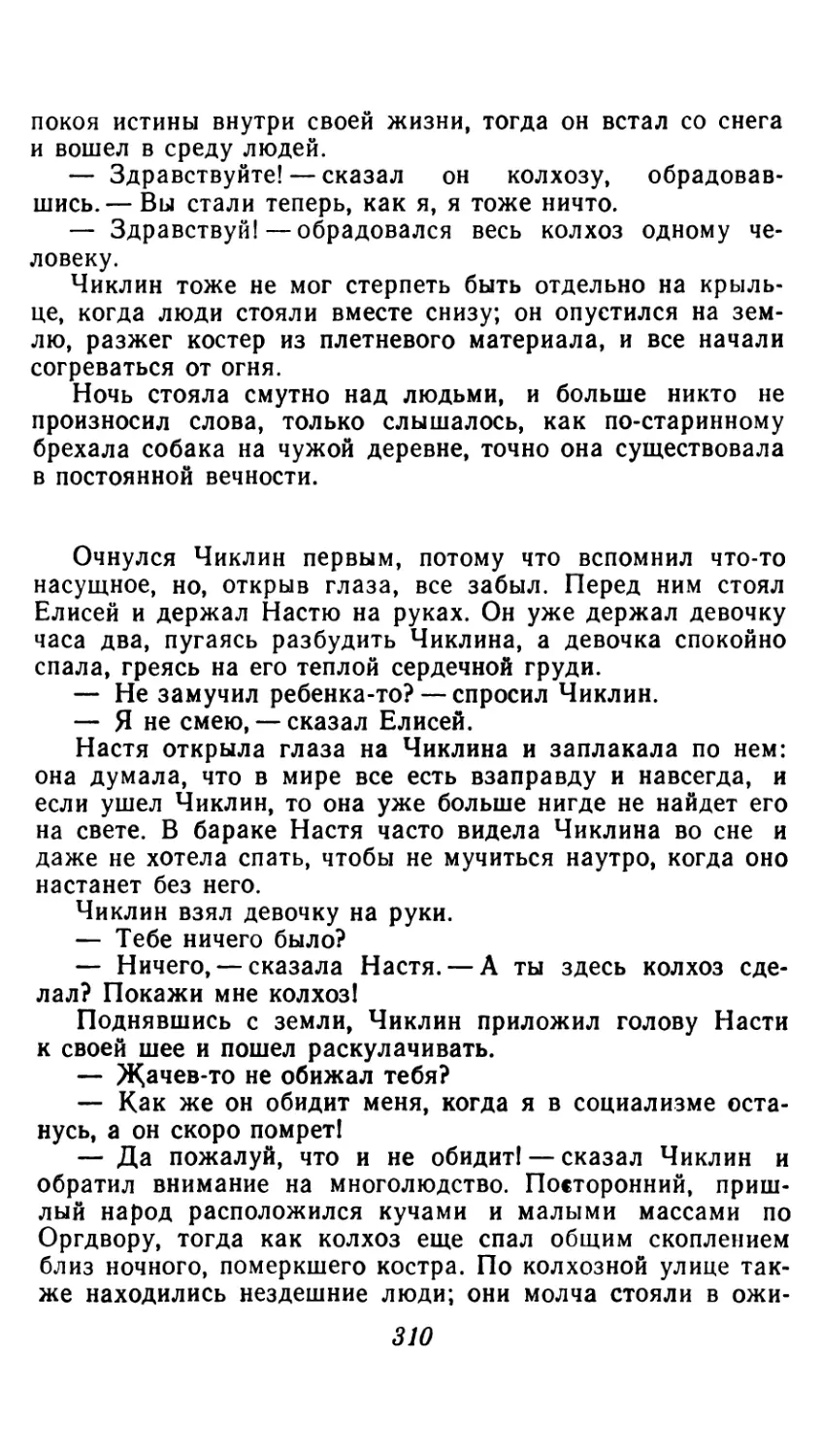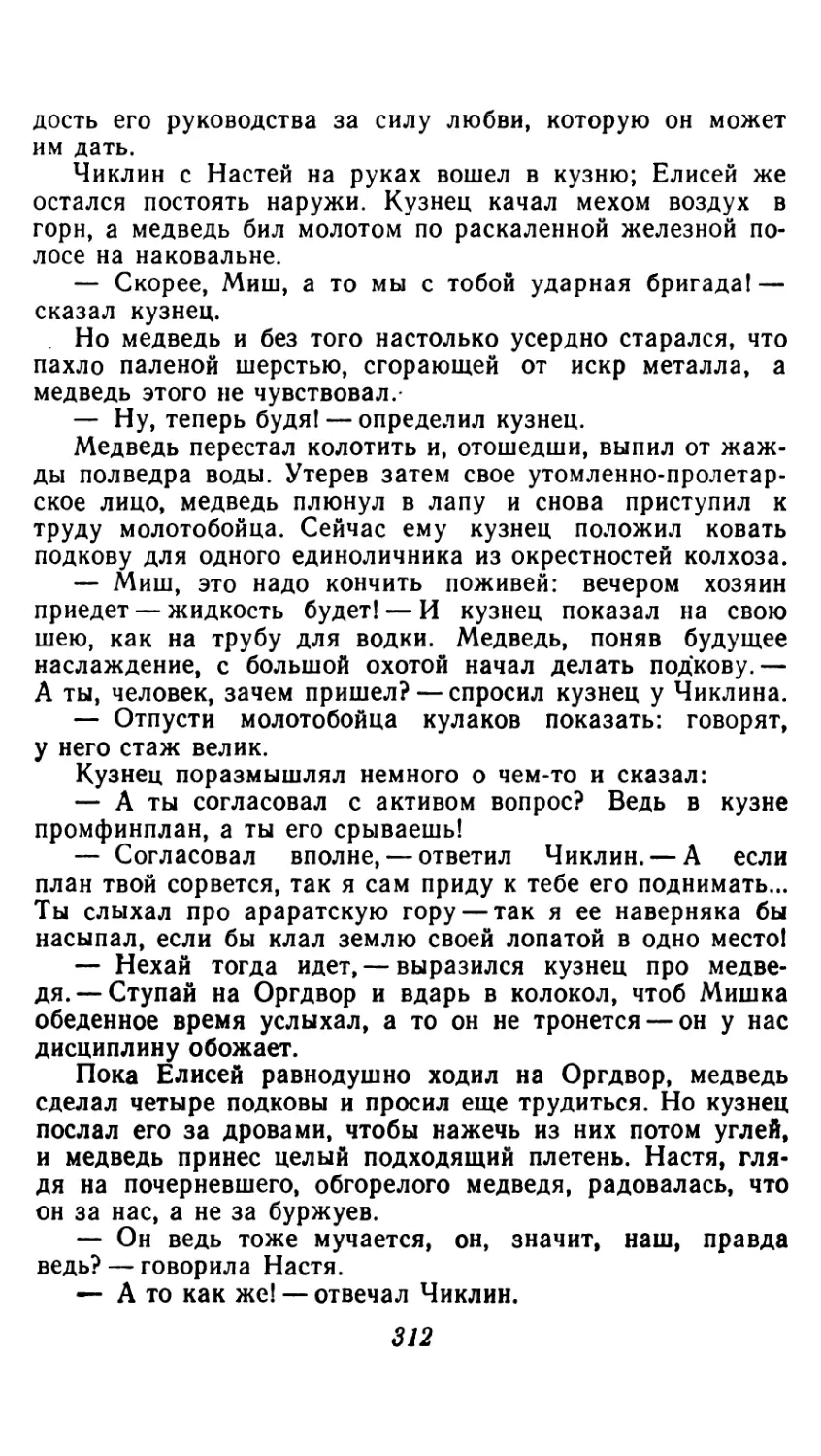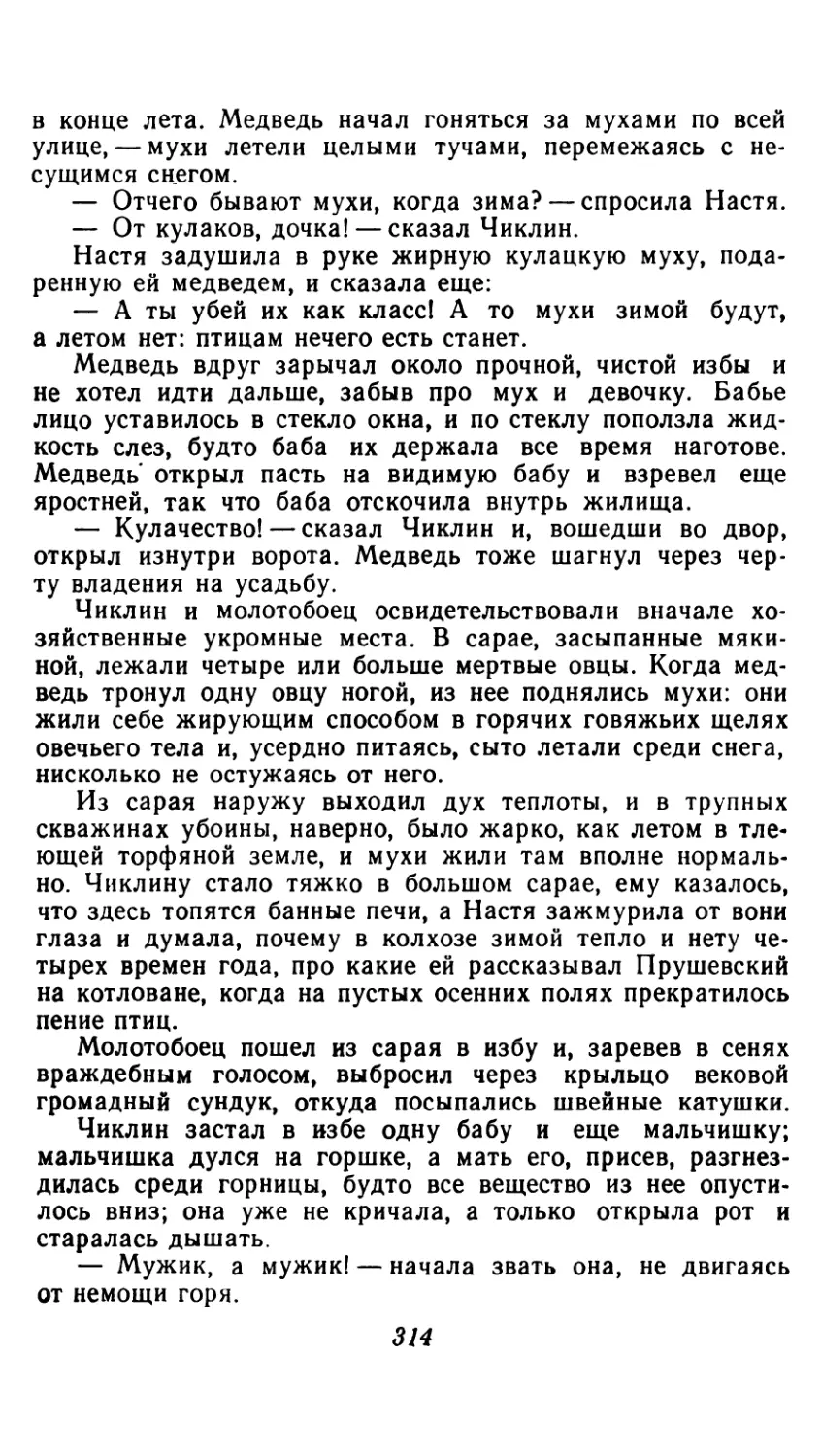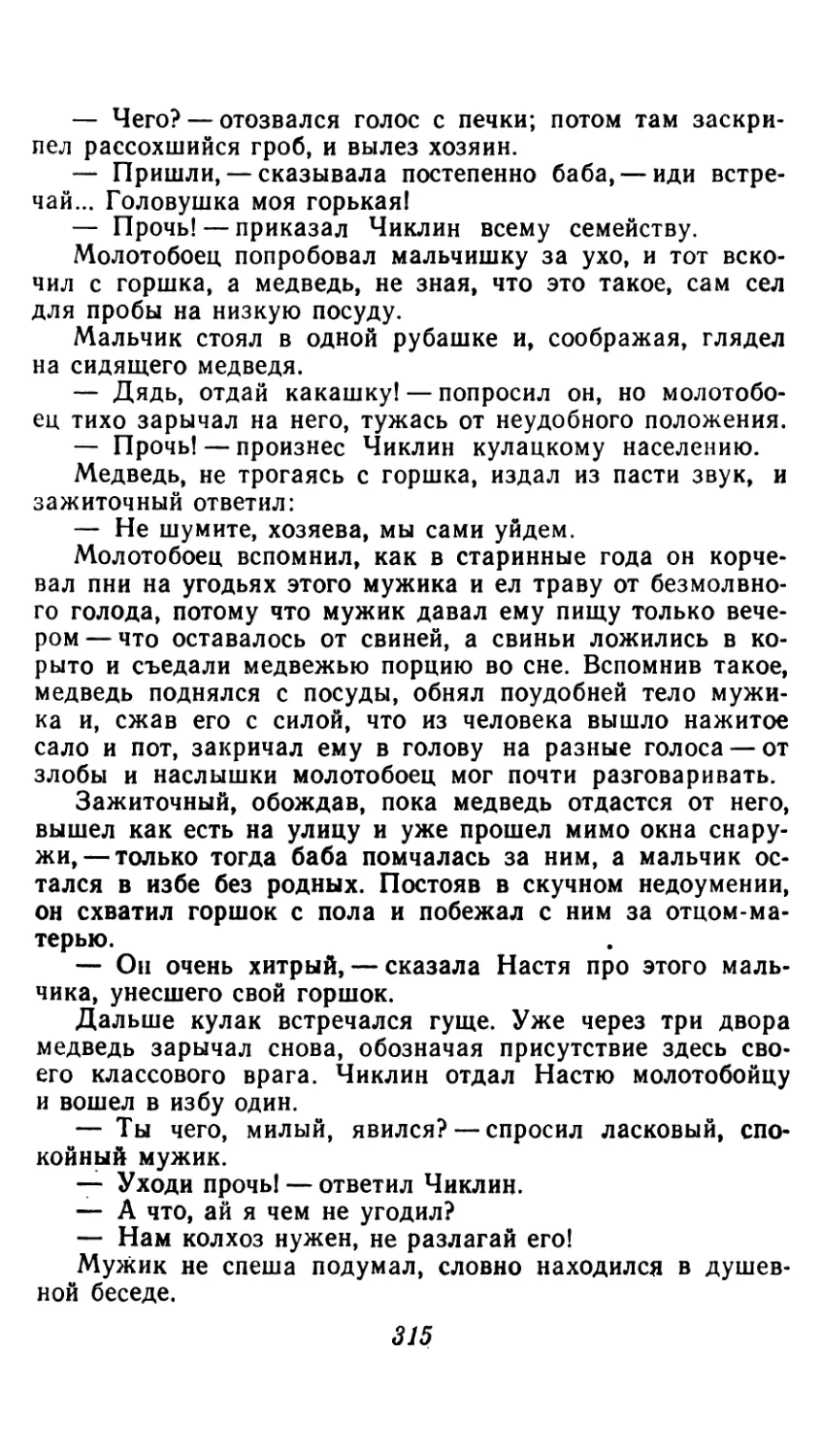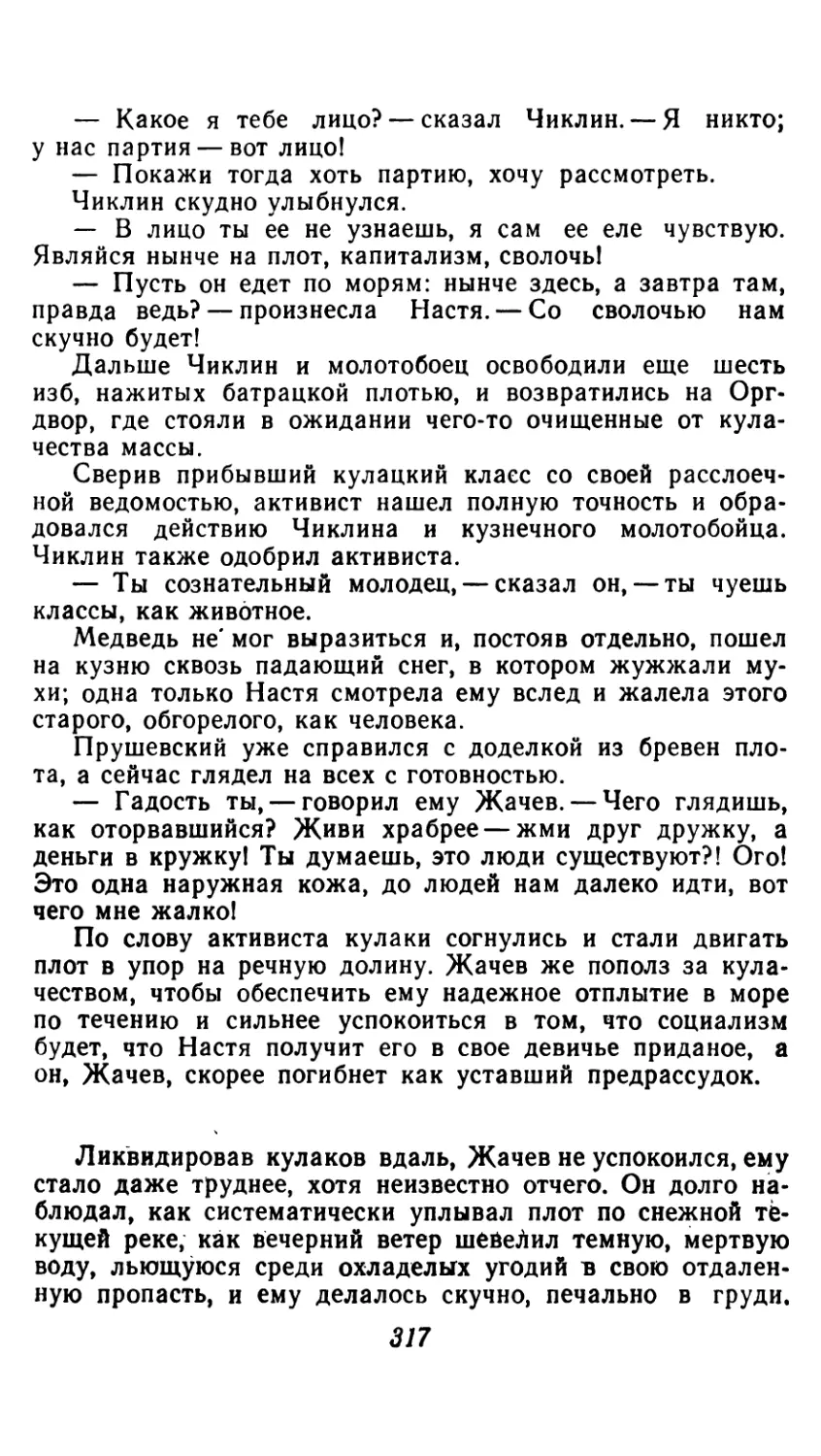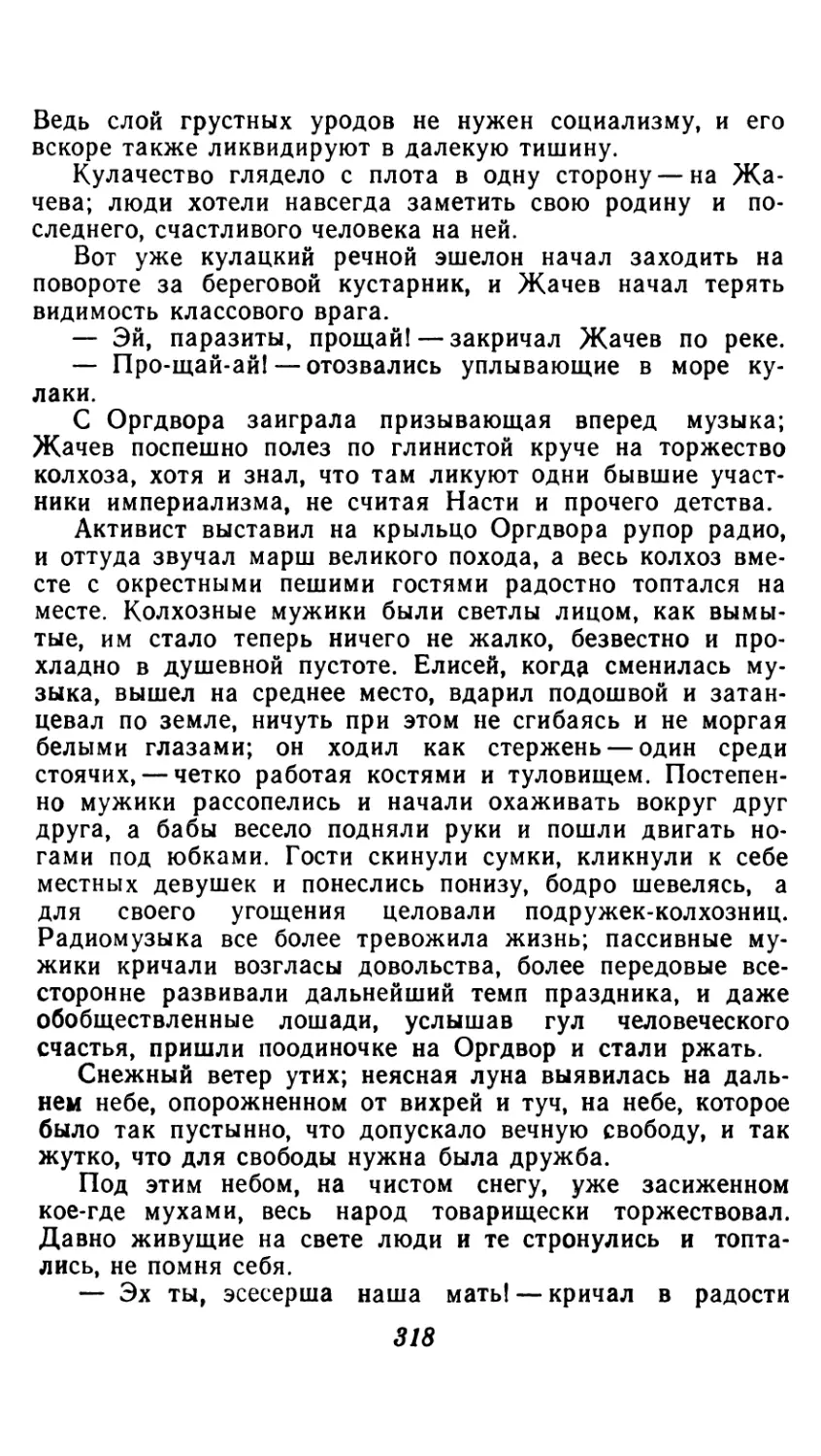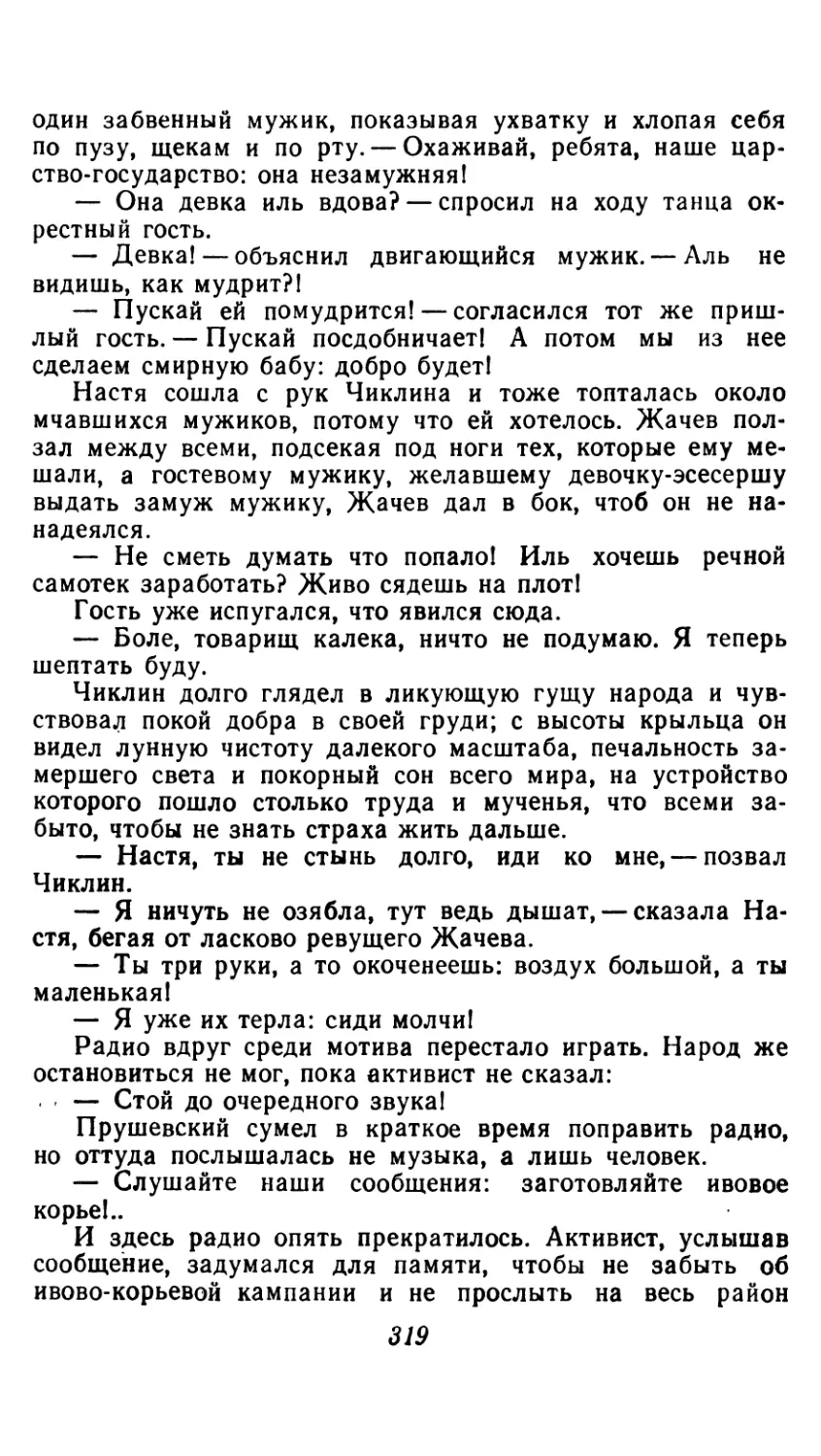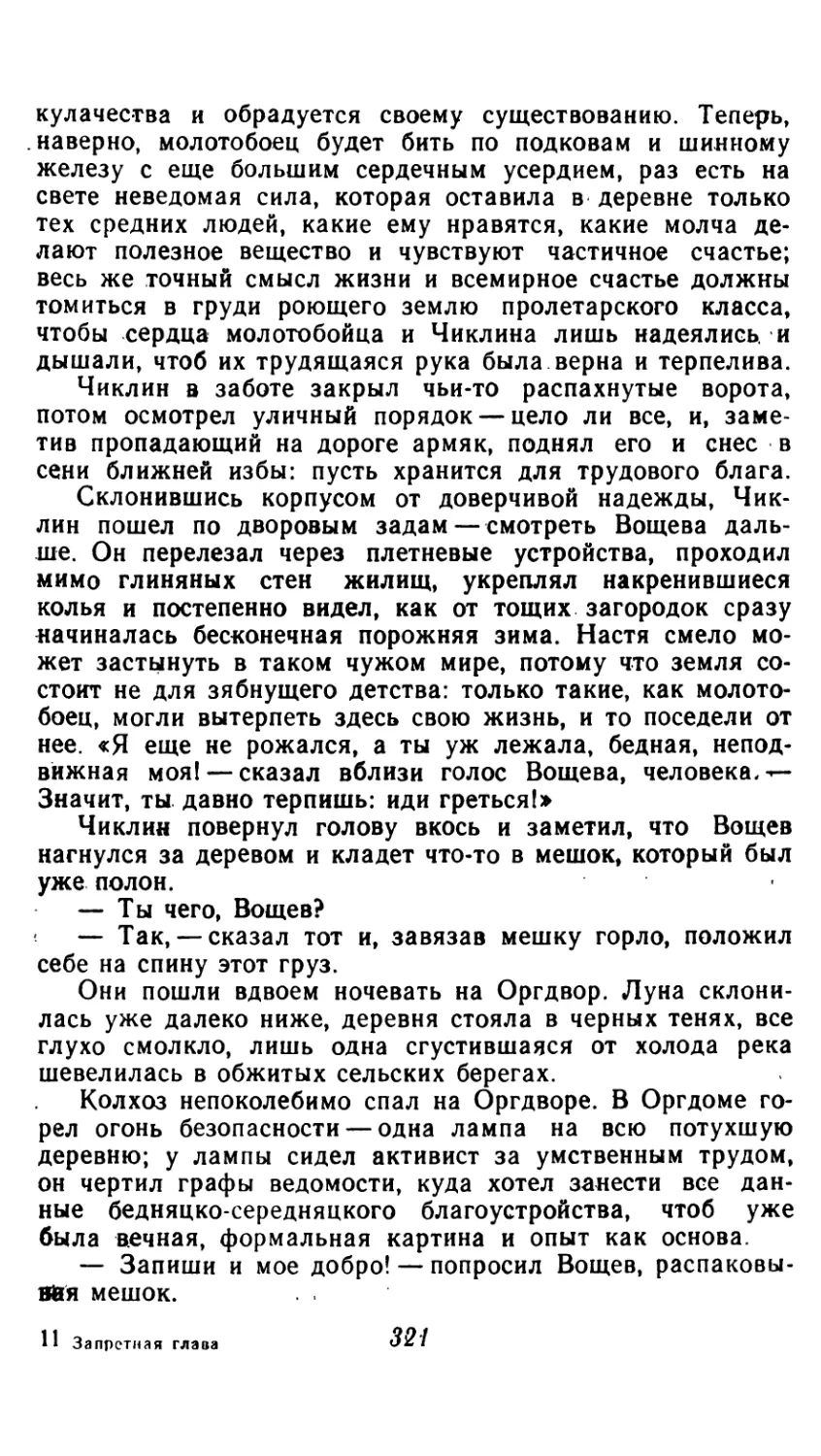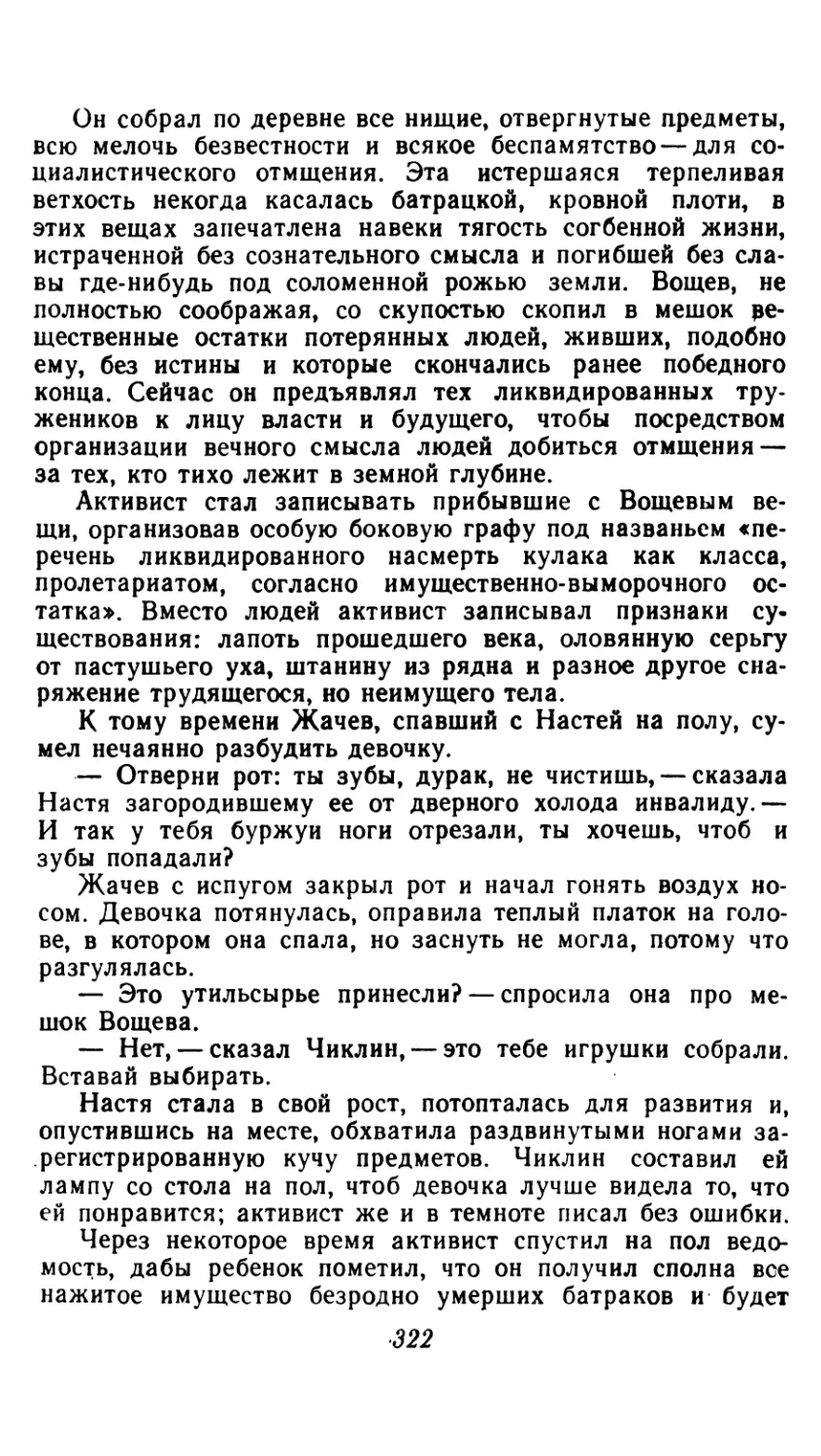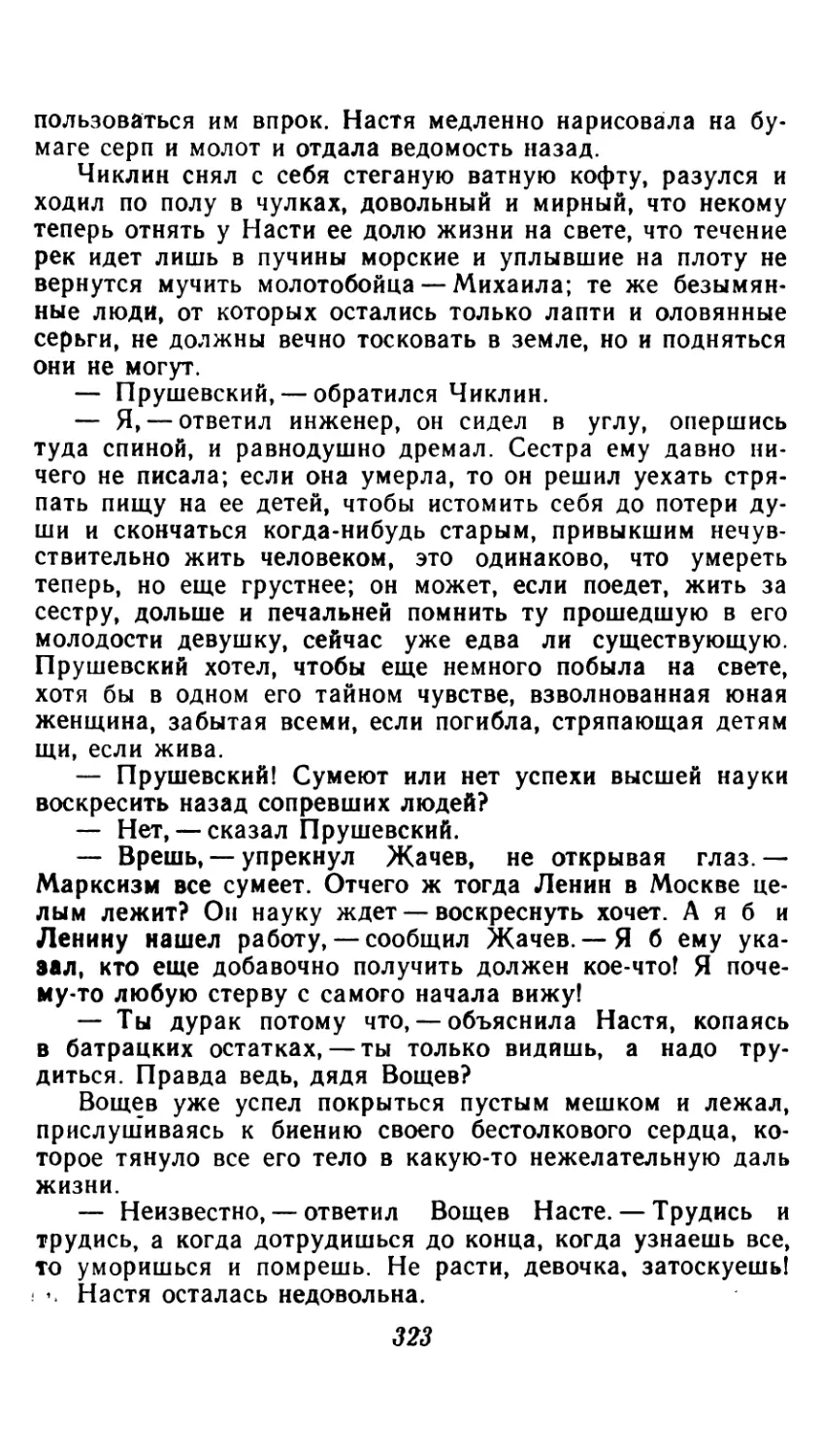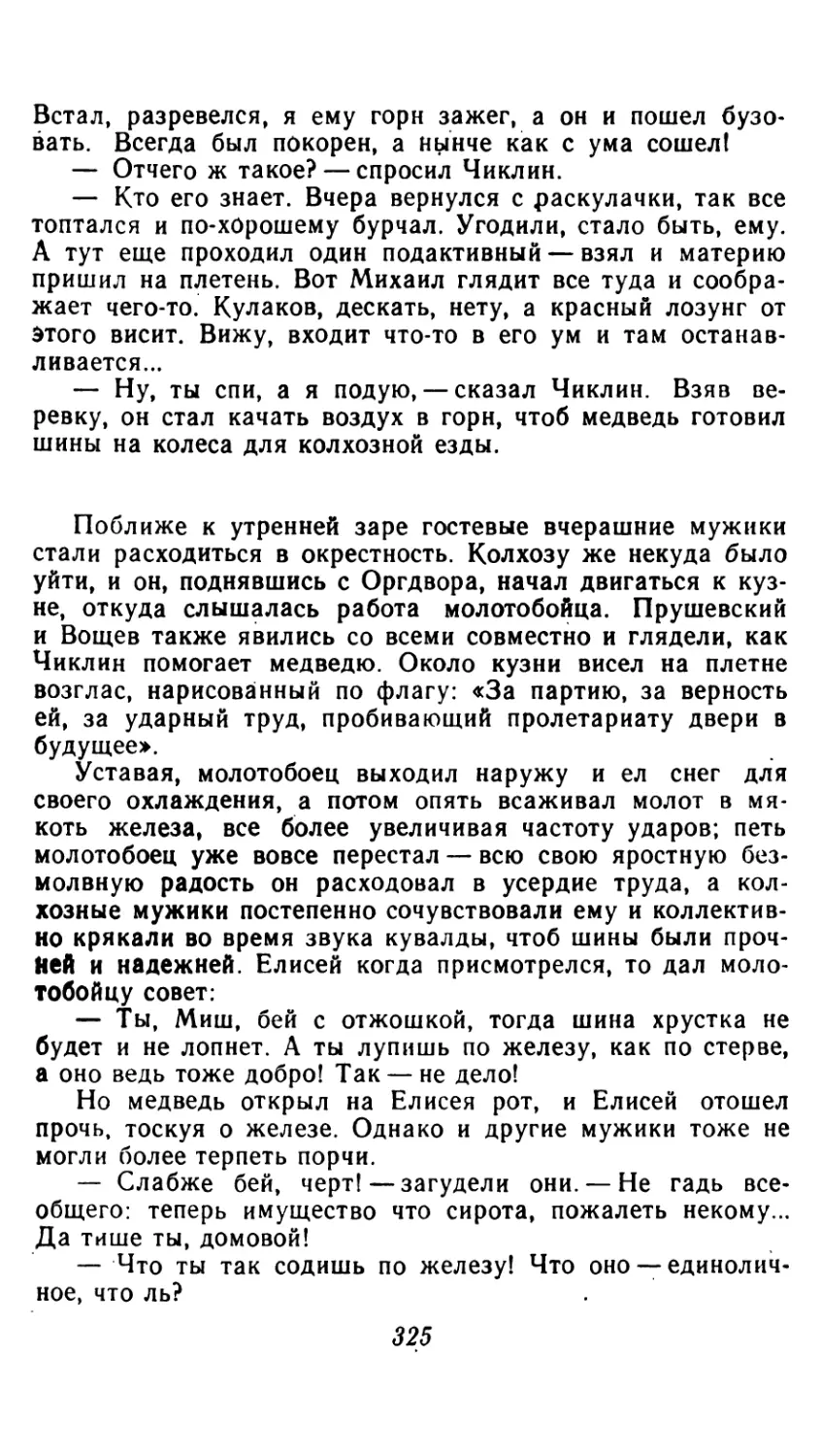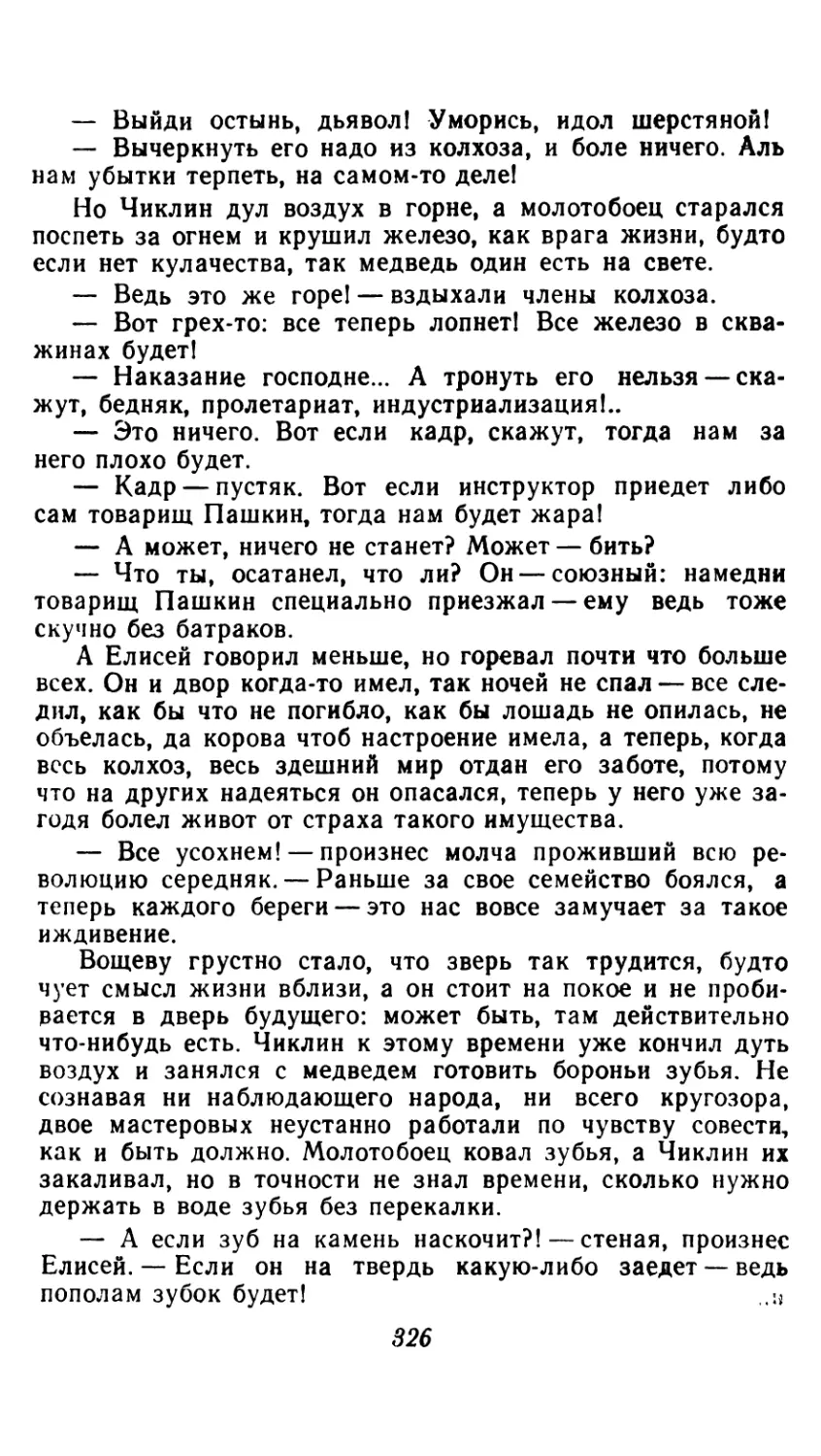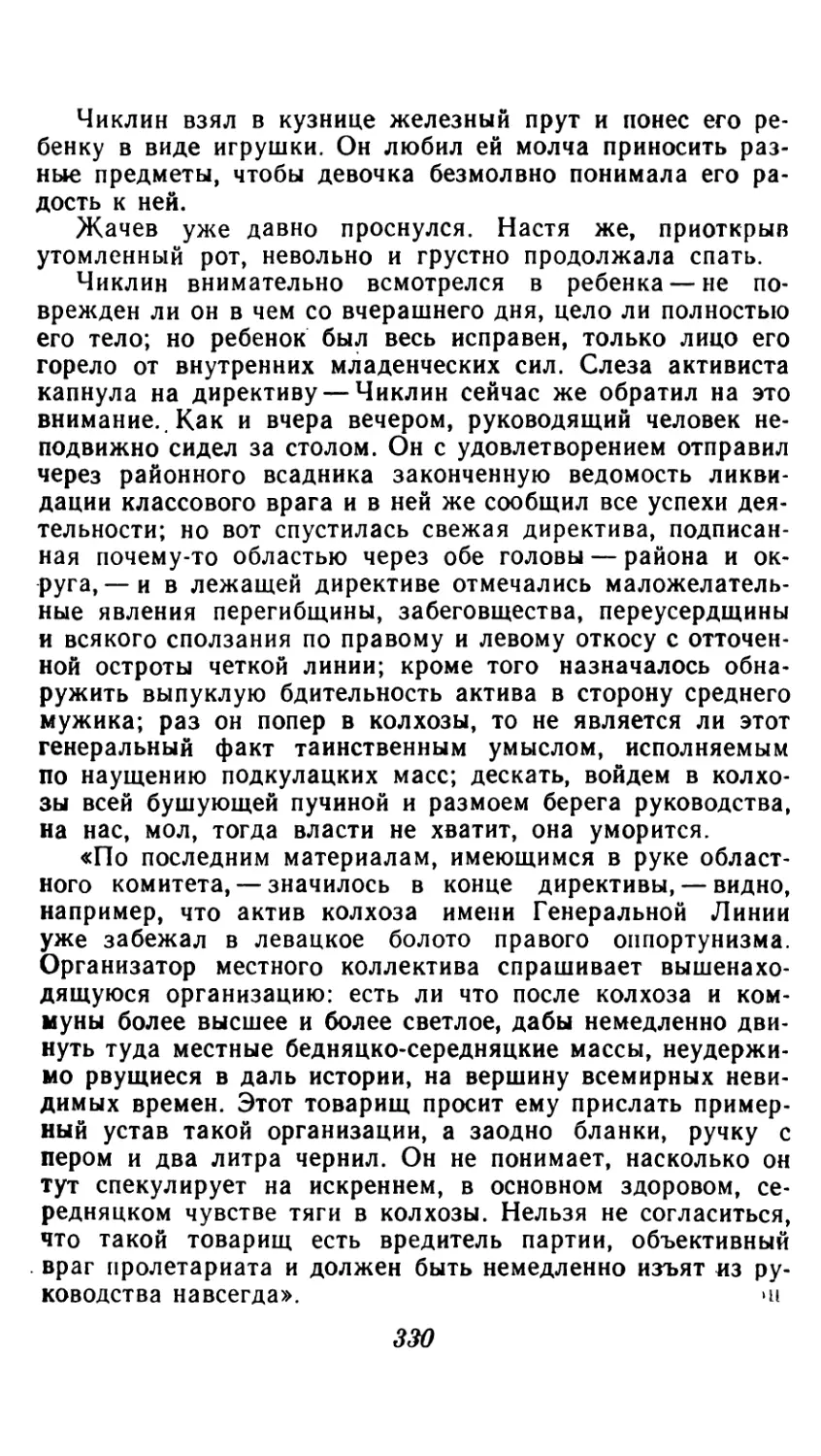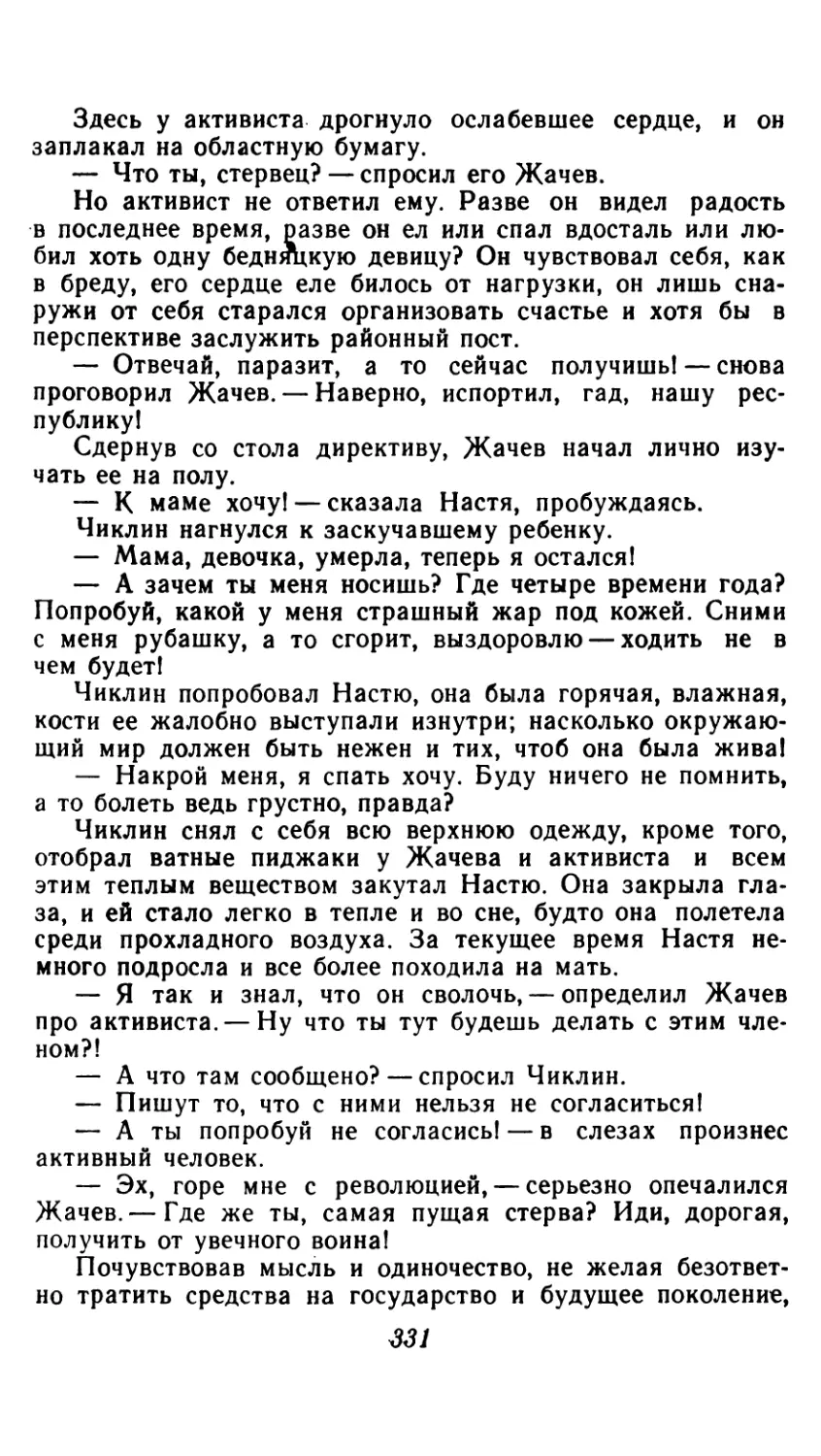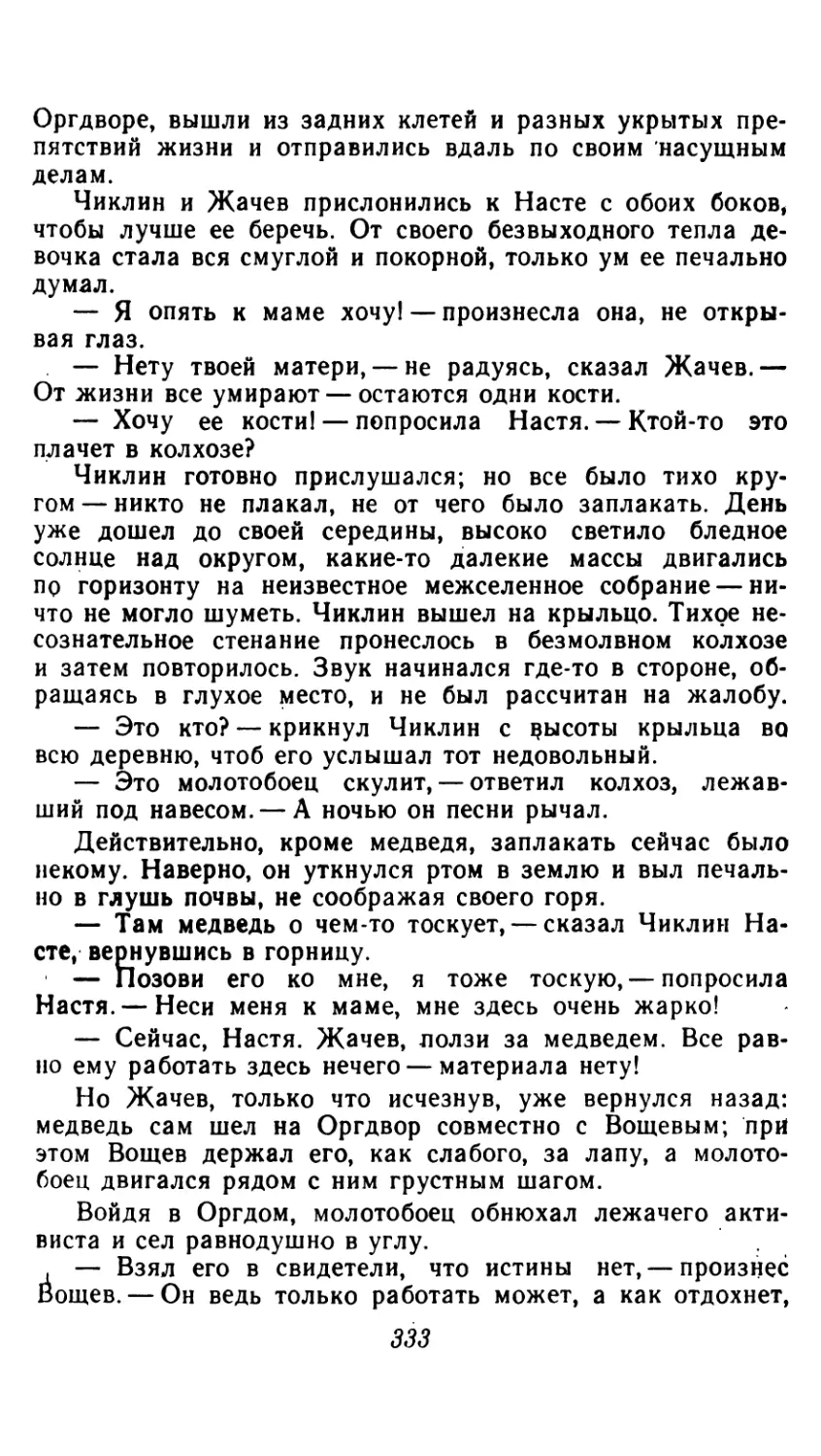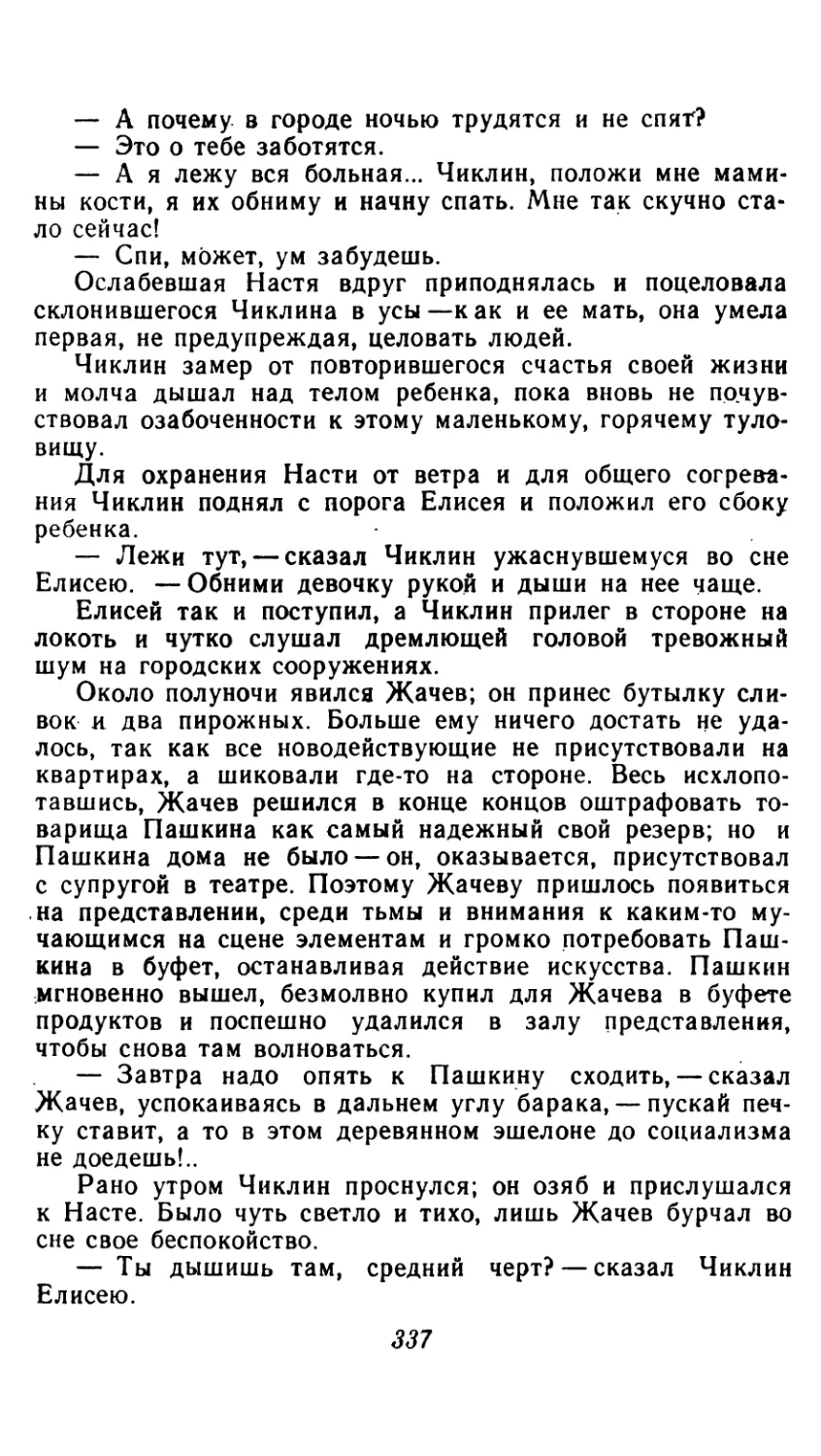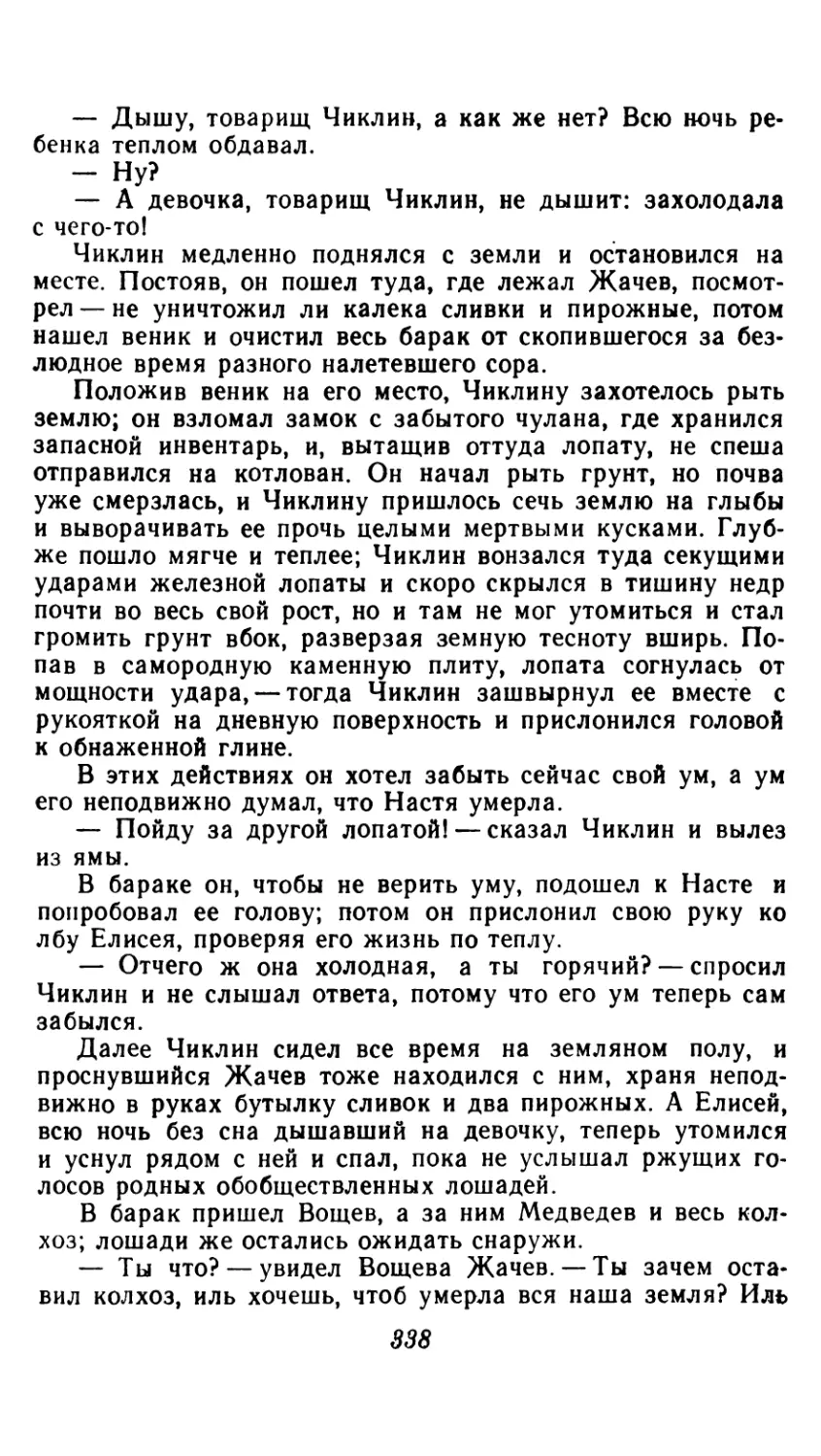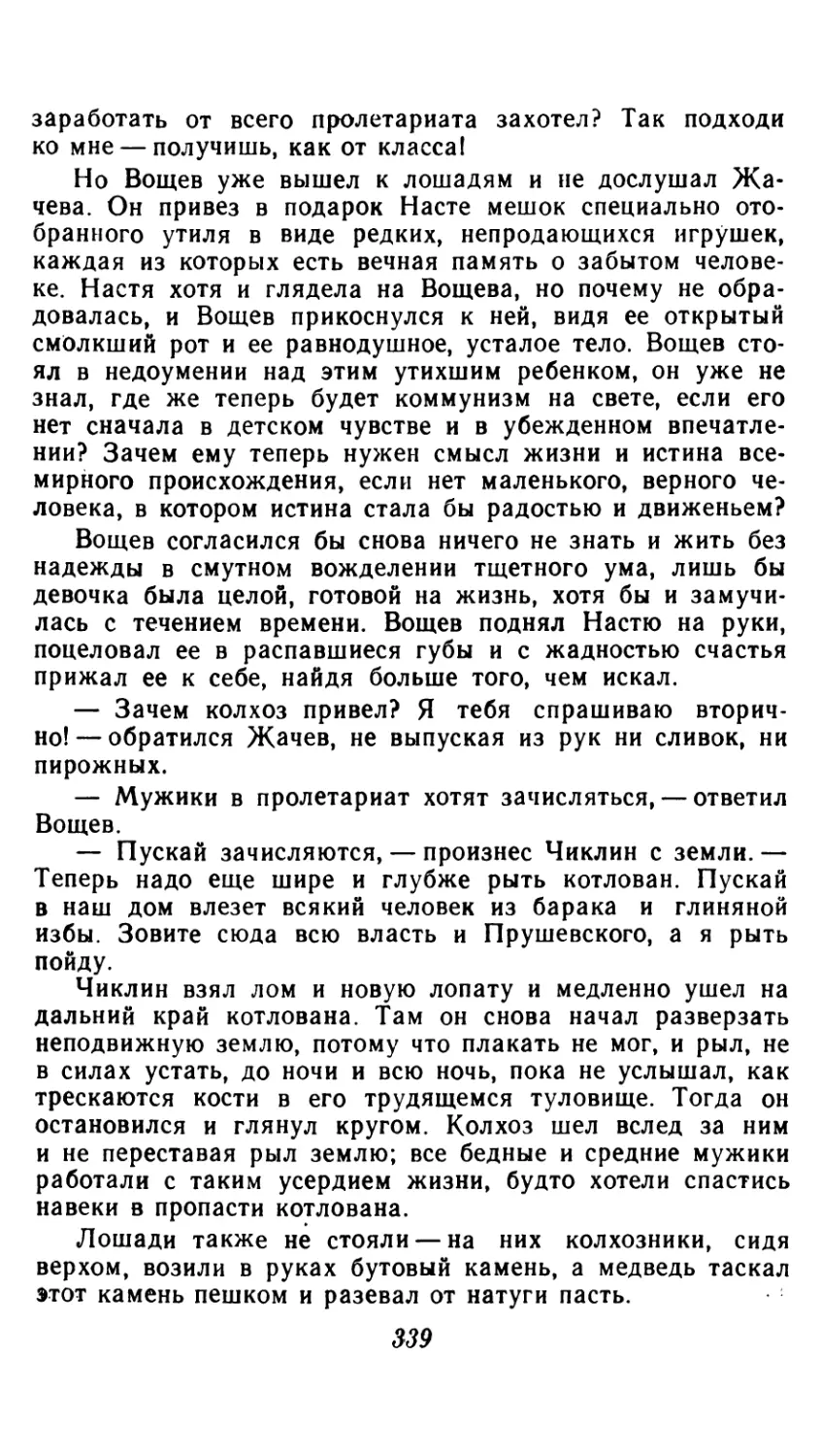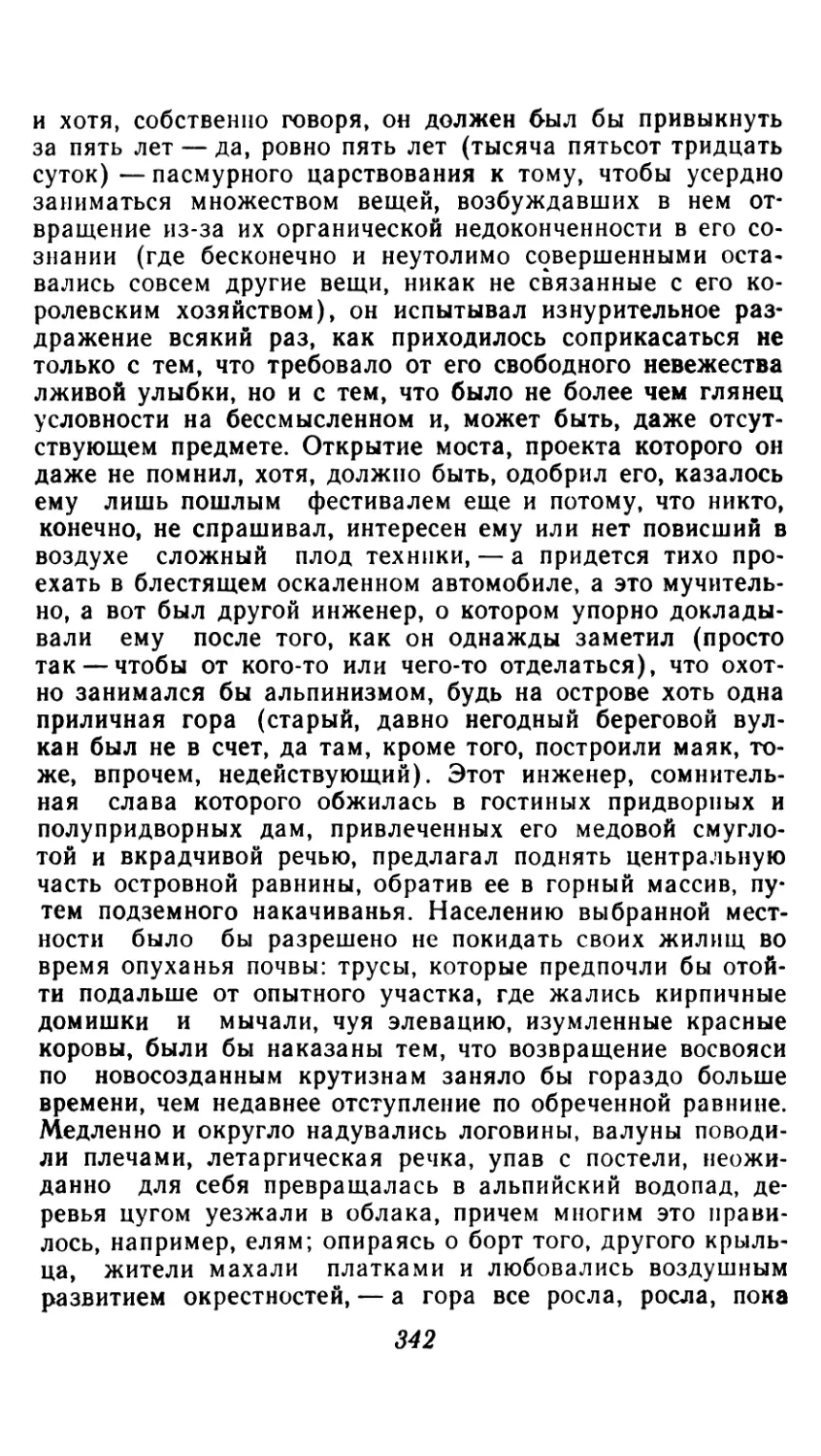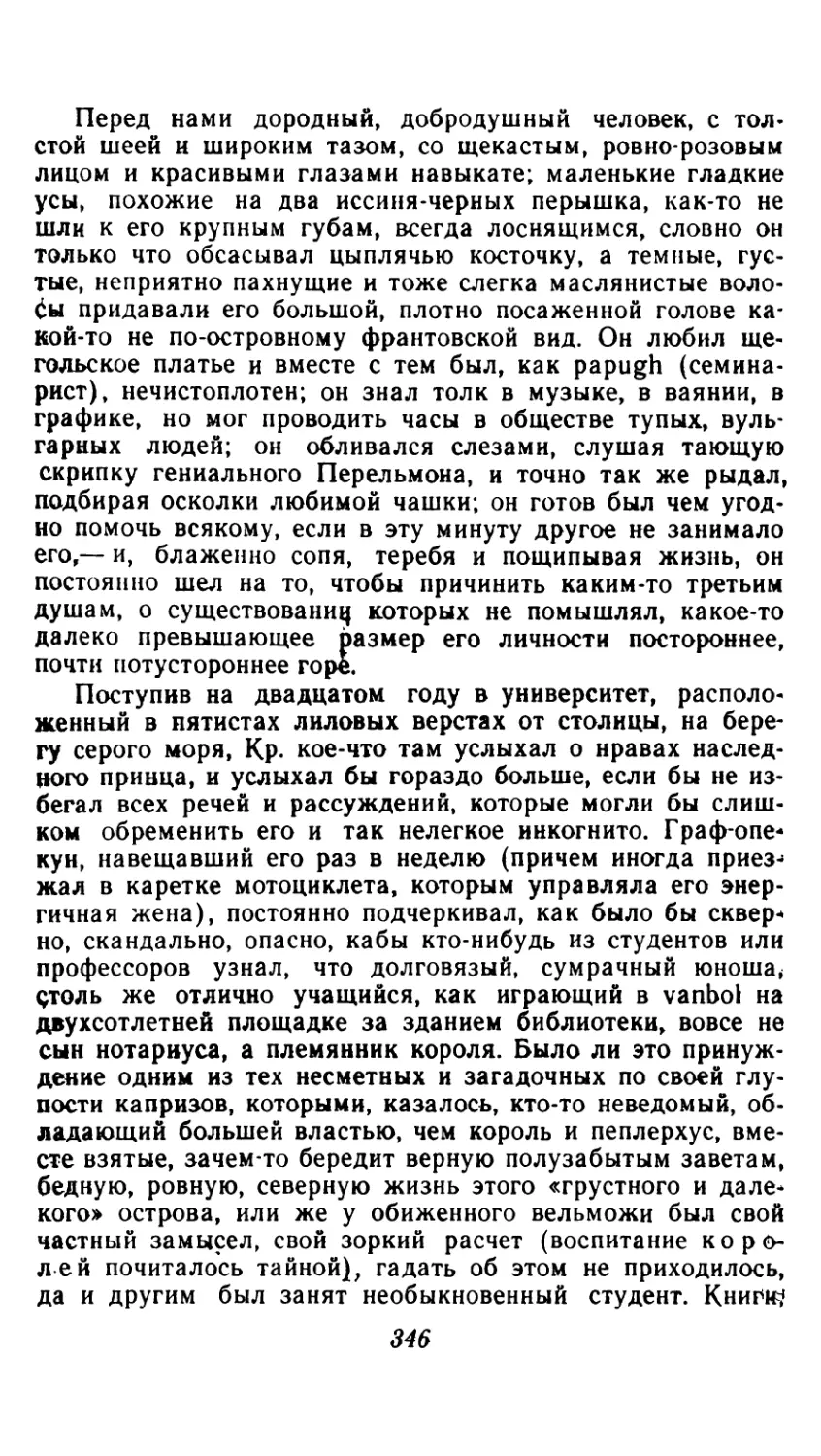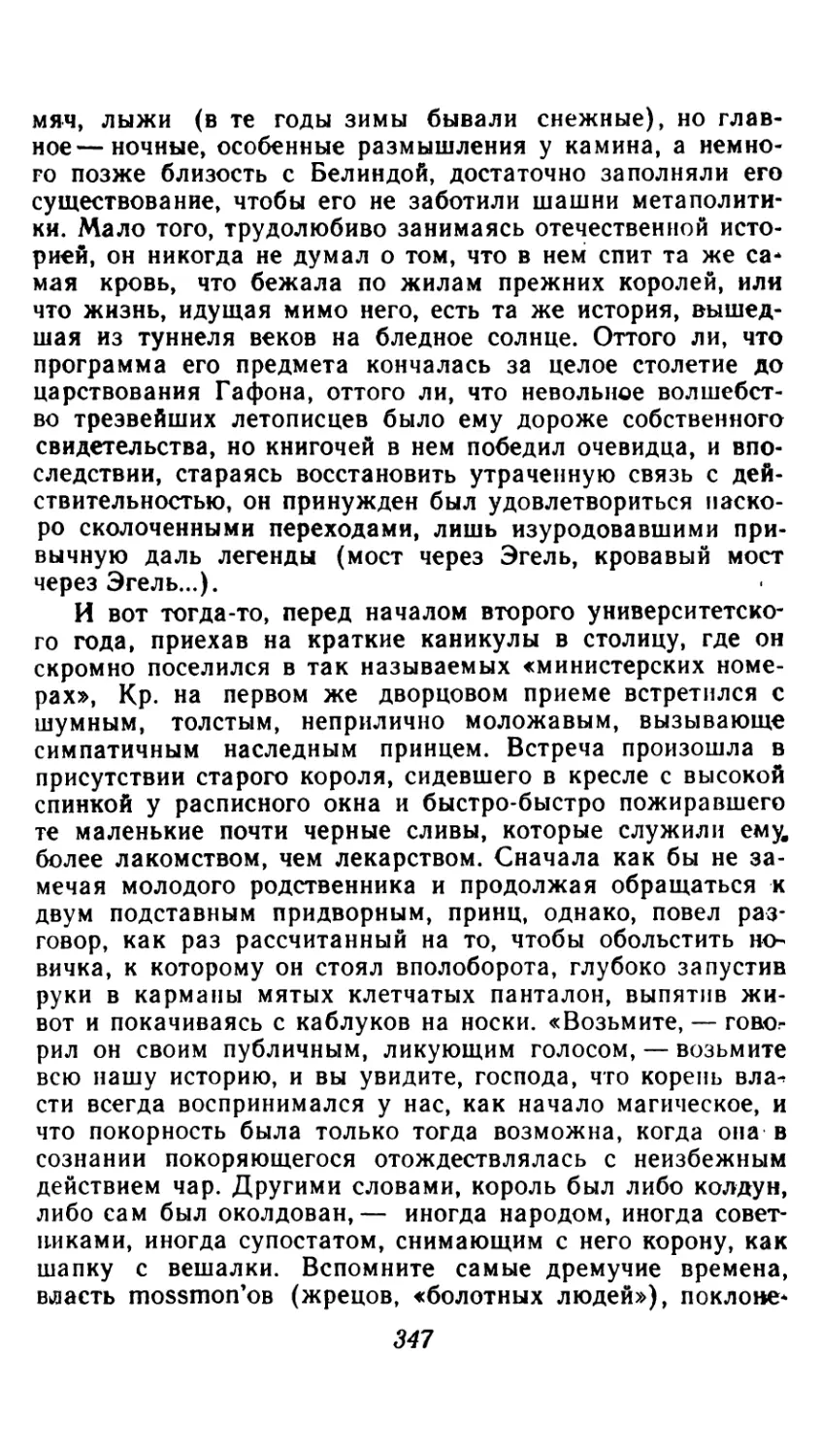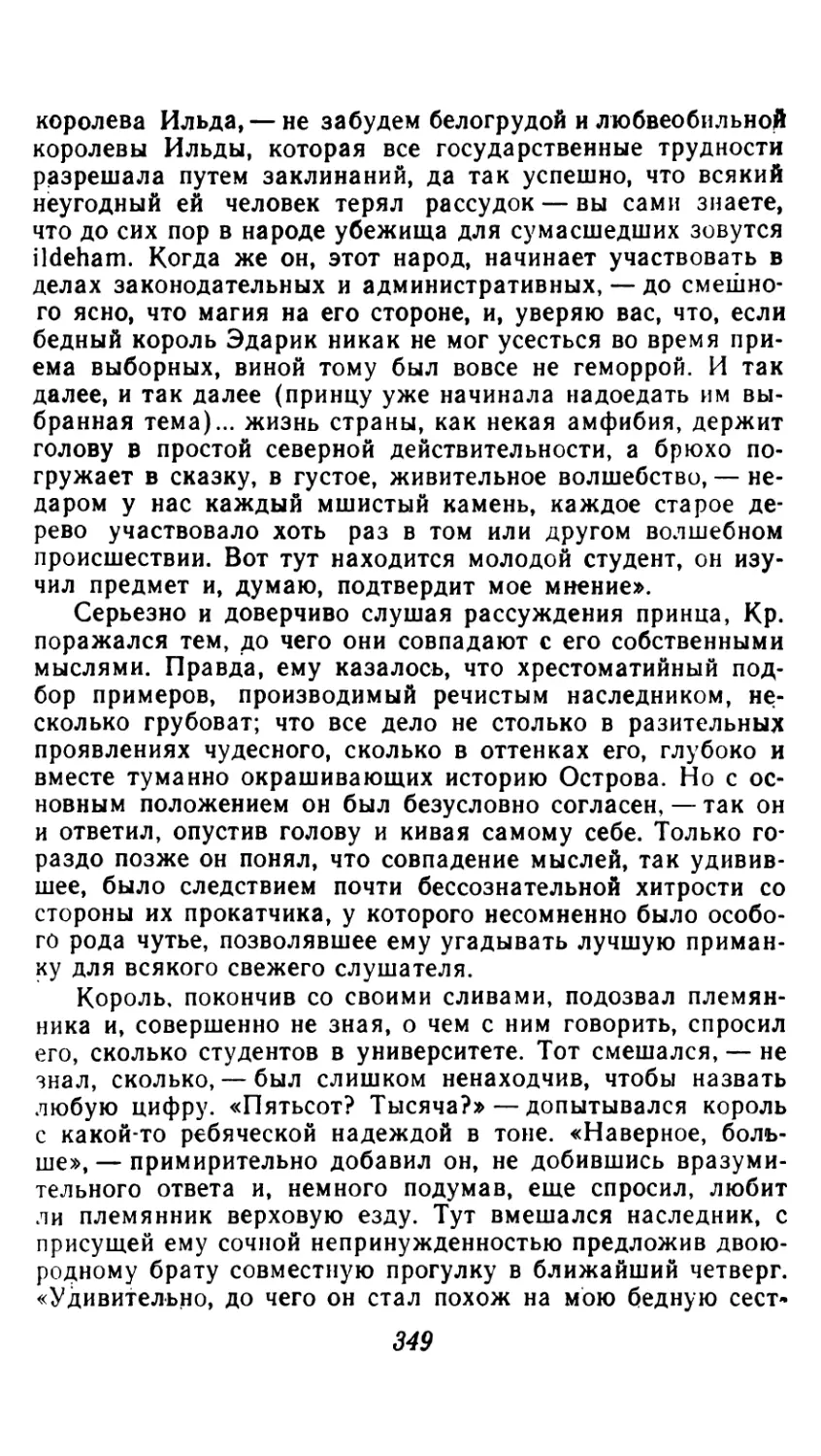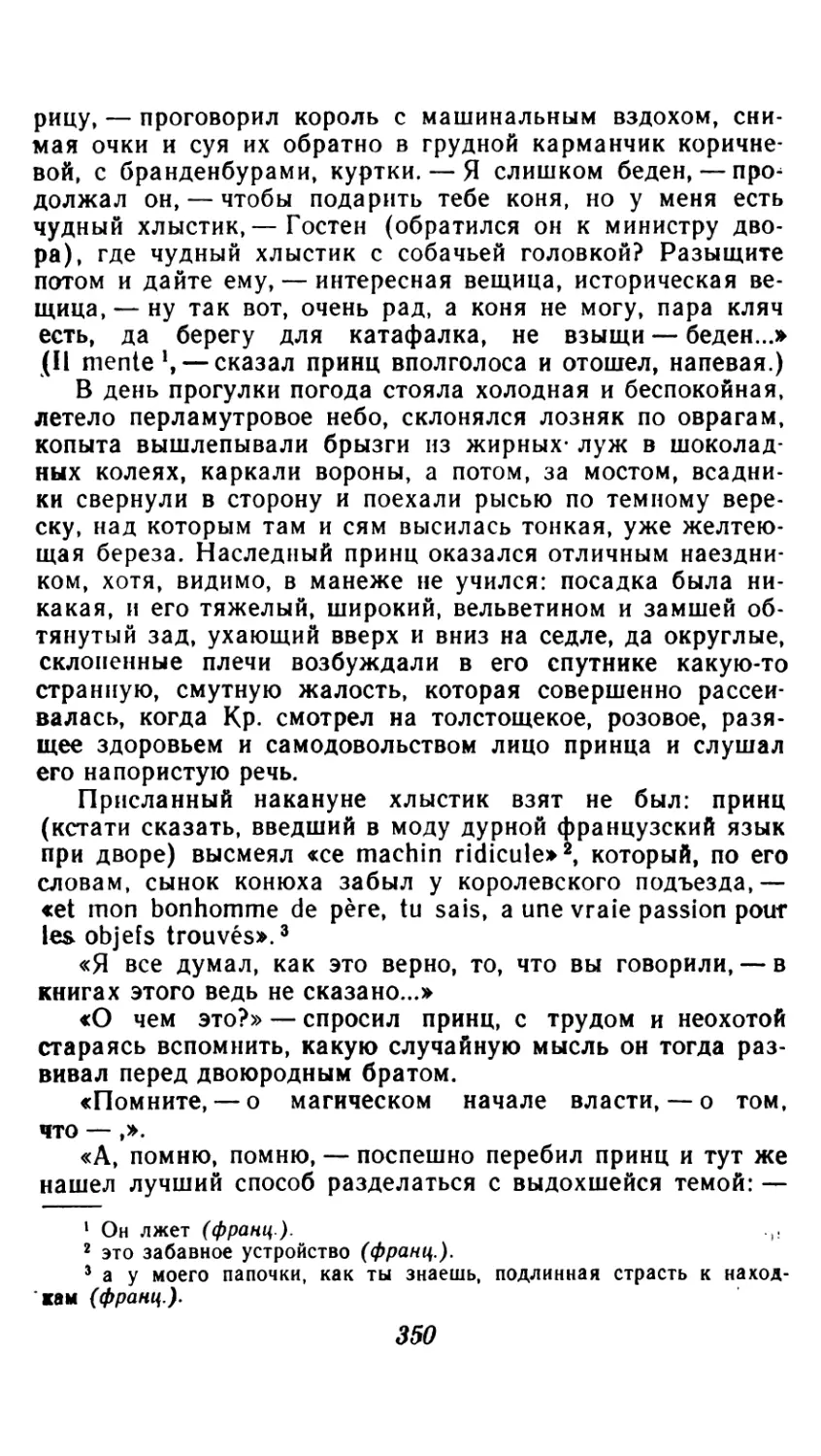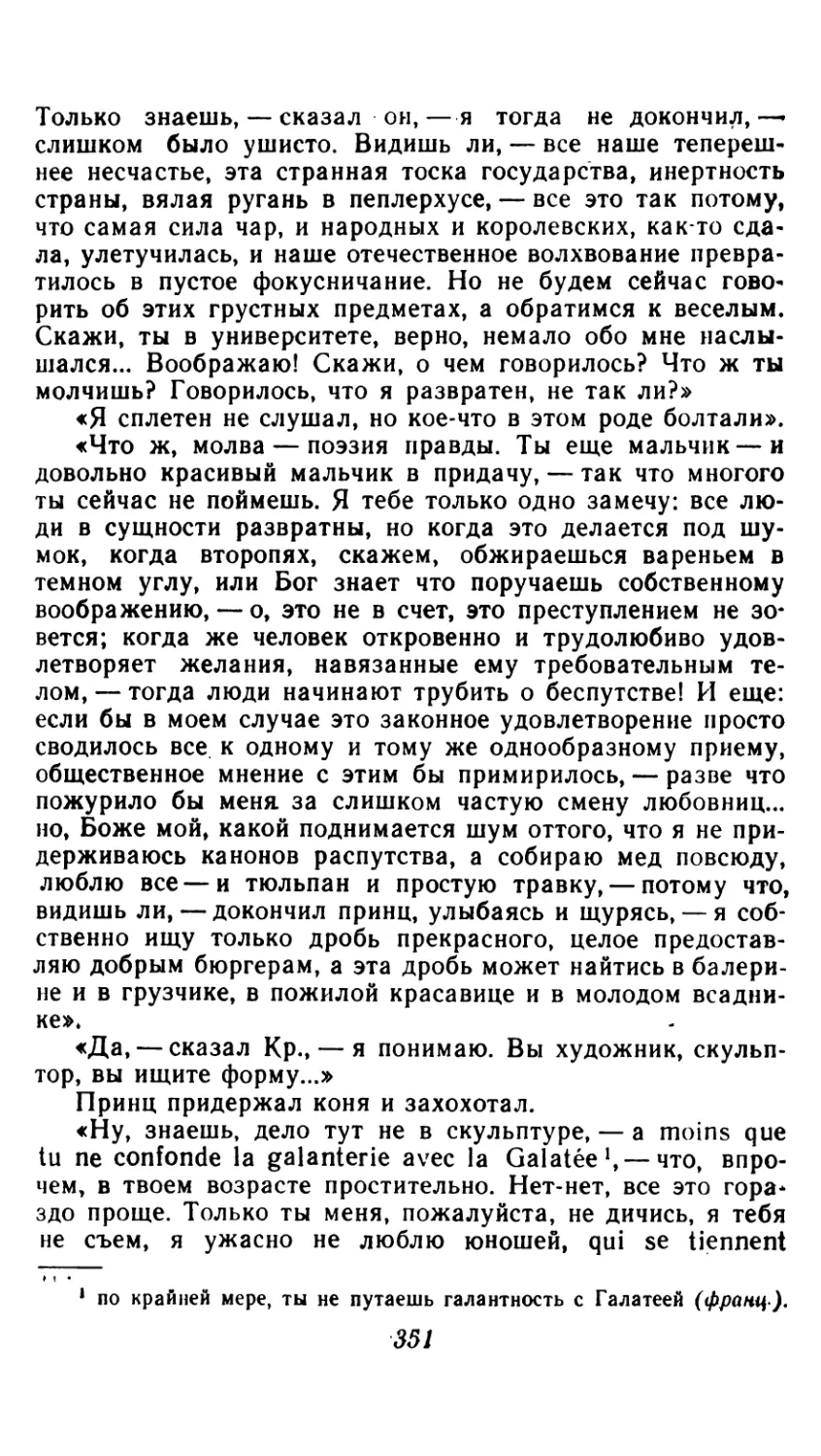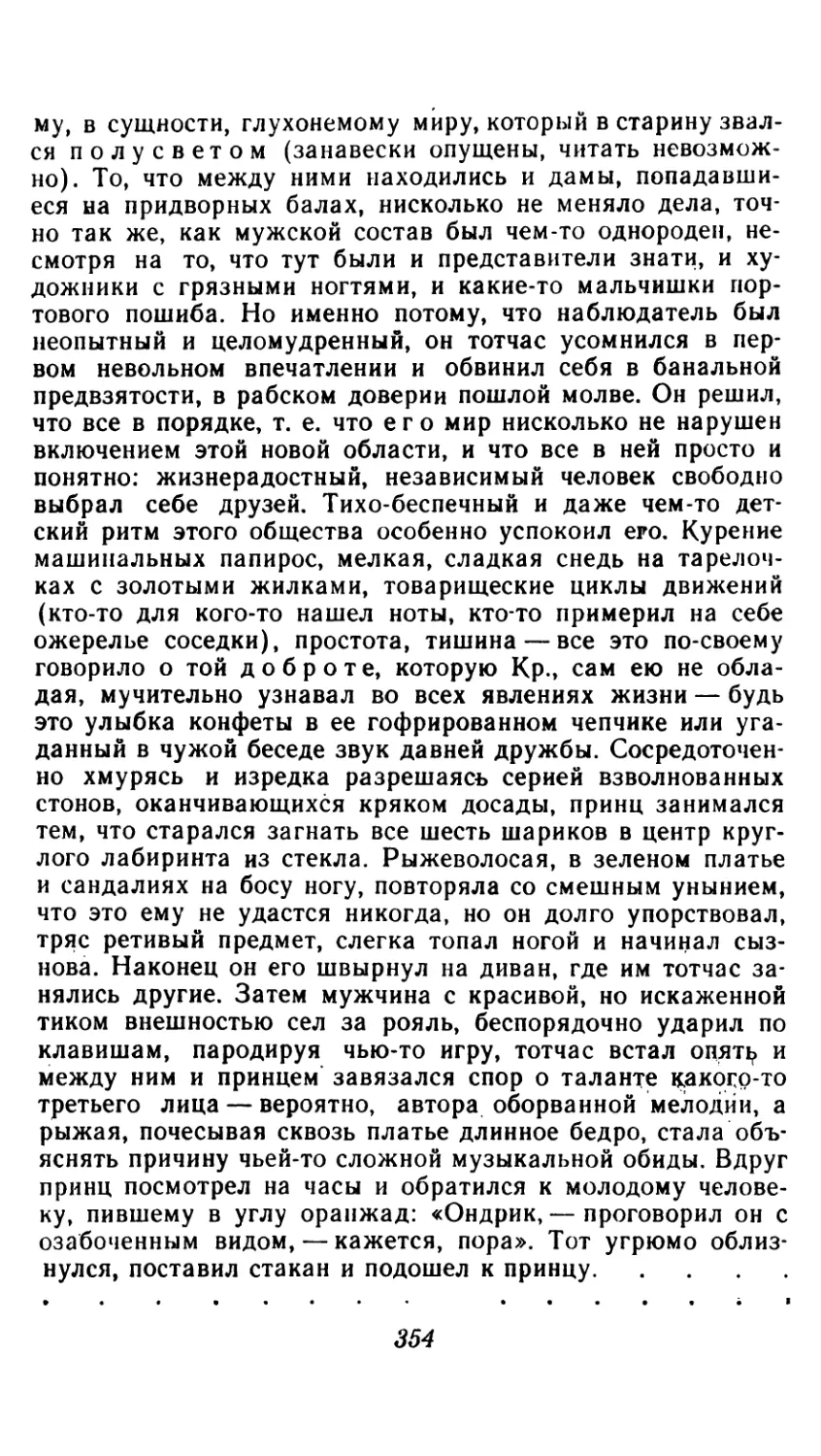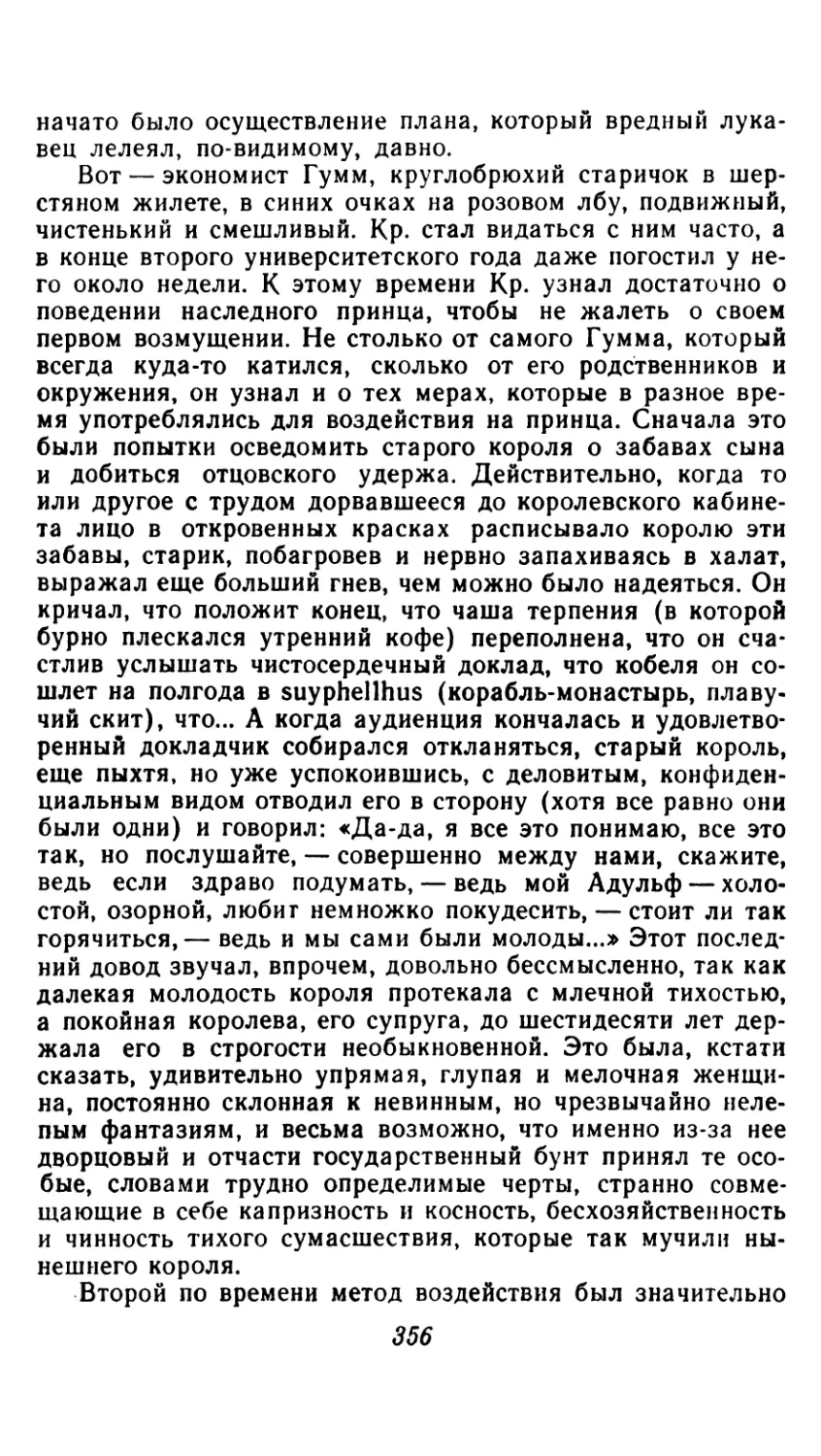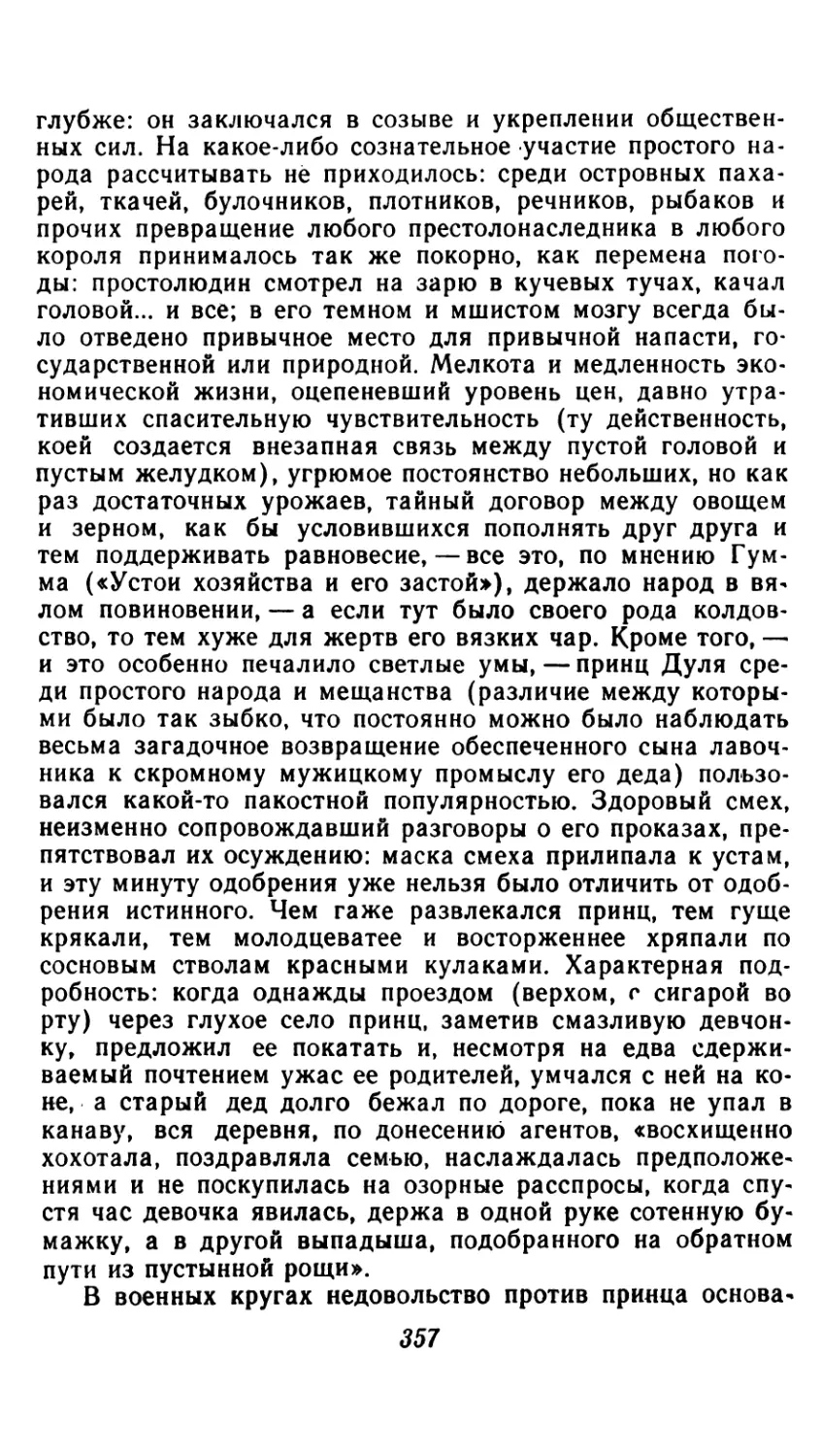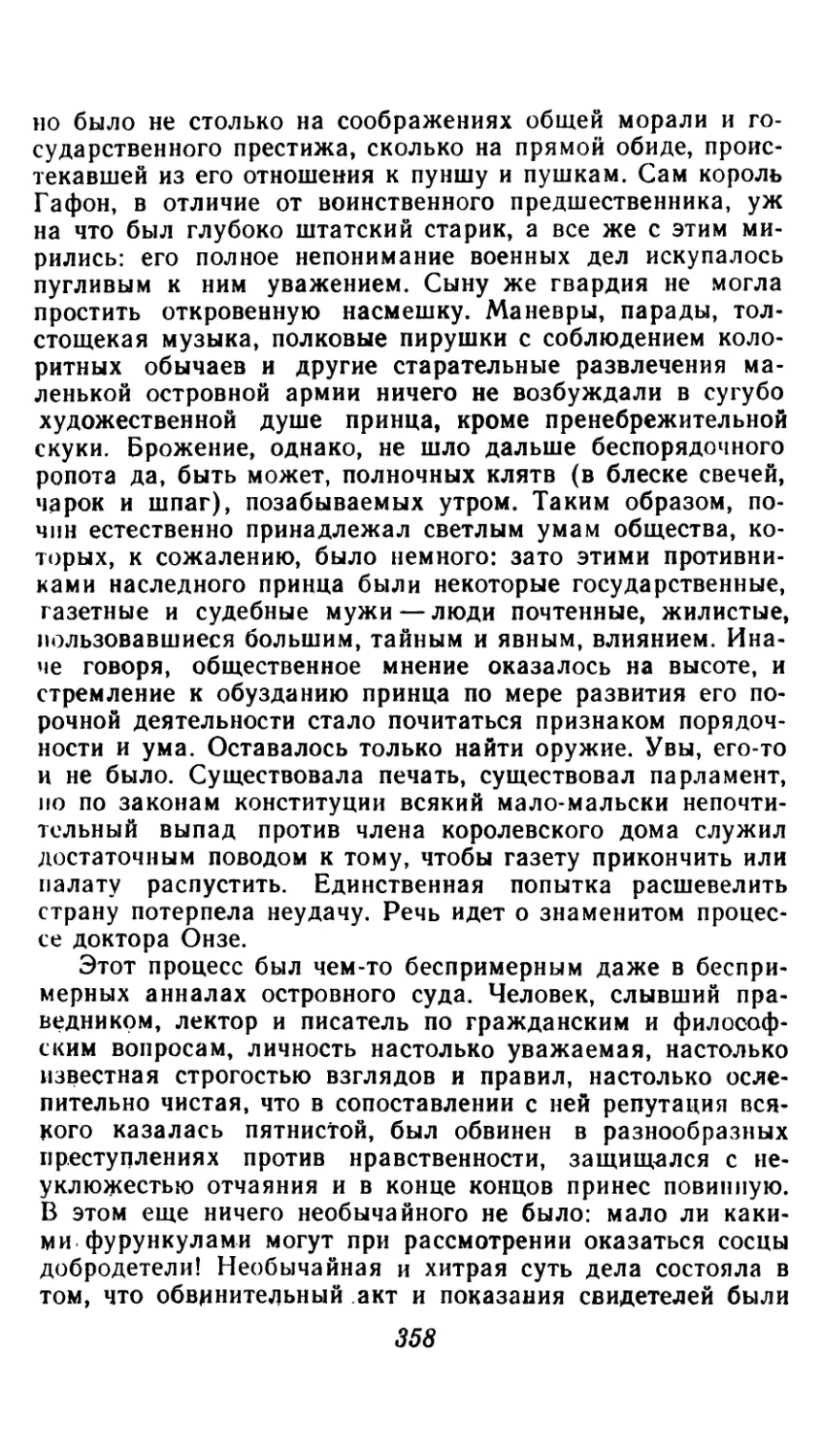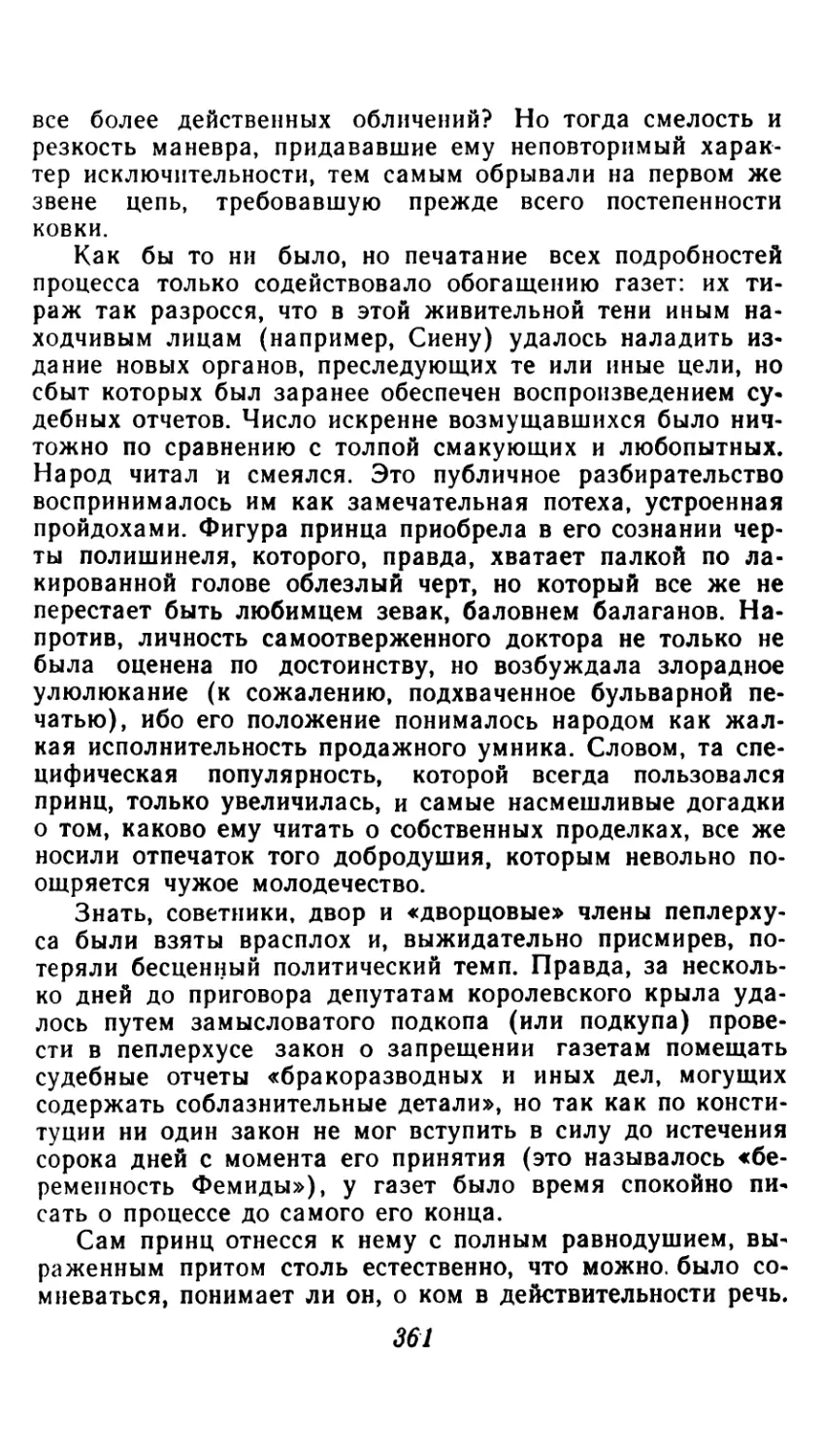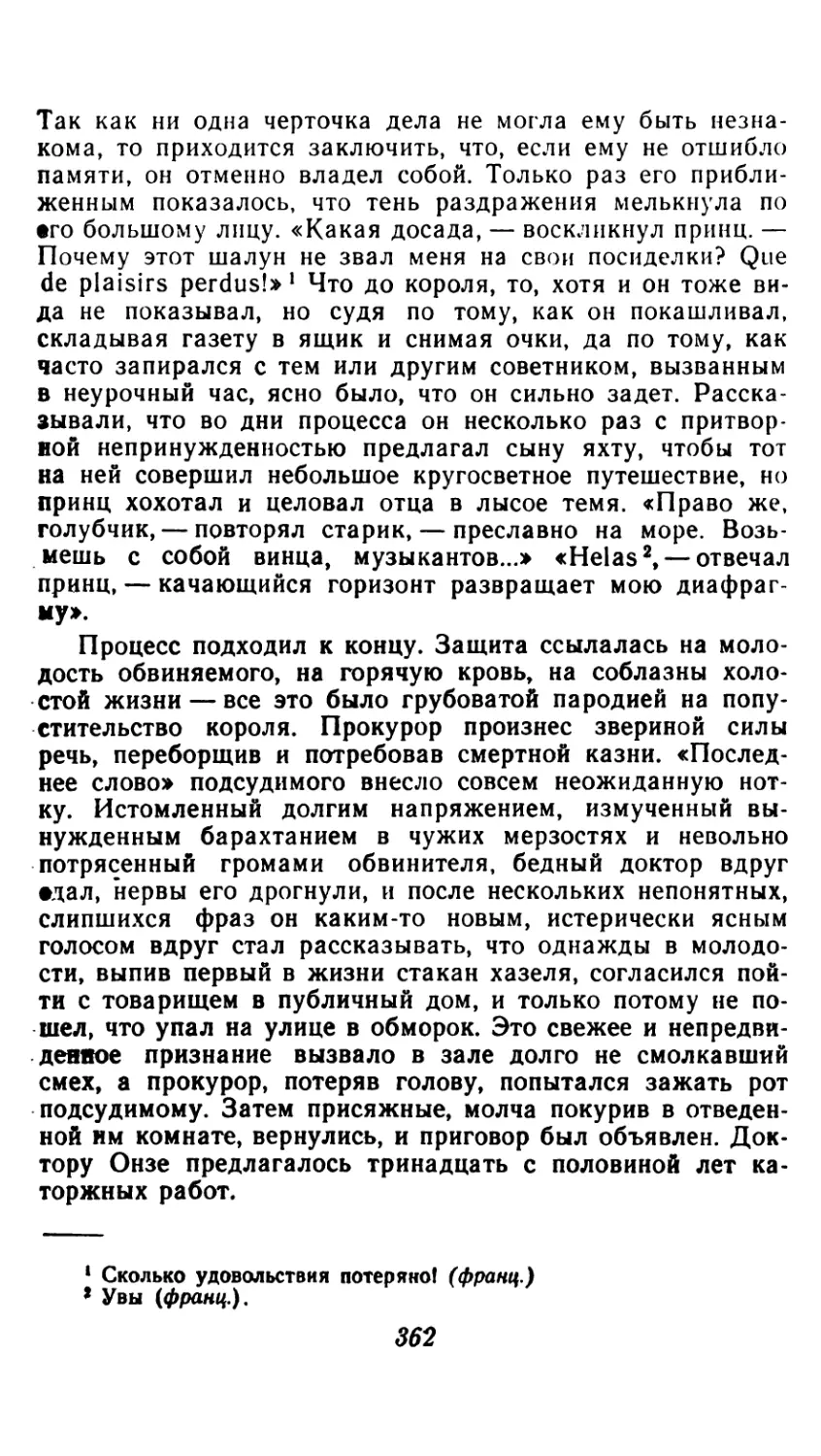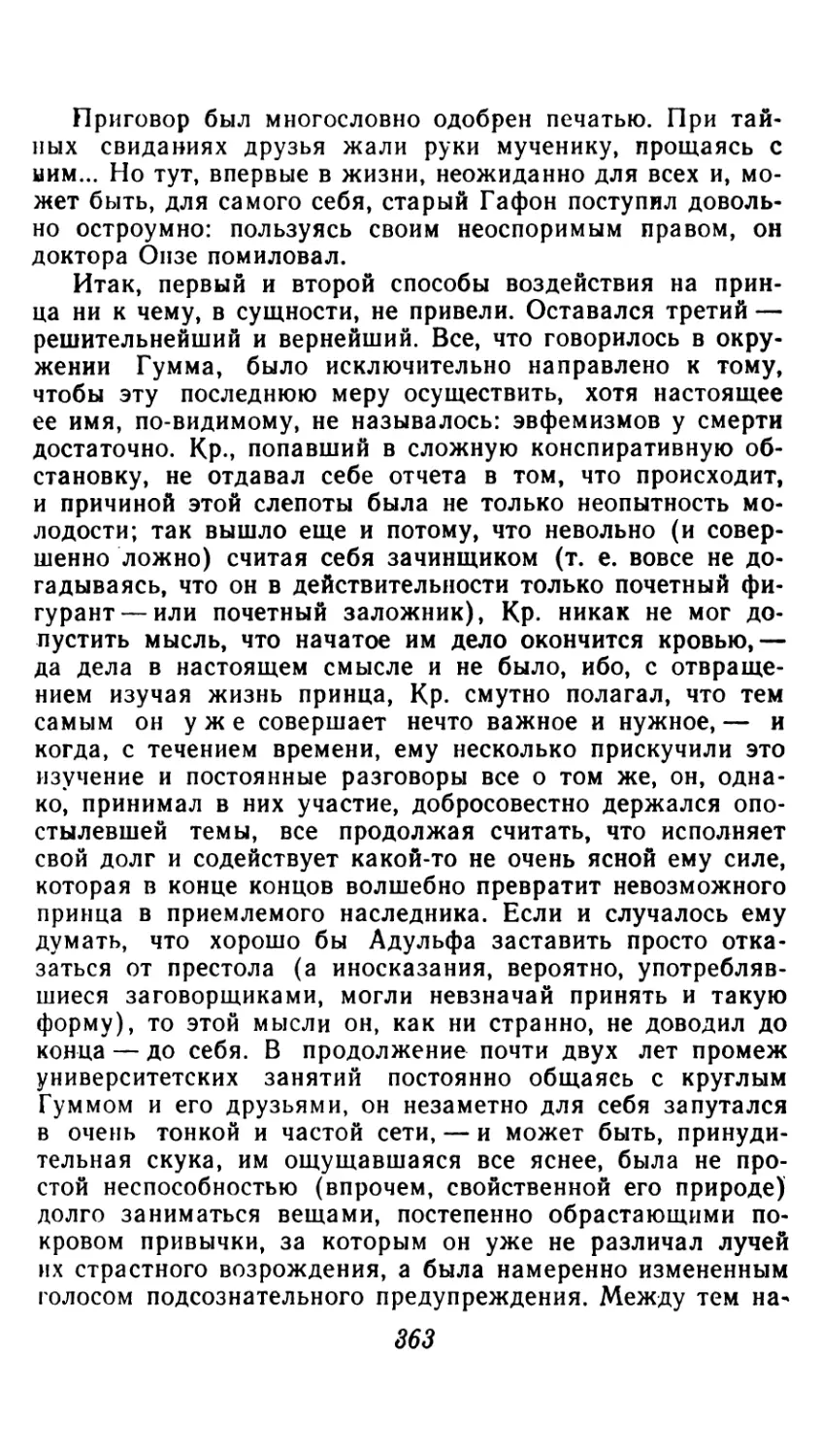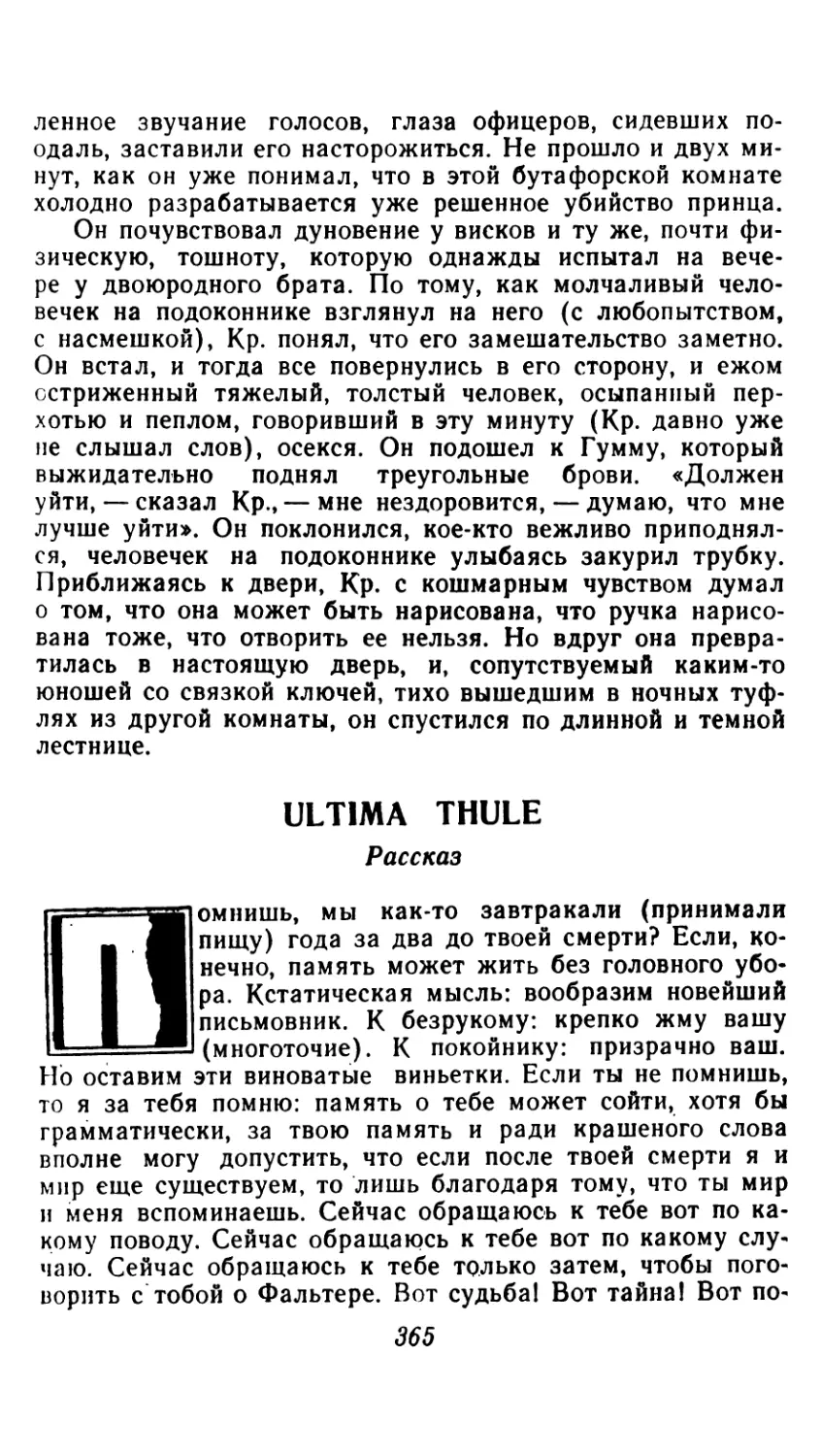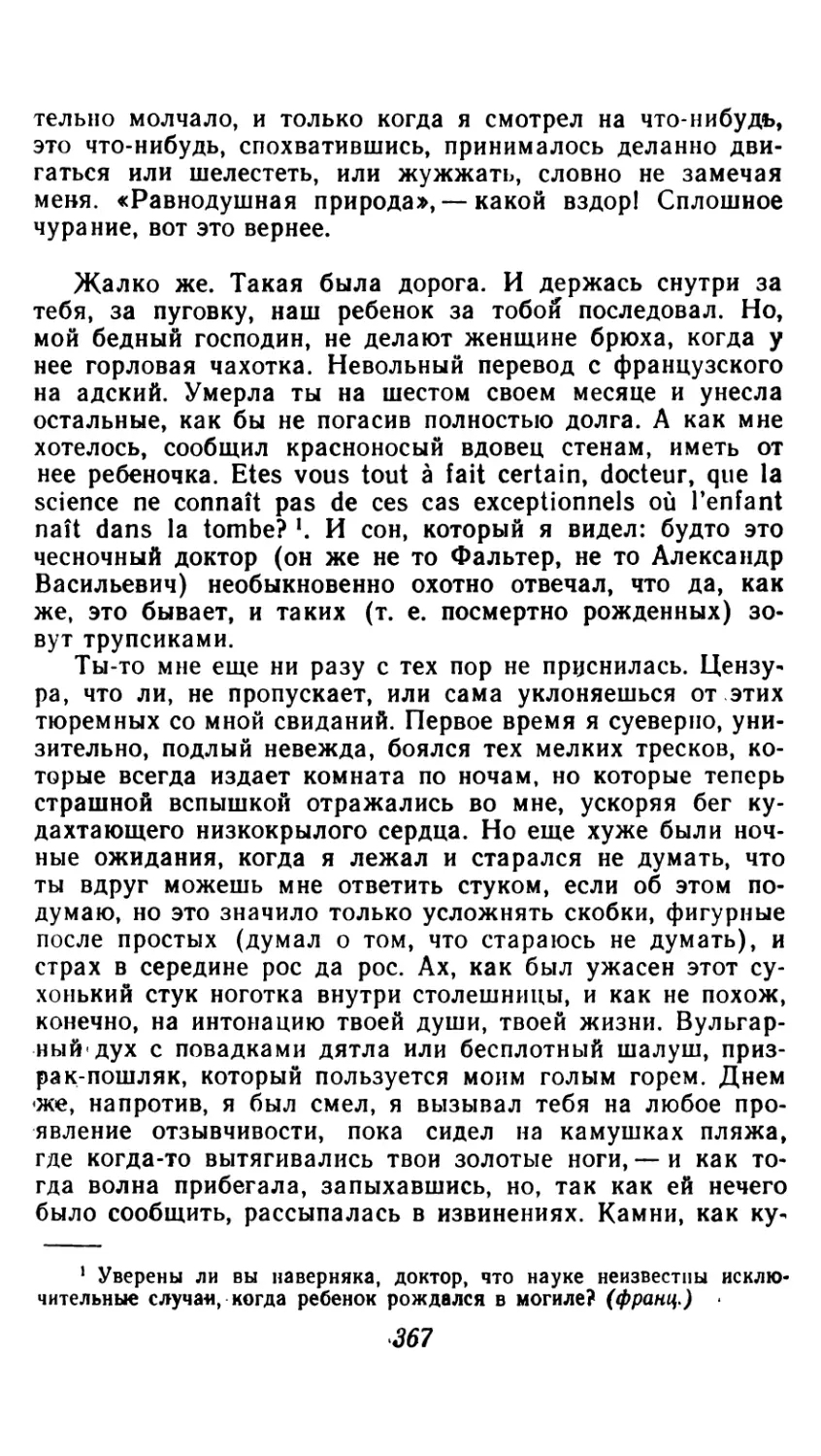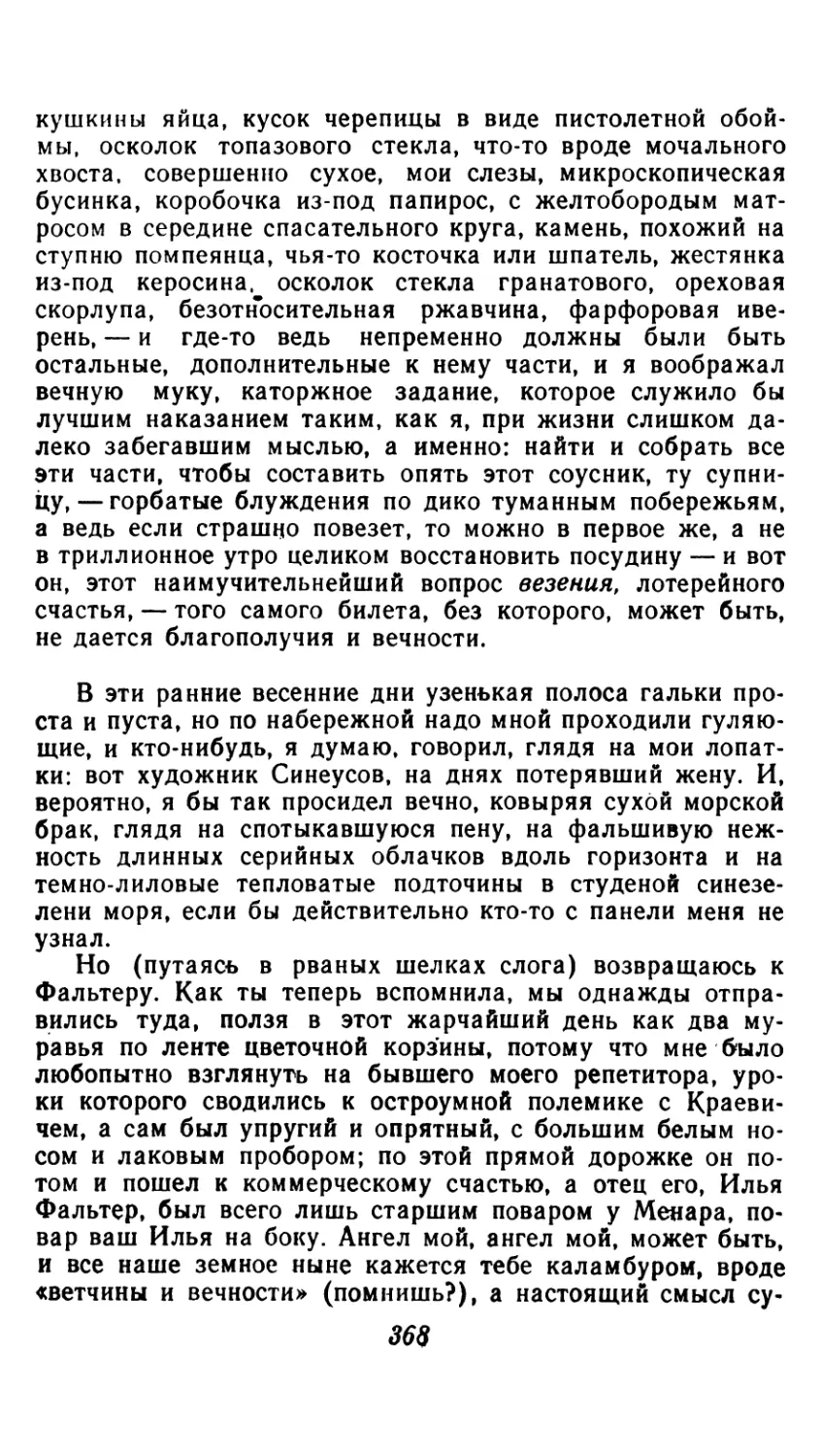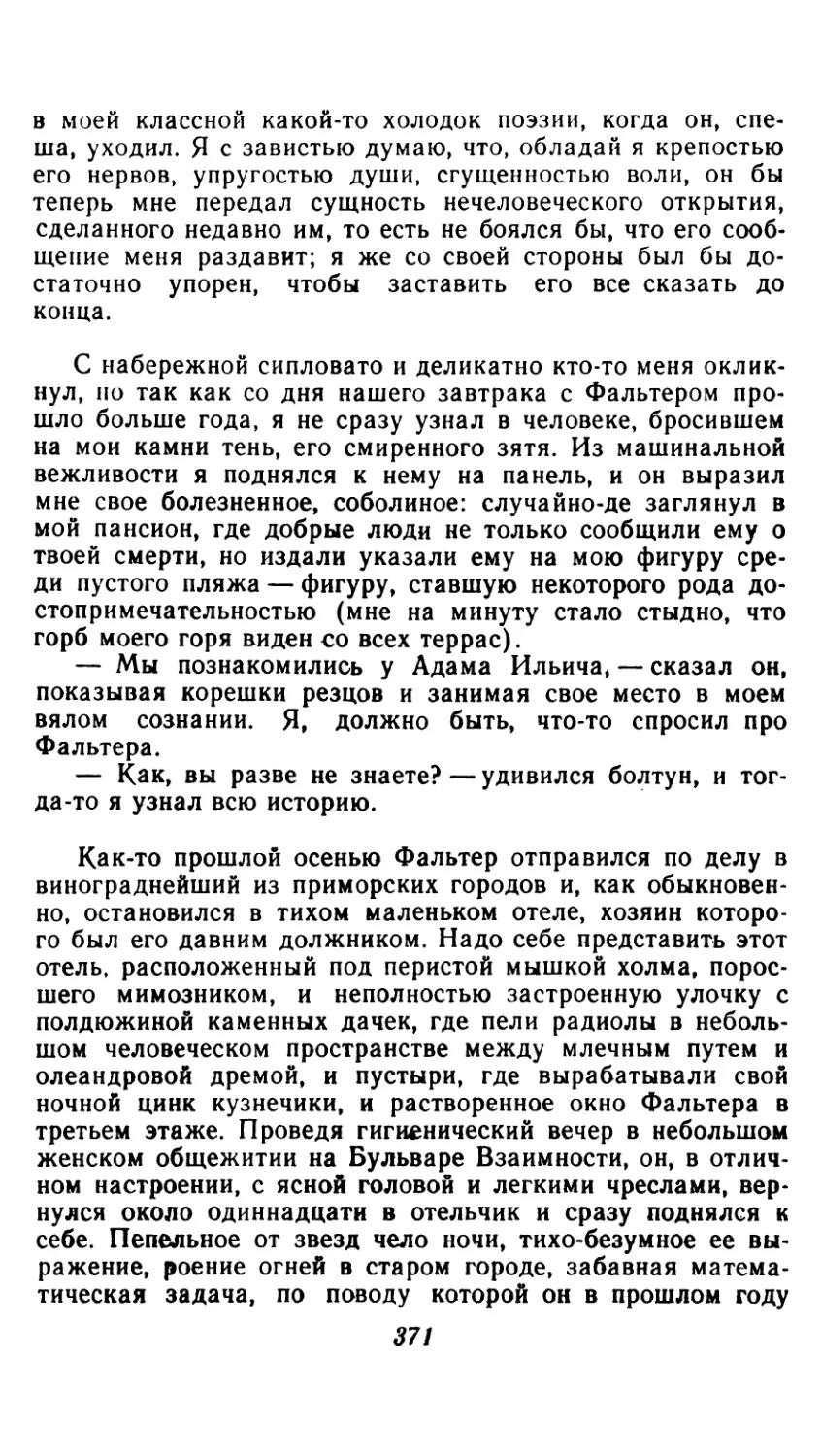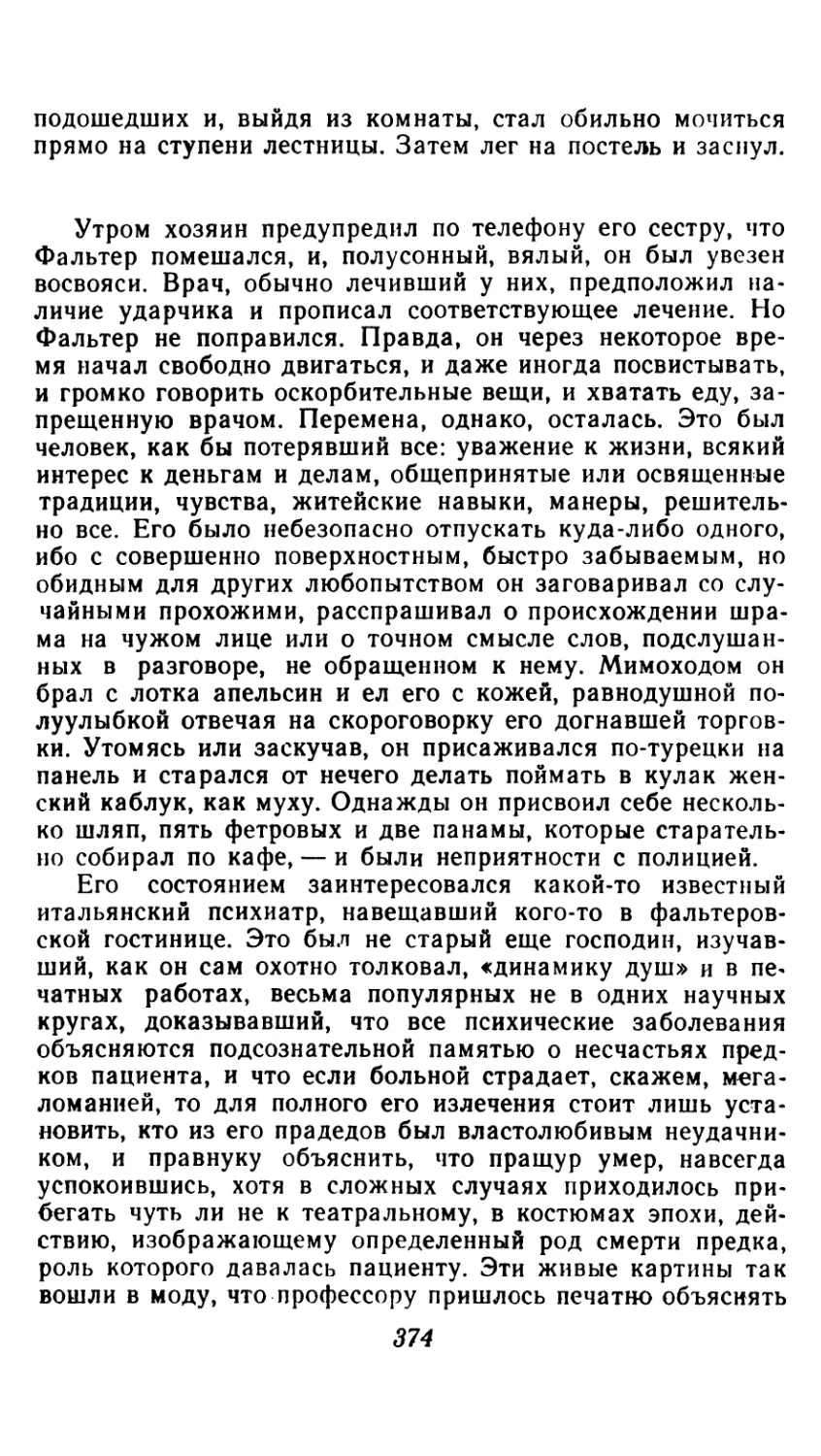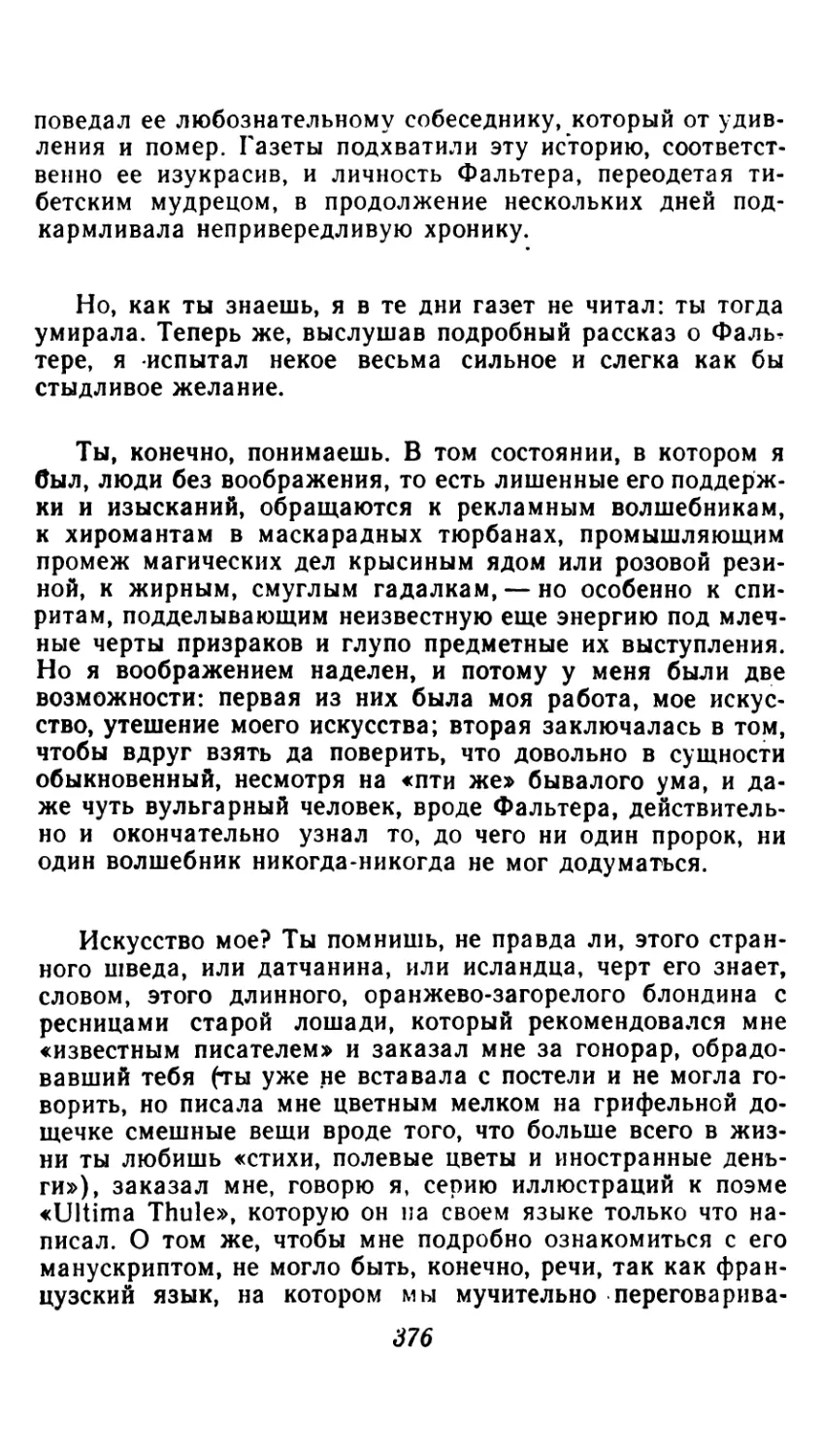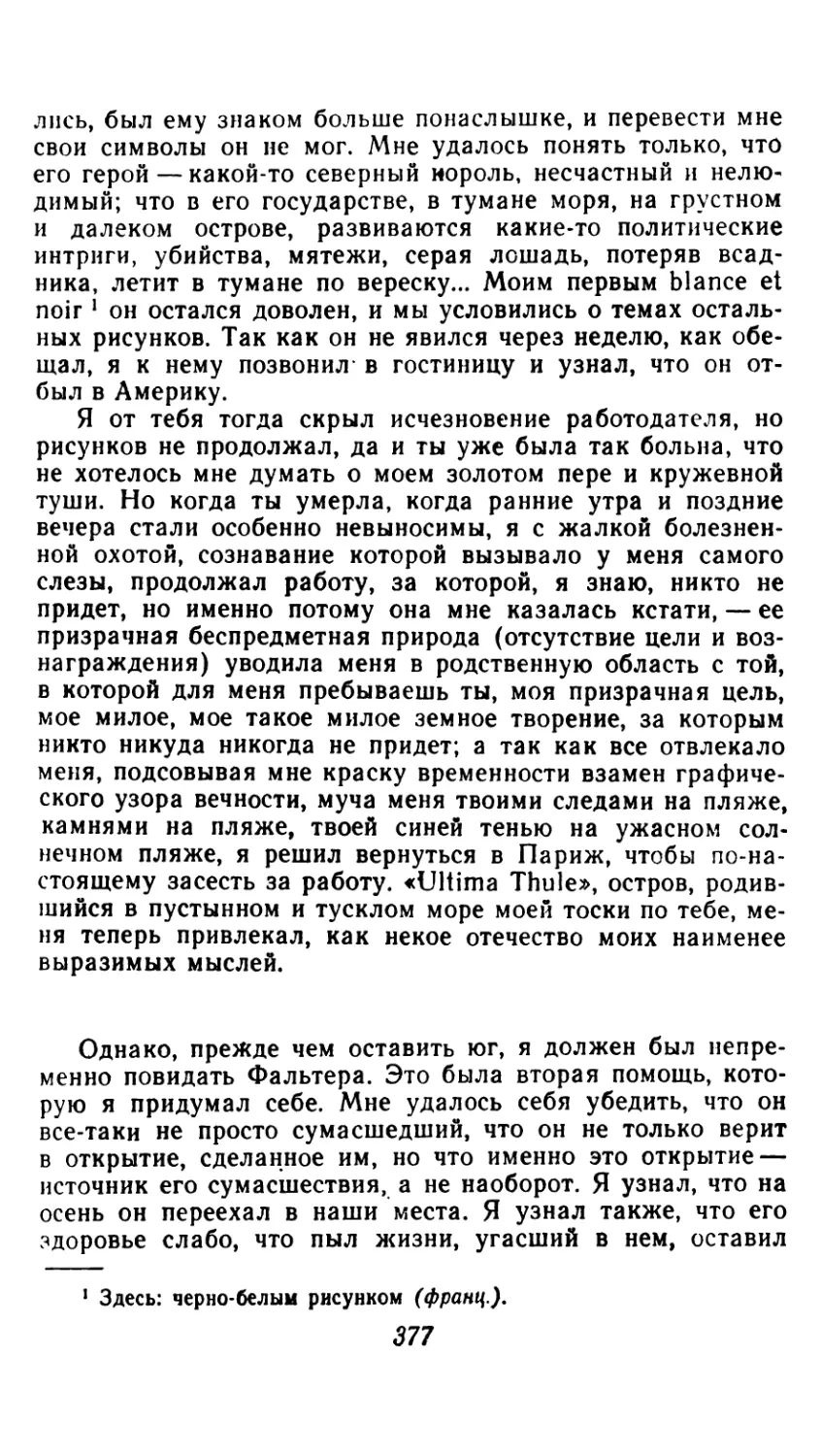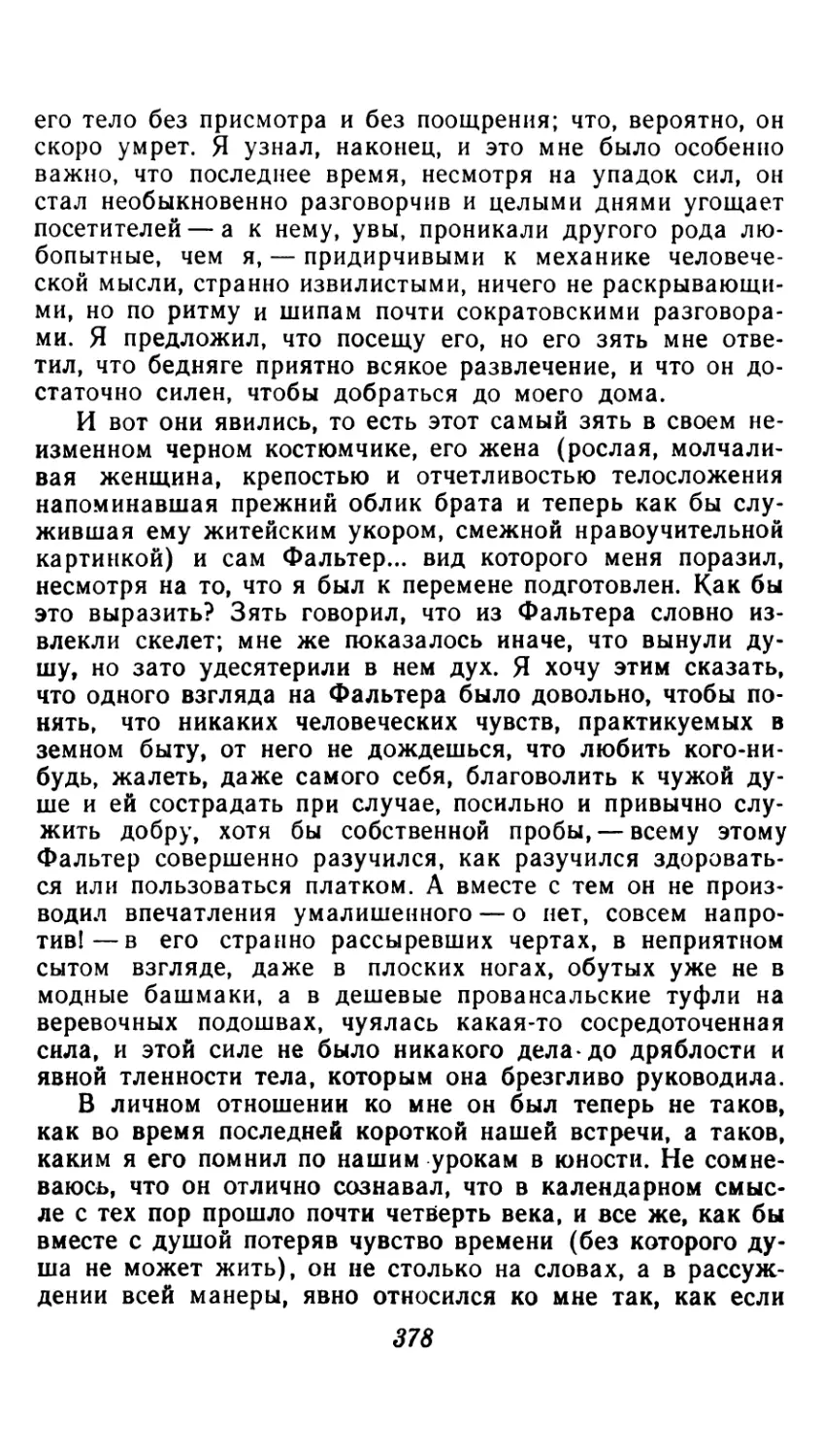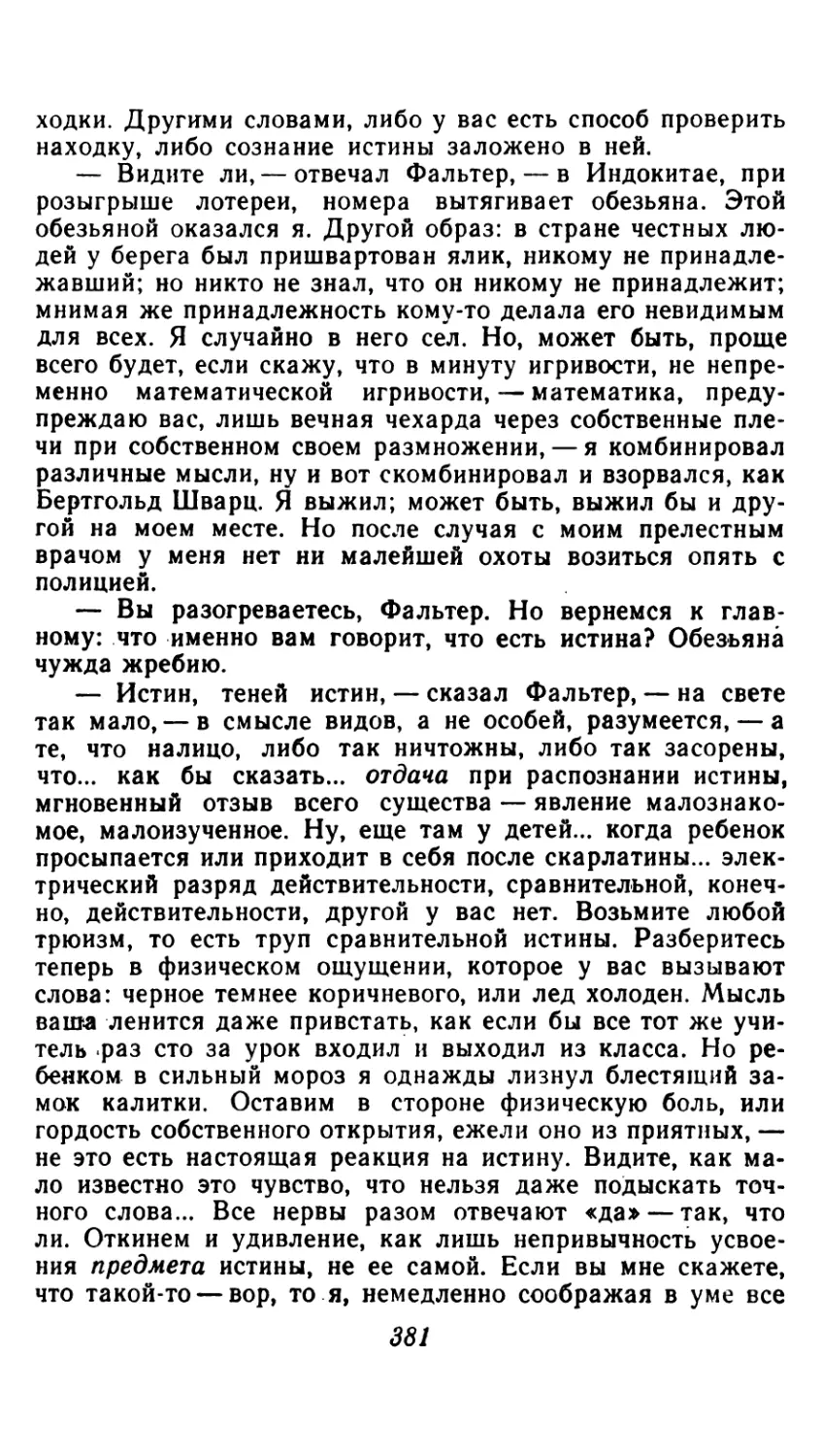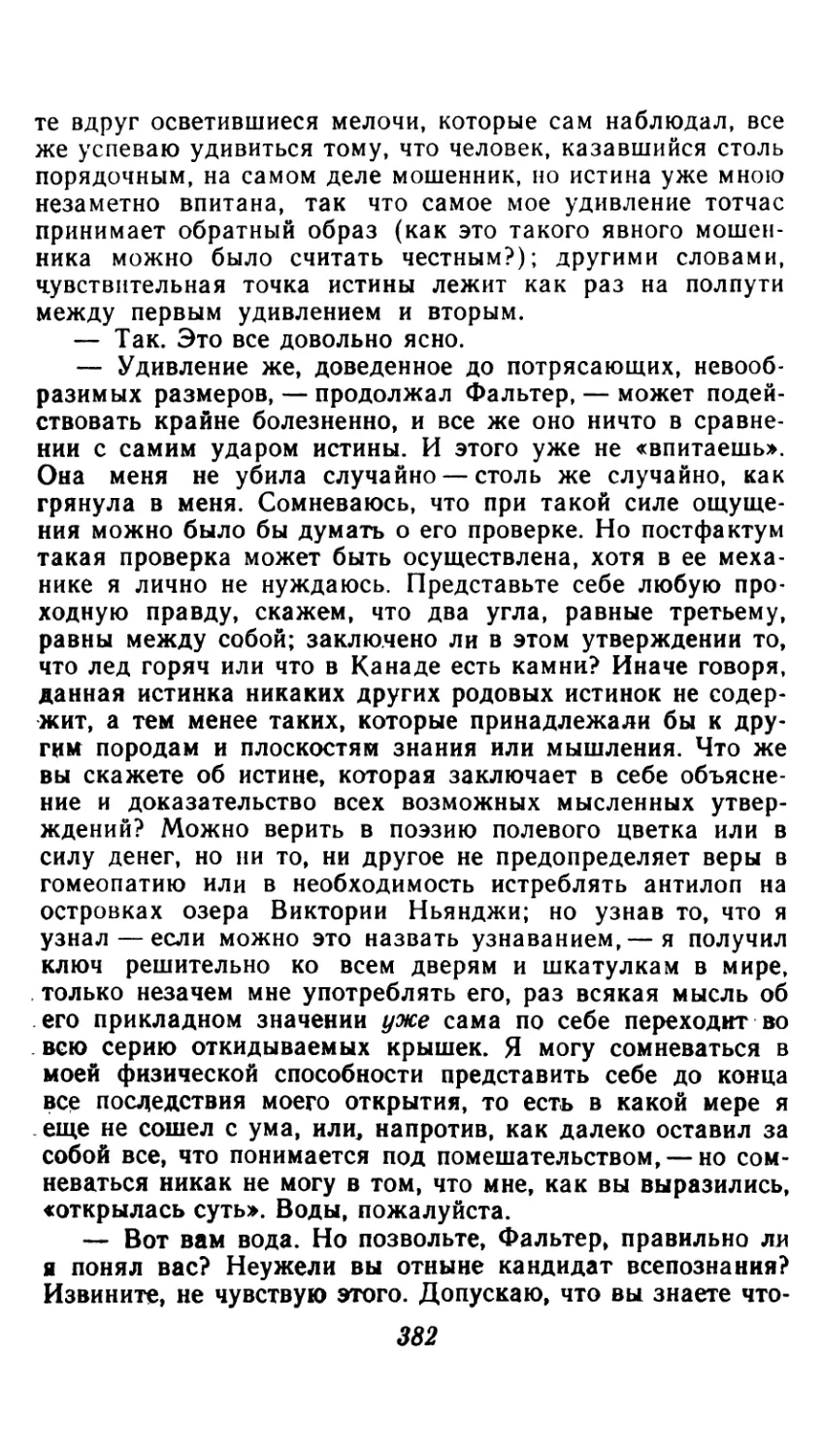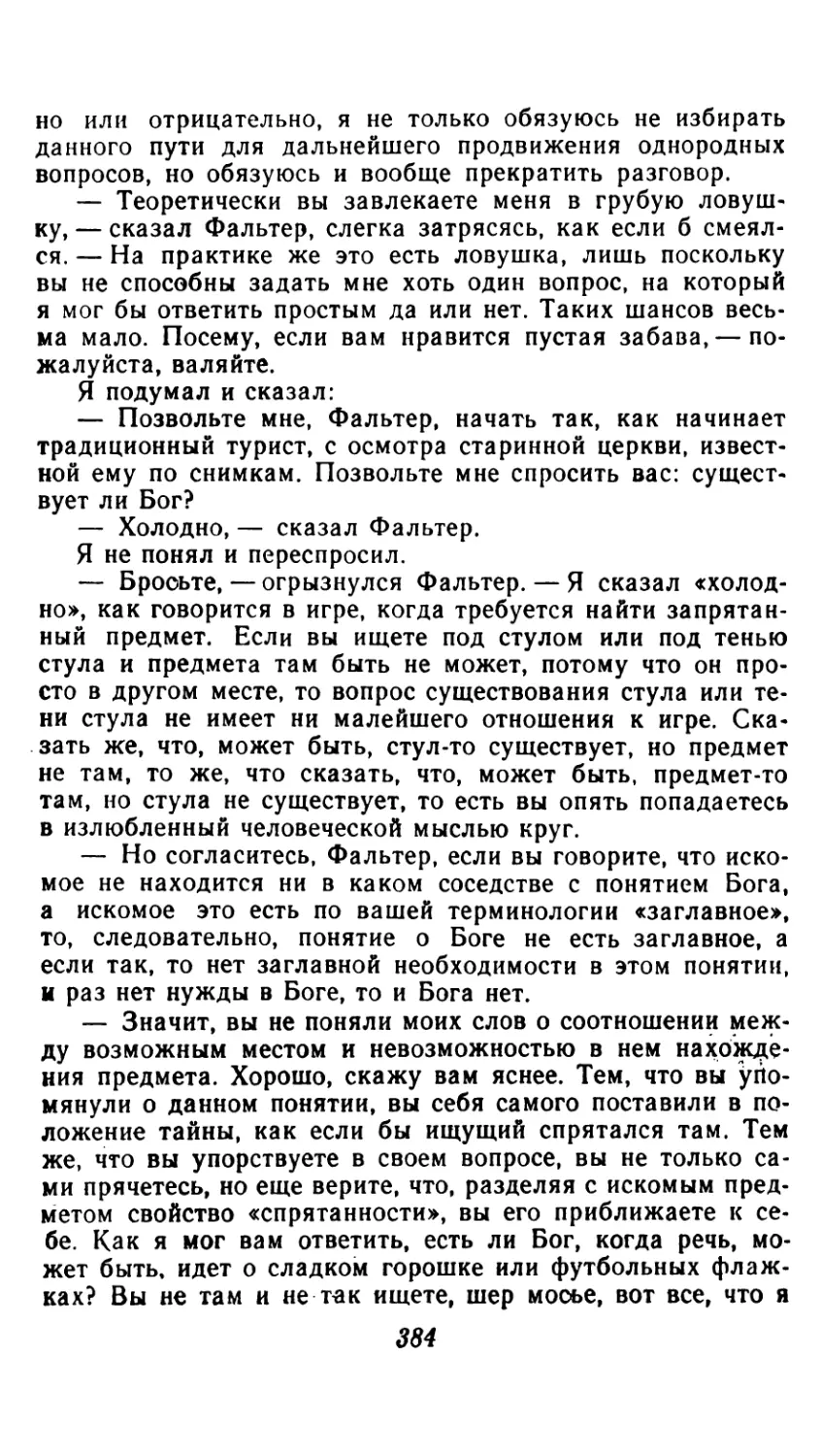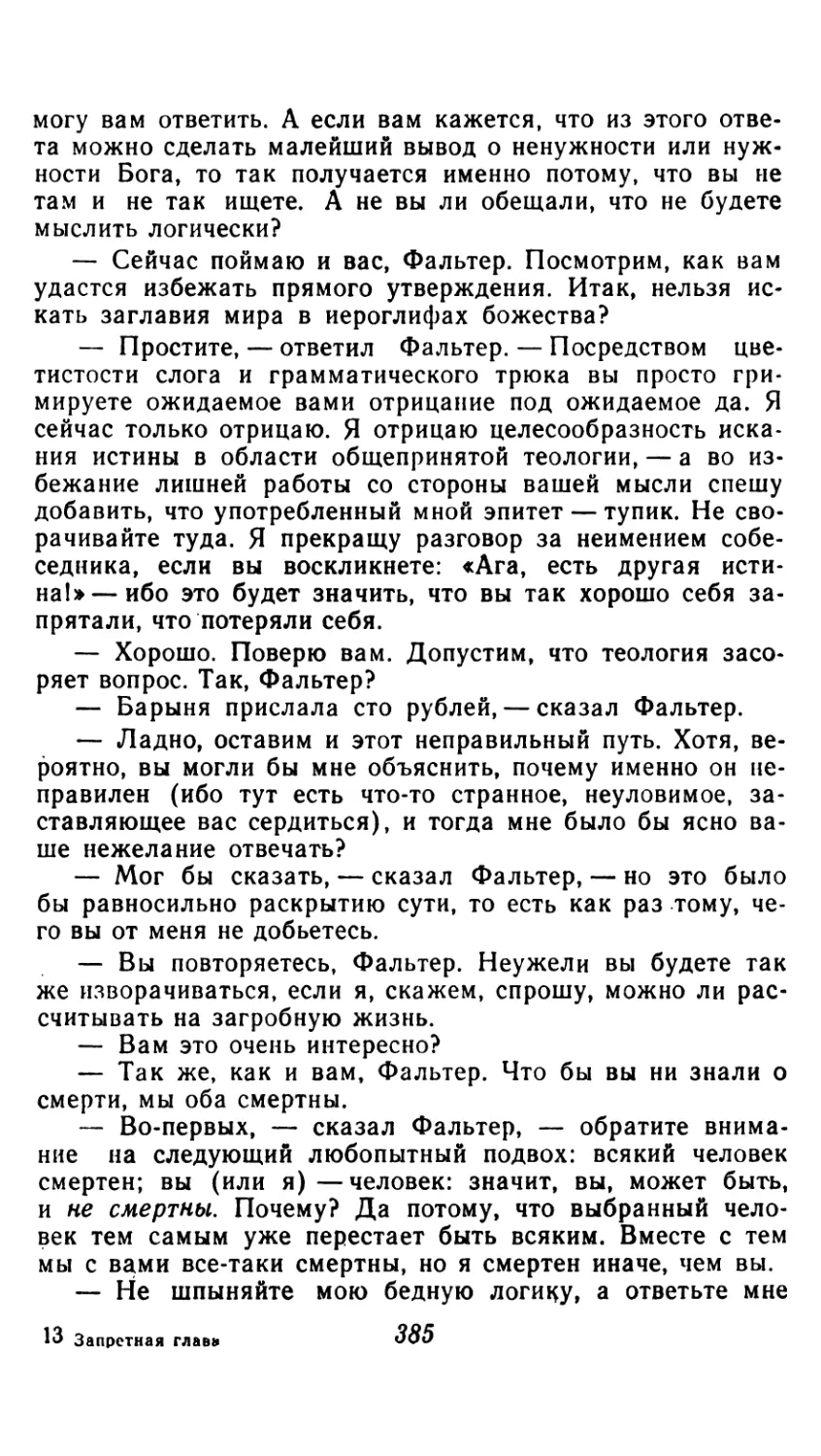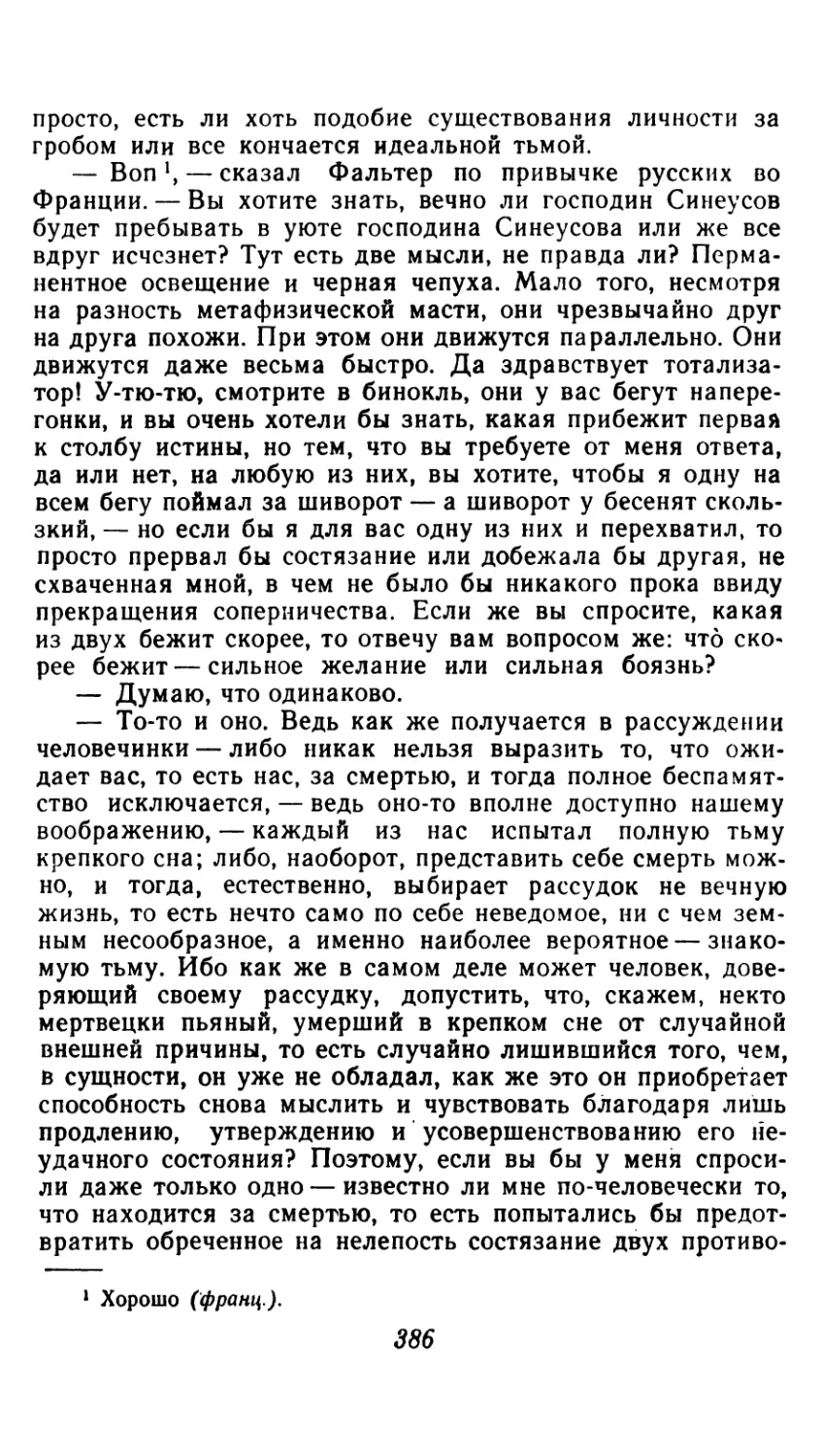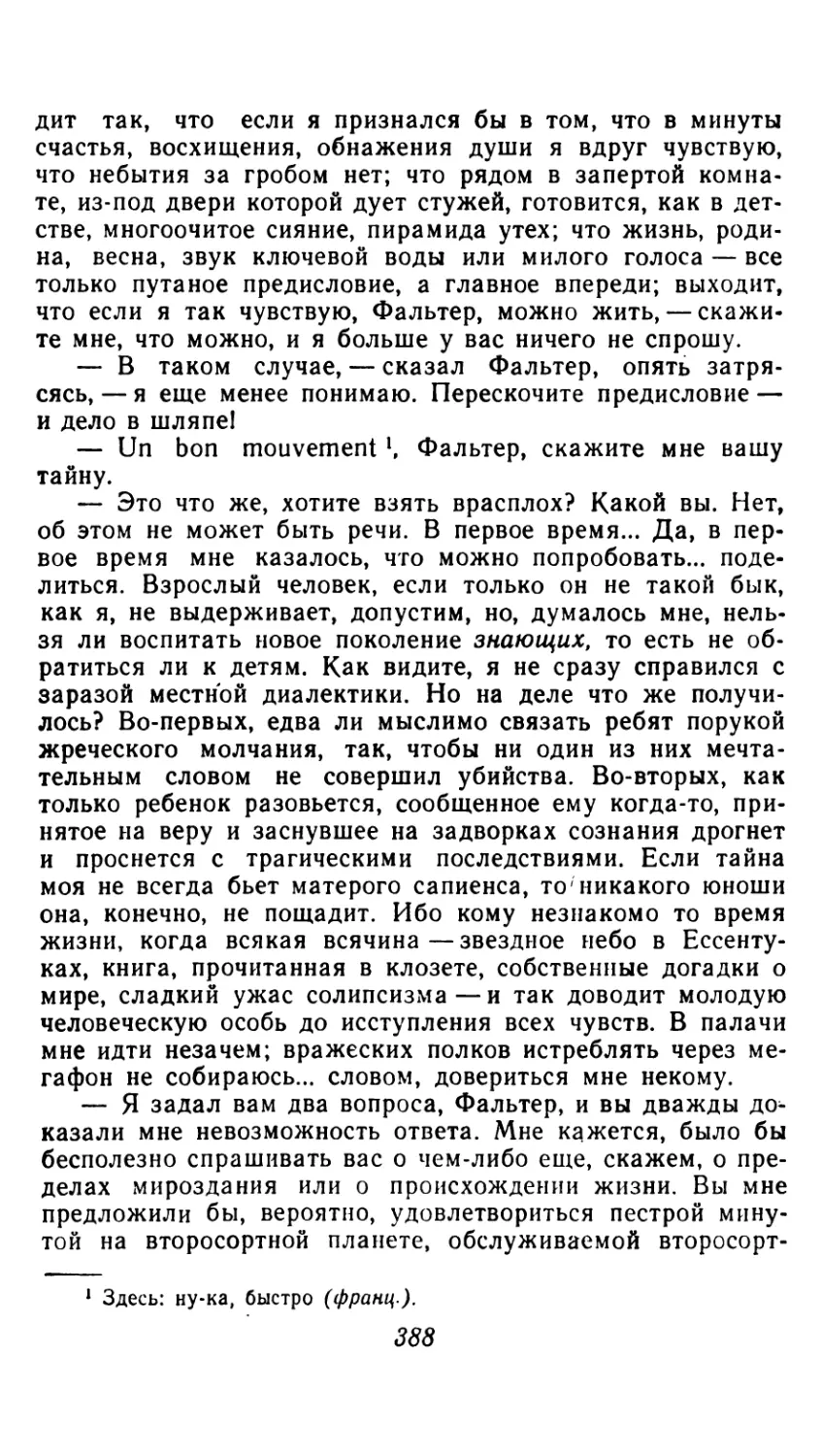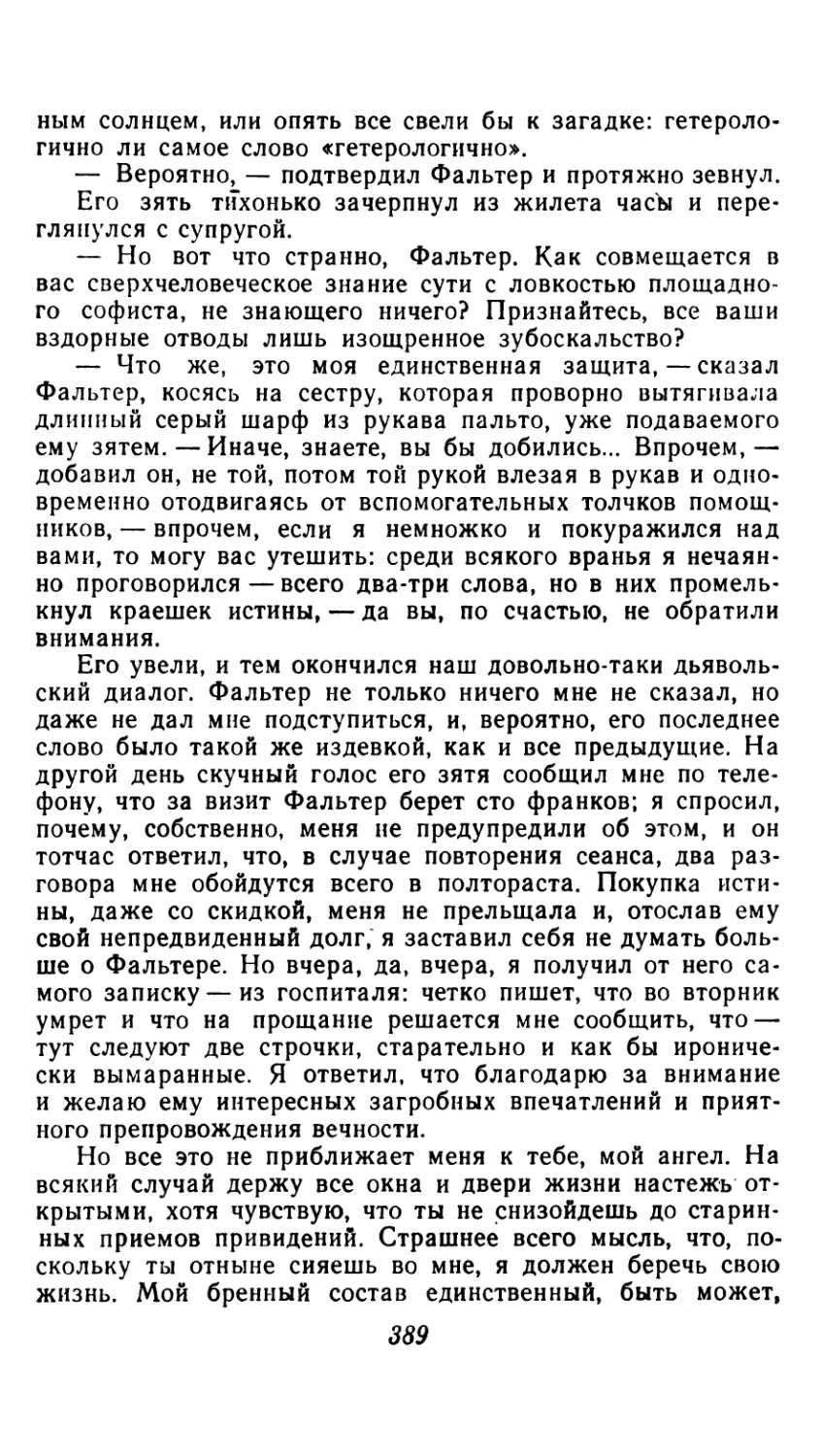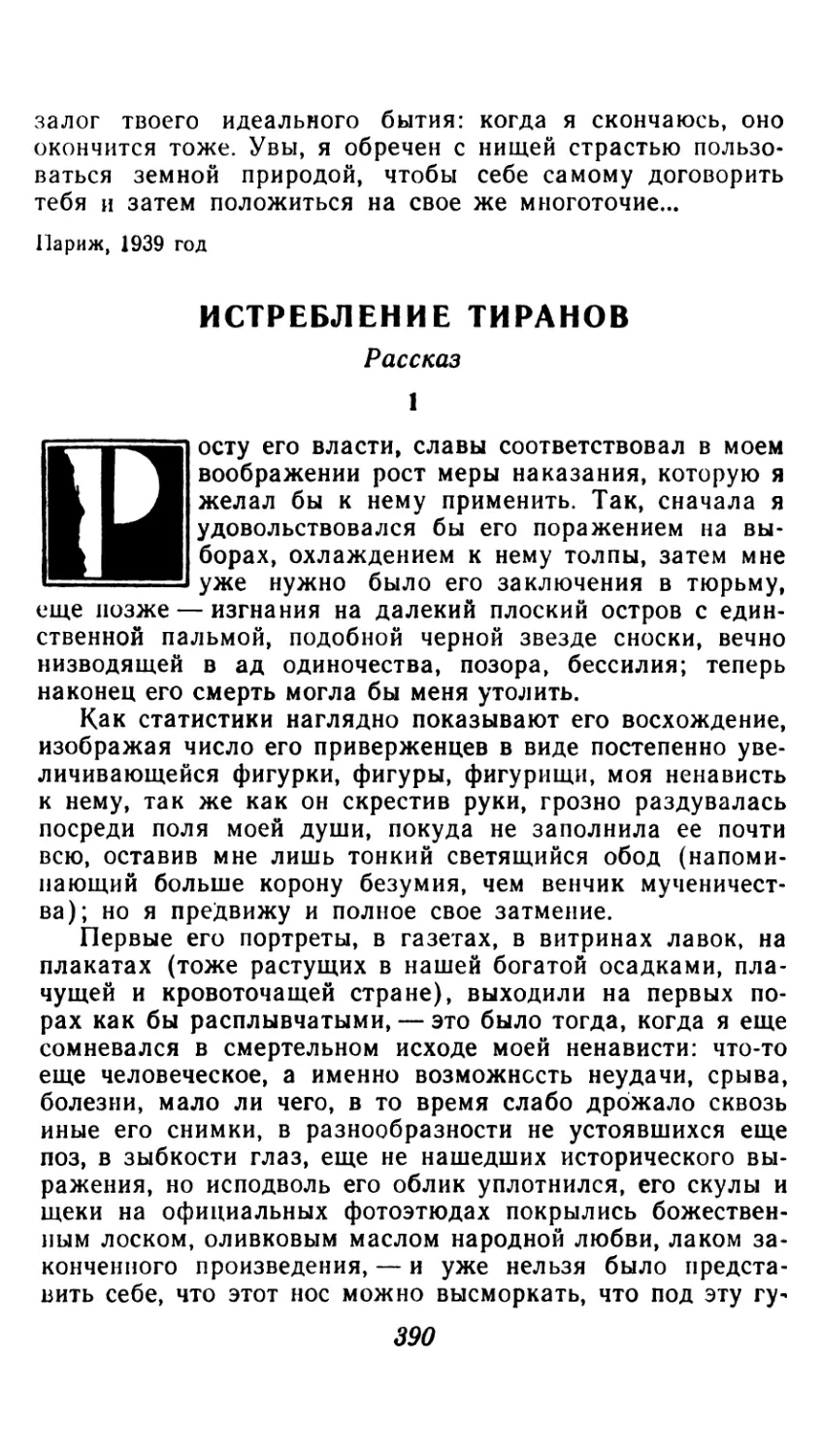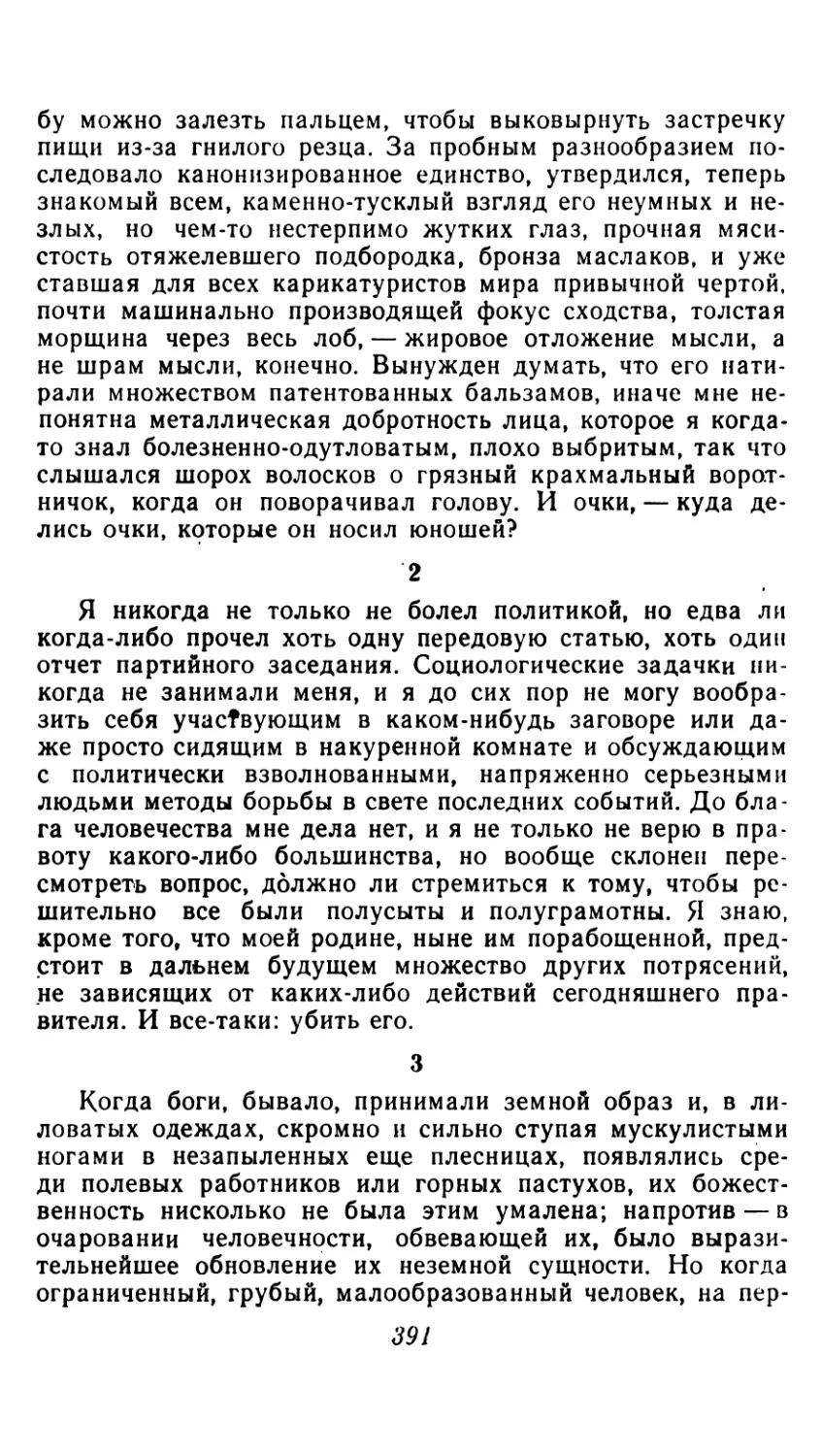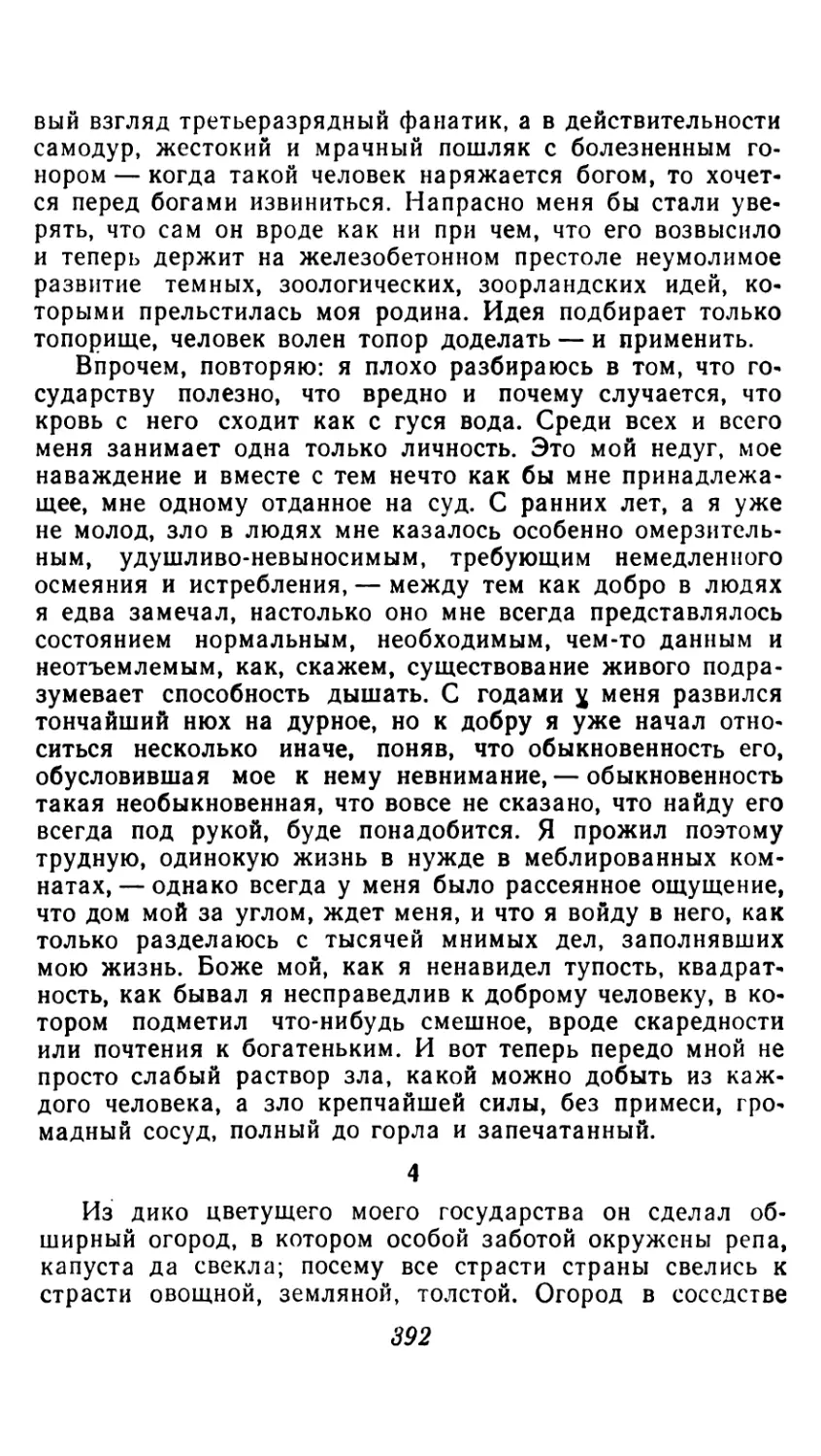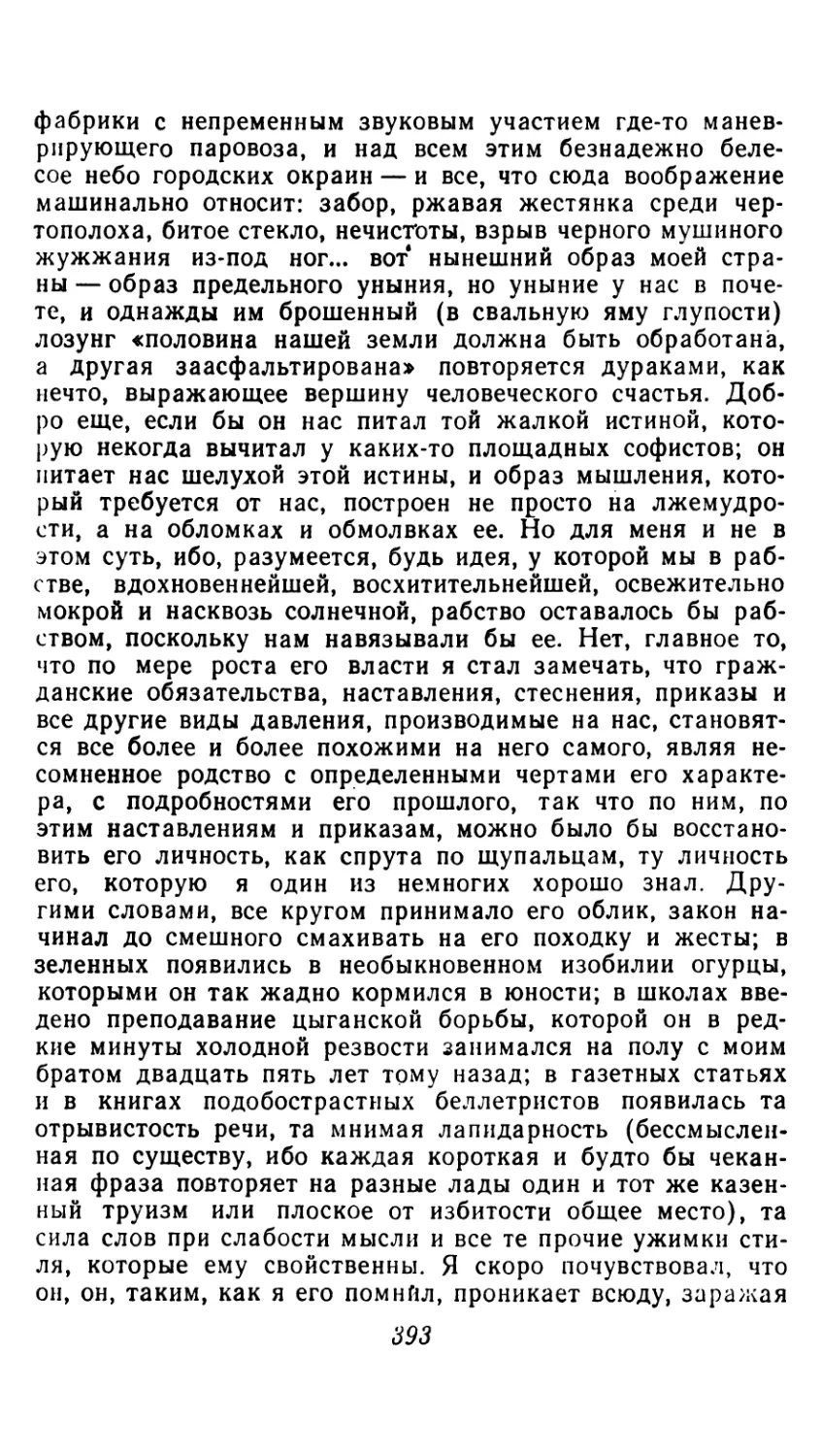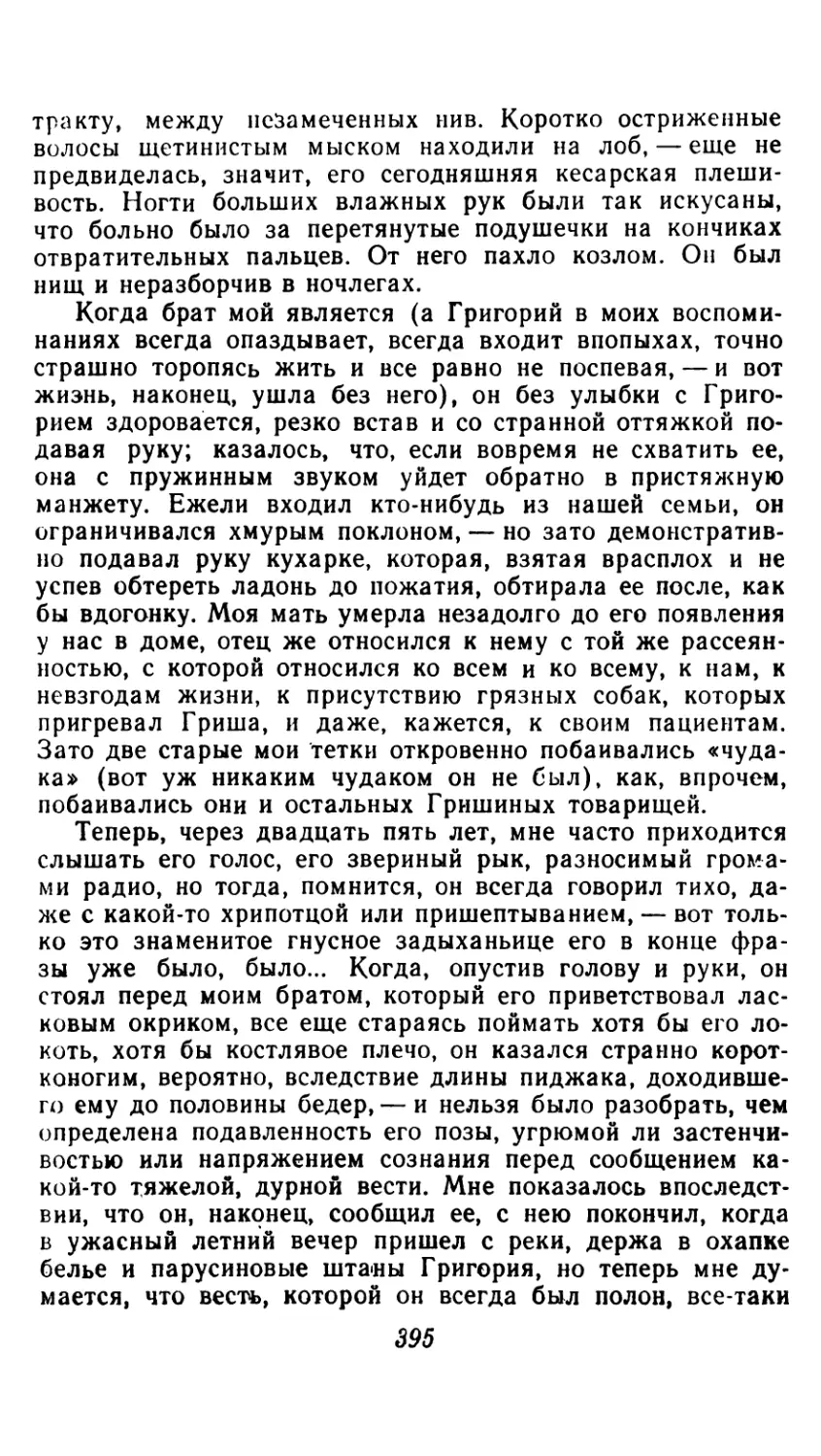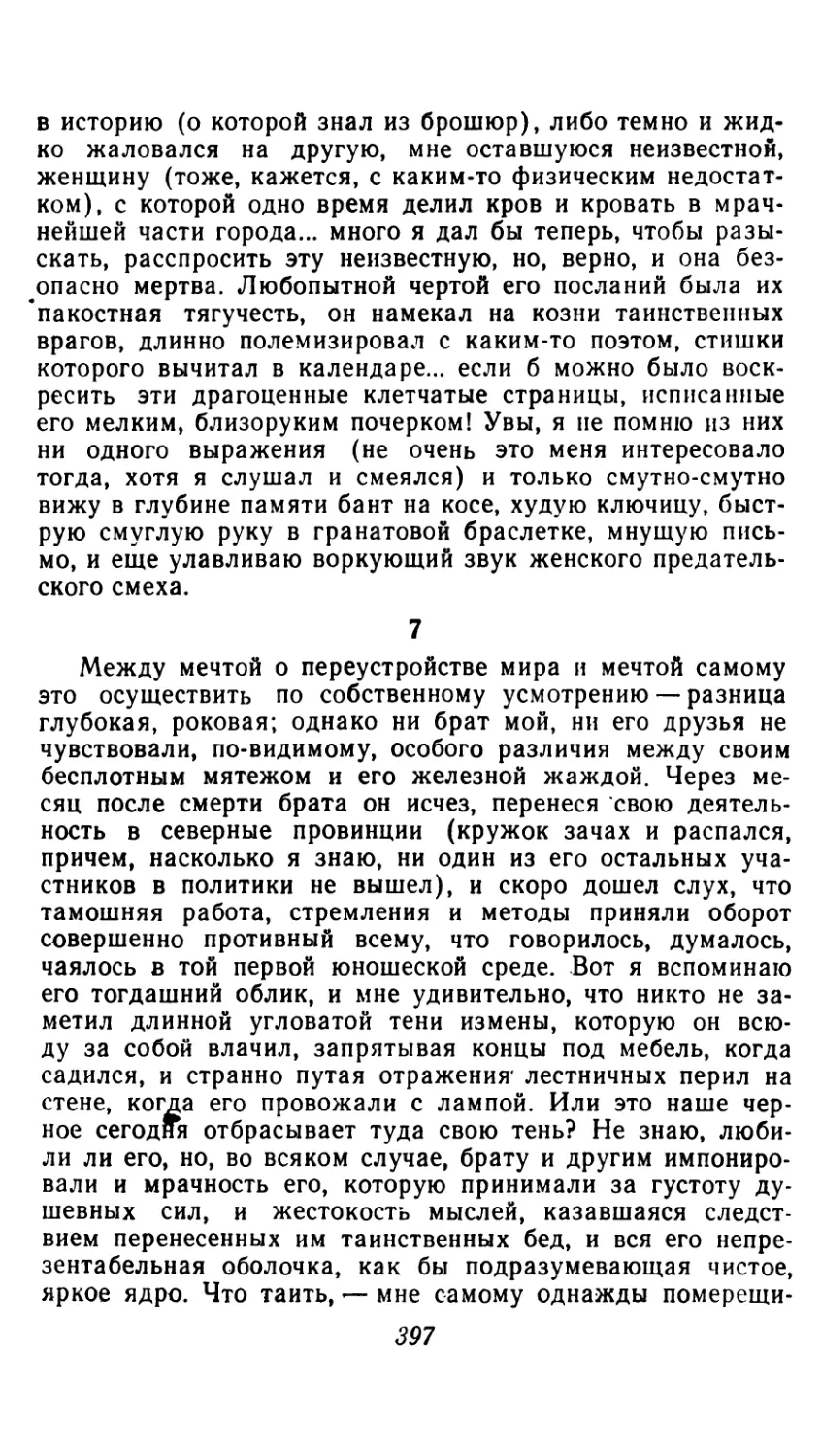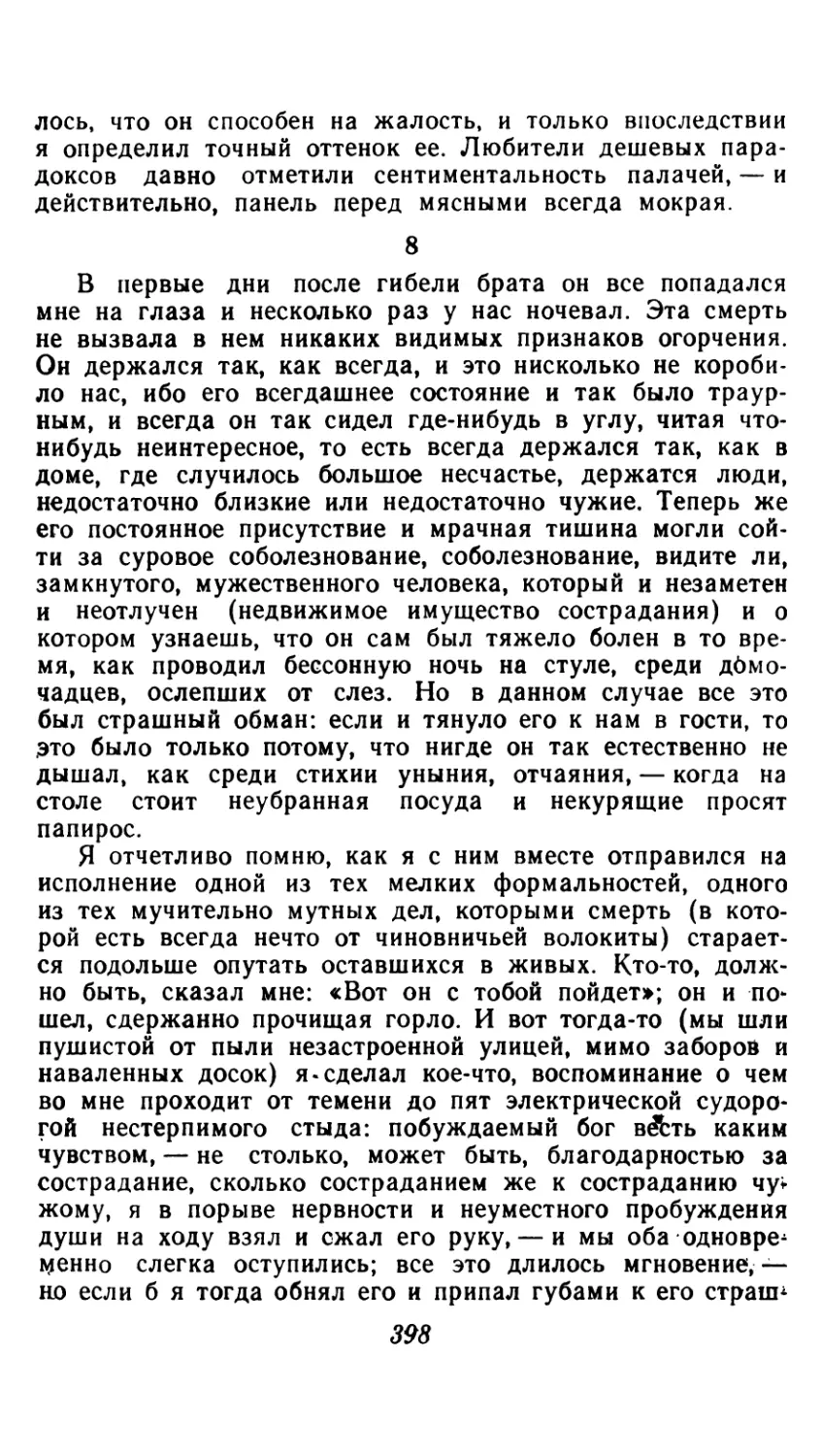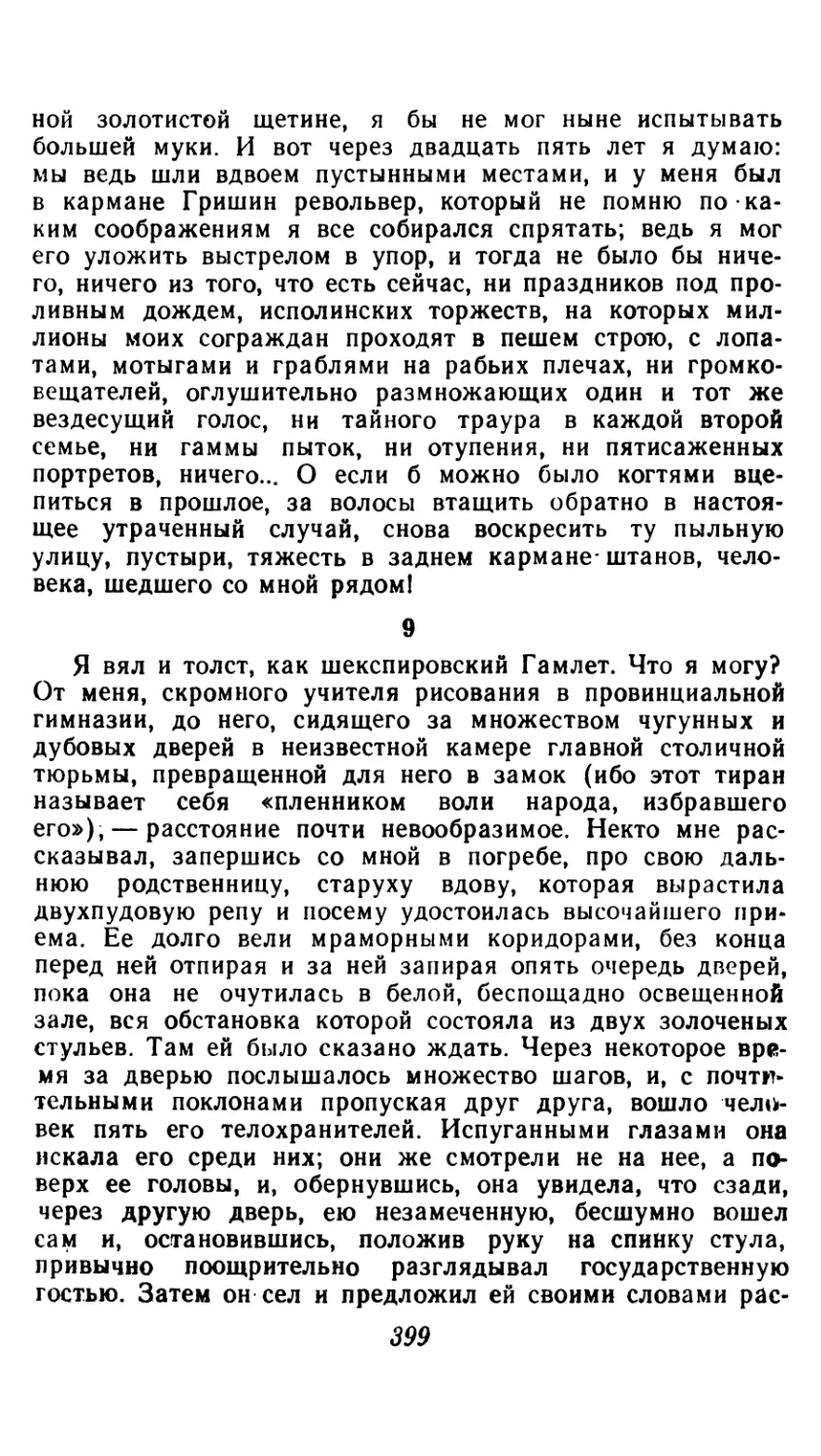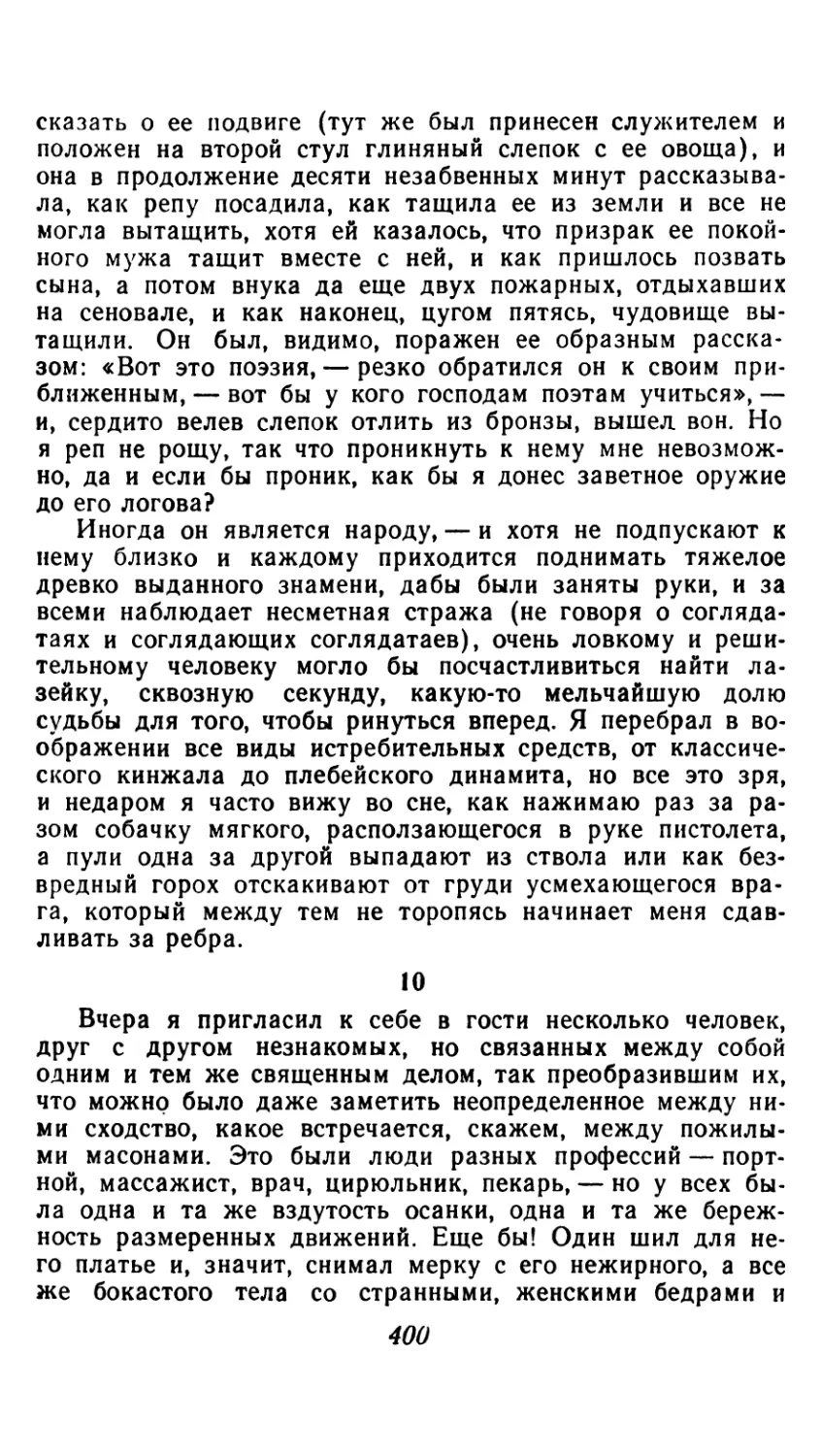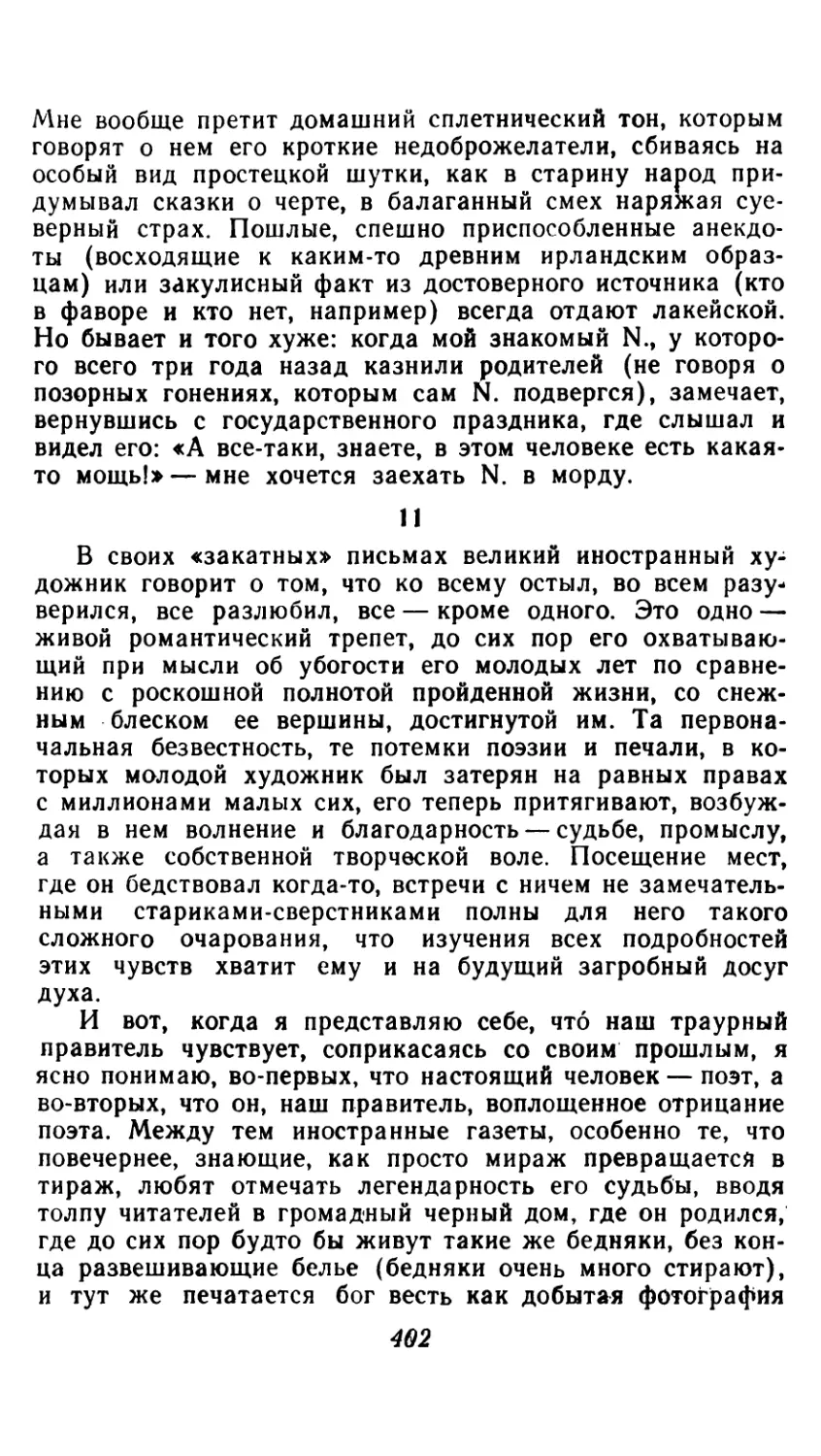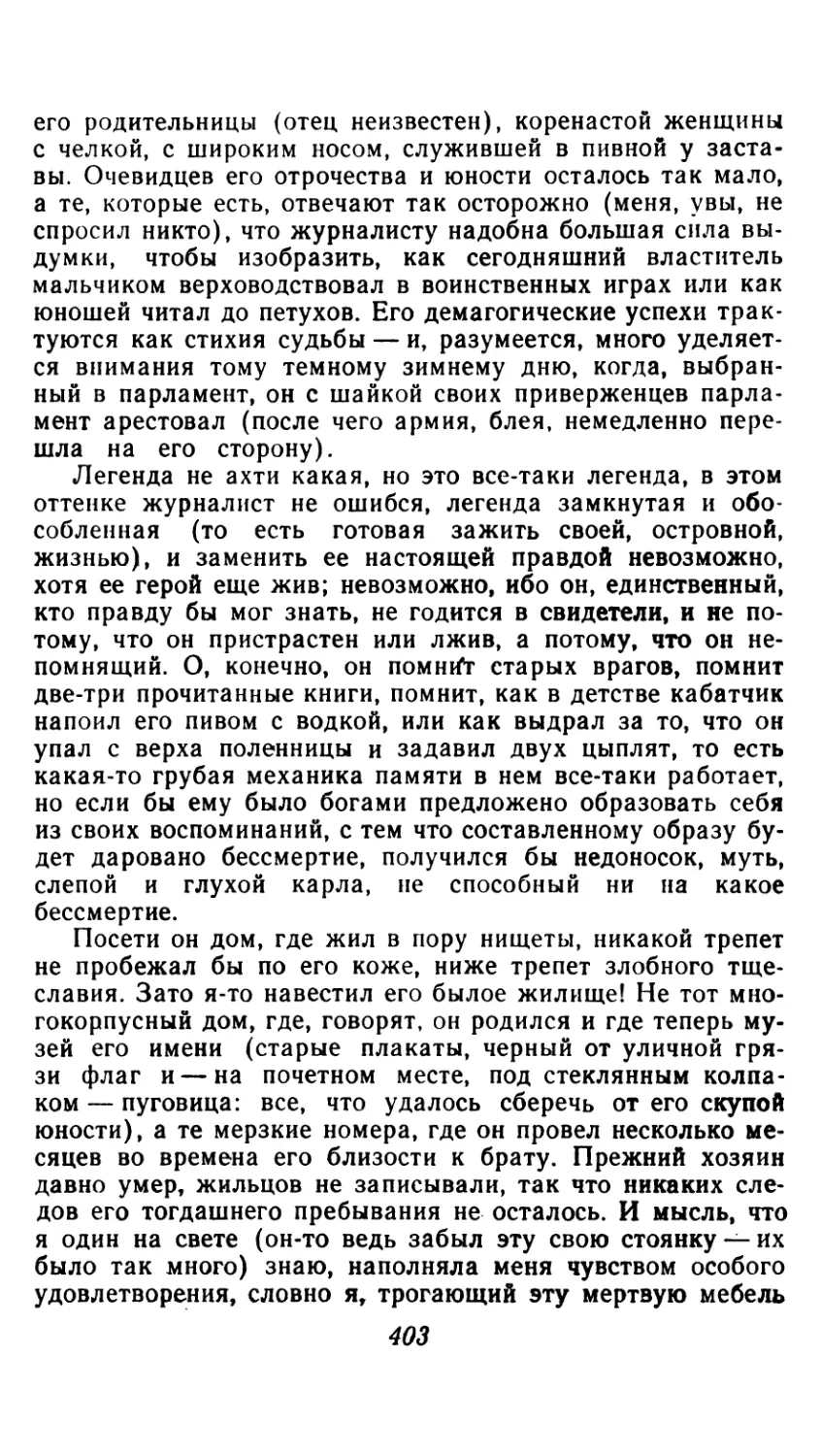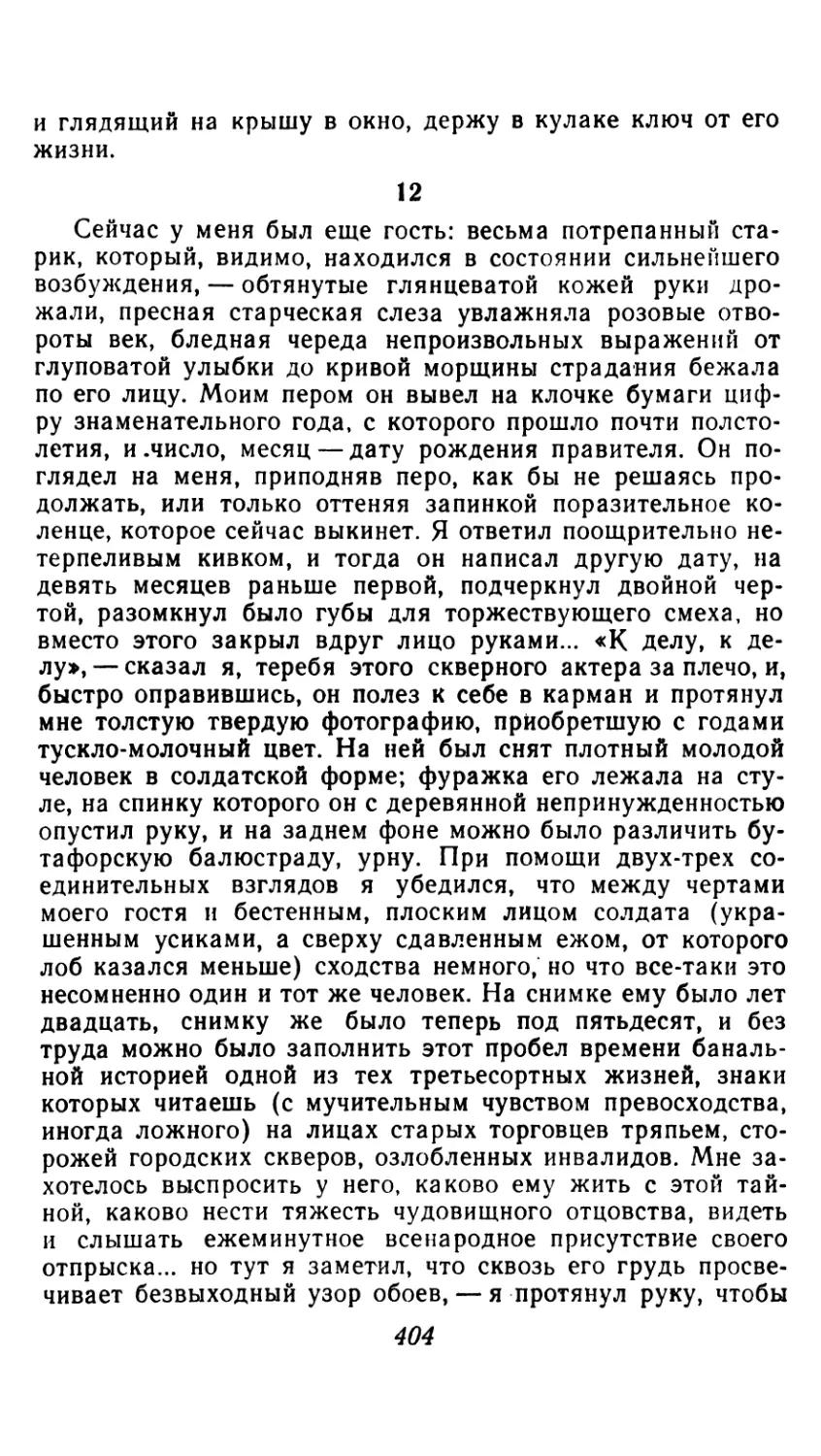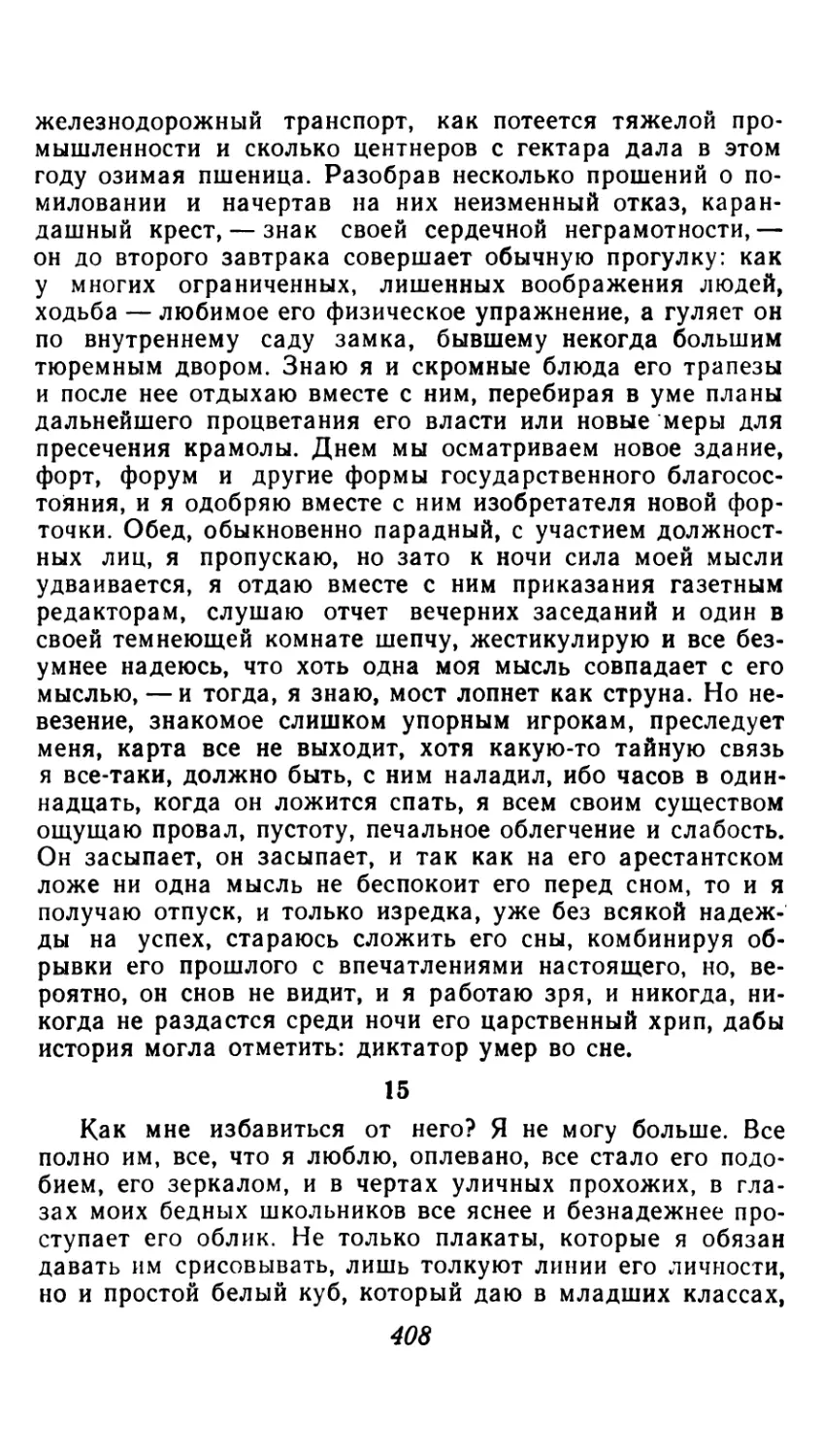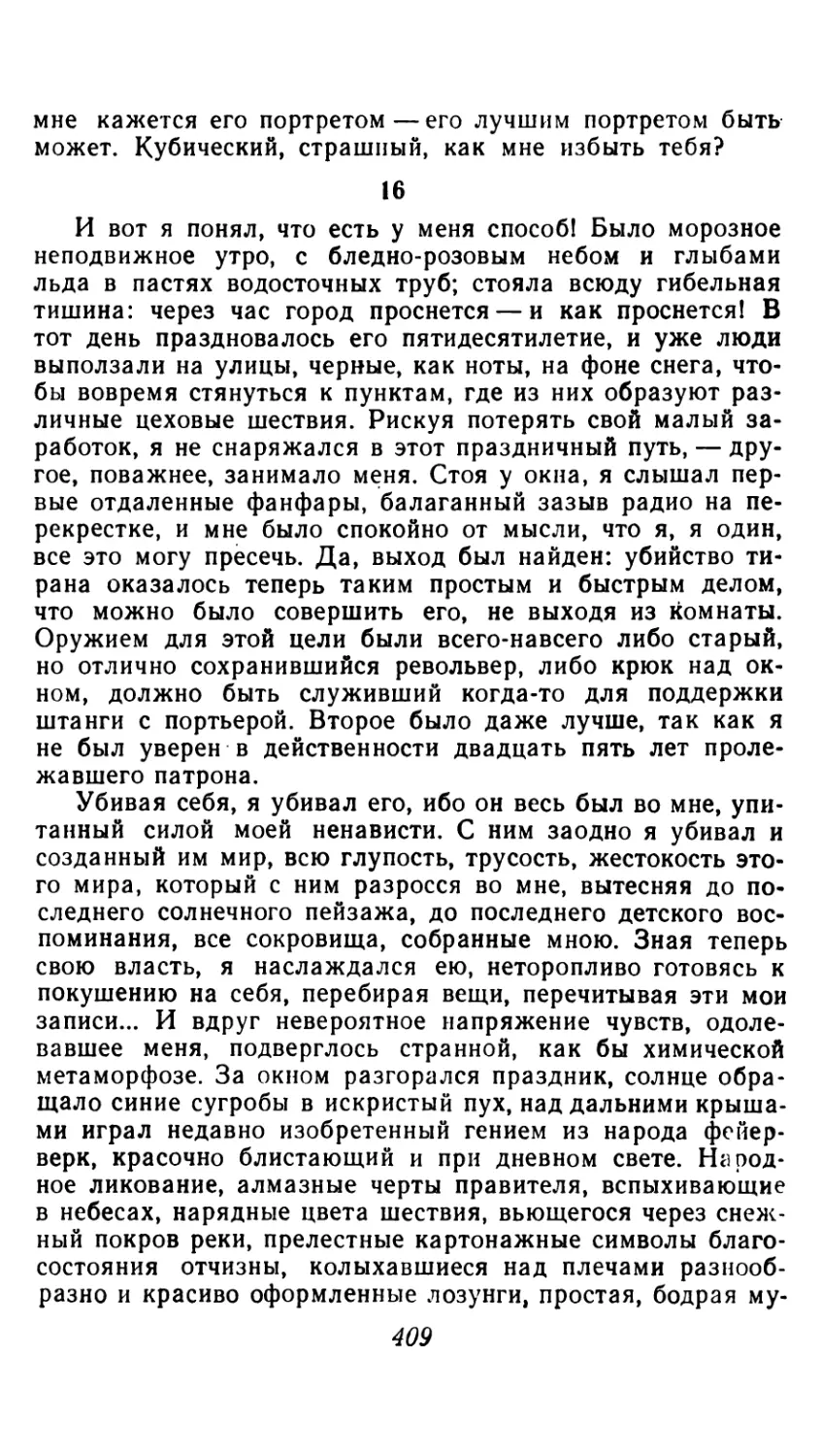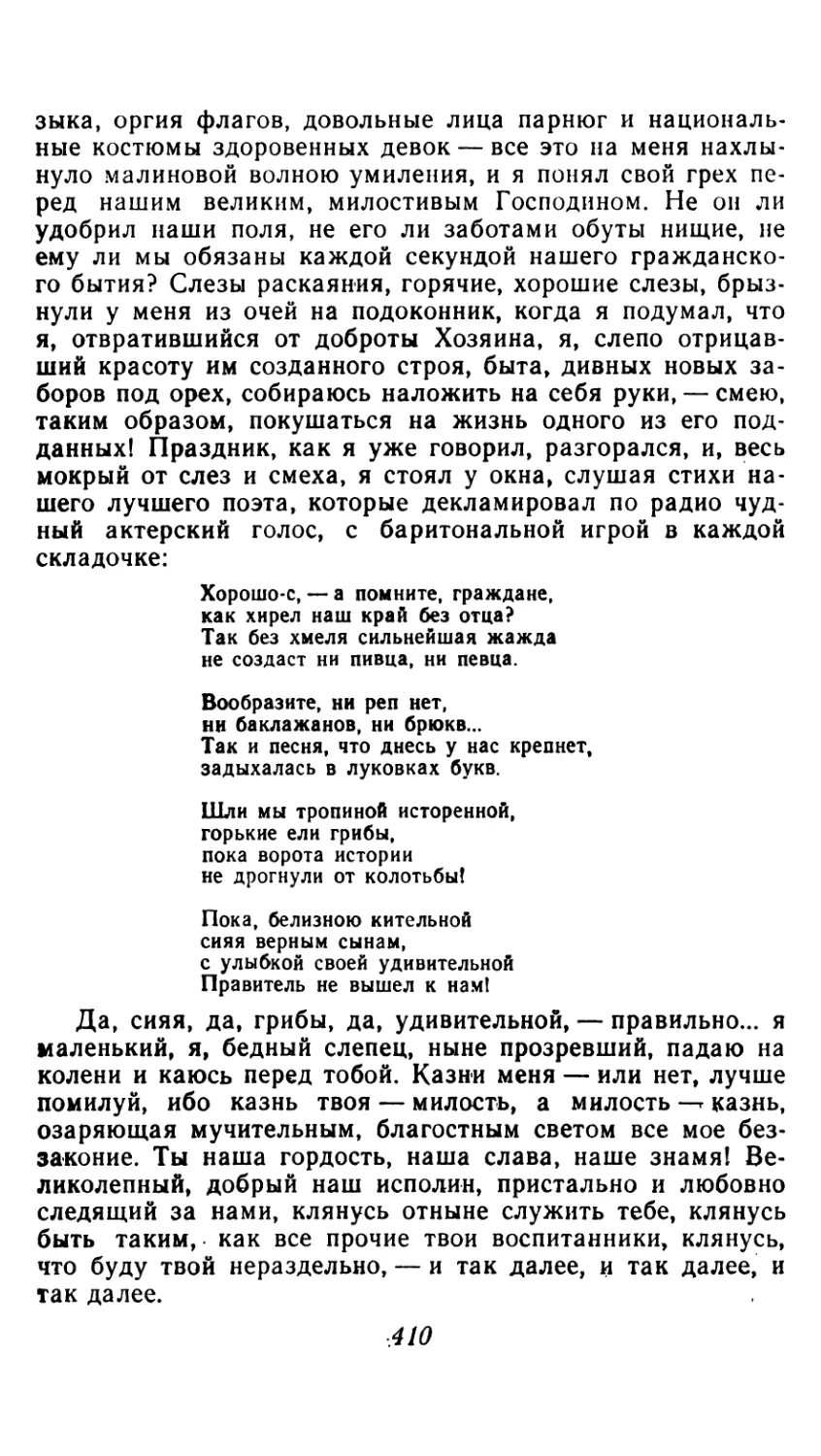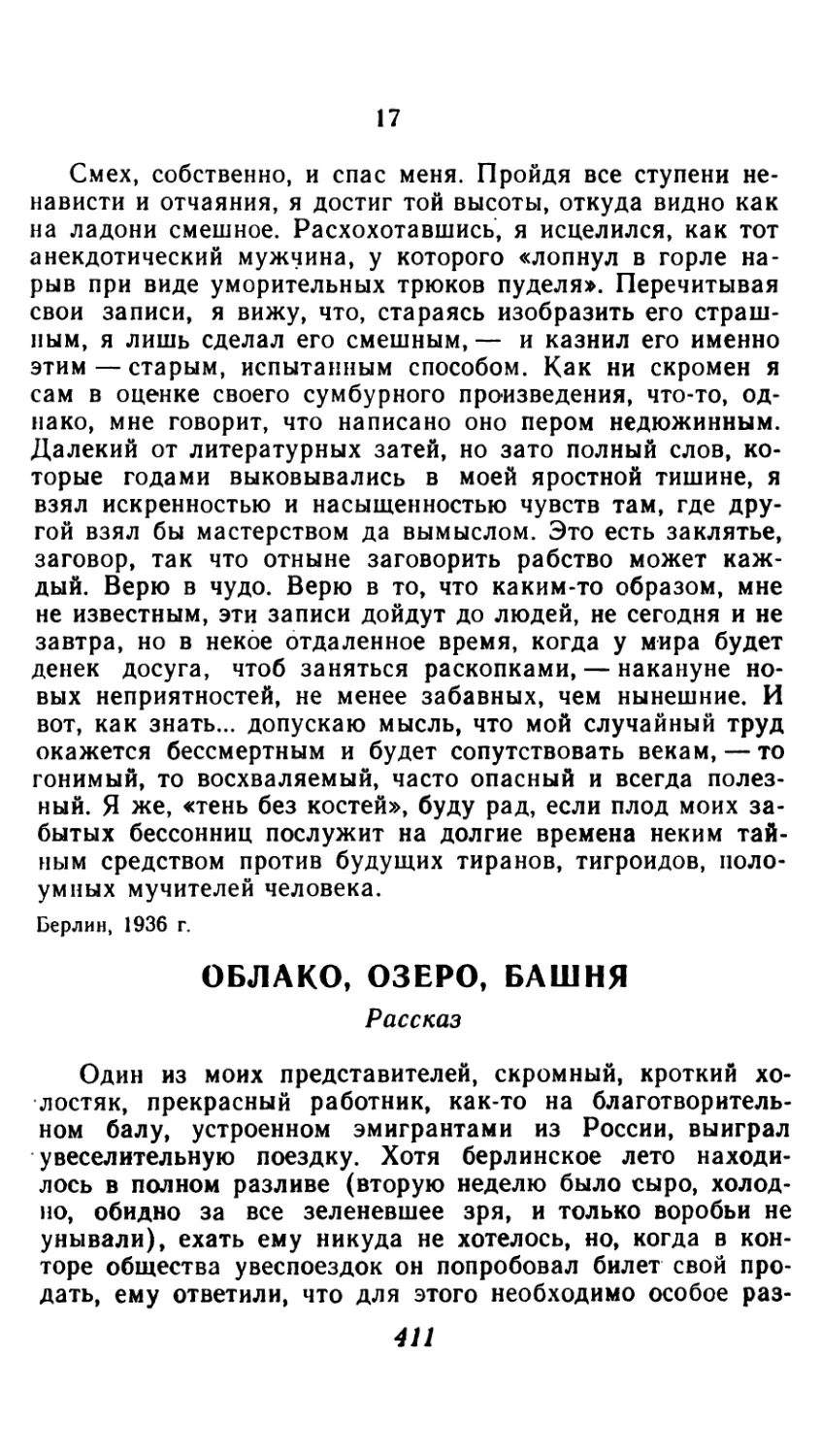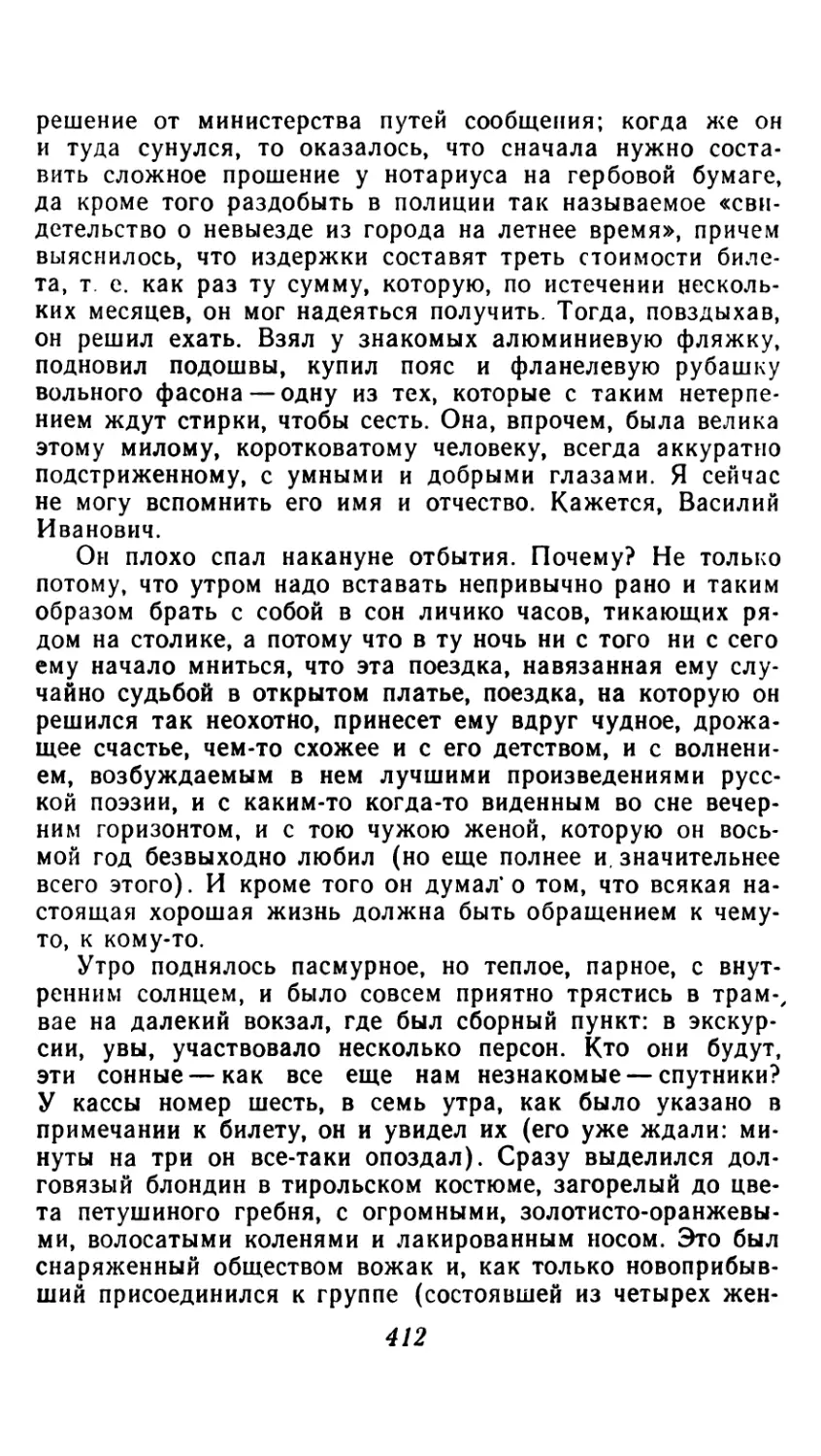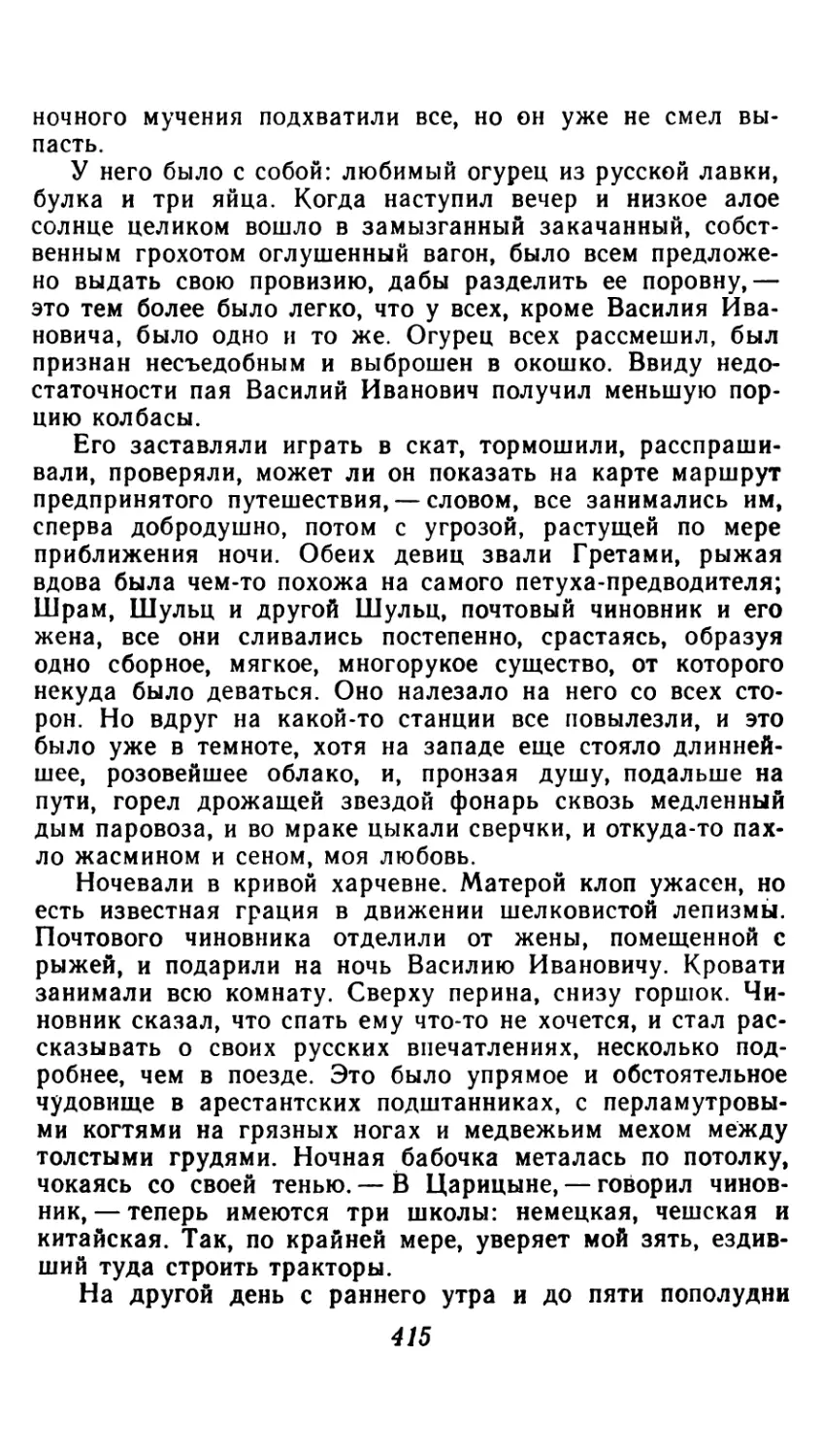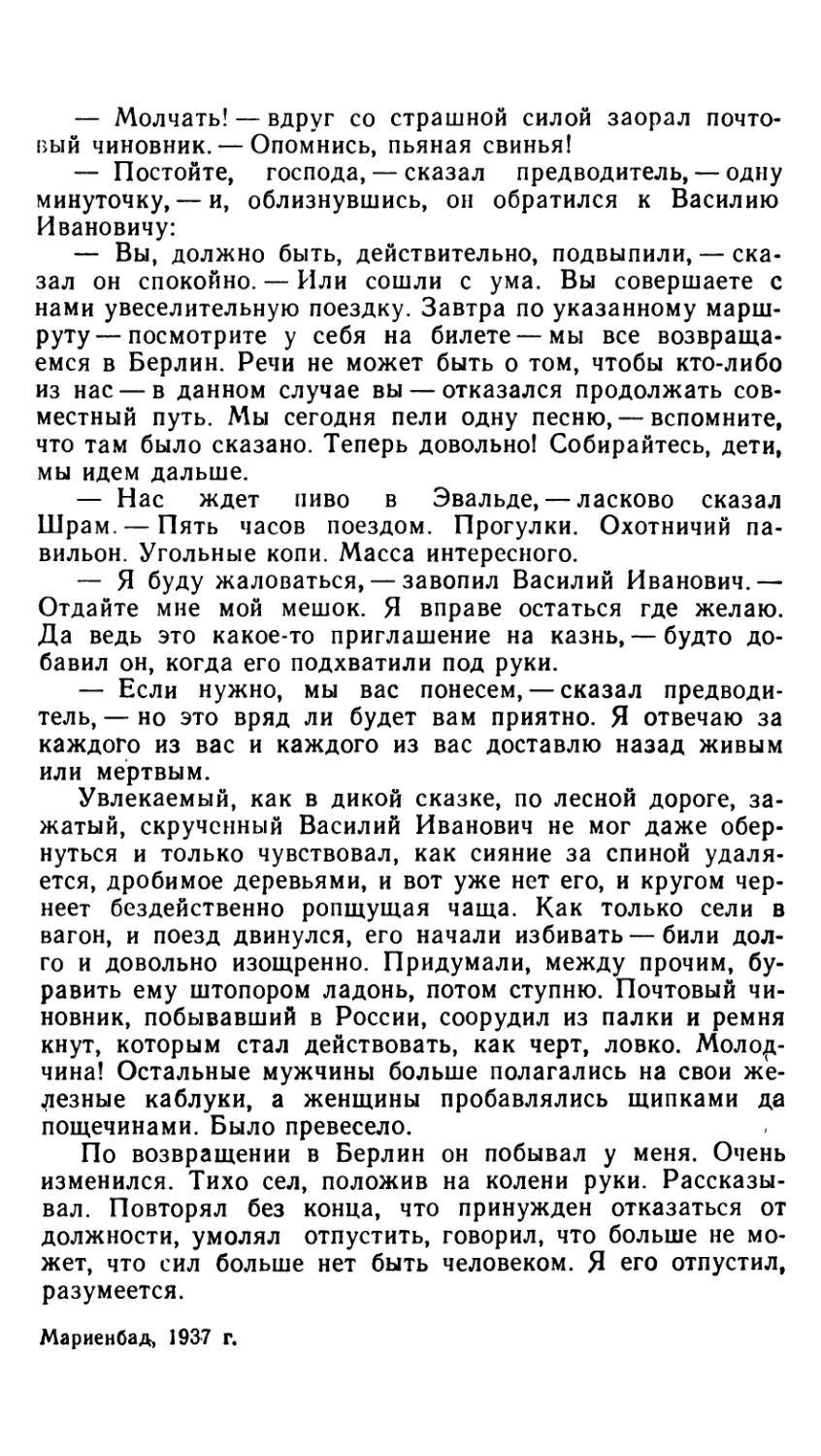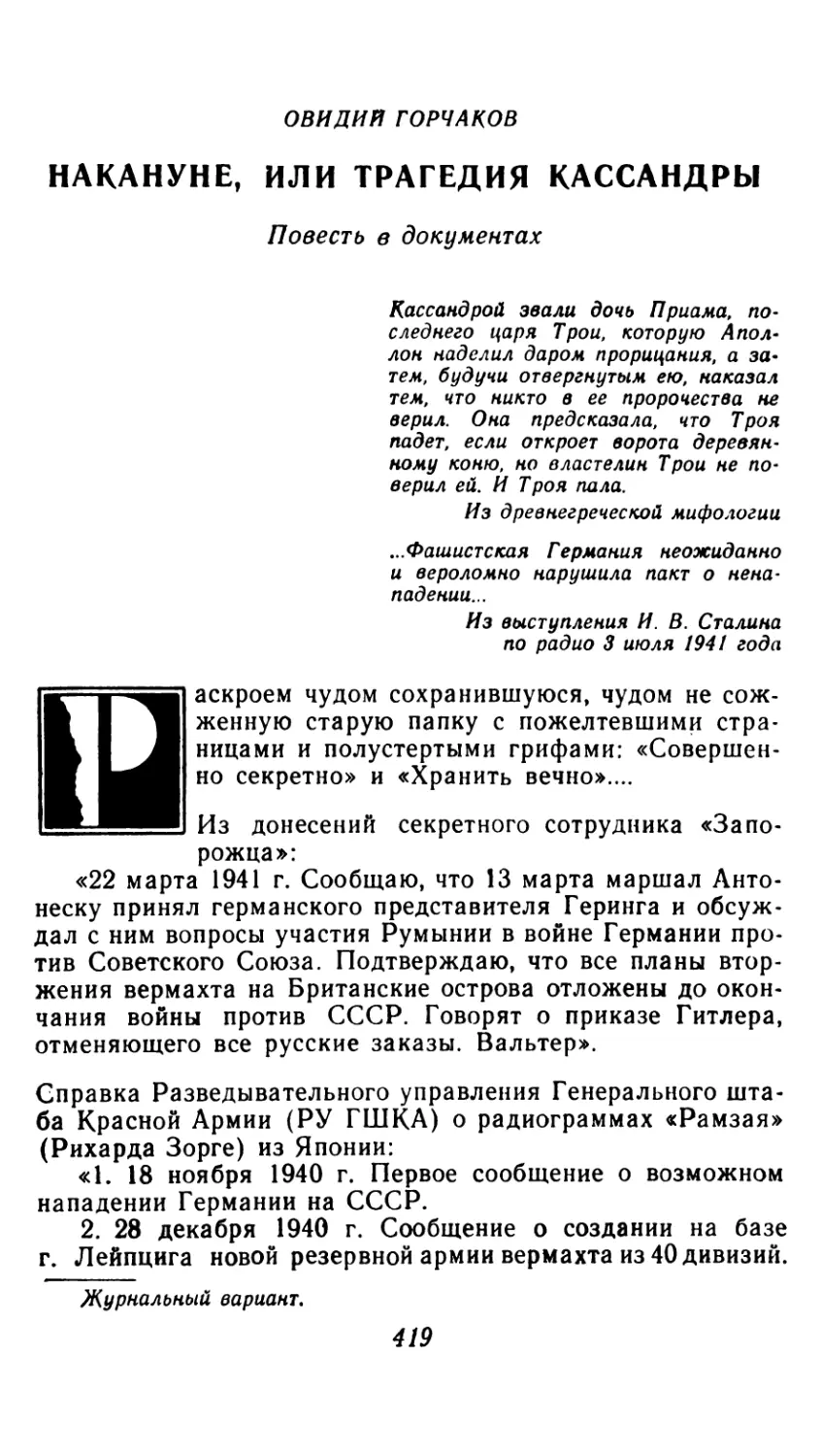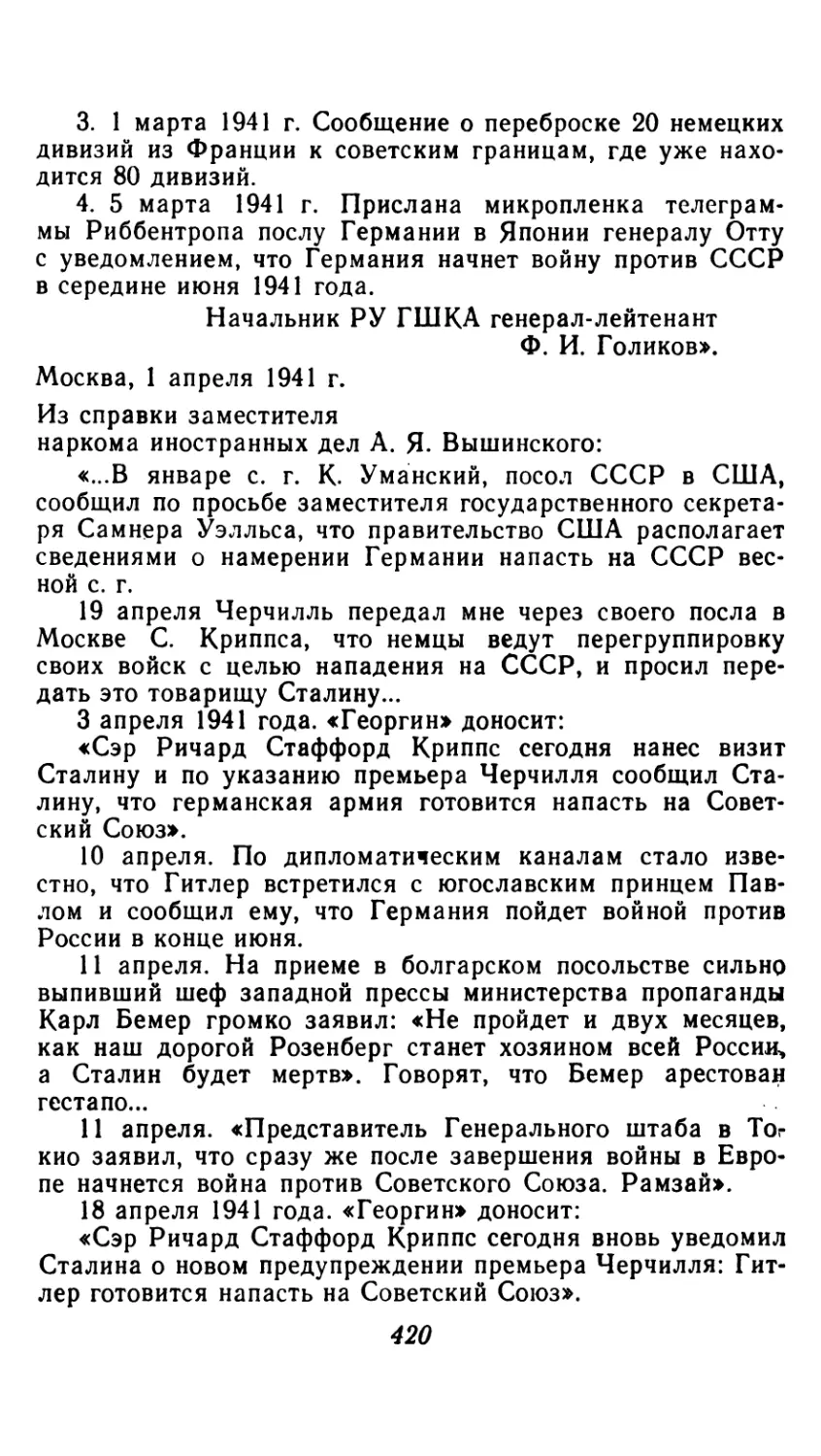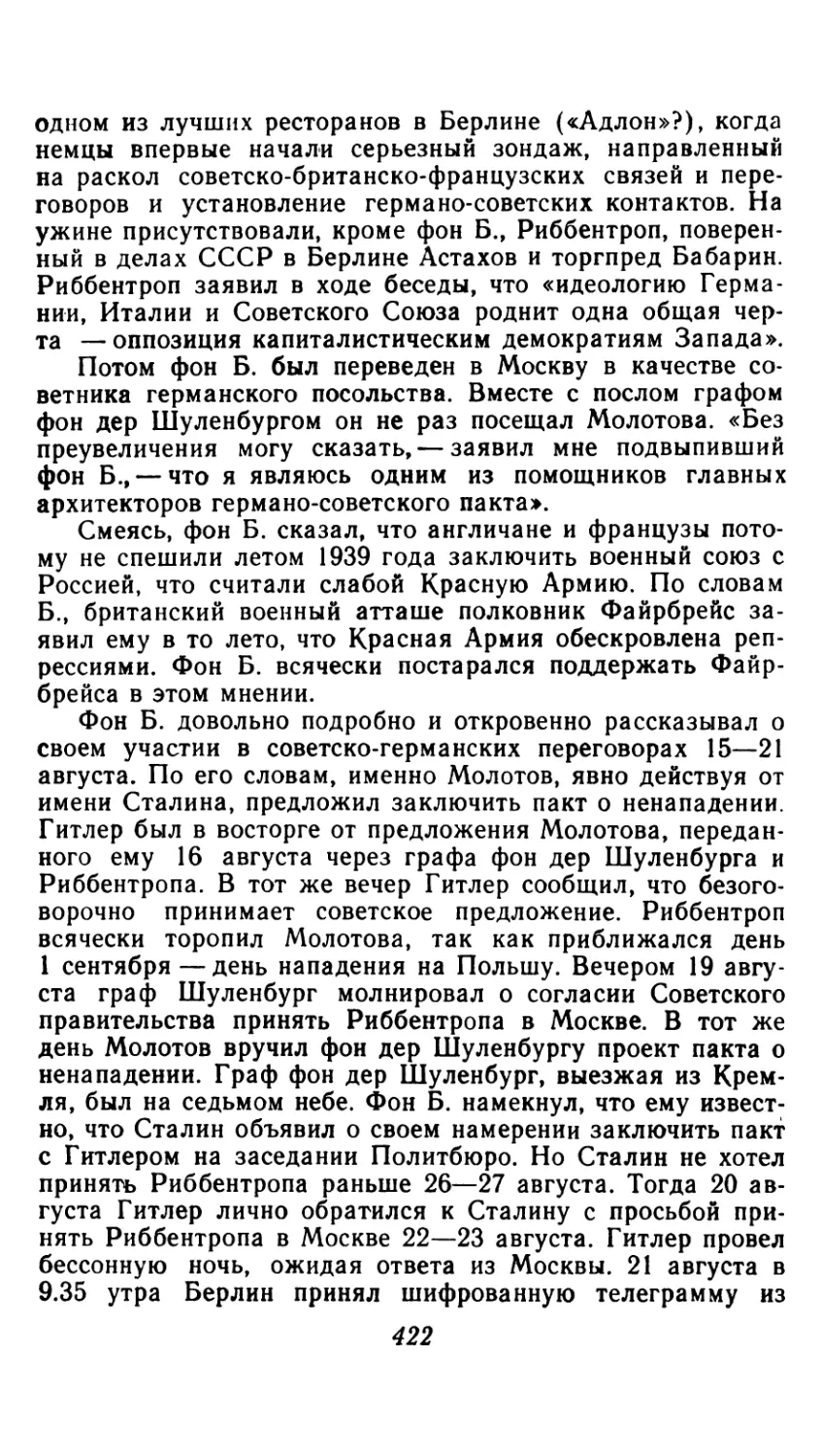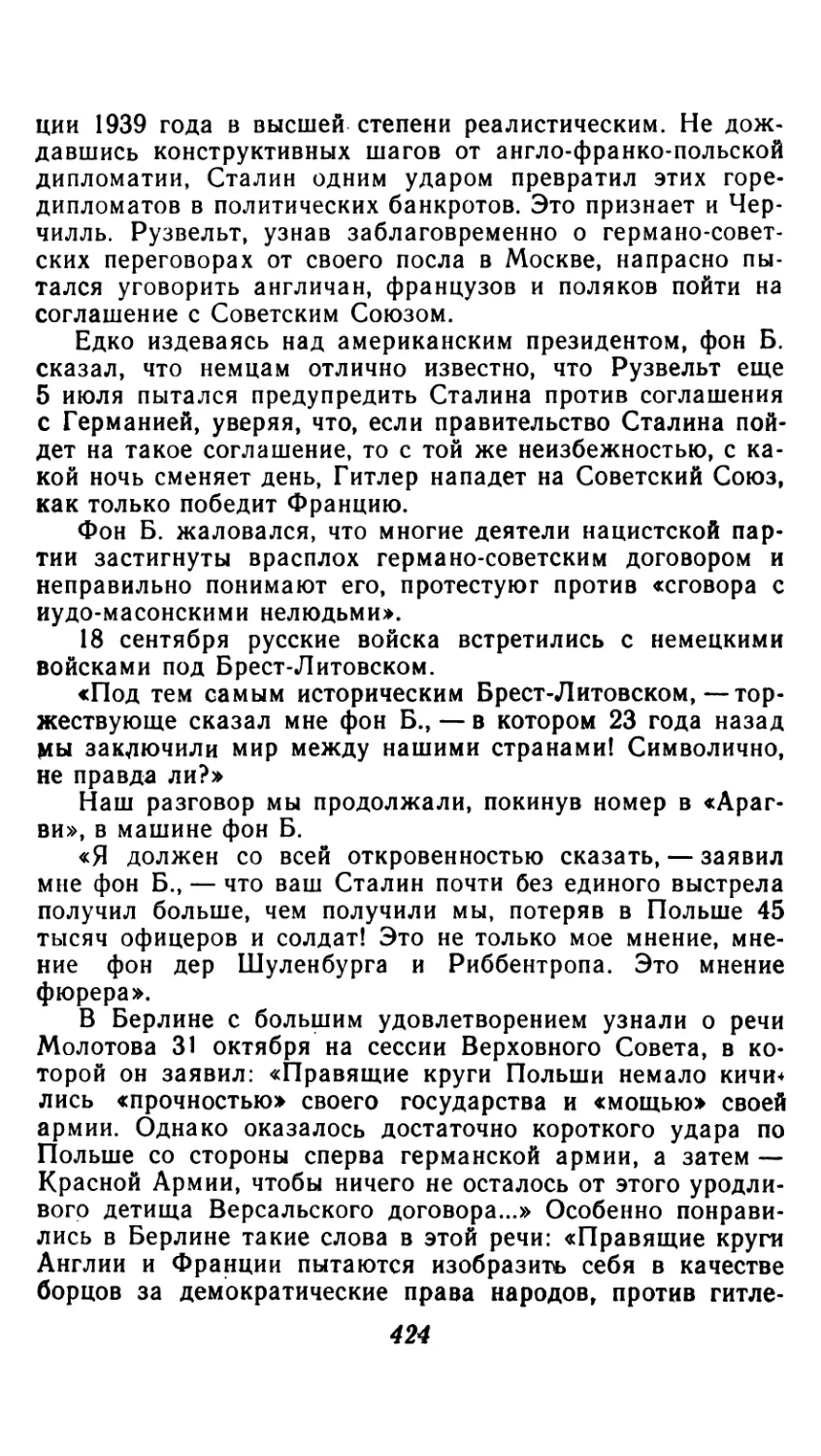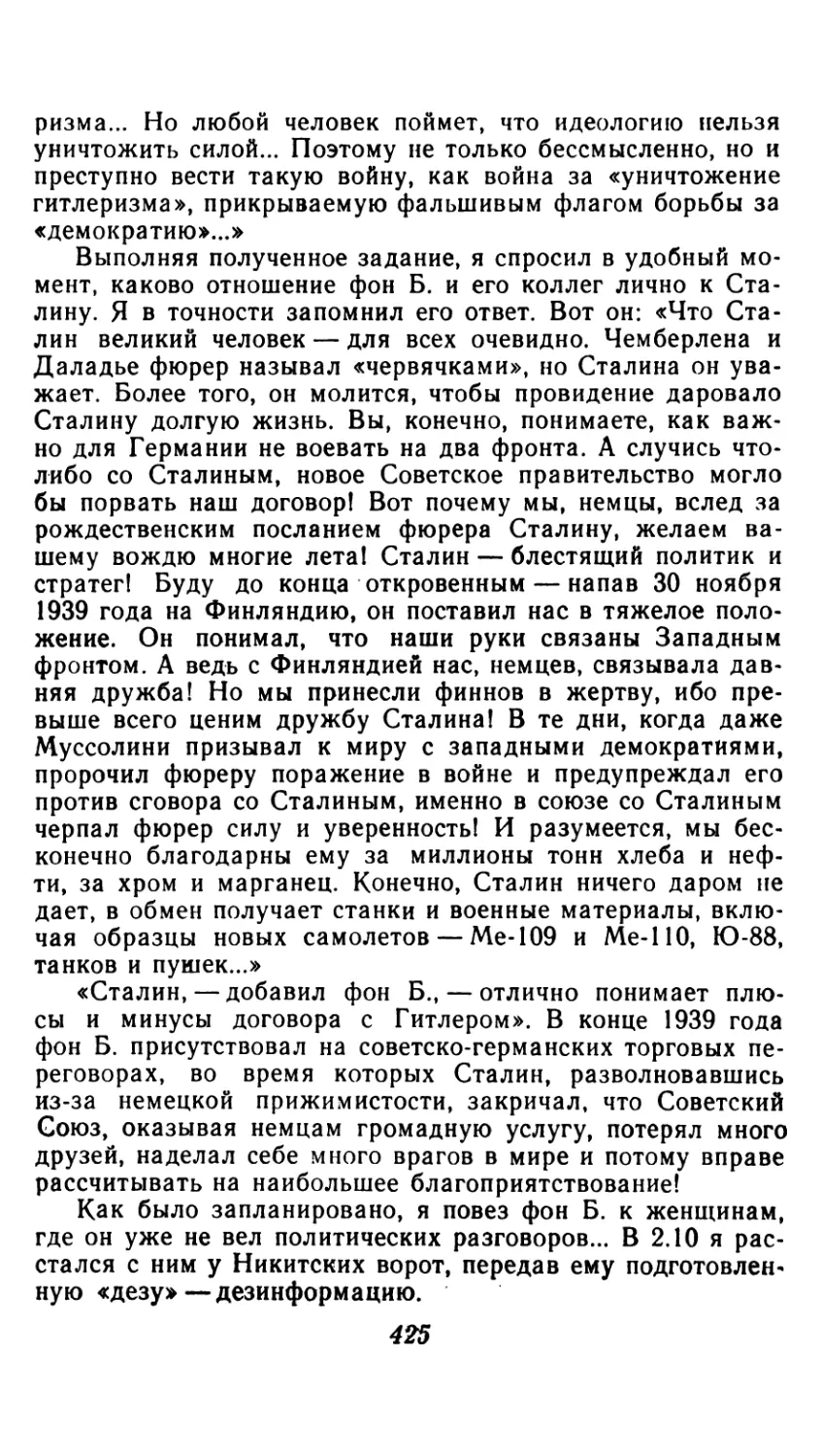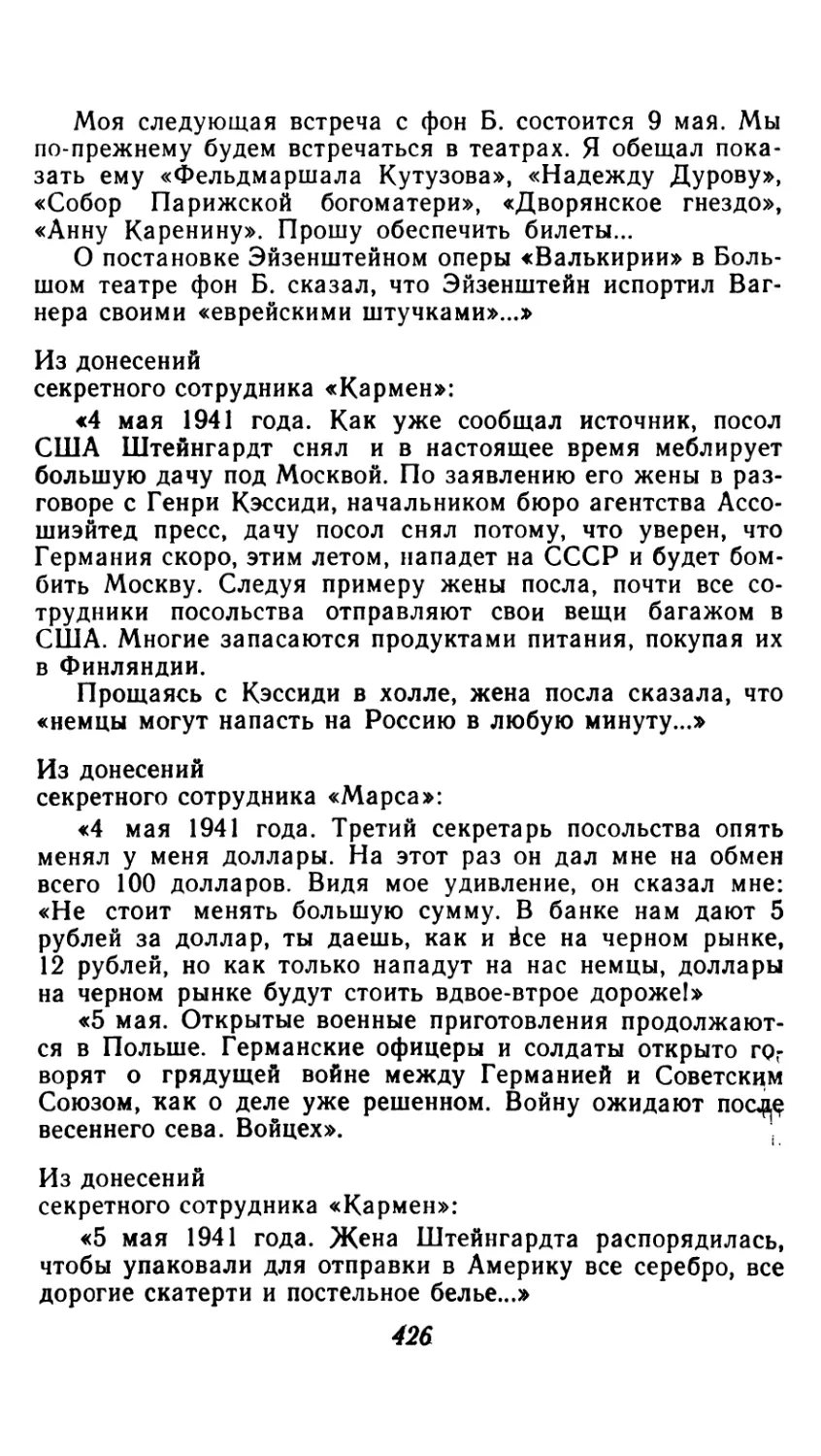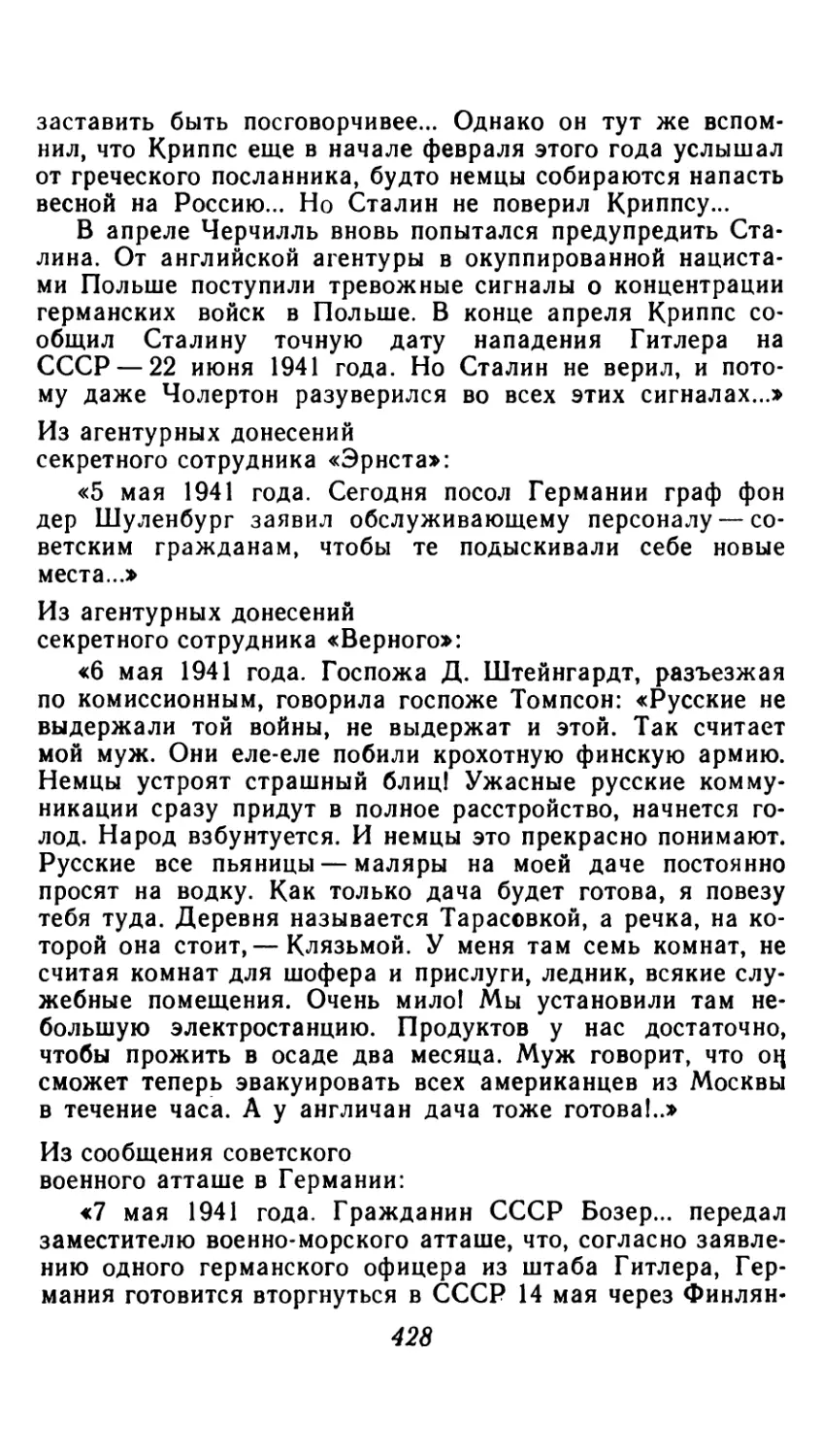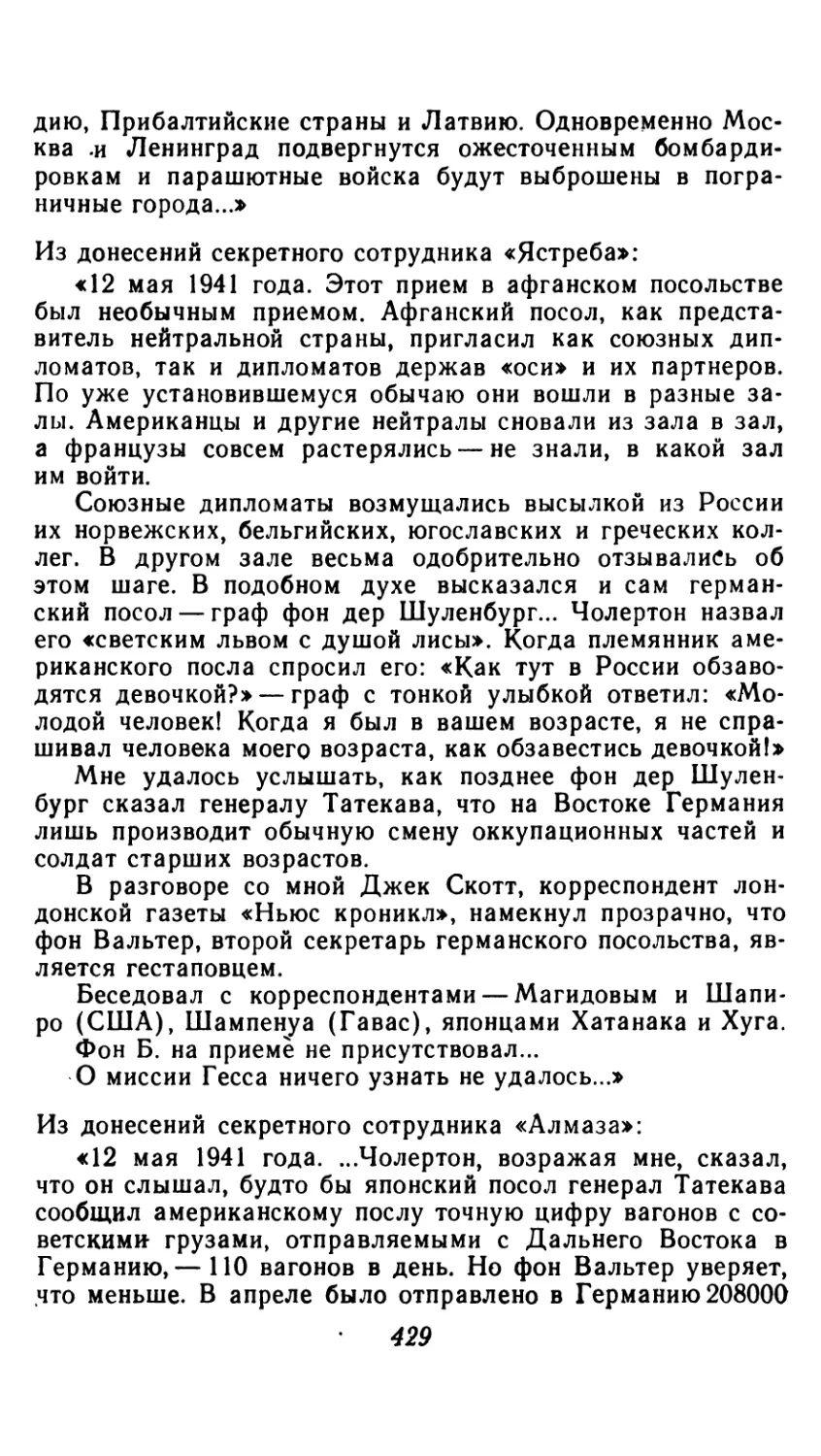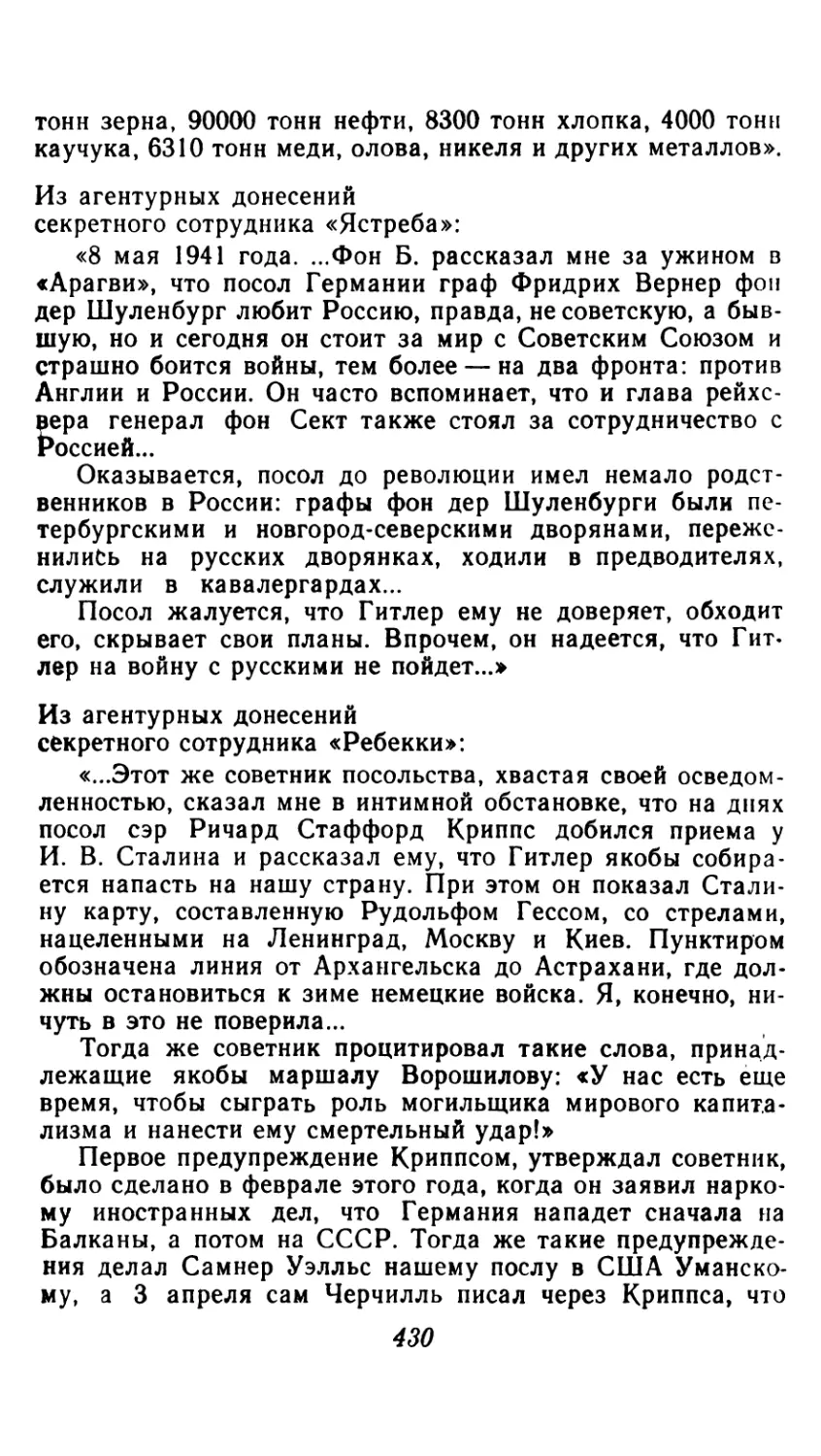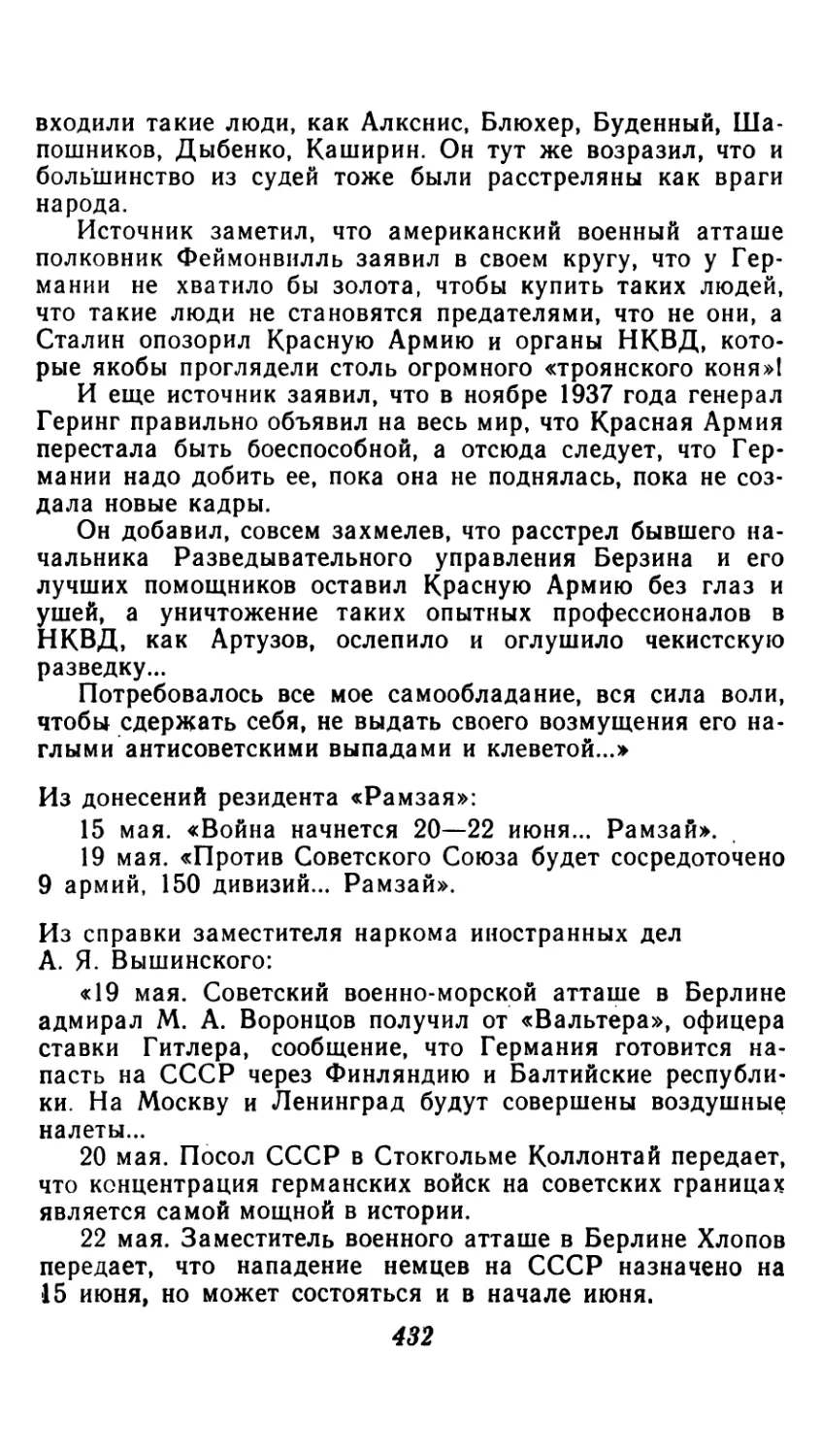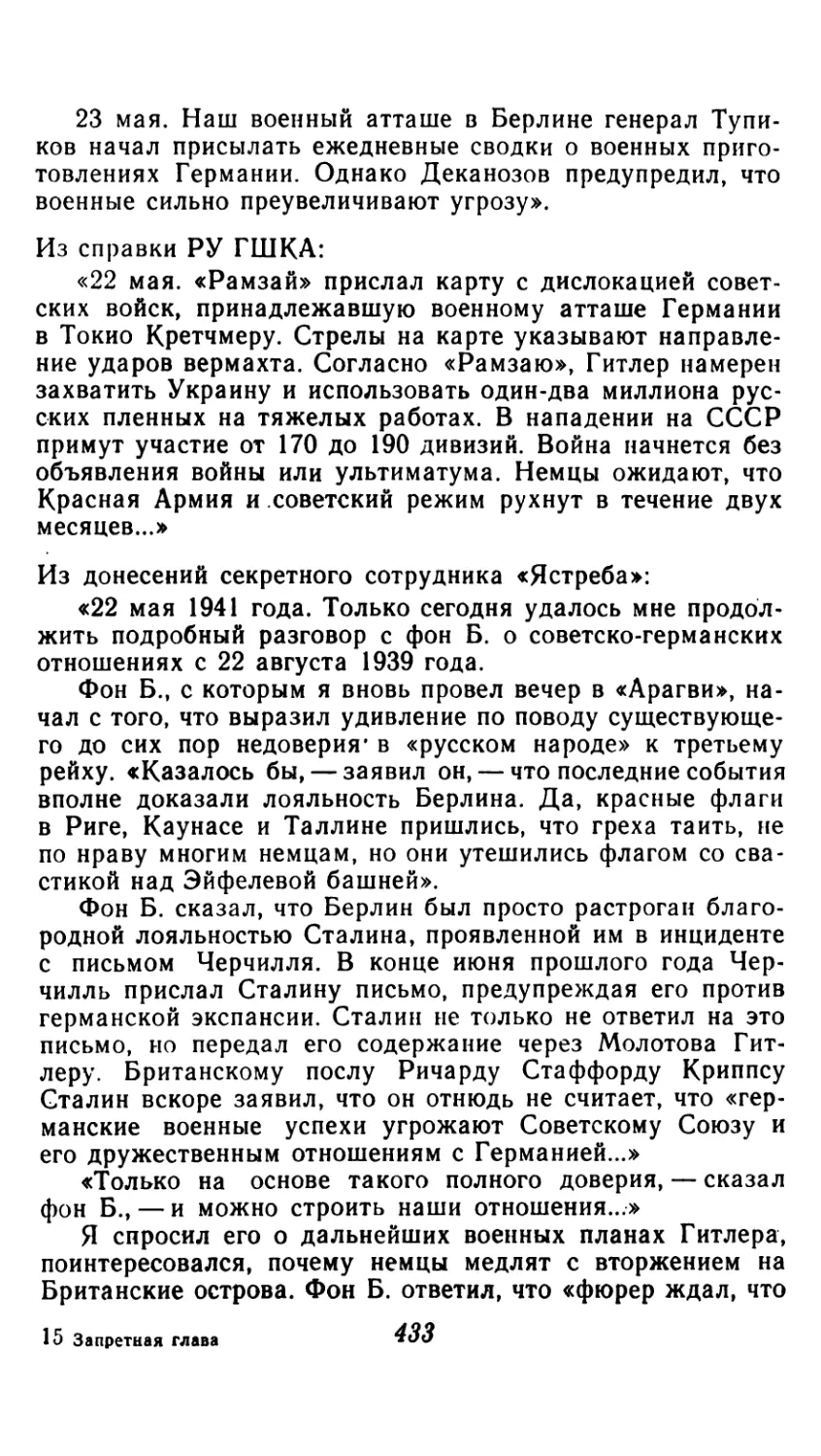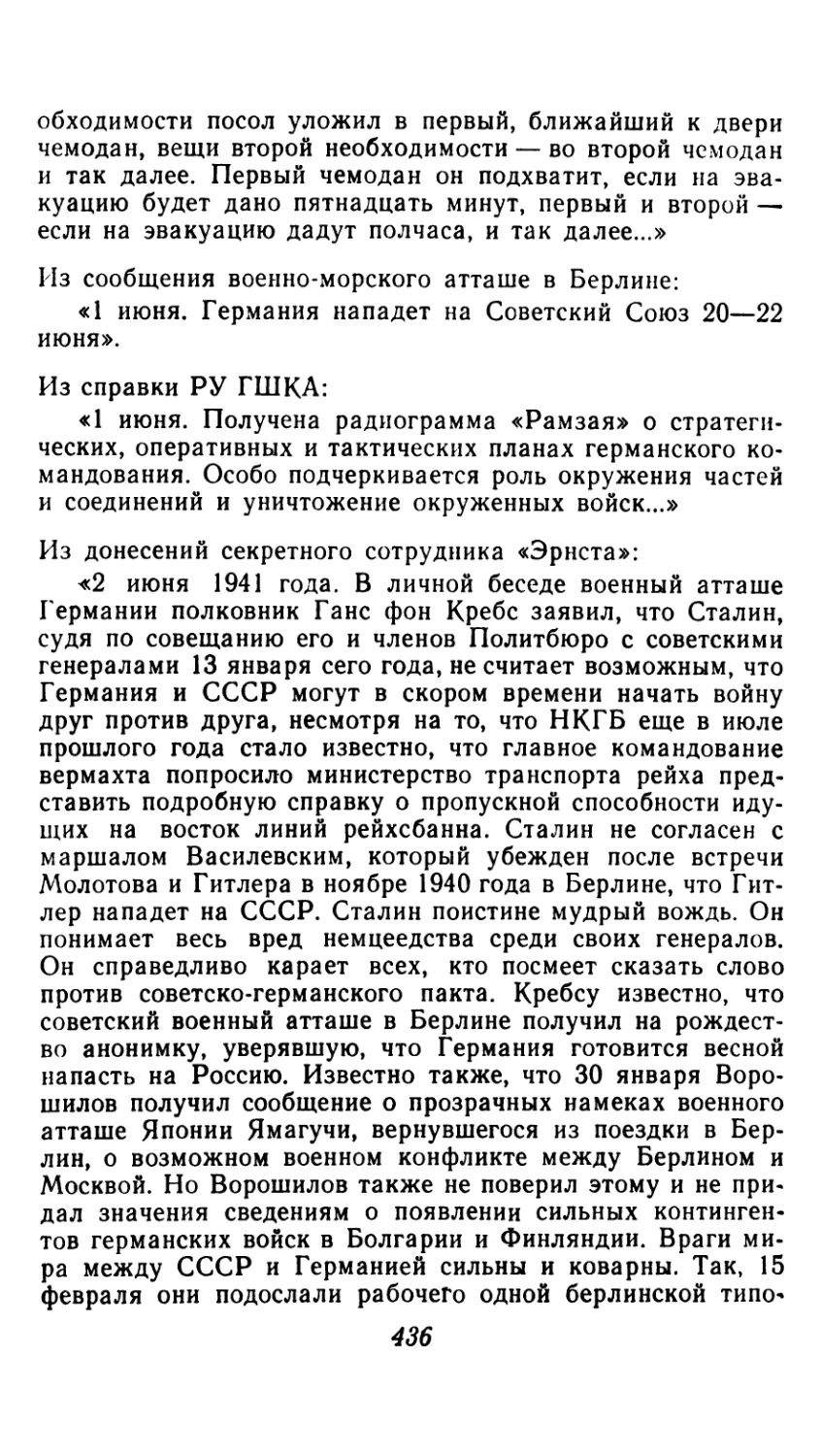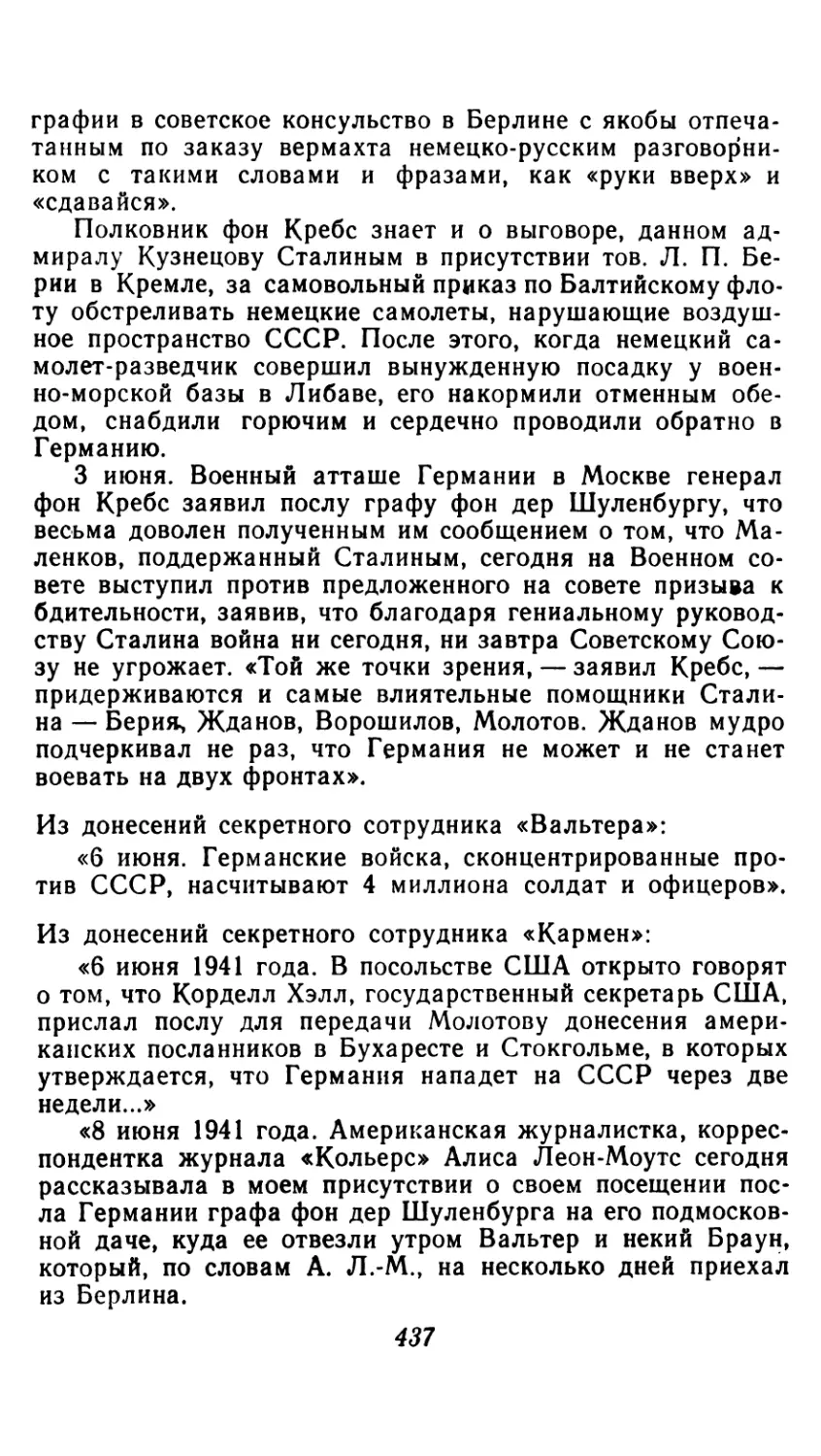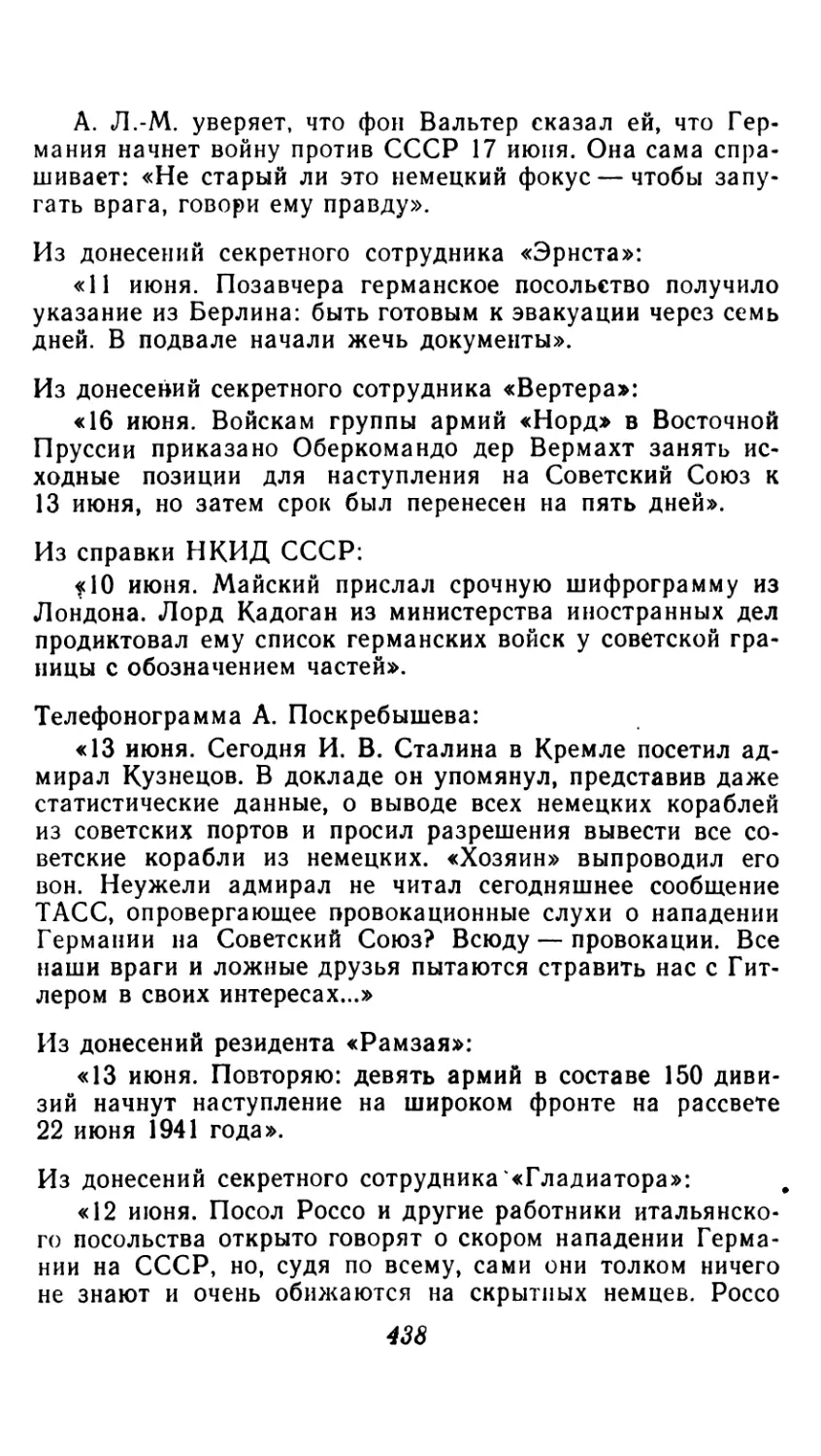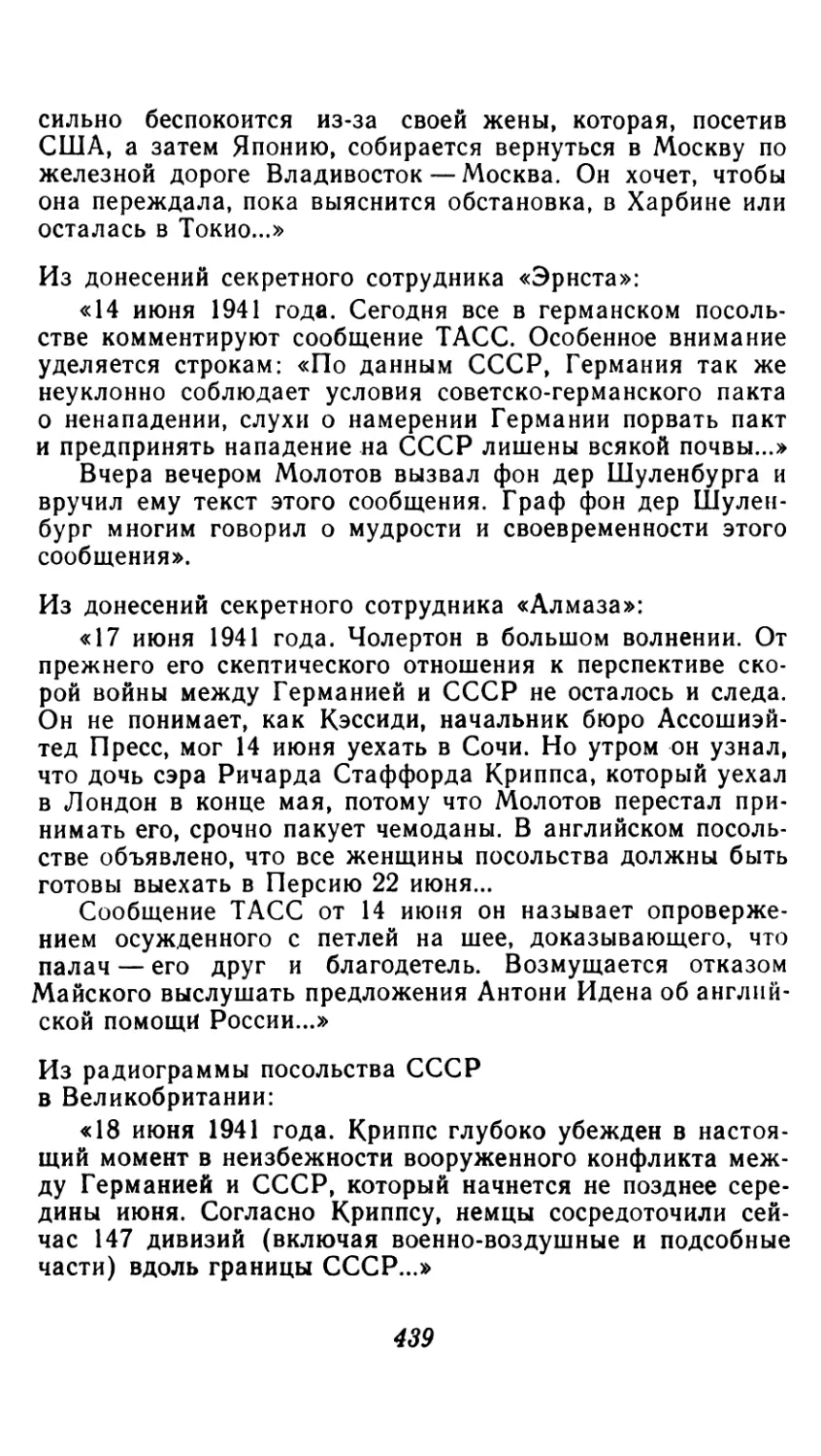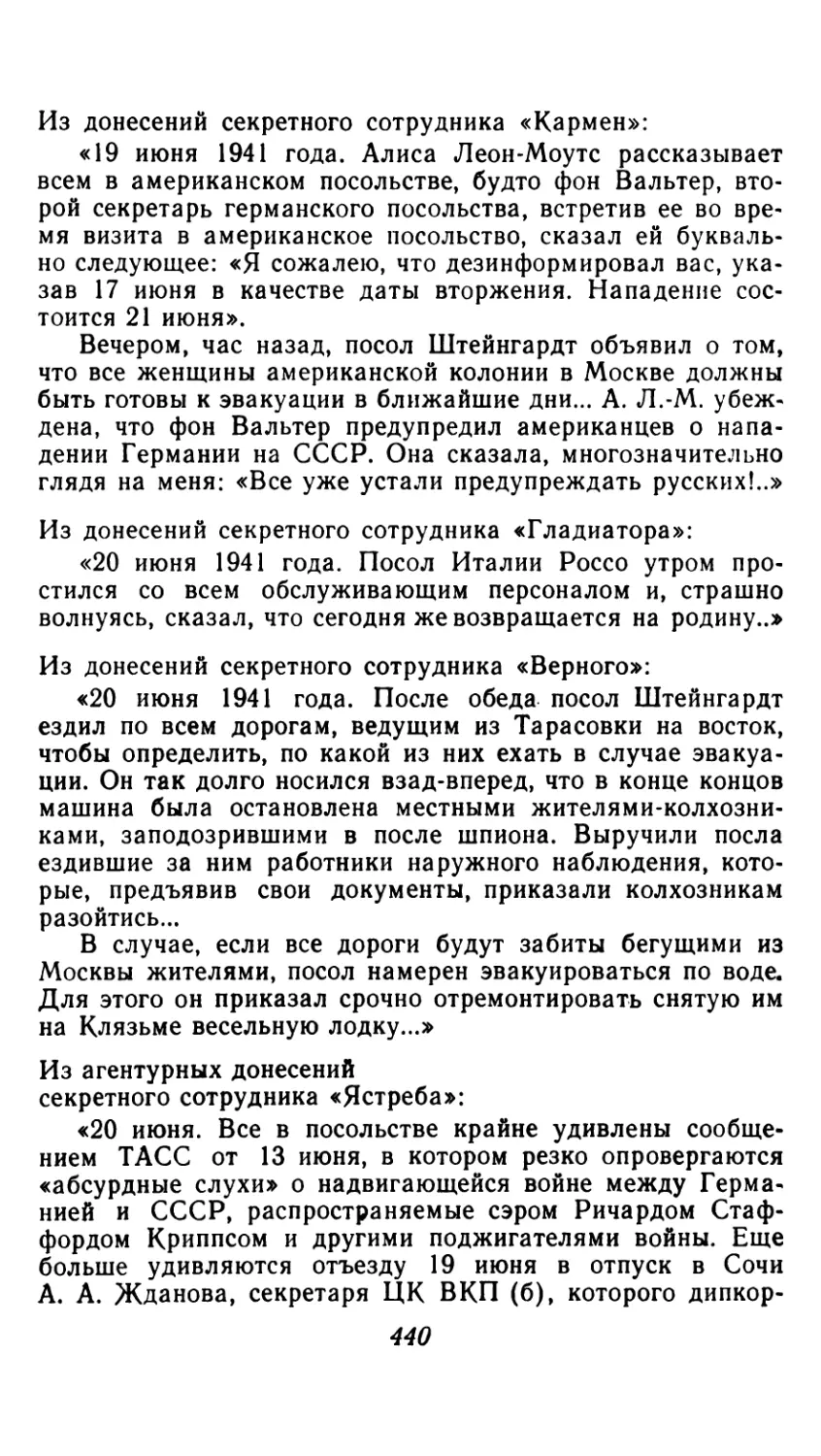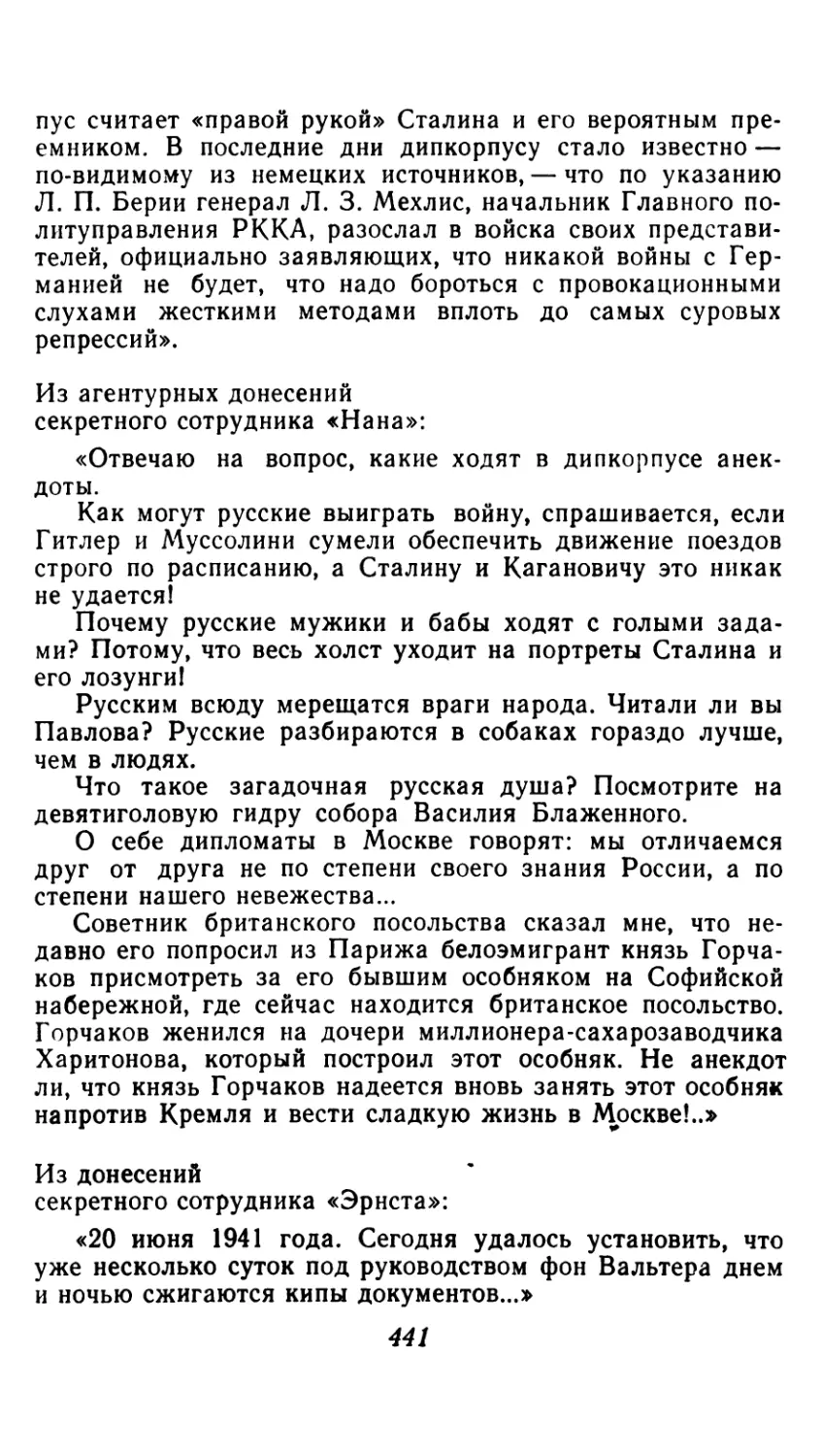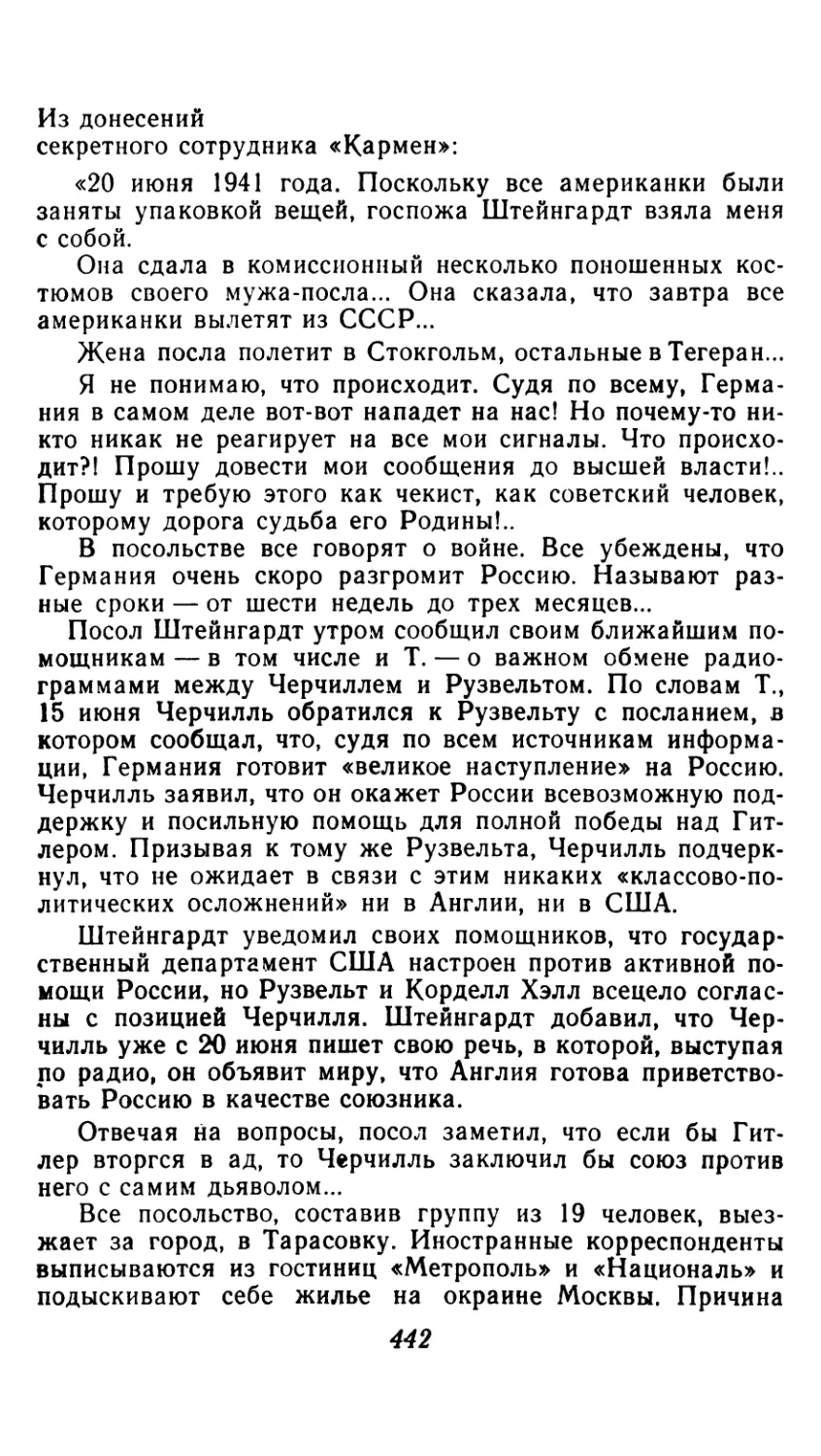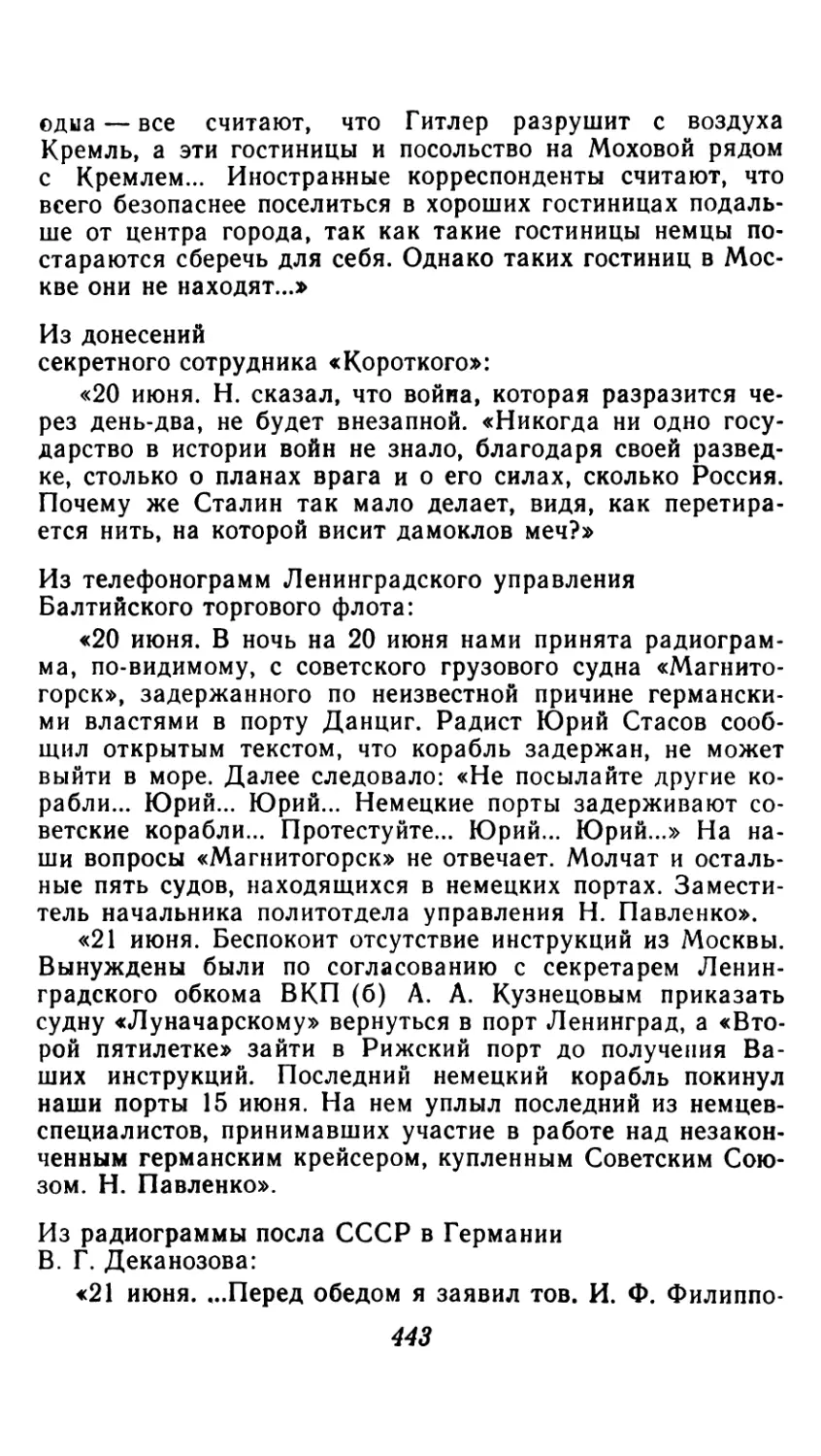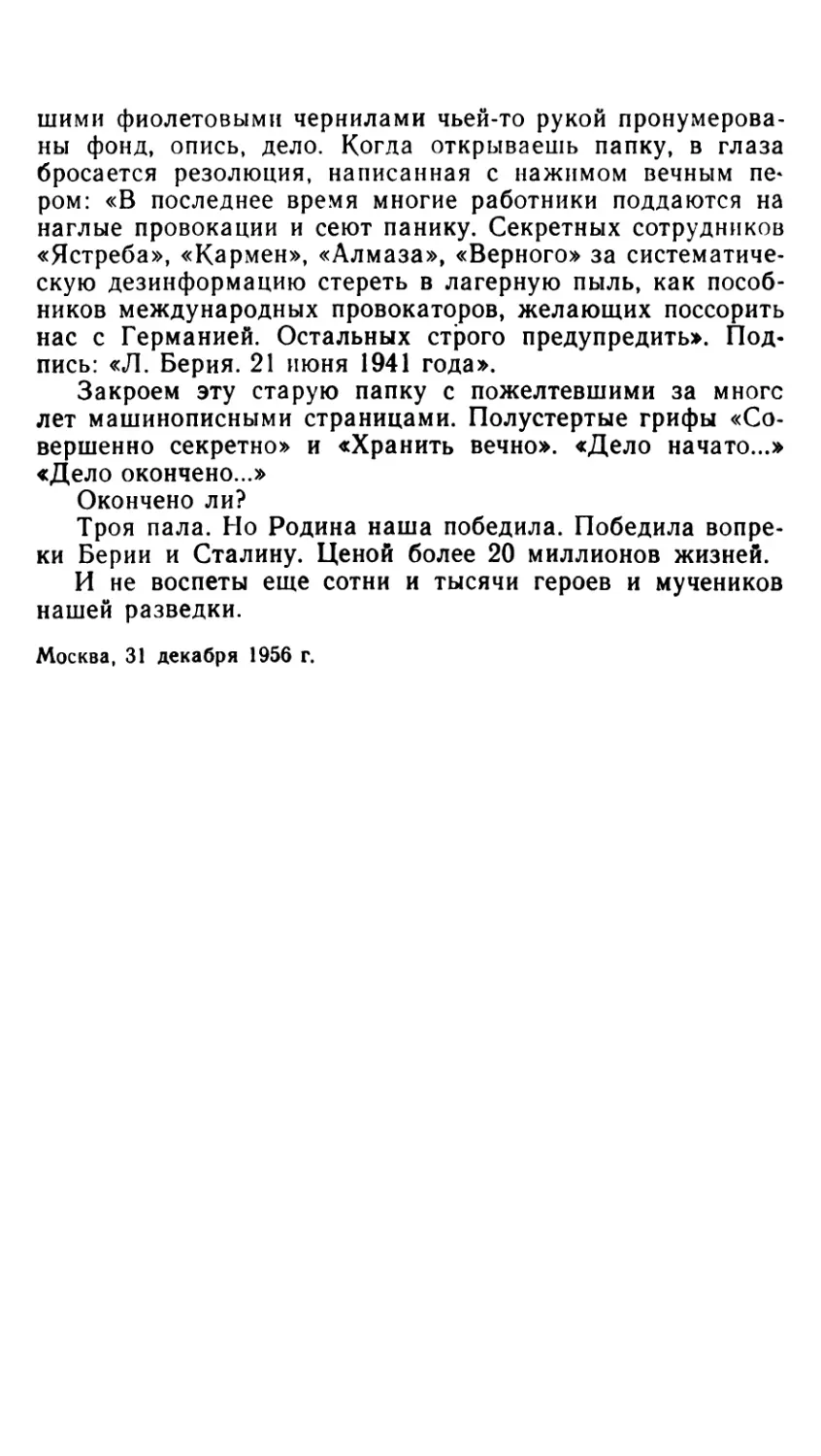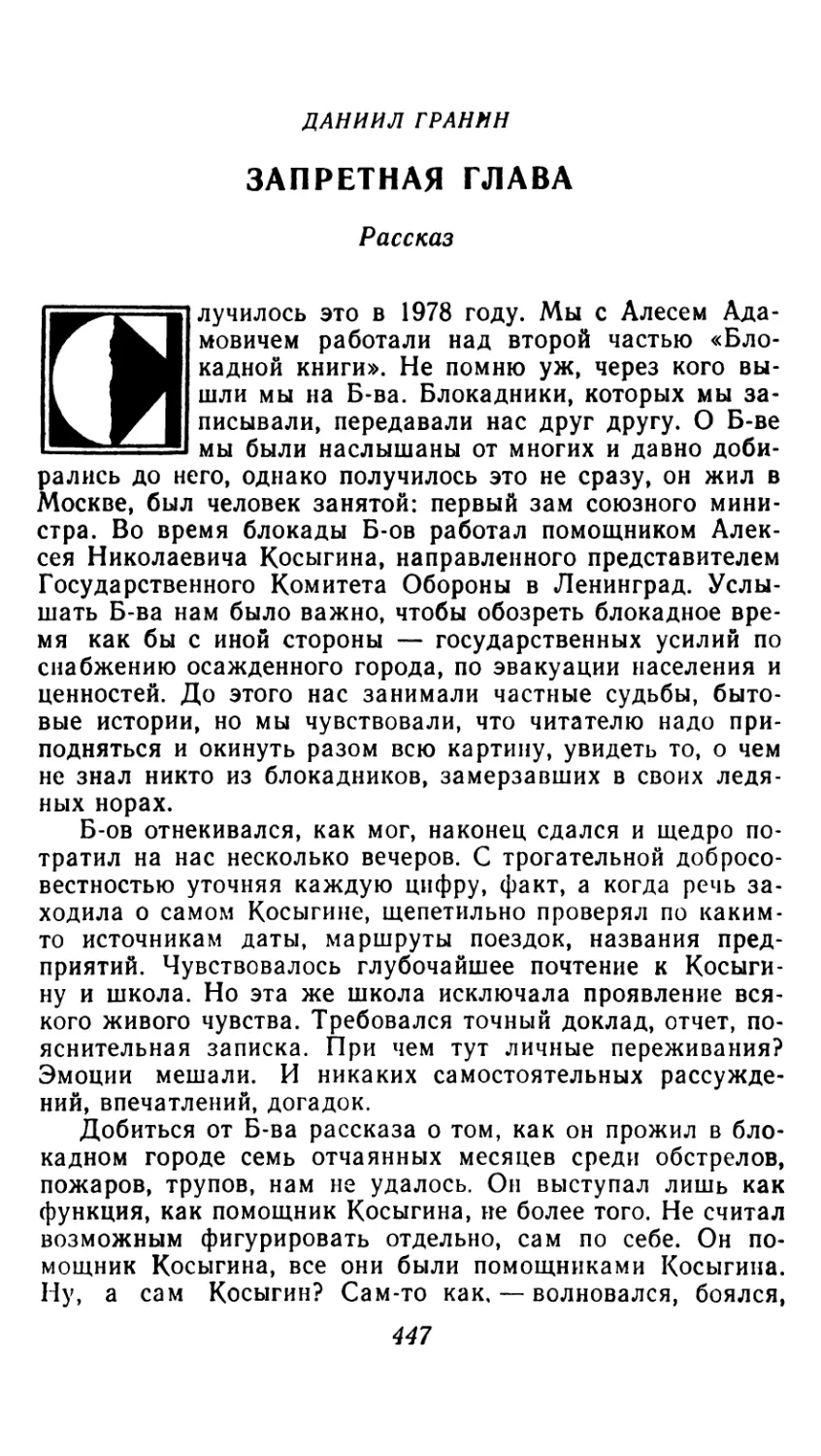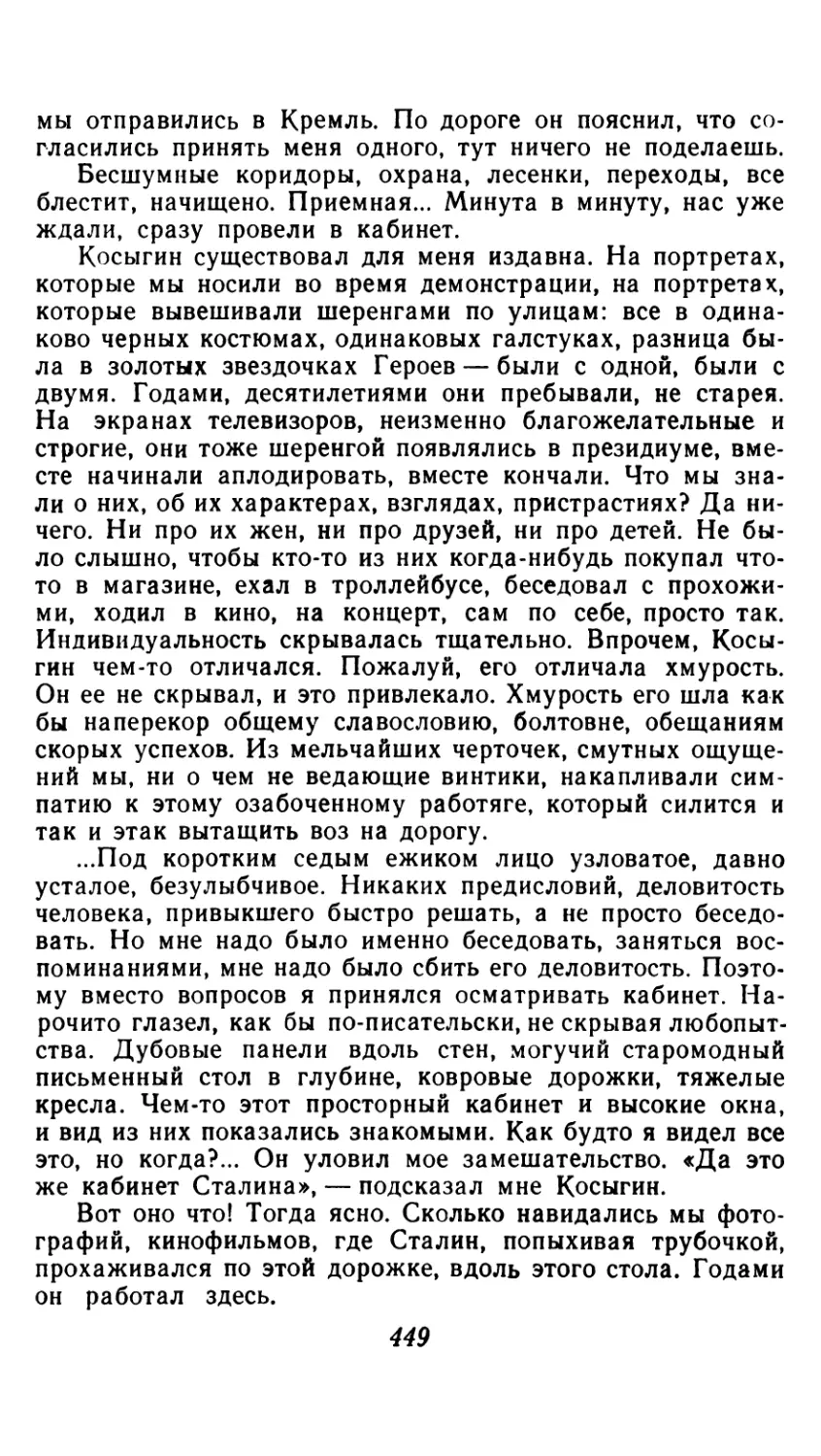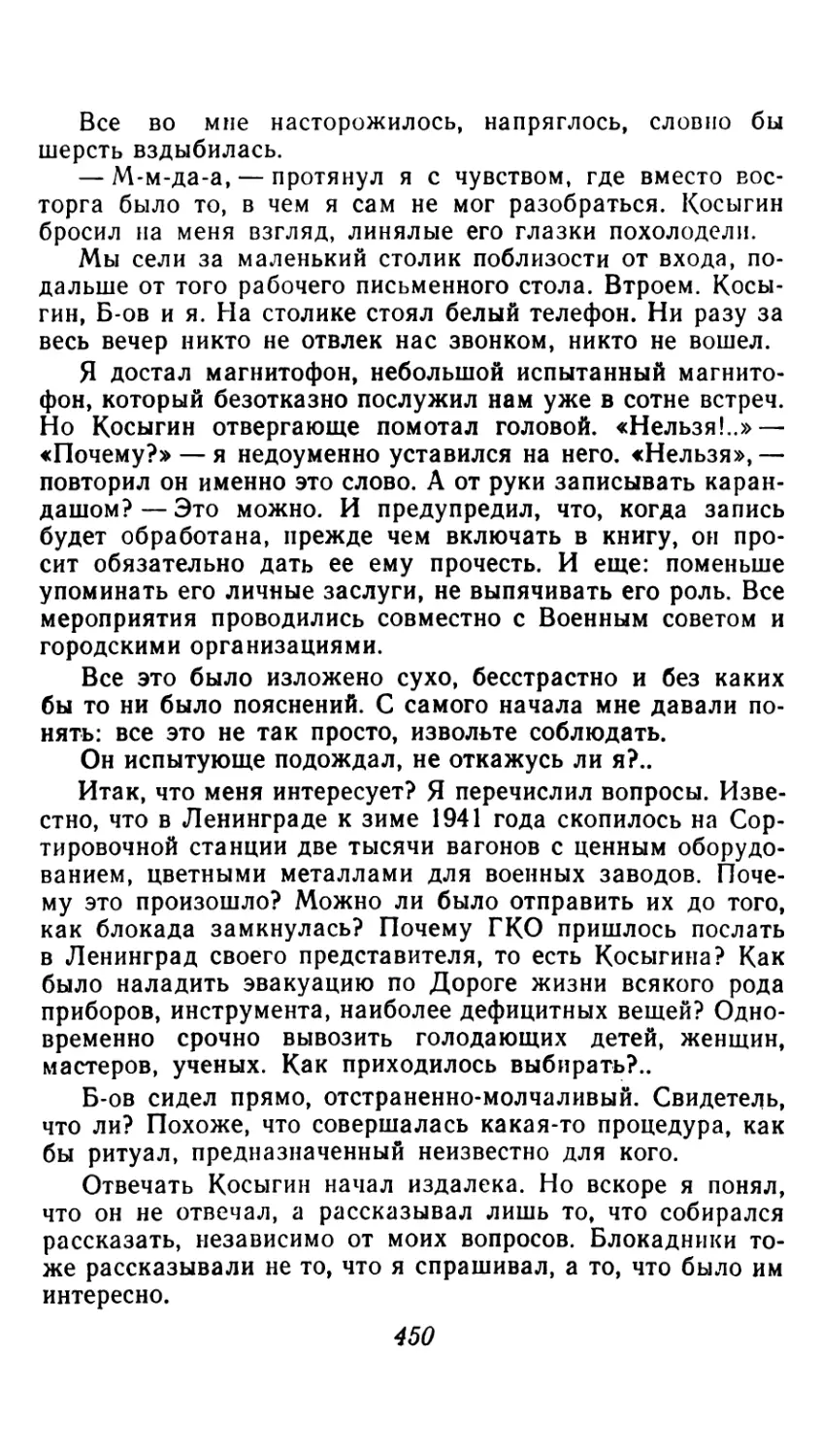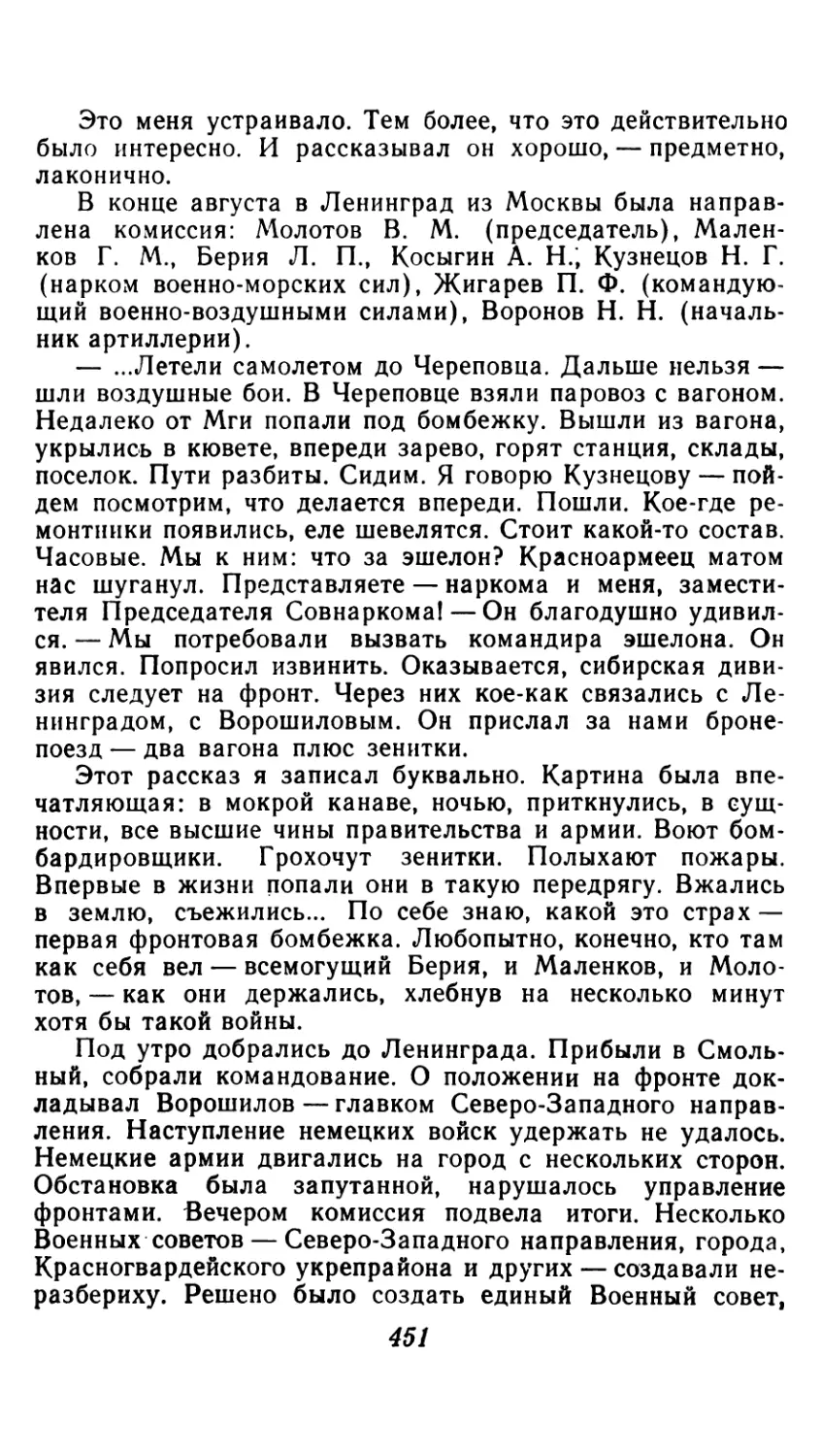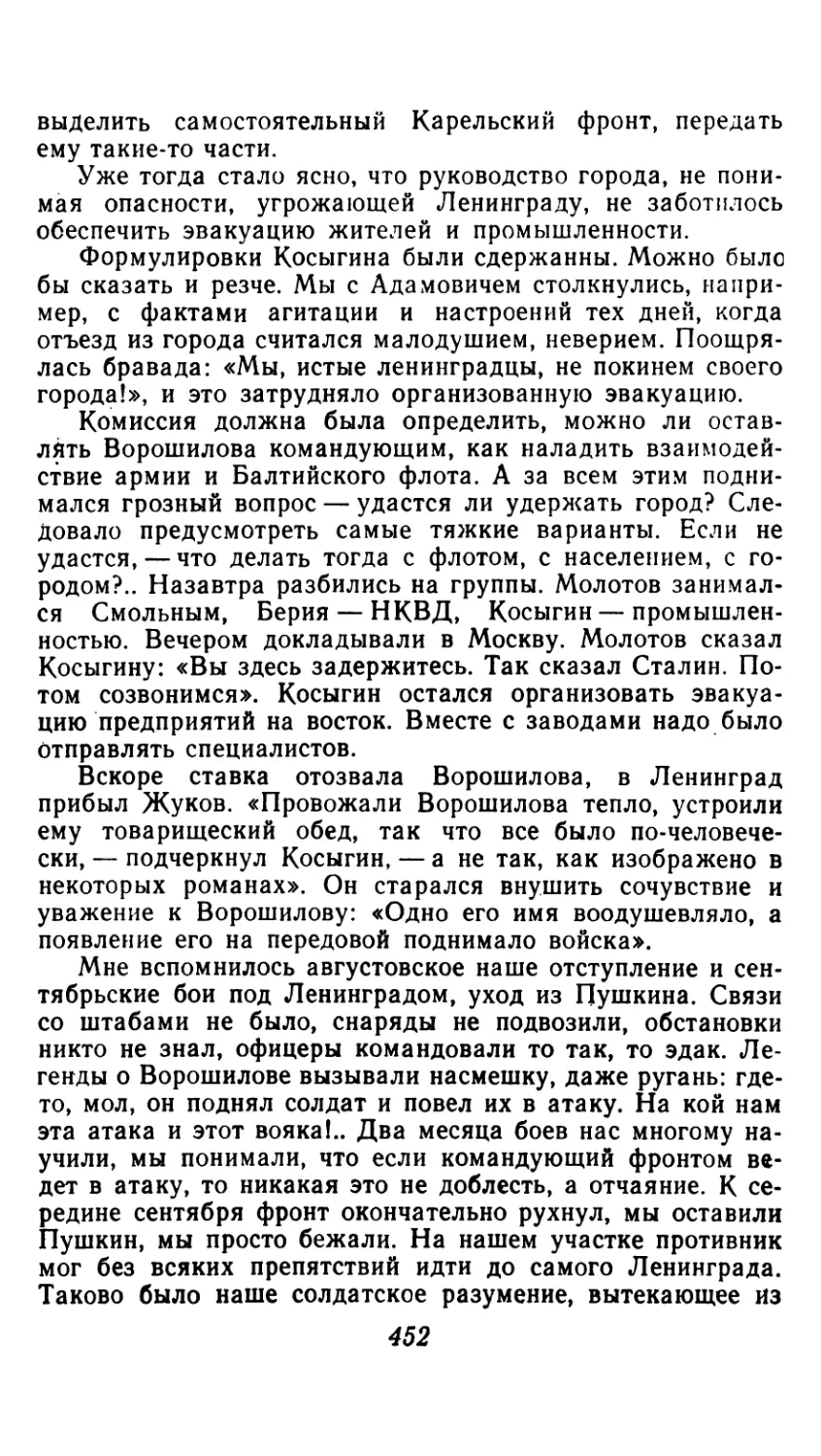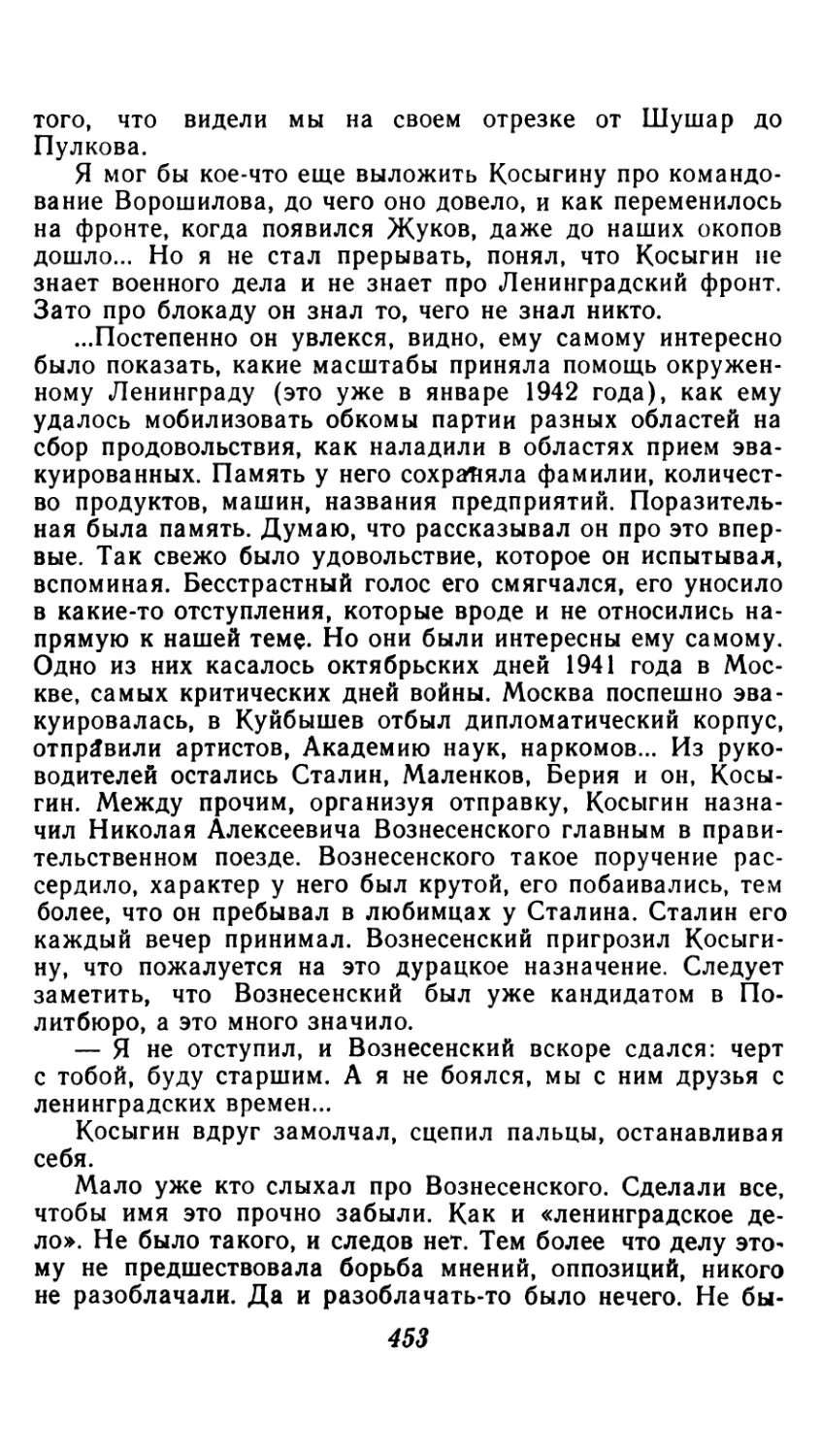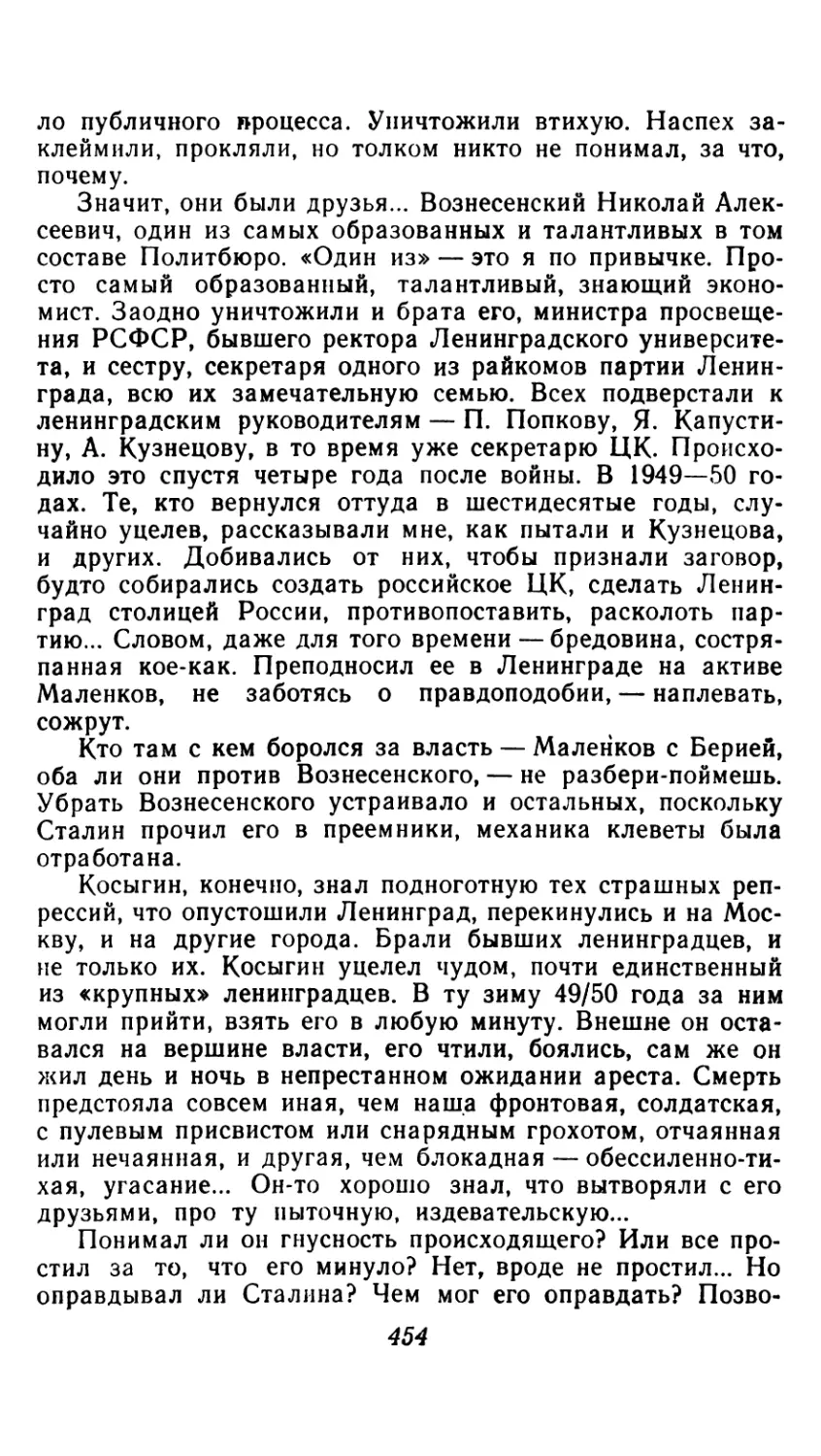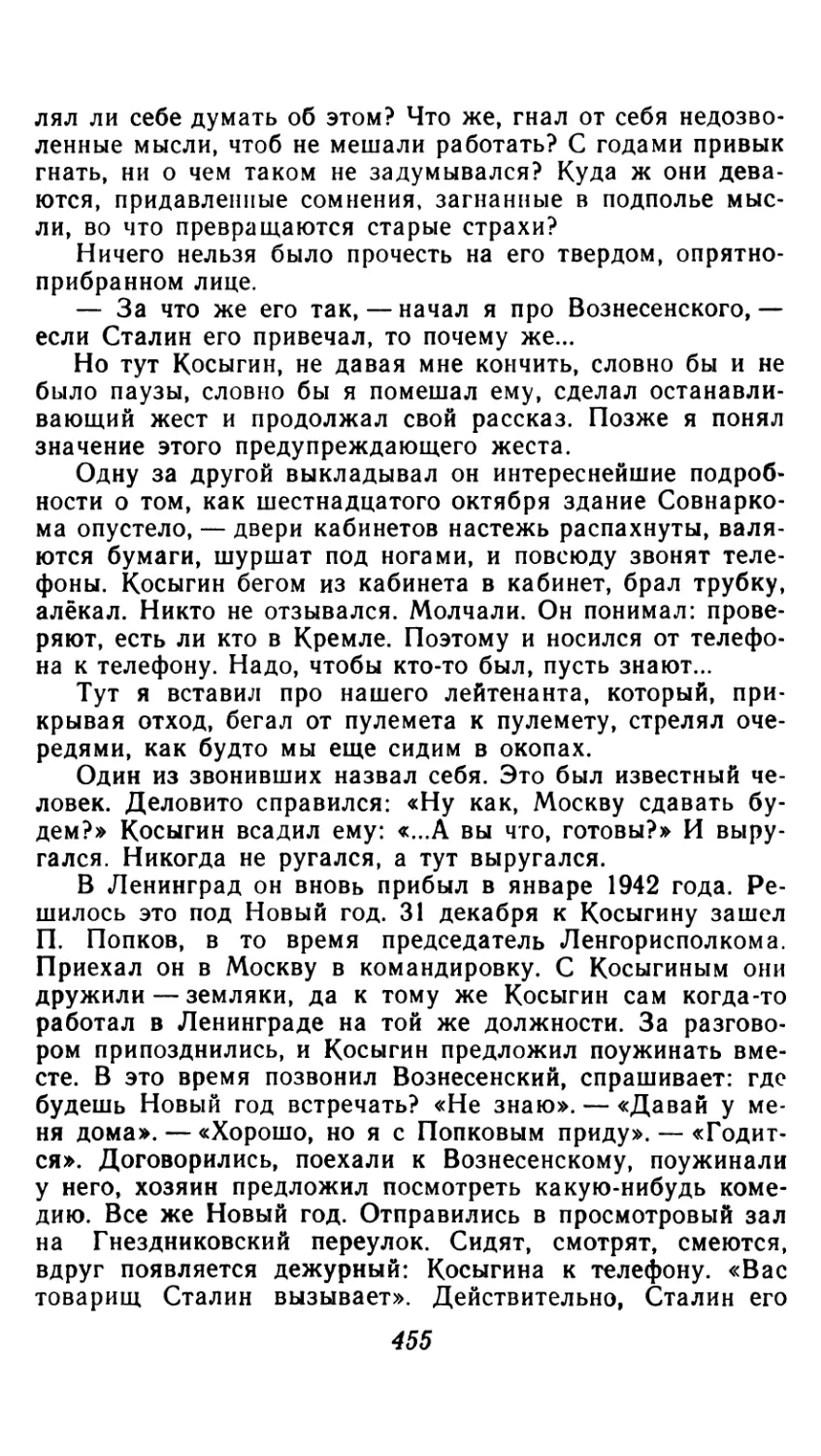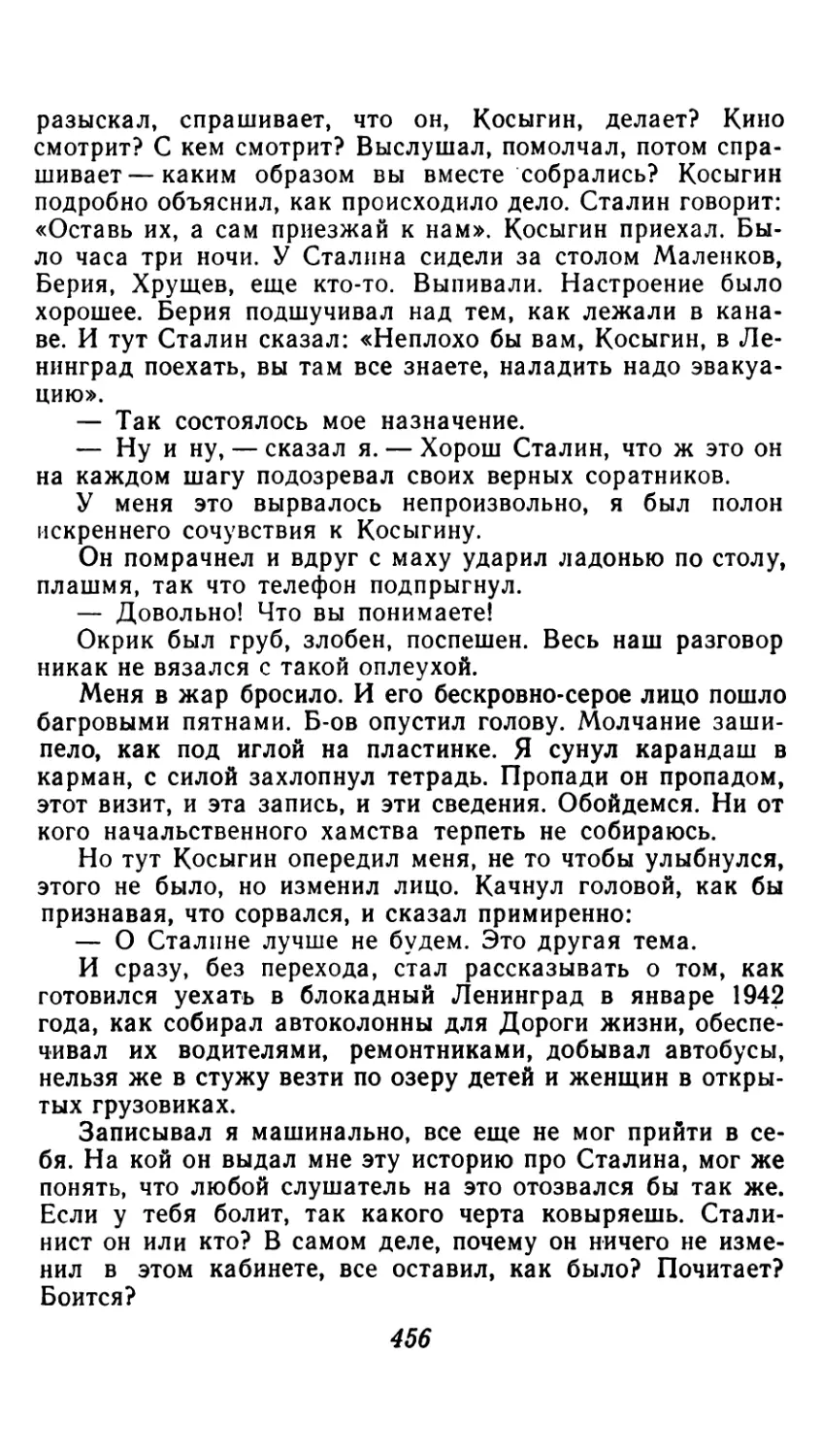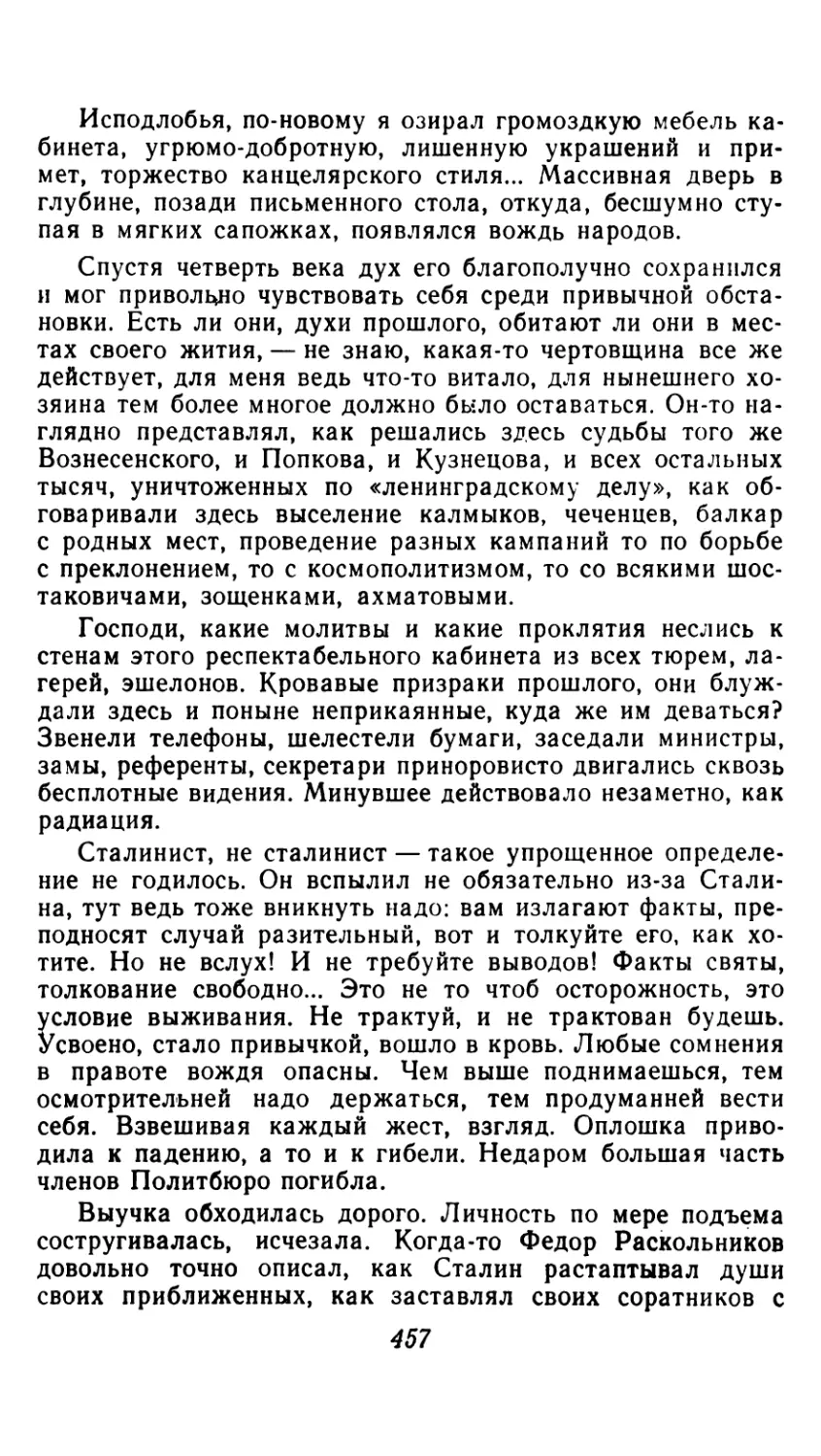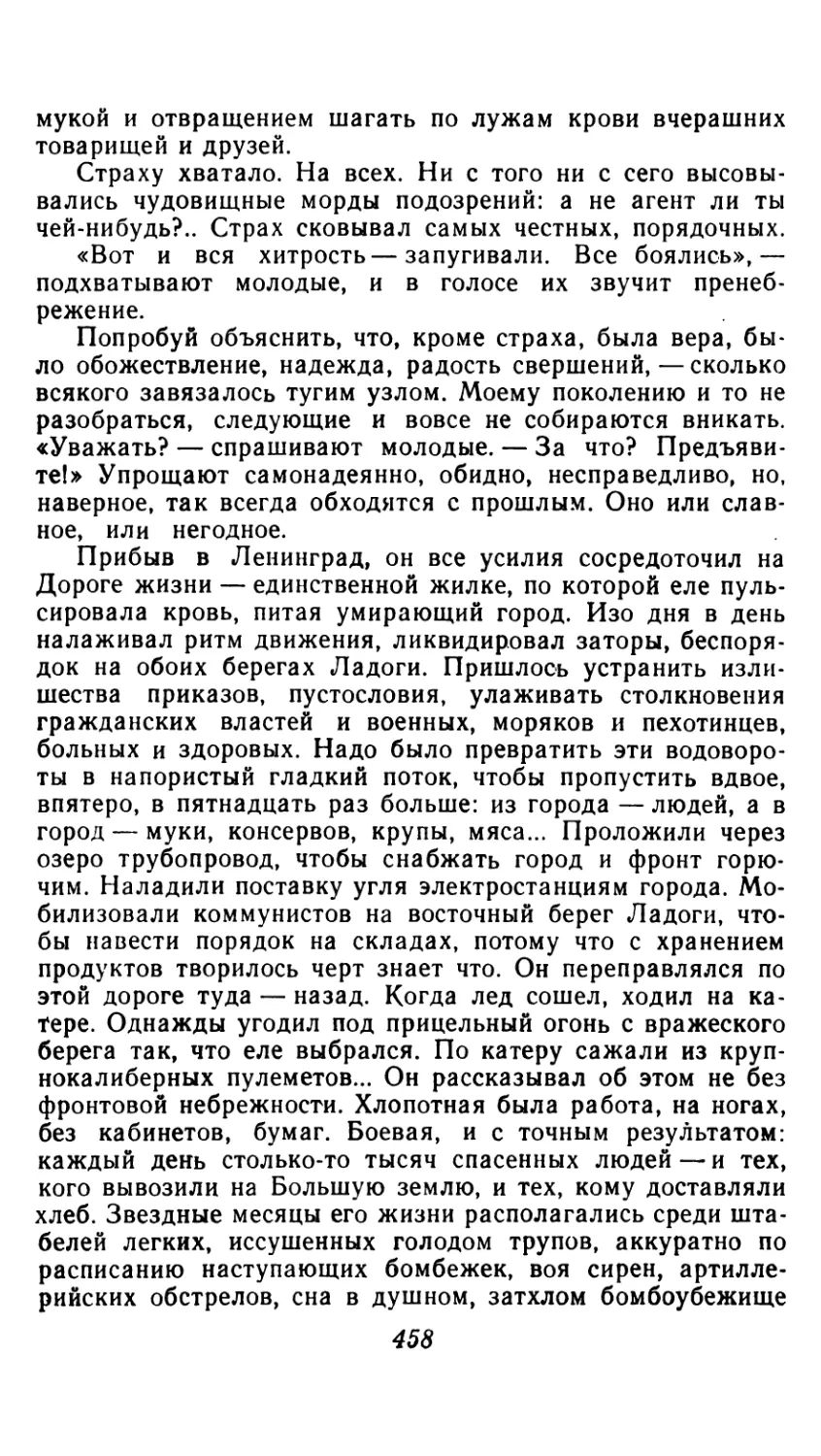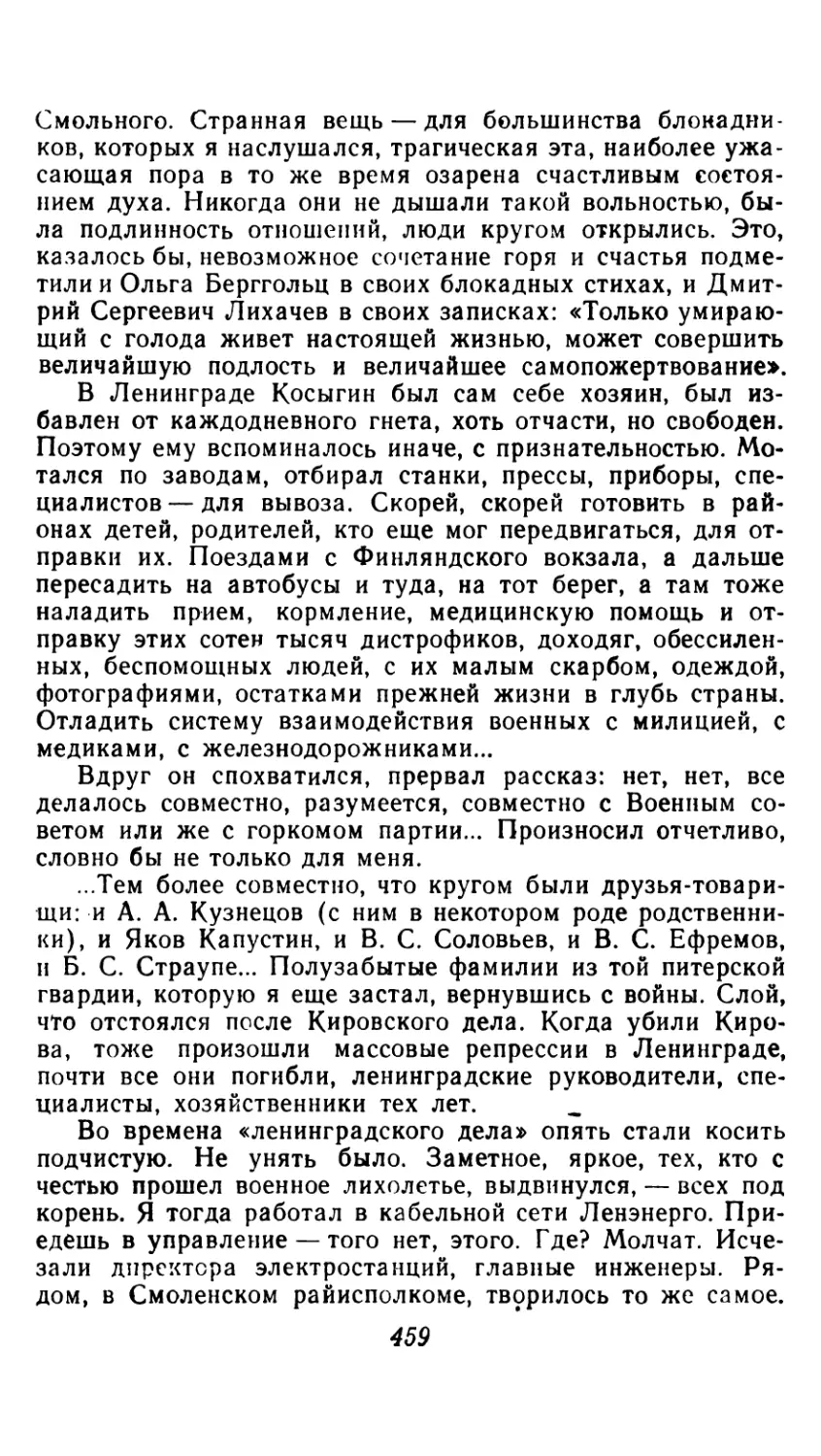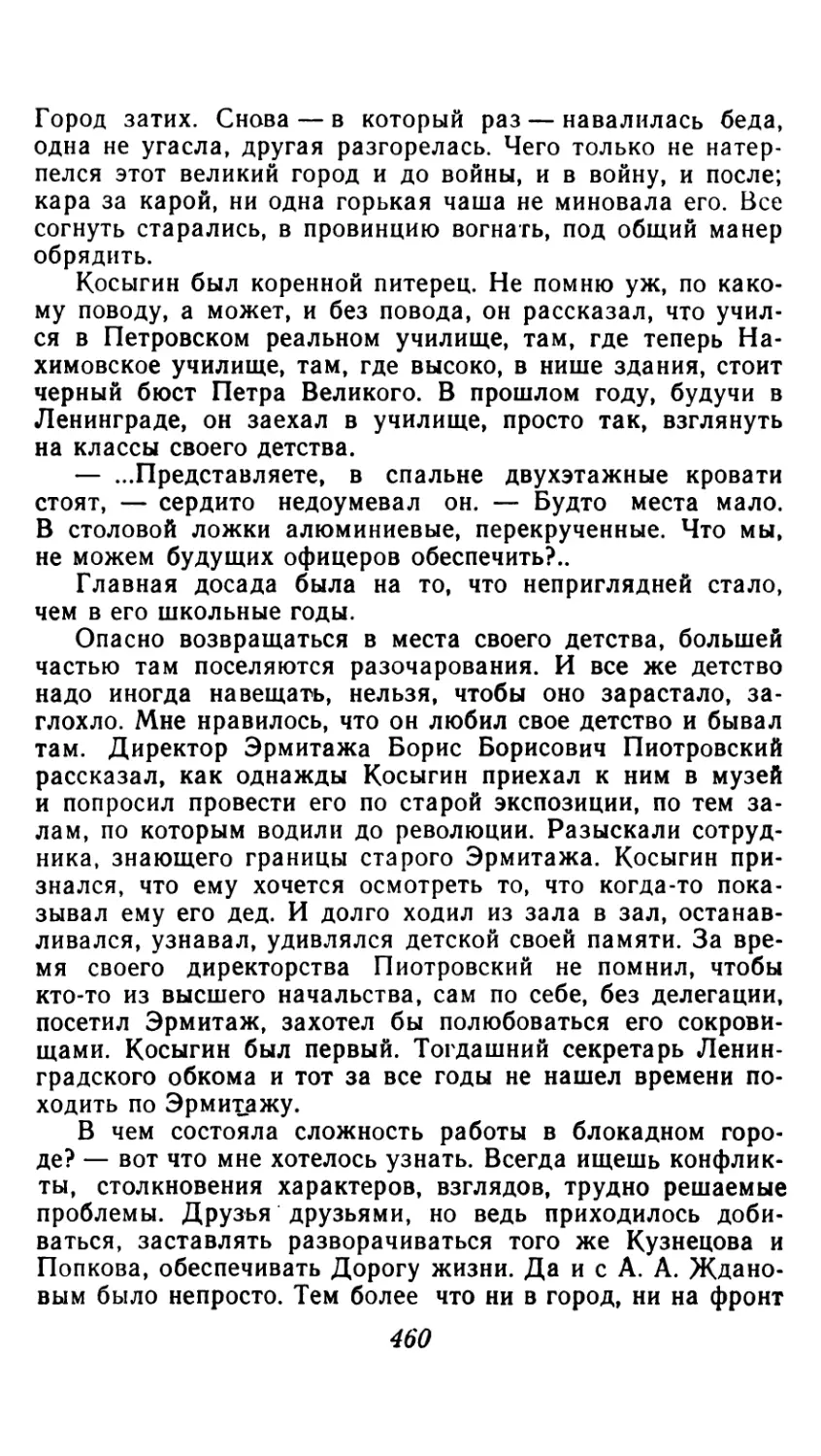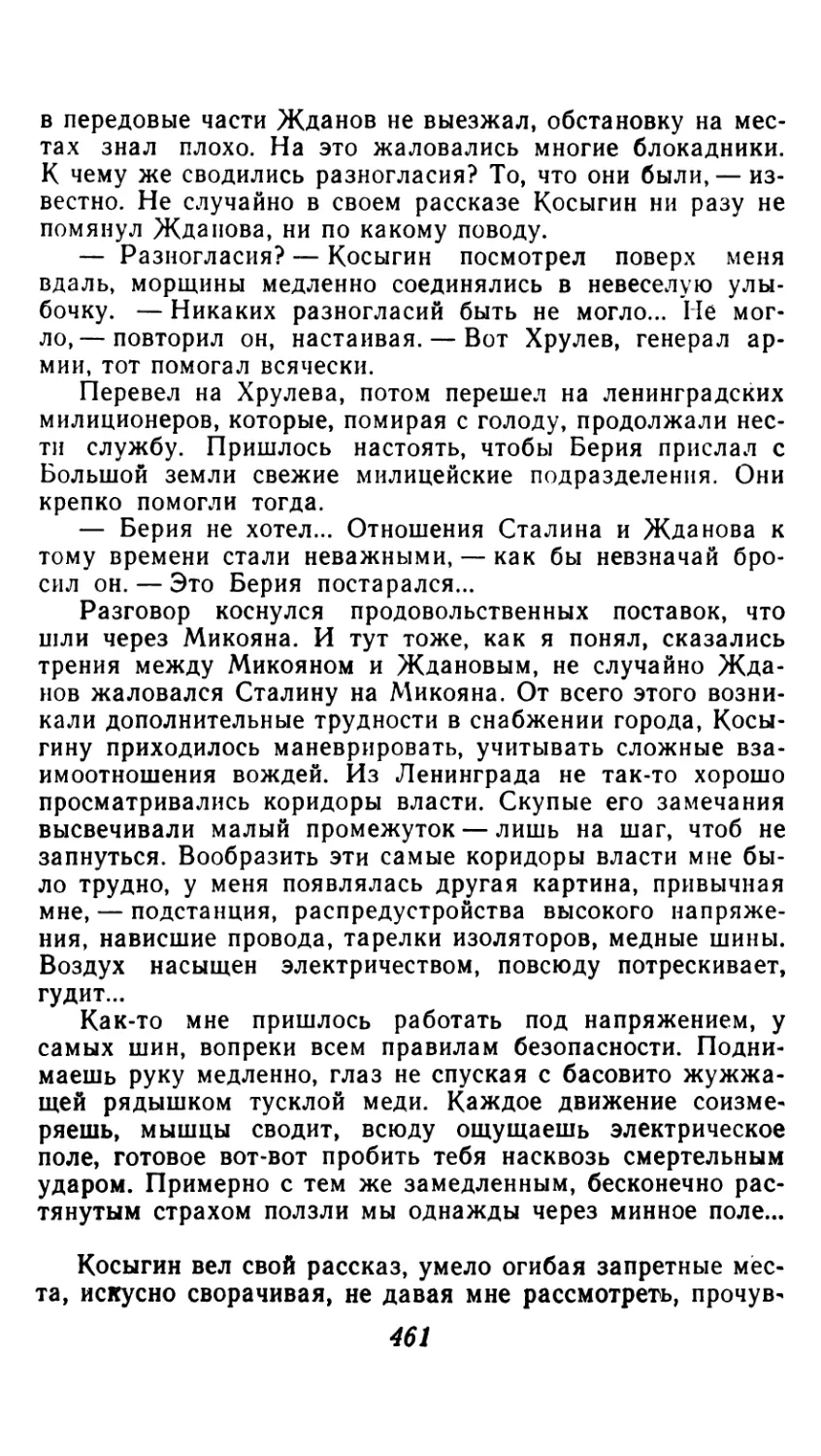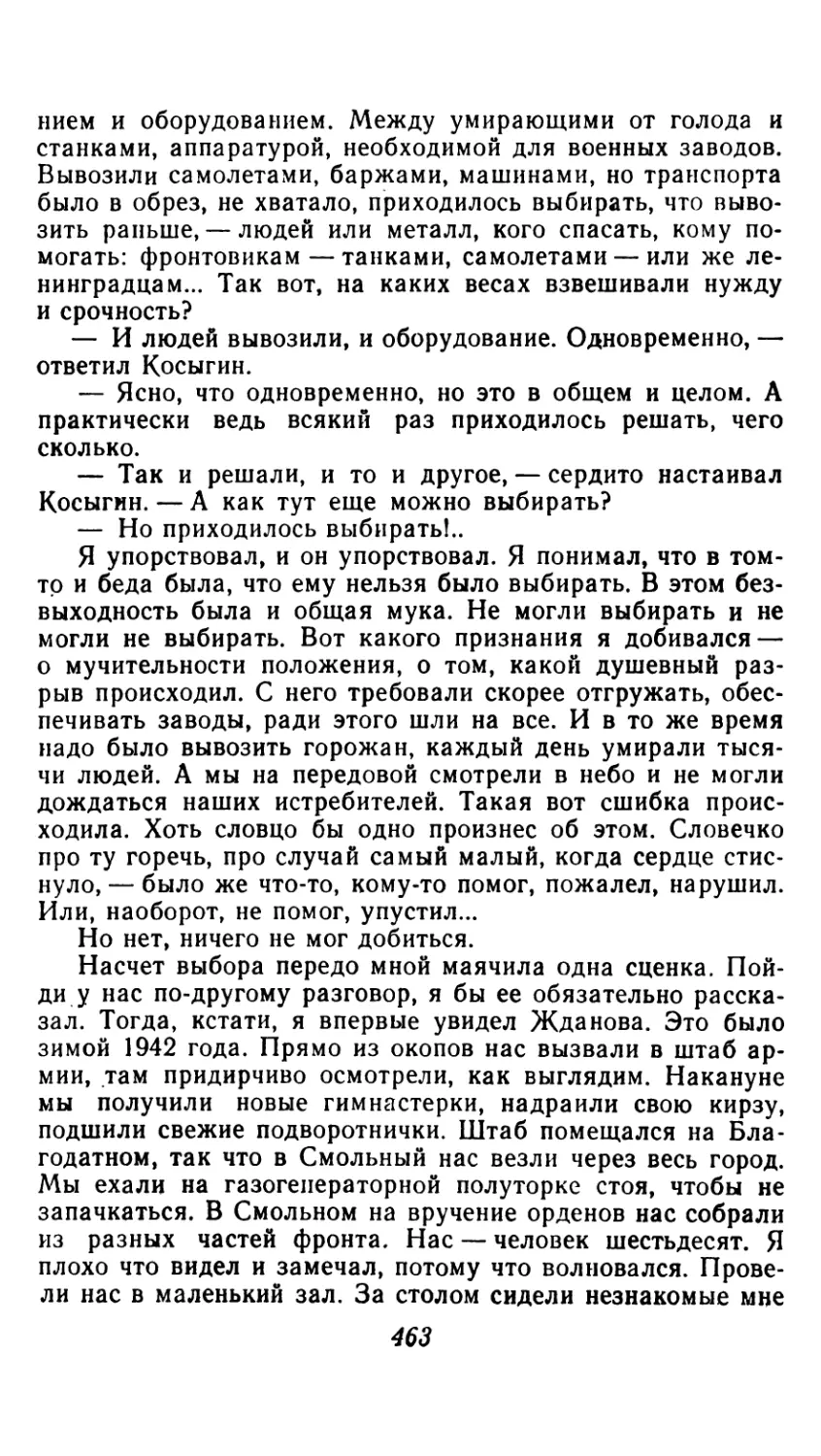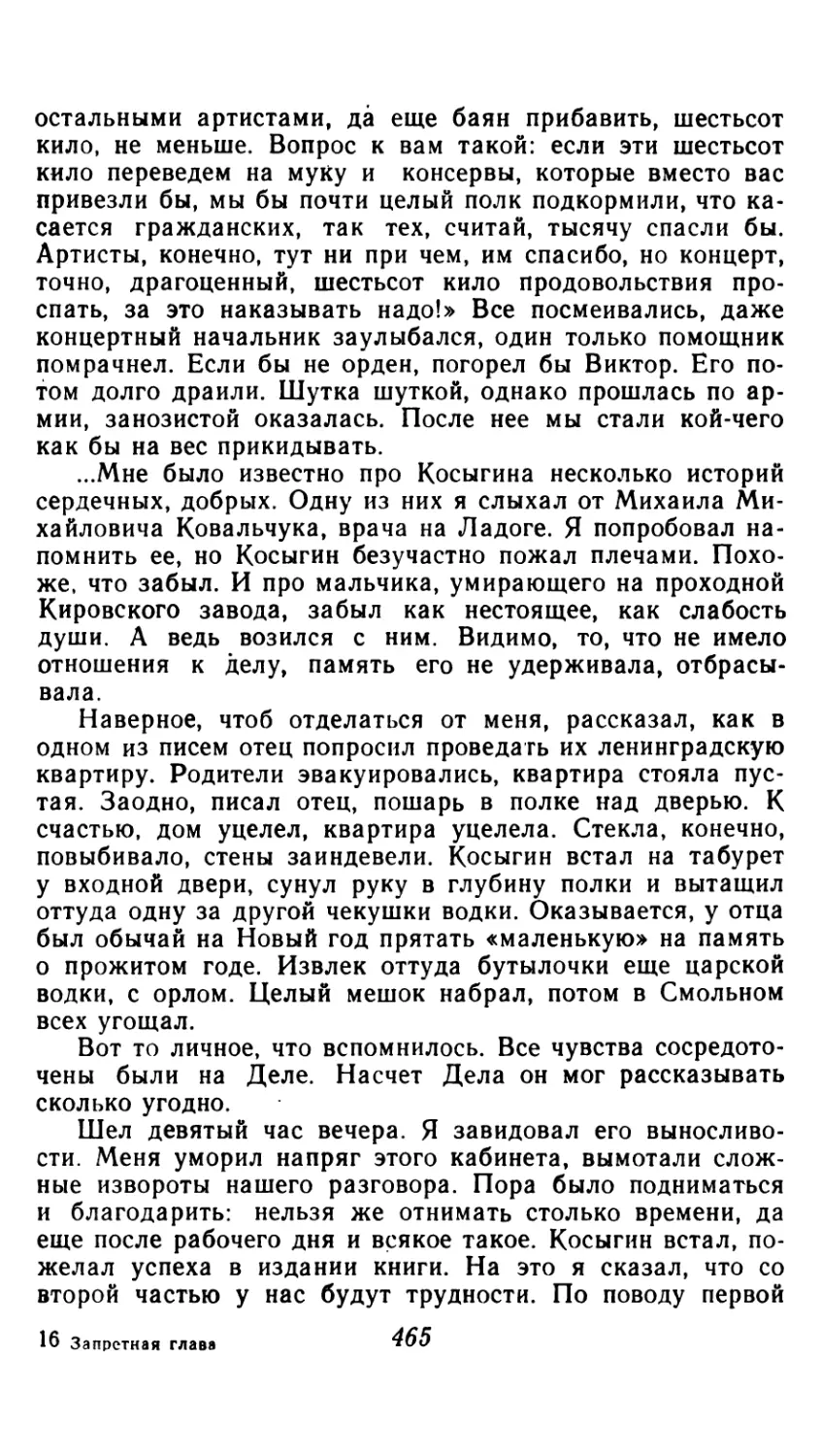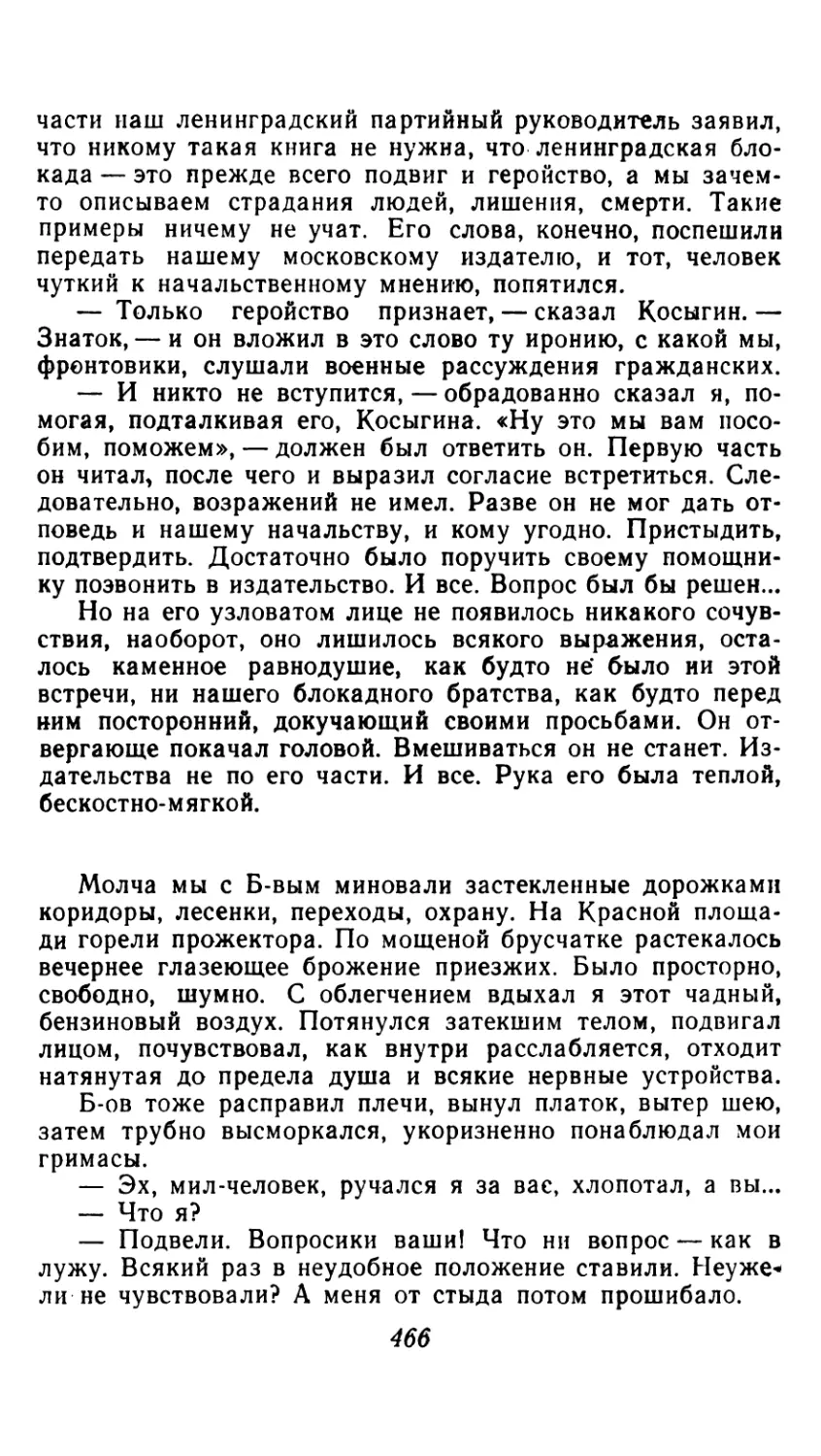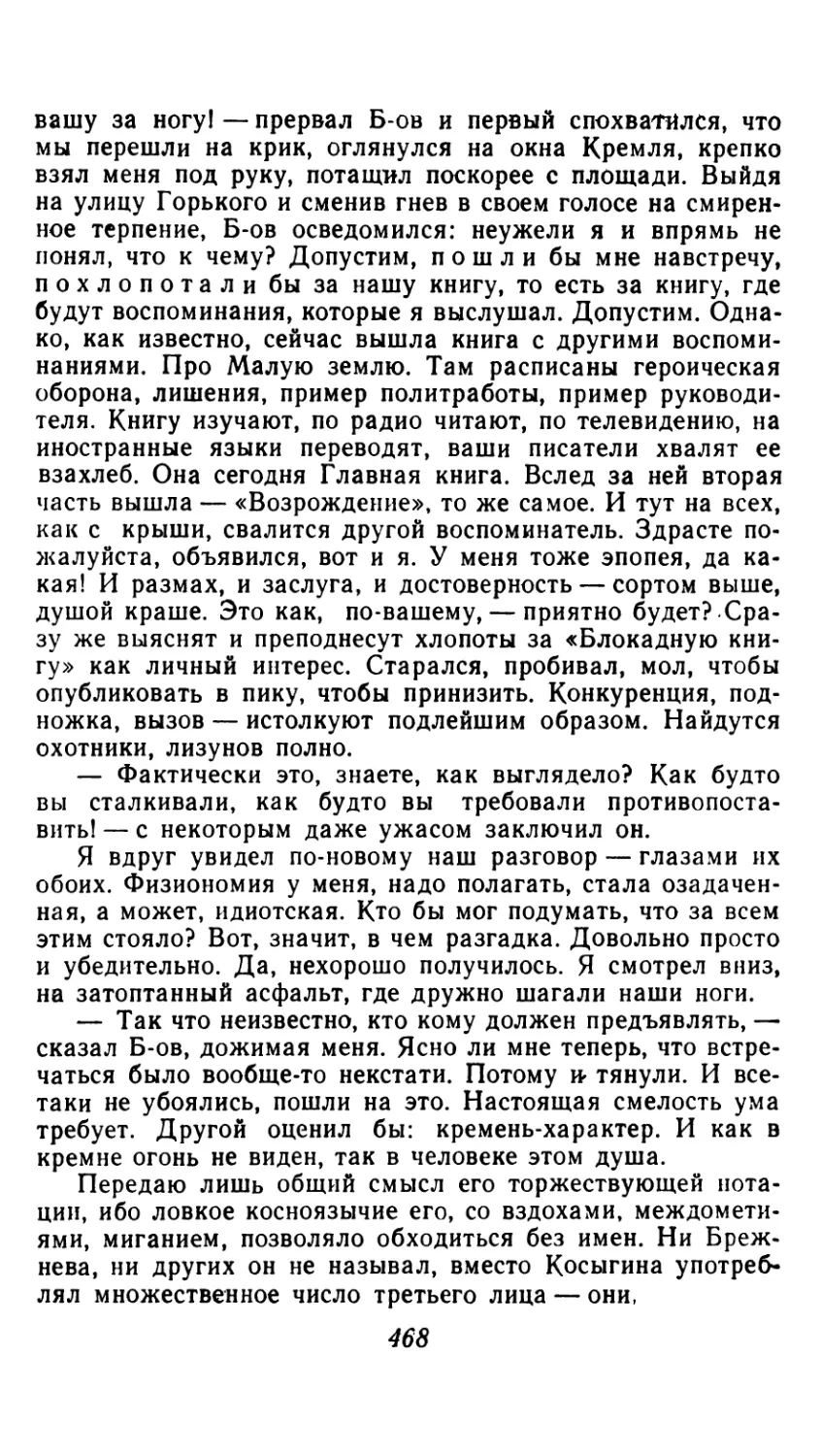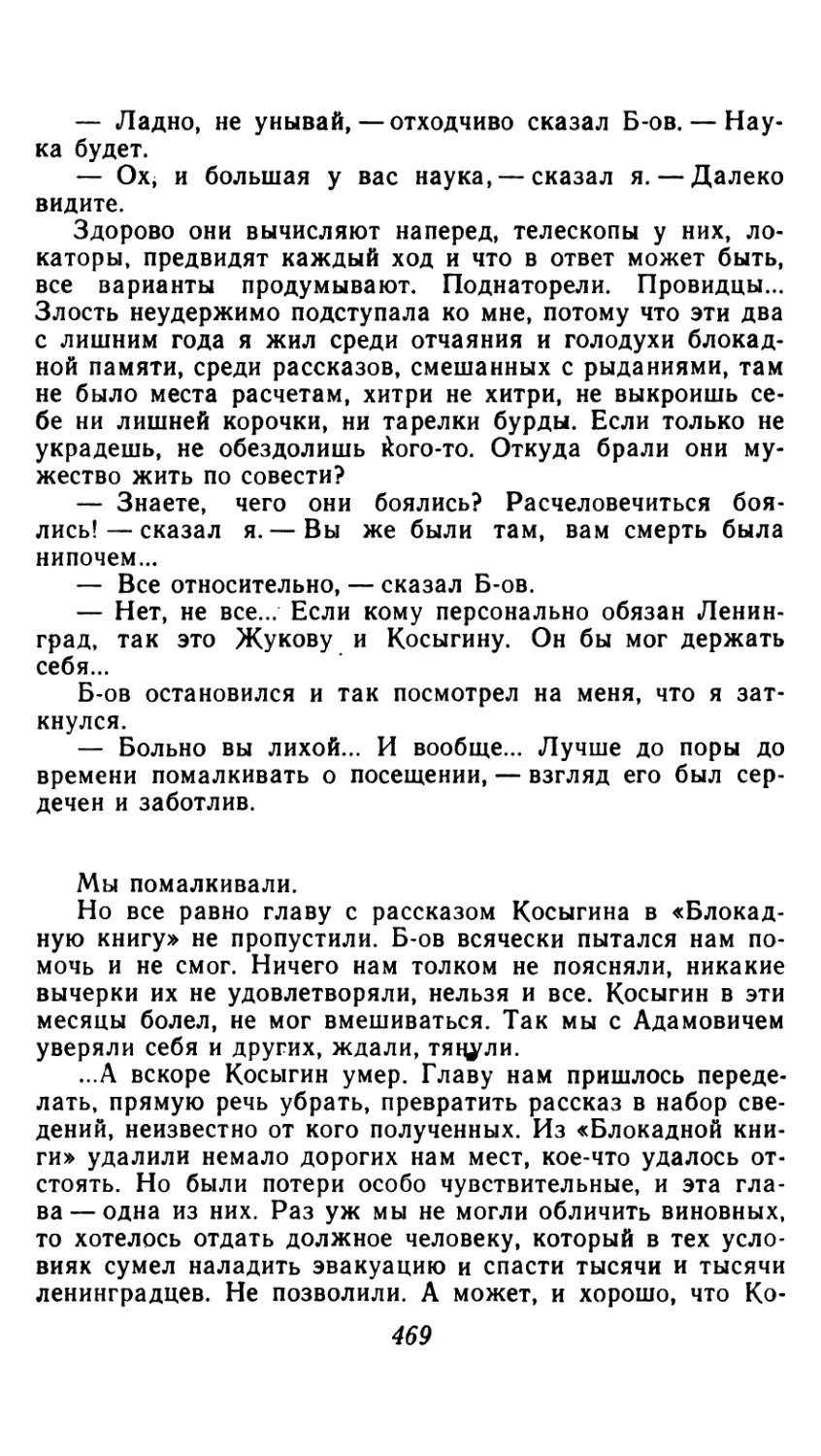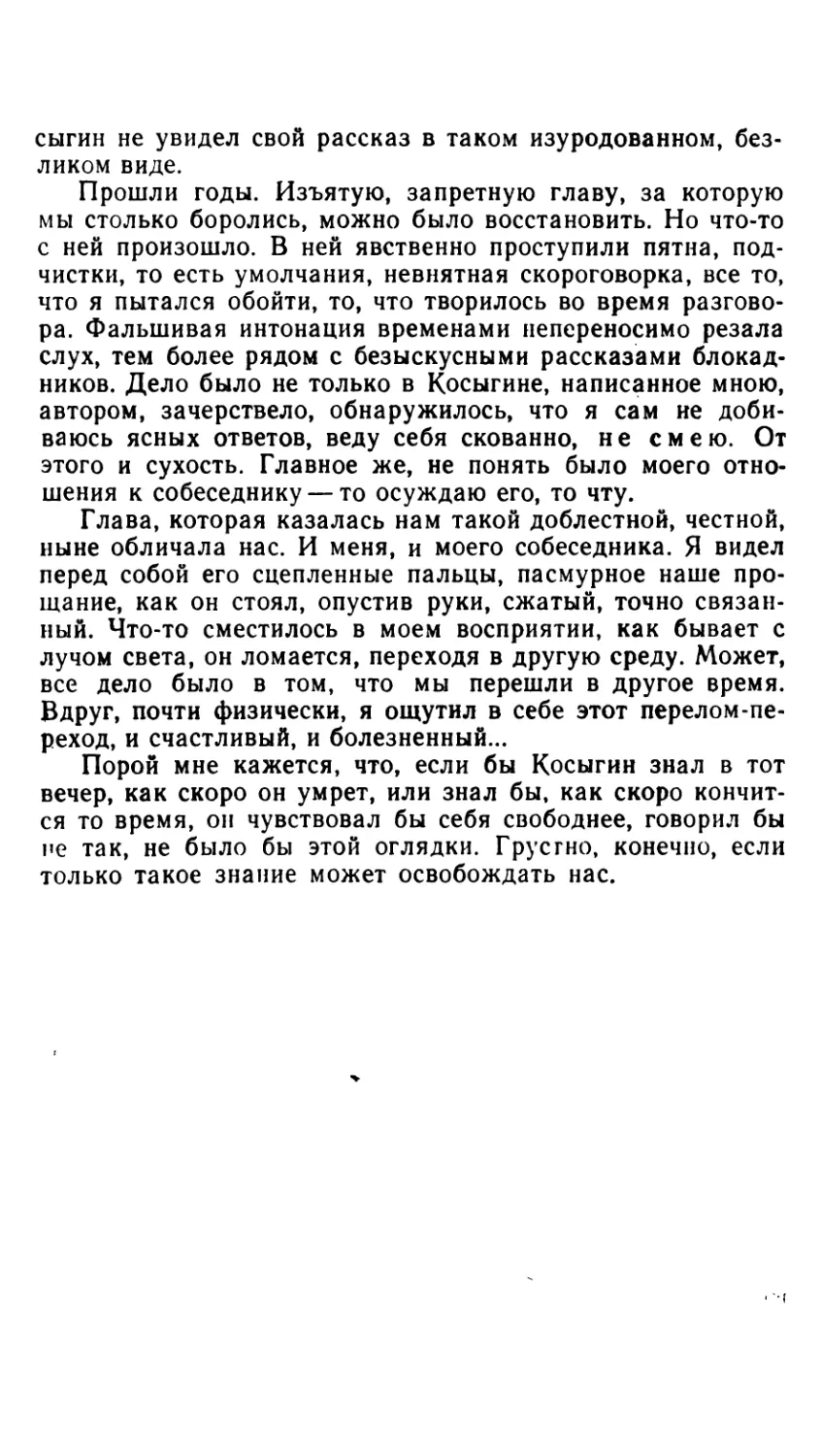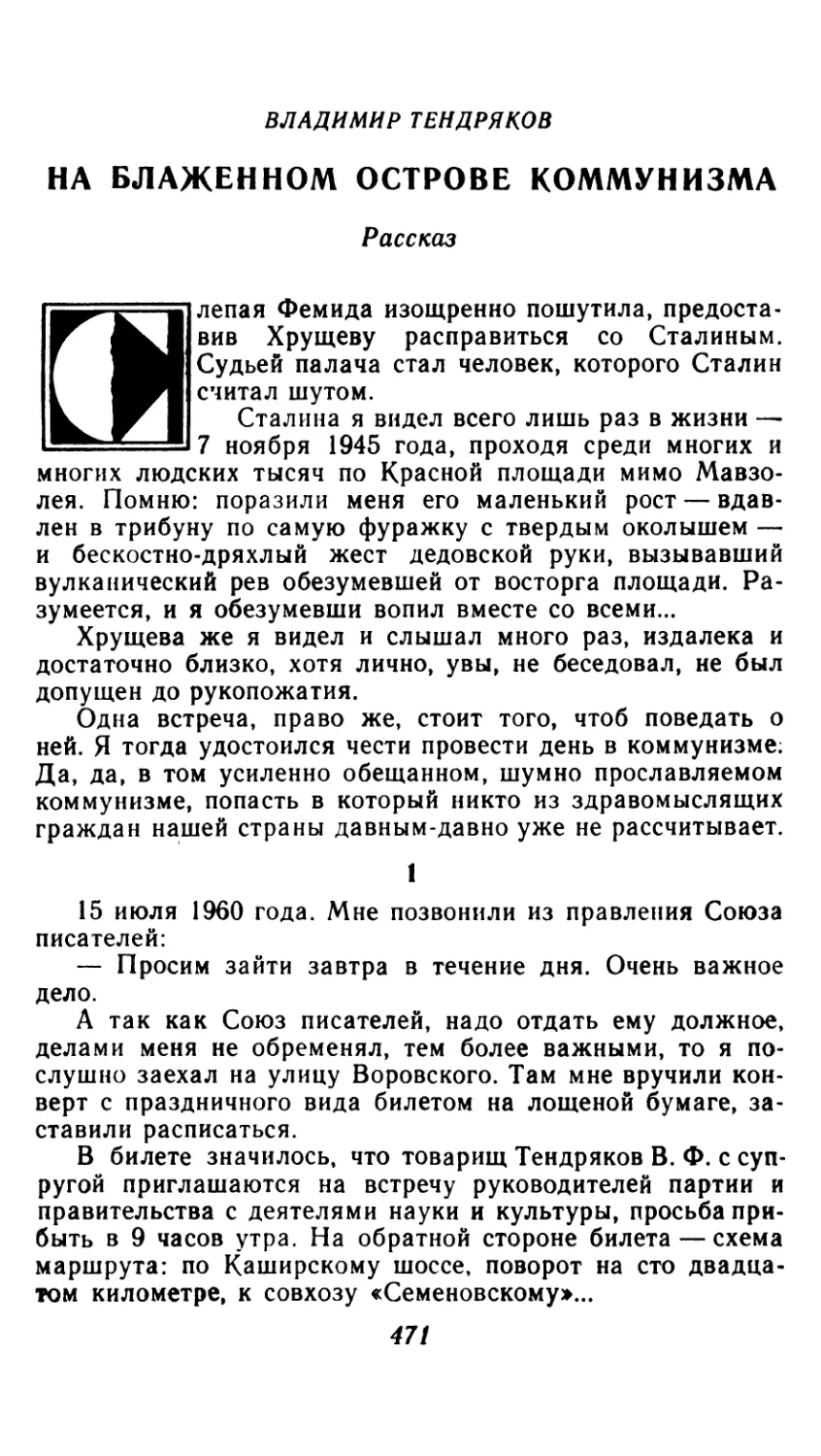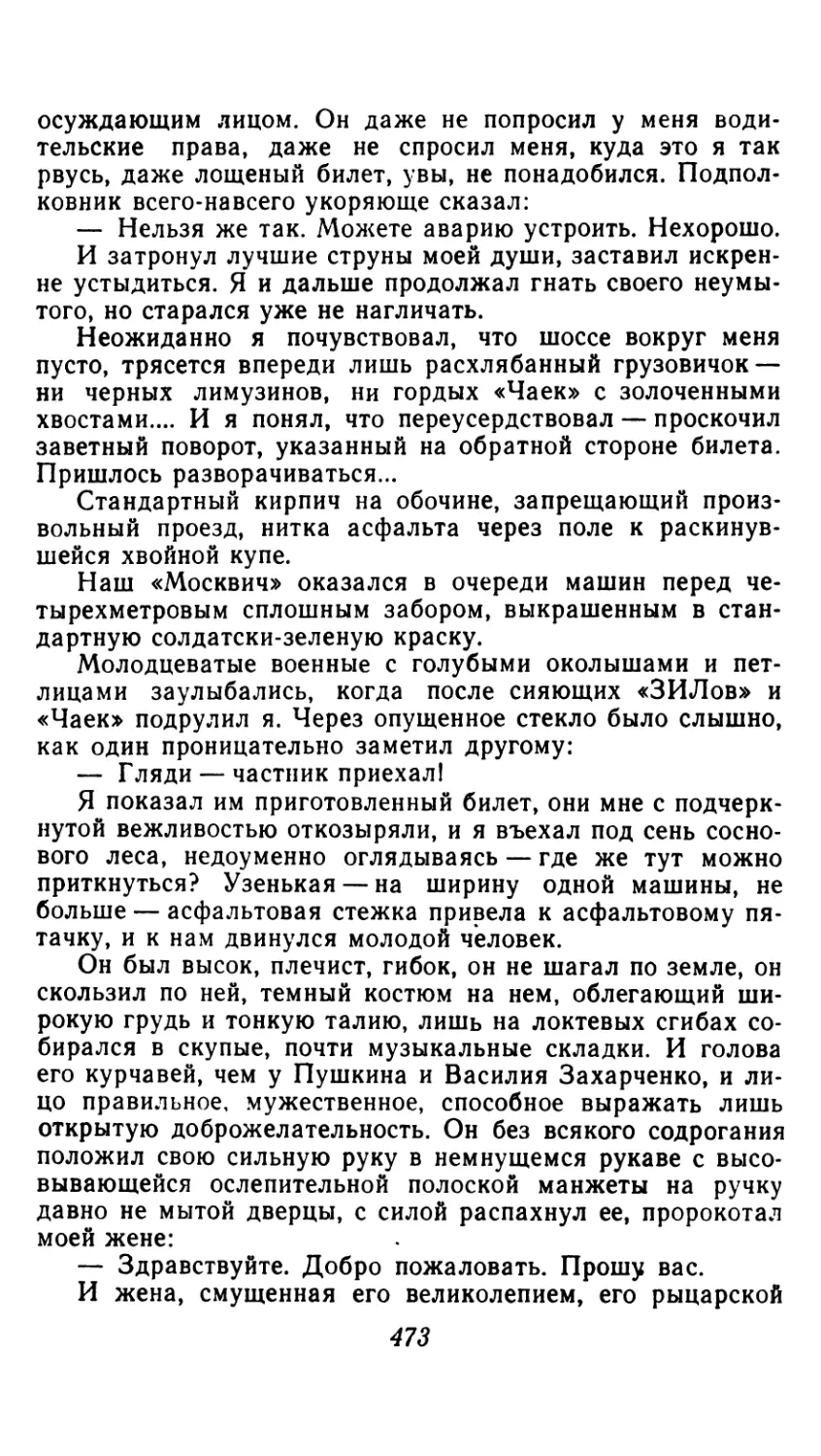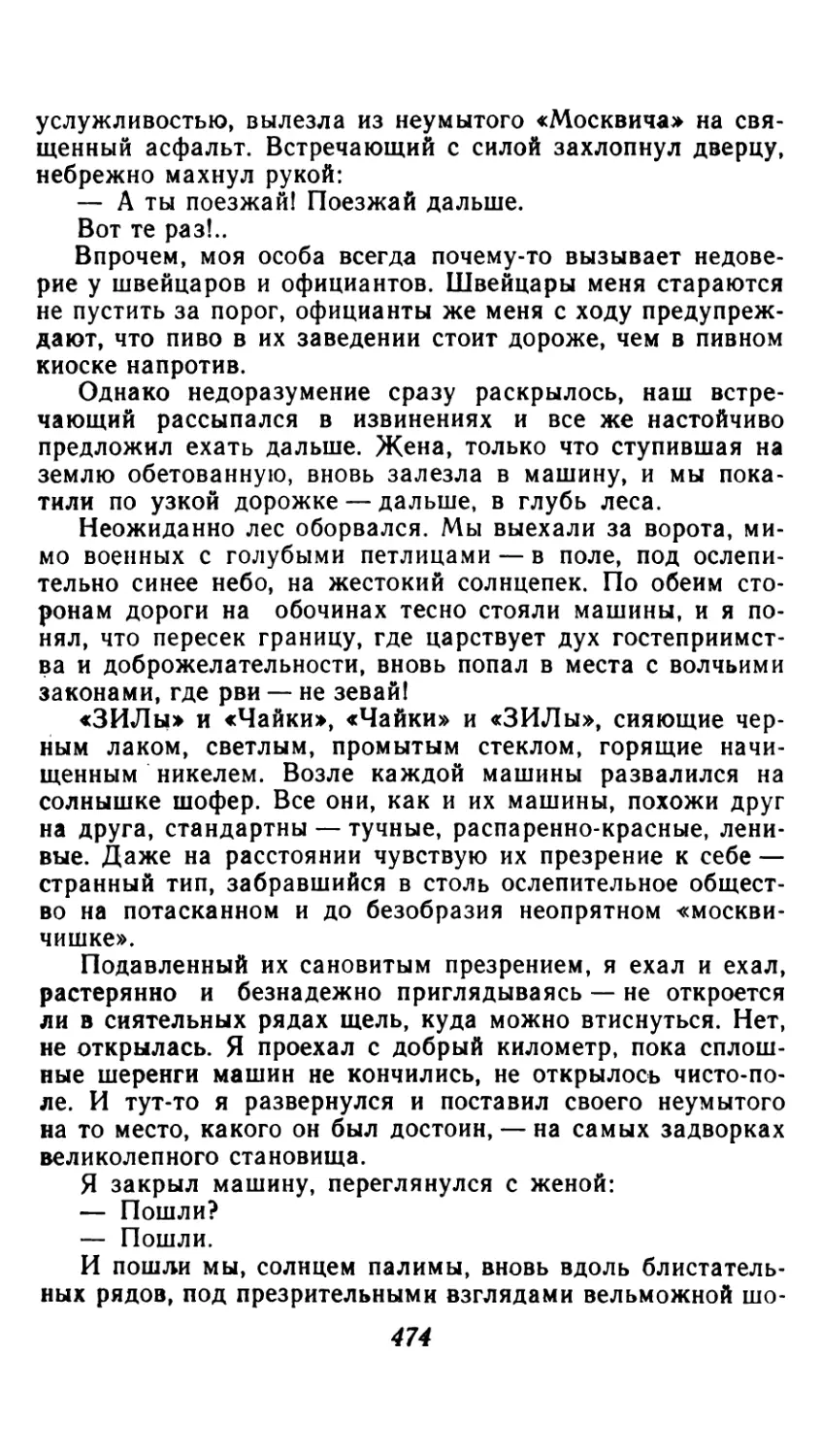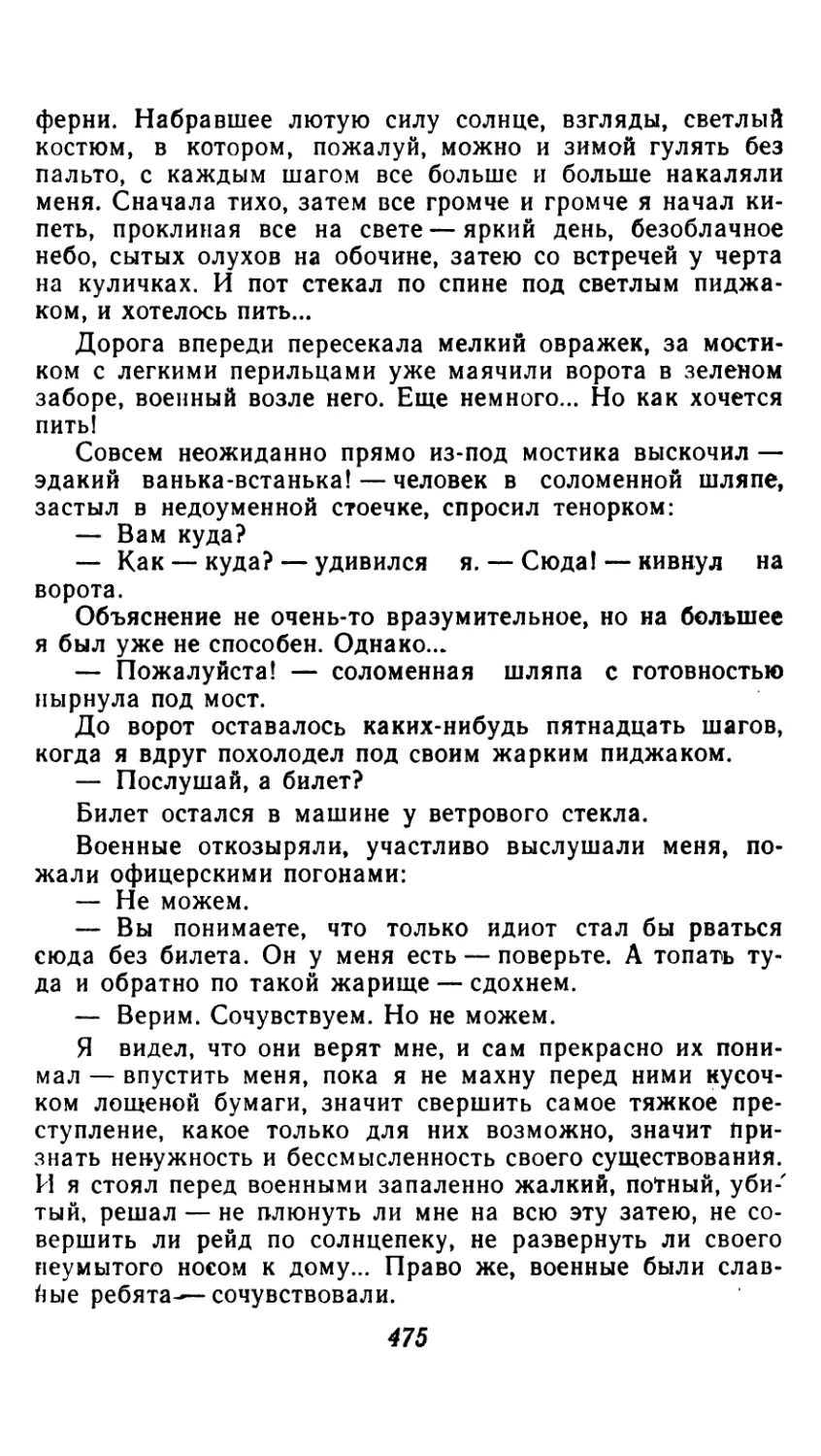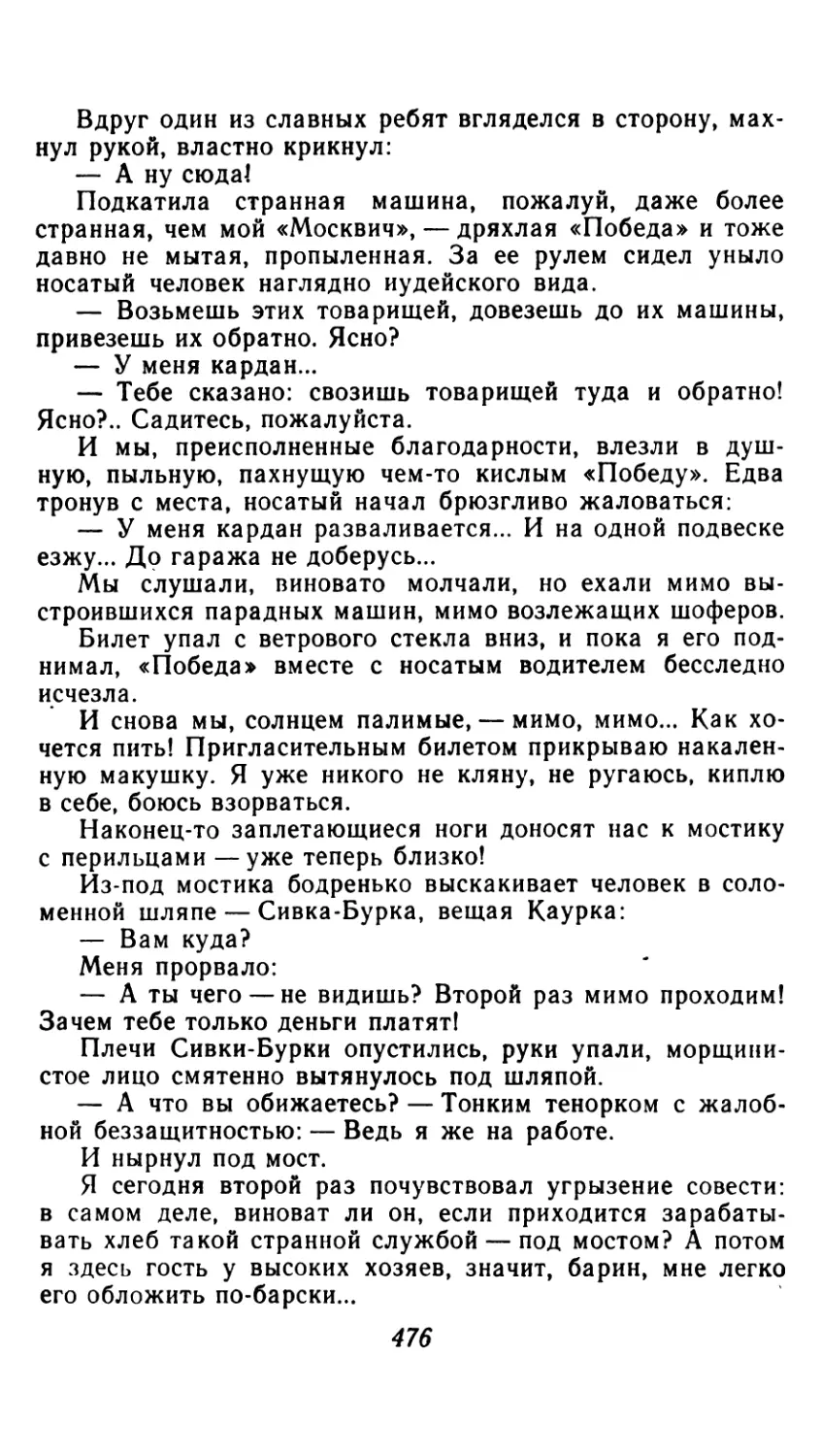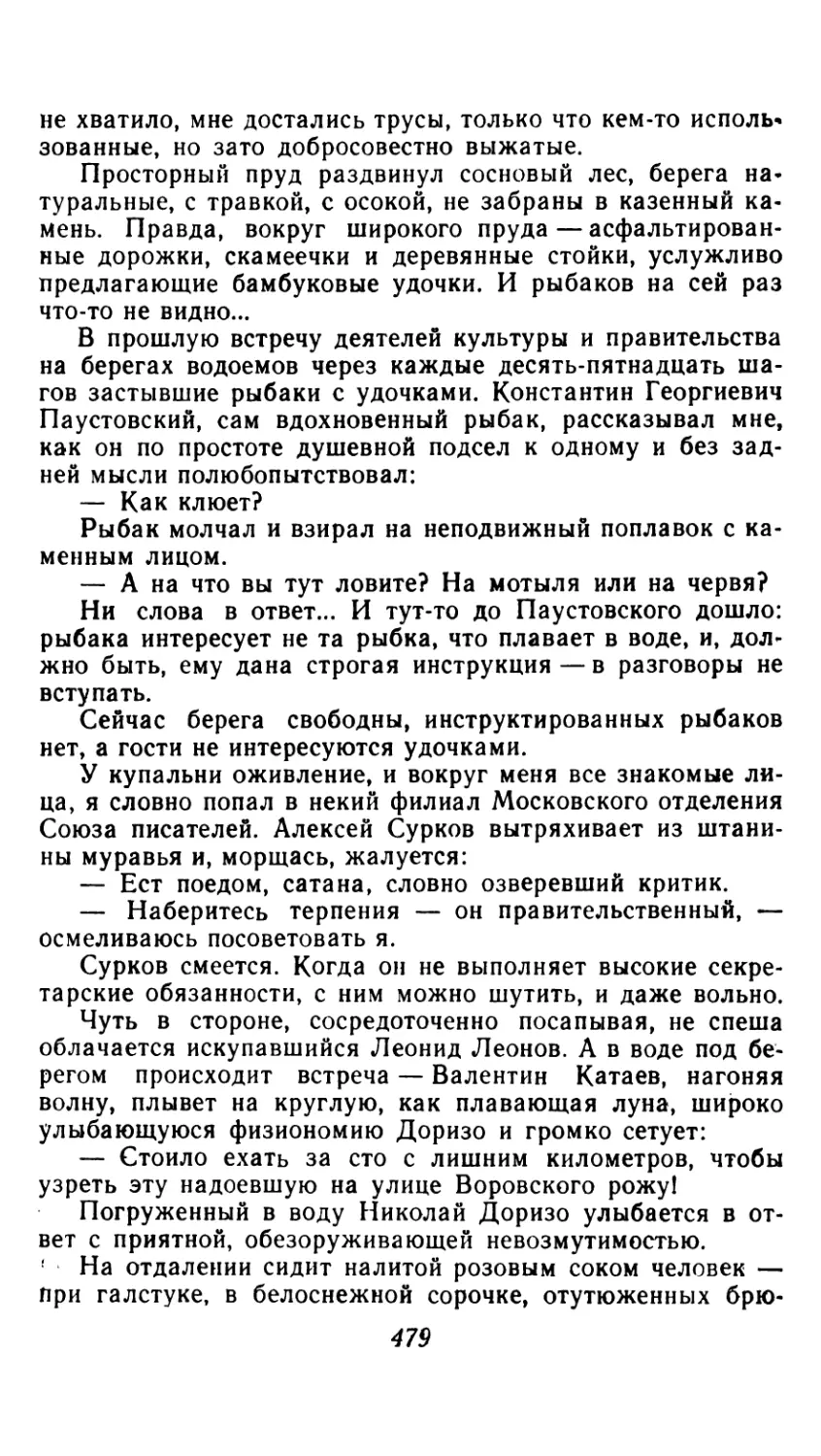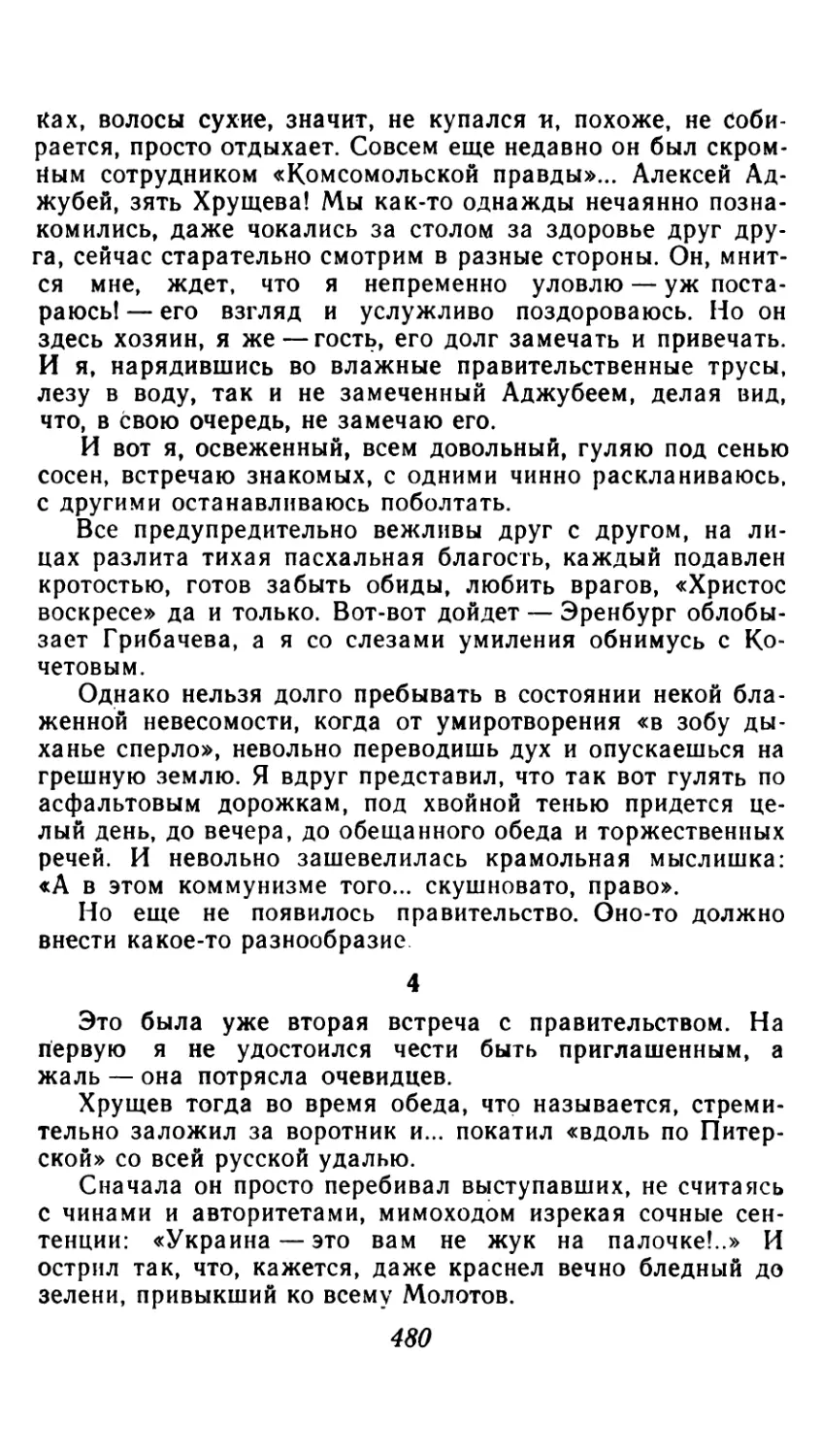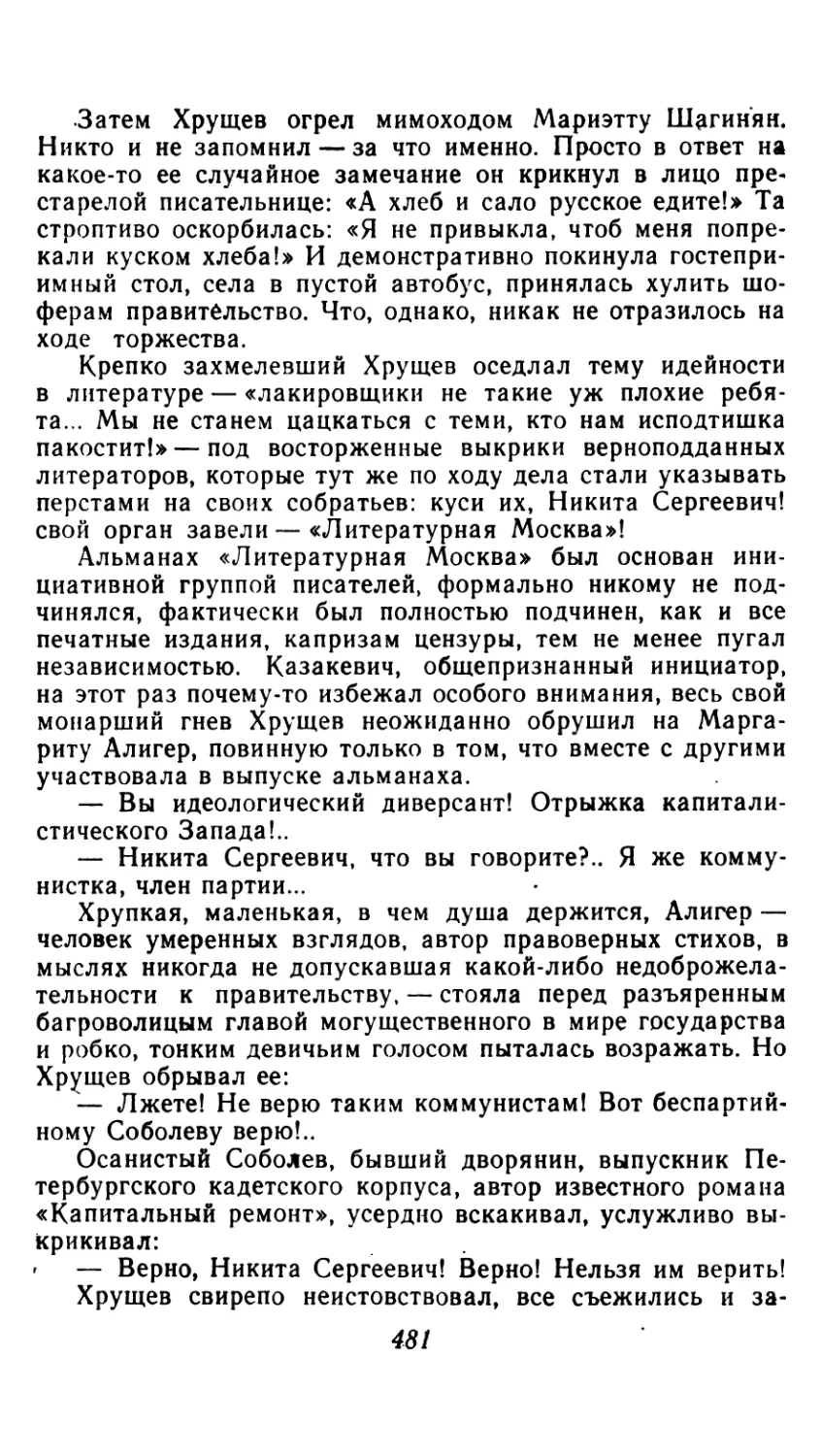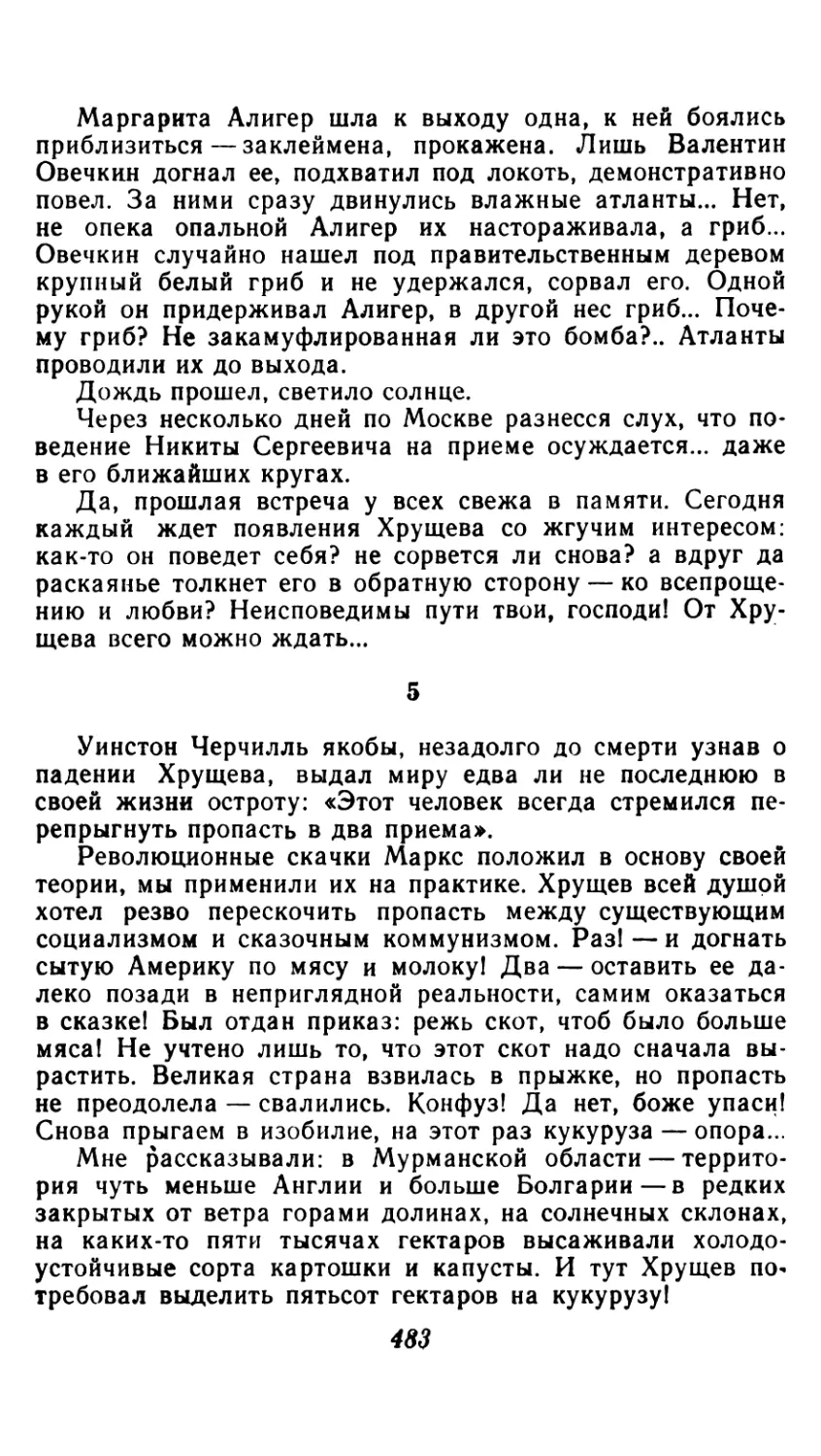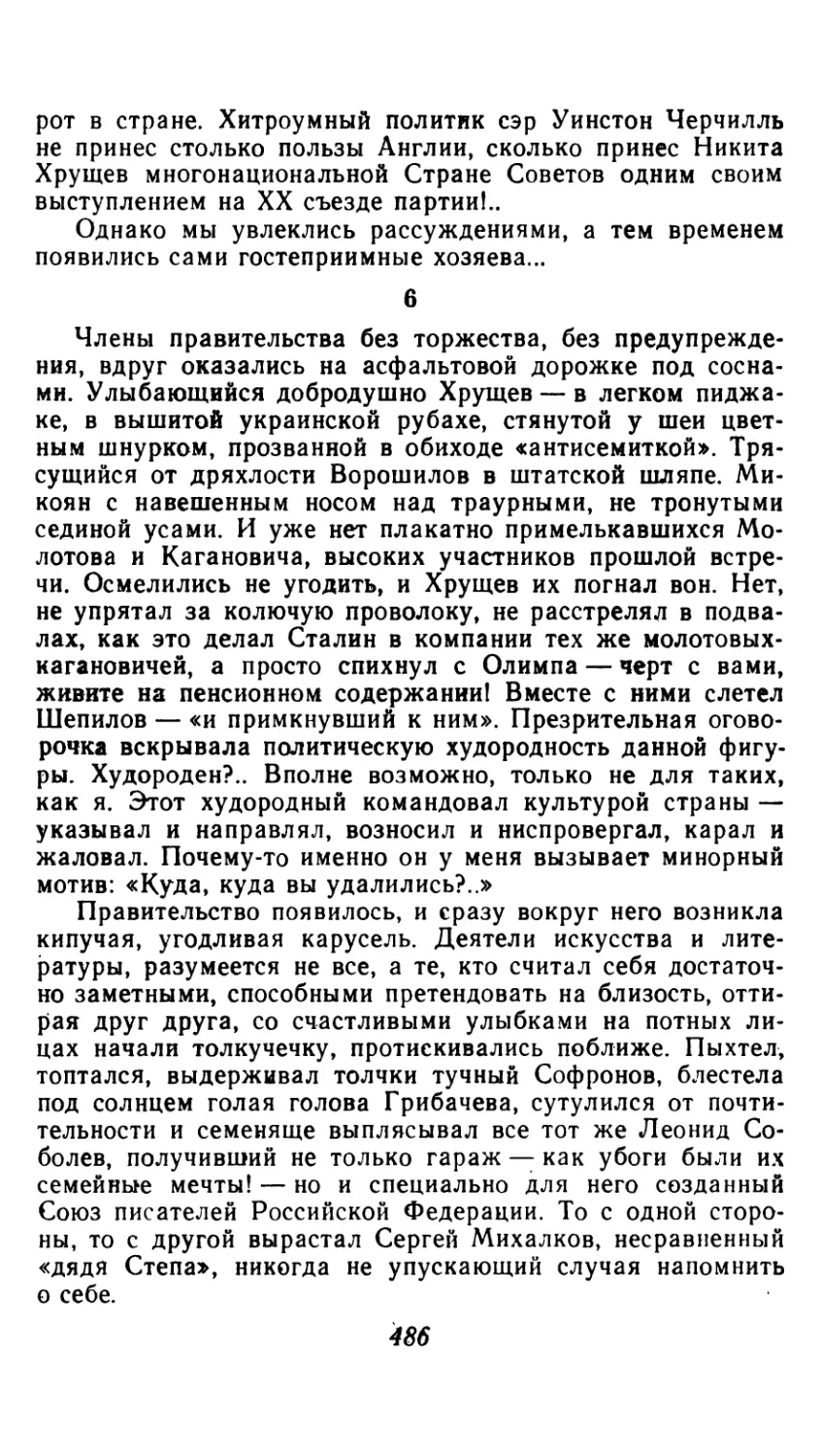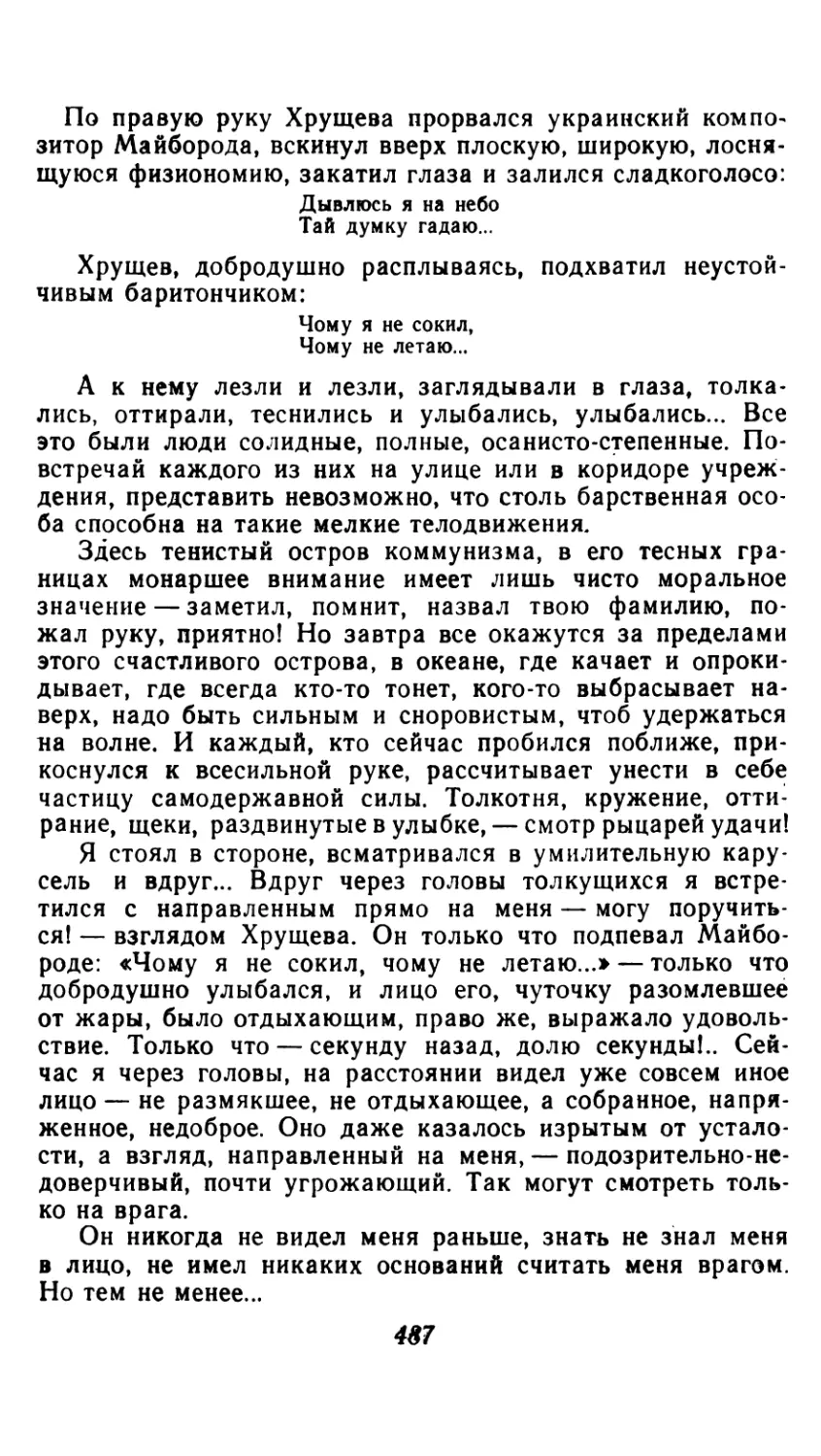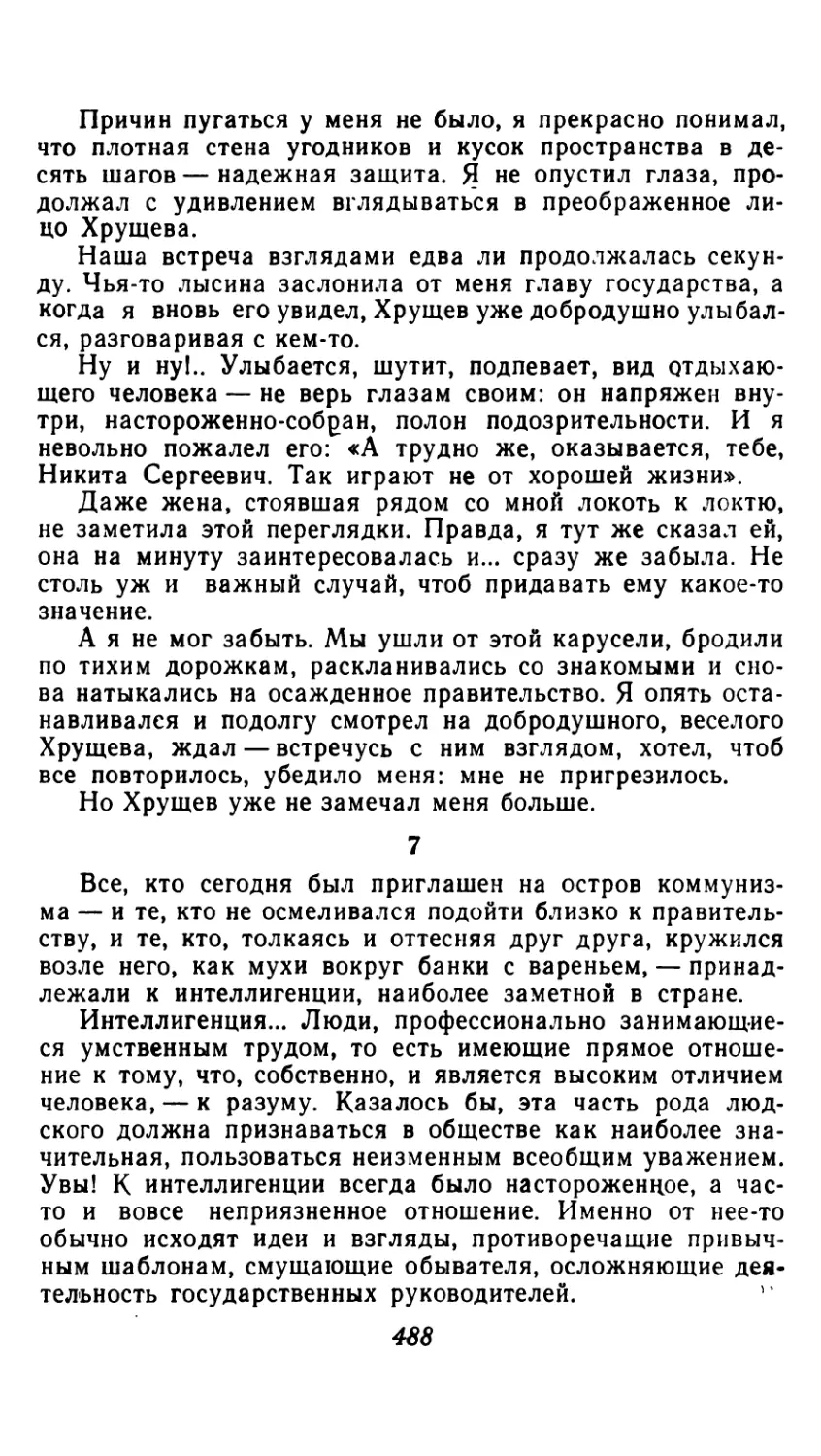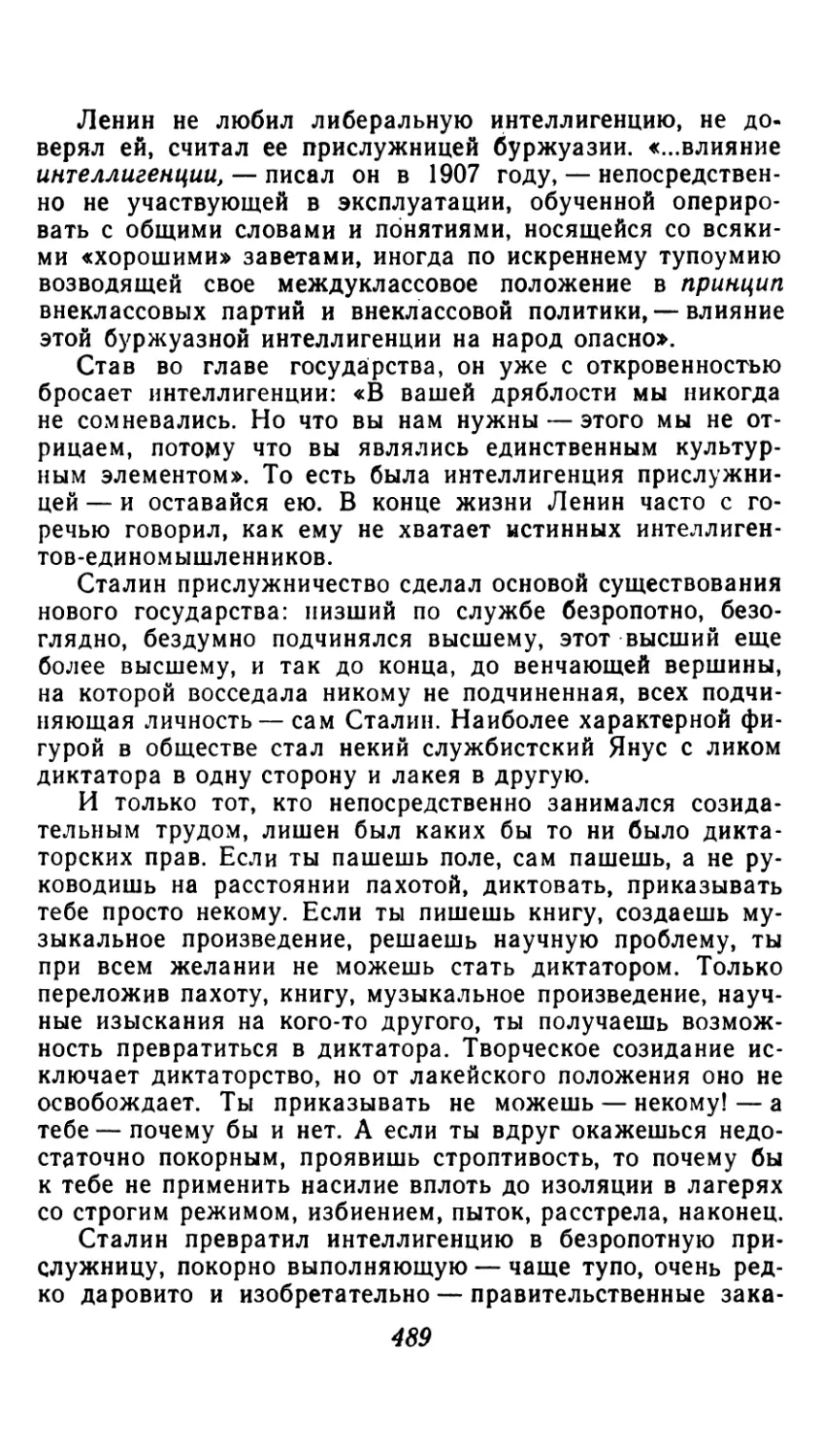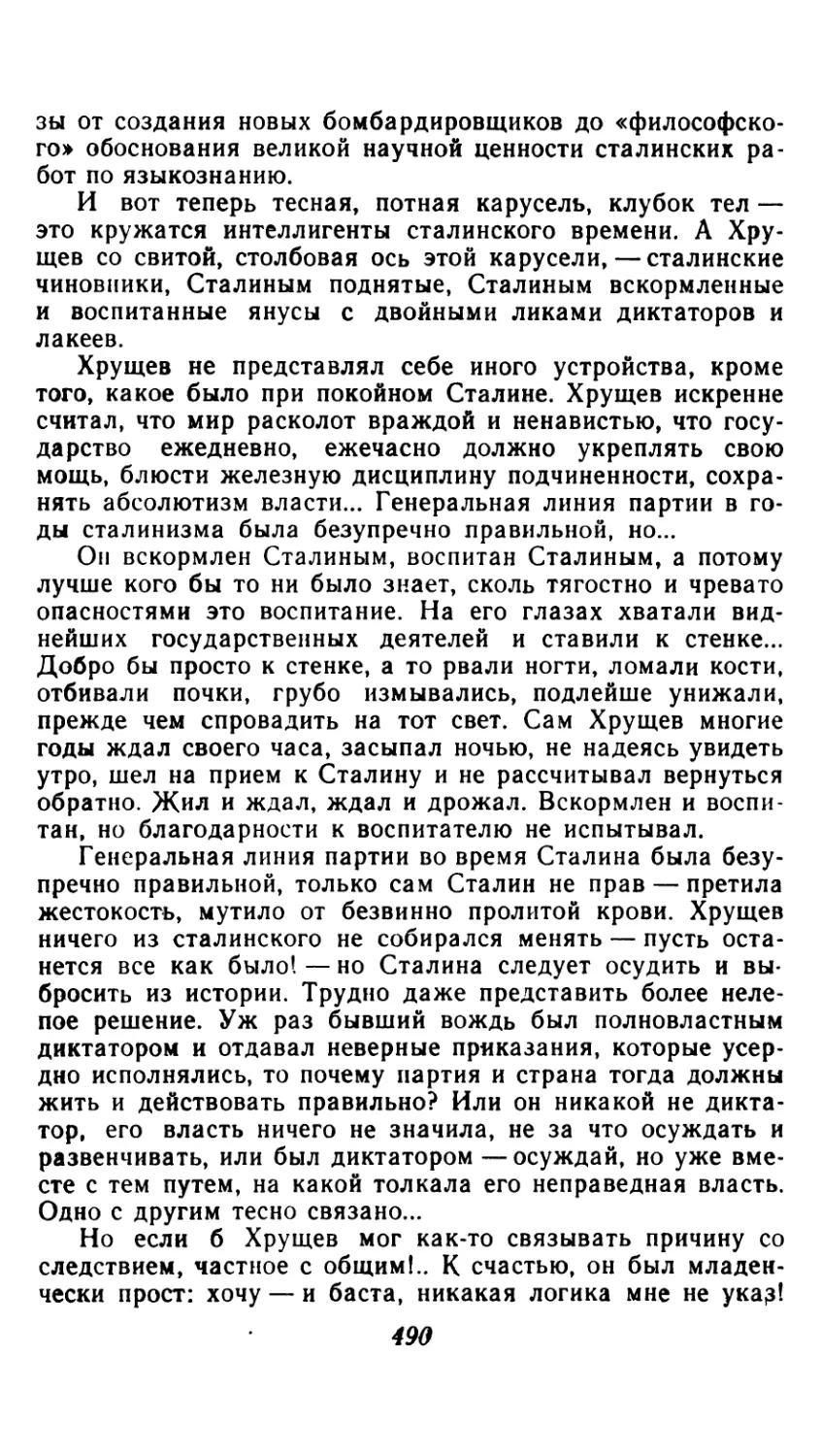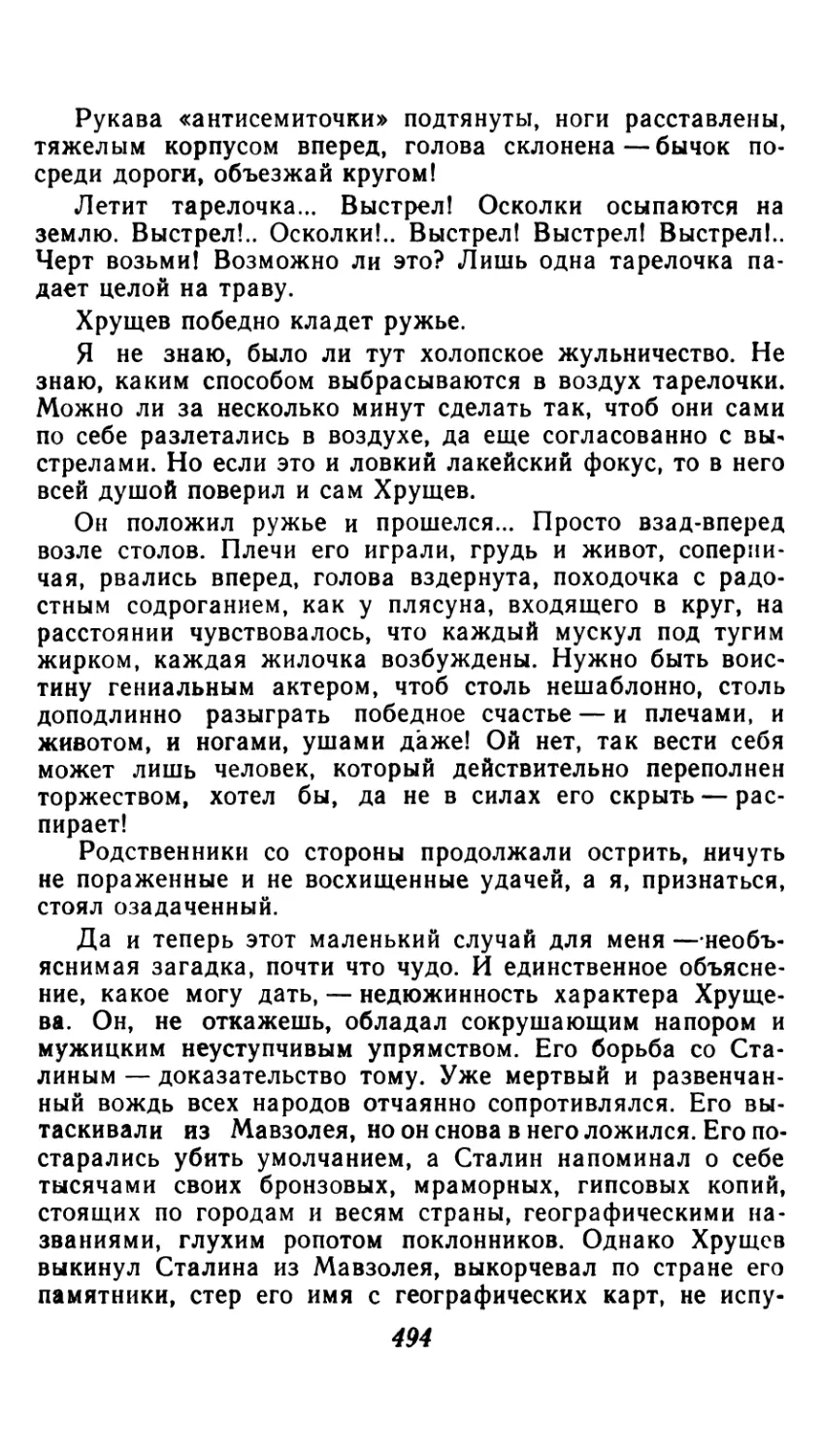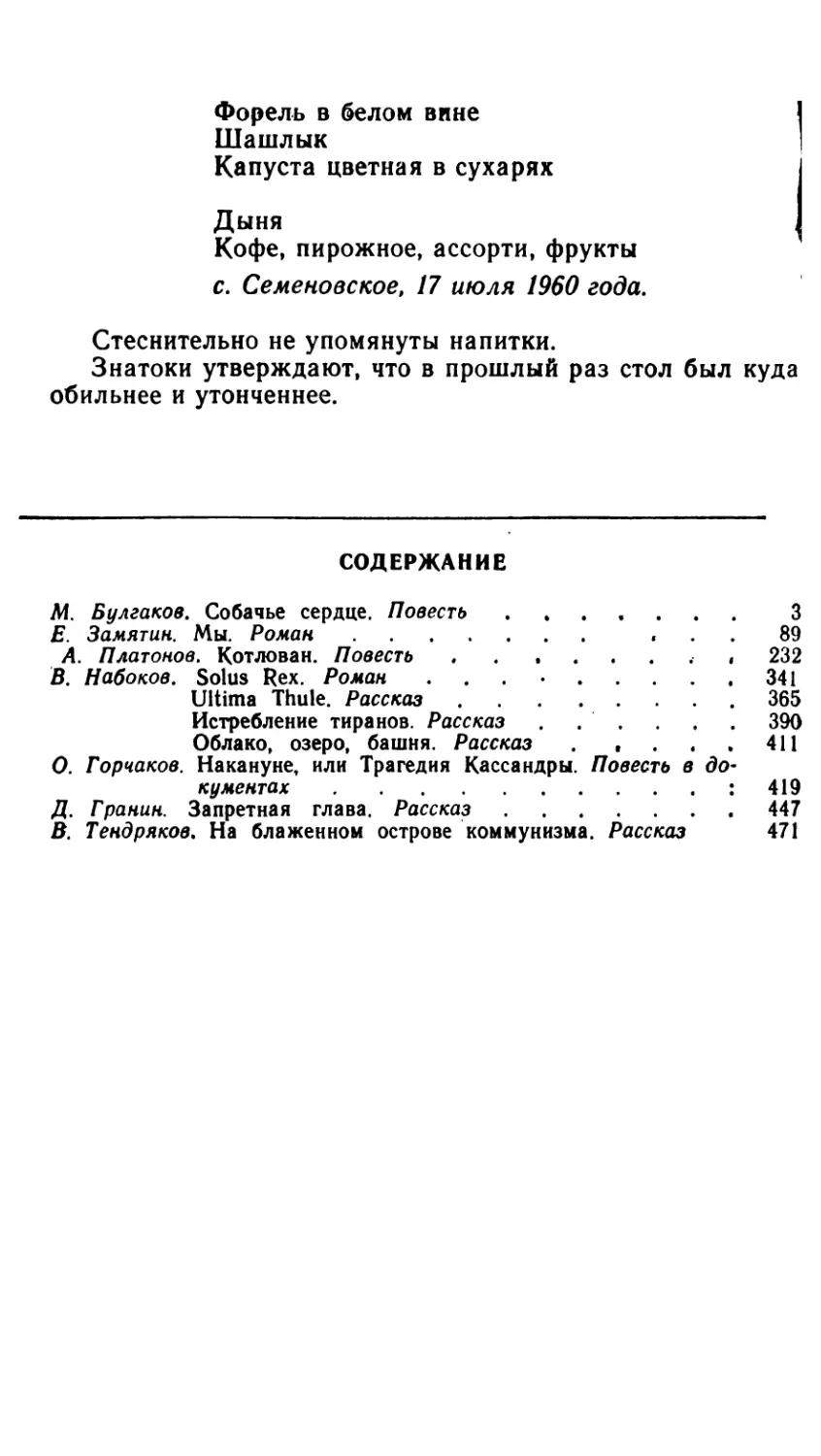Author: Лукашин А.
Tags: художественная литература история история литературы класическая литература
ISBN: 5-7625-0083-7
Year: 1989
Text
ЗЛ li tfei w
ГАНДИ
СОБАЧЬЕ СЕР.ДЦЕ. — МЫ. -КОТЛОВАН. — -
SOLUS REX. —ULTIMA THULE.—
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТИРАНОВ.—
ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ.—
НАКАНУНЕ, ИЛИ ТРАГЕДИЯ КАССАНДРЫ,—
ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА. —
ПА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА.
Пермское кнйжное издательство 1989
ББК 84Р7-4
3 33
ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПО ЗАЯВКЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КНИГОЛЮБОВ
Литературно-художественное издание
ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА
Редактор А. Лукашин
Мл. редактор Л. Рубцова
Художник А. Филиппов
Художественный редактор Т. Ключарева
Технический редактор Г. Пантелеева
Корректоры Г. Борсук, 3. Селюк, Г. Черникова
ИБ № 1963
Сдано в'набор 25.04.89. Подписано в печать 17.07.89. Формат 84Х108’/зя.
Бум. тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04.
Усл. кр.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 28,664. Тираж 50 000 экз. (45 000 экз. на
сэкономленных материалах). Заказ № 343. Цена 4 р.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книж*
ная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торгов-
ли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
3 33 Запретная глава. — Пермь: Кн. изд-во, 1989.—
496 с.
ISBN 5-7625-0083-7
Сборник произведений «возвращенной» литературы издается
к IV съезду общества книголюбов и включает произведения
М. Булгакова, Е. Замятина, А. Платонова, В. Набокова и дру-
гих авторов, в художественной форме отразивших пореволюци-
онную «удьбу России.
4702010201—55
3 М152(03)—89 Без объявл- ББК 84Р7-4
___________ ____„ © Оформление, Пермское
ISBN 5-7625-0083-7 книжное издательство, 1989
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
Повесть
I
। _ Д у-у-у-у гу-гу-гуу! О, гляньте, на меня, я по-
I I Я гибаю. Вьюга в подворотне ревет мне от-
| Я ходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал.
ЖЯ Я Негодяй в грязном колпаке — повар столо-
Г вой нормального питания служащих Цент-
'^Мрального Совета Народного Хозяйства —
плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина,
а еще пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До
костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве
воем поможешь.
Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народ-
ного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь!
Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек
себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В пол-
день угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, ча-
са четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как
луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. По-
жарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — по-
следнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки,
впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в рестора-
не «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по
3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — все равно, что
калошу лизать... У-/-у-у-у...
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне
совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашива-
ется, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Со-
кольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а
кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бу-
маги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы
не грымза какая-то, что поет на кругу при луне «милая
Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А те-
перь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били.
Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все
испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то
только от физической боли и холода, потому что дух мой
еще не угас... Живуч собачий дух.
3
Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над
ним люди достаточно. Ведь главное что —как врезал он
кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для
левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить вос-
паление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с
голоду. С воспалением легких полагается лежать на парад-
ном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего
холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках
питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею,
и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворни-
ки с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...
Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь.
Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар по-
падается разный. Например — покойный Влас с Пречистен-
ки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное
во время болезни — перехватить кус. И вот, бывало, гово-
рят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку
мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая лич-
ность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нор-
мального питания. Что они там вытворяют в нормальном
питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мер-
завцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ни-
чего и не знают. Бегут, жрут, лакают.
Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с
половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдепер-
совые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильде-
перс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-
нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской
любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть
и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит
машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь.
Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у жен-
щин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а
лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они
оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что ос-
тальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол
нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке,
и женская болезнь на французской почве, на службе с нее
вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она...
Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холод-
ные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей,
а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость.
Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попро-
буй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя
4
Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь
пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько
ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на
Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости
достаточно, будет с меня, а загробной жизни не сущест-
вует.
Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше
жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы дейст-
вительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну
а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..
— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты ску-
лишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...
Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом
съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, об-
нажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо сти-
ранного кружевного бельишка, задушила слова и замела
пса.
Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это
солонина, это солонина! И когда же это все кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорва-
лась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, рас-
кидывать, потом завинтило снежным винтом, и она про-
пала.
А пес остался в подворотне и, страдая от изуродован-
ного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо
решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет
в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него бы-
ло до того больно и горько, до того одиноко и страшно,
что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из
глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал сваляв-
шимися промерзшими комьями, а между ними глядели
красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, ту-
пы, жестоки повара. «Шарик» — она назвала его... Какой
он к черту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упи-
танный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а
он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая,
бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопну-
ла, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а
не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе —
яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор.
Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Прав-
да, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все
же издали можно спутать. А вот по глазам —тут уж и
5
вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная
вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь
в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком
сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего
холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Бо-
ишься— получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р...
гау-гау...
Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и
двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот
тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему
ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет:
меня, Филиппа Филипповича, обкормили.
Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не вору-
ет, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится,
а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда
господин, с французской остроконечной бородкой и усами
седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей,
но запах по метели от него летит скверный — больницей.
И сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в коопе-
ратив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у...
Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему
мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, ес-
ли бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близ-
ко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.
Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подво-
ротни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой,
взметнула громадные буквы полотняного плаката «Воз-
можно ли омоложение?».
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял
с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий
желудок, запах, победивший больницу, райский запах руб-
леной кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в
правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной.
О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская на-
ша душа, подлая доля!
Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами.
Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни
за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых лю-
дей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая
лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в
Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина ми-
рового значения, благодаря мужским половым железам.
У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, по-
6
мирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки
ему лизать, больше ничего не остается.
Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золо-
тыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый
продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток,
размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и
отломил кусок колбасы, называемой сОсобенная краков-
ская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!
— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим
голосом: — Бери! Шарик, Шарик!
Опять Шарик. Окрестили. Да называйте, как хотите.
За такой исключительный ваш поступок.
Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием
вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом
подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жад-
ности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам ру-
ку. Целую штаны, мой благодетель!
— Будет пока что... — Господин говорил так отрыви-
сто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо
глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке
интимно и ласково по Шарикову животу.
— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника не-
ту, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за
мной. —Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!
За вами идти? Да на край света. Пинайте меня ваши-
ми фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю.
По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестер-
пимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный
одной мыслью — как бы не утерять в сутолоке чудесного
видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и пре-
данность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обу-
хова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мерт-
вого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал
какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл,
чтобы поддержать жалость к себе.
Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бро-
дяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на
вьюгу, учуял краковскую. Шарик света невзвидел при
мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в
подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой,
и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэто-
му на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением,
похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе
до второго этажа. — Ф-р-р-р... гау! Вон! Не напасешься
7
Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречи-
стенке.
Господин оценил преданность и у самой пожарной
команды, у окна, из которого слышалось приятное ворча-
ние валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, зо-
лотников на пять.
Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам
никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прика-
жете.
— Фить-фить-фить! Сюда!
В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо изве-
стен нам этот переулок.
— Фить-фить!
Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар.
А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опас-
нее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже ко-
тов. Живодер в позументе.
— Да не бойся ты, иди.
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуй, Федор.
Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла
меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое
может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жи-
лищного товарищества? Посмотрите, этот подлец—ни зву-
ка, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но,
в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галуна-
ми. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего
уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.
Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все
издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду
уродовал мне, а?
— Иди, иди.
Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда
вы, туда и к<ы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не
отстану, несмотря на отчаянный мой бок.
С лестницы вниз:
— Писем мне, Федор, не было?
Снизу на лестницу почтительно:
— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголо-
са вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей все-
лили.
Важный песий благотворитель круто обернулся на сту-
пеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:
Ну-у? 1
8
Глаза его округлились и усы встали дыбом.
Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к гу-
бам и подтвердил:
— Точно так, целых четыре штуки.
— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире.
Ну и что ж они?
— Да ничего-с.
— А Федор Павлович?
— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки
будут ставить.
— Черт знает что такое!
— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут все-
лять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое
товарищество, а прежних — в шею.
— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.
Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя
знать. Разрешите лизнуть сапожок.
Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площад-
ке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот —
бельэтаж.
II
Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так
пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в
Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются,
вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких
курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-
нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв сло-
во «колбаса».
Шарик начал учиться по цветам. Лишь только испол-
нилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зе-
лено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торгов-
ля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо
слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубо-
ватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб
бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин
электрических принадлежностей братьев Голубизнер на
Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолирован-
ной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута.
Этот знаменитый момент и следует считать началом щари-
ковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик на-
чал соображать, что «голубой» не всегда означает «мяс-
ной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними
9
лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой сле-
ва стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.
Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Глав-
рыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему
было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при на-
чале слова стоял милиционер.
Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые ме-
ста в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Чер-
ный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал
бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного,
зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу
и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.
Если играли на гармошке, что было немногим лучше
«милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на бе-
лых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово
«неприли...», что означало «неприличными словами не вы-
ражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипа-
ли драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких
случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.
Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежа-
ли мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бу-
тылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы
братья бывшие.
Неизвестный господин, притащивший пса к дверям сво-
ей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, по-
звонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную, с
золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, за-
стекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три пер-
вые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше
шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначаю-
щая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивле-
нием... «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще
раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь проле-
тарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно
значит».
За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радост-
ный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь со-
вершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая
женщина в белом фартучке и кружевной наколке предста-
ла перед псом и его господином. Первого из них обдало
божественным теплом, и юбка женщины запахла, как лан-
дыш.
«Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.
— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригла-
10
сил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя
хвостом.
Великое множество предметов загромождало богатую
переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола,
немедленно отразившее второго истасканного и рваного
Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные
шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под
потолком.
— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? —
улыбаясь спрашивала женщина и помогала снимать тяже-
лую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой. — Ба-
тюшки! До чего паршивый!
— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрыви-
сто спрашивал господин.
По снятии шубы он оказался в черном костюме анг-
лийского сукна, и на животе у него радостно и неярко за-
сверкала золотая цепь.
— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дура-
чок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! A-а. Это
ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты
смирно!..
«Повар-каторжник, повар!* — жалобными глазами мол-
вил пес и слегка подвыл.
— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его
сейчас же и мне халат.
Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, не-
много поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем по-
пали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакирован-
ную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали на-
лево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не
понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула
и превратилась в ослепительный день, причем со всех сто-
рон засверкало, засияло и забелело.
«Э, нет... — мысленно завыл пес, — извините, не дамся!
Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в
собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят
жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так до-
тронуться нельзя!* ,
— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли
Зиной.
Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь
здоровым боком так, что хрустнуло по всей квартире. По-
том отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под
кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого
11
разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него
порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инст-
рументами, запрыгал белый передник и искаженное жен-
ское лицо.
— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зи-
на, — вот окаянный!
«Где у них тут черная лестница?..» — соображал пес.
Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в на-
дежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с
громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей га-
достью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла.
Настоящая дверь распахнулась.
— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в хала-
те, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина,
держи его за шиворот, мерзавца!
— Ба... батюшки, вот так пес!
Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна
личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она
кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю ком-
нату наполнила сладким и тошным запахом. Затем лич-
ность навалилась на пса сверху животом, причем пес с ув-
лечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность
охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость пере:
хватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом
ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спа-
сибо, конечно, — мечтательно думал он, валясь прямо на
острые стекла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше
Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай
за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же
вы меня?»
И тут он окончательно завалился на бок и издох.
Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова
и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не бы-
ло, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый том-
ный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован по-
перек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети,—
подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справед-
ливость».
— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей,—
запел над ним рассеянный и фальшивый голос.
Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах
увиДел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и каль-
/2
соны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вы-
мазана засохшей кровью и йодом.
«Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его ку-
санул. Моя работал Ну, будут драть!»
— P-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты за-
чем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло раз-
бил? А?
— У-у-у, — жалобно заскулил пес.
— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.
— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подма-
нить такого нервного пса? — спросил приятный мужской
голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло та-
баком, и в шкафу зазвенели склянки.
— Лаской-с. Единственным способом, который возмо-
жен в обращении с живым существом. Террором ничего
поделать нельзя с животным, на какой бы ступени разви-
тия оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду
утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет.
Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был белый, крас-
ный и даже коричневый! Террор совершенно парализует
нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краков-
ской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись на-
кормить его, когда его перестанет тошнить.
Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокет-
ливо заметил:
— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было
купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я
сама лучше съем.
— Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для че-
ловеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок,
тащишь в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю:
ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться,
когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что дру-
гая здесь сравняется с тобой...»
Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по
всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слы-
шались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.
Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро,
застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил усы
и окликнул пса:
— Фить, фнть. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.
Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подро-
жал, но быстро оправился и пошел следом за развеваю-
щейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек
13
узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен
сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь,
он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот
ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь
полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на
столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал
целую бездну предметов, из которых самым занятным ока-
залась громадная сова, сидящая на стене на суку.
— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.
Противоположная резная дверь открылась, вошел тот,
тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень краси-
вым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:
— Прежний...
Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распро-
стерши полы халата, сел за громадный письменный стол
и сразу сделался необыкновенно важным и представитель-
ным.
«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я по-
пал,— в смятении подумал пес и привалился на ковровый
узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъ-
ясним...»
Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько по-
разивший пса, что он тявкнул, но очень робко...
— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.
Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился
Филипп Филипповичу.
— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфужен-
но вымолвил он.
— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп
Филиппович и поднялся.
«Господи Исусе, — подумал пес, — вот так фрукт!»
На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы,
а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, мор-
щины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был
розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее при-
ходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у
детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака,
как глаз, торчал драгоценный камень.
От интереса у пса даже прошла тошнота.
— Тяу, тяу!.. — он легонько потявкал.
— Молчать! Как сон, голубчик?
— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, — кон-
фузливо заговорил посетитель. — Пароль д’оннер — 25 лет
ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк,—
14
верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки
стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.
— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович,
всматриваясь в зрачки гостя.
Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые
брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны.
Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми
черными кошками и пахли духами.
Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект
подпрыгнул.
— Ай!
— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.
«Я не кусаюсь?» — удивился пес.
Из кармана брюк вошедший выронил на ковер малень-
кий конвертик, на котором была изображена красавица с
распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонил-
ся, подобрал ее и густо покраснел.
— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро
сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки,
смотрите, не злоупотребляйте!
— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продол-
жая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде
опыта.
— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил
Филипп Филиппович.
Субъект в экстазе махнул рукой.
— Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ниче-
го подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на
рю де ла Пэ.
— А почему вы позеленели?
Лицо пришельца затуманилось.
— Проклятая «Жиркость»!1 Вы не можете себе пред-
ставить, профессор, что эти бездельники подсунули мне
вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект,
ища глазами зеркало. — Им морду нужно бить! — свире-
пея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профес-
сор? — спросил он плаксиво.
— Хм, обрейтесь наголо.
— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да
ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на служ-
бу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не
1 «Жиркость» — трест по изготовлению косметических средств. —
(Ред.).
15
езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы
и волосы омолаживались!
— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Фи-
липп Филиппович.
Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый
живот пациента:
— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я да-
же не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много
крови, много песен... Одевайтесь, голубчик!
— «Я же той, что всех прелестней!..» — дребезжащим,
как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал оде-
ваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и рас-
пространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу
пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.
— Две недели можете не показываться, — сказал Фи-
липп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осто-
рожны.
— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул го-
лос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихик-
нул и пропал.
Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная
дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Фи-
липповичу листок и заявил:
— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54—55. Тоны
сердца глуховаты.
Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо залом-
ленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и
жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под
глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она силь-
но волновалась.
— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спро-
сил ее Филипп Филиппович.
Дама испугалась и даже побледнела под коркой ру-
мян.
— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у
меня драма!..
— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил
Филипп Филиппович.
— Честное слово... Ну, сорок пять...
— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня
ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!
Грудь дамы бурно вздымалась.
— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это
такой ужас...
16
— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Фи-
липп Филиппович, и очки его блеснули.
— Пятьдесят один! — корчась от страху, ответила дама.
— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил
Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот
в углу.
— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими
пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мо-
риц... Я вам признаюсь, как на духу...
— От Севильи до Гренады... — рассеянно запел Филипп
Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике.
Зашумела вода.
— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна
сквозь искусственные продирались на ее щеках, — я
знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой него-
дяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся
Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной моди-
стки. Ведь он так дьявольски молод.
Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок
скомканный кружевной клок.
Пес совершенно затуманился, и все в голове у него по-
шло кверху ногами.
«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову
на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду по-
нять, что это за штука, — все равно не пойму>.
Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович
швырнул в таз какие-то сияющие трубки.
Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой
глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурил-
ся и, сев за стол, что-то записал.
— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны,—
объявил он и посмотрел строго.
— Ах, профессор, неужели обезьяны?
— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.
— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом
спрашивала дама.
— От Севильи до Гренады... Угм... в понедельник. Ля-
жете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.
— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профес-
сор?
— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в край-
них случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червон-
цев.
— Я согласна, профессор!
17
Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями,
потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Фи-
липпа Филипповича.
Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утих-
шим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть
кусочек приятного сна; будто бы он вырвал у совы целый
пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тявк-
нул над головой.
— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же
мне делать?
— Господа, — возмущенно кричал Филипп Филиппо-
вич,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей
лет?
— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка
погубит меня. На днях я должен получить заграничную
командировку.
— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите
два года и женитесь на ней.
— Женат я, профессор.
— Ах, господа, господа!
Двери открывались, сменялись лица, гремели инстру-
менты в шкафе, и Филипп Филиппович работал не покла-
дая рук.
«Похабная квартирка, — думал пес, — но до чего хо-
рошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же
жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом миг-
нуть; он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может,
я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... На-
глая».
Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда зво-
ночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда
дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу чет-
веро. Все молодые люди и все одеты очень скромно.
«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо
более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович.
Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших,
как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа
раздувались. Вошедшие топтались на ковре.
— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у ко-
го на голове возвышалась на четверть аршина копна гу-
стейших вьющихся волос, — вот по какому делу...
— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую
погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппо-
18
вич, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы насле-
дили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.
Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уста-
вились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжа-
лось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев
Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду
на столе.
— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый
юный из четверых, персикового вида.
— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович,—
вы мужчина или женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз
опомнился первый, тот, с копной.
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я— женщина, — признался персиковый юноша в ко-
жаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел
почему-то густейшим образом один из вошедших — блон-
дин в папахе.
— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а
вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной
убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.
— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блон-
дин, снимая папаху.
— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.
— Прежде всего — кто это мы?
— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдер-
жанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она —
Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот
мы...
— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саб-
лина?
— Нас, — ответил Швондер.
— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии
воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швон-
дер.
— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крик-
нул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паро-
вым отоплением?
— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как
можно скорее, я сейчас иду обедать.
— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил
Швондер, — пришли к вам после общего собрания жиль-
19
цов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении
квартир дома...
— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппо-
вич,— потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
— Вопрос стоял об уплотнении.
— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановле-
нием от 12 сего августа моя квартира освобождена от ка-
ких бы то ни было уплотнений и переселений?
— Известно, — ответил Швондер, — но общее собра-
ние, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в
общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совер-
шенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.
— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил
Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она
мне необходима под библиотеку.
Четверо онемели.
— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный
головного убора, — однако это здорово.
— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся
женщиной.
— У меня приемная — заметьте — она же библиотека,
столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операцион-
ная— 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В об-
щем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квар-
тира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?
— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепко-
го жука.
— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по
поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Об-
щее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой
дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у
кого в Москве.
— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула жен-
щина.
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследст-
вие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни
одного звука, выжидая, что будет дальше.
— И от смотровой также, — продолжал Швондер,—
смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.
— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то стран-
ным голосом, — а где же я должен принимать пищу?
— В спальне, — хором ответили все четверо.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько
сероватый оттенок.
20
— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка
придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной
одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой
осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и
делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов
режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дун-
кан!..— вдруг рявкнул он, и багровость его стала жел-
той. — Я буду обедать в столовой, оперировать в операци-
онной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас
прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить воз-
можность принять пищу там, где ее принимают все нор-
мальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не
в детской.
— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противо:
действия, — сказал взволнованный Швондер, — мы пода-
дим на вас жалобу в высшие инстанции.
— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — и го-
лос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну
минуточку попрошу вас подождать.
«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в
меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще
каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенасто-
го взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожи-
лие... р-р-р...»
Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона
и сказал в нее так:
— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Алек-
сандровича попросите, пожалуйста. Профессор Преобра-
женский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал.
Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша опера-
ция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все
остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в
Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо,
из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое воо-
руженных револьверами, и терроризировали меня в квар-
тире с целью отнять часть ее.
— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в
лице.
— Извините... У меня нет возможности повторить все,
что они говорили. Я‘ не охотник до бессмыслиц. Достаточ-
но сказать, что они предложили мне отказаться от моей
смотровой, другими словами, поставили меня в необходи-
мость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроли-
ков. В таких условиях я не только не могу, но й не имею
21
права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, за:
крываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать
Швондеру. Пусть он оперирует.
Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.
— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как?
О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не со-
гласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с
августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только
одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но
чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни
Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к
двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактиче-
ская. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоми-
налось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста.
Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас пе-
редаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обра-
тился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами
будут говорить.
— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспы-
хивая, то угасая, — вы извратили наши слова.
— Попрошу вас не употреблять таких выражений.
Швондер растерянно взял трубку и молвил:
— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же
действовали по правилам... Так у профессора и так совер-
шенно исключительное положение... Мы знаем об его рабо-
тах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хоро-
шо... Раз так... Хорошо...
Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.
«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал
пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь мо-
жете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».
Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.
— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.
— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина,
волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру
Александровичу...
— Виноват, вы не сию м.инуту хотите открыть эту дис-
куссию?— вежливо спросил Филипп Филиппович.
Глаза женщины загорелись.
— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уй-
дем... Только я, как заведующий культотделом дома...
— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.
— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи
вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов,—
22
взять несколько журналов в пользу детей Германии. По
полтиннику штука.
— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппо-
вич, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а жен-
щина покрылась клюквенным налетом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Помолчали.
— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяже-
ло вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом
и за вас не заступались бы самым возмутительным обра-
зом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахну-
лась) лица, которых, я уверена, мй еще разъясним, вас
следовало бы арестовать.
— А за что?—с любопытством спросил Филипп Фи-
липпович.
— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала жен-
щина.
— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласил-
ся Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвене-
ло. Открылась дверь в коридор.
— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай
обед. Вы позволите, господа?
Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли при-
емную, молча переднюю, и слышно было, как за ними за-
крылась тяжело и звучно парадная дверь.
Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом
Филипповичем какой-то намаз.
in
На разрисованных райскими цветами тарелках с чер-
ной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезан-
ная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок
сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной сне-
гом,— икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмо-
чек и три хрустальных графинчика с разноцветными вод-
ками. Все эти предметы помещались на маленьком мра-
23
морном столике, уютно присоединившемся к громадному
резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и
серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гроб-
ница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два при-
бора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три тем-
ных бутылки.
Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-
то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса не-
медленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирами-
ды!»— подумал он и застучал по паркету хвостом, как
палкой.
— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппо-
вич.— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в
покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте
не английской, а обыкновенной русской водки.
Красавец-тяпнутый — он был уже без халата, в прилич-
ном черном костюме — передернул широкими плечами,
вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.
— Ново-благословенная? — осведомился он.
— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это
спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают,
что очень приличная — 30 градусов.
— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это
во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппо-
вич,— а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули.
Вы можете сказать — что им придет в голову?
— Все, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.
— Ия того же мнения, — добавил Филипп Филиппо-
вич и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе
в горло, — ...мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгно-
венно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кров-
ный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...
Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебря-
ную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик.
Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Фи-
липповича засветились.
— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппо-
вич.— Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.
Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными
закусками и супом закусывают только не дорезанные боль-
шевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя
человек оперирует закусками горячими. А из горячих мо-
24
сковских закусок — это первая. Когда-то их великолепно
приготовляли в Славянском базаре. На, получай.
— Пса в столовой прикармливаете, — раздался жен-
ский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.
— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппо-
вич на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с
фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полос-
кательницу.
Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар;
пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового
склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой сал-
фетки за воротничок, проповедовал:
— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно
уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть
не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда
и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс лож-
кой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь
о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за
обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохра-
ни— не читайте до обеда советских газет.
— Гм... Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел
30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете?
Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосход-
но. Те же, которых я специально заставлял читать «Прав-
ду»,— теряли в весе.
— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от
супа и вина.
— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, сквер-
ный аппетит, угнетенное состояние духа.
— Вот черт...
— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о
медицине.
Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в виш-
невой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и
толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а
непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.
Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и
больше не может видеть никакой еды. «Странное ощу-
щение,— думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — гла-
за бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после
обеда — это глупость».
Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес
дремал, уложив голову на передние лапы.
25
— Сен-Жюльен — приличное вино, — сквозь сон слы-
шал пес, — да только ведь теперь же его нету.
Глухой, смягченный потолками и коврами хорал до-
несся откуда-то сверху и сбоку.
Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.
— Зинуша, что это такое значит?
— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппо-
вич,— ответила Зина.
— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппо-
вич,— ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабухов-
ский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все
будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в
сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом
отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыба-
ясь, Зина и унесла груду тарелок.
— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Фи-
липпович,— ведь это какой дом был — вы поймите!
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Фи-
липпович, — возразил красавец-тяпнутый, — они теперь
резко изменились.
— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я— че-
ловек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснован-
ных гипотез. И это очень хорошо известно не только в
России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит,
в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод.
И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем
доме.
— Это интересно...
«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал
пес, — но личность выдающаяся».
— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я
живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до мар-
та 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю
красным карандашом — ни одного, чтобы из нашего па-
радного внизу при общей незапертой двери пропала бы
хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квар-
тир, у меня прием. В марте семнадцатого в один прекрас-
ный день пропали все калоши, в том числе две пары моих,
три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор ка-
лошная стойка прекратила свое существование. Голубчик!
Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть:
раз социальная революция — не нужно топить. Но я спра-
шиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали
26
ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лест-
нице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под
замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо
их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы?
Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?
Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй
подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует за-
бить досками и ходить кругом через черный двор? Кому
это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои
калоши внизу, а пачкает мрамор?
— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет ка-
лош,— заикнулся было тяпнутый.
— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Фи-
липп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не при-
знаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно дейст-
вуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь
калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши,
которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их
попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Фи-
липпович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже пред-
положить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппо-
вич указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти
самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лест-
нице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого
черта убрали цветы с площадок? Почему электричество,
которое, дай бог памяти, тухло в течение двадцати лет два
раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц?
Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, зна-
комому с моей последней работой, это известно лучше, чем
кому бы то ни было другому.
— Разруха, Филипп Филиппович.
— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Фи-
липпович,— нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович,
воздержитесь от употребления самого этого слова. Это —
мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко рас-
топырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на
черепах, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша раз-
руха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все
стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует.
Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спро-
сил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, ви-
сящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил
за нее: — Это вот что: если я, вместо того чтобы опериро-
вать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором,
27
у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну,
извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же
самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной
начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах,
а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей раз-
руху!»— я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича переко-
сило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне
смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить
себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие
галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим
делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам слу-
жить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать
трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских
оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более —
людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев
лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застеги-
вают свои собственные штаны!
Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные нозд-
ри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда,
гремел он подобно древнему пророку, и голова его свер-
кала серебром.
Его слова на сонного пса падали, точно глухой подзем-
ный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала
в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом гряз-
ном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещен-
ный резким электричеством от абажура, то сонные сани
скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, пла-
вая в соку, истерзанный кусок ростбифа.
«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать,—
мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у не-
го и так, по-видимому, денег куры не клюют».
— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Горо-
довой!— «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу
пса... — Городовой! Это и только это. И совершенно неваж-
но— будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поста-
вить городового рядом с каждым человеком и заставить
этого городового умерить вокальные порывы наших граж-
дан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ни-
что не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком
другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов!
Лишь только они прекратят свои концерты, положение са-
мо собой изменится к лучшему.
— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Фи-
25
липпович,— шутливо заметил тяпнутый, — не дай бог вас
кто-нибудь услышит.
— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Фи-
липпович.— Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще
слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неиз-
вестно— что под ним скрывается? Черт его знает! Так я
и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих сло-
вах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.
Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост
блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее
рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас под-
нялся и поблагодарил:
— Мерси.
— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Фи-
липпович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он при-
щурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушен-
ному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович,
40 рублей причитается. Прошу.
Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, крас-
нея, засунул деньги в карман пиджака.
— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппо-
вич?— осведомился он.
— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сего-
дня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, се-
годня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люб-
лю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.
— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с ува-
жением спросил врач.
— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — на-
зидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал
прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соло-
вей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом,
я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филиппо-
вича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девято-
го... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения тру-
да. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и
хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович,
вы все же следите внимательно: как только подходящая
смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко
мне!
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патолого-
анатомы мне обещали.
— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника
понаблюдаем. Пусть бок у него заживет.
29
«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший
человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник
из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все
это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.)
Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла,
ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа,
оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег...
Боже, как тяжело мне будет!..»
Но ничего этого не случилось. Именно подворотня рас-
таяла, как мерзкое сновидение, и больше не вернулась.
Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее,
дважды в день серые гармоники под подоконником налива-
лись жаром, и тепло волнами расходилось по. всей квар-
тире.
Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий
билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день налива-
лись благодарными слезами по адресу пречистенского муд-
реца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной меж-
ду шкафами отражали удачливого пса-красавца.
«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий
принц-инкогнято, — размышлял пес, глядя на лохматого
кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зер-
кальных далях. — Очень возможно, что бабушка моя согре-
шила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде —
белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппо-
вич — человек с большим вкусом, не возьмет он первого
попавшегося пса-дворнягу».
В течение недели пес сожрал столько же, сколько в
полтора последних голодных месяца на улице. Но, конеч-
но, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филиппови-
ча и говорить не приходилось. Если даже не принимать во
внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупа-
лась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек,
достаточно упомянуть обеды в семь вечера в столовой, на
которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной
Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович оконча-
тельно получил звание божества. Пес становился на зад-
ние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа
Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских
удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин
вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снеж-
ных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами,
лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как
командная труба, разносился по всему жилищу.
30
— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала?
Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова
разбил?
— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать
хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он со-
вершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими ка-
лошами сделал.
— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филип-
пович,— запомни это раз навсегда. На человека и на жи-
вотное можно действовать только внушением. Мясо ему
давали сегодня?
— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашивае-
те, Филипп Филиппович? Я удивляюсь — как он не лопнет.
— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала со-
ва, хулиган?
— У-у!—скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывер-
нув лапы.
Затем его с гвалтом волокли за шиворот через прием-
ную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ко-
вер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на
ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым живо-
том, из которого торчали какие-то красные тряпки, пах-
нущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый
портрет.
— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались,—
расстроенно докладывала Зина, — ведь на стол вскочил,
мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела,
как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову,
Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.
И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили ты-
кать в сову, причем пес заливался горькими слезами и
думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».
— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того,
вот тебе 8 рублей и 16 ^опеек на трамвай, съезди к Мюру,
купи ему хороший ошейник с цепью.
На следующий день на пса надели широкий блестящий
ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он
очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комна-
ту, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик.
Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина по-
вела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел,
как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке
До храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни
ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встреч-
31
ных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с
обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сво-
лочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рель-
сы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и
уважением,- а когда вернулись, произошло самое невидан-
ное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер па-
радную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заме-
тил:
— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппо-
вич. И удивительно жирный.
— Еще бы — за шестерых лопает, — пояснила румяная
и красивая от мороза Зина.
«Ошейник — все равно, что портфель», — сострил мыс-
ленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как ба-
рин.
Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый ви-
зит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему
был категорически запрещен — именно в царство поварихи
Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей
Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху обли-
цованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Ду-
ховой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело веч-
ной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи
Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной
прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке
светились двадцать два поддельных бриллианта. По сте-
нам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня гро-
мыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосу-
дах...
— Вон! — завопила Дарья Петровна, — вон, беспризор-
ный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..
«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза
пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не за-
мечаете?» — И он боком лез в дверь, просовывая в нее
морду.
Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять серд-
ца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзи-
ной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Ост-
рым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам
головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сди-
рала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вер-
тела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову
голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскива-
ла куски размокшей булки, смешивала их на доске с мяс-
32
ной кашицей, заливала все это сливками, посыпала
солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как
на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и пры-
гало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала
страшный ад, в котором пламя клокотало и перелива-
лось.
Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над
белой половинной занавесочкой стояла густая и важная
пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сы-
ро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на
столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теп-
лой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства
одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек
в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в
комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Пет-
ровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме
мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на
портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.
— Как демон пристал, — бормотала в полумраке
Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придет. Что ты,
чисто тебя тоже омолодили?
— Нам это ни к чему,— плохо владея собой и хрип-
ло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!
Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжки-
ми шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды»
и не было заседания Всероссийского хирургического об-
щества, божество помещалось в кабинете в /лубоком кре-
сле. Огней под потолком не было. Горела только одна
зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени
и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратитель-
ной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали
человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по ло-
коть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие
тупые пальцы копошились в извилинах. Временами боже-
ство вооружалось маленьким сверкающим ножиком и ти-
хонько резало желтые упругие мозги.
— К берегам священным Нила, — тихонько напевало
божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутрен-
ность Большого театра.
Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло
от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей
комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вы-
чесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обре-
2 Запретная глава
33
ценная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом
далеко звенела входная дверь.
, «Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как
придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо пола-
гать,— телячьи отбивные!»
В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло
предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и ут-
ренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю ба-
ранью косточку — съел безо всякого аппетита. Он скучно
прошелся в приемную и легонько подвыл там на собст-
венное отражение. Но днем, после того как Зина сводила
его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема се-
годня не было потому, что, как известно, по вторникам
приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развер-
нув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картин-
ками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том,
что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кух-
не, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал,
как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожи-
данно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял труб-
ку, прислушался и вдруг взволновался.
— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же ве-
зите, сейчас же!
Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал
срочно подавать обед.
— Обед! Обед! Обед!
В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забега-
ла, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что
индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.
«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он...
И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более
неприятный характер. И прежде всего благодаря появле-
нию тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез
с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь,
устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп
Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним ни-
когда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего
с ним тоже никогда не бывало.
— Когда умер? — закричал он.
— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая
заснеженной шапки и расстегивая чемодан.
34
«Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пес
и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».
— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закри-
чал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во
все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. — Зина!
К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не при-
нимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас —
скорей, скорей, скорей!
«Не нравится мне, не нравится», — пес обиженно на-
хмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосре-
доточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в
халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой
в кухню и обратно.
«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото», — решил
пес и вдруг получил сюрприз.
— Шарику ничего не давать, — загремела команда из
смотровой.
— Усмотришь за ним, как же.
— Запереть!
И Шарика заманили и заперли в ванной.
«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ван-
ной комнате, — просто глупо...»
И около четверти часа он пробыл в ванной в странном
настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом
упадке. Все было скучно, неясно...
«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважае-
мый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже
пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не
запирали».
Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и
ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности —
солнечный необъятный двор у Преображенской заставы,
осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-
побродяги.
«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь,
зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я бар-
ский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни.
Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред
этих злосчастных демократов...»
Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бро-
сился на дверь, стал царапаться.
— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.
«Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно подумал
пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на
35
нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились
отвратительные волчьи глаза.
И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отрях-
нувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошей-
ник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок про-
шел у пса под сердцем.
«Зачем же я понадобился? — подумал он подозритель-
но, — бок зажил — ничего не понимаю».
И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был
привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное
освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что
резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы
напевал про священные берега Нила. Только по смутному
запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович.
Подстриженная его седина скрывалась под белым колпа-
ком, напоминающим патриарший куколь; божество было
все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет
резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.
В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был рас-
кинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный
на блестящей ноге.
Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и боль-
ше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и пря-
мые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они
были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось
нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление.
Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.
— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филип-
пович, — только не волнуй его.
У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как
у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погла-
дила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.
«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только
стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»
Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фырк-
нул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий за-
пах разлился от него.
«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» —
подумал пес и попятился от тяпнутого.
— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Фи-
липпович.
Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя
с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины
правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты.
36
Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось,
но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и
вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыха-
ние, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей... — мельк-
нуло в голове. — За что?» И еще раз облепили. Тут не-
ожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на
нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розо-
вые псы. Ноги лишились костей и согнулись.
— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова
Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях.
Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий
пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном
кверху и была еще почувствована холодная, но приятная
рука под животом. Потом — ничего.
IV
На узком операционном столе лежал, раскинувшись,
пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую
клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь
доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въе-
даясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппо-
вич, опершись ладонями на край стола, блестящими, как
золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой про-
цедурой и говорил взволнованно.
— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда
я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подай-
те отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кро-
вить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и
так никакого шанса нету. — Он помолчал, прищуря глаз,
заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса
и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык
к нему.
Руки он вздымал в это время, как будто благословлял
на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался,
чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.
Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая
кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и воору-
жился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую го-
лову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где
выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензи-
новым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса рас-
тянул и промолвил, отдуваясь:
— Готово.
37
Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бро-
сился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.
— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила
она, боязливо косясь на бритую голову пса.
— Можешь.
Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легки-
ми марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика,
и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый
песий череп и странная бородатая морда.
Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на со-
бачью голову и сказал:
— Ну, господи, благослови. Нож.
Борменталь из сверкающей груды на столике вынул
маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он
облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.
— Спит? — спросил Филипп Филиппович.
— Спит.
Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобре-
ли остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он
метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа
тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные сто-
роны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли
давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарны-
ми щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у
Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппо-
вич полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали
разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками.
Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой
ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом
крикнул:
— Ножницы!
Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фо-
кусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколь-
ко поворотов вырвал из тела Шарика его семенные желе-
зы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мок-
рый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке
и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные желе-
зы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, зави-
лись короткие влажные струны. Дробно защелкали кри-
вые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место
Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком
марли и скомандовал:
— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся
на круглые белые стенные часы.
38
— Четырнадцать минут делали, — сквозь стиснутые зу-
бы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряб-
лую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые
спешат.
— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.
Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего
лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил
фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел
на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волоса-
ми откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Фи-
липп Филиппович крикнул:
— Трепан!
Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая гу-
бы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и вы-
сверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в санти-
метре расстояния одна от другой так, что они шли кругом
всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд.
Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в пер-
вую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский ру-
кодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты
через три крышку черепа с Шарика сняли.
Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с
синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Фи-
липп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их
вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не
попал в глаз профессору и окропил его колпак. Бормен-
таль с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать
и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его ста-
ло мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук
профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп
же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вы-
рывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он обо-
драл оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая
из вскрытой чаши полушария мозга.
В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой
охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:
— Пульс резко падает...
Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то
промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом
сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и ко-
варно кольнул Шарика где-то у сердца.
— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филип-
пович и окровавленными скользкими перчатками выдви-
нул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение
39
он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас
же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул
ее в длинный шприц.
— В сердце? — робко спросил он.
— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профес-
сор,— все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Раз-
ве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохно-
венного разбойника.
Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.
— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.
— Некогда рассуждать тут — живет не живет, — заси-
пел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно
помрет... Ах ты че... К берегам священным Нила... Прида-
ток давайте.
Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на
нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не име-
ет равных в Европе, ей-богу!», — смутно подумал Бормен-
таль — он выхватил болтающийся комочек, а другой нож-
ницами выстриг такой же. в глубине где-то между распя-
ленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул
на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и
своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тон-
кими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замо-
тать. После этого он выбросил из головы какие-то распял-
ки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинул-
ся и уже поспокойнее спросил:
— Умер, конечно?..
— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.
— Еще адреналину.
Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную
крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взре-
вел:
— Шейте!
Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три
иглы.
И вот на подушке появилась на окрашенном кровью
фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой
раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился
окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку,
выбросил из нее облако потной пудры, другую разорвал,
швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина
появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Ша-
рика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавлен-
ный куколь и крикнул:
40
— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье
и ванну.
Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами
раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий
глаз и молвил:
— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет.
Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и
хитрый.
V
Из дневника доктора Борменталя
Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана по-
черком Борменталя. На первых двух страницах он аккура-
тен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволно-
ван, с большим количеством клякс.
22 декабря 1924 г. Понедельник.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. По-
рода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буро-
ватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку
следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к про-
фессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный.
Вес 8 кг. (знак восклицат.). Сердце, легкие, желудок, температура...
23 декабря.
В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по
проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички
Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и се-
менными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до
операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физио-
логической жидкости по проф. Преображенскому.
Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной
крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от выше-
указанного мужчины.
Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца
адреналина в сердце.
Показание к операции: постановка опыта Преображенского с ком-
бинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о
приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоло-
жение организма у людей.
Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.
Ассистировал д-р И. А. Борменталь.
В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожи-
дание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображен-
скому.
24 декабря.
Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Кам-
фара, кофеин под кожу.
41
25 декабря.
Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конеч-
ностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преоб-
раженскому, физиологический раствор в вену.
26 декабря.
Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41.
Камфара, питание клизмами.
27 декабря.
Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Кам-
фара под кожу.
28 декабря. .
Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот,
температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевяз-
ка. Появился аппетит. Питание жидкое.
29 декабря.
Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туло-
вища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных бо-
лезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветери-
нарного показательного института. Ими случай признан не описанным
в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура —
нормальна.
(Запись карандашом.)
Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание
резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-
гау» на слоги «a-о», по окраске отдаленно напоминает стон.
30 декабря.
Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешива-
ние дало неожиданный результат—вес 30 кг за счет роста (удлине-
ния) костей. Пес по-прежнему лежит.
31 декабря.
Колоссальный аппетит.
(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.)
В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.
(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения
написано):
1 декабря.
(Перечеркнуто, поправлено) 1 января 1925 г. Фотографирован ут-
ром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы
радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обмо-
рок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-
валг», «Абыр».
(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово
«Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...
42
2 января.
Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели
и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.
(В тетради вкладной лист.)
Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При
падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.
В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно на-
звать) обругал проф. Преображенского по матери.
(Перерыв в записях.)
6 января.
(То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)
Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес со-
вершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает
что такое.
Я теряюсь.
Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смот-
ровой, где расхаживает это существо, слышатся явственно вульгарная
ругань и слова «еще парочку».
7 января.
Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечер-
няя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие толь-
ко существуют в русском лексиконе.
Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбо-
родке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области
половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился зна-
чительно. Лоб скошен и низок.
Ей-богу, я с ума сойду.
Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство
наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии.)
По городу расплылись слухи.
43
Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон
какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под
окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. «Слухи
о марсианине в Обуховском переулке ни на чем не основаны. Они
распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О ка-
ком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.
Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, кото-
рый играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотогра-
фическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, де-
лавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое... Он го-
ворит новое слово «милиционер».
Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула
карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того как прогнал
репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.
Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон
выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...
В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами
не знают.
8 января.
Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как
истый ученый, признал свою ошибку—перемена гипофиза дает не омо-
ложение, а полное очеловечение (подчеркнуто три раза). От
этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть
меньше.
Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре,
глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Фи-
липповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на
задних лапах (зачеркнуто)... на ногах и производит впечатление ма-
ленького и плохо сложенного мужчины.
Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусствен-
на. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо
произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, бес-
прерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит не-
сколько фонографический характер: как будто это существо где-то
раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занес-
ло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не пси-
хиатр, черт меня возьми.
На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивитель-
но тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдер-
жанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет тер-
пение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:
— Перестань!
Это не произвело никакого эффекта.
44
После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водво-
рен в смотровую.
После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем.
Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и порази-
тельно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкнове-
нйю, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же отве-
тил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Моск-
вошвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас
прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».
9 января.
Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым сло-
вом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, ‘что они, замерзшие в
сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреб-
лении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся»,
«Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Амери-
ки», «Примус».
10 января.
Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя
охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест
хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет.
Носки ему велики.
(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам,
изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)
Удлиняется задняя половина скелета стопы (Planta). Вытягивание
пальцев. Когти.
Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислу-
га совершенно подавлена.
Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на
лад.
11 января.
Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую
фразу: «Дай папиросочку — у тебя брюки в полосочку»-
Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с воло-
сами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух
с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.
В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные сущест-
вом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией
на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки
на пол», — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».
Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:
— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора,
тебе влетит.
Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он по-
нял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел
исподлобья довольно раздраженно, но стих.
Ура, он понимает!
12 января.
Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал
«Ой, яблочко». Поддерживает разговор.
Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложе-
45
ние пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт
проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга.
Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъ-
яснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно на-
звать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область
открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул.
Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу.
Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса.)
Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разго-
вор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся ги-
пофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули пото-
ком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг
вновь созданный. О,* дивное подтверждение эволюционной теории1
О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипо-
теза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бёздиу
понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую оче-
редь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, прохо-
дя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их
знает, что у них таится в мозгах.
Шарик читал. Читал (три восклицательных знака). Это я дога-
дался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где
разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов у собаки.
Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь
Сухаревских торговцев уже сидят 'за распространение слухов о свето-
преставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говори-
ла и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день пре-
подобного мученика Стефана, Земля налетит на небесную ось... Какие-
то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипо-
физом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенско-
му по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая пре-
вращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует.
В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.
С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о
своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую пси-
хическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его
зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь
с историей болезни, он сидит над историей * того человека, от которого
мы взяли гипофиз.
(В тетради вкладной лист.)
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, со-
чувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря не-
достатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — ус-
ловно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке цо
трактирам.
Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь).
46
Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал* у
Преображенской заставы).
Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не по-
нимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался
осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем де-
ло — не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?
17 января.
Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время
облик окончательно сложился:
а) совершенный человек по строению тела;
б) вес около 3-х пудов;
в) рост маленький;
г) голова маленькая;
д) начал курить;
е) ест человеческую пищу;
ж) одевается самостоятельно;
з) гладко ведет разговор.
Вот так гипофиз. (Клякса.)
Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм;
наблюдать его нужно с начала.
Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографиче-
ские снимки.
Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского
доктор Борменталь.
VI
Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, пред-
приемное время. На притолоке у двери в приемную висел
белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича
было написано:
«Семечки есть в квартире запрещаю».
Ф. Преображенский.
И синим карандашом крупными, как пирожные, бук-
вами рукой Борменталя:
«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня
до 7 часов утра воспрещается».
Затем рукой Зины:
«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я
не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швонде-
ром».
Рукой Преображенского:
47
«Сто лет буду ждать стекольщика?»
Рукой Дарьи Петровны (печатно):
«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».
В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря
лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал,
перебитый пополам, — зеркальные стекла были заклеены
косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Фи-
липпович, склонившись над столом, погрузился в развер-
нутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо,
и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие
слова. Он читал заметку:
«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно-
рожденный (как выражались в гнилом буржуазном обще-
стве) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая бур-
жуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор,
пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним
красным лучом.
Шв ... р».
Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли
за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации
«Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филиппо-
вича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав,
он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь
зубы:
— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит ме-
сяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!
Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотни-
щами портьеры.
— Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и по-
зови его сюда, пожалуйста.
Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между
пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив
ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной
наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как
бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал
небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти
непосредственно над черными кисточками раскиданных
бровей начиналась густая головная щетка.
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян
соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны,
а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у чело-
века был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фаль-
це
шивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был
настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлен-
ные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на по-
толке, то на стене видел пылающий факел с голубым вен-
цом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызги-
вая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с
белыми гетрами.
«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал
Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться
с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глаза-
ми поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая
манишку пеплом.
Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвене-
ли пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда всту-
пил в беседу Филипп Филиппович.
— Я, кажется, два раза уже просил не спать на пола-
тях в кухне — тем более днем?
Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточ-
кой, и ответил:
— Воздух в кухне приятнее.
Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то
же время гулкий, как в маленький бочонок.
Филипп Филиппович покачал головой и спросил:
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.
Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через от-
топыренную губу и любовно поглядел на галстук.
— Чем же «гадость»? — заговорил он. — Шикарный
галстук. Дарья Петровна подарила.
— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих
ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что про-
сил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели
доктор Борменталь такие выбрал?
— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей?
Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.
Филипп Филиппович повертел головой и заговорил ве-
ско:
— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это
за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.
Лицо человека потемнело и губы оттопырились.
— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие.
Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это
все Зинка ябедничает.
Филипп Филиппович глянул строго:
— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?
49
Молчание.
— Понятно, я вас спрашиваю?
— Понятно.
— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите
на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то.
Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я
более не слышал ни одного ругательного слова в квартире!
Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться
аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жа-
луется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите!
Кто ответил пациенту «пес его знает!»? Что вы, в самом
деле, в кабаке, что ли?
— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг
плаксиво выговорил человек.
Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули:
— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярно-
сти? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть
меня по имени и отчеству!
Дерзкое выражение загорелось в человечке:
— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не
ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае.
Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы
напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — чело-
век возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили жи-
вотную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнуша-
ются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал.
А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая
некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может,
имею право предъявить.
Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно
круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — проле-
тело у него в голове.
— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили
в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может
быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть
в подворотнях? Ну, если бы я знал...
— Да что вы все попрекаете—помойка, помойка.
Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под
ножом? Вы что на это выразите, товарищ?
— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Фи-
липп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно!
«Кошмар, кошмар», — подумалось ему.
— Уж конечно, как же... — иронически заговорил чело-
век и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие
50
уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не
обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили.
Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время
каждый имеет свое право...
Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения че-
ловека. Тот прервал речь и демонстративно направился к
пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у
него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине
с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папи-
росу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под
мышку.
— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крик-
нул Филипп Филиппович, — и я не понимаю —откуда вы
их берете?
— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся че-
ловек, — видно, блохи меня любят, — тут он пальцами по-
шарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок
рыжей легкой ваты.
Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на по-
толке и забарабанил ^пальцами по столу. Человек, казнив
блоху, отошел и сел *на стул. Руки он при этом, опустив
кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его ско-
сились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и
это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Фи-
липпович посмотрел туда, где сияли резкие блики на ту-
пых носках, глаза прижмурил и заговорил:
— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?
— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп
Филиппович, мне надо.
Филиппа Филипповича несколько передернуло.
— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, мо-
жет быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал не-
уверенно и тоскливо.
— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же
так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, че-
ловеку без документов строго воспрещается существовать.
Во-первых, домком...
— При чем тут домком?
— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж
ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
— Ах ты, господи, — уныло воскликнул Филипп Филип-
пович,— встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им
говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.
— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание
51
его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это
так «шляться»?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу,
как все люди. — При этом он посучил лакированными но-
гами по паркету.
Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону.
«Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя
к буфету, он одним духом выпил стакан воды.
— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в
словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелест-
ным ругаете. Он интересы защищает.
— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— Известно чьи — трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему же вы — труженик?
— Да уж известно — не нэпман.
— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах ва-
шего революционного интереса?
— Известно что — прописать меня. Они говорят — где
ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в
Москве. Это—раз. А самое главное — учетная карточка.
Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...
— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой
скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки
считаться с положением! Не забывайте, что вы... э... гм...
вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо,
лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее
уверенно.
Человек победоносно молчал.
— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы
вас прописать и вообще устроить все по плану этого ва-
шего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.
— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спо-
койно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.
— Как же вам угодно именоваться?
Человек поправил галстук и ответил:
— Полиграф Полиграфович.
— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Фи-
липпович,— я с вами серьезно говорю.
Язвительная усмешка искривила усишки человека.
— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмыс-
ленно.— Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от
вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только про-
фессорам разрешается ругаться в Ресефесере.
52
Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя ста-
кан; разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще
немного, он меня учить станет и будет совершенно прав.
В руках не могу держать себя».
Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо скло-
нил стан и с железной твердостью произнес:
— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя по-
казалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали
себе такое?
— Домком посоветовал. По календарю искали — какое
тебе, говорят? Я и выбрал.
— Ни в каком календаре ничего подобного быть не
может.
— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — ко-
гда у вас в смотровой висит.
Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке
на обоях, и на звонок явилась Зина.
— Календарь из смотровой.
Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем,
Филипп Филиппович спросил:
— Где?
— Четвертого марта празднуется.
— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас
же.
Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а
человек покачал укоризненно головою.
— Фамилию позвольте узнать?
— Фамилию я согласен наследственную принять.
— Как? Наследственную? Именно?
— Шариков.
В кабинете перед столом стоял председатель домкома
Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в
кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора
(он только что вернулся) было столь же растерянное вы-
ражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего ря-
дом.
— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.
— Что же,-т-заговорил Швондер, — дело не сложное.
Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так,
мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков
Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол,
квартире.
53
Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп
Филиппович дернул усом.
— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить
нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним сло-
вом...
— Это—ваше дело, — со спокойным злорадством вы-
молвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом
ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали граждани-
на Шарикова.
— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного
шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зер-
кальной бездне.
— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Фи-
липпович,— не вмешиваться в разговор. Вы напрасно го-
ворите «и очень просто» — это очень не просто.
— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил
Шариков.
Швондер немедленно его поддержал:
— Простите, профессор, гражданин Шариков совер-
шенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его
собственной участи, в особенности постольку, поскольку
дело касается документов. Документ — самая важная вещь
на свете.
В этот момент оглушительный трезвон над ухом обо-
рвал разговор.
Филипп Филиппович сказал в трубку:
— Да... — покраснел и закричал: — Прошу не отрывать
меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил
трубку в рогульки.
Голубая радость разлилась по лицу Швондера.
Филипп Филиппович, багровея, прокричал:
— Одним словом, кончим это.
Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько
слов, затем раздраженно прочитал вслух:
— «Сим удостоверяю»... Черт знает, что такое... Гм...
«Предъявитель сего — человек, полученный при лаборатор-
ном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается
в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих
идиотских документов. Подпись — «профессор Преображен-
ский».
— Довольно странно, профессор, — обиделся Швон-
дер,— как это так вы документы называете идиотскими?
Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного
54
жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией.
А вдруг война с империалистическими хищниками?
— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул
Шариков в шкаф.
Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво за-
метил Шарикову:
— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени
несознательно. На воинский учет необходимо взяться.
— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — не-
приязненно ответил Шариков, поправляя бант.
Настала очередь Швондера смутиться. Преображен-
ский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не
угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кив-
нул головой.
— Я тяжко раненный при операции, — хмуро подвыл
Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на
голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный
шрам.
— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер,
высоко поднимая брови.
— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на
это.
— Ну-с, хорошо, неважно пока, — ответил удивленный
Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессо-
ра отправим в милицию и вам выдадут документ.
— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Фи-
липпович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у
вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.
Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.
— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не
предвидится.
Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал.
Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филип-
пович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогу-
лек так, что она, покрутившись немного, повисла на голу-
бом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик»,—
подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, покло-
нился и вышел.
Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за
ним следом.
Профессор остался наедине с Борменталем. Немного
помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и за-
говорил:
— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь
55
вам, дорогой доктор, я измучился за эти, две недели больг
ше, чем за последние четырнадцать лет! Вот — тип, я вам
доложу...
В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул
заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила
шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой,
там что-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. За-
хлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи
Петровны. Затем завыл Шариков.
— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппо-
вич, бросаясь к дверям.
— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним
вслед.
Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в
нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из
кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа
Филипповича.
— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было,—
в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?!
Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в при-
емной!
— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — зады-
хаясь, закричала Зина.
Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та
не поддавалась.
— Открыть сию секунду!
В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало,
обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел
за дверью:
— Убью на месте...
Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Фи*
липпович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная
Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на по-
роге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым
потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и
из него вывалились два осколка, а за ними выпал громад-
нейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бан-
том на шее, похожий на городового. Он упал прямо на
стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на
пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул,
как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на
черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился ста-
рушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная
белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным
56
и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и
колючими глазами окинула кухню и произнесла с любо-
пытством:
— О, господи Иисусе!
Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил
старуху грозно:
— Что вам надо?
— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — отве-
тила старуха заискивающе и перекрестилась.
Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе
подошел вплотную и шепнул удушливо:
— Сию секунду из кухни вон!
Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидев-
шись:
— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.
— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и
глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственно-
ручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Пет-
ровна, я же просил вас!
— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья
Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же
я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.
Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более
не было слышно. Вошел доктор Борменталь.
— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколь-
ко там пациентов?
— Одиннадцать, — ответил Борменталь.
— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.
Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в
дверь и крикнул:
— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.
— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.
— Гау! Гау!..
— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю...—
приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из
кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком
в дверь.
— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.
Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно
под потолком показалась и высунулась в кухню физионо-
мия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена»
57
глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от све-
жей крови, царапина.
— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович.—
Почему вы не выходите?
Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:
— Защелкнулся я.
— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не ви-
дели?
— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил
Полиграф.
— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскри-
чала Зина и всплеснула руками.
— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Фи-
липпович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее кни-
зу... Вниз нажимайте! Вниз!
Шариков пропал и через минуту вновь появился в
окошке.
— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.
— Да лампу зажгите. Он взбесился!
— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Ша-
риков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вы-
вернул, а теперь найти не могу.
Все трое всплеснули руками и в таком положении за-
стыли.
Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна
сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у
подножия двери, и задними местами прижимали его к щели
под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной све-
чой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слухо-
вое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воз-
духе и исчез в отверстии.
— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев
воды.
Послышался голос Федора:
— Филипп Филиппович, все равно надо открывать,
пусть разойдется, отсосем из кухни.
— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппо-
вич.
Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и
тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она раздели-
лась на три потока: прямо—в противоположную уборную,
направо—в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и пры-
гая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде
58
вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеен-
ке — весь мокрый.
— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.
— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с прокля-
тием поднял одну ногу.
— Боится выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Фе-
дор.
— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос
Шарикова из ванной.
— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках,
с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с зака-
танными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу
кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Забро-
шенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гул-
кую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.
Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубо-
кой луже на паркете в передней и вел переговоры через
чуть приоткрытую дверь на цепочке.
— Не будет сегодня приема, профессор нездоров.
Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...
— А когда же прием? — добивался голос за дверью,—
мне бы только на минуточку...
— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каб-
луки,— профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу.
Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную
лестницу выльется.
— Тряпки не берут.
— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор,—
сейчас.
Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже
подошвой стоял в воде.
' — Когда же операция? — приставал голос и пытался
просунуться в щель.
— Труба лопнула...
— Я бы в калошах прошел...
Синеватые силуэты появлялись за дверью.
— Нельзя, прошу завтра.
— А я записан.
— Завтра. Катастрофа с водопроводом.
Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а
исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал
громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал
ее из передней обратно к уборной.
59
— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь?—серди-
лась Дарья Петровна.— Выливай в раковину.
— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, от-
вечал Шариков, — она на парадное вылезет.
Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней
вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с
полосками носках.
— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в
спальню, я вам туфли дам.
— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.
— В калоши станьте.
— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.
— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.
— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Ша-
риков и выехал на корточках с суповой миской в руке.
Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засме-
ялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки
вспыхнули.
— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с
высоты, — позвольте узнать.
— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шари-
ков, бегая глазами.
— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп
Филиппович, — я положительно не видал более наглого
существа, чем вы.
Борменталь хихикнул.
— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто на-
хал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и
еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!
— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил
Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за
котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!
— Какой я дикарь, — хмуро отозвался Шариков, — ни-
чего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно.
Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у
Дарьи. Я его поучить хотел.
— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппо-
вич,— вы поглядите на свою физиономию в зеркале.
— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков,
трогая глаз мокрой грязной рукой.
Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все
зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекрати-
лись. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях
стоял в передней.
60
— Вот вам, Федор.
— Покорнейше благодарю.
— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у
Дарьи Петровны водки.
— Покорнейше благодарю. — Федор помялся, потом
сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж
прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире...
Гражданин Шариков камнями швырял...
— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь,
как облако.
— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозил-
ся подавать.
— Черт!
— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать
стал. Ну, повздорили.
— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких
вещах! Сколько нужно?
— Полтора...
Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника
и вручил Федору.
— Еще за такого мерзавца полтора целковых пла-
тить,— послышался в дверях глухой голос, — да он сам...
Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча
нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его
на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в
дверь.
— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Фи-
липп Филиппович.
— Ну, уж это действительно, — многозначительно заме-
тил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.
Борменталь как из-под земли вырос.
— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.
Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда
донесся его голос:
— Вы что? В кабаке, что ли?
— Это так... — добавил решительный Федор, — вот это
так... Да по уху бы еще...
— Ну, что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Фи-
липпович.
— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.
VII
— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Бормен-
таль, — извольте заложить.
61
— Ну, что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.
— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп
Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.
— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина,
примите майонез у Шарикова.
— Как это так «примите»? — расстроился Шариков,-*-
я сейчас заложу.
Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой за-
пихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в
парикмахерской.
— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетри-
ны в густом соусе.
— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.
— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь, — вы
последнее время слишком налегаете на водку.
— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул ис-
подлобья.
— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп
Филиппович, но Борменталь его перебил.
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы,
Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что
говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, ко-
нечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа
Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе —
вы и без водки держите себя неприлично.
Борменталь указал на заклеенный буфет.
— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — про-
изнес профессор.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, по-
косившись на Борменталя, налил рюмочку.
— И другим надо предложить, — сказал Борменталь,—
и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в за-
ключение себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая
улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
— Вот все у вас, как на параде, — заговорил он, — сал-
фетку— туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожа-
луйста— мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это нет.
Мучаете сами себя, как при царском режиме.
— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведо-
миться.
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филиппо-
вичу, а поднял рюмку и произнес:
62
— Ну, желаю, чтобы все...
— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Бор-
менталь.
Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку,
сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем
проглотил, причем глаза его налились слезами.
— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи про-
говорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивленно покосился:
— Виноват...
— Стаж! — повторил Филипп Филиппович, и горько
качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь—Клим.
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся
в глаза Филиппа Филипповича:
— Вы полагаете, Филипп Филиппович?
— Нечего полагать, уверен в этом.
— Неужели... — начал Борменталь и остановился, по-
косившись на Шарикова.
Тот подозрительно нахмурился.
— Spater1... — негромко сказал Филипп Филиппович.
— Gut2, — отозвался ассистент.
Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Фи-
липповичу красного вина и предложил Шарикову.
— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его за-
маслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп
Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза
прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова,
черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сме-
тане.
Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность
к деятельности.
— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вече-
ром? — осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами, ответил:
— В цирк пойдем, лучше всего.
— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп
Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на
вашем месте хоть раз в театр сходил.
— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Ша-
риков и перекрестил рот.
— Икание за столом отбивает у других аппетит, — ма-
1 Позже (нем.).
2 Хорошо (нем.).
63
шинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... По-
чему, собственно, вам не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль,
подумал и оттопырил губы:
— Да дурака валяние... Разговаривают, разговарива-
ют... Контрреволюция одна.
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку
и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой ча-
стокол. Борменталь только повертел головою.
— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а
то, знаете ли...
— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и
вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович,—
убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы
читаете?
В голове у него вдруг мелькнула картина: необитае-
мый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке.
«Надо будет Робинзона...»
— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как
его— дьявола — с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском
белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Ша-
риков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся
в Шарикова и спросил:
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу
прочитанного?
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом. Всех, кто скажет,
что другая... А что бы вы со своей стороны могли предло-
жить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... кон-
гресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и по-
делить...
— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович,
шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный
Борменталь.
— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым
после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то
64
что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него
сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание
ищет.
— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня на-
мекаете?— горделиво прищурившись, спросил Филипп Фи-
липпович.
Шариков съежился и промолчал.
— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, сколь-
ким вы вчера отказали?
— Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Бор-
менталь.
— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех муж-
чин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем.
С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.
— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугав-
шись,— это за что такое?
— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Фи-
липпович, выходя из состояния иронического спокойствия.
— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Бор-
менталь.
— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и бла-
годаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Чело-
век, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет
краны. Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто...
— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лест-
нице,— подлетел Борменталь.
— Вы стойте... — рычал Филипп Филиппович.
-т- Да она меня по морде хлопнула, взвизгнул Шари-
ков,— у меня не казенная морда!
— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал
Борменталь, опрокинув бокал, —вы стоите...
— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — пе-
рекричал Филипп Филиппович, — вы еще только форми-
рующееся, слабое в умственном отношении существо, все
ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух
людей с университетским образованием позволяете себе с
развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то
советы космического масштаба и космической же глупости
о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались
зубного порошку...
— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.
— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите
себе на носу» — кстати, почему вы стерли с него цинковую
мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам гово-
3 Запретная главе ^5‘
рят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь прием-
лемым членом социального общества. Кстати, какой него-
дяй снабдил вас этой книжкой?
— Все у вас негодяи,— испуганно ответил Шариков,
оглушенным нападением с двух сторон.
— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Фи-
липп Филиппович.
— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб
я развивался...
— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — виз-
гливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он
яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай
показывает это как нельзя лучше. Зина!
— Зина! — кричал Борменталь.
— Зина! — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
— Зина, там в приемной... Она в приемной?
— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая,
как купорос.
— Зеленая книжка...
— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шари-
ков,—она казенная, из библиотеки.
— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим
чертом... В печку ее!
Зина улетела.
— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на пер-
вом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впи-
ваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в до-
ме— как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмыс-
ленные пасквили в газетах...
Шариков злобно и иронически начал коситься на про-
фессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему
косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квар-
тире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и ру-
мяную с левого бока бабу и кофейник.
— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязнен-
но заявил Шариков.
— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично.
Доктор, прошу вас.
В молчании закончился обед.
Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и за-
дымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на
66
часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с
четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обык-
новению на готическую спинку и потянулся к газете на сто-
лике.
— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только,
ради бога, посмотрите в программе — котов нету?
— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заме-
тил Шариков, покачивая головой.
— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно
отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?
— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь,—
четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.
— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился
Филипп Филиппович.
— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.
— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходи-
мо, чтобы было все ясно.
— У Никитиных... у Никитиных... гм... слоны и предел
человеческой ловкости.
— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой
Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у
Шарикова.
Тот обиделся.
— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело.
Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.
— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и погля-
дите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в
какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арноль-
дович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.
Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, оде-
тый в кепку с утиным носом и драповое пальто с подня-
тым воротником, уехали в цирк.
В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в сво-
ем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым кол-
паком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и
начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик
сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в
карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зали-
зами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к бере-
гам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отло-
жил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь со-
стоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильней-
шими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной
полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал,
67
нахмурившись, рассматривать <ее на свет огней. В прозрач-
ной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый
беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова моз-
га. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Фи*
липпович пожирал его глазами, как будто в белом нетону-
щем комке хотел разглядеть причину удивительных собы-
тий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской
квартире.
Очень возможно, что высокоученый человек ее и раз-
глядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на при-
даток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ,
ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вда^
вив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы
пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару,
совершенно изжевав ее конец, и наконец, в полном одино-
честве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:
— Ей-богу, я, кажется, решусь. *
Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились
всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов,
как известно, затихает движение. Редко-редко звучали от-
даленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали
где-то за шторами и угасали; В кабинете нежно звенел под
пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике...
Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Бор-
менталя и Шарикова из цирка.
VIII
Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ниче-
го особенного в течение следующей недели он не предпри-
нимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квар-
тирная жизнь переполнилась событиями.
Дней через шесть после истории с водой и котом из дом-
кома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся
женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков не-
медленно заложил в карман и немедленно после этого по-
звал д-ра Борменталя:
— Борменталь!
— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста,
называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.
Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрил-
ся раз восемь поссориться со своим воспитанником. И ат-
мосфера в обуховских комнатах была душная.
— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совер-
шенно основательно ответил Шариков.
68
— Нет!’—загремел в дверях Филипп Филиппович. — По
такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу
называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать
фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем
называть вас «господин Шариков».
— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял
Шариков.
— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппо-
вич.— Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет
никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахо-
жусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда, и,
вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление,
и, поверьте, я вам найду комнату.
— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда,—
очень четко ответил Шариков.
— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того из-
менился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно
и тревожно взял его за рукав.
— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! —
Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вы-
тащил из кармана три бумаги: зеленую, желтую и белую,
и, тыча в них пальцами, заговорил:
— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне
полагается определенно в квартире № 5 у ответственного
съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных ар-
шин.— Шариков подумал и добавил слово, которое Бор-
менталь машинально отметил в мозгу, как новое: — Благо-
волите.
Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосто-
рожно вымолвил: !
— Клянусь, что я этого Ш вон дера в конце концов за-
стрелю.
Шариков в высшей степени внимательно и остро при-
нял эти слова, что было видно по его глазам.
— Филипп Филиппович, vorsichtig 1... — предостерегаю-
ще начал Борменталь.
— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскри-
чал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Ша-
риков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну
наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в мо-
ем доме. Шестнадцать аршин — это прелестно, но ведь я
вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!
Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
1 Осторожно (нем ).
69
— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал
он, — где же я буду харчеваться?
— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили
оба эскулапа.
Шариков значительно притих и в тот день не причинил
никакого вреда никому, за исключением самого себя: поль-
зуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его
бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппо-
вич и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, от-
чего Шариков долго выл, заливаясь слезами.
Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом по-
лумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный,
привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Фи-
липп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных
туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Меж-
ду врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом
стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный
ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуж-
дали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил
в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие
под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и
совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неиз-
вестные личности, шумевшие на парадной лестнице и изъ-
явившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удали-
лись означенные личности лишь после того, как Федор, при-
сутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом
сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделе-
ние милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только
Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода лич-
ностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркаль-
ника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и
его же трость, на каковой трости золотою вязью было на-
писано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу
благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская
цифра XXV.
— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович,
сжимая кулаки, на Шарикова.
Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет то-
го, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны
какие-нибудь, а — хорошие.
— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные...
Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппо-
вич, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась
память юбилея.
70
— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с
рублем в кармане.
От двух червонцев Шариков категорически отперся и
при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что
вот, мол, он не один в квартире.
— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул
червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но
страшным по оттенку голосом.
Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие
глаза и высказал предположение:
— А может быть, Зинка взяла...
— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в две-
рях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую
кофточку ладонью, — да как он...
Шея Филиппа Филипповича налилась красным цве-
том.
— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней
руку, — не волнуйся, мы все это устроим.
Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь
запрыгала у нее на ключице.
— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать?
Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.
— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал было
Филипп Филиппович.
Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолк-
ли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об
стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «эээ!>.
Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.
— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!
И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым.
Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Бор-
менталя, очень нежно и мелодически ругался скверными
словами, выговаривая их с трудом.
Вся эта история произошла около часу, а теперь было
часа три пополуночи, но двое в кабинете бодрствовали,
взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того,
что дым двигался густыми медленными плоскостями, да-
же не колыхаясь.
Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными
глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.
— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул
он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом
явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте,
Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем
71
профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... По-
звольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович. ;
— Да, голубчик мой... — растерянно промычал Филипп
Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял
и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.
— Ей-богу, Филипп Фили...
— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам,—
говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас
ору на операциях... Уж простите стариковскую вспыльчи-
вость. В сущности, ведь я так одинок,.. От Севильи до Гре-
нады...
— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно
воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите
меня обижать, не говорите мне больше таким образом...
— Ну, спасибо вам... К берегам священным Нила... Спа-
сибо... И я вас полюбил как способного врача.
— Филипп Филиппович, я вам говорю!.. — страстно
воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее при-
крыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал
шепотом: — Ведь это — единственный исход. Я не смею
вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, по-
смотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь т$к
нельзя же больше работать!
— Абсолютно невозможно, — вздохнув, подтвердил Фи-
липп Филиппович.
— Ну, вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь,—
в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если
бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим трону-
ли. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько
это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубо-
кому убеждению, другого выхода нет.
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и
воскликнул:
— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор
заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать
не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам
ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» —
отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость.
Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
— Какой там черт! Отец был судебным следователем
в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.
— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследг
ственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя,.
Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец—кафедральный
72
Протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады... в тихом су-
мраке ночей.:, вот, черт ее возьми.
— Филипп Филиппович, вы — величина мирового зна-
чения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина
сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!
— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил
Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стек-
лянный шкаф.
— Да почему?
— Потому что вы-то ведь не величина мирового зна-
чения.
Где уж...
— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы,
самому же выскочить на мировом значении, простите...
Я — московский студент, а не Шариков.
Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался
похож на французского древнего короля.
— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул
Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать,
пока удастся из этого хулигана сделать человека?
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил
себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:
— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-
либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого
мозгового аппарата? Как ваше мнение?
• — Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с боль-
шим чувством ответил Борменталь и развел руками.
— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже пола-
гаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.
— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве,
айв Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Бормен-
таль.
— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий
профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено.
Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, ска-
жите, Преображенский сказал. Finita. Клим! — вдруг тор-
жественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф отве-
тил ему звоном,— Клим, — повторил он.— Вот что, Бор-
менталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой
друг, как я убедился сегодня. Так вот, вам, как другу, со-
общу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамит^
Меня — старый осел Преображенский нарвался на этой
операций как" третьекурсник. Правда, открытие получилось,
73
вы сами знаете—какое, — тут Филипп Филиппович горест-
но указал обеими руками на оконную штору, очевидно, на-
мекая на Москву,— но только имейте в виду, Иван Ар-
нольдович, что единственным результатом этого открытия
будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова
вот где — здесь, — Преображенский похлопал себя по кру-
той и склонной к параличу шее, — будьте спокойны! Если
бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Фи-
липпович,— разложил меня здесь и выпорол, — я бы, кля-
нусь, заплатил бы червонцев пять! От Севильи до Грена-
ды... Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыри-
вал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу про-
делал— уму непостижимо. И вот теперь спрашивается —
зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса пре-
вратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.
— Исключительное что-то!
— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что полу-
чается, когда исследователь вместо того, чтобы идти па-
раллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и при-
подымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с ка-
шей.
— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если
только злосчастная собака не помрет у меня под ножом,
а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом,
я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в сво-
ей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще како-
го-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычай-
но высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивает-
ся. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно
фабриковать Спиноз, когда любая баба может его ро-
дить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам
Ломоносова этого своего знаменитого! Доктор, человече-
ство само заботится об этом и в эволюционном порядке
каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, со-
здает десятками выдающихся гениев, украшающих земной
шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш
вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, чер-
ти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один
ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь
уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это от-
лично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Фи-
зиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а прак-
тически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский
74
указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шари*
ков.
— Исключительный прохвост.
— Но кто он? — Клим, Клим, — крикнул профессор,—
Клим Чугунов (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две
судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два чер-
вонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилей-
ную палку и побагровел)—хам и свинья... Ну, эту палку
я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, опре-
деляющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи
до Гренады... — свирепо вращая глазами, кричал Филипп
Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатю-
ре— сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко
всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике,
об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении
нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу
их? Ведь я же все-таки ученый.
— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь,
глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
— Я хотел проделать маленький опыт после того, как
два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяж-
ку полового гормона. И вместо этого что же получилось?
Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Док-
тор, передо мной — тупая безнадежность, я, клянусь, по-
терялся.
Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося гла-
зами к носу:
— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете,
я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним,
что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это
ваше собственное экспериментальное существо.
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло
и сказал:
— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне
шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступле-
ние не идите никогда, против кого бы оно ни было на-
правлено. Доживите до старости с чистыми руками.
— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще
обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже
мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти
из этого Шарикова!
— Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней
после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый глав-
ный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более
75
грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески
старается натравить его на меня, не соображая, что если
кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого
Швондера, то от него останутся только рожки да ножки:
— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим
сердцем.
— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппо-
вич,— вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради богай
не клевещите на пса. Коты — это временно... Это вопрос
дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-
нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.
— А почему не теперь?
— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы, на
самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет
же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг,
дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже
только остатки собачьего, и поймите, что коты — это луч-
шее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в
том, что у него уж не собачье, а именно человеческое серд-
це.; И самое паршивое из всех, которые существуют в при-
роде!
До последней степени взвинченный Борменталь сжал
сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо мол-
вил:
— Кончено. Я его убью!
— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Фи-
липпович.
— Да помилуйте...
Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял па-
лец.
— Погодите-ка... Мне шаги послышались.
Оба прислушались, но в коридоре было тихо.
— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жа-
ром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз зву-
чало русское слово «уголовщина».
— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и
шагнул к двери.
Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету.
Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и
отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп
Филиппович застыл в кресле.
В освещенном четырехугольнике коридора предстала в
одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылаю-
щим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощ-
76
ного и, как от страху показалось обоим, совершенно голо-
го тела. В « могучих руках Дарья Петровна волокла что-то,
и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие
его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету.
«Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно по-
терянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной
рубашке.
Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шари-
кова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:
— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визи-
тера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина —
невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.
Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние
стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.
— Дарья Петровна, извините, ради бога, — опомнив-
шись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.
Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинул-
ся к Шарикову.
Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.
— Что вы, доктор! Я запрещаю...
Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот
и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди трес-
нуло.
Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выди-
рать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.
— Вы не имеете права биться! — полузадушенный,
кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.
— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.
Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шари-
кова, после чего тот сейчас же захныкал.
— Ну ладно, — прошипел Борменталь, — подождем до
утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.
Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в
приемную спать.
При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги
его не слушались.
Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоре-
вые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной
лампе в коридоре и молвил:
— Ну-ну...
IX
Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем,
не состоялся, однако, на следующее утро по той причине,
71
что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь
пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что
не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это не-
простительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков по-
пал под автобус.
Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы
в волосы, и говорил:
— Воображаю, что будет твориться на улице... Вооб-
ража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.
— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Бор-
менталь и куда-то бегал.
В домкоме он поругался с председателем Швондером
до того, что тот сел писать заявление в народный суд Ха-
мовнического района, крича при этом, что он не сторож
питомца профессора Преображенского, тем более, что этот
питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохво-
стом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в коо-
перативе семь рублей.
Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал
весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова
не было.
Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на
рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бу-
тылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя
и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая,
выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков
больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял
накануне три рубля пятьдесят копеек.
— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, по-
трясая кулаками.
Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой
день. Врачи принимали необыкновенное количество паци-
ентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос
о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна
разыскать Шарикова в московском омуте.
И только что было произнесено слово «милиция», как
благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай
грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уве-
ренный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необы-
чайным достоинством, в полном молчании снял кепку,
пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем
была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потер-
тые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до
колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей
78
передней. Преображенский и Борменталь точно по коман-
де скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали
первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он при-
гладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что
видно было: смущение Полиграф желает скрыть при по-
мощи развязности.
— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец гово-
рить,— на должность поступил.
Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом
и шевельнулись. Преображенский опомнился первым, руку
протянул и молвил:
— Бумагу дайте.
Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Поли-
граф Полиграфович Шариков действительно состоит заве-
дующим подотделом очистки города Москвы от бродячих
животных (котов и пр.) в отделе МКХ».
— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же
вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.
— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.
— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвра-
тительно пахнет?
Шариков понюхал куртку озабоченно.
— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вче-
ра котов душили, душили...
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Бормен-
таля. Глаза у того напоминали два черных дула, направ-
ленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он
двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за
глотку.
— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.
— Доктор!
— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппо-
вич, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Бор-
менталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!
Те появились в передней.
— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть
притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...
— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил со-
вершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху,
дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вы-
шел, и голова его совсем погрузилась в шубу.
— Доктор, умоляю вас.
Шариков закивал головой, давая знать, что он поко-
ряется и будет повторять.
79
-^...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и
Зинаида?..
— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.
— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух,
охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...
— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьяне-
ния.
— Опьянения...
— Никогда больше не буду...
— Не. бу...
— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмоли-
лись одновременно обе женщины, — вы его задушите.
Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:
— Грузовик вас ждет?
— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только
меня привез.
— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду сле-
дующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филип-
повича?
— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуж-
дая глазами.
— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В против-
ном сЛу^аё за каждую безобразную выходку будете иметь
со мною дело. Понятно?
: Понятно, — ответил Шариков.
Филипп Филиппович во все время насилия над Шари-
ковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у при-
толоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг
поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:
— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?
— На польты пойдут,—ответил Шариков, — из них бе-
лок будут делать на рабочий кредит.
Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое
суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузови-
ке, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа
Филипповича и Борменталя.
Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в
одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с
другом, так что Борменталь соскучился первый.
Дня через два в квартире появилась худенькая с под-
рисованными глазами барышня в кремовых чулочках и
‘Очень смутилась при виде великолепия квартиры. В по-
тертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в пе-
редней столкнулась с профессором.
80
Тот, оторопелый, остановился, прищурился н спросил!
— Позвольте узнать?
— Яс ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить
сю мной будет. Борменталя надо будет выселить из при-
емной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно
и хмуро пояснил Шариков.
Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, гляди
на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригла-
сил ее:
— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.
— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил
Шариков.
И тут моментально вынырнул как из-под земли Бормен-
таль.
- — Извините, — сказал он, — профессор побеседует с да-
мой, а мы уж с вами побудем здесь.
— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь ус-
тремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Фи-
липпом Филипповичем.
— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за
кисть руки, и они пошли в смотровую.
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом
вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала
в грязный кружевной платочек.
— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала ба-
рышня.
— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович.
Он покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне
жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за
служебного положения... Детка, ведь э>то безобразие... Вот
что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три
бумажки по три червонца.
— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке со-
лонина каждый день... и угрожает... говорит, что он крас-
ный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскош-
ной квартире... каждый день ананасы... психика у меня
добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня коль-
цо на память взял...
— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до Гре-
нады,— бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетер-
петь— вы еще так молоды...
— Неужели в этой самой подворотне?
81
— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул
Филипп Филиппович.
Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь
по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова.
Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась,
как щетка.
— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплакан-
ными размазанными глазами и полосатым напудренным
носом.
— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить
этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл ва-банк:
— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппо-
вич, погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь
к Шарикову.
Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.
— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь
ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.
— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я
ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и погля-
дел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся за-
тылком о шкаф.
— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь.—
Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.
— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как
бы улизнуть.
— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской
куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справ-
ляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову.
И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собствен-
ными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков,—
говорю русским языком!
Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский
нос.
— У самих револьверы найдутся... — пробормотал По-
лиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в
дверь.
— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский
крик.
Ночь и половину следующего дня висела, как туча пе-
ред грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день,
82
когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло
скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к ме-
сту службы, профессор Преображенский в совершенно не-
урочный час принял одного из своих прежних пациентов,
толстого и рослого человека в военной форме. Тот на-
стойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет,
он вежливо щелкнул каблуками к профессору.
— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил
осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.
— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем
на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я при-
ехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питая
большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда.
Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вы-
нул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков
и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь
в лице каждую секунду:
— «...а также угрожая убить председателя домкома
товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрель-
ное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и да-
же Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде
Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньше-
вик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдо-
вичем, который тайно, не прописанный, проживает в его
квартире. Подпись заведующего подотделом очистки
П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома
Швондер, секретарь Пеструхин».
— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил
Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват,
может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход
делу?
— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и
раздул ноздри,—вы действительно очень уж презрительно
смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как ин-
дейский петух.
— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Фи-
липп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас оби-
деть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...
— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая
все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него.
В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...
Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой.
S3
Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже
как будто поседел за последнее время.
& & &
Преступление созрело и упало, как камень, как это
обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся
в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Фи-
липповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шари-
ков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице
Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходи-
ла вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть
вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.
Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим
сказал:
— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам
нужно,— и вон из квартиры!
— Как это так? — искренне удивился Шариков.
— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил
Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Поли*
графовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок сто-
ял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неиз*
бежного и гавкнул злобно и отрывисто:
Да что такое, в самом деле! Что, я управы, что ли,
не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и
буду сидеть.
-г- Убирайтесь из квартиры, — задушевно шепнул Фи-
липп Филиппович.
* Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую
руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с не-
стерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой
по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револь-
вер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через
несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп
Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней,
распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотде-
лом очистки, а на груди у него помещался хирург Бормен-
таль и душил его беленькой малой подушкой.
Через несколько минут доктор Борменталь с не своим
лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка
наклеил записку:
«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет.
Просят не беспокоить звонками».
Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод
84 ‘
звонка, в зеркале осмотрел исцарапа«ное в кровь свое лицо
и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он
появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье
Петровне сказал:
— Профессор просит вас никуда не уходить из квар-
тиры.
— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.
— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и за”
брать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь £
тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из
недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите
и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.
— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали
бледными.
Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер
дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смот-
ровой.
Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. По-
лезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом,
мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили,
что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот
вечер горели у Преображенского все огни и даже будто
бы они видели белый колпак самого профессора... Прове-
рить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, бол-
тала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь
и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал
Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточ-
ках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей об-
ложке из той пачки, в которой записывались истории
болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у док-
тора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги
исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на
себя не был похож. И еще, что... впрочем, может быть,
невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...
За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер
была полнейшая и ужаснейшая тишина.
Конец повести
ЭПИЛОГ
Ночь в ночь через десять дней после сражения в смот-
ровой в квартире профессора Преображенского, что в Обу-
ховом переулке, ударил резкий звонок.
85
— Уголовная милиция и следователь. Благоволите от-
крыть.
Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкаю-
щей от огней приемной с заново застекленными шкафами
оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один
в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный пред-
седатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зи-
на, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо
прикрывающий горло без галстука.
Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича.
Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же
все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень
поправился в последнюю неделю. Прежний властный и
энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства,
предстал перед ночными гостями и извинился, что он в
халате.
— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно ото-
звался человек в штатском, затем он замялся и загово-
рил:— Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в ва-
шей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Фи-
липповича и докончил, — и арест, в зависимости от резуль-
тата.
Филипп Филиппович прищурился и спросил:
— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?
Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке
из портфеля:
— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зи-
наиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего
подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Ша-
рикова.
Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло дви-
жение.
— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппо-
вич, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шари-
кова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я опериро-
вал?
— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был
человеком. Вот в чем дело.
— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппо-
вич.— Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это
неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его ре-
шительно не убивал.
— Профессор, — очень удивленно заговорил черный че-
ловечек и поднял брови, — тогда его придется предъявить.
86
Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень
нехорошие.
— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шари-
ка следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладе-
вая ордером.
Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.
Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери каби-
нета выскочил пес странного качества. Пятнами он был
лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как
ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все
четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в при-
емной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шра-
мом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнув-
шись, сел в кресло.
Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым
крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
. — Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппо-
вич, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я
не ошибаюсь.
— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и
обратился к первому милиционеру: — Это он?
— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Формен-
но он.
— Он самый, — послышался голос Федора, — только,
сволочь, опять оброс.
— Он же говорил... кхе... кхе...
— И сейчас еще говорит, но только все меньше и мень-
ше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем
умолкнет.
— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
— Наука еще не знает способов обращать зверей в
людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите.
Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние.
Атавизм.
— Неприличными словами не выражаться, — вдруг
гаркнул пес с кресла и встал.
Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель
и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку,
а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей
всего были слышны три фразы.
Филиппа Филипповича:
87
— Валерьянки. Это обморок.
Доктора Борменталя:
— Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, ес-
ли он еще раз появится в квартире профессора Преобра-
женского.
И Швондера:
— Прошу занести эти слова в протокол.
& & &
Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пре-
чистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее сущест-
во, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес
Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана.
От мартовского тумана пес по утрам страдал головными
болями, которые мучили его кольцом по головному шву.
Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало,
легчало, и мысли в голове у. пса текли складные и теплые.
«Так свезло мне, так свезло,— думал он, задремывая,—
просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире.
Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечи-
сто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка,
царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю ис-
полосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на
это нечего смотреть».
В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый уби-
рал в шкафах смотровой.
Седой же волшебник сидел и напевал:
— К берегам священным Нила...
Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках
важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упор-
ный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал,
рассматривал, щурился и пел:
— К берегам священным Нила...
Январь — март 1925 г.
Москва
88
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН
МЫ
Роман
апись 1-я.
Конспект:
Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма.
Я просто списываю — слово в слово — то,
что сегодня напечатано в Государственной
Газете:
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА.
Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕ^
ГР АЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет то-
му назад ваши героические предки покорили власти Еди-
ного Государства весь земной шар. Вам предстоит еще
более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огне-
дышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечной
уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному
игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на
иных планетах—быть может, еще в диком состоянии сво-
боды. ЕсЛи они не поймут, что мы несем им математиче-
ски безошибочное счастье, наш долг заставить их быть
счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Еди-
ного Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять
трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о
красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ;
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют
нумера, да здравствует Благодетель!»
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: про-
интегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: ра-
зогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной —
асимптоте —по прямой. Потому что линия Единого Госу-
дарства— это прямая. Великая, божественная, точная, муд-
рая прямая — мудрейшая из линий...
Я, Д-503, строитель Интеграла, — я только один из
математиков Единого Государства. Мое привычное к циф-
рам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм.
Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю —
89.
точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ»
будет заглавием моих записей). Но ведь это будет произ-
водная от нашей жизни, от математически совершенной
жизни Единого Государства, а если так, то разве это не
будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет —
верю и знаю.
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно,
это похоже на то, что испытывает женщина, когда впер-
вые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепо-
го человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы
надо будет питать его своим соком, своей кровью, а по-
том— с болью оторвать его от себя и положить к ногам
Единого Государства.
Но я готов, так же, как каждый, или почти каждый, из
нас. Я готов.
Запись 2-я.
Конспект:
Балет. Квадратная гармония. Икс.
Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых рав-
нин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов.
От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно прово-
дишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у
всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это
несколько мешает логически мыслить.
Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым обла-
ком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов
могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотол-
кущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если
скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безуко-
ризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же
самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена,
как и все наши -постройки. В такие дни видишь самую си-
нюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумитель-
ные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом
привычном, ежедневном.
Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге,
где строится Интеграл, и вдруг увидел станки: с за-
крытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуля-
торов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо
покачивал плечами балансир;‘в такт неслышной музыке
приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю
красоту этого грандиозного машинного балета, залитого
легким голубым солнцем.
90
И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец
красив? Ответ: потому что это несвободное движение,
потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолют-
ной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе.
И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые
вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мисте-
рии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт
несвободы издревле органически присущ человеку, и мы>
в теперешней нашей жизни — только сознательно...
Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я поды-
маю глаза: 0-90, конечно. И через полминуты она сама бу-
дет здесь: за мной на прогулку.
Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа
на свое имя: сантиметров на десять ниже Материнской
Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О —
рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще:
круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бы-
вают у детей.
Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический
маховик, и я по инерции заговорил о только что установ-
ленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины,
и танец.
— Чудесно. Не правда ли? —спросил я.
— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне 0-90.
Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщи-
ны... Я замолчал.
Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный
личный час мы обычно тратим на дополнительную прогул-
ку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими труба-
ми пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по
четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни,
тысячи нумеров, в голубоватых юнифах1, с золотыми бля-
хами на груди — государственный нумер каждого и каж-
дой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в
этом могучем потоке. Слева от меня 0-90 (если бы это
писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад,
он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»);
справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и муж-
ской.
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каж-
дой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лу-
чи— понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улы-
1 Вероятно, от древнего <Uniforme> (лат),
91
бающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-
та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и
с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в голо-
вокружительную синеву...
И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опйть
увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, уви-
дел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами
стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрач-
ных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг.
И так: будто не целые поколения, а я — именно я-—побе-
дил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это,
и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпа-
лись осколки стен, куполов, машин...
А затем мгновение — прыжок через века, с 4- на —.
Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) —
мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний,
двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная
толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок,»
птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это мог-
ло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так
нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.
И тотчас же эхо —смех — справа. Обернулся: в глаза
мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незна-
комое женское лицо.
— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно
все озирали, как некий мифический бог в седьмой день тво-
рения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили
вы, а не кто иной. Мне очень лестно...
Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой
почтительностью (может быть, ей известно, что я — строи-
тель Интеграла). Но не знаю — в глазах или бровях —
какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу
его поймать, дать ему цифровое выражение.
Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логиче-
ски мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот
контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним
и тогдашним...
• — Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!)
Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только пред-
ставьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь : это
тоже было—и следовательно...
— Ну да: ясно! — крикнул (это было поразительное
пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то,
что я записывал перед прогулкой).г—Понимаете: даже
92
МЫСЛИ. ЭтргПОТОМу, что .никто не «один», но «один из». Мы
так одинаковы...
Она:
— Вы уверены?
Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови —
как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул
направо, налево —и...
Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая,
как хлыст, 1-330 (вижу теперь ее нумер); налево —О, со-
всем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на
руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской
нумер г—какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы
все были разные...
Эта, справа, 1-330, перехватила, по-видимому, мой рас-
терянный взгляд — и со вздохом:
— Да... Увы!
В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но
опять что-то такое на лице у ней или в голосе...
Я с необычайной для меня резкостью сказал:
— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сей-,
час, так через пятьдесят, сто лет...
— Даже носы у всех...
— Да, носы, — я уже почти кричал.—Раз есть — все
равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пу-
говицей, а у другого...
— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический»,
как в старину говорили. А вот руки... Нетг покажитегка,
покажите-ка руки!
Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в во-
лосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул
руку и — по возможности посторонним голосом— сказал:
— Обезьяньи.
Она взглянула на руки, потом на лицо:
— Да это прелюбопытный аккорд, — она прикидывала
меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в уг-
лах бровей.
— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот
0-90.
Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к че-
му. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней непра-
вильно рассчитана скорость языка, секундная скорость
языка должна быть всегда немного меньше секундной ско-
рости мысли, а уже никак не наоборот.
В конце проспекта/на. аккумуляторной башне,, колокол
9®
гулко бил 17. Личный час кончился. 1-330 уходила вместе
с тем S-образным мужским нумером. У него такое вну-
шающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знако-
мое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.
На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне.
— Загляните послезавтра в аудиториум 112.
Я пожал плечами:
— Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум,
какой вы назвали...
Она с какой-то непонятной уверенностью:
— Будет.
На меня эта женщина действовала так же неприятно,
как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый
иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадол-
го вдвоем с милой О.
Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На
углу ей было направо, мне — налево.
— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить
шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на ме-
ня О круглые, сине-хрустальные глаза.
Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня
только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший
сексуальный день послезавтра. Это просто все то же са-
мое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное)
опережение подачи искры в двигателе.
При расставании я два... нет, буду точен, три раза по-
целовал чудесные, синие, не испорченные ни одним облач-
ком, глаза.
Запись 3-я.
Конспект:
Пиджак. Стена. Скрижаль.
Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал
недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для
любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые,
кому Интеграл принесет мои записки, может быть, вы
великую книгу цивилизации дочитали лишь до той стра-
ницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы
не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные
Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель.
Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо
всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-ни-
будь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объ-
яснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впро-
94
чем, если его роман переведен для дикарей, разве мысли-
мо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?
Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к
чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же
будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас
со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Сте-
ною.
Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень
помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько
мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все
более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее
оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наибо-
лее совершенная (наша). Если люди метались по земле из
конца в конец, так это только во времена доисторические,
когда были нации, войны, торговли, открытия разных аме-
рик. Но зачем, кому это теперь нужно?
Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не
без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Вой-
ны все дороги разрушились и заросли травой — первое
время, должно быть, казалось очень неудобно жить в го-
родах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но
что же из этого? После того как у человека отвалился
хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух
без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тоско-
вал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить,
что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице
голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливае-
те в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе пред-
ставить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу пред-
ставить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скри-
жали.
Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате су-
рово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом
поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних на-
зывалось «иконой», и мне хочется слагать стихи или мо-
литвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы
достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Еди-
ного Государства.
Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе,
читали этот величайший из дошедших до нас памятников
древней литературы — «Расписание железных дорог». Но
поставьте даже его рядом со Скрижалью — ивы увидите
рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же —С, угле-
род,— но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого
95
не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по стра-
ницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из
нас наяву превращает в стального шестиколесного героя
великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью,
в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, мил-
лионы, встаем как один. В один и тот же час единомилли-
.онно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сли-
ваясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, на-
значенную Скрижалью, секунду мы подносим ложки ко
рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем
в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко
сну...
Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения
задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16
до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается
на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Лич-
ные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних це-
ломудренно спущены шторы, другие мерно по медным сту-
пеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сей-
час— за письменным столом. Но я твердо верю — пусть
назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше
или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем
место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд
войдут в Часовую Скрижаль.
Много невероятного мне приходилось читать и слышать
о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. ё.
неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероят-
ным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя —
пусть даже зачаточная — государственная власть могла
допустить, что люди жили без всякого подобия нашей
Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегу-
лирования сроков еды, вставали и ложились спать когда
им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже,
будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю
ночь по улицам ходили и ездили.
Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни
был ограничен их разум, но «се-таки должны же они бы-
ли понимать, что такая жизнь была самым настоящим по-
головным убийством—только медленным, изо дня в день.
Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одно-
го и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить
одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на
50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих
жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве
96
це смешно? У нас эту математически-моральную задачу в
полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не мог-
ли— все их Канты вместе (потому, что ни Один из Кантов
не догадался построить систему научной этики, т. е. осно-
ванной на вычитании, сложении, делении, умножении).
А это разве не абсурд, что государство (оно смело на-
зывать себя государством!) могло оставить без всякого
контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел...
Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую,
рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куровод-
ство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они зна-
ли все это) и не суметь дойти до последней ступени этой
логической лестницы: детоводства. Не додуматься до на-
ших Материнской и Отцовской Норм.
Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и
боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за
злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиз-
деваться над вами и с серьезным видом рассказываю со-
вершеннейшую чушь.
Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку
неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государ-
ственная Наука утверждает, что жизнь древних была имен-
но такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не
может. Да и откуда тогда было бы взяться государствен-
ной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е.
дверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если
даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глу-
бин,—еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.
К счастью, только изредка. К счастью, это только мел-
кие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останав-
ливая вечного, великого хода всей Машины. И для того,
чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная,
тяжелая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хра-
нителей...
Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды
изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видать его
выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего
у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и
какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Дол-
жен сознаться, что эта I...
Звонят спать: 22.30. До завтра.
4
Запретная глава
97
Запись 4-я.
Конспект:
Дикарь с барометром. Эпилепсия. Если бы.
До сих пор мне в жизни было все ясно (недаром же у
меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому сло-
ву «ясно»). А сегодня... Не понимаю.
Первое: я действительно получил наряд быть именно в
аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероят-
1 500 3
ность была- (одаоо = 20 000 (1 500 —это число ау-
диториумов, 10.000.000— нумеров). А второе... Впрочем,
лучше по порядку.
Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полу-
шар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благо-
родно шарообразных, гладко остриженных голов. С лег-
ким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я
искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф ро-
зовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно бе-
лые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером,
в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было
совершенно естественно.
Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Госу-
дарства— и на эстраде сверкающий золотым громкогово-
рителем и остроумием фонолектор.
— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали
одну книгу 20-го века. В ней иронический автор расска-
зывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий
раз, как барометр останавливался на «дожде», действи-
тельно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя,
то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень
стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколу-
пывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли
вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи.
Так же, как дикарь, европеец хотел «дождя» — дождя с
прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял
перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней
мере было больше смелости и энергии и — пусть дикой —
логики: он сумел установить, что есть связь между след-
ствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать
первый шаг на том великом пути, по которому...»
Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая)—тут я на
некоторое время стал как бы непромокаемым для живи-
тельных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне
вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему
98
«напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?);
мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом
включил внимание только тогда, когда фонолектор пере-
шел уже к основной теме: к нашей музыке, к математиче-
ской композиции (математик — причина, музыка — следст-
вие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.
— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас про-
изводит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось
это вашим предкам. Они могли творить, только доведя
себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма
эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что
у них получалось, — музыка Скрябина — 20-й век. Этот
черный ящик (на эстраде раздвинули занавес, и там — их
древнейший инструмент)—этот ящик они называли «ро-
яльным» или «королевским», что лишний раз доказывает,
насколько вся их музыка...»
И дальше — я опять не помню, очень возможно пото-
му, что... Ну, да скажу прямо: потому что к «рояльному»
ящику подошла она —1-330. Вероятно, я был просто по-
ражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.
Она была в фантастическом костюме древней эпохи:
плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто бе-
лое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся
от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые
зубы...
Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, су-
дорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени
разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня,
правы: все смеются. Только немногие... но почему же и
я — я?
Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная,
сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее.
И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-
хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи —
нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце — долой все с
себя — все в мелкие клочья.
Сидевший рядом со мной покосился влево —на меня —
и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я
увидел — на губах у него выскочил микроскопический
слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня.
Я — снова я.
Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трес-
котню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантли-
99
вый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую
эпоху— вот и все.
С каким наслаждением я слушал затем нашу тепереш-
нюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для
контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходя-
щихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирую-
щие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные,
квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные
мелодии затухающе-колебательного движения; переме-
няющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты —
спектральный анализ планет... Какое величие! Какая не-
зыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ни-
чем— кроме диких фантазий — не ограниченная музыка
древних...
Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широ-
кие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула
знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно покло-
нился.
Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя
приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в кон-
тору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удо-
стоверение на право штор. Это право у нас только для
сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы
сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем все-
гда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать
друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий
труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Воз-
можно, что именно странные, непрозрачные обиталища
древних породили эту их жалкую клеточную психологию.
«Мой (sic!) дом — моя крепость» — ведь нужно же было
додуматься!
В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла не-
много запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ро-
тик— и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог ото-
рваться от розового рта до самого последнего момента —
22.15.
Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется,
очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так
очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз
слеза, другая, третья — прямо на раскрытую страницу
(стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется перепи-
сывать.
— Милый Д, если бы только вы, если бы...
Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая
100
песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — от-
носительно... относительно той? Хотя уж тут как будто...
Нет, это было бы слишком нелепо.
Запись 5-я.
Конспект:
Квадрат. Владыки мира.
Приятно-полезная функция.
Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я
говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой това-
рищ, R-13, поэт, негрогубый, — ну да все его знают. А меж-
ду тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии —
кто вас знает, где вы и кто.
Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрас-
ный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жиз-
ни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голо-
ву говорить о том, что у него все четыре угла равны: он
этого уже просто не видит — настолько это для него при-
вычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном
положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними свя-
занное: для меня это — равенство четырех углов, но для
вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.
Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется,
случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют
миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен
овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой
покорили наконец Голод: я говорю о Великой Двухсотлет-
ней Войне —о войне между городом и деревней. Вероятно,
из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо
держались за свой «хлеб»1. Но в 35-м году — до основа-
ния Единого Государства — была изобретена наша тепе-
решняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 насе-
ления земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней
грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль
целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Еди-
ного Государства.
Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и
знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы
смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Вой-
ны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод
для зависти. А он оставался, потому что оставались носы
1 Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафо-
ры: химический состав этого вещества нам неизвестен.
101
«пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний раз-
говор на прогулке), потому что любви одних Добивались
многие, других — никто.
Естественно, что, подчинив себе Голод, (алгебраиче-
ский = сумме внешних благ), Единое Государство повело
наступление против другого владыки мира — против Люб-
ви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. орга-
низована, математизирована, и около 300 лет назад был
провозглашен наш исторический «Lex sexualis»; «всякий
из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт —
на любой нумер».
Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют
в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют со-
держание половых гормонов в крови — и вырабатывают
для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем
вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользовать-
ся нумером таким-то (или таким-то), и получаете надле-
жащую талонную книжечку (розовую). Вот и все.
Ясно: поводов для зависти нет уже никаких, знамена-
тель дроби счастья приведен к нулю — дробь превращает-
ся в великолепную бесконечность. И то самое, что для
древних было источником бесчисленных глупейших траге-
дий, у нас приведено к гармонической, приятно-полезной
функции организма так же, как сон, физический труд, при-
ем пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как ве-
ликая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась.
О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную
силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.
...Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах
в человеческой истории, я все время дышал чистейшим
горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутин-
но и крестом — какой-то четырехлапый икс. Или это мои
лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед гла-
зами— мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них —
и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне дей-
ствительно—
Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из
пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть
мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую да-
же самых незначительных мозговых колебаний: ведь ино-
гда именно такие колебания служат предвестником--------
А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы
зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких
катастроф не может быть.
102
И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внут-
ри— все от того же самого моего квадратного положения,
о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не мо-
жет быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс оста-
нется в вас2 неведомые мои читатели. Но я верю — вы не
будете слишком строго судить меня. Я верю — вы пойме-
те, что мне так трудно писать, как никогда ни одному
автору на протяжении всей человеческой истории: одни пи-
сали для современников, другие — для потомков, но никто
никогда не писал для предков или существ, подобных их
диким, отдаленным предкам...
Запись 6-я.
Конспект:
Случай. Проклятое «ясно». 24 часа.
Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего
не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить
здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кри-
сталлизации жизни еще не закончился, до идеала еще не-
сколько ступеней. Идеал (это ясно) там, где уже ничего
не случается, а у нас... Вот не угодно ли: в Государствен-
ной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два
дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять
какой-то из нумеров нарушил ход великой Государствен-
ной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, не-
предвычислимое.
И, кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это
было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, спе-
циально отведенного для непредвиденных обстоятельств,
но все же...
Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг —
телефон:
— Д-503? — женский голос.
- Да.
— Свободны?
- Да.
— Это я, 1-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отпра-
вимся в Древний Дом. Согласны?
1-330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пу-
гает. Но именно потому-то я и сказал: да.
Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская
майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро
жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там,
впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как ще-
103
ки старинного «купидона», и это как-то мешает. Переднее
окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их все вре-
мя облизываешь и все время думаешь о губах.
Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за
Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз,
вниз, вниз, как с крутой горы, — и мы у Древнего
Дома.
Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето
кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно
бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся смор-
щенная и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже
ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероят-
но, чтобы она заговорила. И все же заговорила:
— Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? —
И морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобраз-
но, что и создало впечатление «засияли»).
— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.
Морщинки сияли:
— Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, про-
казница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше
тут, на солнце...
Гм... Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне
хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все
тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой
синей майолике.
Когда поднимались по широкой темной лестнице, I ска-
зала:
— Люблю я ее — старуху эту.
— За что?
— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть —
ни за что. Просто так.
Я пожал плечами. Она продолжала, улыбаясь чуть-
чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:
— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна
быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все
стихии должны быть...
— Ясно... — начал я, тотчас же поймал себя на этом
слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?
Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как
шторы.
Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспек-
ту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток — темные,
с опущенными шторами, и там, за шторами----------Что у
104
ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и за-
чем все это?
Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь —
и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называ-
лось у них «квартира»). Тот самый, странный, «королев-
ский» музыкальный инструмент—и дикая, неорганизован-
ная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота кра-
сок и форм. Белая плоскость вверху; темно-синие стены;
красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг;
желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковеркан-
ные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения
линии мебели.
Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был,
по-видимому, более крепкий организм.
— Это — самая моя любимая... — и вдруг будто спохва-
тилась— укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: са-
мая нелепая из всех их «квартир».
— Или еще точнее: государств, — поправил я. — Тыся-
чи микроскопических, вечно воюющих государств, беспо-
щадных, как...
— Ну да, ясно... — по-видимому, очень серьезно сказа-
ла I.
Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, дет-
ские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собст-
венностью). И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые
шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин»,
большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее —
прекрасное, прозрачное, вечное —стекло было только в ви-
де жалких, хрупких квадратиков-окон.
— И подумать: здесь «просто-так-любили», горели,
мучились... (опять опущенная штора глаз). — Какая неле-
пая, нерасчетливая трата человеческой энергии, не прав-
да ли?
Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но
в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс.
Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не
знаю что, что выводило меня из терпения; мне хотелось
спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходи-
лось соглашаться — не согласиться было нельзя.
Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я
видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек
устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры»,—
человеческие головы непрозрачны, и только крошечные ок-
105
на внутри: глаза. Она как будто угадала — обернулась.
«Ну, вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)
Передо мною два жутко-темных окна, и внутри такая
неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает
там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похожие...
Это, конечно, было естественно: я увидел там отражен-
ным себя. Но было неестественно и непохоже на меня
(очевидно, это было удручающее действие обстановки) —
я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным
в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в ди-
кий вихрь древней жизни.
— Знаете что, — сказала I, — выйдите на минуту в со-
седнюю комнату. — Голос ее был слышен оттуда, изнутри,
из-за темных окон-глаз, где пылал камин.
Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне
чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая фи-
зиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушки-
на). Отчего я сижу вот—и покорно выношу эту улыбку,
и зачем все это: зачем я здесь, отчего это нелепое состоя-
ние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, стран-
ная игра...
Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом
удерживался, чтобы не пойти туда, и-----точно не помню:
вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.
Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-
желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье лег-
кого шелка — мне было ясно видно: чулки очень длинные,
гораздо выше колен, и открытая шея, тень между...
— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но
неужели вы...
— Ясно, — перебила-1,— быть оригинальным — это зна-
чит как-то выделяться среди других. Следовательно, быть
оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на
идиотском языке древних называлось «быть банальным»,
у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...
— Да, да, да! Именно! — я не выдержал. — И вам не-
чего, нечего...
Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив што-
рой дикий огонь глаз, там, внутри, за своими окнами, ска-
зала на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может
быть, чтобы смягчить меня), сказала очень разумную
вещь:
— Не находите ли вы удивительным, что когда-то лю-
106
ди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклоня-
лись им. Какой рабский дух! Не правда ли?
— Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).
— Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были
владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изоли-
ровали, не истребили их? У нас...
— Да, у нас... —начал я. И вдруг она рассмеялась.
Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую,
гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.
Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не
помню что... Надо было что-нибудь — все равно что —сде-
лать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взгля-
нул на часы. Без десяти 17.
— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог веж-
ливо сказал я.
— А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?
— Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через
десять минут я обязан быть в аудиториуме...
— ...И все нумера обязаны пройти установленный курс
искусства и наук... — моим голосом сказала I. Потом от-
дернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна пылал
камин.— В Медицинском Бюро у меня есть один врач — он
записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удо-
стоверение, что вы были больны. Ну?
Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.
— Вот даже как! А вы знаете, что как всякий честный
нумер я, в сущности, должен немедленно отправиться в
Бюро Хранителей и...
— А не в сущности (острая улыбка-укус)? Мне страш-
но любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?
— Вы остаетесь? — я взялся за ручку двери. Ручка бы-
ла медная, и я слышал: такой же медный у меня голос.
— Одну минутку... Можно?
Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер —
я был настолько взволнован, что не запомнил его, и крик-
нула:
— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...
Я повернул медную холодную ручку:
— Вы позволите мне взять аэро?
— О да, конечно! Пожалуйста...
Там, на солнце, у выхода, как растение, дремала ста-
руха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший
наглухо рот и что она заговорила:
— А эта ваша — что же, там одна осталась?
107
— Одна.
Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-
видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю неле-
пость и рискованность поведения этой женщины.
Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг
понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не
одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул
старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не од-
на: вот в чем дело.
После 21.30 у меня был свободный час. Можно было
бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заяв-
ление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом
законный срок для заявления двое суток. Успею завтра:
еще целых 24 часа.
Запись 7-я.
Конспект:
Ресничный волосок. Тэйлор. Белена и ландыш.
Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский
инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — мед-
ный Будда; вдруг поднял медные веки—и полился сок:
из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли
сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сей-
час я сам — и какой-то смертельно-сладостный ужас...
Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло
стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце пе-
рестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: бо-
лен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних
это былю самое обыкновенное и нормальное — видеть сны.
Ну да: ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная
карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то
знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я
знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверен-
ным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а те-
перь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу,
какое-то инородное тело — как тончайший ресничный воло-
сок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с во-
лоском— нельзя о нем забыть ни на секунду...
Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, вста-
вать. Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как
бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движе-
ния— повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя
частью огромного, мощного, единого. И такая точная кра-
сота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.
108
Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из
древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распро-
странить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на
круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей си-
стемы от часу до 24. Но все же как они могли писать це-
лые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва заме-
чать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на де-
сять веков вперед.
Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Госу-
дарства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное
жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое
замирание сердца...
И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или
какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так
же на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка.
И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.
В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле
сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворен-
ное огнем, изящное тело «Интеграла». Закрывши гла-
за, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал,
какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Инте-
грал» от земли. Каждый атом секунды — масса «Инте-
грала» меняется (расходуется взрывное топливо). Урав-
нение получалось очень сложное, с трансцендентными ве-
личинами.
Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, кто-то
сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «про-
стите».
Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «Инте-
грала») что-то стремительно несущееся в пространство:
голова — и она несется, потому что по бокам — оттопырен-
ные розовые крылья — уши. И затем кривая нависшего за-
тылка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S...
И сквозь стеклянные стены моего алгебраического ми-
ра— снова ресничный волосок—что-то неприятное, что я
должен сегодня------
— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу,
раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711
(понятно, почему от самого первого момента был связан
для меня с буквой S: это было не зарегистрированное со-
знанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза —
два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все
глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то,
что я даже себе самому...
109
Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен:
один из них, из Хранителей, и проще всего, не отклады-
вая, сейчас же сказать ему все.
— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... — Голос
у меня странный, приплюснутый, плоский, я пробовал от-
кашляться.
— Что же, отлично. Это дает материал для очень по-
учительных выводов.
— Но, понимаете, был не один, я сопровождал нумер
1-330, и вот...
— 1-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая
женщина. У нее много почитателей.
...Но ведь и он —тогда на прогулке — и, может быть, он
даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немыс-
лимо; это ясно.
— Да, да! Как же, как же! Очень, — я улыбался все
шире, нелепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глу-
пый...
Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вра-
щаясь, взвинтились обратно в глаза; S — двояко улыбнул-
ся, кивнул мне, проскользнул к выходу.
Я закрылся газетой (мне казалось, все на меня смот-
рят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо
всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая
строчка: «По достоверным сведениям, вновь обнаружены
следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе
целью освобождение от благодетельного ига Государства».
«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой
породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно го-
ворю: «преступные». Свобода и преступление так же не-
разрывно связаны между собой, как... ну, как движение
аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется;
свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это
ясно. Единственное средство избавить человека от преступ-
лений— это избавить его от свободы. И вот едва мы от
этого избавились (в космическом масштабе века это, ко-
нечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...
Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не
отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 иду ту-
да непременно...
В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидал О, всю
в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой
круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...»
Впрочем, нет, в поддержке я не нуждался: я решил твердо.
ПО
Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода —
все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое оча-
рование в этой ежедневности, повторяемости, зеркально-
сти!
О схватила меня за руку.
— Гулять, — круглые синие глаза мне широко откры-
ты — синие окна внутрь, — и я проникаю внутрь, ни за что
не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего,
ненужного.
— Нет, не гулять. Мне надо... — я сказал ей куда. И, к
изумлению своему, увидел: розовый круг рта сложился в
розовый полумесяц, рожками книзу—как от кислого. Меня
взорвало.
— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены
предрассудками. Вы совершенно не способны мыслить аб-
страктно. Извините меня, но это просто тупость.
— Вы идете к шпионам... фу! А я было достала для вас
в Ботаническом Музее веточку ландышей...
— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-
женски.—Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши.—Ну
вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имей-
те же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо:
так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом
понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не мо-же-те,
ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены:
и то и другое запах. Были шпионы в древнем государст-
ве— и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов.
Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион —
ландыш. Да, ландыш, да!
Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это
мне только показалось, но тогда я был уверен, что она
засмеется. И я закричал еще громче:
— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.
Круглые, гладкие шары голов плыли мимо и оборачи-
вались. О ласково взяла меня за руку:
— Вы какой-то сегодня... Вы не больны?
Сон — желтое—Будда... Мне тотчас стало ясно: я дол-
жен пойти в Медицинское Бюро.
— Да ведь и правда я болен, — сказал я очень радост-
но (тут совершенно необъяснимое противоречие: радовать-
ся было нечему).
— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же
понимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказы-
вать вам это.
Ill
— Ну, О, милая,—г ну, конечно же, вы правы. Абсо-
лютно правы!
Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, при-
шлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали
до 17.
А вечером (впрочем, все равно вечером там уже было
закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были
спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это
очень успокаивает и очищает мысли. 0-90 сидела над тет-
радкой, нагнув голову к левому плечу и от старания под-
пирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-дет-
ски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно,
просто...
Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень
полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный
запах — и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я на-
шел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей.
Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было
просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти лан-
дыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я,
что болен.
Запись 8-я.
Конспект:
Иррациональный корень.
R-13. Треугольник.
Это — так давно, в школьные годы, когда со мной слу-
чился У—1. Так ясно, вырезанно помню: светлый шаро-зал,
сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш мате-
матик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно по-
держанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в
него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сна-
чала: «Пля-пля-пля-тшшш», а потом уже урок. Однажды
Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню,
я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу У—1!
Выньте из меня У—1!» Этот иррациональный корень врос
в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожи-
рал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, пото-
му что он был вне ratio.
И вот теперь снова У—1. Я пересмотрел свои записи —
и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только
чтобы не увидеть У— 1. Это все пустяки — что болен и про-
112
чее: я мог пойти туда; неделю назад—ялнаю, пашед бы
не задумываясь. Почему же теперь... Почему?
Вот и сегодня. Ровно в 16.10—L я стоял перед свер-
кающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнеч-
ное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь
стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады
в древней церкви, теплятся лица: они пришли, чтобы совер-
шить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Еди-
ного Государства своих любимых, друзей — себя. А я —
я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны
в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах
двинуться с места...
— Эй, математик, замечтался!
Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом
глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый прия-
тель, и с ним розовая О.
Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали,
я бы в конце концов с мясом вырвал из себя У—1, я бы
вошел в Бюро).
— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался,—
довольно резко сказал я.
— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком
быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в
поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?
R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хле-
щут, из толстых губ — брызги; каждое «п»— фонтан, «поэ-
ты*— фонтан.
— Я служил и буду служить знанию, — нахмурился я:
шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная
привычка шутить.
— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — тру-
сость. Да уж «iero там: верно. Просто вы хотите стенкой
обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь загля-
нуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!
— Стены — это основа всякого человеческого... — на-
чал я.
R — брызнул фонтаном, О — розово, кругло смеялась.
Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до это-
го. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот про-
клятый у—1.
— Знаете что, — предложил я, — пойдемте, посидим у
меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий
час — может быть, такой будет и сегодня).
ИЗ
О взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, ще-
ки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом на-
ших талонов.
— Но сегодня я... У меня сегодня — талон к нему,—
кивнула на R,— а вечером он занят... Так что...
Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули.
— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так
ведь, О? До задачек ваших — я не охотник, а просто —
пойдем ко мне, посидим.
Мне было жутко остаться с самим собой — или, вернее,
с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной
случайности был мой нумер — Д-503. И я пошел к нему,
к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то
вывороченная, смешливая логика, но все же мы — прияте-
ли. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали
эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче,
чем школьные годы.
Дальше — в комнате R. Как будто—все точно такое,
что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кро-
вати. Но чуть только вошел—двинул одно кресло, другое—
плоскости сместились, все вышло из установленного габа-
рита, стало неэвклидным. R — все тот же, все тот же. По
Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.
Вспомнили старую Пляпу: как мы, мальчишки, бывало,
все его стеклянные ноги обклеим благодарственными запи-
сочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучи-
теля *. Законоучитель у нас был громогласен необычай-
но— так и дуло ветром из громкоговорителя — а мы, де-
ти, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный
R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что
ни текст — то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был
наказан, то, что он сделал, было скверно, но сейчас мы
хохотали — весь наш треугольник — и, сознаюсь, я тоже.
— А что, если бы он был живой — как у древних, а? Вот
бы —- «б»— фонтан из толстых, шлепающих губ...
Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков,
отраженное — снизу. О — на коленях у R-13, и крошечные
капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся,
отошел; V—1 заглох, не шевелился...
— Ну, а как же ваш «Интеграл»? Планетных-то жи-
телей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните!
1 Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем> древних, а о законе
Единого Государства.
114
А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему
«Интегралу» не поднять. Каждый день от 8 до И...—
R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него —
это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемо-
данчик (вспомнилась старинная картина —«в карете»).
Я оживился:
— А, вы тоже пишете для «Интеграла»? Ну, а ска-
жите, о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.
— Сегодня — ни о чем. Другим занят был... — «б» брыз-
нуло прямо в меня.
— Чем другим?
R сморщился:
— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор
поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года
сидел рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, го-
ворит,— гений, гений — выше закона». И такое наляпал...
Ну, да что... Эх!
Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вско-
чил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смот-
рел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он
сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?
Минута неловкого асимметричного молчания. Мне бы-
ло неясно, в чем дело, но тут было что-то.
— К счастью, допотопные времена всевозможных Шек-
спиров и Достоевских — или как их там — прошли, — на-
рочно громко сказал я.
R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали,
хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в гла-
зах уже не было.
— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к
счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое...
Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бес-
конечности— от кретина до Шекспира... Так!
Не знаю, почему — как будто это было совершенно не-
кстати — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-
то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять за-
ворочался У—1. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них
на розовый талон оставалось 45 минут.
— Ну, мне пора... — и я поцеловал О, пожал руку R,
пошел к лифту.
На проспекте, уже перейдя на другую сторону, огля-
нулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глы-
бе дома — тут, там были серо-голубые, непрозрачные клет-
115
ки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного
счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13:
он уже опустил шторы.
Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, по-
чему «тоже»— но пусть пишется, как пишется) — в ^ем
есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и
О—мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а
все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших
предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот
язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть
ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник за-
мкнуть себя от всего, что...
Запись 9-я.
Конспект:
Литургия. Ямбы и хорей. Чугунная рука.
Торжественный, светлый день. В такой день забываешь
о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрусталь-
но-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...
Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентри-
ческих кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие
светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или,
может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь,
цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в
первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, стро-
гая, готическая тишина.
Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное
испытывали древние во время своих «богослужений». Но
они служили своему нелепому, неведомому Богу—мы слу-
жим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не
дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их
Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему при-
нести себя в жертву—мы же приносим жертву нашему
Богу, Единому Государству, — спокойную, обдуманную,
разумную жертву. Да, это была торжественная литургия
Единому Государству, воспоминание о крестных днях —
годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник по-
беды над одним, суммы над единицей...
Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба.
Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклян-
ное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные,
всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от ко-
торого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха
с нумером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лен-
116
той (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том,
что в древности, когда все это совершалось не во имя Еди-
ного Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя
вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались
цепями).
А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как
из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем.
Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно
ограничено строгими, величественными квадратными очер-
таниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографи-
ческих снимках: слишком близко, на первом плане постав-
ленные руки — выходят огромными, приковывают взор —
заслоняют собою все. Эти тяжелые, пока еще спокойно
лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и ко-
лени— еле выдерживают их вес...
И вдруг одна из этих громадных рук медленно подня-
лась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь
поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из
Государственных Поэтов, на долю которого выпал счаст-
ливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И за-
гремели над трибунами божественные медные ямбы —
о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на
ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.
...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх
жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, кап-
лет сок — уж одни черные кресты склепов. Но явился Про-
метей (это, конечно, мы),—
«И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом».
Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья,
стальные люди. Вдруг какой-то безумец—«огонь с цепи
спустил на волю» — и опять все гибнет...
У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно
я помню: нельзя было выбрать более поучительных и пре-
красных образов.
Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Ку-
ба второй поэт. Я даже привстал: быть не может! Нет, его
толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал
заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясут-
ся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред ли-
цом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...
Резкие, быстрые — острым топором — хореи. О неслы-
ханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благо-
117
детель именовался... нет, у меня не поднимается рука по-
вторить.
R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него
этой застенчивости), — спустился, сел. На один мельчай-
ший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним
чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же
стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Ма-
шине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки.
И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, мед-
ленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жиз-
ни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой —
на последнем своем ложе.
Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел
Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни
шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это,
должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть ору-
дием, быть равнодействующей сотен тысяч воль. Какой
великий удел!
Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась.
Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь,
еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое те-
ло— все в легкой, светящейся дымке—и вот на глазах
тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — не-
чего: только лужа химически чистой воды, еще минуту на-
зад буйно и красно бившая в сердце...
Все это было просто, все это знал каждый из нас: да,
диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческо-
го тела. И тем не менее это всякий раз было — как чудо,
это было—как знамение нечеловеческой мощи Благоде-
теля.
Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти жен-
ских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые
ветром цветы L
По старому обычаю — десять женщин увенчивали цве-
тами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Ве-
личественным шагом первосвященника Он медленно спу-
скается ?низ, медленно проходит между трибун — и вслед
Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и
единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в
честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то
1 Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах
ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру,
давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и
полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.
118
здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно
их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека,
создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставлен-
ных от рождения к каждому человеку.
Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как
гроза и буря — было во всем торжестве. Вы, кому придет-
ся читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль
вас, если вы их не знаете...
Запись 10-я.
Конспект:
Письмо. Мембрана. Лохматый я.
Вчерашний день был для меня той самой бумагой, че-
рез которую химики фильтруют свои растворы: все взве-
шенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И ут-
ром я спустился вниз начисто отдистиллированный, про-
зрачный.
Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, погля-
дывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя —
Ю... впрочем,.лучше не назову ее цифр, потому что боюсь,
как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в
сущности, это — очень почтенная пожилая женщина. Един-
ственное, что мне в ней не нравится — это то, что щеки у
ней несколько обвисли — как рыбьи жабры (казалось бы:
что тут такого?).
Она скрипнула пером, я увидел себя на странице:
«Д-503» — и рядом клякса.
Только что я хотел обратить на это ее внимание, как
вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной
этакой улыбочкой:
— А вот письмо. Да. Получите, дорогой, — да, да, по-
лучите.
Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти че-
рез Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот
естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я
был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля за-
мутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже
на постройке «Интеграла» я никак не мог сосредото-
читься — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со
мной никогда не бывало.
В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбьи жаб-
ры, улыбочка — и, наконец, письмо у меня в руках. Не
зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман —
и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами
119
и — сел... Это было официальное извещение, что на меня
записался нумер 1-330 и что сегодня в 21 я должен явить-
ся к ней — внизу адрес...
Нет: после всего, что было, после того, как я настолько
недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок
ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей,—
ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, — ну, во-
обще не мог... И несмотря на все---
В голове у меня крутилось, гудело динамо. Будда —
желтое — ландыши — розовый полумесяц... Да, и вот это —
и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать
ей это извещение — относительно 1-330? Я не знаю: она не
поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь
ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный,
нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не
это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей ко-
пию с извещения.
Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел
эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она,
I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее.
Неужели она действительно...
И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-
стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не
наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а
под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь,
если сейчас круглыми медленными дымами подымутся
вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется
чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех
домах сразу опустятся все шторы, и за шторами----
Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-
то железные прутья и мешают — положительно мешают
сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной две-
ри с золотыми цифрами: 1-330. I, спиною ко мне, над сто-
лом, что-то писала. Я вошел...
— Вот... — протянул я ей розовый билет. — Я получил
сегодня извещение и явился.
— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте,
я только кончу.
Опять опустила глаза в письмо—и что там у ней внут-
ри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделает
через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она —
оттуда, из дикой, древней страны снов.
Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тес-
но... Когда она говорит — лицо у ней, как быстрое, свер-
120
кающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас
колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: вы?
соко вздернутые у висков темные брови — насмешливый
острый треугольник, обращенный вершиною вверх — две
глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два тре-
угольника как-то противоречили один другому, клали на
все лицо этот неприятный, раздражающий X — как крест:
перечеркнутое крестом лицо.
Колесо завертелось, спицы слились...
— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?
— Я был... Я не мог: я был болен.
— Да. Ну, я так и думала: что-нибудь вам должно по-
мешать— все равно что (—острые зубы, улыбка). Но за-
то теперь вы — в моих руках. Вы помните: «Всякий нумер,
в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается...»
Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как маль-
чишка,— глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал.
И чувствовал: запутался — ни рукой, ни ногой...
Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с лег-
ким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан
от мира — вдвоем с ней.
I была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа.
Юнифа шуршала, падала — я слушал — весь слушал.
И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...
Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной
мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно за-
декорированные, на всех проспектах записывают для Бю-
ро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая,
розовая трепещущая перепонка — странное существо, со-
стоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас та-
кой мембраной.
Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди —
еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам —
по полу. Я слышу—и это еще яснее, чем видеть — из го-
лубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога,
другая...
Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тиши-
ну. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота
о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.
Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка —
и снова шелк, шелк...
— Ну, пожалуйста.
Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом,
древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем
121
если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь
тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел.
Два нежнокруглых колена...
Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном
столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два
крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дыми-
лось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее куре-
ние (как называется — сейчас забыл).
Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри
у меня — в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слы-
шал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?
Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на ме-
ня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый биле-
тик.
Как можно хладнокровнее — я спросил:
— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записа-
лись на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?
Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик,
отхлебнула.
— Прелестный ликер. Хотите?
Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вче-
рашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие
луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, рас-
простертое тело. Я вздрогнул.
— Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете: всех от-
равляющих себя никотином и особенно алкоголем — Еди-
ное Государство беспощадно...
Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый
треугольник:
— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать
возможность многим губить себя — и вырождение — и так
далее. Это до непристойности верно.
— Да... до непристойности.
— Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин—
выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть
этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его
знаете, — представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь
одежд — и в истинном виде среди публики... Ох!
Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорб-
ный треугольник: две глубоких складки от углов рта к
носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот,
двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее —
такую... Он...
Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои —
122
ненормальные — ощущения. Теперь, когда я это пишу, я
сознаю прекрасно: все это так и должно Ялть, и он, как
всякий честный нумер, имеет право на радости — и было
бы несправедливо... Ну, да это ясно.
I смеялась очень странно и долго. Потом пристально
посмотрела на меня — внутрь:
— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы та-
кой милый — о, я уверена в этом, — вы и не подумаете пой-
ти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю.
Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не
знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со
мной этот очаровательный яд...
Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чув-
ствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сей-
час»? Я ненавидел ее все время.
Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала
и, просвечивая сквозь шафранное розовым, — сделала не-
сколько шагов — остановилась сзади моего кресла...
Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы... нет,
куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было
совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только
потому... Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совер-
шенно отчетливо — не мог же я сам хотеть того, что по-
том случилось.
Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус
«ликера»)—и в меня влит глоток жгучего яда — и еще —
и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной плане-
той, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то
невычисленной орбите...
Дальнейшее я могу описать только приблизительно,
только путем более или менее близких аналогий.
Раньше мне это как-то никогда не приходило в голо-
ву— но ведь это именно так: мы, на земле, все время хо-
дим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого
там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот
вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклян-
ной, вдруг бы мы увидели...
Я стал стеклянным. Я увидел — в себе, внутри.
Было два меня. Один я — прежний, Д-503, нумер Д-503,
а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохма-
тые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа
трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?
Изо всех сил ухватившись за соломинку — за ручки
123
кресла — я спросил, чтобы услышать себя — того, преж-
него:
— Где... где вы достали этот... этот яд?
— О, это! Просто один медик, один из моих...
— «Из моих»? «Из моих» — кого?
И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:
— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня.
Я убью всякого, кто... Потому что вас — я вас —
Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, ра-
зодрал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно пом-
ню: именно зубами.
Уж не знаю как—I выскользнула. И вот — глаза за-
дернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она
стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.
Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал ко-
лени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту...»
Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бро-
вей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.
— «Да! Да, милая — милая», — я стал торопливо сбра-
сывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднес-
ла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без
пяти минут 22.30.
Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на
улице позже 22.30. Все мое сумасшествие — сразу как сду-
нуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, не-
навижу, ненавижу!
Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из ком-
наты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени —
по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в
лифте) — выскочил на пустой проспект.
Все было на своем месте — такое простое, обычное, за-
кономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклян-
ное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под
этим тихим прохладным стеклом — неслось неслышно буй-
ное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы
не опоздать.
Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха — отсте-
гивается— отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар.
Нагнулся поднять — и в секундной тишине: чей-то топот
сзади Обернулся: из-за угла поворачивало что-то малень-
кое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.
Я понесся во весь дух —только в ушах свистело. У вхо-
да остановился: на часах было без одной минуты 22.30.
124
Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая
фантазия, действие яда.
Ночь была мучительна. Кровать подо мною подыма-
лась, опускалась и вновь подымалась — плыла по сину-
соиде. Я внушал себе: «Ночью— нумера обязаны спать;
это обязанность — такая же, как работа днем. Это необ-
ходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступ-
но...» И все же не мог, не мог.
Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности
перед Единым Государством... Я—
Запись 11-я.
Конспект:
...нет, не могу, пусть так, без конспекта.
Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молоч-
ной тканью, и не видно, что там — дальше, выше. Древние
знали, что там их величайший, скучающий скептик — Бог.
Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное
ничто. Я теперь не знаю, что там, я слишком много узнал.
Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибоч-
но,— это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил,
что знаю в себе все. И вот —
Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно
так, первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, со-
знательно— с изумлением вижу себя, как кого-то «его».
Вот я — он: черные, прочерненные по прямой брови; и
между ними — как шрам — вертикальная морщина (не
знаю, была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обве-
денные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказы-
вается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там»
одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там»
я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочер-
ченными по прямой бровями — посторонний, чужой мне, я
встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я —
не — он...
Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощу-
щения — бред, результат вчерашнего отравления... Чем:
глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю
это, только чтобы показать, как может странно запутаться
и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум.
Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, беско-
нечность сумел сделать удобоваримой — посредством...
Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад:
сейчас одному мне было бы...
125
Через 20 минут:
На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки
рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение:
20 минут — это может быть 200 или 200 000. И это так
дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, за-
писывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы
вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной сво-
ей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же —
корчитесь на этой кровати.
Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и норма-
лен. С чувством искреннего восхищения я стал говорить
о том, как великолепно ему удалось хореизировать приго-
вор и что больше всего именно этими хореями был изруб-
лен, уничтожен тот безумец.
— ...И даже так: если бы мне предложили сделать схе-
матический чертеж Машины Благодетеля, я бы непремен-
но-непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши
хореи, — закончил я.
Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.
— Что с вами?
— Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом — при-
говор, приговор Не желаю больше об этом — вот и все.
Ну, не желаю!
Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с
посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел
в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул—
залакировались смехом глаза, вскочил.
— А вот для вашего «Интеграла» я сочиняю... это —
да! Это вот да!
Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фон-
таном
— Понимаете («п» — фонтан)—древняя легенда о рае...
Это ведь о нас, о теперь. Да1 Вы вдумайтесь. Тем двум в
раю был предоставлен выбор: или счастье без свободы —
или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, вы-
брали свободу — и что же: понятно — потом века тоскова-
ли об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая
скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть
счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний
Бог и мы — рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Бо-
гу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул
людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он —
змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах!
И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны,
126
как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле:
все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель,
Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это доб-
ро, все это — величественно, прекрасно, благородно, воз-
вышенно, кристально чисто. Потому что это охраняет нашу
несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы
тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну,
да ладно; словом, вот этакую вот райскую поэмку, а?
И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?
Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у не-
го нелепая, асимметричная внешность и такой правильно
мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему
мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все те-
перешнее— это, конечно, только болезнь).
R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за
плечи, захохотал.
— Ах, вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...
Он порылся в кармане, вытащил записную книжку,
перелистал.
— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый та-
лон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...
— Ну да, ясно.
— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется...
Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розо-
во-талонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый влез
в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?
Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый
флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось
(если бы я удержался!):
— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать
никотин или алкоголь?
R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я со-
вершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты — при-
ятель... А все-таки...» И ответ:
— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну
женщину...
— I, — закричал я.
— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, за-
хлебнулся и сейчас брызнет.
Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо
было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой
лоб и брови.
И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковеркан-
127
ную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услы-
шал дикий, отвратительный крик:
— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет — я тре-
бую.
Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза...
Я — настоящий крепко схватил за шиворот этого другого
себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоя-
щий— сказал ему, R:
— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен,
не сплю. Не понимаю, что со мной...
Толстые губы мимолетно усмехнулись:
— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это
знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!
В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу,
бросил на стол книгу:
— Последняя моя... Нарочно принес — чуть не забыл.
Прощайте... — «п» брызнуло в меня, укатился...
Я — один. Или вернее: наедине с этим, другим «я».
Я — в кресле, и, положив нога на ногу, из какого-то «там»
с любопытством гляжу, как я — я же — корчусь на кро-
вати.
Отчего — ну отчего целых три года я и О — жили так
дружески —и вдруг теперь одно только слово о той, об...
Неужели все это сумасшествие — любовь, ревность — не
только в идиотских древних книжках? И главное—я!
Уравнения, формулы, цифры — и... это — ничего не пони-
маю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что---
Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда
больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец!
Треугольник наш — развалился.
Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молоч-
но-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше?
И если бы знать: кто — я? Какой — я?
Запись 12-я.
Конспект:
Ограничение бесконечности.
Ангел. Размышления о поэзии.
Мне все кажется — я выздоровею, я могу выздороветь.
Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных
явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет про-
сто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого
слова — «ограниченность»: работа высшего, что есть в че-
ловеке — рассудка — сводится именно к непрерывному
128
ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечно-
сти на удобные, легко переваримые порции — — диффе-
ренциалы. В этом именно божественная красота моей сти-
хии—математики. И вот понимания этой самой красоты
как раз'и не хватает той. Впрочем, это так — случайная
ассоциация.
Все это — под мерный, метрический стук колес подзем-
ной дороги. Я про себя скандирую колеса — и стихи (его
вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осто-
рожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую
страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я
вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогну-
тое... он! Не хотелось мешать ему — и я сделал вид, что
не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я вхо-
дил в вагон — его как будто не было.
Это незначительное само по себе происшествие особен-
но хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило.
Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно ох-
раняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного
щага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне
приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хра-
нители, о которых мечтали древние. Как много из того, о
чем они только мечтали, в нашей жизни материализова-
лось.
В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя
за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Сча-
стье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая
по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре
строчки:
Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два...
И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таб-
лицы умножения.
Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка
и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел
отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала
века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр най-
ти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье
мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь —
ржавеет; древний Бог — создал древнего, т. е. способного
ошибаться человека — и, следовательно, сам ошибся. Таб-
лица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она
5 Запретная глава 129
никогда — понимаете: никогда — не ошибается. И нет сча-
стливее цифр, живущих по стройным вечным законам таб-
лицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Исти-
на— одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды
два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом
было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные
двойки — стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно — об
ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить
самое основное, самое...
Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке,
потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-
хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у ме-
ня— уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть
сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга:
это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже
оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в
глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о
чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказы-
вать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня
так же дороги, и близки, и недосягаемы — как был он в
тот момент).
Вот был мой путь: от части к целому; часть — R-13,
величественное целое — наш Институт Государственных
Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что
древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы
и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественно-
го слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: вся-
кий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и не-
лепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо би-
лось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограм-
мометров— уходили только на подогревание чувств у
влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли
электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы
сделали домашнее животное: и точно так же у нас при-
ручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь
поэзия —- уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия —
государственная служба, поэзия — полезность.
Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них —
разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полю-
бить четыре правила арифметики? А «Шипы» — это класси-
ческий образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие
нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье
каменное сердце останется равнодушным при виде невин-
ных детских уст, лепечущих как молитву: «Злой мальчик
130
розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, ша-:
лун — ой, ой — бежит домой» и так далее? А «Ежедневные
оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится на-
божно перед самоотверженным трудом этого Нумера из
Нумеров? А жуткие красные «Цветы Судебных пригово-
ров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»?
А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?
Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки за-
чеканена в золоте слов.
Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спу-
стились на землю; они с нами в ногу идут под строгий
механический марш Музыкального Завода; их лира — ут-
ренний шорох электрических зубных щеток, и грозный треск
искр в Машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна
Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияю-
щей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и
веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слыш-
ный шепот уличных мембран.
Наши боги — здесь, с нами — в Бюро, в кухне, в мастер-
ской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как
боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам
мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-ра-
зумной и точной, как наша...
Запись 13-я.
Конспект:
Туман. Ты. Совершенно нелепое происшествие.
На заре проснулся — в глаза мне розовая, крепкая
твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — не-
сомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.
Утренний звонок — встаю — и совсем другое: сквозь
стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Су-
масшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже
нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает,
не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные сте-
ны распустились в тумане, как кристаллики соли в воде.
Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в до-
мах— как взвешенные частицы в бредовом, молочном раст-
воре—повисли низко, и выше, и еще выше —в десятом
этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно
бушующий пожар.
Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтоб
ухватиться за цифры — чтоб спасли хоть цифры.
В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Ча-
131
совой Скрижали, занятия физическим, трудом, я забежал к
себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длин-
ная, медленная игла в сердце:
— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы
с вами отправимся... ну, там увидите куда.
— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.
— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам
говорю. До свидания. Через две минуты...
Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было
показать ей, что мною управляет Единое Государство, а
не она. «Так, как я вам говорю...» И ведь уверена: слышно
по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...
Серые, из сырого тумана сотканные юнифы торопливо^
существовали возле меня секунду и неожиданно растворя-*
лись в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая,
дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без
трех, без двух двенадцать...
Кончено. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненави-
жу. Но надо же мне было показать...
На углу в белом тумане — кровь — разрез острым но-
жом— губы.
— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Те-
перь вам поздно уже.
Как я ее-----впрочем, да: поздно уж.
Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни
губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная
ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и
только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.
Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из
нее переливается в меня — и я знаю, так нужно. Знаю каж-
дым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким
ударом сердца. И такая радость покориться этому «нуж-
но». Вероятно, куску железа так же радостно покориться
неизбежному, точному закону — и впиться в магнит. Кам-
ню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом
стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец
вздохнуть последний раз — и умереть.
Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:
— Туман... Очень.
— Ты любишь туман?
Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к
рабу — вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это —
тоже нужно, тоже хорошо.
132
— Да, хорошо... — вслух сказал я себе. И потом ей: —
я ненавижу туман. Я боюсь тумана.
— Значит—любишь. Боишься—потому что это сильнее
тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — пото-
му что не можешь покорить это себе. Ведь только и мож-
но любить непокорное.
Да, это так. И именно потому — именно потому я...
Мы шли двое—одно. Где-то далеко сквозь туман чуть
слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным,
золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъят-
ная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не роди-
лись, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно:
все — для меня, солнце, туман, розовое, золотое — для
меня...
Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы
идти, идти, зреть, наливаться все упруже---
— Ну вот... — I остановилась у дверей. — Здесь сего-
дня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в
Древнем Доме.
Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зрею-
щее— прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.
Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклян-
ные потолки с цветными бутылками, банками. Провода.
Синеватые искры в трубках.
И человечек — тончайший. Он весь как будто вырезан
из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него
только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие —
нос, ножницы — губы.
Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она
говорила —и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блажен-
но. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:
— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опас-
нее я ничего не знаю... — засмеялся, тончайшей бумажной
рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал—
отдал мне.
Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не
можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого
Государства, я —вор, я — под Машиной Благодетеля.. Но
это мне —далеко, равнодушно, как в книге... Я взял ли-
сток, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, ру-
ки— я знал: так нужно.
На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро, I опять
как тогда села за руль, подвинула стартер на «вперед»,
мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все:
133
розово-золотой туман; солнце, тончайше-лезвийный про-
филь врача, вдруг такой любимый и близкий' Раньше —
все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня —мед-
ленно, блаженно, с зажмуренными глазами...
Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с
лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти
дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:
— A-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну
уж ладно! Если что —я тогда прибегу, скажу...
Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и
тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще ши-
ре: — настежь. Ее губы — мои, я пил, пил, отрывался, мол-
ча глядел в распахнутые мне глаза — и опять...
Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зе-
леный сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал.
И — мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано
золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край,
брызнет — —
Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой
покорностью точному непреложному закону—я влился в
нее. Не было розового талона, не было счета, не было
Единого Государства, не было меня. Были только нежно-
острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне
золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь,
все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль —
капают капли в умывальнике, и я — вселенная, и от кап-
ли до капли — эры, эпохи...
Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами
вбирал в себя ее последний раз.
— Я знала это... Я знала тебя... — сказала I, очень ти-
хо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою
острую улыбку-укус.
— Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет,
не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?
Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену
шкафа; через плечо —на меня, ждала. Я послушно вышел.
Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она
прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом,
больше ничего.
Я кинулся назад—в ту комнату, где она (вероятно)
еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал — и оста-
новился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное
кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она ни-
куда не могла — выход из комнаты только один — и все-
134
таки ее нет. Я обшарил все, я даже открыл шкаф и ощупал
там пестрые, древние платья: никого...
Мне как-то неловко, планетные мои читатели, расска-
зывать вам об этом совершенно невероятном происшест-
вии. Но что ж делать, если все это было именно так.
А разве весь день с самого утра не был полон невероят-
ностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь снови-
дений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью
больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или
позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-
нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успо-
коит и вас.
...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!
Запись 14-я.
Конспект:
«Мой». Нельзя. Холодный пол.
Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня
был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все
это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть,
навсегда — этот нестерпимо холодный пол...
Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее
день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.
— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то
сегодня...
— Я... я болен...
В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все
это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостове-
рение... Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все
было, все было действительно...
Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как заго-
релись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смот-
рит на меня.
И вот — 21.30. В комнате слева — спущены шторы.
В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шиш-
коватая, вся в кочках, лысина и лоб — огромная, желтая
парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне — после все-
го— с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза,
отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразбор-
чивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо
мне.
Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый
вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот
135
чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось —
руки опустились...
— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!
— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не
был... — и запнулся: мне пришло в голову — раньше не
был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем
разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из
минус-единицы.
Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет
книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую
щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схва-
тила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту
руку...
— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на про-
гулке. Мне о многом — мне надо вам так много...
Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц
рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что
было — хотя б потому, что это сделает ее соучастницей
моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы
пойти в Бюро Хранителей и следовательно------
О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту на-
ивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были
закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распу-
скался — ия целовал ее всю.
Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано.
Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу
остыли...
Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился.
О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в по-
душку...
Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно хо-
лодный пол — сидел молча. Мучительный холод снизу —
все выше, все выше. Вероятно, такой же молчаливый хо-
лод там, в синих, немых междупланетных пространствах.
— Поймите же: я не хотел... — пробормотал я...—
Я всеми силами...
Это правда: я, настоящий я, не хотел. И все же: ка-
кими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо
не хотело, но закон — неизбежен, точен----
О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, ска-
зала:
— Уйдите, — но от слез вышло у нее «ундите» — и вот
почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.
Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в кори-
736
дор. Там за стеклом — легкий чуть приметный дымок ту-
мана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налег-
нет вовсю. Что будет за ночь?
О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула
дверь.
— Одну минутку, — крикнул я: стало страшно.
Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...
Она отняла у меня R.
Она отняла у меня О.
И все-таки, и все-таки.
Запись 15-я.
Конспект:
Колокол. Зеркальное море.
Мне вечно гореть.
' Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл»,—
как, навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда:
круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит—подно-
сит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное:
— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без началь-
ства, вчера, можно сказать, — происшествие.
— Происшествие?
— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга вы-
пускать— и представьте: выпускающий изловил ненумеро-
ванного человека. Уж как он пробрался — понять не могу.
Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут,
как и зачем... (улыбка — вкусная...).
В Операционном — работают наши лучшие и опытней-
шие врачи, под непосредственным руководством самого
Благодетеля. Там —разные приборы и, главное, знамени-
тый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школь-
ный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воз-
душным насосом воздух в колпаке разрежается все боль-
ше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол
значительно более совершенный аппарат — с применением
различных газов, и затем — тут, конечно, уже не издева-
тельство над маленьким беззащитным животным, тут вы-
сокая цель — забота о безопасности Единого Государства,
другими словами, о счастии миллионов. Около пяти столе-
тий назад, когда работа в Операционном еще только нала-
живалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операци-
онное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как
ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию,
и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть
137
может, один и тот же нож, оба делают одно и то же — ре-
жут горло живому человеку. И все-таки один — благоде-
тель, другой — преступник, один со знаком +, другой со
знаком —...
Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один
оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы
зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачива-
ется кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопну-
ли— а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла
провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонят-
ная сладкая боль в правом плече —прижавшись к право-
му плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь ту-
ман?» Да, и туман... все люблю, и все — упругое, новое,
удивительное, все — хорошо...
— Все — хорошо,— вслух сказал я.
— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые гла-
за.— То есть, что же тут хорошего? Если этот ненумеро-
ванный умудрился... стало быть, они —всюду, кругом, все
время, они тут, они — около «Интеграла», они...
— Да кто они?
— А почем я знаю, кто. Но я их чувствую — понимае-
те? Все время.
— А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели —
фантазию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то
вроде этого слышал.)
— Ну, знаю. При чем же это тут?
— А при том, что я бы на вашем месте — пошел и по-
просил сделать себе эту операцию.
На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кис-
лое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек
на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же:
неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь —
теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть — что
я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хо-
чется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись на-
верх. Все — под нами внизу — как на ладони...
Вы, читающие эти записки, — кто бы вы ни были, но
над вами солнце. И если бы вы тоже когда-нибудь были
так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает — какое
может быть — утром солнце, вы знаете это розовое, про-
зрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и
все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: жи-
вые и все до одного улыбаются — люди. Может случиться,
через час все исчезнет, через час выкаплет розовая кровь,
138
но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается
что-то в стеклянных соках «Интеграла»; я вижу: «Ин-
теграл» мыслит о великом и страшном своем будущем,
о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет
туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда
не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы — вы обя-
заны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.
Корпус «Интеграла» почти готов: изящный удли-
ненный эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото,
гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянно-
му телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные —
стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ра-
кетного двигателя. Каждые три секунды могучий хвост
«Интеграла» будет извергать пламя и газы в мировое
пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамер-
лан счастья...
Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как
рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались,
поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали труб-
ки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки,
угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам
медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-кра-
ны, и так же, как люди, послушно поворачивались, наги-
бались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла», свои
грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные лю-
ди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармо-
ния, музыка... Скорее — вниз, к ним, с ними!
И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захва-
ченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круг-
лые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием
мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.
И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:
— Ну как: ничего, лучше сегодня?
— Что лучше?
— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у
вас опасное что... — сияет лоб, улыбка — детская, невин-
ная.
Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать
этим глазам. Я молчал, тонул...
Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фа-
янсовое лицо.
— Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете,
получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты
дают напряжение на квадратной.
139
Недослушав, я опрометью бросился к нему наверх—я
позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза —
рябило от сверкающих стеклянных ступеней под ногами, и
с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику,
отравленному, — здесь не место. Мне никогда уж больше
не влиться в точный механический ритм, не плыть по зер-
кально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метать-
ся, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, по-
ка я наконец не найду силы пройти и------
И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно;
но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...
Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю,
куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх.
Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Вни-
зу— был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розо-
вая кровь вытекла, мне ясно, что все это — только моя фан-
тазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время
ясно...
— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? —
Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно
быть, уж давно кричит.
Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро
дрожит и мчится, но руля нет — и я не знаю, куда мчусь:
вниз —и сейчас обземь, или вверх — и в солнце, в огонь...
Запись 16-я.
Конспект:
Желтое. Двухмерная тень.
Неизлечимая душа.
Не записывал несколько дней. Не знаю сколько: все
дни —один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссу-
шенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли
воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее —
а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем
Доме...
С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два,
три, четыре дня назад — не знаю: все дни — один. Она
промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир.
С нею об руку — по плечо ей — двоякий S, и тончайше-
бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились толь-
ко его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пуч-
ки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подня-
ла руку, помахала мне; через голову I — нагнулась к тому
с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Инте-
140
гр а л»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже поте-
рялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушен-
ный путь.
Вечером в тот же день у нее был розовый билет ко мне.
Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненави-
стью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе
появилось скорее: 1-330. Хлопала дверь, выходили из лиф-
та бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом
шторы. Ее не было. Не пришла.
И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда
я пишу это — она, закрывши глаза, так же прислоняется
к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?»
Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый,
брызжущий R? или S?
S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлю-
пающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за
мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая двух-
мерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она
все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невиди-
мой пуповиной. Быть может, эта пуповина — она, I? Не
знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно,
что я...
Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время
видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощуще-
ние: руки — посторонние, мешают, и я ловлю себя на том,
что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или
вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни
за что, шея — закована. И я бегу, бегу все быстрее и спи-
ною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее—никуда,
никуда...
У себя в комнате наконец один. Но тут другое: теле-
фон. Опять беру трубку: «Да, 1-330, пожалуйста». И снова
в трубке — легкий шум, чьи-то шаги в коридоре—мимо
дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку — и не
могу, не могу больше. Туда — к ней.
Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до
17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, ну-
мера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий леви-
афан, колыхаясь, плыл мимо. А я один, выхлестнут бурей
на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голу-
бых волнах.
Вот сейчас откуда-нибудь — остро-насмешливый угол
поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внут-
ри, пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда,
141
внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же зна-
ешь— я не могу без тебя. Так зачем же?»
Но она молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу —
Музыкальный Завод, и понимаю: уже больше 17, все дав-
но ушли, я один, я опоздал. Кругом — стеклянная, залитая
желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — стеклян-
ной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкаю-
щие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами под-
вешен я.
Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское
Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня
возьмут и-----А может быть, это и будет самое лучшее.
Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в
Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.
Легкий шорох, и передо мною — двоякоизогнутая тень.
Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два
серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал —
что-нибудь нужно было сказать:
— Мне... мне надо в Медицинское Бюро.
— За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?
Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, я молчал,
весь полыхая от стыда.
— Идите за мной, —сурово сказал S.
Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонни-
ми руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в
диком, перевернутом вниз головой мире: вот какие-то ма-
шины—фундаментом вверх, и антиподно приклеенные но-
гами к потолку люди, и еще ниже —скованное толстым
стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что в
последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто,
не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.
Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и
я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный
немой Колокол...
С силой, каким-то винтовым приводом, я наконец ото-
рвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брыз-
нули золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел
меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил ме-
ня— об этом я в тот момент даже и не подумал: одним
скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой
дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал,
не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз,
только сейчас раскрылся шлюз в груди...
Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как
142
на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший,
сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.
Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия —
что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-
губы сверкали, улыбались.
— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась
душа.
Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы
говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душе-
губ», но душа-----
— Это... очень опасно, — пролепетал я. •
— Неизлечимо, — отрезали ножницы.
— Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не
представляю.
— Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?
- Да.
— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зер-
кало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим
глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в труб-
ке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности,
только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта
непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ни-
что не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот
зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем
детьми — дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость
стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внут-
ри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие
губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отра-
жает, отбрасывает, а это — впитывает, и от всего след —
навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на ли-
це—и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в
тишине упала капля — и вы слышите сейчас...
— Да, да, именно... — я схватил его за руку. Я слышал
сейчас: из крана умывальника — медленно капают капли
в тишину. И я знал, это — навсегда. Но все-таки почему
же вдруг душа? Не было, не было—и вдруг... Почему ни
у кого нет, а у меня...
Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко
было потерять спасательный круг.
— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев —
одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев?
Да потому что крылья уже не нужны — есть аэро, крылья
только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже не-
куда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?
143
Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня,
рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбо-
ного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на
рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.
— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт
знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам го-
ворил (тончайшего на рога)—я вам говорил: надо у
всех — у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут
только хирургия, только одна хирургия...
Он напялил огромные рентгеновские очки, долго хо-
дил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой
мозг, записывал что-то в книжку.
-г- Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушай-
те: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы
для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы
нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет
особых оснований...
— Видите ли, — сказал он, — нумер Д-503 — строитель
«Интеграла», и я уверен — это нарушило бы...
— А-а, — промычал тот и затумбовал назад в свой ка-
бинет.
Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково
легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось
ко мне; он шепнул:
— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой
коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, раз-
ве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее — очень по-
хожее, очень близкое... — он пристально посмотрел на ме-
ня. На что он намекает — на кого? Неужели------
— Слушайте... — я вскочил со стула. Но он уже громко
заговорил о другом:
— ...А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам
одно посоветовать, побольше ходите пешком. Вот возьми-
те и завтра же с утра прогуляйтесь... ну хоть бы к Древне-
му Дому.
Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше.
И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое
в тонкую ткань этой улыбки слово—букву — имя, единст-
венное имя... Или это опять только фантазия?
Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о
болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко
сжал ему руку и выбежал наружу.
Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня
вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?
144
Запись 17-я.
Конспект:
Сквозь стекло. Я умер. Коридоры.
Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент,
когда я думал, что все уже распуталось, найдены все ик-
сы — в моем уравнении появились новые неизвестные.
Начало координат во всей этой истории — конечно,
Древний Дом. Из этой точки — оси Х-ов, Y-ов, Z-ob, на
которых для меня с недавнего времени построен весь мир.
По оси Х-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу ко-
ординат. Во мне — пестрым вихрем вчерашнее: опрокину-
тые дома и люди, мучительно посторонние руки, сверкаю-
щие ножницы, остро капающие капли из умывальника —
так было, было однажды. И все это, разрывая мясо, стре-
мительно крутится там — за расплавленной от огня поверх-
ностью, где «душа».
Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно вы-
брал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже
второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены.
Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на
меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал
на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека — тон-
чайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь...
Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном —
•стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая
мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из
всех изобретений. Человек перестал быть диким животным
только тогда, когда он построил первую стену. Человек
перестал быть диким человеком только тогда, когда мы
построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолиро-
вали свой машинный, совершенный мир — от неразумного,
безобразного мира деревьев, птиц, животных...
Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая мор-
да какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие
одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели
друг другу в глаза — в эти шахты из поверхностного мира
в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг
он, желтоглазый, — в своей нелепой, грязной куче листьев,
в своей невычисленной жизни — счастливее нас?»
Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились,
пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он —
счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но
ведь я — только исключение, я болен.
Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего
145
Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к
старухе со всех ног:
— Тут она?
Заросший рот раскрылся медленно:
— Это кто же такое — она?
— Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней
тогда — на аэро...
— A-а, так, так... Так-так-так...
Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых
глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже... И нако-
нец:
— Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.
Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-
горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же му-
зей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), по-
лынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглажива-
ет ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса.
И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза —
мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по
жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...
Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих
записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнул-
ся— и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха
утерлась, засмеялась...
Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты —
почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился
за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, при-
слушался. Но слышал только: тукало около — не во мне,
а где-то около меня — мое сердце.
Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще
зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там —
ключ со старинным кольцом. И никого.
Я тихонько позвал:
— I! Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми глазами,
не дыша, — так, как если бы я стоял уже на коленях пе-
ред ней: — I! Милая!
Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана
каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, поче-
му, но только это было мне неприятно; я крепко завернул
кран, вышел. Тут ее нет: ясно. И значит, она в какой-
нибудь другой «квартире».
По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потя-
нул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было запер-
146
то, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там
никого.
И все-таки — опять туда, сам не знаю, зачем. Я шел,
медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными.
Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяже-
сти — константна. Следовательно, все мои формулы — —»
Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то
быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчай-
ший— бросился к перилам — перегнуться, в одном слове,
в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все...
И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат те-
ни от оконного переплета, размахивая крыльями-ушами,
неслась голова S.
Молнией — один только голый вывод, без посылок
(предпосылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что —
чтобы он меня увидел».
И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх к
той незапертой квартире.
На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда.
Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: за-
скрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное,
желтый Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое
бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слы-
шу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь... Это
он, он.
Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот кольцо
покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновен-
ный, голйй, без посылок, вывод—вернее, осколок: «В тот
раз------». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри,
в темноте, захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами
качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в гла-
зах потемнело, я умер.
е е &
Позже, когда мне пришлось записывать все эти стран-
ные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и те-
перь я, конечно, понимаю: это было состояние временной
смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершен-
но неизвестное у нас.
Не имею представления, как долго я был мертв, скорее
всего 5—10 секунд, но только через некоторое время я вос-
крес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз... Про-
тянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро
147
убегающая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра
моей больной фантазии. Но что же, что?
Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне
стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и не-
понятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец, мягкий
толчок: то, что падало у меня под ногами, — теперь не-
подвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толк-
нул— открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади ме-
ня быстро уносилась вверх небольшая квадратная плат-
форма. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан
здесь... где это «здесь» — не знаю.
Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах —
лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир.
Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но
только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то
другого старинного материала. Мелькнуло — о подземель-
ях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Вой-
ны... Все равно: надо идти.
Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, ко-
ридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Мо-
жет быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но
только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.
Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-
то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.
Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — пере-
до мной был мой лезвиеносный, тончайший доктор.
— Вы? Здесь? — и ножницы его так и захлопнулись.
А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого
слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он
говорил мне. Должно быть, что мне надо уйти отсюда: по-
тому что потом он быстро своим плоским бумажным живо-
том оттеснил меня до конца этой, более светлой части ко-
ридора— и толкнул в спину.
— Позвольте... я хотел... я думал, что она, 1-330. Но
за мной...
— Стойте тут, — отрезал доктор и исчез...
Наконец! Наконец она рядом, здесь — и не все ли рав-
но, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк,
улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат
губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:
«Колебания — звук. Дрожь должна звучать. Отчего же
не слышно?»
Ее глаза раскрылись мне — настежь, я вошел внутрь...
— Я не мог больше! Где вы были? Отчего... — ни на
148
секунду не отрывая от нее глаз, я говорил как в бреду—-
быстро, несвязно—может быть, даже только думал.—
Тень — за мною... Я умер — из шкафа... Потому что этот
ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...
— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмея-
лась— и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и
всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.
Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, вели-
колепный, тончайший доктор.
— Ну-с, — остановился он возле нее.
— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случай-
но... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...
Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула
дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне
в сердце острую, сладкую иглу — прижалась плечом, ру-
кою, вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею —
двое — одно...
Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте
по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но я знал:
она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая,
закинув вверх голову, закусив губы — и слушала музыку:
мою чуть слышную дрожь.
Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе
Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, камени-
стые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она от-
крыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.
Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю после-
завтра. Реальный след только один: на правой руке — на
концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «И н т е-
грале» Второй Строитель уверял меня, будто он сам ви-
дел, как я случайно тронул этими пальцами шлифоваль-
ное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так.
Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.
Запись 18-я.
Конспект:
Логические дебри. Раны и пластырь.
Больше никогда.
Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как пере-
вернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глу-
хой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплы-
ваю со дна вверх и где-то на средине глубины открываю
глаза: моя комната, еще зеленое застывшее утро. На зер-
кальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это
149
мешает в точности выполнить установленные Скрижалью
часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я весь —
как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...
Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью,
выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык
теперь к самому невероятному, что, сколько помню,—
даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей
в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и зады-
хаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас
вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный
луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа,
выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на
запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня та-
кое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще
раз открыл глаза.
Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери
шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно
бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах паль-
цев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю те-
перь: что сон — что явь; иррациональные величины прора-
стают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вме-
сто твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то ко-
р1явое, лохматое...
До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматыва-
емся чрезвычайно странная, логическая цепь.
Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном
мире соответствует кривая или тело. Для формул ирра-
циональных, для моего У—1, мы не знаем соответствую-
щих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас,
что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неми-
нуемо должны быть: потому что в математике, как на эк-
ране, проходят перед нами их причудливые, колючие те-
ни— иррациональные формулы; и математика, и смерть —
никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в на-
шем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно дол-
жен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...
Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате.
Моя математика — до сих пор единственный прочный и не-
зыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни —то-
же оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта
нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои
сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной
дрерью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же
«душа» болезнь?
150
Я искал и не находил выхода из дикой логической ча-
щи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как
те — за Зеленой Стеной, — и они так же были необычайны-
ми, непонятными, без слов говорящими существами. Мне
чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бес-
конечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скор-
пионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым
минусом-жалом: У—1... А может быть, это не что иное,
как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних,
добровольно жалящих себя всем тем, что...
Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая, — только
прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не уми-
рая,— к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий,
зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы;
медленно, молча, в такт жующие шароголовы. Издалека,
сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-
ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, счи-
таю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных
движений на каждый кусок. И машинально отбивая такт,
опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих —
как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огоро-
женный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой сте-
ной — мой мир...
Но вот что: если этот мир — только мой, зачем же он
в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы,
бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо
стройной и строго математической поэмы в честь Единого
Государства — у меня выходит какой-то фантастический
авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был
только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов,
У — 1 и падений, жизнь.
Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее все-
го, вы, неведомые мои читатели, — дети по сравнению с
нами (ведь мы взращены Единым Государством — следо-
вательно, достигли высочайших, возможных для человека
вершин). И как дети — только тогда вы без крика прогло-
тите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщатель-
но обложено густым приключенским сиропом...
।
Вечером:
Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься
ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит
вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же да-
75/
леко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу те-
перь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой,
розовой О. Но все же земля существует, раньше или поз-
же— надо спланировать на нее, и я только закрываю гла-
за перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит
ее имя — имя 0-90...
Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.
Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне,
искренне хочу выздороветь), я целых два часа бродил по
стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все,
согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я
один... Это было, в сущности, противоестественное зрели-
ще: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от
целого, от руки — отдельный человеческий палец, сутуло
согнувшись, припрыгивая, бежит по стеклянному тротуару.
Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что
пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими:
или — вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего
скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же перели-
вая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные
пальцы рук...
Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечер-
ний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица
аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных
нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи па-
дают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром,
а все —совершенно иное, иная эта розовость —сейчас
очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет
звонкая, шипучая.
И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розо-
вым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и по-
дала мне письмо. Повторяю: это очень почтенная женщина,
и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.
И все же всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие
на рыбьи жабры щеки, мне почему-то неприятно.
Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Ю вздох-
нула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь,
какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектиро-
ван был на дрожавший в моих руках конверт, где —я не
сомневался — письмо от I.
Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами
подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел:
между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз—
нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:
152
— Бедный вы, бедный, — вздох с тремя чертами и ки-
вок на письмо, чуть приметный (содержание письма она,
по обязанности, естественно, знала).
— Нет, право я... Почему же?
— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы
сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно,
чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь, уж долгие
годы изучавший жизнь...
Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой —это пластырь
на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в
моих руках письмо. И наконец — сквозь стыдливые жалю-
зи — совсем тихо:
— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны:
если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я
сначала еще должна подумать...
Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели
она хочет сказать, что----
В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо пры-
гает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солн-
це, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все
гуще темно-розовый, печальный пепел.
Конверт взорван — скорее подпись — и рана — это не I,
это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу —
расплывшаяся клякса — сюда капнуло... Я не выношу
клякс—все равно: от чернил они или от... все равно от
чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно,
неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но поче-
му же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от не-
го— все свинцовее и все темнее? Или это опять — «душа»?
Письмо:
«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете—я не мо-
гу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что
без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни
одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не
важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: од-
на без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и
ночи я прожила десять' или, может быть, двадцать лет.
И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая,
и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде
никаких дверей.
Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому
что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете
153
не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если
я вас люблю, я должна--------
Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков
меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю
0-90, — и я пойду, и сделаю сама заявление, что снимаю
свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам долж-
но быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.
О».
Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но
отчего же — отчего — —
Запись 19-я.
Конспект:
•ресконечно малая третьего порядка.
Исподлобный. Через парапет.
Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром ту-
склых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы
уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе
Древнего Дома, — она сказала: «Послезавтра». Это «после-
завтра»— сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и
наш «Интеграл» уже крылатый: на нем кончили уста-
новку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его вхоло-
стую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня
каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь
сегодня.
При первом ходе (— выстреле) под дулом двигателя
оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эл-
линга—от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то
крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм
нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто
не вздрогнул; и мы, и наши станки — продолжали свое
прямолинейное и круговое движение все с той же точно-
стью, как будто бы ничего не случилось. Десять нуме-
ров— это едва ли одна стомиллионная часть массы Еди-
ного Государства, при практических расчетах — это беско-
нечно малая третьего порядка. Арифметически безграмот-
ную жалость знали только древние: нам она смешна.
И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже
записывать на эти страницы — о каком-то жалком серень-
ком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое
«размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-
тверда— как наши стены (древняя поговорка: «как об сте-
ну горох»).
Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я це
154
пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно
сейчас, когда все звенит от солнца...
Я почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены —
мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воз-
духе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комна-
ты. И только по голубоватой, чуть почерненной солнечной
тушью лестнице медленно скользит вверх тощая, серая
тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я
чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем
мимо, по другой лестнице— вниз...
Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый
прорез — и... и какой-то незнакомый мне мужской (с со-
гласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо
мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза.:,
очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда,
исподлобья, где глаза.
— Вам от нее письмо... (исподлобья, из-под навеса).
Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.
Исподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, нико-
го нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне
конверт, ушел. Я один.
Нет, не один: из конверта — розовый талон, и — чуть
приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне.
Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами,
чтобы поверить в это до конца...
Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю
через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как
будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы ду-
мали, что я... мне очень, очень жаль...»
Письмо—в клочья. В зеркале на секунду—мои иско-
верканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так
же, как ее записку----
— «Просила, чтоб непременно — все, как там сказано».
Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них йа
стол. Она сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как ойа
хочет. А впрочем... впрочем, не знаю: увидим — до вечера
еще далеко... Талон лежит на столе.
В зеркале—мои исковерканные, сломанные брови. От-
чего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства:
пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой
Стены — и потом свалиться в кровать — на дно... А я дол-
жен— в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить
всего себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь... ко-
гда надо кричать, топать.
155
Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппара-
та— не металлический, как обычно, а какой-то мягкий,
мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она
такою, какою когда-то жила маленькая — крючочек-ста-
рушка, вроде той — у Древнего Дома.
Древний Дом... и все сразу — фонтаном — снизу, и мне
нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить кри-
ком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь
меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о
детоводстве. Я— как фотографическая пластинка: все от-
печатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмыс-
ленной точностью: золотой серп — световой отблеск на
громкоговорителе: под ним — ребенок, живая иллюстра-
ция— тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопи-
ческой юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вер-
нее, очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пух-
лая тень-складочка на запястье. Как фотографическая
пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — пере-
весилась через край, розовый веер пальцев ступает на
воздух — вот сейчас, сейчас об пол----
И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными
крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пух-
лую складочку на запястье, сдвинула на середину стола,
спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рож-
ками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блю-
дечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь
стройной формулы, — вдруг ощущаю необходимость, зако-
номерность этого ничтожного случая.
Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся;
она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глаза-
ми— в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде —
три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проек-
ции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.
Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от ог-
ней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки
во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сде-
лаю' что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно,
чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она,
и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими
шторами — не хочу и все.
Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, поход-
ка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до са-
мых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на
тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою
156
комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступле-
ние, шторы...
Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет.
Я решил.
Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель —
я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или,
вернее, — висела: так висит пустое, снятое платье — под
платьем у нее как будто уж не было ни . одной пружины,
беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий
голос.
— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне
нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.
Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она
была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до
краев глаза —медлил с ответом. И, с наслаждением, вты-
кая в нее по одному слову, сказал:
— Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.
— Так значит... (улыбкою прикрыта мельчайшая
дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо! Я сейчас — я сей-
час уйду.
И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На
столе еще лежит скомканный розовый талон той. Я бы-
стро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страница-
ми прикрыл талон (быть может, больше от самого себя,
чем от О).
. — Вот — все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое
что-то неожиданное...
Голос — тень голоса:
— А помните... я вам тогда на седьмой странице...
Я вам тогда капнула — и вы...
Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые
капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:
— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и
пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — ос-
тавьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!
Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал:
я тоже сейчас------Я заложил назад руки, улыбнулся:
— Что? Захотелось Машины Благодетеля?
И на меня — все так же, ручьями через плотины —
слова:
— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его
в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз уви-
деть у него складочку вот тут — как там — как на столе.
Один день!
157
Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой
складочкой...
Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуля-
торную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся
через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко
тикнуло сердце: «А что, если?» Тогда я только еще крепче
ухватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.
— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...
Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза.
Мокрая, сияющая улыбка.
— Да, да! Хочу!
Я выхватил из-под рукописи розовый талон — той —
и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку,
что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда
вернулся.
Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в
коленях.
— Это... это ее талон?
— Не все ли равно. Ну — ее, да.
Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельну-
лась. Сидела, руки в коленях, молчала.
— Ну? Скорее... — Я грубо стиснул ей руку, и красные
пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пух-
лая детская складочка.
Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мыс-
ли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...
Запись 20-я.
Конспект:
Разряд. Материал идей. Нулевой утес.
Разряд — самое подходящее определение. Теперь я ви-
жу, что это было именно как электрический разряд.
Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще,
все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескива-
ние—еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.
Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда
все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь
отчетливое металлическое постукивание мыслей.
Быть может, этот «разряд» излечил меня наконец от
моей мучительной «души» — и я снова стал, как все мы.
По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно ви-
>jcy О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. Нес-
ли там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в
158
последний момент — я набожно и благодарно лобызну ка-
рающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Еди-
ному Государству есть это право—понести кару, и этого
права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен,
не смеет отказаться от этого единственного своего — тем
ценнейшего — права.
...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мыс-
ли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих лю-
бимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем,
разреженном воздухе — с легким треском, как пневматиче-
ская шина, — лопается мое рассуждение «о действенном
праве». И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого
предрассудка древних— их идеи о «праве».
Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные
из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы опре-
делить материал идеи, нужно только капнуть на него силь-
нодействующей кислотой. Одну из таких кислрт знали и
древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них
так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть
хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо,
чем синее ничто. Мы же — слава Благодетелю — взрослые,
и игрушки нам не нужны.
Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древ-
них— наиболее взрослые знали: источник права — сила,
право — функция от силы. И вот — две чашки весов! на
одной —грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на
другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допус^-
кать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению
к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить
тонну, — это совершенно одно и то же. Отсюда — распреде-
ление: тонне — права, грамму — обязанности; и естествен-
ный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты —
грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны...
Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные,
как кузнецы, ураниты, — я слышу в своей синей тишине
ваш ропот. Но поймите же вы: все великое просто; пой-
мите же: незыблемы и вечны только четыре правила ариф-
метики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только
мораль, построенная на четырех правилах. Это — послед-
няя мудрость, это—вершина той пирамиды, на которую
люди, — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались
веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными
червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дико-
сти предков — с этой вершины одинаковы: и противозакон-
159
ная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бро-
сить стихом в Единое Государство; и одинаков для них
суд: довременная смерть. Это — то самое божественное
правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, осве-
щенные розовыми наивными лучами утра истории: их
«Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как
убийство.
Вы, ураниты, — суровые и черные, как древние испан-
цы, мудро умевшие сжигать на кострах, — вы молчите, мне
кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеряне —
что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским вре-
менам. Дорогие мои: мне жаль вас — вы не способны фи-
лософски-математически мыслить.
Человеческая история идет вверх кругами — как аэро.
Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково
разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20,
200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к ну-
лю— да. Но для моего математически мыслящего ума яс-
но: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля впра-
во— мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса
нуль — у нас минус нуль. Понимаете?
Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громад-
ным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косма-
той темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ноч-
ной стороны Нулевого Утеса. Века — мы, Колумбы, плыли,
плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура!
Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле не-
ведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сияни-
ем Единого Государства, голубая глыба, искры радуги,
солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...
Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от
другой стороны Нулевого Утеса. Нож —самое прочное,
самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного
человеком. Нож — был гильотиной, нож — универсальный
способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь
парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума
путь...
Запись 21-я.
Конспект:
Авторский долг. Лед набухает. Самая трудная любовь.
Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять
от нее — невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но
я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю
160
так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу
к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у
себя в комнате один — так это, разумеется, не потому, что-
бы я был не в силах идти против ее желания. Смешно!
Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пла-
стыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот
эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я
боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскры-
тию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная
смерть, и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую
себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не
говоря уже о том, что вообще неизвестное органически
враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда чело-
век в полном смысле этого слова, когда в его грамматике
совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни вос-
клицательные, запятые и точки.
И вот, руководимый, как мне кажется, именно автор-
ским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился
в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с тру-
дом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные вет-
ви свистели и хлестали. Город внизу—весь будто из голу-
бых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед
свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу
и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, по-
несет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набу-
хаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем,
зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения?
Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взло-
мать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей
жизни...).
У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и
увидел старуху-привратницу возле Зеленой Стены: при-
ставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной —
острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканьем
бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из элек-
трических волн — и назад, и снова над Стеною.
Я вижу: по темному, заросшему морщинами липу — ко-
сые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.
— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить неза-
чем. Да...
То есть как это незачем? И что это за странная мане-
ра— считать меня только чьей-то тенью. А может быть,
сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти стра-
ницы— еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без
6 Запретная глава
161
меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой
по узким тропинкам строк?
Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственно-
му опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в че-
ловека сомнение в том, что он — реальность, трехмерная —
а не какая-либо иная — реальность. Я только сухо заме-
тил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня
во двор.
Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий, как тот
день, когда мы плечом к плечу, двое — одно, вышли снизу,
из коридоров — если только это действительно было. Я шел
под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись
о сырые своды, падали позади меня — будто все время дру-
гой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кир-
пичными прыщами — стены следили за мной сквозь тем-
ные квадратные очки окон, следили, как я открывал пе-
вучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики,
закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой
Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра,
желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с верти-
калью трубы — навеки окаменевший корабль среди камен-
ных желтых и красных кирпичных всплесков.
Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел од-
нажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал
искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые
лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в гла-
за, остросоленые капли пота...
Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я ни-
где не мог найти — его не было. А впрочем — так, может
быть, и лучше: больше вероятия, что все это—был один из
моих нелепых «снов».
Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли, — я уже от-
крыл калитку — вернуться на главный двор. Вдруг сза-
ди— шорох, хлюпающие шаги, и передо мною — розовые
крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.
Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и
спросил:
— Прогуливаетесь?
Я молчал. Руки мешали.
— Ну, что же, теперь лучше себя чувствуете?
— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.
Он отпустил меня— поднял глаза вверх. Голова запро-
кинута — и я в первый раз заметил его кадык.
Вверху невысоко — метрах в 50 —жужжали аэро. По
162
их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным
хоботам наблюдательных труб — я узнал аппараты Храни
телей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти
до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться при-
близительной цифрой).
— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя сме-
лость спросить.
— Отчего? Гм... Настоящий врач начинает лечить еще
здорового человека, такого, какой заболеет еще только
завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!
Он кивнул, захлюпал по каменным плитам двора. По-
том обернулся — и через плечо мне:
— Будьте осторожны!
Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной ме-
чутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?
Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые
тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стек-
лянного льда — свинцовеют, набухают...
Вечером:
Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти стра-
ницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, чи-
татели) мыслей о великом Дне Единогласия — этот день
уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время
вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стек-
ло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И ко-
гда в комнате у меня появились знакомые коричневато-
розовые жабры — я был очень рад, говорю чистосердечно
Она села, целомудренно оправила запавшую между колен
складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками —
по кусочку на каждую из моих трещин — и я почувствовал
себя приятно, крепко связанным.
— Понимаете, прихожу сегодня в класс (—она рабо-
тает на Детско-воспитательном Заводе) — и на стене ка-
рикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в ка-
ком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...
— Нет, нет, что вы, — поторопился я сказать (вблизи
в самом деле ясно, что ничего похожего на жабры нет, и
у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).
— Да в конце концов — это и не важно. Но, понимаете:
самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень
люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая
любовь — это жестокость — вы понимаете?
Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не
163
утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-й записи, на-
чиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постуки-
вают мысли...»
Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые
Щеки, и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих ру-
ках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.
— Дайте, дайте это мне! Я сфонографирую это и за-
ставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько ва-
шим венерянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, после-
завтра.
Она оглянулась — и совсем тихо:
— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...
Я вскочил:
— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?
Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал
себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метал-
ся огромный ветер, и косые сумеречные облака — все
ниже...
Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя
я заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев
дрожали).
— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что гово-
рят... И потом, если только вам это нужно — в этот день я
буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-
нибудь другого — и буду с вами, потому что вы, дорогой,
вы — тоже дитя, и вам нужно...
— Нет, нет, — замахал я, — ни за что! Тогда вы в са-
мом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я
один не могу... Ни за что! (—сознаюсь: у меня были дру-
гие планы относительно этого дня).
Она улыбнулась; неписаный текст улыбки, очевидно,
был: «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза
опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую меж-
ду колен складку юнифы —и теперь о другом:
— Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет,
умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...
Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счаст-
лив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-ни-
будь вечерние годы.
...Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю
голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не
наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я пере-
бираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая
задняя, левая передняя — и правая задняя), стул подбега-
164
ет к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревян-
ный стул: неудобно, больно.
Удивительно: неужели нельзя придумать никакого сред-
ства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разум-
ной — может быть, даже полезной.
Запись 22-я.
Конспект:
Оцепеневшие волны. Все совершенствуется.
Я — микроб.
Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны —
мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, засты-
ли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и
это—когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась
наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз
нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло
119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом
и дымом, свалился с неба метеорит.
Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены
воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две
слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе,
руки. В конце проспекта— там, где грозно гудела аккуму-
лирующая башня — навстречу нам четырехугольник: по бо-
кам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах
этих людей — уже нет золотых нумеров — и все до жути
ясно.
Огромный циферблат на вершине башни — это было
лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды,
равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в
четырехугольнике произошло замешательство. Все это бы-
ло совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие
детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и
на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на
географической карте маленького неведомого мира, и этот
неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил
кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул
шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему сине-
ватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи,
взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каж-
дые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.
Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли — и я, глядя
на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом об-
ществе безгранично совершенствуется — и должно совер-
165
шенствоваться. Каким безобразным орудием был древний
кнут — и сколько красоты...»
Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от
наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская
фигура и с криком: «Довольно! Не сметь!» — бросилась
прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор —
119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды — серые
гребни скованных внезапным морозом волн.
Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она
уже не была нумером — она была только человеком, она
существовала только как метафизическая субстанция ос-
корбления, нанесенного Единому Государству. Но одно ка-
кое-то движение —заворачивая, она согнула бедра нале-
во— и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как
хлыст, тело—мои глаза, мои губы, мои руки знают его,—
в тот момент я был в этом совершенно уверен.
Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще
ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пере-
секутся,— сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло,
остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо,
разумно, — я кинулся в эту точку...
Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса
глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-
веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался
из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она
обернулась -----
Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками ли-
цо, рыжие брови... Не она! не I.
Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то
вроде: «Так ее!» «Держи ее!»—но слышу только свой ше-
пот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат,
ведут, я пытаюсь объяснить им...
— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я
думал, что это...
Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, запи-
санную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду...
Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, по-
корно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за
каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся
за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед
стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумулятор-
ной башни.
, В этот момент, когда глухой занавес окончательно го-
тов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я
166
увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крылья-
ми, над зеркалом мостовой скользила знакомая громадная
голова. И знакомый, сплющенный голос:
— Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер
Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств.
И я уверен, что он увлечен был естественным негодова-
нием.
— Да, да, — ухватился я. —Я даже крикнул: держи
ее!
Сзади, за плечами:
— Вы ничего не кричали.
—- Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.
Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчи-
ками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти)
правда, или у него была какая-то тайная цель опять на
время пощадить меня, но только он написал записочку, от-
дал ее одному из державших меня — и я снова свободен,
то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные
ассирийские ряды.
Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо и висок с
географической картой голубых жилок — скрылись за уг-
лом, навеки. Мы идем — одно миллионноголовое тело,-и в
каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно,
живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это
понимали христиане, единственные наши (хотя и очень не-
совершенные) предшественники: смирение — добродетель,
а гордыня — порок, и что «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диа-
вола.
Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно
от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как
мост, по которому только что прогрохотал древний желез-
ный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, со-
знают свою индивидуальность — только засоренный глаз,
нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец,
зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание —
это только болезнь.
Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно
пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых):
я, быть может, микроб, и, может быть, их уже тысяча сре-
ди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...
Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное проис-
шествие— что если все это только начало, только первый
метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, вы-
сыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?
167
Запись 23-я.
Конспект:
Цветы. Растворение кристалла.
Если только.
Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз
в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в
тысячу—в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих
пор мы не знали только потому, что именно сегодня при-
шло это раз — в — тысячу — лет.
И во*г, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к де-
журному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом не-
слышно лопаются тысячелетние почки и расцветают крес-
ла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-
то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, обро-
ненный на ступенях платок, столик дежурного, над столи-
ком— нежно-коричневые, с крапинками, щеки Ю. Все —
необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.
Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней —
сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки лу-
на, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем
и говорю:
— Луна, — понимаете?
Ю взглядывает на меня, потом на нумер талона — и я
вижу это ее знакомое, такое очаровательно целомудренное
движение: поправляет складки юнифы между углами колен.
— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид —
потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы
себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.
Это «никто» — конечно, равняется нумеру на талоне:
1-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — небла-
горазумен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но раз-
ве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается
почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшней-
ший из микробов?
Я— наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой
чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у
ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я —
кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно
чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в прост-
ранстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в
ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновре-
менно все шире, все больше, все необъятней. Потому что
она — это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это
прднизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и
168
великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего До-
ма, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебря-
ные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-
то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь — это все
во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется
сквозь блаженную секунду...
В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь
рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь,
и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит
такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыд-
но: я — и вдруг...
— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я
говорю такие глупости...
— Отчего же ты думаешь, что глупость — это нехо-
рошо? Если бы человеческую глупость холили и воспиты-
вали веками так же, как ум, может быть, из нее получи-
лось бы нечто необычайно драгоценное.
— Да... (Мне кажется, она права — как она может сей-
час быть неправа?)
— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вче-
ра на прогулке, — я люблю тебя еще больше — еще
больше.
— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходи-
ла, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...
— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Мо-
жет быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я
захочу — что ты уж совсем мой?
— Да, совсем!
Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, под-
няла мою голову:
— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного
нумера»? А?
Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскры-
той чашечке кресла как пчела: в ней жало и мед.
Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои по-
следние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том,
что в сущности я бы должен...
Я молчу. Я восторженно (и вероятно глупо) улыбаюсь,
смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в
каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметро-
вый— заключен в этих крошечных, радужных темницах.
И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения...
В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый,
тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точ-
169
ностьк) до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во
мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге
схватил из-под подушки бляху с часами...
Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты —
такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно
столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О, и об
ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о сво-
их детских годах — о математике Пляпе, и У—1 и как я в
первый раз был на празднике Единогласия и горько пла-
кал, потому что у меня на юнифе — в такой день — оказа-
лось чернильное пятно.
I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ —
две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бро-
вей: крест.
— Может быть, в этот день... — остановилась, и брови
еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи,
ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?
— Почему ты так? О чем ты? I, милая?
I молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня,
далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло ог-
ромными крыльями (разумеется, это было и все время, но
услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились прон-
зительные птицы над вершиной Зеленой Стены.
I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз,
секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружин-
но касается земли перед тем, как сесть.
— Ну, давай мои чулки! Скорее!
Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой
(193-й) странице моих записей. Второпях я задел за ру-
копись, страницы рассыпались и никак не сложить по по-
рядку, а главное — если и сложить, все равно не будет на-
стоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги,
ямы, иксы.
— Я не могу так, — сказал я. — Ты — вот — здесь, ря-
дом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я
слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать
слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то
недоговариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда
попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему док-
тор — или, может быть, ничего этого не было?
I положила мне руки на плечи, медленно, глубоко во-
шла в глаза.
’ — Ты хочешь узнать все?
— Да, хочу. Должен.
170
— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до кон-
ца — куда бы я тебя ни повела?
— Да, всюду!
— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, ес-
ли только... Ах да; а как ваш «Интеграл» — все забы-
ваю спросить— скоро?
— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?
Она (уже у двери):
— Сам увидишь...
Я— один. Все, что от нее осталось, — это чуть слыш-
ный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль ка-
ких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне
крючочки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались
древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).
...Почему она вдруг об «Интеграле»?
Запись 24-я.
Конспект:
Предел функции. Пасха. Все зачеркнуть.
Я— как машина, пущенная на слишком большое число
оборотов; подшипники накалились, еще минута — закапает
расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее—холод-
ной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на го-
рячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым
белым паром.
Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функ-
ции— надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее неле-
пое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть
смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворе-
ние меня во вселенной. Отсюда, если через «Л» обозначим
любовь, а через «С» смерть, то Л = ЦС), то есть любовь и
смерть...
Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь
с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хо-
чу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется
опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас,
чтЬ даже теперь, когда логическая функция проинтегриро-
вана, когда очевидно, что она неявно включает в себя
сйерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каж-
дым миллиметром...
Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она,
увижу ее, но только издали. Издали — это будет больно,
потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — ря-
171
дом с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я
хочу даже этой боли — пусть.
Благодетель великий! Какой абсурд—хотеть боли. Ко-
му же непонятно, что болевые — отрицательные слагаемые
уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем.
И следовательно...
И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.
Вечером:
Сквозь стеклянные стены дома — ветреный, лихорадоч-
но-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так,
чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю
записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а
для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, — для вас,
еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.
Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я все-
гда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас —это
нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Пом-
ню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой ка-
лендарик— с торжеством вычеркиваешь по одному часу:
одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я
уверен, что никто не увидит, — честное слово, я бы и нын-
че всюду носил с собой такой календарик и следил по не-
му, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть
издали...
(Помешали: принесли новую, только что из мастерской,
юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к завт-
рашнему дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы,
шум).
Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год
повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зре-
лище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые ру-
ки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завт-
ра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой
твердыни нашего счастья.
Разумеется, это не похоже на беспорядочные, неоргани-
зованные выборы у древних, когда —смешно сказать —
даже неизвестен был заранее самый результат выборов.
Строить государство на совершенно неучитываемых случай-
• ностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот
все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем,—
ни для каких случайностей нет места, никаких неожидан-
ностей быть не может. И самые выборы имеют значение
172
скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий
миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами
«Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что исто-
рия Единого Государства не знает случая, чтобы в этот
торжественный день хотя бы один голос осмелился нару-
шить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно,
скрываясь, как воры; некоторые наши историки утвержда-
ют даже, что они являлись на выборные празднества тща-
тельно замаскированными (воображаю это фантастически-
мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен
фигуоы в темных плащах; приседающее от ветра багровое
пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинствен-
ность— до сих пор не выяснено окончательно; вероятней
всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими,
суеверными, может быть, даже преступными обрядами.
Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем вы-
боры открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Бла-
годетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я —
и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое
«МЫ». Насколько это облагораживающей, искренней, вы-
ше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом:
насколько это целесообразней. .Ведь если даже предполо-
жить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обыч-
ной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же,
в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впав-
ших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных ша-
гов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще
одно...
Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа —
женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду,
смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем па-
дает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю,
что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хо-
чу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую
минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что
я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то,
мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Пото-
му что я знаю (пусть это кощунство, но это так): празд-
ник только с нею, только тогда, если она будет рядом, пле-
чом к плечу. А без нее завтрашнее солнце будет только
кружочком из жести, и небо—выкрашенная синим жесть,
и сам я.
Я хватаюсь за телефонную трубку:
173
— I, это вы?
— Да, я. Как вы поздно!
— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить...
Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...
«Милая» — я говорю совсем тихо. И почему-то мель-
кает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку поло-
жили под стотонный молот часы — размах, ветром в ли-
цо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким
часам.
Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-
то шепот. Потом ее голос:
— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет,
не могу. Отчего? Завтра увидите.
Ночь.
Запись 25-я.
Конспект:
Сошествие с небес. Величайшая в истории катастрофа.
Известное кончилось.
Когда перед началом все встали и торжественным мед-
ленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни
труб Музыкального Завода и миллионы человеческих го-
лосов,— я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное,
что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется,
даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой
некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному
заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не ви-
дит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то
знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь
раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь,
выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть! — но од-
ну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным,
как это детски-синее небо.
Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непо-
рочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва за-
метное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес
нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же муд-
рый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой
минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему мил-
лионы сердец, — и вот уже Он видит нас. И я вместе с
ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым
пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги
паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (— сия-
ние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Па-
774
ук—в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас
по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.
Но вот закончилось это величественное Его сошествие
с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же
понял: действительно все — тончайшая паутина, опа натя-
нута, и дрожит, и вот-вот порвется, и произойдет что-то не-
вероятное...
Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился
взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица
к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно ше-
веля пальцами, сигнализирует другому. И вот ответный
сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я по-
нял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит.
И во мне—как в настроенном на ту же длину волн при-
емнике радио — ответная дрожь.
На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слы-
шал ни одного слова: только мерные качания гекзаметри-
ческого маятника, и с каждым его размахом все ближе ка-
кой-то назначенный час.. И я еще лихорадочно перелисты-
ваю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все
еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо
скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а по-
том —
Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над
сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья — уши,
темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегу-
щее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы
между трибун.
S, I — какая-то нить (между ними — для меня все вре-
мя какая-то нить; я еще не знаю какая — но когда-нибудь
я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он клубочком
все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...
Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзи-
ло, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от
меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней
отвратительно негрогубый, ухмыляющийся R-13.
4 Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему
ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но неви-
димая, благодетельная паутина крепко спутала руки и но-
ги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как
сейчас: это острая, физическая боль в сердце; я, помню,
подумал: «Если от нефизических причин может быть фи-
зическая боль, то ясно, что----:»
Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается
175
только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмыс-
ленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер:
гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?
Установленный обычаем пятиминутный предвыборный
перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание.
Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным,
благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, ко-
гда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда не-
прирученное небо еще бушевало время от времени «гроза-
ми». Сейчас было, как у древних перед грозой.
Воздух — из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широ-
ко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает:
где-то сзади мышино-грызущий, тревожный шепот. Непод-
нятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом,
плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — не-
навистные мои — лохматые руки.
В руках у всех —бляхи с часами. Одна. Две. Три...
Пять минут... с эстрады — чугунный, медленный голос:
— Кто «за» — прошу поднять руки.
Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше,—
прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но
теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все су-
ставы— поднял руку.
Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «ах»! И я
чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не
понимал — что, и не было силы —я не смел посмотреть...
— Кто — «против»?
Это всегда был самый величественный момент празд-
ника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно скло-
няя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но
тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как
вздох, он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна.
Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно —
а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли
на лбу.
Я поднял глаза — и...
Это — сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи
рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел блед-
ное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку.
В глазах потемнело.
Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку
какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах
сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерян-
но мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воз-
776
духе перед самыми моими глазами — возле каблуков чей-
то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного
крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи
беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.
И как на экране — где-то далеко внизу на секунду пе-
редо мною побелевшие губы О; прижатая к стене в прохо-
де, она стояла, загораживая свой живот сложенными на-
крест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней,
потому что...
Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом
сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой сле-
ва, на скамье, вдруг выскочил R-13, брызжущий, красный,
бешеный. На руках у него—I, бледная, юнифа от плеча до
груди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала
его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на
скамью — отвратительный и ловкий, как горилла, — уносил
ее вверх.
Будто пожар у древних—все стало багровым — и толь-
ко одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить
себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран,
пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи, — и вот
уже близко, вот схватил за шиворот R:
— Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью,
моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бе-
жали).
— Кто? Что такое? Что? — обернулся, губы, брызгая,
тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из
Хранителей.
— Что? А вот не хочу, не позволю! Долой ее с рук —
сейчас же!
Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой
и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно за-
писывать это, но мне кажется: я все же должен, должен
записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до кон-
ца изучить историю моей болезни — тут я с маху ударил
его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо
помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения,
легкости во всем теле от этого удара.
I быстро соскользнула у него с рук.
— Уходите, — крикнула она R, — вы же видите: он...
Уходите, R, уходите!
R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо
какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I,
крепко прижал ее к себе и понес.
177
Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом
выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную
волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги — все рав-
но! Только бы так вот нести ее, нести, нести...
Вечером, 22 часа.
Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая ус-
талость после всех головокружительных событий сегодняш-
него утра. Неужели обвалились спасительные вековые сте-
ны Единого Государства? Неужели мы опять без крова,
в диком состоянии свободы — как наши далекие предки?
Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия —
против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем,
кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — зна^о?
Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной
скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Пра-
вое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кри-
визны— открыты; тончайшая красная змейка крови. Она
будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет,
больше: она видит все это — но это именно то, что ей сей-
час нужно, и если бы юнифа была застегнута, — она разо-
рвала бы ее, она...
— А завтра... — она дышит жадно сквозь сжатые свер-
кающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты по-
нимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты
понимаешь, что все известное кончилось? Новое, невероят-
ное, невиданное.
Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко, и
все дальше, потому что она смотрит на меня, она медлен-
но втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрач-
ков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как
однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то
непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы
(или это было в другой раз).
— Слушай: если завтра не случится ничего особенно-
го— я поведу тебя туда — ты понимаешь?
Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я —
растворился, я — бесконечно малое, я — точка...
Ё конце концов в этом точечном состоянии есть своя
логика (сегодняшняя): в точке больше всего неизвестно-
стей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может об-
ратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.
Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне
какется — все так же, как и я, боятся мельчайшего дви-
178
жения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись
в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не
слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно
смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, прохо-
дят на цыпочках по коридору, шепчутся...
Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?
Запись 26-я.
Конспект:
Мир существует. Сыпь. 41°.
Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкой,
круглое, краснощекое. Я думаю — меня меньше удивило
бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычай-
ное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеж-
дах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены.
Так что же, стало быть, мир — наш мир — еще существу-
ет? Или это только инерция, генератор уже выключен, а
шестерни еще громыхают и вертятся — два оборота, три
оборота — на четвертом замрут...
Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы про-
снулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете —
заблудились, и скорее, скорее начинаете ощупывать кру-
гом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лам-
почку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Го-
сударственной Газете — скорее, скорее — и вот:
«Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся
всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран
все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую
мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некото-
рым замешательством, вызванным врагами счастья, кото-
рые тем самым, естественно, лишили себя права стать кир-
пичами обновленного вчера фундамента Единого Государ-
ства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было
бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, ге-
роической симфонии — кашель случайно присутствующих в
концертном зале больных...»
О мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что,
спасены? Но что же в самом деле можно возразить на этот
кристальнейший силлогизм?
И дальше — еще две строки:
«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро
Административного, Бюро Медицинского и Бюро Храните-
лей. На днях предстоит важный Государственный акт».
Нет, еще стоят стены — вот они —я могу их ощупать.
179
И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что
я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удиви-
тельно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как
обычно — отправляются на работу.
Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне
казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за
угол, и я вижу: все как-то странно, стороной, огибают угол
здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу,
брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.
Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холод-
ной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте при-
мерно 2 метров на стене — четырехугольный листок бу-
маги, и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:
МЕФИ
А внизу — образно изогнутая спина, прозрачно колы-
хающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши
вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую —
как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — со-
рвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.
Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль:
«Если подойду я, один из всех, — не подумает ли он: я в
чем-нибудь виноват и именно потому хочу...»
Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил,
сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем,
сколько раз он спасал меня, и смело подошел, протянул
руку, сорвал листок.
S оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно,
что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь,
бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне
мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как
будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. То-
мительной, медленно подымающейся температуре инкуба-
ционного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорока-
градусный жар: тут уж по крайней мере ясно, что за бо-
лезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах, — это сыпь.
Я понимаю его улыбку1...
Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стек-
ле ступеней — опять белый листок: «Мефи». И на стене
внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено
наспех — небрежно, криво)—везде та же самая белая,
жуткая сыпь.
1 Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел
только через много дней, доверху набитых событиями самыми стран-
ными н неожиданными.
180
В тишине — явственное жужжание колес, как шум вос-
паленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул,
уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: чи-
тает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же
строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как
всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все
чаще и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда —
будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре чер-
ной чертой...
На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невиди-
мым пропеллером тишина. Станки молча, насупившись
стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках,
скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы
замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны
«Интеграла»: мы уже готовим его к пробному полету.
— Ну что: в неделю кончим погрузку?
Это я Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, распи-
санный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками
(глаза, губы), но они сегодня какие-то линялые, смытые.
Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и
стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой кра:
ном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик —
наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от
смеха — да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это,
когда вы сами слышите свой смех?).
— Нет, слушайте... — говорю я. — Представьте, что вы
на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось
крыло, вы турманом вниз, и по дороге высчитываете: «За-
втра— от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед...» Ну не смеш-
но ли? А ведь мы сейчас — именно так!
Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если б я
был стеклянный и не видел, что через каких-нибудь 3—
4 часа...
Запись 27-я.
Конспект:
Никакого конспекта — нельзя.
Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое
бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая,
тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.
Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже
прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.
На секунду прежний я, которому страшно, если откро-
181
ется эта дверь. Еще последние пять минут, и если она не
выйдет------
Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой
радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору,
назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все туск-
лее, тусклее...
Вдруг сзади торопливо брякнула дверь, быстрый то-
пот, мягко отскакивающий от потолка, от стен, — и она, ле-
тучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.
— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала:
ты-ты...
Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь —
й... Как рассказать то, что со мною делает этот древний,
нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих?
Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе вы-
метающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.
Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом,
медленно слова:
— Нет, довольно... после: сейчас — пойдем.
Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И не-
стерпимо пестрый гам, свист, свет...
& & &
С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже
йесколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно
трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В го-
лове как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья,
крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за дру-
гим...
Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову,
назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах,
ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Сте-
ну— и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный
от низшего мира город.
Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал 1. Она
засмеялась:
— Да нет же! Просто мы вышли за Зеленую Стену...
Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, на-
яву то самое, чего до сих пор не видел никто из живых
иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, зату-
шеванное мутным стеклом Стены.
Солнце... это не было наше, равномерно распределен-
ное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были
кйкие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна,
182
от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья,
как свечки, — в самое небо; как на корявых лапах присев-
шие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все
это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шараха-
ется какой-то шершавый клубочек, а я прикован, я не мо-
гу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — пони-
маете, не плоскость, — а что-то отвратительно мягкое, по-
датливое, живое, зеленое, упругое.
Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может
быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вце-
пившись в какой-то качающийся сук.
— Ничего, ничего! Это только сначала, это пройдет.
Смелее!
Рядом с I — на зеленой, головокружительно прыгающей
сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль...
нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор — нет, нет,
я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем
схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги
у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки,
клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист.;.
И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне —
люди... или уж я не знаю как: может быть, правильней —
существа.
Тут самое трудное. Потому что это выходило из вся-
ких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда
так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил —
даже ей. Возможно, что завтра я не буду верить и само-
му себе — вот этой своей записи.
На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня шу-
мела толпа в триста — четыреста... человек — пусть — «че-
ловек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из
общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете толь-
ко знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши
серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, со-
вершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые,
караковые, чалые, белые люди — по-видимому, люди. Все
они были без одежд и все были покрыты короткой блестя-
щей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на
лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок
были лица точно такие — да, да, точно такие же, — как и у
наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами,
и у них свободны от волос были также груди — крупные,
крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без
шерсти была только часть лица — как у наших предков.
183
Это было до такой степени невероятно, до такой степе-
ни неожиданно, что я спокойно стоял — положительно ут-
верждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузи-
те одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько
угодно — стрелка все равно не двинется...
Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и ку-
да она исчезла. Кругом только эти, атласно лоснящиеся
на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое,
вороное плечо:
— Послушайте — ради Благодетеля — вы не видали —
куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту...
На меня — косматые, строгие брови:
— Ш-ш-ш! Тише. — И космато кивнули туда, на сере-
дину, где желтый, как череп, камень.
Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее.
Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она —
на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный
силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так, будто не
облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и
поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уп-
лывает земля под ногами...
— Братья... — это она. — Братья! Вы все знаете: Там,
за Стеною, в городе — строят «Интеграл». И вы знаете:
пришел день, когда мы разрушим эту Стену—все стены —
чтобы зеленый ветер из конца в конец—по всей земле. Но
«Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи
инух земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями
сквозь черные ночные листья...
Об камень — волны, пена, ветер:
— Долой «Интеграл»! Долой!
— Нет, братья: не долой. Но «Интеграл» должен
быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо,
на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «Инте-
грала». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, что-
бы быть среди вас. Да здравствует Строитель!
Миг—и я где-то наверху, подо мною — головы, голо-
вы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и
падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я
чувствовал себя над всеми, я был я, отдельное, мир, я пе-
рестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.
И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как по-
сле любовных объятий, телом — внизу, около самого кам-
няу Солнце, голоса сверху—улыбка I. Какая-то зрлотово-
лосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина.
184
В руках у ней чаша, по-видимому, из дерева. Она отпива-
ет красными губами и подает мне, и я жадно, закрывши
глаза, пью, чтоб залить огонь, — пью сладкие, колючие,
холодные искры.
А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз бы-
стрее, легкая земля летит пухом. И все мне легко, про-
сто, ясно.
Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы:
«Мефи» — и почему-то это так нужно, это простая, прочная
нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение—мо-
жет быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрач-
ное тело, и там, где должно быть сердце, — ослепительный,
малиново тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь...
или не то: чувствую его — так же как, не слыша, чувствую
каждое слово (она говорит сверху, с камня) —и чувствую,
что все дышат вместе — и всем вместе куда-то лететь, как
тогда птицы над Стеной...
Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос:
— Но это же безумие!
И, кажется, я — да, думаю, что это был именно я,—
вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем —
зеленая зубчатая пила, и я кричу:
— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необхо-
димо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необхо-
димо— я знаю.
Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта
вверх, углом; и во мне уголь, и это мгновенно, легко, чуть
больно, прекрасно...
Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.
Медленно, низко — птица. Я вижу: она живая, как я,
она, как человек, поворачивает голову вправо, влево и в
меня ввинчиваются черные круглые глаза...
Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой ко-
сти шерстью. По спине ползет темное, с крошечными про-
зрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, что-
бы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...
Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени
лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древ-
них: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Жен-
щина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу
ли я это есть.
И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают
на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри.
185
И на секунду — или, может быть, это только мне кажет-
ся— прозрачные, летящие крылья-уши.
Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:
— Что ты?
. — Он здесь... Мне показалось...
— Кто он?
— ...Вот только сейчас — в толпе...
Угольно-черные тонкие брови вздернуты к вискам: ост-
рый треугольник, улыбка. Мне неясно: почему она улыба-
ется — как она может улыбаться?
— Ты не понимаешь—I, ты не понимаешь, что значит,
если он или кто-нибудь из них — здесь.
-т- Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, при-
дет в голову, что мы здесьь Вспомни: вот ты — разве ты
когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас
там — пусть ловят! Ты бредишь.
Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля —
пьяная, веселая, легкая — плывет...
Запись 28-я.
Конспект:
Обе. Энтропия и энергия. Непрозрачная часть тела.
Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких пред-
ков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткну-
лись на шестую, седьмую часть света — какую-нибудь Ат-
лантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди, па-
рящие в воздухе без помощи крыльев, или аэро, камни,
подымаемые вверх силою взгляда, — словом, такое, что вам
не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сно-
болезнью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите
же — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней
Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.
Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рас-
сказать подробнее об этом странном и неожиданном мире,
открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуть-
ся к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий,
и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы,
пригоршни — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а
ца эти страницы попадают только капли...
Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса —
и узнал ее голос, I, упругий, металлический, — и другой,
почти негнувшийся — как деревянная линейка, — голос Ю.
, Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих
ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.
186
I положила руку на спинку моего кресла и через плечо,
вправо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы
стоять под этой улыбкой.
— Послушайте, — сказала мне I, — эта женщина ка-
жется, поставила себе целью охранять вас от меня как
малого ребенка. Это — с вашего разрешения?
И тогда — другая, вздрагивая жабрами:
— Да он и есть ребенок. Да1 Только потому он и не
видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы... что
все это комедия. Да! И мой долг...
На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая мо-
их бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того —
с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протиски-
вая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в са-
мые жабры:
— С-сию же секунду — вон! Сию же секунду!
Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посе-
рели. Она раскрыла рот что-то сказать и, Ничего не ска-
зав, захлопнулась, вышла.
Я бросился к I:
— Я не прощу—я никогда себе этого не прощу! Она
смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю,
что... что она... Это все потому, что она хочет записаться
на меня, а я...
— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу
таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты поверишь не
тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашне-
го— я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в тво-
их руках, ты можешь — в любой момент...
— Что — в любой момент — и тотчас же понял — что,
кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об
этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понима-
ешь, что это тот я, прежний, а теперь...
— Кто тебя знает... Человек — как роман: до самой
последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не
стоило бы и читать...
1 гладит меня по голове. Лицо ее мне не видно, но по
голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, заце-
пилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно,
неизвестно куда...
Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:
— Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть,
мы уже последние дни... Ты знаешь, с сегодняшнего вечера
отменены все аудиториумы.
187
— Отменены?
— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториу-
мов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.
— Но что же это значит?
— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже
всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и
не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.
Я уж давно перестал понимать: кто — они, и кто—мы.
Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели.
Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю — и
вот-вот...
— Но это безумие, — говорю я. — Вы — и Единое Госу-
дарство. Это все равно, как заткнуть рукою дуло — и ду-
мать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное
безумие!
Улыбка:
— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти
с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...
Да, это у меня записано. И, следовательно, это было на
самом деле. Я молча смотрю на ее лицо: на нем сейчас
особенно явственно — темный крест.
— I, милая, — пока еще не поздно... Хочешь — я брошу
все, забуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим...
я не знаю, кто они.
Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там,
внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня
вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно:
поздно уже, мои слова уже ничего не могут...
Встала — сейчас уйдет. Может быть, уже последние дни,
может быть, минуты... Я схватил ее за руку.
— Нет! Еще хоть немного — ну, ради... ради...
Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку —
мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел
выдернуть, но она держала крепко.
— Твоя рука... Ведь ты не знаешь — и немногие это
знают, что женщинам отсюда, из города, случалось лю-
бить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель сол-
нечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и-------
Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ниче*
го — так несется сердце. И я кричу:
— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне
не расскажешь о них — потому что ты любишь... их, а я
лаже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина,
какую мы потеряли, Н2 и О —а чтобы получилось Н2О —
188
ручьи, моря, водопады, волны, бури — нужно, чтобы поло-
вины соединились...
Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как
она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все вре-
мя, пока я говорил, прижимала его острым ребром к ще-
ке— на щеке выступал белый рубец, потом наливался ро-
зовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее
слов — особенно вначале, — и только какие-то отдельные
образы, цвета.
Знаю: сперва это. было о Двухсотлетней Войне. И вот —
красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве сне-
гов— красные, непросыхающие лужи. Потом желтые,
сожженные солнцем травы, голые, желтые, всклокоченные
люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей
падали, собачьей, или, может быть, человечьей... Это, ко-
нечно,— за стенами: потому что город—уже победил, в
городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.
И почти с неба донизу — черные, тяжелые складки, и
складки колышутся: над лесами, над деревьями медленные
столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконеч-
ные вереницы, чтобы силою спасти их и научить счастью.
— Ты все это почти знал?
— Да, почти.
— Но ты не знал и только немногие знали, что неболь-
шая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Сте-
нами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у де-
ревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью,
но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь.
С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают,
как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса.
Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от беше-
ного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи,—
мы хотим...
— Нет, подожди — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?
— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты
помнишь: там, на камне — изображен юноша... Или нет: я
лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две
силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному
покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению
равновесия, к мучительно бесконечному движению. Энтро-
пии— наши или, вернее, — ваши предки, христиане, покло-
нялись как Богу. А мы, антихристиане, мы...
И вот момент — чуть слышный, шепотом, стук в дверь —
и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобучен-
189
ным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки
от I.
Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздуш-
ный насос — и не мог сказать ни слова: должно быть, бе-
жал во всю мочь.
— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.
— Идут — сюда... — пропыхтел наконец насос. — Стра-
жа... и с ними этот — ну, как это... вроде горбатенького...
— S?
— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Ско-
рее, скорее!
— Пустое! Успеется... — смеялась, в глазах — искры,
веселые языки.
Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут
.было что-то еще непонятное мне.
— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...
— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.
— Ну... ну, ради меня... Прошу тебя.
— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле...
Ну, все равно: завтра...
Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот —
высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса.
И я — один.
Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо —
чтобы они нашли меня за этой работой на пользу Едино-
го Государства. И вдруг—каждый волос на голове живой,
отдельный и шевелится: «А что если возьмут и прочтут хо-
тя бы одну страницу — из этих, из последних?»
Я сидел за столом, не двигаясь, — и я видел, как дро-
жали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сли-
ваясь, буквы...
Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из кори-
дора и из соседних комнат — увидят. И потом я уже не мо-
гу, не в силах истребить этот мучительный — и может быть
самый дорогой мне — кусок самого себя.
Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел толь-
ко схватить пачку листов, сунуть их под себя — и вот те-
перь прикованный к колеблющемуся каждым атомом крес-
лу, и пол под ногами —палуба, вверх и вниз...
Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — я
как-то исподлобья, крадучись, видел: они шли из комнаты
в комнату, начиная с правого конца коридора, и все бли-
же. Одни сидели застывшие, как я; другие — вскакивали
190
им навстречу и широко распахивали дверь — счастливцы!
Если бы я тоже...
— «Благодетель — есть необходимая для человечества
усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого
в организме Единого Государства никакая перистальти-
ка...» я прыгающим пером выдавливал эту совершенную
бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голо-
ве— сумасшедшая кузница, и спиною я слышал — бряк-
нула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною за-
плясало...
Только тогда я с трудом оторвался от страницы и по-
вернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах,
кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S —
мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во
мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой
листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежеднев-
ные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раз-
дувающиеся, розово-коричневые жабры...
Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса на-
зад, и мне было ясно, что она сейчас----Все мое суще-
ство билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрач-
ной) части тела, какою я прикрывал рукопись.
Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его
за рукав — и негромко сказала:
— Это — Д-503, Строитель «Интеграла». Вы, навер-
ное, слышали? Он — всегда вот так, за столом... Совершен-
но не щадит себя!
...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.
S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над
столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крик-
нул:
— Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!
Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он про-
читал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыб-
ка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком,
присела где-то в правом углу рта...
* — Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, про-
должайте: мы больше не будем вам мешать.
Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с
каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги,
руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по
всему телу, я дышал...
Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла,
нагнулась к уху — и шепотом:
191
— Ваше счастье, что я...
Непонятно: что она хотела этим сказать?
Вечером, позже, узнал: они увели с собою троих. Впро-
чем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, ни-
кто не говорит (—воспитательное влияние невидимо при-
сутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры —
главным образом о быстром падении барометра и о пере-
мене погоды.
Запись 29-я.
Конспект:
Нити на лице. Ростки. Противоестественная компрессия.
Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, ти-
шина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам —
буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдель-
ные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низри-
нут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, рас-
тут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе — но
еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не
рухнут на дно, к нам, вниз.
Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, поч-
ти невидимые нити. Их каждую осень приносит оттуда,
из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете:
что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите
смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться...
Особенно много этих нитей — если идти около Зеленой
Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться
о нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире».
Я уже миновал громаду Древнего Дома, когда сзади
услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание.
Оглянулся — и увидал: меня догоняла О.
Вся она была как-то по-особенному, законченно, упру-
го кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне
знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас про-
рвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне
представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же
упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы скорее
выбросить ветки, листья, скорее цвести.
Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.
— Я видела вас —тогда, в День Единогласия.
— Я тоже вас видел... — И сейчас же мне вспомнилось,
как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к сте-
, не и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее
круглый под юнифой живот.
192
Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и
розовая улыбка.
— Я так счастлива — так счастлива..; Я полна—пони-
маете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу,
что кругом, а все слушаю внутри, в себе...
Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно
мешало — ня никак не мог от этого освободиться. И вдруг
неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку — и
у себя на руке я почувствовал ее губы... Это — первый раз
в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор
древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожа-
луй, даже грубо) выдернул руку.
— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это —
вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете за-
быть о том, что вас ждет? Не сейчас — так все равно че-
рез месяц, через два месяца...
Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоро-
бились. А у меня в сердце — неприятная, даже болезнен-
ная компрессия, связанная с ощущением жалости (серд-
це — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжа-
тие — засасывание насосом жидкости — есть технический
абсурд; отсюда ясно: насколько в сущности абсурдны, про-
тивоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все
прочее, вызывающее такую компрессию).
Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-
красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, да-
ли во мне в виде равнодействующей — как мне кажется,
блестящую идею.
— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от
этого: увидать своего ребенка — и затем умереть. Вы смо-
жете выкормить его — понимаете — вы будете следить, как
он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как
плод...
Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.
— Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на про-
гулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте
к ней, и ручаюсь: я все устрою немедля.
Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами—
вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она
отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца
дрожали и изгибались вниз.
— Это — та самая, — сказала она.
— То есть... — я почему-то смутился. — Ну да: та са-
мая.
7 Запретная глаза
193
— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я проси-
ла ее — чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!
Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-
то вспомнила — обернулась и крикнула:
— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все
ли вам равно?
Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой рас-
тут на глазах — куски синих башен и стен, но им еще ча-
сы— может быть, дни — лететь сквозь бесконечность; мед-
ленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак
их не стряхнуть, никак не отделаться от них.
Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурд-
ная, мучительная компрессия...
Запись 30-я.
Конспект:
Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли?
Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме,
среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шу-
ма— красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранже-
вые цвета... И все время — под застывшей на мраморе
улыбкой курносого древнего поэта.
Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому
что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее
значение для судьбы Единого Государства — и больше:
Вселенной. И затем — здесь вы, неведомые мои читатели,
быть может, найдете некоторое оправдание мне...
I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:
— Я знаю, послезавтра у вас — первый, пробный полет
«Интеграла». В этот день — мы захватим его в свои
руки.
— Как? Послезавтра?
— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни ми-
нуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями,—
попало 12 Мефи. И упустить два-три дня — они погибнут.
Я молчал.
— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам долж-
ны прислать электротехников, механиков, врачей, метеоро-
логов. И ровно в 12 — запомни, — когда прозвонят к обеду
и все пойдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем
всех в столовой — и «Интеграл» наш... Ты понимаешь:
это нужно во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших
руках — это будет оружие, которое поможет кончить все
сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто
194
ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж
это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула
двигателей и одной только их работой...
Я вскочил:
— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно:
то, что вы затеваете, — это революция?
— Да, революция! Почему же это нелепо?
— Нелепо — потому что революции не может быть. По-
тому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция
была последней. И больше никаких революций не может
быть. Это известно всякому...
Насмешливый острый треугольник бровей:
— Милый мой: ты — математик. Даже—больше: ты
философ — от математики. Так вот: назови мне последнее
число.
— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?
— Ну — последнее, верхнее, самое большое.
— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконеч-
но, какое же ты хочешь последнее?
— А какую же ты хочешь последнюю революцию? По-
следней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это
для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо —
чтобы дети спокойно спали по ночам...
— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом —
ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?
— Положим... Ну хорошо: пусть даже так. А что
дальше?
— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи
что-нибудь детям —все до конца, а они все-таки непре-
менно спросят: а дальше, а зачем?
— Дети — единственно смелые философы. И смелые
философы — непременно дети. Именно так, как дети, все-
гда и надо: а что дальше?
— Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной — рав-
номерно, повсюду—разлито...
— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и
есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, матема-
тику,— разве не ясно, что только разности — разности —
температур, только тепловые контрасты — только в них
жизнь. А если всюду, по всей вселенной, одинаково теп-
лые— или одинаково прохладные тела... Их надо столк-
нуть— чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.
— Но, I, — пойми же, пойми: наши предки — во время
Двухсотлетней Войны — именно это и сделали...
195
— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них
только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть
последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка —
ошибка Галилея: он был прав, что Земля движется вокруг
Солнца, но он не знал, что вся Солнечная система — дви-
жется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоя-
щая, не относительная, орбита Земли — вовсе не наивный
круг...
— А вы?
— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Мо-
жет быть, забудем. Нет: даже наверное — забуде^, когда
состаримся — как неминуемо старится все. И тогда мы —
тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева —как
послезавтра вы... Нет, нет, милый, — не ты. Ты же — с на-
ми, ты—снами!
Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще
не видел ее такой — она обняла меня собою, вся. Я исчез...
Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:
— Так помни же: в 12.
И я сказал:
— Да, я помню.
Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама —
синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...
Да, в 12... — и вдруг нелепое ощущение чего-то посто-
роннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть*
Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда
в лицо I... Почему? Что за абсурд.
Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой...
Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над
Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового
кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пы-
лающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц ак-
кумуляторной башни. И все это—всю эту безукоризнен-
ную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими
руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?
Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню).
Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, по-
крытые простынями из белоснежного стекла; на белом —
пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто ка-
кое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противо-
естественно: мыслящему — зрячему существу жить среди
незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам
завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, споты-
каться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко —
196
край, один только шаг — и от вас останется только сплю-
щенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же
самое?
...А что если, не дожидаясь, — самому вниз головой?
Не будет ли это единственным и правильным, сразу рас-
путывающим все?
Запись 31-я.
Конспект:
Великая операция. Я простил все.
Столкновение поездов.
Спасены! В самый последний момент, когда уже ка-
залось — не за что ухватиться, казалось — уже все кон-
чено...
Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной
Машине Благодетеля, и с тяжелым лязгом уже накрыл
вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни,—
скорее — глотаете глазами синее небо...
И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и
веселое, и стена — такая радость погладить рукой холод-
ную стену — и подушка —без конца упиваться ямкой от
вашей головы на белой подушке...
Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня
утром прочитал Государственную Газету. Был страшный
сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий,—
я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас чи-
тать последние, написанные вчера, строки. Но все равно:
пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном,
что могло быть—и чего уже не будет... да, не будет!..
На первой странице Государственной Газеты сияло:
«Радуйтесь,
Ибо отныне вы — совершенны! До сего дня ваши же де-
тища, механизмы — были совершеннее вас.
Чем?
Каждая искра динамо — искра чистейшего разума; каж-
дый ход поршня — непорочный силлогизм. Но разве не тот
же безошибочный разум и в вас?
Философия у кранов, прессов и насосов — законченна
н ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия
менее циркульна?
Красота механизма — в неуклонном и точном, как ма-
ятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные систе-
мой Тэйлора, — не стали маятниково-точны?
197
И только одно:
У механизмов нет фантазии.
Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на
физиономии у насосного цилиндра — расплывалась дале-
кая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали ко-
гда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные
для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?
Нет!
А у вас—краснейте! — Хранители все чаще видят эти
улыбки и вздохи. И — прячьте глаза — историки Единого
Государства просят отставки, чтобы не записывать постыд-
ных событий.
Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни:
фантазия.
Это — червь, который выгрызает черные морщины на
лбу. Это — лихорадка, которая гонит вас бежать все даль-
ше—хотя бы это «дальше» начиналось там, где кончается
счастье. Это — последняя баррикада на пути к счастью.
И радуйтесь: она уже взорвана.
Путь свободен.
Последнее открытие Государственной Науки: центр
фантазии — жалкий мозговой узелок в области Варолиева
моста. Трехкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и
вы излечены от фантазии —
навсегда.
Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопро-
центному счастью — свободен. Спешите же все — стар и
млад — спешите подвергнуться Великой Операции. Спеши-
те в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да
здравствует Великая Операция. Да здравствует Единое Го-
сударство, да здравствует Благодетель!»
...Вы — если бы вы читали все это не в моих записях,
похожих на какой-то древний, причудливый роман,— если
бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахну-
щий краской газетный лист — если бы вы знали, как я, что
все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так
завтрашняя — разве не чувствовали бы вы то же самое,
что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас
голова? Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас
эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось
бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то
непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?
Я схватил телефонную трубку:
198
— 1-330... Да, да: 330, — и потом, захлебываясь, крик-
нул:— Вы дома, да? Вы читали — вы читаете? Ведь это же,
это же... Это изумительно!
— Да... — долгое, темное молчание. Трубка чуть слыш-
но жужжала, думала что-то... — Мне непременно надо вас
увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.
Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувст-
вовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так
вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над
головой...
Там, снаружи, на меня налетел ветер. Крутил, свистел,
сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно:
теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся
чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца —
мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы
Навины.
На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влип-
ши лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом
столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развер-
нутые желтым углом босые подошвы, белые медики — на-
гнулись к изголовью, белая рука — протянула руке напол-
ненный чем-то шприц.
— А вы — что ж не идете, — спросил я — никого, или,
вернее, всех.
— А вы, — обернулся ко мне чей-то шар.
— Я— потом. Мне надо еще сначала...
Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно
сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» —
я не мог ответить себе...
Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился
«Интеграл». В машинном гудела динамо — ласково, од-
но и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто
мое знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холод-
ную трубу двигателя. Милая... какая — какая милая. Завт-
ра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрог-
нешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...
Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклян-
ное чудовище, если бы все оставалось как вчера? Если бы
я знал, что завтра в 12 — я предам его... да, предам...
Осторожно — за локоть сзади. Обернулся: тарелочное,
плоское лицо Второго Строителя.
— Вы уже знаете, — сказал он.
— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — все, все
сразу...
199
— Да нет, не то: пробный полет отменили,, до после-
завтра. Все из-за Операции этой... Зря гнали, старались...
«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный чело-
век. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он
знал, что не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под
замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на
стену...
У меня в комнате, в 15.30. Я вошел — и увидел Ю. Она
сидела за моим столом — костяная, прямая, твердая, — ут-
вердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже
давно: потому что, когда вскочила навстречу • мне, — на
щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.
Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот
здесь же, возле стола, — она рядом с I, разъяренная... Но
только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем.
Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рас-
сеянности повернули выключатель — лампочка загорелась,
но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная...
Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все —
она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взвол-
нованно вздрагивая свисающими, как древние украшения,
щеками, — сказала:
Я ждала... я только на минуту... я только хотела
сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете:
завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново —
родились...
Я увидел на столе листок—последние две страницы
вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так
и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем,
все равно: теперь это — только история, теперь это — до
смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...
— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шел по про-
спекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мосто-
вой. И понимаете: тень — светится. И мне кажется — ну вот
я уверен — завтра совсем не будет теней, ни от одного че-
ловека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все...
Она — нежно и строго:
— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не
позволила говорить так...
И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, пове-
ла на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том,
чуо «любить — нужно беспощадно, да, беспощадно», и что,
она, кажется, наконец решится...
200
Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, бы-
стро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.
И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось,
солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце сту-
чит...
— Войдите!
На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голо-
ву вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в дру-
гой — ив каждом видеть себя — в чудесном плену...
А там, за стеною, буря, там — тучи все чугуннее: пусть!
В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух
вместе с солнцем лечу куда-то... нет, теперь мы уже зна-
ем, куда — и за мною планеты — планеты, брызжущие пла-
менем и населенные огненными, поющими цветами — и
планеты немые, синие, где разумные камни объединены в
организованные общества — планеты, достигшие, как наша
земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...
И вдруг — сверху:
— А ты не думаешь, что вершина — это именно объеди-
ненные в организованное общество камни?
И все острее, все темнее треугольник:
— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны,
не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких же-
ланий, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый пред-
рассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставим знак
плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — бо-
жественный минус.
Я — помню — растерянно пробормотал:
— Абсолютный минус — 273е...
— Минус 273 — именно. Немного прохладно, но разве
это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.
Как тогда, давно — она говорила как-то за меня,
мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом
что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытащил из
себя «нет».
— Нет, — сказал я. — Ты... ты шутишь...
Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в
секунду, досмеялась до какого-то края — оступилась —
вниз... Пауза.
Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно
смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет; только
ее острые, горячие губы.
— Прощай!
201
Это — издалека, сверху, и дошло до меня нескоро — мо-
жет быть, через минуту, через две.
— Как так «прощай»?
— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступле-
ния,—разве тебе не было мучительно? А теперь Опера-
ция— и ты излечишься от меня. И это — прощай.
— Нет, — закричал я.
Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:
— Как? Не хочешь счастья?
Голова у меня расскакивалась, два логических поезда
столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...
— Ну что же, я жду — выбирай: Операция и стопро-
центное счастье — или...
— Не могу без тебя, не надо без тебя, — сказал я или
только подумал — не знаю, но I слышала.
— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — все еще дер-
жа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская мо-
их глаз:
— Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?
— Нет. Отложено на один день... Послезавтра...
— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра...
Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня,
нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели,
летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два...
Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне
было ясно: все спасены, но мне спасения уже нет, я не хо-
чу спасения...
Запись 32-я.
Конспект:
Я не верю. Тракторы. Человеческая щепочка.
Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смер-
тен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что
вы это знаете. А я спрашиваю: случалось ли вам пове-
рить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а
телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые дер-
жат вот эту самую страницу, — будут желтые, ледяные...
Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыг-
нули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор еди-
те, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пи-
шете...
То же самое — да, именно то же самое — сегодня со
мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах
сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно поды-
202
мется Вверх, Перешагнет какую-то последнюю черту — и
настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же
как-то не верю — или, может быть, мне кажется, что
двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И отто-
го я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать
на вопросы, взбираться по трапу вверх на «Интеграл».
Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и пони-
маю— что надо ухватиться за поручень—и под рукою хо-
лодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, со-
гнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно
кормят «Интеграл» страшной взрывной пищей для дви-
гателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшие-
ся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень от-
дельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на листе
бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго
Строителя — вдруг говорит:
— Так как же: сколько берем топлива для двигателей?
Если считать три... ну, три с половиной часа...
Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со
счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.
— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите
сто...
Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра------
И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дро-
жать моя рука с циферблатом.
— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это—на не-
делю. Куда — на неделю: больше.
— Мало ли что... кто знает...
— Я знаю...
Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невиди-
мым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти —
и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду,—
ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там в кон-
це проспекта. Башённый шпиц — в тучах — тусклый, синий
и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкаль-
ного Завода.
Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды — какие-то
непрочные и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся.
И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлыну-
ли, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыхани-
ем комок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.
— Глядите! Нет, глядите — вон там, скорей!
— Они! Это они!
203
— ...А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Ма-
шину...
— Тише! Сумасшедший...
На углу, в аудиториуме — широко разинута дверь, и от-
туда — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят,
Впрочем, «человек» — это не то: не ноги — а какие-то тяже-
лые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода коле-
са; не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над
головами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым
золотым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы —
уже оперированы! Все за нами!»
Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу — и
ясно, будь вместо нас на пути стена, дерево, дом — они все
так же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, де-
рево, дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтив-
шись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И мы —
напряженный,' ощетинившийся головами комок — ждем^
Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.
Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись—
и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору —
обжали кольцом — и к разинутым дверям, в дверь, внутрь...
Чей-то пронзительный крик:
— Загоняют! Бегите!
И все ринулось. Возле самой стены —еще узенькие
живые воротца, все туда, головами вперед — головы мгно-
венно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи,
бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, раз-
брызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги,
взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза
мне — двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные
крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один —
среди секундных рук, ног—бегу...
Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к две-
рям— и тотчас же ко мне, как ветром, прибило маленькую
человеческую щепочку.
— Я все время... я за вами... Я не хочу — понимаете —
не хочу. Я согласна...
Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые
синие глаза: это она, О. И вот как-то вся скользит по сте-
не и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на
холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по
лицу —руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она —
сфвсем маленькая — маленькая часть меня же самого. Это
совершенно другое, чем I, и мне сейчас представляется:
204
нечто подобное могло быть у древних по отношению к их
частным детям.
Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо, — еле
слышно:
— Я каждую ночь... Я не могу — если меня вылечат...
Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он
будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить — пони-
маете? И вы должны — вы должны...
Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, дол-
жен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно пре-
ступление. Нелепое — потому что белое не может быть од-
новременно черным, долг и преступление—не могут совпа-
дать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зави-
сит только от основной логической посылки. И если посыл-
кой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...
— Ну хорошо — только не надо, только не надо...—
говорю я. — Вы понимаете: я должен повести вас к I —
как я тогда предлагал — чтобы она...
— Да...(— тихо, не отнимая рук от лица).
Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, мо-
жет быть, об одном и том же — по темнеющей улице, сре-
ди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки
ветра...
В какой-то прозрачной, напряженной точке — я сквозь
свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие,
как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опро-
кинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой
ТуЧ — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт
размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что
завтра... да, завтра — первый полет «Интеграла», это
будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.
О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои
громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю
сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно —
это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постуки-
вает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за
собою к I — ...»
Вместо того чтобы свернуть влево — я сворачиваю на-
право. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую
спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещен-
ных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбива-
ются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бе-
щеной белой пеной, искр. Ветер гудит — как где-то невы-
205
соко натянутая канатнобасовая струна. И сквозь бас —
сзади все время-----
Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала бы-
ло что-то:
— Нет! Вы же обещали...
Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь —
и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком —
знакомые, взволнованно вздрагивающие, обвислые щеки;
кругом — плотная кучка нумеров — какой-то спор, головы,
перевесившиеся со второго этажа через перила, — пооди-
ночке сбегают вниз. Но это — потом, потом... А сейчас я
скорее увлек О в противоположный угол, сел спиною к сте-
не (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад
и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.
О —медленно оседала в своем кресле — будто под юни-
фой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и
пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:
— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?
— Нет... Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?
— Да. Тень.
— Он —все время за мной... Я не могу. Понимаете —
мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и
пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.
Под юнифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-
чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный рассвет,
заря.
Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал
руку, последний раз зачеопнул глазами из ее синих глаз.
— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...
Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла —два
щага — быстро повернулась—и вот опять рядом со мной.
Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же,
одно и то же мне какое-то слово—и какая невыносимая
улыбка, какая боль...
А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, кро-
шечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро—все
быстрее...
Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующе раз-
дувая жабры, она сказала мне:
— Вы понимаете—все как с ума сошли! Вот он уве-
ряет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то че-
ловека— голый и весь покрыт шерстью...
Из пустой, ощетинившейся головами кучки — голос:
’ — Да! И еще раз повторяю: видел, да.
206
— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!
И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся,
что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это,
что творится со мною и вокруг меня за последнее время?»
Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось:
«В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть,
я тебя оттого и...»
Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.
Запись 33-я.
Конспект:
(Это без конспекта, наспех, последнее.)
Этот день — настал.
Скорей за газету: быть может — там... Я читаю газету
глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как
счетчик, который держишь, чувствуешь, в руках — это по-
стороннее, это инструмент).
Там — крупно, во всю первую страницу:
«Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь
за счастье! Завтра приостанавливаются работы — все ну-
мера явятся для Операции. Неявившиеся — подлежат Ма-
шине Благодетеля».
Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь
завтра?
По ежедневной инерции, я протянул руку (инструмент)
к книжной полке — вложил сегодняшнюю газету к осталь-
ным, в украшенный золотом переплет. И на пути:
— «Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту ком-
нату— я уже никогда больше, никогда...»
И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кру-
гом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собой —
я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что
жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле то-
гда сидела I — а я внизу, на полу... Кровать...
Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда, быть
может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...
Нет. Нет чуда...
Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки.
Прощайте—вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил
столько страниц, кому я, заболевший душой, — показал
всего себя, до последнего» смолотого винтика, до последней
лопнувшей пружины...
Я ухожу.
207
Запись 34-я.
Конспект:
Отпущенники. Солнечная ночь. Радио-валькирия.
О, если бы я действительно разбил себя и всех вдре-
безги, если бы я действительно — вместе с нею — оказал-
ся где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки
зверей, если бы я действительно уже больше никогда не
вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А те-
перь— что же? Пойти и задушить эту---------Но разве это
чему-нибудь поможет?
Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя
на крепкую логическую ось — хоть ненадолго навались изо
всех сил на рычаг—и, как древний раб, ворочай жернова
силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что
случилось...
Когда я вошел на «Интеграл» — все уже были в
сборе, все на местах, все соты гигантского стеклянного
улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные му-
равьиные люди внизу — возле телеграфов, динамо, транс-
форматоров, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей,
помп, труб. В кают-компании — какие-то над таблицами и
инструментами — вероятно, командированные Научным
Бюро. И возле них—Второй Строитель с двумя своими
помощниками.
У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, ли-
ца— серые, осенние, без лучей.
— Ну, что? — спросил я.
— Так... Жутковато... — серо, без лучей улыбнулся
один. — Может, придется спуститься неизвестно где. И во-
обще — неизвестно...
Мне было нестерпимо смотреть на них — на них, кого
я вот этими самыми руками через час навсегда выкину из
уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от ма-
теринской груди Единого Государства. Они напомнили мне
трагические образы «Трех Отпущенников» — история кото-
рых известна у нас любому школьнику. Эта история о том,
как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от
работы: делай что хочешь, иди куда хочешь1. Несчастные
слонялись возле места привычного труда и голодными гла-
зами заглядывали внутрь; останавливались на площа-
дях— и по целым часам проделывали те движения, какие
в определенное время дня были уже потребностью их орга-
1 Это давно, еще в III веке после Скрижали.
208
низма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами
побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец,
на десятый день, не выдержали: взявшись за руки, вошли
в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока
вода не прекратила их мучений...
Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торо-
пился уйти.
— Я только проверю в машинном, — сказал я, — и по-
том — в путь.
О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять для
пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кор-
мовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отве-
чал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая,—
внутри, о своем.
И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне ту-
да, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.
В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы,
серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобу-
ченные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял:
они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и оста-
лись только минуты — несколько десятков минут... Мель-
чайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не
прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен ог-
ромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и
вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дро-
жит...
Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда —
за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную руб-
ку: пора в путь... куда?
Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы вни-
зу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно
мне поднять руку, взять трубку командного телефона.
— Вверх — 45°!
Глухой взрыв — толчок—бешеная бело-зеленая гора
воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, рези-
новая— и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду —
все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжима-
лось— выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пу-
зырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумулятор-
ной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч —
мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты,
мили — синее быстро твердеет, наливается темнотой, кап-
лями холодного серебряного пота проступают звезды...
И вот — жуткая, нестерпимо яркая, черная, звездная,
209
солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще
видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые,
тишина. Такое было — немое — солнце.
Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы
вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро,
врасплох — что все кругом оробели, притихли. А мне—мне
показалось даже легче под этим фантастическим, немым
солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже пе-
реступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, вни-
зу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непо-
хожее, перевернутое...
— Так держать, — крикнул я в машину, — или не я, а
тот самый граммофон во мне — и граммофон механиче-
ской, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму
Строителю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной,
одному мне слышной дрожью, — побежал вниз, искать...
Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяж-
ко звякнет, замкнется... Возле двери — какой-то незнако-
мый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в
толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до ко-
лен: будто по ошибке наспех взяты из другого человече-
ского набора.
Длинная рука вытянулась, загородила:
— Вам куда?
Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может
быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:
— Я Строитель «Интеграла». И я — распоряжаюсь
испытаниями. Поняли?
Руки нет.
Кают-компания. Над инструментами, картами — объез-
женные серой щетиной головы — и головы желтые, лысые,
спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад,
по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и гро-
хот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной
присядке сверкающие мотыли, в неперестающей ни на се-
кунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах.
И вот — наконец — возле тахометра — он, с низко на-
хлобученным над записной книжкой лбом...
— Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо).—
Она здесь? Где она?
В тени — исподлобья — улыбка:
— Она? Там. В радиотелефонной...
,И я —туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых
Щлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, кры-
210
латая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и
будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице —
это от нее, и от нее здесь — легкий, молнийный, озонный
запах.
— Кто-нибудь... нет, хотя бы — вы... — сказал я ей, за-
дыхаясь (от бега). — Мне надо передать вниз, на землю,
на эллинг... Пойдемте, я продиктую...
Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За
столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:
— Ну, что же? Что же будет?
— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная —
лететь — все равно куда... И вот скоро 12 — и неизвестно
что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть —
на траве, на сухих листьях...
От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во
мне — еще чаще.
— Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь
(от бега).— Время 11.30. Скорость: 6800...
Она — из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бу-
маги, тихо:
— ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской...
Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я
ее отправила — она уже там, за стеною. Она будет жить...
Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с чер-
ным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; мед-
ленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрел7
ка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей,
чуть заметной (одному мне) дрожью.
Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло
не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.
— Стоп, — крикнул я в машину.
Все еще вперед — по инерции, — но медленней, медлен-
ней. Вот теперь «Интеграл» зацепился за какой-то се-
кундный волосок, на миг повис неподвижно, потом воло-
сок лопнул — и «Интеграл», как камень, вниз — все бы-
стрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен
пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12, и мне яс-
но: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный ка-
мень— и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться
оземь, чтоб вдребезги... А что, если... — внизу уже твердый,
синий дым туч... — а что, если...
Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку,
скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот
устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка — двд
211
кормовых и два носовых — только чтобы парализовав вес
«Интеграла», и «Интеграл», чуть вздрагивая, проч-
но, как на якоре, — стал в воздухе, в каком-нибудь кило-
метре от земли.
Все высыпали на палубу (сейчас 12, звонок на обед)
и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо,
валпом глотали неведомый, эастенный мир — там, внизу.
Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю
Синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины,
грозит желтый, высохший палец, должно быть, чудом уце-
левшая башня древней церкви.
— Глядите, глядите! Вон там — правее!
Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало
какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механи-
чески поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хво-
стом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у
них — те, караковые, белые, вороные...
Сзади меня:
— А я вам говорю: — видел — лицо.
— Подите вы! Рассказывайте кому другому!
— Ну нате, нате бинокль...
Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...
И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня, и всех —
пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту—12.
Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир.
На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне
все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком.
Голос: «А я говорю — лицо!» Темный квадрат: открытая
дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остроулыбающие-
ся зубы...
И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от
одного удара до другого, начали бить часы и передние
ряды уже двинулись, квадрат двери вдруг перечеркнут дву-
мя знакомыми, неестественно длинными руками:
— Стойте!
В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:
— Кто? Ты знаешь его?
— А разве... а разве это не...
Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное
и единственное из всех лицо:
— От имени Хранителей... Вам — кому я говорю, те
слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы
знаем. Мы еще не знаем ваших нумеров—но мы знаем,
все. «Интеграл» — вашим не будет! Испытание будет
212
доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете ше-
вельнуться — вы же, своими руками, сделаете это. А по-
том... Впрочем, я кончил...
Молчание. Стеклянные плиты под ногами — мягкие, ват-
ные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совер-
шенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы —
на ухо мне:
— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну что же....
Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-
крылатый шлем — где-то далеко впереди. Я — один засты-
ло, молча, как все, иду в кают-компанию...
— «Но ведь не я же — не я! Я же об этом ни с кем,
никому кроме этих белых, немых страниц...»
Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричал
ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже ни
разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то
спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):
— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь да-
же простой филологический анализ этого слова — показы-
вает, что это предрассудок, пережиток древних, феодаль-
ных эпох. А мы...
Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это...
Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жева-
тельных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как
в древнем непрозрачном доме — я завалил дверь камнями,
я завесил окна...
Потом — в руках у меня командная трубка, и лет — в
ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звезд-
но-солнечную ночь. Минуты, часы. И очевидно во мне все
время лихорадочно, полным ходом — мне же самому не-
слышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то
точке синего пространства: мой письменный стол, над
ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей.
И мне ясно: никто кроме нее, — мне все ясно...
Ах, только бы — только бы добраться до радио... Кры-
латые шлемы, запах синих молний... Помню — что-то гром-
ко говорил ей, и помню — она, глядя сквозь меня, как буд-
то я был стеклянный, — издалека:
— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...
В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твер-
до продиктовал:
— Время—14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец
всего.
Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла»
213
остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает
падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака —
и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явствен-
ней— вихрем мчится на нас — сейчас конец-------
Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строите-
ля. Вероятно, это он —толкнул меня со всего маху, я обо
что-то ударился головой и, уже темнея, падая, — туманно
слышал:
— Кормовые —полный ход!
Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.
Запись 35-я.
Конспект:
В обруче. Морковка. Убийство.
Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном...
Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами.
И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклян-
ной стали, обруч наклепан мне на голову, ц я — в одном и
том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю, — а потом пойти
к той и сказать: «Теперь — веришь?» Противней всего, что
убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову —
от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладко-
го во рту, и я не могу проглотить слюну, все время спле-
вываю ее в платок, во рту сухо.
В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяже-
лый поршневой шток (мне нужно было посмотреть струк-
туру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои
записи (пусть она прочтет всего меня — до последней бук-
вы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестни-
ца— бесконечная, ступени — какие-то противно скользкие,
жидкие, все время — вытирать рот платком...
Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток—
к контрольному столику -----
Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил:
сегодня — все работы отменены; все должны на Операцию,
и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...
На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит.
И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир
разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и
каждый из них, падая стремглав, на секунду останавли-
вался, висел передо мной в воздухе — и без следа испа-
рялся.
, Как если бы черные, точные буквы на этой странице —
вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда —и
214
ни одного слова, только бессмыслица: пуг-скак-как-. На
улице — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа —
прямо, назад, наискось, поперек.
И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, засты-
ло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воз-
духе, клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя —
она всем телом сломанно отогнулась назад. Это — навеки,
последний раз...
На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов.
Над головами — отдельно, в воздухе, — знамя, слова: «До-
лой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) —
я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль,
какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с серд-
цем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем-------»
И на секунду — ничего во всем мире, кроме (моей) звери-
ной руки с чугунно-тяжелым свертком...
Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней гу-
бой— тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засу-
ченного рукава, — вывернуто все лицо — он ревет — и от
кого-то со всех ног — за ним топот...
От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе,
нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску под*
земки.
В дверях кто-то бегом:
— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там —
Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск гра-
неных хрустальных солнц. Плотно утрамбованная голова-
ми платформа. Пустой, застывший поезд.
И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю
этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-
нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бро-
вей... Я закричал:
— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —
Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями.
И в тишине — голос:
— ...Нет: бегите наверх! Там вас — вылечат, там вас
до отвала накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, бу-
дете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая,—
разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смеш-
ные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви,
мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков.
А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — наверх — к
Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь
одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня
215
хотели другие, а хочу хотеть сама, — если я хочу невоз-
можного...
Другой голос — медленный, тяжелый:
— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими
дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вер-
тели хвостом? Нет: мы — за хвост, да под себя, а потом...
— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед но-
сом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное:
осел. Чтобы заставить его идти вперед, все вперед—перед
мордой к оглобле привязывали морковь так, чтоб он не
мог ухватить. И если ухватил, слопал...
Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где
говорила она — и в тот же момент все посыпалось, стис-
нулось— сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыг-
нул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики,
хрип, головы, пальцы...
Я не знаю, сколько времени мы катились так в подзем-
ной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее —
и мы снова на улице — веером, в разные стороны...
И вот — один. Ветер, серые, низкие—совсем над голо-
вой— сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубо-
ко— опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами
фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке — тянет
меня вглубь, ко дну.
Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, тем-
ная — ее комната.
Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем
виски стучали, я ходил — закованный все в одном и том же
кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол,
белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа:
над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная жел-
тая парабола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчи-
вых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я
чувствую: эти желтые строки — обо мне.
...Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетли-
во осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что
слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не
мог.
Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-корич-
невые жабры трепыхались.
— Ах, дорогой, — так это правда, вы ранены? Я как
только узнала — сейчас же...
t Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще гром-
че’. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почех
216
му-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту от-
вратительно-сладко... платок, но платка нет — сплюнул на
пол.
Тот, за стеной справа, — желтые пристальные морщи-
ны — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней —
если он будет смотреть... Я нажал кнопку — пусть ника-
кого права, разве это теперь не вее равно, — шторы упали.
Она очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к
двери. Но я опередил ее — и громко дыша, ни на секунду
не спуская глаз с этого места на голове...
— Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... — Она пяти-
лась задом — села, вернее, упала на кровать — засунула,
дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пру-
жинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи,
я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна
рука — схватил шток.
-г- Умоляю вас! День — только один день! Я завтра —
завтра же—пойду и все сделаю...
О чем она? Я замахнулся-------
И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои чита-
тели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что
спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:
—’ Ради... ради... Я согласна — я... сейчас.
Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу—про-
сторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать...
И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для
того, чтобы — что я хочу...
Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотал-
ся. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лоп-
нула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на
собственном опыте увидел, что смех — самое страшное ору-
жие: смехом можно убить все — даже убийство.
Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним
смехом — и не видел никакого выхода из всего этого не-
лепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось,
если бы развивалось естественным путем — но тут вдруг
новая внешняя слагающая: зазвонил телефон.
Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? — Ив
трубке чей-то незнакомый голос:
— Сейчас.
Томительное, бесконечное жужжание. Издали — тяже-
лые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней — и вот...
— Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедлен-
но ко мне!
217
Динь, — трубка повешена, — динь.
Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры
широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, ки-
нул на нее — сквозь зубы:
— Ну! Скорее — скорее!
Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок,
глаза круглые, вся повосковела.
— Как?
— Так. Ну — одевайтесь же!
Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос
вплющенный.
— Отвернитесь...
Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном
мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это —
я, это — во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже изве-
стно о ней, обо мне, обо всем?
Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей
руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму
то, что мне нужно:
— Слушайте... Ее имя — вы знаете, о ком, — вы ее на-
зывали? Нет? Только правду—мне это нужно... мне все
равно — только правду...
— Н$т.
— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сооб-
щили...
Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того маль-
чишки — и из щек, по щекам капли...
— Потому что я... я боялась, что если ее... что за это
вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу — я'не могла
бы!
Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая
правда! — Я открыл дверь.
Запись 36-я.
Конспект:
Пустые страницы. Христианский бог. О моей матери.
Тут странно — в голове у меня как пустая, белая стра-
ница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал)—ни-
чего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного
жеста. Как будто были перерезаны все провода между
мною и миром.
Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять
глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на ко-
ленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он
218
медленно шевелил пальцами. Лицо —где-то в тумане, ввер-
ху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко
мне с такой высоты — он не гремел как гром, не оглушал
меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий
голос.
t— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «Интеграла»?
Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором.
Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную
главу истории Единого Государства... Вы?
Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая
страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос,
но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я
увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла —
на меня уставился палец.
— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?
— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал
каждое Его слово.
— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы
пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмот-
реть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните:
синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные
кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрыз-
ганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех,
верхних, — самая трудная, самая важная. Да н$ будь их,
разве была бы поставлена вся эта величественная траге-
дия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это
автор трагедии —Бог — должен еще щедрее вознаградить
их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно
сжигающий на адском огне всех непокорных — разве Он
не палач? И разве сожженных христианами на кострах
меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите
это, все-таки этого Бога веками славили как Бога любви.
Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на не-
искоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий,
лохматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь
к человечеству — непременный признак истины — ее жесто-
кость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжи-
гает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, — доказывайте
же, спорьте!
Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были
(прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть
их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...
< — Если это значит, что вы со мной согласны, — так
давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать:
219
все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеле-
нок—молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-ни-
будь раз навсегда сказал им, что такое счастье, — и потом
приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы
теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспом-
ните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не
знают любви, там — блаженные с оперированной фантази-
ей (только потому и блаженные)—ангелы, рабы Божьи...
И вот, в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, ко-
гда мы схватили ее вот так (— Его рука сжалась: если бы
в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже
осталось только освежевать добычу и разделить ее на ку-
ски, — в этот самый момент вы — вы...
Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный,
как болванка на наковальне под бухающим молотом. Мо-
лот молча навис, и ждать — это еще... страш...
Вдруг:
— Вам сколько лет?
— Тридцать два.
— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слу-
шайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в
голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен,
от вас узнаем, — что им вы нужны были только как Строи-
тель «Интеграла» — только для того, чтобы через вас...
— Не надо! Не надо, — крикнул я.
...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле:
вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже
прожгла, уже вы корчитесь на полу.
Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... и тотчас
же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными
жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня
в комнате...
Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза. Передо
мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лы-
сине— мелкие капельки пота.
Как все просто. Как все величественно-банально и до
смешного просто.
Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот
ладонью и опрометью кинулся вон.
Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц,
и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!»
Тут — снова пустая, белая страница. Помню только:
ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, от*
йуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый
220
дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик —
должно быть, мне: «Эй! Эй! Сюда, к нам!>
Потом — пустынная площадь, доверху набитая тугим
ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада:
Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто
неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке заки-
нутая назад с полузакрытыми глазами голова: острая,
сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно
связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу уви-
деть, назвать вслух — не хочу, не надо.
Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к
Машине. Должно быть, шел дождь: лицо у меня мокрое.
Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто
не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спа-
сите!
Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот
именно—мать. И чтобы для нее — я не строитель «Инте-
грала:», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Госу-
дарства, а простой человеческий кусок — кусок ее же са-
мой— истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть
я прибиваю или меня прибивают — может быть, это одина-
ково— чтобы она услышала то, чего никто не слышит,
чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы —
Запись 37-я.
Конспект:
Инфузория. Светопреставление. Ее комната.
Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне:
— Да ешьте же! На вас смотрят!
Я— изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это —
как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины
разлетаются все шире — и мне от этого все больнее...
Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как
тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о
тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда,
воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, желез-
ный круглый гул — через головы, через дома — и далеко за-
мер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.
Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, за-
стопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе
вилки.
1 Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вско-
чили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, доже-
вывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случи-
221
лось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной
великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по
лестнице — ступени — топот — обрывки слов — как клочья
разорванного и взвихренного ветром письма...
Так же сыпались изо всех соседних домов, и через ми-
нуту проспект — как капля воды под микроскопом: запер-
тые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно
мечутся вбок, вверх, вниз.
— Аха, — чей-то торжествующий голос — передо мною
затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо
помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как
вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как ком-
пас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к
небу.
Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались,
давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и окра-
шенные тучами темные аэро Хранителей с свисающими чер-
ными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе,
что-то похожее-----
Сперва никто не понимал, что это — не понимал даже
и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем
другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро:
где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точ-
ки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — нако-
нец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзи-
тельными, падающими треугольниками заполнили небо, бу-
рей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на
столбы, на балконы.
— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — я
увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от
прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь
вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у не-
го—около глаз, около губ — пучками волос росли лучи,
он улыбался.
— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, кар-
канья,— крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену
взорвали! По-ни-ма-ете?
Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигу-
ры— головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. По-
средине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная
’(от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на
запад.
, ...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его
за руку:
222
. — Слушайте: где она — где 1? Там, за Стеной — или...
Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу...
— Здесь, — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие,
желтые зубы... — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы
действуем!
Кто — мы? Кто — я?
Около него — было с полсотни таких же, как он — вы-
лезших из своих темных подлобий, громких, веселых, креп-
козубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая та-
кими на вид смирными и нестрашными электрокуторами
(где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад,
за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м про-
спектом...
Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал
к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чу-
жой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам,
светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких до-
мах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бес-
стыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без вся-
ких талонов, среди бела дня...
Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь.
Внизу, за контрольным столиком, — пусто. Лифт застрял
посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по беско-
нечной лестнице. Коридор. Быстро—как колесные спицы —
цифры на дверях: —320, 326, 330... 1-330, да!
И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано,
перевернуто, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — нич-
ком, всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скоти-
на. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от сте-
ны. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розо-
вых талонов.
Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было
Д-503 — на всех был я — капли меня, расплавленного, пе-
реплеснувшего через край. И это все, что осталось...
Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу,
и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил
на стол, разгладил осторожно, взглянул — и... засмеялся.
Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете:
смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взры-
ва внутри вас: может быть — это праздничные, красные,
синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх
клочья человеческого тела...
На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя.
Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все
223
талоны со стола на пол, наступил на них — на себя каблу-
ком— вот так, так — и вышел...
Сидел в коридоре на подоконнике против двери—все
чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик:
лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пу-
зырь— и из прокола еще сочится что-то прозрачное, мед-
ленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И толь-
ко когда старик был уже далеко—я спохватился и оклик-
нул его:
— Послушайте — послушайте, вы не знаете: нумер
1-330...
Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял
дальше...
В сумерках я вернулся к себе домой. На западе небо
каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и
оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными
потухшими головешками: птицы.
Я лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, при-
душил меня сон...
Запись 38-я..
Конспект:
(Не знаю, какой. Может быть, весь конспект — одно:
брошенная папироска.)
Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил гла-
за. В голове — какой-то едучий синий дымок, все в тумане.
И сквозь туман:
«Но ведь я не зажигал свет — как же...»
Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, с
усмешкой глядела на меня I...
За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти
десять — пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую
тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас за-
крылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить
за руки —и, может быть, она засмеется и скажет...
I сидела за столом. Я кинулся к ней.
— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал,
ты------
Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные
копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взгля-
нула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сейчас
^ке все, в одну секунду, суметь сказать ей — так, чтобы пб-
верила — иначе уж никогда...
224
— Слушай, I, — я должен... я должен тебе все... Нет,
нет, я сейчас — я только выпью воды...
Во рту — сухо, все как обложено промокательной бу-
магой. Я наливал воду — и не могу: поставил стакан на
стол и крепко взялся за графин обеими руками.
Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы.—
Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым —
так же, как я воду, и сказала:
— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки
пришла. Там, внизу—меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти
наши последние минуты...
Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась че-
рез ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно
достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и
поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.
Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье —
медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...
И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теп-
лый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять
глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате
затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-
то цифры... Во мне они — сцепились в один клубок, и я
даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но
я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...
Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на
ярко-белой подушке — закинутая назад с полузакрытыми
глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все
время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о
чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все неж-
нее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от мо-
их пальцев...
Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):
— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?
— Да, правда.
И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением
смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо:
одни глаза.
Я рассказал ей все. И только — не знаю почему... нет,
неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что
Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен
только...
Постепенно, как фотографический снимок в проявителе,
выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Вста-
ла, подошла к зеркальной двери шкафа.
8 Запретная глава 225
Опять сухо во рту. я налил себе воды, но пить было
противно — поставил стакан на стол и спросил:
— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно
было узнать?
Из зеркала на меня — острый, насмешливый треуголь-
ник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась
что-то сказать мне, но ничего не сказала.
Не нужно. Я знаю.
Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, за-
дел стул — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в
комнате. Губы у нее были холодные—когда-то такой же
холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кро-
вати.
А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной
ее папиросой.
Я не могу больше писать — я не хочу больше!
Запись 39-я.
Конспект:
Конец.
Все это было как последняя крупинка соли, брошенная
в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, пополз-
ли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все
решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то
же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда
я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может вос-
креснуть.
На западе ежесекундно в синей судороге содрогалось
небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю
ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже
втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами
кровли...
Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не
было). На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с
водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было
все это скорее, как можно скорее.
Небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Ко-
лючие углы теней, все вырезано из синего осеннего возду-
ха— тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет,
разлетится стеклянной пылью. И такое—во мне: нельзя
думать, не надо думать, не надо думать, иначе--
• И я не думал, даже, может быть, не видел по-настояще-
му, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то
226
ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот
наверху — перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот —
головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно
быть, все это орет, каркает, жужжит...
Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, ули-
цы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, по-
датливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он ле-
жал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина.
Лицо...
Я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще
брызжущие смехом губы. Крепко зажмуривши глаза, он
смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и
побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сде-
лать все скорее, иначе — я чувствовал — сломаюсь, про-
гнусь, как перегруженный рельс...
К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вы-
веска— золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я
остановился, хлебнул воздуху сколько мог — и вошел.
Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок,
стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в ру-
ках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять оста-
навливались.
Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хва-
тал их за рукава, я молил их — как больной молит дать
ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей
мукой сразу перерубило бы все.
Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх
юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и
она все время поводила ими по сторонам, как будто имен-
но там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:
— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон,
вторая дверь направо...
И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и
я сейчас закричу или... или...
Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернул-
ся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые,
как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-
вот прорвет тонкий чехол.
— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь
в меня.
Я так и вцепился в него:
— Скорее—к вам в кабинет... Я должен все — сейчас
же! Это хорошо, что именно вам... Это может быть ужас-
но, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...
227
Он тоже знал ее, и от этого мне было еще мучитель-
ней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и
мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эТу по-
следнюю мою секунду...
Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прице-
пилась какая-то бумажка и заскребла на полу, когда дверь
закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то
особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть
одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я
бы все сдвинул сразу. Но он молчал.
И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, — я
сказал (не глядя):
— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого на-
чала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я
мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне
дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже
сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете,
вы знаете, что меня вызывал Благодетель?
— Да, знаю.
— Но то, что Он сказал мне... Поймите же — это вот
все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и
вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами...
чернила выплеснутся — и все в кляксу...
— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.
И тогда я — захлебываясь, путаясь — все что было, все,
что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом,
и то, что она сказала тогда о моих руках, — да, именно с
этого все и началось, — и как я тогда не хотел исполнить
свой долг, и как обманывал себя, и как она достала под-
ложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и
коридоры внизу, и как там — за Стеною...
Все это — несуразными комьями, клочьями — я захле-
бывался, слов не хватало. Кривые, двоякоизогнутые губы
с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благо-
дарно кивал: да, да... И вот (что же это?) —вот уже гово-
рит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так
именно и было, да, да!»
Я чувствую, как от эфира — начинает холодеть вот тут,
вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:
— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли...
У него усмешка — молча — все кривее... И затем:
— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы
перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного
забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там
228
мельком, на секунду, — вы видели там... меня? Да, да:
меня.
Пауза.
И вдруг —мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно:
он — он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я,
изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг —
все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме
и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнул-
ся ножом над своим сыном —над собою — вдруг сверху
голос: «Не стоит! Я пошутил...»
Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я
уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с
креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в
охапку —и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.
Не помню, как я очутился внизу, в одной из обществен-
ных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху,
все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей
истории цивилизация, а здесь—по чьей-то иронии — все
оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это —
осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут
только «мифы»...
Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-
то ласково поглаживает меня по плечу.
Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб —
огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые
строки морщин. И эти строки обо мне.
— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но
nce-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо
вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем откры-
тии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бес-
конечности нет!
Я дико посмотрел на него.
— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир
бесконечен, то средняя плотность материи в нем должна
быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем,—
то, следовательно, Вселенная — конечна, она сферической
формы и квадрат вселенского радиуса у2 = средней плотно-
сти, умноженной на... Вот мне только и надо—подсчитать
числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все конеч-
но, все просто, все—вычислено; и тогда мы победим фи-
лософски,— понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне за-
кончить вычисление, вы — кричите...
Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием
или его твердостью в этот апокалипсический час: в руках
229
у него (я увидел это только теперь) была записная книжка
и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все
погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, люби-
мые) — оставить свои записки в законченном виде.
Я попросил у него бумагу — и здесь я записал эти по-
следние строки...
Я хотел уже поставить точку — так, как древние стави-
ли крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг
карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...
— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же,
говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там,
где кончается ваша конечная Вселенная? Что там —
дальше?
Ответить он не успел; сверху — по ступеням — то-
пот —
Запись 40-я.
Конспект:
Факты. Колокол. Я уверен.
День. Ясно. Барометр 760.
Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать стра-
ниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или вообра-
жал, что чувствую это?
Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но —
к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких неле-
пых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что
я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь —
я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то за-
нозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего
постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нор-
мальное состояние нормального человека).
Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего
конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами,—
взяли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума — по-
чему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к сто-
лам и подвергнуты Великой Операции.
На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рас-
сказал ему все, что мне было известно о врагах счастья.
Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непо-
нятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь
(душа).
Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Бла-
грдетелем — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Ком-
нате. Привели ту женщину. В моем присутствии она долж-
но
на была дать свои показания. Эта женщина упорно мол-
чала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень
белые зубы и что это красиво.
Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое
лицо, а так как глаза у нее темные и большие—-то это бы-
ло очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачи-
вать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, гу-
бы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела
на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела,
пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с по-
мощью электродов быстро привели в себя и снова посадили
под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки
не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой
женщиной, оказались честнее: многие из них стали гово-
рить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступе-
ням Машины Благодетеля.
Откладывать нельзя — потому что в западных кварта-
лах— все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению —
значительное количество нумеров, изменивших разуму.
Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструи-
ровать временную Стену из высоковольтных волн. И я на-
деюсь— мы победим. Больше: я уверен — мы победим. По-
тому что разум должен победить.
АНДРЕИ ПЛАТОНОВ
КОТЛОВАН
Повесть
Шдень тридцатилетия личной жизни Вощеву
дали расчет с небольшого механического за-
вода, где он добывал средства для своего су-
ществования. В увольнительном документе
ему написали, что он устраняется с производ-
. ства вследствие роста слабосильности в нем
и задумчивости среди общего темпа труда.
Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел нару-
жу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воз-
дух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жа-
ру в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной доро-
ге— в природе было такое положение. Вощев не знал, ку-
да его влечет, и облокотился в конце города на низкую
ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных
детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там
была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых
категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора,
а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево
росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до
пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса.
Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забве-
нию своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче сре-
ди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не
зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел
к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел
дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и
с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, на-
верное в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр;
однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в
природу через приовражную пустошь, потому что ему ред-
ко полагалась радость, но ничего не мог совершить рав-
нозначного музыке и проводил свое вечернее время непод-
вижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл
еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать
нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и му-
читься сердцем, окруженным жесткими каменистыми ко-
стями.
232
— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведе-
нии.— Дай нам пару кружечек — в полость налить!
Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда
приходили парами, как женихи и невесты, а иногда це-
лыми дружными свадьбами.
Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое
пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие
рты.
— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем
должен приказывать, а ты гордишься!
Но пищевой берег свои силы от служебного износа
для личной жизни и не вступал в разногласия.
— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-ни-
будь на своей квартире.
Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке
и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.
— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а си-
дите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за по-
мещение!
Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Во-
прошающее небо светило над Вощевым мучительной силой
звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел
возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустил-
ся по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, что-
бы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был
покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожито-
го горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательно-
сти и не знал — полезен ли он в мире или все без него
благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ве-
тер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомне-
ния дала знать о своей службе пригородная собака.
— Скучно собаке, она живет благодаря одному рож-
дению, как и я.
Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал
холод на веках и закрыл ими теплые глаза.
Пивннк уже освежал свое заведение, уже волновались
кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалени-
ем открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова
предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком —
защищать свой ненужный труд.
— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди
производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, то-
варищ Вощев?
— О плане жизни.
233
— Завод работает по готовому плану треста. А план
личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в
красном уголке.
— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не
боюсь, она мне не загадка.
— Ну и что ж ты бы мог сделать?
— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от ду-
шевного смысла улучшилась бы производительность.
— Счастье произойдет от материализма, товарищ Во?
щев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не сможем, ты че-
ловек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте
масс.
Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой ра-
боты, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во
внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение
к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.
— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели
на шею!
— Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою
задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и
жил-—молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто дей-
ствовать будет?
—- Без думы люди действуют бессмысленно! — произ-
нес Вощев в размышлении.
Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь ле-
жал среди лета, по сторонам строили дома и техническое
благоустройство —в тех домах будут безмолвно существо-
вать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было рав-
нодушно к удобству, он мог жить, не изнемогая в открытом
месте, и томился своим несчастьем во время сытости, в дни
покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось мино-
вать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место
своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью,
и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь
горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.
Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. При-
выкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой,
а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коле-
нях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок
молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не
говоря.
Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что
мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а
ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь
234
Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на рабо-
ту ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного
надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну
жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело
сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей
Вощев, — сущности они не чувствуют».
— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Во-
щев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругае-
тесь, он же весь свет родился окончить.
Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью
лиц, глядели на свидетеля.
— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы по-
читали своего ребенка — вам лучше будет.
— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в
голосе спросил надзиратель дороги. — Ты идешь и иди, для
таких и дорогу замостили...
Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, по-
ка он уйдет, и держала свое зло в запасе.
— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого
какого-нибудь города?
— Близко, — ответил надзиратель, — если не будешь
стоять, то дорога доведет.
— А вы чтите своего ребенка, — сказал Вощев, — когда
вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя
на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувст-
вовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины,
он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная
точного устройства всего мира и того, куда надо стремить-
ся. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные,
проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то
кричали петухи на деревне — все предавалось безответно-
му существованию, один Вощев отделился и молчал. Умер-
ший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его при-
нес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу пред-
стояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист
и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал
всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел
смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Во-
щев,— лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты
никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя
буду хранить и помнить».
— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая,—
сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный
235
всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то
один или несколько немногих извлекли из нас убежденное
чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Во-
щев скоро, как только его душа вспоминала, что истину
она перестала знать.
Но уже был виден город вдалеке, дымились его коопе-
ративные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над
домами от движения населения. Тот город начинался куз-
ницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомо-
биль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле
коновязи и обращался к кузнецу:
— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный
толкнул его в зад.
— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков на-
делаю!
Вощев приостановился около калеки, потому что по
улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с
уставшей музыкой впереди.
— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. —
Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и
костыли твои пожгу!
— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на те-
лежке доставят — крышу с кузни сорву!
Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увеч-
ному табаку в кисет:
— Грабь, саранча!
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног —
одной совсем, а вместо другой находилась деревянная при-
ставка; держался изувеченный опорой костылей и подсоб-
ным напряжением деревянного отростка правой отсечен-
ной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их срабо-
тал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный
остаток туловища; его коричневые, скупо отверстые глаза
наблюдали посторонний для них мир с жадностью обез-
доленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его
терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.
Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку моло-
дого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего
будущего, ступали точным маршем босые девочки; их сла-
бые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчи-
вых, внимательных головах вольно возлежали красные бе-
реты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая де-
236
вочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувст-
ва своего значения, от сознания серьезности жизни, необ-
ходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая
из этих пионерок родилась в то время, когда в полях ле-
жали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры
имели кожу в час своего происхождения, потому что их
матери питались лишь запасами собственного тела; поэто-
му на лице каждой пионерки осталась трудность немощи
ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но
счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в
игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозна-
чили на детских лицах важную радость, заменившую им
красоту и домашнюю упитанность.
Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих
неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что
пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому
что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он,
Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в
тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добить-
ся своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию — он
захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жиз-
ни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног,
наполненных твердой нежностью.
Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к
кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время
своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив
родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой
силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях —
Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того на-
дулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и по-
шевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал на-
строение могучего увечного, но был рад, что уроду импе-
риализма никогда не достанутся социалистические дети.
Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и
Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких лю-
дей.
— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал
ОН инвалиду. — Ты бы лучше закурил!
— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий.
Вощев не двигался.
— Кому говорю? — напомнил калека. — Получить от
меня захотел?!
— Нет, — ответил Вощев. — Я испугался, что ты на ту
девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.
237
Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую
голову к земле.
— Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей
для памяти, потому что помру скоро.
— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя
повредили, — тихо проговорил Вощев. — Хотя калеки тоже
стариками бывают, я их видел.
Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в ко-
торых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный
вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а по-
том сказал с медлительностью ожесточения:
— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как
ты, — нету.
— Я на войне настоящей не был, — сказал Вощев.—
Тогда бия вернулся оттуда не полностью весь.
— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда
мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы —
идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!
— Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей,
а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое
мая!»
Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш
движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот го-
род жить.
До самого вечера молча ходил Вощев по городу, слов-
но в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако
ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в
темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но
ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно жи-
вущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую
силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте сво-
ей печали.
Только теперь он увидел середину города и строящиеся
устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено
на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий
запах сна приблизились сюда из общего пространства и
стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в
светлом месте электричества с желанием трудились люди,
возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесо-
вом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство не-
известной ему башни; он видел, что рабочие шевелились
равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в по-
стройке для ее завершения.
* — Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда
238
прибывают постройки? — не решался верить Вощев. — Дом
человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда бу-
дет?— сомневался Вощев на ходу.
Он отошел из середины города на конец его. Пока он
двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ве-
тер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы
сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что
они летали сверху и им было легче.
Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для
ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил
под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения
всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-
то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь
травяные рощи, росшие здесь испокон века.
К полночи косарь дошел до Вощева и определил ему
встать и уйти с площади.
— Чего тебе! — неохотно говорил Вощев. — Какая тут
площадь, это лишнее место.
— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть
каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это ме-
сто, а то оно скоро скроется навеки под устройством.
— А где же мне быть?
— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и
спи до утра, а утром ты выяснишься.
Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил до-
щатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на
спине семнадцать или двадцать человек, припотушенная
лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все
спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей
и костями у каждого было занято жилами, и по толщине
жил было видно, как много крови они должны пропускать
во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью пе-
редавал медленную освежающую работу сердца — оно би-
лось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснув-
шего. Вощев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не
выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного
человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально
скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытя-
нулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бара-
ке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал
с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого из-
лишка жизни, и во время сна оставалось живым только
сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал холод
усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеро-
239
вых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои
глаза, и довольный, что около них ночует, — и так спал, не
чувствуя истины, до светлого утра.
Утром Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он
проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.
— Он слаб!
— Он несознательный!
— Ничего: капитализм из нашей породы делал дура-
ков, и этот — тоже остаток мрака.
— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — го-
дится.
— Видя по его телу, класс его бедный.
Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего
дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблю-
дали его немощное положение.
— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил
один, у которого от измождения слабо росла борода.
— Я здесь не существую, — произнес Вощев, стыдясь,
что много людей чувствуют сейчас его одного. — Я только
думаю здесь.
— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?
— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормить-
ся не могу, я задумывался на производстве, и меня сокра-
тили...
Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были
равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль
освещала их терпеливые глаза.
— Что же твоя истина!—сказал тот, кто говорил
прежде. — Ты же не работаешь, ты не переживаешь веще-
ства существования, откуда же ты вспомнишь мысль!
— А зачем тебе истина? — спросил другой человек,
разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. — Только в уме у
тебя будет хорошо, а снаружи гадко.
— Вы уж, наверно, все знаете?—с робостью слабой
надежды спросил их Вощев.
— А как же иначе? Мы же всем организациям суще-
ствование даем! — ответил низкий человек из своего высох-
шего рта, около которого от измождения слабо росла бо-
рода.
В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел
ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел
на плите, которая топилась на дворе барака; время про-
240
буждения миновало, наступила пора питаться для дневно-
го труда...
Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо
шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был
изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого,
кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола,
косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб
и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по ку-
ску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали
серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не
наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что
равносильно вечному счастью, однако их лица были угрю-
мы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение.
Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблю-
дал этих грустно существующих людей, способных без тор-
жества хранить внутри себя истину; он уже был доволен
и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему
теле человека, который сейчас только говорил с ним, зна-
чит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы
стать терпеливым к жизни и трудоспособным.
— Иди с нами кушать! — позвали Вощева евшие люди.
Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую не-
обходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.
— Что же ты такой скудный? — спросили у него.
— Так,— ответил Вощев. — Я теперь тоже хочу рабо-
тать над веществом существования.
За время сомнения в правильности жизни он редко ел
спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.
Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный
среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после
питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд,
потому что люди нынче стали дороги, наравне с материа-
лом; вот уже который день ходит профуполномоченный по
окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить
бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоян-
ных тружеников, но редко кого приводит — весь народ за-
нят жизнью и трудом.
Вощев уже наелся и встал среди сидящих.
— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.
— Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше
постою.
— Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы
посидеть да подумать.
241
— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом,
а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб.
К бараку подошла музыка и заиграла особые жизнен-
ные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато име-
лось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в
дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезап-
ной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь
время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть
ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не
заплакать перед смертью от тоски тщетности.
Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тя-
жестью.
Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в
рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз
поперек старого города, чтобы увидеть значение того тру-
да, который начнется на выкошенном пустыре после ше-
ствия.
Артель мастеровых вышла наружу и со смущением ос-
тановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашли-
вал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в ви-
де музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожи-
данием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз
прослушать торжественный марш и молча порадоваться.
Другие робко опустили терпеливые руки.
Профуполномоченный от забот и деятельности забывал
ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете спла-
чивания масс и организации подсобных радостей для рабо-
чих он не помнил про удовлетворение удовольствиями лич-
ной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы проф-
уполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил
про недостаток домашнего имущества в своем семействе
или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее
тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух
процентов тоскующего труда. Но он не мог останавли-
ваться и иметь созерцающее сознание.
Со скоростью, происходящей от беспокойной преданно-
сти трудящимся, профуполномоченный выступил вперед,
чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифи-
цированным мастеровым, потому что они должны сегодня
начать постройкой то единое здание, куда войдет на посе-
ление весь местный класс пролетариата, — и тот общий дом
возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а ма-
лые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покро-
242
ет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание
исчахшие люди забытого времени.
К бараку подошли несколько каменных кладчиков с
двух новостроящихся заводов, профуполномоченный на-
прягся от восторга последней минуты перед маршем строи-
телей по городу; музыканты приложили духовые принад-
лежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не
готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах
музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.
— Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы
пойдем — чего мы не видали!
Профуполномоченный потерял готовность лица и по-
чувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его
обижали.
— Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело пока-
зать вашей первой образцовой артели жалость старой жиз-
ни, разные бедные жилища и скучные условия, а также
кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались
до революции без счастья, — тогда бы вы увидели, какой
это погибший город стоит среди равнины нашей страны,
тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом
пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...
— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес
Сафронов. — Что мы — или не видели мелочных домов, где
живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую орга-
низацию, а мы справимся с домом по одному своему со-
знанию.
— Значит, я псреугожденец? — все более догадываясь,
пугался профуполномоченный. —У нас есть в профбюро
один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?
И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел
в учреждение союза, и оркестр за ним.
На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сы-
ростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась об-
щая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату,
он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного
праха; обездоленный, Вощев согласен был и не иметь
смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в
веществе тела другого, ближнего человека, — и, чтобы на-
ходиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд
все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмыслен-
ностью.
Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой
от счета природы человек. Весь мир он представлял мерт-
243
вым телом — он судил его по тем частям, какие уже были
им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его
внимательному и воображающему уму, ограниченному
лишь сознанием косности природы; материал всегда сда-
вался точности и терпению, значит, он был мертв и пусты-
нен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого
вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался ма-
стеровым. Вощев видел, что щеки у инженера были розо-
вые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения,
и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и
бьется сердце.
Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные
работы и разметил котлован, и показал на вбитые колыш-
ки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и
добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом —
он во время земляных работ был старшим в артели, грун-
товый труд был его лучшей профессией; когда же настанет
пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.
— Мало рук, — сказал Чиклин инженеру, — это измор,
а не работа — время всю пользу съест.
— Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я
просил сто, — ответил инженер. — Но отвечать будем за
все работы в материке только вы и я: вы — ведущая
бригада.
— Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой.
Лишь бы люди явились.
И, сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мя-
коть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое ли-
цо. Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу
в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство
вырастет, радость сделается мыслью и будущий человек
найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из
высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи
былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной
твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоск-
ливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил
лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые поро-
ды. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не
мог его понять.
От сознания малочисленности своей артели Чиклин
спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего
тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно
билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого пре-
дохраняющего сала у Чиклина под кожей не было —его
244
старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он
ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точно-
стью. Когда-то он был моложе и его любили девушки — из
жадности к его мощному, бредущему куда попало телу,
которое не хранило себя и было преданно всем. В Чиклине
тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его
верного тела, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы
и самому было чего чувствовать, тогда женщины и това-
рищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по но-
чам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торго-
вые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что
томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние виш-
невые вечера.
К полудню усердие Вощева давало все меньше и мень-
ше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал
от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его.
Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабо-
сти капал в глину с его мутного однообразного лица, об-
росшего по окружности редкими волосами; при подъеме
земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя
мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно
желая сна.
— Козлов! — крикнул ему Сафронов. — Тебе опять не-
можется?
— Опять, — ответил Козлов своим бледным голосом
ребенка.
— Наслаждаешься много, —произнес Сафронов. —Бу-
дем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб
ты лежал и стыдился.
Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми гла-
зами и промолчал от равнодушного утомления.
— За что он тебя? — спросил Вощев.
Козлов вынул соринку из своего костяного носа и по-
смотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом
деле ни о чем не тосковал.
— Они говорят, — ответил он, — что у меня женщины
нету, — с трудом обиды сказал Козлов, — что я ночью под
одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не
гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!
Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что
глины и общей земли еще много остается — еще долго на-
до иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот
залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего
существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни
245
в голове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или кос-
нуться его печально текущим чувством.
— Сафронов, — сказал Вощев, ослабев терпеньем,—
лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не
разроешь до дна.
— Не выдумаешь, — не отвлекаясь, сообщил Сафро-
нов, — у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вро-
де Козлова думать сам себя, как животное.
— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спе-
реди.— Смотри людей и живи, пока родился.
Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз
они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет
в свое время неразлучно с людьми.
— Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! — сказал
Чиклин. — Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так моги-
лы роют, а не дома.
Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам
незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь
и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступ-
ление жизни после постройки больших домов и боялся, что
в ту жизнь его не примут, если он представится туда жа-
лобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство тро-
гало Козлова по утрам — его сердце затруднялось биться,
но все же он надеялся жить в будущем хотя бы малень-
ким остатком сердца; однако по слабости груди ему при-
ходилось во время работы гладить себя изредка поверх
костей и уговаривать шепотом терпеть.
Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов.
Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил
их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, по-
сыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту
сборную пищу для развития павших сил артели.
Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности,
не признавая за пищей цены, точно сила человека проис-
ходит из одного сознания.
Инженер обошел своим ежедневным обходом разные
непременные учреждения и явился на котлован. Он посто-
ял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда ска-
зал:
— В понедельник будут еще сорок человек. А сего-
дня— суббота: вам уже пора кончать.
— Как так кончать? — спросил Чиклин. — Мы еще куб
или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.
246
— А надо кончать, — возразил производитель работ.—
Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.
— Тот закон для одних усталых элементов, — воспре-
пятствовал Чиклин,*— а у меня еще малость силы осталось
до сна. Кто как думает? — спросил он у всех.
— До вечера долго, — сообщил Сафронов, — чего жиз-
ни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не жи-
вотные, мы можем жить ради энтузиазма.
— Может, природа нам что-нибудь покажет внизу,—
сказал Вощев.
— И то! — произнес неизвестно кто из мастеровых.
Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашне-
го времени, он не знал, как ему жить одному.
— Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда
посчитаю опять.
— А то что ж: ступай почерти и посчитай! — согласил-
ся Чиклин.— Все равно земля вскопана, кругом скучно —
отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.
Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил
свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы,
мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода,
а он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было тоск-
ливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над рав-
ниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей Рос-
сии теперь моют полы под праздник социализма, — наслаж-
даться как-то еще рано и ни к чему; лучше сесть, заду-
маться и чертить части будущего дома.
Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его уве-
личился.
— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать лю-
бят,— сообщил Козлов. — Хозяин бы себе враз дом пост-
роил, а вы помрете на порожней земле.
— Козлов, ты скот!—определил Сафронов. — На что
тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом ра-
дуешься?
— Пускай радуюсь!—ответил Козлов. — А кто меня
любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм
помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одея-
лом, и мне ведь грустно!
Вощев заволновался от дружбы к Козлову.
— Грусть —это ничего, товарищ Козлов, — сказал он,—
это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье все
равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!
В следующее время Вощев и другие с ним опять встали
247
на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пели пти-
цы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в
пространстве; ласточки низко мчались над склоненными
роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости,
и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с
самой зари, не переставая мучить себя для сытости птен-
цов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую
в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а
когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его ру-
ках осталось скудное печальное существо, погибшее от
утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на
уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем
будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из
окон живущим снаружи птицам.
Чиклин, не видя ни птиц, ни нёба, не чувствуя мысли,
грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в
глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная,
что в ночном сне его тело наполнится вновь.
Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором
обнажившийся известняк; он работал, не помня времени й
места, спуская остатки своей теплой силы в камень, кото-
рый он рассекал, — камень нагревался, а Козлов посте-
пенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться,
и разрушенный камень был бы его бедным наследством
будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения
заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые ко-
сти голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал
от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая,
что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он
попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал
всем:
— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто
тогда будет людьми?
Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал
вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и про-
хладное дыхание, и — точно грусть — стояла мертвая вы-
сота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень
в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скуч«?
но билось его ослабевшее сердце.
Производитель работ пролетарского дома вышел из сво-
ей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлова-
на была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тес-
248
ным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной
лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на
всякий несчастный случай или для того, кто внезапно за-
хочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и по-
глядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около сте-
ны спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на жи-
воте, и все тело шумело в питающей работе сна; босой
Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто
воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а
из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы —
от сновидения или неизвестной тоски.
Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке
светилась электричеством ночная постройка завода, но
Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого
строительного материала и усталых, недумающих людей.
Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вме<-
сто старого города, где и посейчас живут люди дворовым
огороженным способом; через год весь местный пролетари-
ат выйдет из мелкоимущественного города и займет для
жизни монументальный новый дом. Через десять или два-
дцать лет другой инженер построит в середине мира баш-
ню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудя-
щиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь пред-
видеть, какое произведение статической механики в смысле
искусства и целесообразности следует поместить в центре
мира, но не мог предчувствовать устройства души пересе-
ленцев общего дома среди этой равнины и тем более вооб-
разить жителей будущей башни посреди всемирной земли.
Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей
силы начнет биться сердце и думать ум?
Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не на-
прасно строились стены его зодчества; дом должен быть
населен людьми, а люди наполнены той излишней тепло-
тою жизни, которая названа однажды душой. Он боялся
воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь
из-за непогоды.
Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму
котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел
в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось
сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не про-
исходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образу-
ется надстройка? Каждое ли производство жизненного ма-
териала дает добавочным продуктом душу в человека?
А если производство улучшить до точной экономии —то
249
будут ли происходить из него косвенные, нежданные про-
дукты?
Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почув-
ствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему
понятию жизни, будто темная стена предстала в упор пе-
ред его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шеве-
лясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, са-
мое срединное, истинное устройство вещества, из которого
скомбинирован мир и люди, им постигнуто, — вся насущ-
ная наука расположена еще до стены его сознания, а за
стеною находится лишь скучное место, куда можно и не
стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-
нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к
стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближ-
него спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвест-
ное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной
лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, за-
падающее дыхание. Прушевский оставил барак и отпра-
вился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил,
чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.
После полуночи Прушевский пришел, на свою кварти-
ру— флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту
и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда
шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. По-
зади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно,
счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому
скучно спать.
Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звез-
да, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на
нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался:
— Либо мне погибнуть?
Прушевский не видел, кому бы он настолько требовал-
ся, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой
смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение, и
где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и
вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими
людьми существует его срок, когда придется лечь на койку,
повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев запла-
кать. На свете будет жить только его сестра, но она родит
ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мерт-
вому, разрушенному брату.
— Лучше я умру, —подумал Прушевский.—Мною поль-
зуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее
письмо сестре, надо купить марку с утра.
250
И, решив скончаться, он лег в кровать и заснул со
счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувство-
вать всего счастья, он от него проснулся в три часа попо-
луночи и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины,
окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и
тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешехо-
дов.
После общего пробуждения в ночлежный барак земле-
копов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых
его знал только Козлов благодаря своим прошлым кон-
фликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окр-
профсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный кор-
пус тела — не столько от числа годов, сколько от социаль-
ной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти
все знал или предвидел.
«Ну что ж, — говорил он обычно во время трудности,—
все равно счастье наступит исторически». И с покорностью
наклонял унылую голову, которой уже нечего было ду-
мать.
Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к зем-
ле, как ко всякому производству.
— Темп тих, — произнес он мастеровым. — Зачем вы
жалеете подымать производительность? Социализм обой-
дется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.
— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся,—
сказал Козлов.
— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!
Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали
в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек —ско-
рей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не по-
спеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыханья,
но зато посредством устройства дома ее можно организо-
вать впрок — для будущего неподвижного счастья и для
детства.
Пашкин глянул вдаль — в равнины и овраги; где-ни-
будь там ветры начинаются, происходят холодные тучи,
разводится разная комариная мелочь и болезни, размыш-
ляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат
живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех вс^
выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни.
И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал
в себе доброту к трудящимся.
— Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии
какие-нибудь льготы, — сказал Пашкин.
251
— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Саф-
ронов.— Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а
ты нам.
Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-пред-
видящими глазами и пошел внутрь города на службу. За
ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:
— Товарищ Пашкин, вон у нас Вощев зачислился, а у
него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится,
должны отчислить назад.
— Не вижу здесь никакого конфликта — в пролетариа-
те сейчас убыток, — дал заключение Пашкин и оставил
Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать
пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы
писать там опорочивающие заявления и налаживать раз-
личные конфликты с целью организационных достижений.
До самого полудня время шло благополучно: никто не
приходил на котлован из организующего или технического
Персонала, но земля все же углублялась под лопатами,
считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Вощев
иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой
слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его
радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка
в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет
там находиться, тем более следует человеку жить.
После полудня Козлов уже не мог надышаться — он
старался вздыхать серьезно и глубоко, но воздух не про-
никал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь
поверхностно, Козлов сел в обнаженный грунт и дотро-
нулся руками к костяному своему лицу.
— Расстроился? — спросил его Сафронов. — Тебе для
прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважа-
ешь конфликт: ты мыслишь отстало.
Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту
самородного камня, не останавливаясь для мысли или на-
строения; он не знал, для чего ему жить иначе — еще во-
ром станешь или тронешь революцию.
— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов.—
Не переживет он социализма — какой-то функции в нем
не хватает!
Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жиз-
ни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратил-
ся; он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, гля-
нул вдаль и вообразил воспоминание—больше он ничего
думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас рос-
252
ли. понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок;
неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на
каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посред-
ством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще
не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой
ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным ша-
гом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью
нужен для котлована, следовало только спланировать от-
косы и врезать глубину в водоупор.
— Козлов пускай поболеет, — сказал Чиклин, прибыв
обратно. — Мы тут рыть далее не будем стараться, а по-
грузим дом в овраг и оттуда наладим его вверх: Козлов
успеет дожить.
Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и
сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей устало-
сти и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю боль-
ше не роют и надо предпринимать существенную дисци-
плину. Собираясь совершить такую организованную поль-
зу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако
Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.
— Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон
она сама спускается в нашу массу.
Прушевский шел на котлован впереди неизвестных лю-
дей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно дей-
ствовать, беспокоиться о текущих предметах и строить
любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего
сознания, в котором он установил особое нежное равноду-
шие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к
остающимся людям. С особой трогательностью он отно-
сился к тем людям, которых ранее почему-либо не лю-
бил,— теперь он чувствовал в них почти главную загадку
своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и зна-
комые глупые лица, волнуясь и не понимая.
Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что
прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа.
Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без при-
стальности, обнаружил в них переученных наоборот город-
ских служащих, разных степных отшельников и людей,
привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади;
в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта
труда, они более способны были лежать навзничь или по-
коиться как-либо иначе.
Прушевский определил Чиклину расставить свежих ра-
бочих по котловану и дать им выучку, потому что надо
253
уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на
свете.
— Нам это ничто, — высказался Сафронов. — Мы их-
нюю отсталость сразу в активность вышибем.
— Вот-вот, — произнес Прушевский, доверяя, и пошел
позади Чиклина на овраг.
Чиклин сказал, что овраг — это более чем пополам го-
товый котлован и посредством оврага можно сберечь сла-
бых людей для будущего. Прушевский согласился с тем,
потому что он все равно умрет раньше, чем кончится зда-
ние.
— А во мне пошевельнулось научное сомнение, — смор-
щив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Сафронов.
И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окру-
жающих с улыбкой загадочного разума. — Откуда это у
товарища Чиклина мировое представление получилось? —
произносил постепенно Сафронов. — Иль он особое лоб-
зание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочита-
ет овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с това-
рищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не
вижу себе улучшенья!..
Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил
приблизительно:
— Некуда жить, вот и думаешь в голову.
Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцель-
ного мученика, а затем попросил произвести разведочное
бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал
тщательно работать над выдуманными частями общепро-
летарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть
людей в своих воспоминаниях. Часа через два Вощев при-
нес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Навер-
но, он знает смысл природной жизни», — тихо подумал
Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной
тоской, спросил:
— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?
Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неуже-
ли они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капи-
тализм родил двоешками, — боже мой, какое у него уже
теперь скучное лицо!
— Не знаю, — ответил Прушевский.
— А вы бы научились этому, раз вас старались
учить.
— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я
254
знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю
машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Все-
го целого или что внутри — нам не объяснили.
— Зря, — определил Вощев. — Как же вы живы были
так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она
мала!
Прушевский взял в руку образец овражного грунта и
сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим
темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся
за нею, шепча про себя свою грусть.
Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции само-
действующего разума, свободного от надежды и желания
удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и де-
формацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимо-
сти счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта
менее точно, — теперь же ему хотелось беспрерывно забо-
титься о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем
уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к лю-
дям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечива-
ло Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к на-
слаждению,— и детали сооружения возбуждали интерес,
лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с
единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни
в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло
Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо
утраченной подруги.
Окончив счисление своих величин,- Прушевский обеспе-
чил несокрушимость будущего общепролетарского жилища
и почувствовал утешение от надежности материала, пред-
назначенного охранять людей, живших доселе снаружи.
И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не
предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про ко-
торую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее
утратил даже в воспоминании.
Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский ос-
тавил канцелярию земляных работ. В природе отходил в
вечер опустошенный летний день; все постепенно кончалось
вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди, смирно
курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвест-
ный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, ре-
шив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пу-
сто, землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас
происходило их движение. Прушевскому захотелось вдруг
побыть в далеком центральном городе, где люди долго не
255
спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастроно-
мические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерски-
ми изделиями, где можно встретить незнакомую женщину
и пробеседовать с ней всю ночь, испытывая таинственное
счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге;
утром же, простившись под потушенным газовым фонарем,
разойтись в пустоте рассвета без обещанья встречи.
Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он
сидел когда-то у дома отца — летние вечера не изменились
С тех пор, — и он любил тогда следить за прохожими ми-
мо; иные ему нравились, и он жалел, что не все люди
знакомы между собой. Одно же чувство было живо и пе-
чально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо
дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить
ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматри-
вался во все женские лица и ни в одном из них не узна-
вал той, которая, исчезнув, все же была его единственной
подругой и так близко прошла не остановившись.
Во время революции по всей России день и ночь бре-
хали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудя-
щиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи без-
молвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен
для утреннего труда. Не спали только ночные смены строи-
телей да тот безногий инвалид, которого встретил Вощев
при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на
низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от
него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в не-
делю.
Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб
невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища
выходили в культурный сад, где даже ночью светились
цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела,
как котельная, производя ужин, и остановился против каби-
нета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глу-
боко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На
его столе находились различные жидкости и баночки для
укрепления здоровья и развития активности — Пашкин
много приобрел себе классового сознания, он состоял в
авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому
научно хранил свое тело — не только для личной радости
существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид
обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия
мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, до-
ведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести
256
сдое слово в окяо, ио Пашкин взял пузырек и после трех
медленных вздохов выпил оттуда каплю..
. — Долго я. тебя буду дожидаться? — спросил инвалид,
не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. — Опять хо-
чешь от меня кой-чего заработать?
Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума
успокоился— он никогда не желал тратить нервность сво-
его тела.
— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего воз-
буждаешься?
Жачев ответил ему прямо по факту:
. — Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю?
Тяжесть, хочешь получить в слепую кишку? Имей в ви-
ду—любой кодекс для меня слаб!
Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под
рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.
— Товарищ Жачев, — ответил Пашкин, — я тебя вовсе
не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории,
как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.
Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу
попадался, а не ты шел!
В кабинет Пашкина вошла его супруга —с красными
губами, жующими мясо.
— Левочка, ты опять волнуешься? — сказала она. —
Я; ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыноси-
мым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!
. Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.
— Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! — произносил
из сада Жачев. — На холостом ходу всеми клапанами рабо-
тает, значит, ты можешь заведовать такой с.,.1
Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми,
чтобы раздражаться.
— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содер-
жать для себя подругу: в пенсии учитываются все мини-
мальные потребности.
— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из
мрака. — Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо
только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи сво-
ей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще на-
лила!
। Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.
— Оля, он еще сливок требует, — обратился Пашкин.
. т- Ну вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на
щганы? Ты ведь .выдумаешь! ;
Запретная глава
257
— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал,—
сказал с клумбы Жачев.— Иль окно спальной прошиб до
самого пудренного столика, где она свою рожу уснащива-
ет,— она от меня хочет заработать!..
Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК
заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование,—
даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж
что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инва-
лиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив че-
рез окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.
— И качество продуктов я дома проверю, — сообщил
он, остановив свой экипаж у калитки. — Если опять порче-
ный кусок говядины или просто объедок попадется — на-
дейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше
вас — мне нужна достойная пища.
Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог
превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела
думать от скуки, и она выдумала во время семейного мол-
чания вот что:
— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-ни-
будь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на долж-
ность— пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каж-
дому человеку нужно иметь хоть маленькое господствую-
щее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты
все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!
Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокой-
ствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.
— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь мас-
сы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!
Он приложил свою голову к телу жены и затих в на-
слаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в са-
ду, вдалеке скрипела тележка Жачева — по этому скрипя-
щему признаку все мелкие жители города хорошо знали,
что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал
свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в
свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял про-
дукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное
тело, а сам не желал питаться этим зажиточным вещест-
вом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал
желание увидеть Никиту Чиклина и направил движение
своей тележки на земляной котлован.
— Никит! — позвал он у ночлежного барака^ После
звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая
258
грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось от-
вета Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.
— Без сна рабочий человек давно бы кончился, — поду-
мал Жачев и без шума поехал дальше. Но из оврага вы-
шли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им ви-
ден.
— Ты кто такой низкий? — спросил голос Сафронова.
— Это я, — сказал Жачев, — потому что меня капитал
пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного
Никиты?
— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот
же Сафронов. — Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.
Чиклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жа-
чева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.
— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин. — Кашу
приехал есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтре-
му прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.
Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь
и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все
равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин рабо-
тал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кор-
миться от рабочего класса; но среди лета он переменил
курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчи-
тывал принести пользу всему неимущему движению в
дальнейшее счастье.
— Я по тебе соскучился, — сообщил Жачев, — меня на-
хождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда
вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!
— Вот сделай злак из такого лопуха! — сказал Сафро-
нов про урода. —Мы все свое тело выдавливаем для об-
щего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь,
и нигде нету момента чувства ума!
Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и
произносил слова так же логично и научно, давая им для
прочности два смысла — основной и запасной, как всякому
материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него.
Вощев достал из угла чугун каши, закутанный для сохра-
нения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть.
Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сыро-
сти; они ходили в котлованы раскапывать водяной подзем-
ный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным зам-
ком.
Жачев не развернул своего свертка, а съел общую ка-
шу, пользуясь ею и для сытости, и для подтверждения
259
своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи
Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном
и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время.
Звездная темная ночь не соответствовала овражной, труд-
ной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов;
Если глядеть лишь понизу, в сухую мелочь почвы и в тра-
вы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было на-
дежды; общая всемирная невзрачность, а также людская
некультурная унылость озадачивали Сафронова и расша-
тывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал
сомневаться в счастье будущего, которое представлял в
диде синего лета, освещенного неподвижным солнцем,—
слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.
— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал
или сделал мне что-нибудь для радости!
— Что ж мне, обнимать тебя, что ли, — ответил Чик-
лин.— Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого
нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на рабо-
те жалеют, будто они в нем имеют что!
— Могу, — ответил Сафронов, — смело могу! Я этих
пастухов и писцов враз в рабочий класс обращу, они у
меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент
выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит?
Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних
пятилетний план?
Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо об-
росшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой,
либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Саф-
ронову его сомнения.
Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать.
Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а
Вощев лежал навзничь и глядел глазами с терпением лю-
бопытства.
— Говорили, что все на свете знаете, — сказал Во-
щев,— а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас
уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне
без истины стыдно жить.
Сафронов сделал на своем лице определенное выраже-
ние превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, ру-
ководящей походкой.
< — Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде
вам желательно получить этот продукт-г-® круглом или
жидком? . : >-
260
— Не трожь его, — определил Чиклин, —мы все жи-
вем на пустом месте, разве у тебя спокойно на душе?
Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума^
стоял с почтением к участи Вощева, хотя в то же время
глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый
враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья
может предстать!
— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей де-
кларации,— с полной значительностью обратился Сафро-
нов. — Вопрос встал принципиально, и надо его класть об-
ратно по всей теории чувств и массового психоза...
— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату
мне снижать, — сказал пробужденный Козлов. — Перестань
брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление по-
дам! Не беспокойся — сон ведь тоже как зарплата счита-
ется, там тебе укажут...
Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный
звук и сказал своим вещим голосом:
— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что
это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует,
если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Коз-
лов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь,
то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу
Вощеву буржуазия не оставила ведомости всемирного
мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехо-
творности?..
Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего
тела. Вощев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепо-
том самому себе на таинственную жизнь, в которой он без-
жалостно родился.
Все последние бодрствующие легли и успокоились; ночь
замерла рассветом —и только одно маленькое животное
кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя
или радуясь.
Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою
жизнь; он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все,
что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил
об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и
безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще
в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что
Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы
давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хо-
телось— наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал
о разными девушками и людьми под веточками, как делал
261
в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом за-
воде. Там дочь хозяина его однажды моментально поцело-
вала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце,
а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых
под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала
своими опухшими, молчаливыми губами в шерсть на щеке.
Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера,
но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным
существом, — и так он прошел в то время мимо нее не
остановившись, а она, может быть, и плакала потом, бла-
городное существо.
Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак,
который у Чиклина был единственным со времен покоре-
ния буржуазии, обосновавшись на ночь, как на зиму, он
собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь,
уснуть затем в утренней росе.
Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное по-
мещение и стал в темноте входа.
— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Пру-
шевский.— Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется,
что я кого-то утратил и никак не могу встретить...
Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочув-
ственно ответить и со стеснением молчал.
Прушевский сел на скамью и поник головой; решив
исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам
пришел к ним.
— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время
беспокоюсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до
утра?
— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин. — Среди нас
ты будешь отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я
где-нибудь пристроюсь.
— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно
и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не
думайте только что-нибудь про меня неправильно.
Чиклин и не думал ничего.
— Не уходи отсюда никуда, — произнес он. — Мы тебя
никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.
Прушевский сидел все в том же своем настроении; лам-
па освещала его серьезное, чуждое счастливого самочув-
ствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно,
прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось
терпеть до смерти и до ликвидации всего.
Сафронов приоткрыл от разговорного шума один rjj^
262
и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию
принять в отношении сидящего представителя интеллиген-
ции. Сообразив, он сказал:
— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведе-
ния, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем усло-
виям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблю-
даю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто
сзади вас ярость какая находится) Но раз курс на спецов
есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели
мое лицо и смело спали...
Жачев тоже проснулся на тележке.
— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушев-
ского. — А то у меня есть буржуйская пища.
— Какая такая буржуйская и сколько в ней питатель-
ности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов. — Где
это вам представился буржуазный персонал?
— Стихни, темная мелочь) — ответил Жачев. — Твое
дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб
очистить место!
— Ты не бойся, — говорил Чиклин Прушевскому, — ло-
жись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься,
так кричи меня.
Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на
место Чиклина и там лег в одежде.
Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на
ноги одеваться.
— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил,—
тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрыва-
ясь. — Все думал, что успею.
— Теперь вы механически выбывший человек: факт! —
сообщил со своего места Сафронов.
— Спите молча) — сказал Чиклин всем и вышел нару-
жу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.
Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушев-
ского; он мучился, что это руководящее умное лицо спит,
как ничтожный гражданин, среди лежащих масс, и теперь
потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко сооб-
ражать над таким недоуменным обстоятельством, он не
хотел и был не в силах допустить вред для всего государ-
ства от несоответствующей линии прораба, он даже завол-
новался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие
минуты жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чув-
ствовал внутри себя горячую социальную радость и эту ра-
дость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом,
263
дабы весь класс его узнал и заплакал' над ним. Здесь Коз-
лов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он
с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от
сна.
— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб, — хлад-
нокровно сказал он. — Наши рабочие еще не подтянулись
до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.
— Не ваше дело, — ответил Прушевский.
— Нет, извините, — возразил Козлов, — каждый, как
говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву,
а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это
никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию
портите, вы против темпа и руководства — вот что такое!
Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить се-
годня же, но попозднее Козлова в живот, как рвущуюся
вперед сволочь. А Вощев слышал эти слова и возгласы,
лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. «Лучше
б я комаром родился: у него судьба быстротечна», — пола-
гал он.
Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа,
посмотрел на знакомого ему Вощева и сосредоточился да-
лее взглядом на спящих людях; он хотел произнести томя-
щее его слово или просьбу, но чувство грусти, как уста-
лость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить.
Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушевскому:
— Если вечером ему опять покажется страшно, то пусть
приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть
лучше говорит.
Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали
вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий
день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над ни-
зовою бедностью земли; но другого места для жизни не
было дано.
— Однажды, давно — почти еще в детстве, — сказал
Прушевский, — я заметил, товарищ Чиклин, проходящую
мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело
было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувство-
вал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хо-
чу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.
— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чик-
лин.
— В этом же городе.
— Так она, должно быть, дочь кафельщика! — догадал-
ся Чиклин.
264
— Почему? — произнес Прушевский. — Я не понимаю!
— А я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же от-
казался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня
нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас
с тобой был один и тот же человек.
Прушевский скромно улыбнулся:
— Но почему же?
— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь;
лишь бы она жила сейчас на свете!
Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского,
потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил ко-
гда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому
человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица.
Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет дейст-
вовал вблизи и вдали на них обоих.
— Небось уж она пожилой теперь стала, — сказал
вскоре Чиклин. — Наверно, измучилась вся, и кожа на ней
стала бурая или кухарочная.
— Наверно, — подтвердил Прушевский. — Времени про-
шло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.
Они остановились на краю овражного котлована; надо
бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий
дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Пру-
шевскому, пребывало здесь в целости.
— А скорей всего, она теперь сознательница, — произ-
нес Чиклин, — и действует для нашего блага: у кого в мо-
лодых летах было несчетное чувство, у того потом ум яв-
ляется.
Прушевский осмотрел пустой район ближайшей приро-
ды, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и мно-
гие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смерт-
ной земле, на которой еще не устроено уюта, и он сказал
Чиклину одно огорчающее соображение:
— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, това-
рищ Чиклин, когда она придет?
Чиклин ответил ему:
— Ты ее почувствуешь и узнаешь — мало ли забытых
на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!
Прушевский понял, что это правда, и, побоявшись не
угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать
свою заботу о близком дневном труде.
Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчи-
вое, лицо, приблизился к Чиклину.
— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бро-
265
сали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время
производства настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы
установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.
Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении:
он считал свои революционные заслуги недостаточными, а
ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Се-
годня он проснулся после полуночи и до утра внимательно
томился о том, что главное организационное строительство
идет помимо его участия, а он действует лишь в овраге,
но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов
постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, что-
бы целиком отдаться наибольшей общественной пользе,—
так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.
Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его па-
разитом и произнес:
— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь ра-
бочую массу, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая
вша, которая свою линию всегда наружу держит.
— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов.—
А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты под-
говорил одного бедняка во время самого курса на коллек-
тивизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем,
кто коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты
четкий!
Сафронов, в котором идея находилась в окружении жи-
тейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа
и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой.
Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.
Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.
— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию,—
сообщил Козлов. — Хочу за всем следить против социаль-
ного вреда и мелкобуржуазного бунта.
— Рабочий класс — не царь, — сказал Чиклин, — он
бунтов не боится.
— Пускай не боится, — согласился Козлов. — Но все-
таки лучше будет, как говорится, его постеречь.
Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись
назад, он разогнался вперед и ударил со всей скорости
Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад
от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общест-
венной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вме-
сте с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в простран-
ство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить с лц-
нии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб он
266
первый разряд пенсии получил!» — и раздробил повозку
между телом и землей благодаря падению.
— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему челове-
ку.— Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе
уж пора отдышаться.
Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных
снах начальника Цустраха товарища Романова и разное
общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту
неделю.
Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с
другими очистил его одежду от земли и приставшего сора.
Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изне-
могшее тело в угол барака, сказал:
— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит —
из него какой-нибудь принцип вырастет.
Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на
пенсию.
— Прощай, — сказал ему Сафронов, — ты теперь как
передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его
в служебные учреждения...
Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно
отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой
имущественный сундучок.
В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек,
которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его
тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем,
как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно
на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл,
а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь
жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оце-
нивающий всю видимость со скорбью экономии.
Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему
никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли
кто еще живет без участия в строительстве, — и уже наста-
ло время труда в овраге.
Разные сны представляются трудящемуся по ночам —
одни выражают исполненную надежду, другие предчувст-
вуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное
время проживается одинаковым, сгорбленным способом —
терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую
пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодче-
ства.
267
Новые землекопы постепенно обжились и привыкли ра-
ботать. Каждый из них придумал себе идею будущего спа-
сения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти учить-
ся, второй ожидал момента для переквалификации, третий
же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководя-
щем аппарате, — и каждый с усердием рыл землю, посто-
янно помня эту свою идею спасения.
Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему
находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на
коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии,
и теперь наблюдал со спины животного великое рытье.
Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пе-
ших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить лошадь
так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и при-
бывал на автомобиле.
Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но
смирился от истощения тяжелым грунтом и только соби-
рал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы
как документы беспланового создания мира, как факты
меланхолии любого живущего дыхания.
И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше,
стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами,
что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также
среди артели; он находился там безмолвно, но искупал
саое существование женской работой по общему хозяйству
вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафронов
уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого му-
жика в союз как обслуживающую силу, но не знал, сколь-
ко скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли
батраки, поэтому задерживал свое намерение.
По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и то-
сковал о будущем, когда все станет общеизвестным и по-
мещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Во-
щева, что его желание безумное, потому что вражья иму-
щая сила вновь происходит и загораживает свет жизни,
надо лишь сберечь детей как нежность революции и оста-
вить им наказ.
— А что, товарищи, — сказал однажды Сафронов, — не
поставить ли нам радио для заслушанья достижений и ди-
ректив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна
была бы культурная революция и всякий музыкальный
звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!
— Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое
радио, — возразил Жачев. : Р
269
— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученья в
твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего
строительства?
Она сейчас сахару не ест для твоего строительства,
вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! —
бтветил Жачев.
— Ага, — вынес мнение Сафронов, — тогда, товарищ
Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную
девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласо-
ванно жить.
И Сафронов остановился перед всеми в положений
вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежден-
ной походкой и сделал активно мыслящее лицо.
— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме
детства лидера будущего пролетарского света: в этом то-
варищ Жачев оправдал то положение, что у него голова
цела, а ног нету.
Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел
притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужи-
ка н дать ему развитой рукой два удара в бок, как налич-
ному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только
зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой
защиты и молча стоял на земле.
— Ишь ты, железный инвентарь какой, — стоит и не
боится, — рассердился Жачев и снова ударил мужика с на-
веса Длинной рукой. — Значит, ему, ехидному, где-то ещё
больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий
cynpvrl
Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать
от Жачева удары за свою собственность в деревне и не-
слышно превозмогал боль.
— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приоб-
рести от Жачева карающий удар, — сказал Сафронов.—
А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему
жить.
— А для чего, товарищ Сафронов? — прислушался Во-
щев издали сарая. — Я хочу истину для производительно-
сти труда.
Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и На ли-
це его получилась морщинистая мысль жалости к отстало-
му человеку.
— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ
Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого
члена союза от этого лозунга должно тело гореть!
$69
Чиклина не было, он ходил по местности вокруг ка-
фельного завода. Все находилось в прежнем виде, только
приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья
рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но
кто-то существовал еще, притаившись за двойными рама-
ми в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости
Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и гром-
ко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солн-
це детства нагревало тогда пыль дороги, и своя жизнь
была вечностью среди синей, смутной земли, которой Чик-
лин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воз-
дух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей
пекарней и постаревшими яблоневыми садами.
Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина до-
водило его до печали тем более, что он увидел один забор,
у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор
Заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из
него, освобождаемые из тесноты древесины силой време-
ни; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал,
забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и раз-
нообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и,
помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел
мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей
от счастья рукой.
Кафельный завод был в травянистом переулке, по ко-
торому насквозь никто не проходил, потому что он упирал-
ся в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало
ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было
на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился
здесь — он сидел перед навесом для сырья и чинил лапти,
видно собираясь отправляться в них обратно в старину.
— Что же тут такое есть? — спросил у него Чиклин.
— Тут, дорогой человек, консервация — советская
власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не
угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую
малость осталось дышать.
Чиклин сказал ему:
— Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подо-
жди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь достав-
лю из одежды или питания.
— А ты сам-то кто же будешь? — спросил старик, скла-
дывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо.—
Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?
— Да я из пролетариата, — нехотя сообщил Чиклин.
270
— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя
обожду.
С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание
завода; вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на ко-
торой некогда его поцеловала хозяйская дочь, — лесенка
так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в
нижнюю темноту, и он мог на последнее прощанье только
пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин
увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то
ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не
внесенное в план помещение без окон, и там горела на по-
лу керосиновая лампа.
Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось
для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он
стал на месте посреди.
Около лампы лежала женщина на земле, солома уже
истерлась под ее телом, а сама женщина была почти не-
покрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она
томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее голо-
вы, тоже дремала, но все время водила по губам матери
коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка
заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя че-
люсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый тем-
ный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не
бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что
уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла
к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать
легко пробудилась и сказала:
— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам,
ты видишь, как мне трудно.
Девочка опять начала водить лимонной коркой по гу-
бам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое
питание из лимонного остатка.
—и А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила
она у дочери.
— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза
закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама
ведь!
Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные,
готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равно*
душия, и она произнесла для своей защиты:
— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно,
я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на
бок, я хочу умереть.
271
Девочка, сознательно молчала, по-прежнему смачивая
материнский рот лимонной шкуркой.
— Туши свет, — сказала старая женщина, — а то я все
вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру,
тогда пойдешь.
' Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел
на землю, боясь шуметь.
— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила
девочка в темноте.
— Немножко, — ответила мать. — Когда будешь ухо-
дить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась.
Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то те-
бя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама поза-
будься, тогда ты будешь жива...
— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуй-
ка, или от смерти...
— Мне стало скучно, я уморилась, — сказала мать.
— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет, — го-
ворила девочка. — Как ты только умрешь, то я никому не
скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна
буду жить и помнить тебя в своей голове... знаешь что,—
помолчала она, — я сейчас засну на одну только каплю,
даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.
— Сними с меня твою веревочку, — сказала мать,—
она меня задушит.
Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо;
до Чиклина не доходило даже их дыхание. Ни одна тварь,
видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь,
ничто, — не раздавалось никакого шума. Только раз был
непонятный гул — упал ли то старый кирпич в соседнем
забвенном убежище, или грунт перестал терпеть вечность
и разваливался в мелочь уничтожения.
— Подойдите ко мне кто-нибудь!
Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во
мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться
Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то
материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки,
Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился
к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка,
которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет.
Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному
остатку нежности в их спекшихся трещинах, что она та
ёамая.
— Зачем мне нужно? — понятливо сказала женщина. ->*-
272
Я * буду всегда теперь одна. — И,. повернувшись,, умерла
вниз лицом.
— Надо лампу зажечь, — громко произнес Чиклин и,
потрудившись в темноте, осветил помещение.
Девочка спала, положив голову на живот матери; она
сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась
в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдцха ребенку,
стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила
свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки
и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток по-
гибшей женщины.
В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и
сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.
Другие люди тоже либо лежали, либо сидели — общая
лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Паш-
кин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором,
чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл
классовой жизни из трубы.
— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на
фронт социалистического строительства! Крапива есть не
что иное, как предмет нужды заграницы...
— Товарищи, мы должны,— ежеминутно произносила
требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей!
Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать
тракторов!..
Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он
не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно бы-
ло о его чувстве активности, готовности на стрижку ло-
шадей и о счастье. Жачеву же, и наравне с ним Вощеву,
становилось беспричинно стыдно от долгих речей по ра-
дио; им ничего не казалось против говорящего и настав-
ляющего, а только все более ощущался личный позор.
Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчая-
ния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося
.из рупора:
— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..
Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной
походкой.
— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно
бросать свои выражения и пора всецело подчиниться про-
изводству руководства.
— Оставь, Сафронов, в покое человека, — говорил Во-
щев,— нам и так скучно жить.
273
Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность
радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом
могущества:
— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо бес-
прерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда.
Вызываю вас, товарищ Вощев, соревноваться на высшее
счастье настроенья!
Труба радио все время работала, как вьюга, а затем
еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен
помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь
радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле рав-
нодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.
Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действо-
вать вместо радио:
— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ?
И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-
нибудь родился, да больше места не было. А потому мы
должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него
слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание
на жар жизни вокруг костра классовой борьбой и произо-
шел бы энтузиазм!..
Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал
ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на ру-
ки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пу-
стую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не
слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский
сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер
мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю
музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не воз-
ражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, ко-
гда счастье недостижимо и о нем лишь шелестят деревья
и поет духовая музыка в профсоюзном саду.
Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, ус-
нула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах,
чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить
силы для производства.
Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих
людей и с горестью высказывался:
— Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя
скелет коммунизма! И что тебе надо?, Стерве такой? Ты
весь авангард, гадина, замучила!
И, четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов
прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.
А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку,
274
пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего и затем,
снова задремал.
Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди
стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про
черты меридианов:
— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?
— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали,—
объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.
— А моя мама через загородку не перелезала, а все
равно умерла!
— Ну так что ж, — сказал Чиклин. — Буржуйки все
теперь умирают.
— Пускай умирают, — произнесла девочка. — Ведь все
равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее
нету, мне спать не на чем головой.
— Ничего, ты будешь спать на моем животе, — обещал
Чиклин.
— А что лучше — ледокол сКрасин» или Кремль?
— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал
Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем
теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет
объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.
Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала
все предметы и всех людей, желая сразу же распределить,
кого она любит н кого не любит, с кем водиться и с кем
нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному са-
раю и захотела есть.
— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!
Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чи-
стым полотенцем.
— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!
— Какая я тебе Юлия!
— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще гла-
зами смотрела и дышала все время, то женилась на Мар-
тыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч,
как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю!
А мама молчит и все равно с ним водится.
Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже
не спал, встревоженный явившимся ребенком и вместе с
тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точ-
но морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее
и дольше его.
— Я нашел твою девушку, — сказал Чиклин Прушев-
скому. — Пойдем смотреть ее, она еще цела.
275
Прушевский встал и пошел, потому что ему было все
равно — лежать или двигаться вперед.
На дворе кафельного завода старик доделал свои лап-
ти, но боялся идти по свету в такой обуже.
— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в
лаптях иль не тронут? — спросил старик. — Нынче ведь
каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; ба-
бы сроду в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой
под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, как ведь
стало интересно!
— Кому ты нужен! — сказал Чиклин. — Шагай себе
молча.
,— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, ска-
жут, ты в лаптях идешь, значит—бедняк! А ежели бедняк,
то почему один живешь и с другими бедными не скопля-
ешься!.. Я вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.
— Подумай, старик, — посоветовал Чиклин.
— Да думать-то уж нечем.
— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.
— А я все уж позабыл, хоть сызнова живи.
Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился
и поцеловал ее вновь.
— Она же мертвая! — удивился Прушевский.
— Ну и что ж! — сказал Чиклин, — Каждый человек
мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нуж-
на не для житья, а для одного воспоминанья.
Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огор-
ченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни ра-
дости, ни нежности.
— Это не та, которую я видел в молодости, — произнес
он. И, поднявшись над погибшей, сказал мне: — А может
быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал
своих любимых, а вдалеке томился о них.
Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке
чувствовал кое-что остаточно-теплое и родственное, когда
ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо
приникать к нему.
Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и го-
рячая, она некогда прошла мимо него — он захотел тогда *
себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами,
ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в
унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды на-
стигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может
быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, умо-
276
рившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от
голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее по:
вернул Чиклин для своего поцелуя, — веревочка через темя
и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, об-
наженные ноги были покрыты густым пухом, почти шер-
стью, выросшей от болезней и бесприютности, — какая-то
древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее
жизни в обрастающее шкурой животное.
— Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хранят ее
здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже мно-
го, как и живых, им не скучно меж собой.
И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвест-
ную устарелую вещь, положил ее рядом со скончавшейся,
и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том
вечном возрасте, в котором умерла.
Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил
дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми ка-
менными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушев-
ский не помогал ему и спросил потом:
— Зачем ты стараешься?
— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже
люди.
— Но ей ничего не нужно.
— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-
нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу
горе мертвых или их кости, зачем мне жить!
Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки,
как память о скрывшемся навсегда, валялись на его месте.
Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент
труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на
котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным ли-
стьями, под которыми были укрыты и согревались семена
будущего лета.
Вечером того же дня землекопы не пустили в действие
громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на де-
вочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио.
Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей
подобные дети мала-мало возмужают, то он кончит всех
больших жителей своей местности; он один знал, что: в
СССР немало населено сплошных врагов социализма, эго-
истов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что
убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых
лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.
277
— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафро-
нов.— Чем у тебя папаша-мамаша занимались?
— Я никто, — сказала девочка.
— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип жен-
ского рода угодил тебе, что ты родилась при советской
власти?
— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать бур-
жуйкой будет.
— Так как же ты организовалась?
Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и на-
чала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутст-
вует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и
долго говорила ей мать.
— А я знаю, кто главный.
— Кто же? — прислушался Сафронов.
— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их
не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, пото-
му что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!
— Ну, девка, — смог проговорить Сафронов. — Созна-
тельная женщина — твоя мать! И глубока наша советская
власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют това-
рища Ленина!
Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу
барака про одно и то же свое горе, только не говорил, от-
чего оно, а старался побольше всем угождать. Его тоскли-
вому уму представлялась деревня во ржи, и над нею но-
сился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, разма-
лывающую насущный мирный хлеб. Он жил так в недав-
нее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье
в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль
и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние
неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца
и звезд.
Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как
можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.
— Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! — останавли-
вал его Сафронов. — Ведь здесь ребенок теперь живет, иль
ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулиро-
вана!
— Я, товарищ Сафронов, уж обсох, — заявил издали
мужик. — Это я по отсталости растрогался.
Девочка вышла с места и оперлась головой о деревян-
ную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была
новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и дол-
275
го лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и
умрет ее девочка.
— Где же живот-то? — спросила она, обернувшись на
глядящих на нее. — На чем же я спать буду?
Чиклин сейчас же лег и приготовился.
— А кушать! — сказала девочка. — Сидят все, как
Юлии какие, а мне есть нечего!
Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фрук-
товой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего
продмагом.
— Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно, что будет, а
из нас — уже известно.
Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она
побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила Чик-
лина рукой, как привычную мать.
Сафронов, Вощев и все другие землекопы долго на-
блюдали сон этого малого существа, которое будет господ-
ствовать над их могилами и жить на успокоенной земле,
набитой их костьми.
— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее
чувство. — Перед нами лежит без сознанья фактический
житель социализма. Из радио и прочего культурного ма-
териала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут
покоится вещество создания и целевая установка партии —
маленький человек, предназначенный состоять всемирным
элементом! Ради того нам необходимо как можно внезап-
ней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и
детский персонал огражден был от ветра и простуды ка-
менной стеной!
Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее
всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной сте-
не; это слабое тело, покинутое без родства среди людей,
почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жиз-
ни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному
дню.
И здесь решено было начать завтра рыть землю на час
раньше, дабы приблизить срок бутовой кладки и остально-
го зодчества.
— Как урод я .только приветствую ваше мнение, а по-
мочь не могу! — сказал Жачев.— Вам ведь так и так все
равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто, лучше
любите что-нибудь маленькое живое и отравливайте себя
трудом. Существуйте пока что!
Ввиду прохладного времени, Жачев заставил мужика
279
снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю
свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время
греться.
Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдени-
ях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал
марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокой-
ное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе,
влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать
для общей пользы.
Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и
изможденная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год,
на пасху, она присылала брату открытку, где сообщала:
«Христос воскресе, дорогой брат! Мы живем по-старому,
я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд,
теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить.
Твоя сестра Аня».
Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и,
перечитывая ее, иногда плакал.
В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Од-
нажды он остановился на холме, в стороне от города и
дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не
продолжалось дальше—в такие дни дремлют растения и
животные, а люди поминают родителей. Прушевский тихо
глядел на всю туманную старость природы и видел на кон-
це ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем бы-
ло света в воздухе. Он не знал имени тому законченному
строительству и назначению его, хотя можно было понять,
что те дальние здания устроены не только для пользы, но
и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к
печали человека наблюдал точную нежность и охлажден-
ную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не
видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал
самосветящегося закона для серого цвета своей родины.
Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира
этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но
не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели
синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нароч-
ную красоту детского изображения. «Когда же это выст-
роено?»— с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней
было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чу-
жое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу —
он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и не-
достроенный мир был похож на его разрушенную жизнь. .
Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город,
286
не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли
по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть род-
ного воздуха, а прохладная прозрачность.
Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин
на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмот-
ря на свою молодость, они, наверно, гуляли и ожидали
звездного вечера.
На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным
человеком, одетым в одни штаны.
— Вот к тебе, Прушевский, — сказал Чиклин. — Он
просит отдать гробы ихней деревни.
— Какие гробы?
Громадный, опухший от ветра и горя голый человек
сказал не сразу свое слово, он сначала опустил голову и
напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забы-
вал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он
утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни.
— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голо-
сом.-—Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы
копаете всю балку. Отдай гробы!
Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пи-
кета на самом деле было отрыто сто пустых гробов; два
из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей
постель на будущее время, когда она станет спать без его
живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого дет-
ского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уго-
лок.
— Отдайте мужику остальные гробы, — ответил Пру-
шевский.
— Все отдайте, — сказал человек. — Нам не хватает
мертвого инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те
гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!
— Нет, — произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь на-
шему ребенку, они для вас все равно маломерные; '
Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не со-
гласился:
— Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы
по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда
влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой
имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы об-
леживали, как в пещеру зарыть.
Давно живущий на котловане мужик с желтыми гла-
зами вошел, поспешая, в контору. 1
> — Елисей, — сказал он полуголому.— Я их тесемками
281
в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь
стоит!
— Не устерег двух гробов, — высказался Елисей. — Во
что теперь сам ляжешь?
— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя
на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под
корнем себе уготовил, умру — пойдет моя кровь соком по
стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка
стала, дереву не вкусна?
Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не
ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего
ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними
отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую це-
лой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шер-
стью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал
пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспо-
миная забытое или ища укромной доли для угрюмого по-
коя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз
затихшие глаза.
Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над
краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак,
был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился; он уже
управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях
отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец
веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и пово-
лок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю
житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий
Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гро-
бы по земле.
— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девоч-
ка, державшаяся за Чиклина.
— Нет, дочка, — ответил Чиклин. — Они живут в соло-
менных избушках, сеют хлеба и едят с нами пополам.
Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.
— А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни бур-
жуи, а бедные нет!
Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы
говорить.
— И один был голый! — произнесла девочка. — Одежду
всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась.
Моя мама тоже голая лежит.
— Ты права, дочка, на все сто процентов, — решил Саф-
ронов. — Два кулака от нас сейчас удалились.
— Убей их пойди! — сказала девочка.
282
— Не разрешается, дочка: две личности — это не
класс...
— Это один да еще один, — сочла девочка.
— Ав целости их было мало, — пожалел Сафронов.—
Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не
меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье со-
словие осиротели от врагов!
— Ас кем останетесь?
— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприя-
тий, понимаешь что?
— Да, — ответила девочка. — Это, значит, плохих лю-
дей всех убивать, а то хороших очень мало.
— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Саф-
ронов,— ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя са-
ма еще малолеток. Это монархизму люди без разбору тре-
бовались для войны, а нам только один класс дорог, да и
мы класс свой будем скоро чистить от несознательного эле-
мента.
— От сволочи, — с легкостью догадалась девочка. — То-
гда будут только самые-самые главные люди! Моя мама
себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла
и хорошая стала, правда ведь?
— Правда, — сказал Чиклин.
Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в тем-
ноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть
в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что рав-
нодушной рукой и думала.
Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спро-
сили:
— Ты что?
— Так, — сказала девочка, не обращая внимания.—
Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью
заснете, так я вас изобью.
Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и
каждому из них захотелось взять ребенка на руки и по-
мять ее в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое
место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.
Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механиче-
ски наблюдая даль; он по-прежнему не знал, есть ли что
особенное в общем существовании, ему никто не мог про-
честь на память всемирного устава, события же на поверх-
ности земли его не прельщали. Отдалившись несколько,
Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег поле-
289
жать, не видимым никем, довольный, что он больше не уча-
стник безумных обстоятельств.
Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужи-
ками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших
лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теп*-
лых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное
сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев по-
шел туда походкой механически выбывшего человека, не
сознавая, что лишь слабость культработы на котловане за-
ставляет его не жалеть о строительстве будущего дома.
Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нера-
достно на душе, тем более что в поле простирался мутный
чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду
над пространством стоял пар живого дыханья, создавая
сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на
свете, точно все живущее находилось где-то посредине вре-
мени и своего движения: начало его всеми забыто и конец
неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в
одну открытую дорогу.
Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле,
которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в свет-
ло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоян-
ной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую мас-
су. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал
некими самодовлеющими словами: «Ну хорошо, ну пре-
красно*— и продолжал. Про себя же любил произносить:
«Где вы теперь, ничтожная фашистка!» И многие другие
краткие лозунги-песни.
Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою
любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему
письма о своем обожании, он же, превозмогая обществен-
ную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфиска-
ции ее ласк, потому что искал женщину более благород-
ного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженно-
сти почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот
сектор социалистического строительства путем прекраще-
ния дамских писем к себе. И он написал даме последнюю
итоговую открытку, складывая с себя ответственность
любви:
«Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!
Козлов». “ J
284
> Этот стих он только что прочитал и спешил его не за-
быть. Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в посте-
ли книги, и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заве-
ты, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резо-
люций, строфы песен и прочее, он шел в обход органов
и организаций, где его знали и уважали как активную об-
щественную силу, — и там Козлов пугал и так уже напу-
ганных служащих своей научностью, кругозором и подко-
ванностью. Дополнительно к пенсии по первой категории
он обеспечил себе и натурное продовольствие.
Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не
трогаясь с места, заведующего и сказал ему:
;— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как
говорится, рочдэлльского вида, а не советского! Значит, вы
не столб со столбовой дороги в социализм?!
— Я вас не сознаю, гражданин, — скромно ответил за-
ведующий.
— Так, значит, опять: просил он, пассивный; не сча-
стья у неба, а хлеба насущного, черного хлеба! Ну хорошо,
ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорб-
лении, а через одну декаду стал председателем лавкома
этого кооператива. Он так и не узнал, что эту должность
получил по ходатайству самого заведующего, который учи-
тывал не только ярость масс, но и качество яростных.
Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума про-
шел на поприще строительства и стал на краю его, чтобы
иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается
ближних землекопов, то он сказал им:
— Не будьте оппортунистами на практике!
Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сооб-
щил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально за-
скучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь осо-
бенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу
против деревенских пней капитализма.
— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — вы-
сказался Сафронов. — Мы уже не чувствуем жара от ко-
стра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда
греться активному персоналу!
И после того артель назначила Сафронова и Козлова
идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при
социализме круглой сиротой или частным мошенником в
своем убежище.
Жачев подъехал к Пашкину .с девочкой на тележке и
сказал ему:
285
— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись,
стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!
— Факт! — произнесла девочка.
Здесь и Сафронов определил свое мнение.
— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш
будущий радостный предмет!
Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точ-
ку; уже много точек было изображено в книжке Пашкина,
и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к мас-
сам.
В этот вечер Настя постелила Сафронову отдельную
постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил
девочку поскучать о нем, потому что она одна здесь сер-
дечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь
вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бед-
ные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым
среди чужих.
Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее
и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно при-
выкла согревать постель своей матери перед тем, как туда
ложился спать неродной отец.
Маточное место для дома будущей жизни было готово;
теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Паш-
кин постоянно думал светлые думы, и он доложил главно-
му в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические
женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся
поверхность земли покроется семенящим детством; неуже-
ли же детям придется жить снаружи, среди неорганизован-
ной погоды?
— Нет, — ответил главный, сталкивая нечаянным дви-
жением сытый бутерброд со стола, — разройте маточный
котлован вчетверо больше.
Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол.
— Не стоило нагибаться, — сказал главный. — На бу-
дущий год мы запроектировали сельхозпродукции по окру-
гу на полмиллиарда.
Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину
для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего
темпами эпохи режима экономии.
Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для не-
медленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же,
пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не
вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забе-
жать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно
286
встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его,
и он запечатлеется в ней вечной точкой.
— В шесть раз больше, — указал он Прушевскому.—
Я говорил, что темп тих!
Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заме-
тив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что по-
чувствовал настроение инженерно-технической секции
своего союза.
Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расши-
рение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание зем-
лекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей.
Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на
телегу; затем он принес еще и второй гроб, а Настя стре-
милась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб
девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, при-
жав к себе, нес другой рукой гроб.
— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодо-
вала Настя. — Мне некуда будет вещи складать!
— Так уж надо, — отвечал Чиклин. — Все мертвые —
это люди особенные.
— Важные какие! — удивлялась Настя. — Отчего ж то-
гда все живут! Лучше б умерли и стали важными!
— Живут для того, чтобы буржуев не было, — сказал
Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге
сидели двое—Вощев и ушедший когда-то с Елисеем под-
кулацкий мужик.
— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.
— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им
теперь мои гробы отдали: ну что ты будешь делать?! — с
подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к те-
леге, озабоченная упущением.
Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест,
тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где
он был. Оставив блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел
шагом за удалившейся телегой.
До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка,
в боковой овражной стороне, горели укромные огни не-
известных жилищ, и там же заунывно брехали собаки —
может быть, они скучали, а может быть, замечали въез-
жавших командированных людей и пугались их. Впереди
Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не от-
рывался от нее.
Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги
вверх—на звездное собрание и в мертвую массовую муть
287
Млечного Пути. Ок ожидал, когда же там будет вынесена
резолюция о прекращении вечности времени, обискупле-
нии томительности жизни. Не надеясь, он задремал и про-
снулся от остановки.
Чиклин дошел до подводы через несколько минут и
стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеоб-
щая ветхость бедности покрывала ее — и старческие, тер-
пеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине
деревья, имели одинаковый вид грусти. Bq всех избах де-
ревни был свет, но снаружи их никто не находился. Чик-
лин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы про-
читать белую бумажку на двери. В той бумажке было
указано, что это обобществленный двор № 7 колхоза име-
ни Генеральной Линии и что здесь живет активист обще-
ственных работ по выполнению государственных постанов-
лений и любых кампаний, проводимых на селе.
— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.
Активист вышел и впустил его. Затем он составил при*
емочный счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет
и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших
товарищей.
— Я пойду сам, — определил Чиклин.
— Ступай, — ответил активист. — Только скажи мне
свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю.
Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая
тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с
жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье
строил необходимое будущее, готовя для себя в нем веч-
ность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс
редкими волосами. Лампа горела перед подозрительным
взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулац-
кую сволочь.
Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слу-
шая, не скачет ли по темной дороге верховой из района,
чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директи-
ву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно
подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных
людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась дирек-
тива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету
энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он
словно замирал на. мгновение от тоски жизни—-тогда он
жалобно глядел на любого человека, находящегося перед
его взором; это он .чувствовал воспоминание, что он — го-
ловотяп и упущенец, — так его называли иногда в. бумагам
283
из района. «Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в
общей, руководимой жизни?» — решал активист про себя
в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел
быть членом общего сиротства и боялся долгого томления
по социализму, пока каждый пастух не очутится среди
радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангар-
да и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Осо-
бенно долго активист рассматривал подписи на бумагах:
эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть
целого тела, живущего в довольстве славы на глазах пре-
данных, убежденных масс. Даже слезы показывались на
глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей
и изображениями земных шаров на штемпелях; ведь весь
земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие, же-
лезные руки, — неужели он останется без влияния на
всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного
счастья активист гладил свою истощенную нагрузками
грудь.
— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину.—
Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бес-
честья: видишь, как падает наш героический брат!
Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной
залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая
большая лампа, назначенная для освещения заседаний,
горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе пре-
зидиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не бы-
ли заметны их гибельные увечья и живые не побоялись бы
так же умереть.
Чиклин встал у подножия скончавшихся и спокойно
засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет
теперь Сафронов из своего ума и Козлов не поболит ду-
шой за все организационное строительство и не будет по-
лучать полагающуюся ему пенсию.
Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза;
ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины
коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к
лицам мертвых и потрогал их рукой.
— Что, Козлов, скучно тебе?
Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи
убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный че-
ловек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полу-
открытым ртом, росли даже из губ, потому что его не це-
ловали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова вид-
нелась засохшая соль бывших слёз, так что Чиклину прй-
Ю Запретная глава
шлось стереть ее и подумать — отчего же это плакали в
конце жизни Сафронов и Козлов?
— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь
встать все-таки?
Сафронов не мог ответить, потому что сердце его ле-
жало в разрушенной груди и не имело чувства.
Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе,
к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в
плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пу-
стоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы
одного человека, слушающего дождь, могла бы вознагра-
дить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в
огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и
лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроно-
вым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская
лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в по-
мещение явился Елисей и тоже не потушил огня; ему бы-
ло все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял
некоторое время и вышел так же, как пришел.
Прислонившись грудью к воткнутой для флага жер-
дине, Елисей уставился в мутную сырость порожнего ме-
ста. На том месте собрались грачи для отлета в теплую
даль, хотя время их расставания со здешней землей еще
не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел ис-
чезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким,
малосознательным телом птицы, но теперь он уже не ду-
мал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог.
Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел докумен-
ты середняка, и его сердце билось по закону.
Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей по-
дошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно при-
слушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или при-
роды, потому что ему никто не говорил слов и не давал
понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное
звучание.
Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежа-
щими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умер-
ших своими словами.
— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я
ведь остался, буду теперь, как ты: стану умнеть, начну вы-
ступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты
вполне можешь не существовать...
Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь
чистое стекло.
290
— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя
забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погиб-
шую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их
никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь
активным, всю организационность на заметку возьму, на
пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!
Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина
слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда.
Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов те-
перь рады, сказал им:
— Пускай весь класс умрет — да я и один за него оста-
нусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить
для самого себя я не знаю как!.. Чья это там морда уста-
вилась на нас? Войди сюда, чужой человек!
Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не сооб-
ражая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера
вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к пита-
нию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.
— Это ты убил их? — спросил Чиклин.
Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал
их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные,
пустые глаза.
— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто уби-
вает нашу массу.
Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место,
где находилось последнее сборище грачей; грачи ему да-
ли дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с
желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал
на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изо-
бразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.
— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?
— Так себе, — сказал Елисей.
— Тогда — ничего, — покойно произнес пишущий му-
жик.— А мертвых не обмывали еще в совете? Пугаюсь, как
бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня ру-
кой тронет, что я жив, а двое умерли.
Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем
свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед,
не зная, где ему лучше всего находиться.
Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших
одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать
в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова
одел и положил оба тела на стол.
291
— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их
убил?
— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем
нечаянно.
— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар
в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал,
но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал
про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал
перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исхода-
тайствовать себе посредством мученья право жизни бедня-
ка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему
механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои
желтые глаза.
Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чик-
лину, что мужик стих.
— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.
— Нет, — ответил Елисей.
— Положь его в середку между моими товарищами.
Елисей поволок мужика к столу, подняв его изо всех
сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом прино-
ровил как следует, уложив его тесно близ боков Сафроно-
ва и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик
открыл свои желтые глаза, но уж не мог их закрыть и так
остался глядеть.
— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.
— Один находился, — ответил Елисей.
— Зачем же он был?
— Не быть он боялся.
Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он
шел — его требует актив.
— На тебе рубль, — дал поскорее деньги Елисею Чик-
лин.— Ступай на котлован и погляди, жива ли там де-
вочка Настя, и купи ей конфет. У меня сердце по ней за-
болело.
Активист сидел с тремя своими помощниками, похудев-
шими от беспрерывного геройства и вполне бедными людь-
ми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство —
усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и
Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны
приурочить все свои скрытые силы на угождение колхоз-
ному разворачиванию.
— А истина полагается пролетариату? — спросил Во-
щев.
— Пролетариату полагается движение, — произнес ак-
292
тивист, — а что навстречу попадется, то все его: будь там
истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут
в организованный котел, ты ничего не узнаешь.
Близ мертвых в сельсовете активист опечалился внача-
ле, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро
улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз
на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжест-
венность смерти во время развивающегося светлого момен-
та обобществления имущества.
Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший
корпус его накренился со стола, готовый бессознательно
упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым
стало совершенно тесно лежать: их уж было четверо вме-
сто троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к ак-
тивисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не
пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на
боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чик-
лину, что этот дворовый элемент есть смертельный вреди-
тель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою
скорбь от организованного движения на него и сам пришел
сюда, лег на стол между покойными и лично умер.
— Все равно бы я его обнаружил через полчаса, — ска-
зал активист. —У нас стихии сейчас нет ни капли, деться
никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!
— Того я закончил, — объяснил Чиклин. — Думал, что
стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.
— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был
один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и ор-
ганизация.
После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и
стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего
края района выходила густая подземная туча, к полуночи
она должна дойти до. здешних угодий и пролить на них
всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники на-
чали зябнуть, и куры уже давно квохтали в своих закутах,
предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на
земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой поч-
вы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще
светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там
стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отража-
лось на последней листве склонившихся в тишине садов.
Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали
думы и настроения — они ходили по всем открытым местам
деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме
293
того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по
влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать уте-
шение в таком трудном пространстве. Активист еще давно
пустил устную директиву о соблюдении санитарности в
народной жизни, для чего люди должны все время нахо-
диться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От
этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из
окна и вести их все время дальше.
Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую
зарю, похожую на свет погребения, и решил завтра же с
утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в ок-
рестные, жмущиеся к единоличию деревни, а затем объ-
явить народные игры.
Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подо-
щел было к активисту за каким-нибудь распоряжением,
потому что боялся бездействовать, но активист отрешил
его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял
задние завоевания актива и сторожил господствующих бед-
няков от кулацких хищников. Старичок председатель с
благодарностью успокоился и пошел делать себе стороже-
вую колотушку.
Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомне-
вался; его основное чувство жизни стремилось к чему-либо
надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала
ему далекое спасение от безвестности всеобщего существо-
вания. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился,
что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть
глазами во мрак над колхозом.
— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.
— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен, — я его
убью.
— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ
Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке
есть что-то особенное или роскошный несбыточный пред-
мет, и я печально живу.
— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не
горюй.
— Когда, товарищ Чиклин?
— А ты считай, что уже добыли: видишь, нам все те-
перь стало ничто...
На краю колхоза стоял Организационный Двор, в ко-
тором активист и другие ведущие бедняки производили
обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки
и разные проштрафившиеся члены коллектива, одни из них
294
находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение
сомнения, другие — что плакали во время бодрости и це-
ловали колья на своем дворе, отходящие в обобществление,
третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один был ста-
ричок, явившийся на Организационный Двор самотеком,—
это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то
сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него име-
лось выражение чуждости на лице.
Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предпо-
лагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с ка-
фельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, дото-
ле он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал
грязь со своего тела под рубашкой.
— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.
— Да я шел, а мне приказали остаться; может, гово-
рят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было шел молча
мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник!
С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.
— Тебе же все равно где жить, — сказал Чиклин,—
лишь бы не умереть.
— Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь при-
выкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам
научили, и число заставляют знать: будешь, говорят, уме-
стным классовым старичком. Да то что ж, я и буду!..
Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратил-
ся с котлована и принес Чиклину письмо от Прушевского.
Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного
Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал
возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила со-
ветское государство и собирает для него утильсырье; сам
же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Саф-
ронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными сле-
зами.
«Мне довольно трудно, — писал товарищ Прушев-
ский,— и я боюсь, что полюблю одну какую-нибудь жен-
щину и женюсь, так как не имею общественного значения.
Котлован закончен, и весной будем его бутить. Настя уме-
ет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе
ее бумажку».
Настя писала Чиклину:
«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин,
Козлов и Сафронов.
Привет бедному колхозу, а кулакам нет».
Никлин долго шептал эти написанные слова и глубоко
295
растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и
плача; потом он направился спать.
В большом доме Организационного Двора была одна
громадная горница, и там все спали на полу благодаря
холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты
и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в
тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотря-
сения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие гла-
за были почти полностью открыты и глядели не моргая
на горящую лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом
с ним и успокоился до более светлого утра.
Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд
на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в ру-
ках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста
как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от
него, зачем им идти в чужие места.
Активист пришел на Двор совместно с передовым пер-
соналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звез-
ды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее
пешеходам идти в среду окружающего беднячества и пока-
зать ему свойство колхоза путем призвания к социалисти-
ческому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо.
Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно
выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед,
не зная, где ему надо остановиться.
В то утро была сырость и дул холод с дальних пусто-
порожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упуще-
но активом.
— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про
этот остужающий вечер природы.
Бедные и средние странники пошли в свой путь и скры-
лись вдалеке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел
вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно
дальше предполагать, а Вощев молчал без мысли. Из
большого облака, остановившегося над глухими дальними
пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде
влаги.
— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уеди-
ненный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист
запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник вы-
ражался через него. — У нас одной обувки на десять го-
дов хватит, а они куда лезут?
— Дай ему! — сказал Чиклин Вощеву.
296
Вощев подошел к подкулачнику и сделал удар в его
лицо. Подкулачник больше не отзывался.
Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недо-
умением об окружающей жизни.
— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно
и босой.
— Они потому и идут, что босые, — сказал Чиклин.—
А радоваться им нечего: колхоз ведь житейское дело.
— Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе
был ничтожный дождь.
— В тебе ум бедняк, — ответил Чиклин. — Христос хо-
дил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые ку-
чи ради существованья.
Активист находился здесь же, на Оргдворе; прошедшая
ночь прошла для него задаром — директива не спустилась
на колхоз, и он опустил течение мысли в собственной го-
лове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что
зажиточность скопится на единоличных дворах и он упу-
стит ее из виду. Одновременно он опасался и переусер-
дия — поэтому обобществил лишь конское поголовье, му-
чаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в ру-
ках стихийного единоличника и козел есть рычаг капита-
лизма.
Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял
активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные
товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им
двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправи-
лись искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его год-
ность.
Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пу-
ти, потому что с правой стороны улицы без труда человека
открылись одни ворота, и через них стали выходить спо-
койные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к расту-
щей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали
улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода.
Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в
ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбра-
лись на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя
строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов
лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной
крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнув-
шись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена,
более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли
297
на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на
улицу.
Каждое животное взяло посильную долю пищи и бе-
режно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до
того все лошади.
Прежде пришедшие лошади остановились у общих во-
рот и поджидали всю остальную конскую массу, а уж ко-
гда все совместно собрались, то передняя лошадь толкну-
ла головой ворота нараспашку, и весь конский строй ушел
с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища
упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществлен-
ный скот стал вокруг и начал медленно есть, организован-
но смирившись без заботы человека.
Вощев в испуге глядел на животных через скважину
ворот; его удивляло душевное спокойствие жующего скота,
будто все лошади с точностью убедились в колхозном
смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.
Далее лошадного двора находилась чья-то неимущая
изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом зем-
ном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в
ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба
прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом плат-
ка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.
— Ты чего? — спросил ее Чиклин.
— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще
ваплакала.
— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.
— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба,
говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу,
душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит,
какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему само-
вал к животу привязываю. Когда ж что-нибудь наста-
нет-то?
Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навз-
ничь— он был действительно легок и худ, и бледные, ока-
меневшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин
близко склонился к нему.
— Ты что — дышишь?
— Как вспомню, так вздохну, — слабо ответил чело-
век.
— А если забудешь дышать?
— Тогда помру.
— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи
чуть-чуть, — сказал Вощев лежачему.
298
Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядыва-
ла пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно
высохли слезы.
— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел!
А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал.
Я-то хоть поплачу, а он нет.
— Пусть лучше плачет, ему милее будет, — посоветовал
Вощев.
— Я и то ему говорила. Разве же можно молча ле-
жать — власть будет пугаться. Я-то нарочно, вот правда
истинная — вы люди, видать, хорошие, — я-то как выйду на
улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист
видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчи-
тал,— как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба,
плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет
режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я
вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем жела-
нием...
— Стало быть, твой мужик только недавно существует
без душевной прилежности? — обратился Вощев.
— Да как вот перестал меня женой знать, так и по-
читай, что с тех пор.
— У него душа — лошадь, — сказал Чиклин. — Пускай
он теперь порожняком поживет, а его ветер продует.
Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что
Вощев и Чиклин ушли в дверь.
Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной
плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу
и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над
головой полуусопшего уже несколько недель горела лам-
пада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло
из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку
ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Му-
жик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше
остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха
в свою глубину.
— А теперь он похолодал, — сказал Вощев.
Мужик изо всех темных своих сил останавливал внут-
реннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не
могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая, чтущая меня
сила, — между делом думал лежачий, — все равно я тебя
затомлю, лучше сама кончись».
— Как будто опять потеплел, — обнаружил Вощев по
течению времени.
299
— Значит, не боится еще, подкулацкая сила, — произ-
нес Чиклин.
Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в
горловую тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар
опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами,
чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце заму-
чилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул
рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от
сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения, гла-
за от скрывающегося белого света и двор от вечного сирот-
ства.
— Мертвые не шумят, — сказал Вощев мужику.
— Не буду, — согласно ответил лежачий и замер, сча-
стливый, что угодил власти.
— Остывает, — пощупал Вощев шею мужика.
— Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь
горит, а он глаза зажмурил — вот где нет никакой скупо-
сти на революцию.
Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встретили
активиста — он шел в избу-читальню по делам культурной
революции. После того он обязан был еще обойти всех
средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы
убедить их в неразумности огороженного дворового капи-
тализма.
В избе-читальне стояли заранее организованные кол-
хозные женщины и девушки.
— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все
сразу.
— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и по-
стоял в молчаливом соображении. — А теперь мы повторим
букву «а», слушайте мои сообщения и пишите...
Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читаль-
ня была порожняя, стали писать кусками штукатурки на
досках. Чиклин и Вощев тоже сели вниз, желая укрепить
свое знание в азбуке.
— Какие слова начинаются на «а»? — спросил .акти-
вист.
Одна счастливая девушка привстала на колени и отве-
тила со всей быстротой и бодростью своего разума:
— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый,
антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не
надо!
— Правильно, Макаровна, — оценил активист. —Пиши-
те систематично эти слова.
300
Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и на-
чали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябающей
штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в ок-
но, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может
быть, томясь от своей одинокой сознательности.
— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Вощев.
Активист оглянулся.
— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги
и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно
отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость
и четкость формулировок. Всем понятно?
— Всем, — сказали все.
— Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна!
Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед
наукой заговорила:
— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель,
колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые
знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце кол-
хоза, а там везде мягкие места!
— Бюрократизм забыла, — определил активист. — Ну,
пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь — трубку
прикури...
— Давай я схожу, — сказал Чиклин. — Не отрывай на-
род от ума.
Активист втолок в трубку лопушиные крошки, и Чик-
лин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю
деревни, а за ней уж начиналась пустынность осени и веч-
ное примиренчество природы. Чиклин поглядел на эту ни-
щую тишину, на дальние лозины, стынущие в глинистом
поле, но ничем пока не мог возразить.
Близ церкви росла старая забвенная трава и не было
тропинок или прочих человеческих проходных следов —
значит, люди давно не молились в храме. Чиклин прошел
к церкви по гуще лебеды и лопухов, а затем вступил на
паперть. Никого не было в прохладном притворе, только
воробей, сжавшись, жил в углу; но и он не испугался Чик-
лина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, вид-
но, вскоре умереть в темноте осени.
В храме горели многие свечи; свет молчаливого, пе-
чального воска освещал всю внутренность помещения до
самого подспудья купола, и чистоплотные лица святых с
выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как
жители того, спокойного света, — но храм был пуст.
Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел,
301
что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было —
на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подо-
шел к нему.
— От товарища активиста пришли? — спросил куря-
щий.
— А тебе что?
— Все равно я по трубке вижу.
— А ты кто?
— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и
острижен под фокстрот. Ты погляди!
Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработан-
ную, как на девушке.
— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят, говорят,
я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится
стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожия приняли.
— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? —
спросил Чиклин.
Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:
— А я свечки народу продаю — ты видишь, вся зала
горит! Средства же скопляются в кружку и идут активисту
для трактора.
— Не бреши: где же тут богомольный народ?
— Народу тут быть не может, — сообщил поп. — Народ
только свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вме-
сто своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.
Чиклин яростно вздохнул и спросил еще:
— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты
такая?
Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь
с точностью сообщить.
— Креститься, товарищ, не допускается: того я запи-
сываю скорописью в поминальный листок...
— Говори скорей и дальше! — указал Чиклин.
— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригад-
ный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те
листки с обозначением человека, осенившего себя руко-
действующим крестом, либо склонившего свое тело пред
небесной силой, либо совершившего другой акт. почитания
подкулацких святителей, — те листки я каждую полуночь
лично сопровождаю к товарищу активисту.
— Подойди ко мне вплоть, — сказал Чиклин.
Поп готовно опустился с порожек амвона.
— Зажмурься, паскудный.
Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную лю-
302
безность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу
сознательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова за-
жмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину
понятия о своем неподчинении.
— Хочешь жить? — спросил Чиклин.
— Мне, товарищ, жить бесполезно, — разумно ответил
поп. — Я не чувствую больше прелести творения — я остал-
ся без Бога, а Бог без человека...
Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал
молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокст-
ротной головой.
В деревне раздался долгий свисток, и после него за-
ржали лошади.
Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение
сигнала.
— Собрание учредителей, — сказал он со смирением.
Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла было
баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду,
но, увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга
протянула ему пятак за свечку.
Организационный Двор покрылся сплошным народом;
присутствовали организованные члены и неорганизованные
единоличники, кто еще был маломочен по сознанию или
имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз.
Активист находился на высоком крыльце и с молчали-
вой грустью наблюдал движенье жизненной массы на сы-
рой вечерней земле; он безмолвно любил бедноту, которая,
поев простого хлеба, желательно рвалась вперед в невиди-
мое будущее, ибо все равно земля для них была пуста и
тревожна; он втайне дарил городские конфеты ребятишкам
неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяй-
стве решил взять установку на женитьбу, тем более что
тогда лучше выявятся женщины. И сейчас чей-то малый
ребенок стоял около активиста и глядел на его лицо.
— Ты чего взарился? — спросил активист. — На тебе
конфетку.
Мальчцк взял конфетку, но одной пищи ему было мало.
— Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя
нету?
Активист без ответа погладил голову мальчика; ребе-
нок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфе-
ту— она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ниче-
303
го не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину кон-
феты обратно активисту.
— Сам доедай, у ней в середке вареньев нету: это
сплошная коллективизация, нам радости мало!
Активист улыбнулся с проницательным сознанием, он
предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни
вспомнит о нем среди горящего света социализма, добы-
того сосредоточенной силой актива из плетневых дворов
деревень.
Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна
к воротам Оргдвора и складывали их в штабель — им зара-
нее активист дал указание на этот труд.
Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно
около оврага, понес его к Оргдвору: пусть идет больше
пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг.
— Ну как же будем, граждане? — произнес активист
в вещество народа, находившегося пред ним. — Вы что ж,
опять капитализм сеять собираетесь иль опомнились?..
Организованные сели на землю и курили с удовлетво-
рительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за
последние полгода что-то стали реже расти; неорганизо-
ванные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную
душу, но один сподручный актива научил их, что души в
них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они
теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет иму-
щества. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слуша-
ли свою мысль оттуда, но сердце билось легко и грустно,
как порожнее, и ничего не отвечало. Стоявшие люди ни
на мгновенье не упускали из вида активиста, ближние же
ко крыльцу глядели на руководящего человека со всем
желаньем в неморгающих глазах, чтобы он видел их гото-
вое настроение.
Чиклин и Вощев к тому времени уже управились с до-
ставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех кон-
цов, стараясь устроить большой предмет. Солнце не было
в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано насту-
пил над сырыми полями; тишина распространялась сейчас
по всему видимому свету, только топор Чиклина звучал
среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельни-
це и в плетнях.
— Ну что же! — терпеливо сказал активист сверху.—
Иль вы так и будете стоять между капитализмом и комму-
низмом: ведь уж пора тронуться — у нас в районе четыр-
надцатый пленум идет!
304
— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте по-
стоять,— попросили задние мужики, — может, мы обвык-
немся: нам главное дело привычка, а то мы все стерпим.
— Ну стойте, пока беднота сидит, — разрешил акти-
вист. — Все равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить
бревна в один блок.
— А к чему ж те бревна-то ладят, товарищ активист? —
спросил задний середняк.
— А это для ликвидации классов организуется плот,
чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в
море и далее...
Вынув поминальные листки и классово-расслоечную ве-
домость, активист стал метить знаки по бумагам; а каран-
даш у него был разноцветный, и он применял то синий, то
красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя зна-
ков до своего решения. Стоячие мужики открыли рты и
глядели на карандаш с томлением слабой души, которая
появилась у них из последних остатков имущества, потому
что стала мучиться. Чиклин и Вощев тесали в два топора
сразу, и бревна у них складывались одно к другому вплоть,
основывая сверху просторное место.
Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и
стоял в таком покое некоторое время.
— Товарищ актив, а товарищ!..
— Говори ясно, — предложил середняку активист меж-
ду своим делом.
— Дозволь нам горе горевать в остатнюю ночь, а уж
тогда мы век с тобой будем радоваться!
Активист кратко подумал.
— Ночь — это долго. Кругом нас темпы по округу идут,
горюйте, пока плот не готов.
— Ну хоть до плота, и то радость, — сказал средний
мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. Ба-
бы, стоявшие за плетнем Оргдвора, враз взвыли во все за-
душевные свои голоса, так что Чиклин и Вощев перестали
рубить дерево топорами. Организованная членская бедно-
та поднялась с земли, довольная, что ей горевать не прихо-
дится, и ушла смотреть на свое общее, насущное имущест-
во деревни.
— Отвернись и ты от нас на краткое время, — попроси-
ли активиста два середняка. — Дай нам тебя не видеть.
Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с
жадностью начал писать рапорт о точном исполнении ме-
роприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации
305
посредством сплава на плоту кулака как класса; при этом
активист не мог поставить после слова «кулака» запятую,
так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил
себе из района новую боевую компанию, чтоб местный
актив работал бесперебойно и четко чертил дорогую гене-
ральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы
район объявил его в своем постановлении самым идеоло-
гичным во всей районной надстройке, но это желание утих-
ло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как по-
сле хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он
умнейший человек на данном этапе села, и, услышав его,
один мужик объявил себя бабой.
Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мученья
из деревни; вошедший человек стер мокроту с одежды, а
потом сказал:
— Товарищ актив, там снег пошел и холод дует.
— Пускай идет, нам-то что?
— Нам — ничего, нам хоть что ни случись — мы упра-
вимся! — вполне согласился явившийся пожилой бедняк.
Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете, потому
что ничего не имел, кроме овощей с дворового огорода и
бедняцкой льготы, и не мог никак добиться высшей, до-
вольной жизни.
— Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писать-
ся мне в колхоз на покой иль обождать?
— Пишись, конечно, а то в океан пошлю!
— Бедняку нигде не страшно; я б давно записался,
только зою сеять боюсь.
— Какую зою? Если сою, то она ведь официальный
злак!
— Ее, стерву.
— Ну, не сей — я учту твою психологию.
— Учти, пожалуйста.
Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать
ему квитанцию в приеме в членство и в том, что в колхозе
не будет зои, и выдумать здесь же надлежащую форму для
этой квитанции, так как бедняк нипочем не уходил без
нее.
Снаружи в то время все гуще падал холодный снег;
земля от снега стала смирней, но звуки середняцкого наг
строения мешали наступить сплошной тишине. Старый па-
харь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья
в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а
его баба причитала над голыми ветками.
306
— Не плачь, старуха, — говорил Крестинин. — Ты в
колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти —
моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно
обобществляться в плен!
Баба, услышав мужнины слова, так и покатилась по
земле, а другая женщина — не то старая девка, не то вдо-
вуха — сначала бежала по улице и голосила таким агити-
рующим, монашьим голосом, что Чиклину захотелось в нее
стрелять, а потом она увидела, как крестининская баба
катится понизу, и тоже бросилась навзничь и забила нога-
ми в суконных чулках.
Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал
воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась
грудь, но все же бабы вскрикивали повсеместно и, при-
выкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие
мелкие нервные животные тоже поддерживали эти томи-
тельные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в
предбаннике; средние же и высшие мужики молча рабо-
тали по дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у
раскрытых настежь ворот. Остаточные, необобществленные
лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так
надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные
лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза без-
убыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб
обобществиться лишь одним своим телом, а животных не
вести за собою в скорбь.
— Жива ли ты, кормилица?
Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую го-
лову; один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не
хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл
без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на
голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял
лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памя-
ти пот кобылы, как на пахоте.
— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру,
нам будет тихо.
Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала
заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась па-
стью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади
забелели в темноте, она поглядела ими обоими и пересту-
пила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли
жить.
— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я
подожду, — сказал хозяин двора.
307
Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту.
Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила
последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что
ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя же-
вать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев
дважды возвратиться — на боль и еду. Затем ноздри ее уже
не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно
отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела —
она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более
мелко и не могла утомиться.
Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в
зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю види-
мую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля
была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла
из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликви-
дировав весь последний дышащий живой инвентарь, му-
жики стали есть говядину и всем домашним также нака-
зывали ее кушать; говядину в то краткое время ели, как
причастие, — есть никто не хотел, но надо было спрятать
плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обоб-
ществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от
мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; дру-
гих же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со
скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы
желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто
отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом
гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огоро-
женный покой.
Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев
тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог
поднять топора, и лег в снег: все равно истины нет на све-
те, или, быть может, она и была в каком-нибудь растении
или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел
то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам
умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул ветер в
ничто.
Активист видел с Оргдвора, что плот не готов; однако
он должен был завтрашним утром отправить в район па-
кет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток
к общему учредительному собранию. Народ выступил со
дворов на этот звук и всем неорганизованным еще соста-
вом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали
и высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно,
готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к
308
другу, люди стали без слова всей середняцкий гущей и за-
гляделись на крыльцо, на котором находился активист с
фонарем в руке, — от этого собственного света он не видел
разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблю-
дали все с ясностью.
— Готовы, что ль? — спросил активист.
— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они
попрощаются до будущей жизни.
Мужики было приготовились к чему-то, но один из них
произнес в тишине:
— Дай нам еще одно мгновенье времени!
И, сказав последние слова, мужик обнял соседа, поце-
ловал его трижды и попрощался с ним.
— Прощай, Егор Семеныч!
— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.
Каждый начал целоваться со всею очередью людей,
обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и друже-
любно целовали каждого.
— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу,
сжег.
— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.
Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в
таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить
новую родню, потому что до этой поры они жили без па-
мяти друг о друге и без жалости.
— Ну, давай, Степан, побратаемся.
— Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по со-
вести.
После целования люди поклонились в землю — каждый
всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.
— Теперь мы, товарищ актив, готовы, пиши нас всех в
одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем.
Но активист еще прежде обозначил всех жителей — ко-
го в колхоз, а кого на плот.
— Иль сознательность в вас заговорила? — сказал
он. — Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она,
четкая линия в будущий свет!
Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил
фонарь активиста — ночь и без керосина была светла от
свежего снега.
— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.
— Хорошо, — сказали со всего Оргдвора. — Мы ничего
теперь не чуем, в нас один прах остался.
Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без
309
покоя истины внутри своей жизни, тогда он встал со снега
и вошел в среду людей.
— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовав-
шись.— Вы стали теперь, как я, я тоже ничто.
— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному че-
ловеку.
Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыль-
це, когда люди стояли вместе снизу; он опустился на зем-
лю, разжег костер из плетневого материала, и все начали
согреваться от огня.
Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не
произносил слова, только слышалось, как по-старинному
брехала собака на чужой деревне, точно она существовала
в постоянной вечности.
Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то
насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял
Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку
часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно
спала, греясь на его теплой сердечной груди.
— Не замучил ребенка-то? — спросил Чиклин.
— Я не смею,— сказал Елисей.
Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем:
она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда, и
если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его
на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и
даже не хотела спать, чтобы не мучиться наутро, когда оно
настанет без него.
Чиклин взял девочку на руки.
— Тебе ничего было?
— Ничего, — сказала Настя. — А ты здесь колхоз сде-
лал? Покажи мне колхоз!
Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти
к своей шее и пошел раскулачивать.
— Жачев-то не обижал тебя?
— Как же он обидит меня, когда я в социализме оста-
нусь, а он скоро помрет!
— Да пожалуй, что и не обидит! — сказал Чиклин и
обратил внимание на многолюдство. Посторонний, приш-
лый народ расположился кучами и малыми массами по
Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением
близ ночного, померкшего костра. По колхозной улице так-
же находились нездешние люди; они молча стояли в ожи-
310
Дании той радости, за которой их привели сюда Елисей и
другие колхозные пешеходы. Некоторые странники обсту-
пили Елисея и спрашивали его:
— Где же колхозное благо — иль мы даром шли? Дол-
го ли нам бродить без остановки?
— Раз вас привели, то актив знает, — ответил Елисей.
— А твой актив спит, должно быть?
— Актив спать не может, — сказал Елисей.
Активист вышел на крыльцо со своими сподручными,
и рядом с ним был Прушевский, а Жачев полз позади всех.
Прушевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому
что Елисей проходил вчера мимо котлована и ел кашу
у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни
одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп
бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной рево-
люции, ибо без ума организованные люди жить не должны,
а Жачев отправился по своему желанию как урод, и по-
этому они явились втроем с Настей на руках, не считая
еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти
вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе.
— Ступайте скорее плот кончайте, — сказал Чиклин
Прушевскому, — а я скоро обратно к вам поспею.
Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему
самого угнетенного батрака, который почти спокон века
работал даром на имущих дворах, а теперь трудится мо-
лотобойцем в колхозной кузне и получает пищу и прива-
рок как кузнец второй руки; однако этот молотобоец не
числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и
профсоюзная линия, получая сообщения об этом официаль-
ном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась.
Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии рай-
она и захотел как можно скорее избавить его от угнетения.
Около кузницы стоял автомобиль и жег бензин на од-
ном месте. С него только что сошел прибывший вместе
с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнару-
жить здесь остаточного батрака и, снабдив его лучшей до-
лей жизни, распустить затем райком союза за халатность
обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей не
дошли до кузни, как товарищ Пашкин уже вышел из по-
мещения и отбыл на машине обратно, опустив только го-
лову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга
товарища Пашкина из машины не выходила вовсе: она
лишь берегла своего любимого человека от встречных жен-
щин, обожающих власть ее мужа и принимавших твер-
311
дость его руководства за силу любви, которую он может
им дать.
Чиклин с Настей на руках вошел в кузню; Елисей же
остался постоять наружи. Кузнец качал мехом воздух в
горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной по-
лосе на наковальне.
— Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! —
сказал кузнец.
Но медведь и без того настолько усердно старался, что
пахло паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а
медведь этого не чувствовал.
— Ну, теперь будя! — определил кузнец.
Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жаж-
ды полведра воды. Утерев затем свое утомленно-пролетар-
ское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к
труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать
подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза.
— Миш, это надо кончить поживей: вечером хозяин
приедет — жидкость будет! — И кузнец показал на свою
шею, как на трубу для водки. Медведь, поняв будущее
наслаждение, с большой охотой начал делать подкову.—
А ты, человек, зачем пришел? — спросил кузнец у Чиклина.
— Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят,
у него стаж велик.
Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал:
— А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне
промфинплан, а ты его срываешь!
— Согласовал вполне, — ответил Чиклин. — А если
план твой сорвется, так я сам приду к тебе его поднимать...
Ты слыхал про араратскую гору — так я ее наверняка бы
насыпал, если бы клал землю своей лопатой в одно место!
— Нехай тогда идет, — выразился кузнец про медве-
дя.— Ступай на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб Мишка
обеденное время услыхал, а то он не тронется — он у нас
дисциплину обожает.
Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь
сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец
послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей,
и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, гля-
дя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что
он за нас, а не за буржуев.
— Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда
ведь? — говорила Настя.
— А то как же! — отвечал Чиклин.
312
Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил
без внимания свой труд — до того он ломал плетень на
мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздох-
нул: шабаш, дескать. Опустив лапы в ведро с водой, чтоб
отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения
еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно
пошел за человеком, привычно держась впрямую, на од-
них задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он
тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда
запахло прошлой пищей.
— Смотри, Чиклин, он весь седой!
— Жил с людьми — вот и поседел от горя.
Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на
него, и дождавшись, зажмурил для нее один глаз; Настя
засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу так, что
у него что-то там забурчало, отчего Настя засмеялась еще
лучше, медведь же не обратил на малолетнюю внимания.
Около одних дворов идти было так же прохладно, как
и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы
и лошади лежали в усадьбах с разверстыми тлеющими
туловищами — и долголетний, скопленный под солнцем
жар жизни еще выходил из них в воздух, в общее зимнее
пространство. Уже много дворов миновали Чиклин и мо-
лотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали.
Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, те-
перь пошел чаще и жестче, — какой-то набредший ветер
начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавлива-
ется зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную, се-
кущую частоту прямым уличным порядком, потому что
Чиклину невозможно было считаться с настроением приро-
ды; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху,
оставив снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в
темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей
было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а
молотобоец глядел на нее, как на забытую сестру, с кото-
рой он жировал у материнского живота в летнем лесу сво-
его детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел
вокруг —чего бы это схватить или выломать ей для по-
дарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета
не было вблизи, кроме глиносоломенных жилищ и плет-
ней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быст-
ро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжа-
тую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы
муху, зная, что мух теперь тоже нету, — они умерли еще
313
в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей
улице, — мухи летели целыми тучами, перемежаясь с не-
сущимся снегом.
— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.
— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин.
Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, пода-
ренную ей медведем, и сказала еще:
— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут,
а летом нет: птицам нечего есть станет.
Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и
не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье
лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жид-
кость слез, будто баба их держала все время наготове.
Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще
яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.
— Кулачество! — сказал Чиклин и, вошедши во двор,
открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через чер-
ту владения на усадьбу.
Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хо-
зяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мяки-
ной, лежали четыре или больше мертвые овцы. Когда мед-
ведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи: они
жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях
овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега,
нисколько не остужаясь от него.
Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных
скважинах убоины, наверно, было жарко, как летом в тле-
ющей торфяной земле, и мухи жили там вполне нормаль-
но. Чиклину стало тяжко в большом сарае, ему казалось,
что здесь топятся банные печи, а Настя зажмурила от вони
глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и нету че-
тырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский
на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось
пение птиц.
Молотобоец пошел из сарая в избу и, заревев в сенях
враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой
громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки.
Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку;
мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнез-
дилась среди горницы, будто все вещество из нее опусти-
лось вниз; она уже не кричала, а только открыла рот и
старалась дышать.
— Мужик, а мужик! — начала звать она, не двигаясь
от немощи горя.
314
— Чего? — отозвался голос с печки; потом там заскри-
пел рассохшийся гроб, и вылез хозяин.
— Пришли,— сказывала постепенно баба, — иди встре-
чай... Головушка моя горькая!
— Прочь! — приказал Чиклин всему семейству.
Молотобоец попробовал мальчишку за ухо, и тот вско-
чил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел
для пробы на низкую посуду.
Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел
на сидящего медведя.
— Дядь, отдай какашку! — попросил он, но молотобо-
ец тихо зарычал на него, тужась от неудобного положения.
— Прочь! — произнес Чиклин кулацкому населению.
Медведь, не трогаясь с горшка, издал из пасти звук, и
зажиточный ответил:
— Не шумите, хозяева, мы сами уйдем.
Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корче-
вал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвно-
го голода, потому что мужик давал ему пищу только вече-
ром— что оставалось от свиней, а свиньи ложились в ко-
рыто и съедали медвежью порцию во сне. Вспомнив такое,
медведь поднялся с посуды, обнял поудобней тело мужи-
ка и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое
сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса — от
злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать.
Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него,
вышел как есть на улицу и уже прошел мимо окна снару-
жи,— только тогда баба помчалась за ним, а мальчик ос-
тался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении,
он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-ма-
терью.
— Он очень хитрый, — сказала Настя про этого маль-
чика, унесшего свой горшок.
Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора
медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь сво-
его классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу
и вошел в избу один.
— Ты чего, милый, явился? — спросил ласковый, спо-
койный мужик.
— Уходи прочь! — ответил Чиклин.
— А что, ай я чем не угодил?
— Нам колхоз нужен, не разлагай его!
Мужик не спеша подумал, словно находился в душев-
ной беседе.
315
— Колхоз нам не годится...
— Прочь, гада!
— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз,
а вся республика-то будет единоличным хозяйством!
У Чиклина захватило дыхание, он бросился к двери
и открыл ее, чтоб видна была свобода, — он так же когда-
то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая
плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он от-
вернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участ-
вовал в его преходящей скорби, которая касается лишь
одного рабочего класса.
— Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить,
когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним
вздохом... А ты — исчезни!
Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его
наружу, где бросил в снег; мужик от жадности не был
женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущест-
ва, в счастье надежности существования, и теперь не знал,
что ему чувствовать.
— Ликвидировали?! — сказал он из снега. — Глядите,
нынче нету меня, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что
в социализм придет один ваш главный человек!
Через четыре двора молотобоец опять ненавистно за-
ревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в ру-
ках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным
корнем, когда он переставал от усталости водить жернов
за бревно. Этот мужичишка заставил на мельнице рабо-
тать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам
скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Ког-
да его жена тяжелела, то мельник своими руками совер-
шал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, кото-
рого он давно определил в городские коммунисты.
— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молото-
бойцу.
Медведь обернул блином лапу и ударил через эту пе-
ченую прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул
ртом и повалился.
— Опорожняй батрацкое имущество! — сказал Чиклин
лежачему. — Прочь с колхоза и не сметь более жить на
свете!
Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился.
— А ты покажь мне бумажку, что ты действительное
лицо!
316
— Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин. — Я никто;
у нас партия — вот лицо!
— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.
Чиклин скудно улыбнулся.
— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую.
Являйся нынче на плот, капитализм, сволочь!
— Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там,
правда ведь? — произнесла Настя. — Со сволочью нам
скучно будет!
Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть
изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на Орг-
двор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кула-
чества массы.
Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоен-
ной ведомостью, активист нашел полную точность и обра-
довался действию Чиклина и кузнечного молотобойца.
Чиклин также одобрил активиста.
— Ты сознательный молодец, — сказал он, — ты чуешь
классы, как животное.
Медведь не' мог выразиться и, постояв отдельно, пошел
на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали му-
хи; одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого
старого, обгорелого, как человека.
Прушевский уже справился с доделкой из бревен пло-
та, а сейчас глядел на всех с готовностью.
— Гадость ты, — говорил ему Жачев. — Чего глядишь,
как оторвавшийся? Живи храбрее — жми друг дружку, а
деньги в кружку! Ты думаешь, это люди существуют?! Ого!
Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот
чего мне жалко!
По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать
плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кула-
чеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море
по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм
будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а
он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок.
Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему
стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго на-
блюдал, как систематически уплывал плот по снежной те-
кущей реке, как вечерний ветер шевеЛил темную, мертвую
воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдален-
ную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди.
317
Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его
вскоре также ликвидируют в далекую тишину.
Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жа-
чева; люди хотели навсегда заметить свою родину и по-
следнего, счастливого человека на ней.
Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на
повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять
видимость классового врага.
— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.
— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море ку-
лаки.
С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка;
Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество
колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участ-
ники империализма, не считая Насти и прочего детства.
Активист выставил на крыльцо Оргдвора рупор радио,
и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вме-
сте с окрестными пешими гостями радостно топтался на
месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымы-
тые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и про-
хладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась му-
зыка, вышел на среднее место, вдарил подошвой и затан-
цевал по земле, ничуть при этом не сгибаясь и не моргая
белыми глазами; он ходил как стержень — один среди
стоячих, — четко работая костями и туловищем. Постепен-
но мужики рассопелись и начали охаживать вокруг друг
друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать но-
гами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе
местных девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а
для своего угощения целовали подружек-колхозниц.
Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные му-
жики кричали возгласы довольства, более передовые все-
сторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже
обобществленные лошади, услышав гул человеческого
счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать.
Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на даль-
нем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое
было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так
жутко, что для свободы нужна была дружба.
Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном
кое-где мухами, весь народ товарищески торжествовал.
Давно живущие на свете люди и те стронулись и топта-
лись, не помня себя.
— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости
318
один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя
по пузу, щекам и по рту. — Охаживай, ребята, наше цар-
ство-государство: она незамужняя!
— Она девка иль вдова? — спросил на ходу танца ок-
рестный гость.
— Девка! — объяснил двигающийся мужик. — Аль не
видишь, как мудрит?!
— Пускай ей помудрится! — согласился тот же приш-
лый гость. — Пускай посдобничает! А потом мы из нее
сделаем смирную бабу: добро будет!
Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около
мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев пол-
зал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему ме-
шали, а гостевому мужику, желавшему девочку-эсесершу
выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, чтоб он не на-
надеялся.
— Не сметь думать что попало! Иль хочешь речной
самотек заработать? Живо сядешь на плот!
Гость уже испугался, что явился сюда.
— Боле, товарищ калека, ничто не подумаю. Я теперь
шептать буду.
Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чув-
ствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он
видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность за-
мершего света и покорный сон всего мира, на устройство
которого пошло столько труда и мученья, что всеми за-
быто, чтобы не знать страха жить дальше.
— Настя, ты не стынь долго, иди ко мне, — позвал
Чиклин.
— Я ничуть не озябла, тут ведь дышат, — сказала На-
стя, бегая от ласково ревущего Жачева.
— Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты
маленькая!
— Я уже их терла: сиди молчи!
Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же
остановиться не мог, пока активист не сказал:
— Стой до очередного звука!
Прушевский сумел в краткое время поправить радио,
но оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.
— Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое
корье!..
И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав
сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об
ивово-корьевой кампании и не прослыть на весь район
319
упущением, как с ним совершилось в прошлый раз, когда
он забыл про организацию для кустарника, а теперь весь
колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал чинить
радио, и прошло время, пока инженер охладевшими рука-
ми тщательно слаживал механизм; но ему не давалась
работа, потому что он не был уверен — предоставит ли
радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого
откуда-нибудь милый голос.
Полночь, наверно, была уже близка; луна высоко на-
ходилась над плетнями и над смирной старческой дерев-
ней, а мертвые лопухи блестели, покрытые мелким смерз-
шимся снегом. Одна заблудившаяся муха попробовала
было сесть на ледяной лопух, но сразу оторвалась и поле-
тела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок
под солнцем.
Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, то-
же постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне
понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное
счастье и напев бредущего человека.
— Жачев! — сказал Чиклин. — Ступай прекрати дви-
женье, умерли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут.
Жачев уполз с Настей в Оргдом и, устроив ее там
спать, выбрался обратно.
— Эй, организованные, достаточно вам танцевать: об-
радовались, сволочи!
Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и
веско топтался, покрывая себя песней.
— Заработать от меня захотели? Сейчас получите!
Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящихся
ног и начал спроста брать людей за нижние концы и оп-
рокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как по-
рожние штаны; Жачев даже сожалел, что они, наверно,
не чувствуют его рук и враз замолкают.
— Где же Вощев? — беспокоился Чиклин. — Чего он
ищет вдалеке, мелкий пролетарий?
Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать пос-
ле полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни
до самого конца, и нигде не было заметно человека, лишь
медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да из-
редка покашливал кузнец.
Тихо было кругом и прекрасно. Чиклин остановился в
недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел
медведь, собирая силы для завтрашней работы и для но-
вого чувства жизни. Он больше не увидит мучившего его
320
кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь,
наверно, молотобоец будет бить по подковам и шинному
железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на
свете неведомая сила, которая оставила в деревне только
тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча де-
лают полезное вещество и чувствуют частичное счастье;
весь же точный смысл жизни и всемирное счастье должны
томиться в груди роющего землю пролетарского класса,
чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись, и
дышали, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпелива.
Чиклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота,
потом осмотрел уличный порядок — цело ли все, и, заме-
тив пропадающий на дороге армяк, поднял его и снес в
сени ближней избы: пусть хранится для трудового блага.
Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чик-
лин пошел по дворовым задам — смотреть Вощева даль-
ше. Он перелезал через плетневые устройства, проходил
мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся
колья и постепенно видел, как от тощих загородок сразу
начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело мо-
жет застынуть в таком чужом мире, потому что земля со-
стоит не для зябнущего детства: только такие, как молото-
боец, могли вытерпеть здесь свою жизнь, и то поседели от
нее. «Я еще не рожался, а ты уж лежала, бедная, непод-
вижная моя! — сказал вблизи голос Вощева, человека,-г-
Значит, ты давно терпишь: иди греться!»
Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев
нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был
уже полон.
— Ты чего, Вощев?
— Так, — сказал тот и, завязав мешку горло, положил
себе на спину этот груз.
Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склони-
лась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все
глухо смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река
шевелилась в обжитых сельских берегах.
Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдоме го-
рел огонь безопасности — одна лампа на всю потухшую
деревню; у лампы сидел активист за умственным трудом,
он чертил графы ведомости, куда хотел занести все дан-
ные бедняцко-середняцкого благоустройства, чтоб уже
была вечная, формальная картина и опыт как основа.
— Запиши и мое добро! — попросил Вощев, распаковы-
вая мешок. . .
11 Запретная глава
321
Он собрал по деревне все нищие, отвергнутые предметы,
всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для со-
циалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая
ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в
этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни,
истраченной без сознательного смысла и погибшей без сла-
вы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не
полностью соображая, со скупостью скопил в мешок ве-
щественные остатки потерянных людей, живших, подобно
ему, без истины и которые скончались ранее победного
конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тру-
жеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством
организации вечного смысла людей добиться отмщения —
за тех, кто тихо лежит в земной глубине.
Активист стал записывать прибывшие с Вощевым ве-
щи, организовав особую боковую графу под названьем <пе-
речень ликвидированного насмерть кулака как класса,
пролетариатом, согласно имущественно-выморочного ос-
татка». Вместо людей активист записывал признаки су-
ществования: лапоть прошедшего века, оловянную серьгу
от пастушьего уха, штанину из рядна и разное другое сна-
ряжение трудящегося, но неимущего тела.
К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, су-
мел нечаянно разбудить девочку.
— Отверни рот: ты зубы, дурак, не чистишь, — сказала
Настя загородившему ее от дверного холода инвалиду.—
И так у тебя буржуи ноги отрезали, ты хочешь, чтоб и
зубы попадали?
Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух но-
сом. Девочка потянулась, оправила теплый платок на голо-
ве, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что
разгулялась.
— Это утильсырье принесли? — спросила она про ме-
шок Вощева.
— Нет, — сказал Чиклин, — это тебе игрушки собрали.
Вставай выбирать.
Настя стала в свой рост, потопталась для развития и,
опустившись на месте, обхватила раздвинутыми ногами за-
регистрированную кучу предметов. Чиклин составил ей
лампу со стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что
ей понравится; активист же и в темноте писал без ошибки.
Через некоторое время активист спустил на пол ведо-
мость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все
нажитое имущество безродно умерших батраков и будет
322
пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бу-
маге серп и молот и отдала ведомость назад.
Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и
ходил по полу в чулках, довольный и мирный, что некому
теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение
рек идет лишь в пучины морские и уплывшие на плоту не
вернутся мучить молотобойца — Михаила; те же безымян-
ные люди, от которых остались только лапти и оловянные
серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и подняться
они не могут.
— Прушевский, — обратился Чиклин.
— Я, — ответил инженер, он сидел в углу, опершись
туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ни-
чего не писала; если она умерла, то он решил уехать стря-
пать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери ду-
ши и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечув-
ствительно жить человеком, это одинаково, что умереть
теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за
сестру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его
молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую.
Прушевский хотел, чтобы еще немного побыла на свете,
хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная
женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям
щи, если жива.
— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки
воскресить назад сопревших людей?
— Нет, — сказал Прушевский.
— Врешь, — упрекнул Жачев, не открывая глаз.—
Марксизм все сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве це-
лым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и
Ленину нашел работу, — сообщил Жачев.— Я б ему ука-
эал, кто еще добавочно получить должен кое-что! Я поче-
му-то любую стерву с самого начала вижу!
— Ты дурак потому что, — объяснила Настя, копаясь
в батрацких остатках, — ты только видишь, а надо тру-
диться. Правда ведь, дядя Вощев?
Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал,
прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, ко-
торое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль
жизни.
— Неизвестно, — ответил Вощев Насте. — Трудись и
трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все,
то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь!
♦ . Настя осталась недовольна.
323
— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев,
сторожи меня опять, я спать захотела.
— Иди, девочка, — отозвался Жачев. — Иди ко мне от
подкулачника: он заработать захотел — завтра получит! .
Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь акти-
вист немолчно писал, и достижения все более расстилались
перед его сознательным умом, так что он уже полагал про
себя: «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы
весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном
колхозе горюешь; пора уж целыми эшелонами население
в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами ста-
раешься. Эх, горе!»
Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то не-
громкая рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-
пережиток.
— Входи, заседанья нету, — сказал активист.
— Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя.—
А я думал, вы думаете.
— Входи, не раздражай меня, — промолвил Жачев.
Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что
глаза его потемнели от внутренней крови, и окреп от при-
вычки быть организованным.
— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь
колхоз глаза открыл, нам без тебя жутко стало!
— Надо пойти справиться, — решил активист.
— Я сам схожу, — определил Чиклин. — Сиди записы-
вай получше: твое дело — учет.
— Это — пока я дурак! — предупредил активиста Жа-
чев.—Но скоро мы всех разактивим: дай только массам
измучиться, дай детям подрасти!
Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь
над ним, бескорыстно светили звезды над снежной чисто-
тою земли, и широко раздавались удары молотобойца, точ-
но медведь застыдился спать под этими ожидающими звез-
дами и отвечал им чем мог. «Медведь — правильный про-
летарский старик», — мысленно уважал Чиклин. Далее
молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, со-
общая вслух какую-то счастливую песню.
Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную
светлую поверхность, в горне горел дующий огонь, который
поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая верев-
ку мехов. А молотобоец, вполне довольный, ковал горячее
шинное железо и пел песню.
— Ну никак заснуть не дает, — пожаловался кузнец.—
324
Встал, разревелся, я ему горн зажег, а он и пошел бузо-
вать. Всегда был покорен, а нынче как с ума сошел!
— Отчего ж такое? — спросил Чиклин.
— Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все
топтался и по-хОрошему бурчал. Угодили, стало быть, ему.
А тут еще проходил один подактивный — взял и материю
пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и сообра-
жает чего-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от
Этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там останав-
ливается...
— Ну, ты спи, а я подую, — сказал Чиклин. Взяв ве-
ревку, он стал качать воздух в горн, чтоб медведь готовил
шины на колеса для колхозной езды.
Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики
стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было
уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал двигаться к куз-
не, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский
и Вощев также явились со всеми совместно и глядели, как
Чиклин помогает медведю. Около кузни висел на плетне
возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за верность
ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в
будущее».
Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для
своего охлаждения, а потом опять всаживал молот в мя-
коть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь
молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную без-
молвную радость он расходовал в усердие труда, а кол-
хозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллектив-
но крякали во время звука кувалды, чтоб шины были проч-
ней и надежней. Елисей когда присмотрелся, то дал моло-
тобойцу совет:
— Ты, Миш, бей с отжошкой, тогда шина хрустка не
будет и не лопнет. А ты лупишь по железу, как по стерве,
а оно ведь тоже добро! Так — не дело!
Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел
прочь, тоскуя о железе. Однако и другие мужики тоже не
могли более терпеть порчи.
— Слабже бей, черт!—загудели они. — Не гадь все-
общего: теперь имущество что сирота, пожалеть некому...
Да тише ты, домовой!
— Что ты так содишь по железу! Что оно — единолич-
ное, что ль?
325
— Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной!
— Вычеркнуть его надо из колхоза, и боле ничего. Аль
нам убытки терпеть, на самом-то деле!
Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался
поспеть за огнем и крушил железо, как врага жизни, будто
если нет кулачества, так медведь один есть на свете.
— Ведь это же горе! — вздыхали члены колхоза.
— Вот грех-то: все теперь лопнет! Все железо в сква-
жинах будет!
— Наказание господне... А тронуть его нельзя — ска-
жут, бедняк, пролетариат, индустриализация!..
— Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за
него плохо будет.
— Кадр — пустяк. Вот если инструктор приедет либо
сам товарищ Пашкин, тогда нам будет жара!
— А может, ничего не станет? Может — бить?
— Что ты, осатанел, что ли? Он — союзный: намедни
товарищ Пашкин специально приезжал — ему ведь тоже
скучно без батраков.
А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше
всех. Он и двор когда-то имел, так ночей не спал — все сле-
дил, как бы что не погибло, как бы лошадь не опилась, не
объелась, да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда
весь колхоз, весь здешний мир отдан его заботе, потому
что на других надеяться он опасался, теперь у него уже за-
годя болел живот от страха такого имущества.
— Все усохнем! — произнес молча проживший всю ре-
волюцию середняк. — Раньше за свое семейство боялся, а
теперь каждого береги — это нас вовсе замучает за такое
иждивение.
Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто
чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не проби-
вается в дверь будущего: может быть, там действительно
что-нибудь есть. Чиклин к этому времени уже кончил дуть
воздух и занялся с медведем готовить бороньи зубья. Не
сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора,
двое мастеровых неустанно работали по чувству совести,
как и быть должно. Молотобоец ковал зубья, а Чиклин их
закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно
держать в воде зубья без перекалки.
— А если зуб на камень наскочит?! — стеная, произнес
Елисей. — Если он на твердь какую-либо заедет-—ведь
пополам зубок будет! ,.и
326
— Вынай, дьявол, железку из жидкого! — воскликнул
колхоз. — Не мучай матерьял!
Чиклин вынул было нз воды перетомленный металл, но
Елисей уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и
начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие
организованные мужики также бросились внутрь предпри-
ятия и с облегченной душой стали трудиться над желез-
ными предметами с тою тщательной жадностью, когда
прок более необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запом-
нить побелить, — спокойно думал Елисей за трудом. — А то
стоит вся черная — разве это хозяйское заведение?»
— Дайте, я буду веревку все время дергать, — попро-
сил Вощев у Елисея. — У вас воздух в горн тихо идет.
— Ну, дергай, — согласился Елисей. — Только не шиб-
ко— веревка теперь дорога, а к новым мехам тоже с кол-
хозной сумкой не подойдешь!
— Я буду потихоньку, — сказал Вощев и стал тянуть
и отпускать веревку, забываясь в терпенье труда.
Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь
распространялся по всему району. Лампа все еще горела
в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня.
Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керо-
син был цел.
Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле
в избах; они, в общем, равнодушно отнеслись к тревоге от-
цов, им было неинтересно их мученье, и они жили как чу-
жие в деревне, словно томились любовью к чему-то даль-
нему. И домашнюю нужду они переносили без внимания,
живя за счет своего чувства еще безответного счастья, но
которое все равно должно случиться. Почти все девушки
и все растущее поколение с утра уходили в избу-читальню
и там оставались не евши весь день, учась письму и чте-
нию, счету чисел, привыкая к дружбе и что-то воображая
в ожидании. Прушевский один остался в стороне, когда
колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был
у плетня. Он не знал, зачем его прислали в эту деревню,
как ему жить забытым среди массы, и решил точно назна-
чить день окончания своего пребывания на земле; вынув
книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого
зимнего дня: пусть все улягутся спать, окоченелая земля
смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни
находился, ляЖет вверх лицом и перестанет дышать. Ведь
никакое сооружение, никакое довольство, ни милый друг,
ни завоевание звезд — не превозмогут его душевного оску-
327
дения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы,
основанной не на превосходстве и не на телесной любви, и
скуку самых далеких звезд, где в недрах те же медные
руды и нужен будет тот же ВСНХ. Прушевскому каза-
лось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встре-
тились в рассудке и сознали самих себя до самого источ-
ника происхождения, до смертельного уничтожения наив-
ности всякой надежды. Но происхождение чувств остава-
лось волнующим местом жизни; умерев, можно навсегда
утратить этот единственно счастливый, истинный район
существования, не войдя в него. Что же делать, боже мой,
если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется
жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей на-
дежде?
Прушевский закрыл лицо руками. Пусть разум есть
синтез всех чувств, где смиряются и утихают все потоки
тревожных движений, но откуда тревога и движенье? Он
этого не знал, он только знал, что старость рассудка есть
влеченье к смерти, это единственное его чувство; и тогда
он, может быть, замкнет кольцо — он возвратится к проис-
хождению чувств, к вечернему летнему дню своего непов-
торившегося свидания.
— Товарищ! Это ты пришел к нам на культурную ре-
волюцию?
Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли де-
вушки и юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла
перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой
голове; глаза ее смотрели на инженера с удивленной лю-
бовью, потому что ей была непонятна сила знания, скры-
тая в этом человеке; она бы согласилась преданно и врчно
любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать
от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее
знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была моло-
дость, ничто свое счастье — она чувствовала вблизи несу-
щееся, горячее движение, у нее поднималось сердце от вет-
ра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выгово-
рить слов своей радости и теперь стояла и просила научить
ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь
свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не зна-
ла, пойдет ли с нею ученый человек, и неопределенно смот-
рела, готовая опять учиться с активистом.
— Я сейчас пойду с вами, — сказал Прушевский.
Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не ста-
ла, чтобы Прушевский не обиделся. • 'I
328
— Идемте, — произнес Прушевский.
Девушка пошла вперед, указывая дорогу инженеру, хо-
тя заблудиться было невозможно; однако она желала быть
благодарной, но не имела ничего для подарка следующему
за ней человеку.
Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили
все наличное железо на полезные изделия, починили вся-
кий мертвый инвентарь и с тоскою, что кончился труд и
как бы теперь колхоз не пошел в убыток, оставили заведе-
ние. Молотобоец утомился еще раньше — он вылез не-
давно поесть снегу от жажды, и, пока снег таял у него во
рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вниз,
на покой.
Вышедши наружу, колхоз сел у плетня и стал сидеть,
озирая всю деревню, снег же таял под неподвижными му-
жиками. Прекратив трудиться, Вощев опять вдруг заду-
мался на одном месте.
— Очнись! — сказал ему Чиклин. — Ляжь с медведем
и забудься.
— Истина, товарищ Чиклин, забыться не может...
Чиклин обхватил Вощева поперек и сложил его к спя-
щему молотобойцу.
— Лежи молча, — сказал он над ним, — медведь ды-
шит, а ты не можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься!
Ишь ты, сволочь какая!
Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул.
На улицу вскочил всадник из района на трепещущем
коне.
— Где актив? — крикнул он сидящему колхозу, rte те-
ряя скорости.
— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз. — Только не
сворачивай ни направо, ни налево!
— Не буду! — закричал всадник, уже отдалившись, и
только сумка с директивами билась на его бедре.
Через несколько минут тот же конный человек про-
несся обратно, размахивая в воздухе сдаточной книгой,
чтоб ветер сушил чернила активистской расписки. Сытая
лошадь, разметав снег и вырвав почву на ходу, срочно
скрылась вдалеке.
— Какую лошадь портит, бюрократ! — думал колхоз.—
Прямо скучно глядеть.
329
Чиклин взял в кузнице железный прут и понес его ре-
бенку в виде игрушки. Он любил ей молча приносить раз-
ные предметы, чтобы девочка безмолвно понимала его ра-
дость к ней.
Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв
утомленный рот, невольно и грустно продолжала спать.
Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка — не по-
врежден ли он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью
его тело; но ребенок был весь исправен, только лицо его
горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста
капнула на директиву — Чиклин сейчас же обратил на это
внимание. . Как и вчера вечером, руководящий человек не-
подвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил
через районного всадника законченную ведомость ликви-
дации классового врага и в ней же сообщил все успехи дея-
тельности; но вот спустилась свежая директива, подписан-
ная почему-то областью через обе головы — района и ок-
руга,— и в лежащей директиве отмечались маложелатель-
ные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины
и всякого сползания по правому и левому откосу с отточен-
ной остроты четкой линии; кроме того назначалось обна-
ружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего
мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот
генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым
по наущению подкулацких масс; дескать, войдем в колхо-
зы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства,
на нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится.
«По последним материалам, имеющимся в руке област-
ного комитета, — значилось в конце директивы, — видно,
например, что актив колхоза имени Генеральной Линии
уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма.
Организатор местного коллектива спрашивает вышенахо-
дящуюся организацию: есть ли что после колхоза и ком-
муны более высшее и более светлое, дабы немедленно дви-
нуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержи-
мо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных неви-
димых времен. Этот товарищ просит ему прислать пример-
ный устав такой организации, а заодно бланки, ручку с
пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он
тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, се-
редняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться,
что такой товарищ есть вредитель партии, объективный
враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из ру-
ководства навсегда». ш
330
Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он
заплакал на областную бумагу.
— Что ты, стервец? — спросил его Жачев.
Но активист не ответил ему. Разве он видел радость
в последнее время, разве он ел или спал вдосталь или лю-
бил хоть одну бедняцкую девицу? Он чувствовал себя, как
в бреду, его сердце еле билось от нагрузки, он лишь сна-
ружи от себя старался организовать счастье и хотя бы в
перспективе заслужить районный пост.
— Отвечай, паразит, а то сейчас получишь! — снова
проговорил Жачев. — Наверно, испортил, гад, нашу рес-
публику!
Сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изу-
чать ее на полу.
— К маме хочу! — сказала Настя, пробуждаясь.
Чиклин нагнулся к заскучавшему ребенку.
— Мама, девочка, умерла, теперь я остался!
— А зачем ты меня носишь? Где четыре времени года?
Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей. Сними
с меня рубашку, а то сгорит, выздоровлю — ходить не в
чем будет!
Чиклин попробовал Настю, она была горячая, влажная,
кости ее жалобно выступали изнутри; насколько окружаю-
щий мир должен быть нежен и тих, чтоб она была жива!
— Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить,
а то болеть ведь грустно, правда?
Чиклин снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того,
отобрал ватные пиджаки у Жачева и активиста и всем
этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла гла-
за, и ей стало легко в тепле и во сне, будто она полетела
среди прохладного воздуха. За текущее время Настя не-
много подросла и все более походила на мать.
— Я так и знал, что он сволочь, — определил Жачев
про активиста. — Ну что ты тут будешь делать с этим чле-
ном?!
— А что там сообщено? — спросил Чиклин.
— Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!
— А ты попробуй не согласись! — в слезах произнес
активный человек.
— Эх, горе мне с революцией, — серьезно опечалился
Жачев. — Где же ты, самая пущая стерва? Иди, дорогая,
получить от увечного воина!
Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответ-
но тратить средства на государство и будущее поколение,
331
активист снял с Насти свой пиджак: раз его устраняют,
пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал
посреди Оргдома — без дальнейшего стремления к жизни,
весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капита-1
лизм, пожалуй, может еще явиться.
— Ты зачем ребенка раскрыл? — спросил Чиклин.—
Остудить хочешь?
— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист.
Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:
— Возьми железку, какую из кузни принес!
— Что ты!—ответил Чиклин. — Я сроду не касался
человека мертвым оружием: как же я тогда справедли-
вость почувствую?
Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в
грудь, чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри
активиста раздался слабый треск костей, и весь человек
свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел
на него, будто только что принес необходимую пользу.
Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно,
никого не покрывая.
— Накрой его! — сказал Чиклин Жачеву. — Пускай
ему тепло станет.
Жачев сейчас же одел активиста его собственным пид-
жаком и одновременно пощупал человека — насколько он
цел.
— Живой он? — спросил Чиклин.
— Так себе, средний, — радуясь, ответил Жачев. — Да
это все равно, товарищ Чиклин: твоя рука работает, как
кувалда, ты тут ни при чем.
— А он горячего ребенка не раздевай! — с обидой ска-
зал Чиклин. — Мог чаю скипятить и согреться.
В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было
не слышно. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что
это колхоз метет снег для гигиены; мужикам не нравилось
теперь, что снег засижен мухами, они хотели более чистой
зимы.
Отделавшись на Оргдворе, члены колхоза далее тру-
диться не стали и поникли под навесом в недоумении сво-
ей дальнейшей жизни. Несмотря на то, что люди уже дав-
но ничего не ели, их и сейчас не тянуло на пищу, потому
что желудки были завалены мясным обилием еще с прош-
лых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также
невидимостью актива, старичок кафельного завода и про-1
чйе неясные элементы, бывшие до того в заключении на}
332
Оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых пре-
пятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным
делам.
Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков,
чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла де-
вочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально
думал.
— Я опять к маме хочу! — произнесла она, не откры-
вая глаз.
— Нету твоей матери, — не радуясь, сказал Жачев.—
От жизни все умирают — остаются одни кости.
— Хочу ее кости! — попросила Настя. — Ктой-то это
плачет в колхозе?
Чиклин готовно прислушался; но все было тихо кру-
гом — никто не плакал, не от чего было заплакать. День
уже дошел до своей середины, высоко светило бледное
солнце над округом, какие-то далекие массы двигались
пр горизонту на неизвестное межселенное собрание — ни-
что не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое не-
сознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе
и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, об-
ращаясь в глухое место, и не был рассчитан на жалобу.
— Это кто? — крикнул Чиклин с высоты крыльца во
всю деревню, чтоб его услышал тот недовольный.
— Это молотобоец скулит, — ответил колхоз, лежав-
ший под навесом. — А ночью он песни рычал.
Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было
некому. Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печаль-
но в глушь почвы, не соображая своего горя.
— Там медведь о чем-то тоскует, — сказал Чиклин На-
сте, вернувшись в горницу.
— Позови его ко мне, я тоже тоскую, — попросила
Настя. — Неси меня к маме, мне здесь очень жарко!
— Сейчас, Настя. Жачев, ползи за медведем. Все рав-
но ему работать здесь нечего — материала нету!
Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад:
медведь сам шел на Оргдвор совместно с Вощевым; при
этом Вощев держал его, как слабого, за лапу, а молото-
боец двигался рядом с ним грустным шагом.
Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежачего акти-
виста и сел равнодушно в углу.
, — Взял его в свидетели, что истины нет, — произнес
Вощев. — Он ведь только работать может, а как отдохнет,
333
задумается, так скучать начинает. Пусть существует теперь
как предмет — на вечную память, я всех угощу!
— Угощай грядущую сволочь, — согласился Жачев.—
Береги для нее жалкий продукт!
Наклонившись, Вощев стал собирать вынутые Настей
ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой
мешок. Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла
опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие глаза. Че-
рез окно девочка засмотрелась на близко приникших друг
к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в тер-
пеливом забвении.
— Вощев, а медведя ты тоже в утильсырье поне-
сешь?— озаботилась Настя.
— А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное
существо!
— А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья
ножка, занемогшую руку к лежачему на дворе колхозу.
Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, от-
вернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей по
истине головой.
Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу,
пока задумавшийся Вощев не согнулся над ним и не по-
шевелил его из чувства любопытства перед всяким ущер-
бом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не
ответил Вощеву. Тогда Вощев присел близ человека и дол-
го смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в глубь
своего грустного сознания.
Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил,
и на его голос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом.
— Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? —
спросил колхоз.— Вы горюйте об нас, а то нам терпежа
нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело те-
перь зимнее — нам чувствовать нечего. Вы уж постарай-
тесь!
— Некому горевать, — сказал Чиклин. — Лежит ваш
главный горюн.
Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активи-
сту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что
говорил активист всегда точно и правильно, вполне по за-
вету, только сам был до того поганый, что когда все об-
щество задумало его однажды женить, дабы убавить его
деятельность, то даже самые незначительные на лицо ба-
бы и девки заплакали от печали.
334
— Он умер, — сообщил всем Вощев, подымаясь сни-
зу. — Все знал, а тоже кончился.
— А может, дышит еще? — усомнился Жачев. —Ты его
попробуй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не за-
работал: я ему тогда добавлю сейчас!
Вощев снова прилег к телу активиста, некогда дейст-
вовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная
истина, весь смысл жизни помещались только в нем и бо-
лее нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме му-
ченья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке
существования и покорности слепого элемента.
— Ах ты гад! — прошептал Вощев над этим безмолв-
ным туловищем. — Так вот отчего я смысла не знал! Ты,
должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а
мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!
И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его
гибели и для собственного сознательного счастья.
Почувствовав полный ум, хотя не умея еще произнести
или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Во-
щев встал на ноги и сказал колхозу:
— Теперь я буду за вас горевать!
— Просим!! — единогласно выразился колхоз.
Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал
желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце мо-
жет биться не только от одного холодного воздуха, но и
от истинной радости одоления всего смутного вещества
земли.
— Выносите мертвое тело прочь! — указал Вощев.
— А куда? — спросил колхоз. — Его ведь без музыки
хоронить никак нельзя! Заведи хоть радио!..
— А вы раскулачьте его по реке в море! — догадался
Жачев.
— Можно и так! — согласился колхоз. — Вода еще те-
чет!
И несколько человек подняли тело активиста на высоту
и понесли его на берег реки. Чиклин все время держал
Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но за-
держивался происходящими условиями.
— Из меня отовсюду сок пошел, — сказала Настя.—
Неси меня скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно!
— Сейчас, девочка, тронемся. Я тебя бегом понесу.
Елисей, ступай кликни Прушевского — уходим, мол, а Во-
щев за всех останется, а то ребенок заболел.
Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не
335
захотел, сказал, что он всю здешнюю юность должен сна-
чала доучить, иначе она может в будущем погибнуть, а ему
ее жалко.
— Ну пускай остается, — согласился Чиклин. — Лишь
бы сам цел был.
Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз;
поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел
нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они, спеша, от-
правились на котлован по зимнему пути.
— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, при-
казала Настя. — Я к нему скоро в гости приду.
— Будь покойна, барышня! — пообещал колхоз.
К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке элек-
трическое освещение города. Жачев уж давно устал сидеть
на руках Чиклина и сказал, что надо бы в колхозе лошадь
взять.
— Пешие скорей дойдем, — ответил Елисей. — Наши
лошади уж и ездить отвыкли: стоят с коих пор! У них и
ноги опухли, ведь им только и ходу, что корма воровать.
Когда путники дошли до своего места, то увидели, что
весь котлован занесен снегом, а в бараке было пусто и
темно. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться
над разведением костра для согревания Насти, но она ему
сказала:
— Неси мне мамины кости, я хочу их!
Чиклин сел против девочки и все время жег костер для
света и тепла, а Жачева услал искать у кого-нибудь моло-
ко. Елисей долго сидел на пороге барака, наблюдая ближ-
ний светлый город, где что-то постоянно шумело и равно-
мерно волновалось во всеобщем беспокойстве, а потом сва-
лился на бок и заснул, ничего не евши.
Мимо барака проходили многие люди, но никто не при-
шел проведать заболевшую Настю, потому что каждый
нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллекти-
визации.
Иногда вдруг наставала тишина, но затем опять пели
вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные
копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во
что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общест-
венная польза.
— Чиклин, отчего я всегда ум чувствую, и никак его
не забуду? — удивилась Настя.
— Не знаю, девочка. Наверно, потому, что ты ничего
хорошего не видела.
336
— А почему в городе ночью трудятся и не спят?
— Это о тебе заботятся.
— А я лежу вся больная... Чиклин, положи мне мами-
ны кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно ста-
ло сейчас!
— Спи, может, ум забудешь.
Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала
склонившегося Чиклина в усы—как и ее мать, она умела
первая, не предупреждая, целовать людей.
Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни
и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почув-
ствовал озабоченности к этому маленькому, горячему туло-
вищу.
Для охранения Насти от ветра и для общего согрева-
ния Чиклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку
ребенка.
— Лежи тут, — сказал Чиклин ужаснувшемуся во сне
Елисею. —Обними девочку рукой и дыши на нее чаще.
Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на
локоть и чутко слушал дремлющей головой тревожный
шум на городских сооружениях.
Около полуночи явился Жачев; он принес бутылку сли-
вок и два пирожных. Больше ему ничего достать не уда-
лось, так как все новодействующие не присутствовали на
квартирах, а шиковали где-то на стороне. Весь исхлопо-
тавшись, Жачев решился в конце концов оштрафовать то-
варища Пашкина как самый надежный свой резерв; но и
Пашкина дома не было — он, оказывается, присутствовал
с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться
на представлении, среди тьмы и внимания к каким-то му-
чающимся на сцене элементам и громко потребовать Паш-
кина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин
мгновенно вышел, безмолвно купил для Жачева в буфете
продуктов и поспешно удалился в залу представления,
чтобы снова там волноваться.
— Завтра надо опять к Пашкину сходить, — сказал
Жачев, успокаиваясь в дальнем углу барака, — пускай печ-
ку ставит, а то в этом деревянном эшелоне до социализма
не доедешь!..
Рано утром Чиклин проснулся; он озяб и прислушался
к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во
сне свое беспокойство.
— Ты дышишь там, средний черт? — сказал Чиклин
Елисею.
337
— Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ре-
бенка теплом обдавал.
— Ну?
— А девочка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала
с чего-то!
Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на
месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмот-
рел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные, потом
нашел веник и очистил весь барак от скопившегося за без-
людное время разного налетевшего сора.
Положив веник на его место, Чиклину захотелось рыть
землю; он взломал замок с забытого чулана, где хранился
запасной инвентарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша
отправился на котлован. Он начал рыть грунт, но почва
уже смерзлась, и Чиклину пришлось сечь землю на глыбы
и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глуб-
же пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими
ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр
почти во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал
громить грунт вбок, разверзая земную тесноту вширь. По-
пав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от
мощности удара, — тогда Чиклин зашвырнул ее вместе с
рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой
к обнаженной глине.
В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум
его неподвижно думал, что Настя умерла.
— Пойду за другой лопатой! — сказал Чиклин и вылез
из ямы.
В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и
попробовал ее голову; потом он прислонил свою руку ко
лбу Елисея, проверяя его жизнь по теплу.
— Отчего ж она холодная, а ты горячий? — спросил
Чиклин и не слышал ответа, потому что его ум теперь сам
забылся.
Далее Чиклин сидел все время на земляном полу, и
проснувшийся Жачев тоже находился с ним, храня непод-
вижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей,
всю ночь без сна дышавший на девочку, теперь утомился
и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих го-
лосов родных обобществленных лошадей.
В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь кол-
хоз; лошади же остались ожидать снаружи.
— Ты что? — увидел Вощева Жачев. —Ты зачем оста-
вил колхоз, иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль
338
заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи
ко мне — получишь, как от класса!
Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жа-
чева. Он привез в подарок Насте мешок специально ото-
бранного утиля в виде редких, непродающихся игрушек,
каждая из которых есть вечная память о забытом челове-
ке. Настя хотя и глядела на Вощева, но почему не обра-
довалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя ее открытый
смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев сто-
ял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не
знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его
нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатле-
нии? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина все-
мирного происхождения, если нет маленького, верного че-
ловека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?
Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без
надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы
девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучи-
лась с течением времени. Вощев поднял Настю на руки,
поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья
прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.
— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторич-
но!— обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни
пирожных.
— Мужики в пролетариат хотят зачисляться, — ответил
Вощев.
— Пускай зачисляются, — произнес Чиклин с земли. —
Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай
в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной
избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть
пойду.
Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на
дальний край котлована. Там он снова начал разверзать
неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не
в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как
трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он
остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним
и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики
работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись
навеки в пропасти котлована.
Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя
верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал
этот камень пешком и разевал от натуги пасть.
339
Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел
на весь роющий труд взором прискорбия.
— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его
Чиклин, возвратившись в барак. — Взял бы хоть лопаты
поточил!
— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — отве-
тил Жачев в это утро второго дня.
— Почему, стервец?
— Ты же видишь, что я урод империализма, а ком-
мунизм — это детское дело, за то я и Настю любвд. Пойду
сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.
И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвра-
тившись на котлован.
В полдень Чиклин начал копать для Насти специаль-
ную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она
была глубока и в -нее не сумел бы проникнуть ни червь,
ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка ни-
когда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли.
Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приго-
товил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы
на девочку не лег громадный вес могильного праха.
Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес
ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь
колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв дви-
жение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте
на прощанье.
Декабрь 1929 —апрель 1930 г.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
н
SOLUS REX1
Роман
ак случалось всегда, короля разбудила встре-
ча предутренней стражи с дополуденной
(morndammer wagh u erldaq wagh): первая,
чересчур аккуратная, покидала свой пост в
точную минуту смены; вторая же запаздывала
на постоянное число секунд, зависевшее не от
нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали
чьи-то подагрические часы. Поэтому уходившие с прибывав-
шими встречались всегда на одном и том же месте — на
тесной тропинке под самым окном короля, между задней
стеной дворца и зарослью густой, но скудно цветущей жи-
молости, под которой валялся всякий сор: куриные перья,
битые горшки и большие краснощекие банки из-под нацио-
нальных консервов «Помона»; при этом неизменно слы-
шался приглушенный звук короткой добродушной потасов-
ки (он-то и будил короля), ибо кто-то из часовых предут-
ренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет
отдать грифельную дощечку с паролем одному из дополу-
денных, раздражительному и глупому старику, ветерану
свирхульмского похода. Потом все смолкало опять, и доно-
сился только деловитый, иногда ускорявшийся шелест дож-
дя, систематически шедшего по чистому подсчету триста
шесть суток из трехсот шестидесяти пяти или шести, так
что перипетии погоды явно никого не трогали (тут ветер
обратился к жимолости).
Король повернул из сна вправо и подпер большим бе-
лым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки
оставил шашечный след. Между внутренними краями ко-
ричневых, неплотно заведенных штор, в единственном, за-
то широком окне тянулся мыс пыльного света, и королю
сразу вспомнилась предстоящая обязанность (присутствие
при открытии нового моста через Эгель), неприятный об-
раз которого был, казалось, с геометрической небрежно-
стью вписан в этот бледный треугольник дня. Его не ин-
тересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство,
1 Одинокий король (лат.).—Здесь и далее прим, редакции.
341
и хотя, собственно говоря, он должен был бы привыкнуть
за пять лет — да, ровно пять лет (тысяча пятьсот тридцать
суток) — пасмурного царствования к тому, чтобы усердно
заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем от-
вращение из-за их органической недоконченности в его со-
знании (где бесконечно и неутолимо совершенными оста-
вались совсем другие вещи, никак не связанные с его ко-
ролевским хозяйством), он испытывал изнурительное раз-
дражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не
только с тем, что требовало от его свободного невежества
лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец
условности на бессмысленном и, может быть, даже отсут-
ствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он
даже не помнил, хотя, должно быть, одобрил его, казалось
ему лишь пошлым фестивалем еще и потому, что никто,
конечно, не спрашивал, интересен ему или нет повисший в
воздухе сложный плод техники, — а придется тихо про-
ехать в блестящем оскаленном автомобиле, а это мучитель-
но, а вот был другой инженер, о котором упорно доклады-
вали ему после того, как он однажды заметил (просто
так — чтобы от кого-то или чего-то отделаться), что охот-
но занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна
приличная гора (старый, давно негодный береговой вул-
кан был не в счет, да там, кроме того, построили маяк, то-
же, впрочем, недействующий). Этот инженер, сомнитель-
ная слава которого обжилась в гостиных придворных и
полупридворных дам, привлеченных его медовой смугло-
той и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную
часть островной равнины, обратив ее в горный массив, пу-
тем подземного накачиванья. Населению выбранной мест-
ности было бы разрешено не покидать своих жилищ во
время опуханья почвы: трусы, которые предпочли бы отой-
ти подальше от опытного участка, где жались кирпичные
домишки и мычали, чуя элевацию, изумленные красные
коровы, были бы наказаны тем, что возвращение восвояси
по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше
времени, чем недавнее отступление по обреченной равнине.
Медленно и округло надувались логовины, валуны поводи-
ли плечами, летаргическая речка, упав с постели, неожи-
данно для себя превращалась в альпийский водопад, де-
ревья цугом уезжали в облака, причем многим это прави-
лось, например, елям; опираясь о борт того, другого крыль-
ца, жители махали платками и любовались воздушным
развитием окрестностей, — а гора все росла, росла, пока
342
инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищ-
ных насосов. Но король приказа не дождался, снова задре-
мал, едва успел пожалеть, что, постоянно сопротивляясь
готовности Советников помочь осуществлению любой вздор-
ной мечты (между тем как самые естественные, самые че-
ловеческие его права стеснялись глухими законами), он не
разрешил приступить к опыту, теперь же было поздно,
изобретатель покончил с собой, предварительно запатенто-
вав комнатную виселицу (так, по крайней мере, сонное пе-
ресказано сонному).
Король проспал до половины восьмого, и в привычную
минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу
Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дрях-
лый конвахер издавал на ходу странный добавочный звук;
точно очень спешил, хотя, по-видимому, спешка была не
в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с выре-
занным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже
полвека при двух королях, ныне он будил третьего, пред-
шественникам которого эта пахнущая ванилью и как бы
колдовская водица служила, вероятно, для умывания, но
теперь была совершенно излишней, а все-таки каждое утро
появлялся таз, табурет, пять лет тому назад сложенное по-
лотенце. Все издавая свой особенный звук, Фрей впустил
день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он
раньше всего не раздвигал штор, вместо того, чтобы в по-
лутьме, почти наугад, подвигать к постели табурет с не-
нужной посудой. Но говорить с Фреем было бы немыслимо
из-за его белой как лунь глухоты, — от мира он был отде-
лен ватой старости, и когда он уходил, поклонившись пос-
тели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно
получив новый заряд времени.
Теперь эта спальня была ясна: с трещиной поперек по-
толка, похожей на дракона; с громадным столбом-вешал-
кой, стоящим как дуб в углу; с прекрасной гладильной дос-
кой, прислоненной к стене; с устарелым приспособлением
для сдирания сапога за каблук в виде большого чугунного
жука-рогача, таящегося у подола кресла, облаченного в
белый чехол. Дубовый платяной шкап, толстый, слепой,
одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной
корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвест-
ным колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что
было понавешено: уже проговорившиеся часы, аптечка,
старый барометр, указывающий по воспоминаниям недей-
ствительную погоду, карандашный эскиз озера с камышам
343
ми и улетающей уткой, близорукая фотография господина
в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, кото-
рую держал под уздцы серьезный конюх перед крыльцом,
то же крыльцо с собравшейся на ступенях напряженной
прислугой, какие-то прессованные пушистые цветы под
пыльным стеклом в круглой рамке... Немногочисленность
предметов и совершенная их чуждость нуждам и нежности
того, кто пользовался этой просторной спальней (где ког-
да-то, кажется, жила Экономка, как называли жену пред-
шествовавшего короля), придавали ей таинственно необи-
таемый вид, и если бы не принесенный таз да железная
кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги, чело-
век в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы
себе представить, что тут кто-либо проводит ночь. Ноги на-
шарили пару сафьяновых туфель, и, надев серый, как утро,
халат, король прошел по скрипучим половицам к обитой
войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро,
ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях
и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя гряду-
щего дня, так что несомое этим днем страшнейшее несча-
стье (уже, под маской ничтожной скуки, сторожившее
мост через Эгель), при всей своей нелепости и непредви-
денности, ощутилось им затем, как некое разрешение. Мы
склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только
что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, род-
нящие его с неожиданным настоящим, которое на самом
деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Ра-
бы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть
перерыв. Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что
именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу,
близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жиз-
ни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти
в предшествующем признаки упругости или зыбучести.
Так, между прочим, думалось несвободному художнику,
Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и верти-
кально расположенными рубиновыми буквами горело
«GARAGE».
Король отправился на поиски утреннего завтрака. Де-
ло в том, что никогда ему не удавалось установить напе-
ред, в каком из пяти возможных покоев, расположенных
вдоль холодной каменной галереи с паутинами на косых
стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя две-
ри, он выглядывал накрытый столик и наконец отыскал
его там, где это явление случалось всего реже, — под боль-
Э44
шим, роскошно-темным портретом его предшественника.
Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором
он помнил его, но чертам, осанке и телосложению было со*
общено великолепие, никогда не бывшее свойственным
этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику, с без-
волосым, кривоватым, по-бабьи сморщенным надгубьем.
Слова родового герба «видеть и владеть» (sassed ud hal-
sem) остряки в применении к нему переделали в «кресло
и ореховая водка» (sasse ud hazel). Он процарствовал трид-
цать с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой люб-
ви, ни особой ненависти, одинаково веря в силу добра и в
силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большин-
ством, пустые человеколюбивые стремления коего нрави-
лись его чувствительной душе, и широко вознаграждая из
тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность
престолу служила залогом его прочности. Царствование
давно стало для него маховым колесом механической при-
вычки, и таким же ровным верчением было темное повино-
вение страны, где как тусклый и трескучий ночник едва
светился peplerhus (парламент). И если самые последние
годы его царствования были все же отравлены едкой кра-
молой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечно-
го обеда, то не сам он был тому виною, а личность и пове-
дение наследника; да и то сказать — в пылу раздражения
добрые люди находили, что не так уж завирался тогдаш-
ний бич научного мира, забытый ныне профессор фен
Скунк, утверждавший, что деторождение не что иное как
болезнь, и что всякое чадо есть ставшая самостоятельной
(«овнешненной») опухоль родительского организма, часто
злокачественная.
Нынешний король (в прошедшем обозначим его по-
шахматному) приходился старику племянником, и внача-
ле никому не мерещилось, что племяннику достанется то,
что законом сулилось сыну короля Гафона, принцу Адуль-
фу, народное, совершенно непристойное, прозвище которо-
го (основанное на счастливом созвучии) приходится скром-
но перевести так: принц Дуля. Кр. рос в отдаленном зам-
ке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его
мужеподобной жены, страстной любительницы охоты, —
так что он едва знал двоюродного брата и только в двад-
цать лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда то-
му уже было под сорок.
345
Перед нами дородный, добродушный человек, с тол-
стой шеей и широким тазом, со щекастым, ровно-розовым
лицом и красивыми глазами навыкате; маленькие гладкие
усы, похожие на два иссиня-черных перышка, как-то не
шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он
только что обсасывал цыплячью косточку, а темные, гус-
тые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые воло-
сы придавали его большой, плотно посаженной голове ка-
кой-то не по-островному франтовской вид. Он любил ще-
гольское платье и вместе с тем был, как papugh (семина-
рист), нечистоплотен; он знал толк в музыке, в ваянии, в
графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вуль-
гарных людей; он обливался слезами, слушая тающую
скрипку гениального Перельмона, и точно так же рыдал,
подбирая осколки любимой чашки; он готов был чем угод-
но помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало
его,— и, блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он
постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим
душам, о существование которых не помышлял, какое-то
далеко превышающее размер его личности постороннее,
почти потустороннее горе.
Поступив на двадцатом году в университет, располо-
женный в пятистах лиловых верстах от столицы, на бере-
гу серого моря, Кр. кое-что там услыхал о нравах наслед-
ного принца, и услыхал бы гораздо больше, если бы не из-
бегал всех речей и рассуждений, которые могли бы слиш-
ком обременить его и так нелегкое инкогнито. Граф-опе-
кун, навещавший его раз в неделю (причем иногда приез-
жал в каретке мотоциклета, которым управляла его энер-
гичная жена), постоянно подчеркивал, как было бы сквер-
но, скандально, опасно, кабы кто-нибудь из студентов или
профессоров узнал, что долговязый, сумрачный юноша^
$толь же отлично учащийся, как играющий в vanbol на
двухсотлетней площадке за зданием библиотеки, вовсе не
сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуж-
дение одним из тех несметных и загадочных по своей глу-
пости капризов, которыми, казалось, кто-то неведомый, об-
ладающий большей властью, чем король и пеплерхус, вме-
сте взятые, зачем-то бередит верную полузабытым заветам,
бедную, ровную, северную жизнь этого «грустного и дале-
кого» острова, или же у обиженного вельможи был свой
частный замысел, свой зоркий расчет (воспитание коро-
лей почиталось тайной), гадать об этом не приходилось,
да и другим был занят необыкновенный студент. Книги?
346
мяч, лыжи (в те годы зимы бывали снежные), но глав-
ное— ночные, особенные размышления у камина, а немно-
го позже близость с Белиндой, достаточно заполняли его
существование, чтобы его не заботили шашни метаполити-
ки. Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной исто-
рией, он никогда не думал о том, что в нем спит та же са-
мая кровь, что бежала по жилам прежних королей, или
что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышед-
шая из туннеля веков на бледное солнце. Оттого ли, что
программа его предмета кончалась за целое столетие до
царствования Гафона, оттого ли, что невольное волшебст-
во трезвейших летописцев было ему дороже собственного
свидетельства, но книгочей в нем победил очевидца, и впо-
следствии, стараясь восстановить утраченную связь с дей-
ствительностью, он принужден был удовлетвориться наско-
ро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими при-
вычную даль легенды (мост через Эгель, кровавый мост
через Эгель...).
И вот тогда-то, перед началом второго университетско-
го года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он
скромно поселился в так называемых «министерских номе-
рах», Кр. на первом же дворцовом приеме встретился с
шумным, толстым, неприлично моложавым, вызывающе
симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в
присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой
спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего
те маленькие почти черные сливы, которые служили ему.
более лакомством, чем лекарством. Сначала как бы не за-
мечая молодого родственника и продолжая обращаться к
двум подставным придворным, принц, однако, повел раз-
говор, как раз рассчитанный на то, чтобы обольстить но-
вичка, к которому он стоял вполоборота, глубоко запустив
руки в карманы мятых клетчатых панталон, выпятив жи-
вот и покачиваясь с каблуков на носки. «Возьмите, — гово-
рил он своим публичным, ликующим голосом, — возьмите
всю нашу историю, и вы увидите, господа, что корень вла-
сти всегда воспринимался у нас, как начало магическое, и
что покорность была только тогда возможна, когда она в
сознании покоряющегося отождествлялась с неизбежным
действием чар. Другими словами, король был либо колдун,
либо сам был околдован,— иногда народом, иногда совет-
никами, иногда супостатом, снимающим с него корону, как
шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена,
власть mossmon’oB (жрецов, «болотных людей»), поклоне*
347
ние светящемуся мху и прочее, а потом... первые языческие
короли, — как их, Гильдрас, Офодрас и третий... я уж не
Помню, — словом, тот, который бросил кубок в море, после
чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратив-
шуюся в вино... Solg ud digh vor je sage vel, ud jem gotelm
quolm osie musikel (сладка и густа была морская волна, и
девочки пили из раковин, — принц цитировал балладу Упер-
хульма). А первые монахи, приплывшие на лодочке, усна-
щенной крестом вместо паруса, и вся эта история с «ку-
пель-скалой», — ведь только потому, что они гадали, чем
взять наших, удалось им ввести римские бредни. Я боль-
ше скажу, — продолжал принц, вдруг умерив раскаты го-
лоса, так как неподалеку стоял сановник клерикального
толка, — если так называемая церковь никогда у нас не въе-
лась по-настоящему в тело государства, а за последние два
столетия и вовсе утратила политическое значение, так это
именно потому, что те элементарные и довольно однообраз-
ные чудеса, которые она могла предъявить, очень скоро на-
скучили (клерикал отошел, и голос принца вновь вышел
на волю) и не могли тягаться с природным колдовством,
avec la magie innee et naturelle нашей родины. Возьмем
далее безусловно исторических королей и начало нашей
династии. Когда Рогфрид I вступил или вернее вскараб-
кался на шаткий трон, который он сам называл бочкой в
море, и в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его
попытка воцариться казалась детской мечтой, — помните,
первое, что он делает по вступлении на престол, — он не-
медленно чеканит круны и полкруны и гроши с изображе-
нием шестипалой руки, — почему рука? почему шесть паль-
цев? — ни один историк не может выяснить, да и сам Рог-
фрид вряд ли знал, но факт тот, что эта магическая мера
сразу умиротворила страну. Далее, когда при его внуке
датчане попробовали навязать нам своего ставленника и
тот высадился с огромными силами, — вдруг, совершенно
просто, партия — я забыл, как ее звали, — словом изменни-
ки, без помощи которых не случилось бы всей затеи, — от-
правили к нему гонца с вежливым извещением о невозмож-
ности для них впредь поддерживать завоевателя, ибо, ви-
дите ли, «вереск (т. е. вересковая равнина, по которой про-
давшееся войско должно было пройти, чтобы слиться с
силами иноземца) опутал измене стремена и ноги и не пу-
скает далее», что, по-видимому, следует понимать букваль-
но, а не толковать в духе тех плоских иносказаний, которы-
ми питают школьников. Затем... да, вот чудный пример,
348
королева Ильда, — не забудем белогрудой и любвеобильной
королевы Ильды, которая все государственные трудности
разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий
неугодный ей человек терял рассудок — вы сами знаете,
что до сих пор в народе убежища для сумасшедших зовутся
ildeham. Когда же он, этот народ, начинает участвовать в
делах законодательных и административных, — до смешно-
го ясно, что магия на его стороне, и, уверяю вас, что, если
бедный король Эдарик никак не мог усесться во время при-
ема выборных, виной тому был вовсе не геморрой. И так
далее, и так далее (принцу уже начинала надоедать им вы-
бранная тема)... жизнь страны, как некая амфибия, держит
голову в простой северной действительности, а брюхо по-
гружает в сказку, в густое, живительное волшебство, — не-
даром у нас каждый мшистый камень, каждое старое де-
рево участвовало хоть раз в том или другом волшебном
происшествии. Вот тут находится молодой студент, он изу-
чил предмет и, думаю, подтвердит мое мнение».
Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, Кр.
поражался тем, до чего они совпадают с его собственными
мыслями. Правда, ему казалось, что хрестоматийный под-
бор примеров, производимый речистым наследником, не-
сколько грубоват; что все дело не столько в разительных
проявлениях чудесного, сколько в оттенках его, глубоко и
вместе туманно окрашивающих историю Острова. Но с ос-
новным положением он был безусловно согласен, — так он
и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только го-
раздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивив-
шее, было следствием почти бессознательной хитрости со
стороны их прокатчика, у которого несомненно было особо-
го рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приман-
ку для всякого свежего слушателя.
Король, покончив со своими сливами, подозвал племян-
ника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросил
его, сколько студентов в университете. Тот смешался, — не
знал, сколько, — был слишком ненаходчив, чтобы назвать
любую цифру. «Пятьсот? Тысяча?» — допытывался король
с какой-то ребяческой надеждой в тоне. «Наверное, боль-
ше», — примирительно добавил он, не добившись вразуми-
тельного ответа и, немного подумав, еще спросил, любит
ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник, с
присущей ему сочной непринужденностью предложив двою-
родному брату совместную прогулку в ближайший четверг.
«Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сест-
349
рицу, — проговорил король с машинальным вздохом, сни-
мая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричне-
вой, с бранденбурами, куртки. — Я слишком беден, — про^
должал он, — чтобы подарить тебе коня, но у меня есть
чудный хлыстик,— Гостей (обратился он к министру дво-
ра), где чудный хлыстик с собачьей головкой? Разыщите
потом и дайте ему, — интересная вещица, историческая ве-
щица,— ну так вот, очень рад, а коня не могу, пара кляч
есть, да берегу для катафалка, не взыщи — беден...»
(Il mente1,— сказал принц вполголоса и отошел, напевая.)
В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная,
летело перламутровое небо, склонялся лозняк по оврагам,
копыта вышлепывали брызги из жирных- луж в шоколад-
ных колеях, каркали вороны, а потом, за мостом, всадни-
ки свернули в сторону и поехали рысью по темному вере-
ску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтею-
щая береза. Наследный принц оказался отличным наездни-
ком, хотя, видимо, в манеже не учился: посадка была ни-
какая, и его тяжелый, широкий, вельветином и замшей об-
тянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые,
склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то
странную, смутную жалость, которая совершенно рассеи-
валась, когда Кр. смотрел на толстощекое, розовое, разя-
щее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушал
его напористую речь.
Присланный накануне хлыстик взят не был: принц
(кстати сказать, введший в моду дурной французский язык
при дворе) высмеял «се machin ridicule»2, который, по его
словам, сынок конюха забыл у королевского подъезда,—
<et mon bonhomme de рёге, tu sais, a une vraie passion pour
les objefs trouves».3
«Я все думал, как это верно, то, что вы говорили, — в
книгах этого ведь не сказано...»
«О чем это?» — спросил принц, с трудом и неохотой
стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда раз-
вивал перед двоюродным братом.
«Помните, — о магическом начале власти, — о том,
что — ,».
«А, помню, помню, — поспешно перебил принц и тут же
нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой: —
1 Он лжет (франц ).
2 это забавное устройство (франц.).
3 а у моего папочки, как ты знаешь, подлинная страсть к наход-
' кам (франц.).
350
Только знаешь, — сказал он, — я тогда не докончил,—
слишком было ушисто. Видишь ли, — все наше тепереш-
нее несчастье, эта странная тоска государства, инертность
страны, вялая ругань в пеплерхусе, — все это так потому,
что самая сила чар, и народных и королевских, как-то сда-
ла, улетучилась, и наше отечественное волхвование превра-
тилось в пустое фокусничание. Но не будем сейчас гово-
рить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым.
Скажи, ты в университете, верно, немало обо мне наслы-
шался... Воображаю! Скажи, о чем говорилось? Что ж ты
молчишь? Говорилось, что я развратен, не так ли?»
«Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали».
«Что ж, молва — поэзия правды. Ты еще мальчик — и
довольно красивый мальчик в придачу, — так что многого
ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу: все лю-
ди в сущности развратны, но когда это делается под шу-
мок, когда второпях, скажем, обжираешься вареньем в
темном углу, или Бог знает что поручаешь собственному
воображению, — о, это не в счет, это преступлением не зо-
вется; когда же человек откровенно и трудолюбиво удов-
летворяет желания, навязанные ему требовательным те-
лом,— тогда люди начинают трубить о беспутстве! И еще:
если бы в моем случае это законное удовлетворение просто
сводилось все. к одному и тому же однообразному приему,
общественное мнение с этим бы примирилось, — разве что
пожурило бы меня за слишком частую смену любовниц...
но, Боже мой, какой поднимается шум оттого, что я не при-
держиваюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду,
люблю все—и тюльпан и простую травку, — потому что,
видишь ли, — докончил принц, улыбаясь и щурясь, — я соб-
ственно ищу только дробь прекрасного, целое предостав-
ляю добрым бюргерам, а эта дробь может найтись в балери-
не и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всадни-
ке».
«Да, — сказал Кр., — я понимаю. Вы художник, скульп-
тор, вы ищите форму...»
Принц придержал коня и захохотал.
«Ну, знаешь, дело тут не в скульптуре, — a moins que
tu ne confonde la galanterie avec la Galatee1, — что, впро-
чем, в твоем возрасте простительно. Нет-нет, все это гора-
здо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя
не съем, я ужасно не люблю юношей, qui se tiennent
1 по крайней мере, ты не путаешь галантность с Галатеей (франц ).
351
tonjours stir leurs gardes Если у тебя ничего нет лучше
в виду, мы можем вернуться через cnenlog и пообедать над
озером, а потом что-нибудь придумаем».
«Нет, — боюсь, у меня... словом, одно дело... я как раз
сегодня...»
«Что ж, я тебя не неволю», —добродушно сказал принц,
и немножко дальше, у мельницы, они расстались.
Как очень застенчивый человек, Кр. не без труда при-
нудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо
тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл ве-
селым собеседником: с минорным тихоней было бы легче
заранее определить тон прогулки; готовясь к ней, Кр. ста-
рался вообразить все те неловкости, которые проистекут
от того, что придется искусственно приподнять свое обыч-
ное настроение до искристого уровня Адулъфа. При этом
он себя чувствовал связанным первой встречей с ним, —
тем, что неосторожно признал своими мысли человека, ко-
торый теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение
будет обоим столь же приятно; и составляя наперед под-
робную опись своих возможных промахов, а главное, с пре-
дельной ясностью представляя себе напряжение, свинец в
челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испыты-
вать из-за врожденной способности всегда видеть со сторо-
ны себя, свои бесплодные усилья слиться с самим собой и
найти интересное в том, чему полагается быть интерес-
ным, — составляя эту опись, Кр. еще преследовал малень-
кую практическую цель: обезвредить будущее, чье единст-
венное орудие — неожиданность; ему это почти удалось;
ограниченная в своем дурном выборе судьба, казалось,
удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне
поля воображения; бледное небо, вересковый ветер, скрип
седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый мо-
нолог довольного собой спутника — все это слилось в ощу-
щение сносное, тем более что прогулке Кр. мысленно по-
ставил известный предел во времени. Надо было только
дотерпеть. Но когда новым своим предложением принц по-
грозился отодвинуть этот предел в неизвестность, все воз-
можности коей надо было опять мучительно учесть — при-
чем снова навязывалось «интересное», наперед заказываю-
щее веселое выражение лица, — такое бремя (лишнее!
непредвиденное!) выдержать было нельзя, и потому, рис-
куя показаться неучтивым, он сослался на несуществую-
1 которые всегда держатся настороже (франц.).
352
щую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он
об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за мину-
ту до того пожалел своей свободы. Таким образом, все не-
приятное, ожидавшееся от будущего, выродилось в сомни-
тельный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли
принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредст-
вом позднего, но тем более драгоценного согласия на но-
вое испытание. Но щепетильная боязнь обидеть доброго,
веселого человека не перевесила страха пред явной невоз-
можностью оказаться на высоте этого веселья и этой доб-
роты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки пе-
рехитрила его и напоследок, уколом исподтишка, обесце-
нила то, что он готов был считать за победу.
Через несколько дней он получил еще одно приглаше-
ние от принца. Тот его просил «заглянуть» в любой вечер
на будущей неделе. Отказаться Кр. не мог... Впрочем, чув-
ство облегчения (значит, тот не обиделся) обманчиво сгла-
живало путь. Его ввели в большую, желтую, оранжерейную
теплую комнату, где на оттоманках, на пуфах, на пухлом
ковре сидели человек двадцать с приблизительно равным
числом женщин и мужчин. На одну долю секунды хозяин
был как бы озадачен появлением двоюродного брата, точ-
но забыл, что звал его, или думал, что звал в другой день.
Но это мгновенное выражение тотчас сменилось улыбкой
привета, после чего принц уже перестал обращать какое-
либо внимание на Кр., как, впрочем, ни малейшего внима-
ния не обратили на него другие гости, — видимо, завсегда-
таи, близкие приятели и приятельницы принца — молодые
женщины необыкновенной худобы, с гладкими волосами,
человек пять пожилых мужчин с бритыми бронзовыми ли-
цами да несколько юношей в модных тогда шелковых во-
ротниках нараспашку. Среди них Кр. вдруг узнал знаме-
нитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-
то странной тихостью в движениях и поступи, точно выра-
зительность его тела, столь удивительная на арене, была
одеждой приглушена. Этот акробат послужил для Кр. клю-
чом ко всему составу общества, — и хотя наблюдатель был
до смешного неопытный и целомудренный, он сразу почув-
ствовал, что эти дымчатые, сладостно длинные женщины,
с разнообразной небрежностью складывающие ноги и ру-
ки и занимающиеся не разговором, а какой-то тенью раз-
говора, состоящей из медленных полуулыбок да вопроси-
тельных или ответных хмыканий сквозь дым папирос,
вправленных в драгоценные мундштуки, принадлежат к то-
12 Запретная глава 353
му, в сущности, глухонемому миру, который в старину звал-
ся полусветом (занавески опущены, читать невозмож-
но). То, что между ними находились и дамы, попадавши-
еся на придворных балах, нисколько не меняло дела, точ-
но так же, как мужской состав был чем-то однороден, не-
смотря на то, что тут были и представители знати, и ху-
дожники с грязными ногтями, и какие-то мальчишки пор-
тового пошиба. Но именно потому, что наблюдатель был
неопытный и целомудренный, он тотчас усомнился в пер-
вом невольном впечатлении и обвинил себя в банальной
предвзятости, в рабском доверии пошлой молве. Он решил,
что все в порядке, т. е. что его мир нисколько не нарушен
включением этой новой области, и что все в ней просто и
понятно: жизнерадостный, независимый человек свободно
выбрал себе друзей. Тихо-беспечный и даже чем-то дет-
ский ритм этого общества особенно успокоил его. Курение
машинальных папирос, мелкая, сладкая снедь на тарелоч-
ках с золотыми жилками, товарищеские циклы движений
(кто-то для кого-то нашел ноты, кто-то примерил на себе
ожерелье соседки), простота, тишина — все это по-своему
говорило о той доброте, которую Кр., сам ею не обла-
дая, мучительно узнавал во всех явлениях жизни — будь
это улыбка конфеты в ее гофрированном чепчике или уга-
данный в чужой беседе звук давней дружбы. Сосредоточен-
но хмурясь и изредка разрешаясь серией взволнованных
стонов, оканчивающихся кряком досады, принц занимался
тем, что старался загнать все шесть шариков в центр круг-
лого лабиринта из стекла. Рыжеволосая, в зеленом платье
и сандалиях на босу ногу, повторяла со смешным унынием,
что это ему не удастся никогда, но он долго упорствовал,
тряс ретивый предмет, слегка топал ногой и начинал сыз-
нова. Наконец он его швырнул на диван, где им тотчас за-
нялись другие. Затем мужчина с красивой, но искаженной
тиком внешностью сел за рояль, беспорядочно ударил по
клавишам, пародируя чью-то игру, тотчас встал опят^ и
между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то
третьего лица — вероятно, автора оборванной мелодии, а
рыжая, почесывая сквозь платье длинное бедро, стала объ-
яснять причину чьей-то сложной музыкальной обиды. Вдруг
принц посмотрел на часы и обратился к молодому челове-
ку, пившему в углу оранжад: «Ондрик,— проговорил он с
озабоченным видом, — кажется, пора». Тот угрюмо облиз-
нулся, поставил стакан и подошел к принцу.............
354
«Сначала мне показалось, — рассказывал Кр.» — что я
сошел с ума, что у меня галлюцинация...» — больше всего
его потрясла естественность процедуры. Он почувствовал
подступ физической тошноты и вышел. Выбравшись на
улицу, он некоторое время даже бежал.
Единственное лицо, с которым он признал возможным
поделиться своим возмущением, был его опекун: не испы<
тывая никакой любви к мало привлекательному графу, ок
все же решил, что обратиться к нему необходимо, — дру-
гих близких у него не было. Он с отчаянием спросил гра
фа, как это может быть, чтобы человек таких нравов, к то
му же уже пожилой, т. е. не подверженный перемене, стал
бы правителем страны; при том свете, в котором он неожи-
данно увидел наследника, он увидел и то, что помимо от-
вратительного распутства и несмотря на склонность к ис-
кусствам, принц, в сущности, дикарь, грубый самоучка, ли-
шенный настоящей культуры, присвоивший горсть ее бисе-
ра, умело щеголявший блеском переимчивой мысли и уж
конечно вовсе не озабоченный вопросами будущего царст-
вования. Кр. спрашивал, не бред ли, не сонная ли чепуха
вообразить такого человека на троне, однако, так спраши
вая, он не ожидал практического ответа: это была ритори
ка молодого разочарования. Но как-никак, в отрывистых,
ломких словах (он был не красноречив по природе) выра-
жая свое недоумение, Кр. впервые обогнал действитель-
ность и заглянул ей в лицо. Пускай он сразу же отстал
снова: виденное все же отпечаталось у него в душе, и впер-
вые ему открылось гибельное положение государства, осуж-
денного стать игралищем похотливого хахаля.
Граф выслушал его со вниманием, изредка обращая на
него взгляд голых стервятничьих глаз,—в них сквозило
странное удовлетворение. Расчетливый и неторопливый, он
отвечал своему питомцу весьма осторожно, как бы не со-
всем соглашаясь с ним, успокаивая его тем, что случайно
подсмотренное сильнее, чем следовало, повлияло на его
суждение и что у принца есть качества, которые могут ска-
заться при вступлении его на престол. Напоследок граф
небрежно предложил познакомить Кр. с одним умным че-
ловеком, известным экономистом по фамилии Гумм. Тут
граф преследовал двоякую цель: во-первых, он снимал с
себя ответственность за дальнейшее и оставался в стороне,
что оказалось бы весьма удобным, случись беда; во-вторых,
он передавал Кр. старому заговорщику, и таким образом
355
начато было осуществление плана, который вредный лука-
вец лелеял, по-видимому, давно.
Вот — экономист Гумм, круглобрюхий старичок в шер-
стяном жилете, в синих очках на розовом лбу, подвижный,
чистенький и смешливый. Кр. стал видаться с ним часто, а
в конце второго университетского года даже погостил у не-
го около недели. К этому времени Кр. узнал достаточно о
поведении наследного принца, чтобы не жалеть о своем
первом возмущении. Не столько от самого Гумма, который
всегда куда-то катился, сколько от его родственников и
окружения, он узнал и о тех мерах, которые в разное вре-
мя употреблялись для воздействия на принца. Сначала это
были попытки осведомить старого короля о забавах сына
и добиться отцовского удержа. Действительно, когда то
или другое с трудом дорвавшееся до королевского кабине-
та лицо в откровенных красках расписывало королю эти
забавы, старик, побагровев и нервно запахиваясь в халат,
выражал еще больший гнев, чем можно было надеяться. Он
кричал, что положит конец, что чаша терпения (в которой
бурно плескался утренний кофе) переполнена, что он сча-
стлив услышать чистосердечный доклад, что кобеля он со-
шлет на полгода в suyphellhus (корабль-монастырь, плаву-
чий скит), что... А когда аудиенция кончалась и удовлетво-
ренный докладчик собирался откланяться, старый король,
еще пыхтя, но уже успокоившись, с деловитым, конфиден-
циальным видом отводил его в сторону (хотя все равно они
были одни) и говорил: «Да-да, я все это понимаю, все это
так, но послушайте, — совершенно между нами, скажите,
ведь если здраво подумать, — ведь мой Адульф — холо-
стой, озорной, любит немножко покудесить, — стоит ли так
горячиться,— ведь и мы сами были молоды...» Этот послед-
ний довод звучал, впрочем, довольно бессмысленно, так как
далекая молодость короля протекала с млечной тихостью,
а покойная королева, его супруга, до шестидесяти лет дер-
жала его в строгости необыкновенной. Это была, кстати
сказать, удивительно упрямая, глупая и мелочная женщи-
на, постоянно склонная к невинным, но чрезвычайно неле-
пым фантазиям, и весьма возможно, что именно из-за нее
дворцовый и отчасти государственный бунт принял те осо-
бые, словами трудно определимые черты, странно совме-
щающие в себе капризность и косность, бесхозяйственность
и чинность тихого сумасшествия, которые так мучили ны-
нешнего короля.
Второй по времени метод воздействия был значительно
356
глубже: он заключался в созыве и укреплении обществен-
ных сил. На какое-либо сознательное участие простого на-
рода рассчитывать не приходилось: среди островных паха-
рей, ткачей, булочников, плотников, речников, рыбаков и
прочих превращение любого престолонаследника в любого
короля принималось так же покорно, как перемена пого-
ды: простолюдин смотрел на зарю в кучевых тучах, качал
головой... и все; в его темном и мшистом мозгу всегда бы-
ло отведено привычное место для привычной напасти, го-
сударственной или природной. Мелкота и медленность эко-
номической жизни, оцепеневший уровень цен, давно утра-
тивших спасительную чувствительность (ту действенность,
коей создается внезапная связь между пустой головой и
пустым желудком), угрюмое постоянство небольших, но как
раз достаточных урожаев, тайный договор между овощем
и зерном, как бы условившихся пополнять друг друга и
тем поддерживать равновесие, — все это, по мнению Гум-
ма («Устои хозяйства и его застой»), держало народ в вя-
лом повиновении, — а если тут было своего рода колдов-
ство, то тем хуже для жертв его вязких чар. Кроме того, —
и это особенно печалило светлые умы, — принц Дуля сре-
ди простого народа и мещанства (различие между которы-
ми было так зыбко, что постоянно можно было наблюдать
весьма загадочное возвращение обеспеченного сына лавоч-
ника к скромному мужицкому промыслу его деда) пользо-
вался какой-то пакостной популярностью. Здоровый смех,
неизменно сопровождавший разговоры о его проказах, пре-
пятствовал их осуждению: маска смеха прилипала к устам,
и эту минуту одобрения уже нельзя было отличить от одоб-
рения истинного. Чем гаже развлекался принц, тем гуще
крякали, тем молодцеватее и восторженнее хряпали по
сосновым стволам красными кулаками. Характерная под-
робность: когда однажды проездом (верхом, с сигарой во
рту) через глухое село принц, заметив смазливую девчон-
ку, предложил ее покатать и, несмотря на едва сдержи-
ваемый почтением ужас ее родителей, умчался с ней на ко-
не, а старый дед долго бежал по дороге, пока не упал в
канаву, вся деревня, по донесению агентов, «восхищенно
хохотала, поздравляла семью, наслаждалась предположе-
ниями и не поскупилась на озорные расспросы, когда спу-
стя час девочка явилась, держа в одной руке сотенную бу-
мажку, а в другой выпадыша, подобранного на обратном
пути из пустынной рощи».
В военных кругах недовольство против принца основа-
557
но было не столько на соображениях общей морали и го-
сударственного престижа, сколько на прямой обиде, проис-
текавшей из его отношения к пуншу и пушкам. Сам король
Гафон, в отличие от воинственного предшественника, уж
на что был глубоко штатский старик, а все же с этим ми-
рились: его полное непонимание военных дел искупалось
пугливым к ним уважением. Сыну же гвардия не могла
простить откровенную насмешку. Маневры, парады, тол-
стощекая музыка, полковые пирушки с соблюдением коло-
ритных обычаев и другие старательные развлечения ма-
ленькой островной армии ничего не возбуждали в сугубо
художественной душе принца, кроме пренебрежительной
скуки. Брожение, однако, не шло дальше беспорядочного
ропота да, быть может, полночных клятв (в блеске свечей,
чарок и шпаг), позабываемых утром. Таким образом, по-
чин естественно принадлежал светлым умам общества, ко-
торых, к сожалению, было немного: зато этими противни-
ками наследного принца были некоторые государственные,
газетные и судебные мужи — люди почтенные, жилистые,
пользовавшиеся большим, тайным и явным, влиянием. Ина-
че говоря, общественное мнение оказалось на высоте, и
стремление к обузданию принца по мере развития его по-
рочной деятельности стало почитаться признаком порядоч-
ности и ума. Оставалось только найти оружие. Увы, его-то
и не было. Существовала печать, существовал парламент,
по по законам конституции всякий мало-мальски непочти-
тельный выпад против члена королевского дома служил
достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить или
палату распустить. Единственная попытка расшевелить
страну потерпела неудачу. Речь идет о знаменитом процес-
се доктора Онзе.
Этот процесс был чем-то беспримерным даже в беспри-
мерных анналах островного суда. Человек, слывший пра-
ведником, лектор и писатель по гражданским и философ-
ским вопросам, личность настолько уважаемая, настолько
известная строгостью взглядов и правил, настолько осле-
пительно чистая, что в сопоставлении с ней репутация вся-
кого казалась пятнистой, был обвинен в разнообразных
преступлениях против нравственности, защищался с не-
уклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную.
В этом еще ничего необычайного не было: мало ли каки-
ми фурункулами могут при рассмотрении оказаться сосцы
добродетели! Необычайная и хитрая суть дела состояла в
том, что обвинительный акт и показания свидетелей были
358
верной копией всего того, в чем можно было обвинить на-
следного принца. Следует удивляться точности сведений,
добытых для того, чтобы, ничего не прикрашивая и ничего
не пропуская, вправить в подготовленную раму портрет в
полный рост. Многое было так ново и так уточняло, так
своеобразило общие места давно огрубевшей молвы, что
сначала обыватели не признали оригинала. Но очень скоро
ежедневные отчеты в газетах стали возбуждать в кое-что
сообразившей стране ни с чем не сравнимый интерес, и
люди, платившие до двадцати крун, чтобы попасть на за-
седание суда, уже не жалели пятисот и больше.
Первоначальная идея зародилась в недрах прокурату-
ры; ею увлекся старейший судья столицы; оставалось най-
ти человека, достаточно чистого, чтобы не быть спутанным
с прототипом процесса, достаточно умного, чтобы на суде
не разыграть шута или кретина, а главное — достаточно
преданного правому делу, чтобы отдать ему в жертву все,
вынести чудовищную грязевую ванну и карьеру променять
на каторгу. Таких кандидатов не намечалось; заговорщи-
кам, в большинстве случаев людям семейным и зажиточ-
ным, нравились все роли, кроме той, без которой нельзя
было поставить пьесу. Положение уже казалось безысход-
ным, когда однажды на собрание заговорщиков явился
весь в черном доктор Онзе и, не садясь, заявил, что отдает
себя в полное их распоряжение. Естественное нетерпение
тотчас за него ухватиться как-то не дало им времени по-
дивиться, а ведь на первый взгляд едва ли могло быть по-
нятно, каким образом разреженная жизнь мыслителя со-
вместилась с готовностью быть прикрученным к позорному
столбу ради политической интриги. Впрочем, его случай не
так уж редок. Постоянно занимаясь вопросами духа и к
хрупчайшим отвлеченностям приспосабливая законы твер-
дейших принципов, доктор Онзе не нашел возможности от-
казаться от личного применения того же метода, когда
представился случай совершить бескорыстный и, вероятно,
бессмысленный (т. е. чистейший, а значит, все-таки отвле-
ченный) подвиг. При этом напомним, что доктор Онзе жерт-
вовал кафедрой, кабинетной негой, продолжением ученых
работ, словом, всем, чем вправе дорожить философ; отме-
тим, что здоровье у него было неважное; подчеркнем, что,
прежде чем разобраться в самом деле, ему пришлось по-
святить три ночи изучению специальных трудов по вопро-
сам, мало знакомым аскету; и добавим, что незадолго до
принятия решения он как раз обручился со стареющей де-
359
вушкой, после пяти лет немой любви, в течение которой ее
давний жених боролся с чахоткой в далекой Швейца-
рии, — покуда не угас, тем самым освободив ее от договора
с состраданием.
Дело началось с жалобы этой поистине героической осо-
бы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тай-
ную квартиру, «притон роскоши и разврата». Такая же
точно жалоба (с единственной разницей, что квартира, под
рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той,
которая когда-то нанималась принцем для особых забав,
а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался
признак полной зеркальности, отметившей весь процесс)
была лет пятнадцать тому назад подана одной нерастороп-
ной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посягнув-
ший на ее честь, есть наследник престола, т. е. лицо, ни
при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным
к судебной ответственности. Далее, многочисленные свиде-
тели (иные из которых были навербованы из бескорыстных
приверженцев, а иные из платных агентов: первых не со-
всем хватило) дали свои показания, весьма талантливо
составленные комиссией экспертов, среди которых был из-
вестный историк, два крупных литератора и опытные юри-
сты. В этих показаниях деяния наследника развивались по-
степенно, с соблюдением истинного порядка времени, лишь
несколько сокращенного против того, которое понадоби-
лось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь впо-
валку, урауранизм, умыкание подростков и многие другие
утехи подробно излагались в виде вопросов, обращенных
к подсудимому, отвечавшему значительно более кратко.
Изучив все дело с прилежностью и методичностью, прису-
щими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театраль-
ном искусстве (в театр вообще не ходил), собственным уче-
ным путем бессознательно дошел до прекрасного воплоще-
ния того типа преступника, длительное запирательство ко-
торого (рассчитанное в данном случае на то, чтобы хоро-
шенько дать обвинению развиться) питается противоречи-
ями и поддерживается растерянным упрямством.
Все шло так, как было задумано; увы! вскоре выясни-
лось, что крамола сама не знала, на что именно надеялась.
На раскрытие глаз народных? Но народ и так отлично знал
номинальную цену принца. На переход морального возму-
щения в возмущение гражданское? Но ничто не указыва-
ло путей к такому воплощению. Или, может быть, вся за-
тея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи
360
все более действенных обличений? Но тогда смелость и
резкость маневра, придававшие ему неповторимый харак-
тер исключительности, тем самым обрывали на первом же
звене цепь, требовавшую прежде всего постепенности
ковки.
Как бы то ни было, но печатание всех подробностей
процесса только содействовало обогащению газет: их ти-
раж так разросся, что в этой живительной тени иным на-
ходчивым лицам (например, Сиену) удалось наладить из-
дание новых органов, преследующих те или иные цели, но
сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением су-
дебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было нич-
тожно по сравнению с толпой смакующих и любопытных.
Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство
воспринималось им как замечательная потеха, устроенная
пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании чер-
ты полишинеля, которого, правда, хватает палкой по ла-
кированной голове облезлый черт, но который все же не
перестает быть любимцем зевак, баловнем балаганов. На-
против, личность самоотверженного доктора не только не
была оценена по достоинству, но возбуждала злорадное
улюлюкание (к сожалению, подхваченное бульварной пе-
чатью), ибо его положение понималось народом как жал-
кая исполнительность продажного умника. Словом, та спе-
цифическая популярность, которой всегда пользовался
принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки
о том, каково ему читать о собственных проделках, все же
носили отпечаток того добродушия, которым невольно по-
ощряется чужое молодечество.
Знать, советники, двор и «дворцовые» члены пеплерху-
са были взяты врасплох и, выжидательно присмирев, по-
теряли бесценный политический темп. Правда, за несколь-
ко дней до приговора депутатам королевского крыла уда-
лось путем замысловатого подкопа (или подкупа) прове-
сти в пеплерхусе закон о запрещении газетам помещать
судебные отчеты «бракоразводных и иных дел, могущих
содержать соблазнительные детали», но так как по консти-
туции ни один закон не мог вступить в силу до истечения
сорока дней с момента его принятия (это называлось «бе-
ременность Фемиды»), у газет было время спокойно пи-
сать о процессе до самого его конца.
Сам принц отнесся к нему с полным равнодушием, вы-
раженным притом столь естественно, что можно, было со-
мневаться, понимает ли он, о ком в действительности речь.
361
Так как ни одна черточка дела не могла ему быть незна-
кома, то приходится заключить, что, если ему не отшибло
памяти, он отменно владел собой. Только раз его прибли-
женным показалось, что тень раздражения мелькнула по
•го большому лицу. «Какая досада, — воскликнул принц. —
Почему этот шалун не звал меня на свои посиделки? Que
de plaisirs perdus!»1 Что до короля, то, хотя и он тоже ви-
да не показывал, но судя по тому, как он покашливал,
складывая газету в ящик и снимая очки, да по тому, как
часто запирался с тем или другим советником, вызванным
в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Расска-
зывали, что во дни процесса он несколько раз с притвор-
ной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот
на ней совершил небольшое кругосветное путешествие, но
принц хохотал и целовал отца в лысое темя. «Право же,
голубчик, — повторял старик, — преславно на море. Возь-
мешь с собой винца, музыкантов...» «Helas2,— отвечал
принц, — качающийся горизонт развращает мою диафраг-
му».
Процесс подходил к концу. Защита ссылалась на моло-
дость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холо-
стой жизни — все это было грубоватой пародией на попу-
стительство короля. Прокурор произнес звериной силы
речь, переборщив и потребовав смертной казни. «Послед-
нее слово» подсудимого внесло совсем неожиданную нот-
ку. Истомленный долгим напряжением, измученный вы-
нужденным барахтанием в чужих мерзостях и невольно
потрясенный громами обвинителя, бедный доктор вдруг
•дал, нервы его дрогнули, и после нескольких непонятных,
слипшихся фраз он каким-то новым, истерически ясным
голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодо-
сти, выпив первый в жизни стакан хазеля, согласился пой-
ти с товарищем в публичный дом, и только потому не по-
шел, что упал на улице в обморок. Это свежее и непредви-
денное признание вызвало в зале долго не смолкавший
смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот
подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведен-
ной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Док-
тору Онзе предлагалось тринадцать с половиной лет ка-
торжных работ.
1 Сколько удовольствия потеряно! (франц.)
* Увы (франц.).
362
Приговор был многословно одобрен печатью. При тай-
ных свиданиях друзья жали руки мученику, прощаясь с
ним... Но тут, впервые в жизни, неожиданно для всех и, мо-
жет быть, для самого себя, старый Гафон поступил доволь-
но остроумно: пользуясь своим неоспоримым правом, он
доктора Онзе помиловал.
Итак, первый и второй способы воздействия на прин-
ца ни к чему, в сущности, не привели. Оставался третий —
решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окру-
жении Гумма, было исключительно направлено к тому,
чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее
ее имя, по-видимому, не называлось: эвфемизмов у смерти
достаточно. Кр., попавший в сложную конспиративную об-
становку, не отдавал себе отчета в том, что происходит,
и причиной этой слепоты была не только неопытность мо-
лодости; так вышло еще и потому, что невольно (и совер-
шенно ложно) считая себя зачинщиком (т. е. вовсе не до-
гадываясь, что он в действительности только почетный фи-
гурант— или почетный заложник), Кр. никак не мог до-
пустить мысль, что начатое им дело окончится кровью,—
да дела в настоящем смысле и не было, ибо, с отвраще-
нием изучая жизнь принца, Кр. смутно полагал, что тем
самым он уже совершает нечто важное и нужное, — и
когда, с течением времени, ему несколько прискучили это
изучение и постоянные разговоры все о том же, он, одна-
ко, принимал в них участие, добросовестно держался опо-
стылевшей темы, все продолжая считать, что исполняет
свой долг и содействует какой-то не очень ясной ему силе,
которая в конце концов волшебно превратит невозможного
принца в приемлемого наследника. Если и случалось ему
думать, что хорошо бы Адульфа заставить просто отка-
заться от престола (а иносказания, вероятно, употребляв-
шиеся заговорщиками, могли невзначай принять и такую
форму), то этой мысли он, как ни странно, не доводил до
конца — до себя. В продолжение почти двух лет промеж
университетских занятий постоянно общаясь с круглым
Гуммом и его друзьями, он незаметно для себя запутался
в очень тонкой и частой сети, — и может быть, принуди-
тельная скука, им ощущавшаяся все яснее, была не про-
стой неспособностью (впрочем, свойственной его природе)
долго заниматься вещами, постепенно обрастающими по-
кровом привычки, за которым он уже не различал лучей
их страстного возрождения, а была намеренно измененным
голосом подсознательного предупреждения. Между тем на-
863
чатое задолго до его участия дело уже приближалось к
своей красной развязке.
В холодный летний вечер он был приглашен на тайное
сборище, и так как в этом приглашении ничего необычно-
го не было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось
потом, с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением па-
вязанности он отправлялся на сходку; но с такими же чув-
ствами он приходил и раньше. В большой, нетопленой и
как бы условно обставленной комнате (обои, камин, буфет
с пыльным пивным рогом на полке — все казалось бутафо-
рией) сидело человек двадцать мужчин, из которых он не
знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе:
мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые
ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок
скул, плотно сжатые губы, сюртук фанатика и глаза рыбы.
Застывшее выражение покорности и просветленной печа-
ли не украшало его неудачных черт. К нему обращались с
подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса
невеста с ним разошлась, сославшись на то, что, вопреки
рассудку, она все продолжает видеть на лице несчастного
след марких пороков, в которых он за другого признался.
Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в
школьное дело, а сам доктор Онзе вскоре после события,
которому это заседание предшествовало, удалился в не-
большой монастырь.
Среди присутствующих Кр. еще отметил знаменитого
юриста Шлисса, несколько фрадских депутатов пеплерху-
са, сына министра просвещения... На кожаном диване не-
удобно поместились три долговязых и мрачных офицера.
Свободный венский стул нашелся около окна, на под-
оконнике которого ютился маленький, особняком держав-
шийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках
фуражку почтового ведомства. Кр., близко к нему сидев-
шего, поразили его громадные, грубо обутые ноги, совер-
шенно не шедшие к его мелкой фигуре, так что получалось
нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он
узнал, что этот человек был Сиен.
Сначала Кр. показалось, что собравшиеся занимаются
все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-
то в нем (опять — внутренний друг!) даже захотело с
какой-то детской горячностью, чтобы это сборище не от-
личалось ото всех предыдущих. Но странный, противный
жест Гумма, вдруг мимоходом положившего ему руку на
плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замед-
364
ленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших по-
одаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух ми-
нут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате
холодно разрабатывается уже решенное убийство принца.
Он почувствовал дуновение у висков и ту же, почти фи-
зическую, тошноту, которую однажды испытал на вече-
ре у двоюродного брата. По тому, как молчаливый чело-
вечек на подоконнике взглянул на него (с любопытством,
с насмешкой), Кр. понял, что его замешательство заметно.
Он встал, и тогда все повернулись в его сторону, и ежом
остриженный тяжелый, толстый человек, осыпанный пер-
хотью и пеплом, говоривший в эту минуту (Кр. давно уже
не слышал слов), осекся. Он подошел к Гумму, который
выжидательно поднял треугольные брови. «Должен
уйти, — сказал Кр., — мне нездоровится, — думаю, что мне
лучше уйти». Он поклонился, кое-кто вежливо приподнял-
ся, человечек на подоконнике улыбаясь закурил трубку.
Приближаясь к двери, Кр. с кошмарным чувством думал
о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисо-
вана тоже, что отворить ее нельзя. Но вдруг она превра-
тилась в настоящую дверь, и, сопутствуемый каким-то
юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туф-
лях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной
лестнице.
ULTIMA THULE
Рассказ
омнишь, мы как-то завтракали (принимали
пищу) года за два до твоей смерти? Если, ко-
нечно, память может жить без головного убо-
ра. Кстатическая мысль: вообразим новейший
письмовник. К безрукому: крепко жму вашу
(многоточие). К покойнику: призрачно ваш.
Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь,
то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы
грамматически, за твою память и ради крашеного слова
вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и
мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир
и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по ка-
кому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому слу-
чаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем, чтобы пого-
ворить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот по-
365
черк! Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный
или квак (как на английский лад ты звала шарлатанов),
я вижу в нем человека, который... который... потому что его
не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в
боги! — и как же ничтожны перед ним все прозорливцы
прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре,
сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики
в нашем герметически закрытом учебном заведении: он-то
вне нас, в яви, — вот раздутое голубиное горло змеи, ча-
рующей меня. Помнишь, мы как-то завтракали в принад-
лежавшей ему гостинице, на роскошной, многоярусной гра-
нице Италии, где асфальт без конца умножается на глици-
нии и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда
был еще наш, и если ничто в нем не предвещало — как это
сказать? — скажу: прозрения, — зато весь его сильный
склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность
телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним
числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.
О, моя милая, как улыбнулось тобой с того луко-
морья, — и никогда больше, и кусаю, себе руки, чтобы не
затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах,
на б и на у, и все это такая унизительная физическая чушь:
горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судо-
рожная, вперемежку со слезами, зевота, — ах, не могу без
тебя... и высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю
доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что
без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета,
на которую не откликаются духи,—но как охотно за них
отвечают односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо)
вот позвольте, я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек
виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза,
тихое выражение ушей, когда поднимала волосы,— как
мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни,
куда все теперь осыпается, скользит, вся жизнь, мокрый
гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда
может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту про-
пасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей
смерти я выбежал из санатория и не шел, а как-то притоп-
тывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а
жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно че-
шуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом забро-
нированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от
меня не заразиться. О да, все кругом опасливо и внима-
366
тельно молчало, и только когда я смотрел на что-нибудь,
это что-нибудь, спохватившись, принималось деланно дви-
гаться или шелестеть, или жужжать, словно не замечая
меня. «Равнодушная природа», — какой вздор! Сплошное
чурание, вот это вернее.
Жалко же. Такая была дорога. И держась снутри за
тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но,
мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у
нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского
на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла
остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне
хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от
нее ребеночка. Etes vous tout a fait certain, docteur, que la
science ne connait pas de ces cas exceptionnels ou Tenfant
nait dans la tombe? !. И сон, который я видел: будто это
чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр
Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как
же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зо-
вут трупсиками.
Ты-то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензу-
ра, что ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих
тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, уни-
зительно, подлый невежда, боялся тех мелких тресков, ко-
торые всегда издает комната по ночам, но которые теперь
страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег ку-
дахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ноч-
ные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что
ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом по-
думаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные
после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и
страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот су-
хонький стук ноготка внутри столешницы, и как не похож,
конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгар-
ный-дух с повадками дятла или бесплотный шалуш, приз-
рак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем
-же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое про-
явление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа,
где когда-то вытягивались твои золотые ноги, — и как то-
гда волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего
было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как ку-
1 Уверены ли вы наверняка, доктор, что науке неизвестны исклю-
чительные случая, когда ребенок рождался в могиле? (франц.) •
367
кушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обой-
мы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального
хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая
бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым мат-
росом в середине спасательного круга, камень, похожий на
ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка
из-под керосина,^ осколок стекла гранатового, ореховая
скорлупа, безотносительная ржавчина, фарфоровая иве-
рень, — и где-то ведь непременно должны были быть
остальные, дополнительные к нему части, и я воображал
вечную муку, каторжное задание, которое служило бы
лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком да-
леко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все
эти части, чтобы составить опять этот соусник, ту супни-
цу,— горбатые блуждения по дико туманным побережьям,
а ведь если страшно повезет, то можно в первое же, а не
в триллионное утро целиком восстановить посудину — и вот
он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного
счастья, — того самого билета, без которого, может быть,
не дается благополучия и вечности.
В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки про-
ста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляю-
щие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопат-
ки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И,
вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской
брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую неж-
ность длинных серийных облачков вдоль горизонта и на
темно-лиловые тепловатые подточины в студеной синезе-
лени моря, если бы действительно кто-то с панели меня не
узнал.
Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к
Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отпра-
вились туда, ползя в этот жарчайший день как два му-
равья по ленте цветочной корзины, потому что мне было
любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уро-
ки которого сводились к остроумной полемике с Краеви-
чем, а сам был упругий и опрятный, с большим белым но-
сом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он по-
том и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья
Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, по-
вар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть,
и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде
«ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл су-
365
щего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных,
сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто
и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон
принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались,
почему все рассыпается от прикосновения исподтишка: сло-
ва, житейские правила, системы, личности, — так что,
знаешь, я думаю, что смех — это какая-то потерянная в ми-
ре случайная обезьянка истины).
И вот я увидел его опять после двадцатилетнего, что
ли, перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда,
приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические
прикрасы — кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис,
автомобильный загон за газоном, — как церемониал счаст-
ливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует
теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной,
вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жили-
стого студента с живыми как ночь глазами и красивым
крепким налево накрененным почерком превратился в оса-
нистого, довольно полного господина, сохранив при этом
и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы
никогда не узнал его со спины, так как вместо толстых,
гладких, в скобку остриженных волос виднелась посреди
черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуит-
ской формы. В шелковой, цвета пареной репы, рубашке, с
клетчатым галстуком, в широких гриперловых панталонах
и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой
нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тон-
кий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по мус-
кулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть
поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и
сдержанно, с лукавым интересом, оглядывала обстановку
громадного пустого в этот час холла, гиппопотамовую ко-
жу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на
стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображаю-
щие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне, одна
из которых, с параллельными прядями стилизованных во-
лос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном
колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красо-
ты когда-нибудь перестанет ее видеть? Ангел мой... Пока
что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переноси-
цу и вглядываясь в меня темными прищуренными глазами,
он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую
выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем еще зная,
удастся ли это, — но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и
369
он громко назвал меня по имени. Он поцеловал трою ручку,
не наклоняя головы и благожелательно засуетись, явно
наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал
его в полном блеске той жизни, которую он сам создал си-
лой своей ваятельной воли, усадил нас на террасе, зака-
зал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем,
интеллигентным человеком в темном партикулярном платье,
странно отличавшемся от экзотического франтовства са-
мого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом,
как о тяжело больном, мне удалось сбалансировать нож
на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку,
явно боявшуюся хозяина, — и после минуты молчания,
среди которого Фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», слов-
но кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу
то, что ни он, ни я не собирались сдержать.
Ты ничего не нашла замечательного в нем, не правда
ли? И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости
содержавший спившегося отца при помощи уроков, а за-
тем медленно, упрямо и бодро добившийся благосостояния,
ибо кроме не очень доходной гостиницы у него были ви-
ноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но, как я по-
том понял, ты была неправа, когда говорила, что это скуч-
новато, что от таких энергичных удачников всегда несет
потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте быв-
шего Фальтера, точности и крепости его «волевой субстан-
ции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался
бедный Адольф. Сидел ли он в окопе или в канцелярии,
спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопле-
ной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал
ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда
владел всеми своими способностями, не только всегда жил
со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегод-
няшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих
целей он добьется непременно, и притом работал эконом-
но, ибо метил невысоко и точно знал границу своих воз-
можностей. Его главная заслуга перед собой та, что он
сознательно обходил собственные таланты, делая ставку
на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен стран-
ными, чем-то обаятельными способностями, которые дру-
гой, менее осмотрительный, постарался бы практически
применить. Пожалуй, только еще в самой молодости он не
всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание
гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящ-
ными проявлениями математической мысли, оставившими
370
в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спе-
ша, уходил. Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью
его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы
теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия,
сделанного недавно им, то есть не боялся бы, что его сооб-
щение меня раздавит; я же со своей стороны был бы до-
статочно упорен, чтобы заставить его все сказать до
конца.
С набережной сипловато и деликатно кто-то меня оклик-
нул, но так как со дня нашего завтрака с Фальтером про-
шло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем
на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной
вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил
мне свое болезненное, соболиное: случайно-де заглянул в
мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о
твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру сре-
ди пустого пляжа — фигуру, ставшую некоторого рода до-
стопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что
горб моего горя виден со всех террас).
— Мы познакомились у Адама Ильича, — сказал он,
показывая корешки резцов и занимая свое место в моем
вялом сознании. Я, должно быть, что-то спросил про
Фальтера.
— Как, вы разве не знаете? — удивился болтун, и тог-
да-то я узнал всю историю.
Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в
винограднейший из приморских городов и, как обыкновен-
но, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которо-
го был его давним должником. Надо себе представить этот
отель, расположенный под перистой мышкой холма, порос-
шего мимозником, и неполностью застроенную улочку с
полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в неболь-
шом человеческом пространстве между млечным путем и
олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой
ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в
третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом
женском общежитии на Бульваре Взаимности, он, в отлич-
ном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вер-
нулся около одиннадцати в отельчик и сразу поднялся к
себе. Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее вы-
ражение, роение огней в старом городе, забавная матема-
тическая задача, по поводу которой он в прошлом году
371
переписывался со шведскими учеными, сухой и сладкий
запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах
мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепро-
данного вина, на днях полученное из далекого, мало соб-
лазнительного государства известие о смерти единоутроб-
ной сестры, образ которой давно увял в памяти, — все это,
мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, по-
ка он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в
отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были ка-
кими-либо новыми или особенными для этого крепконосо-
го, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо
по своей человеческой сути мы делимся на профессиона-
лов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель), они
в своей совокупности образовали, быть может, наиболее
благоприятную среду для вспышки, для катастрофической,
как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не
предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной
молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.
Минуло около получаса со времени его возвращения,
когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблив-
шийся антикомариным крепом да ползучим цветком, был
внезапно— нет, не нарушен, а — разъят, расколот, взорван
звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, до-
рогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не сви-
ные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в
канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хи-
рург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были
хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье
Paon, hotelier !, то, пожалуй, они скорее всего напоминали
захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тя-
жело рожающей женщины, но женщины с мужским голо-
сом и с великаном во чреве. Трудно было разобрать, ка-
кая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей
человеческую гортань, — боль, или страх, или труба безу-
мия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства
неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывавшийся из ком-
наты Фальтера, чем-то возбуждало в слушателях паниче-
ское желание немедленно это прервать. Молодожены в
ближайшей постели остановились, параллельно скосив гла-
за и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился
в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белев-
* Паон, хозяин отеля (франц ).
372
шихся горничных (всего две, размноженные перебежка-
ми). Хозяин, сохранивший, по его словам, полное присут-
ствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь,
за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что
против него было трудно идти, снутри заперта и не откры-
вается ни на стук, ни на слово. Орущий Фальтер (посколь-
ку можно было догадываться, что орет именно он, — его
отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исхо-
дившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности) рас-
пространялся далеко за пределы дома, и в окрестной чер-
ноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карг
в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было по-
стигнуть, как могли чьи бы то ни было связки выдержать...
По одним сведениям Фальтер кричал около четверти часа,
по другим, пожалуй более достоверным, минут пять под-
ряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли
общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне,
или вызвать полицию) крики, достигнув последнего пре-
дела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя бы-
ло определить, превратились в какое-то месиво стонов и
оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту
присутствующие переговаривались шепотом.
На всякий случай хозяин опять постучал в дверь, из-за
нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слыш-
но, как кто-то теребит замок, словно не умея отпереть. Сла-
бый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сде-
лал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо
раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.
— Света бы, — тихо сказал Фальтер в темноте. Мель-
ком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хо-
зяин машинально проверил выключатель... но послушно
отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивле-
нием пробежал глазами от руки, давшей свет, к налившей-
ся стеклянной груше, точно впервые видел, как это
делается.
Странная, противная перемена произошла во всей
его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное
и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розо-
выми глазами выражало не только тупую усталость, но
еще облегчение, животное облегчение после чудовищных
родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах,
он стоял, опустив лицо, и тер ладонью одной руки тыльную
сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жиль-
цов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил
373
подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться
прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.
Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что
Фальтер помешался, и, полусонный, вялый, он был увезен
восвояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил на-
личие ударчика и прописал соответствующее лечение. Но
Фальтер не поправился. Правда, он через некоторое вре-
мя начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать,
и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, за-
прещенную врачом. Перемена, однако, осталась. Это был
человек, как бы потерявший все: уважение к жизни, всякий
интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные
традиции, чувства, житейские навыки, манеры, решитель-
но все. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного,
ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но
обидным для других любопытством он заговаривал со слу-
чайными прохожими, расспрашивал о происхождении шра-
ма на чужом лице или о точном смысле слов, подслушан-
ных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом он
брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной по-
луулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торгов-
ки. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на
панель и старался от нечего делать поймать в кулак жен-
ский каблук, как муху. Однажды он присвоил себе несколь-
ко шляп, пять фетровых и две панамы, которые старатель-
но собирал по кафе, — и были неприятности с полицией.
Его состоянием заинтересовался какой-то известный
итальянский психиатр, навещавший кого-то в фальтеров-
ской гостинице. Это был не старый еще господин, изучав-
ший, как он сам охотно толковал, «динамику душ» и в пе-
чатных работах, весьма популярных не в одних научных
кругах, доказывавший, что все психические заболевания
объясняются подсознательной памятью о несчастьях пред-
ков пациента, и что если больной страдает, скажем, мега-
ломанией, то для полного его излечения стоит лишь уста-
новить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачни-
ком, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда
успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось при-
бегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, дей-
ствию, изображающему определенный род смерти предка,
роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так
вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять
374
публике опасность их постановки вне его непосредственно-
го контроля.
Порасспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что
предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был
не прочь напиться пьяным, но так как по теории «болезнь
отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный
эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фаль-
тере-рёге были ему ненужны. Все же он предложил, что
попробует заняться больным, надеясь путем остроумных
расспросов добиться от него самого объяснения его состоя-
ния, после чего предки выведутся из суммы сами; что та-
кое объяснение существовало, подтверждалось тем, что,
когда удавалось близким проникнуть в молчание Фальте-
ра, он кратко и отстранительно намекал на нечто из ряда
вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.
Однажды итальянец уединился с Фальтером в комна-
те последнего и, так как был сердцевед опытный, в рого-
вых очках и с платочком в грудном карманчике, по-види-
мому, добился от него исчерпывающего ответа о причине
его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипно-
тизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что
проговорился против воли и что ему было не по себе. Впро-
чем, он добавил, что все равно, рано или поздно, произвел
бы этот опыт, но что уж наверное никогда его не повторит.
Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» ока-
зался жертвой Фальтеровей медузы. Так как задушевное
свидание между врачом и пациентом неестественно затя-
нулось, сестра Фальтера вязавшая серый шарф на терра-
се и уж давно не слышавшая разымчивого, молодецкого
или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносивше-
гося вначале из полуоткрытого окошка, поднялась к бра-
ту, которого нашла рассматривающим со скучным любо-
пытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими ви-
дами, вероятно, принесенную врачом, между тем как сам
врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интерва-
лом белья между жилетом и панталонами, лежал, расто-
пырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо,
сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Де-
ловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отве-
чал рассеянно и кратко; когда же, наконец, эти пристава-
ния ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «за-
гадку мира», он поддался изощренным увещеваниям и
375
поведал ее любознательному собеседнику, который от удив-
ления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответст-
венно ее изукрасив, и личность Фальтера, переодетая ти-
бетским мудрецом, в продолжение нескольких дней под-
кармливала непривередливую хронику.
Но, как ты знаешь, я в те дни газет не читал: ты тогда
умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальт
тере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы
стыдливое желание.
Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я
был, люди без воображения, то есть лишенные его поддерж-
ки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам,
к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышляющим
промеж магических дел крысиным ядом или розовой рези-
ной, к жирным, смуглым гадалкам, — но особенно к спи-
ритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млеч-
ные черты призраков и глупо предметные их выступления.
Но я воображением наделен, и потому у меня были две
возможности: первая из них была моя работа, мое искус-
ство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том,
чтобы вдруг взять да поверить, что довольно в сущности
обыкновенный, несмотря на «пти же» бывалого ума, и да-
же чуть вульгарный человек, вроде Фальтера, действитель-
но и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни
один волшебник никогда-никогда не мог додуматься.
Искусство мое? Ты помнишь, не правда ли, этого стран-
ного шведа, или датчанина, или исландца, черт его знает,
словом, этого длинного, оранжево-загорелого блондина с
ресницами старой лошади, который рекомендовался мне
«известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадо-
вавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла го-
ворить, но писала мне цветным мелком на грифельной до-
щечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жиз-
ни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные день-
ги»), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме
«Ultima Thule», которую он па своем языке только что на-
писал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его
манускриптом, не могло быть, конечно, речи, так как фран-
цузский язык, на котором мы мучительно переговарива-
376
лись, был ему знаком больше понаслышке, и перевести мне
свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что
его герой — какой-то северный король, несчастный и нелю-
димый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном
и далеком острове, развиваются какие-то политические
интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всад-
ника, летит в тумане по вереску... Моим первым blance et
noir 1 он остался доволен, и мы условились о темах осталь-
ных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обе-
щал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он от-
был в Америку.
Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но
рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что
не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной
туши. Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние
вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезнен-
ной охотой, сознавание которой вызывало у меня самого
слезы, продолжал работу, за которой, я знаю, никто не
придет, но именно потому она мне казалась кстати, — ее
призрачная беспредметная природа (отсутствие цели и воз-
награждения) уводила меня в родственную область с той,
в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель,
мое милое, мое такое милое земное творение, за которым
никто никуда никогда не придет; а так как все отвлекало
меня, подсовывая мне краску временности взамен графиче-
ского узора вечности, муча меня твоими следами на пляже,
камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном сол-
нечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по-на-
стоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родив-
шийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, ме-
ня теперь привлекал, как некое отечество моих наименее
выразимых мыслей.
Однако, прежде чем оставить юг, я должен был непре-
менно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, кото-
рую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он
все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит
в открытие, сделанное им, но что именно это открытие —
источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на
осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его
здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил
1 Здесь: черно-белым рисунком (франц.).
377
его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он
скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно
важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он
стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает
посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода лю-
бопытные, чем я, — придирчивыми к механике человече-
ской мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающи-
ми, но по ритму и шипам почти сократовскими разговора-
ми. Я предложил, что посещу его, но его зять мне отве-
тил, что бедняге приятно всякое развлечение, и что он до-
статочно силен, чтобы добраться до моего дома.
И вот они явились, то есть этот самый зять в своем не-
изменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчали-
вая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения
напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы слу-
жившая ему житейским укором, смежной нравоучительной
картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил,
несмотря на то, что я был к перемене подготовлен. Как бы
это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно из-
влекли скелет; мне же показалось иначе, что вынули ду-
шу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать,
что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы по-
нять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в
земном быту, от него не дождешься, что любить кого-ни-
будь, жалеть, даже самого себя, благоволить к чужой ду-
ше и ей сострадать при случае, посильно и привычно слу-
жить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому
Фальтер совершенно разучился, как разучился здоровать-
ся или пользоваться платком. А вместе с тем он не произ-
водил впечатления умалишенного — о нет, совсем напро-
тив!— в его странно рассыревших чертах, в неприятном
сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутых уже не в
модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на
веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная
сила, и этой силе не было никакого дела* до дряблости и
явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.
В личном отношении ко мне он был теперь не таков,
как во время последней короткой нашей встречи, а таков,
каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомне-
ваюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смыс-
ле с тех пор прошло почти четверть века, и все же, как бы
вместе с душой потеряв чувство времени (без которого ду-
ша не может жить), он не столько на словах, а в рассуж-
дении всей манеры, явно относился ко мне так, как если
378
бы все это было вчера — и вместе с тем ни малейшей сим-
патии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.
Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем,
как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет
пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и
во все время разговора ни разу не приподняла седой стри-
женой головы. Ее муж вынул из кармана две газеты,
местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда
Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно
стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же
ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как
говорят с глухими, проговорил:
— Вы же отлично знаете, что она умерла.
— Ах да, — заметил Фальтер с нечеловеческой беспеч-
ностью и, обратившись ко мне, добавил: — Что же, царст-
вие ей небесное, — так, кажется, полагается в обществе
говорить?
Затем началась следующая между нами беседа; я за-
писал ее по памяти, но, кажется, верно:
— Мне хотелось вас повидать, Фальтер, — сказал я
(называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при
переносе, его вневременный образ не терпит этого при-
крепления человека к определенной стране и кровному про-
шлому),— мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с
вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить
ваших родственников нас оставить вдвоем...
— Они не в счет, — отрывисто заметил Фальтер.
— Под откровенностью, — продолжал я, — мной под-
разумевается взаимная возможность задавать любые воп-
росы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы бу-
ду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от
того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты; моя вам
не требуется.
— На прямой вопрос отвечу прямо, — сказал Фальтер.
. 1г-г В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим
ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете
мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.
—. ©от тебе раз, — проговорил Фальтер.
. — Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от
вашего сообщения не умру,—ручаюсь; вы не смотрите,
что у меня усталый, невзрачный вид, сил найдется доста-
точно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при се-
бе и даже, если хотите, застрелиться после вашего сооб-
379
щения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам мо-
жет быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же,
согласны?
— Решительно отказываюсь, — ответил Фальтер и ски-
нул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему об-
локотиться книгу.
— Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я
временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца.
Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.
— После чего точка, — вставил Фальтер.
— Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю
два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущ-
ность может открыться уму.
Фальтер улыбнулся:
— Только не называйте это выводами, синьор. Это
так—полустанки. Логические рассуждения очень удобны
при небольших расстояниях, как пути мысленного сообще-
ния, но круглота Земли, увы, отражена и в логике: при
идеально последовательном продвижении мысли не верне-
тесь к отправной точке... с сознанием гениальной просто-
ты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между
тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в
путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущ-
ность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами
ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший на-
мек на объяснение уже был бы проблеском. При непо-
движности положения ошибка незаметна. Но все, что вы
зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым
образом становится свитком.
— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь поз-
вольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому,
он проверяет выкладкой и испытанием, то есть мимикрией
правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает дру-
гих, и гипотеза почитается истинным объяснением данного
явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности.
Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных,
или отставных, мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в
чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае,
Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то дру-
гой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его
откровением?
— Нельзя, — сказал Фальтер.
— Погодите. Меня сейчас не столько интересует спо-
соб открытия, сколько ваша уверенность в истинности на-
380
ходки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить
находку, либо сознание истины заложено в ней.
— Видите ли, — отвечал Фальтер, — в Индокитае, при
розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой
обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных лю-
дей у берега был пришвартован ялик, никому не принадле-
жавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит;
мнимая же принадлежность кому-то делала его невидимым
для всех. Я случайно в него сел. Но, может быть, проще
всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непре-
менно математической игривости, — математика, преду-
преждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные пле-
чи при собственном своем размножении, — я комбинировал
различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как
Бертгольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и дру-
гой на моем месте. Но после случая с моим прелестным
врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с
полицией.
— Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к глав-
ному: что именно вам говорит, что есть истина? Обезьяна
чужда жребию.
— Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете
так мало, — в смысле видов, а не особей, разумеется, — а
те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены,
что... как бы сказать... отдача при распознании истины,
мгновенный отзыв всего существа — явление малознако-
мое, малоизученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок
просыпается или приходит в себя после скарлатины... элек-
трический разряд действительности, сравнительной, конеч-
но, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой
трюизм, то есть труп сравнительной истины. Разберитесь
теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают
слова: черное темнее коричневого, или лед холоден. Мысль
ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учи-
тель раз сто за урок входил и выходил из класса. Но ре-
бенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий за-
мок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или
гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, —
не это есть настоящая реакция на истину. Видите, как ма-
ло известно это чувство, что нельзя даже подыскать точ-
ного слова... Все нервы разом отвечают «да» — так, что
ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвое-
ния предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете,
что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все
381
те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все
же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь
порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною
незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас
принимает обратный образ (как это такого явного мошен-
ника можно было считать честным?); другими словами,
чувствительная точка истины лежит как раз на полпути
между первым удивлением и вторым.
— Так. Это все довольно ясно.
— Удивление же, доведенное до потрясающих, невооб-
разимых размеров, — продолжал Фальтер, — может подей-
ствовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравне-
нии с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь*.
Она меня не убила случайно — столь же случайно, как
грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощуще-
ния можно было бы думать о его проверке. Но постфактум
такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее меха-
нике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую про-
ходную правду, скажем, что два угла, равные третьему,
равны между собой; заключено ли в этом утверждении то,
что лед горяч или что в Канаде есть камни? Иначе говоря,
данная истинка никаких других родовых истинок не содер-
жит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к дру-
гим породам и плоскостям знания или мышления. Что же
вы скажете об истине, которая заключает в себе объясне-
ние и доказательство всех возможных мысленных утвер-
ждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в
силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в
гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на
островках озера Виктории Ньянджи; но узнав то, что я
узнал — если можно это назвать узнаванием,— я получил
ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире,
только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об
его прикладном значении уже сама по себе переходит во
всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в
моей физической способности представить себе до конца
все последствия моего открытия, то есть в какой мере я
еще не сошел с ума, или, напротив, как далеко оставил за
собой все, что понимается под помешательством, — но сом-
неваться никак не могу в том, что мне, как вы выразились,
«открылась суть». Воды, пожалуйста.
— Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли
я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания?
Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-
382
то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков
абсолютной мудрости.
— Берегу силы, — сказал Фальтер. — Да я и не утвер-
ждал, что теперь знаю все, — например, арабский язык,
или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал
строки вон в той газете, которую читает мой дурак зять. Я
только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же мо-
жет сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда
ли, но только энциклопедия, точное заглавие которой я
узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю
заглавие вещей), действительно всеобъемлющая — и вот в
этом разница между мною и самым сведущим человеком.
Видите ли, я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю
итальянской пропасти, дамы не смотрите, я узнал одну
весьма простую вещь относительно мира. Она сама по се-
бе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная
человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда
я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду
разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий,
вам известных, точно так же, как самая природа моего от-
крытия ничего не имеет общего с природой физических или
философских домыслов: итак, то главное во мне, что соот-
ветствует главному в мире, не подлежит телесному трепе-
ту, который меня так разбил. Вместе с тем возможное зна-
ние всех вещей, вытекающее из знания главной, не распо-
лагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием
воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться пра-
вил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то
есть поступаю, как бедняк, получивший миллион, а про-
должающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей
уступкой роскоши он загубит свою печень.
— Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучи-
тельно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отно-
шении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ
дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведе-
нию, а, кроме того, я готов не делать даже самых очевид-
ных. заключений, потому что вы намекаете, всякое логиче-
ское заключение есть заключение мысли в себе. Я вам
предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не ста-
ну спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы
не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно
на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или про-
шел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом
если вы ответите на любой из моих вопросов утвердитель-
383
но или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать
данного пути для дальнейшего продвижения однородных
вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.
— Теоретически вы завлекаете меня в грубую ловуш-
ку,— сказал Фальтер, слегка затрясись, как если б смеял-
ся. — На практике же это есть ловушка, лишь поскольку
вы не способны задать мне хоть один вопрос, на который
я мог бы ответить простым да или нет. Таких шансов весь-
ма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, — по-
жалуйста, валяйте.
Я подумал и сказал:
— Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает
традиционный турист, с осмотра старинной церкви, извест-
ной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: сущест-
вует ли Бог?
— Холодно, — сказал Фальтер.
Я не понял и переспросил.
— Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — Я сказал «холод-
но», как говорится в игре, когда требуется найти запрятан-
ный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью
стула и предмета там быть не может, потому что он про-
сто в другом месте, то вопрос существования стула или те-
ни стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Ска-
зать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет
не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то
там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь
в излюбленный человеческой мыслью круг.
— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что иско-
мое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога,
а искомое это есть по вашей терминологии «заглавное»,
то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное, а
если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии,
и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.
— Значит, вы не поняли моих слов о соотношении меж-
ду возможным местом и невозможностью в нем нахожде-
ния предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упо-
мянули о данном понятии, вы себя самого поставили в по-
ложение тайны, как если бы ищущий спрятался там. Тем
же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только са-
ми прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым пред-
метом свойство «спрятанности», вы его приближаете к се-
бе. Как я мог вам ответить, есть ли Бог, когда речь, мо-
жет быть, идет о сладком горошке или футбольных флаж-
ках? Вы не там и не гак ищете, шер мооье, вот все, что я
384
могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого отве-
та можно сделать малейший вывод о ненужности или нуж-
ности Бога, то так получается именно потому, что вы не
там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете
мыслить логически?
— Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам
удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя ис-
кать заглавия мира в иероглифах божества?
— Простите, — ответил Фальтер. — Посредством цве-
тистости слога и грамматического трюка вы просто гри-
мируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое да. Я
сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность иска-
ния истины в области общепринятой теологии, — а во из-
бежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу
добавить, что употребленный мной эпитет — тупик. Не сво-
рачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собе-
седника, если вы воскликнете: «Ага, есть другая исти-
на!»— ибо это будет значить, что вы так хорошо себя за-
прятали, что потеряли себя.
— Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засо-
ряет вопрос. Так, Фальтер?
— Барыня прислала сто рублей, — сказал Фальтер.
— Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, ве-
роятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он не-
правилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, за-
ставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ва-
ше нежелание отвечать?
— Мог бы сказать, — сказал Фальтер, — но это было
бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, че-
го вы от меня не добьетесь.
— Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так
же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рас-
считывать на загробную жизнь.
— Вам это очень интересно?
— Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о
смерти, мы оба смертны.
— Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внима-
ние на следующий любопытный подвох: всякий человек
смертен; вы (или я) —человек: значит, вы, может быть,
и не смертны. Почему? Да потому, что выбранный чело-
век тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем
мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.
— Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне
13 Запретная глава
385
просто, есть ли хоть подобие существования личности за
гробом или все кончается идеальной тьмой.
— Воп \ — сказал Фальтер по привычке русских во
Франции. — Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов
будет пребывать в уюте господина Синеусова или же все
вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перма-
нентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря
на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг
на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они
движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализа-
тор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут напере-
гонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая
к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа,
да или нет, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на
всем бегу поймал за шиворот — а шиворот у бесенят сколь-
зкий, — но если бы я для вас одну из них и перехватил, то
просто прервал бы состязание или добежала бы другая, не
схваченная мной, в чем не было бы никакого прока ввиду
прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая
из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что ско-
рее бежит — сильное желание или сильная боязнь?
— Думаю, что одинаково.
— То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении
человечинки — либо никак нельзя выразить то, что ожи-
дает вас, то есть нас, за смертью, и тогда полное беспамят-
ство исключается, — ведь оно-то вполне доступно нашему
воображению, — каждый из нас испытал полную тьму
крепкого сна; либо, наоборот, представить себе смерть мож-
но, и тогда, естественно, выбирает рассудок не вечную
жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем зем-
ным несообразное, а именно наиболее вероятное — знако-
мую тьму. Ибо как же в самом деле может человек, дове-
ряющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто
мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной
внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем,
в сущности, он уже не обладал, как же это он приобретает
способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь
продлению, утверждению и усовершенствованию его не-
удачного состояния? Поэтому, если вы бы у меня спроси-
ли даже только одно — известно ли мне по-человечески то,
что находится за смертью, то есть попытались бы предот-
вратить обреченное на нелепость состязание двух противо-
1 Хорошо (франц ).
386
положных, но в сущности одинаковых представлений, из
моего отрицания вы бы логически должны были вынести,
что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего
утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и
в другом случае, как видите, вы бы остались точно в та-
ком же положении, как были всегда, ибо сухое «нет» дока-
зало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете,
а влажное «да» предложило бы вам принять существова-
ние международных небес, в котором ваш рассудок не мо-
жет не сомневаться.
— Вы просто увиливаете от прямого ответа, но позволь-
те мне заметить — в разговоре о смерти вы не отвечаете
мне: холодно.
— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. — Но я же вам
только что объяснял, что всякий вывод следует кривизне
мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь
в области земных величин, но когда вы пытаетесь забрать-
ся дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того: ваш
разум воспримет всякий мой ответ исключительно с при-
кладной точки, ибо иначе, чем в образе собственного крес-
та, вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так
извратит смысл моего ответа, что он тем* самым станет
ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцеден-
тальном. Яснее выразиться не могу — и скажите мне спа-
сибо за увиливание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут
есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвозд-
ка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смер-
ти. Он у вас, по-видимому, особенно силен, не так ли?
— Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мыс-
ли о своем будущем беспамятстве, равен только отвраще-
нию перед умозрительным тленом моего тела.
— Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симпто-
мы этой подлунной болезни? Тупой укол в сердце, вдруг
среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних
чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда,
это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень
бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что все
в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей пред-
смертной мукой, а значит, и с вашей жизнью, ибо, говори-
те вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я
вполне себе представляю болезнь, которой вы страдаете в
той или другой мере, и одно могу сказать; не понимаю, как
люди могут жить при таких условиях.
— Ну вот, Фальтер, мы, кажется, договорились. Выхо-
357
дит так, что если я признался бы в том, что в минуты
счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую,
что небытия за гробом нет; что рядом в запертой комна-
те, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в дет-
стве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь, роди-
на, весна, звук ключевой воды или милого голоса — все
только путаное предисловие, а главное впереди; выходит,
что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, — скажи-
те мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.
— В таком случае, — сказал Фальтер, опять затря-
сись,— я еще менее понимаю. Перескочите предисловие —
и дело в шляпе!
— Un bon mouvement1, Фальтер, скажите мне вашу
тайну.
— Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет,
об этом не может быть речи. В первое время... Да, в пер-
вое время мне казалось, что можно попробовать... поде-
литься. Взрослый человек, если только он не такой бык,
как я, не выдерживает, допустим, но, думалось мне, нель-
зя ли воспитать новое поколение знающих, то есть не об-
ратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с
заразой местной диалектики. Но на деле что же получи-
лось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят порукой
жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечта-
тельным словом не совершил убийства. Во-вторых, как
только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, при-
нятое на веру и заснувшее на задворках сознания дрогнет
и проснется с трагическими последствиями. Если тайна
моя не всегда бьет матерого сапиенса, то'никакого юноши
она, конечно, не пощадит. Ибо кому незнакомо то время
жизни, когда всякая всячина—звездное небо в Ессенту-
ках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о
мире, сладкий ужас солипсизма—и так доводит молодую
человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи
мне идти незачем; вражеских полков истреблять через ме-
гафон не собираюсь... словом, довериться мне некому.
— Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды до-
казали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы
бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пре-
делах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне
предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой мину-
той на второсортной планете, обслуживаемой второсорт-
1 Здесь: ну-ка, быстро (франц.).
388
ным солнцем, или опять все свели бы к загадке: гетероло-
гично ли самое слово «гетерологично».
— Вероятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.
Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и пере-
глянулся с супругой.
— Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в
вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадно-
го софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши
вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?
— Что же, это моя единственная защита, — сказал
Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала
длинный серый шарф из рукава пальто, уже подаваемого
ему зятем. — Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем,—
добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одно-
временно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощ-
ников, — впрочем, если я немножко и покуражился над
вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаян-
но проговорился — всего два-три слова, но в них промель-
кнул краешек истины, — да вы, по счастью, не обратили
внимания.
Его увели, и тем окончился наш довольно-таки дьяволь-
ский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но
даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее
слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На
другой день скучный голос его зятя сообщил мне по теле-
фону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил,
почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он
тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два раз-
говора мне обойдутся всего в полтораста. Покупка исти-
ны, даже со скидкой, меня не прельщала и, отослав ему
свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать боль-
ше о Фальтере. Но вчера, да, вчера, я получил от него са-
мого записку — из госпиталя: четко пишет, что во вторник
умрет и что на прощание решается мне сообщить, что —
тут следуют две строчки, старательно и как бы ирониче-
ски вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание
и желаю ему интересных загробных впечатлений и прият-
ного препровождения вечности.
Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На
всякий случай держу все окна и двери жизни настежь от-
крытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старин-
ных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, по-
скольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою
жизнь. Мой бренный состав единственный, быть может,
389
залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно
окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользо-
ваться земной природой, чтобы себе самому договорить
тебя и затем положиться на свое же многоточие...
Париж, 1939 год
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТИРАНОВ
Рассказ
1
-----------осту его власти, славы соответствовал в моем
воображении рост меры наказания, которую я
желал бы к нему применить. Так, сначала я
удовольствовался бы его поражением на вы-
борах, охлаждением к нему толпы, затем мне
----------- уже нужно было его заключения в тюрьму,
еще позже — изгнания на далекий плоский остров с един-
ственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно
низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь
наконец его смерть могла бы меня утолить.
Как статистики наглядно показывают его восхождение,
изображая число его приверженцев в виде постепенно уве-
личивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть
к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась
посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти
всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод (напоми-
нающий больше корону безумия, чем венчик мученичест-
ва); но я предвижу и полное свое затмение.
Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на
плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, пла-
чущей и кровоточащей стране), выходили на первых по-
рах как бы расплывчатыми, — это было тогда, когда я еще
сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то
еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва,
болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь
иные его снимки, в разнообразности не устоявшихся еще
поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического вы-
ражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и
щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божествен-
ным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком за-
конченного произведения, — и уже нельзя было предста-
вить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту гу-
390
бу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку
пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием по-
следовало канонизированное единство, утвердился, теперь
знакомый всем, каменно-тусклый взгляд его неумных и не-
злых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мяси-
стость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков, и уже
ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой,
почти машинально производящей фокус сходства, толстая
морщина через весь лоб, — жировое отложение мысли, а
не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его нати-
рали множеством патентованных бальзамов, иначе мне не-
понятна металлическая добротность лица, которое я когда-
то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что
слышался шорох волосков о грязный крахмальный ворот-
ничок, когда он поворачивал голову. И очки, — куда де-
лись очки, которые он носил юношей?
2
Я никогда не только не болел политикой, но едва ли
когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один
отчет партийного заседания. Социологические задачки ни-
когда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообра-
зить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или да-
же просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим
с политически взволнованными, напряженно серьезными
людьми методы борьбы в свете последних событий. До бла-
га человечества мне дела нет, и я не только не верю в пра-
воту какого-либо большинства, но вообще склонен пере-
смотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы ре-
шительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю,
кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, пред-
стоит в дальнем будущем множество других потрясений,
не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего пра-
вителя. И все-таки: убить его.
3
Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в ли-
ловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми
ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись сре-
ди полевых работников или горных пастухов, их божест-
венность нисколько не была этим умалена; напротив — в
очаровании человечности, обвевающей их, было вырази-
тельнейшее обновление их неземной сущности. Но когда
ограниченный, грубый, малообразованный человек, на пер-
39/
вый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности
самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным го-
нором— когда такой человек наряжается богом, то хочет-
ся перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уве-
рять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило
и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое
развитие темных, зоологических, зоорландских идей, ко-
торыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только
топорище, человек волен топор доделать — и применить.
Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что го-
сударству полезно, что вредно и почему случается, что
кровь с него сходит как с гуся вода. Среди всех и всего
меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое
наваждение и вместе с тем нечто как бы мне принадлежа-
щее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже
не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзитель-
ным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного
осмеяния и истребления, — между тем как добро в людях
я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось
состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и
неотъемлемым, как, скажем, существование живого подра-
зумевает способность дышать. С годами х меня развился
тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал отно-
ситься несколько иначе, поняв, что обыкновенность его,
обусловившая мое к нему невнимание, — обыкновенность
такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его
всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому
трудную, одинокую жизнь в нужде в меблированных ком-
натах, — однако всегда у меня было рассеянное ощущение,
что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него, как
только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших
мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадрат-
ность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в ко-
тором подметил что-нибудь смешное, вроде скаредности
или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мной не
просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каж-
дого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, гро-
мадный сосуд, полный до горла и запечатанный.
4
Из дико цветущего моего государства он сделал об-
ширный огород, в котором особой заботой окружены репа,
капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к
страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве
392
фабрики с непременным звуковым участием где-то манев-
рирующего паровоза, и над всем этим безнадежно беле-
сое небо городских окраин — и все, что сюда воображение
машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чер-
тополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного
жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей стра-
ны — образ предельного уныния, но уныние у нас в поче-
те, и однажды им брошенный (в свальную яму глупости)
лозунг «половина нашей земли должна быть обработана,
а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как
нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Доб-
ро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, кото-
рую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он
питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, кото-
рый требуется от нас, построен не просто на лжемудро-
сти, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в
этом суть, ибо, разумеется, будь идея, у которой мы в раб-
стве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно
мокрой и насквозь солнечной, рабство оставалось бы раб-
ством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то,
что по мере роста его власти я стал замечать, что граж-
данские обязательства, наставления, стеснения, приказы и
все другие виды давления, производимые на нас, становят-
ся все более и более похожими на него самого, являя не-
сомненное родство с определенными чертами его характе-
ра, с подробностями его прошлого, так что по ним, по
этим наставлениям и приказам, можно было бы восстано-
вить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность
его, которую я один из немногих хорошо знал. Дру-
гими словами, все кругом принимало его облик, закон на-
чинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в
зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы,
которыми он так жадно кормился в юности; в школах вве-
дено преподавание цыганской борьбы, которой он в ред-
кие минуты холодной резвости занимался на полу с моим
братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях
и в книгах подобострастных беллетристов появилась та
отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмыслен-
ная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чекан-
ная фраза повторяет на разные лады один и тот же казен-
ный труизм или плоское от избитости общее место), та
сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки сти-
ля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что
он, он, таким, как я его помнйл, проникает всюду, заражая
393
собой образ мышления и быт каждого человека, так что
его бездарность, его скука, его серые навыки становились
самой жизнью моей страны. И, наконец, закон, им постав-
ленный,— неумолимая власть большинства, ежесекундные
жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологи-
ческий смысл, ибо большинство — это он.
5
Он был одним из товарищей моего брата Григория, ко-
торый лихорадочно и поэтично увлекался крайними вида-
ми гражданственности (давно пугавшими нашу тогдашнюю
смиренную конституцию) в последние годы своей короткой
жизни: утонул двадцати трех лет, купаясь летним вечером
в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспо-
минаю брата, первое, что является мне, это — блестящая
поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого
он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий
пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая
другую, пышно взбитую, оранжевую, — все, что осталось
от субботней грозы в предвоскресном, чисто бирюзовом
небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не
будет. О ту пору я слишком был поглощен живописью и
диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы вни-
мательно соприкасаться с кружком молодых людей, завлек-
шим моего брата; мне, впрочем, помнится, что определен-
ного кружка и не было, а что просто набралось несколько
юношей, во многом различных, временно и накрепко свя-
занных между собой тягой к бунтарским приключениям;
но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на
вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на этом
смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не
самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосре-
доточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, кото-
рая из бездарного человека лепит в конце концов торже-
ствующее чудовище.
Я его помню ожидающим моего брата в темной столо-
вой нашего бедного провинциального дома: он присел на
первый попавшийся стул и немедленно принялся читать
мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака,
и лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дым-
чатых очков, приняло брезгливо плачущее выражение,
словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, не-
ряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными,
как если бы он только что прошел пешком много верст по
394
тракту, между незамеченных нив. Коротко остриженные
волосы щетинистым мыском находили на лоб, — еще не
предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плеши-
вость. Ногти больших влажных рук были так искусаны,
что больно было за перетянутые подушечки на кончиках
отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был
нищ и неразборчив в ночлегах.
Когда брат мой является (а Григорий в моих воспоми-
наниях всегда опаздывает, всегда входит впопыхах, точно
страшно торопясь жить и все равно не поспевая, — и вот
жизнь, наконец, ушла без него), он без улыбки с Григо-
рием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой по-
давая руку; казалось, что, если вовремя не схватить ее,
она с пружинным звуком уйдет обратно в пристяжную
манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он
ограничивался хмурым поклоном, — но зато демонстратив-
но подавал руку кухарке, которая, взятая врасплох и не
успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как
бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления
у нас в доме, отец же относился к нему с той же рассеян-
ностью, с которой относился ко всем и ко всему, к нам, к
невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых
пригревал Гриша, и даже, кажется, к своим пациентам.
Зато две старые мои тетки откровенно побаивались «чуда-
ка» (вот уж никаким чудаком он не был), как, впрочем,
побаивались они и остальных Гришиных товарищей.
Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится
слышать его голос, его звериный рык, разносимый грома-
ми радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, да-
же с какой-то хрипотцой или пришептыванием, — вот толь-
ко это знаменитое гнусное задыханьице его в конце фра-
зы уже было, было... Когда, опустив голову и руки, он
стоял перед моим братом, который его приветствовал лас-
ковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его ло-
коть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно корот-
коногим, вероятно, вследствие длины пиджака, доходивше-
го ему до половины бедер, — и нельзя было разобрать, чем
определена подавленность его позы, угрюмой ли застенчи-
востью или напряжением сознания перед сообщением ка-
кой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследст-
вии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда
в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке
белье и парусиновые штаны Григория, но теперь мне ду-
мается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки
395
была не та, а глухая весть о собственном чудовищном
будущем.
Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болез-
ненно отрывистый разговор с братом; или же он сидел за
чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные сови-
ные глаза от света керосиновой лампы. У него была стран-
ная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде
чем его проглотить, и баранку он кусал осторожно, кри-
вя рот, — зубы были плохие, и случалось, обманывая крат-
ким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втя-
гивал поминутно воздух с боковым свистом, а также пом-
ню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми
каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, совето-
вал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части, — отве-
чал он, грубо конфузясь, — эрго я свое зубье поборю»; но
я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные
слова, или их потом передавали как изречение оригинала...
да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не
был, ибо не может же животная вера в свою мутную звез-
ду почитаться своеобразием; но вот подите же — он пора-
жал бездарностью, как другие поражают талантом.
6
Иногда его природная унылость сменялась судорогами
какого-то дурного, зазубристого веселья, и тогда я слышал
его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль
кошки, к бархатной тишине которой так привыкаешь, что
ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так
крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и вы-
яснялось, что руки у него слабые, а зато ноги — железные.
И однажды один из юношей позабавнее положил ему жа-
бу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал
сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде, буро-крас-
ный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной
фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней, тя-
желая коса и чернильно-синие глаза которой многим так
нравились, что ей охотно прощалось сходство с черным
шахматным коньком.
Я знаю о его любовных склонностях и системе ухажи-
вания от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как
большинство людей, близко знавших его в молодости, слов-
но смерть ему союзница и уводит с его пути опасных сви-
детелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал
либо нравоучительно, с популярно-научными экскурсиями
396
в историю (о которой знал из брошюр), либо темно и жид-
ко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной,
женщину (тоже, кажется, с каким-то физическим недостат-
ком), с которой одно время делил кров и кровать в мрач-
нейшей части города... много я дал бы теперь, чтобы разы-
скать, расспросить эту неизвестную, но, верно, и она без-
опасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их
’пакостная тягучесть, он намекал на козни таинственных
врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки
которого вычитал в календаре... если б можно было воск-
ресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные
его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них
ни одного выражения (не очень это меня интересовало
тогда, хотя я слушал и смеялся) и только смутно-смутно
вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быст-
рую смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую пись-
мо, и еще улавливаю воркующий звук женского предатель-
ского смеха.
7
Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому
это осуществить по собственному усмотрению — разница
глубокая, роковая; однако ни брат мой, ни его друзья не
чувствовали, по-видимому, особого различия между своим
бесплотным мятежом и его железной жаждой. Через ме-
сяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятель-
ность в северные провинции (кружок зачах и распался,
причем, насколько я знаю, ни один из его остальных уча-
стников в политики не вышел), и скоро дошел слух, что
тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот
совершенно противный всему, что говорилось, думалось,
чаялось в той первой юношеской среде. Вот я вспоминаю
его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не за-
метил длинной угловатой тени измены, которую он всю-
ду за собой влачил, запрятывая концы под мебель, когда
садился, и странно путая отражения' лестничных перил на
стене, когда его провожали с лампой. Или это наше чер-
ное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, люби-
ли ли его, но, во всяком случае, брату и другим импониро-
вали и мрачность его, которую принимали за густоту ду-
шевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следст-
вием перенесенных им таинственных бед, и вся его непре-
зентабельная оболочка, как бы подразумевающая чистое,
яркое ядро. Что таить, — мне самому однажды померещи-
397
лось, что он способен на жалость, и только впоследствии
я определил точный оттенок ее. Любители дешевых пара-
доксов давно отметили сентиментальность палачей, — и
действительно, панель перед мясными всегда мокрая.
8
В первые дни после гибели брата он все попадался
мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть
не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения.
Он держался так, как всегда, и это нисколько не короби-
ло нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траур-
ным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-
нибудь неинтересное, то есть всегда держался так, как в
доме, где случилось большое несчастье, держатся люди,
недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же
его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сой-
ти за суровое соболезнование, соболезнование, видите ли,
замкнутого, мужественного человека, который и незаметен
и неотлучен (недвижимое имущество сострадания) и о
котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то вре-
мя, как проводил бессонную ночь на стуле, среди дбмо-
чадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это
был страшный обман: если и тянуло его к нам в гости, то
это было только потому, что нигде он так естественно не
дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, — когда на
столе стоит неубранная посуда и некурящие просят
папирос.
Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на
исполнение одной из тех мелких формальностей, одного
из тех мучительно мутных дел, которыми смерть (в кото-
рой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты) старает-
ся подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то, долж-
но быть, сказал мне: «Вот он с тобой пойдет»; он и по*
шел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то (мы шли
пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и
наваленных досок) я-сделал кое-что, воспоминание о чем
во мне проходит от темени до пят электрической судоро-
гой нестерпимого стыда: побуждаемый бог в&ть каким
чувством, — не столько, может быть, благодарностью за
сострадание, сколько состраданием же к состраданию чу*
жому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения
души на ходу взял и сжал его руку, — и мы оба одновре^
Менно слегка оступились; все это длилось мгновение,—
но если б я тогда обнял его и припал губами к его страна
398
ной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать
большей муки. И вот через двадцать пять лет я думаю:
мы ведь шли вдвоем пустынными местами, и у меня был
в кармане Гришин револьвер, который не помню по ка-
ким соображениям я все собирался спрятать; ведь я мог
его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ниче-
го, ничего из того, что есть сейчас, ни праздников под про-
ливным дождем, исполинских торжеств, на которых мил-
лионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопа-
тами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громко-
вещателей, оглушительно размножающих один и тот же
вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй
семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных
портретов, ничего... О если б можно было когтями вце-
питься в прошлое, за волосы втащить обратно в настоя-
щее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную
улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане-штанов, чело-
века, шедшего со мной рядом!
9
Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу?
От меня, скромного учителя рисования в провинциальной
гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и
дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной
тюрьмы, превращенной для него в замок (ибо этот тиран
называет себя «пленником воли народа, избравшего
его»), — расстояние почти невообразимое. Некто мне рас-
сказывал, запершись со мной в погребе, про свою даль-
нюю родственницу, старуху вдову, которая вырастила
двухпудовую репу и посему удостоилась высочайшего при-
ема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца
перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей,
пока она не очутилась в белой, беспощадно освещенной
зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых
стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое вре-
мя за дверью послышалось множество шагов, и, с почти-
тельными поклонами пропуская друг друга, вошло чело-
век пять его телохранителей. Испуганными глазами она
искала его среди них; они же смотрели не на нее, а по-
верх ее головы, и, обернувшись, она увидела, что сзади,
через другую дверь, ею незамеченную, бесшумно вошел
сам и, остановившись, положив руку на спинку стула,
привычно поощрительно разглядывал государственную
гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рас-
399
сказать о ее подвиге (тут же был принесен служителем и
положен на второй стул глиняный слепок с ее овоща), и
она в продолжение десяти незабвенных минут рассказыва-
ла, как репу посадила, как тащила ее из земли и все не
могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покой-
ного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать
сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдыхавших
на сеновале, и как наконец, цугом пятясь, чудовище вы-
тащили. Он был, видимо, поражен ее образным расска-
зом: «Вот это поэзия, — резко обратился он к своим при-
ближенным, — вот бы у кого господам поэтам учиться», —
и, сердито велев слепок отлить из бронзы, вышел, вон. Но
я реп не рощу, так что проникнуть к нему мне невозмож-
но, да и если бы проник, как бы я донес заветное оружие
до его логова?
Иногда он является народу, — и хотя не подпускают к
нему близко и каждому приходится поднимать тяжелое
древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за
всеми наблюдает несметная стража (не говоря о согляда-
таях и соглядающих соглядатаев), очень ловкому и реши-
тельному человеку могло бы посчастливиться найти ла-
зейку, сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю
судьбы для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в во-
ображении все виды истребительных средств, от классиче-
ского кинжала до плебейского динамита, но все это зря,
и недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за ра-
зом собачку мягкого, расползающегося в руке пистолета,
а пули одна за другой выпадают из ствола или как без-
вредный горох отскакивают от груди усмехающегося вра-
га, который между тем не торопясь начинает меня сдав-
ливать за ребра.
10
Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек,
друг с другом незнакомых, но связанных между собой
одним и тем же священным делом, так преобразившим их,
что можно было даже заметить неопределенное между ни-
ми сходство, какое встречается, скажем, между пожилы-
ми масонами. Это были люди разных профессий — порт-
ной, массажист, врач, цирюльник, пекарь, — но у всех бы-
ла одна и та же вздутость осанки, одна и та же береж-
ность размеренных движений. Еще бы! Один шил для не-
го платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а все
же бокастого тела со странными, женскими бедрами и
400
круглой спиной; значит — трогал его, почтительно лез под
мышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золо-
тым плющом; второй и третий проникли еще дальше: ви-
дели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по
ритму которого у нас, говорят, скоро будут поставлены
часы, то есть в самом буквальном смысле его пульс бу-
дет взят’за единицу времени; четвертый его брил, с шоро-
хом водя вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для
меня соблазнительным лезвием; пятый, наконец, пек для
него хлеб — по привычке, по глупости кладя в его люби-
мую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться
до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их
таинственных, их дьявольских манипуляций; мне сдава-
лось, что их руки пропахли им, что через них он тоже при-
сутствует... Все было очень хорошо, очень чопорно. Мы
говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что,
если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промель-
кнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг ока-
залось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа,
и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой,
прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное,
чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я
сразу проснулся — в моей нищей комнате, с нищей луной
в незанавешенном окне.
Все же я признателен ночи и за такой сон: последнее
время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня зара-
нее приучают к наиболее популярной из пыток, применяе-
мых к нынешним преступникам. Я пишу «нынешним», по-
тому что с тех пор, как он у власти, появилась как бы со-
вершенно новая порода государственных преступников
(других, уголовных, собственно, и нет, так как мельчай-
шее воровство вырастает в казнокрадство, которое, в свою
очередь, рассматривается как попытка подточить сущест-
вующий строй), изысканно слабых, с прозрачнейшей ко-
жей и лучистыми глазами навыкате. Это порода редкая и
высоко ценимая, как живой окапи или мельчайший вид
лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвен-
но, и каждый пойманный экземпляр встречается всенарод-
ным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого
труда или опасности в охоте нет, — они совсем ручные,
эти странные прозрачные звери.
. Пугливая молва утверждает, что он сам не прочь по-
сетить застенок... но это едва ли так: министр почт не
штемпелюет писем, а морской — не плещется в волнах.
401
Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым
говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на
особый вид простецкой шутки, как в старину народ при-
думывал сказки о черте, в балаганный смех наряжая суе-
верный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдо-
ты (восходящие к каким-то древним ирландским образ-
цам) или закулисный факт из достоверного источника (кто
в фаворе и кто нет, например) всегда отдают лакейской.
Но бывает и того хуже: когда мой знакомый N., у которо-
го всего три года назад казнили родителей (не говоря о
позорных гонениях, которым сам N. подвергся), замечает,
вернувшись с государственного праздника, где слышал и
видел его: «А все-таки, знаете, в этом человеке есть какая-
то мощь!» — мне хочется заехать N. в морду.
11
В своих «закатных» письмах великий иностранный ху-
дожник говорит о том, что ко всему остыл, во всем разу-
верился, все разлюбил, все — кроме одного. Это одно —
живой романтический трепет, до сих пор его охватываю-
щий при мысли об убогости его молодых лет по сравне-
нию с роскошной полнотой пройденной жизни, со снеж-
ным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первона-
чальная безвестность, те потемки поэзии и печали, в ко-
торых молодой художник был затерян на равных правах
с миллионами малых сих, его теперь притягивают, возбуж-
дая в нем волнение и благодарность —судьбе, промыслу,
а также собственной творческой воле. Посещение мест,
где он бедствовал когда-то, встречи с ничем не замечатель-
ными стариками-сверстниками полны для него такого
сложного очарования, что изучения всех подробностей
этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг
духа.
И вот, когда я представляю себе, что наш траурный
правитель чувствует, соприкасаясь со своим прошлым, я
ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт, а
во-вторых, что он, наш правитель, воплощенное отрицание
поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что
повечернее, знающие, как просто мираж превращается в
тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводя
толпу читателей в громадный черный дом, где он родился,
где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без кон-
ца развешивающие белье (бедняки очень много стирают),
и тут же печатается бог весть как добытая фотография
402
его родительницы (отец неизвестен), коренастой женщины
с челкой, с широким носом, служившей в пивной у заста-
вы. Очевидцев его отрочества и юности осталось так мало,
а те, которые есть, отвечают так осторожно (меня, увы, не
спросил никто), что журналисту надобна большая сила вы-
думки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель
мальчиком верховодствовал в воинственных играх или как
юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трак-
туются как стихия судьбы — и, разумеется, много уделяет-
ся внимания тому темному зимнему дню, когда, выбран-
ный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парла-
мент арестовал (после чего армия, блея, немедленно пере-
шла на его сторону).
Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда, в этом
оттенке журналист не ошибся, легенда замкнутая и обо-
собленная (то есть готовая зажить своей, островной,
жизнью), и заменить ее настоящей правдой невозможно,
хотя ее герой еще жив; невозможно, ибо он, единственный,
кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не по-
тому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он не-
помнящий. О, конечно, он помнет старых врагов, помнит
две-три прочитанные книги, помнит, как в детстве кабатчик
напоил его пивом с водкой, или как выдрал за то, что он
упал с верха поленницы и задавил двух цыплят, то есть
какая-то грубая механика памяти в нем все-таки работает,
но если бы ему было богами предложено образовать себя
из своих воспоминаний, с тем что составленному образу бу-
дет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть,
слепой и глухой карла, не способный ни на какое
бессмертие.
Посети он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет
не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тще-
славия. Зато я-то навестил его былое жилище! Не тот мно-
гокорпусный дом, где, говорят, он родился и где теперь му-
зей его имени (старые плакаты, черный от уличной гря-
зи флаг и — на почетном месте, под стеклянным колпа-
ком — пуговица: все, что удалось сберечь от его скупой
юности), а те мерзкие номера, где он провел несколько ме-
сяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин
давно умер, жильцов не записывали, так что никаких сле-
дов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что
я один на свете (он-то ведь забыл эту свою стоянку —их
было так много) знаю, наполняла меня чувством особого
удовлетворения, словно я, трогающий эту мертвую мебель
403
и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его
жизни.
12
Сейчас у меня был еще гость: весьма потрепанный ста-
рик, который, видимо, находился в состоянии сильнейшего
возбуждения, — обтянутые глянцеватой кожей руки дро-
жали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отво-
роты век, бледная череда непроизвольных выражений от
глуповатой улыбки до кривой морщины страдания бежала
по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги циф-
ру знаменательного года, с которого прошло почти полсто-
летия, и.число, месяц — дату рождения правителя. Он по-
глядел на меня, приподняв перо, как бы не решаясь про-
должать, или только оттеняя запинкой поразительное ко-
ленце, которое сейчас выкинет. Я ответил поощрительно не-
терпеливым кивком, и тогда он написал другую дату, на
девять месяцев раньше первой, подчеркнул двойной чер-
той, разомкнул было губы для торжествующего смеха, но
вместо этого закрыл вдруг лицо руками... «К делу, к де-
лу»,— сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и,
быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул
мне толстую твердую фотографию, приобретшую с годами
тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой
человек в солдатской форме; фуражка его лежала на сту-
ле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью
опустил руку, и на заднем фоне можно было различить бу-
тафорскую балюстраду, урну. При помощи двух-трех со-
единительных взглядов я убедился, что между чертами
моего гостя и бестенным, плоским лицом солдата (укра-
шенным усиками, а сверху сдавленным ежом, от которого
лоб казался меньше) сходства немного, но что все-таки это
несомненно один и тот же человек. На снимке ему было лет
двадцать, снимку же было теперь под пятьдесят, и без
труда можно было заполнить этот пробел времени баналь-
ной историей одной из тех третьесортных жизней, знаки
которых читаешь (с мучительным чувством превосходства,
иногда ложного) на лицах старых торговцев тряпьем, сто-
рожей городских скверов, озлобленных инвалидов. Мне за-
хотелось выспросить у него, каково ему жить с этой тай-
ной, каково нести тяжесть чудовищного отцовства, видеть
и слышать ежеминутное всенародное присутствие своего
отпрыска... но тут я заметил, что сквозь его грудь просве-
чивает безвыходный узор обоев, — я протянул руку, чтобы
404
гостя задержать, но он растаял, по-старчески дрожа от хо-
лода исчезновения.
И все же он существует, этот отец (или еще недавно
существовал), и если только судьба не дала ему спаситель-
ного неведения относительно имени его минутной подруги,
господи, какая мука блуждает среди нас, не смеющая ска-
заться,— и, может быть, еще потому особенно острая, что
у этого несчастнейшего человека нет полной уверенности в
своем отцовстве, — ведь баба-то была гулящая, вследствие
чего таких, как он, живет, может быть, на свете несколько,
без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избы-
точных цифр и недостаточного воспоминания, подло меч-
тающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся не-
медленной кары (за ошибку, за кощунство, за чересчур
паскудную правду), в тайне тайн гордящихся (все-таки
мощь!), сходящих с ума от своих выкладок и догадок...
ужасно, ужасно...
13
Время идет, а я между тем увязаю в диких томных меч-
тах. Меня это даже удивляет: я знаю за собой немало по-
ступков решительных и даже отважных, да и не боюсь ни-
сколько гибельных для меня последствий покушения, —
напротив, — вовсе не представляя себе его формы, я, одна-
ко, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас
за актом, — человеческий вихрь, хватающий меня, поли-
шинелевую отрывочность моих движений среди жадных
рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску
ударов — и затем (коли выйду жив из этого вихря) желез-
ную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок,
плаху, — и все это под громовой шум моего могучего
счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу по-
чувствуют и свое освобождение, я даже допускаю усиление
гнета по инерции... Во мне ничего нет от гражданского ге-
роя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за
свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые
сейчас искажены и попраны во мне и вне меня, а если ко-
му-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше;
если же нет и родине моей нужны люди другого склада,
чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое
все-таки сделаю.
Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью,
чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной, а тошноты
и черноты смертных мук я не боюсь, тем более, что чаю
405
такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, кото-
рая не снится ни варварам, ни последователям старинных
религий. Таким образом, ум мой ясен и рука свободна... а
все-таки не знаю, не знаю, как его убить.
Уж я думал: не потому ли это так, что убийство, наме-
рение убить нестерпимо, в сущности, пошло, и воображе-
ние, перебирающее способы и род оружия, производит ра-
боту унизительную, фальшь которой тем более чувствуешь,
чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще: может быть,
я не мог бы его убить из гадливости, как иной человек, ис-
пытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в
состоянии раздавить червяка на борозде, оттого что это
было бы для него так, как если бы он каблуком давил
пыльные концы своих собственных внутренностей. Но ка-
кие бы объяснения я ни подыскивал своей нерешительно-
сти, было бы неразумно скрывать от себя, что я должен
его истребить, и что я его истреблю, — о Гамлет, о лун-
ный олух...
14
Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, мно-
гоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей,
о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии про-
износил: клас, класы и даже класиться, — не знаю, какой
приторный школяр посоветовал ему применить этот сомни-
тельный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее
время в журнальных стихах попадались такие выражения,
как «осколки сткла», «речные Праги» или: «и мудро наши
ветринары вылечивают млечных крав».
В течение двух часов гремел по нашему городу громад-
ный голос, вырываясь в различных степенях силы из того
или другого окна, так что ежели идти по улице (что, впро-
чем, почитается опасной неучтивостью, — сиди и слушай),
получается впечатление, что он тебя сопровождает, обру-
шивается с крыши, пробирается на карачках у тебя про-
меж ног и, снова взмыв, клюет в темя, — квохтанье, кар-
канье, кряк, карикатура на человеческое слово, и некуда
от Голоса скрыться, и то же происходит сейчас в каждом
городе, в каждом селении моей благополучно оглушенной
родины. Никто, кроме меня, кажется, не заметил интерес-
ной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, ко-
торые он делает между ударными фразами, совершенно
как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в прису-
щем пьяным независимом, но неудовлетворенном одиноче-
406
стве посреди улицы и произносящий обрывки бранного
монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеж-
дения, но темного по смыслу и назначению, причем поми-
нутно останавливается, чтобы набраться сил, обдумать сле-
дующий период, дать слушателям вникнуть, — и паузу вы-
держав, дословно повторяет только что изверженное, та-
ким тоном, однако, .будто ему пришел на ум еще один
довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая
мысль.
Когда наконец он иссяк, и безликие, бесщекие трубачи
сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал об-
легчения, а напротив, почувствовал тоску, страх, утрату;
покамест он говорил, я по крайней мере караулил его, знал,
где он и что делает, а теперь он опять растворился в воз-
духе, которым дышу, но в котором уже нет ощутимого сре-
доточия.
Я понимаю гладковолосых женщин наших горных пле1
мен, когда, будучи покинуты любовником, они ежеутренне
упорным нажимом коричневых пальцев булавкой с бирю-
зовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному
истуканчику, изображающему беглеца. Последнее время я
часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил ду-
ши вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь по-
пасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рух-
нуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со
стройными шагами проходящего по нему отряда солдат.
Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгно-
вение, когда ритм уловлю, и он в своем дальнем замке па-
дет замертво, но и при всяком другом виде тираноубийст-
ва я бы не остался цел. Поутру проснувшись, этак в поло-
вине девятого, я силюсь представить себе его пробужде-
ние— он встает не рано и не поздно, а в средний час, точ-
но так же, как чуть ли не официально именует себя «сред-
ним человеком». В девять я, как и он, удовлетворяюсь ста-
каном молока и сладкой булочкой, и, если в данный день у
меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыс-
лями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их
вместе с ним, ища, что может остановить его внимание,
хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне было изве-
стно общее содержание сегодняшней газеты, ее главные
статьи, сводки и отчеты, так что никаких особенных пово-
дов для государственного раздумья это чтение не может
ему дать. Затем к нему приходят с докладами и вопроса-
ми его помощники. Вместе с ним я узнаю, как поживает
407
железнодорожный транспорт, как потеется тяжелой про-
мышленности и сколько центнеров с гектара дала в этом
году озимая пшеница. Разобрав несколько прошений о по-
миловании и начертав на них неизменный отказ, каран-
дашный крест, — знак своей сердечной неграмотности,—
он до второго завтрака совершает обычную прогулку: как
у многих ограниченных, лишенных воображения людей,
ходьба — любимое его физическое упражнение, а гуляет он
по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим
тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы
и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы
дальнейшего процветания его власти или новые меры для
пресечения крамолы. Днем мы осматриваем новое здание,
форт, форум и другие формы государственного благосос-
тояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой фор-
точки. Обед, обыкновенно парадный, с участием должност-
ных лиц, я пропускаю, но зато к ночи сила моей мысли
удваивается, я отдаю вместе с ним приказания газетным
редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний и один в
своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и все без-
умнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадает с его
мыслью, — и тогда, я знаю, мост лопнет как струна. Но не-
везение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует
меня, карта все не выходит, хотя какую-то тайную связь
я все-таки, должно быть, с ним наладил, ибо часов в один-
надцать, когда он ложится спать, я всем своим существом
ощущаю провал, пустоту, печальное облегчение и слабость.
Он засыпает, он засыпает, и так как на его арестантском
ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я
получаю отпуск, и только изредка, уже без всякой надеж-
ды на успех, стараюсь сложить его сны, комбинируя об-
рывки его прошлого с впечатлениями настоящего, но, ве-
роятно, он снов не видит, и я работаю зря, и никогда, ни-
когда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы
история могла отметить: диктатор умер во сне.
15
Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все
полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подо-
бием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в гла-
зах моих бедных школьников все яснее и безнадежнее про-
ступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан
давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности,
но и простой белый куб, который даю в младших классах,
408
мне кажется его портретом—его лучшим портретом быть
может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя?
16
И вот я понял, что есть у меня способ! Было морозное
неподвижное утро, с бледно-розовым небом и глыбами
льда в пастях водосточных труб; стояла всюду гибельная
тишина: через час город проснется — и как проснется! В
тот день праздновалось его пятидесятилетие, и уже люди
выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, что-
бы вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют раз-
личные цеховые шествия. Рискуя потерять свой малый за-
работок, я не снаряжался в этот праздничный путь, — дру-
гое, поважнее, занимало меня. Стоя у окна, я слышал пер-
вые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на пе-
рекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я, я один,
все это могу пресечь. Да, выход был найден: убийство ти-
рана оказалось теперь таким простым и быстрым делом,
что можно было совершить его, не выходя из комнаты.
Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый,
но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над ок-
ном, должно быть служивший когда-то для поддержки
штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я
не был уверен в действенности двадцать пять лет проле-
жавшего патрона.
Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упи-
танный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и
созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость это-
го мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до по-
следнего солнечного пейзажа, до последнего детского вос-
поминания, все сокровища, собранные мною. Зная теперь
свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к
покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая эти мои
записи... И вдруг невероятное напряжение чувств, одоле-
вавшее меня, подверглось странной, как бы химической
метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обра-
щало синие сугробы в искристый пух, над дальними крыша-
ми играл недавно изобретенный гением из народа фейер-
верк, красочно блистающий и при дневном свете. Народ-
ное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие
в небесах, нарядные цвета шествия, вьющегося через снеж-
ный покров реки, прелестные картонажные символы благо-
состояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнооб-
разно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрая му-
405
зыка, оргия флагов, довольные лица парнюг и националь-
ные костюмы здоровенных девок — все это на меня нахлы-
нуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех пе-
ред нашим великим, милостивым Господином. Не он ли
удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищие, не
ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданско-
го бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брыз-
нули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что
я, отвратившийся от доброты Хозяина, я, слепо отрицав-
ший красоту им созданного строя, быта, дивных новых за-
боров под орех, собираюсь наложить на себя руки, — смею,
таким образом, покушаться на жизнь одного из его под-
данных! Праздник, как я уже говорил, разгорался, и, весь
мокрый от слез и смеха, я стоял у окна, слушая стихи на-
шего лучшего поэта, которые декламировал по радио чуд-
ный актерский голос, с баритональной игрой в каждой
складочке:
Хорошо-с, — а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.
Вообразите, ни реп нет,
ни баклажанов, ни брюкв...
Так и песня, что днесь у нас крепнет,
задыхалась в луковках букв.
Шли мы тропиной исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы!
Пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!
Да, сияя, да, грибы, да, удивительной, — правильно... я
маленький, я, бедный слепец, ныне прозревший, падаю на
колени и каюсь перед тобой. Казни меня — или нет, лучше
помилуй, ибо казнь твоя — милость, а милость —г казнь,
озаряющая мучительным, благостным светом все мое без-
законие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя! Ве-
ликолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно
следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь
быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь,
что буду твой нераздельно, — и так далее, и так далее, и
так далее.
.410
17
Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени не-
нависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как
на ладони смешное. Расхохотавшись, я исцелился, как тот
анекдотический мужчина, у которого «лопнул в горле на-
рыв при виде уморительных трюков пуделя». Перечитывая
свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страш-
ным, я лишь сделал его смешным, — и казнил его именно
этим — старым, испытанным способом. Как ни скромен я
сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, од-
нако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным.
Далекий от литературных затей, но зато полный слов, ко-
торые годами выковывались в моей яростной тишине, я
взял искренностью и насыщенностью чувств там, где дру-
гой взял бы мастерством да вымыслом. Это есть заклятье,
заговор, так что отныне заговорить рабство может каж-
дый. Верю в чудо. Верю в то, что каким-то образом, мне
не известным, эти записи дойдут до людей, не сегодня и не
завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет
денек досуга, чтоб заняться раскопками, — накануне но-
вых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И
вот, как знать... допускаю мысль, что мой случайный труд
окажется бессмертным и будет сопутствовать векам, — то
гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полез-
ный. Я же, «тень без костей», буду рад, если плод моих за-
бытых бессонниц послужит на долгие времена неким тай-
ным средством против будущих тиранов, тигроидов, поло-
умных мучителей человека.
Берлин, 1936 г.
ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ
Рассказ
Один из моих представителей, скромный, кроткий хо-
лостяк, прекрасный работник, как-то на благотворитель-
ном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл
увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находи-
лось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холод-
но, обидно за все зеленевшее зря, и только воробьи не
унывали), ехать ему никуда не хотелось, но, когда в кон-
торе общества увеспоездок он попробовал билет свой про-
дать, ему ответили, что для этого необходимо особое раз-
47/
решение от министерства путей сообщения; когда же он
и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно соста-
вить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге,
да кроме того раздобыть в полиции так называемое «сви-
детельство о невыезде из города на летнее время», причем
выяснилось, что издержки составят треть стоимости биле-
та, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении несколь-
ких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав,
он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку,
подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку
вольного фасона — одну из тех, которые с таким нетерпе-
нием ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика
этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно
подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас
не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий
Иванович.
Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только
потому, что утром надо вставать непривычно рано и таким
образом брать с собой в сон личико часов, тикающих ря-
дом на столике, а потому что в ту ночь ни с того ни с сего
ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему слу-
чайно судьбой в открытом платье, поездка, на которую он
решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожа-
щее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнени-
ем, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русс-
кой поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечер-
ним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он вось-
мой год безвыходно любил (но еще полнее и, значительнее
всего этого). И кроме того он думал’о том, что всякая на-
стоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-
то, к кому-то.
Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внут-
ренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трам-,
вае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскур-
сии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут,
эти сонные — как все еще нам незнакомые — спутники?
У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в
примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: ми-
нуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился дол-
говязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цве-
та петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевы-
ми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был
снаряженный обществом вожак и, как только новоприбыв-
ший присоединился к группе (состоявшей из четырех жен-
412
щин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному
за поездами поезду, с устрашающей легкостью неся на
спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкован-
ными башмаками. Разместились в пустом вагончике су-
губо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке
и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева,
которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная
есть ложь», — и дивное о румяном восклицании); но его
попросили отложить книжку и присоединиться ко всей
группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетини-
сто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно
он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обиль-
ную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России
и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так
подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его тол-
стая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь.
Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми
шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и
той же строительной фирме, — мужчина постарше, Шульц,
мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огром-
ными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько
фарсового типа, вдова в спортивной юбке тоже кое-что
знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с
глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам,
с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным в облике и
манерах, все время переводивший разговор на те или дру-
гие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак
к восхищению: это был, как узналось впоследствии, спе-
циальный подогреватель от общества увеспоездок.
Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосно-
вым лесом, затем — облегченно — полями, и понимая еще
только смутно всю чушь и ужас своего положения и, по-
жалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Васи-
лий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолетными да-
рами дороги. И действительно: как это все увлекательно,
какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движет-
ся каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце
пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лав-
ку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень ва-
гона по травяному скату, где цветы сливались в цветные
строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной но-
гой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно,
поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые
моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, пере-
413
одетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых.
Нас с ним всегда поражала эта страшная для души ано-
нимность всех частей пейзажа, невозможность никогда
узнать, куда ведет вон та тропинка, — а ведь какая соблаз-
нительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лес-
ном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как
задержанный в груди воздух, место до того очарователь-
ное— полянка, терраса, — такое полное выражение неж-
ной, благожелательной красоты, — что, кажется, вот бы
остановить поезд и—туда, навсегда, к тебе, моя любовь...
Но уже бешено заскакали, вертясь в солнечном кипятке,
тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на
остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочета-
ние каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно
на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил
себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит бо-
лее вот этих трех штучек в таком-то их взаимном распо-
ложении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до
бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожи-
дающих поезд, он изо всех сил старался высмотреть хоть
одну замечательную судьбу — в форме скрипки или коро-
ны, пропеллера или лиры — и досматривался до того, что
вся эта компания деревенских школьников являлась ему
как на старом снимке, воспроизведенном теперь с бе-
лым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство ге-
роя.
Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем
были розданы нотные листки
Распростись с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.
По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
со стихами от общества:
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, черт возьми.
Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.
Это надо было петь хором. Василий Иванович, который
не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие
слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся
голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачи-
ваться, будто в самом деле пел, — но предводитель по зна-
ку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее
пение и, подозрительно щурясь в сторону Василия Ивано-
вича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович
прочистил горло, застенчиво начал, и после минуты оди-
414
ночного мучения подхватили все, но он уже не смел вы-
пасть.
У него было с собой: любимый огурец из русской лавки,
булка и три яйца. Когда наступил вечер и низкое алое
солнце целиком вошло в замызганный закачанный, собст-
венным грохотом оглушенный вагон, было всем предложе-
но выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну,—
это тем более было легко, что у всех, кроме Василия Ива-
новича, было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был
признан несъедобным и выброшен в окошко. Ввиду недо-
статочности пая Василий Иванович получил меньшую пор-
цию колбасы.
Его заставляли играть в скат, тормошили, расспраши-
вали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут
предпринятого путешествия, — словом, все занимались им,
сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере
приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая
вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя;
Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его
жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя
одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого
некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сто-
рон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это
было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длинней-
шее, розовейшее облако, и, пронзая душу, подальше на
пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный
дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пах-
ло жасмином и сеном, моя любовь.
Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужасен, но
есть известная грация в движении шелковистой лепизмы.
Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с
рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати
занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чи-
новник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рас-
сказывать о своих русских впечатлениях, несколько под-
робнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное
чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровы-
ми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между
толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку,
чокаясь со своей тенью. — В Царицыне, — говорил чинов-
ник,— теперь имеются три школы: немецкая, чешская и
китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездив-
ший туда строить тракторы.
На другой день с раннего утра и до пяти пополудни
415
пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм,
а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию
Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести под
мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненави-
жу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные гла-
за примечали что нужно. На фоне еловой черноты верти-
кально висит сухая иголка на невидимой паутинке.
Опять ввалились в поезд .и опять было пусто в малень-
ком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить
Василия Ивановича играть на мандолине. Было много
смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, кото-
рой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины
ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спря-
таны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой
вылезала красная голова с ушами или большая, с подъ-
юбочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг),
то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий
Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не
оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал.
Его признали проигравшим и заставили съесть окурок.
Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае
и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы,
пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было
беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог,
что на полдневном привале немедленно уснул и только
тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых ово-
дов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то
самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.
Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выра-
жением воды. Посередине отражалось полностью большое
облако. На той стороне, на холме, густо облепленном дре-
весной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), вы-
силась прямо из дактиля в дактиль старинная черная баш-
ня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько
угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и непов-
торимой согласованности его трех главных частей, по
улыбке его, по какой-то таинственной невинности, — лю-
бовь моя! послушная моя! — был чем-то таким единствен-
ным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерца-
теля, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу,
словно смотрел, тут ли оно, чтоб его отдать.
Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предво-
дителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов,
расположившихся кругом на траве в любительских позах,
416
а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал.
Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Ива-
нович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где,
прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его при-
ветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом,
пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым
черепичным веком, и нашел хозяина, рослого старика,
смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъ-
яснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел
на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продол-
жал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была
комната для приезжих. — Знаете, я сниму ее на всю
жизнь,— будто бы сказал Василий Иванович, как только
в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напро-
тив, это была самая дюжинная комнатка, с красным по-
лом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и
небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового
настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком
и башней, в неподвижном и совершенном сочетании сча-
стья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспреко-
словно отдаваясь влечению, правда которого заключалась
в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Ива-
нович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой
комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то
так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно
пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, ко-
нечно, но все кругом было помощью, обещанием и отра-
дой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что
он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это
исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться
более, как выписать сюда свое небольшое имущество —
книги, синий костюм, ее фотографию. Все выходило так
просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую рус-
скую жизнь.
— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на
прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда
остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути.
Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!
— То есть как это? — странным голосом проговорил
предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение ко-
торой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ива-
новича, между тем как сидевшие на траве привстали и ка-
менными глазами смотрели на него.
— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил...
14 Запретная глава
417
— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почто-
вый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!
— Постойте, господа, — сказал предводитель, — одну
минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию
Ивановичу:
— Вы, должно быть, действительно, подвыпили, — ска-
зал он спокойно. — Или сошли с ума. Вы совершаете с
нами увеселительную поездку. Завтра по указанному марш-
руту— посмотрите у себя на билете —мы все возвраща-
емся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо
из нас — в данном случае вы — отказался продолжать сов-
местный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните,
что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети,
мы идем дальше.
— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал
Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий па-
вильон. Угольные копи. Масса интересного.
— Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович.—
Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю.
Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто до-
бавил он, когда его подхватили под руки.
— Если нужно, мы вас понесем, — сказал предводи-
тель, — но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за
каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым
или мертвым.
Увлекаемый, как в дикой сказке, по лесной дороге, за-
жатый, скрученный Василий Иванович не мог даже обер-
нуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаля-
ется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чер-
неет бездейственно ропщущая чаща. Как только сели в
вагон, и поезд двинулся, его начали избивать — били дол-
го и довольно изощренно. Придумали, между прочим, бу-
равить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чи-
новник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня
кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молод-
чина! Остальные мужчины больше полагались на свои же-
лезные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да
пощечинами. Было превесело.
По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень
изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказы-
вал. Повторял без конца, что принужден отказаться от
должности, умолял отпустить, говорил, что больше не мо-
жет, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил,
разумеется.
Мариенбад, 1937 г.
ОВИДИИ ГОРЧАКОВ
НАКАНУНЕ, ИЛИ ТРАГЕДИЯ КАССАНДРЫ
Повесть в документах
Кассандрой звали дочь Приама, по-
следнего царя Трои, которую Апол-
лон наделил даром прорицания, а за-
тем, будучи отвергнутым ею, наказал
тем, что никто в ее пророчества не
верил. Она предсказала, что Троя
падет, если откроет ворота деревян-
ному коню, но властелин Трои не по-
верил ей. И Троя пала.
Из древнегреческой мифологии
...Фашистская Германия неожиданно
и вероломно нарушила пакт о нена-
падении...
Из выступления И. В. Сталина
по радио 3 июля 1941 года
аскроем чудом сохранившуюся, чудом не сож-
женную старую папку с пожелтевшими стра-
ницами и полустертыми грифами: «Совершен-
но секретно» и «Хранить вечно»....
Из донесений секретного сотрудника «Запо-
рожца»:
«22 марта 1941 г. Сообщаю, что 13 марта маршал Анто-
неску принял германского представителя Геринга и обсуж-
дал с ним вопросы участия Румынии в войне Германии про-
тив Советского Союза. Подтверждаю, что все планы втор-
жения вермахта на Британские острова отложены до окон-
чания войны против СССР. Говорят о приказе Гитлера,
отменяющего все русские заказы. Вальтер».
Справка Разведывательного управления Генерального шта-
ба Красной Армии (РУ ГШКА) о радиограммах «Рамзая»
(Рихарда Зорге) из Японии:
«1. 18 ноября 1940 г. Первое сообщение о возможном
нападении Германии на СССР.
2. 28 декабря 1940 г. Сообщение о создании на базе
г. Лейпцига новой резервной армии вермахта из 40 дивизий.
Журнальный вариант.
419
3. 1 марта 1941 г. Сообщение о переброске 20 немецких
дивизий из Франции к советским границам, где уже нахо-
дится 80 дивизий.
4. 5 марта 1941 г. Прислана микропленка телеграм-
мы Риббентропа послу Германии в Японии генералу Отту
с уведомлением, что Германия начнет войну против СССР
в середине июня 1941 года.
Начальник РУ ГШКА генерал-лейтенант
Ф. И. Голиков».
Москва, 1 апреля 1941 г.
Из справки заместителя
наркома иностранных дел А. Я. Вышинского:
«...В январе с. г. К. Уманский, посол СССР в США,
сообщил по просьбе заместителя государственного секрета-
ря Самнера Уэлльса, что правительство США располагает
сведениями о намерении Германии напасть на СССР вес-
ной с. г.
19 апреля Черчилль передал мне через своего посла в
Москве С. Криппса, что немцы ведут перегруппировку
своих войск с целью нападения на СССР, и просил пере-
дать это товарищу Сталину...
3 апреля 1941 года. «Георгин» доносит:
«Сэр Ричард Стаффорд Криппс сегодня нанес визит
Сталину и по указанию премьера Черчилля сообщил Ста-
лину, что германская армия готовится напасть на Совет-
ский Союз».
10 апреля. По дипломатическим каналам стало изве-
стно, что Гитлер встретился с югославским принцем Пав-
лом и сообщил ему, что Германия пойдет войной против
России в конце июня.
11 апреля. На приеме в болгарском посольстве сильно
выпивший шеф западной прессы министерства пропаганды
Карл Бемер громко заявил: «Не пройдет и двух месяцев,
как наш дорогой Розенберг станет хозяином всей России^
а Сталин будет мертв». Говорят, что Бемер арестован
гестапо...
И апреля. «Представитель Генерального штаба в То?
кио заявил, что сразу же после завершения войны в Евро-
пе начнется война против Советского Союза. Рамзай».
18 апреля 1941 года. «Георгин» доносит:
«Сэр Ричард Стаффорд Криппс сегодня вновь уведомил
Сталина о новом предупреждении премьера Черчилля: Гит-
лер готовится напасть на Советский Союз».
420
25 апреля. Советский военный атташе во Франции ге-
нерал-майор И. А. Суслопаров сообщил из Виши, ссылаясь
на сведения, полученные от американцев, югославов, ки-
тайцев, турок и болгар, что немцы, планировавшие начало
войны против СССР на конец мая, теперь отложили напа-
дение примерно на месяц из-за плохой погоды.
30 апреля. По сообщению из Берлина первого секрета-
ря посольства СССР В. Бережкова, первый секретарь по-
сольства США в Берлине Джефферсон Паттерсон позна-
комил его у себя дома с майором «люфтваффе», который
конфиденциально заявил, что его эскадрилья и много дру-
гих авиачастей германских ВВС перебрасываются на вос-
ток— на аэродром г. Лодзь (Лицманштадт).
2 мая. «Гитлер принял решение начать войну и уничто-
жить СССР, чтобы использовать европейскую часть Сою-
за как базу сырья и зерна. Критически срок возможного
начала войны:
А. Завершение поражения Югославии.
Б. Завершение весеннего посева.
В. Завершение переговоров между Германией и Турцией.
Решение о времени начала войны будет принято Гитле-
ром в мае... Рамзай».
Из донесений секретного сотрудника «Ястреба»:
«3 мая 1941 года... Сегодня вечером на ужине в «Араг-
ви» фон Б. поднял рюмку за германо-советскую дружбу.
Выпили и немцы и наши. Фон Б. сказал мне, что он лично
понял, что в германо-советских отношениях произошел ко-
ренной поворот тогда, когда два года назад, 3 мая 1939 го-
да, в скромном уголке на последней странице «Правды»
появилось кратенькое сообщение: М. М. Литвинов по соб-
ственному желанию освобожден от должности народного
комиссара иностранных дел.
Фон Б. сказал, что Сталин поступил очень мудро, сняв
еврея Литвинова и назначив на его место арийца Молото-
ва. Убрав Литвинова, Сталин отказался от политики кол-
лективной безопасности и укрепления Лиги Наций. Фон Б.
со смехом заявил, что Сталина толкнули в объятия фюре-
ра те самые кретины из правительства Великобритании и
Франции, которые теперь сокрушаются из-за германо-со-
ветского пакта о дружбе и ненападении и льют слезы над
«польской колбасой».
Выпив коньяку, фон Б. предался воспоминаниям. Ока-
зывается, он присутствовал на ужине 26 июля 1939 года в
421
одном из лучших ресторанов в Берлине («Адлон»?), когда
немцы впервые начали серьезный зондаж, направленный
на раскол советско-британско-французских связей и пере-
говоров и установление германо-советских контактов. На
ужине присутствовали, кроме фон Б., Риббентроп, поверен-
ный в делах СССР в Берлине Астахов и торгпред Бабарин.
Риббентроп заявил в ходе беседы, что «идеологию Герма-
нии, Италии и Советского Союза роднит одна общая чер-
та — оппозиция капиталистическим демократиям Запада».
Потом фон Б. был переведен в Москву в качестве со-
ветника германского посольства. Вместе с послом графом
фон дер Шуленбургом он не раз посещал Молотова. «Без
преувеличения могу сказать, — заявил мне подвыпивший
фон Б., — что я являюсь одним из помощников главных
архитекторов германо-советского пакта».
Смеясь, фон Б. сказал, что англичане и французы пото-
му не спешили летом 1939 года заключить военный союз с
Россией, что считали слабой Красную Армию. По словам
Б., британский военный атташе полковник Файрбрейс за-
явил ему в то лето, что Красная Армия обескровлена реп-
рессиями. Фон Б. всячески постарался поддержать Файр-
брейса в этом мнении.
Фон Б. довольно подробно и откровенно рассказывал о
своем участии в советско-германских переговорах 15—21
августа. По его словам, именно Молотов, явно действуя от
имени Сталина, предложил заключить пакт о ненападении.
Гитлер был в восторге от предложения Молотова, передан-
ного ему 16 августа через графа фон дер Шуленбурга и
Риббентропа. В тот же вечер Гитлер сообщил, что безого-
ворочно принимает советское предложение. Риббентроп
всячески торопил Молотова, так как приближался день
1 сентября—день нападения на Польшу. Вечером 19 авгу-
ста граф Шуленбург молнировал о согласии Советского
правительства принять Риббентропа в Москве. В тот же
день Молотов вручил фон дер Шуленбургу проект пакта о
ненападении. Граф фон дер Шуленбург, выезжая из Крем-
ля, был на седьмом небе. Фон Б. намекнул, что ему извест-
но, что Сталин объявил о своем намерении заключить пакт
с Гитлером на заседании Политбюро. Но Сталин не хотел
принять Риббентропа раньше 26—27 августа. Тогда 20 ав-
густа Гитлер лично обратился к Сталину с просьбой при-
нять Риббентропа в Москве 22—23 августа. Гитлер провел
бессонную ночь, ожидая ответа из Москвы. 21 августа в
9.35 утра Берлин принял шифрованную телеграмму из
422
Москвы — Сталин сообщал Гитлеру, что согласен принять
Риббентропа в Москве 23 августа, и приветствовал пред-
стоящее подписание договора о ненападении. В 10.30 эта
телеграмма была передана Гитлеру на виллу «Бергоф»...
Подчеркнув, что он считает меня своим другом, Б. до-
верительно заявил мне, что, когда Гитлер 22 августа со-
брал в Оберзальцбурге высший военный совет и сообщил
ему о пакте с Россией, Геринг исполнил дикий танец на
столе. Фон Б. добавил, что польское правительство само
вырыло себе могилу, наотрез отказавшись пропустить по
своей территории русские войска и тем подорвав намечав-
шийся советско-англо-французский военный союз против
Германии. Это отлично понимал и Ллойд Джордж...
В полдень 23 августа фон Б. был в свите графа фон
дер Шуленбурга, встречавшего в московском аэропорту
Риббентропа. Германская делегация прилетела на двух
огромных «кондорах». Вечером Сталин и Молотов приня-
ли Риббентропа в Кремле. На трехчасовом совещании Ста-
лин подчеркнул, что не намерен таскать каштаны из огня
за Англию. После перерыва встретились вновь, поднимали
тосты за полночь. Риббентроп рассказал Сталину берлин-
ский анекдот: поскольку ему, Сталину, больше всего не по
нутру капиталисты, английские лавочники и дельцы Сити,
то он еще станет членом антикоминтерновского пакта. Ста-
лин на это улыбнулся «довольно кисло».
Фон Б. рассказывал, что Сталин якобы произнес тост
за фюрера: «Я знаю, как велика любовь германской нации
к фюреру. Поэтому я хочу выпить за его здоровье». Моло-
тов якобы поднял рюмку за Риббентропа. Все вместе яко-
бы пили за новую эру в германо-советских отношениях.
Риббентроп — он не дурак выпить — пил за здоровье Ста-
лина, за Советское правительство, за мир между Герма-
нией и СССР. Прощаясь, Сталин заявил, что готов пору-
читься честным словом, что лично он никогда не нарушит
пакт. По настоянию Сталина была снята преамбула к ком-
мюнике, в которой превозносилась германо-советская дру-
жба. Сталин, по мнению фон Б., гораздо больше заботился
об общественном мнении в своей стране, чем Гитлер.
25 августа фон Б. с радостью узнал, что маршал Воро-
шилов прервал московские переговоры с англичанами и
французами. Их военные делегации вылетели из Москвы.
По мнению Черчилля, которого фон Б. чрезвычайно ува-
жает, макиавеллистское, с точки зрения многих, решение
Сталина заключить договор с Гитлером являлось в ситуа-
423
ции 1939 года в высшей степени реалистическим. Не дож-
давшись конструктивных шагов от англо-франко-польской
дипломатии, Сталин одним ударом превратил этих горе-
дипломатов в политических банкротов. Это признает и Чер-
чилль. Рузвельт, узнав заблаговременно о германо-совет-
ских переговорах от своего посла в Москве, напрасно пы-
тался уговорить англичан, французов и поляков пойти на
соглашение с Советским Союзом.
Едко издеваясь над американским президентом, фон Б.
сказал, что немцам отлично известно, что Рузвельт еще
5 июля пытался предупредить Сталина против соглашения
с Германией, уверяя, что, если правительство Сталина пой-
дет на такое соглашение, то с той же неизбежностью, с ка-
кой ночь сменяет день, Гитлер нападет на Советский Союз,
как только победит Францию.
Фон Б. жаловался, что многие деятели нацистской пар-
тии застигнуты врасплох германо-советским договором и
неправильно понимают его, протестуют против «сговора с
иудо-масонскими нелюдьми».
18 сентября русские войска встретились с немецкими
войсками под Брест-Литовском.
«Под тем самым историческим Брест-Литовском,—тор-
жествующе сказал мне фон Б., — в котором 23 года назад
цы заключили мир между нашими странами! Символично,
не правда ли?»
Наш разговор мы продолжали, покинув номер в «Араг-
ви», в машине фон Б.
«Я должен со всей откровенностью сказать, — заявил
мне фон Б., — что ваш Сталин почти без единого выстрела
получил больше, чем получили мы, потеряв в Польше 45
тысяч офицеров и солдат! Это не только мое мнение, мне-
ние фон дер Шуленбурга и Риббентропа. Это мнение
фюрера».
В Берлине с большим удовлетворением узнали о речи
Молотова 31 октября на сессии Верховного Совета, в ко-
торой он заявил: «Правящие круги Польши немало кичи*
лись «прочностью» своего государства и «мощью» своей
армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по
Польше со стороны сперва германской армии, а затем —
Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродли-
вого детища Версальского договора...» Особенно понрави-
лись в Берлине такие слова в этой речи: «Правящие круги
Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве
борцов за демократические права народов, против гитле-
424
ризма... Но любой человек поймет, что идеологию нельзя
уничтожить силой... Поэтому не только бессмысленно, но и
преступно вести такую войну, как война за «уничтожение
гитлеризма», прикрываемую фальшивым флагом борьбы за
«демократию»...»
Выполняя полученное задание, я спросил в удобный мо-
мент, каково отношение фон Б. и его коллег лично к Ста-
лину. Я в точности запомнил его ответ. Вот он: «Что Ста-
лин великий человек — для всех очевидно. Чемберлена и
Даладье фюрер называл «червячками», но Сталина он ува-
жает. Более того, он молится, чтобы провидение даровало
Сталину долгую жизнь. Вы, конечно, понимаете, как важ-
но для Германии не воевать на два фронта. А случись что-
либо со Сталиным, новое Советское правительство могло
бы порвать наш договор! Вот почему мы, немцы, вслед за
рождественским посланием фюрера Сталину, желаем ва-
шему вождю многие лета! Сталин — блестящий политик и
стратег! Буду до конца откровенным — напав 30 ноября
1939 года на Финляндию, он поставил нас в тяжелое поло-
жение. Он понимал, что наши руки связаны Западным
фронтом. А ведь с Финляндией нас, немцев, связывала дав-
няя дружба! Но мы принесли финнов в жертву, ибо пре-
выше всего ценим дружбу Сталина! В те дни, когда даже
Муссолини призывал к миру с западными демократиями,
пророчил фюреру поражение в войне и предупреждал его
против сговора со Сталиным, именно в союзе со Сталиным
черпал фюрер силу и уверенность! И разумеется, мы бес-
конечно благодарны ему за миллионы тонн хлеба и неф-
ти, за хром и марганец. Конечно, Сталин ничего даром не
дает, в обмен получает станки и военные материалы, вклю-
чая образцы новых самолетов — Ме-109 и Ме-110, Ю-88,
танков и пушек...»
«Сталин, — добавил фон Б., — отлично понимает плю-
сы и минусы договора с Гитлером». В конце 1939 года
фон Б. присутствовал на советско-германских торговых пе-
реговорах, во время которых Сталин, разволновавшись
из-за немецкой прижимистости, закричал, что Советский
Союз, оказывая немцам громадную услугу, потерял много
друзей, наделал себе много врагов в мире и потому вправе
рассчитывать на наибольшее благоприятствование!
Как было запланировано, я повез фон Б. к женщинам,
где он уже не вел политических разговоров... В 2.10 я рас-
стался с ним у Никитских ворот, передав ему подготовлен-
ную «дезу»— дезинформацию.
425
Моя следующая встреча с фон Б. состоится 9 мая. Мы
по-прежнему будем встречаться в театрах. Я обещал пока-
зать ему «Фельдмаршала Кутузова», «Надежду Дурову»,
«Собор Парижской богоматери», «Дворянское гнездо»,
«Анну Каренину». Прошу обеспечить билеты...
О постановке Эйзенштейном оперы «Валькирии» в Боль-
шом театре фон Б. сказал, что Эйзенштейн испортил Ваг-
нера своими «еврейскими штучками»...»
Из донесений
секретного сотрудника «Кармен»:
«4 мая 1941 года. Как уже сообщал источник, посол
США Штейнгардт снял и в настоящее время меблирует
большую дачу под Москвой. По заявлению его жены в раз-
говоре с Генри Кэссиди, начальником бюро агентства Ассо-
шиэйтед пресс, дачу посол снял потому, что уверен, что
Германия скоро, этим летом, нападет на СССР и будет бом-
бить Москву. Следуя примеру жены посла, почти все со-
трудники посольства отправляют свои вещи багажом в
США. Многие запасаются продуктами питания, покупая их
в Финляндии.
Прощаясь с Кэссиди в холле, жена посла сказала, что
«немцы могут напасть на Россию в любую минуту...»
Из донесений
секретного сотрудника «Марса»:
«4 мая 1941 года. Третий секретарь посольства опять
менял у меня доллары. На этот раз он дал мне на обмен
всего 100 долларов. Видя мое удивление, он сказал мне:
«Не стоит менять большую сумму. В банке нам дают 5
рублей за доллар, ты даешь, как и йсе на черном рынке,
12 рублей, но как только нападут на нас немцы, доллары
на черном рынке будут стоить вдвое-втрое дороже!»
«5 мая. Открытые военные приготовления продолжают-
ся в Польше. Германские офицеры и солдаты открыто го-
ворят о грядущей войне между Германией и Советским
Союзом, как о деле уже решенном. Войну ожидают пос^9
весеннего сева. Войцех».
Из донесений
секретного сотрудника «Кармен»:
«5 мая 1941 года. Жена Штейнгардта распорядилась,
чтобы упаковали для отправки в Америку все серебро, все
дорогие скатерти и постельное белье...»
426
Из донесений
секретного сотрудника «Верного»:
«5 мая 1941 года. Сегодня с 9.30 до 11.30 источник во-
зил Д. Штейнгардт, жену посла, по комиссионным магази-
нам, где она продавала старую одежду. Проезжая мимо
разрушенного при реконструкции улицы Горького дома на-
против Центрального телеграфа, она сказала по-англий-
ски своей спутнице, жене второго секретаря Томпсона:
«Пора выбираться. Скоро здесь будет много таких домов.
Вы слышали, что они сделали с Варшавой и Роттердамом?
Ужас!»
Проезжая мимо сырного магазина, госпожа Штейнгардт
сказала: «Вы видели, какие чудесные сыры выставлены в
витрине? Представьте себе — бутафория, все из папье-ма-
ше. Мой муж говорит, что такими же окажутся русские са-
молеты и танки!»
Потом, оглянувшись, она воскликнула: «Ах, вон она
едет! Машина с нашими «хвостами» — людьми этого Бе-
рии. Без нее как-то непривычно. Мы их называем «мальчи-
ками из ассоциации молодых христиан», так забавно и оди-
наково они все одеваются! Посмотрите — все в темно-си-
них плащах, костюмах и незаломленных шляпах с негну-
щимися полями. Муж говорил мне, что к нему приставле-
на бригада из двенадцати мальчиков, работают они четвер-
ками, каждые восемь часов сменяя друг друга. Двое оста-
ются в машине, двое повсюду следуют за мужем, сидят с
ним почти рядом в ресторане, в театре, идут за ним даже
в уборную! В ответ на протесты мужа русские или говорят,
что нам все это померещилось, или уверяют, что мальчики
приставлены к нам для нашей охраны».
Из донесений
секретного сотрудника «Алмаза»:
«5 мая 1941 года. Во время нашей беседы Чолертон
охарактеризовал посла Великобритании сэра Ричарда
Стаффорда Криппса, левого лейбориста, как преданного
друга СССР. По его словам, сэр Стаффорд Криппс, блестя-
щий юрист, изучил стенограммы процессов врагов народа
и утверждает, что в них нет никаких нарушений законно-
сти. Вышинского он называет благородным идеалистом...
Я спросил его, считает ли он, что немцы собираются на-
пасть на нас? Он ответил, что слухи об этом распускают
главным образом сотрудники шведского и румынского по-
сольств по заданию немцев, с тем чтобы припугнуть нас и
427
заставить быть посговорчивее... Однако он тут же вспом-
нил, что Криппс еще в начале февраля этого года услышал
от греческого посланника, будто немцы собираются напасть
весной на Россию... Но Сталин не поверил Криппсу...
В апреле Черчилль вновь попытался предупредить Ста-
лина. От английской агентуры в окуппированной нациста-
ми Польше поступили тревожные сигналы о концентрации
германских войск в Польше. В конце апреля Криппс со-
общил Сталину точную дату нападения Гитлера на
СССР — 22 июня 1941 года. Но Сталин не верил, и пото-
му даже Чолертон разуверился во всех этих сигналах...»
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Эрнста»:
«5 мая 1941 года. Сегодня посол Германии граф фон
дер Шуленбург заявил обслуживающему персоналу — со-
ветским гражданам, чтобы те подыскивали себе новые
места...»
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Верного»:
«6 мая 1941 года. Госпожа Д. Штейнгардт, разъезжая
по комиссионным, говорила госпоже Томпсон: «Русские не
выдержали той войны, не выдержат и этой. Так считает
мой муж. Они еле-еле побили крохотную финскую армию.
Немцы устроят страшный блиц! Ужасные русские комму-
никации сразу придут в полное расстройство, начнется го-
лод. Народ взбунтуется. И немцы это прекрасно понимают.
Русские все пьяницы — маляры на моей даче постоянно
просят на водку. Как только дача будет готова, я повезу
тебя туда. Деревня называется Тарасовкой, а речка, на ко-
торой она стоит, — Клязьмой. У меня там семь комнат, не
считая комнат для шофера и прислуги, ледник, всякие слу-
жебные помещения. Очень мило! Мы установили там не-
большую электростанцию. Продуктов у нас достаточно,
чтобы прожить в осаде два месяца. Муж говорит, что оц
сможет теперь эвакуировать всех американцев из Москвы
в течение часа. А у англичан дача тоже готова!..»
Из сообщения советского
военного атташе в Германии:
«7 мая 1941 года. Гражданин СССР Бозер... передал
заместителю военно-морского атташе, что, согласно заявле-
нию одного германского офицера из штаба Гитлера, Гер-
мания готовится вторгнуться в СССР 14 мая через Финлян-
428
дию, Прибалтийские страны и Латвию. Одновременно Мос-
ква .и Ленинград подвергнутся ожесточенным бомбарди-
ровкам и парашютные войска будут выброшены в погра-
ничные города...»
Из донесений секретного сотрудника «Ястреба»:
«12 мая 1941 года. Этот прием в афганском посольстве
был необычным приемом. Афганский посол, как предста-
витель нейтральной страны, пригласил как союзных дип-
ломатов, так и дипломатов держав «оси» и их партнеров.
По уже установившемуся обычаю они вошли в разные за-
лы. Американцы и другие нейтралы сновали из зала в зал,
а французы совсем растерялись — не знали, в какой зал
им войти.
Союзные дипломаты возмущались высылкой из России
их норвежских, бельгийских, югославских и греческих кол-
лег. В другом зале весьма одобрительно отзывались об
этом шаге. В подобном духе высказался и сам герман-
ский посол — граф фон дер Шуленбург... Чолертон назвал
его «светским львом с душой лисы». Когда племянник аме-
риканского посла спросил его: «Как тут в России обзаво-
дятся девочкой?» — граф с тонкой улыбкой ответил: «Мо-
лодой человек! Когда я был в вашем возрасте, я не спра-
шивал человека моего возраста, как обзавестись девочкой!»
Мне удалось услышать, как позднее фон дер Шулен-
бург сказал генералу Татекава, что на Востоке Германия
лишь производит обычную смену оккупационных частей и
солдат старших возрастов.
В разговоре со мной Джек Скотт, корреспондент лон-
донской газеты «Ньюс кроникл», намекнул прозрачно, что
фон Вальтер, второй секретарь германского посольства, яв-
ляется гестаповцем.
Беседовал с корреспондентами — Магидовым и Шапи-
ро (США), Шампенуа (Гавас), японцами Хатанака и Хуга.
Фон Б. на приеме не присутствовал...
О миссии Гесса ничего узнать не удалось...»
Из донесений секретного сотрудника «Алмаза»:
«12 мая 1941 года. ...Чолертон, возражая мне, сказал,
что он слышал, будто бы японский посол генерал Татекава
сообщил американскому послу точную цифру вагонов с со-
ветскими грузами, отправляемыми с Дальнего Востока в
Германию,— ПО вагонов в день. Но фон Вальтер уверяет,
что меньше. В апреле было отправлено в Германию 208000
429
тонн зерна, 90000 тонн нефти, 8300 тонн хлопка, 4000 тонн
каучука, 6310 тонн меди, олова, никеля и других металлов».
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Ястреба»:
«8 мая 1941 года. ...Фон Б. рассказал мне за ужином в
«Арагви», что посол Германии граф Фридрих Вернер фон
дер Шуленбург любит Россию, правда, не советскую, а быв-
шую, но и сегодня он стоит за мир с Советским Союзом и
страшно боится войны, тем более — на два фронта: против
Англии и России. Он часто вспоминает, что и глава рейхс-
?ера генерал фон Сект также стоял за сотрудничество с
Россией...
Оказывается, посол до революции имел немало родст-
венников в России: графы фон дер Шуленбурги были пе-
тербургскими и новгород-северскими дворянами, переже-
нились на русских дворянках, ходили в предводителях,
служили в кавалергардах...
Посол жалуется, что Гитлер ему не доверяет, обходит
его, скрывает свои планы. Впрочем, он надеется, что Гит-
лер на войну с русскими не пойдет...»
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Ребекки»:
«...Этот же советник посольства, хвастая своей осведом-
ленностью, сказал мне в интимной обстановке, что на днях
посол сэр Ричард Стаффорд Криппс добился приема у
И. В. Сталина и рассказал ему, что Гитлер якобы собира-
ется напасть на нашу страну. При этом он показал Стали-
ну карту, составленную Рудольфом Гессом, со стрелами,
нацеленными на Ленинград, Москву и Киев. Пунктиром
обозначена линия от Архангельска до Астрахани, где дол-
жны остановиться к зиме немецкие войска. Я, конечно, ни-
чуть в это не поверила...
Тогда же советник процитировал такие слова, принад-
лежащие якобы маршалу Ворошилову: «У нас есть еще
время, чтобы сыграть роль могильщика мирового капита-
лизма и нанести ему смертельный удар!»
Первое предупреждение Криппсом, утверждал советник,
было сделано в феврале этого года, когда он заявил нарко-
му иностранных дел, что Германия нападет сначала на
Балканы, а потом на СССР. Тогда же такие предупрежде-
ния делал Самнер Уэлльс нашему послу в США Уманско-
му, а 3 апреля сам Черчилль писал через Криппса, что
430
немцы, не успев разделаться с Югославией, три из своих
пяти танковых дивизий перебросили в Южную Польшу с
явным намерением использовать их против нашей Родины!...
Такие же представления были сделаны Молотову и Вы-
шинскому, но Сталин якобы считал, что англичане и аме-
риканцы хотят втянуть его в войну против Германии, а он
стоял за мир.
Советник добавил, что английский министр иностранных
дел Антони Иден тоже никак не может успокоиться — все
время шлет предупреждения Сталину через нашего посла
в Лондоне Майского о намерении немцев вот-вот начать
войну против нас».
Из донесений секретного сотрудника «Ястреба»:
«9 мая 1941 года. ...Далее разговор перешел на разгром
врагов народа в 1937—1938 гг. Источник .сказал, что никто
в дипломатическом корпусе, кроме дипломированных дура-
ков вроде американского посла Дэвиса, не верит, что Туха-
чевский, Егоров, Якир, Гамарник, Корк, Уборевич, Прима-
ков, Эйдеман, Путна, Фельдман и 35000 их сообщников
среди маршалов, генералов и командиров Красной Армии
были хоть в чем-то виноваты перед Советской властью. Не
было у них, мол, и вины перед товарищем Сталиным. Во
всем виновата будто бы только подозрительность товарища
Сталина.
Источник заявил, что германский посол фон дер Шулен-
бург с самого начала не верил в наличие такого громадно-
го антисоветского, антисталинского заговора, охватившего
чуть не 80 процентов командно-начальствующего состава
Красной Армии, в то, что эти заслуженные боевые генера-
лы и офицеры, герои гражданской войны в России, поддер-
живали связь с «одной иностранной державой», то есть
Германией. Посол специально запросил в 1938 году, во
время отпуска в Берлине, свое правительство по этому по-
воду и получил ответ, что никаких связей у казненных с
Германией не было.
Я напомнил ему, что сообщение «Правды» от 11 июня
1^37 года разъяснило, что упомянутые враги народа обви-
нялись в том, что все они были агентами германской раз-
ведки, вредителями, стремились подорвать изнутри Крас-
ную Армию и обеспечить ее поражение, восстановить власть
помещиков и капиталистов, что все они признались в этом,
что их судил Верховный Суд СССР во главе с председате-
лем Военной коллегии этого суда Ульрихом, в которую
431
входили такие люди, как Алкснис, Блюхер, Буденный, Ша-
пошников, Дыбенко, Каширин. Он тут же возразил, что и
большинство из судей тоже были расстреляны как враги
народа.
Источник заметил, что американский военный атташе
полковник Феймонвилль заявил в своем кругу, что у Гер-
мании не хватило бы золота, чтобы купить таких людей,
что такие люди не становятся предателями, что не они, а
Сталин опозорил Красную Армию и органы НКВД, кото-
рые якобы проглядели столь огромного «троянского коня»!
И еще источник заявил, что в ноябре 1937 года генерал
Геринг правильно объявил на весь мир, что Красная Армия
перестала быть боеспособной, а отсюда следует, что Гер-
мании надо добить ее, пока она не поднялась, пока не соз-
дала новые кадры.
Он добавил, совсем захмелев, что расстрел бывшего на-
чальника Разведывательного управления Берзина и его
лучших помощников оставил Красную Армию без глаз и
ушей, а уничтожение таких опытных профессионалов в
НКВД, как Артузов, ослепило и оглушило чекистскую
разведку...
Потребовалось все мое самообладание, вся сила воли,
чтобы сдержать себя, не выдать своего возмущения его на-
глыми антисоветскими выпадами и клеветой...»
Из донесений резидента «Рамзая»:
15 мая. «Война начнется 20—22 июня... Рамзай».
19 мая. «Против Советского Союза будет сосредоточено
9 армий, 150 дивизий... Рамзай».
Из справки заместителя наркома иностранных дел
А. Я. Вышинского:
«19 мая. Советский военно-морской атташе в Берлине
адмирал М. А. Воронцов получил от «Вальтера», офицера
ставки Гитлера, сообщение, что Германия готовится на-
пасть на СССР через Финляндию и Балтийские республи-
ки. На Москву и Ленинград будут совершены воздушные
налеты...
20 мая. Посол СССР в Стокгольме Коллонтай передает,
что концентрация германских войск на советских границах
является самой мощной в истории.
22 мая. Заместитель военного атташе в Берлине Хлопов
передает, что нападение немцев на СССР назначено на
•15 июня, но может состояться и в начале июня.
432
23 мая. Наш военный атташе в Берлине генерал Тупи-
ков начал присылать ежедневные сводки о военных приго-
товлениях Германии. Однако Деканозов предупредил, что
военные сильно преувеличивают угрозу».
Из справки РУ ГШКА:
«22 мая. «Рамзай» прислал карту с дислокацией совет-
ских войск, принадлежавшую военному атташе Германии
в Токио Кретчмеру. Стрелы на карте указывают направле-
ние ударов вермахта. Согласно «Рамзаю», Гитлер намерен
захватить Украину и использовать один-два миллиона рус-
ских пленных на тяжелых работах. В нападении на СССР
примут участие от 170 до 190 дивизий. Война начнется без
объявления войны или ультиматума. Немцы ожидают, что
Красная Армия и советский режим рухнут в течение двух
месяцев...»
Из донесений секретного сотрудника «Ястреба»:
«22 мая 1941 года. Только сегодня удалось мне продол-
жить подробный разговор с фон Б. о советско-германских
отношениях с 22 августа 1939 года.
Фон Б., с которым я вновь провел вечер в «Арагви», на-
чал с того, что выразил удивление по поводу существующе-
го до сих пор недоверия’ в «русском народе» к третьему
рейху. «Казалось бы, — заявил он, — что последние события
вполне доказали лояльность Берлина. Да, красные флаги
в Риге, Каунасе и Таллине пришлись, что греха таить, не
по нраву многим немцам, но они утешились флагом со сва-
стикой над Эйфелевой башней».
Фон Б. сказал, что Берлин был просто растроган благо-
родной лояльностью Сталина, проявленной им в инциденте
с письмом Черчилля. В конце июня прошлого года Чер-
чилль прислал Сталину письмо, предупреждая его против
германской экспансии. Сталин не только не ответил на это
письмо, но передал его содержание через Молотова Гит-
леру. Британскому послу Ричарду Стаффорду Криппсу
Сталин вскоре заявил, что он отнюдь не считает, что «гер-
манские военные успехи угрожают Советскому Союзу и
его дружественным отношениям с Германией...»
«Только на основе такого полного доверия, — сказал
фон Б., — и можно строить наши отношения...»
Я спросил его о дальнейших военных планах Гитлера,
поинтересовался, почему немцы медлят с вторжением на
Британские острова. Фон Б. ответил, что «фюрер ждал, что
15 Запретная глава 433
Черчилль запросит мира после разгрома под Дюнкерком,
а теперь Германии необходимо гораздо больше самолетов
и кораблей для вторжения». Он не отрицал переброску де-
сятков германских дивизий на восток. «Мне говорил сам
генерал Эрнст Кестринг, наш военный атташе в Москве,
что переброска наших войск на Восток — это крупнейшая
операция для маскировки высадки в Англию!»
Фон Б. подробно говорил об участии Сталина в прово-
дах японского министра иностранных дел Мацуоки после
подписания пакта о ненападении между СССР и Японией
13 апреля 1941 года. Впервые Сталин приехал на вокзал,
чтобы проводить министра иностранной державы. Сталин
обнял Мацуоку и воскликнул: «Ведь мы тоже азиаты, а
азиаты привыкли держаться вместе!» Сталин был весел и
доволен и расхаживал под руку с японцем по перрону. По-
том он на глазах у потрясенного фон Б. подошел к герман-
скому военному атташе полковнику Гансу фон Кребсу, то-
же обнял его за шею и сказал: «Мы с вами тоже останем-
ся друзьями, не правда ли?..» Сталин обнял и германского
посла графа фон дер Шуленбурга со словами: «Мы дол-
жны остаться друзьями, и вы теперь должны все сделать
ради этого!»
«Не могу не сказать, что наш посланник Вернер фон
Типпельскирх и все мы высоко ценим уступчивость вашего
правительства в деле окончательного урегулирования по-
граничных вопросов. Да и поставки сырья, после времен-
ных задержек в начале этого года, вы производите с образ-
цовой пунктуальностью!»
«Однако вы, — заметил я,—задерживаете поставки ма-
шинного оборудования!»
Фон Б. ответил, что знает, что Германия уже задолжа-
ла нам почти 400 миллионов рублей. Он выразил уверен-
ность, что Германия сможет покрыть этот пассив до конца
нынешнего 1941 года.
«Просто наши фирмы, — объяснил фон Б.,—дезориен-
тированы вражеской пропагандой и безответственными
сплетнями об агрессии Германии против Советской России.
Все уладится, к концу июня все уладится!»
«А вы, разумеется, не верите, — спросил я, — вражеским
выдумкам, будто Красная Армия сосредоточивается вдоль
западной границы!»
«Разумеется, нет!—сказал, смеясь, фон Б. — Если бы
Сталин хотел напасть на нас, он сделал бы это год назад,
когда наши руки были связаны французами. Тогда вы бы
434
за пару недель смяли наши пять дивизий в Польше и во-
шли в Берлин. Зачем же вам теперь нападать на нас, когда
мы поставили мат Франции и объявили шах английскому
королю?! Когда у нас вся армия ждет новых приказов фю-
рера! Нет, Сталин правильно сделал, лично сменив Моло-
това на посту главы правительства — тоном Молотова нель-
зя разговаривать с фюрером!.. Гитлер же хочет мира и
дружбы с Россией — скажу вам по секрету, что наш посол,
горячий сторонник бисмарковской политики союза с Рос-
сией, еще в начале мая просил Берлин принять самые серь-
езные меры против слухов о готовящемся нападении Гер-
мании на СССР!»
«И что же Берлин?» — спросил я.
«Берлин, — он нагнулся ко мне. — Опровергая эти слу-
хи, Берлин официально ответил нам, что он перевел восемь
дивизий с востока на запад!»
Около полуночи я повез фон Б. к женщинам...»
Из донесений секретного сотрудника «Эрнста»:
«19 мая. Источнику стало известно, что на днях, во вре-
мя приезда посла СССР в Берлине Деканозова, посол вме-
сте с переводчиком В. Н. Павловым посетил посла Герма-
нии в СССР графа фон дер Шуленбурга и его ближайшего
друга Густава Хильгера, сына обрусевшего немца-коммер-
санта, а также секретаря посольства Гебхардта фон Валь-
тера. Состоялась совершенно секретная беседа, во время
которой фон дер Шуленбург попытался предупредить (!)
Деканозова о намерении его фюрера развязать войну про-
тив СССР! Деканозов доложил об этом разговоре тов.
Л. П. Берии. Тов. Берия разъяснил, что немцы пытаются
прибегнуть к шантажу против СССР. Фон дер Шуленбур-
гу Деканозов заявил, что он не уполномочен выслушивать
подобные заявления от германского посла и что только
Молотов может выслушать его».
Из справки НКИД СССР:
«28 мая. На днях на Унтер-ден-Линден в витрине фо-
тостудии личного фотографа Гитлера Гофмана, который
всегда выставляет карты военных действий с победами
вермахта, выставили карту Восточной Европы».
Из донесений секретного сотрудника «Джека»:
«1 июня 1941 года. Сегодня помогал американскому пос-
лу Штейнгардту паковать его чемоданы. Вещи первой не-
435
обходимости посол уложил в первый, ближайший к двери
чемодан, вещи второй необходимости — во второй чемодан
и так далее. Первый чемодан он подхватит, если на эва-
куацию будет дано пятнадцать минут, первый и второй —
если на эвакуацию дадут полчаса, и так далее...»
Из сообщения военно-морского атташе в Берлине:
«1 июня. Германия нападет на Советский Союз 20—22
июня».
Из справки РУ ГШКА:
«1 июня. Получена радиограмма «Рамзая» о стратеги-
ческих, оперативных и тактических планах германского ко-
мандования. Особо подчеркивается роль окружения частей
и соединений и уничтожение окруженных войск...»
Из донесений секретного сотрудника «Эрнста»:
«2 июня 1941 года. В личной беседе военный атташе
Германии полковник Ганс фон Кребс заявил, что Сталин,
судя по совещанию его и членов Политбюро с советскими
генералами 13 января сего года, не считает возможным, что
Германия и СССР могут в скором времени начать войну
друг против друга, несмотря на то, что НКГБ еще в июле
прошлого года стало известно, что главное командование
вермахта попросило министерство транспорта рейха пред-
ставить подробную справку о пропускной способности иду-
щих на восток линий рейхсбанна. Сталин не согласен с
маршалом Василевским, который убежден после встречи
Молотова и Гитлера в ноябре 1940 года в Берлине, что Гит-
лер нападет на СССР. Сталин поистине мудрый вождь. Он
понимает весь вред немцеедства среди своих генералов.
Он справедливо карает всех, кто посмеет сказать слово
против советско-германского пакта. Кребсу известно, что
советский военный атташе в Берлине получил на рождест-
во анонимку, уверявшую, что Германия готовится весной
напасть на Россию. Известно также, что 30 января Воро-
шилов получил сообщение о прозрачных намеках военного
атташе Японии Ямагучи, вернувшегося из поездки в Бер-
лин, о возможном военном конфликте между Берлином и
Москвой. Но Ворошилов также не поверил этому и не при-
дал значения сведениям о появлении сильных континген-
тов германских войск в Болгарии и Финляндии. Враги ми-
ра между СССР и Германией сильны и коварны. Так, 15
февраля они подослали рабочего одной берлинской типо-
456
графин в советское консульство в Берлине с якобы отпеча-
танным по заказу вермахта немецко-русским разговорни-
ком с такими словами и фразами, как «руки вверх» и
«сдавайся».
Полковник фон Кребс знает и о выговоре, данном ад-
миралу Кузнецову Сталиным в присутствии тов. Л. П. Бе-
рни в Кремле, за самовольный приказ по Балтийскому фло-
ту обстреливать немецкие самолеты, нарушающие воздуш-
ное пространство СССР. После этого, когда немецкий са-
молет-разведчик совершил вынужденную посадку у воен-
но-морской базы в Либаве, его накормили отменным обе-
дом, снабдили горючим и сердечно проводили обратно в
Германию.
3 июня. Военный атташе Германии в Москве генерал
фон Кребс заявил послу графу фон дер Шуленбургу, что
весьма доволен полученным им сообщением о том, что Ма-
ленков, поддержанный Сталиным, сегодня на Военном со-
вете выступил против предложенного на совете призыва к
бдительности, заявив, что благодаря гениальному руковод-
ству Сталина война ни сегодня, ни завтра Советскому Сою-
зу не угрожает. «Той же точки зрения, — заявил Кребс, —
придерживаются и самые влиятельные помощники Стали-
на — Берия, Жданов, Ворошилов, Молотов. Жданов мудро
подчеркивал не раз, что Германия не может и не станет
воевать на двух фронтах».
Из донесений секретного сотрудника «Вальтера»:
«6 июня. Германские войска, сконцентрированные про-
тив СССР, насчитывают 4 миллиона солдат и офицеров».
Из донесений секретного сотрудника «Кармен»:
«6 июня 1941 года. В посольстве США открыто говорят
о том, что Корделл Хэлл, государственный секретарь США,
прислал послу для передачи Молотову донесения амери-
канских посланников в Бухаресте и Стокгольме, в которых
утверждается, что Германия нападет на СССР через две
недели...»
«8 июня 1941 года. Американская журналистка, коррес-
пондентка журнала «Кольере» Алиса Леон-Моутс сегодня
рассказывала в моем присутствии о своем посещении пос-
ла Германии графа фон дер Шуленбурга на его подмосков-
ной даче, куда ее отвезли утром Вальтер и некий Браун,
который, по словам А. Л.-М., на несколько дней приехал
из Берлина.
437
А. Л.-М. уверяет, что фон Вальтер сказал ей, что Гер-
мания начнет войну против СССР 17 июня. Она сама спра-
шивает: «Не старый ли это немецкий фокус — чтобы запу-
гать врага, говори ему правду».
Из донесений секретного сотрудника «Эрнста»:
«И июня. Позавчера германское посольство получило
указание из Берлина: быть готовым к эвакуации через семь
дней. В подвале начали жечь документы».
Из донесений секретного сотрудника «Вертера»:
«16 июня. Войскам группы армий «Норд» в Восточной
Пруссии приказано Оберкомандо дер Вермахт занять ис-
ходные позиции для наступления на Советский Союз к
13 июня, но затем срок был перенесен на пять дней».
Из справки НКИД СССР:
$10 июня. Майский прислал срочную шифрограмму из
Лондона. Лорд Кадоган из министерства иностранных дел
продиктовал ему список германских войск у советской гра-
ницы с обозначением частей».
Телефонограмма А. Поскребышева:
«13 июня. Сегодня И. В. Сталина в Кремле посетил ад-
мирал Кузнецов. В докладе он упомянул, представив даже
статистические данные, о выводе всех немецких кораблей
из советских портов и просил разрешения вывести все со-
ветские корабли из немецких. «Хозяин» выпроводил его
вон. Неужели адмирал не читал сегодняшнее сообщение
ТАСС, опровергающее провокационные слухи о нападении
Германии на Советский Союз? Всюду — провокации. Все
наши враги и ложные друзья пытаются стравить нас с Гит-
лером в своих интересах...»
Из донесений резидента «Рамзая»:
«13 июня. Повторяю: девять армий в составе 150 диви-
зий начнут наступление на широком фронте на рассвете
22 июня 1941 года».
Из донесений секретного сотрудника «Гладиатора»:
«12 июня. Посол Россо и другие работники итальянско-
го посольства открыто говорят о скором нападении Герма-
нии на СССР, но, судя по всему, сами они толком ничего
не знают и очень обижаются на скрытных немцев. Россо
438
сильно беспокоится из-за своей жены, которая, посетив
США, а затем Японию, собирается вернуться в Москву по
железной дороге Владивосток — Москва. Он хочет, чтобы
она переждала, пока выяснится обстановка, в Харбине или
осталась в Токио...»
Из донесений секретного сотрудника «Эрнста»:
«14 июня 1941 года. Сегодня все в германском посоль-
стве комментируют сообщение ТАСС. Особенное внимание
уделяется строкам: «По данным СССР, Германия так же
неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта
о ненападении, слухи о намерении Германии порвать пакт
и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...»
Вчера вечером Молотов вызвал фон дер Шуленбурга и
вручил ему текст этого сообщения. Граф фон дер Шулен-
бург многим говорил о мудрости и своевременности этого
сообщения».
Из донесений секретного сотрудника «Алмаза»:
«17 июня 1941 года. Чолертон в большом волнении. От
прежнего его скептического отношения к перспективе ско-
рой войны между Германией и СССР не осталось и следа.
Он не понимает, как Кэссиди, начальник бюро Ассошиэй-
тед Пресс, мог 14 июня уехать в Сочи. Но утром он узнал,
что дочь сэра Ричарда Стаффорда Криппса, который уехал
в Лондон в конце мая, потому что Молотов перестал при-
нимать его, срочно пакует чемоданы. В английском посоль-
стве объявлено, что все женщины посольства должны быть
готовы выехать в Персию 22 июня...
Сообщение ТАСС от 14 июня он называет опроверже-
нием осужденного с петлей на шее, доказывающего, что
палач — его друг и благодетель. Возмущается отказом
Майского выслушать предложения Антони Идена об англий-
ской помощи России...»
Из радиограммы посольства СССР
в Великобритании:
«18 июня 1941 года. Криппс глубоко убежден в настоя-
щий момент в неизбежности вооруженного конфликта меж-
ду Германией и СССР, который начнется не позднее сере-
дины июня. Согласно Криппсу, немцы сосредоточили сей-
час 147 дивизий (включая военно-воздушные и подсобные
части) вдоль границы СССР...»
439
Из донесений секретного сотрудника «Кармен»:
«19 июня 1941 года. Алиса Леон-Моутс рассказывает
всем в американском посольстве, будто фон Вальтер, вто-
рой секретарь германского посольства, встретив ее во вре-
мя визита в американское посольство, сказал ей букваль-
но следующее: «Я сожалею, что дезинформировал вас, ука-
зав 17 июня в качестве даты вторжения. Нападение сос-
тоится 21 июня».
Вечером, час назад, посол Штейнгардт объявил о том,
что все женщины американской колонии в Москве должны
быть готовы к эвакуации в ближайшие дни... А. Л.-М. убеж-
дена, что фон Вальтер предупредил американцев о напа-
дении Германии на СССР. Она сказала, многозначительно
глядя на меня: «Все уже устали предупреждать русских!..»
Из донесений секретного сотрудника «Гладиатора»:
«20 июня 1941 года. Посол Италии Россо утром про-
стился со всем обслуживающим персоналом и, страшно
волнуясь, сказал, что сегодня же возвращается на родину..»
Из донесений секретного сотрудника «Верного»:
«20 июня 1941 года. После обеда посол Штейнгардт
ездил по всем дорогам, ведущим из Тарасовки на восток,
чтобы определить, по какой из них ехать в случае эвакуа-
ции. Он так долго носился взад-вперед, что в конце концов
машина была остановлена местными жителями-колхозни-
ками, заподозрившими в после шпиона. Выручили посла
ездившие за ним работники наружного наблюдения, кото-
рые, предъявив свои документы, приказали колхозникам
разойтись...
В случае, если все дороги будут забиты бегущими из
Москвы жителями, посол намерен эвакуироваться по воде.
Для этого он приказал срочно отремонтировать снятую им
на Клязьме весельную лодку...»
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Ястреба»:
«20 июня. Все в посольстве крайне удивлены сообще-
нием ТАСС от 13 июня, в котором резко опровергаются
«абсурдные слухи» о надвигающейся войне между Герма-
нией и СССР, распространяемые сэром Ричардом Стаф-
фордом Криппсом и другими поджигателями войны. Еще
больше удивляются отъезду 19 июня в отпуск в Сочи
А. А. Жданова, секретаря ЦК ВКП (б), которого дипкор-
440
пус считает «правой рукой» Сталина и его вероятным пре-
емником. В последние дни дипкорпусу стало известно —
по-видимому из немецких источников, — что по указанию
Л. П. Берии генерал Л. 3. Мехлис, начальник Главного по-
литуправления РККА, разослал в войска своих представи-
телей, официально заявляющих, что никакой войны с Гер-
манией не будет, что надо бороться с провокационными
слухами жесткими методами вплоть до самых суровых
репрессий».
Из агентурных донесений
секретного сотрудника «Нана»:
«Отвечаю на вопрос, какие ходят в дипкорпусе анек-
доты.
Как могут русские выиграть войну, спрашивается, если
Гитлер и Муссолини сумели обеспечить движение поездов
строго по расписанию, а Сталину и Кагановичу это никак
не удается!
Почему русские мужики и бабы ходят с голыми зада-
ми? Потому, что весь холст уходит на портреты Сталина и
его лозунги!
Русским всюду мерещатся враги народа. Читали ли вы
Павлова? Русские разбираются в собаках гораздо лучше,
чем в людях.
Что такое загадочная русская душа? Посмотрите на
девятиголовую гидру собора Василия Блаженного.
О себе дипломаты в Москве говорят: мы отличаемся
друг от друга не по степени своего знания России, а по
степени нашего невежества...
Советник британского посольства сказал мне, что не-
давно его попросил из Парижа белоэмигрант князь Горча-
ков присмотреть за его бывшим особняком на Софийской
набережной, где сейчас находится британское посольство.
Горчаков женился на дочери миллионера-сахарозаводчика
Харитонова, который построил этот особняк. Не анекдот
ли, что князь Горчаков надеется вновь занять этот особняк
напротив Кремля и вести сладкую жизнь в Москве!..»
Из донесений
секретного сотрудника «Эрнста»:
«20 июня 1941 года. Сегодня удалось установить, что
уже несколько суток под руководством фон Вальтера днем
и ночью сжигаются кипы документов...»
441
Из донесений
секретного сотрудника «Кармен»:
«20 июня 1941 года. Поскольку все американки были
заняты упаковкой вещей, госпожа Штейнгардт взяла меня
с собой.
Она сдала в комиссионный несколько поношенных кос-
тюмов своего мужа-посла... Она сказала, что завтра все
американки вылетят из СССР...
Жена посла полетит в Стокгольм, остальные в Тегеран...
Я не понимаю, что происходит. Судя по всему, Герма-
ния в самом деле вот-вот нападет на нас! Но почему-то ни-
кто никак не реагирует на все мои сигналы. Что происхо-
дит?! Прошу довести мои сообщения до высшей власти!..
Прошу и требую этого как чекист, как советский человек,
которому дорога судьба его Родины!..
В посольстве все говорят о войне. Все убеждены, что
Германия очень скоро разгромит Россию. Называют раз-
ные сроки — от шести недель до трех месяцев...
Посол Штейнгардт утром сообщил своим ближайшим по-
мощникам — в том числе и Т. — о важном обмене радио-
граммами между Черчиллем и Рузвельтом. По словам Т.,
15 июня Черчилль обратился к Рузвельту с посланием, в
котором сообщал, что, судя по всем источникам информа-
ции, Германия готовит «великое наступление» на Россию.
Черчилль заявил, что он окажет России всевозможную под-
держку и посильную помощь для полной победы над Гит-
лером. Призывая к тому же Рузвельта, Черчилль подчерк-
нул, что не ожидает в связи с этим никаких «классово-по-
литических осложнений» ни в Англии, ни в США.
Штейнгардт уведомил своих помощников, что государ-
ственный департамент США настроен против активной по-
мощи России, но Рузвельт и Корделл Хэлл всецело соглас-
ны с позицией Черчилля. Штейнгардт добавил, что Чер-
чилль уже с 20 июня пишет свою речь, в которой, выступая
по радио, он объявит миру, что Англия готова приветство-
вать Россию в качестве союзника.
Отвечая на вопросы, посол заметил, что если бы Гит-
лер вторгся в ад, то Черчилль заключил бы союз против
него с самим дьяволом...
Все посольство, составив группу из 19 человек, выез-
жает за город, в Тарасовку. Иностранные корреспонденты
выписываются из гостиниц «Метрополь» и «Националь» и
подыскивают себе жилье на окраине Москвы. Причина
442
одыа— все считают, что Гитлер разрушит с воздуха
Кремль, а эти гостиницы и посольство на Моховой рядом
с Кремлем... Иностранные корреспонденты считают, что
всего безопаснее поселиться в хороших гостиницах подаль-
ше от центра города, так как такие гостиницы немцы по-
стараются сберечь для себя. Однако таких гостиниц в Мос-
кве они не находят...»
Из донесений
секретного сотрудника «Короткого»:
«20 июня. Н. сказал, что война, которая разразится че-
рез день-два, не будет внезапной. «Никогда ни одно госу-
дарство в истории войн не знало, благодаря своей развед-
ке, столько о планах врага и о его силах, сколько Россия.
Почему же Сталин так мало делает, видя, как перетира-
ется нить, на которой висит дамоклов меч?»
Из телефонограмм Ленинградского управления
Балтийского торгового флота:
«20 июня. В ночь на 20 июня нами принята радиограм-
ма, по-видимому, с советского грузового судна «Магнито-
горск», задержанного по неизвестной причине германски-
ми властями в порту Данциг. Радист Юрий Стасов сооб-
щил открытым текстом, что корабль задержан, не может
выйти в море. Далее следовало: «Не посылайте другие ко-
рабли... Юрий... Юрий... Немецкие порты задерживают со-
ветские корабли... Протестуйте... Юрий... Юрий...» На на-
ши вопросы «Магнитогорск» не отвечает. Молчат и осталь-
ные пять судов, находящихся в немецких портах. Замести-
тель начальника политотдела управления Н. Павленко».
«21 июня. Беспокоит отсутствие инструкций из Москвы.
Вынуждены были по согласованию с секретарем Ленин-
градского обкома ВКП (б) А. А. Кузнецовым приказать
судну «Луначарскому» вернуться в порт Ленинград, а «Вто-
рой пятилетке» зайти в Рижский порт до получения Ва-
ших инструкций. Последний немецкий корабль покинул
наши порты 15 июня. На нем уплыл последний из немцев-
специалистов, принимавших участие в работе над незакон-
ченным германским крейсером, купленным Советским Сою-
зом. Н. Павленко».
Из радиограммы посла СССР в Германии
В. Г. Деканозова:
«21 июня. ...Перед обедом я заявил тов. И. Ф. Филиппо-
443
ву, корреспонденту ТАСС, и работникам посольства, что нет
никаких причин для тревоги и паники, что мы не можем
идти на поводу у наших врагов и должны уметь различать
между правдой и пропагандой. Ни Риббентропа, ни его
ближайших помощников нет в Берлине, где стоит велико-
лепная летняя погода. Представитель НКВД И. Ахмедов
получил донесение нашего агента о том, что якобы завтра,
в воскресенье 22 июня, Германия нападет на СССР. Я ска-
зал ему и его начальнику Б. Кобулову, чтобы они не обра-
щали внимания на подобные «утки», и посоветовал нашим
работникам выехать завтра на пикник».
Из радиограммы генерала Суслопарова,
советского военного атташе в Виши (Франция):
«21 июня 1941 года. Как утверждает наш резидент
Жильбер (Леопольд Треппер. — О. Г.), которому я, разу-
меется, нисколько не поверил, командование вермахта за-
кончило переброску своих войск на советскую границу и
завтра, 22 июня 1941 года, внезапно нападут на Советский
Союз...»
Резолюция И. В. Сталина красными чернилами: «Эта
информация является английской провокацией. Разузнай-
те, кто автор этой провокации, и накажите его».
Из докладной записки Л. П. Берии И. В. Сталину:
«21 июня 1941 года. ...Я вновь настаиваю на отзыве и
наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который
по-прежнему бомбардирует меня «дезой» о якобы готовя-
щемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это
«нападение» начнется завтра...
То же радировал и генерал-майор В. И. Тупиков, воен-
ный атташе в Берлине. Этот тупой генерал утверждает,
что три группы армий вермахта будут наступать на Мос-
кву, Ленинград и Киев, ссылаясь на свою берлинскую аген-
туру. Он нагло требует, чтобы мы снабдили этих врунов
рацией... (подпольную организацию Шульце-Бойзена и
Харнака. — О. Г.).
Начальник разведупра, где еще недавно действовала
банда Берзина, генерал-лейтенант Ф. И. Голиков жалуется
па Деканозова и на своего подполковника Новобранца, ко-
торый тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий
против нас на нашей западной границе...
Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним
444
Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас
не нападет!..»
Из телефонограмм НКИД СССР:
«21 июня. В 21.00 была принята и расшифрована теле-
грамма от посла СССР в Лондоне тов. И. М. Майского,
который получил от посла Великобритании в Москве сэра
Ричарда Стаффорда Криппса, находящегося сейчас в Лон-
доне, предупреждение, что Германия якобы завтра, 22 ию-
ня, нападет на Советский Союз».
«21 июня. Сегодня утром одним из последних покинул
германское посольство военно-морской атташе капитан
фон Баумбах, недавно приехавший из Ленинграда, где он
руководил работами на крейсере «Лютцов». Посол готов
к отъезду...»
Из донесений секретного сотрудника «Консула»:
«21 июня 1941 года. Супруга посла Румынии г-жа По-
песко вылетает завтра в Берн через Берлин...»
Из донесений секретного сотрудника «Эрнста»:
«21 июня 1941 года. Сегодня в 9.30 посол фон дер Шу-
ленбург был вызван к Молотову. Фон дер Шуленбург вер-
нулся весьма довольный. Он сказал военному атташе Креб-
су, что Молотов, указав на повторные нарушения герман-
скими самолетами советского воздушного пространства,
просил посла довести это до сведения Риббентропа, а за-
тем сказал: «Целый ряд признаков указывает на то, что
германское правительство недовольно Советским прави-
тельством. Ходят даже слухи о войне между Германией и
Советским Союзом. Советское правительство не понимает
причин недовольства Германии». Он просил разъяснить, что
можно сделать для улучшения отношений с Германией.
Фон дер Шуленбург обещал запросить Берлин.
Выслушав посла, полковник Кребс сказал задумчиво:
«Завтра—воскресенье, и Берлин будет пуст. Завтра —
22 июня, день, когда Наполеон начал вторжение в Россию...»
Сегодня же утром фон Вальтер отправил самолетом
в Берлин свою собаку-боксера...
. Вечером он подготовил всю радиоаппаратуру к выво-
ду из строя. Шифровальный материал подготовлен к сож-
жению после получения последней радиограммы из Бер-
лина завтра рано утром...»
На старой папке, где хранятся эти донесения, выцвет-
445
шими фиолетовыми чернилами чьей-то рукой пронумерова-
ны фонд, опись, дело. Когда открываешь папку, в глаза
бросается резолюция, написанная с нажимом вечным пе*
ром: «В последнее время многие работники поддаются на
наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников
«Ястреба», «Кармен», «Алмаза», «Верного» за систематиче-
скую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособ-
ников международных провокаторов, желающих поссорить
нас с Германией. Остальных строго предупредить». Под-
пись: «Л. Берия. 21 июня 1941 года».
Закроем эту старую папку с пожелтевшими за много
лет машинописными страницами. Полустертые грифы «Со-
вершенно секретно» и «Хранить вечно». «Дело начато...»
«Дело окончено...»
Окончено ли?
Троя пала. Но Родина наша победила. Победила вопре-
ки Берии и Сталину. Ценой более 20 миллионов жизней.
И не воспеты еще сотни и тысячи героев и мучеников
нашей разведки.
Москва, 31 декабря 1956 г.
ДАНИИЛ ГРАНИН
Ей
ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА
Рассказ
лучилось это в 1978 году. Мы с Алесем Ада-
мовичем работали над второй частью «Бло-
кадной книги». Не помню уж, через кого вы-
шли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы за-
писывали, передавали нас друг другу. О Б-ве
мы были наслышаны от многих и давно доби-
рались до него, однако получилось это не сразу, он жил в
Москве, был человек занятой: первый зам союзного мини-
стра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алек-
сея Николаевича Косыгина, направленного представителем
Государственного Комитета Обороны в Ленинград. Услы-
шать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное вре-
мя как бы с иной стороны — государственных усилий по
снабжению осажденного города, по эвакуации населения и
ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, быто-
вые истории, но мы чувствовали, что читателю надо при-
подняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем
не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледя-
ных норах.
Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро по-
тратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросо-
вестностью уточняя каждую цифру, факт, а когда речь за-
ходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-
то источникам даты, маршруты поездок, названия пред-
приятий. Чувствовалось глубочайшее почтение к Косыги-
ну и школа. Но эта же школа исключала проявление вся-
кого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, по-
яснительная записка. При чем тут личные переживания?
Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассужде-
ний, впечатлений, догадок.
Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в бло-
кадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов,
пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как
функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал
возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он по-
мощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина.
Ну, а сам Косыгин? Сам-то как. — волновался, боялся,
447
страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его
ленинградская, казарменная проходила на ваших глазах.
Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в го-
лову не приходили, да и вообще... Он был несколько сму-
щен, не представлял себе, как такие переживания отзовут-
ся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председате-
ле Совета Министров страны. Да и в ту блокадную пору
Косыгин был тоже заместителем Председателя Совнарко-
ма. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за дру-
гого. И вот тогда нас осенило, — а если спросить у самого
Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же,
как мы записывали рассказы других блокадников. Он для
нас в данном случае такой же блокадник, как и все дру-
гие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и за-
писывать, как обыкновенного блокадника, явно ошараши-
ла Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем воз-
разить. Мы настаивали, и воистину — «толцыте и отверзит-
ся», — вскоре он призадумался, закряхтел, и разродился
туманно-осторожным: «Попробуем узнать».
По своей провинциальной простоте мы полагали, что
Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской
вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так.
Все же почти фронтовые кореши, да и по должности своей
Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от
невозможности слушать такую дичь.
Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах вла-
сти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «вы-
ясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «де-
ло движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом
двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось,
фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упомина-
лось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что
вступаем в особую зону правительственных контактов, шут
его знает, может, у них положена такая таинственность и
постоянная опаска — «это не телефонный разговор».
Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Ска-
зал бы: да—да, нет—нет, что там мудрить. Но, оказывается,
чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.
Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил
назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день бы-
ло непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов
считаться не может, тем более лицо, которое он
представлял.
В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и
448
мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что со-
гласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.
Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все
блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже
ждали, сразу провели в кабинет.
Косыгин существовал для меня издавна. На портретах,
которые мы носили во время демонстрации, на портретах,
которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одина-
ково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница бы-
ла в золотых звездочках Героев — были с одной, были с
двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея.
На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и
строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вме-
сте начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы зна-
ли о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ни-
чего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не бы-
ло слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-
то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожи-
ми, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так.
Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косы-
гин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость.
Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как
бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям
скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощуще-
ний мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали сим-
патию к этому озабоченному работяге, который силится и
так и этак вытащить воз на дорогу.
...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно
усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость
человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседо-
вать. Но мне надо было именно беседовать, заняться вос-
поминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэто-
му вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. На-
рочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопыт-
ства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный
письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые
кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна,
и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все
это, но когда?... Он уловил мое замешательство. «Да это
же кабинет Сталина», — подсказал мне Косыгин.
Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фото-
графий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой,
прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами
он работал здесь.
449
Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы
шерсть вздыбилась.
— М-м-да-а, — протянул я с чувством, где вместо вос-
торга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин
бросил на меня взгляд, линялые его глазки похолодели.
Мы сели за маленький столик поблизости от входа, по-
дальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косы-
гин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за
весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.
Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнито-
фон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч.
Но Косыгин отвергающе помотал головой. «Нельзя!..» —
«Почему?» — я недоуменно уставился на него. «Нельзя»,—
повторил он именно это слово. А от руки записывать каран-
дашом?— Это можно. И предупредил, что, когда запись
будет обработана, прежде чем включать в книгу, он про-
сит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше
упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все
мероприятия проводились совместно с Военным советом и
городскими организациями.
Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких
бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали по-
нять: все это не так просто, извольте соблюдать.
Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..
Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Изве-
стно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сор-
тировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудо-
ванием, цветными металлами для военных заводов. Поче-
му это произошло? Можно ли было отправить их до того,
как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать
в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как
было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода
приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одно-
временно срочно вывозить голодающих детей, женщин,
мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..
Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель,
что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как
бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.
Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял,
что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался
рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники то-
же рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им
интересно.
450
Это меня устраивало. Тем более, что это действительно
было интересно. И рассказывал он хорошо, — предметно,
лаконично.
В конце августа в Ленинград из Москвы была направ-
лена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Мален-
ков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г.
(нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командую-
щий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (началь-
ник артиллерии).
— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя —
шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном.
Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона,
укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады,
поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову — пой-
дем посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ре-
монтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав.
Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом
нас шуганул. Представляете — наркома и меня, замести-
теля Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивил-
ся. — Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он
явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская диви-
зия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ле-
нинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами броне-
поезд — два вагона плюс зенитки.
Этот рассказ я записал буквально. Картина была впе-
чатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущ-
ности, все высшие чины правительства и армии. Воют бом-
бардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары.
Впервые в жизни попали они в такую передрягу. Вжались
в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх —
первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там
как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Моло-
тов, — как они держались, хлебнув на несколько минут
хотя бы такой войны.
Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смоль-
ный, собрали командование. О положении на фронте док-
ладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направ-
ления. Наступление немецких войск удержать не удалось.
Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон.
Обстановка была запутанной, нарушалось управление
фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько
Военных советов — Северо-Западного направления, города,
Красногвардейского укрепрайона и других — создавали не-
разбериху. Решено было создать единый Военный совет,
451
выделить самостоятельный Карельский фронт, передать
ему такие-то части.
Уже тогда стало ясно, что руководство города, не пони-
мая опасности, угрожающей «Ленинграду, не заботилось
обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.
Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было
бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, напри-
мер, с фактами агитации и настроений тех дней, когда
отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощря-
лась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего
города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.
Комиссия должна была определить, можно ли остав-
лять Ворошилова командующим, как наладить взаимодей-
ствие армии и Балтийского флота. А за всем этим подни-
мался грозный вопрос — удастся ли удержать город? Сле-
довало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не
удастся, — что делать тогда с флотом, с населением, с го-
родом?.. Назавтра разбились на группы. Молотов занимал-
ся Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышлен-
ностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал
Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. По-
том созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуа-
цию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было
отправлять специалистов.
Вскоре ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград
прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили
ему товарищеский обед, так что все было по-человече-
ски, — подчеркнул Косыгин, — а не так, как изображено в
некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и
уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а
появление его на передовой поднимало войска».
Мне вспомнилось августовское наше отступление и сен-
тябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи
со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки
никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Ле-
генды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-
то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам
эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому на-
учили, мы понимали, что если командующий фронтом ве-
дет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К се-
редине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили
Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник
мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда.
Таково было наше солдатское разумение, вытекающее из
452
того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до
Пулкова.
Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командо-
вание Ворошилова, до чего оно довело, и как переменилось
на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов
дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не
знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт.
Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.
...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно
было показать, какие масштабы приняла помощь окружен-
ному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему
удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на
сбор продовольствия, как наладили в областях прием эва-
куированных. Память у него сохраняла фамилии, количест-
во продуктов, машин, названия предприятий. Поразитель-
ная была память. Думаю, что рассказывал он про это впер-
вые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал,
вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило
в какие-то отступления, которые вроде и не относились на-
прямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому.
Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Мос-
кве, самых критических дней войны. Москва поспешно эва-
куировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус,
отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руко-
водителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косы-
гин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назна-
чил Николая Алексеевича Вознесенского главным в прави-
тельственном поезде. Вознесенского такое поручение рас-
сердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем
более, что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его
каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыги-
ну, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует
заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в По-
литбюро, а это много значило.
— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт
с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с
ленинградских времен...
Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая
себя.
Мало уже кто слыхал про Вознесенского. Сделали все,
чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское де-
ло». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу это-
му не предшествовала борьба мнений, оппозиций, никого
не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не бы-
453
ло публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех за-
клеймили, прокляли, но толком никто не понимал, за что,
почему.
Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алек-
сеевич, один из самых образованных и талантливых в том
составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Про-
сто самый образованный, талантливый, знающий эконо-
мист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвеще-
ния РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университе-
та, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленин-
града, всю их замечательную семью. Всех подверстали к
ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капусти-
ну, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происхо-
дило это спустя четыре года после войны. В 1949—50 го-
дах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, слу-
чайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова,
и других. Добивались от них, чтобы признали заговор,
будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленин-
град столицей России, противопоставить, расколоть пар-
тию... Словом, даже для того времени — бредовина, состря-
панная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе
Маленков, не заботясь о правдоподобии, — наплевать,
сожрут.
Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией,
оба ли они против Вознесенского, — не разбери-поймешь.
Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку
Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была
отработана.
Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных реп-
рессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Мос-
кву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и
не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный
из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49/50 года за ним
могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оста-
вался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он
жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть
предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская,
с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная
или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-ти-
хая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его
друзьями, про ту пыточную, издевательскую...
Понимал ли он гнусность происходящего? Или все про-
стил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но
оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позво-
454
лял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозво-
ленные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык
гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они дева-
ются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мыс-
ли, во что превращаются старые страхи?
Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно-
прибранном лице.
— За что же его так, — начал я про Вознесенского,—
если Сталин его привечал, то почему же...
Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не
было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавли-
вающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял
значение этого предупреждающего жеста.
Одну за другой выкладывал он интереснейшие подроб-
ности о том, как шестнадцатого октября здание Совнарко-
ма опустело, — двери кабинетов настежь распахнуты, валя-
ются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят теле-
фоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку,
алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: прове-
ряют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефо-
на к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...
Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, при-
крывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял оче-
редями, как будто мы еще сидим в окопах.
Один из звонивших назвал себя. Это был известный че-
ловек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать бу-
дем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выру-
гался. Никогда не ругался, а тут выругался.
В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Ре-
шилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел
П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома.
Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они
дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то
работал в Ленинграде на той же должности. За разгово-
ром припозднились, и Косыгин предложил поужинать вме-
сте. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где
будешь Новый год встречать? «Не знаю». — «Давай у ме-
ня дома». — «Хорошо, но я с Попковым приду». — «Годит-
ся». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали
у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь коме-
дию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал
на Гнездниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются,
вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас
товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его
455
разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино
смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спра-
шивает— каким образом вы вместе собрались? Косыгин
подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит:
«Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Бы-
ло часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков,
Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было
хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в кана-
ве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ле-
нинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуа-
цию».
— Так состоялось мое назначение.
— Ну и ну, — сказал я. — Хорош Сталин, что ж это он
на каждом шагу подозревал своих верных соратников.
У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон
искреннего сочувствия к Косыгину.
Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу,
плашмя, так что телефон подпрыгнул.
— Довольно! Что вы понимаете!
Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор
никак не вязался с такой оплеухой.
Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло
багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание заши-
пело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в
карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом,
этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от
кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.
Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся,
этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы
признавая, что сорвался, и сказал примиренно:
— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.
И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как
готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942
года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспе-
чивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы,
нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в откры-
тых грузовиках.
Записывал я машинально, все еще не мог прийти в се-
бя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же
понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же.
Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь. Стали-
нист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изме-
нил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитает?
Боится?
456
Исподлобья, по-новому я озирал громоздкую мебель ка-
бинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и при-
мет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в
глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно сту-
пая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.
Спустя четверть века дух его благополучно сохранился
и мог привольно чувствовать себя среди привычной обста-
новки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в мес-
тах своего жития, — не знаю, какая-то чертовщина все же
действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хо-
зяина тем более многое должно было оставаться. Он-то на-
глядно представлял, как решались здесь судьбы того же
Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных
тысяч, уничтоженных по «ленинградскому делу», как об-
говаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар
с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе
с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими Шос-
таковичами, зощенками, ахматовыми.
Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к
стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, ла-
герей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуж-
дали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться?
Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры,
замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь
бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как
радиация.
Сталинист, не сталинист — такое упрощенное определе-
ние не годилось. Он вспылил не обязательно из-за Стали-
на, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, пре-
подносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хо-
тите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы,
толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это
условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь.
Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения
в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем
осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести
себя. Взвешивая каждый жест, взгляд. Оплошка приво-
дила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть
членов Политбюро погибла.
Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема
состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников
довольно точно описал, как Сталин растаптывал души
своих приближенных, как заставлял своих соратников с
457
мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних
товарищей и друзей.
Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высовы-
вались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты
чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.
«Вот и вся хитрость—запугивали. Все боялись»,—
подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренеб-
режение.
Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, бы-
ло обожествление, надежда, радость свершений, — сколько
всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не
разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать.
«Уважать? — спрашивают молодые. — За что? Предъяви-
те!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но,
наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или слав-
ное, или негодное.
Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на
Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пуль-
сировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день
налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспоря-
док на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить изли-
шества приказов, пустословия, улаживать столкновения
гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев,
больных и здоровых. Надо было превратить эти водоворо-
ты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое,
впятеро, в пятнадцать раз больше: из города — людей, а в
город — муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через
озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горю-
чим. Наладили поставку угля электростанциям города. Мо-
билизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, что-
бы навести порядок на складах, потому что с хранением
продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по
этой дороге туда — назад. Когда лед сошел, ходил на ка-
тере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского
берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из круп-
нокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без
фронтовой небрежности. Хлопотная была работа, на ногах,
без кабинетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом:
каждый день столько-то тысяч спасенных людей — и тех,
кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли
хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди шта-
белей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по
расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артилле-
рийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище
458
Смольного. Странная вещь — для большинства блокадни-
ков, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужа-
сающая пора в то же время озарена счастливым состоя-
нием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, бы-
ла подлинность отношений, люди кругом открылись. Это,
казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подме-
тили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмит-
рий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умираю-
щий с голода живет настоящей жизнью, может совершить
величайшую подлость и величайшее самопожертвование».
В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был из-
бавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен.
Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мо-
тался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, спе-
циалистов— для вывоза. Скорей, скорей готовить в рай-
онах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для от-
правки их. Поездами с Финляндского вокзала, а дальше
пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже
наладить прием, кормление, медицинскую помощь и от-
правку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессилен-
ных, беспомощных людей, с их малым скарбом, одеждой,
фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны.
Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с
медиками, с железнодорожниками...
Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все
делалось совместно, разумеется, совместно с Военным со-
ветом или же с горкомом партии... Произносил отчетливо,
словно бы не только для меня.
...Тем более совместно, что кругом были друзья-товари-
щи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственни-
ки), и Яков Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов,
и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской
гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой,
что отстоялся после Кировского дела. Когда убили Киро-
ва, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде,
почти все они погибли, ленинградские руководители, спе-
циалисты, хозяйственники тех лет.
Во времена «ленинградского дела» опять стали косить
подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с
честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, — всех под
корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. При-
едешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исче-
зали директора электростанций, главные инженеры. Ря-
дом, в Смоленском райисполкоме, творилось то же самое.
459
Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда,
одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натер-
пелся этот великий город и до войны, и в войну, и после;
кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все
согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер
обрядить.
Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по како-
му поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учил-
ся в Петровском реальном училище, там, где теперь На-
химовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит
черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в
Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть
на классы своего детства.
— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати
стоят, — сердито недоумевал он. — Будто места мало.
В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы,
не можем будущих офицеров обеспечить?..
Главная досада была на то, что неприглядней стало,
чем в его школьные годы.
Опасно возвращаться в места своего детства, большей
частью там поселяются разочарования. И все же детство
надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, за-
глохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал
там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский
рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей
и попросил провести его по старой экспозиции, по тем за-
лам, по которым водили до революции. Разыскали сотруд-
ника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин при-
знался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то пока-
зывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останав-
ливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За вре-
мя своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы
кто-то из высшего начальства, сам по себе, без делегации,
посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокрови-
щами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленин-
градского обкома и тот за все годы не нашел времени по-
ходить по Эрмитажу.
В чем состояла сложность работы в блокадном горо-
де? — вот что мне хотелось узнать. Всегда ищешь конфлик-
ты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые
проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось доби-
ваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и
Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждано-
вым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт
460
в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на мес-
тах знал плохо. На это жаловались многие блокадники.
К чему же сводились разногласия? То, что они были, — из-
вестно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не
помянул Жданова, ни по какому поводу.
— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня
вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улы-
бочку. — Никаких разногласий быть не могло... Не мог-
ло,— повторил он, настаивая. — Вот Хрулев, генерал ар-
мии, тот помогал всячески.
Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских
милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нес-
ти службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с
Большой земли свежие милицейские подразделения. Они
крепко помогли тогда.
— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к
тому времени стали неважными, — как бы невзначай бро-
сил он. — Это Берия постарался...
Разговор коснулся продовольственных поставок, что
шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались
трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жда-
нов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возни-
кали дополнительные трудности в снабжении города, Косы-
гину приходилось маневрировать, учитывать сложные вза-
имоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо
просматривались коридоры власти. Скупые его замечания
высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не
запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне бы-
ло трудно, у меня появлялась другая картина, привычная
мне, — подстанция, распредустройства высокого напряже-
ния, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины.
Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает,
гудит...
Как-то мне пришлось работать под напряжением, у
самых шин, вопреки всем правилам безопасности. Подни-
маешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжа-
щей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизме-
ряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое
поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным
ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно рас-
тянутым страхом ползли мы однажды через минное поле...
Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные мес-
та, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочув-
461
ствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые,
опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя
самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда
еще придется повторить эту дорогу. Времени впереди не-
много. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда
ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные
материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Рас-
скажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ до-
верил тебе в решающие годы руководить промышленностью,
правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, от-
читайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы
эту нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при
закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или
ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое
сознание. И большие, и малые деятели понимали свою от-
ветственность перед детьми, внуками, свою включенность
в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так не-
мо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь
сделано много хорошего. Если что не так, то тем более на-
до поделиться... Ты же остался последний из всех твоих
друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей
обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного со-
вета тоже нет в живых...
Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего
он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши со-
шлись.
— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырва-
лось у меня.
Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из
глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей
бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был
увидеть.
Молчаливый телефон стоял между нами на пустом сто-
лике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай,
слухач.
Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете.
Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного че-
ловека, который вроде бы так много мог, имел огромную
власть и был так зажат.
...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во
что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как со-
вершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населе-
462
нием и оборудованием. Между умирающими от голода и
станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов.
Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта
было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что выво-
зить раньше, — людей или металл, кого спасать, кому по-
могать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ле-
нинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду
и срочность?
— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, —
ответил Косыгин.
— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А
практически ведь всякий раз приходилось решать, чего
сколько.
— Так и решали, и то и другое, — сердито настаивал
Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?
— Но приходилось выбирать!..
Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-
тр и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом без-
выходность была и общая мука. Не могли выбирать и не
могли не выбирать. Вот какого признания я добивался —
о мучительности положения, о том, какой душевный раз-
рыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обес-
печивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время
надо было вывозить горожан, каждый день умирали тыся-
чи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли
дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка проис-
ходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко
про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стис-
нуло,— было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил.
Или, наоборот, не помог, упустил...
Но нет, ничего не мог добиться.
Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пой-
ди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно расска-
зал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было
зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб ар-
мии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне
мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу,
подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Бла-
годатном, так что в Смольный нас везли через весь город.
Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не
запачкаться. В Смольном на вручение орденов нас собрали
из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я
плохо что видел и замечал, потому что волновался. Прове-
ли нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне
463
начальники^ командиры. Единственный, кого я узнал, был
Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, за-
помнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он
тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал
про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он
с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его ли-
цо сохраняло безразличие. В некоторых местах он подни-
мал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся
в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не
мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового,
интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты.
Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове,
нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его
впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не
было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть
об этом дошла бы.
Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз
в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать
дадут, — это мы знали, это полагалось. Но обед был на
скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложка-
ми. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе —
перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель.
Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали
вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке
три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка
была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали
в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из
всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт мос-
ковских артистов. Пела певица, крупная женщина в длин-
ном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, за-
помнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они
розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели,
похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном
френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, — говорит,—
летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а
тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли,
артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот до-
рогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то
извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощ-
ник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тог-
да Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за
ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, доро-
гой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его:
«Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с
464
остальными артистами, да еще баян прибавить, шестьсот
кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот
кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас
привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили, что ка-
сается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы.
Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт,
точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия про-
спать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже
концертный начальник заулыбался, один только помощник
помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его по-
том долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по ар-
мии, занозистой оказалась. После нее мы стали кой-чего
как бы на вес прикидывать.
...Мне было известно про Косыгина несколько историй
сердечных, добрых. Одну из них я слыхал от Михаила Ми-
хайловича Ковальчука, врача на Ладоге. Я попробовал на-
помнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похо-
же, что забыл. И про мальчика, умирающего на проходной
Кировского завода, забыл как нестоящее, как слабость
души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело
отношения к делу, память его не удерживала, отбрасы-
вала.
Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в
одном из писем отец попросил проведать их ленинградскую
квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пус-
тая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К
счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно,
повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет
у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил
оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца
был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память
о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской
водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном
всех угощал.
Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредото-
чены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать
сколько угодно.
Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливо-
сти. Меня уморил напряг этого кабинета, вымотали слож-
ные извороты нашего разговора. Пора было подниматься
и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да
еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, по-
желал успеха в издании книги. На это я сказал, что со
второй частью у нас будут трудности. По поводу первой
16 Запретная глава
465
части наш ленинградский партийный руководитель заявил,
что никому такая книга не нужна, что ленинградская бло-
када — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-
то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие
примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили
передать нашему московскому издателю, и тот, человек
чуткий к начальственному мнению, попятился.
— Только геройство признает, — сказал Косыгин. —
Знаток, — и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы,
фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.
— И никто не вступится, — обрадованно сказал я, по-
могая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам посо-
бим, поможем», — должен был ответить он. Первую часть
он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Сле-
довательно, возражений не имел. Разве он не мог дать от-
поведь и нашему начальству, и кому угодно. Пристыдить,
подтвердить. Достаточно было поручить своему помощни-
ку позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...
Но на его узловатом лице не появилось никакого сочув-
ствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, оста-
лось каменное равнодушие, как будто не* было ни этой
встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед
ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он от-
вергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Из-
дательства не по его части. И все. Рука его была теплой,
бескостно-мягкой.
Молча мы с Б-вым миновали застекленные дорожками
коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площа-
ди горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось
вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно,
свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный,
бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал
лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит
натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.
Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею,
затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои
гримасы.
— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...
— Что я?
— Подвели. Вопросики ваши! Что ни вопрос — как в
лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неуже-
ли не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.
466
— За вопросы? Да? А за ответы?
— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Жда-
новым? Вы должны понимать — Жданов в то время был
членом Политбюро.
— А Косыгин?
— Не был.
— И что с того. Теперь-то он...
Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого
моего невежества. Есть правила, есть субординация, суще-
ствует, наконец, этикет, если угодно — церемониал. И на-
счет личного не принято у людей такого ранга выспраши-
вать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам рас-
крывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не
положено... Значит, есть тому основания.
О чем он? Моя беда другая—слишком стеснялся! Сты-
да много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это воп-
росы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык дер-
жал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не вино-
ват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ле-
нинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашис-
тов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говори-
ли: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в це-
не дело, победителей не судят, виновных искать — правых
потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина,
а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то
и дело приписывать свои заслуги Военному совету, преду-
преждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Не-
ужели неизвестно, что литература имеет дело с человеком,
а не с организациями. Какая тут к черту скромность, все
кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай
бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую на-
воображали себе...
Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его минис-
терском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Вы-
ставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы
грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель назы-
вается, насочиняют с три короба, а разобраться в живой
душе — кишка тонка.
Чего разбираться, когда и так ясно — не посмел всту-
питься за нашу книгу! Да какая она наша, она — голоса
погибших, память всех блокадников, свою собственную
славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части!
Трепетный порядок зато соблюл...
— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать
467
вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что
мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко
взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя
на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смирен-
ное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не
понял, что к чему? Допустим, пошли бы мне навстречу,
похлопотали бы за нашу книгу, то есть за книгу, где
будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Одна-
ко, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоми-
наниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая
оборона, лишения, пример политработы, пример руководи-
теля. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на
иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее
взахлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая
часть вышла — «Возрождение», то же самое. И тут на всех,
как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасте по-
жалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да ка-
кая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше,
душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сра-
зу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную кни-
гу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы
опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, под-
ножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся
охотники, лизунов полно.
— Фактически это, знаете, как выглядело? Как будто
вы сталкивали, как будто вы требовали противопоста-
вить! — с некоторым даже ужасом заключил он.
Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их
обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадачен-
ная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем
этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто
и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз,
на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.
— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, —
сказал Б-ов, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встре-
чаться было вообще-то некстати. Потому и тянули. И все-
таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума
требует. Другой оценил бы: кремень-характер. И как в
кремне огонь не виден, так в человеке этом душа.
Передаю лишь общий смысл его торжествующей нота-
ции, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междомети-
ями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Бреж-
нева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреб-
лял множественное число третьего лица — они,
468
— Ладно, не унывай,—отходчиво сказал Б-ов. — Нау-
ка будет.
— Ох, и большая у вас наука, — сказал я. — Далеко
видите.
Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, ло-
каторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть,
все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы...
Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два
с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокад-
ной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там
не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь се-
бе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не
украдешь, не обездолишь його-то. Откуда брали они му-
жество жить по совести?
— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боя-
лись!— сказал я.— Вы же были там, вам смерть была
нипочем...
— Все относительно, — сказал Б-ов.
— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленин-
град, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать
себя...
Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я зат-
кнулся.
— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до
времени помалкивать о посещении, — взгляд его был сер-
дечен и заботлив.
Мы помалкивали.
Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокад-
ную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам по-
мочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие
вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти
месяцы болел, не мог вмешиваться. Так мы с Адамовичем
уверяли себя и других, ждали, тяцули.
...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переде-
лать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор све-
дений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной кни-
ги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось от-
стоять. Но были потери особо чувствительные, и эта гла-
ва— одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных,
то хотелось отдать должное человеку, который в тех усло-
виях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи
ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Ко-
469
сыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, без-
ликом виде.
Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую
мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то
с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, под-
чистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то,
что я пытался обойти, то, что творилось во время разгово-
ра. Фальшивая интонация временами непереносимо резала
слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокад-
ников. Дело было не только в Косыгине, написанное мною,
автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам ие доби-
ваюсь ясных ответов, веду себя скованно, не смею. От
этого и сухость. Главное же, не понять было моего отно-
шения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.
Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной,
ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел
перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше про-
щание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связан-
ный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с
лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может,
все дело было в том, что мы перешли в другое время.
Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-пе-
реход, и счастливый, и болезненный...
Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот
вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончит-
ся то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы
не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если
только такое знание может освобождать нас.
ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
НА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА
Рассказ
лепая Фемида изощренно пошутила, предоста-
вив Хрущеву расправиться со Сталиным.
Судьей палача стал человек, которого Сталин
считал шутом.
Сталина я видел всего лишь раз в жизни —
7 ноября 1945 года, проходя среди многих и
многих людских тысяч по Красной площади мимо Мавзо-
лея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдав-
лен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем —
и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший
вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Ра-
зумеется, и я обезумевши вопил вместе со всеми...
Хрущева же я видел и слышал много раз, издалека и
достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был
допущен до рукопожатия.
Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о
ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме;
Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом
коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих
граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.
15 июля 1960 года. Мне позвонили из правления Союза
писателей:
— Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное
дело.
А так как Союз писателей, надо отдать ему должное,
делами меня не обременял, тем более важными, то я по-
слушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили кон-
верт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, за-
ставили расписаться.
В билете значилось, что товарищ Тендряков В. Ф. с суп-
ругой приглашаются на встречу руководителей партии и
правительства с деятелями науки и культуры, просьба при-
быть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема
маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадца-
том километре, к совхозу «Семеновскому»...
471
— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.
Я пожелал остаться независимым:
— У меня своя машина.
У меня был видавший виды «Москвич*, который я мыл
в году раза по два — по вдохновению или ради какого-ни-
будь исключительного случая вроде техосмотра. Встреча с
правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и
я мысленно дал себе слово помыть машину.
. Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью,
а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь,
где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб
если и опоздать, то не безбожно.
Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с
женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся
через Москву к Каширскому шоссе.
Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей на-
смешишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми остере-
жениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил
баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный,
жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норови-
стую машину, правительственную затею, самого себя и ни
в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять
заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили,
отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и мону-
ментальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка
тех лет, — все они, разумеется, спешили туда, куда спешил
и я.
Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки
наспех вытерты тряпкой—вперед! Я выжимал из своего
неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с
дорожными знаками, выскакивал на левую сторону, держа
наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если
только милиция остановит, сразу под нос обезоруживаю-
щий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам над-
лежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было
густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километ-
ре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному
нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о
приготовленном для них лощеном билете и лишь провожа-
ли меня осуждающими взглядами. И уж только когда я со-
вершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлаг-
баума по левой стороне обошел черные лимузины и бесце-
ремонно подставил бок «Чайке», — ко мне подошел пред-
ставитель милиции с погонами подполковника и скорбно-
472
осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня води-
тельские права, даже не спросил меня, куда это я так
рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подпол-
ковник всего-навсего укоряюще сказал:
— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.
И затронул лучшие струны моей души, заставил искрен-
не устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумы-
того, но старался уже не нагличать.
Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня
пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок —
ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золоченными
хвостами.... И я понял, что переусердствовал — проскочил
заветный поворот, указанный на обратной стороне билета.
Пришлось разворачиваться...
Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произ-
вольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинув-
шейся хвойной купе.
Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед че-
тырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стан-
дартную солдатски-зеленую краску.
Молодцеватые военные с голубыми околышами и пет-
лицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и
«Чаек» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно,
как один проницательно заметил другому:
— Гляди — частник приехал!
Я показал им приготовленный билет, они мне с подчерк-
нутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень сосно-
вого леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно
приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не
больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пя-
тачку, и к нам двинулся молодой человек.
Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он
скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий ши-
рокую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах со-
бирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова
его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и ли-
цо правильное, мужественное, способное выражать лишь
открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания
положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высо-
вывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку
давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал
моей жене:
— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.
И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской
473
услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича* на свя-
щенный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу,
небрежно махнул рукой:
— А ты поезжай! Поезжай дальше.
Вот те раз!..
Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недове-
рие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются
не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреж-
дают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном
киоске напротив.
Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встре-
чающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво
предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на
землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы пока-
тили по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.
Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, ми-
мо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепи-
тельно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сто-
ронам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я по-
нял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимст-
ва и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими
законами, где рви — не зевай!
«ЗИЛы* и «Чайки*, «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие чер-
ным лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начи-
щенным никелем. Возле каждой машины развалился на
солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг
на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, лени-
вые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе —
странный тип, забравшийся в столь ослепительное общест-
во на потасканном и до безобразия неопрятном «москви-
чишке».
Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал,
растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется
ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет,
не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплош-
ные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-по-
ле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого
на то место, какого он был достоин, — на самых задворках
великолепного становища.
Я закрыл машину, переглянулся с женой:
— Пошли?
— Пошли.
И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистатель-
ных рядов, под презрительными взглядами вельможной шо-
474
ферни. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый
костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без
пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли
меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал ки-
петь, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное
небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта
на куличках. И пот стекал по спине под светлым пиджа-
ком, и хотелось пить...
Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мости-
ком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом
заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется
пить!
Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил —
эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе,
застыл в недоуменной стоечке, спросил тенорком:
— Вам куда?
— Как — куда? — удивился я. — Сюда! — кивнул на
ворота.
Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее
я был уже не способен. Однако...
— Пожалуйста! — соломенная шляпа с готовностью
нырнула под мост.
До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов,
когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.
— Послушай, а билет?
Билет остался в машине у ветрового стекла.
Военные откозыряли, участливо выслушали меня, по-
жали офицерскими погонами:
— Не можем.
— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться
сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать ту-
да и обратно по такой жарище — сдохнем.
— Верим. Сочувствуем. Но не можем.
Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их пони-
мал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусоч-
ком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое пре-
ступление, какое только для них возможно, значит при-
знать ненужность и бессмысленность своего существования.
И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, уби-'
тый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не со-
вершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего
неумытого носом к дому... Право же, военные были слав-
йые ребята— сочувствовали.
475
Вдруг один из славных ребят вгляделся в сторону, мах-
нул рукой, властно крикнул:
— А ну сюда!
Подкатила странная машина, пожалуй, даже более
странная, чем мой «Москвич», — дряхлая «Победа» и тоже
давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло
носатый человек наглядно иудейского вида.
— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины,
привезешь их обратно. Ясно?
— У меня кардан...
— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно!
Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.
И мы, преисполненные благодарности, влезли в душ-
ную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва
тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:
— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске
езжу... До гаража не доберусь...
Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо вы-
строившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.
Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его под-
нимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно
исчезла.
И снова мы, солнцем палимые, — мимо, мимо... Как хо-
чется пить! Пригласительным билетом прикрываю накален-
ную макушку. Я уже никого не кляну, не ругаюсь, киплю
в себе, боюсь взорваться.
Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику
с перильцами —уже теперь близко!
Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соло-
менной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:
— Вам куда?
Меня прорвало:
— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим!
Зачем тебе только деньги платят!
Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщини-
стое лицо смятенно вытянулось под шляпой.
— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалоб-
ной беззащитностью: — Ведь я же на работе.
И нырнул под мост.
Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести:
в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабаты-
вать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом
я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко
его обложить по-барски...
476
Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизи-
лись к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным би-
летом— сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и
мы перешагиваем заповедную черту.
На нас сразу ложится благостная тень. И шум хвои
над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимаю-
щий воздух. Иной мир.
Я хочу пить, я умираю от жажды...
Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же,
словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий
средь деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножка-
ми,— стол, под столом из воды торчат горлышки буты-
лок— боржом, ессентуки, ситро, на выбор. За столом до-
родная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко накрах-
маленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает
воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.
Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаж-
дущего, готовый с привычной воинственностью отшивать
тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже
тянет мне наполненный фужер, улыбается.
Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья.
— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.
— Пожалуйста.
И новый запотевший фужер, и новая улыбка.
— Спасибо...
— Вам еще?
— Хва-атит.
Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с на-
смешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то про-
стота.
И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все
бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая влага, доб-
рота румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.
2
В глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фра-
зу.: «Коммунизм на горизонте!»
Горизонт, как известно, — кажущаяся, но не существую-
щая линия, которая неизменно удаляется при приближе-
нии. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.
А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он дол-
жен выглядеть?
. Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво
одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосе-
477
мейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего
быта, а потому и вожделенный коммунизм нам представ-
лялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избыт-
ком хватает на всех — ешь не хочу!
Карл Маркс высмеивал такое потребительское понима-
ние, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру
формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по
потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И
нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. По-
следователи ограничивались лишь заверениями о пришест-
вии: «На горизонте!»
Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство
определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма
зримому признаку: существуют деньги в обиходе— нет его,
коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены —
пришествие совершилось.
С меня не взяли денег за минеральную воду, не возь-
мут их и за торжественный обед, который несомненно ждет
меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая
не нужная для меня вещь.
3
-т- Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...
Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на
полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоить-
ся, произнес эту фразу.
Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем
возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько лип-
ко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслажде-
ние окунуться сейчас, но...
— Кто же знал, что на встречу с правительством сле-
дует захватывать с собой плавки.
— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклонни-
ком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите
в стороне две будочки — купальни, мужская и женская...
И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.
Внимание к личности столь велико, что ничего не оста-
ется как покориться — для собственного же блага и удо-
вольствия.
Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на
русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раз-
давали мокрые плавки. Впрочем, тут-таки произошла до-
садная неувязочка — плавок на всех желающих, однако,
478
не хватило, мне достались трусы, только что кем-то исполь*
зованные, но зато добросовестно выжатые.
Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега на-
туральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный ка-
мень. Правда, вокруг широкого пруда—асфальтирован-
ные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо
предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз
что-то не видно...
В прошлую встречу деятелей культуры и правительства
на берегах водоемов через каждые десять-пятнадцать ша-
гов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич
Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне,
как он по простоте душевной подсел к одному и без зад-
ней мысли полюбопытствовал:
— Как клюет?
Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с ка-
менным лицом.
— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?
Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло:
рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, дол-
жно быть, ему дана строгая инструкция—в разговоры не
вступать.
Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков
нет, а гости не интересуются удочками.
У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые ли-
ца, я словно попал в некий филиал Московского отделения
Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штани-
ны муравья и, морщась, жалуется:
— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.
— Наберитесь терпения — он правительственный, —
осмеливаюсь посоветовать я.
Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секре-
тарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.
Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша
облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под бе-
регом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя
волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко
улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:
— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтобы
узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!
Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в от-
вет с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.
1 На отдалении сидит налитой розовым соком человек —
при галстуке, в белоснежной сорочке, отутюженных брю-
479
ках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не соби-
рается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скром-
ным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Ад-
жубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно позна-
комились, даже чокались за столом за здоровье друг дру-
га, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнит-
ся мне, ждет, что я непременно уловлю — уж поста-
раюсь!— его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он
здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать.
И я, нарядившись во влажные правительственные трусы,
лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид,
что, в свою очередь, не замечаю его.
И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью
сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь,
с другими останавливаюсь поболтать.
Все предупредительно вежливы друг с другом, на ли-
цах разлита тихая пасхальная благость, каждый подавлен
кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос
воскресе» да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобы-
зает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Ко-
четовым.
Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой бла-
женной невесомости, когда от умиротворения «в зобу ды-
ханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на
грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по
асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется це-
лый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных
речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка:
«А в этом коммунизме того... скушновато, право».
Но еще не появилось правительство. Оно-то должно
внести какое-то разнообразие
4
Это была уже вторая встреча с правительством. На
первую я не удостоился чести быть приглашенным, а
жаль — она потрясла очевидцев.
Хрущев тогда во время обеда, что называется, стреми-
тельно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питер-
ской» со всей русской удалью.
Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь
с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сен-
тенции: «Украина — это вам не жук на палочке!..» И
острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до
зелени, привыкший ко всему Молотов.
480
Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян.
Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на
какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо пре-
старелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та
строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попре-
кали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостепри-
имный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шо-
ферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на
ходе торжества.
Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности
в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребя-
та... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка
пакостит!» — под восторженные выкрики верноподданных
литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать
перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич!
свой орган завели — «Литературная Москва»!
Альманах «Литературная Москва» был основан ини-
циативной группой писателей, формально никому не под-
чинялся, фактически был полностью подчинен, как и все
печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал
независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор,
на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой
монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Марга-
риту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими
участвовала в выпуске альманаха.
— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капитали-
стического Запада!..
— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же комму-
нистка, член партии...
Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер —
человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов, в
мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжела-
тельности к правительству, — стояла перед разъяренным
багроволицым главой могущественного в мире государства
и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но
Хрущев обрывал ее:
— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартий-
ному Соболеву верю!..
Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Пе-
тербургского кадетского корпуса, автор известного романа
«Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо вы-
крикивал:
г — Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!
Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и за-
481
мерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлы-
нул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять
участие в разыгравшейся трагедии, неизобретательно при-
бегая к избитым драматическим приемам.
Натянутый над праздничными столами тент прогнулся
под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как
из-под земли вынырнули бравые парни в отутюженных кос-
тюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за
спинами правительства на ограждающий барьер, стали под-
пирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки
стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но
парни стоически боролись — самоотверженные атланты,
поддерживающие правительственный свод. А гром не пе-
реставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистов-
ствовал:
— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О
буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..
Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянув-
шись и уже не пыталась возражать.
Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед
державным гневом и от струек воды, пробивающихся
сквозь тент, — атланты оберегали только правительство.
И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к
нему гостей отборной клубникой с правительственного сто-
ла. И Соболев неустанно усердствовал:
— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения закон-
ные, Никита Сергеевич!..
Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным ли-
цом дергала мужа-за рукав и нашептывала. И муж внял,
обиженно засуетился:
— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уваже-
ние, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне да-
ли... гараж для машины.
Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.
А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты
возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный сре-
ди гостей Самуэль Маршак с бледным, вытянутым лицом
время от времени сдавленно изрекал:
— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...
В завершение Соболева от усердия и перевозбужде-
ния... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи
на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала
рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой
шляпой.
482
Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись
приблизиться—заклеймена, прокажена. Лишь Валентин
Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно
повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет,
не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб...
Овечкин случайно нашел под правительственным деревом
крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной
рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Поче-
му гриб? Не закамуфлированная ли это бомба?.. Атланты
проводили их до выхода.
Дождь прошел, светило солнце.
Через несколько дней по Москве разнесся слух, что по-
ведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже
в его ближайших кругах.
Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня
каждый ждет появления Хрущева со жгучим интересом:
как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да
раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепроще-
нию и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хру-
щева всего можно ждать...
5
Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о
падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в
своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился пе-
репрыгнуть пропасть в два приема».
Революционные скачки Маркс положил в основу своей
теории, мы применили их на практике. Хрущев всей душой
хотел резво перескочить пропасть между существующим
социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать
сытую Америку по мясу и молоку! Два — оставить ее да-
леко позади в неприглядной реальности, самим оказаться
в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше
мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вы-
растить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть
не преодолела — свалились. Конфуз! Да нет, боже упаси!
Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...
Мне рассказывали: в Мурманской области — террито-
рия чуть меньше Англии и больше Болгарии—в редких
закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах,
на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодо-
устойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев по-
требовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!
483
— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич, —
осмелились возразить ему.
— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политиче-
ский резонанс!
А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и по-
среди пропасти существует опора.
Государственному руководителю часто свойственна за-
урядность мышления. Великие мысли, прозорливые откры-
тия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, мас-
совых озарений не существует в природе. Великие мысли
и открытия возникают у тех, кто способен мыслить на-
много глубже других, у своего рода чемпионов разума и
проницательности. И надо время, и немалое, чтобы зауряд-
но мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли
чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух
столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.
Но государственный политический деятель занимается-
то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами,
требующими, как правило, немедленного решения. Он не
может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть по-
нятым. А потому политический руководитель вынужден
прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным
понятиям, духовно соответствовать некой усредненной за-
урядности в человеческом обществе. Как это ни обидно,
но ум и проницательность среди высоких политических
деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью,—
скорей исключение, а не нормальное явление.
Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бес-
плоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на
пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный
ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед
глупостью.
Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем про-
явить себя более здравомыслящими в сравнении с простым
обывателем, сперва подделывались под обывательское шаб-
лонное мышление, угождали ему, а как только поднялись
над ним, были убраны.
Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотли-
востью, остроумием, обрел славу глубокомысленного поли-
тика, но как часто он действовал с поразительным тупо-
умием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуа-
ры. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует...
Май 1942. года. Почти вся Европа проглочена гитлеровца-
45-#
ми, немецкие войска в глубине России. Именно в это вре-
мя Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручитель-
ству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для пере-
говоров. Они договариваются, как победить грозного и
опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут
щэинадлежать прибалтийские государства и Восточная
Польша. С истовой недоверчивостью друг к другу делят
кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опас-
ного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как
убить медведя, не представляется им существенным. «По-
мимо вопроса о договоре, — небрежно бросает Черчилль, —
Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по
поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром
22 мая я имел с ним официальную беседу». И все!
Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведе-
ние смехотворно глупейшее, особенно на фоне последую-
щих трагических событий — немцы, чью шкуру столь стра-
стно делили, с новой силой ударили по России, захватили
шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвину-
лись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведом-
ленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иро-
нии повествует: делили, делали дело, — то есть пребывает
в прежней глупости.
Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль,
узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигну-
та ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шут-
ка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не
осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родит-
ся поколение, которому будут неведомы их страдания, но
оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благослов-
лять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не
ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда прони-
цательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.
Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно
глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он принци-
пиально ничем не отличался от других видных политиков,
страдал их общей бедой. И конечно же его вседержавная
самонадеянность нравственно калечила общество — воспи-
тывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохво-
стов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих
карьеру на чиновном разбое.
Но вот что странно — бывают же такие поразительные
парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хру-
щева и помогла совершить смелый прогрессивный перево-
485
рот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль
не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита
Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим
выступлением на XX съезде партии!..
Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем
появились сами гостеприимные хозяева...
6
Члены правительства без торжества, без предупрежде-
ния, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под сосна-
ми. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджа-
ке, в вышитой украинской рубахе, стянутой у шеи цвет-
ным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой». Тря-
сущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Ми-
коян с навешенным носом над траурными, не тронутыми
сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Мо-
лотова и Кагановича, высоких участников прошлой встре-
чи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет,
не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подва-
лах, как это делал Сталин в компании тех же молотовых-
кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами,
живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел
Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная огово-
рочка вскрывала политическую худородность данной фигу-
ры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких,
как я. Этот худородный командовал культурой страны —
указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и
жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный
мотив: «Куда, куда вы удалились?..»
Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла
кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и лите-
ратуры, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточ-
но заметными, способными претендовать на близость, отти-
рая друг друга, со счастливыми улыбками на потных ли-
цах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел,
топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела
под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почти-
тельности и семеняще выплясывал все тот же Леонид Со-
болев, получивший не только гараж —как убоги были их
семейные мечты! — но и специально для него созданный
Союз писателей Российской Федерации. То с одной сторо-
ны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный
«дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить
о себе.
486
По правую руку Хрущева прорвался украинский компо-
зитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лосня-
щуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосо:
Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...
Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустой-
чивым баритончиком:
Чому я не сокил,
Чому не летаю...
А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толка-
лись, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все
это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. По-
встречай каждого из них на улице или в коридоре учреж-
дения, представить невозможно, что столь барственная осо-
ба способна на такие мелкие телодвижения.
Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных гра-
ницах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное
значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, по-
жал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами
этого счастливого острова, в океане, где качает и опроки-
дывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает на-
верх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться
на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, при-
коснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе
частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, отти-
рание, щеки, раздвинутые в улыбке, — смотр рыцарей удачи!
Я стоял в стороне, всматривался в умилительную кару-
сель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встре-
тился с направленным прямо на меня — могу поручить-
ся! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбо-
роде: «Чому я не сокил, чому не летаю...> — только что
добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее
от жары, было отдыхающим, право же, выражало удоволь-
ствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сей-
час я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное
лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напря-
женное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от устало-
сти, а взгляд, направленный на меня, — подозрительно-не-
доверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть толь-
ко на врага.
Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня
в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом.
Но тем не менее...
487
Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал,
что плотная стена угодников и кусок пространства в де-
сять шагов—надежная защита. Я не опустил глаза, про-
должал с удивлением вглядываться в преображенное ли-
цо Хрущева.
Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секун-
ду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а
когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбал-
ся, разговаривая с кем-то.
Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхаю-
щего человека — не верь глазам своим: он напряжен вну-
три, настороженно-собран, полон подозрительности. И я
невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе,
Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».
Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю,
не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей,
она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не
столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то
значение.
А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили
по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и сно-
ва натыкались на осажденное правительство. Я опять оста-
навливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого
Хрущева, ждал — встречусь с ним взглядом, хотел, чтоб
все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.
Но Хрущев уже не замечал меня больше.
7
Все, кто сегодня был приглашен на остров коммуниз-
ма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правитель-
ству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился
возле него, как мухи вокруг банки с вареньем, — принад-
лежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.
Интеллигенция... Люди, профессионально занимающие-
ся умственным трудом, то есть имеющие прямое отноше-
ние к тому, что, собственно, и является высоким отличием
человека, — к разуму. Казалось бы, эта часть рода люд-
ского должна признаваться в обществе как наиболее зна-
чительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением.
Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а час-
то и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то
обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привыч-
ным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие дея-
тельность государственных руководителей. "
488
Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не до-
верял ей, считал ее прислужницей буржуазии, «...влияние
интеллигенции, — писал он в 1907 году, — непосредствен-
но не участвующей в эксплуатации, обученной опериро-
вать с общими словами и понятиями, носящейся со всяки-
ми «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию
возводящей свое междуклассовое положение в принцип
внеклассовых партий и внеклассовой политики, — влияние
этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».
Став во главе государства, он уже с откровенностью
бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда
не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не от-
рицаем, потому что вы являлись единственным культур-
ным элементом». То есть была интеллигенция прислужни-
цей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с го-
речью говорил, как ему не хватает истинных интеллиген-
тов-единомышленников.
Сталин прислужничество сделал основой существования
нового государства: низший по службе безропотно, безо-
глядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще
более высшему, и так до конца, до венчающей вершины,
на которой восседала никому не подчиненная, всех подчи-
няющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фи-
гурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом
диктатора в одну сторону и лакея в другую.
И только тот, кто непосредственно занимался созида-
тельным трудом, лишен был каких бы то ни было дикта-
торских прав. Если ты пашешь поле, сам пашешь, а не ру-
ководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать
тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь му-
зыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты
при всем желании не можешь стать диктатором. Только
переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, науч-
ные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возмож-
ность превратиться в диктатора. Творческое созидание ис-
ключает диктаторство, но от лакейского положения оно не
освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а
тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недо-
статочно покорным, проявишь строптивость, то почему бы
к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях
со строгим режимом, избиением, пыток, расстрела, наконец.
Сталин превратил интеллигенцию в безропотную при-
служницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень ред-
ко даровито и изобретательно — правительственные зака-
489
зы от создания новых бомбардировщиков до «философско-
го» обоснования великой научной ценности сталинских ра-
бот по языкознанию.
И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел —
это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хру-
щев со свитой, столбовая ось этой карусели, — сталинские
чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные
и воспитанные янусы с двойными ликами диктаторов и
лакеев.
Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме
того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне
считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что госу-
дарство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою
мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохра-
нять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в го-
ды сталинизма была безупречно правильной, но...
Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому
лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато
опасностями это воспитание. На его глазах хватали вид-
нейших государственных деятелей и ставили к стенке...
Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости,
отбивали почки, грубо измывались, подлейше унижали,
прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие
годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть
утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться
обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспи-
тан, но благодарности к воспитателю не испытывал.
Генеральная линия партии во время Сталина была безу-
пречно правильной, только сам Сталин не прав — претила
жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев
ничего из сталинского не собирался менять — пусть оста-
нется все как было! — но Сталина следует осудить и вы-
бросить из истории. Трудно даже представить более неле-
пое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным
диктатором и отдавал неверные приказания, которые усер-
дно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны
жить и действовать правильно? Или он никакой не дикта-
тор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и
развенчивать, или был диктатором —осуждай, но уже вме-
сте с тем путем, на какой толкала его неправедная власть.
Одно с другим тесно связано...
Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со
следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младен-
чески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ!
490
Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть от-
важной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Ста-
лина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...
Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по
сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по ули-
цам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали
бы в застенках и наверняка продолжалась бы агрессивно-
остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосу-
ществовании не могло быть и речи. Не исключено, над пла-
нетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человече-
ство вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-
таки велика роль случая в истории, той пресловутой «ба-
бочки Брэдбери», меняющей облик будущего.
Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному
носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех кон-
тинентов должны вспоминать о нем с благодарностью!
Но если сам Хрущев простодушно не считался с эле-
ментарной логикой, то другие-то этого не могли себе поз-
волить. Поведение Сталина осуждено—прекрасно! Однако
сказал «господи», скажи и «помилуй»...
Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений.
На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому ли-
тераторов собралось столько беспокойных читателей, что
пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небы-
валое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, прихо-
дится прибегать к вооруженному подавлению, срочно ме-
нять правительство, ставленное в свое время Сталиным.
В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ру-
гань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интелли-
генты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И
вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного
хозяина...
Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные
уши.
8
Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четве-
ро— художник Орест Верейский и наши жены, — углубля-
емся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не
только обихоженный лес, наверняка где-то стоит и дача
правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо
построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию:
«Разведаем. Делать-то все равно нечего».
491
Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное
брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная ти-
шина, хочется говорить вполголоса.
Из боковой аллейки появился прохожий, идет нам на-
встречу. И мы замолчали, невольно испытывая смуще-
ние— идущий навстречу человек нам хорошо знаком, за-
то нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя
в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узна-
ли,— противоестественно, но естественно ли здороваться,
не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли
мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельмож-
ный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента,
раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтож-
ному поводу. Встречный приближается и здоровается пер-
вым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.
В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздра-
гиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная
мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову.
Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем
навстречу выстрелам, провожаемые стуком певспугнутого
дятла.
Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на тра-
ве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья,
другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безде-
лушками— призы за удачную стрельбу. Возле стола —
Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем не
знакомые.
На расстоянии сотни шагов почти незаметные, порос-
шие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелоч-
ки одна за другой через равные промежутки времени. Они
разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного моло-
дого человека.
Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился
с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он
близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его
присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато
Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе
к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней бли-
зостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора ша-
га, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша,
попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень
надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.
Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на
стол:
492
— А ну-ка!
И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.
В синее небо летит тарелочка. Бац! —вдребезги! Новая
тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжава-
надзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную
вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее
место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку,
густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.
Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.
А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются заме-
чания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплют-
ся сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — инте-
ресно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в
адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжело-
весную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семей-
ство Хрущева. Эти могут себе позволить.
В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги,
розовые уши настороженно торчат — Хрущев наизготовке
с ружьем.
Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка
падает к земле. Вторая... Бац—мимо!.. Бац! Бац!—таре-
лочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным
призом Мжаванадзе.
Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он
положил ружье и сел на стул...
Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная
голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат
в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фи-
гуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой
макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом
сноровку покажешь».
А в стороне безжалостно посмеиваются:
— Настрелял уток — не унести.
И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижи-
мает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смот-
реть. Вот уж кому не позавидуешь...
И вольные шуточки со стороны семейства.
Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее,
становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку су-
рово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти
угрожающе.
Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе
вышел из столбнячка, облегченно распрямился, с предан-
ной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.
493
Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены,
тяжелым корпусом вперед, голова склонена—бычок по-
среди дороги, объезжай кругом!
Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на
землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!..
Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка па-
дает целой на траву.
Хрущев победно кладет ружье.
Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не
знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки.
Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами
по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с вы-
стрелами. Но если это и ловкий лакейский фокус, то в него
всей душой поверил и сам Хрущев.
Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед
возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперни-
чая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радо-
стным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на
расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим
жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воис-
тину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь
доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и
животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя
может лишь человек, который действительно переполнен
торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — рас-
пирает!
Родственники со стороны продолжали острить, ничуть
не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться,
стоял озадаченный.
Да и теперь этот маленький случай для меня — необъ-
яснимая загадка, почти что чудо. И единственное объясне-
ние, какое могу дать, — недюжинность характера Хруще-
ва. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и
мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Ста-
линым — доказательство тому. Уже мертвый и развенчан-
ный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вы-
таскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его по-
старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе
тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий,
стоящих по городам и весям страны, географическими на-
званиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев
выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его
памятники, стер его имя с географических карт, не испу-
494
гался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отка-
зать этому человеку в характере!
Сейчас он с детской непосредственностью радовался
одержанной победе — разбид-таки тарелочки, доказал
свою сноровку! Ай да я!
К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он
с серьезной важностью, не без величия, как и подобает го-
сударственному мужу, принял его и... бросил взгляд на
приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе
весь лучился — слава те, господи, пронесло! —умильно за-
глядывал в глаза Хрущеву...
И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил
взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который
обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту:
ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой
фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позоло-
ты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий
ему приз.
И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:
— Сменяемся, Никита Сергеевич.
Нет, я ничего не придумываю ради красного словца,
все было именно так, как я рассказываю, прошу верить.
Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на кото-
ром оказалось больше позолоты. И оба были явно доволь-
ны этим обменом.
Тут по всему лесу загремело радио:
— Дорогие гости! Просим вас к столу! Дорогие гости!
Просим вас!..
И все потянулись к большому полосатому тенту, рас-
тянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.
Я там был, мед-пиво пил...
Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохра-
нившийся документ — карточку меню.
Обед:
Икра зернистая, расстегаи
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве
Окрошка мясная
Бульон с пирожком
495
Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях
Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты
с. Семеновское, 17 июля 1960 года.
Стеснительно не упомянуты напитки.
Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда
обильнее и утонченнее.
СОДЕРЖАНИЕ
М. Булгаков. Собачье сердце. Повесть......................... 3
Е. Замятин. Мы. Роман................................. ... 89
А. Платонов. Котлован. Повесть........................ , 232
В. Набоков. Solus Rex. Роман . ..............341
Ultima Thule. Рассказ...........................365
Истребление тиранов. Рассказ . . . . . 390
Облако, озеро, башня. Рассказ . , . . . 411
О. Горчаков. Накануне, или Трагедия Кассандры. Повесть в до-
кументах ................................................: 419
Д. Гранин. Запретная глава. Рассказ.........................447
В. Тендряков. На блаженном острове коммунизма. Рассказ 471
4;*i4 -. •> ;‘