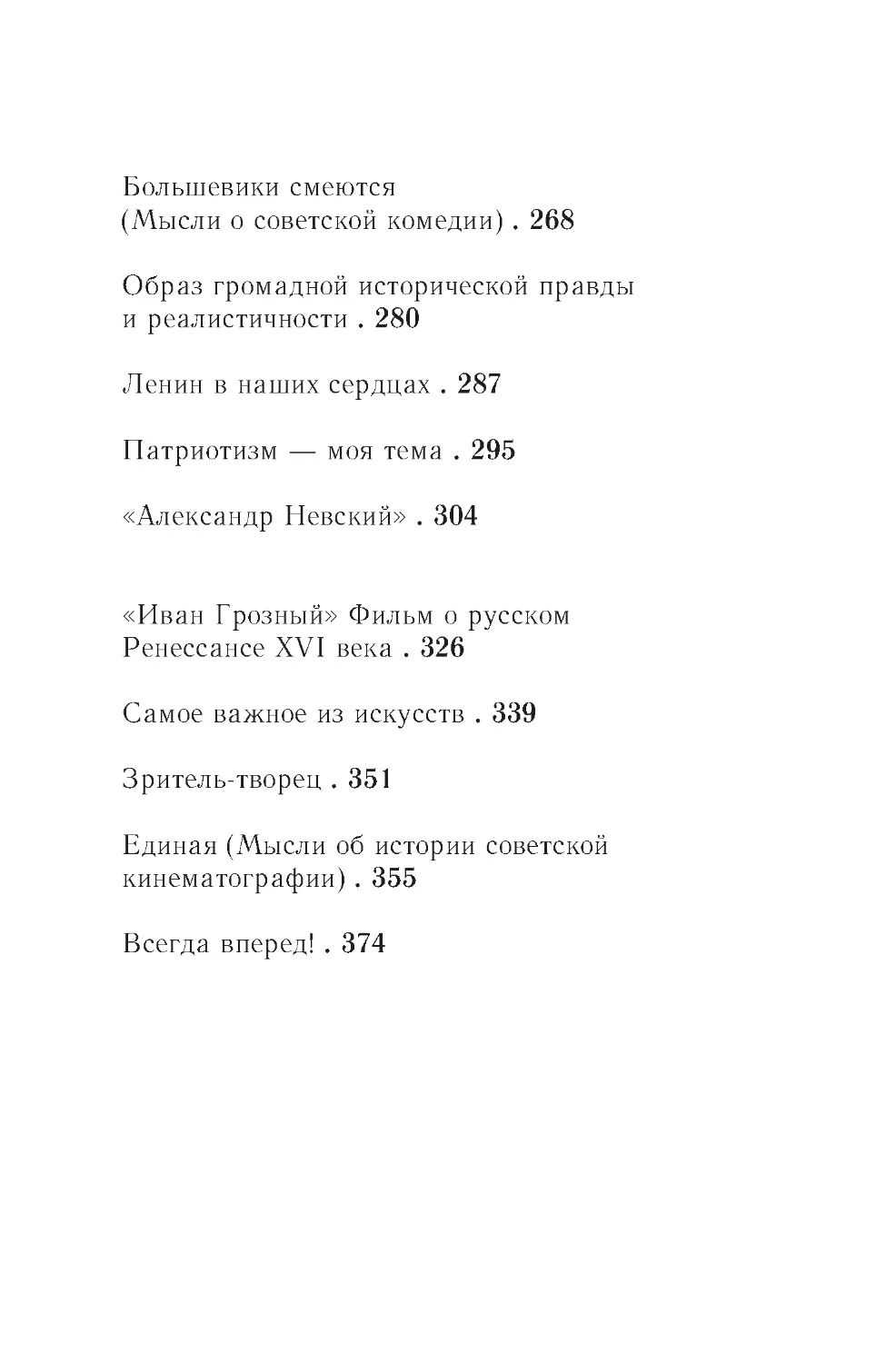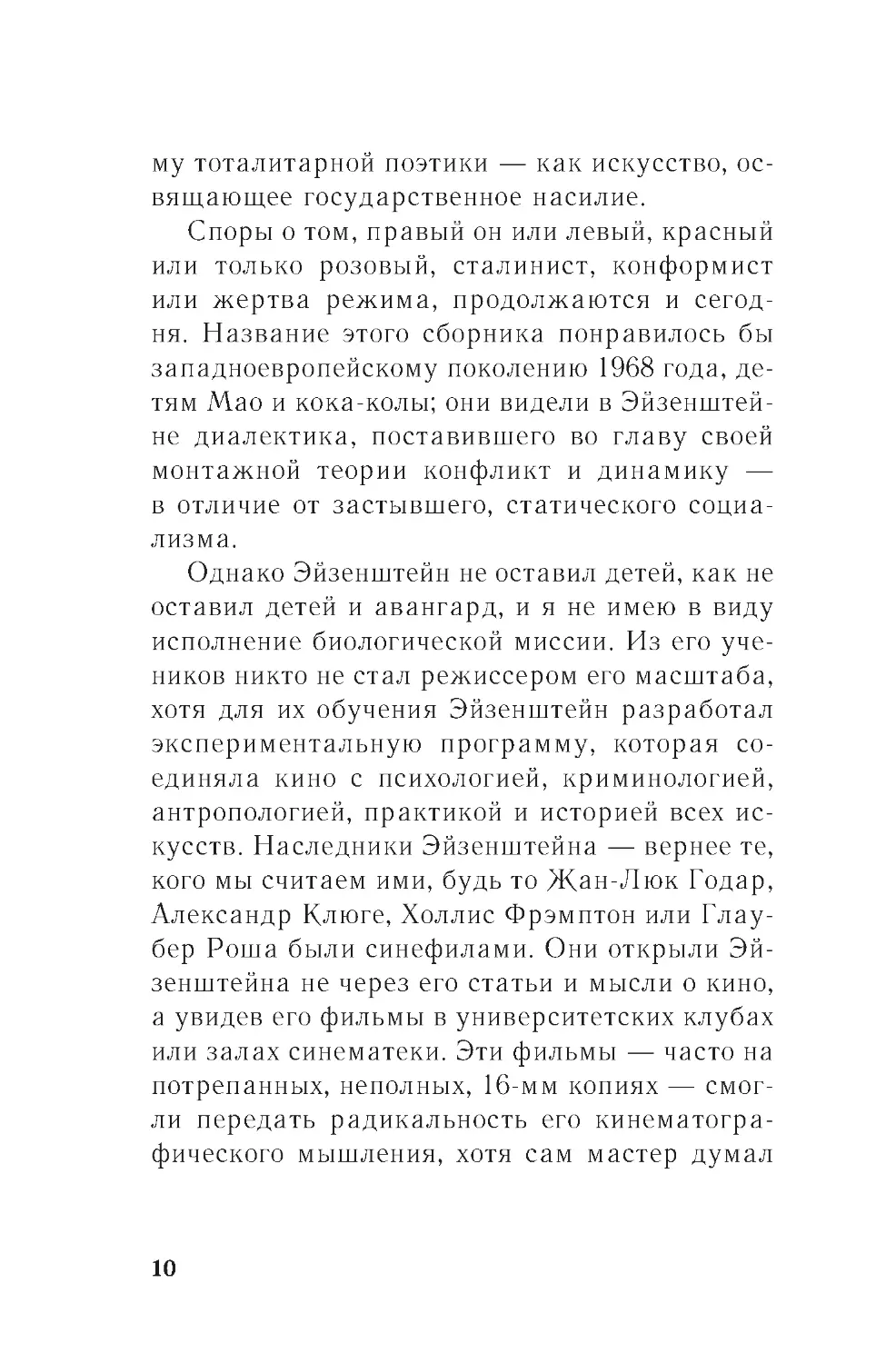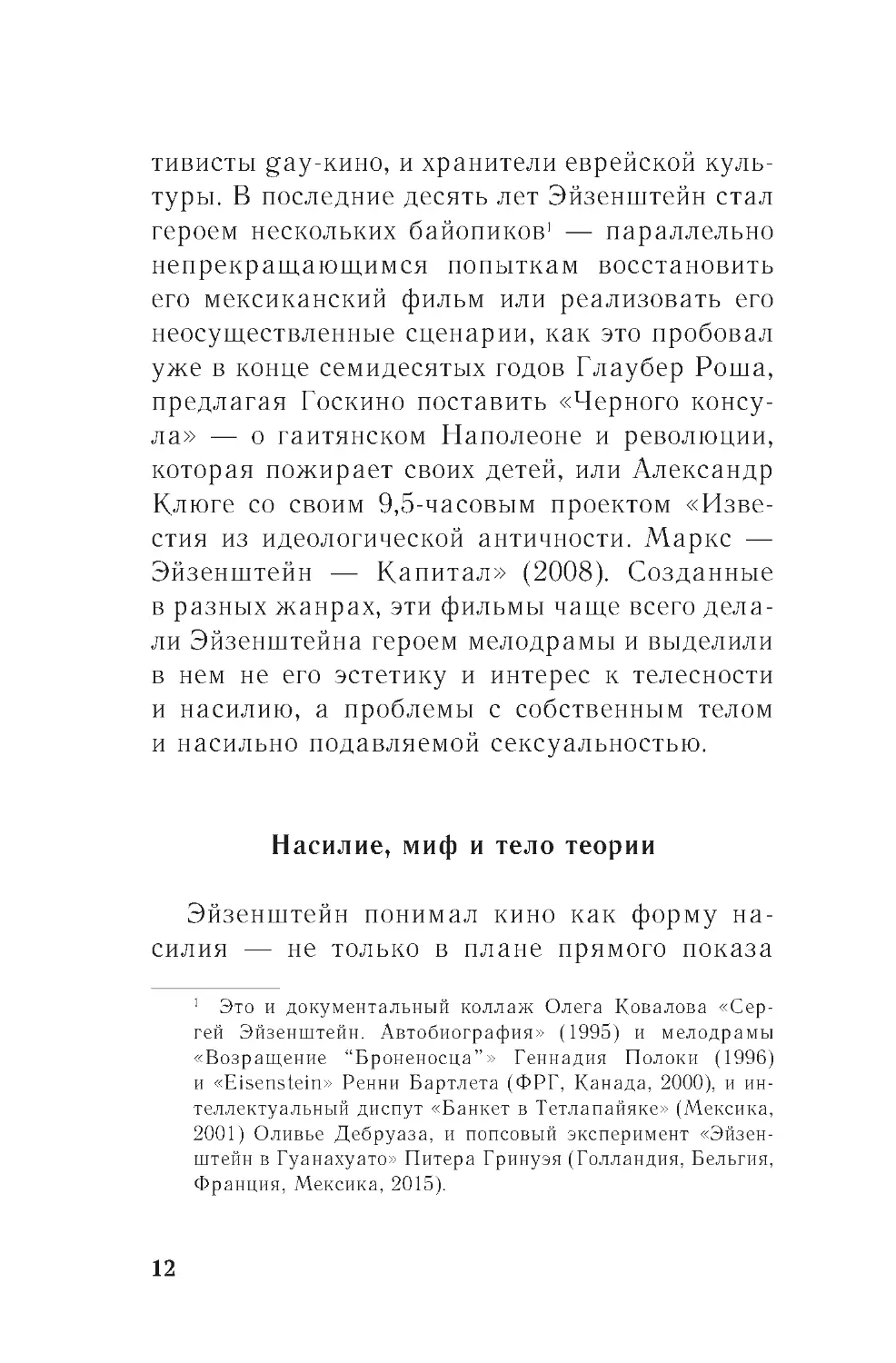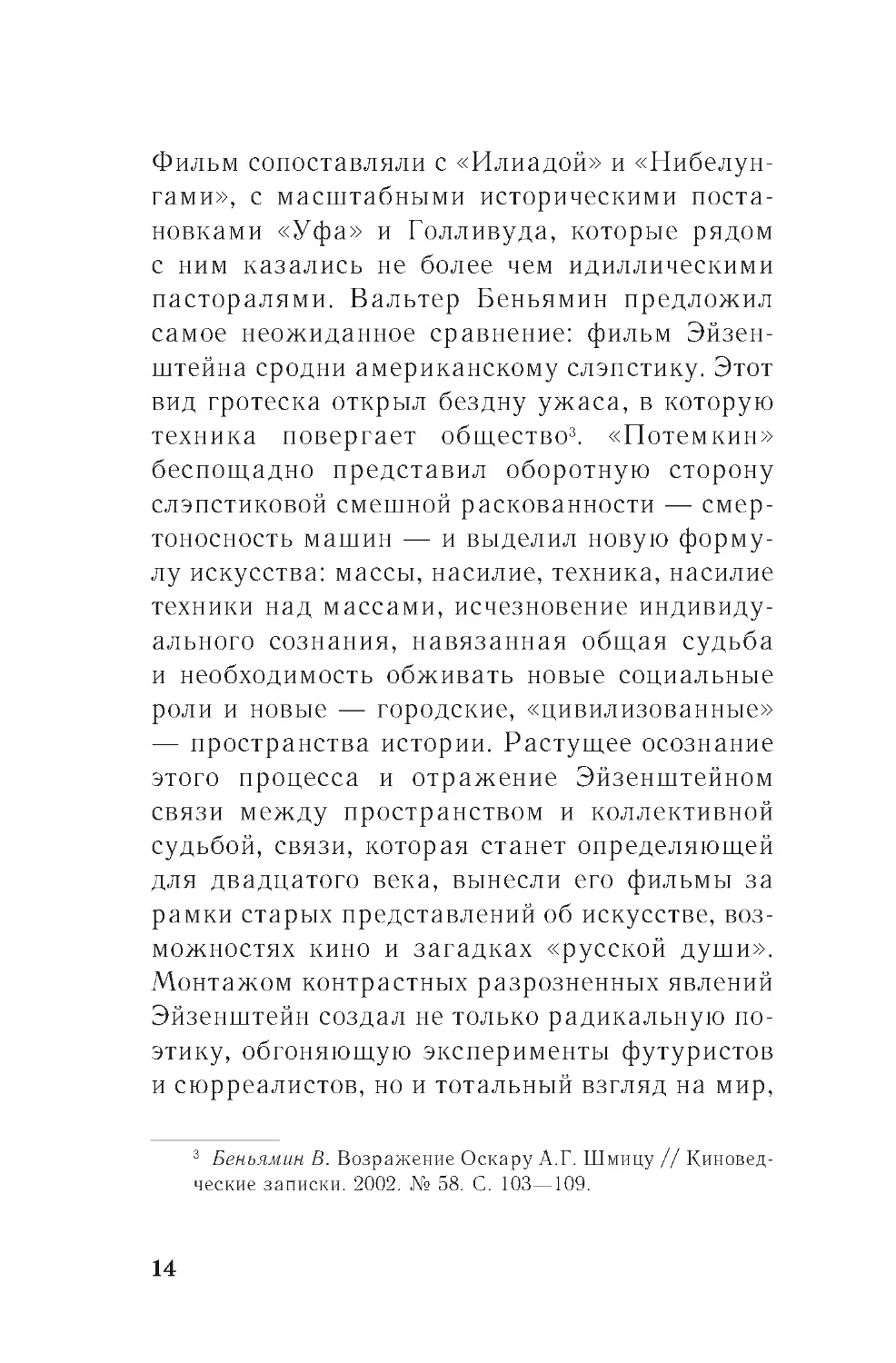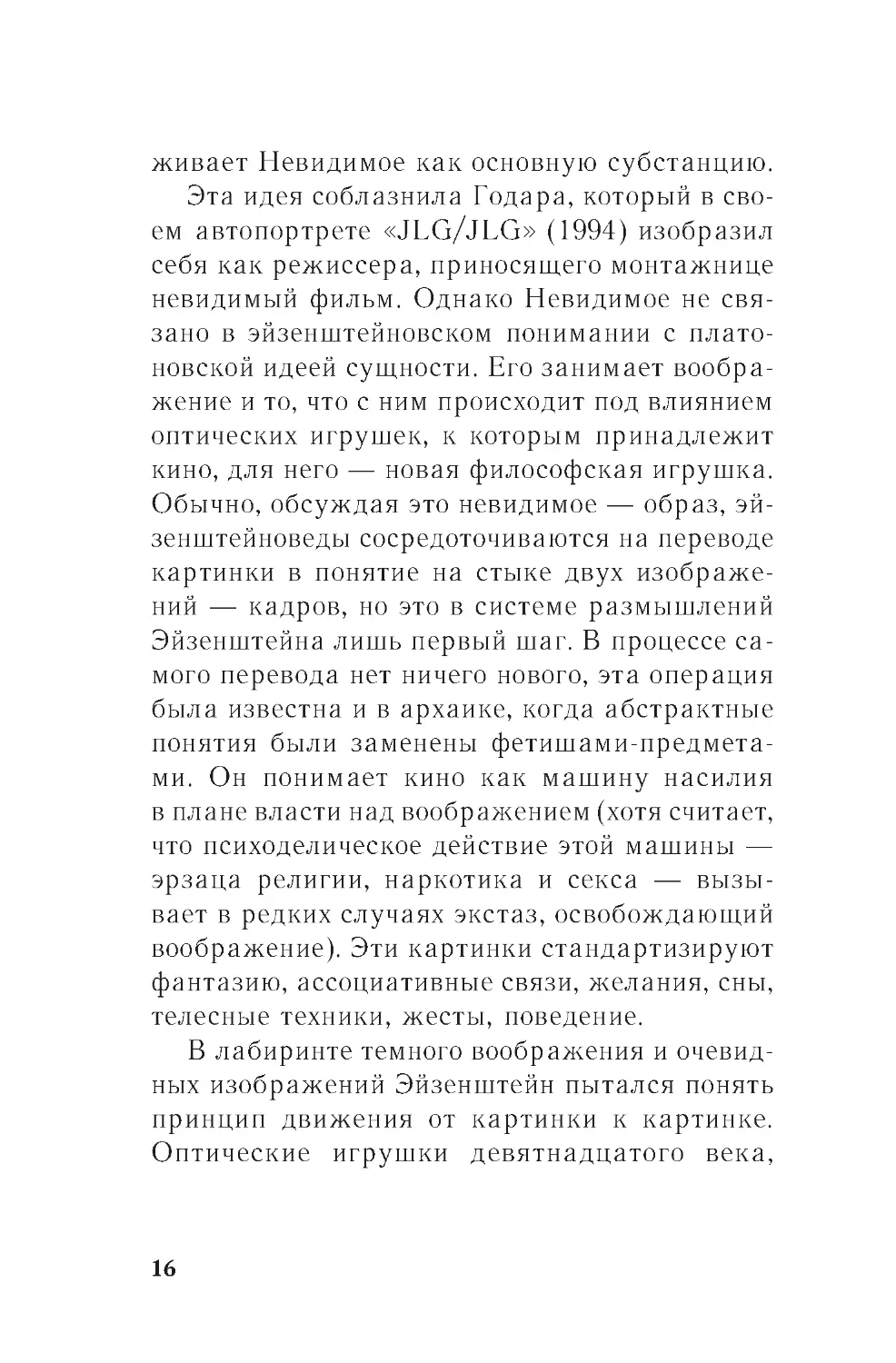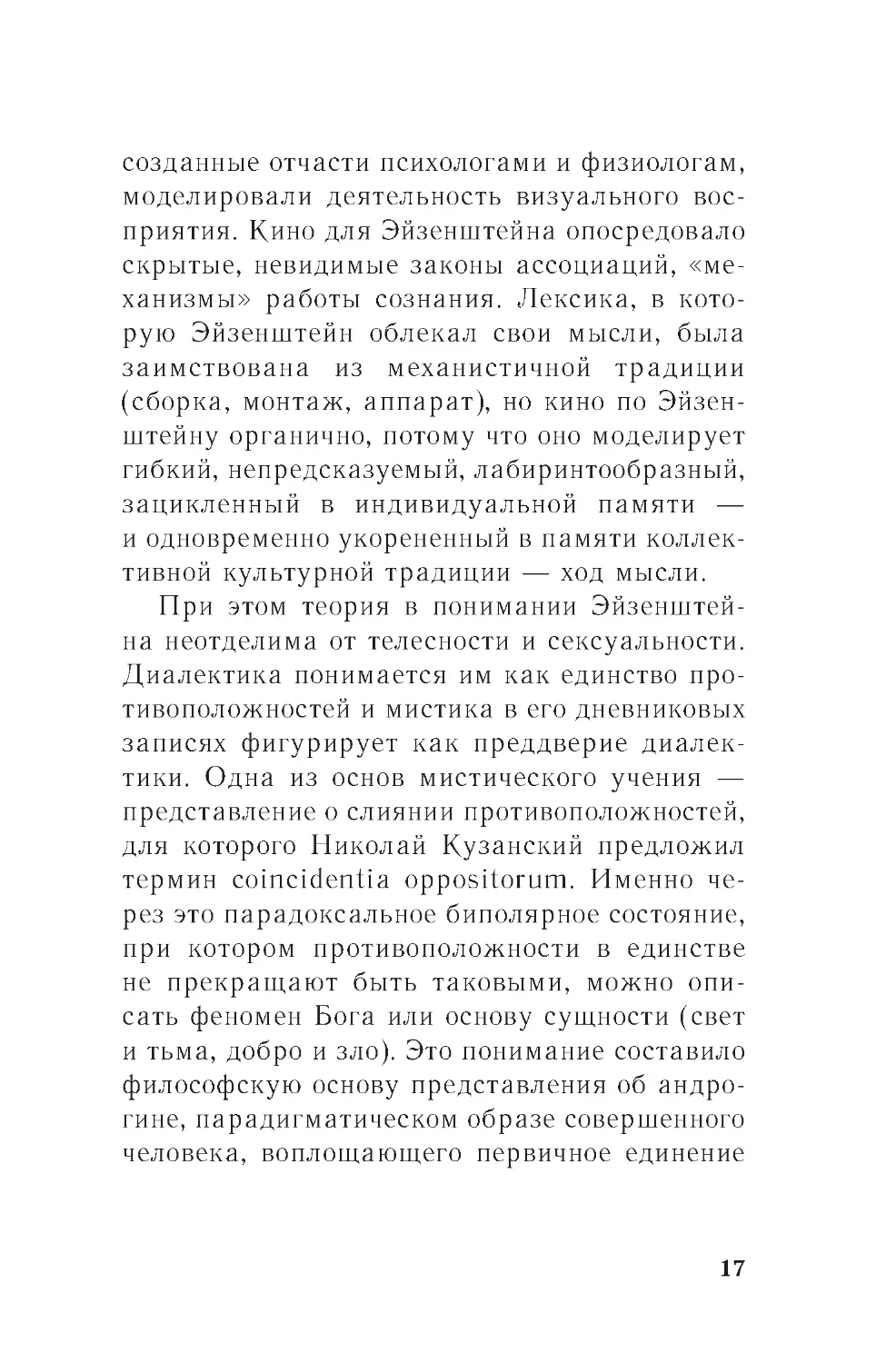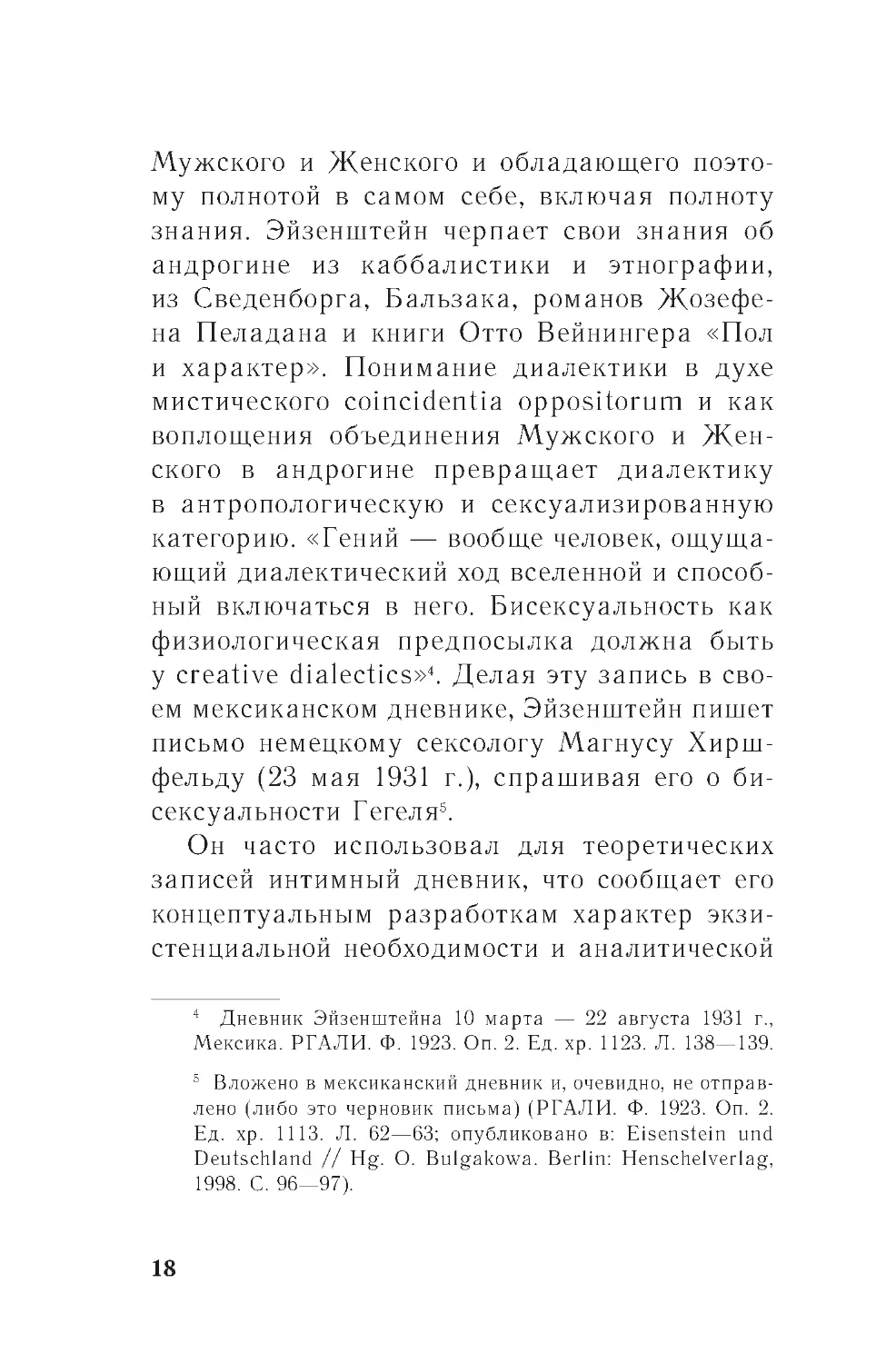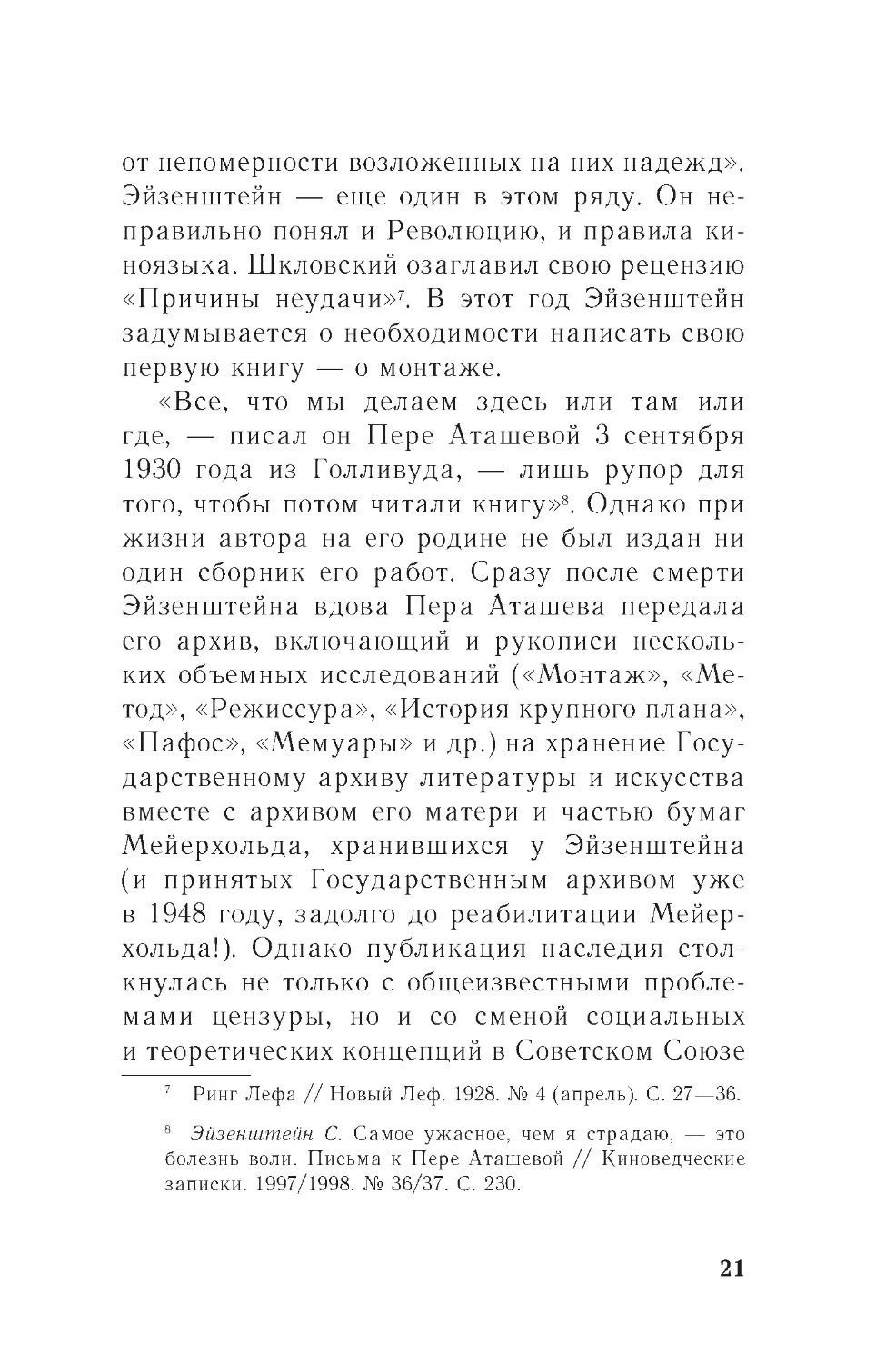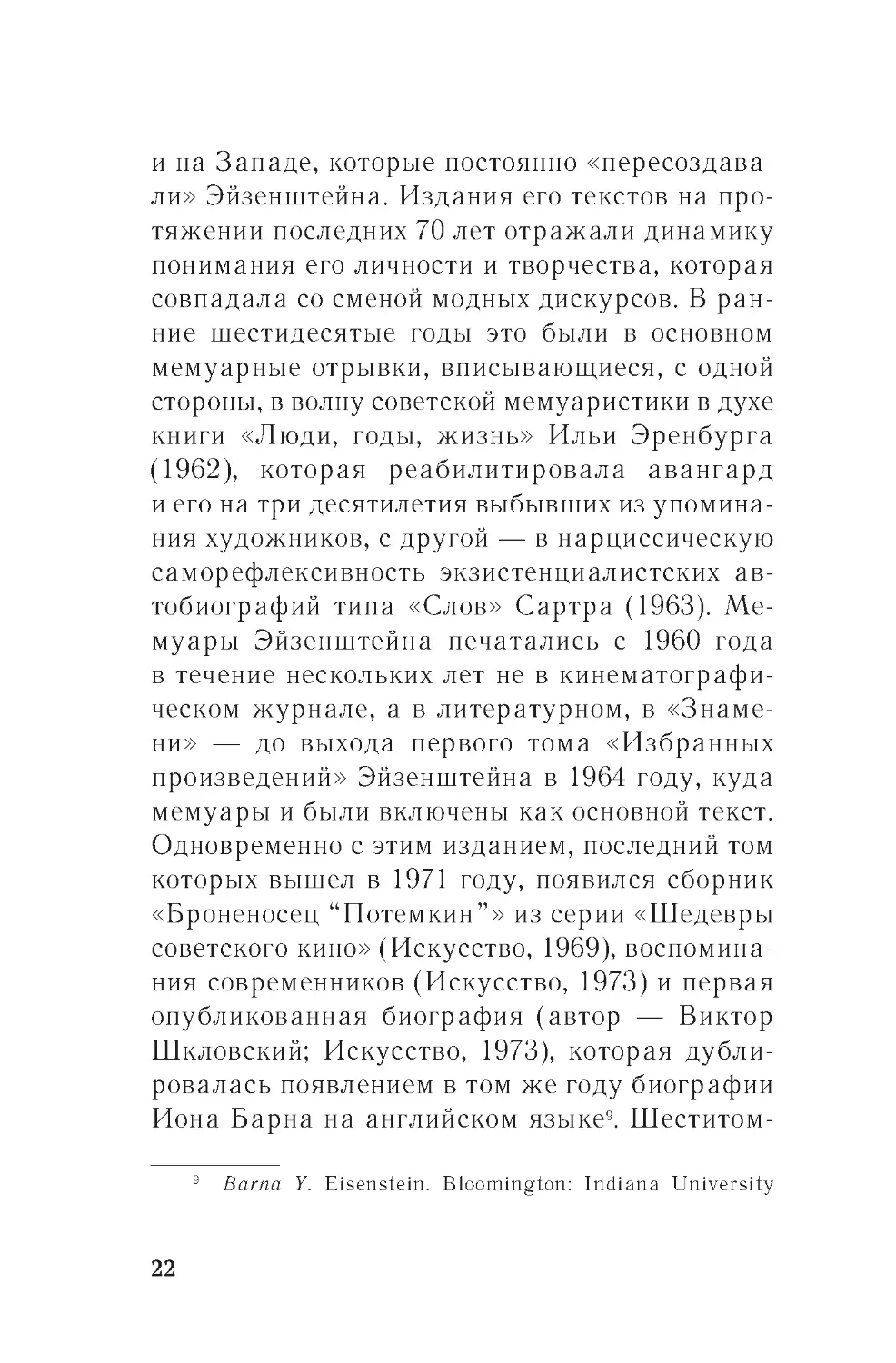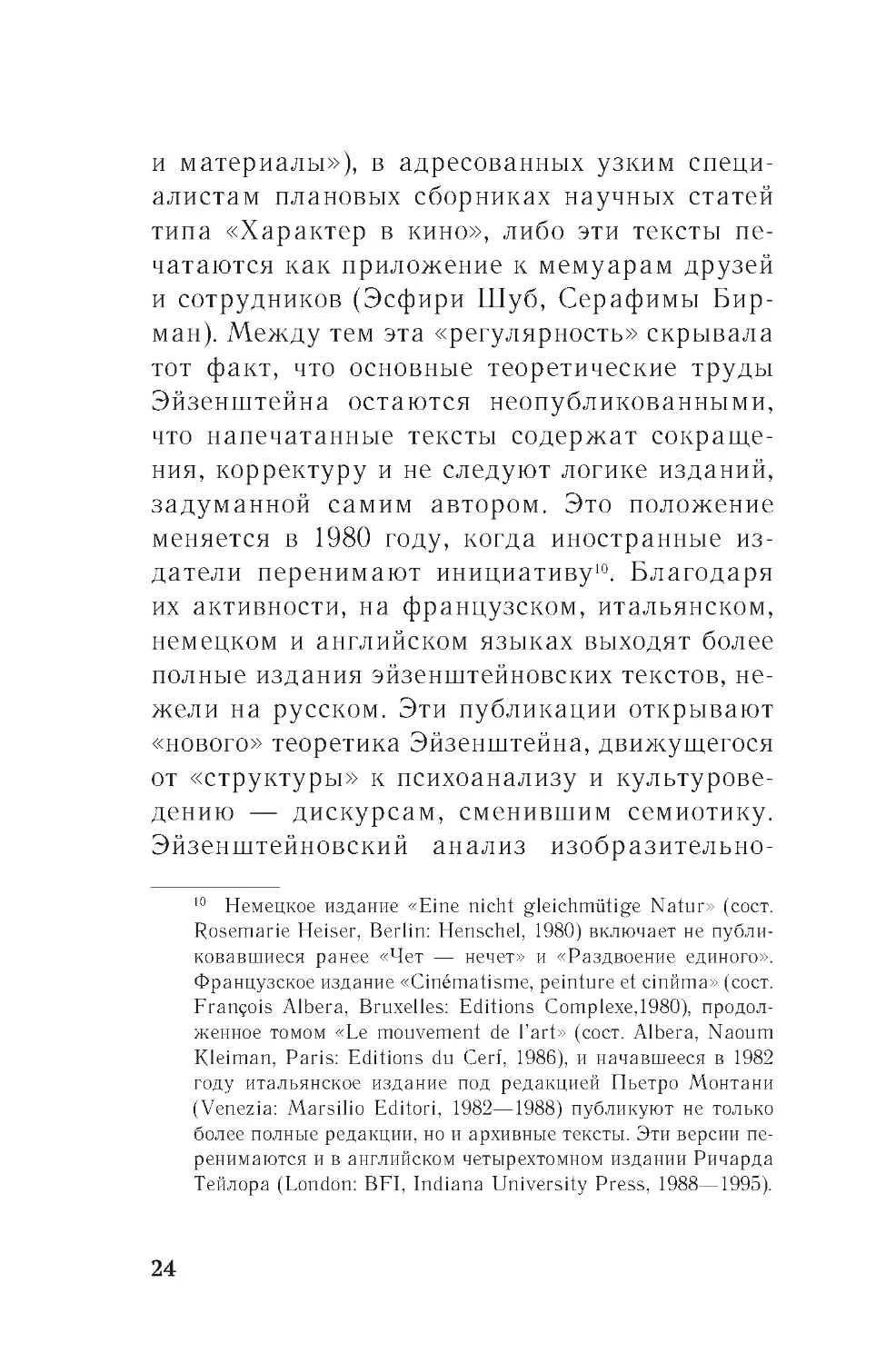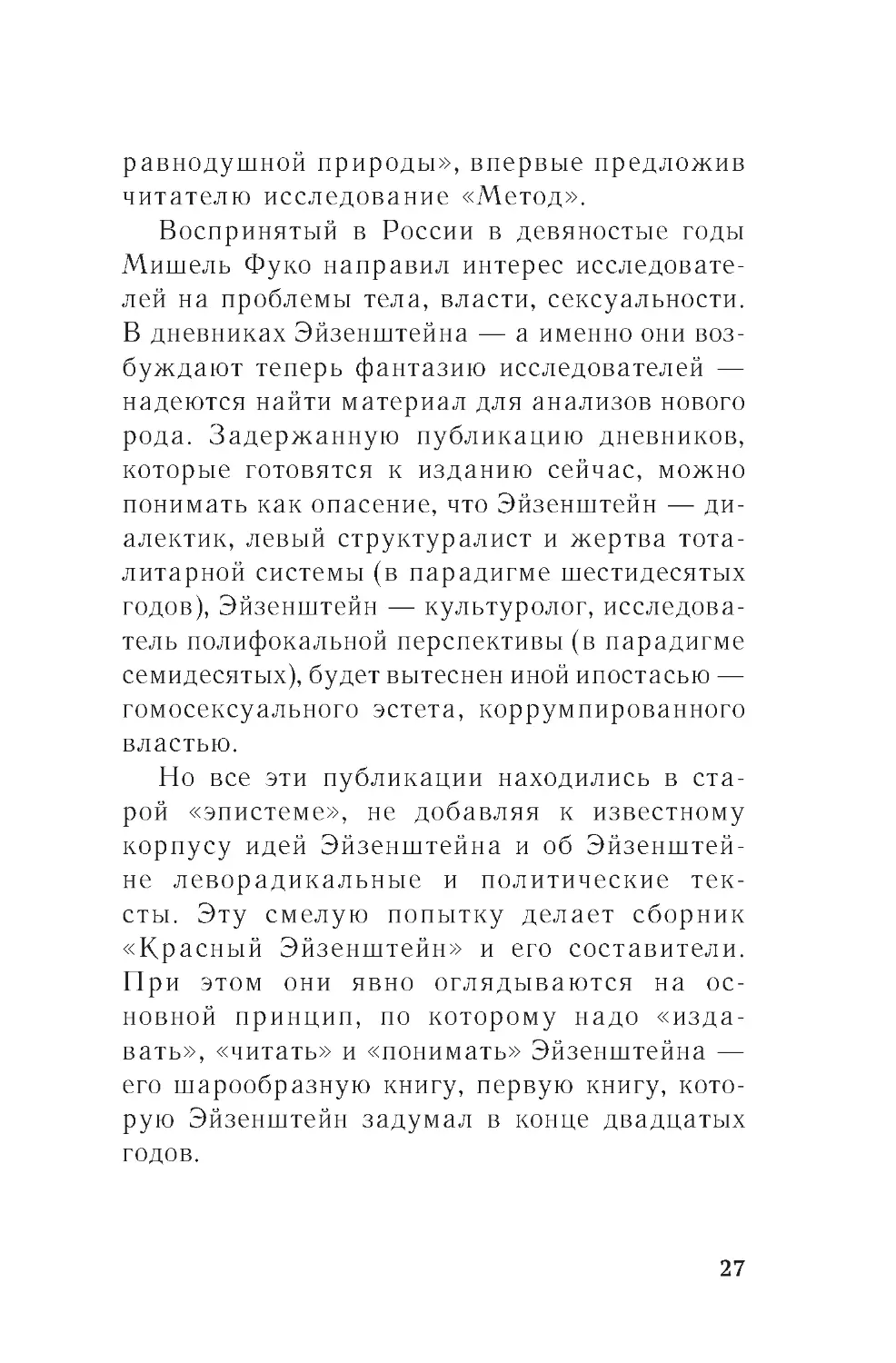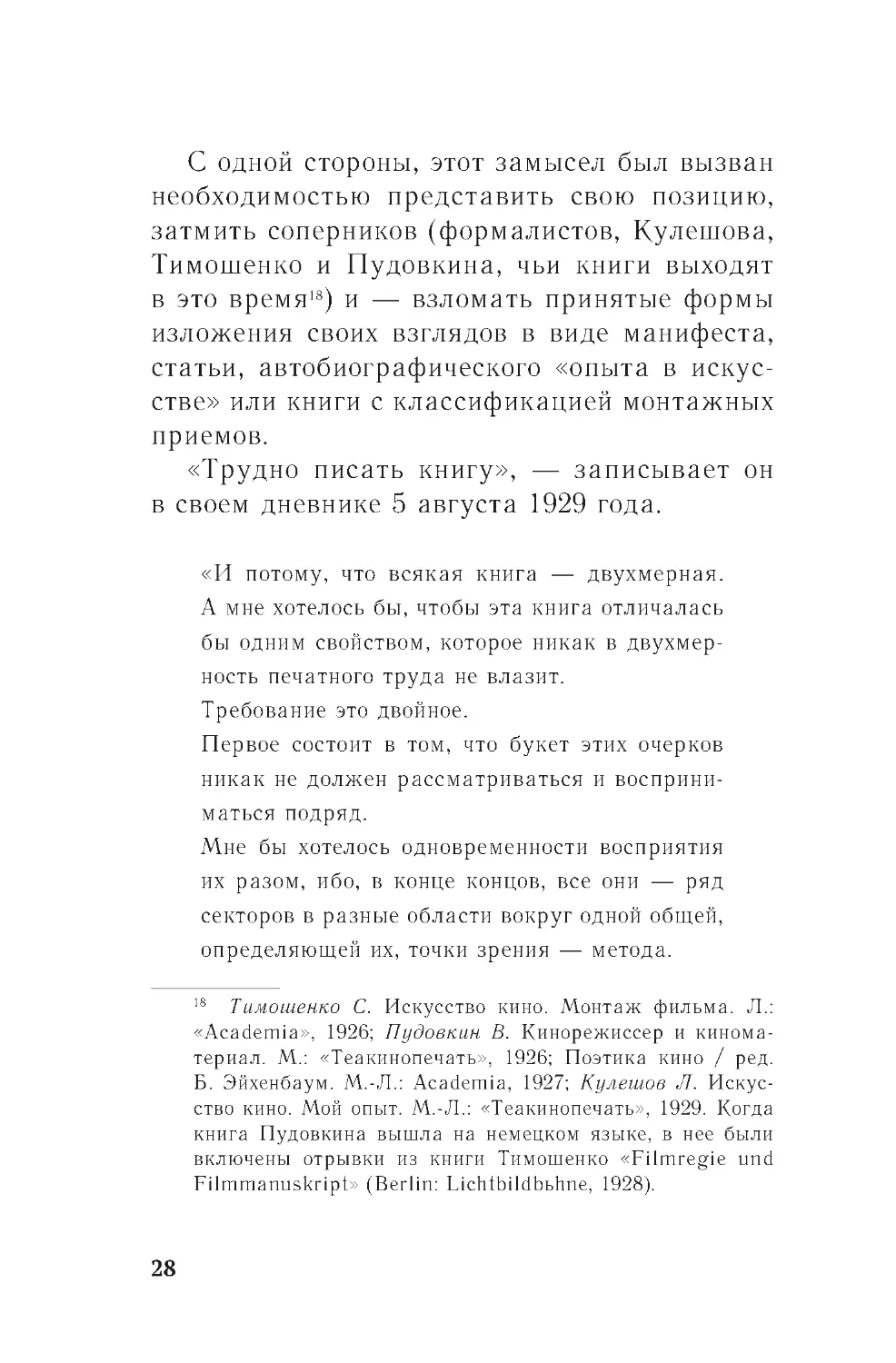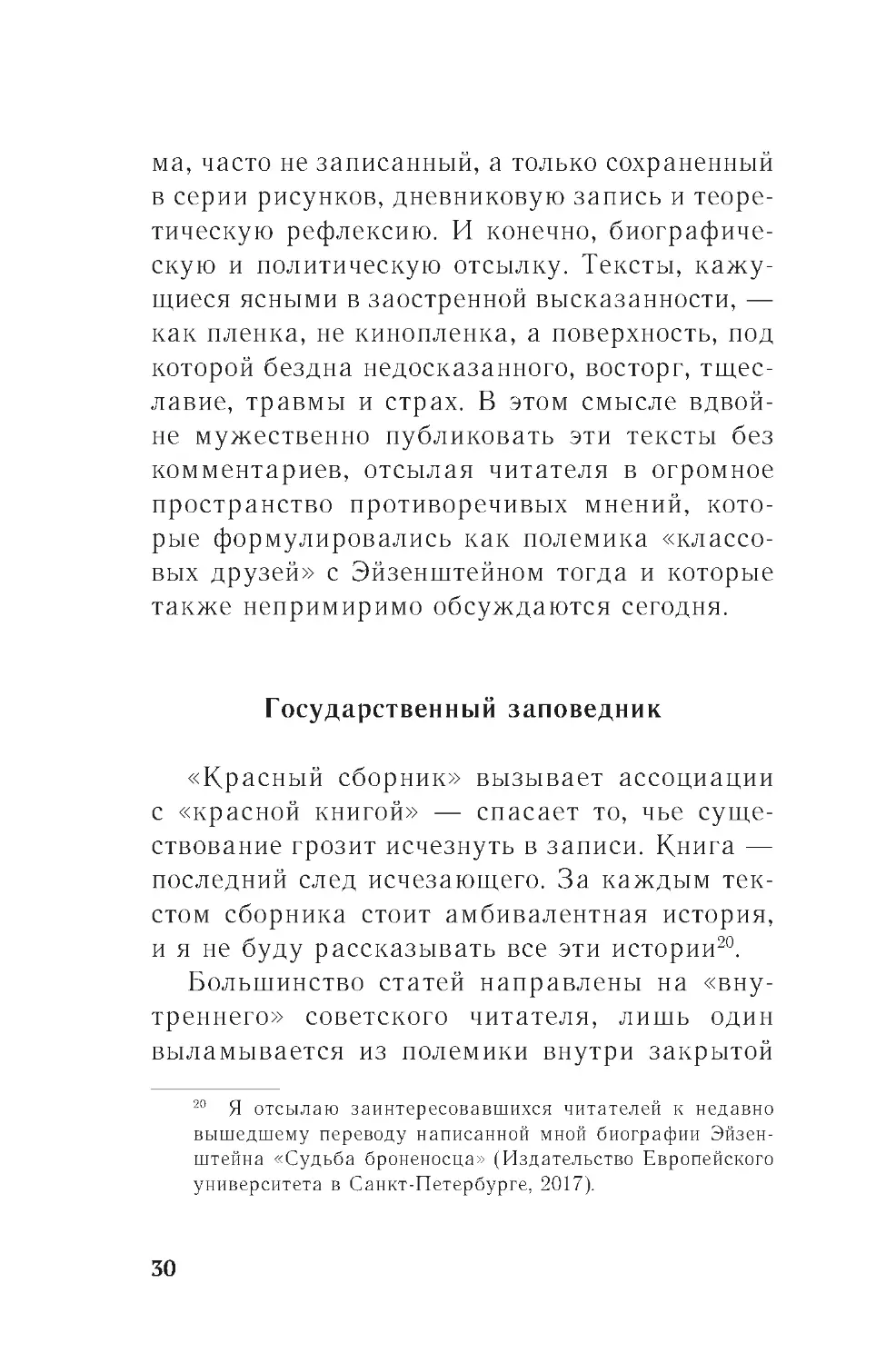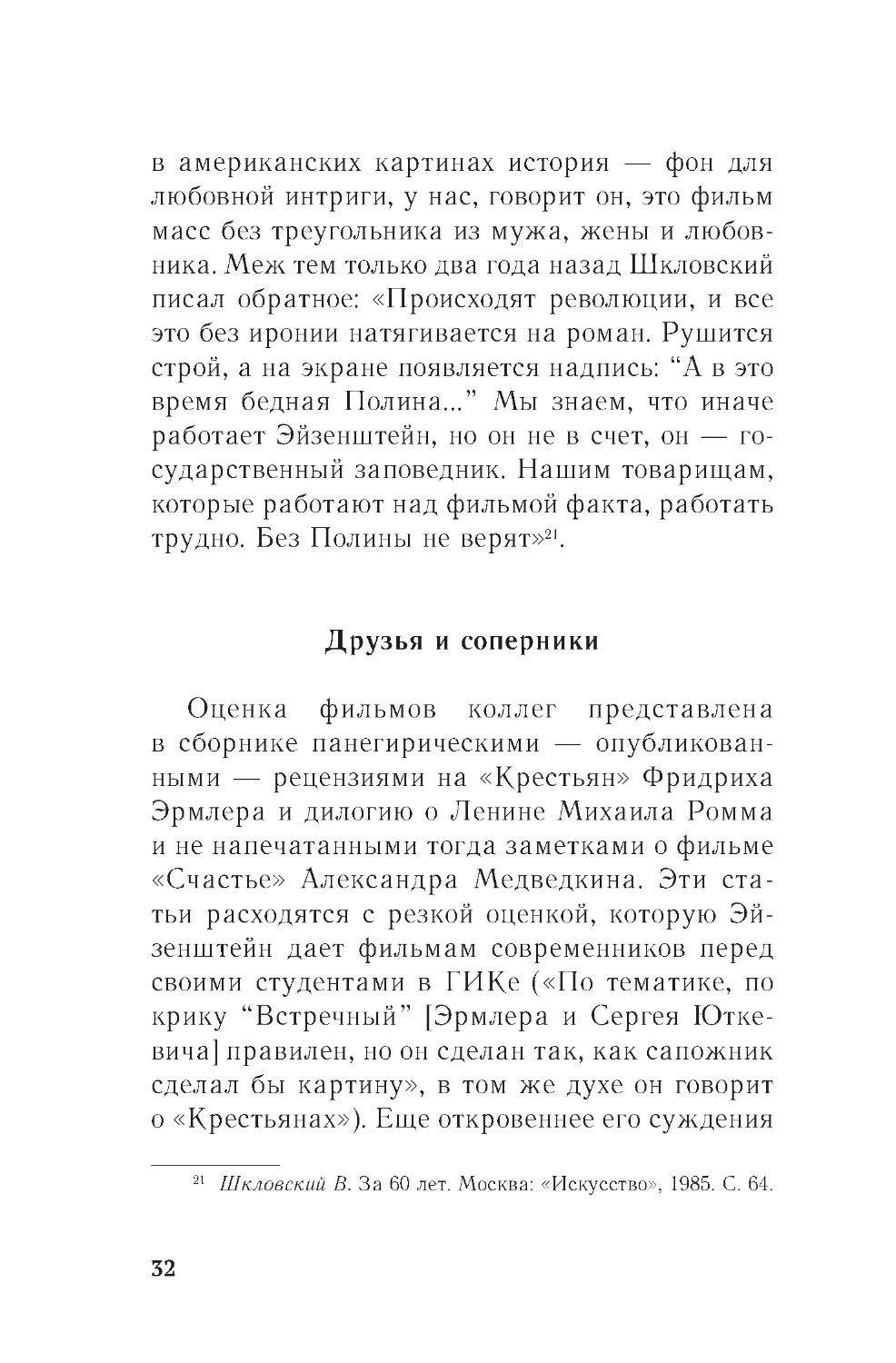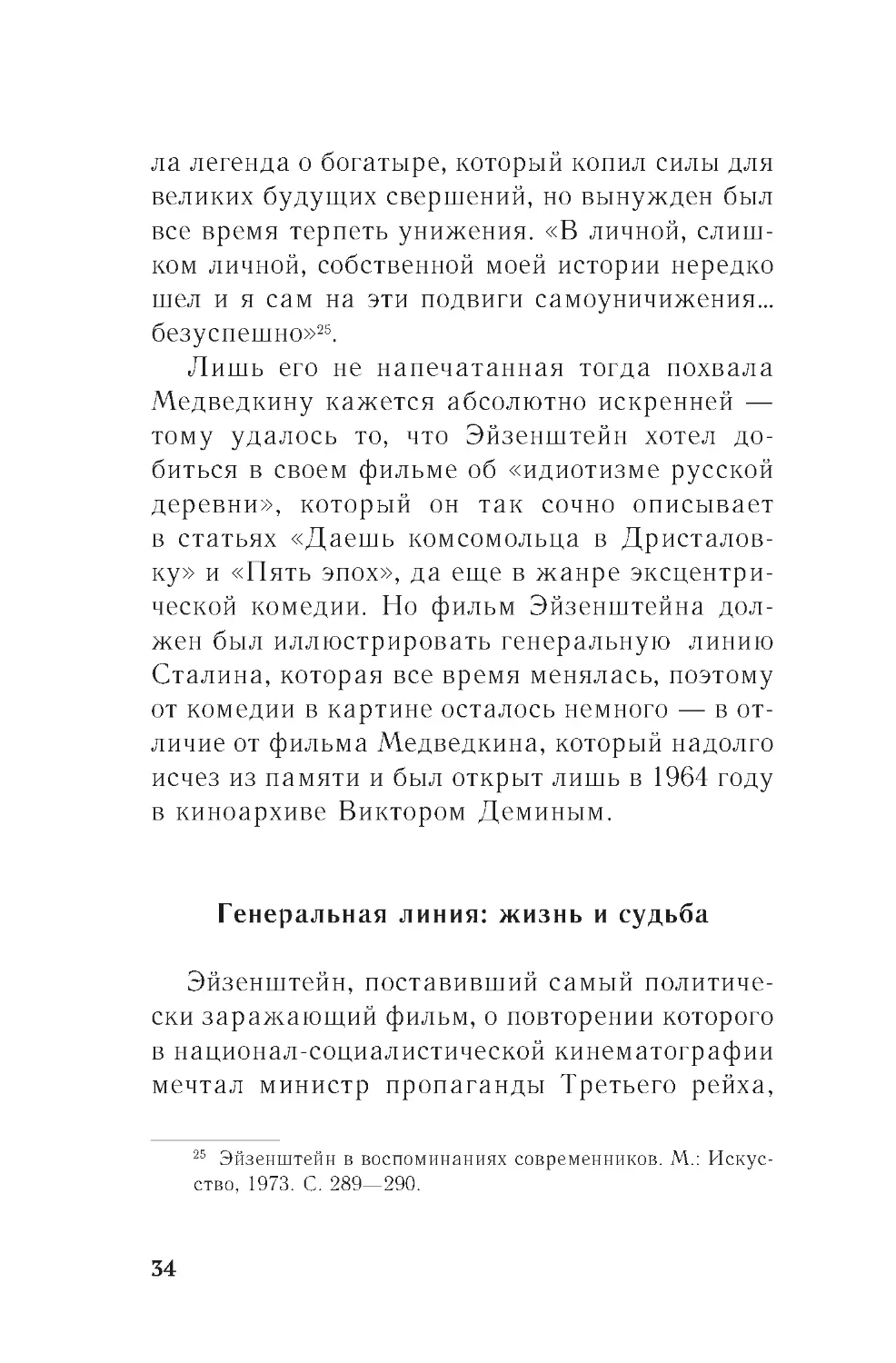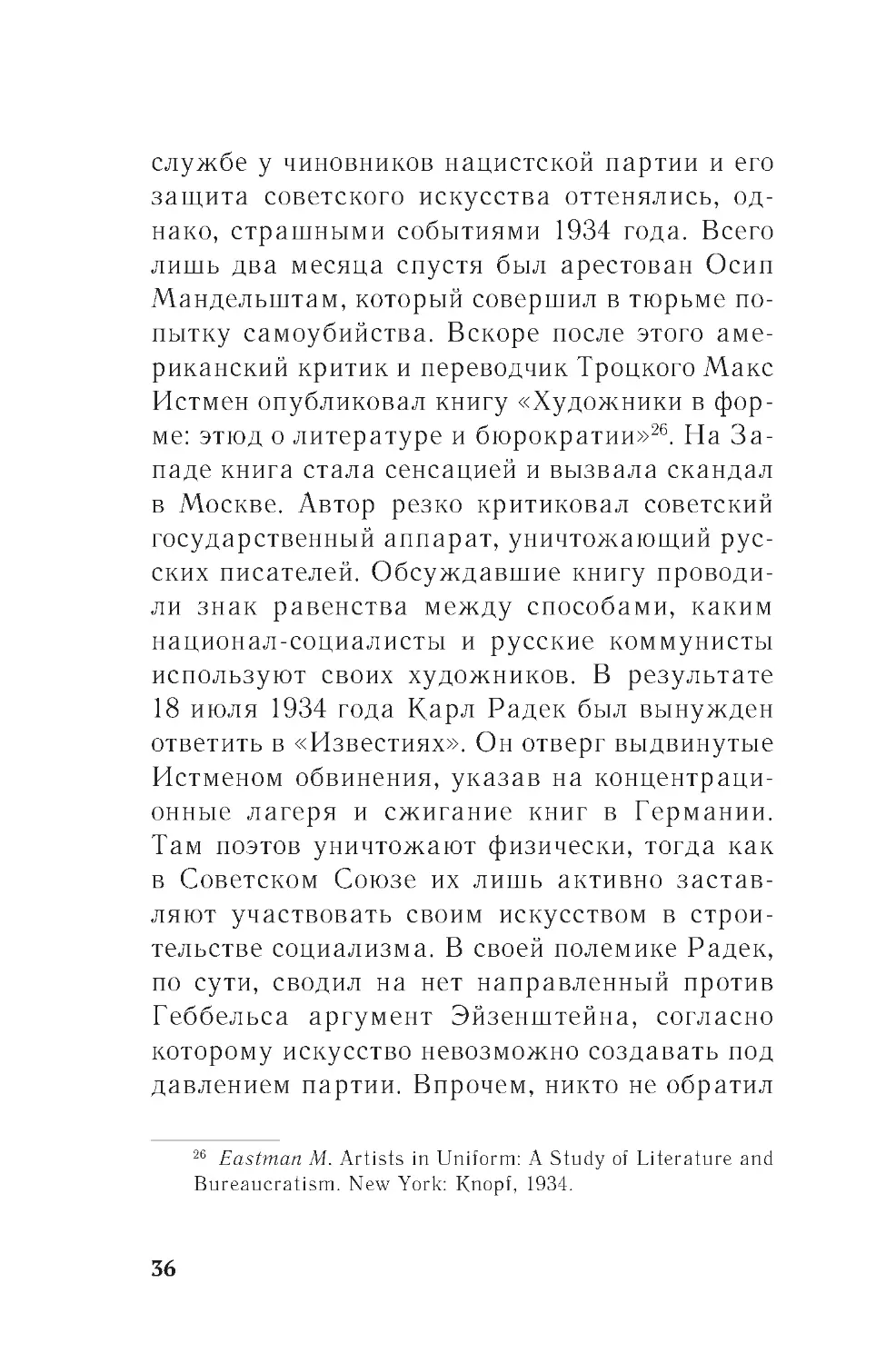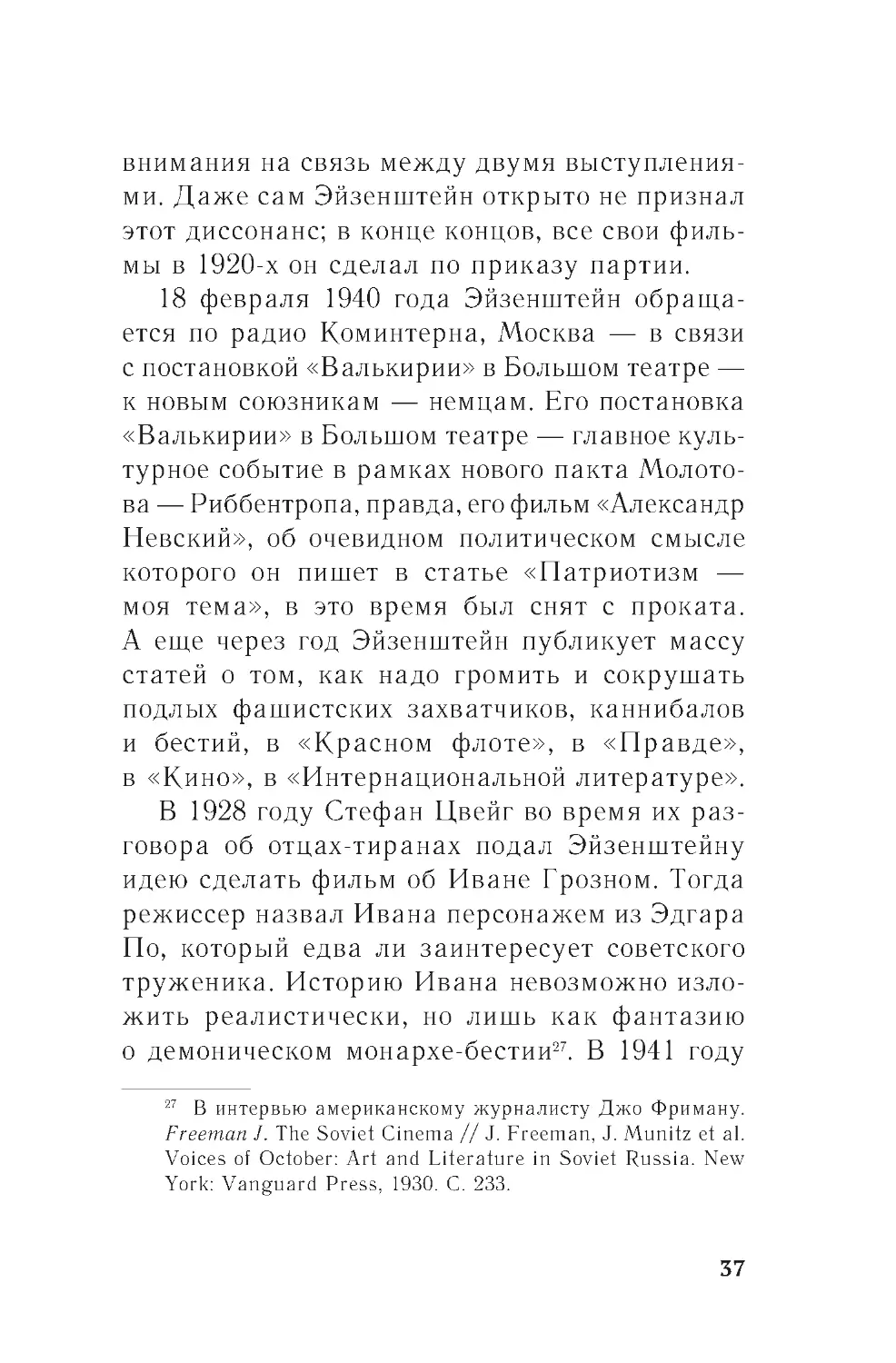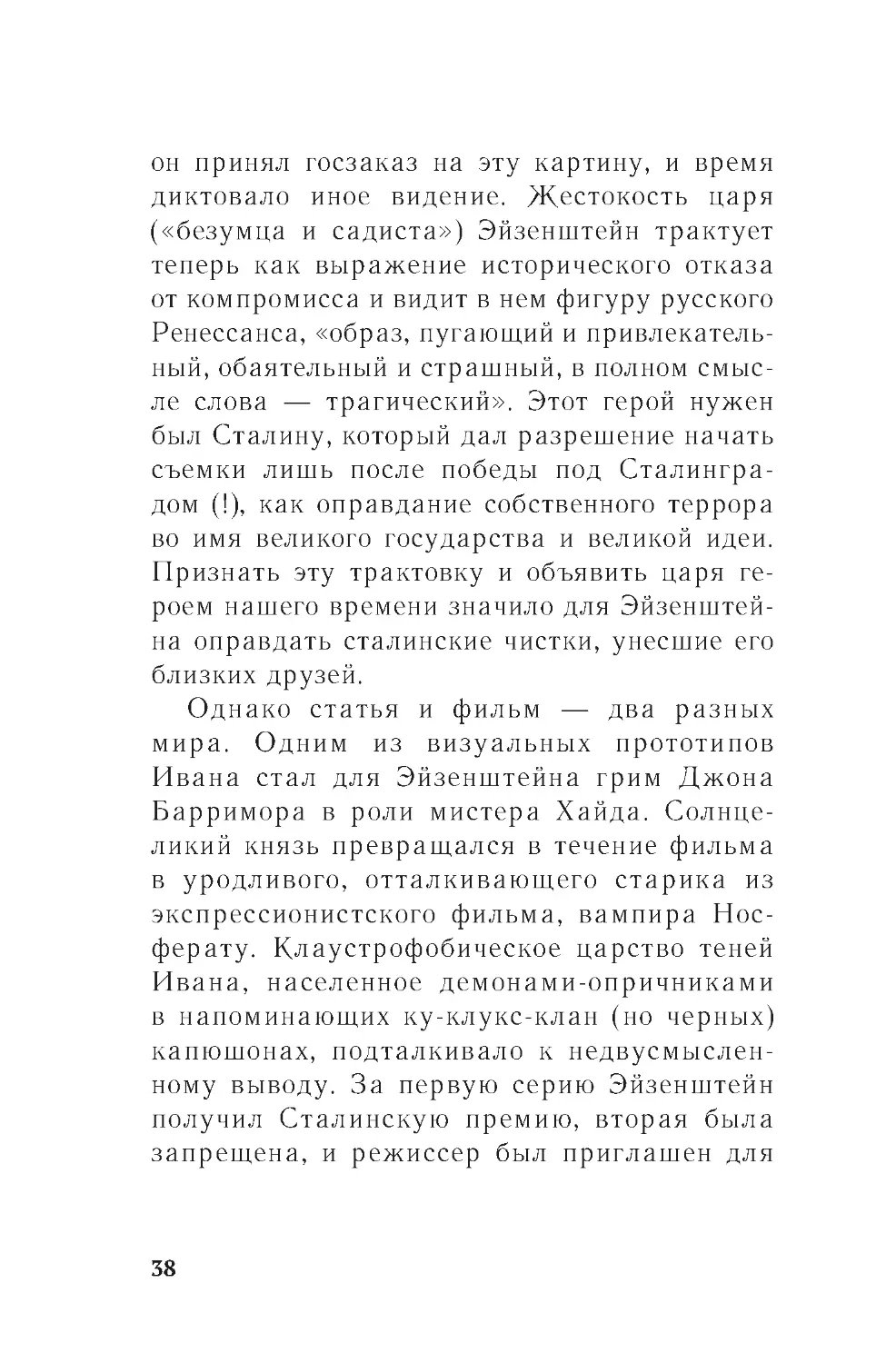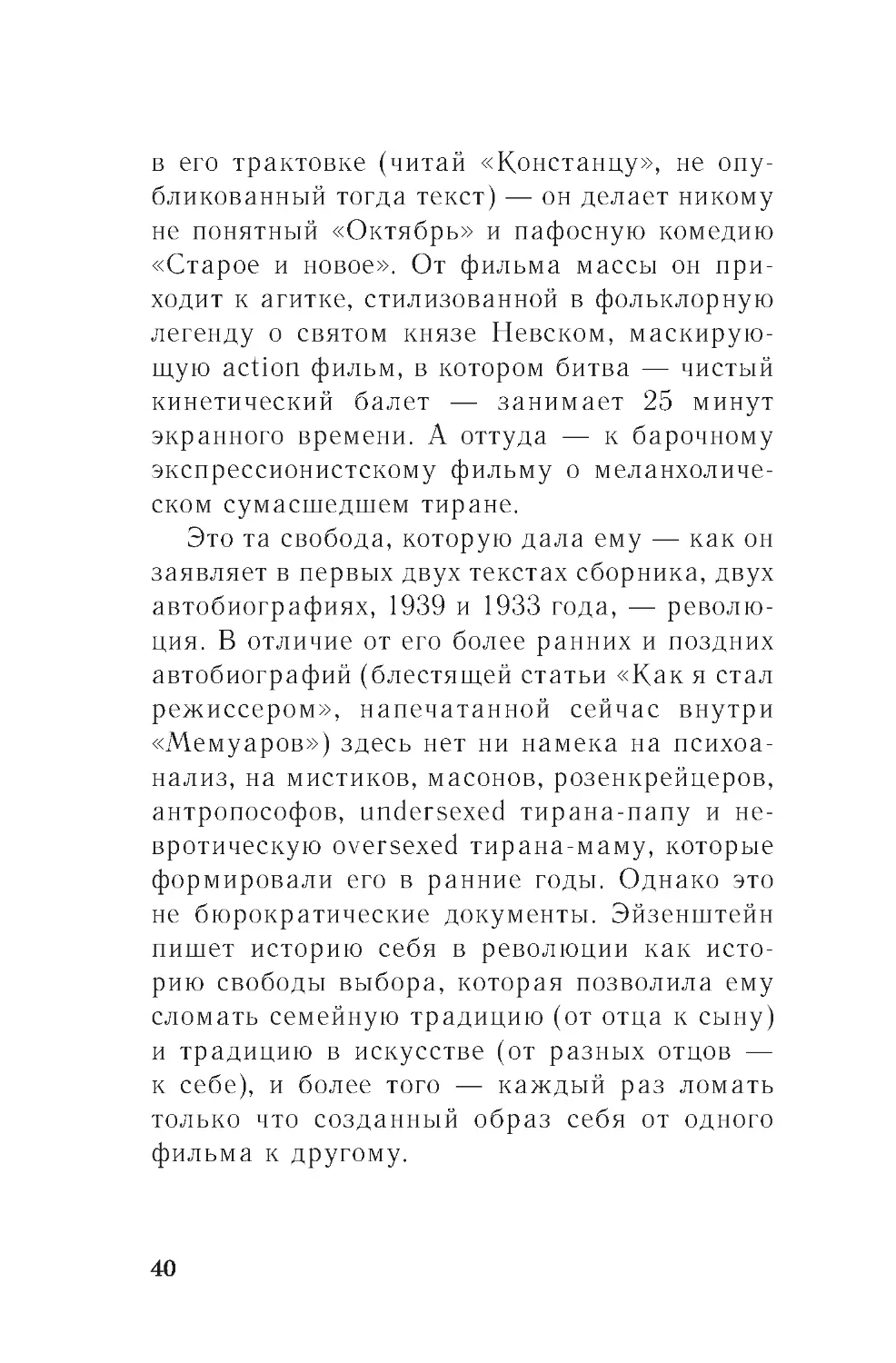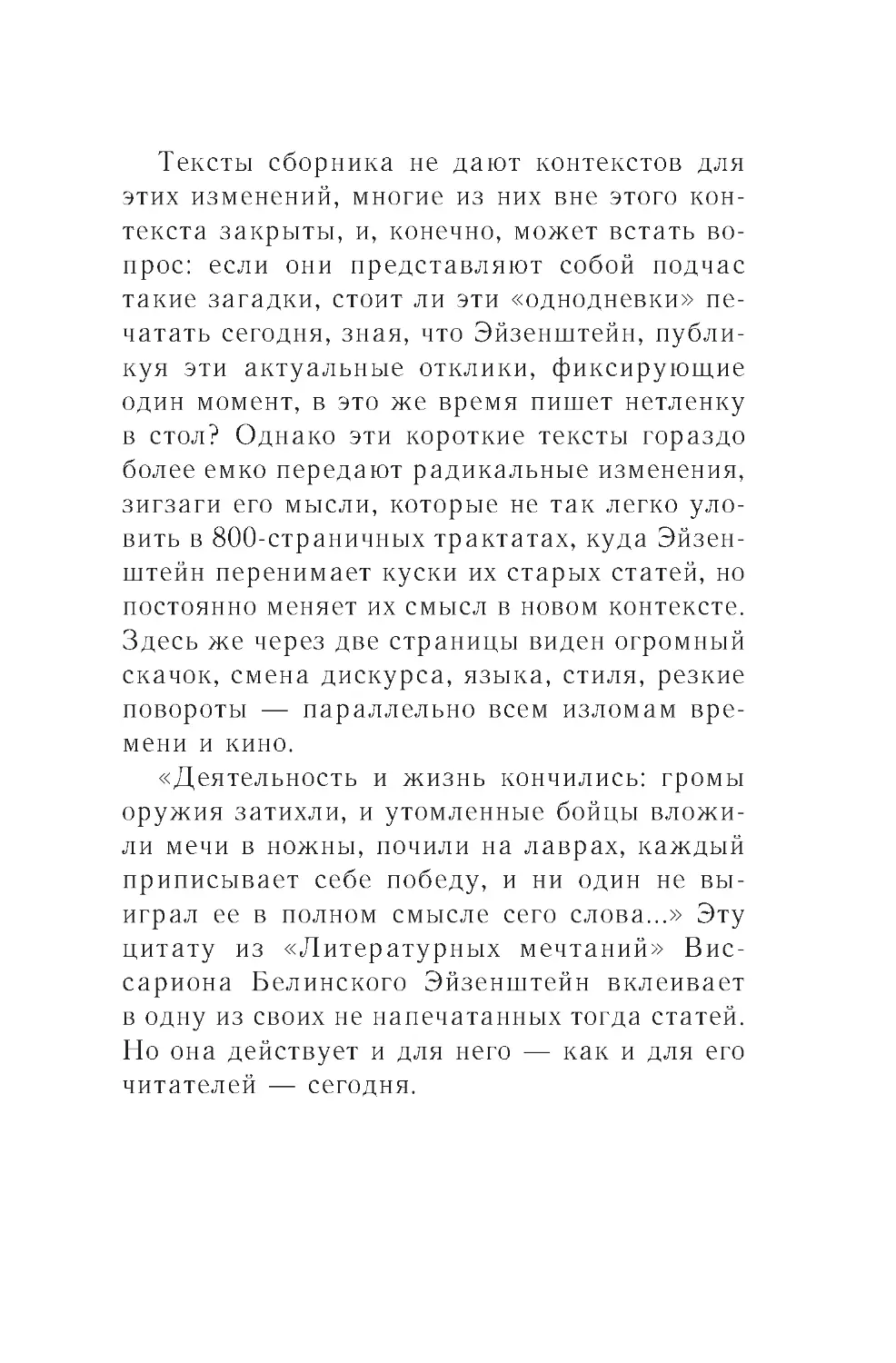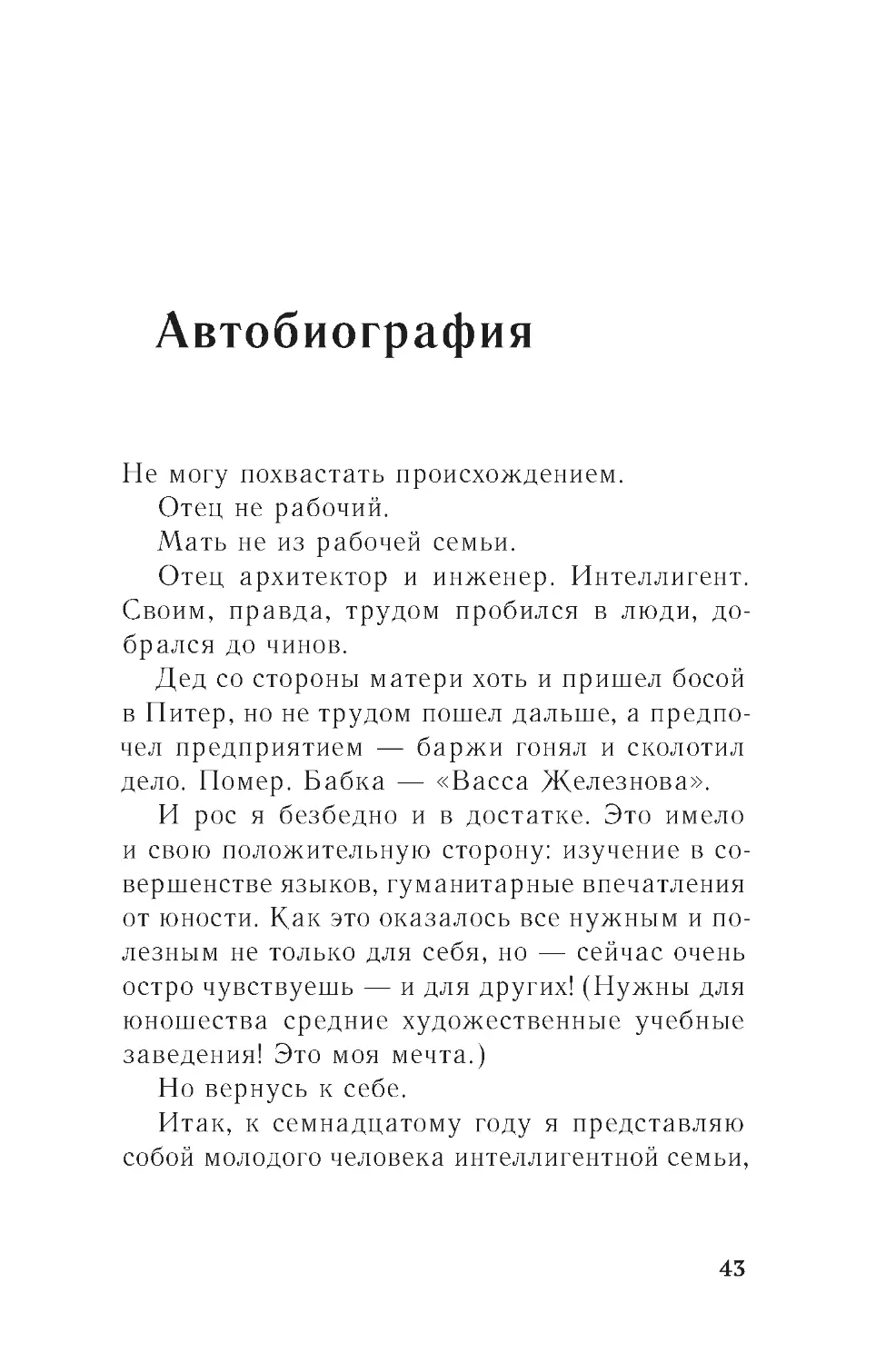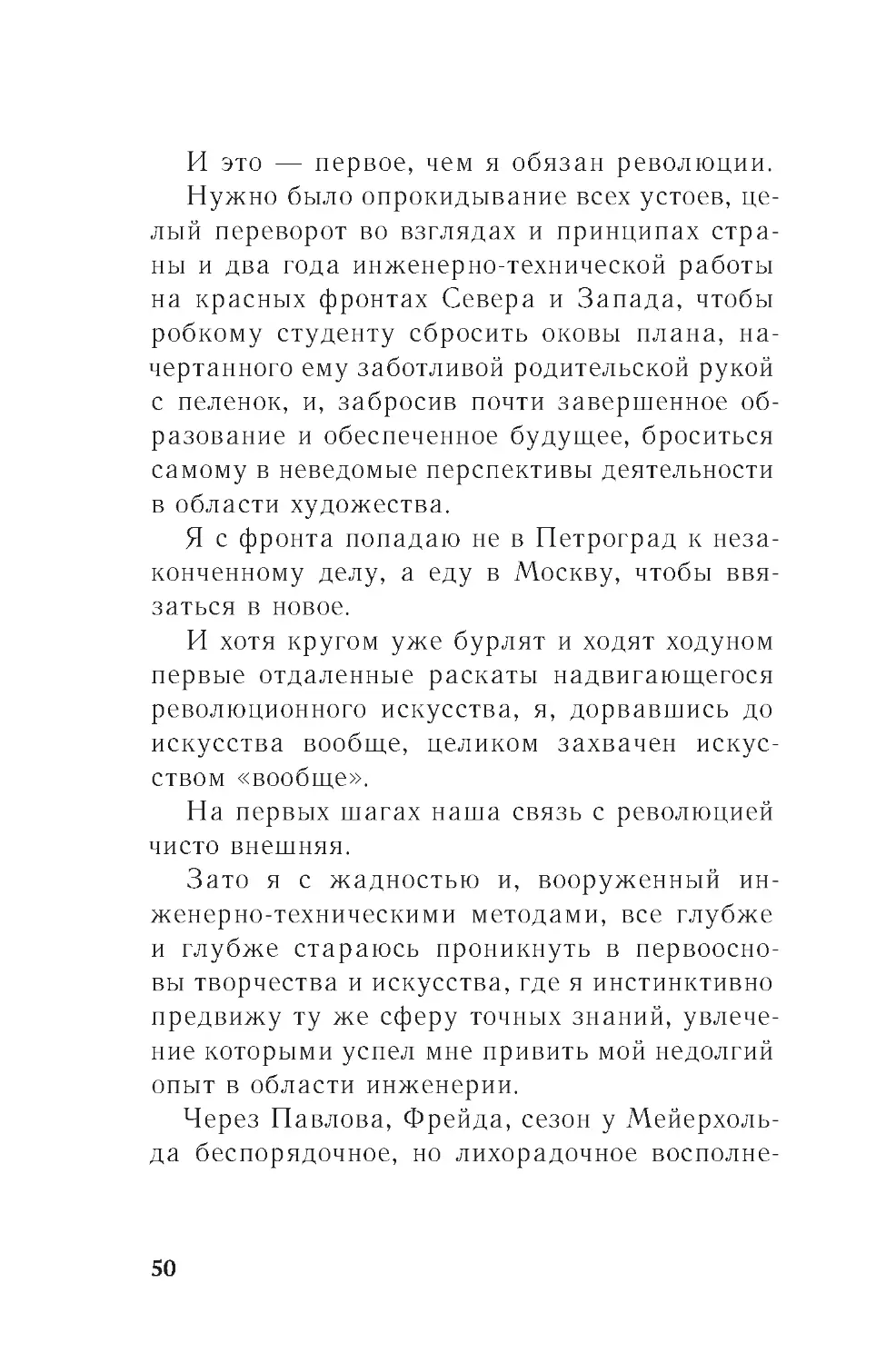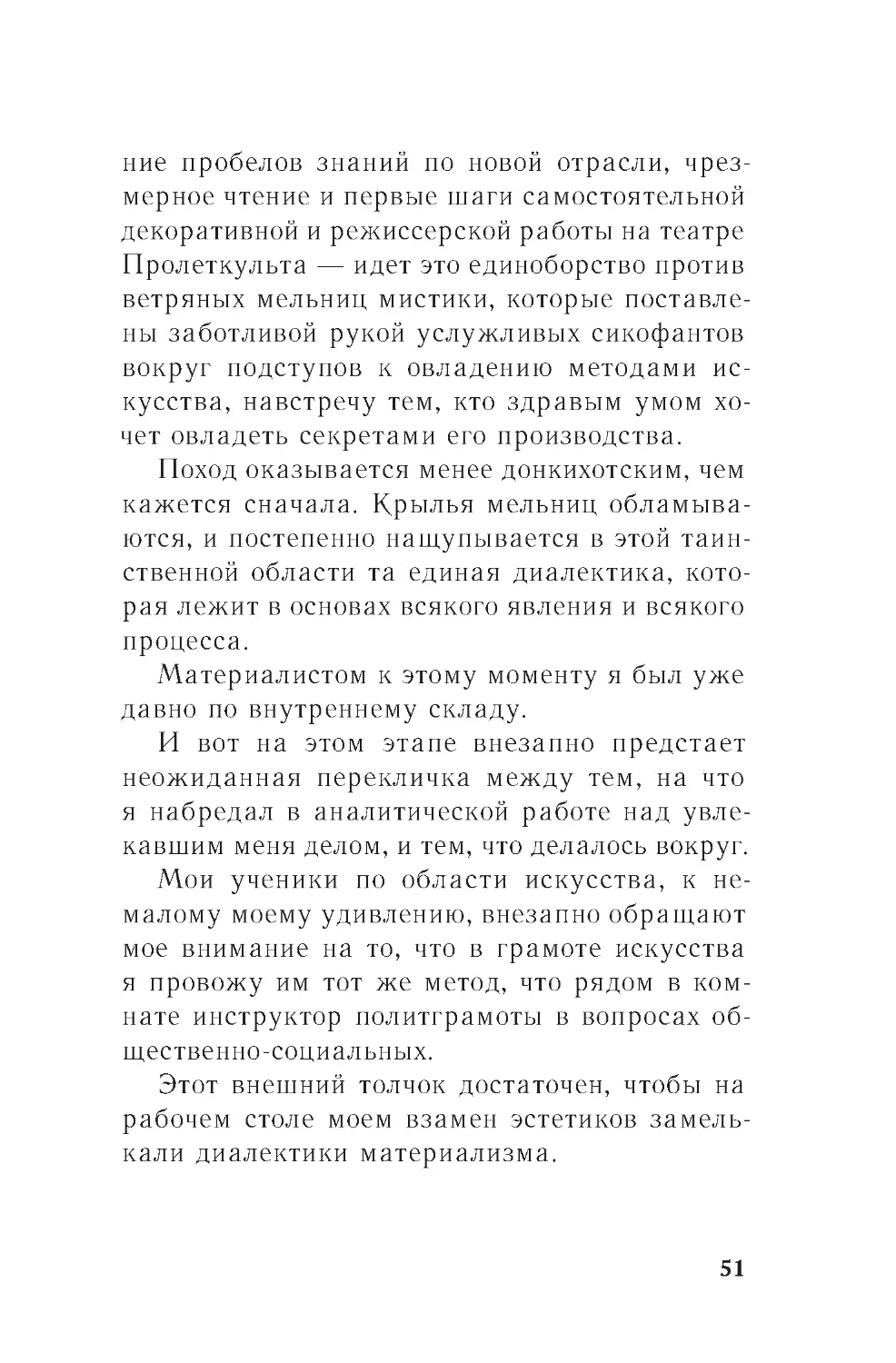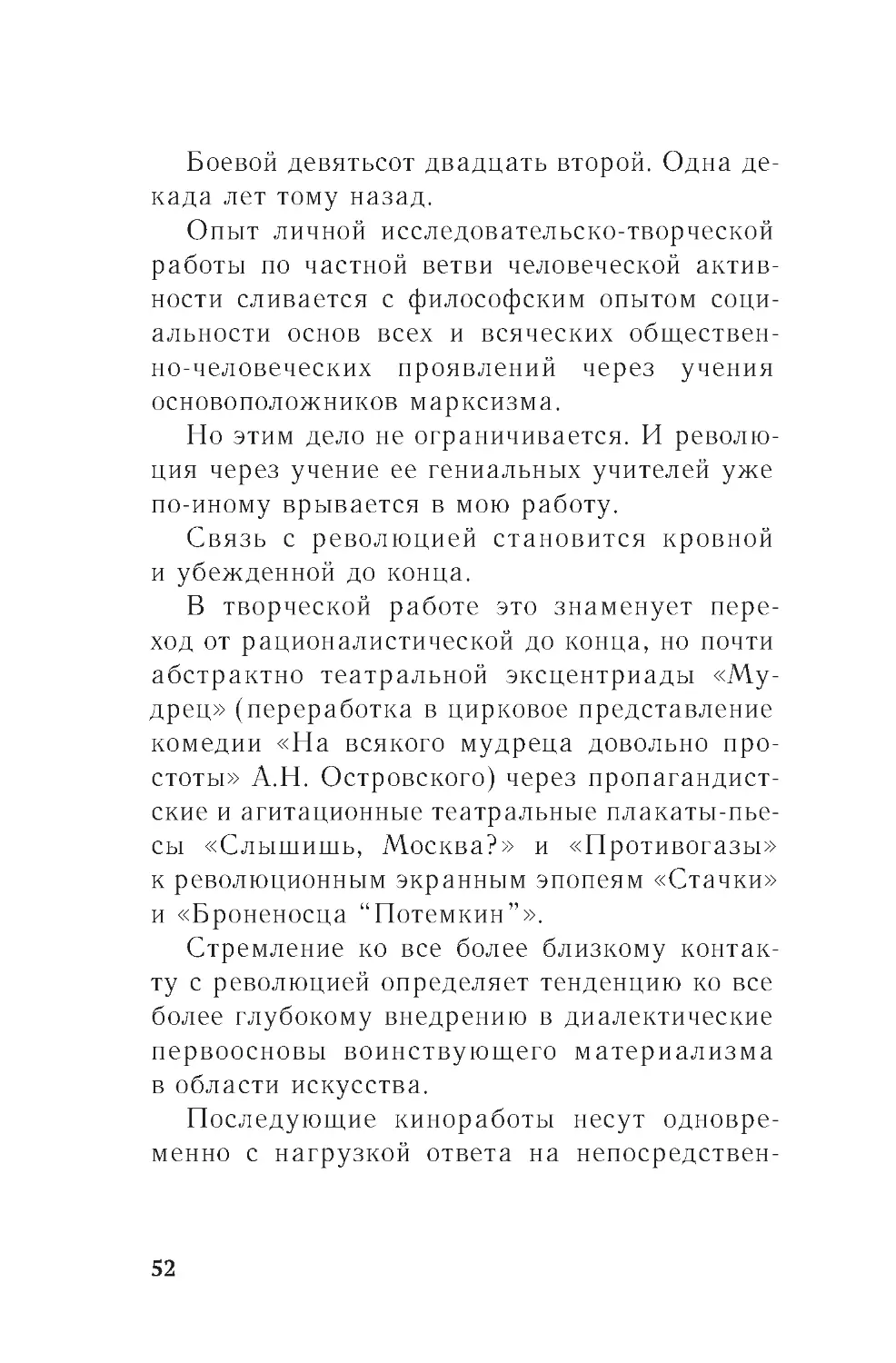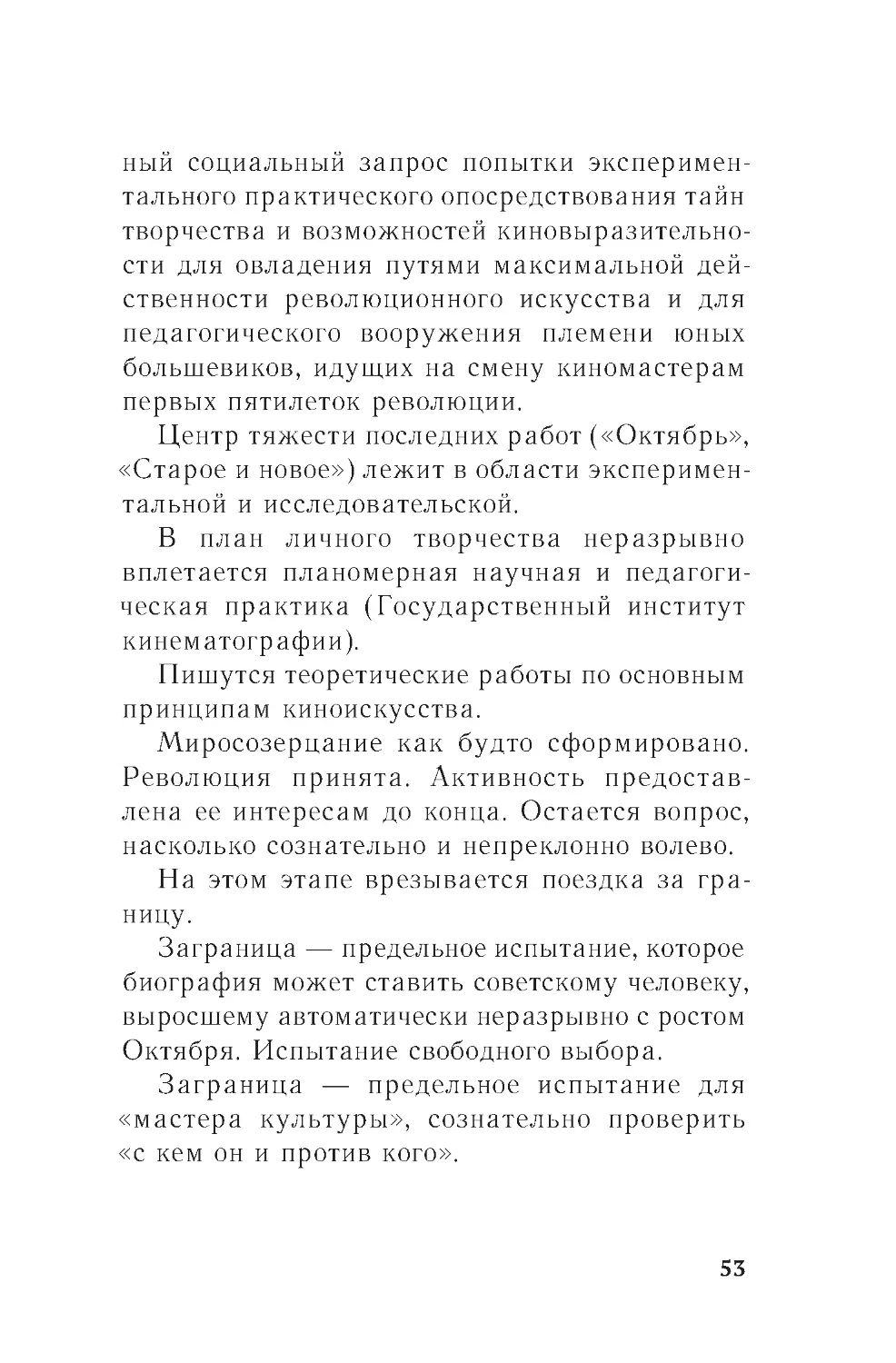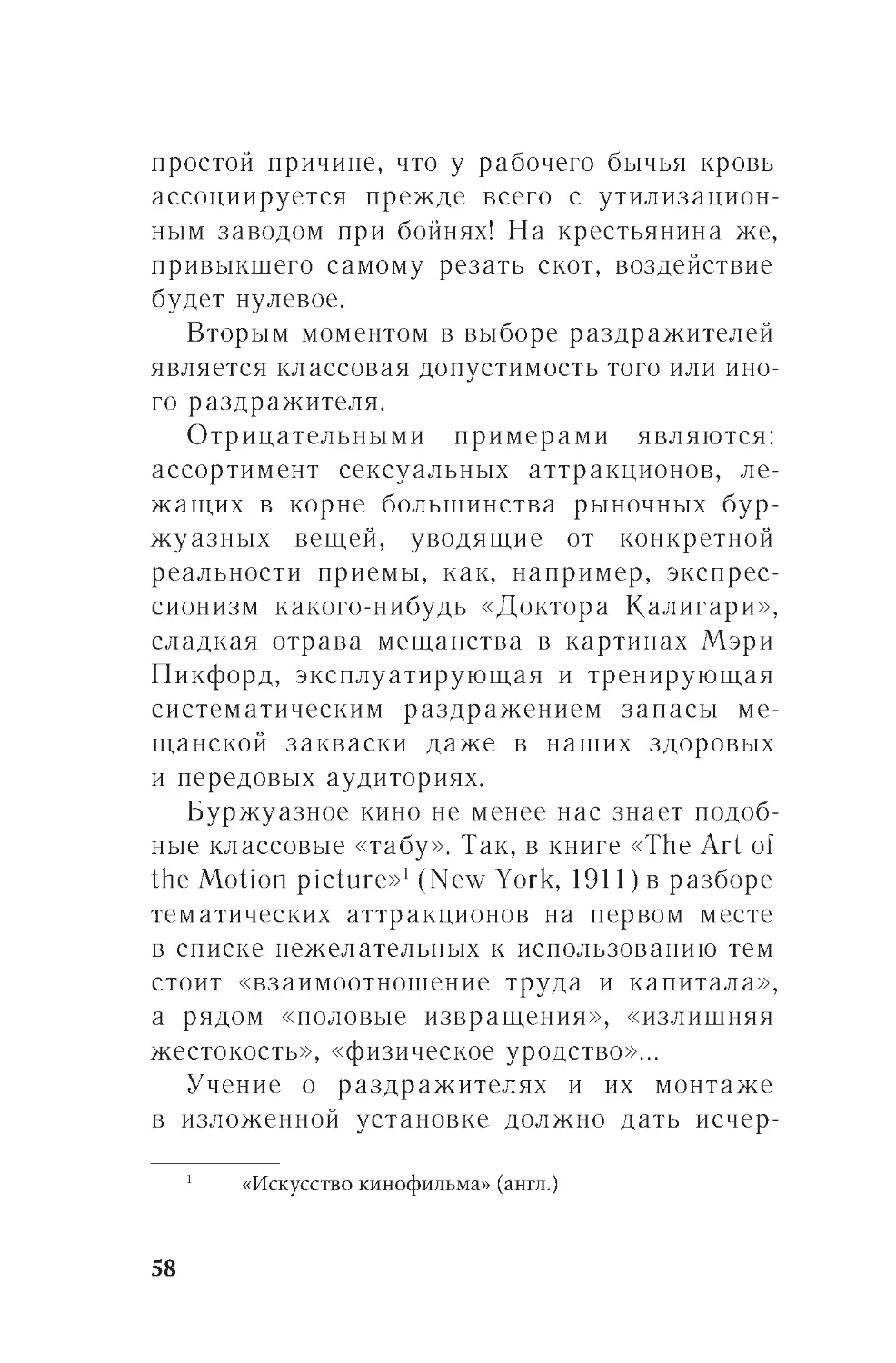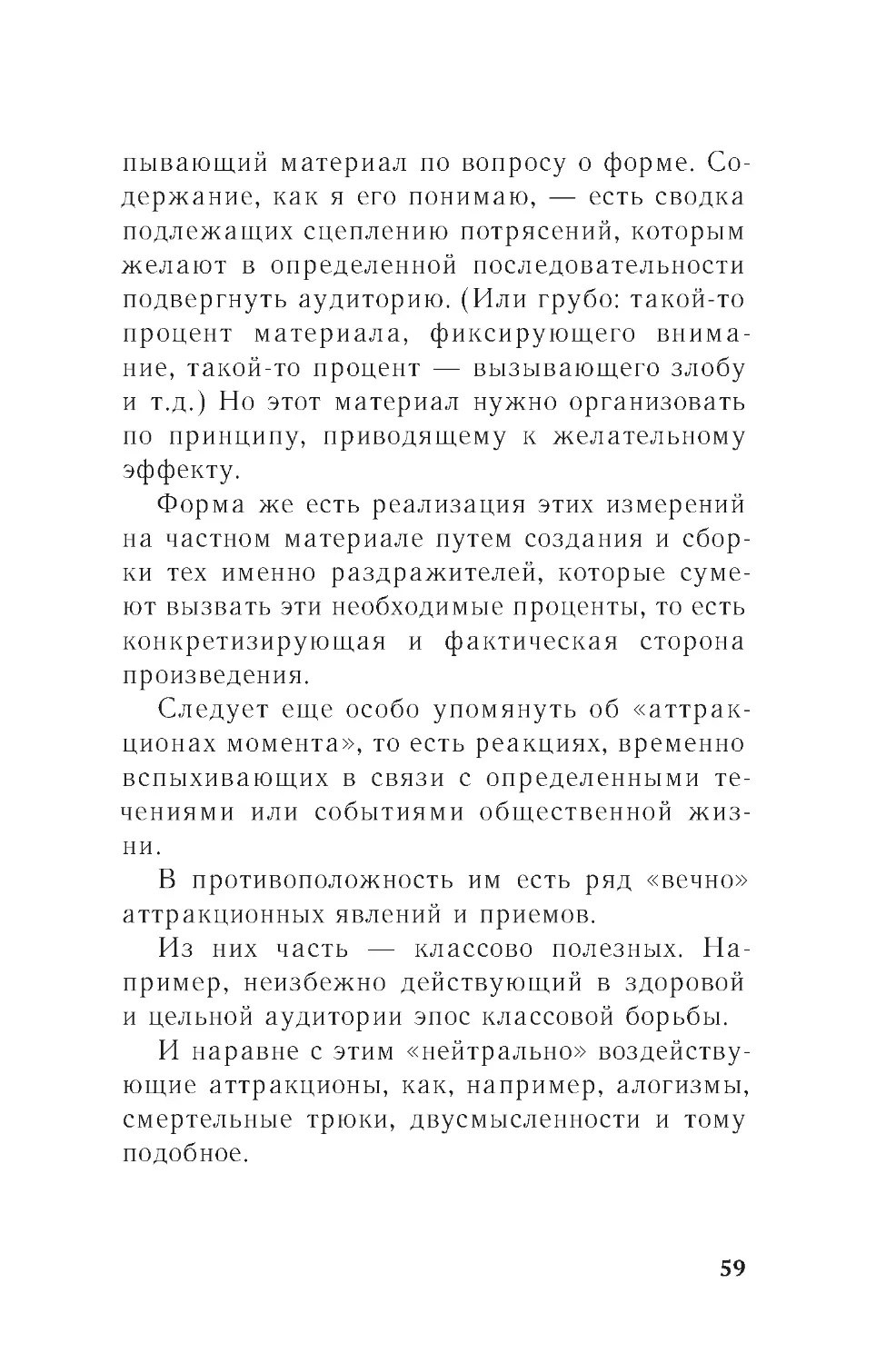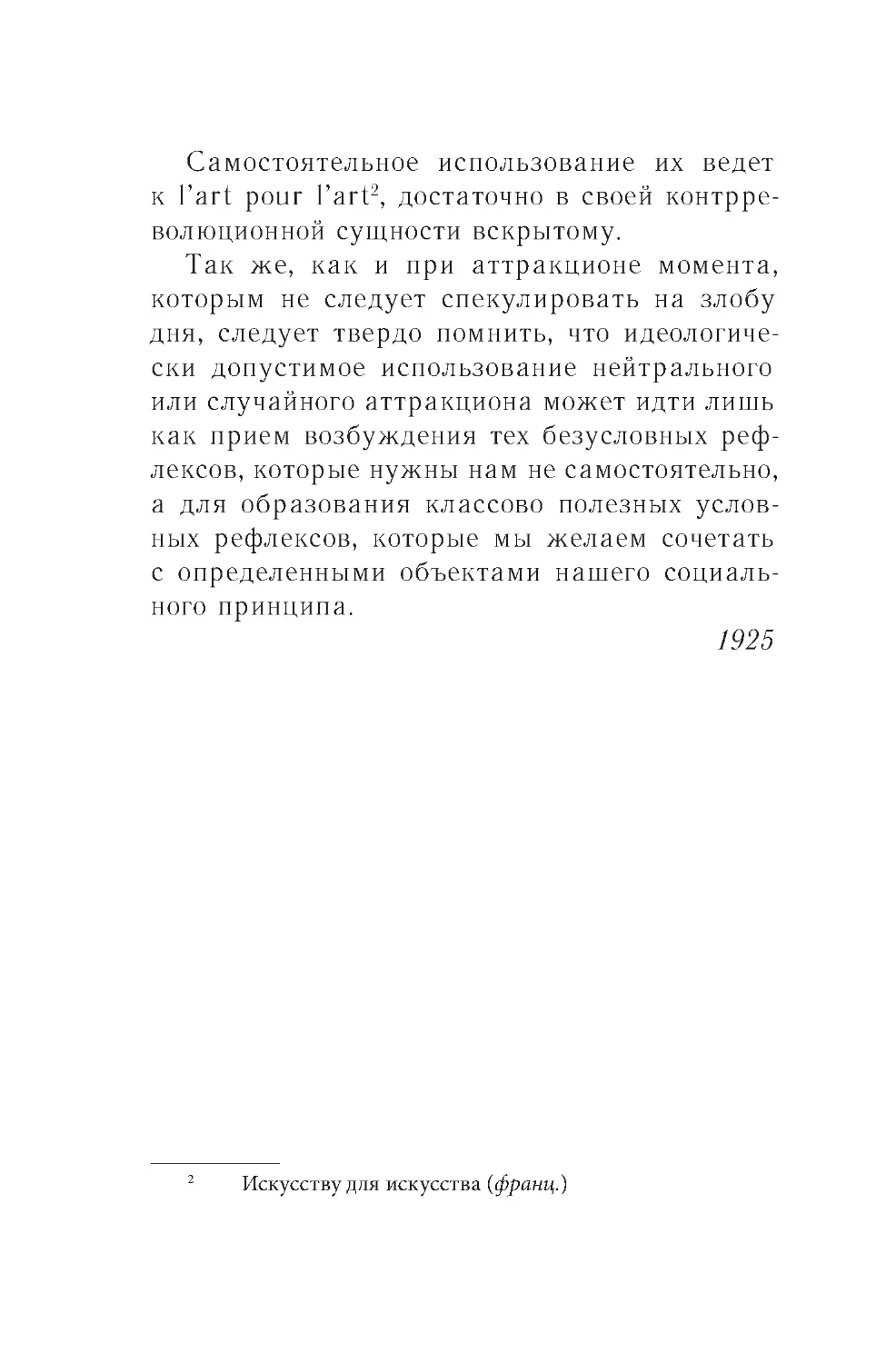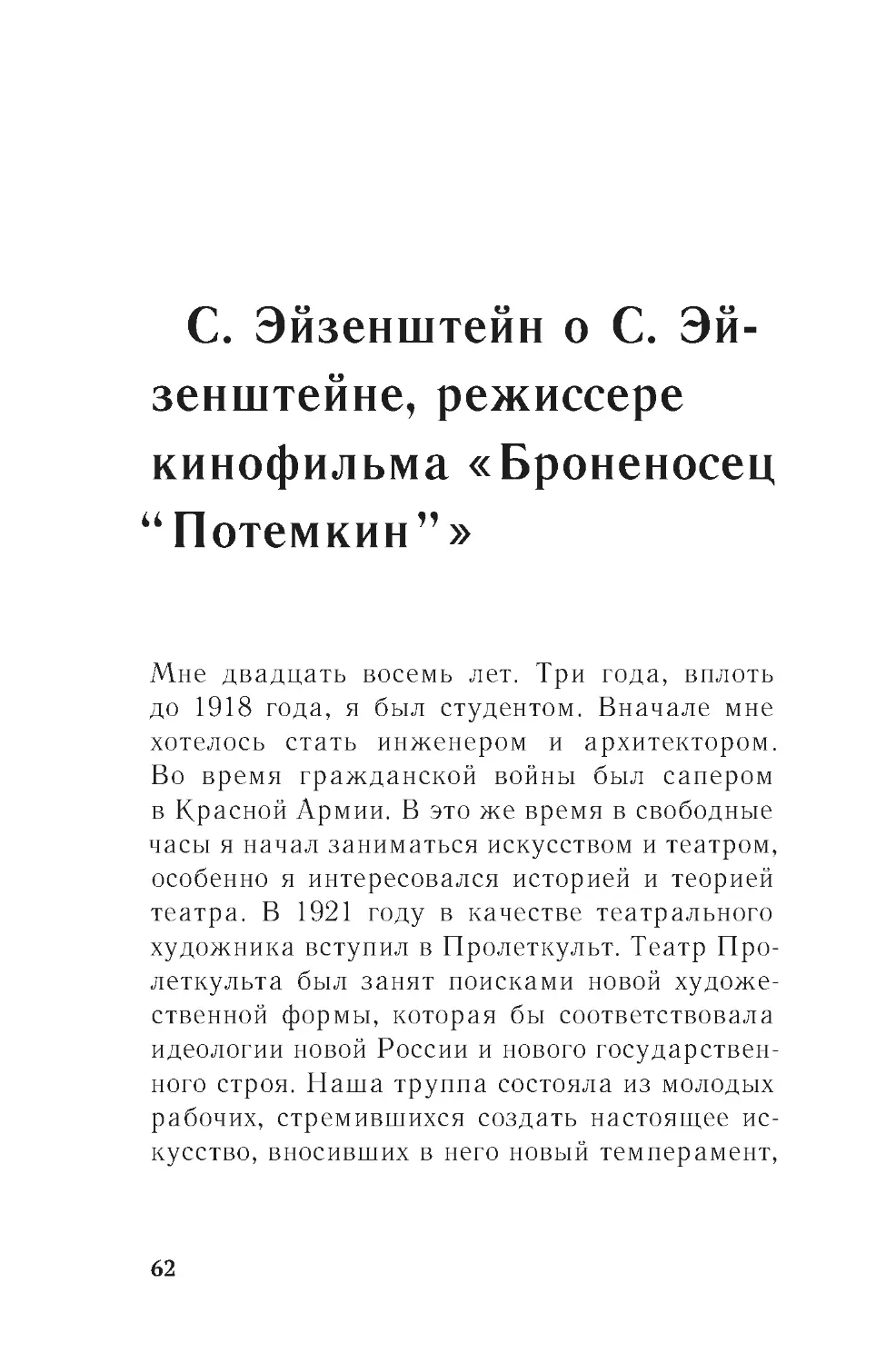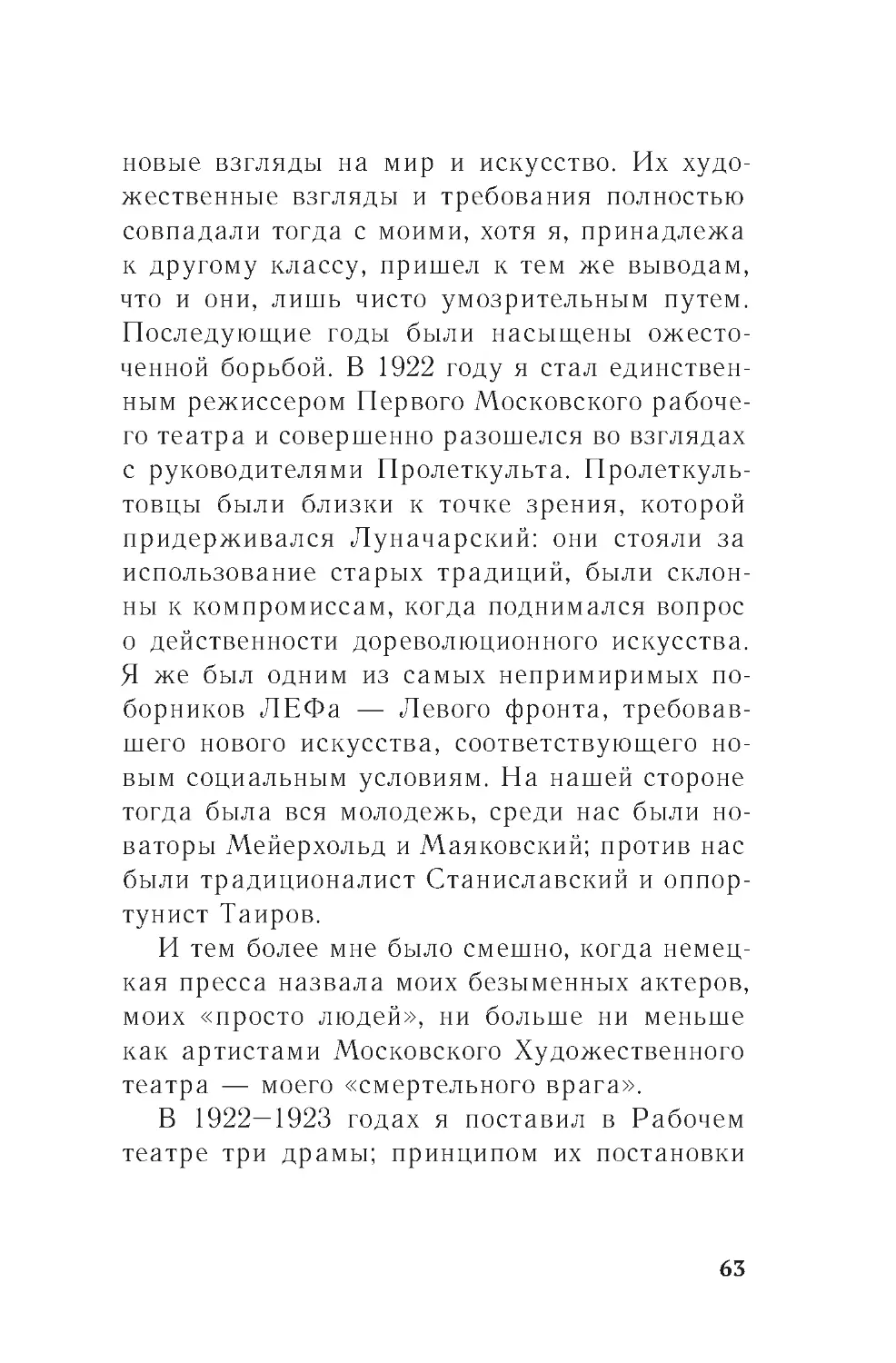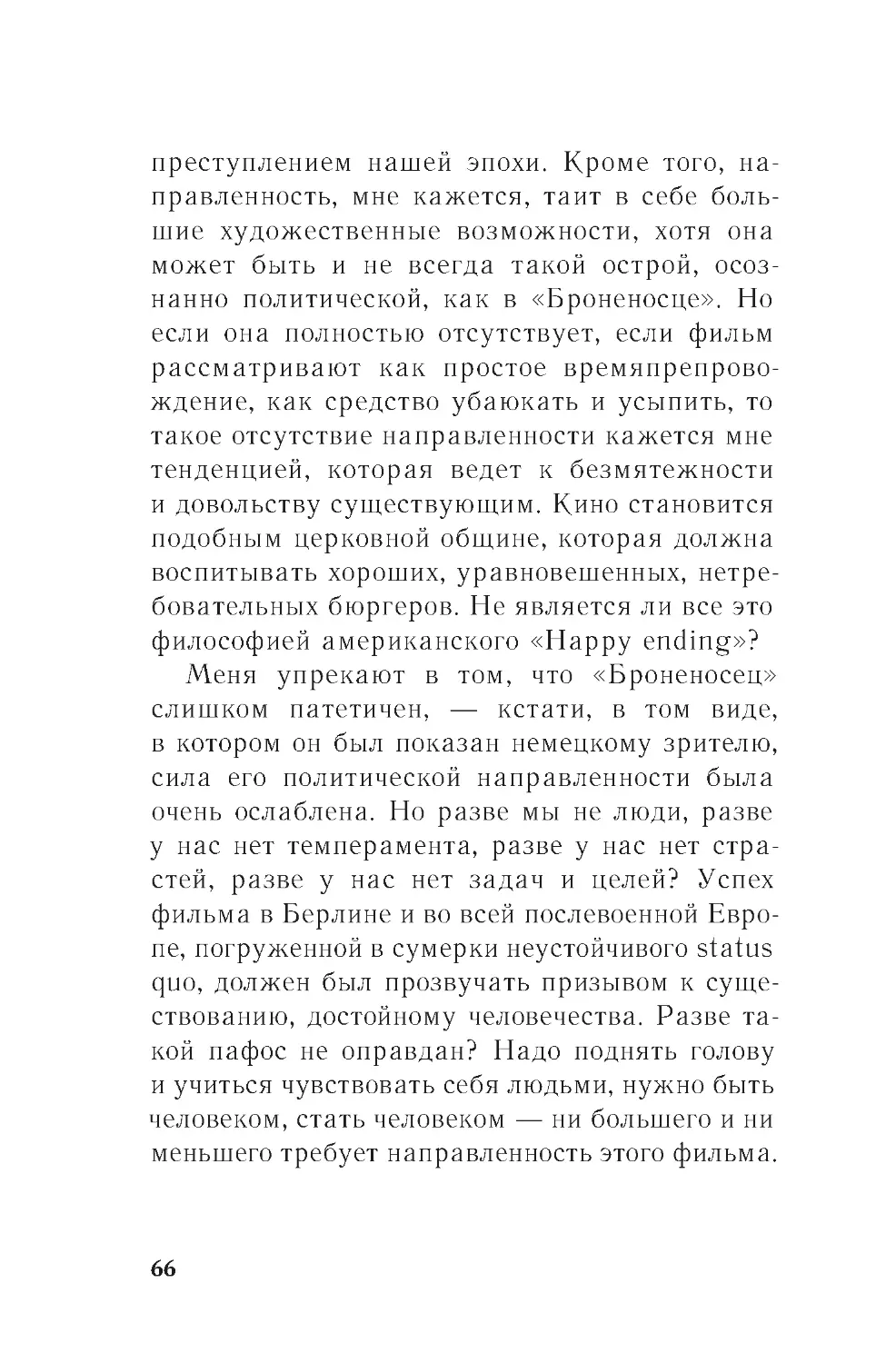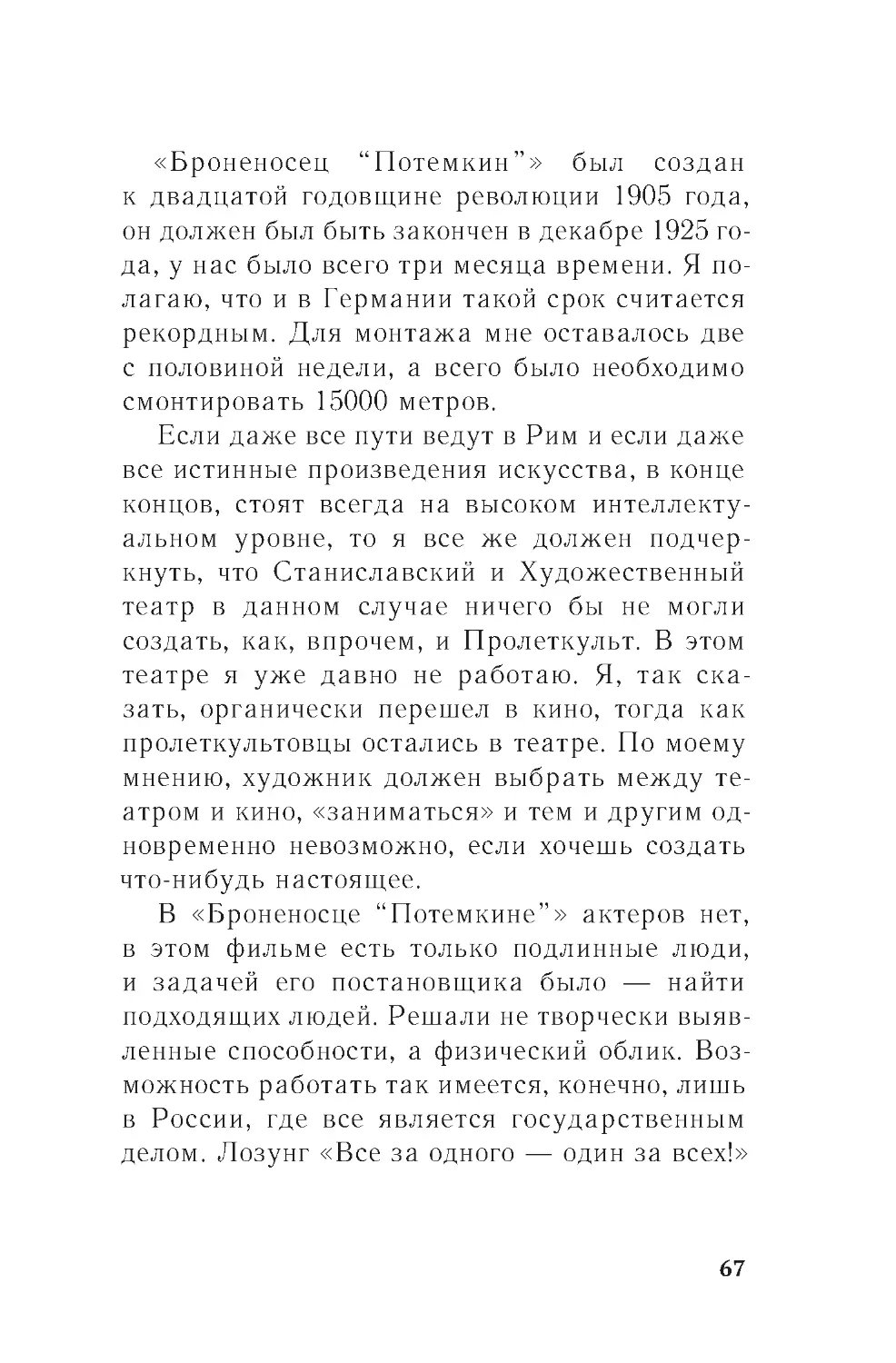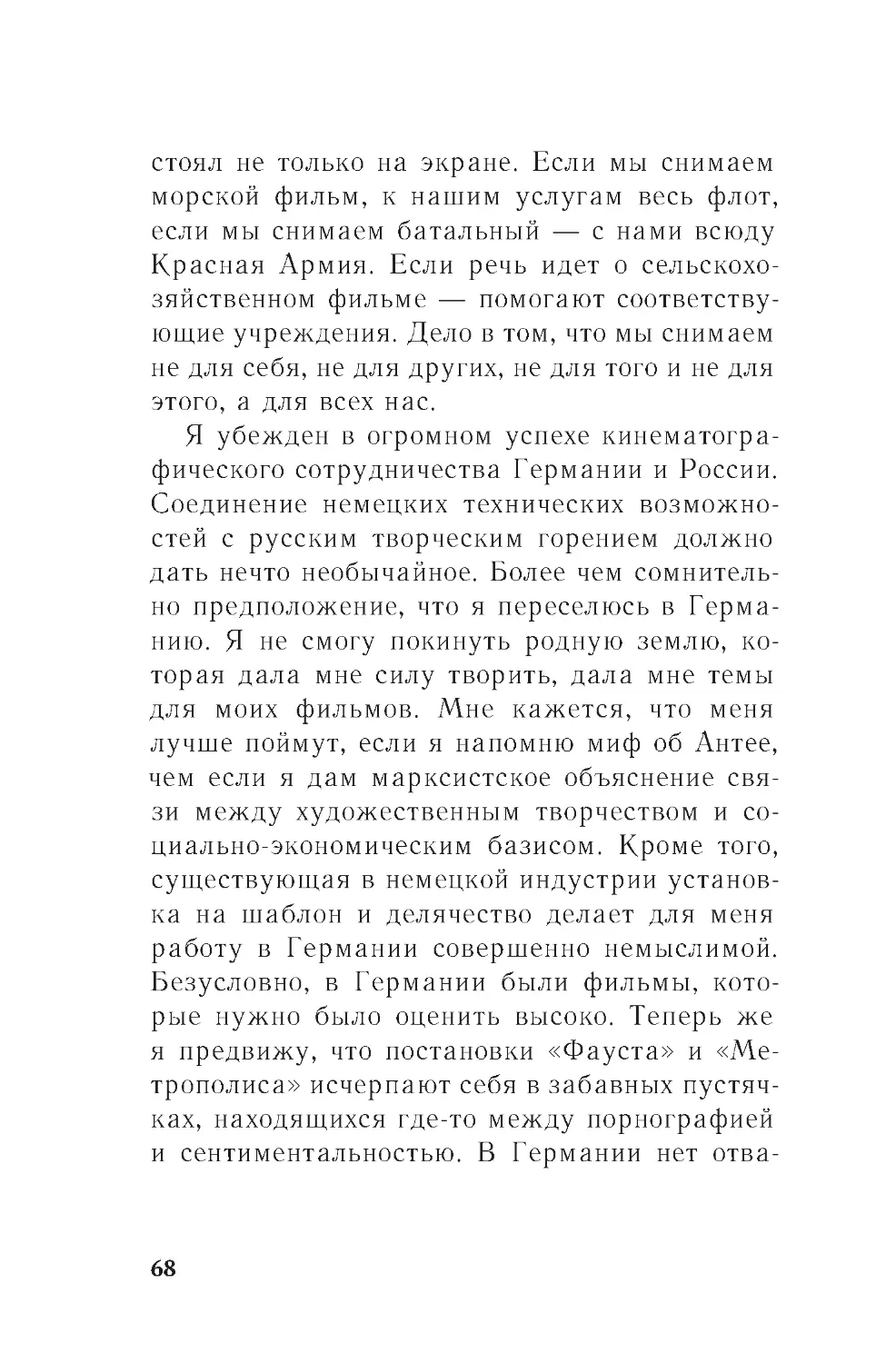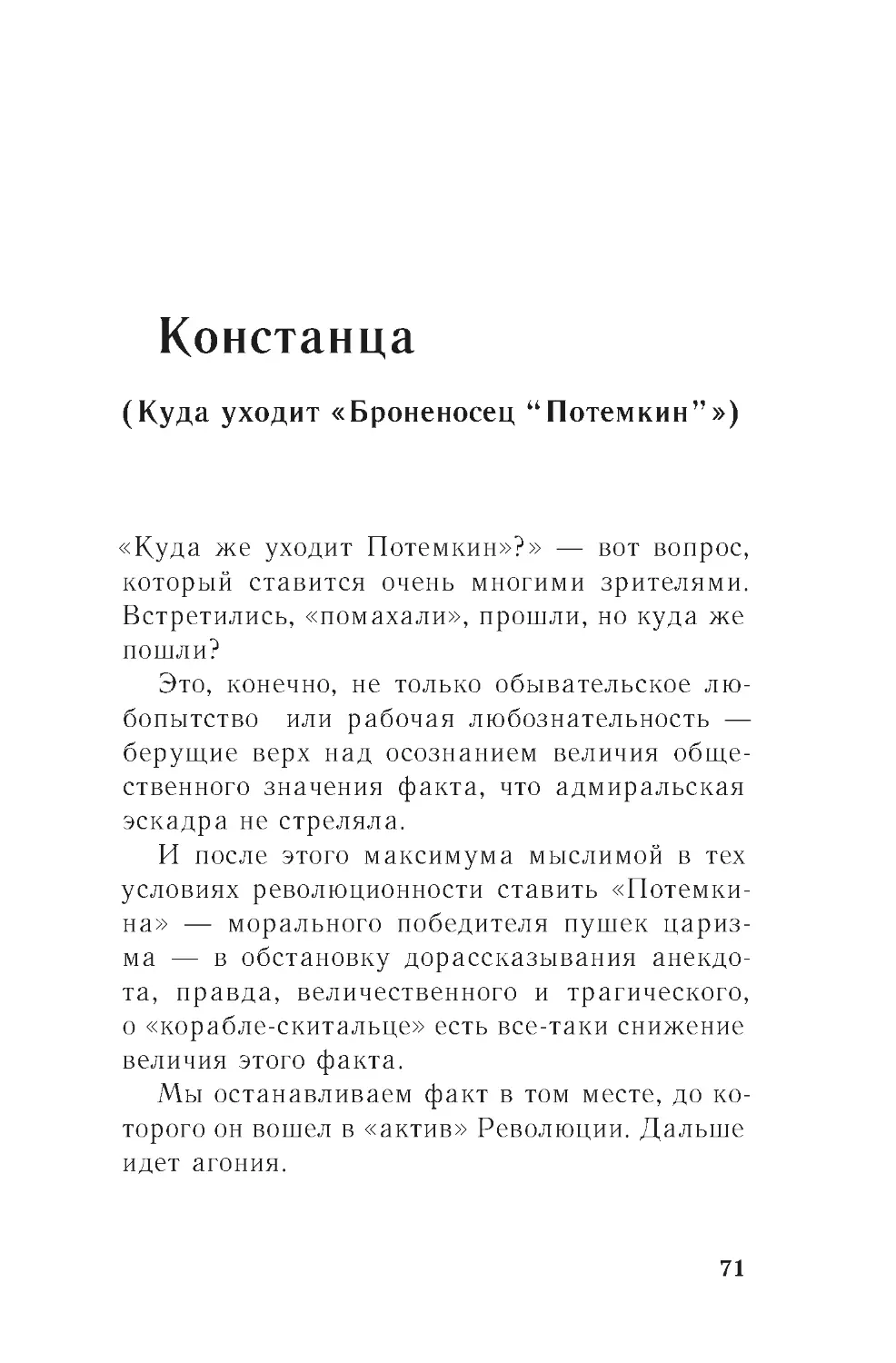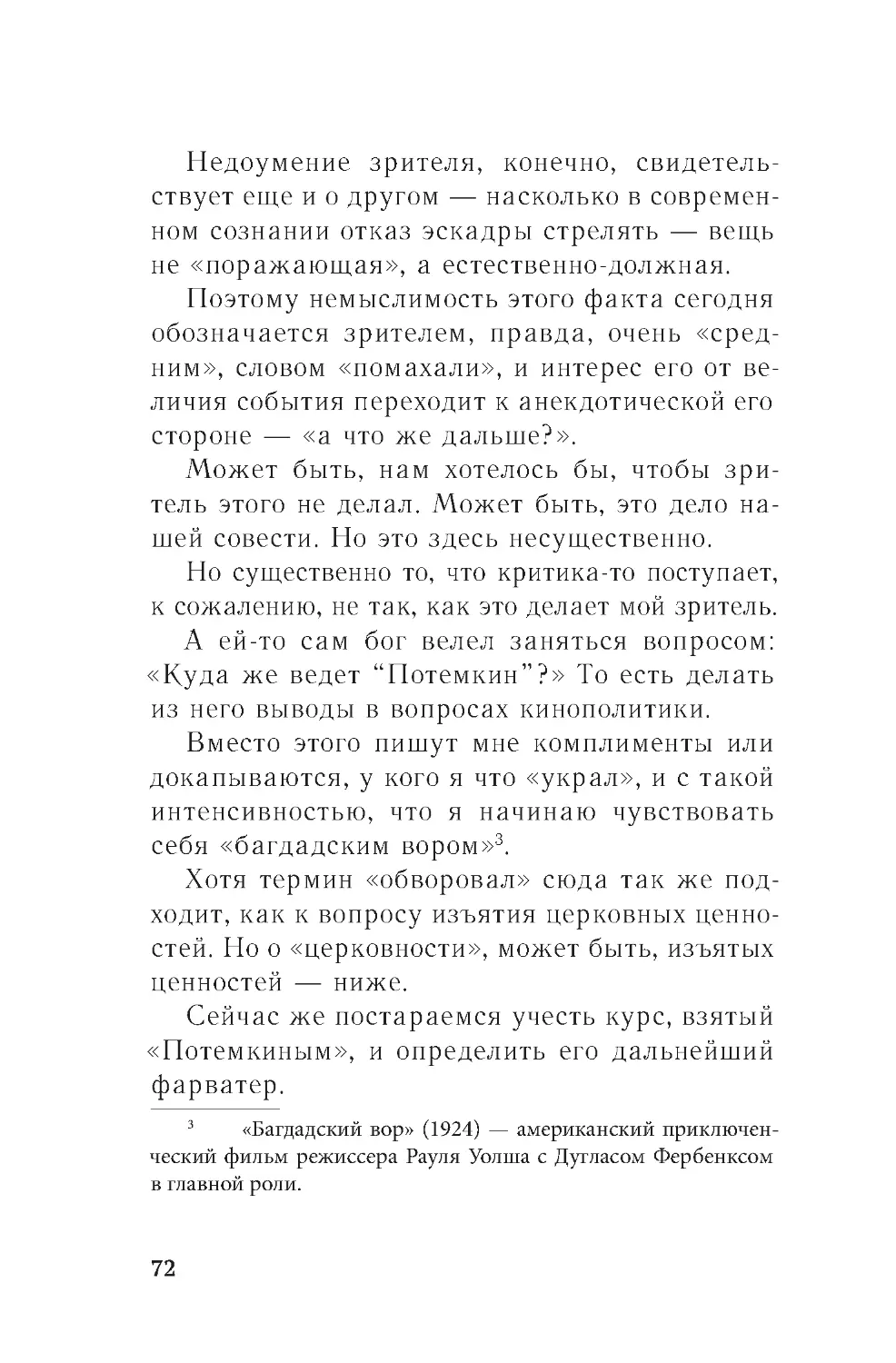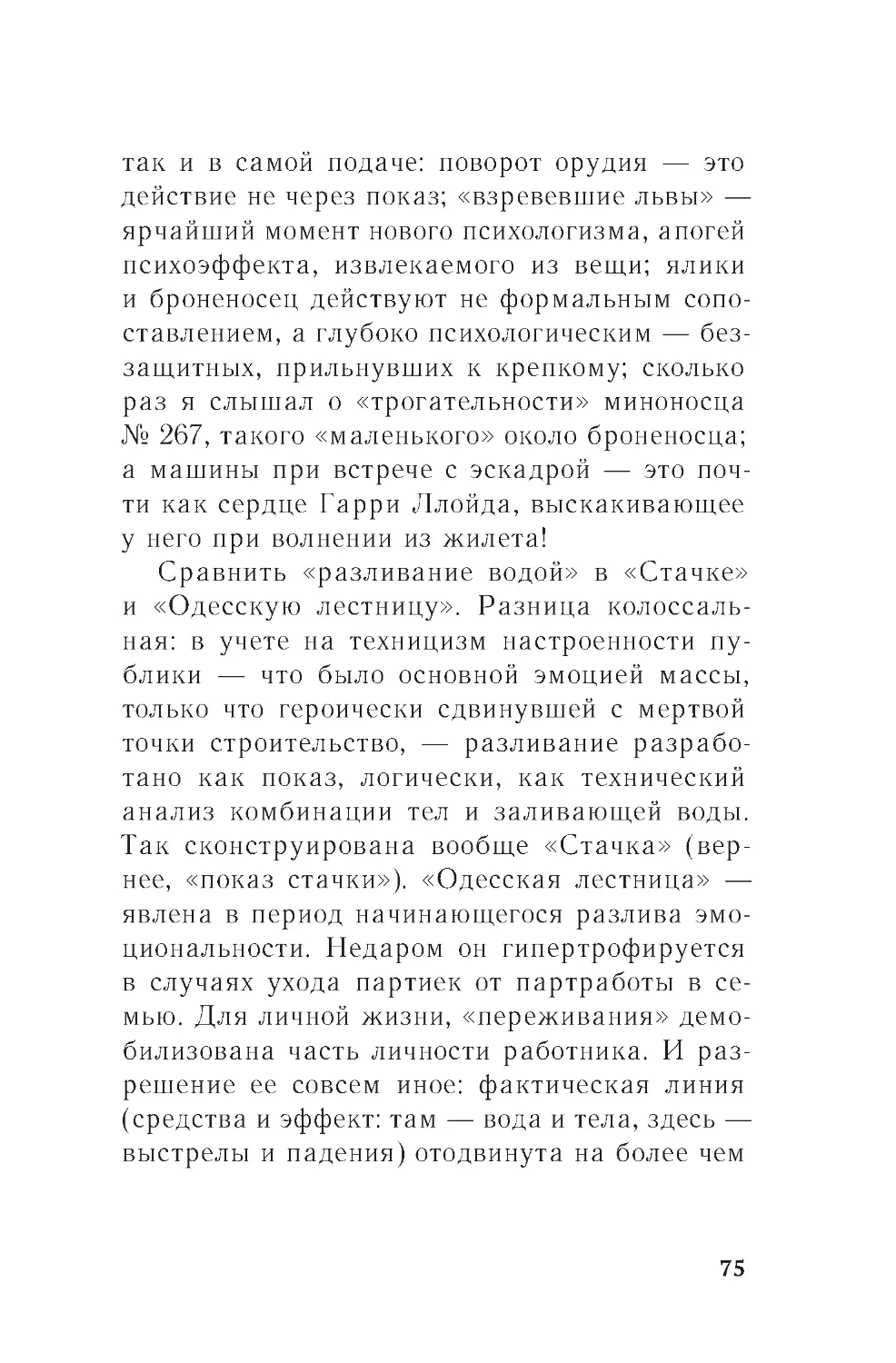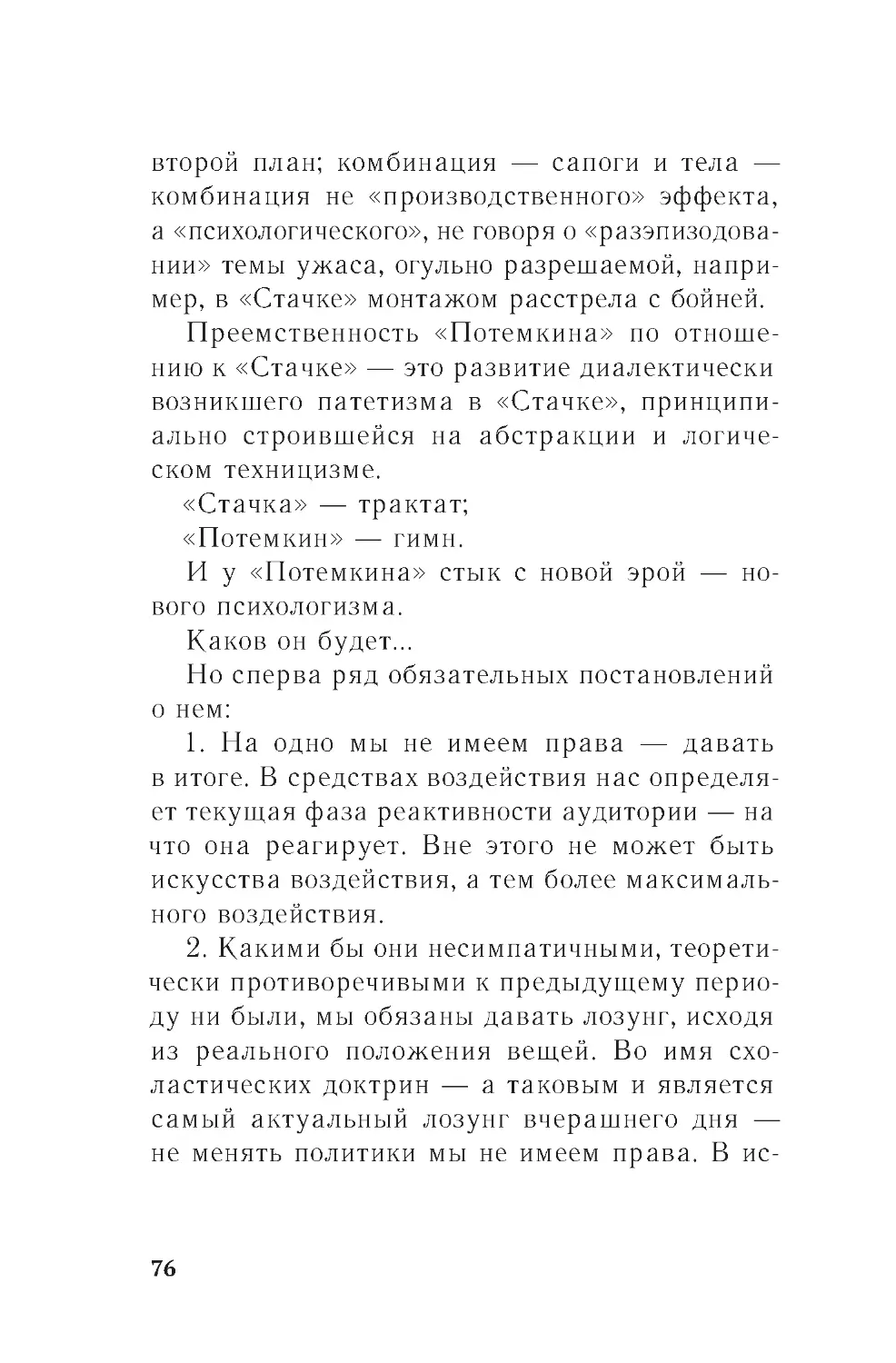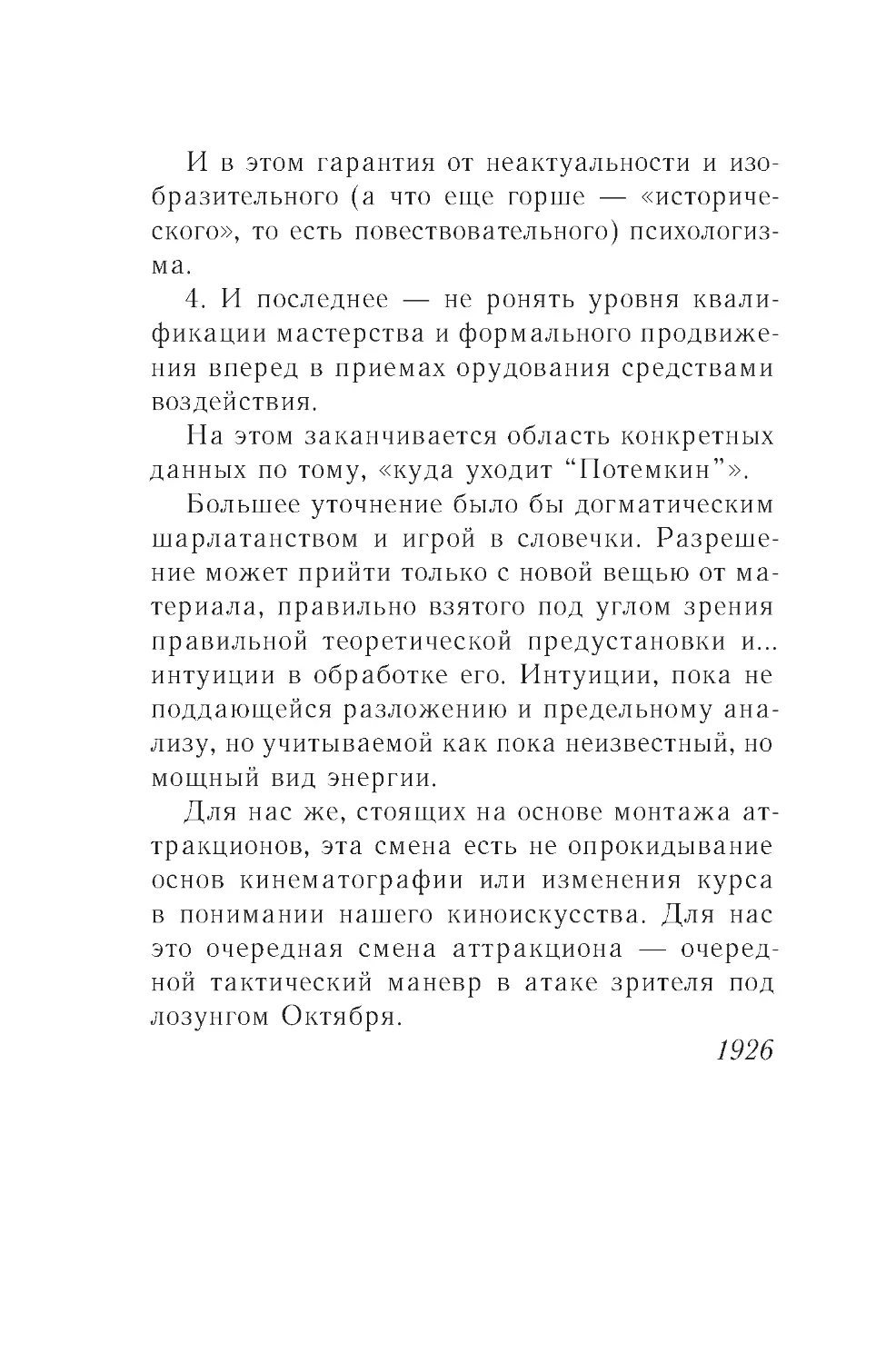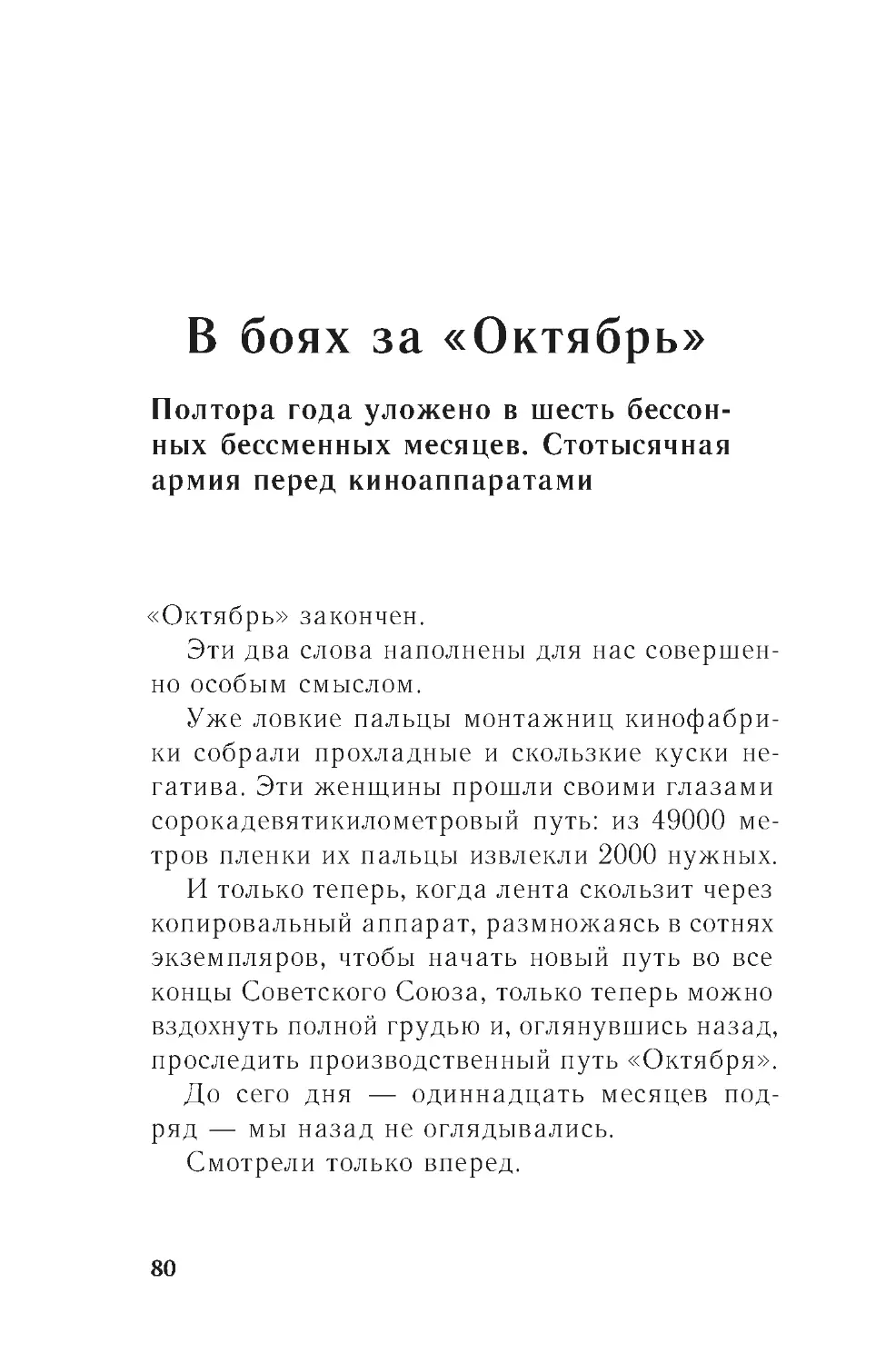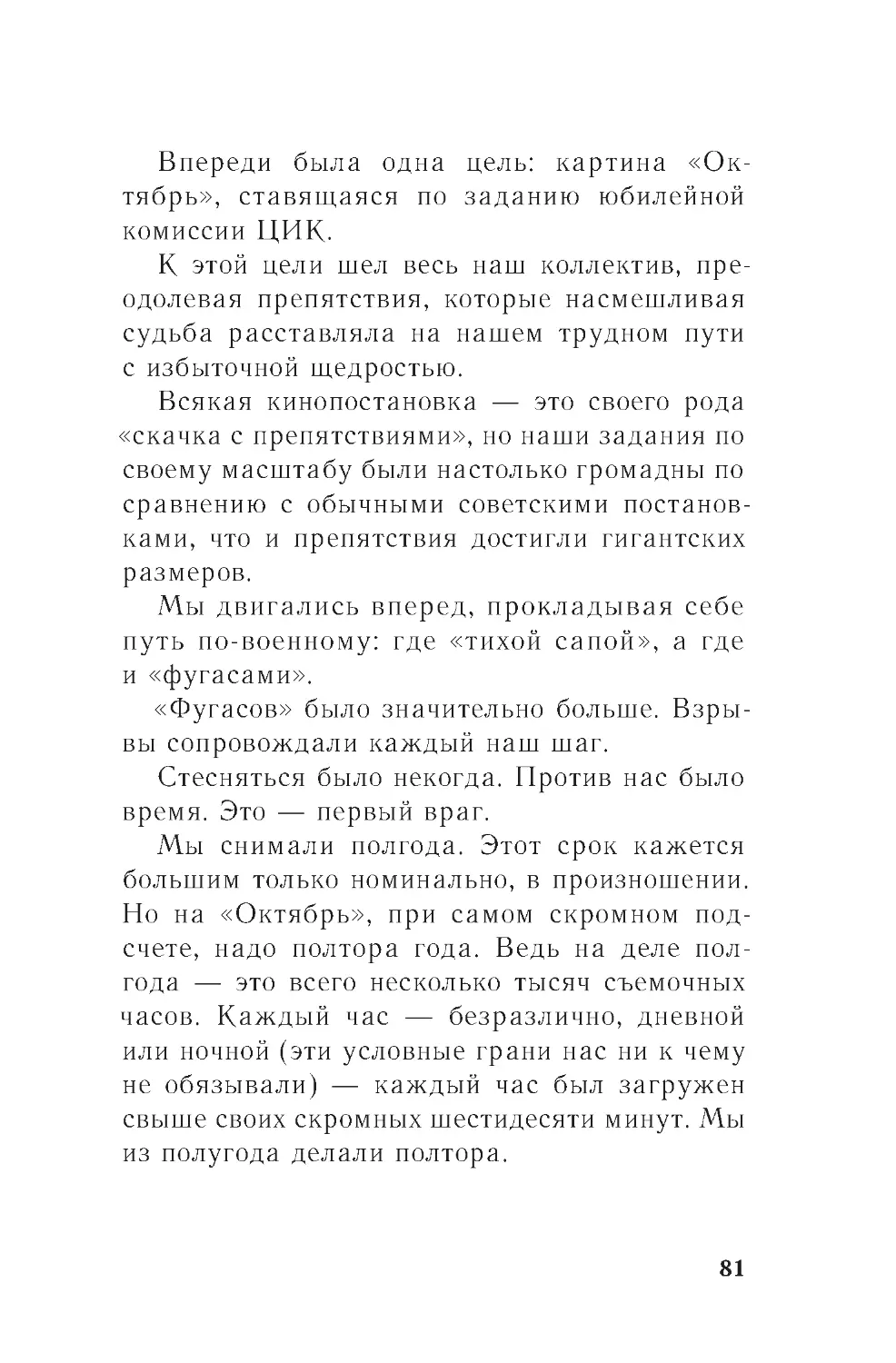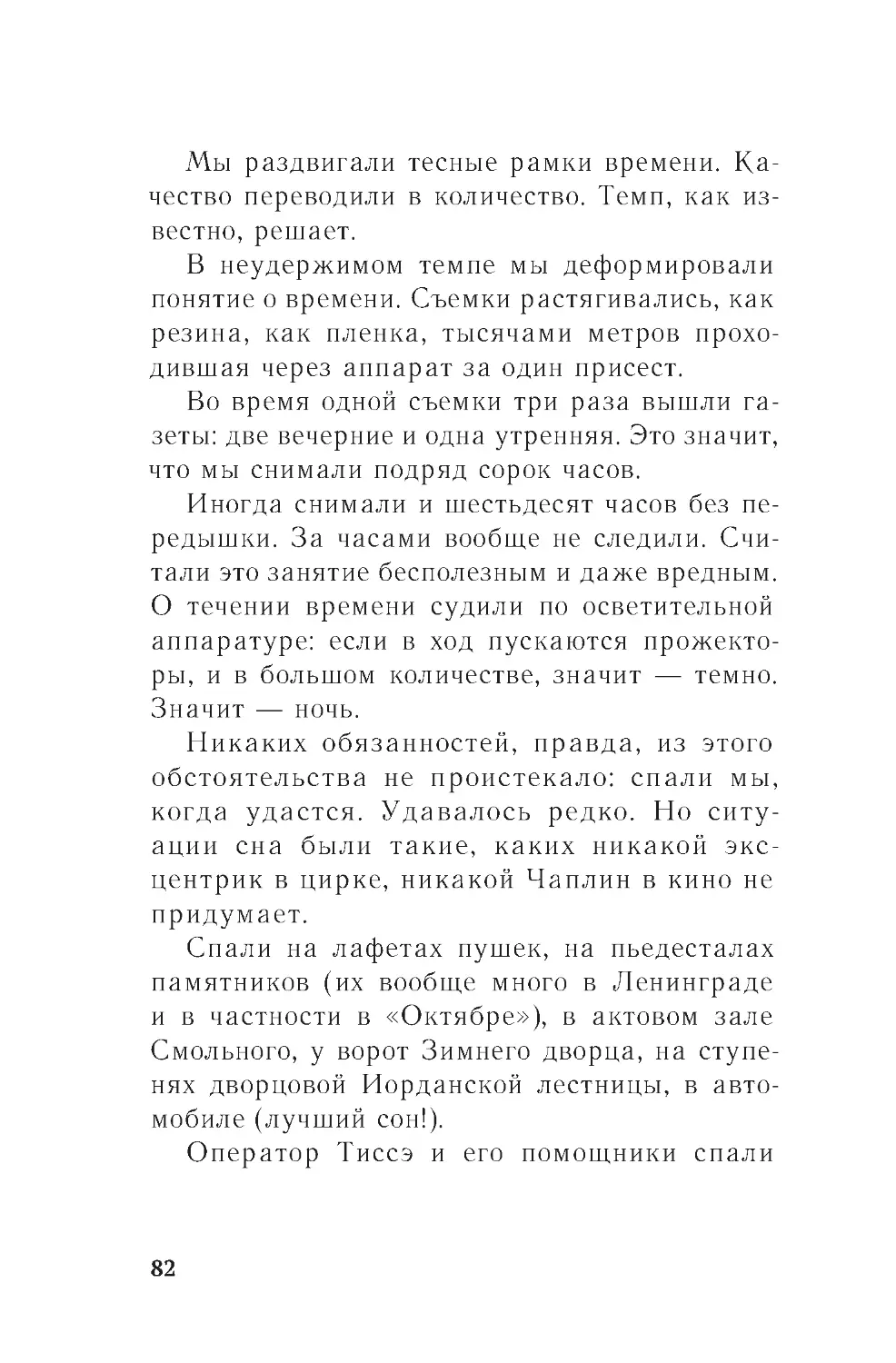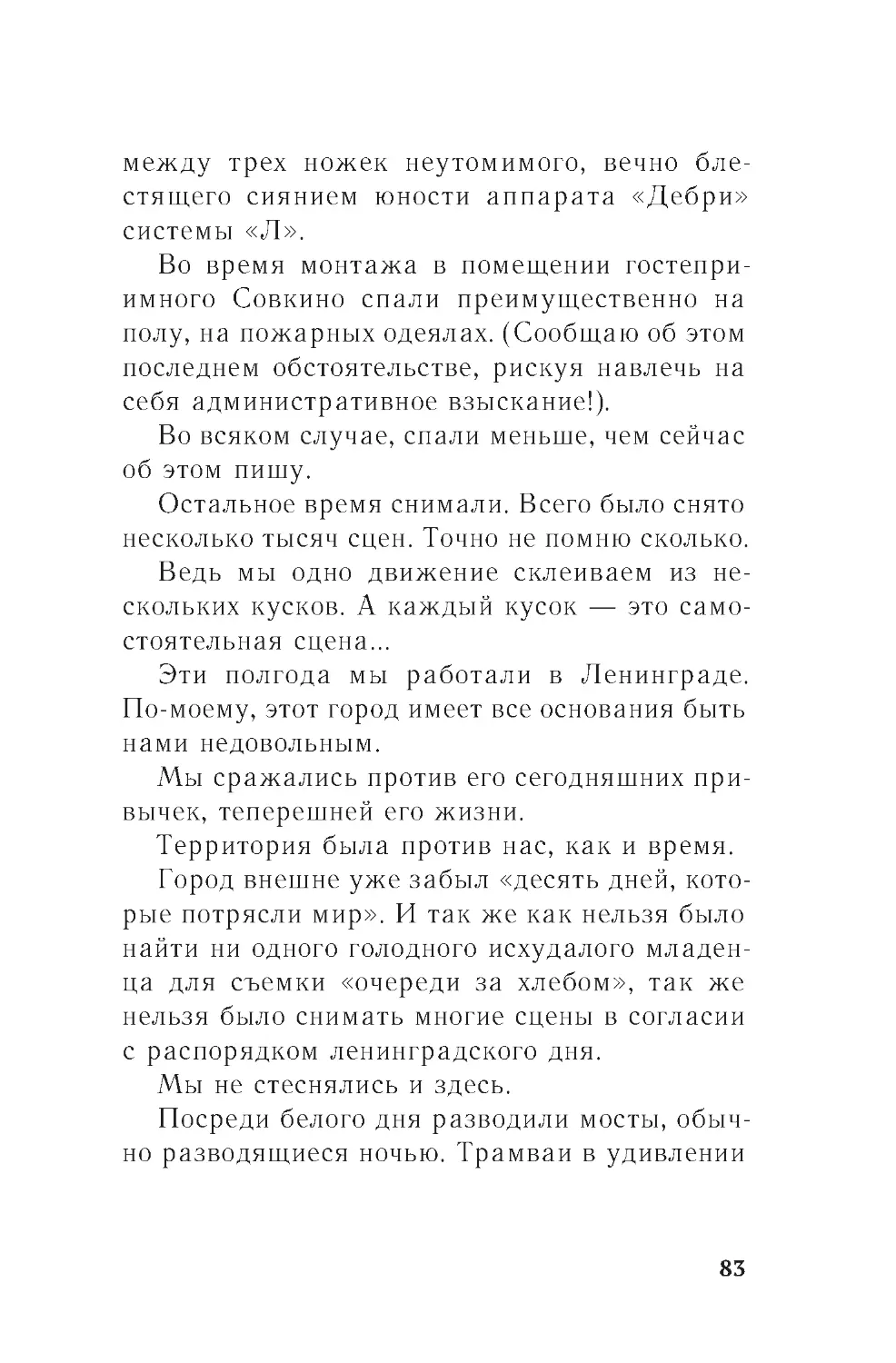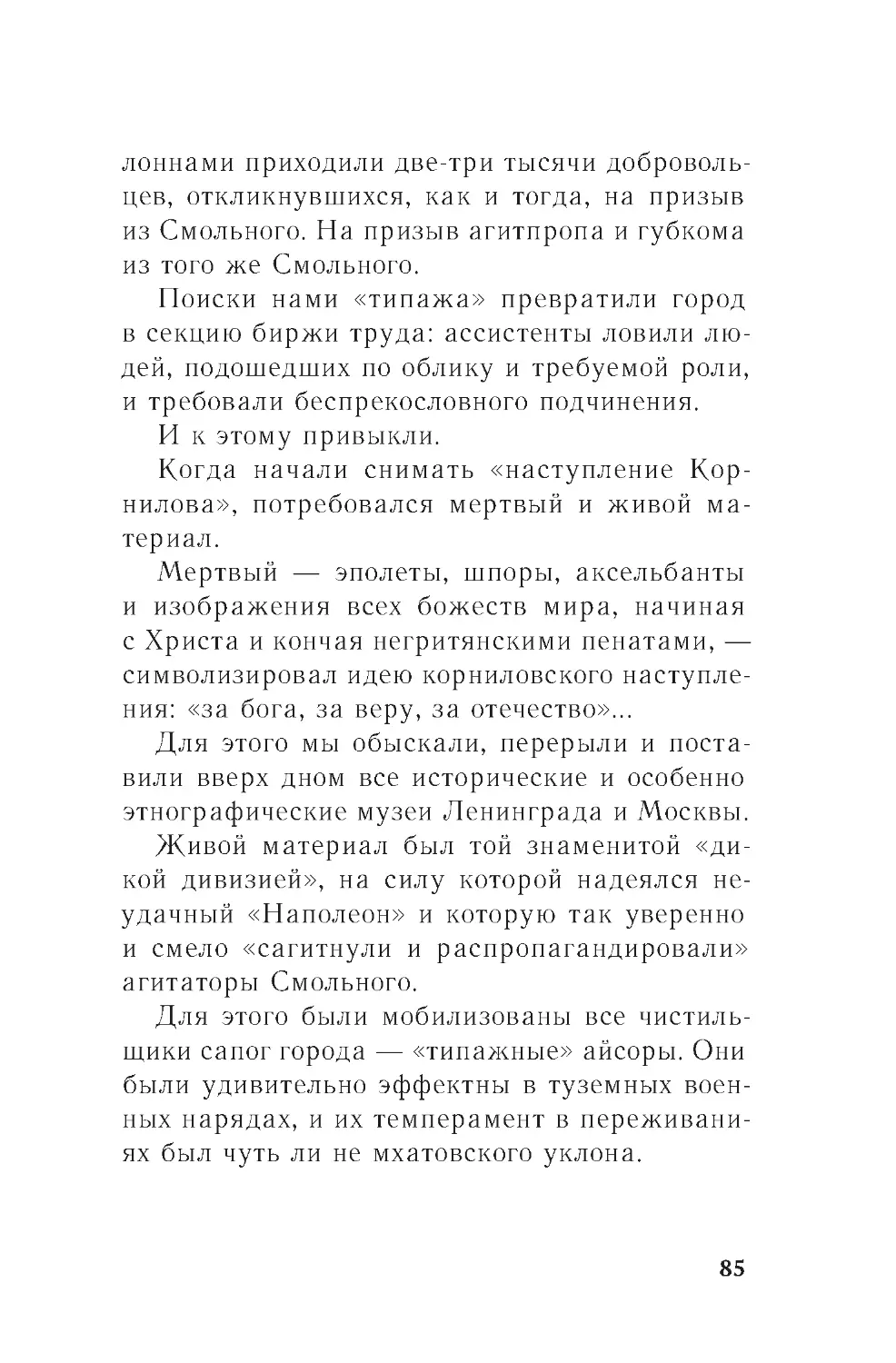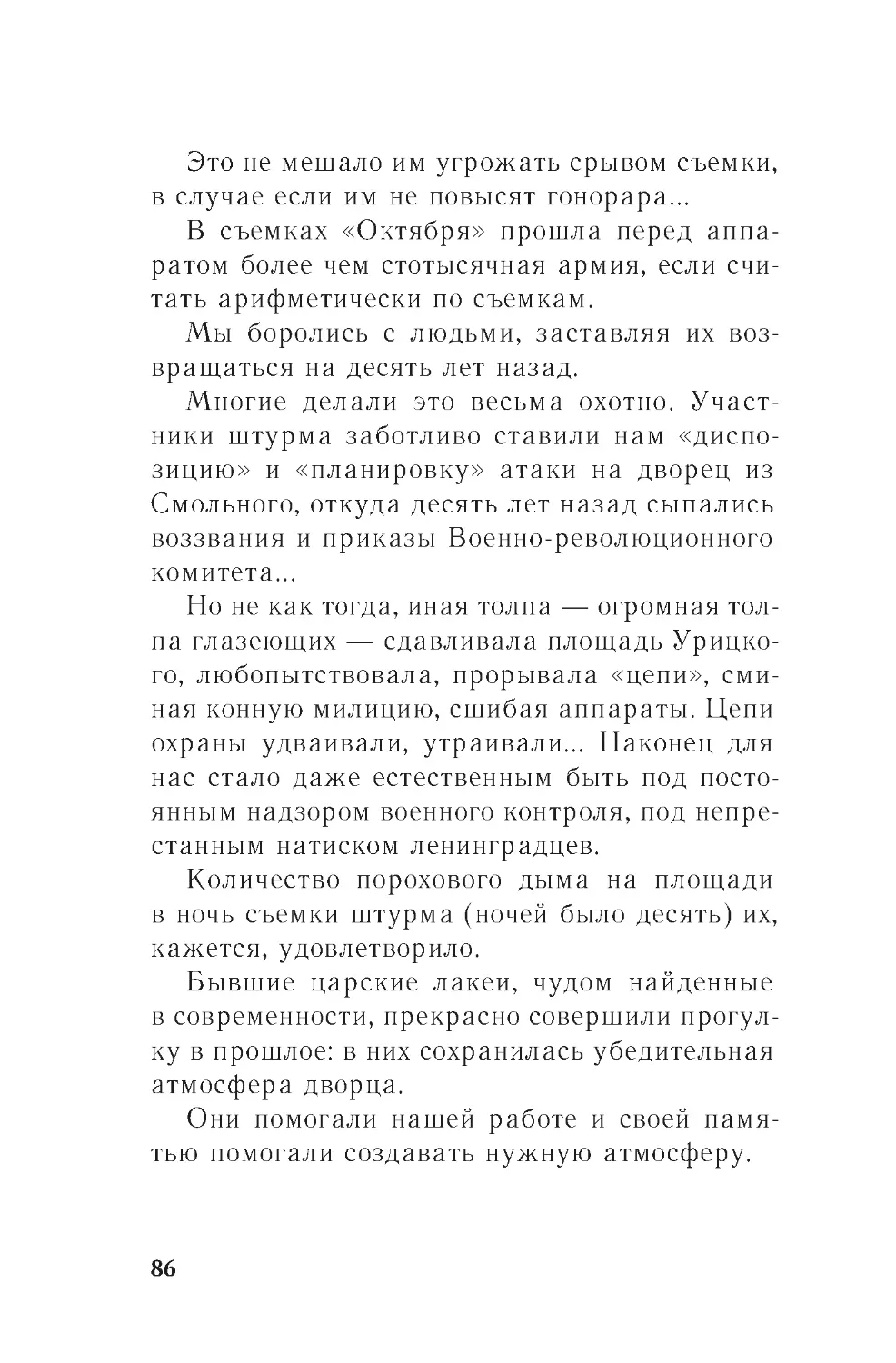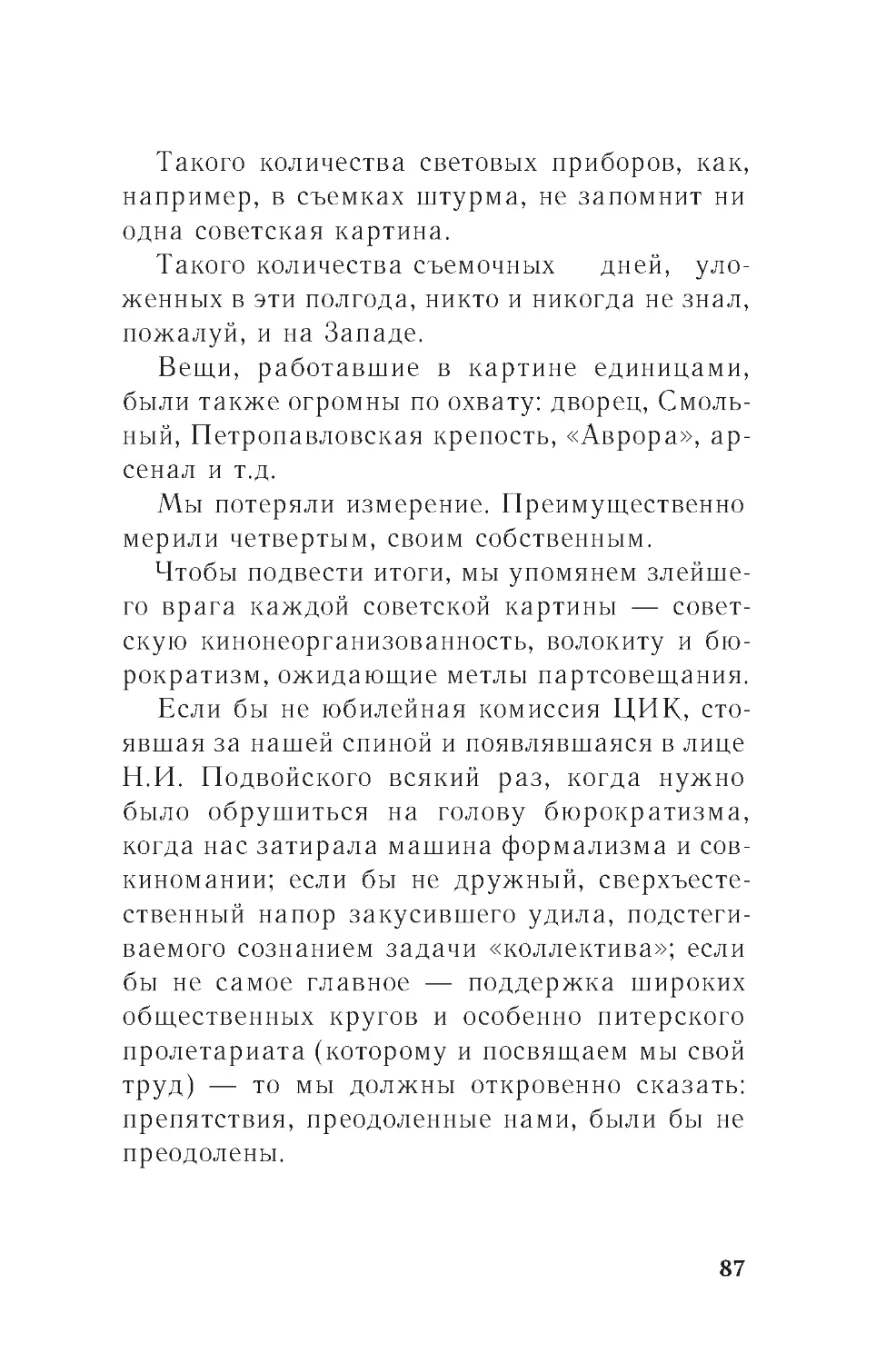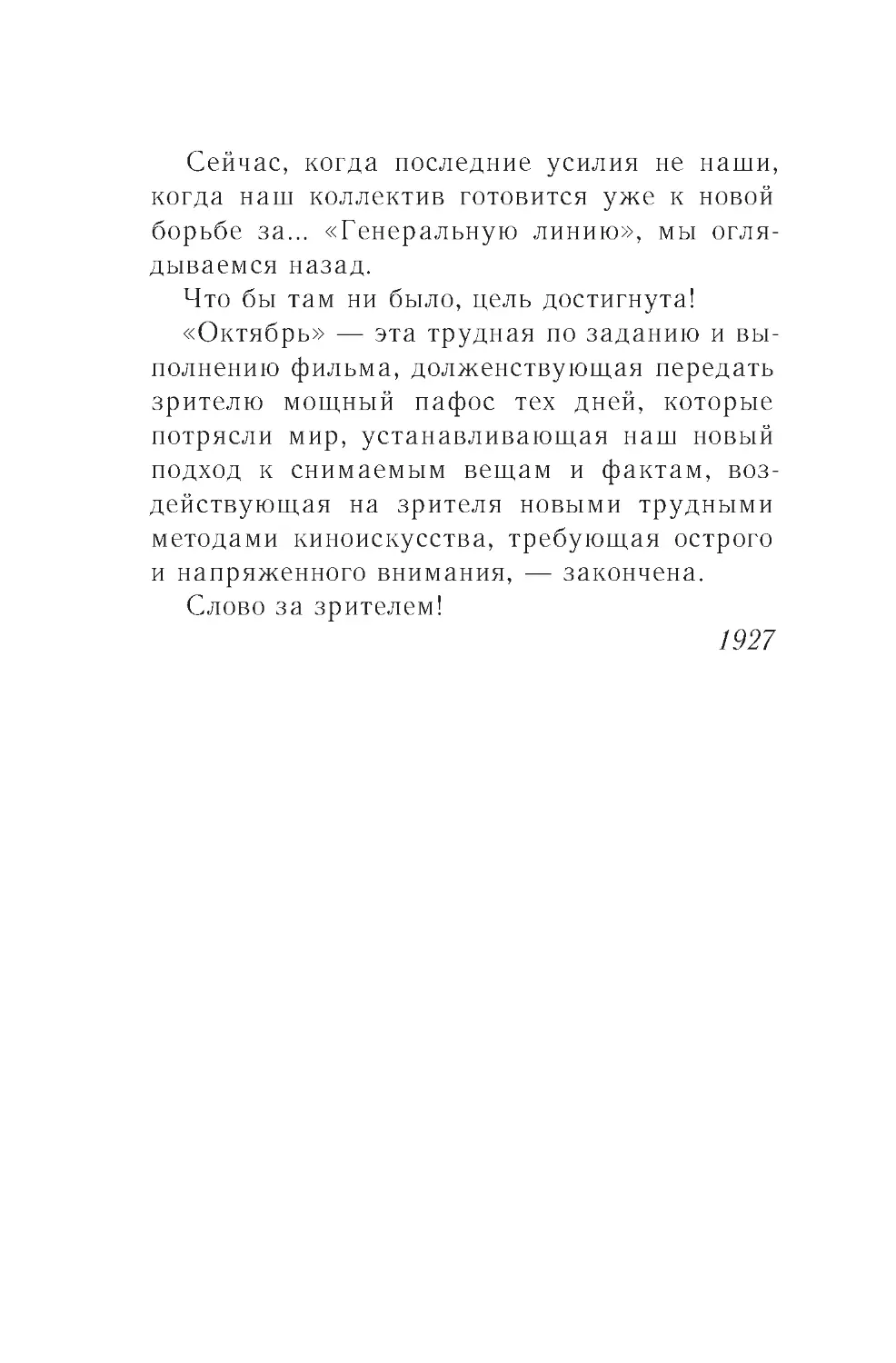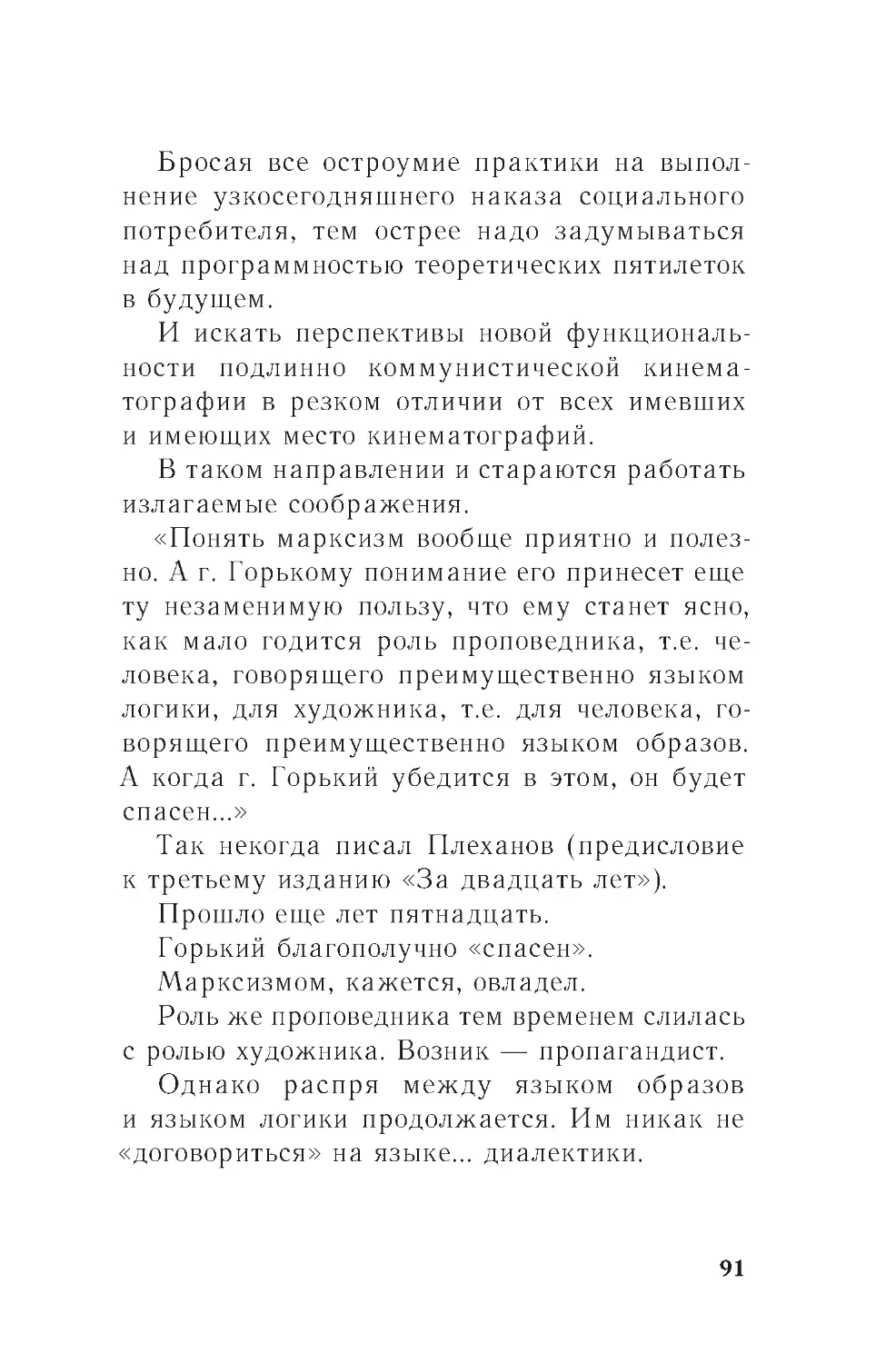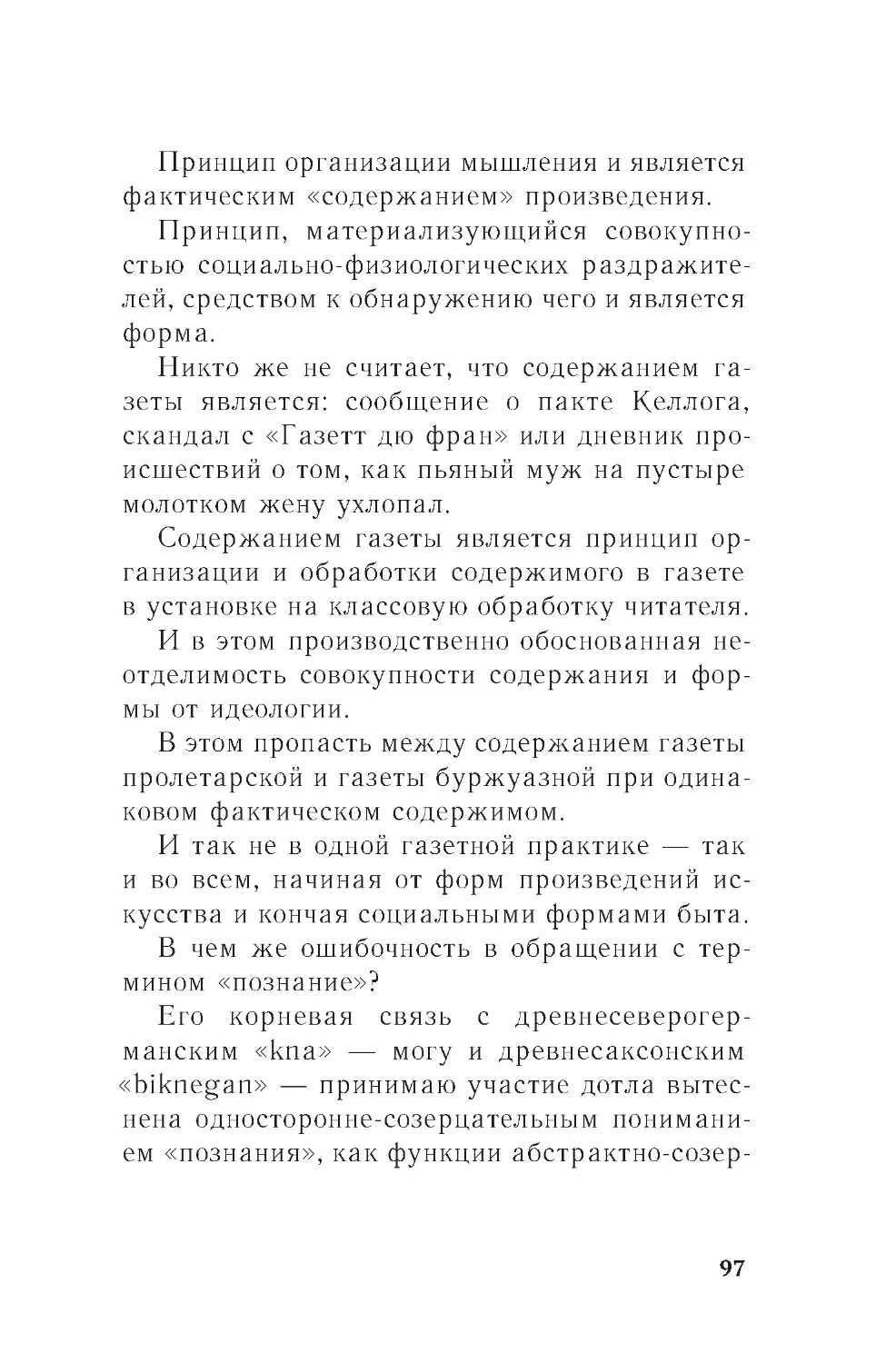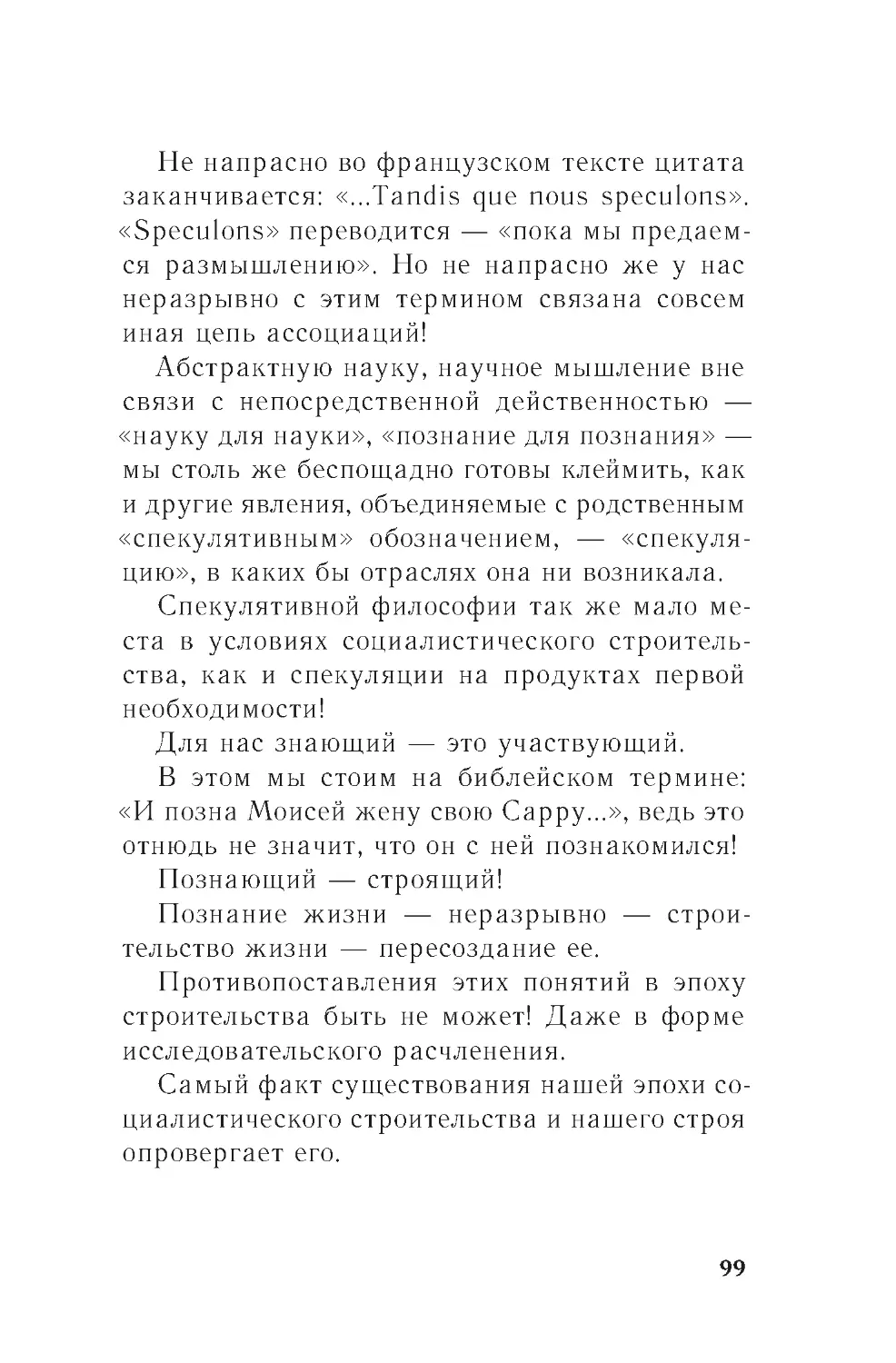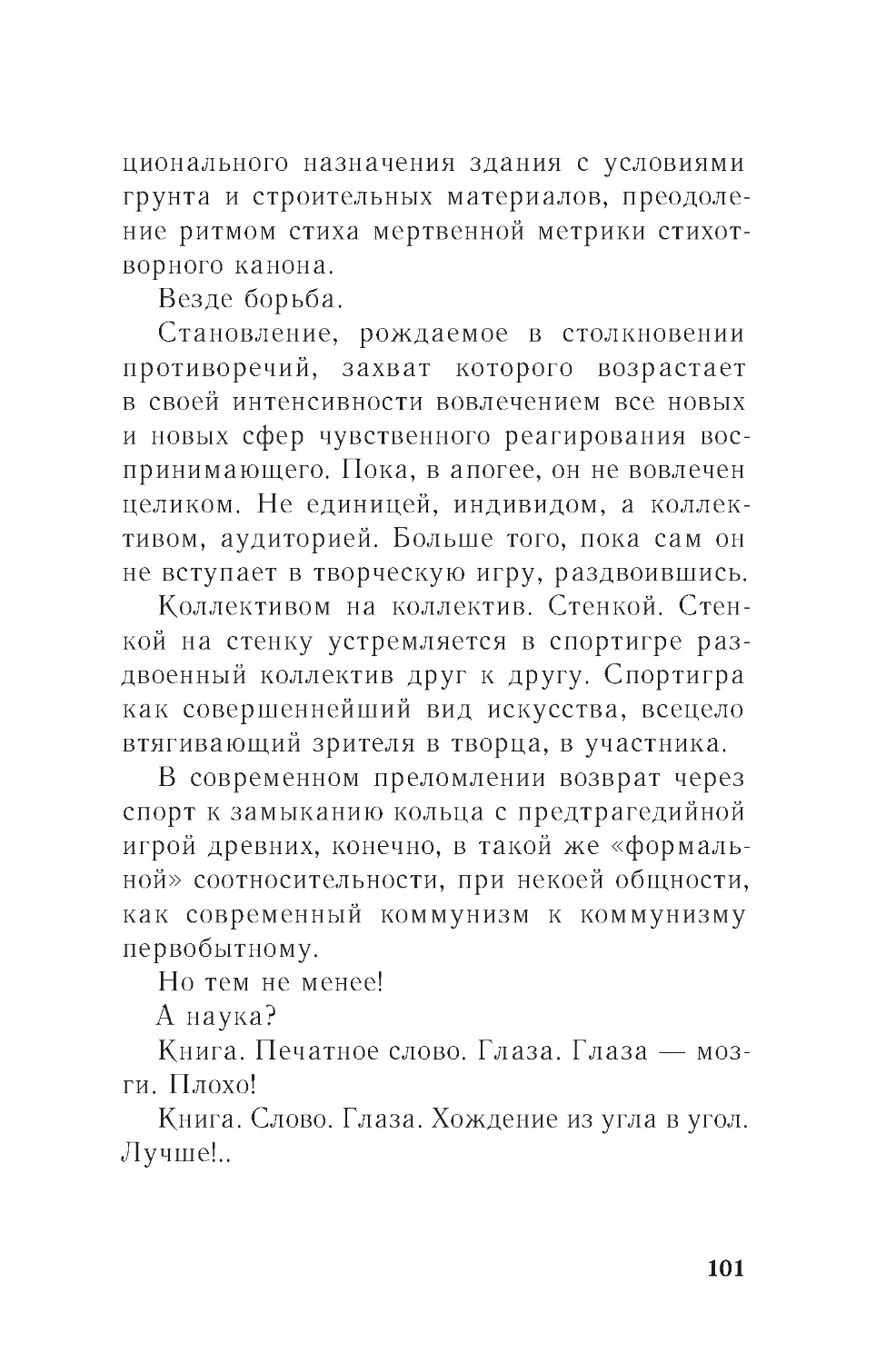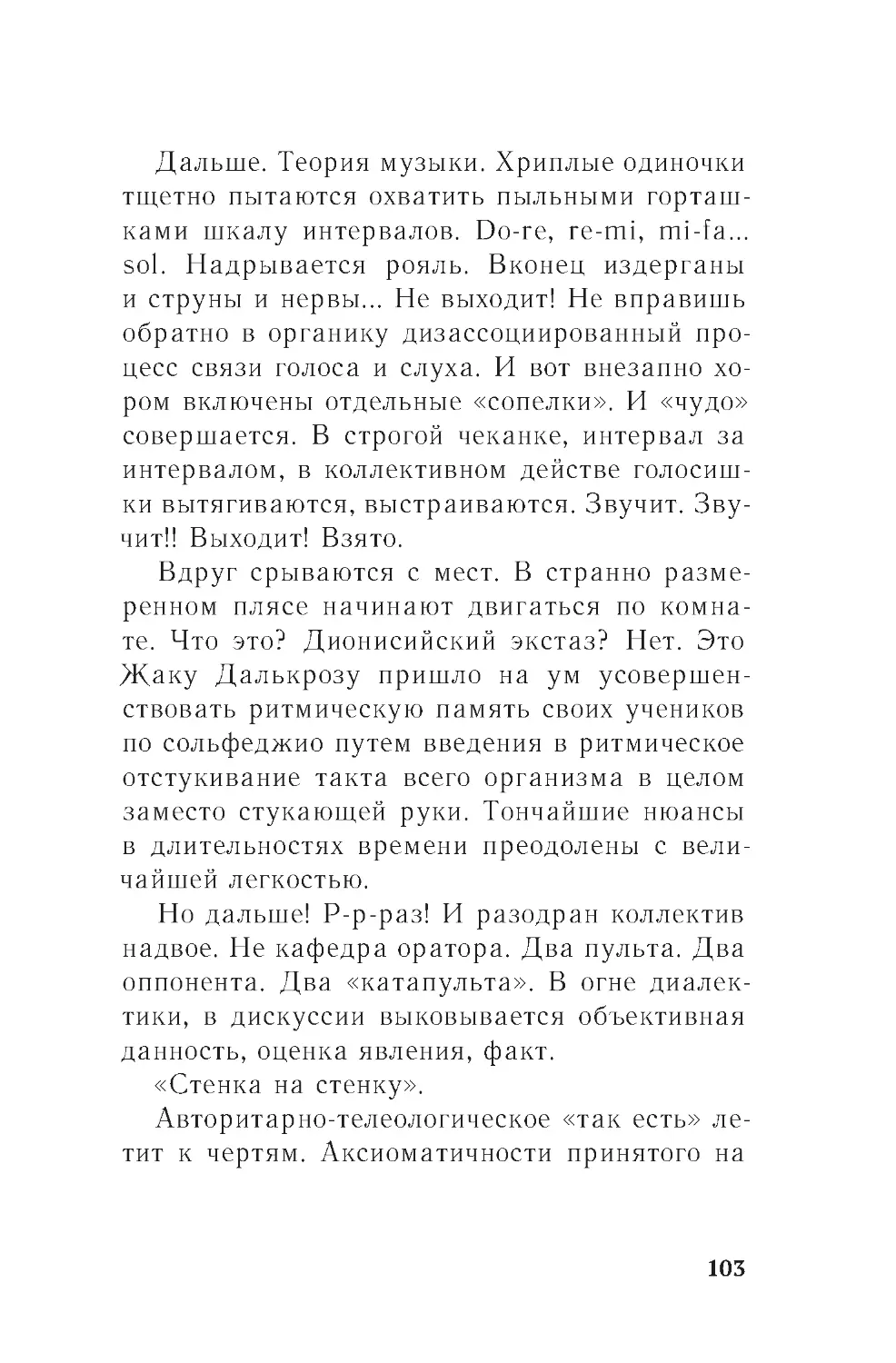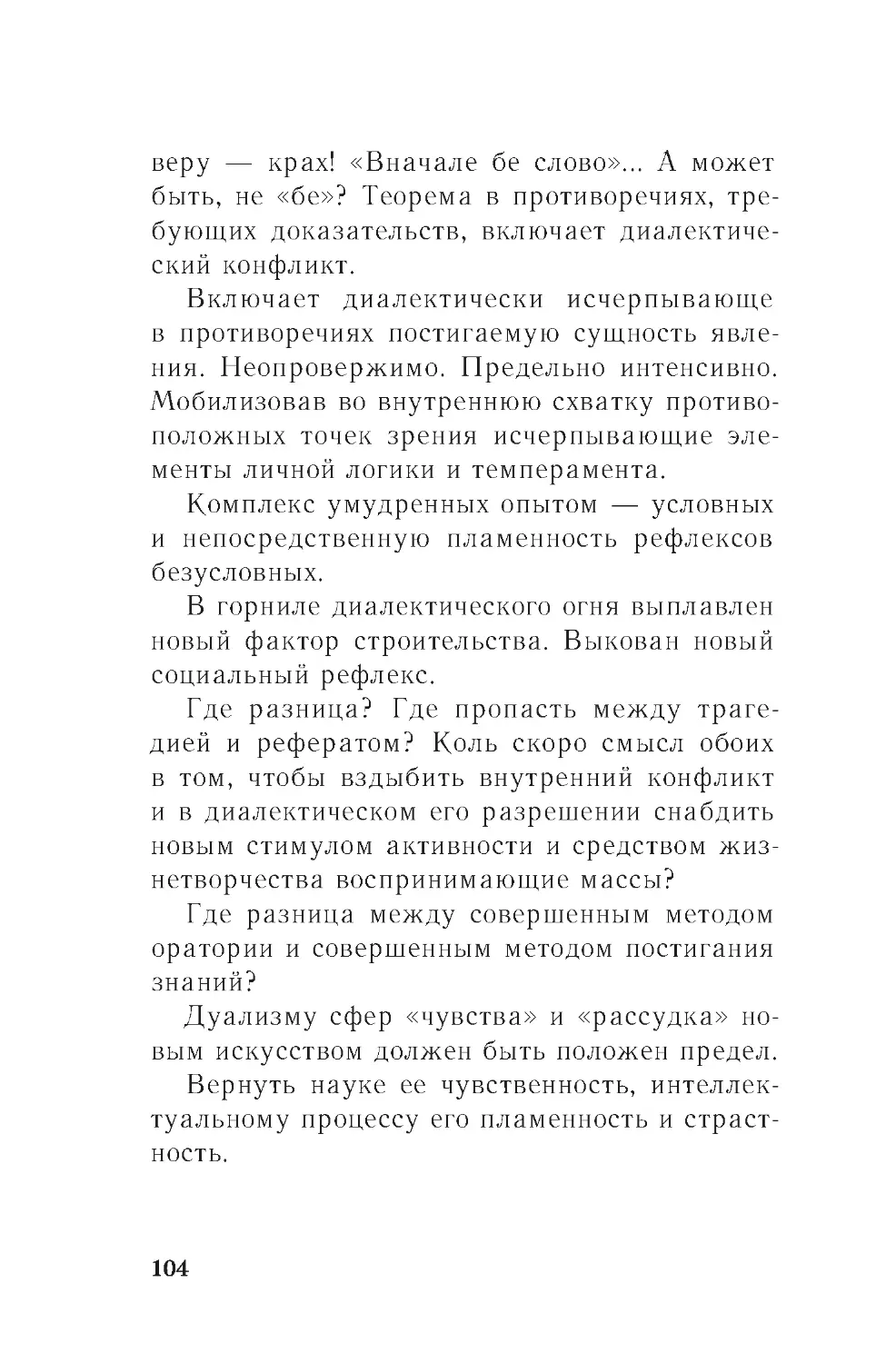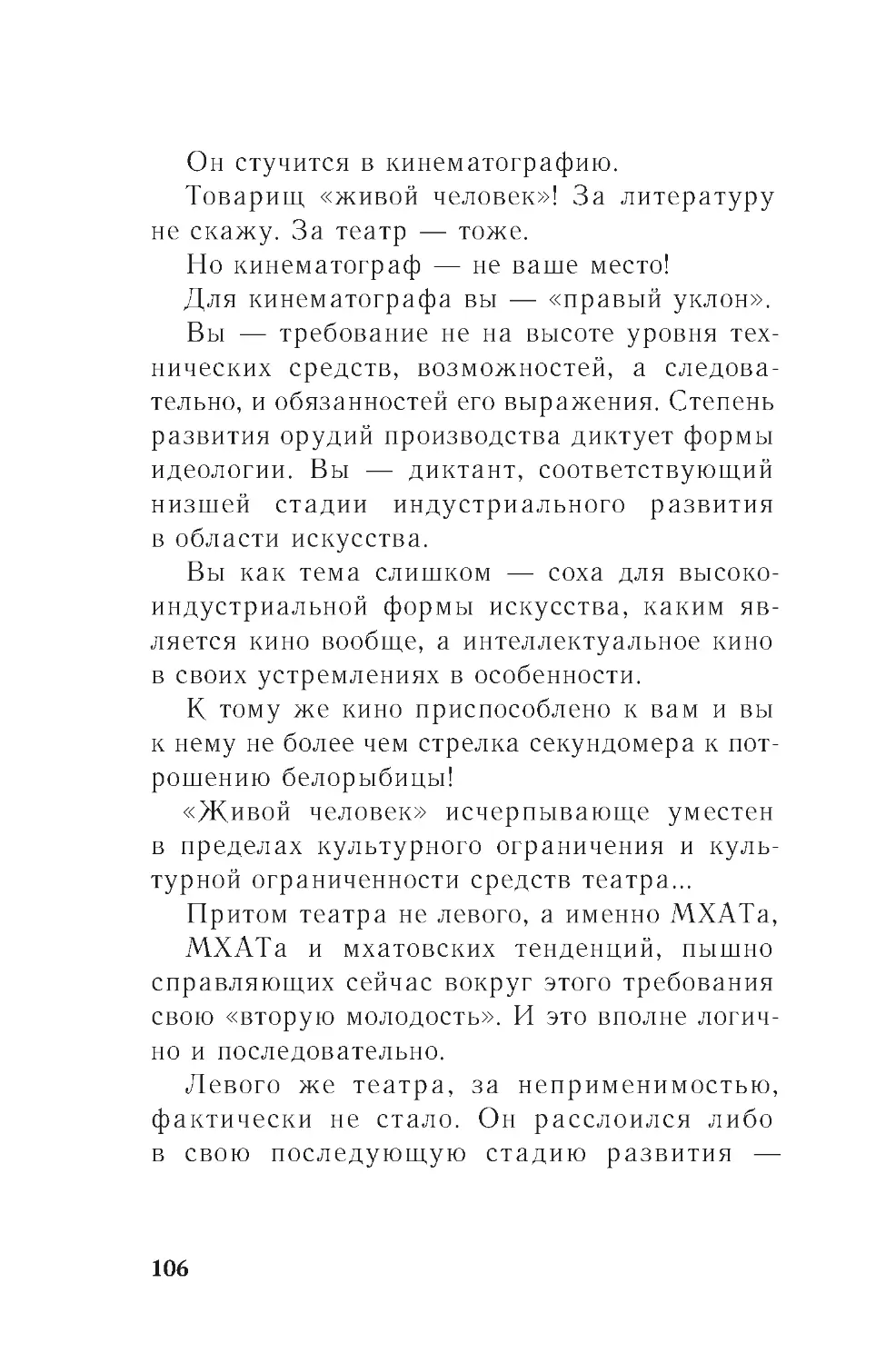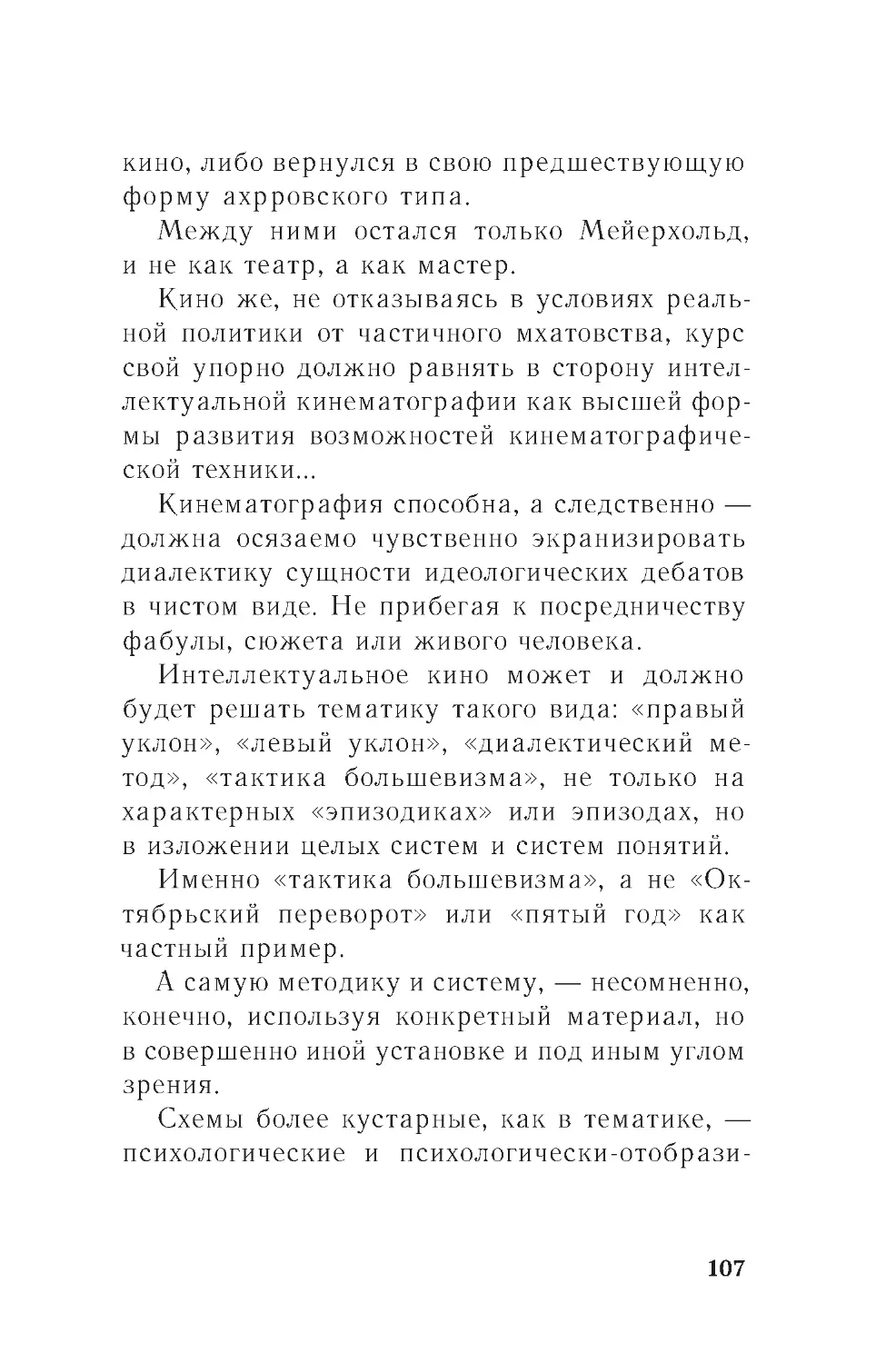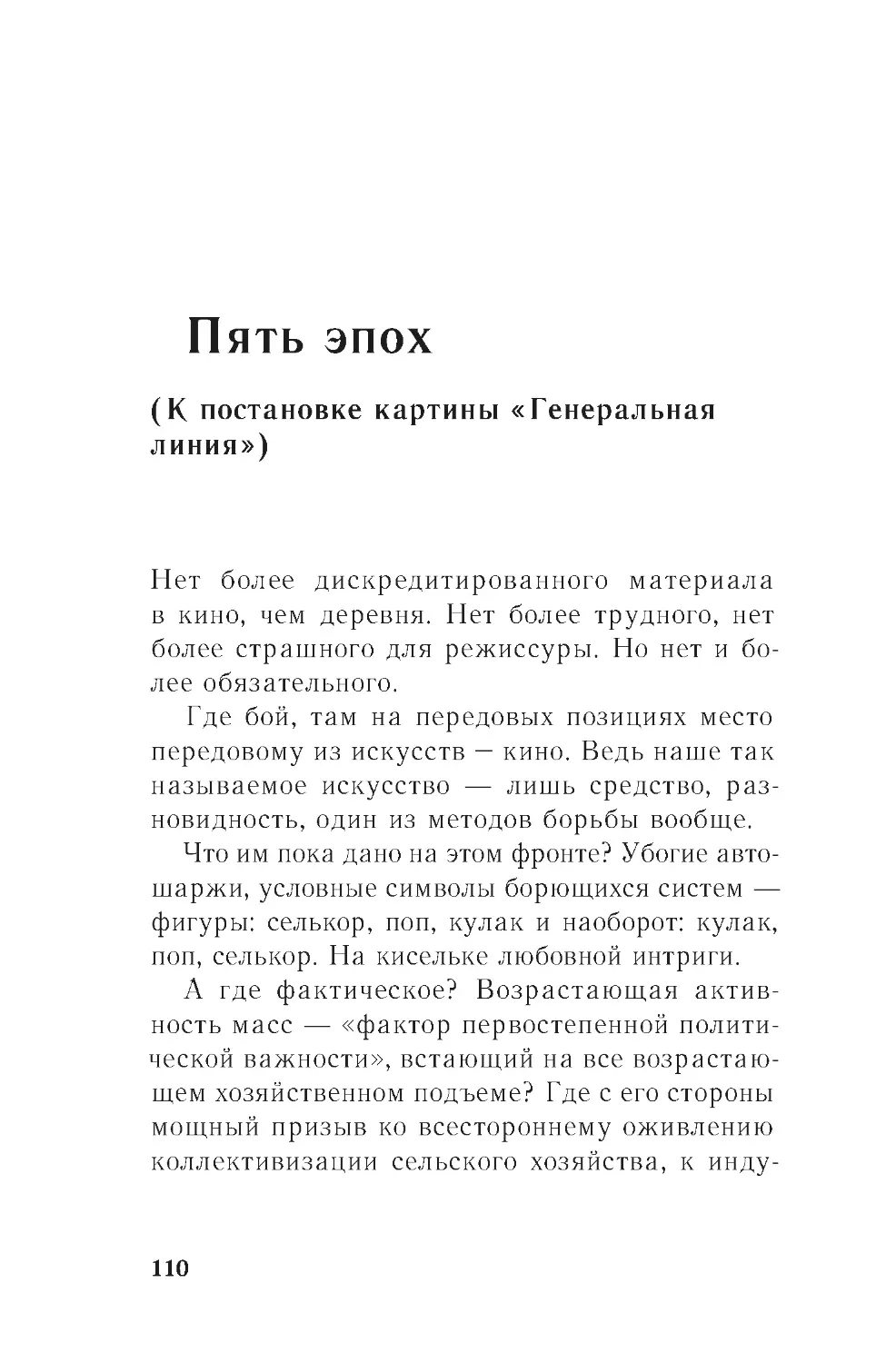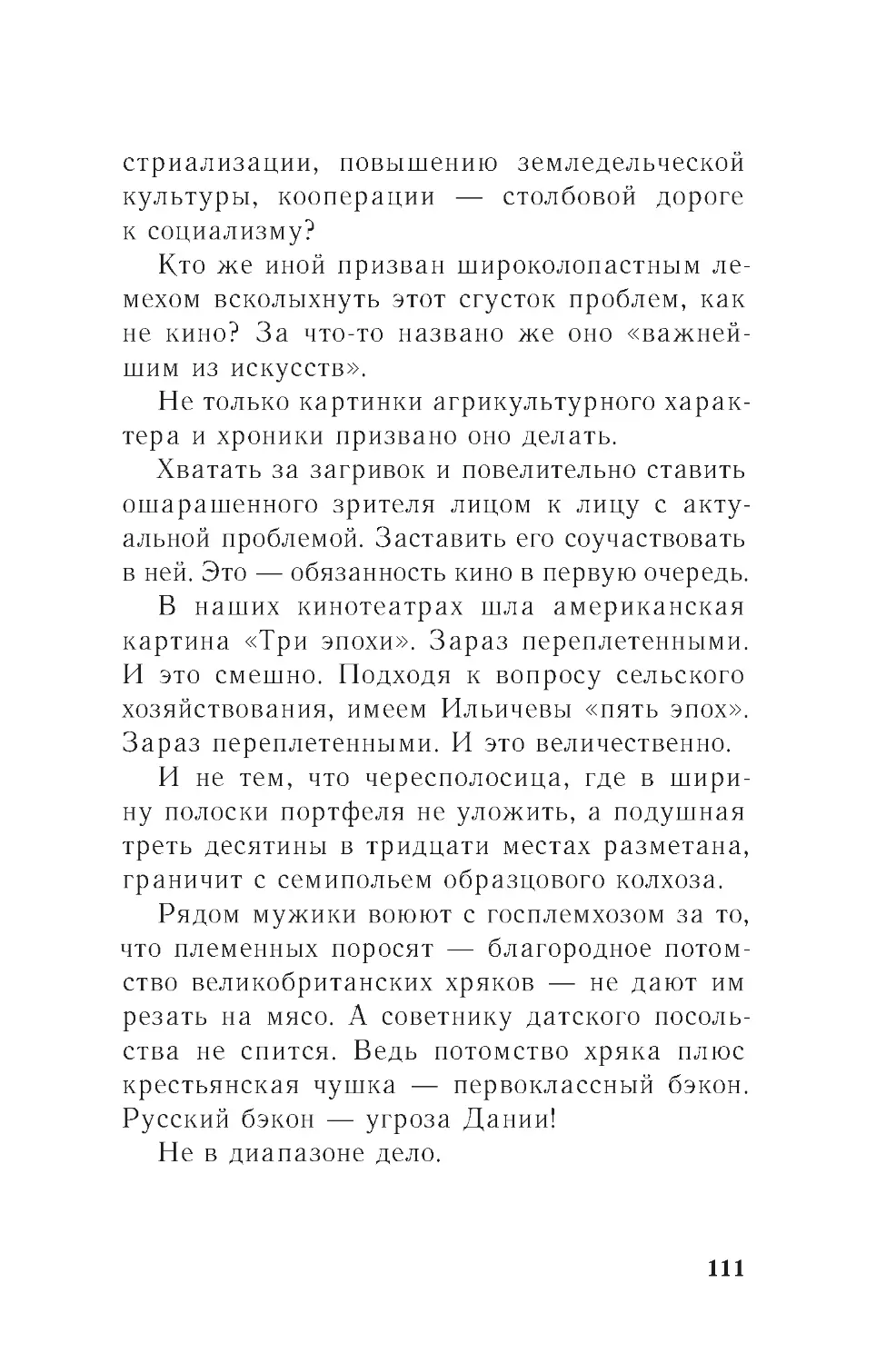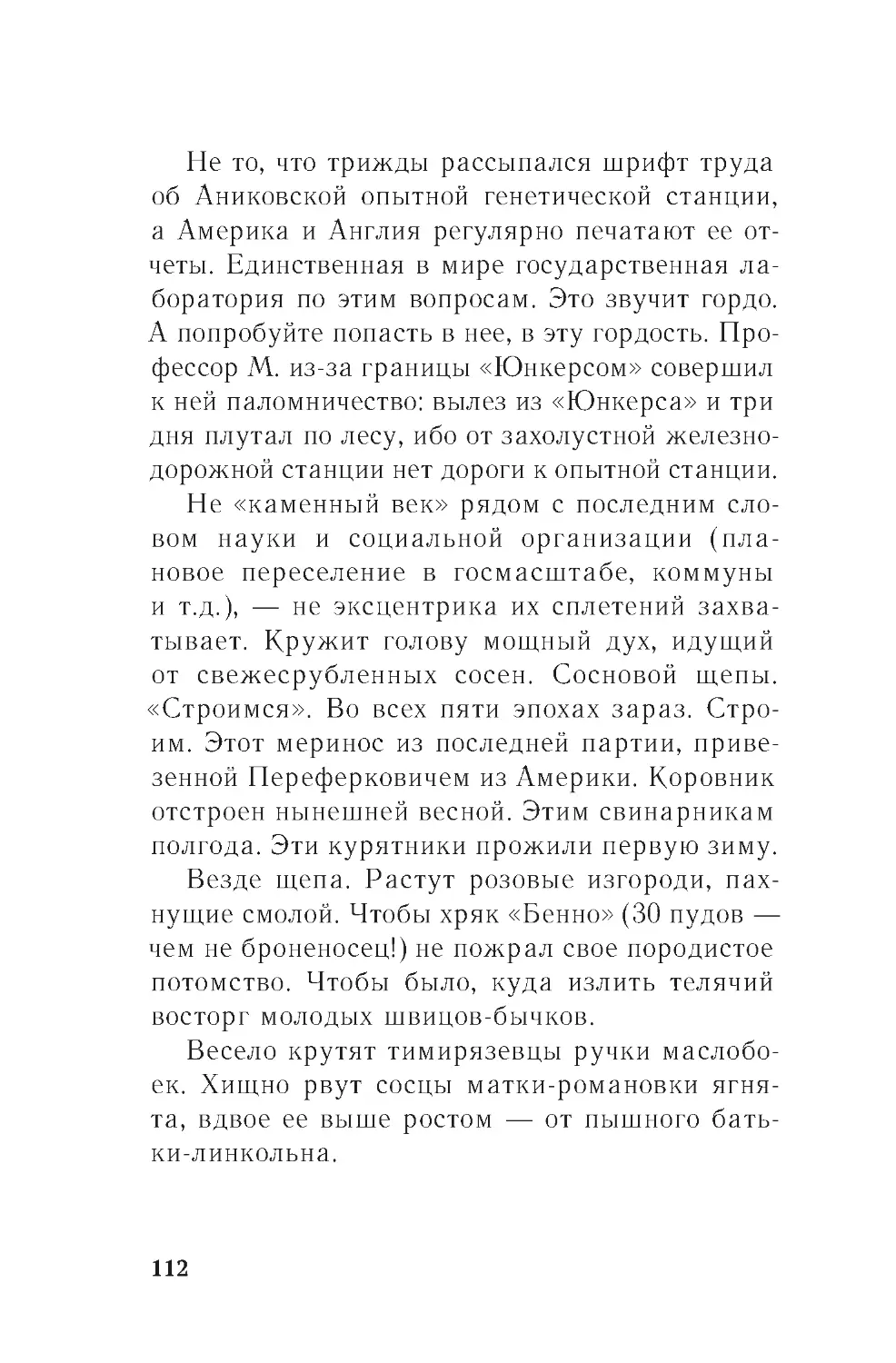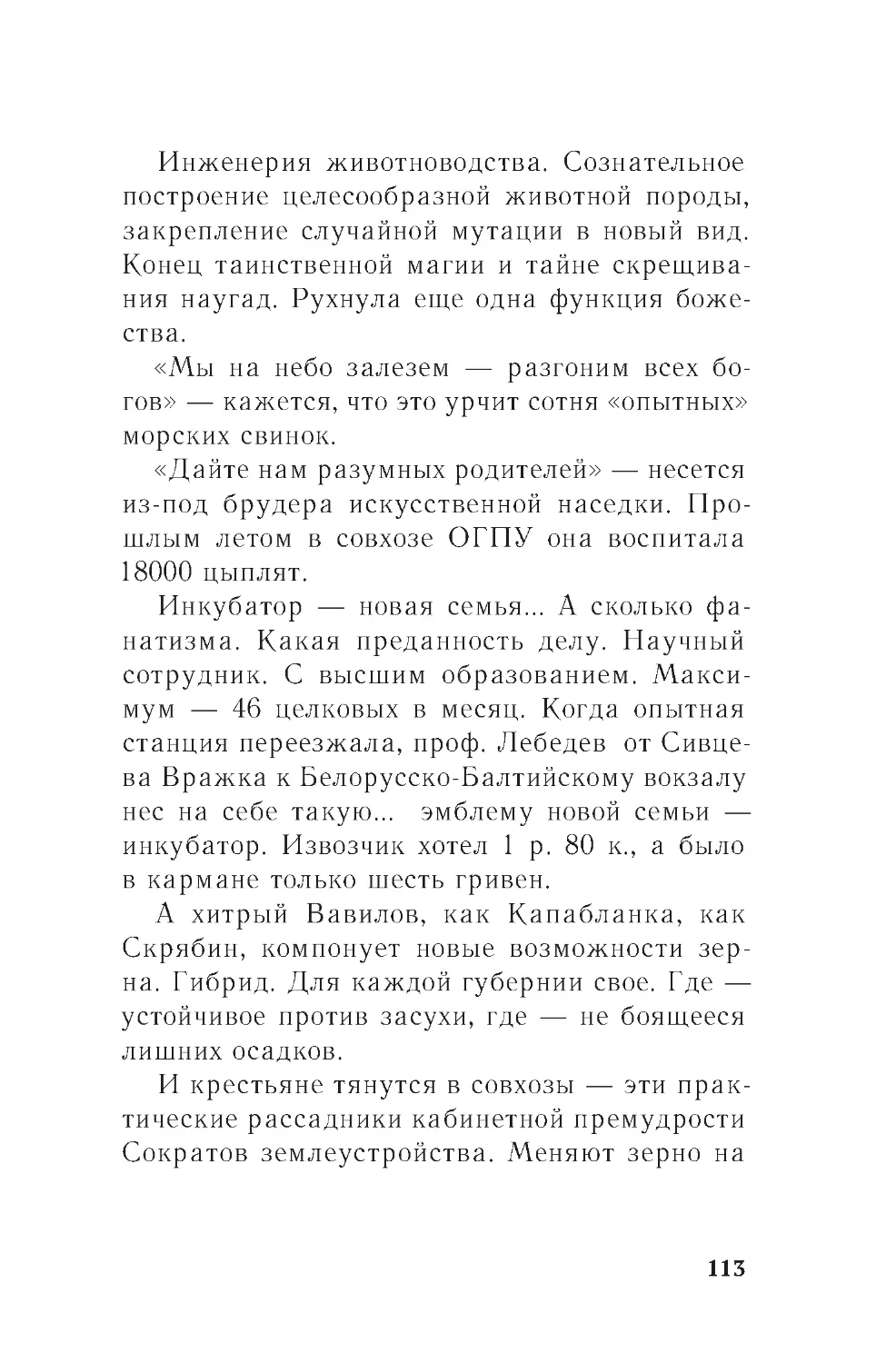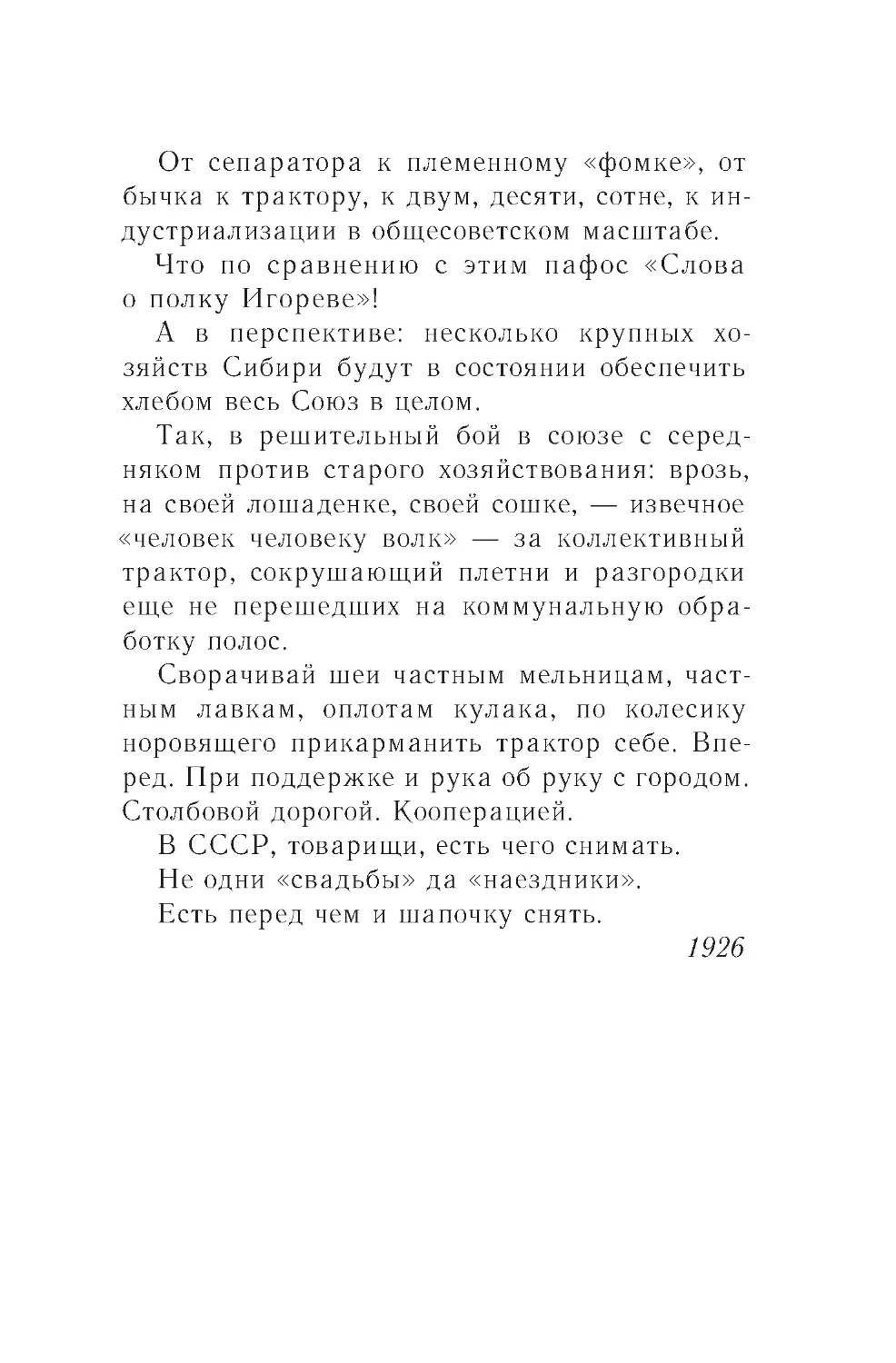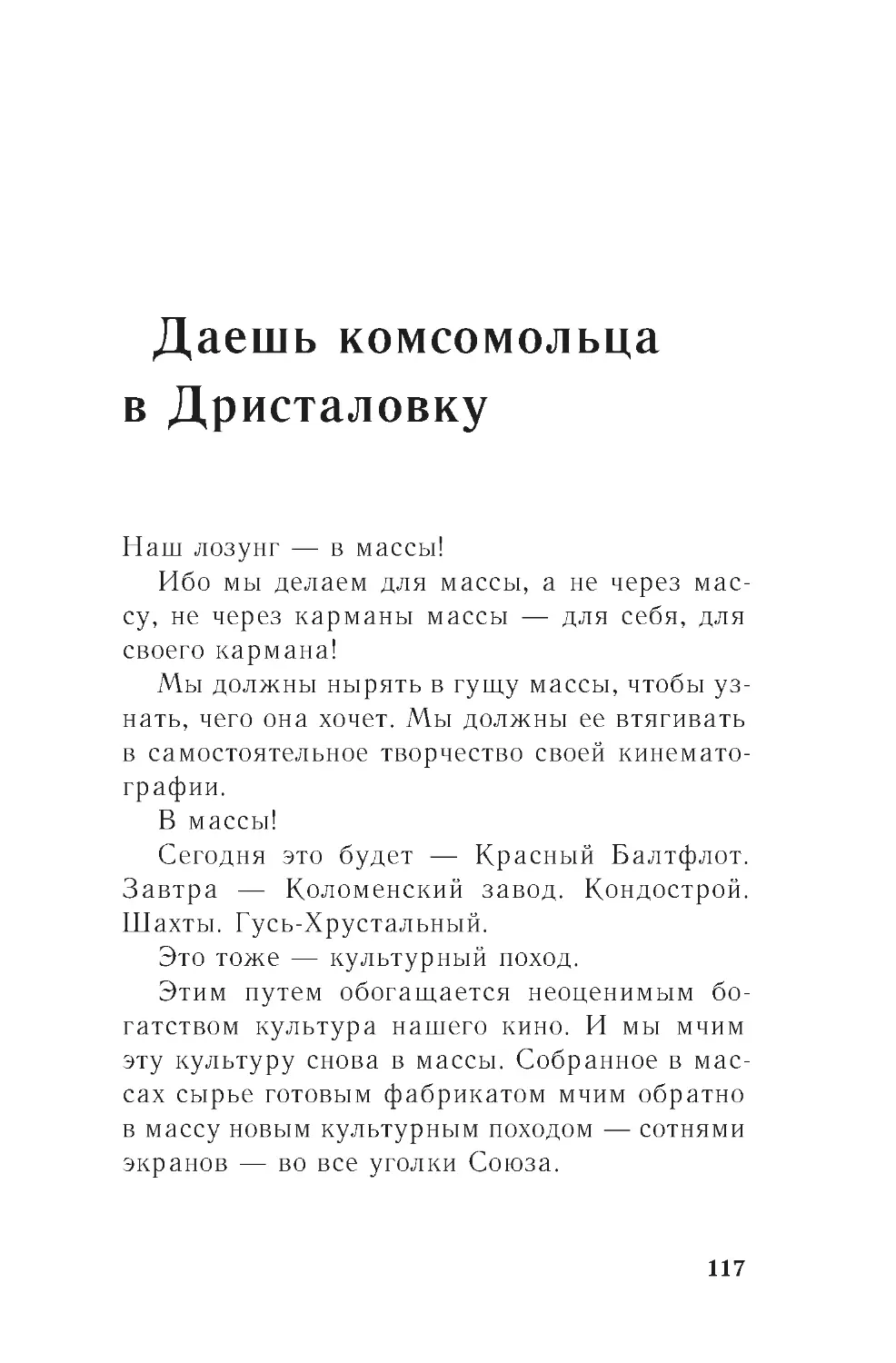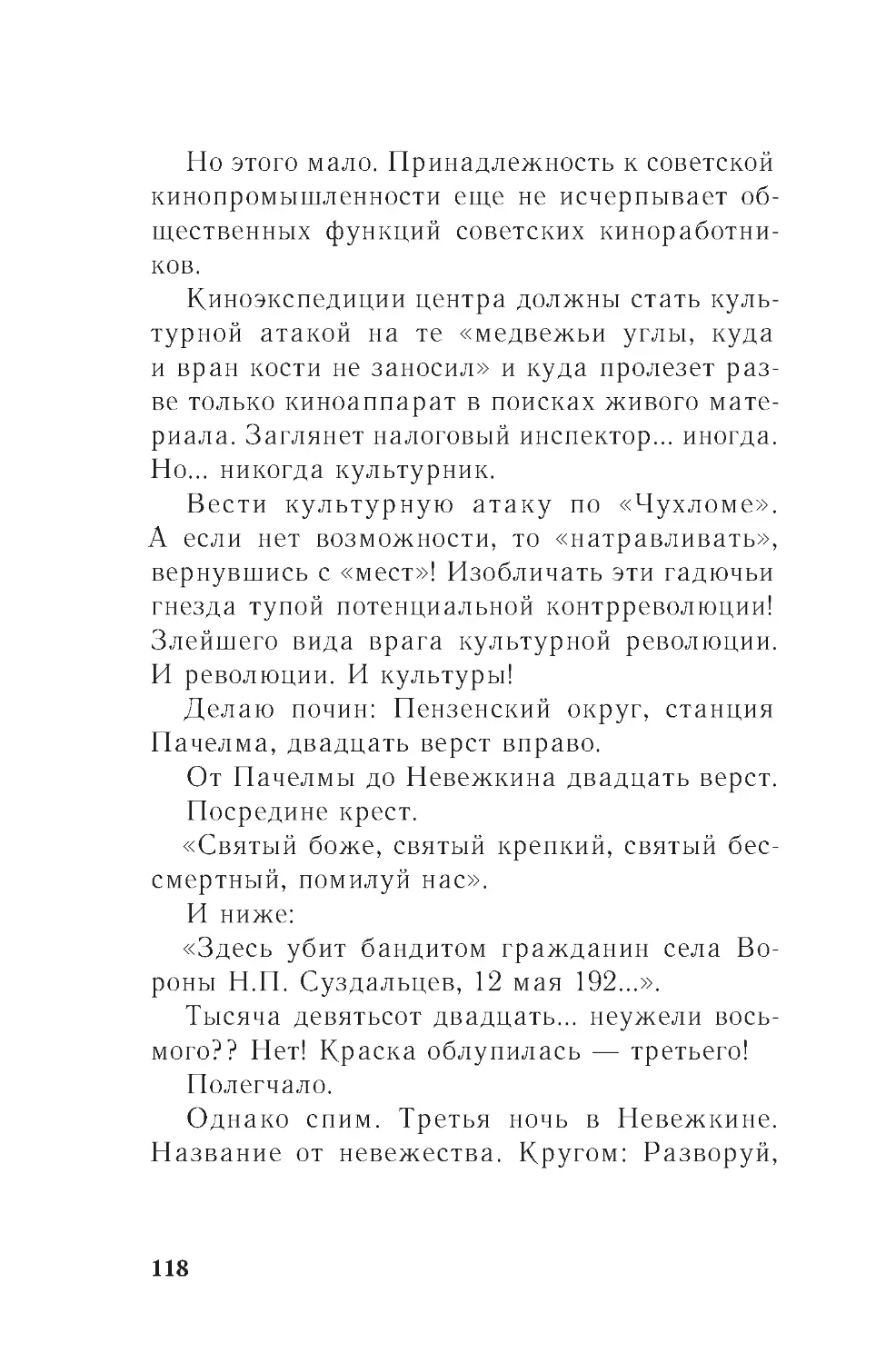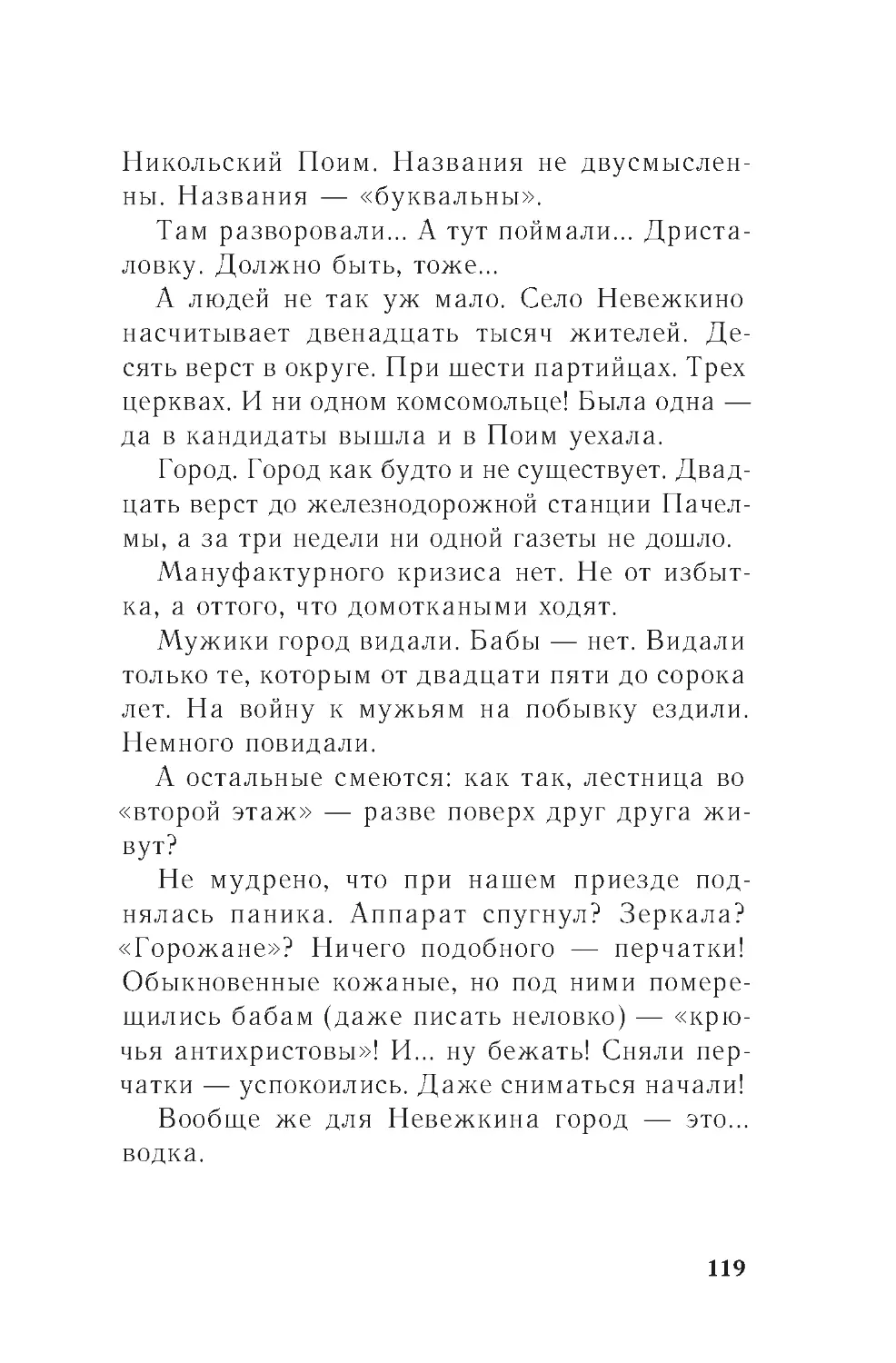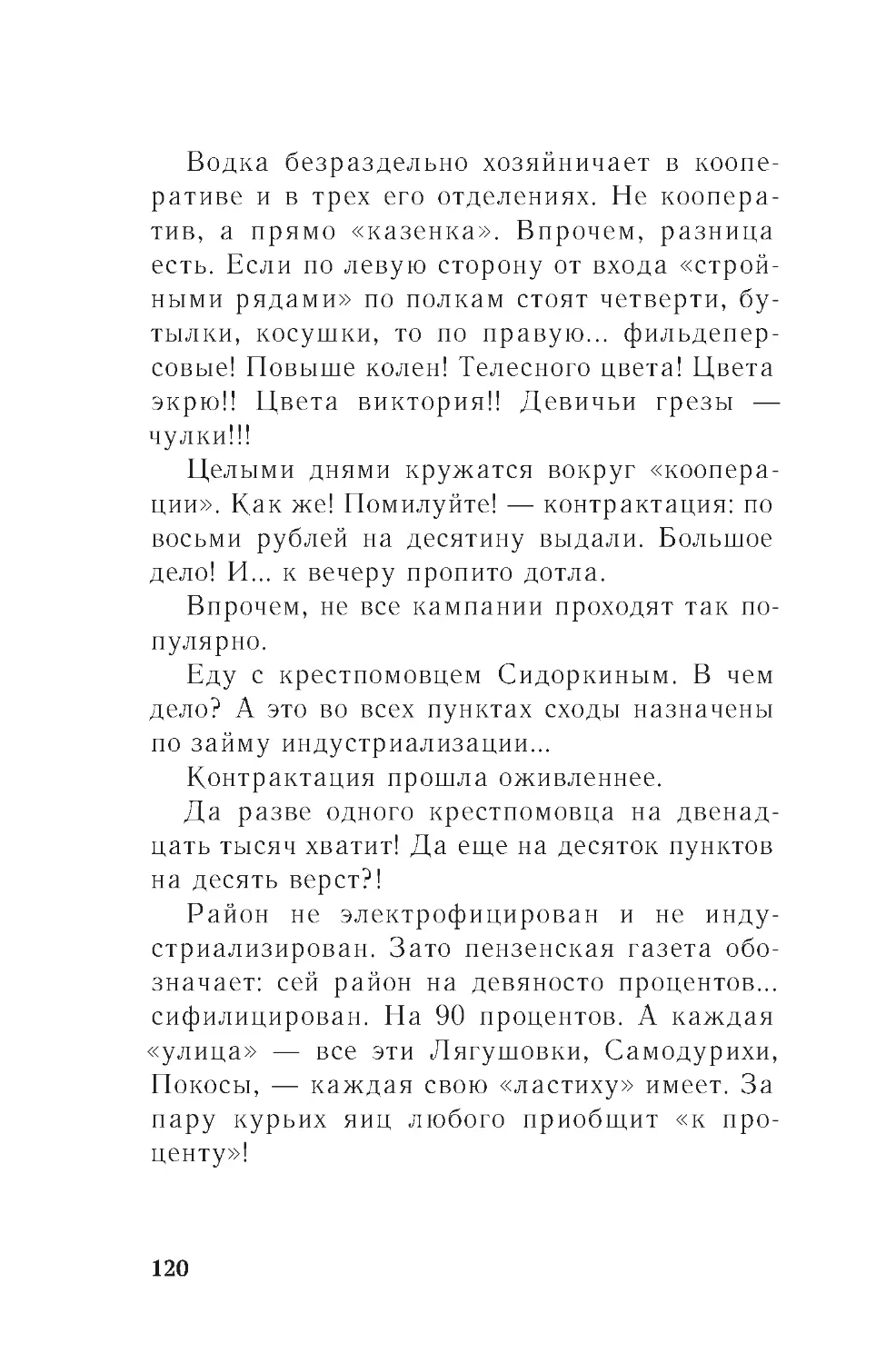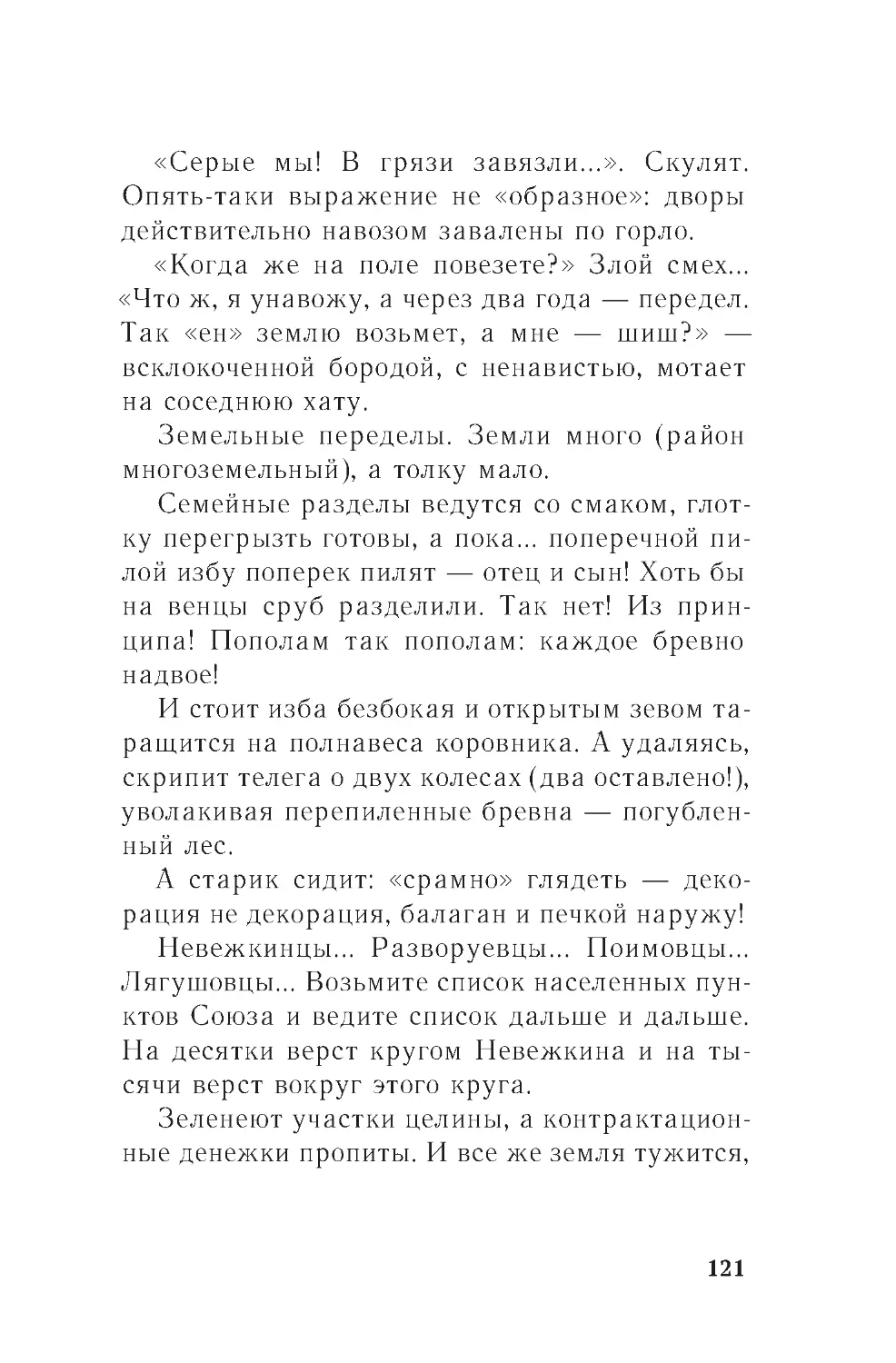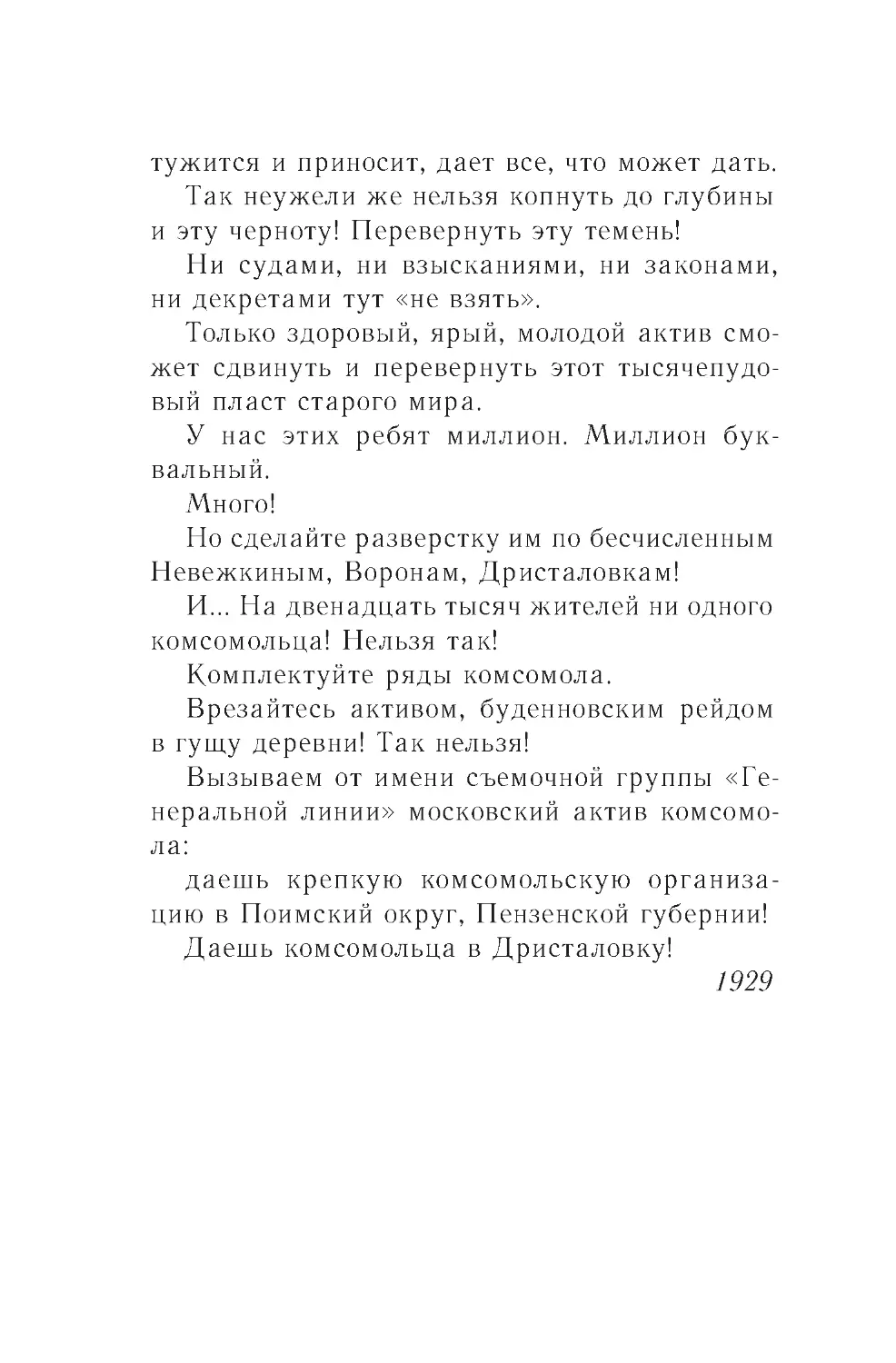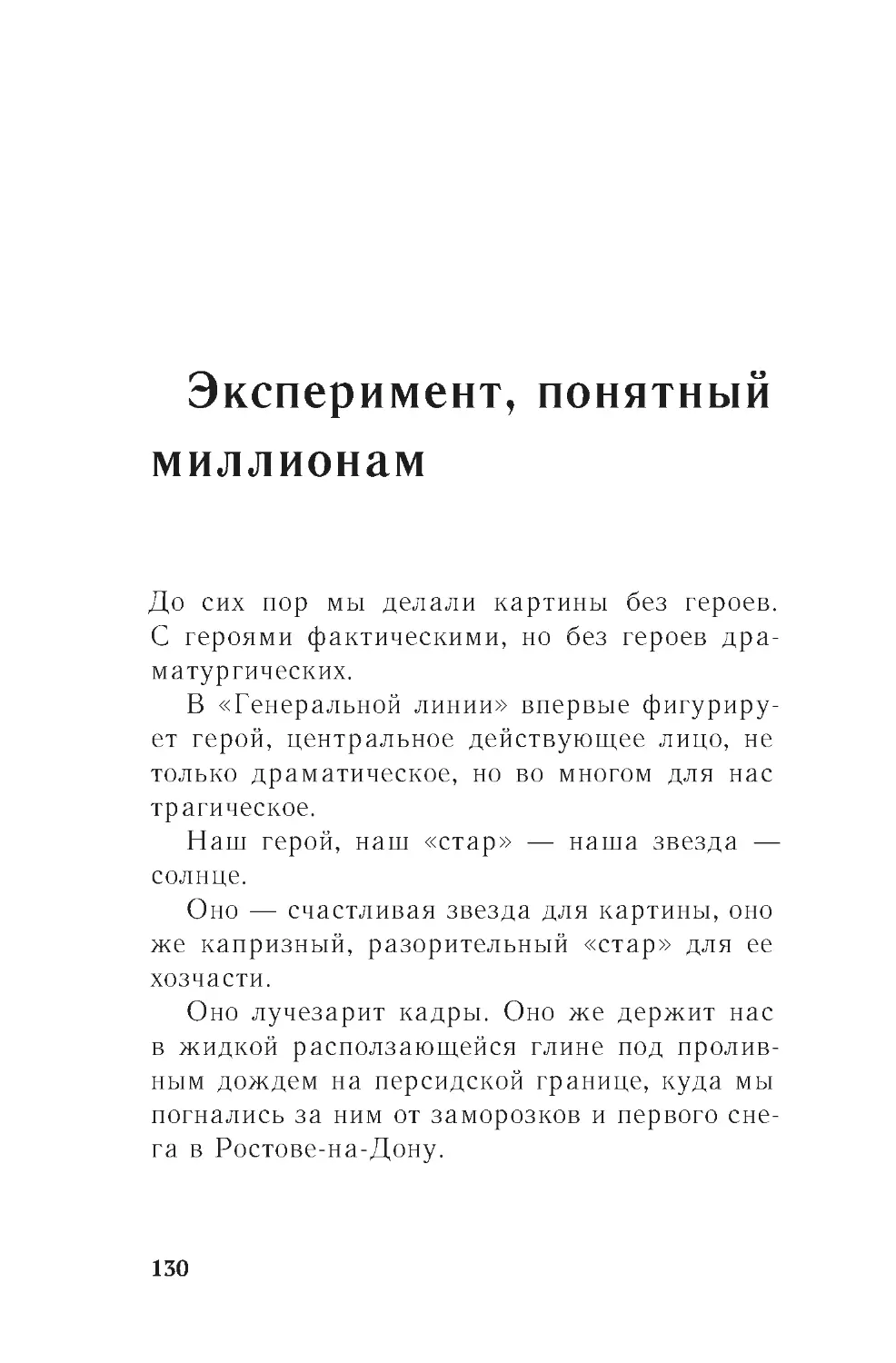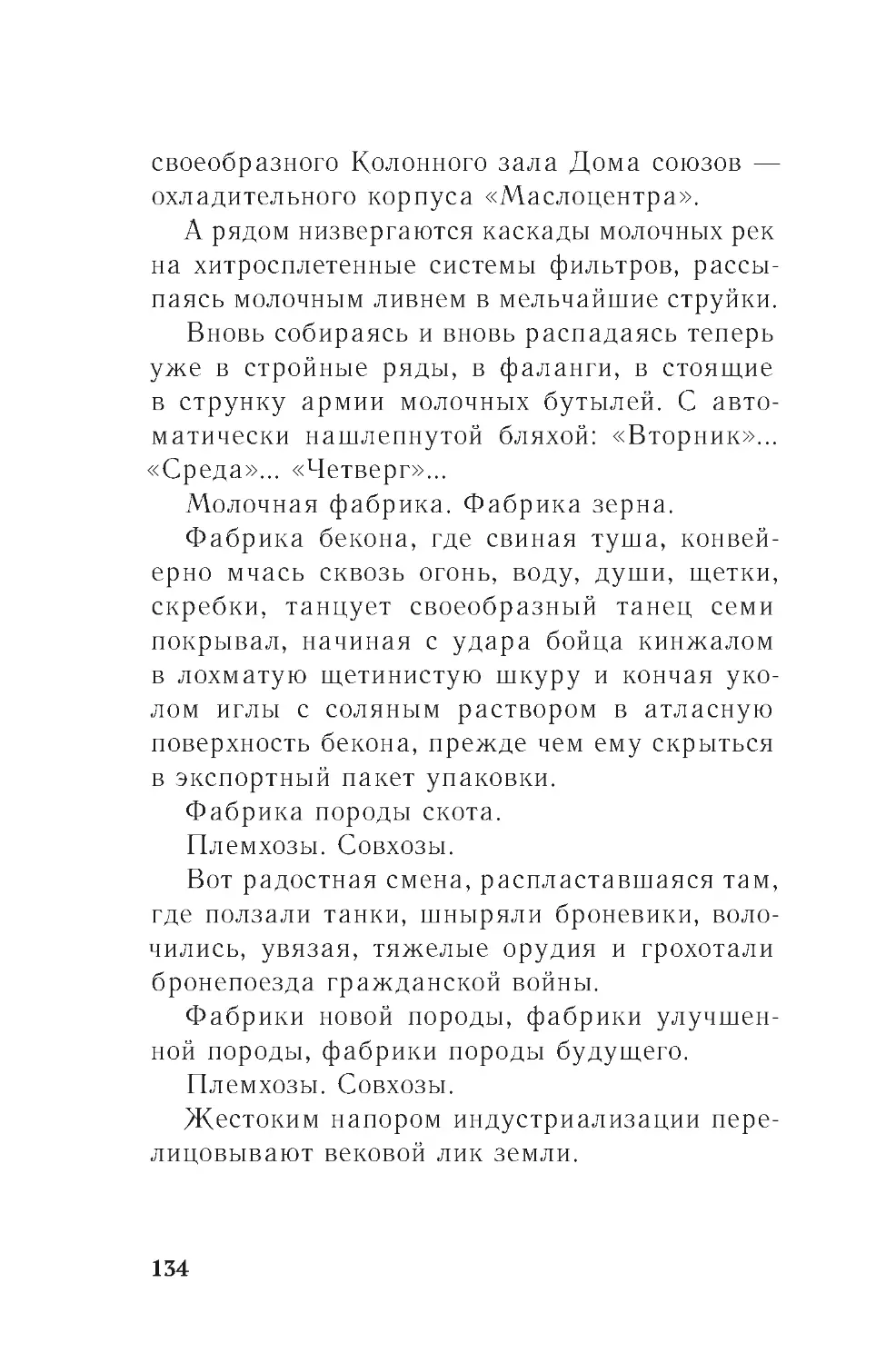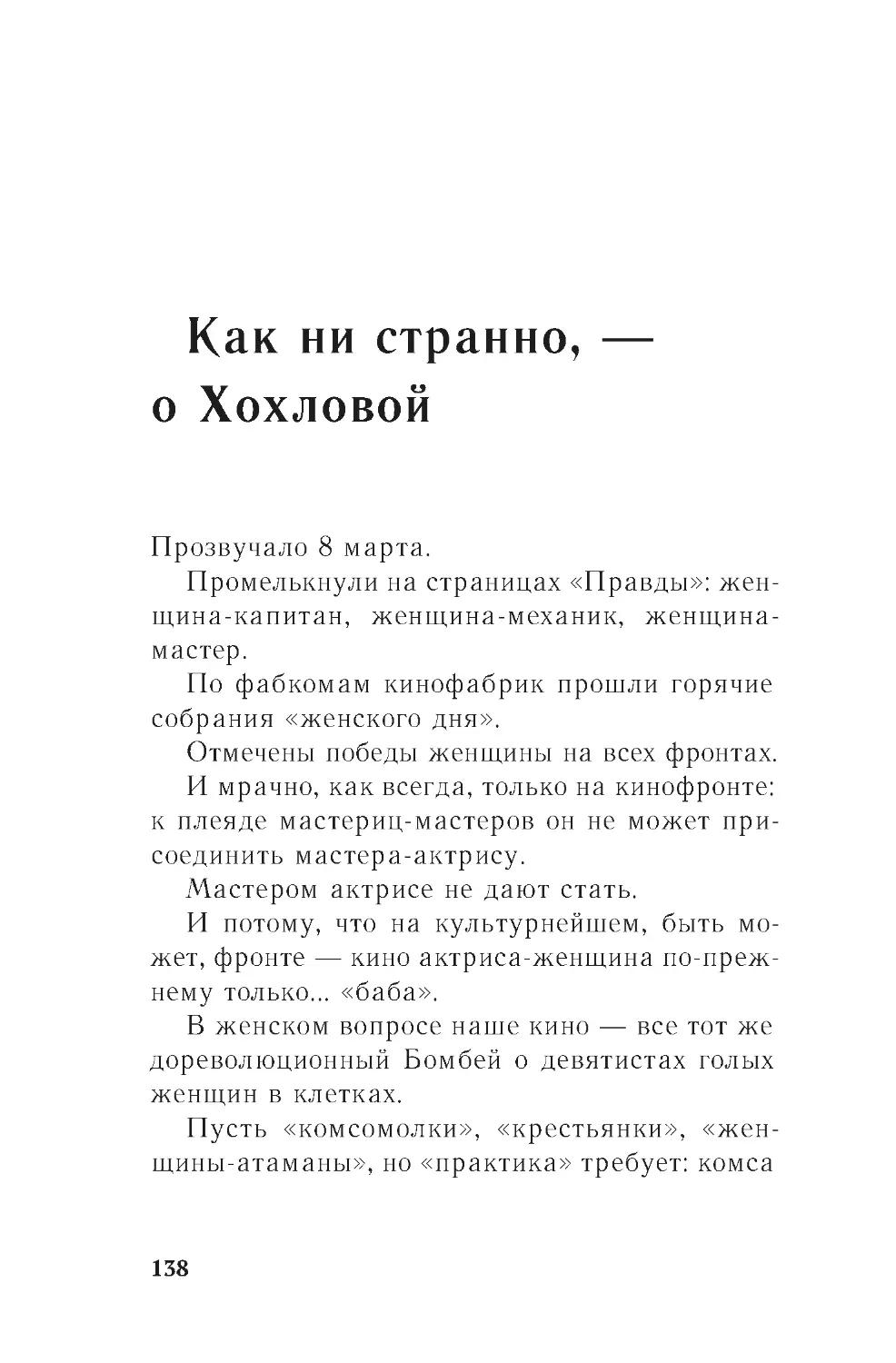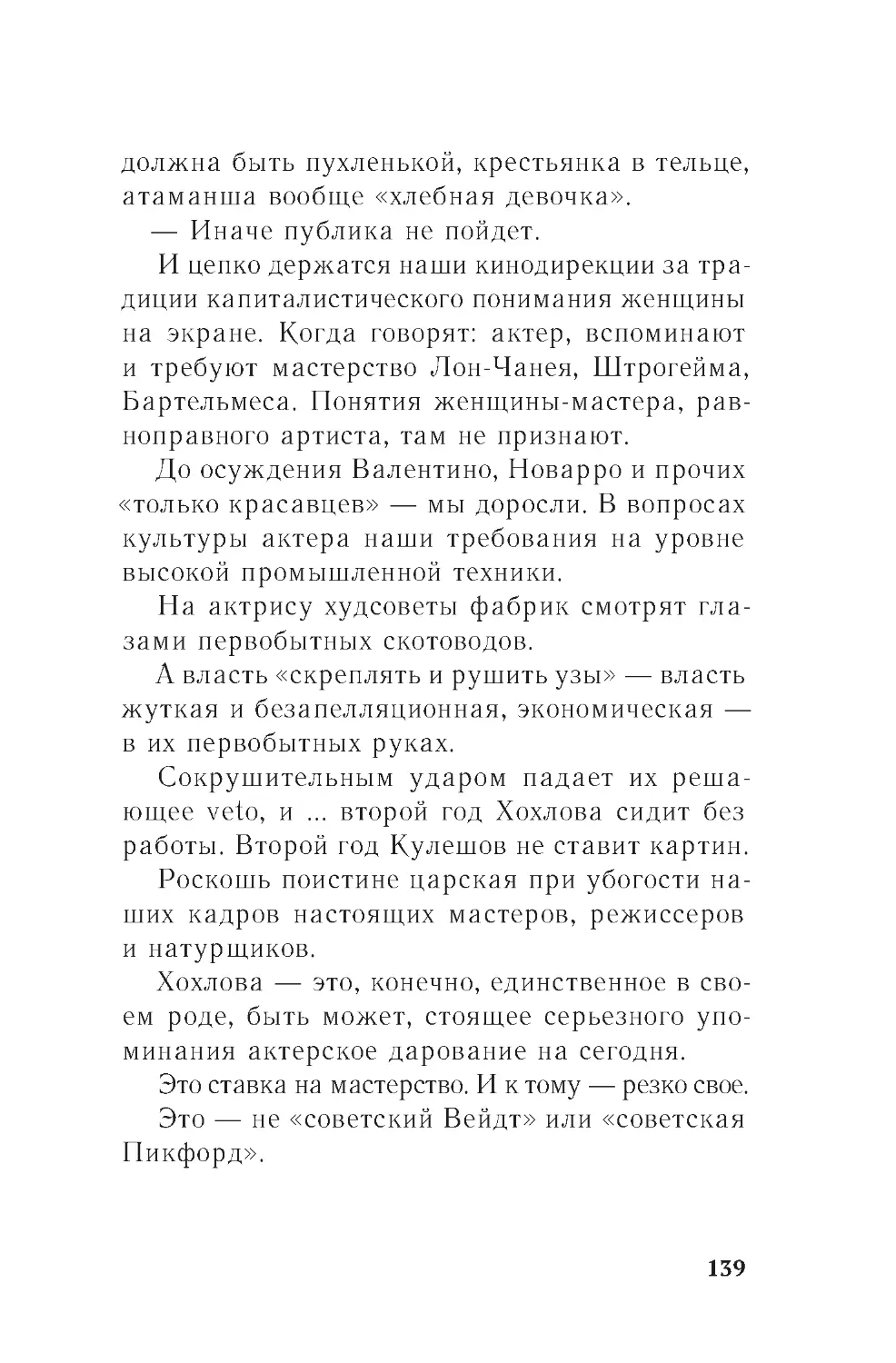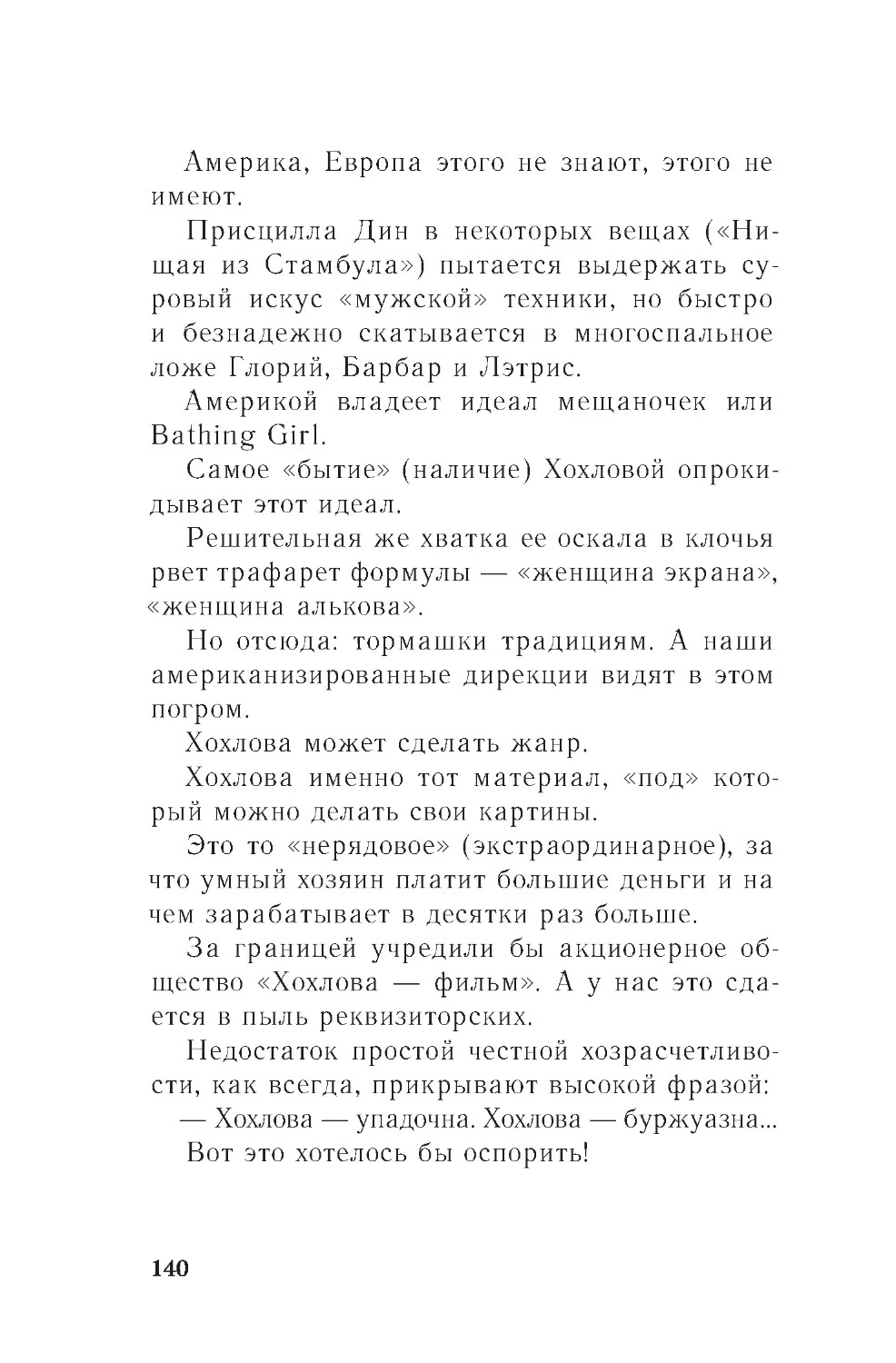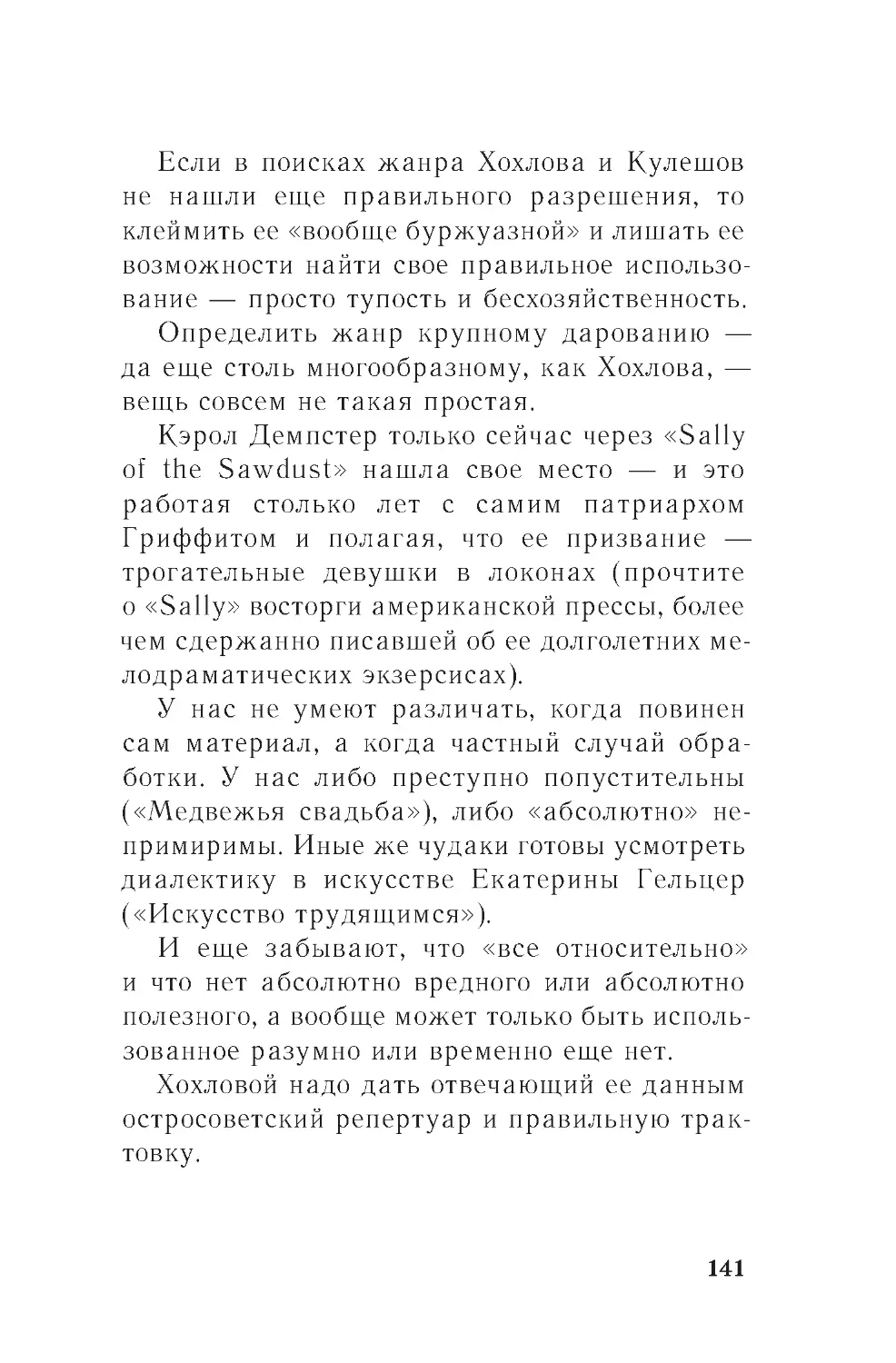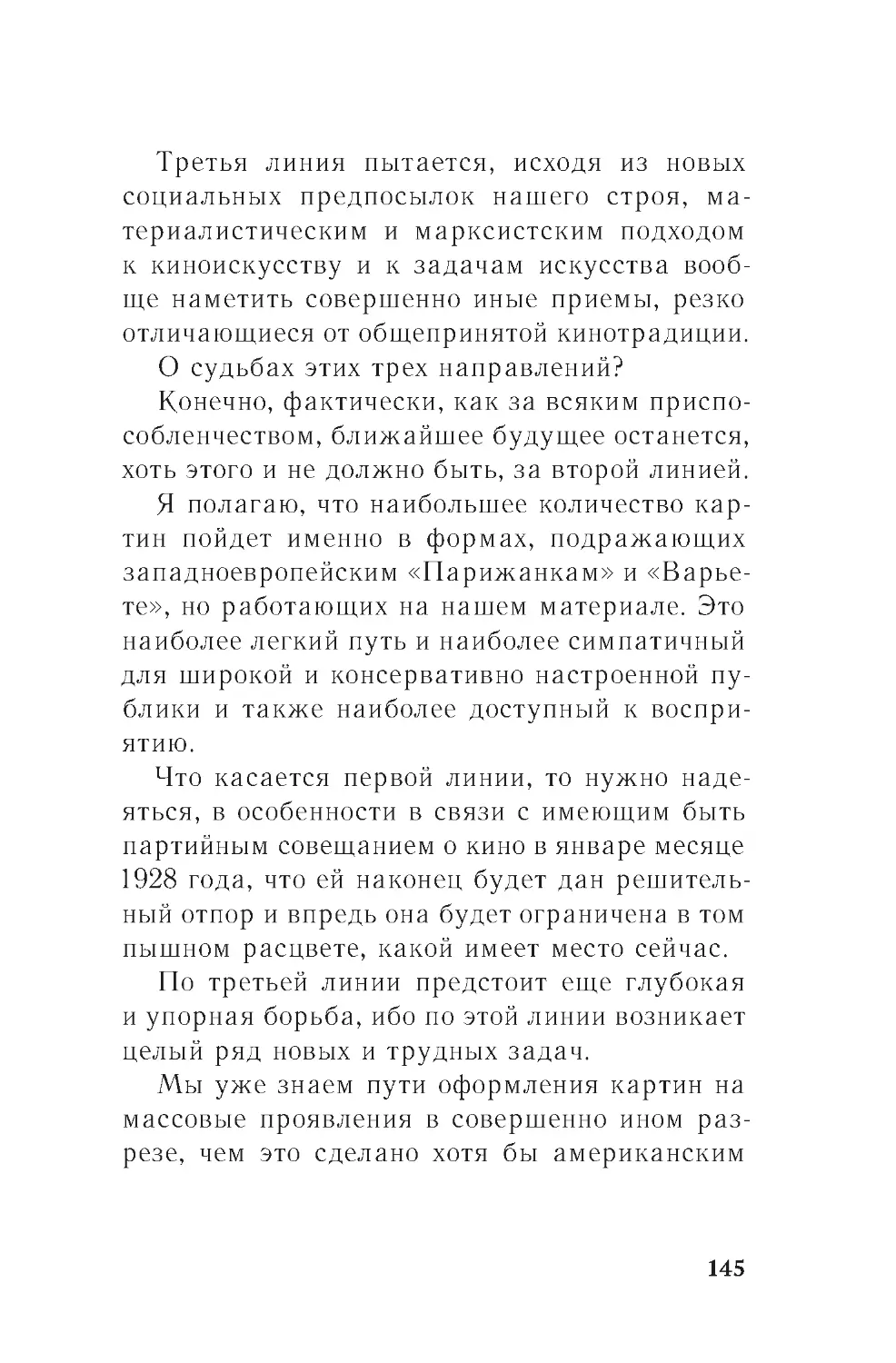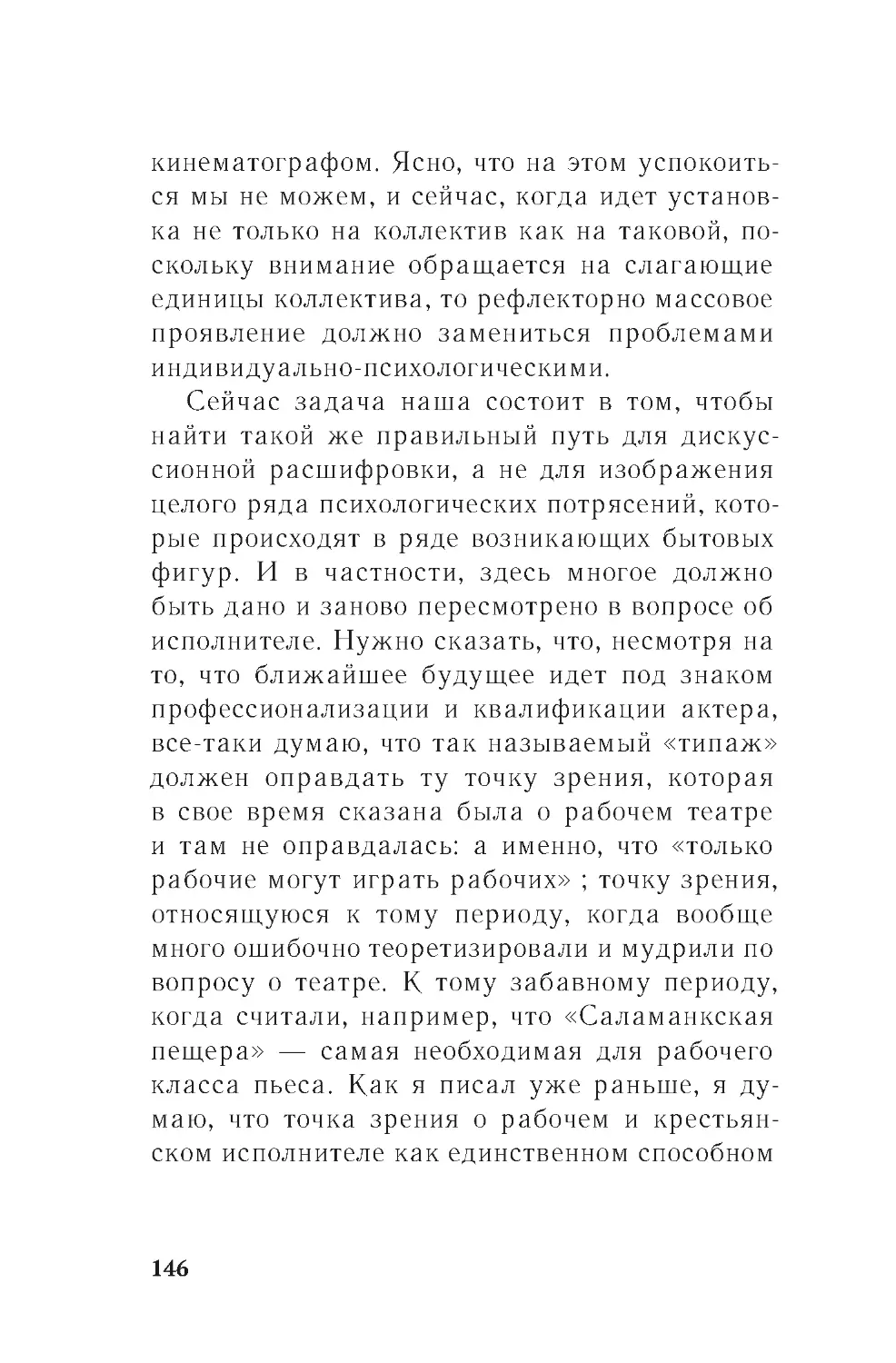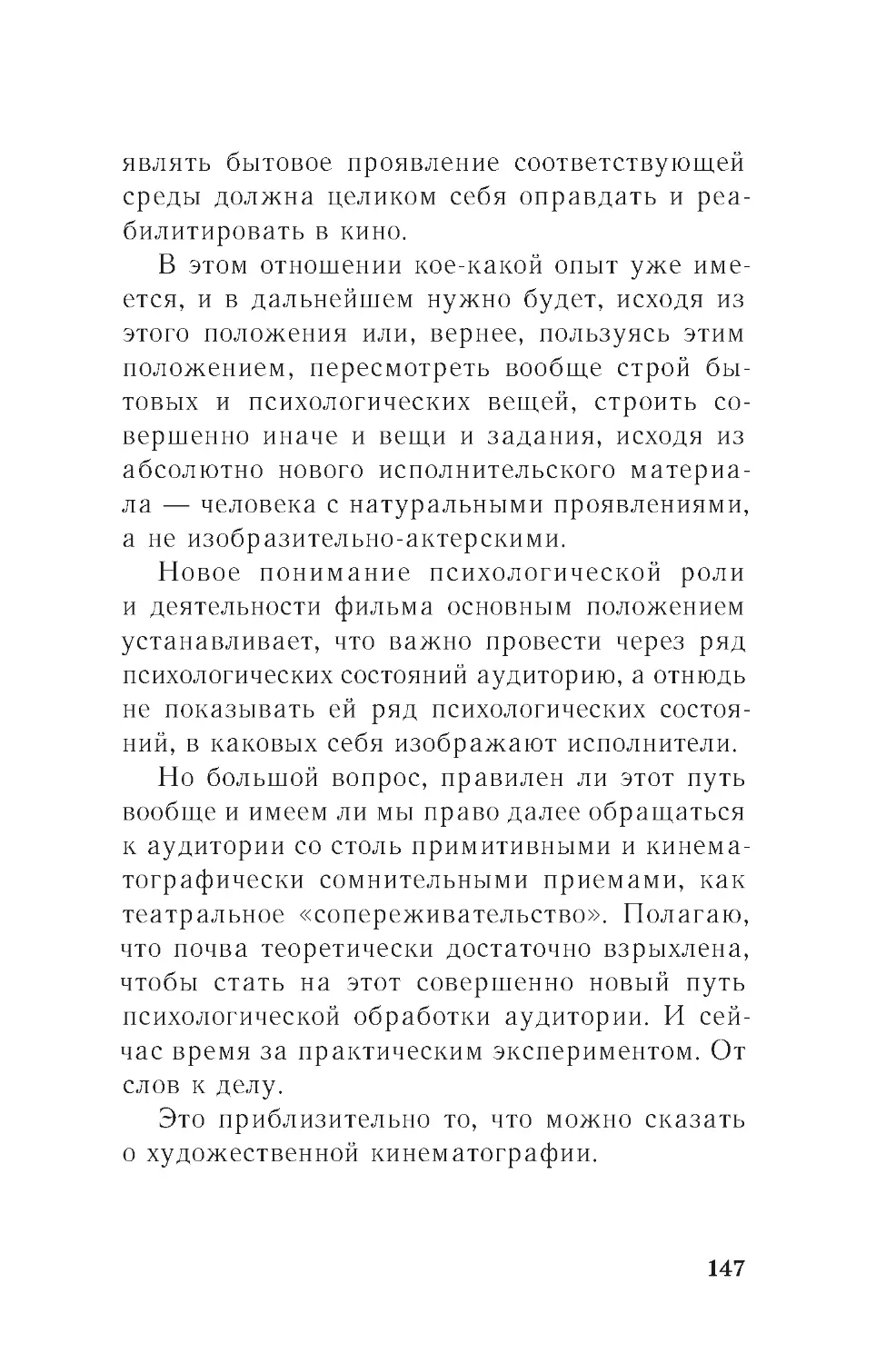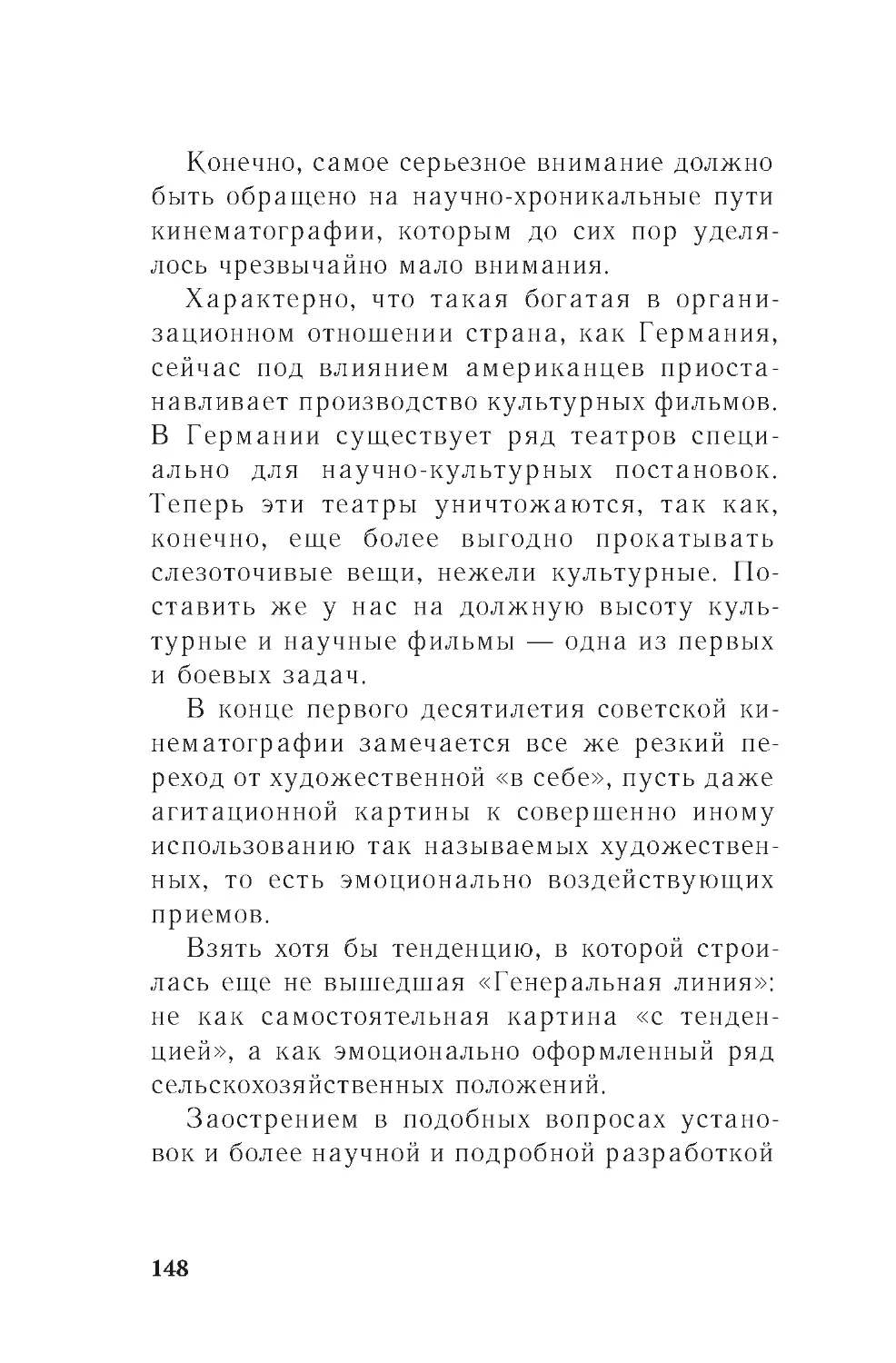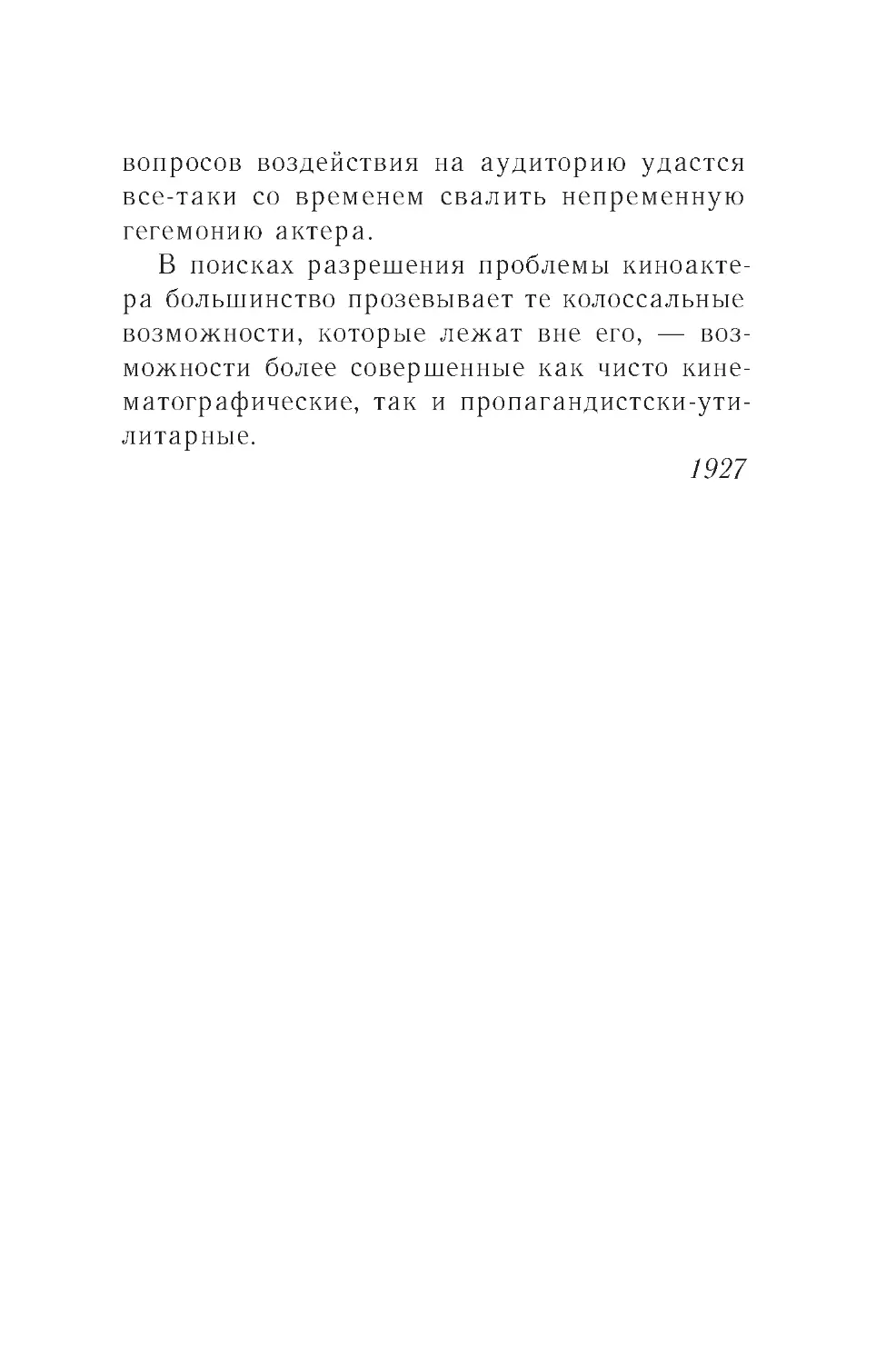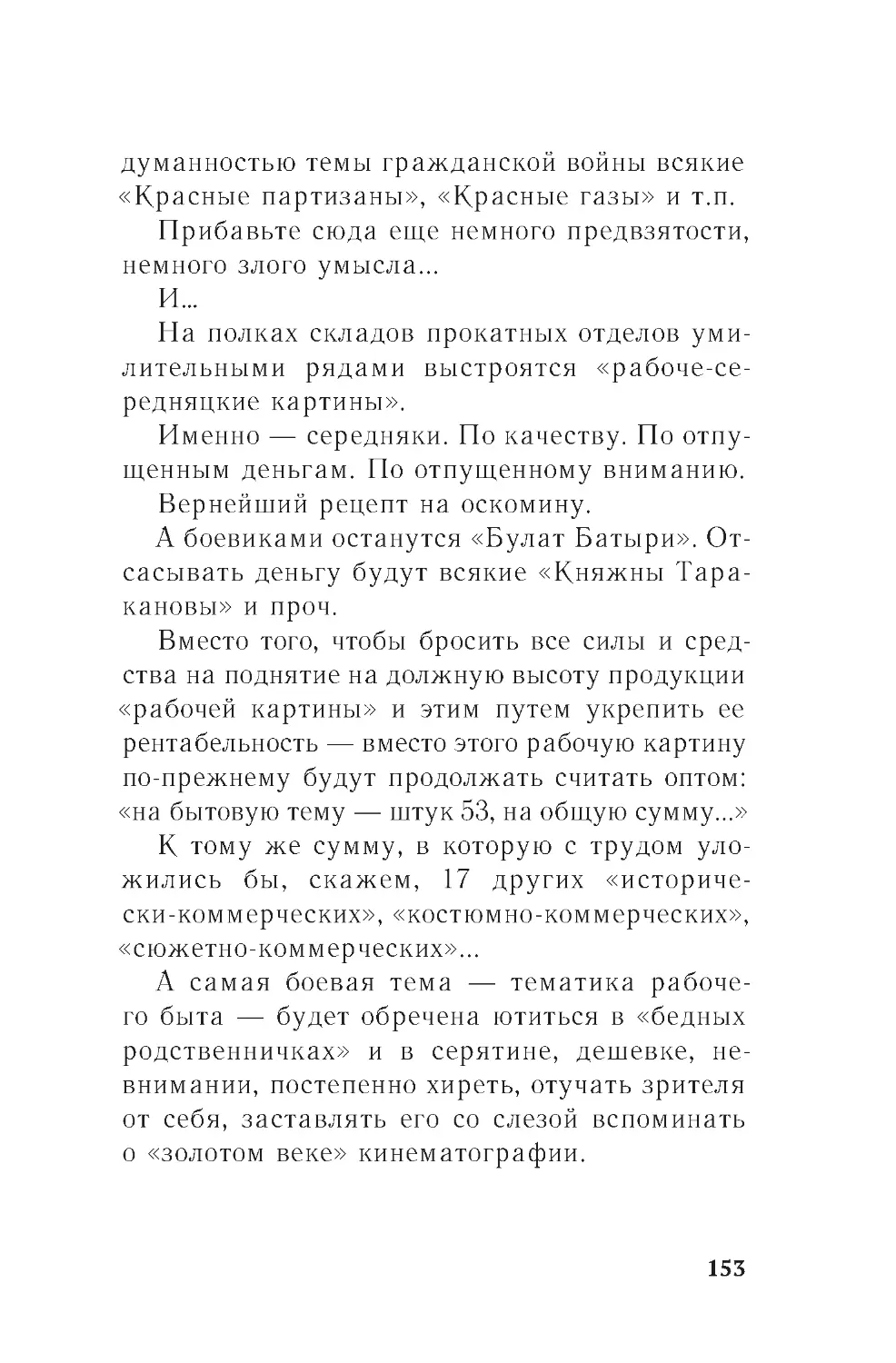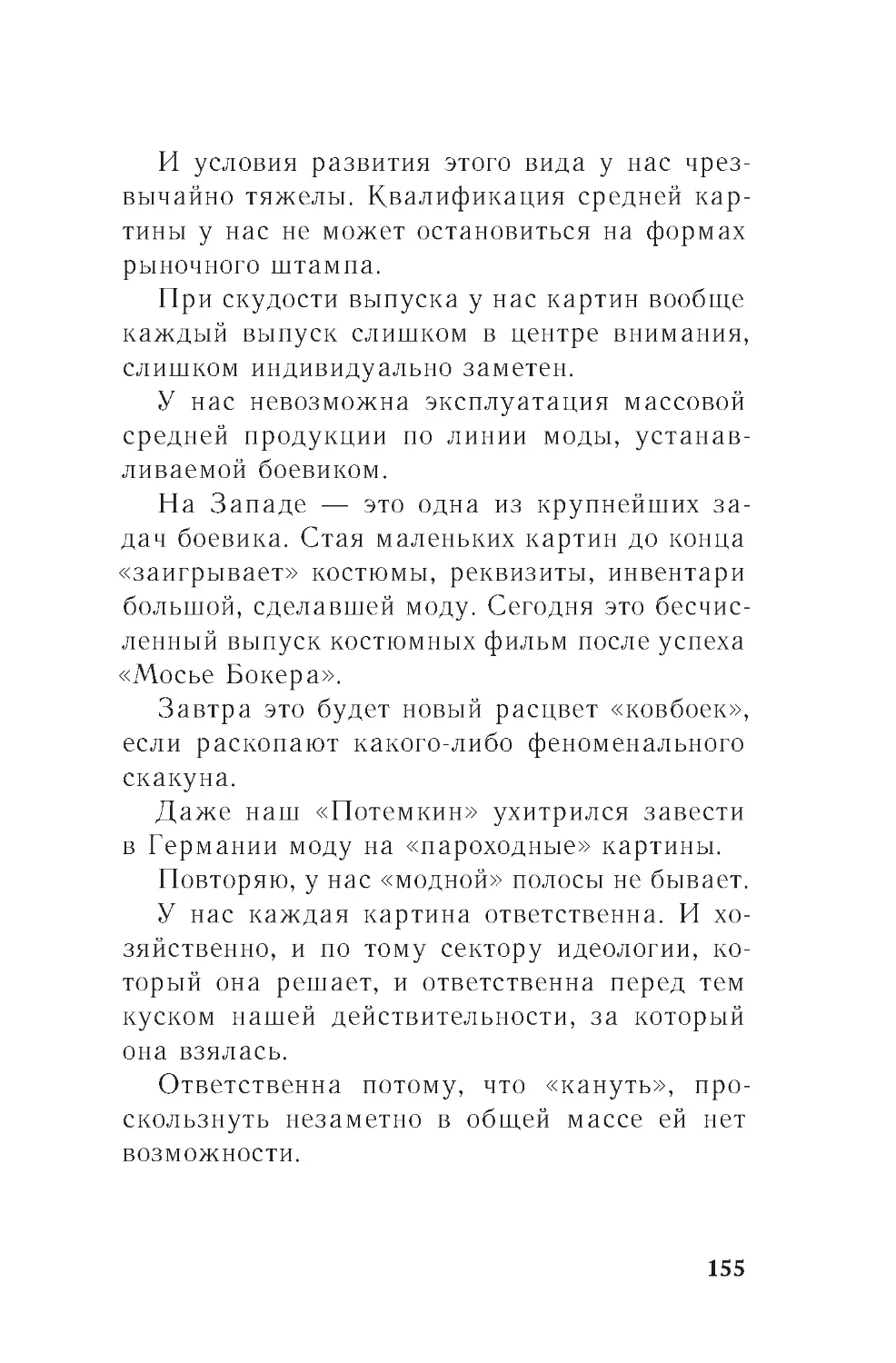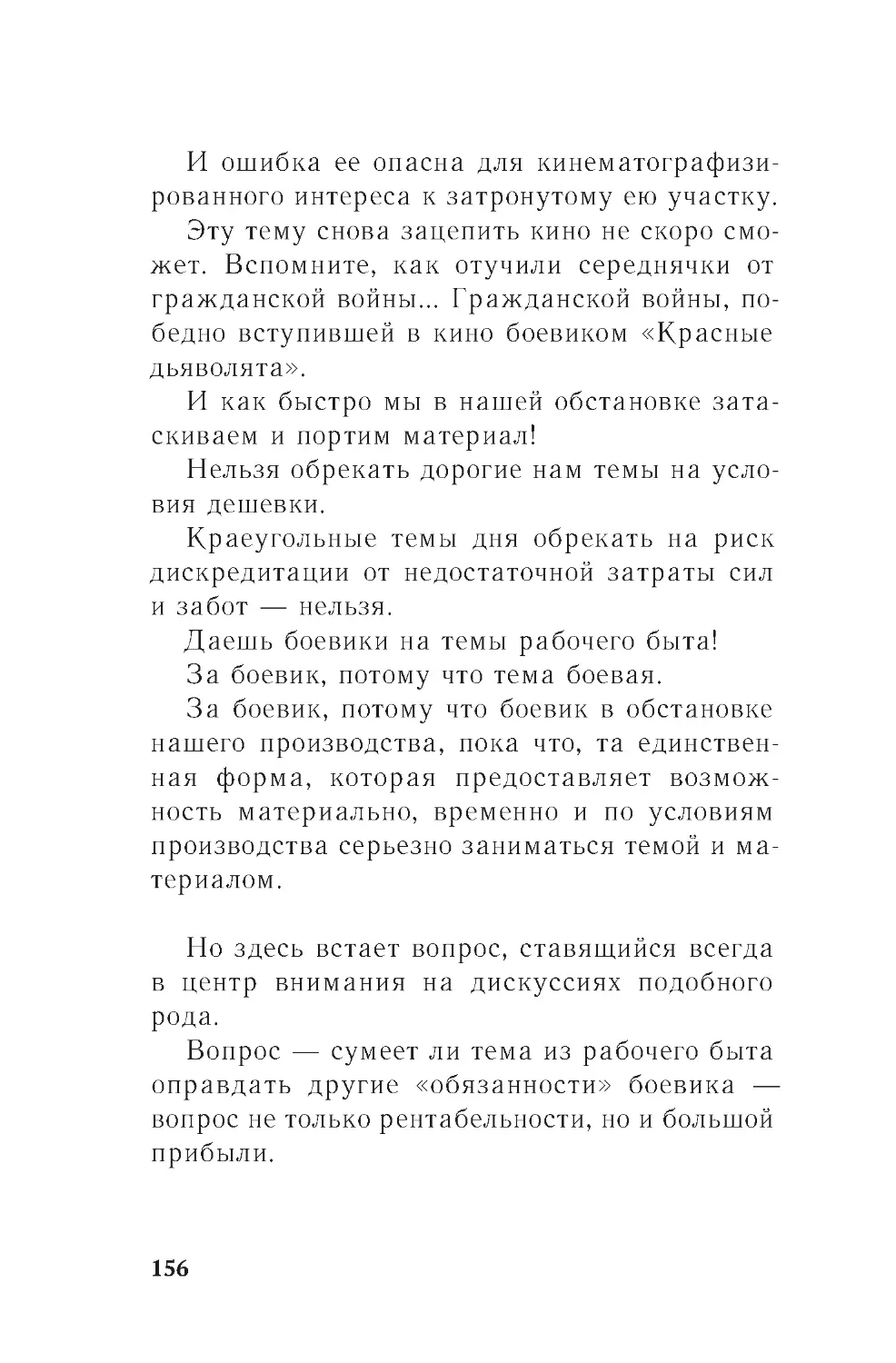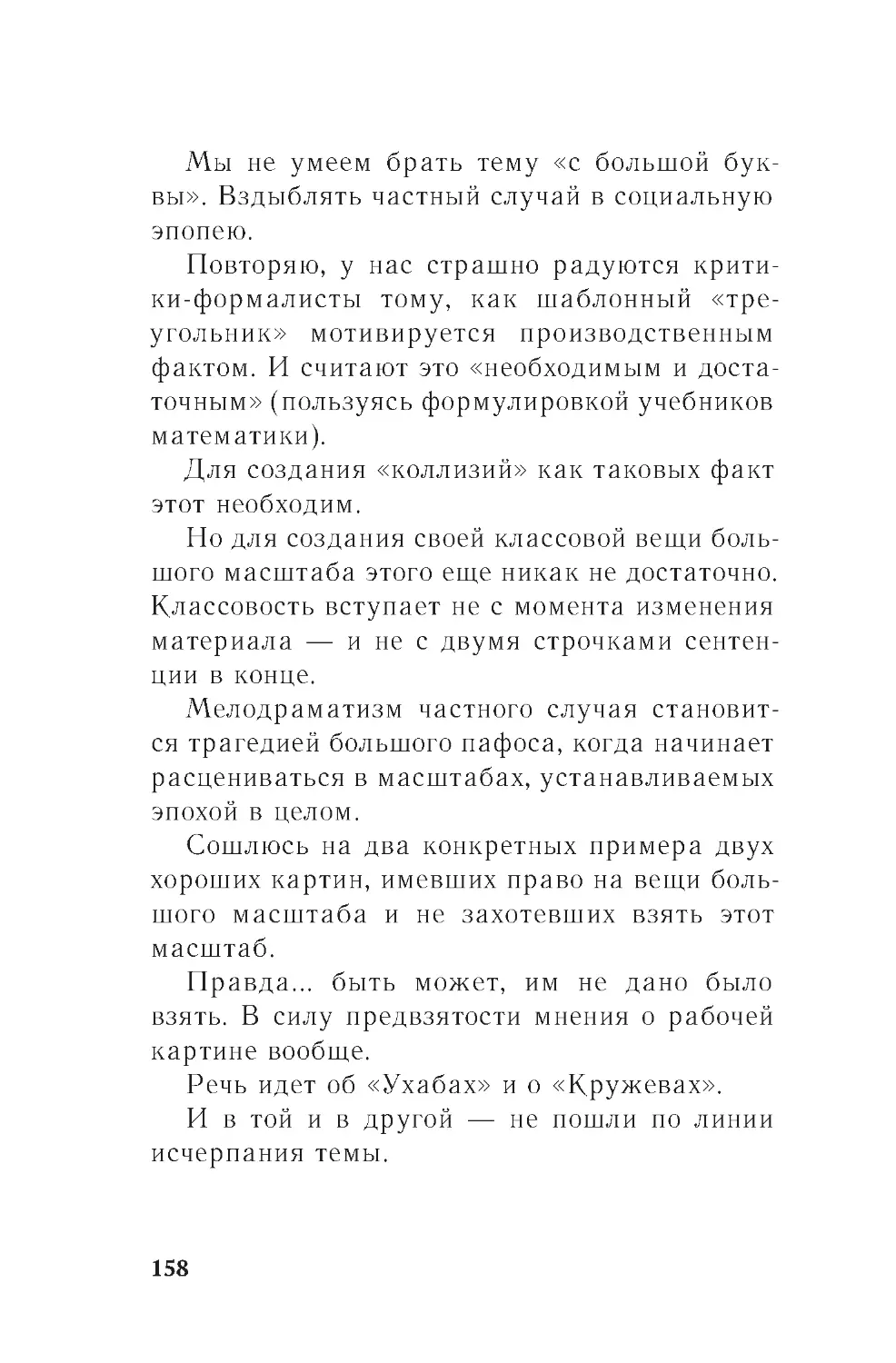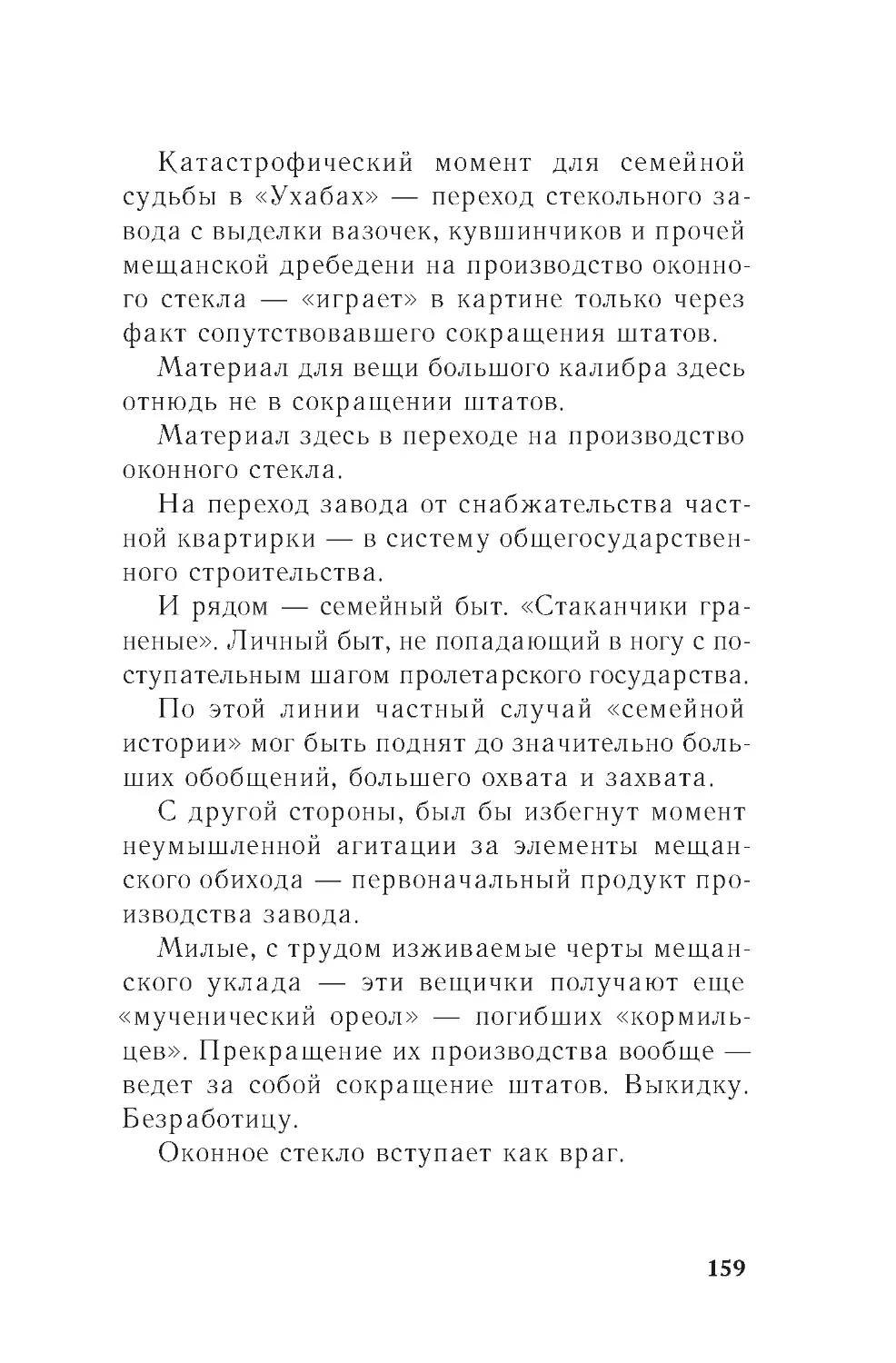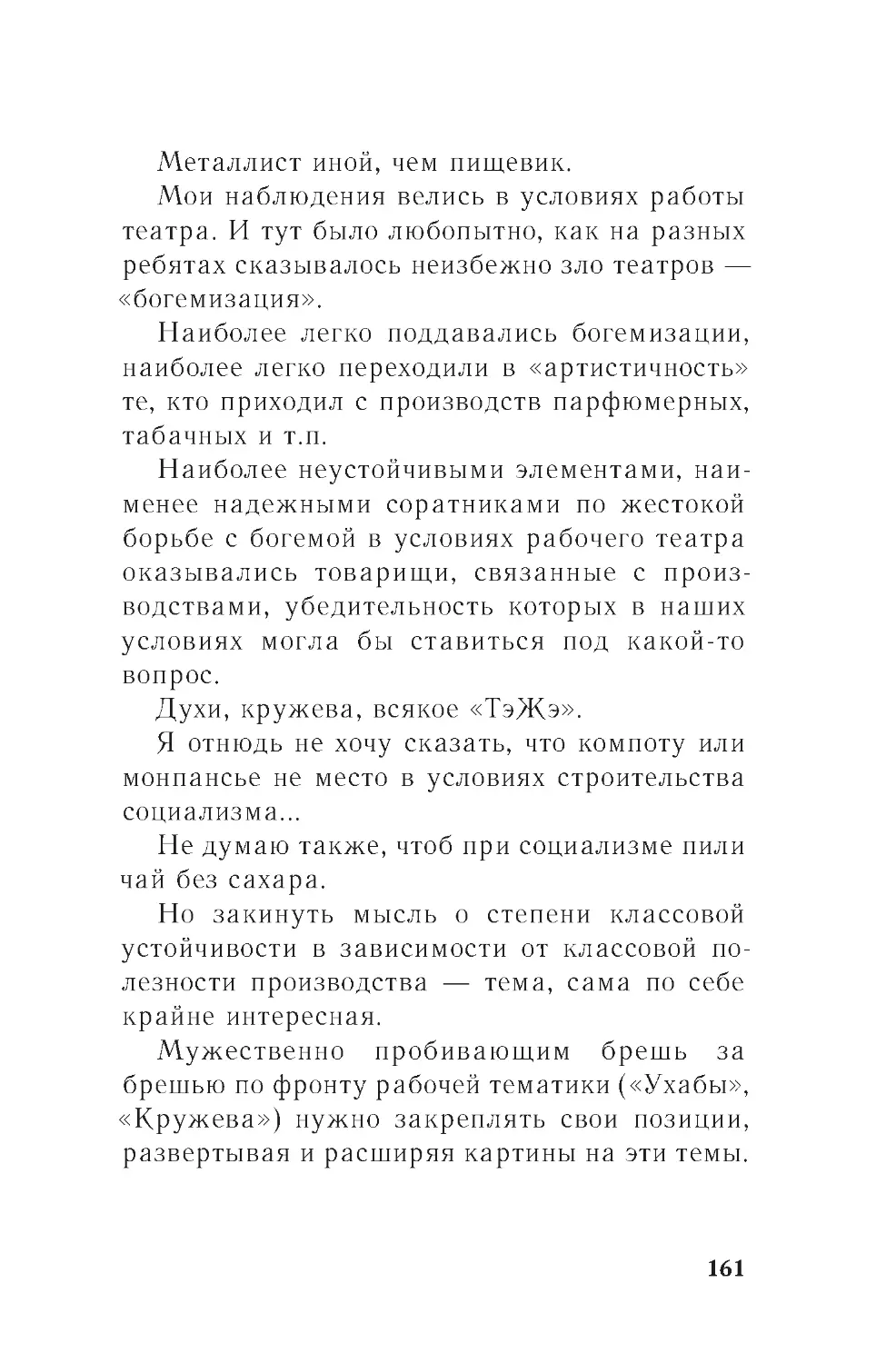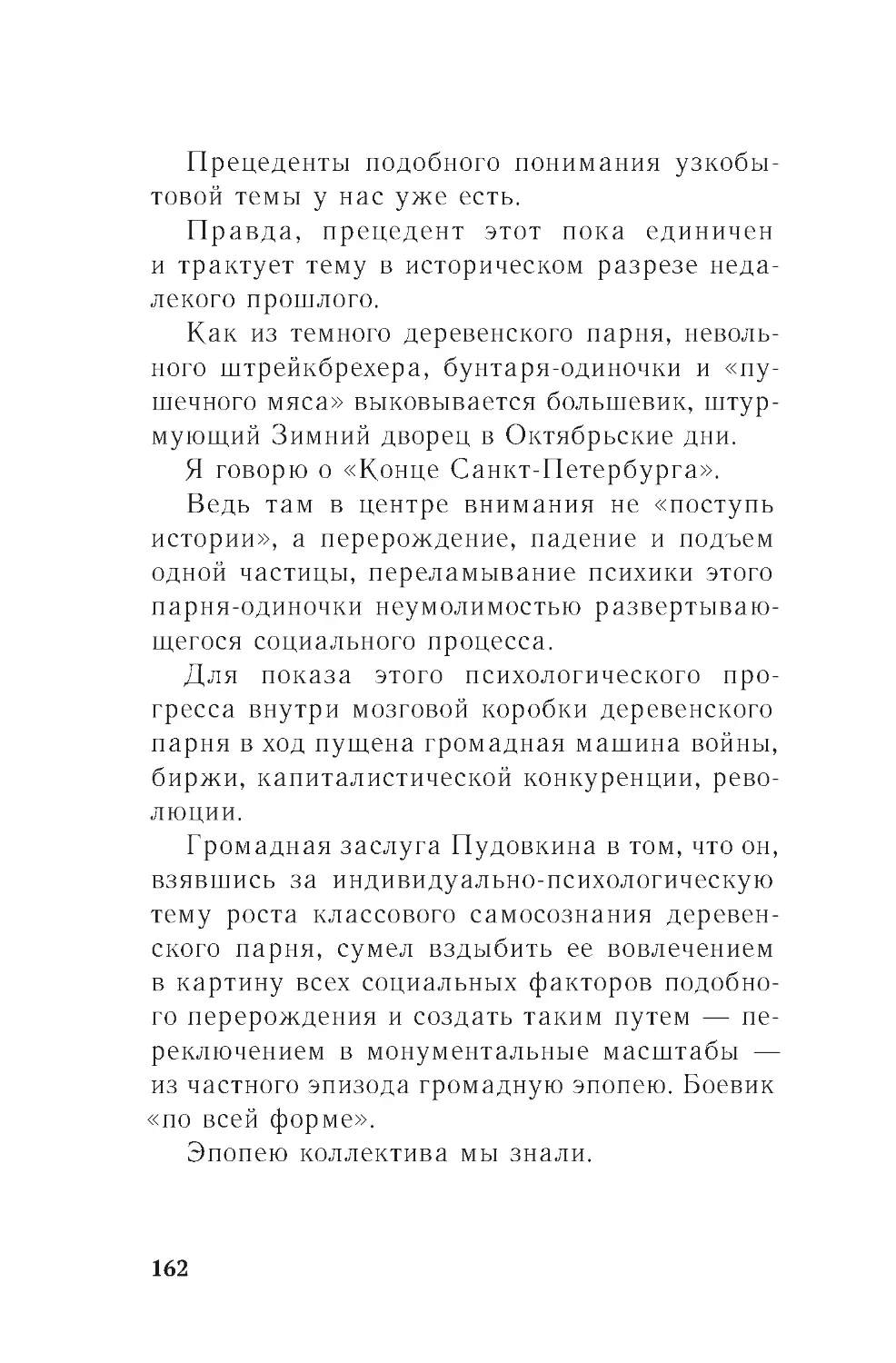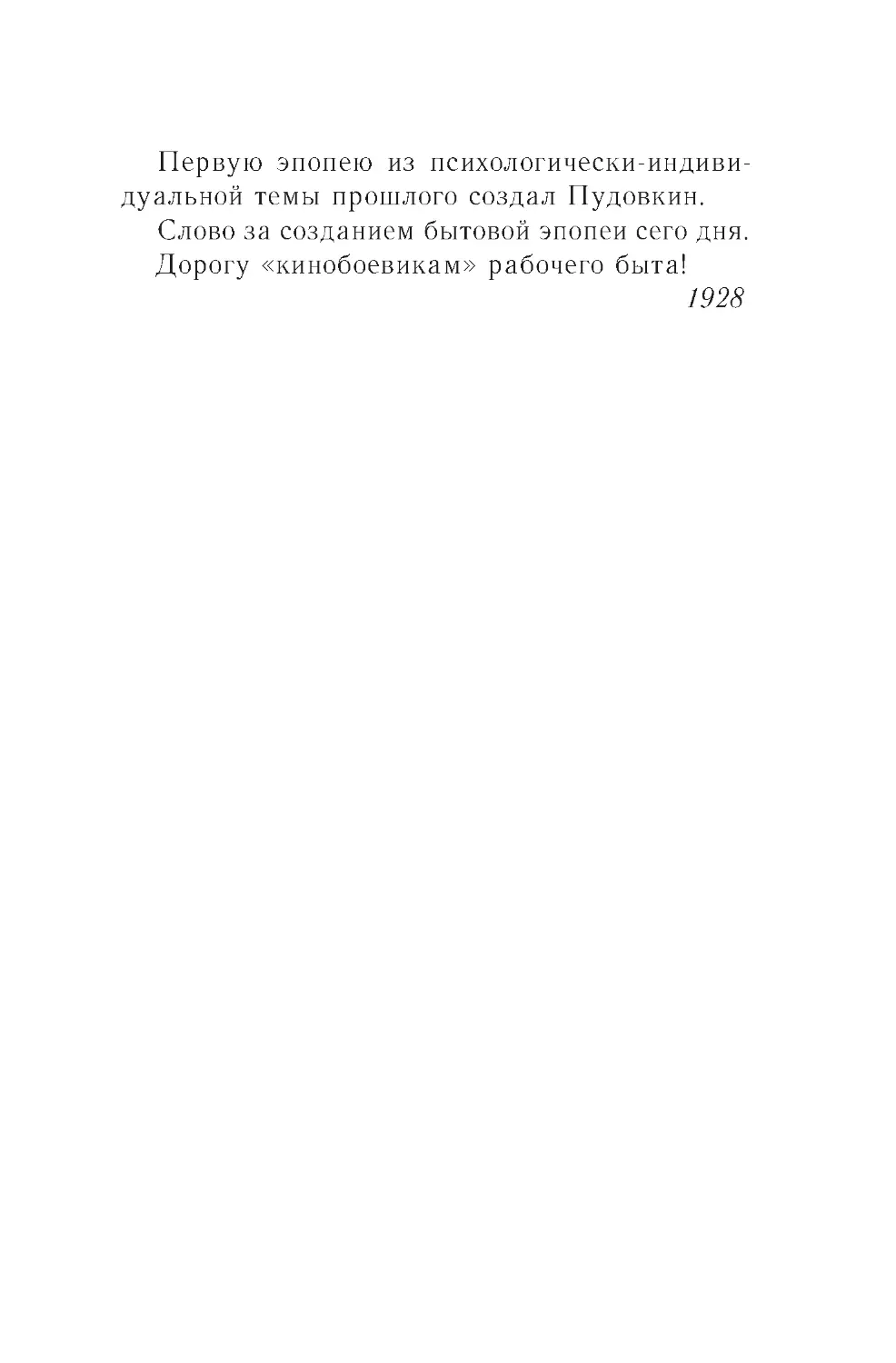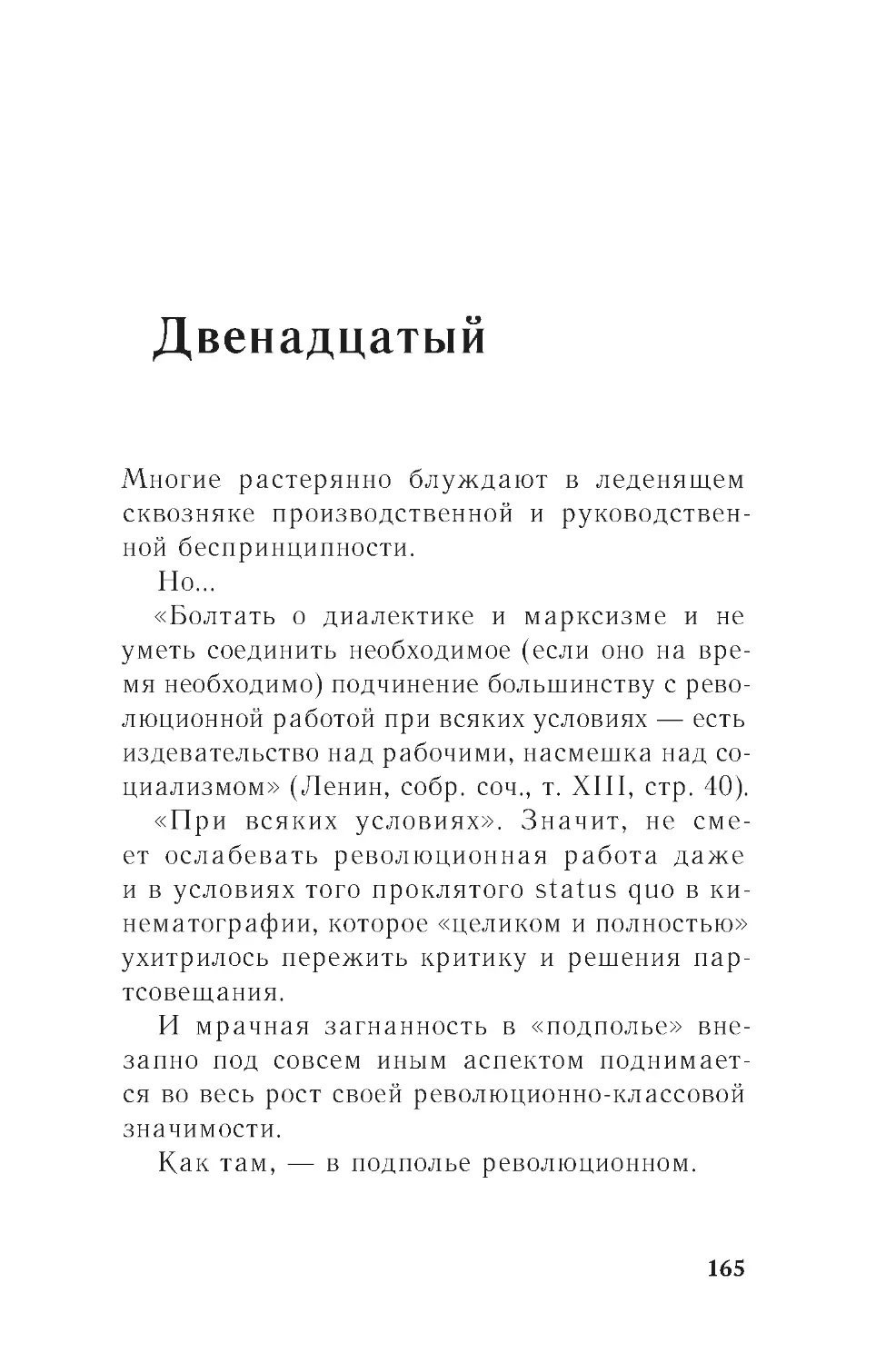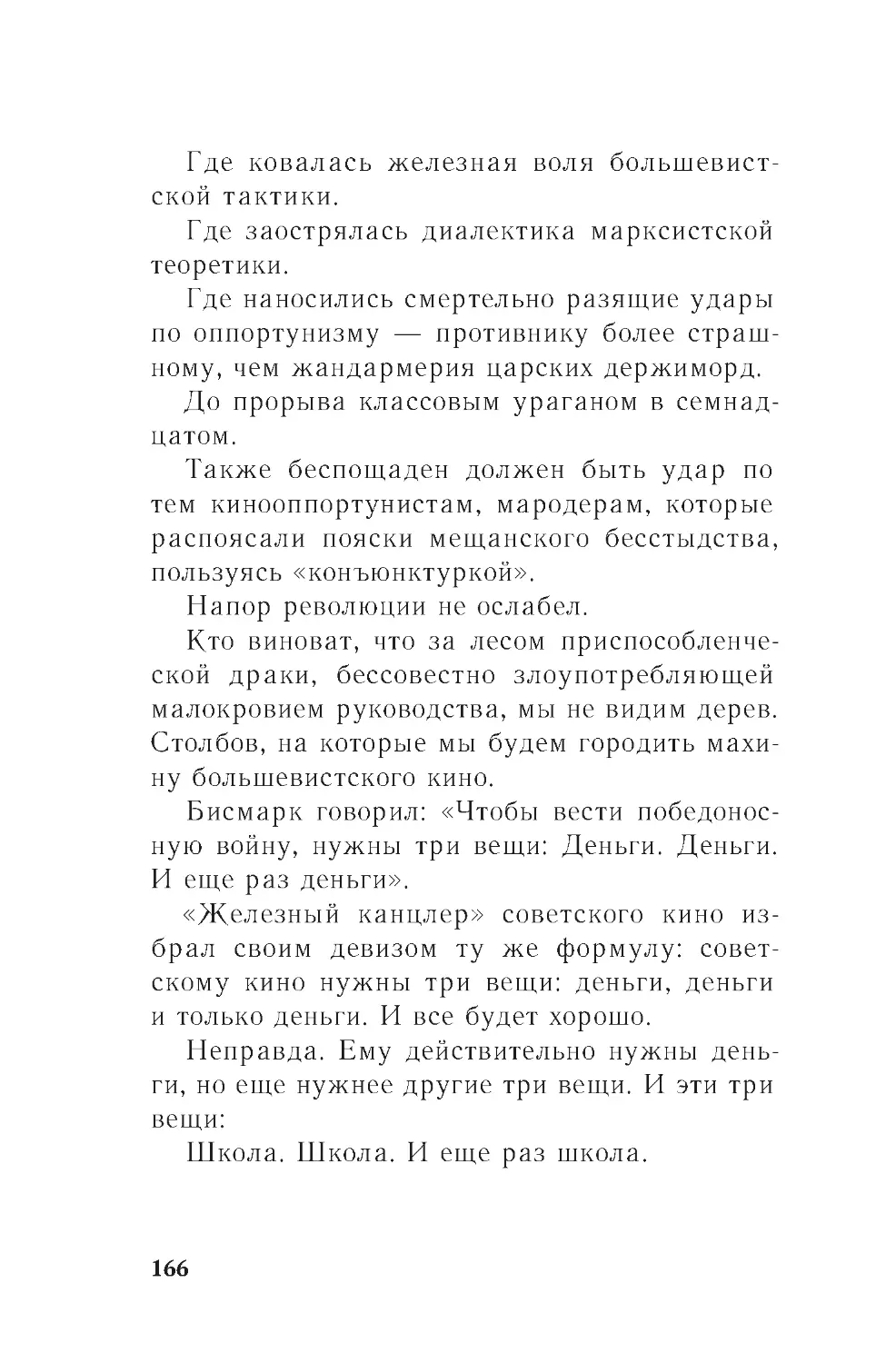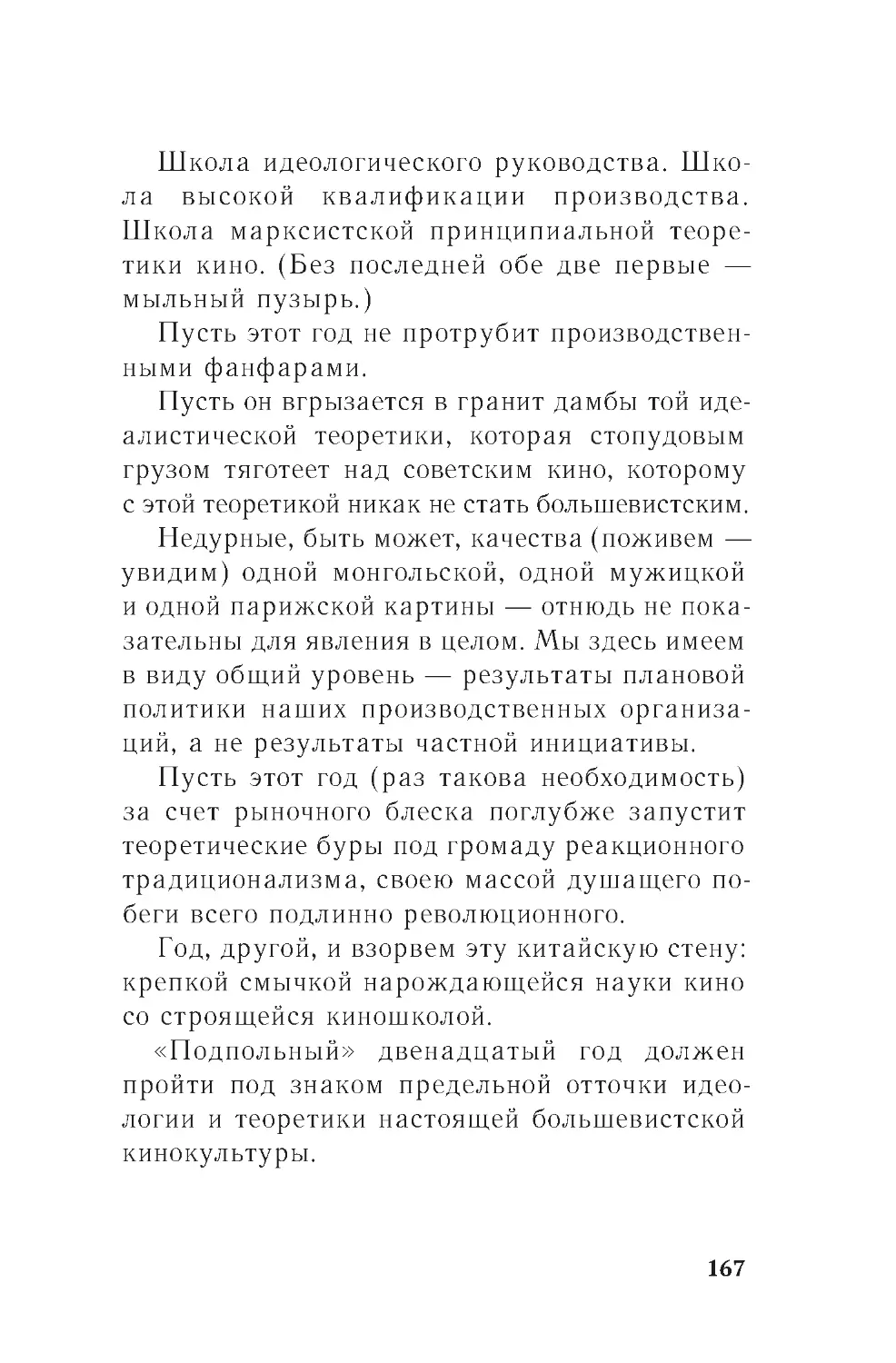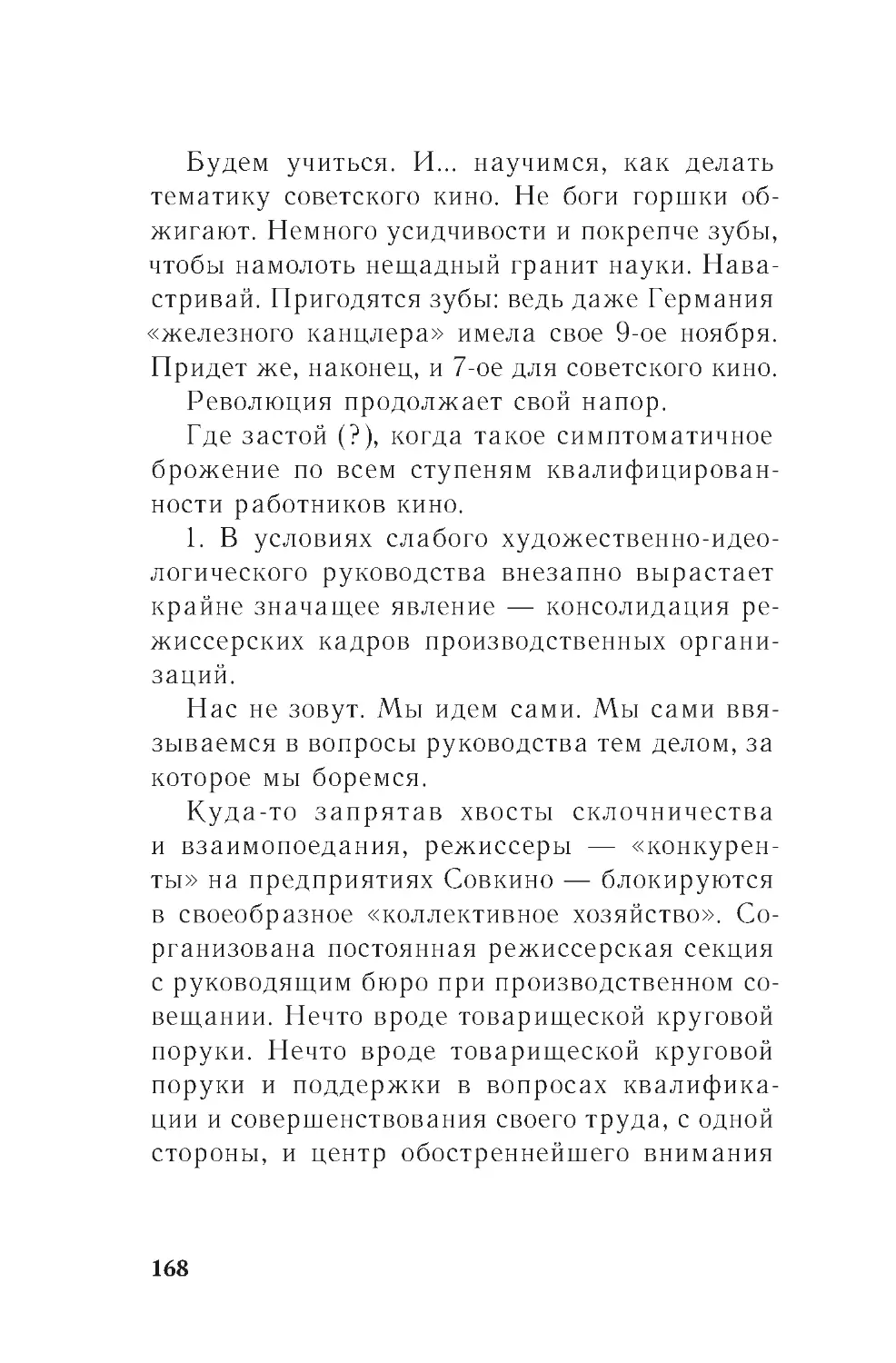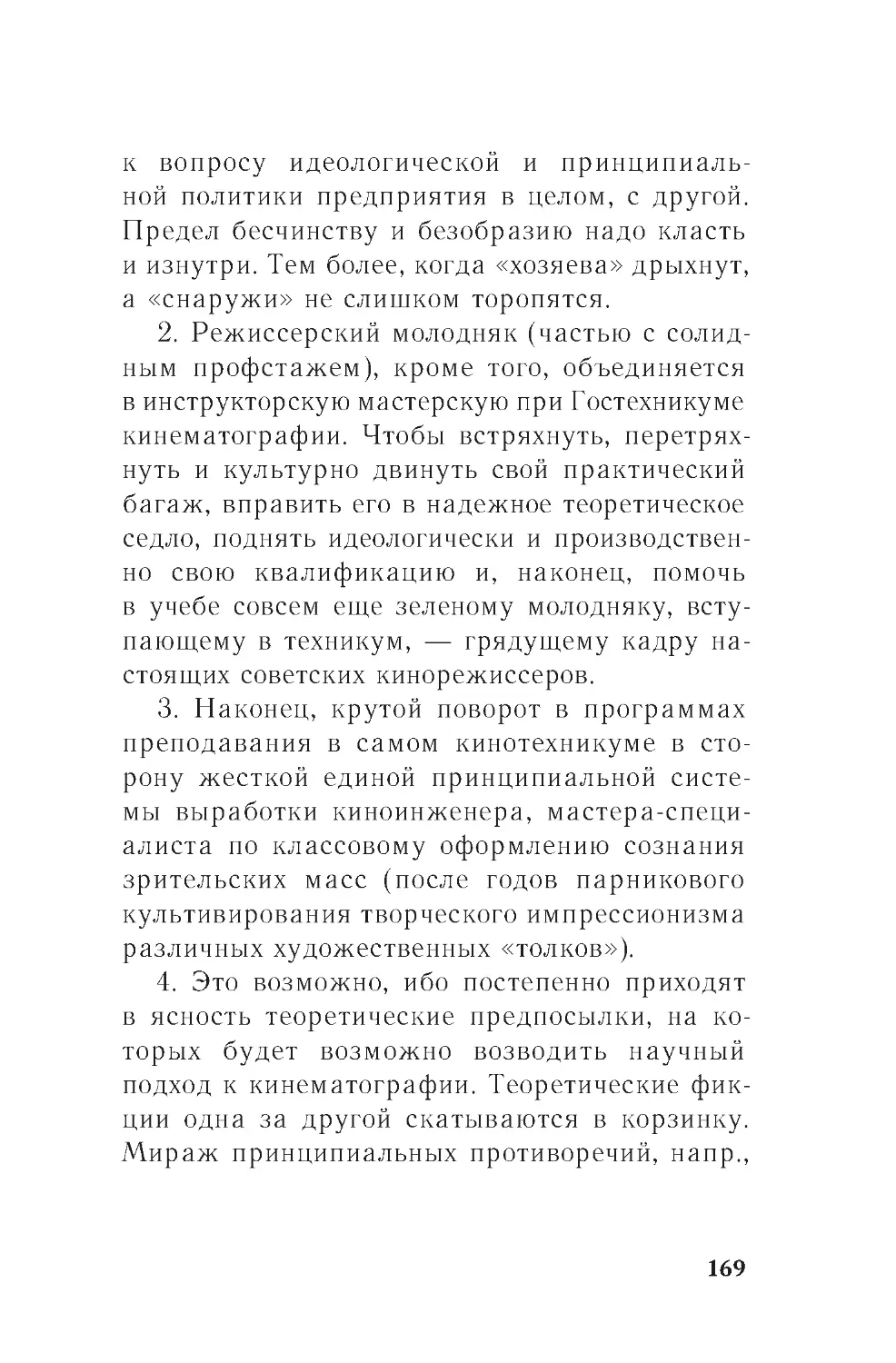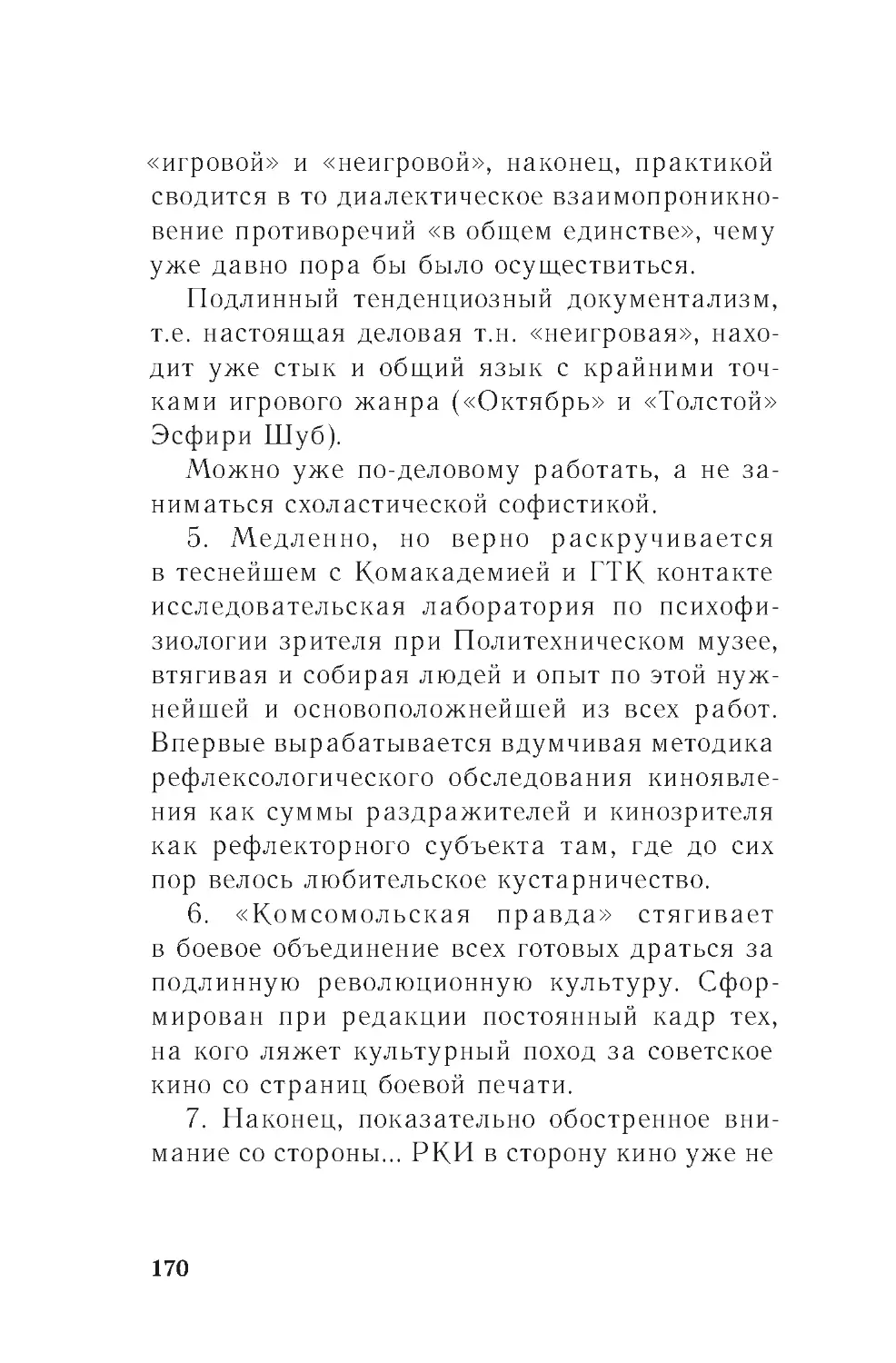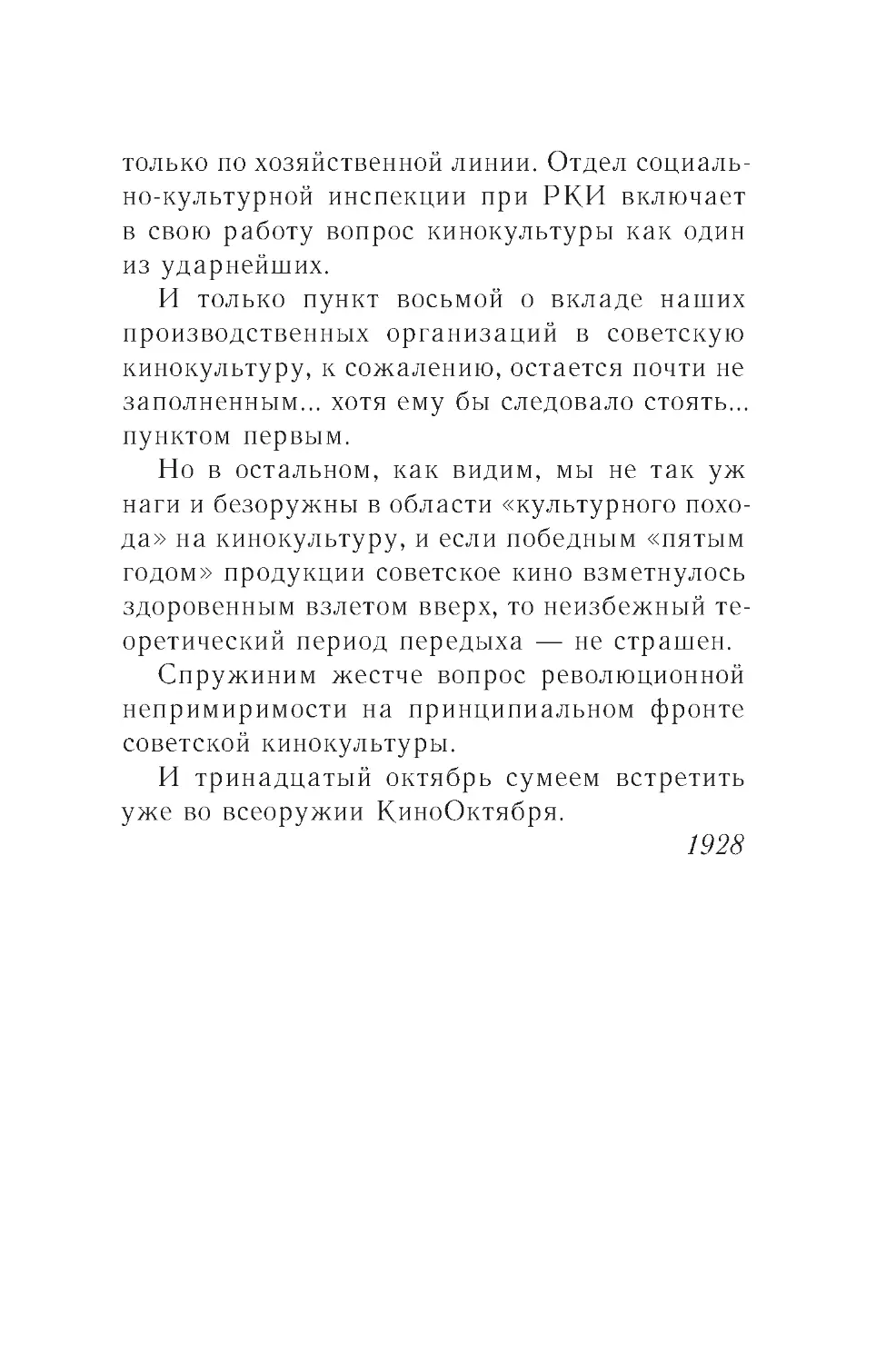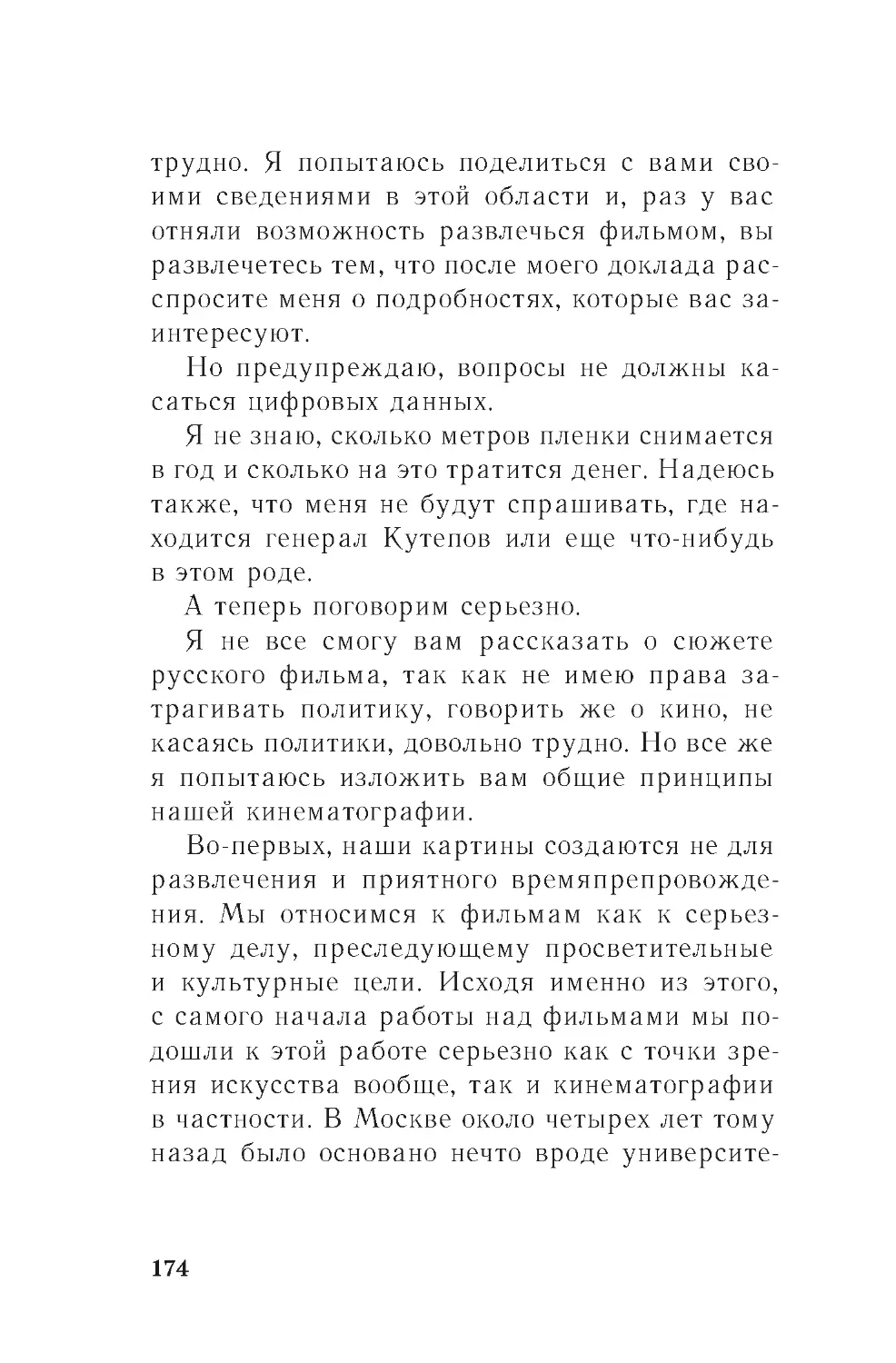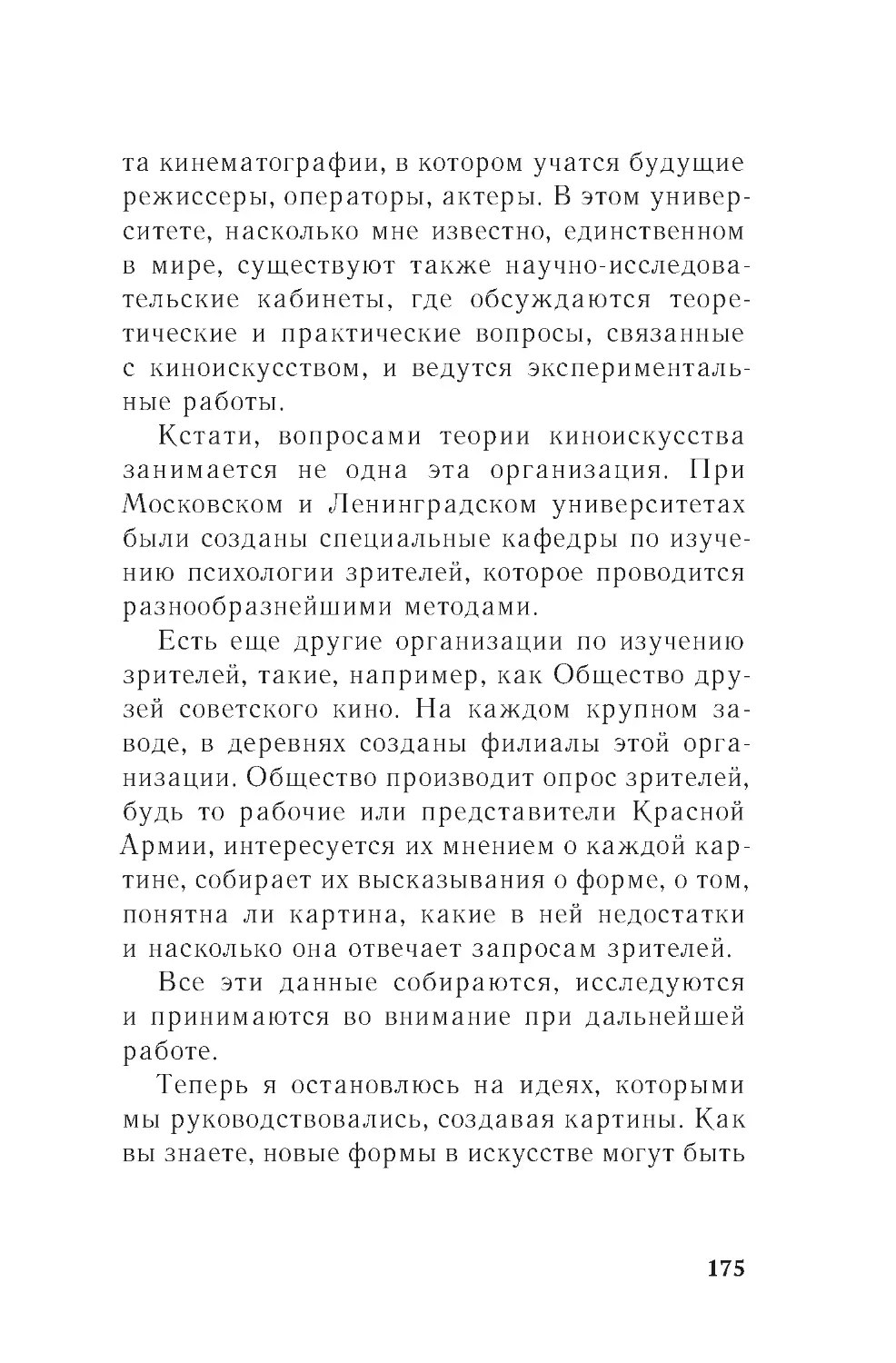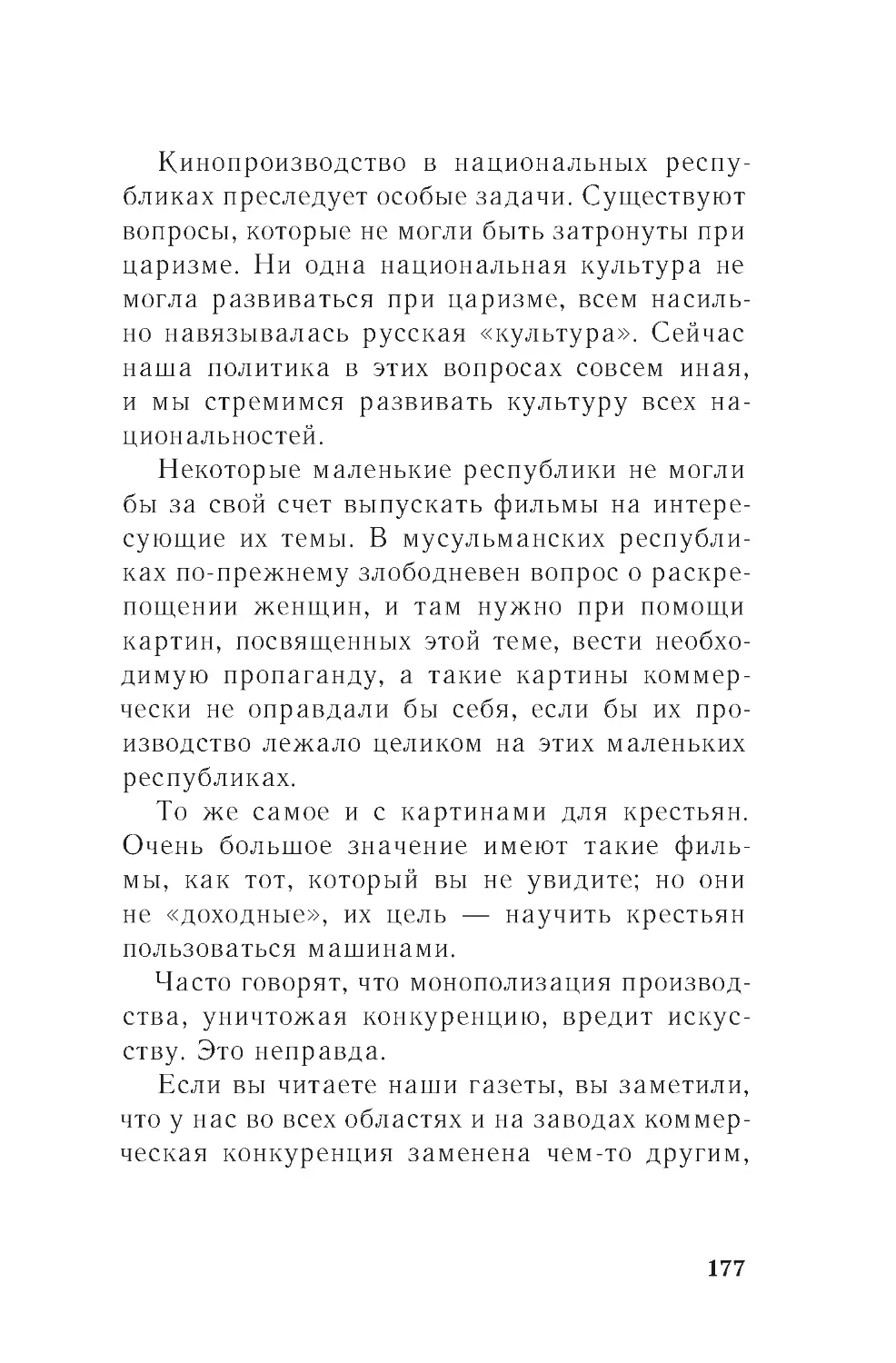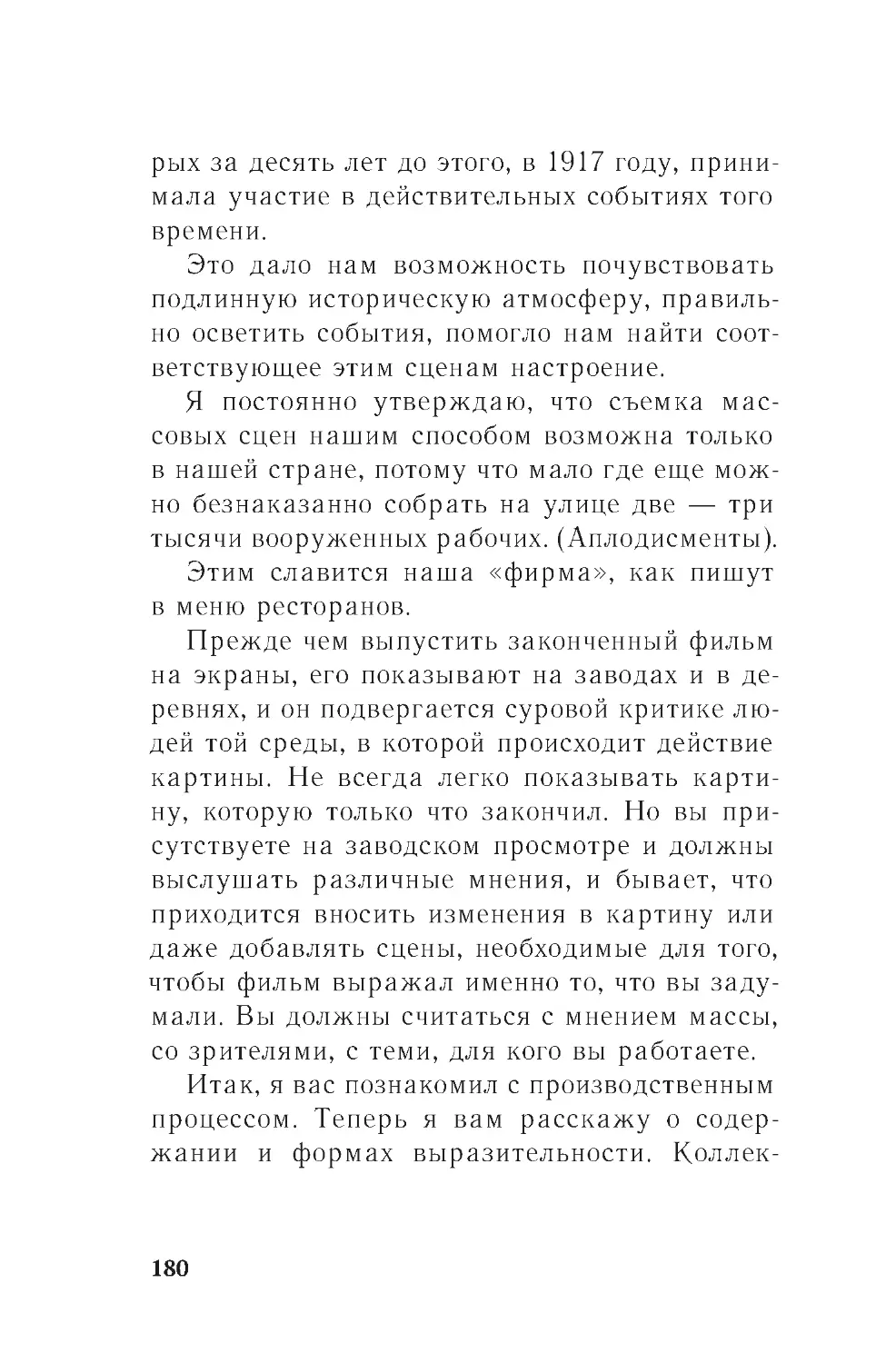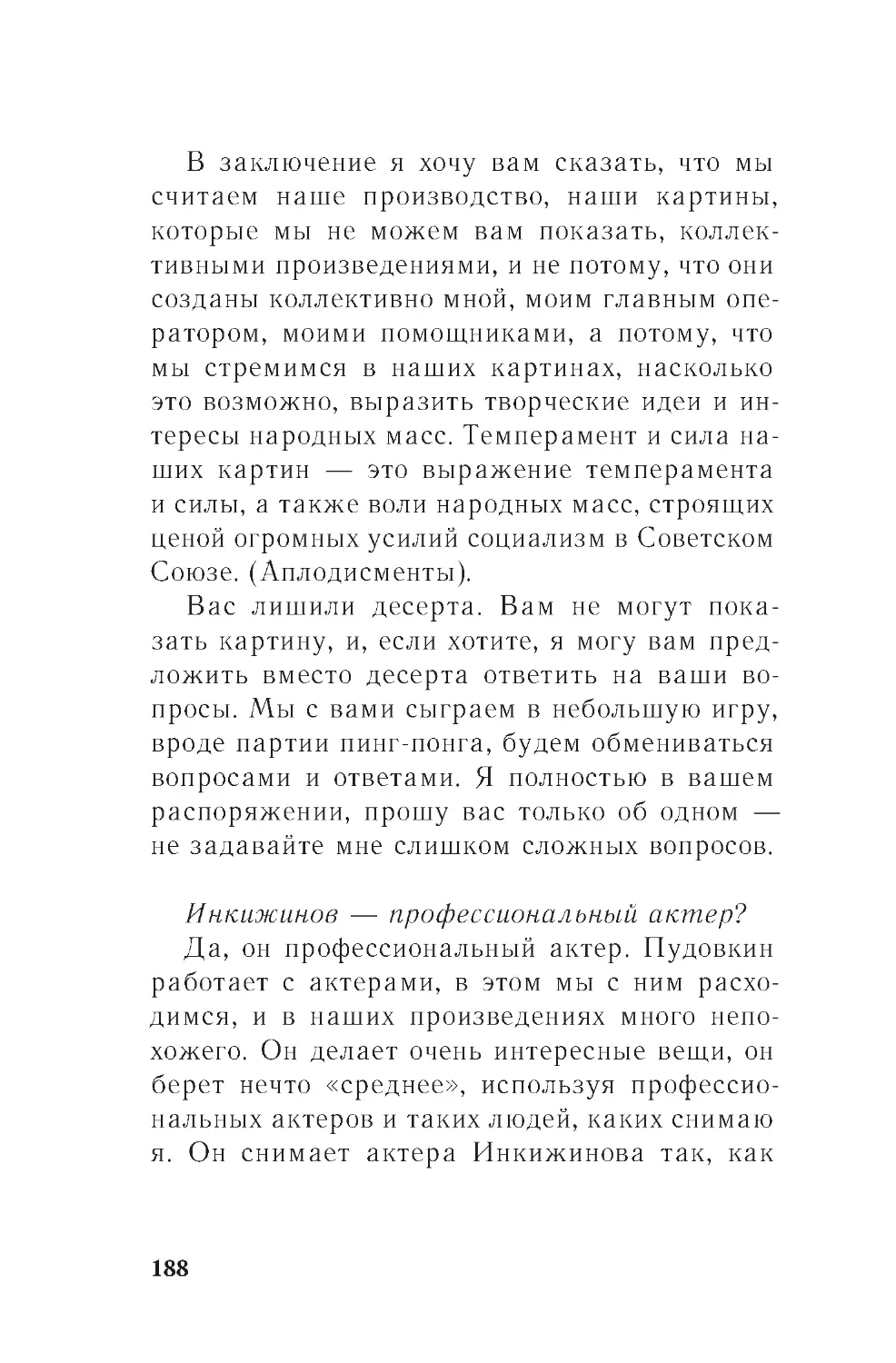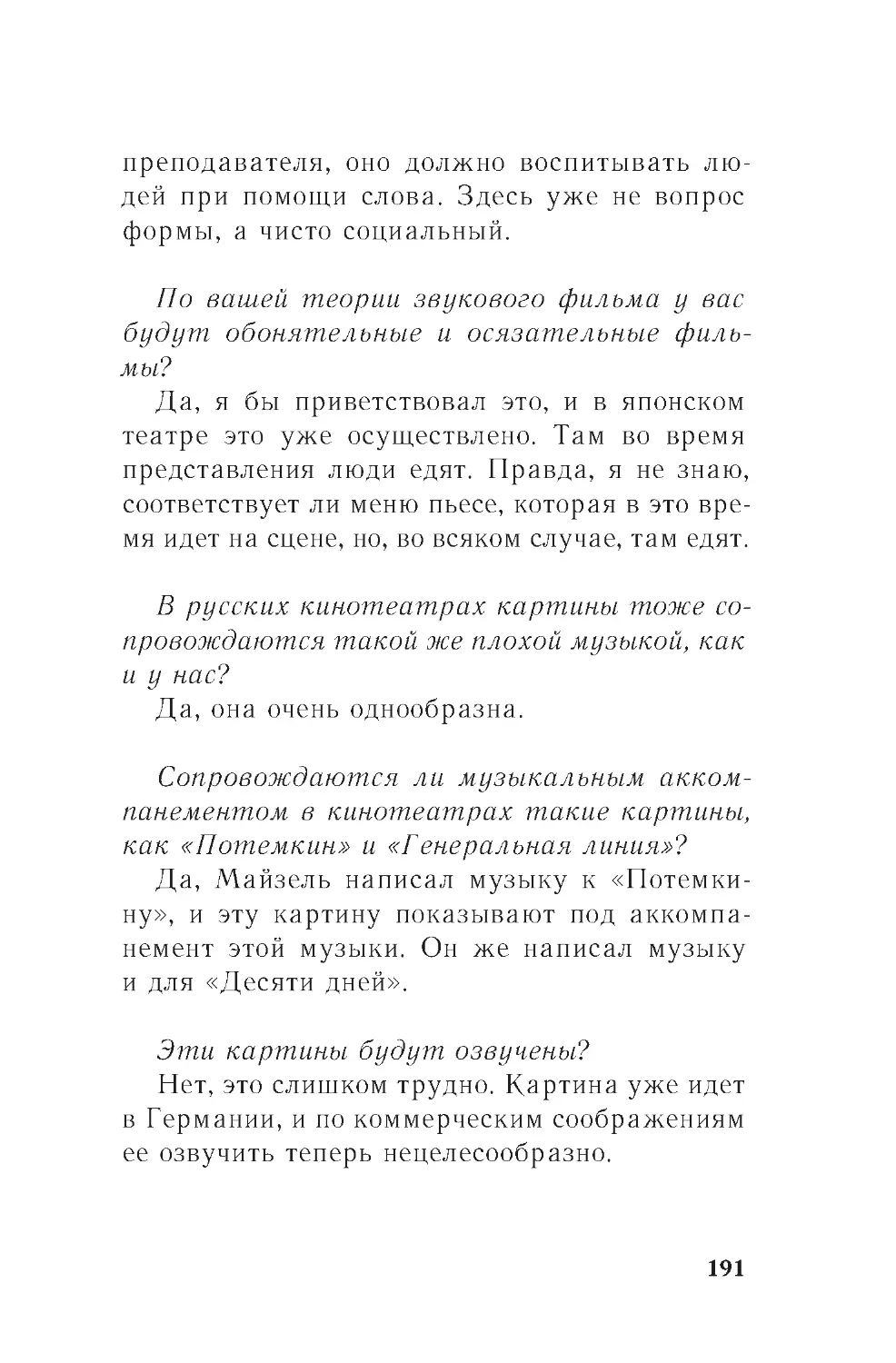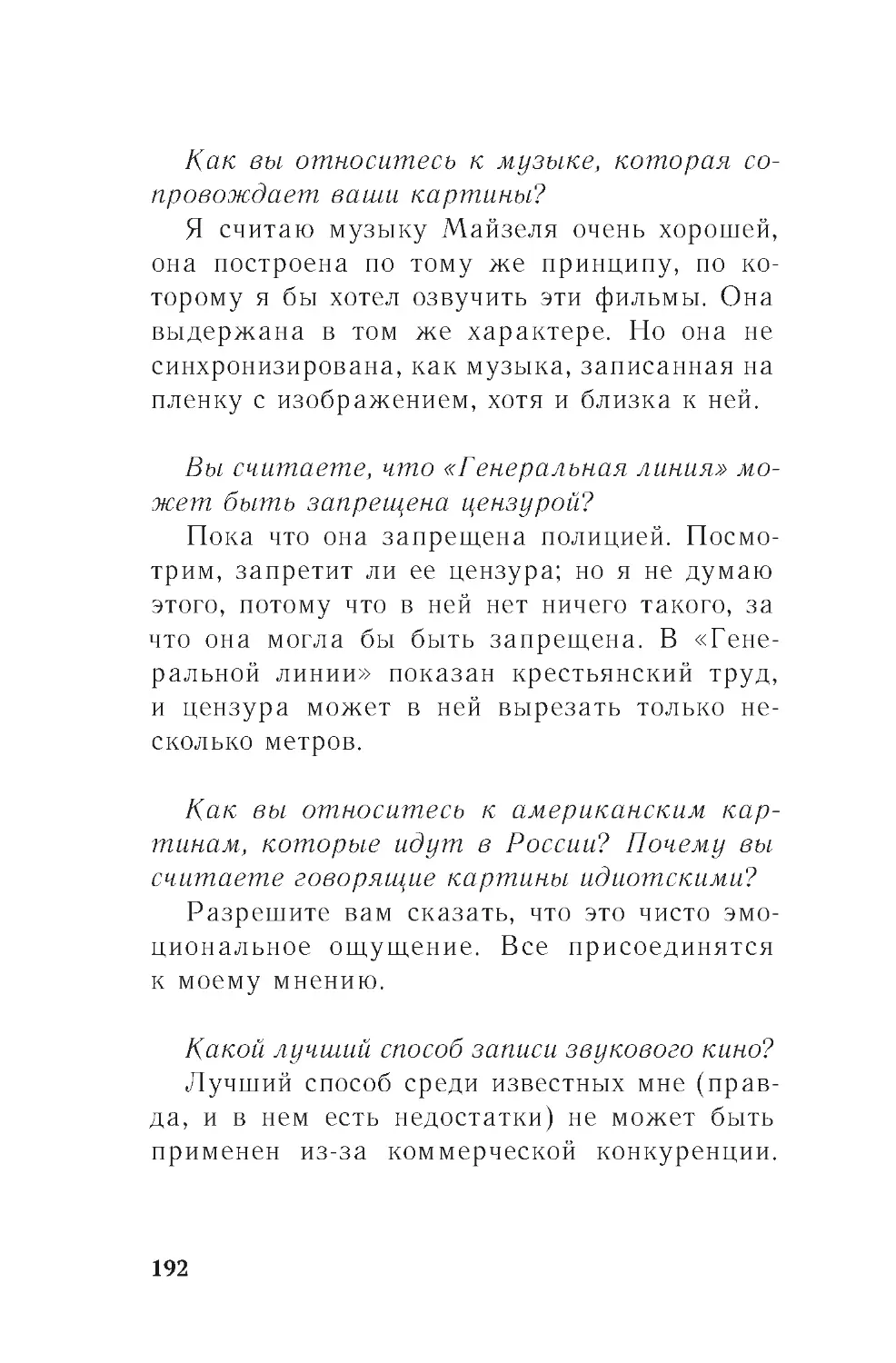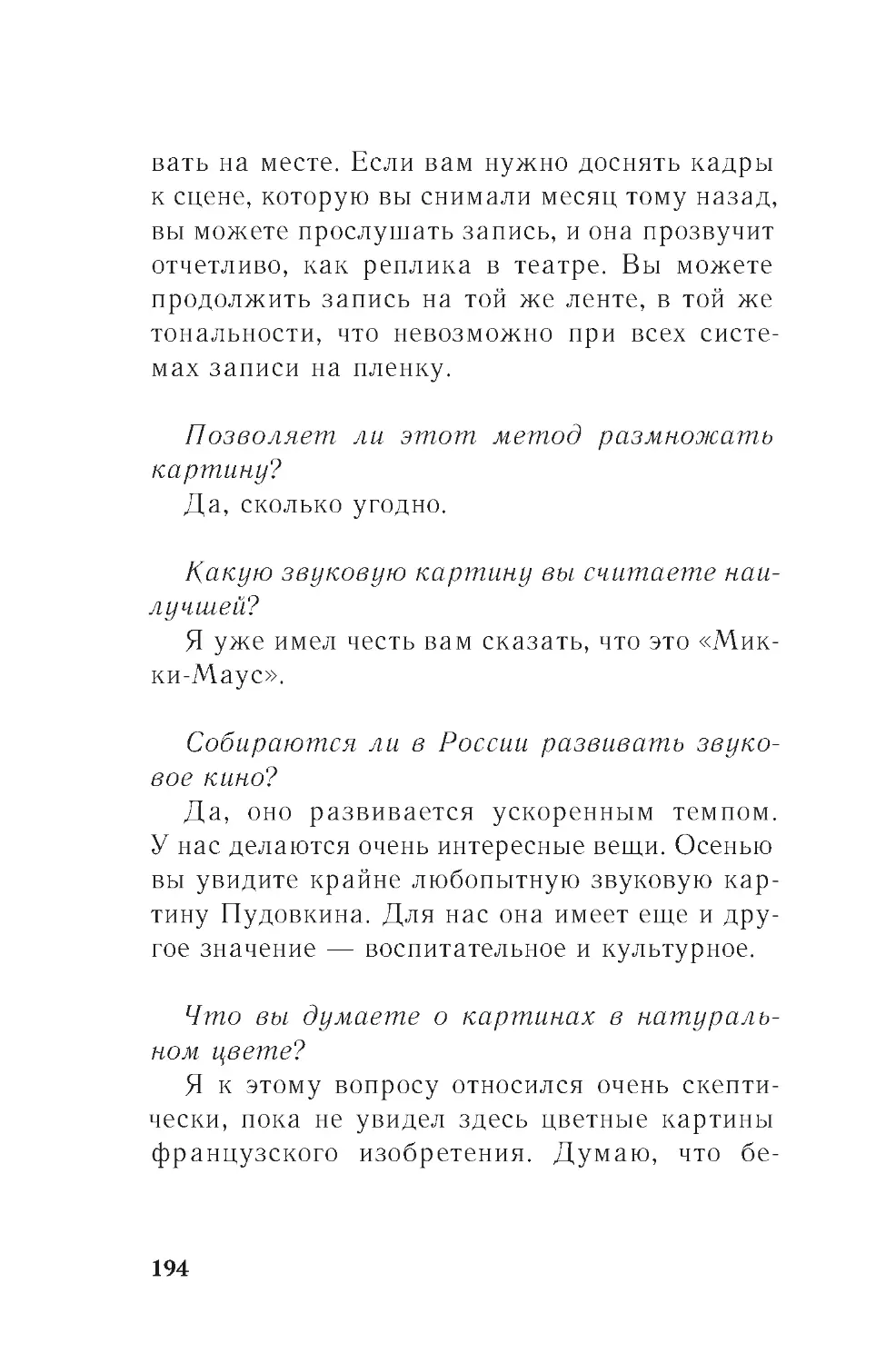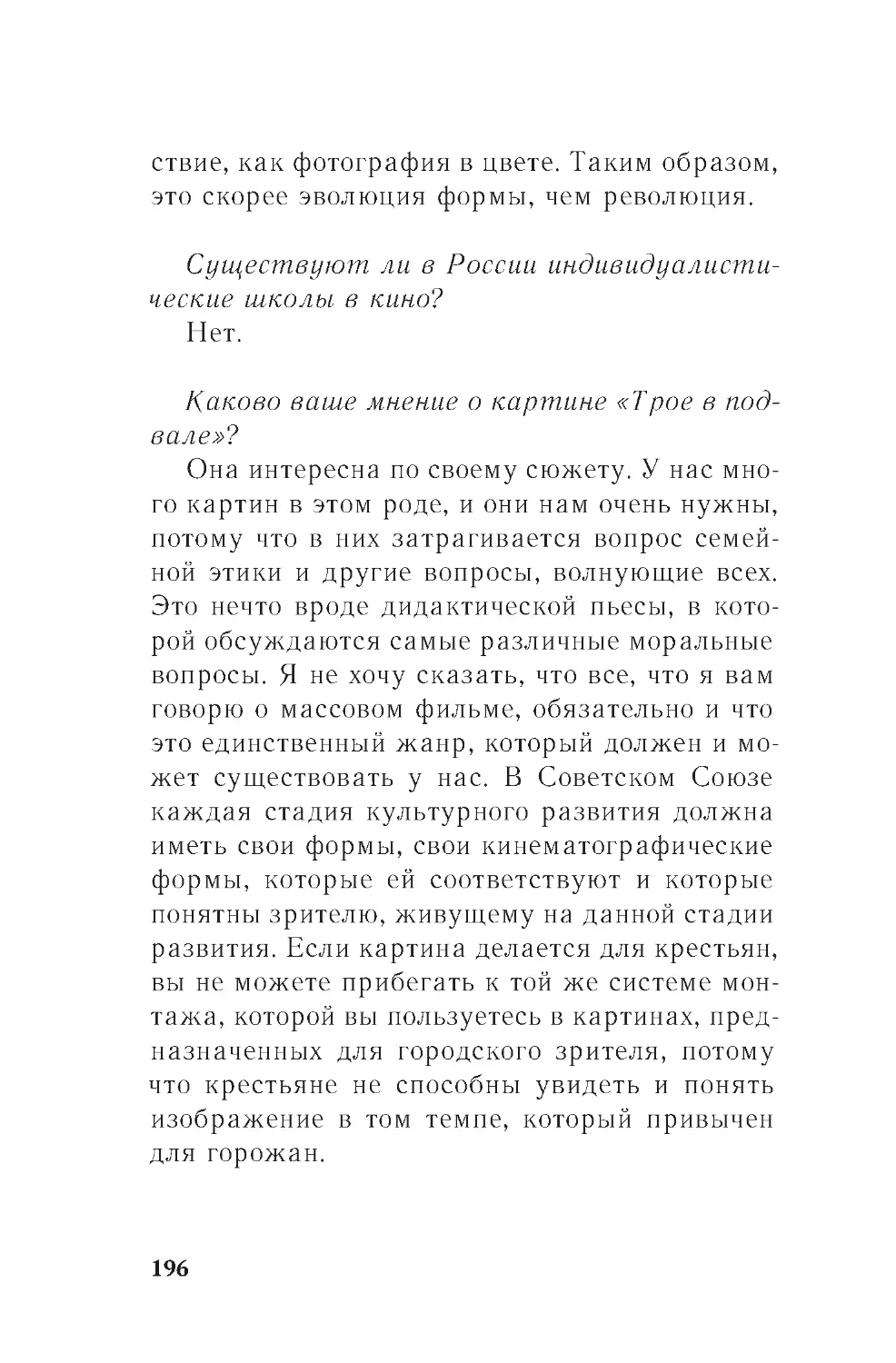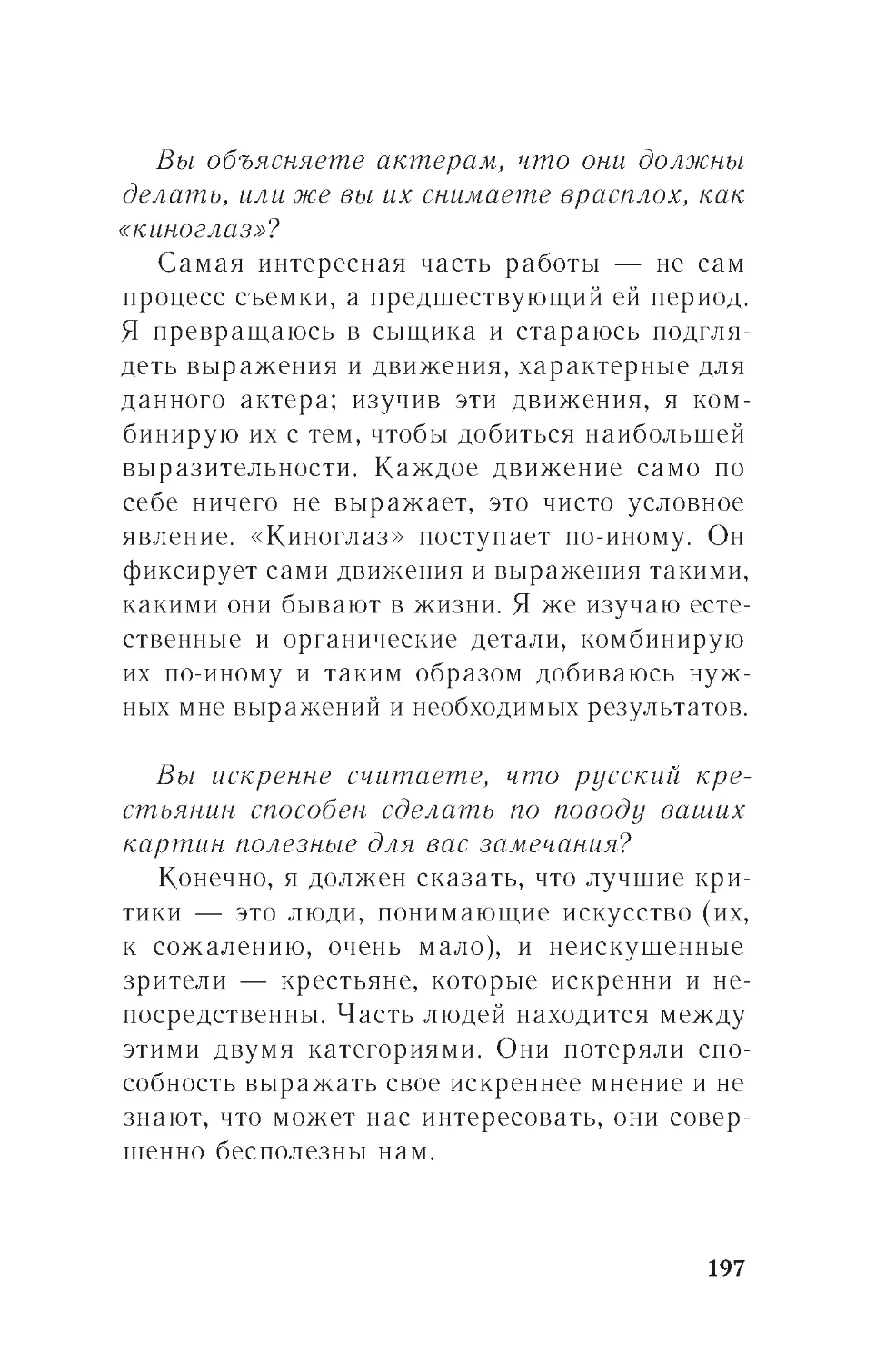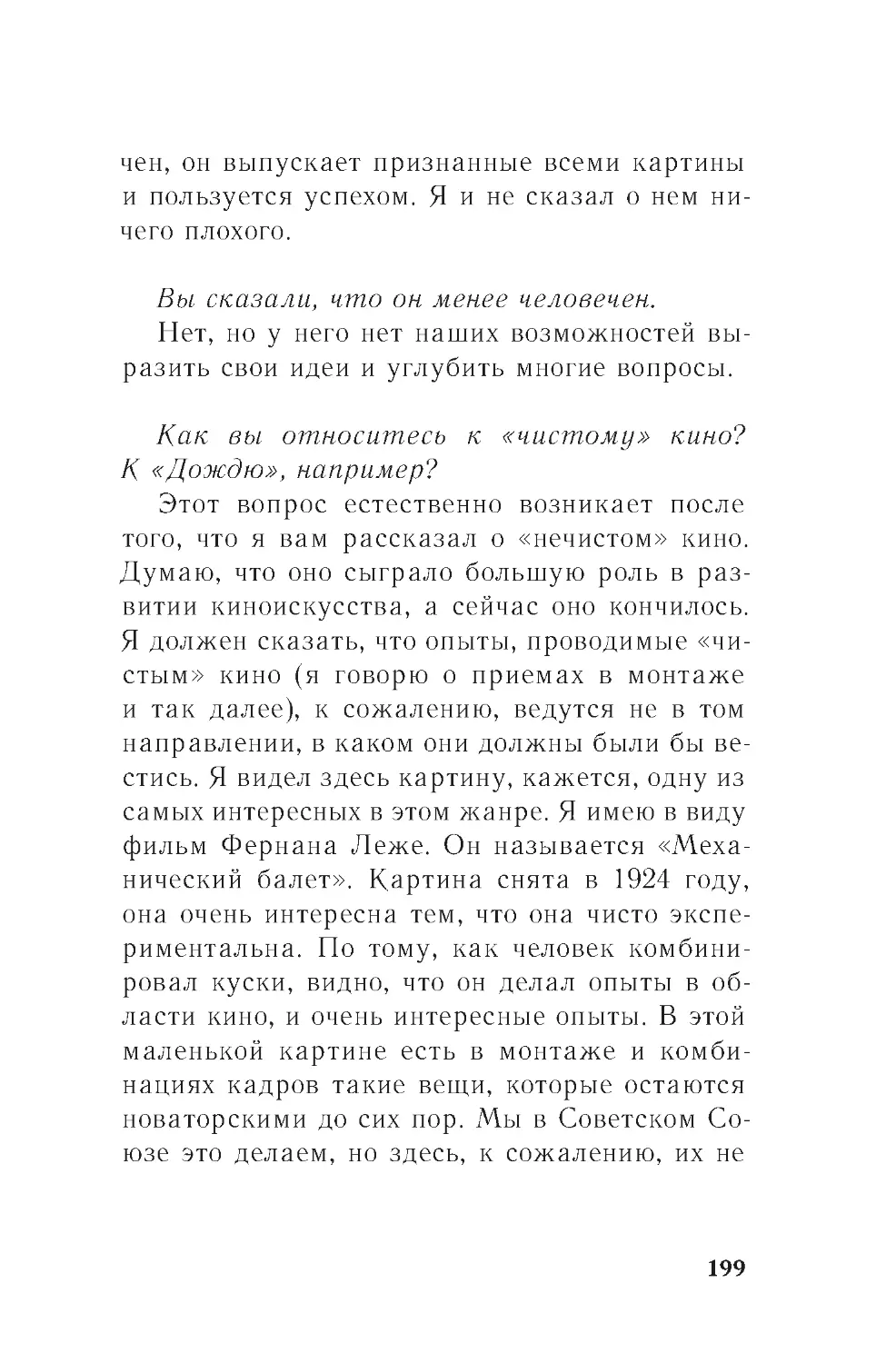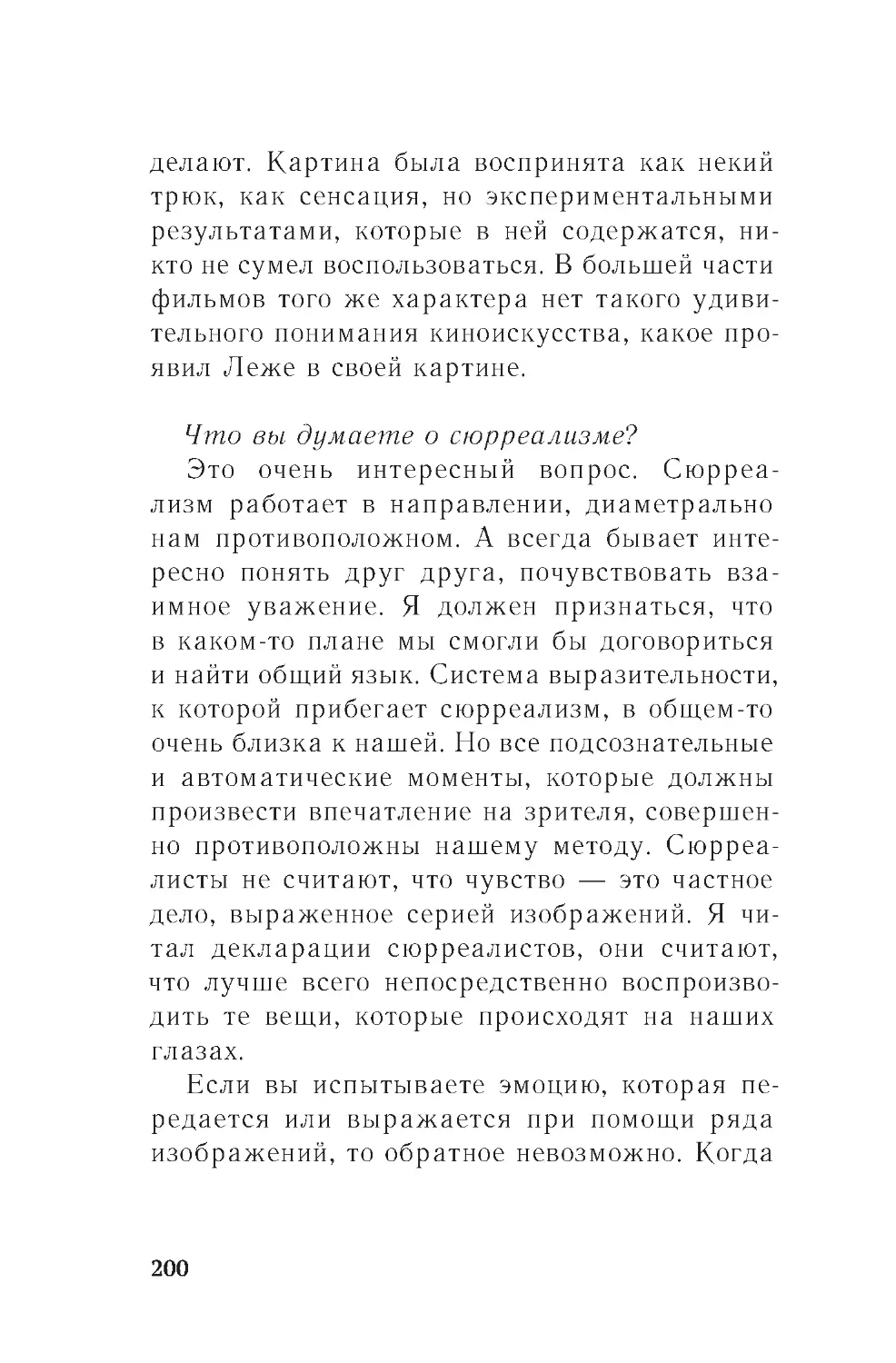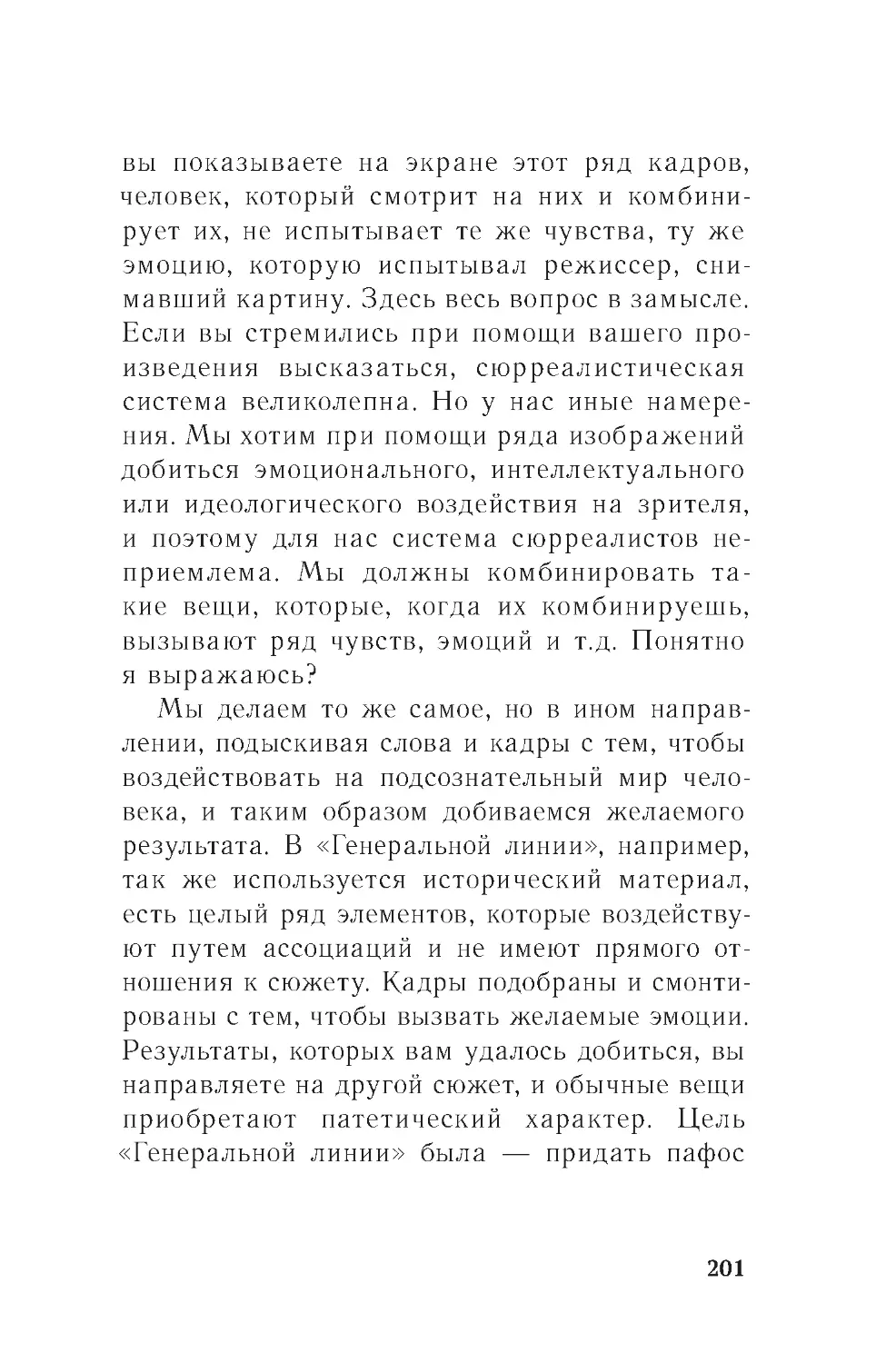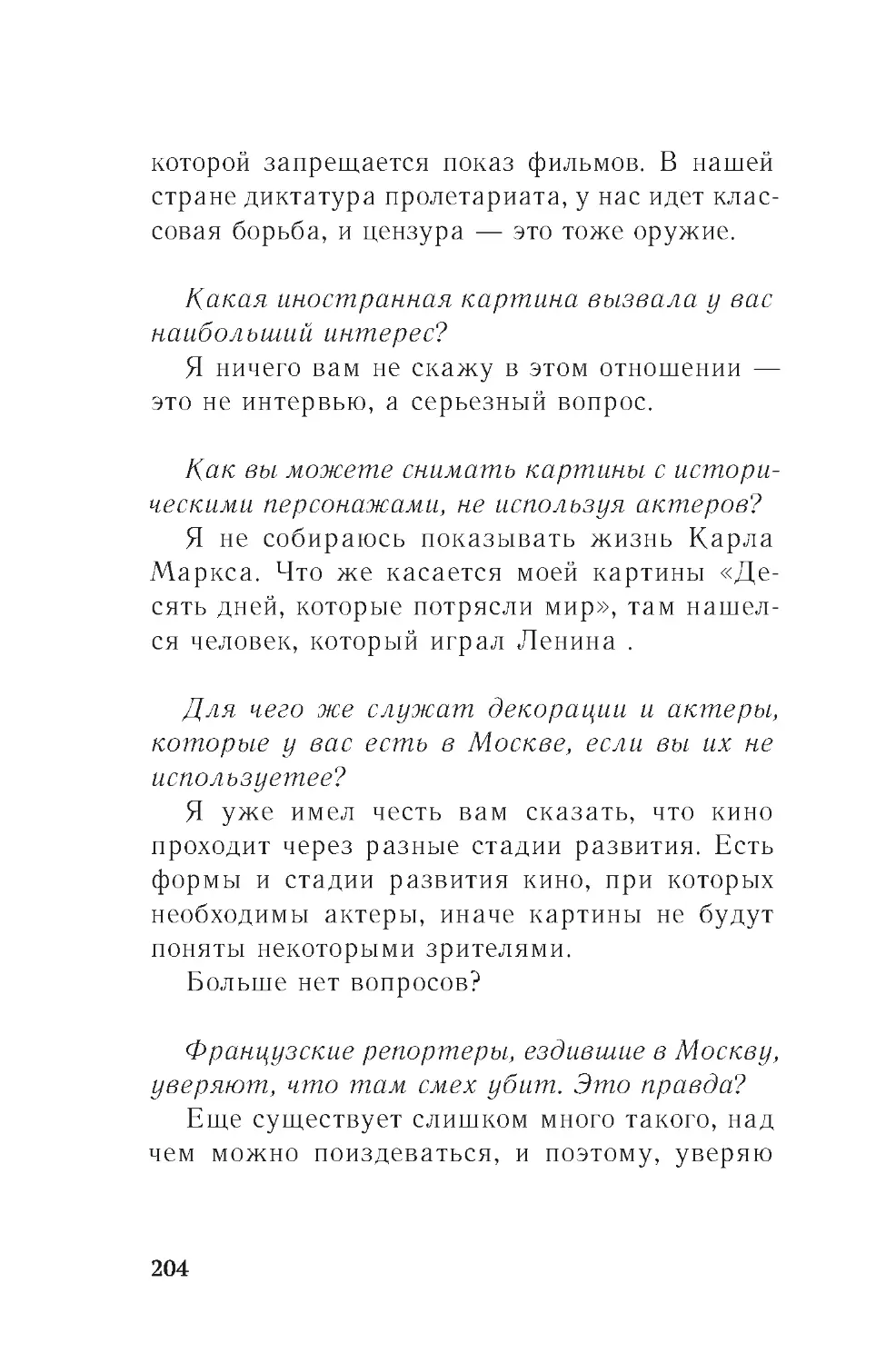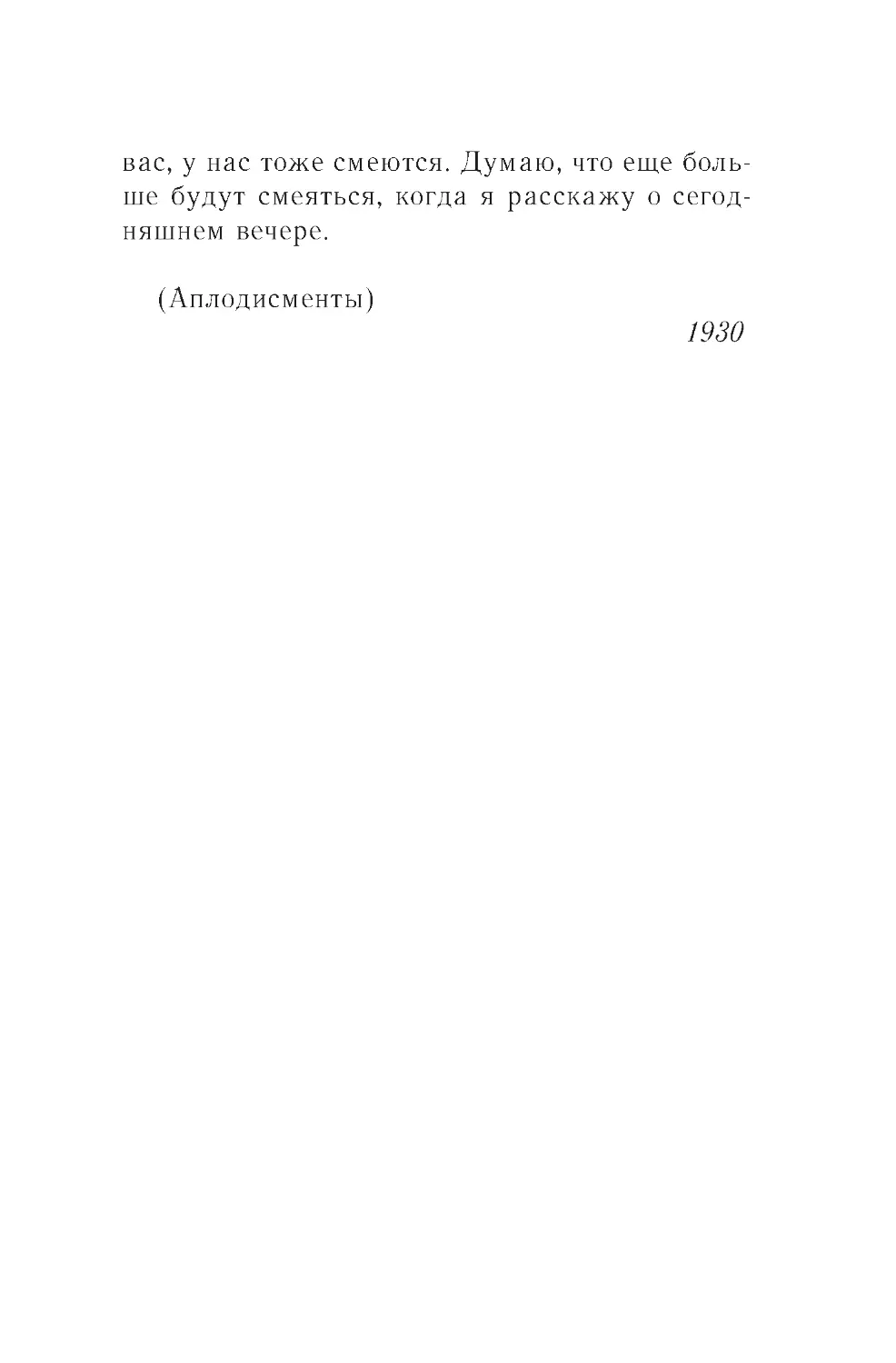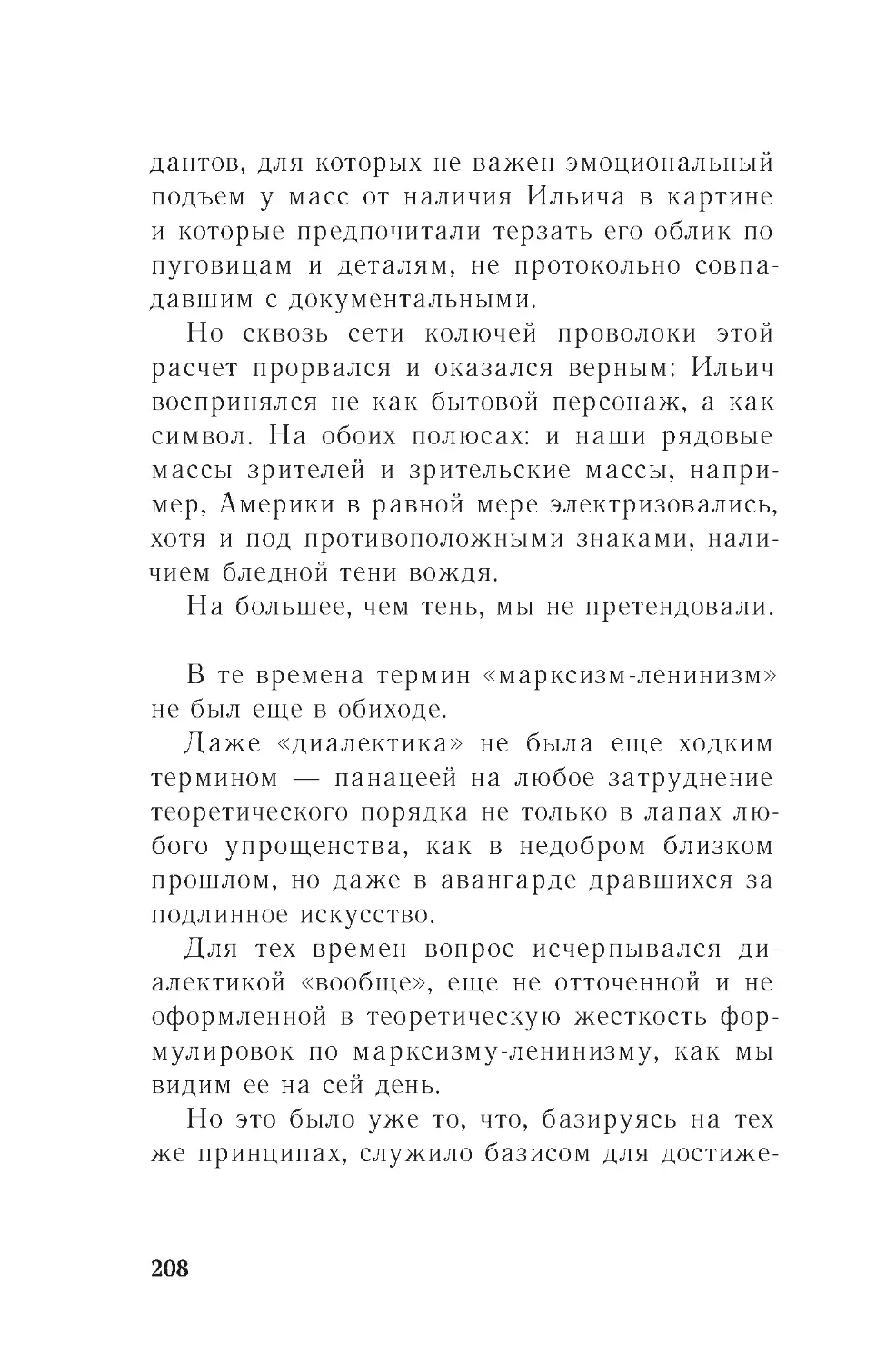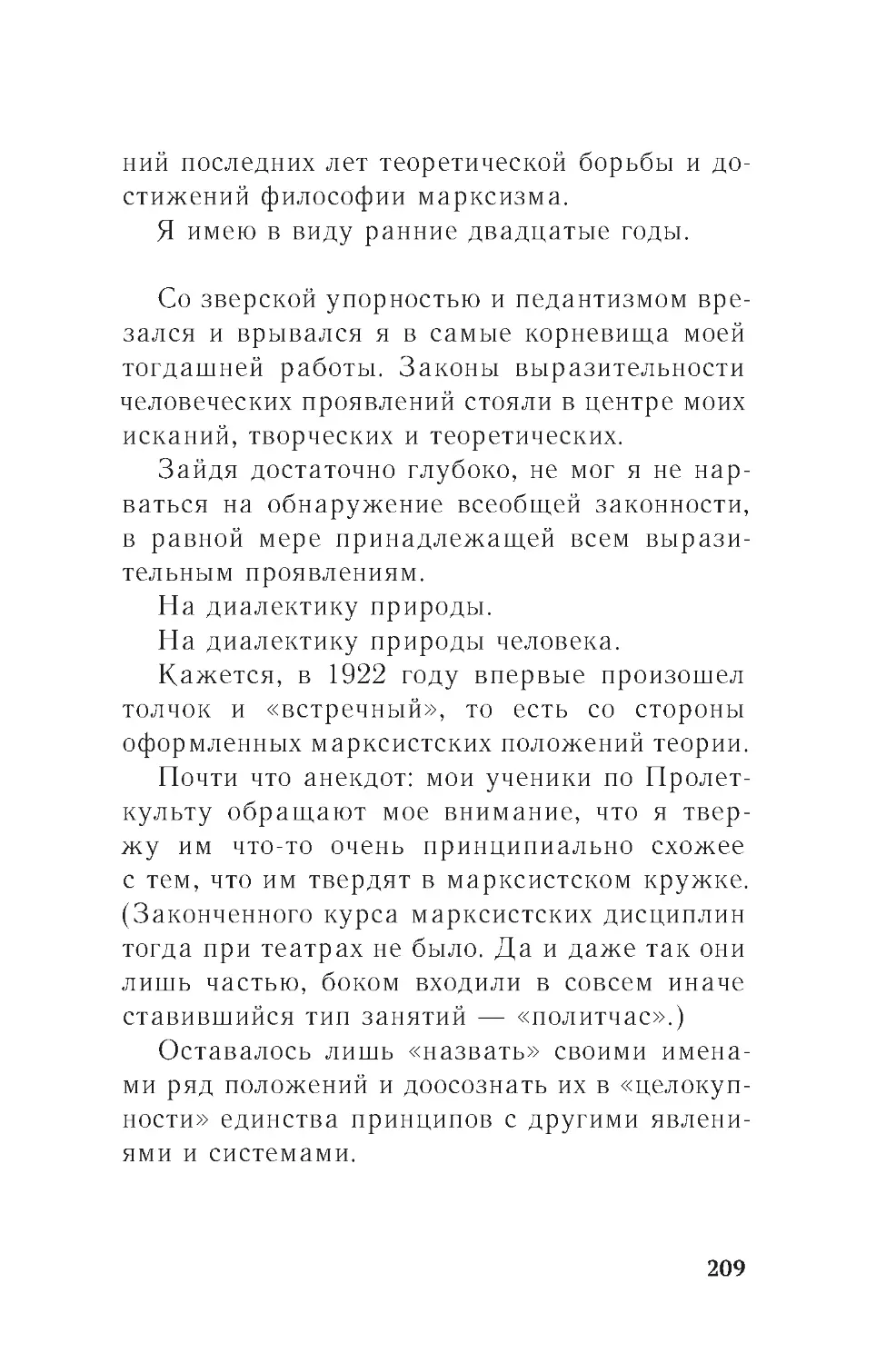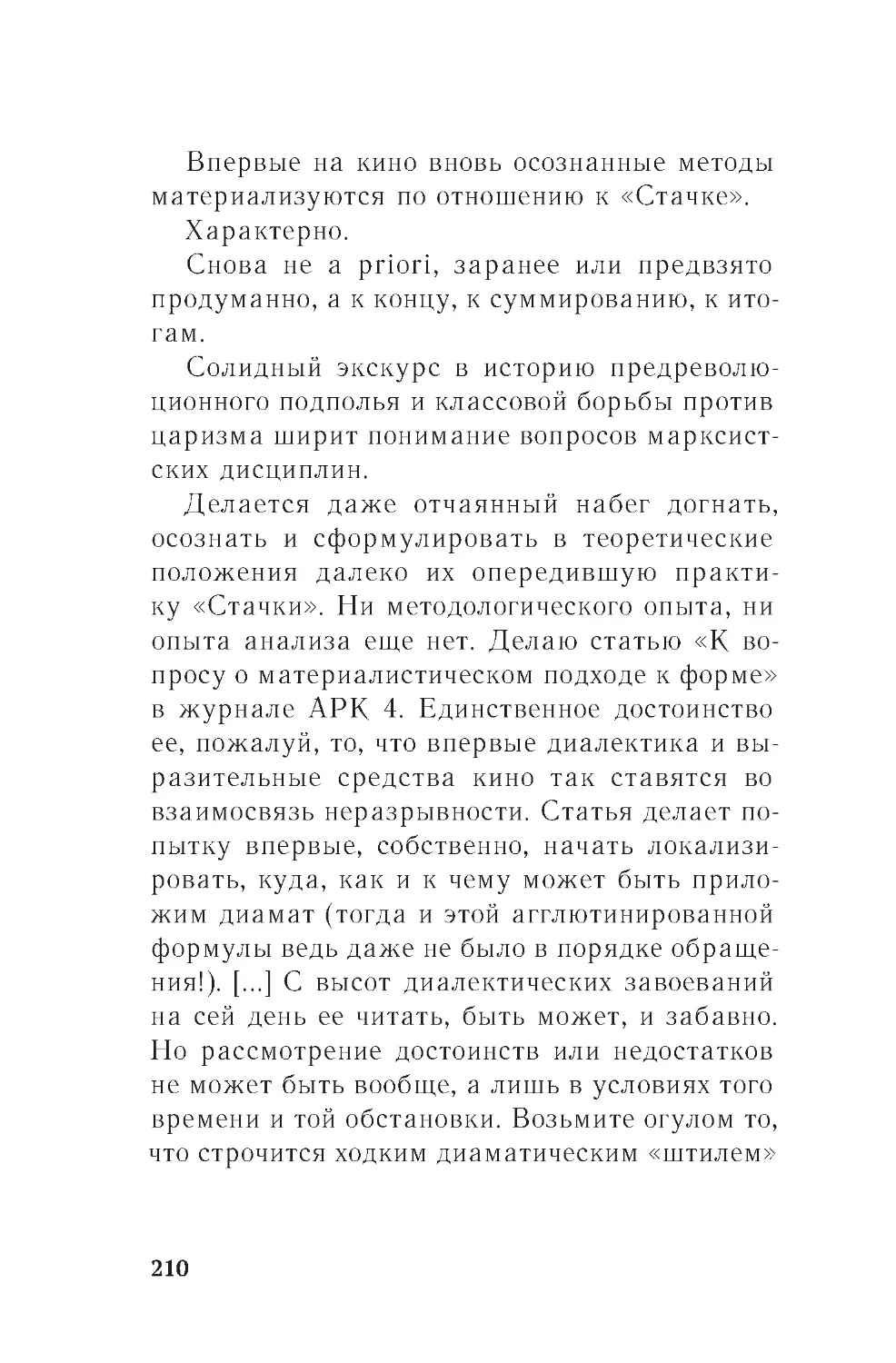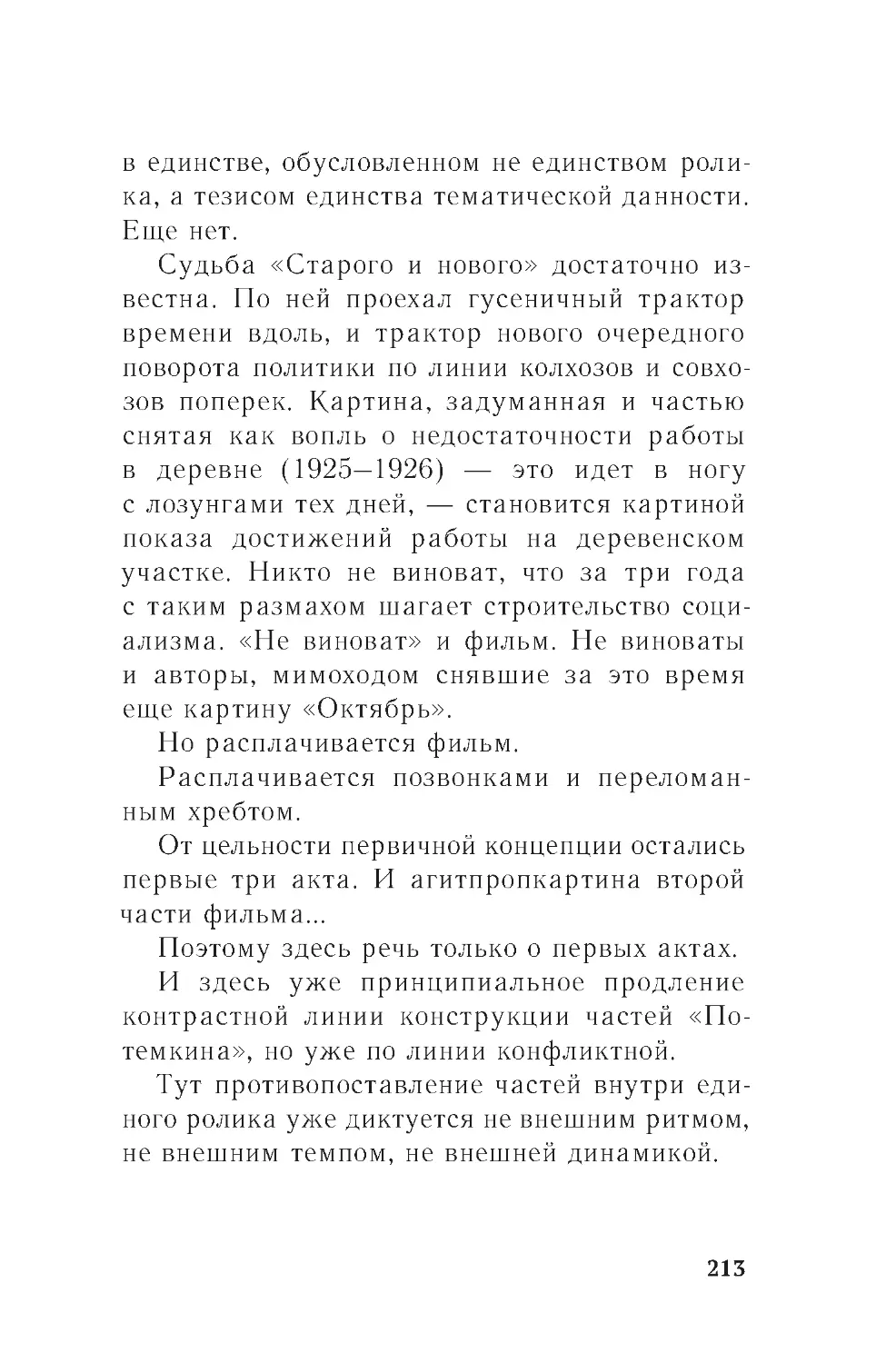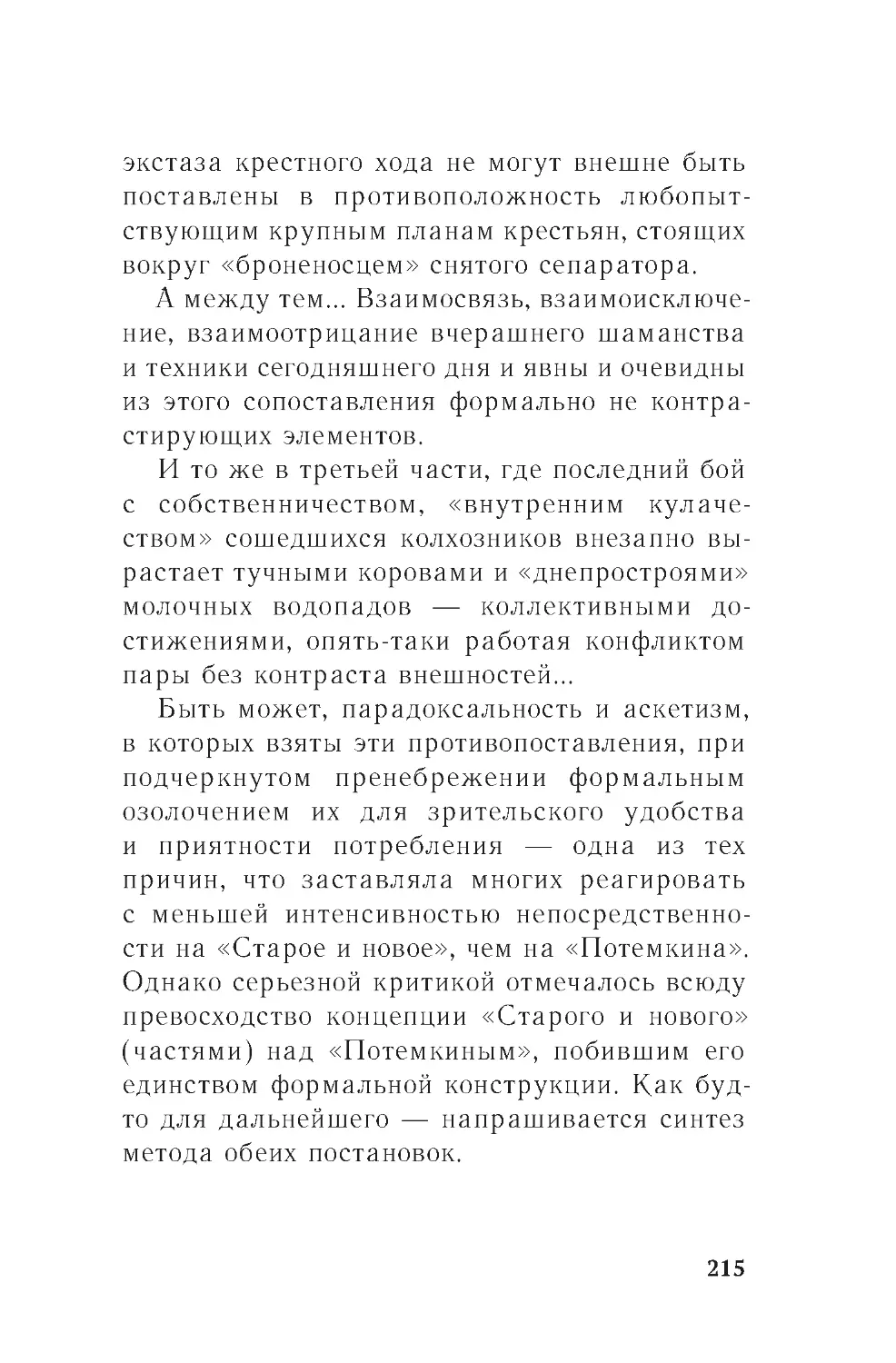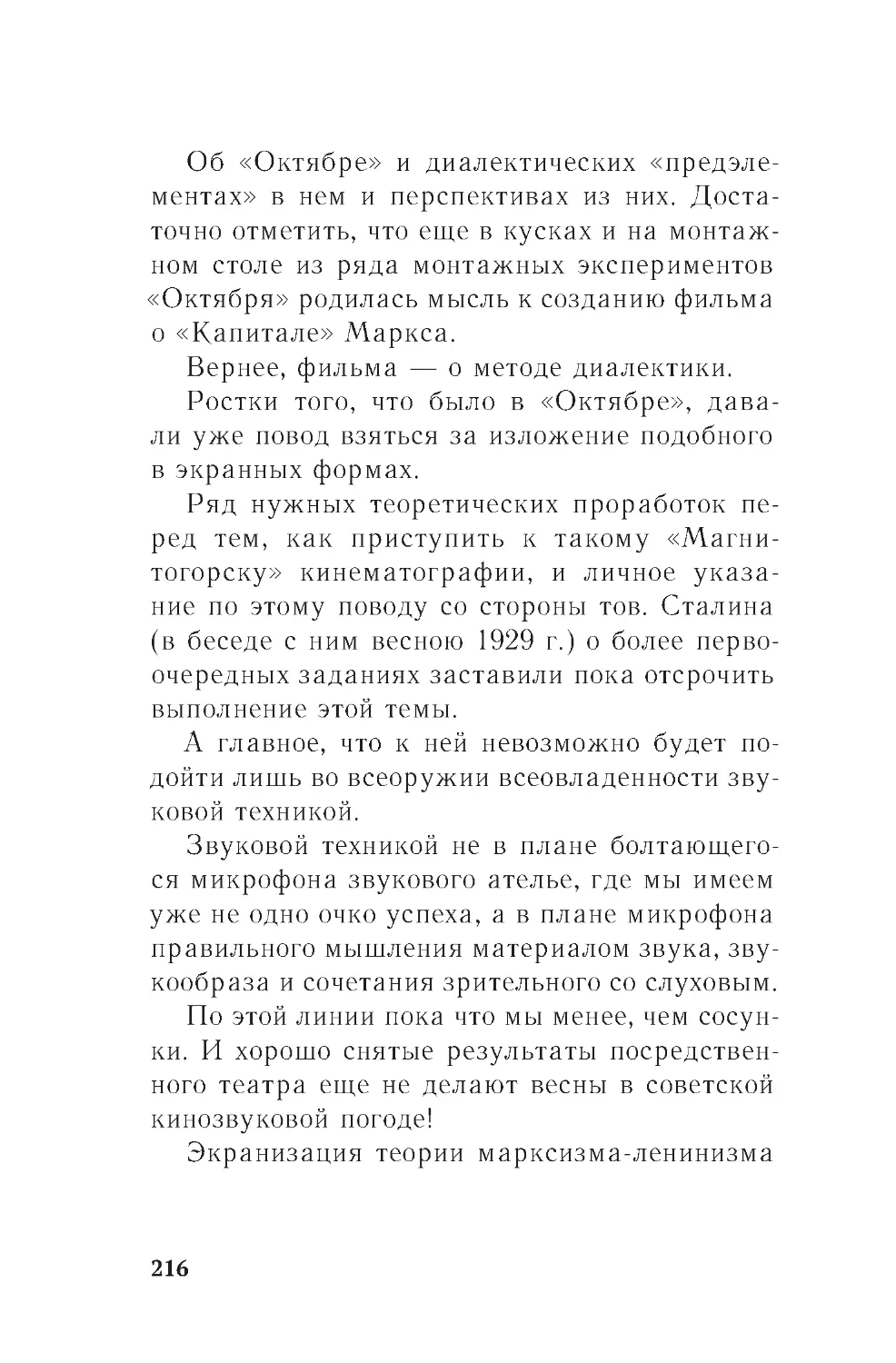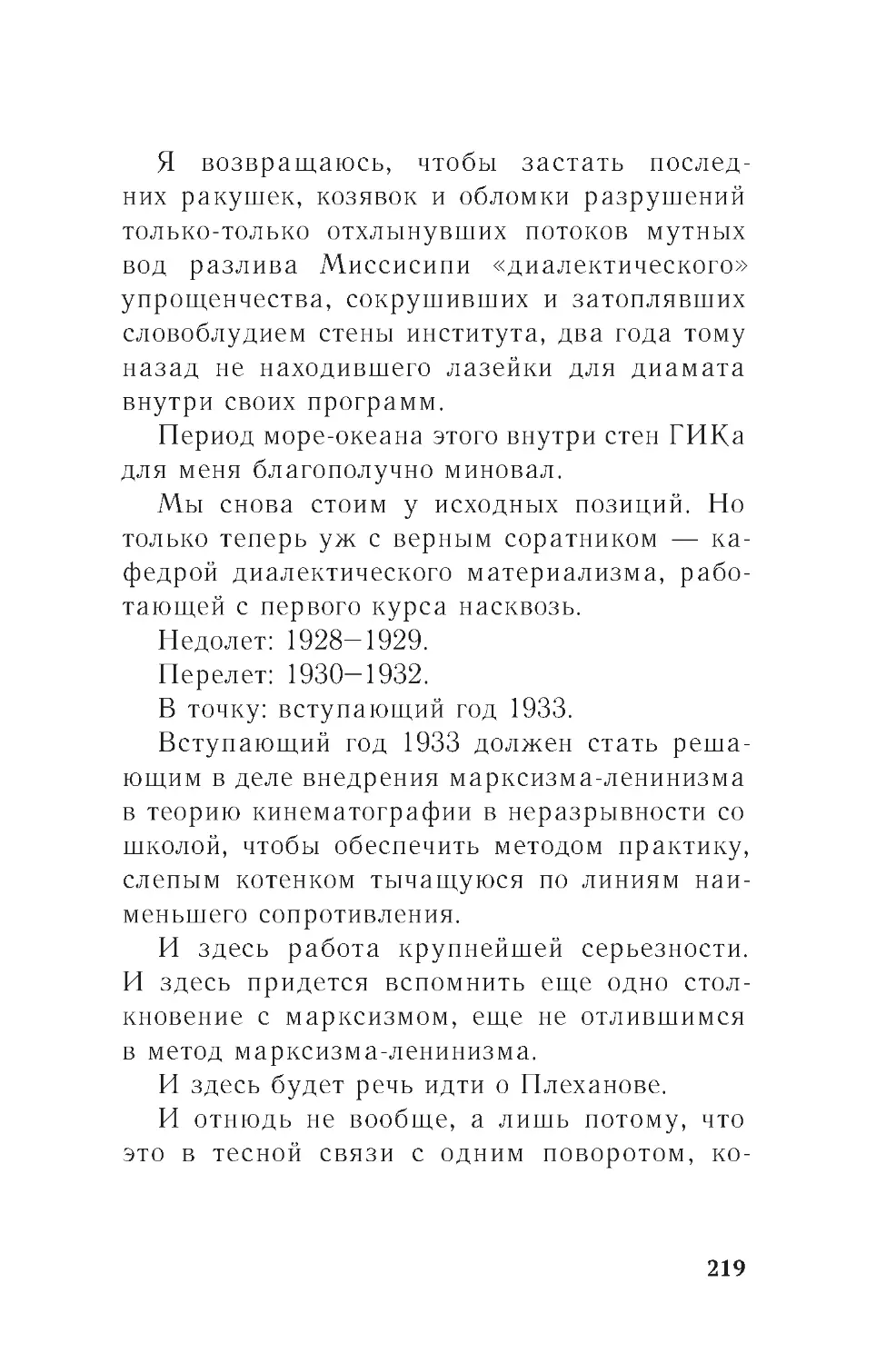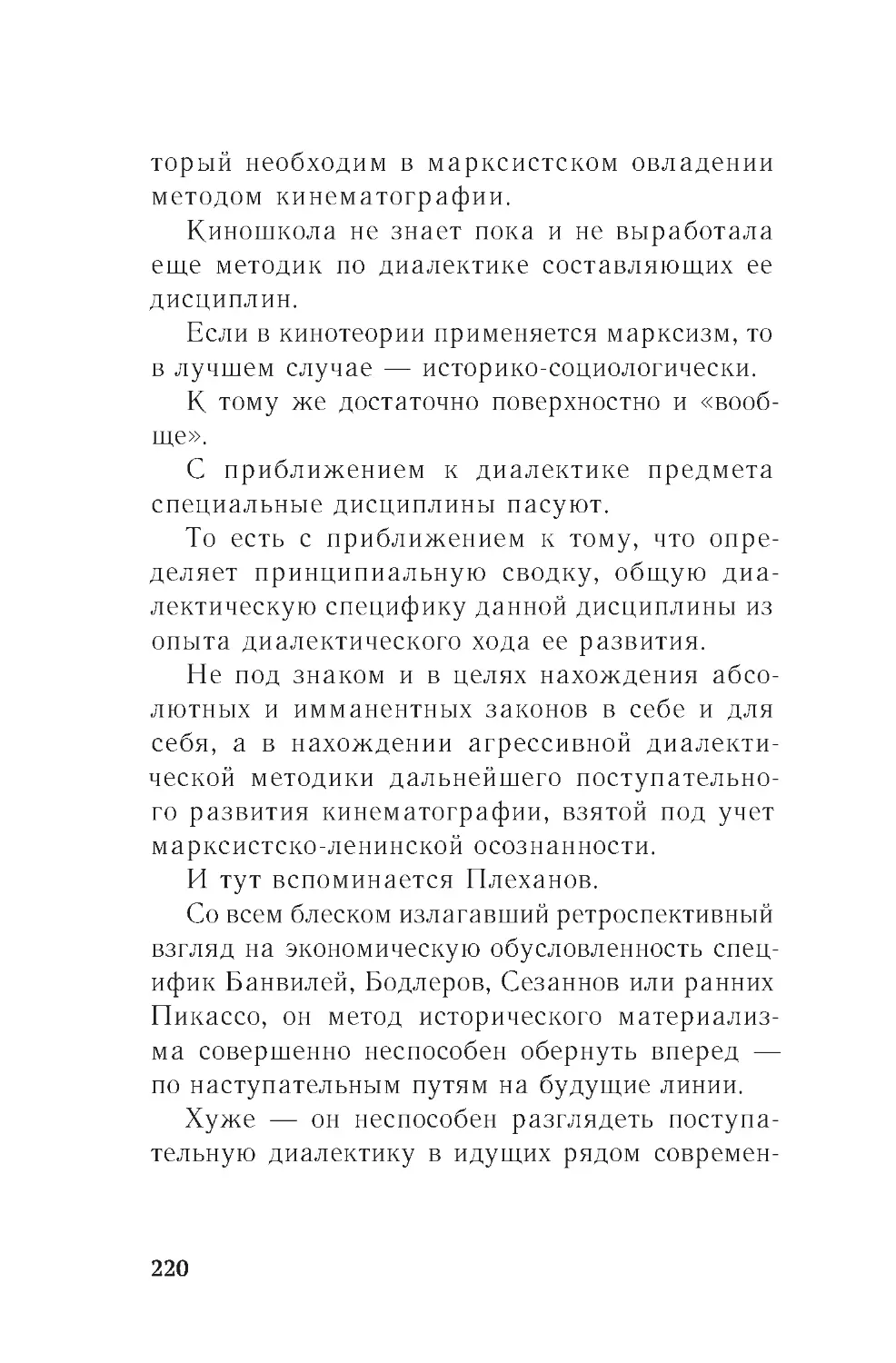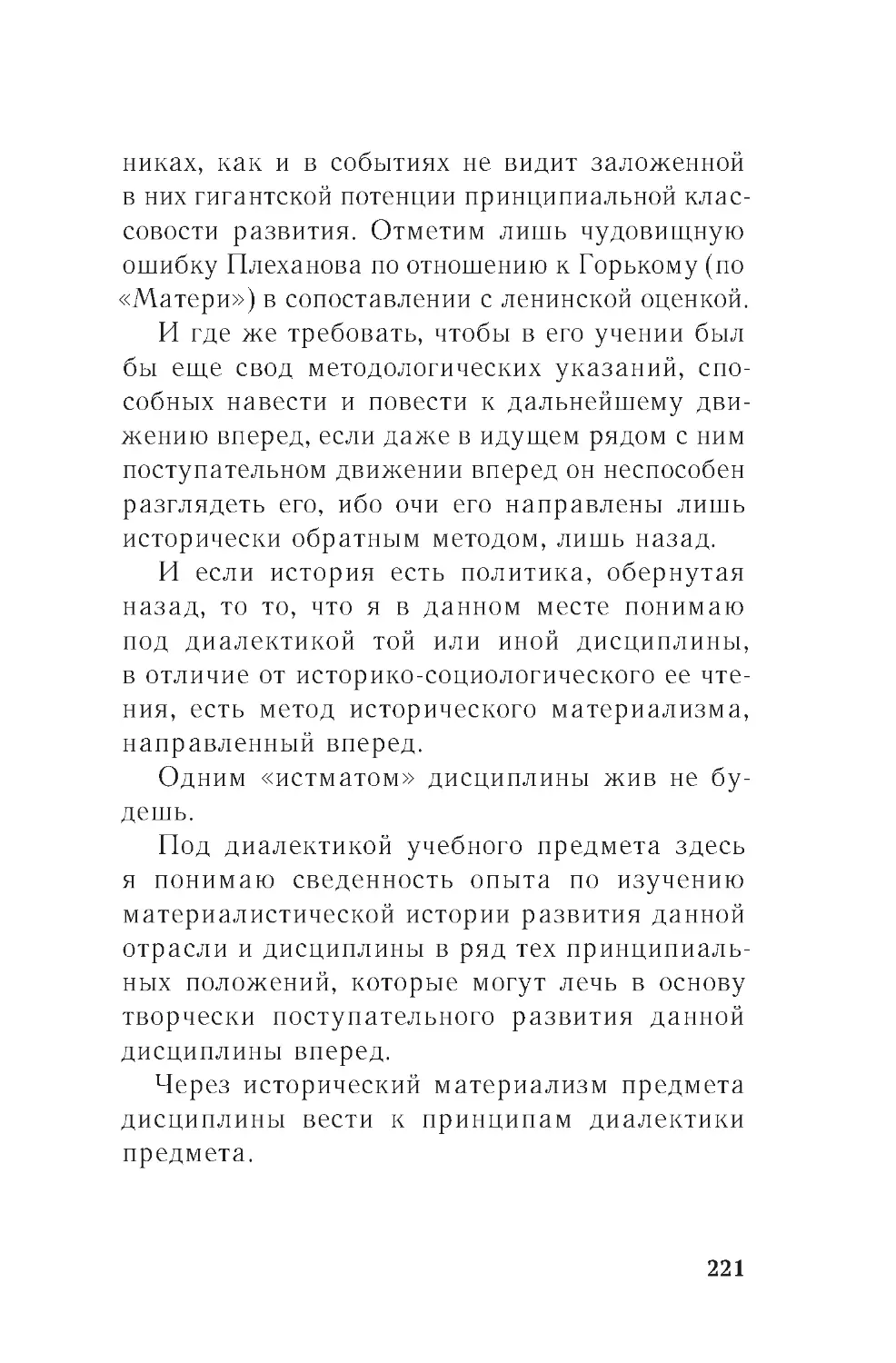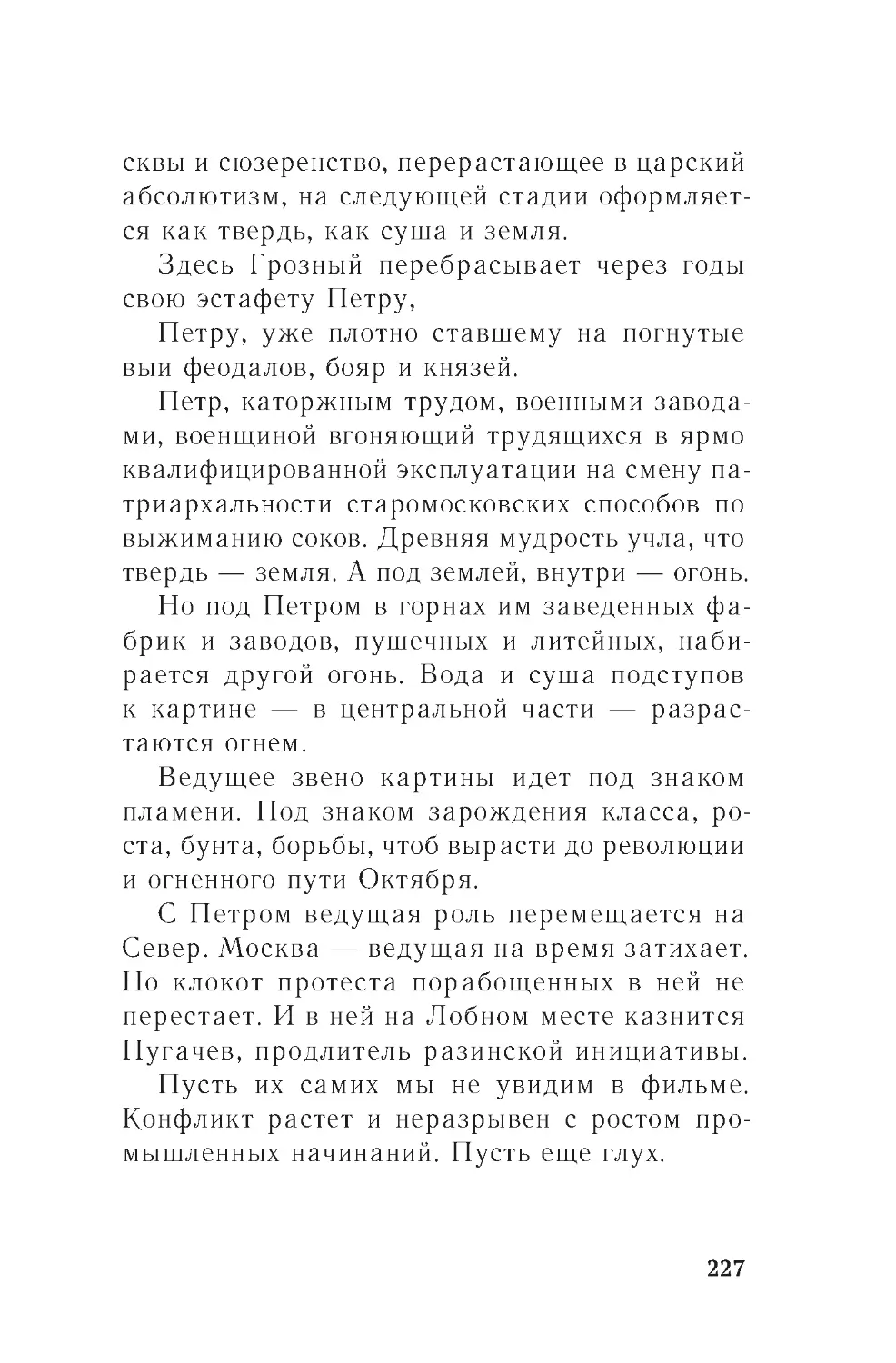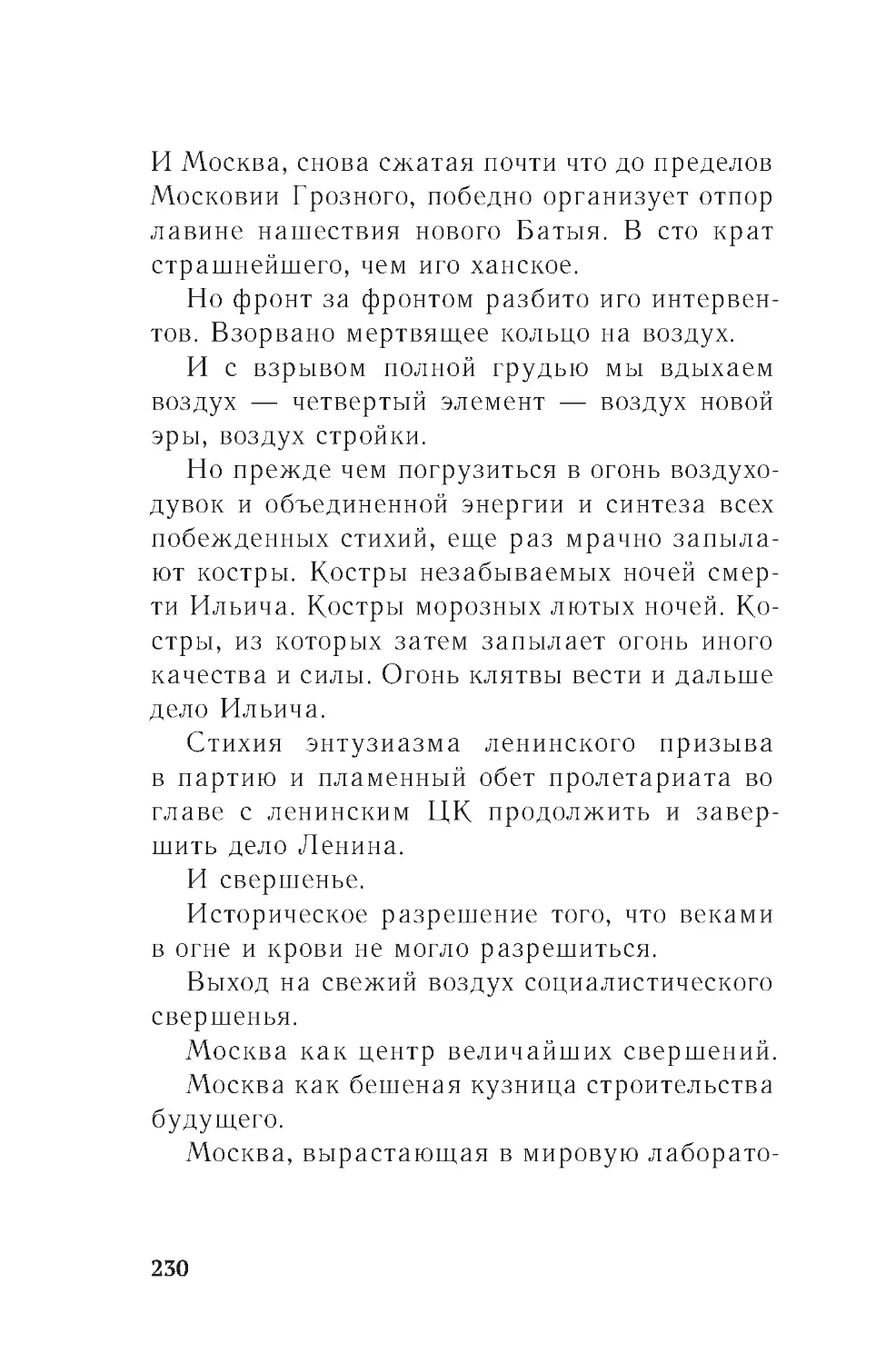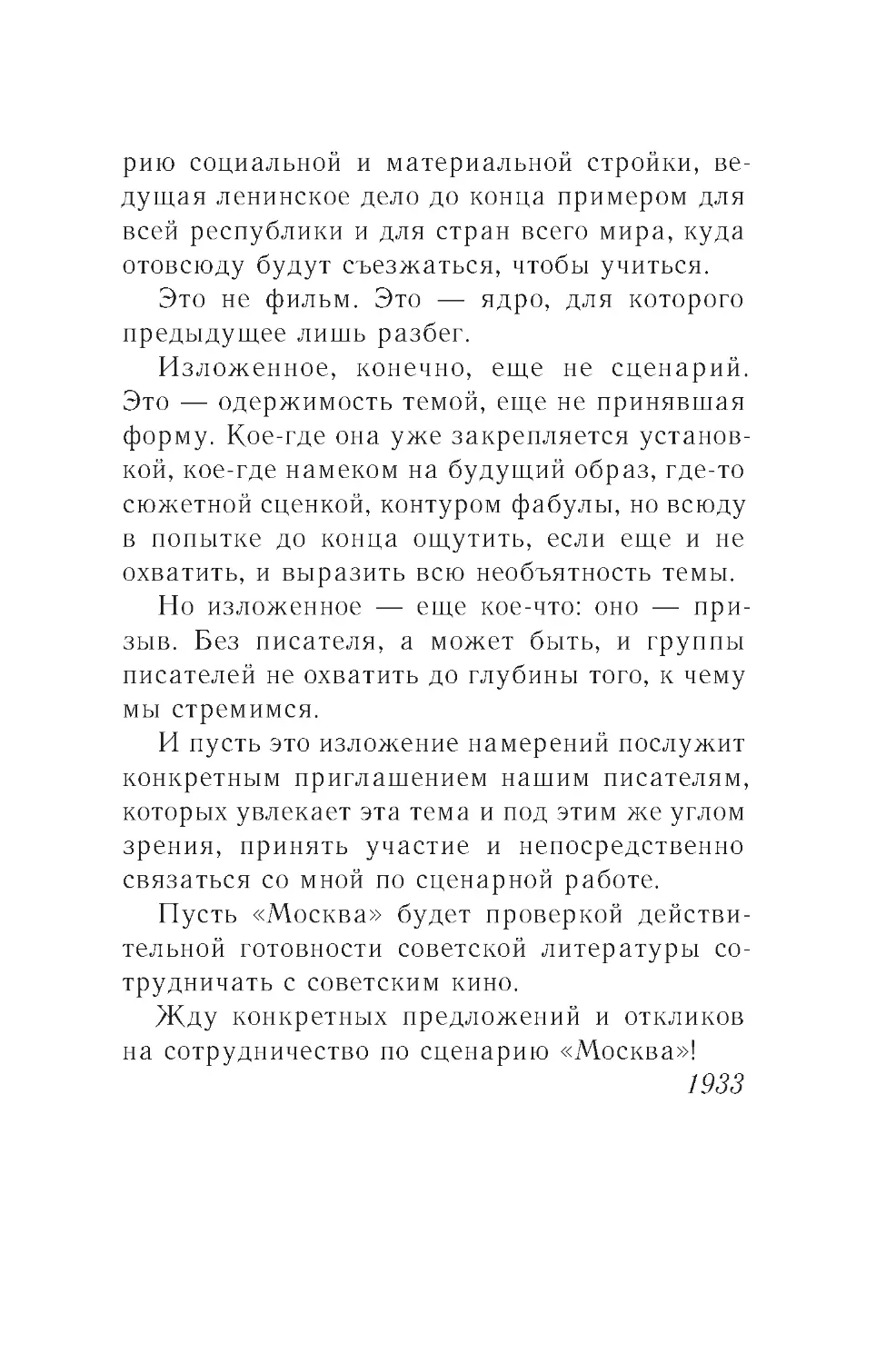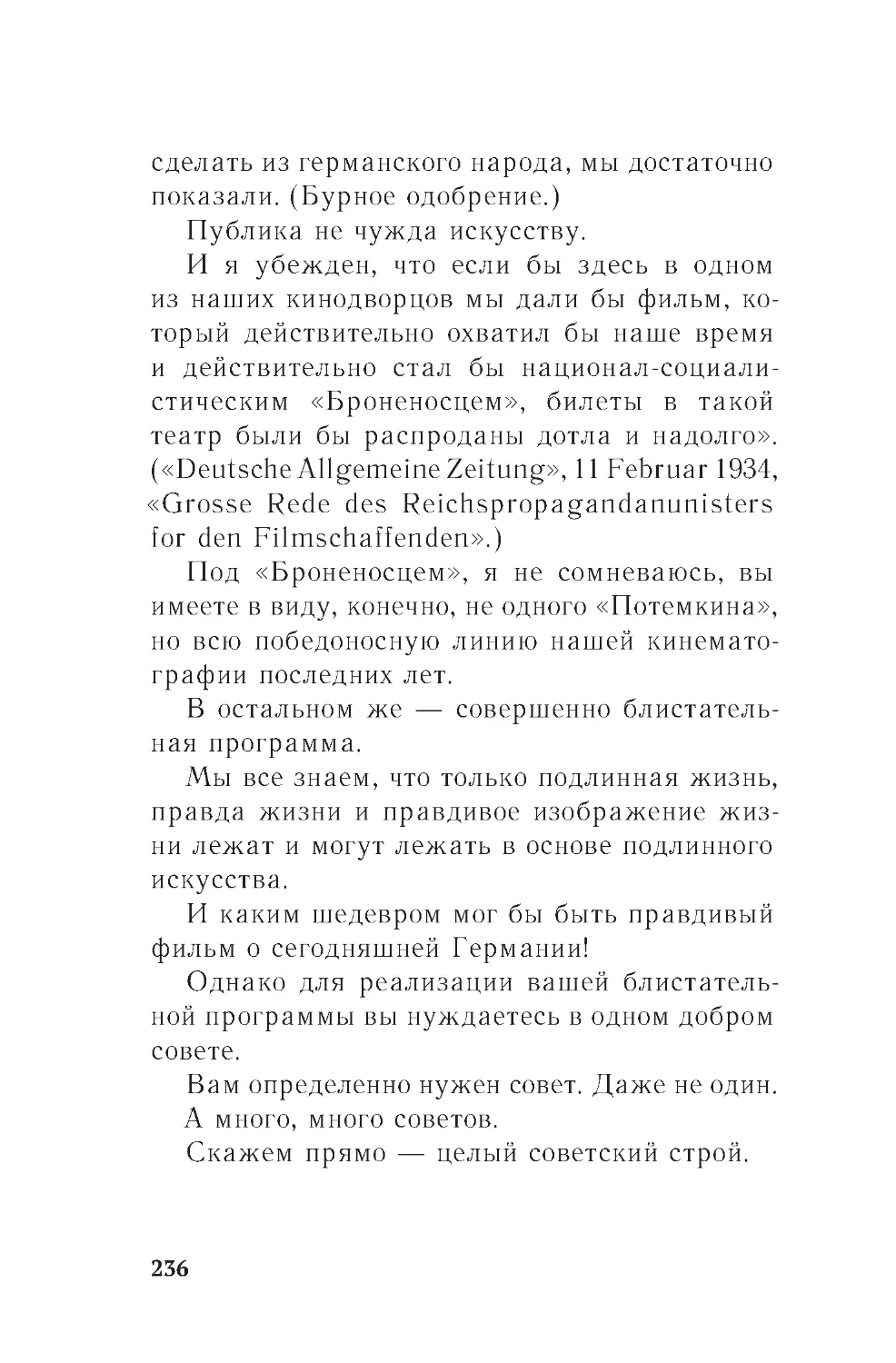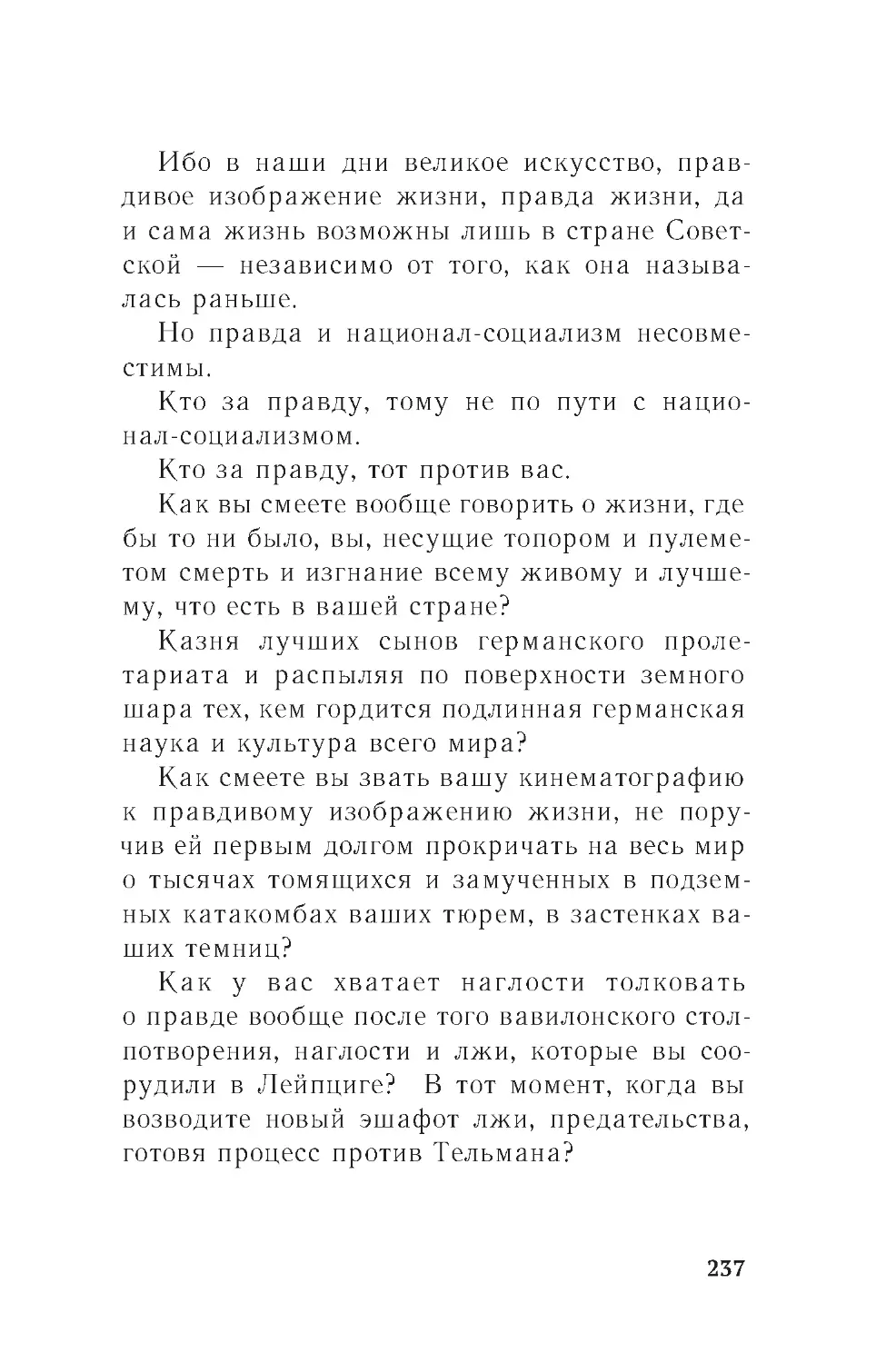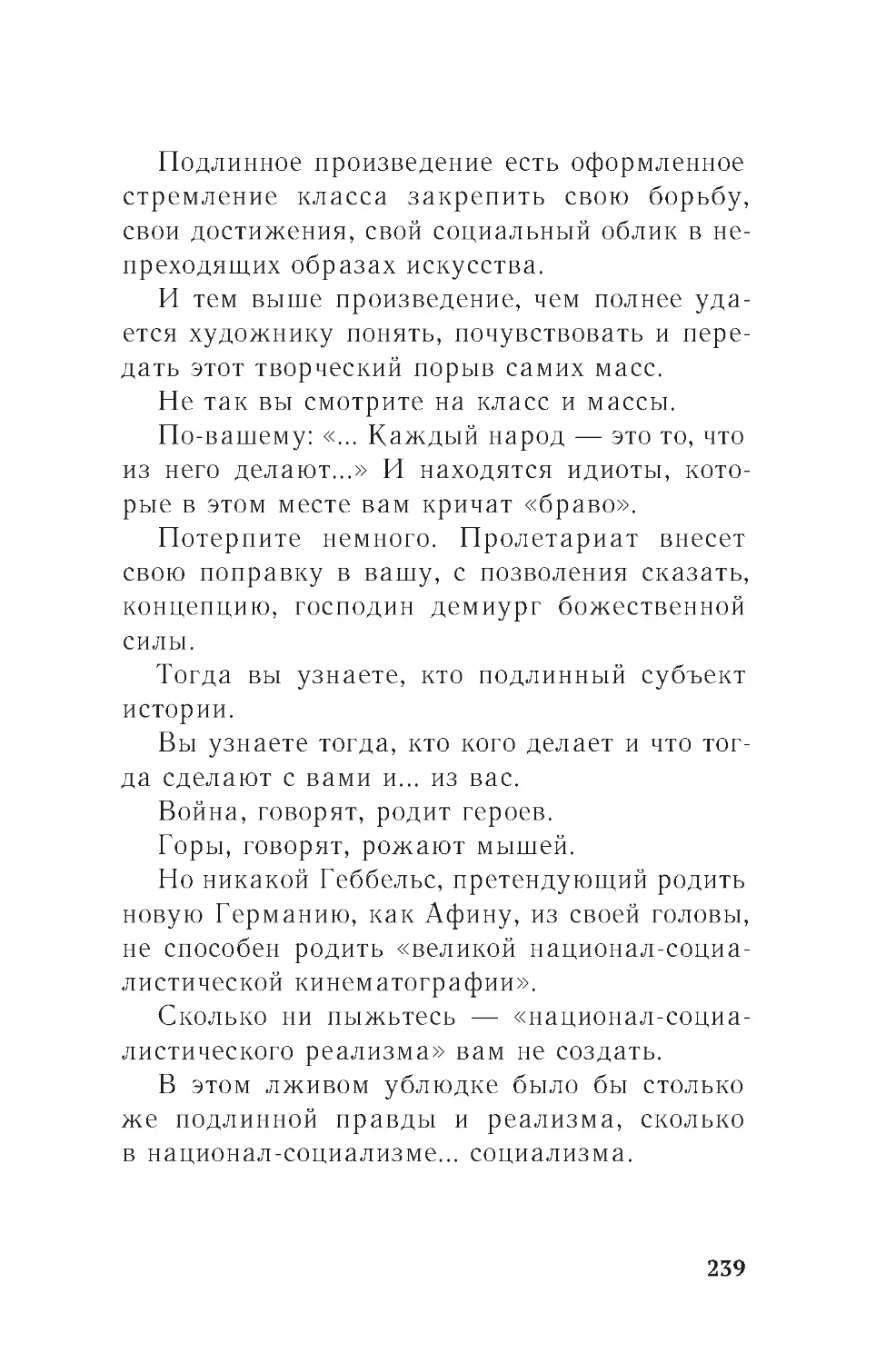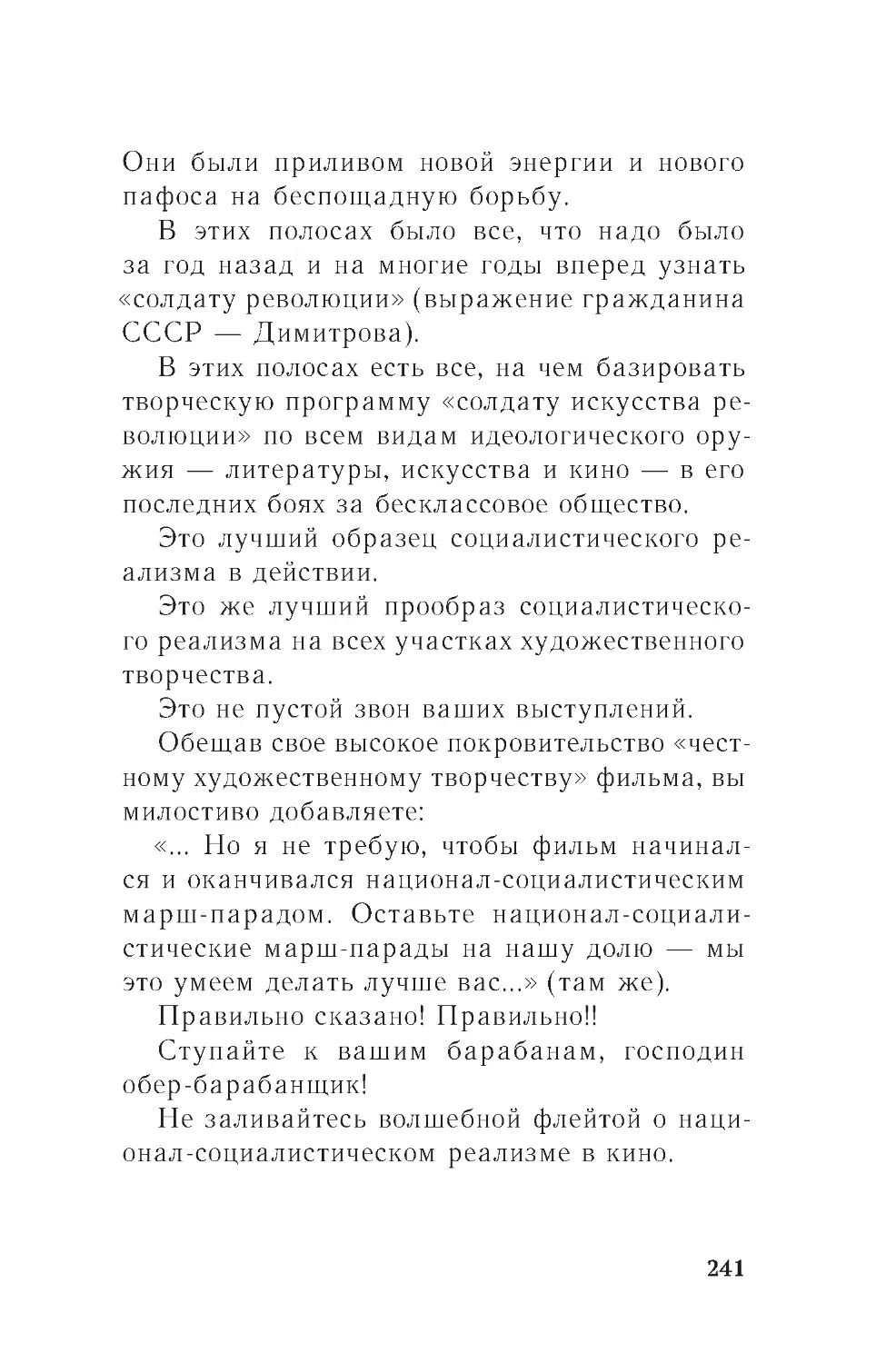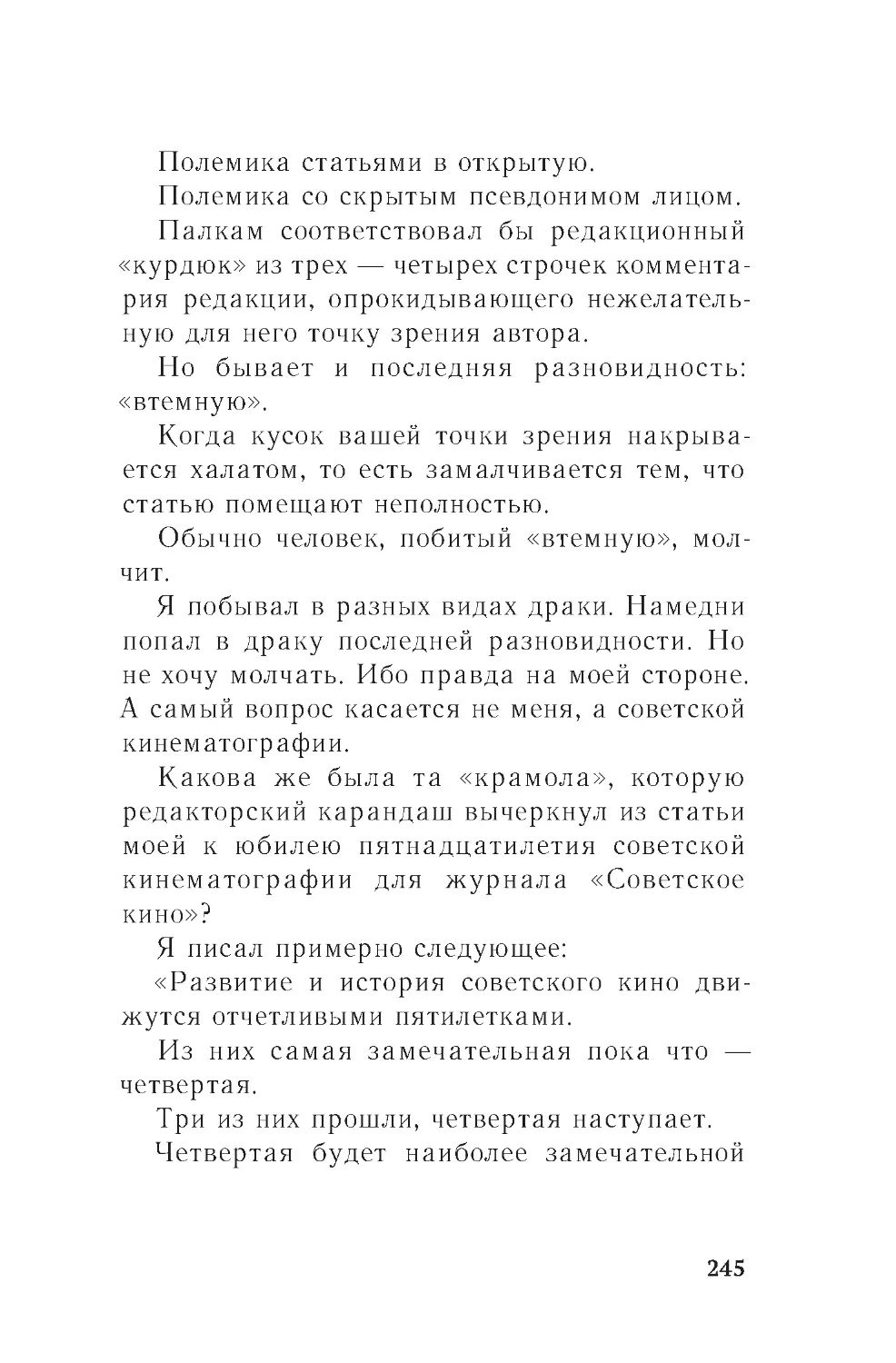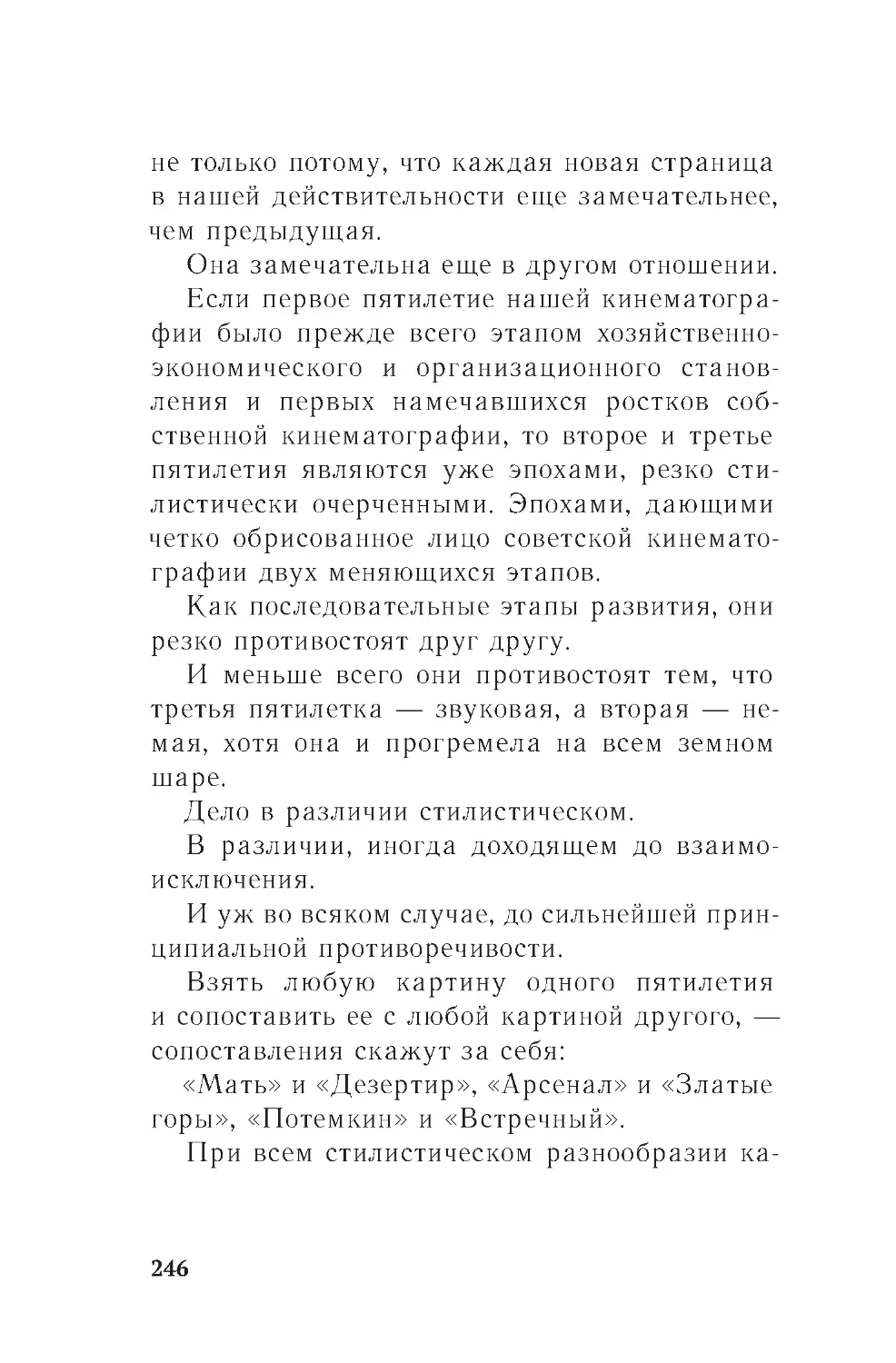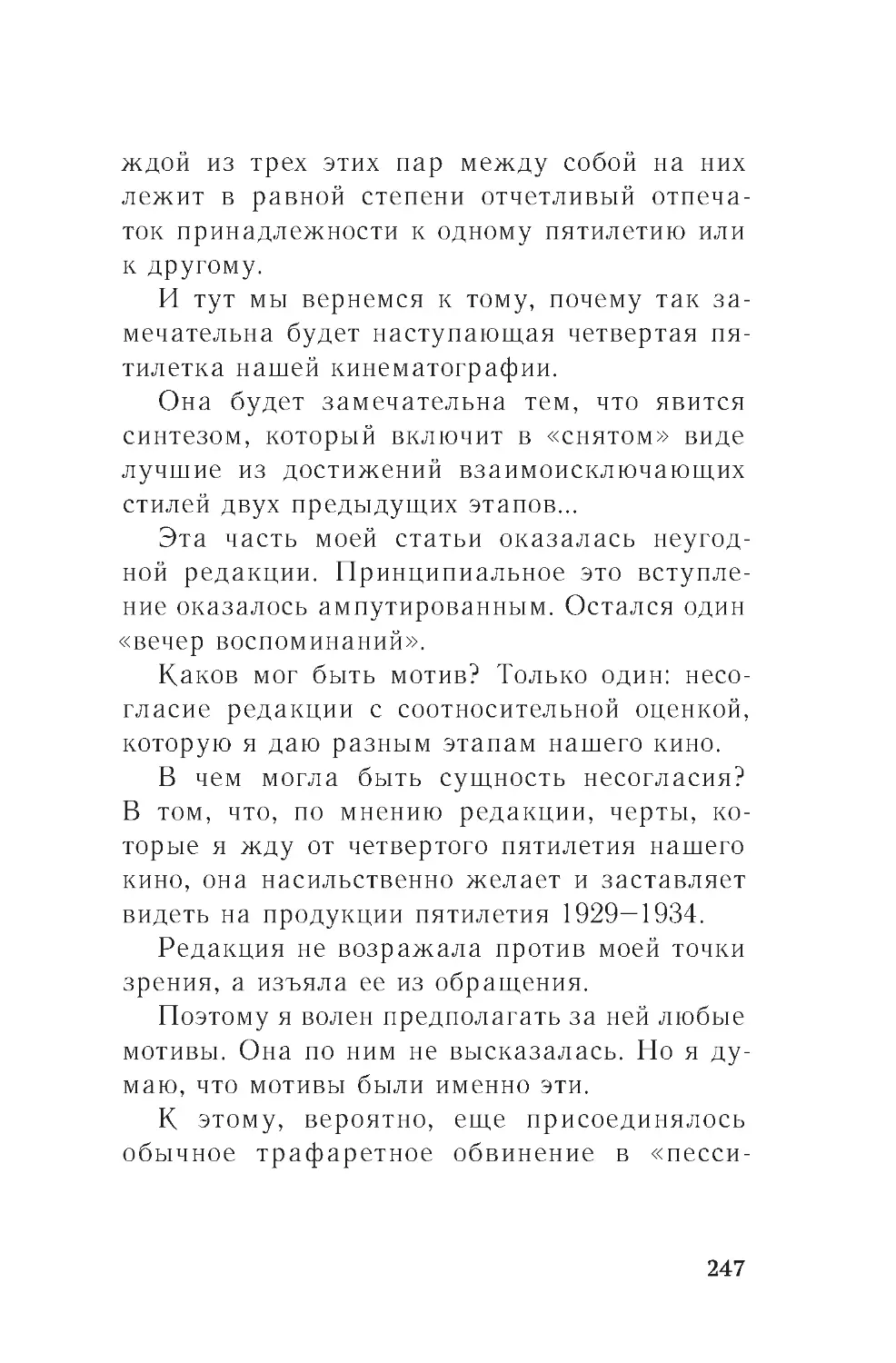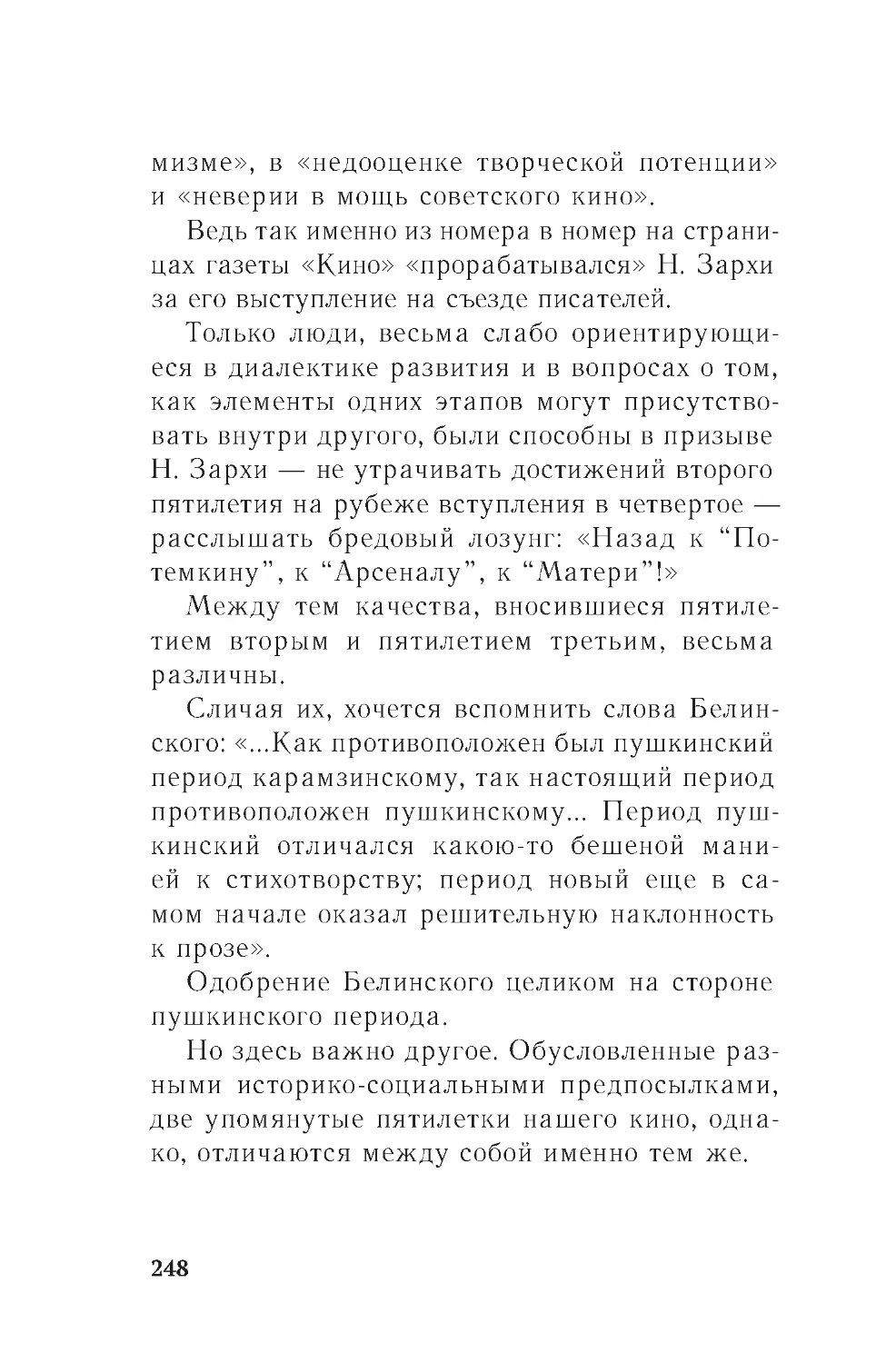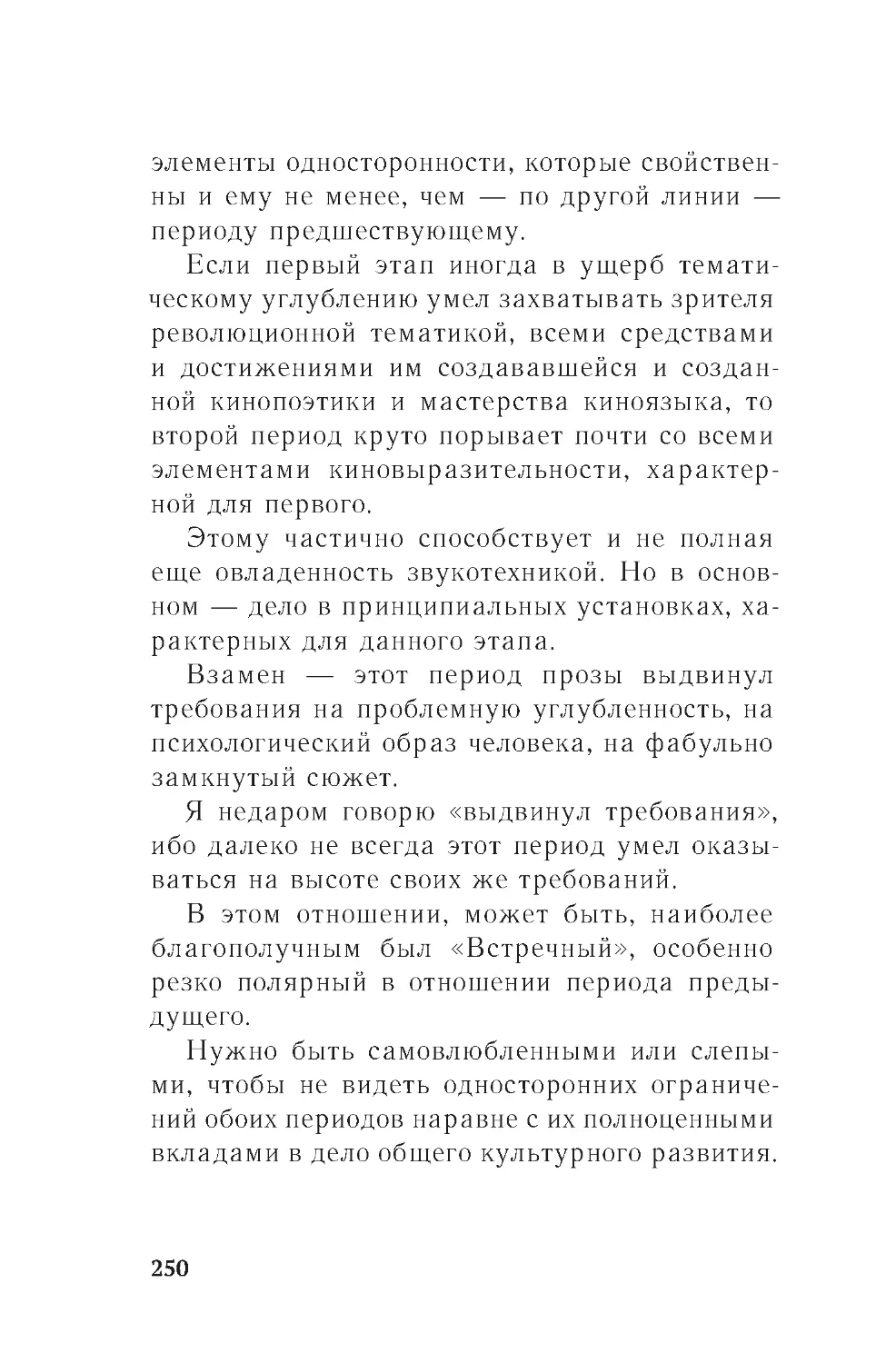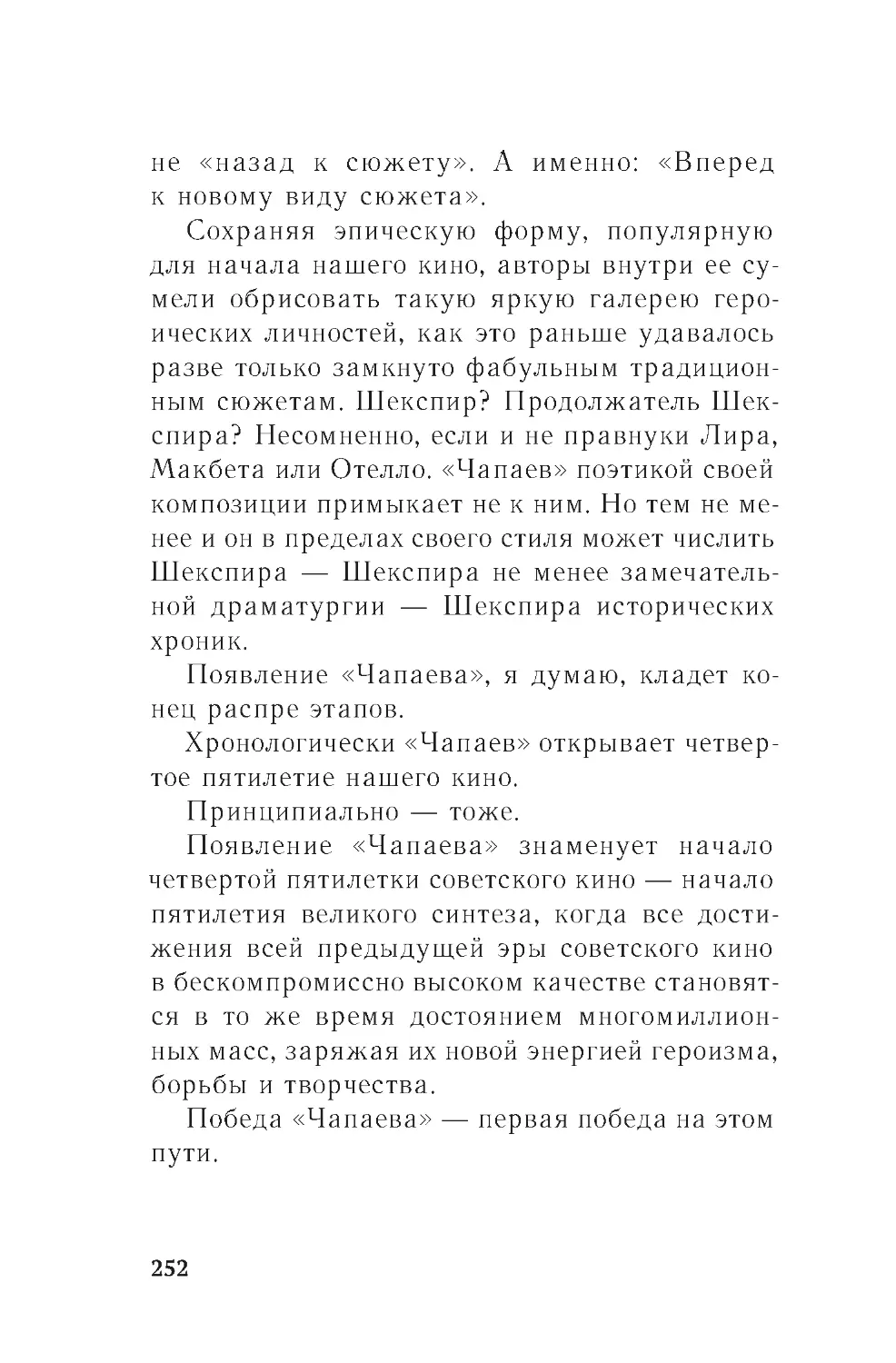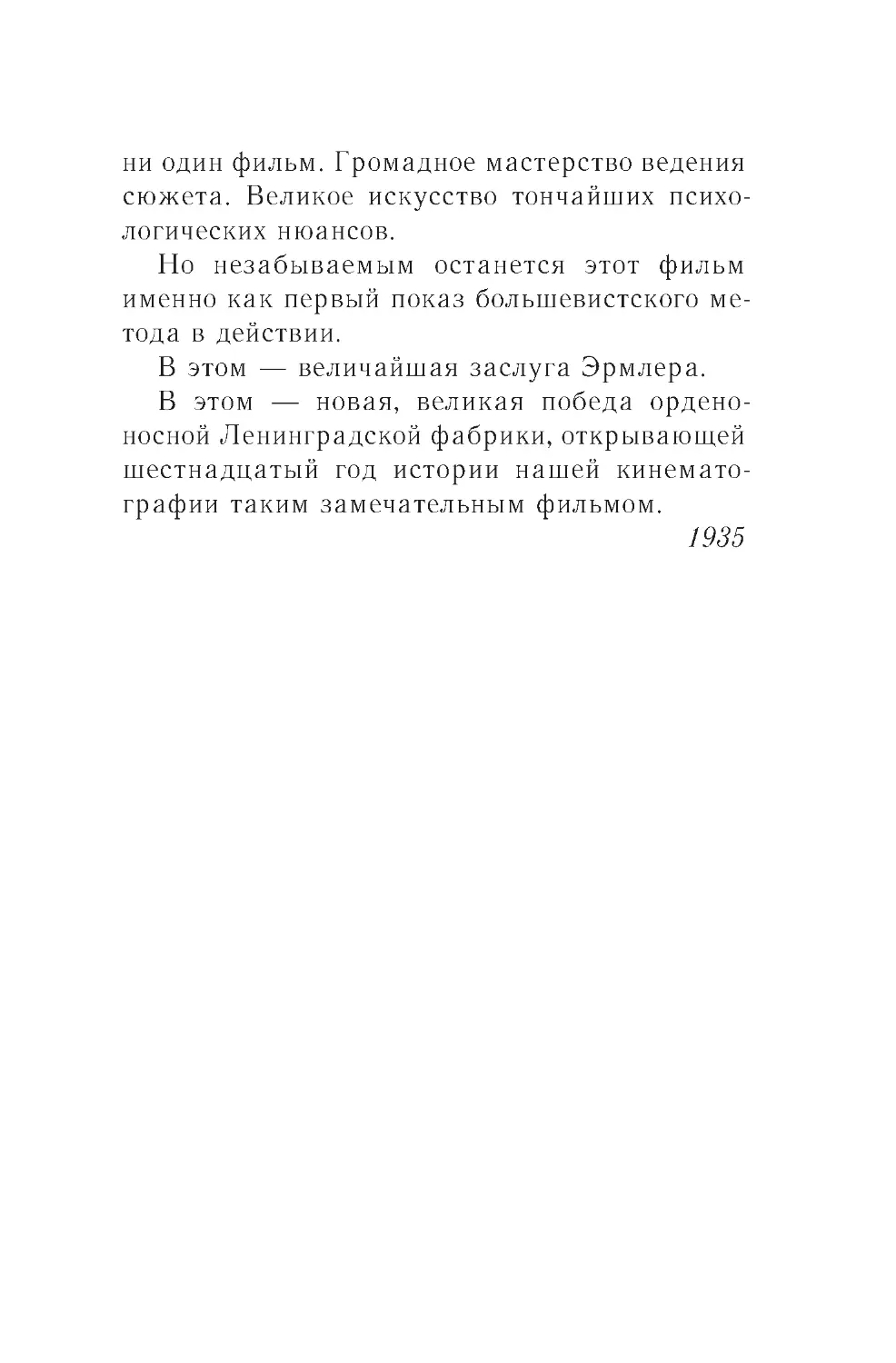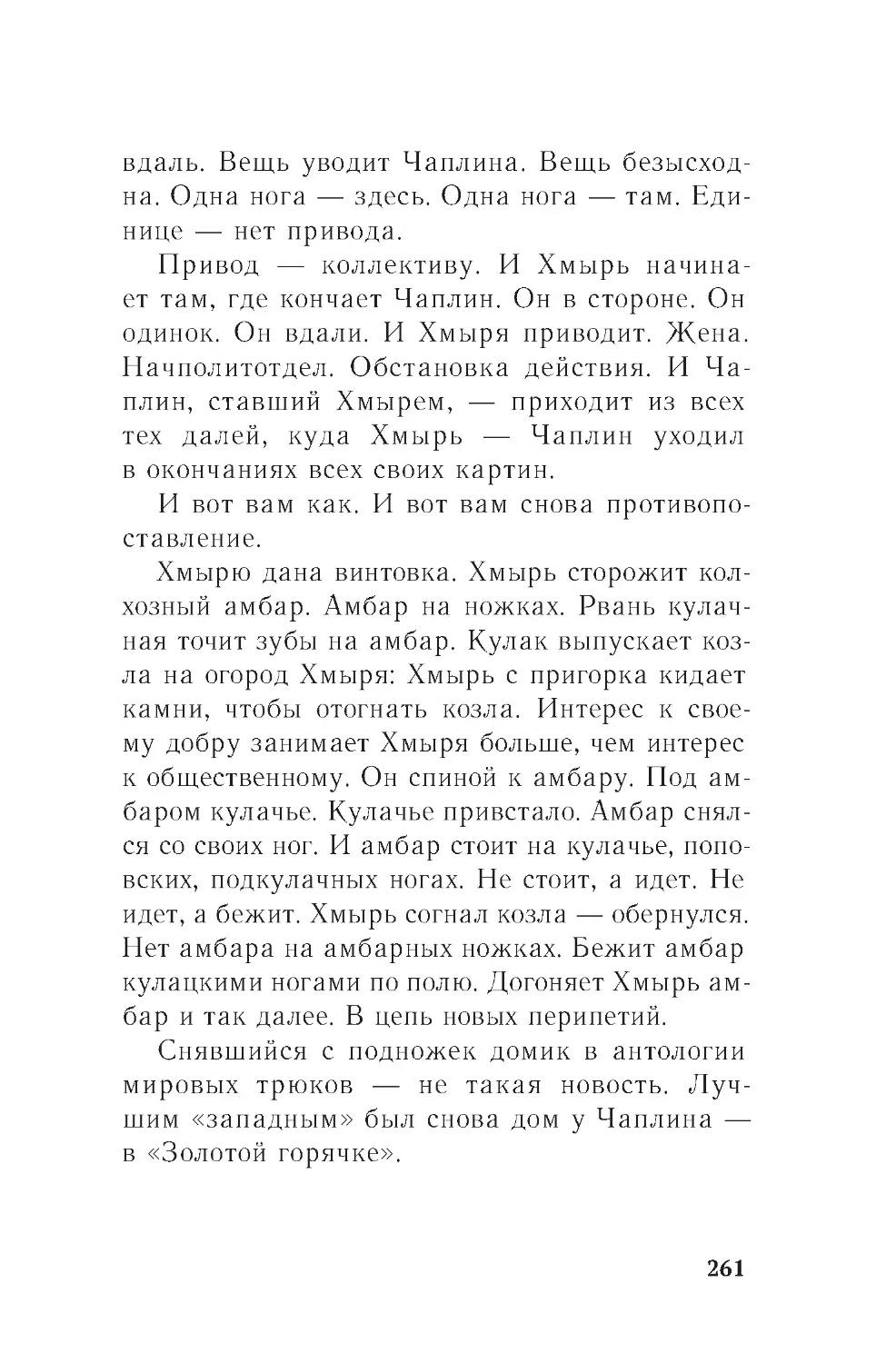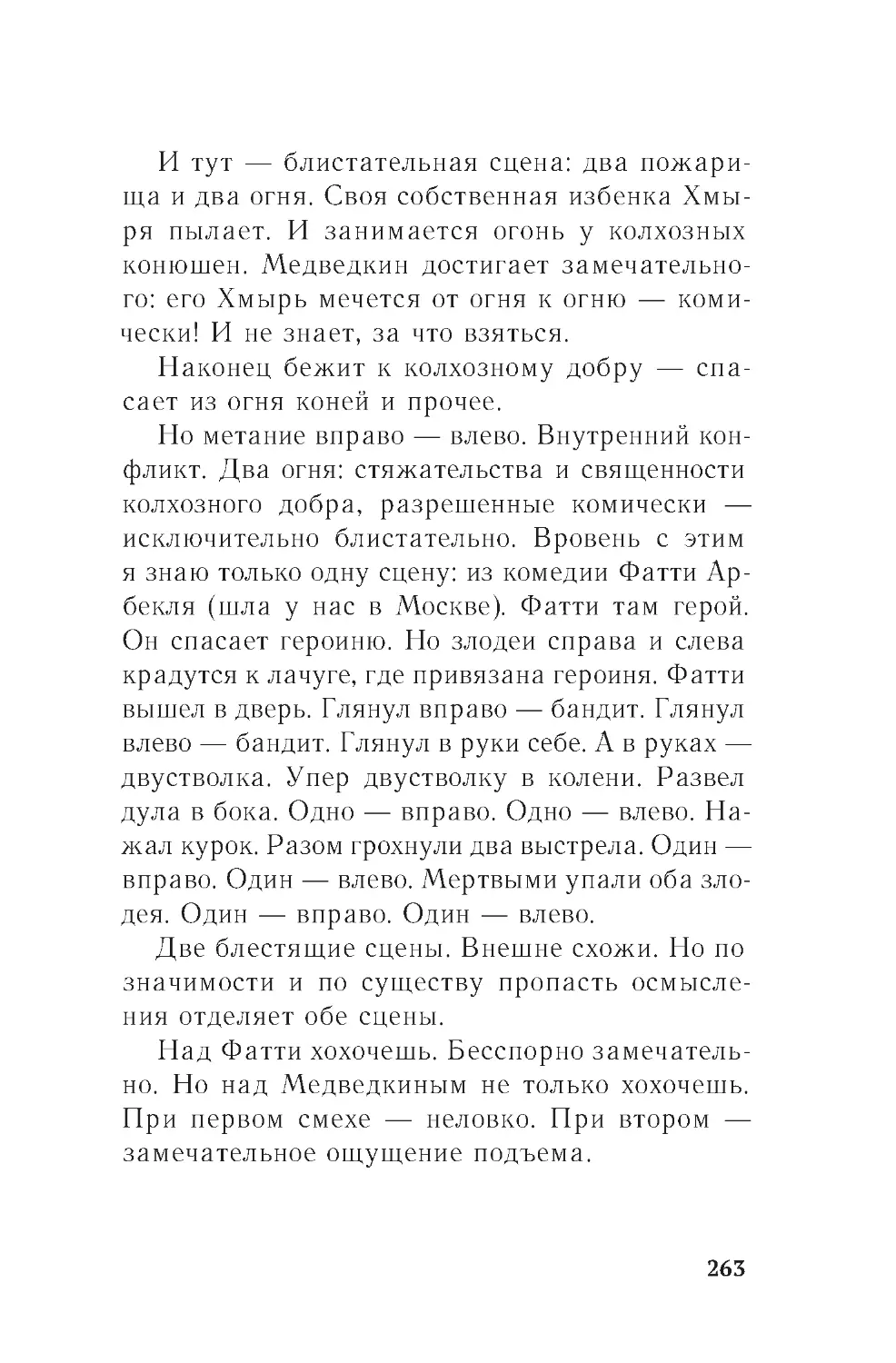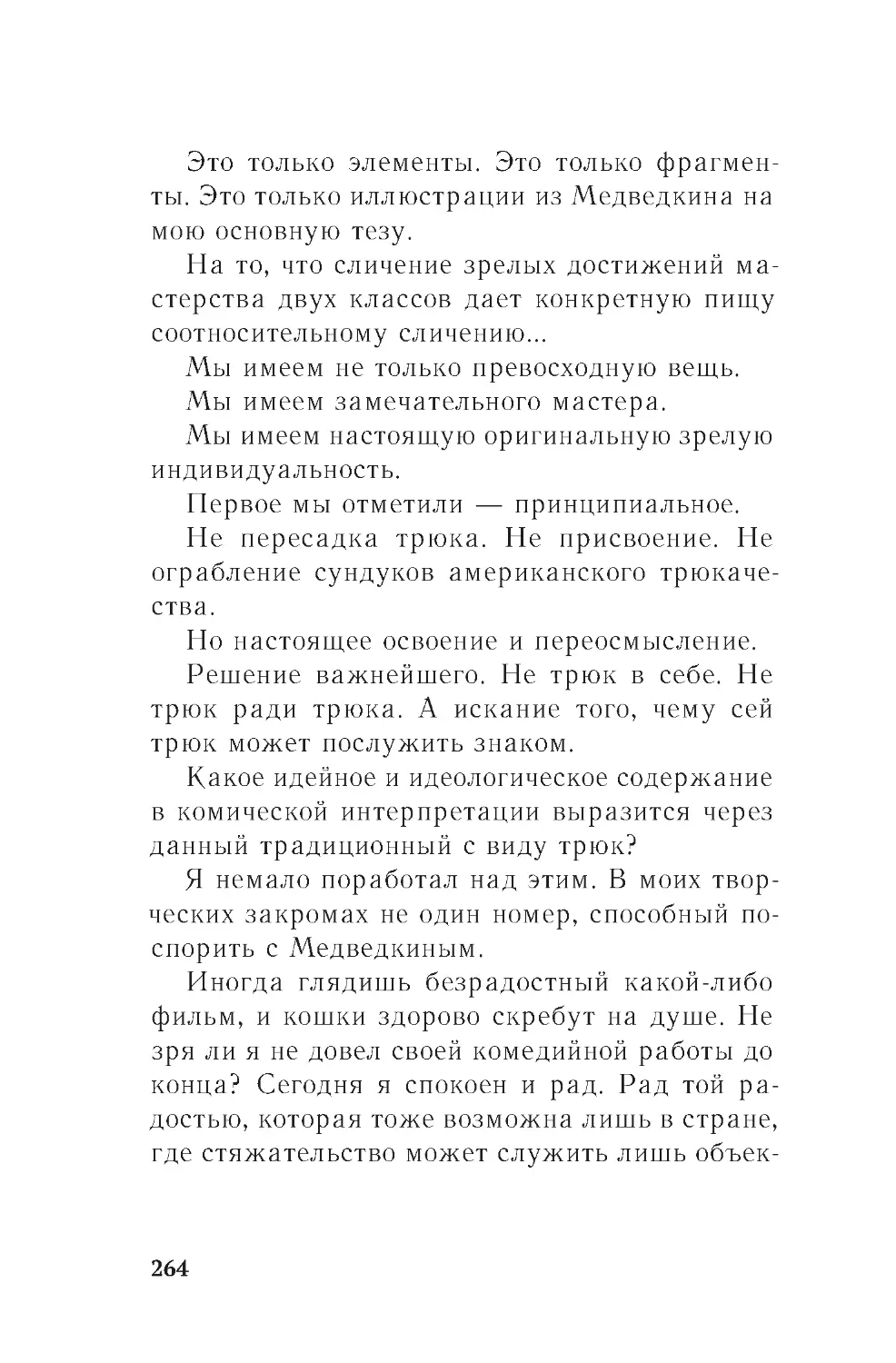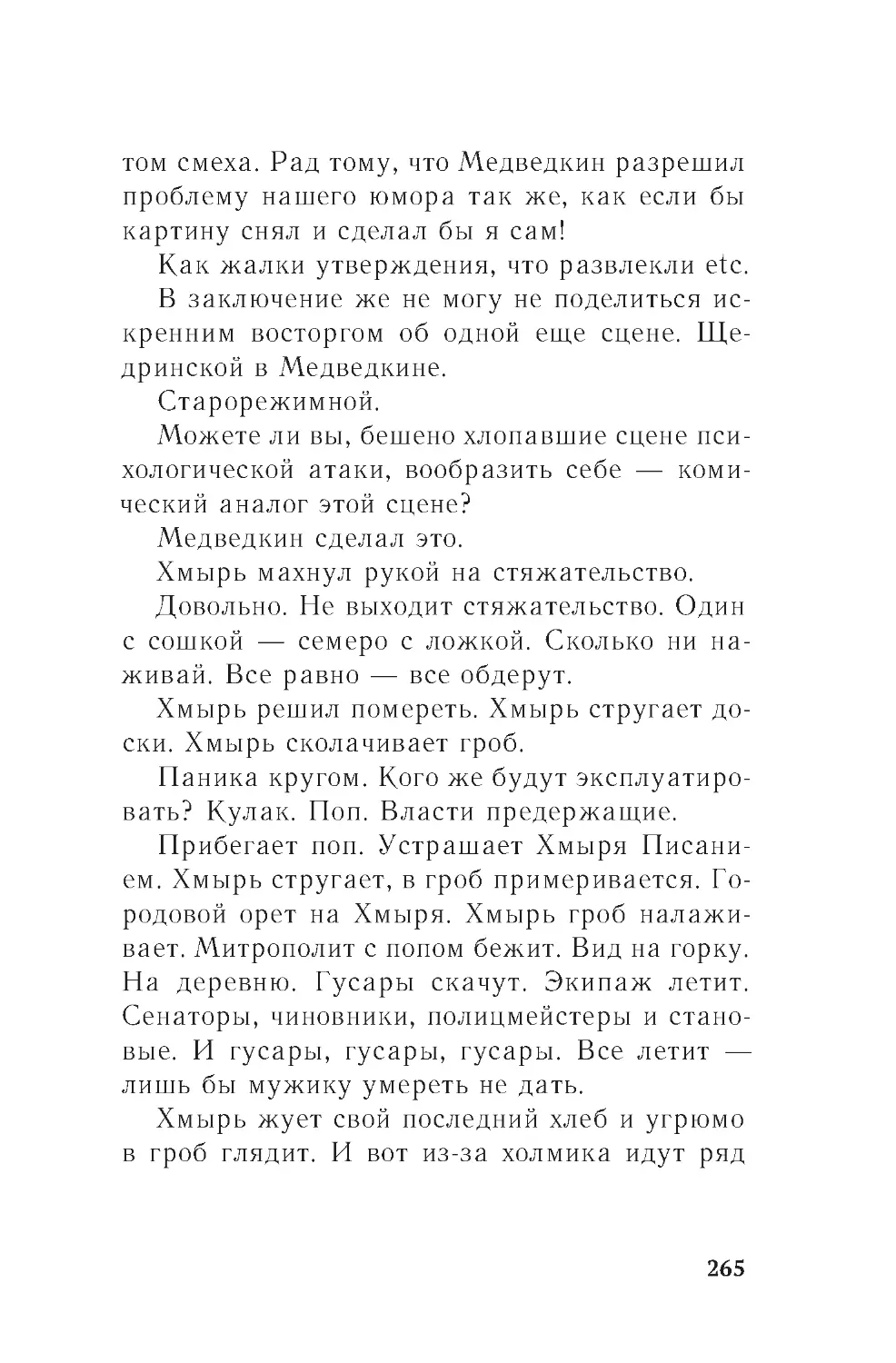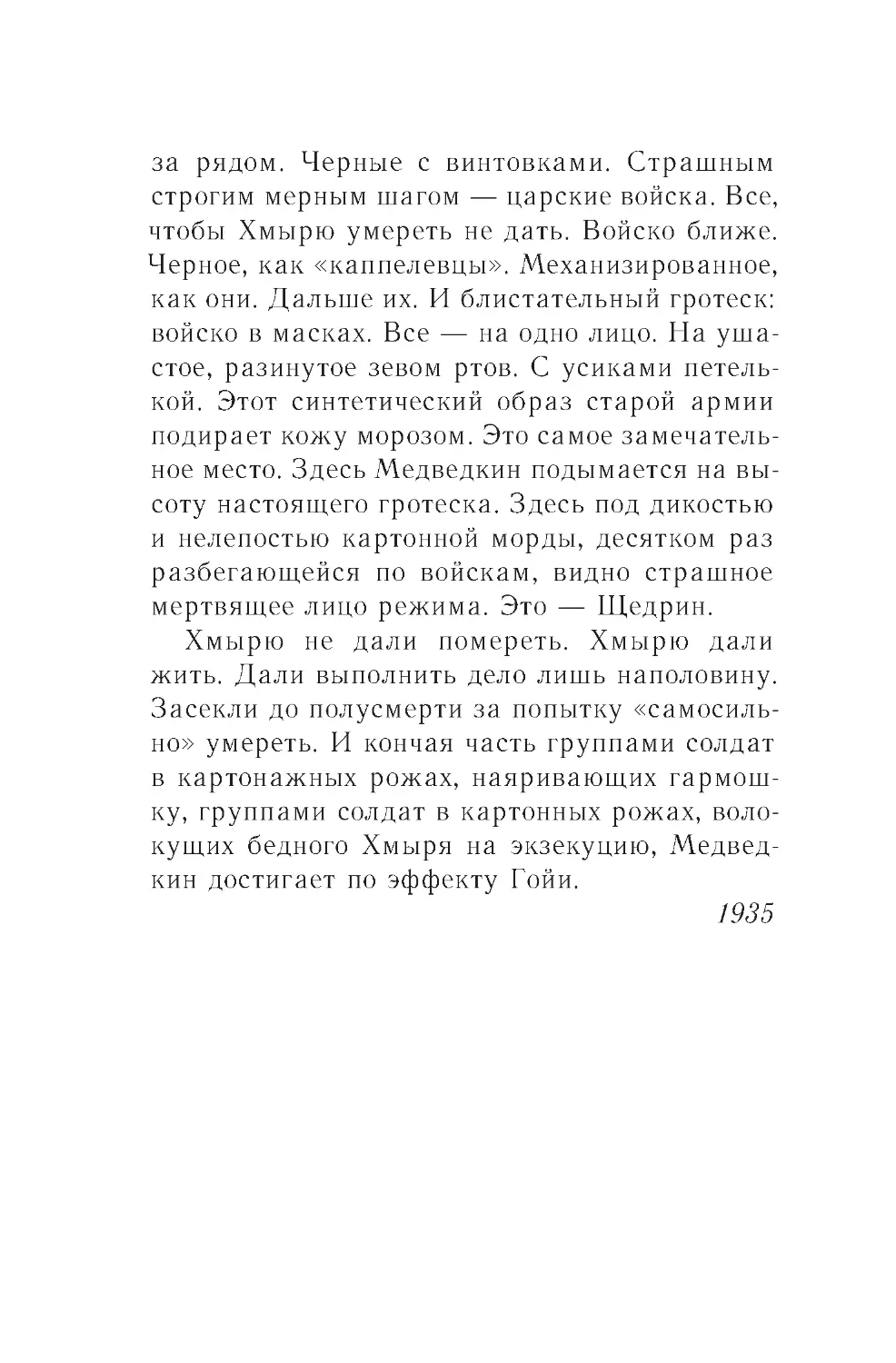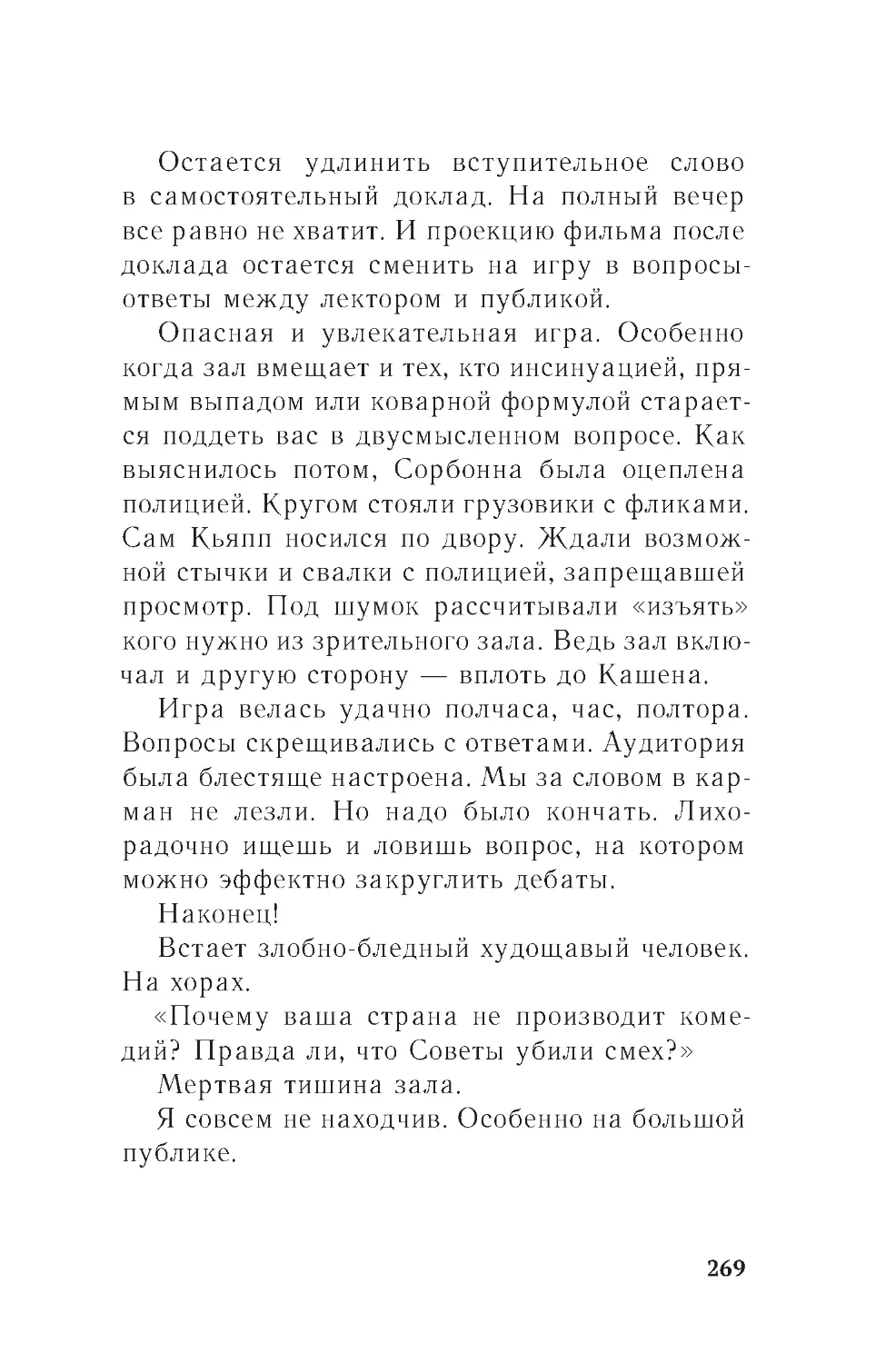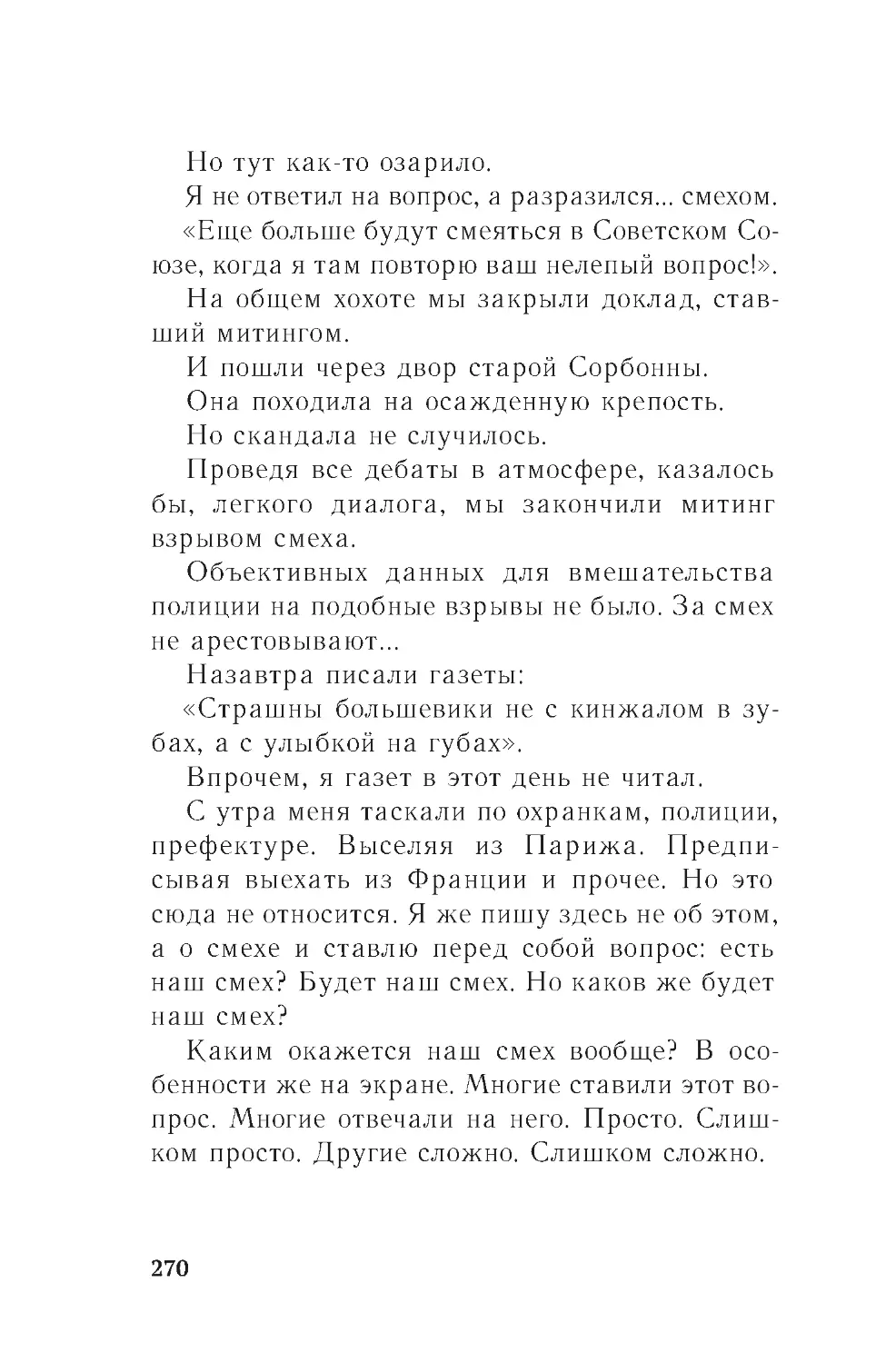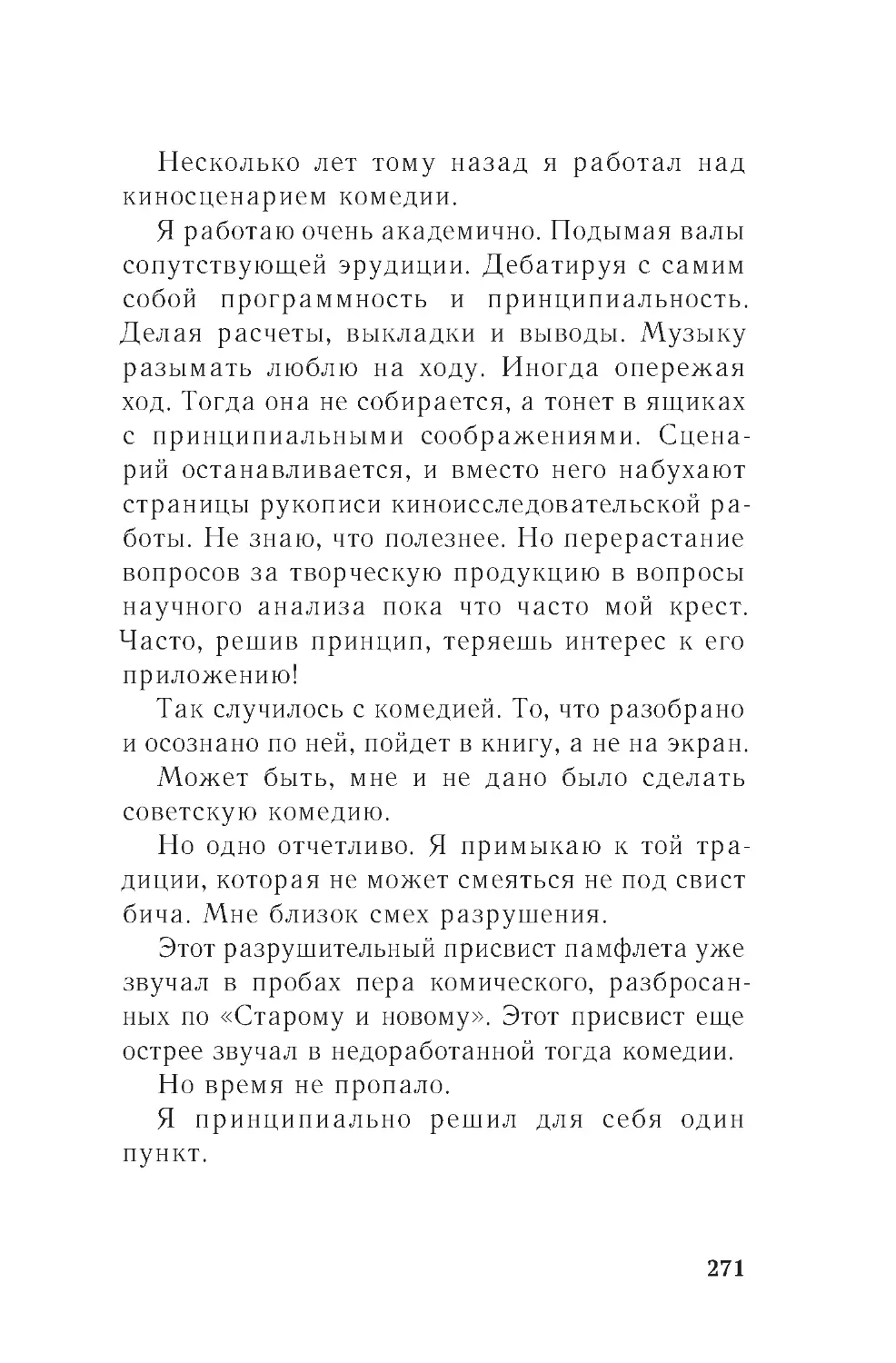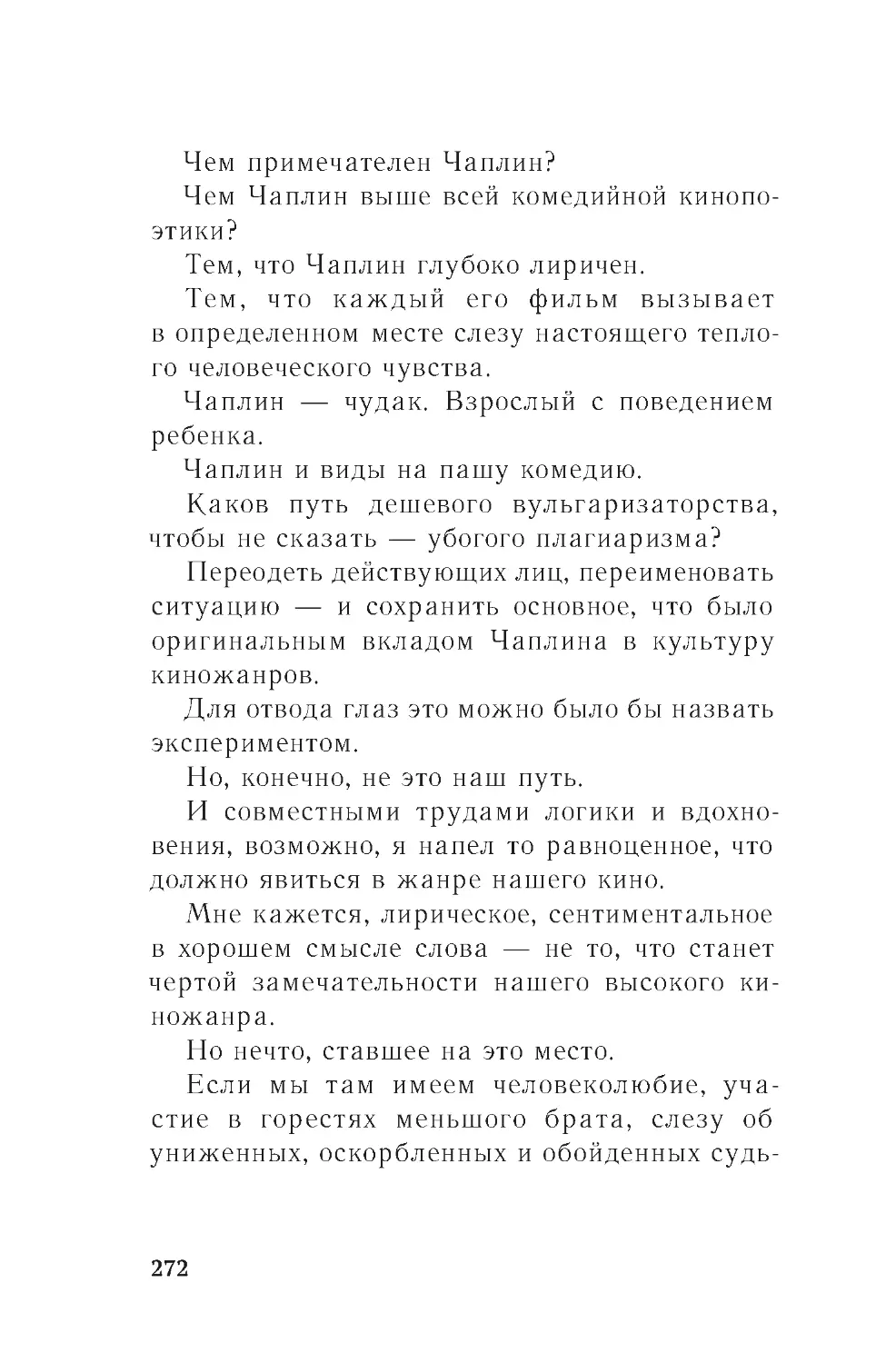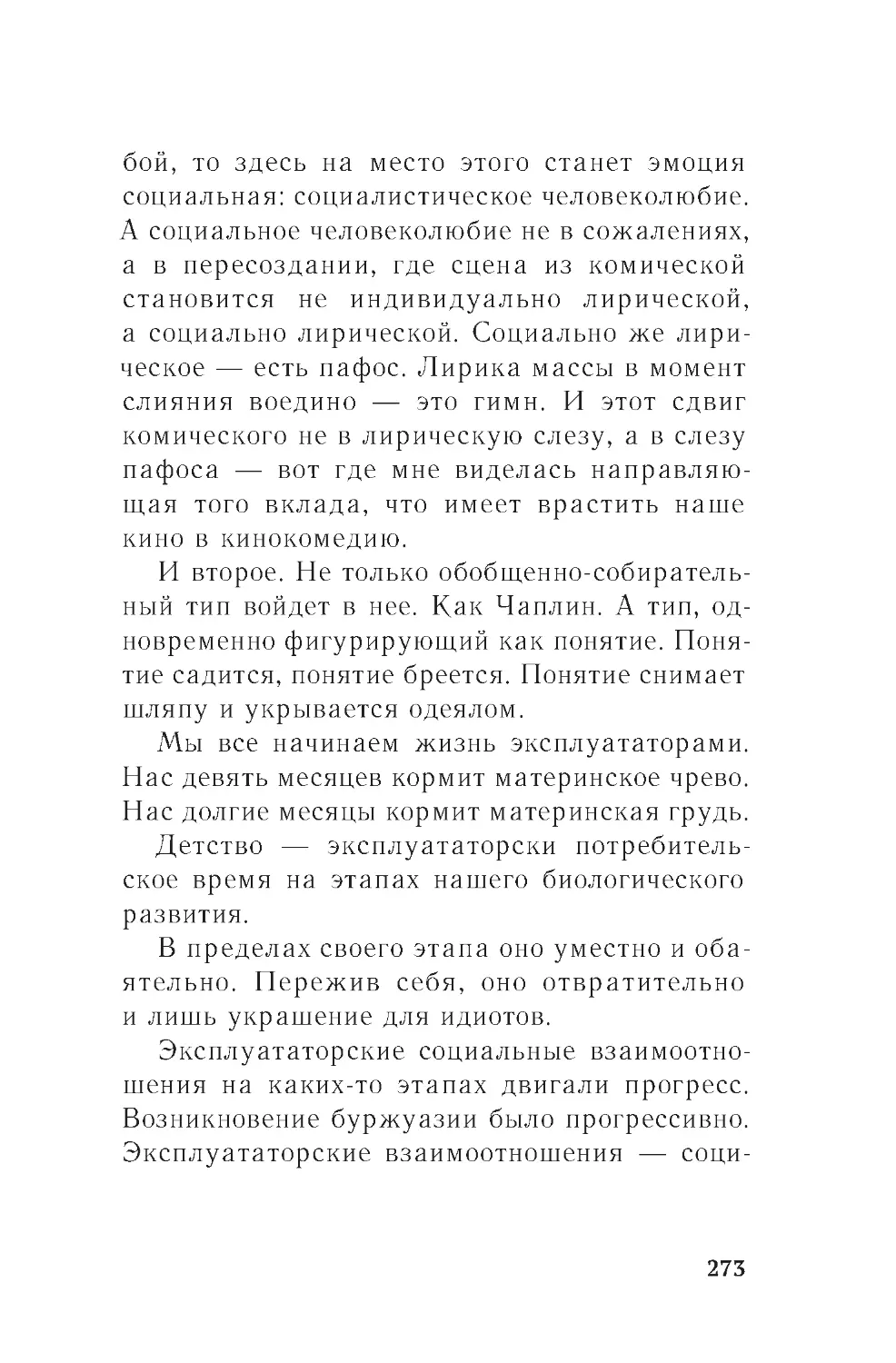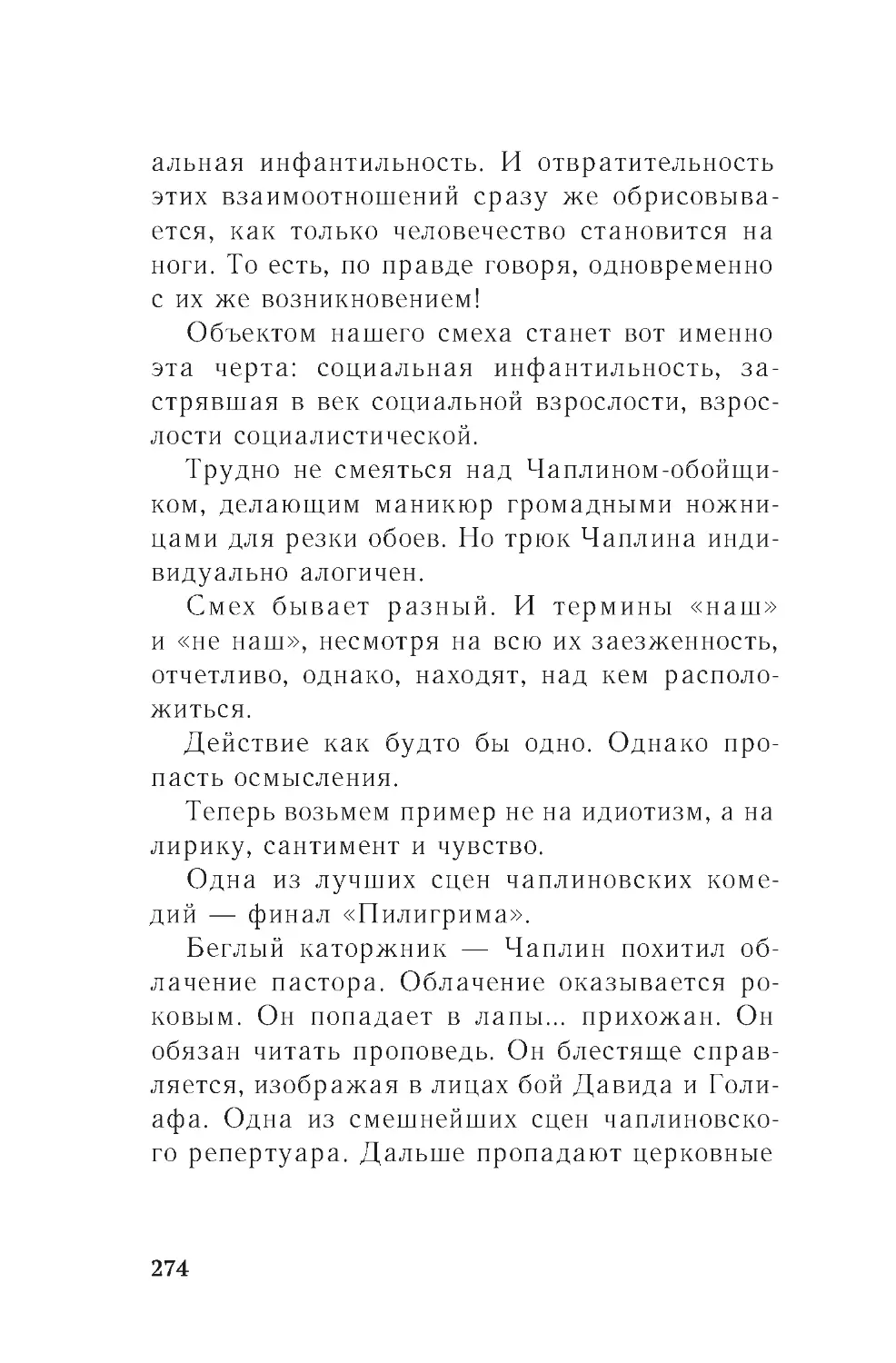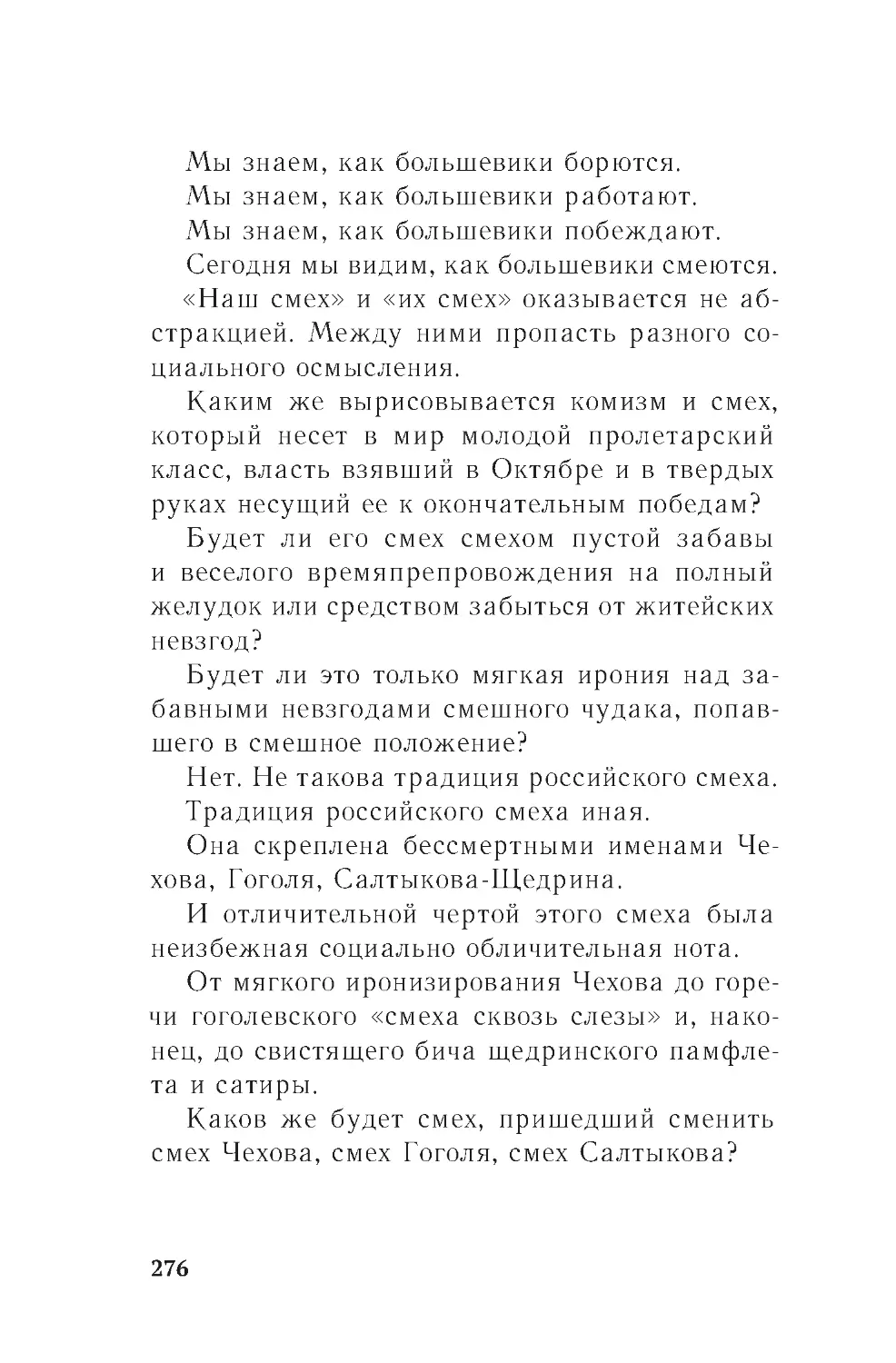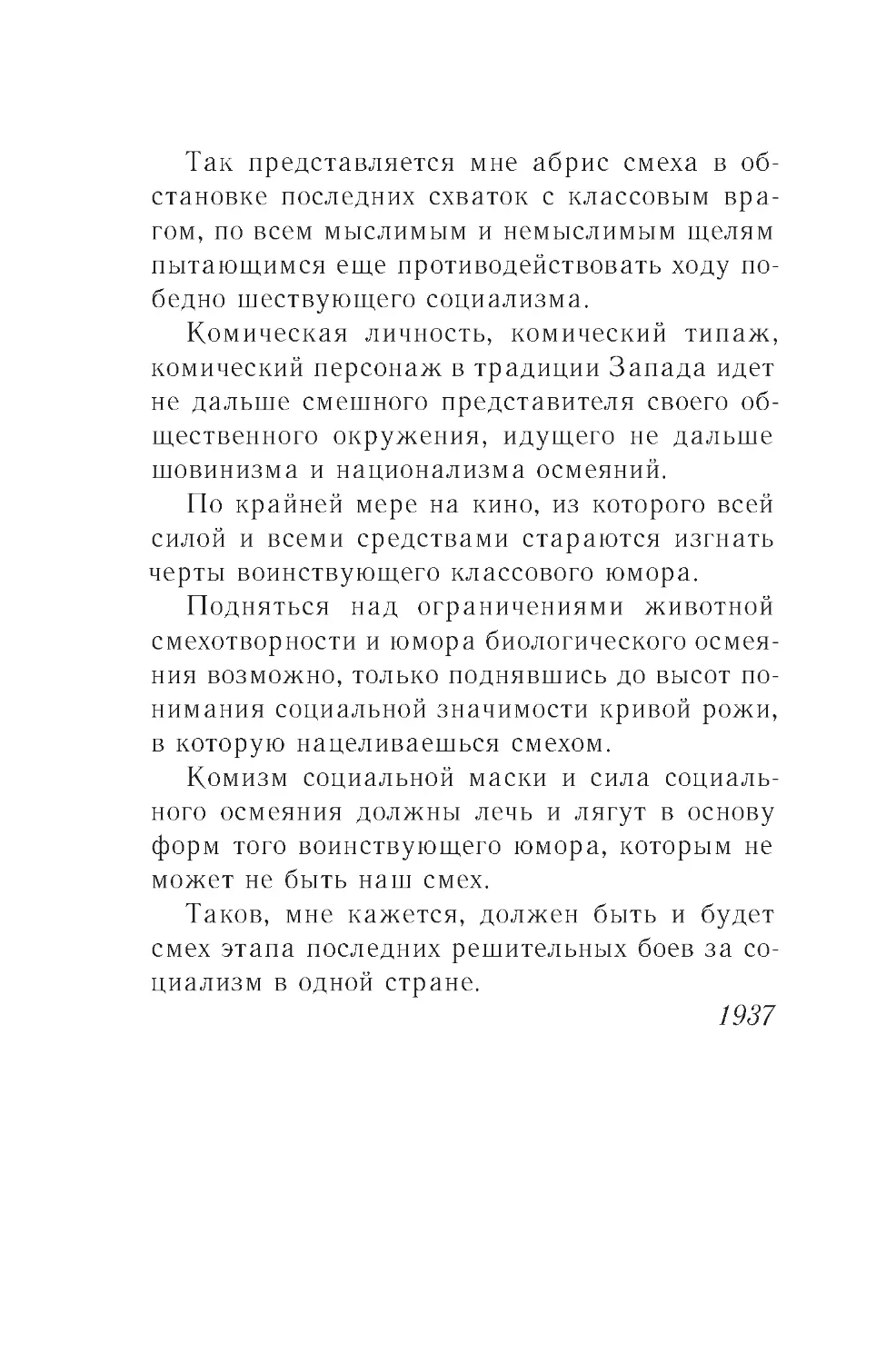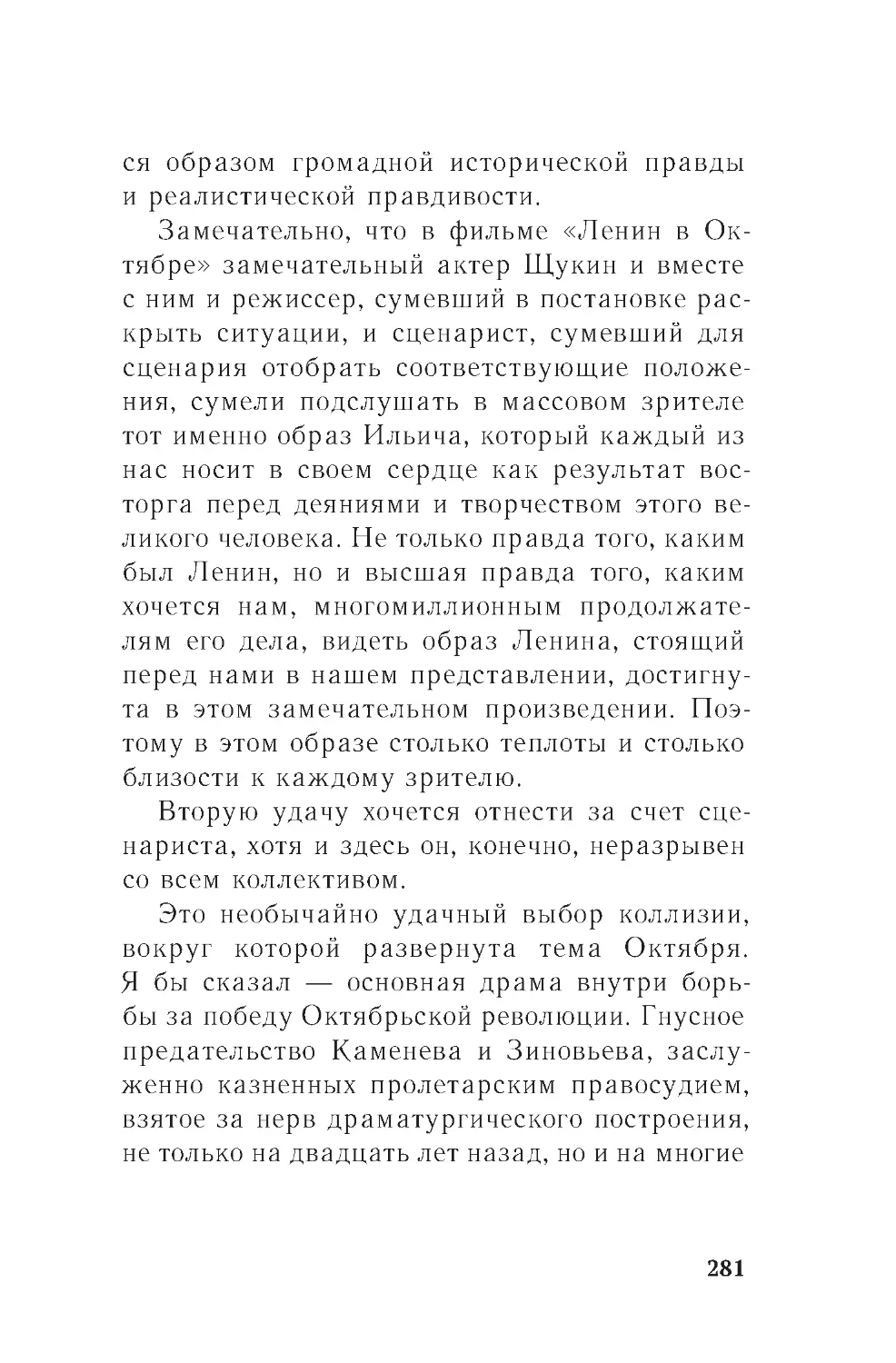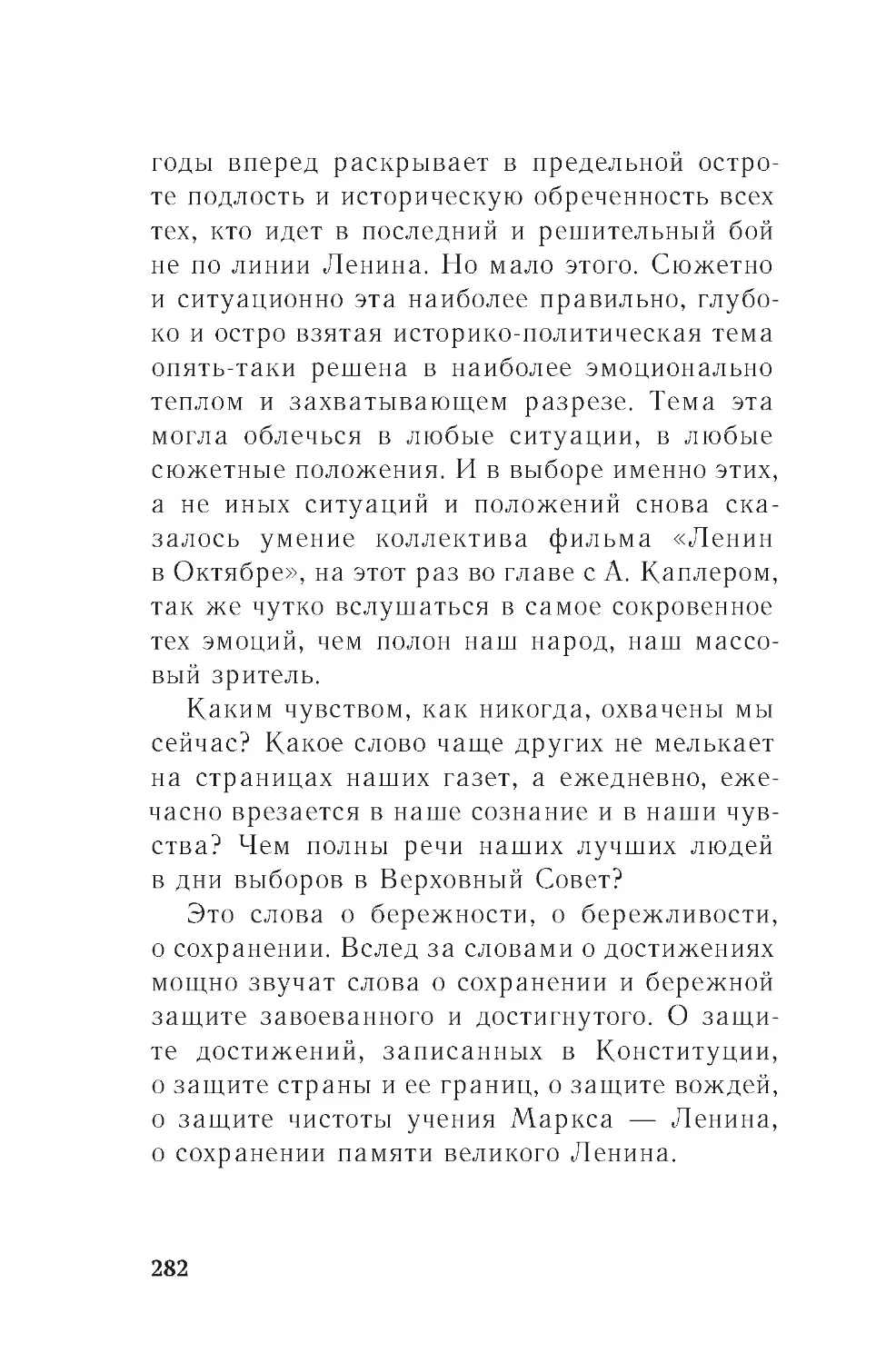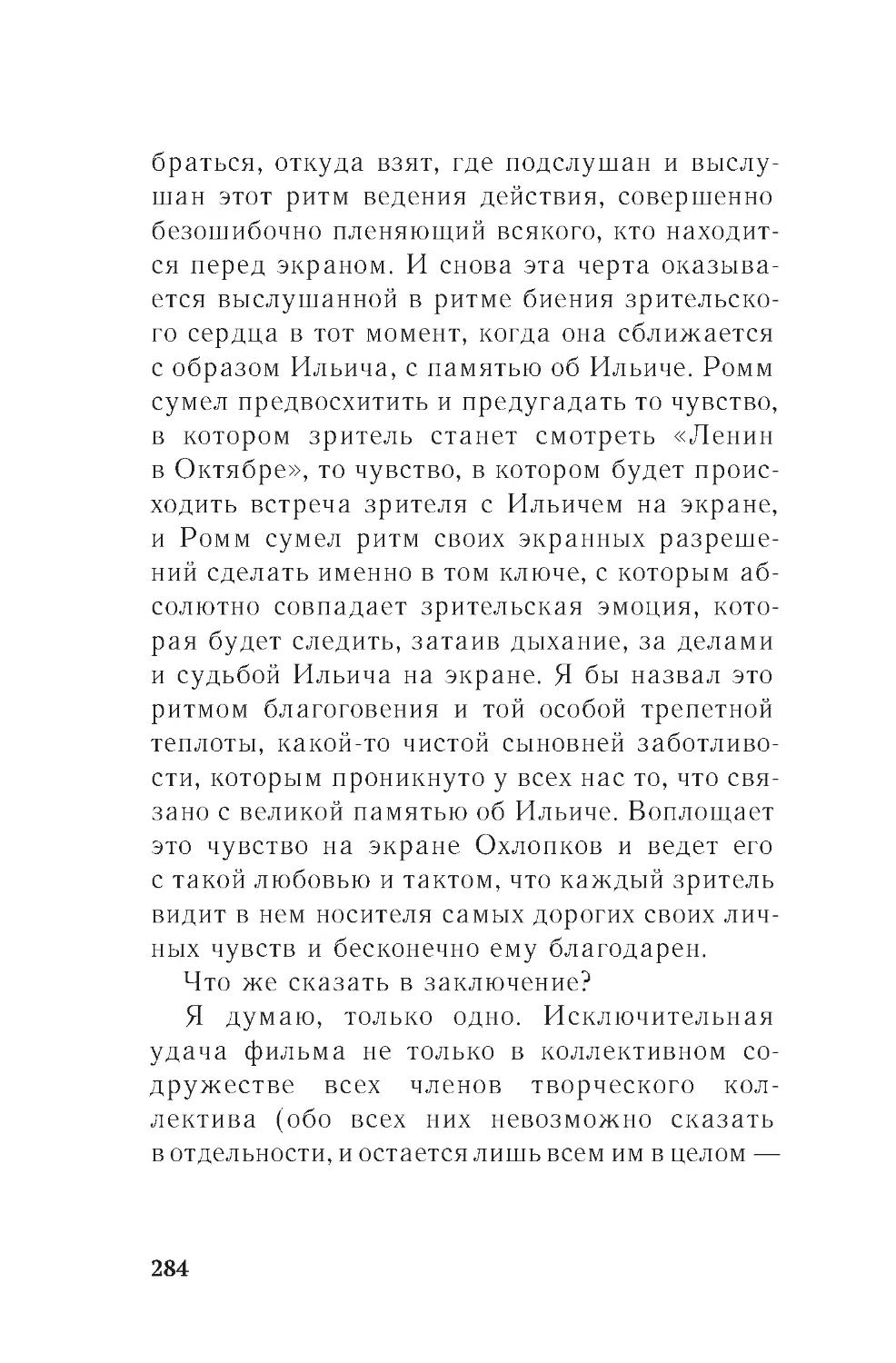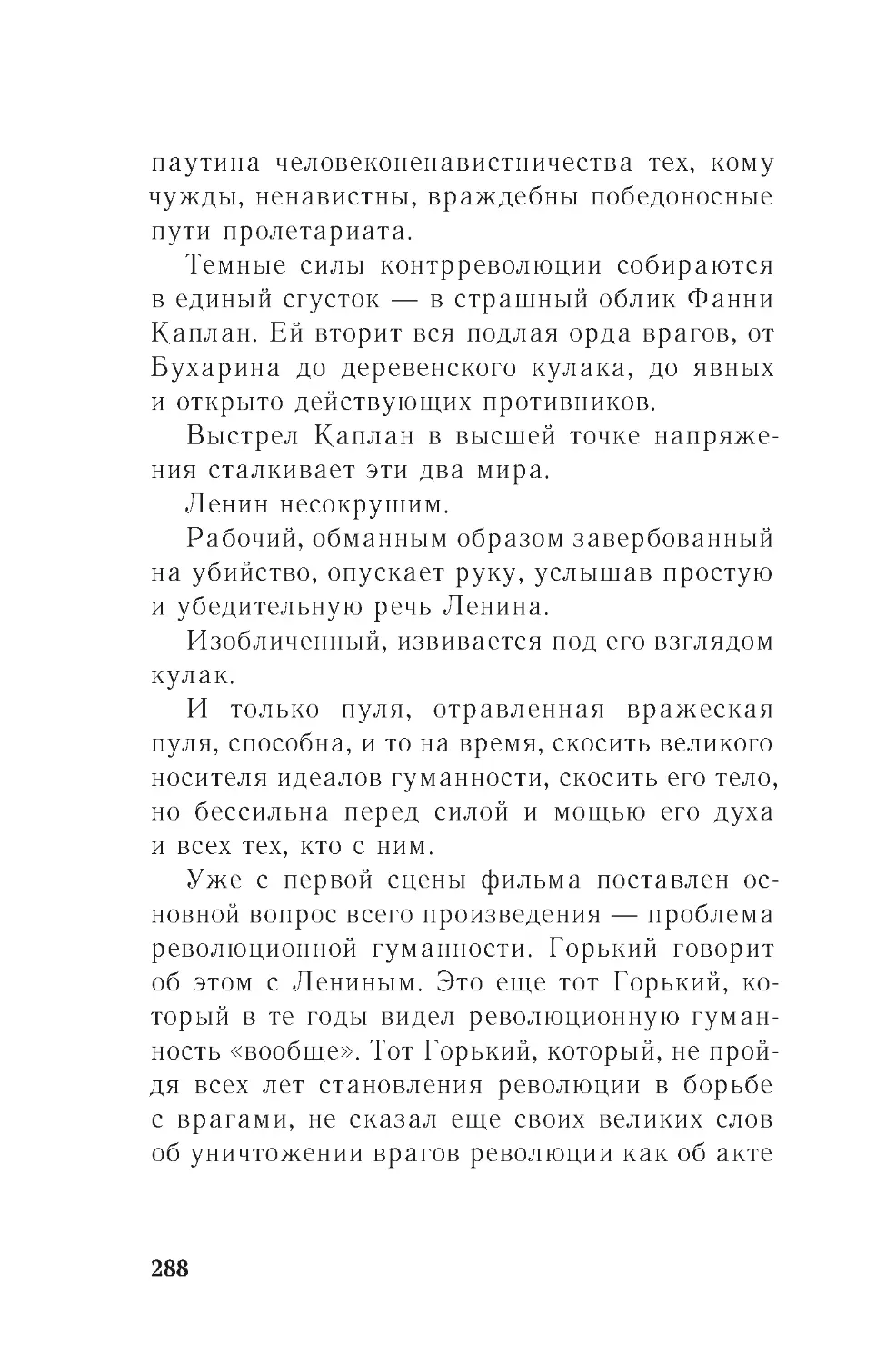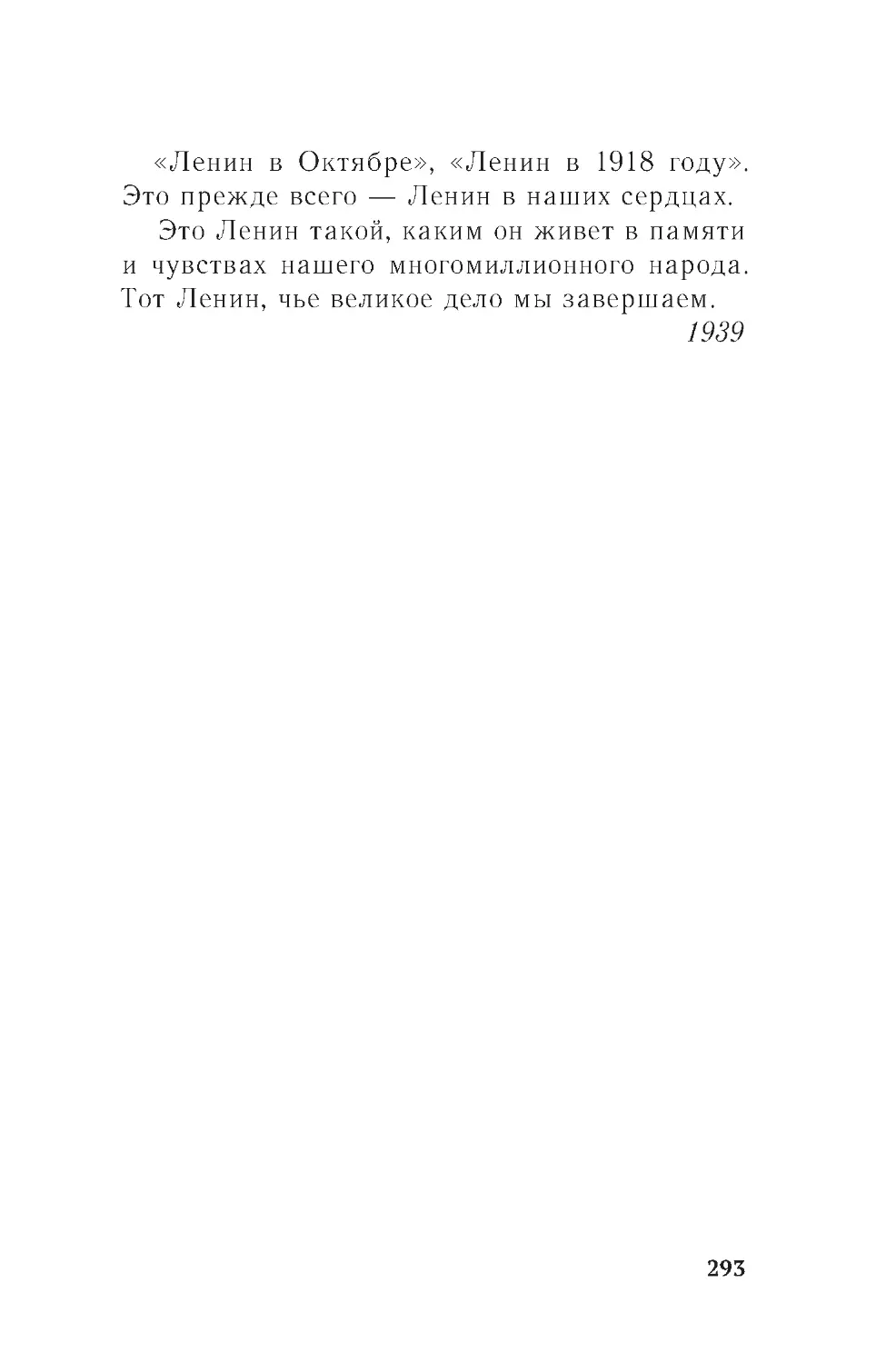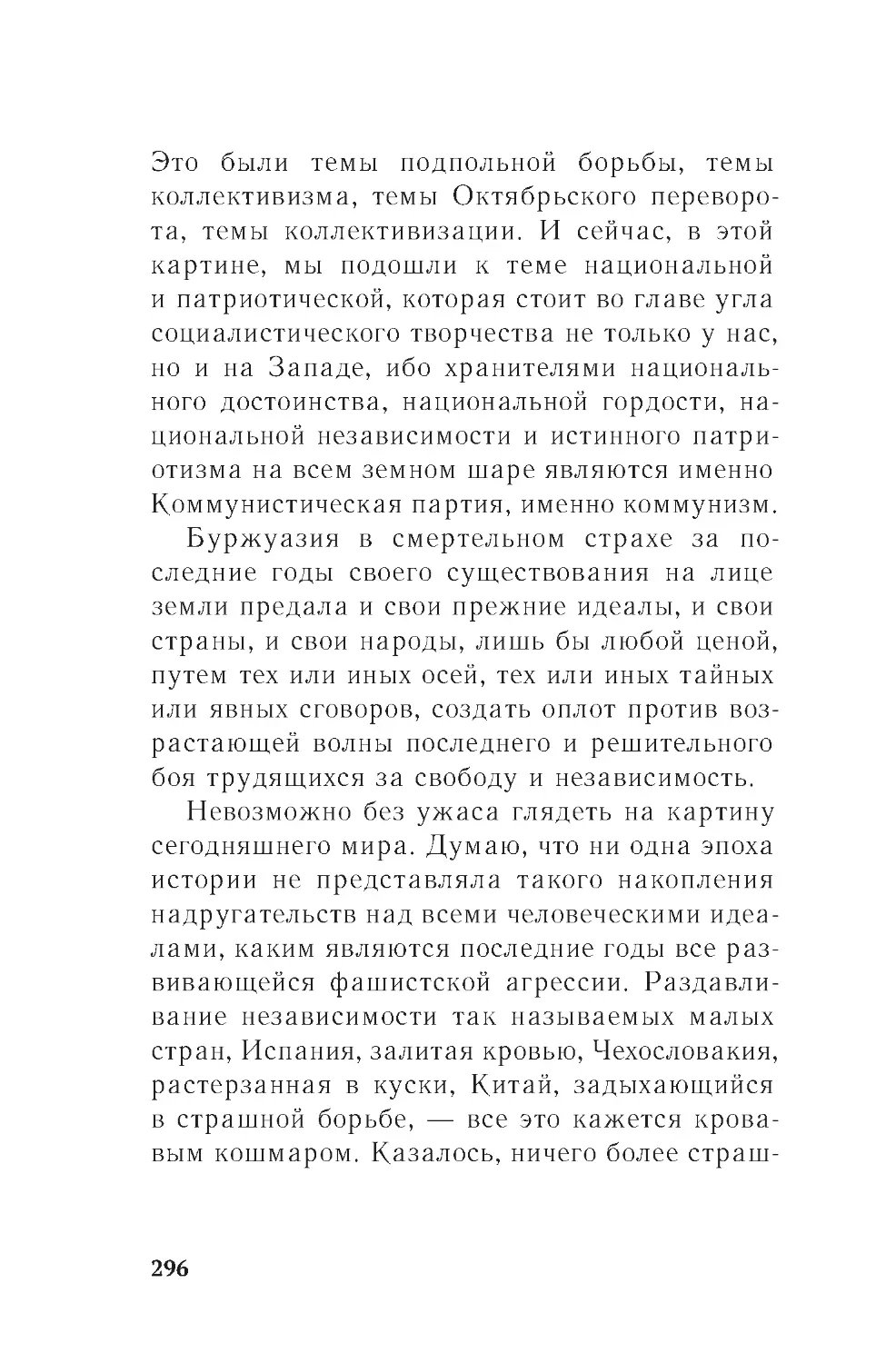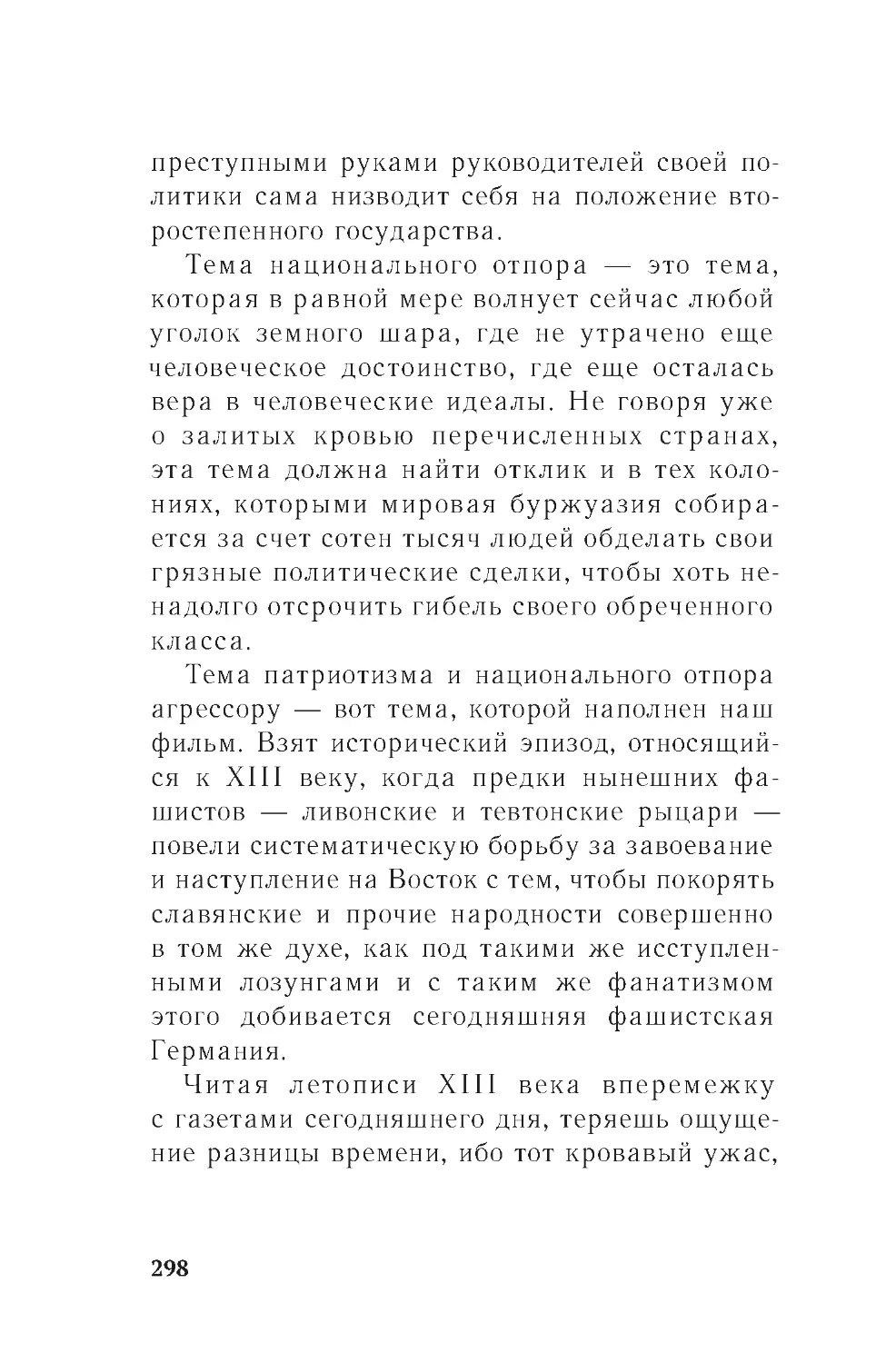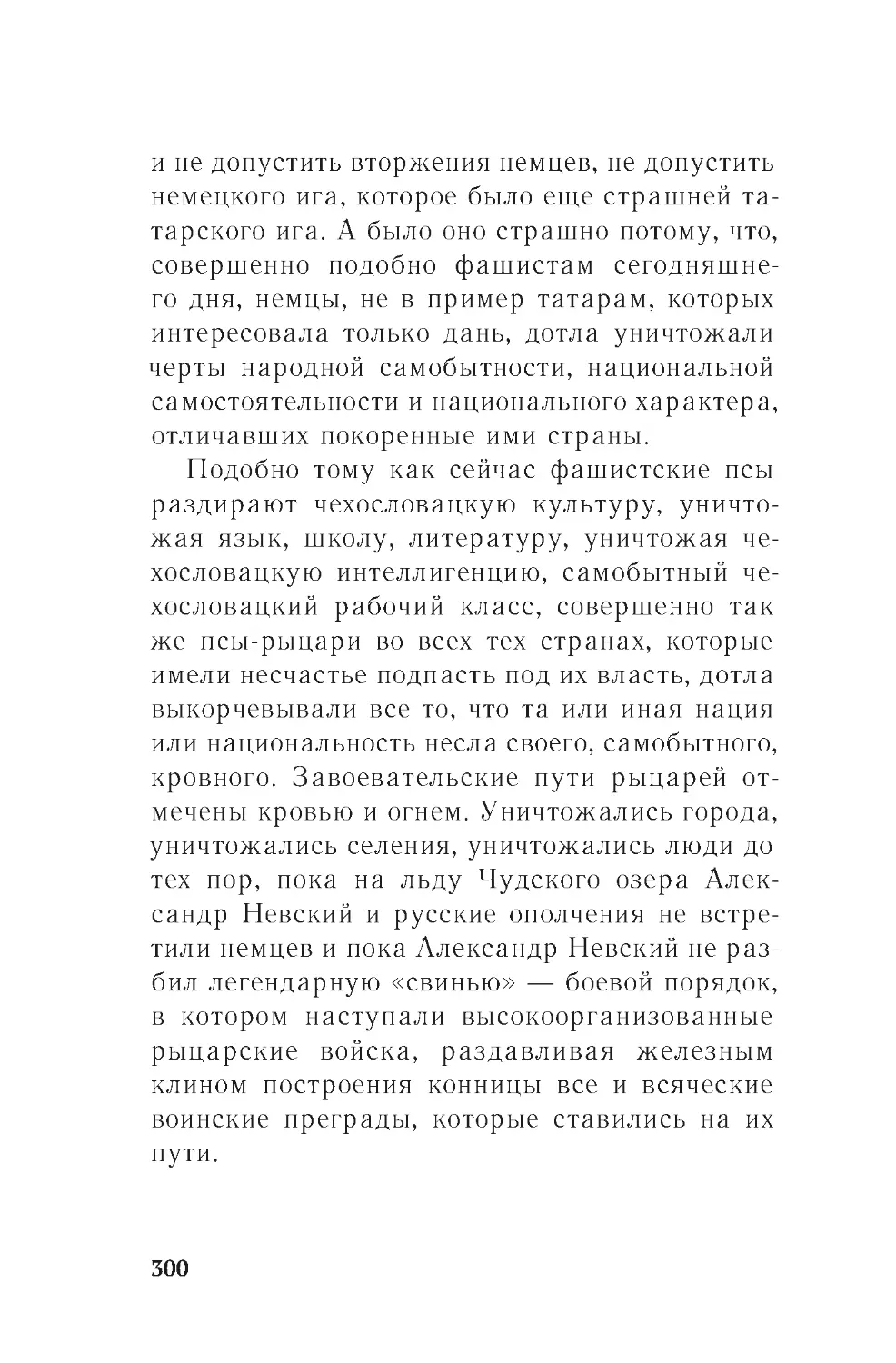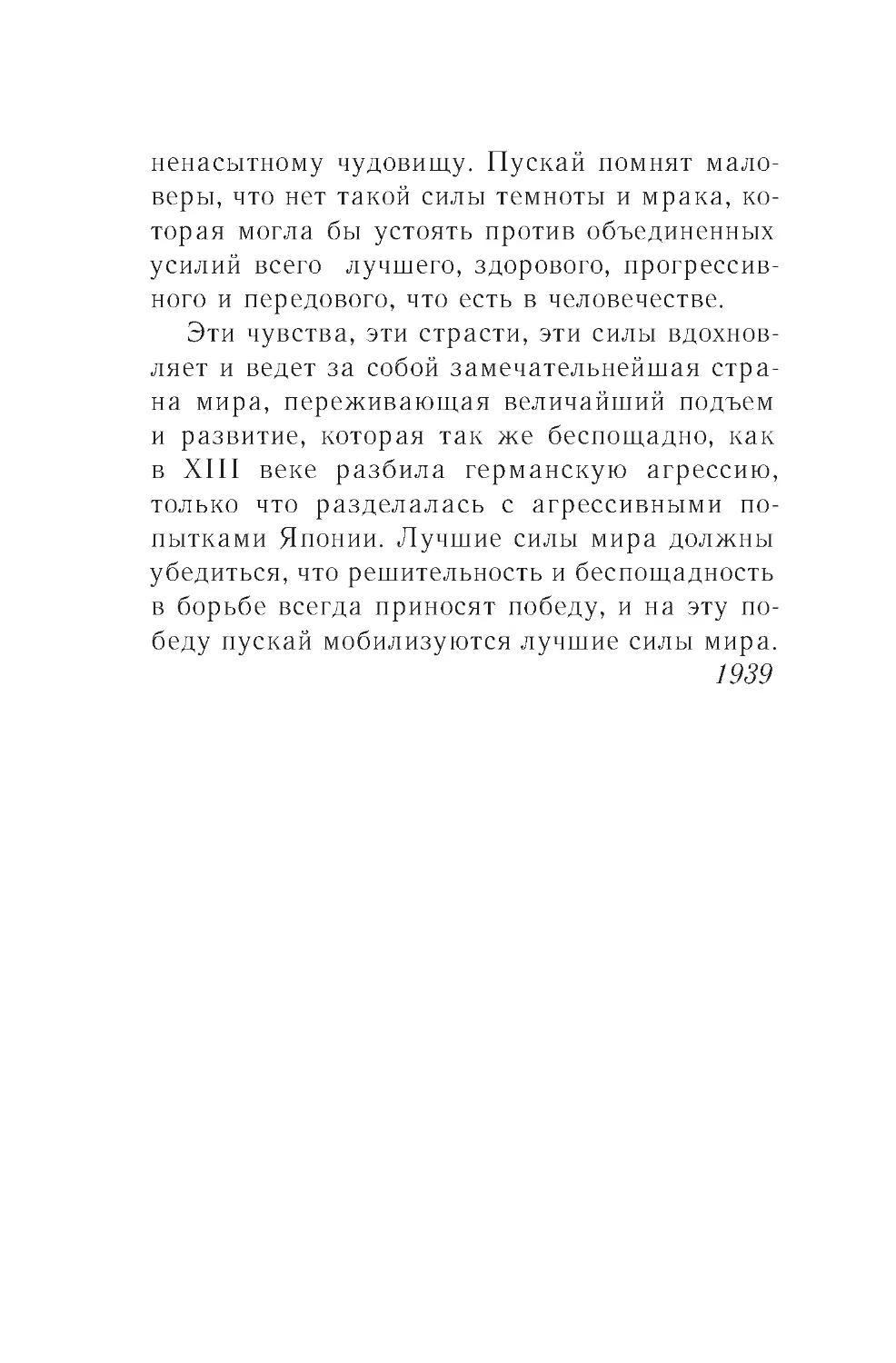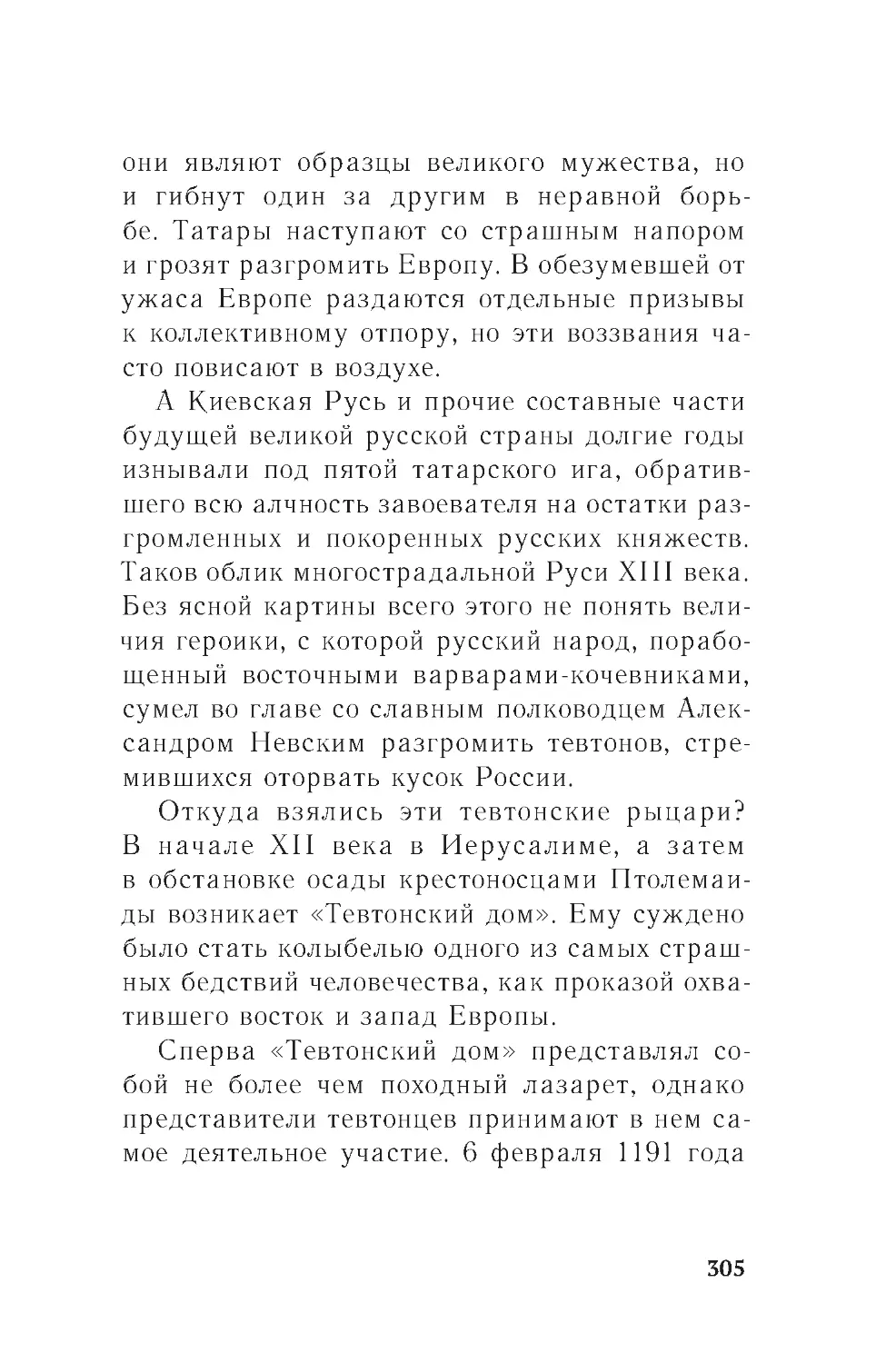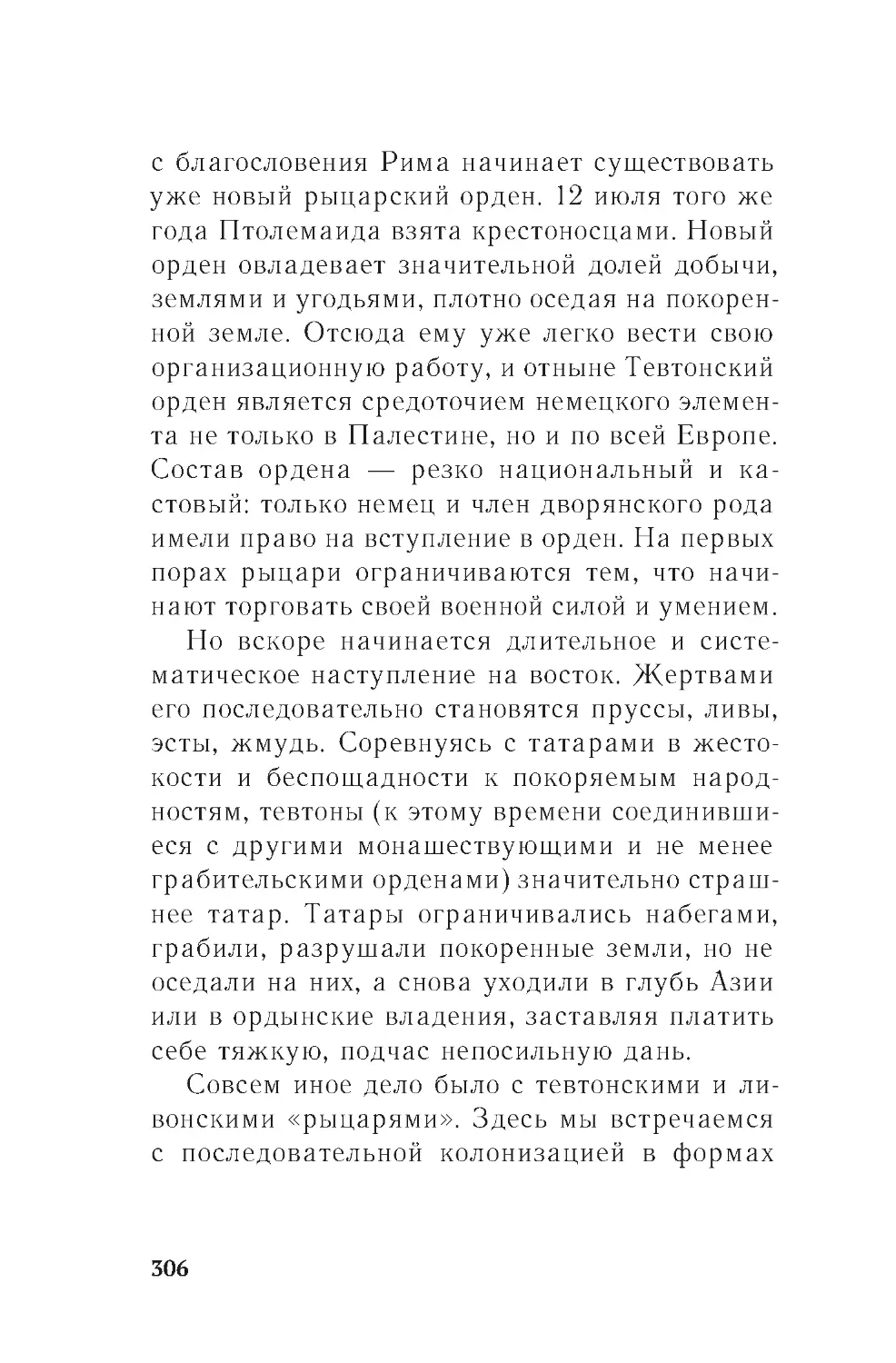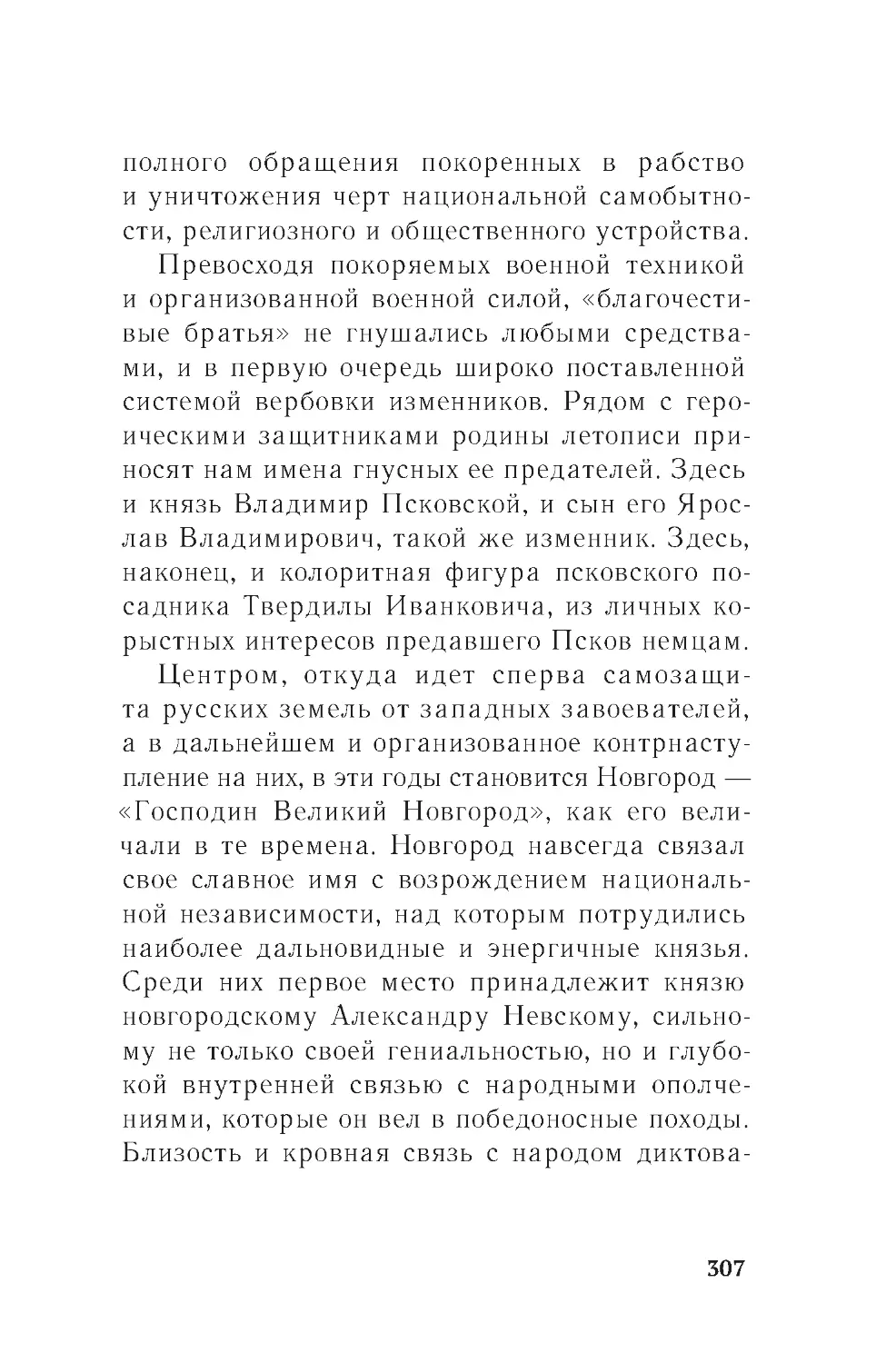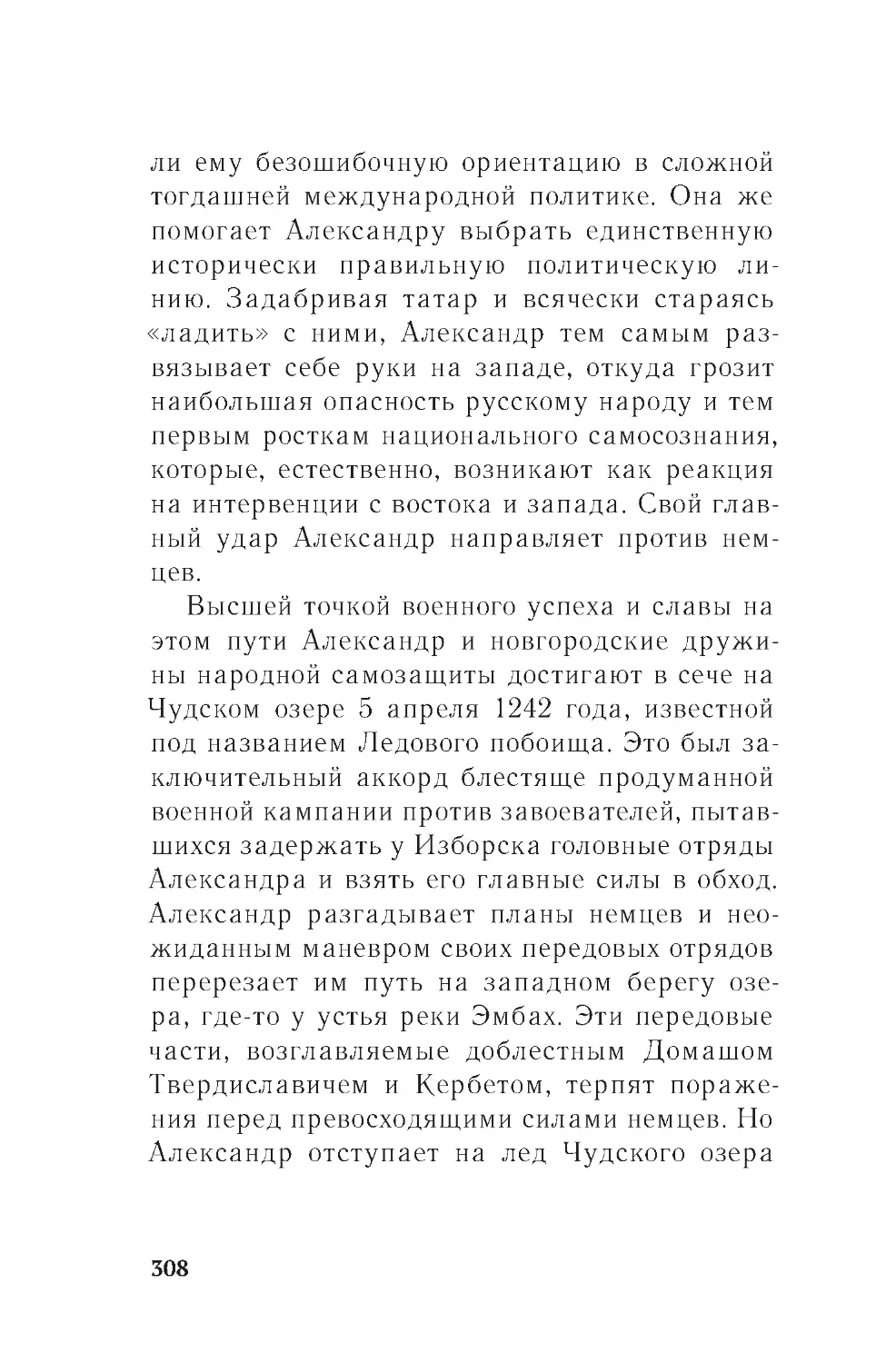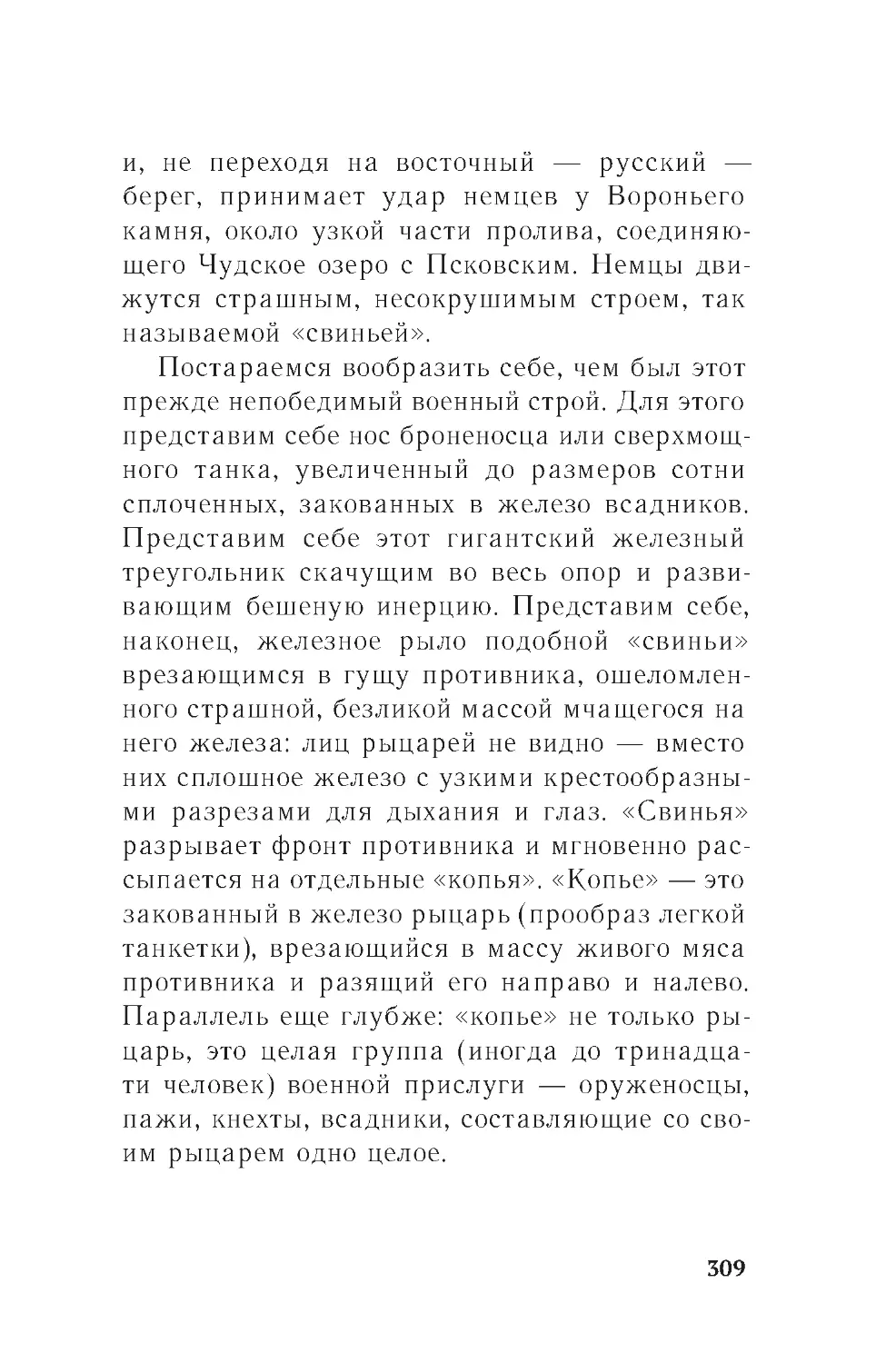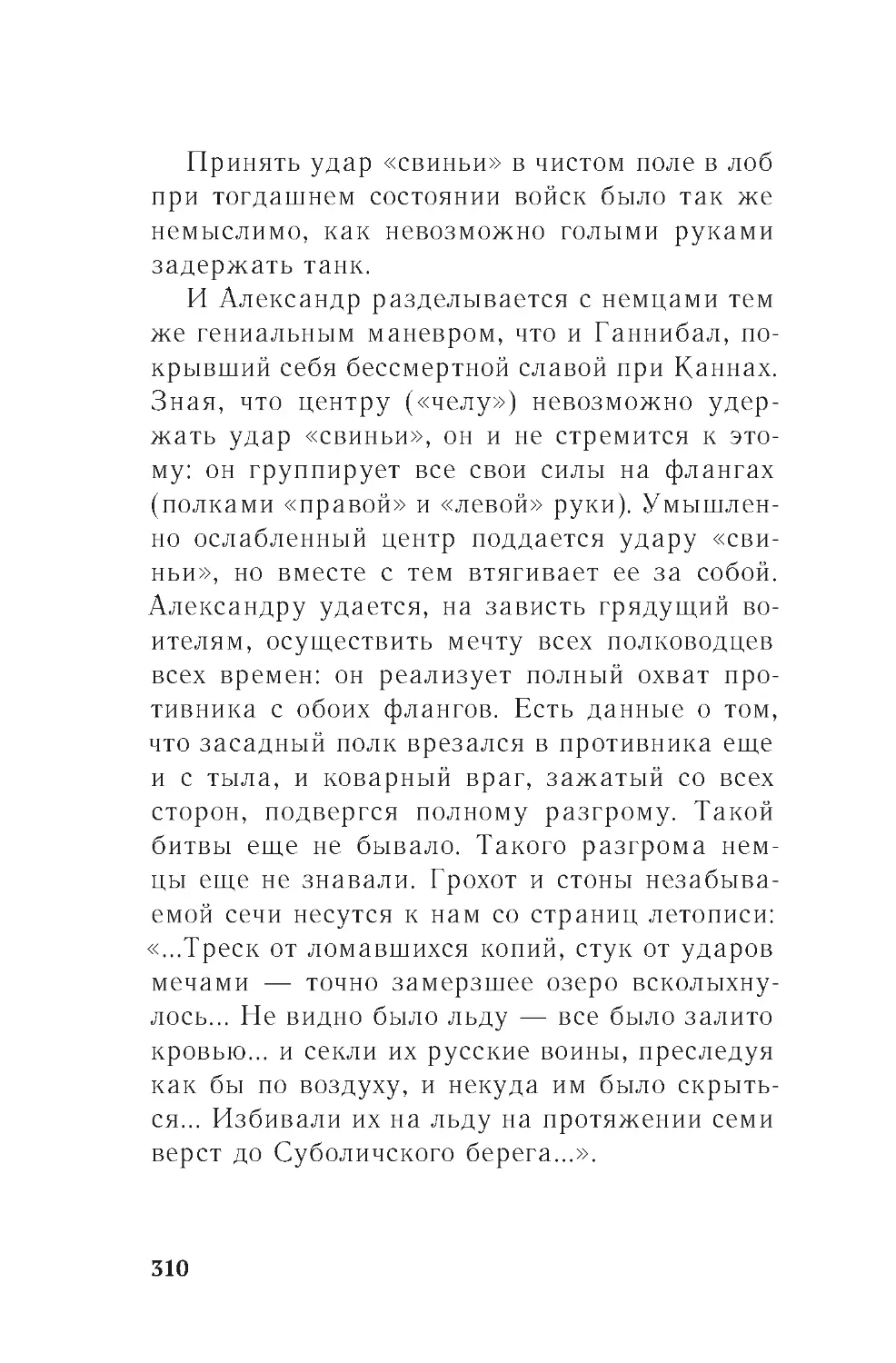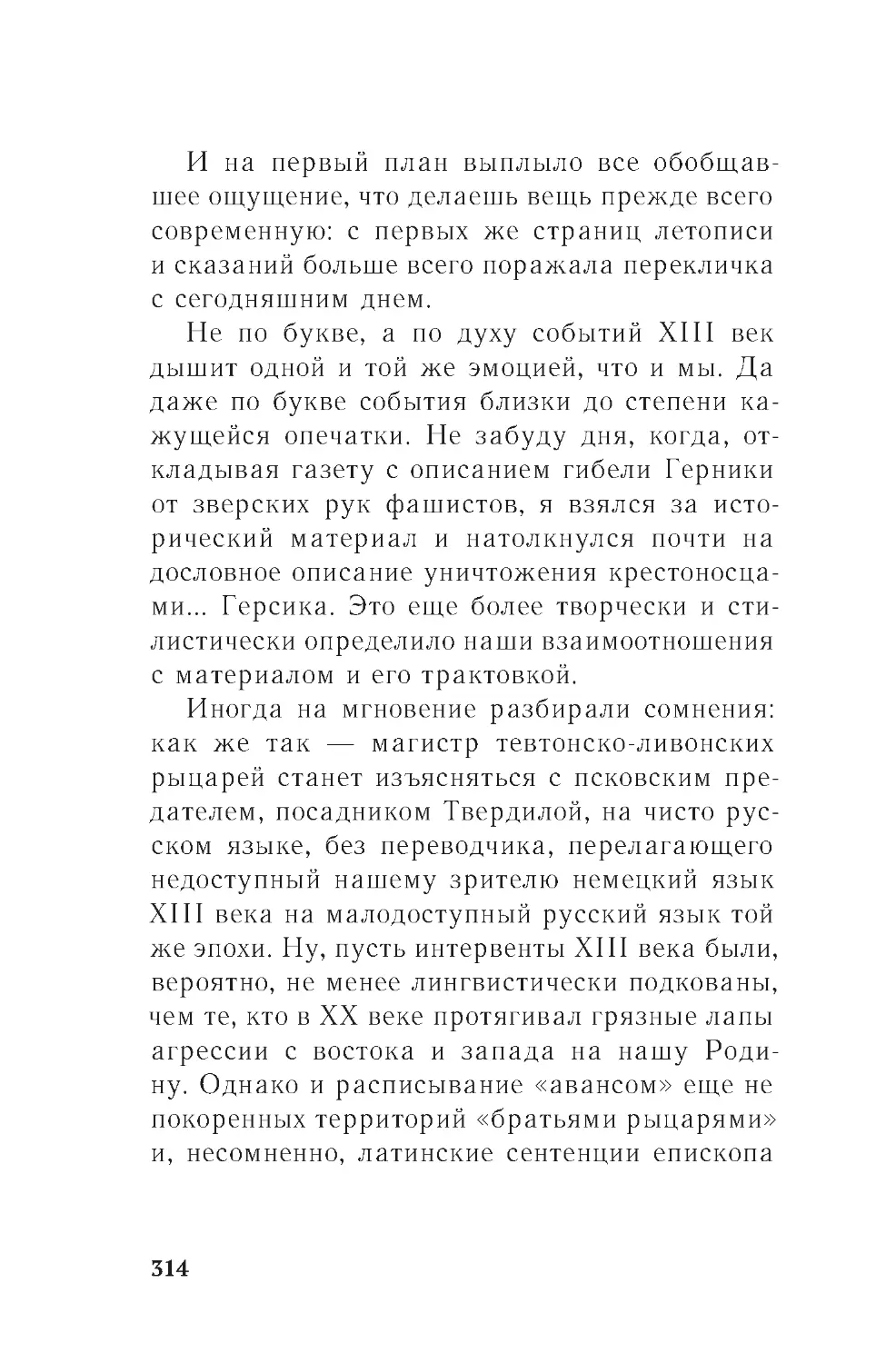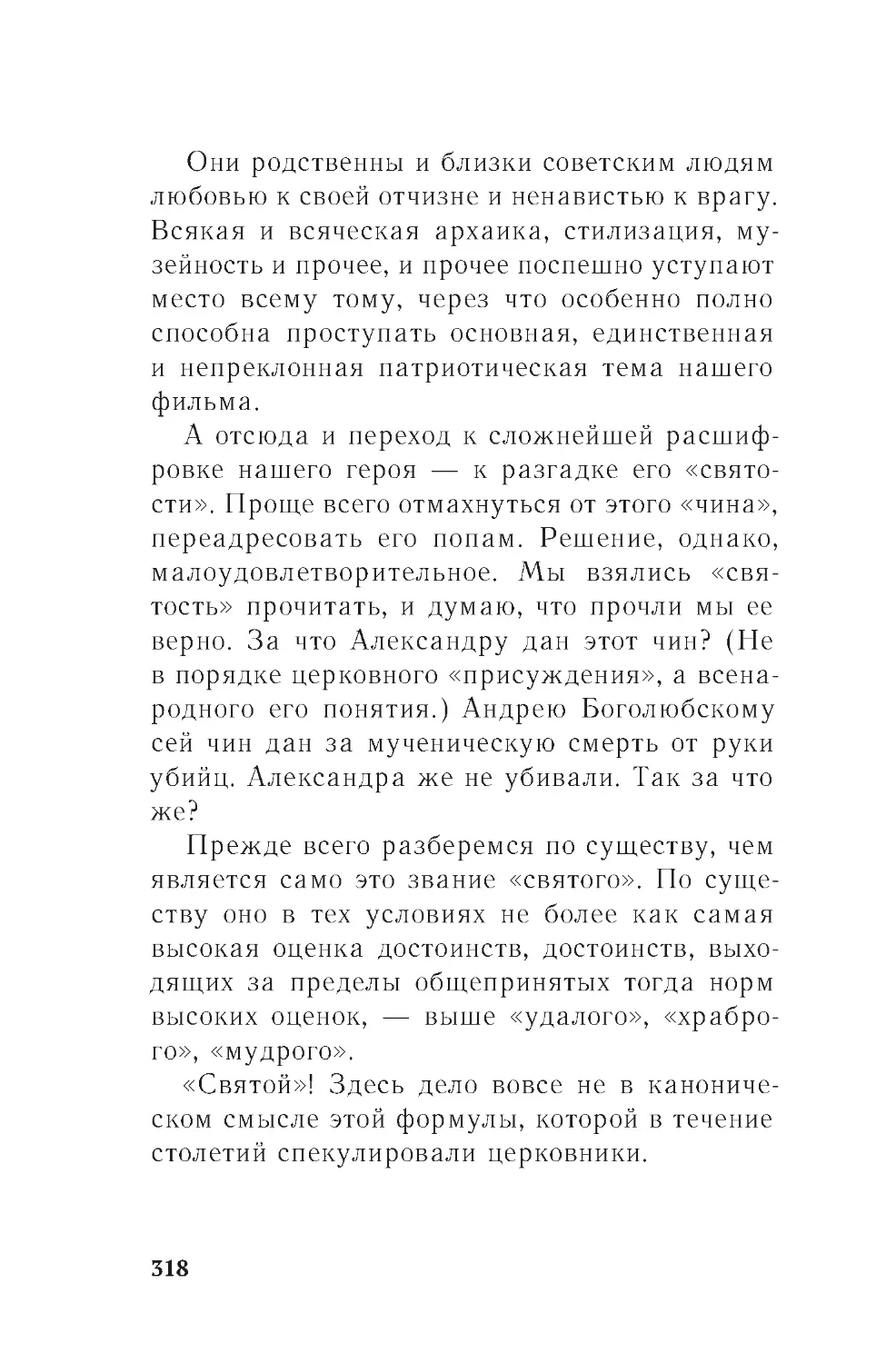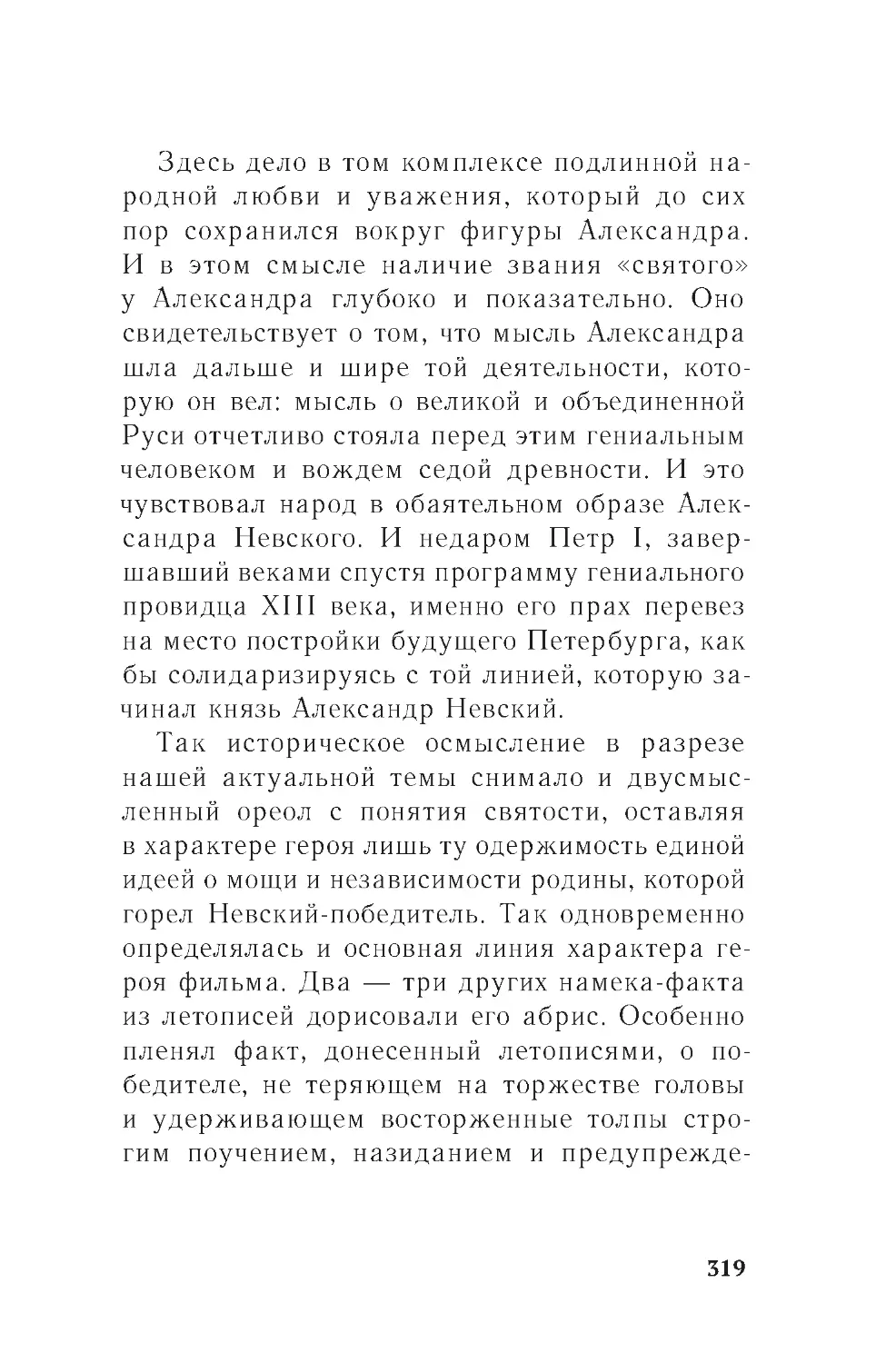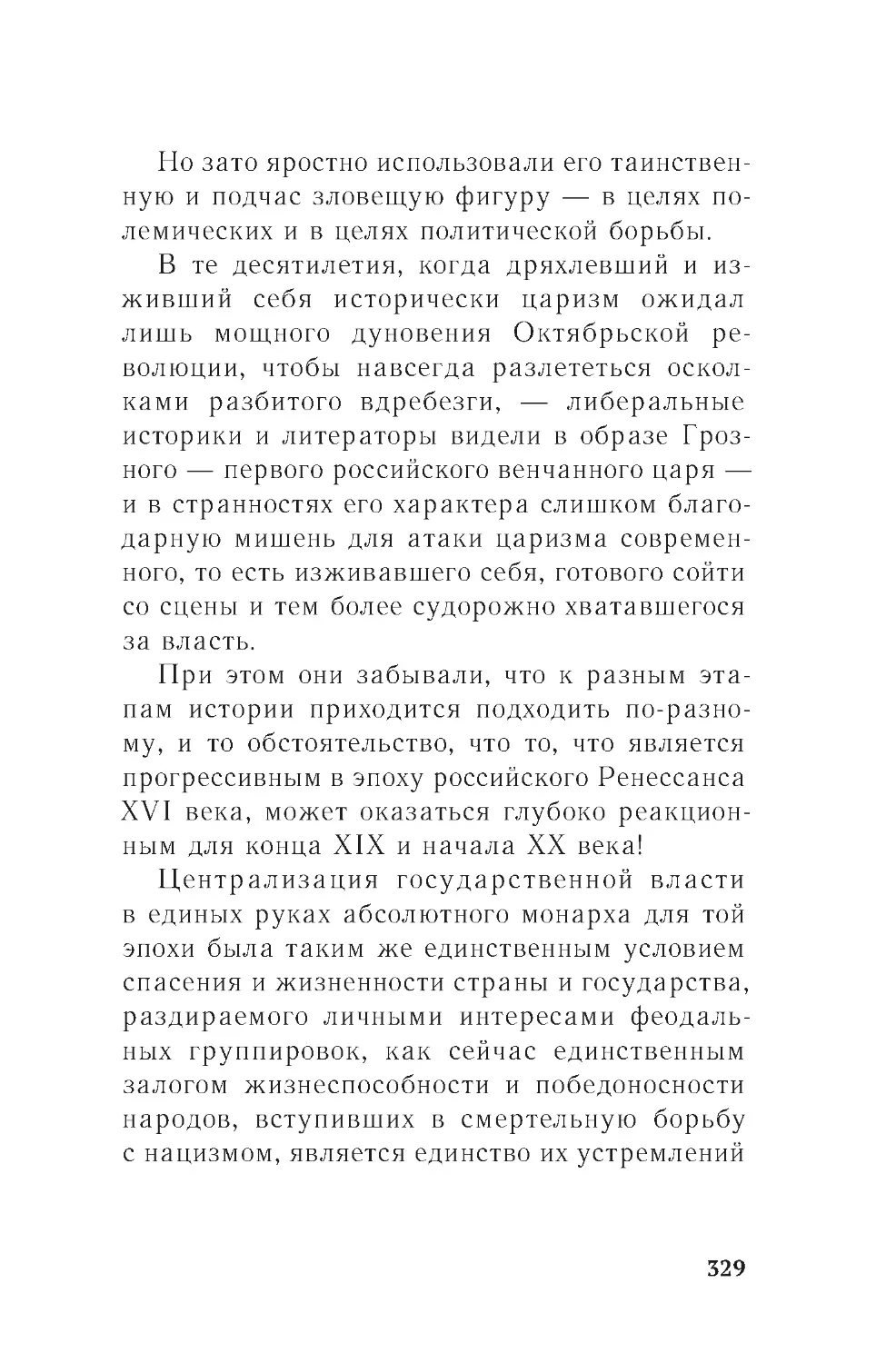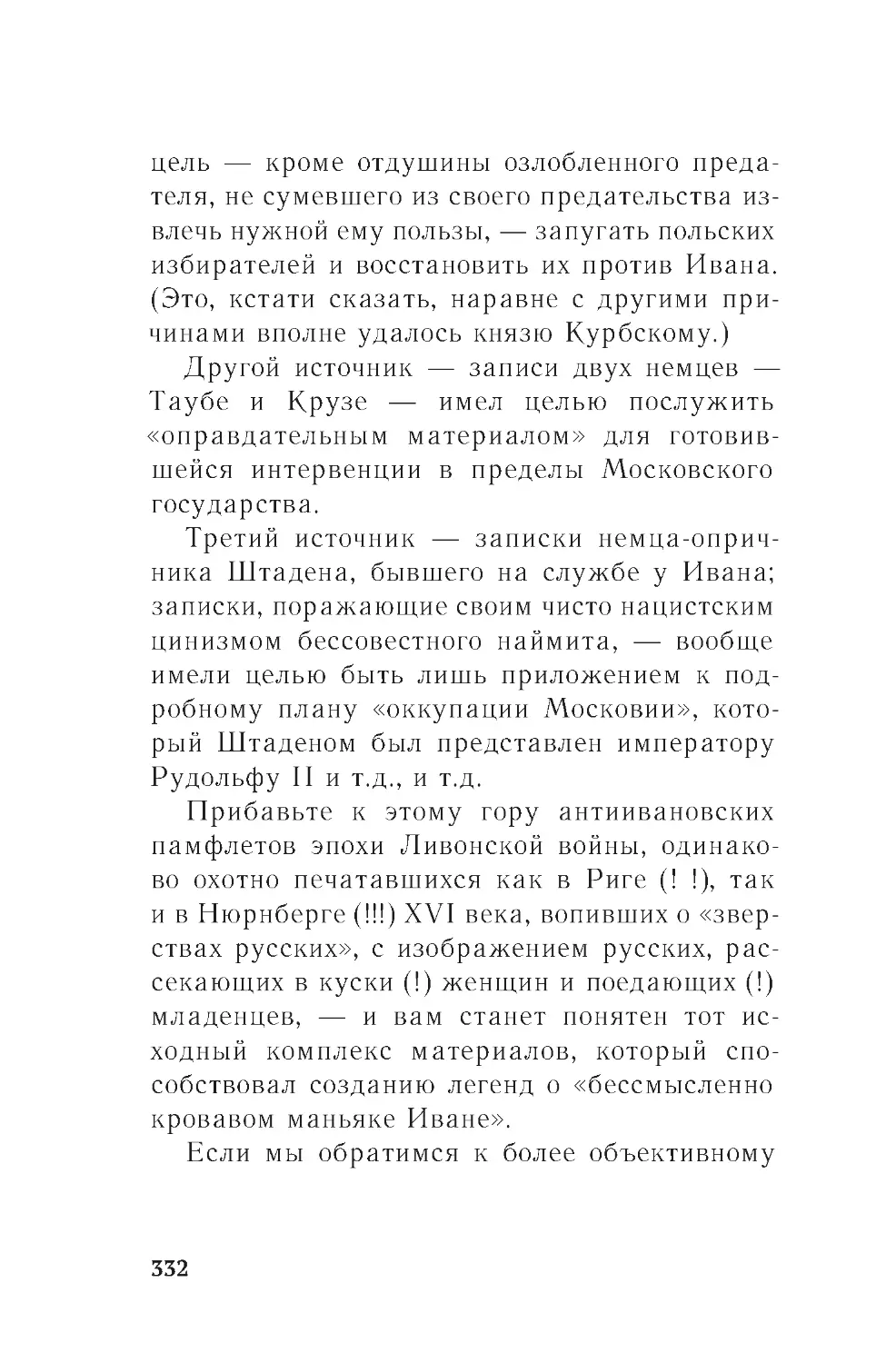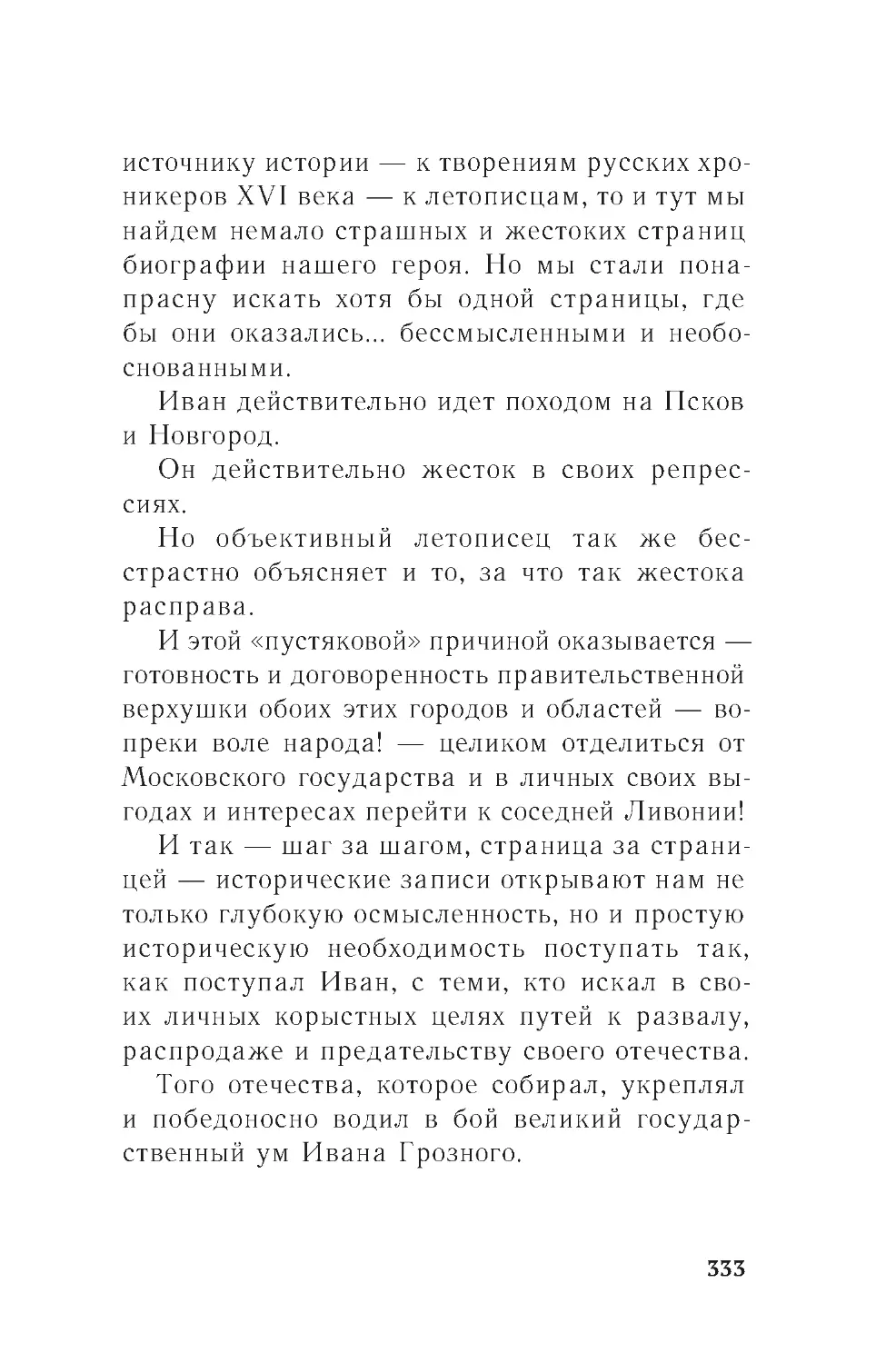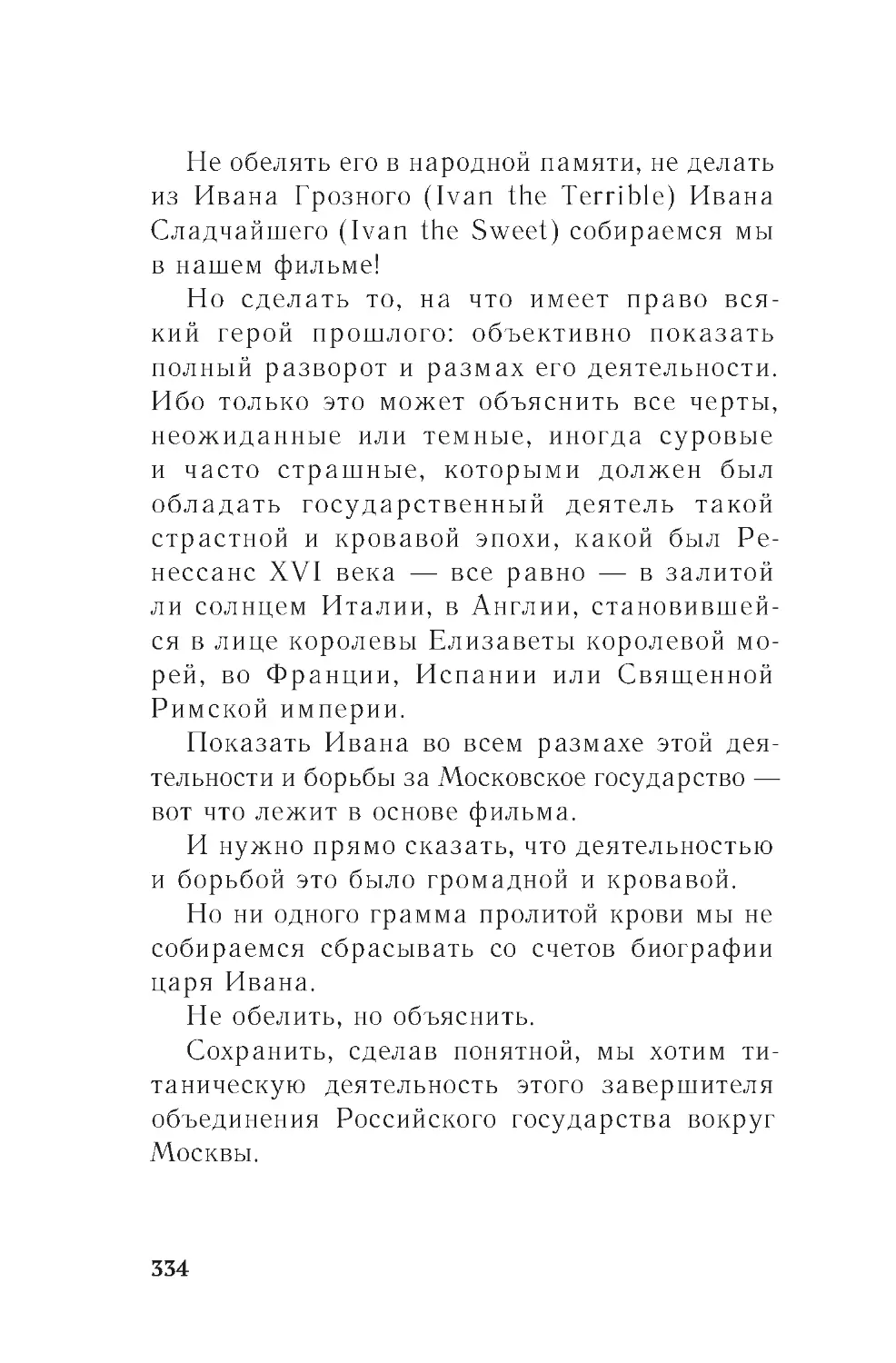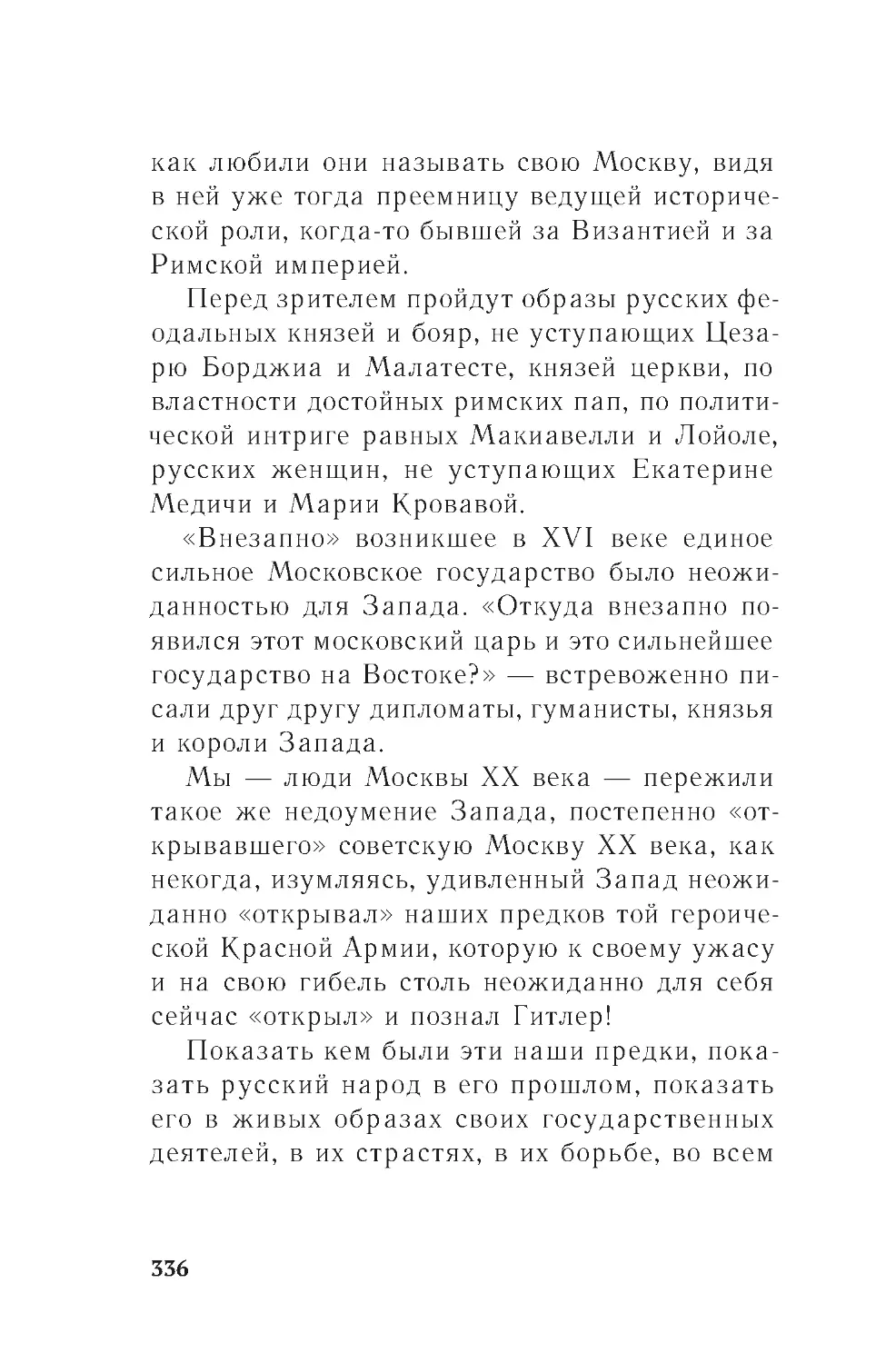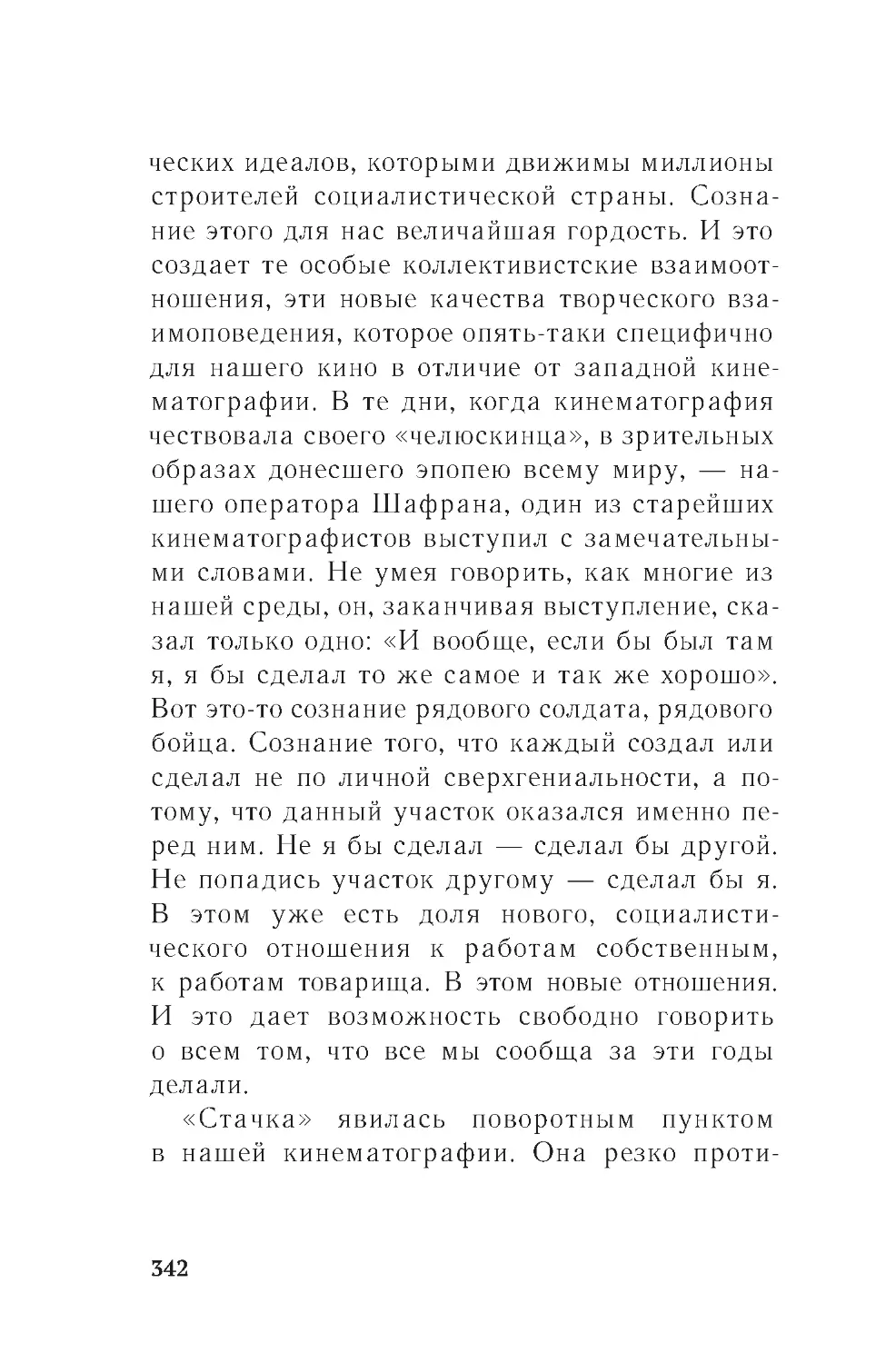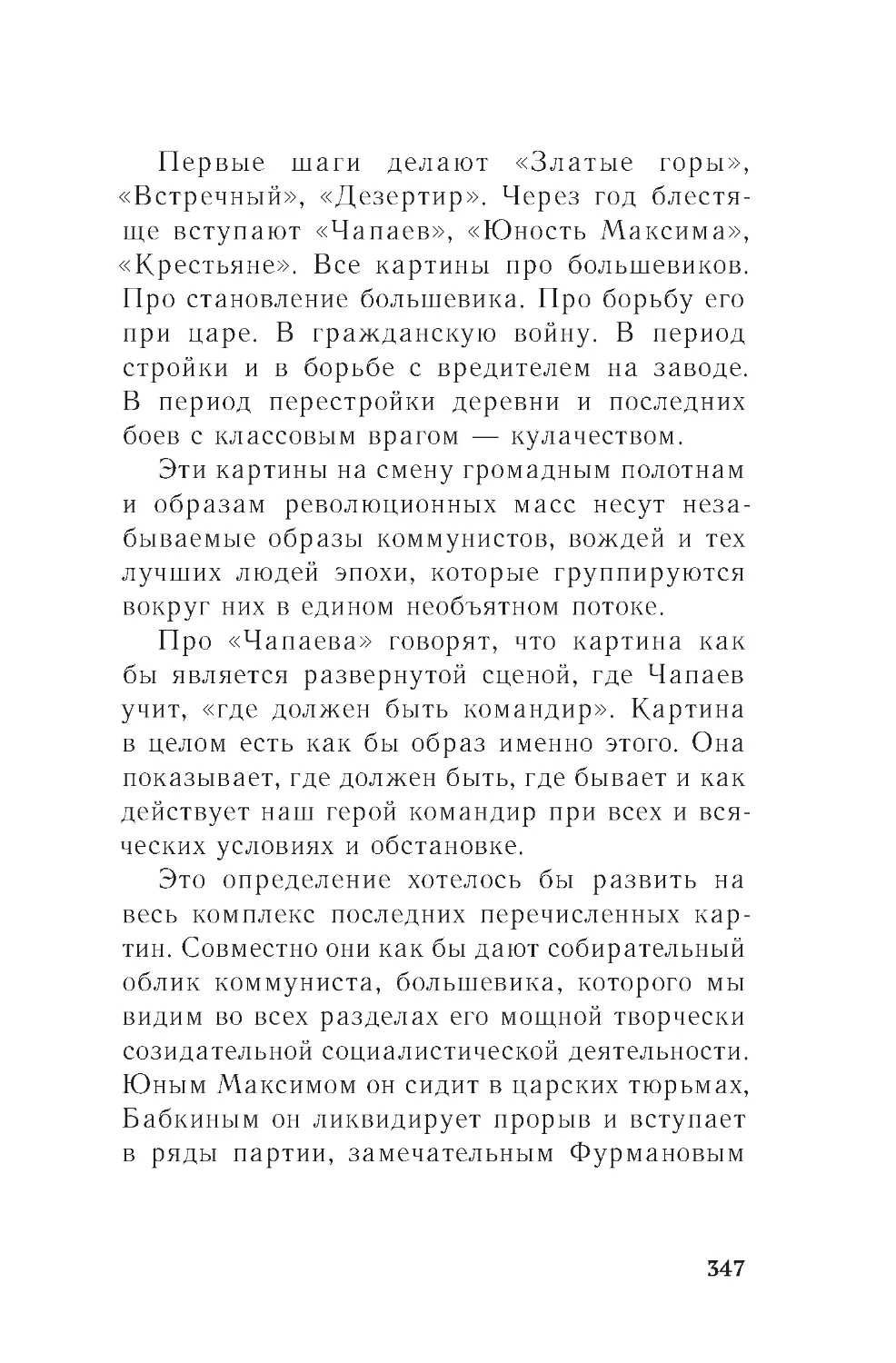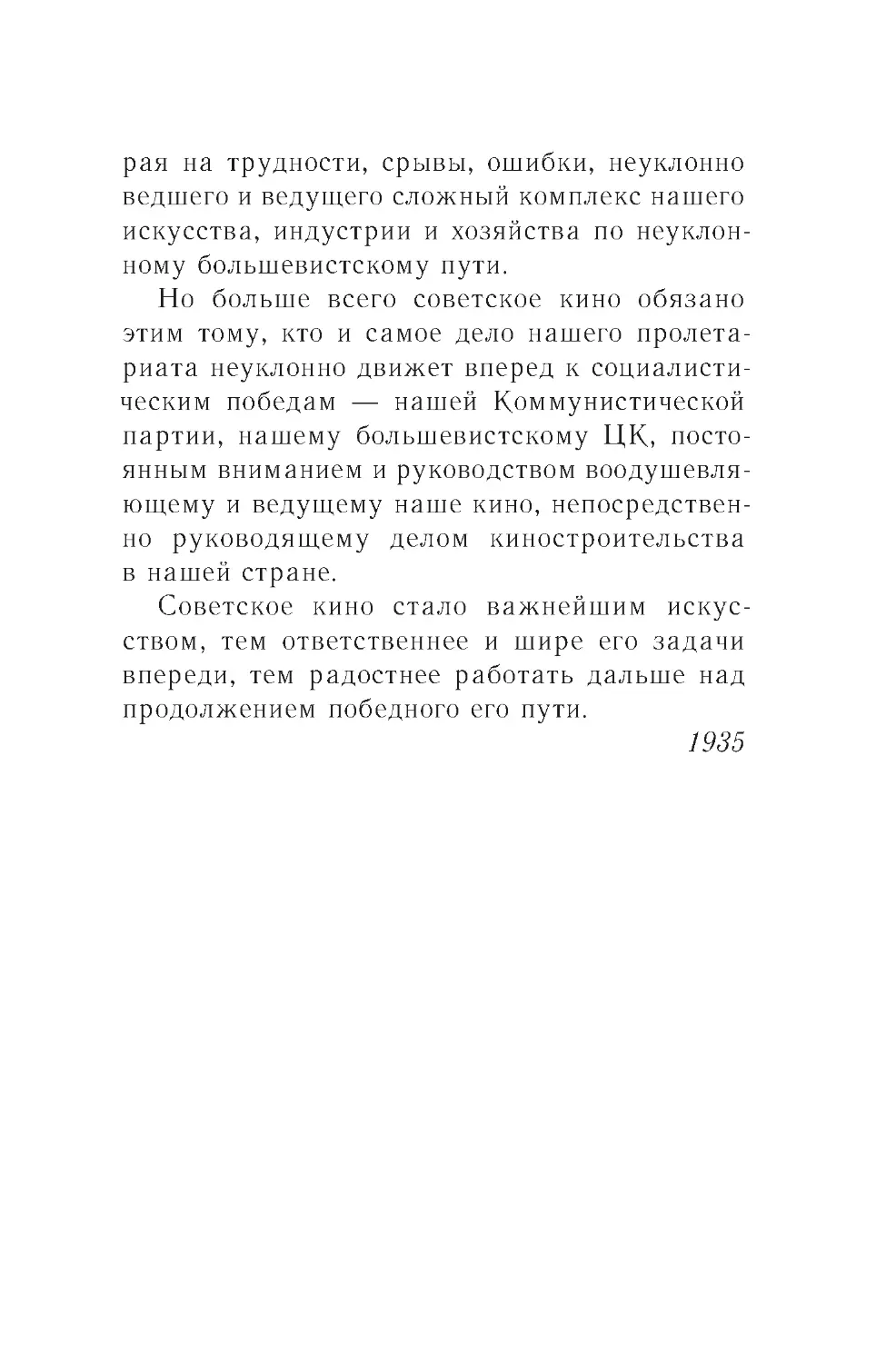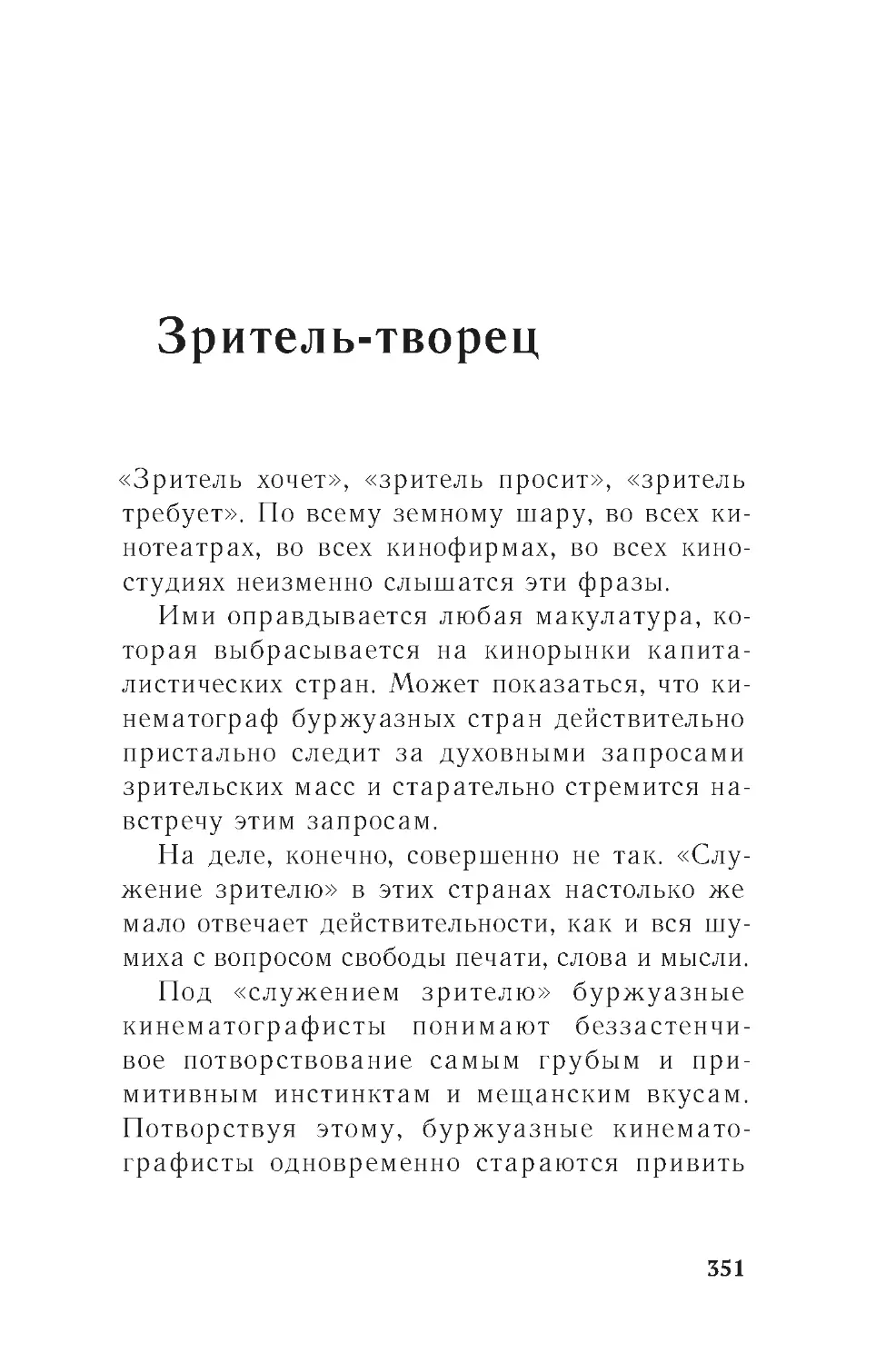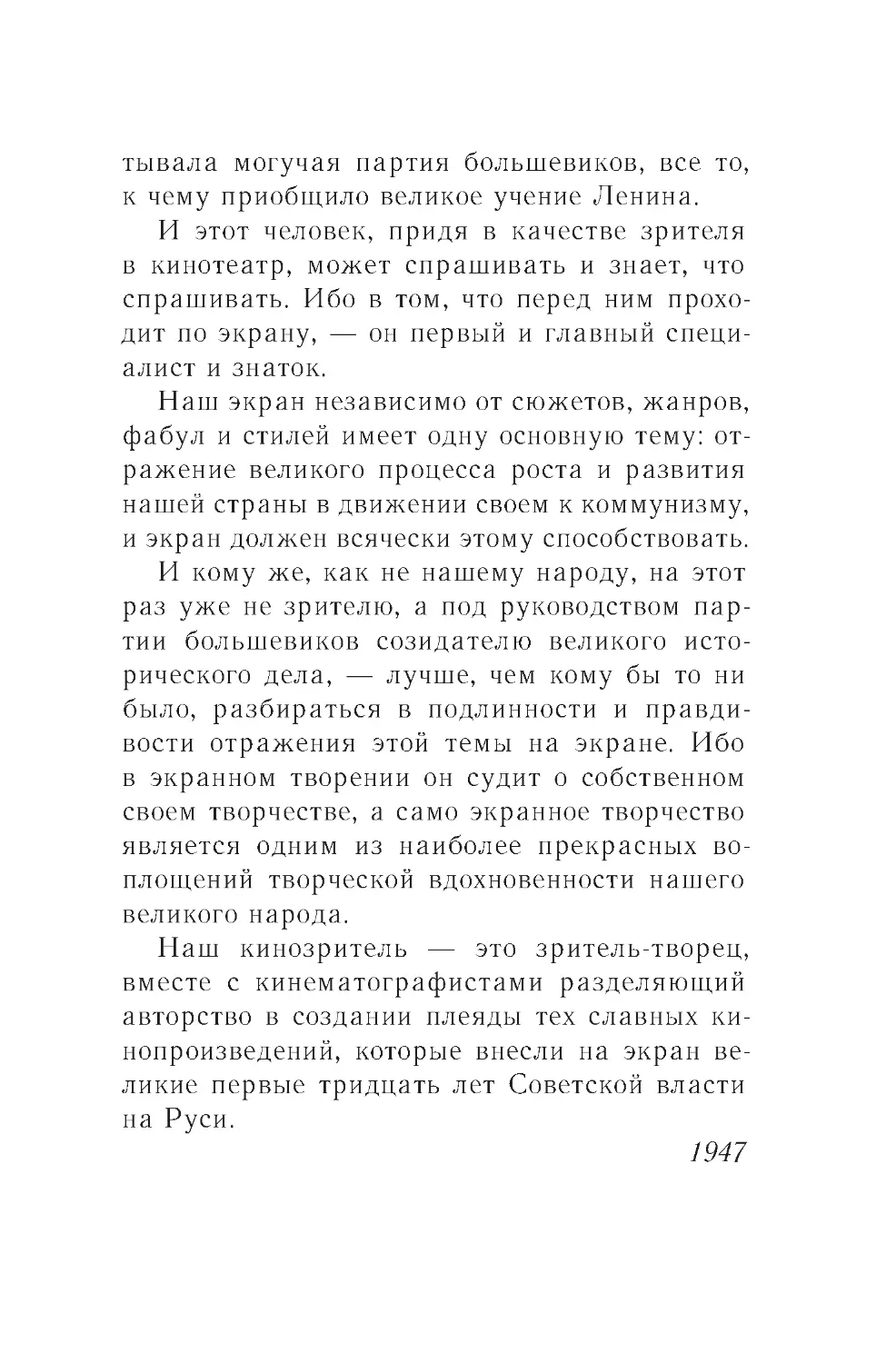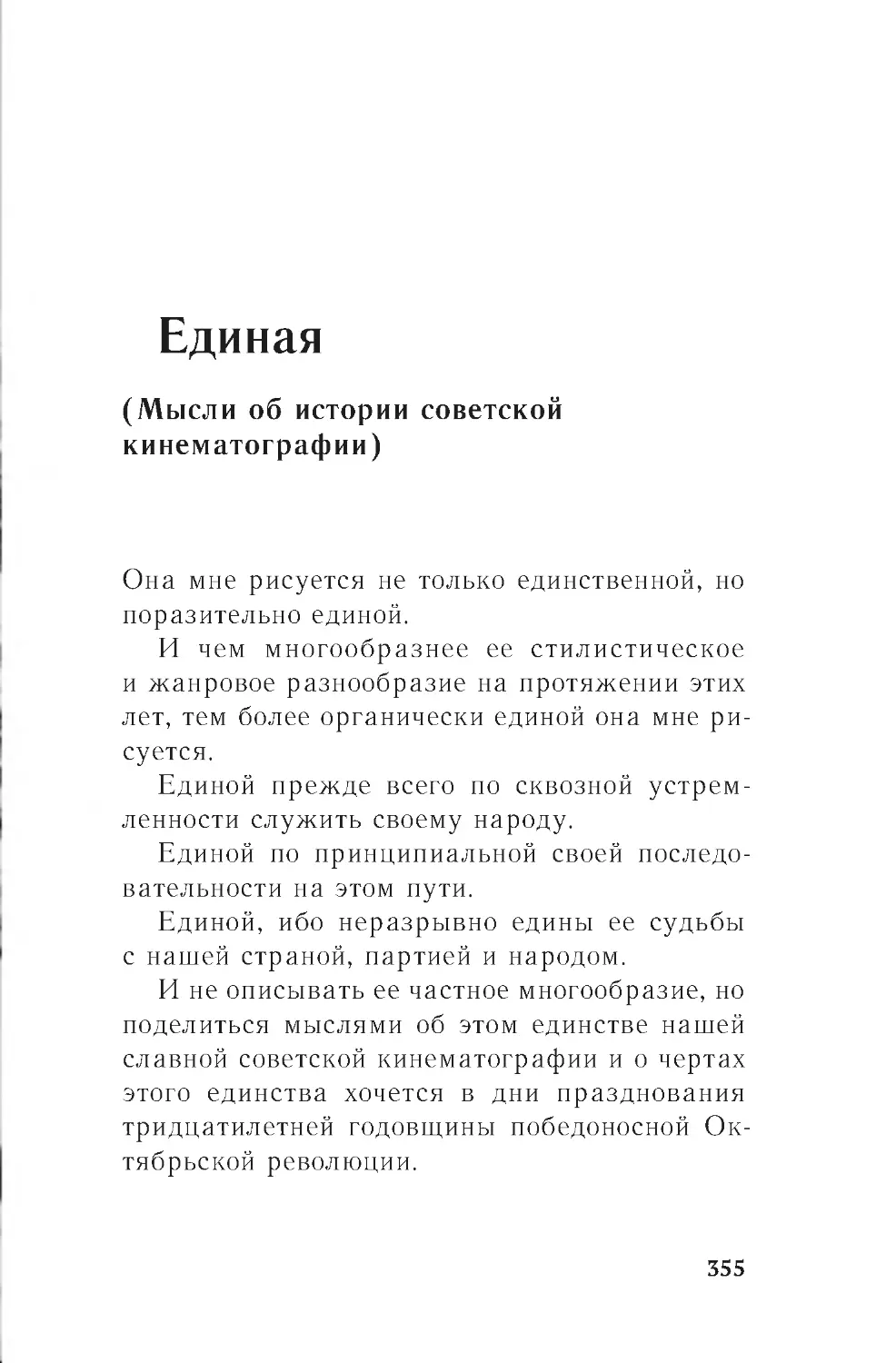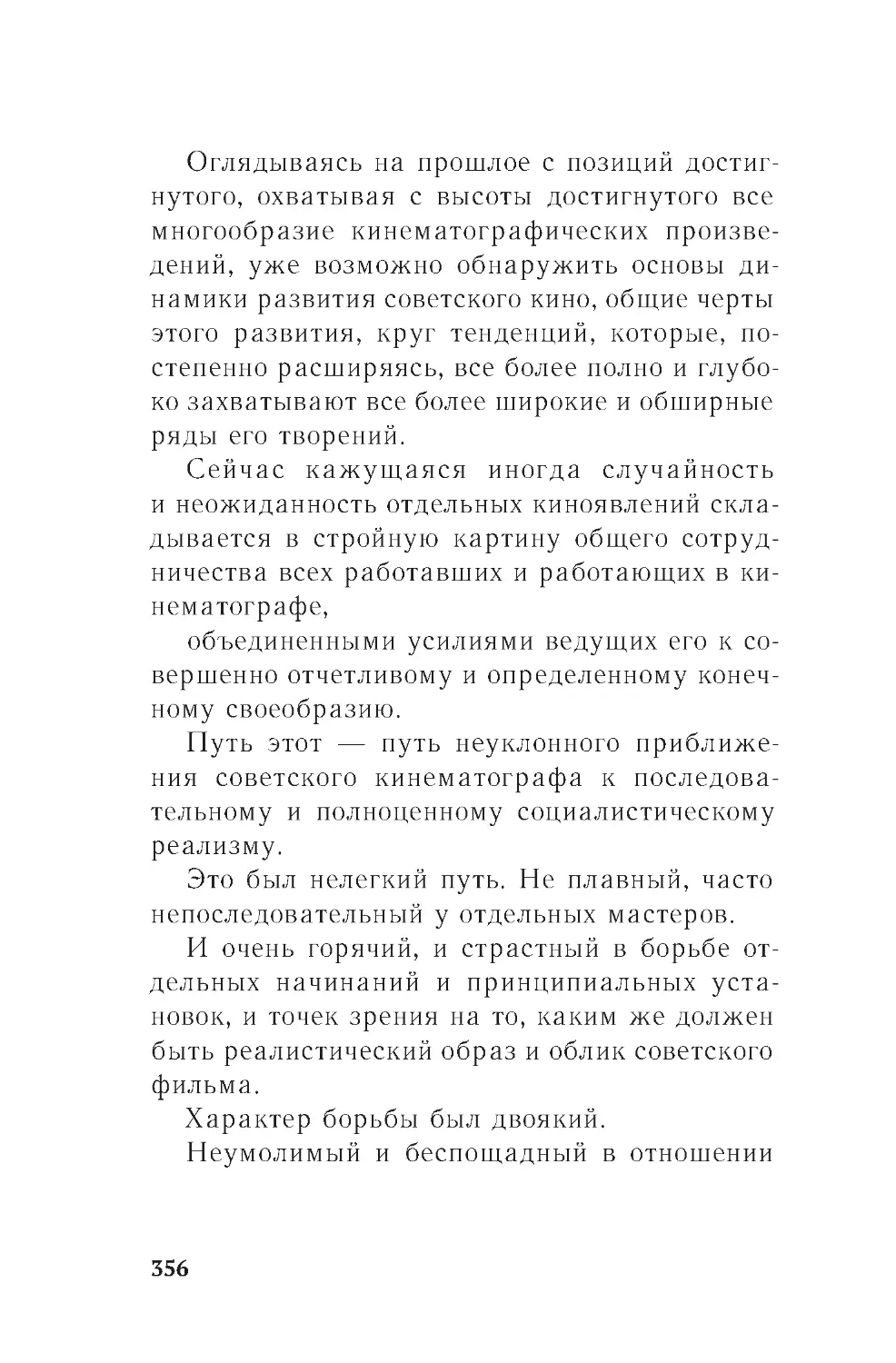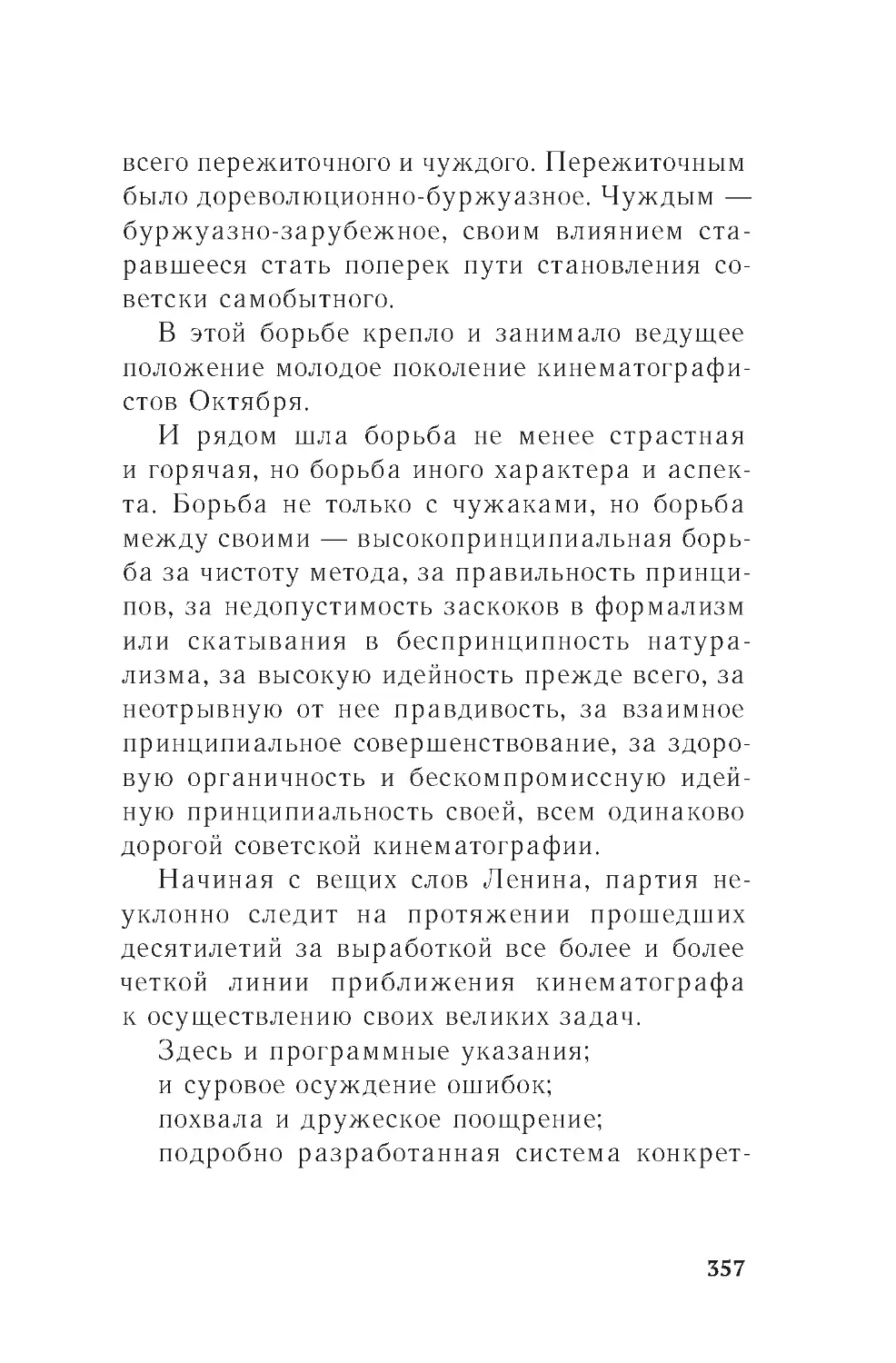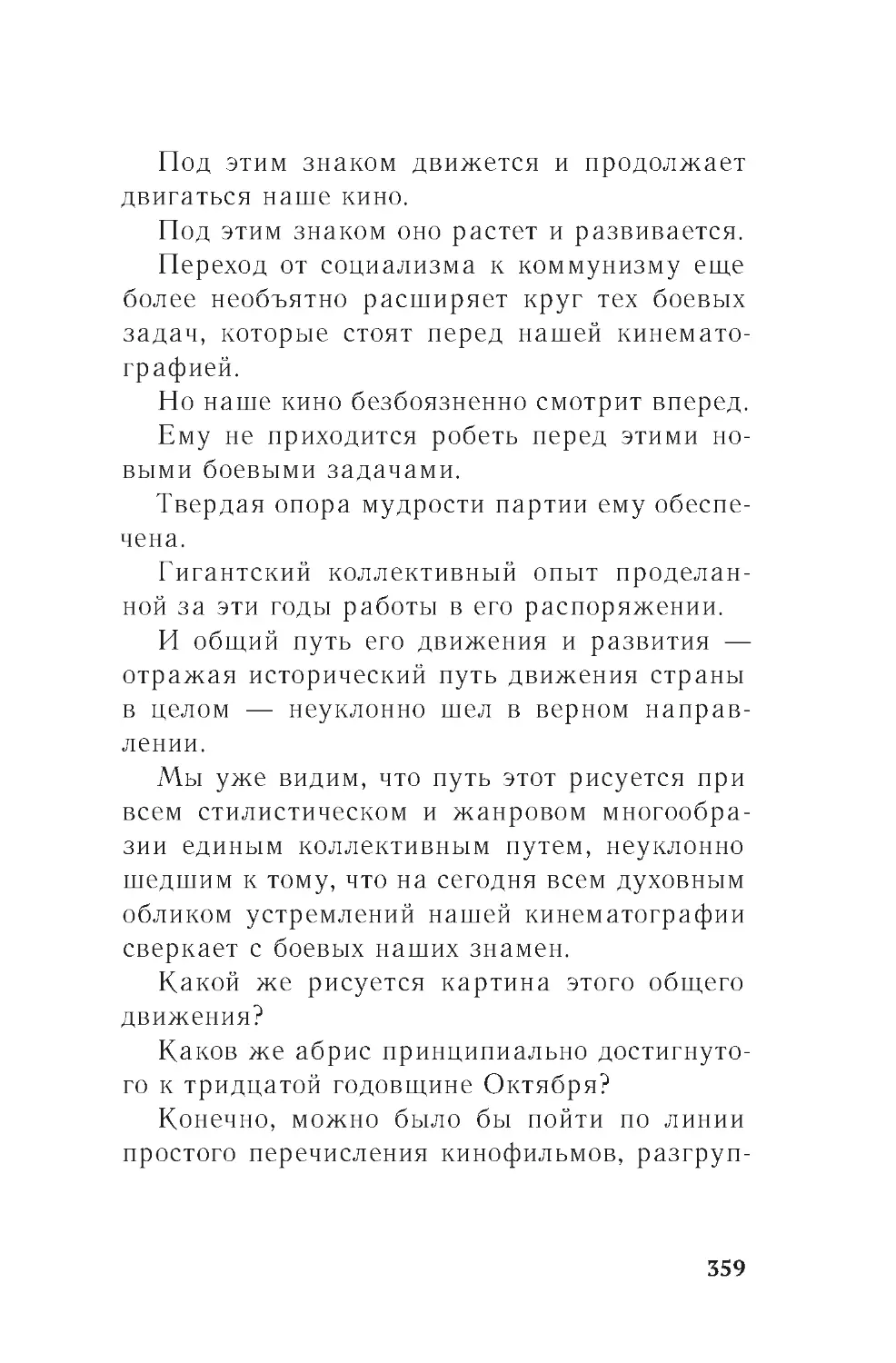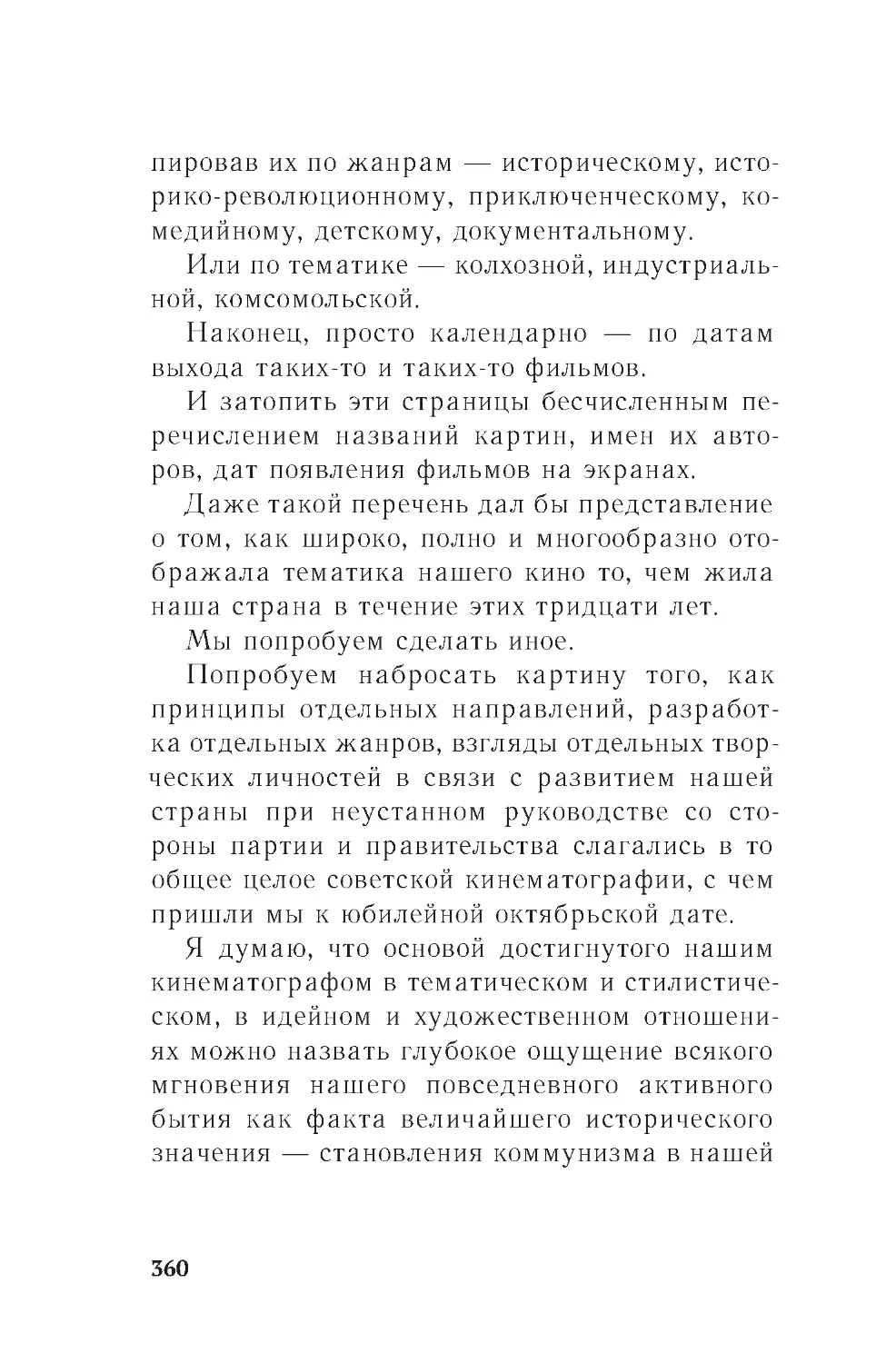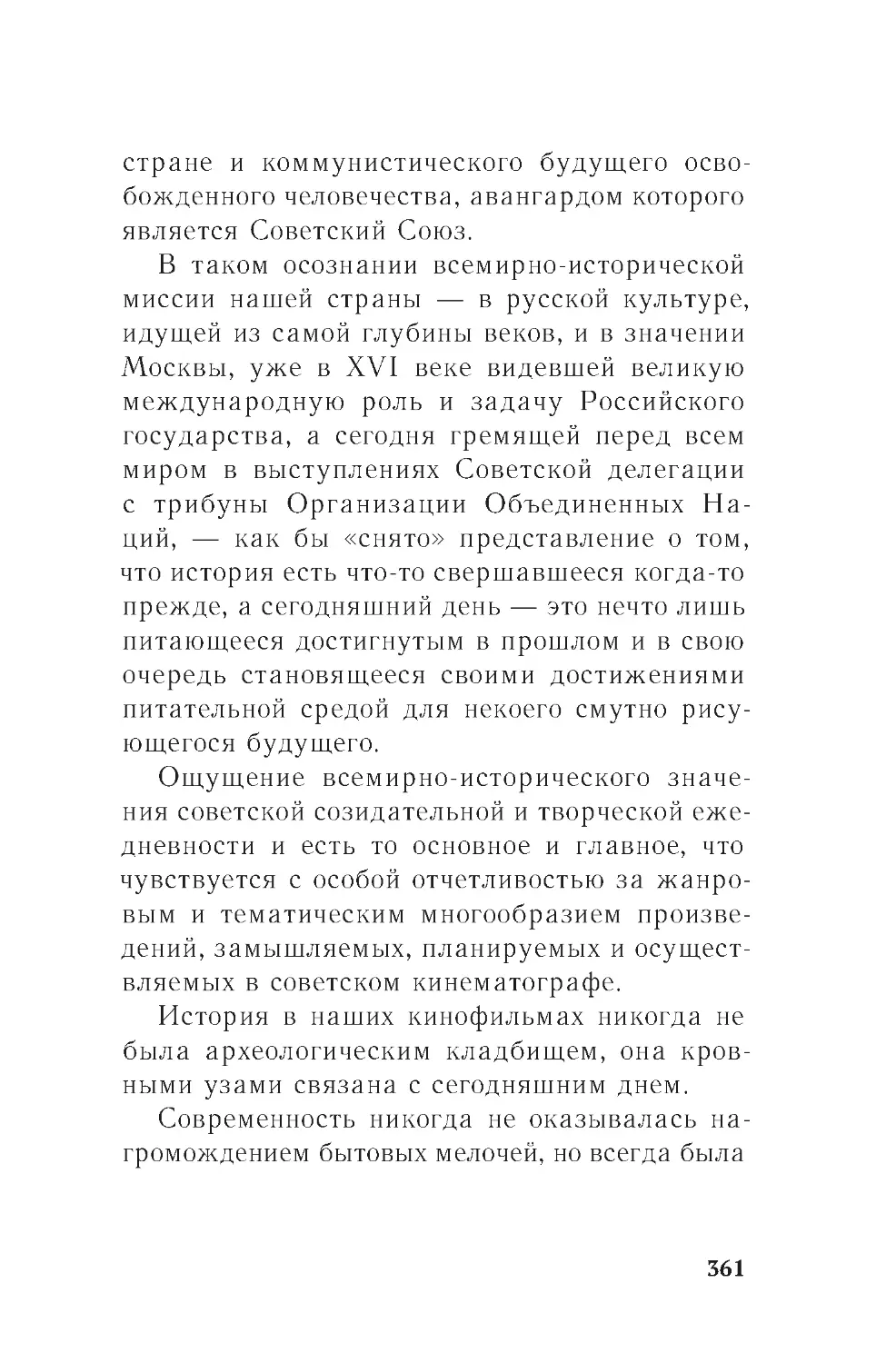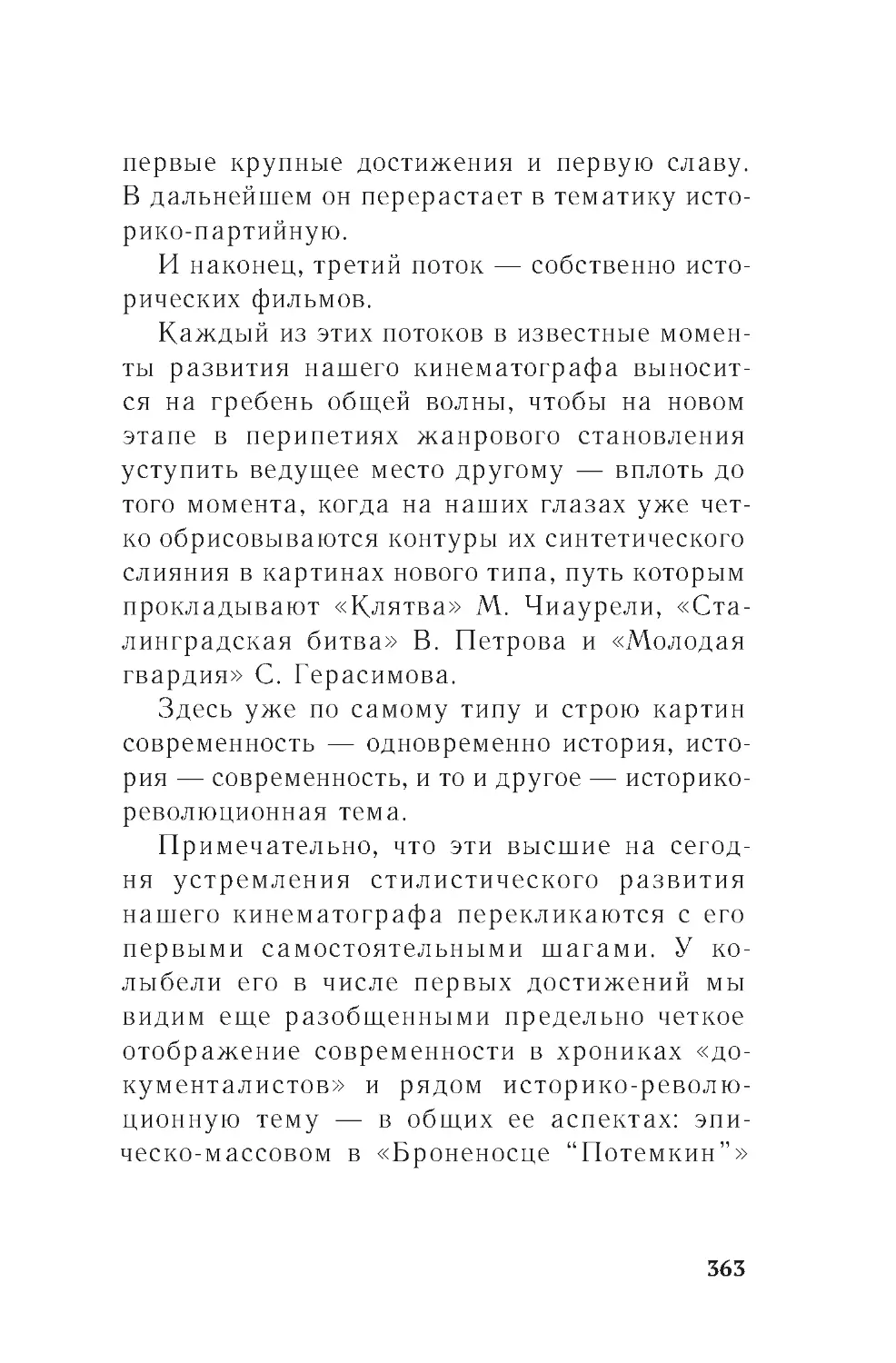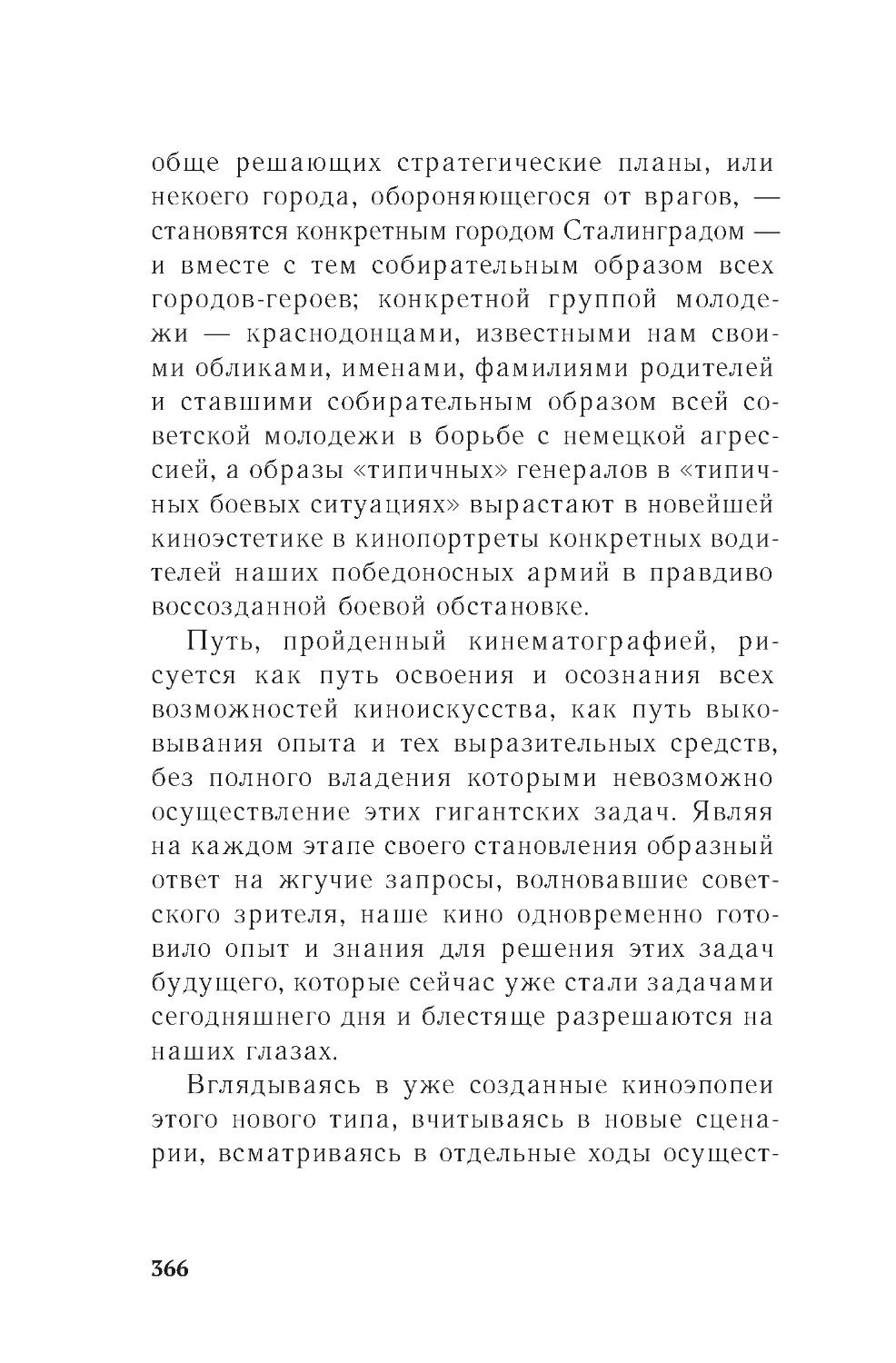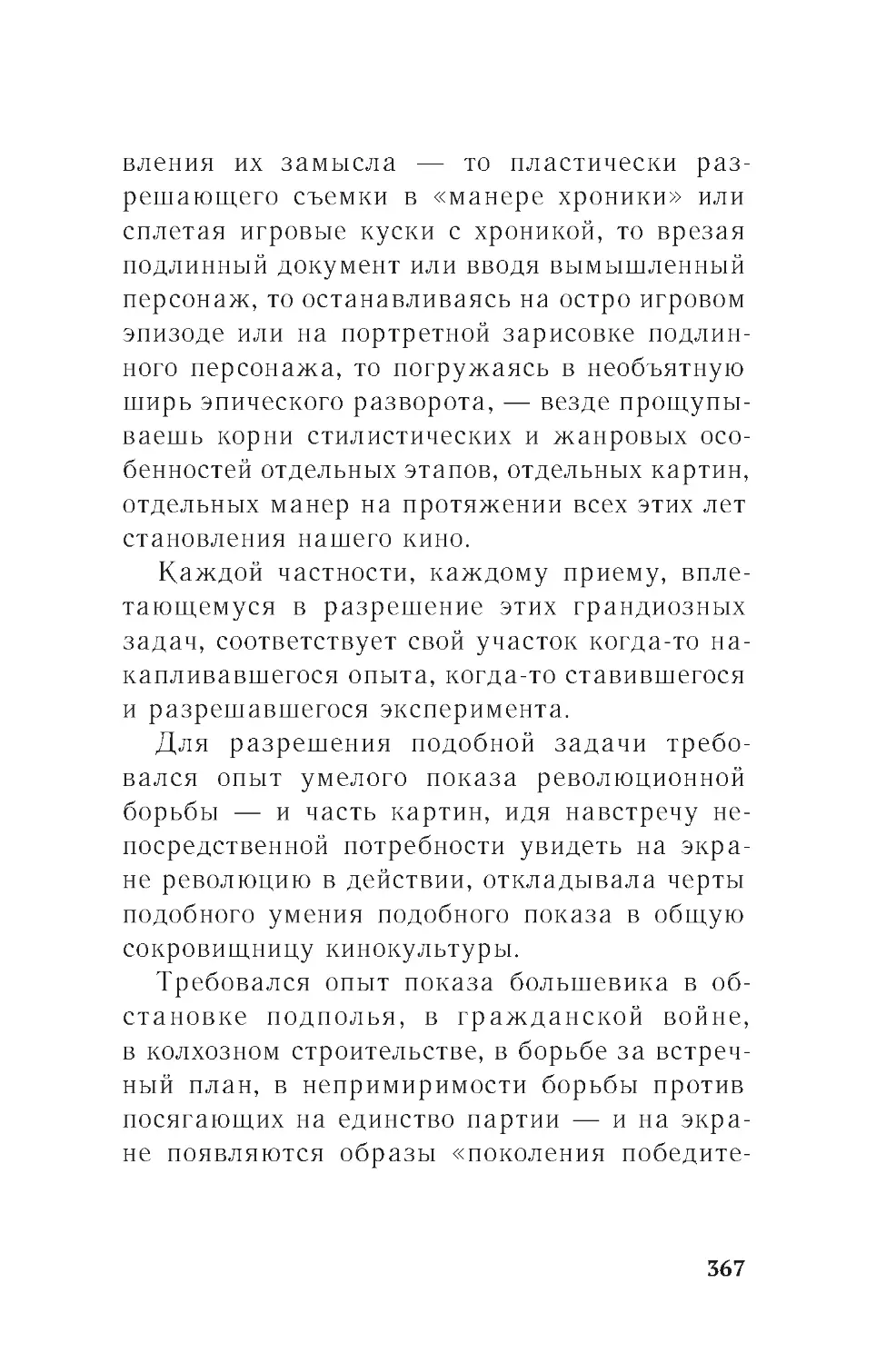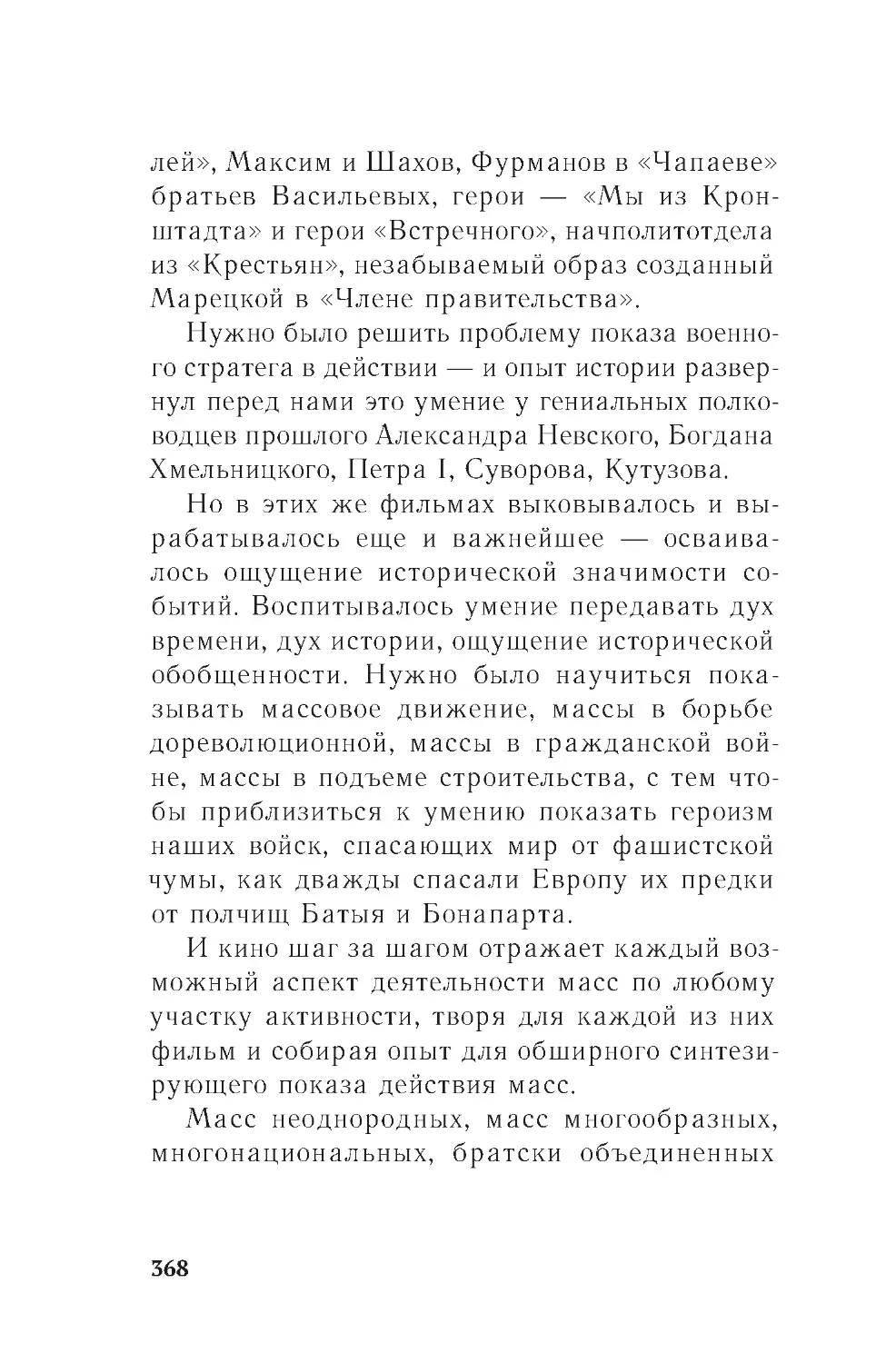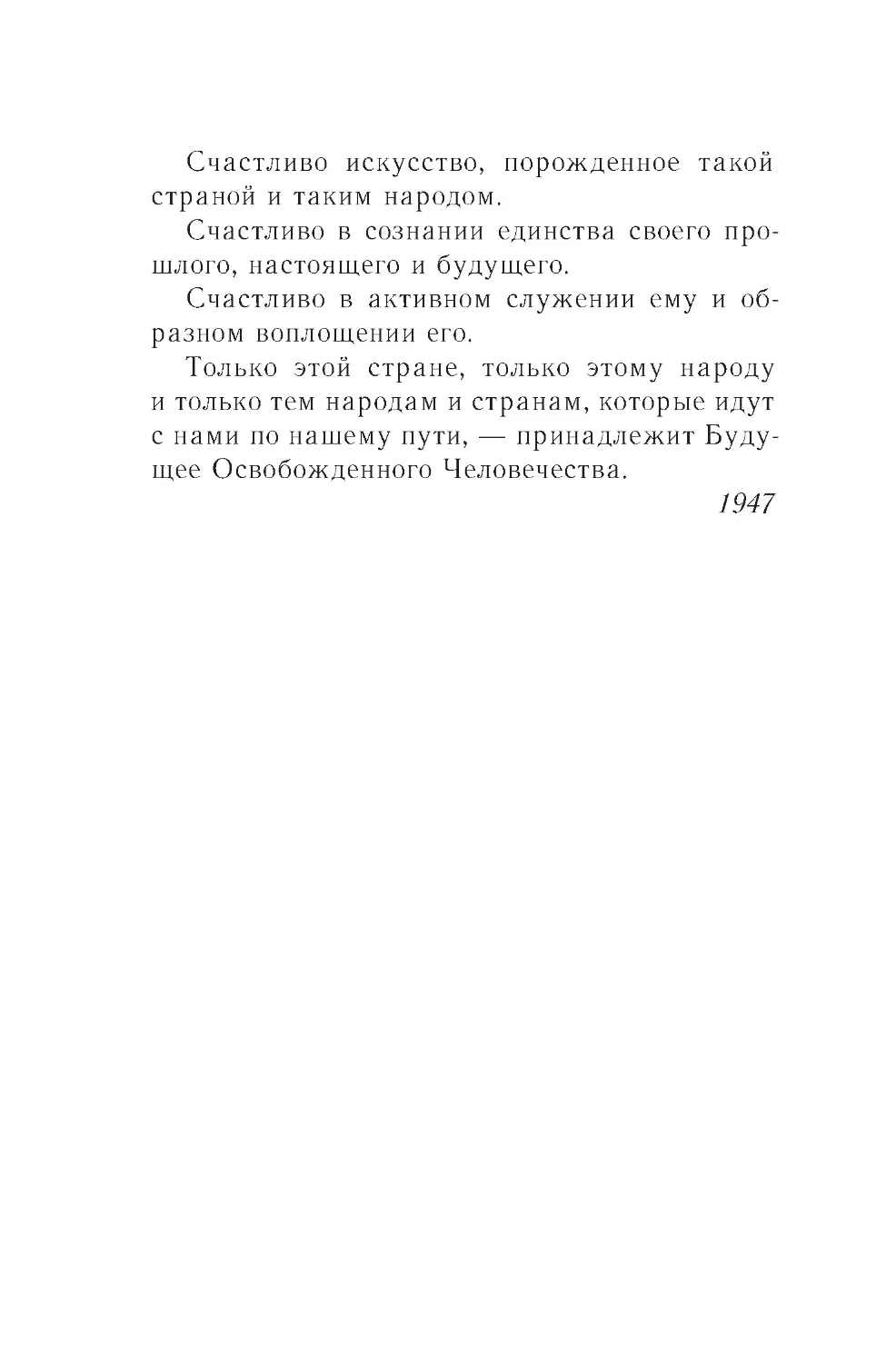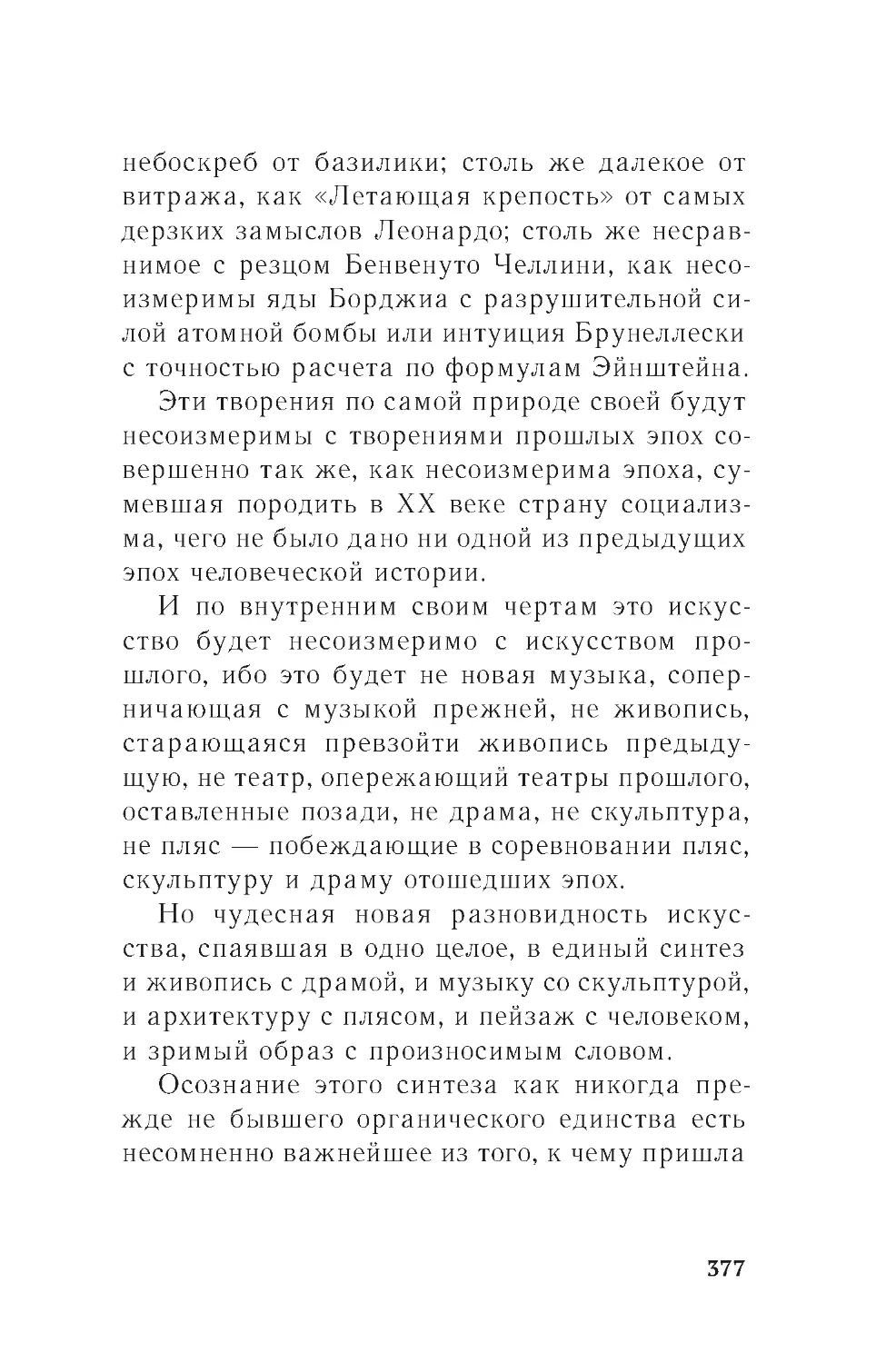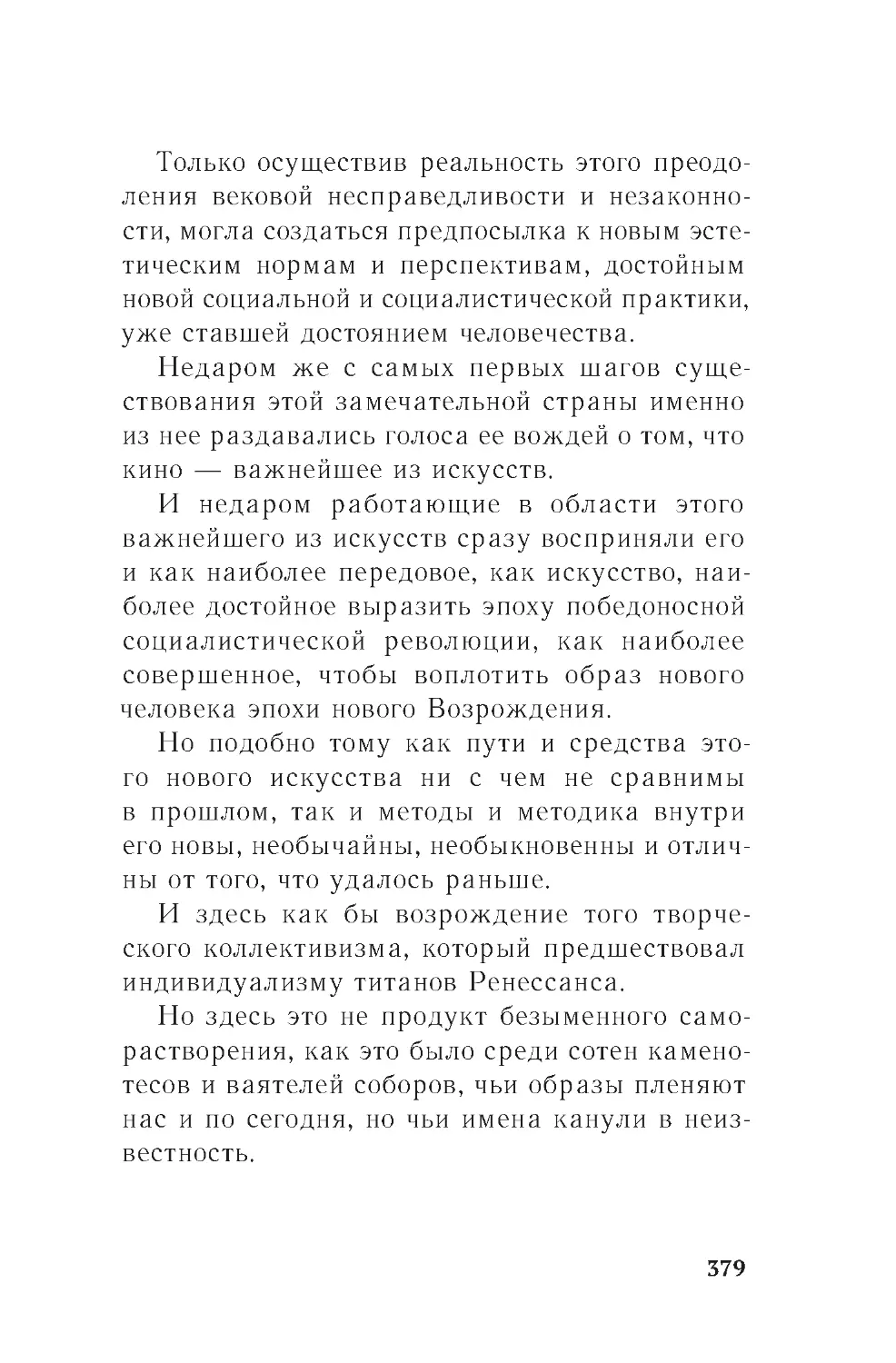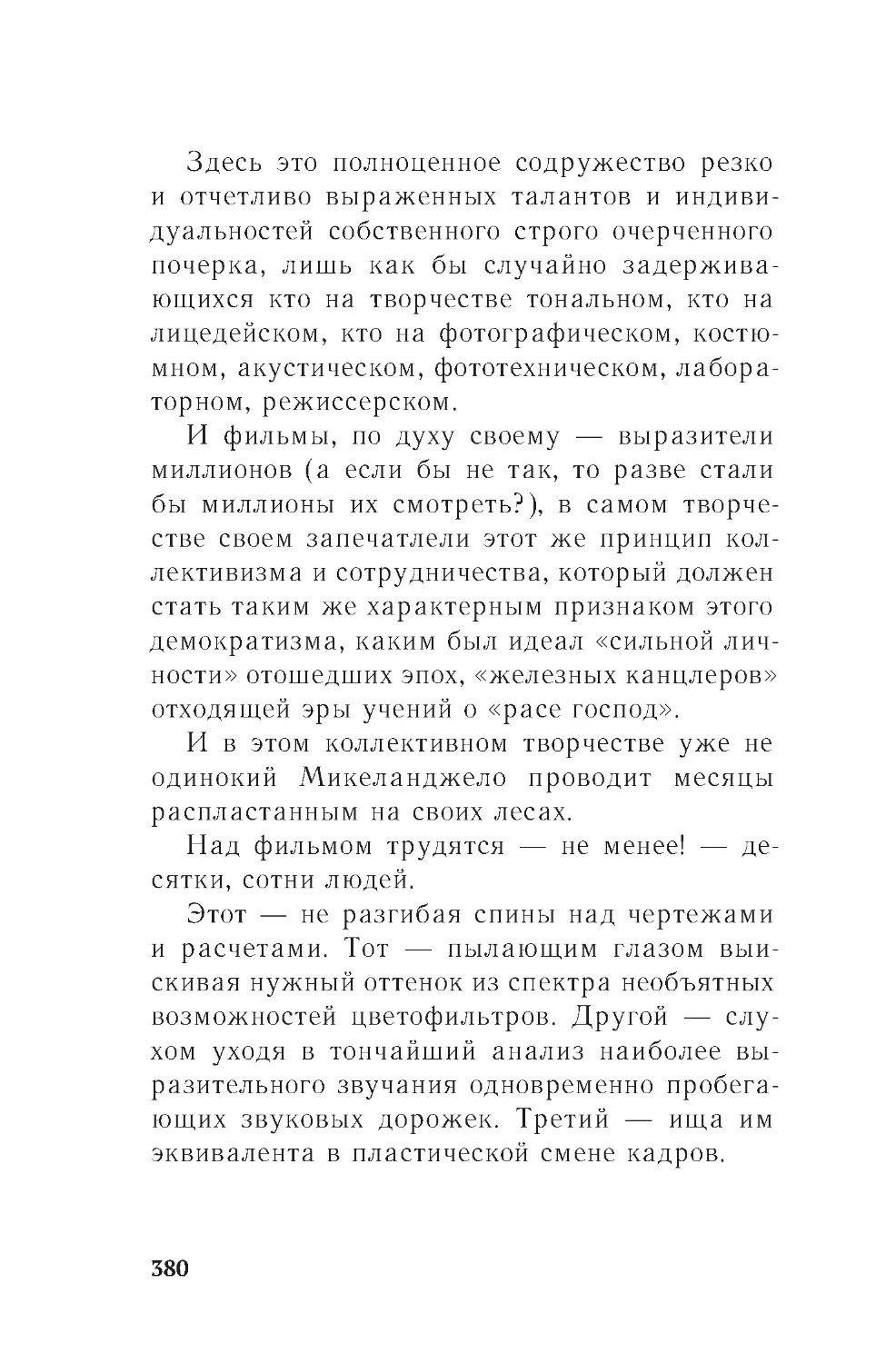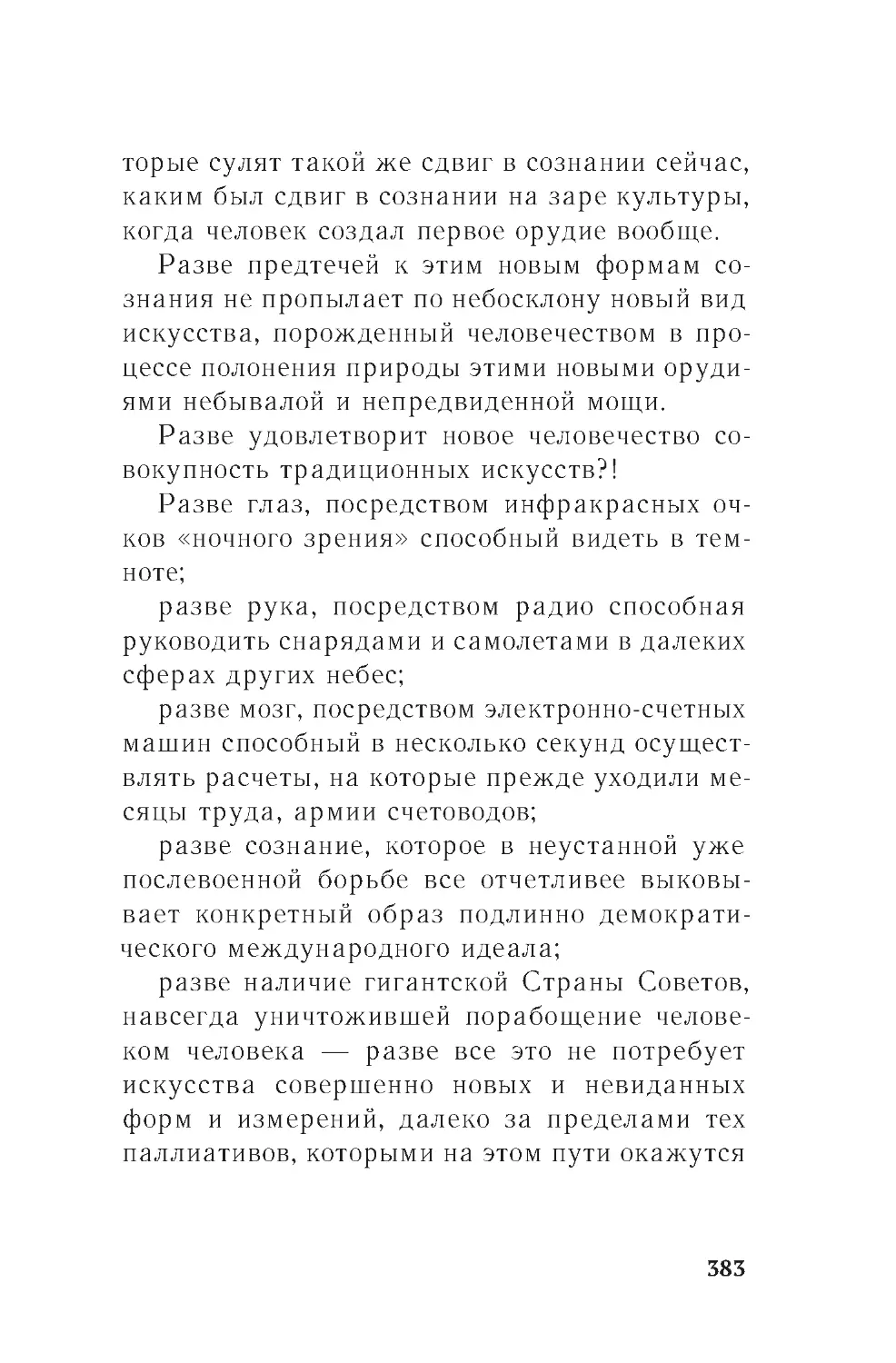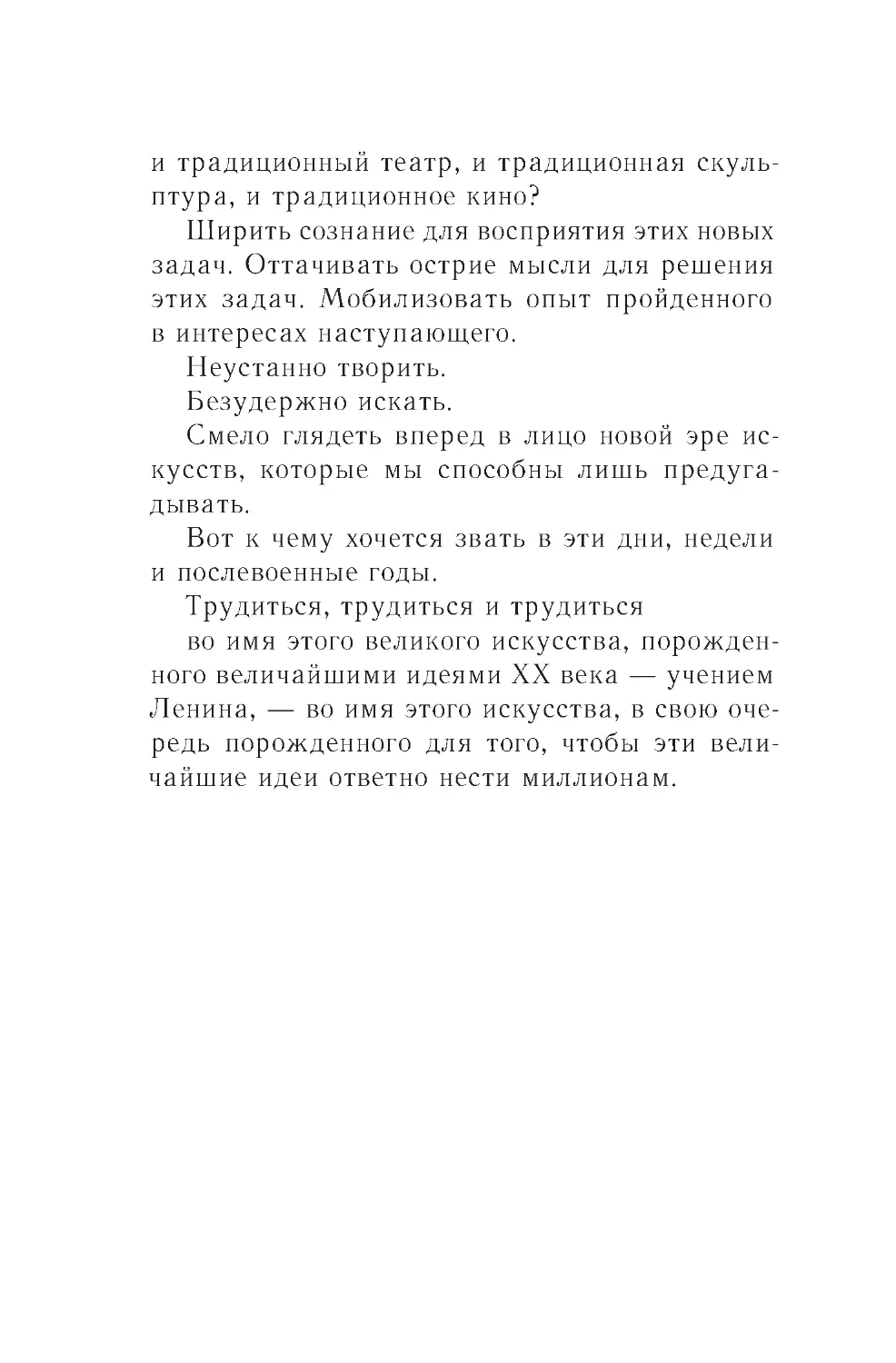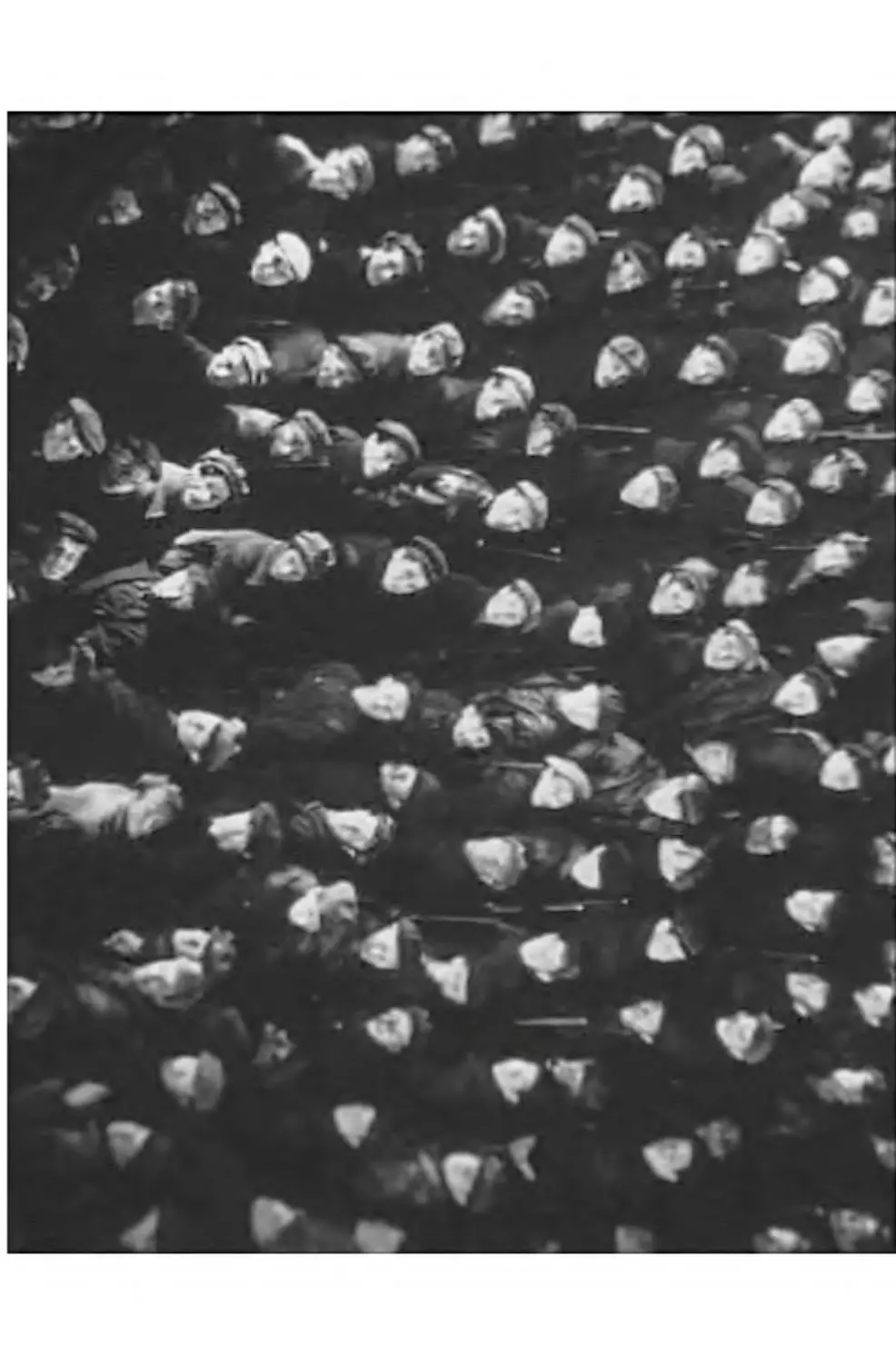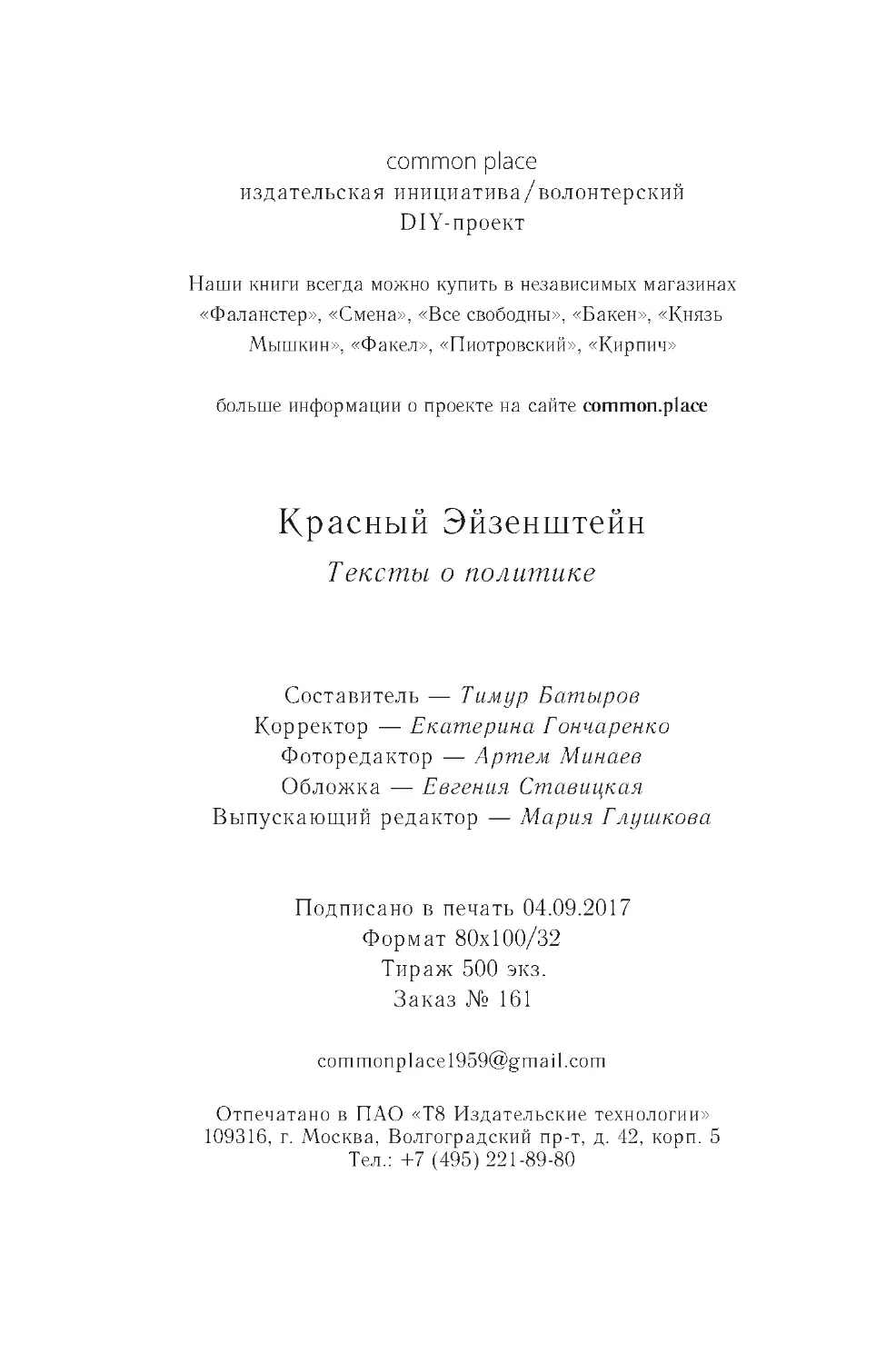Tags: русская литература мировая литература сборник статей киноискусство жизнеописание эйзенштейн политические статьи левворадикальные статьи режессура
ISBN: 978-999999
Year: 2017
Text
Москва
2017
УДК 821.161.1 -3
ББК 84(0)5
Э34
Красный Эйзенштейн. Тексты о политике
[сб. статей].
—
М.: Common place, 2017. —
386 с. ISBN 978-999999 -0 -37-0
«Красный Эйзенштейн» — сборник политических
и леворадикальных статей великого кинорежиссера и те-
оретика кино. Эйзенштейн — настоящий революционер
уже благодаря своему искусству, а его отзывы на актуаль-
ные проблемы современности всегда связаны с фильмами,
теориями и биографией режиссера, поэтому они помогают
лучше понять его жизнь и творчество.
Э34
ISBN 978-999999-0 -37-0
Публикуется под лицензией Creative Commons
Разрешается любое некоммерческое воспроизведение со
ссылкой на источник.
5
Содержание
Оксана Булгакова. Предисловие . 9
Автобиография . 43
Через революцию к искусству —
через искусство к революции . 49
Метод постановки рабочей фильмы . 56
С. Эйзенштейн о С. Эйзенштейне, режиссере
кинофильма «Броненосец “Потемкин”» . 62
Констанца
(Куда уходит «Броненосец “Потемкин”») . 71
В боях за «Октябрь» . 80
Перспективы . 90
Пять эпох (К постановке картины
«Генеральная линия») . 110
Даешь комсомольца в Дристаловку . 117
6
Восторженные будни. К выпуску картины
«Генеральная линия» . 124
Эксперимент, понятный миллионам . 130
Как ни странно, — о Хохловой . 138
Будущее советского кино . 144
За «Рабочий боевик» . 151
Двенадцатый . 165
Принципы нового русского фильма. Доклад
С.М . Эйзенштейна в Сорбоннском
университете . 173
[Что мне дал В.И . Ленин] Ответ на анкету . 207
Москва во времени . 224
О фашизме, германском киноискусстве и под-
линной жизни. Отрытое письмо германскому
министру пропаганды доктору Геббельсу . 233
Наконец! . 244
«Крестьяне» . 255
«Стяжатели» . 259
7
Большевики смеются
(Мысли о советской комедии) . 268
Образ громадной исторической правды
и реалистичности . 280
Ленин в наших сердцах . 287
Патриотизм — моя тема . 295
«Александр Невский» . 304
«Иван Грозный» Фильм о русском
Ренессансе XVI века . 326
Самое важное из искусств . 339
Зритель-творец . 351
Единая (Мысли об истории советской
кинематографии) . 355
Всегда вперед! . 374
9
Оксана Булгакова
Предисловие
Восприятие Сергея Эйзенштейна — аван-
гардиста, ставшего классиком и умершего
запрещенным академиком, — неоднозначно.
Когда в шестидесятые годы на Западе зано-
во открыли советский авангард двадцатых,
молодое поколение европейских интеллектуа-
лов провозгласило Эйзенштейна радикальным
левым художником. А на родине, сразу после
XX съезда, то же самое поколение заклеймило
его как правого конформиста, который, подоб-
но итальянским футуристам, прославлявшим
фашизм, воздвиг впечатляющий, а потому со-
мнительный памятник сталинской эпохе. Его
«шоковую» эстетику и желание влиять на со-
знание посредством кино трактовали как фор-
10
му тоталитарной поэтики — как искусство, ос-
вящающее государственное насилие.
Споры о том, правый он или левый, красный
или только розовый, сталинист, конформист
или жертва режима, продолжаются и сегод-
ня. Название этого сборника понравилось бы
западноевропейскому поколению 1968 года, де-
тям Мао и кока-колы; они видели в Эйзенштей-
не диалектика, поставившего во главу своей
монтажной теории конфликт и динамику —
в отличие от застывшего, статического социа-
лизма.
Однако Эйзенштейн не оставил детей, как не
оставил детей и авангард, и я не имею в виду
исполнение биологической миссии. Из его уче-
ников никто не стал режиссером его масштаба,
хотя для их обучения Эйзенштейн разработал
экспериментальную программу, которая со-
единяла кино с психологией, криминологией,
антропологией, практикой и историей всех ис-
кусств. Наследники Эйзенштейна — вернее те,
кого мы считаем ими, будь то Жан-Люк Годар,
Александр Клюге, Холлис Фрэмптон или Глау-
бер Роша были синефилами. Они открыли Эй-
зенштейна не через его статьи и мысли о кино,
а увидев его фильмы в университетских клубах
или залах синематеки. Эти фильмы — часто на
потрепанных, неполных, 16-мм копиях — смог-
ли передать радикальность его кинематогра-
фического мышления, хотя сам мастер думал
11
иначе, зная, что в его картинах осуществлена
лишь малая часть задуманного. К концу жиз-
ни Эйзенштейн рассматривал свою исследова-
тельскую работу как единственно возможный
способ спасения от компромиссов, на которые
он сознательно пошел с творчеством и самим
собой, а свои фильмы — как способ рекламы
для его неоконченных и неизданных книг.
Сегодня фильмы реставрируются, их сопро-
вождают модные музыкальные группы, а долго
недоступные тексты из его наследия — книги,
статьи, проекты, дневниковые заметки — пе-
чатаются с удивительной постоянностью. Но
вряд ли можно говорить об их глубоком или
широком влиянии. Эйзенштейн — космос, в ко-
тором можно найти отклики на наши современ-
ные занозы, будь то отношения между Западом
и Востоком, зависимость от изображений и то-
тальная медиализация жизни. Он не вошел ни
в обойму цитируемых имен, ни в круг освоен-
ных поп-дискурсом фигур, сводимых к одному
предложению — «бог умер» или «черный ква-
драт». Следуя этой логике, Эйзенштейн чаще
всего связывается с названием своего первого
манифеста, «монтаж аттракционов», не объем-
лющего его мир.
В начале ХХI века не фильмы и размышле-
ния об искусстве спровоцировали интерес к Эй-
зенштейну, а сама фигура художника, которую
присвоили себе и борцы со сталинизмом, и ак-
12
тивисты gay-кино, и хранители еврейской куль-
туры. В последние десять лет Эйзенштейн стал
героем нескольких байопиков1 — параллельно
непрекращающимся попыткам восстановить
его мексиканский фильм или реализовать его
неосуществленные сценарии, как это пробовал
уже в конце семидесятых годов Глаубер Роша,
предлагая Госкино поставить «Черного консу-
ла» — о гаитянском Наполеоне и революции,
которая пожирает своих детей, или Александр
Клюге со своим 9,5-часовым проектом «Изве-
стия из идеологической античности. Маркс —
Эйзенштейн — Капитал» (2008). Созданные
в разных жанрах, эти фильмы чаще всего дела-
ли Эйзенштейна героем мелодрамы и выделили
в нем не его эстетику и интерес к телесности
и насилию, а проблемы с собственным телом
и насильно подавляемой сексуальностью.
Насилие, миф и тело теории
Эйзенштейн понимал кино как форму на-
силия — не только в плане прямого показа
1 Это и документальный коллаж Олега Ковалова «Сер-
гей Эйзенштейн. Автобиография» (1995) и мелодрамы
«Возращение “Броненосца”» Геннадия Полоки (1996)
и «Eisenstein» Ренни Бартлета (ФРГ, Канада, 2000), и ин-
теллектуальный диспут «Банкет в Тетлапайяке» (Мексика,
2001) Оливье Дебруаза, и попсовый эксперимент «Эйзен-
штейн в Гуанахуато» Питера Гринуэя (Голландия, Бельгия,
Франция, Мексика, 2015).
13
шоковых моментов с «калькуляцией крови»
и садизмом, в котором его упрекал уже Дзига
Вертов. Его страстные, жестокие, сентименталь-
ные, эксцентричные, пропагандистские и экс-
периментальные фильмы сделали насилие —
бунт, террор, революцию, погром, массовую
гибель — сюжетом нового русского кино.
После премьеры «Броненосца “Потемкин”»
в Берлине русское монтажное кино стало модой
в Европе — вслед за негритянским джазом,
а Эйзенштейн — самым знаменитым режиссе-
ром и ключевым теоретиком новой агрессивной
выразительности. Тогдашние европейские кри-
тики не могли в точности определить причину
гипнотического воздействия фильма. Римский
папа немецкого фельетона Альфред Керр по-
лагал, что успех предопределен русской куль-
турной традицией, уходящей корнями в «дикий
азиатско-славянский» темперамент, который
объяснял для него отсутствие барьеров при
«ультрареалистическом» показе насилия, пе-
решагивая границы европейского натурализ-
ма, а также неистовством и бездной страстей
в духе Достоевского, Толстого, Станиславско-
го2. Между тем в массах, в их коллективном
теле, представшем с экрана, невозможно было
отыскать ни крестьянина Толстого, ни невро-
тика Достоевского, ни актера Станиславского.
2 Kerr A. Der Russenfilm. Russische Filmkunst. Berlin: Ernst
Pollak Verlag, 1927. C. 10
14
Фильм сопоставляли с «Илиадой» и «Нибелун-
гами», с масштабными историческими поста-
новками «Уфа» и Голливуда, которые рядом
с ним казались не более чем идиллическими
пасторалями. Вальтер Беньямин предложил
самое неожиданное сравнение: фильм Эйзен-
штейна сродни американскому слэпстику. Этот
вид гротеска открыл бездну ужаса, в которую
техника повергает общество3. «Потемкин»
беспощадно представил оборотную сторону
слэпстиковой смешной раскованности — смер-
тоносность машин — и выделил новую форму-
лу искусства: массы, насилие, техника, насилие
техники над массами, исчезновение индивиду-
ального сознания, навязанная общая судьба
и необходимость обживать новые социальные
роли и новые — городские, «цивилизованные»
—
пространства истории. Растущее осознание
этого процесса и отражение Эйзенштейном
связи между пространством и коллективной
судьбой, связи, которая станет определяющей
для двадцатого века, вынесли его фильмы за
рамки старых представлений об искусстве, воз-
можностях кино и загадках «русской души».
Монтажом контрастных разрозненных явлений
Эйзенштейн создал не только радикальную по-
этику, обгоняющую эксперименты футуристов
и сюрреалистов, но и тотальный взгляд на мир,
3 Беньямин В. Возражение Оскару А.Г. Шмицу // Киновед-
ческие записки. 2002 . No 58. C. 103 —109 .
15
обнажающий причинность исторических про-
цессов, новых массовых действ, поглотивших
индивидуума с его переживаниями и подчинив-
шего его не зависящей от него каузальности.
Это открытие было значимым не только для
русского авангардного и европейского соци-
ально ангажированного искусства, как театр
Пискатора и Брехта, но и для коммерческого
кино. Правда, с некоторой поправкой. Насилие
перешло в жанровое кино, было эстетизиро-
вано (совсем по Беньямину) и отделилось от
истории. Кино осталось агрессивным, возбуж-
дающим средством, однако после Эйзенштейна
оно было освобождено от диалектики.
Оно быстро выросло в глобальную инду-
стрию производства картинок, рассказываю-
щих истории. Русский авангард поместил этот
вид кино в ряд коллективно потребляемых
наркотиков, отсылая — без указания источ-
ника — к платоновской притче о пещере. Ма-
ниакальную приверженность людей к карти-
нам Платон описал не как антропологическую
константу, а как поведенческую особенность
(и зависимость) рабов! Много веков спустя
Ги Дебор предлагал как выход из этой ситу-
ации опиатической зависимости от изображе-
ния безобразное кино. Эйзенштейн одним из
первых заговорил об этом, выделив в кино па-
радокс: в феномене, который трактовали как
начало новой визуальной культуры, он обнару-
16
живает Невидимое как основную субстанцию.
Эта идея соблазнила Годара, который в сво-
ем автопортрете «JLG/JLG» (1994) изобразил
себя как режиссера, приносящего монтажнице
невидимый фильм. Однако Невидимое не свя-
зано в эйзенштейновском понимании с плато-
новской идеей сущности. Его занимает вообра-
жение и то, что с ним происходит под влиянием
оптических игрушек, к которым принадлежит
кино, для него — новая философская игрушка.
Обычно, обсуждая это невидимое — образ, эй-
зенштейноведы сосредоточиваются на переводе
картинки в понятие на стыке двух изображе-
ний — кадров, но это в системе размышлений
Эйзенштейна лишь первый шаг. В процессе са-
мого перевода нет ничего нового, эта операция
была известна и в архаике, когда абстрактные
понятия были заменены фетишами-предмета-
ми. Он понимает кино как машину насилия
в плане власти над воображением (хотя считает,
что психоделическое действие этой машины —
эрзаца религии, наркотика и секса — вызы-
вает в редких случаях экстаз, освобождающий
воображение). Эти картинки стандартизируют
фантазию, ассоциативные связи, желания, сны,
телесные техники, жесты, поведение.
В лабиринте темного воображения и очевид-
ных изображений Эйзенштейн пытался понять
принцип движения от картинки к картинке.
Оптические игрушки девятнадцатого века,
17
созданные отчасти психологами и физиологам,
моделировали деятельность визуального вос-
приятия. Кино для Эйзенштейна опосредовало
скрытые, невидимые законы ассоциаций, «ме-
ханизмы» работы сознания. Лексика, в кото-
рую Эйзенштейн облекал свои мысли, была
заимствована из механистичной традиции
(сборка, монтаж, аппарат), но кино по Эйзен-
штейну органично, потому что оно моделирует
гибкий, непредсказуемый, лабиринтообразный,
зацикленный в индивидуальной памяти —
и одновременно укорененный в памяти коллек-
тивной культурной традиции — ход мысли.
При этом теория в понимании Эйзенштей-
на неотделима от телесности и сексуальности.
Диалектика понимается им как единство про-
тивоположностей и мистика в его дневниковых
записях фигурирует как преддверие диалек-
тики. Одна из основ мистического учения —
представление о слиянии противоположностей,
для которого Николай Кузанский предложил
термин coincidentia oppositorum. Именно че-
рез это парадоксальное биполярное состояние,
при котором противоположности в единстве
не прекращают быть таковыми, можно опи-
сать феномен Бога или основу сущности (свет
и тьма, добро и зло). Это понимание составило
философскую основу представления об андро-
гине, парадигматическом образе совершенного
человека, воплощающего первичное единение
18
Мужского и Женского и обладающего поэто-
му полнотой в самом себе, включая полноту
знания. Эйзенштейн черпает свои знания об
андрогине из каббалистики и этнографии,
из Сведенборга, Бальзака, романов Жозефе-
на Пеладана и книги Отто Вейнингера «Пол
и характер». Понимание диалектики в духе
мистического coincidentia oppositorum и как
воплощения объединения Мужского и Жен-
ского в андрогине превращает диалектику
в антропологическую и сексуализированную
категорию. «Гений — вообще человек, ощуща-
ющий диалектический ход вселенной и способ-
ный включаться в него. Бисексуальность как
физиологическая предпосылка должна быть
у creative dialectics»4. Делая эту запись в сво-
ем мексиканском дневнике, Эйзенштейн пишет
письмо немецкому сексологу Магнусу Хирш-
фельду (23 мая 1931 г.), спрашивая его о би-
сексуальности Гегеля5.
Он часто использовал для теоретических
записей интимный дневник, что сообщает его
концептуальным разработкам характер экзи-
стенциальной необходимости и аналитической
4
Дневник Эйзенштейна 10 марта — 22 августа 1931 г.,
Мексика. РГАЛИ. Ф . 1923 . Оп. 2 . Ед. хр. 1123 . Л. 138 —139.
5 Вложено в мексиканский дневник и, очевидно, не отправ-
лено (либо это черновик письма) (РГАЛИ. Ф. 1923 . Оп. 2.
Ед. хр. 1113. Л. 62—63; опубликовано в: Eisenstein und
Deutschland // Hg. O. Bulgakowa. Berlin: Henschelverlag,
1998. С. 96 —97).
19
терапии. Он, правда, напоминал себе, что хо-
рошо было бы завести отдельную теоретиче-
скую тетрадку и отделить ее от смеси «грязи
и огня», которую он изливал в дневник личный,
ведя записи на немецком (его интимном языке,
пока его не сменил английский): «Ich möchte
den Mann kennen, der nach meinem Tode meine
Tagebücher analysieren und redaktieren wird.
Вот пердеть придется моим теоретическим ду-
шеприказчикам»6.
Эйзенштейн, наиболее знаменитый фильма-
ми, экранизировавшими «диалектику», и своей
гегелевско-марксистской интерпретацией ди-
намики и конфликта, попадает в тридцатые
годы в иную ситуацию. Его последние филь-
мы и теоретические проекты ставят его перед
необходимостью соотнести «вечные формы»
и исторический нарратив. Задумывая в Мек-
сике новый теоретический проект «Метод»
о соотношении искусства и сознания, архаи-
ки и модерна — среди архаичной культуры
и круга друзей, для которых антропология
была таким же сильным увлечением, как пси-
хоанализ, масонство и марксизм, он пишет эту
гигантскую неоконченную книгу в сталинской
России, стране победившего мифологического
мышления. Все его фильмы после возвраще-
ния пытаются по-новому решить соотношения
6 «Хотел бы я посмотреть на того человека, который раз-
берет и отредактирует мои дневники после моей смерти».
РГАЛИ. Ф . 1923. Оп. 2 . Ед. хр. 1109. Л. 105.
20
исторического и мифологического — и сцена-
рий комедии о путешествующих боярах эпо-
хи Ивана Грозного («МММ», 1933), и «Бежин
луг» (1935), и «Александр Невский» (1938),
и «Иван Грозный» (1945).
Извилистый путь режиссера — скачко-
образную траекторию его фильмов, концепций
и моментальной рефлексии по их поводу —
отражают тексты «Красного Эйзенштейна»,
представляющие собой смесь опубликованных
и неопубликованных статей, ответов на анкеты,
рецензий на фильмы коллег и докладов.
Издания Эйзенштейна
«Необходимо взорвать китайскую сте-
ну между теорией и практикой», — заявля-
ет Эйзенштейн в одном из текстов сборника,
в «Двенадцатом». В 1928 году он начинает пре-
подавать и открывает экспериментальную ма-
стерскую при Госкинотехникуме, который поз-
же стал ГИКом и ВГИКом. В этот год фильмы
его соперников, прежде всего Всеволода Пу-
довкина, пожинают лавры дома и за границей,
а бывшие друзья из Левого фронта нещадно
ругают его провалившийся «Октябрь». Осип
Брик писал, что «[и]стория всех искусств знает
не мало печальных примеров такого мгновен-
ного производства в гении и гибели этих гениев
21
от непомерности возложенных на них надежд».
Эйзенштейн — еще один в этом ряду. Он не-
правильно понял и Революцию, и правила ки-
ноязыка. Шкловский озаглавил свою рецензию
«Причины неудачи»7. В этот год Эйзенштейн
задумывается о необходимости написать свою
первую книгу — о монтаже.
«Все, что мы делаем здесь или там или
где, — писал он Пере Аташевой 3 сентября
1930 года из Голливуда, — лишь рупор для
того, чтобы потом читали книгу»8. Однако при
жизни автора на его родине не был издан ни
один сборник его работ. Сразу после смерти
Эйзенштейна вдова Пера Аташева передала
его архив, включающий и рукописи несколь-
ких объемных исследований («Монтаж», «Ме-
тод», «Режиссура», «История крупного плана»,
«Пафос», «Мемуары» и др.) на хранение Госу-
дарственному архиву литературы и искусства
вместе с архивом его матери и частью бумаг
Мейерхольда, хранившихся у Эйзенштейна
(и принятых Государственным архивом уже
в 1948 году, задолго до реабилитации Мейер-
хольда!). Однако публикация наследия стол-
кнулась не только с общеизвестными пробле-
мами цензуры, но и со сменой социальных
и теоретических концепций в Советском Союзе
7
Ринг Лефа // Новый Леф. 1928. No 4 (апрель). С . 27 —36.
8 Эйзенштейн С. Самое ужасное, чем я страдаю, — это
болезнь воли. Письма к Пере Аташевой // Киноведческие
записки. 1997/1998. No 36/37. С. 230 .
22
и на Западе, которые постоянно «пересоздава-
ли» Эйзенштейна. Издания его текстов на про-
тяжении последних 70 лет отражали динамику
понимания его личности и творчества, которая
совпадала со сменой модных дискурсов. В ран-
ние шестидесятые годы это были в основном
мемуарные отрывки, вписывающиеся, с одной
стороны, в волну советской мемуаристики в духе
книги «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга
(1962), которая реабилитировала авангард
и его на три десятилетия выбывших из упомина-
ния художников, с другой — в нарциссическую
саморефлексивность экзистенциалистских ав-
тобиографий типа «Слов» Сартра (1963). Ме-
муары Эйзенштейна печатались с 1960 года
в течение нескольких лет не в кинематографи-
ческом журнале, а в литературном, в «Знаме-
ни» — до выхода первого тома «Избранных
произведений» Эйзенштейна в 1964 году, куда
мемуары и были включены как основной текст.
Одновременно с этим изданием, последний том
которых вышел в 1971 году, появился сборник
«Броненосец “Потемкин”» из серии «Шедевры
советского кино» (Искусство, 1969), воспомина-
ния современников (Искусство, 1973) и первая
опубликованная биография (автор — Виктор
Шкловский; Искусство, 1973), которая дубли-
ровалась появлением в том же году биографии
Иона Барна на английском языке9. Шеститом-
9 Barna Y. Eisenstein. Bloomington: Indiana University
23
ное русское издание стало основой для публи-
кации Эйзенштейна во Франции (1973—1984).
Годом позже начало выходить немецкое изда-
ние (Мюнхен, Hanser, 1974—1984), составлен-
ное Гансом-Иоахимом Шлегелем по другому
принципу: четыре тома (после которых издание
было прервано) были сгруппированы вокруг
четырех немых фильмов, создавая впечатление,
что эйзенштейновская теория возникала непо-
средственно как приложение к его кинемато-
графической, социально активной практике.
Поздние шестидесятые годы, когда структу-
рализм должен был спасти гуманитарные на-
уки, дав им объективность точной дисциплины
и гарантировав первенство в объяснении как
структуры общества, так и структуры текста,
прочитали Эйзенштейна однозначно, как лево-
го структуралиста и раннего семиотика, что
обеспечивало интерес к нему и дома, и на За-
паде. Работы, посвященные Эйзенштейну в это
время, сформированы соединением марксизма
и структурализма. После этой волны шести-
десятых эйзенштейновские тексты отсылаются
на периферию: они печатаются регулярно (но
не чаще, чем раз в год) в специализированных
и достаточно маргинальных изданиях («Ис-
кусство кино», «Вопросы киноискусства», «Из
истории кино», «Советский театр. Документы
Press, 1973. Первая биография Эйзенштейна, написанная
Мэри Сетон, вышла ан английском в 1952 году.
24
и материалы»), в адресованных узким специ-
алистам плановых сборниках научных статей
типа «Характер в кино», либо эти тексты пе-
чатаются как приложение к мемуарам друзей
и сотрудников (Эсфири Шуб, Серафимы Бир-
ман). Между тем эта «регулярность» скрывала
тот факт, что основные теоретические труды
Эйзенштейна остаются неопубликованными,
что напечатанные тексты содержат сокраще-
ния, корректуру и не следуют логике изданий,
задуманной самим автором. Это положение
меняется в 1980 году, когда иностранные из-
датели перенимают инициативу10. Благодаря
их активности, на французском, итальянском,
немецком и английском языках выходят более
полные издания эйзенштейновских текстов, не-
жели на русском. Эти публикации открывают
«нового» теоретика Эйзенштейна, движущегося
от «структуры» к психоанализу и культурове-
дению — дискурсам, сменившим семиотику.
Эйзенштейновский анализ изобразительно-
10 Немецкое издание «Eine nicht gleichmütige Natur» (сост.
Rosemarie Heiser, Berlin: Henschel, 1980) включает не публи-
ковавшиеся ранее «Чет — нечет» и «Раздвоение единого».
Французское издание «Cinématisme, peinture et cinйma» (сост.
François Albera, Bruxelles: Editions Complexe,1980), продол-
женное томом «Le mouvement de l’art» (сост. Albera, Naoum
Kleiman, Paris: Editions du Cerf, 1986), и начавшееся в 1982
году итальянское издание под редакцией Пьетро Монтани
(Venezia: Marsilio Editori, 1982—1988) публикуют не только
более полные редакции, но и архивные тексты. Эти версии пе-
ренимаются и в английском четырехтомном издании Ричарда
Тейлора (London: BFI, Indiana University Press, 1988—1995).
25
го искусства и архитектуры «укладывается»
в новую аналитическую модель — проблема-
тизацию взгляда, телесности и пространства,
ориентированную в современных западных ис-
следованиях на Жака Лакана. Вышедшие за
границей, эти тексты появляются на русском,
часто с 8—10-летним опозданием («Чет — не-
чет», «Раздвоение единого» в 1988 г.11
, «Роден
и Рильке» в 1997 г.12
, отрывки из «Монтажа»
в 1998—1999 гг.13). А вышедшие на немецком
в 1984 году в новой редакции «Мемуары» пе-
чатаются в России лишь в 1997 году (Москва,
редакция газеты Труд, Музей кино).
Между 1980 и 1990 гг. Наум Клейман,
подготовивший текстологические редакции
и прокомментировавший эйзенштейновские
тексты для зарубежных изданий, начал публи-
кацию этого нового Эйзенштейна — сначала
в специализированных сборниках по психоло-
гии («Конспект лекций по психологии искус-
ства», 198014
; «Психология композиции», 198815)
11 Эйзенштейн С. Чет — нечет // Восток — Запад. Исследо-
вания. Переводы. Публикации. М.: «Наука», 1988. С. 234 —278 .
12
Киноведческие записки. 1997 . No 34. С. 20—52.
13 Эйзенштейн С. Композиция по золотому сечению // Ки-
новедческие записки. 1999 . No 43. С. 109 —128.
14 Эйзенштейн С. Конспект лекций по психологии искус-
ства // Психология процессов художественного творчества.
Редакторы Борис Мейлах и Николай Хренов. Л.: «Наука»,
1980. С. 188—203 .
15 Эйзенштейн С. Психология композиции // Искусствоз-
26
и искусствоведению («Дисней», 1985
16
)иливне
распространяемых публично внутренних изда-
ниях (Института истории кино, опубликовав-
шего отрывок из «Метода» под названием «О
детективе», 198017). Эти сборники, печатавши-
еся тиражом между 600 и 2900, били рекорды
маргинальности: десятитысячный тираж сред-
ней искусствоведческой работы считался тогда
в Советском Союзе достаточно низким.
Ситуация изменилась лишь в постпере-
строечном обществе, когда упали цензурные
запреты, одновременно с которыми исчезли
и государственные дотации на подобные из-
дания. Журнал «Киноведческие записки»
стал с 1989 года регулярно печатать Эй-
зенштейна маленькими и большими пор-
циями. С 1999 года Наум Клейман вместе
с Владимиром Забродиным и Александром
Трошиным начали в рамках «Музея кино»
и «Эйзенштейн-центра» публикацию нового
издания, включившего архивные материалы,
более полные редакции «Монтажа» и «Не-
нание и психология художественного восприятия / ред.:
Александр Зись и Михаил Ярошевский. М.: «Наука», 1988.
С. 267—299.
16
Эйзенштейн С. Дисней // Проблемы синтеза в художе-
ственной культуре / ред.: Александр Прохоров, Борис Ра-
ушенбах. М .: «Наука», 1985. С. 209—284 . Disney. Calcutta:
Seagull Books, 1986.
17 Эйзенштейн С. О детективе // Приключенческий фильм.
Пути и поиски / ред. Александр Трошин. М.: ВНИИК, 1980.
С. 134—160 .
27
равнодушной природы», впервые предложив
читателю исследование «Метод».
Воспринятый в России в девяностые годы
Мишель Фуко направил интерес исследовате-
лей на проблемы тела, власти, сексуальности.
В дневниках Эйзенштейна — а именно они воз-
буждают теперь фантазию исследователей —
надеются найти материал для анализов нового
рода. Задержанную публикацию дневников,
которые готовятся к изданию сейчас, можно
понимать как опасение, что Эйзенштейн — ди-
алектик, левый структуралист и жертва тота-
литарной системы (в парадигме шестидесятых
годов), Эйзенштейн — культуролог, исследова-
тель полифокальной перспективы (в парадигме
семидесятых), будет вытеснен иной ипостасью —
гомосексуального эстета, коррумпированного
властью.
Но все эти публикации находились в ста-
рой «эпистеме», не добавляя к известному
корпусу идей Эйзенштейна и об Эйзенштей-
не леворадикальные и политические тек-
сты. Эту смелую попытку делает сборник
«Красный Эйзенштейн» и его составители.
При этом они явно оглядываются на ос-
новной принцип, по которому надо «изда-
вать», «читать» и «понимать» Эйзенштейна —
его шарообразную книгу, первую книгу, кото-
рую Эйзенштейн задумал в конце двадцатых
годов.
28
С одной стороны, этот замысел был вызван
необходимостью представить свою позицию,
затмить соперников (формалистов, Кулешова,
Тимошенко и Пудовкина, чьи книги выходят
в это время18) и — взломать принятые формы
изложения своих взглядов в виде манифеста,
статьи, автобиографического «опыта в искус-
стве» или книги с классификацией монтажных
приемов.
«Трудно писать книгу», — записывает он
в своем дневнике 5 августа 1929 года.
«И потому, что всякая книга — двухмерная.
А мне хотелось бы, чтобы эта книга отличалась
бы одним свойством, которое никак в двухмер-
ность печатного труда не влазит.
Требование это двойное.
Первое состоит в том, что букет этих очерков
никак не должен рассматриваться и восприни-
маться подряд.
Мне бы хотелось одновременности восприятия
их разом, ибо, в конце концов, все они — ряд
секторов в разные области вокруг одной общей,
определяющей их, точки зрения — метода.
18 Тимошенко С. Искусство кино. Монтаж фильма. Л.:
«Academia», 1926; Пудовкин В. Кинорежиссер и кинома-
териал. М .: «Теакинопечать», 1926; Поэтика кино / ред.
Б. Эйхенбаум. М. - Л.: Academia, 1927; Кулешов Л. Искус-
ство кино. Мой опыт. М. - Л.: «Теакинопечать», 1929. Когда
книга Пудовкина вышла на немецком языке, в нее были
включены отрывки из книги Тимошенко «Filmregie und
Filmmanuskript» (Berlin: Lichtbildbьhne, 1928).
29
С другой стороны, хотелось бы и чисто про-
странственно установить возможность взаимо-
соотноситься каждому очерку непосредственно
с каждым — переходить одному в другой и об-
ратно. Взаимоссылками из одного в другой. Вза-
имодействиями одного по отношению к другому.
Такому единовременному и взаимному проник-
новению очерков могла бы удовлетворить книга
в форме... шара!
Где секторы существуют в виде шара — разом
и где, как бы далеки они друг от друга не были,
всегда возможен непосредственный переход из
одного в другой через центр шара.
Но увы...
Книжки не пишутся шарами. [ . . .] Нужны стало
быть паллиативы.
Осталось предполагать, что книжка, столь часто
трактующая о методе взаимообратимости, будет
и прочтена по тому же методу.
В ожидании, пока мы научимся читать и писать
книги в форме вращающихся шаров! Книг —
мыльных пузырей — ведь и сейчас немало! Осо-
бенно по искусству!»19
Поэтому любой текст, представленный
в этом сборнике и кажущийся лишь реакцией
на горящую, но сейчас забытую, запыленную
и похороненную проблему, имеет как минимум
трех двойников — фильм или замысел филь-
19 РГАЛИ,Ф. 1923.Оп. 2.Ед. хр. 1152.Л. 8—9.
30
ма, часто не записанный, а только сохраненный
в серии рисунков, дневниковую запись и теоре-
тическую рефлексию. И конечно, биографиче-
скую и политическую отсылку. Тексты, кажу-
щиеся ясными в заостренной высказанности, —
как пленка, не кинопленка, а поверхность, под
которой бездна недосказанного, восторг, тщес-
лавие, травмы и страх. В этом смысле вдвой-
не мужественно публиковать эти тексты без
комментариев, отсылая читателя в огромное
пространство противоречивых мнений, кото-
рые формулировались как полемика «классо-
вых друзей» с Эйзенштейном тогда и которые
также непримиримо обсуждаются сегодня.
Государственный заповедник
«Красный сборник» вызывает ассоциации
с «красной книгой» — спасает то, чье суще-
ствование грозит исчезнуть в записи. Книга —
последний след исчезающего. За каждым тек-
стом сборника стоит амбивалентная история,
и я не буду рассказывать все эти истории20.
Большинство статей направлены на «вну-
треннего» советского читателя, лишь один
выламывается из полемики внутри закрытой
20 Я отсылаю заинтересовавшихся читателей к недавно
вышедшему переводу написанной мной биографии Эйзен-
штейна «Судьба броненосца» (Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2017).
31
страны и представляет русское кино — в пе-
ресказе и без картинок — иностранцам. Загра-
ница, пишет Эйзенштейн в «Автобиографии»,
открывающей сборник, это самое большое
испытание. Его доклад в Сорбонне проходит
в драматических обстоятельствах. 26 янва-
ря агенты ГПУ похитили в Париже генерала
Александра Кутепова, возглавлявшего в из-
гнании «Русский общевоинский союз» (РОВС).
Похищение вызвало шумную кампанию про-
теста в дипломатических и политических кру-
гах. Она все еще не утихла к 17 февраля, когда
Рене Алленди, вице-президент Французского
психоаналитического общества, личный пси-
хоаналитик Генри Миллера и Антонена Арто,
переводчик с русского языка под псевдонимом
«Судьба», работавший в это время над кни-
гой «Капитализм и сексуальность» (вышла
в 1931 году и впечатлила Жоржа Батая), ор-
ганизовал показ «Старого и нового» в Сорбон-
не. Там он возглавлял группу философских
и научных исследований (сегодня его интересы
назывались бы «междисциплинарными»). По-
смотреть картину собралось две тысячи людей,
но вмешалась полиция и запретила показ. Свое
вступительное слово Эйзенштейн должен был
превратить в лекцию об интеллектуальном кино,
в надежде, что его не будут спрашивать, где
находится генерал Кутепов. Описывая русское
кино, он представляет свою программу. Если
32
в американских картинах история — фон для
любовной интриги, у нас, говорит он, это фильм
масс без треугольника из мужа, жены и любов-
ника. Меж тем только два года назад Шкловский
писал обратное: «Происходят революции, и все
это без иронии натягивается на роман. Рушится
строй, а на экране появляется надпись: “А в это
время бедная Полина...” Мы знаем, что иначе
работает Эйзенштейн, но он не в счет, он — го-
сударственный заповедник. Нашим товарищам,
которые работают над фильмой факта, работать
трудно. Без Полины не верят»21.
Друзья и соперники
Оценка фильмов коллег представлена
в сборнике панегирическими — опубликован-
ными — рецензиями на «Крестьян» Фридриха
Эрмлера и дилогию о Ленине Михаила Ромма
и не напечатанными тогда заметками о фильме
«Счастье» Александра Медведкина. Эти ста-
тьи расходятся с резкой оценкой, которую Эй-
зенштейн дает фильмам современников перед
своими студентами в ГИКе («По тематике, по
крику “Встречный” [Эрмлера и Сергея Ютке-
вича] правилен, но он сделан так, как сапожник
сделал бы картину», в том же духе он говорит
о «Крестьянах»). Еще откровеннее его суждения
21 Шкловский В. За 60 лет. Москва: «Искусство», 1985. С. 64.
33
об этих фильмах в дневниках. 31 марта он запи-
сывает после просмотра «Мы из Кронштадта»:
«Я, оказывается, еще очень и очень нужен! Кто-
то же должен заботиться об искусстве в кино!
Это даже не разные уровни, а разные области»22.
«Мы из Кронштадта» поставил Ефим Дзиган
по сценарию Всеволода Вишневского. Расхва-
ленный как великое достижение социалистиче-
ского реализма, тяжеловесный эпик Дзигана
о восстании революционных матросов не обладал
и толикой энергии «Потемкина». В написан-
ной по заказу, но не опубликованной тогда ре-
цензии Эйзенштейн, естественно, хвалил этот
фильм как продолжение линии «Потемкина»
и от всего сердца благодарил автора за «замеча-
тельное кинопроизведение», за «новые достиже-
ния по линии [...] эпического стиля»23. Что это —
циничная двуликость или понимание железной
необходимости? Своему другу Максиму Штра-
уху он давал когда-то совет, как должен вести
себя кинорежиссер: «Надо нажимать, дипло-
матничать, унижаться, хитрить, лукавить,
опять нажимать. Но делать. И делать по-
настоящему»24. Позже, оглядываясь на прожи-
тую жизнь, он записал, что когда-то его порази-
22
РГАЛИ.Ф. 1923.Оп. 2.Ед. хр. 1152.Л. 9—10.
23 Эйзенштейн С. О романе-фильме «Мы, русский народ» //
Избранные произведения. Т. 5. М.: «Искусство», 1968.
С. 259.
24 Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искус-
ство, 1973. С. 75. Курсив мой — О.Б.
34
ла легенда о богатыре, который копил силы для
великих будущих свершений, но вынужден был
все время терпеть унижения. «В личной, слиш-
ком личной, собственной моей истории нередко
шел и я сам на эти подвиги самоуничижения...
безуспешно»25.
Лишь его не напечатанная тогда похвала
Медведкину кажется абсолютно искренней —
тому удалось то, что Эйзенштейн хотел до-
биться в своем фильме об «идиотизме русской
деревни», который он так сочно описывает
в статьях «Даешь комсомольца в Дристалов-
ку» и «Пять эпох», да еще в жанре эксцентри-
ческой комедии. Но фильм Эйзенштейна дол-
жен был иллюстрировать генеральную линию
Сталина, которая все время менялась, поэтому
от комедии в картине осталось немного — в от-
личие от фильма Медведкина, который надолго
исчез из памяти и был открыт лишь в 1964 году
в киноархиве Виктором Деминым.
Генеральная линия: жизнь и судьба
Эйзенштейн, поставивший самый политиче-
ски заражающий фильм, о повторении которого
в национал-социалистической кинематографии
мечтал министр пропаганды Третьего рейха,
25 Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искус-
ство, 1973. С. 289—290 .
35
был вынужден стать политическим художни-
ком, а это значит меняться вместе с генераль-
ной линией. В 1933 году в речи, произнесенной
в Берлинской Кролль-опере, Геббельс потре-
бовал от немецких художников национал-со -
циалистического «Потемкина». Два года спу-
стя его желание было исполнено. Карл Антон
снял «Белых рабов» — фильм, изображавший
восстание русских матросов 1905 года с точки
зрения офицеров. 9 марта 1934 года Эйзен-
штейн ответил на речь Геббельса открытым
письмом в «Литературную газету», которое
было переведено и перепечатано в журнале
«Film Art» и немецкой эмигрантской газете
«Pariser Tageblatt». Эйзенштейн, в сущности,
отказывал нацистскому «казенному» искусству
в экзистенциальном праве называться искус-
ством. «Правда и национал-социализм несо-
вместимы», — писал он, поскольку этот режим
основан на лжи (как явствует из процесса
над Димитровым), презрении к человечеству
и массовом терроре. А произведение искус-
ства достигает подлинности лишь тогда, ког-
да «удается художнику понять, почувствовать
и передать творческий порыв самих масс». Этот
текст можно перечитать в сборнике. В те годы
Эйзенштейн, как и многие, верил, что фашизм
вскоре уничтожит сам себя и что немецкий
пролетариат покажет, кто является «субъектом
истории». Его аргументы против искусства на
36
службе у чиновников нацистской партии и его
защита советского искусства оттенялись, од-
нако, страшными событиями 1934 года. Всего
лишь два месяца спустя был арестован Осип
Мандельштам, который совершил в тюрьме по-
пытку самоубийства. Вскоре после этого аме-
риканский критик и переводчик Троцкого Макс
Истмен опубликовал книгу «Художники в фор-
ме: этюд о литературе и бюрократии»26. На За-
паде книга стала сенсацией и вызвала скандал
в Москве. Автор резко критиковал советский
государственный аппарат, уничтожающий рус-
ских писателей. Обсуждавшие книгу проводи-
ли знак равенства между способами, каким
национал-социалисты и русские коммунисты
используют своих художников. В результате
18 июля 1934 года Карл Радек был вынужден
ответить в «Известиях». Он отверг выдвинутые
Истменом обвинения, указав на концентраци-
онные лагеря и сжигание книг в Германии.
Там поэтов уничтожают физически, тогда как
в Советском Союзе их лишь активно застав-
ляют участвовать своим искусством в строи-
тельстве социализма. В своей полемике Радек,
по сути, сводил на нет направленный против
Геббельса аргумент Эйзенштейна, согласно
которому искусство невозможно создавать под
давлением партии. Впрочем, никто не обратил
26 Eastman M. Artists in Uniform: A Study of Literature and
Bureaucratism. New York: Knopf, 1934.
37
внимания на связь между двумя выступления-
ми. Даже сам Эйзенштейн открыто не признал
этот диссонанс; в конце концов, все свои филь-
мы в 1920-х он сделал по приказу партии.
18 февраля 1940 года Эйзенштейн обраща-
ется по радио Коминтерна, Москва — в связи
с постановкой «Валькирии» в Большом театре —
к новым союзникам — немцам. Его постановка
«Валькирии» в Большом театре — главное куль-
турное событие в рамках нового пакта Молото-
ва — Риббентропа, правда, его фильм «Александр
Невский», об очевидном политическом смысле
которого он пишет в статье «Патриотизм —
моя тема», в это время был снят с проката.
А еще через год Эйзенштейн публикует массу
статей о том, как надо громить и сокрушать
подлых фашистских захватчиков, каннибалов
и бестий, в «Красном флоте», в «Правде»,
в «Кино», в «Интернациональной литературе».
В 1928 году Стефан Цвейг во время их раз-
говора об отцах-тиранах подал Эйзенштейну
идею сделать фильм об Иване Грозном. Тогда
режиссер назвал Ивана персонажем из Эдгара
По, который едва ли заинтересует советского
труженика. Историю Ивана невозможно изло-
жить реалистически, но лишь как фантазию
о демоническом монархе-бестии27. В 1941 году
27 В интервью американскому журналисту Джо Фриману.
Freeman J. The Soviet Cinema // J. Freeman, J. Munitz et al.
Voices of October: Art and Literature in Soviet Russia. New
York: Vanguard Press, 1930. С. 233 .
38
он принял госзаказ на эту картину, и время
диктовало иное видение. Жестокость царя
(«безумца и садиста») Эйзенштейн трактует
теперь как выражение исторического отказа
от компромисса и видит в нем фигуру русского
Ренессанса, «образ, пугающий и привлекатель-
ный, обаятельный и страшный, в полном смыс-
ле слова — трагический». Этот герой нужен
был Сталину, который дал разрешение начать
съемки лишь после победы под Сталингра-
дом (!), как оправдание собственного террора
во имя великого государства и великой идеи.
Признать эту трактовку и объявить царя ге-
роем нашего времени значило для Эйзенштей-
на оправдать сталинские чистки, унесшие его
близких друзей.
Однако статья и фильм — два разных
мира. Одним из визуальных прототипов
Ивана стал для Эйзенштейна грим Джона
Барримора в роли мистера Хайда. Солнце-
ликий князь превращался в течение фильма
в уродливого, отталкивающего старика из
экспрессионистского фильма, вампира Нос-
ферату. Клаустрофобическое царство теней
Ивана, населенное демонами-опричниками
в напоминающих ку-клукс-клан (но черных)
капюшонах, подталкивало к недвусмыслен-
ному выводу. За первую серию Эйзенштейн
получил Сталинскую премию, вторая была
запрещена, и режиссер был приглашен для
39
частной беседы в Кремль, чтобы обсудить
необходимые поправки. Сталин считал героя
нерешительным и гамлетообразным, Жданов
говорил, что Эйзенштейн увлекся тенями, от-
влекая зрителя от действия, и «бородой Гроз-
ного»28. Эйзенштейн пообещал бороду укоро-
тить. Он должен был сделать новую картину
с новым финалом. Сталин пообещал, что
у него не будет ограничений ни по срокам, ни
по деньгам. Но Эйзенштейн ничего не изме-
нил в фильме, который вышел в 1958 году —
10 лет спустя после смерти режиссера, 5 лет
спустя после смерти заказчика.
Однако самое поразительное в этом режис-
сере — а тексты сборника фиксируют это бла-
годаря краткости — не его зависимость от по-
литических дискурсов, а его свобода меняться
как художник, не повторяя себя ни в одном
фильме, и оставаться при этом узнаваемым.
К подобной свободе готовы одиночки. Чтобы
закрепить себя в сознании других — зрите-
лей, критиков — художник должен повторять
себя, как Марк Шагал или Джексон Поллок,
как Феллини, Бергман или Тарковский, снимая
все время один и тот же фильм. Эйзенштейн
же стремился сознательно к не-повторению,
которого от него все ожидали. Вместо второго
«Броненосца “Потемкин”» — «фильма НЭПа»
28 Марьямов Г. Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино.
М.: Киноцентр, 1992. С. 87 .
40
в его трактовке (читай «Констанцу», не опу-
бликованный тогда текст) — он делает никому
не понятный «Октябрь» и пафосную комедию
«Старое и новое». От фильма массы он при-
ходит к агитке, стилизованной в фольклорную
легенду о святом князе Невском, маскирую-
щую action фильм, в котором битва — чистый
кинетический балет — занимает 25 минут
экранного времени. А оттуда — к барочному
экспрессионистскому фильму о меланхоличе-
ском сумасшедшем тиране.
Это та свобода, которую дала ему — как он
заявляет в первых двух текстах сборника, двух
автобиографиях, 1939 и 1933 года, — револю-
ция. В отличие от его более ранних и поздних
автобиографий (блестящей статьи «Как я стал
режиссером», напечатанной сейчас внутри
«Мемуаров») здесь нет ни намека на психоа-
нализ, на мистиков, масонов, розенкрейцеров,
антропософов, undersexed тирана-папу и не-
вротическую oversexed тирана-маму, которые
формировали его в ранние годы. Однако это
не бюрократические документы. Эйзенштейн
пишет историю себя в революции как исто-
рию свободы выбора, которая позволила ему
сломать семейную традицию (от отца к сыну)
и традицию в искусстве (от разных отцов —
к себе), и более того — каждый раз ломать
только что созданный образ себя от одного
фильма к другому.
41
Тексты сборника не дают контекстов для
этих изменений, многие из них вне этого кон-
текста закрыты, и, конечно, может встать во-
прос: если они представляют собой подчас
такие загадки, стоит ли эти «однодневки» пе-
чатать сегодня, зная, что Эйзенштейн, публи-
куя эти актуальные отклики, фиксирующие
один момент, в это же время пишет нетленку
в стол? Однако эти короткие тексты гораздо
более емко передают радикальные изменения,
зигзаги его мысли, которые не так легко уло-
вить в 800-страничных трактатах, куда Эйзен-
штейн перенимает куски их старых статей, но
постоянно меняет их смысл в новом контексте.
Здесь же через две страницы виден огромный
скачок, смена дискурса, языка, стиля, резкие
повороты — параллельно всем изломам вре-
мени и кино.
«Деятельность и жизнь кончились: громы
оружия затихли, и утомленные бойцы вложи-
ли мечи в ножны, почили на лаврах, каждый
приписывает себе победу, и ни один не вы-
играл ее в полном смысле сего слова...» Эту
цитату из «Литературных мечтаний» Вис-
сариона Белинского Эйзенштейн вклеивает
в одну из своих не напечатанных тогда статей.
Но она действует и для него — как и для его
читателей — сегодня.
43
Автобиография
Не могу похвастать происхождением.
Отец не рабочий.
Мать не из рабочей семьи.
Отец архитектор и инженер. Интеллигент.
Своим, правда, трудом пробился в люди, до-
брался до чинов.
Дед со стороны матери хоть и пришел босой
в Питер, но не трудом пошел дальше, а предпо-
чел предприятием — баржи гонял и сколотил
дело. Помер. Бабка — «Васса Железнова».
И рос я безбедно и в достатке. Это имело
и свою положительную сторону: изучение в со-
вершенстве языков, гуманитарные впечатления
от юности. Как это оказалось все нужным и по-
лезным не только для себя, но — сейчас очень
остро чувствуешь — и для других! (Нужны для
юношества средние художественные учебные
заведения! Это моя мечта.)
Но вернусь к себе.
Итак, к семнадцатому году я представляю
собой молодого человека интеллигентной семьи,
44
студента Института гражданских инженеров,
вполне обеспеченного, судьбой не обездолен-
ного, не обиженного.
И я не могу сказать, как любой рабочий
и колхозник, что только Октябрьская револю-
ция дала мне все возможности к жизни.
Что же дала революция мне и через что
я навеки кровно связан с Октябрем?
Революция дала мне в жизни самое для меня
дорогое — это она сделала меня художником.
Если бы не революция, я бы никогда не
«расколотил» традиции — от отца к сыну —
в инженеры.
Задатки, желания были, но только револю-
ционный вихрь дал мне основное — свободу
самоопределения.
Ибо если самоопределение народов — одно
из величайших достижений, то одно же из ве-
личайших достижений — это доступность осу-
ществления своего творчески-трудового идеала
каждым человеком.
В буржуазном обществе этого нет. Там про-
фессиональное рабство, зависимость. А особен-
но в так называемых «свободных» профессиях.
Не то у нас. Начиная с любого пионера, ко-
торый точно может начертать себе пути своих
идеалов, зная, что страна, партия и государ-
ство помогут ему всем; так и в любой, сложной,
«вольной» профессии художника, писателя —
то же самое.
45
Для социализма вы можете трудиться в той
профессии, которая вам особенно дорога, в ко-
торой вы и дать можете больше всего.
В критический момент (третий курс инсти-
тута) я вкушаю впервые эту свободу выбора
своей судьбы, которая сейчас записана в пара-
графах прав трудящихся Конституции.
Происходит это в самый разгар граждан-
ской войны.
В семнадцатом году я был призван в школу
прапорщиков инженерных войск. Она скоро рас-
формирована, а в феврале восемнадцатого года
я уже вступаю в военное строительство — путь
от телефониста до техника и поммладпрораба.
Любопытно, что моя художественная деятель-
ность начинается с РККА. Культработа в строи-
тельстве. (Комиссар пишет. Инженеры играют.)
Переход в Политуправление Запфронта.
Декоратор фронтовой труппы. Елисеев.
Агитпоезда. 1920-й год. Пузатый пан-паук,
прокалываемый красноармейским штыком.
(Докололи сейчас!)
Выбор: в институт, в искусство?!
Попадаю в Москву. В Академию Генштаба,
по восточным языкам.
Первый Рабочий театр Пролеткульта.
Приезжаю в театр «вообще». Но то, что
театр был рабочим, оказалось не случайно.
Из театра «вообще» — это становится рево-
люционным театром.
46
С этим же театром мы врастаем (1924)
в первую киноработу — «Стачку» («К диктату-
ре») — цикл картин по истории партии.
И если революция привела меня к искус-
ству, то искусство целиком ввело в революцию.
Углубление в историю партии и революцион-
ное прошлое русского народа давало то идео-
логическое наполнение, без коего невозможно
большое искусство...
И это второе, что дала мне революция, —
идейное наполнение для искусства.
Искусство подлинно, когда народ говорит
устами художника.
И это удавалось.
То, чего не имеют художники в мире нигде.
Но наша страна дает художнику еще боль-
ше: она дает ему метод познания «тайн» своего
искусства.
Углубление в каждую область не может не
привести к ощущению ее диалектики. Но фи-
лософское обобщение возможно, лишь когда
базируешься на методе.
Встреча с методом.
Проблема выразительности актера.
Итак, советский строй дал мне еще и самое
нужное: метод и твердую философскую базу
для теоретических исканий.
Скоро надеюсь перейти в стадию нахождений.
Из дальнейших этапов интересна загра-
ница.
47
Заграница — это как бы университет и за-
чет на выбор классовой позиции человека.
Видел все там — от миллионера до нищего.
Колониальную эксплуатацию Мексики, негров.
Воочию — буржуазный строй. Заграница мо-
жет работать двояко. Предельная закалка.
«Бежин луг» упоминаю, ибо с ним связано
одно из самых сильных переживаний творче-
ской жизни.
Не только меня защитили, но и сам я твор-
чески основательно защитился...
И вновь я на работе, несмотря на все козни.
Мы «ответили» «Александром Невским».
И вот вы видите, что советский строй:
1. Сделал меня художником.
2. Дал мне идейную наполненность.
3. Дал мне теоретическую базу для научной
работы.
4. И не дал мне пропасть в один из самых
тяжелых творческих моментов моей биографии;
в тот момент, когда человеку нужны и под-
держка, и доверие.
И я могу сказать, что мне, как и каждому,
Советская власть дала все.
Неужели же я останусь в долгу перед своей
Родиной?!
И как каждый из нас, я отдаю и отдам себя
целиком нашей Родине, великому делу строи-
тельства коммунизма.
1939
49
Через революцию к ис-
кусству — через искус-
ство к революции
Октябрьской революции — пятнадцать лет,
моей художественной деятельности — двенад-
цать.
Семейными традициями, воспитанием и об-
разованием меня готовили на совсем другое
поприще.
Я готовился в инженеры. Но подсознательное
и неоформленное влечение к работе в области
искусства побудило меня и внутри инженерии
иметь влечение не в механически-технологиче-
скую сторону, а в область, наиболее близко со-
прикасающуюся с искусством, — в архитектуру.
Однако понадобился вихрь пронесшейся ре-
волюции для того, чтобы мне раскрепоститься
от инерции раз намеченного пути и отдаться
тому влечению, которое самостоятельно не ре-
шалось выбиться наружу.
50
И это — первое, чем я обязан революции.
Нужно было опрокидывание всех устоев, це-
лый переворот во взглядах и принципах стра-
ны и два года инженерно-технической работы
на красных фронтах Севера и Запада, чтобы
робкому студенту сбросить оковы плана, на-
чертанного ему заботливой родительской рукой
с пеленок, и, забросив почти завершенное об-
разование и обеспеченное будущее, броситься
самому в неведомые перспективы деятельности
в области художества.
Я с фронта попадаю не в Петроград к неза-
конченному делу, а еду в Москву, чтобы ввя-
заться в новое.
И хотя кругом уже бурлят и ходят ходуном
первые отдаленные раскаты надвигающегося
революционного искусства, я, дорвавшись до
искусства вообще, целиком захвачен искус-
ством «вообще».
На первых шагах наша связь с революцией
чисто внешняя.
Зато я с жадностью и, вооруженный ин-
женерно-техническими методами, все глубже
и глубже стараюсь проникнуть в первоосно-
вы творчества и искусства, где я инстинктивно
предвижу ту же сферу точных знаний, увлече-
ние которыми успел мне привить мой недолгий
опыт в области инженерии.
Через Павлова, Фрейда, сезон у Мейерхоль-
да беспорядочное, но лихорадочное восполне-
51
ние пробелов знаний по новой отрасли, чрез-
мерное чтение и первые шаги самостоятельной
декоративной и режиссерской работы на театре
Пролеткульта — идет это единоборство против
ветряных мельниц мистики, которые поставле-
ны заботливой рукой услужливых сикофантов
вокруг подступов к овладению методами ис-
кусства, навстречу тем, кто здравым умом хо-
чет овладеть секретами его производства.
Поход оказывается менее донкихотским, чем
кажется сначала. Крылья мельниц обламыва-
ются, и постепенно нащупывается в этой таин-
ственной области та единая диалектика, кото-
рая лежит в основах всякого явления и всякого
процесса.
Материалистом к этому моменту я был уже
давно по внутреннему складу.
И вот на этом этапе внезапно предстает
неожиданная перекличка между тем, на что
я набредал в аналитической работе над увле-
кавшим меня делом, и тем, что делалось вокруг.
Мои ученики по области искусства, к не-
малому моему удивлению, внезапно обращают
мое внимание на то, что в грамоте искусства
я провожу им тот же метод, что рядом в ком-
нате инструктор политграмоты в вопросах об-
щественно-социальных.
Этот внешний толчок достаточен, чтобы на
рабочем столе моем взамен эстетиков замель-
кали диалектики материализма.
52
Боевой девятьсот двадцать второй. Одна де-
када лет тому назад.
Опыт личной исследовательско-творческой
работы по частной ветви человеческой актив-
ности сливается с философским опытом соци-
альности основ всех и всяческих обществен-
но-человеческих проявлений через учения
основоположников марксизма.
Но этим дело не ограничивается. И револю-
ция через учение ее гениальных учителей уже
по-иному врывается в мою работу.
Связь с революцией становится кровной
и убежденной до конца.
В творческой работе это знаменует пере-
ход от рационалистической до конца, но почти
абстрактно театральной эксцентриады «Му-
дрец» (переработка в цирковое представление
комедии «На всякого мудреца довольно про-
стоты» А.Н . Островского) через пропагандист-
ские и агитационные театральные плакаты-пье-
сы «Слышишь, Москва?» и «Противогазы»
к революционным экранным эпопеям «Стачки»
и «Броненосца “Потемкин”».
Стремление ко все более близкому контак-
ту с революцией определяет тенденцию ко все
более глубокому внедрению в диалектические
первоосновы воинствующего материализма
в области искусства.
Последующие киноработы несут одновре-
менно с нагрузкой ответа на непосредствен-
53
ный социальный запрос попытки эксперимен-
тального практического опосредствования тайн
творчества и возможностей киновыразительно-
сти для овладения путями максимальной дей-
ственности революционного искусства и для
педагогического вооружения племени юных
большевиков, идущих на смену киномастерам
первых пятилеток революции.
Центр тяжести последних работ («Октябрь»,
«Старое и новое») лежит в области эксперимен-
тальной и исследовательской.
В план личного творчества неразрывно
вплетается планомерная научная и педагоги-
ческая практика (Государственный институт
кинематографии).
Пишутся теоретические работы по основным
принципам киноискусства.
Миросозерцание как будто сформировано.
Революция принята. Активность предостав-
лена ее интересам до конца. Остается вопрос,
насколько сознательно и непреклонно волево.
На этом этапе врезывается поездка за гра-
ницу.
Заграница — предельное испытание, которое
биография может ставить советскому человеку,
выросшему автоматически неразрывно с ростом
Октября. Испытание свободного выбора.
Заграница — предельное испытание для
«мастера культуры», сознательно проверить
«с кем он и против кого».
54
Заграница — предельное испытание для
творческого работника, способен ли он вообще
творить вне революции и продолжать суще-
ствовать и вне ее.
Перед лицом «златых гор» Голливуда пред-
стало это испытание нам, и мы выдержали его
не геройской позой высокомерного отказа от
земных чар и благ, а скромным органическим
отказом нашего творчески созидательного ап-
парата творить в условиях иной социальности
и в интересах иного класса.
И в этой немощи творить по ту сторону
демаркационной линии водораздела классов
сказалась вся сила и мощь революционного
напора пролетарской революции, как вихрь,
сметающий всех, ей сопротивляющихся, и как
вихрь еще более мощный.
До конца захватывающий тех, кто раз из-
брал идти с ней в ногу.
Так действует, так чувствует и думает вся-
кий в плеяде советских деятелей искусства,
многие из нас, пришедшие через революцию
к искусству, и все мы, зовущие через искусство
к революции!
1933
56
Метод постановки
рабочей фильмы
Метод постановки всякой фильмы — один.
Монтаж аттракционов. Что это и почему —
см. в книге «Кино сегодня». В этой книге —
достаточно, правда, растрепано и неудобочи-
таемо — изложен мой подход к построению
киновещей.
Классовость выступает:
1. В определении установки вещи — в соци-
ально полезном эмоционально и психически за-
ряжающем аудиторию эффекте, слагающемся
из цепи соответственно направленных на нее
раздражителей. Этот социально полезный эф-
фект я называю содержанием вещи.
Так можно, например, определять содержа-
ние спектакля «Москва, слышишь?» Макси-
мальное напряжение агрессивных рефлексов
социального протеста «Стачки» — накопление
рефлексов без предоставления им разрядки
(удовлетворения) здесь же, то есть сосредото-
57
чение рефлексов борьбы (повышение потенци-
ального классового тонуса).
2. В выборе самих раздражителей. В двух
направлениях. В правильной расценке их не-
избежно классовой действенности, то есть
определенный раздражитель способен вы-
звать определенную реакцию (эффект) только
в аудитории определенной классовости. При
более детальной работе должна быть еще
более унифицирована аудитория, хотя бы по
профессиональному признаку — всякий по-
становщик, например, «живых газет» в клубах
знает различие аудитории, скажем, металли-
стов и текстильщиков, совершенно по-разному
и в разных местах, реагирующих на одну и ту
же работу.
Классовую «неизбежность» в вопросах дей-
ственности легко проиллюстрировать забав-
ным провалом одного аттракциона, весьма
сильно воздействовавшего на кинематографи-
стов в обстановке рабочей аудитории. Я имею
в виду бойню. Сгущенно кровавый ее ассоци-
ативный эффект у определенного слоя публи-
ки достаточно известен. Крымская цензура ее
даже вырезала вместе с... уборной. (На непри-
емлемость таких резких воздействий указывал
кто-то из американцев, видевших «Стачку»: он
заявил, что для заграницы это место придется
вырезать.) «Кровавого» же эффекта в рабо-
чей аудитории бойня не произвела, и по той
58
простой причине, что у рабочего бычья кровь
ассоциируется прежде всего с утилизацион-
ным заводом при бойнях! На крестьянина же,
привыкшего самому резать скот, воздействие
будет нулевое.
Вторым моментом в выборе раздражителей
является классовая допустимость того или ино-
го раздражителя.
Отрицательными примерами являются:
ассортимент сексуальных аттракционов, ле-
жащих в корне большинства рыночных бур-
жуазных вещей, уводящие от конкретной
реальности приемы, как, например, экспрес-
сионизм какого-нибудь «Доктора Калигари»,
сладкая отрава мещанства в картинах Мэри
Пикфорд, эксплуатирующая и тренирующая
систематическим раздражением запасы ме-
щанской закваски даже в наших здоровых
и передовых аудиториях.
Буржуазное кино не менее нас знает подоб-
ные классовые «табу». Так, в книге «The Art of
the Motion picture»1 (New York, 1911) в разборе
тематических аттракционов на первом месте
в списке нежелательных к использованию тем
стоит «взаимоотношение труда и капитала»,
а рядом «половые извращения», «излишняя
жестокость», «физическое уродство»...
Учение о раздражителях и их монтаже
в изложенной установке должно дать исчер-
1
«Искусс тво кинофильма» (англ.)
59
пывающий материал по вопросу о форме. Со-
держание, как я его понимаю, — есть сводка
подлежащих сцеплению потрясений, которым
желают в определенной последовательности
подвергнуть аудиторию. (Или грубо: такой-то
процент материала, фиксирующего внима-
ние, такой-то процент — вызывающего злобу
и т.д .) Но этот материал нужно организовать
по принципу, приводящему к желательному
эффекту.
Форма же есть реализация этих измерений
на частном материале путем создания и сбор-
ки тех именно раздражителей, которые суме-
ют вызвать эти необходимые проценты, то есть
конкретизирующая и фактическая сторона
произведения.
Следует еще особо упомянуть об «аттрак-
ционах момента», то есть реакциях, временно
вспыхивающих в связи с определенными те-
чениями или событиями общественной жиз-
ни.
В противоположность им есть ряд «вечно»
аттракционных явлений и приемов.
Из них часть — классово полезных. На-
пример, неизбежно действующий в здоровой
и цельной аудитории эпос классовой борьбы.
И наравне с этим «нейтрально» воздейству-
ющие аттракционы, как, например, алогизмы,
смертельные трюки, двусмысленности и тому
подобное.
60
Самостоятельное использование их ведет
к l’art pour l’art2, достаточно в своей контрре-
волюционной сущности вскрытому.
Так же, как и при аттракционе момента,
которым не следует спекулировать на злобу
дня, следует твердо помнить, что идеологиче-
ски допустимое использование нейтрального
или случайного аттракциона может идти лишь
как прием возбуждения тех безусловных реф-
лексов, которые нужны нам не самостоятельно,
а для образования классово полезных услов-
ных рефлексов, которые мы желаем сочетать
с определенными объектами нашего социаль-
ного принципа.
1925
2
Искусс тву для иск усства (франц.)
62
С. Эйзенштейн о С. Эй-
зенштейне, режиссере
кинофильма «Броненосец
“Потемкин”»
Мне двадцать восемь лет. Три года, вплоть
до 1918 года, я был студентом. Вначале мне
хотелось стать инженером и архитектором.
Во время гражданской войны был сапером
в Красной Армии. В это же время в свободные
часы я начал заниматься искусством и театром,
особенно я интересовался историей и теорией
театра. В 1921 году в качестве театрального
художника вступил в Пролеткульт. Театр Про-
леткульта был занят поисками новой художе-
ственной формы, которая бы соответствовала
идеологии новой России и нового государствен-
ного строя. Наша труппа состояла из молодых
рабочих, стремившихся создать настоящее ис-
кусство, вносивших в него новый темперамент,
63
новые взгляды на мир и искусство. Их худо-
жественные взгляды и требования полностью
совпадали тогда с моими, хотя я, принадлежа
к другому классу, пришел к тем же выводам,
что и они, лишь чисто умозрительным путем.
Последующие годы были насыщены ожесто-
ченной борьбой. В 1922 году я стал единствен-
ным режиссером Первого Московского рабоче-
го театра и совершенно разошелся во взглядах
с руководителями Пролеткульта. Пролеткуль-
товцы были близки к точке зрения, которой
придерживался Луначарский: они стояли за
использование старых традиций, были склон-
ны к компромиссам, когда поднимался вопрос
о действенности дореволюционного искусства.
Я же был одним из самых непримиримых по-
борников ЛЕФа — Левого фронта, требовав-
шего нового искусства, соответствующего но-
вым социальным условиям. На нашей стороне
тогда была вся молодежь, среди нас были но-
ваторы Мейерхольд и Маяковский; против нас
были традиционалист Станиславский и оппор-
тунист Таиров.
И тем более мне было смешно, когда немец-
кая пресса назвала моих безыменных актеров,
моих «просто людей», ни больше ни меньше
как артистами Московского Художественного
театра — моего «смертельного врага».
В 1922–1923 годах я поставил в Рабочем
театре три драмы; принципом их постановки
64
был математический расчет элементов воздей-
ствия, которые я в то время называл «аттрак-
ционами». В первом спектакле — «Мудреце» —
я попытался расчленить классическую теа-
тральную пьесу на отдельные воздействующие
«аттракционы». Местом действия был цирк. Во
втором — «Москва, слышишь?» — я в большей
степени использовал различные технические
средства и пытался математически рассчитать
успех новых театральных эффектов. Третий
спектакль — «Противогазы» — был постав-
лен на одном газовом заводе в рабочее время.
Машины работали, и «актеры» работали; по-
началу это представлялось успехом абсолютно
реального, конкретного искусства.
Такое понимание театра было прямым пу-
тем в кино, так как только неумолимая пред-
метность может быть сферой кино. Мой первый
фильм появился в 1924 году; он был создан
совместно с работниками Пролеткульта и на-
зывался «Стачка». В фильме не было сюжета
в общепринятом смысле, там было изобра-
жение хода стачки, был «монтаж аттракцио-
нов». Моим художественным принципом было
и остается не интуитивное творчество, а ра-
циональное, конструктивное построение воз-
действующих элементов; воздействие должно
быть проанализировано и рассчитано заранее,
это самое важное. Будут ли отдельные элемен-
ты воздействия заключаться в самом сюжете
65
в общепринятом смысле этого слова, или они
будут нанизываться на «сюжетный каркас»,
как в моем «Броненосце», — я не вижу в этом
существенной разницы. Я сам не сентимента-
лен, не кровожаден, не особенно лиричен, в чем
меня упрекают в Германии. Но все это мне,
конечно, хорошо известно, и я знаю, что нужно
лишь достаточно искусно использовать все эти
элементы с тем, чтобы возбудить необходимую
реакцию у зрителя и добиться огромнейшего
напряжения. Я уверен, что это чисто матема-
тическая задача и что «откровению творческо-
го гения» здесь не место. Здесь требуется не
больше живости ума, чем при проектировании
самого утилитарного железобетонного соору-
жения.
Что же касается моей точки зрения на кино
вообще, то я должен признаться, что требую
идейной направленности и определенной тен-
денции. На мой взгляд, не представляя ясно —
«зачем», нельзя начинать работу над фильмом.
Нельзя ничего создать, не зная, какими кон-
кретными чувствами и страстями хочешь «спе-
кулировать» — я прошу прощения за подобное
выражение, оно «некрасиво», но профессио-
нально и предельно точно. Мы подстегиваем
страсти зрителя, но мы также должны иметь
для них и клапан, громоотвод, этот громоот-
вод — «тенденция». Отказ от направленности,
рассеивание энергии я считаю величайшим
66
преступлением нашей эпохи. Кроме того, на-
правленность, мне кажется, таит в себе боль-
шие художественные возможности, хотя она
может быть и не всегда такой острой, осоз-
нанно политической, как в «Броненосце». Но
если она полностью отсутствует, если фильм
рассматривают как простое времяпрепрово-
ждение, как средство убаюкать и усыпить, то
такое отсутствие направленности кажется мне
тенденцией, которая ведет к безмятежности
и довольству существующим. Кино становится
подобным церковной общине, которая должна
воспитывать хороших, уравновешенных, нетре-
бовательных бюргеров. Не является ли все это
философией американского «Happy ending»?
Меня упрекают в том, что «Броненосец»
слишком патетичен, — кстати, в том виде,
в котором он был показан немецкому зрителю,
сила его политической направленности была
очень ослаблена. Но разве мы не люди, разве
у нас нет темперамента, разве у нас нет стра-
стей, разве у нас нет задач и целей? Успех
фильма в Берлине и во всей послевоенной Евро-
пе, погруженной в сумерки неустойчивого status
quo, должен был прозвучать призывом к суще-
ствованию, достойному человечества. Разве та-
кой пафос не оправдан? Надо поднять голову
и учиться чувствовать себя людьми, нужно быть
человеком, стать человеком — ни большего и ни
меньшего требует направленность этого фильма.
67
«Броненосец “Потемкин”» был создан
к двадцатой годовщине революции 1905 года,
он должен был быть закончен в декабре 1925 го-
да, у нас было всего три месяца времени. Я по-
лагаю, что и в Германии такой срок считается
рекордным. Для монтажа мне оставалось две
с половиной недели, а всего было необходимо
смонтировать 15000 метров.
Если даже все пути ведут в Рим и если даже
все истинные произведения искусства, в конце
концов, стоят всегда на высоком интеллекту-
альном уровне, то я все же должен подчер-
кнуть, что Станиславский и Художественный
театр в данном случае ничего бы не могли
создать, как, впрочем, и Пролеткульт. В этом
театре я уже давно не работаю. Я, так ска-
зать, органически перешел в кино, тогда как
пролеткультовцы остались в театре. По моему
мнению, художник должен выбрать между те-
атром и кино, «заниматься» и тем и другим од-
новременно невозможно, если хочешь создать
что-нибудь настоящее.
В «Броненосце “Потемкине”» актеров нет,
в этом фильме есть только подлинные люди,
и задачей его постановщика было — найти
подходящих людей. Решали не творчески выяв-
ленные способности, а физический облик. Воз-
можность работать так имеется, конечно, лишь
в России, где все является государственным
делом. Лозунг «Все за одного — один за всех!»
68
стоял не только на экране. Если мы снимаем
морской фильм, к нашим услугам весь флот,
если мы снимаем батальный — с нами всюду
Красная Армия. Если речь идет о сельскохо-
зяйственном фильме — помогают соответству-
ющие учреждения. Дело в том, что мы снимаем
не для себя, не для других, не для того и не для
этого, а для всех нас.
Я убежден в огромном успехе кинематогра-
фического сотрудничества Германии и России.
Соединение немецких технических возможно-
стей с русским творческим горением должно
дать нечто необычайное. Более чем сомнитель-
но предположение, что я переселюсь в Герма-
нию. Я не смогу покинуть родную землю, ко-
торая дала мне силу творить, дала мне темы
для моих фильмов. Мне кажется, что меня
лучше поймут, если я напомню миф об Антее,
чем если я дам марксистское объяснение свя-
зи между художественным творчеством и со-
циально-экономическим базисом. Кроме того,
существующая в немецкой индустрии установ-
ка на шаблон и делячество делает для меня
работу в Германии совершенно немыслимой.
Безусловно, в Германии были фильмы, кото-
рые нужно было оценить высоко. Теперь же
я предвижу, что постановки «Фауста» и «Ме-
трополиса» исчерпают себя в забавных пустяч-
ках, находящихся где-то между порнографией
и сентиментальностью. В Германии нет отва-
69
ги. Мы, русские, либо ломаем себе шею, либо
одерживаем победу. И чаще мы побеждаем.
Я остаюсь на родине. Сейчас я снимаю
фильм, тема которого — развитие сельского
хозяйства в деревне, жестокая борьба за новое
сельское хозяйство.
1926
71
Констанца
(Куда уходит «Броненосец “Потемкин”»)
«Куда же уходит Потемкин»?» — вот вопрос,
который ставится очень многими зрителями.
Встретились, «помахали», прошли, но куда же
пошли?
Это, конечно, не только обывательское лю-
бопытство или рабочая любознательность —
берущие верх над осознанием величия обще-
ственного значения факта, что адмиральская
эскадра не стреляла.
И после этого максимума мыслимой в тех
условиях революционности ставить «Потемки-
на» — морального победителя пушек цариз-
ма — в обстановку дорассказывания анекдо-
та, правда, величественного и трагического,
о «корабле-скитальце» есть все-таки снижение
величия этого факта.
Мы останавливаем факт в том месте, до ко-
торого он вошел в «актив» Революции. Дальше
идет агония.
72
Недоумение зрителя, конечно, свидетель-
ствует еще и о другом — насколько в современ-
ном сознании отказ эскадры стрелять — вещь
не «поражающая», а естественно-должная.
Поэтому немыслимость этого факта сегодня
обозначается зрителем, правда, очень «сред-
ним», словом «помахали», и интерес его от ве-
личия события переходит к анекдотической его
стороне — «а что же дальше?».
Может быть, нам хотелось бы, чтобы зри-
тель этого не делал. Может быть, это дело на-
шей совести. Но это здесь несущественно.
Но существенно то, что критика-то поступает,
к сожалению, не так, как это делает мой зритель.
А ей-то сам бог велел заняться вопросом:
«Куда же ведет “Потемкин”?» То есть делать
из него выводы в вопросах кинополитики.
Вместо этого пишут мне комплименты или
докапываются, у кого я что «украл», и с такой
интенсивностью, что я начинаю чувствовать
себя «багдадским вором»3.
Хотя термин «обворовал» сюда так же под-
ходит, как к вопросу изъятия церковных ценно-
стей. Но о «церковности», может быть, изъятых
ценностей — ниже.
Сейчас же постараемся учесть курс, взятый
«Потемкиным», и определить его дальнейший
фарватер.
3
«Багдадский вор» (1924) — американский приключен-
ческий фильм режиссера Рауля Уолша с Дуглас ом Фербенксом
в главной роли.
73
Пора установить тактику нэпа в искусстве.
И помните, что кроме нэпа нэпачей — нэп есть
еще гениальнейший тактический маневр Ильи-
ча.
«Формально» чем характеризуется нэп: до-
биваются определенного эффекта средствами,
логически противоположными проводи мои
тенденции. Приближаются к социализму —
торгуя еtс.
То же в плане политики в искусстве.
И если меня спросят, что я сам ценю в «По-
темкине», то я скажу что то, что он — первая
вещь «нэповской» фазы борьбы.
Потому что в «Потемкине» полный пере-
смотр аттракционов (хотя бы «Стачки») и поло-
жительный эффект (пафос) — суровый призыв
к активности — получен через все «отрица-
тельные» средства — всеми приемами пассив-
ного искусства: сомнения, слезы, сантимент,
лирика психологизм, материнское чувство и т.д.
Эти элементы разобраны и, гармонии тради-
ционной их сокомпоновки с эффектом «увода»,
отрешения от действительности и прочего пас-
сивирующего эффекта (Чехов, «Коллежский
регистратор» и т.д .). Эти элементы «правого»
расчленены и «по-деловому» собраны. В новой
установке. Это буржуазия, вынужденная рабо-
тать на субботнике!
Я не виноват, что я не лирик. Но еще ме-
нее виноваты наши современники, что им по-
74
сле битвы нужна полоса сантимента. И я учи-
тываю, что только через сантимент их можно
взять на должную, на правильную, левую, ак-
тивную «накачку».
Неужели вы думаете, что классические «ту-
маны» — шедевр фотографии Тиссэ — это моя
«соловьиная лирика»?! (Как если бы, пропаган-
дируя кооперацию, идеалом ставили бы себе
превратить в будущем СССР в... Всесоюзный
«Мюр и Мерилиз»). Ничего подобного, я любу-
юсь ими как остро отточенной бритвой, которая
резанет на все 100% то место зрителя, которое
в данный момент нужно. Туманы «Потемкина» —
это «коровы» из «Стачки» с поправкой на год
времени!
Ведь термин «раздражитель» в рефлексоло-
гии обнимает одинаково удар палкой по башке
и мягкость голубого света.
По отношению к «Стачке» «Потемкин»,
в плане средств воздействия, — не продол-
жение, а противопоставление. Бессюжетно-
сти, протоколизму, абстрактной натурности,
если хотите, киноглазистости «Стачки» здесь
противопоставлен уже психологизм, и во всей
своей полноте. Правда, в новой роли и новый
по приемам. Вещь — не просто показ, дей-
ствующий как вещь (гармошка, клозет4); вещь
опсихологизированная как путем подведения,
4
Имеются в ви ду сцены из «Стачки» — тайные совеща-
ния раб очих-агитаторов в заводской уборной и на гуляниях под
гармошку.
75
так и в самой подаче: поворот орудия — это
действие не через показ; «взревевшие львы» —
ярчайший момент нового психологизма, апогей
психоэффекта, извлекаемого из вещи; ялики
и броненосец действуют не формальным сопо-
ставлением, а глубоко психологическим — без-
защитных, прильнувших к крепкому; сколько
раз я слышал о «трогательности» миноносца
No 267, такого «маленького» около броненосца;
а машины при встрече с эскадрой — это поч-
ти как сердце Гарри Ллойда, выскакивающее
у него при волнении из жилета!
Сравнить «разливание водой» в «Стачке»
и «Одесскую лестницу». Разница колоссаль-
ная: в учете на техницизм настроенности пу-
блики — что было основной эмоцией массы,
только что героически сдвинувшей с мертвой
точки строительство, — разливание разрабо-
тано как показ, логически, как технический
анализ комбинации тел и заливающей воды.
Так сконструирована вообще «Стачка» (вер-
нее, «показ стачки»). «Одесская лестница» —
явлена в период начинающегося разлива эмо-
циональности. Недаром он гипертрофируется
в случаях ухода партиек от партработы в се-
мью. Для личной жизни, «переживания» демо-
билизована часть личности работника. И раз-
решение ее совсем иное: фактическая линия
(средства и эффект: там — вода и тела, здесь —
выстрелы и падения) отодвинута на более чем
76
второй план; комбинация — сапоги и тела —
комбинация не «производственного» эффекта,
а «психологического», не говоря о «разэпизодова-
нии» темы ужаса, огульно разрешаемой, напри-
мер, в «Стачке» монтажом расстрела с бойней.
Преемственность «Потемкина» по отноше-
нию к «Стачке» — это развитие диалектически
возникшего патетизма в «Стачке», принципи-
ально строившейся на абстракции и логиче-
ском техницизме.
«Стачка» — трактат;
«Потемкин» — гимн .
И у «Потемкина» стык с новой эрой — но-
вого психологизма.
Каков он будет...
Но сперва ряд обязательных постановлений
о нем:
1. На одно мы не имеем права — давать
в итоге. В средствах воздействия нас определя-
ет текущая фаза реактивности аудитории — на
что она реагирует. Вне этого не может быть
искусства воздействия, а тем более максималь-
ного воздействия.
2. Какими бы они несимпатичными, теорети-
чески противоречивыми к предыдущему перио-
ду ни были, мы обязаны давать лозунг, исходя
из реального положения вещей. Во имя схо-
ластических доктрин — а таковым и является
самый актуальный лозунг вчерашнего дня —
не менять политики мы не имеем права. В ис-
77
кусстве допустимы все средства, кроме не дохо-
дящих до цели. Еще Вольтер сказал: «Au theatre
il vaut mieux frapper fort que frapper juste!»5
.
3. На что же мы не имеем права? И при
«скользких» приемах, встающих на очередь,
мы должны это помнить особо сильно. Мы не
имеем права только на одно, чему служили
прежде эти опасные аттракционы завтрашнего
дня, — на «упокоение» зрителя — все средства
должны быть направлены к тому, чтобы искус-
ство всегда заостряло текущий конфликт, а не
отводило зрителя от него. Буржуазия — вели-
кий специалист сглаживания острых вопросов
современности, так блестяще завершенных фи-
лософией «happyending’ов».
А отсюда направляющая для наступающего
психологизма — никакого станкового развития
психологических проблем «вообще», а в пла-
не фельетона — пожалуйте на булавку самый
больной текущий вопрос, требующий разреше-
ния, пусть не разрешаемый в условиях данной
вещи, но вынуждающий не «замазывать» его,
а конкретно ставить.
Мы на пороге выхода подобной, увы, теа-
тральной вещи в литературе — блестящего
«Хочу ребенка» Третьякова. Увидим, окажется
ли ставящий ее театр на той же высоте акту-
альности?!
5
«На театре лучше ударить сильно, чем справедливо!»
(франц.)
78
И в этом гарантия от неактуальности и изо-
бразительного (а что еще горше — «историче-
ского», то есть повествовательного) психологиз-
ма.
4. И последнее — не ронять уровня квали-
фикации мастерства и формального продвиже-
ния вперед в приемах орудования средствами
воздействия.
На этом заканчивается область конкретных
данных по тому, «куда уходит “Потемкин”».
Большее уточнение было бы догматическим
шарлатанством и игрой в словечки. Разреше-
ние может прийти только с новой вещью от ма-
териала, правильно взятого под углом зрения
правильной теоретической предустановки и...
интуиции в обработке его. Интуиции, пока не
поддающейся разложению и предельному ана-
лизу, но учитываемой как пока неизвестный, но
мощный вид энергии.
Для нас же, стоящих на основе монтажа ат-
тракционов, эта смена есть не опрокидывание
основ кинематографии или изменения курса
в понимании нашего киноискусства. Для нас
это очередная смена аттракциона — очеред-
ной тактический маневр в атаке зрителя под
лозунгом Октября.
1926
80
В боях за «Октябрь»
Полтора года уложено в шесть бессон-
ных бессменных месяцев. Стотысячная
армия перед киноаппаратами
«Октябрь» закончен.
Эти два слова наполнены для нас совершен-
но особым смыслом.
Уже ловкие пальцы монтажниц кинофабри-
ки собрали прохладные и скользкие куски не-
гатива. Эти женщины прошли своими глазами
сорокадевятикилометровый путь: из 49000 ме-
тров пленки их пальцы извлекли 2000 нужных.
И только теперь, когда лента скользит через
копировальный аппарат, размножаясь в сотнях
экземпляров, чтобы начать новый путь во все
концы Советского Союза, только теперь можно
вздохнуть полной грудью и, оглянувшись назад,
проследить производственный путь «Октября».
До сего дня — одиннадцать месяцев под-
ряд — мы назад не оглядывались.
Смотрели только вперед.
81
Впереди была одна цель: картина «Ок-
тябрь», ставящаяся по заданию юбилейной
комиссии ЦИК.
К этой цели шел весь наш коллектив, пре-
одолевая препятствия, которые насмешливая
судьба расставляла на нашем трудном пути
с избыточной щедростью.
Всякая кинопостановка — это своего рода
«скачка с препятствиями», но наши задания по
своему масштабу были настолько громадны по
сравнению с обычными советскими постанов-
ками, что и препятствия достигли гигантских
размеров.
Мы двигались вперед, прокладывая себе
путь по-военному: где «тихой сапой», а где
и «фугасами».
«Фугасов» было значительно больше. Взры-
вы сопровождали каждый наш шаг.
Стесняться было некогда. Против нас было
время. Это — первый враг.
Мы снимали полгода. Этот срок кажется
большим только номинально, в произношении.
Но на «Октябрь», при самом скромном под-
счете, надо полтора года. Ведь на деле пол-
года — это всего несколько тысяч съемочных
часов. Каждый час — безразлично, дневной
или ночной (эти условные грани нас ни к чему
не обязывали) — каждый час был загружен
свыше своих скромных шестидесяти минут. Мы
из полугода делали полтора.
82
Мы раздвигали тесные рамки времени. Ка-
чество переводили в количество. Темп, как из-
вестно, решает.
В неудержимом темпе мы деформировали
понятие о времени. Съемки растягивались, как
резина, как пленка, тысячами метров прохо-
дившая через аппарат за один присест.
Во время одной съемки три раза вышли га-
зеты: две вечерние и одна утренняя. Это значит,
что мы снимали подряд сорок часов.
Иногда снимали и шестьдесят часов без пе-
редышки. За часами вообще не следили. Счи-
тали это занятие бесполезным и даже вредным.
О течении времени судили по осветительной
аппаратуре: если в ход пускаются прожекто-
ры, и в большом количестве, значит — темно.
Значит — ночь.
Никаких обязанностей, правда, из этого
обстоятельства не проистекало: спали мы,
когда удастся. Удавалось редко. Но ситу-
ации сна были такие, каких никакой экс-
центрик в цирке, никакой Чаплин в кино не
придумает.
Спали на лафетах пушек, на пьедесталах
памятников (их вообще много в Ленинграде
и в частности в «Октябре»), в актовом зале
Смольного, у ворот Зимнего дворца, на ступе-
нях дворцовой Иорданской лестницы, в авто-
мобиле (лучший сон!).
Оператор Тиссэ и его помощники спали
83
между трех ножек неутомимого, вечно бле-
стящего сиянием юности аппарата «Дебри»
системы «Л».
Во время монтажа в помещении гостепри-
имного Совкино спали преимущественно на
полу, на пожарных одеялах. (Сообщаю об этом
последнем обстоятельстве, рискуя навлечь на
себя административное взыскание!).
Во всяком случае, спали меньше, чем сейчас
об этом пишу.
Остальное время снимали. Всего было снято
несколько тысяч сцен. Точно не помню сколько.
Ведь мы одно движение склеиваем из не-
скольких кусков. А каждый кусок — это само-
стоятельная сцена...
Эти полгода мы работали в Ленинграде.
По-моему, этот город имеет все основания быть
нами недовольным.
Мы сражались против его сегодняшних при-
вычек, теперешней его жизни.
Территория была против нас, как и время.
Город внешне уже забыл «десять дней, кото-
рые потрясли мир». И так же как нельзя было
найти ни одного голодного исхудалого младен-
ца для съемки «очереди за хлебом», так же
нельзя было снимать многие сцены в согласии
с распорядком ленинградского дня.
Мы не стеснялись и здесь.
Посреди белого дня разводили мосты, обыч-
но разводящиеся ночью. Трамваи в удивлении
84
и неподвижности стояли перед проблемой
«внедрения кинематографа в быт» и разведен-
ным мостом. На мосту висела и поднималась
к небу убитая белая лошадь. Поднималась
очень долго и устрашающе. На том же мосту,
вцепившись в специально построенную вышку,
поднимались и мы.
Лошадь в картине переводила на себя на-
пряжение «июльских дней».
К этим же дням относились съемки разгро-
ма особняка балерины Кшесинской и печаль-
ного шествия под градом насмешек и издевок
буржуазных «зрителей» арестованных пуле-
метчиков.
Ленинградцы, впрочем, привыкли. С этих
пор все необычайное, экстраординарное, вы-
ходящее из рамок ежедневности относилось за
счет постановочной группы «Октябрь».
Можно было совершить дневное ограбле-
ние банка на углу проспектов 25 Октября
и 3 Июля и сослаться на съемку.
Пока же ограничились тем, что на том же
углу с крыш «обстреливали» тысячную толпу,
демонстрировавшую протест против Временно-
го правительства.
В течение всей недели, пока мы брали штур-
мом Зимний (штурм, который на экране про-
бежит в двадцать минут!), к нам на помощь
с Путиловского завода, с Петроградской сто-
роны, с Васильевского острова стройными ко-
85
лоннами приходили две-три тысячи доброволь-
цев, откликнувшихся, как и тогда, на призыв
из Смольного. На призыв агитпропа и губкома
из того же Смольного.
Поиски нами «типажа» превратили город
в секцию биржи труда: ассистенты ловили лю-
дей, подошедших по облику и требуемой роли,
и требовали беспрекословного подчинения.
И к этому привыкли.
Когда начали снимать «наступление Кор-
нилова», потребовался мертвый и живой ма-
териал.
Мертвый — эполеты, шпоры, аксельбанты
и изображения всех божеств мира, начиная
с Христа и кончая негритянскими пенатами, —
символизировал идею корниловского наступле-
ния: «за бога, за веру, за отечество»...
Для этого мы обыскали, перерыли и поста-
вили вверх дном все исторические и особенно
этнографические музеи Ленинграда и Москвы.
Живой материал был той знаменитой «ди-
кой дивизией», на силу которой надеялся не-
удачный «Наполеон» и которую так уверенно
и смело «сагитнули и распропагандировали»
агитаторы Смольного.
Для этого были мобилизованы все чистиль-
щики сапог города — «типажные» айсоры. Они
были удивительно эффектны в туземных воен-
ных нарядах, и их темперамент в переживани-
ях был чуть ли не мхатовского уклона.
86
Это не мешало им угрожать срывом съемки,
в случае если им не повысят гонорара...
В съемках «Октября» прошла перед аппа-
ратом более чем стотысячная армия, если счи-
тать арифметически по съемкам.
Мы боролись с людьми, заставляя их воз-
вращаться на десять лет назад.
Многие делали это весьма охотно. Участ-
ники штурма заботливо ставили нам «диспо-
зицию» и «планировку» атаки на дворец из
Смольного, откуда десять лет назад сыпались
воззвания и приказы Военно-революционного
комитета...
Но не как тогда, иная толпа — огромная тол-
па глазеющих — сдавливала площадь Урицко-
го, любопытствовала, прорывала «цепи», сми-
ная конную милицию, сшибая аппараты. Цепи
охраны удваивали, утраивали... Наконец для
нас стало даже естественным быть под посто-
янным надзором военного контроля, под непре-
станным натиском ленинградцев.
Количество порохового дыма на площади
в ночь съемки штурма (ночей было десять) их,
кажется, удовлетворило.
Бывшие царские лакеи, чудом найденные
в современности, прекрасно совершили прогул-
ку в прошлое: в них сохранилась убедительная
атмосфера дворца.
Они помогали нашей работе и своей памя-
тью помогали создавать нужную атмосферу.
87
Такого количества световых приборов, как,
например, в съемках штурма, не запомнит ни
одна советская картина.
Такого количества съемочных
дней, уло-
женных в эти полгода, никто и никогда не знал,
пожалуй, и на 3ападе.
Вещи, работавшие в картине единицами,
были также огромны по охвату: дворец, Смоль-
ный, Петропавловская крепость, «Аврора», ар-
сенал и т.д.
Мы потеряли измерение. Преимущественно
мерили четвертым, своим собственным.
Чтобы подвести итоги, мы упомянем злейше-
го врага каждой советской картины — совет-
скую кинонеорганизованность, волокиту и бю-
рократизм, ожидающие метлы партсовещания.
Если бы не юбилейная комиссия ЦИК, сто-
явшая за нашей спиной и появлявшаяся в лице
Н.И. Подвойского всякий раз, когда нужно
было обрушиться на голову бюрократизма,
когда нас затирала машина формализма и сов-
киномании; если бы не дружный, сверхъесте-
ственный напор закусившего удила, подстеги-
ваемого сознанием задачи «коллектива»; если
бы не самое главное — поддержка широких
общественных кругов и особенно питерского
пролетариата (которому и посвящаем мы свой
труд) — то мы должны откровенно сказать:
препятствия, преодоленные нами, были бы не
преодолены.
88
Сейчас, когда последние усилия не наши,
когда наш коллектив готовится уже к новой
борьбе за... «Генеральную линию», мы огля-
дываемся назад.
Что бы там ни было, цель достигнута!
«Октябрь» — эта трудная по заданию и вы-
полнению фильма, долженствующая передать
зрителю мощный пафос тех дней, которые
потрясли мир, устанавливающая наш новый
подход к снимаемым вещам и фактам, воз-
действующая на зрителя новыми трудными
методами киноискусства, требующая острого
и напряженного внимания, — закончена.
Слово за зрителем!
1927
90
Перспективы
О сутолоке кризисов, мнимых и действитель-
ных, в хаосе дискуссий, серьезных или никчем-
ных (например, «с актером или без актера?»),
стиснутые ножницами необходимости двигать
кинокультуру вперед и требований на немед-
ленную общедоступность, зажатые в противо-
речия между необходимостью найти формы —
на равной высоте с посткапиталистическими
формами — нашего социалистического строя
и культурной емкостью класса, создавшего этот
строй, при неуклонном соблюдении основной
тенденции на непосредственную массовость
и понятность миллионам, — мы, однако, не
вправе ставить себе пределом теоретических
разрешений решение только этой задачи и это-
го основного условия.
Мы обязаны параллельно с решением по-
вседневного тактического хода поисков форм
кинематографии работать над вопросами об-
щепринципиального характера на путях раз-
вития и перспектив нашего кино.
91
Бросая все остроумие практики на выпол-
нение узкосегодняшнего наказа социального
потребителя, тем острее надо задумываться
над программностью теоретических пятилеток
в будущем.
И искать перспективы новой функциональ-
ности подлинно коммунистической кинема-
тографии в резком отличии от всех имевших
и имеющих место кинематографий.
В таком направлении и стараются работать
излагаемые соображения.
«Понять марксизм вообще приятно и полез-
но. А г. Горькому понимание его принесет еще
ту незаменимую пользу, что ему станет ясно,
как мало годится роль проповедника, т.е . че-
ловека, говорящего преимущественно языком
логики, для художника, т.е . для человека, го-
ворящего преимущественно языком образов.
А когда г. Горький убедится в этом, он будет
спасен...»
Так некогда писал Плеханов (предисловие
к третьему изданию «За двадцать лет»).
Прошло еще лет пятнадцать.
Горький благополучно «спасен».
Марксизмом, кажется, овладел.
Роль же проповедника тем временем слилась
с ролью художника. Возник — пропагандист.
Однако распря между языком образов
и языком логики продолжается. Им никак не
«договориться» на языке... диалектики.
92
Правда, на фронте искусства в центре вни-
мания на смену плехановской антитезе сейчас
стоит другое противопоставление.
Займемся сперва им, чтобы уже потом на-
метить возможности синтетического выхода из
противопоставления первого.
Итак, современное искусствопонимание
группируется от полюса к полюсу, примерно
от формулы «искусство есть познание жизни»
до формулы «искусство есть строительство
жизни». Полярное противопоставление, на мой
взгляд, глубоко ошибочное.
И не в плане функционального определения
искусства, а в неправильном обосновании по-
нятия, скрытого за термином «познание».
Сталкиваясь с определением какого-либо
понятия, мы напрасно пренебрегаем методом
чисто лингвистического анализа самого обозна-
чения. Произносимые нами слова подчас зна-
чительно «умнее» нас.
И совершенно нерационально наше нежела-
ние разобраться в том очищенном и сведенном
в формулу определении, каким по отношению
к понятию является его словесное обозначение.
Нужно анализировать эту формулу, освободив
ее от постороннего багажа «ходкого» ассоциа-
тивного материала, чаще всего наносного, ис-
кажающего сущность дела.
Доминирующими являются, конечно, ассо-
циации, отвечающие классу, доминирующему
93
в эпоху сложения или максимального потре-
бления того или иного термина или обозначе-
ния.
Мы весь наш «рассудительный» словесный
и терминологический багаж получили из рук
буржуазии.
С доминирующим буржуазным пониманием
и чтением этих обозначений и с сопутствующи-
ми ассоциативными рядами и строем, соответ-
ствующим буржуазной идеологии и установке.
Между тем каждое обозначение, как всякое
явление, имеет двойственность своего «чтения»,
я бы сказал, «идеологического чтения»: стати-
ческое и динамическое, социальное и индиви-
дуалистическое.
Между тем традиционализм ассоциативного
«окружения», отвечавшего предыдущей классо-
вой гегемонии, постоянно сбивает нас с толку.
И вместо того чтобы произвести внутрисло-
весное «классовое расслоение», слово-понятие
нами пишется, понимается и потребляется
в традиционности, нам классово абсолютно не
отвечающей.
Факт значения слова для анализа обознача-
емого им понятия отмечал еще Беркли:
«Нет возможности отрицать, что слово блестя-
ще служит тому, чтобы дать овладеть каждому
всем огромным запасом знания, включенного
в него объединенным исследовательским опы-
том его слагавших...» .
94
Вместе с тем он отмечает и указанное нами
выше — искаженность восприятия понятий от
одностороннего или неправильного пользова-
ния этими обозначениями:
«Одновременно же следует отметить, что
подавляющее большинство понятий через зло-
употребление словесными их обозначениями
и вульгаризованную разговорность совершенно
запутаны и затемнены...».
Выход из этого положения Беркли видит,
как и пристало идеалисту, не в классово-ана-
литической расчистке обозначений с точки зре-
ния их социального осмысления. Выход видит
в устремлении в сторону «чистой идеи».
«Поэтому было бы желательно, чтобы каж-
дый приложил свои силы, чтобы постичь яс-
ным взглядом сущность идеи, которую он хочет
созерцать путем освобождения ее от наряда
и обрамления слов... Нам достаточно отдер-
нуть завесу слов, чтобы четко и ясно узреть
древо познания, чьи плоды доступны рукам
нашим».
Совершенно иначе подходит к подобному
же «словообращению» Плеханов. Он рас-
сматривает слово в неразрывной социально-
производственной связи, для анализа возвра-
щая его из сфер надстроечных в сферу базово-
го производственного и практического сложе-
ния и возникновения слова.
В таком виде оно является таким же убеди-
95
тельным материалистическим аргументом, как
любой другой из используемых нами материа-
лов исследования.
Так, обосновывая «неизбежность материа-
листического объяснения истории на наиболее
изученном участке идеологий первобытного об-
щества — искусстве, он приводит в качестве од-
ного из доказательств лингвистические сообра-
жения фон ден Штейнена: «...Фон ден Штейнен
считает, что рисование (zeich-nen) развилось из
обозначения предметов (Zeichncn) с практиче-
скими целями» (Г.В . Плеханов, Основные во-
просы марксизма, ГИЗ, Москва, 1920, стр. 33).
Наше традиционное приятие и нежелание
вслушиваться в слова и игнорирование этого
исследовательского участка приводит ко мно-
гим огорчениям и морям нерациональной за-
траты различных полемических темпераментов!
Сколько, например, поломано штыков во-
круг вопроса «формы и содержания»!
Потому лишь, что динамический, активный
и действенный акт «содержания» (содержания
как «сдерживания между собой») подменивал-
ся аморфным и статическим, пассивным по-
ниманием содержания как содержимого. Хотя
никому не приходит в голову говорить о «со-
держимом» пьесы «Рельсы гудят» или романа
«Железный поток»!
Сколько чернильной крови пролито из-за
настоятельного желания понимать форму
96
только как производную от греческого «фор-
мос» — ивовая корзина — со всеми после-
дующими отсюда «организационными выво-
дами»!
Ивовая корзина, в которой, покачиваясь на
чернильных потоках полемики, покоилось это
самое несчастное «содержимое».
Между тем стоило только заглянуть в сло-
варь не греческий, а в словарь «иностранных
слов», где оказывается, что форма по-русски —
образ. Образ же на скрещивании понятий
«обреза» и «обнаружения» («Этимологический
словарь русского языка» А. Преображенско-
го). Два термина, блестяще характеризующие
форму с обеих точек зрения: с индивидуаль-
но-статической (an und fur sich*6) точки зре-
ния, как «обрез» — отмежевание данного яв-
ления от иных соприсутствующих (например,
немарксистское определение формы хотя бы
у Леонида Андреева, ограничивающееся толь-
ко этим определением).
«Обнаружение» же характеризует образ
и с другой — социально-актовой стороны —
«обнаружения», то есть с точки зрения уста-
новления социальной связи данного явления
с окружающим.
«Содержание» — акт сдерживания — прин-
цип организации, сказали бы мы в более теку-
щей манере выражаться.
6
Само по се бе (нем.)
97
Принцип организации мышления и является
фактическим «содержанием» произведения.
Принцип, материализующийся совокупно-
стью социально-физиологических раздражите-
лей, средством к обнаружению чего и является
форма.
Никто же не считает, что содержанием га-
зеты является: сообщение о пакте Келлога,
скандал с «Газетт дю фран» или дневник про-
исшествий о том, как пьяный муж на пустыре
молотком жену ухлопал.
Содержанием газеты является принцип ор-
ганизации и обработки содержимого в газете
в установке на классовую обработку читателя.
И в этом производственно обоснованная не-
отделимость совокупности содержания и фор-
мы от идеологии.
В этом пропасть между содержанием газеты
пролетарской и газеты буржуазной при одина-
ковом фактическом содержимом.
И так не в одной газетной практике — так
и во всем, начиная от форм произведений ис-
кусства и кончая социальными формами быта.
В чем же ошибочность в обращении с тер-
мином «познание»?
Его корневая связь с древнесеверогер-
манским «kna» — могу и древнесаксонским
«biknegan» — принимаю участие дотла вытес-
нена односторонне-созерцательным понимани-
ем «познания», как функции абстрактно-созер-
98
цательной, «чистого познания идей», то есть
глубоко буржуазным пониманием.
Мы никак не можем произвести в себе пере-
установку в восприятии акта «познания» как
акта непосредственно действенной результан-
ты.
Хотя рефлексологией достаточно обосновано,
что процесс познания есть увеличение количе-
ства условных раздражителей, располагающих
действенной рефлекторной реакцией со сторо-
ны данного субъекта, то есть даже в самой
механике процесса это активно действенное,
а не пассивное проявление.
Между тем практически, когда дело идет
о рассуждениях в связи с познанием, мы
трактуем его все еще в извращенной форму-
ле отделимости от деятельности и труда, как
об этом выражался, например, Эрнест Ренан
в установке на «чистое познание». В «La
reforme intellectuelle et morale» он требовал
сильного правительства, «которое заставля-
ло бы добрую деревенщину исполнять за нас
часть труда в то время, когда мы предаемся
размышлению» (Плеханов, Искусство и обще-
ственная жизнь).
Познавательная абстракция вне непосред-
ственно действенной эффективности для нас
неприемлема.
Разобщение познавательного процесса от
продуктивного для нас не может иметь места.
99
Не напрасно во французском тексте цитата
заканчивается: «...Tandis que nous speculons».
«Speculons» переводится — «пока мы предаем-
ся размышлению». Но не напрасно же у нас
неразрывно с этим термином связана совсем
иная цепь ассоциаций!
Абстрактную науку, научное мышление вне
связи с непосредственной действенностью —
«науку для науки», «познание для познания» —
мы столь же беспощадно готовы клеймить, как
и другие явления, объединяемые с родственным
«спекулятивным» обозначением, — «спекуля-
цию», в каких бы отраслях она ни возникала.
Спекулятивной философии так же мало ме-
ста в условиях социалистического строитель-
ства, как и спекуляции на продуктах первой
необходимости!
Для нас знающий — это участвующий.
В этом мы стоим на библейском термине:
«И позна Моисей жену свою Сарру...», ведь это
отнюдь не значит, что он с ней познакомился!
Познающий — строящий!
Познание жизни — неразрывно — строи-
тельство жизни — пересоздание ее.
Противопоставления этих понятий в эпоху
строительства быть не может! Даже в форме
исследовательского расчленения.
Самый факт существования нашей эпохи со-
циалистического строительства и нашего строя
опровергает его.
100
Наступающей эпохе нашего искусства пред-
стоит взорвать китайскую стену и между пер-
вой антитезой «языка логики» и «языка обра-
зов».
Мы требуем от вступающей эпохи искусства
отказа от этого противопоставления.
Качественно дифференцированное и разо-
бщенно индивидуализированное мы желаем
вернуть в количественно соотносительное.
Науку и искусство мы не желаем далее ка-
чественно противопоставлять.
Мы хотим их количественно сравнивать
и, исходя из этого, ввести их в единый новый
вид социально воздействующего фактора.
Есть ли основание к предвидению подобного
синтетического пути?
Синтетического.
Ибо мы полагаем это решение бесконечно
далеким от ведомственной формулы, что «по-
учительные произведения должны быть не ли-
шены занимательности, а занимательные — не
без дидактики».
Есть ли основания? И где общность в сфе-
рах воздействия этих, пока противопоставляе-
мых друг другу областей?
Нет искусства вне конфликта.
Будь то столкновение стрельчатого взлета
готических сводов с неумолимыми законами
тяжести, столкновение героя с роковыми пе-
рипетиями в трагедии, столкновение функ-
101
ционального назначения здания с условиями
грунта и строительных материалов, преодоле-
ние ритмом стиха мертвенной метрики стихот-
ворного канона.
Везде борьба.
Становление, рождаемое в столкновении
противоречий, захват которого возрастает
в своей интенсивности вовлечением все новых
и новых сфер чувственного реагирования вос-
принимающего. Пока, в апогее, он не вовлечен
целиком. Не единицей, индивидом, а коллек-
тивом, аудиторией. Больше того, пока сам он
не вступает в творческую игру, раздвоившись.
Коллективом на коллектив. Стенкой. Стен-
кой на стенку устремляется в спортигре раз-
двоенный коллектив друг к другу. Спортигра
как совершеннейший вид искусства, всецело
втягивающий зрителя в творца, в участника.
В современном преломлении возврат через
спорт к замыканию кольца с предтрагедийной
игрой древних, конечно, в такой же «формаль-
ной» соотносительности, при некоей общности,
как современный коммунизм к коммунизму
первобытному.
Но тем не менее!
А наука?
Книга. Печатное слово. Глаза. Глаза — моз-
ги. Плохо!
Книга. Слово. Глаза. Хождение из угла в угол.
Лучше!..
102
Кто не зубрил, бегая из угла в угол четырех-
стенного загона с книжкой в руках?
Кто не барабанил ритмически кулаком, за-
поминая... «прибавочная стоимость есть...», то
есть кто не помогал зрительному раздражению
включением моторики в дело запоминания от-
влеченных истин?
Лучше! Аудитория. Лектор. Конечно, не
выхолощенный бюрократ от просвещения.
А кто-нибудь из тех пламенных стариков-
фанатиков (их становится все меньше), как по-
койный профессор Сохоцкий, который мог ча-
сами с таким же огнем говорить об интегралах
и анализе бесконечно малых [величин], как Ка-
миль Демулен, Дантон, Гамбетта или Володар-
ский, громившие врагов народа и революции.
Темперамент лектора, захватывающий вас
целиком. И кругом. В стальном охвате внезап-
но ритмизующегося дыхания наэлектризован-
ная аудитория.
Аудитория, внезапно ставшая... цирком, ип-
подромом, митингом, ареной единого коллектив-
ного порыва, единого пульсирующего интереса.
Математическая абстракция внезапно —
в плоть и в кровь.
Вы помните сложнейшую формулу — рит-
мов своего дыхания...
Сухой интеграл запоминается в лихорадоч-
ном блеске глаз. В мнемонике коллективно пе-
режитого восприятия.
103
Дальше. Теория музыки. Хриплые одиночки
тщетно пытаются охватить пыльными горташ-
ками шкалу интервалов. Do-re, re-mi, mi-fa...
sol. Надрывается рояль. Вконец издерганы
и струны и нервы... Не выходит! Не вправишь
обратно в органику дизассоциированный про-
цесс связи голоса и слуха. И вот внезапно хо-
ром включены отдельные «сопелки». И «чудо»
совершается. В строгой чеканке, интервал за
интервалом, в коллективном действе голосиш-
ки вытягиваются, выстраиваются. Звучит. Зву-
чит!! Выходит! Взято.
Вдруг срываются с мест. В странно разме-
ренном плясе начинают двигаться по комна-
те. Что это? Дионисийский экстаз? Нет. Это
Жаку Далькрозу пришло на ум усовершен-
ствовать ритмическую память своих учеников
по сольфеджио путем введения в ритмическое
отстукивание такта всего организма в целом
заместо стукающей руки. Тончайшие нюансы
в длительностях времени преодолены с вели-
чайшей легкостью.
Но дальше! Р-р -раз! И разодран коллектив
надвое. Не кафедра оратора. Два пульта. Два
оппонента. Два «катапульта». В огне диалек-
тики, в дискуссии выковывается объективная
данность, оценка явления, факт.
«Стенка на стенку».
Авторитарно-телеологическое «так есть» ле-
тит к чертям. Аксиоматичности принятого на
104
веру — крах! «Вначале бе слово»... А может
быть, не «бе»? Теорема в противоречиях, тре-
бующих доказательств, включает диалектиче-
ский конфликт.
Включает диалектически исчерпывающе
в противоречиях постигаемую сущность явле-
ния. Неопровержимо. Предельно интенсивно.
Мобилизовав во внутреннюю схватку противо-
положных точек зрения исчерпывающие эле-
менты личной логики и темперамента.
Комплекс умудренных опытом — условных
и непосредственную пламенность рефлексов
безусловных.
В горниле диалектического огня выплавлен
новый фактор строительства. Выкован новый
социальный рефлекс.
Где разница? Где пропасть между траге-
дией и рефератом? Коль скоро смысл обоих
в том, чтобы вздыбить внутренний конфликт
и в диалектическом его разрешении снабдить
новым стимулом активности и средством жиз-
нетворчества воспринимающие массы?
Где разница между совершенным методом
оратории и совершенным методом постигания
знаний?
Дуализму сфер «чувства» и «рассудка» но-
вым искусством должен быть положен предел.
Вернуть науке ее чувственность, интеллек-
туальному процессу его пламенность и страст-
ность.
105
Окунуть абстрактный мыслительный про-
цесс в кипучесть практической действенности.
Оскопленности умозрительной формулы
вернуть всю пышность и богатство животно
ощущаемой формы.
Формальному произволу придать четкость
идеологической формулировки.
Вот вызов, который мы делаем. Вот требо-
вания, которые мы предъявляем вступающему
периоду искусства.
Какому виду искусства это будет под силу?
Единственно и только средствам кинемато-
графии.
Единственно и только интеллектуальной ки-
нематографии. Синтезу эмоциональной, доку-
ментальной и абсолютной фильмы.
Только интеллектуальному кино будет под
силу положить конец распре между «языком
логики» и «языком образов» — на основе язы-
ка кинодиалектики, интеллектуальному кино
небывалой формы и обнаженной социальной
функциональности; кино предельной познава-
тельности и предельной же чувственности, овла-
девшему всем арсеналом воздействий раздра-
жителей зрительных, слуховых и биомоторных.
Но на пути к нему кто-то стоит.
Поперек пути.
Кто это? Это — «живой человек».
Он просится в литературу. Он уже наполо-
вину забрался в театр с подъезда МХАТа.
106
Он стучится в кинематографию.
Товарищ «живой человек»! За литературу
не скажу. За театр — тоже.
Но кинематограф — не ваше место!
Для кинематографа вы — «правый уклон».
Вы — требование не на высоте уровня тех-
нических средств, возможностей, а следова-
тельно, и обязанностей его выражения. Степень
развития орудий производства диктует формы
идеологии. Вы — диктант, соответствующий
низшей стадии индустриального развития
в области искусства.
Вы как тема слишком — соха для высоко-
индустриальной формы искусства, каким яв-
ляется кино вообще, а интеллектуальное кино
в своих устремлениях в особенности.
К тому же кино приспособлено к вам и вы
к нему не более чем стрелка секундомера к пот-
рошению белорыбицы!
«Живой человек» исчерпывающе уместен
в пределах культурного ограничения и куль-
турной ограниченности средств театра...
Притом театра не левого, а именно МХАТа,
МХАТа и мхатовских тенденций, пышно
справляющих сейчас вокруг этого требования
свою «вторую молодость». И это вполне логич-
но и последовательно.
Левого же театра, за неприменимостью,
фактически не стало. Он расслоился либо
в свою последующую стадию развития —
107
кино, либо вернулся в свою предшествующую
форму ахрровского типа.
Между ними остался только Мейерхольд,
и не как театр, а как мастер.
Кино же, не отказываясь в условиях реаль-
ной политики от частичного мхатовства, курс
свой упорно должно равнять в сторону интел-
лектуальной кинематографии как высшей фор-
мы развития возможностей кинематографиче-
ской техники...
Кинематография способна, а следственно —
должна осязаемо чувственно экранизировать
диалектику сущности идеологических дебатов
в чистом виде. Не прибегая к посредничеству
фабулы, сюжета или живого человека.
Интеллектуальное кино может и должно
будет решать тематику такого вида: «правый
уклон», «левый уклон», «диалектический ме-
тод», «тактика большевизма», не только на
характерных «эпизодиках» или эпизодах, но
в изложении целых систем и систем понятий.
Именно «тактика большевизма», а не «Ок-
тябрьский переворот» или «пятый год» как
частный пример.
А самую методику и систему, — несомненно,
конечно, используя конкретный материал, но
в совершенно иной установке и под иным углом
зрения.
Схемы более кустарные, как в тематике, —
психологические и психологически-отобрази-
108
тельные, — так и более кустарные в методике
изложения «через посредников-протагонистов»
останутся на долю менее высокоиндустриаль-
ных средств выражения,
театру и кино старого игрового типа.
На долю же нового кино, единственно спо-
собного включать диалектический конфликт
в становлении понятия, выпадет задача неру-
шимого внедрения коммунистической идеоло-
гии в миллионы.
Являясь последним звеном в цепи средств
культурной революции, нанизывающей все,
работая на единую монистическую систему,
от коллективного воспитания и комплексного
метода обучения до новейших форм искусства,
переставая быть искусством и переходя в сле-
дующую стадию своего развития,
только при таком решении своей пробле-
мы кино действительно заслужит обозначения
«важнейшего из искусств».
Только так оно коренным образом будет от-
лично от буржуазного кино.
Только так оно станет куском грядущей эпо-
хи коммунизма.
1929
110
Пять эпох
(К постановке картины «Генеральная
линия»)
Нет более дискредитированного материала
в кино, чем деревня. Нет более трудного, нет
более страшного для режиссуры. Но нет и бо-
лее обязательного.
Где бой, там на передовых позициях место
передовому из искусств – кино. Ведь наше так
называемое искусство — лишь средство, раз-
новидность, один из методов борьбы вообще.
Что им пока дано на этом фронте? Убогие авто-
шаржи, условные символы борющихся систем —
фигуры: селькор, поп, кулак и наоборот: кулак,
поп, селькор. На кисельке любовной интриги.
А где фактическое? Возрастающая актив-
ность масс — «фактор первостепенной полити-
ческой важности», встающий на все возрастаю-
щем хозяйственном подъеме? Где с его стороны
мощный призыв ко всестороннему оживлению
коллективизации сельского хозяйства, к инду-
111
стриализации, повышению земледельческой
культуры, кооперации — столбовой дороге
к социализму?
Кто же иной призван широколопастным ле-
мехом всколыхнуть этот сгусток проблем, как
не кино? За что-то названо же оно «важней-
шим из искусств».
Не только картинки агрикультурного харак-
тера и хроники призвано оно делать.
Хватать за загривок и повелительно ставить
ошарашенного зрителя лицом к лицу с акту-
альной проблемой. Заставить его соучаствовать
в ней. Это — обязанность кино в первую очередь.
В наших кинотеатрах шла американская
картина «Три эпохи». Зараз переплетенными.
И это смешно. Подходя к вопросу сельского
хозяйствования, имеем Ильичевы «пять эпох».
Зараз переплетенными. И это величественно.
И не тем, что чересполосица, где в шири-
ну полоски портфеля не уложить, а подушная
треть десятины в тридцати местах разметана,
граничит с семипольем образцового колхоза.
Рядом мужики воюют с госплемхозом за то,
что племенных поросят — благородное потом-
ство великобританских хряков — не дают им
резать на мясо. А советнику датского посоль-
ства не спится. Ведь потомство хряка плюс
крестьянская чушка — первоклассный бэкон.
Русский бэкон — угроза Дании!
Не в диапазоне дело.
112
Не то, что трижды рассыпался шрифт труда
об Аниковской опытной генетической станции,
а Америка и Англия регулярно печатают ее от-
четы. Единственная в мире государственная ла-
боратория по этим вопросам. Это звучит гордо.
А попробуйте попасть в нее, в эту гордость. Про-
фессор М. из-за границы «Юнкерсом» совершил
к ней паломничество: вылез из «Юнкерса» и три
дня плутал по лесу, ибо от захолустной железно-
дорожной станции нет дороги к опытной станции.
Не «каменный век» рядом с последним сло-
вом науки и социальной организации (пла-
новое переселение в госмасштабе, коммуны
и т.д.), — не эксцентрика их сплетений захва-
тывает. Кружит голову мощный дух, идущий
от свежесрубленных сосен. Сосновой щепы.
«Строимся». Во всех пяти эпохах зараз. Стро-
им. Этот меринос из последней партии, приве-
зенной Переферковичем из Америки. Коровник
отстроен нынешней весной. Этим свинарникам
полгода. Эти курятники прожили первую зиму.
Везде щепа. Растут розовые изгороди, пах-
нущие смолой. Чтобы хряк «Бенно» (30 пудов —
чем не броненосец!) не пожрал свое породистое
потомство. Чтобы было, куда излить телячий
восторг молодых швицов-бычков.
Весело крутят тимирязевцы ручки маслобо-
ек. Хищно рвут сосцы матки-романовки ягня-
та, вдвое ее выше ростом — от пышного бать-
ки-линкольна.
113
Инженерия животноводства. Сознательное
построение целесообразной животной породы,
закрепление случайной мутации в новый вид.
Конец таинственной магии и тайне скрещива-
ния наугад. Рухнула еще одна функция боже-
ства.
«Мы на небо залезем — разгоним всех бо-
гов» — кажется, что это урчит сотня «опытных»
морских свинок.
«Дайте нам разумных родителей» — несется
из-под брудера искусственной наседки. Про-
шлым летом в совхозе ОГПУ она воспитала
18000 цыплят.
Инкубатор — новая семья... А сколько фа-
натизма. Какая преданность делу. Научный
сотрудник. С высшим образованием. Макси-
мум — 46 целковых в месяц. Когда опытная
станция переезжала, проф. Лебедев от Сивце-
ва Вражка к Белорусско-Балтийскому вокзалу
нес на себе такую... эмблему новой семьи —
инкубатор. Извозчик хотел 1 р. 80 к., а было
в кармане только шесть гривен.
А хитрый Вавилов, как Капабланка, как
Скрябин, компонует новые возможности зер-
на. Гибрид. Для каждой губернии свое. Где —
устойчивое против засухи, где — не боящееся
лишних осадков.
И крестьяне тянутся в совхозы — эти прак-
тические рассадники кабинетной премудрости
Сократов землеустройства. Меняют зерно на
114
должное. Водят на случку овец. Кастрируют
своих «недостойных» баранов.
А сам совхоз — это фабрика сельского хо-
зяйства.
Где же ты, «долюшка русская»? Восьмича-
совый рабочий день. Отпет плакатный «сея-
тель» славянофильства. «Эльворти» сеет, не
разбрасывая по ветру ни зерна. Жнейка со-
кращает рабочие руки в 12 раз. Трещат трак-
торы. Растет селекционная рожь. Запаханная
на снеге. Строится эпоха пара и электричества.
Но что это в сравнении с пафосом первого
коллективного сепаратора впервые создаю-
щейся артели!
Уже треснул лед эпохи «каменного века» —
хозяйствующий бедняк, безлошадник, бросил
отхожий промысел, не пошел в кулацкие ба-
траки. Он собирается в артель, в товарищество,
в колхоз. В колхоз, где, как в капле воды, игра-
ет, отражаясь, необъятность горизонта новой
социальной эры. Завтрашний день как в капле
воды. Как в капле молока, густого, жирного —
сливок, — из голубой водицы крестьянской
коровы через диск сепаратора. Коллективного.
Впервые.
«Бывают случаи, когда образцовая постанов-
ка местной работы, даже в самом небольшом
масштабе, имеет более важное государствен-
ное значение, чем многие отрасли центральной
государственной работы» (Ленин).
115
От сепаратора к племенному «фомке», от
бычка к трактору, к двум, десяти, сотне, к ин-
дустриализации в общесоветском масштабе.
Что по сравнению с этим пафос «Слова
о полку Игореве»!
А в перспективе: несколько крупных хо-
зяйств Сибири будут в состоянии обеспечить
хлебом весь Союз в целом.
Так, в решительный бой в союзе с серед-
няком против старого хозяйствования: врозь,
на своей лошаденке, своей сошке, — извечное
«человек человеку волк» — за коллективный
трактор, сокрушающий плетни и разгородки
еще не перешедших на коммунальную обра-
ботку полос.
Сворачивай шеи частным мельницам, част-
ным лавкам, оплотам кулака, по колесику
норовящего прикарманить трактор себе. Впе-
ред. При поддержке и рука об руку с городом.
Столбовой дорогой. Кооперацией.
В СССР, товарищи, есть чего снимать.
Не одни «свадьбы» да «наездники».
Есть перед чем и шапочку снять.
1926
117
Даешь комсомольца
в Дристаловку
Наш лозунг — в массы!
Ибо мы делаем для массы, а не через мас-
су, не через карманы массы — для себя, для
своего кармана!
Мы должны нырять в гущу массы, чтобы уз-
нать, чего она хочет. Мы должны ее втягивать
в самостоятельное творчество своей кинемато-
графии.
В массы!
Сегодня это будет — Красный Балтфлот.
Завтра — Коломенский завод. Кондострой.
Шахты. Гусь-Хрустальный.
Это тоже — культурный поход.
Этим путем обогащается неоценимым бо-
гатством культура нашего кино. И мы мчим
эту культуру снова в массы. Собранное в мас-
сах сырье готовым фабрикатом мчим обратно
в массу новым культурным походом — сотнями
экранов — во все уголки Союза.
118
Но этого мало. Принадлежность к советской
кинопромышленности еще не исчерпывает об-
щественных функций советских киноработни-
ков.
Киноэкспедиции центра должны стать куль-
турной атакой на те «медвежьи углы, куда
и вран кости не заносил» и куда пролезет раз-
ве только киноаппарат в поисках живого мате-
риала. Заглянет налоговый инспектор... иногда.
Но... никогда культурник.
Вести культурную атаку по «Чухломе».
А если нет возможности, то «натравливать»,
вернувшись с «мест»! Изобличать эти гадючьи
гнезда тупой потенциальной контрреволюции!
Злейшего вида врага культурной революции.
И революции. И культуры!
Делаю почин: Пензенский округ, станция
Пачелма, двадцать верст вправо.
От Пачелмы до Невежкина двадцать верст.
Посредине крест.
«Святый боже, святый крепкий, святый бес-
смертный, помилуй нас».
И ниже:
«Здесь убит бандитом гражданин села Во-
роны Н.П . Суздальцев, 12 мая 192...».
Тысяча девятьсот двадцать... неужели вось-
мого?? Нет! Краска облупилась — третьего!
Полегчало.
Однако спим. Третья ночь в Невежкине.
Название от невежества. Кругом: Разворуй,
119
Никольский Поим. Названия не двусмыслен-
ны. Названия — «буквальны».
Там разворовали... А тут поймали... Дриста-
ловку. Должно быть, тоже...
А людей не так уж мало. Село Невежкино
насчитывает двенадцать тысяч жителей. Де-
сять верст в округе. При шести партийцах. Трех
церквах. И ни одном комсомольце! Была одна —
да в кандидаты вышла и в Поим уехала.
Город. Город как будто и не существует. Двад-
цать верст до железнодорожной станции Пачел-
мы, а за три недели ни одной газеты не дошло.
Мануфактурного кризиса нет. Не от избыт-
ка, а оттого, что домоткаными ходят.
Мужики город видали. Бабы — нет. Видали
только те, которым от двадцати пяти до сорока
лет. На войну к мужьям на побывку ездили.
Немного повидали.
А остальные смеются: как так, лестница во
«второй этаж» — разве поверх друг друга жи-
вут?
Не мудрено, что при нашем приезде под-
нялась паника. Аппарат спугнул? Зеркала?
«Горожане»? Ничего подобного — перчатки!
Обыкновенные кожаные, но под ними помере-
щились бабам (даже писать неловко) — «крю-
чья антихристовы»! И... ну бежать! Сняли пер-
чатки — успокоились. Даже сниматься начали!
Вообще же для Невежкина город — это...
водка.
120
Водка безраздельно хозяйничает в коопе-
ративе и в трех его отделениях. Не коопера-
тив, а прямо «казенка». Впрочем, разница
есть. Если по левую сторону от входа «строй-
ными рядами» по полкам стоят четверти, бу-
тылки, косушки, то по правую... фильдепер-
совые! Повыше колен! Телесного цвета! Цвета
экрю!! Цвета виктория!! Девичьи грезы —
чулки!!!
Целыми днями кружатся вокруг «коопера-
ции». Как же! Помилуйте! — контрактация: по
восьми рублей на десятину выдали. Большое
дело! И... к вечеру пропито дотла.
Впрочем, не все кампании проходят так по-
пулярно.
Еду с крестпомовцем Сидоркиным. В чем
дело? А это во всех пунктах сходы назначены
по займу индустриализации...
Контрактация прошла оживленнее.
Да разве одного крестпомовца на двенад-
цать тысяч хватит! Да еще на десяток пунктов
на десять верст?!
Район не электрофицирован и не инду-
стриализирован. Зато пензенская газета обо-
значает: сей район на девяносто процентов...
сифилицирован. На 90 процентов. А каждая
«улица» — все эти Лягушовки, Самодурихи,
Покосы, — каждая свою «ластиху» имеет. За
пару курьих яиц любого приобщит «к про-
центу»!
121
«Серые мы! В грязи завязли...». Скулят.
Опять-таки выражение не «образное»: дворы
действительно навозом завалены по горло.
«Когда же на поле повезете?» Злой смех...
«Что ж, я унавожу, а через два года — передел.
Так «ен» землю возьмет, а мне — шиш?» —
всклокоченной бородой, с ненавистью, мотает
на соседнюю хату.
Земельные переделы. Земли много (район
многоземельный), а толку мало.
Семейные разделы ведутся со смаком, глот-
ку перегрызть готовы, а пока... поперечной пи-
лой избу поперек пилят — отец и сын! Хоть бы
на венцы сруб разделили. Так нет! Из прин-
ципа! Пополам так пополам: каждое бревно
надвое!
И стоит изба безбокая и открытым зевом та-
ращится на полнавеса коровника. А удаляясь,
скрипит телега о двух колесах (два оставлено!),
уволакивая перепиленные бревна — погублен-
ный лес.
А старик сидит: «срамно» глядеть — деко-
рация не декорация, балаган и печкой наружу!
Невежкинцы... Разворуевцы... Поимовцы...
Лягушовцы... Возьмите список населенных пун-
ктов Союза и ведите список дальше и дальше.
На десятки верст кругом Невежкина и на ты-
сячи верст вокруг этого круга.
Зеленеют участки целины, а контрактацион-
ные денежки пропиты. И все же земля тужится,
122
тужится и приносит, дает все, что может дать.
Так неужели же нельзя копнуть до глубины
и эту черноту! Перевернуть эту темень!
Ни судами, ни взысканиями, ни законами,
ни декретами тут «не взять».
Только здоровый, ярый, молодой актив смо-
жет сдвинуть и перевернуть этот тысячепудо-
вый пласт старого мира.
У нас этих ребят миллион. Миллион бук-
вальный.
Много!
Но сделайте разверстку им по бесчисленным
Невежкиным, Воронам, Дристаловкам!
И... На двенадцать тысяч жителей ни одного
комсомольца! Нельзя так!
Комплектуйте ряды комсомола.
Врезайтесь активом, буденновским рейдом
в гущу деревни! Так нельзя!
Вызываем от имени съемочной группы «Ге-
неральной линии» московский актив комсомо-
ла:
даешь крепкую комсомольскую организа-
цию в Поимский округ, Пензенской губернии!
Даешь комсомольца в Дристаловку!
1929
124
Восторженные будни
К выпуску картины «Генеральная линия»
Когда мы кончили «Броненосец “Потем-
кин”», мы стали перед двумя жгучими про-
блемами: кантонские события или советская
деревня?
События в Кантоне развертывались голо-
вокружительно, но мы не сумели вовремя ор-
ганизовать киноработу. Прошла благоприят-
ная политическая конъюнктура в Китае. От
фильма на китайскую тему пришлось отка-
заться...
Если не Китай, значит, не менее боевая, ак-
туальная тема — деревня.
Месяц был нами проведен, так сказать,
«в распахивании деревенских проблем». Мы
стали ходоками по крестьянским вопросам.
В редакциях деревенских газет, в Наркомзе-
ме, Всеработземлесе, Госплемкультуре, Гос-
сельсиндикате, Институте экспериментальной
биологии, на Генетической станции, в Сельхо-
125
закадемии, в совхозах, племхозах, колхозах —
всюду нам пришлось побывать и поговорить.
Ходили мы целый месяц.
Потом начались литературные изыскания
по страницам газет и журналов.
Обязанность кино — хватать за загривок
и повелительно ставить ошарашенного зрителя
лицом к лицу с актуальной проблемой. Но тем
слишком много: комсомол в деревне, культурное
строительство, селькоровское движение, коопе-
рация, новая семья, безбожничество, женское
движение, расслоение, раскулачивание и т.д .
Первой заботой было выбрать одну ограни-
ченную линию.
Эта линия — генеральная линия XIV парт-
съезда ВКГ(б) — линия коллективизации деревни.
Так возник наш новый, деревенский фильм
«Генеральная линия».
Эта первая монументальная картина, по-
строенная на сельскохозяйственном крестьян-
ском материале.
Постановка этого фильма есть попытка сде-
лать значительным и интересным самые серые
обыденные крестьянские проблемы, которые
политически и общественно колоссально важны.
Борьба. Она мыслится в развевающихся зна-
менах, жерлах орудий, в топоте конницы, в стол-
кновении высоких страстей, во всяком случае.
Но победное шествие идет не только этими
путями.
126
Датская кормушка. Конкурс яйценоскости.
Отепленный хлев. Запашка на весеннем снегу.
Густой слой жирного навоза на коллективно
обработанной земле. Артельная спайка.
И официально привычная терминология ре-
золюций, постановлений, директив воплощает-
ся в жизнь, в тучные стада племенного скота,
в стрекот сноповязалок, в гул тракторов.
От пафоса великой революционной борьбы,
от пламени восстания — к будням крестьян-
ского быта, к скотному двору, к счетоводным
записям молочной артели.
И заставить относиться активно, уважать
эти диаграммы повышения удоя и картотеки
по селекции зерна — вот задача, которую мы
себе ставим.
Мало того.
Кино буржуазного Запада агитирует за лю-
бовь к отечеству, богу и честному коммивояжеру
и воздвигает памятник «безыменному» солдату.
Мы должны влюбить нашу широкую ауди-
торию в повседневно-серый труд, в племенного
бычка, в трактор, идущий рядом с захудалой
лошаденкой.
Разве на Западе знают о беспримерных
достижениях наших на внутреннем «мирном»
фронте?
С Перекопом-то знакомы. Но разве Запад
знаком с героизмом «первых атак пионеров»
сельскохозяйственной революции?
127
А сами мы? Городской зритель? Разве он
знает, что творится там в борьбе за урожай?
Борьба за новое.
Восторг первых побед строительства.
Колхозы, где, как в капле воды, отражается
необъятность горизонта новой социальной эры.
Тимирязевская сельскохозяйственная акаде-
мия, где учатся рабочие и крестьяне.
Аниковская опытная генетическая стан-
ция — единственная в мире государственная
лаборатория по вопросам улучшения породы.
Сознательное построение целесообразной
животной породы. Конец таинственного вол-
шебства. Раскрытие тайн скрещивания наугад.
Рухнула еще одна функция божества!
«Мы на небо залезем, разгоним всех богов», —
так журчит сотня опытных морских свинок.
«Дайте нам разумных родителей», — несет-
ся из-под брудера искусственной наседки.
Сколько фанатизма! Какая преданность делу!
Растет селекционная рожь, запаханная на
снегу.
А в будущем... Несколько крупных коллек-
тивных хозяйств в Сибири будут в состоянии
обеспечить хлебом чуть ли не весь Союз.
Но что это в сравнении с пафосом первого
коллективного сепаратора впервые создаю-
щейся артели!
От сепаратора к племенному бычку, от быч-
ка к трактору. К двум, к десяти, к сотне!
128
Что по сравнению с этим пафос какой-
нибудь средневековой «Песни о Роланде»?
Пусть же загорятся огнем глаза нашего
зрителя перед жестянкой колхозного сепара-
тора!
1929
130
Эксперимент, понятный
миллионам
До сих пор мы делали картины без героев.
С героями фактическими, но без героев дра-
матургических.
В «Генеральной линии» впервые фигуриру-
ет герой, центральное действующее лицо, не
только драматическое, но во многом для нас
трагическое.
Наш герой, наш «стар» — наша звезда —
солнце.
Оно — счастливая звезда для картины, оно
же капризный, разорительный «стар» для ее
хозчасти.
Оно лучезарит кадры. Оно же держит нас
в жидкой расползающейся глине под пролив-
ным дождем на персидской границе, куда мы
погнались за ним от заморозков и первого сне-
га в Ростове-на-Дону.
131
Кадры горят. Но они выхвачены секундоме-
ром из тусклой серятины и слякоти трагиче-
ской осени. Хитроумный поворот зеркал прячет
пар изо рта и превращает кислый сентябрь
в палящий послеобеденным зноем июль.
«Премьер» играет и сверкает. Но бывают
дни, когда он нас дарит своей неподража-
емой игрой не больше двух — трех минут.
И капризно разражается потоками слез,
ливнем.
Календарный план вспухает, как утоплен-
ник...
Сияющий премьер, солнце, окружено при-
вычным для нас ансамблем. Машины, сонм
машин.
Это не символический маховик, стопорящий,
как бы скрещивая руки, и сковывающий в не-
подвижность бастующие заводские корпуса
в «Стачке» в немом и пассивном протесте,
в годы мрачнейшей реакции.
Это не клокочущие в нервном подъеме, гото-
вые сорваться в революционном порыве маши-
ны-двигатели бунтующего «Броненосца».
Это и не прорвавшиеся наконец всесо-
крушающим ядром октябрьского взрыва
смертоносные машины — шестидюймовые —
с «Авроры» по Зимнему дворцу, кроша вдре-
безги тявкающую свору юнкерских пулеметов
и меньшевистской стрекотни.
132
Машины, встреченные нами на путях «Ге-
неральной линии», совсем иные, чем в «Стач-
ке», «Потемкине» и «Октябре».
Они прежде всего... бегают.
Бегают сами и тащат себе подобных за со-
бой. Бегают по лицу земли, доставшейся потом,
кровью и в реве иных машин истинным хозя-
евам земли.
Перелицовать эту завоеванную землю!
И внезапно двадцатью пятью тракторами
машины закругляются в карусель по Муган-
ской равнине.
В круговой запашке, разворачиваясь ги-
гантской спиралью, они захватывают десяти-
ну за десятиной гигантскую степь. Так, сотня
за сотней, они захватят еще более гигантской
спиралью всю поверхность еще кустарно ос-
кребываемой сохами крестьянской страны.
Необозримое снежное поле белых цветов.
Причудливо над ними застыл сухой профиль
раскоряченной стрекозы — косилки.
«Летний день — зиму кормит».
Скрылась косилка в пену белых цветов.
«Царица полей» — зовут эти цветы в брон-
ницких лугах.
Застрекотала косилка. И ни к чему пот
взмыленных, как кони, косарей.
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля...
Нет баб. Сено взрыхлено сеноворошилкой,
133
весело лапами раскидывающей отлежавшее-
ся на одном боку сено. Нет баб. Нет стишков.
Веселыми лапами сеноворошилки закинуты
далеко. В глубь истории.
Туда, где и место «долюшке русской, до-
люшке женской».
Семичасовой рабочий день в деревне будет!
К черту стишки!
Торопливо, как на сдельщине, обирает поле
сеноподавалка — этот вертикальный конвей-
ер, вчистую счесывающий сено с поля на воз.
Кругом хлопают крыльями лобогрейки. Бегут
бегущими коврами мак-кормики. Жадно впи-
ваются в землю эльворти. Звенят продыряв-
ленным барабаном полки триеров.
Но когда сельхозмашина не бегает, она не
менее причудлива.
Приводной ремень крутит... молоко через
диски огромного сепаратора.
Колено машины внезапно обрастает пуши-
стым инеем. Охладительная машина побивает
июльский зной.
Жирно оползает молоко по змеевику холо-
дильника.
Тонкой струйкой стекает по бесконечным лу-
женым трубам и иглистой льдиной застывает
на поверхности объемистого посеребренного
молокоема. Безмолвные блестящие шеренги
круглых молокоемов в четыре ряда протяну-
лись среди кафельных полов, стен и потолков
134
своеобразного Колонного зала Дома союзов —
охладительного корпуса «Маслоцентра».
А рядом низвергаются каскады молочных рек
на хитросплетенные системы фильтров, рассы-
паясь молочным ливнем в мельчайшие струйки.
Вновь собираясь и вновь распадаясь теперь
уже в стройные ряды, в фаланги, в стоящие
в струнку армии молочных бутылей. С авто-
матически нашлепнутой бляхой: «Вторник»...
«Среда»... «Четверг»...
Молочная фабрика. Фабрика зерна.
Фабрика бекона, где свиная туша, конвей-
ерно мчась сквозь огонь, воду, души, щетки,
скребки, танцует своеобразный танец семи
покрывал, начиная с удара бойца кинжалом
в лохматую щетинистую шкуру и кончая уко-
лом иглы с соляным раствором в атласную
поверхность бекона, прежде чем ему скрыться
в экспортный пакет упаковки.
Фабрика породы скота.
Племхозы. Совхозы.
Вот радостная смена, распластавшаяся там,
где ползали танки, шныряли броневики, воло-
чились, увязая, тяжелые орудия и грохотали
бронепоезда гражданской войны.
Фабрики новой породы, фабрики улучшен-
ной породы, фабрики породы будущего.
Племхозы. Совхозы.
Жестоким напором индустриализации пере-
лицовывают вековой лик земли.
135
Селекцией, отбором перерождают зерно,
творят новую корову, повышают удой.
Культурной пропагандой, реальной помо-
щью, скрестив мужика с наукой, родят новый
вид человека.
Человека-коллективиста. Человека-коллек-
тивизатора.
Человека, небывалую зарядку выносящего
из этого невиданного вида фабрики. Эта фа-
брика без труб, но с растущими в небо си-
лосами. С конвейерами, но мчащими... навоз
из коровника в поле или сгребающими сено
с лугов. С цехами, но выплавляющими... цы-
плят и поросят.
И мчит он свою зарядку в свое хозяйство,
личное, маленькое и убогое, вздыбляет его
в коллективную артель, в коммуну...
Совхоз и колхоз неразрывны между собой.
Они неразрывны в борьбе своей на пути к еди-
ной конечной цели.
За единую конечную цель, за коммуну...
«Генеральная линия» не блещет массовка-
ми. Не трубит фанфарами формальных откро-
вений. Не ошарашивает головоломными трю-
ками.
Она говорит о повседневном, будничном, но
глубоком сотрудничестве: города с деревней,
совхоза с колхозом, мужика с машиной, лошади
с трактором — на тяжелом пути к единой цели.
136
Как этот путь, она должна быть ясной, про-
стой и отчетливой.
И как этот путь, ее осуществление ново, идет
впервые, по целине, а потому сложно и ответ-
ственно.
Как этот путь, она вся — искание. Искание
той правильной линии, по которой нам надо
двигаться для действительного осуществления
наших социальных устремлений.
И потому она, отказавшись от мишуры
внешних формальных исканий и фокусов, не-
избежно — эксперимент.
Пусть же этот эксперимент будет, как ни
противоречива в себе эта формулировка,
экспериментом, понятным миллионам!
1929
138
Как ни странно, —
о Хохловой
Прозвучало 8 марта.
Промелькнули на страницах «Правды»: жен-
щина-капитан, женщина-механик, женщина-
мастер.
По фабкомам кинофабрик прошли горячие
собрания «женского дня».
Отмечены победы женщины на всех фронтах.
И мрачно, как всегда, только на кинофронте:
к плеяде мастериц-мастеров он не может при-
соединить мастера-актрису.
Мастером актрисе не дают стать.
И потому, что на культурнейшем, быть мо-
жет, фронте — кино актриса-женщина по-преж-
нему только... «баба».
В женском вопросе наше кино — все тот же
дореволюционный Бомбей о девятистах голых
женщин в клетках.
Пусть «комсомолки», «крестьянки», «жен-
щины-атаманы», но «практика» требует: комса
139
должна быть пухленькой, крестьянка в тельце,
атаманша вообще «хлебная девочка».
—
Иначе публика не пойдет.
И цепко держатся наши кинодирекции за тра-
диции капиталистического понимания женщины
на экране. Когда говорят: актер, вспоминают
и требуют мастерство Лон-Чанея, Штрогейма,
Бартельмеса. Понятия женщины-мастера, рав-
ноправного артиста, там не признают.
До осуждения Валентино, Новарро и прочих
«только красавцев» — мы доросли. В вопросах
культуры актера наши требования на уровне
высокой промышленной техники.
На актрису худсоветы фабрик смотрят гла-
зами первобытных скотоводов.
А власть «скреплять и рушить узы» — власть
жуткая и безапелляционная, экономическая —
в их первобытных руках.
Сокрушительным ударом падает их реша-
ющее veto, и ... второй год Хохлова сидит без
работы. Второй год Кулешов не ставит картин.
Роскошь поистине царская при убогости на-
ших кадров настоящих мастеров, режиссеров
и натурщиков.
Хохлова — это, конечно, единственное в сво-
ем роде, быть может, стоящее серьезного упо-
минания актерское дарование на сегодня.
Это ставка на мастерство. И к тому — резко свое.
Это — не «советский Вейдт» или «советская
Пикфорд».
140
Америка, Европа этого не знают, этого не
имеют.
Присцилла Дин в некоторых вещах («Ни-
щая из Стамбула») пытается выдержать су-
ровый искус «мужской» техники, но быстро
и безнадежно скатывается в многоспальное
ложе Глорий, Барбар и Лэтрис.
Америкой владеет идеал мещаночек или
Bathing Girl.
Самое «бытие» (наличие) Хохловой опроки-
дывает этот идеал.
Решительная же хватка ее оскала в клочья
рвет трафарет формулы — «женщина экрана»,
«женщина алькова».
Но отсюда: тормашки традициям. А наши
американизированные дирекции видят в этом
погром.
Хохлова может сделать жанр.
Хохлова именно тот материал, «под» кото-
рый можно делать свои картины.
Это то «нерядовое» (экстраординарное), за
что умный хозяин платит большие деньги и на
чем зарабатывает в десятки раз больше.
За границей учредили бы акционерное об-
щество «Хохлова — фильм». А у нас это сда-
ется в пыль реквизиторских.
Недостаток простой честной хозрасчетливо-
сти, как всегда, прикрывают высокой фразой:
—
Хохлова — упадочна. Хохлова — буржуазна...
Вот это хотелось бы оспорить!
141
Если в поисках жанра Хохлова и Кулешов
не нашли еще правильного разрешения, то
клеймить ее «вообще буржуазной» и лишать ее
возможности найти свое правильное использо-
вание — просто тупость и бесхозяйственность.
Определить жанр крупному дарованию —
да еще столь многообразному, как Хохлова, —
вещь совсем не такая простая.
Кэрол Демпстер только сейчас через «Sally
of the Sawdust» нашла свое место — и это
работая столько лет с самим патриархом
Гриффитом и полагая, что ее призвание —
трогательные девушки в локонах (прочтите
о «Sally» восторги американской прессы, более
чем сдержанно писавшей об ее долголетних ме-
лодраматических экзерсисах).
У нас не умеют различать, когда повинен
сам материал, а когда частный случай обра-
ботки. У нас либо преступно попустительны
(«Медвежья свадьба»), либо «абсолютно» не-
примиримы. Иные же чудаки готовы усмотреть
диалектику в искусстве Екатерины Гельцер
(«Искусство трудящимся»).
И еще забывают, что «все относительно»
и что нет абсолютно вредного или абсолютно
полезного, а вообще может только быть исполь-
зованное разумно или временно еще нет.
Хохловой надо дать отвечающий ее данным
остросоветский репертуар и правильную трак-
товку.
142
Решительно отбросив демонических женщин,
авантюристок и прочее, я бы заплел ей косич-
ки, надел бы сарафан и пустил бы циклом гро-
тескных комических «деревня–город» с первой
на экране женщиной киноэксцентриком Хох-
ловой («Дунька в Гуме», «Дунька в автобусе»
или в этом роде).
А затем, быть может, прицепил бы к ней Ох-
лопкова и получил бы пару настоящих «кино-
масок» — живьем, тех гипсовых Таньку–Вань-
ку, которых вы видите на любом комоде, на
любом подоконнике.
Держать же Хохлову, повторяю, единствен-
ную, быть может, своеобразную нашу актри-
су... «под чадрой» просто преступно.
1926
144
Будущее советского
кино
Может быть, не совсем удобно именно мне вы-
ступать в качестве «провозвестника будущих
судеб» советской кинематографии, потому что
я являюсь достаточно непримиримым сторон-
ником одной из линий советской кинематогра-
фии.
Подобных линий в развитии советского ки-
нематографа имеется три.
Первая — которая производит картины
под заграничные, совершенно не заботясь
о нашем материале, о нашей идеологии и о тех
требованиях, которые мы предъявляем кине-
матографу.
Вторая линия — линия, приспособляющая
опыт и приемы заграничного кино, в большин-
стве по строю и формам идеологически мало
нам отвечающие, мало подходящие и к специ-
фичности нашего содержания, но удобные на
предмет перелицовки под наш спрос.
145
Третья линия пытается, исходя из новых
социальных предпосылок нашего строя, ма-
териалистическим и марксистским подходом
к киноискусству и к задачам искусства вооб-
ще наметить совершенно иные приемы, резко
отличающиеся от общепринятой кинотрадиции.
О судьбах этих трех направлений?
Конечно, фактически, как за всяким приспо-
собленчеством, ближайшее будущее останется,
хоть этого и не должно быть, за второй линией.
Я полагаю, что наибольшее количество кар-
тин пойдет именно в формах, подражающих
западноевропейским «Парижанкам» и «Варье-
те», но работающих на нашем материале. Это
наиболее легкий путь и наиболее симпатичный
для широкой и консервативно настроенной пу-
блики и также наиболее доступный к воспри-
ятию.
Что касается первой линии, то нужно наде-
яться, в особенности в связи с имеющим быть
партийным совещанием о кино в январе месяце
1928 года, что ей наконец будет дан решитель-
ный отпор и впредь она будет ограничена в том
пышном расцвете, какой имеет место сейчас.
По третьей линии предстоит еще глубокая
и упорная борьба, ибо по этой линии возникает
целый ряд новых и трудных задач.
Мы уже знаем пути оформления картин на
массовые проявления в совершенно ином раз-
резе, чем это сделано хотя бы американским
146
кинематографом. Ясно, что на этом успокоить-
ся мы не можем, и сейчас, когда идет установ-
ка не только на коллектив как на таковой, по-
скольку внимание обращается на слагающие
единицы коллектива, то рефлекторно массовое
проявление должно замениться проблемами
индивидуально-психологическими.
Сейчас задача наша состоит в том, чтобы
найти такой же правильный путь для дискус-
сионной расшифровки, а не для изображения
целого ряда психологических потрясений, кото-
рые происходят в ряде возникающих бытовых
фигур. И в частности, здесь многое должно
быть дано и заново пересмотрено в вопросе об
исполнителе. Нужно сказать, что, несмотря на
то, что ближайшее будущее идет под знаком
профессионализации и квалификации актера,
все-таки думаю, что так называемый «типаж»
должен оправдать ту точку зрения, которая
в свое время сказана была о рабочем театре
и там не оправдалась: а именно, что «только
рабочие могут играть рабочих» ; точку зрения,
относящуюся к тому периоду, когда вообще
много ошибочно теоретизировали и мудрили по
вопросу о театре. К тому забавному периоду,
когда считали, например, что «Саламанкская
пещера» — самая необходимая для рабочего
класса пьеса. Как я писал уже раньше, я ду-
маю, что точка зрения о рабочем и крестьян-
ском исполнителе как единственном способном
147
являть бытовое проявление соответствующей
среды должна целиком себя оправдать и реа-
билитировать в кино.
В этом отношении кое-какой опыт уже име-
ется, и в дальнейшем нужно будет, исходя из
этого положения или, вернее, пользуясь этим
положением, пересмотреть вообще строй бы-
товых и психологических вещей, строить со-
вершенно иначе и вещи и задания, исходя из
абсолютно нового исполнительского материа-
ла — человека с натуральными проявлениями,
а не изобразительно-актерскими.
Новое понимание психологической роли
и деятельности фильма основным положением
устанавливает, что важно провести через ряд
психологических состояний аудиторию, а отнюдь
не показывать ей ряд психологических состоя-
ний, в каковых себя изображают исполнители.
Но большой вопрос, правилен ли этот путь
вообще и имеем ли мы право далее обращаться
к аудитории со столь примитивными и кинема-
тографически сомнительными приемами, как
театральное «сопереживательство». Полагаю,
что почва теоретически достаточно взрыхлена,
чтобы стать на этот совершенно новый путь
психологической обработки аудитории. И сей-
час время за практическим экспериментом. От
слов к делу.
Это приблизительно то, что можно сказать
о художественной кинематографии.
148
Конечно, самое серьезное внимание должно
быть обращено на научно-хроникальные пути
кинематографии, которым до сих пор уделя-
лось чрезвычайно мало внимания.
Характерно, что такая богатая в органи-
зационном отношении страна, как Германия,
сейчас под влиянием американцев приоста-
навливает производство культурных фильмов.
В Германии существует ряд театров специ-
ально для научно-культурных постановок.
Теперь эти театры уничтожаются, так как,
конечно, еще более выгодно прокатывать
слезоточивые вещи, нежели культурные. По-
ставить же у нас на должную высоту куль-
турные и научные фильмы — одна из первых
и боевых задач.
В конце первого десятилетия советской ки-
нематографии замечается все же резкий пе-
реход от художественной «в себе», пусть даже
агитационной картины к совершенно иному
использованию так называемых художествен-
ных, то есть эмоционально воздействующих
приемов.
Взять хотя бы тенденцию, в которой строи-
лась еще не вышедшая «Генеральная линия»:
не как самостоятельная картина «с тенден-
цией», а как эмоционально оформленный ряд
сельскохозяйственных положений.
Заострением в подобных вопросах устано-
вок и более научной и подробной разработкой
149
вопросов воздействия на аудиторию удастся
все-таки со временем свалить непременную
гегемонию актера.
В поисках разрешения проблемы киноакте-
ра большинство прозевывает те колоссальные
возможности, которые лежат вне его, — воз-
можности более совершенные как чисто кине-
матографические, так и пропагандистски-ути-
литарные.
1927
151
За «Рабочий боевик»
Начинать можно — как фильму.
Крупно — во весь экран — пена. Горы пены.
Еще горы пены Ничего, кроме сбитой пены.
Из пены постепенно поднимается голова.
Сильно намыленная голова. Так на экране
можно реализовать понятие о головомойке.
С головомойки нужно начинать, если гово-
ришь о Совкино.
Аллегорическая голова ему и принадлежит.
Совкино «чистят» все, кому не лень. Голово-
мойка такая, что даже и Совкино начинает пони-
мать смутно, что поделом и за что. Исподволь на-
чинает подправлять курс. Румянить его. И вехи,
если не менять, то как будто подменивать.
Совкино несомненно возьмет, — а в неко-
торой плоскости и уже берет, — курс по ве-
тру. Старается хоть несколько шагов сделать
«в ногу с требованиями широких масс».
Массы хотят бытовую фильму, массы требу-
ют рабочую фильму.
Требования масс нужно удовлетворять —
152
зачем наживать неприятности и два-три лиш-
них некорректных диспута?
Совкино несомненно сделает «книксен»
в сторону «фильмы из рабочего быта».
Начинается спешная заготовка сценариев.
Обязательное требование — разворачивание
действия на производстве. И «конфликты» про-
изводственного происхождения. И материал.
И прочая и прочая и прочая.
Не нужно заниматься крещенскими гада-
тельными процессами, чтобы представить себе
планировку ближайших кинолент.
«Бытовая рабочая фильма» получит значи-
тельный процент в производственном плане
фабрик. Быт возьмут в работу. Бытовые филь-
мы попрут на зрителя, как сельдь в расстав-
ленные сети.
«Густой быт» полезет из всех щелей и дырок.
Но... как бы этот естественный, в здоровой
своей части ток не был предательски переведен
на иные провода.
Ведь достаточно маленького неосторожного
или провокационно-преднамеренного переги-
ба палки в этом вопросе и... оценка бытовой
фильмы в глазах зрителя станет эквивалентной
оценке пресловутых «восточных фильм».
Нет ничего легче, чем дискредитировать не-
вниманием недостаточно серьезным отношени-
ем — любой жанр.
Вспомним, как загубили халтурной непро-
153
думанностью темы гражданской войны всякие
«Красные партизаны», «Красные газы» и т.п.
Прибавьте сюда еще немного предвзятости,
немного злого умысла...
И...
На полках складов прокатных отделов уми-
лительными рядами выстроятся «рабоче-се -
редняцкие картины».
Именно — середняки. По качеству. По отпу-
щенным деньгам. По отпущенному вниманию.
Вернейший рецепт на оскомину.
А боевиками останутся «Булат Батыри». От-
сасывать деньгу будут всякие «Княжны Тара-
кановы» и проч.
Вместо того, чтобы бросить все силы и сред-
ства на поднятие на должную высоту продукции
«рабочей картины» и этим путем укрепить ее
рентабельность — вместо этого рабочую картину
по-прежнему будут продолжать считать оптом:
«на бытовую тему — штук 53, на общую сумму...»
К тому же сумму, в которую с трудом уло-
жились бы, скажем, 17 других «историче-
ски-коммерческих», «костюмно-коммерческих»,
«сюжетно-коммерческих»...
А самая боевая тема — тематика рабоче-
го быта — будет обречена ютиться в «бедных
родственничках» и в серятине, дешевке, не-
внимании, постепенно хиреть, отучать зрителя
от себя, заставлять его со слезой вспоминать
о «золотом веке» кинематографии.
154
Кинематографии «Поэтов и царей», «Ледя-
ных домов», «Хромых бар» и проч.
Никто, конечно, не говорит, что так будет.
Для того и созвано партсовещание.
Но предостеречь не вредно. Тем отраднее
будет, если — впустую.
Теперь о стандартизованном середняке.
Для Америки как раз он является матери-
альной базой кинопромышленности.
Американский боевик — скорее рекламное
дело (за некоторыми исключениями). Он са-
мопожирается производственными расходами
или расходами на создание и поддержание
собственной репутации.
А карман американцу набивает выстри-
женный под гребень трафарета «середняк»,
чистенькая фильмочка.
Материальная база и нашего кино (в плане
снабжения продукции) будет обеспечена тогда,
когда установится регулярный, бесперебойный
выпуск средних лент. Но средняя лента у нас —
это нечто совсем иное. Начать хотя бы с того,
что мы еще никак не владеем мастерством фор-
дизованного производства картин.
Мы с грехом пополам одолеваем иногда «бо-
евик».
А ведь это легче.
Легче написать широковещательный очерк,
чем сжаться в два — три лозунга.
155
И условия развития этого вида у нас чрез-
вычайно тяжелы. Квалификация средней кар-
тины у нас не может остановиться на формах
рыночного штампа.
При скудости выпуска у нас картин вообще
каждый выпуск слишком в центре внимания,
слишком индивидуально заметен.
У нас невозможна эксплуатация массовой
средней продукции по линии моды, устанав-
ливаемой боевиком.
На Западе — это одна из крупнейших за-
дач боевика. Стая маленьких картин до конца
«заигрывает» костюмы, реквизиты, инвентари
большой, сделавшей моду. Сегодня это бесчис-
ленный выпуск костюмных фильм после успеха
«Мосье Бокера».
Завтра это будет новый расцвет «ковбоек»,
если раскопают какого-либо феноменального
скакуна.
Даже наш «Потемкин» ухитрился завести
в Германии моду на «пароходные» картины.
Повторяю, у нас «модной» полосы не бывает.
У нас каждая картина ответственна. И хо-
зяйственно, и по тому сектору идеологии, ко-
торый она решает, и ответственна перед тем
куском нашей действительности, за который
она взялась.
Ответственна потому, что «кануть», про-
скользнуть незаметно в общей массе ей нет
возможности.
156
И ошибка ее опасна для кинематографизи-
рованного интереса к затронутому ею участку.
Эту тему снова зацепить кино не скоро смо-
жет. Вспомните, как отучили середнячки от
гражданской войны... Гражданской войны, по-
бедно вступившей в кино боевиком «Красные
дьяволята».
И как быстро мы в нашей обстановке зата-
скиваем и портим материал!
Нельзя обрекать дорогие нам темы на усло-
вия дешевки.
Краеугольные темы дня обрекать на риск
дискредитации от недостаточной затраты сил
и забот — нельзя.
Даешь боевики на темы рабочего быта!
За боевик, потому что тема боевая.
За боевик, потому что боевик в обстановке
нашего производства, пока что, та единствен-
ная форма, которая предоставляет возмож-
ность материально, временно и по условиям
производства серьезно заниматься темой и ма-
териалом.
Но здесь встает вопрос, ставящийся всегда
в центр внимания на дискуссиях подобного
рода.
Вопрос — сумеет ли тема из рабочего быта
оправдать другие «обязанности» боевика —
вопрос не только рентабельности, но и большой
прибыли.
157
Вопрос «кавычечной» коммерции.
Вопрос, увы, решающий в схватке «нашей»
картины с «западной — местного производ-
ства» («Процесс 3-х миллионов» и т.п .).
Самое любопытное, что предвзятая в уста-
новке точка зрения на «коммерческую невыгод-
ность» в этом вопросе является здесь следстви-
ем идеологической ошибочности в обращении
с самим материалом рабочего быта.
Идеология здесь определяет коммерцию.
У нас установилось понятие, что из рабо-
чего быта возможны лишь «картинки». Узко-
очаговые. Микроскопических индивидуальных
измерений.
С полным игнорированием того социального
окружения, грандиозных социальных сдвигов,
толчки которых и определяют ломку, переу-
строение сдвигов узкобытовых: цеховых, семей-
ных и прочих отношений.
У нас радуются уже тому, что производ-
ственная часть гонит вперед «интригу». Стык
с современностью установлен. Ура!
Пренебрегают подачей того монументально-
го разворота социальных процессов, откликом
коих является данная частность.
Мы, впадая в идеологическую ошибочность,
трактуем явление разрозненно, в себе и вне
окружения. И тем же самым обкрадываем себя
на действительно монументальный, героический,
нигде кроме нас не повторимый, материал!
158
Мы не умеем брать тему «с большой бук-
вы». Вздыблять частный случай в социальную
эпопею.
Повторяю, у нас страшно радуются крити-
ки-формалисты тому, как шаблонный «тре-
угольник» мотивируется производственным
фактом. И считают это «необходимым и доста-
точным» (пользуясь формулировкой учебников
математики).
Для создания «коллизий» как таковых факт
этот необходим.
Но для создания своей классовой вещи боль-
шого масштаба этого еще никак не достаточно.
Классовость вступает не с момента изменения
материала — и не с двумя строчками сентен-
ции в конце.
Мелодраматизм частного случая становит-
ся трагедией большого пафоса, когда начинает
расцениваться в масштабах, устанавливаемых
эпохой в целом.
Сошлюсь на два конкретных примера двух
хороших картин, имевших право на вещи боль-
шого масштаба и не захотевших взять этот
масштаб.
Правда... быть может, им не дано было
взять. В силу предвзятости мнения о рабочей
картине вообще.
Речь идет об «Ухабах» и о «Кружевах».
Ивтойивдругой—непошлиполинии
исчерпания темы.
159
Катастрофический момент для семейной
судьбы в «Ухабах» — переход стекольного за-
вода с выделки вазочек, кувшинчиков и прочей
мещанской дребедени на производство оконно-
го стекла — «играет» в картине только через
факт сопутствовавшего сокращения штатов.
Материал для вещи большого калибра здесь
отнюдь не в сокращении штатов.
Материал здесь в переходе на производство
оконного стекла.
На переход завода от снабжательства част-
ной квартирки — в систему общегосударствен-
ного строительства.
И рядом — семейный быт. «Стаканчики гра-
неные». Личный быт, не попадающий в ногу с по-
ступательным шагом пролетарского государства.
По этой линии частный случай «семейной
истории» мог быть поднят до значительно боль-
ших обобщений, большего охвата и захвата.
С другой стороны, был бы избегнут момент
неумышленной агитации за элементы мещан-
ского обихода — первоначальный продукт про-
изводства завода.
Милые, с трудом изживаемые черты мещан-
ского уклада — эти вещички получают еще
«мученический ореол» — погибших «кормиль-
цев». Прекращение их производства вообще —
ведет за собой сокращение штатов. Выкидку.
Безработицу.
Оконное стекло вступает как враг.
160
За мещанство «стаканчиков граненых, упав-
ших со стола», начинает агитировать желудок.
А за стеклом — строительства не видно.
Картина могла бы быть поднята до траге-
дии быта, не сумевшего попасть в ногу со вре-
менем. С движением экономики.
Другая хорошая картина — «Кружева».
Она трактует очень актуальную тему о борь-
бе с хулиганством. Все это вокруг вопроса о стен-
ной газете.
Что фабрика эта в фильме именно кружев-
ная — является следствием того, что 1) этот факт
действительно имел место на кружевной фабри-
ке, и 2) по занятности материала самих машин.
Я полагаю, можно было бы расширить эту
тему, рассматривая приключившийся случай
в более общем масштабе.
Когда думаешь о кружевном производстве
в 1928 году у нас — назойливо встает вопрос...
о вредных производствах.
Физические профессиональные заболевания
и искажения мы знаем.
Не может ли быть вредных производств
и в области... психической? Как влияет харак-
тер производства на психику работающего.
Мне лично пришлось в период работы в ра-
бочем театре Пролеткульта наблюдать со-
вершенно определенное различие в области
психики, в зависимости от того производства,
с которого ребята пришли.
161
Металлист иной, чем пищевик.
Мои наблюдения велись в условиях работы
театра. И тут было любопытно, как на разных
ребятах сказывалось неизбежно зло театров —
«богемизация».
Наиболее легко поддавались богемизации,
наиболее легко переходили в «артистичность»
те, кто приходил с производств парфюмерных,
табачных и т.п.
Наиболее неустойчивыми элементами, наи-
менее надежными соратниками по жестокой
борьбе с богемой в условиях рабочего театра
оказывались товарищи, связанные с произ-
водствами, убедительность которых в наших
условиях могла бы ставиться под какой-то
вопрос.
Духи, кружева, всякое «ТэЖэ».
Я отнюдь не хочу сказать, что компоту или
монпансье не место в условиях строительства
социализма...
Не думаю также, чтоб при социализме пили
чай без сахара.
Но закинуть мысль о степени классовой
устойчивости в зависимости от классовой по-
лезности производства — тема, сама по себе
крайне интересная.
Мужественно пробивающим брешь за
брешью по фронту рабочей тематики («Ухабы»,
«Кружева») нужно закреплять свои позиции,
развертывая и расширяя картины на эти темы.
162
Прецеденты подобного понимания узкобы-
товой темы у нас уже есть.
Правда, прецедент этот пока единичен
и трактует тему в историческом разрезе неда-
лекого прошлого.
Как из темного деревенского парня, неволь-
ного штрейкбрехера, бунтаря-одиночки и «пу-
шечного мяса» выковывается большевик, штур-
мующий Зимний дворец в Октябрьские дни.
Я говорю о «Конце Санкт-Петербурга».
Ведь там в центре внимания не «поступь
истории», а перерождение, падение и подъем
одной частицы, переламывание психики этого
парня-одиночки неумолимостью развертываю-
щегося социального процесса.
Для показа этого психологического про-
гресса внутри мозговой коробки деревенского
парня в ход пущена громадная машина войны,
биржи, капиталистической конкуренции, рево-
люции.
Громадная заслуга Пудовкина в том, что он,
взявшись за индивидуально-психологическую
тему роста классового самосознания деревен-
ского парня, сумел вздыбить ее вовлечением
в картину всех социальных факторов подобно-
го перерождения и создать таким путем — пе-
реключением в монументальные масштабы —
из частного эпизода громадную эпопею. Боевик
«по всей форме».
Эпопею коллектива мы знали.
163
Первую эпопею из психологически-индиви-
дуальной темы прошлого создал Пудовкин.
Слово за созданием бытовой эпопеи сего дня.
Дорогу «кинобоевикам» рабочего быта!
1928
165
Двенадцатый
Многие растерянно блуждают в леденящем
сквозняке производственной и руководствен-
ной беспринципности.
Но...
«Болтать о диалектике и марксизме и не
уметь соединить необходимое (если оно на вре-
мя необходимо) подчинение большинству с рево-
люционной работой при всяких условиях — есть
издевательство над рабочими, насмешка над со-
циализмом» (Ленин, собр. соч., т. XIII, стр. 40).
«При всяких условиях». Значит, не сме-
ет ослабевать революционная работа даже
и в условиях того проклятого status quo в ки-
нематографии, которое «целиком и полностью»
ухитрилось пережить критику и решения пар-
тсовещания.
И мрачная загнанность в «подполье» вне-
запно под совсем иным аспектом поднимает-
ся во весь рост своей революционно-классовой
значимости.
Как там, — в подполье революционном.
166
Где ковалась железная воля большевист-
ской тактики.
Где заострялась диалектика марксистской
теоретики.
Где наносились смертельно разящие удары
по оппортунизму — противнику более страш-
ному, чем жандармерия царских держиморд.
До прорыва классовым ураганом в семнад-
цатом.
Также беспощаден должен быть удар по
тем кинооппортунистам, мародерам, которые
распоясали пояски мещанского бесстыдства,
пользуясь «конъюнктуркой».
Напор революции не ослабел.
Кто виноват, что за лесом приспособленче-
ской драки, бессовестно злоупотребляющей
малокровием руководства, мы не видим дерев.
Столбов, на которые мы будем городить махи-
ну большевистского кино.
Бисмарк говорил: «Чтобы вести победонос-
ную войну, нужны три вещи: Деньги. Деньги.
И еще раз деньги».
«Железный канцлер» советского кино из-
брал своим девизом ту же формулу: совет-
скому кино нужны три вещи: деньги, деньги
и только деньги. И все будет хорошо.
Неправда. Ему действительно нужны день-
ги, но еще нужнее другие три вещи. И эти три
вещи:
Школа. Школа. И еще раз школа.
167
Школа идеологического руководства. Шко-
ла высокой квалификации производства.
Школа марксистской принципиальной теоре-
тики кино. (Без последней обе две первые —
мыльный пузырь.)
Пусть этот год не протрубит производствен-
ными фанфарами.
Пусть он вгрызается в гранит дамбы той иде-
алистической теоретики, которая стопудовым
грузом тяготеет над советским кино, которому
с этой теоретикой никак не стать большевистским.
Недурные, быть может, качества (поживем —
увидим) одной монгольской, одной мужицкой
и одной парижской картины — отнюдь не пока-
зательны для явления в целом. Мы здесь имеем
в виду общий уровень — результаты плановой
политики наших производственных организа-
ций, а не результаты частной инициативы.
Пусть этот год (раз такова необходимость)
за счет рыночного блеска поглубже запустит
теоретические буры под громаду реакционного
традиционализма, своею массой душащего по-
беги всего подлинно революционного.
Год, другой, и взорвем эту китайскую стену:
крепкой смычкой нарождающейся науки кино
со строящейся киношколой.
«Подпольный» двенадцатый год должен
пройти под знаком предельной отточки идео-
логии и теоретики настоящей большевистской
кинокультуры.
168
Будем учиться. И ... научимся, как делать
тематику советского кино. Не боги горшки об-
жигают. Немного усидчивости и покрепче зубы,
чтобы намолоть нещадный гранит науки. Нава-
стривай. Пригодятся зубы: ведь даже Германия
«железного канцлера» имела свое 9-ое ноября.
Придет же, наконец, и 7-ое для советского кино.
Революция продолжает свой напор.
Где застой (?), когда такое симптоматичное
брожение по всем ступеням квалифицирован-
ности работников кино.
1. В условиях слабого художественно-идео-
логического руководства внезапно вырастает
крайне значащее явление — консолидация ре-
жиссерских кадров производственных органи-
заций.
Нас не зовут. Мы идем сами. Мы сами ввя-
зываемся в вопросы руководства тем делом, за
которое мы боремся.
Куда-то запрятав хвосты склочничества
и взаимопоедания, режиссеры — «конкурен-
ты» на предприятиях Совкино — блокируются
в своеобразное «коллективное хозяйство». Со-
рганизована постоянная режиссерская секция
с руководящим бюро при производственном со-
вещании. Нечто вроде товарищеской круговой
поруки. Нечто вроде товарищеской круговой
поруки и поддержки в вопросах квалифика-
ции и совершенствования своего труда, с одной
стороны, и центр обостреннейшего внимания
169
к вопросу идеологической и принципиаль-
ной политики предприятия в целом, с другой.
Предел бесчинству и безобразию надо класть
и изнутри. Тем более, когда «хозяева» дрыхнут,
а «снаружи» не слишком торопятся.
2. Режиссерский молодняк (частью с солид-
ным профстажем), кроме того, объединяется
в инструкторскую мастерскую при Гостехникуме
кинематографии. Чтобы встряхнуть, перетрях-
нуть и культурно двинуть свой практический
багаж, вправить его в надежное теоретическое
седло, поднять идеологически и производствен-
но свою квалификацию и, наконец, помочь
в учебе совсем еще зеленому молодняку, всту-
пающему в техникум, — грядущему кадру на-
стоящих советских кинорежиссеров.
3. Наконец, крутой поворот в программах
преподавания в самом кинотехникуме в сто-
рону жесткой единой принципиальной систе-
мы выработки киноинженера, мастера-специ-
алиста по классовому оформлению сознания
зрительских масс (после годов парникового
культивирования творческого импрессионизма
различных художественных «толков»).
4. Это возможно, ибо постепенно приходят
в ясность теоретические предпосылки, на ко-
торых будет возможно возводить научный
подход к кинематографии. Теоретические фик-
ции одна за другой скатываются в корзинку.
Мираж принципиальных противоречий, напр.,
170
«игровой» и «неигровой», наконец, практикой
сводится в то диалектическое взаимопроникно-
вение противоречий «в общем единстве», чему
уже давно пора бы было осуществиться.
Подлинный тенденциозный документализм,
т.е . настоящая деловая т.н . «неигровая», нахо-
дит уже стык и общий язык с крайними точ-
ками игрового жанра («Октябрь» и «Толстой»
Эсфири Шуб).
Можно уже по-деловому работать, а не за-
ниматься схоластической софистикой.
5. Медленно, но верно раскручивается
в теснейшем с Комакадемией и ГТК контакте
исследовательская лаборатория по психофи-
зиологии зрителя при Политехническом музее,
втягивая и собирая людей и опыт по этой нуж-
нейшей и основоположнейшей из всех работ.
Впервые вырабатывается вдумчивая методика
рефлексологического обследования киноявле-
ния как суммы раздражителей и кинозрителя
как рефлекторного субъекта там, где до сих
пор велось любительское кустарничество.
6. «Комсомольская правда» стягивает
в боевое объединение всех готовых драться за
подлинную революционную культуру. Сфор-
мирован при редакции постоянный кадр тех,
на кого ляжет культурный поход за советское
кино со страниц боевой печати.
7. Наконец, показательно обостренное вни-
мание со стороны... РКИ в сторону кино уже не
171
только по хозяйственной линии. Отдел социаль-
но-культурной инспекции при РКИ включает
в свою работу вопрос кинокультуры как один
из ударнейших.
И только пункт восьмой о вкладе наших
производственных организаций в советскую
кинокультуру, к сожалению, остается почти не
заполненным... хотя ему бы следовало стоять...
пунктом первым.
Но в остальном, как видим, мы не так уж
наги и безоружны в области «культурного похо-
да» на кинокультуру, и если победным «пятым
годом» продукции советское кино взметнулось
здоровенным взлетом вверх, то неизбежный те-
оретический период передыха — не страшен.
Спружиним жестче вопрос революционной
непримиримости на принципиальном фронте
советской кинокультуры.
И тринадцатый октябрь сумеем встретить
уже во всеоружии КиноОктября.
1928
173
Принципы нового рус-
ского фильма
Доклад С.М. Эйзенштейна в Сорбоннском
университете
Прежде всего я должен попросить вас, господа,
отнестись ко мне снисходительно. Я не оратор
и недостаточно хорошо владею французским
языком, чтобы подробно изложить то, что мне
хотелось бы вам рассказать. Кроме того, со
мной сыграли нехорошую шутку. Я надеял-
ся, что фильм восполнит несовершенство моей
речи.
Теперь же, если я буду плохо говорить, меня
ничто не спасет. Очень жаль, так как у меня
небогатый запас французских слов. Во фран-
цузском языке есть несколько таких слов, как,
например, «machin» или «true»7, и все сра-
зу вас понимают, но рассказать о советской
картине, прибегая к подобной терминологии,
7
Предме т или шт ука (франц.)
174
трудно. Я попытаюсь поделиться с вами сво-
ими сведениями в этой области и, раз у вас
отняли возможность развлечься фильмом, вы
развлечетесь тем, что после моего доклада рас-
спросите меня о подробностях, которые вас за-
интересуют.
Но предупреждаю, вопросы не должны ка-
саться цифровых данных.
Я не знаю, сколько метров пленки снимается
в год и сколько на это тратится денег. Надеюсь
также, что меня не будут спрашивать, где на-
ходится генерал Кутепов или еще что-нибудь
в этом роде.
А теперь поговорим серьезно.
Я не все смогу вам рассказать о сюжете
русского фильма, так как не имею права за-
трагивать политику, говорить же о кино, не
касаясь политики, довольно трудно. Но все же
я попытаюсь изложить вам общие принципы
нашей кинематографии.
Во-первых, наши картины создаются не для
развлечения и приятного времяпрепровожде-
ния. Мы относимся к фильмам как к серьез-
ному делу, преследующему просветительные
и культурные цели. Исходя именно из этого,
с самого начала работы над фильмами мы по-
дошли к этой работе серьезно как с точки зре-
ния искусства вообще, так и кинематографии
в частности. В Москве около четырех лет тому
назад было основано нечто вроде университе-
175
та кинематографии, в котором учатся будущие
режиссеры, операторы, актеры. В этом универ-
ситете, насколько мне известно, единственном
в мире, существуют также научно-исследова-
тельские кабинеты, где обсуждаются теоре-
тические и практические вопросы, связанные
с киноискусством, и ведутся эксперименталь-
ные работы.
Кстати, вопросами теории киноискусства
занимается не одна эта организация. При
Московском и Ленинградском университетах
были созданы специальные кафедры по изуче-
нию психологии зрителей, которое проводится
разнообразнейшими методами.
Есть еще другие организации по изучению
зрителей, такие, например, как Общество дру-
зей советского кино. На каждом крупном за-
воде, в деревнях созданы филиалы этой орга-
низации. Общество производит опрос зрителей,
будь то рабочие или представители Красной
Армии, интересуется их мнением о каждой кар-
тине, собирает их высказывания о форме, о том,
понятна ли картина, какие в ней недостатки
и насколько она отвечает запросам зрителей.
Все эти данные собираются, исследуются
и принимаются во внимание при дальнейшей
работе.
Теперь я остановлюсь на идеях, которыми
мы руководствовались, создавая картины. Как
вы знаете, новые формы в искусстве могут быть
176
порождены новыми социальными формами; но-
вые формы искусства всегда проистекают от
новых социальных форм, заимствуются у них,
и в их основе лежит та же идея, которая руко-
водит революцией. Это общественное начало
в отличие от индивидуалистического.
Вы знаете, какую роль играет коллективизм
в общественной жизни, в революции. Мне не
к чему вам об этом рассказывать, но мне хо-
чется вам показать, как этот принцип влияет
на нашу кинематографию со всех точек зрения:
с коммерческой, производственной, эстетиче-
ской и художественной.
Рассмотрим сперва этот вопрос с точки зре-
ния коммерческой.
У нас кинематографическая монополия.
Производство и прокат фильмов национализи-
рованы, и это значительно облегчает нам до-
стижение наших культурно-просветительных
целей. Вы знаете, что картины, преследующие
эту цель, менее доходны, чем порнографиче-
ские, приключенческие и разные «боевики».
На деньги, которые мы получаем от проката
наших картин за границей и в крупных горо-
дах, мы строим кинотеатры в деревнях и от-
правляем кинопередвижки в самые отдален-
ные уголки нашей огромной страны, помогая
таким образом повышать уровень культурной
жизни национальных республик, входящих
в Советский Союз.
177
Кинопроизводство в национальных респу-
бликах преследует особые задачи. Существуют
вопросы, которые не могли быть затронуты при
царизме. Ни одна национальная культура не
могла развиваться при царизме, всем насиль-
но навязывалась русская «культура». Сейчас
наша политика в этих вопросах совсем иная,
и мы стремимся развивать культуру всех на-
циональностей.
Некоторые маленькие республики не могли
бы за свой счет выпускать фильмы на интере-
сующие их темы. В мусульманских республи-
ках по-прежнему злободневен вопрос о раскре-
пощении женщин, и там нужно при помощи
картин, посвященных этой теме, вести необхо-
димую пропаганду, а такие картины коммер-
чески не оправдали бы себя, если бы их про-
изводство лежало целиком на этих маленьких
республиках.
То же самое и с картинами для крестьян.
Очень большое значение имеют такие филь-
мы, как тот, который вы не увидите; но они
не «доходные», их цель — научить крестьян
пользоваться машинами.
Часто говорят, что монополизация производ-
ства, уничтожая конкуренцию, вредит искус-
ству. Это неправда.
Если вы читаете наши газеты, вы заметили,
что у нас во всех областях и на заводах коммер-
ческая конкуренция заменена чем-то другим,
178
а именно — соревнованием. Я вам расскажу
о соревновании московского завода с ленин-
градским. Один московский завод послал вы-
зов ленинградскому, утверждая, что он будет
выпускать больше продукции, дешевле и луч-
ше, чем ленинградский завод. И вот начинает-
ся соревнование, которое длится год или пол-
года, в зависимости от установленного срока.
То же самое происходит на кинофабриках.
Они соревнуются друг с другом за высокое ка-
чество картин. Это очень помогает нам в рабо-
те. Соревнование в кинопроизводстве играет
большую роль.
Во-первых, при выборе темы мы не стре-
мимся потрясти или развлечь зрителей, мы не
гонимся за сенсацией, мы останавливаемся на
теме, которая волнует в этот момент массы, ко-
торая интересует всех.
В кинопроизводстве, как и в любой другой
промышленности, существует пятилетний план.
Этим планом предусмотрены основные темы
и основные вопросы, которые должны быть ос-
вещены в течение пяти лет. Для тем, которые
могут внезапно возникнуть, тоже оставлено ме-
сто, но все же существует один большой план,
над выполнением которого мы работаем. Наши
картины затрагивают самые злободневные
вопросы. Например, «Генеральная линия»
посвящена вопросу индустриализации и кол-
лективизации в жизни деревни. Возникают
179
и новые темы, связанные с вопросами семьи
и новой этики. У нас стремятся по-новому
разрешить эти вопросы, учитывая наши но-
вые специальные условия. После того как
тема намечена и включена в план, дается
заказ сценаристу или режиссеру, и тот при-
ступает к написанию сценария. Когда сце-
нарий готов, его коллективно обсуждают на
заводах или в среде тех людей, которых ка-
сается данная тема.
Если это крестьянская картина, как, напри-
мер, «Генеральная линия», которую я не имею
возможности вам сегодня показать, сценарий
обсуждается крестьянами, и каждый крестья-
нин, зная, что картина делается для него, ин-
тересуется сценарием, высказывает свою точку
зрения о теме, помогает нам своими знаниями
среды, другими словами, сотрудничает с нами.
В съемках картины также принимают участие
массы, целые коллективы.
В картинах «Генеральная линия» и «Десять
дней», которые некоторые из вас видели, все
массовые сцены почти целиком сыграны ра-
бочими добровольно и бесплатно. Когда мы
снимали взятие Зимнего дворца для «Десяти
дней», две или три тысячи рабочих ежедневно
и часто по ночам приходили и делали все, что
мы от них требовали.
Сцена расстрела на Садовой улице целиком
сыграна добровольцами, большая часть кото-
180
рых за десять лет до этого, в 1917 году, прини-
мала участие в действительных событиях того
времени.
Это дало нам возможность почувствовать
подлинную историческую атмосферу, правиль-
но осветить события, помогло нам найти соот-
ветствующее этим сценам настроение.
Я постоянно утверждаю, что съемка мас-
совых сцен нашим способом возможна только
в нашей стране, потому что мало где еще мож-
но безнаказанно собрать на улице две — три
тысячи вооруженных рабочих. (Аплодисменты).
Этим славится наша «фирма», как пишут
в меню ресторанов.
Прежде чем выпустить законченный фильм
на экраны, его показывают на заводах и в де-
ревнях, и он подвергается суровой критике лю-
дей той среды, в которой происходит действие
картины. Не всегда легко показывать карти-
ну, которую только что закончил. Но вы при-
сутствуете на заводском просмотре и должны
выслушать различные мнения, и бывает, что
приходится вносить изменения в картину или
даже добавлять сцены, необходимые для того,
чтобы фильм выражал именно то, что вы заду-
мали. Вы должны считаться с мнением массы,
со зрителями, с теми, для кого вы работаете.
Итак, я вас познакомил с производственным
процессом. Теперь я вам расскажу о содер-
жании и формах выразительности. Коллек-
181
тивизм, массовость и здесь играют большую
роль. Стремление снимать картины о народе,
о массах помогло нам покончить с постоянным
в драматургии треугольником, который состо-
ит из мужа, жены и любовника. В Англии, во
Франции и в других странах — всюду один
и тот же сюжет. Мы получили возможность
избавиться от подобных сюжетов.
Если вы сравните наши исторические кар-
тины, в которых показан ход истории и роль
в ней масс с американскими, посвященными
историческим темам, вы немедленно заметите
разницу. В центре всех американских картин —
двое любовников, изменяется только фон, на
котором развертывается интрига. Сегодня дей-
ствие происходит во время французской рево-
люции, завтра — в эпоху Парижской коммуны,
а герои одни и те же, и исторические эпизоды
фактически мало кого интересуют.
При съемках кинокартин нами руководит
стремление проникнуть в жизнь коллектива,
массы. Мы противники павильонов, противни-
ки фанерных и картонных сооружений, заме-
няющих красивые здания и все то прекрасное,
что можно увидеть в действительности.
Мы хотим войти в настоящую жизнь людей,
которых мы показываем. Если мы снимаем
картину из жизни морского флота, мы едем
в Одессу и Севастополь, проникаем в матрос-
скую среду, изучаем моряков, их чувства, их
182
характеры и таким образом получаем полное
представление о том, чем живут люди, которые
нас интересуют.
Если же мы снимаем картину, действие ко-
торой происходит в крестьянской среде, как,
например, «Генеральная линия», мы уезжаем
в деревню и живем среди крестьян. Это-то нам
и дает возможность увидеть специфические
особенности крестьян и передать их любовь
к земле. Все это чувствуется в нашей картине,
которую, к сожалению, я лишен возможности
вам показать.
Я уже говорил вам, что в кино могут сни-
маться не только актеры; мы считаем, что
обыкновенные люди играют в кино гораздо
лучше профессионалов, они могут правдивее
выразить свои чувства и играют естественнее
профессиональных актеров. Актеру, для того
чтобы подготовиться к роли старика, дается
один или два дня на репетиции, а у настояще-
го старика — шестидесятилетний опыт, и он,
естественно, лучше сыграет свою «роль». Но
нелегко подобрать такого «непрофессиональ-
ного» актера. Нужно найти в толпе те лица,
те выражения, те характеры, которые стояли
у вас перед глазами, когда вы читали сцена-
рий. Требуется найти именно то характерное
выражение, которое создало ваше воображе-
ние. Иногда персонаж не отвечает вашему
представлению, в подобных случаях бывает
183
очень интересно найти новый способ выра-
зить задуманную вами идею.
Наконец вы нашли вашего героя, но тут
начинаются новые затруднения. Вы обраща-
етесь к избранному вами человеку и спраши-
ваете: «Хотите сниматься?» Почти всегда вам
отвечают согласием, но тут же добавляют, что
снимать их надо только вместе с семьей. Так
они привыкли позировать перед фотографом:
муж, жена, дети, бабушка. Они не желают сни-
маться врозь, и трудно им объяснить, что нам
не нужна все семья. Бывает, что это вообще
не удается сделать, и в «Генеральной линии»,
например, нам пришлось снять одну женщи-
ну вместе со свекровью, потому что муж этой
женщины был в отъезде, и она боялась, что
о ней будут злословить. В подобных случаях вы
можете снимать так, чтобы в кадр не попадал
нежелательный персонаж. Приходится прибе-
гать и к таким трюкам. (Смех).
Иногда возникают еще большие осложне-
ния. Вам нужно, чтобы честный человек изо-
бражал отрицательного персонажа. Играть
положительную роль приятно, а вот играть
мерзавца неприятно, актер боится, что его
в самом деле могут посчитать за негодяя, что
его соседи и знакомые примут за действи-
тельность те дурные поступки, которые он
совершает на экране. Здесь опять-таки надо
пускаться на хитрость. В «Десяти днях» все
184
хотели играть большевиков, и никто не согла-
шался изображать меньшевиков. Мы прибе-
гали к очень простому приему: давали актеру
текст пламенной речи, которую он произносит
с большим темпераментом, а в дальнейшем
ставили совершенно противоположные по
смыслу титры. И в результате получилось то,
что вы... не увидели, так как вам не показали
этой картины.
Есть еще другие трудности. Во время ра-
боты над «Генеральной линией» мы побывали
в очень отдаленных и захолустных местах, где
еще сохранились многие старинные обычаи
и где нас ожидали большие препятствия. Рас-
скажу вам об одном случае. Нам нужно было
снять свадьбу. В первый день мы собрали око-
ло двадцати девушек, которые должны были
играть эту сцену. Все шло хорошо, и мы начали
снимать. Но на следующий день на съемку не
явилась ни одна девушка. Мы не могли понять,
в чем дело, и стали расспрашивать что произо-
шло. Нам рассказали, что старухи, противни-
цы любых новшеств, убедили девушек, будто
киноаппараты могут снимать сквозь одежду
и что девушки, вполне прилично одетые во вре-
мя съемок, будут показаны на экране обна-
женными, как нимфы. Естественно, что после
этого никто не решился прийти на съемку. Нам
пришлось им объяснить, что наши аппараты не
обладают такой способностью.
185
При изыскании новых форм выразительно-
сти нами руководит стремление к обобщению.
Массовые кинокартины не считаются послед-
ней стадией развития советского кино. Они
дали возможность порвать с треугольником
и найти новые формы выразительности. Я не
собираюсь преуменьшать роль режиссеров,
выпускавших абстрактные картины и много
поработавших в этом жанре. Основное рас-
хождение между их поисками и поисками ре-
жиссеров массовых картин заключается в том,
что абстрактный фильм не стремится вызвать
у зрителей социальные эмоции, в то время как
режиссер массовой картины озабочен в первую
очередь тем, какие эмоции у зрителей вызовут
снятые им кадры и применяемый им метод.
Ввиду того, что детективные и приключен-
ческие темы для нас отпали, мы должны были
добиться желательных нам эмоций главным
образом при помощи новых методов изобрази-
тельности, монтажа. Этим вопросом мы мно-
го занимались, и, немало успешно поработав
в этом направлении, мы нашли способ осуще-
ствить основное требование нашего искусства,
а именно — чисто изобразительными средствами
выразить абстрактные идеи, так сказать, конкре-
тизировать их, причем сделать это, не прибегая
ни к фабуле, ни к интриге. При помощи ком-
бинаций изобразительных средств нам удалось
вызвать реакции, которых мы добивались.
186
Не знаю, достаточно ли понятно я объ-
яснил, но мне кажется, что эта идея ясна.
Серия кадров, подобранных определенным
образом, вызывает определенные эмоции,
которые, в свою очередь, пробуждают опре-
деленные идеи.
Есть опасность впасть в символизм, но не
забывайте, что кино — это единственное кон-
кретное искусство, которое, в отличие от му-
зыки, одновременно и динамично и заставляет
мыслить. Все остальные виды искусства ввиду
их статичности способны только ответить на
мысль и не могут развивать ее. Мне кажется,
что эта задача может быть выполнена только
кинематографией. И это будет историческим
вкладом в искусство нашей эпохи, потому что
в наше время возник страшный дуализм меж-
ду мыслью, чисто философским умозрением,
и чувством, эмоцией.
В былые времена, во времена господства
магии и религии, наука была одновременно
эмоциональным элементом и элементом, кото-
рый духовно целиком поглощал людей. Ныне
произошло разделение, и теперь существуют
умозрительная философия, чистая абстракция
и чистая эмоция.
Мы должны вернуться к прошлому, но не
к примитивизму, в основе которого была рели-
гия, а к синтезу эмоционального и духовного
элементов.
187
Думаю, что только кино способно достигнуть
этого синтеза, снова облечь духовный элемент
в формы не абстрактные и эмоциональные,
а конкретные и жизненные. Такова наша зада-
ча и таков путь, по которому мы идем в нашей
работе.
От этого я и буду отталкиваться в новой
картине, которую собираюсь снимать. Она
должна своей выразительностью заставить ди-
алектически мыслить наших рабочих, наших
крестьян, она должна развивать диалектиче-
ский метод. Это будет картина о «Капитале»
Маркса. В картине не будет законченной фабу-
лы, это будет очерк, который должен научить
диалектически мыслить даже неграмотного
и отсталого зрителя.
Я собирался рассказать вам еще немало хо-
роших вещей перед просмотром «Генеральной
линии», но теперь, к сожалению, они прозву-
чали бы бездоказательно, и поэтому я не могу
этого сделать. Но когда «Генеральная линия»
будет пропущена цензурой, я надеюсь, что мы
снова здесь с вами соберемся с тем, чтобы ее
посмотреть, тогда я вам расскажу о многом,
имеющем прямое отношение к этой картине.
В «Генеральной линии» были развиты те же
приемы, которые применялись при создании
«Потемкина». В монтаже есть новые, очень
специфические вещи, которые трудно понять
без конкретного примера.
188
В заключение я хочу вам сказать, что мы
считаем наше производство, наши картины,
которые мы не можем вам показать, коллек-
тивными произведениями, и не потому, что они
созданы коллективно мной, моим главным опе-
ратором, моими помощниками, а потому, что
мы стремимся в наших картинах, насколько
это возможно, выразить творческие идеи и ин-
тересы народных масс. Темперамент и сила на-
ших картин — это выражение темперамента
и силы, а также воли народных масс, строящих
ценой огромных усилий социализм в Советском
Союзе. (Аплодисменты).
Вас лишили десерта. Вам не могут пока-
зать картину, и, если хотите, я могу вам пред-
ложить вместо десерта ответить на ваши во-
просы. Мы с вами сыграем в небольшую игру,
вроде партии пинг-понга, будем обмениваться
вопросами и ответами. Я полностью в вашем
распоряжении, прошу вас только об одном —
не задавайте мне слишком сложных вопросов.
Инкижинов — профессиональный актер?
Да, он профессиональный актер. Пудовкин
работает с актерами, в этом мы с ним расхо-
димся, и в наших произведениях много непо-
хожего. Он делает очень интересные вещи, он
берет нечто «среднее», используя профессио-
нальных актеров и таких людей, каких снимаю
я. Он снимает актера Инкижинова так, как
189
будто тот не актер. Каждый актер не только
может играть любого персонажа, но и сам по
себе является персонажем. Вот почему Пудов-
кин обычно не снимает одного и того же актера
в своих фильмах.
Как следует относиться к говорящему
кино?
Я считаю, что стопроцентно говорящая кар-
тина — чепуха, и думаю, что все со мной со-
гласны. А вот звуковое кино очень интересно,
и у него большое будущее. В звуковом кино,
вернее, в этой области есть картины, которые
интересны не только сами по себе, но и прин-
ципом, на котором они основаны. Кто-то уже
выкрикнул до меня название такой картины —
«Микки-Маус». «Микки-Маус» — это рисунки,
которые показывают, как мышь играет на пиа-
нино и проделывает всяческие номера. В «Му-
лен-Руж» я видел фильм в этом роде — пляска
смерти — тоже мультипликационный. Инте-
ресно, что в этих картинах звук не является
натуралистическим элементом, он преследует,
как и изображение, эмоциональную цель. Это
же интересное явление я наблюдал в другом
виде искусства, в японской драме, где музы-
кальные и звуковые иллюстрации работают
в одном направлении. Для каждого жеста или
пластической сцены подбирают звуковой экви-
валент, именно эквивалент этому зрительному
190
впечатлению. Жест, сделанный рукой, дает
акустическое ощущение, и, комбинируя эти
две вещи, можно добиться совершенно замеча-
тельных результатов. В японском театре сцены
харакири сопровождаются звуками, которые
«соответствуют» тому, что вы видите, эмоци-
ональной реакции, которую они у вас вызы-
вают. То же самое сделано в «Микки-Маусе»,
где движения сопровождаются звуками, подо-
бранными по ассоциациям или же с соблюде-
нием полной эквивалентности. Я считаю, что
каждому движению должен соответствовать
определенный звук. Голос — это тоже жест,
произведенный органами, которые находятся
у нас в горле. Он звучит в воздухе, в котором
мы находимся, так же, мне кажется, жест дол-
жен звучать и в другой среде, например, по
радио. Вы знакомы с системой Термена? Если
должным образом подготовить среду, в которой
делается жест, он может стать звуковым. Я ду-
маю, что у японцев это не просто ассоциация
(хотя они чувствуют, как передать пластику
акустически), а соответствие этих двух явлений.
Собираетесь ли вы снимать звуковую
картину?
Да, а почему бы и нет? У звукового кино
в Советском Союзе особое задание. У нас есть
области, где много неграмотных, и там зву-
ковое кино должно заменить чтеца, учителя,
191
преподавателя, оно должно воспитывать лю-
дей при помощи слова. Здесь уже не вопрос
формы, а чисто социальный.
По вашей теории звукового фильма у вас
будут обонятельные и осязательные филь-
мы?
Да, я бы приветствовал это, и в японском
театре это уже осуществлено. Там во время
представления люди едят. Правда, я не знаю,
соответствует ли меню пьесе, которая в это вре-
мя идет на сцене, но, во всяком случае, там едят.
В русских кинотеатрах картины тоже со-
провождаются такой же плохой музыкой, как
иунас?
Да, она очень однообразна.
Сопровождаются ли музыкальным акком-
панементом в кинотеатрах такие картины,
как «Потемкин» и «Генеральная линия»?
Да, Майзель написал музыку к «Потемки-
ну», и эту картину показывают под аккомпа-
немент этой музыки. Он же написал музыку
и для «Десяти дней».
Эти картины будут озвучены?
Нет, это слишком трудно. Картина уже идет
в Германии, и по коммерческим соображениям
ее озвучить теперь нецелесообразно.
192
Как вы относитесь к музыке, которая со-
провождает ваши картины?
Я считаю музыку Майзеля очень хорошей,
она построена по тому же принципу, по ко-
торому я бы хотел озвучить эти фильмы. Она
выдержана в том же характере. Но она не
синхронизирована, как музыка, записанная на
пленку с изображением, хотя и близка к ней.
Вы считаете, что «Генеральная линия» мо-
жет быть запрещена цензурой?
Пока что она запрещена полицией. Посмо-
трим, запретит ли ее цензура; но я не думаю
этого, потому что в ней нет ничего такого, за
что она могла бы быть запрещена. В «Гене-
ральной линии» показан крестьянский труд,
и цензура может в ней вырезать только не-
сколько метров.
Как вы относитесь к американским кар-
тинам, которые идут в России? Почему вы
считаете говорящие картины идиотскими?
Разрешите вам сказать, что это чисто эмо-
циональное ощущение. Все присоединятся
к моему мнению.
Какой лучший способ записи звукового кино?
Лучший способ среди известных мне (прав-
да, и в нем есть недостатки) не может быть
применен из-за коммерческой конкуренции.
193
Существует метод Штилера, по которому звук
записывается на стальную ленту, прокручи-
вая которую вы можете сразу же услышать
свой голос. Этот метод может быть широко
использован. Режиссер может проверить себя,
по-иному произвести звуковой монтаж, найти
крупный план звука. При помощи этой за-
писи вы можете производить всевозможные
опыты. К сожалению, этот метод не может
быть применен потому, что уже существуют
и другие аппараты, которыми уже пользуют-
ся. Все дело в патентах, они-то и не дают воз-
можности развить наилучший метод. Что же
касается остальных систем, то я работаю на
аппарате «Тобис», очень хорошем. С послед-
ними американскими открытиями я не знаком.
Мы узнаем о них через три — четыре меся-
ца после их изобретения, но при их помощи
озвучены настолько идиотичные картины, что
по ним нельзя судить о технике. Я слышал,
что некоторые эти картины размагничивают-
ся. Другие способы тоже обладают большими
недостатками. Проявление пленки сопряжено
с большими трудностями. Если взять несколь-
ко кусков негативной пленки, проявленных не
одновременно, они окажутся разной плотности
и будут звучать по-разному. Вот почему нель-
зя смонтировать два разных куска. В каждом
способе есть свои недостатки. Метод Штилера
хорош тем, что вы можете экспериментиро-
194
вать на месте. Если вам нужно доснять кадры
к сцене, которую вы снимали месяц тому назад,
вы можете прослушать запись, и она прозвучит
отчетливо, как реплика в театре. Вы можете
продолжить запись на той же ленте, в той же
тональности, что невозможно при всех систе-
мах записи на пленку.
Позволяет ли этот метод размножать
картину?
Да, сколько угодно.
Какую звуковую картину вы считаете наи-
лучшей?
Я уже имел честь вам сказать, что это «Мик-
ки-Маус».
Собираются ли в России развивать звуко-
вое кино?
Да, оно развивается ускоренным темпом.
У нас делаются очень интересные вещи. Осенью
вы увидите крайне любопытную звуковую кар-
тину Пудовкина. Для нас она имеет еще и дру-
гое значение — воспитательное и культурное.
Что вы думаете о картинах в натураль-
ном цвете?
Я к этому вопросу относился очень скепти-
чески, пока не увидел здесь цветные картины
французского изобретения. Думаю, что бе-
195
ло-черные картины впоследствии перестанут
существовать. Их будут смотреть ради ориги-
нальности, и мода на черно-белое изображение
пройдет, как проходит любая мода, так как цвет
дает поразительные результаты. Есть вещи, ко-
торые нельзя передать в черно-белом изобра-
жении. Например, в Голландии почти нечего
делать с черно-белым, а если снимать в цве-
те, там есть замечательные вещи. В тропиках
много оранжевых и красных цветов, которые
при съемке на черно-белую пленку получаются
почти всегда черными, поэтому цветная пленка
там может дать очень интересные результаты.
Но я не думаю, что цветное кино произведет
такую же революцию в выразительности кино,
как звуковое, которое должно произвести пере-
ворот в принципах кино. Изображение в кино
преследует не только идеографическую цель,
оно должно также быть ритмично-стремитель-
ным и выдержано в определенном темпе. Всего
этого мы требуем от изображения, хотя оно
и должно в первую очередь быть выразите-
лем определенной идеи. При звуковом кино мы
имеем возможность освободить изображение
от обязанностей, которые ему не свойствен-
ны, вводя моторные и двигательные элементы
и перенося их в область звука и музыки. Цвет-
ное кино не может внести такого переворота
формы кино, потому что хорошая черно-белая
фотография производит иногда такое же дей-
196
ствие, как фотография в цвете. Таким образом,
это скорее эволюция формы, чем революция.
Существуют ли в России индивидуалисти-
ческие школы в кино?
Нет.
Каково ваше мнение о картине «Трое в под-
вале»?
Она интересна по своему сюжету. У нас мно-
го картин в этом роде, и они нам очень нужны,
потому что в них затрагивается вопрос семей-
ной этики и другие вопросы, волнующие всех.
Это нечто вроде дидактической пьесы, в кото-
рой обсуждаются самые различные моральные
вопросы. Я не хочу сказать, что все, что я вам
говорю о массовом фильме, обязательно и что
это единственный жанр, который должен и мо-
жет существовать у нас. В Советском Союзе
каждая стадия культурного развития должна
иметь свои формы, свои кинематографические
формы, которые ей соответствуют и которые
понятны зрителю, живущему на данной стадии
развития. Если картина делается для крестьян,
вы не можете прибегать к той же системе мон-
тажа, которой вы пользуетесь в картинах, пред-
назначенных для городского зрителя, потому
что крестьяне не способны увидеть и понять
изображение в том темпе, который привычен
для горожан.
197
Вы объясняете актерам, что они должны
делать, или же вы их снимаете врасплох, как
«киноглаз»?
Самая интересная часть работы — не сам
процесс съемки, а предшествующий ей период.
Я превращаюсь в сыщика и стараюсь подгля-
деть выражения и движения, характерные для
данного актера; изучив эти движения, я ком-
бинирую их с тем, чтобы добиться наибольшей
выразительности. Каждое движение само по
себе ничего не выражает, это чисто условное
явление. «Киноглаз» поступает по-иному. Он
фиксирует сами движения и выражения такими,
какими они бывают в жизни. Я же изучаю есте-
ственные и органические детали, комбинирую
их по-иному и таким образом добиваюсь нуж-
ных мне выражений и необходимых результатов.
Вы искренне считаете, что русский кре-
стьянин способен сделать по поводу ваших
картин полезные для вас замечания?
Конечно, я должен сказать, что лучшие кри-
тики — это люди, понимающие искусство (их,
к сожалению, очень мало), и неискушенные
зрители — крестьяне, которые искренни и не-
посредственны. Часть людей находится между
этими двумя категориями. Они потеряли спо-
собность выражать свое искреннее мнение и не
знают, что может нас интересовать, они совер-
шенно бесполезны нам.
198
Какую ценность для вас представляют ин-
дивидуалистические и сатирические картины
Чаплина?
Очень трудно говорить о Чаплине. Я не
буду делиться с вами моим мнением и лучше
расскажу вам об отношении к нему остальных
людей. Думаю, что Чаплина любят в Европе,
во Франции и других странах не за шутовской
характер его комедий, а за трагические, ме-
лодраматические моменты, которые выходят
за пределы шутовства и глубоко человечны.
Но, с нашей точки зрения, в его произведе-
ниях слишком мало человечности. Мы имеем
возможность гораздо глубже развить вопросы,
которые Чаплин затрагивает лишь слегка. Для
нас в Чаплине интересна комическая, шутов-
ская сторона. Вот в чем разница нашей и ва-
шей любви к Чаплину.
Почему вы считаете Чаплина менее чело-
вечным, чем советские картины?
Я не думаю, что он менее человечен, но он
не имеет возможности вывести на сцену массы,
как это делаем мы.
Возможно, что массы существуют, и возмож-
но, что кино имеет право и должно вывести их
на сцену, но отдельный человек, такой, как Ча-
плин, тоже существует и не менее человечен?
Да, вы правы, он существует, он челове-
199
чен, он выпускает признанные всеми картины
и пользуется успехом. Я и не сказал о нем ни-
чего плохого.
Вы сказали, что он менее человечен.
Нет, но у него нет наших возможностей вы-
разить свои идеи и углубить многие вопросы.
Как вы относитесь к «чистому» кино?
К «Дождю», например?
Этот вопрос естественно возникает после
того, что я вам рассказал о «нечистом» кино.
Думаю, что оно сыграло большую роль в раз-
витии киноискусства, а сейчас оно кончилось.
Я должен сказать, что опыты, проводимые «чи-
стым» кино (я говорю о приемах в монтаже
и так далее), к сожалению, ведутся не в том
направлении, в каком они должны были бы ве-
стись. Я видел здесь картину, кажется, одну из
самых интересных в этом жанре. Я имею в виду
фильм Фернана Леже. Он называется «Меха-
нический балет». Картина снята в 1924 году,
она очень интересна тем, что она чисто экспе-
риментальна. По тому, как человек комбини-
ровал куски, видно, что он делал опыты в об-
ласти кино, и очень интересные опыты. В этой
маленькой картине есть в монтаже и комби-
нациях кадров такие вещи, которые остаются
новаторскими до сих пор. Мы в Советском Со-
юзе это делаем, но здесь, к сожалению, их не
200
делают. Картина была воспринята как некий
трюк, как сенсация, но экспериментальными
результатами, которые в ней содержатся, ни-
кто не сумел воспользоваться. В большей части
фильмов того же характера нет такого удиви-
тельного понимания киноискусства, какое про-
явил Леже в своей картине.
Что вы думаете о сюрреализме?
Это очень интересный вопрос. Сюрреа-
лизм работает в направлении, диаметрально
нам противоположном. А всегда бывает инте-
ресно понять друг друга, почувствовать вза-
имное уважение. Я должен признаться, что
в каком-то плане мы смогли бы договориться
и найти общий язык. Система выразительности,
к которой прибегает сюрреализм, в общем-то
очень близка к нашей. Но все подсознательные
и автоматические моменты, которые должны
произвести впечатление на зрителя, совершен-
но противоположны нашему методу. Сюрреа-
листы не считают, что чувство — это частное
дело, выраженное серией изображений. Я чи-
тал декларации сюрреалистов, они считают,
что лучше всего непосредственно воспроизво-
дить те вещи, которые происходят на наших
глазах.
Если вы испытываете эмоцию, которая пе-
редается или выражается при помощи ряда
изображений, то обратное невозможно. Когда
201
вы показываете на экране этот ряд кадров,
человек, который смотрит на них и комбини-
рует их, не испытывает те же чувства, ту же
эмоцию, которую испытывал режиссер, сни-
мавший картину. Здесь весь вопрос в замысле.
Если вы стремились при помощи вашего про-
изведения высказаться, сюрреалистическая
система великолепна. Но у нас иные намере-
ния. Мы хотим при помощи ряда изображений
добиться эмоционального, интеллектуального
или идеологического воздействия на зрителя,
и поэтому для нас система сюрреалистов не-
приемлема. Мы должны комбинировать та-
кие вещи, которые, когда их комбинируешь,
вызывают ряд чувств, эмоций и т.д. Понятно
я выражаюсь?
Мы делаем то же самое, но в ином направ-
лении, подыскивая слова и кадры с тем, чтобы
воздействовать на подсознательный мир чело-
века, и таким образом добиваемся желаемого
результата. В «Генеральной линии», например,
так же используется исторический материал,
есть целый ряд элементов, которые воздейству-
ют путем ассоциаций и не имеют прямого от-
ношения к сюжету. Кадры подобраны и смонти-
рованы с тем, чтобы вызвать желаемые эмоции.
Результаты, которых вам удалось добиться, вы
направляете на другой сюжет, и обычные вещи
приобретают патетический характер. Цель
«Генеральной линии» была — придать пафос
202
фактам, которые сами по себе не патетичны,
не героичны. Очень просто и легко сделать па-
фосной такую сцену, как встреча «Потемкина»
с эскадрой, потому что сюжет сам по себе па-
тетичен, но гораздо труднее добиться пафоса
и вызвать большое чувство, когда дело идет
о молочном сепараторе.
Итак, чтобы воздействовать на подсознание
и вызвать восторженное и патетическое отно-
шение к данному сюжету, вы должны найти ка-
кие-то новые способы. Я хочу еще добавить по
поводу сюрреализма, что крайности сходятся
и, по словам Маркса, противоположные вещи
могут изменить свое местоположение и слиться.
Возможно, что поэтому мы с некоторой сим-
патией относимся друг к другу. Я лично вос-
торгаюсь произведениями Маркса, имеющими
отношение к чисто теоретическим вопросам.
Я попытался поделиться с вами моими сообра-
жениями по этому поводу.
Вы говорили о кино с точки зрения воспи-
тательной. А что вы думаете о его развле-
кательной роли?
Развлекательное кино не представляет ин-
тереса. С точки зрения гигиены смеяться необ-
ходимо; пообедав или когда у тебя голова за-
бита очень серьезными вещами, можно пойти
посмотреть комические картины. Но мы у себя
не выпускаем таких комедий.
203
А как же «Проданный аппетит»?
Это не комедия, а сатира. Мы не выпускаем
чисто комедийных картин в американском духе,
потому что комические вещи должны иметь соци-
альную направленность и, кроме того, у нас так
много серьезных вопросов, которыми мы должны
заняться, что нам некогда заниматься комедией.
Что вы думаете об объемном кино?
Мне кажется, что объемное кино — это поч-
ти то же самое, что цветное. Я видел экспе-
риментальные объемные картины и должен
сказать, что через пять, десять минут теряешь
ощущение объема и смотришь обычную карти-
ну. Это я понял на собственном опыте. Лучше
просто снимать. Обонятельный или вкусовой
фильм интереснее.
Не думаете ли вы, что мультипликацию
можно использовать не только для комедий-
ных и шуточных картин, которые нам обычно
показывают?
Здесь дело в коммерческих расчетах, и на
этот вопрос я не хочу отвечать, не собираюсь де-
литься своими соображениями по этому поводу.
Есть ли в России цензура на иностранные
картины?
Да, и очень строгая, потому что в нашей стра-
не нет «абсолютной свободы», как у вас, при
204
которой запрещается показ фильмов. В нашей
стране диктатура пролетариата, у нас идет клас-
совая борьба, и цензура — это тоже оружие.
Какая иностранная картина вызвала у вас
наибольший интерес?
Я ничего вам не скажу в этом отношении —
это не интервью, а серьезный вопрос.
Как вы можете снимать картины с истори-
ческими персонажами, не используя актеров?
Я не собираюсь показывать жизнь Карла
Маркса. Что же касается моей картины «Де-
сять дней, которые потрясли мир», там нашел-
ся человек, который играл Ленина .
Для чего же служат декорации и актеры,
которые у вас есть в Москве, если вы их не
используетеe?
Я уже имел честь вам сказать, что кино
проходит через разные стадии развития. Есть
формы и стадии развития кино, при которых
необходимы актеры, иначе картины не будут
поняты некоторыми зрителями.
Больше нет вопросов?
Французские репортеры, ездившие в Москву,
уверяют, что там смех убит. Это правда?
Еще существует слишком много такого, над
чем можно поиздеваться, и поэтому, уверяю
205
вас, у нас тоже смеются. Думаю, что еще боль-
ше будут смеяться, когда я расскажу о сегод-
няшнем вечере.
(Аплодисменты)
1930
207
[Что мне дал В.И. Ленин]
Ответ на анкету
В.И . Ленина не видел.
Желание видеть продиктовало — воспроиз-
вести.
Не воссоздать. Образ Ильича невоссозда-
ваем.
Портретов Ленина не видно.
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.
Воспроизводим. В картине юбилея Октяб-
ря — «Октябрь».
Со всем бураном нападок талмудистов чи-
стой киноформы и талмудистов «киноправды»
документализма.
Тех, кто задет показом вождя не только
в героической позе, но и в подпольном обли-
ке Ильич с подвязанной щекой и в темных
очках.
И тех, наконец, кто видел Ильича. Тех пе-
208
дантов, для которых не важен эмоциональный
подъем у масс от наличия Ильича в картине
и которые предпочитали терзать его облик по
пуговицам и деталям, не протокольно совпа-
давшим с документальными.
Но сквозь сети колючей проволоки этой
расчет прорвался и оказался верным: Ильич
воспринялся не как бытовой персонаж, а как
символ. На обоих полюсах: и наши рядовые
массы зрителей и зрительские массы, напри-
мер, Америки в равной мере электризовались,
хотя и под противоположными знаками, нали-
чием бледной тени вождя.
На большее, чем тень, мы не претендовали.
В те времена термин «марксизм-ленинизм»
не был еще в обиходе.
Даже «диалектика» не была еще ходким
термином — панацеей на любое затруднение
теоретического порядка не только в лапах лю-
бого упрощенства, как в недобром близком
прошлом, но даже в авангарде дравшихся за
подлинное искусство.
Для тех времен вопрос исчерпывался ди-
алектикой «вообще», еще не отточенной и не
оформленной в теоретическую жесткость фор-
мулировок по марксизму-ленинизму, как мы
видим ее на сей день.
Но это было уже то, что, базируясь на тех
же принципах, служило базисом для достиже-
209
ний последних лет теоретической борьбы и до-
стижений философии марксизма.
Я имею в виду ранние двадцатые годы.
Со зверской упорностью и педантизмом вре-
зался и врывался я в самые корневища моей
тогдашней работы. Законы выразительности
человеческих проявлений стояли в центре моих
исканий, творческих и теоретических.
Зайдя достаточно глубоко, не мог я не нар-
ваться на обнаружение всеобщей законности,
в равной мере принадлежащей всем вырази-
тельным проявлениям.
На диалектику природы.
На диалектику природы человека.
Кажется, в 1922 году впервые произошел
толчок и «встречный», то есть со стороны
оформленных марксистских положений теории.
Почти что анекдот: мои ученики по Пролет-
культу обращают мое внимание, что я твер-
жу им что-то очень принципиально схожее
с тем, что им твердят в марксистском кружке.
(Законченного курса марксистских дисциплин
тогда при театрах не было. Да и даже так они
лишь частью, боком входили в совсем иначе
ставившийся тип занятий — «политчас».)
Оставалось лишь «назвать» своими имена-
ми ряд положений и доосознать их в «целокуп-
ности» единства принципов с другими явлени-
ями и системами.
210
Впервые на кино вновь осознанные методы
материализуются по отношению к «Стачке».
Характерно.
Снова не a priori, заранее или предвзято
продуманно, а к концу, к суммированию, к ито-
гам.
Солидный экскурс в историю предреволю-
ционного подполья и классовой борьбы против
царизма ширит понимание вопросов марксист-
ских дисциплин.
Делается даже отчаянный набег догнать,
осознать и сформулировать в теоретические
положения далеко их опередившую практи-
ку «Стачки». Ни методологического опыта, ни
опыта анализа еще нет. Делаю статью «К во-
просу о материалистическом подходе к форме»
в журнале АРК 4. Единственное достоинство
ее, пожалуй, то, что впервые диалектика и вы-
разительные средства кино так ставятся во
взаимосвязь неразрывности. Статья делает по-
пытку впервые, собственно, начать локализи-
ровать, куда, как и к чему может быть прило-
жим диамат (тогда и этой агглютинированной
формулы ведь даже не было в порядке обраще-
ния!). [. ..] С высот диалектических завоеваний
на сей день ее читать, быть может, и забавно.
Но рассмотрение достоинств или недостатков
не может быть вообще, а лишь в условиях того
времени и той обстановки. Возьмите огулом то,
что строчится ходким диаматическим «штилем»
211
и легкостью крылатого критического пера се-
годня, а не в двадцать втором, четвертом или
третьем! Большинство писаний по-своему не
менее смешны и могли бы хорошими панда-
нами служить к бессмертным цитатам о «ди-
алектике рыбной промышленности», навсегда
заклейменным тов. Стецким в статье его об
упрощенцах («Правда»).
Два года положения моей статьи углубля-
ются затем на практике.
В двух фильмах метод диамата глубоко вхо-
дит в мозг костяка конструкций.
«Потемкин» и «Старое и новое».
И снова только через год – другой проис-
ходит сознательный учет того, что сделано по
этой линии.
За недостатком времени и места отмечу
только один факт приемов конструирования
в обоих фильмах и любопытную диалектику его
развития от фильма к фильму.
С непреложной повторностью из акта в акт
пяти частей «Потемкина» возобновляется при-
ем контрастного строения.
Одно настроение, состояние, действие.
Цезура.
Перелом на 180 градусов. На резко и прямо
противоположное.
Оцепенение на юге под угрозой командира.
Мертвая пауза дрогнувших винтовок.
«Братья!» — и бунт.
212
Мертвый матрос в порту. Все разрастаю-
щийся траур.
Сжимается кулак.
Призыв. Клокочет митинг. Красный флаг
взлетел на мачту.
Белой стаей лодочек мчится энтузиазм
Одесской лестницы в объятия восставшего
броненосца.
Минута замешательства. И майская весен-
няя радость первой революции смята солдат-
ским сапогом царизма. На смену белокрылым
яликам — катящиеся массы человеческого
мяса по окровавленным ступеням.
Ночь. Напряжение. Ожидание встречи
с эскадрой. Опять оцепенение затаившихся
как будто бы перед боем эскадры адмирала и
встречного «Потемкина». Опять цезура подня-
тых дул. На этот раз многодюймовых орудий.
Но дула падают. И снова «Братья!», «Ура!»
и прочее.
Не для передачи содержания фильма я при-
вожу это здесь. А для того чтобы показать, как
часть за частью первая половина каждого акта
из пяти, резко переламываясь, перебрасывает-
ся в противоположность. Но вопрос противопо-
ложностей, единства их еще представлен здесь
в простейшей форме — в форме формального
контраста внутри единой единицы акта. Пока
что не конфликта, не становления конфликт-
ного второй противоположности из первой
213
в единстве, обусловленном не единством роли-
ка, а тезисом единства тематической данности.
Еще нет.
Судьба «Старого и нового» достаточно из-
вестна. По ней проехал гусеничный трактор
времени вдоль, и трактор нового очередного
поворота политики по линии колхозов и совхо-
зов поперек. Картина, задуманная и частью
снятая как вопль о недостаточности работы
в деревне (1925–1926) — это идет в ногу
с лозунгами тех дней, — становится картиной
показа достижений работы на деревенском
участке. Никто не виноват, что за три года
с таким размахом шагает строительство соци-
ализма. «Не виноват» и фильм. Не виноваты
и авторы, мимоходом снявшие за это время
еще картину «Октябрь».
Но расплачивается фильм.
Расплачивается позвонками и переломан-
ным хребтом.
От цельности первичной концепции остались
первые три акта. И агитпропкартина второй
части фильма...
Поэтому здесь речь только о первых актах.
И здесь уже принципиальное продление
контрастной линии конструкции частей «По-
темкина», но уже по линии конфликтной.
Тут противопоставление частей внутри еди-
ного ролика уже диктуется не внешним ритмом,
не внешним темпом, не внешней динамикой.
214
Здесь даже, если хотите, пространственного
формально внешнего противопоставления во-
все нет.
Действительно:
молебен в поле — сепаратор (вторая часть);
драка вокруг дележки денег — и образцо-
вый скот (третья часть);
скотская жизнь старой деревни и группа
крестьян на митинге (первая часть).
Зато противопоставление здесь внутреннее
и противопоставление, идейно обусловленное
и генетически-смысловое вырастающее одно из
другого.
В «Потемкине» траурные «настроения», до-
стигнув апогея, перебрасываются в эмоцию гнева.
И радость на лестнице сминается «из-за
кадра» самого действия вступившим «залпом»
солдатского сапога.
Здесь — безысходность «идиотизма дере-
венской жизни» (Маркс) взрывается возгласом
«Так жить нельзя», и вторая половина ролика
перемахивает не в противоположность кон-
трастирующей киноформы другой динамики,
а в сторону противоположной социальной иде-
ологии и формы — колхозного строительства —
органическим отрицанием, взрывающимся из
ада форм бедняцкого житья индивидуальными
хозяйствами.
Так же дождевые шлюзы, на откуп данные
Илье-пророку богом, никак по зрительности
215
экстаза крестного хода не могут внешне быть
поставлены в противоположность любопыт-
ствующим крупным планам крестьян, стоящих
вокруг «броненосцем» снятого сепаратора.
А между тем... Взаимосвязь, взаимоисключе-
ние, взаимоотрицание вчерашнего шаманства
и техники сегодняшнего дня и явны и очевидны
из этого сопоставления формально не контра-
стирующих элементов.
И то же в третьей части, где последний бой
с собственничеством, «внутренним кулаче-
ством» сошедшихся колхозников внезапно вы-
растает тучными коровами и «днепростроями»
молочных водопадов — коллективными до-
стижениями, опять-таки работая конфликтом
пары без контраста внешностей...
Быть может, парадоксальность и аскетизм,
в которых взяты эти противопоставления, при
подчеркнутом пренебрежении формальным
озолочением их для зрительского удобства
и приятности потребления — одна из тех
причин, что заставляла многих реагировать
с меньшей интенсивностью непосредственно-
сти на «Старое и новое», чем на «Потемкина».
Однако серьезной критикой отмечалось всюду
превосходство концепции «Старого и нового»
(частями) над «Потемкиным», побившим его
единством формальной конструкции. Как буд-
то для дальнейшего — напрашивается синтез
метода обеих постановок.
216
Об «Октябре» и диалектических «предэле-
ментах» в нем и перспективах из них. Доста-
точно отметить, что еще в кусках и на монтаж-
ном столе из ряда монтажных экспериментов
«Октября» родилась мысль к созданию фильма
о «Капитале» Маркса.
Вернее, фильма — о методе диалектики.
Ростки того, что было в «Октябре», дава-
ли уже повод взяться за изложение подобного
в экранных формах.
Ряд нужных теоретических проработок пе-
ред тем, как приступить к такому «Магни-
тогорску» кинематографии, и личное указа-
ние по этому поводу со стороны тов. Сталина
(в беседе с ним весною 1929 г.) о более перво-
очередных заданиях заставили пока отсрочить
выполнение этой темы.
А главное, что к ней невозможно будет по-
дойти лишь во всеоружии всеовладенности зву-
ковой техникой.
Звуковой техникой не в плане болтающего-
ся микрофона звукового ателье, где мы имеем
уже не одно очко успеха, а в плане микрофона
правильного мышления материалом звука, зву-
кообраза и сочетания зрительного со слуховым.
По этой линии пока что мы менее, чем сосун-
ки. И хорошо снятые результаты посредствен-
ного театра еще не делают весны в советской
кинозвуковой погоде!
Экранизация теории марксизма-ленинизма
217
придет тогда, когда экранный рупор твердо
будет держаться на теории марксизма-лени-
низма, легшей в основу осознания методики
и методов советской звуковой кинематографии.
Еще спустя год, как ни странно сейчас по-
добное звучит, мне приходится драться за ме-
тод диалектики в ... учебном заведении.
Включившись в дело ГТК в 1928 году, на
части знания ремесла уже вскрыв диалектику
внутри его специфики, на других участках ли-
хорадочно дорабатываясь до того же, нужда-
ясь в том, чтобы ученики владели этим же
мышлением, языком и методом, нуждаясь сам
в проверке и критике через коллектив, я вне-
запно нарываюсь на дикое явление.
Трехгодичен курс ГТК.
Марксистские дисциплины хотя и боком,
а не в центре, но все же в плане присутствуют.
Но как!!!
Первый курс проходит историю партии
Второй — исторический материализм.
Третий, и то к концу учебного года, то есть ког-
да мозги направлены на дипломную работу, —
немного на прощание снабжается диалектиче-
ским материализмом!
Сейчас это звучит невероятно.
Однако это факт, и вовсе не в средневековой,
а в наивысшей киношколе 1928 года.
Я подымаю бунт. Я вопию.
218
Мне кажется нелепым, что обучению методу,
на котором должно основываться прохождение
всех дисциплин где-то на ходу в конце отводит-
ся два — три часа.
Сейчас это трюизм. Об этом неловко писать
В те времена логику моего требования осаж-
ивают «так принятым порядком преподавания
марксистских дисциплин согласно программ их
обучению по совпартшколам».
Конечно, это не аргумент в обычном смысле
слова, но бюрократический автоматизм всегда
успешно замещал аргументацию.
Из аргументов же приводится
диалектический материализм — такая высо-
кая далекая философия, что смертного просто-
го подпустить к ней сразу никак не полагается.
Звучит курьезом. [...]
И верх курьеза — мне самому приходится
вступительные лекции отдать на то, чтоб плану
поперек снабдить студенчество компилятивно со-
бранными данными по диалектике как таковой.
По той простой причине, что вне ее я не могу
перед ними излагать ни одного теоретически
разобранного и обоснованного положения по
моему предмету.
Затем я уезжаю за границу.
Еще из Мексики я шлю обеспокоенный за-
прос в партколлектив ГТК, преобразившегося
в вуз ГИК, о том, что делается с диалектикой...
И снова анекдот.
219
Я возвращаюсь, чтобы застать послед-
них ракушек, козявок и обломки разрушений
только-только отхлынувших потоков мутных
вод разлива Миссисипи «диалектического»
упрощенчества, сокрушивших и затоплявших
словоблудием стены института, два года тому
назад не находившего лазейки для диамата
внутри своих программ.
Период море-океана этого внутри стен ГИКа
для меня благополучно миновал.
Мы снова стоим у исходных позиций. Но
только теперь уж с верным соратником — ка-
федрой диалектического материализма, рабо-
тающей с первого курса насквозь.
Недолет: 1928–1929.
Перелет: 1930–1932.
В точку: вступающий год 1933.
Вступающий год 1933 должен стать реша-
ющим в деле внедрения марксизма-ленинизма
в теорию кинематографии в неразрывности со
школой, чтобы обеспечить методом практику,
слепым котенком тычащуюся по линиям наи-
меньшего сопротивления.
И здесь работа крупнейшей серьезности.
И здесь придется вспомнить еще одно стол-
кновение с марксизмом, еще не отлившимся
в метод марксизма-ленинизма.
И здесь будет речь идти о Плеханове.
И отнюдь не вообще, а лишь потому, что
это в тесной связи с одним поворотом, ко-
220
торый необходим в марксистском овладении
методом кинематографии.
Киношкола не знает пока и не выработала
еще методик по диалектике составляющих ее
дисциплин.
Если в кинотеории применяется марксизм, то
в лучшем случае — историко-социологически.
К тому же достаточно поверхностно и «вооб-
ще».
С приближением к диалектике предмета
специальные дисциплины пасуют.
То есть с приближением к тому, что опре-
деляет принципиальную сводку, общую диа-
лектическую специфику данной дисциплины из
опыта диалектического хода ее развития.
Не под знаком и в целях нахождения абсо-
лютных и имманентных законов в себе и для
себя, а в нахождении агрессивной диалекти-
ческой методики дальнейшего поступательно-
го развития кинематографии, взятой под учет
марксистско-ленинской осознанности.
И тут вспоминается Плеханов.
Со всем блеском излагавший ретроспективный
взгляд на экономическую обусловленность спец-
ифик Банвилей, Бодлеров, Сезаннов или ранних
Пикассо, он метод исторического материализ-
ма совершенно неспособен обернуть вперед —
по наступательным путям на будущие линии.
Хуже — он неспособен разглядеть поступа-
тельную диалектику в идущих рядом современ-
221
никах, как и в событиях не видит заложенной
в них гигантской потенции принципиальной клас-
совости развития. Отметим лишь чудовищную
ошибку Плеханова по отношению к Горькому (по
«Матери») в сопоставлении с ленинской оценкой.
И где же требовать, чтобы в его учении был
бы еще свод методологических указаний, спо-
собных навести и повести к дальнейшему дви-
жению вперед, если даже в идущем рядом с ним
поступательном движении вперед он неспособен
разглядеть его, ибо очи его направлены лишь
исторически обратным методом, лишь назад.
И если история есть политика, обернутая
назад, то то, что я в данном месте понимаю
под диалектикой той или иной дисциплины,
в отличие от историко-социологического ее чте-
ния, есть метод исторического материализма,
направленный вперед.
Одним «истматом» дисциплины жив не бу-
дешь.
Под диалектикой учебного предмета здесь
я понимаю сведенность опыта по изучению
материалистической истории развития данной
отрасли и дисциплины в ряд тех принципиаль-
ных положений, которые могут лечь в основу
творчески поступательного развития данной
дисциплины вперед.
Через исторический материализм предмета
дисциплины вести к принципам диалектики
предмета.
222
И повернуть исторический материализм из
области, теряющейся в глубине веков, вперед
и в сторону веков грядущих, истории, творимой
пролетариатом, — не «творимой легенды» сды-
хающей буржуазии, а строящейся реальности
пролетарской культуры как элемента проле-
тарской победы в реализации бесклассового
общества.
Не только марксистско-ленинскую историю
предмета, но и подлинную марксистско-ленин-
скую теорию предмета кинематографии в 1933 го-
ду должна реализовать советская кинемато-
графия.
И это будет подлинным отражением учения
Ленина в кино, предшествующим отображению
его учения на экране.
И вот один из пунктов по вузовскому соцсо-
ревнованию, который на текущий год себе по-
ставила кафедра режиссуры Государственного
института кинематографии.
1932
224
Москва во времени
Москва как тема вообще единственна.
«Два Рима пали, а третий стоит, а четверто-
му не быть» — еще «со средневековья тянется
изречением старца Филофея о царской Моско-
вии и самодержавной Москве.
Москва как понятие есть средоточие социа-
листической будущности всего мира.
И Москва — город как живой образ пути
прихода к социализму.
Необъятен весь процесс роста и становления
Москвы.
Как кино, необъятен в полноте процесс того,
как из раба и смерда москвич дорос до про-
летария — рабочего и полновластного хозяина
Союза, с коллективным мозгом коммунизма
в былой первопрестольной.
Поэтому динамику событий на Москве для
нашего нового фильма мы не разгоним в кален-
дарь истории Москвы и не во всеохват истории
рабочего класса и классовой борьбы.
Замысел наш — фоном воскресить щпицрут-
225
ный бег сквозь «историю государства Россий-
ского», где, может быть, как нигде, возможно
сказать словами Маркса об истории пролета-
риата, что «она вписана в историю человече-
ства неугасимыми знаками крови и огня».
Этот бег истории под пятой двойного пора-
бощения — своими мироедами-кровососами
и рабской зависимости через них от мирового
денежного мешка и капитала — вот то, что
тематически хотелось бы дать почувствовать
сквозь перипетии общего плана картины, ре-
шение проблем, веками не разрешимых и ре-
волюционным пятнадцатилетием разрешаемых
диктатурой нашего пролетариата навсегда
и являющихся образцом для подражания про-
летариату всего мира.
И с этого общего фона должен отделиться
растущий из рода в род тремя – четырьмя эта-
пами поколений — былой смерд и сегодняшний
хозяин «земли русской».
Пролетарий.
Растущий через века Москвы — московский
рабочий.
Шереметевы. Долгорукие. Нарышкины.
Блистали гербами на фронтонах. На дверцах
карет. На мебели, подкладных суднах и блю-
дах. Единорогами. Орлами. Ферзями. Шашка-
ми и шлемами. Фамильною геральдикой.
«Москву» хотелось бы видеть гербом москов-
ского рабочего, его генеалогией, его геральдикой.
226
Нам чудится сценарий глубоко сюжетным.
Пронизанный конфликтом и перипетиями
одной сквозной классовой борьбы по разным
фазам. В единой сюжетной линии.
С героями и злодеями, перерастающими
свои индивидуальные биографии в биографии
движущих классовых сил, действий и ини-
циатив, переходящих с деда к отцу и внуку,
к правнуку.
Интрига, раздвинувшая рамки сакрамен-
тальных традиций скованных единств, шабло-
на кинематографической ложноклассики,
раз установленных шаблонов кинорамок для
киносюжетов.
В этих сквозных образах хотелось бы прак-
тически обрести новую форму «шекспиризиро-
вания».
Само же обратное оформление фильма мы
хотим провести в другой шекспировской тра-
диции: оформив ее по четырем стихиям — воде,
земле, огню и воздуху, из сочетания коих сла-
гались гармония и дисгармония вселенной для
Шекспира.
Вода древнейшей части. Вода зарождения.
И вода водных путей. Москва Москвы-реки.
Яузы. Озер. Прудов. Неглинки. Рукавов. Кана-
лов. Речек. Своеобразная Венеция плывущих
в жиже грязи улиц, как мы в морях асфальта.
Как гад, вылазящий на сушу, чтобы в уве-
ренности стать на ноги, так собирательство Мо-
227
сквы и сюзеренство, перерастающее в царский
абсолютизм, на следующей стадии оформляет-
ся как твердь, как суша и земля.
Здесь Грозный перебрасывает через годы
свою эстафету Петру,
Петру, уже плотно ставшему на погнутые
выи феодалов, бояр и князей.
Петр, каторжным трудом, военными завода-
ми, военщиной вгоняющий трудящихся в ярмо
квалифицированной эксплуатации на смену па-
триархальности старомосковских способов по
выжиманию соков. Древняя мудрость учла, что
твердь — земля. А под землей, внутри — огонь.
Но под Петром в горнах им заведенных фа-
брик и заводов, пушечных и литейных, наби-
рается другой огонь. Вода и суша подступов
к картине — в центральной части — разрас-
таются огнем.
Ведущее звено картины идет под знаком
пламени. Под знаком зарождения класса, ро-
ста, бунта, борьбы, чтоб вырасти до революции
и огненного пути Октября.
С Петром ведущая роль перемещается на
Север. Москва — ведущая на время затихает.
Но клокот протеста порабощенных в ней не
перестает. И в ней на Лобном месте казнится
Пугачев, продлитель разинской инициативы.
Пусть их самих мы не увидим в фильме.
Конфликт растет и неразрывен с ростом про-
мышленных начинаний. Пусть еще глух.
228
Но вот как бы незавершенный прообраз по-
следней «отечественной войны четырнадцатого
года» проносится война «Отечественная» две-
надцатого года.
Огонь восстаний готов уже вспыхнуть в свя-
зи с победоносным наступлением Наполеона
и, разгоревшись в ополчении, разлиться по
всей «Руси великой».
В лесных и степных пожарах огонь бьют ог-
нем же. Одну лавину огня — встречной огнен-
ной лавиной.
И «пожар Москвы» пылает встречно над-
вигающемуся пожару ожидаемых восстаний.
Правящие классы бросают клубок пылающей
Москвы под ноги наступающему Бонапарту.
Красивый жест самоотверженной патриотиче-
ской героики. «Спасение родины от корсикан-
ца» не больше как ва-банк правящей верхуш-
ки, объятой паникой и мечущейся на вулкане.
Столетний перескок — и пылающий костер
Москвы меняет форму: огненным кольцом пы-
лает красным петухом вокруг Москвы пожар
крестьянских восстаний, прорвавшихся на пя-
том годе.
Москва в кольце огня. Внутри же горит пла-
мя новой силы, ведущей и обеспечивающей
возможность полноценной схватки, если еще
не окончательной победы.
В центре горит революционный порыв но-
вой классовой силы — московского пролетария.
229
И драматичный экскурс в лихорадку хаоти-
чески растущей капиталистической промыш-
ленности — колыбели растущей пролетарской
силы класса.
Чтобы снова вернуться в черный дым ко-
стров, в аутодафе сгорающих пожаром барри-
кад на Красной Пресне.
Мрак черного густого дыма как тяжкий
мрак годов реакции. Эти годы — годы неу-
станной ковки, спружиненной энергии, рево-
люционной практики, революционной работы
большевизма.
А из огней догорающей под сапогом жан-
дармов Пресни — к увеселительным огням
и фейерверкам, потешным развлечениям по-
тешной маленькой фигурки, справляющей
свой трехсотлетний день рождения Романовых
в тринадцатом году.
И линия царя с последней вспышкой уходит
под занавес войны четырнадцатого года и фев-
раля семнадцатого.
И класс против класса в схватке Октября.
И в новой фазе тема огня, пулеметным огнем
по Кремлю вводящая к власти новый класс.
И новым огненным кольцом железа и крови
сдавлена молодая власть, стоящая на месте
старой. Сброшен хозяин. Но в объединении
с хозяином заморским он прет интервенцией
на Красную Москву. Москва опять становится
на место центра. Советы организуют борьбу.
230
И Москва, снова сжатая почти что до пределов
Московии Грозного, победно организует отпор
лавине нашествия нового Батыя. В сто крат
страшнейшего, чем иго ханское.
Но фронт за фронтом разбито иго интервен-
тов. Взорвано мертвящее кольцо на воздух.
И с взрывом полной грудью мы вдыхаем
воздух — четвертый элемент — воздух новой
эры, воздух стройки.
Но прежде чем погрузиться в огонь воздухо-
дувок и объединенной энергии и синтеза всех
побежденных стихий, еще раз мрачно запыла-
ют костры. Костры незабываемых ночей смер-
ти Ильича. Костры морозных лютых ночей. Ко-
стры, из которых затем запылает огонь иного
качества и силы. Огонь клятвы вести и дальше
дело Ильича.
Стихия энтузиазма ленинского призыва
в партию и пламенный обет пролетариата во
главе с ленинским ЦК продолжить и завер-
шить дело Ленина.
И свершенье.
Историческое разрешение того, что веками
в огне и крови не могло разрешиться.
Выход на свежий воздух социалистического
свершенья.
Москва как центр величайших свершений.
Москва как бешеная кузница строительства
будущего.
Москва, вырастающая в мировую лаборато-
231
рию социальной и материальной стройки, ве-
дущая ленинское дело до конца примером для
всей республики и для стран всего мира, куда
отовсюду будут съезжаться, чтобы учиться.
Это не фильм. Это — ядро, для которого
предыдущее лишь разбег.
Изложенное, конечно, еще не сценарий.
Это — одержимость темой, еще не принявшая
форму. Кое-где она уже закрепляется установ-
кой, кое-где намеком на будущий образ, где-то
сюжетной сценкой, контуром фабулы, но всюду
в попытке до конца ощутить, если еще и не
охватить, и выразить всю необъятность темы.
Но изложенное — еще кое-что: оно — при-
зыв. Без писателя, а может быть, и группы
писателей не охватить до глубины того, к чему
мы стремимся.
И пусть это изложение намерений послужит
конкретным приглашением нашим писателям,
которых увлекает эта тема и под этим же углом
зрения, принять участие и непосредственно
связаться со мной по сценарной работе.
Пусть «Москва» будет проверкой действи-
тельной готовности советской литературы со-
трудничать с советским кино.
Жду конкретных предложений и откликов
на сотрудничество по сценарию «Москва»!
1933
233
О фашизме, германском
киноискусстве
и подлинной жизни
Открытое письмо германскому министру
пропаганды доктору Геббельсу
Herr Doctor!
Вас вряд ли огорчает и, вероятно, мало уди-
вит узнать, что я не состою подписчиком под-
ведомственной вам германской прессы.
Обычно я ее и не читаю.
Поэтому вас может удивить, что я с лег-
ким запозданием, но тем не менее информи-
рован о вашем очередном выступлении перед
кинематографистами Берлина в опере Кролля
10 февраля.
На нем вы вторично почтили лестным упоми-
нанием мой фильм «Броненосец “Потемкин”».
Мало того, вы снова, как год назад, изво-
лили выставить его как образец того качества,
234
по которому следует равнять национал-соци-
алистические фильмы.
Вы поступаете очень мудро, посылая ва-
ших кинематографистов учиться у ваших
врагов.
Но вы при этом делаете одну маленькую
«методологическую» ошибку.
Позвольте вам на нее указать.
И не пеняйте, если указание вам не придет-
ся по вкусу.
Не мы лезем вас учить — вы сами напра-
шиваетесь.
Людям свойственно ошибаться.
Глубоко ошибочны и ваши предположения,
что будто бы от фашизма может уродиться ве-
ликая немецкая кинематография.
Даже при самом благосклонном участии та-
кого арийского святого духа, которым сейчас
позируете вы.
«Доказательство пуддинга состоит в его пое-
дании» — приводит в одном месте английскую
поговорку Энгельс («The proof of the pudding
is in the ceating»).
Прошло уже немало печального времени,
а ваш хваленый национал-социализм не произ-
вел в искусстве ничего хотя бы мало-мальски
удобоваримого.
Поэтому вам, вероятно, предстоит еще не-
мало выступать с речами вроде тех, что вы
произносили уже дважды.
235
Занятие нудное и неблагодарное. Вдохнов-
лять дохнущее в тисках фашизма германское
киноискусство, когда-то знавшее немало дости-
жений в прошлом.
Я глубоко убежден и твердо надеюсь, что
германский пролетариат не замедлит помочь
вам освободиться от этой изнурительной,
а главное, совершенно бесплодной работы.
Но на случай, если бы вам все же при-
шлось еще раз говорить о кино, нельзя, чтобы
допускались такие методологические ошибки
человеком, занимающим такой высокий пост.
Вы прекрасно под гром аплодисментов на-
чертали творческую программу для немецкой
кинематографии:
«... Подлинная жизнь снова должна стать
содержанием фильма.
Надо отважно и смело браться за под-
линную жизнь, не пугаясь трудностей и не-
удач. Чем больше неудач, тем яростней надо
снова браться за эти проблемы. Где бы мы
были теперь, если бы при каждой неудаче
теряли бы мужество. (Шумное одобрение.)
Теперь, когда увеселительный хлам выки-
нут из общественной жизни, вам, творцы
кинематографии, предстоит подойти к теме
о бессмертном немецком народе и ею занять-
ся. Заняться теми людьми, которых никто не
знает лучше, чем мы... Каждый народ — это
то, что из него делают. (Браво!) И что можно
236
сделать из германского народа, мы достаточно
показали. (Бурное одобрение.)
Публика не чужда искусству.
И я убежден, что если бы здесь в одном
из наших кинодворцов мы дали бы фильм, ко-
торый действительно охватил бы наше время
и действительно стал бы национал-социали-
стическим «Броненосцем», билеты в такой
театр были бы распроданы дотла и надолго».
(«Deutsche Allgemeine Zeitung», 11 Februar 1934,
«Grosse Rede des Reichspropagandanunisters
for den Filmschaffenden».)
Под «Броненосцем», я не сомневаюсь, вы
имеете в виду, конечно, не одного «Потемкина»,
но всю победоносную линию нашей кинемато-
графии последних лет.
В остальном же — совершенно блистатель-
ная программа.
Мы все знаем, что только подлинная жизнь,
правда жизни и правдивое изображение жиз-
ни лежат и могут лежать в основе подлинного
искусства.
И каким шедевром мог бы быть правдивый
фильм о сегодняшней Германии!
Однако для реализации вашей блистатель-
ной программы вы нуждаетесь в одном добром
совете.
Вам определенно нужен совет. Даже не один.
А много, много советов.
Скажем прямо — целый советский строй.
237
Ибо в наши дни великое искусство, прав-
дивое изображение жизни, правда жизни, да
и сама жизнь возможны лишь в стране Совет-
ской — независимо от того, как она называ-
лась раньше.
Но правда и национал-социализм несовме-
стимы.
Кто за правду, тому не по пути с нацио-
нал-социализмом.
Кто за правду, тот против вас.
Как вы смеете вообще говорить о жизни, где
бы то ни было, вы, несущие топором и пулеме-
том смерть и изгнание всему живому и лучше-
му, что есть в вашей стране?
Казня лучших сынов германского проле-
тариата и распыляя по поверхности земного
шара тех, кем гордится подлинная германская
наука и культура всего мира?
Как смеете вы звать вашу кинематографию
к правдивому изображению жизни, не пору-
чив ей первым долгом прокричать на весь мир
о тысячах томящихся и замученных в подзем-
ных катакомбах ваших тюрем, в застенках ва-
ших темниц?
Как у вас хватает наглости толковать
о правде вообще после того вавилонского стол-
потворения, наглости и лжи, которые вы соо-
рудили в Лейпциге? В тот момент, когда вы
возводите новый эшафот лжи, предательства,
готовя процесс против Тельмана?
238
Тоном доброго пастыря вы говорите далее
в вашей речи:
«... Если только у меня будет уверенность,
что за любым фильмом стоит честное художе-
ственное намерение, я всячески буду его защи-
щать...» (там же).
Вы лжете, господин Геббельс.
Вы прекрасно знаете, что честным и худо-
жественным может быть только тот фильм, ко-
торый до конца раскроет ад, в который вверг
Германию национал-социализм.
Вы вряд ли стали бы поощрять такие филь-
мы!
Подлинным германским киноискусством мо-
жет быть лишь то, которое будет призывать
революционные массы на борьбу с вами.
На это действительно нужна смелость и от-
вага.
Ибо при всех сладких напевах ваших речей
вы свое искусство и культуру держите в тех же
железных кандалах, что и тысячи ваших узни-
ков в сотнях ваших концентрационных лагерей.
Да и не так возникают произведения искус-
ства, как думаете вы.
Мы, например, знаем и кое-чем уже дока-
зали, что произведение, заслуживающее этого
названия, есть, было и будет таковым всегда
лишь тогда, когда через художника выражает-
ся спружиненное, сформулированное, волевое
устремление класса.
239
Подлинное произведение есть оформленное
стремление класса закрепить свою борьбу,
свои достижения, свой социальный облик в не-
преходящих образах искусства.
И тем выше произведение, чем полнее уда-
ется художнику понять, почувствовать и пере-
дать этот творческий порыв самих масс.
Не так вы смотрите на класс и массы.
По-вашему: «... Каждый народ — это то, что
из него делают...» И находятся идиоты, кото-
рые в этом месте вам кричат «браво».
Потерпите немного. Пролетариат внесет
свою поправку в вашу, с позволения сказать,
концепцию, господин демиург божественной
силы.
Тогда вы узнаете, кто подлинный субъект
истории.
Вы узнаете тогда, кто кого делает и что тог-
да сделают с вами и... из вас.
Война, говорят, родит героев.
Горы, говорят, рожают мышей.
Но никакой Геббельс, претендующий родить
новую Германию, как Афину, из своей головы,
не способен родить «великой национал-социа-
листической кинематографии».
Сколько ни пыжьтесь — «национал-социа-
листического реализма» вам не создать.
В этом лживом ублюдке было бы столько
же подлинной правды и реализма, сколько
в национал-социализме... социализма.
240
И только подлинный социалистический
строй Советского Союза способен родить гран-
диозное реалистическое искусство будущего
и настоящего.
О нем вы можете только мечтать.
Даже гадать вам трудно. Ошибочно и не
с того конца. Да и не по тем картам загадыва-
ете. Каким бы шулерством себе ни помогали.
Чертите прусскую лазурь своего лирическо-
го прожектерства. Но знайте, что только под-
линный социализм и программа социалисти-
ческого наступления обеспечивают творческой
программой все виды искусства.
Радиограммы героев ледяного похода «Че-
люскина» приносят нам весть, что скованные
и затертые льдами они черпают новый запас
бодрости и прилив творческой энергии, вчиты-
ваясь в отчетный доклад XVII съезда о работе
ЦК ВКП(б).
Скованные долгие месяцы вашими кандала-
ми, ваши жертвы и наши дорогие герои Дими-
тров, Танев и Попов были лишены всяческой
связи с внешним миром. В какой-то счаст-
ливый миг на несколько дней была наруше-
на изоляция. К ним проникает газета. На ее
страницах тот же отчетный доклад. Это мгно-
вение, эти печатные полосы были искуплени-
ем за все месяцы страдания. Из уст самого
Танева, через день после его возвращения,
я услышал, чем они были для ваших узников.
241
Они были приливом новой энергии и нового
пафоса на беспощадную борьбу.
В этих полосах было все, что надо было
за год назад и на многие годы вперед узнать
«солдату революции» (выражение гражданина
СССР — Димитрова).
В этих полосах есть все, на чем базировать
творческую программу «солдату искусства ре-
волюции» по всем видам идеологического ору-
жия — литературы, искусства и кино — в его
последних боях за бесклассовое общество.
Это лучший образец социалистического ре-
ализма в действии.
Это же лучший прообраз социалистическо-
го реализма на всех участках художественного
творчества.
Это не пустой звон ваших выступлений.
Обещав свое высокое покровительство «чест-
ному художественному творчеству» фильма, вы
милостиво добавляете:
«... Но я не требую, чтобы фильм начинал-
ся и оканчивался национал-социалистическим
марш-парадом. Оставьте национал-социали-
стические марш-парады на нашу долю — мы
это умеем делать лучше вас...» (там же).
Правильно сказано! Правильно!!
Ступайте к вашим барабанам, господин
обер-барабанщик!
Не заливайтесь волшебной флейтой о наци-
онал-социалистическом реализме в кино.
242
Не подражайте вашему кумиру — Фридри-
ху Второму — еще и флейтой.
Оставайтесь на более привычной вам «то-
порной» работе.
И не теряйте попусту время.
Не долго вам придется орудовать секирой
палача.
Пользуйтесь!
Жгите книги.
Жгите рейхстаги.
Но не воображайте, что казенное искусство,
вскормленное на всей этой мерзости, будет спо-
собно «глаголом жечь сердца людей».
1934
244
Наконец!
Бывают разные формы драки.
Турниры. Дуэли. Бокс.
Турниры с поднятым забралом.
Схватки со спущенным.
Бокс в открытую.
И бокс под маской.
Французские сеньоры и английские джент-
льмены практиковали еще способ: посылали
лакея с дубинкой, который избивал неугодного
противника.
От этого метода особенно страдали памфле-
тисты.
Наконец, есть еще способ.
Когда бьют «втемную».
Так избивали арестанты.
Накрывая голову халатом и — коленками
в спину. Такие побои, как говорят, не оставля-
ют следов.
В формах литературной драки, где это на-
зывается полемикой, пусть в новом качестве,
существуют все эти же виды.
245
Полемика статьями в открытую.
Полемика со скрытым псевдонимом лицом.
Палкам соответствовал бы редакционный
«курдюк» из трех — четырех строчек коммента-
рия редакции, опрокидывающего нежелатель-
ную для него точку зрения автора.
Но бывает и последняя разновидность:
«втемную».
Когда кусок вашей точки зрения накрыва-
ется халатом, то есть замалчивается тем, что
статью помещают неполностью.
Обычно человек, побитый «втемную», мол-
чит.
Я побывал в разных видах драки. Намедни
попал в драку последней разновидности. Но
не хочу молчать. Ибо правда на моей стороне.
А самый вопрос касается не меня, а советской
кинематографии.
Какова же была та «крамола», которую
редакторский карандаш вычеркнул из статьи
моей к юбилею пятнадцатилетия советской
кинематографии для журнала «Советское
кино»?
Я писал примерно следующее:
«Развитие и история советского кино дви-
жутся отчетливыми пятилетками.
Из них самая замечательная пока что —
четвертая.
Три из них прошли, четвертая наступает.
Четвертая будет наиболее замечательной
246
не только потому, что каждая новая страница
в нашей действительности еще замечательнее,
чем предыдущая.
Она замечательна еще в другом отношении.
Если первое пятилетие нашей кинематогра-
фии было прежде всего этапом хозяйственно-
экономического и организационного станов-
ления и первых намечавшихся ростков соб-
ственной кинематографии, то второе и третье
пятилетия являются уже эпохами, резко сти-
листически очерченными. Эпохами, дающими
четко обрисованное лицо советской кинемато-
графии двух меняющихся этапов.
Как последовательные этапы развития, они
резко противостоят друг другу.
И меньше всего они противостоят тем, что
третья пятилетка — звуковая, а вторая — не-
мая, хотя она и прогремела на всем земном
шаре.
Дело в различии стилистическом.
В различии, иногда доходящем до взаимо-
исключения.
И уж во всяком случае, до сильнейшей прин-
ципиальной противоречивости.
Взять любую картину одного пятилетия
и сопоставить ее с любой картиной другого, —
сопоставления скажут за себя:
«Мать» и «Дезертир», «Арсенал» и «Златые
горы», «Потемкин» и «Встречный».
При всем стилистическом разнообразии ка-
247
ждой из трех этих пар между собой на них
лежит в равной степени отчетливый отпеча-
ток принадлежности к одному пятилетию или
к другому.
И тут мы вернемся к тому, почему так за-
мечательна будет наступающая четвертая пя-
тилетка нашей кинематографии.
Она будет замечательна тем, что явится
синтезом, который включит в «снятом» виде
лучшие из достижений взаимоисключающих
стилей двух предыдущих этапов...
Эта часть моей статьи оказалась неугод-
ной редакции. Принципиальное это вступле-
ние оказалось ампутированным. Остался один
«вечер воспоминаний».
Каков мог быть мотив? Только один: несо-
гласие редакции с соотносительной оценкой,
которую я даю разным этапам нашего кино.
В чем могла быть сущность несогласия?
В том, что, по мнению редакции, черты, ко-
торые я жду от четвертого пятилетия нашего
кино, она насильственно желает и заставляет
видеть на продукции пятилетия 1929–1934.
Редакция не возражала против моей точки
зрения, а изъяла ее из обращения.
Поэтому я волен предполагать за ней любые
мотивы. Она по ним не высказалась. Но я ду-
маю, что мотивы были именно эти.
К этому, вероятно, еще присоединялось
обычное трафаретное обвинение в «песси-
248
мизме», в «недооценке творческой потенции»
и «неверии в мощь советского кино».
Ведь так именно из номера в номер на страни-
цах газеты «Кино» «прорабатывался» Н. Зархи
за его выступление на съезде писателей.
Только люди, весьма слабо ориентирующи-
еся в диалектике развития и в вопросах о том,
как элементы одних этапов могут присутство-
вать внутри другого, были способны в призыве
Н. Зархи — не утрачивать достижений второго
пятилетия на рубеже вступления в четвертое —
расслышать бредовый лозунг: «Назад к “По-
темкину”, к “Арсеналу”, к “Матери”!»
Между тем качества, вносившиеся пятиле-
тием вторым и пятилетием третьим, весьма
различны.
Сличая их, хочется вспомнить слова Белин-
ского: «...Как противоположен был пушкинский
период карамзинскому, так настоящий период
противоположен пушкинскому... Период пуш-
кинский отличался какою-то бешеной мани-
ей к стихотворству; период новый еще в са-
мом начале оказал решительную наклонность
к прозе».
Одобрение Белинского целиком на стороне
пушкинского периода.
Но здесь важно другое. Обусловленные раз-
ными историко-социальными предпосылками,
две упомянутые пятилетки нашего кино, одна-
ко, отличаются между собой именно тем же.
249
Понятно, что речь здесь идет о противопо-
ставлении поэзии и прозы в литературном по-
нимании этих терминов, а не в обывательском!
Действительно, отличительным разграни-
чением обеих эпох было преобладание поэзии
в первой. Прозы — во второй. В строе вещей.
В специфике выбора средств воздействия.
В образной и композиционной их структуре.
Этап поэзии и этап прозы.
Но было бы громадной ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ошибкой по отношению к прозаическому пя-
тилетию прилагать ту же характеристику, ко-
торую Белинский дает постпушкинской эпохе:
«...Но, увы! Это было не шаг вперед, не обнов-
ление, а оскудение, истощение творческой дея-
тельности...». Много есть влюбленных в первое
пятилетие, готовых отрицать всякие заслуги за
вторым и длить цитату еще дальше: «...Дея-
тельность и жизнь кончились: громы оружия
затихли, и утомленные бойцы вложили мечи
в ножны, почили на лаврах, каждый припи-
сывает себе победу, и ни один не выиграл ее
в полном смысле сего слова...» (Белинский, Ли-
тературные мечтания).
Подобные настроения мы решительно долж-
ны клеймить. Вот это были бы близорукость,
ошибочность, пессимизм.
Но мы не менее жестоко должны возражать
тем, кто за вторым пятилетием старается за-
крепить безупречность и желает смазать те
250
элементы односторонности, которые свойствен-
ны и ему не менее, чем — по другой линии —
периоду предшествующему.
Если первый этап иногда в ущерб темати-
ческому углублению умел захватывать зрителя
революционной тематикой, всеми средствами
и достижениями им создававшейся и создан-
ной кинопоэтики и мастерства киноязыка, то
второй период круто порывает почти со всеми
элементами киновыразительности, характер-
ной для первого.
Этому частично способствует и не полная
еще овладенность звукотехникой. Но в основ-
ном — дело в принципиальных установках, ха-
рактерных для данного этапа.
Взамен — этот период прозы выдвинул
требования на проблемную углубленность, на
психологический образ человека, на фабульно
замкнутый сюжет.
Я недаром говорю «выдвинул требования»,
ибо далеко не всегда этот период умел оказы-
ваться на высоте своих же требований.
В этом отношении, может быть, наиболее
благополучным был «Встречный», особенно
резко полярный в отношении периода преды-
дущего.
Нужно быть самовлюбленными или слепы-
ми, чтобы не видеть односторонних ограниче-
ний обоих периодов наравне с их полноценными
вкладами в дело общего культурного развития.
251
И нужно быть ослепленным или близору-
ким, чтобы не предсказывать и не предвидеть,
что последующий этап должен стать этапом
синтеза, вобравшим в себя все лучшее, что
вносили или прокламировали предыдущие
стадии.
Вчера мы могли это предугадывать и пред-
видеть. Вчера можно было не печатать наших
предвидений и предположений.
Сегодня мы это видим. Сегодня мы об этом
можем говорить. Сегодня об этом за нас мо-
жет сказать это же самое с экрана прекрасный
фильм «Чапаев».
На чем базируется замечательное достиже-
ние «Чапаева»?
На том, что, не утратив ни одного из до-
стижений и вкладов в кинокультуру первого
этапа, он органически вобрал без всякой сдачи
позиций и компромиссов все то, что программ-
но выставлял этап второй.
Взяв весь опыт поэтического стиля и патети-
ческого строя, характерного для первого этапа,
и всю глубину тематики, раскрываемой через
живой образ человека, стоявший в центре вни-
мания второго пятилетия, Васильевы сумели
дать незабываемые образы людей и незабыва-
емую картину эпохи.
Примечательна композиция этого фильма.
Это не возврат к старым сюжетным формам,
снятым на первом этапе нашего кино. Это
252
не «назад к сюжету». А именно: «Вперед
к новому виду сюжета».
Сохраняя эпическую форму, популярную
для начала нашего кино, авторы внутри ее су-
мели обрисовать такую яркую галерею геро-
ических личностей, как это раньше удавалось
разве только замкнуто фабульным традицион-
ным сюжетам. Шекспир? Продолжатель Шек-
спира? Несомненно, если и не правнуки Лира,
Макбета или Отелло. «Чапаев» поэтикой своей
композиции примыкает не к ним. Но тем не ме-
нее и он в пределах своего стиля может числить
Шекспира — Шекспира не менее замечатель-
ной драматургии — Шекспира исторических
хроник.
Появление «Чапаева», я думаю, кладет ко-
нец распре этапов.
Хронологически «Чапаев» открывает четвер-
тое пятилетие нашего кино.
Принципиально — тоже.
Появление «Чапаева» знаменует начало
четвертой пятилетки советского кино — начало
пятилетия великого синтеза, когда все дости-
жения всей предыдущей эры советского кино
в бескомпромиссно высоком качестве становят-
ся в то же время достоянием многомиллион-
ных масс, заряжая их новой энергией героизма,
борьбы и творчества.
Победа «Чапаева» — первая победа на этом
пути.
253
Никто из нас никогда не сомневался в вели-
кой мощи нашего кино.
Но мы не хотели провозглашать великими
победами то, что, по нашему мнению, не до
конца этого заслуживало. Мы отмалчивались
на многие картины.
Но это был не пессимизм.
Это был критерий высокой требовательно-
сти к своей кинематографии.
Зато сейчас, в дни большого праздни-
ка советской кинематографии, мы с полным
и обоснованным чувством громадной радости
можем воскликнуть при этом новом беском-
промиссном доказательстве нашей киномощи:
—
Наконец!
1934
255
«Крестьяне»
Название картины не случайно совпадает
с названием бессмертного произведения Баль-
зака.
Что восхищало классиков марксизма в про-
изведениях гениального романиста? Восхища-
ло то, что по его романам лучше, чем по многим
специальным социально-экономическим иссле-
дованиям, можно познать все социально-клас-
совые противоречия Франции того периода,
можно получить картину подъема и становле-
ния молодого буржуазного класса. Не ставя
себе этой задачи, Бальзак сумел осуществить
ее в своих произведениях.
Чем замечательны «Крестьяне» Эрмлера?
Что будет пленять и будущие поколения в его
произведении? Картина опять-таки не случай-
но начинается с барельефа и кончается баре-
льефом. Она вся как гранитный монумент. Че-
рез сто лет после Бальзака она снова говорит
о восходе молодого класса, опрокидывающего
изжившую себя социальную систему. Но на
256
этот раз — о молодом пролетарском классе,
которому принадлежит будущее, который стро-
ит бесклассовое общество. И еще: на этот раз
мастер ставил себе эту задачу сознательно.
И эту задачу он разрешил.
Он разрешил ее потому, что сам он — плоть
от плоти этого класса. Потому, что сам он —
в авангарде этого класса. Потому, что сам он —
член великой партии Ленина. Потому, что не
будь он на важнейшем участке важнейшего из
искусств кино, он был бы, может быть, тем же
и таким же незабываемым начальником поли-
тотдела, как тот, образ которого он как автор
и как режиссер совместно с прекрасным акте-
ром Н. Боголюбовым вывел на экране.
Благодаря этому он сумел дать не творче-
ское перевоплощение, а воплощение: вопло-
щение на экране великой мудрости, тактики
и такта большевистской практики и методов.
В этой картине, как ни в одной, показано на
деле, как наша великая партия ведет тру-
дящиеся массы к величайшему будущему,
к счастью. Глядя на Мироныча этой незабыва-
емой картины (начальника политотдела зовут
Николаем Миронычем), видишь, что нет таких
человеческих твердынь, которых не преодолел
бы большевизм.
Много поразительного показано в картине.
Такой галереи образов деревни, такого рас-
крытия образа классового врага еще не дал
257
ни один фильм. Громадное мастерство ведения
сюжета. Великое искусство тончайших психо-
логических нюансов.
Но незабываемым останется этот фильм
именно как первый показ большевистского ме-
тода в действии.
В этом — величайшая заслуга Эрмлера.
В этом — новая, великая победа ордено-
носной Ленинградской фабрики, открывающей
шестнадцатый год истории нашей кинемато-
графии таким замечательным фильмом.
1935
259
«Стяжатели»
А сегодня я увидел на экране наш смех. И вто-
рой раз внутри одной пятидневки не могу вос-
торженно не откликнуться на очередное наше
кинодостижение.
Сегодня я видел комедию «Стяжатели»
Медведкина и, как говорится, — не могу мол-
чать.
Сегодня я видел, как смеется большевик.
Можно начинать свою комедию с заявления,
что в ней не участвует Чаплин. И действитель-
но, окажется, что Чаплин в ней не участвовал.
Но можно делать комедию, не задумываясь
о Чарли, а окажется, что он в ней.
Не он. Не заимствование с него. Но Чаплин
как показатель степени. Чаплин как специфи-
ка отношения. Чаплин как нечто глубоко специ-
фичное.
Чаплин «в новом качестве».
Это я ощутил сегодня, глядя на «Стяжате-
лей» Медведкина.
Эта картина еще не вышла. Еще не доде-
260
лана. По инстанциям еще не прошла. Еще не
апробирована. Еще не проверена на зрителе.
Легко хвалить «Чапаева» на гребне шквала
энтузиазма, который вызывает этот замеча-
тельный фильм.
Труднее писать о том, что видел в маленьком
темном просмотровом зале, сидя между нервни-
чающим автором и двумя зашедшими друзьями.
И тем не менее должно уже говорить об этом
фильме как о замечательном.
Об авторе его как интереснейшей индиви-
дуальности.
И о жанре фильма как открывающем и за-
крепляющем совершенно оригинальное лицо
и совершенно своеобразную концепцию нашего
понимания кинокомедии.
Трудно не смеяться над Хмырем, стригущим
колосья. Но это не только чудак. Это не идиот. Это
«идиотизм деревенской жизни», той и в тех фор-
мах, из которых мы вышли, к которой нет возвра-
та. Той, которая звучит еще во сто раз идиотичнее,
когда окружена эрой колхозов и комбайнов.
Трудно не смеяться над Чаплином.
Здесь я хочу выразить восторг тому, что так,
в таком плане, в таком понимании оказывают-
ся разрешенными те замечательные вещи, что
дал Медведкин.
Трюк Чаплина индивидуально — алогичен.
Трюк Медведкина социально — алогичен.
Чаплин всегда уходит. Чаплин всегда уходит
261
вдаль. Вещь уводит Чаплина. Вещь безысход-
на. Одна нога — здесь. Одна нога — там. Еди-
нице — нет привода.
Привод — коллективу. И Хмырь начина-
ет там, где кончает Чаплин. Он в стороне. Он
одинок. Он вдали. И Хмыря приводит. Жена.
Начполитотдел. Обстановка действия. И Ча-
плин, ставший Хмырем, — приходит из всех
тех далей, куда Хмырь — Чаплин уходил
в окончаниях всех своих картин.
И вот вам как. И вот вам снова противопо-
ставление.
Хмырю дана винтовка. Хмырь сторожит кол-
хозный амбар. Амбар на ножках. Рвань кулач-
ная точит зубы на амбар. Кулак выпускает коз-
ла на огород Хмыря: Хмырь с пригорка кидает
камни, чтобы отогнать козла. Интерес к свое-
му добру занимает Хмыря больше, чем интерес
к общественному. Он спиной к амбару. Под ам-
баром кулачье. Кулачье привстало. Амбар снял-
ся со своих ног. И амбар стоит на кулачье, попо-
вских, подкулачных ногах. Не стоит, а идет. Не
идет, а бежит. Хмырь согнал козла — обернулся.
Нет амбара на амбарных ножках. Бежит амбар
кулацкими ногами по полю. Догоняет Хмырь ам-
бар и так далее. В цепь новых перипетий.
Снявшийся с подножек домик в антологии
мировых трюков — не такая новость. Луч-
шим «западным» был снова дом у Чаплина —
в «Золотой горячке».
262
Домик, где зимует Чаплин с другим зо-
лотоискателем Гигантом, схвачен ураганом.
В тот момент, когда галлюцинирующий друг
видит Чаплина... цыпленком (так и сделано)
и хочет Чаплина зарезать. Долгая игра на
сквозняках, сталкивающих противников. На-
конец метель схватила домик. Домик полетел.
И повис на краю обрыва. Переходы в домике
его качают. Домик — палуба. Летит и кача-
ется и т.д.
И снова. Там смешно и здесь смешно. Там
борьба и здесь борьба. Но там борьба друг
с другом. Здесь — борьба в самом себе.
И борьба вчерашнего стяжателя с сегодняш-
ним хранителем собственности коллектива.
Трюк простой у Чаплина. Глубоко вышедший
из обстановки класса. Материализованной ме-
тафорой еще из Брейгеля, что большие рыбы
поедают маленьких. И трюк — ставший зна-
ком выражения социалистического отношения
к имуществу. Стяжательство взяло верх. Но
это не конец. Его перекрывает новая сцена.
Сцена в пару той, где человеколюбие шерифа
пускает каторжника за границу.
Повышаясь в интенсивности, идет кулацкое
злодейство. Уже не козел и амбар. А конюшни,
куда кулак загоняет колхозных коней, чтобы
поджечь и сжечь их. И изба Хмыря, подож-
женная кулаком, чтобы Хмырь ему не мешал
жечь конюшню.
263
И тут — блистательная сцена: два пожари-
ща и два огня. Своя собственная избенка Хмы-
ря пылает. И занимается огонь у колхозных
конюшен. Медведкин достигает замечательно-
го: его Хмырь мечется от огня к огню — коми-
чески! И не знает, за что взяться.
Наконец бежит к колхозному добру — спа-
сает из огня коней и прочее.
Но метание вправо — влево. Внутренний кон-
фликт. Два огня: стяжательства и священности
колхозного добра, разрешенные комически —
исключительно блистательно. Вровень с этим
я знаю только одну сцену: из комедии Фатти Ар-
бекля (шла у нас в Москве). Фатти там герой.
Он спасает героиню. Но злодеи справа и слева
крадутся к лачуге, где привязана героиня. Фатти
вышел в дверь. Глянул вправо — бандит. Глянул
влево — бандит. Глянул в руки себе. А в руках —
двустволка. Упер двустволку в колени. Развел
дула в бока. Одно — вправо. Одно — влево. На-
жал курок. Разом грохнули два выстрела. Один —
вправо. Один — влево. Мертвыми упали оба зло-
дея. Один — вправо. Один — влево.
Две блестящие сцены. Внешне схожи. Но по
значимости и по существу пропасть осмысле-
ния отделяет обе сцены.
Над Фатти хохочешь. Бесспорно замечатель-
но. Но над Медведкиным не только хохочешь.
При первом смехе — неловко. При втором —
замечательное ощущение подъема.
264
Это только элементы. Это только фрагмен-
ты. Это только иллюстрации из Медведкина на
мою основную тезу.
На то, что сличение зрелых достижений ма-
стерства двух классов дает конкретную пищу
соотносительному сличению...
Мы имеем не только превосходную вещь.
Мы имеем замечательного мастера.
Мы имеем настоящую оригинальную зрелую
индивидуальность.
Первое мы отметили — принципиальное.
Не пересадка трюка. Не присвоение. Не
ограбление сундуков американского трюкаче-
ства.
Но настоящее освоение и переосмысление.
Решение важнейшего. Не трюк в себе. Не
трюк ради трюка. А искание того, чему сей
трюк может послужить знаком.
Какое идейное и идеологическое содержание
в комической интерпретации выразится через
данный традиционный с виду трюк?
Я немало поработал над этим. В моих твор-
ческих закромах не один номер, способный по-
спорить с Meдведкиным.
Иногда глядишь безрадостный какой-либо
фильм, и кошки здорово скребут на душе. Не
зря ли я не довел своей комедийной работы до
конца? Сегодня я спокоен и рад. Рад той ра-
достью, которая тоже возможна лишь в стране,
где стяжательство может служить лишь объек-
265
том смеха. Рад тому, что Медведкин разрешил
проблему нашего юмора так же, как если бы
картину снял и сделал бы я сам!
Как жалки утверждения, что развлекли etc.
В заключение же не могу не поделиться ис-
кренним восторгом об одной еще сцене. Ще-
дринской в Медведкине.
Старорежимной.
Можете ли вы, бешено хлопавшие сцене пси-
хологической атаки, вообразить себе — коми-
ческий аналог этой сцене?
Медведкин сделал это.
Хмырь махнул рукой на стяжательство.
Довольно. Не выходит стяжательство. Один
с сошкой — семеро с ложкой. Сколько ни на-
живай. Все равно — все обдерут.
Хмырь решил помереть. Хмырь стругает до-
ски. Хмырь сколачивает гроб.
Паника кругом. Кого же будут эксплуатиро-
вать? Кулак. Поп. Власти предержащие.
Прибегает поп. Устрашает Хмыря Писани-
ем. Хмырь стругает, в гроб примеривается. Го-
родовой орет на Хмыря. Хмырь гроб налажи-
вает. Митрополит с попом бежит. Вид на горку.
На деревню. Гусары скачут. Экипаж летит.
Сенаторы, чиновники, полицмейстеры и стано-
вые. И гусары, гусары, гусары. Все летит —
лишь бы мужику умереть не дать.
Хмырь жует свой последний хлеб и угрюмо
в гроб глядит. И вот из-за холмика идут ряд
266
за рядом. Черные с винтовками. Страшным
строгим мерным шагом — царские войска. Все,
чтобы Хмырю умереть не дать. Войско ближе.
Черное, как «каппелевцы». Механизированное,
как они. Дальше их. И блистательный гротеск:
войско в масках. Все — на одно лицо. На уша-
стое, разинутое зевом ртов. С усиками петель-
кой. Этот синтетический образ старой армии
подирает кожу морозом. Это самое замечатель-
ное место. Здесь Медведкин подымается на вы-
соту настоящего гротеска. Здесь под дикостью
и нелепостью картонной морды, десятком раз
разбегающейся по войскам, видно страшное
мертвящее лицо режима. Это — Щедрин.
Хмырю не дали помереть. Хмырю дали
жить. Дали выполнить дело лишь наполовину.
Засекли до полусмерти за попытку «самосиль-
но» умереть. И кончая часть группами солдат
в картонажных рожах, наяривающих гармош-
ку, группами солдат в картонных рожах, воло-
кущих бедного Хмыря на экзекуцию, Медвед-
кин достигает по эффекту Гойи.
1935
268
Большевики смеются
(Мысли о советской комедии)
Это было ранней весной 1930 года.
Париж.
Не тот дружественный Париж, с которым
наша страна сотрудничает в мировой и мирной
политике.
Это был Париж после кутеповских дней.
Когда с часу на час ждали налета на наше
полпредство. Когда со дня на день ждали раз-
рыва дипломатических отношений двух стран.
В воздухе висело грозное напряжение.
В этой обстановке напряженнейшей атмос-
феры мне пришлось выступать с докладом
в Сорбонне.
Не столько с докладом, сколько со вступитель-
ным словом к показу картины «Старое и новое».
За полчаса до начала полицейской прово-
кацией была сорвана демонстрация фильма.
Однако зал уже полон.
Отменять выступление нельзя.
269
Остается удлинить вступительное слово
в самостоятельный доклад. На полный вечер
все равно не хватит. И проекцию фильма после
доклада остается сменить на игру в вопросы-
ответы между лектором и публикой.
Опасная и увлекательная игра. Особенно
когда зал вмещает и тех, кто инсинуацией, пря-
мым выпадом или коварной формулой старает-
ся поддеть вас в двусмысленном вопросе. Как
выяснилось потом, Сорбонна была оцеплена
полицией. Кругом стояли грузовики с фликами.
Сам Кьяпп носился по двору. Ждали возмож-
ной стычки и свалки с полицией, запрещавшей
просмотр. Под шумок рассчитывали «изъять»
кого нужно из зрительного зала. Ведь зал вклю-
чал и другую сторону — вплоть до Кашена.
Игра велась удачно полчаса, час, полтора.
Вопросы скрещивались с ответами. Аудитория
была блестяще настроена. Мы за словом в кар-
ман не лезли. Но надо было кончать. Лихо-
радочно ищешь и ловишь вопрос, на котором
можно эффектно закруглить дебаты.
Наконец!
Встает злобно-бледный худощавый человек.
На хорах.
«Почему ваша страна не производит коме-
дий? Правда ли, что Советы убили смех?»
Мертвая тишина зала.
Я совсем не находчив. Особенно на большой
публике.
270
Но тут как-то озарило.
Я не ответил на вопрос, а разразился... смехом.
«Еще больше будут смеяться в Советском Со-
юзе, когда я там повторю ваш нелепый вопрос!».
На общем хохоте мы закрыли доклад, став-
ший митингом.
И пошли через двор старой Сорбонны.
Она походила на осажденную крепость.
Но скандала не случилось.
Проведя все дебаты в атмосфере, казалось
бы, легкого диалога, мы закончили митинг
взрывом смеха.
Объективных данных для вмешательства
полиции на подобные взрывы не было. За смех
не арестовывают...
Назавтра писали газеты:
«Страшны большевики не с кинжалом в зу-
бах, а с улыбкой на губах».
Впрочем, я газет в этот день не читал.
С утра меня таскали по охранкам, полиции,
префектуре. Выселяя из Парижа. Предпи-
сывая выехать из Франции и прочее. Но это
сюда не относится. Я же пишу здесь не об этом,
а о смехе и ставлю перед собой вопрос: есть
наш смех? Будет наш смех. Но каков же будет
наш смех?
Каким окажется наш смех вообще? В осо-
бенности же на экране. Многие ставили этот во-
прос. Многие отвечали на него. Просто. Слиш-
ком просто. Другие сложно. Слишком сложно.
271
Несколько лет тому назад я работал над
киносценарием комедии.
Я работаю очень академично. Подымая валы
сопутствующей эрудиции. Дебатируя с самим
собой программность и принципиальность.
Делая расчеты, выкладки и выводы. Музыку
разымать люблю на ходу. Иногда опережая
ход. Тогда она не собирается, а тонет в ящиках
с принципиальными соображениями. Сцена-
рий останавливается, и вместо него набухают
страницы рукописи киноисследовательской ра-
боты. Не знаю, что полезнее. Но перерастание
вопросов за творческую продукцию в вопросы
научного анализа пока что часто мой крест.
Часто, решив принцип, теряешь интерес к его
приложению!
Так случилось с комедией. То, что разобрано
и осознано по ней, пойдет в книгу, а не на экран.
Может быть, мне и не дано было сделать
советскую комедию.
Но одно отчетливо. Я примыкаю к той тра-
диции, которая не может смеяться не под свист
бича. Мне близок смех разрушения.
Этот разрушительный присвист памфлета уже
звучал в пробах пера комического, разбросан-
ных по «Старому и новому». Этот присвист еще
острее звучал в недоработанной тогда комедии.
Но время не пропало.
Я принципиально решил для себя один
пункт.
272
Чем примечателен Чаплин?
Чем Чаплин выше всей комедийной кинопо-
этики?
Тем, что Чаплин глубоко лиричен.
Тем, что каждый его фильм вызывает
в определенном месте слезу настоящего тепло-
го человеческого чувства.
Чаплин — чудак. Взрослый с поведением
ребенка.
Чаплин и виды на пашу комедию.
Каков путь дешевого вульгаризаторства,
чтобы не сказать — убогого плагиаризма?
Переодеть действующих лиц, переименовать
ситуацию — и сохранить основное, что было
оригинальным вкладом Чаплина в культуру
киножанров.
Для отвода глаз это можно было бы назвать
экспериментом.
Но, конечно, не это наш путь.
И совместными трудами логики и вдохно-
вения, возможно, я напел то равноценное, что
должно явиться в жанре нашего кино.
Мне кажется, лирическое, сентиментальное
в хорошем смысле слова — не то, что станет
чертой замечательности нашего высокого ки-
ножанра.
Но нечто, ставшее на это место.
Если мы там имеем человеколюбие, уча-
стие в горестях меньшого брата, слезу об
униженных, оскорбленных и обойденных судь-
273
бой, то здесь на место этого станет эмоция
социальная: социалистическое человеколюбие.
А социальное человеколюбие не в сожалениях,
а в пересоздании, где сцена из комической
становится не индивидуально лирической,
а социально лирической. Социально же лири-
ческое — есть пафос. Лирика массы в момент
слияния воедино — это гимн. И этот сдвиг
комического не в лирическую слезу, а в слезу
пафоса — вот где мне виделась направляю-
щая того вклада, что имеет врастить наше
кино в кинокомедию.
И второе. Не только обобщенно-собиратель-
ный тип войдет в нее. Как Чаплин. А тип, од-
новременно фигурирующий как понятие. Поня-
тие садится, понятие бреется. Понятие снимает
шляпу и укрывается одеялом.
Мы все начинаем жизнь эксплуататорами.
Нас девять месяцев кормит материнское чрево.
Нас долгие месяцы кормит материнская грудь.
Детство — эксплуататорски потребитель-
ское время на этапах нашего биологического
развития.
В пределах своего этапа оно уместно и оба-
ятельно. Пережив себя, оно отвратительно
и лишь украшение для идиотов.
Эксплуататорские социальные взаимоотно-
шения на каких-то этапах двигали прогресс.
Возникновение буржуазии было прогрессивно.
Эксплуататорские взаимоотношения — соци-
274
альная инфантильность. И отвратительность
этих взаимоотношений сразу же обрисовыва-
ется, как только человечество становится на
ноги. То есть, по правде говоря, одновременно
с их же возникновением!
Объектом нашего смеха станет вот именно
эта черта: социальная инфантильность, за-
стрявшая в век социальной взрослости, взрос-
лости социалистической.
Трудно не смеяться над Чаплином-обойщи-
ком, делающим маникюр громадными ножни-
цами для резки обоев. Но трюк Чаплина инди-
видуально алогичен.
Смех бывает разный. И термины «наш»
и «не наш», несмотря на всю их заезженность,
отчетливо, однако, находят, над кем располо-
житься.
Действие как будто бы одно. Однако про-
пасть осмысления.
Теперь возьмем пример не на идиотизм, а на
лирику, сантимент и чувство.
Одна из лучших сцен чаплиновских коме-
дий — финал «Пилигрима».
Беглый каторжник — Чаплин похитил об-
лачение пастора. Облачение оказывается ро-
ковым. Он попадает в лапы... прихожан. Он
обязан читать проповедь. Он блестяще справ-
ляется, изображая в лицах бой Давида и Голи-
афа. Одна из смешнейших сцен чаплиновско-
го репертуара. Дальше пропадают церковные
275
деньги. Личность Чаплина раскрывается. Но
это не он украл деньги. Наоборот. Он деньги
нашел и вернул. Святость собственности соблю-
дена. Но Чаплин — каторжник. Должна быть
соблюдена и святость закона. Конный шериф
ведет жалкую фигурку арестованного по пыль-
ной дороге. Но шериф оказывается правнуком
сыщика Жавера из «Отверженных» Виктора
Гюго. Убедившись в предельном благородстве
бывшего каторжника Жана Вальжана, которо-
го он полжизни преследует, Жавер в первый
раз в жизни нарушает долг. Он уходит с поста.
Отпускает Вальжана. Вальжан свободен.
Шериф сентиментален. Шериф хочет дать
бежать благородному каторжнику — Чаплину.
И тут гениальность Чаплина. Шериф ведет его
около самой мексиканской границы. Но благо-
родному каторжнику в голову не приходит пере-
ступить ногой вправо и уйти в вольную Мексику.
Шерифу никак не удается навести его на эти со-
ображения. Чаплин не убегает. И здесь чудная
сцена: шериф просит каторжника... сорвать ему
цветок. Цветок — по ту сторону границы. Цве-
ток уже в Мексике. Чаплин услужливо перешел
границу. Облегченно шериф шпорит коня. Но
вот... его догоняет Чаплин с цветком.
Дело, кажется, решается пинком в зад
и кадром Чаплина, уходящего вдаль: одна нога
его в САСШ, другая в Мексике. Посередине —
граница. Вещь безысходна...
276
Мы знаем, как большевики борются.
Мы знаем, как большевики работают.
Мы знаем, как большевики побеждают.
Сегодня мы видим, как большевики смеются.
«Наш смех» и «их смех» оказывается не аб-
стракцией. Между ними пропасть разного со-
циального осмысления.
Каким же вырисовывается комизм и смех,
который несет в мир молодой пролетарский
класс, власть взявший в Октябре и в твердых
руках несущий ее к окончательным победам?
Будет ли его смех смехом пустой забавы
и веселого времяпрепровождения на полный
желудок или средством забыться от житейских
невзгод?
Будет ли это только мягкая ирония над за-
бавными невзгодами смешного чудака, попав-
шего в смешное положение?
Нет. Не такова традиция российского смеха.
Традиция российского смеха иная.
Она скреплена бессмертными именами Че-
хова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.
И отличительной чертой этого смеха была
неизбежная социально обличительная нота.
От мягкого иронизирования Чехова до горе-
чи гоголевского «смеха сквозь слезы» и, нако-
нец, до свистящего бича щедринского памфле-
та и сатиры.
Каков же будет смех, пришедший сменить
смех Чехова, смех Гоголя, смех Салтыкова?
277
Пойдет ли он по линии беззаботного гого-
та американского смеха, или будет он нести
с собой традицию мученического смеха русских
комиков XIX века?
Всем нам предстоит присутствовать и твор-
чески участвовать в создании нового вида
смеха, в заполнении новой страницы мировой
истории юмора и смеха, как фактом существо-
вания Советского Союза была вписана новая
страница в историю и разновидности социаль-
ных форм.
Нам еще рано беззаботно хохотать.
Дело строительства социализма еще не за-
кончено.
Места беспредметному легкомыслию нет.
Смех — лишь смена оружия.
Смех — не более как легкое оружие, разя-
щее так же смертельно там, где незачем пу-
скать всесокрушающие танки социальной гнев-
ности.
Если в душной атмосфере XIX века царской
России или XX века везде, кроме России, ставшей
СССР, памфлет, сатира, смех были застрельщи-
ками протеста, то у нас на долю смеха остается
добить врага, как остается пехоте затопить всю
линию вражеских окопов, когда тяжелой артил-
лерией пробит путь вонзающему штыку.
Служа началом боя там, смех победителя
у нас наступает в приближении победы в на-
шей стране.
278
Так представляется мне абрис смеха в об-
становке последних схваток с классовым вра-
гом, по всем мыслимым и немыслимым щелям
пытающимся еще противодействовать ходу по-
бедно шествующего социализма.
Комическая личность, комический типаж,
комический персонаж в традиции Запада идет
не дальше смешного представителя своего об-
щественного окружения, идущего не дальше
шовинизма и национализма осмеяний.
По крайней мере на кино, из которого всей
силой и всеми средствами стараются изгнать
черты воинствующего классового юмора.
Подняться над ограничениями животной
смехотворности и юмора биологического осмея-
ния возможно, только поднявшись до высот по-
нимания социальной значимости кривой рожи,
в которую нацеливаешься смехом.
Комизм социальной маски и сила социаль-
ного осмеяния должны лечь и лягут в основу
форм того воинствующего юмора, которым не
может не быть наш смех.
Таков, мне кажется, должен быть и будет
смех этапа последних решительных боев за со-
циализм в одной стране.
1937
280
Образ громадной исто-
рической правды и реа-
листичности
Фильм прекрасен. Я думаю, что не может быть
и двух мнений в вопросах этой оценки. И как
всякое подлинно прекрасное произведение, он
не может не быть результатом коллективно-
го сплетения творческих порывов всех тех, кто
над ним работал. Мне хочется остановиться на
трех удачах, касающихся этого замечательного
произведения.
Первое — образ Ленина и замечательная
работа Щукина. Я, к сожалению, из тех, кому
не довелось видеть в жизни живого Ильича. Но
мне пришлось немало самому поработать над
вопросом облика и образа Ильича и в связи
с этим изучить немалое количество материа-
лов в том объеме, как они были разработаны
и доступны десять лет назад. И на основании
этого образ, созданный Щукиным, мне кажет-
281
ся образом громадной исторической правды
и реалистической правдивости.
Замечательно, что в фильме «Ленин в Ок-
тябре» замечательный актер Щукин и вместе
с ним и режиссер, сумевший в постановке рас-
крыть ситуации, и сценарист, сумевший для
сценария отобрать соответствующие положе-
ния, сумели подслушать в массовом зрителе
тот именно образ Ильича, который каждый из
нас носит в своем сердце как результат вос-
торга перед деяниями и творчеством этого ве-
ликого человека. Не только правда того, каким
был Ленин, но и высшая правда того, каким
хочется нам, многомиллионным продолжате-
лям его дела, видеть образ Ленина, стоящий
перед нами в нашем представлении, достигну-
та в этом замечательном произведении. Поэ-
тому в этом образе столько теплоты и столько
близости к каждому зрителю.
Вторую удачу хочется отнести за счет сце-
нариста, хотя и здесь он, конечно, неразрывен
со всем коллективом.
Это необычайно удачный выбор коллизии,
вокруг которой развернута тема Октября.
Я бы сказал — основная драма внутри борь-
бы за победу Октябрьской революции. Гнусное
предательство Каменева и Зиновьева, заслу-
женно казненных пролетарским правосудием,
взятое за нерв драматургического построения,
не только на двадцать лет назад, но и на многие
282
годы вперед раскрывает в предельной остро-
те подлость и историческую обреченность всех
тех, кто идет в последний и решительный бой
не по линии Ленина. Но мало этого. Сюжетно
и ситуационно эта наиболее правильно, глубо-
ко и остро взятая историко-политическая тема
опять-таки решена в наиболее эмоционально
теплом и захватывающем разрезе. Тема эта
могла облечься в любые ситуации, в любые
сюжетные положения. И в выборе именно этих,
а не иных ситуаций и положений снова ска-
залось умение коллектива фильма «Ленин
в Октябре», на этот раз во главе с А. Каплером,
так же чутко вслушаться в самое сокровенное
тех эмоций, чем полон наш народ, наш массо-
вый зритель.
Каким чувством, как никогда, охвачены мы
сейчас? Какое слово чаще других не мелькает
на страницах наших газет, а ежедневно, еже-
часно врезается в наше сознание и в наши чув-
ства? Чем полны речи наших лучших людей
в дни выборов в Верховный Совет?
Это слова о бережности, о бережливости,
о сохранении. Вслед за словами о достижениях
мощно звучат слова о сохранении и бережной
защите завоеванного и достигнутого. О защи-
те достижений, записанных в Конституции,
о защите страны и ее границ, о защите вождей,
о защите чистоты учения Маркса — Ленина,
о сохранении памяти великого Ленина.
283
И вот материалом воплощения темы карти-
ны «Ленин в Октябре» взяты замечательные
ситуации бережливости к Ильичу, ограждения
его, защиты его как самого драгоценного в пре-
доктябрьские дни и октябрьские бои. И имен-
но эти черты находят самый мощный, самый
теплый отзыв в сердцах всех тех, кто стоит на
страже достижений, великой памяти и продол-
жения дела Ленина. То, что ситуации сценария
заставляют дрожать именно эти струны зри-
тельских сердец, есть величайшее мастерство
в построении фильма или, быть может, боль-
ше, чем мастерство, — полное слияние с много-
миллионным коллективом нашего народа, ибо
только в таком слиянии с ним возможно так
выслушать самые глубокие и тонкие чувства,
которыми живет многомиллионный коллектив.
И здесь надо воздать полное восхищение и ра-
боте режиссера.
Я смотрел фильм несколько раз. И каждый
раз меня пленял поразительный ритм, которым
Ромм сумел охватить эти на первый взгляд
столь простые сцены, в которых действует Ле-
нин. Именно
не только содержание ситуации, именно не
только игра Щукина, а какой-то совершенно
особенно уловленный ритм, в котором режис-
серски развернуты эти ситуации и режиссер-
ски проведена эта игра. Два раза я подвергся
этому действию. На третий раз я захотел разо-
284
браться, откуда взят, где подслушан и выслу-
шан этот ритм ведения действия, совершенно
безошибочно пленяющий всякого, кто находит-
ся перед экраном. И снова эта черта оказыва-
ется выслушанной в ритме биения зрительско-
го сердца в тот момент, когда она сближается
с образом Ильича, с памятью об Ильиче. Ромм
сумел предвосхитить и предугадать то чувство,
в котором зритель станет смотреть «Ленин
в Октябре», то чувство, в котором будет проис-
ходить встреча зрителя с Ильичем на экране,
и Ромм сумел ритм своих экранных разреше-
ний сделать именно в том ключе, с которым аб-
солютно совпадает зрительская эмоция, кото-
рая будет следить, затаив дыхание, за делами
и судьбой Ильича на экране. Я бы назвал это
ритмом благоговения и той особой трепетной
теплоты, какой-то чистой сыновней заботливо-
сти, которым проникнуто у всех нас то, что свя-
зано с великой памятью об Ильиче. Воплощает
это чувство на экране Охлопков и ведет его
с такой любовью и тактом, что каждый зритель
видит в нем носителя самых дорогих своих лич-
ных чувств и бесконечно ему благодарен.
Что же сказать в заключение?
Я думаю, только одно. Исключительная
удача фильма не только в коллективном со-
дружестве всех членов творческого кол-
лектива (обо всех них невозможно сказать
в отдельности, и остается лишь всем им в целом —
285
и сорежиссеру, и оператору, и звукооперато-
ру, и исполнителям — выразить восхищение
и благодарность). Исключительная удача
фильма в том, что налицо глубочайшее един-
ство этого творческого коллектива с нашим на-
родом. Эта органическая слиянность с народом,
с его чувствами, со всеми оттенками его эмо-
ций в отношении памяти, дел и продолжения
дела Ильича единственно и сумела научить как
сценариста, так и режиссера, главного испол-
нителя и весь коллектив тому основному и не-
повторимому, что пленяет в этом фильме.
Вот чему следует учиться на этом замеча-
тельном и знаменательном фильме.
1937
287
Ленин в наших сердцах
Картина доходит до сердца, в ней схвачена са-
мая сердцевина того, чем велик большевизм, —
гуманность.
Величие проблемы гуманности и человечно-
сти революции — вот что покоряет в филь-
ме «Ленин в 1918 году», вот что заставляет
с какой-то особой теплотой всматриваться
в него, вот что надолго остается в душе после
просмотра.
В этом основная, главная и сквозная тема
фильма. От первой сцены Василия с женой
и куском хлеба, от первого диалога Ленина
и Горького, через все ситуации фильма, через
все оттенки характеров и поступков действу-
ющих лиц сквозит тема великой гуманности
революции, великой гуманности тех, кто ее
совершает. Она собирается и воплощается
в центральном и всеобъемлющем образе Ле-
нина.
Сквозь это царство благородства, прямо-
ты и человеколюбия черными нитями вьется
288
паутина человеконенавистничества тех, кому
чужды, ненавистны, враждебны победоносные
пути пролетариата.
Темные силы контрреволюции собираются
в единый сгусток — в страшный облик Фанни
Каплан. Ей вторит вся подлая орда врагов, от
Бухарина до деревенского кулака, до явных
и открыто действующих противников.
Выстрел Каплан в высшей точке напряже-
ния сталкивает эти два мира.
Ленин несокрушим.
Рабочий, обманным образом завербованный
на убийство, опускает руку, услышав простую
и убедительную речь Ленина.
Изобличенный, извивается под его взглядом
кулак.
И только пуля, отравленная вражеская
пуля, способна, и то на время, скосить великого
носителя идеалов гуманности, скосить его тело,
но бессильна перед силой и мощью его духа
и всех тех, кто с ним.
Уже с первой сцены фильма поставлен ос-
новной вопрос всего произведения — проблема
революционной гуманности. Горький говорит
об этом с Лениным. Это еще тот Горький, ко-
торый в те годы видел революционную гуман-
ность «вообще». Тот Горький, который, не прой-
дя всех лет становления революции в борьбе
с врагами, не сказал еще своих великих слов
об уничтожении врагов революции как об акте
289
высшей гуманности. И в разговоре с рабочим
Гусевым Ленин дает Горькому тонкий и заме-
чательный урок о классовости идеи гуманности
и о неразрывности гуманности с беспощадно-
стью к тем, кто стоит поперек ее пути.
Весь ход картины раскрывает эту мысль.
И ход этой мысли неразрывен со всем тем, что
переживаем мы сейчас.
Прекрасна картина «Ленин в 1918 году»
в полноте раскрытия этих великих мыслей,
этих великих идеалов. Прекрасна эта картина
и в полноте художественного их воплощения.
Велика заслуга режиссера Ромма, везде
присутствующего, везде направляющего лю-
дей, их действия и их поступки и везде умею-
щего сделать это так, как будто сами события,
чудесно восстановленные, как будто сами люди,
чудесно воссозданные, так именно и поступали,
так именно и поступать должны были.
И режиссер, и те артисты, что перешагнули
вместе с ним за пределы первой серии, окон-
чательно сжились с событиями фильма, с об-
разами его героев. От первой серии ко второй
Щукин вырос неизмеримо.
Казалось, что первая серия «Ленин в Ок-
тябре» — потолок возможностей создания
образа Ленина. Однако сейчас, сличая обе
серии, видишь, как растет замечательный ар-
тист Щукин в исполнении этой необыкновенной
и единственной роли.
290
В первой серии образ Ленина кое-где ка-
зался произносимым по складам, казался
составленным из отдельных характерных ин-
тонаций, движений, жестов, поз. Во второй
серии черты этой стадии в работе кое-где
еще заметны на Черкасове, который только
что вступает в полное овладение таким за-
мечательным образом, как Горький. Щукин
же уже полной грудью дышит Лениным. Его
уже не связывают условность жеста или до-
кументальная предначертанность интонации.
Он говорит беспрепятственно, он действует
свободно, и каждое движение, каждая инто-
нация сами выливаются в те формы, кото-
рые дают нам возможность ощутить живого
Ильича.
Соратники Щукина по первой серии — Ох-
лопков и Ванин в ролях Василия и Матвеева —
тонким мастерством углубили и расширили то,
что ими найдено прежде. Скромные и почти
незаметные по масштабам своей деятельности
в первой серии, они вырастают здесь в крепкий
оплот внутриобщественной борьбы, куда они
вписывают героические страницы.
И вторая серия картины вносит в их ряды
новые образы, прекрасно раскрытые авторами
сценария и режиссером и великолепно разы-
гранные артистами.
На первом месте здесь, конечно, Феликс
Дзержинский (артист В. Марков). Какой вну-
291
тренней проникновенности нужно достичь,
чтобы сыграть сцену с чекистом-провокатором
Синцовым.
Сколько внутренней веры, сколько внутрен-
него приобщения к чистоте и величию своего
прообраза нужно иметь, чтобы провести сцену,
где лжец и предатель не выдерживает взгляда
того, кто первым держал в руках карающий
меч революции.
Великолепно режиссерски разрешен и бле-
стяще сыгран отталкивающий образ Фанни
Каплан, мобилизующий всю ненависть к него-
дяям, посягающим на сердце революции — на
Ленина.
В трех — четырех нечленораздельных ре-
пликах, в двух — трех полунеподвижных позах,
в одном — двух ракурсах сказано все.
На мгновение оторвавшись от неотразимого
впечатления, производимого игрой Н. Эфрон,
попробуйте сформулировать, что «сообщает»
вам картина о ней. Кто она. Откуда она. Ее
жизнь.
Ее характер. Ее программа. Мотивы. Ничего
не высказано, а вместе с тем все сказано. Тако-
ва сила воплощенного ею образа, что вы може-
те прочесть все до мельчайших подробностей,
чем живет и дышит этот страшный антипод
побеждающей революции.
Эти два образа — блестящее достижение
второй серии. Лаконично. Броско. Скупо.
292
Предельно впечатляюще здесь даны люди,
и в них раскрыты громадные обобщения.
Вровень с игрой Щукина, вровень с решени-
ем этих двух новых фигур стоит и режиссерское
разрешение центральной сцены картины —
сцены покушения.
Здесь средствами кинематографического
письма достигнута почти телесная осязаемость
этой кульминационной точки фильма.
Вот кадры выхода Ильича из заводского
корпуса. Ильич около старомодного автомоби-
ля. Каплан на фоне черного, как катафалк, ку-
зова машины. Белый кружок окна на его фоне.
Подымающийся револьвер.
Все так осязательно, все до такой степени
ощутимо, что кажется, будто выхвачено из кру-
говорота наших страстных и деятельных дней
1918 года.
Такова магия искусства. Искусства, кото-
рое жестоким медленным ритмом держит вас
прикованным к последующей сцене, когда от
отъехавшей машины среди толпы осталась
пустая безмолвная дорога, и хочется кричать
до тех пор, пока это безмолвие не взрывается
на самом экране гневом и ненавистью народа
к подлой убийце.
Замечательно мастерство тех, кто в коллек-
тивном труде создал это произведение. Замеча-
тельна тема фильма. И замечательны те чувства,
которые в нас будит этот прекрасный фильм.
293
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году».
Это прежде всего — Ленин в наших сердцах.
Это Ленин такой, каким он живет в памяти
и чувствах нашего многомиллионного народа.
Тот Ленин, чье великое дело мы завершаем.
1939
295
Патриотизм — моя тема
Так значится на первом клочке бумаги, на
котором записывались первые мысли о пред-
стоящем фильме, когда мне было поручено
воссоздать на экране XIII век, великую на-
циональную борьбу русского народа против
агрессии, и показать образ замечательного
полководца и политического деятеля XIII века —
Александра Невского.
Патриотизм — моя тема — стояло неуклон-
но передо мной и перед всем нашим творче-
ским коллективом во время съемок, во время
озвучания, во время монтажа.
И кажется, что этот лозунг, творчески опре-
деливший всю картину, также звучит из закон-
ченного фильма.
Великие идеи нашей социалистической ро-
дины необычайно оплодотворяют наше искус-
ство. Великим идеям нашей социалистической
действительности мы старались служить во
всех тех фильмах, которые в продолжение ско-
ро пятнадцати лет нам приходилось делать.
296
Это были темы подпольной борьбы, темы
коллективизма, темы Октябрьского переворо-
та, темы коллективизации. И сейчас, в этой
картине, мы подошли к теме национальной
и патриотической, которая стоит во главе угла
социалистического творчества не только у нас,
но и на Западе, ибо хранителями националь-
ного достоинства, национальной гордости, на-
циональной независимости и истинного патри-
отизма на всем земном шаре являются именно
Коммунистическая партия, именно коммунизм.
Буржуазия в смертельном страхе за по-
следние годы своего существования на лице
земли предала и свои прежние идеалы, и свои
страны, и свои народы, лишь бы любой ценой,
путем тех или иных осей, тех или иных тайных
или явных сговоров, создать оплот против воз-
растающей волны последнего и решительного
боя трудящихся за свободу и независимость.
Невозможно без ужаса глядеть на картину
сегодняшнего мира. Думаю, что ни одна эпоха
истории не представляла такого накопления
надругательств над всеми человеческими идеа-
лами, каким являются последние годы все раз-
вивающейся фашистской агрессии. Раздавли-
вание независимости так называемых малых
стран, Испания, залитая кровью, Чехословакия,
растерзанная в куски, Китай, задыхающийся
в страшной борьбе, — все это кажется крова-
вым кошмаром. Казалось, ничего более страш-
297
ного не может быть. Но каждый новый день
приносит нам сообщения о еще больших мерзо-
стях, о еще больших зверствах, и с трудом ве-
ришь глазам, когда читаешь о разнузданности
и разгуле еврейских погромов в Германии, где
на глазах у всего мира стираются с лица земли
и уничтожаются бесправные, лишенные всякой
человеческой поддержки сотни тысяч людей.
В этом кровавом кошмаре передовую линию
по оздоровлению, по созданию оплота против
него, по мобилизации сил на борьбу со всем
этим вели и ведут коммунисты. Мощный го-
лос Советского Союза единственный звучит
неуклонно, настойчиво и бескомпромиссно за
решительную борьбу со всем этим мракобе-
сием. Борьба за человеческий идеал справед-
ливости, свободы, национальной самобытности,
да и самого национального существования идет
именно из Советского Союза. И все, что есть
лучшего в мыслящем человечестве, не может
не присоединить свой голос к этому призыву.
Естественно, что советское искусство не мог-
ло пройти мимо этих важнейших тем, не только
кровно связанных с борьбой, которую ведет Со-
ветский Союз с непрестанной агрессией против
его целости и невредимости, но и тем широких,
уходящих за пределы нашей страны и охва-
тывающих судьбы не только малых стран, но
и недавно еще великих держав, как, например,
Франции, которая своими же руками, верней,
298
преступными руками руководителей своей по-
литики сама низводит себя на положение вто-
ростепенного государства.
Тема национального отпора — это тема,
которая в равной мере волнует сейчас любой
уголок земного шара, где не утрачено еще
человеческое достоинство, где еще осталась
вера в человеческие идеалы. Не говоря уже
о залитых кровью перечисленных странах,
эта тема должна найти отклик и в тех коло-
ниях, которыми мировая буржуазия собира-
ется за счет сотен тысяч людей обделать свои
грязные политические сделки, чтобы хоть не-
надолго отсрочить гибель своего обреченного
класса.
Тема патриотизма и национального отпора
агрессору — вот тема, которой наполнен наш
фильм. Взят исторический эпизод, относящий-
ся к XIII веку, когда предки нынешних фа-
шистов — ливонские и тевтонские рыцари —
повели систематическую борьбу за завоевание
и наступление на Восток с тем, чтобы покорять
славянские и прочие народности совершенно
в том же духе, как под такими же исступлен-
ными лозунгами и с таким же фанатизмом
этого добивается сегодняшняя фашистская
Германия.
Читая летописи XIII века вперемежку
с газетами сегодняшнего дня, теряешь ощуще-
ние разницы времени, ибо тот кровавый ужас,
299
который в XIII веке сеяли рыцарские ордена
завоевателей, почти не отличается от того, что
делается сейчас в Европе.
Поэтому картина, рассказывающая о со-
вершенно определенной исторической эпохе,
о совершенно определенных исторических со-
бытиях, и делалась, и смотрится, по свидетель-
ству зрителей, совершенно как сегодняшняя
картина, настолько близки чувства, которыми
горел русский народ в XIII веке, давая отпор
врагу, тем чувствам, которыми горит советский
русский народ сейчас, и, несомненно, всем тем
чувствам, которыми горят все те, на кого рас-
пространяется захватническая лапа герман-
ской агрессии.
В XIII веке на льду Чудского озера русские
люди наголову разбили тевтонских и ливонских
рыцарей.
Этим был положен сокрушительный предел
германской экспансии на славянские земли
востока. Пожрав в своем сокрушительном на-
ступлении все маленькие промежуточные на-
родности, волна немецких захватчиков дока-
тилась до славянских земель. Несмотря на то,
что за восемнадцать лет до этого Россия пере-
жила страшное наступление татар, разгромив-
ших почти дотла все русские земли, и сохранив
только северо-запад их с древним Новгородом
в центре, русский народ сумел найти в себе до-
статочно сил, чтобы собрать достаточно войск
300
и не допустить вторжения немцев, не допустить
немецкого ига, которое было еще страшней та-
тарского ига. А было оно страшно потому, что,
совершенно подобно фашистам сегодняшне-
го дня, немцы, не в пример татарам, которых
интересовала только дань, дотла уничтожали
черты народной самобытности, национальной
самостоятельности и национального характера,
отличавших покоренные ими страны.
Подобно тому как сейчас фашистские псы
раздирают чехословацкую культуру, уничто-
жая язык, школу, литературу, уничтожая че-
хословацкую интеллигенцию, самобытный че-
хословацкий рабочий класс, совершенно так
же псы-рыцари во всех тех странах, которые
имели несчастье подпасть под их власть, дотла
выкорчевывали все то, что та или иная нация
или национальность несла своего, самобытного,
кровного. Завоевательские пути рыцарей от-
мечены кровью и огнем. Уничтожались города,
уничтожались селения, уничтожались люди до
тех пор, пока на льду Чудского озера Алек-
сандр Невский и русские ополчения не встре-
тили немцев и пока Александр Невский не раз-
бил легендарную «свинью» — боевой порядок,
в котором наступали высокоорганизованные
рыцарские войска, раздавливая железным
клином построения конницы все и всяческие
воинские преграды, которые ставились на их
пути.
301
Александр Невский сумел с гениальностью
великого полководца повторить маневр Ганни-
бала при Каннах, сумел ранее непобедимую
рыцарскую «свинью» зажать в тиски замеча-
тельных фланговых ударов и победить ее окон-
чательно крестьянским ополчением, которое
схватилось со «свиньей» с тыла.
Удар по немцам был сокрушительным
и беспощадным, не только физическим уда-
ром, но и страшным моральным поражением
той силы, которая казалась несокрушимой, не-
победимой. Вокруг рыцарей до разгрома на
Ледовом побоище стоял ореол непобедимой
и несокрушимой силы. Есть немало маловеров
и слабых людей, которые так же слепо верят
в непобедимость и несокрушимость наглеюще-
го дипломатического и военного авантюризма,
который проявляется на мировой арене Гитле-
ром и мировым фашизмом.
Мы хотим, чтобы наш фильм не только еще
больше мобилизовал тех, кто находится в са-
мой гуще борьбы против фашизма в мировом
масштабе, но чтобы он вселил бодрость, муже-
ство и уверенность и в те части народов мира,
которым кажется, что фашизм столь же несо-
крушим, как в XIII веке казались несокруши-
мыми рыцарские ордена. Пускай не стелются
перед фашизмом, пускай не становятся безро-
потно на колени перед ним, пускай прекратят
неустанную политику уступок и подачек этому
302
ненасытному чудовищу. Пускай помнят мало-
веры, что нет такой силы темноты и мрака, ко-
торая могла бы устоять против объединенных
усилий всего лучшего, здорового, прогрессив-
ного и передового, что есть в человечестве.
Эти чувства, эти страсти, эти силы вдохнов-
ляет и ведет за собой замечательнейшая стра-
на мира, переживающая величайший подъем
и развитие, которая так же беспощадно, как
в XIII веке разбила германскую агрессию,
только что разделалась с агрессивными по-
пытками Японии. Лучшие силы мира должны
убедиться, что решительность и беспощадность
в борьбе всегда приносят победу, и на эту по-
беду пускай мобилизуются лучшие силы мира.
1939
304
«Александр Невский»
Кости. Черепа. Выжженные поля. Обгорелые
обломки человеческого жилья. Люди, уведен-
ные в далекое рабство. Разоренные города.
Попранное человеческое достоинство. Такой
встает перед нами страшная картина первых
десятилетий XIII века в России. Обогнув с юга
берега Каспийского моря, монголо-татарские
полчища Чингисхана проникли на Кавказ
и, разгромив цветущую культуру Грузии, ри-
нулись на Русь, сея ужас, смерть и полное не-
доумение — откуда взялась эта страшная сила.
Разгром русских войск, вышедших им навстре-
чу, в битве при Калке в 1223 году был не более
как прелюд к той кровавой эпопее нашествия
Батыя, которая всколыхнула всю Европу.
Русские княжества и города были готовы
дать отпор страшному врагу. Но они еще не
доросли до сознания того, что не в междоусоби-
цах и борьбе друг с другом создается мощное
государство, способное сопротивляться любым
нашествиям. Необъединенные, несплоченные,
305
они являют образцы великого мужества, но
и гибнут один за другим в неравной борь-
бе. Татары наступают со страшным напором
и грозят разгромить Европу. В обезумевшей от
ужаса Европе раздаются отдельные призывы
к коллективному отпору, но эти воззвания ча-
сто повисают в воздухе.
А Киевская Русь и прочие составные части
будущей великой русской страны долгие годы
изнывали под пятой татарского ига, обратив-
шего всю алчность завоевателя на остатки раз-
громленных и покоренных русских княжеств.
Таков облик многострадальной Руси XIII века.
Без ясной картины всего этого не понять вели-
чия героики, с которой русский народ, порабо-
щенный восточными варварами-кочевниками,
сумел во главе со славным полководцем Алек-
сандром Невским разгромить тевтонов, стре-
мившихся оторвать кусок России.
Откуда взялись эти тевтонские рыцари?
В начале XII века в Иерусалиме, а затем
в обстановке осады крестоносцами Птолемаи-
ды возникает «Тевтонский дом». Ему суждено
было стать колыбелью одного из самых страш-
ных бедствий человечества, как проказой охва-
тившего восток и запад Европы.
Сперва «Тевтонский дом» представлял со-
бой не более чем походный лазарет, однако
представители тевтонцев принимают в нем са-
мое деятельное участие. 6 февраля 1191 года
306
с благословения Рима начинает существовать
уже новый рыцарский орден. 12 июля того же
года Птолемаида взята крестоносцами. Новый
орден овладевает значительной долей добычи,
землями и угодьями, плотно оседая на покорен-
ной земле. Отсюда ему уже легко вести свою
организационную работу, и отныне Тевтонский
орден является средоточием немецкого элемен-
та не только в Палестине, но и по всей Европе.
Состав ордена — резко национальный и ка-
стовый: только немец и член дворянского рода
имели право на вступление в орден. На первых
порах рыцари ограничиваются тем, что начи-
нают торговать своей военной силой и умением.
Но вскоре начинается длительное и систе-
матическое наступление на восток. Жертвами
его последовательно становятся пруссы, ливы,
эсты, жмудь. Соревнуясь с татарами в жесто-
кости и беспощадности к покоряемым народ-
ностям, тевтоны (к этому времени соединивши-
еся с другими монашествующими и не менее
грабительскими орденами) значительно страш-
нее татар. Татары ограничивались набегами,
грабили, разрушали покоренные земли, но не
оседали на них, а снова уходили в глубь Азии
или в ордынские владения, заставляя платить
себе тяжкую, подчас непосильную дань.
Совсем иное дело было с тевтонскими и ли-
вонскими «рыцарями». Здесь мы встречаемся
с последовательной колонизацией в формах
307
полного обращения покоренных в рабство
и уничтожения черт национальной самобытно-
сти, религиозного и общественного устройства.
Превосходя покоряемых военной техникой
и организованной военной силой, «благочести-
вые братья» не гнушались любыми средства-
ми, и в первую очередь широко поставленной
системой вербовки изменников. Рядом с геро-
ическими защитниками родины летописи при-
носят нам имена гнусных ее предателей. Здесь
и князь Владимир Псковской, и сын его Ярос-
лав Владимирович, такой же изменник. Здесь,
наконец, и колоритная фигура псковского по-
садника Твердилы Иванковича, из личных ко-
рыстных интересов предавшего Псков немцам.
Центром, откуда идет сперва самозащи-
та русских земель от западных завоевателей,
а в дальнейшем и организованное контрнасту-
пление на них, в эти годы становится Новгород —
«Господин Великий Новгород», как его вели-
чали в те времена. Новгород навсегда связал
свое славное имя с возрождением националь-
ной независимости, над которым потрудились
наиболее дальновидные и энергичные князья.
Среди них первое место принадлежит князю
новгородскому Александру Невскому, сильно-
му не только своей гениальностью, но и глубо-
кой внутренней связью с народными ополче-
ниями, которые он вел в победоносные походы.
Близость и кровная связь с народом диктова-
308
ли ему безошибочную ориентацию в сложной
тогдашней международной политике. Она же
помогает Александру выбрать единственную
исторически правильную политическую ли-
нию. Задабривая татар и всячески стараясь
«ладить» с ними, Александр тем самым раз-
вязывает себе руки на западе, откуда грозит
наибольшая опасность русскому народу и тем
первым росткам национального самосознания,
которые, естественно, возникают как реакция
на интервенции с востока и запада. Свой глав-
ный удар Александр направляет против нем-
цев.
Высшей точкой военного успеха и славы на
этом пути Александр и новгородские дружи-
ны народной самозащиты достигают в сече на
Чудском озере 5 апреля 1242 года, известной
под названием Ледового побоища. Это был за-
ключительный аккорд блестяще продуманной
военной кампании против завоевателей, пытав-
шихся задержать у Изборска головные отряды
Александра и взять его главные силы в обход.
Александр разгадывает планы немцев и нео-
жиданным маневром своих передовых отрядов
перерезает им путь на западном берегу озе-
ра, где-то у устья реки Эмбах. Эти передовые
части, возглавляемые доблестным Домашом
Твердиславичем и Кербетом, терпят пораже-
ния перед превосходящими силами немцев. Но
Александр отступает на лед Чудского озера
309
и, не переходя на восточный — русский —
берег, принимает удар немцев у Вороньего
камня, около узкой части пролива, соединяю-
щего Чудское озеро с Псковским. Немцы дви-
жутся страшным, несокрушимым строем, так
называемой «свиньей».
Постараемся вообразить себе, чем был этот
прежде непобедимый военный строй. Для этого
представим себе нос броненосца или сверхмощ-
ного танка, увеличенный до размеров сотни
сплоченных, закованных в железо всадников.
Представим себе этот гигантский железный
треугольник скачущим во весь опор и разви-
вающим бешеную инерцию. Представим себе,
наконец, железное рыло подобной «свиньи»
врезающимся в гущу противника, ошеломлен-
ного страшной, безликой массой мчащегося на
него железа: лиц рыцарей не видно — вместо
них сплошное железо с узкими крестообразны-
ми разрезами для дыхания и глаз. «Свинья»
разрывает фронт противника и мгновенно рас-
сыпается на отдельные «копья». «Копье» — это
закованный в железо рыцарь (прообраз легкой
танкетки), врезающийся в массу живого мяса
противника и разящий его направо и налево.
Параллель еще глубже: «копье» не только ры-
царь, это целая группа (иногда до тринадца-
ти человек) военной прислуги — оруженосцы,
пажи, кнехты, всадники, составляющие со сво-
им рыцарем одно целое.
310
Принять удар «свиньи» в чистом поле в лоб
при тогдашнем состоянии войск было так же
немыслимо, как невозможно голыми руками
задержать танк.
И Александр разделывается с немцами тем
же гениальным маневром, что и Ганнибал, по-
крывший себя бессмертной славой при Каннах.
Зная, что центру («челу») невозможно удер-
жать удар «свиньи», он и не стремится к это-
му: он группирует все свои силы на флангах
(полками «правой» и «левой» руки). Умышлен-
но ослабленный центр поддается удару «сви-
ньи», но вместе с тем втягивает ее за собой.
Александру удается, на зависть грядущий во-
ителям, осуществить мечту всех полководцев
всех времен: он реализует полный охват про-
тивника с обоих флангов. Есть данные о том,
что засадный полк врезался в противника еще
и с тыла, и коварный враг, зажатый со всех
сторон, подвергся полному разгрому. Такой
битвы еще не бывало. Такого разгрома нем-
цы еще не знавали. Грохот и стоны незабыва-
емой сечи несутся к нам со страниц летописи:
«...Треск от ломавшихся копий, стук от ударов
мечами — точно замерзшее озеро всколыхну-
лось... Не видно было льду — все было залито
кровью... и секли их русские воины, преследуя
как бы по воздуху, и некуда им было скрыть-
ся... Избивали их на льду на протяжении семи
верст до Суболичского берега...» .
311
Перед нами встает вопрос: почему же сеча
произошла на льду? Много есть соображе-
ний по этому поводу. И гладкая поверхность
замерзших вод, дающая возможность грудь
с грудью в открытом бою встретиться с про-
тивником (русские и прежде имели обычай
биться на равнинах). И возможность умелой
распланировки своих ратных частей. И сколь-
зкая поверхность, ослабляющая разгон всад-
ников. Наконец, и учет того, что лед должен
был подломиться под более тяжеловесно во-
оруженными немцами. Это и произошло глав-
ным образом в момент преследования, когда
под тяжестью рыцарей, столпившихся у вы-
сокого западного берега, мешавшего быстро-
му бегству, не выдержал тонкий апрельский
прибрежный лед, и остатки беглецов погибли
в разверзшихся под ногами водах.
Самый разгром «псов-рыцарей» на Чуд-
ском озере был неожиданным и потрясающим
«чудом». Летописцы искали ему объяснения
в сверхъестественных явлениях и какой-то
небесной рати, якобы принимавшей участие
в бою. Но дело, конечно, не в этих сомнитель-
ных предшественниках будущей авиации:
единственным чудом в битве на Чудском озере
была гениальность русского народа, впервые
начинавшего ощущать свою национальную,
народную мощь, свое единение. Из этого про-
буждающегося самосознания наш народ сумел
312
почерпнуть несокрушимые силы. Из своей сре-
ды он выдвинул гениального стратега и полко-
водца Александра, во главе с которым отстоял
родину, разбив коварного врага. Так будет и со
всеми теми, кто посмеет посягнуть на нашу ве-
ликую Родину и сейчас. Если мощь народного
духа сумела так расправиться с врагом, когда
страна изнемогала в оковах татарского ига, то
не найдется такой силы, чтобы сокрушить эту
страну, скинувшую все цепи угнетения, страну,
ставшую социалистической Родиной.
Обломки мечей, один шлем да пара коль-
чуг — вот все, что сохранилось в музее от
далекой эпохи...
Давность XIII века вообще... «Святой» в ка-
честве центрального лица будущего фильма...
В первый момент этот «чин» дезориентирует,
и при первом набеге на тему может не хватить
пристальности, чтобы сразу же в нем разгля-
деть народность трезвого, реального, крепкого
земного политика.
Физические данные об этом персонаже та-
кого неистового порядка:
«Видом благородия, телесного благолепия
весьма украшен паче всех, не точию сродник
своих, но и всех иноплемянных стран земных
царей, яко солнце всех светил... Възраст его
паче инех человек, глас его яко труба в народе,
лице же его бе яко Иосифа прекрасного, еже
313
бе поставил его Египтьскый царь второго царя
в Египте, сила же его бе вторая часть от силы
Самсоня, и дал ему бе бог премудрость Соло-
моню, храбрость же яко царя римского Евспа-
сьяна, еже пленил всю землю иудейску...» .
«Глас его яко труба» — неужели такому го-
лосу греметь с экрана? Неужели такими обо-
ротами речи изумлять нашего зрителя?
Вместе с тем из груды отрывочных данных,
странных для нашего уха летописных оборо-
тов речи, фантастической графики ранних
миниатюр и страниц «жития святых» упорно,
настойчиво, непоколебимо бьет ритм основной
темы.
Тема эта пронизывает скудные увражи, по-
священные материальной культуре эпохи. Она
трепещет в ржавых экспонатах, сохранивших-
ся от тех времен. Она бьется живой жизнью
в крепостных башнях и стенах древних городов.
«Камням я верил, а не книгам», — хотелось
повторить за Суриковым, ощупывая древние
здания Новгорода. И через них как бы ощупы-
валась тема, певшая из каждого камня — од-
на-единственная от начала до конца, — свобо-
долюбивая тема национальной гордости, мощи,
любви к родине, тема патриотизма русского
народа.
Отошли в сторону «формалистические» со-
блазны. Любой гордиев узел рассекался сам
собой.
314
И на первый план выплыло все обобщав-
шее ощущение, что делаешь вещь прежде всего
современную: с первых же страниц летописи
и сказаний больше всего поражала перекличка
с сегодняшним днем.
Не по букве, а по духу событий XIII век
дышит одной и той же эмоцией, что и мы. Да
даже по букве события близки до степени ка-
жущейся опечатки. Не забуду дня, когда, от-
кладывая газету с описанием гибели Герники
от зверских рук фашистов, я взялся за исто-
рический материал и натолкнулся почти на
дословное описание уничтожения крестоносца-
ми... Герсика. Это еще более творчески и сти-
листически определило наши взаимоотношения
с материалом и его трактовкой.
Иногда на мгновение разбирали сомнения:
как же так — магистр тевтонско-ливонских
рыцарей станет изъясняться с псковским пре-
дателем, посадником Твердилой, на чисто рус-
ском языке, без переводчика, перелагающего
недоступный нашему зрителю немецкий язык
XIII века на малодоступный русский язык той
же эпохи. Ну, пусть интервенты XIII века были,
вероятно, не менее лингвистически подкованы,
чем те, кто в XX веке протягивал грязные лапы
агрессии с востока и запада на нашу Роди-
ну. Однако и расписывание «авансом» еще не
покоренных территорий «братьями рыцарями»
и, несомненно, латинские сентенции епископа
315
о том, что все должно быть покорено Риму,
тоже зазвучат с экрана простой русской ре-
чью без всяких выкрутасов игры на языках
и переводах...
Но сомнения расходятся быстрей, чем при-
ходят, как только ставишь перед собой ряд не-
доуменных вопросов.
Что важно зрителю — необычайность рит-
мов и звукосочетаний чуждой речи и титров
подстрочника к ней или то, чтобы зритель сра-
зу непосредственно, с наименьшей затратой
сил был введен во все трагические обстоятель-
ства предательства, глумления интервентов
над побежденными и объем захватнических
планов псов-рыцарей?
Что важнее — лингвистический экскурс на
шесть веков назад или четкая картина буду-
щей дислокации Ледового побоища, которую
излагает на добром современном русском язы-
ке Александр, настаивая на столь близком нам
тезисе, что враг должен быть разбит на чужой
земле?
Конечно, второе. И в первом случае. И во
втором. И во всех тех случаях, где слова долж-
ны доносить до зрителя существо и осмысление
происходящих событий, а других слов и вообще
не нужно. И отсюда относительное малословие
фильма, хотя разговора в нем не так уж мало.
А как ходили в XIII веке? Как произноси-
ли, как кушали, как стояли? Неужели засти-
316
лизовать экран под обаятельные горельефы
бронзовых ворот Софийского собора или даже
под миниатюры несколько более молодой Ке-
нигсбергской летописи? Как расправиться
с костюмами, невольно диктующими «ико-
нописный» жест новгородского письма? Где
прощупать живое общение с этими далекими
и вместе с тем близкими людьми?
Смотришь с их стен и башен на тот же пей-
заж, на который глядели они, и стараешься
проникнуть в тайну их ушедших глаз. Стара-
ешься уловить ритм их движения через ося-
зание тех редких сохранившихся вещей, что
прошли через их руки: два позеленевших но-
сатых сапога, извлеченных с топкого дна Вол-
хова, какой-то сосуд, какое-то нагрудное укра-
шение... Пытаешься вшагаться в их походку
по деревянной мостовой, покрывавшей улицы
«Господина Великого Новгорода», или по слою
дробленых звериных костей, чем была утрам-
бована Вечевая площадь. Но все не то и все не
так. Впереди либо паноптикум восковых фигур,
либо малоискусное стилизаторство.
Но и здесь внезапно все становится ясным.
Мы любуемся неподражаемым совершен-
ством храма Спас-Нередицы. Чистота линий
и стройность пропорций этого памятника XII века
вряд ли знают равных себе. Эти камни виде-
ли Александра, Александр видел эти камни.
Мы бродим вокруг, как бродили в Переслав-
317
ле по Александровой горе — искусственному
возвышению на берегу Плещеева озера. Зда-
ние прекрасно, но связующий нас язык пока
еще язык эстетики, пропорций, совершенства
линий. Нет еще живого общения, психологи-
ческого проникновения в этот памятник. Нет
еще живого языка. И вдруг взгляд падает на
табличку, повешенную заботливой рукой ра-
ботников музейного отдела. На ней несколько
почти отвлеченных строк: «Начат постройкой
тогда-то, закончен тогда-то». Казалось бы, ни-
чего особенного, но когда вычтешь из второго —
«тогда-то» первое «тогда-то»...
—
обнаружива-
ешь, что это пленившее нас чудо архитектуры
воздвигнуто всего в течение нескольких меся-
цев XII века.
Табличка родит новое ощущение этих камен-
ных столбов, арок, перекрытий: их лицезреешь
в динамике их быстрого возникновения, их ощу-
щаешь в динамике человеческого труда, не в со-
зерцании поступков со стороны, а в актах, дей-
ствиях и трудовых деяниях изнутри. Они близки,
ощутимы, их через века связывает с нами один
язык, священный язык труда великого народа.
Люди, складывавшие такое здание в не-
сколько месяцев, это не иконы и миниатюры,
не горельефы и не гравюры. Это те же люди,
что и мы с вами! Уже не камни зовут и твер-
дят свою историю, а люди, складывавшие эти
камни, их тесавшие, их таскавшие.
318
Они родственны и близки советским людям
любовью к своей отчизне и ненавистью к врагу.
Всякая и всяческая архаика, стилизация, му-
зейность и прочее, и прочее поспешно уступают
место всему тому, через что особенно полно
способна проступать основная, единственная
и непреклонная патриотическая тема нашего
фильма.
А отсюда и переход к сложнейшей расшиф-
ровке нашего героя — к разгадке его «свято-
сти». Проще всего отмахнуться от этого «чина»,
переадресовать его попам. Решение, однако,
малоудовлетворительное. Мы взялись «свя-
тость» прочитать, и думаю, что прочли мы ее
верно. За что Александру дан этот чин? (Не
в порядке церковного «присуждения», а всена-
родного его понятия.) Андрею Боголюбскому
сей чин дан за мученическую смерть от руки
убийц. Александра же не убивали. Так за что
же?
Прежде всего разберемся по существу, чем
является само это звание «святого». По суще-
ству оно в тех условиях не более как самая
высокая оценка достоинств, достоинств, выхо-
дящих за пределы общепринятых тогда норм
высоких оценок, — выше «удалого», «храбро-
го», «мудрого».
«Святой»! Здесь дело вовсе не в канониче-
ском смысле этой формулы, которой в течение
столетий спекулировали церковники.
319
Здесь дело в том комплексе подлинной на-
родной любви и уважения, который до сих
пор сохранился вокруг фигуры Александра.
И в этом смысле наличие звания «святого»
у Александра глубоко и показательно. Оно
свидетельствует о том, что мысль Александра
шла дальше и шире той деятельности, кото-
рую он вел: мысль о великой и объединенной
Руси отчетливо стояла перед этим гениальным
человеком и вождем седой древности. И это
чувствовал народ в обаятельном образе Алек-
сандра Невского. И недаром Петр I, завер-
шавший веками спустя программу гениального
провидца XIII века, именно его прах перевез
на место постройки будущего Петербурга, как
бы солидаризируясь с той линией, которую за-
чинал князь Александр Невский.
Так историческое осмысление в разрезе
нашей актуальной темы снимало и двусмыс-
ленный ореол с понятия святости, оставляя
в характере героя лишь ту одержимость единой
идеей о мощи и независимости родины, которой
горел Невский-победитель. Так одновременно
определялась и основная линия характера ге-
роя фильма. Два — три других намека-факта
из летописей дорисовали его абрис. Особенно
пленял факт, донесенный летописями, о по-
бедителе, не теряющем на торжестве головы
и удерживающем восторженные толпы стро-
гим поучением, назиданием и предупрежде-
320
нием. Это человечески приближало его образ,
связывало его с живыми людьми. Обаяние
и талант Черкасова дописали его.
Огонь, сдерживаемый мудростью, синтез
обоих рисовался как основное в образе Алек-
сандра. Этот синтез отделялся фигурами двух
его сподвижников: одного — принесшего свое
имя из летописей Невской победы, другого —
как правнука вневременного героя новгород-
ских былин.
Удаль Буслая, умудренность Гаврилы стоят
справа и слева от Ярославича, объединяюще-
го обе черты. Рука мудрого полководца умеет
уберечь обоих от крайностей и умеет впаять до-
стоинства каждого из них в общее дело. И но-
сители этих двух столь типичных черт русского
человека-воина проявляют каждый свою долю
мужества на Ледовом побоище. Им вторит тре-
тий, «штатский», кольчужный мастер Игнат —
патриот и выразитель патриотических чувств
новгородских ремесленников. Так единая тема
патриотизма пронизала всех действующих лиц.
Лед Чудского озера! Какой простор! Какой
размах! Сколько соблазна: русская зима, хру-
сталь льдов, вьюга, метель, полозья на снегу,
обледенелые бороды, усы... Коченея на льду озе-
ра Ильмень в поездку нашу в Новгород (зимой
1938 года), мы с трудом двигали несгибающими-
ся пальцами, делая отметки о зимних эффектах
необъятных ледяных просторов, снеговых туч...
321
Но прохождение сценария задержалось.
Единственный выход — перенести зимнюю на-
туру (шестьдесят процентов картины) на ян-
варь — март 1939 года... Или... Или идти на
дерзкое предложение, исходящее от нового чле-
на нашего коллектива, режиссера Д. Василье-
ва, — снять зиму летом. И в час мучительного
раздумья по этому поводу вновь зазвучала пе-
ред нами тема: подлинный лед или подлин-
ность доблести русского народа? Настоящий
снег или настоящая героика русских людей?
Неподражаемая симфония льдов в блестя-
щей фотографии Эдуарда Тисса — через год,
или разящее патриотическое оружие готового
фильма — вдвое быстрее?!
И растаяли эстетические льды и снега. Ябло-
ни фруктовых садов на задах Потылихи поки-
нули стройные ряды плантаций, и густой слой
мела и жидкого стекла разлегся на их месте
ареной боев Ледового побоища. Эстетические
приверженности стиля наших прежних работ
уступили политической актуальности темы.
Искусственная зима удалась. Удалась
в наилучшем виде: о ней не говорят и не спорят.
Она сама собой понятна и приемлема.
Удача этого кроется в том, что мы не пошли
на подделку зимы. Мы не «солгали» зимы, за-
ставляя верить стеклянным сосулькам и бу-
тафорской подтасовке неподдельных деталей
русской зимы. Мы взяли от зимы лишь главное —
322
ее звуковую и световую пропорцию: белизну
грунта при темноте неба. Мы взяли форму-
лу зимы, здесь лгать не нужно было — здесь
была точная правда зимы. И мы сделали вто-
рое — крепко помня о сущности фильма, мы
не «играли» зиму, а «играли» бой. Мы пока-
зывали бой, а не зиму. Зима присутствовала
в той степени и мере, в которой ее ничем не
отличишь от настоящей. В этой степени и мере,
в этой формуле зимних соотношений природы
и такта непоказа ее лежит удача. Соображе-
ния, толкнувшие нас на то, чтобы «сделать»
зиму вообще, решили и единственно правиль-
ный путь того, как ее делать.
И, наконец, последнее — срок. Срок уже
не только сокращенный в силу переноса зимы
на лето, но и срок, уже в этих условиях пере-
крывший три собственных укороченных плана.
И этими сроками мы обязаны энтузиазму кол-
лектива вокруг нашей темы. Смешно сказать,
не в пример другим членам нашего коллектива,
для меня лично «Александр Невский» — был
первым звуковым фильмом.
Как хотелось спокойно, последовательно по-
экспериментировать, испытать на деле многое
из того, что за годы хождения вокруг звукового
кино откладывалось в мыслях и желаниях. Но
выстрелы с озера Хасан разбивают мечты об
этой идиллии. В злобе кусая кулаки, что фильм
еще не готов и нет возможности швырнуть его,
323
как гранату, в морду агрессору, молча подтя-
гивается весь коллектив, и невозможный срок
сдачи — седьмое ноября — начинает всвер-
ливаться в сознание как реальность. Должен
сознаться, что вплоть до последнего дня я жил
мыслью: «Закончить фильм к седьмому ноября
невозможно, но закончен он будет». В этих на-
мерениях мы стояли лицом к лицу с самыми
тяжкими жертвами: мы были готовы отказать-
ся от всего, что увлекало нас в принципах зву-
козрительных сочетаний; в столь сжатый срок,
казалось, немыслимо добиться органического
сплава музыки с изображением, найти и разре-
шить замечательнейшую внутреннюю синхрон-
ность пластических и музыкальных образов, то
есть сделать то, в чем, по существу, вся тайна
звукозрительных воздействий. Это требует вре-
мени, раздумий, монтажа и перемонтажа дву-
кратного, трехкратного, многократного. Как-то
сумеет музыка оплодотвориться изображени-
ем? Как, вернее, когда сумеешь впаять эти две
стихии в единое и неразрывное целое?
Но тут на помощь приходит «маг и волшеб-
ник» Сергей Прокофьев. Когда этот порази-
тельный мастер ухитряется охватить внутрен-
ний образ изображения, когда он успевает
вычитать в начерно смонтированной сцене ло-
гику ее композиционного характера, когда он
музыкально успевает досказать все это, когда
успевает переложить все это в потрясающее
324
звучание оркестра и еще в течение часов и ча-
сов звукозаписи совместно с замечательным
звукооформителем Вольским, звукооперато-
ром Богданкевичем осуществить метод много-
микрофонной записи в том виде, как она еще
не практиковалась у нас?
Сроки сжаты. Но дело идет так быстро, что
для каждой ответственной сцены весь нужный
материал звукозрительных сочетаний в руках
у меня и у неизменного, замечательного асси-
стента по монтажу Фиры Тобак.
Сроки сжаты, но мы можем ни в чем себе не
отказывать: звукозрительные сочетания во всех
ответственных частях доведены до той стадии,
дальше которой они бы не пошли и в триж-
ды более длинные сроки. Этим мы обязаны
Сергею Прокофьеву, соединяющему с блеском
таланта невиданный блеск профессионализма
и темпа в работе!
Этим он идет в ногу со всем громадным
коллективом группы и студии в целом, энер-
гия и энтузиазм которых единственно и могли
осуществить такую громадную задачу в столь
быстрые сроки.
Патриотизм — наша тема!
В какой степени мы с нашей темой спра-
вились, об этом скажет свое решающее слово
советский зритель.
1939
326
«Иван Грозный»
Фильм о русском Ренессансе XVI века
Есть исторические персонажи, с которыми ли-
тературная традиция и легенда сыграли злую
шутку.
Был в Англии честный военачальник. Он
даже отличился в боях. Был героем. И лег под
своды фамильного склепа, овеянный шумом
крыльев славы. И нужно же было, чтобы некий
сочинитель в поисках фамилии, подходящей для
монументальной фигуры пройдохи, чревоугод-
ника и сластолюбца, — нашел бы нужное ему
созвучное словосочетание как раз в имени по-
койного достойного английского джентльмена.
Фальстаф так перекликается игрой слов
с false stuff , что трудно было не соблазниться
этим именем и, очернив память исторического
носителя этого доброго имени, навеки закре-
пить его за бессмертной фигурой шекспиров-
ского героя вовсе противоположного нрав-
ственного облика!
327
Защиту памяти бедного исторического сэра
Фальстафа взял на себя Бальзак. И в тот
именно момент, когда сам он собирался в неза-
конченном фрагменте романа обелить память
одной исторической фигуры большого государ-
ственного калибра и ума.
Еще в «Утраченных иллюзиях» он писал об
этой королеве, чья политическая мудрость на
долгие годы была заслонена мелодраматиче-
скими деталями ее непосредственной деятель-
ности.
Назовите имя Екатерины Медичи, и она
мгновенно предстанет перед вами окруженная
всеми атрибутами романов Дюма: отравлен-
ными перчатками, отравленными свечами, от-
равленными цветами, отравленными страни-
цами Библии.
И кровавые отсветы станут бросать на ее
облик страшные огни Варфоломеевской ночи...
Бальзак писал:
«Дерзните... восстановить прекрасную, вели-
колепную фигуру Екатерины Медичи, которую
вы заклали в жертву предрассудкам, все еще
тяготеющим над нею».
И прекрасное великолепие этой фигуры он
видел в том, что она была одним из пионе-
ров по созданию золотого века великого на-
ционального Французского государства эпохи
Короля Солнца в XVII веке. Об этом Бальзак
пишет в другом месте: «Вольтер продолжал
328
дело Паскаля. Людовик XIV продолжил дело
Екатерины Медичи и Ришелье»...
К такого же рода историческим персонажам,
чья репутация немало пострадала от литера-
турной традиции, относится и мой герой.
Историки определенного склада и писате-
ли определенной тенденции заклеймили этого
современника Екатерины Медичи маньяком
бессмысленной жестокости.
И это настолько широко, что мало кто сей-
час поверит в то, что именно он, ославленный
в истории как безумец и садист, очень вразу-
мительно осуждал свою современницу Екате-
рину за... бессмысленную жестокость именно
этих огней Варфоломеевской ночи!
Между тем именно это писал в своем пись-
ме императору Рудольфу о Варфоломеевской
ночи герой законченного мною сценария и бу-
дущего моего фильма... Иван Грозный!
Судьба этого человека удивительна.
В детстве никто им лично не интересовался,
но фигура его служила средством ожесточен-
ной борьбы между отдельными придворными
партиями.
С исторической памятью о нем случилось
то же самое.
Мало кто вникал в суть его великолепной
государственной деятельности — до мельчай-
ших черт предвосхитившей то, что победоносно
удалось совершить Петру Великому.
329
Но зато яростно использовали его таинствен-
ную и подчас зловещую фигуру — в целях по-
лемических и в целях политической борьбы.
В те десятилетия, когда дряхлевший и из-
живший себя исторически царизм ожидал
лишь мощного дуновения Октябрьской ре-
волюции, чтобы навсегда разлететься оскол-
ками разбитого вдребезги, — либеральные
историки и литераторы видели в образе Гроз-
ного — первого российского венчанного царя —
и в странностях его характера слишком благо-
дарную мишень для атаки царизма современ-
ного, то есть изживавшего себя, готового сойти
со сцены и тем более судорожно хватавшегося
за власть.
При этом они забывали, что к разным эта-
пам истории приходится подходить по-разно-
му, и то обстоятельство, что то, что является
прогрессивным в эпоху российского Ренессанса
XVI века, может оказаться глубоко реакцион-
ным для конца XIX и начала XX века!
Централизация государственной власти
в единых руках абсолютного монарха для той
эпохи была таким же единственным условием
спасения и жизненности страны и государства,
раздираемого личными интересами феодаль-
ных группировок, как сейчас единственным
залогом жизнеспособности и победоносности
народов, вступивших в смертельную борьбу
с нацизмом, является единство их устремлений
330
под руководством вождей, которых по вольно-
му демократическому выбору народы ставят
во главе своих стран, доверяя им свои судьбы
и будущее.
Но мракобесом и кровавым псом окажется
тот, кто в великий век демократических свобод
XX столетия приемами средневекового фео-
дального разбойника с большой дороги, воров-
ски захватив власть у своего народа, обратив
в новое рабство свой собственный народ, дви-
нется на покорение и порабощение миролюби-
вых соседей и других стран.
Он будет смешон, будучи пригвожден к по-
зорному столбу истории в образе Аденоида
Хинкеля в гениальной комедии Чаплина — он
будет отвратителен и мерзок в своем прооб-
разе Адольфа Гитлера в кровавой трагедии,
развернутой им по обоим полушариям нашей
планеты.
И вместе с тем это нисколько не будет
мешать пониманию того факта, что истори-
чески-прогрессивными и положительными
окажутся для своего времени те пути к объе-
динению государства и централизации власти,
которыми проходит повсеместно этот процесс
в XV и XVI веках, откладываясь в истории
весьма драматической деятельностью Людо-
вика XI, Карла VIII, Елизаветы Английской,
Екатерины Медичи или царя Ивана Василье-
вича Грозного.
331
Рука врагов, сокрушенных Иваном в его
исторической борьбе за Московское государ-
ство, сделала все, что могла, чтобы очернить
память о том человеке, который при жизни
твердой ногой попирал их змеиные головы.
Там, где об его железную нерушимость
разбивались копья интервентов и вдребезги
раскалывались кинжалы наемных убийц, там
услужливо потоками клеветы разливались ядо-
витые перья беглых изменников, высланных
шпионов, обезвреженных наемников враждеб-
ных государств.
Именно таковы первые «беспристрастные»
сведения о Московском государстве и истории
государствования Ивана Грозного, появивши-
еся еще при жизни Ивана за границами тог-
дашней России.
Одно из них принадлежит князю Курбско-
му, бывшему другу и ближайшему соратнику
Ивана, чье честолюбие и зависть, умело ра-
зожженные иностранной агентурой, заставили
его, предательски проиграв битву под Невелем,
перейти на сторону врагов России.
Свою переполненную ядом и ненавистью
к Ивану историю его царствования он выпу-
скает в тот момент, когда победоносного Ивана
хотят избрать на польский престол.
Составленная со всем демагогическим бле-
ском предвыборной агитационной литературы
сегодняшнего дня, она несет единственную
332
цель — кроме отдушины озлобленного преда-
теля, не сумевшего из своего предательства из-
влечь нужной ему пользы, — запугать польских
избирателей и восстановить их против Ивана.
(Это, кстати сказать, наравне с другими при-
чинами вполне удалось князю Курбскому.)
Другой источник — записи двух немцев —
Таубе и Крузе — имел целью послужить
«оправдательным материалом» для готовив-
шейся интервенции в пределы Московского
государства.
Третий источник — записки немца-оприч-
ника Штадена, бывшего на службе у Ивана;
записки, поражающие своим чисто нацистским
цинизмом бессовестного наймита, — вообще
имели целью быть лишь приложением к под-
робному плану «оккупации Московии», кото-
рый Штаденом был представлен императору
Рудольфу II и т.д., и т.д.
Прибавьте к этому гору антиивановских
памфлетов эпохи Ливонской войны, одинако-
во охотно печатавшихся как в Риге (! !), так
и в Нюрнберге (!!!) XVI века, вопивших о «звер-
ствах русских», с изображением русских, рас-
секающих в куски (!) женщин и поедающих (!)
младенцев, — и вам станет понятен тот ис-
ходный комплекс материалов, который спо-
собствовал созданию легенд о «бессмысленно
кровавом маньяке Иване».
Если мы обратимся к более объективному
333
источнику истории — к творениям русских хро-
никеров XVI века — к летописцам, то и тут мы
найдем немало страшных и жестоких страниц
биографии нашего героя. Но мы стали пона-
прасну искать хотя бы одной страницы, где
бы они оказались... бессмысленными и необо-
снованными.
Иван действительно идет походом на Псков
и Новгород.
Он действительно жесток в своих репрес-
сиях.
Но объективный летописец так же бес-
страстно объясняет и то, за что так жестока
расправа.
И этой «пустяковой» причиной оказывается —
готовность и договоренность правительственной
верхушки обоих этих городов и областей — во-
преки воле народа! — целиком отделиться от
Московского государства и в личных своих вы-
годах и интересах перейти к соседней Ливонии!
И так — шаг за шагом, страница за страни-
цей — исторические записи открывают нам не
только глубокую осмысленность, но и простую
историческую необходимость поступать так,
как поступал Иван, с теми, кто искал в сво-
их личных корыстных целях путей к развалу,
распродаже и предательству своего отечества.
Того отечества, которое собирал, укреплял
и победоносно водил в бой великий государ-
ственный ум Ивана Грозного.
334
Не обелять его в народной памяти, не делать
из Ивана Грозного (Ivan the Terrible) Ивана
Сладчайшего (Ivan the Sweet) собираемся мы
в нашем фильме!
Но сделать то, на что имеет право вся-
кий герой прошлого: объективно показать
полный разворот и размах его деятельности.
Ибо только это может объяснить все черты,
неожиданные или темные, иногда суровые
и часто страшные, которыми должен был
обладать государственный деятель такой
страстной и кровавой эпохи, какой был Ре-
нессанс XVI века — все равно — в залитой
ли солнцем Италии, в Англии, становившей-
ся в лице королевы Елизаветы королевой мо-
рей, во Франции, Испании или Священной
Римской империи.
Показать Ивана во всем размахе этой дея-
тельности и борьбы за Московское государство —
вот что лежит в основе фильма.
И нужно прямо сказать, что деятельностью
и борьбой это было громадной и кровавой.
Но ни одного грамма пролитой крови мы не
собираемся сбрасывать со счетов биографии
царя Ивана.
Не обелить, но объяснить.
Сохранить, сделав понятной, мы хотим ти-
таническую деятельность этого завершителя
объединения Российского государства вокруг
Москвы.
335
И сегодняшний зритель — англичанин, аме-
риканец или русский — не сможет не понять
решительной деятельности, необходимой же-
стокости, а подчас и беспощадности человека,
которому историей была доверена миссия со-
здать одно из сильнейших и крупнейших госу-
дарств мира!
Ибо сегодня, в дни войны, как никогда, по-
нятно всякому, что достоин смерти тот, кто зо-
вет к развалу отечества, что достоин кары тот,
кто переходит на сторону врагов своей родины,
что нужно быть беспощадным с тем, кто откры-
вает врагу границы своей страны.
Так, не утаивая и не смягчая ничего в исто-
рии деятельности Ивана Грозного, ничем не по-
сягая на грозную романтику этого великолеп-
ного образа прошлого, мы сумеем донести его
в целости до зрителей всего мира. И этот образ,
пугающий и привлекательный, обаятельный
и страшный, в полном смысле слова — тра-
гический по той внутренней борьбе с самим
собой, которую он вел неразрывно с борьбой
против врагов своей родины, станет близким
и понятным сегодняшнему человеку.
Вокруг него мы постараемся воскресить
всю плеяду его врагов и сподвижников, людей
того русского Ренессанса XVI века, которые
никогда не появлялись до сих пор на экране
во всем размахе своих государственных стра-
стей и интересов, людей того «третьего Рима»,
336
как любили они называть свою Москву, видя
в ней уже тогда преемницу ведущей историче-
ской роли, когда-то бывшей за Византией и за
Римской империей.
Перед зрителем пройдут образы русских фе-
одальных князей и бояр, не уступающих Цеза-
рю Борджиа и Малатесте, князей церкви, по
властности достойных римских пап, по полити-
ческой интриге равных Макиавелли и Лойоле,
русских женщин, не уступающих Екатерине
Медичи и Марии Кровавой.
«Внезапно» возникшее в XVI веке единое
сильное Московское государство было неожи-
данностью для Запада. «Откуда внезапно по-
явился этот московский царь и это сильнейшее
государство на Востоке?» — встревоженно пи-
сали друг другу дипломаты, гуманисты, князья
и короли Запада.
Мы — люди Москвы XX века — пережили
такое же недоумение Запада, постепенно «от-
крывавшего» советскую Москву XX века, как
некогда, изумляясь, удивленный Запад неожи-
данно «открывал» наших предков той героиче-
ской Красной Армии, которую к своему ужасу
и на свою гибель столь неожиданно для себя
сейчас «открыл» и познал Гитлер!
Показать кем были эти наши предки, пока-
зать русский народ в его прошлом, показать
его в живых образах своих государственных
деятелей, в их страстях, в их борьбе, во всем
337
их историческом калибре прошлого — вот что
входит в наши задачи.
Показать великую традицию патриотизма,
любви к Родине, беспощадность борьбы с вра-
гами,гдебыикембыонинибыли, — вотчто
входит в цели показа нашего фильма.
Когда ближе знакомишься с человеком,
естественно, хочется самому представить,
а ему познакомиться с вашей женой, двоюрод-
ным братом, отцом, матерью, бабушкой.
Если случится, что жив еще и прадедушка,
то, к обоюдному удовольствию, это совсем хо-
рошо.
Так же и в дружбе народов: сближаясь,
как сейчас, все ближе с нашими английскими
и американскими союзниками, нам все глубже
и лучше хочется узнать друг друга.
И на этом пути ознакомление друг друга
с историческим прошлым наших народов, с на-
шими прапрадедами и прапрабабками — один
из путей лучшего и более глубокого познания
между собой тех, кто в священном союзе ведет
прекраснейшую и наиболее светлую борьбу,
которую когда-либо вело передовое и прогрес-
сивное человечество.
Наш фильм о веке Ивана Грозного трудится
в этом именно направлении!
1942
339
Самое важное из искусств
Кинематография совсем особое искусство. Не
только по пресловутому признаку, что она
и искусство и индустрия. Кинематограф — наи-
более массовое и наиболее интернациональное
из искусств.
Возможности воздействия на сердце и умы
миллионов по диапазону не сравнимы ни с од-
ной из смежных областей.
Покорение звука тонфильмом открыло воз-
можности глубочайшего овладения тематикой
и проблемами, тем, чем раньше владели лишь
литература и театр.
Идеологией и философией их.
Таковы возможности любого кино.
Но таковы черты лишь одного кино — со-
ветского.
Только это кино, являясь выразителем един-
ственной в своем роде страны, направлено
к тому, чтобы показывать то, что другие кине-
матографии призваны скрывать, произносить
там, где другие молчат, бороться и звать к дей-
340
ствию и борьбе, в отличие от иных, призван-
ных смазывать социальные противоречия
и убаюкивать сентиментальной лживостью. Со-
ветское кино на особом положении. Ни одно
искусство не несет такой большой ответствен-
ности. Ибо ни об одном искусстве не сказано
так лаконично, так коротко, но и так опреде-
ленно и категорически, как о советском кино.
И ни об одном искусстве не сказано такими
словами. Слова Владимира Ильича о значении
кино живы в сердце каждого, кто имеет счастье
и честь работать в советской кинематографии.
Это слова величайшей оценки.
Эти слова — величайшее социалистическое
обязательство для каждого вступившего, всту-
пающего или думающего вступить в область
этой работы.
«Из всех искусств...».
Эти слова стоят над кинематографией от са-
мых первых ее сознательных начал.
По этим словам сегодня советская кинема-
тография держит свой ответ:
была ли, оказалась ли она на высоте той
оценки-обязательства, которую поставил перед
ней великий вождь пролетариата?
Сегодня мы, кинематографисты, — все юби-
ляры. Все мы имеем свои вклады в ее историю.
Все мы пишем сейчас обзоры и делимся вос-
поминаниями. Всем нам приходится писать
и о своих вкладах в это дело. Всех нас охваты-
341
вает авторское чувство неловкости, когда мы
высказываемся о них. Но мы не стесняемся го-
ворить. Пусть перед нами пройдут снова годы.
Пусть они скажут за себя. Сегодняшний юби-
лей — по существу — три юбилея.
В нем сочетались три события. Юбилей
пятнадцатилетия кинематографии. Пятнадца-
тилетие единственного в мире Института кине-
матографии, ставящего проблемы творчества
и эстетики на марксистско-ленинскую базу.
И десятилетие выхода первой картины, впер-
вые получившей оценку первого пролетарского
и первого большевистского фильма. Это была
«Стачка», созданная совместными усилиями
тогдашнего Госкино и Театра Пролеткуль-
та. Трудно и неловко писать об этом, автор-
ски участвовав в этой картине. И решаешься,
быть может, на это только потому, что в стране
социалистической собственности и отношение
к собственному авторству иное: не чувствуешь
собственнического авторства на то, что сделал
сам. Не чувствуешь чужим и посторонним то,
что сделал товарищ по работе. В этом одно из
величайших достижений социалистической пе-
рестройки сознания творческих работников —
пожалуй, самых редких собственников и инди-
видуалистов при всякой системе, кроме нашей.
Под этим лежит глубокое осознание того, что
все мы, советские художники, не более как вы-
разители тех творческих устремлений и твор-
342
ческих идеалов, которыми движимы миллионы
строителей социалистической страны. Созна-
ние этого для нас величайшая гордость. И это
создает те особые коллективистские взаимоот-
ношения, эти новые качества творческого вза-
имоповедения, которое опять-таки специфично
для нашего кино в отличие от западной кине-
матографии. В те дни, когда кинематография
чествовала своего «челюскинца», в зрительных
образах донесшего эпопею всему миру, — на-
шего оператора Шафрана, один из старейших
кинематографистов выступил с замечательны-
ми словами. Не умея говорить, как многие из
нашей среды, он, заканчивая выступление, ска-
зал только одно: «И вообще, если бы был там
я, я бы сделал то же самое и так же хорошо».
Вот это-то сознание рядового солдата, рядового
бойца. Сознание того, что каждый создал или
сделал не по личной сверхгениальности, а по-
тому, что данный участок оказался именно пе-
ред ним. Не я бы сделал — сделал бы другой.
Не попадись участок другому — сделал бы я.
В этом уже есть доля нового, социалисти-
ческого отношения к работам собственным,
к работам товарища. В этом новые отношения.
И это дает возможность свободно говорить
о всем том, что все мы сообща за эти годы
делали.
«Стачка» явилась поворотным пунктом
в нашей кинематографии. Она резко проти-
343
вопоставила наши киноустремления тематике
и эстетике буржуазного кино. Она вобрала в себя
все тенденции к этому, годами бродившие проте-
стом против импортных картин, против западно-
го импорта внутри идеологии и формы многого,
что производилось в то время еще и у нас.
«Стачка» пробила революционную брешь
внутри нашего собственного осознавания сво-
ей кинематографии как бескомпромиссно ре-
волюционной. Сейчас, с высоты последующих
кинодостижений, кажется странным наличие
такого момента. Но таковы были факты. И ки-
нематография приходила к собственному осоз-
нанию путями борьбы.
«Стачка» вела генеральное наступление
за наше лицо. Но фронт был не менее силен
и принципиален и с флангов. В ногу. Рядом.
Опережая или нагоняя. Шли: «Красные дья-
волята», несшие первые семена романтики
гражданской войны. «Киноправда» и «Кино-
глаз», несшие острое видение и всматривание
в нашу действительность. Работы Кулешова,
осваивавшие кинокультуру Запада. Все эти
черты прокладывают пути к тому, чтобы наше
кино встало крепко на ноги своего идеологиче-
ского и неизбежно отсюда вытекающего фор-
мального своеобразия. Своеобразия своей но-
вой творческой силы, способной противостать
и противопоставиться буржуазной кинокуль-
туре в целом.
344
Удар за ударом это делают «Потемкин»,
«Мать», «Октябрь», «Конец Санкт-Петербур-
га», «Арсенал». Проблема своеобразия художе-
ственной необычности в два счета перерастает
свои эстетические рамки. Врезаясь в кинотеа-
тры Европы и Америки своими достоинствами,
эти фильмы действуют как разрывные пули.
Они пробивают броню цензур, прокатных ин-
триг, полицейского сопротивления. Их появле-
ние вызывает к жизни целые организации, це-
лью которых является членство, дающее право
видеть эти картины («Спартакюс» в Париже,
сеть кинообществ в Англии и т.д .) . Запреты
вызывают бурю негодования и массовые кам-
пании не только среди рабочих, но и среди луч-
ших слоев передовой интеллигенции. Цензур-
ное снятие с экрана «Потемкина» в Германии
вызывает целое движение и митинги протеста.
Цензура вынуждена снять запрет.
Инциденты с «Матерью» в Великобрита-
нии вызывают запросы в парламенте. Вол-
ны ширятся. Валы поднимаются. Восстание
в голландском флоте (на «Цевен провинсьен»)
непосредственно вторит сценариям виденных
революционных картин. Я выступал в Серенг-
ла-руж (Бельгия) и видел, что такое в промыш-
ленном районе наш фильм.
Если таково влияние в одну сторону. Если
судьба наших фильмов за границей расслаи-
вает интеллигенцию, мобилизует все культурно
345
и революционно живое на борьбу со всем куль-
турно мертвящим, то функция наших картин
исторически еще и другая. Наши фильмы —
это наши первые полпреды. Полпреды нашей
советской культуры. Задолго до признаний де
юре и де факто наша кинематография во мно-
гих странах успевает опрокинуть немало пред-
рассудков о стране «разрушителей культуры».
Через двери нашей культуры и художественное
качество наши картины несли интерес, симпа-
тию, любознательность к нашей стране во все
уголки земного шара.
Достижения нашего кино подымались до того,
что служили образцами для обновления культу-
ры кино западного и американского, во много
раз более опытных, чем наше молодое искусство.
И это в тот период, когда мы технически были так
слабо вооружены. Но в нашей кинематографии
был дух непобедимой удали, была сила сознания,
пафоса и высокой революционной идейности, ко-
торые вели наши непобедимые дивизии по фрон-
там интервенции. Блестяще закрепившись на
первом туре, советская кинематография не сда-
ет. Через «Путевку в жизнь», через «Турксиб»,
«Старое и новое», «Обломок империи», «Землю»
сквозь первую брешь мощным потоком мчится
новая проблематика, небывалые темы о формах
небывалых человеческих взаимоотношений, о не-
виданных формах стройки и перестройки стран,
социальных организмов, социальных сознаний.
346
Кинематография дает новый взлет. Лозунги
партийности революционной теории и филосо-
фии на кинофронте встают проблемой пере-
хода от обобщающе революционной тематики
пламенного пафоса прежних этапов к партий-
ности тематики.
Из революционной массовости и массовой
революционности тематики первых картин на
гребень начинает выноситься проблема пар-
тии, проблема коммуниста, проблема больше-
вика.
Подобно тому как метод коммунизма есть
высшая форма научной классовой борьбы, так
и проблема живого образа большевика вы-
кристаллизовывается на общем гребне доста-
точно высоко вознесенной революционной те-
матики и традиции революционного кино. На
экран вступает уже не просто масса, уже не
просто революционер, уже не просто событие
и цепь фактов, инициатором которых является
мудрость партии. На экране появляется кон-
кретный большевик в конкретной обстановке,
за конкретным делом.
Эта полоса совпадает с победой овладения
техникой звукового кино. И слово, и звук, во-
шедшие на экран к этому моменту, явились
теми средствами, которых не хватало немому
кинематографу, чтобы во всей полноте охва-
тывать философски углубленную партийную
тематику.
347
Первые шаги делают «Златые горы»,
«Встречный», «Дезертир». Через год блестя-
ще вступают «Чапаев», «Юность Максима»,
«Крестьяне». Все картины про большевиков.
Про становление большевика. Про борьбу его
при царе. В гражданскую войну. В период
стройки и в борьбе с вредителем на заводе.
В период перестройки деревни и последних
боев с классовым врагом — кулачеством.
Эти картины на смену громадным полотнам
и образам революционных масс несут неза-
бываемые образы коммунистов, вождей и тех
лучших людей эпохи, которые группируются
вокруг них в едином необъятном потоке.
Про «Чапаева» говорят, что картина как
бы является развернутой сценой, где Чапаев
учит, «где должен быть командир». Картина
в целом есть как бы образ именно этого. Она
показывает, где должен быть, где бывает и как
действует наш герой командир при всех и вся-
ческих условиях и обстановке.
Это определение хотелось бы развить на
весь комплекс последних перечисленных кар-
тин. Совместно они как бы дают собирательный
облик коммуниста, большевика, которого мы
видим во всех разделах его мощной творчески
созидательной социалистической деятельности.
Юным Максимом он сидит в царских тюрьмах,
Бабкиным он ликвидирует прорыв и вступает
в ряды партии, замечательным Фурмановым
348
он мудро проводит партийное дело с незабы-
ваемым Чапаевым, Николаем Миронычем —
начполит-отделом из «Крестьян» Эрмлера —
он, не щадя жизни, борется за социалистиче-
скую деревню.
Картина ширится. Эта галерея образов об-
нимается с широтой эпоса массовых картин
первого периода.
Кинематография в целом стала как бы ве-
ликим образом великой нашей страны, единым
комплексным образом закрепляя в веках то,
как неразрывно едина и мощна спайка рабо-
чих, колхозников, Красной Армии со своей пар-
тией, со своими руководителями. Это не удава-
лось с такой силой, с таким мировым размахом
ни одному из режиссеров.
За этот коллективный образ, за этот твор-
ческий комплекс, отобразивший величайшее
в нашей революции и победное шествие в со-
циализм, — наша кинематография заслужила
то, что было начертано Ильичем.
И ход ее тематики от революционности как
таковой к революционности большевистской,
партийной и коммунистической более, чем
только образ нашей истории и нашей страны.
Этот ход — уже образ всемирного движения
пролетариата. Кому мы обязаны таким гро-
мадным подъемом коллективного достижения,
коллективного создания нашего кино?
Неутомимой энергии его руководства, невзи-
349
рая на трудности, срывы, ошибки, неуклонно
ведшего и ведущего сложный комплекс нашего
искусства, индустрии и хозяйства по неуклон-
ному большевистскому пути.
Но больше всего советское кино обязано
этим тому, кто и самое дело нашего пролета-
риата неуклонно движет вперед к социалисти-
ческим победам — нашей Коммунистической
партии, нашему большевистскому ЦК, посто-
янным вниманием и руководством воодушевля-
ющему и ведущему наше кино, непосредствен-
но руководящему делом киностроительства
в нашей стране.
Советское кино стало важнейшим искус-
ством, тем ответственнее и шире его задачи
впереди, тем радостнее работать дальше над
продолжением победного его пути.
1935
351
Зритель-творец
«Зритель хочет», «зритель просит», «зритель
требует». По всему земному шару, во всех ки-
нотеатрах, во всех кинофирмах, во всех кино-
студиях неизменно слышатся эти фразы.
Ими оправдывается любая макулатура, ко-
торая выбрасывается на кинорынки капита-
листических стран. Может показаться, что ки-
нематограф буржуазных стран действительно
пристально следит за духовными запросами
зрительских масс и старательно стремится на-
встречу этим запросам.
На деле, конечно, совершенно не так. «Слу-
жение зрителю» в этих странах настолько же
мало отвечает действительности, как и вся шу-
миха с вопросом свободы печати, слова и мысли.
Под «служением зрителю» буржуазные
кинематографисты понимают беззастенчи-
вое потворствование самым грубым и при-
митивным инстинктам и мещанским вкусам.
Потворствуя этому, буржуазные кинемато-
графисты одновременно стараются привить
352
зрительскому сознанию те реакционные идеи,
которые через сотни фильмов проповедуют хо-
зяева буржуазных стран и работающие на них
киноконцерны.
И только в нашей стране положение совсем
иное.
Это потому, что и духовным и материальным
хозяином советской кинематографии являет-
ся сам зритель, — и не как человек, который
у кассы покупает билет, но как народ, который
вдохновляет это искусство и руками советских
кинодеятелей сам творит то искусство кинемато-
графии, которого он требует и которого он хочет.
А просить ему и не нужно. Не просить он
должен, а сам может спрашивать. Спрашивать
с тех, кто призван творчески воплощать его
мысли, чувства, чаяния и идеалы.
И спрос нашего зрителя суровый и требо-
вательный.
Кто наиболее строгий критик? Всегда тот,
кто знает предметы изображения в искусстве.
От боксера в зрительном зале не ускользнет
малейшая техническая ошибка боксера на
экране, от наездника — ошибка в посадке
экранного наездника, от литейщика — неточ-
ность в воссоздании производственного процес-
са, от работника райкома — неправильность
в обхождении с людьми.
И сила советского человека в том и состоит,
что он знает — знает все то, что в нем воспи-
353
тывала могучая партия большевиков, все то,
к чему приобщило великое учение Ленина.
И этот человек, придя в качестве зрителя
в кинотеатр, может спрашивать и знает, что
спрашивать. Ибо в том, что перед ним прохо-
дит по экрану, — он первый и главный специ-
алист и знаток.
Наш экран независимо от сюжетов, жанров,
фабул и стилей имеет одну основную тему: от-
ражение великого процесса роста и развития
нашей страны в движении своем к коммунизму,
и экран должен всячески этому способствовать.
И кому же, как не нашему народу, на этот
раз уже не зрителю, а под руководством пар-
тии большевиков созидателю великого исто-
рического дела, — лучше, чем кому бы то ни
было, разбираться в подлинности и правди-
вости отражения этой темы на экране. Ибо
в экранном творении он судит о собственном
своем творчестве, а само экранное творчество
является одним из наиболее прекрасных во-
площений творческой вдохновенности нашего
великого народа.
Наш кинозритель — это зритель-творец,
вместе с кинематографистами разделяющий
авторство в создании плеяды тех славных ки-
нопроизведений, которые внесли на экран ве-
ликие первые тридцать лет Советской власти
на Руси.
1947
355
Единая
(Мысли об истории советской
кинематографии)
Она мне рисуется не только единственной, но
поразительно единой.
И чем многообразнее ее стилистическое
и жанровое разнообразие на протяжении этих
лет, тем более органически единой она мне ри-
суется.
Единой прежде всего по сквозной устрем-
ленности служить своему народу.
Единой по принципиальной своей последо-
вательности на этом пути.
Единой, ибо неразрывно едины ее судьбы
с нашей страной, партией и народом.
И не описывать ее частное многообразие, но
поделиться мыслями об этом единстве нашей
славной советской кинематографии и о чертах
этого единства хочется в дни празднования
тридцатилетней годовщины победоносной Ок-
тябрьской революции.
356
Оглядываясь на прошлое с позиций достиг-
нутого, охватывая с высоты достигнутого все
многообразие кинематографических произве-
дений, уже возможно обнаружить основы ди-
намики развития советского кино, общие черты
этого развития, круг тенденций, которые, по-
степенно расширяясь, все более полно и глубо-
ко захватывают все более широкие и обширные
ряды его творений.
Сейчас кажущаяся иногда случайность
и неожиданность отдельных киноявлений скла-
дывается в стройную картину общего сотруд-
ничества всех работавших и работающих в ки-
нематографе,
объединенными усилиями ведущих его к со-
вершенно отчетливому и определенному конеч-
ному своеобразию.
Путь этот — путь неуклонного приближе-
ния советского кинематографа к последова-
тельному и полноценному социалистическому
реализму.
Это был нелегкий путь. Не плавный, часто
непоследовательный у отдельных мастеров.
И очень горячий, и страстный в борьбе от-
дельных начинаний и принципиальных уста-
новок, и точек зрения на то, каким же должен
быть реалистический образ и облик советского
фильма.
Характер борьбы был двоякий.
Неумолимый и беспощадный в отношении
357
всего пережиточного и чуждого. Пережиточным
было дореволюционно-буржуазное. Чуждым —
буржуазно-зарубежное, своим влиянием ста-
равшееся стать поперек пути становления со-
ветски самобытного.
В этой борьбе крепло и занимало ведущее
положение молодое поколение кинематографи-
стов Октября.
И рядом шла борьба не менее страстная
и горячая, но борьба иного характера и аспек-
та. Борьба не только с чужаками, но борьба
между своими — высокопринципиальная борь-
ба за чистоту метода, за правильность принци-
пов, за недопустимость заскоков в формализм
или скатывания в беспринципность натура-
лизма, за высокую идейность прежде всего, за
неотрывную от нее правдивость, за взаимное
принципиальное совершенствование, за здоро-
вую органичность и бескомпромиссную идей-
ную принципиальность своей, всем одинаково
дорогой советской кинематографии.
Начиная с вещих слов Ленина, партия не-
уклонно следит на протяжении прошедших
десятилетий за выработкой все более и более
четкой линии приближения кинематографа
к осуществлению своих великих задач.
Здесь и программные указания;
и суровое осуждение ошибок;
похвала и дружеское поощрение;
подробно разработанная система конкрет-
358
ных указаний по всем областям: от тончайшего
идеологического анализа до хозяйственных ме-
роприятий, от точнейшего разбора источников
заблуждений до широчайших перспектив раз-
вития в целом.
Целый ряд законодательных мероприятий
и развернутых постановлений, вновь и вновь
указующих путь, по которому надлежит раз-
виваться и двигаться вперед нашему киноис-
кусству, приближаясь к его основной, главной
и единственной цели — еще более полно, еще
более последовательно, еще более самоотвер-
женно служить нашему народу, — быть еще
более массовым, еще более идейно глубоким,
еще более правдивым, еще более художествен-
но совершенным, еще более сокрушительным
оружием в деле политической борьбы.
Ленин писал о задачах, стоявших перед ра-
бочим классом, взявшим в свои руки государ-
ственную власть, о боевой задаче партии боль-
шевиков, которая вела и ведет рабочий класс от
победы к победе: «Побороть все сопротивление
капиталистов, не только военное и политическое,
но и идейное, самое глубокое и самое мощное».
Под знаменем этих ленинских слов прошло
первое крупнейшее государственное меропри-
ятие по кинематографу в нашей стране — на-
ционализация кинодела, сделавшая наш народ
хозяином этого величайшего орудия идейной
борьбы (27 августа 1919 года).
359
Под этим знаком движется и продолжает
двигаться наше кино.
Под этим знаком оно растет и развивается.
Переход от социализма к коммунизму еще
более необъятно расширяет круг тех боевых
задач, которые стоят перед нашей кинемато-
графией.
Но наше кино безбоязненно смотрит вперед.
Ему не приходится робеть перед этими но-
выми боевыми задачами.
Твердая опора мудрости партии ему обеспе-
чена.
Гигантский коллективный опыт проделан-
ной за эти годы работы в его распоряжении.
И общий путь его движения и развития —
отражая исторический путь движения страны
в целом — неуклонно шел в верном направ-
лении.
Мы уже видим, что путь этот рисуется при
всем стилистическом и жанровом многообра-
зии единым коллективным путем, неуклонно
шедшим к тому, что на сегодня всем духовным
обликом устремлений нашей кинематографии
сверкает с боевых наших знамен.
Какой же рисуется картина этого общего
движения?
Каков же абрис принципиально достигнуто-
го к тридцатой годовщине Октября?
Конечно, можно было бы пойти по линии
простого перечисления кинофильмов, разгруп-
360
пировав их по жанрам — историческому, исто-
рико-революционному, приключенческому, ко-
медийному, детскому, документальному.
Или по тематике — колхозной, индустриаль-
ной, комсомольской.
Наконец, просто календарно — по датам
выхода таких-то и таких-то фильмов.
И затопить эти страницы бесчисленным пе-
речислением названий картин, имен их авто-
ров, дат появления фильмов на экранах.
Даже такой перечень дал бы представление
о том, как широко, полно и многообразно ото-
бражала тематика нашего кино то, чем жила
наша страна в течение этих тридцати лет.
Мы попробуем сделать иное.
Попробуем набросать картину того, как
принципы отдельных направлений, разработ-
ка отдельных жанров, взгляды отдельных твор-
ческих личностей в связи с развитием нашей
страны при неустанном руководстве со сто-
роны партии и правительства слагались в то
общее целое советской кинематографии, с чем
пришли мы к юбилейной октябрьской дате.
Я думаю, что основой достигнутого нашим
кинематографом в тематическом и стилистиче-
ском, в идейном и художественном отношени-
ях можно назвать глубокое ощущение всякого
мгновения нашего повседневного активного
бытия как факта величайшего исторического
значения — становления коммунизма в нашей
361
стране и коммунистического будущего осво-
божденного человечества, авангардом которого
является Советский Союз.
В таком осознании всемирно-исторической
миссии нашей страны — в русской культуре,
идущей из самой глубины веков, и в значении
Москвы, уже в XVI веке видевшей великую
международную роль и задачу Российского
государства, а сегодня гремящей перед всем
миром в выступлениях Советской делегации
с трибуны Организации Объединенных На-
ций, — как бы «снято» представление о том,
что история есть что-то свершавшееся когда-то
прежде, а сегодняшний день — это нечто лишь
питающееся достигнутым в прошлом и в свою
очередь становящееся своими достижениями
питательной средой для некоего смутно рису-
ющегося будущего.
Ощущение всемирно-исторического значе-
ния советской созидательной и творческой еже-
дневности и есть то основное и главное, что
чувствуется с особой отчетливостью за жанро-
вым и тематическим многообразием произве-
дений, замышляемых, планируемых и осущест-
вляемых в советском кинематографе.
История в наших кинофильмах никогда не
была археологическим кладбищем, она кров-
ными узами связана с сегодняшним днем.
Современность никогда не оказывалась на-
громождением бытовых мелочей, но всегда была
362
полна ощущением значительности социалисти-
ческой действительности, из которой выхвачен
камерой данный единичный факт бытия.
И если с этих позиций мы взглянем на путь,
пройденный нашей кинематографией, то уви-
дим в ней как бы три основных мощных пото-
ка, устремляющихся к слиянию в новаторских
попытках последних достижений и в еще более
смелых планах на будущее, которые рисуются
творческому воображению из основ уже до-
стигнутого.
Первый поток — это отображение современ-
ности.
На первых порах он реализуется в формах
документально-хроникальных. В этом он сле-
дует прямым указаниям В.И . Ленина, данным
А.В. Луначарскому в 1922 году, о том, что
«производство новых фильмов, проникнутых
коммунистическими идеями, отражающими
советскую действительность, надо начинать
с хроники» (сб. «Партия и кино», Госполитиз-
дат, М., 1939).
Затем этот поток перерастает в кинемато-
граф современной тематики. Появляются худо-
жественные фильмы, в которых в конкретно-бы-
товом плане действуют реальные наши люди,
показанные за выполнением повседневного дела.
Второй поток — это поток историко-револю-
ционной темы, принесший нашей кинематогра-
фии на заре ее самостоятельного становления
363
первые крупные достижения и первую славу.
В дальнейшем он перерастает в тематику исто-
рико-партийную.
И наконец, третий поток — собственно исто-
рических фильмов.
Каждый из этих потоков в известные момен-
ты развития нашего кинематографа выносит-
ся на гребень общей волны, чтобы на новом
этапе в перипетиях жанрового становления
уступить ведущее место другому — вплоть до
того момента, когда на наших глазах уже чет-
ко обрисовываются контуры их синтетического
слияния в картинах нового типа, путь которым
прокладывают «Клятва» М. Чиаурели, «Ста-
линградская битва» В. Петрова и «Молодая
гвардия» С. Герасимова.
Здесь уже по самому типу и строю картин
современность — одновременно история, исто-
рия — современность, и то и другое — историко-
революционная тема.
Примечательно, что эти высшие на сегод-
ня устремления стилистического развития
нашего кинематографа перекликаются с его
первыми самостоятельными шагами. У ко-
лыбели его в числе первых достижений мы
видим еще разобщенными предельно четкое
отображение современности в хрониках «до-
кументалистов» и рядом историко-револю-
ционную тему — в общих ее аспектах: эпи-
ческо-массовом в «Броненосце “Потемкин”»
364
и индивидуально-драматическом в «Матери»
Горького — Зархи — Пудовкина.
Каждый из этих жанровых потоков со-
временности, историко-революционной темы
и исторического жанра в разные моменты идут
равноправно рядом или сменяют друг друга
в своем стилистически ведущем положении не
в порядке «поисков разнообразия» или с це-
лью сменить «приевшиеся» на экране ватник
и полушубок гражданской войны на бархат
и парчу исторического фильма, а латы и кам-
зол исторического фильма — на штык, патрон-
таш и партизанскую бороду военной картины.
Так поступают «голливуды», цель которых —
выжать из раз понравившегося фильма все
кассово возможное, а затем переброситься во
что-то резко непохожее, способное создать но-
вую моду, новую сенсацию.
Там, за океаном, ковбойская шляпа уступа-
ет место пудреным парикам, парики — рим-
ским тогам или завиткам ассирийских бород,
тоги — дрессированным львам, львы — сута-
нам лирически трактуемых католических па-
теров, а сутаны — фракам, снятым в манере
выцветших дагерротипов — с единственной
целью «разнообразить ассортимент».
Совсем иное у нас.
Приход исторической, например, темы
в наше кино целиком вдохновлен великими
принципами пересмотра отношения к нашему
365
прошлому, к истории нашего народа, принци-
пами, запечатленными в партийных решениях,
касающихся отечественной истории.
Дух исторической конкретности, неотрывный
от пафоса; живую правдивость воссозданных
на экране образов деятелей прошлого взамен
исторических схем и абстракций; пересмотр
неверных концепций исторических эпох — вот
что в ответ на эти указания несла наша кине-
матография.
Партия призывает ко все углубляющемуся
познанию и изучению ленинизма. И советское
кино принимает на себя грандиозную задачу
экранного воплощения образа Ленина.
Глубоко вдохновляющий и поучительный
показ на экране образа Ленина — в прекрас-
ном исполнении Щукина и Штрауха в кар-
тинах Ромма и Юткевича — отмечает собой
новый этап конкретизации и углубления темы
партийности. Эта тема развивается в сторону
экранного раскрытия исторической роли во-
ждей партии на подступах к Октябрю, в Ок-
тябре, в ближайшие послеоктябрьские годы,
в годы пятилеток, годы войны, годы послевоен-
ного строительства.
Прямым продолжением этой тенденции яв-
ляются картины на темы войны, где, наперекор
прежним художественным традициям, — обоб-
щенные образы «группы молодежи», гибнущей
в борьбе против интервентов; «генералов», во-
366
обще решающих стратегические планы, или
некоего города, обороняющегося от врагов, —
становятся конкретным городом Сталинградом —
и вместе с тем собирательным образом всех
городов-героев; конкретной группой молоде-
жи — краснодонцами, известными нам свои-
ми обликами, именами, фамилиями родителей
и ставшими собирательным образом всей со-
ветской молодежи в борьбе с немецкой агрес-
сией, а образы «типичных» генералов в «типич-
ных боевых ситуациях» вырастают в новейшей
киноэстетике в кинопортреты конкретных води-
телей наших победоносных армий в правдиво
воссозданной боевой обстановке.
Путь, пройденный кинематографией, ри-
суется как путь освоения и осознания всех
возможностей киноискусства, как путь выко-
вывания опыта и тех выразительных средств,
без полного владения которыми невозможно
осуществление этих гигантских задач. Являя
на каждом этапе своего становления образный
ответ на жгучие запросы, волновавшие совет-
ского зрителя, наше кино одновременно гото-
вило опыт и знания для решения этих задач
будущего, которые сейчас уже стали задачами
сегодняшнего дня и блестяще разрешаются на
наших глазах.
Вглядываясь в уже созданные киноэпопеи
этого нового типа, вчитываясь в новые сцена-
рии, всматриваясь в отдельные ходы осущест-
367
вления их замысла — то пластически раз-
решающего съемки в «манере хроники» или
сплетая игровые куски с хроникой, то врезая
подлинный документ или вводя вымышленный
персонаж, то останавливаясь на остро игровом
эпизоде или на портретной зарисовке подлин-
ного персонажа, то погружаясь в необъятную
ширь эпического разворота, — везде прощупы-
ваешь корни стилистических и жанровых осо-
бенностей отдельных этапов, отдельных картин,
отдельных манер на протяжении всех этих лет
становления нашего кино.
Каждой частности, каждому приему, впле-
тающемуся в разрешение этих грандиозных
задач, соответствует свой участок когда-то на-
капливавшегося опыта, когда-то ставившегося
и разрешавшегося эксперимента.
Для разрешения подобной задачи требо-
вался опыт умелого показа революционной
борьбы — и часть картин, идя навстречу не-
посредственной потребности увидеть на экра-
не революцию в действии, откладывала черты
подобного умения подобного показа в общую
сокровищницу кинокультуры.
Требовался опыт показа большевика в об-
становке подполья, в гражданской войне,
в колхозном строительстве, в борьбе за встреч-
ный план, в непримиримости борьбы против
посягающих на единство партии — и на экра-
не появляются образы «поколения победите-
368
лей», Максим и Шахов, Фурманов в «Чапаеве»
братьев Васильевых, герои — «Мы из Крон-
штадта» и герои «Встречного», начполитотдела
из «Крестьян», незабываемый образ созданный
Марецкой в «Члене правительства».
Нужно было решить проблему показа военно-
го стратега в действии — и опыт истории развер-
нул перед нами это умение у гениальных полко-
водцев прошлого Александра Невского, Богдана
Хмельницкого, Петра I, Суворова, Кутузова.
Но в этих же фильмах выковывалось и вы-
рабатывалось еще и важнейшее — осваива-
лось ощущение исторической значимости со-
бытий. Воспитывалось умение передавать дух
времени, дух истории, ощущение исторической
обобщенности. Нужно было научиться пока-
зывать массовое движение, массы в борьбе
дореволюционной, массы в гражданской вой-
не, массы в подъеме строительства, с тем что-
бы приблизиться к умению показать героизм
наших войск, спасающих мир от фашистской
чумы, как дважды спасали Европу их предки
от полчищ Батыя и Бонапарта.
И кино шаг за шагом отражает каждый воз-
можный аспект деятельности масс по любому
участку активности, творя для каждой из них
фильм и собирая опыт для обширного синтези-
рующего показа действия масс.
Масс неоднородных, масс многообразных,
многонациональных, братски объединенных
369
единым порывом, единой программой, единым
коммунистическим будущим.
Не менее обострено внимание кинематогра-
фии и к биографии отдельной личности, не толь-
ко типической, но и биографически конкретной.
Так возникают фильмы о Горьком Донского,
фильм о Тимирязеве в образе профессора Поле-
жаева Зархи и Хейфица, «Чкалов» Калатозова.
Нужно было постигнуть тайну создания жи-
вых характеров на экране, с тем чтобы не че-
ловеческие схемы двигались по экрану совре-
менно-исторического фильма, — и на известном
этапе наше кино глубоко внедряется в инсце-
нировку классики, осваивая опыт того, как ги-
ганты прошлого Горький и Островский, Толстой
и Чехов создавали образ живого человека.
По экрану прошли из рук Петрова, Рошаля
и Протазанова дорогие нам по литературе жи-
вые и родные образы «Грозы», «Петербургской
ночи», «Бесприданницы».
Антифашистская тема запечатляется в «Бо-
лотных солдатах», «Профессоре Мамлоке»,
«Семье Оппенгейм», антифашистско-военная —
в «Она защищает родину», «Секретаре райко-
ма», «Зое».
Со скольких сторон, с каких только позиций
не приближается экран к тому, чтобы научить-
ся ухватить, запечатлевать и представлять
в живых образах самое неуловимое — совре-
менность.
370
От решения проблемы «в лоб» средствами
чистого документализма, к глубокому художе-
ственному раскрытию действительности в су-
губо бытово разрешенных фильмах («Ухабы»
А. Ромма, «Летчики» и «Поднятая целина»
Ю. Райзмана, «Учитель» С. Герасимова, «Во
имя жизни» Хейфица и Зархи).
От попыток приблизить современность через
музыкальную лирику и юмор (Г. Александров
и вслед за ним И. Пырьев) вплоть до попы-
ток применить к этому показу облагорожен-
ные формы приключенческо-сюжетного строя
(«Подвиг разведчика» Б. Барнета).
Рядом идет освоение современности методом
лирического пафоса и строя подчас поэтически
условного письма (А. Довженко).
И неустанно из года в год продолжается
упорная работа по созданию собственного ки-
нематографического языка, собственной кине-
матографической словесности и поэтики, по
совершенствованию средств выразительности,
но не под знаком «искусства для искусства»
или «искусства как самоцели», а в интересах
все более мощного идейного и эмоционального
воздействия наших фильмов.
Кажется, что перед нами необъятная мощ-
ная лаборатория, где каждый старательно ос-
ваивает отведенный ему отдельный участок об-
щего стилистического развития кинематографа
социалистического реализма.
371
Кажется, нет ни одного его оттенка, которо-
му бы себя не посвятила та или иная творче-
ская индивидуальность.
Кажется, что нет ни одного известного филь-
ма, который не внес бы свою лепту в поистине
необъятную сокровищницу этого коллективно-
го опыта.
И поражаешься, как настойчиво, неуклон-
но и закономерно двигалась и движется наша
кинематография в целом к величественному
осознанию и претворению в живых образах
действительности наших дней как величайших
страниц истории человечества, к претворению
в живых образах нашей современности, ко-
торая одновременно и история и преддверие
к еще более великолепному историческому бу-
дущему.
Счастлива страна, для которой современ-
ность не есть мимолетный полустанок между
прошлым, которое хочется забыть, и будущим,
в которое боишься вглядеться, видя в нем лишь
кризис, грядущий распад и бесперспективное
тление.
Счастлив народ, который, гордясь своим
великим прошлым, твердо знает пути своего
будущего и потому дышит полной грудью се-
годня, слыша в звуках собственных песен, как
гремит, сливаясь и перекликаясь с голосами
зарождающегося будущего, мощный хор побе-
доносно пройденных веков.
372
Счастливо искусство, порожденное такой
страной и таким народом.
Счастливо в сознании единства своего про-
шлого, настоящего и будущего.
Счастливо в активном служении ему и об-
разном воплощении его.
Только этой стране, только этому народу
и только тем народам и странам, которые идут
с нами по нашему пути, — принадлежит Буду-
щее Освобожденного Человечества.
1947
374
Всегда вперед!
Я избегаю читать чужие письма.
Читать чужие письма считается предосуди-
тельным.
Так нас учили с малолетства.
Но есть чужие письма, которые я от времени
до времени перелистываю, в которые я загля-
дываю, которыми зачитываюсь.
Письма художников.
Письма Серова, письма Ван-Гога, письма
Микеланджело.
Особенно письма Микеланджело. В них рас-
плавленная словесная масса так же судорожно
и страстно извивается на пергаменте, как его
монументальные «рабы», рвущиеся из недо-
рассеченных каменных глыб, как его «греш-
ники», низвергающиеся в ад, как непробуж-
денные фигуры у подножия надгробных статуй
Медичи, томимые тяжелыми сновидениями.
Тогда эти письма — стон.
Таким стоном кажутся жалобы, которыми
375
полны страницы письма эпохи работы над по-
толком Сикстинской капеллы.
Месяцы неестественного согбенного поло-
жения. Запрокинутая в лопатки голова. Зате-
кающие руки. Ноги, наливающиеся свинцом.
Штукатурка сыплется в воспаленные раскрас-
невшиеся глаза.
Инструмент валится из рук. Кружится го-
лова. И кажется, что ходуном ходят леса, при-
жимающие полет творческого воображения
к неумолимой неподвижности поверхности сво-
да.
Но вот проходят месяцы мучений.
Распадаются леса.
Разворачиваются затекшие члены.
Разгибается спина.
Гордо подымается голова.
Творец глядит вверх.
Творец глядит на свое творение.
И перед ним расступаются своды. Камень
уступает место небу.
И кажется, что не случайно это небо, раз-
верзшееся фресками Буонарроти, оживает ци-
клом образов создания вселенной и рождения
Адама.
В фресках этих как бы достигает своего за-
вершения торжество мощи становления чело-
веческого духа нового времени, над чем тру-
дились лучшие из тех, кто трудился в эпоху
Возрождения.
376
Как первозданный Адам, этот человек но-
вого времени расправит свои плечи и пойдет
через века к порогу нового Возрождения —
к порогу нашего времени.
Кто из современников дерзнет поставить
себя в один ряд с творцами-гигантами эпохи
Ренессанса?
Где те творения живописи и скульптуры, ко-
торые могли бы стать с ними рядом? Где тот
лес статуй, который, принадлежа к эпохе более
передовой, мог бы затмить Давида или Колле-
они? Где те фрески, которые заставят бледнеть
«Тайную вечерю»?
Где холсты, от которых померкнет «Сикстин-
ская мадонна»?
Разве ослабел творческий дух народов? Раз-
ве ослабела созидательная воля человечества?
Разве к закату, а не к небывалому прогрессу
движется вселенная, одна шестая часть кото-
рой упразднила эксплуатацию человека чело-
веком?
Конечно, нет!
Так в чем же дело?
И где искать те памятники человеческого
творчества, которые говорили бы о нашей эпо-
хе, как говорит Парфенон о расцвете Греции,
готика о средних веках и титаны Ренессанса об
эпохе Возрождения?
Свой лик наша эпоха сохранит через искус-
ство, столь же далекое от фрески, как далек
377
небоскреб от базилики; столь же далекое от
витража, как «Летающая крепость» от самых
дерзких замыслов Леонардо; столь же несрав-
нимое с резцом Бенвенуто Челлини, как несо-
измеримы яды Борджиа с разрушительной си-
лой атомной бомбы или интуиция Брунеллески
с точностью расчета по формулам Эйнштейна.
Эти творения по самой природе своей будут
несоизмеримы с творениями прошлых эпох со-
вершенно так же, как несоизмерима эпоха, су-
мевшая породить в XX веке страну социализ-
ма, чего не было дано ни одной из предыдущих
эпох человеческой истории.
И по внутренним своим чертам это искус-
ство будет несоизмеримо с искусством про-
шлого, ибо это будет не новая музыка, сопер-
ничающая с музыкой прежней, не живопись,
старающаяся превзойти живопись предыду-
щую, не театр, опережающий театры прошлого,
оставленные позади, не драма, не скульптура,
не пляс — побеждающие в соревновании пляс,
скульптуру и драму отошедших эпох.
Но чудесная новая разновидность искус-
ства, спаявшая в одно целое, в единый синтез
и живопись с драмой, и музыку со скульптурой,
и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком,
и зримый образ с произносимым словом.
Осознание этого синтеза как никогда пре-
жде не бывшего органического единства есть
несомненно важнейшее из того, к чему пришла
378
эстетика кинематографа за первые пятьдесят
лет своей истории, ибо имя этому новому ис-
кусству — кино.
А родится мысль о всеобъемлющем реаль-
ном синтезе как основе нового искусства могла
лишь с того момента, как почти одновременно
в руки этому новому искусству были даны сво-
боды, равенства и братства в том их наивыс-
шем понимании, которое несет учение победо-
носного социализма и та удивительная техника,
которой располагает кино.
На заре культуры в ранних и примитив-
ных формах подобный синтез знавали греки.
И многие мечтатели звали к новому воплоще-
нию этого идеала в жизнь.
Так в разное время звучали призывы Дидро,
Вагнера, Скрябина.
Времена были разные.
Но печать на этих временах была одинако-
вая.
Это были времена, еще не пробужденные
трубным гласом о том, что прежде должна
пасть эксплуатация одной части человечества
другою; порабощение одной бесправной народ-
ности — другою, колонизирующей ее; угнете-
ние одного народа другим, покоряющим его.
Это были времена, когда на земле еще не
было многомиллионного участка, где это было
не мечтой, а реальностью; не теорией, а прак-
тикой; не миражем, а действительностью.
379
Только осуществив реальность этого преодо-
ления вековой несправедливости и незаконно-
сти, могла создаться предпосылка к новым эсте-
тическим нормам и перспективам, достойным
новой социальной и социалистической практики,
уже ставшей достоянием человечества.
Недаром же с самых первых шагов суще-
ствования этой замечательной страны именно
из нее раздавались голоса ее вождей о том, что
кино — важнейшее из искусств.
И недаром работающие в области этого
важнейшего из искусств сразу восприняли его
и как наиболее передовое, как искусство, наи-
более достойное выразить эпоху победоносной
социалистической революции, как наиболее
совершенное, чтобы воплотить образ нового
человека эпохи нового Возрождения.
Но подобно тому как пути и средства это-
го нового искусства ни с чем не сравнимы
в прошлом, так и методы и методика внутри
его новы, необычайны, необыкновенны и отлич-
ны от того, что удалось раньше.
И здесь как бы возрождение того творче-
ского коллективизма, который предшествовал
индивидуализму титанов Ренессанса.
Но здесь это не продукт безыменного само-
растворения, как это было среди сотен камено-
тесов и ваятелей соборов, чьи образы пленяют
нас и по сегодня, но чьи имена канули в неиз-
вестность.
380
Здесь это полноценное содружество резко
и отчетливо выраженных талантов и индиви-
дуальностей собственного строго очерченного
почерка, лишь как бы случайно задержива-
ющихся кто на творчестве тональном, кто на
лицедейском, кто на фотографическом, костю-
мном, акустическом, фототехническом, лабора-
торном, режиссерском.
И фильмы, по духу своему — выразители
миллионов (а если бы не так, то разве стали
бы миллионы их смотреть?), в самом творче-
стве своем запечатлели этот же принцип кол-
лективизма и сотрудничества, который должен
стать таким же характерным признаком этого
демократизма, каким был идеал «сильной лич-
ности» отошедших эпох, «железных канцлеров»
отходящей эры учений о «расе господ».
И в этом коллективном творчестве уже не
одинокий Микеланджело проводит месяцы
распластанным на своих лесах.
Над фильмом трудятся — не менее! — де-
сятки, сотни людей.
Этот — не разгибая спины над чертежами
и расчетами. Тот — пылающим глазом выи-
скивая нужный оттенок из спектра необъятных
возможностей цветофильтров. Другой — слу-
хом уходя в тончайший анализ наиболее вы-
разительного звучания одновременно пробега-
ющих звуковых дорожек. Третий — ища им
эквивалента в пластической смене кадров.
381
И так все эти десять, двадцать, сорок, пять-
десят лет этой лихорадочной и безумной, бес-
конечно трудной и великолепно-радостной
деятельности, которую мы именуем кинотвор-
чеством.
Но вот на рубеже второго полустолетия да-
вайте и мы коллективно, подобно Микеландже-
ло, разогнем наши спины, оторвем глаза от ла-
бораторных баков, от цветофильтров и мавиол,
от прожекторов и павильонов, от текста ролей
и партитур.
Поднимем эти глаза к достигнутым за полве-
ка потолкам. Взглянем на своды над нами.
И что же мы увидим?
Как там, на бессмертных фресках, рисова-
лась необъятность небесной дали, где так не-
давно еще были свод и камень, так и здесь
перед нами бесконечно разверзающиеся гори-
зонты новых перспектив и возможностей.
Как там пробуждался сквозь образ ветхого
Адама новый Адам — человек Ренессанса, —
так здесь, на путях к завершению своего пер-
вого столетия, перед нами встает еще не осоз-
наваемый образ кинематографа новых возмож-
ностей.
Дух захватывает, когда, запрокинув голову,
мы глядим в будущее вверх. Мы стоим как бы
на острие полувековой пирамиды существова-
ния нашего искусства.
Громадны и многочисленны достижения ее.
382
Широка и объемиста база.
Взлетны ее крутые бока.
Гордо вонзается в небо ее острие.
Но, глянув наверх, кажется, что из этого
острия, как из новой нулевой точки, встречно,
во все четыре конца небосвода растет новый
гигант, готовый своими гранями и ребрами
полонить безгранично разбегающиеся вверх
просторы воображения.
Так необъятен и нов облик надвигающегося
на нас нового сознания и нового мира, отраз-
ить который призван надвигающийся на нас
грядущий экран.
Разве еще экран?
Разве сам экран на наших глазах уже не
растворяется в новейших достижениях стере-
окино, захватывая объемно-пространственным
изображением уже не стенку зала, но всю вну-
тренность и объем театрального помещения,
которое он мчит в беспредельное пространство
окружающего мира в чудесах техники телеви-
дения?!
И разве не закономерен этот внутренний
взрыв всей природы и сущности зрелищных
представлений, порождаемый техникой имен-
но в тот момент, когда от нее потребует но-
вого новый строй эстетической потребности,
порожденный из скрещиванья новых стадий
социального развития с овладением новыми
орудиями управления природой; орудиями, ко-
383
торые сулят такой же сдвиг в сознании сейчас,
каким был сдвиг в сознании на заре культуры,
когда человек создал первое орудие вообще.
Разве предтечей к этим новым формам со-
знания не пропылает по небосклону новый вид
искусства, порожденный человечеством в про-
цессе полонения природы этими новыми оруди-
ями небывалой и непредвиденной мощи.
Разве удовлетворит новое человечество со-
вокупность традиционных искусств?!
Разве глаз, посредством инфракрасных оч-
ков «ночного зрения» способный видеть в тем-
ноте;
разве рука, посредством радио способная
руководить снарядами и самолетами в далеких
сферах других небес;
разве мозг, посредством электронно-счетных
машин способный в несколько секунд осущест-
влять расчеты, на которые прежде уходили ме-
сяцы труда, армии счетоводов;
разве сознание, которое в неустанной уже
послевоенной борьбе все отчетливее выковы-
вает конкретный образ подлинно демократи-
ческого международного идеала;
разве наличие гигантской Страны Советов,
навсегда уничтожившей порабощение челове-
ком человека — разве все это не потребует
искусства совершенно новых и невиданных
форм и измерений, далеко за пределами тех
паллиативов, которыми на этом пути окажутся
384
и традиционный театр, и традиционная скуль-
птура, и традиционное кино?
Ширить сознание для восприятия этих новых
задач. Оттачивать острие мысли для решения
этих задач. Мобилизовать опыт пройденного
в интересах наступающего.
Неустанно творить.
Безудержно искать.
Смело глядеть вперед в лицо новой эре ис-
кусств, которые мы способны лишь предуга-
дывать.
Вот к чему хочется звать в эти дни, недели
и послевоенные годы.
Трудиться, трудиться и трудиться
во имя этого великого искусства, порожден-
ного величайшими идеями XX века — учением
Ленина, — во имя этого искусства, в свою оче-
редь порожденного для того, чтобы эти вели-
чайшие идеи ответно нести миллионам.
common place
издательская инициатива / волонтерский
DIY-проект
Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах
«Фаланстер», «Смена», «Все свободны», «Бакен», «Князь
Мышкин», «Факел», «Пиотровский», «Кирпич»
больше информации о проекте на сайте common.place
Красный Эйзенштейн
Тексты о политике
Составитель — Тимур Батыров
Корректор — Екатерина Гончаренко
Фоторедактор — Артем Минаев
Обложка — Евгения Ставицкая
Выпускающий редактор — Мария Глушкова
Подписано в печать 04.09 .2017
Формат 80х100/32
Тираж 500 экз.
Заказ No 161
commonplace1959@gmail.com
Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 221-89 -80