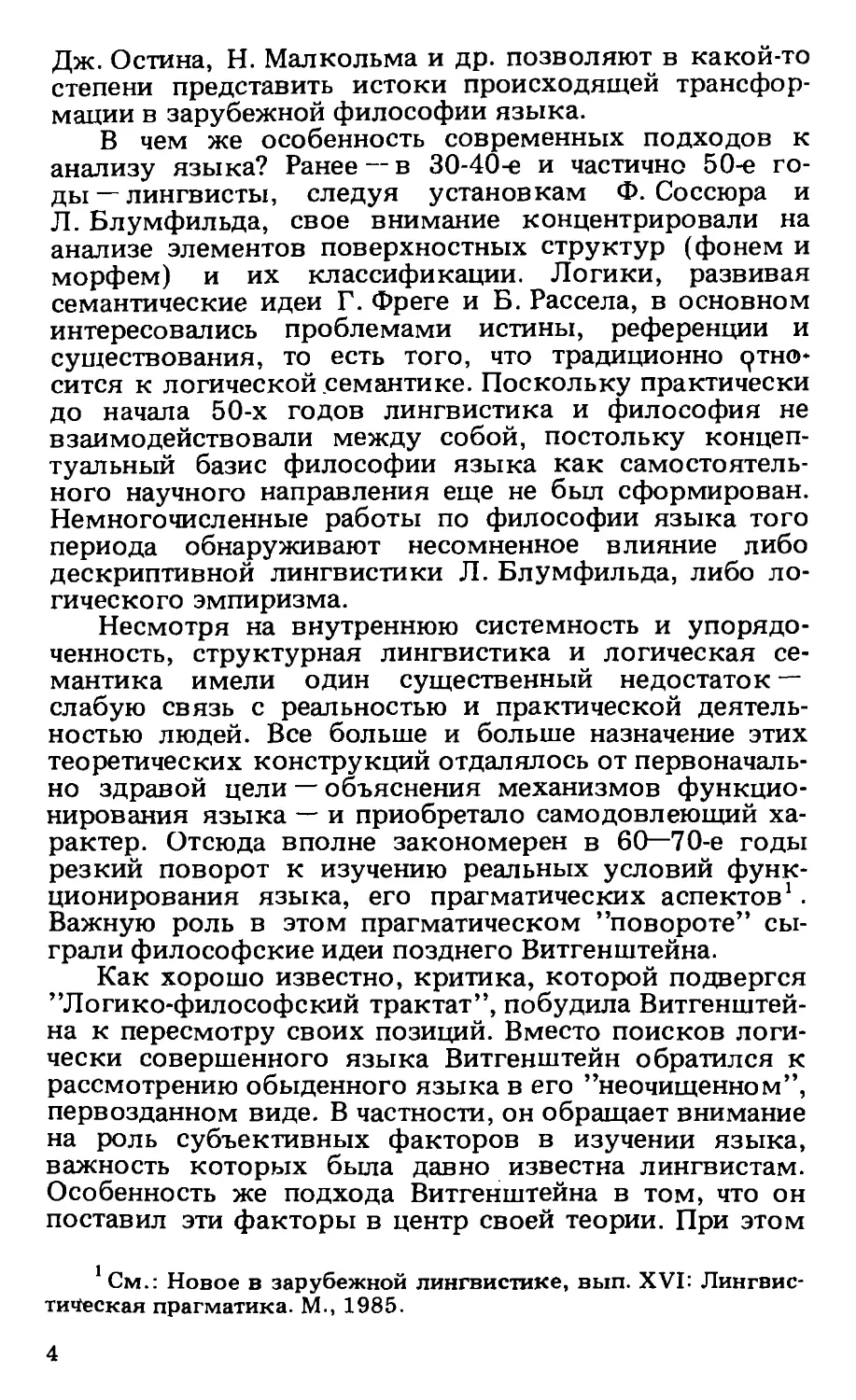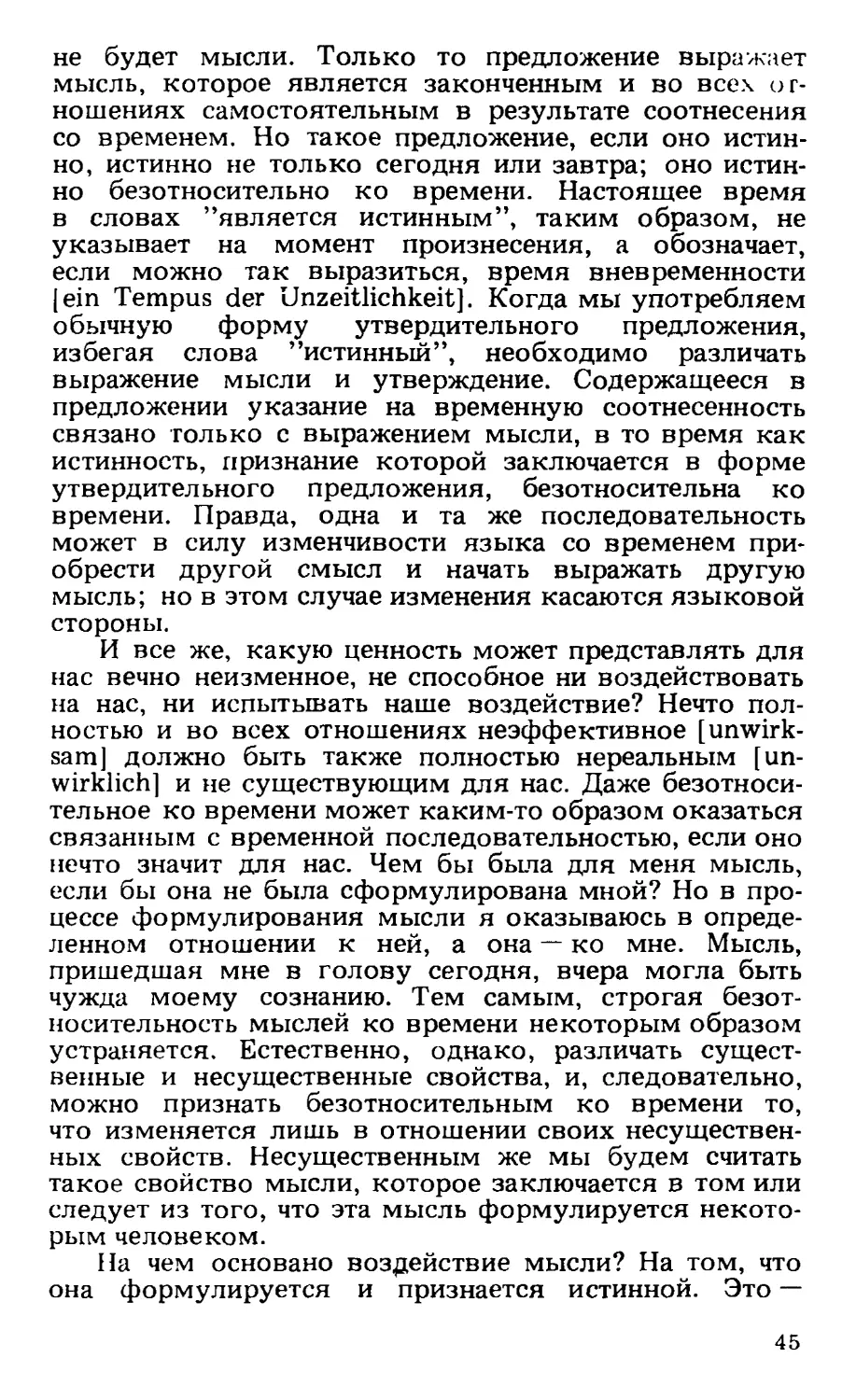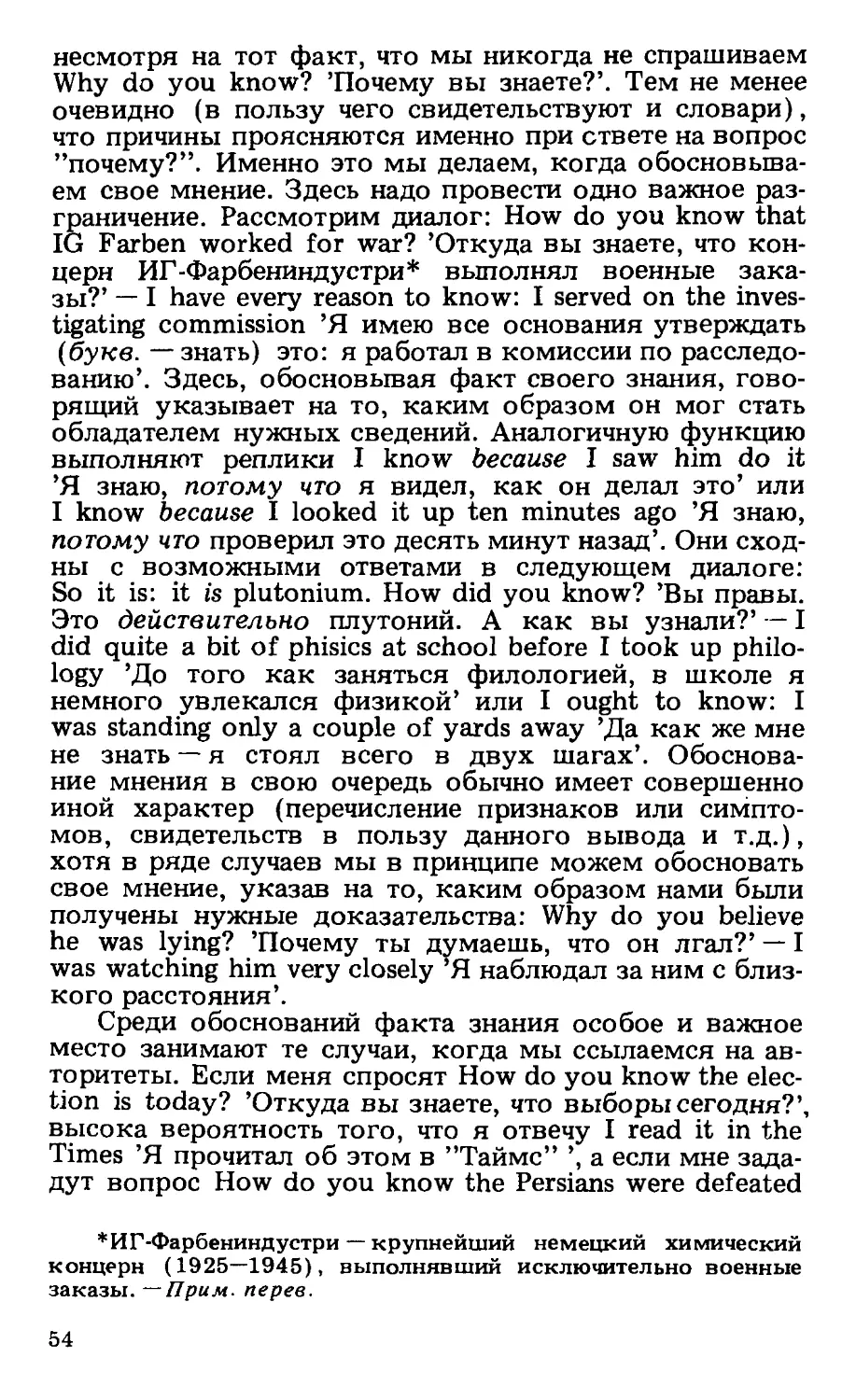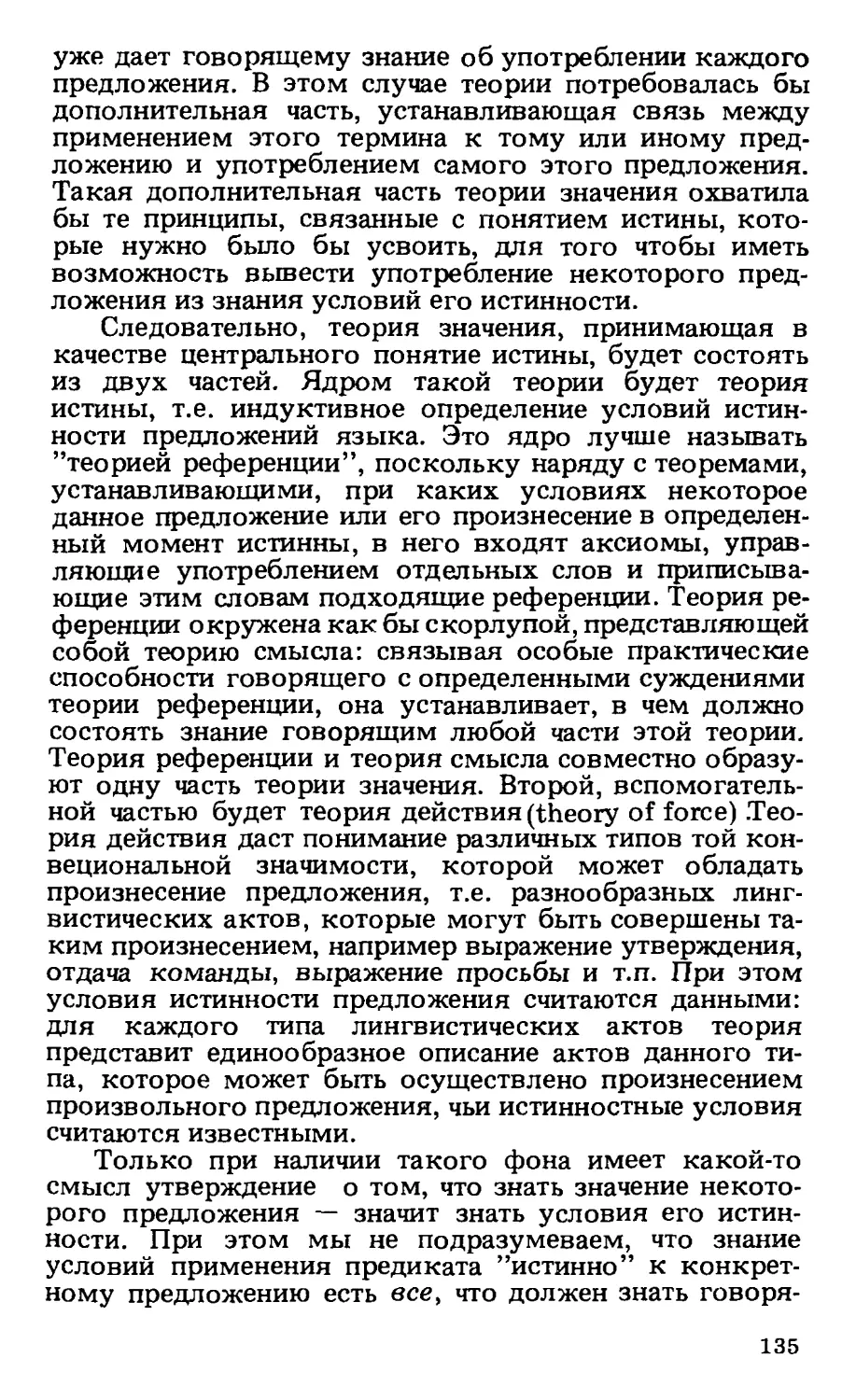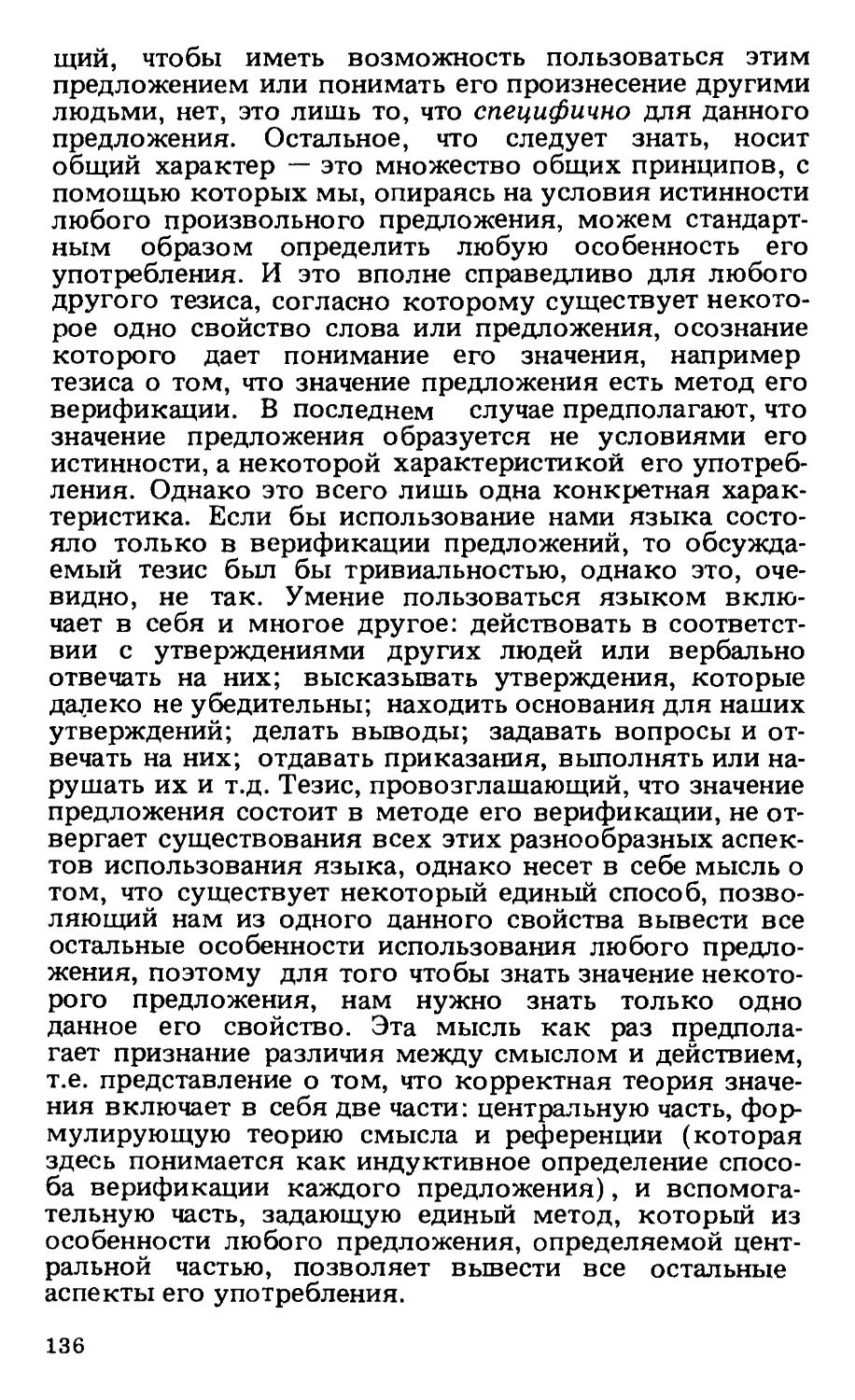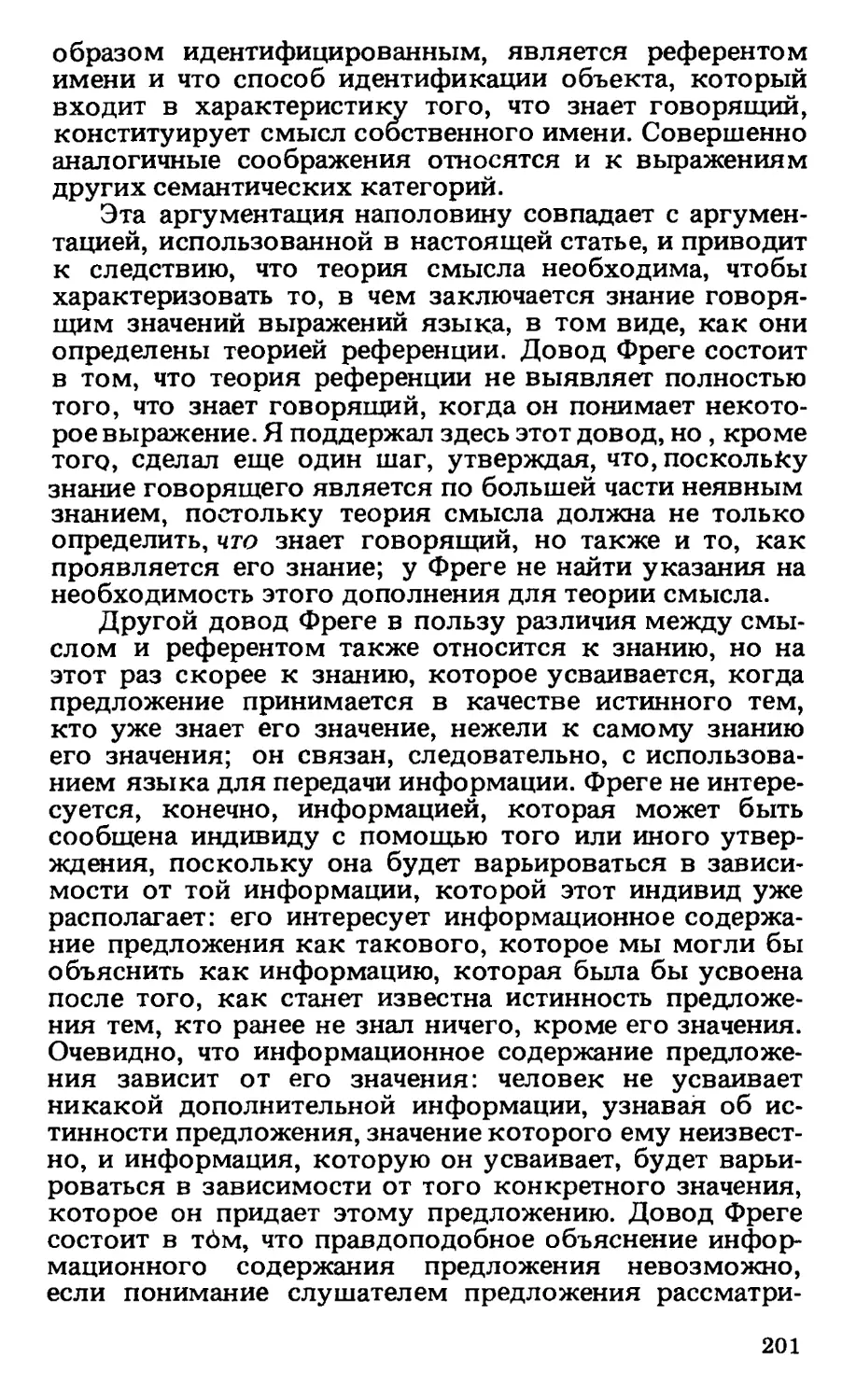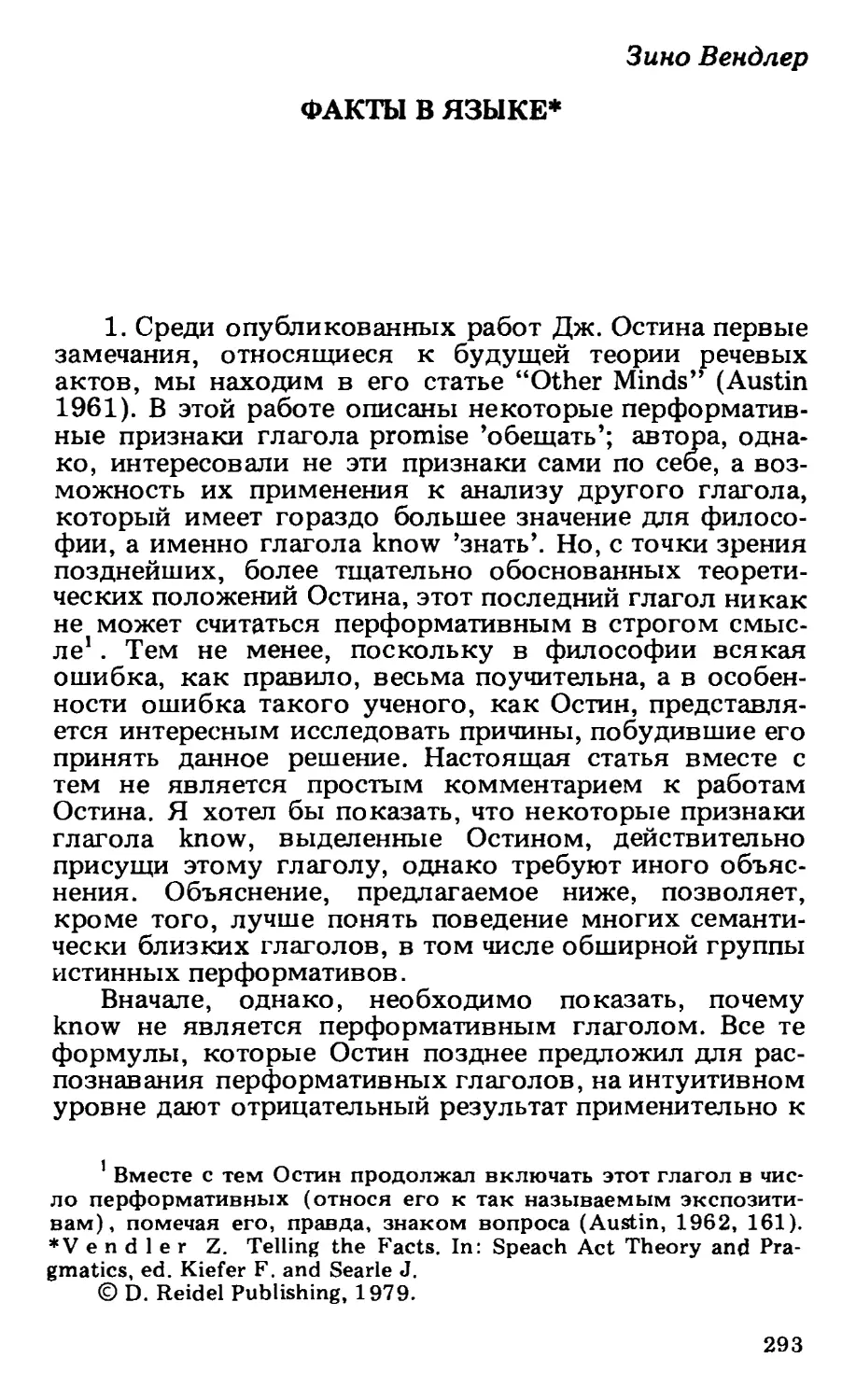Text
ФИЛОСОФИЯ
ЛОГИКА
язык
Перевод с английского и немецкого
Составление и предисловие В. В. Петрова
Общая редакция Д. П. Горского и В. В. Петрова
Москва
Прогресс
1987
ББК81
Ф56
Редактор М. В. ЛОБАНОВА
Фббфилософия, логика, язык: Пер. с англ. инем./Сост.
и предисл. В. В. Петрова; Общ. ред. Д. П. Горского
и В. В. Петрова. — М.: Прогресс, 1987. — 336 с.
В сборнике представлены работы известных
зарубежных философов, логиков и лингвистов Фреге, Остина, Сер-
ля, Малкольма, Вендлера, Даммита, Дэвидсона, Штегмюл-
лера, Барвайса и Перри. В книге рассмотрены актуальные
аспекты мышления, сознания, интенциональности и др.,
фактов в языке, проблемы теории значения и
нетрадиционных семантик в их связи с психологией.
Рекомендуется специалистам и кругу читателей,
интересующихся данными проблемами.
л 0302040000-324 0_Q_ ББК 81-87.4
006(01) -87 * И'
Редакция литературы по философии и лингвистике
© Составление, предисловие, перевод на русский язык,
Прогресс, 1987
ОТ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА К ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ
(Новые тенденции и их истоки)
Философские проблемы языка и логики —
динамично развивающееся научное направление. Особый
интерес к нему сейчас связан не только с постоянным
стремлением прояснить общие механизмы и
закономерности мышления, но и понять то, как же человек
способен перерабатывать, трансформировать и
преобразовывать огромные массивы знаний в крайне
ограниченные промежутки времени. Отмеченные
вопросы имеют не только чисто теоретический интерес —
от успешности их решения во многом зависит
прогресс в создании новейших вычислительных систем,
эффективного программного обеспечения. Все это,
несомненно, усиливает практическую значимость и
актуальность исследований в области логики и
философии языка — области, которая до последнего
времени считалась чисто умозрительной.
При составлении данного сборника ставилась задача
подобрать яркие классические работы, а также свежие
публикации, наиболее полно отражающие
происходящие изменения в проблематике философии языка и тех
разделах современной логики, которые ориентированы
на естественный язык. К несомненно базисным
исследованиям можно прежде всего отнести работы М.
Даммита и Дж. Серля. Именно цикл работ британского
философа М. Даммита 70-х годов (из которого в сборнике
публикуется, пожалуй, его наиболее известная статья
"Что есть теория значения?") существенно
способствовал сдвигу от отдельного, автономного изучения
семантических и прагматических аспектов значения
к их совместному, целостному рассмотрению. Работа
американского философа Дж. Серля "Интенциональ-
ность", известного в нашей стране в качестве одного из
основоположников теории речевых актов, оказала и
оказывает в восьмидесятые годы сильное влияние на
переориентацию философской проблематики языка в
проблематику философии сознания (philosophy of
mind). Публикуемые в сборнике работы Г. Фреге,
3
Дж. Остина, Н. Малкольма и др. позволяют в какой-то
степени представить истоки происходящей
трансформации в зарубежной философии языка.
В чем же особенность современных подходов к
анализу языка? Ранее— в 30-40-е и частично 50-е
годы—лингвисты, следуя установкам Ф. Соссюра и
Л. Блумфильда, свое внимание концентрировали на
анализе элементов поверхностных структур (фонем и
морфем) и их классификации. Логики, развивая
семантические идеи Г. Фреге и Б. Рассела, в основном
интересовались проблемами истины, референции и
существования, то есть того, что традиционно qrao*
сится к логической семантике. Поскольку практически
до начала 50-х годов лингвистика и философия не
взаимодействовали между собой, постольку
концептуальный базис философии языка как
самостоятельного научного направления еще не был сформирован.
Немногочисленные работы по философии языка того
периода обнаруживают несомненное влияние либо
дескриптивной лингвистики Л. Блумфильда, либо
логического эмпиризма.
Несмотря на внутреннюю системность и
упорядоченность, структурная лингвистика и логическая
семантика имели один существенный недостаток —
слабую связь с реальностью и практической
деятельностью людей. Все больше и больше назначение этих
теоретических конструкций отдалялось от
первоначально здравой цели — объяснения механизмов
функционирования языка — и приобретало самодовлеющий
характер. Отсюда вполне закономерен в 60—70-е годы
резкий поворот к изучению реальных условий
функционирования языка, его прагматических аспектов1.
Важную роль в этом прагматическом "повороте"
сыграли философские идеи позднего Витгенштейна.
Как хорошо известно, критика, которой подвергся
"Логико-философский трактат", побудила
Витгенштейна к пересмотру своих позиций. Вместо поисков
логически совершенного языка Витгенштейн обратился к
рассмотрению обыденного языка в его "неочищенном",
первозданном виде. В частности, он обращает внимание
на роль субъективных факторов в изучении языка,
важность которых была давно известна лингвистам.
Особенность же подхода Витгенштейна в том, что он
поставил эти факторы в центр своей теории. При этом
См.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVI: Лингвис-
ти^ская прагматика. М., 1985.
4
важно также отметить, что Витгенштейн шел к
рассмотрению обыденной речи, отправляясь не от
лингвистических концепций, с которыми он и не был хорошо
знаком, а от опыта конкретного анализа языка.
Витгенштейн приходит к мысли о необходимости
учета не только внутриязыкового контекста, но и вне-
языковой ситуации, которую образует вся система
человеческой деятельности, включающая в себя язык как
один из ее элементов1. Так формируется концепция
значения как употребления, положившая начало
мощному потоку современных работ по прагматике.
Развитие этой основной идеи Витгенштейна пошло
по крайней мере по двум направлениям. Следуя Дж.
Остину, П. Стросону, Н. Малкольму и др., она
реализовалась в детальном анализе фактического употребления
естественного разговорного языка. Представленные в
сборнике статьи Дж. Остина и Н. Малкольма на примере
анализа употребления выражения "Я знаю" наглядно
показывают, каким образом в рамках
лингвистической философии получила свое развитие основная идея
Витгенштейна. Однако в современной философии
языка существует противоположная тенденция
(отраженная в данном сборнике статьей Д. Дэвидсона),
сторонники которой отрицают правомерность приравнивания
значения и употребления, смысла и конвенции.
Гораздо более плодотворным и конструктивным
оказалось второе направление, в рамках которого
основное внимание уделяется контексту употребления
языка, а не тому, что дано в самом употребляемом
выражении. При этом понятие "контекст" включает
различные аспекты: вербальный и невербальный,
историко-культурный, психологический, социальный и т.д.
В частности, понятие контекста реализуется в виде
дискурса как определенной последовательности речевых
актов, связанны^ в глобальные и локальные текстовые
структуры; в виде "фонового знания о мире",
организованного посредством "фреймов", "сценариев' ,
хранящихся в семантической памяти индивида и т.д.2 .
Наконец, расширенное толкование понятия
"контекста" предполагает в обязательном порядке и учет
того индивидуального когнитивного состояния, в
котором находятся конкретные носители языка. В
'См.: А. Ф. Гряз нов. Эволюция философских взглядов
Витгенштейна. M., 1984.
2 См.: Handbook of Discourse Analysis, vol. 1—4, London,
1985.
5
данном случае имеется в виду, что употребление языка
осуществляется людьми с различным познавательным
и жизненным опытом, на сугубо отличном друг от
друга "мотивационном фоне", в котором находят свое
отражение индивидуальные намерения и цели,
потребности и нормы, знания и убеждения и т.д. Естественно,
что в действительности ни о каком когнитивном
единообразии не может быть и речи, хотя именно на этом
допущении и основывается возможность
распространения логических методов на область дискурса.
Следует отметить и сложную структуру самого акта
употребления. Как показано в ряде современных
исследований1 , люди, пользующиеся языком, "делают"
одновременно много разных "дел", для чего им
требуется планирование и управление дискурсом в ходе
диалога, понимание, хранение, и извлечение знаний
и т.п. Мы можем далее предположить, что понятия
когнитивного состояния носителей языка, контекста
(включая, микро- и макроструктуру текста, социально-
культурные характеристики контекста и т. д.), акта
употребления (включающего стратегии планирования и
управления дискурсом) связаны между собой и, более
того, совместно "работают" для объяснения общего
феномена понимания и порождения языка. Но как это
происходит в рамках единой модели, пока не совсем
ясно.
Самым поразительным является тот факт, что на
реализицию всех процессов понимания и порождения
языка уходят какие-то миллисекунды. По сравнению с
"простым" фактическим анализом употребления
конкретных выражений процессы, происходящие в
рассматриваемых нами случаях, гораздо более сложны,
и в ближайшем будущем нам удастся в лучшем случае
смоделировать лишь их отдельные фрагменты.
Построение же полной модели употребления языка является
перспективной и неотложной задачей как для
психологии, логики, лингвистики, философии языка, так и
для теории искусственного интеллекта,
информационной технологии.
* * *
В конце 60-х —начале 70-х годов в зарубежной
аналитической философии было достаточно четко осоз-
lT. A. van Dijk. Strategic Discourse Comprehention — In:
Linguistic Dynamics. Amsterdam. 1985, p. 62—84.
6
нано, что полноценная модель языка уже никак не
может ограничиться только семантическим подходом,
необходимо включение в общую модель языка и
прагматических аспектов его функционирования. Отсюда
обозначилась задача — совместить в рамках одной
теории семантические и прагматические "стороны" языка,
другими словами, подходы Г. Фреге и Л. Витгенштейна.
И не случайно, что решить эту проблему попытался
М. Даммит — последователь Витгенштейна и
одновременно автор очень известных работ по философии
языка и математики Фреге1 .
В рамках естественного языка, по Даммиту, любое
выражение необходимо рассматривать в контексте
определенного речевого акта, поскольку связь между
условиями истинности предложения и характером
речевого акта, совершаемого при его высказывании,
является существенной в определении значения. Это
позволяет Даммиту утверждать наличие двух частей
у любого выражения — той, которая передает смысл
и референцию, и той, которая выражает иллокутивную
силу его высказывания, другие характеристики
употребления. Соответственно теория значения также
должна состоять из двух "блоков" — теории
референции и теории употребления языка. Следовательно,
основная проблема теории значения состоит в
выявлении связей между этими "блоками", то есть между
условиями истинности предложений и действительной
практикой их употребления в языке.
По Даммиту, теория значения считается
приемлемой лишь тогда, когда она устанавливает отношение
между знанием семантики языка и способностями,
предполагающими использование языка. Поэтому
семантическое знание не может не проявляться в
наблюдаемых характеристиках употребления языка. При
этом сами наблюдаемые характеристики могут служить
исходной точкой, от которой можно восходить к
семантическому знанию. И в этом смысле цели анализа
Даммита вполне обоснованны и понятны. Очевидно
также, что до проведения конкретных исследований
невозможно угадать, какое место займет знание
семантики того или иного языка в общей картине,
отражающей все процессы говорения и понимания языка.
Для выявления связи между двумя "блоками"
теории значения Даммит предлагает рассматривать
1 См. подробнее: В. В. П е т р о в. Философия языка М.
Даммита. — В кн.: Язык, наука, философия. Вильнюс, 1986.
7
знание условий истинности как некоторую
эмпирическую способность опознавания. Поскольку такой способ
принятия решений об истинностном значении
одновременно является и практической способностью, он и
образует необходимое связующее звено между знанием
и использованием языка. Но тем самым Даммит
предлагает согласиться с тем, что в знание о языке могут
входить лишь такие концепты, которые индуцированы
непосредственно чувственно-наличными данными.
Соответственно наше обучение языку сводится к умению
делать утверждения в опознаваемых обстоятельствах,
и при этом содержание предложений не может
превосходить то содержание, которое было дано нам в
обстоятельствах нашего обучения. В этом свете
аргументация Даммита очень похожа на позицию Юма и не может
быть принята. Действительно, подобно Юму, мы
задаемся вопросом — каким образом в наших идеях может
присутствовать нечто такое, что не может быть
извлечено из наших впечатлений?
Даже если мы и можем, вопреки Даммиту,
приобретать знание, выходящее за пределы наших
возможностей опознавания, возникает другая сложная
проблема—каким же образом такое "неопознаваемое"
знание проявляется в фактическом использовании языка?
Ведь, по Даммиту, опознаваемые условия истинности
служат единственным средством связи между знанием
и использованием языка.
Приемлемый подход, на наш взгляд, заключается в
том, что использование языка следует отождествлять
не со способностью устанавливать истинностные
значения продложений, а скорее с более широкой
способностью интерпретировать речевое поведение других
лиц. Принимая такой взгляд, мы отказываемся от
ложного предположения, в соответствии с которым
способность понимать и использовать некоторое выражение
обязательно предполагает способность опознавать
некоторый данный объект как носитель этого выражения.
В действительности же можно обладать способностью
интерпретировать предложения и в то же время быть
неспособным точно опознать объект, обозначаемый
ими.
Очевидно, что человек не может говорить и
понимать выражения какого-либо языка без
соответствующих семантических знаний. Но, зная только значения,
он еще не в состоянии понимать данный язык и
говорить на нем. Точно так же нам недостаточно знать
содержание музыкальной пьесы, чтобы ее исполнить;
8
для этого необходимо еще нечто более важное —
умение играть.
Для того чтобы понимать язык (говорить на
языке) , приходится осуществлять много разных операций,
служащих выявлению единственно верного значения:
конструирование из звуков цепочек слов, организация
этих цепочек для того или иного конкретного
значения из тех многих, которыми они могут обладать;
установление правильной референции и многое другое.
Но в любом случае осуществляется ряд выборов,
правильность которых зависит уже не только от
отдельных операций, но и от правильности заранее
построенных стратегий, которые уже не являются на самом деле
только частью того, что означают выражения языка.
Поэтому если некто будет знать только значения
выражений и больше ничего, то он не сможет ни
говорить на языке, ни понимать его.
Другими словами, понимание значения
предполагает объединение лингвистических и
экстралингвистических знаний, явной и фоновой информации. Но этот
путь далеко уводит нас за пределы как философии
языка, так и традиционного лингвистического анализа.
Тем не менее он в настоящее время кажется
единственно приемлемым. И этим объясняется столь широкий
интерес к подходу М. Даммита, предпринявшего
попытку такого рода.
Возвращаясь к теории значения Даммита, следует
заметить, что некоторые неразрешимые проблемы этой
теории обусловлены стремлением соединить в рамках
одного подхода два принципиально различных типа
теоретических концепций — семантические и
прагматические. Семантические теории отличаются от
прагматических, на наш взгляд, по объекту исследований,
форме теоретических обобщений и конечной цели. Если
семантика рассматривает некие* "смысловые
инварианты", неизменные относительно конкретных
ситуаций употребления, то цель прагматического
исследования — анализ и объяснение именно конкретных
ситуаций употребления. Можно сказать, что семантика имеет
дело с идеализированным объектом, "теоретическим
конструктом", тогда как объект прагматики — более
индивидуальный, эмпирический.
Эти различия в объектах исследования во многом
предопределены целью теоретических концепций.
Прагматические теории ориентированы скорее не на
прояснение отношений между языком и реальностью (как
семантические), а на экспликацию знания, уже данного
9
в имплицитной способности субъекта. Такая установка
строго вытекает из известных требований
аналитической философии, сформулированных еще
Витгенштейном. В соответствии с целями и объектом
исследований складывается и форма теоретических конструкций
и обобщений. Прагматические концепции — это в
основном стратегии, принципы, "наборы" далеко не
однозначных правил типа принципов
коммуникативного сотрудничества Грайса, тактичности Лича1 и т.д.,
в то время как семантические теории объясняют
языковые факты путем строгой спецификации системы
конкретных правил иг условий их действия.
Конечно, дело не только в степени абстрактности
объектов семантики и прагматики — различия между
этими фундаментальными аспектами языка гораздо
глубже, существеннее. Именно это и заставило
Витгенштейна совершить известный поворот, привело к
изменению многих установок в изучении природы
языка. Попытка Даммита соединить воедино столь
различные аспекты языка, хотя и оказалась в конечном счете
неудачной, прояснила в какой-то степени трудности,
возникающие на этом пути.
Появление многочисленных работ по прагматике
оказало сильное влияние не только на философию
языка, но и на логику. Благодаря переориентации на
естественный язык, а не на математику, как это было в
начале века, логическая теория значительно расширяет
свои выразительные возможности. И один из
последних подходов в этом направлении — "ситуационная
семантика" Дж. Барвайса и Дж. Перри, частично
представленная в данном сборнике. Ее цель, как отмечают
авторы в совместной монографии, состоит в попытке
синтезировать теорию речевых актов и стандартную
теоретико-модельную семантику в духе Тарскопг .
Не входя в техническое обсуждение этого подхода,
который представлен еще эскизно, выделим один
ключевой вопрос —- должны ли мы пересматривать
основные принципы, лежащие в основании логики
предикатов (например, принцип подставимости
тождественного, как это делают Барвайс и Перри), или все же можно
ограничиться менее значительными модификациями.
Если предпочтение отдается первому пути, то
конструктивное обсуждение возможно только тогда, ког-
См.: G. L е е с h. Principles of pragmatics. London—N.Y., 1983.
2J.Barwise, J.Perry. Situations and Attitudes. Cambridge,
1983, p. 275.
10
да предлагается некая формальная система,
эквивалентная во всех отношениях логике предикатов. Пока же
речь идет о некоторых частных экспликациях
ситуационной семантики. ^
Как известно, в рамках общего подхода к
семантическому анализу выражений естественного языка
базисной является теоретико-модельная семантика.
Можно обсуждать ее преимущества и недостатки по
сравнению с другими видами семантического анализа —
процедурной семантикой1, семантикой концептуальных
ролей2 и т.д., но если говорить о логическом анализе
естественного языка, то реальных альтернатив
теоретико-модельной семантике (по существу логической
семантике) просто не видно. Так, все имеющиеся
сейчас новые варианты, претендовавшие ранее на
принципиальную новизну, оказываются при детальном
рассмотрении обобщением и расширением все того же
теоретико-модельного подхода. Мы имеет в виду прежде
всего "грамматику Монтегю", "теоретико-игровую
семантику", иллокутивную логику3, не говоря уже о
семантике возможных миров, которая есть собственно
философско-логический аналог математической теории
моделей. Дальнейшее углубление ориентации логики
на естественный язык покажет, в какой степени язык
действительно может выступать как серьезный стимул
для ревизии оснований логической теории.
* * *
Идея о важности контекста употребления языка
нашла свое воплощение и посредством такого его
расширения, когда в понятие контекста включается
когнитивное состояние носителей языка.
Действительно, языковые выражения указывают не сами по себе —
акт референции всегда осуществляется конкретными
людьми. И следовательно, если мы хотим
идентифицировать их референциальные намерения, нам необходимо
знание не только непосредственного контекста
употребления, но и многого другого, в частности потребностей,
желаний, чувств и намерений носителей языка.
1 P.Jonson-Laird. Procedural Semantics.—Cognition. 1977,
vol. 5, p. 189-214.
2G.Harman. Conceptual Role Semantics.—Notre Dame
Journal of Formal Logic, 1982, №2, p. 242—256.
3 Дж. Серль, Д. Вандервекен. Основные понятия
исчисления речевых актов. —В кн.: Новое в зарубежной
лингвистике, вып. XVIII, 1986,*. 242—263.
11
В предшествующий период — 60—70-е годы — в
зарубежной философии языка преобладала та точка
зрения, в соответствии с которой природу языка
можно уяснить, изучая все, кроме сознания индивида,
сферы ментального. Сейчас этот запрет снят.
Возможно, что решающим обстоятельством такой
переориентации явились не чисто научные, а практические
соображения, связанные с развитием вычислительной
техники, систем с элементами искусственного интеллекта.
Дело в том, что трудности с машинным переводом
естественного языка, переход от баз данных к базам
знаний, проблемы создания естественноязыкового
интерфейса потребовали изменений и в подходах к
изучению языка. Неудовлетворительными с практической
точки зрения были признаны не только
бихевиористская теория языка, но и более поздние модели,
учитывающие аспекты употребления. Сейчас общепринятым
становится подход, считающий, что успешное
моделирование языка возможно только в более широком
контексте моделирования сознания1 . И именно этим
объясняется несомненный интерес к проблемам,
возникшим на стыке когнитивной психологии, теорий
искусственного интеллекта, представления и обработки
знаний2. Работа Дж. Серля "Интенциональность", глава
из которой публикуется в данном сборнике, является
такого рода междисциплинарным исследованием.
Серль предлагает ввести в качестве
основополагающего понятие интенционального состояния, которое
выражает определенную ментальную направленность
субъекта к действительности. Он обсуждает такие
человеческие интенциональные состояния, как
ощущения, убеждения, желания и намерения, хотя в принципе
число примитивных интенциональных состояний может
быть большим. С точки зрения автора, наша
способность соотносить себя с миром с помощью
интенциональных состояний более фундаментальна, чем
появление языка. Так, животные, не имеющие языка и не
способные осуществлять речевые акты, тем не менее
обладают интенциональными состояниями. Язык же
появляется как особая форма развития более
примитивных форм интенциональности.
Согласно такому подходу, философия языка яв-
B. М. С е р г е е в. Проблемы понимания. — В сб.: Теория и
модели знаний, Тарту, 1985, с. 133—146.
См.: Б.М. Величковский. Современная когнитивная
психология. М., 1983.
12
ляется разделом философии сознания. Тогда
фундаментальные семантические понятия—типа значения—
вполне обоснованно анализировать с помощью еще
более фундаментальных понятий, таких, как убеждения,
желания и намерения. В отличие от других вариантов
этого подхода (например, Грайса) Серль обсуждает
проблему значения, привлекая с этой целью понятие
интенциональности.
По Серлю, способ, каким язык представляет мир,
является расширением и реализацией способа,
посредством которого сознание представляет мир.
Следовательно, возможности и ограничения языка задаются
возможностями и ограничениями интенциональности
как конституирующей характеристики сознания. Все
это приводит Серля к весьма важному вьюоду, что
ограниченному числу базисных интенциональных
состояний должно соответствовать и вполне ограниченное
число лингвистических актов. Существенно, по Серлю,
и то, что, существа, способные иметь интенциональные
состояния, автоматически способны их связывать с
объектами и состояниями дел в реальности, то есть,
по сути, способны отличать удовлетворение от
неудовлетворения этого состояния. Но все же как долин-
гвистические формы интенциональности связаны с ин-
тенциональностью языка? Каким образом
осуществляется переход от интенциональных состояний к
лингвистическим актам?
Первый шаг в этом направлении— выбор явно
распознаваемого средства выражения интенционального
состояния. "Существо, — пишет Серль, — которое
способно делать это намеренно, то есть существо, которое
не только выражает свои интенциональные состояния,
но выполняет акты с тем, чтобы другие узнали его
интенциональные состояния, уже имеет примитивную
форму речевого акта"1 . Однако это еще не конкретные
акты типа заявления, просьбы, обещания и т. д.
Следующее условие — наша способность к
выполнению лингвистических актов для достижения
экстралингвистических целей. Человек, утверждает Серль,
который делает заявление, делает больше, чем просто
демонстрирует свою веру во что-то — он передает
конкретную информацию. Человек, который дает
обещание, делает больше, чем доводит до сведения
окружающих, что он намерен что-то выполнить, — он создает
стабильные ожидания у других относительно своего
*J. S ear 1 е. Intentionality. Cambridge, 1983, p. 178.
13
будущего поведения. Таким образом, выполнение
лингвистических актов (а их Серль выделяет пять —
утверждения, директивы, обязательства, декларации,
экспрессивы) гарантируется тогда, когда они
направлены на реализацию конкретных социальных целей.
Взятые по отдельности, эти тезисы не вызывают
больших возражений. Но в совокупности они, на наш
взгляд, дают ошибочную картину того, как язык
действительно связан с сознанием. Следуя Серлю, интен-
циональные состояния спонтанно, имманентно
продуцируют сами из-себя лингвистические акты, язык в
целом. Но матералистические традиции и данные
современной психологии убедительно говорят о
необходимости более широкого представления связи "языка
и сознания" — в рамках человеческой деятельности,
обязательно включающей материальную практику.
"Сознание... с самого начала есть общественный
продукт и остается им, пока вообще существуют люди"1 .
С другой стороны, вызывает возражение и основной
тезис Серля о параллелях и явной связи типов речевых
актов и соответствующих типов интенциональных
состояний. Хотя автор и утверждает, что язык есть особая
форма развития интенциональности, все же создается
впечатление, что сами интенциональные состояния
выделяются и анализируются Серлем сквозь призму
ранее предложенных им пяти типов иллокутивных
актов2 . На наш взгляд, предложенная Серлем типология
речевых актов, которая сама по себе проблематична,
явно предопределяет типологию интенциональных
состояний. Но, несмотря на эти принципиальные
замечания, работа Серля все же вызывает несомненный
интерес как свидетельство явной психологизации
традиционных тем зарубежной философии языка. В ней
присутствует также много тонких и глубоких замечаний
относительно природы значения, восприятия и т.д.
Переход от интенциональных состояний к
лингвистическим актам активно обсуждался еще в
лингвистической философии в связи с употреблением выражения
"Я знаю". Как известно, представители этого
направления, истоки которого связаны с философией
"здравого смысла" Дж. Мура и взглядами позднего
Витгенштейна, усматривали основную задачу философии в
"терапевтическом" анализе разговорного языка, цель
которого — выяснение деталей и оттенков его употреб-
* К. Марк с, Ф.Энгельс. Соч., т. 3, с. 29.
2 J. S е а г 1 е. Speech Acts. Cambridge, 1969.
14
ления. Несмотря на несостоятельность этого
направления в целом как философского течения, конкретные
исследования содержат некоторые позитивные
результаты по анализу структуры обыденного языка, его
отдельных выражений.
Так, Дж. Остин, в представленной в сборнике статье
предлагает различать по крайней мере две основные
модели употребления выражения "Я знаю". Первая
модель описывает ситуации с внешними объектами
("Я знаю, что это щегол"), вторая — характеристики
"чужого" сознания ("Я знаю, что этот человек
раздражен") . Основная проблема, дискутируемая в рамках
лингвистической философии на протяжении уже
нескольких десятилетий, связана с второй моделью
употребления выражения "Я знаю". Здесь
обсуждаются следующие вопросы: каким образом я могу знать,
что "Том рассержен", если я не в состоянии проникнуть
в его чувства? Возможно ли считать корректным
употребления "Я знаю" применительно к эмпирическим
утверждениям типа "Я знаю, что это дерево"?
Следуя Дж. Остину, правомерность употребления
выражения "Я знаю" для описания ощущений и эмоций
другого человека нельзя отождествлять
непосредственно с его способностями испытывать те же
ощущения и чувства. Скорее, правомерность такого
употребления объясняется нашей способностью в принципе
испытывать аналогичные ощущения и делать выводы
о том, что чувствует другой человек на основе внешних
симптомов и проявлений.
Н. Малкольм, более поздний, чем Дж. Остин,
представитель лингвистической философии, в своей статье
выделяет двенадцать различных ситуаций, в которых
может использоваться предложение формы "Я знаю".
В различных ситуациях это выражение выполняет
различные функции: "Я знаю" иногда может быть
перефразировано как "У меня есть следующие
доказательства...", "Я могу продемонстрировать это..." или "Вы
можете мне поверить, что..." и т. д.
Но в эти ситуации никак, по мнению Н. Малколь-
ма, не укладывается следующее употребление Дж.
Муром выражения "Я знаю", вызвавшее столь длительное
обсуждение "Я знаю, что это— дерево". Н. Малкольм
полагает, что мы не можем употреблять глагол "знать"
по отношению к эмпирическим фактам, которые и так
очевидны. По его мнению, бессмысленно в силу
избыточности фразы говорить "Я знаю, что это — дерево",
сидя от него в нескольких метрах. Но что же имел в
15
виду Дж. Мур, настаивая на правомерности такого
употребления выражения "Я знаю"?
Возможно только одно, с точки зрения Н. Мал-
кольма, правдоподобное объяснение — Дж. Мур считал,
что состояние "знания" как особое ментальное
состояние обладает теми же признаками
"непосредственности" и "достоверности", что и состояния,
соответствующие ощущению, чувству или настроению. То есть
Дж. Мур полагал, что человек должен
"непосредственно" осознавать свое состояние "знания", точно так же
как и другие ментальные состояния. Если это так, то
выражение "Я знаю, что это — дерево" в интерпретации
Дж. Мура далеко не бессмысленно. Хотя Дж. Мур
никогда прямо не выдвигал тезиса, что знание является
особым ментальным состоянием, тем не менее, по
мнению Малкольма, это следует из его рассуждений.
Субъективистская направленность трактовки
состояния "знания" как определенного ментального
состояния ясна, и мы не будем на ней останавливаться. Для
нас же важен другой вопрос, постановку которого
отчасти стимулировала дискуссия относительно "Я
знаю": каким образом происходит сопоставление и
взаимодействие таких принципиально различных видов
информации, как сенсорная и концептуальная? В
какой степени вообще можно утверждать о наличии
отдельных, изолированных друг от друга ментальных
(или интенциональных) состояний1 ? Эти вопросы
интересны в настоящее время не только философам, с
ними столкнулись и специалисты по представлению и
обработке знаний при решении конкретных
практических задач.
В истории философии существует и
противоположная Дж. Муру точка зрения (она представлена статьей
Г. Фреге "Мысль"), в соответствии с которой
ощущения, чувства, намерения (то есть то, что составляет
внутренний мир человека) принципиально отделены от
сферы знания. Фреге полагает, что возможно
получение информации о внешних объектах способом,
отличным от чувственного восприятия. Его аргументация
основывается на том, что впечатления, например
зрительные, не могут вывести нас за пределы
индивидуального внутренненго мира. И следовательно,
должно существовать нечто, которое позволяет нам успеш-
См.: Р. Павиленис. Понимание речи и философия
языка. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVII, М.,
1986, с. 387.
16
но общаться и понимать друг друга. Таким "нечто",
по Фреге, является мысль.
Определение мысли как особой, отличной от
объектов внешнего мира онтологической сущности не может
не вызвать законных обвинений Фреге в платонизме..
И это прослеживается при чтении его статьи. Также
известны и причины, побудившие Фреге к онтологиза-
ции мыслей, — его явный антипсихологизм, стремление
полностью исключить какие-либо ссылки на отдельного
субъекта, конкретного носителя языка.
В рамках современных подходов полагается, что
переход от индивидуального, субъективного к
интерсубъективному, объективному осуществляется с
помощью языка. Но сам по себе язык есть лишь
эффективное средство репрезентации, кодирования
различных элементов базовой когнитивной системы
индивидов.
Итак, отмечаемая в 80-е годы трансформация от
философии языка к философии сознания
способствовала значительному обновлению традиционной
тематики, более тесной интеграции философии, психологии,
логики и теории языка. Она, безусловно, оказьшает
значительное влияние и на решение некоторых
практических задач — влияние, которое могло быть более
значимым, если бы философия логики, языка и
сознания, развиваемая в общем идейном русле современной
буржуазной философии, не была бы методологически
ограничена в своих истоках.
В предлагаемом сборнике публикуются статьи,
позволяющие в данном объеме проследить за
происходящими в исследуемой научной области изменениями.
В. В. Петров
Готтлоб Фреге
МЫСЛЬ: ЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*
Эстетика соотносится с прекрасным, этика — с
добром, а логика — с истиной. Конечно, истина является
целью любой науки; но для логики истина важна и в
другом отношении. Логика связана с истиной примерно
так же, как физика — с тяготением или с теплотой.
Открывать истины — задача любой науки; логика же
предназначена для познания законов истинности. Слово
"закон" можно понимать в двух аспектах. Когда мы
говорим о законах нравственности или законах
определенного государства, мы имеем в виду правила,
которым необходимо следовать, но с которыми
происходящее в действительности не всегда согласуется.
Законы же природы отражают общее в явлениях
природы; следовательно, все, что происходит в
природе, всегда соответствует этим законам. Именно в этом
последнем смысле я и говорю о законах истинности.
Правда, речь в этом случае идет не о явлениях [Gesche-
hen], а о свойствах [Sein]. Из законов истинности
выводятся в свою очередь правила, определяющие
мышление, суждения, умозаключения. И таким
образом, можно говорить о существовании законов
мышления. Здесь, однако, возникает опасность смешения
двух различных понятий. Можно представить себе, что
законы мышления подобны законам природы и
отражают общее в психических явлениях, имеющих
место при мышлении. Законы мышления в этом случае
были бы психологическими законами. Рассуждая
таким образом, можно было бы прийти к заключению,
что в логике изучаются психологический процесс
мышления и те психологические законы, в
соответствии с которыми он происходит. Но задача логики была
бы в этом случае определена совершенно неверно,
*Frege G. Der Gedanke: eine logische Untersuchung. Logische
Untersuchungen. Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen, 1966,
S. 30—53. Статья впервые напечатана в 1918 г.
18
поскольку роль истины при таком понимании
оказалась бы несправедливо преуменьшенной. Заблуждение
или суеверие, точно так же как и истинное знание,
имеют свои причины. Истинное и ложное
умозаключения в равной мере происходят в соответствии с
психологическими законами. Выводы из этих законов и
описание психического процесса, который приводит к
некоторому умозаключению, не могут прояснить то, к
чему относится соответствующее умозаключение.
Может быть, логические законы также участвуют в этом
психическом процессе? Не стану оспаривать; но, если
речь идет об истине, одной возможности еще
недостаточно. Возможно, что и нелогическое участвует в этом
процессе, уводя в сторону от истины. Только после
того, как мы познаем законы истинности, мы сможем
решить эту проблему; однако в случае, когда нам
необходимо установить, справедливо ли
умозаключение, к которому этот процесс приводит, можно,
вероятно, обойтись и без описания психического процесса.
Чтобы исключить всякое неправильное понимание и
воспрепятствовать стиранию границ между
психологией и логикой, я буду считать задачей логики
обнаружение законов истинности, а не законов мышления. В
законах истинности раскрывается значение слова
"истинный".
Прежде всего, однако, я хотел бы попытаться дать
самое общее представление о том, что я в дальнейшем
буду называть истинным. Тогда можно будет
полностью отвлечься от тех употреблений данного слова,
которые окажутся за рамками нашего определения.
Слово "истинный" [wahr] будет употребляться не в
смысле "настоящий, подлинный ' [wahrhaftig] или
"правдивый" [wahrheitsliebend] и не так, как оно
иногда употребляется при обсуждении проблем искусства,
когда, например, говорят о правде [Wahrheit] искусства,
когда провозглашается, что целью искусства является
правда, когда обсуждается правдивость какого-либо
произведения искусства или достоверность
впечатления. Часто также слово "wahr" прибавляют к
некоторому другому слову, желая подчеркнуть, что это
последнее надлежит понимать в его собственном, прямом
смысле. Такие употребления тоже не относятся к
исследуемой здесь теме. Мы имеем в виду лишь ту истину,
познание которой является целью науки.
Слово "истинный" в языке является
прилагательным, то есть обозначает свойство. В связи с этим
возникает желание более строго определить ту область
19
объектов, к которым вообще может быть применимо
понятие истинности. Истинность может быть
свойственна изображениям, представлениям, предложениям
и мыслям. Кажется неожиданным, что в этом ряду
объединены объекты, воспринимаемые зрением или
слухом, и объекты, которые недоступны
чувственному восприятию. Это указывает на то, что мы имеет
дело с некоторым смысловым сдвигом. Действительно,
разве изображение может быть истинным как таковое,
то есть в качестве видимого и осязаемого объекта?
Можно ли сказать, что камень или лист неистинны?
Разумеется, мы не могли бы назвать изображение
истинным, если бы за ним не стоял некоторый замысел.
Изображение должно чему-то соответствовать. Точно
так же и наше (мысленное) представление признается
истинным не само по себе, а лишь в зависимости от
того, совпадает ли оно с чем-либо еще или нет. Отсюда
можно было бы заключить, что истинность состоит в
совпадении изображения с изображаемым.
Совпадение есть отношение. Этому, однако, противоречит
употребление слова "истинный", которое в языке не
выражает никакого отношения и не содержит указаний на
второй элемент отношения. Если я не знаю, что некоторое
изображение должно изображать Кельнский собор, то
я не знаю, с чем следует сравнивать это изображение
для того, чтобы вынести суждение относительно его
истинности. Точно так же совпадение может иметь
место лишь в том случае, если элементы отношения
тождественны, то есть не являются различными
объектами. Подлинность, допустим, банкноты можно
установить, проверив для начала, совпадает ли она по размеру
с некоторой эталонной банкнотой, то есть простым
наложением. Но попытка совместить таким же образом
золотую монету и купюру в 20 марок могла бы только
вызвать улыбку. Совместить представление об объекте
с самим объектом было бы возможно, если бы
объект также был представлением: их полное
совпадение влекло бы за собой их тождество. Однако,
определяя истинность как совпадение представления с
чем-то реально существующим, имеют в виду совсем не
это. При определении истинности существенным
является отличие реальности от представления. В этом
случае, однако, не может быть полного совпадения и
полной истинности. Но тогда вообще ничего нельзя
признать истинным: то, что истинно лишь наполовину,
уже не истинно. Истина не допускает градаций. Или
все же можно констатировать истинность и в том
20
случае, если совпадение имеется лишь в
определенном отношении? Но в каком именно? Что мы должны
сделать, чтобы убедиться в том, что нечто истинно?
Мы должны, очевидно, исследовать, истинно ли то,
что нечто — например, представление и
действительность—совпадают в определенном отношении. Но это
означает, что мы вновь возвращаемся к тому, с чего
начали. Таким образом, попытка объяснить истинность
с помощью совпадения оказывается несостоятельной.
Но таким же образом оказывается несостоятельной и
всякая другая попытка определения истинности. Дело
в том, что всякий раз в определение истинного
включается указание на некоторые признаки; но в каждом
конкретном случае необходимо уметь решать, истинно
ли то, что эти признаки наличествуют. Так возникает
порочный круг. Сказанное заставляет считать весьма
вероятным, что содержание слова "истинный" является
в высшей степени своеобразным и не поддается
определению.
Утверждение об истинности некоторого
изображения, собственно, никогда не является утверждением о
свойстве, присущем этому изображению совершенно
независимо от других объектов; напротив, в таких
случаях всегда имеется в виду некоторый другой
предмет, и целью говорящего является указание на то, что
этот предмет каким-то образом совпадает с
изображением. "Мое представление совпадает с Кельнским
собором" есть предложение, и мы будем говорить об
истинности этого предложения. Таким образом, то, что
часто ошибочно считают истинностью изображений и
представлений, мы сводим к истинности предложений.
Что называется предложением? Последовательность
звуков; однако лишь в том случае, если она имеет
смысл; при этом нельзя утверждать, что всякая
осмысленная последовательность звуков есть предложение.
Когда мы называем предложение истинным, мы имеем
в виду, собственно, его смысл. Отсюда следует, что
та область, в которой применимо понятие
истинности, — это смысл предложения. Является ли смысл
предложения представлением? Во всяком случае,
истинность здесь состоит не в совпадении этого смысла с
чем-то иным: иначе вопрос об истинности повторялся
бы до бесконечности.
Итак, не давая строгого определения, я буду
называть мыслью то, к чему применимо понятие
истинности. То, что может быть ложно, я, таким образом,
также причисляю к мысли, наряду с тем, что может быть
21
истинно1 . Следовательно, я могу сказать, что мысль
есть смысл предложения, не имея в виду при этом, что
смыслом всякого предложения является мысль. Сама
по себе внечувственная, мысль облекается в
чувственную оболочку предложения и становится в
результате более понятной для нас. Мы говорим, что
предложение выражает мысль.
Мысль — это нечто внечувственное, и все чувственно
воспринимаемые объекты должны быть исключены из
той области, в которой применимо понятие истинности.
Истинность не является таким свойством, которое
соответствует определенному виду чувственных
впечатлений. Таким образом, она резко отличается от свойств,
которые мы обозначаем словами "красный",
"горький", "ароматный" и т.п. Но разве мы не видим, что
солнце взошло? И разве мы при этом не видим, что это
истинно? Тот факт, что солнце взошло, — это не
предмет, испускающий лучи, которые попадают в мои
глаза; это невидимый предмет, подобный самому
солнцу. Тот факт, что солнце взошло, признается истинным
благодаря чувственным впечатлениям. Однако
истинность не является чувственно воспринимаемым
свойством. Точно так же магнетизм приписывается
объекту на основе чувственных впечатлений, хотя этому
свойству, подобно истинности, соответствуют особого
рода чувственные впечатления. В этом указанные
свойства совпадают. Вместе с тем для определения
магнитных свойств тела чувственные впечатления нам
необходимы; если же я нахожу истинным, например, что в
данный момент я не ощущаю никакого запаха, то
делаю это не на основе чувственных впечатлений.
Все же есть основания считать, что мы не можем ни
одному объекту приписать какое-либо свойство, не
1 Сходный смысл имеют и утверждения типа: "Суждение есть
то, что является либо истинным, либо ложным". Я употребляю
слово "мысль*' (Gedanke) приблизительное том смысле,который
имеет в логических работах слово "суждение" (Urteil). Почему
я все-таки предпочитаю говорить "мысль", станет, как я
надеюсь, ясно из дальнейшего. В данном определении можно
усмотреть тот недостаток, что в нем вводится разделение суждений на
истинные и ложные — разделение, которое из всех возможных
классификаций суждений является, быть может, наименее
существенным. То, что наряду с определением вводится и
некоторая классификация, я не могу признать логическим
недостатком. Что же касается ее значимости, то ее отнюдь не следует
недооценивать, ибо логика, как я уже говорил, возникает
именно из слова "истинный".
22
признав одновременно истинной мысль о том, что
данный объект имеет данное свойство. Таким образом, со
всяким свойством объекта связано некоторое свойство
мысли, а именно свойство истинности. Следует также
обратить внимание на то, что предложение "Я чувствую
запах фиалок" имеет то же содержание, что
предложение "Истинно, что я чувствую запах фиалок'. Таким
образом, кажется, что приписывание мысли свойства
истинности ничего не прибавляет к самой мысли.
Вместе с тем это не так: мы склонны говорить о
незаурядном успехе в ситуации, когда, после долгих колебаний
и мучительных поисков, исследователь наконец
получает право утверждать: "То, что я предполагал, истинно!"
Значение слова "истинный", как уже отмечалось,
является в высшей степени своеобразным. Быть может,
оно соответствует тому, что в обычном смысле никак
не может быть названо свойством? Несмотря на это
сомнение, я буду в дальнейшем следовать языковому
употреблению, как если бы истинность действительно
была свойством, до тех пор пока не будет найдено
более точного способа выражения.
Для того чтобы глубже исследовать то, что я буду
называть мыслью, мне понадобится некоторая
классификация предложений2. Предложению, выражающему
приказ, нельзя отказать в наличии смысла; однако это
смысл не того рода, чтобы можно было говорить об
истинности соответствующего предложения. Поэтому
смысл такого предложения я не буду называть мыслью.
По аналогичным соображениям исключаются и
предложения, выражающие желание или просьбу. Будут
рассматриваться лишь те предложения, в которых
выражается сообщение или утверждение. Я не отношу к их
числу возгласы, передающие наши чувства, стоны,
вздохи, смех и т.п., хотя они —с некоторыми
ограничениями — также предназначены для выражения
определенных сообщений. Что можно сказать о вопросительных
предложениях? Частный вопрос представляет собой в
некотором роде несамостоятельное предложение,
которое приобретает истинный смысл только после
дополнения его тем, что необходимо для ответа. Поэтому
2Я употребляю слово "предложение" здесь не в полном
соответствии с грамматической терминологией, называющей
предложениями также придаточные предложения. Однако
изолированное придаточное предложение не всегда имеет такой смысл,
при котором можно говорить об истинности; этим свойством
может обладать только сложное предложение, в состав которого
входит придаточное.
23
частные вопросы мы можем здесь не рассматривать.
Иначе обстоит дело с общими вопросами. В качестве
ответа на них мы ожидаем услышать "да" или "нет".
Ответ "да" выражает то же самое, что и утвердительное
предложение: он указывает на истинность некоторой
мысли, которая целиком содержится в
вопросительном предложении. Таким образом, для каждого
утвердительного предложения можно построить
соответствующее ему общевопросительное предложение. Именно
поэтому восклицание нельзя рассматривать как
сообщение: для восклицательного предложения не может
быть построено никакого соответствующего ему
вопросительного. Вопросительное предложение и
утвердительное предложение содержат одну и ту же мысль;
при этом утвердительное предложение содержит и
нечто еще, а именно само утверждение.
Вопросительное предложение в свою очередь также содержит нечто
еще, а именно побуждение. Таким образом, в
утвердительном предложении следует различать две части:
содержание [Inhalt], которое у этого предложения
совпадает с содержанием соответствующего общего
вопроса, и утверждение как таковое. Последнее является
мыслью или по крайней мере содержит мысль.
Возможно, следовательно, такое выражение мысли, которое не
содержит указаний относительно ее истинности. В
утвердительных предложениях то и другое столь тесно
связано, что возможности разделения данных
компонентов легко не заметить. Итак, мы будем различать:
1) формулирование мысли — мышление [Denken];
2) констатацию истинности мысли — суждение [Ur-
teilen]31;
3) выражение этого суждения — утверждение [Ве-
haupten].
Построение общего вопроса относится к первому
Мне представляется, что до сих пор граница между мыслью
и суждением проводилась недостаточно отчетливо. Возможно,
язык сам потворствует этому. Действительно, в утвердительном
предложении нет специального компонента, соответствующего
утверждению: то, что высказывается некоторое утверждение,
заключено в самой форме предложения. Немеций язык
благодаря этому имеет некоторое преимущество: в нем главное и
придаточное предложения различаются порядком слов. При этом,
однако, следует учесть, во-первых, то, что и придаточное
предложение может содержать утверждение, и, во-вторых, то, что
законченную мысль часто не выражает ни главное, ни придаточное
предложение само по себе, а лишь сложное предложение в
целом.
24
этапу этого процесса. Прогресс в науке обычно
происходит так, что вначале формулируется мысль,
выражаемая, например, в виде общего вопроса; и только
впоследствии, после необходимых исследований, эта
мысль признается истинной. Констатацию истинности
мы выражаем в форме утвердительного предложения.
При этом слово "истинный" нам не требуется. И даже
если мы употребляем это слово, собственно
утверждающая сила принадлежит не ему, а форме
утвердительного предложения как таковой; там же, где оно
утрачивает свою утверждающую силу, не может ничего
изменить и введение слова "истинный". Это происходит,
например, если мы говорим не всерьез. Подобно тому
как театральный гром является лишь имитацией грома,
театральное сражение— лишь имитацией сражения, так
и театральное утверждение является лишь имитацией
утверждения. Это лишь игра, лишь вымысел. Актер,
играя роль, ничего не утверждает — но он, однако, и
не лжет, даже когда он говорит то, в ложности чего он
сам уверен. Вымысел является тем случаем, когда
выражение мыслей не сопровождается, несмотря на
форму утвердительного предложения, действительным
утверждением их истиннрсти, хотя у слушающего может
возникнуть соответствующее переживание. Таким
образом, даже если перед нами нечто по форме
являющееся утвердительным предложением, необходима еще
дополнительная проверка того, действительно ли в нем
содержится утверждение. Ответ будет отрицательным,
если, в частности, отсутствует необходимая
серьезность. Будет ли при этом употреблено слово
"истинный", не имеет значения. Таким образом, оказывается,
что, приписывая мысли свойство истинности, мы, по
всей вероятности, ничего не добавляем к самой мысли.
Утвердительное предложение, помимо мысли и
утверждения, часто содержит еще и третий компонент,
на который утверждение не распространяется. Его
предназначение обычно заключается в воздействии на
эмоции или воображение слушающего; таковы,
например, выражения "к сожалению", "слава богу"
и т.п. Такие компоненты предложения отчетливее
проявляются в поэзии, однако и в прозе их полное
отсутствие является редкостью. В математических,
физических и химических сочинениях они встречаются
реже, нежели в исторических. То, что назьюают
гуманитарными науками [Geisteswissenschaften], стоит ближе
к поэзии, но потому и научного в них меньше, чем в
точных науках, которые чем "суше", тем точнее; ибо
25
точная наука устремлена к истине, и только к истине.
Таким образом, все компоненты предложения, на
которые не распространяется утверждающая сила, не
свойственны научному изложению, но даже и те, кто
видит связанную с ними опасность, едва ли могут
полностью избежать их употребления. Там, где
необходимо приблизиться к непостижимому разумом по
пути интуиции [Ahnung], указанные компоненты
полностью оправданны. Чем более строгим в научном
отношении является то или иное сочинение, тем менее
заметной оказывается национальная принадлежность
его создателя и тем легче оно поддается переводу.
Напротив, перевод художественных произведений те
компоненты языка, о которых здесь идет речь,
заметно усложняют, а часто и вовсе делают
невозможным; хотя именно благодаря им создается в
значительной степени ценность художественного произведения
и языки различаются наиболее существенно.
Употреблю ли я слово Pferd 'лошадь'*, или Rofi
'конь', или Gaul 'лошадка', или Mahre 'кляча', я тем
самым отнюдь не выражу различных мыслей.
Утверждающая сила мысли не распространяется на то, что
отличает эти слова друг от друга. То, что в поэзии
можно назвать настроением, нюансом, оттенком, то, что
изображается с помощью интонации и ритма, не
относится к мысли.
В языке многое предназначено для того, чтобы
облегчать слушающему восприятие текста, например
выделение какого-либо члена предложения с помощью
интонации или порядка слова. Интересны в этом
отношении также слова типа noch 'еще' и schon 'уже'.
В предложении Alfred ist noch nicht gekommen
'Альфред еще не пришел' сообщается, собственно, что
Альфред не пришел, но при этом косвенно указьюается,
что его прихода ожидают. Речь идет именно о
косвенном указании (andeuten): нельзя утверждать, что смысл
приведенного предложения оказался бы ложным, если
бы прихода Альфреда никто не ожидал. Слово aber
'но' отличается от слова und 'и' тем, что с помощью
первого выражается косвенное указание на
противопоставление между предыдущей и последующей частями
предложения. Наличие подобных указаний [ букв.
Winke — намеков. —Прим. перев.], как правило, не
приводит к различиям мысли. Можно перестроить
предложение таким образом, что глагол будет переведен из
*Переводы условны. —Прим. перев.
26
активного залога в пассивный, а аккузативное
дополнение окажется подлежащим. Точно так же можно,
заменив дательный падеж на именительный, употребить
не глагол geben 'давать', а глагол empfangen
'получать'. Разумеется, подобные преобразования не во всех
отношениях эквивалентны; однако они не затрагивают
мысли, они не затрагивают того, что может быть
истинным или ложным. Признание недопустимости
подобных преобразований затруднило бы всякое более
глубокое логическое исследование. Одинаково важно как
уметь абстрагироваться от таких различий, которые
не затрагивают главного, так и уметь выделять те
различия, которые касаются существа дела. Однако что
именно является существенным — зависит от наших
целей. Направляя внимание на красоту языка, мы
начинаем придавать значение как раз тому, что
оказывается менее значимым для логического исследования.
Таким образом, содержание предложения нередко
оказывается шире, чем выраженная в нем мысль. Но
часто верным оказывается и обратное, когда слово
само по себе, то есть последовательность звуков,
которая может быть зафиксирована на письме или с
помощью фонографа, оказывается недостаточным для
выражения мысли. Настоящее время [tempus praesens]
употребляется двояким образом: во-первых, для
указания на определенный момент времени и, во-вторых,
для указания на отсутствие какой-либо временной
границы. Последнее происходит в том случае, когда
предметом мысли является вневременное или вечное;
примером могут служить математические законы.
Какой из двух указанных случаев имеет место,
специально никак не выражается, и слушающий должен
определить это сам. Если с помощью настоящего
времени дается указание на определенный момент
времени, то для правильного понимания мысли говорящего
необходимо знать время произнесения предложения.
В этом случае, следовательно, время произнесения
предложения влияет на способ выражения мысли.
Пусть некто вчера высказал какую-то мысль,
употребив при этом слово "сегодня". Если он хочет сегодня
воспроизвести ту же самую мысль, то он должен в
своей речи заменить слово "сегодня" на слово "вчера".
Хотя это та же самая мысль, говорящий должен
выразить ее иными словами, чтобы избежать изменения
смысла, могущего возникнуть из-за изменения
времени произнесения предложения. Сходным образом
обстоит дело и с употреблением слов типа "hier" 'здесь',
27
"da" 'там'. Во всех подобных случаях звучание слова
само по себе в том виде, как оно может быть передано
на письме, не обеспечивает полного выражения мысли;
для правильного понимания этой мысли необходимо
также знание некоторых обстоятельств произнесения
соответствующего предложения, участвующих в
выражении мысли. К таким компонентам могут также
относиться указательные и другие жесты, направление
взгляда и т.п. Точно так же слово "я" в устах
различных людей выражает различные мысли, среди
которых одни могут быть истинными, а другие ложными.
С употреблением слова "я" в предложении связан
еще ряд проблем.
Представим себе следующий случай. Доктор Густав
Лаубен говорит: Ich bin verwundet worden 'Меня
ранили'. Лео Петер слышит это и рассказывает через
несколько дней: Dr. Gustav Lauben ist verwundet
worden 'Доктора Густава Лаубена ранили'. Выражает ли
последнее предложение ту же мысль, что и
предложение, произнесенное самим доктором Лаубеном?
Предположим, что Рудольф Лингенс был свидетелем слов
доктора Лаубена, а впоследствии услышал и то, что
было сказано Лео Петером. Если доктор Лаубен и Лео
Петер высказали одну и ту же мысль, то Рудольф
Лингенс, владея немецким языком и помня о том, что
сказал доктор Лаубен в его присутствии, должен,
услышав Лео Петера, сразу же установить, что речь
идет об одном и том же событии. Однако знание
немецкого языка — это еще не все, если речь идет о
собственных именах. Естественно предположить, что лишь для
немногих людей в предложении "Доктора Густава
Лаубена ранили" выражена целиком определенная мысль.
Для полного понимания этого предложения
необходимо знать, что означают слова "доктор Густав Лаубен".
Если, например, и Лео Петер, и Рудольф Лингенс под
словами "доктор Густав Лаубен" подразуемевают
некоторого единственного врача, который живет в
некотором им обоим известном месте, то оба они
понимают предложение "Доктора Густава Лаубена ранили"
одним и тем же образом, они вкладывают в него одну
и ту же мысль. При этом, однако, может быть так, что
Рудольф Лингенс не знает доктора Лаубена лично и
не знает, что именно доктор Лаубен недавно сказал
"Меня ранили". В этом случае Рудольф Лингенс не
может знать, что речь идет об одном и том же событии.
Поэтому я утверждаю, что в данном случае мысль,
высказанная Лео Петером, не тождественна мысли,
28
которую высказал доктор Лаубен.
Предположим, далее, что Херберт Гарнер знает,
что доктор Густав Лаубен родился 13 сентября 1875 г.
в N и что никто другой не родился тогда же и там же,
но не знает, где живет доктор Лаубен в настоящее
время и вообще не имеет никаких других сведений о нем.
С другой стороны, пусть Лео Петер не знает, что доктор
Густав Лаубен родился 13 сентября 1875 г. в N. В таком
случае Херберт Гарнер и Лео Петер будут, употребляя
имя собственное "доктор Густав Лаубен", говорить на
разных языках, хотя они в действительности и будут
этим именем обозначать одного и того же человека: ведь
они не будут знать, что делают именно это. Херберт
Гарнер будет связывать с предложением "Доктора Густава
Лаубена ранили" не ту мысль, которую хотел бы
выразить Лео Петер. Чтобы избежать парадоксального
утверждения о том, что Херберт Гарнер и Лео Петер
говорят на разных языках, я могу принять, что Лео Петер
употребляет имя собственное "доктор Лаубен", а
Херберт Гарнер—-имя собственное "Густав Лаубен". В
таком случае становится возможным, что Херберт
Гарнер будет считать истинным смысл предложения
"Доктора Лаубена ранили", в то время как смысл
предложения "Густава Лаубена ранили" он, введенный в
заблуждение ложными сведениями, будет считать ложным.
Таким образом, если принять высказанные
предположения, то эти две мысли оказываются различными.
Итак, для имен собственных существенно, каким
образом задается тот, та или то, кто ими обозначается.
Это может происходить различными способами, и
каждый такой способ будет соответствовать особому
смыслу предложения, содержащего имя собственное.
Различные мысли, которые таким образом получаются
из одного и того же предложения, правда, совпадают в
отношении истинностного значения, то есть если одна
из них истинна, то и все остальные тоже истинны, а если
одна из них ложна, то и все остальные ложны. Вместе
с тем следует признать и их различие. Необходимо,
следовательно, потребовать, чтобы каждому имени
собственному был сопоставлен единственный способ,
которым задается тот, та или то, кто обозначается этим
именем. Выполнение этого требования часто
необязательно, однако отнюдь не во всех случаях.
Каждый из нас для самого себя задан, так сказать,
наиболее глубоким и специфическим образом, так, как
он не может быть задан ни для кого другого. Если, к
примеру, доктор Лаубен думает, что его ранили, то он,
29
вероятно, использует при этом указанное специфическое
представление о себе самом. Мысль, сформулированная
таким образом, может принадлежать только доктору
Лаубену. Теперь предположим, что он захотел сообщить
нечто о себе другому человеку. Он не может сообщить
ту мысль, которую только он в состоянии
сформулировать. Если же он скажет "Меня ранили", то слово "я"
он должен будет употребить в таком смысле, который
был бы доступен и для другого человека,
приблизительно в смысле "тот, кто в этот момент говорит с тобой",
чтобы использовать для выражения мысли те
обстоятельства, которые сопутствуют его речи4 .
В этом случае, однако, возникает следующее
сомнение: правомерно ли в принципе утверждение, что
мысль, высказанная двумя разными людьми, может
быть одной и той же мыслью?
Человек, не искушенный в философии, осознает
прежде всего те объекты, которые он может видеть,
осязать, одним словом, воспринимать с помощью
чувств: деревья, камни, дома и т.п.; он убежден, что
и другой человек может точно так же видеть и осязать
то же самое дерево, тот же самый камень, которые он
сам видит и осязает. В разряд подобных объектов
мысль, разумеется, не входит. Может ли она, несмотря
на это, обладать по отношению к людям теми же
свойствами, что и такой, например, объект, как дерево?
Даже не-философ рано или поздно оказывается
перед необходимостью признать существование
внутреннего мира, отличного от мира внешнего: мира, который
образуют чувственные впечатления, создания
воображения, ощущения, эмоции, настроения; мира
склонностей, желаний и решений. Для краткости все эти
компоненты"—за исключением решений —я буду в дальней-
Мое положение несколько хуже, чем, например, положение
минералога, который может показать своему собеседнику
горный кристалл. Я не могу вложить в руки своим читателям
мысль и попросить их хорошенько рассмотреть ее со всех
сторон. Я должен удовлетвориться возможностью представить
читателю мысль, саму по себе внечувственную,в чувственной
языковой оболочке. При этом образность языка создает некоторые
затруднения. Чувственное неизменно вторгается в область вне-
чувственного, сообщая выражениям образность и,
следовательно, неточность. Так возникает борьба с языком, вынуждающая
меня заниматься лингвистическими проблемами, хотя это,
вообще говоря, не входит в мою непосредственную задачу. Я
надеюсь, что мне по крайней мере удалось объяснить моим
читателям, что я называю мыслью.
30
шем объединять под названием "представление" [Vor-
stellung].
Принадлежат ли мысли этому внутреннему миру?
Являются ли они представлениями? Очевидно, что,
например, решения представлениями не являются.
Чем отличаются представления от объектов
внешнего мира?
(1) Представления не могут быть восприняты ни
зрением, ни осязанием, ни обонянием, ни
вкусом, ни слухом.
Предположим, я совершаю прогулку вдвоем со
спутником. Я вижу зеленый луг; у меня возникает
зрительное ощущение зеленого. Я обладаю этим
ощущением, но я его (ощущение) не вижу.
(2) Представлениями обладают; их имеют. Мы
обладаем ощущениями, эмоциями, настроениями,
склонностями, желаниями. Представление,
которым обладает некоторый человек, составляет
содержание его сознания.
Луг, лягушки на нем, солнце, их освещающее,—
все это существует независимо от того, смотрю я на
это или нет. Однако чувственное впечатление зеленого,
которым я обладаю, возникает только благодаря мне:
я являюсь его носителем. Нам кажется
несообразностью существование в мире боли, настроения или
желания самих по себе, без их носителей. Ощущение
невозможно без ощущающего. Внутренний мир
предполагает того, внутри кого он существует.
(3) Представления требуют существования
носителя. Объекты же внешнего мира являются в
этом отношении автономными.
Мой спутник и я убеждены в том, что мы видим
один и тот же луг; однако каждый из нас обладает
своим особым чувственным впечатлением зеленого.
Я вижу ягоду между зелеными листьями земляники;
мой спутник ее не замечает: он дальтоник. Цветовое
ощущение, которое он получает от земляничной ягоды,
практически не отличается от того, которое он получает
от земляничных листьев. Видит ли мой спутник
зеленый лист красным, видит ли он красную ягоду
зеленой? Или он видит и то, и другое в одном и том же
цвете, который вовсе мне не известен? Это вопросы, на
которые нет ответа; это, собственно говоря,
бессмысленные вопросы. Слово "красный", если оно
предназначено не для указания на некоторые свойства
объектов, а для обозначения чувственных впечатлений,
принадлежащих моему сознанию, применимо только в
31
области моего сознания; в этом случае сравнение моих
впечатлений с впечатлениями другого человека
невозможно. Для такого сравнения потребовалось бы
объединить впечатление, принадлежащее одному сознанию,
и впечатление, принадлежащее другому сознанию, в
некотором едином сознании. Даже если бы было
возможно, так сказать, стереть некоторое представление
в некотором сознании и одновременно вызвать
некоторое представление в некотором другом сознании,
вопрос о тождестве этих двух представлений все равно
оставался бы открытым. Быть содержанием моего
сознания — настолько существенное свойство любого из
моих представлений, что всякое представление,
принадлежащее другому человеку, уже в силу одного факта
этой принадлежности отличается от моего
представления... Для каждого человека невозможно сравнение
чужих представлений с его собственными. Я срываю
ягоду земляники; я держу ее в руке. Теперь и мой
спутник видит ее, ту же самую ягоду; однако каждый из
нас обладает своим собственным представлением.
Никто другой не может обладать моим
представлением; но многие могут видеть тот же самый объект,
что и я. Моя боль не может принадлежать никому
другому. Кто-то другой может испытывать сострадание ко
мне; но при этом моя боль всегда будет принадлежать
мне, а его сострадание ■— ему. Он не испытывает моей
боли, а я не испытываю его сострадания.
(4) Всякое представление имеет только одного
носителя; никакие два человека не обладают
одним и тем же представлением.
В противном случае представления существовали
бы независимо от людей. Является ли вот эта липа
моим представлением? Употребляя в своем вопросе
выражение "вот эта липа", я, собственно, уже
предвосхищаю ответ: с помощью данного выражения я
обозначаю нечто, что я вижу и что доступно также восприятию
других людей. И здесь возможны два случая. Если мое
намерение исполнено, если с помощью выражения "вот
эта липа" я действительно нечто обозначаю, то,
очевидно, мысль, выраженная в предложении "Вот эта липа
является моим представлением", ложна. Если, однако,
я не осуществил своего намерения, если я только
предполагаю, что нечто вижу, а в действительности не вижу,
если, следовательно, обозначение "вот эта липа"
беспредметно [leer], то я, сам того не желая и не
подозревая, оказался в области вымысла. В этом случае ни
содержание предложения "Вот эта липа является моим
32
представлением", ни содержание предложения "Вот
эта липа не является моим представлением" не будут
истинными: оба предложения представляют собой
высказывания, объект которых отсутствует. Ответ на
поставленный вопрос может быть в этом случае лишь
непрямым, имея вид объяснения, что содержание
предложения "Вот эта липа является моим представлением"
есть вымысел. Правда, и в этом случае я, пожалуй,
могу иметь некоторое представление; но его нельзя
связывать со словами "вот эта липа". С другой
стороны, кто-то еще действительно мог бы обозначить
словами "вот эта липа" одно из своих представлений; в
этом случае он был бы носителем того, что он
обозначил соответствующими словами. Однако он не видел
бы той липы, о которой идет речь, и никакой другой
человек не видел бы ее и не оыл бы носителем
соответствующего представления.
Теперь я возвращаюсь к поставленному ранее
вопросу: является ли мысль представлением? Если
мысль, которую я выражаю, например, в теореме
Пифагора, может быть признана истинной как мной, так
и другими людьми, то она не относится к содержанию
моего сознания, а я не являюсь ее носителем, хотя и
могу вынести суждение относительно ее истинности.
Предположим, однако, что то, что я и какой-то другой
человек считаем содержанием теоремы Пифагора, не
есть одна и та же мысль. В этом случае, вообще говоря,
сочетание "теорема Пифагора" было бы неуместно;
следовало бы различать "мою теорему Пифагора",
"его теорему Пифагора" и т.п. Моя мысль будет
содержанием моего сознания, его мысль — содержанием его
сознания. Может ли в этом случае смысл моей
теоремы Пифагора" быть истинным, а "его теоремы
Пифагора" — ложным? Я говорил, что слово "красный"
может быть применимо только в области моего
сознания, если считать, что оно обозначает не некоторое
свойство реальных объектов, а какие-то из моих
чувственных впечатлений. Таким образом, и слова
"истинный" и "ложный" могли бы в указанном понимании
быть применимы только в области моего сознания,
если предположить, что они не должны касаться того,
носителем чего я не являюсь, а должны так или иначе
обозначать то, что содержится в моем сознании. Тогда
истинность была бы ограничена содержанием моего
сознания и было бы в высшей степени сомнительно,
что в сознании другого человека сможет обнаружиться
нечто хотя бы подобное моему.
2—567
33
Если мысль невозможна без человека, сознанию
которого она принадлежит, то это — мысль лишь этого
человека и никакого другого. В этом случае
невозможна и такая наука, которая является общей для многих
людей и в которой могут сотрудничать многие люди;
вместо этого у меня будет моя наука, точнее,
некоторая совокупность мыслей, носителем которых я
являюсь, у другого человека — его наука и т.д. Каждый из
нас будет заниматься содержанием своего сознания.
Противоречие между двумя науками в этом случае
невозможно; более того, споры об истине становятся
праздными, такими же праздными и даже, быть может,
смешными, как споры двух людей о том, настоящая ли
банкнота в сто марок в той ситуации, когда каждый
из спорящих имеет в виду ту банкноту, которую он
держит у себя в кармане, да к тому же употребляет
слово "настоящий" в особом, лишь ему одному
понятном смысле. Если кто-либо считает мысли
представлениями, то то, что он признает истинным, является лишь
содержанием его сознания и в сущности никак не
соотносится с другими сознаниями. И если бы он
услышал от меня, что мысль не является представлением,
он не стал бы оспаривать мое мнение, ибо и оно не
имело бы для него никакого значения.
Итак, мы приходим, по-видимому, к тому, что
мысли не являются ни объектами внешнего мира, ни
представлениями.
Следует, таким образом* выделить третью область.
Элементы, входящие в эту область, совпадают с
представлениями в том отношении, что не могут быть
восприняты чувствами, а с объектами внешнего мира —в
том, что они не предполагают наличия носителя,
сознанию которого они принадлежат. Так, например, мысль,
которую мы выражаем в теореме Пифагора, является
истинной безотносительно ко времени [zeitlos],
истинной независимо от того, существует ли некто
считающий ее истинной. Она не предполагает никакого
носителя. Она является истинной отнюдь не только с
момента ее открытия, подобно тому как планета, даже и не
будучи еще обнаруженной людьми, находится во
взаимодействии с другими планетами5.
Мы видим предмет, мы обладаем представлением, мы
формулируем мысль в процессе мышления. Формулируя мысль в
процессе мышления, мы не создаем мысль, а лишь вступаем с
тем, что уже существовало раньше, в определенные отношения,
которые отличаются и от зрительного восприятия предмета, и
от обладания представлением.
34
Но здесь, мне кажется, я могу предвидеть одно,
несколько необычное, возражение. Я много раз
предполагал, что если я вижу некоторый объект, то и
другой человек может его увидеть. Но вдруг все сущее
есть лишь призрачный сон? Если моя прогулка в
сопровождении спутника — лишь создание моего
воображения, если мне лишь грезится, что мой спутник,
подобно мне, видит зеленый луг, если все это —лишь пьеса
на подмостках моего сознания, то само существование
объектов внешнего мира является в этом случае
крайне сомнительным. Быть может, материального мира
не существует, и я в действительности не вижу ни
предметов, ни людей, а обладаю лишь представлениями,
носителем которых являюсь я один. То, что может
существовать независимо от меня не в большей
степени, чем, например, мое ощущение усталости, то, что
является представлением, — то не может быть человеком,
не может вместе со мной смотреть на луг, не может
видеть ягоду, которую я держу. Но, в сущности,
утверждение, что вместо всего окружающего меня мира, в
котором я передвигаюсь и действую, я обладаю лишь
своим внутренним миром, является абсолютно
невероятным. И вместе с тем оно является непреложным
следствием из того тезиса, что объектом моего
восприятия может быть лишь то, что является моим
представлением. Что должно следовать из этого тезиса, если
он истинный? Существуют ли в этом случае другие
люди? В принципе их существование допускается, но я не
могу о них ничего знать: дело в том, что человек не
может быть моим представлением, а следовательно,
если рассматриваемый тезис истинный, не может быть
и объектом моего восприятия. И, таким образом,
разрушается та основа, на которой были построены все
мои рассуждения: утверждение о существовании
объектов, которые могут восприниматься не только мной,
но и другими людьми: ведь если даже такой объект
и обнаружится, то я не смогу ничего узнать об этом.
Для меня окажется невозможным отличить то,
носителем чего я являюсь, от того, носителем чего я не
являюсь. Вынося суждение о том, что нечто не является
моим представлением, я тем самым делаю это нечто
предметом моего мышления и, следовательно, моим
представлением. Существует ли тогда зеленый луг?
Возможно; но он будет для меня невидим.
Действительно, если луг не является моим представлением, то
он — согласно рассматриваемому тезису — не может
быть объектом моего восприятия. Если же он является
2*
35
моим представлением, то он невидим: ведь
представления невидимы. Я, конечно, могу обладать
представлением о зеленом луге, но оно не будет зеленым —
зеленых представлений не существует. А существует ли,
например, снаряд весом 100 кг? Возможно; но я не
смогу ничего о нем узнать. Если снаряд не является
моим представлением, то он —в соответствии с нашим
тезисом —не может быть объектом моего восприятия,
моего мышления. Если же снаряд является моим
представлением, то он не может иметь вес. Я могу иметь
представление о тяжелом снаряде; это представление
содержит в качестве своей составной части
представление о тяжести. Но это последнее, являясь частью моего
совокупного представления, не является его
свойством—точно так же как Германия не является
свойством Европы. Таким образом, мы приходим к
следующему:
Тезис, согласно которому объектом моего
восприятия может быть лишь то, что является
моим представлением, либо ложен, либо все мои
знания и весь мой опыт ограничиваются областью
моих представлений, подмостками моего
сознания. В этом случае я могу обладать только
внутренним миром, а о других людях я не буду знать
ничего.
Удивительно, как переходят друг в друга
противоположности в подобных рассуждениях. Возьмем,
например, специалиста по физиологии чувств. Как
подобает ученому-естествоиспытателю, он вначале вполне
далек от того, чтобы считать своими представлениями
объекты, которые он, по его убеждению, видит и
осязает. Напротив, в чувственных ощущениях он склонен
видеть надежнейшие источники сведений об объектах,
которые существуют абсолютно независимо от его
эмоций, воображения, мыслей и которые не обязательно
обладают его сознанием. Нервные волокна, нервные
узлы он настолько не признает содержанием своего
сознания, что он, напротив, скорее склонен
рассматривать свое сознание как зависящее от нервных
волокон и нервных узлов. Он утверждает, что лучи света,
попав в глаз, встречают на своем пути окончания
зрительных нервов и вызывают в них некоторое
изменение, некоторое раздражение. Оттуда нечто с помощью
нервных волокон передается дальше и достигает
нервных узлов. Затем, возможно, в нервной системе
происходят другие процессы, и в результате возникают
цветовые ощущения, которые связываются с тем, что
36
мы, вероятно, назовем представлением о доме. Мое
представление о доме отделено от дома целым рядом
физических, химических, физиологических процессов.
Непосредственно же с моим сознанием оказываются
связанными, по-видимому, лишь процессы в моей
нервной системе; причем у каждого человека,
смотрящего на дерево, возникают его индивидуальные
процессы в его индивидуальной нервной системе. С другой
стороны, лучи света, прежде чем попасть в мои глаза,
могут быть отражены некоторой зеркальной
поверхностью и начать распространяться далее таким образом,
как если бы они исходили из точки, расположенной за
зеркалом. Воздействие на зрительные нервы и все
последующее будут в этом случае происходить точно так,
как это происходило бы, если бы лучи света исходили
от дерева, расположенного за зеркалом, и непосред-
срвенно попадали в глаз. В конце концов у человека
возникает предствление о дереве, хотя подобного
дерева в действительности не сущетвует. Отклонение
световых лучей может воздействовать на глаза и нервную
систему таким образом, что вызовет представление,
которое ничему не соответствует. Более того,
раздражение зрительных нервов не обязательно происходит
только под воздействием света. Если вблизи от нас
ударяет молния, нам представляется, что мы видим
пламя, хотя саму молнию мы видеть не можем. В этом
случае зрительный нерв раздражается, по-видимому,
электрическими токами, которые возникают в нашем
теле вследствие удара молнии. Поскольку зрительный
нерв в ответ на это испытывает такое же раздражение,
какое он испытал бы в ответ на световые лучи,
исходящие от пламени, то нам кажется, что мы видим пламя.
Существенным оказывается лишь факт раздражения
зрительного нерва; как именно это последнее
возникает — для человека безразлично.
Можно продвинуться еще на один шаг. Собственно
говоря, раздражение зрительного нерва не дано нам
непосредственно, оно является лишь предположением.
Мы полагаем, что некоторый независимый от нас
объект раздражает нерв и в результате возникает
чувственное впечатление; но, строго говоря, мы ощущаем
только конечный этап этого процесса, который и
фиксируется нашим сознанием. Разве это чувственное
впечатление, это ощущение, которое мы возводим к
раздражению нерва, не может иметь и других причин,
подобно тому как одно и то же раздражение может
возникать в силу различных обстоятельств? Если мы
37
будем называть это представлением, проникающим в
наше сознание, то тем самым окажется, что мы
ощущаем лишь представления, а не их причины. И если
исследователь захочет избавиться от всего, что является
только предположением, то у него останутся одни
представления; все растворится в представлениях — и
световые лучи, и нервные волокна, и нервные узлы, из
которых он исходил. Так он, в конце концов,
разрушает основы своей собственной постройки. Значит, все
является представлением? Значит, все предполагает
носителя, без которого не существует представления?
Я считаю себя носителем моих представлений; но не
являюсь ли и я сам представлением? Я нахожусь в
таком положении, как если бы я лежал на кушетке и
видел увесистые носки сапог, верх брюк, жилет,
пуговицы, части сюртука (особенно рукава), две руки,
несколько волосков бороды, размытые очертания
носа... И все это множество зрительных впечатлений, это
совокупное представление — это я сам? Я нахожусь в
таком же положении, как если бы я видел на этом
месте стул. Стул является представлением, однако я не
так уж сильно отличаюсь от него: разве я сам не
являюсь точно так же совокупностью чувственных
впечатлений, представлением? Но кто же в таком случае
носитель этих представлений? Как мне удается вычленить
одно из этих представлений и представить его в
качестве носителя других представлений? Почему этим
представлением является то, которое я имею обыкновение
называть словом "я"? Разве я не могу с тем же
успехом выбрать для этой цели такое представление,
которое я обычно называю словом "стул"? И для чего
вообще нужен носитель представлений? Если бы
таковой существовал, он был бы всегда чем-то отличным от
обычных представлений, имеющих носителя, чем-то
самостоятельным, независимым, не допускающим
никакого другого носителя. Если все является
представлением, то не существует и носителя представлений.
И таким образом мы еще раз наблюдаем, как
противоположности переходят друг в друга. Если не
существует носителя представлений, то не существует и
представлений, ибо представления предполагают носителя,
без которого они не могут возникнуть. Если нет
господина, то не может быть и подданных. Неавтономность,
которую я вынужден был признать у ощущений в
отличие от субъекта ощущений, отменяется, если носителя
ощущений более не существует. То, что я называл
представлениями, превращается, следовательно, в самосто-
38
ятельные предметы, и нет никакой причины уделять
особое место тому предмету, который я называю
словом "я".
Но возможно ли подобное? Может ли существовать
переживание без того, кто это переживание
испытывает? Чем было бы все это зрелище без единого зрителя?
Может ли существовать боль без того, кто испытывает
боль? Боль, бесспорно, есть объект ощущения, но и
субъект ощущения сам становится его объектом. В
таком случае существует и то, что не является моим
представлением, но может быть объектом моего
созерцания, моего мышления; сам я есть объект того же
рода. Но, возможно, я способен быть частью содержания
своего сознания, в то время как другой его частью
является, например, представление о луне? Имеет ли
место такое положение, например, в том случае, когда я
высказываю суждение, что я смотрю на луну? Тогда
первая часть моего сознания будет обладать сознанием,
а часть содержания этого сознания будет снова мной,
и т.д. Но то, что я так до бесконечности вкладываюсь
в себя самого, представляется все же немыслимым:
ведь в этом случае должен существовать не один я, а
бесконечно много. Я не являюсь своим собственным
представлением, и если я нечто утверждаю о себе
самом, например что я в данный момент не испытываю
боли, то мое суждение имеет отношение к тому, что
не является содержанием моего сознания, не является
моим представлением, а именно ко мне самому. Таким
образом, то, о чем я делаю некоторое утверждение, не
обязательно является моим представлением. Однако
мне могут возразить следующее. Когда я думаю, что
в данный момент я не испытываю боли, то разве слову
"я" не соответствует ничего в содержании моего
сознания? И не является ли это представлением? Такое,
действительно, возможно. С представлением,
воплощенным в слове "я" в моем сознании, действительно, может
быть связано некоторое представление. Но в этом
случае оно будет таким же представлением, как и все
другие представления и я буду его носителем, как и
всех других представлений. Я обладаю представлением
о себе самом, но я не являюсь этим представлением.
Необходимо строго различать то, что является
содержанием моего сознания, моим представлением, и то, что
является объектом моего мышления. Следовательно,
тезис, согласно которому объектом моего восприятия,
моего мышления может быть лишь то, что относится к
содержанию моего сознания, является ложным.
39
Теперь уже я могу беспрепятственно утверждать,
что не только я, но и другой человек способен быть
самостоятельным носителем представлений. Я обладаю
представлением о другом человеке, но я не смешиваю
это представление с ним самим. И если я произношу
некоторое утверждение о моем брате, то это
утверждение относится к моему брату, а не к моему
представлению о нем. Больной, который испытывает боль,
является носителем этой боли; однако врач, который
размышляет о причинах этой боли, не является носителем
этой боли. Врачу никогда не придет в голову считать,
что, введя себе обезболивающее лекарство, он тем
самым устранит боль и у своего пациента. Правда, с
болью пациента может быть связано некоторое
представление о ней в сознании врача; но это представление
не есть боль, не есть то, на устранение чего направлены
усилия врача. Представим себе, что этот врач пригласил
еще одного своего коллегу. В этом случае мы должны
различать: во-первых, боль, носителем которой
является больной; во-вторых, представление одного врача об
этой боли; в-третьих, представление другого врача об
этой же боли. Это представление хотя и принадлежит к
содержанию сознания обоих врачей, но не является
предметом их размышлений; в крайнем случае оно
может играть вспомогательную роль в их размышлениях
(какую мог бы играть, например, рисунок). Оба
врача имеют дело с одним и тем же объектом — с болью
их пациента; носителями же этой боли они не
являются. Отсюда следует, что не только вещь, но и
представление может быть общим объектом мышления
нескольких различных людей, не обладающих этим
представлением.
Итак, дело обстоит, по-видимому, следующим
образом. Если бы человек не мог выбирать в качестве
объектов своего мышления то, носителем чего он не
является, у него был бы только его внутренний мир,
а внешний мир отсутствовал бы. Но не основано ли это
утверждение на ошибке? Я убежден, что представление,
которое я связываю со словами "мой брат",
соответствует чему-то, что не является моим представлением
и о чем я могу высказать определенное суждение. Но
не могу ли я заблуждаться? Подобные заблуждения
встречаются. В этом случае мы вопреки нашему
намерению впадаем в вымысел. Действительно, признавая
существование внешнего по отношению ко мне мира,
я подвергаю^ себя опасности заблуждения. И здесь я
сталкиваюсь с еще одним различием между моим внут-
40
ренним миром и внешним миром. У меня не может
быть сомнений в том, что я обладаю зрительным
впечатлением зеленого; однако у меня гораздо меньше
оснований быть уверенным в том, что я вижу,
например, именно лист липы. Таким образом вопреки
широко распространенному убеждению мы
обнаруживаем во внутреннем мире надежность, в то
время как с переходом во внешний мир сомнение нас
никогда не покидает полностью. Несмотря на все
усилия, вероятное во многих случаях с трудом
отличимо от очевидного, так что суждение об
объектах внешнего мира требует он нас некоторой
смелости. И мы должны смириться даже с опасностью
заблуждения, если мы не хотим стать жертвами
еЩе больших опасностей.
Из приведенных рассуждений я делаю следующий
вывод: не все то, что может быть объектом моего
познания, является представлением. Я, будучи
носителем представлений, сам не являюсь представлением.
Теперь можно беспрепятственно признать и
существование других людей, носителей представлен™,
подобно мне самому. И, однажды вступив на этот путь,
следует признать и то, что в большинстве случаев мы
имеем дело с вероятным, которое, на мой взгляд,
почти не отличается от очевидного. Существовала ли бы
иначе такая наука, как история? Не было ли бы иначе
всякое учение о долге, всякое право несостоятельным?
Что осталось бы тогда от религии? Да и естественные
науки могли бы считаться только вымыслом, чем-то
вроде астрологии или алхимии. Таким образом,
рассуждения, приведенные выше и исходящие из того, что,
кроме меня, существуют и другие люди, которые
могут иметь общие со мною объекты восприятия и
мышления, остаются в значительной степени в силе.
Не все является представлением. Таким образом,
я могу признать, что и мысль независима от меня, так
как ту мысль, которую сформулировал я, могут
сформулировать и другие люди. Я могу признать
существование науки, в которой способны сотрудничать
многие исследователи. Мы не являемся носителями мыслей
в той степени, в какой мы являемся носителями
представлений. Мы обладаем мыслью не так, как мы
обладаем, например, чувственным впечатлением; но мы
воспринимаем мысль и не так, как мы воспринимаем,
например, звезду. Поэтому необходимо выбрать для
обозначения этого отношения специальное выражение;
наиболее подходящим для этого нам представляется
41
слово "формулировать" (fassen). Формулирование6
мыслей должно соответствать особой духовной
способности, мыслительной силе. В процессе мышления мы не
производим мыслей, мы формулируем их. То, что я
назвал мыслью, находится в теснейшей связи с
истинностью. То, что я признаю истинным, об истинности
чего я выношу суждение, является истинным
совершенно независимо от того, признаю ли я это истинным,
и даже независимо от того, думаю ли я об этом
вообще. К истинности мысли не имеет отношения то
обстоятельство, что эта мысль кому-то принадлежит. "Факты!
Факты! Факты!"— восклицает естествоиспытатель,
желая подчеркнуть необходимость более надежного
обоснования науки. Что такое факт? Факт — это такая
мысль, которая истинна. Но в качестве более
надежного обоснования науки естествоистпытатель, конечно
же, не признает то, что зависит от такого
непостоянного параметра, как состояние человеческого сознания.
Труд ученого состоит не в созидании, а в открытии
истинных мыслей. Астроном может использовать
математические истины для исследования давно минувших
событий, которые происходили тогда, когда на Земле
еще никто не мог засвидетельствовать истинность чего
бы то ни было. Астроном может это сделать, поскольку
истинность мысли безотносительна ко времени. Таким
образом, истина не обязательно возникает только в
момент ее открытия.
Не все является представлением. Иначе психология
заключала бы в себе все науки или, по крайней мере,
была бы высшим авторитетом по отношению ко всем
остальным наукам; иначе психология господствовала
бы даже в логике и математике. Ничто, однако, не
противоречит духу математики в такой степени, как ее
зависимость от психологии. Ни логика, ни математика
не имеют задачи исследовать духовный мир и сознание,
носителем которых является отдельный человек.
Скорее, их задачей можно было бы считать исследование
разума-разума, а не души [des Geistes, nicht der Gei-
ster].
Формулирование мысли предполагает существова-
6Выражение "формулирование" является в той же степени
образным, что и "содержание сознания". Природа нашего
языка не позволяет выразиться иначе. То, что я держу в ладони,
можно считать содержащимся в ней, но моя ладонь содержит это
совсем не в том смысле, в каком она содержит кости и мышцы,
из которых состоит; содержимое ладони гораздо более
чужеродно самой ладони.
42
ние того, кто ее формулирует, того, кто мыслит. Он
является, следовательно, носителем мышления, но не
мысли. Хотя мысль и не входит в содержание сознания
того, кто мыслит, тем не менее в сознании должно
иметься нечто, что соотносится с мыслью. Но это
последнее не следует смешивать с самой мыслью. Так,
звезда Алголь сама по себе отличается от
представления об Алголе, которым обладает тот или иной
человек.
Мысль не относится ни к представлениям из моего
внутреннего мира, ни к внешнему миру, миру
чувственно воспринимаемых объектов.
Сказанное, как бы непреложно оно ни следовало
из приведенных выше рассуждений, тем не менее
принимается не без некоторого сопротивления. Я думаю,
что не исключено существование человека, которому
покажется невозможным получать сведения о том,
что не относится к его внутреннему миру, способом,
отличным от чувственного восприятия. Действительно,
чувственное восприятие часто рассматривается как
самый надежный или даже как единственный источник
сведений обо всем, что не относится к внутреннему
миру. Но на каком основании? Существенной частью
чувственного восприятия являются чувственные
впечатления, а эти последние являются частью
внутреннего мира. Два разных человека никогда не обладают
одним и тем же внутренним миром, хотя они и могут
испытывать сходные впечатления. Эти последние сами
по себе не открывают нам внешнего мира. Можно
представить себе такое существо, которое обладает только
чувственными впечатлениями, не видя и не осязая
объектов. Обладать зрительными впечатлениями — еще
не значит видеть объекты. Почему я вижу дерево
именно там, где я его вижу? Очевидно, причина заключается
в зрительных впечатлениях, которыми я обладаю,
а также в тех специфических впечатлениях, которые
возникают оттого, что я вижу двумя глазами. На
сетчатке каждого глаза возникает, говоря языком
физики, некоторое особое изображение. Другой человек
видит дерево на том же самом месте. На сетчатке его
глаз также существуют два изображения, которые,
однако, отличаются от моих. Мы должны принять, что
эти изображения на сетчатке глаз существенны для
наших впечатлений. Следовательно, мы обладаем не
только нетождественными, но даже заметно
отличающимися друг от друга зрительными впечатлениями. Но
ведь мы все живем и перемещаемся в одном и том же
43
внешнем мире. Обладать зрительными впечатлениями,
конечно, необходимо для зрительного восприятия
объектов, однако недостаточно. То, что является
недостающим элементом, не относится к области чувств, и
именно благодаря ему для нас открывается внешний
мир: без этого внечувственного элемента каждый
человек оказался бы замкнутым в своем внутреннем
мире. Поскольку решение проблемы заключается во
внечувственном элементе, то он мог бы и в тех
случаях, когда чувственных впечатлений нет, вывести нас за
пределы внутреннего мира и позволить нам
сформулировать мысль. Помимо своего внутреннего мира,
следовало бы различать собственно внешний мир
чувственно воспринимаемых объектов и область
того, что не может быть воспринято с помощью чувств.
Для признания обеих областей мы нуждаемся во
внечувственном; но при чувственном восприятии
объектов мы испытываем потребность и в чувственных
впечатлениях, а последние всецело принадлежат
внутреннему миру. Таким образом, то, на чем
преимущественно основано различие между реальностью
объекта и реальностью мысли, является атрибутом
внутреннего мира и не принадлежит ни одной из двух
областей мира внешнего. Поэтому данное различие я не
могу считать слишком большим, чтобы сделать
невозможным существование мысли, не принадлежащей
внутреннему миру.
Правда, мысль не является тем, что мы привыкли
называть реальным, действительным [wirklich]. Мир
действительности — это мир, в котором одно
воздействует на другое, одно изменяет другое и само
подвергается обратному воздействию, изменяющему и его.
Все это суть события (Geschehen), происходящие во
времени. То, что вневременно и неизменно, мы едва
ли признаем реальным. Подвержена ли мысль
изменениям или она вневременна? Мысль, высказанная в
теореме Пифагора, очевидно, вневременна, вечна,
неизменна. Но не существует ли таких мыслей, которые сейчас
являются истинными, а через полгода окажутся
ложными? Например, мысль, что вот это дерево покрыто
зеленой листвой, очевидно, будет ложной через полгода?
Нет: через полгода это будет уже другая мысль.
Последовательность "вот это дерево покрыто зеленой
листвой" сама по себе недостаточна для выражения мысли:
необходимо учесть также время ее произнесения. Без
соотнесения со временем, которое заключено в этих
словах, не будет законченной мысли, то есть вообще
44
не будет мысли. Только то предложение выражает
мысль, которое является законченным и во всех
отношениях самостоятельным в результате соотнесения
со временем. Но такое предложение, если оно
истинно, истинно не только сегодня или завтра; оно
истинно безотносительно ко времени. Настоящее время
в словах "является истинным", таким образом, не
указывает на момент произнесения, а обозначает,
если можно так выразиться, время вневременности
[ein Tempus der Unzeitlichkeit]. Когда мы употребляем
обычную форму утвердительного предложения,
избегая слова "истинный", необходимо различать
выражение мысли и утверждение. Содержащееся в
предложении указание на временную соотнесенность
связано только с выражением мысли, в то время как
истинность, признание которой заключается в форме
утвердительного предложения, безотносительна ко
времени. Правда, одна и та же последовательность
может в силу изменчивости языка со временем
приобрести другой смысл и начать выражать другую
мысль; но в этом случае изменения касаются языковой
стороны.
И все же, какую ценность может представлять для
нас вечно неизменное, не способное ни воздействовать
на нас, ни испытывать наше воздействие? Нечто
полностью и во всех отношениях неэффективное [unwirk-
sam] должно быть также полностью нереальным [un-
wirklich] и не существующим для нас. Даже
безотносительное ко времени может каким-то образом оказаться
связанным с временной последовательностью, если оно
нечто значит для нас. Чем бы была для меня мысль,
если бы она не была сформулирована мной? Но в
процессе формулирования мысли я оказываюсь в
определенном отношении к ней, а она — ко мне. Мысль,
пришедшая мне в голову сегодня, вчера могла быть
чужда моему сознанию. Тем самым, строгая
безотносительность мыслей ко времени некоторым образом
устраняется. Естественно, однако, различать
существенные и несущественные свойства, и, следовательно,
можно признать безотносительным ко времени то,
что изменяется лишь в отношении своих
несущественных свойств. Несущественным же мы будем считать
такое свойство мысли, которое заключается в том или
следует из того, что эта мысль формулируется
некоторым человеком.
На чем основано воздействие мысли? На том, что
она формулируется и признается истинной. Это —
45
процесс, происходящий во внутреннем мире того, кто
мыслит, процесс, могущий иметь дальнейшие следствия
в этом внутреннем мире, которые, будучи
перенесенными в область волеизъявления, становятся заметными
и во внешнем мире. Если я, например, формулирую
мысль, выраженную в теореме Пифагора, то
следствием может быть то, что я признаю ее истинной и, далее,
что я ее применю, принимая решения, которые
способствуют движению человека вперед. Таким образом,
наши действия обычно подготавливаются нашими
мыслями и суждениями. И, таким образом, мысли могут
непосредственно влиять на развитие людей. Воздействие
человека на человека чаще всего осуществляется
посредством мысли. Мысль может быть передана,
сообщена. Как это происходит? Один человек осуществляет
изменения во внешнем мире, которые, будучи
восприняты другим человеком, должны побудить его к тому,
чтобы сформулировать мысль и определить ее
истинность. Великие события мировой истории не могли,
по всей вероятности, произойти, если бы не
существовало передачи мыслей. Вместе с тем мы
предпочитаем считать мысли нереальными, не относящимися к
действительности, поскольку они непосредственно не
включаются в ход событий, тогда как мышление,
суждение, выражение, понимание — все это деяния людей.
Каким всецело реальным предстает для нас, например,
молоток по сравнению с мыслью! Насколько отличает
ся процесс передачи молотка от процесса передачи
мысли! Молоток переходит от одного владельца к
другому, он испытывает воздействие человеческих рук; при
этом его плотность, взаимное расположение его
частей могут в какой-то мере измениться. Ничего этого
не происходит при передаче мыслей другому человеку:
мысль не может менять владельца, так как ее в
принципе нельзя соотносить с понятием собственности.
Когда мысль формулируется, она вызывает изменения
вначале во внутреннем мире того, кто ее формулирует;
однако сама она в основе своего бытия остается
незатронутой, так как изменения, которые она
испытывает, касаются лишь несущественных свойств.
Здесь отсутствует то, что мы встречаем во всяком
природном явлении: взаимодействие. Мысли отнюдь
не являются нереальными, но их реальность совсем
другого рода, чем реальность вещей. И их
воздействие происходит вследствие действий того, кто
мыслит, хотя они и сами по себе не являются
неэффективными, по крайней мере насколько мы можем
46
видеть. Тот, кто мыслит, не создает мыслей: он
должен принимать их такими, как они есть. Они могут
быть истинными, даже не будучи еще никем
сформулированы, и являются и в этом случае не вполне
нереальными, по крайней мере потому, что они в
принципе могут быть сформулированы и тем самым
приведены в действие.
Джон Л. Остин
ЧУЖОЕ СОЗНАНИЕ*
Я сразу должен сказать, что согласен с
большинством положений, выдвинутых Дж. Уисдомом в серии
его замечательных статей под общим название "Чужое
сознание"**, а также в ряде других работ. Я хорошо
осознаю, насколько опасно вступать на столь уже
хорошо проторенный путь. В настоящей работе я ставлю
перед собой цель сделать вклад в разработку только
одной стороны вопроса, на которой, как мне кажется,
имеет смысл остановиться более подробно. Конечно,
мне бы хотелось, чтобы эта проблема была
центральной, однако я понимаю, что не смогу приблизиться к
главному, пока не проясню частности. Мне кажется,
что Уисдом одобрил бы это стремление к более
детальному анализу.
Дж. Уисдом правильно отмечает сложности,
возникающие при рассмотрении таких вопросов, как How
do we know that another man is angry? 'Откуда мы
можем знать, что другой человек рассержен?' Он приводит
и ряд других форм того же вопроса: Do we (ever) know?
'Знаем ли мы (когда-нибудь) что-нибудь на самом
деле?', Can we know? 'Можем ли мы знать что-нибудь?',
How can we know the thoughts, feelings, sensations, mind
of another creature? 'Как мы можем знать мысли,
чувства, ощущения, желания других людей?' и т. д.
Очевидно, что все последующие вопросы отличны от первого,
который и будет составлять предмет нашего
дальнейшего рассмотрения.
♦Austin John L. Other Minds.—In: A u s t i n J. L.
Philosophical Papers. 2-nd ed/Ed. by J. O. Urmson and G. J. Warnock.
Oxford: At the Clarendon Press, 1970, p. 76—116. Впервые
опубликовано в: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary
Volume XX (1946).
** Имеется в виду серия из 8 статей Дж. Уисдома, см.: J. W i s -
d о m. Other Minds-"Mind", 1941, vol. 50, №197 (1,11), №198 (III),
№199(IV), №200(V); 1942, vol. 51, №201(VI); 1943, vol. 52,
№207(VII), №208(VIII) (римские цифры в скобках указывают
номера статей) .—Прим. перев.
48
Ход мыслей Дж. Уисдома следующий: задав первый
вопрос, он далее спрашивает: "Когда мы узнаем, что
другой человек рассержен, аналогично ли это тому, как
мы узнаем, что кипит чайник, что у соседей званый
ужин или сколько весит семечко чертополоха?"
Однако, как мне кажется, Дж. Уисдом не дал
исчерпывающего ответа на вопрос, что мы должны отвечать, когда
нас спросят: How do you know these things? 'Откуда вы
это знаете?' Например, ответить, что мы знаем о званом
ужине "по аналогии" или "по индукции", будет в
лучшем случае просто неестественным. Если говорить
точнее, этот ответ является абсолютно неправильным,
поскольку нельзя сказать, что мы знаем по аналогии —
по аналогии можно долько доказывать. Итак, я
собираюсь рассмотреть, что в действительности происходит,
когда людей спрашивают: "Откуда вы знаете?"
Многое, конечно, зависит от объектов знания,
которые могут быть самыми различными. Остановиться на
всех возможных случаях, тем более подробно, не
представляется возможным, поэтому я возьму для анализа
один из самых простых, в отличие от выражения Не is
angry 'Он рассержен', примеров, а именно —
утверждение That is a goldfinch 'Это щегол' или The kettle is
boiling 'Чайник кипит' — самый обычный единичный
эмпирический факт. Как реакция на высказывание
подобного рода может последовать вопрос "Откуда вы
знаете?", и мы, по крайней мере иногда, можем
ответить, что в действительности мы не знаем, а только так
думаем. Подобный ответ может быть просто
отговоркой.
Когда мы утверждаем: "В саду щегол" или "Он
рассержен", предполагается, что мы уверены в этом или
знаем это (ср. упрек "А я-то думал, что ты знаешь"),
хотя, говоря более строго, то, что сообщается, является
только содержанием нашей веры. Если мы произнесли
подобное высказывание, нас могут спросить: (1) Do
you know there is? 'Вы на самом деле знаете, что это
щегол?', Do you know he is? 'Вы на самом деле знаете,
что он рассержен?' и (2) How do you know? 'Откуда вы
знаете?' Если ответ на первый вопрос будет
утвердительным, то за ним может последовать второй вопрос,
впрочем, и сам первый вопрос часто воспринимается
как желание указать на источник знания. С другой
стороны, на первый вопрос может быть дан и
отрицательный ответ, ср.: No, but I think there is; No, but I believe
he is 'Я не знаю, я просто так думаю', ибо в
рассматриваемом случае нет строгой импликации, что я знаю или
49
уверен. Если мы ответим подобным образом, нас сразу
могут спросить.Why do you believe that? 'Почему вы так
думаете?' или What makes you think so? 'Что заставляет
вас так думать?'; What induces you to suppose so? 'Что
навело вас на эту мысль?' и т.д.
Вопросы "Откуда вы знаете?" и "Почему вы так
думаете?" различны. Мы никогда не спросим "Почему
вы знаете?" и "Откуда вы так думаете?" В этом, а
также в ряде других случаев, которые будут отмечены
дальше, не только такие слова, как suppose, assume
'предполагать', 'полагать', но и такие выражения, как
be sure и be certain 'быть уверенным', следуют модели
"думать, что...", а не модели "знать".
В основе рассматриваемых нами вопросительных
реплик лежит обычное стремление получить некоторую
информацию. Однако они могут быть и
целенаправленными, и в этом случае между ними выявляется еще одно
важное различие. В вопросе "Откуда вы знаете?" может
содержаться предположение, что собеседник на самом
деле, возможно, не знает, а в вопросе "Почему вы так
думаете?" может предполагаться, что он, возможно,
не должен так думать. Здесь нет предположения, что
человек так не думает или не должен знать1. Если
ответ на вопрос "Откуда вы знаете?" или "Почему вы так
считаете?" покажется спрашивающему
неудовлетворительным, то его реакция в каждом случае будет
различной. В первом случае он может заметить: "Но вы в
действительности не знаете это" или "Но это ничего не
доказывает: вы не можете знать этого", а во втором
случае — "Основания для вашего мнения явно
недостаточны: вы не должны так думать"2.
Именно "существование" вашего мнения, но не
"существование" того, что вы считаете своим знанием, не
может быть оспорено. Если мы можем принять, что
высказывания I believe 'Я считаю', I am sure и I am
certain 'Я уверен' являются описаниями субъективных
ментальных или когнитивных состояний или отноше-
Однако в некоторых случаях при особых обстоятельствах,
если, например, кому-то стала известна очень секретная
информация, мы с недоумением или угрозой в голосе можем
спросить: "Откуда вы знаете?".
2В случае знания может быть и такой ответ: "Вы не должны
говорить (не имеете права говорить), что вы знаете это". Однако
очевидно, что сходство между этой репликой и высказыванием
"Вы не должны так думать" чисто внешнее: вы имеете право
высказывать свое мнение, сколь незначительными бы ни были
для него основания.
50
ний, то мы не можем сделать такое же, или по крайней
мере точно такое же утверждение в отношении
выражения I know 'Я знаю' —его роль в речи совершенно
иная.
"Без сомнения, — могут сказать мне, — "Я знаю" —
это нечто большее, чем просто описание состояния.
"Я знаю" означает, что я не могу ошибиться". Однако
мой собеседник всегда может доказать, что я ошибаюсь
и, следовательно, не знаю или же что я ошибался и,
следовательно, не знал. Именно по указанному
параметру знание отличается от самой сильной уверенное-
ти". Приведенное рассуждение будет проанализировано
дальше, а пока мы займемся рассмотрением ответов,
которые могут последовать на вопрос "Откуда вы
знаете?"
Предположим, что я сказал: There is a bittern in the
bottom of the garden 'В глубине сада выпь', а меня
спросили' "Откуда вы знаете?" На этот вопрос я мог бы
ответить, например, одним из следующих способов:
(a) I was brought up in the fens.
'Я провел детство в тех местах, где было много
болот'.
(b) I heard it.
'Я слышал ее'.
(c) The keeper reported it.
'Мне сказал сторож'.
(d) By its booming.
'[Я узнал ее] по крику'.
(e) From the booming noise.
Букв.: 'Из-за ее крика'.
(f) Because it is booming.
'Потому что она кричит'.
В первом приближении можно сказать, что
высказывания a, b и с являются ответами на вопросы How
do you come to know? 'Как вы это узнали?', How are
you in a position to know? 'Каков источник вашего
знания?' или How do you know? 'Bw-го откуда знаете?',
которые интерпретируются по-разному, в то время как
последние три высказывания служат ответом на вопрос
How can you tell 'Как вы можете это доказать?',
который тоже может быть понят различными способами.
Я, таким образом, могу подумать, что от меня хотят
узнать следующее:
(1) How do I come to be in a position to know about
bitterns?
'Каким образом, мне удалось приобрести
познания, касающиеся данного класса птиц?'
51
(2) How do I come to be in position to say there's a
bittern here and now?
'Каков источник моего знания, когда в
данный конкретный момент я идентифицирую
птицу как выпь?'
(3) How do (can) I tell bitterns?
'Как я в принципе могу определить, что та
или иная птица — выпь?'
(4) How do (can) I tell the thing here and now as
a bittern?
'По каким признакам я в данный конкретный
момент идентифицирую птицу как выпь?'
Причем для того, чтобы узнать в этой птице выпь, я
должен был:
(1) вырасти в таких условиях, где я мог
познакомиться с данным видом птиц;
(2) иметь определенный источник знания в
данный конкретный момент;
(3) научиться распознавать птиц, относящихся к
этому виду;
(4) успешно распознать и идентифицировать выпь
в данном конкретном случае.
При этом в пунктах (1) и (2) указывается на то,
что в прошлом я должен был иметь опыт
определенного рода, а в рассматирваемой ситуации — иметь
соответствующие источники знания, в то время как в
пунктах (3) и (4) говорится о том, что я должен уметь
проявить (и в нужный момент действительно
проявляю) требуемую проницательность и
сообразительность3 .
Вопросы, затрагиваемые в случаях (1) и (3), имеют
отношение к нашему прошлому опыту, к тем
возможностям, которые мы имели, к нашей деятельности по
приобретению знаний в той или иной области, а также
к связанному с этими характеристиками вопросу о
правильности используемых нами языковых обозначений
Выражение недовольства типа I know, I know, I've seen it a
hundred times, don't keep on telling me *Да знаю я, зняю, я видел это
сто раз, не надо мне все время говорить об этом'
свидетельствует о своеобразной "избыточности" знаний говорящего, в то
время как способность, образно говоря, отличить сокола от цапли
фиксирует нижнюю границу наличия проницательности и
сообразительности, нужных при распознавании или идентификации
объекта. Реплика As well as I know my own name 'Я знаю это так
же хорошо, как знаю собственное имя* является типичной в тех
случаях, когда я действительно имел в прошлом опыт
определенного рода и приобрел нужные познания.
52
предметов и явлений. От нашего прежнего опыта
зависит, насколько хорошо (well) мы что-либо знаем,
подобно тому как в ряде сходных случаев от нашего
предшествующего опыта зависит, насколько мы знаем
основательно, досконально (thoroughly) или близко
(intimately). Так, мы можем знать человека в лицо
или близко, город — вдоль и поперек, доказательство —-
в одну и в другую сторону, работу -досконально,
стихотворение — наизусть, мы можем знать
французов, если общались хотя бы с одним из них.
Высказывание Не doesn't know what love (real hunger) is 'Он не
знает, что такое любовь (настоящий голод)' означает, что
человек, о котором идет речь, не имел в прошлом
соответствующего опыта, необходимого для того, чтобы
идентифицировать указанные состояния и отличить их
от других, сходных с ними. В зависимости от того,
насколько хорошо я знаю тот или иной объект, а также
в зависимости от сущностных характеристик этого
объекта, я могу или идентифицировать его, или
воспроизвести, нарисовать, пересказать, применить и т.д.
Реплики типа I know very well he isn't angry 'Я очень
хорошо знаю, что он не раздражен' или You know very
well that isn't calico 'Ты отлично знаешь, что это не
коленкор', хотя и относятся к моменту речи, но
приписывают высокое качество знания именно прошлому
опыту. Такую же роль играет и выражение You are
old enough to know better 'Ты уже достаточно взрослый
для того, чтобы знать это лучше'4 .
И наоборот, вопросы, затрагиваемые в пунктах
(2) и (4), имеют отношение к реальной ситуации. В
подобных случаях будет уместен вопрос How definitely
do you know? 'Насколько точно вы знаете?'. Можно
знать что-либо определенно (for certain), абсолютно
точно (quite positively), поверхностно, формально
(officially), исходя из собственного опыта (on his own
authority), из достоверных источников (from unimpeachable
sources), по косвенным данным (indirectly) и т.д.
Некоторые ответы на вопрос "Откуда вы знаете?"
порой довольно неожиданно трактуются как "причины
знания" ("reasons for knowing" or "reasons to know"),
Наречия, которые могут быть употреблены в вопросе How
do you know 'Как (насколько) ...вы знаете?* немногочисленны
и образуют еще меньшее количество классов. Они практически
не пересекаются с теми наречиями, которые могут встречаться в
вопросе How "do you believe? (firmly, sincerely, genuinely, etc.)
'Вы ... так думаете?' (*на самом деле\ искренне', 'действительно'
и т.д.).
53
несмотря на тот факт, что мы никогда не спрашиваем
Why do you know? 'Почему вы знаете?'. Тем не менее
очевидно (в пользу чего свидетельствуют и словари),
что причины проясняются именно при ответе на вопрос
"почему?". Именно это мы делаем, когда
обосновываем свое мнение. Здесь надо провести одно важное
разграничение. Рассмотрим диалог: How do you know that
IG Farben worked for war? 'Откуда вы знаете, что
концерн ИГ-Фарбениндустри* выполнял военные
заказы?' — I have every reason to know: I served on the
investigating commission 'Я имею все основания утверждать
(букв. — знать) это: я работал в комиссии по
расследованию'. Здесь, обосновывая факт своего знания,
говорящий указывает на то, каким образом он мог стать
обладателем нужных сведений. Аналогичную функцию
выполняют реплики I know because I saw him do it
'Я знаю, потому что я видел, как он делал это' или
I know because I looked it up ten minutes ago 'Я знаю,
потому что проверил это десять минут назад'. Они
сходны с возможными ответами в следующем диалоге:
So it is: it is plutonium. How did you know? 'Вы правы.
Это действительно плутоний. А как вы узнали?' — I
did quite a bit of phisics at school before I took up
philology 'До того как заняться филологией, в школе я
немного увлекался физикой' или I ought to know: I
was standing only a couple of yards away 'Да как же мне
не знать — я стоял всего в двух шагах'.
Обоснование мнения в свою очередь обычно имеет совершенно
иной характер (перечисление признаков или
симптомов, свидетельств в пользу данного вывода и т.д.),
хотя в ряде случаев мы в принципе можем обосновать
свое мнение, указав на то, каким образом нами были
получены нужные доказательства: Why do you believe
he was lying? 'Почему ты думаешь, что он лгал?' — I
was watching him very closely 'Я наблюдал за ним с
близкого расстояния'.
Среди обоснований факта знания особое и важное
место занимают те случаи, когда мы ссылаемся на
авторитеты. Если меня спросят How do you know the
election is today? 'Откуда вы знаете, что выборы сегодня?',
высока вероятность того, что я отвечу I read it in the
Times 'Я прочитал об этом в "Тайме" ', а если мне
зададут вопрос How do you know the Persians were defeated
* ИГ-Фарбениндустри — крупнейший немецкий химический
концерн (1925—1945), выполнявший исключительно военные
заказы. ~Прим. перее.
54
at Marathon? 'Откуда вы знаете, что персы были
разбиты при Марафоне?', я, скорее всего, отвечу: Herodotus
expressly states that they were 'Об этом убедительно
пишет Геродот'. В рассматриваемых случаях глагол
to know 'знать' употребляется совершенно правильно:
мы знаем "из вторых рук" ("at second hand"), если
можем сослаться на авторитетный источник, например
на человека, который имел возможность получить
соответствующую информацию (возможно, тоже "из
вторых рук") .
Однако очевидно, что знания, полученные таким
образом, могут быть подвержены ошибке ("liable to
be wrong") вследствие того, что сообщаемые людьми
сведения могут быть неточными или не вполне
достоверными (ибо возможны ошибки, преувеличения,
искажение фактов вследствие пристрастного
отношения со стороны говорящего, передача заведомо
ложной информации и т.д.). Тем не менее сам факт
наличия показаний очевидца имеет большое значение. Мы
никогда не узнаем, что испытывал Цезарь во время
битвы при Филиппах, потому что он не оставил на этот
счет никаких письменных свидетельств; если бы он
5 Знание "из вторых рук" или из авторитетного источника —
это не то же самое, что "знание, полученное косвенным путем"
("knowing indirectly"), каково бы ни было точное значение этого
трудного для интерпретации и немного искусственного термина.
Если убийца сознается в содеянном, то независимо от степени
нашего доверия к его словам нельзя сказать, что мы знаем
(только) косвенным путем, что преступление совершил он. Мы
не можем сказать это и в том случае, когда свидетель, который
может как внушать, так и не внушать доверие, утверждает, что
он видел все своими глазами. Следовательно, столь же
неправильно будет утверждать, что преступник знает
"непосредственно", что он совершил убийство, каково бы ни было точное
значение выражения "знать непосредственно" (''knowing directly")*.
♦Последнее положение в рассуждении Дж. Остина звучит
неубедительно, ибо для преступника "непосредственное знание"
о совершенном им убийстве не противопоставлено ни "знанию,
полученному косвенным путем", ни знанию "из вторых рук".
Более того, понятие знания по отношению к событиям, которые
произошли с самим говорящим, является неприложимым в
том смысле, что знание здесь вообще эксплицировано быть не
может (ср. неправильность фразы "Я знаю, что я вчера был в
библиотеке"). Более удачным было бы сопоставление
"непосредственного знания" свидетеля, "знания, полученного
косвенным путем", например, при анализе улик, и знания "из вторых
рук", например для присутствующих на судебном заседании. —
Прим. перев.
55
сделал это, мы могли бы сожалеть о том, что никогда
не узнаем, было ли это так на самом деле, более того,
мы могли бы, возможно, сделать следующее
обоснованное заключение: "Это звучит неубедительно. Мы
никогда не будем знать настоящую правду"*. Конечно,
мы не лишены здравомыслия и никогда не скажем, что
знаем что-либо ("из вторых рук"), если у нас есть
основания усомниться в правильности полученной
информации, но в этом случае такие основания
действительно должны быть. В речевой коммуникации (так же как
и в других видах общения) основополагающим
принципом является доверие людям, исключая те случаи,
когда есть конкретные причины им не верить. Доверие
к словам собеседника, принятие показателей
очевидцев является одним из (возможно, основных) условий
ведения разговора.
Мы будем участвовать в игре только тогда, когда
уверены в том, что наш противник тоже стремится
выиграть, в противном случае это уже не игра. Точно
так же мы будем разговарить с людьми только тогда,
когда убеждены в том, что они действительно хотят
сообщить нам правду6.
Вот теперь самое время вернуться к вопросу How
can you tell? 'Как вы смогли определить это?', то есть к
тем прочтениям вопроса "Откуда вы знаете?", которые
были отмечены в пунктах (2) и (4). Если меня
спросят How do you know it's a goldfinch? 'Откуда вы
знаете, что это щегол?', я могу ответить From its
behaviour 'По его поведению (букв. — из-за)', By its markings
'По оперению' или, более конкретно, By its red head
'По красному оперению на голове', From its eating
thistles 'Потому что он склевывает семена чертополоха'. В
*Цезарь был убит в 44 г. до н.э. и в битве при Филиппах
(42 г. до н.э.) принимать участия не мог. В битве при Филиппах
сражались армии под предводительством, с одной стороны,
Брута и Кассия, а с другой — Антония и Октавиана. Автор или
допускает в тексте историческую неточность, или же намеренно
ее эксплуатирует, ибо в определенном смысле верно, что мы
никогда не узнаем, что чувствовал Цезарь во время битвы при
Филиппах (поскольку он не мог ничего чувствовать, так как к
тому времени его уже не было в живых), и он действительно не
оставил (по этой же причине) никаких письменных свидетельств
на этот счет. —Прим. перев.
Доверие к людям является основополагающим принципом
и для других, более специфических видов человеческой
деятельности, например, оно лежит в основе заучивания и правильного
использования слов, которые мы узнаем от окружающих.
56
этих ответах я отмечаю или с определенной степенью
точности излагаю те отличительные особенности
предмета и ситуации, которые позволили мне
идентифицировать объект как удовлетворяющий именно тому
описанию, которое сделал я. После моего объяснения,
почему это именно щегол, мне все равно могут
возразить, при этом порой даже не обсуждая приведенных
мною фактов. Этот случай будет рассмотрен несколько
позднее. Итак, мне могут сказать:
(1) But goldfinches don Ч have red heads.
'Но у щеглов на голове не красное оперение',
(la) But that's not a goldfinch. From your description
I can recognize it as a goldcrest.
'Но ведь это не щегол. По вашему описанию
это скорее желтоголовый королек'.
(2) But that's not enough: plenty of other birds
have red heads. What you say doesn't prove it.
For all you know, it may be a woodpecker.
'Но ведь этих данных недостаточно:
множество других птиц тоже имеет красное оперение
на голове. Это ничего не доказывает.
Согласно указанному вами признаку это может быть
и дятел'.
В случаях (1) и (1а) утверждается, что я не
способен правильно определять щеглов. В случае (1а) может
быть отмечено или что я не знаю правильного
(обычного, распространенного, общепринятого) названия
птицы (ср. реплику: "Где ты услышал это слово—
"щегол"?")7, или же что я не обладаю нужными
навыками и знаниями и поэтому постоянно ошибаюсь при
различении небольших по размеру птиц, встречающихся на
территории Англии. Впрочем, эти две характеристики
могут соединяться. Тогда при возражении будут
использоваться, вероятно, не такие реплики, как You
don't know 'Вы (на самом деле) не знаете' или You
oughtn't to say you know 'Вы не можете (не должны)
7 Использование неправильного названия не столь
незначительное или забавное явление, как это может показаться на
первый взгляд. Если я употребляю название неправильно, то я
ввожу и окружающих в заблуждение, и сам в свою очередь буду
неправильно понимать сообщаемую мне информацию.
"Конечно, я отлично знала о том, что он болен, но мне и в голову не
приходило, что это диабет. Я думала, что это рак, а во всех
книгах написано, что рак неизлечим. Знай я, что это диабет, я бы
сразу подумала об инсулине". Знание предмета или явления во
многом определяется тем, знаем ли мы его название, точнее — его
правильное название.
57
говорить, что вы это знаете', а скорее такие
высказывания, как But that isn't a goldfinch (goldfinch) 'Но эта
птица не является щеглом'. 'Но эта птица не щегол9
или You are wrong to call it a goldfinch 'Вы ошибаетесь,
называя эту птицу щеглом'. Однако, будучи спрошен
прямо, мой воображаемый собеседник всегда будет
отрицать, что я знаю, что это щегол.
Именно в случае (2) более уместно будет сказать:
Then you don't know. Because it doesn't prove it, it is not
enought to prove it 'На самом деле вы не знаете, потому
что ваши данные ничего не доказывают, их
недостаточно для доказательства'. Здесь можно выделить
несколько важных моментов:
(а) Если мой собеседник говорит, что приведенных
мною данных недостаточно, он должен более или менее
ясно представлять себе, какие еще признаки
существуют, например, что щеглы имеют не только красное
оперение на голове, но еще и характерное оперение
вокруг глаз (ср. также следующее высказывание:
How do you know it isn't a woodpecker? Woodpeckers
have red head too 'Откуда вы знаете, что это не дятел?
У дятлов тоже красное оперение на голове'). Если
собеседник не знает этих дополнительных признаков,
которые в принципе всегда можно перечислить, то с
его стороны было бы весьма неразумно говорить, что
приведенных мною данных недостаточно.
(в) "Достаточно" —это только достаточно, но еще
отнюдь не все. "Достаточно" — это значит достаточно
для того, чтобы показать (в пределах поставленных
целей и задач), что идентифицируемый объект "не
может" быть ничем иным, что нет необходимости в
каком-либо другом его описании. Однако при этом не
подразумевается, что приведенных данных достаточно,
например, для утверэвдения, что это не чучело щегла.
(с) Ответ From its red head 'По (букв. — из-за)
красному оперению на голове' требует особого
рассмотрения: он существенно отличается от выражения
Because it has a red head 'Потому что у него красное
оперение на голове', которое тоже может иногда
служить ответом на вопрос "Откуда ты знаешь?", но
гораздо чаще служит ответом на вопрос "Почему ты
так думаешь?". Это выражение гораздо ближе к таким
явно "расплывчатым" объяснениям типа From its
markings 'По его оперению' (букв. — из-за) или From its
behaviour 'По его поведению' (букв. — из-за), чем это
может показаться на первый взгляд. Утверждение,
что мы знаем (то есть что мы можем доказать), отража-
58
ет тот факт, что мы опознали предмет, а опознание,
по крайней мере в случаях, подобных
рассматриваемому, состоит в зрительном или ином восприятии
признака или признаков, которые, как мы уверены, сходны
с признаками, известными нам по прежнему опыту.
Но то, что мы видим или тем или иным способом
воспринимаем, не всегда может быть описано словами, тем
более в деталях; для этого в языке совсем не
обязательно существуют нужные выражения, да и сама
способность к обоснованию у разных людей неодинакова.
Любой из нас сможет определить, что пахнет дегтем
или что у того или иного человека угрюмый взгляд,
но, вероятно, только немногим удастся описать эти
явления как-то иначе, чем просто "угрюмый взгляд"
или "пахнет дегтем". Многие люди могут совершенно
точно определить, в каком году был собран виноград,
из которого сделан портвейн, в каком доме моделей
было сшито платье; многие различают большое
количество оттенков зеленого, а также, например, марки
автомобилей с большого расстояния, но при этом не
способны объяснить, как им это удается, то есть не
могут выделить специфические характеристики. В таких
случаях обычно просто говорят "по вкусу", "по
покрою" и т.д. Итак, когда я говорю, что определяю
щеглов "по красному оперению на голове" или всегда
узнаю этого человека "по его носу", то я считаю, что
красное оперение на голове и именно такая форма носа
есть нечто особенное, присущее только данному виду
птиц и только данному человеку, и по этим признакам
мы всегда сможем правильно их идентифицировать.
Ввиду относительно небольшого количества, а также
неточности классифицирующих слов по сравнению с
бесконечным числом признаков, которые мы
различаем или могли бы выделить и различать в нашей
практике, неудивительно, что мы снова и снова прибегаем
к фразам, начинающимся с предлогов from 'из-за',
'по' и by 'по', и не можем сказать ничего более точного,
если нас спросят, как мы определили. Мы зачастую
очень хорошо знаем те или иные объекты, хотя и не
можем сказать, по каким признакам мы их
идентифицируем, а можем лишь отметить, что они
индивидуальны. Любой ответ, начинающийся со слов from 'из-за',
'по' и by 'по\имеет в своей основе эту спасительную
расплывчатость. И наоборот, ответ, начинающийся со
слова because 'потому что' претендует на полноту, а
это таит в себе известную опасность. Когда я говорю,
что знаю, что это щегол, потому что у него красное
59
оперение на голове, то при этом как бы
подразумевается, что все, что я заметил или должен был заметить,
сводится к тому, что у птицы на голове красное
оперение (а, скажем, цвет и форма оперения вокруг глаз
не представляют дополнительных возможностей для
различения и идентификации); в основе этого как бы
лежит предположение, что на территории Англии не
встречается больше ни одного вида птиц с таким
красным оперением на голове, как у щегла.
(d) Всякий раз, когда я говорю, что знаю,
окружающие могут воспринять это как выражение моей
готовности доказать свое утверждение тем или иным
способом в зависимости от содержания утверждаемого и от
тех целей и задач, которые я перед собой ставлю. В
рассматриваемом весьма типичном случае
"доказательство", похоже, предполагает описание того, какие
характеристики обсуждаемого нами объекта
достаточны для определения его как объекта, который обычно
описывается именно таким образом. Короче говоря, в
тех случаях, когда я могу "доказать", я использую
модель because 'потому что , а в тех случаях, когда мы
"знаем, но не можем доказать", мы прибегаем к
спасительным from 'из-за' и by 'по' формулам.
Я считаю, что затронутые нами моменты являются
как раз теми, на выяснение которых обычно направлен
вопрос "Откуда вы знаете?". Но существует еще и ряд
других проблем (возможно, даже более важных),
которые часто относятся к рассматриваемому случаю
и ооычно анализируются философами. Это вопросы
о "реальности" ("reality") и о "уверенности и
определенности" ("being sure and certain ).
Обсуждая со мной вопрос, откуда я знаю, вы до
сих пор ни разу не усомнились в правильности моих
свидетельств, хотя и спросили меня о том, каковы
они; вы ни разу не оспорили приводимые мною факты
(на которые я опирался, доказывая, что это щегол),
хотя и попросили меня привести их. Итак, сомнению
может быть подвергнута достоверность предлагаемых
мною "свидетельств" и "фактов". Мне могут задать
следующие вопросы:
1) Вы думаете, что это настоящий (real) щегол?
А может быть, это только игра воображения? Или
просто чучело птицы? А оперение на голове, на самом
ли деле оно красное? Может быть, это просто
оптический обман?
2) Вы уверены, что у щеглов оперение именно
такого, красного, цвета? Не кажется ли вам, что здесь
60
оно слишком оранжевое? И можно ли вообще
определить, какая это птица, на таком большом расстоянии?
Эти два случая выражения сомнения различны, хотя
не исключена возможность, что они могут
комбинироваться, пересекаться или же переходить один в
другой. Так, выражение Are you sure it's really red? 'Вы
уверены, что оперение на самом деле красное?' может
означать Are you sure it isn't orange? 'Вы уверены, что
оно не оранжевое?' или же Are you sure it isn't just the
peculiar light? 'Вы уверены, что это не оптический
обман, следствие особого освещения?'
1. Реальность
Если меня спросят How do you know it's a real stick?
'Откуда вы знаете, что это настоящая палка?', How do
you know it's really bent 'Откуда вы знаете, что это
настоящая полевица*?' (Are you sure he's really angry?
'Вы уверены, что он действительно раздражен?'), тем
самым будут подвергнуты сомнению мои
свидетельства и факты (часто не вполне ясно, что именно) с
одной, вполне определенной стороны. Дело в том, что
результаты моего восприятия и сам воспринимаемый
мною объект, про который я утверждаю, что знаю, что
это такое, могут оказаться ложными. Это в первую
очередь зависит от природы самого объекта, но может
произойти и в том случае, если я полностью перенесся
в воображаемый мир, нахожусь в бреду или под
воздействием сильнодействующих препаратов и т.д. Кроме
того, предмет может быть не настоящим, а всего лишь
искусным изображением, копией, моделью, куклой,
чучелом, подделкой и т.д. Неясно, можно ли вменить
в вину именно мне те ошибки в восприятии
предметов, которые возникают при миражах, игре света,
наличии зеркальных отражений и т.д. Пусть этот вопрос
останется открытым.
Все эти сомнения могут быть существенно
ослаблены тем или иным определенным (в большей или
меньшей степени) способом, в каждом конкретном
случае своим. Известны способы отличения сна от
бодрствования (ибо как в противном случае могли бы
мы правильно употреблять соответствующие слова —
обозначения этих состояний?), способы различения
настоящего и подделки и т.д. Выражение сомнения
*Полевица — трава семейства злаковых. —Прим. перев.
61
But is it a real one? 'А это настоящее?' всегда (должно
быть) на чем-то основано, то есть должны существовать
причины для предположения, что данный предмет не
является настоящим в смысле специфики самого
предмета и особенностей его восприятия. Обычно суть
подобных предположений однозначно определяется
ситуацией и контекстом: так, щегол может быть чучелом,
но не может быть миражем; оазис, в свою очередь,
может быть миражем, но никак не чучелом. Если
контекст не проясняет истинного смысла предположения,
тогда я должен уточнить: How do you mean? Do you
mean it may be stuffed or what? What are you suggesting?
'Что вы имеете в виду? Что это чучело? Или вы имеете
в виду не это? Каково ваше предположение?' Уловка
метафизика состоит в том, что он спрашивает Is it a real
table? 'Это настоящий стол?' (о предмете, для
которого нет явного установленного способа быть
поддельным или ложным), однако при этом не
оговаривается, что с этим предметом может быть "не так";
поэтому в подобных случаях непонятно, в чем должно
состоять доказательство, что предмет на самом деле
является настоящим8. Такое употребление слова real
'настоящий', 'реальный' может привести к мысли, что
будто бы это слово имеет одно-единственное значение
real world 'реальный мир', material objects
'материальные объекты'. Именно это и вызывает затруднения.
Мы всегда должны стремиться к определению того,
чему в каждом конкретном случае противопоставлено
слово real 'настоящий'. Для того чтобы доказать, что
предмет настоящий, я должен показать, чем (каким)
этот предмет не является, тогда нам легче будет найти
более конкретное слово, которое сможет заменить
слово real 'настоящий'.
В обычной ситуации, если я достаточно
предусмотрителен и говорю, что знаю, что это щегол, вопрос о
том, "настоящий" ли это щегол, обычно не возникает.
Если же этот вопрос все-таки возникнет, то мое
доказательство, что это настоящий щегол, будет
практически таким же, как если бы я просто доказывал, что это
щегол, хотя здесь в ряде случаев большую силу могут
иметь свидетельства других людей. Что же касается
На этом основаны трюки фокусников. "Пусть кто-нибудь
убедится, что это самая обычная шляпа". Эти слова сбивают
нас с толку и вызывают тревогу, так как, с одной стороны,мы
склонны согласиться, что это действительно шляпа, а с другой
стороны, не можем понять, в чем именно может заключаться
подвох.
62
предусмотрительности, то она обычно не выходит за
пределы разумного и зависит от конкретной ситуации.
Надо отметить, что как в первом, так и во втором
случае имеют силу следующие два положения:
(a) Неверно, что я всегда могу точно определить,
щегол это или нет. Птица может сразу же улететь, и я
либо вообще не буду иметь возможности рассмотреть
ее, либо не смогу рассмотреть ее достаточно
внимательно. Несмотря на то что все это очевидно, некоторые все
же пытаются доказать, что поскольку человек иногда
не может знать или определить что-либо, то он никогда
не может ничего знать.
(b) "Уверенность в том, что это настоящее", есть
sub specie humanitatis*, такое же доказательство,
опровергающее возможность ошибки, как и многие другие.
Если мы были уверены, что это щегол, и щегол
настоящий, а потом оказалось, что это не так, то мы не
говорим, что мы были не правы, называя птицу щеглом, а
говорим, что не знали, как правильно ее назвать.
Получается так, что не мы ошибаемся, а нас как бы
подводят слова: What would you have said? 'А что бы вы
сказали в подобном случае?', What are we to say now?
'Что мы должны сказать теперь?', What would you
say? 'Что бы вы сказали?'. Если я удостоверился, что
это настоящий щегол (а не чучело, вопреки мнению
других людей), то я вовсе не "предсказываю", когда
говорю, что это настоящий щегол, ибо я не
предполагаю, что в будущем под влиянием каких-либо
обстоятельств моя точка зрения может измениться. Неверно
было бы считать, что язык (или наиболее
употребительный, "обыденный" язык) является всего лишь
"предсказывающим", то есть что в дальнейшем всегда может
обнаружиться ошибка. На самом деле, что мы можем
сделать в будущем, так это только пересмотреть свои
представления о щеглах, о настоящих щеглах или о
чем бы то ни было еще.
Обычная процедура использования языка может,
по всей видимости, быть представлена следующим
образом. Во-первых, ясно, что, когда мы воспринимаем
комплекс признаков С, мы должны говорить: This is
С или This is а С 'Это С, 'Это предмет из класса С.
Во-вторых, если в некоторой ситуации или в ряде
ситуаций присутствие всего комплекса признаков С
или наиболее типичной и характерной его части сопро-
*sub specie humanitatis (лат.} — с точки зрения человеческой
культуры. —Прим. перев.
63
вождается появлением другого специфического или
отличительного признака или комплекса признаков, что
заставляет нас пересмотреть наши прежние
представления относительно данного объекта, то мы должны
разграничить случаи, когда мы произносим: This looks
like С, but in fact is only a dummy, etc. 'Это похоже на
С, но на самом деле это всего лишь чучело, модель
и т.д.', от тех случаев, когда мы говорим This is a real
С (live, genuine, etc.) 'Это настоящий С (живой,
подлинный и т д,)'. Итак, мы можем утверждать, что это
настоящий С, только тогда, когда убедимся в наличии
некоторого отличительного признака или комплекса
признаков. Если бы мы могли использовать только
одно выражение — This is С 'Это С, это привело бы нас
к тому, что мы не смогли бы разграничить то, что
является "настоящим, живым и т.д.", и то, что есть
"чучело, модель и т.д.". Если некоторый отличительный
признак не обязательно присутствует во всех ситуациях
(а может быть выявлен, например, только с
применением специальных тестов или же по прошествии
некоторого времени и т.д.), то это признак не может быть
основным для процедуры различения между
"настоящим" и "чучелом, моделью или плодом воображения".
В подобных случаях мы можем только сказать:
'Некоторые Cs таковы, а некоторые нет, некоторые
удовлетворяют данному признаку, а некоторые нет: в
каждом конкретном случае интересно было бы определить,
таковы ли Cs, удовлетворяют ли они данному
требованию. Однако, как бы мы ни ответили на этот вопрос,
ясно, что все они Cs, настоящие Cs'9. Если
отличительный признак присутствует в (более или менее)
определенных ситуациях, то высказывание This is a real С
'Это настоящий С' не является предположением: в ряде
случаев мы можем быть совершенно уверены в
правильности утверждаемого10.
Ср. затруднение в случае со снарками, некоторые из
которых буджумы. (Автор имеет в виду поэму Льюиса Кэрролла
"Охота на Снарка" (Carroll L. The Hunting of the Snark,
1876), (Песнь вторая (последний стих), Песнь третья (стихи
10 и 14), Песнь восьмая (стих 9). — Прим. перев.)
1 Иногда на основе нового отличительного признака мы на
самом деле различаем не "Cs" и "настоящие Cs'\ a Cs и Ds.
Существуют основания для того, чтобы выбрать именно второе, а
не первое. Все те случаи, когда мы используем слово real
'настоящий \ основаны на грозящем осложнениями и ошибками
сходстве, точно так же как и случаи, когда мы используем слово
proper 'истинный', которое во многих отношениях ведет себя
аналогично слову real 'настоящий'.
64
2. Уверенность и определенность
Существует еще один способ подвергнуть
сомнению мои свидетельства и доказательства (Are you sure
it's the right red? 'Вы уверены, что это именно тот
красный цвет?'), который совершенно отличен от
первого. Здесь мы должны проанализировать статью
Дж. Уисдома "Other Minds VII" ("Mind", vol. 52, № 207)
об "особенностях знания субъектом его собственных
ощущений". С точкой зрения Дж. Уисдома по этому
вопросу я не могу согласиться.
Он отмечает, что выражения типа "быть
влюбленным" содержат элемент предположения и поэтому
должны быть оставлены за пределами рассмотрения, а
вот утверждения типа I am in pain 'Мне больно' в
известном смысле не содержат никакого предположения.
Человек, который сделал подобное утверждение, не может
ошибиться, т.е. он, конечно, может сказать неправду
(и тогда высказывание "Мне больно" будет ложным)
или же неправильно употребить слово, произнести,
например, вместо слова pain слово pawn, что может
ввести в заблуждение окружающих, но не в коем
случае самого говорящего, ибо он может или всегда
заменять слово pain словом pawn, или же просто
оговориться, подобно тому как я могу назвать Джона
Альбертом, хотя прекрасно знаю, что это именно Джон. Итак,
несмотря на то, что говорящий в этих двух случаях
может "ошибиться", возможность ошибки для него
самого полностью исключена.
Это рассуждение представляется мне неточным,
хотя именно оно лежало в основе многих философских
концепций. Оно подобно первородному греху, за
который философы сами себя изгоняли из сада реального
мира. При внимательном рассмотрении становится
ясно, что человек может точно "описать, что он
воспринимает" всего лишь в одном строго определенном
случае. Согласно этой точке зрения, если я говорю: Неге
is something red 'Здесь что-то красное', то в основе этого
высказывания должно лежать предположение или
утверждение, что это на самом деле красный предмет,
то есть предмет, который при обычном освещении
всеми воспринимается как красный, и не только сегодня,
но и завтра и т.д. — во всех этих случаях "содержится
предположение". Когда я говорю: Here is something
which looks red 'Здесь предмет, который смотрится
как красный', при этом опять подразумевается или
утверждается, что предмет должен восприниматься как
3—567
65
красный всеми окружающими и т.д. Я не могу
ошибиться (в строгом смысле этого слова) только в том
случае, если выберу выражение Here is something which
looks red to me now 'Здесь предмет, который я в
настоящий момент воспринимаю как красный'.
Надо, однако, отметить, что выражение something
that looks red to me now 'предмет, который я в
настоящий момент воспринимаю как красный' не
однозначно. Возможно, это можно показать с помощью
курсива, хотя на самом деле это результат не столько
эмфазы, сколько различий в интонации и выразительности,
в наличии уверенности или сомнения. Сравним два
высказывания: Here is something that (definitely) looks to
me (anyhow) red 'Здесь предмет, который я
(определенно) воспринимаю (именно) как красный' и Here is
something that looks to me (something like) red (I should
say) 'Здесь предмет, который я воспринимаю как нечто
(вроде бы) красное (я бы определил этот цвет так)'.
В первом случае я совершенно уверен, что, как бы ни
воспринимали этот предмет окружающие, каким бы
ни был он "на самом деле", я в данный момент
воспринимаю его именно как красный. Во втором случае
уверенность отсутствует: предмет вроде бы красный, но
я никогда не видел раньше подобного цвета, не могу
точно описать его, — или же я не совсем хорошо
различаю цвета, не чувствую при этом уверенности,
постоянно ошибаюсь и т.д. Конечно, в рассматриваемом
случае наше рассуждение звучит несколько натянуто,
поскольку идентифицировать красный цвет очень
легко, его сразу определит любой из нас и здесь
невозможна ошибка11. Представить себе ситуацию, когда
мы не сможем точно идентифицировать красный цвет,
довольно трудно (хотя в принципе возможно). Но
вот рассмотрим случай с фуксином*. Итак, я говорю:
"Похоже, что это фуксин, хотя я не могу с
уверенностью отличить фуксин от розовато-лилового или от
цвета гелиотропа**. Конечно, я вижу, что это цвет
какой-то фиолетовый, но затрудняюсь сказать, фуксин
ли это — я просто в этом не уверен". В данном случае
я не выясняю, ни как этот цвет воспринимается други-
Ср., однако, такую возможность: "Она думала, что
рубашка белая, пока не выстирала ее".
*Фуксин —краситель, кристаллы которого имеют темно-
фиолетовый, а раствор — красный цвет. —Прим. перев.
* "Гелиотроп — кустарники, полукустарники и травы, у
цветков которых венчик фиолетового (или белого) цвета. —
Прим. перев.
66
ми (vs. я воспринимаю), ни какой это цвет на самом
деле (vs. я воспринимаю): я просто говорю, уверен ли
я в том, что правильно идентифицирую этот цвет. В
качестве примера, возможно, лучше было бы взять
различение звуков или вкусовых ощущений, поскольку
обычно мы никогда не чувствуем такой уверенности в
показаниях своих органов чувств, как в случае
зрительного восприятия. Описание любого вкусового
ощущения, звука, запаха, цвета или эмоции сводится к
указанию на то (или содержит указание на то), что мы
раньше уже испытывали или встречали нечто подобное:
любое дескриптивное слово является
классифицирующим и основывается на узнавании и, следовательно,
на памяти; только тогда, когда мы используем эти
слова (или имена, или дескрипции, что в принципе
одно и то же), мы на самом деле что-то знаем или имеем
какое-то мнение. Однако наша память и результаты
узнавания часто неточны и ненадежны.
Неуверенность может возникнуть в следующих
двух случаях:
(a) Рассмотрим ситуацию, когда мы пробуем что-то
на вкус и при этом говорим: "Я просто не знаю, что это
такое, я никогда не пробовал раньше ничего даже
отдаленно напоминающего это... Нет, бесполезно, чем
больше я думаю, тем больше я запутываюсь. Это
нечто совершенно необычное, не похожее ни на что,
с чем я сталкивался раньше". В этом случае я не могу
найти в своем прошлом опыте ничего, с чем бы я мог
сравнить свои настоящие впечатления: я уверен, что это
не похоже на все то, что я пробовал раньше, и я не могу
сравнить его ни с чем, чтобы хоть как-нибудь описать.
Рассматриваемый случай, который можно выделить
как самостоятельный, является разновидностью таких
ситуаций, когда я не вполне верен, или вроде бы
уверен, или почти уверен, что это, скажем, вкус лаврового
листа. Во всех этих случаях я пытаюсь определить свои
впечатления, ища в своем прошлом опыте нечто
подобное, и описать настоящее впечатление путем указания
на это сходство12. Это может оказаться удачным в
большей или меньшей степени.
(b) Второй случай отличается от первого, но
обычно соединяется с ним. Здесь я как оы наслаждаюсь
Они могут быть связаны не обязательно "сходством"
(в обычном смысле этого слова), что впрочем, тоже является
достаточным основанием для использования их при описании
одного и того же слова.
3*
67
своими ощущениями, всматриваюсь в них для того,
чтобы лучше их прочувствовать. Я не уверен, что это
на самом деле вкус ананаса, но нет ли здесь
определенного сходства: такой же резкий вкус, пощипывание
языка, ощущение сладости — разве не характерно все
это для вкуса ананаса? Или в другой ситуации: разве
нет здесь какого-то оттенка зеленого, который и
отличает розовато-лиловый от цвета гелиотропа?
Возможно, все это выглядит довольно странно: я могу
вглядываться все более и более внимательно,
рассматривать снова и снова: не исключена возможность, что
это просто какое-то необыкновенное мерцание,
поэтому, например, вода и выглядит необычно. В наших
ощущениях отсутствует четкость, и она может быть
достигнута не с помощью (или не только с помощью)
мышления, а при условии проявления большей
проницательности и умения идентифицировать показания органов
чувств (хотя, безусловно, верно, что анализ других,
более ярких случаев из нашего прошлого опыта может
способствовать и действительно способствует
правильной идентификации показаний органов чувств) .
В случаях (а) и (Ь), а также тогда, когда они
проявляются одновременно, мы не чувствуем полной
уверенности при определении того или иного впечатления,
мы не знаем, как его описать: каковы на самом деле
наши чувства, действительно ли веселить окружающих
довольно грустное занятие, действительно ли я, как
это утверждаете вы, сердит на него или же мое
состояние только отдаленно напоминает раздражение? Эти
колебания, конечно, в определенном смысле имеют
отношение к правильности употребления
соответствующего названия: но меня не столь (или совсем не)
беспокоит возможность ввести в заблуждение
окружающих, сколько возможность ошибки с моей стороны
(в прямом смысле этого слова). Я склоняюсь к мысли,
что хотя два выражения — being certain 'думать
определенно, что...' и being sure 'быть уверенным'— в
зависимости от описываемой ситуации могут
использоваться как равнозначные, имеют тенденцию
употребляться в случаях (а) и (Ь) соответственно. Выражение
being certain 'думать определенно, что...' указывает на
то, что мы полностью доверяем нашей памяти и
правильности предшествующего опыта, в то время как
1 3Похоже, что это охватывает случаи неясного,
невнимательного и нецеленаправленного восприятия, которые
противопоставлены случаям притуплённого или нарушенного восприятия.
68
выражение being sure 'быть уверенным' указывает на
то, что мы полностью доверяем показаниям наших
органов чувств в данный конкретный момент. Вероятно,
это можно проследить также в употреблении таких
оборотов, как to be sure 'быть уверенным' и certainly
'определенно', а также certainly not 'определенно, что
не...' и surely not 'уверен, что не..Л Впрочем, цели
настоящего исследования не предполагают анализ
неуловимых нюансов выражений.
Мне могут возразить, что, даже когда я не знаю
точно, как описать свои ощущения, я тем не менее
знаю, что я думаю (и даже насколько я уверен), что это
розовато-лиловый цвет. Таким образом, я все-таки
что-то знаю. Этот аргумент, однако, не является
возражением по существу: на самом деле ведь я не знаю,
действительно ли это розовато-лиловый цвет,
правильно ли я его идентифицирую. Кроме того, возможна
ситуация, когда я не буду даже знать, что и подумать:
я могу быть полностью сбит с толку и окончательно
поставлен в тупик.
Конечно, существует большое количество
суждений, в которых отражены мои собственные ощущения
(sense — statements), в истинности которых я (могу
быть) полностью уверен. Например, в стандартной
ситуации большинство людей практически всегда с
определенностью воспринимает цвет как красный (или
красноватый, или во всяком случае скорее красный,
чем зеленый), и каждый может сказать, грустно ли ему
(исключая случаи, когда это сделать достаточно
трудно, например когда мы веселим окружающих);
специалист по окраске тканей или модельер с
уверенностью определят, что это (при данном освещении)
цвет резеды или шоколадный цвет, хотя неспециалисту
это будет сделать не так-то легко. В большинстве
случаев мы можем быть полностью или совершенно
уверены, а если такой уверенности нет, мы прибегаем к
приблизительным описаниям ощущений:
приблизительность описания и уверенность находятся в обратной
зависимости. Но какова бы ни была в каждом
конкретном случае точность описания, во всех этих суждениях
фиксируются собственные ощущения субъекта.
Мне кажется, что философы стремятся, если я не
ошибаюсь, отмежеваться от проблемы уверенности и
вероятности, которая занимает
ученых-естествоиспытателей. И наоборот, проблема "реальности", которая
привлекает философов, ученых-естествоиспытателей не
интересует. Вся система измерений и стандартов, по-
69
хоже, предназначена для того, чтобы уменьшить
неуверенность и неопределенность и одновременно
увеличить, насколько это возможно, точность. Слова real
'настоящий' и unreal 'ненастоящий'
ученый-естествоиспытатель будет стремиться заменить различными
эквивалентами, покрывающими большое количество
разнообразных случаев: он спросит не Is it real? 'Это
настоящее?', а скорее Is it denatured? 'Это
денатурировано?', или Is it an allotropic form? 'Это аллотропная
форма?' и т.д.
Для меня не совсем ясно, что именно
представляет собой класс суждений, в которых отражены
собственные ощущения субъекта, и каковы особенности
этих суждений. Ряд авторов, которые занимаются
анализом подобных суждений, похоже, проводит
различие между определением таких простых вещей и
явлений, как красный цвет и боль, с одной стороны, и
более сложных таких, как любовь и столы — с другой.
Но это не относится к Дж. Уисдому, поскольку он
рассматривает высказывание This looks to me now like a
man eating poppies 'Я воспринимаю это как человека,
который ест мак' в одном ряду с высказываниями
типа This looks to me now red 'Я воспринимаю это
сейчас как красное'. Здесь Дж. Уисдом, бесспорно, прав:
человека, который ест мак, может быть, иногда
распознать "сложно", но по большей части он не
представляет каких-либо особых трудностей для восприятия
и идентификации, так же как и остальные предметы и
явления. Почему бы нам не сказать, что суждения, в
которых отражены собственные ощущения субъекта,
не содержат "предсказаний"? Действительно, если я
утверждаю: This is a (real) oasis 'Это (настоящий) оазис',
не удостоверившись, что это не мираж, то я поступаю
довольно неосмотрительно, но если я удостоверился,
что это не мираж, убедился в этом на собственном
опыте (например, зачерпнул воды), тогда я ничем не
рискую. Я, конечно, верю в то, что оазис и дальше будет
оставаться оазисом, но если вдруг произойдет нечто
сверхъестественное, lusus naturae*, то это не будет
означать, что раньше я ошибался, называя оазис
(настоящим) оазисом.
Рассмотрев точку зрения Дж. Уисдома, мы
убедились в том, что было бы неправильно утверждать, что
особенностью суждений, в которых отражены
собственные ощущения субъекта, является то, что "когда они
♦lusus naturae (лат.) — игра природы. — Прим. перев.
70
истинны и произносятся Х-м, то X знает, что они
истинны", ибо, например, X может думать, что вкус чая,
который он только что попробовал, похож на вкус
чая "Лапсанг"*, но сначала думать об этом без особой
уверенности, а затем либо полностью в этом
убедиться, либо совершенно от данной мысли отказаться.
Дж. Уисдом выдвинул еще два положения, которые
гласят, что "знать, что мне больно, и означает сказать,
что мне больно на основе того, что я испытываю боль",
и что единственная возможность оказаться ложными
для суждений, в которых отражен собственный опыт
субъекта, представлена случаями, подобными тем,
когда, "зная, что это Джек, я назвал его Альфредом,
думая в тот момент, что его зовут Альфред, или же
совсем не задумываясь над этим". В обоих указанных
случаях фразы "на основе того, что я испытываю боль"
и "зная, что это Джек" представляют затруднение.
Выражение "зная, что это Джек" означает, что я узнал
в этом человеке Джека, в чем я мог бы усомниться
и/или ошибиться: конечно, я не обязательно должен
был правильно назвать его по имени (и,
следовательно, я вполне мог назвать его Альфредом), но я
обязательно должен был правильно его опознать, например,
как человека, которого я узнал, встречаясь с ним в
Иерусалиме, иначе бы я ввел в заблуждение самого
себя. Сходным образом, если выражение "на основе
того, что я испытываю боль" означает только "когда я
испытываю (то, что правильно описать как) боль",
тогда для знания того, что мне больно, необходимо
нечто большее, чем просто произнесение слов "Мне
больно", а это нечто большее, поскольку оно
подразумевает узнавание и идентификацию, может в принципе
вызывать сомнение и/или быть ошибочным, хотя,
конечно, это маловероятно в таком сравнительно простом
случае, как ощущение боли.
Возможно, стремление игнорировать проблему
узнавания и идентификации вызвано тенденцией
использовать после слова know 'знать' прямую объектную
конструкцию. Дж. Уисдом, например, свободно
использует такие выражения, как knowing the feelings of
another (his mind, his sensation, his anger, his pain) 'знание
чувств другого человека (его намерений, его
ощущений, его раздражения, его боли)', как будто бы он
знает все это. Однако, хотя мы действительно употреб-
* "Лапсанг" — сорт китайского чая, экспортируемого в
Англию. — Прим. перев.
71
ляем такие выражения, как I know your feeling on the
matter 'Я знаю ваше отношение к этому' или Не knows
his own mind 'Он знает, чего он хочет' или (устар.)
May I know your mind 'Могу ли я узнать ваши
стремления?', все эти высказывания имеют узкую сферу
применимости и едва ли оправдывают любое употребление
глагола know 'знать' в прямой объектной
конструкции. Слово feelings 'чувства' имеет здесь такое же
значение, как в выражении very strong feelings 'вполне
определенное отношение', положительное или
отрицательное, к какому-нибудь предмету или явлению: это
слово, скорее, означает "views" 'взгляды' или "opinions"
("very decided opinions") 'мнение' ('вполне
определенное мнение'), а слово mind 'мысль, мнение' в
указанном употреблении означает "intentions" 'намерения'
или "wish" 'стремление', и это значение отмечено в
словарях. Произвольное расширение употребления глагола
know 'знать' в прямой объектной конструкции
означало бы, что мы, например, на основе правильности
выражения knowing someone's tastes 'знание вкусов кого-
либо' начали бы говорить о knowing someone's sounds
'знании его [восприятия] звуков' или о knowing
someone's taste of pineapple 'знании его [восприятия] вкуса
ананаса'. Если, к примеру, речь идет о физическом
ощущении, подобном усталости, то в этом случае
использование выражения I know his feelings 'Я знаю его
ощущения' невозможно.
Следовательно, когда Дж. Уисдом говорит о
knowing his sensation 'знании его [другого человека]
ощущений', он молчаливо предполагает, что это выражение
эквивалентно выражению knowing what he is seeing,
smelling, etc. 'знать, что он видит, какой запах
чувствует и т.д.', подобно тому, как выражение knowing
the winner of the Derby 'знать победителя на скачках
"Дерби", означает knowing what won the Derby 'знать,
кто победил на скачках "Дерби". Однако при этом
для того, чтобы оправдать практику употребления
прямого объекта после глагола know 'знать', выражение
know what 'знать, что (кто)' трактуется неверно, ибо
what 'что (кто)' понимается здесь как относительное
местоимение, равнозначное that which 'то, что (тот,
кто)', а это грамматически неправильное
толкование. Конечно, слово what 'что (кто)' может быть
относительным местоименение, однако в выражении
know what you feel 'знать, что вы чувствуете' и know
what won 'знать, кто победил' это вопросительное
местоимение (лат. quid, а не quod). По этому параметру
72
высказывание I can smell what he is smelling 'Я могу
чувствовать тот же запах, который чувствует он'
отличается от высказывания I know what he is smelling 'Я
могу знать, какой запах он чувствует'. Выражение
I know what he is feeling 'Я знаю, что он испытывает'
не означает There is an х which both I know and he is
feeling 'Существует x, который я знаю, и он
испытывает', а имеет следующий смысл: I know the answer to
the question "What he is feeling?". 'Я знаю ответ на
вопрос "Что он испытывает?". Аналогично, выражение
I know what I am feeling 'Я знаю, что я испытываю' не
означает, что существует нечто, что я одновременно и
знаю, и испытываю.
Такие высказывания, как We don't know another
man's anger in the way he knows it 'Мы не знаем
раздражения другого человека так же, как он сам знает это'
или Не knows his pain in a way we can't 'Он знает свою
боль так, как мы не можем ее знать; звучат
чудовищно. Человек не может "знать свою боль"; он
чувствует (а не знает) то, что является, или то, что называется,
раздражением (а не его раздражением), он знает, что
чувствует раздражение. При этом предполагается, что
человек всегда может идентифицировать свои
ощущения, тем более сильные, хотя на самом деле это не
совсем так, ср. высказывание "Сейчас я знаю, что это была
ревность ("гусиная кожа" или ангина). Раньше я не
знал, что это такое, потому что я никогда не испытывал
ничего подобного, но сейчас я уже хорошо знаю, что к
чему"14.
Некритичное использование глагола know 'знать'
в прямой объектной конструкции, вероятно, лежит в
основе того взгляда, что впечатления, т.е. вещи, цвета,
звуки и т.д., как бы назьшают себя сами или названы
Конечно, в ряде случаев после глагола know 'знать' может
следовать прямой объект, а перед словом, обозначающим
ощущение, может употребляться притяжательное местоимение, ср.
Не knows the town well 'Он хорошо знает город', Не has known
much suffering 'Он знал много горя', My old vanity, how well I
know it 'Мое вечное тщеславие, как хорошо я его знаю' и
возможность следующих тавтологичных форм: Where does he feels
his (-the) pain? 'Где он чувствует (свою) боль?' и Не feels his
pain Юн чувствует (свою) боль'. Однако ни один из этих
примеров не является подтверждением возможности употребления
такого метафизического выражения, как Не knows his pain (in a
way we can't) 'Он знает свою боль' ('так как мы не можем ее
знать').
73
"по природе": так, я могу прямо сказать, что я вижу:
объект моего восприятия сам заявляет о себе, а я
только это воспроизвожу, т.е. впечатления как бы сами
"объявляют себя" или "идентифицируют себя",
подобно тому, на что мы указываем в выражении It presently
identified itself as a particular fine white rhinoceros 'Bee
это говорит о том, что это прекрасный экземпляр белого
носорога'. Однако это всего лишь речевой оборот,
идиома (во французском языке их больше, чем в
английском) : результаты восприятия бессловесны, и только
наш прежний опыт может помочь нам идентифицировать
их. Если мы все-таки будем считать, что впечатления
сами "идентифицируют себя" (и что, следовательно,
"узнавание" не есть результат нашей сознательной
деятельности), тогда нам придется признать, что они
разделяют исконное право всех говорящих говорить
неясно или говорить неправду.
Если я знаю, то я не могу ошибиться
Последний момент, который должен быть
рассмотрен в связи с вопросом How do you know? 'Откуда вы
знаете?', должен быть связан с анализом следующего
высказьшания, обращенного к человеку,
утверждающему, что он знает: If you know you can't be wrong 'Если
вы знаете, то вы не можете ошибиться'. Однако, если
верно то, что было изложено выше, мы часто
совершенно правы, когда говорим, что мы знаем, даже если
впоследствии выясняется, что мы ошибались. Похоже,
что на самом деле мы можем ошибиться всегда или
практически всегда.
Итак, мы должны признать возможность
ошибки. Впрочем, на практике это не приводит к
большим затруднениям. Интеллект и ощущения
человека подвержены ошибкам, но это их свойство не
является неотъемлемым. Так, машины могут
ломаться, но хорошие машины ломаются редко.
Бесполезно возлагать надежды на "теорию знания", которая
отрицает возможность ошибки: подобные теории
всегда в конечном итоге все-таки приходят к
признанию этого положения и одновременно к
отрицанию существования знания".
Рассматриваемое высказывание должно
прочитываться так: When you know you can't be wrong 'Когда
вы знаете, вы не можете ошибиться'. Запрет на
произнесение высказьшания I know it is so, but I may be wrong
74
'Я знаю, что это так, но я могу ошибаться' носит такой
же характер, как и запрет на высказывание I promise
I will, but I may fail 'Я обещаю сделать это, но,
возможно, не сделаю'. Если вы сознаете, что можете
ошибиться, вы не должны говорить, что знаете, и, аналогично,
если вы понимаете, что можете не сдержать слова, вы
не должны раздавать обещаний. Конечно, осознание
того, что вы можете ошибиться, не означает, что вы
воспринимаете себя как целиком подверженную
ошибкам личность, — просто у вас есть какие-то конкретные
причины предполагать, что вы можете ошибиться
именно в данной конкретной ситуации. Сходным образом
But I may fail 'Но я, возможно, не сделаю этого', не
означает непосредственно But I am a weak human being
'Но я не всесилен' (это, фактически, было бы
равносильно прибавлению к высказыванию слов "D.V."*):
на самом деле это означает, что у меня есть конкретные
основания предполагать, что я не сдержу слова.
Практически всегда не исключена возможность, что человек
может ошибиться или нарушить обещание, но сам по
себе этот факт не является препятствием для
употребления выражений I know 'Я знаю' и I promise 'Я
обещаю' в тех ситуациях, когда мы их действительно
употребляем.
Рискуя злоупотребить вашим вниманием, я все-
таки хочу рассмотреть сходство меэвду выражениями
I know 'Я знаю' и I promise 'Я обещаю' более
подробно15 .
*D.V. — Deo volente (лат.) — с божьей милостью; дай бог. —
Прим. перев.
1 5Мы будем рассматривать употребление выражений I know
'Я знаю' и I promise 'Я обещаю' только в 1 лице ед. числа
индикатива. Анализ высказываний типа If I knew, I can't have been wrong
'Если я знал, то я не мог ошибиться' или If she knows she can't be
wrong 'Если она знает, она не может ошибиться' ставит другие
проблемы по сравнению с анализом высказывания If I ("you")
know I ("you") cant be wrong 'Если я знаю ("вы" знаете), я не
могу ("вы" не можете) ошибиться'. Аналогично, I promise 'Я
обещаю' совсем не то же самое, что he promises 'он обещает':
если я говорю I promise 'я обещаю', то я не говорю, что я
говорю, что обещаю, а действительно обещаю, подобно тому, как
если он говорит, что обещает, то он не говорит, что говорит, что
обещает,—он просто обещает, в то время как если я говорю
Не promises 'он обещает', я (всего лишь) говорю, что он говорит,
что обещает, —в том смысле глагола promise 'обещать', в
котором я говорю, что я обещаю, только он может сказать, что он
обещает. Я описываю его обещание, а свое обещание даю, точно
так же как он дает свое.
75
Когда я говорю S is Р yS есть Р', то при этом
предполагается, что я по крайней мере так думаю или же,
если у меня есть веские основания, что я в этом
(полностью) уверен; когда я говорю I shall do А 'Я сделаю
А\ то при этом предполагается, что я по крайней мере
надеюсь сделать это или же, если у меня есть веские
основания думать, что я намерен это сделать.
Если я всего лишь только думаю, что S есть Р, то я
могу добавить But of course I may (very well) be wrong
'Но не исключена возможность, что я могу и
ошибаться'; если же я только надеюсь сделать Л, то я
могу добавить But of course I may (very well) not
'Хотя, конечно, я могу это и не сделать'. Когда я
только думаю или только надеюсь, то при этом
подразумевается, что при появлении каких-либо других
фактов или при возникновении других обстоятельств
ход моих мыслей может измениться. Когда я говорю
"S есть Р", хотя на самом деле так не думаю, то я
говорю неправду, если же я говорю это, когда так
думаю, но не вполне уверен, то я могу ввести в
заблуждение, но в принципе не лгу. Когда я говорю
I shall do it 'Я сделаю это', хотя на самом деле у меня
нет ни малейшей надежды или намерения выполнить
данное обещание, то я умышленно обманываю, если
же я говорю это, когда еще не окончательно решил,
сделаю ли это, то я ввожу в заблуждение, но нельзя
сказать, что я обманываю.
Когда я говорю I promise 'Я обещаю', я делаю
решительный шаг, ибо я не только объявляю о своих
намерениях, но, произнеся это высказывание
(выполнив своеобразный ритуал), я одновременно связываю
себя словом и как бы ставлю на карту свою репутацию.
Аналогично, когда я говорю I know 'Я знаю', я тоже
делаю решительный шаг. Однако выражение "Я знаю"
не означает: "Состояние моего сознания
превосходит даже самую сильную уверенность по той
шкале, где располагается мнение и уверенность", ибо
на этой шкале нет ничего выше полной уверенности.
Точно так же и обещание не находится выше самого
решительного намерения на той шкале, где
располагаются надежда и намерение, ибо на этой шкале
нет ничего выше, чем самое решительное намерение.
Когда я говорю: "Я знаю", я как бы даю окружающим
слово: я говорю им, что имею полное право
утверждать, что S есть Р.
Если я заявляю, что уверен, а впоследствии
окажется, что я ошибался, в этом случае отношение ко мне
76
окружающих будет иным по сравнению с тем, если бы
я утверждал, что знаю. Что касается меня, то я могу
быть уверен, но вы совсем не обязательно должны
разделять мое мнение; если вы, например, полностью
доверяя мне, примете мое мнение как свое собственное,
ответственность за это ложится на вас. Когда же речь
идет о знании, то я не могу знать "со своей стороны",
и если я говорю: "Я знаю", я не думаю о том, примете
вы или не примете сообщенную мной информацию
(хотя, конечно, вы можете принять или не принять ее).
Аналогично, когда я говорю, что решительно намерен
сделать что-либо, я утверждаю это "со своей стороны",
а вы, в соответствии с тем, как вы оцениваете мою
решимость и мои шансы на успех, можете или не
надеяться на это, или же полностью положиться на меня и
действовать дальше уже в соответствии с этим, но, если я
скажу, что обещаю, у вас уже есть полное право
действовать, полагаясь на мое обещание, если вы этого
захотите. Если я скажу, что знаю или обещаю, а вы не
отнесетесь к моим словам с доверием, этим вы можете
меня оскорбить. Все мы чувствуем, что между даже
таким сильным утверждением, как I absolutely sure
'Я абсолютно уверен' и высказыванием I know 'Я
знаю' все равно существует огромное различие
—такое же различие существует между даже таким
сильным утверждением, как I firmly and irrevocably intend
'Я решительно намерен' и высказыванием I promise
'Я обещаю'. Если кто-то пообещал мне, что сделает
А, то я, опираясь на данное мне обещание, сам могу
дальше пообещать что-нибудь еще, подобно тому,
как если кто-то сказал мне "Я знаю", я имею
право говорить, что я тоже знаю, уже "из вторых рук".
Право говорящего утверждать, что он знает, может
передаваться точно так же, как передаются другие
права. Следовательно, если в рассматриваемом случае
мое утверждение знания было неосмотрительным,
то я буду нести ответственность за то, что ввел вас в
заблуждение.
Когда вы говорите, что знаете что-либо, наиболее
непосредственная реакция собеседника принимает
форму вопроса Are you in a position to know? 'Достаточно
ли у вас оснований для утверждения знания?'; в
подобных случаях вы должны показать, что вы не просто
уверены в правильности сообщаемого, но что оно
входит в сферу вашего знания. В том случае, когда вы
обещаете, реакция собеседника может быть сходной, ведь
ваше решительное намерение сделать что-либо не яв-
77
ляется само по себе достаточным аргументом, здесь
надо показать, что у вас есть основания для обещания,
т.е. что все в вашей власти. В отношении надежности
подобных обоснований в двух указанных случаях
философов мучают сомнения, вызываемые осознанием
того, что мы не можем предвидеть будущее.
Некоторые философы придерживаются того мнения, что мы
никогда, или практически никогда, не должны
говорить, что мы что-нибудь знаем, за исключением,
возможно, своих собственных ощущений в данный
конкретный момент; другие же философы утверждают,
что мы никогда, или практически никогда, не должны
обещать, — возможно, за исключением того, что
действительно в нашей власти в настоящий момент. В
обоих рассуждениях присутствует одна и та же
мысль: если говорящий знает, то он не может
ошибиться, следовательно, он не имеет права говорить,
что он знает, а если он обещает, то, поскольку он
может не сдержать своего слова, он не имеет права
говорить, что он обещает. Эта мысль в своей основе
опирается на то, что люди не всегда способны делать
правильные предсказания, как будто бы
предсказания действительно могут обеспечить нам знание
будущего. В обоих случаях это ошибочно по двум
параметрам. Как было показано выше, мы можем быть
вполне правы, говоря, что знаем или обещаем, хотя,
конечно, в принципе, все "может" измениться, и,
если бы это произошло, мы бы оказались в
довольно затруднительном положении. Кроме того,
философами не принимается во внимание, что когда
говорящий утверждает, что какая-либо информация
входит в область его знаний или что все в его власти,
то условия, которые должны при этом выполняться,
относятся не к будущему, а к настоящему и к
прошлому — в отношении будущего не требуется ничего,
кроме простой веры16.
Однако мы интуитивно ощущаем, что выражение
I know 'Я знаю* употребляется несколько иначе, чем
выражение I promise 'Я обещаю'. И это действительно
так. Представим себе, что положение дел меняется,
тогда окружающие в одном случае могут сказать
16Если высказывание Figs never grow on thistles 'Инжир
никогда не растет на чертополохе* интерпретировать как None
ever have and none ever will 'Ни одна ягода инжира еще не
выросла и никогда не вырастет на чертополохе', то ясно, что в этом
случае я знаю, что этого никогда не было, и только верю, что
этого никогда не будет.
78
You're proved wrong, so you didn't know 'Оказалось что
вы ошибались, следовательно, вы на самом деле не
знали', а в другом случае они могут отметить: You've
failed to perform, although you did promise 'Вы не
сделали, хотя и обещали9. Я считаю, что этот контраст
является скорее кажущимся, чем настоящим. Смысл, в
котором вы "пообещали", состоит в том, что вы
сказали, что обещаете (сказали: "Я обещаю"), и,
аналогично, вы сказали, что знаете. В этом и заключается суть
обвинения против вас, если окружающие вам поверили
и были введены в заблуждение. Точно так же может
обнаружиться, что у вас никогда не было намерения
сделать что-либо или что у вас были конкретные
основания думать, что вы не сможете сделать этого (что
могло быть очевидно и для окружающих), поэтому в
другом "смысле" слова promise 'обещать' вы не могли
обещать сделать это и, следовательно, действительно не
обещали.
Рассмотрим теперь употребление других
выражений, аналогичных выражениям "Я знаю" и "Я обещаю".
Предположим, что я произнес не "Я знаю", a I swear
'Я клянусь'. Если ситуация изменится, тогда мы, как
и в случае с обещанием, должны будем сказать You did
swear, but you were wrong 'Вы поклялись, но не
выполнили своей клятвы'. Теперь предположим, что вместо
"Я обещаю" я произнес I guarantee 'Я гарантирую'
(например, вашу безопасность в случае нападения).
Если я не сдержу свое слово, то вы можете так же,
как в случае со знанием, заявить: You said you
guaranteed it, but you didn't guarantee it 'Вы сказали, что
гарантируете это, но на самом деле вовсе не
гарантировали. Картина в целом может быть, пожалуй,
представлена следующим образом. В случаях "ритуального"
поведения, подобных описанным, "правильным"
является такое поведение, когда я произношу вполне
определенное высказывание в некоторой стандартной
ситуации, например говорю "Да" в присутствии
священника или чиновника-регистратора, когда я, будучи
1 "Клянусь", "гарантирую", "даю слово", "обещаю"-все
эти слова охватывают как случаи знания, так и обещания, что
подтверждает сходство между ними. Конечно, все эти слова
слегка отличаются друг от друга: например, "знаю" и "обещаю"
в известном смысле являются "несколько неопределенными"
выражениями, в то время как клятва всегда конкретна, а когда
я гарантирую, то я гарантирую, что если возникнут какие-то
неблагоприятные и достаточно нежелательные обстоятельства, я
предприму определенные действия, чтобы изменить ситуацию.
79
неженатым или вдовцом, стою рядом с женщиной,
незамужней или вдовой, причем мы не находимся в
близком родстве; ср. также такие случаи, когда я
говорю "Я отдаю" при условии, что должен что-то отдать,
или же говорю "Я приказываю", когда наделен
определенной властью, и т.д. Однако, если ситуация не будет
удовлетворять указанным параметрам (например, я
уже женат, не должен ничего отдавать, моя власть
недостаточна для того, чтобы приказывать), то мы,
вероятнее всего, будем испытывать сомнения, пытаясь
ее оценить, — сходные чувства испытывал бог, когда
узнал, что святой окрестил пингвинов*. Мы можем
называть человека двоеженцем, но его второй брак,
по сути дела, не является браком (это "нулевой", или
"пустой", брак — удобное выражение для того, чтобы
не говорить определенно — "женился" или "не
женился" человек); мой коллега действительно "приказал"
мне что-то сделать, но, поскольку он не имеет надо
мной никакой власти, он не мог "приказать" мне; он
действительно предупредил меня, что это потребует
больших усилий, но или он ошибался, или же я знал об
этом больше, чем он, поэтому в определенном смысле
он не мог предупредить меня и, следовательно, не
предупредил18. Мы колеблемся, пытаясь решить, какое
высказывание более правильно: Не didn't order me 'Он
не приказал мне', Не had no right to order me 'Он не
имел никакого права приказывать мне' или Не oughtn't
to have said he ordered me 'Он не должен был
говорить, что приказывает мне'. Точно такое же
сомнение мы испытываем в отношении следующих
высказываний: You didn't know 'Вы не знали', You can't
have known 'Вы не могли знать' и You had no right to
say you knew 'Вы не имели права говорить, что
знаете' (эти высказывания, возможно, немного
отличаются друг от друга в зависимости от того, что именно
оказывается неправильным). Основные моменты яв-
* Автор имеет в виду описанный А. Франсом в романе
"Остров пингвинов" эпизод крещения пингвинов святым Маэлем:
"Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали
там не радость, не печаль, а крайнее удивление. Сам господь не
знал, как быть". (А.Франс Собрание сочинений в 8 томах.
Том 6.М., 1959, с. 31) -Прим. перев.
1 8
Высказывание You can't warn someone of something that
isn't going to happen 'Вы не можете предупредить кого бы то ни
было о каком-либо событии, если оно не должно произойти'
аналогично высказыванию You cant know what isn't true 'Вы не
можете знать это, если это неверно*.
80
ляются здесь общими: (а) вы сказали, что знаете; вы
сказали, что обещаете; (Ь) вы ошиблись; вы не
выполнили своего обещания. Остается неясным только,
как надо рассматривать основные формы—"Я знаю"
и "Я обещаю".
Принять, что выражение "Я знаю" является
дескриптивным, значило бы увеличить число
дескриптивных ошибок (descriptive fallacy), столь
распространенных в философии. Даже если какой-то язык и
является в настоящее время полностью дескриптивным, то
в своих истоках язык таковым не был, а большинство
языков и до сих пор не являются таковыми.
Произнесение явно "ритуального" высказывания в
соответствующей ситуации является не описанием действия, а
его непосредственным осуществлением (I do 'Я
делаю') ; в ряде случаев эту функцию могут вьшолнять
интонация, экспрессивное выделение слов или
пунктуация, когда эти средства указывают на то, что мы
используем язык в определенных целях (I warn 'Я
предупреждаю', I ask 'Я спрашиваю', I define 'Я определяю').
Подобные выражения, строго говоря, не могут быть
ложными, но могут "содержать" ложь. Так, например,
когда я говорю, что обещаю, при этом предполагается,
что я намерен вьтолнить обещание, хотя на самом деле
это может быть и не так.
Если все эти обсуждаемые нами вопросы возникают
в обычной ситуации, когда мы спрашиваем How do you
know that this is a case of so and so? 'Откуда вы знаете,
что это то-то и то-то?', можно ожидать, что они
возникнут также и в тех случаях, когда мы говорим I know he
is angry 'Я знаю, что он раздражен'. Но поскольку здесь
существует ряд специфических трудностей, надо
постараться рассмотреть по крайней мере те моменты,
которые не являются специфическими, что помогло бы нам
решить вопрос в целом.
Я сразу должен предупредить, что буду
рассматривать случаи, связанные только с чувствами и
эмоциями, особенно с тем состоянием человека, когда он
раздражен. Очевидно, что ситуация, когда мы знаем,
что другой человек думает, что дважды два четыре или
что он видит мышь, отличается по ряду важных
параметров от той ситуации, когда мы знаем, что человек
раздражен или голоден, хотя, несомненно, между этими
ситуациями существует и сходство.
Мы порой говорим, что знаем, что другой человек
раздражен, и, конечно, легко отличим эти случаи от
тех, когда мы говорим, что только думаем, что он
81
раздражен. Мы понимаем, что бессмысленно было
бы полагать, что мы всегда о любом человеке можем
сказать, раздражен ли он, или что мы всегда можем это
выяснить. Может возникнуть ситуация, когда мне
трудно будет даже предположить, что чувствует другой
человек, кроме того, встречаются разные типы людей
и существует множество таких индивидов, о
которых я (поскольку мы разные люди) никогда не
смогу сказать ничего определенного. Вам будет,
вероятно, достаточно трудно определить чувства
членов королевской семьи или, например, факиров,
бушменов, воспитанников Винчестерского колледжа
или просто эксцентричных личностей. Если вы не
имели продолжительного знакомства или не были
в тесных отношениях с этими людьми, вы вряд ли
узнаете, каковы их чувства, особенно в тех случаях,
когда эти люди по той или иной причине не смогут
или не захотят сообщить вам об этом. Или, к примеру,
чувства человека, которого вы ни разу раньше не
встречали, — они могут быть какими угодно, а ведь
вы совсем не знаете характера и вкусов этого человека,
ни разу не наблюдали за его поведением и т.д. Его
чувства индивидуальны и неуловимы — люди могут
быть очень непохожи друг на друга! Осознание
существования различий между людьми и приводит к
тому, что мы говорим: You never know 'Никогда нельзя
[ничего] знать' и You never can tell 'Никогда нельзя
ничего сказать [точно]'.
Итак, здесь даже больше, чем в случае со щеглом,
многое зависит от того, насколько близко мы знакомы
с определенным типом людей и конкретно с данным
человеком, с его поведением в сходных ситуациях.
Если мы не являемся близкими знакомыми, вряд ли
мы решимся сказать, что мы знаем, впрочем, от нас
это и не требуется. С другой стороны, если у нас есть
необходимый опыт, в ряде случаев мы можем
утверждать, что мы знаем: так, мы достаточно точно можем
определить, что какой-нибудь наш родственник
рассержен больше, чем когда бы то ни было.
Кроме того, мы должны иметь личный опыт
переживания тех эмоций и чувств, о которых идет речь,
например в данном случае — знать, что такое
раздражение. Для того чтобы определить, какие чувства вы
испытываете, я должен быть способен представить себе
(догадаться, понять, почувствовать), какие чувства вы
испытываете. Очевидно, что для этого требуется нечто
большее, чем просто умение распознать признаки
82
раздражения у окружающих, — я должен сам в
прошлом обязательно испытать это чувство19.
Здесь легко может возникнуть искушение
последовать примеру Дж. Уисдома и провести различие между
(1) физическими симптомами и (2) самим чувством
или ощущением. Так, если в случае, подобном
рассматриваемому, меня спросят: How can you tell he's angry?
Как вы определили, что он раздражен?' — я должен
ответить: From the physical symptoms 'По внешним
проявлениям' (букв.: 'По физическим симптомам'),
а если самого этого человека спросят, как он
определил, что он раздражен, он должен ответить From the
feeling 'Я это чувствую'. Этот подход, однако, является
упрощенным и поэтому представляет известную
опасность.
Во-первых, слово symptoms 'симптомы' (а также
слово physical 'физические') используется здесь далеко
не так, как мы обычно используем его, и это приводит
к заблуждению.
Слово "симптомы" заимствовано из языка
врачей20 . Оно используется по преимуществу (или
только) в тех случаях, когда то, что мы рассматриваем,
является нежелательным ("симптомы" — это,
например, скорее симптомы начинающейся болезни, чем
долгожданного выздоравления, отчаяния, а не
надежды; печали, а не радости), — следовательно,
слово "симптомы" более эмоционально окрашено, чем
слово signs 'признаки'. Все это, впрочем, достаточно
1 9
Мы говорим, что не знаем, что значит испытывать такие
чувства, какие испытывает царь, но в то же время прекрасно
знаем, что будет испытывать наш друг, если его обидят. В этом
обычном (приблизительном и далеко не полном) смысле
выражения knowing what it would be like 'знать, на что это может быть
похоже* мы действительно часто знаем, что значит чувствовать
себя как вот этот человек, готовый к решительным действиям,
но в то же время совершенно не знаем (не можем даже
предположить или представить себе), что значит чувствовать себя как
кот или как таракан. Однако, конечно, мы не можем знать
чувства и переживания вот этого человека, готового к
решительным действиям, если вслед за Дж. Уисдомом придерживаться
того специфического толкования выражения know what 'знать
что', когда оно рассматривается как эквивалентное выражению
directly experience that which 'непосредственно испытывать то,
что'.
В настоящее время врачи сами разграничивают
"симптомы" и "(физические) признаки", но это различие, вообще
говоря, проводится не вполне четко» и не является релевантным для
целей настоящего изложения.
83
тривиально. По-настоящему значащим фактом
является то, что мы говорим о симптомах или признаках
только в тех случаях, когда в принципе можно
наблюдать и само явление непосредственно. Конечно, часто
бывает трудно определить, где кончаются признаки
или симптомы и начинается само явление, однако
всегда предполагается, что граница между ними
существует. Слова "симптомы" и "признаки" могут быть
употреблены только тогда, когда, как в случае болезни,
само явление может быть скрыто: например, человек
может уже переболеть или же заболеть серьезно только
через некоторое время, кроме того, болезнь может
протекать в легкой или скрытой форме и т.д. Однако,
когда мы наблюдаем уже само явление
непосредственно, мы больше не говорим о признаках и симптомах.
Когда мы говорим о "признаках шторма", мы имеем
в виду признаки или надвигающегося, или недавно
закончившегося, или отдаленного шторма, но мы в
любом случае не наблюдаем этот шторм
непосредственно21 .
Слова "симптомы" и "признаки" сходны с такими
словами, как traces 'следы (чего-либо)' и clues 'улики'.
Когда вы пытаетесь установить, кто убийца, вы
рассматриваете как улики только то, что действительно
является или может являться уликами, — в этом
качестве не могут выступать ни свидетельства очевидцев,
ни признание человека, совершившего преступление.
Сыр может не находиться в поле нашего зрения, но
могут быть какие-то его "следы"; однако мы не говорим
о следах тогда, когда сыр у нас перед глазами
("следов", как таковых, здесь нет).
По этой причине представляется неправильным
рассматривать, как это обычно делается, все характерные
черты любого явления недифференцированно, подводя
их под общую категорию "признаков" или
"симптомов", хотя, конечно, иногда случается так, что то, что
Существует ряд несколько более сложных случаев.
Признаки приближающейся инфляции, например, имеют ту же самую
природу, что и сама инфляция, просто они не столь явно
выражены. В подобных случаях особенно актуален вопрос о том,
где кончаются признаки или "тенденции" и начинается само
явление или состояние; кроме того, в случае инфляции, а также в
случае некоторых болезней, мы можем иногда продолжать
говорить о признаках и симптомах даже тогда, когда очевидно, что
соответствующее явление или состояние уже имеет место, и
делать это потому, что само это состояние недоступно для
непосредственного наблюдения.
84
в соответствующих обстоятельствах может быть
названо характеристиками, следствиями, проявлениями,
разновидностями, последствиями определенных явлений,
в других обстоятельствах может быть названо также
признаками или симптомами. В парадоксе Уисдома
(Other Minds III) этот факт игнорируется, что и
приводит к ошибке. Дж. Уисдом говорит, что, когда мы
заглядываем в буфет и видим хлеб, дотрагиваемся до
него или даже пробуем на вкус, перед нами налицо
"все признаки" хлеба. С этим нельзя согласиться:
вид или вкус хлеба вовсе не являются его признаками
или симптомами. Не вполне ясно, как должны понять
окружающие мое сообщение о том, что я нашел в
буфете признаки хлеба: хлебу не присуща скрытая
форма "существования" (а если он помещен в
закрытую хлебницу, мы не видим никаких его следов),
хлеб не представляет собой развивающегося явления
(мы не говорим о "начинающемся хлебе" и т.д.), он
не имеет определенных закрепленных за ним
"признаков". Возможно, окружающие истолкуют мое
сообщение так, что я нашел следы хлеба — например, крошки,
или же обнаружил признаки того, что в буфете когда-
то хранили хлеб, но никто никогда не подумает, будто
я хочу сказать, что я видел, пробовал или
дотрагивался до хлеба.
Когда мы видим нечто похожее на хлеб, но еще не
пробовали его, мы говорим: Here is something that looks
like bread 'Здесь есть нечто, что выглядит как хлеб'.
Если это все-таки окажется не хлеб, мы можем сказать:
It tasted like bread, but actually it was only bread-sybsti-
tution 'На вкус это напоминало хлеб, но это был всего
лишь суррогат' или It exhibited many of the
characteristic features of bread, but differed in important respects: it
was only a synthetic imitation 'По многим признакам
это напоминало хлеб, но отличалось от него по ряду
важных характеристик: это была всего лишь искусная
имитация'. Таким образом, в подобных случаях мы
совсем не используем слова sign 'признак' и symptom
'симптом'.
Итак, поскольку слова signs 'признаки' и symptoms
'симптомы' имеют ограниченное употребление,
становится очевидно, что, когда говорят, что мы видим
только "признаки" или "симптомы", при этом
подразумевается, что мы не имеем дело с самим явлением
(даже если налицо "все признаки"). Так, если мы
отметим, что есть ряд симптомов того, что тот или иной
человек раздражен, это высказывание будет нести в
85
себе дополнительный смысл. Но так ли мы на самом
деле говорим? Действительно ли мы не можем увидеть
ничего иного, чем только симптомы того, что другой
человек раздражен?
"Симптомы" или "признаки" того, что человек
раздражен, — это всегда признаки зарождающегося или
подавляемого раздражения. Если человек уже не может
сдержаться, тогда мы говорим о другом — о выражении
или проявлении соответствующей эмоции. Сдвинутые
брови, бледность, дрожь в голосе еще могут быть
симптомами раздражения, а вот резкая отповедь или
гневное выражение на лице являются уже не симптомами,
а формами проявления раздражения. "Симптомы",
по крайней мере обычно, противопоставлены не
переживанию человеком соответствующей эмоции, а скорее
проявлению этой эмоции. Так, когда мы имеем дело
всего лишь с симптомами, мы можем сказать только,
что думаем, что человек раздражен или начинает
сердиться, но, когда человек уже не сдерживает себя, мы
говорим, что знаем22.
Слово physical 'физический', как оно
используется Дж. Уисдомом — в противопоставлении к слову
mental 'ментальный', — на мой взгляд, тоже
употребляется неправильно, хотя я не думаю, что в
рассматриваемом случае это может вызвать большие осложнения.
Дж. Уисдом явно не хочет назвать физическими
человеческие ощущения, которые он рассматривает как
типичные примеры "ментальных" событий. Однако при
этом не учитывается реальное употребление соответ-
22 Мне могут возразить, что иногда мы употребляем
выражение / know 'я знаю' там, где его, возможно, надо заменить
выражением I believe 'я думаю', например, в том случае, когда я
говорю I know he's in, because his hat is in the hall 'Я знаю, что он
там, потому что его шляпа в прихожей'. Если глагол know 'знать'
может свободно употребляться вместо глагола believe 'думать,
что', почему мы должны считать, что между ними существует
фундаментальное отличие? Но весь вопрос в том, какое значение
имеют здесь выражения prepared to substitute 'готовы заменить'
и loosely 'свободно'. Мы "готовы заменить" глагол believe
'думать' глаголом know 'знать' не потому, что они равнозначны,
а потому, что утверждения со словом believe 'думать' являются
более слабыми и потому предпочтительнее в тех случаях, когда
мы не можем сделать более сильное утверждение без
соответствующей проверки. Во многих ситуациях наличие шляпы
действительно может служить доказательством присутствия ее
владельца, однако только по недомыслию этот признак может
использоваться как доказательство во время судебного
разбирательства.
86
ствующих слов. Существует множество физических
ощущений — например, головокружение, голод или
усталость; некоторые врачи рассматривают их как
физические признаки различных болезней. О ряде чувств
и ощущений, особенно об эмоциях — например, о
ревности или раздражении — мы не можем говорить ни
как о ментальных, ни как о физических — они
приписываются не разуму, а сердцу. При описании
некоторого ощущения как ментального мы употребляем слово,
которое обычно используется для обозначения
физического ощущения, в несколько ином смысле: это,
например, происходит, когда мы говорим о том, что
у нас устала голова (about "mental5' discomfort or fatigue
(букв.: 'о "ментальном" дискомфорте или усталости').
Таким образом, понятно, что состояние
раздражения предполагает не только наличие симптомов и
переживание соответствующих ощущений —
необходимо также и их проявление. Следует к тому же
отметить, что эти ощущения связаны с их проявлением
единственным способом. Когда мы раздражены, у нас
есть импульс (ощущаемый нами самими) совершать
действия определенного рода, и, если мы не
подавляем раздражения, мы действительно совершаем эти
действия. Существует особая внутреняя связь между
эмоцией и обычным способом ее проявления, которую,
поскольку сами не раз бывали раздражены, мы хорошо
знаем. Ооычные способы проявления раздражения
присущи раздражению точно так же, как различным
эмоциям соответствует определенный тон речи (так, мы
можем говорить оскорбленным тоном и т.д.). Обычно
не бывает так23, чтобы мы испытывали раздражение и
не имели при этом импульса, хотя бы и самого слабого,
естественным образом это раздражение проявить.
Более того, кроме естественных проявлений
раздражения, существуют еще и естественные поводы
(occasions) для раздражения, о которых мы тоже знаем по
собственному опыту и которые сходным образом
связаны особой внутренней связью с состоянием
раздражения. Классифицировать их как "причины" ("causes")
в некотором якобы вполне очевидном и "внешнем"
смысле этого слова было бы столь же бессмысленно,
как и рассматривать проявления раздражения как
Если мы признаем существование(составляющих интерес
психоаналитиков)неосознанных ощущений и ощущений,
проявляющихся парадоксальным обдэазом, тогда нам, естественно,
потребуется новый язык.
87
"следствие" ("effect") соответствующей эмоции тоже
в некотором якобы вполне очевидном и "внешнем"
смысле слова "следствие". Точно так же бессмысленно
утверждать, будто существуют три полностью
независимых друг от друга феномена: (1) причина или повод,
(2) ощущение или эмоция, (3) следствие или
проявление, — которые все вместе "по определению" с
необходимостью присущи раздражению; впрочем, это
утверждение, возможно, в меньшей степени способно
затемнить сущность дела, чем предыдущие.
Возникает искушение сказать, что "состояние
раздражения" во многом похоже на "состояние депрессии",
которое тоже может быть описано как некоторый
набор событий, включая повод, симптомы, ощущения,
внешнее проявление и, возможно, еще ряд других
факторов. Спрашивать What, really, is the anger itself?
'Л само раздражение -— что это такое?' столь же нелепо,
как пытаться свести описание "болезни" или
"болезненного состояния" к какой-нибудь одной
выбранной характеристике ("функциональное расстройство")
("functional disorder"). То, что мы не можем испытать
ощущений другого человека (например, испытать его
раздражение, — если не принимать во внимание
вводимые Дж. Уисдомом различные виды телепатии)2 4 —
достаточно очевидно, и, следовательно, нет смысла
говорить о "предсказании", нет необходимости говорить,
что "это" ("это чувство")25 и есть раздражение.
Совершенно ясно, что набор событий, каковы бы ни были его
точные характеристики, является особым для "чувств"
(эмоций), — он ни в коем случае не совпадает с
описанием болезней: возможно, именно это заставляет нас
утверждать, что, пока мы сами не испытали какого-
либо чувства, мы не сможем определить, испытывает
Существует, как мне кажется, феномен, который иногда
на самом деле имеет отношение к нашему знанию ощущений
других людей, но он отличается от понятия телепатии,
вводимого Дж. Уисдомом. Мы действительно говорим, например, о том,
что "чувствуем недовольство другого человека", или отмечаем,
например, что "его раздражение ощущалось", и это, несомненно,
имеет отношение к сути дела. Но то ощущение, которое мы
испытываем, хотя это действительно самое настоящее ощущение,
является в данном случае не раздражением или недовольством,
а некоторым другим, соответствующим им ощущением.
"Чувства", то есть ощущения, которые возникают у нас,
когда мы раздражены, такие, например, как учащенное
сердцебиение или мускульное напряжение, не могут быть сами по себе
названы "чувством раздражения".
88
ли его кто-нибудь другой. Более того, именно то, что
мы придерживаемся общей модели, позволяет нам
говорить, что мы "знаем", что другой человек
раздражен, даже если мы становимся свидетелями
проявления только отдельных частей модели, ибо части набора
событий связаны между собой гораздо более тесным
образом, чем, скажем, брайтонские репортеры* с
пожаром на Флит-стрит**26.
Сила существующей модели такова, что сторонние
наблюдатели могут иногда давать человеку корреги-
рующие указания касательно его собственных эмоций.
Так, человек может согласиться, что на самом деле
был не столько раздражен, сколько оскорблен или
ревнив, или даже что на самом деле он не был огорчен,
а это ему только казалось. В этом нет ничего
удивительного, особенно если учесть тот факт, что человек
учится описывать свое состояние при помощи
выражения I am angry 'Я раздражен' сначала (а) путем
фиксации повода, симптомов, проявления эмоции, когда
другие говорят "Я раздражен" о себе, а также (&),
поскольку окружающие, отмечая особенности его
поведения в определенных ситуациях, говорили ему You
are angry 'Ты раздражен', давая таким образом
указания, что в аналогичных ситуациях он должен говорить
I am angry 'Я раздражен'. В целом определить
ощущения и эмоции, если мы действительно можем
фиксировать их наличие, очень трудно, даже труднее, чем,
скажем, определить вкусовые ощущения, которые, как
было отмечено выше, обычно описываются
непосредственно (например, вкус смолы, ананаса и т.д.).
Кроме того, все слова, обозначающие эмоции,
являются не вполне определенными по двум параметрам,
что в свою очередь может вызвать дополнительные
сомнения в отношении того, "знаем" ли мы, что другой
человек раздражен. Эти слова описьюают достаточно
широкий и не вполне определенный набор ситуаций,
а модели событий, которые они характеризуют,
являются достаточно сложными (хотя очень часто они
хорошо известны и определить их нетрудно), поэтому неко-
*Брайтон (Brighton) — приморский курорт в графстве
Суссекс. —Прим- перев.
**Флит-стрит (Fleet Street) — улица в Лондоне, на которой
находятся редакции большинства крупнейших газет. — Прим.
перев.
26 Поэтому бессмыслен вопрос How do I get from the scowl
to the anger? 'Как от сердитого взгляда я перешел к
раздражению?'
89
торая более или менее важная характеристика может
отсутствовать; вот тогда и возникает сомнение, как
мы должны классифицировать тот или иной не совсем
ярко выраженный случай. Мы хорошо понимаем, что,
когда мы говорим, что знаем, мы можем быть
поставлены перед необходимостью это доказать, и тогда
неопределенность терминологии явится для нас большой
помехой.
Итак, возможно, уже было сказано достаточно для
того, чтобы показать, что большинство трудностей, с
которыми мы сталкиваемся, когда говорим, что знаем,
что это щегол, принимает еще большие размеры, когда
мы хотим сказать, что знаем, что другой человек
раздражен. Кроме того, возникает ощущение, и я думаю,
оно вполне оправданно, что в последнем случае
существует еще одна трудность совершенно особого рода.
Похоже, что с разрешением этого затруднения
связан ряд вопросов, которые были поставлены Дж. Уис-
домом в самом начале серии его статей. Сложность
заключается в том, не могут ли у человека
проявляться все симптомы (признаки и т.д.) раздражения,
проявляться даже ad infinitum*, хотя при этом (на самом
деле) человек не раздражен? Надо напомнить, что Уис-
дом рассматривает этот вопрос, с определенной, без
сомнения, долей условности, как трудность,
аналогичную той, которая может возникнуть относительно
определения реальности любого "материального
объекта". Однако на самом деле здесь существует ряд
самостоятельных проблем.
Как мне кажется, сомнения могут возникнуть в
трех различных случаях:
1. Когда по всем признакам человек раздражен, не
может ли он на самом деле действовать под влиянием
какой-нибудь другой эмоции? Хотя этот человек
обычно находится в том же эмоциональном состоянии, в
каком находимся мы в тех случаях, когда раздражены,
и обычно ведет себя в состоянии раздражения точно
так же, как и мы, в данной конкретной ситуации он
может вести себя необычно.
2. Когда по всем признакам человек раздражен,
не может ли он на самом деле действовать под
влиянием какой-нибудь другой эмоции, которую он обычно
испытывает в тех ситуациях, когда мы на его месте
чувствовали бы раздражение? Человек может вести себя
точно так же, как бы вели себя мы, будучи в раздра-
*Ad infinitum (лат.) — до бесконечности. —Прим. перев.
90
женном состоянии, но не может ли он испытывать
такие ощущения, которые, доведись нам испытать их,
мы бы обязательно отличили от раздражения?
3. Когда по всем признакам человек раздражен,
не может ли он на самом деле не испытывать никакой
эмоции?
В повседневной жизни эти проблемы возникают в
особых случаях и вызывают большие затруднения.
Мы можем быть обеспокоены, (1) не обманывает ли
нас человек, подавляя свои эмоции или демонстрируя
те эмоции, которых он на самом деле не испытывает;
мы можем сомневаться, (2) правильно ли мы
понимаем человека (или он нас), имеем ли мы право
предполагать, что он "чувствует как мы", что у него такие же
эмоции, как у нас; мы можем колебаться, (3) было ли
поведение человека естественным или же оно
подвергалось жесткому контролю. Эти три вопроса могут
возникнуть и действительно часто возникают в связи с
поведением людей, которых мы хорошо знаем27. Любой
из этих вопросов или же все они сразу могут лежать
в основе следующего высказывания Вирджинии Вулф:
"Все взаимосвязано в чувстве одиночества, которое
временами посещает каждого".
Ни одна их этих трех особо отмеченных трудностей
о "реальности" не возникает в связи со щеглами или
хлебом, а особые трудности, которые имеют место,
например в случае с оазисом, не могут возникнуть в
связи с реальностью эмоций другого человека. Щеглы
не могут быть "стимулированы", а хлеб не может быть
"подавлен"; мы можем обмануться, увидев не
настоящий оазис, а мираж, мы можем сделать неправильный
прогноз погоды на основании наблюдаемых
признаков, но сам оазис не может нам лгать, а если мы не
поняли, что начинается шторм, то здесь ситуация будет
иной по сравнению с тем, если мы неправильно поняли
поведение человека.
Хотя отмеченные трудности особого рода, методы
их устранения в ряде основных характеристик сходны
с методами, применяемыми в случае со щеглом.
Существуют (более или менее точно) установленные
процедуры прояснения случаев предполагаемого обмана,
В ряде случаев мы можем сомневаться в "реальности"
наших собственных эмоций, сомневаться, не играем ли мы на
самом деле "для самих себя". Профессиональные актеры могут
достичь такого состояния, когда они уже не в состоянии точно
определить, каковы их истинные чувства и ощущения.
91
непонимания или невнимательности. Используя эти
средства, мы можем прийти к обоснованному выводу
(хотя, конечно, это возможно не всегда), что тот или
иной человек "играет", или что мы неправильно поняли
его, или что он просто не способен к переживанию
некоторого эмоционального состояния, или что он
жестко контролирует свое поведение. Эти особые
случаи, когда может возникнуть сомнение, требующее
своего разрешения, противопоставлены огромному
числу стандартных ситуаций, когда сомнение просто не
может возникнуть28, если только мы не заподозрим,
что здесь имеет место, например, обман, причем обман,
который в принципе возможно распознать, ибо в
данной конкретной ситуации для такого поведения
человека должны быть вполне определенные мотивы и т.д.
При этом не возникает даже мысль о том, что я
никогда не могу знать, каковы эмоции других людей
или что в ряде случаев я могу просто так, без видимых
на то причин, ошибиться.
Экстраординарные (нестандартные) случаи,
например, обмана и непонимания обычно, ex vi termini*,
не встречаются: все мы имеем представление о том,
каковы обычные причины, поводы, разумные границы
проявления обмана и непонимания. Однако
независимо от того, осознаем мы это или нет, такие случаи
все-таки могут возникнуть, и среди них могут быть
свои разновидности. Если это произойдет, то наши
утверждения в определенном смысле будут
ошибочными, поскольку употребляемая нами терминология не
подходит для описания подобных случаев, и впредь
мы должны будем быть более осторожными, когда
говорим, что мы знаем, или же должны будем
пересмотреть свои представления и терминологию. Мы
всегда должны быть готовы к этому, когда имеем дело
с такой сложной и многогранной проблемой, как
проблема эмоций.
Однако здесь есть одна особенность, которая
полностью разграничивает случаи определения эмоций от
ситуаций со щеглом. Щегол, тоже являясь
материальным объектом, говорить не может, а человек может.
Среди набора фактов, на основе анализа которых мы
2 8 Утверждение You cannot fool all of the people all of the time
'Вы не можете постоянно вводить людей в заблуждение*
является аналитическим.
*Ех vi termini (лат.) — исходя из значения (силы) термина. —
Прим. перев.
92
можем сказать, что знаем, что другой человек
раздражен, то есть среди всех симптомов, поводов и
проявлений особое место занимают высказывания самого
человека о своих ощущениях. В обычном случае мы
принимаем эту информацию на веру и потом говорим,
что знаем (как бы "из вторых рук"), что именно
испытывает этот человек, хотя, конечно, выражение "из
вторых рук" не может быть использовано и
действительно не используется здесь для указания на то, что
будто бы никто, кроме самого человека, о котором
идет речь, не может знать "из первых рук". Если
содержание высказывания человека вступает в
противоречие с нашими представлениями о его внутреннем
состоянии, мы не склонны принять исходящую от него
информацию, хотя и испытываем при этом некоторый
дискомфорт. Если известно, что этот человек самый
настоящий обманщик или склонен обманывать самого
себя, или же существуют веские причины для того,
чтобы он обманывал себя или окружающих в данной
конкретной ситуации, мы не будем особенно
удивляться; но если, например, человек, который всю жизнь
вел себя как бы в соответствии с некоторым
убеждением, оставит после себя дневниковую запись, в
которой отметит, что на самом деле он никогда не
придерживался этого убеждения, тогда нам, возможно,
останется только развести руками.
В заключение мне бы хотелось сделать еще
несколько замечаний относительно решающей роли принятия
нами той информации, которую нам сообщает сам
человек о своих ощущениях. Хотя я осознаю, что не
смогу полностью прояснить этот вопрос, я уверен, что он
является фундаментальным для всех затруднений в
целом и что он до сих пор не привлекал к себе того
внимания, которое заслуживает, возможно только
потому, что представлялся слишком очевидным.
Собственное признание человека не есть (не
рассматривается изначально как) знак или симптом, хотя
с определенной долей условности его можно так
рассматривать. Ему отводится особое место в сумме всех
фактов, относящихся к конкретному случаю. Здесь
с неизбежностью возникает вопрос Why believe him?
'Почему мы должны верить этому человеку?'.
На этот вопрос может быть дан ряд ответов,
которые будут трактоваться здесь не как ответы на вопрос
Why believe him this time? 'Почему мы должны верить
ему в данный момент?', а как ответы на общий вопрос
Why believe him ever? 'Почему мы вообще должны ему
93
верить?'. Мы можем сказать, что раньше постоянно
сталкивались С высказываниями этого человека, не
имеющими отношения к характеристике его чувств и
эмоций, и эти высказывания всегда оказывались
истинными, поэтому можно сделать вывод, что его слова
всегда заслуживают доверия. Или же мы можем
сказать, что его поведение наиболее просто объяснимо с
тех позиций, что он должен испытывать такие же
ощущения, как и мы, подобно тому как психоаналитики,
пользуясь терминологией "неосознанных желаний",
объясняют отклоняющееся поведение людей по
аналогии с нормальным.
Эти ответы, однако, ничего не проясняют и, более
того, таят в себе опасность. Они настолько очевидны,
что не могут никого удовлетворить, кроме того, они
стимулируют спрашивающего задавать еще больше
вопросов, а отвечающего — давать все более и более
частные ответы, так что в конечном счете все вообще
может утратить какой бы то ни было смысл.
Если идти по этому пути, то может быть
подвергнута сомнению сама возможность "доверия другому
человеку" (Believing another man — общепринятом смысле
этого выражения). Как вы можете доказать, что на
самом деле существует другое сознание, которое
общается с вашим сознанием? Откуда вы можете знать,
как именно проявляется какое-либо другое сознание,
и, следовательно, как вы можете его понять? Если
рассматривать подобные вопросы, тогда нам придется
признать, что выражение believing him 'верить ему'
означает только то, что мы рассматриваем
определенные звуковые сигналы как знаки определенного
независимого поведения и что "чужое сознание" на самом
деле не менее реально, чем неосознанные желания.
Все это, однако, довольно бессмысленно. То, что
мы доверяем собеседникам, полагаемся на авторитеты
и рассказы очевидцев, является характеристиками
процесса коммуникации, в котором мы постоянно
принимаем участие. Это такая же неотъемлемая часть нашего
опыта, как, скажем, обещания, участие в
регламентированной деятельности или даже зрительное
восприятие. Можно говорить об определенных преимуществах
этих видов деятельности в том плане, что мы можем
разработать набор правил, которые обеспечивают
"рациональное" поведение в каждой конкретной ситуации
(подобно тому как юристы, историки и психологи
разрабатывают правила оценки свидетельских
показаний) . Но это уже не входит в наши задачи.
94
Выводы
Причина всех затруднений, с которыми мы
сталкиваемся при определении ощущений других людей,
заключается в том, что "Я не должен говорить, что
знаю, что Том раздражен, поскольку я не могу
проникнуть в его чувства", и именно это обескураживает
многих исследователей. Суть того, что я пытался
показать, состоит в следующем:
1. Конечно, я не могу проникнуть в чувства Тома
(если бы я мог это сделать, мы бы действительно
попали в затруднительное положение).
2. Несомненно, в ряде случаев я действительно
знаю, что Том раздражен.
Следовательно,
3. полагать, что вопрос How do I know that Tom is
angry? 'Откуда я знаю, что Том раздражен?' должен
истолковываться как How do I introspect Tom's
feelings? 'Как я проникаю в чувства Тома?' (ибо именно
это составляет или должно составлять основу нашего
знания), — значит намеренно заходить в тупик.
Джон Р. Серль
ПРИРОДА ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ*
1. Интенциональностъ как направленность
Для начала мы могли бы констатировать, что
Интенциональностъ есть то свойство многих ментальных
состояний и событий, посредством которых они
направлены на объекты и положения дел внешнего мира.
Если, например, я верю, то это должна быть вера в
то, что нечто имеет место; если я боюсь, то я боюсь
чего-то; если я хочу, то хочу что-то сделать или хочу,
чтобы что-то произошло; если у меня имеется
некоторое намерение, то это намерение что-то совершить.
И точно так же обстоит дело во многих других
случаях. Называя это свойство направленности или
отнесенности к чему-либо Интенциональностью, я
следую давней философской традиции, однако во многих
отношениях данный термин является ошибочным и
вносит путаницу, поэтому с самого начала я хочу
пояснить, каким образом я намереваюсь употреблять этот
термин, и тем самым отмежеваться от некоторых
особенностей указанной традиции.
Во-первых, с моей точки зрения ментальные
состояния и события обладают Интенциональностью. Вера,
страх, надежда и желание Интенциональны, однако
существуют переживания, радость или беспокойство,
не обладающие Интенциональностью. Трудности в
этих различиях объясняются трудностями выражения
подобных состояний. Если я говорю, что верю или
желаю, всегда можно осмысленно спросить: "Во что вы
верите?" или "Чего вы желаете?", и я не смог бы
сказать: "О, я верю и желаю", не имея в виду чего-
либо конкретного. Мои вера и желание всегда должны
относиться к чему-то. Однако беспокойство и тревога
вовсе не обязательно должны относиться к чему-то
определенному. Такое состояние обычно
сопровождается верой и желаниями, однако ненаправленные
состояния не тождественны вере или желаниям. С моей точки
*S е а г 1 е J. R. The Nature of Intentional States.—In:
Intentionally, Cambridge, 1983, p. 1—29. © Cambridge University Press, 1983.
96
зрения, если состояние S Интенционально, то должен
существовать ответ на такие вопросы: "О чем S?",
"К чему относится S?", "Что представляет собой то,
к чему относится S?" Ментальные состояния некоторых
типов иногда являются интенциональными, а иногда —
неинтенциональными. Например, существуют формы
восторга, уныния и тревоги, которые переживаются
сами по себе, не будучи восторгом, унынием, тревогой
по поводу чего-то конкретного, но вместе с тем
существуют такие формы этих состояний, когда восторг,
уныние и тревога имеют конкретный повод.
Беспричинная тревога, уныние и радость не будут
интенциональными; когда же они на что-то направлены, они Интен-
циональны.
Во-вторых, Интенциональность не тождественна
осознанности. Многие осознанные состояния не
являются интенциональными, например, внезапное чувство
восторга, и многие Интенциональные состояния не
осознаются. Скажем у меня много убеждений, о
которых я не думаю в настоящий момент и о которых, быть
может, я никогда не буду думать. Так, например, я
убежден в том, что мой дедушка со стороны отца всю
свою жизнь прожил в США, однако я никогда
сознательно не формулировал и не заострял на этом внимание.
Между тем такие неосознанные убеждения вовсе не
являются результатом какого-то подавления,
фрейдистского или аналогичного типа. Это просто убеждения,
о которых человек обычно не думает. В защиту той
идеи, что осознанность и Интенциональность
тождественны, иногда высказывают утверждение, что вся
осознанность есть осознанность чего-то, что всегда,
когда есть сознание, это сознание чего-то. Однако
подобное понимание» осознанности игнорирует
существенные различия: когда у меня имеется осознанное
чувство страха, то действительно мое чувство есть
чувство чего-то, а именно страха, однако этот смысл
"чего-то'' совершенно отличен от смысла Интенцио-
нальности "чего-то". Последний, например, встречается
в утверждении о том, что я боюсь змей. Переживание
страха и страх тождественны, но боязнь змей не
тождественна змеям. Характерная особенность Интен-
циональных состояний, в моем употреблении этого
термина, заключается в том, что существует различие
между этим состоянием и тем, на что оно направлено
или чем оно вызвано (хотя это не исключает
самоотнесенных форм Интенциональности). С моей точки
зрения, "чего-то" в выражении "чувство чего-то (тре-
4 5Ь7
97
воги) " отличается от "чего-то" Интенциональности, ибо
чувство тревоги и тревога тождественны. Ниже я еще
вернусь к обсуждению осознанных форм
Интенциональности, здесь же я хочу лишь разъяснить, что классы
осознанных состояний и Интенциональных ментальных
состояний пересекаются, но не являются
тождественными и не включаются один в другой.
В-третьих, намеренность [intending] представляет
собой одну из форм Интенциональности среди многих
других и не имеет особого статуса. Очевидное
созвучие слов "Интенциональность" и "интенция" внушает
мысль, что интенции играют некоторую особую роль
в теории Интенциональности. Однако, с моей точки
зрения, намерение сделать что-то является лишь одной
из форм Интенциональности наряду с верой, надеждой
страхом, желанием и т.п. Я не согласен с тем, что,
поскольку, например, вера Интенциональна, постольку
она как-то содержит в себе понятие интенции и,
следовательно, побуждает человека что-то делать с объектом
веры. Для того чтобы подчеркнуть это различие, слова
"Интенциональный" и "Интенциональность", в моем
узком техническом смысле, я буду писать с большой
буквы. Интенциональность есть направленность;
интенция совершить что-то представляет собой один из
видов Интенциональности наряду с другими.
Сходство в звучании слов "интенциональный" и
"Интенциональный" порождает и некоторые другие
распространенные недоразумения. Некоторые авторы
описывают убеждения, страхи, надежды и желания как
"ментальные акты", однако это в лучшем случае
ложно, а в худшем — представляет собой совершеннейшую
путаницу. Процесс насыщения пивом или написания
книги можно описать как акты, действия или даже
деятельность, а производство арифметических действий
в уме или создание мысленных образов моста
"Золотых ворот" являются умственными актами, однако
вера, надежда, страх и желание не есть умственные
акты, они вообще не акты. Акты — это то, что некто
делает, так, например, на вопрос "Что вы сейчас
делаете?" нельзя ответить: "Сейчас я верю в то, что будет
дождь", или "Надеюсь, что налоги будут снижены", или
"Опасаюсь падения цен", или "Желаю пойти в кино".
Интенциональные состояния и события, которые мы
будем рассматривать, представляют собой именно
состояния и события, а не умственные акты.
Столь же ошибочно считать, что, например,
убеждения и желания что-то подразумевают. Убеждения и
98
желания являются Интенциональными состояниями,
однако они ничего не подразумевают. С моей точки
зрения, "Интенциональность" и "Интенциональный"
будут входить в это существительное и
прилагательное, и о некоторых ментальных состояниях и событиях
я буду говорить как об Интенциональных или
обладающих Интенциональностью, однако нет никакого
смысла применять это к соответствующим глаголам.
Вот несколько примеров состояний, которые
могут быть Интенциональными: вера, страх, надежда,
желание, любовь, ненависть, симпатия, неприязнь,
сомнение, удивление, удовольствие, восторг, уныние,
тревога, гордость, раскаяние, скорбь, огорчение,
виновность, наслаждение, раздражение,
замешательство, одобрение, прощение, враждебность, привязанность,
ожидание, гнев, восхищение, презрение, уважение,
негодование, намерение, нужда, воображение,
фантазия, стыд, вожделение, отвращение, ужас, стремление,
развлечение и разочарование.
Характерной особенностью членов этого
множества является то, что указанные состояния либо по
существу своему направленные, как любовь, ненависть,
вера и желание, либо ненаправленные, как уныние или
восторг. Данное множество ставит перед нами
довольно большое число вопросов. Каким образом, например,
можно классифицировать члены этого множества и
каковы отношения между ними? Однако сейчас я хочу
обратить внимание на следующий вопрос: каково
отношение между Интенциональными состояниями и
теми объектами и положениями дел, к которым они в
некотором смысле относятся или на которые они
направлены? Какого типа отношения обозначаются
словом "Интенциональность" и как можно объяснить Ин-
тенциональность, не прибегая к такому слову, как
' 'направленный "?
Отметим, что Интенциональность не может быть
обычным отношением, с которым мы имеем дело,
например, взбираясь на вершину горы или ударяя по
чему-то кулаком. Во многих Интенциональных
состояниях может находиться объект, на который
"направлено" Интенциональное состояние, хотя сам объект или
положение дел могут и не существовать. Я могу
думать, что идет дождь даже в том случае, когда дождя
нет, и я могу верить, что король Франции лыс, даже
если нет такого человека, который был бы королем
Франции.
4*
99
2. Интенциональность как репрезентация: модель
речевого акта
В этом разделе я хочу исследовать некоторые связи
между Интенциональными состояниями и речевыми
актами для ответа на вопрос: "Каково
взаимоотношение между Интенциональным состоянием и тем
объектом или положением дел, на которое оно в некотором
смысле направлено?" Ответ, который я собираюсь
предложить, чрезвычайно прост: Интенциональные
состояния представляют объекты и положения дел в том же
самом смысле, в котором их представляют речевые
акты (хотя, как мы увидим позднее, речевые акты
обладают вторичной формой Интенциональности и поэтому
репрезентируют иначе, чем Интенциональные
состояния, которым присуща внутренняя форма
Интенциональности). У нас уже имеются довольно ясные
интуитивные представления относительно того, каким
образом предложения репрезентируют условия своей
истинности, обещания — условия их выполнения,
порядок — условия его соблюдения и каким образом,
произнося референциальные выражения, говорящий
ссылается на объект. В самом деле, у нас есть даже
нечто похожее на теорию этих разнообразных речевых
актов, и я собираюсь воспользоваться этим уже
имеющимся знанием, чтобы объяснить, как и в каком
смысле Интенциональные состояния также нечто
репрезентируют.
Имеется одно возможное недоразумение, которое
необходимо устранить в самом начале моего
исследования. Объясняя Интенциональность в терминах языка,
я вовсе не подразумеваю, что Интенциональность носит,
по существу, лингвистический характер. Напротив,
мне представляется очевидным, что младенцы и многие
животные, не имеющие языка и не способные
осуществлять речевые акты, тем не менее обладают
Интенциональными состояниями. Существует две причины,
заставляющие нас приписьюать Интенциональность
животным, хотя у них отсутствует язык. Во-первых, мы
видим, что каузальный базис Интенциональности
многих живых существ близок нашему, например глаза
собаки, ее кожа, уши и другие органы чувств. Во-
вторых, мы может разгадать смысл их поведения.
Пытаясь разъяснить Интенциональность в терминах
языка, я опираюсь на знание языка как на
эвристическое средство объяснения. Стараясь же сделать ясной
природу Интенциональности, я покажу, что отношение
100
логической зависимости является обратным. Язык
выводим из Интенциональности, но не наоборот. Для
целей изложения требуется разъяснять Интенциональ-
ность в терминах языка; логический же анализ
разъясняет язык в терминах Интенциональности.
Существует по меньшей мере четыре аспекта, в
которых Интенциональные состояния и речевые акты
сходны и связаны между собой.
1. Различие между пропозициональным
содержанием и иллокутивной силой, известное в теории речевых
актов, распространяется и на Интенциональные
состояния. Как я могу приказать вам выйти из комнаты,
предсказать, что вы выйдете из комнаты, и
предположить, что вы выйдете из комнаты, точно так же я могу
верить, что вы выйдете из комнаты, бояться, что вы
выйдете из комнаты, желать, чтобы вы вышли из
комнаты, и надеяться, что вы выйдете из комнаты. В
случае речевых актов существует очевидное различие
между пропозициональным содержанием фразы "что
вы выйдете из комнаты" и иллокутивной силой, с
которой данное пропозициональное содержание
репрезентировано в речевом акте. Но точно так же и для
Интенциональных состояний существует различие между
репрезентативным содержанием "что вы выйдете из
комнаты" и тем психологическим модусом, будь то
вера, страх или надежда, в котором дано это
репрезентативное содержание. В теории речевых актов обычно
представляют это различие в виде "F(p)", где "F"
обозначает иллокутивную силу, а "р" — пропрозицио-
нальное содержание. В теории Интенциональных
состояний нам также нужно проводить различие между
репрезентативным содержанием и психологическим
модусом, в котором дано это содержание. Символически
мы будем передавать это различие в виде "S" (г)", где
"S" представляет психологический модус, а 'V"
репрезентативное содержание.
Быть может, следовало бы применять термин
"пропозициональное содержание" только к таким
состояниям, которые получили лингвистическое
выражение, а термины "репрезентативное содержание" или
"Интенциональное содержание" употреблять в более
широком смысле, включающем как лингвистически
выраженные Интенциональные состояния, так и те,
которые не получили выражения в языке. Однако
поскольку нам нужно сохранить различие между такими
состояниями, как, например, вера, содержание
которых всегда выразимо в виде целого суждения, и таки-
101
ми состояниями, как любовь и ненависть, содержание
которых не обязательно представляет собой целое
суждение, постольку я буду продолжать использовать
понятие пропозиционального содержания для
Интенциональных состояний, с тем чтобы отмечать те
состояния, содержанием которых являются целые суждения
независимо от того, получило состояние
лингвистическую реализацию или не получило. Я буду
пользоваться формой записи теории речевых актов и
представлять содержание Интенционального состояния внутри
скобок, а форму или модус, которым это содержание
дано агенту, буду записывать перед скобками. Так,
например, если некий человек любит Салли и верит, что
идет дождь, то эти Интенциональные состояния могут
быть представлены следующим образом:
Любит (Салли)
Верит (идет дождь).
Мой анализ большей частью будет направлен на те
состояния, которые обладают цельным
пропозициональным содержанием, так называемой
пропозициональной установкой. Однако важно подчеркнуть, что отнюдь
не все Интенциональные состояния имеют в качестве
Интенционального содержания целое суждение, хотя,
согласно определению, все Интенциональные состояния
имеют по крайней мере некоторое репрезентативное
содержание, будь то целое суждение или его часть.
Для Интенциональных состояний это условие является
еще более строгим, чем для речевых актов, так как
некоторые (весьма немногие) выразительные речевые
акты не имеют никакого содержания, например "Ой!",
"Алло!", "Пока!".
2. Различие между разными направлениями
соответствия [ direction of fit], также известное в теории
речевых актов1, можно перенести и на
Интенциональные состояния. Элементы утвердительного класса
речевых актов — утверждения, описания, суждения и
т.п. — определенным образом сопоставляются с
независимо существующим миром, и в той мере, в которой
они соответствуют тому, о чем говорят, они истинны
или ложны. Однако элементы директивного класса
речевых актов — приказания, команды, требования —
и элементы актов обязательства — обещания, клятвы,
ручательства и т.п. — не противопоставляются сущест-
Более подробное обсуждение понятия "направление
соответствия" см. в работе: S е а г 1 е J. R. A taxonomy of illocutiona-
ry acts.—In: Expression and Meaning. Cambridge, 1979, p. 1—27.
102
вующей реальности, а скорее осуществляют изменения
в мире, так что мир сопоставляется с
пропозициональным содержанием речевого акта. Поэтому мы не
называем их истинными или ложными, а говорим, что
они выполняются или не выполняются, реализуются
или нарушаются. Для меня это различие выражается
в том, что утвердительный класс имеет направление
соответствия от слова к миру, а директивный и класс
актов обязательства имеют направление соответствия
от мира к слову. Если некоторое утверждение не
истинно, то оно ошибочно, не соответствует миру; если же
приказ не выполнен или обещание нарушено, то это
свидетельствует не о том, что они ошибочны, а о том,
что "дефектен мир" в лице нарушителя обещания
или того, кто не выполняет приказания. С точки зрения
интуиции именно направление соответствия
определяет, имеется соответствие или нет. Если утверждение
ложно, то это является недостатком утверждения
(направление соответствия от слова к миру). Если
обещание нарушено, то это является недостатком
обещающего (направление соответствия от мира к слову).
Имеются также случаи, в которых отсутствует
направление соответствия. Если я приношу вам свои
извинения за нанесенную обиду или поздравляю с победой, то,
хотя я действительно предполагаю истинность
суждений об обиде или о победе, суть данного речевого акта
заключается не в утверждении этих суждений и не в
требовании осуществить некоторые действия. В данном
случае я выражаю свое сожаление или удовлетворение
по поводу того положения дел, которое указано
пропозициональным содержанием, чью истинность я
предполагаю2 . Весьма похожие различения можно
распространить и на Интенциональные состояния. Если мои
убеждения оказьюаются ошибочными, то это недостаток
моих убеждений, а не мира, и об этом свидетельствует
тот факт, что я могу исправить ситуацию, просто из-
Вследствие того, что соответствие является симметричным
отношением, существование разных направлений соответствия
может породить недоумение. Если а соответствует Ь, то Ь
соответствует а. Быть может, рассеять это недоумение поможет
очевидный нелингвистический пример: когда Золушка идет в
магазин купить себе пару новых туфель, размер своей ноги она
считает данным и подбирает под него туфли (направление
соответствия от ноги к туфле). Однако когда принц ищет
обладательницу хрустального башмачка, он исходит из его размеров и
подбирает ногу под башмачок (направление соответствия от
башмачка к ноге).
103
менив свои убеждения. Обязанность убеждения —
соответствовать миру, и, если соответствие
отсутствует, я изменяю убеждению. Однако, если мне не удается
осуществить свои намерения или если мои желания не
выполняются, я не могу исправить положение за счет
того, что просто изменю свои намерения или желания.
В этих случаях если мир не соответствует моим
намерениям или желаниям, то это — недостатки мира, и
я не могу исправить ситуацию, признав свои намерения
или желания ложными, как это было в случае
убеждений. Подобно утверждениям, убеждения могут быть
истинными или ложными, поэтому мы можем сказать,
что они имеют направление соответствия "от мысли к
миру". С другой стороны, желания и намерения не
могут быть истинными или ложными, а могут быть
выполнены или осуществлены, поэтому мы говорим, что
они имеют направление соответствия "от мира к
мысли". Кроме того, существуют Интенциональные
состояния, обладающие выраженным направлением
соответствия. Если я сожалею о том, что обидел вас, или
радуюсь вашей победе, то, хотя в мое сожаление входит
убеждение, что я вас обидел, и желание не делать этого,
а моя радость содержит убеждение в том, что вы
выиграли, и пожелание вам выигрыша, все-таки мое
сожаление и моя радость не могут быть истинными или
ложными, как убеждения, и не могут быть выполнены так,
как выполняются желания. Мое сожаление и моя
радость могут быть уместны или неуместны в
зависимости от того, действительно ли выполнено направление
соответствия от мысли к миру для убеждения, однако
сами по себе сожаление и радость не имеют
направления соответствия. Об этих сложных Интепциональных
состояниях я буду более подробно говорить ниже.
3. Третья связь между Интенциональными
состояниями и речевыми актами заключается в том, что в
осуществлении каждого акта, обладающего
пропозициональным содержанием, мы выражаем определенное
Интенциональное состояние с данным
пропозициональным содержанием и что Интенциональное состояние
является условием искренности такого речевого акта. Так,
например, если я высказываю утверждение, что р, я
выражаю убеждение в том, что р. Если я обещаю сделать
А, то я выражаю намерение сделать Л. Если я
приказываю вам сделать А, то я выражаю желание, чтобы вы
сделали А. Если я прошу прощения за содеянное, то я
выражаю сожаление о том, что что-то сделал. Если я вас
с чем-то поздравляю, то я выражаю свое удовлетворе-
104
ние происшедшим. Все эти связи между речевыми
актами и условиями Интенциональной искренности
этих актов являются внутренними, т.е. выражаемое
Интенциональное состояние не просто сопровождает
осуществление речевого акта. Следуя парадоксу Мура,
речевой акт необходим для выражения
соответствующего Интенционального состояния. Нельзя сказать:
"Идет снег, но я в это не верю", "Я прошу вас бросить
курить, однако я не хочу, чтобы вы бросили курить",
"Я прошу прощения за нанесенную обиду, но я не
жалею, что обидел вас", "Поздравляю вас с
выигрышем, но я не рад тому, что вы выиграли" и т.п. Все
эти высказывания были бы довольно странными.
Осуществление речевого акта служит для выражения
соответствующего Интенционального состояния,
поэтому с точки зрения логики было бы странно
осуществлять речевой акт и одновременно отрицать
наличие соответствующего Интенционального состояния,
хотя в этом нет логического противоречия3.
Когда мы говорим, что Интенциональное состояние,
образующее условие искренности, выражено в речевом
акте, это не означает, что индивид всегда должен иметь
то Интенциональное состояние, которое он выражает.
Существует простой обман или иные формы
неискренности. Однако и обман, и иные формы неискренности
заключаются в осуществлении некоторого речевого
акта и, таким образом, выражают некоторое
Интенциональное состояние, хотя говорящий не обладает этим
Интенциональным состоянием. Следует отметить
четкий параллелизм между речевыми актами и
выражаемыми в них условиями Интенциональной искренности:
в общем, направление соответствия речевого акта и
направления соответствия условия искренности
является одним и тем же, а в тех случаях, когда речевой акт
не имеет направления соответствия, предполагается
истинность пропозиционального содержания и
соответствующее Интенциональное состояние включает в себя
убеждение. Например, если я прошу прощения за то,
что наступил на вашу кошку, я выражаю сожаление о
3 Исключениями, нарушающими данный принцип, будут те
случаи, в которых индивид отделяет себя от своего речевого
акта, например: "Я обязан сообщить вам, что р, однако сам я
не верю в то, что р" или "Я приказываю вам атаковать эти
укрепления, но на самом деле не хочу, чтобы вы делали это". В
этих случаях речевой акт осуществляется как бы от чужого
имени. Говорящий произносит предложение, быть может
выражая вместе с тем свое несогласие с ним.
105
том, что сделал это. Ни извинение, ни сожаление не
обладают направлением соответствия, однако
извинение предполагает истинность суждения,
утверждающего, что я наступил на кошку, а сожаление включает
в себя убеждение в том, что я сделал это.
4. Понятие условий выполнимости в самом общем
виде применимо и к речевым актам, и к Интенциональ-
ным состояниям в тех случаях, когда имеется
направление соответствия. Мы говорим, например, что
некоторое утверждение истинно или ложно, что приказание
выполнено или не выполнено, что обещание исполнено
или нарушено. В каждом из этих случаев мы говорим
о соответствии между актом выражения и
реальностью в конкретном направлении соответствия, заданном
иллокутивной целью. Условия этого соответствия мы
можем назвать "условиями выполнимости" или
"условиями успешности". Поэтому мы будем говорить,
что утверждение выполнено, если, и только если,
оно истинно, приказание выполнено, если и только
если, оно исполнено, обещание выполнено, если, и только
если, его сдержали, и т.д. Ясно, что это понятие
выполнимости применимо также и к Интенциональным
состояниям. Мое убеждение будет выполнено, если
и только если вещи таковы, каково мое убеждение о
них, мои желания будут выполнены, если и только
если они исполнились, мои намерения будут
выполнены, если, и только если они осуществились. Короче
говоря, представляется совершенно естественным, что
понятие выполнимости применимо к речевым актам и
к Интенциональным состояниям во всех тех случаях,
когда имеется направление соответствия4.
Решающее значение имеет то обстоятельство, что
для каждого речевого акта, обладающего направлением
соответствия, речевой акт выполнен, если и только
если выполнено выражаемое им ментальное состояние
и условия выполнимости речевого акта и выражаемого
им психического состояния тождественны. Так,
например, мое утверждение будет истинно только в том
случае, если выраженное им убеждение верно, мое
приказание будет исполнено только в том случае, если
выраженное в нем желание исполнено, мое обещание
будет исполнено только в том случае, если выраженное
4 Существуют интересные и неясные случаи, например
сомнение или удивление. Можем ли мы сказать, что мое сомнение в
том, что р, выполнено, если р? Или если не р? Или требуется
что-то иное?
106
в нем намерение осуществлено. Кроме того, следует
заметить, что как условия выполнимости внутренне
присущи речевому акту, точно так же условия
выполнимости Интенционального состояния внутренне присущи
Интенциональному состоянию. То, что делает мое
утверждение "Снег бел" именно таким, а не иным
утверждением, отчасти заключается в его условиях
истинности. Аналогично то, что делает мое желание "Пусть
пойдет дождь" вполне определенным желанием, но при
этом одни условия будут выполнять его, а другие —
нет.
Эти связующие звенья между Интенциональными
состояниями и речевыми актами естественным образом
формируют определенное представление об Интенцио-
нальности: каждое Интенциональное состояние
содержит некоторое репрезентативное содержание в
определенном психологическом модусе. Интенциональные
состояния репрезентируют объекты и положения дел
в том же самом смысле, в котором репрезентируют их
речевые акты (хотя они делают это с помощью иных
средств и иным образом). Как мое утверждение о том,
что идет дождь, репрезентирует определенное
положение дел, точно так же мое убеждение, что идет дождь
репрезентирует то же самое положение дел. Как мое
приказание Сэму выйти из комнаты относится к Сэму
и репрезентирует определенное действие с его
стороны, точно так же мое желание, чтобы Сэм вышел из
комнаты, относится к Сэму и репрезентирует
определенное действие с его стороны. Понятие
репрезентации достаточно неопределенно. В отношении языка мы
можем использовать его так, что оно охватывает не
только референцию, но и предикацию и вообще
условия истинности или выполнимости. Пользуясь этой
неопределенностью, мы можем сказать, что
Интенциональные состояния с пропозициональным содержанием
и направлением соответствия репрезентируют свои
разнообразные условия выполнимости в том же самом
смысле, в котором речевые акты, обладающие
пропозициональным содержанием и направлением
соответствия, репрезентируют свои условия выполнимости.
Если мы хотим использовать такие понятия, как
"репрезентация" и "условия выполнимости", то они
требуют дальнейших пояснений. Вероятно, нет термина,
которым в истории философии злоупотребляли больше,
чем термин "репрезентация", и мое использование
этого термина отличается от его употребления как в
традиционной философии, так и в современной когни-
107
тивной психологии и исследованиях по искусственному
интеллекту. Когда я говорю, например, что убеждение
является репрезентацией, я вовсе не хочу сказать,
будто убеждение есть некоторый образ, и не склоняюсь
к тому пониманию значения, которое изложено в
"Трактате" Витгенштейна. Я не имею в виду, что
убеждение репрезентирует нечто такое, что уже было
репрезентировано раньше, или что убеждение имеет
значение, или что оно представляет собой нечто такое,
из чего посредством анализа можно извлечь его
условия выполнимости. Тот смысл, который я придаю
термину "репрезентация", полностью
исчерпывается аналогией с речевыми актами: смысл, в котором
убеждение репрезентирует условия своей
выполнимости, является тем же самым, в котором
утверждение репрезентирует условия своей выполнимости.
Тезис, что убеждение является репрезентацией, просто
означает, что оно обладает пропозициональным
содержанием и некоторым психологическим модусом, что
его пропозициональное содержание детерминирует
множество условий выполнимости при определенных
обстоятельствах, что его психологический модус
детерминирует направление соответствия его
пропозиционального содержания и что, наконец, все эти понятия —
пропозиционального содержания, направления
соответствия и т.п. — получают объяснение в теории речевых
актов. В самом деле, все, что было сказано до сих пор,
мы могли бы выразить с помощью других понятий, не
прибегая к терминам "репрезентация" и
"репрезентировать", так как в моем использовании последних
терминов нет ничего онтологического. Они
оказываются не более чем сокращением для целого созвездия
логических понятий, заимствованных из теории речевых
актов. (Ниже я еще буду обсуждать некоторые
различия между Интенциональными состояниями и
речевыми актами.)
Кроме того, мое использование понятия
"репрезентация" отличается от его использования в
искусстве и в когнитивной психологии. Для меня
репрезентация определена своим содержанием и модусом, а не
формальной структурой. Я никогда не мог усмотреть
какого-либо ясного смысла в той идее, что каждая
мысленная репрезентация должна обладать некоторой
формальной структурой в том смысле, например, в
котором обладают формальной синтаксической
структурой предложения. Оставляя в стороне некоторые
сложности (относительно связей и основы), которые
108
появятся позднее, на этой предварительной стадии
исследования о формальных отношениях между
различными указанными понятиями можно сказать
следующее: каждое Интенциональное состояние включает
в себя некоторое Интенциональное содержание в
определенном психологическом модусе. Там, где это
содержание оказьюается полным суждением и где
имеется направление соответствия, Интенциональное
содержание детерминирует условия выполнимости.
Условия выполнимости, детерминированные Интен-
циональным содержанием, осуществлены, если
состояние выполнено. Благодаря этому спецификация
содержания уже является спецификацией условий
выполнимости. Таким образом, если я убежден, что
идет дождь, то содержанием моего убеждения будет:
идет дождь, а условиями выполнимости: идет дождь, а
не то, например, что земля мокрая или что с неба льет
вода. Поскольку всякая репрезентация — будь то
мысль, язык, рисунок или что-либо еще — всегда
репрезентация под определенным углом зрения,
постольку условия выполнимости репрезентированы
под определенным углом зрения.
Выражение "условия выполнимости" несет в себе
обычную двусмысленность процесса — продукта и
может быть как требование так и требуемое. Так,
например, если я убежден в том, что идет дождь, то условием
выполнимости моего убеждения является то, что
должен идти дождь (требование). Именно этого требует
мое убеждение для того, чтобы быть истинным. Если
же мое убеждение на самом деле истинно, то в мире
будет существовать определенное условие, а именно
что идет дождь (требуемое), являющееся условием
выполнимости моего убеждения, т.е. условие, которое
реально выполняет мое убеждение. Я полагаю, что эта
двусмысленность совершенно безопасна и даже
полезна, если осознавать ее с самого начала. Однако в
некоторых комментариях на мои прежние работы по Ин-
тенциональности она приводила к недоразумениям5,
поэтому там, где смешение этих двух смыслов может
породить путаницу, я буду оговаривать их.
Не останавливаясь на различных уточнениях, мы
можем резюмировать наше предварительное понимание
Интенциональности в виде утверждения, что ключ к
пониманию репрезентации — условие выполнимости.
5Например, в работе: Mohanty J. M. Intentionality and
Noema.—Journal of Philosophy, vol. 78, №11,1981, p. 714.
109
Каждое Интенциональное состояние с определенным
направлением соответствия является репрезентацией
своих условий выполнимости.
3. Некоторые применения и расширение
сформулированной теории
Как только эти идеи ясно высказаны, как тотчас же
возникает множество вопросов: что можно сказать
относительно тех Интенциональных состояний, которые
не имеют направления соответствия? Будут ли они
также репрезентациями? И если будут, то каковы их
условия соответствия? А как обстоит дело с
фантазией и воображением? Репрезентацией чего являются
они? И каков онтологический статус этих состояний —
не являются ли такие Интенциональные состояния
таинственными ментальными сущностями и не должны
ли мы населить мир "положениями дел",
соответствующими этим ментальным сущностям? А что можно
сказать о традиционном понятии "Интенциональный
объект" с его предполагаемым "интенциональным
существованием" (Брентано) ? Кроме того, существуют и
некоторые возражения. Конечно, могут возразить,
каждая репрезентация требует некоторого интенциона-
льного акта со стороны агента, который осуществляет
репрезентацию. Репрезентация требует того, кто
репрезентирует, и интенционального акта репрезентации;
следовательно, она требует Интенциональности, и ее
нельзя использовать для объяснения последней. И что еще
более важно, не продемонстрировали ли разнообразные
аргументы, высказанные по поводу каузальной теории
референции, что эти ментальные сущности "в нашей
голове" не могут объяснить, каким образом язык и
мышление связаны с реальными вещами?
К сожалению, нельзя ответить на все вопросы сразу,
поэтому в данном разделе я ограничусь
рассмотрением лишь нескольких из перечисленных вопросов и
постараюсь ответить на них так, чтобы расширить
сформулированную теорию и показать ее применимость.
Таким образом, я преследую двойную цель. Во-первых,
я хочу показать, что данный подход к
Интенциональности решает некоторые традиционные философские
проблемы и, во-вторых, в связи с этим я хочу
осуществить дальнейшую разработку теории.
1. Одно из важных преимуществ данного подхода
заключается в том, что он позволяет нам провести
110
ясное различие между логическими свойствами Ин-
тенциональных состояний и их онтологическим
статусом. Действительно, при таком подходе вопрос
относительно логической природы Интенциональности
вообще не является онтологической проблемой. Чем,
например, реально является вера? Традиционные
ответы на этот вопрос исходят из предположения о
том, что он относится к онтологической категории
веры, однако что касается Интенциональности веры, то
важна не ее онтологическая категория, а ее логические
свойства. Согласно некоторым распространенным
ответам, вера есть модификация картезианского "я",
юмовская идея, всплывающая в мышлении, —
каузальная предрасположенность вести себя определенным
образом или функциональное состояние некоторой
системы. Я склонен считать все эти ответы ложными,
однако для настоящих задач важно отметить, что все
это — ответы на разные вопросы. Если вопрос "Чем
реально является вера?" истолковьюается так: что
репрезентирует вера как вера, то ответ на него, по
крайней мере частично, должен быть дан в терминах
логических свойств веры: вера есть пропозициональное
содержание, выраженное в определенном
психологическом модусе, его модус детерминирует направление
соответствия от мышления к миру, а
пропозициональное содержание детерминирует множество условий
выполнимости. Интенциональные состояния следует
характеризовать в интенциональных терминах, если мы
не хотим упустить из виду их внутренней
Интенциональности. Если же вопрос поставлен так: "Каков способ
существования веры и других Интенциональных
состояний?", то на основе наших современных знаний мы
можем ответить на него так: Интенциональные
состояния и вызываются, и реализуются в структуре мозга.
При ответе на этот второй вопрос важно заметить и
тот факт, что Интенциональные состояния каузально
связаны с нефрофизиологическими (как, впрочем, и с
другими Интенциональными состояниями), и тот факт,
что Интенциональные состояния реализуются в
нейрофизиологии мозга. Дуалисты, которые отмечают
каузальную роль ментального, считают, что это дает
им основание для введения особой онтологической
категории. Многие же физикалисты, считающие, что в
нашей голове нет ничего, кроме мозга, полагают, что это
дает им основание отрицать каузальное воздействие
ментальных аспектов мозга и даже само существование
таких специфических ментальных аспектов. Я думаю,
ill
что обе эти концепции ошибочны. Они пытаются решить
проблему "ментального — телесного", в то время как
правильный подход должен показать, что такой
проблемы не существует. Проблема "ментального —
телесного" не более реальна, чем проблема "желудка —
пищеварения".
Вопрос о том, каким образом Интенциональные
состояния реализуются в онтологии мира, на данной
стадии для нас не более важен, чем аналогичный вопрос
о том, как реализуются определенные лингвистические
акты. Лингвистический акт может быть реализован в
речи или на письме, на французском или немецком
языке, с помощью телеграфа, радио, кино или газеты.
Однако все эти формы реализации несущественны для
его логических свойств. Того, кто мучается вопросом,
тождественны ли речевые акты некоторым физическим
феноменам, например звуковым волнам, мы с полным
основанием посчитали бы не понимающим существа
дела. Формы реализации Интенционального состояния
столь же безразличны для его логических свойств, как
формы реализации речевого акта безразличны для
логических свойств последнего. Логические свойства Ин-
тенциональных состояний обусловлены их
способностью быть репрезентациями, и суть дела состоит в том,
что они — подобно лингвистическим сущностям —
обладают логическими свойствами так, как этими
свойствами не могут обладать камни или деревья (хотя
утверждения о камнях и деревьях могут обладать
логическими свойствами), поскольку Интенциональные
состояния — подобно лингвистическим сущностям и в
отличие от камней и деревьев — являются
репрезентациями.
Известный вопрос Витгенштейна относительно
интенции "Когда я поднимаю руку, что останется в этом
процессе, если я вычту из него тот факт, что рука
движется вверх?"6 вызывает затруднения только в том
случае, если мы настаиваем на его онтологическом
решении. При неонтологическом подходе к Интенциона-
льности, предложенном нами, ответ абсолютно прост.
Остается Интенциональное содержание, а именно что
моя рука поднимается в результате этой интенции к
действию, выраженное в определенном
психологическом модусе — Интенциональном модусе. В той мере,
в которой данный ответ нас не удовлетворяет, мы при-
6Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford,
1953, Part I, para 621.
112
держиваемся, как мне представляется, ошибочной
модели Интенциональности: мы все еще продолжаем
искать некую вещь, соответствующую слову
"интенция". Однако единственной такой вещью может быть
только сама интенция, и, для того чтобы знать, что
такое интенция или любое другое Интенциональное
состояние с некоторым направлением соответствия, нам
вовсе не нужно знать ее окончательную
онтологическую категорию. Скорее мы должны узнать: 1) каковы
ее условия выполнимости; 2) в каких аспектах эти
условия представлены Интенциональным
содержанием; 3) каков ментальный модус — вера, желание,
намерение и т.д. — данного состояния? Знать ответ на
второй из этих вопросов — значит знать ответ на первый,
ибо условия выполнимости всегда представлены в
определенном аспекте. А ответ на третий вопрос дает
нам знание о направлении соответствия между
репрезентативным содержанием и условиями выполнимости.
2. Второе преимущество настоящего подхода
состоит в том, что он дает нам чрезвычайно простой ответ
на традиционные онтологические проблемы
относительно статуса Интенциональных объектов: Интенцио-
нальный объект есть такой же объект, как и любой
другой, он не имеет особого онтологического статуса.
Назвать что-то Интенциональным объектом — значит
сказать, что это — тот объект, к которому относится
некоторое Интенциональное состояние. Так, например,
если Билл восхищается президентом Картером, то
Интенциональным объектом его восхищения будет сам
президент Картер, реальный человек, а не некая
призрачная промежуточная сущность между Биллом и
человеком. И для речевых актов, и для Интенциональных
состояний, если нет объекта, который выполняет
пропозициональное или репрезентативное содержание,
речевой акт и Интенциональное состояние не могут
быть выполнены. В таких случаях не существует как
"объекта референции" речевого акта, так и "Интенцио-
нального объекта" Интенционального состояния: если
ничто не выполняет референциальную часть
репрезентативного содержания, то Интенциональное состояние не
может иметь Интенционального объекта. Так,
например, утверждение о том, что король Франции лыс, и
убеждение в том, что король Франции лыс, не могут
быть истинными, поскольку короля Франции не
существует. Требование и желание, чтобы король
Франции был лыс, ни в коем случае не могут быть
выполнены по той же самой причине: не существует короля
113
Франции. В этих случаях не существует "Интенциональ-
ного объекта" Интенционального состояния и
Преференциального объекта" утверждения. Тот факт, что
наши утверждения могут оказаться неистинными в
силу отсутствия референции, теперь не заставляет нас
конструировать для таких утверждений некие мейнон-
говские сущности. Мы понимаем, что их
пропозициональное содержание не выполняется и в этом смысле
они ни к чему не "относятся". И точно так же, полагаю
я, тот факт, что наши Интенциональные состояния
могут не выполняться благодаря отсутствию объектов,
к которым относится их содержание, теперь уже не
побуждает нас создавать для них опосредующие мей-
нонговские сущности или Интенциональные объекты, к
которым эти состояния могли бы относиться. Интен-
циональное состояние обладает репрезентативным
содержанием, однако оно не говорит об этом
содержании и не направлено на него. Трудность, возникающая
здесь, отчасти обусловлена словом "относительно"
[ about], которое может быть прочитано как
экстенсионально, так и интенсионально. В одном смысле
(интенсиональном) утверждение или вера, что король Франции
лыс, относится к королю Франции, однако отсюда не
следует, что должен существовать объект, к которому
они относятся. В другом смысле (экстенсиональном)
не существует объекта, к которому они относятся,
поскольку не существует короля Франции. При моем
подходе важно проводить различие между содержанием
веры (т.е. суждением) и объектом веры (т.е. обычным
объектом).
Конечно, некоторые из наших Интенциональных
состояний являются плодом фантазии и воображения,
однако точно так же некоторые наши речевые акты
будут фиктивными. И точно так же, как возможность
фиктивного рассуждения, которое само по себе
является продуктом воображения и фантазии, не
заставляет нас создавать класс "обозначаемых" или
"описываемых" объектов, отличных от обычных объектов, но
выступающих в качестве объектов любого
рассуждения, так, на мой взгляд, возможность фантазии и
выдуманных форм Интенциональности не заставляет нас
верить в существование некоторого класса
"Интенциональных объектов", которые отличаются от обычных
объектов, но считаются объектами всякого
Интенционального состояния. Я вовсе не отрицаю наличия проблем,
связанных с фантазией и воображением, однако эти
проблемы — лишь часть проблем, связанных с анали-
114
зом фиктивных рассуждений.
В фиктивном рассуждении мы имеем дело с рядом
фальшивых (как бы поддельных) речевых актов,
обычно что-то утверждающих, и тем фактом, что
речевой акт лишь "притворно" нарушает отношение слова
к миру нормального утверждения. Говорящий не
отвечает за истинность своих фиктивных утверждений
так, как он отвечает за истинность своих нормальных
утверждений. Аналогично, в случае воображения
агент имеет ряд репрезентаций, однако направление
соответствия от мышления к миру нарушается тем,
что репрезентативное содержание оказывается не
содержанием веры, а просто выдержкой. Фантазии и
воображение имеют содержание и как будто бы обладают
условиями выполнимости. Точно так же фиктивное
утверждение обладает содержанием и, следовательно,
как бы имеет условия истинности, однако в обоих
случаях нет обязательств по отношению к условиям
выполнимости. То, что фиктивное утверждение не
истинно, не считается его недостатком, и точно так же, если
ничто в мире не соответствует некоторому состоянию
воображения, это не свидетельствует о порочности
данного состояния7.
3. Если я прав, утверждая, что Интенциональное
состояние представляет собой репрезентативное
содержание, выраженное в определенном психологическом
модусе, то не совсем верно, а может быть, просто
ошибочно говорить, что вера, например, является двуместным
отношением между тем, кто верит, и некоторым
суждением. Столь же ошибочным было бы считать, что
утверждение есть двуместное отношение между
говорящим и суждением. Скорее следовало бы сказать, что
суждение представляет собой не объект утверждения
или веры, а их содержание. Содержанием утверждения
или веры в то, что де Голль был французом, является
суждение, что де Голль был французом. Однако данное
суждение не есть то, к чему относится или на что
направлено утверждение или вера. Утверждение или вера
относятся к де Голлю и представляют его в качестве
француза, и это происходит потому, что они имеют
пропозициональное содержание и определенный модус
репрезентации, языковой или психологический.
Утверждение "Джон ударил Билла" описывает отношение меж-
7Более подробное обсуждение проблем, связанных с
фикциями, см. в работе: S е а г 1 е J. R. Expression and Meaning,
pp. 58—75.
115
ду Джоном и Биллом таким образом, что удары Джона
направлены на Билла, но выражение "Джон верит, что
р" не описывает такого отношения между Джоном и
р, что вера Джона направлена на р. Более точным было
бы сказать, что утверждение тождественно суждению,
сформулированному как констатация, а вера
тождественна суждению, сформулированному как вера.
Действительно, приписываемое отношение существует в том
случае, когда Интенциональное состояние приписывают
некоторому индивиду, однако это не отношение между
индивидом и суждением, а скорее отношение
репрезентации между Интенциональным состоянием и
репрезентированными этим состоянием вещами. Следует только
помнить о том, что могут существовать Интенциональ-
ные состояния — как и любые иные репрезентации, —
которых не выполняет ни одна реально существующая
вещь. Путаная концепция, согласно которой
утверждения пропозициональных установок описывают
отношения между агентом и суждением, вовсе не является
только безобидной манерой выражения. Это, скорее,
первый шаг в длинной серии ошибок, которые
приводят к утверждению существования фундаментального
различия между Интенциональными состояниями de re
и de dicto*.
4. Интенциональное состояние определяет свои
условия выполнимости, только когда дано его
положение в сети других Интенциональных состояний и по
отношению к основе Background практических
действий и доинтенциональных допущений, которые сами по
себе не являются ни Интенциональными состояниями,
ни составными элементами условий выполнимости
Интенциональных состояний. Для того чтобы убедиться
в этом, рассмотрим следующий пример. Предположим,
что в какой-то момент времени Дж. Картер впервые
решил баллотироваться в президенты США, и допустим
далее, что это Интенциональное состояние было
реализовано в соответствии с распространенными теориями
онтологии ментального: он сказал себе "Я хочу стать
президентом Соединенных Штатов Америки". При
этом в определенном участке его мозга протекал некий
нервный процесс, в котором реализовалось его
решение, и он безмолвно и настойчиво думал: "Я сделаю
8 В самом деле, термин Рассела "пропозициональная
установка" является источником путаницы, ибо из него вытекает, что
вера, например, представляет собой установку по отношению
к суждению.
116
это". Предположим далее, что точно так же
реализовались ментальные состояния в мозгу человека эпохи
плейстоцена, живущего в сообществе
охотников-собирателей тысячи лет назад. В его мозгу протекал
аналогичный нервный процесс, соответствующий решению
Картера, он произносил такую же последовательность
звуков: "Я хочу стать президентом Соединенных
Штатов Америки", и т.д. Однако несмотря на тождество
этих двух реализаций, ментальное состояние человека
эпохи плейстоцена не могло быть решением
баллотироваться в президенты США. Почему? Можно сказать,
конечно, что не было соответствующих обстоятельств.
А что это означает? Для ответа на этот вопрос кратко
рассмотрим, при каких обстоятельствах Интенциональ-
ное состояние Картера может обладать требуемыми
условиями выполнимости. Решение стать президентом
должно быть включено в целостную сеть других Ин-
тенциональных состояний. Ошибочно, хотя и
заманчиво, думать, что они могут быть исчерпывающим образом
описаны как логические следствия первого решения,
т.е. как суждения, которые выполнены, если
выполнено первоначальное суждение. Некоторые из Интенцио-
нальных состояний, входящих в сеть, действительно
логически связаны именно таким образом, однако
далеко не все. Для того чтобы решение индивида могло
быть решением стать президентом США, он должен
иметь дополнительное множество убеждений: что
Соединенные Штаты Америки являются республикой, что
во главе правительства стоит президент, которого
периодически переизбирают, что во время выборов
борьба идет преимущественно между кандидатами двух
основных партий — республиканцев и демократов, что
этих кандидатов выдвигают на особых собраниях и так
далее неопределенно долго (но не до бесконечности).
Кроме того, эти Интенциональные состояния имеют
свои условия выполнимости, а вся Интенциональная
сеть функционирует только на основе того, что я
называю, за неимением лучшего термина,
нерепрезентативными ментальными способностями. Определенные
фундаментальные способы обращения с вещами и
определенные виды знания — относительно этих способов —
предполагаются любой формой Интенциональности.
Фактически я высказал здесь два утверждения,
которые следует различать. Во-первых, я утверждал,
что Интенциональные состояния, в общем, являются
элементами сети Интенциональных состояний и
обладают условиями выполнимости только в связи со сво-
117
им положением в данной сети. Различные варианты
этой позиции, называемой "холизмом", широко
распространены в современной философии, а легковесный
холизм превратился в модную философскую
ортодоксию. Однако я высказал также второе, гораздо более
дискуссионное утверждение: наряду с сеткой
репрезентаций существует основа, или фон, нерепрезентативных
ментальных способностей и репрезентации
функционируют, обладают условиями выполнимости только в
связи с этой нерепрезентативной основой. Это второе
утверждение имеет далеко идущие следствия,
однако рассмотрением аргументов, обосновывающих
его, и его следствий мы займемся позже. Одно из
непосредственных следствий высказанных
утверждений заключается в том, что Интенциональные
состояния нельзя четко индивидуализировать. Сколько
у меня убеждений? Точного ответа на этот вопрос
не существует. Другое следствие говорит о том, что
условия выполнимости Интенциональных состояний
зависят от других состояний, входящих в сеть, и от
их общей основы.
5. Данный подход позволяет нам решить одну из
традиционных проблем философии мышления. Ее
можно сформулировать в виде возражения против
предлагаемого здесь подхода: "Нельзя объяснить Интен-
циональность с помощью репрезентации, поскольку для
существования репрезентации требуется некоторый
агент, который использует какую-либо сущность —
рисунок, предложение или какой-то иной объект — в
качестве репрезентации. Так, например, если вера
является репрезентацией, то должен существовать
использующий веру в качестве репрезентации. Но это
не открывает нам ничего нового о вере, ибо мы не
говорим о том, что нужно агенту для того, чтобы
использовать веру в качестве репрезентации. Кроме того,
теория нуждается в мистическом гомонкулусе с его
собственной Интенциональностью, чтобы он мог
использовать свои верования в качестве репрезентаций.
На этом пути мы попадаем в регресс в бесконечность,
так как каждый такой гомонкулус должен обладать
дальнейшими Интенциональными состояниями, для
того чтобы использовать первоначальные
Интенциональные состояния в качестве репрезентаций и вообще
иметь возможность что-либо делать". Деннет, который
видит здесь подлинную проблему и называет ее
"проблемой Юма", считает, что для ее решения нужно
постулировать целую армию все более глупых гомонкулу-
118
сов!9 Я не вижу здесь реальной проблемы, и
предложенный мной подход позволяет показать, что ее
действительно нет. С моей точки зрения, Интенциональное
содержание, детерминирующее условия выполнимости,
внутренне присуще Интенциональному состоянию:
агент не может иметь веры или желания, не зная в то же
время условий их выполнимости. Например, осознанная
вера в то, что идет дождь, отчасти заключается в
осознании того, что эта вера выполнена в том случае, если
идет дождь, и не выполнена, если дождя нет. Однако
эти условия выполнимости не налагаются на веру
извне, благодаря тому или иному ее использованию, ибо
вера в этом смысле вообще не используется. Вера по
существу своему является репрезентацией: она
представляет собой Интенциональное содержание и
психологический модус. Содержание детерминирует условия
ее выполнимости, а модус определяет, что эти условия
выполнимости представлены с определенным
направлением соответствия. Вера не требует некоторой внешней
для нее Интенциональности для того, чтобы стать
репрезентацией, ибо вера сама по себе есть репрезентация.
Для нее не нужна какая-либо неинтенциональная
сущность, формальный или синтаксический объект,
ассоциируемый с верой и используемый агентом для
создания веры. Ложной посылкой в изложенной выше
аргументации является утверждение о том, что для
репрезентации нужен некоторый агент, использующий
некоторую сущность в качестве репрезентации. Это верно
для рисунков и предложений, т.е. для производной
Интенциональности, но не верно для Интенциональных
состояний. Термин "репрезентация" можно было бы
применять только в тех случаях (например, для
рисунков и предложений), когда можно провести различие
между сущностью и ее репрезентативным содержанием,
однако такого различия нельзя провести для веры или
желания, ибо репрезентативное содержание веры или
желания нельзя отделить от веры или желания. Сказать,
что агент осознает условия выполнимости своей
осознанной веры или желания, не значит признать наличие
у него Интенционального состояния второго порядка,
относящегося к его первопорядковому состоянию
веры или желания. В противном случае мы действительно
попали бы в регресс в бесконечность. Поэтому следует
признать, что осознание условий выполнимости являет-
См.: Dennett D. Brainstorms. Montgomery, Vermont,
1978, pp. 122-125.
119
ся частью осознанной веры или желания, ибо Интенцио-
нальное содержание внутренне присуще данным
состояниям.
6. Изложенный подход к Интенциональности
приводит к весьма простому пониманию отношения между
Интенциональностью и интенсиональностью. Интенцио-
нальность представляет собой свойство некоторого
класса предложений, утверждений и других
лингвистических объектов. Предложение называется
интенсиональным, если оно не удовлетворяет определенным
условиям экстенсиональности, например правилу
подстановки тождественных выражений или правилу экзис-
тенционального обобщения. Например, предложение
"Джон верит, что король Артур сразил сэра Ланселота"
обычно считается интенсиональным, поскольку
существует по крайней мере одна интерпретация, которая не
разрешает осуществлять экзистенциональное
обобщение обозначающих выражений придаточного
предложения и не допускает подстановки тождественных
выражений. Затруднения, возникающие в связи с такими
предложениями, традиционно концентрируются вокруг
вопроса о том, почему к ним нельзя применять
обычные логические операции, если входящие в них слова
сохраняют свои обычные значения и если логические
свойства предложения являются функцией его
значения, а это значение в свою очередь является функцией
значений входящих в предложение слов. Мой ответ на
этот вопрос заключается в том, что, поскольку
предложение "Джон верит, что король Артур поразил сэра
Ланселота" выражает утверждение об Интенциональ-
ном состоянии, а именно о вере Джона,и поскольку
Интенциональное состояние является репрезентацией,
постольку данное утверждение оказывается
репрезентацией репрезентации. Следовательно, его условия
истинности будут зависеть от свойств
репрезентируемой репрезентации, в данном случае — от свойств веры
Джона, а не от свойств объектов или положений дел,
репрезентируемых верой Джона. Иначе говоря,
поскольку данное утверждение является репрезентацией
репрезентации, постольку условия его истинности, в
общем, не включают в себя условий истинности
репрезентируемой репрезентации. Вера Джона может быть
истинной лишь в том случае, если бы существовали
такие личности, как король Артур и сэр Ланселот, и
если бы первый поразил второго. Однако мое
утверждение о том, что Джон верит, будто король Артур
поразил сэра Ланселота, имеет интерпретацию, при
120
которой оно может быть истинным, даже если ни одно
из указанных условий истинности не выполнено. Для
истинности моего утверждения требуется, чтобы Джон
верил и чтобы слова придаточного предложения
правильно выражали репрезентативное содержание его
веры. И в этом смысле мое утверждение о вере Джона
оказывается не столь репрезентацией репрезентации,
сколько представлением [presentation] репрезентации,
так как в изложении его веры я просто представляю ее
содержание, не комментируя условий ее истинности.
Одним из наиболее распространенных заблуждений
в современной философии является ошибочное
убеждение в том, что существует тесная связь или даже
тождество между интенсиональностью и Интенциональ-
ностью. Это совершенно неверно. Между ними нет даже
отдаленного сходства. Интенциональность представляет
собой то свойство мышления (мозга), благодаря
которому оно способно репрезентировать другие вещи,
интенсиональность же заключается в неспособности
определенных предложений, утверждений и т.п.
выполнять определенные логические правила для
экстенсиональности. Единственная связь между ними
ограничивается тем, что некоторые предложения относительно
Интенциональности по причинам, изложенным выше,
являются интенсиональными.
Убеждение в том, что в высказываниях об
Интенциональности имеется что-то существенно
интенсиональное, вытекает из ошибки, неизменно присущей
методам лингвистической философии, а именно из
смешения свойств описания со свойствами описываемых
вещей. Выражения Интенциональных состояний обычно
являются интенсиональными выражениями. Однако
отсюда не следует (да, в общем, и не бывает), что сами
Интенциональные состояния также должны быть
интенсиональными. Выражение, говорящее о том, что
Джон верит, будто король Артур поразил сэра
Ланселота, в самом деле представляет собой инетнсиональное
выражение, однако сама вера Джона вовсе не является
интенсиональной. Она полностью экстенсиональна, ибо
истинна тогда, и только тогда, когда существует
единственный х, такой, что х—король Артур, существует
единственный у, такой, что у—сэр Ланселот, и х поразил
у. Она столь же экстенсиональна, как и все остальное.
Часто говорят, что все Интенциональные сущности,
например суждения и ментальные состояния, в
некотором роде являются интенсиональными. Однако это
просто ошибка, являющаяся следствием смешения
121
свойств выражения со свойствами описываемых вещей.
Некоторые Интенциональные состояния, как мы
увидим ниже, действительно являются интенсиональными,
однако интенсиональность вовсе не является
существенной чертой Интенциональности. Вера Джона
экстенсиональна. Даже если мое утверждение относительно
этой веры интенсионально.
Но что можно сказать об условиях выполнимости?
Будут ли они интенсиональными или
экстенсиональными? В этих вопросах заключена большая доля
философской путаницы. Если условия выполнимости мы
представляем себе как особенности мира, которые
удовлетворяют или могли бы удовлетворять некоторому
Интенциональному состоянию, то совершенно
бессмысленно спрашивать, интенсиональны они или
экстенсиональны. Если моя вера в то, что идет дождь,
истинна, то истинной ее делают определенные
особенности мира, однако нет смысла спрашивать,
интенсиональны или экстенсиональны эти особенности. Можно
задать такой вопрос: интенсиональны или
экстенсиональны указания [specifications] условий
выполнимости Интенциональных состояний? А ответ на этот
вопрос зависит от того, как они специализированы.
Условия выполнимости веры Джона в то, что Цезарь
перешел Рубикон, таковы:
1. Цезарь перешел Рубикон, и само предложение 1
является экстенсиональным. Однако предложение 1
не задает этих условий как условий выполнимости.
Таким образом, оно отличается от предложения
2. Условия выполнимости веры Джона состоят в
том, что Цезарь перешел* Рубикон.
В отличие от предложения 1 предложение 2
является интенсиональным, и различие между этими
предложениями заключается в том, что, в то время как
предложение 1 устанавливает условия выполнимости,
предложение 2 устанавливает, что они являются
условиями. Предложение 1 есть просто репрезентация;
предложение 2 есть репрезентация репрезентации.
7. Первоначально мы ввели понятие
Интенциональности так, что оно охватывало ментальные состояния, а
понятие интенсиональное™ применяется к
предложениям и другим лингвистическим сущностям. Однако
теперь, когда дана характеристика Интенциональности
и ее отношения к интенсиональное™, нетрудно увидеть,
каким образом можно расширить каждое из этих
понятий так, чтобы они охватывали и ментальные, и
лингвистические сущности.
122
а) Интенсиональность утверждений относительно
Интенциональных состояний вытекает из того, что
такие утверждения являются репрезентациями
репрезентаций. Однако вследствие того, что Интенциональные
состояния являются репрезентациями, вполне могут
существовать Интенциональные состояния, которые
также будут репрезентациями репрезентаций и
приобретут свойство интенсиональное™, присущее
соответствующим предложениям и утверждениям. Например,
мое утверждение о том, что Джон верит, будто король
Артур поразил сэра Ланселота, является
интенсиональным, ибо репрезентирует веру Джона. И точно так же
будет интенсиональным ментальным состоянием моя
вера в то, что Джон верит, будто король Артур поразил
сэра Ланселота, ибо она репрезентирует веру Джона, и
поэтому условия ее выполнимости зависят от
особенностей репрезентируемой репрезентации,а не от
репрезентируемых вещей. Однако из того, что моя вера
относительно веры Джона является интенсиональной,
никак не следует, что и вера Джона будет
интенсиональной. Еще раз повторяю: его вера экстенсиональна; моя
вера относительно его веры будет интенсиональной.
б) До сих пор я пытался объяснить Интенциональ-
ность ментальных состояний, апеллируя к нашему
пониманию речевых актов. Однако ясно, что особенности
речевых актов, к которым я обращался, как раз и
представляют собой их репрезентативные свойства, т.е.
их Интенциональность. Поэтому понятие Интенциональ-
ности в равной мере применимо как к ментальным
состояниям, так и к лингвистическим сущностям,
таким, как речевые акты и предложения, если не
упоминать о картах, диаграммах, рисунках и многих
других вещах.
По этой причине данное здесь объяснение Интенцио-
нальности вовсе не является логическим анализом в
смысле задания необходимых и достаточных условий
посредством более простых понятий. Если бы мы
попытались истолковать это объяснение как некоторый
анализ, то у нас не было бы надежды выбраться из
круга, ибо то свойство речевых актов, которое я
использовал для объяснения Интенциональности определенных
ментальных состояний, как раз и является их Интен-
циональностью. С моей точки зрения, логический
анализ Интенциональности ментального невозможно дать с
помощью более простых понятий, ибо Интенциональность
представляет собой фундаментальное свойство
мышления [mind]9 а не сложную характеристику, которую
123
можно разложить на более простые элементы. Не
существует нейтральной позиции, которая позволила бы
нам исследовать отношения между Интенциональными
состояниями и миром, а затем описать их в не-Интен-
циональных терминах. Поэтому любое объяснение
Интенциональности осуществляется с помощью Интен-
циональных понятий. Я использовал наше понимание
функционирования речевых актов, чтобы объяснить
функционирование Интенциональности ментального.
Эта стратегия теперь ставит перед нами следующий
вопрос: каково взаимоотношение между
Интенциональностью ментального и Интенциональностью языка?
4. Значение
Существует очевидное расхождение между
Интенциональными состояниями и речевыми актами, о
котором говорит сама используемая нами терминология.
Ментальные состояния являются состояниями, а
речевые акты — актами, т.е. интенциональными
действиями. И это различие имеет большое значение для связи
речевого акта с его физической реализацией.
Актуальное осуществление речевого акта будет включать в
себя создание (или использование) некоторой
физической сущности, например звуков или знаков на бумаге.
С другой стороны, верования, страхи, надежды или
желания сами по себе, внутренне, Интенциональны.
Охарактеризовать их как верования, страхи, надежды или
желания — значит уже приписать им Интенциональ-
ность. Однако речевые акты имеют физический уровень
реализации, который не обладает внутренне ему
присущей Интенциональностью. Нет ничего внутренне Ин-
тенционального в акте произнесения звуков или в
значках, которые я пишу на бумаге. В своем наиболее
общем виде проблема значения заключается в выяснении
того, каким образом мы переходим от физики к
семантике или, иначе говоря, как (например) из звуков,
рождающихся во рту, мы получаем акт выражения? Я
полагаю, что проведенное выше обсуждение дает нам
возможность по-новому взглянуть на этот вопрос. С
излагаемой здесь точки зрения проблема значения
может быть сформулирована так: каким образом
разум придает Интенциональность сущностям, которые
не обладают внутренней Интенциональностью, т.е.
звукам и знакам, похожим на все остальные феномены
124
физического мира? Звучащая речь, как и вера, может
обладать Интенциональностью, но, в то время как
Интенциональность веры является внутренней, Интен-
циональность звуковой речи является производной.
Каким образом она получает Интенциональность?
В осуществлении речевого акта существуют два
уровня Интенциональности. Во-первых, имеется
выражаемое Интенциональное состояние, во-вторых,
имеется интенция в обычном, не техническом смысле этого
слова, с которой что-то произносится. Вот это второе
Интенциональное состояние, т.е. интенция, с которой
что-то произносится, и наделяет Интенциональностью
физические феномены. Как же это происходит? Общий
ответ таков: разум придает Интенциональность
сущностям, не обладающим внутренней
Интенциональностью, посредством Интенционального наложения
условий выполнимости выражаемого психического
состояния на внешнюю физическую сущность. Два уровня
Интенциональности речевого акта можно описать
следующим образом: интенционально высказывая что-то
с определенным множеством условий выполнимости,
которые заданы существенным условием для данного
речевого акта, я делаю высказывание Интенциональ-
ным и благодаря этому выражающим соответствующее
психологическое состояние. Я не могу высказать
утверждения, не выражая некоторой веры, или дать
обещание, не выражая некоторой интенции, поскольку
существенная черта речевого акта состоит в том, чтобы
иметь те же самые условия выполнимости, которыми
обладает выражаемое им Интенциональное состояние.
Я придаю Интенциональность своим высказываниям,
интенционально налагая на них определенные условия
выполнимости, являющиеся условиями выполнимости
определенных ментальных состояний. Это объясняет
также внутреннюю связь между существенным
условием и условием искренности речевого акта. Ключ к
значению состоит в том обстоятельстве, что оно может
быть частью условий выполнимости (в смысле
требования) моей интенции, направленной на то, чтобы
условия ее выполнимости (в смысле требуемого) сами
обладали условиями выполнимости. Так возникают два
уровня Интенциональности.
Понятие "значение" в своем буквальном смысле
относится к предложениям и речевым актам, но не к
Интенциональным состояниям. Вполне осмысленно
спросить, например, что означает некоторое
предложение или высказывание, однако бессмысленно спраши-
125
вать, что означает вера или желание. Но почему
бессмысленно, если и лингвистические сущности, и Интенцио-
нальные состояния являются Интенциональными?
Значение присутствует только там, где имеется различие
между Интенциональным содержанием и формой его
воплощения, и спрашивать о значении — значит
спрашивать об Интенциональном содержании,
сопровождающем данную форму воплощения. Поэтому вполне
можно ставить вопрос о значении предложения "£s
regnet" ("Идет дождь"—нем.) или о значении
утверждения Джона, т.е. ставить вопрос о том, что он имеет в
виду. Однако бессмысленно говорить о значении
веры в то, что идет дождь, или о значении утверждения,
что идет дождь: в первом случае — потому, что нет
разрыва между верой и Интенциональным содержанием;
во втором случае — потому, что этот разрыв уже
преодолен, когда мы задали содержание утверждения.
Как правило, синтаксические и семантические
особенности соответствующих глаголов дают нам
полезные намеки на то, с чем мы имеем дело. Если я
высказываю нечто, имеющее форму "Джон верит, что
р", то такое предложение будет самодостаточным.
Когда же я говорю: "Джон имеет в виду, что р", то
предложение такого вида как бы требует или по
крайней мере побуждает нас к тому, чтобы дополнить его
словами "произнося то-то и то", т.е. "Произнося то-то
и то, Джон подразумевает, что р". Джон не может
подразумевать, что р, если не говорит или не делает чего-то,
посредством чего он и подразумевает, что р. В то же
время Джон может просто верить, что р, ничего не
совершая при этом, и р не является Интенциональным
состоянием, которое может быть самостоятельным в
том смысле, в каком самостоятельным является
верование в то, что р. Для того чтобы подразумевать,что р,
должно существовать некоторое внешнее действие.
Когда перед нами выражение 'Джон заявляет, что р",
внешнее действие очевидно. Заявления есть некоторые
действия, в отличие от веры или подразумевания,
которые не являются действиями. Заявление
представляет собой иллокутивный акт, который на другом
уровне описания оказывается актом произнесения.
Именно осуществление акта произнесения с
определенным множеством интенций превращает произнесение в
иллокутивный акт и, таким образом, придает
произнесению Интенциональность.
Майкл Даммит
ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ?*
I
Зависит ли значение предложения от условий его
истинности? Заключается ли значение слова в том
вкладе, который оно вносит в детерминацию условий
истинности содержащих его предложений?
Нет необходимости доказывать, что
утвердительный ответ на эти вопросы выражает наиболее
популярный до сих пор подход к истолкованию этого понятия,
что его придерживаются те философы, которые не
склонны к полному отказу от понятия значения, и что в
явном виде он был выражен Фреге, Витгенштейном в
его "Трактате" и Дэвидсоном. Я далеко не уверен, что
этот утвердительный ответ ошибочен. Однако мне
представляется совершенно несомненным, что такой
ответ сталкивается с громадными трудностями, и мы
не вправе давать его до тех пор, пока не покажем, как
можно справиться с этими трудностями. На мой взгляд,
далеко не ясно, почему мы обязаны или можем
использовать в этой связи в теории значения понятие истины
(или два понятия: истина и ложь) в качестве базисного:
необходимо исследование, чтобы показать, что понятия
истины и значения связаны так, как считал Фреге.
Вследствие того, что большинство философов
предпочитало утвердительный ответ на поставленный выше
вопрос,а Фреге пользовался громадным авторитетом,
*Dummett MWhat is a Theory of Meaning?—In: Truth and
Meaning. Essays in Semantics, ed. by Evans G., Mcdowell J. Oxford,
1976, p. 67—137. © Clarendon Press, Oxford, 1977.
Настоящая статья задумана как продолжение более ранней
статьи с тем же названием: What is a Theory of Meaning?-In:
Mind and Language, ed. Samuel Gutterplan. Clarendon Press, Oxford,
1975. Однако она представляет собой вполне самостоятельную
работу.
В обсуждениях такого рода трудно сохранить ясность,
педантично следуя чужим формулировкам, а я стремлюсь быть
понятым. Поэтому мое употребление слов "предложение" и
"утверждение" будет весьма относительным. Надеюсь, это не вызовет
недоразумений, если читатель не будет слишком придирчив.
127
мы гораздо лучше представляем себе теорию значения,
выраженную в терминах условий истинности, нежели
любую другую, конкурирующую теорию значения,
тем более что все могут столкнуться со
значительными трудностями. Однако эти трудности будут иного
рода. Благодаря работам Фреге, Тарского и многих
других, трудности, с которыми связано построение
теории значения в терминах условий истинности, не
относятся к деталям: это принципиальные трудности,
возникшие с самого начала. Нам довольно хорошо
известно, как устроена эта машина, но мы не знаем, как
пустить ее в ход. Имеются, конечно, некоторые частные
проблемы, касающиеся подгонки к естественному
языку тех технических средств, которые были созданы
Фреге и Тареким для формализованных языков.
Однако у нас есть разумные основания для оптимизма в
отношении таких проблем. Напротив, альтернативные
теории значения, центральным понятием которых не
является понятие истины, не вызывают
принципиальных возражений. Именно потому, что до сих пор не
было предпринято ни одной серьезной попытки построить
такую теорию, хотя для формализованного варианта
естественного языка (т.е. для квантифицированного
языка повседневного употребления) мы сталкиваемся
с частными проблемами сразу же, как только начинаем
обдумывать такое построение. Я нисколько не
исключаю возможности того, что эти трудности окажутся
принципиальными и преградят путь к построению
любой конкурирующей теории значения. Открытие того
факта, что подобные трудности существуют для любой
альтернативной теории значения, дало бы нам
основание считать необходимым использование понятия
истины в качестве базисного понятия при
объяснении значения. Я думаю, что такое основание может быть
обнаружено, и именно поэтому в начале статьи я
отметил, что не уверен в том, что значение нельзя объяснить
в терминах условий истинности. Доказательство того,
что понятие истины необходимо для этой цели, само по
себе еще не показывает, как это возможно, оно не
устраняет первоначальных возражений против теории
значения, опирающейся на условия истинности, однако оно
гарантирует, что существует способ справиться с этими
возражениями. В настоящее время не доказано, что
понятие истины необходимо для построения теории
значения, поэтому нам следует с большим вниманием
отнестись к возражениям против использования понятия
истины в теории значения. Если же нам все-таки удаст-
128
ся когда-нибудь обнаружить искомое доказательство,
то, вероятнее всего, это произойдет в процессе
построения конкурирующих теорий значения.
Прежде чем приступить к более внимательному
рассмотрению этой темы, нужно более ясно представить
себе, какой смысл имеет утверждение о том, что
значение предложения заключается в его условиях
истинности. Мне кажется, эту идею, столь прозрачную на
первый взгляд, необычайно трудно выразить
последовательным образом. Мне кажется, будет правильным
согласиться с тем, что философские вопросы относительно
значения лучше всего интерпретировать как вопросы
о понимании: утверждение о том, в чем состоит значение
некоторого выражения, следует формулировать в виде
тезиса о том, что значит знать его значение. Такой тезис
будет гласить: знать значение некоторого
предложения — значит знать условия, при которых предложение
истинно. Это шаг к разъяснению, хотя и небольшой:
остается неясным само понятие условий истинности.
Что значит знать условия истинности предложения?
Мы не продвинемся в решении этого вопроса, не
приняв во внимание того факта, что знание условий
истинности некоторого предложения, образующее его
понимание, выводимо из понимания слов, из которых
составлено предложение, и способа их соединения. Ясно,
что этим мы не хотим сказать, что всегда, когда
некоторое предложение истинно, если и только если имеют
место определенные обстоятельства, можно приписать
понимание этого предложения тем, кому уже известен
этот факт. Наше условие гораздо слабее. Мы хотим
лишь описать тот вид понимания, которым обладают
люди, пользующиеся языком. Для того чтобы сказать
о ком-то, что он знает значение некоторого
предложения, включая предложение из неизвестного ему языка,
вовсе не обязательно требовать, чтобы он знал значения
всех слов, входящих в это предложение, да иногда
просто нельзя точно указать это значение. Но сейчас нас это
не интересует. Мы хотим понять, что значит знать язык,
и как тот, кто пользуется языком, свое понимание
любого предложения этого языка выводит из своего
знания значений слов.
Следовательно, наша проблема состоит в
следующем: что знает говорящий, когда он знает некоторый
язык, и что тем самым он знает о любом данном
предложении этого языка? Конечно, то, что знает
говорящий, когда он знает язык, есть практическое знание,
знание того, как пользоваться языком, однако это не
5—567
129
является возражением против возможности
представления этого значения в качестве пропозиционального
знания. Умение владеть некоторой процедурой, какой-
либо общепринятой практикой всегда можно
представить в таком виде, а когда практика носит сложный
характер, подобное представление часто оказывается
единственным удобным способом ее анализа. Таким
образом, мы стремимся к теоретическому
представлению некоторого практического умения. Такое
теоретическое представление владения языком мы и будем
называть вслед за Дэвидсоном "теорией значения" для
данного языка. Быть может, Дэвидсон был первым,
кто в явном виде высказал мысль о том, что
философские проблемы, касающиеся значения, следует решать с
помощью исследования той формы, которую должна
принять такая теория значения для языка.
Таким образом, теория значения будет выражать
практическое умение говорящего понимать множество
суждений, а поскольку говорящий выводит свое
понимание некоторого предложения из значений
составляющих его слов, постольку эти суждения будут
естественным образом складываться в дедуктивную систему.
Знание этих суждений, приписываемое говорящему,
может быть только неявным знанием. От того, кто
обладает некоторой практической способностью, в общем
нельзя требовать чего-то большего, чем неявное знание
тех суждений, посредством которых мы даем
теоретическое описание этой способности. Более того, когда
речь идет о такой способности, как умение говорить на
некотором языке, было бы совершенно нелепо
требовать от говорящего, чтобы свое знание суждений,
образующих теорию значения для языка, он мог выразить
в словесной форме, ибо фундаментальная цель
теоретического описания в том и состоит, чтобы объяснить,
что нужно знать, для того чтобы овладеть некоторым
языком. Да и явно ошибочно считать, что если кто-то
усвоил некоторый язык, то он уже способен
сформулировать теорию значения для этого языка.
Такую теорию значения нельзя рассматривать как
психологическую гипотезу. Она должна дать анализ
сложного навыка, образующего владение языком, и
выразить его в виде знания того, что необходимо для
владения языком. Она не ставит перед собой задачу
описать какой-либо внутренний психологический
механизм, объясняющий эту способность. Если бы
марсианин научился говорить на языке людей или был создан
робот, воспроизводящий поведение говорящего чело-
130
века, то неявное знание правильной теории значений
можно было приписать марсианину или роботу даже
с большим основанием, нежели владеющему языком
человеку, хотя внутренние механизмы их умения
совершенно различны. В то же время, поскольку
говорящему приписывается неявное знание, постольку теория
значения должна уточнить не только то, что говорящий
должен знать, но и то, в чем состоит его обладание этим
знанием, т.е. в чем оно проявляется. Без этого мы не
только остаемся в неведении относительно содержания
такого знания, но и теория значения лишается связи с
тем практическим умением, теоретическим
представлением которого она должна быть. Недостаточно сказать,
что знание теории значения выражается в общей
способности пользоваться языком, ибо смысл построения
теории и заключается в том, чтобы дать анализ этой
способности в ее взаимосвязанных компонентах.
Определенные конкретные суждения теории следует соотнести
со специфическими практическими способностями,
владение которыми образует знание этих суждений.
Однако требование, чтобы каждое суждение теории
соотносилось с некоторой практической способностью,
было бы, пожалуй, чрезмерно строгим. Например,
знание некоторого языка предполагает знание его
синтаксиса, а последнее требует классификации слов и
словосочетаний по синтаксическим категориям,
поэтому тому, кто говорит грамотно, мы можем приписать
знание о том, что данное слово является, например,
существительным. Очевидно, не существует отдельной
способности, служащей проявлением этого частичного
знания: способность признавать одни предложения,
содержащие данное слово, правильно построенными,
а другие — построенными неправильно, зависит от
знания синтаксических категорий других слов и
сложных правил построения предложений, которые могут
быть выражены с помощью этих категорий.
Имплицитное понимание определенных общих принципов, обычно
представленных аксиомами теории, здесь выражается
в способности относительно каждого предложения,
каким бы длинным оно ни было, устанавливать,
правильно оно построено или нет. Такую способность
естественно представлять как молчаливый вывод
определенных теорем теории. Каждая из этих теорем
соответствует специфической практической способности,
т.е. способности относительно конкретного
предложения устанавливать, правильно оно построено или нет,
однако это неверно для аксиом. Знание совокупности
5*
131
аксиом в этом случае выражается в общей способности
для любого предложения устанавливать, правильно оно
построено или нет. А приписывание говорящему
имплицитного знания этих аксиом опирается на уверенность
в том, что он обладает общей способностью,
охватывающей все специфические способности, соответствующие
теоремам, которые выводимы из этого множества
аксиом. Однако аксиома оправдывает свое место в
теории только в той степени, в которой она нужна для
вывода теорем, имплицитное знание которых
приписывается говорящему. Это знание получает объяснение с
помощью специфических лингвистических
способностей, служащих его проявлением.
Что верно на синтаксическом уровне, верно также и
для семантической части теории. Теория значения будет
включать в себя аксиомы, управляющие отдельными
словами, и другие аксиомы, управляющие построением
предложений. Совокупность этих аксиом будет
порождать теоремы, относящиеся к отдельным
предложениям. Если специфическую практическую способность
теория соотносит со знанием каждой аксиомы,
управляющей тем или иным отдельным словом, т.е. если
обладание этой способностью она представляет как знание
значения данного слова, то я буду называть ее
атомарной; если же такую способность она соотносит только с
теоремами, которые связаны с целыми предложениями,
то я буду называть ее молекулярной. Мне неизвестно
доказательство того, что атомарная теория значения в
принципе невозможна, однако в силу того, что
единицей рассуждения (самым коротким выражением,
произнесение которого выражает значимый лингвистический
акт), не считая несущественных исключений, является
предложение, к теории значения нельзя предъявить
общего требования, чтобы она была атомарной. Знание
языка есть знание о том, как использовать язык для
того, чтобы говорить о различных вещах, т.е. совершать
разнообразные лингвистические акты. Поэтому мы
можем требовать, чтобы неявное знание теорем теории
значения, относящихся к целым предложениям, было
объяснено в терминах способности говорящего
пользоваться этими предложениями в конкретных
условиях, т.е. чтобы теория была молекулярной.
Использование же им слов заключается только в использовании
различных предложений, содержащих эти слова, поэтому
какая-либо непосредственная корреляция знания,
образующего понимание отдельного слова, с некоторой
специфической лингвистической способностью не нуж-
132
на. Приписывание говорящему понимания аксиом,
управляющих словами, есть средство представления
выведения значения каждого предложения из значений
входящих в него слов, однако знание им аксиом может
проявляться только в использовании предложений.
У нас не было бы ни малейшего представления о
том, как можно построить такую теорию значения, если
бы нам не было известно введенное Фрегс различие
между смыслом и действием. Не имея в виду такого
различия, понимание говорящим любого данного
предложения пришлось бы считать лишь осознанием
каждой особенности использования этого предложения,
т.е. осознанием полного значения любого возможного
произнесения этого предложения. Знаменитое
высказывание Витгенштейна "Значение есть употребление"
можно интерпретировать многими способами,
большинство из которых, по-видимому, совпадет с
некоторыми аспектами его собственного понимания. Один из
самых радикальных способов его интерпретации
состоит в полном отрицании какого-либо различия между
смыслом и действием. Однако у нас нет никакой
концепции относительно того, как приступить к описанию
употребления любого конкретного предложения без
помощи какого-либо общего механизма, включающего
в себя различие подобного рода, следовательно, нам
пришлось бы совершенно отказаться от попытки
построить какое-либо систематическое описание языка.
Различие между смыслом и значением неявно
присутствует в любом тезисе, например в рассматриваемом
нами тезисе о том, что знать значение предложения
означает знать условия его истинности. Тот, кто
относительно некоторого данного предложения знает, при
каких условиях данное предложение истинно, еще не
знает всего того, что нужно знать, для того чтобы
понять значение произнесения этого предложения. Если
же мы предположим, что он это понимает, то тем
самым мы неявно припишем ему понимание того
способа, которым условия истинности какого-то
предложения детерминируют конвенциональный смысл
его произнесения. Однако поскольку именно теория
значения должна выявить все то, что должен неявно
знать говорящий для того, чтобы пользоваться языком,
постольку предполагаемая связь между условиями
истинности предложения и характером
лингвистического акта его произнесения должна быть описана теорией.
Об этом свидетельствует феномен наклонения
(которое не всегда выражается глагольным окончанием): в
133
большинстве языков имеется много предложений,
которые трудно характеризовать как истинные или
ложные, хотя они соединены устойчивыми
синтаксическими связями с предложениями, обладающими
истинностной характеристикой. Теорию значения можно
сформулировать так, чтобы не приписывать подобным
предложениям истинность или ложность, а связывать с
ними некоторую параллельную характеристику,
например условие выполнения в случае повелительных
предложений. При этом следует ясно установить, что
означает произнесение предложения, обладающего условиями
истинности, и предложения, связанного с некоторым
другим условием. И напротив, теорию можно
сформулировать так, что она будет ассоциировать условия
истинности со всеми предложениями. Однако в этом
случае теория должна содержать объяснение смысла
различных наклонений, т.е. она должна объяснить
различные отношения, в которых условия истинности
некоторого предложения находятся к акту его
произнесения в соответствии с наклонением данного
предложения. Даже если бы мы рассматривали язык без
наклонений, нам не уйти от того факта, что
конвенциональный смысл некоторого данного высказывания не
является единым: одно и то же предложение может
использоваться для выражения различных вещей.
Таким образом, теория все-таки должна была бы
предложить понимание тех разнообразных способов, с
помощью которых условия истинности некоторого
предложения могут, согласно контексту, соединяться
со смыслом, приписанным его конкретному
произнесению.
Простейшим способом будет следующий. Если
предположить, что знание условий истинности некоторого
предложения дает говорящему знание полного
употребления этого предложения, то это может быть
обусловлено только его пониманием содержания понятия
истины. Та часть теории значения, которая говорит об
условиях истинности предложений языка, устанавливает
лишь объем данного понятия. Следовательно, она не
выявляет тех особенностей понятия истины, которые
из условий истинности некоторого предложения
позволяют вывести полное употребление этого предложения.
Если бы вместо термина "истинно", который считается
понятным, теория использовала некоторый исходный
технический термин, не употребляемый вне теории, то
было бы нельзя считать, что одно лишь знание
принципов, управляющих применением данного предиката,
134
уже дает говорящему знание об употреблении каждого
предложения. В этом случае теории потребовалась бы
дополнительная часть, устанавливающая связь между
применением этого термина к тому или иному
предложению и употреблением самого этого предложения.
Такая дополнительная часть теории значения охватила
бы те принципы, связанные с понятием истины,
которые нужно было бы усвоить, для того чтобы иметь
возможность вывести употребление некоторого
предложения из знания условий его истинности.
Следовательно, теория значения, принимающая в
качестве центрального понятие истины, будет состоять
из двух частей. Ядром такой теории будет теория
истины, т.е. индуктивное определение условий
истинности предложений языка. Это ядро лучше называть
"теорией референции", поскольку наряду с теоремами,
устанавливающими, при каких условиях некоторое
данное предложение или его произнесение в
определенный момент истинны, в него входят аксиомы,
управляющие употреблением отдельных слов и
приписывающие этим словам подходящие референции. Теория
референции окружена как бы скорлупой, представляющей
собой теорию смысла: связывая особые практические
способности говорящего с определенными суждениями
теории референции, она устанавливает, в чем должно
состоять знание говорящим любой части этой теории.
Теория референции и теория смысла совместно
образуют одну часть теории значения. Второй,
вспомогательной частью будет теория действия (theory of force)
Теория действия даст понимание различных типов той кон-
вециональной значимости, которой может обладать
произнесение предложения, т.е. разнообразных
лингвистических актов, которые могут быть совершены
таким произнесением, например выражение утверждения,
отдача команды, выражение просьбы и т.п. При этом
условия истинности предложения считаются данными:
для каждого типа лингвистических актов теория
представит единообразное описание актов данного
типа, которое может быть осуществлено произнесением
произвольного предложения, чьи истинностные условия
считаются известными.
Только при наличии такого фона имеет какой-то
смысл утверждение о том, что знать значение
некоторого предложения — значит знать условия его
истинности. При этом мы не подразумеваем, что знание
условий применения предиката "истинно" к
конкретному предложению есть все, что должен знать говоря-
135
щий, чтобы иметь возможность пользоваться этим
предложением или понимать его произнесение другими
людьми, нет, это лишь то, что специфично для данного
предложения. Остальное, что следует знать, носит
общий характер — это множество общих принципов, с
помощью которых мы, опираясь на условия истинности
любого произвольного предложения, можем
стандартным образом определить любую особенность его
употребления. И это вполне справедливо для любого
другого тезиса, согласно которому существует
некоторое одно свойство слова или предложения, осознание
которого дает понимание его значения, например
тезиса о том, что значение предложения есть метод его
верификации. В последнем случае предполагают, что
значение предложения образуется не условиями его
истинности, а некоторой характеристикой его
употребления. Однако это всего лишь одна конкретная
характеристика. Если бы использование нами языка
состояло только в верификации предложений, то
обсуждаемый тезис был бы тривиальностью, однако это,
очевидно, не так. Умение пользоваться языком
включает в себя и многое другое: действовать в
соответствии с утверждениями других людей или вербально
отвечать на них; высказывать утверждения, которые
далеко не убедительны; находить основания для наших
утверждений; делать выводы; задавать вопросы и
отвечать на них; отдавать приказания, выполнять или
нарушать их и т.д. Тезис, провозглашающий, что значение
предложения состоит в методе его верификации, не
отвергает существования всех этих разнообразных
аспектов использования языка, однако несет в себе мысль о
том, что существует некоторый единый способ,
позволяющий нам из одного данного свойства вывести все
остальные особенности использования любого
предложения, поэтому для того чтобы знать значение
некоторого предложения, нам нужно знать только одно
данное его свойство. Эта мысль как раз
предполагает признание различия между смыслом и действием,
т.е. представление о том, что корректная теория
значения включает в себя две части: центральную часть,
формулирующую теорию смысла и референции (которая
здесь понимается как индуктивное определение
способа верификации каждого предложения), и
вспомогательную часть, задающую единый метод, который из
особенности любого предложения, определяемой
центральной частью, позволяет вывести все остальные
аспекты его употребления.
136
Как я уже сказал, мы пока не знаем, как построить
систематическую теорию значения, включающую в себя
различие между смыслом и действием. Прежде всего
нам нужно решить, правильно ли принимать понятие
истины в качестве центрального понятия теории
значения и формулировать с его помощью ядро теории или
на эту роль следует избрать какое-то другое понятие?
С этим выбором связан важный вопрос о том, можно
ли с помощью избранного понятия построить
жизнеспособную вспомогательную теорию (теорию
действия) . Существует ли на самом деле единообразный
способ описания всей нашей языковой практики,
основывающийся: на этом понятии? До сих пор мы очень
слабо представляем себе, как могла бы выглядеть
такая вспомогательная теория, построенная без ссылки
на предварительное понимание понятий, относящихся к
лингвистическому поведению, например понятие
утверждения. Основное внимание обращают на форму
ядра теории. Поскольку ядро теории говорит о
понимании смысла некоторого выражения не как об
овладении его полным употреблением, а как об усвоении
какого-то его конкретного свойства, постольку у нас
отсутствуют общие аргументы как для обоснования
невозможности атомарной теории значения, так и для
демонстрации необходимости теории такого типа.
Знать смысл предложения — значит знать относительно
него некоторую конкретную вещь — условие его
истинности, или метод его верификации, или что-либо
подобное в зависимости от того, что именно принято в
качестве центрального понятия данной теории значения.
Точнее говоря, мы должны иметь возможность вывести
это знание из того способа, которым построено
предложение из составляющих его слов. Я уже говорил, что
приемлемая теория значения должна быть по крайней
мере молекулярной. Входящая в нее теория смысла
должна показывать, каким образом проявляется
знание говорящим значения любого предложения. Однако
поскольку дополнительная часть теории призвана
объяснять, как из своего знания смысла предложения
говорящий выводит понимание полного его употребления,
постольку нет никакой необходимости в том, чтобы
знание говорящим значения предложения охватывало
каждый аспект его способности употреблять данное
предложение так, как оно употребляется в языке.
Знание значения может включать в себя весьма
небольшую часть этой способности (например, способность
осуществить верификацию предложения). Поэтому
137
ничто не препятствует теории смысла отождествлять
понимание говорящим смысла каждого отдельного
слова с его каким-либо конкретным умением,
относящимся к тому или иному слову, скажем с его
умением понимать смысл некоторых весьма
специальных предложений, содержащих это слово.
II
Таким образом, вопрос "Заключается ли значение
предложения в условиях его истинности?" равнозначен
следующему вопросу: "Позволяет ли выбор понятия
истины в качестве центрального понятия теории
значения сохранить различие между смыслом и действием?"
Одной из причин широкой распространенности
представления о том, что значение предложения задано
условиями его истинности, является интуитивная
очевидность этого представления. Если понятие истины мы
считаем несомненным, если приписьюаем себе
понимание этого понятия, но не пытаемся его анализировать,
то кажется очевидным, что только понятие истины
требуется для объяснения понимания нами
предложений и ничего другого для этого не нужно. Это
впечатление в значительной мере обусловлено принципом
эквивалентности, т.е. тем принципом, что любое
предложение А по содержанию эквивалентно предложению
"Истинно, что Л". По-видимому, это показывает, что
понятие истины должно быть использовано для
объяснения значения: мы не могли бы сказать, например,
что знать значение предложения А — значит знать, что
требуется для того, чтобы Л было истинно, ибо
предложение "Истинно, что А" гораздо сильнее, чем само А,
И мы не могли бы сказать, что это означает знание
адекватных оснований, позволяющих утверждать
предложение А, ибо такие основания могут существовать
даже в том случае, когда А ложно.
Принцип эквивалентности дает основания для
приемлемого объяснения той роли, которую играет в
языке слово "истинно". Если человек понимает некий язык
L, а затем этот язык расширяется до языка L +
посредством добавления предиката "истинно", который
применяется к предложениям языка L и удовлетворяет
принципу эквивалентности, то отсюда совершенно ясно,
что говорящий вполне способен понять предложения
языка L . (В действительности дело обстоит
несколько более сложно, если принять во внимание индекса-
138
цию, но мы не будем отвлекаться на эти сложности.)
Мы даже можем заметить, почему такое расширение
языка было бы полезно. Если слово "истинно"
рассматривается как обычный предикат, который применим
только в контекстах формы "Истинно, что...", но также
и в таких контекстах, как "То, что он мне сказал,
было неистинно", то, хотя его и не всегда можно
устранить, его объем будет вполне определенным.
Конечно, такой подход не может служить для объяснения
слова "истинно", если оно используется для задания
семантики некоторого языка, в частности если оно
используется в качестве центрального понятия теории
значения, ибо данный подход опирается на
предположение о том, что говорящий имеет предварительное
понимание тех предложений языка, которые не содержат
слова "истинно". Этот подход не годится также для
описания реального употребления слова "истинно" в
естественном языке, поскольку такой язык является,
по выражению Тарского, "семантически замкнутым",
т.е. содержит в себе свою собственную семантику. И
дело здесь не только в непредикативности экстенсио-
нала, т.е. в нашем решении применять предикат
"истинно" также к предложениям расширенного языка. Мы
используем слово "истинно" и множество других слов
для формулирования суждений, принадлежащих теории
значения, т.е. пытаемся использовать язык в качестве
собственного метаязыка, и при этом принимаем такие
принципы, управляющие использованием слова
"истинно", которые не охватываются принципом
эквивалентности. Однако в большинстве случаев мы продолжаем
требовать соблюдения принципа эквивалентности.
До тех пор пока мы считаем понятие истины
несомненным, кажется несомненным, то и что значение
следует объяснять с его помощью. Однако как только мы
перестаем считать его несомненным и ставим вопрос о
корректном анализе понятия истины, от этой
несомненности не остается и следа. Ставить такой вопрос —
значит пытаться установить, когда в процессе овладения
языком появляется неявное понимание понятия
истины. Если понятие истины должно служить в качестве
фундаментального понятия теории значения для языка,
то нельзя считать, что оно вводится принципом
эквивалентности, ибо это, как мы уже видели, ведет к
предположению о том, что мы способны усвоить большую
часть языка до того, как получим какое-либо
представление о понятии истины. Ecjfti мы продолжаем
настаивать на том, что в процессе овладения языком мыпреж-
139
де всего должны усвоить, что значит для предложения
быть истинным, то для любого данного предложения
мы должны указать, в чем именно состоит то знание,
которое не зависит от предполагаемого
предварительного понимания предложения. Иначе наша теория
значения содержит круг и ничего не объясняет.
Если понятие истины сохраняется в нашей теории
значения, служащей для выявления и описания того, в
чем заключается наше знание языка, то принцип
эквивалентности не может играть объяснительной роли.
Однако, как было уже отмечено, он все-таки способен
выполнять весьма важную функцию в нашем
понимании понятия истины, ибо мы продолжаем требовать
такого истолкования этого понятия, чтобы принцип
эквивалентности оставался верным. Вместе с тем
приемлемая теория значения должна учитьюать
внутренние взаимосвязи в языке. Поскольку слова не
могут использоваться сами по себе, а только в
предложениях, постольку не может существовать понимание
смысла какого-то одного слова, не включающее в себя
хотя бы частичного понимания некоторых других слов.
Точно так же и понимание отдельного предложения
обычно зависит не только от понимания входящих в
него слов и других предложений, которые могут быть
построены из этих слов, но от определенного, порой
весьма значительного фрагмента языка. Различие
между молекулярным и холистским подходами к
языку заключается не в том, что с точки зрения
молекулярного подхода каждое предложение в принципе может
быть понято само по себе, а в том, что холистский
подход считает невозможным понять какое-либо
предложение, не зная языка в целом, а при молекулярном
подходе для каждого предложения существует
определенный фрагмент языка, знания которого вполне
достаточно для понимания данного предложения.
Такой подход позволяет упорядочить предложения и
выражения языка в соответствии с тем, зависит или не
зависит понимание некоторого выражения от
предварительного понимания других выражений. (Если мы
признаем постепенное овладение языком, то здесь
требуется хотя бы приблизительный частичный
порядок с минимальными элементами. С другой стороны,
при холистском подходе отношение зависимости не
будет асимметричным и имеет место между двумя
любыми выражениями языка: существуют только две
возможности — вполне знать язык или совершенно не
знать его.)
140
Очевидно, в частности, что на практике, как только
мы достигаем определенной стадии в изучении нашего
языка, оставшаяся часть языка усваивается нами в
значительной мере посредством чисто словесных
объяснений. Поэтому в соответствии с традицией вполне
разумно предполагать, что такие объяснения часто
раскрывают связи между выражениями языка, понимание
которых на самом деле существенно для понимания
вводимых слов. По сути дела, это означает, что
возможность объяснения определенных выражений чисто
вербальными средствами представляет собой
существенную характеристику их значения, и это должно быть
отражено в любой корректной теории значения для
языка. Если же теперь мы хотим дать чисто словесное
объяснение предложений определенной формы, то
лучшим и фактически единственным средством для
этого будет задание условий, при которых
предложения этой формы истинны. Благодаря принципу
эквивалентности, это как раз определяет содержание
предложений данной формы, и нет никакого другого
свойства, обладание которым могло бы служить для этой
цели. Здесь мы опять приходим к принципу
эквивалентности и получаем еще одно объяснение
привлекательности той идеи, что задать значение некоторого
предложения—значит сформулировать условия его
истинности. Кроме того, здесь указано, в каком
отношении любая корректная теория значения должна
согласоваться с этой идеей.
Теория значения, принимающая истину в качестве
центрального понятия, должна объяснить, что означает
знание условий истинности предложений. Если
предложение обладает такой формой, что говорящий
способен понять его с помощью вербального объяснения, то
никаких проблем не возникает: знание говорящим
условий истинности этого предложения является явным,
т.е. таким знанием, которое проявляется в его
способности сформулировать эти условия. Объяснение такой
формы очевидным образом предполагает, что
говорящему уже известна довольно обширная часть языка, с
помощью которой он может сформулировать условия
истинности данного предложения и понять его. Отсюда
следует, что, сколь бы велика ни была сфера
предложений, понимание которых можно объяснить таким
образом, такая форма объяснения в общем случае
будет недостаточна. Это обусловлено тем, что
благодаря принципу эквивалентности сформулировать условия
истинности некоторого предложения означает просто
141
выразить его содержание другими словами. Но явное
знание условий истинности некоторого предложения
может дать говорящему понимание его значения только
для тех предложений, которые вводятся посредством
чисто вербальных объяснений в процессе постепенного
усвоения языка: увы, мы попали бы в порочный круг,
если бы стали утверждать, что понимание говорящим
языка заключается, вообще говоря, в его способности
выражать каждое предложение другими словами, т.е. с
помощью явно эквивалентного предложения того же
языка. Понимание наиболее фундаментальной части
языка, его глубинных уровней невозможно объяснить
таким путем: если это понимание заключается в знании
истинностных условий предложений, такое знание
должно быть неявным, следовательно, теория значения
должна дать нам понимание того, каким образом это
знание проявляется.
Трудность нахождения подходящего объяснения
того, в чем состоит знание говорящим условий
истинности предложения, заключается не в решении о том,
что именно считать проявлением его знания, а в том, что
эти условия выполнены. Верно, что не существует
отдельного универсального и безошибочного знака,
позволяющего нам признать истинность некоторого
данного предложения, и нет никаких абсолютно стандартных
средств выделения такого знака, однако достаточно
разумно предположить, что по отношению к говорящим
на каком-то одном языке мы можем придумать знак,
позволяющий нам сказать, что говорящий признает
выполнение условий истинности некоторого данного
предложения. Если мы согласимся с этим, то нам нетрудно
будет сказать, в чем состоит знание говорящим
условия истинности предложения, когда данное условие
может быть осознано говорящим независимо от того,
выполнено оно или нет: такое знание будет
заключаться в его способности признавать предложение
истинным тогда, и только тогда, когда соответствующее
условие выполнено. Однако очевидно, что такое
объяснение в лучшем случае охватывает весьма ограниченную
область, ибо имеется очень немного предложений,
условия истинности которых выполнены лишь в том
случае, если факт их выполнения осознан. Такую
форму объяснения можно распространить на любые
предложения, которые на практике или даже в принципе
разрешимы, т.е, для которых у говорящего имеется
некоторая эффективная процедура, позволяющая ему
в конечный отрезок времени осознать, выполнены ли
142
условия истинности данного предложения. В
отношении таких предложений мы можем сказать, что знание
говорящим условий их истинности заключается в его
владении процедурой разрешения, т.е. в его
способности осуществлять эту процедуру при
соответствующем побуждении и в конце концов сознательно
устанавливать, выполнены эти условия или нет.
(Конечно, такая характеристика включает в себя некоторые
общие термины, которые не могли бы войти в
реальную теорию значения, ибо последняя могла бы
говорить только о конкретных разрешающих
процедурах и специфических средствах, с помощью которых
говорящий приходит к установлению выполнения
условий истинности тех или иных предложений. Цель же
общей характеристики — показать, что здесь нет
принципиальных затруднений.)
Затруднения возникают вследствие того, что
естественный язык наполнен предложениями, которые не
являются эффективно разрешимыми, для которых нет
эффективной процедуры, позволяющей установить,
выполнены ли их истинностные условия. Существование
таких предложений не может быть обусловлено
исключительно за счет наличия выражений, введенных чисто
вербальными объяснениями: язык, все предложения
которого разрешимы, мог бы сохранить это свойство
даже при обогащении его выражениями, введенными
таким образом. Образованию принципиально
неразрешимых предложений содействуют многие особенности
естественного языка: использование квантификации
бесконечной или необозримой области (например, на
все будущие времена); использование условных
предложений в сослагательном наклонении или выражений,
определяемых с их помощью; ссылки на
пространственно-временные области, принципиально
недоступные для нас. Конечно, для любого данного
неразрешимого предложения существует возможность того, что
мы окажемся в состоянии решить, выполнены его
условия истинности или нет. Однако и для такого
предложения мы не можем поставить знак равенства между
способностью осознать выполнение или невыполнение
условий его истинности и знанием о том, что
представляют собой эти условия. Этого нельзя сделать потому,
что, по предположению, условие может быть таким,
что оно выполняется в некоторых случаях, а мы не
можем осознать этого, или может быть таким, что не
выполняется в некоторых слуцаях, а мы не можем
осознать этого, либо имеет место и первое, и второе. Следо-
143
вательно, знание о том, выполнено ли условие или нет,
хотя и нуждается в способности распознавать то или
иное состояние дел, не может быть исчерпывающим
образом объяснено в терминах этой способности. В
самом деле, всегда, когда условие истинности
некоторого предложения таково, что мы не можем установить,
выполнено оно или нет, кажется очевидным, что нет
смысла говорить о неявном знании этого условия, ибо
не существует того практического умения, в котором
могло бы проявиться это неявное знание. Знание
такого условия может быть построено только как
явное знание, заключающееся в способности
устанавливать данное условие каким-либо способом, не
содержащим порочного круга, а это, как мы видели, нами
здесь не используется.
Проблема, с которой здесь сталкивается попытка
построить теорию значения, принимающую в качестве
своего центрального понятия понятие истины, не
затрагивает дополнительной части теории, которую я назвал
"теорией действия". Эта часть теории занимается
выявлением связи между условиями истинности
предложения и реальной практикой его использования в
рассуждении. До тех пор, пока не доказана возможность
удовлетворительного построения такой теории
действия, все попытки создания теории значения
обсуждаемого типа обречены на провал. Однако в настоящее
время было бы неразумно строить какие-либо
прогнозы о выполнимости такой задачи, ибо мы пока еще
почти ничего не знаем о том, как приступить к ее решению.
Обсуждаемая мной проблема относится к теории
смысла, которую я представил в виде оболочки,
окружающей ядро теории. Ядро теории говорит о том способе,
которым референты слов, входящих в предложение,
детерминируют его условия истинности, или, говоря
иначе, как применение предиката "истинно" к каждому
предложению зависит от референтов составляющих
эти предложения слов. Оболочка — теория смысла —
связьюает теорию истины (или референции) с умением
говорящего владеть языком, соотносит его знание
суждений теории истины с практическими
лингвистическими навыками, которые он проявляет. Когда человек
изучает язык, он учится практике, учится вербально
или невербально отвечать на высказывания и
производить свои собственные высказывания. Помимо всего
прочего, он обучается признавать предложения
истинными или ложными, точнее говоря, он обучается
говорить и действовать так, как требуется таким призна-
144
нием. Однако знание условия, которое делает
предложение истинным, не является тем, что он делает или
непосредственным проявлением его действий. Мы
видели, что в некоторых случаях, опираясь на то, что он
говорит и делает, мы можем вполне приемлемо
объяснить, что значит приписать ему такое знание. Однако в
других, решающих случаях такого объяснения,
по-видимому, дать нельзя. Таким образом, подлинное
объяснение той практики, которой владеет говорящий,
оказывается недостижимым.
Откуда берется понятие истины? Наиболее простой
и заметной является его связь с лингвистическим
актом утверждения, о чем свидетельствует тот факт,
что обычно мы называем "истинными" и "ложными"
именно утверждения, а не вопросы, команды,
требования, предложения сделок и т.п. Если обратиться к фре-
гевскому различию между смыслом и действием, то
легко увидеть, что предложение распадается на две
части, одна из которых выражает смысл предложения
(мысль), а другая указывает на его предполагаемое
действие — утверждающее, вопрошающее,
повелевающее и т.п. С этой точки зрения, только лишь о мысли
можно говорить, что она истинна или ложна независимо
от того, утверждаем ли мы, что она истинна,
спрашиваем ли об этом, приказываем и т.п. Следовательно,
при таком подходе тот, кто задает (сентенциальный)
вопрос или отдает команду, в той же мере высказывает
нечто истинное или ложное, как и тот, кто выражает
утверждение, назвать "истинным" или "ложным"
утверждение грамматически столь же неправильно, как
назвать "истинным" или "ложным" вопрос или
команду. Однако, несмотря на привлекательность такого
подхода, он все-таки представляет собой отход от
нашего привычного способа выражения. Это
обусловлено не только тем, что у нас отсутствует
утвердительное наклонение, аналогичное вопросительному и
повелительному наклонениям, но и употреблением одной и
той же формы слов как в сложносочиненном
предложении или, что касается английского языка,
сложноподчиненном предложении, так и в простом
утвердительном предложении. Высказать нечто истинное —
значит высказать нечто правильное, а высказать нечто
ложное — значит высказать нечто неправильное. Любой
серьезный подход к анализу утверждения должен
предполагать, что об утверждении судят по
объективным стандартам правильности и что, высказывая
некоторое утверждение, говорящий претендует — пра-
145
вильно или ошибочно — на соблюдение этих стандартов.
Именно от этих исходных представлений о
правильности или неправильности утверждения ведут свое
происхождение понятия истинности и ложности.
Высказывание можно критиковать различными
способами. Определенные виды критики, например,что
некоторое замечание было невежливым, было
нарушением тайны или свидетельством дурного вкуса,
направлены не на то, что говорится, а на само произнесение.
Это интуитивно ясное различие трудно провести, не
прибегая к помощи сомнительных понятий. Мы могли
бы сказать, например, что в таких случаях подвергается
критике скорее внешнее выражение, чем внутренний
акт суждения. Однако тот факт, что некоторые
лингвистические акты, например утверждения, могут быть
переведены во внутренний план, сам по себе нуждается
в объяснении, которого мы вправе ожидать от теории
значения. Быть может, наименее сомнительный путь
разделения даух типов критики заключается в
следующем. Любой лингвистический акт может быть
аннулирован, по крайней мере если его отмена осуществлена
достаточно быстро: говорящий может отменить
утверждение, команду, просьбу или вопрос. Критика,
направленная против того, что именно сказано, например
говорящая, что утверждение неистинно, приказание
несправедливо или вопрос неуместен, утрачивает свои
основания при отмене высказывания. В то же время
критика, относящаяся к самому акту высказывания,
благодаря его отмене ослабляется, но не устраняется
полностью: если кто-то своим высказываением
обманывает доверие или ранит чувства слушателя, то
отмена высказывания смягчает обиду, но не устраняет
ее полностью. Проводимое таким образом различие не
вполне совпадает с тем, что мы могли бы получить с
помощью ссылки на внутреннее состояние говорящего:
если мы возражаем против вопроса как неуместного,
то такое возражение полностью снимается, когда
вопрос взят обратно, так что при этом возражение
направляется скорее против того, что сказано, а не
против самого высказывания. Мы не возражаем против
желания говорящего знать ответ, мы отрицаем только
его право спрашивать. Однако мне представляется, что
проведенное мной различие ближе к тому, что нам
требуется в данном контексте, нежели то, которое
можно провести благодаря ссылке на внутреннее
состояние говорящего.
Понятие корректного или некорректного утверж-
146
дения связано только с наличием или отсутствием
существенной критики, направленной против того, что
говорится, а не против самого произнесения. Я считаю
важным выделить возможность критики последнего
рода, ибо общее понятие приемлемости высказьшания
как его защищенности от критики любого рода
бесполезно для наших целей. Понятие истины берет свое
начало в более фундаментальном понятии правильности
утверждения, однако оно не совпадает с последним.
Интегральным элементом понятия истины является то,
что мы можем провести различие между истинностью
того, что кто-то говорит, и теми основаниями, которые
позволяют ему считать произнесенное истинным. Мысль
о том, что утверждение оценивается в соответствии со
стандартами правильности или неправильности, еще
не обеспечивает основания для такого различия.
Утверждение, опирающееся на неадекватные основания,
открыто для критики — критики, направленной против
того, что сказано, а не против самого высказывания, —
и, следовательно, неправильно: вопрос состоит в том,
почему мы хотим ввести различие между разными
видами некорректности утверждения и на какой основе
мы проводим это различие. Если мы принимаем
концепцию условий истинности предложения, используемую
при высказывании утверждений, то нам сразу же
становится ясно, как провести это различие, однако встает
вопрос: откуда взялась эта концепция? Мы не можем
предполагать, что она дана вместе с наиболее простыми
формами употребления утвердительных предложений,
ибо для них мы требуем лишь общего различия между
теми случаями, когда предложение может быть
правильно высказано в утвердительной форме и когда
этого сделать нельзя. Это становится ясным при
рассмотрении таких предложений, как изъявительные
условные предложения, к которым мы не привыкли
применять предикаты "истина" и "ложь". Философы
спорят по поводу подходящих критериев применения
названных предикатов к таким предложениям именно
потому, что расходятся во мнениях о том, что именно
следует отнести к условиям истинности этих
предложений, а что - к основаниям, позволяющим говорящему
считать их истинными. Эти споры говорят не о
двусмысленности повседневного употребления изъявительных
условных предложений. Все стороны согласны
относительно обстоятельств, в которых утверждение,
высказанное посредством изъявительного условного
предложения, оправданно, т.е. когда говорящий имеет право
147
высказать такое утверждение, и это все, что нам
нужно знать для интерпретации утверждения такого типа,
когда оно встречается в повседневном рассуждении.
Благодаря этому мы знаем, когда можно высказать
такое утверждение, как защитить его от сомнений, что
делает разумным его принятие или отбрасывание, как
действовать в соответствии с ним или выводить из него
следствия, если мы приняли его. Споры философов
относятся к дальнейшему вопросу о том, что же
делает изъявительные условные предложения
истинными. Некоторые полагают, что они истинны как раз в
тех случаях, когда истинны соответствующие
предложения с материальной импликацией; другие считают,
что если антецедент истинен, условное предложение
истинно или ложно в зависимости от истинности или
ложности консеквента, но если антецедент ложен,
условное предложение истинно или ложно в
соответствии с тем, истинно или ложно соответствующее
контрфактическое условное предложение, что
приводит нас к условиям истинности контрфактических
предложений. Третьи согласны с первой частью, однако
считают, что, когда антецедент ложен, изъявительное
условное предложение в целом ни истинно, ни ложно.
И наконец, некоторые настаивают на том, что
безотносительно к истинности или ложности антецендента
истинность условного предложения требует
существования некоторой связи между его антецедентом и кон-
секвентом. Все эти споры не затрагивают обычного
понимания изъявительных условных предложений:
представление об употреблении таких предложений в
повседневном рассуждении не включает в себя какой-
либо концепции их условий истинности как отличных
от условий правильности условного утверждения.
Но если это верно в данном случае, то почему не во всех
случаях? Почему мы не можем довольствоваться более
фундаментальным понятием правильности
утверждения, не обращаясь к понятию истинности предложения
и связанным с ним различием между высказыванием
чего-то ложного и высказыванием чего-то
необоснованного?
Ответ, по крайней мере частично, заложен в
образовании сложносочиненных предложений. Это очень четко
выявляется в случаях с будущим временем. Если бы
использование нами будущего времени ограничивалось
только атомарными предложениями, то нельзя было бы
сказать, где пролегает граница между условиями
истинности таких предложений и основаниями их разумного
148
утверждения. У нас не было бы нужды в проведении
такого различия, для того чтобы понять утвердительное
высказывание в будущем времени. Действительно,
дело не только в том, что у нас не было бы оснований
отрицать, что условия, господствующие в момент
произнесения, включая намерения говорящего, являются
частью условий истинности данного предложения. Мы не
были бы вынуждены соглашаться с тем, что
последующие события, соответствующие тенденциям,
имевшимся в момент произнесения, оказывает какое-либо
непосредственное воздействие на истинность данного
предложения, ибо мы не обязаны рассматривать
последующее произнесение отрицания этого предложения или
его форму настоящего времени как противоречащее
исходному утверждению. Проводить различие между
истинностью предложения и правами говорящего на
его утверждение нас заставляет поведение предложения
в качестве составной части сложносочиненного
предложения, в частности при его использовании в качестве
антецедента условного предложения, а также при
использовании сложных временных форм, например
формы будущего в прошлом. При объяснении
употребления условных предложений изъявительного
наклонения мы не нуждаемся в понятии истинностного
значения условного предложения, отличного от
обстоятельств, дающих право на его произнесение, однако нам
нужно понятие истинности его антецедента.
Поведение предложений в форме будущего времени
в качестве составных частей сложносочиненных
предложений заставляет нас проводить различие между
условиями их истинности и условиями,
обосновывающими их утверждение, и, следовательно, позволяет
отличить подлинное будущее время, которое делает
предложения истинными или ложными в зависимости от
последовательно происходящих событий, от будущего
времени, выражающего тенденции настоящего, которое
делает предложения истинными или ложными в
зависимости от условий, имеющихся в момент произнесения.
Осознание условий истинности предложений,
содержащих подлинное будущее время, обусловлено также
использованием предложений с будущим временем для
осуществления лингвистических актов, отличных от
утверждения, например, команд, просьб и заключений
пари. Существование этих лингвистических актов зависит
от наличия определенных конвенциональных следствий,
появляющихся после их совершения, следствий,
определяемых исключительно содержанием предложения,
149
использованного при совершении лингвистических
актов; понимание действия, связанного с предложением,
в этих случаях само по себе обеспечивает базис для
разделения оснований, позволяющих говорящему
произнести это предложение, и содержание самого
предложения. Таким образом, хотя понятие истины
возникает в связи с осуществлением утверждений, отделить его
от более общего понятия правильности утверждений
нам помогает понимание определенных типов
высказываний, лишенных утвердительного действия. Это не
означает, что понятие истины можно
удовлетворительно объяснить только в терминах команд, пари и т.п.
Поведение некоторой формы предложений с одним
типом действия может резко отличаться от поведения
этой формы с другим типом действия: интерпретация
условных приказаний и пари ничего не дает для
объяснения условных утверждений; дизъюнктивные вопросы
ведут себя совершенно не так, как дизъюнктивные
утверждения. До тех пор пока у нас нет оснований для
обращения к понятию условий истинности
утвердительных предложений в будущем времени, которое
совпадает с понятием условий истинности для команд,
относящихся к будущему, мы не имеем права
переносить это понятие из одного контекста в другой.
Таким образом, в понятие истины с самого начала
включена противоположность между семантическими и
прагматическими аспектами утверждения. Истина есть
объективное свойство того, что высказывает
говорящий, которое не зависит от его знаний, от его
оснований или мотивов произнесения. Естественно, такое
различие возникает сразу же, как только говорящий
овладел языком настолько, что получил возможность
делать ошибочные утверждения, причем ошибка не
обусловлена неверным пониманием языка. Однако эта
противоположность становится гораздо более резкой в
силу необходимости проводить различие между
неспособностью сказать, что истинно, и неспособностью
сказать, что оправданно.
Объяснить, почему для семантических целей нам
нужно понятие истины, еще не значит объяснить, как
нужно применять это понятие. Из сказанного выше
ясно, что в процессе усвоения языка мы неявно
обращаемся к понятию истинности предложений, обучаясь
строить сложные предложения и осуществлять
утверждения с их помощью, и что этот процесс облегчается
одновременно появляющимся умением пользоваться
определенными предложениями, лишенными утверди-
150
тельного действия. Усвоенное таким неявным образом
понятие истины должно быть способно в свою очередь
привести к формированию более фундаментального
понятия правильности утверждения. Это означает, что,
какие бы другие условия, помимо истинности
предложения, ни требовались для того, чтобы оправдать
утверждение, их следует объяснять как условия, дающие
говорящему разумные основания предполагать, что
предложение выполняет условия своей истинности. Если бы
дело обстояло иначе, мы не могли бы считать, что
содержание предложения детерминировано условиями
его истинности. Это не означает, что мы отрицаем
наличие в утверждении конвенционального элемента.
Например, делом соглашения является то, что
математическое утверждение содержит в себе претензию на то,
что его доказательство известно (хотя и необязательно
говорящему); наше понимание самих математических
суждений не претерпело бы никакого изменения, если
бы практической нормой стало утверждение таких
суждений на основе лишь правдоподобных ( в смысле
Пойя) рассуждений. Однако от понятия истины, т.е. от
условий истинности любого предложения, требуется,
чтобы все то, что передается утверждением этого
предложения сверх условий его истинности, например
существование доказательства для математических
утверждений, могло быть представлено в качестве
основы для того, чтобы считать его истинным (или как
в случае принципов Грайса, основы для произнесения
именно такого предложения, а не более простого и
строгого): для утверждений различных видов на долю
конвенции остается лишь одно — установить,
насколько строгими должны быть основания, чтобы
утверждение было оправданным.
Однако все это никак не помогает нам разрешить то
затруднение теории значения, опирающейся на понятие
истины, которое обусловлено тем фактом, что наших
возможностей недостаточно для установления
истинности многих предложений языка. В этом отношении
поучителен случай предложений с будущим временем.
Условия истинности, которые мы вынуждены
связывать с этими предложениями для описания их
поведения в сложных предложениях, таковы, что говорящий не
может с достоверностью обосновать истинность такого
предложения в момент его произнесения, и именно это
заставляет нас проводить самое резкое различие между
условиями истинности некоторого предложения и
условиями, дающими говорящему право высказать утверж-
151
дение. Но до тех пор, пока мы рассматриваем
предложения с будущим временем, которые при
выражении в настоящем времени остаются разрешимыми, мы
продолжаем заниматься условиями истинности, знание
которых может быть проявлено говорящим
непосредственно, ибо в следующий после высказывания период
времени он может обнаружить осознание того факта,
выполнены или не выполнены условия истинности
произнесенного предложения. Мы по-прежнему
нисколько не приблизились к объяснению содержания
приписывания говорящему знания условий истинности
предложения в тех случаях, когда эти условия не
таковы, что их можно непосредственно распознать в
любых обстоятельствах.
III
Для того чтобы обрести ясность в вопросе о том,
что же содержится в признании истинным некоторого
утверждения, нужно попытаться начать с самого начала
и рассмотреть следующий принцип: если утверждение
истинно, должно существовать нечто такое, благодаря
чему оно истинно. Этот принцип лежит в основе
попыток философски объяснить истину как соответствие
между утверждением и некоторым фрагментом
реальности. Я буду называть его принципом С. Принцип С
несомненно включен в наше понятие истины, однако он
не может быть применен непосредственно. Данный
принцип носит, скорее, регулятивный характер, т.е. он
не говорит о том, что сначала мы определяем, что
именно существует в мире, а затем решаем, что нужно
для того, чтобы сделать истинным каждое данное
утверждение. Лучше сказать, что сначала мы
устанавливаем подходящее понятие истины для утверждений
различных типов, а затем из этого делаем вывод о
строении реальности.
В силу своей регулятивности принцип С на первый
взгляд может показаться бессодержательным. Его
силу мы начинаем ощущать лишь в тех случаях, когда
сталкиваемся с нарушениями этого принципа. Наиболее
очевидный пример такого нарушения дает условное
контрфактическое предложение, которое считается
истинным, хотя не существует ничего такого, что мы
могли принять в качестве основы его истинности. Сюда
относятся, в частности, контрфактические предложения,
которые одна из школ теологов считает объектами
152
Scientia media Бога, относящимися к поведению
существ, которые обладали бы свободой воли, если бы
они были созданы, и которых на основании этого Бог
решил не создавать. Большинство людей испытывают
сильный протест против такой концепции на том
основании, что в подобных случаях нет ничего, что могло
бы сделать контрфактическое предложение истинным.
Это возражение опирается на тезис, что
контрфактическое предложение не может быть, как я буду говорить,
просто истинным, т.е. что контрфактическое
предложение не может быть истинным, если не существует
некоторого утверждения, не включающего в себя
условного предложения в сослагательном наклонении,
истинность которого делает истинным
контрфактическое предложение. Иными словами, для любого
истинного контрфактического предложения должен
существовать нетривиальный ответ на вопрос: "Что делает его
истинным?"
Здесь принцип С уже дает существенную
информацию, однако лишь потому, что соединяется с более
конкретным тезисом о том, что контрфактическое
предложение не может быть просто истинным. В общем,
мы можем что-то узнать благодаря применению
принципа С к утверждениям конкретного типа только в том
случае, если мы заранее приняли некоторое решение
относительно того вида объектов, благодаря которым
утверждения данного типа могут быть истинны. В
частности, это требует основания для определения того,
утверждения каких типов могут быть просто
истинными, а каких —- не могут быть просто истинными.
Однако даже в случае с контрфактическими
предложениями мы не можем получить четкого вывода до тех
пор, пока не узнаем, какие утверждения следует
считать содержащими условные сослагательные
предложения.
Излагаемые сейчас соображения смыкаются с
предшествующим анализом именно потому, что, как было
отмечено ранее, форма условного сослагательного
предложения является одной из тех операций, которые
позволяют нам строить неразрешимые эффективно
предложения. Почему кто-то должен считать, что
контрфактическое предложение может быть просто
истинным? Единственным возможным основанием может
быть лишь его предположение о том, что в силу
логической необходимости некоторое контрфактическое
предложение или противоположное ему должно быть
истинным (для некоторого условного предложения
153
противоположным является условное предложение с
одинаковым антецедентом, но противоположным кон-
секвентом), однако он не считает, что необходимо
существует какое-либо основание для истинности
одного из этих предложений, такое основание, на которое
мы обычно опираемся при утверждении подобных
контрфактических предложений. Но ведь никто не мог
бы разумно считать логической необходимостью то, что
для любой пары условных контрфактических
предложений одно из них должно быть истинным, однако
мы весьма склонны принимать такое допущение в
отношении некоторых таких пар. Причина заключается
в том, что мы легко отождествляем истинность
определенных утверждений, не содержащих открыто
условных сослагательных предложений, с истинностью
определенных сослагательных предложений, а ложность
первых — с истинностью противоположных условных
сослагательных предложений. Если же, далее, мы
принимаем принцип двузначности для утверждений
первого вида, то мы вынуждены соглашаться с тем,
что для любого условного сослагательного
предложения, соответствующего такому утверждению,
либо оно само, либо противоположное ему
предложение должно быть истинно.
Ясным примером утверждений, именно так
связанных с условными предложениями, являются
утверждения, приписывающие людям некоторые способности.
Утверждение типа "X способен к изучению языков"
обычно проверяется наблюдением за тем, насколько
быстро субъект овладевает иностранным языком. Если
же теперь мы рассмотрим утверждение, относящееся к
субъекту, который никогда не имел никаких
контактов с языками, за исключением родного языка, то мы
сталкиваемся с тремя возможными позициями по
отношению к вопросу: "Должно ли это утверждение быть
истинным или ложным?"
(1) Ответ не обязательно должен быть
утвердительным; вовсе не обязательно должен существовать
определенный ответ на вопрос о том, как быстро изучил бы
этот индивид иностранный язык, если бы однажды
занялся этим.
(2) Лингвистические способности должны быть
связаны с некоторой особенностью структуры мозга,
которая в настоящее время нам еще не известна; мозг
данного индивида либо обладает этой особенностью,
либо не обладает ею; следовательно, данное
утверждение должно быть либо истинным, либо ложным, не-
154
зависимо от того, узнаем мы когда-либо об этом или нет.
(3) Лингвистические способности не обязательно
связаны с какими-либо физиологическими
особенностями, тем не менее каждый отдельный человек
обладает ими или нет; следовательно, данное утверждение
должно быть либо истинным, либо ложным.
То обстоятельство, что истинность утверждения
"X способен к изучению языков" зависит от
истинности утверждения "Если бы X попытался изучить какой-
либо язык, то он быстро добился бы успеха", а его
ложность — от истинности противоположного условного
предложения, не является предметом спора между
сторонниками указанных трех позиций: оно должно
быть несомненным для всякого, кто понимает
выражение "способен к изучению языков". Поэтому вопрос
о том, необходимо ли, чтобы одно из двух
противоположных условных сослагательных предложений было
истинным, совпадает с вопросом о том, справедлив ли
принцип двузначности для явно категорического
утверждения "X способен к изучению языков".
Сторонник позиции (3), признающий, что нет никакой
необходимости, чтобы в ситуации, когда антецедент
условного предложения остается невыполненным, мы могли
при достаточном знании распознать истинность самого
условного предложения или противоположного ему,
тем самым допускает, что одно из этих предложений
может быть просто истинным. Сторонник позиции (2)
ощущает обязанность защищать принцип двузначности
для категорических утверждений, однако поскольку
мысль о том, что условное контрфактическое
предложение может быть просто истинным, кажется ему
неприемлемой, постольку он признает необходимым, чтобы
истинность или ложность утверждения,
приписывающего некоторую способность данному индивиду,
зависела от истинности или ложности утверждения
другого типа, в частности, утверждения о физиологии.
Сторонник позиции (1) разделяет с защитниками
позиции (3) то убеждение, что нет необходимости,
позволяющей нам квалифицировать категорическое
утверждение как истинное или ложное, как бы много мы ни
знали; однако поскольку вместе с защитниками
позиции (2) он не хочет признавать возможность чисто
истинных контрфактаческих предложений, постольку
он решает дилемму, просто отвергая принцип
двузначности.
Конечно, тот, кто поддерживает позицию (3), не
обязан соглашаться с тем, что условное контрфактичес-
155
кое предложение может быть просто истинным. Он
может отвергнуть это и заявить то, что делает утверждение
"Если бы X попытался изучить некоторый язык, то он
быстро добился бы успеха" истинным (если, конечно,
то, что оно истинно, есть истинность утверждения "X
способен к изучению языков"). Если такое заявление
можно квалифицировать как отрицание того, что
контрфактическое предложение способно быть просто
истинным, то он должен считать, что утверждения типа
"X способен к изучению языков" не связаны с
условными сослагательными предложениями. Однако все это
довольно бессодержательно, ибо тезис о том, что
контрфактические предложения подобного рода не могут
быть просто истинными, сводится к тривиальности:
предметом спора вряд ли является тот факт, что мы
действительно обучаемся применять предикаты типа
"способен к изучению языков" к тем, кто уже
получает результаты определенным образом при
соответствующих обстоятельствах, или к тем, кто, как мы
имеем основания полагать, добился бы успехов при
соответствующих обстоятельствах, так что это
важнейший пример выражения, вводимого посредством
условного (сослагательного) предложения.
Следовательно, он должен согласиться с тем, что предложение "X
способен к изучению языков "действительно
предполагает условное сослагательное предложение "Если быХ
попытался выучить язык, то он быстро добился бы
успеха" в том смысле, что мы понимаем первое
благодаря второму и что любое основание истинности одного
из них является основанием истинности другого. Однако
он может также возразить, что отсюда еще вовсе не
следует, что категорическое предложение сводится к
условному сослагательному предложению и что критерий
того, что условное контрфактическое предложение
является просто истинным, должен заключаться в том,
что не существует никакого утверждения, истинность
которого делает истинным контрфактическое
предложение и которое само действительно не сводится к
условному сослагательному предложению. Основание
для отрицания того, что предложение "X способен к
изучению языков" сводится к соответствующему
условному сослагательному предложению, т.е. что
значение одного в точности равно значению другого, для
него состоит только в том, что предложение "X способен
к изучению языков" может быть, с его точки зрения,
просто истинным, в то время как условное
сослагательное предложение не может быть просто истинным. В
156
общем, для любой случайной пары противоположных
условных сослагательных предложений мы не можем
предполагать, что одно из них должно быть истинным,
однако относительно некоторых пар таких
предложений мы принимаем такое допущение и поступаем так
потому, что рассматриваем их как отражение
устойчивой черты реальности, которой мы не можем наблюдать
непосредственно. Допуская переход от условного
предложения к категорическому, мы выражаем, с его
точки зрения, именно это убеждение. Вот почему
форма категорического предложения не просто
сводится к форме условного предложения: она
воплощает в себе допущение о том, что способность человека
к изучению языка отображает некоторое устойчивое,
но ненаблюдаемое непосредственно условие.
Категорическую форму предложения можно правильно понять
только в том случае, если видеть в ней воплощение
такого допущения — допущения, на которое не опирается
употребление условной формы предложения.
Этот вариант позиции (3) нельзя отбросить в
сторону как попытку с помощью простой игры слов
выхолостить содержание тезиса о том, что условное
сослагательное предложение не может быть просто
истинным, одновременно соглашаясь с этим тезисом.
Напротив, он проводит различие между теми случаями, в
которых применение данного тезиса заставляет нас
признавать, что ни одно из двух противоположных
контрфактических предложений не может быть истинным, и
случаями, в которых при сохранении принципа
двузначности для определенных категорических
утверждений мы не обязаны делать такую уступку. Правда, он не
указывает никакого принципа, согласно которому
можно провести разграничение этих двух случаев,
апеллируя к нашей обычной языковой практике.
Следовательно, он не дает никакого оправдания этой
практике. Нельзя отрицать, что мы обязаны проводить
различие такого рода, ибо в нашем языке область
выражений, вводимых посредством тех или иных
условных предложений, громадна. Она включает в себя
каждый термин, обозначающий свойство, обладание
которым устанавливается проверкой, или количество,
степень которого устанавливается измерением. Некоторо-
рые из этих проверок и измерительных процедур мы
интерпретируем как раскрытие положений дел,
существующих до и независимо от проверок и измерений.
И в дальнейшем мы принимаем допущение о том, что
предложение, приписывающее чему-то некоторое свой-
157
кое предложение может быть просто истинным. Он
может отвергнуть это и заявить то, что делает утверждение
"Если бы X попытался изучить некоторый язык, то он
быстро добился бы успеха" истинным (если, конечно,
то, что оно истинно, есть истинность утверждения "AT
способен к изучению языков"). Если такое заявление
можно квалифицировать как отрицание того, что
контрфактическое предложение способно быть просто
истинным, то он должен считать, что утверждения типа
"X способен к изучению языков" не связаны с
условными сослагательными предложениями. Однако все это
довольно бессодержательно, ибо тезис о том, что
контрфактические предложения подобного рода не могут
быть просто истинными, сводится к тривиальности:
предметом спора вряд ли является тот факт, что мы
действительно обучаемся применять предикаты типа
"способен к изучению языков" к тем, кто уже
получает результаты определенным образом при
соответствующих обстоятельствах, или к тем, кто, как мы
имеем основания полагать, добился бы успехов при
соответствующих обстоятельствах, так что это
важнейший пример выражения, вводимого посредством
условного (сослагательного) предложения.
Следовательно, он должен согласиться с тем, что предложение "X
способен к изучению языков "действительно
предполагает условное сослагательное предложение "Если быХ
попытался выучить язык, то он быстро добился бы
успеха" в том смысле, что мы понимаем первое
благодаря второму и что любое основание истинности одного
из них является основанием истинности другого. Однако
он может также возразить, что отсюда еще вовсе не
следует, что категорическое предложение сводится к
условному сослагательному предложению и что критерий
того, что условное контрфактическое предложение
является просто истинным, должен заключаться в том,
что не существует никакого утверждения, истинность
которого делает истинным контрфактическое
предложение и которое само действительно не сводится к
условному сослагательному предложению. Основание
для отрицания того, что предложение "X способен к
изучению языков" сводится к соответствующему
условному сослагательному предложению, т.е. что
значение одного в точности равно значению другого, для
него состоит только в том, что предложение "X способен
к изучению языков" может быть, с его точки зрения,
просто истинным, в то время как условное
сослагательное предложение не может быть просто истинным. В
156
общем, для любой случайной пары противоположных
условных сослагательных предложений мы не можем
предполагать, что одно из них должно быть истинным,
однако относительно некоторых пар таких
предложений мы принимаем такое допущение и поступаем так
потому, что рассматриваем их как отражение
устойчивой черты реальности, которой мы не можем наблюдать
непосредственно. Допуская переход от условного
предложения к категорическому, мы выражаем, с его
точки зрения, именно это убеждение. Вот почему
форма категорического предложения не просто
сводится к форме условного предложения: она
воплощает в себе допущение о том, что способность человека
к изучению языка отображает некоторое устойчивое,
но ненаблюдаемое непосредственно условие.
Категорическую форму предложения можно правильно понять
только в том случае, если видеть в ней воплощение
такого допущения — допущения, на которое не опирается
употребление условной формы предложения.
Этот вариант позиции (3) нельзя отбросить в
сторону как попытку с помощью простой игры слов
выхолостить содержание тезиса о том, что условное
сослагательное предложение не может быть просто
истинным, одновременно соглашаясь с этим тезисом.
Напротив, он проводит различие между теми случаями, в
которых применение данного тезиса заставляет нас
признавать, что ни одно из двух противоположных
контрфактических предложений не может быть истинным, и
случаями, в которых при сохранении принципа
двузначности для определенных категорических
утверждений мы не обязаны делать такую уступку. Правда, он не
указывает никакого принципа, согласно которому
можно провести разграничение этих двух случаев,
апеллируя к нашей обычной языковой практике.
Следовательно, он не дает никакого оправдания этой
практике. Нельзя отрицать, что мы обязаны проводить
различие такого рода, ибо в нашем языке область
выражений, вводимых посредством тех или иных
условных предложений, громадна. Она включает в себя
каждый термин, обозначающий свойство, обладание
которым устанавливается проверкой, или количество,
степень которого устанавливается измерением. Некоторо-
рые из этих проверок и измерительных процедур мы
интерпретируем как раскрытие положений дел,
существующих до и независимо от проверок и измерений.
И в дальнейшем мы принимаем допущение о том, что
предложение, приписывающее чему-то некоторое свой-
157
ство или определенную степень количества, с
определенностью истинно или ложно независимо от того, были
ли осуществлены проверки и измерения или могут ли
они быть осуществлены.
Принимая такое допущение, мы встаем на
реалистическую позицию по отношению к осуждаемым
свойствам и величинам. И теперь становится ясно, каким
образом понятие истины, которое, как мы считаем,
управляет нашими утверждениями, детерминирует через
принцип С наш взгляд на структуру реальности.
Действительно, мы можем охарактеризовать реализм
относительно данного класса утверждений как
предположение о том, что каждое утверждение этого класса
определенно либо истинно, либо ложно1. Таким
образом, позиции (2) и (3) равнозначны различным
вариантам реалистического истолкования утверждений о
человеческих способностях, в то время как позиция (1)
представляет собой отрицание реалистической
интерпретации этих утверждений. Однако позиция (1)
является редукционистской: соглашаясь с тем, что любое
утверждение, приписывающее определенную
способность отдельному индивиду, должно быть определенно
истинным или ложным, ее сторонники заключают
отсюда, что должен существовать некоторый
физиологический факт, делающий его истинным или ложным.
Конечно, редукционизм не обязательно принимает
свою крайнюю форму, утверждающую переводимость
утверждений одного класса в утверждения иного клас-
Это включает в себя принцип двузначности для
утверждений данного класса, но несколько превосходит его по
содержанию, ибо слово "определенно" включено сюда не для
риторического эффекта. Данная формулировка охватывает также тот
семантический принцип, который связан с законом
дистрибутивности так, как принцип двузначности связан с законом
исключенного третьего. Назовем его принципом рассечения. Из
принципа двузначности нам известно, что в отношении отдельного
утверждения А имеются лишь две возможности: А истинно или
А ложно. Однако нам нужен также принцип рассечения, если мы
хотим сделать вывод о том, что в отношении двух утверждений
А и В имеются лишь четыре возможности:А и В оба истинны;
А истинно и В ложно; А ложно и В истинно; А и В оба ложны.
Этим соображением я обязан X. Патнему, хотя, как мне
представляется, он не согласился бы с тем, что для реалистической
интерпретации требуется допущение либо принципа двузначности,
либо принципа рассечения. Однако для целей настоящего
обсуждения мы можем приблизительно отождествлять реализм
относительно некоторого класса утверждений с признанием
принципа двузначности для утверждений этого класса.
158
са. Главным образом его интересуют те вещи, которые
делают истинными утверждения данного класса. Тезис,
согласно которому утверждения классам в этом
смысле редуцируемы к утверждениям другого класса R,
принимает общую форму утверждения о том, что для
любого утверждения А из М существует некоторое
семейство А множеств утверждений класса R, такое,
что для истинности А необходимо и достаточно, чтобы
все утверждения некоторого множества,
принадлежащего А, были истинны. Перевод гарантирован только в
том случае, если само А и все множества, которые оно
содержит, являются конечными. При этом мы можем
сказать, что любое утверждение из М истинно в силу
истинности определенного, возможно бесконечного,
количества утверждений класса R.
Вооружившись этим понятием редуцируемости, мы
можем теперь в общем виде сказать, что некоторое
утверждение является просто истинным, если оно
истинно, но не существует такого класса утверждений,
который не содержит его или его тривиальные
варианты и к которому может быть редуцирован любой
класс, содержащий это утверждение. В то время как
позиция (2) представляет собой редукционистскую
форму реализма относительно человеческих
способностей, позиция (3) выражает наивный реализм
относительно этих способностей: наивный реализм
относительно утверждений некоторого класса Д состоит в
соединении реалистической позиции по отношению к
этому классу с тезисом о том, что утверждения этого
класса могут быть просто истинными, т.е. что не
существует такого класса утверждений, к которому они
могут быть редуцированы. Это равнозначно заявлению
о том, что мы не можем ожидать нетривиального ответа
на вопрос: "Благодаря чему утверждение класса Д
истинно, когда оно истинно?" Наше понимание
строения реальности — наша метафизическая позиция —
частично определяется тем, по отношению к каким
классам утверждений мы занимаем реалистическую
позицию, т.е. принимаем принцип двузначности, а
частично тем, какие из этих утверждений мы считаем
способными быть просто истинными.
Теперь мы находимся в более выгодном положении
для понимания того, что же включено в приписывание
говорящему знания условий истинности некоторого
предложения. Если некоторое предложение S таково,
что утверждения, врзникающие посредством его
произнесения, не могут быть просто истинными, то будет
159
существовать класс R таких утверждений, что
произнесение предложения S может быть истинным только
в том случае, если все утверждения некоторого
подходящего подмножества R истинны. И понимание
условий истинности S будет состоять в неявном понимании
того способа, которым истинность этого предложения
зависит от истинности утверждений из R. Вполне
возможно, что эта зависимость может быть реально
выражена в самой теории истины таким образом, что если
мы рассматриваем формулировку этой теории в
метаязыке, представляющем собой расширение объектного
языка, то Т-предложение для S будет нетривиальным,
т.е. не будет содержать само S в своей правой части.
Однако может случиться и так, что трудности (если
таковые имеются) реального перевода S в объектном
языке помешают также и построению такого
нетривиального Т-предложения. В этом случае теория смысла,
объясняющая, из чего складывается понимание говорящим
суждений теории истины, прояснит отношение между S
и классом R. В любом случае представление о понимании
условий истинности не представляет собой проблемы.
Иначе дело обстоит в том случае, когда S понимают
как предложение, используемое для утверждений,
способных быть просто истинными. В этом случае
соответствующее Т-предложение может иметь лишь
тривиальную форму. Поэтому объяснение того, что
значит для говорящего знать условия истинности S,
должно целиком войти в теорию смысла. В случае
предложения, способного быть просто истинным,
нашей моделью такого знания является способность
использовать предложение для отчета о наблюдении. Так,
если кто-то, взглянув, способен сказать, что одно
дерево выше другого, то он знает, что значит для одного
дерева быть выше другого дерева, следовательно, он
знает, какое условие должно быть выполнено для того,
чтобы предложение "Это дерево выше другого дерева"
было истинным.
Понятие отчета о наблюдении довольно
расплывчато. Не вдаваясь во все те проблемы, встающие при
попытках сделать его более точным, мы здесь выделим
лишь те случаи, в которых способность использовать
некоторое данное предложение для отчета о
наблюдении может разумно рассматриваться как знание о том,
как должны обстоять дела, для того чтобы это
предложение было истинным. Следует помнить о том, что этот
критерий предназначен для применения лишь в тех
случаях, когда мы имеем дело с предложением, для кото-
160
рого у нас нет нетривиального способа сказать, что
должно быть, чтобы оно было истинно. Требуются,
видимо, следующие условия. Во-первых, отчет о
наблюдении не должен опираться на какой-либо посторонний
вывод (не должен представлять собой "заключение
свидетеля"), как, например, в утверждении "Я вижу,
что Смит забыл отменить свою подписку на газеты '.
Во-вторых, в каждом случае, когда предложение
истинно, необходимо, чтобы было возможно наблюдать, что
оно истинно. И в-третьих, наблюдение того, что
предложение истинно, не должно включать в себя операций,
изменяющих ту ситуацию, на которую ссылается
предложение. Последнее условие явлется наиболее
щекотливым. Я не уверен, существует ли здесь какой-либо
точный интуитивный принцип, не говоря уже о том,
правильно ли я его сформулировал. Однако этот пункт
можно проиллюстрировать нашим примером,
относящимся к человеческим способностям. Повседневные
рассуждения, несомненно, разрешают использование
предложений типа "Я видел, что он способен к
изучению языков". Однако если мы принимаем наивно
реалистическое истолкование предложений,
приписывающих способности отдельным людям, то
возможность наблюдать проявления таких способностей мы
вряд ли будем считать достаточной гарантией того, что
у нас есть знание о том, что делает предложение
истинным. Если каждый индивид, несомненно, обладает либо
не обладает какой-либо данной способностью
независимо от того, была ли у него когда-либо возможность
проявить наличие или отсутствие этой способности, то
обладание такой способностью не может состоять в ее
проявлениях. Она не может состоять даже в том, что
делает истинным соответствующее условное
сослагательное предложение, когда последнее считается
понятным до употребления словаря постоянных
способностей, так как в противном случае индивид мог бы
и обладать и не обладать данной способностью. В
конкретном случае, по-видимому, только обладание
способностью делает истинным соответствующее
условное сослагательное предложение, если нет ничего
другого, что показало бы истинность условного
предложения и, следовательно, наличие способности.
Поэтому при наивно реалистическом истолковании
человеческих способностей мы не можем
рассматривать наблюдение того, что некто быстро усваивает
язык, как наблюдение самой опособности, а только как
наблюдение ее проявления, из которого можно вывести
6-567
161
обладание ею. Сама же способность должна
рассматривать как нечто непосредственно ненаблюдаемое. Теперь
можно сказать, что второго из наших двух принципов
достаточно для получения этого результата, так как
если речь идет о человеке, который всю свою жизнь
прожил в одноязычном сообществе, то в принципе
невозможно наблюдать, обладает он или нет
лингвистическими способностями. Такая же трудность стояла бы
перед наблюдателем в период, предшествовавший
возведению Вавилонской башни. Однако все это
выглядит как апелляция к особым чертам нашего
конкретного примера. Более важным представляется тот
факт, что если проверяют лингвистические способности
некоторого индивида, создавая у него стимул и
предоставляя ему возможность изучить иностранный язык, а
затем наблюдая, что из этого получается, то в этом случае
материально изменяют саму ситуацию. Именно по этой
причине нам не следует спешить с утверждением о том,
что понимание того, как осуществить проверку,
равнозначно знанию о том, что представляет собой обладание
лингвистической способностью, хотя она никогда не
была использована. Нужно проявить сдержанность,
если речь идет в контексте наивно реалистического
истолкования человеческих способностей. Третье
требование, при всей несомненной
неудовлетворительности его формулировки, было включено нами выше
именно для оправдания такой сдержанности. Этот
случай следует сопоставить с наблюдением, скажем,
внешней формы. Хотя, как хорошо известно,
некоторые философы потерпели, поражение на этом пути,
было бы, видимо, совершенно неразумно отрицать,
что тот, кто на основании осмотра или ощупывания
способен сказать, является ли палка прямой или нет,
знает, что значит для палки быть прямой, на том лишь
основании, что при этом не показано его знание
прямизны для палки, которую никто не видел и не трогал.
Как мне представляется, лучший способ объяснить
интуитивное различие между этими двумя видами
случаев состоит в утверждении, что рассматривание или
ощупывание палки не изменяет ее. В самом деле речь
идет не о том, что изменение, привносимое проверкой,
затрагивает проверяемое свойство: проверяя
лингвистические способности некоторого индивида, мы
намереваемся установить ту степень этих способностей,
которой он обладает независимо от проверки; это не
единственный случай, когда проверка влияет на
рассматриваемое свойство. С некоторой долей справедли-
162
вости можно сказать, что вопрос о том, какие
процедуры наблюдения считать вносящими изменения в объект,
опять-таки относится к сфере метафизического
решения и выходит за пределы нашего анализа.
С другой стороны, мы вполне законно можем
расширить понятие отчета о наблюдении так, чтобы оно
включало в себя утверждения, опирающиеся на
совершение операций, аналогичных счету, которые не
воздействуют на наблюдаемый объект, а служат лишь для
внесения порядка в наблюдения. Утверждения о
числовой величине можно отнести к предложениям,
условия истинности которых устанавливаются
информативно. Однако утверждения о равенстве числовых
величин можно считать такими утверждениями, знание
условий истинности которых состоит в способности
сообщить о результате не пассивного наблюдения, а
наблюдения, сопровождаемого интеллектуальной
операцией. Предложения, выражающие результаты
измерений или наблюдений с помощью инструментов,
образуют промежуточный случай или, скорее, целый
спектр промежуточных случаев, приближающихся к
регистрации результатов тех проверок, которые мы
пытались исключить. Я не знаю, как провести между
ними четкую границу и можно ли ее провести вообще.
Однако мне вовсе не обязательно это делать, ибо я не
верю, что в конечном итоге можно отстоять концепцию
значения как условий истинности. Единственное, в чем
я уверен, так это в том, что у нас имеется две
фундаментальные модели для описания того, что значит знать
условия истинности предложения. Одна модель — это
явное знание, т.е. способность сформулировать эти
условия. Эта модель, как мы видели, не вызывает
сомнений и действительно нужна нам во многих
случаях. Однако мы также видели, что этой моделью
нельзя пользоваться, если мы хотим, чтобы
представление об условиях истинности служило в качестве
общей формы объяснения знания о значении. Другой
моделью является способность наблюдать, истинно
предложение или нет. Это понятие можно законным
способом расширить. Неважно, можем ли мы точно
установить, как далеко его можно расширить.
Существенно то, что его нельзя расширить в той степени,
которая нам нужна.
Ранее было указано на то, что понятие понимания
условий истинности становится проблематичным
только тогда, когда оно применяется к принципиально
неразрешимым предложениям. Этот подход на самом де-
6*
163
ле более плодотворен, чем только что проведенное
обсуждение, ибо он снабжает говорящего пониманием
условий истинности предложения во всех случаях,
когда существует некоторая проверка, которая в принципе
может быть проведена. Однако этот момент не столь
важен. Выше мы утверждали также, что имеется три
основные операции для образования предложений,
приводящие к построению неразрешимых предложений:
условные сослагательные предложения; использование
прошедшего времени (или вообще ссылка на
недоступные пространственно-временные области) и
квалификация по ненаблюдаемым или бесконечным
совокупностям. Заявление о том, что мы склонны обращаться
к использованию предложений наблюдения как к
некоторой модели знания условий истинности предложений,
теперь подкрепляется неявным, а иногда и открытым
обращением к этой модели в тех случаях, когда
рассматриваются предложения, связанные с
использованием перечисленных операций. Поскольку
обсуждаемые предложения в принципе неразрешимы,
постольку наблюдения, о которых мы думаем, не могут быть
осуществлены нами: это наблюдения существа с иной
пространственно-временной перспективой или такого
существа, интеллектуальные силы которого и
возможности наблюдения далеко превосходят наши силы и
возможности. Так, например, рассуждая об
умственных способностях, наивный реалист склонен
обращаться к представлению о мышлении как некой
нематериальной субстанции, о структуре которой мы можем
судить лишь косвенно, посредством вывода. Однако
она могла бы быть непосредственно наблюдаема для
существа, на которое духовная субстанция
воздействует так же, как воздействует на нас материальная
реальность. Мы склонны опять-таки считать, что
утверждения в прошедшем времени оказываются истинными
или ложными благодаря реальности, которая для нас
недоступна или доступна лишь отрывочно благодаря
памяти, но которая в некотором смысле все-таки
существует, ибо если бы от прошлого ничего не
оставалось, то не было бы ничего, что могло бы сделать
утверждение о прошлом истинным. Согласно
такому представлению, мы по большей части вынуждены
полагаться на вывод при обосновании наших
утверждений о прошлом, т.е. на косвенное свидетельство.
Однако наше знание о том, что в действительности делает
такие утверждения истинными или ложными, включает
в себя понимание того, что значит непосредственная
164
оценка их истинности. Способность к такой
непосредственной оценке означала бы способность наблюдать
прошлое так, как мы наблюдаем настоящее, т.е.
способность обозревать всю целостность реальности или по
крайней мере любое ее сечение во времени с позиции,
находящейся вне временной последовательности.
Наиболее известный пример такого способа мышления
связан с квантификацией в бесконечной области. Мы
приобретаем понимание квантификации в конечных,
обозримых областях, обучаясь осуществлять полный
обзор и обосновывать истинностное значение каждого
примера квалифицируемого утверждения.
Предположение о том, что полученное таким образом понимание
без каких-либо последующих объяснений может быть
распространено на квантификацию в бесконечных
областях, опирается на мысль о том, что трудности
практики мешают нам аналогичным образом
установить истинностные значения предложений, содержащих
такую квантификацию. А когда эта мысль
подвергается сомнению, ее защищают с помощью ссылки на
гипотетическое существо, которое могло бы
обозревать бесконечные области точно так же, как мы
обозреваем конечные. Так, например, Рассел говорил об
этом как о простой "медицинской невозможности".
Вот так мы пытаемся убедить себя, что наше
понимание истинности неразрешимых предложений
заключается в понимании того, как можно было
использовать такие предложения в качестве непосредственных
отчетов о наблюдениях. Сами мы не способны на это,
однако мы знаем, какими силами должен был бы
располагать сверхчеловек — гипотетическое существо, для
которого обсуждаемые предложения не были бы
неразрешимыми. И мы молчаливо предполагаем, что
наше понимание условий истинности таких предложений
заключается в представлении о тех силах, которыми
должен обладать наблюдатель-сверхчеловек, и о том,
каким способом он устанавливал бы истинностные
значения этих предложений. Эта цепочка рассуждений
связана со вторым регулятивным принципом,
управляющим понятием истины: если утверждение истинно,
то должна существовать принципиальная возможность
узнать это. Данный принцип тесно связан с первым
принципом: если бы в принципе было
невозможно узнать об истинности некоторого истинного
утверждения, то как могло бы существовать то, что делает
это утверждение истинным? Этот второй принцип я
буду называть принципом К. Его применение в значитель-
165
ной степени зависит от истолкования выражения в
принципе возможно''. Тот, кто принимает
реалистическую позицию относительно любого проблематичного
класса утверждений, будет довольно широко
интерпретировать выражение "в принципе возможно". Он не
будет настаивать на том, что всегда, когда некоторое
утверждение истинно, для нас должно быть возможно,
хотя бы в принципе, знать об этом. Но это для нас —
существ с ограниченными интеллектуальными
способностями и возможностями наблюдения, с ограниченной
пространственно-временной точкой зрения. Для
существа же с большими способностями или с иной
пространственно-временной позицией это вполне возможно.
Однако даже самый последовательный реалист должен
признать, что мы вряд ли могли бы говорить о
понимании истинности некоторого утверждения, если бы у нас
не было никакого представления о том, как установить
его истинность. В этом случае у нашего представления
об условиях его истинности не было бы основы. Кроме
того, он должен признать далее, что было бы бесполезно
чисто тривиальным образом определять те
дополнительные способности, которыми должно обладать
гипотетическое существо, чтобы иметь возможность
непосредственно наблюдать истинность или ложность
утверждений некоторого данного класса. Мы не можем, напри-
мер,сказать, что существо, способное к
непосредственному постижению контрфактической реальности,
способно прямым наблюдением установить истинность
или ложность любого контрфактического
предложения, ибо выражение "непосредственное постижение
контрфактической реальности" не содержит никаких
указаний на то, в чем могли бы состоять такие
способности. Даже реалист согласится с тем, что описание
требуемых сверхчеловеческих способностей должно
всегда иметь ясную связь с нашими фактическими
способностями: должно быть их аналогом или
расширением. Именно по этой причине тезис о том, что
контрфактические предложения не могут быть просто
истинными, является столь распространенным, и в
результате мы не можем составить себе никакого
представления о том, на что может быть похожа
способность непосредственного восприятия
контрфактической реальности.
В изложенном выше подходе дан диагноз, а не
защита. Я полагаю, он дает точное психологическое
описание того, каким образом мы с такой готовностью
приходим к предположению об истинности для пред-
166
ложений, относящихся не к самым простым слоям
нашего языка: у нас есть знание о том, что означает их
истинность, однако оно не дает обоснования этого
предположения. Насколько я понимаю, нет никакого
альтернативного описания понимания условий
истинности таких предложений. Однако при оценке способа
использования таких предложений это описание
навязывает нам мысль о существе, совершенно непохожем
на нас, и при этом не дает никакого ответа на вопрос о
том, как мы приходим к приписыванию нашим
предложениям значения истинности, связанного с таким их
использованием, на которое мы не способны. Эта
трудность возникает перед любым объяснеинием
значения определенных выражений, сводящимся к
тому, что мы понимаем эти выражения по аналогии с
другими выражениями, к пониманию значений
которых мы приходим более прямым путем. Такой подход
неотличим от тезиса, утверждающего, что к
определенным предложениям мы относимся так, как если бы их
употребление было похоже на употребление других
предложений и именно в тех отношениях, в которых
они фактически различаются, т.е. что мы
систематически неправильно понимаем наш собственный язык.
IV
Как же выйти из этого тупика? Чтобы ответить на
данный вопрос, мы должны сначала выяснить, что нас
туда завело. Очевидный ответ заключается в том, что
все наши трудности обусловлены стремлением
приписать реалистическую интерпретацию всем
предложениям нашего языка, т.е. предположением о том, что
понятие истины применяется к утверждениям,
содержащим эти предложения, таким образом, что каждое
утверждение такого рода с определенностью истинно
или ложноу независимо от нашего знания или способов
познания. В отношении разрешимых утверждений
принцип двузначности приносит мало вреда или даже не
приносит его совсем, ибо мы можем, по
предположению, легко установить истинностное значение таких
утверждений. Когда же принцип двузначности
применяется к неразрешимым утверждениям, нам трудно
приравнять способность распознать, когда некоторое
утверждение было обосновано как истинное или
ложное, к знанию условий его истинности, поскольку оно
может быть истинным в тех случаях, когда у нас нет
167
средств установить его истинность, и ложным тогда,
когда мы не можем установить его ложность. Находясь
в таком положении, мы можем объяснить
приписывание говорящему знания условий истинности
утверждения только в том случае, когда это знание может быть
выражено в явной форме, т.е. когда условия
истинности можно информативно сформулировать, и
понимание данного утверждения можно представить как
способность сформулировать эти условия. Если же
дело обстоит иначе, то мы не в состоянии объяснить, в
чем же может заключаться неявное знание говорящим
условий истинности утверждения, ибо, по всей
видимости, его нельзя исчерпывающим образом объяснить в
терминах актуального использования предложения,
которое усвоил говорящий.
Если реалистическая позиция, которую мы
занимаем в отношении некоторого класса утверждений М,
носит редукционистский характер, то у нас имеется
возможность исследовать, справедлив ли принцип
двузначности для утверждений класса М. Должен существовать
класс R утверждений, к которым применяется
редукция, и проблема сравнительно легко разрешается,
если принята реалистическая точка зрения на сам класс
Д. Для любого утверждения А из М в этом случае либо
существует, либо не существует некоторое множество,
принадлежащее семейству множеств утверждений
класса R, все члены которого истинны, следовательно,
само А либо истинно, лиоо не истинно. Решение
вопроса о том, достаточно ли этого, чтобы гарантировать
принцип двузначности для класса М, будет зависеть от
нашей интерпретации понятия ложности в отношении
этого класса. Если мы интерпретируем понятие
"ложно" как означающее просто "неистинно", то принцип
двузначности будет тривиально верен. Однако гораздо
чаще понятие "ложно" мы склонны интерпретировать
так, что выражение "А ложно" равнозначно выражению
"Отрицание А истинно", в котором отрицание
утверждения рассматриваемого вида устанавливается с
помощью прямых синтаксических критериев. Если класс
М замкнут по отрицанию, то исследование, должно ли
каждое утверждение А класса М быть либо истинным,
либо ложным, сводится к решению вопроса о том,
всегда ли, если не существует множества,
принадлежащего к А, все члены которого истинны, будет
существовать некоторое множество, принадлежащее к не А, все
члены которого истинны; даже если ответ на последний
вопрос отрицателен, ситуация не ставит перед нами
168
проблем. Будут существовать утверждения М, не
являющиеся ни истинными, ни ложными, и, если операцию
отрицания мы хотим представить в качестве результата
применения подлинного пропозиционального оператора,
нам потребуется для утверждений класса М
многозначная семантика. Однако для построения такой
семантики нет никаких конкретных препятствий.
Трудности возникают в связи с таким классом М,
утверждения которого в принципе неразрешимы, и с
наивно реалистическим истолкованием этих утверждений:
мы принимаем принцип двузначности для членов Л/,
но в то же время не считаем, что существует какой-
либо нетривиальный способ определить, что же делает
истинным утверждение класса М, когда оно истинно.
В любом таком случае у нас нет средств для оправдания
принципа двузначности, за исключением отброшенной
выше концепции существа со сверхчеловеческими
способностями, для которого утверждения М разрешимы.
На самом деле может оказаться так, что признанная
лингвистическая практика верна в применении к таким
утверждениям и формам вывода, которые
справедливы в классической двузначной логике. И этот факт
приводит нас к предположению о том, что мы
действительно обладаем понятием истины, применимым к этим
утверждениям, согласно которому каждое
утверждение либо истинно, либо ложно. Однако простой
навык признания определенных форм вывода сам по себе
еще не может наделить нас таким понятием истины,
если только мы уже не обладали им раньше, или, по
крайней мере, если невозможно объяснить, не ссылаясь
на принимаемые нами формы вывода, что значит
обладать таким понятием. Оправдание классической
двузначной логики зависит от наличия у нас понятий
истинности и ложности, которые позволяют
предполагать, что каждое утверждение обладает одним из этих
истинностных значений; сама по себе она не может
породить этих понятий. Достаточно верно, что
классическую логику можно оправдать с помощью различных
семантик, в частности с помощью любой семантики, в
которой истинностные значения, независимо от того,
конечно или бесконечно их число, образуют булеву
алгебру. Однако это не особенно помогает, поскольку
использование любой семантики, опирающейся на
некоторый ряд истинностных значений, всегда
предполагает, что каждое утверждение обладает
определенным истинностным значением из этого ряда, а такое
предположение сталкивается с теми же трудностя-
169
ми, что и допущение о двузначности (которая
представляет собой просто частный случай).
Таким образом, невозможно построить
работающую теорию значения, применимую к предложениям
этого класса, если предварительно не отказаться от
принципа двузначности. Не сделав этого, мы будем
вынуждены приписать себе, как говорящим,
обладание понятием истины, которое в применении к этим
предложениям является трансцендентальным, т.е.
выходит за пределы любого знания, которое мы могли
бы проявить в реальном использовании языка,
поскольку условия истинности таких предложений в общем
таковы, что мы не способны установить, когда они
выполнены. Если мы отказываемся от предположения
о двузначности, то для этих предложений мы можем
построить семантику, не прибегающую к истинностным
значениям. Вполне возможно, хотя и не безусловно,
что в результате мы откажемся от классической логики
в отношении этих предложений. В той мере, в которой
наша обычная неосознанная практика считает все
классические формы вывода справедливыми для таких
предложений, это будет означать, что наша теория
значения больше не является простым описанием реальной
практики использования языка, а, напротив,
вынуждает нас пересмотреть эту практику, в частности
отвергнуть некоторые классически значимые формы
рассуждения. Однако это не может служить основанием для
того, чтобы с порога отбросить предлагаемую теорию
значения. Очевидно, что из двух жизнеспособных
теорий значения всегда предпочтительнее та, которая
оправдывает нашу реальную лингвистическую практику и
не требует ее пересмотра. Однако у нас нет оснований
заранее предполагать, что наш язык во всех
отношениях совершенен. Фреге считал, что многие особенности
естественного языка — наличие в нем неясных
выражений, предикатов, неопределенных для некоторых
аргументов, и возможность образования сингулярных
терминов, лишенных референции, — делают
невозможным создание для него стройной и непротиворечивой
семантики. Точно так же и Тарский утверждал, что
семантическая замкнутость естественного языка делает
его противоречивым. Такие воззрения могут
оказаться неверными, однако их нельзя отбросить как
абсурдные. Возможность того, что язык нуждается в
корректировке, что, в частности, конвенционально
признанные принципы вывода могут требовать переоценки,
неявно содержится уже в той мысли, что язык должен
170
поддаваться систематизации с помощью теории
значения, которая определяет использование каждого
предложения, исходя из его внутренней структуры, т.е. с
помощью атомарной или молекулярной теории
значения. Не может быть никаких гарантий, что сложный
комплекс лингвистических действий, который
сформировался в ходе исторической эволюции в ответ на
запросы практической коммуникации, будет
соответствовать какой-либо систематической теории.
В самом деле, это особенно очевидно, когда в
качестве ядра теории значения принимают определение
условий истинности предложений. Если такая теория
считается адекватной для языка, содержащего
условные контрфактические предложения, то условия
истинности, приписываемые этим контрфактическим
предложениям, должны позволить нам установить
содержание утверждения любого контрфактического
предложения. В языковой практике нам дано содержание
контрфактического утверждения, т.е. тот вид
оснований, который имеется у говорящего для такого
утверждения, и понимание слушателем того, что побуждает
говорящего высказывать такое утверждение. Какая бы
процедура ни была избрана для задания условий
истинности условного контрфактического предложения, она
должна согласоваться с этой практикой. Теория
действия — дополнительная часть теории значения, которая,
исходя из условий истинности некоторого предложения,
определяет содержание произнесения этого
предложения, наделенное утвердительным или каким-то иным
действием, — должна дать нам возможность из условий
истинности контрфактического предложения,
сформулированных теорией истины, выводить содержание
утверждения этого предложения. Предположим
теперь, что говорящие на естественном языке признают
в качестве верного принцип чередования
противоположных контрфактических предложений (выше мы
уже говорили, что его следует отбросить): все, что
следует из некоторого условного контрфактического
предложения и из противоположного ему
контрфактического предложения, признается истинным. Весьма
возможно, что условия истинности, установленные для
условных контрфактических предложений, не будут
оправдывать этот принцип, т.е. не будут приводить к
тому результату, что для любой пары
противоположных контрфактических предложений одно из них
должно быть истинно. Это возможно, если содержание
контрфактических утверждений в этом языке совпада-
171
ет с их содержанием в нашем языке. Возможно далее,
что существует некоторый способ исправить это и
оправдать признание говорящими на данном языке
принципа альтернативности противоположных
контрфактических предложений.
Иначе говоря, возможно, что существует способ
расширить условия истинности контрфактических
предложений таким образом, чтобы они стали истинными в
тех случаях, в которых при первоначальной
формулировке они не были истинными, и в конечном счете
обеспечить истинность одного из двух противоположных
контрфактических предложений, не ослабляя то
содержание контрфактических утверждений, которым они
обладали в реальной практике употребления языка.
Но более вероятно то, что такого способа нет: мы
должны прийти к выводу о том, что говорящие на данном
языке являются жертвами ошибки, состоящей в
допущении рассуждения, которое зависит от предположения
о том, что одно из каждой пары двух
контрфактических предложений должно быть истинно и что им
следует отказаться от таких форм аргументации. Мысль
Витгенштейна о том, что принятие любого принципа
вывода влияет на определение значений
соответствующих слов и что поэтому общепринятые формы вывода
неуязвимы для философской критики, поскольку
говорящие могут придавать словам какое угодно значение,
оказывается правомерной только в рамках
холистического взгляда на язык. Если язык должен допускать
систематизацию посредством атомистической или
молекулярной теории значения, то мы можем выбирать не
любую логику, а только ту, для которой возможно
построить семантику, которая согласуется также и с
другими видами использования, которым
подвергаются предложения нашего языка; принимая или отвергая
любую конкретную форму вывода, мы должны
учитывать значения логических констант, рассматривая эти
константы как заданные некоторым единообразным
способом (например, с помощью двузначных или
многозначных таблиц истинности).
Таким образом, мы оказываемся в таком
положении, что должны отказаться, по отношению к данным
классам утверждений, от принципа двузначности или
же любого аналогичного принципа многозначности.
Мы не можем поэтому использовать в качестве
репрезентации нашего понимания значения предложения
знание об условиях, при которых предложение обладает
независимо от нашего знания каким-то одним из двух
172
или любого большего числа истинностных значений.
Вместо этого нам придется построить такую семантику,
которая вообще не имеет в качестве своего основного
понятия понятие объективно определенного
истинностного значения.
Один хорошо известный прототип такой семантики
уже существует: интуиционистское описание значений
математических утверждений. Такое описание наиболее
легко понять прежде всего в применении к
утверждениям элементарной арифметики. В этом случае нет
никакой проблемы относительно значений
атомарных утверждений, а именно относительно числовых
уравнений, поскольку они разрешимы: понимание их
значений можно считать состоящим в знании
процедуры вычисления, которая позволяет установить их
истинность или ложность. Все различие между
классической, или платонистской, и интуиционистской
интерпретацией арифметических утверждений сводится,
следовательно, к способу, которым мы задаем значения
логических констант — пропозициональных операторов
и кванторов.
Теперь необходимо дать некоторые разъяснения о
том, как я обращался со словосочетанием "истинно
благодаря". Как было отмечено выше, истинное
утверждение просто истинно только в том случае, если нет
такого множества истинных утверждений, что ни одно из
этих утверждений не является тривиальным вариантом
первоначального утверждения, и истинность каждого
из них определяет исходное утверждение в качестве
истинного. Всякий раз, когда предложение просто
истинно, соответствующее ему в теории истины Т-пред-
ложение будет, в том случае, когда метаязык являтся
расширением объектного языка, тривиальной формой
Тарского, т.е. предложение справа от двусторонней
импликации будет тем же, что и предложение слева.
Когда же оно не является просто истинным, Г-предло-
жение может быть или не быть тривиальным, в
зависимости от возможностей метаязыка. Согласно данному
объяснению, ни конъюнктивное, ни дизъюнктивное,
универсальное или экзистенциальное утверждение не
может быть просто истинным. Конъюнктивное
утверждение, когда оно истинно, истинно благодаря
истинности обоих его конъюнктов. Дизъюнктивное
утверждение, когда оно истинно, истинно благодаря
истинности одного из своих дизъюнктов; мы должны
допустить, что данное утверждение истинно в силу
истинности одного из двух или более дизъюнктов. Истинное
173
универсальное утверждение истинно благодаря
истинности всех своих конкретизации, а истинное
экзистенциальное утверждение истинно благодаря истинности
какой-либо одной из своих конкретизации. Такой
способ рассуждения согласуется с тем, что заставило
философов заключить, что дизъюнктивных фактов не
существует и что главное основание для принятия
этого заключения состоит в том, что оно оказывается
побочным продуктом наиболее удобного способа
характеризовать понятие сведения одного класса
утверждений к другому. Ясно, что такой способ речи неудобен,
однако, когда наше внимание сосредоточено на
значении самих логических констант, он предполагает, что
класс классических функционально-истинностных
комбинаций предложений сводится к классу атомарных
предложений и их отрицаний и, аналогичным образом,
что класс квалифицированных предложений сводится
к классу бескванторных предложений и таким образом
просто снимает проблему истолкования значений
логических констант.
Иногда утверждают, что, хотя теория истины,
которая предполагается в теории значения Дэвидсона,
сама по себе не дает значений нелогических исходных
выражений языка, она тем не менее дает значения
логических констант. Чтобы понять значения исходных
нелогических выражений, мы должны обратиться,
выйдя за рамки теории истины (по-видимому, потому, что
аксиомы, управляющие этими выражениями, имеют
тривиальную форму, такую, как «"Лондон" обозначает
Лондон»), к данным, взятым из языкового поведения
говорящих, на котором основывается теория истины,
или же, как я предпочел бы сказать, обратиться к
теории смысла, которая объясняет, что значит то, что
говорящий знает суждения, выраженные посредством
аксиом. Но для того, чтобы понять значения
логических констант, нам ничего не нужно рассматривать,
кроме аксиом, управляющих логическими
константами в рамках теории истины.
По-видимому, это утверждение основано на том
представлении, что если, например, пропозициональные
операторы языка являются классическими, то теория
истины дает объяснение этих операторов с помощью
таблиц истинности. Однако такое представление
совершенно неверно. Ьопрос о том, показывает сама
аксиома теории истины то, в чем заключается понимание
выражения, которым она управляет, или же мы
должны для этого обратиться к теории смысла, — это вопрос
174
о том, тривиальна эта аксиома или нет. Тривиальная
аксиома — это такая аксиома, которая, будучи
представлена в метаязыке, являющемся расширением
объектного языка, даст, в комбинации с подходящими
аксиомами для других выражений, тривиальное Г-предложение
для каждого предложения объектного языка.
Общеизвестно, что аксиомы, управляющие классическими
логическими константами, тривиальны в этом смысле:
они имеют такие формы, как "Для каждого
предложения S и Г, [ЗилиТ] истинно, если и только если S
истинно или Т истинно" и "Для каждой конечной
последовательности объектов &, имеющей ту gee длину, что
и последовательность у переменных, Ь выполняет
[Л] некоторого х, А (х,$), если и только если для
некоторого объекта а,< а >* Тэ выполняет A (xS) "•
Несомненно верно то, что использование теории
истины в качестве основной теории, т.е теории, которая
выражается Г-предложениями для предложений
объектного языка, не обязывает нас приписывать
классические значения логическим константам. Если мы хотим
приписать логическим константам объектного языка
некоторые неклассические значения и готовы
предположить, что логические константы метаязыка
интерпретируются подобным же неклассическим образом, то
мы можем придать логическим константам объектного
языка эти неклассические значения путем принятия
тривиальных аксиом точно такого же вида, как и в
классическом случае. Это будет иметь место всегда,
когда соответствующее понятие истины применяется к
логическим константам, как, например, в
интуиционистском случае. На первый взгляд истинность не будет
распространяться на логические константы в
многозначных логиках, например в трехзначной логике.
Когда В ложно, но А ни ложно, ни истинно,
утверждение "Если А истинно, то В истинно" будет истинно,
хотя утверждение "Если Л, то #" не истинно. Однако
это так только потому, что мы предполагаем, и это
вряд ли можно оспаривать, что утверждение "А
истинно" ложно, когда А неистинно и неложно: для целей
построения теории истины, в которой мы не можем
выводить тривиальные Т-предложения, мы будем
использовать не предикат "... является истинным",
понимаемый как "... обладает значением истина", а
иной предикат, скажем, предикат "...является
Истинным", который удовлетворяет требованию, чтобы для
любого атомарного предложения А, "Л является
Истинным" имело то же истинностное значение, что и А. Если
175
мы можем сформулировать аксиомы для исходных
терминов и предикатов и для удовлетворяющего этому
требованию условия, что атомарное предложение
является Истинным, то свойство быть Истинным будет
распространено на пропозициональные операторы и,
следовательно, данное требование будет удовлетворено
также и для сложных предложений.
В различных случаях будут возникать трудности:
например, в многозначной логике с более чем одним
выделенным истинностным значением или когда
логическая константа, например модальный оператор,
порождает контекст, в котором квантифицированные
переменные следует рассматривать как имеющие область
значений, отличную от области значений, которую они
имеют в других контекстах. Но имеется, конечно,
обширная область неклассических логик, для которых
можно было бы построить теорию истины, которая
давала бы тривиальные Т-предложения. Однако в любом
случае, когда это можно было бы сделать, положение
прямо противоположно тому, что утверждается в
теории истины Дэвидсона. Тривиальная аксиома для
любого выражения, будь то логическая константа или
же выражение любого иного рода, не показывает сама
по себе того, в чем состоит понимание выражения, а
полностью возлагает задачу объяснения этого на
теорию смысла, которая определяет, что должно быть
взято в качестве средства конституирования
понимания суждения, выраженного этой аксиомой. Аксцома
вида "Е" выполняете или Г,"если и только если Ь
выполняет S или о выполняет Г" не более объясняет
значение соответствующей логической константы, чем
«"Лондон" обозначает Лондон» объясняет значение
слова "Лондон"; в любом случае, если вообще должно
существовать какое-либо объяснение, то оно должно
будет обнаружиться в рассмотрении того, в чем
заключается знание этой аксиомы.
В отношении логической константы значимо не то,
возможно ли построить теорию истины так, чтобы
можно было принять управляющую этой константой
тривиальную аксиому, а, напротив, то, возможно ли
сформулировать для нее не-тривиальную аксиому. Если
возможна только тривиальная форма аксиомы, то
следующий важный вопрос состоит в том, может ли
теория смысла обеспечить не образующее порочного
круга объяснение того, что значит, что говорящий
понимает значение аксиомы, т.е. обладает неявным знанием
тривиальной аксиомы, управляющей константой. И
176
хотя теперь можно принять тривиальные аксиомы для
интуиционистских констант, стандартное объяснение
этих констант дает аксиомы иного рода, которые
формулируются не в терминах истинности, а в
терминах доказуемости. Значение логического оператора
состоит в выявлении того, что считать доказательством
математического утверждения^ котором он является
главным оператором и когда уже известно, что
считается доказательством любого из составных предложений
(любого из примеров, в которых оператор является
квантором). Если объясняемый оператор сам
используется в объяснении, то порочный круг безвреден,
поскольку имеется фундаментальное допущение, что
мы можем эффективно распознавать, относительно
любого математического построения, является оно'или
нет доказательством данного утверждения; таким
образом, когда объясняется, что построение является
доказательством "А или В", если и только если оно
является доказательством А или доказательством В,
"или" справа от двусторонней импликации стоит
между двумя разрешимыми утверждениями и,
следовательно, непроблематично; мы объясняем общее
употребление "или" в терминах этого специального
употребления. Иначе говоря, такое объяснение
дизъюнкции можно рассматривать как представление
неявного знания, которым обладает говорящий, знания,
которое полностью проявляется в практике
использования говорящим математических утверждений: он
проявляет свое понимание оператора "или", признавая
построение в качестве доказательства дизъюнктивного
утверждения тогда, и только тогда, когда оно является
доказательством того или иного дизъюнкта. Напротив,
объяснение в терминах условий истинности
неотвратимо впадает в порочный круг, если утверждения, к
которым применяется оператор дизъюнкции,
неразрешимы, т.е. если условие истинности такого
утверждения не является эффективно распознаваемым; ибо
тогда у нас нет способа объяснить, что значит приписать
кому-либо знание о том, что "А или Б" истинно, если
и только если или А истинно, или В истинно. Также
обстоит дело с кванторами, когда они понимаются в
классическом смысле, а область квантификации
бесконечна. Условия истинности квалифицированных
утверждений формулируются с использованием
квантификации по той же самой области; и поскольку мы не
имеем эффективных средств распознавания в каждом
случае того, выполняются эти утверждения или нет, мы
177
не можем найти в описании нашей языковой практики
средств избежать порочного круга.
Интуиционистское объяснение логических констант
обеспечивает некоторый прототип для теории
значения, в которой истина и ложь не являются
центральными понятиями. Основная идея состоит в том, что
понимание значения математического утверждения
заключается не в знании того, каким должно быть положение
дел, чтобы утверждение было истинным, а в
способности распознавать, является ли то или иное
математическое построение доказательством данного
утверждения; принятие такого утверждения следует понимать
не как заявление о том, что оно истинно, а как
заявление о том, что доказательство его существует или
может быть построено. Понимание любого
математического выражения заключается в знании того, каким
образом оно может способствовать определению
доказательства любого выражения, в которое оно входит.
Таким образом, понимание значения математического
предложения или выражения гарантируется тем, что
оно полностью проявляется в практике употребления
математического языка, ибо оно непосредственно
связано с этой практикой. В этой теории значения вовсе
не требуется, чтобы каждое осмысленное утверждение
было эффективно разрешимо. Мы понимаем данное
утверждение, если знаем, как распознать его
доказательство в том случае, когда оно нам представлено.
Мы понимаем отрицание этого утверждения, когда
мы знаем, как распознать его доказательство; а
доказательством отрицания утверждения будет все то, что
показывает невозможность найти доказательство этого
утверждения. В особых случаях у нас в распоряжении
будет эффективное средство обнаружения для данного
утверждения, либо его доказательства, либо
доказательства того, что оно никогда не может быть
доказано; тогда утверждение будет разрешимым, и мы
будем иметь право утверждать заранее релевантный
пример закона исключенного третьего. В общем
случае, однако, осмысленность утверждения никоим
образом не гарантирует того, что мы имеем какую-
либо разрешающую процедуру для этого утверждения,
и, следовательно, закон исключенного третьего не
является верным в общем случае: наше понимание
утверждения состоит не в способности обязательно
найти доказательство, а только в способности
распознать его, когда оно найдено.
Такую теорию значения легко обобщить нематема-
178
тическими утверждениями. Доказательство является
единственным средством, которое существует в
математике для установления утверждения в качестве
истинного: требуемое общее понятие является,
следовательно, понятием верификации. С учетом этого понимание
утверждения заключается в способности распознавать
все то, что является его верификацией, т.е.
окончательным установлением его в качестве истинного. Нет
необходимости в том, чтобы у нас было какое-нибудь
средство установления истинности или ложности
утверждения, нужно лишь, чтобы мы были способны
распознать, что его истинность установлена. Преимущество
этой концепции состоит в том, что условие
верификации утверждения в отличие от условия его истинности в
соответствии с принципом двузначности есть такое
условие, которое должно быть нам дано вместе со
способностью эффективного распознавания того, когда
оно соблюдается; следовательно, нет трудности в
формулировании того, в чем состоит неявное знание
такого условия — оно непосредственно проявляется в
нашей языковой практике.
Эта характеристика теории значения,
альтернативной той теории, которая рассматривает понятие истины
в качестве своего центрального понятия, нуждается в
одном предостережении и двух ограничениях.
Предостережение состоит в следующем: чтобы теория
значения этого типа была полностью правдоподобной, она
должна принять во внимание взаимосвязанный или
сочлененный характер языка, что подчеркивал Куайн в
статье "Две догмы эмпиризма", значение которой
в том, что в ней было предложено по существу верифи-
кационистское описание языка и при этом не была
совершена ошибка логического позитивизма,
состоящая в предположении, что верификация каждого
предложения может быть представлена как простое
наличие соответствующей последовательности чувственных
данных. Такое представление приблизительно верно
только для ограниченного класса предложений,
которые, по мнению Куайна, относятся к периферии языка;
для других предложений действительный процесс,
который мы научились рассматривать как процесс,
ведущий к их окончательному подтверждению, будет в
общем случае предполагать некоторую процедуру
вывода; в предельном случае, например по отношению к
математическим теоремам, он будет предполагать
только это. Для любого непериферийного предложения
наше понимание его значения примет уже форму не спо-
179
собности распознавать, какие чувственные данные
верифицируют или фальсифицируют его, а форму
понимания его дедуктивных связей с другими предложениями
языка, связанными с ним в единой структуре.
Обобщение интуиционистской теории значений для языка
математики должно осуществляться в соответствии с
положением Куайна о том, что верификация
предложения заключается в действительном процессе,
посредством которого мы можем на практике прийти к тому,
чтобы принять это предложение в качестве истинного,
процессе, который будет обычно предполагать неявное
или явное использование других предложений в
процессе вывода; доказательство, которое является
верификацией лишь посредством вывода, становится, таким
образом, лишь предельным случаем, а не особой
разновидностью.
Первое из двух ограничений состоит в следующем.
В математике нет необходимости считать, что
понимание утверждения заключается как в способности
распознавать его доказательство, так и в способности
указать единый способ объяснить отрицание, т.е.
объяснить, как распознать опровержение утверждения. Точнее
говоря, мы могли бы считать, что значения отрицаний
числовых уравнений даны непосредственно в
терминах процедур вычисления, посредством которых эти
уравнения верифицируются или фальсифицируются:
доказательство отрицания любого произвольного
утверждения заключается тогда в методе преобразования
любого доказательства этого утверждения в
доказательство какого-нибудь ложного числового уравнения.
Такое объяснение базируется на предположении, что
при наличии ложного числового уравнения мы можем
построить доказательство какого угодно утверждения.
Вовсе не очевидно, что когда мы распространяем эти
положения на эмпирические утверждения, то
существует какой-то класс разрешимых атомарных
предложений, для которых подобное предположение
оказывается верным; и не очевидно поэтому, что в общем
случае мы имеем какой-либо подобный единообразный
способ объяснения отрицания произвольных
утверждений. Следовательно, было бы вполне в духе теории
значения этого типа рассматривать значение каждого
утверждения как значение, которое одновременно дано
в виде средств распознания верификации или
фальсификации этого утверждения, где единственное общее
требование состоит в том, что эти средства должны
быть определены таким образом, чтобы возможность
180
одновременной верификации и фальсификации
любого утверждения была исключена.
Второе ограничение имеет более значительные
следствия. В теории значения, в которой понятие истины
играет центральную роль, содержание любого
утверждения полностью определено условием истинности
произнесенного предложения. В этом смысле мы знаем
значение любого предложения, когда мы просто знаем,
каким должно быть положение дел, чтобы это
предложение было истинным: располагая этим знанием, мы
знаем содержание любого произнесения этого
предложения с утвердительным и равным образом с
повелительным, вопросительным, оптативным и т.д.
действием. Однако нет никакой априорной причины, по
которой мы бы тем самым знали достаточно много для
того, чтобы знать значение любого сложного
предложения, в которое данное предложение входит в качестве
конституенты; т.е. нет априорной причины, по которой
условия истинности сложного предложения должны
были бы зависеть только от условий истинности его
конституент. Если мы вообще способны представить
пропозициональные операторы языка функционально-
истинностным образом, то мы можем это сделать
только путем дифференциации различных способов,
которыми предложение может быть ложно, т.е. различных
невыделенных "значений истинности", которые это
предложение может иметь, или же, возможно,
различных способов, которыми предложение может быть
истинно, т.е. путем дифференциации различных
выделенных "значений истинности". Эти различия
несущественны для понимания самого произнесения
предложения, характеризующегося каким угодно
лингвистическим действием: они нужны для понимания того,
каким образом предложение может содействовать
определению условий истинности сложного
предложения, конституентой которого оно является (т.е.
условий, при которых такое предложение обладает
выделенным "значением истинности").
Сказанное верно и для теории значения, в которой
центральными понятиями являются скорее понятия
верификации и фальсификации, чем понятия
истинности и ложности. В интуиционистской логике
предложение, являющееся конституентой сложного
предложения, способствует определению того, что считать
доказательством этого сложного предложения, единственно
посредством определения того, что считать его
доказательством, т.е. единственно посредством рассмотрения
181
его значения как значения предложения, способного к
самостоятельному употреблению в языке. В этом
отношении интуиционистская логика похожа на
двузначную логику в противоположность многозначной,
поскольку в двузначной логике предложение
способствует определению условий истинности сложного
предложения, конституентой которого оно является,
единственно посредством своих собственных условий
истинности, а в многозначной логике это не так (если,
что интуитивно вполне естественно, мы отождествим
условия истинности предложения с условиями, при
которых оно имеет выделенное значение истинности).
Однако, точно так же как общая концепция теории
значения в терминах условий истинности не содержит
в себе предположения о том, что условия истинности
сложного предложения могут быть определены
единственно из условий истинности его конституент, т.е. что
семантика теории не потребует более чем двух
истинностных значений, точно так же общая концепция теории
значения в терминах условий верификации и
фальсификации предложения не содержит в себе
предположения о том, что значения пропозициональных
операторов могут быть объяснены таким сравнительно
простым образом, как в интуиционистской логике. Вполне
может быть так, что, когда мы обобщим концепцию
такой теории значения на наш язык в целом, мы не
сможем объяснить значения логических констант единым
образом посредством того, что представляет собой
верификацию констант предложения. В результате этого
логика не будет классической и не будет предполагать
реалистическую интерпретацию всех предложений
нашего языка: мы откажемся от предположения, что
каждое утверждение, которое обладает определенным
смыслом, является либо истинным, либо ложным
независимо от нашего знания. Но она также не будет
обязательно очень похожа на интуиционистскую логику.
Принципиальное различие между языком математики и нашим
языком в целом состоит в том, что в рамках первого
свойство разрешимости является устойчивым.
Утверждение о том, что некоторое конкретное большое число
является простым числом, может быть в принципе
разрешимо, и поэтому вполне законно утверждать
дизъюнкцию этого утверждения и его отрицания или любого
другого утверждения, относительно которого можно
показать, что оно вытекает как из данного
утверждения, так и из его отрицания, поскольку, когда бы мы
ни пожелали, мы могли бы, по крайней мере в теории,
182
определить утверждение как истинное или как ложное.
Однако свойство разрешимости эмпирического
утверждения не является в такой же мере устойчивым: если
мы рассматриваем предложение 'Теперь на пруду есть
либо четное, либо нечетное число уток", в качестве
доказуемого на том основании, что могли бы, если бы за-
хотели, определить тот или иной дизъюнкт в качестве
истинного, то мы не можем на том же основании
рассматривать в качестве доказуемого предложение "Число
гусей, которые загоготали на Капитолии, было либо
четным, либо нечетным", и если тем не менее мы
склонны считать последнее утверждение доказуемым, то
либо доказательство должно быть объяснено как
отвечающее более слабому требованию, чем то, что
доказуемое утверждение хотя бы в принципе
верифицируемо, либо определение того, что считается
верификацией сложного утверждения, не может быть дано
посредством того, что считается верификацией его консти-
туент. Например, мы могли бы считать, что
дизъюнктивное утверждение окончательно подтверждается
демонстрацией того, что эффективная процедура, будучи
применена в подходящий момент времени, даст или
дала бы верификацию того или иного дизъюнкта. Это
противоречило быинтуиционистскому значению
дизъюнкции, поскольку это предполагало бы, что
дизъюнктивное утверждение могло бы быть верифицировано
чем-то таким, что не только не верифицировало ни
один из дизъюнктов, но и не давало гарантии, что тот
или иной дизъюнкт вообще мог быть верифицирован.
Если бы эта интерпретация союза "или" была принята,
тогда многие конкретизации закона исключенного
третьего вида "А или Л''оказались бы доказуемыми в
случае неразрешимости А. (Следствие этого, в процессе
достижения большего сближения с классическим
способом рассуждения, нежели с любым способом
рассуждения, который допускается строго
интуиционистской интерпретацией логических констант, было бы,
вероятно, смягчено тем фактом, что в таком случае
определенное число условных предложений "Если А,
то в9\ антецеденты которых согласуются с законом
исключенного третьего, и которые были бы
правдоподобны при реалистической интрепретации, не было бы
доказуемым при соответствующей верификациони-
стской интерпретации "если".) Однако все будет
соответствовать верификационистской теории значения
до тех пор, пока значение каждого предложения
задается определением того, что следует рассматривать в
183
качестве окончательного подтверждения или
опровержения данного предложения, и до тех пор, пока это
осуществляется систематически посредством только
тех условий, которые говорящий способен распознать.
V
Я показал, что теория значения в терминах условий
истинности не может дать вразумительного объяснения
того, как говорящий овладевает своим языком; и я
дал набросок одной возможной альтернативы,
обобщение интуиционистской теории значения для языка
математики, в которой верификация и фальсификация
рассматриваются в качестве центральных понятий
вместо понятий истинности и ложности. Это не значит, что
понятие истины не будет играть никакой роли или
только с его помощью мы можем дать описание
дедуктивного вывода; признать вывод правильным — значит
признать его сохраняющим истинность от посылок
к следствию. Если бы в контексте такой теории
значения истинность утверждения пришлось
идентифицировать с истинностью утверждения, которое явно было
признано в качестве верифицированного, то
дедуктивный вывод, следующий из тех предпосылок, которые
были окончательно установлены, никогда не мог бы
привести к новой информации. Точнее говоря, он мог
бы привести к новой информации только тогда, когда
он представлял бы наиболее простой путь установления
дедуктивного заключения; ибо, как мы отметили
выше, любая адекватная теория значения должна
признавать, что смысл многих утверждений таков, что вывод
должен играть определенную роль в любом процессе,
который ведет к их верификации. В рамках любой
теории значения способ, которым смысл предложения
определяется в соответствии со структурой
предложения, приведет к выявлению того, что мы можем считать
наиболее прямым средством установления истинности
этого предложения. Это применимо к теории значения,
сформулированной в терминах условий истинности,
в такой же мере, как и к теории значения,
сформулированной в терминах верификации: различие состоит
в том, что в первом случае наиболее простое средство
установления истинности предложения будет иногда
тем средством, которым мы не располагаем. Например,
классическое представление универсального
квалифицированного предложения в качестве предложения,
184
истинностное значение которого определяется
истинностными значениями его конкретизации, выявляет
в качестве наиболее прямого способа определения
истинностного значения этого предложения процесс
поочередного определения истинностных значений всех
его конкретизации, процесс, который мы не можем
выполнить, если конкретизации бесконечно много.
Однако любая адекватная теория значения должна объяснить
факт не только того, что мы основываем множество
наших утверждений на данных, которые не являются
окончательными, но и того, что существуют непрямые
способы окончательного установления истинности
утверждений; один из случаев этого — случай, когда мы
получаем истинность утверждения в качестве
результата дедуктивного вывода. Чтобы объяснить возможность
окончательного, но непрямого установления истинности
утверждения, важно обратиться к некоторому понятию
истинности утверждения, которое, очевидно, нельзя
просто отождествить с понятием верифицируемости
этого утверждения.. Это также верно как относительно
интуиционистской интерпретации математики, так и
относительно обобщения этой интерпретации на
эмпирические утверждения; было бы в явном
противоречии с фактами считать, что математические
рассуждения, даже в рамках конструктивной математики,
всегда осуществляются наиболее непосредственным
путем: это означало бы, что на практике мы бы
никогда не пришли к заключению об истинности
утверждения путем использования правила обобщения или
правила модус поненс. Самое большое, что можно
правдоподобно утверждать, — это то, что любое
действительное доказательство обеспечивает нас эффективными
средствами, с помощью которых мы могли бы
построить наиболее простое из всех возможных
доказательство заключения. Следовательно, даже в
интуиционистской математике требуется понятие истинности
утверждения, которое не совпадает просто с тем, что мы
действительно располагаем таким доказательством,
которое определяется объяснением смысла данного
утверждения, исходя из его структуры, образованной из
некоторых исходных символов. Вопрос о том, как
должно быть объяснено понятие истинности в рамках
теории значения, оперирующей понятием верификации,
далеко не тривиален. Отличие такой теории от теории, в
которой центральным понятием является понятие
истины, заключается, во-первых, в том, что значение
дано непосредственно не в терминах условий истин-
185
ности предложения, а в терминах условий его
верификации; и, во-вторых, в том, что понятие истины, когда
оно введено, должно быть некоторым образом
объяснено в терминах нашей способности распознавать
истинные утверждения, а не в терминах условий, которые
выходят за пределы человеческих способностей.
Теория значения, оперирующая понятием
верификации, должна дать такое понятие истины, чтобы принцип
двузначности не имел места для многих предложений,
которые мы склонны без колебаний интерпретировать
в реалистическом духе. Это заставит нас допустить
некоторые отступления от классической логики
^следовательно, определенную ревизию нашей обычной
языковой практики. Очевидно, что теория утратила бы
свою правдоподобность, если бы эта ревизия оказалась
слишком далеко идущей; хотя, как я уже показал, мы
не можем отказаться априори от возможности, что
принятие корректной теории значения может привести к
некоторой ревизии. Главная цель теории значения
заключается скорее в объяснении существующей
практики, чем в ее критике. Я не знаю, может ли быть
построена правдоподобная теория значения в терминах
верификации; существует много проблем, рассмотрение
которых выходит за рамки данного общего
обсуждения. Однако такая теория значения не является
единственной мыслимой альтернативой теории значения,
оперирующей понятием условий истинности; я
остановлюсь немного на описании совершенно иной
возможности.
Что есть содержание утверждения? Согласно теории
значения, оперирующей понятием условий истинности,
это содержание состоит просто в том, что
высказываемое утверждение истинно. Может оказаться так, что мы
сможем распознать его в качестве истинного или
ложного только в определенных случаях; могут быть
такие положения дел, при которых оно истинно, хотя мы
никогда не будем знать, что оно истинно, и другие
положения дел, при которых оно ложно, хотя мы никогда
не будем знать, что оно ложно: но говорящий
утверждает, что оно истинно. Мы рассмотрели трудности —
непреодолимые трудности, если я не ошибаюсь, —
объяснения того, что значит, когда говорящий или
слушающий знает, что означает "предложение истинно" в
общем случае; такая же трудность имеет место при
объяснении того, что значит для слушающего или
говорящего действовать в соответствии с истинностью
утверждения. Имеется общая трудность, возникающая при объяс-
186
нении этого понятия в любой теории значения,
состоящая в том, чтобы объяснить, как чьи-то действия,
обусловленные утверждением, которое некто принимает,
зависят от того, что этот некто хочет. Но в теории
значения, оперирующей условиями истинности,
существует еще одна трудность: даже при наличии
соответствующих желаний у слушающего, что значит
утверждение "Он согласует свои действия с условием,
которое он, вообще говоря, распознать не может"?
Дополнительная часть теории значения, ее теория действия,
должна быть способна, давая описание языковой
деятельности, характеризующей утверждения, объяснить,
что значит действовать в соответствии с утверждением,
причем в качестве части объяснения того, что значит
согласиться с этим утверждением. Построить это
объяснение в рамках теории значения, оперирующей
понятием условий истинности, будет очень трудно.
Согласно теории значения, оперирующей понятием
верификации, содержание утверждения состоит в том,
что высказываемое утверждение было или может быть
верифицировано. Выше мы согласились с тем, что
такая теория, возможно, должна допускать, что то, что
считается фальсификацией утверждения, возможно,
должно быть отдельно обусловленным для каждой
формы предложения. Но если так, то это возможно
лишь с той целью, чтобы придать смысл отрицанию
каждого предложения, поскольку нет единого
объяснения отрицания: это невозможно для целей фиксации
смысла предложения, имеющего независимое значение.
Ибо если бы мы предположили противное, то мы
должны были бы сказать, что содержание утверждения
состояло в том, что высказанное предложение могло
быть верифицировано и, далее, что оно не могло быть
фальсифицировано. Можно сказать, что в этом
уточнении вовсе нет необходимости, поскольку условия
всегда должны быть таковы, чтобы никакое
утверждение нельзя было как верифицировать, так и
фальсифицировать; следовательно, корректность утверждения
всегда будет гарантировать выполнение более слабого
условия, состоящего в том, что предложение не может
быть фальсифицировано, т.е. что оно будет выражаться
в виде двойного отрицания предложения.
Это возражение полностью подтверждается в том
случае, если определение того, что является
фальсификацией предложения, не обязательно надо считать
влияющим на смысл предложения при его
самостоятельном употреблении; в противном случае оно долж-
187
но играть некоторую роль в фиксации смысла
утверждения, сделанного с помощью предложения. Отсюда
следовало бы, что говорящий, делая утверждение,
может быть как не прав, так и не не прав: не не прав,
поскольку можно было бы показать, что предложение
нельзя фальсифицировать; но также и не прав,
поскольку неизвестен способ верификации предложения. Это
следствие было бы роковым для такого описания,
поскольку утверждение не является актом, который
допускает промежуточный результат; если
утверждение неправильно, оно не правильно. Пари может
содержать определенные условия; если они не выполнены,
спорящие не выигрывают и не проигрывают. Но нет
ничего аналогичного для утверждения; если в какой-
либо теории значения это имеет место, то это означает
сведение к абсурду данной теории.
Можно сказать, что, даже если условие
фальсификации предложения не входит в определение смысла
этого предложения при самостоятельном
использовании, все равно верификационистская теория значения
должна оставлять открытой возможность того, что
утверждение не будет ни истинным, ни ложным: ибо
заявление говорящего о том, что он способен
верифицировать утверждение, может оказаться необоснованным,
даже если нет ничего такого, что исключало бы
возможность того, что оно будет верифицировано
когда-нибудь в будущем. Однако эта ситуация представляет
собой такую ситуацию, которую нельзя устранить путем
обращения к нашему пониманию языковой практики,
относящейся к утверждению предложения, хотя то, как
она описывается, зависит от принятой нами теории
значения. Если мы придерживаемся теории значения,
оперирующей условиями истинности, то мы опишем
такую ситуацию как ситуацию, в которой еще не
показано, прав говорящий или не прав. Можно согласиться с
тем, что требуется некоторое объяснение для такой
особенности: на первый взгляд, если утверждение
является просто лингвистическим актом, который
обусловлен объективными условиями правильности, и эти
условия не выполняются, то утверждение просто
ложно без каких-либо прочих оговорок. Это уже
обсуждалось ранее: то, что обусловливает наше понимание
предложений как конституент более сложных
предложений, и их употребление, например с императивным
действием, есть то, что приводит нас к различению
между истинностью утверждения и правом говорящего
делать это утверждение. В соответствии с верификацио-
188
нистской теорией значения мы не можем сказать, что
каждое утверждение является либо истинным, либо
ложным, но мы можем провести подобное различие
между тем, что говорящий располагает средствами
верификации утверждения и утверждением, что нечто
является средством верификации, которое окажется в
наличии позднее. Такое различие мы вынуждены
принять точно так же, как и в теории значения,
оперирующей условиями истинности: располагая понятием
верификации предложения, которое требуется для
объяснения роли этого предложения в сложных
предложениях, мы не можем в общем случае считать
утверждение заявлением о том, что уже есть средство
верификации сделанного утверждения, но лишь заявлением
о том, что такое средство мы еще получим; например,
когда это утверждение относится к будущему времени.
Таким образом, сказать в этом смысле, что
утверждение может быть и неправильным, и не неправильным, —
значит сказать нечто полностью согласующееся с
природой утверждения как разновидностью
лингвистического акта.
Рассмотренный нами смысл, в котором можно с
полным основанием говорить о том, что утверждение
может быть и неправильным, и не неправильным, есть
смысл, который, как мы видели, относится к
различию между правом говорящего делать то или иное
утверждение и истинностью того, что он говорит, т.е.
между уверенностью говорящего в истинности
утверждения и наличием способа подтверждения истинности,
который ему не был известен в момент произнесения
утверждения. Мы можем сказать, что говорящий прав,
если он в момент речи способен верифицировать то,
что он говорит, но что его утверждение правильно,
если существует какое-либо средство его верификации,
знание которого говорящим в момент осуществления
утверждения сделало бы его правым. Смысл, в
котором противоречит природе утверждения говорить, что
утверждение не может быть ни правильным, ни
неправильным, есть тот смысл, в котором, в соответствии с
данной терминологией, само утверждение ни правильно,
ни неправильно. То есть не может быть такого знания,
обладание которым давало бы возможность любому
говорящему установить как то, что он не был бы прав,
делая определенное утверждение, так и то, что он не
был бы не прав, если бы сделал его. Если кто-то
заключает пари на определенных условиях, кто-нибудь
другой, зная, что эти условия не выполняются, может знать,
189
что он ни выиграет, ни проиграет своего пари: нет
такого фрагмента знания, который связан таким
образом с утверждением.
Но совершенно ясно —верификационистская теория
значения исключает возможность того, что утверждение
может быть как правильным, так и неправильным
именно потому, что никакое утверждение не может быть
одновременно верифицировано и фальсифицировано.
Но даже если определение того, что фальсифицирует
предложение, не способствует определению смысла
предложения при его самостоятельном употреблении,
такая теория угрожающе близка к допущению того, что
утверждение может быть ни правильным, ни
неправильным. Если наша логика вообще похожа на
интуиционистскую логику, то действительно нет никакой
возможности обнаружить для любого утверждения, что
оно может быть ни верифицируемым, ни
фальсифицируемым, поскольку все то, что могло бы показать, что
оно не может быть верифицировано, фактически
верифицировало бы его отрицание. Однако, для любого
утверждения, которое не является устойчивым в
смысле Брауэра (не эквивалентно его двойному отрицанию),
существует возможность установить, что оно никогда
не может быть фальсифицировано, если мы уже
имеем его верификацию. В таком случае, мы могли
бы сказать, что мы знаем, что утверждение не
является неправильным, не зная того, что оно правильно.
Можно предположить, что возможность верификации
утверждения будет всегда оставаться открытой, так
что никогда не возникнет ситуации, когда мы знаем,
что утверждение не является ни правильным, ни
неправильным; однако она указывает на неясность в
репрезентации лингвистического действия, относящегося к
утверждению. Что еще, кроме того, что его
утверждение не является неправильным, утверждает кто-либо,
когда он делает утверждение? Что еще говорит он,
когда высказывает утверждение, в отличие от того,
когда он просто отрицает отрицание этого утверждения?
В той мере, в какой мы рассматриваем его утверждение
как заявление о том, что он верифицировал
утверждение, ответить на эти вопросы нетрудно, поскольку,
вообще говоря, труднее верифицировать утверждение,
чем верифицировать его двойное отрицание; и таким
образом, в случае математических утверждений, когда
утверждение всегда равносильно заявлению, что
высказанное утверждение действительно доказано, не
возникает никакой проблемы. Но мы видели уже, что в об-
190
щем случае в качестве первичного, при определении
содержания утверждения, мы должны рассматривать не
личные соображения говорящего, на основании
которых он делает утверждение, а условия объективной
правильности утверждения; и в связи с этим
невозможно провести различие между предположительно более
сильным и предположительно более слабым
содержанием. Если говорящий заявляет, что он верифицировал
утверждение, а мы обнаруживаем, что он
верифицировал всего лишь двойное отрицание, то его заявление не
выдерживает критики: но наш вопрос не в этом, а в
том, что мы делаем, если соглашаемся с его
утверждением как объективно правильным, независимо от
личных соображений, на основании которых говорящий
сделал это утверждение. Признать его неправильным —
значит, очевидно, отвергнуть возможность того, что оно
когда-либо будет фальсифицировано; вместе с тем
принятие его в качестве правильного предполагает
некоторое ожидание того, что когда-нибудь оно будет
верифицировано, или по крайней мере предполагает
открытой такую возможность. То, что мы оставляем
эту возможность открытой, ничего не добавляет к
признанию того, что оно никогда не может быть
фальсифицировано; если мы признали это, то возможность
того, что оно когда-нибудь будет верифицировано,
является открытой; поскольку мы никогда не сможем
закрыть ее, мы не обязаны считать ее открытой. Но
даже и ожидание того, что оно будет когда-нибудь
верифицировано, не означает ничего существенного,
если не указаны временные границы, в пределах
которых это должно произойти; зная, что утверждение
никогда не может быть фальсифицировано, мы уже
знаем, что это ожидание не может быть обмануто, и,
при условии, что ожидание никогда не будет обмануто,
предположение, что это ожидание когда-нибудь
осуществится, согласуется с любой последовательностью
событий на любом конечном временном интервале,
каким бы он ни был длинным, и, следовательно, не
дает ничего нового.
Хорошо известен тот факт, что некоторые
философы склонны рассматривать утверждение как
лингвистический акт, который может иметь промежуточный
результат, подобно тому как пари на условиях имеет
промежуточный результат, когда условия пари не
выполнены. То есть они склонны считать, что некоторые
предложения при некоторых определенных условиях
не будут ни истинными, ни ложными; и они склонны
191
полагать прямую связь между понятиями истинности
и ложности, которые здесь используются, и понятиями
правильности и неправильности утверждений так, что
некто, делая какое-нибудь утверждение посредством
произнесения предложения, которое не истинно и не
ложно, тем самым делает утверждение, которое не
правильно и не неправильно. (Иногда это выражают, говоря,
что он не сделал вообще никакого утверждения; но
эта форма выражения не может скрыть того факта, что
он произвел значимое высказывание, что он
осуществил лингвистический акт.) Я в другой работе возражал
против того, что мы можем не придавать смысла
представлению о том, что утверждение не является ни
правильным, ни неправильным, за исключением тех
случаев, когда утверждение неясно или двусмысленно, и
что адекватная интерпретация того, что предложение
не является ни истинным, ни ложным, состоит в том,
что оно обладает невыделенным истинностным
значением, отличным от того значения, которое мы
обозначили как "ложность", или же невыделенным
истинностным значением, отличным от того значения, которое
мы обозначили как "истина", и, соответственно, что
состояние неистинности и неложности значимо только
в отношении функционирования предложения в
качестве конституенты сложных предложений, для которых
мы хотим применить многозначную семантику, а не в
отношении самостоятельного употребления
предложения для того, чтобы сделать утверждение, для чего нам
необходимо знать только различие между его
выделенными и не выделенными истинностными значениями.
Как это можно обосновать? Один из подходов
можно сформулировать следующим образом. Если
содержание утверждения точно определено, то должно быть
определимым для любого распознаваемого
положения дел, показывает или нет это положение дел, что
утверждение было правильным. Если того или иного
распознаваемого положения дел недостаточно, чтобы
показать, что утверждение было правильным, тогда
имеется две альтернативы. Одна из них заключается в
том, что это положение дел исключает возможность
наступления ситуации, в которой утверждение можно
было бы признать правильным: в этом случае следует
считать, что это положение дел свидетельствует о
неправильности утверждения. Другая альтернатива
заключается в том, что данное положение дел хотя и не
показывает, что утверждение было правильным, не
исключает возможности, что в последствии будет показано,
192
что дело обстояло именно так; в этом случае
правильность утверждения просто не была еще определена. Но
что невозможно, так это то, чтобы какое-либо
распознаваемое положение дел могло свидетельствовать как
о том, что утверждение не было правильным, так и о
том, что утверждение не было неправильным,
поскольку содержание утверждения полностью определяется
теми положениями дел, которые устанавливают его в
качестве правильного; следовательно, любое
положение дел, которое можно рассматривать как
отвергающее правильность утверждения, следует считать
положением дел, которое показывает, что оно
неправильно. Следовательно, если предложение не считают ни
истинным, ни ложным в определенных распознаваемых
обстоятельствах, то это нельзя объяснить, сказав*, что
утверждение, осуществленное посредством
произнесения предложения, не было в этих обстоятельствах ни
правильным, ни неправильным.
Эта аргументация не имеет целью, как думают
некоторые, доказать, что каждое утверждение должно
быть либо правильным, либо неправильным. Она
допускает возможность того, что утверждение может быть
никогда не распознано в качестве правильного или
неправильного; и нужно обратиться к реалистической
метафизике — или, лучше сказать, реалистической
теории значения — если мы хотим утверждать то,
что оно должно быть тем или иным. Поэтому нет
оснований считать, что только те предложения могут быть
употреблены, чтобы делать утверждения, для которых
справедлив принцип двузначности. Это всего лишь
аргумент в пользу того, что не может быть
обстоятельств, в которых утверждение нельзя было бы
признать ни правильным, ни неправильным. Сказанному не
противоречило бы считать, что имеются некоторые
утверждения, которые ни правильны, ни неправильны,
хотя мы неспособны распознать это для всякого
конкретного утверждения. Однако я отверг бы такую точку
зрения как необоснованную эклектику. Если мы
способны понимать описание некоторого положения дел,
которое мы неспособны распознать как существующее,
и предполагаем, что оно действительно существует,
то нет причин не рассматривать значение данных в
терминах истинностных условий, которые мы не можем
в общем случае распознавать и для которых
справедлив принцип двузначности. В этом случае содержание
утверждения можно было бы выразить в терминах
возможных положений дел, которые делают это утвер-
7-567
193
ждение правильным, а рассмотренная выше
аргументация проходит без ограничения положений дел только
теми положениями, которые распознаваемы. Отсюда
следует, что утверждение не только не может быть
распознано в качестве утверждения, являющегося ни
правильным, ни неправильным, но не может фактически
быть ни правильным, ни неправильным. Действительно,
поскольку в соответствии с этой реалистической
концепцией отсутствие какого-либо положения дел,
которое делало бы утверждение правильным, тоже является
некоторым положением дел (что неверно в случае,
когда мы ограничиваемся лишь распознаваемыми
положениями дел), то каждое утверждение будет либо
правильным, либо неправильным. Если, с другой
стороны, мы не способны создать концепцию положений дел,
которые мы не можем распознавать как
существующие, то мы можем придать какое-либо содержание
представлению о том, что утверждение является
правильным или неправильным только посредством
способности распознавать утверждение в качестве правильного
или неправильного, и в этом случае тот факт, что
утверждение не может быть распознано ни в качестве
правильного, ни в качестве неправильного, достаточен
для того, чтобы показать, что оно не может быть ни
тем, ни другим. Следовательно, рассмотренная выше
аргументация только на основе реалистического
предположения действительно приводит к принципу
двузначности. Сама же по себе она приводит только к более
слабому выводу о том, что утверждение не может быть
ни истинным, ни ложным, где понятия истинности и
ложности суть такие понятия, которые
непосредственно связаны с правильностью и неправильностью
утверждений, т. е. предложение истинно, если
утверждение, сделанное с его помощью, правильно и ложно,
если такое утверждение неправильно .
Для того чтобы можно было перейти от
утверждения, что ни одно утверждение не является ни истинным,
ни ложным, к утверждению, что любое утверждение
либо истинно, либо ложно, необходимо обратиться к
классической логике; а рассмотренная аргументация
2 При этом я имею в виду не такие грубые представления об
истинности и ложности, что они не позволяют различать
ложность сделанного кем-либо утверждения от того, что это
утверждение неправильно, но только те понятия истинности и ложности,
которые связаны, в многозначной логике, с наличием
выделенных и невыделенных истинностных значений.
194
не предполагает, что классическая логика верна.
Эта аргументация, в той мере, в какой она дана
выше, ведет непосредственно к верификационистской
теории значения; во всяком случае, это так, если
ограничение только распознаваемыми положениями дел
является оправданным. Но является ли это адекватным
способом представления данной теории? Предположим,
что мы рассматриваем некоторое ассерторическое
предложение, которое мы прекрасно понимаем на
практике, т. е. у нас нет никакой неопределенности
относительно содержания утверждения, совершаемого
с его помощью, но применение к которому понятий
истинности и ложности является интуитивно неясным.
Каким образом мы решаем вопрос о том, показывает
или нет то или иное данное положение дел то, что
утверждение, сделанное при помощи этого
предложения, истинно? Пусть это будет условное предложение в
изъявительном наклонении, а положение дел таково,
что антецедент, как можно распознать, ложен. Чтобы
рассмотрение было безупречным, мы должны,
разумеется, взять такое предложение, в отношении которого
неясно, как применить к нему предикат "истина",
поскольку в противном случае мы просто отождествим
(может быть, совершенно справедливо) правильность
утверждения с истинностью предложения, в то время
как нас здесь интересует то, определяет ли одно лишь
понимание содержания утверждения то, что следует
считать показателем его правильности. Ответ
заключается, я думаю, в том, что у нас нет ясного
руководящего принципа в отношении того, что должно считаться
показателем правильности утверждения; и причина
этого заключается в том, что вовсе не правильность
утверждения следует считать фундаментальным
понятием, необходимым для объяснения утверждения
как лингвистического акта. Утверждение обычно не
напоминает ответ на вопрос экзаменационной
программы; говорящий не получает вознаграждения за то,
что он прав. Это прежде всего руководство к действию
для слушающих (внутреннее суждение утверждения
является руководством к действию для слушающего);
руководство, которое вызывает в них определенные
ожидания. А содержание ожидания определяется тем,
что неожиданно для нас, т.е. тем, что скорее не
согласуется с ожиданием, чем с тем, что подтверждает его.
Прежде всего ожидание, которое возникает у кого-
то, кто соглашается с утверакдением, не
характеризуется тем, что слушающий предполагает, что одно из
7*
195
тех распознаваемых положений дел, которые делают
утверждение правильным, будет иметь место; так как
в общем случае не существует ограничения для того
промежутка времени, который может пройти прежде,
чем будет показано, что утверждение было правильно,
и, кроме того, такое предположение слушающего
само по себе не будет иметь реальной ценности.
Ожидание скорее характеризуется тем, что не допускает
наличия какого-либо положения дел, которое показало
бы, что утверждение было неправильным;
отрицательное ожидание такого рода имеет реальную ценность,
ибо оно может быть обмануто. Фундаментальным
понятием, необходимым для объяснения утверждения
как лингвистического акта, является, таким образом,
неправильность утверждения: понятие правильности
утверждения производно от понятия его
неправильности в том смысле, что утверждение должно считаться
правильным всегда, когда имеет место нечто такое, что
препятствует возникновению положения, которое
свидетельствует о том, что утверждение неправильно.
(Аналогичным образом, как я показал в другой
работе, фундаментальным понятием, необходимым для
объяснения отдачи приказания как лингвистического
акта, является понятие неподчинения, понятие
подчинения производно от него.)
Это становится особенно ясным тогда, когда мы
спрашиваем относительно какого-нибудь
ассерторического предложения, содержание которого мы на
практике понимаем и по отношению к которому
применение понятий "истинный", "ложный"
интуитивно неясно, какие положения дел мы должны
рассматривать как свидетельствующие о том, что утверждение,
осуществляемое путем произнесения этого
предложения, было неправильным. Делая утверждение,
говорящий исключает определенные возможности; если
утверждение недвусмысленно, то должно быть ясно,
какие положения дел он исключает, а какие — нет.
Исходя из нашего практического понимания
ассерторического предложения, мы можем сразу ответить,
исключает говорящий посредством такого утверждения то
или иное положение дел или нет. Чтобы ответить на
этот вопрос, нам не требуется апелляция к
интуитивному применению предиката "ложный" к предложению,
и наш ответ может даже противоречить этому; не
нужно нам думать и о том, должны ли мы считать
утверждение неправильным в том или ином случае
(подобно тому как мы должны думать о том, можем
196
ли мы считать, что правильность условного
утверждения доказана, если антецедент оказывается ложным).
Мы вместе с тем знаем, например, что тот, кто делает
условное утверждение, не исключает возможности
того, что антецедент ложен, что ложность антецедента
не делает утверждение неправильным и действительно
предотвращает возникновение такой ситуации,
которую он исключает; и мы знаем это независимо от
какого бы то ни было решения относительно того,
должно ли условное предложение, которое он
употребляет, быть названо в этом случае "истинным". Точно
так же мы знаем с самого начала, что говорящий,
который делает утверждение с помощью атомарного
предложения, содержащего собственное имя или
определенную дескрипцию, действительно исключает
возможность того, что у имени или дескрипции
отсутствует референт; и опять мы знаем это совершенно
независимо от какого бы то ни было решения
относительно того, должно ли предложение в случае отсутствия
референта быть названо "ложным".
Таким образом, по очередности объяснения
понятие неправильности утверждения предшествует
понятию его правильности. Почему этот факт так долго
оставался незамеченным? Отчасти из-за склонности
сосредоточивать все внимание на разрешимом случае:
ожидание относительно результата проверки можно
беспристрастно описать как ожидание того, что
результат будет благоприятным, или как ожидание того,
что результат не будет неблагоприятным. Отчасти
может быть даже из-за склонности уделять особое
внимание рассмотрению утверждений в будущем времени,
которые предсказывают появление наблюдаемого
положения дел в течение определенного периода или
определенный момент времени: ибо тогда
положительное ожидание ограничено во времени и, следовательно,
имеет реальную ценность: если ожидание не будет
удовлетворено в течение данного времени, то оно будет
обмануто. Но главным образом, я думаю, из-за
неявного предположения реалистической теории значения,
оперирующей неэффективным понятием условий
истинности предложений. Если условия, с помощью
которых задано содержание утверждения, суть условия,
которые мы можем распознать, то в этом случае весьма
существенно, берем ли мы в качестве первичного
понятие правильности или же понятие неправильности: одно
дело говорить, что утверждение правильно, если
имеет место нечто, что исключает возможность его непра-
197
вильности, и совсем другое дело говорить, что
утверждение неправильно, если имеет место нечто, что
исключает возможность его правильности. Но если условия, с
помощью которых задано содержание утверждения,
суть условия, которые мы можем понимать не будучи в
общем случае способны их распознавать, то в этом
случае указанное различие несущественно, поскольку
условие неправильности утверждения будет иметь место
всегда, когда не соблюдается условие его правильности,
и наоборот. Это не значит, что в контексте
реалистической теории значения вопрос о том, какое понятие
первично, не имеет значимости: даже в этом контексте
остается верным то, что в отношении очередности
объяснения понятие неправильности утверждения
первично.
Эти соображения ведут к построению иной теории
значения, теории, которая согласуется с верифика-
ционистской теорией в отношении использования
скорее только эффективных, нежели
трансцендентальных, понятий, но которая заменяет верификацию
фальсификацией в качестве центрального понятия теории:
мы знаем значение предложения, если мы знаем, как
распознать то, что оно фальсифицировано. Такая
теория значения приведет к логике, которая не является
ни классической, ни интуиционистской3. В одном
отношении она, будучи далека от теории значения,
оперирующей условиями истинности, отличается и от ве-
рификационистской теории. Верификационистская
теория значения настолько приближается к объяснению
значения предложения с помощью того, на основании
чего предложение может утверждаться, насколько это
Используем /д для множества распознаваемых положений
дел, при которых А фальсифицируется, и f для множества
распознаваемых положений дел, которые исключают наличие
какого-либо положения дел в f. Очевидно, что f П Г= 0, f < f и если
f <1 g, то g_^_7; ^следовательно Т= F. Мы можем также
предположить что fUg = fngn что_Г U g < f П g. Кажется разумным
принять соотношение г*-|д = f А, fA у ц = f А О fB, f AlLB = f А и ffi' и
*А~>В ~~ *В ^ *А» и определить, 4toAi ...АпЬ В имеет место тогда,
когда f в < fA U... UfAn, так что f-B имеет место только в
случае, когда Tg = 0; в соответствии с этим определением,
однако НА -* В может иметь место и тогда, когда неверно, что
A h В. На основе этого, мы имеем T~lA J— А и Н А -*• ~~ПА, но не
А|-"ПА. Мы также имеем h А V ПА, н"1(АА"|А), l(AiB)
-Ik 1AV"1B и H(AV В) Ц ПА<£ПВ, но не ПА <&ПВ b~l(AV
В). Однако у меня нет полной уверенности в том, что этот
переход правилен. (Просьба < читать как знак включения.)
198
вообще возможно для какой-либо правдоподобной
теории значения; она должна, конечно, отличать
действительные основания говорящего, которые могут
быть неокончательными или же косвенными, от
непосредственных, решающих оснований, с помощью
которых устанавливается значение предложений, в
частности предложений типа предложений в будущем
времени, для которых говорящий не может иметь
решающих оснований в момент их произнесения.
Однако фальсификационистская теория вовсе не
связывает значение предложения непосредственно с тем,
на основании чего сделано с помощью этого
предложения утверждение. Вместо этого она связывает
содержание утверждения с тем обязательством, которое
принимает говорящий, делая это утверждение;
утверждение—это разновидность азартной игры, в которой
говорящий никогда не ошибается. Такая теория имеет,
следовательно, явное сходство не только с попперов-
ским объяснением науки, но также с
теоретико-игровыми семантиками, разработанными Хинтиккой и
другими.
VI
Любая теория значения, как мы видели выше,
распадается на три части: во-первых, это теория-сердцевина,
или теория референции; во-вторых, теория-оболочка,
теория смысла; и в-третьих, дополнительная часть
теории значения, теория действия. Теория действия
устанавливает связь между значениями предложений,
определенными с помощью теорий референции и смысла, и
реальной практикой употребления языка. Теория
референции определяет рекурсивным образом
применение к каждому предложению того понятия, которое
является центральным в данной теории значения: если
центральным понятием является истина, то это
выражается в определении для каждого предложения того
условия, при котором оно истинно; если центральным
понятием является верификация, то она определяет
для каждого предложения условие, при котором оно
верифицируется; и аналогичным образом — если
центральным понятием является фальсификация. Она
осуществляет это по отношению к каждому
предложению из бесконечного множества предложений языка
путем приписывания каждой более или менее значимой
конституенте предложения (каждому слову) некоторо-
199
го референта, который принимает ту форму, которая
требуется для того, чтобы референты компонент
любого предложения совместно определяли применимость к
этому предложению центрального понятия. Так, если
центральным понятием является понятие истины, то
референтом одноместного предиката является
множество объектов (или функция от объектов к
истинностным значениям); если это понятие верификации,
оно является эффективным средством распознавания
для любого данного объекта убедительно
доказательства того, что предикат приложим к этому
объекту; или что он не приложим, если центральным
понятием является понятие фальсификации.
Теория смысла определяет, в чем заключается
приписывание говорящему знания теории референции.
Если теория референции принимает форму теории
истины, то теория смысла необходима во всех случаях,
когда аксиома Г-предложения принимает тривиальную
форму и, следовательно, не указывает на то, в чем
заключается имплицитное знание говорящим этой
аксиомы. Однако если центральное понятие является
эффективным понятием — понятием, условия
применимости которого говорящий всегда может распознать
как наличествующие всегда, когда они имеют место,
подобным понятиям верификации и фальсификации —
тогда, по-видимому, нет необходимости в теории
смысла, которая служила бы теорией-оболочкой для
теории референции; мы можем сказать, что в теории
значения такого типа, теории референции и смысла
сливаются друг с другом. В верификационистской или
фильсификационистской теории значения теория
референции определяет применимость к каждому
предложению центрального понятия теории таким образом, что
говорящий непосредственно проявит свое знание
условия применимости этого понятия своим
фактическим употреблением языка.
Различие между смыслом и референтом идет,
конечно, от Фреге, который привел в его пользу два
совершенно разных довода. Один из них состоит в том, что
неясно, что значит приписывать говорящему лишь знание
референта выражения; например, сказать, что
говорящий знает об определенном объекте, что он
является носителем данного собственного имени, и добавить,
что это — полная характеристика соответствующего
фрагмента знания говорящего. По мнению Фреге,
такой фрагмент знания всегда должен принимать
форму знания, что объект, который считается определенным
200
образом идентифицированным, является референтом
имени и что способ идентификации объекта, который
входит в характеристику того, что знает говорящий,
конституирует смысл собственного имени. Совершенно
аналогичные соображения относятся и к выражениям
других семантических категорий.
Эта аргументация наполовину совпадает с
аргументацией, использованной в настоящей статье, и приводит
к следствию, что теория смысла необходима, чтобы
характеризовать то, в чем заключается знание
говорящим значений выражений языка, в том виде, как они
определены теорией референции. Довод Фреге состоит
в том, что теория референции не выявляет полностью
того, что знает говорящий, когда он понимает
некоторое выражение. Я поддержал здесь этот довод, но , кроме
того, сделал еще один шаг, утверждая, что, поскольку
знание говорящего является по большей части неявным
знанием, постольку теория смысла должна не только
определить, что знает говорящий, но также и то, как
проявляется его знание; у Фреге не найти указания на
необходимость этого дополнения для теории смысла.
Другой довод Фреге в пользу различия между
смыслом и референтом также относится к знанию, но на
этот раз скорее к знанию, которое усваивается, когда
предложение принимается в качестве истинного тем,
кто уже знает его значение, нежели к самому знанию
его значения; он связан, следовательно, с
использованием языка для передачи информации. Фреге не
интересуется, конечно, информацией, которая может быть
сообщена индивиду с помощью того или иного
утверждения, поскольку она будет варьироваться в
зависимости от той информации, которой этот индивид уже
располагает: его интересует информационное
содержание предложения как такового, которое мы могли бы
объяснить как информацию, которая была бы усвоена
после того, как станет известна истинность
предложения тем, кто ранее не знал ничего, кроме его значения.
Очевидно, что информационное содержание
предложения зависит от его значения: человек не усваивает
никакой дополнительной информации, узнавая об
истинности предложения, значение которого ему
неизвестно, и информация, которую он усваивает, будет
варьироваться в зависимости от того конкретного значения,
которое он придает этому предложению. Довод Фреге
состоит в тбм, что правдоподобное объяснение
информационного содержания предложения невозможно,
если понимание слушателем предложения рассматри-
201
вается как состоящее для каждой конституенты
предложения в простом знании референта (как это было
охарактеризовано выше). Знаменитым примером Фреге
является пример такого утверждения тождества,
истинностное значение которого было уже известно любому,
кому правильно было бы приписать простое знание
референтов терминов по обе стороны от знака
тождества (предполагая, конечно, что он понимает также и
знак тождества); такое утверждение не обладало бы,
следовательно, никаким информационным
содержанием, если бы знание значения заключалось в простом
знании референта. Фактически этот довод имеет силу
для любого атомарного утверждения.
Понятие смысла связано, таким образом, с самого
начала с понятием знания. Потребуется весьма
обширная теория, для того чтобы привести нас от знания
значений предложений языка, совместно определенных с
помощью теорий референции и смысла в терминах
центрального понятия данной теории значения, к
пониманию реальной практики употребления языка. Мы редко
эксплицитно думаем о теории, которая обеспечивает
этот переход; в качестве пользователей языка мы
с ранних лет обладаем скрытым его пониманием, и,
поскольку это понимание столь фундаментально,
философы считают его неуловимым и не пытаются
много говорить о нем. Но мы можем получить некоторое
представление об этой теории, как бы обширна она ни
была, если мы попытаемся представить как можно
было бы учить марсианина пользоваться человеческим
языком. Марсиане очень умны и общаются друг с
другом, однако при помощи средств, настолько
отличных от любого человеческого языка, что практически
невозможно сделать какой-либо перевод с
человеческого языка на марсианский способ коммуникации.
Поэтому единственное средство, с помощью которого
марсианин может научиться человеческому языку,
заключается в изучении полностью эксплицитной
теории значения для этого языка (сравните усвоение
говорящим грамматики родного языка и изучение им
грамматики иностранного языка с помощью учебника) ♦
Марсианин сначала усваивает теории референции и
смысла для какого-нибудь одного нашего языка; но
поскольку его конечная цель заключается в том, чтобы
посетить Землю в качестве иностранного шпиона,
замаскированного под человека, ему необходимо
приобрести практическое умение говорить на языке, а
не только его теоретическое понимание; ему необхо-
202
димо знать не только то, что и когда он может говорить,
не выдавая своего иностранного происхождения, но
также знать, в рамках этих ограничений, как он может
использовать язык в качестве инструмента для
достижения своих целей, а именно для приобретения знаний
и влияния на действия окружающих его человеческих
существ. Очевидно, ,что после того, как он усвоит
теории референции и смысла, ему нужно будет изучить
еще очень многое; он должен быть обеспечен
эксплицитным описанием нашей языковой практики, путем
произнесения нами предложений, значения которых
(понимаемые, например, как значения, данные в
терминах условий истинности) считаются уже
известными, и путем осуществления тех или иных реакций на
такие высказывания со стороны других.
Всю эту дополнительную информацию, которая
требуется, чтобы перейти от знания значений такими,
какими они даны посредством центрального понятия
теории значения, к полному практическому овладению
языком, я без разбора отнес к дополнительной части
теории значения; и, может быть, вполне справедливо
замечание, что я тем самым смешал вместе под
названием "теория действия" разнообразные
положения, касающиеся самых разных разновидностей языка.
Вслед за Дональдом Дэвидсоном мы можем выделить
два этапа при переходе от теории референции к
реальному употреблению языка. Первый этап требует от нас
суждений, касающихся истинности и ложности
предложений. Так, во всяком случае, говорит о первом этапе
Дэвидсон. Однако его больше интересуют этапы
процесса построения теории референции для языка, который
мы первоначально не знаем, но употребление которого
наблюдаем; мы начинаем с необработанных данных,
получаемых нами в процессе наблюдений за реальными
высказываниями говорящих, и промежуточный этап в
построении теории истины для языка будет
заключаться в нашем приписывании конкретным говорящим
конкретных суждений относительно истинностных
значений предложений в различные моменты
времени. Меня же, с другой стороны, интересовал не
восходящий процесс построения теории референции по
записям первоначально неинтерпретированных
высказываний, а нисходящий процесс деривации, по теории
референции, практики употребления языка, так чтобы
сам этот процесс деривации был включен в теорию,
образующую часть общей теории значения для языка;
если утверждение о том, что данная теория референции
203
является правильной теорией, т.е. может служить
теорией-сердцевиной для жизнеспособной теории значения
для языка, обоснованно, то такой нисходящий процесс
должен быть возможен. Мы не рассчитываем и не
должны стремиться получить детерминистскую теорию
значения для языка, даже теорию, которая является
детерминистской только в принципе: мы не должны
рассчитывать на то, что сможем создать такую теорию,
исходя из которой, с учетом прочих существенных
условий (физическая среда, в которой находится
говорящий, высказывания других говорящих и т.д.) мы
могли бы предсказать высказывания какого-нибудь
говорящего намного лучше, чем на основе изучения правил
и стратегии игры мы можем предсказать реальную
игру. Следовательно, то, что может быть извлечено из
теории референции, в соответствии с дополнительной
частью теории значения не является детальным
объяснением высказываний, которые действительно будут
сделаны в данных обстоятельствах, а представляет
собой лишь общие принципы произнесения предложений
языка, те принципы, молчаливое понимание которых
позволяет кому-либо принимать участие в разговоре на
этом языке. С нашей точки зрения поэтому
промежуточный этап нисходящего процесса даст не фактические
суждения об истинности или ложности предложений,
а общие принципы, в соответствии с которыми мы
делаем такие суждения.
Второй этап нисходящего процесса деривации
характеризуется переходом от суждений о ложности или
истинности предложений, которые мы делаем в данных
условиях, к нашим реальным высказываниям:
утвердительным, вопросительным, повелительным и т.д.;
здесь тоже мы можем рассчитывать получить всего
лишь формулировку общих принципов, в соответствии
с которыми осуществляются языковые игры
утверждения, вопроса, приказания, просьбы и т.д. Именно об
этом втором этапе и можно сказать, что он
представляет собой собственно теорию действия.
Что же тогда можно сказать о первом этапе,
который определяет, исходя из значения предложения,
принципы, имеющие силу для условий, по которым мы
судим о том, истинно это предложение или ложно?
К какой части теории значения относятся они? Вряд ли
можно отрицать, что такие принципы есть. Что, кроме
значения предложения, может определять то, что мы
считаем основанием для принятия его в качестве
истинного? Следует признать, что, когда эти основа-
204
ния неокончательны — а также когда мы не можем с
полной уверенностью распознать, что мы располагаем
окончательными основаниями (как в случае очень
сложного математического доказательства или
вычисления) , — имеется возможность выбора в отношении
того, считать предложение истинным или нет; термин
"суждение", в его техническом употреблении, здесь
весьма уместен. Однако одно лишь значение
определяет, является ли нечто основанием для того, чтобы
принять данное предложение в качестве истинного.
Это может быть потому, что определение того,
что считалось основанием истинности
предложения, было неотъемлемой частью установления его
значения; однако ни один из трех типов теории значения,
рассмотренных нами, не допускал этого. В соответствии
с теорией значения, оперирующей условиями
истинности, мы знаем значение предложения, когда понимаем,
что значит для него быть истинным; знать это — само
по себе не значит точно знать, что же считается
свидетельством его истинности. В соответствии с верифика-
ционистской теорией понимание предложения
заключается в знании того, что считается окончательным
свидетельством его истинности. Даже в такой теории это
понимание не предполагает способности немедленно
распознавать свидетельство, которое не является
окончательным. Действительно, как мы видели, она даже не
рассматривает значение предложения как
непосредственно связанное со всем тем, что могло бы служить
окончательным свидетельством его истинности, а лишь,
так сказать, с каноническим методом установления
истинности предложения — тем, что мы назвали его
"непосредственной" верификацией; я доказывал, что
даже в контексте верификационистской теории
адекватное о бъяснение дедуктивного вывода должно
признавать возможность установления истинности
предложения окончательно, но не непосредственно, т.е.
путем, отличным от того, который непосредственно
обеспечивается тем способом, которым дано значение
предложения. Следовательно, в рамках любой теории
значения из рассмотренных нами типов принципы,
определяющие то, что считается свидетельством
истинности предложения, должны быть производны от его
значения, так как они не даны непосредственно вместе
со значением, но определяются им. Средствами какой
же части теории значения осуществляется деривация
практики употребления языка?
В предыдущем обсуждении я без пояснений отнес ее
205
к той части теории действия, которая рассматривает
утверждение как лингвистический акт. Теперь
необходимо провести одно различие. Конечно, тот
вид заявлений, который мы приписываем
говорящему, который делает неквалифицированное, требующее
корректировки утверждение, т.е. тот вид основания
или гарантии, который требуется для того, чтобы
утверждение не вводило в заблуждение, является
частью конвенций, управляющих утвердительным
употреблением языка. Это есть нечто неопределяемое
единым образом с помощью значения предложения,
используемого для того, чтобы сделать утверждение, и может
варьироваться от одного разговора к другому, а также
от одного контекста к другому. Мы уже отмечали,
например, что наша конвенция требует, чтобы
неквалифицированное математическое утверждение было
подкреплено существованием реального
доказательства, и что эту конвенцию, совершенно отличную от
конвенции, управляющей утверждениями других
разновидностей, можно было бы изменить, никоим
образом не изменяя значений математических предложений.
Формулирование этих конвенций действительно
относится к теории ассерторического действия. Однако это
совершенно иной вопрос, чем тот, который мы здесь
рассматриваем. Нас же интересует то, что определяет,
что нечто является в какой-то степени свидетельством
истинности данного предложения, а не то, является ли
наличие такого свидетельства достаточным основанием,
чтобы принять предложение в качестве истинного (это
вопрос персональной стратегии), и также не то, дает ли
это свидетельство право утверждать данное
предложение (это вопрос независимой языковой конвенции,
которая обычно принимается).
Теперь, поскольку, как мы видели, смысл является
познавательным понятием, может показаться, что этот
эпистемологический компонент теории значения должен
относиться скорее к теории смысла, чем к теории
действия. Даже если теория референции просто
сообщает, как должно обстоять дело, чтобы предположение
было истинным, разве не должна теория смысла coob-
щать не только то, каким образом нам известны
условия истинности предложения, но и то, каким образом
мы можем знать или на каком основании можем
судить о том, что предложение истинно? Не следует ли
это из того, что Фреге был прав, полагая, что понятие
смысла может быть использовано не только для того,
чтобы сделать теорию значения в то же время и теорией
206
понимания, т.е. репрезентировать наше понимание
значений наших выражений, но также и для того, чтобы
дать объяснение употребления языка в целях передачи
информации, поскольку информация является
познавательным понятием, и что количество переданной
информации должно зависеть от того, какие шаги
первоначальный информатор должен был предпринять, чтобы
получить ее?
Фреге на эти вопросы, конечно, ответил бы "нет".
Для него смысл предложения выявляет его
познавательное значение (информационное содержание) только
в той мере, в какой он определяет, что знает тот, кто
понимает предложение, когда он знает, что
предложение истинно, и как он мог бы узнать об этом на
основании собственного знания, и в гораздо меньшей степени
то, что могло бы заставить его считать это предложение
истинным, не зная, что оно истинно. Зная смысл
предложения, он знает, что оно выражает определенную
мысль, т.е. он знает, что предложение истинно, если, и
только если, имеет место определенное условие; таким
образом, при принятии предложения в качестве
истинного мысль, выражаемая, по его мнению, этим
предложением, представляет собой усвоенную им
информацию, а именно информацию о том, что условие
истинности предложения соблюдается; каким образом
была первоначально получена эта информация — это
совершенно другой вопрос, который относится к
эпистемологии, а отнюдь не к теории значения.
На первый взгляд эта доктрина кажется ясной и
четкой; однако при ближайшем рассмотрении такое
впечатление исчезает. Если смысл предложения не
связан с нашими методами определения его истинности,
почему тогда Фреге отказывается признать, что два
аналитически эквивалентных предложения имеют один и
тот же смысл? Доктрина, в соответствии с которой в
модальных контекстах предложение обозначает свой
смысл, не нарушалась бы такой уступкой, поскольку
из двух таких предложений невозможно было бы,
чтобы одно из них было истинно, а другое ложно; а
уступка соблазнительна, поскольку Фреге располагает
хорошо разработанной теорией аналитичности, в то
время как, если два аналитически эквивалентных
предложения могут отличаться по смыслу, не возникает
никакого очевидного критерия тождества смыслов.
Разумеется, если бы мы согласились с этой уступкой,
невозможно было бы утверждать, что смыслы
предложений (мысли) являются объектами веры и знания,
207
т.е. что референтом предложения является его смысл,
когда оно входит в предложение с глаголом
"пропозициональной установки": однако сама эта доктрина
требует, чтобы смысл был связан со способом знания или
основанием верования.
Наш вопрос таков: можем ли мы сказать, что смысл
определяет только объект знания или веры — то, что
известно или во что верят и не определяет, каким
образом он известен и почему в него верят? Трудность
состоит в том, что эти две вещи, на первый взгляд
столь разные, связаны друг с другом слишком тесно,
чтобы их можно было рассмотреть отдельно.
Почему два предложения, Л и В, не могут иметь один и
тот же смысл? Вполне возможно, что единственный
довод против этого состоит в том, что "X верит (знает),
что А" может бьггь истинным несмотря на то, что "X
верит (знает), что В" ложно. То, что делает такую
ситуацию возможной, заключается в том, что основание
для веры в истинность А не является основанием для
веры в истинность В; и вывод таков, что, поскольку в
этих косвенных контекстах А и В обозначают
соответствующие смыслы, эти смыслы должны быть
различными, иначе истинностные значения сложных
предложений, в которые входят А и В, совпадут. Отсюда
следует, что различие в возможных основаниях того
или иного верования или в способе того или иного
фрагмента знания порождает различие в объектах
верования или знания; и это подтверждает наше
первоначальное утверждение, что, постигая возможный
объект веры или знания, т.е. понимая смысл
предложения, мы тем самым должны знать, какие основания
может иметь это верование и как можно прийти к
этому знанию. Концепция Фреге, в соответствии с
которой мысль представляет собой возможный объект
знания или веры, не обязательно должна быть
окружена доктринами, которые привели нас к этому выводу;
однако в действительности это так и было.
Два аналитически эквивалентных предложения не
могут в общем случае иметь одно и то же
информационное содержание, и, следовательно, один и тот же
смысл, так как можно знать, что одно из них истинно,
не зная при этом, что истинно и другое; некто, зная,
что одно из этих предложений истинно, мог бы,
следовательно, получить информацию об истинности другого
предложения, а это значит, что информация,
содержащаяся в каждом из этих предложений, должна быть
различной. Отсюда следует, что средства, с помощью ко-
208
торых предложение может быть распознано в качестве
истинного, имеют отношение к смыслу этого
предложения. Можно было бы утверждать, что показано лишь
то, что если информация, содержащаяся в одном
предложении, может быть усвоена независимо от
информации, содержащейся в другом предложении, то эти два
объема информации должны быть различными,
поскольку относительно них верны разные вещи, и
определение того, что собой представляют эти объемы
информации, не предполагает того, каким образом они могут
быть усвоены. Но этому противоречит тот факт, что,
по Фреге, понятие аналитичности и более общее понятие
априорности можно определить с помощью условий
истинности предложения; и, конечно, смысла цред-
ложения достаточно, чтобы определить, аналитич-
но оно или синтетично, априорно или апостериорно.
И все-таки в объяснении Фреге мало указаний на
то, каким образом способ, которым задан смысл
предложения, связан с основаниями, на которых мы
можем утверждать, что это предложение истинно.
Я думаю, что тот недостаток фрегевского
объяснения смысла, с которым связан этот пробел, кроется
в том, что Фреге не настаивал на том, что теория
смысла должна объяснять, в чем же проявляется
понимание смысла говорящим; и эта позиция Фреге
обусловлена требованиями построить теорию смысла в
рамках реалистической теории значения, оперирующей
понятием условий истинности предложений. Смысл,
полагает Фреге, есть нечто объективное; т. е. можно
точно установить, употребляют ли двое говорящих
какое-либо выражение в одном и том же смысле, и при
этом один говорящий может эффективным образом
сообщить другому смысл, который он придает тому
или иному выражению. Это возможно только в том
случае, если смысл слова однозначно определяется
через наблюдаемые характеристики его языкового
употребления (т.е. только если смысл — это употребление);
отсюда следует, что понимание смысла слова полностью
проявляется в том, каким образом использует это
слово говорящий. Если бы было необходимо представить
понимание говорящим смысла слова как знание им
какого-нибудь суждения, осознание которого
предполагало бы выход за пределы всякого простого
практического знания, т.е. если бы смысл слова нельзя было
исчерпывающе объяснить посредством способности
употреблять конкретным образом предложения,
содержащие это слово, тогда см£дсл не был бы полностью
209
коммуникабельным: мы никогда не были бы уверены,
что, обучив кого-нибудь определенной языковой
практике, мы тем самым действительно сообщили ему
правильный смысл этого слова. Тезис Фреге о том, что
смысл объективен, является, таким образом,
имплицитным предвосхищением (в отношении того аспекта
значения, который конституирует смысл) доктрины
Витгенштейна, в соответствии с которой (или одной из
семейств такого рода доктрин) смысл есть
употребление. Однако Фреге так и не сделал из этого выводов в
отношении форм, в которых может проявляться смысл
слова. Так, в случае собственных имен, в самом грубом
приближении понимание говорящим смысла имени
следовало бы представить как способность эффективно
определить, по отношению к любому данному объекту,
является ли он носителем этого имени. В
соответствии с любой заслуживающей доверия теорией значения,
это объяснение следует обобщить. В соответствии и с
верификационистской, и с фальсификационистской
теорией, нам следовало бы сказать, что понимание
смысла имени заключается в способности распознавать
то, что следует считать средством окончательного
установления для данного объекта, того, что он является
носителем имени. Однако в соответствии с
реалистической теорией даже это является слишком
ограниченным объяснением: мы должны сказать скорее, что
понимание смысла имени заключается в знании того,
что должно быть истинно по отношению к любому
данному объекту для того, чтобы он был носителем этого
имени; а поскольку условие, которое должно быть
выполнено объектом, может быть таким, что будет
выходить за пределы нашей способности распознавать,
в тех или иных случаях, соблюдается оно или нет,
то понимание имени при таком толковании не будет,
вообще говоря, тем, что может быть полностью
выявлено в процессе употребления имени. Подобным же
образом требование Фреге о том, что предикат должен быть
всюду определен, выражено им в виде требования,
чтобы он был определен для любого объекта,
независимо от того, приложим к объекту этот предикат или
нет; но он эксплицитно допускает, что мы можем и не
быть способны в тех или иных случаях сделать это.
Наша способность распознать, что предикат тем не менее
определен, должна, следовательно, зависеть от
придания нами этому предикату такого смысла, что мы
можем сказать, что имеется определенное условие для
его применимости, не зная при этом, как показать,
210
выполняется это условие или нет; и снова из этого
следует, что наше понимание смысла предиката не
может полностью проявиться в нашем употреблении
этого предиката. Можно было бы утверждать, что
определенные черты этого употребления, например в
конкретных случаях применения закона исключенного
третьего, свидетельствуют о нашем убеждении в том,
что предикат обозначает некоторое условие, которое
определенно либо выполняется, либо не выполняется
каждым объектом; но наше употребление предиката
никогда не может полностью выявить, каково же то
условие, которое мы связываем с данным предикатом.
Первый из двух доводов Фреге в пользу различия
между смыслом и референтом имеет целью показать,
что нельзя приписать говорящему знание референта
какого-либо выражения, не приписывая ему знание
определенного суждения; но Фреге не сумел решить
проблему, каким образом в объяснении понимания
говорящим какого-либо выражения как знания им
соответствующего суждения можно избежать
порочного круга, если знание суждения не может быть в свою
очередь объяснено без апелляции к способности
формулировать это суждение. Именно из-за этого он не сумел
дать убедительного объяснения связи между смыслом
и знанием.
Заменить реалистическую теорию значения верифи-
кационистской теорией — значит сделать первый шаг в
выполнении требования, чтобы мы включили в нашу
теорию смысла объяснение того основания, исходя
из которого мы судим об истинностных значениях
наших предложений, поскольку это действительно
объясняет значения выражений с учетом реальных
человеческих способностей распознания истины. Я уже отмечал,
однако, что этот шаг сам по себе еще не приводит нас к
удовлетворению этого требования, и у меня нет ясного
представления о том, как это можно сделать.
Естественно считать это требование чрезмерным и рассматривать
его как требование, чтобы теория значения взяла на
себя функции теории знания. Если бы мы были
убеждены в том, что мы понимаем в принципе, каким
образом смысл предложения определяет то, что мы
считаем свидетельством истинности предложения, и что
проблемы в этой области, как бы сложны они ни были,
касаются отдельных деталей, тогда вполне можно было
бы отнести их к другой философской дисциплине; но
трудность состоит в том, что мы не вправе так
поступить. Концепция значения — т.е. выбор центрального
211
понятия для теории значения — является адекватной
только в том случае, если существует общий метод
получения, из значения предложения как оно дано,
каждой характеристики употребления предложения, то
есть всего, что должно быть известно говорящему, если
он собирается правильно употреблять это предложение;
несомненно, среди тех вещей, которые он должен знать,
есть и то, что является основанием истинности
предложения. Большинство из нас безмятежно полагает, что
теория значения, оперирующая понятием условий
истинности, способна выполнить эту роль, не
останавливаясь при этом на трудностях создания рабочей
теории такого типа. С учетом нашего нынешнего,
весьма несовершенного понимания этих вопросов нам
следует признать, что верификационистская теория
значения более предпочтительна, чем радикальная
реалистическая теория, а фальсификационистская
теория, вероятно, еще лучше. Но до тех пор, пока мы не
имеем при том или ином выборе центрального понятия
теории значения убедительного объяснения того
способа, которым каждая особенность употребления
предложения может быть определена, исходя из значения
предложения, посредством применения к нему
центрального понятия, мы остаемся без твердого
основания, которое позволило бы нам заявить, что мы знаем,
чем, в сущности, является значение. И до тех пор, пока
мы остаемся в этом неустойчивом философском
положении, любую проблему, решение которой, при
условии что выбор центрального понятия для теории
значения сделан, поможет ответить на вопрос о
правильности этого выбора, следует считать прямым делом
философии языка.
Дональд Дэвидсон
ОБЩЕНИЕ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ*
Конвенциональность играет заметную роль в таких
областях нашей жизни, как, например, речевое общение,
игры, принятие пищи. Вы не сможете объяснить,
скажем, что такое игра в покер, не описав правил этой
игры. В то же время в момент объяснения, что такое
принятие пищи, описание правил и условностей совсем
не обязательно.
А как при этом обстоит дело с речью? Является ли
конвенциональность здесь просто удобством, светским
излишеством или языковое общение вообще
невозможно без конвенций?
Вопрос этот сложен, так как он касается не
истинности утверждения о конвенциональном характере
речи, а той роли, которую конвенция играет в речевом
общении. Он может быть поставлен и иначе: возможно
ли языковое общение без общепринятых
договоренностей? По мнению Дэвида Льюиса, "наличие языковых
конвенций — это очевидность, отрицание которой
может прийти в голову разве только философу"1.
Безусловно, было бы абсурдно отрицать тот факт,
что многие конвенции связаны с речью. Так, мы
говорим "с добрым утром!" при любой погоде, однако это
не тот тип конвенций, от которого зависит
существование языка. Д. Льюис, несомненно, имеет в виду
конвенциональный характер связей между словами и тем,
что они означают. Возможно, что отрицать это захочет
только философ, но если это так, то и утверждать эту
точку зрения будет прежде всего философ. Что на
самом деле является очевидным до банальности, так это
произвольность в применении тех или иных звуков для
♦Davidson D. Communication and Convention, "Synthese",
59, 1984, p. 3-17. © Davidson D., 1984.
Lewis D. Languages and Language, In: Gunderson Keith
(ed.). Language, Mind and Knowledge, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1975, p. 7.
213
обозначения различных объектов и явлений.
Действительно, то, что конвенционально, является в
определенном смысле произвольным, однако то, что
произвольно, не обязательно конвенционально.
С одной стороны, мы можем полностью описать
язык, определив, что такое значимое высказывание и
что означает каждое фактическое или потенциальное
высказывание. Но такие определения подразумевают
априорное наличие у нас знания тоге, что же мы имеем
в виду, когда говорим, что данное высказывание имеет
данное конкретное значение. Чтобы пролить свет на эту
проблему — традиционную проблему значения, — нам
потребуется осветить связь между понятием "значение"
и убеждениями, желаниями, намерениями и целями.
Именно обеспечение связи (или связей) между
лингвистическими значениями, с одной стороны, и
установками и действиями людей, описываемыми в
нелингвистических терминах, с другой, является той
областью, в которой конвенции должны прежде всего
играть свою роль.
В этом отношении существует много различных
теорий, которые я подразделяю на три группы.
Во-первых, это теории, утверждающие конвенциональный
характер связи произносимого предложения, стоящего
в том или ином грамматическом наклонении, с
намерениями говорящего или с какой-либо более общей
целью. Во-вторых, это теории, анализирующие
конвенциональный характер каждого предложения. В-третьих,
это теории, доказывающие наличие конвенции,
связывающей конкретные слова с экстенцией или интенсией.
Все указанные группы теорий не противоречат друг
другу, и в зависимости от деталей возможны их любые
комбинации. Рассмотрим эти группы в том порядке,
как они мной перечислены.
В одной из своих ранних, оказавших заметное
влияние статей Майкл Даммит утверждал, что
использование людьми декларативных предложений управляется
конвенцией2. Позднее он изложил эту мысль
следующим образом: "... (декларативное) предложение не
требует для его понимания какого-либо конкретного
контекста... Высказывание предложения служит для
утверждения чего-то... существует общая конвенция о
том, что высказывание того или иного предложения
(за исключением особых контекстов) понимается как
2Dummett М. Truth, In: Truth and Other Enigmas,
Duckworth, London, 1978. (Originally published in 1959.)
214
намерение высказать предложение, содержащее
истину"3 .
Этот сложный и, пожалуй, не совсем очевидный
тезис я интерпретирую следующим образом. Между
высказыванием декларативного предложения и
использованием его в качестве утверждения существует
конвенциональная связь (во всех случаях, кроме особых
контекстов, говорящий утверждает нечто). В то же время
имеется концептуальная (а, возможно, и
конвенциональная) связь между высказыванием того или иного
утверждения и намерением высказать нечто истинное.
Обоснованность такой интерпретации мыслей Дам-
мита подтверждается, на мой взгляд, одним из его
наиболее убедительных аргументов. Он начинает с
анализа определений истинности в духе Тарского и
напоминает (следуя в русле более ранней работы Макса
Блэка4 , хотя, возможно, и не подозревая об этом), что
Тарский описал принципы построения теории
истинности для конкретных (формализованных) языков.
Вместе с тем, по Даммиту, Тарский не дал определения
истинности в целом; более того, он фактически
доказал принципиальную невозможность такого
определения, по крайней мере в рамках его метода. Поэтому
Тарский не смог сказать, что же делает каждое
определение истинности именно данным определением.
Конвенция Т, к которой Тарский прибегает как к
критерию корректности определения истинности, не
содержит в себе указания на то, что такое истинность в целом,
она лишь использует наше интуитивное постижение
этого понятия.
Даммит проводит аналогию между истинностью и
понятием выигрыша в игре. Если мы хотим знать, что
такое выигрыш, нам недостаточно определения этого
понятия для каждой конкретной игры: нам нужно
знание того, почему ситуации, выигрышные для
конкретной игры, являются таковыми в целом. Возвращаясь к
вопросу об истинности, проблему можно изложить
теперь следующим образом: предположим, мы
вступили в общение с человеком, говорящим на
непонятном для нас языке, и у нас имеется определение
истинности, сформулированное в духе Тарского; можем
ли мы в таком случае судить о применимости этого
определения к данному языку?
^Dummett M. Frege, Duckworth, London, 1973, p. 298.
4Black M. "The Semantic Definition of Truth", Analysis 8
(1948), 49-63.
215
Вопрос закономерный, однако я не нахожу на него
ответа в рамках конвенции, предложенной Даммитом,
так как, по моему мнению, в языке нет ничего, что
соответствовало бы должным образом феномену
выигрыша в игре. Это весьма важно, так как, если Даммит
прав, установление в языке каких-то свойств,
аналогичных характеристике выигрыша в игре, означает
установление решающей связи между значением, как
оно определяется в теории истинности, и
использованием языка в общении5.
Выигрыш в такой игре, как шахматы, предполагает
следующее. Во-первых, шахматисты обычно хотят
выиграть. По условиям игры они должны по крайней
мере представлять себя (represent themselves)
стремящимися к выигрышу независимо от того, хотят
они выиграть на самом деле или нет. Это не то же
самое, что делать вид (pretend), будто вы стремитесь к
победе, или пытаться убедить в этом стремлении
других. Но представление себя как стремящегося к
выигрышу влечет за собой, вероятно, возможность
порицания шахматиста со стороны других, если будет
обнаружено, что он не играет — или не стремится играть — на
выигрыш.
Во-вторых, одержать победу в шахматах можно
лишь в том случае, если делать ходы, оговоренные
правилами этой игры. Следовательно, победа полностью
определяется правилами.
Наконец, в-третьих, выигрыш в шахматах может
быть — и часто является — самоцелью6 . Насколько мне
известно, ни один язык не имеет такого набора
характеристик, а отсюда следует, что аналогия Даммита в
корне ошибочна.
Является ли "высказывание истины'' (в смысле
намеренного высказывания предложения, которое
оказывается совпадающим с истиной) подобием
выигрыша? Именно в этом отношении "высказывание истины"
является предметом определения для теории истин-
B данном случае неверие Даммита в то, что теория
истинности может служить в качестве теории значения, для меня
несущественно. Вопрос здесь заключается в наличии или отсутствии
той или иной конвенции, управляющей высказыванием.
ьРазличие действий, которые могут быть самоцелью
(например, игра на флейте), и действий, служащих для достижения
каких-то дальнейших целей (например, постройка дома),
восходит, конечно, к Аристотелю: Nichomachean Ethics 1094а;
Magna Moralia 1211b.
216
ности. Тогда, коль скоро условия истинности
высказываний заранее известны как Говорящим, так и их
интерпретаторам и заранее оговорены как одно из
условий общения, "изречение истины" обладает одним из
свойств выигрыша в игре (пределы истинности самого
этого положения мы рассмотрим ниже). В то же время
здесь отсутствуют другие свойства выигрыша, так как
обычно люди, высказывающие ту или иную фразу,
совсем не обязательно заботятся об ее истинности.
Иногда они стремятся к этому, но чаще всего — нет.
Далее, чтобы играть в игру под названием "речь",
людям не нужно представлять себя намеревающимися
или желающими говорить истины. Не существует
общего допущения относительно того, что
высказывающий декларативное предложение одновременно
хочет или намеревается высказать истину. Нет допущения
и относительно того, что в случае истинности
высказывания эта истинность была намеренной.
Наконец, "высказывание истины" — в смысле
произнесения предложения, отвечающего критерию
истинности, — никогда не является самоцелью.
В отличие от "высказывания истины" более
вероятным лингвистическим аналогом выигрыша является
утверждение. Человек, утверждающий нечто,
представляет себя убежденным в правоте своих слов,
причем, возможно, справедливо убежденным. А так как
мы стремимся к совпадению наших убеждений с
истиной, можно согласиться с Даммитом в том, что
высказывающий утверждение представляет одновременно
свое намерение высказывать истину (именно таким
образом я интерпретирую замечание Даммита о том,
что говорящий "понимается" как намеревающийся
высказать предложение, содержащее истину).
Как в игре, так и здесь "представление себя" может
вводить и не вводить в заблуждение, ведь лжец тоже
что-то утверждает. Говорящий может иметь (а может и не
иметь) намерение уверить своего собеседника в том, что
он сам верит в высказываемое им утверждение.
Следовательно, в отличие от "высказывания истины"
утверждение чего-либо напоминает участие в игре в том
отношении, что налицо общее согласие о целевом характере
двух последних видов деятельности. В то же время в
других аспектах утверждение не аналогично достижению
победы, так как процесс и условия утверэадения не
регулируются ни общими правилами, ни конвенциями7 .
За освещение этого вопроса я весьма признателен Сью
Л ар сон.
217
Чтобы понятие утверждения могло служить
конвенциональной связкой между целью и истинностью,
должны быть соблюдены два условия: во-первых,
утверждения должны подпадать под действие принципа,
конвенциональное™ и, во-вторых, должно
существовать общее согласие относительно характера связи
между утверждениями и тем, что считается истинным.
По моему мнению, ни то, ни другое условие в
действительности не выдерживается.
В существовании конвенций, регулирующих
утверждения, уверены многие философы. Так, Даммит во
фразе, опущенной мною в предыдущей цитате, говорит,
что "высказывание предложения служит для того,
чтобы что-то утверждать..."8 . Попробуем прежде всего
установить, действительно ли утверждения
регулируются конвенциями. Если считать конвенциональным
положение о том, что, будучи высказанным,
предложение приобретает свое буквальное значение, тогда,
безусловно, конвенции присутствуют во всех
высказываниях, в том числе и в утверждениях. Однако
буквальное значение может не выходить (а по моему мнению,
вообще не выходит) за рамки условий истинности.
Никто, я полагаю, не будет отрицать, что одно и
то же декларативное предложение может иметь одно и
то же значение вне зависимости от того, с какой целью
оно высказано: или чтобы утверждать что-то, или
пошутить, или позлить зануду, или окончить стихотворение,
или задать вопрос. Следовательно, если конвенция
здесь и присутствует, чтобы данное предложение
воспринималось как утверждение, его высказывание с
необходимостью должно сопровождаться целым
"букетом" других конвенций.
Безусловно, мало просто сказать, что что-то в
контексте делает то или иное предложение утверждением:
это еще ничего не доказывает и ничего не говорит о
конвенциональности. Более того, мы можем даже
вычленить в контексте какие-то признаки, превращающие
его в утверждение, однако, по-моему, эти признаки
будут очень расплывчатыми, а их набор —
неисчерпывающим.
Но даже если необходимые и достаточные условия
были бы ясно определены и все были бы с ними
согласны, из этого еще не следовало бы, что они носят
конвенциональный характер: мы все согласны, что у лошади
должно быть четыре ноги, но наличие у лошадей четы-
8Dummett M. Frege, 1973, р. 293.
218
рех ног не конвенция.
У утверждений есть еще одно свойство,
предполагающее их конвенциональность. Оно заключается в
том, что, высказывая какое-либо утверждение,
говорящий должен иметь намерение сделать это, а также
намерение убедить своих слушателей в своем первом
намерении. Каждое утверждение рассчитано на
аудиторию, причем оно должно обладать целым набором
признаков, необходимых для того, чтобы аудитория
адекватно восприняла его "утвержденческий"
характер. Отсюда, на первый взгляд, было бы естественным
воспринимать возможную конвенцию как полезное и
удобное средство для демонстрации наших намерений
высказать то или иное утверждение.
Однако Фреге был, безусловно, прав, отмечая, что
"в языке нет ни одного слова, ни одного знака, чьей
функцией было бы простое утверждение чего-то".
Фреге, как известно, намеревался прояснить проблему
введением изобретенного им знака "/-". Фреге действовал
здесь на основе вполне здравого принципа: если языку
присуще свойство конвенциональное™, оно может
быть отображено при помощи символов. Однако
прежде чем вводить такой знак утверждения, Фреге стоило
бы задаться вопросом о том, почему такого знака не
существовало ранее. Представьте себе следующее:
актер играет а эпизоде, по ходу которого
предполагается возникновение пожара (например, в пьесе Олби
"Крошка Алиса"). По роли ему положено с
максимальной убедительностью сыграть человека, пытающегося
оповестить о пожаре других. "Пожар!" — вопит он и,
возможно, добавляет (по замыслу драматурга):
"Правда, пожар! Смотрите, какой дым!" — и т.д. И вдруг...
начинается настоящий пожар, и актер тщетно пытается
убедить в этом зрителей. "Пожар! — вопит он. —
Правда, пожар! Смотрите, какой дым!" — и т.д. Вот ему бы
знак утверждения, придуманный Фреге!
Каждому ясно, что здесь такой знак не поможет,
ведь актер не замедлил бы прибегнуть к нему с самого
начала, когда он еще только играл свою сценическую
роль.
Подобные же рассуждения убедят нас в
несостоятельности посылок о том, что сцена создает
конвенциональную среду, отрицающую конвенциональность
утверждений: если бы это было так, конвенциональность
актерской игры также можно было бы в свою очередь
изобразить символами; конечно, ни один актер и
ни один режиссер и не подугЛ&ют их использовать, пос-
219
кольку удел людей искусства — вверять свою судьбу
в наши руки.
Нам неизвестны оговоренные, общепринятые
конвенции о высказывании утверждений, как неизвестны
они и для приказов, вопросов, обещаний. Все эти акты
типичны для человека, причем часто он добивается в
них успеха, а успех этот зависит в определенной
степени от того, насколько ясно он выражает при этом
свои намерения осуществить именно данный акт. И уж
ни в коей мере успех здесь не зависит от конвенций.
Второй момент в посылке Даммита — это заявление
о наличии конвенции относительно того, что при
высказывании утверждения говорящий "понимается" как
"намеревающийся высказать предложение, содержащее
истину". Это тоже представляется мне ошибочным,
хотя и в несколько другом плане. Что действительно
понятно, так это представление говорящим самого
себя — при высказывании утверждения — убежденным в
истинности своих слов. Но это не конвенция, а просто
часть анализа того, что такое утверждение. Утверждать —
значит, среди прочего, представлять себя верящим в
свое собственное утверждение. Никакого
конвенционального знака, который бы означал высказьшание
говорящим именно того, во что он верит,
существовать, естественно, не может, так как в противном
случае таким знаком пользовался бы любой лжец.
Нельзя связать конвенцией то, что, возможно, всегда
должно оставаться в тайне (намерение высказать
истину), и то, что с неизбежностью должно делаться
публично (высказывание утверждения): искренность
под принцип конвенциональное™ не подпадает.
Если буквальное значение конвенционально, то
различия между грамматическими наклонениями —
декларативным, императивным, вопросительным,
желательным (optative) — также должны быть
конвенциональными. Эти различия очевидны, их цель — дать человеку
возможность легко отличать одно наклонение от
другого, причем обычно это обеспечивается за счет одного
синтаксиса. Но это в свою очередь показывает, что
какой бы тесной ни была связь между грамматическим
наклонением и иллокутивной силой, она, эта связь,
не может быть просто конвенциональной.
Хотя основное внимание в данной статье было
уделено утверждению, аналогичный ход мыслей можно
применить по отношению к любому виду
иллокутивных актов. Однако главный интерес представляет здесь
для меня не природа иллокутивных сил и не такие ак-
220
ты, как утверждение, обещание или приказ, а идея о
том, что с помощью конвенции можно связать значения
употребляемых нами слов (то есть их буквальные
семантические свойства, включая истинность) с той
целью, для достижения которой мы их употребляем
(например, для того чтобы высказать истину).
Мы рассмотрели различные доводы о
существовании всевозможных целей, связанных конвенционально
с языковым общением, целей, которые, по словам
Даммита, приводят нас к пониманию того, как и для
чего мы используем язык. Теперь я хочу перейти к
разбору теорий совершенно другого характера, а именно
теорий, стремящихся выводить буквальный смысл
целевых предложений (а не просто индикаторы
наклонения) из тех нелингвистических целей, достижению
которых служит их высказывание. В данной работе меня
интересуют теории, ставящие такое выведение смысла
в зависимость от конвенций.
Упрощенно говоря, согласно этим теориям каждое
предположение привязано к одному-единственному
варианту (или конечному числу вариантов) его
использования, и именно этот вариант придает данному
предложению его значение. Поскольку, далее, вариантов
использования одного предложения с неизменным
значением в действительности бесконечно много, связь между
единственным вариантом (или конечным числом
вариантов) использования предложения и самим
предложением конвенциональна, а сам данный вариант можно
назвать "стандартным".
Это, конечно, слишком упрощенно, но сама идея
кажется достаточно привлекательной и естественной.
Между предложением типа "съешь морковку" и
намерением, произнеся это предложение, побудить кого-то
съесть морковку, действительно существует важная
связь. Однако, скажете вы, побудить кого-то съесть
морковку и есть то, для чего служит фраза "съешь
морковку". Но дело в том, что, если бы это интуитивное
утверждение можно было выразить в эксплицитной
форме и корректно обосновать, появилась бы
возможность изложения буквальных значений в терминах
обычных нелингвистических целей, которые всегда
стоят за высказываемыми фразами.
Намерения присутствуют во всех языковых
высказываниях, и, если бы мы умели их вычленять, мы бы
знали буквальные значения произносимых слов.
Действительно, нельзя сказать "съешь морковку", придав
этим словам их буквально значение, то есть побуж-
221
дение кого-то съесть морковку, если не иметь
намерения придать данной фразе именно это значение и не
хотеть, чтобы слушатели восприняли ее опять-таки
именно в этом значении. Конечно, одно намерение не
наделяет фразу значением, но, если произносить фразу с
намерением произнести ее с данным значением, а на
самом деле она этого значения не имеет, тогда она
вообще не имеет никакого языкового значения. Если
буквальное значение как таковое действительно
существует, оно должно совпадать с тем буквальным
значением, которое хочет придать фразе говорящий.
Хотя этот непреложный факт важен сам по себе,
он не может служить для нас непосредственной опорой
в осмыслении понятия буквального значения: для
описания сути намерения мы вынуждены прибегать к
самому буквальному значению.
Не можем мы здесь опереться и на принцип кон-
венциональности, так как мы рассчитывали на
конвенции в преобразовании неязыковых целей в
языковые акты с буквальным значением. Конвенция,
с одной стороны, связывающая намерение использовать
слова с неким буквальным значением, а с другой
стороны, фактическое буквальное значение этих слов, не
может объяснить понятие буквального значения,
поскольку она сама будет зависеть от этого значения.
Объект нашего поиска — это неязыковые
намерения, присутствующие в высказываемых фразах, то есть
их скрытые цели (это понятие можно соотнести с тем,
что Остин называл перлокуционными актами —perlocu-
tionary acts).
Я уже упоминал вскользь, а сейчас хочу особо
подчеркнуть тот факт, что высказывания всегда обладают
скрытой целью: это послужило мне одним из оснований
для утверждения того, что ни один из чисто языковых
видов деятельности не похож на игру с выигрышем.
Какой-то элемент условности здесь, возможно, есть, но,
если человек произносит "слова" просто ради того,
чтобы слышать издаваемые при этом звуки или чтобы
кого-то усыпить, на мой взгляд, это неязыковые акты.
Действие можно назвать языковым только в том
случае, если для него существенно буквальное значение.
Но там, где существенно значение, всегда имеется
скрытая цель. Говорящий всегда нацелен на то, чтобы,
скажем, дать указание, произвести впечатление,
развеселить, оскорбить, убедить, предупредить, напомнить и т.д.
Можно говорить даже с единственной целью утомить
своих слушателей, но никогда — в надежде на то, что
222
никто не будет пытаться уловить значение вашей речи.
Если я прав относительно того, что каждый случай
использования языка характеризуется скрытой целью,
то человек всегда должен стремиться достичь какого-то
неязыкового эффекта, рассчитывая на
соответствующую интерпретацию его слов аудиторией.
Макс Блэк отрицал это на том основании, что
"...человек может поместить в блокноте дату встречи или
просто произнести слова типа "чудесный денек!", не
имея при этом никакой аудитории"9. Первые два
примера — это как раз те случаи, когда значение слов
играет большую роль, а "аудитория", которой предстоит
интерпретировать эти слова, это я сам по прошествии
какого-то времени. Утверэвдать, что в последнем примере
человек тоже говорит сам с собой, было бы слишком
тенденциозно; тем не менее здесь важно, какие слова
говорятся и что они означают. Более того, безусловно,
должна быть хотя бы какая-то причина использования
им именно этих слов — с их соответствующим
значением, — а не других.
Об этом же говорит приводимая Блэком цитата из
Хомского: "Хотя рассмотрение намерений, с которыми
делается то или иное высказывание, позволяет обойти
некоторые проблемы, оно ведет в лучшем случае к
анализу спешности общения, а не к анализу знаний или
способов использования языка, причем эти способы
совсем не обязательно включают в себя общение или
хотя бы попытки к нему. Если я использую язык для
выражения мыслей, или для внесения в них ясности,
или для того, чтобы, например, обмануть, снять
неловкость от наступившего молчания, и т.д. и т.п., мои
слова имеют строгое значение; весьма вероятно, далее, что
я хочу сказать именно то, что я говорю, но даже
исчерпывающее понимание моих намерений в чем-то убедить
или к чему-то побудить моих слушателей (если
таковые есть) может оказаться весьма ненадежным
показателем значения моих слов"1 ° .
По моему мнению, в приведенном выше отрывке
Хомский приходит к правильному выводу, однако
отталкивается он от неясных или вообще не
относящихся к существу проблемы предпосылок. Проблема же
заключается в том, чтобы дать ответ на вопрос: можно
9 В 1 а с k М. Meaning and Intention: An Examination of Grice's
Views, New Literary History 4 (1972—1973), p. 264.
10Chomsky N. Problems of Knowledge and Freedom. New
York, 1971, p. 19.
223
или нет выводить значение из нелингвистических
намерений говорящего? По Хомскому — и, я думаю, он
прав, — это невозможно^ Однако для того, чтобы сделать
такой вывод, совершенно не требуется затрагивать
вопросы влияния намерений говорящего на кого-то
еще помимо него самого: устная и письменная речь,
направленная на внесение ясности в рассуждения
субъекта, безусловно, предполагает намерение
повлиять на что-то. Несущественно также, каким образом мы
будем употреблять термин "общение". Вопрос в том,
является ли поведение лингвистическим, если при этом
отсутствует намерение использовать значение слов.
Замечу, что ложь — это тот случай, когда значения
приобретают особую важность: скрытая цель,
имеющаяся у лжеца, может быть достигнута лишь при
условии, что его слова понимаются именно в том
смысле, какой он им придает.
Как я уже отмечал, Хомский прав, утверждая,
что никакое знание моих намерений в чем-то убедить
слушателей или к чему-то их побудить не ведет к
раскрытию ими буквального значения моего
высказывания. Даже это утверждение, как мы видим, должно
ограничиваться описанием моих намерений в
нелингвистических терминах, так как, если я намереваюсь к
чему-то побудить или в чем-то убедить слушателей,
это может быть достигнуто только путем корректной
интерпретации ими буквального значения моих слов.
Теперь становится относительно ясно, какова
должна быть роль конвенций, если они призваны
осуществлять связь между неязыковыми целями высказывания
предложения (то есть скрытыми целями) и
буквальным значением этого предложения при его
произнесении. Конвенция должна отбирать — ясным как для
говорящего, так и для слушающего способом (причем
эта ясность должна быть намеренной) *— те случаи, в
которых скрытая цель непосредственно указывает на
буквальное значение. Я имею в виду, например, тот
случай, когда произнесением слов "съешь морковку"
в их обычном значении говорящий намеревается
побудить к этому своего собеседника за счет понимания
последним этих слов и иллокутивной силы
высказывания.
Здесь опять-таки мне кажется, что такой конвенции
не только не существует, но она вообще не может
существовать. Дело в том, что даже если — в
противоположность моей позиции — какие-то конвенции и
могли бы управлять иллокутивной силой высказыва-
224
ний, их связь с намерением побудить к выполнению
просьбы или приказа должна означать искренность
говорящего, то есть совпадение желаний говорящего,
как он представляет их собеседнику, с тем, чего он
действительно хочет. Но ведь всякому ясно, что
конвенции, которая служила бы знаком искренности, быть
не может.
Я должен повторить здесь следующее.
"Предложение всегда означает то, что можно обнаружить в
скрытой цели при условии искренности, серьезности и т.п.
говорящего". Данное положение многие рассматривают
как конвенцию, но я с ними не согласен; это в лучшем
случае частичный анализ связей между буквальным
значением, искренностью и намерениями.
Общепризнанных критериев и традиций здесь нет.
Иногда полагают, что язык можно выучить только
в атмосфере искренних утверждений (приказов,
обещаний и т.д.). Даже при условии соответствия
действительности это еще ничего не доказывает
относительно роли конвенций. Но я к тому же весьма
скептически смотрю на само это утверждение: частично потому,
что в значительной степени обучение языку
происходит в игре, в разыгрывании ролей, в слушании сказок
и историй и т.д., и частично в силу того, что овладение
языком не может зависеть в такой степени от "удачи",
а именно от "удачи" общения с безыскусными,
пуритански-серьезными и прямолинейными приятелями и
родителями.
Для игр типа шахмат, покера и т.п. характерно
наличие взаимно согласованных критериев не только
того, что такое игра, но и того, что такое выигрыш. В
этих играх чрезвычайно важен и тот факт, что обычно
не возникает никаких проблем относительно их
исхода. Для них характерно также то, что выигрыш здесь
может быть самоцелью, а игроки представляют себя в
качестве желающих выиграть или стремящихся к
этому.
Вместе с тем критерии для определения
буквального значения высказываний — теории истинности или
значения высказывания для слушателя — не могут
служить опорой при решении вопроса о том, достиг
говорящий своих скрытых целей или нет. Не существует также
никакого общего правила, согласно которому
говорящий должен представлять себя обладающим какой-то
дальней целью, лежащей за использованием им слов в
каком-то определенном значении и с определенной
силой. Конечная цель может быть, а может и не быть
8-567
225
очевидной; она может способствовать определению
слушателем буквального значения, а может и не
способствовать этому.
Я прихожу к выводу, что независимость
буквального значения высказывания от его скрытой цели (в
том смысле, что первое нельзя вывести из
последнего) — явление в языке не случайное, оно относится к его
сущности. Я называю это свойство языка принципом
автономии значения.
С одним из примеров проявления этого принципа
мы столкнулись при анализе иллокутивной силы,
когда обнаружилось, что то, что определяется как
буквальное значение, может рассматриваться затем и как
скрытая (неязыковая) цель и даже как содержание
иллокутивного акта1 х.
Прежде чем закончить рассмотрение теорий двух
первых групп, хотелось бы сделать следующее
замечание. Все мои рассуждения вовсе не направлены на
то, чтобы доказать отсутствие связи между
индикаторами наклонения и идеей определенного
иллокутивного акта. Я уверен, что такая связь существует.
Например, произнесение предложения в императивном
наклонении вполне недвусмысленно проявляет себя
как акт приказания, но это просто часть буквального
значения произносимых слов, причем она не
устанавливает никакой связи — ни конвенциональной, ни
какой-либо другой — между иллокутивными
намерениями говорящего и его словами.
Есть два совершенно различных тезиса, которые,
между тем, легко спутать. Первый (правильный) тезис
гласит, что каждое высказывание императивного
предложения само маркирует себя (истинно или ложно)
как приказание. Второй тезис утверждает
существование конвенции о том, что при "стандартных" условиях
высказывание императива есть приказ. Первый тезис
объясняет различие в значениях между императивным
и повествовательным предложением (причем различие,
существующее совершенно независимо от
иллокутивной силы), в то время как второй не может служить
таким объяснением, поскольку он постулирует
существование конвенции, действующей только при
"стандартных" условиях. Нельзя следовать конвенции, одновре-
Подробное освещение вопроса, а также мою гипотезу о
характере связи между иллокутивной силой и грамматическим
наклонением см, в моей статье: "Moods and Performances".—In:
Margalit Avishai (ed.), Meaning and Use, Reidel D., Dordrecht, 1979,
p. 9-20.
226
менно нарушая ее, это будет просто некорректное ее
применение. Но различие между императивным и
повествовательным предложениями может
использоваться (и очень часто вполне корректно используется) в
тех ситуациях, когда наклонение и иллокутивная сила
не являются "стандартными". Ссылки на варианты типа
театральных, когда актер одевает корону и тем самым
показывает, что он играет роль короля, здесь не
помогут: если это конвенция, то она служит в данном случае
для управления буквальным смыслом. Ношение
короны, будь то в шутку или всерьез, равнозначно
высказыванию "Я король".
Суть этого замечания относится также к той группе
теорий, которые пытаются выводить буквальное
значение каждой фразы из "стандартных вариантов ее
применения. Поскольку буквальное значение присуще
фразе вне зависимости от ее применения, никакая
конвенция, действующая лишь в "стандартных" ситуациях,
не может придать ей этого значения.
Мы уже рассматривали положение о том, что
языковая деятельность в целом подобна игре. Согласно
этому положению, существует конвенциональная цель
(высказывание того, что соответствует истине,
выигрыш и т.п.), которая может быть достигнута только
путем использования общепринятых правил. Затем мы
разобрали утверждение, согласно которому
буквальное значение каждого предложения конвенционально
связано со "стандартной" неязыковой целью (скрытой
целью). Проведенный нами анализ показал
несостоятельность как той, так и другой точек зрения, и теперь
пора перейти к рассмотрению "очевидности"
конвенционального характера значения слова, то есть
конвенции о том, что мы приписываем значения отдельным
словам и фразам при их произнесении или написании.
Согласно Дэвиду Льюису12, конвенция есть
регулярность в действиях (или в действиях и убеждениях),
причем включенными в эту регулярность должны быть
минимум два человека. Регулярность R обладает
следующими свойствами:
1. Каждый человек, включенный в Д, подчиняется
Д.
2. Каждый человек, включенный в Д, верит, что
другие также подчиняются R.
3. Убежденность в том, что другие подчиняются jR,
дает остальным людям, включенным в R, достаточные
12 L е w i s D. "Languages and Language", p. 5, 6.
227
основания подчиняться R.
4. Все заинтересованные стороны желают, чтобы
существовала подчиненность R.
5. R не единственная возможная регулярность,
отвечающая двум последним требованиям.
6. Каждый человек, включенный в R, знает
свойства 1—5 и знает, что все остальные также их знают и т.д.
Т. Берджем был поднят резонный вопрос о
правомерности некоторых утверждений в п. 6 (необходимо
ли по условиям конвенции требование, чтобы всем
было известно о наличие альтернатив?)13. У меня
самого есть на этот счет сомнения, но вдаваться здесь в
детали понятия конвенции не имеет смысла.
Нам важно получить ответ на следующий вопрос:
ведет ли понятие конвенции к пониманию языкового
общения? Поэтому вместо того, чтобы спрашивать,
например, что нового добавляет в понятие
регулярности понятие "подчинения" ей, я просто соглашусь с
фактом распространения на носителей одного и того же
языка каких-то свойств, подобных шести свойствам
постулата Льюиса. Но насколько фундаментален этот
факт для языка?
Ясно, что анализировать здесь нужно такую
ситуацию, в которой присутствует по крайней мере два
человека, поскольку конвенция зависит от
согласованного понимания "практики". В то же время ничто в
условиях анализа не указывает на необходимость
рассмотрения более двух человек, так как двое могут
разделять и конвенции, и общий язык.
На какой же предмет должна с необходимостью
заключаться конвенция? Это не может быть
требование, чтобы и говорящий, и слушатель, произнося одни и
те же фразы, придавали бы им одно и то же значение,
поскольку такое единообразие, хотя, возможно, весьма
распространенное, не является обязательным для
общения. Каждый говорящий может говорить на своем
особом языке, но это не будет препятствовать общению,
коль скоро каждый слушатель понимает того, кто
говорит.
Вполне может быть, что каждому говорящему с
самого начала будет свойственно говорить в уникальной,
лишь ему одному присущей манере (что, безусловно,
похоже на фактическое положение дел). У разных
говорящих разный набор имен собственных, разный
1 3B u г g е Т. Reasoning about Reasoning, Philosophia 8 (1979),
651-656.
228
словарь и до какой-то степени разные значения,
которые придаются словам. В некоторых случаях это
снижает уровень понимания людьми друг друга, но так
происходит совсем не обязательно: как
интерпретаторы мы с успехом даем правильную интерпретацию
словам, которые мы никогда раньше не слышали,
или словам, которые мы никогда не встречали в
значениях, придаваемых им говорящим.
Следовательно, общению не требуется, чтобы
говорящий и слушатель подразумевали под одними и теми
же словами одно и то же, в то время как конвенция
предполагает единообразие со стороны по крайней мере
двух людей. Тем не менее остается еще один аспект
необходимого согласия: при успешном общении
говорящий и слушатель должны вкладывать в слова
говорящего одно и то же значение. Далее, как мы уже
видели, говорящий должен иметь намерение вызвать у
слушателя такую интерпретацию своих слов, какую он
сам намеренно в них вкладывает, и иметь достаточно
оснований считать, что слушатель справится с этой
задачей. Как говорящий, так и слушатель должны быть
уверены, что говорящий говорит именно с таким
намерением и т.д.
Короче, многие из положений Льюиса выглядят
обоснованными. Правда, в этом случае понятия
практики и конвенции приобретают весьма размытый
смысл, далеко отстоящий от обычного понятия
совместной практики.
Тем не менее здесь есть возможность настаивать на
том, что именно такой взаимосогласованный метод
интерпретации является конвенциональной
сердцевиной языкового общения.
Но тогда еще предстоит разобрать самое важное
понятие анализа конвенции, предложенного Льюисом, а
именно понятие регулярности. Регулярность в данном
контексте должна означать регулярность во времени, а
не просто соглашение на данный момент. Чтобы
конвенция (в понимании Льюиса и, я бы сказал, в любом
понимании) могла иметь место, нечто должно
повторяться во времени. Единственным кандидатом на
то, чтобы быть этим "нечто", является интерпретация
звуковых образов (sound patterns) : и говорящий, и
слушатель должны регулярно, намеренно и во
взаимном согласии интерпретировать одинаковые звуковые
образы говорящего одинаковым способом (или
способами, обусловленными правилами, которые можно
разработать заранее).
229
Я не сомневаюсь, что все языковое общение людей
свидетельствует в определенной степени о наличии
такой регулярности. Более того, некоторые, возможно,
будут склонны относить деятельность к языковой лишь
в том случае, если эта регулярность в ней
присутствует. Однако я сомневаюсь как в корректности
последнего требования, так и в его значимости для
объяснения и понимания феномена общения.
Его корректность ставится под вопрос в силу
следующей причины. И у говорящего, и у слушатачя
имеются собственные теории интерпретации слов
говорящего. Но как они должны совпадать? Конечно,
совпадение должно иметь место после произнесения слов,
иначе общение будет затруднено. Но если они не
совпадают заранее, концепции регулярности и
конвенциональное™ не имеют здесь смысла.
Тем не менее следует сказать, что согласие
относительно значения произносимых говорящим слов
вполне может быть достигнуто, даже если у говорящего
и слушателя имеются разные предварительные теории
интерпретации этих слов. Дело в том, что для их
правильной интерпретации говорящий может дать
слушателю адекватные "ключи". Такими "ключами" может
быть и то, что произносит говорящий, и как он это
произносит, и где. Конечно, у говорящего должно быть
хотя бы какое-то представление о том, насколько
слушатель готов использовать соответствующие ключи,
а слушатель должен знать многое о том, чего ему
следует ожидать. Но такое общее знание вряд ли можно
свести к определенным правилам, а еще менее — к
конвенциям или практике.
Связь общества и языка легко поддается
ошибочной трактовке. Несомненно, язык есть орудие
общественное (a social art). Но было бы ошибкой думать, что
мы проникли в сущность языкового общения, увидев,
как общество подгоняет индивидуальные языковые
навыки под общепризнанные нормы. Если и есть в
языке что-то конвенциональное, так это стремление людей
говорить в основном так, как говорят их соседи. Но,
отмечая этот элемент конвенциональное™ (или
процесса обусловливания языка, в ходе которого люди
превращаются в приблизительные "языковые сленки"
своих друзей и родителей), мы приходим к
объяснению лишь такого факта, как конвергенция, отнюдь не
проясняя сущности тех языковых навыков, которые
подвергаются этой конвергенции.
Это не означает отрицания практической — в отли-
230
чие от теоретической — важности общественной
обусловленности языка. Общая обусловленность обеспечивает
нам возможность предполагать, что по отношению к
новому говорящему подойдет тот же метод
интерпретации, который мы применяли по отношению к другим
(или, как мы думаем, другие применяют по
отношению к нам). У нас нет ни времени, ни терпения, ни
возможности разрабатывать новую теорию
интерпретации для каждого нового говорящего. Нас спасает то, что
как только кто-то неизвестный открывает рот, мы уже
знаем, с какой "теорией" к нему подходить (или знаем,
что такой "теории" мы не знаем). Но если его первые
слова произносятся, как говорится, на удобоваримом
языке, мы имеем полное право считать, что он
подвергался такой же языковой "обработке", что и мы
(более того, мы даже можем увидеть различия в этой
"обработке"). Заказывая обед, покупая сигареты,
указывая направление пути водителю такси и т.д., мы
все исходим из этого предположения. Стоит же нам
убедиться в своей ошибке, и мы тут же пересматриваем
нашу "теорию" о том, что имеет в виду собеседник.
Чем продолжительнее разговор, тем надежнее
становится наша "теория", тем точнее она подгоняется под
данного конкретного собеседника.
Таким образом, знание языковых конвенций
является практической подпоркой для интерпретации,
подпоркой, без которой мы не в состоянии обойтись в
реальной жизни. Однако в оптимальных условиях
общения мы можем в конце концов отбросить эту
подпорку, а теоретически мы могли бы обойтись без
нее с самого начала.
Факт повсеместного применения радикальной
интерпретации (иными словами, факт использования
шаблонного метода интерпретации в качестве полезного
отправного пункта в понимании нами говорящего)
скрыт от нас многими вещами, и прежде всего тем, что
синтаксис значительно более социален, чем семантика.
Упрощенно говоря, причина этого заключается в
следующем: скелетом того, что мы называем языком,
является шаблон умозаключений и структур,
образуемый логическими константами. Если мы вообще
можем применять к говорящему общий метод
интерпретации — то есть если возможно хотя бы начальное
понимание говорящего на основании подобия его и
нашего языков, — это может происходить только
благодаря тому, что мы можем подходить к его
структурообразующим механизмам как к своим собственным.
231
Это позволяет фиксировать логическую форму его
предложений и определять части речи.
Несомненно, какое-то количество важных
предикатов должно переводиться (если мы хотим обеспечить
быстрое понимание) обычным омофоническим
способом, а затем мы легко переходим к интерпретации —
или реинтерпретации — новых или кажущихся нам
знакомыми предикатов.
Такое представление о процессе интерпретации
позволяет увидеть проблемы приложения формальных
методов к естественным языкам в новом свете. Оно
помогает понять, почему с наибольшим успехом
формальные методы применяются в синтаксисе: здесь, по
крайней мере, есть все основания ожидать, что одна и та же
модель будет работать для целого ряда говорящих.
К тому же нет видимых причин, в силу которых
каждый гипотетический метод интерпретации не мог бы
стать формальной семантикой для того, что упрощенно
можно назвать языком.
Чего мы, однако, не можем ожидать, так это
формализации рассуждений, посредством которых индивид
приспосабливает свои теории интерпретации к потоку
новой информации. Без сомнения, обычно мы
полагаемся на возможность соответствующего маневра как
на составную часть того, что мы называем "знанием
языка". Но в этом смысле мы не можем утверждать,
что должен знать тот, кто знает язык: интуиция, удача,
искусство играют здесь такую же решающую роль, как
в разработке новой теории в любой другой сфере
человеческой деятельности, а вкус и симпатии — даже
еще большую.
В заключение я хочу подчеркнуть, что языковое
общение не требует освоения конвенциональных
шаблонов, хотя мы и используем их в общении достаточно
часто. Поэтому, несмотря на то, что при помощи
принципа конвенциональности мы можем описать одно из
общих свойств языкового общения, этот принцип не
дает объяснения, что же такое само языковое
общение.
Наконец, последнее замечание. Я уже писал
ранее14 , что нельзя с уверенностью утверждать наличие
убеждений, желаний, намерений у существ, лишенных
возможности пользоваться языком. Как убеждения,
14См. мои стагьи: "Thought and Talk"—In: Guttenplan Samuel
(ed.), Mind and Language, Clarendon Press, Oxford, 1975, p. 7—23,
and "Rational Animals", Dialectica 36 (1982), 317—327.
232
желания, намерения — это условия существования
языка, так и язык является условием для их
существования. Однако возможность приписания тому или
иному существу убеждений и желаний есть условие для
того, чтобы иметь с ним общие конвенции. Но если
изложенные в данной статье мысли верны, конвенция
не является условием существования языка. Поэтому
я считаю, что философы, рассматривающие конвенцию
как необходимый элемент языка, ставят все с ног на
голову: на самом деле язык есть условие для
выработки конвенций.
Норман Малколъм
МУР И ВИТГЕНШТЕЙН О ЗНАЧЕНИИ ВЫРАЖЕНИЯ
"Я ЗНАЮ"*
1. Когда в конце 30-х — начале 40-х годов я
интересовался способами рассуждения и выводами
философского скептицизма, на меня сильнейшее впечатление
произвело выступление Мура в "защиту здравого
смысла". Мне хотелось понять основания философской
концепции Мура. Я всегда с предубеждением отнрсился
к наиболее типичным положениям, выдвигаемым
скептиками, таким, например, что мы не можем видеть
материальные объекты или что мы не можем знать ни
об одной эмпирической пропозиции, истинна ли она.
Решительность, с какой Мур отверг эти взгляды,
восхитила меня. В статье, посвященной Муру1, я дал так
называемую "лингвистическую" интерпретацию "защиты
здравого смысла". Суть этой интерпретации сводится к
утверждению, что Мур защищал вовсе не здравый
смысл, а, скорее, обыденный язык от таких
философских положений и взглядов, согласно которым
предложения, в которых зафиксированы результаты наших
наблюдений (типа "Я вижу белку"), на самом деле
являются неправильными употреблениями языка2.
2. В сборнике статей, посвященном Муру3,
опубликована статья Дж. Н. Финдлея, в которой утверждается,
*М а 1 с о 1 m N. Moore and Wittgenstein on the Sense of "I
know".—In: Malcolm N. Thought and Knowledge.
Ithaca—London: Cornell UP, 1977, p. 170—198, © Cornell University Press, 1977.
В основу этой статьи положена лекция, прочитанная мной в
Лидском университете в мае 1974 г. во время празднования
100-летия со дня рождения Дж. Э. Мура. Я благодарен Сиднею
Шумейкеру за высказанные им критические замечания.
Moore and Ordinary Language.—In: The Philosophy of G. E.
Moore/Ed. by P. A. Schilpp. Evanston, 111., 1942.
Более строгий и последовательный анализ выступления
Мура "в защиту здравого смысла*' дан мною в статье "George
Eduard Moore", опубликованной в книге: Malcolm N.
Knowledge and Certainty.
3Moore G.E. Essays in Retrospect. Ed. by A. Ambrose and
M. Lazerowitz. New York, 1970.
234
что предложенная мной в свое время интерпретация
взглядов Мура была "в корне неверной"4 . Финдлей
выражает удивление, почему сам Мур никогда не
предпринимал попытки выступить с опровержением
интерпретации Малкольма. Зачем Мур позволил Малколь-
му убедить других в том, что так называемая
"лингвистическая" интерпретация является правильной?5 Здесь
мы, пожалуй, сталкиваемся с одним из тех редких
случаев, когда на вопрос, поставленный философом,
имеется точный ответ. В другой статье, помещенной в
том же сборнике, Морис Лазерович сообщает, что во
время их встречи в Кембридже Мур говорил ему, что
принимает "лингвистическую" интерпретацию
Малкольма6 . Это полностью объясняет, почему Мур не
стремился ее опровергнуть!
3. Итак, я продолжал находиться под впечатлением
выступления Мура против скептицизма, и мне
по-прежнему хотелось прояснить этот вопрос в целом.
Результатом моих размышлений в течение нескольких лет
явилась опубликованная в 1949 году статья под
довольно резким названием "Защищая здравый смысл"7,
в которой я выступил против того, как Мур "защищал
здравый смысл". Я заявил, что на самом деле Мур
неправильно использовал слова know 'знать' и know with
certainty 'знать точно', когда он делал такие
утверждения, как I know I am a human being 'Я знаю, что я
человек' или I know with certainty that that's a tree 'Я точно
знаю, что это дерево'. Довольно неожиданно эта статья
оказала влияние на генезис взглядов Витгенштейна,
отраженных в его последних записных книжках,
которые были опубликованы уже после его смерти под
названием "О достоверности" („Uber Gewissheit" —
„On Certainty"). Витгенштейн приехал ко мне в Итаку
как раз тогда, когда моя статья только что была
опубликована. В разговоре я упомянул о ней, и
Витгенштейн попросил меня прочитать ему наиболее
интересные фрагменты. Это послужило началом длительных
дискуссий, о чем я уже рассказывал в книге своих
воспоминаний о Витгенштейне8. Только через несколь-
4 F i n d 1 е у J. N. Some Neglected Issues in the Philosophy of
G. E. Moore, p. 66.
5Тамже,с. 68.
6Тамже, с. 109.
7M a 1 с о 1 m N. Defending Common Sense.—The Philosophical
Review, 1949, № 58.
8M a 1 с о 1 m N. Ludwig Wittgenstein: A Memoir. Oxford, 1958,
p. 87-93.
235
ко лет я узнал, что Витгенштейн не переставал
размышлять над вопросами, составлявшими предмет
наших совместных бесед, и даже записывал свои
рассуждения. Последний параграф его записных книжек был
продиктован им всего за два дня до смерти. Такова
история самого большого и длительного исследования,
которое Витгенштейн когда-либо посвящал анализу
взглядов Мура9.
4. Я послал Муру оттиск своей статьи "Защищая
здравый смысл". В июне 1949 г. я получил от него
письмо, содержавшее тщательно продуманный ответ.
В своей статье я предпринял попытку описать
ситуацию, когда такие реплики, как I know that that is a tree
'Я знаю, что это дерево' или It's perfectly certain that
that's a tree 'Совершенно точно, что это дерево', были
бы правильными и уместными. Несмотря на то, что
предложенное мной описание было не вполне
адекватным, установка в целом была верной: я утверждал,
9 В предисловии к английскому изданию работы "О
достоверности" редакторы пишут, что утверждение Мура о том, что
мы знаем такие пропозиции, как Here is a hand 'Вот моя рука*
и The earth existed long before my birth 'Земля существовала
задолго до моего рождения', составляло предмет "постоянного
интереса" Витгенштейна (Wittgenstein L. On Certainty.
Transl. by D. Paul and G. E. M. Anscombe. Oxford, 1969, p. vi)*.
Я сомневаюсь, что это было именно так на самом деле. В 1946—
1947 гг. в Кембридже Витгенштейн говорил мне, что на него
произвело большое впечатление только одно рассуждение его
коллеги, которое Витгенштейн назвал "парадоксом Мура"
(Wettgenstein L., Philosophical Investigations. Part II,
Sec.X). Желая возразить, я спросил у него, разве не является
глубоким по содержанию выступление Мура в "защиту
здравого смысла". Витгенштейн утвердительно кивнул головой, но у
меня сложилось впечатление, что все это не так уж сильно его
интересовало, Я должен добавить, что Витгенштейн сказал мне
однажды, что лекция "Доказательство существования
окружающего мира" (''Proof of An External World"), прочитанная Муром
на заседании Британской академии, воспринималась бы просто
как курьез, будь ее автором не Мур, а кто-нибудь другой. Мне
кажется, Витгенштейн имел в виду, что ценность
"Доказательства" состоит только в прямоте и глубочайшей серьезности
автора, но ни в коем случае не в изложенной им философской
концепции. Я считаю, что происшедшее с Витгенштейном в
Итаке не было возобновлением интереса к всегда занимавшему
его вопросу, — скорее, он внезапно увлекся проблемой, которая
прежде совсем не привлекала его внимания.
* Частичный русский перевод работы Витгенштейна "О
достоверности" опубликован в журнале "Вопросы философии",
1984, № 8. —Прим. перев.
236
что реплики подобного рода могут быть произнесены
не в любой ситуации —для этого требуются особые
обстоятельства. В статье я приводил такой пример:
несколько человек сидят в открытом летнем театре.
Вокруг сцены растут деревья, а на самой сцене
установлены декорации, которые выполнены так искусно, что
зрители начинают спорить о том, что они видят с края —
настоящее дерево или только часть декораций. Если,
желая разрешить возникшее сомнение, они подойдут к
сцене поближе, может случиться, что один из них
воскликнет: It's certain that that's a tree! 'Точно, это
дерево!' В данной ситуации это выражение было
использовано правильно. Однако, настаивал я, если по
указанному вопросу не возникло ни спора, ни сомнений, не
были высказаны противоположные мнения или же если
никто не пытался прояснить истинного положения
вещей, то произнесение высказывания "Точно, это
дерево" или "Я знаю, что это дерево" было бы случаем
неправильного употребления языка.
Я должен заметить, что во время наших дискуссий
в 1946—1947 гг. мы с Муром полностью разошлись во
взглядах по этому вопросу. Мы часто сидели в саду,
расположенном позади его дома на Честертон-роуд,
обсуждая проблемы знания и достоверности. Мур,
желая привести пример чего-то, что он знает точно,
обычно указывал на дерево в нескольких метрах от нас и
при этом произносил, особо подчеркивая слова: ' Я
знаю, что это —дерево' . Затем он начинал настаивать,
что сделанное им только что утверждение правильно и
осмысленно, а я настаивал на обратном.
5. Я хочу процитировать ту часть письма Мура ко
мне, где он обсуждает приведенный в моей статье
пример с человеком, который идет к сцене, чтобы
разрешить спорный вопрос, и, приблизившись к ней на
достаточное расстояние, восклицает: 'Точно, это дерево!' Я
приведу рассуждения Мура полностью, поскольку в
них отражена суть наших разногласий. Мур пишет
следующее:
Истинно или нет утверждение человека, приблизившегося к
сцене, зависит только от того, каково положение дел в момент
речи, а не от того, что предшествовало произнесению
высказывания, хотя, конечно, для говорящего было бы не совсем
естественно делать данное утверждение, если бы он не был... поставлен
именно в те условия, в которые он в конечном итоге и был
поставлен. Существует нечто, что обнаруживается, когда человек
подходит ближе к сцене, — именно это и делает его
высказывание истинным. Это "нечто" «осит название "знать точно, что"
данный предмет — "настоящее дерево" и аналогично тому, что
237
было со мной (и с вами), когда два года назад, сидя в саду, я
указал или кивнул головой в сторону молодого орехового
дерева и при этом произнес: "Я знаю, что это дерево". Вы настаивали
тогда и продолжаете настаивать сейчас, что я использовал это
выражение "неправильно'*, "употребил его неверно".
Единственное обоснование, которое вы при этом приводите, заключается в
том, что я произнес это высказывание в ситуации, в которой оно
обычно не произносится, — когда ни в момент речи, ни
непосредственно перед ним не возникло сомнение в том, дерево перед
нами или нет. Однако то, что я произнес высказывание в
ситуации, когда оно обычно не произносится, еще не является
основанием для заключения, что оно было употреблено неправильно,
ведь я употребил его в том же самом значении, в котором оно
обычно используется, — употребил для того, чтобы сделать
утверждение, для чего это высказывание и предназначено.
Приведенное сейчас мною рассуждение было необходимо для того,
чтобы показать, что я использовал это выражение в его обычном
значении, хотя и при несколько необычных обстоятельствах.
Мне представляется, что оно было бы употреблено в том же
значении, в каком употребил его я, любым человеком, который,
как в описанном вами примере, приблизившись к сцене на
достаточное расстояние, воскликнул бы: "Now I know for certain that
it is a real tree!" Теперь я знаю точно, что это настоящее дерево!'
Разница заключается только в том, что в отличие от описанного
вами случая произнесению моих слов не предшествовало
сомнение. Из сказанного следует, что вы ошибались не только тогда,
когда говорили, что мое высказывание было случаем
неправильного употребления языка, но и когда утверждали, что это
высказывание "не имеет смысла" (did not make sense)*. Мне
кажется, что вы дали эту последнюю характеристику потому, что,
возможно, не учли, что слово ' 'бессмысленный'' (senseless)
может иметь не одно значение. Если в ситуации, когда каждому
очевидно, что впереди дерево, кто-нибудь без конца указывает
на него и повторяет "Это дерево" или 'Я знаю, что это дерево",
мы вправе будем сказать, что это делать бессмысленно и,
следовательно, в определенном смысле бессмысленно произносить эти
слова. Даже если в рассматриваемой ситуации человек произнес
бы эти слова всего лишь один раз, мы все равно вправе были бы
сказать, что это делать бессмысленно, имея при это в виду, что
в обоих случаях нормальный человек не стал бы этого делать,
ибо в данных обстоятельствах произнесение этих
высказываний не служит никакой цели... Однако мы можем сказать, и это
уже нечто совершенно иное, что эти слова, в данных
обстоятельствах их произнесения, "не имеют смысла ', "не обладают
значением" (don't "make sense"), подразумевая под этим, что они не
были употреблены в их обычном значении. Не исключена
возможность, что человек, произнесение высказывания которым
бессмысленно в том смысле, что ни один разумный человек не
стал бы его произносить в данной ситуации (так как это не
служит никакой цели), тем не менее употребляет эти слова в их
обычном значении (in their normal sense), а то, что он утверждает,
используя эти слова, истинно. Что касается меня, то я
произносил эти слова с определенной целью — с целью опровержения
одного из положений, принимаемого многими философами. Я,
таким образом, не только употреблял эти слова в их обычном
* Слово "sense" в зависимости от контекста переводится
нами здесь как "значение" и как "смысл". — Прим. перев.
238
значении, но и произносил их в ситуации, когда это служило
определенной цели, пусть эта цель была отлична от той, которой
обычно служит произнесение этих слов. Мне представляется
абсурдным, что вы можете назвать мое использование этих слов
"неправильным" только потому, что я произнес их в ситуации,
когда их обычно не произносят, хотя на самом деле я употребил
их в том же самом значении, в каком они обычно
употребляются.
6. Эти замечания Мура звучат понятно и
убедительно. На первый взгляд они кажутся абсолютно
правильными и, без сомнения, будут встречены с одобрением
теми философами, которые считают, что, когда мы
имеем дело с любым утвердительным предложением S,
надо проводить различие между тремя видами условий,
а именно: 1) условия, от которых зависит, имеет ли S
значение или смысл* ("условия наличия значения" —
"meaning-conditions"); 2) условия, от которых зависит,
истинно или ложно суждение, которое составляет
содержание S (или которое формулирует говорящий,
когда произносит S). Это "условия истинности" -—
"truth-condition"; 3) условия, от которых зависит,
"уместно" ли произносить, говорить или утверждать S
("условия утверждения" — "assertion - conditions").
Некоторые философы стремятся приравнять условия
наличия значения к условиям истинности . Мне,
однако, кажется, что это не представляет большой
ценности для анализа взглядов Мура, которые он излагал
в своем письме. Что действительно заслуживает
внимания, так это предполагаемое различие между
условиями наличия значения и условиями утверждения.
Существует мнение, что игнорирование этого различия
может привести философов к серьезным ошибкам. Так,
Дж. Серль приписывает парадоксальное, на его взгляд,
замечание Витгенштейна о предложении I know I'm in
pain 'Я знаю, что мне больно' тому, что Серль называет
"ошибкой утверждения" ("the assertion fallacy"). Эта
ошибка состоит в неразличении условий манифестации
речевого акта утверждения и анализа значения
отдельных слов, встречающихся в утверждениях11.
7. Следует заметить, что Серль не понял мысль Вит-
* Слова "значение" (meaning) и "смысл" (sense) здесь и далее
употребляются автором как синонимы. -Прим. перев.
гоПредставляется, что этой точки зрения придерживается и
Дж. Серль. Он пишет: "Не были правы те философы, которые
утверждали, что знание значения суждения равносильно знанию
того, в какой ситуации это суждение истинно или ложно" (Sear-
1 е J. R. Speech Acts. London, I960, p. 125).
1* Там же, с. 141.
239
генштейна. Серль пишет: "Витгенштейн указывает, что
в обычной ситуации, когда человек чувствует боль,
реплика "Я знаю, что мне больно" звучала бы довольно
странно"12. Серль отсылает читателей к §246
"Философских исследований". Однако в этом параграфе
Витгенштейн не говорит, что "в обычной ситуации" фраза
"Я знаю, что мне больно" звучала бы "странно". Он на
самом деле обсуждает распространенное среди
философов убеждение, будто только сам человек может
знать, больно ли ему. Витгенштейн говорит, что это
утверждение отчасти ложно, отчасти бессмысленно. При
этом он имеет в виду, что ложно утверждение, что
другие не могут знать, испытывает ли человек боль, аоес-
смысленно (unsinning) — утверждение самого человека,
что он знает, больно ли ему. Далее Витгенштейн
добавляет: "Обо мне невозможно сказать (кроме,
возможно, как в шутку), что я знаю, что мне больно. Ибо что
еще может означать это высказывание, помимо того,
что мне больно?" А Серль думает, что реплика "Я знаю,
что мне больно" звучала бы "странно". Именно здесь и
должно пригодиться разграничение между условиями
наличия значения и условиями утверждения. Согласно
Серлю, одно из условий речевого акта утверждения
состоит в том, что человек не должен говорить того,
что в силу своей очевидности не заслуживает
произнесения. Он пишет: "Совершенно очевидно, что, когда
мне больно, я знаю это 3. Мы не говорим о том, что
очевидно, а то, что я знаю, что мне больно,
—совершенно очевидно, поэтому мы так и не говорим. Однако при
этом у Серля предполагается, что если бы мы
произнесли такую фразу, то употребление слова "знать" в
этом случае нельзя было бы квалифицировать как
неправильное.
Подобных взглядов придерживается и А. Дж. Айер:
"Было бы довольно неразумно говорить, что мы знаем,
что нам больно, потому что если нам больно, то само
собой разумеется, что мы знаем это"14. Я не могу
согласиться с Айером и Серлем. Их утверждение, что если
мне больно, то я знаю это, основано на неправильном
употреблении слова "знать". В статье "Приватность
\\Там же.
^Тамже, с. 141-142.
А у е г A. J. The Concept of a Person and Other Essays.
New York, 1963, p. 59.
240
опыта"15 я поставил перед собой задачу
продемонстрировать это. Я описал те функции, которые обычно
выполняет выражение "Я знаю", когда оно предваряет
полное предложение ("Я знаю, что р"), а потом
показал, что это выражение не выполняет ни одну из этих
функций, когда оно предваряет фразу "Мне больно".
8. Мне бы не хотелось, однако, оосуждать здесь этот
вопрос дальше. Я сделал отступление от основной
темы, связанной с анализом взглядов Мура, для того
чтобы продемонстрировать сходство между тем, что
думал Мур о предложении "Я знаю, что это дерево", и
тем, что думают Айер и Серль по поводу предложения
"Я знаю, что мне больно". Конечно, произнесение того
или иного высказывания может быть неуместным по
множеству причин: оно, например, может быть грубым,
содержать неточную информацию, сбивать с толку,
выходить за рамки затрагиваемой в разговоре темы и т.д.
Однако во всех этих случаях не предполагается, что
если говорящий все-таки произнесет соответствующую
реплику, то это приведет к концептуальной ошибке.
Произнесение того или иного высказывания может
быть неуместным и тогда, когда это "не служит
никакой цели". Именно таким образом Мур объясняет,
почему в той особой ситуации, которую он описывает,
было бы, в определенном смысле, бессмысленно
говорить "Я знаю, что это дерево". Представляется, что
Айер и Серль имеют в виду то же самое, когда
утверждают, что было бы "странно" и "неразумно" говорить
"Я знаю, что мне больно": произнесение этого
высказывания не служит никакой цели, ибо каждому
очевидно, что если человеку больно, то он знает это. Мур в
свою очередь тоже апеллирует к "очевидности". По его
мнению, бессмысленно было говорить мне "Я знаю, что
это дерево", когда мы сидели в нескольких метрах от
этого дерева. Это было делать бессмысленно в силу
избыточности произнесенной фразы, ведь для меня, как
утверждает Мур, уже было очевидно и то, что объект,
на который он указывал, был деревом, и то, что он
знал, что это дерево. Следовательно, в сделанном им
утверждении не содержалось концептуальной ошибки,
а имело место разве что просто нарушение правил
речевого общения.
25См.: The Privacy of Experience.—In: Epistemology. Ed. by
Stroll A. New York, 1967. Статья перепечатана в кн.; Malcolm,
N. Thought and Knowledge. Ithmca—London: Cornell UP, 1977,
essay 5.
241
9. Точку зрения Мура критиковать труднее, чем
взгляды Айера и Серля, отчасти потому, что в то время
как высказывание "Я знаю, что мне больно" не может
быть произнесено, кроме как в шутку, то, напротив,
большое количество примеров, приводимых Муром,
когда он утверждал, что знает что-либо, свободно
употребляются в речи,
В настоящей статье я хочу еще раз
проанализировать выступление Мура в "защиту здравого смысла".
Как мне представляется сейчас, здесь можно выделить
ряд значимых уровней, и их несколько больше, чем я
выделял раньше. Моя прежняя интерпретация взглядов
Мура была не столько неправильной, сколько
неполной.
Возвращаясь к цитированному выше письму, надо
сказать, что в нем поражает и приводит в недоумение
утверждение Мура о том, что он употребляет слова "Я
знаю, что это дерево" в их обычном значении, хотя и не
в той ситуации, когда они обычно употребляются.
Здесь мне бы хотелось задать следующий вопрос: как
может Мур настаивать, что он употребляет слова "в их
обычном значении", если обстоятельства,
сопутствующие их произнесению, являются нестандартными?
Разве может значение слов быть отграничено от
обстоятельств их произнесения? Предположим, что выражение
"Я знаю..." служило бы только цели устранения чьего-
то сомнения (на самом деле это, конечно, не так).
Могли ли бы в этом случае данные слова
употребляться в своем обычном значении, если бы они были
произнесены в ситуации, когда ни говорящий, ни
окружающие его люди не имели в виду, что произнесение этих
слов должно устранить сомнение?
10. Замечания Мура содержат тот философский
взгляд на проблему смысла или значения, согласно
которому значение предложения как бы закреплено за
ним и присутствует всегда, когда это предложение
произносится (или, скажем, всегда, когда оно
произносится "обдуманно"). Именно это имел в виду
Витгенштейн, когда говорил, что "над нами довлеет идея, что
значение предложения сопровождает предложение,
неотступно следует за ним" . Мне кажется, что Мур,
подобно многим другим философам, находился под
глубоким влиянием этой идеи. Представляется, что этаже
самая мысль проводится и в "Логико-философском
16Wittgenstein L. Zettel. (Ed. by G. E. M. Anscombe.)
Oxford, 1967, p. 139.
242
трактате" Витгенштейна. Она отражена в тех
положениях "Трактата", где утверждается, что все, что
необходимо знать для того, чтобы понять значение
предложения,—это только значение составляющих его частей. В
§ 4.024 говорится следующее: "Предложение понято,
если поняты составляющие его части"17. Согласно этой
точке зрения, значение предложения является всего
лишь функцией значения слов, из которых оно
составлено. Если взять те же самые слова, которые обладают
тем же самым значением, и расположить их в том же
самом порядке, то полученное предложение будет иметь
тот же самый смысл. Одна из причин того, почему
позже Витгенштейн отверг теорию "предложений как
образов реальности", состоит в том, что он пришел к
убеждению, что значение предложения определяется
обстоятельствами его произнесения. Он писал:
Собеседник задает мне вопрос: "Вы поняли это выражение,
не так ли? Ведь я употребил его в том значении, которое Вам
известно". Как будто значение представляет собой атмосферу,
окружающую слово и наличествующую при каждом его
употреблении.
Если, например, человек считает, что предложение "Это
здесь" (которое он произносит, указывая на находящийся
рядом предмет) имеет значение, тогда он должен спросить себя, в
какого рода ситуациях это предложение действительно
употребляется. Вот там это предложение и будет иметь значение18.
Философы говорят, что они понимают предложение "Я здесь", что в
этом предложении что-то сообщается, подразумевается, даже
если они никогда не задумывались над тем, как, при каких
обстоятельствах это предложение употребляется19.
Эти замечания с полным основанием могли бы быть
адресованы Муру. В ответ на содержащееся в его
письме утверждение, что он употреблял предложение "Я
знаю, что это дерево" в его обычном значении, хотя и
при несколько необычных обстоятельствах, мне
хочется возразить: "Как это возможно? Какой точки зрения
на "значение" вы придерживаетесь, если считаете, что
ситуация, в которой было произнесено предложение, не
имеет никакого отношения к его значению?"
11. Более того, в письме Мура меня приводит в
недоумение и его утверждение, что он употреблял слова
"Я знаю, что это дерево" в их "обычном значении", как
если бы он считал, что существует одно, и только одно,
17Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus.
London, 1922. См.: Витгенштейн Л. Логико-философский
трактат. М., 1985.
Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford,
1953, § 117.
19Тамже,с, 514.
243
значение, в котором эти слова могут быть
использованы нами. Сознаюсь, что у меня нет четкого
представления по вопросу о том, какие именно "значения'' того
или иного предложения возможны. Однако всегда
легко показать, какими различными способами
предложение может быть употреблено. Я понимаю различные
употребления предложения как функции различных
обстоятельств его произнесения или написания. Если
кто-то, подобно Муру, склоняется к мысли, что, даже
если предложение употребляется различными
способами, оно тем не менее имеет одно и то же значение, то
это утверждение, на мой взгляд, не поддается ни
опровержению, ни доказательству, и тем не менее можно
показать, что это философское утверждение вводит в
заблуждение.
12. Теперь я собираюсь описать несколько
вариантов употребления в речи предложения формы I know
that so-and-so 'Я знаю, что то-то и то-то'. Я не ставлю
перед собой цель обрисовать всю картину детально;
более того, я думаю, что "полный" отчет здесь просто
невозможен. Я сознаю, что описываемые мною детали
могут показаться скучными, однако мне бы хотелось
достичь ясности в отношении различных употреблений
выражения "Я знаю".
В своих выступлениях против скептицизма Мур
обычно говорил в 1 лице ед.числа наст.времени: "Я
знаю, что это рука, что я человек, что Земля
существовала задолго до моего рождения", и т.д. Исходя из
этого, я тоже ограничусь описанием таких употреблений
выражения "Я знаю", когда оно вводит суждения.
Меня могут упрекнуть в том, что мои исходные установки
ошибочны, поскольку высказывание "Я знаю, что р"
(произнесенное говорящим S) истинно, если, и только
если, истинно высказывание "Он знает, что р"
(произнесенное о говорящем S), и что, следовательно,
сосредоточивая свое внимание на употреблении глагола
"знать" в форме 1 лица, я для сохранения цельности
концепта знания чего-либо неправильно интерпретирую
обстоятельства, в которых является или не является
"приемлемым" (в силу существующих социальных
правил или правил ведения разговора) произнесение
слов "я знаю". Но я не согласен с этим. Из того факта,
что существует "истинностная равноценность" (в
отмеченном смысле) между выражениями "Я знаю" и "Он
знает", не следует, ч^о различия в их употреблении
незначимы для концепта знания чего-либо. Это легко
показать на примере высказываний "Мне больно" (где
244
говорящий — S) и "Ему больно" (произнесенного о S).
Оба эти высказывания имеют одно и то же
истинностное значение, однако второе высказывание
формируется на основе наблюдений за поведением другого
человека, а первое —нет. И это различие, безусловно,
является характеристикой концепта боли.
13. Давайте рассмотрим следующие примеры.
1) Идет заседание комиссии, на котором должен
присутствовать N, однако он до сих пор не прибыл.
Один из присутствующих произносит: "Наверное, он
забыл". Другой возражает: "Я знаю, что он не забыл.
Несколько минут назад он сказал мне, что обязательно
будет".
В рассматриваемом случае говорящий употребляет
выражение "Я знаю, что не-р" для того, чтобы ввести
доказательство (которым он уже располагает), что не-р.
Здесь "Я знаю, что не-/?" означает нечто вроде "Я имею
следующие доказательства, что не-р, а именно...".
2) Человек сделал расчеты, которые требуются для
выполнения какой-либо работы. Он говорит: "Вот
результаты. Я знаю, что все правильно, я проверял три
раза".
В этом случае фраза "Я знаю, что все правильно"
употребляется не для того, чтобы ввести
доказательство (например, провести вычисления еще раз), а для
того, чтобы указать на то, что соответствующие
вычисления уже были проведены. Здесь высказывание "Я знаю,
что все правильно" равнозначно высказыванию "Я все
проверил"; при этом предполагается, что дальнейшая
проверка не нужна.
3) А и В обсуждают шахматную партию, которую
только что проиграл N. А говорит: "Возможно, N
выиграл бы, если бы сделал вот такой ход слоном". В
отвечает: "Нет, я знаю, что этот ход ничего бы не изменил".
А спрашивает: "Почему?" В отвечает: "Ну что ж, давай
посмотрим", и показывает, почему этот ход не
исправил бы положения.
Когда В говорит: "Я знаю, что не-р", то он в
отличие от ситуации, описанной в 1), еще не располагает
нужным доказательством. Здесь это высказывание
равнозначно высказыванию "Я могу доказать, что
не-р".
4) Встретились два незнакомых человека, между
которыми происходит следующий разговор: "Я
слышал, обнаружили, что аспирин ядовит". — "Я знаю, что
это неправда". — "Откуда вы знаете?" — "Я работаю в
этой области, я биохимик".
245
В рассматриваемом случае выражение "Я знаю"
используется говорящим для того, чтобы заявить о
своей компетентности, а не для того, чтобы потом
сообщить какие-то сведения, касающиеся аспирина.
Возможно, что ученый — участник разговора — сам
никогда не занимался изучением аспирина, но он считает, что,
если бы открытие, о котором упомянул его
собеседник, действительно было бы сделано, он непременно
знал бы об этом.
5) Двое незнакомых друг другу людей
разговаривают об оперной певице. Один говорит: "Она так
известна, красива и богата. У нее, должно быть,
необыкновенная жизнь". Другой отвечает; "Вы ошибаетесь.
Я знаю, что на самом деле она очень одинока и
несчастна".— "Откуда вы это знаете?" — "Я ее менеджер
(сестра, близкий друг)".
Случай 5) похож на случай 4), но отличается от него
тем, что здесь говорящий не утверждает, что он
является специалистом в какой-то достаточно широкой
области, а просто сообщает, что близко знаком с
певицей.
6) Говорят, что некоторые люди могут довольно
точно определить пол новорожденного цыпленка, не
будучи при этом способны назвать ни одного
отличительного признака. В ответ на вопрос: "Вы уверены,
что это именно петух?" — такой человек, скорее всего,
ответит: "Я знаю, что это петух", хотя будет не в
состоянии доказать или каким-то образом
аргументировать это. В военно-морских силах США обучают (или
обучали) опознавать самолеты следующим образом: на
экран проецируются фотографии самолетов, причем
время предъявления изображения постепенно
сокращается. При соответствующей тренировке люди
приобретают способность опознавать самолеты при времени
предъявления изображения, равном l Ins сек. и
меньше. Человек, получивший такую подготовку, мог бы,
например, сказать: "Я знаю, что это — "JU-88", но не
мог бы аргументировать свое утверждение. Примеры
подобного рода хорошо известны: это, например,
способность узнать свой плащ среди нескольких точно
таких же плащей в гардеробе или, скажем, способность
заметить, что в комнате совершена перестановка при
невозможности определить, какие именно произошли
изменения.
Было бы ошибочно считать, что во всех этих случаях
имеет место только "субъективная уверенность", а
не собственно знание. Отмеченная способность людей
246
делать безошибочные заключения оправдывает
использование в этих случаях выражения "Я знаю".
7) Разговор на скачках. "Этот заезд выиграет
Смайлер". — "Почему ты так думаешь?" — "У меня
сильное предчувствие. Я знаю, что он выиграет. Я
собираюсь на него поставить".
Здесь речь не идет ни об авторитетности
говорящего, ни о доказательстве утверждаемого, ни о
способности говорящего угадывать победителей. В данном
случае выражение "Я знаю" означает "Я уверен" и
выражает только "субъективную уверенность". Следует
отметить, что по окончании заезда собеседник сможет
констатировать "Ты был прав" в том случае, если
победит Смайлер, и "Ты ошибался", если Смайлер
проиграет, независимо от того, употреблял говорящий слова
"Я уверен" или "Я знаю".
8) Дочь смотрит телевизор, а поскольку ей следует
сесть за пианино и заниматься музыкой, мать говорит:
"У тебя завтра урок музыки". Дочь раздраженно
отвечает: "Я знаю, что у меня завтра урок музыки".
При таком употреблении выражения "Я знаю" не
подразумевается ни наличие доказательства, ни
проницательность или компетентность говорящего в той или
иной области, ни даже присутствие уверенности
(субъективной или объективной). В данном случае "Я знаю,
что р" равнозначно высказыванию "Не надо мне
напоминать, что р". (Этим примером я обязан Элизабет
Уолгаст.)
9) Ваш друг боится предстоящей операции. Вы не
доктор и не располагаете никакой информацией об этой
операции, но говорите своему другу: "Не волнуйся.
Я знаю, что все будет хорошо".
Выражение "Я знаю" используется здесь для того,
чтобы приободрить, поддержать, успокоить больного.
10) Двое засиделись допоздна, выполняя какую-то
работу. Один из них говорит: "Мы уже устали и не
можем больше работать. Тем более время уже позднее".
Другой отвечает: "Да, я знаю. На сегодня
действительно хватит".
Здесь "Я знаю, что р" равнозначно высказыванию
"Я согласен, что р". Речь идет ни о доказательстве, ни
об авторитетности говорящего, ни о его
проницательности— человек просто выражает свое согласие. (На
существование примеров подобного рода обратил мое
внимание Дэвид Рив.)
11) Ваш друг постепенно теряет зрение. Вы
спрашиваете его: "Как твое зрение?" Он отвечает: "Все хуже и
247
хуже. Однако я знаю, что это —дерево", и указывает
при этом на дерево в нескольких шагах от вас.
В данном случае высказывание "Я знаю, что это —
дерево" равнозначно высказыванию "Мое зрение еще
достаточно для того, чтобы разглядеть, что
это—дерево".
12) Я сопровождаю слепого: ввожу его в комнату и
хочу, чтобы он сел на стул. Как-то однажды я усадил
его на табуретку, с которой он упал и ушибся, и
поэтому, когда я сейчас говорю ему: "Вот здесь стул", он
спрашивает с беспокойством: "Вы уверены, что это —
стул?", на что я отвечаю: "Да. Я знаю, что это —стул".
Говоря это, я успокаиваю слепого, заставляю его
поверить мне, побуждаю его совершить определенное
действие, а именно, сесть на стул. В этом примере
выражение "Я знаю, что р" имеет значение "Вы можете
мне поверить, что р".
Интересно сравнить этот пример с той ситуацией,
когда Мур в философской дискуссии обращался к
другому философу: "Я знаю, что это —стул". В этом
случае Мур не имел в виду "Вы можете на меня
положиться", не убеждал своего собеседника в том, что это
стул, не заставлял его сесть. Его собеседник в свою
очередь не мог "проверить", действительно ли это стул,
в то время как слепой может сделать это, например
ощупав предмет.
14. Давайте посмотрим, что может прояснить
предпринятый нами анализ двенадцати различных ситуаций,
в которых может использоваться предложение формы
"Я знаю...". Представляется, что в этих ситуациях
говорящий совершает различные действия и говорит о
разном. Во всем этом меня особенно интересует роль
выражения "Я знаю...". Я ставлю перед собой задачу
показать, что в разных ситуациях это выражение
выполняет различные функции и направлено на
достижение различных целей. "Я знаю..." иногда может быть
перефразировано как "У меня есть следующие
доказательства...", иногда как "Я могу
продемонстрировать это", иногда как "Вы можете мне поверить, что..."
и т.д.
Возможно, что здесь некоторые философы возразят
мне: «Вы можете, если вам так хочется, говорить о
разных "парафразах", но все эти парафразы есть просто
следствие разных "импликаций, возникающих в
разговоре" (conversational implications), а вот что касается
значения выражения "Я знаю", то оно остается
постоянным во всех описанных вами случаях. Мур был прав,
248
когда он заявлял, что употребляет слова "Я знаю, что
это —дерево" в их обычном значении».
Признаюсь, что этот упрек ставит меня в
затруднительное положение. Лично я не вижу никакого
постоянного, одного и того же значения выражения "Я знаю".
Я отдаю себе отчет в том, что выражаю свою мысль не
совсем точно — подобно человеку, который знает, что
он ищет, но никак не может найти. Тем не менее для
меня очевидно, что в одном из описанных мною
случаев говорящий, который произнес "Я знаю", выразил
таким образом свое согласие со своим собеседником;
в другом случае речь шла не о согласии с
собеседником, а о его убеждении; в третьем случае говорящий
сообщал собеседнику о том, что может привести
доказательства утверждаемого, а не соглашался с ним
или убеждал его и т.д. Все это достаточно очевидно,
чтобы убедиться в этом, не надо прилагать никаких
усилий — здесь просто не над чем размышлять.
Сторонники точки зрения, которую я хочу
опровергнуть, похоже, считают, что все эти явные различия в
тех функциях, которые может выполнять выражение
"Я знаю" в разных ситуациях, не раскрывают
истинного значения (essential meaning) этого
выражения, — значения, которое не зависит от условий
произнесения.
В ответ на это я должен заявить, что не совсем
понимаю, что имеется в виду под "истинным значением"
выражения "Я знаю". Более того, я вообще не вижу
необходимости в этом понятии. Как можно выявить
"истинное значение"? Как оно связано с теми
различными функциями, которые выполняет выражение "Я
знаю" в реальных ситуациях?
Затруднения, которые я испытываю, рассматривая
эту точку зрения, аналогичны тем затруднениям,
которые я испытывал, когда сидел рядом с Муром в его
саду, и Мур, указывая на ближайшее дерево, произносил,
подчеркивая слова: "Я знаю, что это—дерево"* Мой
мозг был как бы парализован — я никак не мог понять
значения этой фразы. Позднее я рассказал
Витгенштейну о наших с Муром разногласиях. Следующие строки
из записных книжек Витгенштейна говорят о том, что
его реакция была сходной:
"Я знаю, что это — дерево". Почему мне кажется, будто я не
понял данное предложение несмотря на то, что это
наипростейшее предложение самого обыкновенного вида? Это как если бы
я не мог сориентировать свой ум на какое-то значение. Ибо я не
ищу ориентацию там, где уже имеется значение. Как только я
начинаю думать не о философском, а о повседневном употреб-
249
лении этого предложения, его значение сразу становится ясным и
понятным20.
15. Совершенно очевидно, что употребление Муром
слов "Я знаю" отличается от нашего обычного их
употребления. Неверно также, что Мур употреблял эти
слова в "некоем обычном их значении" — такового,
вероятно, просто не существует. Но из этого не следует,
что то, что говорил Мур, — нонсенс. В действительности
он употреблял слова "Я знаю" в их философском
значении. То, что утверждал Мур, имеет большой
философский интерес. Если это так, то он либо проявил
необычайную проницательность, либо заблуждался. Я
думаю, что верно и то и другое. Как мне
представляется, его философские утверждения формы "Я знаю..."
имеют очень сложное значение, структура которого
неоднородна. Это означает, что существует несколько
различных правильных интерпретаций подобных
утверждений.
16. Во-первых, это "лингвистическая"
интерпретация. Надо сказать, что она не была "совершенно
неправильной", — она верна, хотя и не является полной. Мур
восстал против взглядов скептиков. Он ясно видел, что
их заявления идут вразрез с реальной практикой
использования языка. В одном из выступлений он
выразил свою точку зрения следующим образом:
Предположим, что вместо того, чтобы говорить: "Я в
здании", я должен был бы говорить: "Я думаю, что я в здании,
хотя, возможно, это и не так —это не совсем точно", или вместо
того, чтобы говорить: "Я одет", я должен бы был говорить: "Я
думаю, что я одет, но не исключена возможность, что это не так".
Разве это не смешно — произносить в обычной ситуации такие
высказывания, как "Я думаю, что я одет" или тем более "Я не
только думаю, что я одет, я даже знаю, что это весьма вероятно,
однако не могу чувствовать полной уверенности"?21
Сатирическое выступление Мура освободило нас от
скептицизма. Нам, как бы очнувшимся от глубокого
сна, стало понятно, что действительно было бы смешно
говорить: "Я думаю, что я одет, хотя, возможно, это и
не так". Пониманием этого вопроса мы целиком и
полностью обязаны Муру.
17. Однако сделанное Муром наблюдение и привело
его в конечном счете к ошибке. (Это уже второй пласт
20Wittgenstein L. On Certainty, § 347. Здесь и в ряде
случаев далее цитаты приводятся по имеющемуся русскому
переводу. — Прим. перев.
2 Moore J. Е. Philosophical Papers. New York, 1959, p. 227—
228.
250
значения.) Поскольку в обычной ситуации
высказывание "Я не знаю, одет ли я" звучит абсурдно, то,
заключает Мур, высказывание "Я знаю, что я одет" является
правильным. Мур верно заметил, что по отношению к
таким вещам сомнение в обычной ситуации
невозможно, и из этого он должен бы был сделать вывод, что
оба выражения, как "Я не знаю", так и "Я знаю", в
указанном контексте неуместны. Выражение "Я знаю"
часто используется нами для того, чтобы указать на
отсутствие сомнения. Но отсутствие сомнения и его
невозможность — это разные вещи. Л. Витгенштейн писал
в "Философских исследованиях": «"Я знаю..." может
означать "Я не сомневаюсь...", но отнюдь не означает,
что слова "Я сомневаюсь..." бессмысленны, что
сомнение логически исключено»22. Витгенштейн обращается
здесь к обычному употреблению выражения "Я знаю".
Он правильно отмечает, что это выражение не
используется в обыденной речи для того, чтобы доказывать
философские положения. А вот Мур стремился
доказать положение именно такого рода: что утверждение
"Неясно, одет ли я" в обычной ситуации абсурдно. Мне
кажется, что здесь Мур руководствовался принципом
исключенного третьего*: "Или я знаю это, или я не
знаю этого". Он заметил, что в ряде ситуаций
выражение "Я не знаю" употреблено быть не может, и сделал
из этого вывод, что выражение "Я знаю" будет
являться правильным и истинным. Я буду интерпретировать
это как проявление закона исключенного третьего .
18. Я приступаю к рассмотрению третьего пласта
значения, который можно назвать "интроспективной"
интерпретацией. Вспомним, как Мур утверждал, что
когда в философской дискуссии он говорил "Я знаю,
что это—дерево", то он употреблял эти слова в "их
обычном значении". На это я уже раньше ответил, что
"некое обычное значение" этих слов, похоже, вообще
не существует. Сейчас мне бы хотелось прояснить
следующий вопрос: что имел в виду Мур под
"обычным значением" этих слов?
Напомню, что в своем письме ко мне он утверждал,
что если человек произнес: "Я знаю, что это — дерево",
то истинность или ложность этого утверждения
"зависит только от ситуации, имеющей место в момент речи".
22Wittgenstein L. Philosophical Investigations, p. 221.
♦Принцип исключенного третьего — логический принцип,
утверждающий, что всякое суждение или истинно, или ложно. —
Прим. перев.
251
Мур также отмечал, что истинность этого
высказывания зависит от "состояния сознания" говорящего:
когда высказывание истинно, состояние сознания
"совершенно правильно называется "знать, что"
рассматриваемый объект— дерево". Согласно Муру,
получается, что когда говорящий употребляет слова "Я знаю,
что это дерево" в "их обычном смысле", то говорящий
при этом утверждает, что он "в состоянии знания", что
некий объект — дерево.
Может показаться, что этот способ представления
"обычного значения" ничего не проясняет, — он кажется
тавтологичным. Мне представляется, однако, что он
может помочь нам разобраться в том, как Мур понимал
этот вопрос.
Чтобы прояснить эту проблему, мы должны
ответить на вопрос: каким именно "состоянием" является,
по мнению Мура, знание? Как мне кажется, Мур считал,
что состояние знания, что объект является деревом,
обладает теми же признаками "непосредственности" и
"несомненности", которыми характеризуются
состояния, соответствующие ощущению, чувству или
настроению. Многие философы утверждают, что человек может
или, возможно, должен "непосредственно" осознавать
такие свои состояния, как дрема, болезнь, смущение,
скука или радость. Я полагаю, что Мур точно так же
думал о знании или о точном знании.
Имеем ли мы право приписывать Муру эту идею?
Заметим, что эта идея имеет среди философов своих
сторонников. Чтобы подтвердить это, я цитирую При-
чарда — современника Мура: "Надо признать, что,
когда мы знаем что-либо, мы также знаем или по
крайней мере можем точно определить путем приложения
некоторых мыслительных усилий, что мы это знаем.
Аналогично, когда мы имеем какое-либо мнение, мы
тоже знаем или можем точно определить, что мы имеем
мнение, но не знаем"23. Причард характеризует знание
человеком чего-либо как "состояние"; то же самое
делает и Мур. Я снова цитирую Причарда: "Надо
признать, что, когда мы знаем что-либо, мы также знаем
или путем приложения некоторых мыслительных
усилий можем определить, что наше состояние есть знание.
Когда мы имеем какое-либо мнение, мы знаем или
можем определить, что наше состояние есть именно
обладание мнением, но не знанием: мы, таким образом,
2 3Р г i с h а г d Н. A. Knowledge and Perception. Oxford, 1950,
p. 86.
252
не можем принять мнение за знание, и наоборот"24.
Заявляя, что мы знаем или можем "точно определить",
что мы знаем что-нибудь или только имеем мнение,
Причард явно считает, что знание и мнение являются
состояниями человека, которые можно безошибочно
идентифицировать и разграничить либо путем
приложения некоторых мыслительных усилий, либо путем
интроспективного наблюдения.
Я лучше, чем кто-нибудь, понимаю, что нельзя
приписывать Муру взгляды Причарда. И тем не менее нам,
возможно, легче будет понять Мура, если мы запомним
это стремление Мура рассматривать знание человеком
чего-либо как состояние сознания, о котором человек
"точно знает" или которое "непосредственно осознает".
Причард считает, что человек путем размышления
может определить, знает он что-либо или только имеет
мнение, и результаты этой идентификации не могут
быть ошибочными*.
Так, когда человек, хорошо владеющий языком и
не ставящий перед собой цель дезинформировать
окружающих, произнесет высказывание типа "Я плохо себя
чувствую" или "Я смущен", то это его высказывание
будет характеризоваться следующими тремя
логическими чертами: во-первых, оно не подвержено ошибке;
во-вторых, оно не нуждается в доказательстве или в
дополнительных свидетельствах; в-третьих, оно не
может быть подтверждено или опровергнуто в результате
какой-либо проверки или дополнительного
исследования. Мне представляется, что, когда Мур, критикуя
скептицизм, приводил примеры того, что он знает, он
считал, что его утверждения о знании обладают именно
этими тремя логическими характеристиками.
Во-первых, он придерживался мнения, что эти утверждения в
принципе не могут быть ложными. Когда на заседании
Британской академии он произнес: "Вот одна рука, а
вот — другая", и подчеркнул, что он это знает, то потом
он сделал следующее замечание: "Абсурдно было бы
полагать, что я этого не знаю, а только так думаю и что,
возможно, утвержаемое мной вообще не имеет места!
Ибо тогда с тем же успехом можно было бы
предположить, что я не знаю, что сейчас я стою и произношу
речь, —что я, возможно, не делаю этого или что не
вполне ясно, делаю ли я это!"25 Таким образом, Мур
заявляет, что говорить о возможности ошибки с его
24Тамже,р. 88.
25Moor е J. Е. Philosophical Papers, p. 146—147.
253
стороны просто не имеет смысла. Во-вторых, когда
Мур, обсуждая философские проблемы, указывал на
некоторый объект и при этом утверждал, что он знает,
что это дерево или рука, окружающие его люди могли
так же легко, как и Мур, идентифицировать эти
объекты как дерево или руку, и поскольку для них это тоже
не должно было составлять никакого труда, то от Мура
не требовалось доказательства или дополнительного
свидетельства в пользу утверждаемого. Сама
специфика ситуаций, в которых Мур делал свои утверждения,
исключала необходимость "доказательства". В-третьих,
опять-таки в силу специфики ситуаций, бессмысленно
было бы стремиться к более внимательному
рассмотрению или к какому-либо другому исследованию,
чтобы определить, правильно ли Мур идентифицировал те
или иные объекты.
Поражает то, что Мур, стремясь привести примеры
того, что он "знает" или "знает точно", делал
утверждения, обладающие рядом основных логических черт,
присущих высказываниям от первого лица об
ощущениях или настроении человека. Мур в отличие от При-
чарда никогда в открытую не выдвигал тезиса, что
знание является ментальным состоянием, которое
поддается идентификации самим мыслящим субъектом.
Но когда Мур на лекциях или во время философских
дискуссий приводил примеры своего собственного
знания, то он трактовал понятия доказательства, проверки
и возможности ошибки не так, как они обычно
трактуются в отношении утверждений о знании.
Утверждения о знании, которые делал Мур, чрезвычайно сходны
с высказываниями от первого лица о чувствах,
ощущениях или настроении.
Размышляя над этим вопросом, я перечитал свой
рассказ о разговоре, который состоялся между мной и
Витгенштейном в Итаке. Витгенштейн высказал тогда
следующую мысль:
Муру хотелось бы стоять в нескольких метрах от дома и
произносить при этом с особой интонацией: I know there is а
house 'Я знаю, что здесь дом\ Он будет делать это потому, что
ему хочется вызвать у себя чувство знания. Он хочет доказать
самому себе, что он знает точно. Ему кажется, что он таким
образом полемизирует с философами-скептиками,
утверждающими, что обычные примеры нашего знания, такие, например, как
знание того, что во дворе собака или что горит соседний дом, не
являются примерами настоящего или точного знания или же
примерами самой высокой степени знания. Это как если бы кто-
нибудь сказал: "На самом деле, когда вас ущипнут, вам не
бывает больно'' и Мур начал бы щипать себя для того, чтобы
почувствовать боль и доказать себе, что его оппонент не прав. Мур
254
рассматривает предложение типа "Я знаю, что то-то и то-то" как
аналогичное предложению типа "Мне больно"26.
Позже в своих записных книжках Витгенштейн
отметил следующее: "Неправильное использование
Муром выражения "Я знаю" объясняется тем, что он
считал, что это выражение столь же мало может быть
подвержено сомнению, как и высказывание "Мне больно".
А если из высказывания "Я знаю, что это так" следует
"Это так", то это последнее тоже не может быть
подвергнуто сомнению"27.
Рассмотренная "интроспективная" интерпретация
выступления Мура в "защиту здравого смысла", если
учитывать особенности полемики между Муром и его
оппонентами-скептиками, представляется весьма
правдоподобной. Что касается скептиков, то их взгляды
могли бы быть изложены, например, следующим
образом:
Вы думаете (believe), что вы человек, что вы живете на Земле,
что она существовала задолго до вашего рождения, что вы одеты
и стоите перед аудиторией, что вот здесь в комнате — окна, а вот
здесь —дверь. Вы убеждены во всем этом. Действительно, все
это может быть истинным, даже вероятно, что это истинно. Но
вы не знаете всего этого, вы не знаете этого со всей
определенностью.
Заметим теперь, какой странный ход в
рассуждениях делает Мур, полемизируя со скептиками в статье
"Защита здравого смысла". Он пишет буквально
следующее: "Разве я на самом деле не знаю все это? Разве
возможно, чтобы я только так думал? Мне кажется, что
при ответе на этот вопрос самое лучшее — просто
сказать, что я считаю, что я действительно знаю это
точно . Если в обычной ситуации человек заявит: "Я
знаю, что то-то и то-то", а другой ему возразит: "Вы
можете только думать так, но вы не знаете этого", мы
будем ожидать, что дальше они приступят к
обсуждению характера доказательств того, что имеет место
то-то и то-то. Спор между Муром и скептиками не
укладывается в эту схему. Да и какие доказательства
того, что он человек или что он поднимает руку, мог бы
привести Мур своим оппонентам? Отвечая скептикам,
Мур сосредоточивает внимание не на доказательстве, а
на анализе своего ментального состояния. Он, похоже,
26Malcolm N. Ludwig Wittgenstein: A Memoir, p. 87—88.
27Wittgenstein L. On Certainty, § 178.
28Moore J. E. Philosophical Papers, p. 44.
255
считает, что скептики по вопросу о знании оспаривают
его характеристику своего ментального состояния, и
поэтому чувствует себя обязанным дать
исчерпывающий ответ, основанный на интроспективном
наблюдении. Это выглядит так, как если бы Мур спросил себя:
"Является ли мое нынешнее состояние состоянием
знания того, что это моя рука, или всего лишь
мнением?" — и после некоторого размышления ответил:
"Мне кажется, что это состояние знания". Возникает
впечатление, что Мур полагает, будто его спор со
скептиками по вопросу о том, знает ли Мур, что данный
объект — его рука, может быть разрешен (если он
вообще может быть разрешен) только самим Муром и
только тогда, когда он сам анализирует состояние
своего сознания. Это как если бы Мур думал
следующее: "Не так-то просто разграничить состояния
знания и мнения. Однако, когда я рассматриваю свое
нынешнее состояние, мне становится ясно, что это
состояние именно знания, а не мнения".
Давайте вернемся к спорному для нас заявлению
Мура о том, что он использовал слова "Я знаю, что
это —дерево" в "их обычном значении", хотя и в
"несколько необычных обстоятельствах". Это
утверждение становится более понятным, если рассматривать его
с учетом предположения, что Мур склонялся к мысли,
что "обычное значение" предложения формы "Я знаю..."
состоит в указании на особое ментальное состояние
субъекта. Если наша гипотеза верна, она помогает
объяснить, почему Мур считал, что высказывание "Я
знаю, что это —дерево" всегда имеет значение (причем
всегда одно и то же), даже в том случае, когда его
произнесение "не служит никакой явной цели". Значение
этого высказывания заключается в указании на то, что
говорящий находится в определенном ментальном
состоянии: говорящий как бы отчитывается перед нами о
состоянии своего разума.
Это понимание значения выражения "Я знаю..."
представляется мне, говоря словами Витгенштейна,
"иллюзией нашего языка" . Как мне кажется, в этом
легко убедиться, если вновь обратиться к
приведенным выше 12 примерам употребления выражения "Я
знаю...". Это выражение используется тогда, когда
говорящий хочет заявить о наличии у него
доказательства, о проведенной проверке результатов, о своей
авторитетности; оно используется для того, чтобы успоко-
29Wittgenstein L. Philosophical Investigations, § 358.
256
ить или убедить собеседника, выразить согласие;
говорящий может употребить эти слова для того, чтобы
подчеркнуть, что на него можно положиться или что
ему не нужно ни о чем напоминать и т.д.
Так, если я интересуюсь, действительно ли вы
знаете, что ваши расчеты правильны, то я хочу узнать о том,
проверили ли вы вычисления, а не о том, каково ваше
ментальное состояние. Если я интересуюсь, знаете ли
вы, что Джон на следующей неделе женится, то я хочу
узнать о том, объявил ли он вам об этом сегодня утром,
а не о том, каково состояние вашего сознания. Если я
спрашиваю, знаете ли вы, как надо прикреплять петли
к двери, я опять же интересуюсь не тем, каково ваше
ментальное состояние, а тем, разбираетесь ли вы в
плотницком деле. Эти сделанные мной замечания отнюдь не
означают, что я отрицаю возможность ситуаций, когда
мой вопрос о том, знаете ли вы, что то-то и то-то, будет,
по крайней мере частично, вопросом о том,
испытываете ли вы чувство глубочайшей уверенности, что то-то и
то-то имеет место. В этом случае предмет моего
интереса действительно будет составлять ваше ментальное
состояние, и все, что вы сообщите о степени вашей
уверенности, будет чрезвычайно важно. Но это только
один из случаев. Вопрос о том, знаете ли вы то или это,
может возникнуть и действительно возникает у
окружающих чаще всего тогда, когда их абсолютно не
интересует ваше чувство уверенности или убежденности.
Причард, а также, возможно, Мур в огромной степени
абсолютизировали идею, что человек путем
размышления над своим ментальным состоянием может
определить, знает он что-либо или только имеет
соответствующее мнение. Они, таким образом, неправильно
представляли себе большую часть содержания концепта
знания.
30. Наконец, я приступаю к рассмотрению того, что
составляет самую большую ценность стремления Мура
привести примеры того, что он знает. Этот вопрос был
освещен Витгенштейном в работе "О достоверности".
Витгенштейн отметил, что среди эмпирических
пропозиций существуют пропозиции, которые
"непоколебимы", "устойчивы", ' по отношению к которым
невозможно сомнение". Говоря иными словами, эти
пропозиции таковы, что человек, усомнившийся в их
истинности, окажется неспособным выносить суждения о чем
бы то ни было вообще. Витгенштейн пишет: "В
отношении определенных эмпирических пропозиций не
может возникнуть сомнение, если только вообще воз-
9-567
257
можно суждение"30. И далее: "Вопросы, которые мы
задаем, а также наши сомнения возможны только
потому, что существует ряд пропозиций, истинность
которых не может быть подвергнута сомнению. Эти
пропозиции подобны стержням, вокруг которых вращаются
все наши вопросы и сомнения"31 . Это означает не
только то, что в любом исследовании всегда имеется
что-то не нуждающееся в исследовании, а, скорее, то,
что в любом исследовании определенные положения
всегда принимаются как данное. Любая попытка
усомниться в правильности этих положений и каким-то
образом их проверить имела бы своим следствием то, что
человек перестал бы понимать, как вообще возможно
изучение и исследование чего-либо:
Исследование, если оно не основывается на положениях, в
истинности которых нельзя усомниться, является невозможным.
Но это не означает, что человек просто принимает эти положения
на веру. Когда я опускаю письмо в почтовый ящик, я
предполагаю, что оно дойдет до адресата — я верю в это. Если я ставлю
эксперимент, я не сомневаюсь в существовании прибора,
который находится передо мной. Я могу сомневаться в чем угодно,
только не в этом. Если я произвожу вычисления, я принимаю
как само собой разумеющееся, что цифры, написанные мной на
бумаге, не могут сами по себе исчезнуть. Я также всегда
доверяю своей памяти, причем доверяю ей полностью. Уверенность
во всем этом сродни моей уверенности в том, что я никогда не
был на Луне32.
Здесь Витгенштейн намеренно проводит аналогию
между отмеченными им случаями, когда у нас не
может быть сомнения, и приводимыми Муром примерами
того, что он "знает точно", — такими, например, как "Я
никогда не был далеко от Земли", "Я человек", "Это
моя рука" и т.д. Витгенштейн извлек из "защиты"
Муром "здравого смысла" и сформулировал ту
исключительно важную мысль, что "пределы , в которых
совершается процесс нашего мышления, отчасти
формируются пропозициями, которые носят условный
характер и являются, в определенном смысле,
эмпирическими: "Я заявляю следующее: основание наших
мыслительных процессов (осуществляемых с помощью
языка) составляют не только логические пропозиции, но и
пропозиции, обладающие некоторыми чертами
эмпирических пропозиций.— Выражение "Я знаю..." к ним
неприложимо. "Я знаю..." указывает на то, что именно
я знаю, а это уже не представляет для логики никакого
30W i 11 g e n s t e i n L. On Certainty, § 308.
31 Там же, § 341.
32 Там же, § 337.
258
интереса"33. Некоторые философы будут, возможно,
настаивать, что если человек начнет сомневаться в
истинности этих пропозиций, то это не отразится на его
способности рассуждать и делать выводы. Но так ли это
на самом деле? Витгенштейн, рассматривая
предложение My name is L. W. 'Меня зовут Людвиг Витгенштейн',
пишет следующее:
На вопрос "Знаю ли я или я только думаю, что меня
зовут ...?" ответ искать бесполезно.
Но я могу сказать: "Я за всю свою жизнь ни разу не
усомнился в том, что меня зовут именно так". И, кроме того, здесь,
по сути дела, нет никакого суждения, по отношению к которому
я мог бы испытывать какое-то чувство уверенности, если бы
вдруг в нем усомнился34 . Если меня не зовут L. W., то как тогда
я вообще могу разграничивать "истинное" и "ложное"?35
Витгенштейн стремится определить, есть ли
различие между пропозицией "Вода в чайнике, стоящем на
зажженной газовой плите, не замерзнет, а вскипит" и
пропозицией "Человек, сидящий напротив меня, — мой
старый друг N. N.".
Если я произношу: "Я знаю, что вода з чайнике, стоящем на
зажженной газовой плите, не замерзнет, а вскипит", то может
показаться, что я имею такое же право употребить здесь
выражение "Я знаю", как и в любой другой ситуации. Если я вообще
знаю что-либо, то уж это я, конечно, знаю. Или я знаю все-таки
с большей определенностью, что человек, сидящий напротив
меня, — мой старый друг такой-то? Каким образом можно
сравнить эту пропозицию, например, с той, что я вижу глазами и
могу увидеть их, если посмотрюсь в зеркало? Не могу сказать,
что у меня есть точный ответ на этот вопрос. Тем не менее
очевидно, что между этими двумя примерами есть различие. Если
вода в чайнике, стоящем на зажженной газовой плите, замерзнет,
я, конечно, буду чрезвычайно поражен, но всегда смогу
объяснить это явление тем, что здесь наличествовал ряд факторов, о
которых мне не было ничего известно, а возможно, просто
предоставлю решать этот вопрос физикам. Но что может заставить
меня усомниться в том, что этот человек — мой друг N. N.,
которого я знаю на протяжении уже многих лет? Мне кажется, что
усомниться в этом означало бы начать сомневаться и во всем
остальном, так что в конечном итоге воцарился бы полный
хаос36 .
Витгенштейн считает, что для каждого из нас
существует некоторый (у каждого свой) набор
квазиэмпирических пропозиций, которые имеют условный
характер. Эти пропозиции обладают следующими двумя
33Тамже, § 401.
34Тамже, § 490.
35Тамже, § 515.
36Тамже, § 613.
9*
259
признаками: во-первых, они находятся "вне
сомнения" — в том смысле, что, если вдруг человек начал бы
в них сомневаться, он перестал бы испытывать
уверенность по отношению к чему бы то ни было вообще,
даже по отношению к тому, что он знает свой
собственный язык ("Если я обманывался в этом, что же тогда
означает слово "обманываться"?)37. Человек потерял
бы способность рассуждать, выносить суждения,
заниматься изучением чего-либо, он утратил бы даже
способность сомневаться. Это звучит парадоксально —
сомнение по отношению к некоторым пропозициям
сделало бы невозможным сомнение по отношению к
чему бы то ни было вообще! Во-вторых, не будет
ничего абсурдного в том, если человек (столкнувшись даже
с самыми невероятными событиями) откажется
усомниться в истинности этих пропозиций, "определяющих
границы нашей способности выносить суждения".
Витгенштейн пишет об этом так: «Вопрос заключается
в следующем: „А что, если вам придется изменить
свое мнение в отношении этих наиболее
фундаментальных положений?" Как мне кажется, правильным
является ответ: "Вы не должны менять своего мнения.
Именно это и составляет "фундаментальность"
рассматриваемых положений"»3 8. Витгенштейн говорит о том,
что мы сможем выполнять расчеты, проверять
результаты, формулировать суждения и задавать вопросы
только в том случае, если по отношению к целому ряду
вещей наше сомнение будет полностью исключено.
Когда мы заучиваем названия предметов или
осваиваем операции сложения и умножения, мы
непосредственно воспринимаем все, чему нас учат. Сомневаться
при этом означало бы, что мы на самом деле вовсе не
учимся производить арифметические операции, искать
и находить предметы или, скажем, отдавать
приказания: "Нечто должно быть преподано нам в качестве
основания"39 . Именно на таком основании и строится
любое употребление языка: "Всякая языковая игра
базируется на узнавании нами слов и предметов. Мы
запоминаем, что это*—стол, с той же степенью
уверенности, с которой мы знаем, что 2X2 = 4"40. Сомнение
в отношении таких вещей с неизбежностью повлекло
бы за собой сомнение в правильности языка: "Если я
f? Там же, § 507.
3*Тамже, § 512.
3*Тамже, § 449.
°Тамже, § 455.
260
сомневаюсь или не уверен в том, что это моя рука (в
каком бы то ни было смысле), то почему бы мне
не подвергнуть сомнению значение соответствующих
слов?"41 В этом рассуждении говорится о том, что
философ не может выразить имеющееся у него сомнение с
помощью предложения "Я сомневаюсь, рука ли это",
так как при этом он одновременно должен усомниться
в том, является ли слово "рука" правильным
названием для того, что вызывает сомнение. Если мы
предположим, что сомнение человека должно выражаться
скорее в действиях, чем в словах (например, в
неопределенной реакции на команды типа "Протяни руку!"),
перед нашим мысленным взором сразу же возникнет
либо ребенок, еще не понимающий значения
обращенных к нему слов, либо умственно отсталый человек,
либо дряхлый старик. Таким образом становится
понятно, в каком смысле философское сомнение,
касающееся того, рука ли это, отрицает само себя
посредством самих же используемых слов. Если же мы заменим
слова действиями, то будем иметь дело уже не с
философами, а с младенцами.
Витгенштейн отметил, что несмотря на то, что
утверждения Мура, имеющие форму "Я знаю...", были
неверными, за всем этим скрывалась чрезвычайно
глубокая мысль. Что касается неправильности
утверждений Мура, то это объясняется, во-первых, их
автобиографическим характером: знает ли Мур то или это,
не представляет ровным счетом никакого
философского интереса. В основе неправильности утверждений
Мура лежит и другая, более глубокая причина: выражение
"Я знаю...", как и выражение "Я сомневаюсь...", может
быть употреблено только тогда, когда существует
принципиальная возможность сомнения, дальнейшего
исследования или исчерпывающего доказательства. Как
мы убедились, выражение "Я знаю..." используется
говорящими для того, чтобы выразить согласие, убедить
собеседника, указать на свою компетентность и т.д.
Однако Мур не использовал выражение "Я знаю..." не
только ни с одной из этих целей, но также ни с одной
какой-либо обычной целью вообще: Мур на самом деле
отвечал на метафизический тезис, в котором
утверждалось, что человек не может знать то-то и то-то. Мур был
прав в отрицании этого тезиса, но ход его мыслей был
неверным: "Ошибка Мура заключается в том, что он
опровергал утверждение, что человек не может что-то
41 Там же, § 456.
261
знать, при помощи высказывания "Я знаю это"42. Мур
противопоставил метафизическому утверждению
скептиков свое собственное метафизическое утверждение
формы "Я знаю", что могло бы быть оправданным
только в том случае, если выражение "Я знаю" не
допускало бы метафизического логического
выделения"43 .
Хотя Мур в силу того, что использовал выражение
"Я знаю..." некорректно, не смог предложить
правильного решения проблемы, я тем не менее считаю, что с
полным на то основанием можно сказать, что Мур
подметил нечто гораздо более важное. Сформулировать
это Мур, однако, не смог; указанную задачу выполнил
Витгенштейн: "Когда Мур говорит, что он знает то-то и
то-то, он на самом деле перечисляет только те
эмпирические пропозиции, которые принимаются нами без
всякой проверки и которые, таким образом, играют
особую роль в системе наших эмпирических
пропозиций" . Большинство приводимых Муром пропозиций
являются, несомненно, условными по характеру. Они
к тому же сходны с эмпирическими пропозициями.
Однако это не те пропозиции, в истинности которых
мы можем усомниться или которые можем
подвергнуть проверке. Это не те пропозиции, которые "мы
знаем" или "не знаем". Их особая роль заключается в
том, что они отчасти очерчивают границы, в которых
мы можем задавать вопросы, проводить исследования,
высказывать предположения, рассуждать, делать
проверки. Не будь этих границ, мы не смогли бы ни
говорить, ни мыслить.
Следует отметить, что несмотря на то, что сам Мур
не сформулировал этих выводов в явном виде, его
заслуга все равно необычайно велика. Во времена Мура
скептицизм с его интерпретацией вопросов, связанных
с восприятием, знанием и материальным миром, был
широко распространенным философским течением (в
настоящее время он возрождается снова). Мур в своем
выступлении против скептицизма представляется мне в
значительной степени одинокой фигурой. Восстав
против основных положений этой доктрины, не зная точно,
каким должен быть ответ, но полностью осознавая
огромную важность решения этого вопроса для
философии, Мур смело бросил вызов и выстоял! Это было
42Тамже, § 521.
4*Тамже, § 482.
44Тамже, § 136.
262
проявлением выдающейся научной смелости и силы
характера.
Философии необыкновенно повезло, когда
Витгенштейн, никогда прежде не придававший особого
значения выступлению Мура в "защиту здравого смысла",
внезапно заинтересовался этим вопросом, что привело
к созданию блестящей работы, посвященной изучению
логических границ сомнения, мнения и знания. Именно
этому исследованию было суждено раскрыть
действительную глубину философской мысли Мура.
Джон Барвайс и Джон Перри
СИТУАЦИИ И УСТАНОВКИ*
Читая ранние работы по логике Фреге и Рассела,
нельзя не обратить внимания на то, сколь сильно
занимал их вопрос понимания глаголов пропозиционных
установок типа wonder (интересоваться), believe
(верить) , know (знать). Но несмотря на это и несмотря на
весь последующий прогресс в логике, все еще нет
удовлетворительного систематического рассмотрения
логики пропозициональных установок.
В настоящей работе мы дадим набросок подхода,
который, как мы полагаем, приведет к
удовлетворительному и систематическому рассмотрению
упомянутого вопроса. В качестве примеров установок мы
возьмем see видеть\ believe уверить\ know 'знать\ say
'"говорить'. Мы называем нашу теорию ситуационной
семантикой. В некоторых основных своих чертах она по духу
ближе к Расселу, чем к Фреге. Мы начнем с некоторых
существенных черт ситуационной семантики, а затем
перейдем к обсуждению философских и семантических
вопросов, касающихся установок. Строгая семантика
фрагмента английского языка, включающего эти
глаголы, а также времена, индексные выражения,
указательные местоимения, определенные дескрипции,
собственные имена, местоимения и условные высказывания,
находится в процессе построения.
Ситуации
Ситуации— это нечто основное и вездесущее. Мы
всегда находимся в тех или иных ситуациях.
Человеческая познавательная деятельность выделяет в этих
ситуациях категории объектов, имеющих атрибуты и
находящихся в отношениях друг к другу в своих локу-
*Barwise J. and Perry J. Situations and Attitudes. The
Journal of Philosophy, Inc. № 7, July, 1981. © The Journal of
Philosophy, 1981.
264
сах — связных областях пространства-времени.
Человеческие языки отражают (и усиливают) эту
познавательную деятельность, давая нам возможность передачи
информации о ситуациях, как о тех, в которых
находимся мы сами, так и об удаленных от нас в
пространстве и времени.
Пытаясь развить теорию лингвистического
значения, которая исходит из ситуаций, мы признаем
эпистемологическую первичность ситуаций, но следуя
языку и беря объекты, отношения и локусы как
исходные понятия нашей теории, реконструируем из них
ситуации. Таким образом, мы принимаем в качестве
исходных:
(I) множество А индивидов а, в, с
(II) множество отношений R = R0 и R\ и ■• Rn и ■•.,
вде Rn состоит из n-арных отношений.
(III) множество L пространственно-временных
локусов /, 1у ,
Ситуация s характеризуется ее локусом I и типом
s, s=</, s). Тип говорит, какие объекты в каких
отношениях находятся в данном л о кусе. Мы представляем
типы посредством частичных функций, определенных на
отношениях г е Rn и и-ах объектов (а{ ,...,ап>, с областью
значений [0, 1], где 1 понимается как истина, а 0
понимается как ложь1., Частичная функция s0 ,
определенная посредством
s0 (спит, Джеки) = 1
s0 (спит, Молли) = О,
будет реализована в тех ситуациях s, где первая собака
автора спит, а вторая не спит, независимо от того, что
делает собака читателя, если она у него есть. (s0
реализуется в s= </, s>, если s0 с s.) Мы используем S для
обозначения множества типов ситуаций s, s0, sx у ... и S
( = L XS) для множества ситуаций s, s0, sa...
Ряд событий о является частичной функцией из
множества локусов LbS. Таким образом, каждый ряд
событий является также некоторым множеством
ситуаций, не более одной для каждого локуса/. Если /eArg(a),
мы пишем ol для типа ситуации о(1). Множество всех
рядов событий будет обозначать посредством £.
Тотальный ряд событий — это ряд событий, определенный
для всех локусов. Среди тотальных рядов событий мы
выделяем один актуа/ььный ряд событий а*. Ситуация
1 Истинностные значения мы понимаем как возникающие в
процессе абстрагирования от ситуаций к объектам, просто
находящимся или не находящимся в тех или иных отношениях.
265
s=</, s) является действительной, если sC о/, т.е. если
тип ситуации s является частью того, что действительно
имеет место в /.
(Реальное) положение дел (proposition) — это
множество Р с 2, удовлетворяющее условию:
(Монотонность) оеР и а С а' влечет а' е Р.
Прилагательное "реальное" использовано здесь для того, чтобы
подчеркнуть, что все это конструкции из реальных
объектов, свойств и локусов, а не чьи-то
представления. [ (Реальное) нелокализованное положение дел —
это множество PCS, удовлетворяющее аналогичному
условию монотонности: s е Р и s С s' влекут s' е Р].
В английском языке представлены три основных
отношения на пространственно-временных локусах:
1Х о /2 1Х и /2 пересекаются во времени
1Х < /2 1\ во времени целиком предшествует /2
/@ /2 /i и /2 пересекаются в пространстве.
Мы рассматриваем их как экстенсиональные
отношения на L, из которых можно конструировать
"моменты" времени и "точки" пространства, как это
делали Уайтхед и Рассел.
Отправной точкой ситуационной семантики
является понимание неовремененных утверждений в
изъявительном наклонении как описывающих или
обозначающих типы ситуаций, а овремененных утверждений в
изъявительном наклонении как обозначающих
положения дел, множества рядов событий. Мы намеренно
используем термин "утверждение", так как
предложение типа "Я сижу" может быть использовано, чтобы
сделать столько различных утверждений, сколько
имеется людей и моментов времени для его произнесения.
Конкретное предложение имеет фиксированное
"значение" (meaning), но различные его утверждения будут
описывать различные события, т.е. различные его
утверждения будут иметь различные "интерпретации".
Это различие между значением и интерпретацией
является предметом рассмотрения в следующем разделе.
Значение и интерпретация
Ряд важных вопросов ситуационной семантики
может быть поставлен при рассмотрении следующих
простых предложений:
(1) I am sitting.
'Я сижу'.
(2) Sandy is sitting.
'Санди сидит'.
266
(3) She was sitting.
'Она сидела'.
Начнем со слова /. О нем следует сказать, что
всегда, когда оно используется человеком, говорящим на
английском языке, оно обозначает этого человека.
Мы думаем, что это все, что нербходимо знать о
значении I в английском языке, и это — парадигма его
значения.
Рассмотрим отношение:
Выражение а (языка L), использованное х,
обозначает у, которое мы запишем в виде [а]) (х, у). Теория,
которая указывает все условия, при которых имеет
место [[ a J (*, у), является нашим кандидатом в теорию
значения для языка L. То, что было сказано о слове J,
дает нам первое условие:
U\ (^ У) е.т.е.а=у.
Реляционный взгляд на значение требует, чтобы
систематически уделяли внимание соответствующим
значениям каждой координаты. Наша отправная точка
в ситуационной семантике состоит в том, что, когда
первая координата а является овремененным
предложением в изъявительном наклонении, третьей
координате соответствуют ряды событий.
При таком подходе различными могут быть
значения второй координаты х. Это говорит о том, что люди,
произносящие выражение, являются слишком простым
выбором для значений второй координаты.
Предложение (1) может быть использовано одним и тем же
человеком в различных местах пространства-времени для
описания различных событий. Сходным образом то, что
обозначается посредством you, now, she, this, was,
варьируется от произнесения к произнесению, завися от того,
кто говорит, где, о чем, что, когда. Мы будем
представлять факты, специфицирующие произнесение,
посредством референции к ситуации произнесения и связям.
Ситуация произнесения d представляет ситуацию, в
которой находится как произносящий выражение, так
и адресат. Она является некоторой ситуацией Sd=(ld,Sd)
с выделенным индивидом а^ таким, что s^ (speaks,
а^)=1. Мы модифицируем правило для /, приведенное
выше, следующим образом:
[I] (d, у)е.т.е. y=ad.
267
Аналогично now требует, чтобы время, к которому
производится референция, частично пересекалось с
временем произнесения. Поэтому мы можем
определить:
[now]] (d, >) е.т.е.у е Ьиу о ld.
Аналогично:
[hereJ (d, у) е.т.е. у е L и у@/<*.
Однако часто факты, специфицирующие
произнесение, содержат конституенты, отсутствующие в
действительной ситуации произнесения. В качестве примера
рассмотрим предложения (2) и (3), приведенные
выше. Разумно предположить, что в интерпретированном
произнесении предложения (2) или (3) Санди (Sandy)
обозначает Санди (или она she обозначает некоторую
женщину). Но какую Санди — Санди Коуфакс, Санди
Деннис или собаку малышки Анни? Пока что не
уточнено то, что значимое употребление (2) говорит о
некоторой особой Санди (как и значимое употребление (3)
говорит о некоторой особой женщине). Так как эти
индивиды не обязаны присутствовать в действительной
ситуации произнесения, у нас нет никакого другого
выбора, кроме как признать еще одну компоненту
второй координаты, компоненту представляющую
связи с между определенными словами и предметами в
мире, связи, имплицитно содержащиеся в любом
осмысленном употреблении этих слов. Таким образом
произнесение предложения (2), где произносящий
говорит о Санди Коуфакс, будет представлено
выражением (2), особой ситуацией произнесения d и некоторой
частичной функцией с такой, что c(Sandy) = Санди
Коуфакс. Мы можем представить значения Sandy и
she следующим образом:
[[Sandy] (d, с, у) е.т.е. c(Sandy) = у и Sandy является
именем у.
[ She] (d, с, у) е.т.е. с (she) = у и у является женщиной.
(Хотя это еще слишком просто, но для данного
момента достаточно хорошо.)
268
Мы разобрались с именными группами (noun
phrases) в (1) — (3) и имеем средства для того, чтобы
разобраться с глагольными группами (verb phrases) am
sitting, is sitting, was sitting. Это все разные длительные
(progressive) формы глагола sit 'сидеть'. Как и для
большинства глаголов, его интерпретация
чувствительна к той ситуации произнесения, в которой он
произнесен. Однако sit может быть использован либо для
обозначения действия sita€Ri действия усаживания, либо
для обозначения состояния sitseRi, состояния
сидения, по усмотрению произносящего. Таким образом
опять появляются связи:
[sit] (d, с, у) е.т.е. с (sit) = у и у = sita или у =sits.
Теперь мы обратимся к временам в (1) — (3). Как
и now, настоящие временные формы из (1) и (2)
указывают, что действие происходит во времени, которое
частично пересекается с временем произнесения.
Прошедшие временные формы используются для указания
того, что действие имело место в прошлом. Но как
частью значения предложения she was sitting (она
сидела) является то, что в качестве утверждения оно
говорит об определенной женщине, так же частью его
значения является то, что оно говорит об определенном
пространственно-временном локусе. Чтобы корректно
интерпретировать мое утверждение, что she was sitting,
нужно корректно интерпретировать мое использование
слов she и was, как говорящие о некоторой женщине и
некотором пространственно-временном локусе. Чтобы
представить связи между временными маркерами и
локусами, мы разрешим нашим функциям связи
приписывать временным маркерам локусы. Тогда:
Если а есть am(are) is, тогда [aJ (d, с, у) е.т.е.
ca = yeLHyo/dl
Если а есть was (were) was, тогда (J a]) (d, с, у) е.т.е.
са = уеЬиу(1с1.
Когда мы фиксируем все, что специфично для
отдельного произнесения выражения а, мы получаем то,
что мы называем интерпретацией произнесения. Таким
образом, если мы фиксируем некоторое выражение а,
ситуацию произнесения а, связи с, то мы получим те
у, для которых выполняется Ца] (d, с, у), что можно
записать в виде у е^ с ЦаЦ. Если имеется единственный
такой у, то мы называем этот у интерпретацией
произнесения a, d, с и пишем d, с 1аЦ=у. Например,
d с IIIИ = ad и d с I was Ц = с (was), некоторый локус
269
Мы теперь можем приписать значения всем
предложениям вида
NP PROG VP,
где NP е( I, Sandy, she ) PROG е ( am, are, is, was, were)
VP = sit, а именно:
JaJ (d, с о) е.т.е. б/ (Р, а) = 1,
где^, с iPROG] = /, rf,c |[VP] - Ри ^NPJ = a.
Произнесение выражения а описывает ряд событий a
именно в том случае, когда а сидит (в подходящем
смысле) в заданном локусе / в ряду событий а.
Заметьте, что dy с IIa J является положением дел, монотонным
множеством рядов событий.
Важность различения значения и интерпретации для
понимания установок не может быть переоценена. Это
объясняется двумя взаимосвязанными фактами: (1)
эффективность и (2) относительность.
Эффективность: данное выражение а с
единственным значением fa J может быть использовано в
различных обстоятельствах с различной интерпретацией.
Слово типа /, например, может быть использовано
для обозначения любого из нас. Хотя это делает язык
эффективным, позволяя использовать данное
выражение еще и еще, без конца, с различными целями, это
имеет и свои последствия. Предложение, которое
описывает некоторую ситуацию с точки зрения одного
человека, не будет в общем случае описывать эту
ситуацию с точки зрения другого человека. Чтобы дать
нам возможность говорить об одних и тех же ситуациях,
человеческий язык удовлетворяет следующему
принципу:
Относительность: различные выражения с
различными значениями могут быть использованы в
различных обстоятельствах с одной и той же интерпретацией.
Так вы, будущий читатель, чтобы выразить факт,
что я сижу (сейчас), могли бы сказать: "Не was sitting"
'он сидит'5.
Можно было бы сказать, что значение есть функция
из ситуации произнесения и связей в интерпретацию.
Тогда положение дел d, с 1а1 есть единственное
множество рядов события'а, такое, что выполняется fa J
Внимательный читатель поймет, что в его описании моей
ситуации его или ее связями будут: с(Ье)=я, c(was)= здесь и
сейчас. Это объективно детерминировано тем, кто из авторов
писал эту часть на бумаге, где и когда, и не зависит от способности
читателя специфицировать все это как-либо более полно. С
другой стороны, процесс чтения читателем причинно связан с
процессом написания читаемого текста.
270
(d, с о). Это не является неправильным, но может
ввести в заблуждение. Интерпретация, т.е. множество,
которое мы получаем, когда фиксируем выражение,
ситуацию произнесения и связи, очень важна. Это
равносильно некоторому единообразию (uniformity)
произнесений, и оно очень важно; признание важности
встроено прямо в язык. Но, вспоминая, что значение
есть отношение, мы вспоминаем и о большом числе
других единообразий, которые нам необходимы для
понимания установок.
Кроме интерпретаций, мы можем построить
некоторое число "обратных интерпретаций", фиксируя
последнюю координату значения и позволяя варьировать
другие. Такие обратные интерпретации мы используем
в повседневной жизни, и они часто содержатся
имплицитно в разговоре об "условиях истинности" и о том,
"когда некоторое предложение является истинным".
Предположим, например, мы говорим, что некоторый
ребенок Ъ понимает выражение this is milk 'это
молоко', так как он говорит это только тогда, когда это
истинно. При этом он имеет в виду, что он говорит это
только тогда, когда добирается до молока. Мы
апеллируем к
[<d, с> | [this is milkj| (d, с a*), ad = Ь].
И когда мы думаем, что это хороший тест для
понимания предложений данного вида, мы так думаем потому,
что уверены в имеющемся единообразии этого
множества, которое открывается восприятию а^. Это
единообразие не есть интерпретация, так как мы
предполагаем, что ребенок имеет дело с различными
емкостями молока в различное время3 .
Некоторые философы полагают, что истинные
средства передачи значения могут быть как
неотносительными, так и неэффективными. Такая точка зрения
ведет к логическому атомизму. Другие думают, что эти
средства могут быть относительными, но не
эффективными. Эхо заставляет их стать на точку зрения, что
эффективные предложения естественного языка
дополняются смыслами или мысленными представлениями,
которые восполняют недостающее и "полны во всех
3 Некоторые из этих вопросов рассмотрены в работе
Perry J. "Perception, Action and the Structure of Believing. — In:
"Festschrift for Paul Grice". Ed. by R. Grandy and
R. Warner.
271
отношениях". Мы думаем, что истинными средствами
передачи значения являются предложения
естественного языка, и недостающее обусловлено другими
факторами в самом произнесении. Изучение языка
предполагает координацию с более или менее удаленными
частями окружения, а не со смыслами или мысленными
представлениями.
Непосредственные установки
Утверждения, которые делают с помощью
предложений следующего вида, мы называем отчетами об
установках (attitude reports):
(4) Agnes saw me jump in the fountain.
'Агнеса увидела, что я прыгнул в фонтан'.
(5) Agnes saw that I was sitting in the fountain.
'Агнеса увидела, что я сижу в фонтане'.
(6) Agnes knew that I was hot and tired.
'Агнеса знала, что мне было жарко и я устал'.
(7) Agnes said that I was drunk.
'Агнеса сказала, что я пьян'.
(8) The policeman believed what Agnes said.
'Полицейский поверил тому, что Агнеса сказала'.
Глаголы установок комбинируют с предложениями,
образуя глагольные группы, которые используются для
классифицирования индивидуумов. Заметьте, однако,
что интерпретация любого из отчетов (4) — (8)
отводит важнейшее место (features) интерпретации
подчиненного предложения, а не его значению. Нашим
первым приближением будет довольно прямой
семантический подход — мы будем рассматривать глаголы
установок как выражающие отношение между
индивидуумами и интерпретациями подчиненных
утверждений. Произнесение (6), например, будет выражать
отношение между Агнес и тем фактом, что я был
утомлен и мне было жарко, комплексом, включающим
меня, два свойства и некоторый локус.
Этот подход к установкам является примером того,
что Дональд Дэвидсон назвал "семантической
непосредственностью":
"Если бы мы могли восстановить нашу дофрегев-
скую семантическую непосредственность, я думаю,
было бы совершенно невозможно, чтобы слова "земля
вращается", произнесенные после слов "Галилей
сказал, что", означали что-либо другое или относились к
чему-либо другому, чем то, что под ними понимается
272
во всех других случаях"4 .
При только что обрисованном подходе подчиненные
утверждения и их конституенты имеют то же самое
значение и ту же самую интерпретацию, как и в том
случае, когда они не являются подчиненными.
Традиционные возражения против
непосредственного подхода основывались на вере в то, что
единственной правдоподобной интерпретацией (референцией)
предложения может быть истинностное значение,
которое забывает все, о чем идет речь в предложении. Вера
в то, что единственно возможной интерпретацией
предложения является истинностное значение, была
подкреплена формальными аргументами, которые мы
называем "рогаткой". Мы показали в другой нашей
работе, что эти аргументы основаны на том, что они
игнорируют возможность семантики, базированной на,
ситуациях5 .
Как только это возражение было устранено,
непосредственный подход показался вполне естественным.
Обращая внимание на интерпретацию (а не значение)
подчиненного предложения, мы теперь сразу можем
объяснить относительность подчиненного предложения.
В случае, когда мы имеем дело с отчетами об
установке настоящего времени от первого лица, в качестве
подчиненного используется выражающее (expressive)
предложение. Я выражаю уверенность (belief),
которую я выразил бы с помощью слов I am sitting 'Я
сижу', посредством предложения I believe that I am sitting
'Я уверен, что я сижу'. Но предложения, которые мы
используем для сообщения чьих-либо установок или
сообщаем свои прошлые установки, не являются теми
предложениями, которые они или мы использовали или
использовали бы для выражения этих установок. Так,
например, вы выражаете уверенность (belief) с
помощью предложения Не believed that he was sitting 'Он был
уверен, что он сидит', а не Не believed that I am sitting
'Он был уверен, что я сижу'. То же самое справедливо
по отношению и к другим глаголам установок (AV's).
Установки являются установками по отношению к
положениям дел. Отчет об установке NP AV а говорит
4"On Saying That" перепечатан в: Davidson D. and
Gilbert H. eds., "The Logic of Grammar'\(Encino, Calif. Dickenson,
1975), p. 152. Оригинал напечатан в "Synthese", XIX 1968—1969,
p. 130-146.
5 "Semantic Innocence and Uncompromiging Situations"
Midwest Studies in Philosophy, VI (1981), p. 387—403.
10-567
273
об отношении к положению дел Р путем использования
подчиненного предложения а, интерпретация
которого с точки зрения (d, с) говорящего есть Р. Агент
а (~dy с Ц NPJ) должен был использовать некоторое
выражающее предложение а', интерпретация которого
относительно его собственной точки зрения d\ с'
также была быР:
P=d,c IaJ=dV [a].
То, что может быть названо "общепринятой
теорией" установок (оставим в стороне see и другие глаголы
восприятия), говорит примерно следующее. Установки
являются отношениями к предложениям, значениям
предложений, смыслам предложений или мысленным
представлениям, которые понимаются как нечто
подобное значениям предложений. Отчет об установке NP AV
а сообщает установку агента по отношению к
предложению а или по отношению к мысленному
представлению, как-то ассоциированному с а. Это "de dicto" отчет
об установке. Предложение не используется
непосредственно, чтобы отсылать к тому, к чему оно обычно
отсылает, а используется как отсылающее к самому
себе, к своему значению, смыслу или мысленному
представлению.
Чтобы объяснить феномен, который мы
обсуждали—несоответствие между выражающим
предложением агента и подчиненным предложением говорящего, —
общепринятая теория допускает, что установка иногда
сообщается различными способами, но утверждает, что
сама установка есть установка по отношению к
общепринятому сорту объектов. Например, в так
называемых "de re" отчетах некоторые части подчиненного
предложения используются не для внесения
(contribute) их смысла (значения и т.д.), но для
идентификации, скажем, индивидуума Ь. Такие de re отчеты,
утверждается, означают, что агент имеет установку по
отношению к предложению или значению, которое
имеет Ь в качестве референта одной из своих частей.
Проблемы, связанные с временем, обычно игнорируются,
но рассматривались бы, наверное, подобным образом.
Все версии общепринятой теории сталкиваются с
серьезными трудностями, эти трудности и послужили
толчком для нашей разработки непосредственной
семантики. В первую очередь бросается в глаза
необычайная сложность, запутанность объяснений общепринятой
теории, которые никогда не были разработаны в
деталях (взять, например, (8)).
274
Предположение, что установки являются
отношениями к предложениям, правдоподобно в случае, когда
глаголом установки является say, и едва ли
правдоподобно в случае глаголов believe и know, и уж совсем
невозможно в случае глаголов восприятия. И даже в
случае глагола say в теории не все гладко, как ясно
показывает Дэвидсон.
Новые проблемы обступают нас, когда мы
переходим от предложений к значениям, смыслам или
мысленным представлениям. Очень часто ссылаются на
фреговское понятие смысла будто на хорошо
разработанное и понятное. Но это не так. Попытки разработать
всестороннюю теорию смысла сталкиваются с
серьезными техническими тредностями — трудностями,
которые отражают философские возражения против
самого понятия смысла.
Семантика "возможных миров", развитая для
модальной логики, в применении к установкам
предлагает сопоставлять подчиненным предложениям их
"интенсионал" — множество возможных миров, в
которых это предложение истинно. Даже если кто-либо
думает, что исходное понятие возможного мира имеет
смысл, все равно возникает проблема логической
эквивалентности.
Возьмем два примера:
(9) Fred sees Betty enter.
'Фред видит, что Бетти входит.'
(10) Fred sees Betty enter and (Sally smoke or not
smoke).
'Фред видит, что Бетти входит и (Салли курит
или Салли не курит).'
Мы, конечно, не можем перейти от (9) к (10),
хотя Фред может быть логически одарен. Если бы мы
это сделали, мы должны были бы допустить, что Фред
или видит курящую Салли, или же видит некурящую
Салли, даже если он ее никогда не видел. Это
допущение мы должны были бы сделать в силу следующих
принципов:
Если Фред видит Р и Q, то Фред видит Q.
Если Фред видит Р или Q, то Фред видит Р или Фред
видит Q. (Мы бы никак не ожидали всевосприятия
даже среди логически всеведущих.)6
Ситуационная семантика и семантическая
непосредственность решают проблемы логической эквива-
6Barwise J. Scenes an* Other Situations. The Journal of
Philosophy, LXXVIII, 7,1981.
10*
275
лентности. Логически эквивалентным предложениям
даже в одной и той же ситуации произнесения не
сопоставляется одно и то же положение дел. Различные
положения дел дают различные множества типов ситуаций.
Это дивиденд от свободного использования частичных
функций при построении ситуационной семантики.
Действительно, с точки зрения ситуационной
семантики фразу "логически эквивалентные" следует
употреблять по отношению к предложениям, истинным в
одних и тех же ситуационных типах или рядах событий,
а не по отношению к тем предложениям, которые
удовлетворяют более слабому условию быть истинным
в одних и тех же тотальных типах или рядах событий.
Фраза "логически эквивалентные" имеет, однако,
устоявшееся употребление, и мы будем использовать
для обозначения более строгого отношения термин
"строгая эквивалентность".
Наш непосредственный подход является прямым,
естественным, он позволяет решить некоторые
проблемы, избегает других. Однако и при таком подходе
мы сталкиваемся с определенными трудностями.
Непосредственность под угрозой
В этом разделе мы перечислим четыре проблемы,
которые представляют угрозу нашему объяснению
установок, которые указывают на недостающую кон-
ституенту нашей теории.
Логика установок. Есть факты, имеющие
отношение к установкам, которые требуют семантического
объяснения. Это особенно ясно в случае эпистемически
нейтральных отчетов в восприятии (sees versus sees that,
как в (4))7. Два из них мы установили выше:
(I) если а видит <р и ф, то а видит <р и а видит ф;
(II) если а видит \р или ф, то а видит $ или а видит ф;
(III) если а видит <£, то у;
(IV) если а видит \p(tx) и t\ - t2 , то а видит y(t2).
Пока что мы можем дать объяснение только для (IV) * .
См. упомянутую выше работу Барвайса "Scenes and Other
Situations".
Ограниченность объема статьи исключает возможность
рассмотрения логических отношений между различными
установками. В частности, мы не рассматриваем утверждения, что
знание предполагает веру. Мы надеемся, что читатель сам сможет
ответить на эти вопросы, ознакомившись с нашим анализом
отдельных установок.
276
Неясность. Внимательный читатель заметит, что
наше объяснение нарушает исходное положение Рассела и
Фреге для установок о том, что в общем случае
истинностное значение отчета об установке не сохраняется
при подстановке кореферентных выражений. Раз наш
подход предсказывает (predicts) (IV), то похоже, что
подобное можно утверждать и относительно других
установок. Беря установки как отношения к реальным
объектам, свойствам и отношениям, мы приходим к
выводу, что они в некотором смысле прозрачны
(transparent).
Отсутствие объектов установок. В нашем подходе
объектами установок являются положения дел. В связи
с seeing и saying это философски неудовлетворительно.
При seeing недостает связи с тем, что на самом деле
видят, при saying недостает связи с тем, что на самом
деле говорят. Пусть субъект а в ситуации произнесения
d со связями с говорит:
(11) Ъ said that ^
Мы уже видели, что кр в общем случае не является
тем, что на самом деле произнес Ь. Но из истинности
(11), разумеется, следует, что b действительно что-то
произнес, что есть некоторое предложение ф,
произнесенное Ь, такое, что с точки зрения b ситуации
произнесения d', связей с', d, с ND - d\ с' 1Ф1 и c(said)~ /</'.
Аналогично, если а сказал
(12) b saw ур
и это истинно, тогда то, что действительно видел Ь, есть
некоторая сцена, в которой реализуется d, с И^Е» а
вовсе не положение дел.
Познавательное содержание установок. При нашем
подходе упускается из виду тот факт, что установки
имеют отношение к мышлению и познанию. Как saying
требует, чтобы агент произнес что-то осмысленное, а
seeing требует, чтобы агент что-то видел с помощью
зрения, так believing и knowing требуют, чтобы агент
находился в определенном познавательном состоянии
(meaningful cognitive state). Частью того, что нам
сообщают отчеты об установках, является информация о
познавательном состоянии агента. Это делает отчеты об
установках полезными при объяснении и предсказании
действий людей. Люди с одинаковыми восприятиями,
верованиями и желаниями ведут себя одинаково.
Обращение внимания на этот аспект проблемы
делает привлекательным смыслы Фреге. Интерпретируя
установки как отношения к смыслу или "мысленному
представлению", что и делалось в некоторых теориях,
277
можно считать объект установки классифицирующим
познавательные состояния. Согласно этим теориям,
похожесть установок свидетельствует о похожести
состояний, а этим явно объясняется сходство в
действиях9 . Однако, согласно нашей теории, различные люди
могут верить в одно и то же бесчисленным множеством
различных способов. Пока что наша теория вообще не
отражает никакого познавательного сходства.
Эти четыре проблемы взаимосвязаны, и все они
требуют размышлений для своего решения.
В защиту непосредственности
Если простые утверждения описывают ситуации, то
отчеты об установках должны описывать ситуации,
включающие установки, ситуации восприятия р в
случае sees и sees that, эпистемические ситуации k в случае
knows that, доксастические ситуации Ъ в случае believes
that и ситуации произнесения и в случае says that. Но
что именно мы говорим о ситуации, когда мы говорим,
что в ней a sees у или Ь says that ф ? Что еще имеет
отношение к агенту, чего недостает в нашем предыдущем
рассмотрении? Что, имеющее отношение к ситуациям
установок, позволяет классифицировать их
посредством подчиненных предложений, и, следовательно,
согласно непосредственной семантике, посредством
реальных положений дел? Чтобы ответить на эти
вопросы, мы должны сделать небольшое
отступление.
Структурные ограничения. В мире не может
произойти все, что угодно. Есть много ограничений на типы
ситуаций и ряды событий, которые действительно
могут иметь место. Некоторые ограничения возникают из
довольно очевидных свойств и отношений между
отношениями. (Поцелуй предполагает касание; быть дедом
предполагает быть отцом.) Другие ограничения
следуют из законов природы. Владеющий языком хорошо
понимает эти ограничения и пользуется их знанием в
разговоре. Легкость обмена фразами, приведенными
ниже, может быть объяснена только исходя из таких
ограничений.
См. упомянутую выше работу Перри "Perception, Action
and the Structure of Believing", где показана
неудовлетворительность такого подхода.
278
Did you kiss me? I dodn't touch you.
'Ты поцеловал меня?' 'Я к тебе даже не прикоснулся/
Is it hot out? Well, it's snowing.
'На улице жарко?' 'Идет снег.'
Why aren't you typing? The keys are stuck.
'Почему ты не печатаешь?' 'Клавиши заело.'
Традиционные семантические теории, признавая
важность таких ограничений, пытаются наложить их на
выражения естественного языка посредством
"постулатов значения". Мы полагаем, что эти ограничения на
ряд событий (за исключением отдельных случаев) не
зависят от того, какими выражениями языка
обозначаем мы объекты, отношения, локусы.
Когда релевантные конституенты явно выделены,
ограничения также можно представить явным образом:
Если о\ (kiss, а, Ь) = 1, то ог (touch, а, Ь) = 1.
Если oj (bachelor, а) = 1, то cj (married, а) = 0.
Если о/ (kick, а, Ь) - 1 и / о 1\ то oif (kick, а, Ь) Ф 0.
Если 4 (snowing) = 1, то о/ (hot) =f 1.
В других случаях это может быть довольно трудно.
Например, было бы невозможно указать все
ограничения, налагаемые на а*, в случае ю* (walk, а) = 1.
Системы ограничений могут быть использованы для
многих целей. Ряд событий а структурно полон
относительно множества таких ограничений С, если о
удовлетворяет каждому ограничению из С. Ряд событий о
структурно когерентен относительно С, если о является
частью некоторого полного ряда событий а1 °.
Ограничение корректно, если а*, актуальный ряд
событий, удовлетворяет ему. Множество ограничений
С корректно, если каждое ограничение из С корректно,
т.е. если С корректно отражает природу вещей и
событий, и поэтому а* полон относительно С. Никакая часть
актуального ряда событий не может быть структурно
некогерентной, хотя она может быть структурно
неполной.
Если ad — организм в мире, то его биологические
задатки и прежний опыт ведут к тому, что он действует
в согласии с некоторыми корректными
ограничениями — он настроен на эти ограничения. Выше мы видели,
что люди настроены на многие ограничения, которые
10 а,* является частью о2, если Argox с Argo2 для всех
leArgo, М0ССМ/).
279
они даже не могут перечислить, как, например, в случае
с ходьбой. Это не удивительно, ведь и рыбы настроены
на некоторые законы движения воды и плавания, хотя
не могут сказать ни слова.
Когда мы осуществляем семантический анализ слов
типа целовать или идти, мы должны отразить
соответствующие ограничения, на которые настроены и
которые активно используются людьми, пользующимися
данным языком.
То же самое относится и к глаголам установок,
которые мы рассматривали. Структурные ограничения
проникают в отчеты об установках двумя путями. Во-
первых, есть множество ограничений на ситуации
установок, как в случае ходьбы и целования.
Во-вторых, есть также корректные ограничения, на которые
настроен агент ситуации установки и которые влияют
на его установку. Мы заинтересованы главным образом
в том, чтобы выявить ограничения первого типа,
оставляя другой тип другим частям науки.
Когда мы сосредоточиваем свое внимание на
ограничениях первого типа, которые явно отражаются в
языке, мы обнаруживаем поразительное различие
между фактивами sees, sees that, knows that 'видит, видит,
что; знает, что' и нефактивами believes that, says that
'уверен, что; говорит, что'. Разница хорошо видна при
says that (Bill said that Jane won) 'говорящий, что (Билл
сказал, что Джейн победила)' и эпистемически
нейтральном sees (bill saw Jan win) 'видит (Билл увидел, что
Джейн победила)'.
Мы начнем с рассмотрения и сравнения этих двух
случаев.
Seeing. Есть много общих черт в ситуациях
зрительного восприятия. Одни из таких черт встроены прямо в
отчеты о восприятии, тогда как другие требуются для
объяснения использования нами этих отчетов. В
утверждениях, содержащих эпистемически
нейтральное see, мы рассматривали see как отношение между
агентом а и нелокализованным положением дел Р. а
sees \р акцентирует внимание на а, на самом видении, на
том, что истинно из видимого a,P=d ctt^l-Ho
семантические свойства таких предложений отражают другую
общую черту, а именно сцену, которую а зрительно
постигает. Видение включает зрительно постигаемую
сцену. Сцена есть актуальная ситуация </, s>, но ее тип не
включает всего, что происходит в /, а только ту часть,
которая видна при соответствующих условиях. К этим
условиям относятся направление и расстояние агента от
280
/, условия освещения и многое другое. В терминах сцен
мы можем сформулировать следующее ограничение:
a/ (sees, а, Р) = 1 е.т.е. существует такая сцена $ = </, s>,
что a/ (sees, а, $) = 1 и s е Р.
Все семантические принципы, касающиеся sees и
перечисленные в предыдущем разделе, выпадают из
этого структурного ограничения. Ограничение
выявляет другую общую черту зрительных ситуаций —
зрительно постигаемые сцены. Это дает нам еще один
косвенный способ классификации индивидуумов по тому,
что они видят. Вот почему мы можем сказать Mary saw
a truck stop in front of her. Bill saw it too 'Мэри увидела
машину, которая остановилась перед ней. Билл увидел
тоже'.
Похоже, что эпистемически нейтральные отчеты о
ситуациях зрительного восприятия сообщают главным
образом о том, что истинно в зрительно постигаемых
сценах. Нетрудно представить, почему язык должен
давать нам механизм для таких отчетов. Мы
используем отчеты о восприятии как данные о том, на что
похож исследуемый мир, ибо мы интересуемся именно
исследуемым миром, а не агентом.
Но мы также используем отчеты о восприятии для
того, чтобы объяснить действия агентов, когда,
например, мы говорим, что Мэри нажала на тормоза, так как
увидела машину, остановившуюся перед ней.
Чтобы объяснять действия агента и предсказывать
их, нужно определить принципы классификации,
которые проявляются в действиях агентов, т.е. нужно
выделить общие черты агентов, наличие которых ведет к
сходным действиям. При наличии всего комплекса
причин данного действия эти связи не будут простыми.
Но идея состоит в том, что адекватная или почти
адекватная теория, как теория, которая объясняет, почему
Мэри нажала на тормоза, конечно, существует и должна
работать с помощью состояний агента, которые
систематически соотносятся с другими состояниями и в
конечном счете с действиями.
Теперь мы можем видеть вклад относительности и
эффективности. Найденные общие черты сами по себе
не дают всех состояний или принципов классификации,
которые мы используем. Рассмотрим наше объяснение,
почему Мэри нажала на тормоза. Рассмотрим класс
ситуаций, задаваемых посредством "saw a truck stopping
in front of her" 'увидела машину, остановившуюся
перед ней'. Тот, кто видит машину, останавливающуюся
на расстоянии мили, не нажмет на тормоза, не нажмет и
281
тот, кто увидит машину, останавливающуюся в
далеком переулке.
В этих двух примерах мы сузили классификацию
двумя способами. В первом случае мы рассматривали
расстояние между агентом и частями сцены, а во
втором случае мы расширили подчиненное предложение.
Общая картина, которая начинает вырисовываться,
следующая. Найденное единообразие —
действительность данного положения дел в зрительно постигаемой
сцене— не есть принцип классификации, который все
объясняет сам по себе. Это часть системы. Найденное
единообразие вместе с другими факторами дает нам
систему (абстрактных) структур, полезных в
объяснении и предсказании действий агента. Даже когда мы
объясняем, сообщая установку, мы полагаемся на
понимание других факторов. Так, в объяснении
поведения Мэри, нажимающей на тормоза, слушатель
ограничивает другие факторы так, чтобы заставить
объяснение работать, т.е. предполагает, что машина
была в непосредственной близости от Мэри, а не
далеко.
Says. При видении зрительно постигаемая
актуальная ситуация играет решающую роль в
классификационной схеме. С нефактивами типа says
необходимости в актуальной ситуации для проведения
классификации нет. Когда мы говорим: "Bill said that Jane won"
'Билл сказал, что Джейн победила', Jane won 'Джейн
победила' не служит для классификации некоторой
актуальной ситуации, к которой Джордж имеет какое-
либо отношение, назовем его "утверждающее
постижение". Как же тогда работает классификация?
Ответ легко увидеть или услышать. Мы используем
says, чтобы классифицировать произнесения. Общие
черты произнесений, по сути, те же, что и развитые
нами в предыдущем объяснении. Произнесение включает
в себя ситуацию произнесения, связи и выражения.
Выбранные (chosen) общие черты являются
интерпретацией произнесения.
В самом деле, мы используем слово says двумя
способами. В одном случае мы акцентируем внимание на
том, что было сказано, в смысле интерпретации, а в
другом — на словах, которые были произнесены. В
последнем случае мы используем says 'говорит' с
кавычками вокруг подчиненного предложения. Эти два
способа использования слова says акцентируют
внимание на двух способах классификации ситуаций
произнесения. Одно использование делает акцент на сходстве
282
интерпретаций, другое — на общих чертах значимого
предложения.
Mary said that I was in danger.
Мэри сказала, что я в опасности.
Mary said: "You are in danger".
Мэри сказала: "Ты в опасности".
Mary said: "Не is in danger".
Мэри сказала: "Он в опасности".
Mary said: "Watch out!"
Мэри сказала: "Берегись!"
Заметьте, что никакие общие черты одного
предложения не могут быть детерминированы общими
чертами другого предложения. Положение дел, которое
утверждается, абсолютно:
[о I a/ (in danger, ad) = 1].
Выражения "You are in danger" Ты в опасности' и
"Не is in danger" 'Он в опасности' не абсолютны.
Относительность и эффективность языка делают
невозможным перейти от одного из этих выражений к
другому единственным способом.
Заметьте, что два способа классификации агентов
на основе двух различных смыслов слова say дают
очень разные классы агентов, классы, относящиеся к
разным видам обобщений. Допустим, Хью говорит:
"I am a killer" 'Я убийца'. Тогда он принадлежит к двум
различным, но пересекающимся классам — классу тех,
кто сказал "I am a killer" 'Я убийца', и классу тех, кто
сказал, что Хью убийца.
Хотя эти общие черты и не определяют однозначно
друг друга, но при наличии дополнительной
информации один вид классификации может привести нас более
или менее верно к другому виду. Сказать "Hugh said
that he was a killer" 'Хью сказал, что он убийца' не
классифицирует его автоматически как произнесшего
"I am a killer" 'Я убийца', а дает веские основания
предполагать это, так как это самый естественный способ
сделать такое сообщение.
Эти неявные предпосылки (implications)
включаются в объяснения действий путем референции к тому,
"что было сказано". Например:
Bill jumped out of the way because he heard Mary say
that he was in danger.
'Билл отскочил от дороги, потому что услышал,
как Мэри сказала, что он в опасности.'
Как объяснение это имеет смысл только в том слу-
283
чае, если Мэри таким образом сказала, что Билл в
опасности, что до него дошел смысл опасности, т.е. если
она использовала выражение, которое имеет общие
черты для всех ситуаций, в которых адресат находится
в опасности. "Watch out!" 'Берегись!' или "You are in
danger" Ты в опасности' и есть такие выражения. "Не
is in danger" 'Он в опасности' в этих случаях не
подойдет. Поведение Билла объясняется существованием
способа произнесения (saying), что он в опасности,
который систематически соотносится с ситуациями, в
которых адресат находится в опасности.
Чтобы завершить нашу теорию для глагола say,
нужно просто использовать ситуационную семантику в
установлении структурных ограничений:
Если a/(says that, Ь, Р) = 1, то существует
произнесение и = (ф d\ с'>, такое, что o/(says, d', с' ф) ~ 1, где
b = adf 1= ld,vLd' с 1Ф\ =Р.
Теперь давайте сравним "видение" и "говорение".
Основания, лежащие за найденными общими чертами,
различны. При видении реальное положение дел прямо
классифицирует актуальную ситуацию и отсюда
косвенно классифицирует агента, который зрительно
постигает эту ситуацию. (Заметьте, что наша теория — это
теория прямого восприятия и косвенной
классификации воспринимающих.) В случае saying положение дел
уже так не работает, так как может не быть
актуальной ситуации, которой соответствует данное положение
дел.
Для того чтобы эта вторая схема работала, должно
быть что-то, что замещало бы отсутствие
классифицируемой актуальной ситуации. Это что-то есть
произнесенное предложение, или более подходяще,
произнесение значимого предложения с определенным
множеством интенсий. Вместо отношения к актуальной
ситуации, которую характеризует положение дел, мы имеем
отношение к значимой сущности, которая при
произнесении интерпретируется как положение дел.
Однако имеется важное различие между
отношением к актуальной ситуации и той ролью, которую играет
произнесенное предложение.
При "видении" положение дел привязывается к
агенту 'через' постигаемую сцену. При "говорении"
положение дел привязывается к агенту через
произнесенное предложение. Положение дел действительно в
той ситуации, частью которой является сцена, и не
284
зависит от локуса агента, связей, истории и т.д.
Ситуация, можно сказать, является вместилищем положений
дел, другие же факторы просто влияют на способ,
которым агент может постигать сцену.
При "говорении" положение дел не привязывается
к изолированному значимому предложению, а лишь к
целому произнесению.
Когда мы переходим к выяснению общих черт
произнесений, мы обнаруживаем сходство с видением.
Says that создано для того, чтобы говорить нам, каков
мир, если сказанное агентом — правда. Но как и с seeing,
другие общие черты начинают играть главную роль,
когда мы используем says для объяснения и
предсказания действий агента или тех, кто слышал произнесение
или его читал.
Sees that; knows that. 'Видит, что; знает, что'.
Предположим, что близнецы Джейн и Джун приняли участие
в марафоне, и Билл видел, что одна из них победила. На
самом деле это была Джун, но Билл не отличает ее от
двойняшки. Если бы его спросили, кто победил, он бы
не смог ответить. Примеры такого типа иллюстрируют
разницу между неэпистемическим sees и sees эпистеми-
ческими that и knows that. Если Билл видел, как одна
из них победила, и победила Джун, то он видел, как
победила Джун. Но даже если он видел, что одна из них
победила, и знает, что одна из них победила, он не видит,
что победила Джун, и не знает, что победила Джун.
Seeing that предполагает сцены (или, более общо,
ряды событий), но отношение в этом случае не такое
прямое, как в случае sees. Структурные ограничения
будут (примерно) следующие:
a/(see that, а, Р) = 1 е.т.е. существует некоторое событие
ох (возможно, сцена $), такая, что
(I) o/(sees, a, о0) = 1
(II) имеется система корректных структурных
ограничений С, на которые а зрительно настроен так, что
каждый а, содержащий оь, который полон относительно С,
принадлежит Р.
В приведенном выше примере есть определенное
зрительное свойство р, на которое Билл настроен:
Если ofa х) = 1, то az(pJune, х) = 1 или oj(pj х) = 1,
где Pjune есть свойство называться Джун. Любой
структурно полный ряд событий а, содержащий событие,
которое видел Билл, будет давать ofa, х) = 1 и tf/(Pjune,
х) - 1, но этот Oq не был бы полон.
Разница между отчетами, использующими sees, и
отчетами, использующими sees that, заключается час-
285
тично в этих ограничениях, а также в различных
стратегиях интерпретации именных и глагольных групп
подчиненного предложения. Мы кратко рассматриваем
это в следующем разделе.
Можно дать аналогичные структурные ограничения
для knows (знает). Основная идея: знать означает быть
настроенным. Для простоты и наглядности
предположим, что видение есть единственная форма восприятия.
Тогда можно сказать:
aj(knows that, а, Р) - 1 е.т.е. существует ряд событий
%, такой, что
(I) o/(seesa, a0) = 1
(II) если С есть множество корректных структурных
ограничений, на которые а настроен, то каждый ряд
событий а, содержащий а0, полный относительно с',
принадлежит Р.
Читатель заметит, что единственная разница между
sees that и knows that заключается в том, что для
knows that допускается более широкое множество
ограничений с'. Это связано с тенденцией говорить
we see that something 'мы видим что-то' в том случае,
когда мы имеем в виду, что мы знаем это something
'что-то'.
Как и в случае seeing, трактовка sees that и knows
that дает объяснение многим общим чертам эпистеми-
ческих ситуаций. В частности, структура знания
позволяет знать одно и то же на основе разного прошлого
опыта, что имеет отношение к тому, как знание влияет
на него.
Believing 'уверенность'. Обычно считают, что
knowing that Р 'знание, что Р' влечет к believing that Р
'уверенность, что Р\ И в языке мы обычно предполагаем,
что если кто-то говорит, что Р, то он верит, что Р. При
этом вера кажется чем-то средним между знанием и
говорением. Но с реалистической точки зрения вера
гораздо более загадочна, чем наши рассмотренные
четыре установки. Ибо где или что является реальным
инвариантом различных актуальных доксастических
ситуаций, который обеспечивал бы их классификацию
так же, как и ситуаций, в которых агент верит, что Р
(где Р есть реальное положение дел) ?
В случае sees, seeing that, knowing that имеется
актуальный ряд событий, для которого Р действительно.
Для веры же это необязательно, и поэтому она больше
похожа на saying that. Но в случае saying that имеется
произнесенное выражение, нечто реальное, которое
вместе с ситуацией произнесения и связями произнося-
286
щего дает положение дел. Что играет похожую роль в
случае веры?
Похоже, что реалист, если он верит в веру,
вынужден или погрузиться в метафизику с реальными, но
не актуальными ситуациями, или же погрузиться
в метафизику, которая допускает "состояния веры" —
некоторый вид абстрактных, но реальных
инвариантов доксастических ситуаций, инвариантов, которые
обеспечивают классификацию посредством реальных
положений дел так же, как предложения в случае
saying.
Можно подумать, что тут мы начинаем иметь дело с
чем-то вроде смыслов Фреге, "полными и вечными"
мыслями, схваченными умом. Мы могли бы
модифицировать подход Фреге так, чтобы референцией
некоторой мысли Т было реальное положение дел P=ref (Т) и
использовать структурное ограничение:
^(believes, а, Р) = 1 е.т.е. существует мысль-Г, такая, что
^(doxastically grasps, а, Т) = 1 и ref (Г) =Р.
Это позволило бы нам отразить относительность
веры, тот факт, что различные люди могут верить в одно
и то же по-разному, имея различные мысли. Но это
было бы серьезной ошибкой! Для состояний веры также
важно быть и эффективными и относительными, как и
для предложений. Имеются другие факторы, которые
позволяют перейти от состояний веры SJ- к пропозиции:
Р = F(Sj,...). Что это за факторы?
Агент, конечно, является одним из таких факторов.
В состоянии того, что мы могли бы назвать состоянием-
верой "я в опасности", его верования касаются только
его самого и его локуса в пространстве и времени. Но
нет основания предполагать, что другие свойства
агента, скажем, его рост или образование, не имеют
никакого значения для интерпретации его состояния веры.
Все это мы собираем в ситуации агента d = (s^ а^>, где
sd - Ud $d\ad —агент, /^ —его локус, sj —факты об а,
которые нужны для интерпретации. Это аналогично
ситуации произнесения в случае saying.
Но мы можем иметь верования о вещах, отличных
от нас самих или наших локусов. У нас есть связи с
объектами, отношениями, локусами, которые берутся
из восприятия, и эти связи помогают определить, о чем
же наши верования.
Таким образом, разговор о вере предполагает
абстрактную классификационную систему S}, S2, ...
состояний и отношение bel между этими состояниями,
ситуациями агента, связями и рядами событий:
287
bel(S„ d, с, о).
Затем мы накладываем ограничения, что a/(believes that,
а, Р) - 1 е.т.е. существуют такие d, с и S/, что 1= Id,
a = ad, oj(Sj4 d, с)= 1 иР= [a I bel(S,-, d, с а)].
Отношение bel аналогично [ ]. Так же как [ |
идентифицирует положение дел относительно
выражения, ситуации произнесения и связей, bel
идентифицирует положение дел относительно состояния веры,
доксастической ситуации, связей. Это такое положение
дел, в которое данный индивидуум в данном состоянии
и в данной доксастической ситуации с данными связями
верит. Постулирование такого отношения и такой
системы "значимых" состояний предполагается нашим
использованием слова believes. Этот подход к вере
хорошо согласуется со многими подходами к философии
мышления, которая подчеркивает, как характерные
признаки ментальных состояний связаны с
активностью индивидуумов.
В случае агента, говорящего на языке L, есть
соблазн предположить, что значимые предложения L
можно погрузить в структуру состояний веры, что
существует функция S(</?) из предложений L в систему
состояний веры. Это предполагает, что состояния веры имеют
определенный "синтаксис", аналогично синтаксису L, и
что этот "синтаксис" важен при анализе bel, как
синтаксис языка важен при анализе d, с 1^1 = ^- Этот соблазн
следует отличать от кое-чего другого, что мы не
находим столь соблазнительным, а именно от взгляда, что
верование заключается в некотором отношении к
некоторым предложениям некоторого языка.
Неясности
Движущей силой теорий Фреге и Рассела было
взаимодействие глаголов установок с сингулярными
терминами (собственными именами и определенными
дескрипциями, например), различное, как сами эти
теории. Конечно, Георг IV мог бы полюбопытствовать,
является ли Вальтер Скотт автором "Уэверли", не
любопытствуя при этом, является ли Скотт Скоттом, и
можно верить, что утренняя звезда является планетой,
не веря в то, что вечерняя звезда — планета. Эти факты
вынудили Фреге заявить, что в области действия
глаголов установок референтом выражения является то, что
обычно является его "смыслом", а не референтом.
288
Рассел ввел "логическую форму" и утверждал, что
определенные дескрипции не обозначают, а скорее
привносят определяющие свойства в правильно понятые
высказывания. (Многие современные теории
апеллируют как к смыслу, так и к логической форме.)
Мы не апеллируем ни к логической форме, ни к
смыслу, а рассматриваем эти проблемы с помощью тех
средств, которые у нас есть. Нет места для объяснения
нашего понимания имен, хотя читатель может
догадаться, каким образом такие понятия, как обратные
интерпретации и связи позволяют нам такие старые вопросы,
как: "Имеют ли собственные имена смысл?" и
"Каковы истинностные условия предложений с собственными
именами?", заменить более легко трактуемыми. Мы
объясним основные идеи нашей трактовки дескрипций,
трактовки, которая имеет много общих черт с рассе-
ловской, но не грозит нам атомизмом и не апеллирует
к логической форме.
Для упрощения рассмотрения мы игнорируем
вопросы времени и места, так что мы можем иметь дело с
типами ситуаций, а не с рядами событий. Мы также
.ограничиваем рассмотрение дескрипциями а, которые
не чувствительны к ситуациям произнесения d или
связям с, поэтому мы можем писать [а] для
интерпретации dt с IaL опять-таки чтобы упростить
рассмотрение.
Интерпретацией определенной дескрипции является
отношение между типами ситуаций s и
индивидуумами а:
[The 0J (sya) е.т.е. [«] = [* I Ш (*,*)].
Это отношение может также трактоваться как
частичная функция из типов ситуаций в индивидуумы.
Используя обычную функциональную запись, мы
можем написать а = Д The 0 J (s). Эта функция
устанавливает взаимные ограничения между s и а. Если s
принадлежит ее области определения, мы можем использовать
the 0 для референции ка=[ The 0| (s). Или имея а, мы
можем использовать the 0 при утверждении, что в
ситуации s имеет место [The 01 (s) = а. Или это может быть
использовано, чтобы сказать, что при любых s и а имеет
место [The 01 (s)= а.
ПРИМЕРЫ. (I) Я вхожу в студию Альфреда, где он
сидит со своей собакой Клариссой. Он говорит: "Be
careful. The dog has fleas" 'Будьте осторожны. У собаки
289
блохи'. Ситуация $0, в которой мы находимся,
подсказывает, что референтом является Кларисса (= [the dog J
<$о)Ь
Он утверждал реальное положение дел:
Si I Si (has fleas, Clarissa) = 1].
Заметьте, что если я ему верю, то я верю не в
существование некоторой собаки, у которой есть блохи, atcKo-
peefB то, что у этой конкретной собаки есть блохи.
(II) Пусть теперь в комнате несколько собак.
Указывая на Клариссу, Альфред говорит: "This is the
dog that bites" 'Эта собака кусается'. В этом случае
определенная дескрипция the dog that bites
используется не для выделения Клариссы, а скорее для того,
чтобы приписать ей свойство "быть единственной собакой,
которая кусается". Положением дел в этом случае
будет:
[Si I Clarissa = [ the dog that bites]) (sx) ].
(Ill) Теперь мы в ситуации, в которой Агнеса
говорит мне о некотором индивидууме a: "She is a fool".
'Агнеса проницательна'. Соответственно я
рекомендую вам не делать вкладов в банк, принадлежащий а,
предостерегая вас: "Agnes believes the president of First
Federal is a fool". 'Агнеса полагает, что президент
Первого Федерального — глупец'. Здесь интерпретацией
моего произнесения будет
[Si I Sj (believes, Agnes, P8l) = 1],
где P8 = [e2 I «2 (fool* [the president of First Federal])
Здесь определенная дескрипция ограничивает S! так,
чтобы содержать президента Первого Федерального,
as и утверждает, что Агнеса полагает, что aSx глупец
(Л,).
Мы используем запись: a says (believe(knows)sees)
that (-- (the^-...) Cj = 0,1 или 2 для указания прочтения,
где [[the 01 оценивается в доступном типе ситуации
s0 , как в (I); для ограничения типа ситуации sx,
обозначенного всем предложением (как в III); для
ограничения типа ситуации s2, описанного подчиненным пред-
290
ложением соответственно- Для j= 0 это соответствует
референциальному использованию Доннеллана. Для
j = 2 —его атрибутивному использованию. Случай у = 1
находится где-то посредине.
Может оказаться, что различные прочтения будут
совпадать с различными областями действия. Но в
действительности они отражают другой феномен,
который часто путают с областью действия. Это отличие
лучше всего видно в случае с неопределенными
дескрипциями типа member of the family (член семьи).
Интерпретация неопределенной дескрипции а /3
(например, собака, слон) также есть отношение между
ситуациями и индивидуумами:
[ajS] (s, Ь) е.т.е.Ш (*, Ь).
Рассмотрим случай, когда Джек убит. Холмс собрал
всех членов семьи и сказал: "One of you has murdered
Jack" 'Один из вас убил Джека'. "What did he say?"
'Что он сказал?' — спрашивает старая и глухая тетя
Агнеса. "Не said that a member of the family murdered
Jack" 'Он сказал, что член семьи убил Джека, —
кричит вдова Джека Джилл'.
Нет ничего неправильного в словах Джилл, но они
не могут быть объяснены с помощью одних широких
или узких областей действия. Холмс не сказал ни об
одном отдельном члене семьи, что он убийца, поэтому
область действия не широкая. Но он не сказал также
ничего о членстве семьи, поэтому область действия не
является узкой. То, что он сказал, можно было бы
записать как Не said that (a member of the family
murdered Jack 'Он сказал, что (член семьи) убил Джека'.
Интерпретацией будет:
[Sj I Sx (says, Holmes, PSl) = 1],
где Ps - [sl I для некоторого а, такого, что fa member
of the family J ($! a), s2 (murdered, Jack) = 1].
Фундаментальные вопросы
Определенные фундаментальные вопросы встают
перед каждым, кто пытается построить аккуратную
теорию установок. Мы не можем здесь обсудить, как
в точности это происходит в случае ситуационной-
семантики, или давать детали нашего построения.
Основная идея состоит в том, чтобы ограничить себя
наследственно-конечными теоретико-множественными объек-
291
тами, построенными из объектов, отношений, локусов,
имеющихся в нашем распоряжении. В конечном счете
это требует от нас быть реалистами в отношении
предложений, состояний и других факторов, вовлеченных в
установки. Например, окончательно мы определяем
о/(says, а, Р) = 1
посредством
3 d, е ф [assays, ё,сф)= l@dy с 1ф J = Р)
(с assays, а, р) = 0 в противном случае).
Это позволяет нам избежать взятия положений дел
в качестве аргументов типов ситуаций. Отсюда наша
теория ведет нас вверх по спирали. Мы начали с
реализма в отношении ситуаций в мире, были вынуждены
стать реалистами в отношении объектов, свойств,
отношений, локусов. Это толкнуло нас к реализму в
отношении познавательных состояний и действий. В
конце концов это позволяет нам слегка покинуть
чистую непосредственность в пользу слегка мирской
непосредственности, которая, мы надеемся, может
показаться читателю привлекательной.
Зино Вендлер
ФАКТЫ В ЯЗЫКЕ*
1. Среди опубликованных работ Дж. Остина первые
замечания, относящиеся к будущей теории речевых
актов, мы находим в его статье "Other Minds" (Austin
1961). В этой работе описаны некоторые перформатив-
ные признаки глагола promise 'обещать'; автора,
однако, интересовали не эти признаки сами по себе, а
возможность их применения к анализу другого глагола,
который имеет гораздо большее значение для
философии, а именно глагола know 'знать'. Но, с точки зрения
позднейших, более тщательно обоснованных
теоретических положений Остина, этот последний глагол никак
не может считаться перформативным в строгом
смысле1 . Тем не менее, поскольку в философии всякая
ошибка, как правило, весьма поучительна, а в
особенности ошибка такого ученого, как Остин,
представляется интересным исследовать причины, побудившие его
принять данное решение. Настоящая статья вместе с
тем не является простым комментарием к работам
Остина. Я хотел бы показать, что некоторые признаки
глагола know, выделенные Остином, действительно
присущи этому глаголу, однако требуют иного
объяснения. Объяснение, предлагаемое ниже, позволяет,
кроме того, лучше понять поведение многих
семантически близких глаголов, в том числе обширной группы
истинных перформативов.
Вначале, однако, необходимо показать, почему
know не является перформативным глаголом. Все те
формулы, которые Остин позднее предложил для
распознавания перформативных глаголов, на интуитивном
уровне дают отрицательный результат применительно к
Вместе с тем Остин продолжал включать этот глагол в
число перформативных (относя его к так называемым экспозити-
вам), помечая его, правда, знаком вопроса (Austin, 1962, 161).
♦Vendler Z. Telling the Facts. In: Speach Act Theory and
Pragmatics, ed. Kiefer F. and Searle J.
© D. Reidel Publishing, 1979.
293
этому глаголу. Сравним, например, know с эталонным
перформативом promise. Начнем с формулы "to say":
Сказать (в определенных обстоятельствах) "Я
обещаю х" есть обещать х.
Применительно к know результат отрицательный:
ни в каких обстоятельствах сказать "Я знаю, что х" не
есть знать, что х. С одной стороны, если утверждение
говорящего истинно (то есть если он действительно
знает, что р), то оно оставалось бы истинным, даже
если бы он вообще не открывал рта. С другой стороны,
если он не знает, что р, то независимо от того,
утверждает ли он, что знает, или не говорит ничего, ситуация
все равно не меняется. Для обещания же
соответствующее высказывание (вербальное или эквивалентное
ему) необходимо: оно, и только оно, составляет
обещание, неважно, искреннее или нет.
Вторая формула, "in saying", также дает
отрицательный результат. Ср.:
Сказав "Я обещаю я", он (тем самым) обещал х.
Подставим теперь в эту формулу глагол знать:
Сказав "Я знаю х", он (тем самым) узнал х.
Само это предложение звучит несколько аномально
и по причинам, упоминавшимся выше, является
неприемлемым: сказав то или другое, можно совершить то,
что будет называться обещанием, приказанием,
извинением, но никак не знанием, мнением или сомнением.
Наконец, признак "hereby": предложение
Настоящим я обещаю х
употребляется для того, чтобы сделать обещание
наиболее недвусмысленным и официальным. С другой
стороны, предложение
Настоящим я знаю, что р
опять-таки полностью нарушает все требования
грамматики и здравого смысла.
Это различие между promise и know не является
следствием каких-то частных особенностей глагола
promise. Все перформативы без исключения, именно в
силу того, что они перформативы, удовлетворяют
приведенным формулам в отличие от know. Одного этого
могло бы быть достаточно, чтобы bona fide не считать
know перформативом, однако для такого решения есть
и еще более важное основание. Функция перформатив-
ных глаголов заключается в том, чтобы выражать
иллокутивную силу речевого акта. Соответственно все
такие глаголы, с точки зрения их соотнесенности со
временем, попадают в класс глаголов достижения (см.
Vendler, 1967). Это положение является абсолютно оче-
294
видным; достаточно указать невозможность примеров
типа: *Since when does he promise...? 'С какого момента
он обещает...?', *How long did he assert...? 'Как долго он
утверждал...?', *Does he still apologize...? 'Он еще просит
прощения...?'. Однако же с глаголом know все
подобные вопросы являются осмысленными: know, а также
believe 'считать, полагать, верить', doubt 'сомневаться'и
т.п. представляют собой глаголы состояния; можно
знать нечто в течение определенного периода времени,
начиная с некоторого момента и т.д.
2. В чем причина того, что Остин сближал know с
глаголами типа promise? Для понимания его точки
зрения может быть в особенности полезна следующая
цитата:
"...Но, когда я говорю "Я обещаю", я продвигаюсь
еще на шаг дальше: я не только объявляю о своем
намерении, но, используя данную формулу (совершая
данный ритуал), я связываю себя с другими людьми, я
некоторым образом ручаюсь своей репутацией.
Аналогично произнесение предложения "Я знаю" является
также продвижением на шаг дальше. Но произнести "Я
знаю" не значит произнести "Я некоторым особенно
надежным способом получаю знание". Когда я говорю
"Я знаю", я даю другим людям некоторое
обязательство: я ручаюсь перед другими людьми своим
авторитетом, что S есть Р" (Austin, 1961, 67).
Следует обратить внимание на заключительную
часть этой цитаты: "Ручаюсь перед другими людьми
своим авторитетом". Как видно, Остин утверждает,
что, подобно тому как при обещании я беру на себя
обязательство об исполнении объявленного мной
намерения, так и при произнесении "Я знаю" (следует
заметить, что невозможно вместо этого сказать: при
знании) я беру на себя обязательство об истинности того
утверждения, которое я высказываю.
Указанное обязательство, кроме того, в обоих
случаях может быть передано от одного человека к
другому:
"Если кто-либо обещал мне сделать А, то я имею
право рассчитывать на это и сам могу давать обещания
на этом основании; точно так же, если кто-либо сказал
мне "Я знаю", то я имею право сам в свою очередь
говорить "Я знаю". Право говорить "Я знаю" передается
таким же образом, что и всякое другое полномочие"
(Austin 1961, 68).
Таким образом, Остин подчеркивает возможность
существования цепи обещаний и цепи знающих (или,
295
точнее, цепи тех, кто говорит "Я знаю"); он делает
вывод, что в обоих случаях эта цепь состоит из
передаваемых полномочий.
Всякая цепь, разумеется, должна иметь начало;
интересно в этой связи рассмотреть начало цепи
знания—первого человека, который сообщает о своем
знании:
"Если Вы говорите, что нечто знаете, то наиболее
непосредственной реакцией на ваше сообщение
оказывается вопрос "Способны ли вы обладать этим
знанием?". Следовательно, вы должны не просто
продемонстрировать, что вы уверены в том, что сообщили, а
показать, что вы действительно знаете это" (Austin
1961,68).
Любопытно, кроме того, что знать можно только
то, что относится к настоящему или к прошлому:
"Требования, которые я должен выполнить, если я
намерен показать, что действительно знаю нечто ...
относятся не к будущему, а к настоящему и прошлому:
предполагается, что о будущем я могу лишь иметь то
или иное мнение" (Austin 1961, 69).
Таким образом, в целом мы получаем следующую
картину. Существует некоторый человек, который
первым говорит "Я знаю". Этот человек имеет право на
данное действие, поскольку он "действительно знает"
нечто, относящееся к настоящему или прошлому. Он
использует соответствующие языковые средства для
передачи данной информации и в дополнение к этому
дает свою личную гарантию истинности этой
информации. Точно так же в свою очередь поступают и все
остальные участники этой цепи.
При таком подходе, действительно, может
показаться, что функция глагола know абсолютно идентична
функции глагола promise: если последний используется,
чтобы гарантировать исполнение высказанного
намерения, то первый используется, чтобы гарантировать
истинность высказанного мнения. Нельзя не отдать
должное искусству обращения с материалом! "Сказать Я
обещаю — значит обещать, не так ли? А сказать я
знаю — значит знать, не так ли? Следовательно,
указывая, как употребляется Я обещаю, я тем самым
описываю все существенные свойства обещания. А указывая,
как употребляется Я знаю, я тем самым описываю все
существенные свойства знания, не так ли?"
3. Итак, что же здесь является неверным?
Собственно говоря, практически все. Знать — это не говорить
"Я знаю"; говорить "Я знаю" и "Он знает" — это не
296
значит давать какую-либо гарантию, а значит просто
констатировать нечто, что может быть истинным или
ложным. Разумеется, говорить это —не значит (как и
отмечал Остин) сообщать о "некотором особенно
надежном способе получения знания, гарантирующем
достижение на соответствующей шкале отметки более
высокой, чем полагать к быть уверенным и даже чем
быть совершенно уверенным ..." (Austin 1961, 67).
Более того, это значит сообщать совсем о другом: о
причинной связи между человеком, который знает
нечто, и фактом — объектом знания. И даже если это
отношение включает других людей в качестве посредников,
то цепь, которую они образуют, не является цепью
передаваемых полномочий: эта цепь все равно
остается причинной.
Ср. следующие два утверждения:
Джо умер;
Джо был убит.
Второе утверждение не является простым
сообщением о трагической участи бедного Джо: оно
приписывает его кончину некоторому внешнему фактору.
Аналогично различие между предложениями в
следующей паре:
Он "видит" розовых крыс,
Он видит розовых крыс.
Здесь нет различий з качестве описываемых ощущений:
жертва белой горячки может весьма отчетливо и ясно
"видеть" то, что "видит". Существенным является то,
что только второе утверждение возводит ощущение к
особой причине, а именно к розовым крысам2.
С моей точки зрения, know выражает сходное
причинное отношение. Когда я говорю "Я знаю (или он
знает), что р", я приписываю мое (или его)
субъективное состояние некоторой особой причине
(непосредственной или отдаленной), а именно тому факту, что р.
Указанный факт в свою очередь либо является
непосредственным знанием определенного человека, либо
становится известным ему через посредство других
лиц, которые сообщили ему эту причину,
проинформировали его об имевших место фактах.
Данная гипотеза учитывает все те признаки,
которые были выделены Остином правильно. Во-первых,
то, что мы знаем, должно быть, по крайней мере в
некотором отношении, "действительно известным"
2 Здесь я следую положениям 'Причинной теории
восприятия" X. П. Грайса (Grice, 1965).
297
кому-либо, иными словами, чье-либо знание, что р,
должно иметь непосредственной причиной тот факт, что
р. Во-вторых, если факты, относящиеся к настоящему
и к прошлому, с полным правом могут
рассматриваться как причины, то о фактах, относящихся к
будущему, этого сказать нельзя. Таким образом, сдержанное
отношение Остина к знаниям о будущем оказывается
вполне обоснованным. Наконец, цепи знания
действительно существуют; вероятно даже, что большая часть
наших знаний не возникает в нашем сознании
непосредственно: мы узнаем о фактах из сообщений других
людей, прочитываем о них в книгах и т.п. Люди,
которые сообщают нам различные сведения, книги и статьи,
которые эти сведения содержат, — все это,
действительно, звенья одной цепи. Однако последовательность,
с которой мы имеем дело, —это последовательность
причин, а не полномочий. Полномочия как таковые
порождают лишь мнения; для знаний же требуется
нечто большее: непрерывная (хотя, возможно, достаточно
длинная) цепь причин. Только она может обеспечить
объективность, или фактивность, необходимую для
знаний. Мнения действуют в другой сфере: их
авторитет основывается на надежности, прочных доводах и
убедительности; но как бы он ни был высок, он
никогда не может гарантировать истинности мнений.
Остин был прав, утверждая, что, когда я говорю "Я
знаю", я даю тем самым некоторую гарантию, но он
неверно объяснил это наблюдение. "Я знаю" не
означает, что я даю гарантию, поскольку значение
выражения "Я знаю" не может быть объяснено с помощью
указания на то, как употребляются эти слова; вместе
с тем, говоря "Я знаю" (или "Он знает"), я не могу не
дать некоторой гарантии именно благодаря
особенностям значения слова знать.
Следует, кроме того, заметить, что приведенный
анализ в отличие от гипотезы Остина согласуется как
с тем фактом, что знание является интеллектуальным
состоянием, хотя и имеющим в качестве причины
соответствующую деятельность, так и с тем фактом, что
утверждения о знании, делаются ли они в первом лице
или в третьем, в настоящем времени или в прошедшем,
могут быть истинными или ложными (ср. Goldman,
1967).
4. "Каким образом я могу узнать, что я нечто знаю,
а не просто полагаю?" Ответом на этот вопрос
занимается эпистемология; его обсуждение (по крайней
мере непосредственное) не входит в мои намерения.
298
"В каком случае я могу или имею право сказать, что
я нечто знаю, а не просто полагаю?" Это вопрос, как
кажется, относится скорее к области морали; во
всяком случае, для его решения существенны понятия
типа благоразумия и т.п. Как бы то ни было,
рассматривать эти два вопроса я здесь не буду. Моя задача
является, так сказать, более фундаментальной: меня
интересует, что мы имеем в виду, когда говорим, что некто
знает нечто, а не просто полагает. Таким образом, то,
что я намерен предпринять, можно охарактеризовать
как концептуальный анализ, отчасти связанный с
дескриптивной метафизикой.
В одной из своих работ (ставшей в настоящее
время в некотором смысле популярной) я пришел к
выводу, что знание и мнение не могут иметь один и тот же
объект; другими словами, невозможно полагать и
знать в точности одно и то же (Vendler, 1972а). Я не
буду сейчас воспроизводить все те аргументы, которые
мне были необходимы для детального доказательства
этого тезиса. Тем не менее целесообразно,
по-видимому, напомнить несколько основных положений,
поскольку они будут играть роль и при обсуждении
свойств ряда других глаголов в последующих разделах
данной статьи.
Первое, на что я хотел бы обратить внимание, — это
резкое различие между believe и know в отношении
способности сочетаться с местоименными союзными
словами (o/ft-nominals), вводящими придаточные
предложения, которые традиционно, хотя и не вполне удачно,
называются косвенными вопросами* (Vendler, 1972а,
95-—96). Ср. следующие примеры:
She knows Г* who stole the money 'кто украл
J деньги'
'Она знает', ) why he did it 'зачем он это сделал'
*She believes j how he did it 'как он это сделал'
'Она считает'J what he did with it 'что он сделал с
1_ними' и т.д.
Таким образом, хотя know и believe оба могут
иметь придаточные предложения, вводимые союзом
that 'что'**, только know может сочетаться с их
трансформами — придаточными первого типа.
*Ниже данные придаточные предложения (шЛ-clauses) будут
обозначаться как придаточные первого типа. - Прим. перев.
**Ниже данные придаточные предложения (that-clauses)
будут обозначаться как придаточные второго типа. - Прим.
перев.
299
Более того, оказывается, что у этих глаголов даже
не все синтаксически идентичные придаточные второго
типа могут быть общими. Рассмотрим, например,
предложение:
(1)1 believe what you said.
'Я думаю (то же), что ты сказал'.
Его деривационная история очевидна:
— I believe that р You said that p
'Я думаю, что р' 'Ты сказал, что р'
— I believe that which you said
'Я думаю то (же) 'что ты сказал'
/ oelieve what you said.
Следовательно, what в (1) замещает thatp, то есть
придаточное второго типа, общее для глаголов believe и
say. Аналогично предложение
I believe what you believe
'Я думаю (то же), что и ты'
означает, что я и ты имеем одно и то же мнение.
Рассмотрим теперь следующую пару:
(2)1 know what you said
'Я знаю, что ты сказал'
(3) I know what you believe
'Я знаю, что ты думаешь'*.
Оба предложения грамматически абсолютно правильны
и однозначны. При этом они, бесспорно, не имеют того
смысла, что если ты сказал (или думаешь), что р, то и
я знаю, что р. Деривационная история этих
предложений также проходит через стадию придаточных
предложений первого типа:
I know what it is that you said (or that you believe)
'Я знаю, что есть то, что ты сказал (или что ты
думаешь) .'
Эта последняя конструкция не может быть
интерпретирована так, будто мое знание и твое
высказывание (или твое мнение) имеют один и тот же объект.
Предположим, что ты думаешь, что Картер— великий
президент. Если я думаю то же, что и ты, то,
следовательно, я тоже думаю, что Картер — великий президент.
Но если я знаю, что ты думаешь, то этот факт отнюдь
не свидетельствует о том, что я знаю, что Картер
—великий президент. Отсюда следует, что придаточные
предложения того типа, которые употребляются при
глаголах say или believe, являются, по всей видимости,
*Как можно заметить, в русских переводах полной
синтаксической идентичности этих двух типов не наблюдается. — Прим.
перев.
300
неприемлемыми для глагола know. Рассмотрим теперь
предложение с обратным порядком составных частей:
(4) *1 believe what you know
'Я думаю (то же), что ты знаешь'.
Это предложение грамматически неправильно,
поскольку ни одна из интерпретаций придаточного со
словом what здесь невозможна. What you know не может
быть придаточным первого типа, поскольку глагол
believe таковых не допускает. С другой стороны, what
не может также анализироваться как местоимение,
замещающее общее сентенциальное дополнение that р,
которое обозначало бы одновременно объект твоего
знания и объект моего мнения. Причина этого проста:
подобных объектов не существует. That/?, объект
глагола know, не является приемлемым для глагола believe
точно так же, как в предыдущем примере объект
глагола believe оказался неприемлемым для глагола know.
Но пример (3) "спасает" его интерпретация как
придаточного первого типа; для (4) даже эта возможность
исключена. Таким образом, мы с неопровержимостью
приходим к следующему выводу: несмотря на
поверхностную идентичность придаточных со словом that,
присоединяемых к глаголам know и believe, эти
предложения различны; при этом лишь некоторые из них
могут быть возведены к придаточным первого типа.
Тот же вывод можно сделать и из рассмотрения
некоторых имен, способных замещать придаточные
второго типа или играть при них роль подлежащего.
Некоторые из них, например opinion 'точка зрения', theory
'теория', assertion 'утверждение', prediction
'предсказание' и т.п., попадают в тот же класс, что и придаточные
второго типа, сочетающиеся с глаголом believe, в то
время как другие, например fact 'факт', cause 'причина',
result 'результат', outcome 'итог' и др., соотносятся с
придаточными второго типа, требуемыми глаголом
know. В точности по той же причине, по которой
предложение "X знает, что думает У" не описывает ситуации
'X думает нечто, а У это же знает', знание, предположим,
чьей-то точки зрения не предполагает знания той же
самой вещи, которая является объектом этой точки
зрения. В обоих случаях слово what не обозначает
общего (для обеих ситуаций) имени, а вводит
придаточное первого типа: мы знаем, что есть то, что некто
считает (what it is that the other believes), равно как мы
знаем, что есть чужая точка зрения (what someone else's
opinion is). Если твоя точка зрения есть р, а я знаю твою
точку зрения, то то, что я знаю, не есть само р, а есть то,
301
что твоя точка зрения есть р. Совершенно иначе обстоит
дело с глаголом believe. Вполне возможно верить* в
чью-то теорию, утверждение или предсказание, и в этом
случае вера и, допустим, предсказание имеют один и
тот же объект: если твое предсказание есть р, а я верю
в твое предсказание, то это означает, что я верю
(считаю), что р. Интересно, что подобное понимание
затруднено для слова opinion, а также для самого слова
belief 'мнение'. Предложение *I believe your belief 'Я
верю в твое мнение' грамматически неправильно, а
I believe your opinion 'Я верю в твою точку зрения'
находится на грани приемлемости. В чем причина
этого? Видимо, дело заключается просто в том, что мнения
и точки зрения, в отличие от утверждений и
предсказаний, суть объекты внутренних состояний;
следовательно, они не являются непосредственно доступными для
восприятия других людей. Этот пример иллюстрирует
любопытные различия между глаголами
интеллектуального состояния и иллокутивными глаголами,
которые, однако, нерелевантны для нашего анализа
придаточных предложений.
Имена типа fact, принадлежащие к другой группе,
могут быть объектами глагола know, но не глагола
believe. Можно знать факты, причины, результаты и т.п.
В то же время в высшей степени странно утверждать,
что в эти вещи можно верить; ср. неправильность фраз
типа: *I believe the cause of the explosion ... the outcome
of the trial 'Я верю в причину взрыва ... в результат
опыта' и т.д.
Разумеется, между этими двумя группами имен
есть и другое различие: имена первой группы в отличие
от имен второй предполагают наличие некоторого
обладателя. Точки зрения, предсказания и т.п.
формулируются или совершаются людьми, это их точки зрения,
предсказания и т.д. Факты, причины и т.п. не имеют
обладателей, они никем не формулируются и не
совершаются. Они являются объективно данными; мы
можем лишь обнаружить или не обнаружить, открыть
или не открыть их. Соответственно точки зрения,
* Здесь русский и английский языки еще раз расходятся:
русский глагол думать (и его синонимы считать, полагать и
др.), являющийся основным эквивалентам глагола believe,
не сочетается с именами типа теория или утверждение; для того
чтобы соответствующие русские фразы были грамматически
правильны, необходимо употребить другой эквивалент глагола
believe— верить (или его квазисинонимы —разделять,
принимать и т.п.). —Прим. перев.
302
предсказания и т.п. могут быть истинными или
ложными; к фактам, причинам и результатам это
неприменимо. Приведенные рассуждения поясняют выбор
следующих терминов: два типа придаточных, а также
соответствующие глаголы и замещающие их имена были
названы мной объективными и субъективными. В
известной статье Кипарских (Kiparskys, 1971) данные
контексты были названы фактивными и нефактивны-
ми. В настоящей работе я буду следовать терминологии
Кипарских3; так, я, например, буду называть know
фактивным глаголом, a result фактивным именем,
тогда как believe — нефактивным глаголом, a
prediction — нефактивным именем.
5. Мне представляется, что наиболее бесспорным
грамматическим признаком фактивности является
возможность сочетания с придаточным первого типа.
Почему это так?
Чтобы ответить на этот вопрос, я должен еще раз
обратить внимание читателей на группу нефактивных
имен, то есть belief, opinion, assertion, prediction и т.п.
Они, как очевидно, являются именными производными
от определенных "пропозициональных" глаголов:
believe, opine (устар.) 'иметь точку зрения', assert
'утверждать' и predict 'предсказывать'. Из этих глаголов
первые два обозначают интеллектуальные состояния, а
вторые два используются для описания или
производства речевых актов. Рассмотрим подробнее вторую
пару. Имена assertion и prediction являются семантически
неоднозначными, поскольку могут обозначать как
некоторую деятельность, так и результат этой
деятельности. Ср.: His prediction of war proved to be a diplomatic
blunder 'Его предсказание войны было
дипломатической неудачей' vs. His prediction of war turned out to be
true 'Его предсказание войны оказалось верным'.
Интересно, что лишь в первом контексте his prediction
'его предсказание' может быть замещено на his
predicting ^ 'то, что он предсказывал', поскольку эта
последняя форма никогда не обозначает результата4. Точно
3 Следует, впрочем, заметить, что моя точка зрения на
критерии выделения этих двух классов, равно как и результаты
классификации, несколько отличаются от изложенных в статье
Кипарских.
Вообще говоря, his prediction и подобные сочетания имеют
не два, а три значения: действия (которое имеет место в
определенный момент времени), факта (который не имеет такой
временной отнесенности) и результата (который может быть
истинным или ложным).
303
так же чье-либо утверждение (assertion) может быть
смелым поступком в одном из значений и истинным
или ложным —в другом. Наконец, мнения (beliefs) и
точки зрения (opinions) могут быть описаны как
поспешные или предвзятые по отношению к их субъекту,
но как истинные или ложные по отношению к их
содержанию.
Происхождение утверждений и предсказаний
достаточно очевидно: они возникают вследствие
определенных речевых актов; они делаются или
высказываются. Мнения и точки зрения, напротив, являются
внутренними объектами, per se не облеченными в
звуки. Они зарождаются, или формируются, принимаются,
вынашиваются и порой оставляются — можно сказать,
почти как дети (как мы часто выражаемся, "духовные
дети"). Я бы не хотел сейчас обсуждать тонкости
онтологического статуса мнений, точек зрения и т.п., с
одной стороны, и утверждений, предсказаний и т.п., с
другой: являются ли они тождественными, например,
предложениям (произносимым вслух или про себя)
обычного языка или они имеют более абстрактную
природу. Для меня является существенным лишь
следующее: они должны иметь понятийную, связанную с
отображением действительности (representative) природу;
именно это и дает им возможность быть истинными или
ложными, правдоподобными или невероятными
—другими словами, соответствовать или не соответствовать
реальным фактам.
Что же касается самих фактов, а также
родственных им причин, результатов и т.п., то они, так сказать,
сделаны совсем из другого материала. Во-первых, они
не являются созданиями человека в том смысле, что
они не относятся к результатам речевой или
интеллектуальной деятельности. То, что некто сказал или
подумал нечто, может быть фактом, но этот факт никоим
образом не тождественен принятому мнению или
сделанному утверждению. Более того, можно иметь
мнение об этом или о любом другом факте, точно так же
как можно делать утверждения об этом факте, но то,
что является объектом мнения или утверждения, не
относится к фактам как таковым; в лучшем случае
оно может соответствовать или удовлетворять фактам.
Наконец, существуют ложные мнения и ложные
утверждения, приблизительные мнения и неточные
утверждения, но не могут существовать ложные факты и
приблизительные причины. Только представление
(representation) может быть истинным или ложным,
304
приблизительным или не вполне точным —
представляемая вещь как таковая к этому не способна. Сходным
образом изображение может быть верным, неверным
или неточным в отличие от объекта, который это
изображение призвано представлять.
Мнения и утверждения в силу сказанного не могут
быть определены только в терминах фактов, которые
они представляют. В каком-то случае может вообще не
оказаться соответствующего факта, если мнение или
утверждение ложно. В другом случае один и тот же
факт может быть представлен несколькими способами
в зависимости от референциального и некоторых
других факторов; мнения и утверждения не являются
референциально прозрачными. Так, два человека (или
даже один и тот же человек) могут иметь два
различных, но одинаково истинных мнения, представляющих
факт, относящийся к некоторому лицу. Вспомним
хотя бы, что несчастный Эдип думал о своей матери и
своей жене. Более того, даже будучи в согласии друг с
другом, имея один и тот же объект, мнения могут не
совпадать в деталях. Именно поэтому, пересказывая
чужие мнения, утверждения и т.п., необходимо
сохранять все их элементы в точности; лакуны в этих
случаях не допускаются. Следует сказать: "Он считает, что
А есть Б"; недостаточно (и поэтому невозможно)
сказать: "*Он считает, что'есть А".
В фактивных контекстах подобные лакуны вполне
допустимы, ср.: "Он знает, что есть А"у "Он выяснил,
кто убил ее", "То, как он салютовал флагу, вызвало
скандал", "То, что он сделал, было результатом
смущения" и т.п. Причина заключается в том, что в этих
случаях мы говорим о фактах как таковых, которые
существуют сами по себе, даны объективно; таким
образом, можно отождествить их, даже допуская известное
количество лакун. Ср., например, ситуацию '7..R.S.*
знает, кто, сколько и кому уплатил". Здесь есть
определенное сходство с отождествлением индивидуального
объекта: последнее может быть достигнуто и без
полного описания объекта или, если прав Крипке, даже
безо всякого описания. Так, говоря "Он знает, кто ее
убил", мы имеем в виду факт in rerum natura, но говоря
"Он считает, что ее убил Джо", мы описываем
интеллектуальное состояние определенного человека.
В чем же причина того, что даже контексты знания
♦Internal Revenue Service — налоговая служба США. —Прим.
перев.
11 - 567
305
не являются референциально прозрачными, по крайней
мере в тех случаях, когда придаточное второго типа
является полным? Иными словами, если Эдип знает,
что он женат на Иокасте, то это не означает, что он
знает, что он женат на своей матери. Разумеется, он знает,
на ком он женат, как было только что сказано. Откуда
же тогда непрозрачность? Видимо, дело в том, что хотя
объектами знания являются факты, субъект знания
должен иметь представление, подобное мнению, об
этом факте, представление, причиной которого
является этот факт. Именно это представление попадает в
эмфазу: если я говорю "Он знает, на ком он женат", то
эмфаза распространяется на сам факт рокового союза и
на причинную цепь, приводящую к представлению о
нем; если же я говорю "Он знает, что он женат на
Иокасте", то эмфаза распространяется на то
представление, причиной которого является указанный факт.
6. "X знает, что р" означает, по-видимому,
следующее:
9Х имеет доступное ему интеллектуальное
представление 9р\ причиной которого является тот факт, что р\
Почему "доступное"? Потому, что существует
возможность забыть и вспомнить вновь: в промежутке
представление продолжает существовать, однако доступ к
нему оказывается невозможным. В противном случае
вспоминать значило бы то же самое, что изучать заново,
а это не так.
Как же обстоит дело с мнением? "X считает, что/?"
означает, по-видимому, следующее:
'X принимает интеллектуальное представление 'р' в
качестве истинного'. Таким образом, мнение никак не
связано с забыванием; ему противопоставлено не
забывание, а противоположное мнение, то есть такое, при
котором X принимает, данное представление в качестве
ложного.
Принятие представления в качестве истинного
является действием, для которого должны быть
соответствующие основания (reasons). Желая выяснить их,
мы задаем вопрос: "Почему ты так считаешь?" Если
эти основания почему-либо недостаточны, то мы имеем
дело с неразумным, неоправданным или глупым
мнением.
Обладание представлением, причиной которого
является некоторый факт, не есть действие. Поэтому для
того, что мы знаем, не может быть оснований.
Существует вопрос "Откуда ты это знаешь?" (How do you
know?). Но ответ на него не является обоснованием
306
(justification), а обычно представляет собой историю
того, как мы нечто узнали, как мы пришли к знанию.
Ср. следующий пример.
Томми является участником серии
психологических экспериментов по обучению во сне. Во время сна
включается запись голоса, много раз подряд
перечисляющего столицы африканских государств. На
следующий день Томми спрашивают: "Какова столица
Буркина Фасо?" Он отвечает: "Уагадугу". "А Цент-
ральноафриканской Республики?" — "Банги". И так
далее. Знает ли он эти столицы? Бесспорно. Откуда он
их знает? Благодаря обучению во сне. Знания не имеют
ничего общего с обоснованным истинным мнением.
Откуда, например, я знаю, что столица
Бирмы*—Рангун? Понятия не имею... Должно быть, я когда-то
случайно столкнулся с этим и с тех пор помню.
7. "Откуда ты знаешь, что р?" — "Мне это сказал
Джо". Это вполне естественный ответ. Поэтому, как
представляется, весьма частым является тот случай,
когда причинная связь между фактом и субъектом
знания сводится, по крайней мере отчасти, к тому, что
X сказал У, что р. Соответственно глагол tell 'говорить,
сообщать' должен быть способен принимать на себя
груз фактивности. Это действительно так, что
подтверждается тестом на придаточные первого типа, ср.: Не told
me who killed the grocer... how he did it 'Он сказал мне,
кто убил бакалейщика... как он это сделал' и т.д.
Должны ли мы отсюда заключить, что tell —это такой
же фактивный глагол, как know, realize 'понимать', find
out 'выяснять' или discover 'обнаруживать'?
Ответ, разумеется, будет отрицательным. Дело в
том, что эти глаголы не допускают ложности своих
пропозициональных дополнений, тогда как tell
допускает. Я имею в виду следующее. Я не могу
одновременно утверждать, что "X знаетр" и что "нер": или что
"X выяснил, что р, но в действительности р не имеет
места"; или что "X ошибочно обнаружил р" и т.п. С
другой стороны, если я сообщаю, что X сказал мне, что
р, то ничто не мешает мне добавить, что в
действительности р не имеет места. Иными словами, мы не можем
знать ложь, но мы можем говорить ложь.
Должны ли мы, таким образом, отказаться от теста
на фактивность с помощью придаточных первого типа?
Прежде чем делать это, полезно провести некоторое
♦Сейчас — Социалистическая Республика Бирманский Союз.—
(Прим. ред.)
п*
307
дополнительное исследование. Рассмотрим две
ситуации. Пусть Джо сообщает мне, что он живет в
Сан-Франциско. Через некоторое время я приезжаю к нему и
убеждаюсь, что он действительно там живет. Таким
образом, я имею право либо утверждать, что Джо сказал
мне, что он живет в Сан-Франциско, либо, если я хочу
быть более лаконичным, что Джо сказал мне, где он
живет. Пусть также Джим сообщает мне, что он живет
в Сан-Франциско. Через некоторое время, однако, я
обнаруживаю, что на самом деле Джим живет в
Окленде. В этом случае я тем не менее по-прежнему имею
право утверждать, что Джим сказал мне, что он живет в
Сан-Франциско (и могу также добавить, если считаю
это необходимым, что он сказал неправду). Однако же
если сам я хочу сделать истинное утверждение, то,
бесспорно, не имею права утверждать, что Джим сказал
мне, где он живет. Причина этого заключается, конечно,
в том, что Джим отнюдь не сказал мне, где он живет.
Таким образом, мы обнаруживаем замечательный
факт: сообщение, что р (telling that) может быть
ложным, но сообщение, чтб р (telling what) ложным быть не
может. Поэтому глагол tell является фактивным по
отношению к придаточным первого типа, но не
обязательно является таковым по отношению к
придаточным второго типа. Напомню, что tell может принимать
на себя груз фактивности и в таком случае, как:
"Откуда ты знаешь, что р?" — "Он сказал (told) мне, что
р". Я предлагаю следующую гипотезу: если know, find
out и т.п. — это полностью фактивные глаголы, то tell —
это амбивалентный глагол: он может сочетаться как с
фактивными, так и нефактивными придаточными
второго типа. И поскольку он может сочетаться с
фактивными придаточными второго типа, то он может
сочетаться и с их трансформами — придаточными
первого типа. Но поскольку нефактивные придаточные
второго типа не имеют подобных трансформов, то
всякий контекст вида tell + придаточное первого типа
является фактивным. Если это так, то возражение
против зависимости свойства фактивности от наличия
придаточных первого типа превращается при более
внимательном анализе в дополнительное доказательство
этой зависимости.
Более того, следует заметить, что tell —это,
безусловно, не единственный глагол, обнаруживающий
такую двойственную сущность. Рассмотрим, например,
глагол predict 'предсказывать'. Допустим, перед
последними президентскими выборами одни предсказывали,
308
что победит Картер, а другие предсказывали, что
победит Форд. Но так как победил Картер, то только о
людях из первой группы стало возможным утверждать,
что они предсказали, кто победит. Люди из второй
группы, несмотря на тот факт, что они делали
предсказание, не смогли в действительности предсказать, кто
победит. Ниже будут указаны и другие глаголы из этой
"семифактивной" (half-factive) группы5.
Все ли пропозициональные глаголы могут
сочетаться с придаточными первого типа, все ли они, другими
словами, могут употребляться в качестве фактивных?
Нет, далеко не все. Одним из таких глаголов, как мы
помним, является believe. Среди глаголов
интеллектуального состояния к ним относятся think 'думать*,
assume 'предполагать'; среди перформативных
глаголов—say 'говорить, произносить', assert 'утверждать',
claim 'заявлять' и insist 'настаивать'. Придаточные
первого типа не сочетаются с этими глаголами, равно как и
фактивные имена типа fact, result, cause. Можно
сообщить (tell) некоторый факт, но нельзя его произнести
(say), можно знать (know) причину чего-либо, но нельзя
утверждать (assert) ее, можно выяснить (find out)
результаты, но нельзя считать (believe) их и т.п.
Таким образом, в результате наших рассуждений
можно прийти к следующему выводу. Существует
большая (и к настоящему времени сравнительно
неплохо изученная) группа "пропозициональных"
глаголов—упрощенно говоря, тех, которые в нормальном
случае допускают придаточные второго типа. Этот
класс содержит большое количество перформативов,
которые Остин называет "экспозитивами", а Серл —
"репрезентативами" (Searle, 1975). Кроме того, в этот
класс входит значительная группа глаголов
интеллектуальной деятельности и интеллектуального состояния,
которые я называю "аппрехензивами" и "путативами"
соответственно (Vendler, 1972b, гл. Ill). Как следует из
сказанного выше, все множество этих глаголов может
быть расклассифицировано и по другому основанию —
на полностью фактивные (типа know), семифактивные
(типа tell) и нефактивные (типа believe) глаголы.
8. Я могу лишь сделать первые шаги на пути к
осуществлению этой классификации в полном объеме.
5 Идея о существовании семифактивных глаголов была
впервые высказана мной в статье (Vendler, 1978). К сходным
выводам пришел также профессор Стэнли Мансэт (Stanley
Munsat) в своей неопубликованной работе "Wh-Complementiz-
ers".
309
Я рассмотрю некоторое достаточно представительное
множество перформативных глаголов из описанной
выше группы и попытаюсь распределить их в
соответствии с уже описанными критериями. Оставшаяся часть
глаголов этой группы, глаголы интеллектуальной
деятельности и интеллектуального состояния, в принципе
могут быть распределены аналогичным образом,
однако здесь подробно рассматриваться не будут. В
качестве "представительного множества" я буду использовать
список "экспозитивов", приведенных в моей книге
"Res cogitans" (Vendler, 1972b), к которым будет
добавлено еще два глагола: say и mention 'упоминать';
таким образом, общее число глаголов оказывается
около тридцати.
Каковы те критерии, которые могут быть
использованы для принятия соответствующего
классификационного решения в каждом конкретном случае? Будут
рассмотрены три таких критерия.
1. Критерий типа придаточного предложения: не-
фактивные глаголы (типа assert) не допускают
придаточных предложений первого типа.
2. Критерий фактивности: нефактивные глаголы
равным образом не сочетаются с именем fact и
подобными ему: cause, result, outcome и, как это ни странно,
truth 'истина, правда'.
3. Обстоятельственный критерий: полностью фак-
тивные глаголы не могут сочетаться с группой
обстоятельственных наречий типа falsely 'ложно, ошибочно',
wrongly 'неправильно', incorrectly 'некорректно' или
просто с отрицательными вариантами придаточных
второго типа.
Критерии 1 и 2 действуют совместно. Полностью
фактивные глаголы удовлетворяют им обоим, но не
удовлетворяют третьему критерию; нефактивные
глаголы не удовлетворяют ни первому, ни второму, но
зато удовлетворяют третьему; семифактивные глаголы
удовлетворяют всем трем критериям.
Как это ни удивительно, в исходном множестве
обнаруживаются только два полностью фактивных
глагола: это mention и remind 'напоминать'. Ср. их
поведение по отношению к названным критериям:
Не mentioned where she lives
'Он упомянул, где она живет'
Не mentioned the fact that...
'Он упомянул тот факт, что...'
* Не falsely mentioned that...
* 'Он ложно упомянул, что...'
310
He reminded me who lives here
'Он напомнил мне, кто здесь живет'
Не reminded me of the results of...
'Он напомнил мне о результатах...'
* Не reminded me that Jane lives in Paris, which is
not so
* 'Он напомнил мне, что Джейн живет в Париже,
что не соответствует действительности'.
Группа семифактивных глаголов более
многочисленна: помимо tell и predict, которые мы уже
упоминали, к ней, как представляется, принадлежат глаголы
state 'устанавливать', report 'сообщать', guess
'(пред)полагать, догадываться', inform 'информировать , admit
'допускать' и warn 'предупреждать'. Все они
удовлетворяют обстоятельственному тесту: можно неверно
установить (falsely state), некорректно сообщить
(incorrectly report), неправильно догадаться (wrongly guess)
и т.п.
Ср. также правильность предложений:
Не stated why he did it
'Он установил, почему он сделал это'
Не reported the fact that...
'Он сообщил о том факте, что...'
Не guessed who would win
'Он догадался, кто победит'
Не informed us where the mine was buried
'Он информировал нас, где была скрыта мина'
Не warned me when it would go off
'Он предупредил меня, когда произойдет выстрел'
Не admitted the truth
'Он признал истину'.
Нефактивные глаголы образуют самую большую
группу; say, assert, claim, declare 'объявлять', affirm
'подтверждать', contend 'оспаривать', maintain
'поддерживать, утверждать' и insist 'настаивать' являются
наиболее бесспорными ее членами. Многие другие глаголы
также должны рассматриваться как нефактивные,
хотя большая сложность их семантической структуры
часто затрудняет однозначное применение наших
критериев: таковы agree 'соглашаться' и disagree 'не
соглашаться', confess 'признаваться' и testify
'свидетельствовать', postulate 'постулировать', argue 'доказывать' и
conclude 'заключать'. Все эти глаголы удовлетворяют
обстоятельственному тесту, хотя, возможно, и не без
некоторых шероховатостей. Ср.:
Не agreed with her fal»e assertion
'Он согласился с ее ложным утверждением'
311
He argued that she was innocent, but she was guilty
all right
'Он доказывал, что она невиновна, но это, конечно
же, было не так'.
Все эти глаголы не удовлетворяют и первым двум
тестам. Несколько примеров:
*Не asserted where he went
'Он утверждал, куда он идет'
*Не claimed the cause of the fire
'Он заявил причину пожара'
*He maintained the fact that...
'Он поддержал тот факт, что...'
*Не testified who killed the grocer
'Он засвидетельствовал, кто убил бакалейщика'
*Не concluded how she did it
'Он заключил, как она это сделала'.
Можно возразить, что глагол say допускает
придаточные первого типа. Действительно, мы иногда
слышим предложения вроде Не said where she works 'Он
сказал, где она работает'. Я полагаю, что такие
предложения являются все же отклонениями от стандарта и
их относительная приемлемость может быть объяснена
только существованием правильных отрицательных
конструкций типа Не did not say where she works 'Он не
сказал, где она работает'. Почему же эти последние
являются правильными? Могу предположить, что
причина заключается в том, что относительное
местоимение после отрицания скорее употребляется вместо
whether ... or, чем вместо that: ... did not say whether she
works at A or at В or... '...не сказал, работает она в А или
в В, или...' А такое предложение не является фактив-
ным. Но это, конечно, весьма сложная проблема,
которую я здесь не имею возможности обсуждать более
подробно.
В исходном списке оказалось также небольшое
число глаголов, классификационную принадлежность
которых я не могу определить с полной уверенностью:
таковы suggest 'подсказывать, внушать', submit
'осмеливаться предполагать', concede 'допускать', deny
'отрицать' и assure 'уверять'. Я предполагаю, что все они
исходно являются нефактивными, но вместе с тем
приобрели некоторые черты фактивности: можно
отрицать факты (deny the facts), подсказывать, кто украл
деньги (suggest, who stole the money) и т.п. Однако
подобная двойственность не настолько велика и не
настолько последовательна, чтобы обусловить переход
указанных глаголов в группу семифактивов.
312
Дополнительное свидетельство в пользу нашей
классификации можно найти в обычной трансформации
опущения. Придаточные первого типа, имеющие вид
what N is 'каково N\ часто сокращаются до N. Так,
например, предложение:
I know what his name (adress, occupation, etc.) is
'Я знаю, каково его имя (адрес, род занятий и т.п.)'
преобразуется в:
I know his name (adress, etc.)
'Я знаю его имя (адрес и т.п.) '.
Если наша теория верна, то эта трансформация
должна быть применима к фактивным и семифактив-
ным глаголам, но неприменима к нефактивным. Это
действительно так, ср.:
Не mentioned her occupation
'Он упомянул о ее занятиях'
Не stated his name
'Он установил его имя'
Не told us her adress
'Он сообщил нам ее адрес'.
Но не:
*Не asserted her adress
'*Он утверждал ее адрес'
*Не affirmed her occupation
'*Он подтвердил ее занятия' и т.п.
Следует также отметить, что номинализации семи-
фактивных глаголов всегда нефактивны. Это в
принципе неудивительно, ибо они описывают результаты
внутренней деятельное™ (subjective creations), которые
(если они истинны) могут представлять факты, но не
являются тождественными им. Так, хотя мы можем
установить или сообщить некоторый факт, наше
суждение (statement) или сообщение (report) не является
фактом: в лучшем случае это лишь констатация факта или
сообщение о факте.
Аналогичная тройственная классификация может
быть распространена и на глаголы, описывающие
интеллектуальные состояния и виды интеллектуальной
деятельности. Я утверждаю (оставляя доказательство
читателям) , что глаголы think, believe и assume являются
нефактивными, глагол anticipate 'предчувствовать'
является семифактивным, a know, find out, discover,
notice 'замечать', realize и remember 'вспоминать'
являются полностью фактивными.
9. Существование трех описанных классов глаголов
(фактивов, семифактивов и нефактивов) может
считаться лингвистически универсальной закономерностью,
313
действие которой не ограничивается английским
языком и распространяется даже за пределы
индоевропейских языков в целом. Интересны в этом отношении
данные венгерского языка. В этом языке, который
является, так сказать, более "лексическим", чем
английский, во всех трех типах конструкций может
использоваться один и тот же глагольный корень mond
(приблизительно соответствующий английским глаголам say и
tell). Нефактивное понимание возникает при
добавлении эмфатического местоимения azt в начале
предложения, фактивное — при добавлении перфективного
префикса meg-. При отсутствии этих элементов глагол,
по всей видимости, интерпретируется как семифактив-
ный. Так соответственно в предложении
Azt mondta, hogy Becsbe ment
That he-said, that to-Vienna he-went*
'To он-сказал, что в-Вену он-отправился'
допустимо дополнительное указание на ложчость
сообщения: de hazudott 'но он солгал'. При этом указанная
конструкция не допускает придаточных первого типа:
*Azt mondta, hogy hova ment
*That he-said, that where he-went
'*To он-сказал, [что] куда он-отправился/
Фактивная конструкция (megmondta) допускает
придаточные первого типа и не сочетается с
указаниями на ложность сообщения:
Megmondta, hogy hova ment
He-said, that where he-went
'Он-сказал, [что] куда он-отправился'
*Megmondta, hogy Becsbe ment, de hazudott
*He-said, that to-Vienna he-went, but he-lied
'*Он-сказал, что в-Вену он-отправился, но
он-солгал.'
Простая конструкция является, по всей видимости,
семифактивной:
Mondta, hogy Becsbe ment, de hazudott.
Но ср.:
*Mondta, hogy hova ment, de hazudott.
10. "Я видел в мотеле вашу жену. Теперь вы будете
знать это". — "Конечно, он знает. Я же сказал ему".
Эти и подобные им контексты могут сказать о "логике
знания" больше, чем тома, посвященные обоснованию
теории "обоснованного истинного мнения".
*В дополнение к русскому пословному переводу сохранен
аналогичный английский перевод З.Вендлера, имеющий
самостоятельный лингвистический интерес. —Прим. перев.
314
Когда я говорю: "Он сказал мне, кто она", я
предполагаю (imply), что как ему, так и мне известно, кто
она. Я узнал это в результате того, что он сообщил мне
то, что знал. А откуда он узнал это? Вообще говоря,
возможны два способа: либо он самостоятельно
обнаружил это (например, увидев упомянутую даму и
вспомнив ее), либо он в свою очередь сам получил эти
сведения от кого-то еще. Таким образом, мы
возвращаемся к цепи знаний Остина, хотя и с существенным
отличием. Если X сообщил У, что есть что, его цель
заключается не в том, чтобы просто создать некоторое
мнение на основании своей "гарантии", а в том, чтобы
У тоже знал, что есть что6. Предложение "Я сказал ему,
что это его жена" может соотноситься с попыткой
убеждения (которое создает мнение), а предложение
"Я сказал ему, кто она" не может.
Как же, однако, следует трактовать предложение
"Я сказал ему, кто она, но он не поверил (не захотел
поверить) мне"? Предложение это означает следующее:
говорящий намеревался проинформировать адресата о
том, что он сам знал, адресат же воспринял его
сообщение как простое утверждение (возможно, ложное);
говорящий соотносил свои слова с некоторым фактом, а
адресат воспринял их как представление простри
возможности, как аргументацию в ее пользу; первый
намеревался передать знание, тогда как второй
интерпретировал его действия лишь как убеждение в
истинности некоторого мнения. И, считая так, он отказался
принять соответствующую точку зрения.
"Я сказал ему, кто она, но он этого еще не знает".
Это предложение бессмысленно. Приведенные слова
равнозначны следующему: "Я знаю, кто она, и (так
как он меня понял) я вызвал у него соответствующее
представление, которое благодаря моим действиям
соединилось причинной связью с тем фактом, что она
есть некто. Но он этого еще не знает". Это, однако,
является противоречием.
Меня могут спросить, правомерно ли тогда
утверждать, что адресат будет именно знать, а не считать, что
искомая дама его жена. Этот вопрос не вполне коррек-
Указанный факт свидетельствует о необходимости
определенного пересмотра теории значения П. Грайса. В
соответствии с наиболее общепринятыми взглядами целью экспозитивных
речевых актов является передача знания (sharing of knowledge), а
не просто высказывание мнения. И это в особенности верно при
отсутствии явно выраженного перформативного глагола. (См.
Grice, 1957).
315
тен: он, в сущности, предполагает, что существует
некоторая высшая, божественная точка зрения,
существует некто, кому известно все, в том числе и то, кто
что знает и кто что считает. Будучи в гораздо более
скромном положении, мы лишь располагаем
возможностью выбирать между двумя понятиями (знания и
мнения) и соответственно между фактивной и нефак-
тивной интерпретацией при описании состояния нашего
собственного сознания и сознаний других людей и
нашего взаимодействия с помощью языка. При этом,
однако, мы должны быть последовательны и не
допускать совмещения двух разных жанров. Так,
предположим, что говорящий по тем или иным причинам
выбирает фактивную конструкцию: "Ясказал ему, кто она".
В этом случае с его стороны было бы
непоследовательностью допускать, что адресат может все же не знать
того, что он сообщил. Пусть, однако, адресат по каким-
то своим соображениям отказывается следовать
фактивной стратегии: он предполагает, что говорящий
лишь утверждает что-то, что ему в принципе вовсе не
обязательно принимать. В этом случае он вправе
сказать: "Он сказал мне, что это моя жена, но я не верю
этому". Но он смешал бы два жанра, если бы сообщил:
"Он сказал, кто она, но я не верю этому". Заметим при
этом, что он мог бы выразиться так: "Он сказал мне,
кто она, но я не хотел этому верить". Данное
предложение соответствует фактивной структуре, но в нем
содержится дополнительная мысль, что вначале
слушающий пытался интерпретировать его как нефактив-
ное. Все эти варианты возможны, разумеется, в силу
семифактивной природы глагола tell и подобных ему.
Приведем еще один текст, иллюстрирующий
конфликт двух стратегий:
— Что заставляет вас думать, что вы убили Соррелла?
-Я не думаю, — сказала она с некоторым
сарказмом.—Разве я в чем-нибудь сомневалась? Это была
очень хорошая работа.
— Конечно, конечно, — ответил Баркер терпеливо, —
скажем так: откуда нам знать, что вы это сделали?
— Откуда вам знать? — переспросила она. — Что вы
имеете в виду? Раньше вы не знали, а теперь я сказала
вам, и вы знаете.
— Но, видите ли, то, что вы говорите, что вы это
сделали, — это еще не причина, чтобы вам поверили, —
возразил Баркер7.
7См.: Т е у J. The Man in the Queue. N.Y., 1977, p. 208.
316
Подведем итоги. Экспозитивы (или репрезентати-
вы) — это, по-видимому, наиболее важный тип глаголов
речевого акта. Среди них те глаголы, которые могут
принимать на себя груз фактивности, пользуются
преимуществом, ибо знание важнее мнения. Язык дан
прежде всего для того, чтобы говорить правду.
ЛИТЕРАТУРА
1. Austin 1961: Austin J. Other Minds. — In: Austin J.
Philosophical papers. — Oxford, 1961, p.44—84.
2. Austin 1962: Austin J. How to do things with words. —
Oxford, 1962.
3. Goldman 1967: Goldman A. A causal theory of knowing. —
Journal of philosophy, 64 (1967), p. 357—372.
4. Grice 1957: Grice H.P. Meaning. — Philosophical review, 66
(1957), p. 377-388.
5. Grice 1965: Grice H.P. The causal theory of perception. —
In: Perceiving, sensing and knowing. /Ed. by Swartz R. — N.Y.,
1965, p. 438-472.
6. Kiparskys 1971: Kiparsky P. and Kiparsky C. Fact. — In:
Semantics. /Ed. by Steinberg D.D. and Jakobovits L.A. — Cambridge,
1971, p. 344-369.
7. Searle 1975: Searle J.R. A taxonomy of illocutionary acts.
— In: Language, mind and knowledge. /Ed. by Gunderson K.
—Minneapolis, 1975, p. 344—369. — (Minnesota studies in the philosophy
of science, vol. VII).
8. Vendler 1967: Vendler Z. Verbs and times. — In: Vendler Z.
Linguistics in philosophy. — Ithaca; N.Y., 1967, p. 97—121.
9. Vendler 1972a: Vendler Z. On what one knows. — Ithaca
etc., 1972.
10. Vendler 1978: Vendler Z. Escaping from the cave: a reply
to Dunn and Suter. — Canadian Journal of philosophy, 8 (1978),
p. 79-87.
Вольфганг Штегмюллер
РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ РЕШЕНИЙ
(логика решений) *
1. Задачи рациональной теории решений
Исследование законов рациональной человеческой
деятельности первоначально появилось в сфере
экономического анализа, в частности в австрийской школе
изучения потребностей, и близких к нему областях.
Многочисленные попытки математического уточнения
данной проблемы в конечном итоге привели к
созданию некоторой совершенно новой теории, а именно
теории игр, которая увидела свет в обширном
сочинении фон Неймана и Моргенштерна в 1943 г. В качестве
важнейшей составной части этой теории игр и
выделилась со временем рациональная теория решений,
называемая также логикой решений. В ходе дискуссий
становилось все более ясно, что многочисленные
вопросы, включаемые в комплекс проблем "Вероятность
и индукция", полностью или частично охватываются
этой теорией. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что наряду с экономистами, представителями
теории вероятности и статистиками интерес к этой
области в растущей степени стали проявлять также
логики и философы науки.
Непосредственной причиной последующего
изложения является методологическое значение самой
указанной области. Однако к этому присоединяется еще одно
обстоятельство: данная первая часть одновременно
служит для подготовки последующей реконструкции
теории Карнапа, которая получила от него не совсем
правильное название: "индуктивная логика".
Мы можем выделить в истории два направления,
которые вошли в современные исследования по логике
решений и в определенной мере слились в них. Эти
направления соответствуют двум важнейшим понятиям
теории решений: понятию субъективной пользы, выра-
♦Stegmuller W. Entscheidungslogik (rationale Entschei-
dungstheorie). Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg—New York, 1973,
S. 287-296.
318
жаемому некоторой функцией полезности, и понятию
субъективной, или личной, вероятности, выражаемому
некоторой вероятностной функцией. Исследования
понятия субъективной пользы и субъективной ценности
возникли в области экономической науки, причем
решающий шаг в этом направлении был сделан
представителями упомянутой австрийской школы изучения
потребностей. Важнейшей проблемой в этой области
является вопрос об измерении или, лучше сказать, о
метризации субъективных соображений о полезности в
виде функций полезности. Эта задача в течение
длительного времени является важнейшей целью
теоретической экономической науки, поскольку ее решение
представляется предпосылкой создания адекватной
теории ценообразования.
Вероятностный аспект появляется на первый взгляд
гораздо позже, лишь в рамках теории игр. Правда,
довольно быстро выяснилось, что здесь можно
использовать более ранние теоретико-вероятностные
исследования. В этой связи прежде всего заслуживают
упоминания два имени — Ф. Рамсея и Б.де Финетти.
Независимо друг от друга эти ученые пришли к оригинальной и
интересной мысли о том, что понятие субъективной,
или личной, вероятности можно уточнить с помощью
изучения рационального заключения пари. Впервые эту
идею высказал Рамсей. Не зная об этих соображениях
Рамсея, опубликованных лишь посмертно, Финетти
развил близкие идеи и даже описал способ оправдания
основных аксиом теории вероятности. Позднее эти
идеи были подхвачены Карнапом и его коллегами и
сформулированы в языке карнаповских систем.
Теория, названная нами "Карнап Я" (и излагаемая во
второй части), имеет дело с попыткой уточнения и
развития вероятностных аспектов логики решений.
Теория решений имеет дело с решениями трех
видов (и распадается соответственно на три области), а
именно: решения, принимаемые с уверенностью;
рискованные решения и безосновательные решения. В
случае надежного решения субъект деятельности
стремится узнать ситуацию настолько точно, чтобы иметь
возможность с уверенностью предсказать последствия k
своих возможных действий. В случае безосновательных
решений он знаком с ситуацией так плохо, что даже
приблизительно не способен оценить возможных
последствий своих поступков. В последующем изложении
мы не будем рассматривать эти случаи, а
сконцентрируем внимание на важнейшем случае: на рискованных
319
решениях. Речь будет идти о таких ситуациях принятия
решений, в которых действующие субъекты не могут
полностью контролировать все важные последствия
своих действий и точно предвидеть их, однако в
состоянии дать вероятностную оценку различным
обстоятельствам и следствиям своих поступков.
Следующий раздел посвящен уточнению этой
беглой и не вполне четкой характеристики рискованных
решений.
2. Действия и их следствия
Три матрицы: следствий, полезности и вероятности.
Допустим, некоторый человек хотел бы
перебраться из пункта у в пункт z. У него есть две возможности:
ехать поездом или лететь самолетом. Он должен
выбрать один из этих двух возможных способов действия.
Если он решит поехать поездом, то затратит на поездку
7 часов. Если же он выберет самолет, то имеются две
возможности: будет туман над местом посадки или
будет ясная погода. При ясной погоде время полета равно
2 часам. В случае же тумана самолет может
возвратиться^ время путешествия растянется до 16 часов. Обзор
всех возможностей дает помещенная ниже таблица.
Каждому возможному способу действий, между
которыми индивид осуществляет выбор, соответствует одна
строка этой таблицы. Каждому из двух релевантных
обстоятельств (есть туман или нет тумана)
соответствует одна колонка. Пересечение строчки с колонкой
выражает то следствие, которое получается для
индивида, если он избирает соответствующий этой строке
способ действий и реализуется обстоятельство,
соответствующее данной колонке. В рассматриваемом
примере эти следствия заключаются в величине времени,
затрачиваемого на поездку из пункта у и измеряемого
в часах.
В пункте прибытия В пункте прибытия
ясно туман
Поезд 7 час. 7 час.
Самолет 2 час. 16 час.
320
Слова "поезд" и "самолет" здесь представляют два
возможных способа действий, между которыми
нужно выбрать: воспользоваться поездом или самолетом.
Если опустить наименования строчек и столбцов и
сохранить лишь числовые выражения следствий, то мы
получим матрицу следствий, которая в
рассматриваемом примере выглядит следующим образом:
\l d)
Для того чтобы иметь возможность правильно
прочитать эту матрицу, нужно знать, конечно, упомянутые
названия строчек и столбцов. Кроме того, если
следствия выражены в числах, нужно знать соответствующие
меры (в данном случае меры времени). Тот факт, что
первая строка дважды содержит число 7, является,
конечно, чисто случайным. В нем выражается лишь то
обстоятельство, что время поездки на поезде не зависит
от того, имеется ли туман в пункте z или нет. Напротив,
в других случаях может оказаться так, что все
возможные результаты получат разные значения.
Отталкиваясь от этого простого примера, мы
можем получить общую схему. Индивид, находящийся в
определенной ситуации, хотел бы осуществить выбор
одного из m поступков или действий Aj,...,^. Пусть
для интересующих его возможных последствий выбора
имеется п возможных состояний мира или природы,
которые мы для краткости обозначим
обстоятельствами Ux,...,Un, Пусть наш индивид убежден также в том,
что эти п обстоятельств образуют исчерпывающую
дизъюнкцию всех возможных обстоятельств, a m
поступков — исчерпывающую дизъюнкцию всех
возможных действий.
Некоторому поступку Д и обстоятельству Uk
соответствует результат Rik, о котором мы теперь будем
говорить вместо прежнего следствия. Если по аналогии
с вышеизложенным попытаться построить таблицу, то
она примет следующий вид:
Ux U2 . . . Un
Аг
А2
Rn
R21
R\2
R22
. . Rln
• • Rin
321
An
Ц711
Цп2 • • « ЦпП
Из этой таблицы получается матрица следствий,
которую мы сокращенно будем называть матрицей
(Rik). Относительно этого сокращения следует помнить,
что первый индекс (индекс строк) при "Л" говорит о
пронумерованных в определенной последовательности
возможных поступках, а второй индекс (индекс
столбцов) — о пронумерованных возможных
обстоятельствах.
Примечание 1. Матрица следствий {R%k) может
внушить ошибочное впечатление, будто бы в ней идет речь
об объективных ситуациях. Это неверно. Задача данной
матрицы заключается в описании ситуаций в их
понимании действующим лицом. Действия А^,...,^
представляют собой не те действия, которые вообще
возможны, а только те действия, которые принимает
во внимание действующий индивид. Точно так же и
С/, ,...>ип представляют собой не объективно
возможные положения дел, а возможности, рассматриваемые
действующим субъектом. Вполне может оказаться, что
субъект упустит из виду некоторые объективно
возможные обстоятельства и возможные действия,
которые он мог бы совершить.
Примечание 2. Построение матрицы следствий опи-
радтся на предположение о том, что каждый результат
Rik однозначно определен, если фиксированы действие
Д- и обстоятельство Щ. Можно было бы даже сказать,
что эта матрица представляет некоторый дискретный
детерминистический закон природы. Говоря языком
математики, речь здесь идет о некоторой функции \р с
двумя аргументами: Rik = ^(Л', Цг).
Выражение "закон природы" следует, конечно,
понимать с оговоркой, высказанной в предыдущем
примечании: важно не то, существует ли на самом деле
такой закон природы, а то, что в его существование
верит действующий субъект. Последующие
рассуждения сделают еще более ясным то обстоятельство, что в
данном случае речь идет не об объективном положении
дел, а только о субъективных убеждениях
действующего субъекта. Правда, здесь появляется одна сложность,
на которую мы должны указать уже сейчас:
обсуждаемая субъективная оценка вероятности возможных
обстоятельств не обязана автоматически переноситься на
результат, напротив, последним можно приписывать
субъективные вероятности, зависимые от действий.
322
Примечание 3. Читателя не должно смущать то
обстоятельство, что разные авторы избирают различные
виды формализации, которые только по видимости
опираются на интуитивные представления,
отличающиеся друг от друга, но в действительности говорят об
одном и том же и различаются лишь несущественными
техническими деталями. Для иллюстрации этого факта
сравним введенную выше матрицу следствий с
определением действия Л. Дж.Сэвиджем. Согласно тому, что
было сказано в примечании 2, матрицу следствий
можно представить в виде двуместной функции,
аргументами которой являются действия и обстоятельства, а
значениями — результаты Rjk. В противоположность
этому Сэвидж определяет действия как отображения
множества обстоятельств в множество следствий.1
Таким образом, он пользуется одноместными
функциями. Однако это лишь иная формулировка той же
самой процедуры. Если мы в нашем формальном
выражении фиксируем первый индекс символа Bik для
некоторого определенного i, а второму индексу k
позволим изменяться от 1 до гс, то мы как раз получим
одноместную функцию, которая представляет действие
Ai и фактически является отображением класса
обстоятельств в класс результатов. Мы хотим представить
матрицу следствий посредством единственной
двуместной функции, в то время как Сэвидж каждое из
рассматриваемых действий предпочитает представлять
некоторой собственной функцией, так что наша
матрица (В(^) может быть получена из m различных
одноместных функций при i=l,...,m. Какому из двух видов
представления отдать предпочтение, определяется
только целесообразностью. В одних контекстах можно
рекомендовать первый, в других — второй способ.
Сэвидж извращенно трактует также субъективный
характер того, что мы назвали следствием, или
результатом. Когда он "следствие" отождествляет с
"состоянием личности", мне представляется, что это способно
привести к недоразумению. Используя такую
терминологию, непроизвольно начинают думать не о
субъективно оцениваемых следствиях действий, а о
психофизических состояниях или о чисто духовных
переживаниях (ощущение боли, хорошее настроение,
состояние депрессии и т.п.).
lSavage L. J. The Foundations of Statistics. New York-
London, 1954. To, что мы называем обстоятельством, в точности
соответствует "состоянию мира" у Сэвиджа в указанной работе.
323
Сэвидж совершенно справедливо подчеркивает, что
речь всегда идет об индивиде в некоторой
определенной ситуации. Для нашего исследования это является
очевидной предпосылкой. Поскольку мы всегда
говорим об одном и том же индивиде в определенной
ситуации решения, постольку нам не нужно проводить
никакой особой релятивизации. В теории "Карнап II"
дело обстоит иначе. Здесь мы должны, с одной
стороны, говорить об оценках полезности и вероятности
разных индивидов, с другой же стороны, вынуждены
проводить различие между такими оценками одного и
того же индивида для разных моментов времени.
Поэтому в последнем формализме приходится делать
явную ссылку на индивида X и момент времени Т. В
нашем контексте это будет излишним.
Теперь мы рассмотрим матрицу полезности, иногда
называемую также матрицей желаемости. Для ее
построения мы должны предположить, что все
возможные результаты Е^ получили субъективную оценку.
Наш индивид, размышляющий о том, какое действие
ему выбрать, отныне будет именоваться просто
субъектом (и иногда обозначаться символом "X"). Мы
предполагаем также, что каждому из тХп возможных
результатов Rii^..jRmn наш X приписывает некоторую
субъективную полезность. Мы пойдем даже несколько
дальше и предположим, что эту субъективную
полезность можно охарактеризовать действительным
числом. (Вопрос о том, каким образом можно прийти к
такой числовой шкале и в какой мере такая шкала
будет однозначной, мы на некоторое время оставим в
стороне.) Установив для каждого возможного
результата его субъективную полезность, получают матрицу
полезности.
Для наглядности вновь обратимся к примеру,
приведенному выше. Пусть наш субъект будет весьма
ответственным коммерсантом, для которого время ■—
деньги. Другими словами это можно выразить так:
потерять время для него означает потерять деньги.
Поскольку время, затраченное на поездку, он должен
считать потерянным, постольку перед каждым числом,
выражающим такое время, он должен поставить знак
отрицания, обозначающий субъективную полезность
этого времени. Поэтому матрица полезности примет
такой вид:
(-1 -ll)
324
Здесь одновременно становится ясным, что под
полезностью мы понимаем не только то, что называют
позитивной полезностью, ибо субъективная полезность
может быть также убытком или субъективной утратой.
В случаях последнего рода субъективные полезности
будут представляться отрицательными числами.
В общем случае имеет место следующее: мы
должны допустить, что существует некоторая функция пи,
которая зависит от нашего субъекта X и называется
функцией полезности. Аргументами этой функции
являются возможные результаты Д^, а значениями —
реальные числа, представляющие субъективную
ценность этих результатов. Если функцию пи применить ко
всем результатам, входящим в матрицу следствий, то
мы получим матрицу полезности, которую сокращенно
можно записать в виде (nu(Rjk)). (Внутренние скобки
относятся к функтору мы", внешние — являются
составной частью символической записи матрицы.)
Значение функции пи для Rjk мы называем
(субъективной) полезностью или пользой результата^ для
субъекта. Полезности, т.е. m X п значений nu(Ru ),...,nu(Rmn),
можно упорядочить по величине. Получившийся таким
образом порядок мы называем числовым порядком
полезностей (результатов или следствий). Конечно, в
этом порядке мы можем нескольким возможным
результатам приписать одно и то же место. Это возможно,
в частности, для самых высоких и для самых низких по
своей оценке результатов.
Если мы хотим представить матрицу следствий
вместе с матрицей полезности в виде одной диаграммы,
то для этого следует избрать трехмерное изображение.
Нужно взять прямоугольную систему координат и в
одном из квадрантов построить сетку маленьких
квадратов, каждый из которых соответствует некоторому
результату R^ (на оси х отмечаются возможные
действия, на оси у —возможные обстоятельства, таким
образом, данный квадрант будет изображением матрицы
следствий). Значения полезности nu(R^) будут
представлены осью г, которая каждому квадранту (вернее,
соответствующему результату) сопоставляет особое
значение.
Третьим фундаментальным понятием, которое нас
здесь интересует, является понятие матрицы
вероятностей. Поскольку мы имеем дело с рискованными
решениями, постольку мы можем предположить, что наш
субъект способен оценить вероятность наступления
каждого из п обстоятельств. Вероятность наступления
325
обстоятельства Ц при «= 1,...,п мы записываем в виде
Р(Ц) ("р" означает "вероятность5'). Здесь также речь
идет не об объективной вероятности появления
обстоятельств, даже если и верят, что такие вероятности
существуют. Если бы такие вероятности и существовали,
они были бы либо совершенно неизвестны субъекту,
либо он мог бы высказать о них только гипотетические
предположения. Однако субъект должен иметь
возможность вычислять вероятности для того, чтобы прийти к
решению относительно выбора возможного действия.
Субъект должен знать возможные обстоятельства,
возможные действия, результаты, входящие в матрицу
следствий, а также их полезность. И точно так же
вероятности возможных обстоятельств относятся к тем
данным, которые ему должны быть известны и
которые служат основой рациональных соображений о
правильном решении. Таким образом, речь может идти
только о субъективных вероятностях. Определенные
условия, которым должна удовлетворять субъективная
оценка вероятностей, будут обсуждаться ниже.
В качестве третьей матрицы мы вводим матрицу
вероятностей. В отличие от матриц следствий и полез-
ностей здесь нужна некоторая дифференциация.
Простейшим случаем будет тот, который мы называем
матрицей верояностей, независимых от действия. Он
относится к вероятности реализации любого
обстоятельства Uk независимо от того, какое действие будет
предпринято. Таким образом, достаточно знать п
значений р(их) = р! ,р([£) = & ,...,p(Un) = рп. Если эти значения
Pi,...,jfo известны, то мы можем сказать, что задано
распределение вероятностей для обстоятельств. Теперь
матрица вероятностей образуется просто за счет того,
что строчки с этими п значениями m раз подписываются
одна под другой (каждому возможному действию
будет соответствовать одна строка). Такая матрица
вероятностей имеет следующий вид:
m строк
Pl.P2»-.,Al
С такой матрицей вероятностей, независимых от
действий, мы в нашем примере имеем дело в том
случае, если путешественник не является суеверным
человеком, т.е. если он убежден в том, что погода в том
месте, куда он стремится, не зависит от того, едет он
326
поездом или летит самолетом. (Напротив, если бы он
не в шутку, а всерьез сказал: Если я воспользуюсь
самолетом, то в месте прибытия z несомненно будет
туман; если же я поеду поездом, то там будет
солнечно", то мы имели бы дело со вторым случаем матрицы
вероятностей, зависящих от действия.) Если р
представляет собой вероятность того, что в месте
назначения нет тумана, то вероятность тумана в этом месте
будет равна 1 —-р, так как сумма вероятностей этих
двух исключающих друг друга альтернатив должна
иметь значение 1. Для используемого нами примера
матрица вероятностей примет следующий вид:
Р 1-Р
Р 1-Р .
Предположим, что вероятность наличия тумана в
месте назначения для субъекта равна 5/14. Тогда
приведенная выше матрица будет выглядеть так:
9/14 5/14
9/14 5/14 .
Другим, более сложным случаем является матрица
вероятностей, зависимых от действия. В первом случае
было достаточно знать распределение вероятностей для
п обстоятельств и воспроизводить это распределение
для каждого из m возможных действий. Теперь мы
имеем дело с таким положением, когда вероятность
осуществления некоторого обстоятельства зависит
также от того, какое действие будет предпринято.
Рассматривавшийся нами пример не подходит для
иллюстрации этого положения, которое опирается на
предположение о суеверности субъекта. Более подходящим
будет следующий пример2.
Тридцатипятилетний американец X ежедневно
выкуривает по две пачки сигарет. Он знакомится со
статистическими данными Американского ракового
общества и начинает колебаться. В этих данных
содержатся сведения о том, каковы шансы 35-летнего
мужчины прожить больше 65 лет в зависимости от того,
2Этот пример взят из работы: Jeffrey R. The Logic of
Decision. New York, 1965, p. 11, 32. В этом произведении читатель
может найти много других примеров и пояснений.
327
курит он или не курит, а также курит ли он мало,
много или очень много. X констатирует, что ему не
хватает силы воли заставить себя выкуривать меньше
двух пачек сигарет в день, если он продолжает курить
сигареты. Однако у него есть возможность начать
курить трубку или сигареты, что будет доставлять ему
гораздо меньше удовольствия. В данном случае нас
интересует не матрица полезности, а только его матрица
вероятностей, которую он составил на основе упомянутых
статистических данных. (Вследствие того, что он не
сомневается в этих данных, его субъективные вероятности
будут совпадать с объективными
относительными частотами, приведенными в статистических
данных.)
Выкуривают не менее
двух пачек сигарет в
день
Курят только трубку
или сигары
Умирают
до 65 лет
0,41
0,25
Доживают
до 65 лет
0,59
0,75
Для построения общей схемы нам нужно
использовать понятие условной вероятности. Пусть р{Цг, А)
представляет субъективную вероятность
осуществления Uk при том условии, что было осуществлено
действие Д. Если это значение мы кратко запишем какд&3,
то схема матрицы вероятностей, зависимых от
действия, будет выглядеть следующим образом:
Pfrii ш • * Ршп
В случае матрицы вероятностей, не зависимых от
действия, мы говорили о распределении вероятностей
для обстоятельств, которое затем автоматически (стро-
3 Перестановка индексов х и fe по сравнению с введенным
выше выражением обусловлена тем, что мы хотим сохранить
ту последовательность индексов, которая была принята для
обозначения результата R,£. Это нужно для того, чтобы введенный
выше способ записи сохранить для обозначения условной
вероятности.
328
ка за строкой) переносили на результаты. Теперь мы
вынуждены говорить только о распределении
вероятностей для результатов. Поскольку каждый результат
Ли зависит от А и Lk, мы можем определить: р(Д&) =
Pik =p(UkA)-
Итак, мы собрали понятийный материал, который
поможет ответить нам на некоторые вопросы теории
решений.
Примечание. Сделаем краткое указание
относительно того, каким образом обрисованный выше аппарат
можно обобщить так, что будет применима абстрактная
теория вероятностей. Прежде всего рассмотрим
распределение вероятностей, независимых от действия, что
позволяет нам ограничиться только обстоятельствами.
Эти обстоятельства можно представлять как элементы
пространств возможностей (пространств выборки) ft.
До сих пор мы всегда имели дело только с конечным
множеством обстоятельств, однако можно рассмотреть
случай и с бесконечным множеством обстоятельств и
даже перейти к рассмотрению несчетного множества
обстоятельств. В дискретном случае каждое
подмножество множества ft образует некоторое событие, В
случае непрерывности вновь нужно действовать так,
чтобы выбрать некоторый класс подмножеств ft и
рассматривать образованную этим классом а-структуру.
Тогда события становятся элементами этих о-структур.
Вероятность образует неотрицательную, аддитивную и
нормированную меру на этой а-структуре.
Аналогичное обобщение может быть осуществлено
для действий: вместо конечного множества возможных
действий следует рассматривать бесконечное
множество.
Если вероятности следствий зависят от действий, то
в качестве элементов пространства возможностей
следует брать не обстоятельства, а результаты. В
остальном все остается точно так же.
УКАЗАТЕЛЬ
Агент 187, 281—282,
Айер А.Дж. 240-242
Барвайс Дж. 10, 264, 276
Блумфильд Л. 4
БлэкМ. 215,223
Брауэр Л.Э.Я. 190
Верификация 180-181, 199
Вендлер 3. 293, 309, 314
Витгенштейн Л. 4—5, 7, 10,14,
108, 112, 127, 133, 172, 235-
236, 239-240, 242-243, 251,
254-263
Вулф В. 91
Галилей Г. 272
Геродот 55
Глаголы
— перформативные 293, 303
— пропозициональные 303, 309
— семифактивные 309
— экспозитивы 317
Голль де 115
Грайс X. П. 10, 13, 151, 297,
315
Даммит М. 3, 7—10, 127,
214,216-218,220-221
ДеннетД. 118
Доказательство 179
Дескрипции
— неопределенные 291
— определенные 269, 289
Дэвидсон Д. 5, 127, 130, 174,
176,203,213,272
Законы
— мышления 18
— природы 18
Знание 16, 49—56, 72—74
— значения 137—138
— и мнение 299
— как ментальное состояние
252,254,256
— условий истинности 141
Значение 7—9, 124—125, 129—
131, 137,211
— буквальное 220—221
— истинностное 249
— и интерпретации 266, 269
— как употребление 15
— обычное 243
— и понимание 256—257
— и смысл 133- 134,137
— и референция 135—136
Иллокутивная сила 101
Иллокутивный акт 126
Имя собственное 28—29
Интенсионал 275
Интенциональное содержание
109,119
Интенциональное состояние
12—14, 96, 101—107, 111—
112,114-115,117-118
Интенционал ьность 12—14,
123—124,126
Интенциональный модус 112
Интенциональный объект 110,
113
Интерпретация произнесения
265
Интуиционизм 173
Истина 19—22, 139—141, 145—
151,185
Информация 201
Информационное содержание
207
Карнап Р. 318—319, 324
КартерДж.113, 116—117, 300,
309
330
Квантификация 164—165
Когерентность 279
Когнитивная психология 107—
108
Когнитивное состояние
индивида 6
Конвенция 213, 218, 227—
228
Контекст 56
— неф активный 303
— фактивный 303
Критерии фактивности 309
Куайн У. ван О. 179—180
Кэрролл Л. 64
Лазерович М. 235
Ларсон С. 217
ЛичГ. 10
Логика
— индуктивная 318
— интуиционистская 182, 190
— классическая 169
— многозначная 176
— решений 318
— установок 276
Лингвистическая философия
5
Логическая семантика 4
Логическая форма 289
Логическая эквивалентность
275
Локусы 276
- пространственно-временные
291
Льюис Д. 213, 227—229
МалкольмН. 4—5,15—16, 234—
235
Мансэт С. 309
Матрица вероятности 325—
327
Ментальное состояние 16
Ментальные акты 92
Местоимение указательное 264
Мнение 252
— как внутреннее состояние
302
— и утверждения 304
Монтегю У. 11
Моргенштерн О. 318
МурДж.Э. 14-16
Мысль 21-26, 33—34, 43—45
Мышление и пропозиции 258—
260
Наблюдение 163
Намерение 221—222
Нейман Дж. фон 318
Номинализация 313
Объект знания 49
Общение 213
Олби Э. 219
Остин Дж. Л. 4—5, 15, 48,
222, 293, 295, 297-298, 309
Ошибка концептуальная 241
Ощущение 69—70, 83
Перри Дж. 10,264, 278
Перлокуционные акты 222
Петров В.В. 17
Пифагор 33—34,44
Прагматика 10
Предложение 23—27
— декларативное 214, 218
— как образ реальности 243
Представление 31—34, 41—43
Принцип дв узначности 170,
172
Причард X. А. 252—254, 257
Пропозиция 236
Пропозициональное
содержание 101
Пропозициональная установка
102
Пространство возможностей
329
Психологический модус 109
Психология 42
Рамсей Ф. 319
Распределение вероятностей
329
Рассел Б. 4, 116, 165, 264,
266,277, 288
Реализм в логике 161
Редукционизм 158
Рекурсивность 199
Репрезентация 107—108, 119—
120
Референция 7
Речевые акты 14, 1.02—104
Решения
— безосновательные 319
— надежные 319
331
— рискованные 319
Рив Д. 247
Семантика 10
— возможных миров 275
— концептуальных ролей 11
— непосредственная 274
— ситуационная 10—11, 264—
266
— теоретико-игровая 11
— теоретико-модельная 11
Семантическая замкнутость
170
Серль Дж. Р. 3, 10, 13-14,
96,239-242,309
Скотт В. 288
Смысл 133, 200, 206, 208—
209
Ситуация 264
— произнесения 264, 286
Событие 265
Соссюр Ф. де 4
Стросон П. Ф. 5
Структурная лингвистика 4
Суждение 22
Сцена 280
Сэвидж Дж. 323
Тарский А. 10, 128, 139,
170,173,215
Теория
— верификационистская 183,
186,190
— вероятности 319
— значения 187,198
— действий 144,199, 206
— истины 174—176
— прямого восприятия 284
— референции 135—136, 199,
202—204
— решений 318
— смысла 135—136, 144, 199,
201—202
— установок 274
Уайтхед А. Н. 266
Уисдом Дж. 48 49, 65, 70—
71,83,86,88,90
Уолгаст Э. 247
Условия
— выполнимости 106—107,
109,122
— искренности 105
— истинности 128,134—141,
171,177, 184,188
— утверждения 239
— фальсификации 188
Установка 273
Утверждение 193—195
— контрфактическое 171—172
Факты 239, 304
Фальсификация 180—181, 187
Финдлей Дж. Н. 234—235
Финетти Б. де 319
Франс А. 80
ФрегеГ. 3—5, 7, 16—18, 127—
128, 133, 170, 200-201, 206-
211, 219, 264, 277, 287-
288
Функция полезности 325
ХинтиккаЯ. 199
Хомский Н. 223—224
Цезарь Ю 55, 122
Цепи знаний 298
Штегмюллер В. 318
ШумейкерС. 234
Юм Д. 118
Язык 12, 129, 202, 214,
230,231
— естественный 128
— и конвенции 213—217
— и мышление 43—46
— и ощущения 30—31, 35—38
— и представления 31—34, 43
СОДЕРЖАНИЕ
От философии языка к философии сознания.
(Новые тенденции и их истоки.) о
В. В. Петров
Фреге Г. Мысль: логическое исследование. Перев,
В. А. Плунгяна jg
Остин Дж. Чужое сознание. Перев. М. А.
Дмитровской 48
Серль Дж. Природа Интенциональных состояний.
Перев. А. Л. Никифорова eg
Даммит М. Что такое теория значения. Перев.
А. Л. Никифорова и В. Н. Переверзева 227
Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность. Перев.
Е. В. Зиньковского 213
Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении
выражения "Я знаю". Перев. М. А. Дмитровской 234
Барвайс Дж. и Перри Дж. Ситуация и установки.
Перев. В. А. Шалака 264
Вендлер 3. Факты в языке. Перев. В. А. Плунгяна . 293
Штегмюллер В. Рациональная теория решений.
Перев. А. Л. Никифорова 318
Указатель 330
ИБ № 15222
Редактор Лобанова М. В.
Младший редактор ДанковаТ. В.
Художник Серебряков В. К.
Художественный редактор ЧернышеваИ. М.
Технический редактор ЮхановаМ. Г.
Корректор ШустинаТ. А.
Сдано в набор 15.08.86. Подписано в печать с РОМ 27.03.87.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Сенчури.
Печать офсетная.Условн.печ. л. 17,64. Усл.кр.-отт. 17,64.Уч.-изд. л. 19,48.
Тираж 12500 экз. Заказ № 567. Цена 1 р. 60 к. Изд. № 41067.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс"
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.